Избранное. Компиляция. Книги 1-14 [Дэн Симмонс] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Дэн Симмонс
 Темная игра смерти
Темная игра смерти
Посвящается Эду Брайанту
© А. И. Кириченко, перевод, 2018 © Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018 Издательство АЗБУКА®О нет, утеха падали, не будуотчаиваться или упиватьсятобой – не будураспускать на прядипоследние, хоть слабенькие, жилы,на чем держусь я – человек,не крикнув последней устали:«Я больше не могу…»Джерард Мэнли Хопкинс
* * *
Если какой автор и вызывает у меня восторженную оторопь, так это Дэн Симмонс.Стивен Кинг
Дэн Симмонс возвышается над современными писателями подобно гиганту.Линкольн Чайлд
Важнейшее в современной литературе переосмысление самой концепции вампиризма – того же масштаба и радикальности, что «Я – легенда» Ричарда Матесона, или «Вторжение похитителей тел» Джека Финнея, или «Жребий Салема» Стивена Кинга.Дэвид Моррелл
Эпического масштаба полотно – и притом тревожное на самом глубоком, самом личном уровне. Симмонс не просто переписывает историю, он покушается на саму ткань реальности. «Темная игра смерти» не оставит от вашего привычного мировоззрения камня на камне; это современная классика в полном смысле слова.Гильермо дель Торо
Благодарности
К любой книге, благополучно преодолевшей Мировой Океан между замыслом и публикацией, приложил руку далеко не только сам автор, а уж с романом такого размаха и величины долг благодарности накапливается и вовсе огромный. Хотелось бы отметить тех, без кого «Темная игра смерти» пошла бы на дно в первый же шторм и никогда бы не достигла спасительной гавани: Дина Кунца – за моральную поддержку, сколь щедрую, столь и своевременную; Ричарда Кёртиса – за стойкость и профессионализм; Пола Микола – за безупречный вкус и крепкую дружбу; Брайана Томсена – за любовь к шахматам и уважение к истории; Саймона Хоука, оружейника в духе Джеффри Бутройда;[1] Арлин Теннис, машинистку от бога, – за жаркие летние дни, потраченные на борьбу с предпоследними вариантами поправок к поправкам; Клодию Логерквист, терпеливо напоминавшую о том, что умляуты и диакритические знаки негоже рассыпать где попало, как соль; Вольфа Блитцера из «Джерусалем пост» – за помощь в отыскании лучшего фалафельного киоска в Хайфе; Эллен Датлоу, которая утверждала, что у повести не может быть продолжения. И отдельной благодарности заслуживают: Кейти Шерман, радостно пошедшая на творческое сотрудничество по первому свистку и за смешные деньги; моя дочь Джейн, две трети своей жизни терпеливо дожидавшаяся, когда же папочка «допишет страшную книгу»; Карен, которой не терпелось узнать, что же будет дальше. И наконец, моя самая искренняя признательность Эдварду Брайанту, настоящему джентльмену и отличному писателю, которому эта книга и посвящена.Пролог
Хелмно, 1942 г.
Сол Ласки лежал среди обреченных на скорую гибель в лагере смерти и думал о жизни. Во тьме и в холоде его пробрала дрожь, и он заставил себя вспомнить в подробностях весеннее утро – золотистый свет на тяжелых ветвях ивы у ручья, белые маргаритки в поле за каменными строениями дядиной фермы. В бараке было тихо, только иногда кто-нибудь с натугой кашлял да тихонько копошились в холодной соломе живые трупы, тщетно пытаясь согреться. Где-то заперхал старик, забился в конвульсиях, и стало ясно, что вот еще один проиграл долгую и безнадежную схватку. К утру старик будет мертв, а если и переживет ночь, то не сможет выйти на утреннюю перекличку на снегу, а это значит, что все равно ему конец, и очень скорый. Сол отодвинулся подальше от слепящего света прожектора, который бил сквозь разрисованное морозом стекло, и прижался спиной к деревянной стойке нар. Сквозь жалкую одежду он ощутил, как в спину и в кожу на ребрах впились занозы; от холода и усталости задрожали ноги, и он ничего не мог с этим поделать. Сол обхватил свои костлявые колени, сжал их и так держал, пока дрожь не прекратилась. «Я выживу». Эта мысль была приказом, и он вбил его так глубоко в сознание, что даже изможденное, покрытое язвами тело не могло одолеть его волю. Несколько лет назад, целую вечность назад, когда Сол был мальчишкой, а дядя Моше обещал взять его на рыбалку на ферму под Краковом, Сол выучился одному приему: прямо перед тем, как заснуть, он представлял себе гладкий овальный камень, на котором записывал тот час и ту минуту, когда ему надо было встать. Потом он мысленно бросал камень в прозрачную воду пруда и смотрел, как тот опускается на дно. И всякий раз на следующее утро он просыпался точно в назначенный час, бодрый и полный жизни; он дышал прохладным воздухом и наслаждался предрассветной тишиной все то короткое и хрупкое время, пока не проснутся брат и сестры и не нарушат почти совершенное блаженство. «Я буду жить». Сол крепко зажмурился и пристально смотрел, как камень падает в прозрачной воде. Его снова затрясло, и он еще крепче вжался в угол нар. В тысячный раз он попытался зарыться поглубже в эту соломенную яму. Когда рядом сидели старый пан Шиструк и этот парень, Ибрагим, было лучше, но Ибрагима застрелили на шахте, а пан Шиструк два дня назад упал в каменоломне и отказался встать, даже когда Глюкс, командир эсэсовцев, спустил на него собаку. Старик почти весело, хоть и слабо, взмахнул тонкой рукой, прощаясь с оцепеневшими заключенными, и тут немецкая овчарка вцепилась ему в горло. «Я буду жить». В этой мысли ритм был сильнее самих слов, сильнее любого языка. Эта мысль шла контрапунктом всему, что Сол видел и испытал за пять месяцев в лагере. «Я буду жить». От этой мысли шли свет и тепло, пересиливавшие страх перед холодной головокружительной пропастью, которая все грозила разверзнуться внутри и поглотить его. Пропасть вроде того рва. Сол видел его. Он и другие рядом с ним забрасывали комьями холодной земли еще теплые тела; некоторые из них продолжали шевелиться: ребенок слабо двигал рукой, как будто махал кому-то на перроне или метался во сне, – а они кидали лопатами комья и разбрасывали известь из неподъемно тяжелых мешков. Охранник-эсэсовец сидел на краю рва и болтал ногами, его белые мягкие руки лежали на черном стволе автомата, на шершавой щеке белел кусочек пластыря – видно, порезался, когда брился. Белые обнаженные тела слабо шевелились, а Сол засыпал ров комьями грязи, и глаза его были красными от облака извести, висевшего в зимнем воздухе, как меловой туман. «Я буду жить». Сол сосредоточился на мощи этого ритма и перестал обращать внимание на свои дрожащие руки и ноги. Двумя ярусами выше кто-то зарыдал в ночи. Сол чувствовал, как вши ползут по его рукам, по ногам, разыскивая место, где его холодеющее тело было теплее всего. Он еще плотнее сжался в комок, хотя понимал, что́ заставляет этих паразитов двигаться, – они подчинялись непреодолимому инстинкту, без мысли и логики: выжить. Камень опустился еще ниже в лазурную глубину. Балансируя на грани сна, Сол рассматривал грубо нацарапанные буквы. «Я буду жить». Вдруг глаза Сола распахнулись, в голове мелькнула мысль, от которой стало холоднее, чем от ветра, свистевшего сквозь неплотно прилегающую раму. Третий четверг месяца. Он был почти уверен, что сегодня третий четверг месяца. Они приходили по четвергам, в третий четверг. Но не всегда. Может быть, в этот раз их не будет. Сол закрыл лицо согнутыми в локтях руками и свернулся в еще более плотный клубок, как зародыш. Он уже почти заснул, когда дверь барака распахнулась. Их было пятеро: два охранника-эсэсовца с автоматами, армейский унтер-офицер, лейтенант Шаффнер и молодой оберст, которого Сол никогда прежде не видел. У оберста было бледное арийское лицо, на лоб падала прядь светлых волос. Лучи фонариков побежали по рядам похожих на полки нар. Никто не пошевелился. Сол чувствовал, что это за тишина: восемьдесят пять скелетов затаили дыхание в ночи. Он тоже затаил дыхание. Немцы сделали шагов пять вперед, холодный воздух облаком двигался перед ними, их массивные фигуры вырисовывались на фоне открытой двери, а вокруг ледяными клубами вился пар от дыхания. Сол еще глубже забился в хрупкую солому. – Du![2] – раздался голос. Луч фонарика упал на человека в шапке и полосатой лагерной робе, сидевшего в углу нижних нар за шесть рядов от Сола. – Komm! Schnell![3] Мужчина не шевелился, и тогда один из эсэсовцев рывком вытащил его в проход. Сол слышал, как по полу царапают голые ноги. – Du, raus![4] Еще раз: – Du! Вот уже трое «мусульман» стоят невесомыми пугалами перед массивными фигурами немцев. Процессия остановилась за четыре ряда от нар Сола. Эсэсовцы обшарили фонариками средний ряд. В их свете блеснули красные глаза, как будто из полуоткрытых гробов уставились перепуганные крысы. «Я буду жить». Впервые это звучало как молитва, а не как приказ. Они никогда еще не забирали больше четырех человек из одного барака. – Du. – Эсэсовец повернулся и направил луч фонарика прямо ему в лицо. Сол не пошевелился. Он перестал дышать. Во всей вселенной не было ничего, кроме его собственных пальцев в нескольких сантиметрах от лица. Кожа руки была белой, как у личинки, и местами шелушилась, волоски на тыльной стороне ладони казались очень черными. Сол смотрел на эти волоски с чувством глубокого, благоговейного страха. Его рука почти просвечивала в луче фонарика. Он различал слои мышц, изящный рисунок сухожилий и голубых вен, мягко пульсировавших в одном ритме с бешено колотящимся сердцем. – Du, raus. Время замедлилось и повернуло вспять. Вся жизнь Сола, каждая секунда его жизни, все минуты упоения и банальные, забытые вечера – все вело к этому мигу, к этому пересечению осей. Губы его дернулись в мрачной полуулыбке. Он уже давно решил, что его-то они никогда не заставят выйти в ночь. Им придется убить его здесь, перед всеми остальными. Он заставит их сделать это, когда сам того захочет: ничего другого диктовать им он не мог. Сол совершенно успокоился. – Schnell! – Один из эсэсовцев заорал на него, а потом оба шагнули вперед. Ослепленный светом фонаря, Сол почувствовал запах мокрого сукна и сладковатый запах шнапса, ощутил, как его лица коснулся холодный воздух. Тело его сжалось: вот-вот грубые, безжалостные руки схватят его. – Nein![5] – резко бросил оберст. Сол видел только его силуэт в снопе яркого света. Оберст шагнул вперед, а эсэсовцы торопливо отступили. Казалось, время замерло. Сол широко раскрытыми глазами смотрел на темную фигуру. Никто не произнес ни слова. Клубы пара от их дыхания висели в воздухе. – Komm! – тихо сказал оберст. Это прозвучало совсем не как команда – спокойно, почти нежно, словно кто-то звал любимую собаку или уговаривал младенца сделать первые неуверенные шаги. Сол стиснул зубы и закрыл глаза. Если они его тронут, он будет кусаться. Он вопьется им в глотку. Он будет грызть и рвать их вены и хрящи, и им придется стрелять, им придется стрелять, он заставит их… – Komm! – Оберст слегка коснулся его колена. Сол оскалил зубы. «Ну, давай, гад, посмотришь, как я разорву твой рот и вытащу твои кишки…» – Komm! И тут Сол почувствовал это. Что-то ударило его, хотя никто из немцев не пошевелился и не сдвинулся ни на дюйм. Он взвизгнул от дикой боли. Что-то ударило, а потом вошло в него. Сол чувствовал это так же отчетливо, как если бы кто-то загнал ему стальной штырь в тело. Но никто до него не дотронулся. Никто даже не приблизился к нему. Он снова издал звук, и тут его челюсти сомкнулись, будто их сжала невидимая сила. – Komm her, du, Jude![6] Сол чувствовал это. Что-то вошло в него, рывком выпрямило спину, отчего его руки и ноги беспорядочно задергались. Это было в нем. Его мозг стиснули, словно щипцами, и сжимали, сжимали… Сол попытался крикнуть, но это не позволило ему. Он дико заметался на соломе, мысли заработали вразнобой, моча потекла по штанине. Потом тело его неестественно выгнулось, и он шлепнулся на пол. Охранники сделали шаг назад. – Steh auf![7] Тело Сола снова выгнулось, его подкинуло, он поднялся на колени. Руки тряслись и метались сами по себе. Он чувствовал чье-то холодное присутствие в своем мозгу, нечто завернутое в сверкающий кокон боли. Какие-то образы плясали перед его взором. Сол встал. – Geh![8] Он услышал, как один из охранников хрипло рассмеялся, ощутил запах сукна и стали, уколы холодных заноз под ногами. Он метнулся в сторону открытой двери – прямоугольника белого слепящего света. Оберст спокойно пошел за ним, похлопывая себя перчаткой по ноге. Сол споткнулся на скользких ступеньках и чуть не упал, но невидимая рука, сжавшая его мозг и огненными иглами прожегшая тело, заставила его выпрямиться. Не чувствуя холода, он пошел босиком по снегу и смерзшейся грязи впереди остальных к ожидавшему грузовику. «Я буду жить», – подумал Соломон Ласки, но магический этот ритм распался на куски и улетел, сметенный ураганом беззвучного ледяного смеха и воли, стократ сильнее, чем его собственная.Книга первая Гамбиты
Глава 1
Чарлстон
Пятница, 12 декабря 1980 г.
Я знала, что Нина припишет смерть этого битла Джона себе. Экое дурновкусие. Она аккуратно разложила свой альбом с вырезками из газет на моем журнальном столике красного дерева. Эти прозаические констатации смертей на самом деле представляли собой хронологию всех ее Подпиток. Улыбка Нины Дрейтон сияла, как обычно, но в ее бледно-голубых глазах не было и намека на теплоту. – Надо подождать Вилли, – сказала я. – Ну конечно, Мелани, ты, как всегда, права. Какая я глупая. Я ведь знаю наши правила. – Нина встала и начала расхаживать по комнате, иногда бесцельно касаясь чего-то или сдержанно восторгаясь керамическими статуэтками и кружевами. Когда-то эта часть дома была оранжереей, но теперь я использую ее как комнату для шитья. Растениям здесь по-прежнему доставалось немного солнечного света по утрам. Днем помещение выглядело теплым и уютным благодаря солнцу, но с приходом зимы ночью здесь было слишком прохладно. И потом, мне очень не нравилось впечатление темноты, подступающей к этим бесчисленным стеклам. – Обожаю этот дом. – Нина повернулась ко мне и улыбнулась. – Просто не могу передать, как я всегда жду возвращения в Чарлстон. Нам нужно проводить здесь все наши встречи. Но я-то знала, как Нина ненавидит и этот город, и этот дом. – Вилли может обидеться, – сказала я. – Ты же знаешь, как он любит похвастаться своим домом в Голливуде. И своими новыми девочками. – И мальчиками. – Нина засмеялась. Она здорово изменилась и потускнела, но ее смех остался прежним. Это был все тот же хрипловатый детский смех, который я услышала впервые много лет назад. Именно из-за этого смеха меня тогда потянуло к ней; тепло одной девчушки притягивает другую одинокую девочку-подростка, как пламя – мотылька. Теперь же смех этот лишь обжег меня холодом и заставил еще больше насторожиться. За прошедшие десятилетия слишком много мотыльков слеталось на пламя Нины. – Давай выпьем чаю, – предложила я. Мистер Торн принес чай в моих самых лучших фарфоровых чашках. Мы с Ниной сидели в медленно передвигающихся квадратах солнечного света и тихо разговаривали о всяких пустяках: об экономике, в которой мы обе ничего не понимали; о совершенно вульгарной публике, с которой приходится теперь сталкиваться, летая самолетами. Если бы кто-нибудь заглянул из сада в окно, то подумал бы, что видит стареющую, но все еще привлекательную племянницу, навещающую любимую тетушку. (Никто не принял бы нас за мать и дочь: тут я не уступлю.) Обычно меня считают хорошо одетой, если не совсем стильной женщиной. Господь свидетель, я довольно дорого плачу за шерстяные юбки и шелковые блузки, которые мне присылают из Шотландии и Франции. Но рядом с Ниной мой гардероб всегда выглядит безвкусным. В тот день на ней было элегантное светло-голубое платье, которое обошлось ей в несколько тысяч долларов, если я правильно угадала модельера. Этот цвет так оттенял ее лицо, что оно казалось еще более совершенным, чем обычно, и подчеркивал голубизну ее глаз. Волосы Нины поседели, как и мои, но она по-прежнему носила их длинными, закрепив бареткой, и это ее не портило; напротив, Нина выглядела шикарно и моложаво, а у меня было ощущение, что мои короткие искусственные локоны блестят от синьки. Вряд ли кто мог бы подумать, что я на четыре года моложе Нины. Время обошлось с ней не слишком сурово. К тому же она чаще искала и получала Подпитку. Она поставила чашку с блюдцем на столик и вновь беспокойно заходила по комнате. Это было совсем на нее не похоже – проявлять такую нервозность. Остановившись перед застекленным шкафчиком, она обвела взглядом вещицы из серебра и олова и замерла в изумлении: – Господи, Мелани… Пистолет! Разве можно в таком месте хранить старый пистолет? – Это антикварная вещь, – пояснила я. – И очень дорогая. Вообще ты права, глупо держать его тут. Но во всем доме нет больше ни одного шкафчика с замком, а миссис Ходжес часто берет с собой внуков, когда навещает меня… – Так он что, заряжен?! – Нет конечно, – солгала я. – Но детям вообще нельзя играть с такими вещами… – Я неловко замолчала. Нина кивнула, но в ее улыбке была изрядная доля снисходительности, которую она даже не пыталась скрыть. Она подошла к южному окну и выглянула в сад. Будь она проклята! Нина Дрейтон даже не узнала этого пистолета, и этим о ней все сказано. В тот день, когда его убили, Чарльз Эдгар Ларчмонт считался моим кавалером уже ровно пять месяцев и два дня. Об этом не было официально объявлено, но мы должны были пожениться. Эти пять месяцев представили, как в микрокосмосе, всю ту эпоху – наивную, игривую, подчиненную строгим правилам настолько, что она казалась манерной. И еще романтичной. Романтичной в первую очередь и в самом худшем смысле этого слова – подчиненной слащавым либо глупым идеалам, к которым могли стремиться только подростки. Мы были как дети, играющие с заряженным оружием. У Нины – тогда она была Ниной Хокинс – тоже имелся кавалер, высокий неуклюжий англичанин, исполненный самых благих намерений. Звали его Роджер Харрисон. Мистер Харрисон познакомился с Ниной в Лондоне годом раньше, в самом начале поездки Хокинсов по Европе. Этот долговязый англичанин объявил всем, что он сражен, – еще одна нелепость той ребяческой эпохи – и стал ездить за Ниной из одной европейской столицы в другую, пока ее отец, скромный торговец галантереей, вечно готовый дать отпор всему свету из-за своего сомнительного положения в обществе, довольно сурово не отчитал его. Тогда Харрисон вернулся в Лондон – чтобы привести в порядок дела, как он сказал, – а через несколько месяцев объявился в Нью-Йорке, как раз в тот момент, когда Нину собрались отправить к тетушке в Чарлстон, чтобы положить конец другому ее любовному приключению. Но это не могло остановить неуклюжего англичанина, и он отправился за ней на юг, строго соблюдая при этом все правила протокола и этикета тех дней. У нас была превеселая компания. На следующий день после того, как я познакомилась с Ниной на июньском балу у кузины Целии, мы наняли лодку и отправились вчетвером вверх по реке Купер к острову Дэниел на пикник. Роджер Харрисон обо всем судил серьезно и даже немного напыщенно и потому был отличной мишенью для Чарльза с его совершенно непочтительным чувством юмора. Роджер, похоже, совсем не обижался на добродушное подтрунивание, – во всяком случае, он всегда присоединялся к общему смеху со своим непривычным британским хохотом. Нина была без ума от всего этого. Оба джентльмена осыпа́ли ее знаками внимания, хотя Чарльз всегда подчеркивал, что его сердце отдано мне, но все понимали: Нина Хокинс – одна из тех девушек, которые неизменно становятся центром притяжения мужской галантности и внимания в любой компании. Общество Чарлстона тоже вполне оценило шарм нашей четверки. В течение двух месяцев того, теперь уже такого далекого, лета ни одна вечеринка, ни один пикник не мог считаться удавшимся, если не приглашали нас, четверых шалунов, и если мы не соглашались участвовать в этом. Наше первенство в светской жизни было столь заметным и мы получали от него столько удовольствия, что кузина Целия и кузина Лорейн уговорили своих родителей отправиться в ежегодную августовскую поездку в штат Мэн на две недели раньше. Не могу припомнить, когда у меня с Ниной возникла эта идея насчет дуэли. Возможно, в одну из тех долгих жарких ночей, когда одна из нас забиралась в постель к другой и мы шептались и хихикали, задыхаясь от приглушенного смеха, едва послышится шорох накрахмаленного передника, выдававший присутствие какой-нибудь горничной-негритянки, копошащейся в темных коридорах. Во всяком случае, идея эта, естественно, возникла из романтических притязаний того времени. Эта картинка – Чарльз и Роджер дерутся на дуэли из-за какого-то абстрактного пункта в кодексе чести, касающегося нас, наполняла меня и Нину прямо-таки физическим возбуждением. Все это выглядело бы совершенно безобидным, если бы не наша Способность. Мы так успешно манипулировали поведением мужчин (а общество того времени ожидало от нас такого поведения и одобряло его), что ни я, ни Нина не подозревали в нашей способности переводить свои капризы в действия других чего-либо необычного. Парапсихологии тогда не существовало, или, точнее говоря, она сводилась к стукам и столоверчению во время игр в гостиных. Как бы то ни было, мы несколько недель забавлялись, предаваясь фантазиям и шепотом их обсуждая, а потом кто-то из нас, или мы обе, воспользовался нашей Способностью, чтобы перевести фантазию в реальность. В некотором смысле то была наша первая Подпитка. Я уже не помню, что послужило предлогом для дуэли, – возможно, преднамеренное недоразумение, связанное с какой-то шуткой Чарльза. Не помню, кого Чарльз и Роджер уговорили стать секундантами во время той противозаконной вылазки. Я помню только обиженное и удивленное выражение на лице Роджера Харрисона. Оно было просто карикатурой на тяжеловесную ограниченность и недоумение человека, попавшего в безвыходную ситуацию, созданную вовсе не им самим. Помню, как поминутно менялось настроение Чарльза: веселье и шутки внезапно переходили в депрессию и мрачный гнев; помню слезы и поцелуи в ночь накануне дуэли. То утро было прекрасным. С реки поднимался туман, смягчивший жаркие лучи восходящего солнца. Мы направлялись к месту дуэли. Помню, как Нина порывисто потянулась ко мне и пожала мою руку, – это движение отдалось во мне электрическим током. Бо́льшая же часть происшедшего в то утро – провал, белое пятно. Возможно, из-за напряжения того первого, неосознанного случая Подпитки я буквально потеряла сознание, меня захлестнули волны страха, возбуждения, гордости… Я поняла, что все это происходит наяву, и в то же время ощущала, как сапоги шуршат по траве. Кто-то громко считал шаги. Смутно помню, как тяжел был пистолет в чьей-то руке… Наверное, то была рука Чарльза, но теперь я этого уже никогда не узнаю в точности… Помню миг холодной ярости, затем выстрел прервал нашу внутреннюю связь, а острый запах пороха привел меня в чувство. Убит был Чарльз. Никогда не изгладится из моей памяти вид невероятного количества крови, вылившейся из маленькой круглой дырочки в его груди. Когда я подбежала к нему, его белая рубашка уже была алой. В наших фантазиях не было никакой крови. Там не было и этой картины: голова Чарльза запрокинута, на окровавленную грудь изо рта стекает слюна, а глаза закатились так, что видны только белки, как два яйца в черепе. Когда Роджер Харрисон рыдал на этом поле погибшей невинности, Чарльз сделал последний судорожный вздох. Что случилось потом, я не помню. Только на следующее утро я открыла свою матерчатую сумку и нашла там среди своих вещей пистолет Чарльза. Зачем мне понадобилось его сохранить? Если я хотела взять что-то на память о своем погибшем возлюбленном, зачем было брать этот кусок металла? Зачем было вынимать из его мертвой руки символ нашего безрассудного греха? Нина даже не узнала этого пистолета. И этим о ней все сказано.* * *
Прибыл Вилли. О приезде нашего друга объявил не мистер Торн, а компаньонка Нины, эта омерзительная мисс Баррет Крамер. По виду она была унисексуальна: коротко подстриженные черные волосы, мощные плечи и пустой агрессивный взгляд, который ассоциируется у меня с лесбиянками и уголовницами. По моему мнению, ей было лет тридцать пять. – Спасибо, милочка, – сказала Нина. Я вышла поприветствовать Вилли, но мистер Торн уже впустил его, и мы встретились в холле. – Мелани! Ты выглядишь просто великолепно! С каждой нашей встречей ты кажешься все моложе. Нина! – Когда он повернулся к Нине, голос его заметно изменился. Мужчины по-прежнему испытывали легкое потрясение, видя Нину после долгой разлуки. Далее пошли объятия и поцелуи. Сам же Вилли выглядел даже ужаснее прежнего. Спортивный пиджак на нем был от прекрасного портного, а ворот свитера успешно скрывал морщинистую кожу шеи с безобразными пятнами, но, когда он сдернул с головы веселенькую кепку, длинные пряди седых волос, зачесанные вперед, чтобы скрыть разрастающуюся плешь, рассыпались, и картина стала неприглядной. Лицо Вилли раскраснелось от возбуждения, на носу и щеках предательски проступали красные капилляры, выдавая чрезмерное пристрастие к алкоголю и наркотикам. – Милые дамы, вы, кажется, уже знакомы с моими спутниками – Томом Рейнольдсом и Дженсеном Лугаром? Двое мужчин подошли ближе, и теперь в моем узком холле собралась, казалось, целая толпа. Мистер Рейнольдс оказался худым блондином; он улыбался, обнажая зубы с прекрасными коронками. Мистер Лугар – огромного роста негр с массивными плечами, на его грубом лице застыло угрюмое, обиженное выражение. Я была абсолютно уверена, что ни я, ни Нина никогда прежде не видели этих приспешников Вилли. – Что ж, пройдемте в гостиную? – предложила я. Толкаясь и суетясь, мы поднялись на этаж и в конце концов уселись втроем в тяжелые мягкие кресла вокруг чайного столика георгианской эпохи, доставшегося мне от дедушки. – Принесите нам еще чаю, мистер Торн. Мисс Крамер поняла намек и удалилась, но пешки Вилли по-прежнему неуверенно топтались у двери, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на выставленный хрусталь, как будто от одного их присутствия что-нибудь могло разбиться. Я бы не удивилась, если бы это действительно произошло. – Дженсен! – Вилли щелкнул пальцами. Негр на миг замер в нерешительности, но все же подал дорогой кожаный кейс. Вилли положил его на столик и отщелкнул застежки своими короткими, толстыми пальцами. – Ступайте отсюда. Слуга мисс Фуллер даст вам чего-нибудь выпить. Когда они вышли, он покачал головой и улыбнулся Нине: – Извини меня, дорогая. Нина тронула Вилли за рукав и наклонилась с таким видом, словно предвкушала что-то: – Мелани не позволила мне начать Игру без тебя. Это так ужасно с моей стороны, что я даже пыталась, правда, Вилли, дорогой? Тот нахмурился. Пятьдесят лет прошло, а он все еще дергался, когда его называли Вилли. В Лос-Анджелесе он был Большой Билл Борден. А когда возвращался в свою родную Германию – не очень часто, из-за связанных с этим опасностей, – то снова становился Вильгельмом фон Борхертом, владельцем мрачного замка, леса и охотничьего выезда. Нина назвала его Вилли в их самую первую встречу в Вене в 1925 году, и он так и остался для нее Вилли. – Начинай, Вилли, – сказала Нина. – Ты первый. Я еще хорошо помню, как раньше, встречаясь после долгой разлуки, мы по нескольку дней проводили за разговорами, обсуждая все, что случилось с нами. Теперь у нас не было времени даже на такие салонные беседы. Обнажив в улыбке зубы, Вилли вытащил из кейса газетные вырезки, записные книжки и стопку кассет. Он едва успел разложить свои материалы на столике, как вошел мистер Торн и принес чай, а также альбом Нины из оранжереи. Вилли резкими движениями расчистил на столе немного места. На первый взгляд Вильгельм фон Борхерт и мистер Торн были чем-то похожи, но только на первый, ошибочный взгляд. Оба – краснолицы, но если цвет лица Вилли свидетельствовал об излишествах и разгуле эмоций, то мистер Торн не знал ни того ни другого уже много лет. Вилли стыдливо прятал свою лысину, проступающую тут и там, как у ласки, заболевшей лишаем, а обнаженная голова мистера Торна была гладкой как колено, даже трудно представить, что у него когда-то были волосы. У обоих – серые глаза (романист назвал бы их холодными), но у мистера Торна глаза были холодны от безразличия, во взгляде светилась ясность, порожденная абсолютным отсутствием беспокойных эмоций и мыслей. В глазах же Вилли таился холод порывистого зимнего ветра с Северного моря, их часто заволакивало переменчивым туманом обуревавших его чувств – гордости, ненависти, удовольствия причинять боль, страсти от разрушения. Вилли никогда не называл использование Способности Подпиткой, – похоже, только я мысленно применяла это слово; но он иногда говорил об Охоте. Возможно, он вспоминал о темных лесах своей родины, когда выслеживал жертв на стерильных улицах Лос-Анджелеса. Я подумала: интересно, а снится ли Вилли этот лес? Вспоминает ли он охотничьи куртки зеленого сукна, приветственные крики егерей, кровь, хлещущую из туши умирающего кабана? Или он вспоминает топот сапог по мостовым и стук кулаков в двери – кулаков его помощников? Возможно, у Вилли Охота все еще связана с тьмой европейской ночи, с горящими печами, за которыми присматривал и он сам. Я называла это Подпиткой, Вилли – Охотой. Однако я никогда не слышала, как это называла Нина. Пожалуй, что никак. – Где у тебя видео? – спросил он. – Я все записал на пленку. – Ах, Вилли, – раздраженно сказала Нина, – ты же знаешь Мелани. Она такая старомодная. У нее нет видеомагнитофона. – У меня нет даже телевизора, – призналась я. Нина рассмеялась. – Черт побери, – пробормотал Вилли. – Ладно. У меня тут есть и другие материалы. – Он раскрыл небольшие черные записные книжки. – Просто на пленке было бы гораздо лучше. Телекомпании Лос-Анджелеса сделали много сюжетов о «голливудском душителе», а я еще кое-что добавил… Ну, не важно. – Он бросил кассеты в кейс и с треском захлопнул крышку. – Двадцать три, – продолжил он. – Двадцать три, с нашей последней встречи год назад. Как время пролетело, а? – Покажи. – Нина снова наклонилась вперед. Ее голубые глаза блестели. – Я иногда думала, что ты имеешь к нему отношение, после того как увидела этого «душителя» в «Шестидесяти минутах». Значит, он был твой, да, Вилли? Он имел такой вид… – Ja, ja,[9] он был мой. Вообще-то, он никто. Так, пугливый человечек, садовник одного моего соседа. Я оставил его в живых, чтобы полиция могла допросить его, снять любые сомнения. Он повесился в камере через месяц после того, как пресса потеряла к нему интерес. Но тут есть кое-что более любопытное. Смотрите. – Вилли бросил на стол несколько глянцевых черно-белых фотографий. – Исполнительный директор Эн-би-си убил пятерых членов своей семьи и утопил в плавательном бассейне пришедшую в гости актрису из «мыльной оперы». Потом он несколько раз ударил себя ножом в грудь и кровью написал «И еще пятьдесят» на стене строения, где был бассейн. – Вспоминаешь старые подвиги, да, Вилли? – спросила Нина. – «Смерть свиньям» и все такое прочее?[10] – Да нет же, черт возьми. Я считаю, мне положены лишние очки за иронию. Девица все равно должна была утонуть в своем сериале. Так написано в сценарии. – Трудно было его Использовать? – Этот вопрос задала я, поневоле испытывая какой-то интерес. Вилли поднял бровь: – Не очень. Он был алкоголиком, да к тому же прочно сидел на коксе. От него мало что осталось. Семью свою он ненавидел, как и большинство людей. – Возможно, большинство людей в Калифорнии, но не везде. – Нина поджала губы. Довольно странная реплика в ее устах. Отец Нины совершил самоубийство – бросился под трамвай. – Где ты установил контакт? – спросила я. – На какой-то вечеринке. Обычное дело. Он покупал кокаин у режиссера, который испохабил один из моих проектов… – Тебе пришлось повторить контакт? Вилли нахмурился, глядя на меня. Он пока сдерживал злость, но лицо его покраснело. – Ja, ja. Я видел его еще пару раз. Однажды я просто смотрел из окна автомобиля, как он играет в теннис. – Очки за иронию дать можно, – сказала Нина. – Но за повторный контакт очки надо снять. Если он – пустышка, как ты сам говоришь, ты должен был Использовать его после первого же контакта. Что еще? Дальше шел обычный набор: жалкие убийства в трущобах, пара бытовых убийств в семье, столкновение на шоссе, закончившееся стрельбой и смертью. – Я был в толпе, – сказал Вилли. – Я сразу установил контакт. У него в бардачке был пистолет. – Два очка, – улыбнулась Нина. Один добротный случай Вилли оставил напоследок. Нечто странное приключилось с человеком, когда-то в детстве бывшим знаменитостью, кинозвездой. Он вышел из своей квартиры в Бел-Эйр, а пока его не было дома, она заполнилась газом, потом он вернулся и зажег спичку. Взрыв, пожар, кроме него, погибли еще два человека. – Очки только за него, – сказала Нина. – Ja, ja. – А ты уверен, что все так и произошло? Это мог быть обычный несчастный случай… – Не смеши, – оборвал ее Вилли и повернулся ко мне. – Его было довольно трудно Использовать. Очень сильная личность. Я стер в его памяти информацию о том, что он включил газ. Надо было заблокировать ее на целых два часа, а потом заставить его войти в комнату. Он бешено сопротивлялся, не хотел зажигать спичку. – Надо было заставить его чиркнуть зажигалкой. – Он не курил, – проворчал Вилли. – Бросил в прошлом году. – Да, – улыбнулась Нина. – Кажется, я помню; он говорил об этом Джонни Карсону. Я не могла понять, шутит она или говорит серьезно. Потом мы втроем подсчитали очки, как бы исполняя ритуал. Больше всех говорила Нина. Вилли сначала хмурился, потом разошелся, потом снова стал угрюмым. Был момент, когда он потянулся ко мне и со смехом похлопал меня по колену, прося помощи. Я никак не отреагировала. В конце концов он сдался, подошел к бару и налил себе бурбона из графина моего отца. Сквозь цветные стекла эркера пробивались последние, почти горизонтальные лучи вечернего солнца и падали красным пятном на Вилли, стоявшего рядом с буфетом мореного дуба. Глаза его казались крохотными красными угольками, вставленными в кровавую маску. – Сорок одно очко, – подвела итог Нина. Она посмотрела на нас блестящими глазами и подняла калькулятор, как будто он мог подтвердить какой-то объективный факт. – Я насчитала сорок одно очко. А ты, Мелани? – Ja, – перебил ее Вилли. – Прекрасно. Теперь глянем на твою заявку, милая Нина. – Он говорил тусклым, бесцветным голосом. Даже Вилли начинал терять интерес к Игре. Не успела Нина начать, как вошел мистер Торн и объявил, что обед подан. Прежде чем мы перешли в столовую, Вилли налил себе еще из графина, а Нина взмахнула руками, изображая отчаяние из-за того, что пришлось прервать Игру. Когда мы сели за длинный стол красного дерева, я постаралась вести себя как подобает настоящей хозяйке дома. По традиции, в течение уже нескольких десятков лет, разговоры об Игре за обеденным столом были запрещены. За супом мы обсудили последний фильм Вилли и Нинину покупку очередного магазина для ее сети бутиков. Ежемесячную колонку Нины в «Вог», похоже, закроют, но ею заинтересовался газетный синдикат, готовый продолжить. Запеченный окорок был встречен восторженными похвалами, но мне показалось, что мистер Торн пересластил соус. Когда мы перешли к шоколадному муссу, за окнами стало совсем темно. Отблески отраженного света люстры танцевали на локонах Нины, мои же волосы больше обычного отдавали синевой – во всяком случае, так мне казалось. Внезапно со стороны кухни послышался какой-то шум. В дверях появился негр-гигант. На его плече лежали чьи-то белые руки, от которых он пытался освободиться, а на лице застыло выражение обиженного ребенка. – …Какого черта мы тут сидим, как… – Но руки тут же уволокли его. – Прошу прощения, дорогие дамы. – Вилли прижал салфетку к губам и встал. Несмотря на возраст, он все еще сохранял грацию движений. Нина ковыряла ложкой в шоколадном муссе. Мы услышали, как из кухни донеслась резкая, короткая команда, потом звук удара. Вероятно, бил мужчина: звук был жесткий и хлесткий, как выстрел из малокалиберной винтовки. Я подняла глаза. Мистер Торн убирал тарелки из-под десерта. – Пожалуйста, кофе, мистер Торн. Всем кофе. Он кивнул, мягко улыбаясь.* * *
Франц Антон Месмер знал об этом, хотя и не понимал, что это такое. Я подозреваю, Месмер сам имел зачатки Способности. Современная псевдонаука изучала это, нашла для этого новые названия, уничтожила бо́льшую часть этой мощи, перепутала ее источники и способы использования, но это остается лишь тенью того, что открыл Месмер. У них нет никакого представления о том, что значит ощущать Подпитку. Я в отчаянии от разгула насилия в нынешние времена. Иногда я целиком отдаюсь этому чувству, падаю в глубокую пропасть без какого-либо будущего – пропасть отчаяния, названного Хопкинсом утехой падали. Я разглядываю эту всеамериканскую скотобойню, все эти покушения на президентов, римских пап и бесчисленное количество других людей и иногда задумываюсь: может быть, в мире есть много таких, как мы, обладающих нашей Способностью? Или такая вот бойня стала теперь просто образом жизни? Все человеческие существа питаются насилием, они питаются властью над другими, но лишь немногие испытали то, что испытываем мы, – абсолютную власть. Без этой Способности очень немногим знакомо несравненное наслаждение в момент лишения человека жизни. Без этой Способности даже те, кто питается жизнью, не могут смаковать поток эмоций в охотнике и его жертве, абсолютный восторг нападающего, который ушел далеко за грань всех правил и наказаний, и то странное, почти сексуальное чувство покорности, охватывающее жертву в последний миг истины, когда уже нет никакого выбора, когда всякое будущее уничтожено, все возможности стерты в акте подчинения другого своей абсолютной власти. Меня приводит в отчаяние нынешний разгул насилия, его безличность и случайность и то, что насилие стало доступным столь многим. У меня был телевизор, но потом я его продала, в самый разгар войны во Вьетнаме. Эти стерильные кусочки смерти, отнесенные вдаль объективом камеры, совершенно ничего мне не говорили. Но наверное, они что-то значили для того сброда, который нас окружает. Когда закончилась война, а вместе с ней ежевечерние подсчеты трупов по телевидению, этот сброд потребовал: «Еще! Еще!» И тогда с экранов на улицы городов этой милой умирающей нации была выброшена масса заурядных убийств на потребу толпе. Я-то хорошо знаю эту наркотическую тягу. Все они упускают главное. Насильственная смерть, если ее просто наблюдать, всего лишь грязная печальная картинка смятения и хаоса. Но для тех из нас, кто испытал Подпитку, смерть является таинством. – Теперь моя очередь! Моя! – Голос Нины все еще напоминал интонации красавицы, приехавшей в гости и только что заполнившей танцевальную карточку именами кавалеров на июньском балу кузины Целии. Мы вернулись в гостиную. Вилли допил свой кофе и попросил у мистера Торна коньяку. Мне стало стыдно за Вилли. Когда допускаешь даже намек на небрежность поведения в присутствии самых близких людей, это верный признак ослабевающей Способности. Нина, казалось, ничего не замечала. – Тут у меня все разложено по порядку. – Она раскрыла свой альбом с вырезками на чайном столике, который был уже прибран. Вилли аккуратно просмотрел все. Иногда он задавал вопросы, но чаще неразборчиво ворчал, выражая согласие. Время от времени я тоже давала понять, что согласна, хотя ни о чем из перечисленного не слышала. Разумеется, за исключением этого битла. Нина приберегла его под конец. – Боже мой, Нина, так это ты? Вилли был чуть ли не в ярости. Нина кормилась в основном самоубийствами на Парк-авеню и ссорами между мужем и женой, заканчивавшимися выстрелами из дорогих дамских пистолетов малого калибра. А случай с этим битлом был больше похож на топорный стиль Вилли. Возможно, он счел, что кто-то вторгается на его территорию. – Я хочу сказать… ты же сильно рисковала, ведь так? – продолжал он. – Черт побери… Такая огласка!.. Нина засмеялась и положила калькулятор: – Вилли, дорогой, но ведь в этом весь смысл Игры, не так ли? Он подошел к буфету и снова налил себе коньяку. Ветер трепал голые сучья перед окнами синеватого стекла эркера. Я не люблю зиму. Даже на юге она угнетает дух. – Разве этот… как его… разве он не купил пистолет на Гавайях или где-то там еще? – спросил Вилли, все еще стоя в противоположном углу. – По-моему, он сам проявил инициативу. Я хочу сказать, если он уже подбирался к этому… – Вилли, дорогой. – Голос Нины стал таким же холодным, как ветер, что трепал голые сучья за окном. – Никто не говорит, что он был уравновешенным человеком. А разве кто-нибудь из твоих был уравновешенным? И все же именно я заставила его сделать это. Я выбрала место, выбрала время. Неужели не ясно, насколько удачен выбор места? После той милой шалости с режиссером фильма про ведьм несколько лет назад?[11] Все прямо по сценарию… – Не знаю. – Вилли тяжело опустился на диван, пролив коньяк на свой дорогой пиджак. Он ничего не заметил. Его лысеющий череп бликовал в свете лампы. Возрастные пятна вечером проступали отчетливее, а шея – там, где ее не прикрывал ворот свитера, – казалось, вся состоит из жил и веревок. – Не знаю. – Он поднял наменя глаза и вдруг заговорщицки улыбнулся. – Тут все как с тем писателем, правда, Мелани? Возможно, именно так. Нина опустила глаза и теперь смотрела на свои руки, сложенные на коленях. Кончики ее ухоженных пальцев побелели.* * *
«Вампиры сознания». Так этот писатель собирался назвать свою книгу. Иногда я думаю: а мог ли он вообще что-нибудь написать? Как же его звали?.. Вроде бы русская фамилия. Однажды мы оба, Вилли и я, получили телеграммы от Нины: «Приезжайте как можно скорее. Вы нужны мне». Этого было достаточно. На следующее утро я полетела в Нью-Йорк первым же рейсом. Самолет был очень шумный, винтовой – «Констеллейшн», – и я бо́льшую часть времени пыталась убедить сверхзаботливую стюардессу, что мне ничего не нужно и я вообще чувствую себя прекрасно. Она явно решила, что я чья-то бабушка, никогда прежде не летавшая. Вилли ухитрился прибыть на двадцать минут раньше меня. Нина совершенно потеряла голову: я никогда не видела, чтобы она была так близка к истерическому припадку. Оказалось, что двумя днями раньше она гостила у кого-то в Нижнем Манхэттене (она, конечно, потеряла голову, но не настолько, чтобы отказать себе в удовольствии упомянуть, какие важные лица присутствовали) и там, в укромном уголке гостиной, обменялась заветными мыслями с молодым писателем. Точнее, это писатель поделился с нею кое-какими заветными мыслями. По словам Нины, это был довольно замызганный тип: жиденькая бороденка, очки с толстыми линзами, вельветовый пиджак, старая фланелевая рубашка в клетку – в общем, один из тех, кто непременно попадается на удавшихся вечеринках, как утверждает Нина. Слово «битник» уже вышло из моды, и Нина это знала, поэтому она его и не называла так, а слово «хиппи» еще никто не употреблял, да оно и не подходило к нему. Он был из тех писателей, что едва-едва зарабатывают себе на хлеб, по крайней мере в наше время: сочинял вздор с трупами и кровью и писал романы по телесериалам. Александр… фамилию не помню. У него была идея – сюжет для новой книги, над которой он уже начал работать, и она заключалась в том, что многие из совершавшихся тогда убийств на самом деле задумывались небольшой группой душегубов-экстрасенсов (он называл их «вампирами сознания»), которые использовали других людей для реализации своих кошмарных планов. Он сказал, что одно издательство, специализирующееся на массовых карманных книжках, уже проявило интерес к его заявке и готово заключить с ним контракт хоть сейчас, если он заменит название и добавит немного секса. – Ну и что? – спросил Вилли почти с отвращением. – И из-за этого ты заставила меня лететь через весь материк? Я бы и сам купил такую идею и сделал бы по ней фильм. Мы воспользовались этим предлогом, чтобы хорошенько допросить Александра, когда Нина на следующий день устроила экспромтом небольшую вечеринку. Меня там не было. Вечер прошел не очень удачно, по словам Нины, но он дал Вилли шанс как следует побеседовать с этим молодым многообещающим романистом. Писателишка выказал прямо-таки суетливую готовность угодить Биллу Бордену, продюсеру «Парижских воспоминаний», «Троих на качелях» и еще пары фильмов, которые память отказывалась удерживать, но которые тоже шли во всех открытых кинотеатрах тем летом. Оказалось, что «книга» представляет собой довольно потертую тетрадку с изложением идеи и десятком страниц заметок. Однако он был уверен, что за пять недель сможет сделать развернутый конспект сценария – может быть, даже за три недели, если отправить его в Голливуд, к источнику «истинного творческого вдохновения». Поздно вечером мы обсудили и такую возможность. Но у Вилли как раз было туго с наличностью, а Нина настаивала на решительных мерах. В конце концов молодой писатель вскрыл лезвием «жилетт» бедренную артерию и выбежал с истошным воплем в узкий переулок Гринвич-Виллидж, где и умер. Я уверена, что никто не потрудился разобрать оставшиеся после него заметки и прочий хлам.* * *
– Может быть, все будет как с тем писателем, ja, Мелани? – Вилли потрепал меня по колену. – Он был мой, а Нина пыталась приписать его себе. Помнишь? Я кивнула. На самом же деле ни Нина, ни Вилли не имели к этому никакого отношения. Я не пошла тогда к Нине, чтобы позднее установить контакт с молодым человеком, который и не заметил, что за ним кто-то идет. Все оказалось проще простого. Помню, как я сидела в слишком жарко натопленной маленькой кондитерской напротив жилого дома. Все закончилось так быстро, что я почти не ощутила Подпитки. Потом я вновь услышала звук шипящих радиаторов и почувствовала запах ванили, а люди бросились к дверям посмотреть, кто кричит. Я помню, как медленно допила свой чай, чтобы не пришлось выходить раньше, чем уедет «скорая». – Вздор, – сказала Нина, снова занявшись своим крохотным калькулятором. – Сколько очков? – Она посмотрела на меня, потом на Вилли. – Шесть. – Он пожал плечами. Нина сделала вид, что складывает все очки: – Тридцать восемь. – Она артистично вздохнула. – Ты опять выиграл, Вилли. Точнее, обыграл меня. Мы еще послушаем Мелани. Ты сегодня что-то очень уж тихая, моя дорогая. У тебя, наверное, какой-то сюрприз для нас? – Да, – кивнул Вилли. – Твоя очередь выигрывать, Мелани. Ты ждала этого несколько лет. – У меня – ничего. Я ожидала взрывного эффекта, потока вопросов, но тишину нарушало лишь тиканье часов на каминной полке. Нина смотрела в угол, словно пыталась увидеть что-то прячущееся в темноте. – Ничего? – переспросил Вилли. – Ну, был… один, – призналась я наконец. – Хотя это просто случай. Я увидела их, когда они грабили старика за… Просто случай. Вилли разволновался. Он встал, подошел к окну, повернул старый стул спинкой к нам и сел на него верхом, сложив руки. – Что это значит? – Ты отказываешься играть в Игру? – Нина в упор посмотрела на меня. Я промолчала – ответ был ясен. – Но почему? – резко спросил Вилли. От волнения у него снова прорезался немецкий акцент. Если бы я воспитывалась в эпоху, когда молодым леди было позволено пожимать плечами, я бы сейчас пожала плечами. А так – просто провела пальцами по воображаемому шву на юбке. Вопрос задал Вилли, но, когда я в конце концов ответила, мои глаза смотрели прямо на Нину. – Я устала. Все это тянется так долго. Наверное, я старею. – Если не будешь Охотиться, еще не так постареешь, – констатировал Вилли. Его поза, голос, красная маска лица – все говорило о том, как он зол, он еле сдерживался. – Боже мой, Мелани, ты уже выглядишь старухой. Ты ужасно выглядишь, ужасно! Мы ведь ради этого и охотимся, разве не ясно? Посмотри на себя в зеркало! Ты что, хочешь умереть старухой, и все только потому, что устала их Использовать? – Вилли встал и повернулся к нам спиной. – Вздор! – Голос Нины был твердым и уверенным. Она снова четко владела ситуацией. – Мелани устала, Вилли. Будь с ней поласковее. У всех бывают такие моменты. Я помню, как ты сам выглядел после войны. Как побитый щенок. Ты ведь даже не мог выйти из своей жалкой квартиры в Бадене. Даже когда мы помогли тебе перебраться в Нью-Джерси, ты просто сидел, хандрил и жалел себя. Мелани придумала Игру, лишь бы поднять твое настроение. Так что не шуми. И никогда не говори леди, если она устала и немного подавлена, что она ужасно выглядит. Ну, правда, Вилли, ты иногда такой Schwächsinniger.[12] И к тому же страшный хам. Я предвидела разные реакции на свое заявление, но вот этой боялась больше всего. Это означало, что Нине тоже наскучила Игра и она готова перейти на новый уровень поединка. Другого объяснения не было. – Спасибо, Нина, милая, – сказала я. – Я знала, что ты поймешь меня. Она коснулась моего колена, словно желая подбодрить. Даже сквозь шерсть юбки я почувствовала, как холодны ее пальцы.* * *
Мои гости ни за что не хотели оставаться ночевать у меня. Я умоляла их, упрекала, сказала, что их комнаты готовы, что мистер Торн уже разобрал постели. – В следующий раз, – сказал Вилли. – В следующий раз, Мелани, моя радость. Мы останемся на весь уик-энд, как когда-то. Или на целую неделю! Настроение Вилли заметно улучшилось после того, как он получил по тысяче долларов от меня и от Нины в качестве приза. Сначала он отказывался, но я настаивала. А когда мистер Торн принес чек, оформленный на Уильяма Д. Бордена, видно было, что ему это пришлось по душе. Я снова попросила его остаться, но он сообщил, что у него уже заказан билет на самолет до Чикаго. Нужно было встретиться с автором, который только что получил какую-то премию, и договориться насчет сценария. И вот он уже обнимал меня на прощанье, мы стояли в тесном коридоре, его компаньоны – у меня за спиной, и я на мгновение ощутила ужас. Но они ушли. Светловолосый молодой человек продемонстрировал свою белозубую улыбку, негр на мгновение втянул голову – это, наверное, была его манера прощаться. И вот мы остались одни. Мы с Ниной. Но не совсем одни. Мисс Крамер стояла рядом с Ниной в конце коридора. Мистер Торн находился за дверью, ведущей в кухню. Его не было видно, и я оставила его там. Мисс Крамер сделала три шага вперед. На мгновение я перестала дышать. Мистер Торн поднял руку и коснулся двери. Но эта крепкая брюнетка подошла к шкафу, сняла с вешалки пальто Нины и помогла ей одеться. – Может, все же останешься? – Нет, Мелани. Я обещала Баррет, что мы поедем в отель. – Но уже поздно… – Мы заранее заказали номер. Спасибо. Я непременно свяжусь с тобой. – Да… – Правда, правда, милая Мелани. Нам обязательно нужно поговорить. Я тебя понимаю, но ты должна помнить, что для Вилли Игра все еще очень важна. Нужно будет найти способ положить этому конец так, чтобы не обидеть его. Может, заглянем к нему весной в Каринхалле, или как там называется этот его старый мрачный замок в Баварии? Поездка на континент очень помогла бы тебе, дорогая Мелани. Очень. – Да. – Я обязательно свяжусь с тобой, как только закончу дела с покупкой магазина. Нам нужно побыть немного вместе, Мелани… Ты и я, никого больше… как в старые добрые времена. – Она поцеловала воздух рядом с моей щекой и на несколько секунд крепко сжала мои локти. – До свидания, дорогая. – До свидания, Нина.* * *
Я отнесла коньячный бокал на кухню. Мистер Торн молча взял его. – Посмотрите, все ли в порядке, – велела я. Он кивнул и пошел проверять замки и сигнализацию. Было всего лишь без четверти десять, но я чувствовала себя очень уставшей. «Возраст», – подумала я, поднимаясь по широкой лестнице – пожалуй, самому замечательному месту в этом доме. Я переоделась ко сну. За окном разразилась буря, в ударах ливневых струй по стеклу слышался нарастающий печальный ритм. Я расчесывала волосы, жалея, что они такие короткие, когда в спальню заглянул мистер Торн. Я повернулась к нему. Он опустил руку в карман своего темного жилета. Когда он вытащил руку, сверкнуло тонкое лезвие. Я кивнула. Он сложил нож и закрыл за собой дверь. Было слышно, как его шаги удалялись вниз по лестнице, к стулу в передней, где ему предстояло провести ночь. Кажется, в ту ночь мне снились вампиры. А может, я просто думала о них перед тем, как заснуть, и обрывок этих мыслей застрял в голове до утра. Из всех ужасов, которыми человечество пугает себя, из всех этих жалких крохотных чудовищ только в мифе о вампирах есть какой-то намек на внутреннее достоинство. Как и человеческими существами, которыми он питается, вампиром движут его собственные темные влечения. Но, в отличие от своих жалких человеческих жертв, вампир ставит себе единственную цель, которая может оправдать грязные средства, – бессмертие, в буквальном смысле. Тут есть некое благородство. И некая печаль. Вилли прав – я действительно постарела. Этот последний год отнял у меня больше, чем предыдущее десятилетие. И все же я не прибегала к Подпитке. Несмотря на голод, несмотря на свое стареющее отражение в зеркале, несмотря на темное влечение, правившее нашей жизнью вот уже столько лет, я ни разу за год не прибегала к Подпитке. Я заснула, пытаясь вспомнить черты лица Чарльза. Я заснула голодной.Глава 2
Беверли-Хиллз
Суббота, 13 декабря 1980 г.
На лужайке перед домом Тони Хэрода имелся большой круглый фонтан в виде сатира, который мочился в бассейн, глядя на Голливуд, что лежал внизу, в каньоне, с выражением то ли болезненного отвращения, то ли издевательского презрения. У знавших Тони Хэрода не возникало сомнений насчет того, какое именно выражение подходило больше. Особняк когда-то принадлежал актеру немого кино. Находясь на пике своей карьеры, после нечеловеческих усилий актер преодолел этот барьер, перешел в звуковое кино, и все лишь затем, чтобы умереть от рака горла через три месяца после выхода на экраны своего первого звукового фильма. Его вдова отказалась покинуть огромный дом и прожила там еще тридцать пять лет, по сути как смотрительница мавзолея, частенько заимствуя (без отдачи) деньги у старых голливудских знакомых либо родственников, которых раньше не замечала, и все только для того, чтобы заплатить налоги. В 1959 году она умерла, и дом купил сценарист, написавший три из пяти романтических комедий с Дорис Дэй, вышедших к тому времени. Сценарист очень сетовал, что сад заброшен, а в кабинете на втором этаже держится дурной запах. В конце концов он влез в долги и пустил себе пулю в лоб в сарае. На следующий день его нашел садовник, но никому ничего не сказал, опасаясь, что его арестуют как незаконного иммигранта. Труп был обнаружен во второй раз юристом Гильдии сценаристов, который как раз явился обсудить с писателем план защиты на предстоящем судебном разбирательстве по поводу плагиата. Далее домом поочередно владели: знаменитая актриса, жившая там месяца три в промежутке между своим пятым и шестым браком; мастер специальных эффектов, который погиб в 1976 году во время пожара на складе; нефтяной шейх, выкрасивший сатира в розовый цвет и давший ему еврейское имя. В 1979-м шейха пристрелил его собственный зять, когда шейх, отправившись на хадж в Мекку, проезжал через Риад. Тони Хэрод купил особняк четыре года спустя. – Обалдеть, до чего красиво, – сказал Хэрод, стоя с агентом по недвижимости на мощенной плитами дорожке и глядя на сатира. – Покупаю. – Час спустя он передал задаток – чек на шестьсот тысяч долларов, даже не побывав внутри особняка. Шейла Баррингтон слышала множество историй о разных импульсивных поступках Тони Хэрода. О том, как Хэрод оскорбил Трумена Капоте перед двумястами приглашенными гостями, и о скандале в 1978 году, когда Тони и одного из самых близких помощников президента Джимми Картера арестовали за хранение наркотиков. Никто не попал в тюрьму, ничего не было доказано, но ходили слухи, что Хэрод подставил несчастного парня из Джорджии ради хохмы. Шейла наклонилась, чтобы взглянуть на сатира, когда ее «мерседес» с шофером проскользнул по извилистой дорожке к главному зданию. С ней не было ее матери, и она это очень остро чувствовала. Не было с ней и Лорен – ее агента, и Ричарда – агента ее матери, и Каулза – шофера и телохранителя, и Эстабана – ее парикмахера. Шейле было семнадцать лет, и девять из них она подвизалась как весьма удачливая фотомодель, а два последних – как киноактриса, но, когда «мерседес» остановился перед украшенной резьбой парадной дверью особняка Хэрода, она ощущала себя скорее принцессой из сказки, вынужденной навестить злого людоеда. «Нет, он не людоед, – подумала Шейла. – Как там Норман Мейлер назвал Тони после какого-то приема прошлой весной? Злой маленький тролль. Я должна пройти через пещеру злого маленького тролля, прежде чем найти сокровище». Шейла надавила кнопку звонка и почувствовала, как напряглись мышцы ее спины. Она утешала себя тем, что там будет и мистер Борден. Ей нравился этот старый продюсер с его старосветской любезностью и легким приятным акцентом. Она вновь ощутила некое внутреннее напряжение, представив, что скажет ее мать, если обнаружит, что Шейла втайне решилась на такую встречу. Она уже собралась повернуться и уйти, когда дверь широко распахнулась. – А-а, мисс Баррингтон, я полагаю. – На пороге стоял Тони Хэрод, в бархатном халате. Испуганно глядя на него, Шейла гадала, есть ли на нем что-нибудь под этим халатом? В плотной растительности, покрывавшей грудь, виднелось несколько седых волосков. – Здравствуйте, – сказала девушка и прошла за своим будущим продюсером в холл. На первый взгляд ничего троллеподобного в Тони Хэроде не наблюдалось: мужчина ниже среднего роста – в Шейле было 178 сантиметров, многовато даже для модели, а рост Хэрода вряд ли превышал 162; длинные руки и несоразмерно большие кисти болтались по бокам щуплого, почти мальчишеского торса. Очень темные, коротко стриженные волосы свисали волнистой челкой на высокий белый лоб. Шейла подумала, что первым намеком на тролля, который, возможно, скрывался в этой фигуре, мог быть тусклый цвет кожи, более естественный для жителя какого-нибудь прокопченного северо-восточного города, а не для человека, прожившего двенадцать лет в Лос-Анджелесе. Скулы были резко очерчены, даже слишком, и это впечатление вовсе не смягчали сардонический разрез рта, множество мелких острых зубов во рту (казалось, их было больше положенного) и быстро мелькавший розовый язык, которым он постоянно облизывал нижнюю губу. Глубоко посаженные глаза окружала синева, словно от недавно сошедших синяков, но не это заставило Шейлу резко вдохнуть и остановиться у выложенного плиткой входа. Она была очень восприимчива к выражению глаз (ее собственные глаза в значительной мере сделали ее тем, кем она была), и ей еще никогда не доводилось видеть такого взгляда, как у Тони Хэрода. Ленивый томный взгляд маленьких карих глаз с тяжелыми веками, слегка рассеянный, насмешливо безразличный, казалось, излучал власть и вызов, резко контрастирующие со всем его видом. – Проходи, детка. Черт, а где же твое сопровождение и толпы поклонников? Я думал, ты никогда не появляешься без своей армии. – Простите?.. – недоуменно сказала Шейла и тут же умолкла. От этой встречи зависело слишком многое, чтобы вот так терять очки. – Ладно, забудь. – Хэрод отступил на шаг и принялся ее разглядывать. Прежде чем он засунул руки в карманы халата, Шейла успела заметить его необычайно длинные бледные пальцы. Как у Голлума в «Хоббите». – Дьявол, ну ты прямо красотка, – выдал коротышка. – Я слыхал, что ты эдакая секс-бомба, но в жизни ты впечатляешь покруче, чем на экране. Пляжные мальчики, наверное, выпрыгивают из штанов, когда ты появляешься. Шейла резко выпрямилась. Она готова была вынести немного хамства, но похабщина приводила ее в ужас – так ее воспитали. – Мистер Борден уже пришел? – холодно спросила она. Хэрод улыбнулся и покачал головой: – Боюсь, что нет. Вилли поехал навестить старых друзей где-то на юге… то ли в Болотвилле, то ли еще где. Шейла остановилась. Она приготовилась обсуждать важный для себя контракт с мистером Борденом и вторым продюсером, но мысль о том, что ей придется иметь дело только с Тони Хэродом, заставила ее содрогнуться. Она уже собралась уйти под каким-нибудь предлогом, но в этот момент в дверях появилась женщина необыкновенной красоты. – Мисс Баррингтон, позвольте представить вам мою помощницу Марию Чэнь, – сказал Хэрод. – Мария, это Шейла Баррингтон, очень талантливая молодая актриса и, возможно, звезда нашего нового фильма. – Здравствуйте, мисс Чэнь. Шейла окинула женщину оценивающим взглядом. Ей было лет тридцать с небольшим, восточное происхождение выдавали лишь высокие скулы, черные волосы и разрез глаз. Она сама могла бы стать моделью, стоит ей только захотеть. Возникло некоторое напряжение, неизбежное, когда знакомятся две красивые женщины, но оно быстро рассеялось от теплой улыбки старшей из них. – Мисс Баррингтон, очень рада с вами познакомиться. – Рукопожатие Чэнь оказалось крепким и приятным. – Я уже давно восхищаюсь вашей работой в рекламе. У вас есть довольно редкое качество. Мне кажется, разворот в «Вог», который сделал Аведон,[13] просто великолепен. – Спасибо, мисс Чэнь. – Пожалуйста, зовите меня Мария. – Она улыбнулась и повернулась к Хэроду. – Вода в бассейне как раз нужной температуры. Я задержу все звонки на следующие сорок пять минут. Хэрод кивнул: – Прошлой весной я попал в аварию, и теперь мне каждый день приходится проводить некоторое время в джакузи. Это немного помогает. – Он слегка улыбнулся, заметив, что гостья стоит в нерешительности. – По правилам моего бассейна купальный костюм обязателен. – Хэрод развязал пояс халата; под ним оказались красные плавки с золотой монограммой – его инициалами. – Ну, так как? Мария может провести вас сейчас в раздевалку – или вы хотите обсудить фильм позже, когда вернется Вилли? Шейла быстро прикинула. Она сомневалась, что сможет долго держать такую сделку в тайне от Лорен и своей матери. Вполне возможно, это единственный шанс заключить контракт на ее собственных условиях. – У меня с собой нет купальника, – улыбнулась она. – С этим никаких проблем, – тут же заверила Мария Чэнь. – У Тони есть купальные костюмы для гостей всех размеров и на любую фигуру. Даже имеется парочка для пожилой тетушки, на случай, если она приедет его навестить. Шейла рассмеялась и пошла за Марией по длинному коридору, через гостиную, обставленную дорогой мебелью, среди которой заметно выделялся огромный телевизионный экран, мимо полок с электронной видеоаппаратурой, а потом еще вдоль одного коридора в отделанную кедром раздевалку. Здесь в широких выдвижных ящиках лежали мужские и женские купальные костюмы разных стилей и расцветок. – Я оставлю вас. Переодевайтесь, – сказала Мария Чэнь. – А вы составите нам компанию? – Может быть, позже. Мне нужно закончить печатать кое-какие письма Тони. Вам понравится вода… И еще, мисс Баррингтон… Не обращайте внимания на манеры Тони. Он иногда грубоват, но всегда справедлив. Шейла кивнула и, как только Мария Чэнь закрыла дверь, принялась рассматривать купальные костюмы. Здесь имелись крохотные французские бикини, купальники без лямок, строгие закрытые модели любых расцветок. Фирменные ярлыки впечатляли – «Готтекс», «Кристиан Диор», «Кеннет Коул». Шейла выбрала оранжевый купальник – не слишком вызывающего покроя, но с достаточно высоким вырезом, чтобы ее бедра и длинные ноги выглядели наилучшим образом. Она по опыту знала, что ее маленькая крепкая грудь будет смотреться чудесно, особенно там, где сосок слегка проступает сквозь тонкую материю. А оранжевый цвет оттенит зеленоватый отблеск ее карих глаз. Через другую дверь Шейла вышла в помещение, похожее на оранжерею, закрытое с трех сторон закругленными стеклянными стенами, сквозь которые на буйную тропическую зелень падали потоки солнечного света. В четвертую стену рядом с дверью был вмонтирован еще один огромный телеэкран. Из невидимых динамиков лилась приглушенная классическая музыка. Воздух был необычайно влажен. За стеной Шейла увидела еще один бассейн, гораздо больше внутреннего; лучи утреннего солнца отражались от голубой поверхности. Тони Хэрод возлежал в воде с мелкой стороны бассейна и прихлебывал из высокого бокала. Шейла почувствовала, как горячий влажный воздух давит на нее, словно одеяло. – Где ты застряла, детка? Мне пришлось залезть в воду без тебя. Шейла улыбнулась и села на край небольшого бассейна, метрах в полутора от Хэрода: не так далеко, чтобы это можно было принять за оскорбление, но и не в интимной близости. Она лениво болтала ногами в пенящейся воде, оттягивая носок, чтобы показать, какие у нее красивые икры и мышцы бедра. – Ну что ж, поговорим? – Хэрод облизнул кончиком языка нижнюю губу. – Вообще-то, мне не следовало быть здесь, – тихо сказала Шейла. – Такими делами занимается мой агент. И потом, я всегда советуюсь с мамой перед тем, как принять решение насчет нового контракта… даже если это работа моделью всего лишь на уик-энд. Сегодня я пришла только потому, что меня попросил об этом мистер Борден. Он к нам очень мило относится с того… – Знаю, знаю, он от тебя тоже без ума, – перебил Хэрод и поставил бокал на край, облицованный плиткой. – Значит, дело обстоит так. Вилли купил права на бестселлер, который называется «Торговец рабынями». Это – кусок дерьма, написанный для неграмотных юнцов лет четырнадцати и безмозглых домохозяек, что каждый месяц давятся в очереди за последним любовным романом. Чтиво, под которое дебилам хорошо заниматься онанизмом. Естественно, эта чушь разошлась в трех миллионах экземпляров. Мы заполучили права до публикации. У Вилли кто-то есть в издательстве «Баллантайн» – тот, кто предупреждает его, когда вот такое дерьмо имеет шанс прорваться в бестселлеры. – Все это, конечно, заманчиво… – тихо сказала Шейла. – Куда уж, к черту, заманчивее. В кино, естественно, от книги останутся только основная сюжетная линия да дешевый секс. Но у нас над этим поработают хорошие специалисты. Майкл Мей-Дрейнен уже приступил к сценарию, а Шуберт Уильямс согласился быть режиссером. – Шу Уильямс? – Шейла несколько опешила. Уильямс только что закончил нашумевший фильм для Эм-джи-эм. Она опустила взгляд на пузырящуюся поверхность бассейна. – Боюсь, материал такого рода вряд ли нас заинтересует. – Затем продолжила: – Моя мама… я хочу сказать, мы очень осторожно подходим к материалу, с которого должна начаться моя карьера в кино. – Ну да! – воскликнул Хэрод и допил то, что у него оставалось в бокале. – Два года назад ты снялась в «Надежде Шенерли». Умирающая девушка встречается с умирающим аферистом в мексиканской клинике, они отказываются от погони за очередной панацеей и находят настоящее счастье в последние недели своей жизни. С ума сойти! Как писала критика: «От одних роликов этой сахарной клюквы у диабетиков начинается приступ…» – Там была очень плохая реклама… – Этому надо радоваться, крошка. Затем, в прошлом году, твоя мамочка засунула тебя к Уайзу в эту его лабуду «К востоку от счастья». Из тебя хотели сделать новую Джули Эндрюс в этой дешевке, в дрянном плагиате «Звуков пузика».[14] Хотели, да не сумели. И еще. Шестидесятые годы, хиппи, всякие там дети-цветы уже в прошлом, теперь пришли злые восьмидесятые, и, хотя я вам не агент и вообще никто, мисс Баррингтон, я вам вот что скажу: стараниями вашей мамочки и всей этой тусовки ваша карьера в кино сидит глубоко в жопе. Они пытаются сделать из вас нечто типа Мари Осмонд… Знаю, знаю, вы принадлежите к церкви Святых Последних Дней, ну и что? На обложке «Вог» и «Семнадцать» ты выглядела роскошно, а теперь готова спустить все это в унитаз. Они пытаются продать тебя как невинную двенадцатилетнюю девочку, но теперь такое уже не проходит. Шейла сидела не шевелясь. Мысли ее метались, она никак не могла придумать, что сказать. Ей ужасно хотелось послать этого коротышку-тролля к черту, но она не знала, как это сделать потактичней. Все ее будущее зависело от следующих нескольких минут, а в голове была полная путаница. Хэрод вылез из воды и пошлепал босыми ногами к бару, устроенному среди папоротников. Он налил себе высокий бокал грейпфрутового сока и оглянулся на Шейлу: – Хочешь чего-нибудь, детка? Тут у меня есть все. Даже гавайский пунш, если ты сегодня настроена на особо мормонский лад. Она покачала головой. Продюсер снова опустился в бассейн и поставил бокал себе на грудь. Взглянув на зеркало в стене, он почти незаметно кивнул: – Ладно. Поговорим про «Торговца рабынями», или как там он будет называться в конце концов. – Я не думаю, что нас заинтересует… – Ты получишь четыреста тысяч сразу, – сказал Хэрод, – плюс процент дохода от картины, но от него ты вряд ли что увидишь, если учесть привычки нашей бухгалтерии. Самое главное, что ты на этом заработаешь, – это имя. С этим именем тебя возьмет любая студия в Голливуде. Фильм будет потрясным, поверь мне, детка. Я нюхом чую кассовый фильм уже после первого черновика развернутого плана. Тут пахнет большими деньгами. – Боюсь, мне это не подойдет, мистер Хэрод. Мистер Борден сказал, что, если меня не заинтересует первое предложение, мы могли бы… – Съемки начинаются в марте, – перебил Хэрод. Он сделал большой глоток и закрыл глаза. – Шуберт утверждает, что они займут недель двенадцать, так что рассчитывай на двадцать. Натурные съемки будут в Алжире, Испании, несколько дней в Египте, потом еще недели три в студии «Пайнвуд» – дворцовые сцены и прочее. Шейла встала. Капельки воды блестели на ее икрах. Она уперла руки в боки и сердито взглянула на безобразного коротышку в бассейне. Хэрод лежал, не открывая глаз. – Вы меня не слушаете, мистер Хэрод, – резко бросила она. – Я сказала – нет. Я не стану играть в вашем фильме. Ведь я даже не видела сценария. Так что можете взять своего «Торговца рабынями», или как там его, и… и… – Засунуть себе в жопу? – Хэрод открыл глаза. Это было похоже на то, как если бы проснулась ящерица. Вода бурлила на его покрытой шерстью груди. – До свидания, мистер Хэрод. Девушка резко повернулась и направилась к выходу. Она успела сделать три шага, когда он окликнул ее: – Боишься постельных сцен, детка? Она замедлила было шаг, потом пошла дальше. – Боишься постельных сцен, – повторил Хэрод, на сей раз без вопросительной интонации. Шейла дошла уже до двери, но остановилась и, крепко сжав кулаки, повернулась к нему: – Я еще не видела сценария! – Голос ее прервался, и, к собственному изумлению, она чуть не расплакалась. – Конечно, там есть постельные сцены, – продолжал Хэрод, как будто она не сказала ни слова. – Там есть эпизод, от которого все сопляки в зале кончат. Можно, конечно, использовать дублершу… Можно, но не нужно. Ты сама с этим справишься. Шейла мотнула головой. В ней закипела ярость, которую невозможно было выразить словами. Она повернулась и, как слепая, потянулась к ручке двери. – Стой! – Тони Хэрод сказал это тихим, еле слышным голосом, но он подействовал на нее сильнее, чем крик. Она остановилась как вкопанная. Казалось, ее шею стискивают холодные пальцы. – Подойди сюда. Девушка молча повиновалась. Хэрод лежал в воде, скрестив на груди руки с длинными пальцами-щупальцами. Глаза его, влажные, с тяжелыми веками, были почти закрыты – ленивый взгляд крокодила. Какая-то часть сознания Шейлы в панике дико сопротивлялась, а другая просто наблюдала за всем происходящим с возрастающим интересом. – Сядь. Она села на край бассейна в метре от него, опустив свои длинные ноги в воду. Белая пена покрыла ее загорелые бедра. Казалось, ее собственное тело было очень далеко от нее и она смотрела на себя как бы со стороны. – Так вот, я и говорю, ты сама справишься, детка. Все мы немного эксгибиционисты, а тут тебе еще заплатят целое состояние за то, что тебе и так хотелось бы делать. Словно преодолевая некий жуткий ступор, Шейла подняла голову и взглянула в упор на Тони Хэрода. В пятнистом свете оранжереи зрачки его глаз открылись так широко, что казались черными дырками на бледном лице. – Вот как сейчас, – очень тихо сказал он. Возможно, он вообще ничего не говорил. Слова будто сами проскользнули в мозг Шейлы, как холодные монеты, опускающиеся в темную воду. – Здесь ведь тепло. Зачем тебе этот купальник? Шейла смотрела на него широко раскрытыми глазами. Где-то далеко-далеко, в конце тоннеля, она видела себя маленькой девочкой, готовой расплакаться. В изумлении она наблюдала, как рука ее поднялась и потянула материю книзу, край купальника врезался в выпуклость груди. На коже осталась тонкая красная полоска от резинки. Хэрод почти незаметно улыбнулся и кивнул. Словно получив разрешение, Шейла резко дернула купальник. Грудь ее мягко колыхнулась, когда с нее соскользнула оранжевая ткань. Нежная кожа была изумительно белой, только кое-где виднелись мелкие веснушки. Соски быстро набухли и выпрямились от прохладного воздуха. Их окружали большие ярко-коричневые ореолы с несколькими черными волосками по краям; Шейла считала, что это очень красиво, и никогда их не выдергивала. Об этом никто не знал. Она не разрешала фотографировать свою грудь даже Аведону. Лицо Хэрода теперь виделось ей просто бледным пятном. Комната, казалось, накренилась и стала вращаться. Гул машины, вспенивающей воду бассейна, усилился и звоном отдавался в ее ушах. И тут Шейла почувствовала, как в ней что-то шевельнулось, ее стала наполнять какая-то приятная теплота. Появилось ощущение, будто чья-то рука нежно ласкает ее между ног. Девушка резко вздохнула, почти вскрикнула; спина ее невольно выгнулась. – Здесь правда очень тепло, – сказал Тони Хэрод. Шейла провела руками по лицу, коснулась век с чувством, похожим на изумление, потом погладила ладонями шею, ключицы и остановилась, когда пальцы прижались к груди, где начиналась белая полоска. Она чувствовала, как в артерии на шее бьется пульс, словно испуганная птица в клетке. Потом ее руки скользнули еще ниже, спина снова выгнулась, когда ладони коснулись сосков, ставших болезненно чувствительными. Она приподняла грудь, как учил ее доктор Кеммерер, когда ей было четырнадцать, но сейчас она не осматривала ее, а только сжала, еще сильнее, и ей захотелось взвизгнуть от наслаждения. – Купальник вообще не нужен, – снова прошептал Хэрод. Шептал он или нет? Шейла была как в тумане. Она смотрела прямо на него, но губы его не шевелились. Они были растянуты в полуулыбке, обнажая маленькие зубы, похожие на острые белые камешки. Но это было не важно. Гораздо важнее было освободиться от липнущего к телу купальника. Шейла еще ниже опустила ткань, ниже легкой выпуклости живота, потом приподняла ягодицы и протащила под ними резинку. Теперь купальник был всего лишь куском материи, болтавшейся на одной ноге, и она рывком скинула его. Она глянула вниз на свое тело, на внутренний изгиб бедра, на лобок с узким треугольником волос. У нее снова закружилась голова, на этот раз от невероятности происходящего, но тут она почувствовала мягкое касание внутри и откинулась назад, опершись на локти. Бурлящая вода покрывала ее бедра. Шейла подняла руку и медленно провела пальцами по голубой вене, пульсирующей на белой коже груди. Малейшее касание обжигало ее тело, как огонь. Вода в бассейне плескалась в такт резким ударам ее сердца. Она согнула правую ногу и погладила промежность, затем ладонь ее двинулась выше, стирая капельки воды, блестевшие на тонких золотистых волосках. Теплота наполнила ее всю до краев. Налившаяся кровью вульва пульсировала сладостно, как в те интимные минуты перед сном, только сейчас не было стыда, а лишь горячее желание испытать это прямо здесь, и она со стоном раздвинула ноги. – Мне тоже не нужен купальник. Слишком жарко. – Хэрод допил сок, выбрался из бассейна и поставил стакан подальше от края. Шейла повернулась, чувствуя, как прохладные плиты касаются ее обнаженных бедер. Длинные волосы почти скрывали ее лицо, она поползла вперед на локтях, слегка приоткрыв рот. Хэрод откинулся назад, лениво болтая ногами в воде. Шейла остановилась и подняла на него глаза. Ласковое поглаживание там, в глубине мозга, усилилось, невидимые пальцы нашли самую чувствительную эрогенную точку и стали медленно, как бы дразня, скользить вокруг нее. Шейла со стоном выдохнула и невольно стиснула бедра – внутри горячими волнами, одна за другой, прошел первый оргазм. Шепот в голове усилился – это был дразнящий шелест, казавшийся частью наслаждения. Грудь ее коснулась пола, она потянулась и стащила плавки Тони одним быстрым и в то же время грациозным движением. Скомканная ткань скользнула по коленям тролля и упала в воду. Низ его живота тоже был покрыт черной шерстью. Бледный вялый пенис медленно зашевелился в своем темном гнезде. Шейла подняла глаза и увидела, что улыбка исчезла с лица продюсера. Глаза его были всего лишь отверстиями в бледной маске. Никакого возбуждения, только сосредоточенность хищника, пригвоздившего взглядом свою жертву. Но ей было уже все равно. Она не понимала, что происходит. Чувствовала только, как поглаживание где-то в глубине мозга усилилось и перешло за грань экстаза и боли. Чистое наслаждение, как от наркотика, потекло по всем ее жилам. Шейла прильнула щекой к бедру Хэрода и потянулась правой рукой к его пенису. Он лениво отбросил ее руку. Она закусила губу и застонала. В ней бушевал смерч ощущений, ее подстегивали только страсть и боль. Ноги ее беспорядочно дергались, как при спазмах, она корчилась на краю бассейна, губы жадно скользили по солоноватой поверхности бедра Хэрода. Она почувствовала привкус собственной крови во рту, и рука ее невольно потянулась к мошонке Хэрода. Согнув правую ногу в колене, он мягко столкнул девушку в бассейн. Но тело ее продолжало прижиматься к его ногам; постанывая, она судорожно искала руками его плоть. Вошла Мария Чэнь, подключила телефон к розетке в стене и поставила его на пол рядом с Хэродом. – Вашингтон на проводе. – Она мимоходом взглянула на Шейлу и вышла. Тепло и возбуждение покинули мозг и тело Шейлы с такой внезапностью, что она вскрикнула от боли. Она тупо смотрела перед собой несколько секунд, потом попятилась назад в глубину бассейна. Ее тут же начало сильно трясти, и она прикрыла грудь руками. – Хэрод у телефона. – Продюсер встал, подошел к плетеному креслу и набросил на себя бархатный халат. Не веря своим глазам, Шейла смотрела, как под тканью исчезли его бледные чресла. Ее затрясло еще сильнее, по телу побежали мурашки. Она впилась ногтями в свои волосы и опустила лицо к воде. – Да? – сказал Хэрод. – А-а, проклятье! Когда? Ты уверен, что он был на борту? Вот черт! Оба? А эта, как ее?.. Сука… Нет-нет, я сам разберусь. Нет. Я сказал – сам разберусь! Да. Дня через два приеду. – Он с грохотом бросил трубку и рухнул в кресло. Шейла схватила купальник, лежавший на краю бассейна. Все еще дрожа и плохо соображая, она присела на корточки в пенящейся воде и натянула купальник. Она плакала навзрыд, сама того не замечая. «Этого не могло быть!» – беспомощно крутилась у нее в голове единственная мысль. Хэрод взял пульт от огромного телеэкрана, вмонтированного в стену, и нажал кнопку. Экран сразу ожил, и Шейла увидела себя сидящей на краю небольшого бассейна. Вот она посмотрела в сторону бессмысленным взглядом, улыбнулась, как будто ей привиделось что-то приятное, и потянула свой купальник вниз. Показалась белая грудь, торчащие соски, большие ареолы, отчетливо коричневые даже в плохом освещении… – Нет! – вскрикнула она и стала молотить кулаками по воде. Хэрод повернул голову и посмотрел на нее, – казалось, он увидел ее в первый раз. Тонкие губы сложились в подобие улыбки. – Боюсь, наши планы немного изменились, – тихо сказал он. – Мистер Борден не сможет заняться этим фильмом. Я буду твоим единственным продюсером. Шейла перестала молотить по воде как безумная. Ее мокрые волосы свисали на лицо, рот раскрылся, с подбородка капали слезы. Слышны были только ее безудержные рыдания да гудение джакузи. – Будем придерживаться первоначального расписания съемок, – бросил Хэрод почти безучастно. Он взглянул на экран, где Шейла Баррингтон, извиваясь, ползла по темным плиткам. Показалось обнаженное тело мужчины. Камера выхватила лицо девушки крупным планом: она терлась щекой о бледное волосатое бедро. Глаза ее горели от страсти, красный рот пульсировал, смыкаясь и размыкаясь, как у рыбы. – Я думаю, мистер Борден больше не будет делать с нами фильмов, – продолжил Хэрод. Он повернул к ней голову, глаза его медленно мигнули, как черные маяки. – С этого момента в деле остаемся только мы с тобой, детка. Губы Хэрода дрогнули, и Шейла снова увидела маленькие острые зубы. – Боюсь, мистер Борден вообще ни с кем больше не будет делать никаких фильмов. – Он опять повернулся к экрану и тихо добавил: – Вилли погиб.Глава 3
Чарлстон
Суббота, 13 декабря 1980 г.
Когда я проснулась, сквозь ветви пробивались яркие лучи солнца. Был один из тех хрустальных зимних дней, из-за которых стоит жить на юге: совсем не то, что на севере, где эти янки просто с тоской пережидают зиму. Над крышами виднелись зеленые верхушки пальм. Когда мистер Торн принес мне завтрак на подносе, я велела ему слегка приоткрыть окно. Я пила кофе и слушала, как во дворе играют дети. Несколько лет назад мистер Торн принес бы вместе с подносом утреннюю газету, но я уже давно поняла, что читать о глупостях и мировых скандалах – лишь осквернять утро. По правде сказать, жизнь общества все меньше занимала меня. Уже двенадцать лет я обходилась без газет, телефона и телевизора и никак от этого не страдала, если только не назвать страданием растущее чувство самоудовлетворения. Я улыбнулась, вспомнив разочарование Вилли, когда он не смог показать нам свои видеокассеты. Вилли такой ребенок! – Сегодня суббота, не так ли, мистер Торн? – Когда он кивнул, я приказала ему жестом убрать поднос. – Сегодня мы выйдем из дому. На прогулку. Возможно, сплаваем к форту. Потом пообедаем «У Генри» – и домой. Мне надо сделать кое-какие приготовления. Мистер Торн слегка задержался и чуть не споткнулся, выходя из комнаты. Я как раз завязывала пояс халата, но тут остановилась – прежде мистер Торн не позволял себе неловких движений. До меня как-то сразу дошло, что он тоже стареет. Он поправил тарелки на подносе, кивнул и вышел. В такое прекрасное утро я не собиралась огорчать себя мыслями о старости. Меня наполняли новая энергия и решимость. Вчерашняя встреча прошла не слишком удачно, но и не так плохо, как могло быть. Я честно сказала Вилли и Нине о том, что намерена выйти из Игры. В следующие несколько недель или месяцев они – или, по крайней мере, Нина – начнут задумываться над возможными последствиями этого решения, но к тому моменту, когда они соберутся действовать, вместе или поодиночке, я уже исчезну. Новые, да и старые документы уже ожидали меня во Флориде, в Мичигане, Лондоне, южной Франции и даже в Нью-Дели. Хотя Мичиган был пока исключен – я отвыкла от сурового климата. А Нью-Дели стал теперь не так гостеприимен к иностранцам, как перед войной, когда я недолго жила там. В одном Нина была права: возвращение в Европу пойдет мне на пользу. Я чувствовала, что уже тоскую по яркому солнечному свету вмоем загородном доме близ Тулона, по сердечности местных крестьян и их умению жить. Воздух был потрясающе свежим. На мне было простое ситцевое платье и легкое пальто. Когда я спускалась по лестнице, артрит в правой ноге немного мешал мне, но я опиралась на старую трость, принадлежавшую когда-то моему отцу. Молодой слуга-негр вырезал ее для отца в то лето, когда мы переехали из Гринвилла в Чарлстон. Во дворе нас обдало теплым ветром, и я невольно улыбнулась. Из своего подъезда вышла миссис Ходжес. Это ее внучки играли с подружками вокруг высохшего фонтана. Уже два столетия двор этот был общим для трех кирпичных зданий. Из них только мой дом не разделен на дорогие городские квартиры. – Доброе утро, миз Фуллер. – Доброе утро, миссис Ходжес. Прекрасный день сегодня. – Замечательный. Собираетесь пройтись по магазинам? – Нет, всего лишь на прогулку, миссис Ходжес. Странно, что мистера Ходжеса не видно. Мне казалось, по субботам он всегда работает во дворе. Миссис Ходжес нахмурилась. Мимо пробежала одна из ее маленьких внучек, а за ней с визгом промчалась ее подружка. – Джордж сегодня на причале. – Днем? Мне всегда было забавно лицезреть мистера Ходжеса, отправляющегося по вечерам на работу: форма охранника аккуратно выглажена, из-под фуражки торчат седые волосы, сверток с едой крепко зажат под мышкой. Мистер Ходжес был похож на пожилого ковбоя, с его дубленой кожей и кривыми ногами. Он был из тех людей, которые вечно собираются уйти на пенсию, но понимают, что образ жизни пенсионера – это нечто вроде смертного приговора. – Да. Один из этих цветных из дневной смены бросил работу в хранилище, и они попросили Джорджа заменить его. Я сказала ему, что он уже не мальчик – выходить четыре ночи в неделю, а потом еще и в субботу, но вы же знаете, что это за человек… – Ну что ж, передайте ему привет от меня. – Мне уже становилось не по себе от этой детской беготни вокруг фонтана. Миссис Ходжес проводила меня до наших железных кованых ворот. – Вы куда-нибудь едете отдыхать, миз Фуллер? – Вероятно, миссис Ходжес. Вполне вероятно. И вот уже мы с мистером Торном идем не торопясь по тротуару к Батарее. По узкой улочке медленно проехали несколько автомобилей с туристами, которые глазели на дома в нашем старом квартале, но в общем день обещал быть спокойным и безмятежным. Мы свернули на Брод-стрит, откуда уже виднелись мачты яхт и парусных лодок, хотя до воды было еще далеко. – Пожалуйста, купите билеты, мистер Торн, – попросила я. – Мне бы хотелось посмотреть форт. Как и большинство людей, живущих по соседству с известной достопримечательностью, я уже много лет просто не замечала ее. Сегодняшнее посещение форта для меня сентиментальный поступок. Я все больше примирялась с мыслью, что мне придется навсегда покинуть эти места. Одно дело планировать какой-то шаг, и совсем другое – столкнуться с его неизбежной реальностью. Туристов было мало. Паром отошел от причала и двинулся в путь по спокойной воде гавани. Солнечное тепло и мерный стук дизеля навевали сон, и я слегка задремала. Проснулась я, когда паром уже причаливал к острову у темной громадины форта. Некоторое время я двигалась вместе с группой туристов, наслаждаясь катакомбной тишиной нижних уровней и даже получая удовольствие от бессмысленно-певучего голоса девушки-экскурсовода. Но когда мы вернулись в музей с его пыльными диорамами и мишурными наборами слайдов, я снова поднялась по лестнице на внешние стены. Жестом велев мистеру Торну оставаться у лестницы, я вышла на бастион. У стены стояла только одна пара – молодые люди с ребенком в ужасно неудобном на вид рюкзачке и с дешевым фотоаппаратом. Момент был очень приятный. С запада надвигался полуденный шторм, он служил темным фоном для все еще освещенных солнцем шпилей церквей, кирпичных башен и голых ветвей города. Даже на расстоянии двух миль можно было видеть, как по тротуару Батареи прогуливаются люди. Опережая темные тучи, налетел ветер и стал швырять белые комья пены в борта покачивающегося парома и на деревянную пристань. В воздухе пахло рекой и предзакатной сыростью. Нетрудно было представить себе, как все происходило в тот давний день. Снаряды падали на форт, пока не превратили его верхние этажи в кучи щебня, которые все же давали какую-то защиту. С крыш за Батареей люди вопили «ура» при каждом выстреле. Яркие цвета разодетой толпы и солнцезащитных зонтиков, наверное, приводили в ярость артиллеристов-северян, и в конце концов один из них выстрелил из орудия поверх крыш, усеянных людьми. Отсюда, должно быть, забавно было наблюдать за последовавшей затем паникой. Мое внимание привлекло какое-то движение в воде. Что-то темное скользило по серой поверхности, темное и молчаливое, как акула. Мысли о прошлом улетучились: я узнала силуэт подлодки «Поларис», старой, но все еще действующей. Она беззвучно разрезала темные волны, которые пенились о корпус, зализанный, как тело дельфина. На крыше рубки стояли несколько человек, закутанных в тяжелую одежду и в низко надвинутых фуражках. На шее одного из них висел огромных размеров бинокль, – наверное, это был капитан. Он указывал пальцем куда-то за остров Салливана. Я пристально смотрела на него. Периферийное зрение понемногу исчезло, когда я вошла в контакт с ним через все это водное пространство. Звуки и ощущения доносились до меня, словно с большого расстояния. Напряжение. Удовольствие от соленых брызг, бриз с норд-норд-веста. Беспокойство по поводу запечатанного конверта с инструкциями внизу в каюте. Песчаные отмели по левому борту. Внезапно я вздрогнула: кто-то подошел ко мне сзади. Я повернулась, и контакт с лодкой тут же пропал. Рядом стоял мистер Торн, хотя я его не звала. Я уже открыла было рот, чтобы отослать его назад к лестнице, когда поняла, отчего он приблизился. Молодой человек, до того фотографировавший свою бледную жену, шел ко мне. Мистер Торн сделал движение, чтобы остановить его. – Извините, мисс, можно вас попросить об одолжении? Вы не могли бы снять нас? Вы или ваш муж. Я кивнула, и мистер Торн взял протянутый фотоаппарат, который выглядел очень маленьким в его длинных пальцах. Два щелчка, и эта пара могла чувствовать себя удовлетворенной: их присутствие здесь останется увековеченным для потомства. Молодой человек заулыбался как идиот, кивая. Младенец заплакал: подул холодный ветер. Я оглянулась на подводную лодку, но та ушла уже далеко; ее серая рубка виднелась как тонкая полоска, соединяющая море и небо.* * *
Так получилось, что, когда мы плыли обратно и паром уже поворачивал к причалу, совершенно незнакомый человек рассказал мне о смерти Вилли. – Ужасно, правда? Какая-то болтливая старуха увязалась за мной, когда я пошла на палубу. Хотя ветер был довольно холодный и я дважды меняла место, чтобы оградить себя от ее глупой болтовни, эта дура явно выбрала меня в качестве мишени своего словоизвержения на все оставшееся время поездки. Ее не останавливали ни моя сдержанность, ни хмурый вид мистера Торна. – Просто ужасно, – продолжала она. – И все ведь случилось в темноте, ночью. – О чем вы? – спросила я, движимая нехорошим предчувствием. – Ну как же, я про авиакатастрофу. Вы что, не слышали? Это, наверное, было так страшно, когда они упали в болото, и все остальное. Я сказала своей дочери утром… – Какая катастрофа? Где? Старуха немного опешила от резкости моего тона, но дурацкая улыбка так и осталась у нее на лице, как приклеенная. – Прошлой ночью. Или сегодня рано утром. Я сказала дочери… – Где? Что за самолет? – Уловив тон моего голоса, мистер Торн придвинулся ближе. – Самолет из Чарлстона, – продребезжала она. – Там в кают-компании есть газета, в ней все сказано. Ужасно, правда? Восемьдесят пять человек. Я сказала дочери… Я повернулась и пошла вниз, оставив ее у поручня. Около стойки буфета лежала скомканная газета, и в ней под огромным заголовком из четырех слов были напечатаны немногочисленные подробности смерти Вилли. Рейс сто семнадцать до Чикаго вылетел из международного аэропорта Чарлстона в 12:18. Через двадцать минут самолет взорвался в воздухе недалеко от города Колумбия. Обломки фюзеляжа и тела пассажиров упали в болото Конгари, где и были обнаружены рыбаками. Спасти никого не удалось. ФБР и другие ведомства начали расследование. В ушах у меня громко зашумело, и мне пришлось сесть, чтобы не упасть в обморок. Влажными руками я ухватилась за виниловую обивку. Мимо меня к выходу потянулись люди. Вилли мертв. Убит. Нина уничтожила его. Голова моя шла кругом. В первые несколько секунд я подумала, что, возможно, это заговор, хитрая ловушка, в которую Вилли и Нина хотят заманить меня, внушив, будто опасность угрожает мне теперь только с одной стороны. Хотя нет, не похоже. Если Нина вовлекла Вилли в свои планы, для таких нелепых махинаций просто не было резона. Вилли мертв. Его останки разбросаны по вонючему захолустному болоту. Очень легко вообразить себе его последние минуты. Он наверняка сидел в роскошном кресле салона первого класса, со стаканом в руке, возможно, переговаривался с кем-нибудь из своих спутников. Потом – взрыв, крики, внезапная тьма, жуткий крен и падение в небытие. Я вздрогнула и стиснула металлическую ручку кресла. Как Нине удалось это сделать? Вряд ли она прибегла к помощи кого-то из свиты Вилли. Нине было вполне по силам Использовать одного из его подручных, особенно если учесть ослабевшую Способность Вилли, но у нее не было причины делать это. Она могла Использовать любого человека, летевшего тем рейсом. Конечно, это непросто. Требуются сложные приготовления: заставить человека изготовить бомбу, потом стереть всякую память об этом, что совсем непросто; наконец, она должна была совершить невозможное: Использовать кого-то как раз тогда, когда мы сидели у меня и пили кофе с коньяком. Но Нина сделала это. Да, сделала. И потом, ведь выбор именно этого времени мог означать только одно. Последний турист поднялся на палубу. Я почувствовала легкий толчок и поняла, что мы причалили. Мистер Торн стоял у двери. Выбор момента означал, что Нина пыталась справиться с нами обоими сразу. Очевидно, она спланировала все это задолго до нашей встречи и моего робкого заявления о выходе из Игры. Как оно, должно быть, позабавило Нину! Неудивительно, что она отреагировала так великодушно. Но она все же сделала одну большую ошибку. Нина сначала принялась за Вилли, полагая, что я ничего не узнаю об этом, а она тем временем займется мною. Она знала, что я не слежу за ежедневными новостями и даже не имею такой возможности, к тому же теперь редко выхожу из дому. И все же это было не похоже на Нину – оставлять хоть что-то на волю случая. А может, она решила, что я совершенно потеряла Способность и Вилли представляет бо́льшую угрозу? Из пассажирского салона мы вышли на серый послеполуденный свет. Я тряхнула волосами. Ветер продувал мое тонкое пальто насквозь. Трап я видела сквозь пелену и только тут поняла, что глаза мои застилают слезы. По кому я плакала? По Вилли? Вилли был напыщенный, слабый, старый дурак. Или из-за предательства Нины? Не знаю, может быть, просто от резкого ветра. На улицах Старого города почти не было пешеходов. Под окнами роскошных домов голые ветви постукивали друг о друга. Мистер Торн держался рядом со мной. От холодного воздуха правую ногу до самого бедра пронизывала артритная боль. Я все тяжелее опиралась на трость. Каким будет следующий ход Нины? Я остановилась. Кусок газеты, подброшенный ветром, обернулся вокруг моей щиколотки, потом полетел дальше. Как она попытается добраться до меня? Вряд ли с большого расстояния. Она где-то здесь, в городе. Я была в этом уверена. Вообще-то, можно Использовать человека и на большом расстоянии, но это требует тесного контакта, почти интимного знакомства с этим человеком, и если потерять этот контакт, то восстановить его на расстоянии очень трудно, почти невозможно. Никто из нас не знал, почему так происходит, но теперь это было не важно. При мысли о том, что Нина все еще где-то поблизости, сердце мое учащенно заколотилось. Нет, большое расстояние исключено. Человек, которого она будет Использовать, нападет на меня, и я увижу нападающего. Я была в этом уверена, иначе и быть не могло, иначе это была бы не Нина. Конечно, гибель Вилли – это вовсе не Подпитка, а лишь простая техническая операция. Нина решила свести со мной старые счеты, и Вилли являл для нее препятствие, небольшую, но вполне отчетливую угрозу, которую следовало устранить, прежде чем приступить к выполнению главного плана. Мне было нетрудно представить, что сама Нина считала свой способ убрать Вилли чуть ли не актом сострадания. Со мной – другое дело. Я знала, Нина постарается дать мне понять, хотя бы на мгновение, что именно она стоит за нападающим. В каком-то смысле ее тщеславие само подаст мне сигнал тревоги. Во всяком случае, я на это надеялась. Огромным соблазном было уехать сейчас же, немедленно. Мистер Торн мог завести «ауди», и через час мы были бы уже вне пределов ее досягаемости, а еще через несколько часов я могла бы начать новую жизнь. В доме, конечно, останутся ценные вещи, но при тех средствах, что я запасла в разных местах, их легко можно будет заменить, по крайней мере бо́льшую их часть. Возможно, стоило оставить все здесь вместе с отброшенной личиной, с которой эти вещи были связаны. Нет, я не могу уехать. Не сейчас. Стоя на противоположной стороне улицы, я смотрела на свой дом: он казался темным и зловещим. Я не могла вспомнить, сама ли я задернула шторы на втором этаже. Во дворе мелькнула тень – это внучка миссис Ходжес и ее подружка перебегали от двери к двери. Я в нерешительности стояла на краю тротуара и постукивала отцовской тростью по темной коре дерева. Конечно, медлить было глупо, но мне уже давно не приходилось принимать решения в напряженной обстановке. – Мистер Торн, идите и проверьте дом. Осмотрите все комнаты. Возвращайтесь быстрее. Я наблюдала, как темное пальто мистера Торна сливается с мраком двора. Вновь подул холодный ветер. Оставшись в одиночестве, я чувствовала себя весьма уязвимой и поймала себя на том, что посматриваю по сторонам: не мелькнут ли где-нибудь в конце улицы темные волосы мисс Крамер? Но никаких признаков движения не наблюдалось, только молодая женщина далеко от меня катила по тротуару детскую коляску. Штора на втором этаже взлетела вверх, и с минуту там маячило бледное лицо мистера Торна, выглядывавшего наружу. Потом он отвернулся, а я продолжала напряженно смотреть на темный прямоугольник окна. Крик во дворе заставил меня вздрогнуть, но то была всего лишь маленькая девочка – забыла ее имя, – она звала свою подружку. Кэтлин, вот как ее зовут. Дети уселись на край фонтана и занялись пакетиком с печеньем. Я наблюдала за ними некоторое время, потом расслабилась и даже слегка улыбнулась: все-таки у меня определенно мания преследования. На секунду я подумала: не Использовать ли мистера Торна напрямую? Но мне вовсе не хотелось стоять здесь на улице совершенно беспомощной, и я отказалась от этой идеи. Когда находишься в полном контакте, органы чувств работают, но как бы на большом расстоянии. «Быстрее». Я послала эту мысль почти без волевого усилия. Двое бородатых мужчин шли по тротуару с моей стороны улицы. Я перешла проезжую часть и остановилась перед калиткой своего дома. Мужчины смеялись и, разговаривая, жестикулировали. «Быстрее». Мистер Торн вышел из дома, запер за собой дверь и пересек двор, направляясь ко мне. Одна из девочек что-то сказала ему и протянула печенье, но он не обратил на нее внимания. Затем он отдал мне большой ключ от парадной двери, я опустила его в карман пальто и испытующе глянула на мистера Торна. Он кивнул. Его безмятежная улыбка была невольной насмешкой над овладевшим мною ужасом. – Вы уверены? – спросила я; он снова кивнул. – Вы проверили все комнаты? Всю сигнализацию? – (Кивок.) – Вы посмотрели подвал? Есть какие-нибудь признаки посторонних? Мистер Торн помотал головой. Прикоснувшись рукой к металлической ограде, я остановилась. Беспокойство наполняло меня, как разлившаяся желчь. «Глупая уставшая старуха, дрожащая от холода!» Но я не могла заставить себя открыть ворота. – Пойдемте. – Я пересекла улицу и быстро зашагала прочь от дома. – Мы пообедаем «У Генри», потом вернемся. Однако я шла вовсе не к старому ресторану, а уходила подальше от дома, охваченная слепой, безрассудной паникой. Я стала понемногу успокаиваться, только когда мы добрались до гавани и пошли вдоль стены Батареи. По улице ехало несколько автомобилей, но тому, кто захочет приблизиться к нам, придется сначала пересечь широкое открытое пространство. Серые тучи опустились совсем низко, сливаясь с серыми вздымающимися волнами бухты. Свежий воздух и сгущающиеся сумерки придали мне бодрости, теперь я могла отчетливее соображать. Каковы бы ни были планы Нины, мое отсутствие в течение всего дня почти наверняка расстроило их. Вряд ли Нина осталась бы здесь, если бы ей угрожала хоть малейшая опасность. Нет, она, скорее всего, уже возвращается самолетом в Нью-Йорк – именно сейчас, когда я стою здесь у Батареи, дрожа от холода. Утром я получу телеграмму. Я могла даже в точности представить себе, что она там напишет: «Мелани. Как ужасно то, что случилось с Вилли. Скорблю. Могла бы ты полететь со мной на похороны? Целую. Нина». Я начала понимать, что, кроме всего прочего, причиной моей нерешительности было желание вернуться в тепло и комфорт собственного дома. Я просто боялась сбросить с себя этот старый кокон. Но теперь я могла это сделать. Подожду в каком-нибудь безопасном месте, а мистер Торн вернется в дом и возьмет там единственную вещь, которую я не вправе оставить. Потом он пригонит машину, и к тому времени, когда придет телеграмма Нины, я буду уже далеко. Тогда уже Нина должна будет шарахаться при виде каждой тени в последующие месяцы и годы. Я улыбнулась и стала продумывать необходимые команды. – Мелани. Я резко повернула голову. Мистер Торн молчал двадцать восемь лет. И вот он заговорил. – Мелани. Лицо его было искажено улыбкой, похожей на гримасу трупа, видны были даже коренные зубы. В правой руке он держал нож. Как раз в тот момент, когда я повернулась, из рукоятки выскочило лезвие. Я глянула в его глаза и поняла все. – Мелани. Длинное лезвие описало мощную дугу, и я ничего не могла сделать, чтобы остановить его. Оно прорезало тонкую ткань рукава пальто и ткнулось мне в бок, но, когда я поворачивалась, моя сумочка качнулась вместе со мной. Нож прорвал кожу, прошел сквозь содержимое сумочки, распорол ткань пальто и царапнул слева вдоль нижнего ребра. В общем, сумочка спасла мне жизнь. Я подняла тяжелую отцовскую трость и ударила мистера Торна прямо в левый глаз. Он пошатнулся, но не издал ни звука. Затем снова взмахнул ножом, рассекая перед собой воздух по широкой дуге, но я сделала два шага назад, а он теперь плохо видел. Ухватив трость обеими руками, я опять подняла ее, потом опустила неловким рубящим движением. Это было невероятно, но палка снова попала ему в глаз. Я сделала еще три шага назад. Кровь заливала левую сторону лица мистера Торна, его поврежденный глаз свисал на щеку. Он по-прежнему улыбался этой улыбкой мертвеца. Подняв голову, потянулся левой рукой к щеке, вырвал глаз – при этом какая-то серая жилка лопнула со щелчком – и выбросил его в бухту. Потом он двинулся ко мне. Я развернулась и побежала. Точнее сказать, я попыталась бежать. Через двадцать шагов боль в правой ноге заставила меня перейти на шаг. Еще через пятнадцать торопливых шагов легкие мои задохнулись без воздуха, а сердце готово было выскочить из груди. Я чувствовала, как что-то мокрое течет по моему левому бедру; там, где лезвие ножа коснулось тела, было немного щекотно, словно к коже прижали кубик льда. Один взгляд назад, и я увидела, что мистер Торн шагает за мной быстрее, чем я ухожу от него. При обычных обстоятельствах он нагнал бы меня в два счета. Когда Используешь кого-то, трудно заставить его бежать, особенно если тело человека в это время реагирует на шок и травму. Я снова оглянулась, едва не поскользнувшись на гладком тротуаре. Мистер Торн криво ухмыльнулся. Кровь хлестала из его пустой глазницы, окрашивая зубы. Вокруг никого не было видно. Я побежала вниз по лестнице, цепляясь за поручни, чтобы не упасть, и вышла на улицу. Фонари на столбах мерцали и вспыхивали, когда я проходила мимо. За моей спиной мистер Торн перескочил через ступени в два прыжка. Торопливо поднимаясь по дорожке, я благодарила Бога, что надела туфли на низком каблуке, когда собиралась на прогулку в форт. Интересно, что бы мог подумать случайный свидетель этой нелепой гонки двух старых людей, словно в замедленной съемке? Но свидетелей не было. Я свернула на боковую улицу. Закрытые магазины, пустые склады. Если пойти налево, я попаду на Брод-стрит. Но тут справа, где-то посередине квартала, из темного подъезда магазина появилась одинокая фигура, и я направилась в ту сторону, совсем уже медленно, почти теряя сознание. Артритные судороги в ноге причиняли мне страшную боль, я чувствовала, что вот-вот просто рухну на тротуар. Мистер Торн шел сзади, шагах в двадцати, и расстояние между нами быстро сокращалось. Человек, к которому я приближалась, оказался высоким худым негром в коричневой нейлоновой куртке. В руках у него была коробка с фотографиями в рамках. Когда я подошла ближе, он взглянул на меня, потом посмотрел через мое плечо на привидение шагах в десяти от нас. – Эй! – успел только выкрикнуть негр, и тут я стремительно установила с ним контакт и резко толкнула его. Он дернулся, как марионетка в неловких руках. Челюсть его отвисла, глаза подернулись пеленой, и, пошатываясь, он шагнул навстречу мистеру Торну, как раз когда тот уже протянул руку, чтобы схватить меня за воротник пальто. Коробка взлетела в воздух, стеклянные рамки разбились на мелкие осколки от удара о кирпичный тротуар. Длинные коричневые пальцы негра потянулись к белому горлу мистера Торна, вцепились в него, и оба закрутились, как неловкие партнеры в танце. У поворота в переулок я прижалась щекой к холодному кирпичу, чтобы прийти в себя. Я не могла позволить себе отдохнуть хотя бы секунду: нужно было огромное усилие, чтобы сосредоточиться на управлении этим незнакомцем. Глядя, как двое высоких мужчин неуклюже топчутся на тротуаре, я попыталась сдержать совершенно нелепое желание рассмеяться. Мистер Торн взмахнул ножом и дважды вонзил его в живот негра. Своими длинными пальцами негр старался выцарапать единственный глаз мистера Торна, а его крепкие зубы щелкали вблизи сонной артерии соперника. Я четко ощутила, как холодная сталь вонзилась в плоть в третий раз, но сердце незнакомца все еще билось, и его все еще можно было использовать. Негр подскочил, зажав тело мистера Торна между ног, а его зубы вонзились в мускулистое горло. Ногти рвали белую кожу, оставляя кровавые полосы. Оба рухнули на асфальт беспорядочной массой. Убей его. Пальцы негра почти нащупали здоровый глаз мистера Торна, но тот вытянул левую руку и переломил худое запястье. Безжизненные пальцы продолжали дергаться. Огромным усилием мистер Торн уперся локтем в грудь негра и поднял его тело над собой – так отец мог бы подбросить своего ребенка. Зубы вырвали кусок плоти, но серьезных повреждений не было. Мистер Торн поднял нож вверх, влево, потом резко вправо. Вторым движением он почти надвое перерезал горло негра, и их обоих залило кровью. Ноги незнакомца дважды дернулись, мистер Торн отбросил его тело в сторону, а я повернулась и быстро пошла по переулку. Я снова вышла на свет и поняла, что загнала себя в ловушку. Здесь вплотную к воде подступали задние стены складов и металлический корпус причала без единого окна. Налево уходила извилистая улица, но она была слишком темной, слишком пустынной и длинной, чтобы пытаться уйти по ней. Я оглянулась и увидела, что в конце переулка уже появился темный силуэт. Я попыталась установить контакт, но там ничего не было. Ничего. Мистер Торн был просто дырой в пространстве. Позже мне долго будет не давать покоя мысль: как Нина добилась этого? Боковая дверь эллинга была заперта. До главного входа было метров сто, но я не сомневалась, что и она заперта. Мистер Торн стоял, поворачивая голову то влево, то вправо, разыскивая меня. В тусклом свете его лицо, залитое кровью, казалось почти черным. Шатаясь, он заковылял ко мне. Я подняла отцовскую трость, ударила по нижней части застекленной двери и просунула руку внутрь, стараясь не пораниться об острые торчащие осколки. Если там задвижки сверху и снизу, я погибла. Оказалось, на двери всего лишь простой засов рядом с дверной ручкой. Мои пальцы сначала только скользили по холодному металлу, но потом засов поддался, и дверь открылась, как раз когда мистер Торн шагнул на тротуар за моей спиной. В следующее мгновение я влетела в помещение и задвинула засов. Внутри было очень темно, от бетонного пола тянуло холодом. Было слышно, как множество небольших суденышек у причала потихоньку колышутся на волнах. Метрах в пятидесяти из окон конторы лился свет. Я надеялась, что здесь есть охранная сигнализация, но здание, видно, было слишком старым, а суда – слишком дешевыми, чтобы устанавливать ее. Рука мистера Торна вышибла оставшееся в двери стекло, и я зашаркала к свету. Рука исчезла. От страшного удара ногой филенка около засова проломилась, дверь сорвалась с верхней петли. Я глянула в направлении конторы, но оттуда доносился только слабый звук радио. Последовал еще один удар в дверь. Я повернула направо, прыжком преодолела расстояние около метра и оказалась на носу небольшого катера. Еще пять шагов, и я спряталась в маленьком закутке, который хозяева, наверное, называли носовой кабиной. Закрыв за собой хлипкую дверцу, я глядела наружу сквозь мутный пластик. Третьим ударом мистер Торн вышиб дверь, которая повисла на длинных полосах расщепленного дерева. Его темная фигура заполнила собой весь проем. В свете далекого фонаря поблескивало лезвие. Если в конторе кто-то есть, они должны были услышать шум, но оттуда по-прежнему доносился лишь звук радио. Мистер Торн сделал несколько шагов, остановился, потом прыгнул на первую из стоявших в ряд лодок. Это была открытая моторка, и через несколько секунд он снова стоял на бетонном полу. На второй лодке имелась небольшая кабина. Послышался треск дерева – это мистер Торн ударом ноги проломил крохотный люк и тут же вернулся назад. Мой катер стоял в ряду восьмым. Я не понимала, почему он сразу не может найти меня по бешеному стуку сердца. Переместившись к левому борту, я снова выглянула. Свет просачивался сквозь пластик какими-то полосами и узорами. В освещенном окне конторы мелькнули седые волосы, слышно было, как радио переключили на другую станцию, и громкая музыка разнеслась гулким эхом по длинному помещению. Я метнулась назад, к правому иллюминатору. Мистер Торн выходил из четвертой лодки. Закрыв глаза и задержав дыхание, я попыталась припомнить те бессчетные вечера, когда я наблюдала, как фигура этого кривоногого старика удаляется по улице. Мистер Торн закончил осмотр пятой лодки – это был длинный катер с кабиной и множеством укромных мест – и вернулся на причал. Шестая лодка оказалась небольшой. Он глянул на нее, но спускаться не стал. Седьмым стоял парусник с опущенной мачтой, накрытой парусиной. Нож мистера Торна рассек толстую ткань. Перепачканные кровью руки отбросили парусину, словно саван, срываемый с тела. Мистер Торн прыжком выскочил назад. Когда он ступил на нос моего катера, я почувствовала, как тот качнулся под его весом. Спрятаться было решительно негде, тут стоял только крохотный сундучок под сиденьем для хранения всякого добра, но он был чересчур мал. Я развязала парусиновые тесемки, крепившие подушку к скамье. Мое свистящее дыхание, казалось, отдавалось эхом в этом малом пространстве. Я свернулась в углу, загородившись подушкой, и в этот момент ноги мистера Торна мелькнули в иллюминаторе правого борта. Через секунду его лицо, отделенное тонкой перегородкой, оказалось не далее чем в тридцати сантиметрах от моего лица. Улыбка мертвеца, и так неправдоподобно широкая, стала еще шире. Мистер Торн пригнулся над дверью кабины. Я попыталась упереться в крошечную створку ногами, но правая нога не слушалась. Кулак мистера Торна пробил тонкую перегородку, рука его схватила меня за щиколотку. – Эй! – Это был дрожащий голос мистера Ходжеса. Он направил луч своего фонарика на наш катер. Мистер Торн налег на дверь. Я согнула ногу и ощутила резкую боль. Левой рукой, просунутой сквозь сломанную перегородку, он крепко держал мою лодыжку, а его правая рука с ножом появилась в открывшемся люке. – Эй! – снова крикнул мистер Ходжес, и в это мгновение я направила на него всю силу своей Способности. Старик остановился, бросил фонарь и расстегнул кобуру револьвера. Мистер Торн размеренно взмахивал ножом. Он чуть было не выбил подушку из моих рук; обрывки поролона разлетелись по всей кабине. Лезвие слегка задело кончик моего мизинца. Стреляй! Сейчас же! Мистер Ходжес вскинул револьвер обеими руками и выстрелил. В темноте он промахнулся; звук выстрела эхом разнесся по всему помещению. Ближе, болван. Подойди ближе! Мистер Торн снова налег на дверь и попытался протиснуться в образовавшееся отверстие. Когда он на секунду отпустил мою щиколотку, я потянулась к выключателю на потолке и зажгла свет. Изувеченное лицо с пустой глазницей смотрело на меня сквозь сломанную перегородку. Я метнулась в сторону, но он ухватил меня за пальто. Он опустился на колени, намереваясь нанести удар. Вторым выстрелом мистер Ходжес попал мистеру Торну в бедро. Тот немного осел, издав нечто среднее между стоном и рычанием. Пальто мое порвалось, на палубу со стуком посыпались пуговицы. Нож вонзился в переборку рядом с моим ухом, и рука тут же поднялась для нового замаха. Мистер Ходжес нетвердо ступил на нос катера, чуть было не потерял равновесие, но потом начал медленно продвигаться вдоль правого борта. Я ударила по руке мистера Торна крышкой люка, однако он не отпускал пальто и продолжал тянуть меня к себе. Я упала на колени. Последовал очередной удар ножом. Лезвие прошло сквозь поролон и рассекло ткань пальто. То, что осталось от подушки, вывалилось у меня из рук. Я остановила мистера Ходжеса в полутора метрах от нас и заставила опереть руки с револьвером о крышу кабины. Мистер Торн приготовился к удару, держа нож, как матадор держит шпагу. Всем своим существом я ощущала немые вопли триумфа, доносившиеся до меня, словно зловонный дух из этого рта с испачканными кровью зубами. В единственном выпученном глазу горел огонь безумства Нины. Мистер Ходжес выстрелил. Пуля пробила позвоночник мистера Торна и ударилась в правый борт. Тело его выгнулось, и, раскинув руки, он рухнул на палубу, как огромная рыба, только что выброшенная на берег. Нож упал на пол кабины; белые закостеневшие пальцы судорожно шарили по палубе. Я заставила мистера Ходжеса шагнуть вперед, приставить ствол к виску Торна над оставшимся глазом и нажать на курок. Выстрел прозвучал приглушенно, как в пустоту.* * *
В туалете конторы нашлась аптечка. Я приказала старику сторожить у двери, пока перевязывала мизинец. Еще я выпила три таблетки аспирина. Пальто мое было изодрано, ситцевое платье перепачкано кровью. Я сполоснула лицо и, как могла, привела в порядок волосы. Невероятно, но моя сумочка все еще была при мне, хотя половина ее содержимого высыпалась. Переложив ключи, бумажник и очки в большой карман пальто, я бросила сумочку за унитаз. Отцовской трости со мной уже не было, и я не могла вспомнить, где потеряла ее. Когда я осторожно высвободила тяжелый револьвер из руки мистера Ходжеса, его пальцы так и остались согнутыми. Провозившись несколько минут, я ухитрилась открыть барабан. В нем оставались два патрона. Этот старый дурак ходил с полностью заряженным барабаном! «Всегда оставляй патронник под бойком незаряженным». Так учил меня Чарльз в то далекое беззаботное лето, когда оружие было всего лишь предлогом поехать на остров, чтобы пострелять по мишени. Мы с Ниной много и нервно смеялись, а наши кавалеры направляли и поддерживали нам руки при мощной отдаче от выстрелов, когда мы чуть не падали в крепкие объятия своим чрезвычайно серьезным учителям. «Всегда надо считать патроны», – поучал меня Чарльз, а я в полуобморочном состоянии прислонялась к нему, вдыхая сладкий мужской запах крема для бритья и табака, исходивший от него в тот теплый яркий день. Мистер Ходжес слегка пошевелился, как только мое внимание ослабло. Рот его широко раскрылся, вставная челюсть нелепо отвисла. Я взглянула на поношенный кожаный поясник, но запасных патронов там не увидела и понятия не имела, где он их хранит. В мозгу у старика мало что осталось, кроме путаницы мыслей, в которой бесконечной лентой прокручивалась одна и та же картинка: ствол, приставленный к виску мистера Торна, вспышка выстрела и… – Пошли. – Я поправила очки на его безучастном лице, вложила револьвер в кобуру и вышла вслед за ним из здания. Снаружи было очень темно. Мы двигались от фонаря к фонарю и прошли уже шесть кварталов, когда я заметила, как он дрожит, и вспомнила, что забыла приказать ему надеть пальто. Я крепче сжала мысленные тиски, и он перестал дрожать. Дом выглядел точно так же, как сорок пять минут назад, света в окнах не было. Я открыла ворота и прошла через двор, пытаясь отыскать в набитом всякой всячиной кармане ключ. Пальто мое было распахнуто, холод ночи пробирал тело до костей. Из освещенных окон с другой стороны двора послышался детский смех, и я поспешила, чтобы Кэтлин, не дай бог, не увидела, как ее дедушка заходит в мой дом. Мистер Ходжес вошел первым, с револьвером в вытянутой руке. Прежде чем переступить порог, я заставила его включить свет. Гостиная была пуста, все стояло на своих местах. Свет люстры отражался на полированных поверхностях. Я присела на минутку в старинное кресло в холле, чтобы сердце немного успокоилось. Мистер Ходжес по-прежнему держал револьвер в вытянутой руке, и я даже не позволила ему отпустить взведенный курок. Рука его начала дрожать от напряжения. Наконец я встала, и мы пошли по коридору к оранжерее. Мисс Крамер вихрем вылетела из двери кухни, тяжелая железная кочерга в ее руке уже описывала дугу. Револьвер выстрелил, пуля застряла в деревянном полу, не причинив никому вреда, а кисть старика повисла, перебитая страшным ударом. Револьвер выпал из безжизненных пальцев, мисс Крамер замахнулась для нового удара. Я развернулась и побежала назад по коридору. За спиной я услышала звук, словно раскололся арбуз, – это кочерга опустилась на череп мистера Ходжеса. Вместо того чтобы выбежать во двор, я стала подниматься по лестнице. Это было ошибкой. Мисс Крамер нагнала меня у двери спальни уже через несколько секунд. Мельком увидев ее широко распахнутые сумасшедшие глаза и вскинутую кочергу, я захлопнула тяжелую дверь прямо перед ее носом и заперлась. Брюнетка обрушилась на дверь с другой стороны, но она даже не дрогнула. Удары сыпались один за другим. Проклиная свою глупость, я оглядела знакомую комнату, но здесь не было ничего, что могло бы мне помочь: ни телефона, ни какой-нибудь укромной кладовки. Имелся только старинный гардероб. Я быстро подошла к окну и подняла верхнюю створку. Если я закричу, кто-нибудь может услышать, но это чудовище доберется до меня прежде, чем подоспеет помощь. Она уже пыталась поддеть край двери кочергой. Я выглянула наружу, увидела тени в окне через двор и сделала то, что должна была сделать. Две минуты спустя дерево вокруг замка начало просить о пощаде, но я едва отдавала себе в этом отчет. Будто во сне, я слышала скрежет кочерги, которой эта женщина пыталась выломать металлическую пластину. Затем дверь в спальню распахнулась. Искаженное лицо мисс Крамер было покрыто потом, нижняя челюсть отвисла, с подбородка капала слюна. В глазах ее не было ничего человеческого. Ни она, ни я не слышали, как за ее спиной раздались тихие шаги. Иди, иди. Подними его. Оттяни курок назад. До конца. Обеими руками. Целься. Но что-то предупредило мисс Крамер об опасности. Не мисс Крамер, конечно, – такого человека больше не существовало, – что-то предупредило Нину. Брюнетка повернулась. Перед ней на верхней ступеньке лестницы стояла маленькая Кэтлин, с тяжелым дедушкиным револьвером в руках. Курок его был взведен, а ствол направлен прямо в грудь мисс Крамер. Вторая девчушка осталась во дворе, она что-то кричала своей подруге. На этот раз Нина знала, что ей надо убрать эту угрозу. Мисс Крамер замахнулась кочергой, и в это мгновение револьвер выстрелил. Отдача отбросила Кэтлин назад, и она покатилась по лестнице, а над левой грудью мисс Крамер расплылось красное пятно. Хватаясь за перила, чтобы не упасть, она кинулась вниз по лестнице за ребенком. Я оставила девочку в тот момент, когда кочерга опустилась на ее голову, затем поднялась и вновь опустилась. Я подошла к верхней ступеньке лестницы. Мне надо было видеть. Мисс Крамер оторвалась от своего жуткого занятия и подняла на меня глаза. На ее забрызганном кровью лице виднелись только белки глаз. Мужская рубашка была залита ее собственной кровью, но брюнетка все еще двигалась, все еще могла действовать. Левой рукой она подняла револьвер. Рот ее широко раскрылся, оттуда раздался звук, похожий на шипение пара, вырывающегося из старого радиатора. – Мелани… Мелани… Это существо принялось карабкаться по лестнице. Я закрыла глаза. Подружка Кэтлин влетела в открытую дверь, ее маленькие ноги так и мелькали. В несколько прыжков она одолела лестницу и плотно стиснула шею мисс Крамер своими тонкими белыми ручками. Они обе покатились по ступенькам, через тело Кэтлин, к самому основанию широкой лестницы. Девочка, похоже, отделалась синяками. Я спустилась к ним и оттащила ее в сторону. На скуле у нее расплывалось синее пятно, на руках и лбу краснели царапины и порезы. Она бессмысленно моргала голубыми глазами. У мисс Крамер была сломана шея, голова ее запрокинулась под совершенно неестественным углом, но она еще была жива. Тело явно парализовано, по полу растеклась лужа мочи, хотя глаза все еще мигали, а зубы омерзительно пощелкивали. Я подняла револьвер и ногой отбросила кочергу в сторону. Надо было торопиться. Из дома Ходжесов послышались голоса взрослых. Я повернулась к девочке: – Вставай. Она еще раз моргнула и, преодолевая боль, поднялась на ноги. Я закрыла дверь и сняла с вешалки коричневый плащ. Мне понадобилось не больше минуты, чтобы переложить содержимое карманов и сбросить безнадежно испорченное весеннее пальто. Голоса раздавались уже во дворе. Встав на колени рядом с мисс Крамер, я схватила ее голову и крепко стиснула руками, чтобы прекратить этот жуткий звук щелкающих зубов. Глаза ее снова закатились, но я резко встряхнула ее, пока не появились зрачки. Потом наклонилась так низко, что наши лица почти соприкоснулись, и прошептала: – Я доберусь до тебя, Нина. – И этот шепот был громче вопля. Отпустив голову мисс Крамер так, что та стукнулась об пол, я быстро прошла в оранжерею – мою комнату для шитья. Времени на то, чтобы сходить наверх и взять ключ, не оставалось, поэтому я разбила стулом стеклянную дверцу шкафчика. То, что я оттуда взяла, еле поместилось в кармане плаща. Девочка осталась стоять в холле. Я отдала ей пистолет мистера Ходжеса. Ее левая рука висела плетью, – скорее всего, она была сломана. В дверь постучали, кто-то пробовал повернуть ручку. – Сюда, – прошептала я и провела девочку в столовую. По дороге мы переступили через тело мисс Крамер, прошли через темную кухню; стук стал громче, но мы уже выходили из дома в переулок, в ночь.* * *
В этой части Старого города было три отеля. Один из них – дорогой, современный, кварталах в десяти, который я сразу же отвергла. Второй – маленький, уютный, всего в квартале от моего дома, приятное, но слишком общедоступное местечко, в точности такое, какое я сама выбрала бы, если бы приехала в другой город. Его я тоже отвергла. Третий находился в двух с половиной кварталах – старый особняк на Брод-стрит, небольшой, с дорогой антикварной мебелью в номерах и несусветными ценами. Туда я и поспешила. Девочка быстро шагала рядом. Револьвер она по-прежнему держала в руке, но я заставила ее снять свитер и накрыть им оружие. Нога у меня болела, и я часто опиралась на ее плечо, пока мы вот так торопливо шли вдоль улицы. Администратор «Мансарды» узнал меня. Брови его поползли вверх, когда он заметил мой непрезентабельный вид. Девочка осталась в фойе, метрах в трех-четырех, почти неразличимая в тени. – Я ищу свою подругу, – оживленно сказала я. – Мисс Дрейтон. Администратор открыл было рот, затем невольно нахмурился: – Извините. У нас нет никого с такой фамилией. – Возможно, она зарегистрировалась под девичьей фамилией, – сказала я. – Нина Хокинс. Это пожилая женщина, но очень привлекательная. На несколько лет моложе меня, с длинными седыми волосами. Возможно, ее зарегистрировала подруга… Симпатичная молодая темноволосая леди по имени Баррет Крамер… – Извините, – снова проговорил администратор каким-то вялым, сонным голосом. – Никто под такой фамилией здесь не значится. Что передать, если ваша знакомая появится позже? – Ничего. Ничего не надо передавать. Я провела девочку через холл, и мы свернули в коридор, ведший к туалетам и боковым лестницам. – Простите, – обратилась я к проходившему мимо коридорному. – Возможно, вы сможете мне помочь. – Да, мэм. – Он остановился, явно недовольный, и откинул назад свои длинные волосы. Задача у меня была непростая. Если я хотела удержать девочку, действовать надо было быстро. – Я ищу знакомую, – пояснила я. – Пожилая дама, но очень привлекательная. Голубые глаза, длинные седые волосы. С ней должна быть молодая женщина с темными вьющимися волосами. – Нет, мэм. Я такой не видел. Я вытянула руку и взяла его повыше локтя. Затем отпустила девочку и сосредоточилась на коридорном: – Ты уверен? – Мисс Харрисон, – сказал он. Глаза его смотрели мимо меня. – Номер двести семь. Северная сторона с фасада. Я улыбнулась. Мисс Харрисон. Бог мой, до чего же она глупа, эта Нина! Девочка вдругзаскулила и привалилась к стене. Я быстро приняла решение. Мне нравится думать, что тут сыграло роль сострадание, но иногда я вспоминаю, что ее левая рука никуда не годилась. – Как тебя зовут? – спросила я, нежно поглаживая ребенка по волосам; глаза ее скользнули влево, потом вправо; она явно была в замешательстве. – Как твое имя? – снова задала я вопрос. – Алисия, – прошептала она наконец еле слышно. – Хорошо, Алисия. Теперь ты пойдешь домой. Иди быстро, но бежать не нужно. – У меня болит рука. – Она всхлипнула, губы задрожали. Я снова коснулась ее волос и толкнула: – Ты идешь домой. Рука у тебя не болит. Ты ничего не будешь помнить. Все это сон, который ты забудешь. Иди домой. Торопись, но не беги. – Я взяла у нее револьвер, завернутый в свитер. – До свидания, Алисия. Она моргнула и пошла через холл по направлению к двери. Оглянувшись по сторонам, я отдала револьвер мальчишке-коридорному. – Засунь его под жилет, – велела я.* * *
– Кто там? – послышался из номера беззаботный голос Нины. – Альберт, мэм. Коридорный. Ваш автомобиль у подъезда. Я мог бы сейчас отнести ваши чемоданы. Щелкнул замок, дверь приоткрылась, но цепочка осталась на месте. Альберт прищурился от хлынувшего света и застенчиво улыбнулся, откидывая волосы назад. Я вжалась в стену. – Хорошо. – Нина сняла цепочку и отступила в сторону. Она уже отвернулась и закрывала замок чемодана, когда я вошла в комнату. – Привет, Нина, – тихо сказала я. Спина ее выпрямилась, но даже это движение было грациозным. На покрывале осталась вмятина – там, где она только что лежала. Она медленно повернулась. На ней было розовое платье, которого я никогда прежде не видела. – Привет, Мелани. – Она улыбнулась, глядя на меня своими небесно-голубыми глазами. Я мысленно отдала приказ мальчишке-коридорному вытащить револьвер и прицелиться. Рука его была тверда, он со щелчком взвел курок. Нина неотрывно следила за мной. – Почему? – спросила я. Она слегка пожала плечами. В какой-то момент я решила, что Нина рассмеется. Я бы не вынесла этого ее чуть хрипловатого детского смеха, который так часто трогал меня в прошлом. Вместо этого она закрыла глаза, по-прежнему улыбаясь. – Почему «мисс Харрисон»? – Ну, как же, дорогая. У меня такое чувство, что я ему чем-то обязана. Я имею в виду бедного Роджера. Разве ты не знаешь, как он умер? Конечно нет. Но ведь ты никогда и не спрашивала. – Глаза ее открылись. Я посмотрела на коридорного, но он все так же, не шелохнувшись, целился в нее. Оставалось только спустить курок. – Он утонул, моя дорогая, – продолжала Нина. – Бедный Роджер бросился в океан с того самого парохода, на котором плыл назад в Англию. Так странно. А ведь перед этим он написал мне письмо с предложением выйти за него замуж. Ужасно печальная история, правда, Мелани? И почему он так поступил, как ты думаешь? Наверное, мы никогда не узнаем правды. – Наверное. – Я кивнула и мысленно отдала приказ коридорному нажать на спусковой крючок. Но… ничего не произошло. Я быстро глянула вправо. Молодой человек поворачивал голову ко мне. Я ему этого не велела! Его вытянутая рука с револьвером двигалась в мою сторону равномерно, как кончик флюгера, подгоняемый ветром. Нет! Я напряглась так, что у меня на шее вздулись жилы. Движение замедлилось, но не остановилось, пока ствол не оказался направленным мне в лицо. Нина рассмеялась. Этот звук показался очень громким в маленькой комнате. – Прощай, Мелани, дорогая моя. – Она снова рассмеялась и кивнула молодому человеку. Я не отрываясь смотрела в черное отверстие. Курок щелкнул по пустому патроннику. Еще раз. И еще. – Прощай, Нина. – Я улыбнулась и вытащила из кармана плаща длинноствольный пистолет Чарльза. Отдача от выстрела ударила меня в грудь, комната заполнилась синим дымом. Точно посередине лба Нины появилась маленькая дырка, меньше десятицентовой монеты, но такая же аккуратная, круглая. Какую-то долю секунды Нина продолжала стоять, словно ничего не произошло, затем покачнулась, рухнула на высокую кровать и, подброшенная матрасом, упала ничком на пол. Я повернулась к коридорному и заменила его бесполезное оружие своим древним, но ухоженным револьвером. Я только сейчас заметила, что мальчишка немного моложе, чем был когда-то Чарльз. И волосы у него были почти такого же цвета. Я наклонилась и слегка коснулась губами его губ. – Альберт, – прошептала я, – в револьвере еще четыре патрона. Патроны всегда надо считать, понял? Иди в холл. Убей администратора. Потом застрели еще кого-нибудь – ближайшего, кто к тебе окажется. А после этого вложи ствол себе в рот и нажми на спуск. Если будет осечка, нажми еще раз. Револьвер спрячь, никому не показывай, пока не окажешься в холле. Мы вышли в коридор. Там царила паника. – Вызовите «скорую»! – крикнула я. – Произошел несчастный случай. Вызовите «скорую», кто-нибудь! Несколько человек кинулись выполнять мою просьбу. Я покачнулась и прислонилась к какому-то седовласому джентльмену. Люди толпились вокруг, некоторые заглядывали в номер и что-то кричали. Вдруг в холле раздался выстрел, потом другой, третий. Паника и суматоха усилились, а я тем временем проскользнула к черной лестнице и через пожарный выход выбежала на улицу.Глава 4
Чарлстон
Вторник, 16 декабря 1980 г.
Шериф Бобби Джо Джентри откинулся на спинку кресла и сделал еще глоток кока-колы. Ноги он водрузил на заваленный бумагами стол; кожаный пояс с кобурой заскрипел, когда он шевельнулся, устраивая поудобнее свое грузное тело. Кабинет был маленьким, стены – тонкими, ибо это были вовсе не стены, а деревянные перегородки, отделяющие его от шума и суеты в других частях здания, что вмещало официальные учреждения округа. Краска этих деревянных перегородок давно облупилась и уже не имела того оттенка официального зеленого цвета. Кабинет был забит под завязку: массивный письменный стол, три высоких шкафа с бумагами, еще один длинный стол, уставленный стопками книг и папок. Были тут и классная доска, и беспорядочно заваленные полки на кронштейнах. На двух черных деревянных стульях лежали папки и бумаги, как и на рабочих столах. – Пожалуй, мне тут больше нечего делать, – сказал агент Ричард Хейнс. Он расчистил себе небольшое пространство и уселся на краешек стола. Стрелки на его брюках были острыми как бритва. – Да, – согласился шериф. Он негромко икнул и поставил банку на колено. – Пожалуй, у вас действительно нет причин болтаться здесь. Вполне можете отправляться домой. У этих двух служителей правопорядка, казалось, не было ничего общего. Шерифу Джентри едва перевалило за тридцать пять, но его высокая фигура уже начала заплывать жиром. Серая форменная рубашка туго обтягивала живот, который карикатурно переваливался через ремень. Румяный, веснушчатый, с залысинами и двойным подбородком, он производил впечатление человека открытого, дружелюбного и слегка лукавого: сквозь черты взрослого мужчины все еще проглядывало лицо озорного мальчишки. Говорил он тихо, слегка растягивая слова в манере «старого южанина», которая сделалась недавно популярной в Америке благодаря появлению тысяч коммерческих радиостанций, бесчисленных кантри-песен и бесконечному числу фильмов с Бертом Рейнольдсом. Расстегнутый ворот, выпирающий живот и ленивая манера говорить как нельзя лучше гармонировали с общей атмосферой добродушной неряшливости, царившей в кабинете шерифа, но с этим образом как-то не вязались быстрота, легкость и почти грациозность движений его крупного тела. И внешний вид, и темперамент специального агента Ричарда Хейнса из Федерального бюро расследований больше подходили друг другу. Хейнс был на целых десять лет старше Джентри, но выглядел моложе. На нем был светло-серый летний костюм-тройка и бежевая рубашка из «Джос А. Банк». Его шелковый галстук цвета бургундского числился за номером 280 235 из каталога того же магазина. Пострижен он был умеренно коротко, хорошо причесан, и только на висках слегка серебрилась седина. Почти квадратное, с правильными чертами лицо как-то не очень гармонировало с поджарым телом. Четыре раза в неделю он ходил в тренажерный зал. Голос у него был низкий, но слабо модулированный; складывалось такое впечатление, будто покойный Эдгар Гувер сконструировал Хейнса как модель для всех своих агентов. Разница между этими двумя людьми не сводилась только к внешним различиям. До того как попасть в ФБР, Ричард Хейнс довольно посредственно проучился три года в Джорджтаунском университете. В ФБР он прошел спецподготовку, тем и завершив свое образование. Шериф Джентри окончил университет Дьюка по двум специальностям – искусству и истории, а затем получил степень магистра в Северо-Западном университете. Полицейской работой он занялся благодаря своему дяде Ли, шерифу Спартансберга, который устроил его помощником на полставке летом шестьдесят седьмого. Год спустя Бобби Джо защитил диссертацию. Однажды он сидел в чикагском парке и наблюдал, как полицейские, потеряв контроль, принялись дубинками и кулаками избивать демонстрантов, которые мирно расходились после митинга, устроенного в знак протеста против войны во Вьетнаме. Джентри вернулся домой на юг, два года преподавал в Морхаус-колледже в Атланте, а потом пошел работать охранником. В свободное время он трудился над книгой о Бюро Фридмана и его роли в период Реконструкции. Книгу он так и не закончил; ему все больше нравилась рутинная работа охранника, хотя из-за нее у него возникала вечная проблема с весом. В семьдесят шестом он переехал в Чарлстон и поступил на службу простым патрульным полицейским. Год спустя Джентри отказался от предложения поработать доцентом на кафедре истории в Дьюке. Ему нравилась обычная полицейская работа, ежедневные стычки с пьяницами и чокнутыми и еще то, что ни один рабочий день не похож на другой. Еще через год он, к собственному удивлению, выдвинул свою кандидатуру на пост шерифа Чарлстона. После этого Джентри удивил довольно многих, добившись избрания. Местный журналист по этому поводу написал, что Чарлстон вообще странный город – город, влюбленный в свою историю, и что публике понравилась идея иметь историка в должности шерифа. Джентри не считал себя историком. Он считал себя полицейским. – Если я тут не нужен… – говорил Хейнс. – Что? – переспросил Джентри. Мысли его несколько отвлеклись. Он скомкал пустую банку и кинул ее в переполненную мусорную корзину, где она стукнулась о кучу других таких же банок, отскочила и упала на пол. – Я говорю, что доложу Галлахеру, а потом вылечу назад в Вашингтон, если я вам больше не нужен. Мы будем держать связь через Терри. – Конечно, конечно, – согласился Джентри. – Ну что ж, спасибо за помощь, Дик. Вы с Терри об этих делах знаете больше, чем все мы тут, вместе взятые. Хейнс встал и собрался было уходить, когда секретарша шерифа просунула голову в дверь. У нее была прическа, вышедшая из моды лет двадцать назад, на шее сверкали бусы из искусственного изумруда. – Сэр, тут пришел этот психиатр из Нью-Йорка. – Черт, совсем забыл. – Джентри с усилием поднялся. – Спасибо, Линда Мэй. Попроси его, пожалуйста. Хейнс направился к двери: – Ну что ж, шериф, у вас есть мой номер на случай, если… – Дик, вы не могли бы сделать мне одолжение и поприсутствовать при нашей беседе? Я забыл, что этот парень обещал прийти, он может нам кое-что сообщить по делу Фуллер. Вчера по телефону он сказал, что был психиатром мисс Дрейтон, а в город приехал по делам. Вы можете задержаться еще на несколько минут? Тони отвезет вас в отель на патрульной машине, если будете опаздывать на самолет. Хейнс улыбнулся и развел руками: – Да нет никакой спешки, шериф. С удовольствием послушаю, что там у этого психиатра. – Агент сбросил с одного из стульев пакет из «Макдональдса» и сел. – Спасибо, Дик. – Джентри вытер лицо и подошел к двери, как раз когда в нее постучали. В кабинет вошел невысокий бородатый мужчина в вельветовом, спортивного покроя пиджаке. – Шериф Гентри? – Психиатр произнес его фамилию на немецкий лад. – Да, я – Бобби Джо Джентри. – Рука, протянутая психиатром, исчезла в огромных ладонях шерифа. – А вы – доктор Ласки, не так ли? – Соломон Ласки. Обычного роста психиатр выглядел карликом рядом с грузной фигурой Джентри. Это был худой мужчина с высоким бледным лбом, спутанной бородой цвета «перец с солью» и печальными карими глазами, казавшимися старше, чем все остальное. Одна дужка очков еле держалась на полоске скотча. Джентри махнул рукой в сторону Хейнса: – Это специальный агент Ричард Хейнс из ФБР. Надеюсь, вы не будете возражать – я попросил Дика присутствовать при нашем разговоре. Раз уж он здесь, то я подумал, что он сможет задать более внятные вопросы. Психиатр кивнул Хейнсу и иронично заметил: – А я и не знал, что ФБР занимается местными убийствами. Голос у него был тихий, с легким акцентом. За грамматикой и произношением Ласки явно следил очень тщательно. – Обычно мы и не занимаемся, – сказал Хейнс. – Но в этой… э-э-э… ситуации есть кое-какие факторы, подпадающие под юрисдикцию ФБР. – Да? И какие же? – удивился Ласки. Хейнс скрестил на груди руки и слегка откашлялся. – Во-первых, похищение некоего лица, доктор Ласки. Во-вторых, нарушение кое-каких гражданских прав жертв. К тому же местным органам правопорядка мы предлагаем помощь наших криминальных экспертов. – Вообще-то, Дик здесь из-за того самолета, который разнесло на куски, – пояснил шериф. – Садитесь, доктор, садитесь. Дайте-ка я уберу этот хлам. – Он переложил кипу журналов, папок и несколько пластиковых кофейных чашек на стол, затем с трудом пробрался в свое кресло. – Значит, вы вчера сказали по телефону, что можете помочь с этим делом об убийстве нескольких человек? – Нью-йоркские газеты называют его делом об убийствах в «Мансарде», – сообщил Ласки и рассеянно поправил очки. – Вот как? – удивился Джентри. – Ну что ж, это получше, чем «бойня в Чарлстоне», хотя и не совсем точно. Большинство жертв даже не приближались к «Мансарде». И все же я думаю, что из убийства девяти человек делают слишком много шума. В особо «тихие» ночи в Нью-Йорке убивают гораздо больше. – Возможно, – согласился Ласки, – но круг жертв и подозреваемых там не так… мм… поражает воображение, как в данном случае. – Тут вы правы, – кивнул Джентри. – Мы были бы вам признательны, доктор, если бы вы могли пролить хоть какой-то свет на все это. – Я бы рад, но, к сожалению, могу предложить очень немногое. – Вы были психиатром мисс Дрейтон? – спросил Хейнс. – Да, в некотором роде. – Сол Ласки помолчал и подергал себя за бороду. Глаза у него были очень большие, а веки тяжелые, как будто он давно как следует не высыпался. – Я видел мисс Дрейтон всего трижды, последний раз это было в сентябре. Впервые она подошла ко мне после лекции в Колумбийском университете. Это случилось в августе. Затем у нас были еще две… мм… встречи. – Но она была-таки вашей пациенткой? – Голос Хейнса теперь звучал монотонно-настойчиво, как у прокурора, ведущего допрос. – В принципе, да, – сказал Ласки. – Но вообще-то, я не практикую. Видите ли, я преподаю в Колумбийском университете и иногда консультирую в клинике при университете… В основном студентов, которым, по мнению Эллен Хайтауэр, университетского врача, стоит обратиться к психиатру… Иногда случается, что и преподавателей… – Так что, мисс Дрейтон была студенткой? – Нет, не думаю. Она иногда посещала курсы для аспирантов и вечерние семинары вроде моего. Она… проявляла интерес к одной книге, которую я написал… – «Патология насилия», – подсказал шериф Джентри. Ласки моргнул и поправил очки: – По-моему, я не упоминал названия своей книги во время нашего вчерашнего разговора, шериф. Джентри сложил руки на животе и ухмыльнулся: – Нет, не упоминали, профессор. Я прочел ее прошлой весной. По правде говоря, дважды. Я только сейчас вспомнил ваше имя и считаю, что это великолепная книга. Вам бы тоже стоило почитать ее, Дик, – обратился он к Хейнсу. – Просто удивительно, как вам удалось найти экземпляр. – Ласки пожал плечами и повернулся к агенту, поясняя: – Там довольно подробно рассмотрено несколько случаев из психиатрической практики. Всего-то и были отпечатаны две тысячи экземпляров в академической типографии. Бо́льшая часть тиража продана студентам в Нью-Йорке и в Калифорнии. – Доктор Ласки полагает, что некоторые люди восприимчивы к… как вы это назвали, сэр? К климату насилия… Так? – спросил Джентри. – Да. – И что другие индивиды, или место проживания, или время – все это может как бы программировать таких восприимчивых людей и заставлять их вести себя иначе, чем они бы вели себя в других условиях. Конечно, это всего лишь мое примитивное изложение концепции вашего труда, доктор. Ласки снова моргнул, глядя на шерифа: – Должен признаться, это весьма внятное изложение. Хейнс встал, подошел к шкафу с картотекой и облокотился на него. Скрестив руки, он слегка нахмурился: – Погодите, я все же кое-чего не понимаю. Значит, мисс Дрейтон пришла именно к вам? Она заинтересовалась вашей книгой, а потом стала вашей пациенткой. Так? – Да. Я согласился проконсультировать ее как профессионал. – А не было у вас с ней личных отношений? – Нет, – ответил Ласки. – Мы встречались всего три раза. Один раз это была короткая беседа на несколько минут после моей лекции о насилии в Третьем рейхе и еще дважды – по часу, во время приема в клинике. – Понятно, – кивнул Хейнс, хотя, судя по всему, ему мало что было понятно. – И вы полагаете, во время этих приемов выяснилось нечто такое, что поможет нам разобраться в нынешней ситуации? – Боюсь, что нет. Не нарушая врачебной тайны, могу сказать, что мисс Дрейтон не давали покоя ее отношения с отцом, который умер много лет назад. Признаться, я не нахожу в наших беседах ничего такого, что могло бы пролить свет на обстоятельства ее убийства. – Ну да. – Раздосадованный, Хейнс вернулся на свое место и взглянул на часы. Джентри улыбнулся и открыл дверь: – Линда, дорогая, ты не могла бы принести нам кофе? – Доктор Ласки, возможно, вы знаете, у нас есть данные о том, кто убил вашу пациентку, – сказал Хейнс. – Чего у нас нет, так это мотива убийства. – Да-да. – Сол погладил бороду. – Это молодой человек из местных, не так ли? – Альберт Лафоллет, – подсказал Джентри. – Девятнадцатилетний коридорный, работающий в том отеле. – И у вас нет никаких сомнений в его виновности? – Какие, к черту, сомнения! – воскликнул Джентри. – У нас пять свидетелей, которые показывают, что Альберт вышел из лифта, подошел к конторке и пальнул в сердце своему боссу, Кайлу Андерсону, администратору «Мансарды». Просто приставил ствол к груди и выстрелил. Мы обнаружили остатки сгоревшего пороха у него на форме. У парня был кольт сорок пятого калибра, не автоматический. И не дешевая подделка, уважаемый доктор, а самый настоящий кольт с завода мистера Кольта с серийным номером. Антикварная вещь. Так вот, этот парень, не говоря ни слова, если верить свидетелям, сует пушку мистеру Кайлу в грудь и нажимает на спуск, потом поворачивается и стреляет в лицо Леонарду Уитни. – А кто этот мистер Уитни? – спросил Ласки. Хейнс снова откашлялся и сам ответил на вопрос: – Леонард Уитни был бизнесменом из Атланты, приехавшим сюда по делам. Он только что вышел из ресторана отеля и тут же получил пулю в голову. Насколько мы можем судить, он никак не был связан ни с одной из жертв. – Точно, – подтвердил Джентри. – Потом этот юный Альберт засовывает револьвер себе в рот и спускает курок. Ни один из пяти свидетелей ни черта не сделал, чтобы помешать ему. Конечно, все произошло в течение нескольких секунд. – И этим же оружием была убита мисс Дрейтон? – Да. – А при ее убийстве свидетели были? – Нет, – сказал Джентри. – Но двое из тех, кто там находился, видели, как Альберт входил в лифт. Они запомнили его, потому что он шел от номера, где случился весь этот шум. Странно, но никто из свидетелей не помнит, был ли у парня в руках револьвер. Хотя что тут странного? Наверное, в толпе можно появиться и со свиной ногой, и никто ничего не заметит. – Кто первым увидел тело мисс Дрейтон? – Нельзя сказать с уверенностью, – проговорил Джентри. – Там наверху была страшная суматоха, а потом в холле началось это представление… – Доктор Ласки, – перебил шерифа Хейнс, – если у вас нет информации насчет мисс Дрейтон, я не уверен, что вы сможете нам помочь. Агент явно намеревался прекратить разговор, но ему помешала секретарша, принесшая кофе. Хейнс поставил свою пластиковую чашку на шкаф с папками. Доктор благодарно улыбнулся и сделал глоток. Для Джентри кофе был подан в большой белой кружке с надписью по бокам: «Босс». – Спасибо, Линда. Ласки слегка пожал плечами: – Я просто хотел поделиться тем, что мне известно. Понимаю, у вас много дел, джентльмены. Не буду больше отнимать у вас время. – Он поставил чашку на стол и встал. – Погодите! – воскликнул Джентри. – Раз уж вы здесь, я хотел бы узнать, что вы думаете по поводу некоторых вещей. – Он повернулся к Хейнсу. – Уважаемый профессор был консультантом нью-йоркской полиции пару лет назад, когда случился весь этот шум с «сыном Сэма». – Ну, я был всего лишь одним из многих консультантов, – уточнил Ласки. – Мы помогли составить словесный портрет убийцы. Правда, это им не пригодилось. Убийцу поймали в результате обычной полицейской операции. – Верно, – кивнул Джентри. – Но вы написали книгу о таких вот множественных убийствах. Мы, Дик и я, хотели бы знать ваше мнение обо всем этом безобразии. – Он встал и подошел к длинной классной доске, прикрытой оберточной бумагой, склеенной скотчем. Джентри откинул бумагу; на доске мелом были начерчены диаграммы с именами действующих лиц и временем событий. – Вы, наверное, читали об остальных героях нашей милой пьесы? – О некоторых, – ответил Ласки. – В нью-йоркских газетах особое внимание уделялось Нине Дрейтон, погибшей маленькой девочке и ее дедушке. – Да, Кэтлин. – Джентри ткнул пальцем в доску рядом с именем девочки. – Возраст – десять лет. Вчера я видел ее фотографию, она закончила четвертый класс. Очень милая девочка. Там она гораздо приятнее, чем на снимках с места преступления. – Джентри потер ладонями щеки и помолчал. Сол глотнул еще кофе, ожидая продолжения. – В общем, у нас тут четыре главных места преступления. – Шериф принялся водить пальцем по доске, где был начерчен план района. – Одного гражданина убили вот здесь, средь бела дня, на Кольхаун-стрит. Еще один труп в квартале от того места, на эллинге у Батареи. Три трупа в особняке Фуллер, вот здесь… – Он указал на аккуратный небольшой квадратик, возле которого значились три крестика. – А после – финальная сцена в «Мансарде», тут четыре убийства. – Между ними есть какая-нибудь связь? – спросил Ласки. – В том-то и вся беда, – вздохнул Джентри. – И есть, и нет, если вы меня понимаете. – Он махнул рукой в сторону списка имен. – Скажем, мистер Престон, темнокожий джентльмен, которого нашли зарезанным на Кольхаун-стрит, двадцать шесть лет работал местным фотографом и продавцом в Старом городе. Мы склоняемся к предположению, что он – случайный прохожий, убитый следующим трупом, которого мы нашли вот здесь… – Карл Торн, – прочел Ласки следующее имя в списке. – Слуга исчезнувшей женщины, – пояснил Хейнс. – Да, – кивнул Джентри, – только фамилия его вовсе не Торн, хотя она значится в его водительских правах. И зовут его не Карл. Мы сегодня получили данные из Интерпола: судя по отпечаткам пальцев, он был известен в Швейцарии как Оскар Феликс Хаупт, мелкий гостиничный вор. Он исчез из Берна в пятьдесят третьем году. – Боже мой, – пробормотал психиатр, – неужели они столько лет хранят отпечатки пальцев бывших гостиничных воров? – Хаупт был не только воришкой, – вставил Хейнс. – Он фигурировал в качестве главного подозреваемого в довольно громком деле об убийстве в том же пятьдесят третьем году. Тогда погиб французский барон, приехавший на курорт. Хаупт вскоре после этого исчез. В швейцарской полиции полагали, что Хаупта убили люди из европейского синдиката. – Как видим, они ошиблись, – усмехнулся шериф Джентри. – Почему вы решили запросить Интерпол? – спросил Ласки. – Да так, внутренний голос подсказал. – Джентри снова глянул на доску. – Ладно. Что мы имеем? Мы имеем труп Карла Оскара Феликса Торна-Хаупта вот здесь, на эллинге, и, если бы сумасшествие на этом и закончилось, мы могли бы сочинить что-то похожее на мотив преступления… Ну, скажем, попытка украсть лодку… Хаупт получил пулю от ночного сторожа из револьвера тридцать восьмого калибра. Проблема, однако, в том, что в Хаупта не только дважды стреляли, он еще порядком изуродован. На его одежде оказались пятна крови двух видов – не считая, разумеется, его собственной; под ногтями у него нашли фрагменты кожи и материи, откуда следует, что именно он убил мистера Престона. – Все это очень запутанно, – сказал Сол Ласки. – Ах, профессор, это только цветочки. – Джентри постучал костяшками пальцев по доске рядом еще с тремя именами: Джордж Ходжес, Кэтлин Мари Элиот и Баррет Крамер. – Знаете эту леди? – Баррет Крамер? – спросил Ласки. – Нет. Я видел ее имя в газете, а так не припоминаю. – Она состояла при мисс Дрейтон. Компаньонка или «помощница по делам» – так, кажется, ее назвали эти люди из Нью-Йорка, которые забрали тело мисс Дрейтон. Женщина лет тридцати пяти, брюнетка, сложена немного по-мужски. Не припоминаете? – Нет, – ответил Ласки. – Она не сопровождала мисс Дрейтон, когда та приходила на прием. Возможно, она была у меня на лекции в тот вечер, когда я познакомился с мисс Дрейтон, но я ее не заметил. – Ладно. Значит, теперь мы имеем мисс Крамер, в которую выстрелили из «смит-вессона» мистера Ходжеса тридцать восьмого калибра. Только вот криминалист практически уверен, что она погибла не от пули. По-видимому, она сломала шею, когда упала с лестницы в доме Фуллер. По приезде «скорой» она еще дышала, но в больнице констатировали смерть. Мозг практически был лишен активности, или что-то в этом роде. Так вот, тут обнаруживается такая чертовщина: по мнению криминалистов, бедняга мистер Ходжес вовсе не стрелял в эту даму. Его нашли вот здесь, – Джентри ткнул пальцем еще в одну диаграмму, – в коридоре дома Фуллер, а его револьвер подобрали на полу номера мисс Дрейтон в «Мансарде». И что же мы имеем? Восемь жертв, даже девять, если считать Альберта Лафоллета, и пять орудий убийства… – Пять?.. – переспросил Ласки. – Простите, шериф, я вовсе не хотел перебивать вас. – Все в порядке, профессор. Пока пять, по крайней мере, насколько нам известно. Тот старинный кольт сорок пятого калибра, которым орудовал Альберт, тридцать восьмой калибр мистера Ходжеса, нож, найденный рядом с телом Хаупта, и эта проклятая кочерга, которой мисс Крамер убила девочку. – Так это сделала Крамер? – Да. Во всяком случае, на кочерге ее отпечатки пальцев, а одежда испачкана кровью ребенка. – И все равно я насчитал лишь четыре орудия убийства. – Ах да, у задней двери эллинга мы нашли деревянную палку. Или трость. На ней тоже кровь. Сол Ласки покачал головой и глянул на Ричарда Хейнса. Сложив руки на груди, агент неподвижно уставился на классную доску. Он выглядел уставшим, на лице было отчетливо написано отвращение. – Просто ведро с помоями, правда, профессор? – закончил Джентри. Он прошел к своему креслу и рухнул в него с тяжелым вздохом. Потом откинулся назад и глотнул холодного кофе из большой кружки. – Есть у вас какие-нибудь версии? Ласки печально улыбнулся и пожал плечами. Некоторое время он смотрел на доску, как бы стараясь запомнить всю изложенную там информацию, потом потеребил бороду и тихо сказал: – Нет, шериф, боюсь, никаких версий у меня нет. Но мне хотелось бы задать вопрос, который напрашивается сам собой. – Какой именно? – Где сейчас мисс Фуллер? Дама, в чьем доме произошло все это побоище? – Миз Фуллер, – поправил его Джентри. – Судя по тому, что нам рассказали соседи, она была одной из самых именитых старых дев в Чарлстоне. Здесь, на юге, им положен титул «миз»; так уж тут лет двести повелось, профессор. А в ответ на ваш вопрос скажу: миз Мелани Фуллер исчезла бесследно. В одном из донесений говорится, что некая дама весьма пожилого возраста была замечена в коридоре отеля наверху сразу после убийства мисс Дрейтон, но никто не подтвердил, что это была именно она. Мы объявили розыск в трех штатах, однако пока никаких данных нет. – Похоже, она-то и является ключом ко всей этой истории, – предположил Ласки почти застенчиво. – Очень может быть. Тут есть еще такой факт: ее изрезанная сумочка обнаружена за унитазом на эллинге. На ней пятна крови, и они совпадают с пятнами на ноже Карла – Оскара Хаупта. Нож сделан в Париже. – Бог мой! – вздохнул психиатр. – Сплошная бессмыслица. Наступило минутное молчание, потом Хейнс встал, поправляя манжеты: – Возможно, все проще, чем кажется. Нина Дрейтон навещала мисс Фуллер… прошу прощения, миз Фуллер, как раз за день до убийств. Отпечатки пальцев подтверждают, что она была там, да и соседка видела, как она входила в дом в пятницу вечером. Вероятно, мисс Дрейтон плохо разбиралась в людях, если наняла эту Баррет Крамер в качестве компаньонки. Крамер разыскивают в Филадельфии и Балтиморе в связи с обвинениями, часть которых тянется за ней еще с шестьдесят восьмого года. – Какого сорта эти обвинения? – спросил Ласки. – Проституция и наркотики, – ответил агент. – Значит, мисс Крамер и помощник миз Фуллер, этот самый Торн, каким-то образом сговорились ограбить своих престарелых хозяек. В конце концов, после мисс Дрейтон осталось почти два миллиона долларов, а у миз Фуллер весьма солидный счет в банке здесь, в Чарлстоне. – Но как они могли… – начал было психиатр. – Одну минуту. Итак, Крамер и Торн, или Хаупт, убивают миз Фуллер и избавляются от ее тела… Полиция гавани как раз сейчас тралит бухту. Но ее сосед, старик-охранник, расстраивает их планы. Он приканчивает Хаупта, возвращается в дом Фуллер и там сталкивается с Крамер. Внучка старика замечает, как он идет к дому, бросается к нему и становится еще одной жертвой. Тем временем Альберт Лафоллет, тоже один из заговорщиков, впадает в панику, когда Крамер и Хаупт не появляются вовремя, убивает мисс Дрейтон и сходит с ума. Джентри слегка улыбнулся, покачиваясь в кресле: – А как насчет Джозефа Престона, фотографа? – Случайный прохожий, как вы сами сказали, – ответил Хейнс. – Возможно, он видел, как Хаупт бросил в бухту тело старой дамы. Нет сомнения в том, что этот фриц убил его. Фрагменты кожи из-под ногтей Престона идеально совпадают с царапинами на лице Хаупта. Или с тем, что оставалось от лица Хаупта. – Хорошо, а как насчет глаза? – спросил Джентри. – Глаза? Чьего глаза? – Ласки переводил взгляд с шерифа на агента. – Хаупта, – ответил Джентри. – Его нет. Кто-то обработал левую сторону лица дубинкой. Хейнс пожал плечами: – Все равно это единственная версия, в которой есть хоть какой-то смысл. Итак, что мы имеем? Двое «помощников», оба бывшие преступники, и оба работают на старых богатых дам. Они задумывают похищение, или убийство, или еще что-то, но дело срывается и заканчивается цепью убийств. – Да, – кивнул Джентри. – Возможно. В наступившей паузе Сол Ласки услышал чей-то смех в другой части здания. Где-то снаружи взвыла сирена, потом смолкла. – А вы что думаете, профессор? Есть у вас какие-нибудь другие идеи? – спросил Джентри. Сол потряс головой: – Все это ставит меня в тупик. – У вас в книге описывается «резонанс насилия». Здесь есть что-то похожее? – Видите ли, это не совсем та ситуация, которую я имел в виду, – сказал Ласки. – Конечно, тут имеется цепь насилия, но я не вижу катализатора. – Катализатора? – переспросил Хейнс. – Это еще что за чертовщина? О чем мы тут говорим? Джентри пристроил ноги на своем рабочем столе и вытер шею большим красным платком. – В книге доктора Ласки говорится о ситуациях, которые программируют людей на убийство. – Мне непонятно, – заявил Хейнс. – Что значит «программируют»? Опять эта старая либеральная песня насчет того, что бедность и социальные условия – главная причина преступности? – По тону его голоса было ясно, что́ он думает обо всем этом. – Не совсем, – сказал Ласки. – Согласно моей гипотезе, существуют ситуации, условия и отдельные индивиды, вызывающие стрессовую реакцию у других людей. Реакция может вылиться в насилие, даже в убийство, при отсутствии видимых непосредственных причинных связей. Агент нахмурился: – И все же я не понимаю. – Ну как же! – не выдержал шериф Джентри. – Вы видели нашу КПЗ, Дик? Нет? Обязательно взгляните перед отъездом. В прошлом году в августе мы выкрасили стены камеры в розовый цвет. Мы зовем ее «Хилтон для бедных людей», но эта чертова штука работает. Случаи насилия снизились на шестьдесят процентов после того, как мы намазали стены этой краской, хотя клиентура у нас все та же, ничуть не лучше. Понятное дело, это нечто обратное тому, о чем вы говорите, ведь так, профессор? Ласки поправил очки. Когда он поднял руку, Джентри успел заметить выцветшую голубую татуировку на запястье, чуть повыше кисти, – несколько цифр. – Да, но некоторые аспекты этой теории приемлемы и в данном случае, – сказал Ласки. – Исследование цветового окружения показало, что испытуемые проявляют некоторые сдвиги в жизненной позиции и поведении, которые можно объективно измерить. Причины уменьшения случаев насилия в таком окружении при самых благоприятных условиях весьма туманны, хотя эмпирические данные неопровержимы… Как вы сами могли убедиться, шериф, они, по-видимому, указывают на перемену психофизиологической реакции в связи с изменением цветовой гаммы. В своей работе я показываю, каким образом некоторые малопонятные случаи насильственных преступлений становятся результатом более сложных цепочек стимулирующих факторов. – Ну-ну, – поморщился Хейнс. Он глянул на часы, потом на Джентри, который удобно устроился в кресле, водрузив ноги на стол. Агент с раздражением смахнул невидимую пылинку со своих безукоризненно отглаженных брюк. – Боюсь, я не совсем понимаю, как это все может нам помочь, доктор Ласки. Шериф Джентри имеет дело с серией нелепых убийств, а не с подопытными крысами, которых надо заставлять бегать по лабиринту. Сол кивнул и слегка пожал плечами: – Я тут проездом… Просто решил сказать шерифу о своем знакомстве с мисс Дрейтон и предложить помощь, если смогу. Извините, что отнимаю у вас драгоценное время. Спасибо за кофе, шериф. – Он встал и направился к двери. – Вам спасибо, профессор. – Джентри снова вытащил платок и потер им лицо, как будто оно чесалось. – Да, у меня к вам еще один вопрос, доктор Ласки. Как вы полагаете, могли ли эти убийства стать результатом ссоры между двумя старыми леди – Ниной Дрейтон и Мелани Фуллер? Печальное лицо Ласки ничего не выражало, он несколько раз моргнул. – Да, возможно. Но это никак не объясняет убийств в «Мансарде», не так ли? – Вы правы, – согласился Джентри и в последний раз потер платком нос. – Спасибо, профессор. Очень признателен за то, что вы с нами связались. Если вспомните что-нибудь о мисс Дрейтон… если у вас появится хоть какой-то намек на причины и следствия всего этого свинства, пожалуйста, позвоните нам. Мы оплатим звонок. Договорились? – Разумеется, – кивнул Сол. – Всего хорошего, джентльмены. Хейнс подождал, пока не закроется дверь. – Этого Ласки неплохо бы проверить, – тут же заявил он. – Конечно, – согласился Джентри, медленно вертя в руке пустую чашку. – Уже проверил. С ним все в порядке, он именно тот, за кого себя выдает. Хейнс моргнул: – Вы проверили его до того, как он пришел к вам? Джентри ухмыльнулся и поставил чашку: – Сразу после его вчерашнего звонка. У нас не так уж много подозреваемых, чтобы экономить на телефонном звонке в Нью-Йорк. – Я попрошу ФБР выяснить, где он был начиная с… – Читал лекцию в Колумбийском университете, – опередил его Джентри. – В субботу вечером. Потом участвовал в дебатах по поводу насилия на улицах. После этого был на приеме, закончившемся где-то после одиннадцати. Я беседовал с деканом. – И все же я проверю его досье, – упрямо повторил Хейнс. – В том, что он тут наговорил о знакомстве с Ниной Дрейтон, есть нечто странное. – Да, – кивнул Джентри. – Буду очень обязан, если вы это сделаете, Дик. Агент Хейнс взял свой плащ и кейс, потом остановился и посмотрел на шерифа. Тот так крепко стиснул руки, что побелели костяшки пальцев. В его обычно добродушно-веселых глазах застыл гнев, почти ярость. – Дик, я очень рассчитываю на вашу помощь в этом деле. По всем пунктам. – Разумеется. – Я серьезно. – Джентри взял в руки карандаш. – Какая-то сволочь убила девять человек в моем округе. Это им даром не пройдет. Я собираюсь выяснить все до конца. – Конечно, – согласился Хейнс. – И обязательно выясню это, – продолжил Джентри. Взгляд его стал холодным и безжалостным, карандаш хрустнул в пальцах, но он этого не заметил. – А потом я до них доберусь, Дик. Клянусь. Хейнс кивнул, попрощался и вышел. Шериф долго смотрел на закрытую дверь, затем перевел взгляд на треснувший карандаш в руках. Медленно и аккуратно он принялся ломать его на куски.* * *
Хейнс взял такси, уложил вещи, заплатил по счету и на том же такси поехал в международный аэропорт Чарлстона. До рейса еще оставалось время. Сдав вещи, он походил по залу, купил «Ньюсуик» и, миновав несколько телефонных будок, остановился у ряда таксофонов в боковом коридоре. Здесь он набрал номер с вашингтонским кодом. – Номер, который вы набрали, временно не обслуживается, – четко произнес автоматический женский голос. – Пожалуйста, попробуйте еще раз или свяжитесь с представителем компании «Белл» в данном районе. – Хейнс, Ричард, – сказал агент. Он оглянулся через плечо: женщина с ребенком прошли к туалетам. – Ковентри. Кабель. Я пытаюсь связаться с номером семьдесят семь девяносто четыре девяносто один. Послышался щелчок, тихое гудение, затем шорох еще одного записывающего устройства и механический голос: – Абонент временно недоступен. Если вы хотите оставить сообщение, дождитесь сигнала. Время записи не ограничено. – Полминуты молчания, затем мягкий аккорд. – Говорит агент Хейнс, – тихо сообщил он. – Через несколько минут вылетаю из Чарлстона. Сегодня появился психиатр по имени Соломон Ласки. Беседовал с Джентри. Ласки говорит, что работает в Колумбийском университете. Написал книгу под названием «Психология насилия», издательство «Академия-пресс». Утверждает, будто трижды встречался с Ниной Дрейтон в Нью-Йорке. Отрицает свое знакомство с Баррет Крамер, что, возможно, ложь. На руке у него татуировка концентрационного лагеря. Серийный номер сорок четыре девяносто сто восемьдесят два. Далее: Джентри сделал запрос насчет Карла Торна; ему известно, что тот в действительности был швейцарским вором по имени Оскар Феликс Хаупт. Шериф неряха, но не глуп. Похоже, у него в заднице сера горит из-за этого дела. И наконец, письменный рапорт я сдам завтра. Тем временем рекомендую начать слежку за Ласки и Джентри. В качестве меры предосторожности можно временно отменить страховку обоих. Буду дома около восьми вечера, жду дальнейших инструкций. Хейнс. Кабель. Ковентри. Он повесил трубку, взял в руку кейс и быстрым шагом направился к толпе пассажиров, ожидающих вылета.* * *
Сол Ласки вышел из здания муниципалитета и свернул на боковую улицу, где стояла взятая напрокат «тойота». Накрапывал мелкий дождь; несмотря на туман, было на удивление тепло – Сол к такому не привык. Температура около двадцати, не меньше. Позавчера, когда он уезжал из Нью-Йорка, шел снег, а температура уже несколько дней не поднималась выше нуля. Психиатр сидел в машине и смотрел, как капли дождя стекают по ветровому стеклу. В машине пахло новой кожаной обивкой и дымом чьей-то сигары. Несмотря на теплый воздух, его колотила дрожь, все сильнее и сильнее. Он крепко сжал руками руль и сидел так до тех пор, пока дрожь не унялась, осталось лишь неприятное покалывание в мышцах. Сол заставил себя думать о чем-нибудь постороннем: о предстоящей весне, о тихом озере, которое он нашел в Адирондакских горах прошлым летом, о покинутой Синайской долине, где иссеченные песком римские колонны высились на фоне сланцевых утесов. Через несколько минут он завел машину и двинулся без цели по вымытым дождем улицам. Транспорта было мало. Он подумал, не поехать ли ему по пятьдесят второй дороге к своему мотелю, но вместо этого развернулся на юг и направился по Ист-Бей к Старому городу. Длинный навес перед отелем «Мансарда» доходил до самого края тротуара. Сол быстро оглядел неосвещенный вход и поехал дальше. Через три квартала он свернул направо, на узкую улицу, вдоль которой теснились жилые дома. Внутренние дворики были огорожены витыми металлическими решетками. Сол сбавил скорость и стал считать про себя дома, стараясь рассмотреть их номера. Дом Мелани Фуллер был погружен в темноту. Еще один дом, граничащий с особняком Фуллер с севера, похоже, был заперт и тоже пуст: окна закрыты тяжелыми жалюзи, на воротах, ведущих во двор, – цепь и большой замок, по виду недавно купленный. На следующем перекрестке Сол повернул налево, затем еще раз налево; он почти вернулся на Брод-стрит, прежде чем нашел место впритык к грузовику, где мог бы припарковаться. Дождь пошел сильнее. Сол взял с заднего сиденья белую кепку, натянул ее на глаза и поднял воротник куртки. Переулок обозначал середину квартала, по бокам его стояли крохотные гаражи, деревья с густой листвой и бесчисленные ящики для мусора. Он снова начал считать дома, как тогда, когда ехал, но ему все равно пришлось разыскать две низкие высохшие пальмы у южного углового окна, дабы убедиться, что неошибся. Он двигался медленно, засунув руки в карманы, зная, что очень бросается в глаза в этом узком переулке, но сделать ничего не мог. Дождь все не прекращался, серый день потихоньку переходил во тьму зимних сумерек. Дневному свету оставалось не более получаса. Сол судорожно вздохнул и прошел три-четыре метра дорожки, отделяющей тротуар от небольшого строения – в прошлом, очевидно, каретного сарая. Окна его были закрашены черной краской, но помещение явно никогда не использовалось как гараж. Сарай был огорожен стальной сеткой, увитой виноградной лозой; сквозь сетку торчали острые шипы живой изгороди. Низкая калитка, когда-то являвшаяся частью железной ограды, тоже была заперта на цепь и висячий замок. На желтой полицейской ленте, протянутой вдоль сетки, виднелась надпись: «Вход воспрещен. Распоряжение шерифа Чарлстона». Сол медлил. Было тихо. Слышались лишь барабанная дробь дождя по крыше сарая да шум капель, падающих с кустарника на землю. Он ухватился руками за высокую ограду, поставил левую ногу на перекладину, с секунду неуверенно балансировал над ржавыми острыми штырями и спрыгнул во двор. На секунду Сол замер, опершись руками о мокрые плиты, чувствуя, как судорогой сводит правую ногу. Сердце его лихорадочно билось в груди; во дворе неподалеку вдруг залаяла собака, потом лай прекратился. Он осторожно прокрался мимо цветочной клумбы и перевернутой ванночки для птиц к деревянному крыльцу, которое явно было пристроено к дому гораздо позднее. Дождь, сумерки и мерный стук капель, падающих с живой изгороди, казалось, приглушали отдаленные звуки и усиливали шум шагов и шорох, производимые Солом. Слева за большими стеклами он различил растения: там с садом сливалось помещение оранжереи. Ласки толкнул затянутую сеткой дверь, ведущую к веранде, дверь открылась с ржавым скрипом, и Сол ступил в темноту. Веранда оказалась длинной и узкой, пахло плесенью и землей. Он различил темные силуэты пустых глиняных горшков вдоль стеллажей у кирпичной стены дома. Внутренняя дверь, массивная, с окном из тонированного стекла и красивыми резными панелями, была надежно заперта. Сол не сомневался, что у старухи в доме установлена сигнализация, но наверняка чисто внутренняя, не связанная с полицейским участком. А что, если полиция все-таки подсоединила эту систему к участку? Сол тряхнул головой и подошел к узким окнам между стеллажами. Ему удалось разглядеть белую громадину холодильника. Вдруг послышался отдаленный раскат грома; дождь с удвоенной силой застучал по крышам и живым изгородям. Сол принялся переставлять горшки, выстраивая их в пустых промежутках на полках, потом отряхнул с рук чернозем и снял с подставки опустевший метровый стеллаж. Окна над грубо сделанной подставкой были закрыты на задвижку изнутри. Он на секунду замер и, выбрав самый большой и тяжелый из глиняных горшков, ударил им по стеклу. Звон разбитого стекла показался Солу ужасно громким, громче, чем раскаты грома, последовавшие сразу за мелькающими отражениями молний, которые превратили остатки стекла в зеркала. Он замахнулся вновь и разнес бородатый силуэт собственного отражения, а заодно и вертикальную перегородку окна, затем осторожно вытащил торчащие осколки и попытался в темноте нащупать задвижку. От внезапной детской мысли, что его могут схватить за руку, у него похолодела спина. Он нащупал цепочку и потянул. Окно раскрылось наружу. Протиснувшись в него, Сол ступил на подоконник и тяжело спрыгнул на пол кухни. В старом доме все время раздавались какие-то звуки. Снаружи по водостоку струилась дождевая вода. В холодильнике тоже что-то гудело, причем так громко, что Сол чуть не повернул обратно. Он отметил про себя, что электричество не отключено. Откуда-то донесся слабый скрежещущий звук, словно по стеклу провели ногтем. Из кухни в другие помещения вели три двери. Сол выбрал ту, что оказалась прямо перед ним, и вышел в длинный коридор. Даже в тусклом свете он различил в нескольких шагах от двери место, где темный, натертый до блеска паркет был разбит в щепки. У основания широкой лестницы он остановился, почти уверенный, что найдет там обведенные мелом силуэты тел на полу, как в американских детективах, которые он так любил смотреть. Но ничего подобного не было – только большое пятно на паркете возле нижней ступеньки. Сол заглянул в другой, более короткий коридор, ведущий в прихожую, затем перешел в большую, заставленную старинной мебелью комнату. Похоже, это была гостиная. Свет пробивался сюда сквозь панели цветного стекла в верхней части широкого эркера. Стрелки часов на каминной полке застыли на цифрах 3:26. Тяжелая мебель в чехлах и высокие шкафы, забитые хрусталем и фарфором, казалось, вобрали в себя весь кислород. Дышать было совершенно нечем. Сол расстегнул ворот рубашки и быстро осмотрел гостиную. В помещении стоял затхлый запах мастики, талька, и еще тут попросту воняло гнилью. Он содрогнулся, вспомнив свою древнюю тетушку Дануту и ее маленькую квартирку в Кракове. Дануте стукнуло сто три, когда она умерла. Рядом с гостиной находилась пустая столовая. Замысловатой формы подвески на люстре слегка позвякивали в такт шагам. Сол вышел в прихожую, оглядел пустую вешалку для шляп и две трости, прислоненные к стене. Мимо медленно проехал грузовик, и дом задрожал. Оранжерея, расположенная сразу за столовой, была светлее, чем все другие помещения. Здесь Сол почувствовал себя совершенно беззащитным. Дождь на улице прекратился, и среди мокрой зелени сада он мог различить кусты роз. Через несколько минут будет совсем темно. Его внимание привлек антикварный застекленный шкаф. Полированные створки из красного дерева были разломаны, на полу валялись осколки битого стекла. Сол осторожно подошел к шкафу и присел на корточки. На средней полке лежали перевернутые статуэтки и оловянные тарелки. Он выпрямился и оглянулся. Без какой-либо видимой причины им вдруг овладел страх, даже паника. Запах мертвечины, казалось, преследовал его. Сол заметил, что его левая рука судорожно сжимается и разжимается. Он может сейчас же уйти: стоит выйти в кухню, и через две минуты он будет уже за воротами… Медленно повернувшись, Сол направился по темному коридору к лестнице. Перила были гладкие и прохладные на ощупь. Хотя в стене напротив имелось маленькое круглое окошко, темнота, казалось, поднималась, словно холодный воздух, и оседала на лестничной площадке. Наверху он остановился. Дверь справа была почти сорвана с петель, сверху свисали белые щепки, словно порванные жилы. Сол заставил себя войти в спальню. Вонь тут стояла такая, как бывает в холодильнике, забитом мясом, через несколько дней после отключения электричества. В одном углу высился шкаф, похожий на гроб, поставленный на попа. Окна, выходящие во двор, были занавешены тяжелыми шторами. На старом трюмо в самом центре лежали дорогая антикварная щетка для волос и гребень слоновой кости. Зеркало, потускневшее от времени, было покрыто пятнами. Высокая кровать аккуратно застелена. Сол уже повернулся, собираясь уходить, когда услышал шаги. Он замер, руки непроизвольно сжались в кулаки. Прошло несколько минут, но все было спокойно, только запах гнилого мяса по-прежнему мешал дышать. Сол уже хотел было идти дальше, решив, что звук шел из забитого водостока снаружи, когда вновь услышал шаги. Тихо, осторожно, но целенаправленно кто-то поднимался по лестнице. Он резко развернулся и кинулся к шкафу. Дверцы бесшумно открылись, и он скользнул внутрь, зарывшись в ворох старушечьей одежды. В ушах у него со страшной силой отдавались удары сердца. Дверцы от древности несколько перекосились и закрывались неплотно, поэтому сквозь щель он мог видеть тонкую вертикальную полоску серого цвета, пересеченную темной горизонталью кровати. Шаги раздались на верхней площадке лестницы, затем последовала длинная пауза, и кто-то тихо вошел в спальню. Сол затаил дыхание. Запахи шерсти и нафталина смешались с вонью гнилого мяса и грозили удушить его. Тяжелые платья и шарфы липли к телу, тянулись к плечам и горлу. Он никак не мог понять, удаляются шаги или приближаются, – так у него шумело в ушах. Охватившая его паника мешала сосредоточиться на тонкой полоске света. Сол вспомнил, как земля падала на еще живые лица людей, как шевелилась белая рука в черной грязи, вспомнил серое сукно, казавшееся темным в зимнем свете, и белый пластырь на заросшей щетиной щеке; руки и ноги копошились в земле, как медлительные черви… Он резко выдохнул и, раздвинув липкую одежду, потянулся к дверцам. Но он так и не успел дотронуться до них – они рывком распахнулась снаружи.Глава 5
Вашингтон, округ Колумбия
Вторник, 16 декабря 1980 г.
Тони Хэрод и Мария Чэнь прилетели в Вашингтонский национальный аэропорт, взяли напрокат машину и сразу поехали в Джорджтаун. Уже миновал полдень, когда они пересекли мемориальный мост Мейсона. Река Потомак показалась им серой и медлительной, обнаженные деревья отбрасывали тонкие тени на набережную. Висконсин-авеню сегодня была свободнее обычного. – Сюда, – показал Хэрод. Мария свернула на Эм-стрит. Дорогие дома здесь, казалось, жались друг к другу в слабом зимнем свете. Тот, который они искали, ничем не отличался от многих других домов на этой улице. Перед бледно-желтой дверью гаража висел знак «стоянка запрещена». Мимо прошла пара, одетая в тяжелые меха; дрожащий пудель тянул их за поводок. – Я подожду, – сказала Мария Чэнь. – Нет. Покатайся пока. Каждые десять минут возвращайся сюда. Когда Хэрод вылез из машины, она немного помедлила, затем не спеша двинулась вниз по улице. Хэрод пошел не к парадной двери дома, а направился сразу к гаражу. В стене открылась небольшая металлическая панель, за которой обнаружились тонкая щель и четыре пластиковые кнопки без каких-либо надписей. Вытащив из бумажника кредитную карточку, он вставил ее в щель. Раздался щелчок. Он придвинулся ближе к стене и нажал третью кнопку, потом три другие. Дверь гаража с лязгом поднялась, Хэрод вытащил свою карточку из щели и вошел. Дверь за ним закрылась. В пустынном помещении было очень темно, не чувствовалось даже намека на запах масла или бензина, пахло лишь холодным цементом и смолистым ароматом сосновых брусков. Хэрод сделал несколько шагов к середине гаража и замер, не делая попыток найти дверь или выключатель. Послышался тихий гул, и он понял, что установленная в стене видеокамера уже передала его изображение, а теперь прощупывает помещение – не вошел ли кто за ним. Вероятно, камера была снабжена инфракрасными или светочувствительными линзами. А вообще-то, ему наплевать, чем она там снабжена. Раздался щелчок, дверь открылась, и Хэрод пошел на свет. Он ступил в пустую комнату; судя по электрическим панелям и трубам, первоначально ее планировали использовать как прачечную. Другая камера, установленная над следующей дверью, повернулась и взяла его на прицел, едва он вошел. Хэрод расстегнул молнию своей кожаной куртки. – Пожалуйста, снимите темные очки, мистер Хэрод. – Голос доносился из стандартного переговорного устройства на стене. – Да пошел ты в задницу, – приятным голосом сказал Хэрод и снял солнцезащитные очки, похожие на авиационные. Он уже успел надеть их, когда дверь отворилась и вошли двое в темных костюмах. Один из них был лысым и весьма массивным – типичный вышибала или телохранитель. Второй, повыше, – сухощавый, темноволосый и гораздо более опасный, хотя трудно было сказать почему. – Вы не могли бы поднять руки, сэр? – буркнул тот, что потяжелее. – А вы не могли бы дать в задницу за четвертак? – Хэрод терпеть не мог, когда до него дотрагивались мужчины. Ему так же ненавистна была мысль, чтобы дотронуться до них. Те двое терпеливо ждали. Он поднял руки. Вышибала ощупал его с профессиональным безразличием и кивнул темноволосому. – Сюда, мистер Хэрод. – Сухощавый повел его через дверь, потом через пустую кухню, которой не пользовались, по ярко освещенному коридору мимо голых комнат без мебели и остановился у лестницы. – Первая дверь налево, мистер Хэрод. – Он махнул рукой вверх. – Вас ждут. Ничего не сказав, Хэрод направился к ступенькам. Паркет из светлого дуба был отполирован до блеска. Его шаги на лестнице эхом отдавались по всему дому. Здание пахло свежей краской и пустотой. – Мистер Хэрод, мы очень рады, что вам удалось приехать. На складных стульях сидели пять человек, образуя почти замкнутый круг. Комната предназначалась, очевидно, под главную спальню либо большой кабинет. Полы были голыми, жалюзи – белыми, а камин – без признаков огня. Хэрод знал этих людей или, по крайней мере, их имена. Слева направо расположились Траск, Колбен, Саттер, Барент и Кеплер. Все были в дорогих, солидного покроя костюмах и сидели почти в одинаковых позах – спина прямая, нога на ногу, руки скрещены на груди. У троих рядом со стульями стояли кейсы. Трое были в очках. Все пятеро – белые. Возраст – от пятидесяти и выше; самый старший из них Барент. У Колбена почти не осталось волос, но у остальных, похоже, был один и тот же парикмахер. – Вы опоздали, мистер Хэрод, – продолжил Траск. – Ага. Тони подошел поближе. Стул ему не поставили. Он снял свою кожаную куртку и теперь держал ее через плечо на одном пальце. На нем была ярко-красная шелковая рубашка, расстегнутая так, чтобы был виден медальон из акульего зуба на золотой цепочке. С брюками из темного вельвета контрастировала большая золотая пряжка на ремне, подаренном Джорджем Лукасом, и тяжелые сапоги для игры в поло, с массивными каблуками. – Самолет опоздал, – сказал Тони. Траск кивнул. Колбен откашлялся, словно собирался заговорить, но довольствовался тем, что поправил очки в роговой оправе. – Известно что-нибудь новое? – спросил Хэрод. Не дожидаясь ответа, он подошел к окну, взял металлический складной стул и поставил его задом наперед в том месте, где сходились два полукруга. Затем сел верхом и повесил куртку на спинку. – Или я проделал этот путь за хрен собачий? – Тот же самый вопрос мы хотели задать вам, – спокойно сказал Барент. У него были манеры образованного человека. Во всяком случае, почти британские гласные напоминали о Новой Англии. Баренту, как и сейчас, никогда не приходилось повышать голос, чтобы его расслышали. Хэрод пожал плечами. – Я произнес хвалебную речь, одну из нескольких во время поминальной службы, – сообщил он. – Все это было очень печально. Сотни две голливудских знаменитостей явились выразить свою скорбь. Из них человек десять-пятнадцать были даже знакомы с ним. – Расскажите о доме, – терпеливо попросил Барент. – Вы обыскали его, как мы вас просили? – Да. – И? – И ничего. – Губы Хэрода вытянулись в тонкую линию, углы рта, который так часто кривился в саркастической ухмылке и жесткой иронии, напряглись. – В моем распоряжении была всего пара часов, из них час я потратил на то, чтобы выставить старых любовников Вилли; у них есть ключи от дома, и они слетелись, как стервятники на падаль, ухватить свой кусок наследства… – Их Использовали? – спросил Колбен обеспокоенным голосом. – Нет, не думаю. Вы должны помнить, что Вилли терял силу. Возможно, он слегка их программировал, немного поглаживал центры удовольствия. Но я даже в этом сомневаюсь. С его деньгами и влиянием в киностудиях ему не требовалось ничего этого делать. – Так что насчет обыска? – напомнил Барент. – Да-да. Значит, у меня было около часа. Том Макгайр, поверенный Вилли и мой старый друг, позволил мне покопаться в сейфе Вилли и на его рабочем столе. Ничего особенного. Права на некоторые фильмы, сценарии, немного акций, но не скажешь, что это контрольные пакеты. Вилли, в основном, вкладывал деньги в кино. Масса деловых писем, однако почти ничего личного. Вы знаете, завещание было прочитано вчера. Мне достался дом – если я смогу заплатить эти долбаные налоги. Остаток со своего банковского счета он завещал Обществу защиты животных. – Защиты животных? – переспросил Траск. – Клянусь задницей. Старина Вилли помешался на правах животных. Вечно жаловался, что с ними плохо обращаются во время съемок, добивался принятия новых законов и прочая херня. – Продолжайте, – сказал Барент. – Там не было бумаг, которые пролили бы свет на прошлое Вилли? – Нет. – И ничего не указывало на его Способность? – Ничего. – Ни одного упоминания о ком-нибудь из нас? – спросил Саттер. Хэрод выпрямился: – Разумеется, нет. Вы же знаете, Вилли ничего не было известно о Клубе. Барент кивнул и сложил пальцы домиком: – Тут не может быть случайной ошибки? – Исключено. – А между тем он знал о вашей Способности? – Конечно. Но вы же сами много лет назад решили, что можно позволить ему. Вы мне это сказали, когда велели познакомиться с ним. – Да. – Кроме того, Вилли всегда считал, что моя Способность слабее и не так надежна, как у него. Из-за того, что у меня не было необходимости Использовать кого бы то ни было на полную мощь, и из-за… моих склонностей. – Не использовать мужчин, – подсказал Траск. – Из-за моих склонностей, – повторил Хэрод. – Да какого хрена Вилли вообще знал? Он смотрел на меня сверху вниз, даже когда он потерял все, кроме способности держать в узде Рейнольдса и Лугара, а они оба страх как любили, когда их возбуждают. Хотя и тут у него по большей части ни черта не получалось. Барент снова кивнул: – Значит, вы считаете, что он больше не мог Использовать кого-то для ликвидации других людей? Хэрод усмехнулся: – Куда ему. Он мог бы Использовать этих своих недоумков или одного из любовников, но он был не такой дурак, чтобы делать это. – И вы позволили ему лететь в Чарлстон на встречу с теми двумя женщинами? – спросил Кеплер. Хэрод стиснул спинку стула: – Что вы хотите этим сказать? Черт, конечно, я позволил ему! В мою задачу входило наблюдать за Вилли, а не держать его на привязи. Он летал по всему свету. – И что, по-вашему, он делал на этих встречах? – спросил Барент. Хэрод пожал плечами: – Тосковал по старым временам, трепался с этими двумя призраками из прошлого. Откуда я знаю, может, он продолжал трахать этих старых ведьм? Да и потом, он и отсутствовал-то всего дня два-три, как правило. Никаких проблем никогда не возникало. Барент повернулся к Колбену и кивнул. Тот открыл кейс, вытащил коричневую книжку, похожую на небольшой фотоальбом, и протянул ее Хэроду. – Это что за чертовщина? – Посмотрите, – велел Барент. Хэрод перелистал альбом, сначала быстро, потом помедленнее. Некоторые из газетных вырезок он прочитал от начала до конца. Закончив читать, он снял свои темные очки. Никто не произнес ни слова. Где-то на Эм-стрит прогудела машина. – Эта штука не принадлежала Вилли, – заговорил наконец Хэрод. – Верно, – подтвердил Барент. – Она принадлежала Нине Дрейтон. – Невероятно, – пробормотал Хэрод. – Этого не может быть. Старая кляча просто выжила из ума, у нее какая-то мания величия. Она мечтала, чтобы все было как в старые добрые времена. – Нет, – отрезал Барент. – По нашим данным, она присутствовала при всех событиях. Весьма вероятно, что это – ее рук дело. – Ну и дерьмо! – воскликнул Хэрод. Он снова надел очки и потер щеки. – Как это к вам попало? Нашли в ее нью-йоркской квартире? – Нет, – ответил Колбен. – Наш человек был в Чарлстоне в связи с авиакатастрофой, в которой погиб Вилли. Ему удалось взять эту книжку во время осмотра вещей Нины Дрейтон до того, как ее обнаружили местные власти. – Вы уверены? – спросил Хэрод. – Да. – Вопрос заключается в том, – сказал Барент, – продолжали ли эти трое играть в какой-то вариант своей старой венской Игры? И если так, были ли у вашего друга Вилли какие-либо записи, похожие на эти? Хэрод молча покачал головой. Колбен вытащил из кейса досье: – Среди обломков самолета ничего определенного найти не удалось. Конечно, надо принять во внимание, что там вообще мало что осталось. Еще не найдены тела половины пассажиров, а те, что извлечены из болота, изуродованы до неузнаваемости. Взрыв был сильным, местность болотистая, и это затрудняет поиски. Весьма сложная ситуация для расследования. – Которая же из этих старых сук сделала это? – спросил Хэрод. – Мы пока не уверены, – сказал Колбен, – однако похоже, что подруга Вилли мисс Фуллер дожила до понедельника. Так что она возможный кандидат в диверсанты. – Какая дурацкая смерть выпала Вилли, – пробормотал Хэрод, ни к кому не обращаясь. – Если только он действительно погиб, – заметил Барент. – Что? – Хэрод откинулся назад, ноги его выпрямились, каблуки прочертили черные полосы на дубовом паркете. – Вы думаете, он не погиб? Его не было на борту? – Сотрудник авиакомпании помнит, что Вилли и его друзья поднимались по трапу, – сказал Колбен. – Они о чем-то спорили – Вилли и его черный коллега. – Дженсен Лугар, – кивнул Хэрод. – Эта безмозглая черножопая скотина. – Но нет никаких гарантий, что они вошли в самолет, – продолжил Барент. – Сотрудника кто-то окликнул, и он на несколько минут отвлекся, прежде чем отъехал трап. – Но ведь нет данных и о том, что Вилли не было на борту самолета, – настаивал Хэрод. Колбен убрал досье: – Верно. Однако до тех пор, пока его тело не будет обнаружено, мы не можем с уверенностью полагать, что он… э-э-э… нейтрализован. – Нейтрализован… – эхом откликнулся Хэрод. Барент встал, подошел к окну и раздвинул тяжелые шторы. В дневном свете кожа его казалась фарфорово-гладкой. – Мистер Хэрод, существует ли вероятность, что Вилли фон Борхерт знал о Клубе Островитян? Голова Тони резко запрокинулась, словно кто-то дал ему пощечину. – Нет. Абсолютно исключено. – Вы уверены? – Конечно. – Вы никогда не упоминали о нем, хотя бы косвенно? – Да зачем мне это нужно? Нет, нет, черт возьми! Вилли ничего не знал об этом. – Вы уверены? – Барент уперся взглядом в бледное лицо Хэрода. – Вилли был стариком, древним стариком. Он уже помешался оттого, что не мог больше Использовать людей, в особенности для убийства. Я говорю «убивать», Колбен, а вовсе не «нейтрализовать», или «аннулировать страховку», или «прикончить с крайним предубеждением», или еще какой-нибудь дурацкий эвфемизм вашей конторы. Вилли убивал, чтобы оставаться молодым, а потом он уже не мог этого делать, и бедный старый пердун просто высох, как слива на солнце. Если бы он что-то знал про ваш чертов Клуб Островитян, он бы давно ползал тут на коленях, умоляя впустить его. – Но это ведь и ваш клуб, Тони, – холодно бросил Барент. – Слышал, слышал. Только я еще не был на острове, откуда же мне знать, мой он или нет? – Этим летом вас пригласят на вторую неделю, – сообщил Барент. – Первая неделя не совсем… необходима, не так ли? – Может, и нет. Но мне, в общем, хотелось бы поболтаться среди богатых и могущественных людей. Не говоря уже о том, что я не прочь и приласкать кого-нибудь. Барент рассмеялся, его смех поддержал еще кое-кто. – Бог ты мой, Тони, – сказал Саттер, – вам что, не хватает этого добра в Голливуде? – Да и потом, – вмешался Траск, – не думаете ли вы, что вам придется тяжело? Имея в виду список гостей, приглашенных на первую неделю… Я хочу сказать, в свете ваших склонностей… Хэрод повернулся и смерил говорившего убийственным взглядом. Глаза его превратились в узкие щелочки на бледной маске. Медленно, словно досылая с каждым словом патрон в патронник, он процедил: – Вы знаете, что я имел в виду. Не надо пудрить мне мозги. – Да. – Голос Барента прозвучал успокаивающе, британский акцент слышался явственнее. – Мы знаем, что вы имели в виду, мистер Хэрод. И в этом году вы, возможно, получите желаемое. Вы в курсе, кто будет на острове в июне? Хэрод пожал плечами и отвернулся: – Обычная толпа мальчишек, дорвавшихся до летних лагерей, я так думаю. Наверняка опять Генри Кисс. Возможно, еще какой-нибудь экс-президент. – Два экс-президента, – улыбнулся Барент. – Плюс канцлер Западной Германии. Но все это не важно. Там будет и наш следующий президент. – Следующий?.. Черт возьми, вы же только что засунули в это кресло своего человека! – Да, но он ведь такой старый, – протянул Траск, и все расхохотались, как будто это была любимая шутка, понятная только им. – Серьезно, – продолжил Барент, – этот год – ваш год, мистер Хэрод. Как только вы поможете нам разобраться с безобразием в Чарлстоне, со всеми его деталями, не останется никаких препятствий на вашем пути к полноправному членству в Клубе. – Какие детали вы имеете в виду? – Во-первых, помогите нам убедиться, что Уильям Д. Борден, он же герр Вильгельм фон Борхерт, мертв. Мы же тем временем продолжим свое собственное расследование. Возможно, скоро будет найдено его тело. Ваша информация позволит хотя бы исключить другие варианты, если они возникнут. – О’кей. Что еще? – Во-вторых, проведите тщательное обследование всего, что осталось от имущества мистера Бордена, пока до него не добрались другие… мм… стервятники. Удостоверьтесь, что он не оставил ничего, что могло бы поставить кого-нибудь в неловкое положение. – Я вылетаю в Голливуд сегодня вечером, – сообщил Хэрод. – Утром буду в особняке Вилли. – Отлично. В-третьих, мы ожидаем, что вы поможете нам относительно самой последней детали в Чарлстоне. – Какой детали? – Особа, убившая Нину Дрейтон и почти наверняка ответственная за смерть вашего друга Вилли, – Мелани Фуллер. – Вы думаете, она все еще жива? – Да. – И вы хотите, чтобы я помог вам найти ее? – Нет, – сказал Колбен. – Мы сами найдем ее. – А что, если она покинула страну? Я бы на ее месте так и поступил. – Мы найдем ее, – повторил Колбен. – Тогда что должен делать я? – Мы хотим, чтобы вы аннулировали ее страховку, – пояснил Колбен. – Нейтрализовали ее, – вставил Траск с сухой улыбкой. – Прикончили ее с крайним предубеждением, – добавил Кеплер. Хэрод моргнул и посмотрел на Барента, все еще стоявшего у окна. Тот повернулся к нему и улыбнулся: – Пора платить вступительный взнос, мистер Хэрод. Мы найдем эту даму. А вы должны будете убить эту настырную суку.* * *
Хэроду и Марии Чэнь пришлось вылететь из международного аэропорта Далласа, чтобы попасть на прямой самолет до Лос-Анджелеса. По техническим причинам рейс задержали на двадцать минут. Хэроду страшно хотелось выпить. Он теперь не мог летать. Прежде всего, он не любил оказываться в чьей-то власти, а летать самолетом означало для него именно это. Он знал все статистические данные о безопасности полетов, но как раз это для него ничего не значило. В его воображении постоянно возникала картина останков самолета, разбросанных на несколько десятков километров, искореженные куски металла, все еще раскаленные добела, розовые и красные части тел, валявшиеся в траве, словно ломти семги, сохнувшие на солнце. «Бедный Вилли», – подумал он про себя. – И почему они не разносят эти чертовы напитки перед взлетом, как раз когда надо выпить? – возмутился он вслух. Мария Чэнь улыбнулась. Самолет наконец вырулил на старт, уже горели огни взлетной полосы, и едва они поднялись над толстым слоем облаков, как попали в последние лучи заходящего солнца – правда, всего на несколько минут. Хэрод открыл портфель и вытащил тяжелую стопку сценариев, из которых можно было что-то сделать. Два из них оказались слишком длинными, больше ста пятидесяти страниц, и он, не читая, бросил их назад в портфель. Первую страницу следующего творения было невозможно читать, и он тоже отложил его. Он уже пробежал восемь страниц четвертой рукописи, когда к ним подошла стюардесса узнать, что они будут пить. – Виски со льдом, – сказал Хэрод. Мария Чэнь от напитков отказалась. Хэрод поднял глаза на молоденькую стюардессу, которая принесла заказ. Он считал, что, когда авиакомпании отступили перед обвинениями в дискриминации по половому признаку и стали разбавлять стюардесс стюардами, произошло одно из самых идиотских событий в корпоративной истории. Даже стюардессы в нынешние времена казались Хэроду старше и неказистее, чем раньше. Но эта девушка явно была исключением: молоденькая, чистенькая, а вовсе не типичный сегодняшний манекен, и на вид приятно сексуальная – эдакая девочка-крестьянка. Похоже, скандинавка. Блондинка с голубыми глазами и слегка раскрасневшимися щеками, усыпанными веснушками. Полные груди, возможно, слишком полные для ее роста; приятно было смотреть, как они выпирают из синего с золотом жакета. – Спасибо, дорогая, – сказал Хэрод, когда она поставила стакан на небольшой столик перед ним. Она выпрямилась, и в этот момент он коснулся ее руки. – Как тебя зовут? – Кристен. – Девушка улыбнулась, но впечатление от улыбки было испорчено торопливостью, с какой она отдернула руку. – Друзья зовут меня Крис. – Ну что ж, Крис, присядь на минутку. – Хэрод похлопал по широкому подлокотнику. – Поболтаем немного. Она снова улыбнулась, но улыбка вышла беглой, почти механической. – Прошу прощения, сэр. Мы уже опаздываем, а мне еще надо приготовить к раздаче обед. – Я вот читаю киносценарий, – сказал он. – Скорее всего, я и буду его продюсером. Тут есть одна роль, она словно специально написана для красотки вроде тебя. – Благодарю, сэр, но мне действительно нужно помочь Лори и Курту приготовить все к обеду. Стюардесса собралась идти, но Хэрод схватил ее за руку: – Тебя не затруднит принести мне еще виски со льдом? А после можешь заняться своими играми с Лори и Куртом. Девушка медленно отняла руку, явно подавляя желание потереть то место, где он ее стиснул. Она уже не улыбалась. Обед – бифштекс и омара – ему принесла Лори, но второй порции виски Хэрод так и не дождался. К обеду он не притронулся. За окном было темно, на конце крыла помигивали красные бортовые огни. Хэрод включил лампочку для чтения у себя над головой, но затем отложил сценарий. Он наблюдал за Кристен, деловито расхаживающей по салону. Нетронутый обед Хэрода убрал Курт. – Хотите еще кофе, сэр? Он не ответил, глядя, как стюардесса-блондинка зубоскалит с бизнесменом. Потом она принесла подушку сонному ребенку лет пяти, что сидел с матерью на два ряда впереди него. – Тони… – начала было Мария Чэнь. – Заткнись, – бросил Хэрод. Он дождался момента, когда Курт и Лори занялись чем-то в другой части салона, а Кристен осталась одна возле переднего туалета, и встал. Девушка повернулась боком, чтобы пропустить Хэрода, но в остальном, казалось, не замечала его. Туалет был свободен. Он вошел, потом снова открыл дверь и выглянул: – Прошу прощения, мисс… – Да? – Похоже, тут не работает кран. – Нет напора? – Вообще вода не идет. – Хэрод шагнул в сторону, пропуская стюардессу, потом оглянулся: пассажиры первого класса слушали музыку через наушники, читали либо дремали; только Мария Чэнь смотрела в их сторону. – Да нет, вроде все нормально, – сказала Кристен. Хэрод вошел следом и запер за собой дверь. Девушка выпрямилась и удивленно повернулась. Прежде чем она успела что-то сказать, он схватил ее за руку, чуть повыше локтя. Тихо. Он почти вплотную приблизился к ней. Помещение было крохотным, вибрация двигателей отдавалась в переборках и металлической стойке. Глаза девушки широко раскрылись, она пошевелила губами, пытаясь что-то сказать, но Хэрод мысленно дал команду, и она так ничего и не успела вымолвить. Он сверлил ее взглядом, и сила этого взгляда была мощнее, чем рука, стиснувшая ее плоть. Хэрод почувствовал сопротивление и еще одним толчком подавил его. Он поймал поток ее мыслей и толкал все сильнее, преодолевая сопротивление, как человек, идущий по реке против течения. Он чувствовал, как она мечется, сначала физически, а потом уже только мысленно, и придавил ее мечущееся сознание так же крепко, как давным-давно, в детстве, придавил к земле свою кузину Элизабет, когда они боролись. Хэрод тогда случайно оказался сверху и держал Элизабет за кисти рук, прижимая их к земле, а нижняя часть его тела попала между ее бедер. Он помнил свое смятение и возбуждение, вызванные внезапной эрекцией и тщетными, отчаянными попытками беспомощной пленницы высвободиться. Прекрати. Сопротивление Кристен ослабло. Хэрод почувствовал при этом что-то вроде резкого, пронизывающего все тело тепла, охватывающего его всякий раз, когда он физически проникал в женщину. Наступила внезапная тишина, его воля заполнила ее сознание, оно слабело, как гаснущий свет. Хэрод не препятствовал. Он не пытался проскользнуть в извилины ее мозга, к теплому центру удовольствия там, внутри ее существа. Он вовсе не хотел тратить время на то, чтобы приласкать, погладить этот центр. Ему не было дела до ее наслаждения, он хотел от нее лишь одного – повиновения. Не двигаться. Хэрод приблизил свое лицо к лицу девушки. На раскрасневшихся щеках Кристен золотился едва заметный пушок. Глаза ее раскрылись широко-широко, голубизна их стала ярче, зрачки неестественно расширились. Влажные губы тоже раскрылись. Хэрод коснулся ее щеки, слегка укусил полную нижнюю губу и просунул язык ей в рот. Кристен не шелохнулась, лишь слабо выдохнула. Во рту у нее сохранился вкус мятной конфеты. Хэрод еще раз укусил ее губу, на этот раз сильнее, потом отодвинулся и улыбнулся. С губы скатилась крохотная капелька крови и повисла на подбородке. Взгляд девушки был устремлен куда-то сквозь Хэрода – неподвижный и бесстрастный, но где-то в глубине зрачков притаился огонек страха, как у животного, запертого в клетке. Хэрод отпустил ее руку и провел ладонью по щеке. Он наслаждался беспомощными метаниями ее воли и своей уверенной, твердой властью над ней. Ее паническое состояние действовало на него как сильный аромат духов. Не обращая внимания на потоки мольбы в ее корчащемся сознании, он прошел хорошо отработанным путем к двигательному центру. Он лепил ее сознание так же уверенно, как сильные руки месят тесто. Кристен снова вздохнула. Стой тихо. Хэрод стянул с нее жакет и, скомкав, бросил на стойку умывальника. Крошечная кабинка, резонирующая от рокота двигателей, наполнилась шумом его дыхания. Самолет слегка накренился, и Хэрода качнуло к девушке; их бедра соприкоснулись. Возбуждение только усиливало его власть над ней. Молчи. На стюардессе был шелковый шарф цветов авиалинии – красный с синим, концы его были спрятаны в бежевую блузку. Хэрод оставил шарф на месте и уверенными движениями расстегнул блузку. Девушка задрожала, но он крепче сжал тиски ее сознания, и дрожь прекратилась. Она носила простой белый бюстгальтер. Груди ее, тяжелые и бледные, округло выпирали там, где кончалась ткань. Хэрод почувствовал, как в нем поднялась неизбежная волна нежности, любви и ощущения потери – всего того, что он всегда чувствовал в таких случаях. Но это никак не уменьшало его власти над женщиной. Ее рот слегка скривился, пальцы задергались. Не двигаться. Он расстегнул лифчик и сдвинул его вверх, потом распахнул полы своей куртки и расстегнул рубашку. Грудь у нее оказалась еще больше, чем он думал, он ощущал ее тяжесть при прикосновении. Кожа была такой гладкой и белой, соски такими нежными и розовыми, что Хэрод почувствовал, как его горло сжимается от невыносимой любви к ней. Заткнись, заткнись. Стой смирно, сука. Самолет еще круче накренился влево. Хэрод налег на девушку всем весом, потерся о мягкую округлость ее живота. В коридоре послышался шум, кто-то подергал ручку туалета. Хэрод задрал юбку стюардессы, потом грубо рванул вниз колготки и коленом раздвинул ее ноги. Колготки порвались, под ними оказались белые трусики бикини. Широкие бедра и невероятно гладкие упругие ноги тоже покрывал нежный золотистый пушок. Хэрод благодарно закрыл глаза. – Кристен? Ты там? – Ручку снова подергали. – Кристен! Это я, Курт. Хэрод стянул белые трусики и расстегнул свои брюки. Эрекция была почти болезненной. Он коснулся членом ее живота, чуть выше линии лобковых волос, и задрожал от наслаждения. Самолет попал в какие-то воздушные потоки, его бросало то вверх, то вниз. Где-то раздался мягкий, но тревожный звон. Хэрод сжал ее ягодицы, раздвинул ноги шире и вошел в нее как раз в тот момент, когда самолет сильно затрясло. Его пальцы прижались к краю раковины, когда она перенесла вес тела назад, на его руки. Он почувствовал на секунду слабое сопротивление, но сразу вслед за этим невыносимо острое ощущение отдающегося ему тепла. – Кристен? Что за чертовщина? Что происходит? У нас началась болтанка. Кристен! Самолет качнуло вправо. Раковина и крышка унитаза завибрировали. – Вы ищете стюардессу? – Сквозь тонкую дверь послышался голос Марии Чэнь. – Она только что помогала старой леди, той было очень плохо. – Разговор перешел в невнятное бормотание. На груди Кристен поблескивали капельки пота. Хэрод еще плотнее прижал девушку к себе, с нарастающей силой стискивая ее там, внутри, клещами своей воли, чувствуя самого себя сквозь грубое отражение ее мыслей – как он скользит в ней, потом уходит, ощущая соленость ее плоти и такой же острый, соленый запах ее страха и паники. Двигая ее в своем ритме, словно большую мягкую куклу, он чувствовал, как в ней нарастает оргазм… Нет, это было в нем, два потока каскадом слились в одну темную, бурлящую воронку страсти. – Конечно, я скажу ей, – проговорила Мария Чэнь. В нескольких сантиметрах от лица Хэрода раздался тихий стук. Он судорожно вздохнул и зарылся подбородком в ямочку у шеи девушки. Голова ее была запрокинута, рот застыл в немом крике, невидящие глаза устремлены в низкий потолок. Самолет тряхнуло, повело в сторону. Хэрод слизнул капельки пота на горле Кристен, наклонился и поднял белые трусики. Трясущимися руками он застегнул ее блузку, сунул порванные колготки в карман своей куртки и расправил складки на юбке девушки. Ноги у нее хорошо загорели, и отсутствие колготок будет не так заметно. Хэрод постепенно ослабил давление. Мысли Кристен путались, воспоминания мешались со сновидениями. Он позволил ей прислониться к раковине, а сам отодвинул защелку. – Сигнал «пристегнуть ремни» уже горит, Тони. – Тоненькая фигурка Марии Чэнь загораживала дверь в туалет. – Иду. – Что? – спросила стюардесса, бессмысленно глядя перед собой невидящим взглядом. Потом она наклонилась над раковиной, и ее стошнило. Мария вошла в туалет и придержала девушку за плечи. Когда рвота кончилась, она вытерла ей лицо мокрым полотенцем. Хэрод стоял в коридоре, прислонившись к стене; самолет бросало, как маленький кораблик в бурном море. – Что? – снова спросила Кристен и уставилась пустым взором на Марию Чэнь. – Я не… помню… почему… Поглаживая лоб девушки, Мария глянула на Хэрода: – Тебе лучше сесть, Тони. Могут быть неприятности, если ты не пристегнешься. Он кивнул, вернулся на свое место и вытащил рукопись, которую читал. Через минуту пришла Мария Чэнь. Самолет немного выровнялся. Сквозь гул моторов было слышно, как впереди Курт о чем-то с тревогой спрашивает стюардессу. – Не знаю, – бесцветным голосом отвечала Кристен. – Я не знаю. Хэрод, уже не обращая на них внимания, принялся делать пометки на полях рукописи. Через некоторое время он поднял глаза и увидел, что Мария Чэнь смотрит на него. Он улыбнулся: – Терпеть не могу, когда заказываешь выпивку, а ее не приносят. Мария Чэнь отвернулась и стала глядеть в темноту, на мигающие красные огни на крыле самолета.* * *
На следующий день рано утром Хэрод поехал к особняку Вилли. Охранник у ворот издали узнал его машину, и, когда красный «феррари» остановился, он уже открыл ворота. – Привет, Чак. – Доброе утро, мистер Хэрод. Не привык видеть вас здесь так рано. – Да я сам к такому не привык. Но надо просмотреть кое-какие деловые бумаги. Приходится разбираться с финансовыми проблемами нескольких новых проектов, в которые нас втянул Вилли. Особенно с этим чертовым «Торговцем рабынями». – Да, сэр, я читал. В газетах про это пишут. – Охрана пока на месте? – Да. По крайней мере до аукциона в следующем месяце. – Макгайр вам платит? – Да, сэр. Из того, что оставлено по завещанию. – Ну ладно, увидимся, Чак. Держи ухо востро. – Вы тоже, мистер Хэрод. Мотор приятно взревел, «феррари» тронулся с места и помчался по длинной дорожке, ведущей к дому. Аллея была обсажена тополями, и при движении лучи утреннего солнца, казалось, вращались, пробиваясь сквозь ветви. Хэрод объехал высохший фонтан перед главным входом и остановился возле западного крыла, где находился кабинет Вилли. Особняк в Бел-Эйр походил на дворец, перенесенный сюда, на север, из какой-нибудь банановой республики. Солнечный свет падал на бесчисленную лепнину, красную плитку и окна со множеством переплетов. Несколько дверей выходили во внутренний двор, через который по мощенным плиткой коридорам можно было попасть в другие дворы. Казалось, поколение за поколением понемногу строили этот дом, тогда как на самом деле его воздвигли жарким летом 1938 года для не слишком известного киномагната, умершего три года спустя во время просмотра отснятого за день материала. Своим ключом Хэрод открыл дверь в западном крыле. Сквозь жалюзи на ковер комнаты, где обычно сновали секретарши, падали желтые полосы. Помещение было аккуратно прибрано, пишущие машинки закрыты чехлами, на столах – ничего лишнего. Хэрода неожиданно больно кольнуло воспоминание о том, какой здесь обычно царил хаос с непрерывными телефонными звонками и постоянным канцелярским шумом. Кабинет Вилли был через две двери, за конференц-залом. Хэрод вошел в кабинет, вытащил из кармана листок бумаги и открыл сейф. Потом разложил на большом белом столе разноцветные папки с документами – для каждого типа бумаг свой цвет, окинул их взглядом и вздохнул. День предстоял длинный и тоскливый. Три часа спустя он потянулся, зевнул и отодвинул кресло от заваленного бумагами стола. Их содержание вряд ли смутило бы кого-либо, кроме нескольких любителей халявы в Голливуде да поклонников качественного кино. Хэрод встал и немного побоксировал с тенью, наслаждаясь своей быстротой и ловкостью в новых адидасовских кроссовках. На нем был голубойспортивный костюм для бега, молнии на запястьях и щиколотках расстегнуты. Он вдруг понял, что хочет есть. Легко, почти бесшумно двигаясь по выложенному плиткой полу, Хэрод прошел через западное крыло, вышел во двор с фонтаном, пересек крытую террасу, на которой вполне могла бы разместиться конференция Гильдии киноактеров, и вошел через южную дверь в кухню. В холодильнике все еще было полно еды. Он открыл большую бутылку шампанского и начал намазывать майонез на кусок багета, когда услышал какой-то шум. С бутылкой шампанского в руке, он пересек огромную столовую и вошел в гостиную. – Эй, какого хрена ты тут делаешь? – заорал Хэрод. Метрах в десяти от него кто-то ковырялся в видеокассетах на полке Вилли. Человек быстро выпрямился, тень его упала на четырехметровый экран в углу. – А-а, это ты, – успокоился Хэрод. Молодой человек был одним из любовников Вилли, которого Хэрод и Том Макгайр прогнали отсюда несколько дней назад. Он был очень молод, белокур и мог похвастать таким загаром, какой лишь немногие в мире люди имеют возможность поддерживать. Ростом под метр девяносто, парень был одет только в тесные шорты из коротко обрезанных джинсов и легкие сандалии. На обнаженном торсе волнами перекатывались мускулы. Грудные и дельтавидные мышцы свидетельствовали о долгих часах упорных тренировок. Глядя на его живот, можно было подумать, что кто-то ежедневно крошит на нем камни. – Да, я. Тебе что-то не нравится? Хэрод отметил, что голос у парня как у морского пехотинца, а не педика с пляжа Малибу. Он устало вздохнул, сделал глоток из бутылки и вытер рот. – Иди-ка домой, малыш. Сюда вход воспрещен. Тебе, во всяком случае. Загорелый купидон надулся: – Почему это? Билл был моим лучшим другом. Я имею право тут находиться. Нас связывало глубокое чувство. – Ну да, и у вас была одна баночка вазелина на двоих. А теперь катись отсюда к черту, пока тебя не вышвырнули. – И кто же это сделает? – Я, – сказал Хэрод. – Ты? А еще кто? – Парень выпрямился во весь рост и поиграл мускулатурой. Хэрод даже не мог сказать, что это было – бицепсы или трицепсы, они как-то переходили друг в друга, вроде тушканчиков, трахающихся под туго натянутым брезентом. – Я и полиция. – Он подошел к телефону, стоявшему на столике у дивана. – Ах, так? – Сопляк вышиб трубку из руки Хэрода и выдернул шнур из розетки. Не удовлетворясь этим, он крякнул и выдрал пятиметровый шнур из стены. Хэрод пожал плечами и поставил бутылку с шампанским: – Успокойся, Брюсик. Есть ведь и другие телефоны. У Вилли было очень много телефонов. Мальчишка быстро шагнул вперед и встал перед Хэродом, загораживая дорогу: – Не так быстро, пидорванец. – Ой-ой-ой, я ведь такого не слышал с тех самых пор, как окончил школу. У тебя за пазухой нет еще чего-нибудь эдакого, а, Брюсик? – Не смей называть меня Брюсиком, засранец. – Ну, это я слышал. – Хэрод попытался обойти парня, но тот уперся пальцами ему в грудь и толкнул. Хэрод ударился о боковую стенку дивана, а его соперник отскочил назад и принял боевую стойку, расставив руки под странным углом. – Каратэ, да? Слушай, не стоит показывать тут свою силу. – В его голосе появились неуверенные нотки. – Пидорванец, – повторил парень. – Ай-ай-ай, повторяешься. Признак надвигающейся старости, – сказал Хэрод и повернулся, будто собираясь бежать, но парень прыгнул вперед. Хэрод же, завершив оборот, ударил бутылкой шампанского в левый висок мальчишки. Бутылка не разбилась, звук был таким, словно дохлой кошкой треснули по большому колоколу, и парень рухнул на одно колено, опустив голову. Хэрод шагнул вперед и представил себе, что бьет одиннадцатиметровый, причем мяч установлен ровно под выступом тяжелой челюсти соперника. – А-а-а! – заорал Тони и, схватившись за свою адидасовскую кроссовку, заскакал на левой ноге. Парнишка отлетел назад, врезался в толстые подушки дивана, затем качнулся вперед и упал на колени перед Хэродом, как кающийся грешник. Тот схватил великолепную мексиканскую лампу с тумбочки рядом и шарахнул ею по красивому лицу. Не в пример бутылке, лампа разлетелась на куски, причем весьма эффектно. Нос парня и другие не столь выдающиеся части его физиономии теперь тоже надо было собирать по кусочкам. Он свалился набок на толстый ковер, как ныряльщик с аквалангом, погружающийся с резиновой лодки. Хэрод перешагнул через него и прошел к телефону на кухне. – Чак? Говорит Тони Хэрод. Оставь Леонарда на воротах и подъезжай на своей машине к дому, ладно? Вилли тут оставил кое-какой мусор. Надо вывезти его на свалку. Вдвоем они доставили любовника Вилли в травмопункт. Вернувшись, Хэрод выпил еще шампанского, закусил бутербродом с паштетом и направился к видеотеке хозяина дома. На полках стояло сотни три кассет. Некоторые из них были копиями ранних триумфально-успешных фильмов Вилли, таких шедевров кино, как «Трое на качелях», «Пляжные утехи», «Воспоминания о Париже». Рядом стояли восемь фильмов, продюсерами которых они с Вилли были совместно, включая «Резню на выпускном», «Погибли дети» и два фильма из сериала «Вальпургиева ночь». Здесь были также старые любимые ленты из ночного кино, экранные пробы, отрывки из разных эпизодов и неудачная попытка Вилли поставить ситком («Его и Ее» – пилотный выпуск и первые три серии). Дальше шло полное собрание порнухи, отснятой Джерри Дамиано,[15] новые ролики, сделанные на студии, и стопки разрозненных кассет. Любовник Вилли успел снять с полки несколько пленок; Хэрод опустился на корточки и принялся их рассматривать. На первой было написано: «А и Б». Он включил проектор и зарядил пленку. В титрах, набранных на компьютере, стояло: «Александр и Байрон 4/23». Первые кадры показали большой плавательный бассейн Вилли. Камера пошла вправо, мимо водопада, к открытой двери в спальню. Худенький молодой человек в красных трусиках бикини выскочил на свет. Он помахал в камеру – жест в точности в духе домашнего кино – и неловко остановился у края бассейна. Хэрод подумал, что вид у него как у анемичной безгрудой Венеры, выходящей из раковины. Вдруг из тени появился этот мускулистый любовник, Брюсик. Плавки на нем были еще короче, и он сразу же принялся демонстрировать мускулы, принимая разные атлетические позы. Тоненький юноша – Александр? – пантомимой изображал восхищение. Хэрод знал, что у Вилли есть отличная система для озвучивания домашних видеосъемок, но этот образчик «синема веритэ» был немым, как ранние работы Чаплина. Любовник-культурист закончил свое представление каким-то особым изгибом торса. К этому моменту Александр уже стоял на коленях – поклонник у ног Адониса. Адонис все еще держал свою позу, когда почитатель потянулся и стащил узкие плавки со своего божества. Загар у божества был действительно идеальный. Хэрод выключил аппарат. – Байрон? – пробормотал Хэрод. – Ни хрена себе. Он вернулся к полкам. Ему пришлось потратить минут пятнадцать, но в конце концов он нашел то, что искал. На наклейке стояла надпись: «В случае моей смерти»; кассета была задвинута между «В крови по локти» и «Во тьме горячей ночи». Хэрод опустился на диван и некоторое время сидел так, поигрывая кассетой. В животе появилась какая-то сосущая пустота, ему очень захотелось выйти и уехать отсюда подальше. Все же он вставил кассету в магнитофон и нажал нужную кнопку. – Здравствуй, Тони, – сказал Вилли с экрана. – Привет из могилы. Изображение было более чем в натуральную величину. Вилли сидел в плетеном кресле на краю своего бассейна. Ветерок шевелил листья пальм за его спиной, но в кадре никого больше не было, даже слуг. В седых волосах старика, зачесанных вперед, виднелись загорелые залысины. На нем была свободная гавайская рубашка в цветочек и мешковатые зеленые шорты. Сердце Хэрода вдруг начало бешено колотиться о ребра. – Если ты нашел эту пленку, – сказало изображение Вилли, – значит, надо полагать, случилось несчастье и меня уже нет с вами. Надеюсь, что ты, Тони, первым нашел мое… мм… последнее послание и смотришь его один. Хэрод сжал кулак. Трудно сказать, когда была сделана запись, но, по всей видимости, недавно. – Надеюсь, ты уладил все остальные дела, – сказал Вилли. – Уверен, что компания будет в хороших руках. Успокойся, дорогой, если мое завещание уже прочитано, то на этой пленке нет каких-либо сюрпризов или дополнений. Дом принадлежит тебе. Это всего лишь дружеская встреча двух старых приятелей, ja? – Ч-черт, – прошипел Хэрод. По спине у него побежали мурашки. – Распоряжайся домом, как тебе хочется. Я знаю, что он тебе никогда особо не нравился, но его легко превратить в капитал и вложить куда-нибудь, если понадобится. Возможно, ты решишь воплотить в жизнь наш маленький проект, «Торговца рабынями», а? Да, запись была совсем свежая. Хэрода пробрала дрожь, хотя было очень тепло. – Тони, мне не так уж много нужно сказать тебе. Ты ведь согласен, что я относился к тебе как к сыну, nicht wahr?[16] Ну, если не как к сыну, то как к любимому племяннику. И это несмотря на то, что ты не всегда был со мной до конца откровенен. У тебя есть друзья, о которых ты мне не говорил… разве не так? Ну что ж, идеальной дружбы не бывает, Тони. Возможно, и я тебе не все рассказывал. Каждый живет своей жизнью, верно? Хэрод сидел выпрямившись, почти не дыша. – Впрочем, теперь это не важно. – Вилли отвернулся от камеры и, прищурившись, уставился на солнечных зайчиков, плясавших на поверхности воды. – Если ты смотришь эту пленку, значит меня уже нет. Никто из нас не вечен, Тони. Ты это поймешь, когда доживешь до моего возраста. – Он снова глянул в объектив. – Это если ты доживешь. – Вилли улыбнулся. Вставные челюсти у него были идеальные. – Я хочу тебе сказать еще три вещи, Тони. Во-первых, я сожалею, что ты так и не научился играть в шахматы. Ты знаешь, как много для меня значили шахматы. Это больше чем игра, мой дорогой друг. Ja, гораздо больше. Ты однажды сказал, что у тебя нет на это времени, ведь тебе надо жить и получать от жизни удовольствие. Ну что ж, никогда не поздно учиться, Тони. Даже мертвец может научить тебя кое-чему. Во-вторых, я должен сказать тебе, что всегда терпеть не мог имя Вилли. Если мы встретимся в следующей жизни, я попрошу тебя обращаться ко мне иначе. Например, герр фон Борхерт… или Гроссмейстер, тоже приемлемо. А ты веришь в загробную жизнь, Тони? Я верю. Интересно, как ты представляешь себе это место? Я всегда видел рай как прекрасный остров, где исполняются все твои желания, где много интересных людей, с которыми стоит разговаривать, и где можно охотиться в свое удовольствие. Приятная картинка, правда? Хэрод моргнул. Ему часто приходилось читать выражение «облиться холодным потом», но никогда не доводилось этого испытывать. А вот сейчас довелось. – И наконец, Тони, у меня к тебе вопрос. Что это за фамилия, Хэрод? Ты утверждаешь, будто происходишь из христианской семьи Среднего Запада, и ты уж точно частенько поминаешь Божью Матерь, но у меня такое впечатление, что имя Хэрод идет из какого-то другого источника. Скажем, Ирод, а? Очень может быть, что мой дорогой племянничек – еврей. Ну ладно, теперь это тоже не имеет значения. Поговорим об этом, если встретимся в раю. Я заканчиваю, Тони. Еще я тут добавил кое-какие отрывки из «новостей». Возможно, они покажутся тебе любопытными, хотя у тебя, как правило, нет времени, чтобы заниматься подобного рода вещами. Прощай, Тони. Или, точнее, Auf Wiedersehn.[17] Вилли помахал камере рукой. На несколько секунд изображение на пленке исчезло, потом появилась запись «новостей» пятимесячной давности о поимке голливудского душителя. За ними последовали еще несколько похожих отрывков – все о бессмысленных убийствах за тот год. Через двадцать пять минут пленка кончилась, и Хэрод выключил магнитофон. Он долго сидел неподвижно, сжав голову руками. Наконец встал, вытащил кассету, сунул ее в карман куртки и вышел. На обратном пути он гнал машину по шоссе со скоростью больше восьмидесяти миль в час. Никто его не остановил. Когда он свернул к своему дому и затормозил под желчным взглядом сатира, его спортивный костюм был мокрым от пота. Хэрод прошел к бару возле джакузи и налил себе большой стакан виски. Осушив его в четыре глотка, он вытащил кассету из кармана, выдернул пленку из пластикового корпуса и распотрошил ее. На то, чтобы сжечь пленку в старом мангале на террасе за бассейном, ушло несколько минут. Среди золы остался расплавленный сгусток. Хэрод несколько раз ударил пустой коробкой от кассеты о каменный дымоход над мангалом, пока пластик не разлетелся на куски. Бросив разломанную коробку в мусорный ящик рядом с хижиной в саду, он вернулся в дом и налил себе еще стакан виски, на сей раз с лимонным соком, затем разделся и залез в джакузи. Хэрод уже почти задремал, когда вошла Мария Чэнь с дневной почтой и диктофоном. – Оставь все здесь, – приказал он и снова закрыл глаза. Через пятнадцать минут он уже сортировал пачку свежих писем, иногда диктуя заметки либо краткие ответы на свой магнитофон «Сони». Пришли еще четыре сценария. Том Макгайр прислал массу бумаг, связанных с приобретением дома Вилли, подготовкой аукциона и уплатой налогов. Из трех приглашений в гости Хэрод взял на заметку только одно. Майкл Мей-Дрейнен, самоуверенный молодой писатель, прислал наспех нацарапанную записку с жалобой на Шуберта Уильямса. Режиссер уже начал переписывать сценарий Дрейнена, а ведь тот еще даже не закончил! Он просит Тони вмешаться, иначе ему, Дрейнену, придется отказаться от проекта. Хэрод отбросил записку в сторону, оставив ее без ответа. Последнее письмо было в небольшом розовом конверте со штампом «Пасифик-Плэйсиз». Хэрод вскрыл его. Бумага цветная, с мягким ароматом духов, почерк детский, плотный, с сильным наклоном.Уважаемый мистер Хэрод! Я не знаю, что нашло на меня тогда, в субботу. Я вряд ли смогу это понять. Но я не виню Вас и прощаю, хотя никогда не смогу простить себя. Сегодня Лорен Сейлз, мой агент, получила пакет бумаг, связанных с договором по Вашему предложению относительно фильма. Я сказала Лорен и своей матери, что тут какая-то ошибка. Я сообщила им, что беседовала с мистером Борденом о фильме незадолго до его смерти, но не давала никаких твердых обещаний. Мистер Хэрод, на данном этапе своей карьеры я не могу связывать мою судьбу с таким проектом. Уверена, Вы понимаете, в какой ситуации я нахожусь. Это вовсе не означает, что в дальнейшем мы не сможем работать вместе над каким-нибудь фильмом. Надеюсь, Вы примете мое решение и устраните все препятствия или сомнительного свойства детали, которые могли бы повредить такому сотрудничеству в будущем. Я уверена, что могу положиться на Вас в данной ситуации, мистер Хэрод. В прошлую субботу Вы упомянули, что знаете: я принадлежу к церкви Святых Последних Дней. Вы должны понять, что вера моя очень крепка и моя преданность Богу и Его законам для меня превыше всяких других соображений. Я молю Бога, чтобы Он помог Вам увидеть правильный путь, и в глубине души уверена, что так и будет. Искренне Ваша,Хэрод вложил письмо обратно в конверт. Шейла Баррингтон. Он совсем забыл про нее. Взяв в руку крохотный микрофон, он начал диктовать: – Мария, письмо Тому Макгайру. Дорогой Том, я разберусь с этими бумагами в первую очередь, как только смогу. По поводу аукциона действуйте как договорились. Абзац. Счастлив слышать, что вам понравились эротические ролики, которые я послал на день рождения Кела. Я не сомневался, что они придутся вам по вкусу. Высылаю еще одну кассету, она тоже должна вам понравиться. Не задавайте вопросов, а просто наслаждайтесь. Можете сделать столько копий, сколько захотите. Марв Сэндборн и парни из «Четырех звездочек», возможно, тоже захотят повеселиться. Абзац. Перешлю вам бумаги в самое ближайшее время. Моя бухгалтерия с вами свяжется. Абзац. Привет Саре и ребятам. Всего наилучшего! Да, Мария, не забудь дать мне это сегодня на подпись, ладно? Вложи видеокассету номер сто шестьдесят пять и отправь все с доставкой.Шейла Баррингтон
Глава 6
Чарлстон
Вторник, 16 декабря 1980 г.
Молодая женщина стояла неподвижно, крепко сжимая в руках пистолет, направленный в грудь Сола Ласки. Сол знал, что, если он попытается выйти из гардероба, она может выстрелить, но никакая сила на свете не могла удержать его в этом темном углу, воняющем рвом. На подгибающихся ногах он выбрался из шкафа и стоял теперь в сумеречном свете спальни. Женщина шагнула назад, но пистолет не опустила и не выстрелила. Сол сделал один глубокий вдох, второй. Он разглядел, что женщина была молодой и чернокожей, на ее белом плаще и коротких вьющихся волосах поблескивали капли влаги. Возможно, она была даже привлекательной, но Сол не мог сосредоточиться ни на чем, кроме оружия, которое она направляла на него. Это был небольшой автоматический пистолет, скорее всего 32-го калибра, однако, несмотря на его маленькие размеры, темная дыра в стволе прочно приковала внимание Сола. – Поднимите руки, – приказала она. Голос звучал ровно, с чувственной ноткой и южным акцентом. Он подчинился и сомкнул пальцы за головой. – Кто вы? – спросила девушка. Она по-прежнему держала пистолет обеими руками, хотя вряд ли умела хорошо обращаться с оружием. Расстояние между ними было немногим больше метра, и Сол знал, что у него есть неплохие шансы выбить ствол, прежде чем она успеет нажать на курок, однако он не стал этого делать. – Кто вы? – повторила она. – Меня зовут Сол Ласки. – Что вы здесь делаете? – Я мог бы задать вам тот же вопрос. – Говорите! – Девушка подняла пистолет, как будто это могло подсказать ему ответ. Сол понял, что имеет дело с любительницей детективных фильмов, где оружие действовало как волшебная палочка. Он пригляделся к девушке повнимательнее. Она была еще моложе, чем ему показалось вначале, может, чуть больше двадцати. Привлекательное овальное лицо с тонкими чертами, полными губами и огромными глазами казалось гораздо темнее в тусклом свете. Кожа напоминала по цвету кофе со сливками. – Я просто осматриваю помещение, – сказал Ласки. Его голос звучал ровно, но он с интересом отметил, что его тело реагирует на направленное оружие точно так же, как и всегда: ему захотелось сжаться в комок и спрятаться за кем угодно, хоть за самим собой. – Полиция закрыла сюда доступ, – сказала девушка. Сол заметил, что она произносит слово «полиция» совсем не так, как многие черные американцы в Нью-Йорке. – Дом опечатан. – Да, я знаю. – Так что же вы здесь делаете? Он медлил, глядя ей в глаза. Они выражали беспокойство, напряжение и четкую решимость. Эти чувства, такие человеческие, ободрили его и заставили сказать правду. – Я доктор, психиатр. Меня интересуют убийства, которые произошли тут на прошлой неделе. – Психиатр? – В голосе молодой женщины послышалось сомнение, однако пистолет не шелохнулся. В доме теперь стало совершенно темно, свет доходил сюда лишь от газового рожка во дворе. – А почему вы забрались, как вор? Ласки пожал плечами. У него затекли руки. – Можно мне опустить руки? – Нет. Он кивнул: – Я боялся, что власти не позволят мне осмотреть дом. Хотел найти здесь что-нибудь, что может пролить свет на эти события. Но, похоже, ничего такого нет. – Я должна вызвать полицию, – сказала девушка. – Конечно, – согласился Сол. – Внизу телефона я не заметил, но где-то он должен быть. Давайте позвоним шерифу Гентри. Мне будет предъявлено обвинение в незаконном проникновении в помещение, а вас, я думаю, обвинят в том же плюс то, что вы мне угрожали, и в незаконном владении оружием. Полагаю, оно не зарегистрировано? Когда он упомянул фамилию шерифа, девушка подняла голову, не обратив внимания на его последний вопрос. – Что вам известно об убийствах… в субботу? – Ее голос едва не прервался на слове «убийствах». Сол прогнул спину, чтобы хоть как-то облегчить боль в шее и руках. – Я знаю только то, о чем прочел в газетах, – ответил он. – Хотя и был знаком с одной из женщин, замешанных в этом деле, с Ниной Дрейтон. Мне кажется, здесь все гораздо сложнее, чем представляют себе полицейские, шериф Гентри и этот фэбээровец, Хейнс. – Что вы хотите сказать? – Только то, что в субботу в городе погибли девять человек и никто ничего не может объяснить, – ответил Сол. – И тем не менее я полагаю, что здесь есть общий связующий элемент, который власти совершенно упустили из виду. У меня болят руки, мисс. Я их сейчас опущу, но больше никаких движений делать не буду. – Он опустил руки, прежде чем она успела что-либо возразить. Девушка отступила на полшага. Атмосфера старого дома сгустилась вокруг них. Где-то на улице заиграло радио в машине, но его сразу выключили. – Я думаю, вы лжете, – медленно проговорила незнакомка. – Скорее всего, вы обычный вор или чокнутый охотник за сувенирами. А может, вы сами как-то связаны с этими убийствами? Сол ничего не ответил, сосредоточенно глядя на нее в темноте. Маленький пистолет в ее руках был уже еле различим. Он чувствовал, что она колеблется. Через несколько мгновений он заговорил: – Престон, Джозеф Престон, фотограф. Вы его жена? Нет, вряд ли. Шериф Гентри сказал, что мистер Престон жил здесь в течение… двадцати шести лет, кажется. Так что, скорее всего, вы его дочь. Да, дочь. Девушка отступила еще на шаг назад. – Вашего отца убили на улице, – продолжил Сол. – Убили зверски и бессмысленно. Власти не могут сказать вам ничего определенного, а то, что они говорят, вас совершенно не удовлетворяет, поэтому вы решили действовать сами. Возможно, вы наблюдаете за этим домом уже несколько дней в надежде что-то выяснить. И тут появляется какой-то еврей из Нью-Йорка, в белой кепке, и лезет через забор. Конечно, вы понимаете, что такой шанс упускать нельзя. Так? Молодая женщина по-прежнему молчала, но пистолет опустила. Солу показалось, что плечи ее дрогнули. Уж не плачет ли она? – Ну что ж. – Он слегка коснулся ее руки. – Возможно, я смогу вам чем-то помочь. Вдвоем нам проще будет найти объяснение этому безумию. Пойдемте отсюда, в этом доме пахнет смертью.* * *
Дождь прекратился. В саду пахло мокрыми листьями и землей. Девушка провела Сола к дальней стене каретного сарая, к дыре, проделанной между старой чугунной решеткой и новой стальной сеткой. Он протиснулся в дыру вслед за ней, заметив, что она сунула пистолет в карман своего плаща. Они пошли по переулку, гравий тихо скрипел у них под ногами. – Откуда вы узнали? – спросила она. – Догадался. Дойдя до перекрестка, они остановились и некоторое время стояли молча. – Моя машина там, у парадного входа. – Да? А как же вы меня увидели? – Я заметила вас, когда вы проезжали мимо. Вы очень пристально вглядывались в окна и почти остановились перед домом. После того как ваша машина свернула за угол, я пошла сюда, чтобы проверить. – Гм… Из меня получился бы плохой шпион. – Вы действительно психиатр? – Да. – Но вы не из здешних мест. – Нет, из Нью-Йорка. Я иногда работаю в клинике Колумбийского университета. – Вы американец? – Да. – А ваш акцент… немецкий? – Нет. Я родился в Польше. Как вас зовут? – Натали. Натали Престон. Мой отец был… Ну, вы все знаете. – Я очень мало знаю. А в данный момент с уверенностью могу сказать только одно. – И что же? – Лицо молодой женщины казалось очень напряженным. – Что я умираю с голоду. Ничего не ел с самого утра, не считая чашки жуткого кофе, выпитого в кабинете шерифа. Если вы согласитесь поужинать со мной где-нибудь, мы могли бы продолжить беседу. – Да. Но только при двух условиях, – кивнула Натали Престон. – Каких? – Во-первых, вы мне расскажете все, что знаете по поводу гибели моего отца. Все, что может ее как-то объяснить. – А во-вторых? – Вы снимете свою промокшую кепку, когда мы будем есть. – Согласен.* * *
Ресторан назывался «У Генри» и располагался совсем недалеко, возле старого рынка. Снаружи он выглядел не очень-то респектабельно: побеленные стены без окон и каких-либо украшений, с единственной светящейся вывеской над узкой дверью. Внутри помещение было старым, темным и напоминало Солу гостиницу около Лодзи, где его семья иногда обедала, когда он был еще ребенком. Между столами бесшумно сновали высокие чернокожие официанты в чистых белых куртках. В воздухе стоял терпкий возбуждающий запах вина, пива и даров моря. – Чудно, – обрадовался Сол. – Если тут еда такая же вкусная, как запахи, это будет что-то незабываемое. Его надежды полностью оправдались. Натали заказала салат с креветками, а Сол съел несколько кусков меч-рыбы, поджаренных на вертеле, с овощами и картофелем. Оба пили холодное белое вино и разговаривали обо всем на свете, кроме того, зачем пришли сюда. Натали узнала, что Сол Ласки живет один, хотя и обременен экономкой, оказавшейся наполовину ведьмой, наполовину терапевтом. Он объяснил Натали, что ему никогда не придется обращаться за профессиональной помощью к своим коллегам, пока рядом есть Тима, поскольку она не переставая растолковывает ему его же неврозы и сама ищет способы их лечения. – Значит, у вас нет семьи? – спросила Натали. – Здесь только племянник. – Сол кивнул официанту, убравшему тарелки с их стола. – В Израиле у меня кузина и множество более дальних родственников. Сол в свою очередь узнал, что мать Натали умерла несколько лет назад, а сама девушка сейчас учится в аспирантуре в Сент-Луисе. – А почему так далеко от дома? В Чарлстоне ведь тоже есть университет. И в Южной Каролине… Там преподавал один мой коллега. – Правильно, – кивнула Натали. – Есть еще и университет Боба Джонса в Гринвилле, но отец хотел, чтобы я уехала подальше от «зоны бедных белых хулиганов», как он ее называл. В Сент-Луисе прекрасная аспирантура по педагогике. Пожалуй, это одно из лучших заведений для человека с дипломом по искусству. Во всяком случае, там мне даже удалось стать стипендиатом. – Вы художница? – Фотограф. Немного занималась кино, рисовала и писала маслом. Вторая специальность у меня английский язык. Я училась в Оберлине, Огайо. Приходилось слышать? – Да. – В общем, одна моя подруга, Диана Гольд, – она пишет акварелью, и очень, кстати, хорошо, – в прошлом году убедила меня заняться преподаванием. И почему я вам все это рассказываю? Сол улыбнулся. Официант принес счет, и Ласки настоял, что оплатит его сам. – Вы мне так ничего и не скажете? – спросила Натали. В голосе ее прозвучала боль. – Напротив, – заверил он. – Я, возможно, расскажу вам больше, чем когда-либо кому-то рассказывал. Вопрос только – почему? – Что – почему? – Почему мы доверяем друг другу? Вы видите, как незнакомый человек вламывается в чужой дом, а два часа спустя мы уже мирно ужинаем вместе. Я же встречаюсь с молодой женщиной, которая наставляет на меня пистолет, но готов поделиться с ней чем-то таким, что оставалось невысказанным много лет. Почему так, мисс Престон? – Зовите меня Натали. Я могу объяснить только то, что чувствую сама. – Объясните, пожалуйста. – У вас честное лицо, доктор Ласки. Нет, «честное» – не то слово, скорее неравнодушное. В вашей жизни было много печали… – Натали смолкла. – У всех в жизни много печали, – тихо заметил Сол. Темнокожая девушка кивнула: – Но некоторых людей это ничему не учит. Вас, мне кажется, жизнь многому научила. Это… это видно по вашим глазам. Я не знаю, как выразиться яснее. – Значит, на этом мы основываем свои суждения и само наше будущее? – спросил Сол. – Судим по глазам человека? Натали взглянула на него: – А почему нет? У вас есть лучший способ? – Это прозвучало не как вызов, а как вопрос. Ласки медленно покачал головой: – Нет. Пожалуй, лучшего способа нет. По крайней мере, для начала.* * *
Они двинулись из исторической части города на юго-запад. Сол ехал в своей взятой напрокат «тойоте» следом за зеленой «новой» девушки. После моста через реку Эшли они свернули на семнадцатое шоссе и вскоре добрались до Сент-Эндрюса. Дома здесь были белые, в основном щитовые, – типичный район среднего класса. Сол остановился на подъездной дороге к дому, сразу за машиной Натали Престон. Внутри было чисто и уютно, бо́льшую часть места в небольшой гостиной занимали тяжелое старинное кресло и такая же тяжелая софа. На белой каминной полке стояли горшки со шведским плющом и многочисленные семейные фотографии в металлических рамках. На стенах тоже висели фотографии, но скорее профессиональные. Сол с интересом принялся рассматривать их, пока Натали включала везде свет и убирала верхнюю одежду. – Ансельм Адамс, – сказал он, пристально глядя на великолепный черно-белый снимок небольшой деревни в пустыне и кладбища, освещенного бледной луной. – Я про него слышал. На другом фото тяжелые волны тумана обволакивали город на холме. – Майнор Уайт, – подсказала Натали. – Отец был знаком с ним где-то в начале пятидесятых. Там же висели фотографии Имоджен Каннингем, Себастьяна Милито, Джорджа Тайса, Андре Кертеса и Роберта Франка. Снимок Франка заставил Сола остановиться. Человек в темном костюме и с тростью стоял на крыльце старинного дома или отеля. Лестничный пролет, ведущий на второй этаж, скрывал его лицо. Солу захотелось сделать два шага влево и взглянуть в это лицо. – Жаль, что я не знаю имен, – сказал он. – Они, наверное, известные фотографы? – Некоторые из них, – ответила Натали. – Эти работы теперь, вероятно, стоят в сто раз дороже, чем тогда, когда отец покупал их, но он их ни за что не продаст. – Она замолкла. Сол подошел к камину и взял в руки одну из семейных фотографий. Со снимка ему тепло улыбалась женщина с короткими черными волосами, завитыми в стиле начала шестидесятых. – Ваша мать? – Да, – кивнула Натали. – Она погибла в глупой катастрофе в июне шестьдесят восьмого. Два дня спустя убили Роберта Кеннеди. Мне тогда было девять лет. На следующей фотографии маленькая девочка стояла на складном столике и улыбалась, глядя на отца. Рядом Сол заметил портрет отца Натали, когда тот был постарше, – серьезный и довольно красивый мужчина. Тонкие усы и светящиеся глаза делали его похожим на Мартина Лютера Кинга, только без этих свисающих щек. – Прекрасный портрет, – сказал он. – Спасибо. Я сделала его прошлым летом. Сол огляделся: – А где же работы вашего отца? – Это здесь. – Натали провела его в столовую. – Папа не хотел, чтобы они висели рядом с другими. На длинной стене, над пианино, размещались четыре черно-белые фотографии. Две из них были этюдами – игра света и тени на стенах старых кирпичных домов. Одна изображала очень широкую перспективу: необычно освещенный пляж и море, уходящее в бесконечность. На последней была дорожка в лесу, все в целом представляло собой сложное решение соотношения плоскостей, тени и композиции. – Потрясающе! – воскликнул Сол. – Только здесь нет людей. Натали тихо рассмеялась: – Верно. Папа делал портреты ради заработка, поэтому он говорил, что ни за что не согласится заниматься этим еще и как своим хобби. И потом, он был очень скромным человеком. Не любил снимать откровенные фотографии, на которых были люди, и всегда настаивал, чтобы я заручалась письменным разрешением, когда делала такие снимки. Он терпеть не мог вторгаться в чью-то личную жизнь. И вообще папа был… ну как вам сказать… слишком стеснительным. Если надо было заказать пиццу с доставкой, он всегда просил позвонить меня… – Голос ее дрогнул, и она на секунду отвернулась. – Хотите кофе? – С удовольствием. Рядом с кухней находилась фотолаборатория. Первоначально это, вероятно, была кладовка для продуктов либо вторая ванная комната. – Здесь вы с отцом проявляли фотографии? – спросил Сол. Натали кивнула и включила красную лампочку. В маленькой комнате царил образцовый порядок: увеличитель, флаконы и банки с химикатами – все стояло на своих местах, и на всем были надписи. Над раковиной на леске висели восемь или десять свежих фотографий. Сол стал их рассматривать. Это все были снимки дома Фуллер, сделанные при разном освещении, в разное время суток и с разных точек. – Ваши? – Да. Я знаю, это глупо, но все же лучше, чем просто сидеть в машине целый день и ждать, когда что-нибудь случится. – Она пожала плечами. – Я наведываюсь в полицию и в контору шерифа каждый день, но от них никакой помощи. Вам со сливками и сахаром? Он отрицательно качнул головой. Они перешли в гостиную и сели у камина – Натали в кресло, Сол на софу. Чашки для кофе были из такого тонкого фарфора, что казались прозрачными. Натали поправила поленья в камине и зажгла огонь. Поленья загорелись сразу и горели хорошо и ровно. Некоторое время они сидели молча, глядя на пламя. – В субботу я с друзьями покупала в Клейтоне подарки к Рождеству, – сказала она наконец. – Это пригород Сент-Луиса. Потом мы пошли в кино на «Попая» с Робином Уильямсом. В тот вечер я вернулась в свою квартиру в университетском городке около одиннадцати тридцати и, как только зазвонил телефон, сразу поняла: что-то случилось. Не знаю почему. Мне часто звонят друзья, и довольно поздно. Фредерик, например, обычно заканчивает работу в своем компьютерном центре после одиннадцати, и ему иногда приходит в голову пойти куда-нибудь перекусить или еще что-то. Но на этот раз звонок был междугородный, и меня охватило дурное предчувствие. Звонила мисс Калвер, наша соседка и бывшая мамина подруга. В общем, она все твердила, что произошел несчастный случай, повторяя это по нескольку раз. Только через минуту-две я поняла, что папа мертв, что его убили. Я вылетела в Чарлстон в воскресенье, первым же рейсом, но здесь все было закрыто. Еще из Сент-Луиса я позвонила в морг, а когда добралась до него, двери оказались заперты, и мне пришлось бегать вокруг здания и искать кого-нибудь, кто впустил бы меня. Они не были готовы к моему приходу. Хотя мисс Калвер встретила меня в аэропорту, она не переставая плакала и поэтому осталась в машине… То, что я увидела, не было похоже на папу. Еще меньше это было похоже на него во вторник, во время похорон, со всей этой косметикой. Я не могла понять, как все случилось, а в полиции тоже ничего не могли объяснить. Они пообещали, что вечером мне позвонит детектив Холман, но он позвонил только в понедельник после обеда. Я очень благодарна шерифу мистеру Джентри, он пришел в морг еще в воскресенье, а после подвез меня домой и попытался ответить на вопросы; все остальные задавали вопросы мне. В общем, в понедельник приехали тетя Лия и мои кузины, и мне некогда было выяснять подробности до самой среды. На похороны пришло много народу. Я как-то забыла, что отца в городе очень любили. Пришел и шериф Джентри. Тетя Лия хотела остаться у меня на неделю-другую, но ее сыну Флойду нужно было возвращаться в Монтгомери, и я пообещала ей, что со мной все будет в порядке. Она должна приехать на Рождество… – Натали замолчала. Сол сидел, наклонившись вперед и сцепив руки. После паузы девушка глубоко вздохнула и махнула рукой куда-то в сторону окна, выходящего на улицу: – Мы с отцом всегда наряжали елку в это воскресенье. Получается довольно поздно, но папа говорил, что это доставляет больше удовольствия, чем когда елка торчит в комнате неделями. Мы обычно покупаем ее на улице Саванна. Знаете, в субботу я купила ему красную рубашку в клетку. Не могу объяснить почему, но я привезла ее с собой. Теперь мне придется отвезти ее назад. – Она замолчала и опустила голову. – Извините меня, я сейчас… – Натали быстро встала и вышла из гостиной. Сол какое-то время сидел неподвижно, глядя на огонь, потом поднялся и пошел к двери. Натали стояла, прислонившись к кухонному столу, комкая в руке бумажную салфетку. Он молча остановился рядом. – От всего этого можно сойти с ума. – Она все еще не смотрела на него. – Да. – Как будто он был никем, просто какой-то незаметной вещью. Вы понимаете, что я хочу сказать? – Да. – В детстве я часто смотрела ковбойские фильмы по телевизору, – продолжила Натали. – И когда там кого-нибудь убивали, даже не главного героя и не злодея, так, случайного прохожего по сюжету, то получалось, что его вроде никогда и не было. Вот это мне не давало покоя. Я всегда думала о том человеке, что у него, наверное, были родители, которые его любили, он имел свои привычки, желания, мечты, а потом раз – и его больше нет, просто потому, что режиссер хотел показать, как ловко его герой-супермен обращается с оружием или еще что-нибудь… Ах, извините, я никак не могу научиться доступно выражать свои мысли. – Натали с досадой ударила ладонью по столу. Сол шагнул вперед и коснулся ее руки: – Да нет, вы все очень хорошо выразили. – Я просто в отчаянии и не знаю, что делать. – Она всхлипнула. – Мой отец был, он на самом деле существовал. И он никогда никому не причинял боли. Вообще никогда. Он был самым добрым человеком, которого я когда-либо знала, и вот теперь его убили, и никто не может сказать почему. Они просто не знают!.. О, простите, что я вам все это говорю… Сол обнял ее и так держал, пока она не успокоилась.* * *
Чуть позже Натали сварила кофе, отнесла его в гостиную и села в кресло. Сол устроился у камина, рассеянно проводя рукой по листьям шведского плюща. – Их было трое, – тихо сказал он. – Мелани Фуллер, Нина Дрейтон и человек из Калифорнии по фамилии Борден. И все трое убийцы. – Убийцы? Но в полиции сказали, что миз Фуллер была довольно старой леди… очень старой, а мисс Дрейтон сама оказалась жертвой в тот вечер. – Да, – кивнул Сол. – И все же они трое убийцы. – При мне никто не упоминал имени Бордена, – заметила Натали. – Он был там, – сказал Ласки. – И он был на борту самолета, который взорвался в пятницу ночью или, точнее, рано утром в субботу. Скажем так: предполагалось, что он летел тем самолетом. – Я ничего не понимаю. Катастрофа произошла за несколько часов до того, как убили отца. Как мог этот Борден… или хотя бы эти пожилые леди… Как они могли быть связаны с убийством отца? – Они использовали людей, – сказал Сол. – Они… как бы это выразить… контролировали других людей. У них, у каждого, были свои помощники. Все это очень трудно объяснить. – Вы хотите сказать, они были связаны с мафией или что-то в этом роде? Сол улыбнулся: – Хорошо, если бы все было так просто. Натали покачала головой: – Я все равно не понимаю. Он вздохнул: – Это очень долгая история, отчасти она совершенно фантастичная, можно сказать, невероятная. Лучше бы вам никогда не пришлось ее выслушивать. Вы либо сочтете меня сумасшедшим, либо окажетесь вовлеченной в нечто с ужасными последствиями. – Но я уже вовлечена, – твердо заявила Натали. – Да. – Сол помедлил. – Но нет необходимости впутываться в это еще глубже. – Нет, я буду, по крайней мере до тех пор, пока не найдут убийцу моего отца. Я этого добьюсь, с вами или без вас, доктор Ласки. Клянусь вам. Он долго смотрел на свою собеседницу, потом снова тяжело вздохнул: – Да, похоже, вы сдержите клятву. Хотя, возможно, измените свое намерение, когда я расскажу вам то, что хочу рассказать. Боюсь, для того, чтобы объяснить что-либо об этих троих пожилых людях, убийцах, чьей жертвой пал ваш отец, мне придется поведать вам мою собственную историю. – Ну что ж. – Натали поудобнее устроилась в кресле. – Времени у меня сколько угодно.* * *
– Я родился в тысяча девятьсот двадцать пятом году в Польше, – начал Сол. – В городе Лодзи. Родители мои были довольно обеспеченными людьми. Отец – врач. Семья еврейская, но не ортодоксально еврейская. В молодости моя мать подумывала о том, чтобы перейти в католичество. Отец считал себя врачом – во-первых, поляком – во-вторых, гражданином Европы – в-третьих и лишь в-четвертых – евреем. Когда я был мальчиком, евреям неплохо жилось в Лодзи, лучше, чем во многих других местах. Из шестисот тысяч населения примерно треть составляли евреи. Многие горожане – бизнесмены, ремесленники были евреями. Несколько друзей и подруг моей матери являлись деятелями искусства, ее дядя много лет играл в городском симфоническом оркестре. К тому времени, когда мне минуло десять, многое в этом отношении изменилось. Вновь избранные в местное управление представители партий обещали убрать евреев из города. Страна, казалось, заразилась антисемитизмом, бушевавшим в соседней стране, Германии, и становилась все более враждебной к нам. Отец говорил, что во всем виноваты тяжелые времена, через которые мы только что прошли. Он неустанно повторял, что европейские евреи привыкли к волнам насилия, за которыми следовали поколения прогресса. «Мы все – человеческие существа, – говорил он, – несмотря на различия, разделяющие нас». Я уверен, что отец встретил смерть, все еще веря в это. Сол замолчал, походил по комнате, потом остановился, положив руки на спинку софы. – Видите ли, Натали, я не привык рассказывать об этом. Я не знаю, что тут необходимо для понимания ситуации, а что нет. Возможно, нам следует подождать до следующего раза. – Нет, – твердо заявила Натали. – Сейчас. Не торопитесь. Вы сказали, что это поможет объяснить, почему был убит мой отец. – Да. – Тогда продолжайте. Расскажите все. Сол кивнул, обошел софу и сел, положив руки на колени. Руки у него были большие, и он иногда жестикулировал ими во время рассказа. – Когда немцы вошли в наш город, мне исполнилось четырнадцать. Это было в сентябре тридцать девятого. Поначалу все шло не так уж плохо. Было решено назначить Еврейский совет для консультаций по управлению этим новым форпостом рейха. Отец объяснил мне, что с любыми людьми всегда можно договориться в цивилизованной форме. Он не верил в дьяволов. Несмотря на возражение матери, отец предложил свои услуги в качестве члена совета, но из этого ничего не вышло. Уже был назначен тридцать один человек из видных горожан-евреев. Спустя месяц, в начале ноября, немцы выслали всех членов совета в концлагерь и сожгли синагогу. В семье стали поговаривать о том, что надо бы перебираться на ферму нашего дяди Моше около Кракова. В Лодзи в это время уже было очень трудно спродуктами. Обычно мы проводили на ферме лето и думали, как будет здорово побывать там вместе со всей семьей. Через дядю Моше мы получили весточку от его дочери Ребекки, которая вышла замуж за американского еврея и собиралась выехать в Палестину, чтобы заняться там фермерством. Уже несколько лет она пыталась уговорить молодое поколение нашей семьи присоединиться к ней. Сам я с удовольствием отправился бы на ферму. Вместе с другими евреями меня исключили из школы в Лодзи, а дядя Моше когда-то преподавал в Варшавском университете, и я знал, что он с удовольствием займется моим воспитанием. По новым законам отец имел право лечить теперь только евреев, а большинство их жили в отдаленных и самых бедных кварталах города. В общем, причин оставаться было не много – гораздо больше было причин уехать. Но мы остались. Решили, что поедем к дяде Моше в июне, как всегда, а потом подумаем, возвращаться в город или нет. Какими мы были наивными! В марте сорокового гестапо выгнало нас из собственных домов и организовало в городе еврейское гетто. К моему дню рождения, к пятому апреля, гетто было полностью изолировано, евреям строго запретили ездить куда бы то ни было. Немцы снова создали совет – его называли юденрат, и на этот раз отца в него включили. Один из членов совета, Хаим Румковский, часто приходил в нашу квартиру, состоявшую из единственной комнаты, в который мы спали ввосьмером, и они с отцом сидели всю ночь, обсуждая разные вопросы управления гетто. Это невероятно, но порядок сохранялся, несмотря на скученность и голод. Я снова пошел в школу. Когда отец не заседал в совете, он работал по шестнадцать часов в день в одной из больниц, которую они с Румковским создали буквально из ничего. Так мы жили, точнее, выживали целый год. Я был для своего возраста очень мал ростом, но скоро научился искусству выживания в гетто, хотя для этого приходилось воровать, прятать продукты в укромные уголки и торговаться с немецкими солдатами, меняя вещи и сигареты на еду. Осенью сорок первого немцы стали свозить тысячи западных евреев в наше гетто, некоторых привозили даже из Люксембурга. Многие из них были немецкими евреями, они смотрели на нас свысока. Я помню, как подрался с мальчишкой старше меня, евреем из Франкфурта. К тому времени мне исполнилось шестнадцать, но я легко мог сойти за тринадцатилетнего. Я сшиб его с ног, а когда он попытался встать, ударил его доской и разбил ему лоб. Он прибыл к нам неделю назад, в одном из этих пломбированных вагонов, и был все еще очень слаб. Я уже не помню, из-за чего мы подрались. В ту зиму моя сестра Стефа умерла от тифа, а с ней и тысячи других людей. Мы все очень радовались, когда наступила весна, несмотря на известие о возобновлении немецкого наступления на Восточном фронте. Отец считал скорое падение России хорошим признаком. Он думал, что война закончится к августу и многие евреи будут переселены в русские города. «Возможно, нам придется стать фермерами и кормить их новый рейх, – говорил он. – Но быть фермером не так плохо». В мае большинство немецких и иностранных евреев были вывезены на юг, в Освенцим, в Аушвиц. У нас мало кто слышал об Освенциме, пока туда не покатили поезда из нашего гетто. До той весны наше гетто использовалось как большой загон для скота, теперь же четыре раза в день отсюда отправлялись поезда. В качестве члена юденрата отец был вынужден участвовать в сборе и отправке тысяч людей. Все делалось по порядку. Отцу это было ненавистно. Потом он целыми сутками не выходил из больницы, работал, будто искупал свою вину. Наш черед настал в конце июня, примерно в то время, когда мы обычно отправлялись на ферму дяди Моше. Всем семерым было приказано явиться на станцию. Мама и мой младший брат Йозеф плакали. Но мы пошли, и мне кажется, что отец даже почувствовал облегчение. Нас не послали в Аушвиц. Нас отправили на север, в Хелмно – деревню километрах в семидесяти от Лодзи. У меня когда-то был приятель, маленький провинциал по имени Мордухай, семья которого была родом из Хелмно. Позже я узнал, что именно в Хелмно немцы проводили свои первые эксперименты с газовыми камерами. Как раз в ту зиму, когда Стефа умирала от тифа. Мы много слышали о перевозке людей в пломбированных вагонах, но наша поездка была совсем не похожа на это и даже, можно сказать, приятна. До места мы добрались за несколько часов. Вагоны были набиты битком, но это были обычные пассажирские вагоны, а не товарные. День – двадцать четвертое июня – выдался великолепный. Когда мы прибыли на станцию, ощущение было такое, будто мы снова едем на ферму к дяде Моше. Станция Хелмно оказалась крохотной, просто небольшой сельский разъезд, окруженный густым зеленым лесом. Немецкие солдаты повели нас к ожидавшим грузовикам, но они вели себя спокойно и даже, казалось, были шутливо настроены. Никто нас не толкал и не кричал на нас, как в Лодзи, – там мы к этому уже привыкли. Нас отвезли в большую усадьбу за несколько километров, где был устроен лагерь. Каждого зарегистрировали – я отчетливо помню ряды столов, за которыми сидели чиновники. Они были расставлены на гравийных дорожках, ярко светило солнце, пели птицы… А потом нас разделили на мужскую и женскую группу для помывки и дезинфекции. Мне хотелось побыстрее догнать остальных мужчин, поэтому я так и не увидел, как маму и четырех моих сестер увели. Они исчезли – уже навсегда – за забором, окружавшим лагерь для женщин. Нам велели раздеться и встать в очередь. Я очень стеснялся, потому что только прошлой зимой начал взрослеть. Не помню, боялся я чего-нибудь или нет. День был жаркий, после бани нас пообещали накормить, а звуки леса и лагеря поблизости делали атмосферу дня праздничной, почти карнавальной. Впереди на поляне я увидел большой фургон с яркими нарисованными картинками животных и деревьев. Очередь уже двинулась в направлении поляны, когда появился эсэсовец, молодой лейтенант в очках с толстыми стеклами, с застенчивым лицом, и пошел вдоль очереди, отделяя больных, самых младших и стариков от тех, кто покрепче. Подойдя ко мне, лейтенант замешкался. Я был все еще невысок для своего возраста, но в ту зиму я ел довольно сносно, а весной стал быстро расти. Он улыбнулся, махнул рукой, и меня отправили в короткую шеренгу здоровых мужчин. Отца тоже послали туда. Йозефу, которому минуло всего восемь, было велено оставаться с детьми и стариками. Он заплакал, и отец отказался оставить его. Я тоже вернулся в ту шеренгу и встал рядом с отцом и Йозефом. Увидев, как молодой эсэсовец махнул охраннику, отец приказал мне вернуться к остальным, но я отказался. И тогда, единственный раз в жизни, отец толкнул меня, крикнув: «Иди!» Я упрямо замотал головой, продолжая стоять на месте. Охранник, толстый сержант, пыхтя, приближался к нам. «Иди!» – повторил отец и ударил меня по щеке. Потрясенный, обиженный, я прошел, спотыкаясь, несколько шагов к той короткой шеренге, прежде чем подоспел охранник. Я злился на отца и не мог понять, почему нам нельзя войти в эту баню вместе. Он унизил меня перед другими мужчинами. Сквозь слезы я смотрел, как он удалялся с Йозефом на руках, на его согнутую обнаженную спину. Брат перестал плакать и все оглядывался назад. Отец тоже обернулся, взглянул на меня всего один раз, прежде чем исчезнуть из виду вместе с остальной шеренгой детей и стариков. Примерно пятую часть мужчин, прибывших в тот день, не дезинфицировали. Нас повели строем прямо в барак и выдали нам грубую тюремную одежду. Отец не появился ни после обеда, ни вечером. Я помню, как плакал от одиночества в ту ночь, прежде чем заснуть в вонючем бараке. Я был уверен, что в тот момент, когда отец прогнал меня из шеренги, он лишил меня возможности находиться в той части лагеря, где жили семьи. Утром нас накормили холодным картофельным супом и сформировали бригады. Мою бригаду повели в лес. Там был вырыт ров, примерно семьдесят метров в длину, больше десяти в ширину и по крайней мере пять в глубину. Судя по свежевскопанной земле, поблизости были еще рвы, уже заполненные. Я должен был сразу все понять по запаху, догадаться, но я до последнего отказывался это делать, пока не прибыл первый из фургонов того дня. Это были те же самые фургоны, которые я видел вчера. Видите ли, лагерь в Хелмно служил чем-то вроде испытательного полигона. Как выяснилось позже, Гиммлер приказал установить там газовые камеры, работающие на синильной кислоте, но в то лето они все еще пользовались углекислым газом, находившимся в тех ярко раскрашенных фургонах. В наши обязанности входило отделять тела друг от друга, можно сказать – отрывать их друг от друга, потом сбрасывать в ров и засыпать землей и известью, пока не прибудет следующий груз. Душегубки оказались неэффективным орудием убийства. Зачастую почти половина жертв выживала, и их, полуотравленных выхлопными газами, пристреливали на краю рва солдаты из дивизии «Мертвая голова». Поджидая прибытия фургонов, они покуривали и обменивались шутками друг с другом. Но даже после душегубок и расстрела некоторые люди были живы, и их засыпали землей, когда они еще шевелились. В тот вечер я вернулся в барак, покрытый кровью и экскрементами. Я подумал, не лучше ли мне умереть, но все же решил, что буду жить. Жить, несмотря ни на что, жить только для того, чтобы жить! Я соврал им, сказав, что я сын зубного врача и сам учился зубоврачебному делу. Капо смеялись, – по их мнению, я был слишком молод для этого, но на следующей неделе меня включили в бригаду выдергивателей зубов. Вместе с тремя другими евреями я обшаривал обнаженные тела в поисках колец, золота и прочих ценностей. Стальными крюками мы тыкали мертвецам в задний проход и во влагалище, потом я плоскогубцами вырывал у них золотые зубы и пломбы. Часто меня посылали работать в ров. Сержант-эсэсовец по фамилии Бауэр иногда, смеясь, швырял в меня куски земли, стараясь попасть в голову. У него у самого было два золотых зуба. Через неделю-другую евреев из похоронной команды расстреливали, а их место занимали вновь прибывшие. Я провел во рву девять недель, каждое утро просыпаясь с уверенностью, что сегодня настанет мой черед. Ночью, когда мужчины постарше читали в бараке кадиш и с темных нар доносились крики «Эли, Эли!», я в отчаянии заключал сделку с Богом, в которого больше не верил. «Еще один день, – повторял я. – Всего один день». Но больше всего я верил в свою волю выжить. Возможно, я страдал солипсизмом отрочества, но мне казалось, что, если я буду достаточно сильно верить в свое собственное существование и в то, что оно будет длиться, все так и будет. В августе лагерь разросся, и меня по какой-то причине перевели в лесную бригаду. Мы валили лес, выкорчевывали пни и добывали камень для строительства дорог. Каждые несколько дней колонна рабочих, возвращавшихся после смены, всем составом отправлялась в фургоны или прямо в ров. Таким образом происходил «естественный отбор». В ноябре выпал первый снег. К тому времени я был в лесной бригаде дольше, чем кто бы то ни было, за исключением старого капо Карского. – Что такое «капо»? – спросила Натали. – Капо – это надсмотрщик с плеткой. – Они помогали немцам? – Написаны целые ученые трактаты про капо и про то, как они отождествляли себя со своими хозяевами-нацистами, – пояснил Сол. – Стэнли Элкинс и другие авторы исследовали этот эффект повиновения, характерный для концлагерей. Они сравнивают его с покорностью черных рабов в Америке. Недавно, в сентябре, я участвовал в обсуждении так называемого стокгольмского синдрома, когда заложники не только отождествляют себя со своими тюремщиками, но и активно помогают им. – Вроде этой… Патти Херст?[18] – Да. И вот это… господство, держащееся на силе воли, уже много лет не дает мне покоя. Но мы поговорим о нем после. Пока же я могу сказать только одно, если это хоть как-то оправдывает меня, – за все время, проведенное в лагерях, я не сделался капо. В ноябре сорок второго, когда работы по совершенствованию лагеря были закончены, меня перевели из временного барака назад, в основной лагерь, и включили в бригаду, работающую во рву. К тому времени печи уже построили, но немцы не рассчитали количество евреев, прибывающих по железной дороге, поэтому и фургоны-душегубки, и ров все еще работали. Мои услуги зубного врача для мертвых больше не требовались, и я засыпал могилы гашеной известью, дрожал от зимнего холода и ждал. Я знал, что в любой момент могу стать одним из тех, кого хоронил каждый день. Девятнадцатого ноября тысяча девятьсот сорок второго года, в ночь на четверг, произошло одно событие. – Сол замолчал. Через несколько секунд он встал и подошел к камину. Огонь почти погас. – Натали, у вас есть что-нибудь выпить покрепче кофе? Немного хересу, скажем? – Конечно. Бренди подойдет? – Отлично. Она вскоре вернулась в гостиную с большим бокалом, наполненным почти до краев. Сол за это время помешал угли, добавил дров, и огонь снова ожил. – Спасибо. – Он повертел бокал в пальцах, глубоко вдохнул аромат бренди и сделал глоток. – В четверг – я практически уверен, что это случилось девятнадцатого ноября сорок второго года, – поздно ночью пятеро немцев вошли в наш барак. Они и раньше приходили. Каждый раз они уводили четырех человек, и потом их никто уже никогда не видел. Заключенные из остальных семи бараков нашего лагеря рассказывали, что у них происходило то же самое. Мы не могли понять, зачем немцы это делают, когда они ежедневно открыто отправляли в ров тысячи людей, но мы тогда многого не понимали. Заключенные шепотом говорили о медицинских экспериментах. В ту ночь с охранниками был молодой оберст, то есть полковник. И в ту ночь они выбрали меня. Я решил сопротивляться, если они придут за мной. Понимаю, что это противоречит моему решению жить, несмотря ни на что, но мысль, что меня уведут во тьму, почему-то внушала мне панический ужас, отнимала всякую надежду. Я готов был драться. Когда эсэсовцы приказали мне встать с нар, я понял, что жить осталось всего несколько секунд, и решил попытаться убить хотя бы одного из этих скотов, прежде чем они убьют меня. Но ничего не случилось. Оберст велел мне встать, и я подчинился. Вернее, мое тело действовало против моей воли. Это не было трусостью или покорностью – оберст проник в мое сознание. Я не знаю, как это еще выразить. Я это чувствовал точно так же, как готов был спиною ощутить выстрел, который так и не прозвучал. Я осознавал, что он движет моими мышцами, переставляет мои ноги по полу и выносит мое тело из барака. А эсэсовцы-охранники все это время хохотали. То, что я тогда ощутил, описать невозможно. Это как бы изнасилование сознания, но до конца все равно нельзя передать то, что ты в этот момент чувствуешь. Ни тогда, ни сейчас у меня нет и не было веры в какие-либо сверхъестественные явления. То, что там случилось, было результатом вполне реальной психической либо психофизиологической способности контролировать сознание других человеческих индивидуумов. Нас посадили в грузовик, что само по себе было невероятно. Кроме той короткой поездки со станции Хелмно, евреям никогда не позволяли ездить на машинах. В ту зиму рабы в Польше были намного дешевле бензина. Нас отвезли в лес – шестнадцать человек, включая молодую еврейку из женского барака. То, что я назвал «изнасилованием сознания», временно прекратилось, но от него осталось в голове нечто гораздо более грязное и постыдное, чем экскременты, которыми я пачкался каждый день, работая во рву. Наблюдая, как себя вели и о чем шептались другие пленники, я понял, что они не испытали ничего подобного. Честно говоря, в тот момент я усомнился в твердости своего разума. Мы ехали почти час. В кузове грузовика с нами сидел один охранник с автоматом. Лагерные охранники почти никогда не носили автоматического оружия, опасаясь, что его могут захватить. Я еще не оправился от ужаса, испытанного в бараке, иначе попытался бы напасть на немца или, по крайней мере, спрыгнуть с машины. Но само невидимое присутствие полковника в кабине грузовика наполняло меня чувством неизбывного страха, который был глубже и сильнее всего мною пережитого за последние месяцы. Было уже за полночь, когда мы приехали в усадьбу, гораздо большую, чем тот особняк, вокруг которого построен лагерь в Хелмно. Она находилась в глухом лесу. Американцы назвали бы это сооружение замком, но оно было и больше, и меньше, чем замок. Это бывшее поместье феодалов – такие поместья иногда еще встречаются в самых отдаленных лесных угодьях моей страны – представляло собой огромное скопление каменных стен, которые строились, перестраивались и расширялись бесчисленными поколениями семей отшельников, чья родословная восходила еще к дохристианским временам. Грузовики остановились, и нас загнали в подвал неподалеку от главного зала. Судя по количеству военных автомобилей среди остатков английского парка и разгульному шуму, доносившемуся из дворца, было похоже, что немцы реквизировали усадьбу под дом отдыха для своих привилегированных частей. В самом деле, когда нас заперли в подвале без окон и без света, я услышал, как литовский еврей из другого грузовика прошептал, что он узнал полковые эмблемы на машинах. То были эмблемы айнзацгруппы номер три – отряда специального назначения, который истребил целые еврейские деревни в окрестностях его родного Двинска. Даже эсэсовцы из дивизии «Мертвая голова», уничтожавшие людей в лагерях, относились к этим отрядам со страхом, граничившим с ужасом. Через некоторое время охранники вернулись с факелами. В подвале находилось тридцать два человека. Разделив людей на две равные группы, эсэсовцы повели нас наверх, в разные комнаты. Группу, в которой был я, одели в грубые рубахи, выкрашенные в красный цвет, с белыми символами на груди. Мой символ – нечто вроде башни или фонарного столба в стиле барокко – ничего мне не говорил. У мужчины рядом на груди был силуэт слона с поднятой правой ногой. Затем нас привели в главный зал, где мы застали картину времен Средневековья, написанную Иеронимом Босхом. Сотни эсэсовцев и убийц-спецотрядовцев отдыхали, играли в азартные игры и насиловали женщин где придется. Им прислуживали польские девушки-крестьянки, некоторые из них были еще совсем юными. В кронштейнах на стенах висели факелы, освещая зал мерцающим светом, как в картине Страшного суда. Остатки еды валялись где попало, столетней давности гобелены были перепачканы и покрыты сажей, поднимавшейся из открытых каминов. Банкетный стол, некогда великолепное произведение искусства, был изуродован кинжалами – немцы вырезали на нем свои имена. На полу валялись и храпели те, кто напился до невменяемого состояния. Я видел, как двое солдат мочились на ковер, который хозяин замка, должно быть, привез когда-то из Крестового похода. В центре огромного зала на полу был расчищен квадрат примерно одиннадцать на одиннадцать метров, выложенный черными и белыми плитами. По обеим сторонам этого квадрата, там, где начинались галереи, на каменных плитах друг против друга были установлены два тяжелых кресла. В одном из них восседал молодой оберст – бледный светловолосый ариец с худыми белыми руками. В другом кресле сидел старик, такой же древний, как и каменные стены вокруг. На нем тоже была форма эсэсовского генерала, но он больше походил на сморщенную восковую куклу, одетую в мешковатый наряд злыми детьми. Из боковой двери вывели группу евреев, привезенных на другом грузовике. На них были светло-синие рубахи с черными символами, такими же как у нас. Увидев на женщине светло-синее одеяние с короной на груди, я понял, что будет происходить. В том состоянии истощения и постоянного страха, в котором я пребывал, можно было поверить любому безумию. Каждому из нас приказали занять свой квадрат. Я исполнял роль слоновой пешки белого короля и стоял в трех метрах от кресла оберста, чуть впереди и справа от него, лицом к лицу с перепуганным литовцем. Он был пешкой черного слона. Крики и пение смолкли. Немецкие солдаты собрались вокруг нас, стремясь занять места поближе к краю квадрата. Некоторые из них забрались на лестницы и столпились на галереях, чтобы лучше видеть. С полминуты ничего не было слышно, кроме потрескивания факелов и тяжелого дыхания толпы. Мы стояли на указанных квадратах – тридцать два умирающих от голода еврея, с застывшими лицами, неподвижными глазами, ожидая, что же с нами будет. Старик слегка наклонился вперед и подал знак оберсту. Тот улыбнулся и кивнул. Началась игра в живые шахматы…* * *
Оберст сделал первый ход, и пешка слева от меня – худой еврей с серой щетиной на щеках – передвинулась на два квадрата вперед. Старик ответил тем, что вывел свою королевскую пешку. Глядя, как двигаются эти несчастные заключенные, не понимающие, что с ними происходит, я был уверен, что они не в состоянии контролировать собственные тела. Я немного играл в шахматы со своим отцом и дядей и знал стандартные гамбиты. Оберст глянул вправо, и крупный поляк с эмблемой коня на тунике вышел на поле и встал передо мной. Старик двинул вперед коня со стороны королевы. Оберст вывел нашего слона, небольшого роста мужчину с перевязанной левой рукой, и поставил его в пятом ряду на вертикали коня. Старик передвинул ферзевую пешку на одну клетку вперед. В тот момент я отдал бы все, чтобы иметь любую другую эмблему, кроме пешки. Фигура низкорослого крестьянина передо мной, изображавшего коня, не давала практически никакой защиты. Справа от меня другая пешка обернулась и тут же сморщилась от боли: оберст заставил ее смотреть вперед. Я поворачиваться не стал, у меня начали дрожать ноги. Оберст передвинул нашу ферзевую пешку на два хода вперед и поставил ее рядом со старой пешкой на королевской вертикали. Ферзевой пешкой был мальчик-подросток, он украдкой косился по сторонам, не поворачивая головы. Только крестьянин-конь передо мной прикрывал мальчика от вражеской пешки. Старик слегка двинул левой рукой, и его слон встал перед женщиной-голландкой, изображавшей королеву. Лицо «слона» было очень бледным. На пятом ходу оберст вывел вперед нашего второго коня. Я не мог видеть лица этого человека. Эсэсовцы, столпившиеся вокруг, начали орать и хлопать в ладоши после каждого хода, словно зрители на футбольном матче. До меня доносились обрывки разговоров. Противника оберста называли Стариком (Der Alte), а оберста болельщики подбадривали криками «Der Meister!».[19] Старик подался вперед, словно паук, и его королевский конь встал перед ферзевой пешкой. В роли коня выступал молодой и сильный парень, – вероятно, он пробыл в лагере всего несколько дней. На лице его застыла идиотская улыбка, будто ему нравилась эта жуткая игра. Как бы в ответ на улыбку парня оберст передвинул своего хрупкого слона на тот же квадрат. Теперь я узнал «слона» – это был плотник из нашего барака, который поранился два дня назад, когда резал доски для постройки сауны охранников. Низкорослый плотник поднял здоровую руку и хлопнул черного «коня» по плечу, как он хлопнул бы своего друга, пришедшего сменить его на посту. Я не видел, откуда стреляли, наверное с галереи позади меня, но звук был таким громким, что я вздрогнул и начал поворачивать голову, и в это мгновение оберст, как клещами, стиснул мою шею. Улыбка юноши, изображавшего коня, исчезла вместе с половиной его черепа. Пешки, стоявшие сзади, съежились от ужаса, но боль заставила их сразу же выпрямиться. Тело «коня» отлетело почти на то же место, откуда он сделал ход, а на квадрат белой пешки уже натекла лужа крови. Два эсэсовца выскочили вперед и оттащили труп, запачкав несколько стоявших рядом черных фигур. По залу прокатились крики одобрения болельщиков. Старик снова наклонился вперед, его слон шагнул по диагонали туда, где находился наш, и слегка дотронулся до перевязанной руки плотника. На этот раз перед выстрелом была небольшая заминка, затем пуля ударила нашего слона в левую лопатку. Коротышка споткнулся, сделав два шага вперед, с секунду постоял, подняв руку, словно хотел почесаться, и мешком рухнул на плиты. Вперед вышел сержант, приставил к голове плотника «люгер» и выстрелил один раз, потом оттащил все еще дергающийся труп с поля. Игра возобновилась. Оберст передвинул нашу королеву на две клетки вперед, и теперь ее отделял от меня лишь один пустой квадрат. Я заметил, что ногти ее обгрызены почти до мяса, и это напоминало мне мою сестру Стефу. Я с изумлением обнаружил, что в первый раз заплакал, вспомнив о ней. Под рев пьяной толпы Старик сделал свой следующий ход. Его королевская пешка быстро шагнула вперед и «съела» нашу ферзевую пешку. Этой пешкой был бородатый поляк, явно правоверный еврей. Винтовка щелкнула дважды, почти без паузы. Черная королевская пешка оказалась залита кровью, когда она заняла место нашей ферзевой пешки. Теперь передо мной не было никого, только три пустые клетки, а дальше – черный конь. Свет факелов отбрасывал длинные тени; пьяные эсэсовцы, стоявшие по краям «доски», что-то вопили, давая советы игрокам. Я не смел повернуться, но увидел, как Старик заерзал в своем кресле – видно, осознал, что теряет контроль над центром поля. Затем он повернул голову, и его пешка, стоявшая перед конем со стороны короля, передвинулась на одну клетку. Оберст вывел нашего уцелевшего слона, блокируя вражескую пешку и угрожая слону Старика. Толпа зашлась в восторженном крике. Игроки закончили гамбит и перешли к миттельшпилю. Обе стороны провели рокировку, обе ввели в игру ладьи. Оберст передвинул ферзя на поле передо мной. Я смотрел на лопатки «королевы», резко выпирающие под ее одеянием, на завитки волос, рассыпанных по спине. Кулаки мои невольно то сжимались, то разжимались. С самого начала игры я не пошевелился, от страшной головной боли в глазах плясали огненные точки, я мог потерять сознание, и мысль об этом внушала мне ужас. Что тогда случится? Позволит ли мне оберст упасть на пол или будет удерживать мое бесчувственное тело на клетках, как ему надо? Судорожно вздохнув, я попробовал сосредоточиться на гобелене, висевшем на дальней стене. На четырнадцатом ходу Старик послал слона на ту клетку в центре доски, где стоял наш конь, которого изображал крестьянин. На этот раз выстрела не было. Рослый, тучный сержант-эсэсовец ступил на «доску» и вручил свой парадный кортик черному слону. В зале все смолкли, свет факелов плясал на отточенной стали. Приземистый крестьянин извивался, метался, мышцы его тела дергались. Я видел, что он тщетно пытается вырваться из-под власти оберста, но ничего из этого не выходит. Одним ударом лезвия он перерезал себе горло. Сержант-эсэсовец поднял свой кортик и жестом велел двоим солдатам убрать труп. Игра возобновилась. Одна из наших ладей побила вырвавшегося вперед слона. В ход снова пошел кортик. Стоя за молодой «королевой», я крепко закрыл глаза. Открыл я их через несколько ходов, после того как оберст передвинул мою королеву на одну клетку вперед. Когда она покинула меня, мне захотелось заорать. Старик немедленно перевел свою королеву, молодую девушку-голландку, на пятую клетку ладейной вертикали. Ферзь противника теперь находился от меня всего через одну пустую клетку по диагонали. Между нами никого не было. Я почувствовал, как у меня внутри все похолодело от страха. Оберст перешел в наступление. Первым делом он послал вперед пешку коня с левой стороны. Чтобы заблокировать ее, Старик выдвинул ладейную пешку – мужчину с красным лицом, которого я помнил по лесной бригаде. Оберст ответил на этот ход своей ладейной пешкой. Я с трудом разбирался, что происходит. Остальные пленники были в основном выше меня, я видел лишь спины, плечи, лысые головы потных, дрожащих от ужаса людей, а не шахматные фигуры. Я попытался представить себе шахматную доску и понял, что сзади остались только король да ладья. На одной горизонтали со мной стояла всего одна пешка перед королем. Впереди и слегка влево от меня сгрудились королева, пешка, ладья и слон. Еще дальше влево в одиночестве стоял наш уцелевший конь, слева от него блокировали друг друга две ладейные пешки. Черный ферзь по-прежнему угрожал мне справа. Наш «король» – высокий, худой еврей лет шестидесяти – передвинулся по диагонали на шаг вправо. Старик сосредоточил свои ладьи на королевской вертикали. Внезапно мой ферзь отошел назад на вторую клетку ладейной вертикали, и я остался один. Прямо передо мной, через четыре пустые клетки, стоял литовский еврей и смотрел на меня широко раскрытыми глазами, полными животного ужаса. Внезапно я шагнул вперед, волоча ноги по мраморному полу. В моем мозгу творилось что-то невообразимое, чему невозможно было сопротивляться, и оно толкало меня, стискивало мои челюсти и подавляло крик, рвавшийся откуда-то изнутри, из самой глубины моего существа. Я остановился там, где раньше стоял наш ферзь, по обе стороны от меня расположились белые пешки. Старик вывел вперед своего черного коня, и теперь он стоял напротив, через одну клетку. Толпа кричала еще громче, скандируя: «Meister! Meister!» Я снова шагнул и теперь оказался единственной белой фигурой, ушедшей за середину «доски». Где-то позади, справа от меня, находилась черная королева. Я ощущал ее присутствие так же отчетливо, как и присутствие того невидимого стрелка за спиной, а в полуметре от себя видел потное лицо и запавшие глаза черного коня – литовского еврея. Черная ладья прошла слева от меня. Когда мужчина, изображавший ее, ступил на клетку белой пешки, завязалась драка. Сначала я подумал, что оберст или Старик потерял контроль над фигурами, но потом понял, что все это входит в правила игры. Болельщики завопили, они жаждали крови. Черная ладья была сильнее, а возможно, ее не удерживали, и белая пешка стала отступать под ее натиском. Ладья, добравшись до горла пешки, мощно сжала его. Послышался долгий сухой хрип, и пешка рухнула на пол. Не успели ее тело оттащить с поля, как оберст двинул нашего уцелевшего коня на тот же квадрат, и драка возобновилась. На этот раз утащили черную ладью; босые ноги человека царапали плиты, вылезшие из орбит глаза неподвижно уставились в пустоту. Черный конь, шаркая ногами, прошел мимо меня, и снова началась схватка. Эти двое сцепились, пытаясь выцарапать друг другу глаза, нанося удары коленями, пока белого коня не вытолкали в пустую клетку за моей спиной. Винтовка снова выстрелила, я услышал, как пуля просвистела мимо уха. Человек, бывший «конем», падая, ударился об меня. На мгновение его рука схватила меня за щиколотку, как бы ища помощи. Я не шелохнулся. Мой ферзь снова был за моей спиной. Черная пешка справа двинулась вперед, угрожая ему. Я бы схватился с ней, если бы мне было позволено, но этого не случилось. Ферзь отступил на три клетки. Старик передвинул на шаг ферзевую пешку. Оберст послал вперед вторую ладейную пешку. Толпа скандировала: «Meister! Meister!» Старик переместил своего ферзя на две клетки назад. Меня снова подвинули. Теперь я стоял лицом к лицу с литовским евреем. Он замер, парализованный страхом. Неужели он не знал, что я не мог причинить ему вреда, пока мы стоим на одной вертикали? Возможно, и не знал, но я кожей чувствовал, что темноволосая королева в любую секунду может убрать меня. Только невидимое присутствие собственного ферзя в пяти клетках позади давало мне какое-то ощущение защищенности. Но что, если Старик решится пойти на ферзевый обмен? Однако вместо этого он передвинул свою ладью назад, на королевскую клетку. Слева от меня началась свалка – вторая пешка слона убрала черную пешку, а ее в свою очередь побил уцелевший черный слон. На какое-то время я оказался один на территории противника, но тут оберст передвинул белого ферзя на клетку позади меня. Что бы ни случилось теперь, я был не один. Затаив дыхание, я стал ждать. Но ничего не случилось. Точнее, Старик сошел со своего трона, махнул рукой и удалился. Он сдался. Пьяная свора солдат из отрядов специального назначения завопила от восторга. Несколько человек с эмблемой «Мертвой головы» кинулись к оберсту и, подняв его на руки, понесли по кругу почета. Я остался где стоял, напротив литовца, мы оба глупо моргали. Игра закончилась. Я знал, что каким-то образом помог оберсту выиграть, но был слишком оглушен всем случившимся, чтобы разобраться, как именно. Я видел всего лишь сбившихся в кучку уставших евреев, ничего не понимавших, но чувствовавших облегчение, пока зал гудел от криков и пения. Шестеро из нас, тех, что были белыми фигурами, погибли, как и шестеро черных. Уцелевшие могли теперь двигаться, и мы так и толпились там, в центре поля. Я обернулся и обнял женщину, стоявшую сзади меня. Она плакала. «Шалом», – сказал я и поцеловал ее руки. Литовский еврей на своей белой клетке упал на колени. Я помог ему подняться. Несколько рядовых с автоматами в руках провели нас через толпу в пустую прихожую. Здесь они заставили нас раздеться и побросали наши шахматные рубахи в кучу. Потом нас вывели в ночь, чтобы расстрелять.* * *
Нам приказали вырыть себе могилы. Метрах в сорока за домом на поляне лежало полдюжины лопат, и этими лопатами мы принялись копать широкий и неглубокий ров. Солдаты тем временем, покуривая, светили нам факелами. Покрытая снегом земля была твердой как камень, и мы смогли прокопать вглубь лишь на полметра. Между тупыми ударами лопат слышались взрывы хохота, доносившиеся из замка. В его высоких окнах горели огни, отбрасывая желтые прямоугольники на шиферные крыши. Мы не замерзли лишь потому, что двигались, – и еще от страха. Пальцев посиневших ног я уже не чувствовал. Мы почти закончили копать, и я понимал: надо на что-то решаться. В такой темноте можно попытаться добежать до леса. Было бы лучше, если бы мы все одновременно кинулись врассыпную, но евреи постарше явно не могли двигаться, они слишком замерзли и были измотаны, к тому же нам не позволяли разговаривать друг с другом. Две женщины стояли в нескольких метрах от рва, тщетно пытаясь прикрыть наготу руками, а охранники отпускали по этому поводу грубые шутки, поднося факелы поближе к ним и освещая их обнаженные тела. Я не мог решить, бежать мне или все же попробовать проломить солдату голову своей лопатой с длинной ручкой и захватить его автомат. Конечно, это были солдаты из отрядов спецназначения, но сейчас они напились и не ожидали нападения. Надо действовать скорее. Решив бить лопатой, я выбрал низкорослого молодого охранника – он стоял в нескольких шагах от меня и, казалось, дремал. Я с силой сжал черенок. – Halt! Wo ist denn mein Bauer?[20] Молодой оберст, хрустя снегом, приближался к нам, в распахнутой черной шинели и офицерской фуражке с высокой тульей. Войдя в круг света, отбрасываемого факелами, он оглянулся и спросил, где его пешка. Но которая? – Du! Komm her! – позвал он меня жестом. Я сжался, ожидая, что вот-вот повторится насилие над моим сознанием, но ничего такого не произошло. Выбравшись из неглубокого рва, я отдал лопату охраннику и, трясясь от страха, подошел к оберсту – к тому, кого они называли Der Meister. – Кончайте скорее, – приказал он по-немецки сержанту, командовавшему отделением. – Schnell! Сержант кивнул и велел евреям встать около рва. Женщины у дальнего края обняли друг друга. Последовал приказ всем лечь в холодную землю. Трое мужчин отказались подчиниться, и их застрелили там же, где они стояли. Тот, что был черным королем, корчась, упал всего метрах в двух от меня. Я опустил глаза, глядя на свои посиневшие ноги, и старался не шевелиться, но дрожь только усилилась. Другим евреям приказали скинуть тела расстрелянных в ров. Было тихо и жутко, в свете факелов белели худые спины и ягодицы моих товарищей по несчастью. Сержант отдал команду, и загремели выстрелы. Все закончилось меньше чем за минуту. Звук автоматных очередей казался приглушенным, ничего не значащим треском – и вот еще одна нагая фигура дергается в яме, корчится и замирает навсегда. Обе женщины так и погибли, обнимая друг друга. Литовский еврей выкрикнул что-то на иврите и упал на колени, протянув руки то ли к конвоирам, то ли к небу – я до сих пор этого не знаю, – и рухнул, сраженный автоматной очередью. Все это время я стоял, уставившись на свои дрожащие ноги, моля Бога, чтобы Он сделал меня невидимым. Но стрельба еще не кончилась, когда сержант повернулся ко мне и спросил: – А с этим что делать, mein Oberst? – Mein zuverlässiger Bauer?[21] – улыбнулся тот. – Сегодня будет охота. – Eine Jagd? – спросил сержант. – Heute nacht?[22] – Wenn es Dämmert.[23] – Auch Der Alte?[24] – Ja. – Jawohl, mein Oberst.[25] Я видел, что сержанту это особой радости не доставило, поскольку спать ему сегодня явно не придется. Конвоиры принялись забрасывать трупы комьями смерзшейся земли, а меня повели назад к замку и посадили на цепь в том же подвале, где нас держали несколько часов назад. Мои ступни кололо как иголками, а потом они начали гореть. Хотя это было очень больно, я все же задремал, когда вернулся сержант, снял с меня цепи и приказал одеться. Мне выдали нижнее белье, синие шерстяные штаны, рубаху, толстый свитер, теплые носки и крепкие ботинки, которые были мне немного малы. После нескольких месяцев в тюремном тряпье добротная одежда казалась просто чудом. Сержант вывел меня наружу, там стояли четверо эсэсовцев с фонариками и карабинами. Один из них держал на поводке немецкую овчарку; он позволил собаке обнюхать меня. Замок уже погрузился в темноту, крики смолкли. Приближавшийся рассвет сделал небо на востоке прозрачным. Конвоиры погасили свои фонарики, когда из замка вышли оберст и старый генерал. Вместо формы на них были толстые зеленые куртки, в руках они держали охотничьи карабины крупного калибра с оптическим прицелом. И тут я все понял. Я точно знал, что сейчас произойдет, но был до того измучен, что мне было все равно. Оберст махнул рукой, конвоиры отошли от меня и встали рядом с офицерами. Некоторое время я нерешительно топтался на месте, отказываясь делать то, что они требовали, будто ничего не понимал. Тогда сержант на ломаном польском заорал: «Бежать! Бежать, еврейская скотина!» Но я все не двигался. Собака тянула поводок, рычала и бросалась в мою сторону. Сержант поднял карабин и выстрелил, снег взвился фонтаном под моими ногами, но я продолжал стоять, пока не ощутил осторожное проникновение чужой воли в свой мозг. – Вперед, kleiner Bauer,[26] вперед! – От этого мягкого шепота меня затошнило, я зашатался, потом повернулся и побежал в лес. Я был слишком слаб, чтобы бежать долго. Через несколько минут я уже задыхался и начал спотыкаться. На снегу оставались четкие следы моих ботинок, но тут я ничего не мог поделать. Небо светлело, а я все бежал, стараясь держаться южного направления. Когда я услышал позади яростный лай, то понял, что охотники с собаками двинулись по моему следу. Пробежав немногим более километра, я увидел впереди открытое пространство. Просека шириной в сотню метров была расчищена – ни деревьев, ни пней. Посередине этой ничейной земли протянулась колючая проволока, но не это заставило меня остановиться. В центре просеки торчал белый знак с надписью на немецком и польском: «Стой! Заминировано!» Лай приближался. Я свернул влево и, задыхаясь от боли в боку, побежал трусцой. Я знал, что выхода нет, что это минное поле наверняка тянется по периметру всей усадьбы, обозначая границы их собственного охотничьего заказника. Единственной моей надеждой было найти дорогу, по которой мы приехали вчера ночью, а казалось – целую вечность назад. Там обязательно должны быть ворота, конечно с охраной, но все равно надо попытаться выйти на дорогу. Пусть уж лучше меня убьют охранники, чем эти животные, гнавшиеся за мной. Я решил, что кинусь на минное поле, лишь бы не стать мишенью для этих охотников на человека. Добежав до мелкого ручья, я снова почувствовал это подлое проникновение в свое сознание. Стоя неподвижно и глядя на полузамерзший ручей, я ощущал, как оберст входит в мое сердце, в тело, будто вода, заливающая рот, ноздри и легкие тонущего человека. Только это было еще хуже. Казалось, огромный ленточный червь ввинчивается в мой череп и обволакивает мозг. Я закричал, но из горла не вырвалось ни звука, ноги были как ватные. – Komm her, mein kleiner Bauer![27] – Голос оберста беззвучно шептал эти слова. Мысли его смешались с моими и вытеснили мою волю в какую-то темную яму. Перед моими глазами мелькали обрывки, как в рвущейся киноленте: чьи-то лица, мундиры, какие-то пейзажи, комнаты… Меня несли чужие волны ненависти и высокомерия. Чужая извращенная страсть к насилию наполнила мой рот медным привкусом крови. Этот шепот в мозгу был соблазнителен и тошнотворен, словно зов гомосексуалиста. Я будто со стороны наблюдал за своим поведением: вот я кинулся в ручей и повернул назад, на запад, навстречу охотникам, теперь я бежал быстро, резко вдыхая и выдыхая холодный сырой воздух. Ледяная вода забрызгала ноги, шерстяные штаны намокли и липли к икрам. У меня носом пошла кровь, потекла по подбородку к шее. – Komm her! Я выбрался из ручья и, спотыкаясь, побежал по лесу к куче валунов. Тело мое дергалось и извивалось, словно марионетка. Я вскарабкался на камни, забился между ними и так лежал, прижав щеку к валуну, а кровь из носа капала на замерзший мох. Послышались голоса охотников, они были не далее чем в пятидесяти шагах, за полосой деревьев. Я решил, что они окружат кучу камней, а затем оберст заставит меня встать, чтобы удобнее было стрелять. Я напрягся, пытаясь пошевелить ногами, двинуть рукой, но казалось, будто кто-то перерезал мои нервы, соединяющие мозг с телом. Я был пригвожден к земле надежно, как если бы все эти валуны разом навалились на меня. Послышались обрывки разговоров, затем голоса вдруг стали удаляться в том же направлении, откуда я прибежал десять минут назад. В это невозможно было поверить, но это так. Почему оберст играл со мной? Напрягшись, я попытался прочесть его мысли, но мои слабые потуги были отброшены, словно кто-то щелчком сбил назойливое насекомое. Вдруг я выбрался из укрытия и снова побежал, пригнувшись, между деревьями, а потом пополз по снегу. Я еще никого не видел, но уже чувствовал запах табачного дыма. На поляне на поваленном дереве сидел Старик, положив охотничий карабин на колени, а рядом с ним, спиной ко мне, стоял сержант, рассеянно постукивая пальцами по прикладу. Оба курили, наслаждаясь отдыхом. И тогда я поднялся во весь рост и помчался прямо на них. Сержант резко обернулся, и в эту секунду я в прыжке ударил его плечом. Он был выше и намного тяжелее меня, но за счет невероятной скорости я сбил его с ног. Мы покатились по снегу, и мне хотелось только одного – снова стать хозяином своего тела иубежать в лес. Вместо этого я схватил карабин Старика и стал колотить сержанта прикладом по шее и по лицу, как дубиной. Он попытался встать, но я снова сбил его с ног и, увидев, что он тянется к своему оружию, прижал его руку ботинком, а потом принялся молотить тяжелым прикладом по лицу, пока не переломал ему все кости, пока и лица-то, собственно, не осталось. Тогда я бросил карабин и повернулся к Старику. Он сидел все так же на поваленном дереве, в руке у него был «люгер», который он успел выхватить из кобуры, во рту по-прежнему дымилась сигарета. Казалось, ему уже тысяча лет, но к морщинистому лицу – скорее, к высохшей маске – была приклеена улыбка. – Sie![28] – сказал он, и я понял, что Старик обращается не ко мне. – Ja, Alte. – Я сам изумился тому, что произносит мой язык. – Das Spiel ist beendet.[29] – Посмотрим. – Старик поднял пистолет, собираясь выстрелить. Я метнулся вперед, пуля пробила мой свитер и обожгла ребра, но я успел схватить его за кисть, прежде чем он выстрелил во второй раз. Старик вскочил, и мы, шатаясь, принялись исполнять на снегу какой-то безумный танец – изможденный юноша-еврей, у которого носом шла кровь, и древний ариец, охотник и убийца. Его «люгер» снова выстрелил, на этот раз в воздух, но я вырвал пистолет из его руки и отскочил назад, наставив на него ствол. – Nein! – закричал Старик, и тут я почувствовал уже его присутствие в своем мозгу. Это было как удар молотком по основанию черепа. На какую-то секунду меня не стало вовсе; два этих мерзких существа дрались между собой за обладание моим телом. В следующее мгновение я уже смотрел на эту картину откуда-то сверху, словно выскочил из собственной оболочки. Старик застыл на месте, а мое тело металось вокруг него в жутком припадке. Глаза мои закатились, рот раскрылся, как у идиота, штаны были мокрыми от мочи, от них шел пар. Затем я вернулся в свое тело, и Старика в мозгу больше не было. Я видел, как он сделал несколько шагов назад и тяжело опустился на поваленное дерево. – Вилли, – прошептал он. – Mein Freund…[30] Я дважды выстрелил ему в лицо, потом один раз в сердце. Он опрокинулся назад, а я стоял и смотрел на подбитые гвоздями подошвы его сапог. – Мы сейчас придем, пешка, – послышался у меня в ушах шепот оберста. – Жди нас. Через какое-то время поблизости раздались лай овчарки и крики охотников. Пистолет был все еще у меня в руке. Я попытался расслабить мышцы, сосредоточив всю свою волю и энергию в одном-единственном пальце правой руки, даже не думая о том, что собираюсь сделать. Группа охотников была уже почти в пределах видимости, когда власть оберста над моим телом слегка ослабла – достаточно для того, чтобы попытаться сделать то, что я хотел. Это была самая решительная и самая трудная схватка в моей жизни. Мне и надо-то было лишь на несколько миллиметров подвинуть палец, но для этого понадобились вся моя энергия и вся решимость, что еще оставались в моем теле и душе. Мне это удалось. «Люгер» выстрелил, пуля прошла по касательной вдоль бедра и угодила в мизинец правой ноги. Боль пронзила мое тело, как очистительный огонь. Оберст был как бы застигнут врасплох, и я тут же почувствовал это на себе. Я повернулся и побежал, оставляя на снегу кровавые следы. Сзади раздались крики, затрещал автомат, мимо жужжали пули в свинцовой оболочке, словно пчелы. Но оберст уже не властвовал надо мной. Я добежал до минного поля и кинулся туда, не останавливаясь ни на миг. Голыми руками я растянул колючую проволоку, ударами ног отбросил эти цепкие щупальца и побежал дальше. Это было невероятно, необъяснимо, но я пересек заминированную просеку и остался жив. И в этот момент оберст вновь впился в мой мозг. – Стой! – приказал он. Я остановился, потом обернулся и увидел четырех охранников и оберста, застывших на краю смертельной полосы. – Возвращайся, моя маленькая пешка, – прошептал голос этой твари. – Игра окончена. Я попытался поднять «люгер», чтобы приставить его к своему виску, но не смог. Тело мое двинулось назад, на минное поле, к поднятым стволам автоматов. И в эту секунду овчарка вырвалась из рук державшего ее охранника и бросилась ко мне. Ей не удалось достичь края просеки, она наскочила на мину и подорвалась метрах в семи от немцев. Мина была очень мощная, противотанковая, в воздух взметнулись земля, куски металла и собачьего тела. Я видел, как они все пятеро упали на землю, а потом что-то мягкое ударило меня в грудь и сшибло с ног. С трудом я поднялся; рядом лежала оторванная голова овчарки. Оглушенные взрывом, оберст и двое эсэсовцев стояли на четвереньках, мотая головами, двое других не шевелились. Оберста в моем мозгу не было! Я вскинул «люгер» и выпустил по нему всю обойму, но расстояние было слишком большим, к тому же меня всего трясло. Ни одна пуля не задела никого из немцев. Постояв с секунду, я повернулся и снова побежал. Я до сих пор не знаю, почему оберст позволил мне убежать. Возможно, его контузило взрывом, или, может, он опасался в полную силу демонстрировать свою власть надо мной, ведь это могло навести на мысль о его причастности к смерти Старика. Но все же я подозреваю, что убежал тогда лишь потому, что это было на руку оберсту… Сол умолк. Огонь в камине погас, и они сидели почти в полной темноте. В последние полчаса исповеди голос его охрип, он говорил уже шепотом. – Вы очень устали, – сказала Натали. Сол не стал этого отрицать. Он не спал две ночи – с того самого момента, когда в воскресенье утром увидел в газетах фотографию Уильяма Бордена. – Но ведь это еще не конец? – спросила Натали. – Это как-то связано с людьми, которые убили моего отца, так? Он кивнул. Натали вышла из комнаты, затем вернулась через минуту с одеялом, простынями и большой подушкой. – Уже поздно. Ночуйте здесь, – предложила она. – Мы закончим утром. Я приготовлю завтрак. – У меня есть комната в мотеле, – хрипло произнес Сол. При мысли о том, что сейчас придется ехать куда-то, ему захотелось закрыть глаза и уснуть прямо там, где он сидел. – Я прошу вас остаться, – серьезно сказала Натали. – Мне очень хочется… Нет, я просто должна услышать конец вашего рассказа. – Она помолчала и добавила: – И потом, я не хочу сегодня ночевать одна в доме. Сол кивнул. – Вот и хорошо, – обрадовалась девушка. – В шкафчике в ванной есть новая зубная щетка. Если хотите, я могу достать чистую пижамную пару отца… – Спасибо. Я обойдусь. – Тогда до завтра. – Натали направилась к двери, но на пороге остановилась. – Сол… – Она помолчала, потирая руки выше локтя. – Все это… все, что вы мне рассказали, правда? – Да. – И ваш оберст был здесь, в Чарлстоне, на прошлой неделе? Он один из тех, кто виноват в смерти моего отца? – Думаю, да. Натали кивнула, хотела еще что-то сказать, потом слегка закусила губу. – Спокойной ночи, Сол. – Спокойной ночи, Натали. Несмотря на страшную усталость, Сол Ласки некоторое время лежал без сна, глядя, как прямоугольники света от автомобильных фар блуждают по фотографиям на стене. Он старался думать о приятных вещах – о золотистом свете, играющем на ветвях ив у ручья, или о белых маргаритках в поле на ферме дяди, где он бегал еще мальчиком. Но когда он наконец заснул, ему приснился жаркий июньский день, братишка Йозеф, который идет за ним к шапито по чудной лужайке, откуда ярко раскрашенные цирковые фургоны увозят толпы смеющихся детей к ожидающему их рву.Глава 7
Чарлстон
Среда, 17 декабря 1980 г.
Поначалу шерифа Джентри забавляло то, что за ним следят. Насколько он мог помнить, за ним никто никогда не следил. Сам же он достаточно много времени проводил за этим занятием. Только вчера он ездил за психиатром Ласки и наблюдал, как тот забрался в дом Фуллер, потом терпеливо ждал в «додже» Линды Мэй, пока Ласки и эта девушка, мисс Престон, пообедают, а после провел бо́льшую часть ночи в районе Сент-Эндрюс, попивая кофе и наблюдая за домом Натали. Ночь была чертовски холодной и прошла совершенно впустую. Рано утром он снова проехал мимо ее дома в собственной машине; взятая напрокат «тойота» психиатра все еще стояла у крыльца. Какая между ними связь? Джентри догадывался, что Ласки в этом деле очень важная фигура. Эта догадка родилась у него еще во время их первого телефонного разговора, а теперь она быстро перерастала в уверенность и не давала ему покоя, зудела между лопатками, там, где невозможно почесать спину. Джентри уже знал по опыту, что эта штука – одна из важнейших составляющих в репертуаре хорошего полицейского. Вот вчера он отправился следить за Ласки, а теперь, оказывается, следят за ним самим – за Бобби Джо Джентри, шерифом округа Чарлстон. Поначалу он не мог в это поверить. Утром он встал, как всегда, в шесть часов, чувствуя усталость от недосыпа и слишком больших доз кофеина в предыдущий день, и поехал к дому Престон в Сент-Эндрюс, проверить, там ли провел Сол Ласки остаток ночи. Потом он остановился у закусочной Сары Диксон на Риверс-авеню, съел гамбургер и отправился на Хэмптон-парк беседовать с миссис Луэллин. Муж этой женщины уехал из города четыре дня назад, в ту ночь, когда произошли убийства в «Мансарде», и погиб в автокатастрофе в Атланте рано утром в воскресенье. Когда полицейский штата Джорджия по телефону сообщил ей, что она вдова, так как ее муж врезался в опору путепровода на скорости свыше восьмидесяти пяти миль в час недалеко от Атланты, миссис Луэллин не нашла ничего лучшего, как спросить: «А что Артур делал там, в Атланте, скажите на милость? Ведь он только поехал купить сигару и воскресную газету». Джентри считал, что вопрос задан по делу, но он так и не получил на него ответа, проведя полчаса с вдовой в ее кирпичном доме. И вот тогда Джентри заметил зеленый «плимут», стоявший за полквартала от его машины в тени высоких деревьев, нависающих над улицей. Первый раз он засек его, когда отъезжал от закусочной, обратив внимание на номерные знаки штата Мэриленд. Из своей многолетней практики Джентри уже усвоил, что полицейские становятся буквально одержимыми, обязательно замечая мелкие детали, бо́льшая часть которых оказывается абсолютно бесполезной. Шериф сел за руль своей патрульной машины, стоявшей перед домом Луэллинов, поправил зеркальце заднего вида и внимательно посмотрел на «плимут», припаркованный чуть дальше. Машина, без сомнения, была той же самой, но он не мог разглядеть, есть ли кто-нибудь в салоне, из-за бликов на ветровом стекле. Джентри пожал плечами, включил мотор и поехал прямо, потом свернул налево у первого же знака «стоп». «Плимут» начал двигаться за мгновение до того, как машина Джентри исчезла из виду. Шериф еще раз свернул налево и покатил на юг, пытаясь решить, вернуться ли ему в контору и заняться кое-какими бумагами либо снова поехать в Сент-Эндрюс. Зеленый «плимут» по-прежнему держался сзади, пропустив вперед две машины. Джентри ехал медленно, постукивая по баранке своими большими красными пальцами и потихоньку насвистывая мелодию кантри-песенки. Слушая вполуха хрипение полицейского радио, он перебирал в уме причины, по каким кто-то мог его преследовать. За исключением нескольких воинственных типов, которых он засадил в тюрьму за последние два года, ни у кого, насколько он мог помнить, не было повода сводить счеты с Бобби Джо Джентри и уж тем более никакого резона тратить время, мотаясь за ним по улицам. Джентри подумал, уж не шарахается ли он от призраков? В Чарлстоне наверняка не один зеленый «плимут». «С мэрилендскими номерами?» – иронично усмехнулось его второе «я» – умудренный опытом полицейский. Джентри решил вернуться в контору окружным путем. Он повернул налево, на Кэннон-стрит, где было оживленное движение. Хвост не отставал. Если бы Джентри не знал, что «плимут» там, он бы ни за что его сейчас не засек. Преследователь выдал себя лишь потому, что маленькая боковая улочка близ Хэмптон-парка была абсолютно пуста. Джентри въехал на шоссе номер двадцать шесть, ведущее в соседний штат, проехал больше мили на север, потом покатил по узким улочкам на восток, в сторону Митинг-стрит. «Плимут» по-прежнему маячил сзади, прячась за другими машинами там, где это было возможно, и сильно отставая, когда шоссе пустело. – Ну и ну, – пробормотал Джентри. Он приблизился к району Чарлстон-Хайтс, оставив справа военно-морскую базу. Сквозь паутину подъемных кранов видны были серые громады кораблей. Джентри повернул налево, на Дорчестер-роуд, а потом снова выехал на двадцать шестое шоссе, на сей раз направляясь на юг. Хвост вроде бы исчез. Он уже собрался съехать с шоссе у центра города и списать всю историю на счет детективов, которых он насмотрелся по кабельному телевидению, когда позади, в полумиле от него, огромный трейлер перестроился в другой ряд и Джентри вновь на мгновение увидел капот зеленого цвета. С шоссе он вернулся к узеньким улочкам вблизи здания муниципалитета. Потихоньку начал накрапывать дождь. Водитель «плимута» включил дворники одновременно с шерифом. Джентри прикинул, какие же законы здесь нарушены, но вот так, сразу, не смог ничего придумать. «Ну ладно, – решил он. – Самое главное теперь избавиться от хвоста». Ему живо представились все эти погони с визжащими тормозами на бешеной скорости, которые он видел в кино. Нет уж, спасибо. Затем он попытался вспомнить детали шпионского искусства из бесчисленных детективов, которыми он когда-то увлекался, но в голову опять не приходило ничего стоящего. Дело еще осложнялось тем, что Джентри ехал в своей коричневой патрульной машине, на которой по бокам крупными буквами было написано: «Шериф округа Чарлстон». Он понимал, что ему достаточно сказать несколько слов по рации, объехать пару раз квартал, и восемь полицейских машин плюс половина патрульных с шоссе встретят этого красавчика на следующем же перекрестке. Ну а дальше что? Джентри представил себе, как его вызывают к судье Трэтору по обвинению в незаконном задержании приезжего из другого штата, – мужчина, мол, пытался найти паром к форту Самтер и решил просто следовать за местным констеблем. Самое разумное в данной ситуации – и Джентри это хорошо знал – было переждать. Пусть этот олух ездит за ним сколько угодно – дни, недели, месяцы, пока Джентри не сообразит, в какую игру тот играет. Этот парень в «плимуте» – если это был парень – мог оказаться судебным исполнителем, репортером, закоренелым «свидетелем Иеговы» или членом новой губернаторской команды по борьбе с коррупцией. Джентри был абсолютно уверен, что разумнее всего сейчас вернуться в контору и заняться своими делами. Пусть все образуется само собой. Однако он никогда не отличался особым терпением. Круто развернув машину на мокром асфальте и одновременно включив мигалку и сирену, Джентри рванул назад по узкой улице с односторонним движением прямо в лоб приближающемуся «плимуту». Правой рукой он расстегнул кобуру его собственного, не казенного пистолета, затем оглянулся назад, убедиться, что резиновая дубинка лежит на сиденье, там, где он ее обычно держал. Он еще поддал газу и посигналил, чтобы было совсем уж весело. Даже радиатор приближающегося «плимута», казалось, изумился такому повороту событий. Джентри различил теперь, что в машине всего один человек. Преследователь метнулся вправо, но Джентри попытался отсечь ему путь. Тогда «плимут» притворился, что хочет протиснуться по дальней стороне улицы слева, а сам вырулил на тротуар и попробовал проскочить мимо машины шерифа. Джентри крутанул руль влево и перескочил через бордюр; он был готов к столкновению лоб в лоб. «Плимут» пошел юзом, сшиб правым крылом несколько мусорных ящиков и врезался боком в телеграфный столб. Шериф резко затормозил перед радиатором «плимута», из которого поднимался пар, и удостоверился, что стоит правильно: в таком положении «плимуту» отсюда не выбраться. Затем он вылез из машины, быстрым движением открыл кобуру под мышкой и сжал в левой руке резиновую дубинку. – Позвольте взглянуть на ваши водительские права, сэр, – обратился он к мужчине с бледным и худым лицом. «Плимут» ударился о телефонный столб довольно сильно, правую дверцу заклинило, водителя тоже тряхнуло как следует. Он опустил на руль голову с залысинами. На вид ему было лет сорок пять, темный костюм, белая рубашка и узкий галстук времен Кеннеди – так, во всяком случае, показалось Джентри. Шериф внимательно следил, как водитель «плимута» вытаскивает бумажник. Он явно не торопился выполнять просьбу. Тогда Джентри быстро шагнул вперед и левой рукой открыл дверцу. Дубинка теперь висела у него на кисти, а правую руку он снова положил на рукоять своего «ругера»: – Сэр, пожалуйста, выйдите из… А-а-а, ч-черт! Водитель резко повернулся к нему, в руке у него был пистолет. Джентри без промедления обрушил в открытую дверцу все свои сто двадцать килограммов, пытаясь в броске дотянуться до кисти противника. Раздались два выстрела: первая пуля пролетела мимо уха шерифа и пробила крышу «плимута», вторая попала в ветровое стекло, превратив его в припудренную паутину. Джентри наконец удалось ухватить стрелка за кисть обеими руками, и некоторое время они барахтались на переднем сиденье, как сопливая парочка, тискающаяся в укромном месте. Резиновая дубинка застряла в рулевом колесе, и «плимут» взревел, как животное, раненное в брюхо. Водитель потянулся к лицу шерифа, пытаясь выцарапать ему глаза, но Джентри набычился и ударил его своей массивной головой раз, два… На третьем ударе он почувствовал, что противник обмяк. Пистолет выпал из его руки, стукнулся о руль, потом о ногу Джентри и скатился на тротуар. У Джентри, с его врожденной реакцией охотника, мелькнуло опасение, что от удара пистолет выстрелит и разрядит пол-обоймы ему в спину, но ничего такого не случилось. Подавшись вперед, он вытащил водителя следом за собой из салона. Схватив его за шиворот, быстро глянул, где пистолет, – тот лежал поблизости, под машиной, – и отшвырнул водителя метра на три, шмякнув его об асфальт. Когда тот поднялся, Джентри уже крепко держал в руке тяжелый «ругер», который подарил ему дядя перед выходом на пенсию. – А ну, не двигаться! Не двигаться, тебе сказано! – приказал он. Из магазинчиков и кафе выскочила дюжина зевак. Джентри удостоверился, что никто из них не находится на линии огня, – за спиной водителя была лишь кирпичная стена. С какой-то тошнотворной ясностью до него внезапно дошло, что он готовится застрелить этого бедного сукина сына. Ему никогда еще не приходилось стрелять в человека. Вместо того чтобы взять пистолет в обе руки и широко расставить ноги, как его учили, он стоял выпрямившись, согнув руку в локте и подняв ствол вверх. Капли дождя мягко падали на его раскрасневшееся лицо. – Ладно, парень, – тяжело дыша, проговорил он. – Расслабься. Давай-ка обсудим это дело. Но тут водитель выхватил из кармана нож. Щелкнув, лезвие выскочило из рукоятки. Слегка пригнувшись, он распределил вес тела на обе ноги и широко растопырил пальцы левой руки. Джентри с сожалением отметил, что противник держит нож как профессионал, очень опасно: большой палец упирался в рукоятку над лезвием. Нож в его руке короткими плавными движениями заходил из стороны в сторону. Джентри ногой отбросил пистолет еще дальше под «плимут» и сделал шага три назад. – Кончай, парень, – спокойно предложил он. – Убери нож. Джентри понимал, что пять метров, разделяющие их, можно преодолеть очень и очень быстро. Он также отдавал себе отчет в том, что, если метнуть нож с такого расстояния, он может быть не менее опасен, чем пуля. Но ему также хорошо запомнилось, какие дыры оставляет «ругер» в мишени на расстоянии сорока метров. Он даже думать не хотел, что может сделать пуля калибра 0,357 с пяти метров. – Убери, – повторил Джентри монотонным голосом, в котором не было угрозы, но который не допускал каких-либо возражений. – Давай расслабимся на минутку и обсудим все. Водитель не сказал ни слова и не издал ни одного звука с того момента, как Джентри подошел к «плимуту», если не считать стонов и кряхтения. Но теперь сквозь его стиснутые челюсти прорвался какой-то странный свист, словно пар из чайника. Он снова стал поднимать нож. – Не двигаться! Шериф вскинул пистолет, по-прежнему одной рукой целясь в середину узкого галстука. Если этот тип замахнется, чтобы метнуть нож, Джентри придется стрелять. И тут он увидел нечто такое, отчего его колотящееся от напряжения сердце замерло, будто парализованное. Лицо водителя «плимута» мелко задрожало – даже не задрожало, а поплыло, как неплотно прилегающая резиновая маска, зрачки расширились, словно от удивления или страха, и заметались в панике. На какое-то мгновение Джентри показалось, что сквозь это худое лицо проступил образ другого человека, в загнанных глазах мелькнуло выражение абсолютного ужаса и смятения, но затем мускулы лица и шеи застыли, словно маску натянули плотнее. Лезвие все поднималось, дойдя до подбородка, – достаточно высоко, чтобы точно метнуть нож. – Эй! – крикнул Джентри и взвел курок. И тут водитель «плимута» погрузил лезвие в собственное горло. Он не вонзил, не ткнул, не полоснул себя по горлу, он именно погрузил пятнадцать сантиметров стали в собственную плоть, как хирург, который делает на операции первый надрез. Затем он провел лезвием слева направо во всю ширину шеи, медленно, уверенно и с большой силой. – Бог ты мой! – прошептал Джентри. Кто-то в толпе завизжал. Кровь заструилась по белой рубашке мужчины, будто лопнул шар, наполненный красной краской. Самоубийца успел вытащить окровавленное лезвие и, что было просто невероятно, продолжал стоять еще несколько мгновений, расставив ноги, без всякого выражения на лице, пока кровь заливала его торс, а потом с отчетливо слышным звуком начала капать на мокрый асфальт. Затем он рухнул навзничь, ноги его конвульсивно дернулись и замерли. – Не подходить! – рявкнул Джентри зевакам и кинулся вперед. Тяжелым ботинком он придавил правую кисть водителя, а дубинкой откинул нож. Голова мужчины запрокинулась, края красного разреза на горле разошлись, и это походило на непотребную ухмылку акулы. Джентри увидел разорванные хрящи и иззубренные концы серых нитей, но потом кровь хлынула снова. Он подбежал к своей машине и вызвал «скорую». Потом снова крикнул толпе, чтобы никто не подходил, и, пошарив дубинкой под «плимутом», достал пистолет. Это был девятимиллиметровый браунинг с каким-то особым магазином в два ряда, отчего он казался чертовски тяжелым. Джентри нашел предохранитель, щелкнул им, сунул пистолет себе за пояс и, подойдя к мужчине, опустился рядом с ним на колени. Водитель перекатился на правый бок, руки его были плотно прижаты к телу, кулаки сжаты. Кровь уже образовала на асфальте лужу больше метра шириной, и с каждым медленным ударом сердца ее выливалось все больше. Джентри стоял на коленях в луже крови и пытался закрыть рану голыми руками, но разрез был слишком велик, а края рваные. Через несколько секунд рубашка мужчины пропиталась кровью, а глаза приняли тот остекленевший, неподвижный вид, который Джентри слишком часто видел у трупов. Дыхание его остановилось в тот момент, когда вдалеке послышался вой сирены «скорой помощи». Джентри отошел назад и вытер руки о штаны. Во время стычки бумажник водителя каким-то образом оказался на тротуаре, шериф наклонился и поднял его. Послав к чертям правила обращения с вещественными доказательствами, он открыл бумажник и быстро обшарил все отделения. Там было девятьсот долларов наличными, небольшая фотография шерифа Бобби Джо Джентри и ничего больше: ни водительских прав, ни кредиток, ни семейных фотографий, ни карточки социального обеспечения, ни визиток, ни даже старых квитанций. – Кто-нибудь, скажите, что здесь происходит? – прошептал Джентри. Дождь прекратился, тело водителя неподвижно лежало на тротуаре. Худое лицо его стало таким белым, словно из воска. Джентри потряс головой и обвел невидящим взглядом толпу зевак, вытягивающих шеи, и направляющихся к нему полицейских и санитаров. – Кто-нибудь мне скажет, что здесь происходит? – закричал он. Ему никто не ответил.Глава 8
Байриш-Айзенштейн
Четверг, 18 декабря 1980 г.
Тони Хэрод и Мария Чэнь выехали из Мюнхена и направились на северо-восток, мимо Дингольфинга и Рагена, вглубь холмистых лесов поблизости от западногерманско-чешской границы. Хэрод гнал взятый напрокат «БМВ», проходя на высоких оборотах скользкие от дождя повороты; машина шла юзом, но он ее контролировал, быстро увеличивая скорость на прямых отрезках дороги. Даже эта полная сосредоточенность не могла пересилить напряжения, не покидавшего его тело после долгого перелета. Во время этого бесконечного полета он много раз пытался заснуть, но ни на секунду не мог забыть, что запечатан в хрупкой герметичной трубе, висящей высоко, в тысячах метров, над холодной Атлантикой. Хэрод вздрогнул, включил радиатор и обогнал еще два автомобиля. Они ехали теперь по гористой местности, где на полях белым ковром лежал снег, а по обочинам дороги высились сугробы. Двумя часами раньше, когда они только выбрались из Мюнхена и помчались по забитой транспортом автостраде, Мария, рассматривая дорожную карту, сказала: – А тут недалеко Дахау. Всего в нескольких милях. – Ну и что? – буркнул Хэрод. – Это место, где располагался один из лагерей, куда ссылали евреев во время войны, – ответила она. – Все это древняя история, ну ее к черту. – Не такая уж древняя, – заметила Мария. На повороте, помеченном номером 92, Хэрод съехал с автострады и попал на другую, такую же загруженную. Маневрируя, он пробился в левый ряд и поехал так быстро, насколько позволяла обстановка. – Ты когда родилась? – спросил он. – В сорок восьмом. – Если что-то происходило до твоего рождения, не стоит об этом переживать, – сказал Хэрод. Мария Чэнь умолкла, глядя в окно на холодную ленту реки Изар. Предвечерний свет потихоньку гас в сером небе. Хэрод бросил взгляд на свою секретаршу и вспомнил, как они познакомились. Это случилось четыре года назад, летом 1976-го. Хэрод прилетел тогда в Гонконг на встречу с братьями Фой по просьбе Вилли – поговорить насчет финансирования очередной бредятины про кун-фу. Он рад был выбраться из Штатов в момент, когда истерия по поводу двухсотлетия независимости достигла пика. Младший из братьев Фой решил сопровождать Тони во время ночных развлечений. Хэрод не сразу сообразил, что дорогой бар в ночном клубе на восьмом этаже высотного здания в Коулуне на самом деле был борделем, а прекрасные, даже шикарные женщины, чье общество доставляло им такое удовольствие, – просто проститутками. Как только он понял это, то сразу же потерял интерес и ушел бы, если бы его внимание не привлекла необыкновенно красивая девушка, смешанной европейской и азиатской наружности, одиноко сидевшая за стойкой. Глаза ее выражали такое безразличие, какое трудно подделать. Когда он спросил Фоя, кто она такая, толстяк-азиат расплылся в улыбке: – О, это очень интересная и печальная история. Ее мать была американской миссионеркой, отец – учителем в Китае. Мать умереть вскоре после того, как они приехали в Гонконг. Отец тоже умирает. Мария Чэнь остаться здесь, очень знаменитая модель, очень дорогая модель. – Модель? А что она тогда тут делает? Фой пожал плечами и ухмыльнулся, блеснув золотым зубом: – Она делает многие деньги, но ей надо больше, еще больше. Очень дорогие вкусы. Она хочет ехать в Америку – она американский гражданин, но не может вернуться из-за дорогих вкусов. Хэрод кивнул: – Кокаин? – Героин, – улыбнулся азиат. – Хотите знакомиться? Хэрод хотел знакомиться. После того как их представили друг другу и они сидели уже вдвоем у стойки бара, Мария Чэнь сказала: – Я слышала о вас. Вы сделали себе карьеру на плохих фильмах и еще более дурных манерах. Соглашаясь, Тони кивнул: – А я слышал про вас. Вы наркоманка и гонконгская проститутка. Он видел, как она размахнулась, чтобы залепить ему пощечину, и потянулся щупальцами мозга, пытаясь остановить ее, но у него ничего не вышло. Удар прозвучал громко, публика в баре замолкла на полуслове и уставилась на них. Когда бар снова загудел как обычно, Хэрод вытащил платок и приложил ко рту. Кольцо на руке девушки рассекло ему губу. Хэроду и раньше приходилось сталкиваться с нейтралами – людьми, на которых его Способность совершенно не действовала. Но это случалось редко, крайне редко. И никогда не случалось так, что он не знал об этом заранее. У него всегда было время подготовиться и избежать болезненных последствий. – Ну ладно, – сказал он. – Будем считать, что мы познакомились. А теперь у меня к вам деловое предложение. – Что бы вы мне ни предложили, мне это неинтересно. – Говорила Мария Чэнь вполне искренне, в этом не было сомнения, и все же она осталась сидеть у стойки. Хэрод кивнул, быстро обмозговав ситуацию. Уже несколько месяцев он испытывал некоторое беспокойство, работая с Вилли. Старик редко пользовался своей Способностью, но, когда он это делал, становилось ясно, что он гораздо сильнее Хэрода. Тони мог потратить месяцы и даже годы, тщательно программируя помощника, однако он не сомневался, что Вилли сделает это за несколько секунд. Хэрод испытывал постоянную и все возрастающую тревогу с тех пор, как этот чертов Клуб Островитян заставил его сблизиться с кровожадным стариком. Если Вилли что-нибудь узнает, Хэроду придется несладко. – Я предлагаю вам работу в Штатах, – сказал Тони. – Вы будете моим личным секретарем и исполнительным секретарем кинокомпании, которую я представляю. Мария Чэнь холодно посмотрела на него. В прекрасных карих глазах не было никакого интереса. – Пятьдесят тысяч долларов в год, – продолжил Хэрод, – плюс разные льготы. Она и глазом не моргнула: – Я зарабатываю в Гонконге гораздо больше. Зачем мне менять карьеру модели на секретарскую работу с меньшей оплатой? – Слово «секретарскую» она произнесла с ударением, и было ясно, что это предложение не вызывает у нее ничего, кроме презрения. – Я упомянул льготы, – сказал Хэрод, но девушка ничего не ответила, и он тихо добавил: – Постоянный источник того… что вам нужно. И вам никогда больше не придется самой заниматься покупкой. В этот момент Мария Чэнь все же моргнула. Самоуверенность слетела с нее, как сорванное покрывало. Она опустила глаза и смотрела теперь на свои руки. – Подумайте, – бросил на ходу Хэрод. – Я буду в отеле «Виктория и Альберт» до утра вторника. Она так и не подняла глаза, когда Хэрод вышел из ночного клуба. Во вторник утром он готовился к отлету, служащий отеля уже отнес в холл его чемоданы. Тони стоял перед зеркалом, застегивая куртку, когда в дверях появилась Мария Чэнь. – Каковы будут мои обязанности помимо секретарских? – спросила она. Хэрод медленно повернулся, подавил желание улыбнуться и пожал плечами: – Все, что я прикажу. – Потом все же улыбнулся. – Но не то, о чем вы думаете. Я не нуждаюсь в проститутках. – У меня есть одно условие. Он молча смотрел на нее. – В будущем году я намерена… избавиться от этого. – На гладкой коже лба выступили капельки пота. – Я хочу… как это говорится?.. завязать. Когда я назначу время, вам придется устроить все, что нужно. Хэрод подумал несколько секунд. Он не был уверен, что ему будет выгодно, если Мария Чэнь избавится от своей зависимости, но он также сомневался, что она действительно когда-нибудь попросит об этом. Ну а если попросит, тогда он и разберется. А пока у него будет красивая и умная помощница, которую Вилли, вдобавок, не сможет Использовать. – Согласен, – кивнул он. – Пойдемте решим вопрос с вашей визой. – В этом нет необходимости. Я уже уладила все формальности. – Мария Чэнь шагнула в сторону, пропуская его, и они пошли к лифту.* * *
Проехав после Дингольфинга километров тридцать, они направились к Рагену, средневековому городку в тени скалистых утесов. Когда они спускались по серпантину горной дороги к его окраине, Мария Чэнь указала рукой в сторону деревьев у обочины. Фары выхватили из темноты овальную доску, установленную вертикально. – Ты заметил эти доски? – спросила она. – Да, – ответил Хэрод, переключая скорость перед крутым поворотом. – В путеводителе сказано, что на них местных селян носили на кладбище. На каждой доске написано имя умершего и просьба помолиться за него. – Мило, – откликнулся Хэрод. Они въехали в город с тускло мелькающими по сторонам фонарями и мокрой брусчаткой на мостовых. Высоко на покрытом лесом холме показалась темная громада какого-то строения, нависающего над Рагеном. – «Этот замок когда-то принадлежал графу Хунду, – прочитала Мария. – Он велел закопать свою жену живьем за то, что она утопила их ребенка в реке Раген». Тони промолчал. – Интересная история, правда? – спросила она. Хэрод свернул влево, на одиннадцатое шоссе, ведущее к горам. В свете фар поблескивал снег. Протянув руку, он взял у Марии Чэнь путеводитель и выключил свет. – Сделай милость, – устало бросил он. – Заткнись.* * *
Хотя они добрались до маленького отеля Байриш-Айзенштейна в десятом часу вечера, их ждали, а в ресторане, где едва помещались пять столиков, все еще подавали ужин. Помещение согревал огромный камин, он же, собственно, его и освещал. Они молча поужинали. Хэроду город показался маленьким и заброшенным, насколько он смог его разглядеть, пока они разыскивали отель. Единственная дорога да дюжина старых фахверковых домиков в узкой долине между темными горами. Это место напоминало ему какую-то затерянную колонию в горах Катскилл. Знак на окраине городка предупреждал, что чешская граница всего в нескольких километрах. Когда они поднялись в свои смежные номера на третьем этаже, Хэрод сказал: – Пойду вниз, посмотрю, что у них тут за сауна. Приготовь все на завтра. Отель состоял всего из двадцати номеров, большинство из которых занимали лыжники, приехавшие побродить в окрестностях Большого Арбера – горы высотой тысяча четыреста метров в нескольких милях к северу. Пары три-четыре сидели в небольшом холле на первом этаже, потягивая пиво или горячий шоколад и хохоча на добродушный немецкий манер. Этот смех почему-то всегда казался Хэроду натянутым. Сауна находилась в подвале и оказалась всего лишь небольшим чуланом из белого кедра с полками. Хэрод установил нужную температуру, снял одежду в крохотной раздевалке и вошел в раскаленное нутро. Он улыбнулся, увидев небольшое объявление на двери на немецком и английском: «Вниманию гостей: одежда в сауне необязательна». Очевидно, тут бывали американские туристы, которых шокировало безразличие немцев к наготе в таких ситуациях. Он почти заснул, когда в сауне появились две девушки, молодые немки не старше девятнадцати лет. Войдя, они захихикали и продолжали хихикать, пока не увидели Хэрода. – Guten Abend,[31] – сказала та, что повыше. Обе девушки были блондинками, тела их прикрывали повязанные вокруг торса полотенца. На Хэроде тоже было полотенце. Не говоря ни слова, он посматривал на них из-под тяжелых полуприкрытых век. Хэрод вспомнил, как почти три года назад Мария Чэнь объявила, что пришло время помочь ей завязать с героином. – Почему я должен помогать тебе? – спросил он тогда. – Потому что ты обещал. Хэрод молча посмотрел на нее, вспомнив все предыдущие месяцы своего сексуального напряжения, холодность, с которой она встречала любые его попытки сближения, и ту ночь, когда он не выдержал, тихо подошел к ее комнате и открыл дверь. Был уже третий час, но Мария все еще сидела в постели и читала. Увидев его, она спокойно отложила книгу, вытащила револьвер тридцать восьмого калибра из ящика ночного столика и, удобно устроив его у себя на коленях, спросила: – Тебе что-то нужно, Тони? Он покачал головой и вышел. – Ну, раз обещал, – сказал Хэрод. – Чего ты от меня хочешь? Три последующие недели Мария не выходила из запертой комнаты в подвале. Поначалу она царапала длинными ногтями обивку, которой с его помощью были покрыты стены и дверь. Она визжала, стучала руками и ногами, рвала зубами матрас и подушки, составлявшие единственное убранство комнаты, потом снова кричала. Никто не слышал ее воплей, кроме Хэрода, находившегося в соседнем помещении. Она не ела ничего из того, что он просовывал ей в небольшое отверстие, прорезанное в двери. Через два дня она уже не вставала с матраса, лежала, свернувшись, и попеременно то дрожала, то покрывалась холодным потом, то слабо постанывала, то выла нечеловеческим голосом. Он пробыл с ней три дня и три ночи, помогая ей добраться до туалета, когда она могла подняться, а когда у нее не было сил, убирал за ней. Спустя две недели Мария Чэнь проспала сутки. После этого Хэрод вымыл ее и обработал царапины, которые она нанесла себе. Проводя губкой по ее бледным плечам, груди и идеальной формы бедрам, он вспомнил, как смотрел в своем кабинете на ее тело, обтянутое шелком, и жалел, что она нейтрал. Он вытер ее, одел в мягкую пижаму, заменил чистым бельем перепачканные тряпки и оставил одну – отсыпаться. На третьей неделе Мария Чэнь вышла из подвала. Ее поза и несколько холодноватая манера держаться были все те же – такое же совершенство, как ее прическа, одежда и косметика. Ни он, ни она никогда не упоминали о тех трех неделях.* * *
Молоденькая немочка хихикнула и подняла руки над головой, что-то говоря подружке. Хэрод поглядывал в их сторону сквозь облака пара, глаза его превратились в темные щелочки под тяжелыми веками. Та, что постарше, несколько раз моргнула и развязала полотенце. Ее грудь была тяжелой и упругой. Вторая удивленно замерла, руки ее все еще были подняты над головой. Хэрод увидел пушистые волоски под мышками – интересно, почему немки не бреют эти места? Вторая девушка тоже сбросила свое полотенце. Пальцы ее двигались с трудом, словно она засыпала либо никогда раньше этого не делала. Девушка постарше подняла руки и положила их на грудь подруги. «Сестры, – догадался Хэрод, прищурясь, чтобы отчетливее смаковать их ощущения. – Кристен и Габи». Работать с двумя было непросто. Надо было быстро переходить от одной к другой, не теряя контакта с первой. Это походило на игру в теннис с самим собой – долго так не поиграешь. Но долго забавляться было и незачем. Хэрод закрыл глаза и улыбнулся.* * *
Когда он вернулся из сауны, с мокрыми волосами, в золотистом халате и шелковой пижаме, Мария Чэнь стояла у окна и смотрела на небольшую толпу, распевающую рождественский гимн вокруг запряженных лошадьми саней. В холодном воздухе эхом разносились смех и мелодия «Рождественской елки». Мария отвернулась от окна. – Где? – быстро спросил Хэрод. Она открыла свой чемодан, вытащила пистолет сорок пятого калибра и положила его на журнальный столик. Тони взял оружие, щелкнул курком и кивнул: – Я так и думал, что тебя не будут трясти на таможне. Где обойма? Мария снова полезла в чемодан, достала три магазина и положила рядом на стеклянную поверхность стола. – Хорошо, – одобрил Хэрод. – Давай теперь посмотрим, где это долбаное место. – Он разложил бело-зеленую топографическую карту на столе, прижав один конец пистолетом, а другой – обоймой. Коротким пальцем он ткнул в скопление точек по обеим сторонам красной линии. – Тут Байриш-Айзенштейн, а тут мы. – Палец передвинулся на два-три сантиметра к северо-западу. – Поместье Вилли вот за этой горой… – Большой Арбер, – подсказала Мария Чэнь. – Пусть большой. Прямо посреди вот этого леса… – Баварского леса, – уточнила она. Хэрод несколько мгновений тупо смотрел на нее, потом снова перевел взгляд на карту: – Поместье – часть национального парка или вроде того… Но все равно это частная собственность. Вот и поди разберись в этом говне. – В американских национальных парках тоже есть частные владения, – пояснила Мария Чэнь. – И потом, предполагается, что в доме никто не живет. – Ну да. – Хэрод свернул карту и вышел в свой номер через смежную дверь. Через минуту он вернулся со стаканом виски, купленного беспошлинно в аэропорту Хитроу. – Ладно. Ты все поняла насчет завтрашнего дня? – Да, – кивнула Мария. – Если его там нет, все в порядке. А если он там один и захочет разговаривать со мной, тоже никаких проблем. – А если проблемы возникнут? Хэрод сел, поставил виски на стол и с треском вогнал обойму в рукоять пистолета. Потом протянул оружие Марии: – А если проблемы возникнут, ты его застрелишь. Его или любого, кто там будет с ним. Стреляй в голову. Дважды, если позволит время. – Он направился к двери, затем остановился. – Есть еще вопросы? – Нет. – Она помотала головой. Хэрод вошел в свою комнату и закрыл дверь. Мария Чэнь услышала, как щелкнул замок. Некоторое время она сидела, держа пистолет в руке, прислушиваясь к доносившимся с улицы звукам рождественского праздника и глядя на тонкую полоску желтого света под дверью комнаты Тони Хэрода.Глава 9
Вашингтон, округ Колумбия
Четверг, 18 декабря 1980 г.
Арнольд Барент попрощался с только что избранным президентом, вышел из отеля «Мейфлауэр» и, заехав в отдел ФБР, отправился в национальный аэропорт. Перед его лимузином двигался серый «мерседес», позади – синий, обе машины принадлежали одной из его компаний. Люди, сидевшие в них, были вышколены не хуже, чем агенты секретной службы, которыми был набит «Мейфлауэр». – Мне показалось, что все сложилось удачно, – сказал Чарльз Колбен, второй пассажир лимузина; кроме их двоих и шофера, в машине больше никого не было. Барент кивнул. – Президент с пониманием отнесся к вашим предложениям, – продолжил Колбен. – Возможно, он даже посетит собрание Клуба Островитян в июне. Это будет очень интересно. К нам никогда еще не приезжал правящий президент. – Избранный президент, – поправил Барент и добавил: – Вы сказали, что он с пониманием отнесся к моим предложениям. Вы имели в виду избранного президента? До января нашим президентом является мистер Картер. Колбен презрительно фыркнул. – Что говорят ваши службы насчет заложников? – тихоспросил Барент. – О чем вы? – Когда их отпустят? В последние часы пребывания Картера у власти? Или уже при следующей администрации? Колбен пожал плечами: – Мы же ФБР, а не ЦРУ. Нам положено работать внутри страны, а не за рубежом. Барент кивнул и едва заметно улыбнулся: – И одна из ваших задач внутри страны – шпионить за ЦРУ. Так что я повторяю свой вопрос: когда заложники вернутся домой? Колбен нахмурился и, посмотрев в окно на голые деревья у дороги, сказал: – За сутки до или в течение суток после церемонии инаугурации. Точнее узнать не удалось. Но аятолла целых полтора года имел Джимми в задницу. Непонятно, с какой стати он кинет ему эту кость. – Я с ним однажды встречался, – заметил Барент. – Интересная личность. – Что? Кто интересная личность? Колбен слегка смешался. Картер с женой несколько раз за последние четыре года гостил у Барента в его поместье в Палм-Спрингс и в замке «Тысяча островов». – Аятолла Хомейни, – терпеливо объяснил Барент. – Когда он находился в ссылке во Франции, я ездил к нему из Парижа. Один друг подсказал, что имам может показаться мне забавным. – Забавным? Этот фанатичный ублюдок – забавный? Барент слегка нахмурился, он не любил грубых выражений. Во время встречи с Тони Хэродом он употребил слово «сука» лишь потому, что считал это слово вульгарным, – так проще втолковать суть вульгарному человеку. – Да, это было забавно. – Барент уже сожалел, что затеял этот разговор. – Мы пообщались с ним минут пятнадцать через переводчика, хотя мне сообщили, что он понимает по-французски. Вам никогда не догадаться, что этот фанатик попытался сделать во время беседы. – Попросил вас субсидировать его революцию? – спросил Колбен таким тоном, что было ясно – ему это совершенно не интересно. – Он попытался меня Использовать. – Барент снова улыбнулся, вспомнив тот эпизод. – Я чувствовал, как он слепо, инстинктивно пытался пролезть в мой мозг. У меня создалось такое впечатление, что он уверен, будто является единственным человеком, обладающим Способностью. И еще мне показалось, что он считает себя Богом, Аллахом во плоти. Колбен снова пожал плечами: – Если бы у Картера хватило соплей послать несколько В – пятьдесят два сразу же после того, как ублюдки захватили наших, от Хомейни осталось бы мало божеского. Барент решил сменить тему. – А где сегодня наш друг мистер Хэрод? – поинтересовался он. Колбен вытащил ингалятор, приложил его поочередно к обеим ноздрям и поморщился. – Он со своей секретаршей, или кем она там ему приходится, прошлой ночью вылетел в Западную Германию. – Я полагаю, чтобы проверить информацию о своем друге? Возможно, Вилли жив-здоров и вернулся на родину, – сказал Барент. – Ну да. – А вы послали кого-нибудь с ними? Колбен мотнул головой: – Незачем. Траск наблюдает за замком через своих людей во Франкфурте и в Мюнхене. Он знает их еще с тех времен, когда работал на ЦРУ. Хэрод в любом случае направится туда. Мы просто будем следить за переговорами. – И как вы думаете, найдет он что-нибудь? Чарльз Колбен пожал плечами. – Не верите, что наш мистер Борден жив, не так ли? – Да. Мне он почему-то не кажется таким уж чертовски умным и ловким, – сказал Колбен. – Это ведь была наша идея поговорить с той женщиной, мисс Дрейтон, чтобы убрала его… Мы все единодушно решили, что его действия становятся слишком заметными, ведь так? – Да, – кивнул Барент. – А потом мы вдруг узнаём, что Нина Дрейтон позволила себе кое-какие неосмотрительные шаги. Жаль, конечно. – Чего жаль? Барент взглянул на лысого чиновника: – Жаль, что они не входили в Клуб Островитян. Они были очень заметными личностями. – Херня все это, – выругался Колбен. – Психи они были долбаные, вот и все. Лимузин остановился, и замки на дверце рядом с Колбеном щелкнули. Барент глянул в окно на уродливый боковой вход нового здания ФБР. – Вам выходить, – сказал он, а потом, когда Колбен уже стоял на тротуаре и шофер готовился захлопнуть дверцу, добавил: – Чарльз, что-то надо делать с вашей манерой выражаться. Колбен так и остался стоять с раскрытым от удивления ртом, глядя вслед удаляющемуся лимузину. Поездка к национальному аэропорту заняла всего несколько минут. Специальный «Боинг-747» ждал Барента у его собственного ангара. Двигатели гудели, кондиционеры работали, а рядом с любимым креслом Барента стоял стакан охлажденной минеральной воды. Дон Митчелл, пилот, вошел в пассажирский салон. – Все готово, мистер Барент, – доложил он. – Мне надо сообщить диспетчеру наш маршрут. Куда мы направляемся, сэр? – Я бы хотел полететь на свой остров. – Барент отхлебнул из стакана. Митчелл сдержанно улыбнулся старой шутке. К. Арнольд Барент был владельцем почти четырехсот островов по всему свету, и на двадцати из них у него имелись особняки и дворцы. – Да, сэр, – козырнул пилот, продолжая ждать. – Передайте диспетчеру, что мы выбираем план полета «Е». – Он встал, держа в руке стакан, и направился к двери спальни. – Я дам знать, когда буду готов. – Да, сэр. – Митчелл снова козырнул. – У нас разрешение взлетать в любое время в течение ближайших пятнадцати минут. Барент кивнул и подождал, пока пилот не уйдет. Спецагент Ричард Хейнс сидел на огромной, королевских размеров кровати. Когда Барент вошел в спальню, тот поднялся, но Барент махнул рукой, и Хейнс снова сел. Допив воду, Барент снял пиджак, галстук и рубашку, затем бросил скомканную рубашку в корзину для белья и вытащил свежую из ящика, встроенного в кормовую переборку. – Ну, что нового, Ричард? – спросил он, застегивая пуговицы. Хейнс моргнул и заговорил: – Куратор Колбен и мистер Траск опять встречались сегодня утром, перед вашей беседой с избранным президентом. Траск – член переходной команды… – Да, да, – кивнул Барент. – А что там насчет ситуации в Чарлстоне? – ФБР контролирует работу по этому делу, – сообщил Хейнс. – Бригада, расследующая авиакатастрофу, пришла к заключению, что самолет был уничтожен бомбой замедленного действия. Один из пассажиров – в списке он фигурирует как Джордж Хаммел – воспользовался кредитной карточкой, украденной, как показала проверка, в Бар-Харборе, штат Мэн. – Мэн, – повторил Барент; Ниман Траск был помощником сенатора от штата Мэн. – Небрежная работа. – Да, сэр, – согласился Хейнс. – Во всяком случае, мистер Колбен был очень обеспокоен вашим распоряжением не мешать шерифу Джентри вести расследование. Вчера он встречался с мистером Траском и мистером Кеплером в отеле «Мейфлауэр». Я уверен, что тем же вечером они послали людей в Чарлстон. – Кого-нибудь из «чистильщиков» Траска? – Да, сэр. – Ладно. Продолжайте, Ричард. – Сегодня примерно в девять двадцать утра по восточному времени шериф Джентри перехватил человека, который следил за ним из «плимута» семьдесят шестого года выпуска. Шериф предпринял попытку арестовать его, но водитель «плимута» оказал сопротивление, а затем перерезал себе горло ножом с выкидным лезвием, изготовленным во Франции. В картотеке Чарлстона он не значится, анализ отпечатков пальцев и регистрационных данных автомобиля ничего не дал. Сейчас делаются попытки идентифицировать труп по состоянию зубов, но на это потребуется несколько дней. – Если это один из «чистильщиков» Траска, они ничего не найдут, – задумчиво проговорил Барент. – Шериф не пострадал? – Нет, сэр, судя по сообщению нашего наружного наблюдения. Барент кивнул, снял с вешалки шелковый галстук и принялся его завязывать. Щупальца его мозга потянулись к сознанию спецагента Ричарда Хейнса. Он наткнулся на щит, делавший Хейнса нейтралом, – щит из крепкой скорлупы, ограждавший волнующееся море мыслей, амбиций и темных желаний – всего того, что составляло личность агента Хейнса. Как и многие другие, обладавшие Способностью, Колбен выбрал себе в ближайшие помощники нейтрала. Хейнса нельзя было запрограммировать, но, с другой стороны, его не мог перевербовать кто-то с более мощной Способностью. Так, во всяком случае, полагал Колбен. Барент скользил по поверхности щита сознания, пока не нашел в нем трещину – а ее всегда можно найти. Он проник глубже, сломал жалкую защиту Хейнса и внедрил свою волю в саму основу сознания агента. Когда Барент коснулся центра удовольствия Хейнса, тот расслабился и закрыл глаза. – Где эта женщина, Мелани Фуллер? – спросил Барент. Хейнс открыл глаза: – После той шумихи в аэропорту Атланты в понедельник вечером никаких известий нет. – Удалось засечь, откуда был телефонный звонок? – Нет, сэр. Оператор в аэропорту полагает, что это был местный звонок. – Как вы думаете, есть ли у Колбена, Кеплера или Траска какая-либо другая информация о том, где находится Фуллер? Или Вилли? Хейнс секунду помедлил и покачал головой: – Нет, сэр. Когда найдут его или ее, информация поступит через ФБР по обычным каналам. Я буду знать об этом одновременно с мистером Колбеном. – Лучше, если раньше, – улыбнулся Барент. – Благодарю вас, Ричард. Как всегда, ваше общество меня приободрило. Вы сможете найти Лестера на его обычном месте, если захотите связаться со мной. Как только у вас будет какая-то информация о местонахождении Мелани Фуллер либо нашего друга из Германии, немедленно сообщите мне. – Да, сэр. – Хейнс повернулся к выходу. – Ричард… – Барент натянул синий кашемировый свитер. – Вы все еще считаете, что шериф Джентри и этот психиатр… – Ласки, – подсказал агент. – Да. – Барент улыбнулся. – Вы считаете, что контракты с этими двумя джентльменами следует официально разорвать? – Считаю. – Хейнс нахмурился и продолжил, осторожно выбирая слова: – Джентри слишком сообразительный малый. Поначалу я решил, что его столь сильное волнение из-за убийств в «Мансарде» связано с подрывом его репутации, но потом убедился, что он воспринял их как нечто задевающее его лично. Простой толстый деревенский полисмен, вот и все. – Но сообразительный. – Да. – Хейнс снова нахмурился. – Я не уверен насчет Ласки, но, по-моему, он слишком… слишком глубоко в это вовлечен. Он знал мисс Дрейтон и… – Хорошо, – кивнул Барент. – Насчет Ласки у нас могут быть и другие планы. – Он посмотрел на агента долгим взглядом. – Ричард… – Да, сэр? Барент соединил кончики пальцев. – Я давно хочу вас спросить. До того как мистер Колбен вступил в Клуб, вы уже несколько лет работали на него, ведь так? – Да, сэр. Барент коснулся нижней губы сложенными домиком пальцами. – Вопрос, который я хочу задать, Ричард… Почему? Агент нахмурился, он не понял, о чем идет речь. – Я имею в виду, – продолжил Барент, – зачем делать все эти вещи, о которых Чарльз вас просил?.. И теперь еще просит… Ведь у вас есть выбор. Лицо Хейнса прояснилось. Он улыбнулся, демонстрируя идеальные зубы: – Ну, наверное, мне нравится моя работа… Это все на сегодня, мистер Барент? Тот с секунду внимательно смотрел на него, потом кивнул. Через пять минут после того, как Хейнс ушел, Барент вызвал пилота по внутренней связи: – Дональд, взлетайте. Я бы хотел отправиться к себе на остров.Глава 10
Чарлстон
Среда, 17 декабря 1980 г.
Сола разбудили голоса детей, игравших на улице, и сначала он никак не мог сообразить, где находится. Не в своей квартире, это точно. Он лежал на складной кровати под окном с желтыми занавесками. На секунду эти желтые занавески напомнили ему их дом в Лодзи, крики детей вызвали в памяти образы Стефы и Йозефа… Нет, дети кричали слишком громко по-английски. Чарлстон. Натали Престон. Он вспомнил, как рассказывал ей вчера свою историю, и почувствовал смущение, словно эта молодая черная женщина видела его нагим. И зачем только он рассказал ей обо всем? После стольких лет… Почему? – Доброе утро. – Натали заглянула в дверь. На ней был красный шерстяной свитер и узкие джинсы. Сол сел в постели и потер глаза. Его рубашка и брюки, аккуратно сложенные, висели на спинке софы. – Доброе утро. – На завтрак яичница с беконом и тосты. Сойдет? В комнате запахло свежемолотым кофе. – Отлично, – сказал Сол, – только бекон – это не для меня. Натали с досадой хлопнула себя ладонью по лбу. – Ну конечно! – воскликнула она. – По религиозным мотивам? – Нет, из-за холестерина. За завтраком они говорили о жизни в Нью-Йорке, об учебе в Сент-Луисе, о том, что это такое – вырасти на юге. – Это трудно объяснить, – сказала Натали, – но почему-то жить здесь проще, чем на севере. Расизм, конечно, еще жив, но… он меняется. Возможно, люди на юге так давно играют каждый свою роль, и в то же время им теперь приходится приспосабливаться. Наверное, поэтому они ведут себя более честно. На севере все принимает гораздо более грубые и злобные формы. – Я не думал, что Сент-Луис северный город, – улыбнулся Сол. Он доел тосты и теперь попивал кофе. Натали рассмеялась: – Нет, конечно, но он и не южный. Скорее это нечто среднее. Я больше имела в виду Чикаго. – Вы жили в Чикаго? – Я провела там часть лета. Папа устроил меня на работу через своего старого друга из «Чикаго трибюн». – Она замолчала, неподвижно глядя в чашку. – Я понимаю, вам трудно, – тихо сказал Сол. – На время забываешься, потом случайно упоминаешь имя, и все возвращается снова… Натали кивнула. Сол посмотрел в окно на длинные листья низкорослой пальмы. Окно было приоткрыто, и сквозь сетку проникал теплый ветерок. Трудно было поверить, что сейчас середина декабря. – Вы собираетесь стать учителем, но ваша первая привязанность, похоже, фотография. Натали опять кивнула, встала и еще раз наполнила кофейные чашки. – Мы заключили с папой нечто вроде соглашения, – сказала она, на сей раз заставив себя улыбнуться. – Он обещал помочь мне научиться фотографировать, если я соглашусь получить образование по какой-нибудь «настоящей профессии», как он это называл. – Вы собираетесь преподавать? – Возможно. Она вновь улыбнулась, уже через силу, и Сол отметил про себя, что у нее прекрасные зубы, а улыбка делает лицо милым и застенчивым. Он помог ей вымыть посуду, а потом они налили себе еще кофе и вышли на небольшое крыльцо. Машин на улице было мало, детские голоса смолкли. Сол вспомнил, что сегодня среда; детишки, наверное, ушли в школу. Они уселись в белые плетеные кресла, друг напротив друга. Натали накинула на плечи легкий плед, а Сол свою удобную, хотя и немного помятую куртку. – Вы обещали рассказать вторую часть вашей истории, – сказала Натали. Он кивнул: – А вам не показалась первая часть чересчур фантастичной, чем-то напоминающей бред сумасшедшего? – Вы же психиатр. Вы не можете быть сумасшедшим. Сол громко рассмеялся: – О-о-о, я мог бы тут такого порассказать… Натали улыбнулась: – Ладно, об этом позже. Сначала вторую часть. Он помолчал, помешивая ложечкой в чашке кофе. – Итак, вам удалось убежать от этого негодяя-оберста, – подсказала Натали. На минуту Сол закрыл глаза, затем вздохнул и слегка откашлялся. Когда он заговорил, в голосе его почти не было никаких эмоций, лишь слабый намек на грусть. Через некоторое время Натали тоже закрыла глаза, чтобы лучше представить себе ту картину, которую воспроизводил ее гость своим тихим, проникновенным и чуточку печальным голосом.* * *
– В ту зиму сорок второго еврею в Польше действительно некуда было податься. Я неделями бродил по лесам к северу и западу от Лодзи. В конце концов кровь из раны перестала сочиться, но заражение казалось неизбежным. Я обернул ногу мхом, обмотал ее тряпками и продолжал идти. След, оставленный пулей на боку и правом бедре, болел и кровоточил много дней, пока не затянулся. Я воровал еду на фермах, держался подальше от дорог и старался не попадаться на глаза группам польских партизан, действовавшим в этих лесах. Партизаны пристрелили бы еврея так же охотно, как и немцы. Не знаю, как я выжил той зимой. Помню, две крестьянские семьи, христиане, позволяли мне прятаться в кучах соломы у них в сараях и давали еду, хотя у самих ее почти не осталось. Весной я отправился на юг в надежде найти ферму дяди Моше возле Кракова. Документов у меня не было, но мне удалось пристать к группе рабочих, возвращавшихся со строительства немецких оборонительных сооружений на востоке. К весне сорок третьего уже не подлежало сомнению, что Красная армия скоро будет на польской земле. До фермы дяди Моше оставалось восемь километров, когда один из рабочих выдал меня. Меня арестовала польская «синяя полиция» и допрашивала три дня, хотя ответы мои их, по-моему, не интересовали, им был нужен лишь предлог для избиений. Затем они передали меня немцам. Гестапо тоже не проявило особого интереса к моей особе, полагая, очевидно, что я – один из многих евреев, покинувших город либо сбежавших во время перевозки по железной дороге. В немецкой сети для евреев было множество дыр. Как и в других оккупированных странах, готовность поляков сотрудничать с немцами сделала почти невозможной любую попытку евреев избежать лагерей смерти. Неизвестно, по какой причине меня отправили на восток, хотя Аушвиц, Хелмно, Бельзен и Треблинка были гораздо ближе. Нас везли через всю Польшу четыре дня в пломбированном вагоне, за это время погибла треть из находившихся там людей. Потом двери с грохотом распахнулись, и мы, шатаясь, выбрались наружу, вытирая слезившиеся от непривычного света глаза. Оказалось, нас привезли в Собибор. И там я снова увидел оберста. Собибор был лагерем смерти. Там не было заводов, как в Аушвице либо Бельзене, никаких попыток ввести в заблуждение, как в Терезиенштадте или Хелмно, не было издевательского лозунга «Arbeit Macht Frei»[32] над воротами, украшавшего многие нацистские двери в ад. В сорок втором и сорок третьем у немцев работали шестнадцать огромных концентрационных лагерей, таких как Аушвиц, более пятидесяти лагерей поменьше, сотни трудовых лагерей и лишь три Vernichtungslager – лагеря смерти, предназначенные чисто для уничтожения: Бельзен, Треблинка и Собибор. Они просуществовали всего двадцать месяцев, но там умерло больше двух миллионов евреев. Собибор был небольшим лагерем, меньше Хелмно, и располагался на реке Буг. Эта река до войны служила восточной границей Польши. Летом сорок третьего Красная армия теснила вермахт назад, к этой границе. К западу от Собибора простирался девственный Парчев лес, лес Сов. Весь лагерный комплекс занимал площадь не больше трех-четырех полей для игры в американский футбол, но он очень эффективно выполнял свою функцию «скорейшего достижения окончательного решения еврейского вопроса», на чем настаивал Гиммлер. Я не сомневался, что скоро погибну. Нас высадили из вагонов и загнали за высокую живую изгородь по коридору из колючей проволоки. Проволока была покрыта пучками соломы, так что мы ничего не видели, кроме высокой караульной вышки, верхушек деревьев и двух кирпичных труб впереди. К лагерю вели три указателя: «столовая», «душевая», «дорога в небо». Кто-то в Собиборе продемонстрировал, очевидно, эсэсовское чувство юмора. Нас отправили в душевые. Евреи, привезенные из Франции и Голландии, шли довольно покорно, но я помню, как польских евреев немцам приходилось с проклятьями подталкивать прикладами. Рядом со мной старик выкрикивал ругательства и грозил кулаком эсэсовцам, которые заставили нас раздеться. Не могу точно описать, что я чувствовал, когда вошел в душевую. Во мне не было ненависти, лишь немного страха. Возможно, из всех чувств преобладало облегчение. Почти четыре года мною владело одно могучее желание – выжить. Подчиняясь этому желанию, я просто наблюдал, как евреев, таких же как я, заталкивали в адскую пасть немецкой машины уничтожения. И не только наблюдал, иногда я сам помогал этой машине. Теперь же я мог отдохнуть. Я сделал все, чтобы выжить, но этому пришел конец. Единственное, о чем я сожалел, – это то, что мне пришлось убить Старика, а не проклятого оберста. В тот момент оберст олицетворял для меня все зло мира, и, когда за нами захлопнулись тяжелые двери душевой, перед глазами у меня стояло именно его лицо. Помещение было набито битком, все толкали друг друга, кричали, стонали. Сначала ничего не происходило, потом трубы задрожали и заурчали, и, когда вместо газа сверху хлынули потоки воды, люди просто шарахнулись от них. Я стоял как раз под душем и, подняв лицо, подставил его под струи, вспоминая о своей семье и сожалея, что не попрощался с матерью и сестрами. И тут на меня вместе с водой накатила волна ненависти, я готов был найти этого арийца и сразиться с ним, чем бы это для меня ни кончилось. А люди вокруг кричали, трубы тряслись и гудели, выплевывая на нас потоки воды. Господи, те самые душевые, в которых каждый день погибали тысячи людей, использовались и по своему прямому назначению! Какое это было наслаждение – просто смыть с себя грязь и остаться в живых. Наконец нас вывели наружу и подвергли дезинфекции, затем обрили нам головы. Мне выдали тюремный комбинезон и вытатуировали на руке номер. Боли я, пожалуй, и не испытывал. В Собиборе, где так эффективно «обрабатывали» столько тысяч людей в день, каждый месяц отбирали заключенных для работы по лагерю и прочих дел. В тот раз выбрали наш эшелон. Все еще оглушенный, я отказывался верить, что меня снова выпустили на свет, резавший глаза, и избрали для какой-то миссии. Я по-прежнему отказывался верить в Бога – любой бог, предавший свой народ, не заслуживал моей веры… Но с того момента я поверил, что есть какая-то причина, ради которой я должен жить. Причину эту можно было представить себе в виде оберста, явившегося мне, когда я готов был умереть. Никто – и меньше всего семнадцатилетний паренек – не мог осознать всей безмерности того зла, которое поглотило мой народ. Но я вполне мог понять недозволенность существования таких, как оберст. Я сказал себе: я буду жить. Жить несмотря на то, что внутри меня уже не осталось этого страстного желания, жить для того, чтобы свершилось то, что уготовано мне. Я вынесу все, лишь бы настал день, когда придет конец этому непотребству. В течение следующих трех месяцев я находился в лагере-один в Собиборе. Лагерь-два был промежуточной инстанцией, из лагеря-три никто никогда не возвращался. Я ел, что давали, спал, когда позволяли спать, испражнялся, когда мне приказывали, и исполнял свои обязанности в качестве Bahnhofkommando.[33] На мне была синяя фуражка и синий комбинезон с нашитыми на них желтыми буквами «ВК». Несколько раз в день мы выходили встречать прибывающие эшелоны. И до сих пор, когда я не могу заснуть ночью, я вижу надписи мелом на этих запечатанных вагонах – места, откуда они прибыли: Туробин, Горзков, Влодава, Седльце, Избица, Маргузов, Комары, Замосць. Мы собирали багаж евреев, ошеломленных тем, что случилось с ними, и раздавали им багажные бирки. Из-за сопротивления польских евреев, сильно замедляющего обработку, немцы снова взяли за правило сообщать людям, выжившим в эшелонах, что Собибор – это всего лишь перевалочный пункт, место отдыха на пути к центрам переселения. Одно время на станции даже висели указатели с обозначением расстояний в километрах до этих мифических центров. Польские евреи не очень верили этим указателям, но в конце концов они тоже шли в душевые вместе со всеми. А эшелоны все прибывали: Баранов, Рыки, Дубенка, Бяла-Польска, Ухане, Демблин, Рейовец. По крайней мере раз в день мы раздавали евреям из гетто открытки, на которых был текст: «Мы прибыли в центры переселения. Работа на ферме тяжелая, но много солнца, а также много отличной еды. Ждем вашего скорого приезда». Они надписывали адреса на этих открытках и ставили свои подписи, а потом их уводили и травили газом. К концу лета, когда гетто опустели, эта уловка уже была не нужна. Консковола, Йозефов, Мехув, Грабовиц, Люблин, Лодзь. В некоторых эшелонах живых не было. Тогда мы из Bahnhofkommando откладывали свои багажные квитанции в сторону и вытаскивали обнаженные трупы из вонючих вагонов. Здесь все было как в душегубках в Хелмно, только тела эти лежали в тисках смерти дни и недели, пока вагоны стояли где-нибудь на запасном пути, на полустанке в сельской местности под палящим летним солнцем. Однажды я потащил труп молодой женщины, обнявшей ребенка и женщину постарше, и рука ее оторвалась. Я проклинал Бога, и при этом мне мерещилась издевательская улыбка оберста. Но я знал, что буду жить. В июле Собибор посетил Генрих Гиммлер. На этот день было назначено прибытие специальных эшелонов западноевропейских евреев, и он хотел лично понаблюдать за их «обработкой». Вся процедура от прибытия эшелона до последней струйки дыма, поднимавшейся из шести печей, занимала менее двух часов. За это время все пожитки евреев были конфискованы, рассортированы, пронумерованы, сложены в контейнеры и занесены в гроссбухи. Даже волосы женщин в лагере-два обрезали и потом использовали для изготовления войлока или подкладки сапог, которые носили подводники. У немцев-педантов никогда ничего не пропадало зря. Я как раз сортировал багаж в зоне прибытия, когда мимо, в сопровождении коменданта и многочисленной свиты, прошел шеф гестапо. Я почти не запомнил Гиммлера – невзрачный коротышка в очках, с усиками бюрократа, – но за ним следовал молодой светловолосый офицер. Я сразу узнал оберста. Он как раз наклонился и что-то сказал на ухо Гиммлеру, рейхсфюрер СС запрокинул голову и рассмеялся странным, почти женским смехом. Они прошли метрах в пяти от меня. Я постарался нагнуться пониже, но когда все же поднял глаза, то увидел, что оберст смотрит в мою сторону. Не думаю, что он меня узнал. Прошло всего восемь месяцев после событий в Хелмно и в замке, но для оберста я, скорее всего, был лишь одним из многих евреев-заключенных, сортирующих багаж мертвых. Я раздумывал всего несколько секунд. Это был мой шанс, но я промедлил, и шанс был упущен. Возможно, в тот момент я смог бы добраться до оберста, схватить его за горло до того, как раздадутся выстрелы. Может, мне даже удалось бы выхватить пистолет у одного из офицеров, окружавших Гиммлера, и выстрелить прежде, чем оберст поймет, что ему грозит опасность. С тех пор я много раз думал, не было ли там чего-то еще, кроме неожиданности и нерешительности, что остановило меня. Страх мой умер вместе со всем, что оставалось от моего духа, за несколько недель до этой встречи, в той герметически закупоренной душевой. Как бы то ни было, я колебался несколько секунд, а может, и минуту, и время было потеряно навсегда. Гиммлер со свитой двинулись дальше и прошли через ворота в штаб комендатуры – место, известное под названием «Веселая блоха». Я все стоял и смотрел на ворота, за которыми они скрылись, пока сержант Вагнер не заорал на меня: я должен был либо работать, либо отправляться в «больницу». Никто никогда не возвращался из той «больницы». Опустив голову, я снова принялся за работу. Я был наготове весь день, не спал ночь и весь следующий день ждал, не появится ли оберст, но он не появился. Гиммлер со свитой исчезли ночью. Четырнадцатого октября евреи Собибора подняли восстание. Я слышал разговоры о его подготовке, но они казались мне до того неправдоподобными, что я не обращал на них внимания. В конце концов весь тщательно продуманный план привел к уничтожению нескольких охранников и безумному рывку примерно тысячи евреев к главным воротам. В первую же минуту большинство их скосил пулеметный огонь. Некоторые в наступившей суматохе прорвались сквозь проволочную ограду позади лагеря. Бригада, в которой был я, как раз возвращалась со станции, когда вспыхнуло это восстание. Конвоировавшего нас капрала забила насмерть хлынувшая в ту сторону толпа, и у меня не было другого выбора, как бежать со всеми остальными. Я был уверен, что украинцы на вышке будут стрелять прежде всего по людям в синих комбинезонах вроде меня. Но я добежал до первых деревьев как раз в тот момент, когда двух женщин, бежавших рядом, скосило огнем с вышек. В лесу я переоделся в серую тюремную робу старика, который добрался сюда, под защиту деревьев, и уже здесь его достала шальная пуля. По моей прикидке, в тот день из лагеря убежало сотни две заключенных, поодиночке или небольшими группами, большинство из которых не имели руководителей. Та группа людей, что спланировала побег, не предусмотрела, как действовать, чтобы выжить на свободе. Многие беглые евреи и русские военнопленные впоследствии были пойманы немцами либо выловлены и перебиты польскими партизанами. Другие пытались укрыться на ближайших фермах, но там их быстро выдали немцам. Лишь единицы выжили в лесу, да еще некоторые перебрались через Буг, навстречу наступающей Красной армии. Мне повезло. На третий день блуждания по лесу меня обнаружили члены еврейской партизанской группы, называвшейся «Хиль». Командиром у них был храбрый, совершенно не знавший страха человек по имени Йехиэль Гриншпан. Он принял меня в отряд и приказал врачу подлечить и подкормить меня. Наконец-то мою рану правильно обработали. В течение пяти месяцев я скитался с этим отрядом по лесу Сов, помогал хирургу, доктору Ячику, и спасал жизни людей, когда мог, даже если это были немцы. Вскоре после того побега нацисты закрыли лагерь в Собиборе. Они снесли бараки, разобрали печи и засадили картофелем поля, где во рвах лежали тысячи трупов, не сгоревшие в крематории. К тому времени, когда наши партизаны отпраздновали еврейскую Хануку, бо́льшая часть Польши уже находилась в состоянии хаоса – вермахт отступал на запад и на юг. В марте ту местность, где мы действовали, освободили войска Красной армии, и война для меня закончилась. В течение нескольких месяцев советские военные власти держали меня в заключении и допрашивали. Некоторые бойцы «Хиля» попали в советские лагеря «для перемещенных лиц», но меня в мае отпустили, и я вернулся в Лодзь. Еврейское гетто было не просто опустошено – его уничтожили. Во время наступления был разрушен и наш старый дом в западном районе города. В августе сорок пятого я перебрался в Краков, а оттуда поехал на велосипеде на ферму дяди Моше. Там уже жила другая – христианская – семья, купившая во время войны ферму у гражданских властей. Они сказали, что ничего не знают о местонахождении прошлых владельцев. В эту же поездку я посетил Хелмно. Советские власти объявили эту территорию запретной зоной, и меня даже не подпустили к лагерю. Я прожил неподалеку от него пять дней и каждый день ездил на велосипеде по всем проселкам и тропинкам. В конце концов я нашел тот замок, вернее, его руины. Он был сожжен то ли артиллерийским огнем, то ли отступавшими немцами, и там не осталось практически ничего, кроме разбросанных камней, обгоревших бревен да обожженного дымохода. Шахматный пол главного зала тоже не сохранился. На поляне, где когда-то смертниками была вырыта неглубокая могила, я обнаружил следы недавних раскопок. Вокруг валялось множество окурков русских папирос. Я пробовал расспрашивать в местной гостинице, но крестьяне утверждали, что о раскопках братских могил ничего не знают. Они также настаивали, причем довольно агрессивно, будто никто вокруг и не подозревал, чем на самом деле являлся лагерь в Хелмно. Я уже притомился спать, как бродяга, на открытом воздухе и хотел было переночевать в гостинице, перед тем как отправиться на велосипеде на юг, но сделать это мне не удалось. Евреев в гостиницу не пускали. На следующий день я отправился в Краков на поезде, искать работу. Зима сорок пятого – сорок шестого года была почти такой же трудной, как зима сорок первого – сорок второго. Формировалось новое правительство, но в действительности население беспокоили много более серьезные вещи: отсутствие продовольствия, горючего, черный рынок, беженцы, тысячами возвращавшиеся домой, чтобы начать жизнь сначала, и в особенности советская оккупация. В течение сотен лет мы сражались с русскими, покоряли их, в свою очередь сопротивлялись вторжению, жили под угрозой с их стороны, а затем приветствовали как освободителей. Мы только очнулись от кошмара немецкой оккупации, как наступило холодное утро русского освобождения. Как и все поляки, я был истощен, пребывал в состоянии оцепенения и несколько удивлялся тому, что все еще жив. Единственным сильным желанием было пережить хотя бы еще одну зиму. Весной сорок шестого пришло письмо от моей кузины Ребекки. Она со своим мужем-американцем жила в Тель-Авиве. Ей пришлось потратить несколько месяцев, отправляя письма, устанавливая контакты с чиновниками, рассылая телеграммы агентствам и разным учреждениям в надежде разыскать хотя бы следы кого-нибудь из семьи. Она нашла меня через своих друзей из Международного Красного Креста. Я написал ей, и вскоре пришла телеграмма, в которой она настойчиво приглашала меня приехать к ней в Палестину. Они с Давидом предлагали прислать мне деньги на билеты. Я вовсе не был сионистом, более того, наша семья никогда не признавала существования Палестины как возможного еврейского государства, но, когда я сошел с битком набитого турецкого сухогруза в июне сорок шестого на землю, которой суждено было стать нашей «землей обетованной», с плеч моих, казалось, свалилось тяжелое ярмо, и я впервые вздохнул свободно с того рокового восьмого сентября тридцать девятого года. Признаюсь, в тот день я упал на колени и глаза мои наполнились слезами. Возможно, моя радость по поводу обретения свободы оказалась преждевременной. Через несколько дней после моего приезда в Палестину в отеле «Царь Давид» в Иерусалиме, где располагалось британское командование, произошел взрыв. Оказалось, что и Ребекка, и ее муж Давид участвуют в движении «Хагана». Полтора года спустя я вместе с ними включился в борьбу за независимость, однако, несмотря на свою партизанскую подготовку и опыт, принимал участие в военных действиях только в качестве санитара. Я чувствовал ненависть, но вовсе не по отношению к арабам. Ребекка настояла, чтобы я продолжил учебу. В то время Давид был уже представителем очень приличной американской компании в Израиле, поэтому с деньгами проблем не было. Так и случилось, что довольно посредственный школьник из Лодзи, чье образование было прервано на пять лет, вернулся за парту уже мужчиной, покрытым шрамами и в двадцать три года чувствовавшим себя стариком. Совершенно неожиданно вышло так, что на этом поприще я сделал успехи. Поступил в университет в пятидесятом году, а три года спустя уже учился на медицинском факультете. Два года я проучился в Тель-Авиве, год и три месяца в Лондоне, год в Риме и одну очень дождливую весну в Цюрихе. Когда мог, я возвращался в Израиль, работал в кибуце около фермы, на которой проводили каждое лето Давид и Ребекка, и общался со своими старыми друзьями. Мой долг по отношению к кузине и ее мужу был так велик, что я уже ничем не мог расплатиться с ними, но Ребекка постоянно твердила, что единственный оставшийся в живых член семьи Ласки, из племени Эшколей, должен добиться чего-то в жизни. Я выбрал психиатрию. Занимаясь медициной, я уже знал, что все это – не более чем подготовительный этап: необходимо изучить тело, прежде чем проникнуть в сознание человека. Вскоре я был уже одержим всякими теориями насилия и случаями вампиризма в человеческих отношениях. Я с изумлением обнаружил, что в этой области практически еще нет сколько-нибудь надежных исследований. Было множество данных, в точности объясняющих механизмы господства в стаде львов, проводились обширные исследования в иерархических отношениях среди всех видов птиц, много информации поступало от приматологов – относительно роли господства и агрессивности в социальных группах наших дальних родственников, обезьян. Но как же мало было известно о механизме насилия над личностью, о господстве людей над людьми и о зомбировании. Скоро я сам стал развивать собственные теории и предложения. Во время учебы я не переставал разыскивать оберста. Я знал, что он был полковником в айнзацгруппе номер три, я видел его с Гиммлером и хорошо помнил последние слова Старика: «Вилли, мой друг…» Я запрашивал союзнические комиссии по делам военных преступников в различных оккупационных зонах, обращался в Красный Крест, советский трибунал по военным преступлениям фашистов, Еврейский комитет, и бесчисленные министерства, и прочие бюрократические учреждения. Результата никакого. Пять лет спустя я обратился в Моссад – разведывательное агентство Израиля. Эти, по крайней мере, заинтересовались моим рассказом, но в те годы Моссад вовсе не был такой эффективной организацией, какой он, по слухам, является теперь. К тому же у них были иные приоритеты – они охотились за такими знаменитостями, как Эйхман, Мурер и Менгеле, и их мало волновал какой-то неведомый оберст, о котором заявил один-единственный человек, переживший холокост. В пятьдесят пятом году я поехал в Австрию, чтобы посоветоваться с охотником за нацистами Симоном Визенталем. «Центр документации» Визенталя находился в ветхом здании, в бедном квартале на окраине Вены. По виду дома можно было предположить, что его построили во время войны как временное прибежище. Центр занимал три комнаты, две из которых под завязку были заполнены шкафами с папками, а третья – с голым цементным полом – служила кабинетом. Сам Визенталь оказался очень нервным и взвинченным человеком, от него исходило напряжение, внушавшее беспокойство тем, кто с ним общался, но в его взгляде было что-то очень знакомое. Поначалу я подумал, что у Симона Визенталя вид фанатика, но потом понял: этот напряженный взгляд я сам наблюдал в зеркале по утрам, когда брился. Я рассказал ему сокращенный вариант своей биографии, сообщив лишь, что оберст совершал зверства по отношению к заключенным Хелмно ради развлечения солдат. Визенталь заинтересовался, когда я упомянул, что встречал этого негодяя в Собиборе в компании Генриха Гиммлера. «Вы уверены?» – переспросил он. «Абсолютно уверен», – ответил я. Хотя Визенталь был очень занят, он потратил два дня на то, чтобы помочь мне разыскать след оберста. В своем Центре, больше похожем на могилу, он хранил сотни досье, десятки указателей и перекрестных указателей, а также фамилии более двадцати двух тысяч эсэсовцев. Мы изучали фотографии личного состава отрядов специального назначения и выпускников военных академий, вырезки из газет и фото из официального журнала СС «Черный корпус». К концу первого дня я так устал, что уже не мог сосредоточиться, глаза покраснели и опухли. В ту ночь мне снились лица офицеров-нацистов, которым ухмыляющиеся главари Третьего рейха вручали ордена. Следов оберста нигде не было. Лишь на следующий день вечером мне удалось отыскать фото в газете за двадцать третье ноября сорок второго года. Подпись под снимком гласила, что прусский аристократ барон фон Бюлер, герой Первой мировой войны, вернувшийся в строй в чине генерала, погиб в бою, когда повел свои войска в героическую контратаку против русской танковой дивизии на Восточном фронте. Я долго смотрел на морщинистое лицо Старика с крупными чертами, запечатленное на пожелтевшей бумаге: Der Alte. Убрав газетную вырезку назад в папку, я продолжил поиски. – Если бы у нас была его фамилия, мы смогли бы его разыскать, – сказал Визенталь в тот вечер, когда мы ужинали в небольшом ресторанчике близ собора Святого Стефана. – СС и гестапо имели точные списки своих офицеров. Я пожал плечами и сообщил, что утром намерен вернуться в Тель-Авив. Мы перебрали почти все материалы по отрядам специального назначения и Восточному фронту, а мои занятия вскоре могли потребовать от меня все время целиком. – Но как можно?! – воскликнул Визенталь. – Вы уцелели в гетто Лодзи, в Хелмно и Собиборе, у вас должна быть масса информации о немецких офицерах и других военных преступниках. Вам нужно провести здесь по крайней мере еще неделю. Мы с вами побеседуем, а потом запись этого интервью будет внесена в мои архивы. Вы не представляете даже, какие бесценные факты хранятся в вашей памяти! – Нет, – отрезал я. – Меня не интересуют другие. Меня интересует только оберст. Визенталь долго смотрел в свою чашку. Когда он поднял глаза, в них блеснул странный огонек. – Значит, вас интересует только месть? – Да. Так же как и вас. Он печально покачал головой: – Возможно, мы оба одержимы, мой друг. Но я добиваюсь справедливости, а не отмщения. – А разве в данном случае это не одно и то же? Визенталь снова покачал головой: – Справедливый суд необходим. Его требуют миллионы голосов из безымянных могил, из ржавеющих печей, из пустых домов в тысячах городов. Чувство же мести недостойно, оно мелко… – Недостойно чего? – спросил я резче, чем хотел. – Нас. Их. Их смерти. Нашей дальнейшей жизни. Я тогда ничего не ответил ему, но с тех пор часто думал об этой беседе. Хотя Визенталь был разочарован, он согласился продолжить поиски любой информации, связанной с оберстом. Через год и три месяца, спустя несколько дней после того, как я получил степень, от Симона Визенталя пришло письмо. В конверте были фотокопии платежных ведомостей четвертого отдела зондеркоманды подотдела четыре-Б айнзацгрупп, графа «специальные советники». Визенталь обвел имя оберста Вильгельма фон Борхерта, офицера из штаба Рейнхарда Гейдриха, прикомандированного к айнзацгруппам. К этим фотокопиям был приколот газетный снимок, извлеченный Визенталем из своих архивов. Семь молодых улыбающихся офицеров позировали перед фотографом на концерте Берлинского филармонического оркестра в пользу вермахта. Газетная вырезка была датирована двадцать третьим июня сорок первого года… Исполнялся Вагнер. Ниже перечислялись имена улыбающихся офицеров. Пятым слева, едва заметный за спинами своих товарищей, стоял оберст, низко надвинув фуражку на бледный лоб. В подписи под снимком фамилия старшего лейтенанта Вильгельма фон Борхерта тоже была обведена кружочком. Через два дня я уже был в Вене. Визенталь распорядился, чтобы его корреспонденты разузнали все, что можно, о фон Борхерте, но результаты обескуражили. Борхерты были хорошо известной аристократической семьей, имевшей поместья в Пруссии и Баварии. Источником богатства семьи служили земли, интересы в горнорудной промышленности и экспорт предметов искусства. Агенты Визенталя не смогли найти никаких записей о рожденииили крещении Вильгельма фон Борхерта в архивах, просмотренных до тысяча восемьсот восьмидесятого года, но они обнаружили извещение о смерти. Согласно объявлению в «Раген цайтунг» за девятнадцатое июня сорок пятого года, оберст Вильгельм фон Борхерт, единственный наследник графа Клауса фон Борхерта, погиб в бою, героически защищая Берлин от советских захватчиков. Это известие дошло до престарелого графа и его жены во время их пребывания в летней резиденции в Вальдхайме, в Баварском Лесу близ Байриш-Айзенштейна. Члены семьи спрашивали разрешения союзных властей закрыть поместье и вернуться в свой особняк около Бремена, где должны были состояться похороны. В заметке далее говорилось, что Вильгельм фон Борхерт получил столь желанный «Железный крест за доблесть», а перед смертью был рекомендован к повышению в чине до обергруппенфюрера СС. Визенталь дал своим людям задание искать какие-либо другие следы, но ничего нового так и не обнаружилось. В пятьдесят шестом году семья фон Борхерта состояла всего лишь из престарелой тетушки в Бремене и двух племянников, пустивших по ветру бо́льшую часть семейного состояния из-за неразумного вложения капитала после войны. Огромное поместье в Восточной Баварии пустовало уже много лет, охотничий заказник был продан для уплаты налогов. Из весьма ограниченных источников стран Восточного блока выяснилось, что ни Советы, ни восточные немцы не владели никакой информацией о жизни и смерти Вильгельма фон Борхерта. Я вылетел в Бремен, чтобы побеседовать с тетушкой оберста, но она была уже в одной из последних стадий старческого маразма и не могла припомнить никого из членов семьи по имени Вилли. Она решила, что меня послал ее брат – пригласить на летний праздник в Вальдхайме. Один из племянников отказался встретиться со мной. Другой, молодой франт, которого я настиг в Брюсселе, откуда он направлялся на курорт во Франции, заявил, что видел дядю Вильгельма всего один раз, в тридцать седьмом году. Ему тогда было девять лет, и он ничего не помнит, кроме великолепного шелкового костюма и канотье, которое дядя носил лихо, немного набекрень. И еще он считал своего родственника героем, погибшим в сражениях с коммунистами. Я вернулся в Тель-Авив ни с чем. Несколько лет я практиковал как психиатр в Израиле. За это время я узнал, как и все психиатры, что ученая степень в этой области всего лишь готовит профессионала к тому, чтобы начать серьезно изучать человеческую личность со всеми ее сложностями, достоинствами и недостатками. В шестидесятом году умерла от рака моя кузина Ребекка. Давид настоял на том, чтобы я поехал в Америку и продолжил там свои исследования. Когда я возражал, что у меня достаточно материала и в Тель-Авиве, Давид шутил, что нигде в мире спектр насилия не является таким разнообразным, как в Соединенных Штатах. В Нью-Йорк я прибыл в январе шестьдесят четвертого года. Американская нация в это время едва опомнилась после убийства тридцать пятого президента и готовилась утопить свою печаль в подростковой истерии по поводу приезда британской рок-группы «Битлз». Колумбийский университет предложил мне должность профессора-консультанта сроком на один год, но потом получилось так, что я продолжил работать там, пока не закончил свою книгу о патологии насилия. В ноябре шестьдесят четвертого я принял решение остаться в Штатах. Я тогда гостил у своих друзей в Принстоне, в Нью-Джерси. После обеда они, извинившись, спросили, не хочу ли я немного посмотреть телевизор вместе с ними. У меня своего телевизора не было, и я заверил их, что это меня развлечет. Как оказалось, они хотели смотреть документальный фильм, посвященный первой годовщине со дня гибели Джона Кеннеди. Это было мне интересно. Даже в Израиле, несмотря на нашу одержимость своими собственными проблемами, смерть американского президента потрясла всех. Я видел фотографии президентского кортежа в Далласе; меня очень тронул снимок, столь часто перепечатываемый, где младший сын Кеннеди отдает честь гробу своего отца. Читал я и том, как некий Джек Руби «убрал» предполагаемого убийцу президента, но мне ни разу еще не приходилось видеть видеозаписи этого момента. В том документальном фильме я наблюдал воочию самодовольно ухмыляющегося худого парня в наручниках, окруженного далласскими полицейскими в штатском, с их типичными американскими физиономиями. Откуда-то сбоку из толпы журналистов вынырнул грузный мужчина, вмиг приставил дуло пистолета к животу Ли Харви Освальда и выстрелил. Этот сухой резкий звук заставил меня вздрогнуть, я вспомнил белые обнаженные тела, падающие в ров… Крупным планом показали прижатые к животу руки Освальда, его перекошенное лицо. Полицейские тут же схватили Руби, в наступившей неразберихе телекамеру кто-то толкнул, и она оказалась направленной на толпу. – Матка Боска! – почему-то заорал я по-польски и вскочил со стула. В толпе я увидел оберста. Так и не объяснив своего волнения друзьям, я в тот же вечер покинул Принстон и вылетел в Нью-Йорк. Рано утром следующего дня я уже был в манхэттенском офисе той телекомпании, которая транслировала документальный фильм памяти Кеннеди. Я использовал все свои связи в университете и в издательском мире, чтобы получить доступ к фильмам, видеозаписям и роликам компании. Лицо в толпе, которое я видел по телевизору, появилось всего на несколько секунд и только на той пленке. Один мой аспирант любезно согласился сфотографировать эти кадры в монтажной и увеличить их, насколько это было возможно. В таком виде узнать лицо оберста было еще труднее, чем в те две с половиной секунды, когда оно появилось на экране. Это было всего лишь белое пятно между широкими полями шляпы, как у техасских ковбоев, смутное впечатление легкой улыбки и глазницы – темные, будто дыры в черепе. Как вещественное доказательство такой снимок не годился, его не принял бы во внимание ни один суд в мире, но я знал, что это оберст. Я полетел в Даллас. Власти Далласа все еще относились ко всем настороженно из-за критики, которой они подверглись в прессе и во всем мире. Мало кто соглашался разговаривать со мной, еще меньшее число людей было готово обсуждать то, что случилось год назад в подземном гараже. Никто не узнал человека ни на снимке, сделанном с видеозаписи, ни на старом фото из берлинской газеты. Я беседовал со свидетелями, пытался добиться свидания с Джеком Руби, находившимся в «камере смертников», но так и не получил разрешения. След оберста за год остыл – он был так же холоден, как труп Ли Харви Освальда. Вернувшись в Нью-Йорк, я связался кое с кем из знакомых в израильском посольстве. Они, правда, заявили, что израильские разведывательные службы не имеют права действовать на территории США, но все же согласились навести кое-какие справки. В Далласе я нанял частного детектива. Его услуги обошлись мне в семь тысяч долларов, но результат можно было свести к одному слову: ни-че-го. В посольстве Израиля точно такой же результат мне выдали бесплатно. Вероятно, мои знакомые сочли меня сумасшедшим: только безумец мог искать след нацистского военного преступника в деле убийства президента и всех, кто был причастен к этой трагедии. Ведь бывшие эсэсовцы стремились лишь к одному – к анонимности. Я сам стал сомневаться, не сошел ли я с ума. Лицо «белокурой бестии», которое уже столько лет не давало мне покоя во сне, явно сделалось главной целью моей жизни. Как психиатр, я мог понять всю двусмысленность этой одержимости: запечатленное в моем мозгу в камере смерти в Собиборе стремление разыскать оберста стало для меня смыслом жизни. Исчезни это стремление – исчезнет смысл. Признать, что оберст мертв, значило для меня признать и свою собственную смерть. Как психиатр, я все это понимал. Понимал, но не верил. И если бы даже поверил, то не стал бы работать над тем, чтобы «излечиться». Оберст существует на самом деле! Он не тот человек, который умрет где-нибудь в наскоро построенных оборонительных сооружениях под Берлином. Он монстр. А монстры не умирают сами. Их следует убивать. Летом шестьдесят пятого я наконец добился встречи с Джеком Руби, но из разговора с ним ничего не вышло. К тому времени он превратился в тень с печальным лицом, отсутствующим взглядом и хриплым рассеянным голосом. Я пытался расспросить подробнее о его психическом состоянии в тот ноябрьский день, но он только пожимал плечами и повторял то, что уже много раз говорил на допросах. Нет, он не собирался стрелять в убийцу, это решение возникло у него спонтанно, и он даже не сразу осознал, что совершил. Пустили его тогда в гараж случайно. Что-то нашло на него, когда он увидел Освальда, какой-то порыв, который он не смог сдержать, – ведь этот человек убил его любимого президента. Я показал ему фотографии оберста, но он устало покачал головой. Он знал нескольких далласских детективов и многих репортеров, которые были там, в гараже, но этого немца он никогда прежде не видел. «Не ощутили ли вы чего-то странного непосредственно перед тем, как выстрелить в Освальда?» Когда я задал этот вопрос, Руби на секунду поднял свое уставшее лицо, похожее на морду таксы, и я увидел в его взгляде смятение, но затем оно погасло, и он отвечал тем же монотонным голосом, что и прежде. Нет, ничего странного, только ярость по поводу того, что Освальд все еще жив, а президент Кеннеди мертв и бедная миссис Кеннеди с детишками осталась совсем одна. Я не удивился, когда год спустя, в декабре шестьдесят шестого, Руби поместили в больницу с диагнозом рак. Он показался мне смертельно больным человеком уже во время нашей беседы. Умер он в январе следующего года, и горевали о нем немногие. Нация уже пережила свою трагедию, и Джек Руби был всего лишь напоминанием о тех временах, которые лучше забыть. В конце шестидесятых я все больше погружался в исследовательскую и преподавательскую работу. Я пытался убедить себя, что мои теоретические разработки – всего лишь попытки найти средство изгнания демона, символом которого служило лицо оберста, но в душе я был уверен в обратном. В те годы, когда процветало насилие, я изучал его. Почему некоторые люди с такой легкостью добиваются господства над другими? В своей экспериментальной работе я сводил вместе небольшие группы незнакомых друг с другом людей для выполнения какой-либо посторонней задачи, и уже минут через тридцать после начала неизменно возникала какая-то иерархия. Порой участники группы даже не осознавали этого, но, когда их спрашивали, они почти всегда могли указать, кто из них был «самым главным» или «самым динамичным». Вместе с аспирантами мы проводили беседы, анализировали их письменные записи и долгими часами просматривали видеопленки. Мы моделировали ситуации конфликтов между испытуемыми и лицами, обладающими властью: деканами университета, полицейскими, преподавателями, чиновниками налоговой службы, тюремными надзирателями и священниками. И во всех случаях проблема иерархии и господства оказывалась более сложной, чем можно было предположить, зная только социальное положение вовлеченных в эксперимент лиц. В это время я начал сотрудничать с нью-йоркской полицией – составлял личностные характеристики субъектов, склонных к убийству. Фактические данные были невероятно интересны, беседы с убийцами – весьма тягостны, результаты же – неопределенны. Где находится источник человеческой агрессивности? Какую роль играют насилие и угроза насилия в наших ежедневных взаимоотношениях друг с другом? Получив ответы на эти вопросы, я наивно надеялся когда-нибудь объяснить, как случилось, что очень способный, но маниакальный психопат, вроде Адольфа Гитлера, смог превратить одну из величайших культур мира в тупую и аморальную машину убийства. Я начал с того факта, что половина видов сложных животных на земле обладает каким-то механизмом для установления господства и социальной иерархии. Обычно эта иерархия возникает без нанесения серьезного ущерба. Даже такие свирепые хищники, как волки и тигры, используют вполне определенные сигналы подчинения для того, чтобы прекратить самые яростные схватки, пока дело не дошло до смерти или серьезного увечья. Ну а человек? Неужели правы те – и их довольно много, – кто утверждает, что у нас отсутствует инстинктивный, четко распознаваемый сигнал покорности и потому мы обречены на вечную войну, на некоего рода внутривидовое сумасшествие, предопределенное нашими генами? Я в этом сомневался. Год за годом я собирал данные и развивал различные положения и все это время втайне выстраивал теорию, которая была настолько странной и ненаучной, что она подорвала бы мою профессиональную репутацию, намекни я хоть шепотом о ней своим коллегам. Что, если человечество в своем развитии установило некий психический тип отношений господства и подчинения – то, что некоторые из моих нереалистично настроенных коллег называют парапсихологическими явлениями? Ведь ясно, что привлекательность некоторых политиков, называемая средствами массовой информации харизмой за неимением лучшего термина, не может быть объяснена с помощью размеров индивида, его способности к размножению или к угрожающему поведению. По моей версии, у определенных людей в некоей доле мозга может существовать зона, ответственная исключительно за проецирование этого чувства личного лидерства. Я был хорошо знаком с нейрологическими исследованиями, указывающими, что мы унаследовали наши инстинкты господства и подчинения от так называемого рептильного мозга – самой примитивной мозговой области. Ну а что, если были прорывы в эволюции, связанные с мутацией, придавшие некоторым человеческим существам способность, родственную эмпатии либо телепатии, но несравненно более мощную и более полезную с точки зрения выживания? И что, если эта способность, подпитываемая собственной жаждой господства, находит свое высшее выражение в насилии? Являются ли человеческие существа, обладающие такой способностью, воистину человеческими? В конечном счете я мог всего лишь без конца теоретизировать по поводу того, что я чувствовал, когда воля оберста проникла в мой мозг, сознание, тело, полностью завладела мной. Прошли десятилетия, отдельные детали тех ужасных дней стерлись, но боль насилия над моим сознанием и связанные с этим отвращение и ужас все еще заставляли меня просыпаться по ночам в холодном поту. Я продолжал преподавать, занимался исследовательской работой, улаживал мелкие проблемы своего бесцветного быта. Прошлой весной я однажды проснулся и понял, что старею. Минуло почти шестнадцать лет с того дня, когда я увидел лицо оберста в видеозаписи. Если он действительно существовал и все еще живет где-то на этой земле, то сейчас он глубокий старик. Я вспомнил тех беззубых, дрожащих стариков, которых все еще разоблачали как военных преступников. Нет, скорее всего, оберст мертв. Но я позабыл, что монстры, как и вампиры, не умирают. Что их надо убивать. И вот четыре с лишним месяца назад я столкнулся с оберстом на нью-йоркской улице. Был душный июльский вечер, я шел куда-то мимо Центрального парка, кажется сочиняя статью о тюремной реформе, когда мой вожделенный объект вдруг вышел из ресторана метрах в двадцати от меня и позвал такси. С ним была дама, немолодая, но все еще очень красивая, в шелковом вечернем платье и с длинными седыми волосами, падавшими на плечи. Сам оберст был в темном костюме. Загорелое лицо, выправка – все говорило о том, что он находится в отличной форме. Правда, он облысел, поседел, но его лицо, отяжелевшее с возрастом, каждой своей чертой по-прежнему выражало властность и жестокость. На мгновение я задохнулся и застыл как столб, глядя на него во все глаза, потом ринулся догонять такси, которое сразу же влилось в поток автомобилей. Я как одержимый заметался между машинами, но пассажиры на заднем сиденье даже не оглянулись. Такси прибавило скорость, и я, пошатываясь, отошел к тротуару, едва не потеряв сознание. Метрдотель ресторана ничем не смог мне помочь. Да, действительно в тот вечер у него обедала очень респектабельная пожилая пара, но имен их он не знал. Столик они заранее не заказывали. Несколько недель я бродил близ Центрального парка, прочесывая весь район, разглядывая все проезжавшие такси в надежде вновь увидеть лицо оберста. Я нанял молодого нью-йоркского детектива и снова заплатил за нулевой результат. Именно в это время я заболел. Как я теперь понимаю, это был тяжелый случай нервного истощения. Я не спал, не мог работать, мои лекции в университете либо отменялись, либо проводились страшно волновавшимися ассистентами. По нескольку дней я не переодевался и возвращался к себе в квартиру, только чтобы перекусить и нервно расхаживать по комнатам. По ночам я тоже бродил по улицам, несколько раз меня останавливали полицейские. Меня не отправили в психиатрическую лечебницу на освидетельствование только благодаря моему положению в Колумбийском университете и магическому титулу «доктор». И вот однажды ночью, лежа на полу своей квартиры, я вдруг сообразил, что все это время не обращал внимания на одну деталь: лицо седовласой женщины было мне знакомо. Почти всю ночь и весь следующий день я мучительно пытался вспомнить, где я ее видел. Я точно знал, что это было не в жизни, а на каком-то снимке. Ее лицо почему-то вызывало у меня ассоциации со скукой, беспокойством и успокаивающей музыкой. В пятнадцать минут шестого я поймал такси и ринулся к центру города, к своему зубному врачу. Он только что ушел, кабинет закрывался, но я придумал какую-то историю и попросил его помощницу позволить мне просмотреть кипы старых журналов в приемной. Там были экземпляры «Севентин», «Мадемуазель», «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», «Тайм», «Ньюсуик», «Вог», «Консьюмер рипортс» и «Теннис уорлд». Когда я с маниакальной настойчивостью принялся листать страницы во второй раз, помощница запаниковала. Только моя одержимость и уверенность, что ни один зубной врач не меняет свой запас журналов чаще чем четыре раза в год, давали мне силы продолжать поиск, хотя эта женщина уже пронзительно кричала, что вызовет полицию. И все же я нашел. Фотография оказалась маленькой черно-белой вырезкой где-то в начале «Вог», этой толстенной кипы глянцевых рекламных фото и восторженных эпитетов. Снимок седовласой дамы помещался над статьей о модных аксессуарах. Автором статьи была Нина Дрейтон. После этого мне понадобилось всего несколько часов, чтобы найти ее. Мой нью-йоркский частный детектив был очень рад работать с чем-то более доступным, чем этот неуловимый призрак. Через сутки Харрингтон уже принес мне приличных размеров досье на эту женщину. Информация была почерпнута по большей части из общедоступных источников. Миссис Дрейтон, сообщали эти источники, вдова, богатая и довольно известная в мире так называемой высокой моды, владелица целой сети бутиков. В августе сорокового года она вышла замуж за Паркера Алана Дрейтона, одного из основателей компании «Американские авиалинии». Спустя десять месяцев после свадьбы он скоропостижно скончался, и его вдова продолжила дело, с умом вкладывая капиталы и проникая в такие советы директоров, куда до нее не удавалось попасть ни одной женщине. Позднее миссис Дрейтон перестала заниматься бизнесом так активно, оставив за собой лишь магазины модной одежды и обуви. Она являлась членом попечительских советов нескольких престижных благотворительных организаций, близко знала множество политиков, людей искусства, писателей, содержала большую квартиру на шестнадцатом этаже престижного дома на Парк-авеню, а также имела несколько летних домов и загородных вилл. Познакомиться с ней оказалось не так уж трудно. Поразмыслив, я просмотрел списки своих пациентов и вскоре нашел имя одной богатой дамы, страдавшей маниакально-депрессивным психозом, которая жила в том же доме, что и миссис Дрейтон, и общалась с людьми примерно того же круга. Я познакомился с Ниной Дрейтон во второй уик-энд августа на садовом приеме, который устраивала моя бывшая пациентка. Гостей было немного. Большинство людей благоразумно уехали из города в свои коттеджи на мысе Кейп-Код либо в летние шале в Скалистых горах. Но миссис Дрейтон почему-то осталась в городе. Еще до того, как я пожал ее руку, до того, как посмотрел в ее ясные голубые глаза, я уже знал совершенно твердо, что она – одна из тех. Она была такой же, как оберст. Ее присутствие наполняло собой весь сад, благодаря ей даже японские фонарики горели ярче. Эта моя уверенность в том, что я не ошибся, прямо-таки взяла меня холодной рукой за горло. Возможно, Нина Дрейтон уловила мою реакцию или ей просто доставляло удовольствие издеваться над психиатром, но в тот вечер она как бы играла со мной, проявляя некую смесь самодовольного презрения и злонамеренного вызова, столь же тонкую, как, скажем, опасные когти кошки в их бархатных ножнах. Я пригласил миссис Дрейтон посетить публичную лекцию, которую я собирался читать на той неделе в университете. К моему удивлению, она приехала в сопровождении злобного вида женщины небольшого роста по имени Баррет Крамер. Темой своей лекции я как раз избрал политику преднамеренного насилия в Третьем рейхе и ее связь с некоторыми режимами в странах третьего мира в наши дни. Я несколько изменил план своей лекции с тем, чтобы сформулировать тезис, противоречащий нынешнему общепринятому мнению, а именно: необъяснимая жестокость миллионов немцев была вызвана, по крайней мере частично, действиями небольшой тайной группы властных личностей. В течение всей лекции я видел, как улыбается миссис Дрейтон, сидя в пятом ряду. Улыбка ее была примерно такой же хищной, какую, вероятно, видит мышь на морде кошки перед тем, как быть съеденной. После лекции миссис Дрейтон изъявила желание поговорить со мной наедине. Она спросила, по-прежнему ли я принимаю пациентов, и попросила проконсультировать ее в профессиональном плане. Некоторое время я колебался, но мы оба знали, каким будет мой ответ. Еще дважды я видел ее, оба раза в сентябре. Мы делали вид, что всерьез начинаем курс психоанализа. Нина Дрейтон была уверена, что ее бессонница напрямую связана со смертью отца, случившейся несколько десятков лет назад. Она сообщила мне, что часто видит один и тот же кошмарный сон: будто она толкает своего отца под троллейбус в Бостоне, хотя на самом деле находилась за несколько миль от того места, где он погиб. «Правда ли, доктор Ласки, – спросила она во время нашей второй встречи, – что мы всегда убиваем тех, кого любим?» Я сказал, что, по моему мнению, верно как раз обратное: мы убиваем, по крайней мере в своем воображении, тех, кого любим притворно, а на самом деле презираем. Нина Дрейтон только улыбнулась. Я предложил ей попробовать гипноз в нашу следующую встречу, чтобы попытаться облегчить ее воспоминание о смерти отца. Она согласилась, но я вовсе не удивился, когда в начале октября мне позвонила ее секретарша и отменила все намеченные посещения. К тому времени я уже поручил частному детективу круглосуточно следить за миссис Дрейтон. Фрэнсиса Ксавье Харрингтона я нанял по совету друзей. Ему было двадцать четыре года, он оставил учебу в Принстонском университете и в свободное время писал стихи. Уже два года он занимался частным сыском. Ему пришлось купить новый костюм, чтобы посещать те рестораны, в которых проводила время миссис Дрейтон. Когда я распорядился следить за ней двадцать четыре часа в сутки, Харрингтону понадобилось нанять еще двух своих университетских друзей для пополнения агентства. Парень был явно не дурак, он работал быстро и толково, каждый понедельник и пятницу у меня на столе лежал письменный отчет. Некоторые его действия были не совсем легальными, включая снятие копий с телефонных счетов Нины Дрейтон. Она звонила очень много и разным людям. По этим счетам Харрингтон составил список телефонных номеров, а затем установил фамилии и адреса тех, кому она звонила. Некоторые из этих имен были довольно известными, другие могли заинтриговать кого угодно, но ни одно из них не указывало на моего оберста. Шли недели. Я уже потратил бо́льшую часть своих сбережений на то, чтобы иметь представление о ежедневных заботах миссис Дрейтон, о ее привычных блюдах, деловых встречах и телефонных звонках. Юный Харрингтон понимал, что мои ресурсы ограниченны, и любезно предложил перехватывать ее письма и прослушивать телефонные разговоры, но я отказался. Мне не хотелось делать ничего такого, что могло бы выдать нас. И вот две недели назад миссис Дрейтон сама позвонила мне и пригласила на большой рождественский прием, который она устраивала семнадцатого декабря в своих апартаментах на Парк-авеню. Она сказала, что звонит лично, чтобы у меня не было предлога уклониться от приглашения. Ей хотелось познакомить меня со своим очень дорогим другом из Голливуда, продюсером, который тоже желает этой встречи. Она только что послала ему экземпляр моей книги «Патология насилия», и он от нее просто в восторге. Я поинтересовался, как его зовут. «Это не важно, – ответила она. – Возможно, вы узнаете его при встрече». Мои руки так дрожали, когда я положил трубку, что мне пришлось прождать целую минуту, прежде чем я смог набрать номер Харрингтона. В тот вечер мы решили собраться, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. Снова перебрали телефонные счета и на сей раз обзвонили все номера в Лос-Анджелесе, не включенные в городской телефонный справочник. На шестом звонке голос молодого человека ответил: «Особняк мистера Бордена». – «Это домашний телефон Томаса Бордена?» – спросил Фрэнсис. «Вы не туда звоните, – сообщил голос. – Это особняк мистера Уильяма Бордена». Я написал имена на доске в своем кабинете. Вильгельм фон Борхерт. Уильям Борден. Человеческая природа, ничего не поделаешь! Мужчина приезжает с любовницей в отель и вписывает в регистрационную книгу имя, похожее на его собственное. Или разыскиваемый преступник скрывается под шестью чужими фамилиями и в пяти случаях из шести использует свое собственное имя. Что-то такое есть в наших именах, из-за чего нам трудно отказаться от них совсем, как бы необходимо это ни было. В тот понедельник, за четыре дня до событий здесь, в Чарлстоне, Харрингтон вылетел в Лос-Анджелес. Первоначально я планировал лететь сам, но Фрэнсис убедил меня, что лучше будет, если сначала он проверит этого Бордена, сфотографирует его и выяснит, действительно ли это тот человек, которого мы ищем. Я вынужден был согласиться с его доводами – у меня не было плана действий. Даже после стольких лет я все еще не обдумал, как буду действовать, когда найду оберста. В понедельник вечером Харрингтон позвонил мне и стал рассказывать, что фильм, который показывали во время полета, оказался посредственным, что отель, в котором он остановился, явно уступает «Беверли-Уилширу» и что полицейские в Бел-Эйр имеют манеру останавливать и допрашивать людей, если тем случится дважды появиться в одном районе или если они имеют наглость парковаться где-нибудь на этих извилистых улицах, чтобы поглазеть на дом какой-нибудь кинозвезды. Во вторник он попросил узнать, нет ли чего-либо нового относительно миссис Дрейтон. Я сказал, что двое его друзей, Деннис и Селби, спят немного похуже, чем он, а миссис Дрейтон живет помаленьку и у нее все без изменений. Затем Фрэнсис сообщил мне, что он посетил студию, с которой мистер Борден имел наиболее тесные связи, – экскурсия, кстати, оказалась весьма посредственной, – и хотя у него в студии есть свой кабинет, никто не знает, когда он бывает там. Последний раз его видели за работой в семьдесят девятом году, и Фрэнсис надеялся раздобыть фото продюсера, но это оказалось невозможным. Он уже хотел показать секретарше студии берлинскую фотографию Борхерта, но потом решил, выражаясь его собственными словами, что «это было бы не совсем в тон». На следующий день он собирался взять свой фотоаппарат с длиннофокусным объективом и отправиться к усадьбе Бордена в Бел-Эйр. В среду Харрингтон не позвонил в назначенное время. Тогда я сам связался с отелем, и мне сказали, что он еще не выписался, хотя и ключ вечером не забирал. В четверг утром я позвонил в полицию Лос-Анджелеса. Они пообещали заняться этим делом, но я дал им не так уж много информации, и они решили, что нет причин подозревать какое-то преступление. «У нас в городе народ занятный, – сказал сержант, с которым я разговаривал. – Молодой парень вполне мог увлечься чем-то и забыть позвонить». Весь день я пытался связаться с Деннисом или Селби, но не смог. Даже записывающее устройство в агентстве Фрэнсиса было отключено. Тогда я пошел на Парк-авеню, где находились апартаменты Нины Дрейтон. Охранник внизу сообщил, что миссис Дрейтон уехала отдыхать. Выше первого этажа меня не пустили. Весь день я сидел, запершись в своей квартире, и ждал. В одиннадцать тридцать позвонили из лос-анджелесской полиции. Они открыли номер мистера Харрингтона в отеле «Беверли-Хиллз». Там не было ни его одежды, ни багажа, но не было и никаких намеков на преступление. «Вы не могли бы сказать, кто заплатит за номер в отеле? – спросили меня. – По счету надо уплатить триста двадцать девять долларов сорок восемь центов». В тот вечер я заставил себя пойти к друзьям, пригласившим меня на обед несколько дней назад. От автобусной остановки до их дома в Гринвич-Виллидж было всего два квартала, но расстояние это показалось мне бесконечным. В субботу, когда вашего отца убили, я участвовал в обсуждении проблемы насилия в городе вместе с группой ученых в университете. Там присутствовало несколько политиков и сотни две народу. На протяжении всей дискуссии я часто посматривал в аудиторию, ожидая увидеть улыбку Нины Дрейтон, так похожую на улыбку хищной кошки, или холодные глаза оберста. Я снова почувствовал себя пешкой – только в чьей игре? В воскресенье в утренней газете я в первый раз прочитал об убийствах в Чарлстоне. В той же газете была короткая заметка о том, что голливудский продюсер Уильям Д. Борден находился на борту того злосчастного самолета, который потерпел катастрофу рано утром в субботу над Южной Каролиной. И рядом с заметкой – одна из редких фотографий этого неуловимого отшельника-продюсера. Снимок был сделан в шестидесятые годы, на нем улыбался оберст.* * *
Сол замолчал. На перилах крыльца стояли чашки с остывшим кофе, про который они совсем забыли. Пока он говорил, тень от крыльца постепенно переползла к его ногам. В наступившей тишине стали слышны доносившиеся с улицы звуки. – Кто же из них убил моего отца? – спросила Натали. Она поплотнее завернулась в плед и обхватила руками плечи, словно ей было холодно. – Не знаю, – ответил Сол. – А эта Мелани Фуллер… Она тоже была одной из них? – Наверняка. – И это могла сделать она? – Да. – А вы уверены, что Нины Дрейтон нет в живых? – Я был в морге, видел фотографии с места убийства, читал отчет о вскрытии. – Но она могла убить отца до того, как погибла сама. Сол с минуту подумал и кивнул: – Вполне возможно. – А этот Борден… или оберст… Предполагается, что он погиб в авиакатастрофе в прошлую пятницу. Сол снова кивнул. – Вы уверены, что он погиб? – спросила Натали. – Нет, – твердо ответил он. Девушка встала и принялась ходить взад-вперед по маленькому крыльцу: – У вас есть доказательства, что он жив? – Нет, – вздохнул Сол. – Но вы полагаете, что он жив и что либо он, либо Фуллер могли убить моего отца? – Да. – Боже мой… Натали прошла в дом и через минуту вернулась с двумя стаканами бренди. Один она протянула Солу, другой выпила сама. Затем она вытащила из кармана пачку сигарет, зажигалку и дрожащими руками прикурила. – Вам вредно курить, – тихо заметил Сол. Девушка лишь хмыкнула в ответ. – Эти люди – вампиры, ведь так? – спросила она. – Вампиры? – Он тряхнул головой, не совсем понимая, что она имеет в виду. – Они используют людей, а потом выбрасывают их, словно пластиковую упаковку. Нечто подобное происходит в тех дурацких сериалах, которые показывают по ночному каналу, только эти вампиры существуют на самом деле. – Вампиры, – повторил Сол почему-то по-польски. – Да, – он снова перешел на английский, – аналогия неплохая. – Ну, хорошо, – сказала Натали. – И что мы теперь будем делать? – Мы? – Слово это, казалось, удивило его. Он потер руками колени. – Мы, – повторила Натали, и голос ее задрожал от гнева. – Вы и я. Мы с вами. Вы ведь рассказали мне все это не просто чтобы провести время. Вам нужен союзник. Итак, что нам делать дальше? Сол почесал бороду и покачал головой: – Я не совсем понимаю, зачем рассказал все это, но… – Но что? – Это очень опасно. Фрэнсис, да и другие… Натали подошла к нему и слегка коснулась его руки. – Моего отца звали Джозеф Леонард Престон, – тихо сказала она. – Ему было сорок восемь… Шестого февраля ему исполнилось бы сорок девять. Он был очень хорошим человеком, хорошим отцом, хорошим фотографом и не слишком удачливым бизнесменом. Когда он смеялся… – Натали перевела дыхание. – Трудно было не смеяться вместе с ним. Несколько секунд она стояла так, немного наклонившись, ее пальцы касались его запястья рядом с выцветшими синими цифрами, напоминавшими о трагическом прошлом. Помолчав, она спросила: – Что вы намерены делать дальше? Сол вздохнул: – Пока не знаю. Мне нужно лететь в субботу в Вашингтон, кое-кого повидать, получить информацию… Выяснить, остался ли жив оберст. Возможно, человек, с которым я хочу встретиться, имеет эту информацию. – А потом? – настаивала Натали. – А потом буду ждать. Ждать и наблюдать. Читать газеты. Искать. – Искать что? – Новости… о других убийствах, – ответил он. Натали вздрогнула и выпрямилась. Сигарета у нее в руке почти погасла, и она раздавила ее о половицу. – Вы это серьезно? Ведь Фуллер и ваш оберст постараются уехать из страны, спрятаться где-нибудь. Почему вы полагаете, что они вновь займутся такими вещами? И так скоро? Сол пожал плечами. Он вдруг ощутил невероятную усталость. – Потому что такова их природа. Вампирам надо кормиться кровью. Натали отошла и села в свое кресло. – А когда вы… когда мы найдем их, что мы будем делать? – спросила она. – Тогда и решим. Сначала их надо найти. – Чтобы убить вампира, нужно проткнуть его сердце колом, – прошептала Натали. Она вытащила еще одну сигарету, но прикуривать не стала. – Сол, а что, если они узнают, что вы за ними охотитесь? Что, если они начнут гоняться за вами? – Тогда все стало бы проще, – вздохнул он. Натали хотела еще что-то сказать, но тут напротив крыльца остановился коричневый автомобиль с эмблемой округа. Грузный мужчина, в шляпе, с раскрасневшимся лицом, тяжело выбрался с водительского сиденья. – Шериф Джентри? – удивилась Натали. Они смотрели на рослого, грузного шерифа, а тот в свою очередь смотрел на них. Потом он медленно, как-то нерешительно начал приближаться к дому. Остановившись у крыльца, Джентри снял шляпу. На его загорелом лице застыло выражение ребенка, который только что видел нечто ужасное. – Доброе утро, мисс Престон, профессор Ласки, – поздоровался он. – Доброе утро, шериф, – сказала Натали. Сол смотрел на Джентри, эту карикатуру на полисмена с юга, за неуклюжей внешностью которого скрывались острый ум и способность тонко чувствовать. Ласки понял это во время их вчерашней встречи. Глаза шерифа выдавали его волнение. – Мне нужна помощь, – произнес он. В голосе его слышались неуверенность и растерянность. – Какая? – спросила Натали. Сол различил в этом вопросе нечто большее, чем просто любезность. Шериф Джентри посмотрел на свою шляпу, провел по тулье мощной загорелой рукой, и это движение показалось Солу почти грациозным. Потом он поднял глаза: – Убито девять граждан моего округа. Как на это ни посмотри, понять ничего невозможно. Почему они умерли? Пару часов назад я остановил на улице парня, у которого в карманах не оказалось ничего, кроме моей фотографии, но он предпочел перерезать себе горло, вместо того чтобы ответить хоть на один вопрос. – Джентри глянул на Натали, потом на Сола. – Это так же бессмысленно, как и все остальное, происшедшее в городе. Я почему-то чувствую, что вы оба могли бы мне помочь. Сол и Натали все еще молча смотрели на него. – Вы можете мне помочь? – повторил Джентри. – Вы согласны? Натали повернулась к Солу. Тот снял очки, протер их, затем снова надел и слегка кивнул. – Заходите, шериф, – пригласила девушка, открыв дверь дома. – Я приготовлю чего-нибудь поесть. Разговор может получиться долгим.Глава 11
Байриш-Айзенштейн
Пятница, 19 декабря 1980 г.
Тони Хэрод и Мария Чэнь решили позавтракать в маленьком ресторане отеля. Хотя они спустились на первый этаж в семь утра, первая волна туристов уже отправилась на лыжню. В камине потрескивал огонь, сквозь небольшое окно в южной стене виднелись белые сугробы и голубое небо. – Как ты думаешь, он будет там? – тихо спросила Мария Чэнь, когда они допивали кофе. Хэрод пожал плечами: – Откуда мне знать? Вчера он был уверен, что Вилли в его родовом поместье нет, что старый продюсер все-таки погиб в авиакатастрофе. Он вспомнил, как пять лет назад Вилли упомянул в разговоре про свое родовое гнездо, – Хэрод был тогда порядком пьян. Старик только что вернулся из трехнедельной поездки по Европе и вдруг со слезами на глазах сказал: «Почему это люди говорят, что нельзя вернуться домой, а, Тони? Почему?» А потом он описал дом своей матери на юге Германии, упомянув название близлежащего городка, что было ошибкой. До сих пор Хэрод смотрел на свою нынешнюю поездку лишь как на способ устранить одну докучливую мизерную вероятность, не более того. Но теперь, сидя в ярком утреннем свете напротив Марии Чэнь с ее девятимиллиметровым браунингом в сумочке, он понял, что этот маловероятный вариант вполне возможен. – Как насчет Тома и Дженсена? – спросила Мария. На ней были модные синие вельветовые брюки чуть ниже колен, длинные носки, розовая водолазка и плотный лыжный свитер, голубой с розовым, который обошелся ей в шестьсот долларов. Темные волосы были аккуратно собраны на затылке, она выглядела свежей и только что умытой, несмотря на косметику. Хэрод подумал, что она похожа на девушку-скаута евразийского происхождения, собравшуюся на лыжную прогулку с друзьями своего отца. – Если придется их убрать, стреляй сначала в Тома, – сказал он. – Вилли легче Использовать Рейнольдса, чем негра, но Лугар силен. Очень силен. Постарайся уложить его наверняка, чтобы не встал. Если все пойдет по наихудшему варианту, первым делом надо убрать Вилли. Целься в голову, только в голову. Стоит уничтожить его, и Рейнольдс с Лугаром перестанут быть опасными. Они до того запрограммированы, что не могут даже поссать без одобрения Вилли. Мария Чэнь оглядела помещение. Остальные четыре столика были заняты смеющимися и болтающими немецкими парами. Было похоже, что до них никому нет дела. Хэрод жестом велел официантке принести еще кофе, потом откинулся на спинку стула и нахмурился. Он вовсе не был уверен, что Мария Чэнь выполнит его приказ, когда надо будет стрелять в людей, но все же надеялся, поскольку до сих пор не было случая, чтобы она его ослушалась. На секунду он пожалел, что она нейтрал, но, с другой стороны, нет опасности, что Вилли Использует ее для своих собственных целей. У Хэрода не было никаких иллюзий насчет Способности старого фрица. Один только факт, что Вилли держал при себе двух холуев, говорил о мощи этого сукина сына. Он считал, что Способность Вилли ослабла, подточенная возрастом, наркотиками и последствиями бурной жизни, но в свете последних событий было бы глупо и опасно продолжать действовать, исходя из этих соображений. Хэрод тряхнул головой. Пошло оно все к черту! Этот проклятый Клуб Островитян крепко держал его за яйца. Тони вовсе не хотелось впутываться в историю с каргой из Чарлстона и уж тем более сталкиваться лично с человеком, который пятьдесят лет играл в эту паскудную игру с Вилли Борденом, или фон Борхертом, или как там его… А что сделают Барент и его друзья, эти говнюки, когда узнают, что Вилли жив? Хэрод вспомнил свою собственную реакцию шесть дней назад, когда ему позвонили и сообщили о смерти Вилли. Сначала он почувствовал тревогу: что будет со всеми проектами Вилли, как там ситуация с финансами? А потом – облегчение: наконец-то старый сукин сын подох! Хэрод несколько лет жил в постоянном страхе из-за того, что старик мог узнать о Клубе Островитян и о том, что Тони шпионит за ним… «Я всегда представлял себе рай как остров, где можно охотиться в свое удовольствие». Действительно ли Вилли это сказал? Хэрод вспомнил, что его словно окунули в ледяную воду, когда Вилли произнес эти слова с экрана. Но старик не мог об этом знать! И потом, видеозапись была сделана до авиакатастрофы. Вилли мертв… А если он не погиб тогда, то погибнет сейчас. Скоро. – Готова? – спросил Тони. Мария Чэнь вытерла губы полотняной салфеткой и кивнула. – Пошли, – скомандовал он.* * *
– Значит, это Чехословакия? – произнес Хэрод. Они выехали из города на северо-запад и мельком увидели за железнодорожной станцией пограничный шлагбаум, а рядом – небольшое белое здание и несколько охранников в зеленой форме и странного вида шлемах. На дорожном указателе было написано: übergangsstelle. – Похоже, – подтвердила Мария Чэнь. – Делов-то, – усмехнулся Хэрод. Они двинулись по извилистой дороге вдоль долины, мимо указателей поворотов на Большой Арбер и Малое Арберзее. На дальнем склоне горы виднелся белый шрам лыжной трассы и движущиеся разноцветные точки кресел канатной дороги. Маленькие кабинки с цепями на колесах и креплениями для лыж на крышах карабкались по дорогам или, скорее, тоннелям, пробитым в снегу и ледяном крошеве. Хэрода пробрала дрожь от ветра, врывавшегося в заднее окно машины, но он не мог закрыть его – оттуда торчали концы двух пар беговых лыж, которые Мария Чэнь взяла сегодня утром в отеле напрокат. – Ты думаешь, нам понадобятся эти идиотские штуки? – Он мотнул головой в сторону заднего сиденья. Мария Чэнь улыбнулась и развела руками, сверкнув покрытыми свежим лаком ногтями. – Возможно. – Она посмотрела на дорожную карту, сверив ее с топографической. – Следующий поворот налево, – сообщила она. – Оттуда шесть километров до частной дороги кособняку. Последние полтора километра в гору «БМВ» в основном скользил боком. Вся дорога состояла из проложенной в снегу колеи между деревьями. – Тут кто-то недавно был, – заметил Хэрод. – Далеко еще? – После моста примерно с километр, – ответила Мария. Дорога повернула, они въехали в густую рощу голых деревьев и увидели небольшой деревянный мост за полосатым шлагбаумом, выглядевшим посолиднее, чем на чешской границе. Метрах в двадцати ниже по течению была хижина, похожая на все альпийские шале. Оттуда вышли двое мужчин и медленно приблизились к машине. Хэроду казалось почему-то, что селяне в этих местах должны одеваться во что-то местное, какой-нибудь зимний вариант тирольских кожаных штанов до колен и войлочных шляп, но эти двое были в коричневых шерстяных брюках и ярких пуховых куртках. Он решил, что они, скорее всего, отец и сын; более молодому было около тридцати, он нес на согнутом локте охотничью винтовку. – Guten Morgen, haben Sie sich verfaren? – спросил тот, что постарше. – Das hier ist ein Privatgrundstück. – Он желает нам доброго утра и спрашивает, не заблудились ли мы, – перевела Мария Чэнь. – Говорит, здесь частное владение. Хэрод улыбнулся этим двум. Пожилой улыбнулся в ответ, блеснув золотыми коронками; лицо сына ничего не выражало. – Мы не заблудились, – сказал Хэрод. – Мы приехали повидать Вилли. Герра фон Борхерта. Он нас пригласил. Мы прибыли издалека, из самой Калифорнии. Пожилой нахмурился, не понимая, что ему говорят, и тогда Мария Чэнь скороговоркой перевела на немецкий. – Herr von Borchert lebt hier nicht mehr, – сказал пожилой мужчина. – Schon seit vielen Jahren nicht mehr. Das Gut ist schon seit sehr langer Zeit geschlossen. Niemand geht mehr dorthin. – Он говорит, что герр фон Борхерт здесь не живет, – объяснила Мария. – Уже много лет. Поместье давно закрыто. Сюда никто не ходит. Хэрод ухмыльнулся и покачал головой: – Что же вы здесь тогда караулите, а, парни? – Warum lassen Sie es noch bewachen? – перевела его вопрос Мария Чэнь. Пожилой снова улыбнулся: – Wir werden von der Familie bezahlt, so daß dort kein Vandalismus entsteht. Baid wird all das ein Teil des Nationalwaldes werden. Die alten Häuser werden abgerissen. Bis dahin schickt der Neffe uns Schecks aus Bonn, und wir halten alle Wilddiebe und Unbefugte fern, so wie es mein Vater vor mir getan hatte. Mein Sohn wird sich andere Arbeit suchen müssen. – «Семья Борхерт платит нам, чтобы тут не было никакого хулиганства, – перевела Мария Чэнь. – Скоро все это будет частью национального парка. Старый дом снесут. А до тех пор племянник – это, наверное, племянник фон Борхерта Тони – присылает нам из Бонна чеки, а мы стережем поместье от браконьеров и бродяг. Как и мой отец до меня. А вот моему сыну придется искать работу…» Они не пустят нас, Тони, – добавила она. Хэрод протянул старику небольшую, странички на три, разработку сценария «Торговец рабынями», последнего проекта Вилли. Между страницами была вложена купюра в сто марок, кончик ее виднелся довольно отчетливо. – Скажи ему, что мы приехали из Голливуда осматривать места для съемок кинофильма, – попросил он. – Скажи, из старого дома получится прекрасный замок с привидениями. Мария Чэнь все перевела. Старик посмотрел на листки, на деньги и небрежно протянул их назад. – Что он говорит? – разозлился Хэрод. – Он согласен, что поместье – хорошая декорация для фильма ужасов, – пояснила Мария Чэнь. – Что тут и правда есть призраки, и других призраков им не нужно. Советует нам разворачиваться, иначе мы можем застрять здесь надолго, и желает счастливого пути. – Скажи, пусть он засунет свое поместье себе в жопу. – Взбешенный, Хэрод постарался любезно улыбнуться немцам. – Vielen Dank für Ihre Hilfe,[34] – улыбнулась и Мария Чэнь. – Bitte sehr,[35] – ответил пожилой. – Всегда рады помочь, – сказал по-английски молодой парень с ружьем.* * *
Хэрод вывел «БМВ» назад, на проселок, затем повернул на запад, проехал с полмили и остановил машину в неглубоком снегу, метрах в пяти от ограды из колючей проволоки. Он вытащил из багажника плоскогубцы и перерезал проволоку в четырех местах, потом откинул ногами упавшие на снег концы. С дороги проход за деревьями не будет виден, к тому же машины тут ходят нечасто. Хэрод вернулся к автомобилю, переобулся в лыжные ботинки с этими забавными нашлепками на носках; Мария Чэнь помогла ему надеть лыжи. Тони всего дважды в своей жизни стоял на лыжах, оба раза в Солнечной долине. Одну из прогулок он совершил с племянницей Дино де Лаурентиса и с Энн-Маргрет;[36] он терпеть не мог вспоминать об этих мучениях. Мария Чэнь оставила свою сумочку в машине, сунула браунинг за пояс коротких брюк, под свитер, положила запасную обойму в карман куртки-безрукавки и, повесив на шею небольшой бинокль, прошла в проделанный в заграждении проход. За ней, неуклюже отталкиваясь палками, двинулся Хэрод. На первой же миле он дважды упал, оба раза грязно ругаясь про себя, а Мария Чэнь с улыбкой смотрела, как он барахтается в снегу. Тишину нарушали лишь шорох скользящих по мягкому снегу лыж, редкое верещание белок да тяжелое, прерывистое дыхание Хэрода. Когда они прошли две мили, Мария Чэнь остановилась и поглядела на компас, потом на карту. – Вот он, ручей, – сообщила она. – Можно перебраться на ту сторону вон по тому бревну. Дом должен быть на поляне, примерно в километре отсюда. – Она махнула рукой в сторону густого леса. «Еще три футбольных поля пересечь», – прикинул Хэрод, судорожно ловя ртом воздух. Он вспомнил про охотничий карабин в руках того молодого парня и подумал, что в случае стычки браунинг окажется практически бесполезным. Да и потом, откуда ему знать, может, в том лесу их ждут Дженсен Лугар и с десяток других рабов Вилли со своими «узи» да «ингрэмами». Хэрод глубоко вздохнул, почувствовав, что все внутренности у него похолодели от страха. Пошло оно все к черту! Раз уж он добрался сюда, пусть у него хоть яйца отвалятся, он все равно не повернет назад, пока не узнает, здесь Вилли или нет. – Пошли, – сказал он. Мария Чэнь кивнула, сунула карту в карман и легко заскользила дальше.* * *
Перед домом валялись два трупа. Спрятавшись за еловыми ветками, Хэрод и Мария Чэнь по очереди смотрели в бинокль на тела. С расстояния пятидесяти метров эти темные бугорки на снегу можно было принять за что угодно – скажем, за брошенные куртки, но бинокль отчетливо выхватывал то белый изгиб щеки, то разбросанные в стороны и странно заломанные руки и ноги. Живой человек никогда бы не уснул в такой позе. Хэрод снова глянул в бинокль. Двое мужчин. Темные пальто, кожаные перчатки. Один из них носил коричневую шляпу – теперь она валялась метрах в двух на снегу. Рядом со следами, ведущими к застекленной двери старого особняка, тянулась кровавая полоса. Метрах в тридцати виднелись глубокие параллельные борозды, еще одна цепочка следов вела либо к дому, либо от него. На пушистом снегу были обозначены огромные круги, словно тут работал гигантский вентилятор лопастями вниз. «Вертолет», – догадался Хэрод. Больше никаких следов не было – ни автомобильных, ни от снегохода, ни лыжных. Аллея, ведущая к подъездной дороге, где их с Марией остановили охранники, была просто заснеженной полосой между деревьями. Отсюда не было видно ни альпийской хижины, ни моста. Главный дом представлял собой нечто среднее между особняком и замком: огромное строение из темного камня с высокими окнами, флигелями разной высоты, так что создавалось впечатление, будто начиналось оно как внушительная центральная башня, к которой последующие поколения добавляли разные пристройки. Цвет камня и размеры окон повсюду были разными, но общее впечатление угрюмости от этого не менялось: витражные стекла, узкие двери, тяжелые стены, на которых темнели пятнами тени голых деревьев. Хэрод подумал, что этот дом больше подходит Вилли, чем особняк в Бел-Эйр родом из какой-то банановой республики. – А что теперь? – шепотом спросила Мария Чэнь. – Заткнись, – приказал Хэрод и снова поднял бинокль, чтобы еще раз взглянуть на трупы. Они лежали близко друг к другу. Голова одного из них была повернута в сторону и почти зарылась в глубокий снег, так что Хэрод видел только пятно темных, коротко стриженных волос, шевелившихся, когда налетал ветерок, но другой, тот, что лежал на спине, был больше на виду. Он различил бледную щеку и открытый глаз, неподвижно глядящий в сторону их укрытия, будто ожидая прихода Хэрода. Тела пролежали в снегу явно не так уж долго – непохоже, чтобы их трогали птицы или животные. – Пошли туда, Тони. – Заткнись, кому сказано. Хэрод опустил бинокль и немного поразмыслил. Другой стороны особняка отсюда не видно. Разумнее всего было бы обойти на лыжах по большому кругу, чтобы осмотреть дом со всех сторон, оставаясь под прикрытием деревьев. Хэрод, прищурившись, еще раз оглядел большую поляну и широкие полосы леса, тянувшиеся в обе стороны; им понадобится больше часа, чтобы пробраться через него и приблизиться к дому со всеми предосторожностями. Солнце уже затянули тучи, поднялся холодный ветер, пошел снег. Джинсы Хэрода промокли, а ноги болели от непривычной нагрузки. Из-за плотных туч создавалось впечатление, что наступили сумерки, хотя еще не было и двенадцати. – Пойдем, Тони, – повторила Мария Чэнь. Испуга в ее голосе не было. – Дай мне пистолет, – потребовал он. После того как она выполнила команду, он ткнул стволом в сторону серого дома и темных распростертых тел. – Двигай туда на лыжах. Я прикрою тебя отсюда. Похоже, этот чертов дом пуст. Мария Чэнь поглядела на него. Не с вызовом, но с любопытством, будто видела впервые. – Давай двигай! – рявкнул Тони и опустил пистолет, не зная, что будет делать, если она откажется. Мария Чэнь повернулась, грациозным движением палки раздвинула скрывавшие их хвойные ветки и заскользила к дому. Хэрод, пригнувшись, отошел от того места, где они стояли, и устроился под развесистой елью, окруженной молодыми сосенками. Он видел в бинокль, как Мария Чэнь добралась до лежащих тел, остановилась, воткнула в снег палки и посмотрела в сторону дома. Затем она обернулась к Хэроду и поехала дальше. Притормозив перед широкими стеклянными дверями, девушка повернула направо и двинулась вдоль фасада здания. Когда она исчезла за углом, тем, что ближе к подъездной дороге, Хэрод сбросил лыжи и замер, согнувшись под деревом. Прошло невероятно много времени, прежде чем она появилась из-за противоположного угла дома. Подъехав на лыжах к главному входу, Мария помахала рукой туда, где, как предполагалось, стоял Хэрод. Тони подождал еще минуты две и, пригнувшись, побежал к дому. Ему казалось, что без лыж он будет двигаться свободнее, но это оказалось ошибкой. Снег доходил почти до колен и не давал возможности бежать, Тони все время спотыкался и проваливался на каждом шагу, один раз при этом уронив браунинг в снег. Проверив, не забит ли ствол, он стер снег с рукоятки и двинулся дальше. Возле убитых мужчин он остановился. Тони Хэрод являлся продюсером двадцати восьми фильмов, из них только три он сделал без Вилли. Во всех лентах было полно секса и насилия, чаще в крутой смеси. Пять фильмов из серии «Вальпургиева ночь» – самые удачные из всех – были не более чем демонстрацией длинной цепи убийств: как правило, привлекательные молодые люди погибали до, во время или после половых сношений. Убийства в основном представлялись методом субъективной камеры, то есть глазами убийцы. Хэрод частенько заходил на съемки и видел, как людей «режут», «пристреливают», «жгут», «потрошат» и «обезглавливают». Он имел достаточно дела со спецэффектами, чтобы узнать все секреты мешков с кровью, с газом, выбитых глаз и гидравлики. Он лично написал сцену в «Вальпургиевой ночи V: Кошмар продолжается», где голова девушки-няни взрывается и разлетается на куски, когда она проглатывает взрывную капсулу, подложенную тайным убийцей Голоном. Несмотря на все это, Тони Хэрод никогда еще не видел воочию настоящую жертву убийства. Единственные трупы, рядом с которыми ему когда-либо доводилось находиться, были тела матери и тетушки Миры в гробах, притом что его окружало пространство похоронного бюро, а также другие скорбящие. Он потерял свою мать, когда ему было девять лет, а тетю Миру – в тринадцать. Никто никогда не говорил ему о смерти отца. И вот теперь Хэрод застыл как вкопанный возле этих незнакомых трупов. В одного из них стреляли раз пять или шесть, у другого было вырвано горло. Хэрода поразило огромное количество крови, словно чересчур усердный режиссер залил всю съемочную площадку ведрами красной краски. Глядя на эти тела и на отпечатки в снегу, он попытался представить, что же тут случилось. Не так давно в тридцати метрах от дома приземлился вертолет. Эти двое вышли из него в своих черных, начищенных до блеска ботинках, пригодных разве что для прогулок по асфальту, и подошли к дверям. Там, на площадке перед домом, они начали драться. Наверное, тот, что поменьше ростом, который теперь лежал, уткнувшись лицом в снег, вдруг повернулся и кинулся на своего партнера, пустив в ход зубы и ногти. Второй отступил – Хэрод видел следы каблуков на снегу, – затем поднял свой «люгер» и несколько раз выстрелил. Коротышка продолжал наседать, возможно, даже после того, как получил пулю в лицо, – на правой щеке видны были две рваные опаленные дыры, а между оскаленными зубами застряли куски человеческого мяса. Высокий еще отступил, шатаясь, на несколько шагов, когда первый уже лежал. Потом, словно до него только дошло, что у него вырвана половина горла, перегрызена артерия и из нее на холодный снег брызжет кровь, рухнул, перекатился на спину и умер, неподвижно глядя на полосу хвойного леса, в котором несколько часов спустя появятся Хэрод и Мария Чэнь. Рука человека без горла приподнялась, да так и застыла в трупном окоченении. Хэрод знал, что ригор мортис начинается и заканчивается через определенное количество часов после смерти, но он не мог вспомнить, через сколько именно. Да это было и не важно. Он представил себе, как эти двое, бывшие сообщниками, вместе вышли из вертолета и вместе погибли, но по отпечаткам на снегу невозможно было полностью восстановить картину происшедшего. Еще один ряд следов указывал, что из дома вышли несколько человек и улетели на вертолете. Что это был за вертолет, кто им управлял и куда он направился, тоже было неясно. – Тони, – тихо позвала Мария Чэнь. – Сейчас. Хэрод повернулся, шатаясь, отошел от забрызганной кровью площадки, и его стошнило. Во рту снова возник вкус кофе и толстой немецкой сосиски, съеденной за завтраком. Он зачерпнул пригоршню чистого снега, вытер им рот и, обойдя трупы, подошел к Марии Чэнь, стоявшей на ступенях крыльца. – Дверь не заперта, – прошептала она. Сквозь стекло видны были только шторы. Снег пошел еще сильнее, хлопья скрыли даже деревья, стоявшие всего метрах в шестидесяти. Хэрод кивнул и глубоко вдохнул. – Пойди возьми пистолет того парня, – сказал он. – И проверь, нет ли у них документов. Мария Чэнь глянула на Хэрода и молча двинулась к трупам. Ей пришлось силой высвободить пистолет из руки, мертвой хваткой вцепившейся в рукоятку. Водительские права одного из убитых лежали в его бумажнике, паспорт и кошелек второго оказались в кармане пальто. Марии Чэнь пришлось перевернуть оба трупа, прежде чем она нашла документы. Когда она вернулась к крыльцу, ее голубой свитер и куртка на гусином пуху были порядком перепачканы чужой кровью, которую она стала оттирать снегом. Хэрод быстро просмотрел бумажники и документы убитых. Того, что покрупнее, звали Фрэнк Ли, его международные водительские права были выданы три года назад в Майами. Второй – Эллис Роберт Слоун являлся тридцатидвухлетним жителем Нью-Йорка, визы и штампы в паспорте были действительны для Западной Германии, Бельгии и Австрии. Кроме документов, при них оказалось восемьсот американских долларов и шестьсот немецких марок. Хэрод покачал головой и отшвырнул бумажники. Он не узнал ничего существенного, понимая, что всего лишь тянет время, откладывает момент, когда придется войти в дом. – Иди за мной, – велел он Марии и открыл дверь.* * *
Особняк был огромным, холодным, темным и пустым, – во всяком случае, Тони горячо на это надеялся. Ему больше не хотелось разговаривать с Вилли. Он знал, что если ему доведется встретиться со своим старым голливудским наставником, то первым его желанием будет разрядить всю обойму в голову Бордена. Если, конечно, Вилли ему позволит. Тони не питал никаких иллюзий на этот счет. Он мог рассказывать Баренту и остальным про то, как иссякает Способность Вилли, мог даже сам частично верить в это, но глубоко в душе он знал, что Вилли Борден, если понадобится, сломит его за десять секунд. Этот старый сукин сын был просто монстром. Хэрод пожалел, что приехал в Германию; не надо было соваться сюда и идти на поводу у членов Клуба, заставивших его связываться с Вилли. – Приготовься, – прошептал он, почему-то волнуясь как идиот, и вошел первым вглубь этого огромного дома. Они двигались из комнаты в комнату, и везде мебель была аккуратно укрыта белыми чехлами. Хэрод уже видел такое в фильмах, как и те трупы у дома, но в действительности все это порядком действовало на нервы. Он скоро заметил, что тычет пистолетом в каждое зачехленное кресло или торшер, ожидая, что они вот-вот зашевелятся и зашагают к нему, наподобие той фигуры в простынях из первого фильма Карпентера. Холл с выложенным черно-белыми плитами полом был огромен и пуст. Хэрод и Мария Чэнь передвигались тихо, и все равно их шаги отдавались легким эхом. Хэрод ощущал себя полным болваном в этих дурацких лыжных ботинках с квадратными носами. Мария Чэнь спокойно следовала за ним, держа испачканный кровью «люггер» у бедра. На ее лице не было и намека на волнение, словно она бродила по голливудскому дому Хэрода в поисках запропастившегося куда-то журнала. Им понадобилось минут пятнадцать, дабы убедиться, что на первом этаже и в огромном гулком подвале никого нет. Чувствовалось, что особняк покинут, и, если бы не трупы снаружи, Хэрод мог бы поклясться, что здесь уже много лет никого не было. – Пошли наверх. – Он все еще держал пистолет на уровне груди, костяшки пальцев у него побелели. В западном крыле было темно и холодно, здесь вообще отсутствовала мебель, но, когда они вошли в коридор, ведущий в восточное крыло, оба замерли. Поначалу им показалось, что коридор преграждает огромная пластина волнистого льда, и Хэроду невольно вспомнилась сцена возвращения доктора Живаго и Лары на дачу, искореженную зимой. Но потом он осторожно двинулся вперед и понял, что слабый свет проникал сквозь завесу из тонкой полупрозрачной пленки, свисающей с потолка и прикрепленной с одной стороны к стене. Метра через два они наткнулись еще на один такой же барьер и догадались, что пленка служит для теплоизоляции восточного крыла. В коридоре было темно, но из нескольких распахнутых дверей по его сторонам проникал бледный свет. Хэрод кивнул Марии Чэнь и крадучись двинулся вперед, широко расставляя ноги и держа пистолет в обеих руках. Он резко сворачивал в дверные проемы, готовый немедленно выстрелить, в голове у него проносились сюжеты знаменитых детективов. Мария Чэнь стояла в начале коридора и наблюдала. – З-зараза, – выругался Хэрод после своего почти десятиминутного представления. Он сделал вид, что разочарован, а может, вследствие притока адреналина был действительно разочарован. Если только в доме не было потайных помещений, он был совершенно пуст. В четырех комнатах имелись признаки недавнего пребывания здесь людей – неубранные постели, забитые едой холодильники, электрические обогреватели, столы, на которых валялись разбросанные бумаги. Хэрод обратил внимание на большой кабинет с книжными шкафами, старым кожаным диваном и еще теплым камином. Он понял, что разминулся с Вилли всего на несколько часов. Возможно, тот исчез так внезапно из-за нежданных гостей, прибывших на вертолете. Однако в доме не осталось ни одежды, ни каких-либо личных вещей – кто бы тут ни жил, он готов был сорваться с места в любую минуту. Возле узкого проема окна кабинета размещался тяжелый стол с огромными резными шахматными фигурами, явно из очень дорогого набора, они стояли в позиции из миттельшпиля. Хэрод подошел к письменному столу и потыкал стволом в кипу лежавших там бумаг. Приток адреналина в кровь прекратился, оставив после себя лишь одышку, усиливающуюся дрожь и острое желание убраться отсюда подальше. Все бумаги были на немецком, и, хотя Хэрод не знал языка, он уловил, что они касались вещей тривиальных – налогов на собственность, отчетов об использовании земель, дебета-кредита. Он смахнул листки со стола, заглянул в пустые ящики и решил, что пора убираться. – Тони! В голосе Марии Чэнь было нечто такое, что заставило его резко обернуться и вскинуть браунинг. Она стояла у шахматного стола. Хэрод подошел поближе, думая, что Мария увидела что-то за высоким узким окном, но она уставилась на шахматные фигуры. Он опустил пистолет, оглядел стол, затем встал на колени и прошептал: – Твою мать… Хэрод мало что понимал в шахматах, просто сыграл несколько партий в детстве, но он сообразил, что игра на этой доске только начинается. Были съедены всего две фигуры – одна черная, другая белая, они лежали рядом с доской. Все еще на коленях, он придвинулся ближе, и теперь глаза его были всего в нескольких сантиметрах от края поля. Пятнадцатисантиметровые фигуры, выточенные вручную из слоновой кости и эбенового дерева, должно быть, стоили Вилли целого состояния. Что-то подсказывало Хэроду, что это весьма неординарная шахматная партия. Мальчишка, который лет тридцать назад выиграл у Тони, рассмеялся, увидев, как тот выводит свою королеву в начале игры. С издевкой он заметил тогда, что только новички торопятся использовать ферзя. Но здесь обе королевы уже явно вступили в игру. Белая стояла в центре доски, прямо перед своей пешкой, черная же, выведенная из игры, лежала рядом с доской. Хэрод наклонился поближе. Лицо королевы, вырезанной из черного дерева, выглядело элегантным и аристократичным и казалось все еще красивым, несмотря на старательно воспроизведенные признаки старости. Тони видел это лицо пять дней назад в Вашингтоне, когда Арнольд Барент показал ему фотографию престарелой леди, застреленной в Чарлстоне. Она была столь неосторожной, что оставила свой жуткий альбомчик в номере отеля. Ее звали Нина Дрейтон. Хэрод впился глазами в фигуры на доске, переводя взгляд с одной на другую. Большинство лиц он видел впервые, но некоторые узнавал мгновенно. Эффект был столь же потрясающий, как от приема резкого наведения на фокус, который Хэрод иногда применял в своих фильмах. Белым королем был Вилли, в этом не было сомнений, хотя лицо выглядело моложе, черты отчетливее, шевелюра погуще, а форма эсэсовца давно объявлена в мире вне закона. Черного короля представлял Арнольд Барент, в деловом костюме, при всем параде. Хэрод узнал и черного слона – Чарльза Колбена. Относительно белого сомнений быть не могло – это преподобный Джимми Уэйн Саттер. Кеплер занимал безопасную позицию в первом ряду черных пешек, но черный конь перескочил через ряд статичных пешек и ввязался в битву. Хэрод слегка повернул фигуру и узнал худое ханжеское лицо Нимана Траска. Тони не видел раньше унылого старушечьего лица белой королевы, но нетрудно было догадаться, кто она. «Мы ее найдем, – заявил Барент. – А от вас мы ждем одного: чтобы вы убили эту настырную суку». Белая королева и две белые пешки пробрались далеко на черную сторону доски. Хэрод не узнал первую пешку, окруженную грозящими ей черными фигурами, – похоже, то был мужчина около шестидесяти, а возможно, и старше, с бородкой и в очках. В его чертах было что-то еврейское. Но другая белая пешка, скромно стоявшая через четыре клетки от коня Вилли и явно испытывавшая угрозу со стороны сразу нескольких черных фигур, была определенно знакома ему. Хэрод медленно повернул пешку и уставился, как в зеркало, в собственное лицо. – Сука! – Крик его, казалось, разнесся эхом по всему огромному дому. Он пронзительно крикнул еще раз, потом взмахнул браунингом и смел со стола фигуры из слоновой кости и черного дерева. Мария Чэнь шагнула назад и отвернулась к окну. Снаружи дневной свет, казалось, угас совсем, тучи опустились ниже, темная линия деревьев растворилась в сером тумане, а густой снег уже накрыл белым покрывалом трупы на лужайке перед особняком, как поваленные чьей-то властной рукой шахматные фигуры.Глава 12
Чарлстон
Четверг, 18 декабря 1980 г.
– Вообще-то, по идее, должен идти снег, а не дождь, – сказал Сол Ласки. Они сидели втроем в машине шерифа: Сол и Джентри впереди, Натали – на заднем сиденье. Дождь тихо стучал по крыше, было градусов десять тепла. Натали и Джентри были в куртках, Сол натянул толстый синий свитер, а сверху старое короткое пальто из твида. Он поправил очки и, прищурившись, посмотрел через залитое дождем ветровое стекло. – Шесть дней до Рождества, – усмехнулся он, – а снега все нет. Не знаю, как вы, южане, можете к этому привыкнуть. – Мне было семь лет, когда я впервые увидел снег, – сказал Джентри. – Уроки в школе отменили. Снега нападало не больше двух сантиметров, но мы все побежали домой, будто наступил конец света. Я швырнул снежок – первый снежок, который я слепил в своей жизни, и разбил окно в гостиной старой миз Макгиври. Тут и вправду пришел конец света, для меня по крайней мере. Я прождал почти три часа, пока отец не вернется домой, пропустил ужин и даже был рад, когда меня отлупили и все на этом закончилось. – Шериф включил дворники, которые начали ритмично смахивать с ветрового стекла капли дождя. – Да, сэр, – протянул Джентри густым, приятным басом, к которому Ласки постепенно привыкал. – Теперь, когда я вижу снег, я всегда вспоминаю, как меня лупили и как я старался не расплакаться. Мне кажется, зимы становятся все холоднее и снег идет чаще. – Не приехал еще доктор? – спросила Натали. – Нет, – ответил Джентри. – До четырех часов почти три минуты. Кольхаун стареет, бегает не так быстро, насколько я знаю, но все еще пунктуален, как древние часы моей бабушки. Если он сказал, что будет здесь в четыре, он будет в четыре. И, словно в подтверждение его слов, длинный темный «кадиллак», ехавший по улице, затормозил и припарковался через пять машин от патрульного автомобиля Джентри. Сол глянул в окно. Они были всего в нескольких милях от шикарного квартала Старого города, но здесь приятным образом сочетались элегантность старины с соблазнами современных удобств. Закрывшаяся консервная фабрика ныне превратилась в офисное здание с подземным гаражом. Старый кирпич очистили, подновили, добавили окон, покрасили либо изготовили заново деревянные части. На взгляд Сола, реставрация и перепланировка были проделаны с большой тщательностью и старанием. – А вы уверены, что родители Алисии согласятся на это? – спросил он. Джентри снял шляпу, провел платком по кожаной подкладке и кивнул: – Уверен. Миссис Кайзер страшно переживает из-за девочки. Она говорит, что Алисия не ест, вскакивает с постели с воплями, когда пытается заснуть, а очень часто просто сидит, уставившись в никуда. – Конечно. Ведь прошло всего шесть дней, как она стала свидетельницей убийства своей лучшей подружки, – вздохнула Натали. – Бедное дитя. – Еще и дедушки подружки, – добавил Джентри. – А может, и еще кого-нибудь. Откуда мы знаем? – Вы думаете, она была в «Мансарде»? – спросил Сол. – Ее никто там не помнит, – ответил шериф, – но это ничего не значит. Если люди не подготовлены специально, большинство из них вообще не замечают, что происходит вокруг. Конечно, некоторые замечают, причем все подряд. Только их почему-то никогда не бывает на месте преступления. – Алисию нашли далеко оттуда, ведь так? – спросил Сол. – Как раз посередине между двумя главными местами преступления, – вздохнул Джентри. – Соседка увидела, что она стоит на углу улицы в каком-то полуобморочном состоянии, примерно на полпути между домом Фуллер и «Мансардой». – Как ее рука? – поинтересовалась Натали. Джентри обернулся и улыбнулся девушке. Его маленькие голубые глаза, казалось, светились ярче, чем слабый зимний свет снаружи автомобиля. – Ничего страшного, мэм. Простой перелом. – Еще раз назовете меня «мэм», шериф, и я вам самому руку сломаю, – шутливо предупредила Натали. – Слушаюсь, мэм, – откликнулся Джентри с самым добродушным видом. Он повернулся и глянул через ветровое стекло. – Это точно наш старикан-доктор. Он купил сей чертов черный автобус, когда ездил в Англию еще перед Второй мировой. Читал лекции в летней школе при лондонской городской больнице, насколько я знаю. Он являлся членом предвоенной антикризисной команды по планированию. Помню, как он говорил моему дяде Ли, давным-давно, что британские врачи были готовы справиться с количеством раненых в сто раз большим, чем то, с чем они столкнулись, когда немцы принялись их бомбить. То есть я хочу сказать, что они ожидали в сто раз больше, а вот к чему они были подготовлены – это другое дело. – Ваш доктор Кольхаун, наверное, немало практиковался в гипнозе, – заметил Сол. – Это уж точно, – протянул Джентри. – В тридцать девятом он консультировал британцев именно в этой области. Похоже, некоторые эксперты в Англии считали, что бомбардировки будут сильно травмировать психику и граждане окажутся в состоянии шока. Они рассчитывали, что Джек поможет им с постгипнотическим внушением и прочими подобными вещами. – Шериф открыл дверцу машины. – Вы идете со мной, миз Престон? – Обязательно. – Натали выбралась под дождь. Джентри тоже вылез из машины, капли мягко падали на поля его шляпы. – А вы точно не хотите присутствовать, профессор? – спросил он у Ласки. – Точно, – ответил Сол. – Я хочу полностью исключить возможность своего влияния. Но мне будет очень интересно узнать, что скажет девочка. – Мне тоже, – заверил Джентри. – В любом случае я постараюсь подойти к этому без предубеждений. – Он хлопнул дверцей и побежал догонять Натали. Для такого грузного мужчины движения его были почти элегантны. «Без предубеждений, – подумал Сол. – Уверен, все так и будет».* * *
– Я вам верю, – сказал вчера шериф Бобби Джо Джентри, когда Сол закончил свой рассказ. Он сократил его, как только мог, сведя к сорока пяти минутам повествование, которое накануне заняло бо́льшую часть утра и предыдущей ночи. Несколько раз Натали перебивала его и просила включить в рассказ эпизод, который он пропустил. Джентри задал всего несколько коротких вопросов. Пока Сол говорил, они успели пообедать, попить кофе, и шериф подвел итог словами: «Я вам верю». – Так вот запросто? – удивился Сол. – Да. – Он повернулся к Натали. – А вы поверили ему, миз Престон? Молодая женщина не колебалась ни секунды. – Поверила, – твердо сказала она и посмотрела на Сола. – Я все еще ему верю. Джентри больше ничего не сказал. Ласки подергал себя за бороду, снял очки, протер их, снова нацепил. – Вы не находите мой рассказ… фантастичным? – Есть немного, – не стал увиливать Джентри. – Но я также считаю сплошной фантастикой то, что девять человек убиты в моем родном городе и нет никакого объяснения тому, как все это было связано. – Шериф наклонился вперед. – Вы никому об этом не говорили? Я имею в виду вашу историю. – Я рассказал своей кузине Ребекке, незадолго до ее смерти в шестидесятом году. – И как она отреагировала? – спросил Джентри. Сол посмотрел прямо в глаза шерифа: – Она меня любила. Она видела меня сразу после войны, ухаживала за мной, пока я снова не стал нормальным человеком. Во всяком случае, кузина сказала, что верит мне, а я решил считать это правдой. Но с какой стати вам верить всему этому? Джентри откинулся назад, пока спинка стула не затрещала. – Я скажу за себя, профессор, но для начала должен признаться в двух слабостях. Во-первых, я сужу о людях по тому, что я чувствую во время разговора с ними, как их воспринимаю. Ну, взять хотя бы того парня из ФБР, Дика Хейнса, которого вы видели вчера у меня в кабинете. Все, что он говорит, уместно, логично и своевременно. И выглядит он правильно… Черт, у него даже запах и тот правильный. Но в нем есть что-то такое, из-за чего я доверяю ему примерно настолько, насколько петух доверится голодной ласке. Наш дорогой мистер Хейнс не совсем с нами, понимаете? Ну, вроде как и фонарь над крыльцом у него горит, и все такое, но дома никого нет. Таких людей много. Когда мне попадается человек, которому я поверил, я делаю это просто, без всяких объяснений, вот и все. Из-за этого у меня случается масса неприятностей. А вторая моя слабость – я очень много читаю, поскольку не женат и не имею другого увлечения, кроме своей работы. Когда-то я хотел стать историком, потом популярным историческим писателем, вроде Каттона или Такман,[37] потом романистом… Возможно, я слишком ленив, чтобы стать первым, вторым или третьим, но я по-прежнему глотаю тонны макулатуры. Я даже заключил с собой сделку: на каждые три серьезные книги позволяю себе прочитать одну из беллетристики. Люблю, когда она хорошо написана, хотя все равно это макулатура. Читаю детективы – Джона Макдональда, Паркера, Уэстлейка, потом триллеры – Ладлэм, Тревеньян, Ле Карре, Дейтон, даже ужастики – Стивен Кинг, Стив Разник Тем и прочее. – Он улыбнулся. – Ваша история не такая уж и странная. Сол нахмурился: – Мистер Джентри, правильно ли я понял, что вы не находите мой рассказ фантастичным только потому, что читаете много фантастики и детективов? Джентри покачал головой: – Нет, сэр. Я просто говорю, что рассказанная вами история совпадает с фактами, и это пока единственное объяснение, связывающее все эти убийства в единое целое. – У Хейнса была теория насчет Торна, – сказал Сол. – Помните, слуга той старой леди и эта женщина, Крамер, будто бы сговорились обчистить своих хозяев. – Этот идиот Хейнс порол чушь собачью! Прошу прощения, мэм, – извинился Джентри. – А главное, парнишка-коридорный из «Мансарды» Альберт Лафоллет, который потом свихнулся, никак и ни при каких обстоятельствах не мог ни с кем сговориться. Я знал его отца. Ума у этого парня хватало лишь на то, чтобы научиться завязывать шнурки на своих ботинках, но в общем он был славный малый. В старших классах школы он не играл в футбол, и знаете почему? Он заявил отцу, что не хочет никому причинять боль. – Но моя история выходит за пределы логики. Это нечто… сверхъестественное, – не унимался Сол. Он чувствовал, что ведет себя глупо, споря с шерифом, но ему трудно было принять готовность южанина вот так запросто поверить всему. Джентри пожал плечами: – Знаете, вот смотрю я фильмы про вампиров, где кучи трупов с маленькими дырочками на шее, и терпеть не могу, когда главному герою приходится полтора часа из двухчасовой ленты убеждать других хороших людей, что вампиры на самом деле существуют. Послушайте, – не выдержал шериф, – я не знаю, какие у вас были на то причины, но вы все же рассказали свою историю. Теперь у меня на выбор есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете как-то быть причастны ко всему этому, хотя я знаю, что вы не убивали никого лично. В субботу после обеда и до вечера вы находились в университете, принимали участие в дискуссии. Но вы, к примеру, могли загипнотизировать миссис Дрейтон или сделать еще что-нибудь в этом роде. Знаю, знаю, гипноз действует совсем не так, но ведь люди тоже не овладевают сознанием других людей в обычной жизни, верно? Во-вторых, может быть, вы псих, один из тех придурков, которые каждый раз выползают на свет и сознаются в убийстве, хотя их и близко там не было. И в-третьих, вы говорите правду. Пока я решил выбрать третий вариант. Помимо всего прочего, есть и другие странные вещи, которые сходятся с вашей историей и больше ни с чем. – Какие странные вещи? – спросил Сол. – Ну, например, тот парень, который следил за мной утром, а потом прикончил себя, не желая со мной разговаривать, – сказал Джентри. – И еще альбомчик старой леди. – Альбомчик? – удивился Ласки. – Какой альбомчик? – спросила Натали. Джентри снял шляпу и, хмуро поглядев на нее, смял тулью. – Когда застрелили миссис Дрейтон, я был первым представителем закона, оказавшимся на месте преступления, – пояснил он. – Санитары убирали тело, ребята из городского отдела по делам убийств считали трупы внизу, а я немного пошарил в номере той леди. Конечно, этого нельзя было делать, налицо нарушение закона. Но какого черта! Я ведь всего лишь деревенский полисмен. В общем, как бы то ни было, я увидел этот толстенький альбомчик в одном из ее чемоданов и полистал его. Там была масса газетных вырезок про разные убийства, включая убийство Джона Леннона. Большинство из них совершались в Нью-Йорке начиная с января прошлого года. На следующий день расследованием занялась настоящая полиция, не какой-то там шериф, ФБР полезло во все щели, хотя это дело вовсе не из тех, что требуют их участия… А когда я добрался в воскресенье вечером до морга, альбомчика уже не было, никто его не видел, в отчетах о нем ни слова, нет и квитанции из морга. – Вы спрашивали о нем? – поинтересовался Сол. – Да уж всех подряд, от санитаров до сотрудников из отдела убийств. Никто его не видел. Все остальное было доставлено в морг и описано в воскресенье утром, включая нижнее белье этой леди и пилюли от давления. – Кто составлял список вещей? – спросил Сол. – Горотдел по делам убийств и ФБР, – ответил Джентри. – Но вот Тоб Хартнер, клерк из морга, утверждает, что мистер Хейнс просматривал арестованные вещи за час до прибытия команды из горотдела. Наш Дики прямо из аэропорта двинул в морг. Сол слегка откашлялся: – Вы полагаете, что ФБР имеет какое-то отношение к сокрытию вещественных доказательств? Шериф Джентри наивно распахнул глаза: – Ну, как может ФБР делать что-то такое нехорошее? Последовала долгая пауза, наконец Натали Престон спросила: – Шериф, если одно из этих… этих существ убило моего отца, что же нам делать дальше? Джентри сложил руки на животе и посмотрел на Сола. Глаза его были ярко-голубыми. – Это хороший вопрос, миз Престон. Что скажете, доктор Ласки? Допустим, мы поймали вашего оберста, или миз Фуллер, или их обоих. Вы не думаете, что суду присяжных будет трудно вынести им обвинительный приговор? Сол развел руками: – Это звучит безумно, я согласен. Если поверить в мою историю, всякая логика оказывается подозрительной, осуждение любого убийцы можно оспорить. Никаких вещественных доказательств не хватит, чтобы отделить невиновных от виноватых. Я понимаю, о чем вы говорите, шериф. – Да нет, не так уж все безнадежно, – усмехнулся Джентри. – Ведь большинство дел об убийстве – это все равно дела об убийстве, так? Или вы считаете, что их сотни тысяч, этих мозговых вампиров, и все бегают, суетятся? Сол закрыл глаза, уходя от подобной мысли: – Молю Бога, чтобы это было не так. Джентри кивнул: – Значит, у нас здесь что-то вроде особого случая, верно? Но это возвращает нас к вопросу миз Престон: что нам теперь делать? Сол глубоко вздохнул: – Мне нужна ваша помощь – для наблюдения. Есть шанс, хотя и небольшой, что из этих двоих кто-то вернется в Чарлстон. Возможно, у Мелани Фуллер не было времени забрать из дома какие-то очень важные для нее вещи. Или Уильям Борден, если он жив, явится за ней. – А что потом? – спросила Натали. – Наказать ведь их невозможно. Во всяком случае, не через суд. Что произойдет, если мы все-таки найдем их? Что вы сможете сделать? Сол опустил голову, поправил очки и провел дрожащей рукой по лбу. – Я думал об этом сорок лет, – очень тихо сказал он. – И все равно не знаю. Но у меня такое чувство, что оберсту и мне суждено встретиться. – Они смертны? – спросил Джентри. – Да, конечно. – Тогда можно подобраться к ним незаметно и вышибить мозги, верно? – предположил шериф. – Они ведь не восстанут из мертвых в следующее полнолуние или еще что-нибудь такое? Ласки недоуменно посмотрел на него: – Что вы хотите этим сказать, шериф? – Я хочу сказать… Понимаете, если принять вашу установку, если поверить, что эти люди могут делать все то, о чем вы нам рассказали, тогда они самые мерзкие твари на всем свете. Охотиться за кем-то из них – все равно что шарить по болоту в темноте голыми руками в поисках мокасиновых змей. Но стоит их опознать, и они становятся просто мишенями, такими же как я, или вы, или Джон Кеннеди и Джон Леннон. Обычный человек из винтовки с оптическим прицелом вполне может убрать любого из них, профессор. Сол глянул в безмятежные глаза шерифа и улыбнулся: – Но у меня нет винтовки с оптическим прицелом. Джентри кивнул: – Вы захватили с собой какое-нибудь оружие, когда летели сюда из Нью-Йорка? Сол мотнул головой. – У вас вообще нет оружия, профессор? – Вообще нет. Джентри повернулся к Натали: – Но у вас оно есть, мэм. Вы упомянули, что пошли в дом Фуллер и готовы были арестовать мистера Ласки, даже если бы пришлось применить оружие. Натали покраснела. Сол удивился, увидев, как темнеет ее кожа цвета кофе с молоком. – Это не мой пистолет, – призналась она. – Отец держал его в своей студии. У него было разрешение, поскольку там произошло несколько краж со взломом. Я зашла в понедельник в студию и взяла его. – Можно мне взглянуть? – тихо попросил Джентри. Натали пошла в прихожую, открыла шкаф и вытащила из кармана плаща пистолет. Затем она аккуратно положила его на стол рядом с шерифом. Указательным пальцем тот легонько повернул его, пока ствол не оказался направленным в пустую стену. – Вы знакомы с пистолетами, профессор? – спросил Джентри. – С этим нет. – А вы, миз Престон? Вы умеете обращаться с огнестрельным оружием? Натали передернула плечами: – У меня в Сент-Луисе есть друг, который показывал мне, как стрелять. Надо прицелиться и нажать спуск. Ничего сложного. – А именно с этим пистолетом вы умеете обращаться? Натали покачала головой: – Папа купил его уже после того, как я уехала учиться. Не думаю, чтобы он когда-либо пользовался им. Трудно представить, чтобы он выстрелил в человека. Джентри поднял брови и взял в руку пистолет, осторожно держа его за предохранительную скобу: – Онзаряжен? – Нет, – сказала Натали. – Я извлекла все патроны вчера, перед тем как выйти из дому. Теперь настала очередь Сола удивленно поднять брови. Джентри кивнул и вытащил обойму. Он протянул ее Ласки, показывая, что она пуста. – Тридцать второй калибр? – спросил Сол. – Тридцать второй, «лама» с укороченной рукояткой, – подтвердил шериф. – Милый пистолетик. Мистер Престон заплатил за него долларов триста, если покупал новым. Миз Престон, никто не любит, когда лезут с советами, но мне все же хотелось бы дать вам один совет, можно? Натали коротко кивнула. – Во-первых, никогда не цельтесь в человека из огнестрельного оружия, если вы не готовы им воспользоваться. Во-вторых, никогда не цельтесь из незаряженного пистолета. И в-третьих, если вам нужен незаряженный пистолет, убедитесь, что он действительно не заряжен. – Джентри ткнул пальцем в сторону оружия. – Видите вот этот маленький индикатор, мэм? Это называется индикатором зарядов, и красный огонек здесь не просто так. – Джентри оттянул затвор, из патронника вылетел патрон и со стуком упал на стол. Натали побледнела. Теперь ее кожа приняла цвет мертвой золы. – Это невозможно, – слабым голосом сказала она. – Я сосчитала патроны, когда вытащила. Их было семь. – Ваш отец, должно быть, вогнал еще один патрон в патронник, а потом опустил курок, – пояснил Джентри. – Некоторые носят оружие именно в таком виде. Так можно иметь в пистолете восемь зарядов вместо обычных семи. – Шериф снова вогнал в рукоятку обойму и щелкнул курком. Натали слегка вздрогнула, услышав сухой щелчок. Она глянула на то, что шериф назвал «индикатором зарядов», – красной точки больше не было видно. Она вспомнила, как вчера направила пистолет на Сола, будучи уверенной, что он не заряжен, и ей стало нехорошо. – А что вы хотите сказать на этот раз, шериф? – спросил Сол. Джентри пожал плечами и положил пистолет на стол: – Я думаю, если мы решили охотиться за этими убийцами, тогда хоть кому-то надо знать, как обращаться с оружием. – Но поймите наконец, что оружие против таких людей бесполезно. Они могут заставить вас направить его на себя. Они могут превратить вас в оружие. Если мы вместе станем охотиться за оберстом или за Фуллер, мы никогда не будем уверены друг в друге. – Я все это понимаю, – сказал Джентри. – Но я понимаю и то, что, если мы найдем их, они окажутся уязвимыми. Они опасны главным образом потому, что никто не знает об их существовании. А мы знаем. – Но нам не известно, где они скрываются сейчас, – возразил Сол. – Я думал, что подобрался к ним так близко. Я действительно был близок… – У Бордена есть какой-то фон, окружение, – сказал Джентри. – У него есть его легенда, киностудия, друзья, коллеги. С этого можно и начать. Сол печально покачал головой: – Я считал, что Фрэнсису Харрингтону ничто не угрожает. Ему требовалось лишь навести несколько справок. Меня оберст мог бы узнать, но я полагал, что Фрэнсис будет в безопасности, а теперь он наверняка мертв. Нет, я не хочу, чтобы еще кто-то оказался напрямую связан со всем этим. – Но мы уже связаны, – отрезал Джентри. – Мы влезли по уши во все это. – Он прав, – заметила Натали. Мужчины повернулись к ней. В голосе ее уже не было слабости. – Если вы не сумасшедший, Сол, – сказала она, – то эти выродки убили моего отца просто так, ни за что. Мне очень хочется разыскать этих убийц и найти способ воздать им по справедливости. – Давайте считать, что мы все разумные люди, – сказал Джентри. – Доктор, а эта Нина Дрейтон поведала вам что-нибудь во время ваших консультаций… что-то такое, что могло бы нам помочь? – Нет, практически ничего. – Ласки покачал головой. – Она все время упоминала лишь о своих снах и о смерти отца. Из этих разговоров я заключил, что она использовала свою Способность, чтобы убить его. – А о Бордене или Мелани Фуллер? – Она вскользь обмолвилась о своих друзьях в Вене в начале тридцатых. Судя по ее описанию, это вполне могли быть оберст и Фуллер. – Есть что-нибудь полезное для нас в этих рассказах? – Лишь намеки на ревность и соперничество. Вот и все. – Мистер Ласки, оберст ведь использовал вас? – спросил шериф. – Да. – И однако, вы помните все до мельчайших подробностей. А разве вы не говорили, что Джек Руби и другие страдали чем-то вроде амнезии после того, как их использовали? – Говорил, – подтвердил Сол. – Я думаю, эти люди помнят свои действия как нечто случившееся во сне, если они вообще их помнят. – Примерно так же, как психически ненормальные – насильственные эпизоды? – Иногда, – кивнул он. – В других случаях обычная жизнь страдающего психозом – всего лишь сон, а по-настоящему он живет, только когда причиняет боль кому-то либо убивает. Но люди, которых использовали оберст и остальные, не обязательно страдают психозом, они могут быть просто жертвами. – Но ведь вы помните в точности, что ощущали, когда оберст… владел вашим сознанием, – сказал Джентри. – Почему? Сол привычным жестом снял очки и протер их. – Это особый случай. Тогда шла война. Я был всего лишь евреем из лагеря, и он не сомневался, что у меня нет шанса выжить в этой мясорубке. Ему не было необходимости тратить свою энергию и стирать что-либо в моей памяти. И потом, мне удалось бежать от оберста по собственной воле, когда я выстрелил себе в ногу и застал его врасплох… – Я хотел вас еще расспросить об этом эпизоде, – произнес Джентри. – Вы сказали, что боль заставила оберста выпустить вас из-под его власти на пару минут… – На несколько секунд, – поправил Сол. – Хорошо, на несколько секунд. Но все эти люди, которых они использовали в Чарлстоне, испытывали боль, страшную боль. Хаупт – он же Торн, бывший вор, которого Мелани Фуллер держала при себе в качестве слуги, потерял глаз и все равно продолжал действовать. Девочку Кэтлин забили до смерти. Баррет Крамер скатилась по лестнице, к тому же в нее стреляли. Мистера Престона… Ну, вы понимаете, о чем я говорю… – Да, – кивнул Сол. – Я много думал об этом. Так получилось, что, когда оберст был… когда он был в моем мозгу – иначе это не передашь, – я мельком ловил кое-какие его мысли… – Нечто вроде телепатии? – спросила Натали. – Не совсем. Во всяком случае, это не то, что обычно описывается в литературе. Это больше похоже на попытку вспомнить утром обрывки сна. Но я уловил кое-что из мыслей оберста, когда он использовал меня для убийства того der Alte… старого эсэсовца… Достаточно, чтобы понять, что в его слиянии со мной в тот момент было нечто необычное. Он хотел прочувствовать все, что происходит, садистски просмотреть каждый оттенок чувственного восприятия. У меня сложилось впечатление, что обычно он использовал людей так, чтобы между ним и той болью, какую испытывала жертва, был какой-то барьер. – Вроде того, как люди смотрят телевизор с выключенным звуком? – уточнил Джентри. – Возможно. Только в этом случае сохраняется вся информация, убирается лишь болевой шок. Я чувствовал, как оберст наслаждается болью не только тех, кого убивал, но и тех, кого он использовал для убийства… – Как вы считаете, такие воспоминания можно стереть, уничтожить? – В мозгу тех, кого он использовал? Джентри кивнул. – Нет. Скорее всего, они тонут – примерно так же, как жертва какой-нибудь ужасной психической травмы топит свои переживания глубоко в подсознании. Широко улыбаясь, шериф встал и хлопнул Сола по плечу. – Профессор, – сказал он, – вы нам только что дали ключ к тому, как проверить, что верно и что нет, кто спятил, а кто нормальный. – Неужели? – удивился Сол, но понял, о чем идет речь, прежде чем Джентри, улыбаясь, ответил на вопросительный взгляд Натали Престон. – Именно так, – сказал шериф. – Завтра мы сможем провести этот тест и узнаем все раз и навсегда.* * *
Сол сидел в машине шерифа и слушал барабанную дробь дождя по крыше. Прошел почти час с того момента, как Джентри и Натали вошли со старым доктором в клинику. Через несколько минут на другой стороне улицы остановилась синяя «тойота», и Сол мельком увидел молодую, прилично одетую пару, которая провела в дом светловолосую девочку с темными уставшими глазами. Левая рука у нее была на перевязи. Сол ждал. Он умел ждать. Этому искусству он обучился еще юношей в лагерях смерти. В двадцатый раз он принялся обдумывать причины, объясняя самому себе, почему надо было вовлекать в это дело Натали Престон и шерифа Джентри. Объяснение выходило слабеньким, основанным на том, что он постоянно попадает в тупик, на внезапном доверии к этим двум неожиданным союзникам после стольких лет одиночества и подозрений и, наконец, на простом желании рассказать о своей судьбе. Сол тряхнул головой. Разумом он понимал, что сделал ошибку, но в душе испытывал невероятное облегчение оттого, что рассказал, а потом и пересказал свою историю. Теперь у него были партнеры, они действовали, и это внушало Солу уверенность. Он почти безмятежно сидел в машине Джентри, довольствуясь своей ролью – ждать. Сол невероятно устал. Он знал, что усталость эта была чем-то большим, чем результат бессонных ночей и жизни на сплошном адреналине, это было болезненное изнеможение, острое, как боль в поврежденной кости, и застарелое – еще с Хелмно. Утомление, постоянное и никуда не исчезающее, как татуировка на запястье, уйдет с ним в могилу, а дальше будет еще вечность такой же усталости. Сол тряхнул головой, снял очки и потер переносицу. Нет, так нельзя. Мировая скорбь – это скучно. Другие страдают от нее еще больше, чем страдаешь сам. Он вспомнил ферму Давида в Израиле, свои собственные четыре гектара, далеко от садов и полей, пикник, который они устроили с Давидом и Ребеккой незадолго до того, как он уехал в Америку. Дети Давида и Ребекки, близнецы Арон и Исаак – в то лето им было не больше семи, – играли в ковбоев и индейцев в каменистых оврагах, где когда-то римские легионеры гонялись за израильскими партизанами. «Арон», – вспомнил Сол. У них по-прежнему была назначена встреча в субботу после обеда в Вашингтоне. Внутри у Сола все сжалось при мысли, что он вовлек в этот кошмар еще одного человека, и совершенно напрасно. Что ему удастся узнать? Молодые родители и девочка вышли из клиники, следом за ними появился доктор. Он пожал руку главе семейства, и они уехали. Сол только сейчас заметил, что дождь прекратился. Из двери вышли Джентри и Натали Престон, обменялись несколькими фразами со старым доктором и быстро направились к машине. – Ну? – спросил Сол, когда шериф уселся за руль, а Натали устроилась на заднем сиденье. – Что там? Джентри снял шляпу и вытер платком лоб, затем опустил окно со своей стороны до упора, и до Сола донесся запах мокрой травы и мимозы. Шериф глянул назад, на Натали: – Расскажите ему, хорошо? Девушка глубоко вздохнула и кивнула. Видно было, что она потрясена и обескуражена, но голос ее звучал твердо: – В кабинете доктора Кольхауна есть небольшая комната для наблюдения с односторонним зеркальным окном. Родители Алисии и мы могли наблюдать за всем, ничему не мешая. Шериф Джентри представил меня как свою помощницу. – В рамках данного расследования это именно так, если вдаваться в технические детали, – тут же вмешался Джентри. – Я мог бы сделать вас представителем шерифа, но это разрешено лишь тогда, когда в округе объявлено чрезвычайное положение. Натали улыбнулась: – Родители Алисии не возражали против нашего присутствия. Доктор Кольхаун применил небольшой аппарат, чтобы загипнотизировать девочку, – нечто вроде метронома с лампочкой… – Да-да. – Сол пытался подавить нетерпение. – Так что сказала девочка? Взгляд Натали, казалось, был обращен внутрь, когда она вновь представила эту сцену. – Доктор заставил ее вспомнить тот день, прошлую субботу, во всех деталях. До гипноза, когда девочка только вошла в комнату, лицо ее было застывшим, бесчувственным, почти вялым, а тут она загорелась, стала оживленной. Она разговаривала со своей подружкой Кэтлин – с той, которую убили… Они с Кэтлин играли в гостиной миссис Ходжес. Сестра Кэтлин, Дебора, сидела в другой комнате, смотрела телевизор. Вдруг Кэтлин бросила куклу Барби, выбежала из дома, пересекла двор и заскочила в дом миз Фуллер. Алисия кричала ей что-то, стоя во дворе… – Натали поежилась, словно ей стало холодно. – А потом она замолчала, лицо ее снова застыло. Она сказала, что больше ей не велено рассказывать. – Девочка была по-прежнему под гипнозом? – спросил Сол. – Да, но она не могла описать, что случилось дальше, – ответил Джентри. – Доктор Кольхаун пытался разными способами помочь ей, но она просто смотрела перед собой пустым взглядом и твердила, что ей не велено больше ничего рассказывать. – И все? – спросил Сол. – Не совсем, – сказала Натали. Она посмотрела в окно на умытую дождем улицу, затем снова взглянула на Сола. Ее полные губы были теперь напряженно сжаты. – Потом доктор Кольхаун сказал: «Ты входишь в дом, который стоит через двор от вашего. Скажи нам, кто ты». И тут Алисия, не медля ни секунды, произнесла совершенно чужим, старушечьим голосом: «Я – Мелани Фуллер». Сол выпрямился. По коже у него пробежали мурашки, словно кто-то дотронулся до спины ледяными пальцами. – Тогда доктор Кольхаун спросил ее, может ли она, Мелани Фуллер, сказать нам что-нибудь, – продолжала Натали. – Лицо маленькой Алисии вдруг постарело, на нем появились морщины и складки, которых не было несколько секунд назад, и она прошептала тем же мерзким голосом: «Я доберусь до тебя, Нина». А потом она повторяла эту фразу, с каждым разом все громче. Под конец она уже кричала. – Бог мой! – простонал Сол. – Доктор Кольхаун тоже был потрясен, – сказала Натали. – Он успокоил девочку и вывел ее из состояния гипноза, сказав, что она будет чувствовать себя довольной, счастливой и отдохнувшей, когда проснется. Только она вовсе не чувствовала себя счастливой. Выйдя из транса, Алисия стала плакать, пожаловалась, что у нее болит рука. Ее мать сказала, что это был первый случай, когда девочка пожаловалась на боль в сломанной руке с тех самых пор, как ее нашли на улице той ночью. – А что думают ее родители про этот сеанс с доктором Кольхауном? – спросил Сол. – Они очень расстроились, – ответила Натали. – Когда девочка стала кричать, мать Алисии с трудом удержалась, чтобы не броситься к ней, но после они, похоже, испытали огромное облегчение. Отец сказал доктору Кольхауну, что даже боль в руке и слезы лучше, чем совершенно пустой взгляд и молчание. – А доктор Кольхаун? – спросил Сол. Джентри положил руку на спинку сиденья. – Док говорит, что это похоже на нервный срыв, индуцированный травмой. Он порекомендовал обратиться к психиатру, своему знакомому из Саванны, который специализируется на детских болезнях такого рода. Потом они подробно обсудили, хватит ли на это денег, полученных Кайзерами по страховке. Сол кивнул, и все трое немного посидели в полном молчании. Лучи вечернего солнца прорвались наконец сквозь тучи и осветили листву деревьев, покрытую каплями дождя. Сол вдохнул запах свежескошенной травы, и ему трудно было поверить, что сейчас декабрь. Он чувствовал себя подвешенным в пространстве и времени, во власти течений, которые несли его все дальше и дальше от знакомого берега. – Предлагаю пообедать где-нибудь, а заодно обсудить это дело, – сказал вдруг Джентри. – Профессор, вы вылетаете завтра в Вашингтон утренним рейсом, верно? – Да, – подтвердил Сол. – Что ж, тогда поехали, – улыбнулся Джентри. – Обед за счет администрации округа.* * *
Они пообедали в отличном ресторане на Брод-стрит в Старом городе. У дверей заведения, славившегося блюдами из морепродуктов, стояла очередь, но, когда метрдотель увидел Джентри, он моментально провел их к боковому входу, где как по волшебству появился свободный столик. Зал был забит до отказа, так что они предпочли разговаривать на нейтральные темы – о погоде в Нью-Йорке и Чарлстоне, о фотографии, о кризисе с захватом иранцами заложников, о недавних событиях в Нью-Йорке и в Америке вообще. Только что прошедшие президентские выборы никого из них особенно не порадовали. Покончив с кофе, они вернулись к машине Джентри за плащами и свитерами, а потом пошли вдоль стены Батареи. Вечер был прохладным и ясным, остатки облаков развеялись, и на зимнем небе стали видны созвездия. К востоку, за гаванью, сияли фонари Маунт-Плезант. Небольшое судно с зелеными и красными навигационными огнями прошло мимо мыса вдоль дорожки, отмеченной буйками. Сзади светились желтые и оранжевые окна дюжины старинных домов. Они остановились на набережной. Внизу, метрах в трех, о камни плескалась вода. Джентри оглянулся, убедился, что вокруг никого нет, и тихо спросил: – Ну, что дальше, профессор? – Отличный вопрос. У вас есть какие-нибудь предложения? – Ваша предстоящая беседа в Вашингтоне как-то относится к тому, что мы обсуждаем? – поинтересовалась Натали. – Возможно, – уклончиво ответил Сол. – Но я узнаю об этом после. Прошу прощения, что не могу сказать ничего более конкретного. Тут затронуты родственные связи. – А как насчет того парня, который за мной гонялся? – спросил Джентри. – Ах да, – вспомнил Сол. – Вам что-нибудь сообщили о нем из ФБР? – Абсолютно ничего. – Шериф покачал головой. – Автомобиль был украден в Роквилле, штат Мэриленд, пять месяцев назад. А с мертвецом еще хуже – никаких следов, по которым его можно было бы опознать. Ни отпечатков пальцев, ни зубоврачебных карт челюстей – ничего. – Так часто бывает? – спросила Натали. – Почти никогда. – Джентри поднял камешек и бросил его в воду. – В современном обществе все люди попадают в какие-то списки, архивы и прочее. – Возможно, ФБР не очень старается, – заметил Сол. – Вы так не считаете? Джентри кинул еще один камешек и пожал плечами. В ресторане он был в коричневых брюках и старой клетчатой рубашке, но перед тем, как отправиться на прогулку, вытащил из багажника свой мешковатый китель и ковбойскую шляпу с пятнами на тулье и теперь снова выглядел типичным шерифом-южанином. – Не думаю, что ФБР стало бы задействовать какого-то полуголодного уличного придурка, – ответил он. – А если он не работал на них, то кто все-таки его использовал? И зачем ему было убивать себя? Неужели он настолько боялся ареста, что предпочел смерть? – Примерно так поступил бы оберст, если бы он использовал кого-то, – сказал Сол. – Или миз Фуллер, что еще вероятнее. Джентри кинул новый камешек и, прищурившись, посмотрел на огни форта Самтер милях в двух от них. – Да, – согласился он, – но все равно получается какая-то бессмыслица. Ваш оберст никак не может интересоваться мной… Дьявол, ведь я даже ничего не слышал о нем до того, как вы рассказали свою историю! А если миз Фуллер беспокоят те, кто за ней гоняется, ей бы лучше заняться патрулями автоинспекции штата, горотделом по делам убийств и ФБР. Ведь у этого придурка в бумажнике ничего не было, кроме моего фото. – У вас оно с собой? – спросил Ласки. Джентри кивнул, вытащил из кармана фотографию и отдал ему. Сол отошел к ближайшему фонарю, чтобы получше рассмотреть. – Интересно, – сказал он. – Тут на заднем плане виден фасад муниципалитета округа. – Да. – На снимке есть что-нибудь, что может подсказать, когда его сделали? – Видите кусочек пластыря у меня на подбородке? Я бреюсь опасной бритвой своего отца, которая, в свою очередь, принадлежала моему деду, но я не очень часто ею режусь. В прошлое воскресенье Лестер, один из моих помощников, позвонил мне слишком рано, поэтому я и порезался. И почти весь день ходил с этим пластырем. – То есть в воскресенье? – уточнила Натали. – Да, мэм. – Значит, тот, кто интересуется вами, сделал этот снимок в воскресенье, а потом некий тип стал преследовать вас в четверг, – сказал Сол. – Похоже на стотридцатипятимиллиметровый объектив. – Точно, – кивнул Джентри. – Можно мне взглянуть? – Натали взяла снимок и с минуту разглядывала его при свете фонаря. – Тот, кто его делал, пользовался встроенным экспонометром… Видите, экспозиция вот здесь, где солнце отражается на двери, больше, чем на вашем лице. Скорее всего, у него была двухсотмиллиметровая линза. Это довольно большой размер. Проявляли снимок в частной, а не в коммерческой фотолаборатории. – Откуда вы знаете? – удивился Джентри. – По тому, как обрезана бумага – слишком небрежно для коммерческой лаборатории. Вряд ли ее вообще обрезали, оттого я и думаю, что объектив длиннофокусный. Но печатали второпях. Домашние лаборатории, в которых можно работать с цветным фото, сейчас вполне обычное дело, так что с этим проблем не возникнет. Вы недавно видели кого-нибудь с автоматическим фотоаппаратом, имеющим такой вот объектив, шериф? Джентри улыбнулся: – У Дика Хейнса в точности такая штуковина. Крохотная «Коника» и большой бушнеловский объектив. Натали вернула ему фотографию и, нахмурившись, повернулась к Солу: – Может, существуют и другие… такие же твари? Сол сложил на груди руки и устремил взгляд на далекие городские огни. – Я не знаю, – медленно проговорил он. – Много лет я думал, что оберст единственный в своем роде. Жуткий уродец, порождение Третьего рейха, если такое вообще возможно. Но исследования показали, что способность воздействовать на психику людей не так уж редко встречается. Читаешь историю и поневоле задумываешься: может быть, такие индивиды, очень разные сами по себе, как Гитлер, Распутин и Ганди, тоже обладали такой способностью? Возможно, мы имеем дело с континуумом, и оберст, Фуллер, Нина Дрейтон и бог знает кто еще просто представляют собой крайние точки этого континуума… – Значит, могут быть и другие? – Да, – сказал Сол. – И они, непонятно, по какой причине, интересуются мной? – заключил Джентри. – Да. Шериф тяжело вздохнул: – Мы снова пришли туда, откуда начали. – Не совсем, – возразил Сол. – Завтра я разузнаю что смогу в Вашингтоне. А вы, шериф, можете продолжить поиски этой Фуллер. И еще следить за тем, как идет расследование авиакатастрофы. – А мне что делать? – спросила Натали. Сол немного смутился: – Вам было бы разумней вернуться в Сент-Луис… – Только не в том случае, если я могу чем-то помочь здесь. Что я должна делать? – У меня есть кое-какие соображения, – сказал Джентри. – Мы можем обсудить их завтра утром, когда отвезем профессора в аэропорт. – Хорошо, – согласилась Натали. – Я останусь в городе до первого января или чуть позже. – Я дам вам свой домашний и рабочий телефоны в Нью-Йорке, – сказал Сол. – Нам надо связываться по крайней мере через день. И вот еще что, шериф. Даже если все наши попытки разузнать что-то ни к чему не приведут, есть способ сделать это через газеты и ТВ… – Каким образом? – Высказывание мисс Престон насчет того, что они вампиры, не так уж далеко от истины. Так же как и вампиров, их съедают собственные темные инстинкты. Когда эти инстинкты удовлетворяются, не заметить этого невозможно. – Вы имеете в виду сообщения о других убийствах? – спросил Джентри. – Вот именно. – Но в этой стране происходит больше убийств за один день, чем в Англии за весь год. – Джентри развел руками. – Верно, однако у оберста и таких, как он, страсть к особым убийствам, – тихо сказал Сол. – Не думаю, чтобы они могли совершенно изменить своим привычкам, какой-то след болезненности или извращения все равно будет заметен. – О’кей, – вздохнул Джентри. – Значит, в худшем случае будем ждать, пока эти… вампиры не начнут убивать снова. Будем разыскивать их по этим следам. Ну, допустим, мы их найдем. И что тогда? Сол вытащил из кармана платок, снял очки и принялся их протирать, близоруко щурясь на огни гавани. – Тогда мы их выследим и поймаем. А потом сделаем то, что делают со всеми вампирами. – Он снова надел очки и едва заметно улыбнулся. Улыбка получилась безрадостной. – Мы проткнем их сердца кольями, отрубим головы и набьем рты чесноком. А если и это не подействует… – Улыбка Сола стала еще холоднее. – Тогда придумаем нечто такое, что подействует.Глава 13
Чарлстон
Среда, 24 декабря 1980 г.
Для Натали Престон это был самый одинокий сочельник за всю ее жизнь, и она решила что-нибудь предпринять по этому поводу. Она взяла сумочку, «Никон» со 135-миллиметровым объективом, вышла из дому и медленно поехала в Старый город. Еще не было четырех часов, но уже начало темнеть. Она ехала мимо красивых домов и дорогих магазинов, слушала рождественскую музыку и понемногу думала обо всем. Ей очень не хватало отца. В последние годы она все реже виделась с ним, но теперь сама мысль, что его больше нет, что он не думает о ней и не ждет ее, была невыносима, словно что-то оборвалось в ее жизни. Ей хотелось плакать. Когда пришло сообщение о смерти отца по телефону, она не плакала. Не плакала и тогда, когда Фред отвез ее в аэропорт Сент-Луиса. Вообще-то, он хотел полететь вместе с ней, но она возражала, и он не стал настаивать. Она не плакала на похоронах и после похорон, во все эти часы и дни смятения и встреч с родственниками и друзьями. Через пять дней после убийства отца, когда ночью Натали не смогла заснуть и принялась искать, что бы почитать, она наткнулась на сборник юмористических рассказов Джина Шеппарда. Книга открылась на странице, где на полях размашистым знакомым почерком было написано: «Почитать с Натали этим Рождеством». Она пробежала глазами страницу, где описывался смешной и в то же время страшный случай, как мальчик отправился в гости к Санта-Клаусу прямо из универмага. Это было очень похоже на то, как перед Рождеством родители повезли ее, четырехлетнюю девочку, в центр города и ждали целый час в очереди, а она в панике убежала в самый ответственный момент. Закончив читать, Натали смеялась так, что смех постепенно перешел в слезы, а затем в рыдания. Она проплакала почти всю ночь и заснула лишь перед рассветом, но встала, когда поднялось зимнее солнце, чувствуя себя совершенно опустошенной. И все же ей стало легче. Самое худшее было позади. Натали свернула влево и поехала мимо особняков на Рейнбоу-роуд, с их лепниной, красочными фасадами, выглядевшими сейчас скромнее. На улице зажглись газовые фонари. Она сделала ошибку, оставшись в Чарлстоне. Ее соседка миссис Калвер приходила чуть ли не каждый день, и эти неловкие беседы с престарелой вдовой причиняли ей боль. Она начала подозревать, что миссис Калвер, видимо, питала надежды стать второй миссис Престон, и от этого девушке хотелось каждый раз спрятаться в спальне, едва она слышала робкий знакомый стук. По вечерам, ровно в восемь, звонил из Сент-Луиса Фредерик. Натали представляла строгое выражение лица своего друга и в прошлом любовника, когда он говорил: «Детка, возвращайся. Оттого что ты сидишь там, не будет никакого проку. Я скучаю по тебе. Возвращайся домой, к старине Фредерику». Но ее маленькая квартирка в университетском городке больше не казалась ей домом, а захламленная комната Фредерика на Аламо-стрит была всего лишь местом, где он спал между сменами, длившимися по четырнадцать часов, во время которых Фредерик ломал голову над математическими проблемами распределения масс в галактических скоплениях. Он был очень способным парнем, но ему не повезло с образованием. Их общие знакомые когда-то рассказали ей, что он вернулся из Вьетнама, где отслужил двойной срок, с совершенно изломанной психикой в сочетании с яростным стремлением защитить свое достоинство и революционным духом. Этот свой дух он направил на то, чтобы стать выдающимся исследователем-математиком. Еще в прошлом году, несмотря на это, Натали любила Фредерика. Или думала, что любила. «Возвращайся домой, детка», – говорил он каждый вечер, и Натали, невероятно одинокая сейчас, потрясенная и убитая горем, всякий раз отвечала: «Еще несколько дней, Фредерик. Всего несколько дней». «Несколько дней – для чего?» – подумала она. Огни в окнах больших старых домов на Саут-Бэттери освещали веранду за верандой, низкорослые пальмы, шпили и балюстрады. Она всегда любила эту часть города. Когда она была маленькой девочкой, они с отцом часто приходили сюда гулять по Батарее. Лет в двенадцать она вдруг обратила внимание, что чернокожие тут не живут, что эти замечательные старинные дома и прекрасные магазины предназначены только для белых. Позже она сама удивлялась, как могло случиться, что черная девочка, выросшая на юге в шестидесятых годах, поняла это так поздно. Ей пришлось поменять свои взгляды и привычки, что поначалу казалось невероятным. Как она могла не заметить, что места ее вечерних прогулок, большие старые дома ее детских мечтаний были для нее и для других цветных так же запретны, как и плавательные бассейны, кинотеатры и церкви, в которые она и не подумала бы зайти. К тому времени, когда Натали стала достаточно взрослой, чтобы в одиночку ходить по улицам Чарлстона, оскорбительные знаки были убраны, общественные фонтаны стали действительно общественными, но привычки оставались, и границы, установленные двумя столетиями традиции, стереть было не так просто. Натали все еще помнила тот сырой и холодный день в ноябре семьдесят второго, когда она стояла, потрясенная, неподалеку от этого места на Саут-Бэттери, смотрела на большие дома и вдруг поняла, что никто из ее родственников никогда не жил и не будет жить здесь. Но эта вторая мысль была изгнана едва ли не раньше, чем появилась. Натали унаследовала глаза своей матери и гордость отца. Джозеф Престон был первым темнокожим бизнесменом, владевшим фотомагазином в престижном районе рядом с гаванью. А она была дочерью Джозефа Престона. Натали проехала мимо отреставрированного театра на Док-стрит; решетка кованого железа на балконе второго этажа отсюда казалась пышной порослью металлического плюща. Она пробыла дома всего десять дней, но все, что было с нею раньше, казалось какой-то другой, теперь уже нереальной жизнью. Джентри сейчас уходит с работы, желает счастливого Рождества своим помощникам и секретарям и всем другим белым, работающим в огромном старом здании муниципалитета. Вот сейчас он как раз собирается ей звонить. Она остановила машину у епископальной церкви Святого Михаила и стала думать о Джентри. В пятницу, после того как они проводили Сола Ласки в аэропорт, они провели вместе почти целый день, а затем и всю субботу. В первый день они говорили в основном о рассказанной доктором истории, о самой идее психического использования одних людей другими. «Если у профессора сдвиг по фазе, скорее всего, это никому не повредит, – сказал Джентри. – А если он нормальный, его история все объясняет, и я понимаю теперь, почему пострадало столько людей». Натали поведала шерифу о том, как она чисто случайно выглянула из своей комнаты и увидела идущего из ванной босого Ласки: на его правой ноге в самом деле не было мизинца, только застарелый шрам на фаланге. – Это еще ничего не доказывает, – возразил Джентри. В воскресенье они говорили совсем о других вещах. Шериф пригласил ее к себе на обед, и она просто влюбилась в его дом – стареющее викторианское строение в десяти минутах ходьбы от Старого города. Район явно переживал переходный период – некоторые дома, давно не ремонтированные, потихоньку разваливались, другие же были отреставрированы и сейчас стояли во всей красе. Квартал, где жил Джентри, населяли молодые семьи, белые и черные; на подъездных дорожках часто можно было видеть трехколесные велосипеды, на крохотных лужайках валялись брошенные скакалки, а из двориков за домами слышался смех. Три комнаты на первом этаже были забиты книгами. Они стояли во встроенных шкафах кабинета, куда вела дверь прямо из прихожей, на самодельных деревянных полках по обеим сторонам окон в столовой и на дешевых металлических стеллажах вдоль кирпичной стены на кухне. Пока Джентри готовил салат, Натали с разрешения хозяина бродила по комнатам, восхищаясь старинными томами в кожаных переплетах, рассматривая серьезные книги в твердых обложках по истории, социологии, психологии, криминалистике. Она улыбнулась, когда на глаза ей попалась куча книг в мягких цветных обложках – шпионские страсти, детективы, триллеры… Натали невольно сравнила свою спартанскую рабочую комнату в Сент-Луисе со всей этой обстановкой кабинета – огромным письменным столом, заваленным бумагами и документами, большим мягким кожаным креслом и таким же диваном, с массивными шкафами и стеллажами, забитыми книгами. В кабинете шерифа Бобби Джо Джентри витал жилой дух, чувствовалось, что тут все создано для удобства его хозяина. Точно такое же чувство уважения вызывала у нее фотолаборатория отца. Когда салат был готов, а лазанья стояла на плите, они устроились в кабинете, с удовольствием потягивая виски, и снова разговаривали. Беседа по кругу вернулась к теме, надежен ли Сол Ласки и как они сами относятся к его фантастической истории. – От всего этого так и веет классической паранойей, – сказал Джентри, – но, с другой стороны, если бы европейский еврей предсказал в подробностях холокост лет за десять до того, как он был запущен в действие, любой порядочный психиатр, даже еврей, поставил бы ему диагноз «возможная шизофрения». Затем они любовались закатом, неторопливо поглощая еду. Еще раньше Джентри спустился в подвал, где стояли ряды винных бутылок, и откопал там две бутылки великолепного каберне. Он слегка покраснел от смущения, когда она назвала его владельцем винного погреба. Натали поблагодарила хозяина за прекрасный обед и сделала комплимент, назвав его гурманом, на что Джентри заметил, что, если женщина умеет хорошо готовить, ее считают просто хозяйкой, а мужчина почему-то сразу становится гурманом. Она рассмеялась и пообещала больше не называть его так. В этот одинокий вечер сочельника, сидя в своей быстро остывающей машине возле епископальной церкви Святого Михаила, Натали думала о стереотипах. Сол Ласки казался ей прекрасным примером – иммигрант, польский еврей из Нью-Йорка, с бородкой, печальными глазами, которые глядели на нее из такой европейской тьмы, которую Натали трудно было даже вообразить, не то что понять. Профессор-психиатр с мягким иностранным акцентом, могущим служить и эхом венского диалекта Зигмунда Фрейда для неподготовленного слуха. И дужка очков у него держалась на скотче, прямо как у тетушки Эллен, страдавшей от старческого маразма – теперь это называлось болезнью Альцгеймера – целых одиннадцать лет, пока она в конце концов не умерла. Сол Ласки разительно отличался от большинства людей, белых или черных, которых Натали когда-либо знала. Он не так выглядел, не так говорил, не так поступал. Хотя ее стереотипные представления о евреях были весьма отрывочны и туманны – темная одежда, странные обычаи, этническое сходство друг с другом, близость к деньгам и власти, достигнутая за счет собственных стараний, – Сол Ласки и его странная сущность могли бы без проблем уложиться в эти стереотипные представления. Могли, но не укладывались. Натали не питала особых иллюзий на тот счет, что ей, с ее интеллектом, не грозит опасная привычка сводить людей к стереотипам. Ей шел всего двадцать первый год, но она уже заметила, как люди, и даже очень умные, такие как ее отец или Фредерик, запросто меняют взгляды на вещи. Ее отец, тонко чувствующая натура и щедрый человек, с его гордостью за свою расу и за все, что ею унаследовано, тем не менее смотрел на становление так называемого «нового юга» как на опасный эксперимент, видел в этом махинации радикалов, черных и белых, направленные на изменение системы, которая сама по себе уже достаточно изменилась, и теперь в ней трудолюбивые цветные вроде него якобы могут добиться успеха, не теряя достоинства. Для Фредерика же люди были либо куклами в руках системы, либо хозяевами этой системы, либо ее жертвами. Сама система не представляла для Фредерика никакой загадки, она состояла, по его представлениям, из политической структуры, сделавшей войну во Вьетнаме неизбежной, из силовой структуры, сохранявшей политическую власть, и из структуры социальной, которая скормила его раскрытой пасти войны. Фредерик ответил на вызов этой системы двояко: он сбежал от нее в нечто совершенно невидимое и мало связанное с жизнью – в математические формулы и добился в этой области таких успехов, что мог теперь совершенно спокойно игнорировать ее. Жил он только для того, чтобы заниматься своими компьютерными выкладками, избегая всяких человеческих осложнений, любить Натали так же яростно и умело, как и драться с любым, кто, как ему казалось, мог его обидеть. Он научил Натали стрелять из револьвера тридцать восьмого калибра, который держал в своей захламленной квартире. Натали стало холодно, она включила мотор, чтобы согреться. Проехав мимо церкви, где люди собирались на утреннюю рождественскую службу, она повернула в сторону Брод-стрит. Ей вспомнились заутрени в баптистской церкви в трех кварталах от их дома, куда они с отцом ходили столько лет. В этом году она решила больше туда не ходить – хватит лицемерить. Она знала, что ее отказ обидит отца и даже разозлит, но хотела настоять на своем. Сейчас она отдала бы все на свете, лишь бы не огорчать его, лишь бы он был жив… Ее мать погибла, когда Натали исполнилось девять лет. «Это был несчастный случай, просто несчастный случай», – сказал ей тогда отец, стоя на коленях у постели и держа ее за руку. Как-то летом мама возвращалась с работы через небольшой сквер, метрах в тридцати от улицы, и машина, в которой сидели пятеро пьяных белых юнцов из колледжа, резко свернула на лужайку – они так забавлялись. Машина крутанулась вокруг фонтана, потом пошла юзом по рыхлой почве и налетела на тридцатидвухлетнюю женщину, торопившуюся домой к мужу и дочери, – была пятница, и они собирались во второй половине дня отправиться на пикник. Она не видела машины до последней секунды, как утверждали свидетели. Когда автомобиль сбил ее, на лице ее было лишь удивление, а вовсе не ужас. В первый день занятий в четвертом классе учительница велела им написать о том, что случилось во время летних каникул. Натали долго смотрела на чистый тетрадный лист, а потом аккуратно и старательно вывела: «Этим летом я была на похоронах моей мамы. Моя мама была очень добрая и милая. Она меня любила. Она была молодая, и ей нельзя было умирать этим летом. Люди, которые ее задавили, не попали в тюрьму, им ничего не сделали. После похорон мамы папа и я поехали на три дня к моей тете Лии. Но потом мы вернулись. Я очень скучаю по маме». Натали закончила свое сочинение, попросила разрешения выйти, быстро прошла по коридорам, таким знакомым и незнакомым, вошла в туалет, и там ее несколько раз стошнило. Свернув с Брод-стрит к дому Мелани Фуллер, она почувствовала, как в ней поднимается знакомая волна боли и глухой ярости. Всякий раз, глядя на этот дом – теперь он был таким же темным, как и соседний, потому что миссис Ходжес уехала, – Натали вспоминала прошлый вторник и свою встречу здесь с бородачом. Соломон Ласки. По идее, его легко было подвести под определенный стереотип, а вот не получалось. Натали мысленно представила его печальные глаза и тихий голос. Где он сейчас может быть? Что произошло? Они решили звонить друг другу через день, но он так ни разу и не позвонил ни ей, ни Джентри. Шериф попробовал сам связаться с ним по обоим номерам. Дома никто не ответил, а секретарь психологического факультета университета сказал, что доктор Ласки до шестого января в отпуске. «Нет, доктор Ласки не звонил в деканат после шестнадцатого декабря. Он уехал в Чарлстон, но определенно вернется к шестому января, так как у него начинаются лекции». В воскресенье они сидели в кабинете шерифа, и Натали показала ему газетную заметку про вчерашний взрыв в вашингтонском офисе одного сенатора. Погибли четыре человека. Может, это имело какое-то отношение к таинственному свиданию, на которое Сол должен был отправиться в тот день? Джентри улыбнулся и напомнил ей, что при взрыве погиб охранник здания, а вашингтонская полиция и ФБР ведут речь об обычном террористическом акте. К тому же ни один из погибших не опознан как Соломон Ласки. Ведь по крайней мере некоторая часть бессмысленного насилия, творящегося в мире ежедневно, никак не связана с тем кошмаром, о котором им поведал психиатр. Натали тогда лишь улыбнулась, соглашаясь с ним. Три дня спустя от Ласки по-прежнему не было никаких известий.* * *
В понедельник утром Джентри позвонил ей с работы. – Не хотите помочь нам в официальном расследовании убийств в «Мансарде»? – спросил он. – Конечно, – ответила Натали. – А как я могу помочь? – Мы пытаемся найти фотографию Мелани Фуллер, – пояснил Джентри. – Ребята из городского убойного отдела, да и местное отделение ФБР утверждают, что фотографии этой дамы вообще не существует. Они не смогли найти ни одного ее родственника. Обыск дома и опрос соседей результатов тоже не дали. Мы разослали ориентировку, но там только словесный портрет. Мне кажется, было бы очень полезно иметь ее фотографию. Вы согласны? – Что я могу сделать? – Давайте встретимся перед домом Фуллер через пятнадцать минут, – сказал Джентри. – Вы меня узнаете по розе в петлице. Шериф действительно приехал на встречу с розой в петлице своей форменной рубашки. Он торжественно вручил ей цветок, когда они направились к запертой калитке перед домом Фуллер. – Чем я это заслужила? – улыбнулась Натали, поднося дивно пахнущую розу к лицу и невольно краснея. – Наверняка это будет ваша единственная награда за долгие, изматывающие и, скорее всего, бесполезные поиски. – Джентри вытащил огромную связку ключей, отыскал среди них тяжеленный старомодный ключ и отворил калитку. – Мы что, будем снова обыскивать дом Фуллер? – спросила Натали. Ей очень не хотелось входить внутрь. Она вспомнила, как пять дней назад увидела тут Сола, и по телу ее пробежала дрожь. – Нет. – Джентри провел ее через небольшой двор к другому кирпичному зданию, стоявшему рядом. Поискав еще один ключ в связке, он отпер резную деревянную дверь. – После гибели мужа и внучки Рут Ходжес перебралась к своей дочери в западную часть города, в новый район Шервуд-Форест. Я получилее разрешение забрать здесь то, что мне нужно. Внутри дома было темно, пахло натертыми мастикой полами и старой мебелью, но совсем не так отвратительно, как в доме Фуллер. Они поднялись на второй этаж и вошли в небольшую комнату с рабочим столом, диваном и литографиями скаковых лошадей в рамках на стенах. – Это был кабинет Джорджа Ходжеса, – пояснил Джентри, включив настольную лампу. Он взял альбом с марками, осторожно перевернул несколько страниц и повертел в руке увеличительное стекло. – Бедняга никогда и мухи не обидел. Тридцать лет служил на почте, а последние девять лет работал ночным сторожем на пирсе. И надо же такому случиться… – Джентри покачал головой. – Так вот, миссис Ходжес говорит, что у Джорджа был фотоаппарат, он только года три как с ним расстался, а до того снимал регулярно. Она уверена, что миз Фуллер никогда не позволяла фотографировать себя, но Джордж сделал множество слайдов, и миссис Ходжес не может поручиться, что среди них не найдется моментального снимка Мелани Фуллер… – Понимаю. Вы хотите, чтобы я просмотрела все слайды и выяснила, нет ли ее там, – сказала Натали. – Только я ведь не знаю, как она выглядит. – Я дам вам словесный портрет – тот самый, что мы разослали. Но в любом случае откладывайте в сторону изображения всех женщин лет семидесяти или около того. – Он немного подумал. – У вас или вашего отца есть стол с подсветкой? Или какой-нибудь аппарат для сортировки слайдов? – Есть в студии… А не проще будет включить проектор? – Да, с проектором будет быстрее, – согласился Джентри и открыл дверь в кладовую. – Бог ты мой! – воскликнула Натали. Стены большого помещения от пола до потолка были целиком увешаны самодельными полками. Слева стояли альбомы и папки с надписью «Марки», но задняя и правая стена были уставлены длинными открытыми коробками с желтыми кодаковскими подставками для слайдов. – Но тут их тысячи! – Она глянула на шерифа. – Возможно, десятки тысяч! Джентри развел руками и по-мальчишески ухмыльнулся: – Я же сказал, что это работа для добровольца. Все мои помощники, кроме Лестера, сейчас заняты, а он, прямо скажем, не большого ума… Очень славный парень, но дуб дубом… Так что, боюсь, ему эта работа будет не под силу. – Ну-ну, – вздохнула Натали. – Хорошенькая рекомендация для храбрых защитников Чарлстона. Джентри смотрел на нее, все так же улыбаясь. Девушка махнула рукой: – Ладно, я согласна. Мне сейчас делать особо нечего, да и студия свободна, пока Лорн Джессап, поверенный моего отца, не закончит дела по продаже студии и всего здания. – Я могу помочь отнести ящики в машину, – предложил шериф. – И на том спасибо, – улыбнулась Натали и снова понюхала розу.* * *
Слайдов было тысячи, и все без исключения по качеству на уровне любительских снимков. Натали знала, как трудно сделать по-настоящему хороший снимок, она училась этому на протяжении многих лет, изо всех сил стараясь, чтобы они понравились отцу, после того как он подарил ей, девятилетней девочке, на день рождения ее первый фотоаппарат. Но боже мой, если человек делает тысячи снимков в течение по крайней мере двух или трех десятков лет, должно же у него получиться хотя бы несколько интересных слайдов! У Джорджа Ходжеса этого не получилось. Снимки были разные: семейные, на отдыхе, виды домов и лодок, плавучих дач, фото по случаю всяческих торжественных событий и праздников. Натали пришлось просмотреть все рождественские елки Ходжесов с сорок восьмого по семьдесят седьмой год. Была также запечатлена повседневная жизнь детей и внуков, но все слайды до единого были очень низкого качества. За восемнадцать лет занятий фотографией Джордж Ходжес так и не научился не снимать против солнца, выбирать правильный ракурс, чтобы деревья, столбы и другие детали фона не «вырастали» у людей из ушей или старомодных причесок, держать горизонт, избегать неестественных поз, фотографировать неодушевленные предметы на расстоянии нескольких миль, пользоваться вспышкой. Именно из-за этой его любительской привычки Натали и удалось обнаружить изображение Мелани Фуллер. Был уже восьмой час, когда Джентри заехал в мастерскую с пластиковыми коробками из китайского ресторана, и они поели, стоя рядом со столом с подсветкой. Натали показала шерифу небольшую стопку снимков, где могла быть женщина, похожая на Мелани Фуллер. – Не думаю, что она есть среди этих старушек. Все они позируют вполне охотно, большинство из них или слишком молоды, или слишком стары. Хорошо хоть, что мистер Ходжес разметил ящики и написал на них даты. – Да, – согласился Джентри, быстро просматривая слайды над столом. – Ни один снимок не подходит под словесный портрет. Миссис Ходжес говорит, что миз Фуллер носила одну и ту же прическу, начиная по крайней мере с шестидесятых. Волосы короткие, слегка завитые на концах, подкрашены в голубоватый цвет. Немного похоже на то, как вы сейчас выглядите. – Спасибо, – улыбнулась Натали. Она закончила есть, достала еще одну желтую коробку и начала выстраивать слайды по порядку. – Самое трудное в этом деле – удержаться и не смахнуть всю эту дребедень на пол, когда ничего не найдешь, – призналась она. – Как вы думаете, миссис Ходжес будет когда-нибудь просматривать эти слайды? – Скорее всего, нет. Она утверждает, что Джордж в конце концов перестал заниматься фотографией из-за отсутствия интереса к снимкам с ее стороны. Натали разложила трехсотую пачку слайдов, на которых был запечатлен сын супругов Лоренс с женой Надин, о чем свидетельствовали наклейки с надписями. Они стояли во дворе, щурясь от яркого солнца, с младенцем Лорелом на руках, а трехлетняя Кэтлин цеплялась за слишком короткую юбку матери. Лоренс был в черных туфлях и белых носках. – Погодите-ка. – Натали вдруг нахмурилась, и Джентри, почувствовав волнение в ее голосе, тоже склонился над столом: – Что такое? Она ткнула пальцем в один из слайдов: – Вот. Видите? Этот высокий лысый мужчина не похож на… как его? – Мистера Торна. Да, это он. А вот и наша дама в мешковатом платье, с короткими синими кудрями… Нам невероятно повезло! Они склонились еще ниже и принялись рассматривать изображение сквозь большое увеличительное стекло. – Она не заметила, что их снимают, – сказала Натали. – Да, – согласился Джентри. – Интересно, почему? – Притом сколько тут снимков этой семьи, сделанных в одном и том же ракурсе, можно предположить, что мистер Ходжес заставлял их позировать дней двести в году. Миз Фуллер, скорее всего, приняла своих соседей за групповую статую во дворе. – Наверное. – Джентри улыбнулся шире обычного. – Если снимок отпечатать, он хорошо получится? Я имею в виду только ее. – Должен получиться, – сказала Натали уже серьезным тоном. – Похоже, он использовал здесь кодахром – шестьдесят четыре, а с этим можно увеличивать довольно сильно, и качество будет хорошее. Чтобы не портить снимок, лучше обрезать негатив, и у вас получится прекрасный профиль в три четверти. – Замечательно! Отличная работа. А теперь мы… – Он замолчал, увидев, что девушка вдруг обхватила себя за плечи, пытаясь унять дрожь. – Что случилось? – Непохоже, чтобы ей было семьдесят или восемьдесят, – прошептала она. Джентри взглянул на слайд: – Его сделали, судя по надписи, пять лет назад. Но вы правы, на вид ей лет шестьдесят или около того. Хотя в нотариальной конторе есть записи, что дом принадлежал Мелани Фуллер еще в двадцатых годах… В конце двадцатых. Но вас ведь не это так взволновало, верно? – Нет. Просто я видела столько снимков маленькой Кэтлин и как-то позабыла, что девочки больше нет в живых. И ее дедушки… который делал снимки… Джентри кивнул и повернулся к Натали, по-прежнему смотревшей на слайд. Его левая рука потянулась к ее плечу, чтобы погладить, успокоить, но он тут же опустил ее. Девушка ничего не заметила. – А вот это чудовище, что убило их. Смотрите, шериф, какая безобидная старушка… Безобидная, как большая самка каракурта, которая убивает все, что попадает в ее логово. А когда она сама выбирается из логова, погибают другие люди… Как мой отец… – Натали выключила подсветку и отдала слайд Джентри. – Утром я просмотрю остальные, может, найду еще что-нибудь. А пока отпечатайте вот это и передайте всем, кому нужно. Джентри кивнул, осторожно держа слайд в вытянутой руке, словно то был паук, живой и смертельно опасный.* * *
Натали остановила машину напротив дома Фуллер, взглянула на старое здание – все это уже стало для нее частью ритуала, потом переключила скорость, собираясь поехать куда-нибудь позвонить Джентри насчет обеда, и вдруг замерла. Она снова переключила скорость, трясущимися руками взяла «Никон» и установила стотридцатимиллиметровый объектив на приоткрытое окно со своей стороны, чтобы он не прыгал. В доме Фуллер на втором этаже горел свет. Он горел не в тех комнатах, что выходили на улицу, а скорее пробивался из коридора, но был заметен даже сквозь жалюзи. В предыдущие три дня Натали каждый раз проезжала мимо дома после наступления темноты – света нигде не было. Она опустила фотоаппарат и глубоко вздохнула. Сердце ее оглушительно стучало в груди. Нет, это нелепо, тут должно быть какое-то разумное объяснение. Старуха не могла вот так запросто вернуться домой и заняться домашними хлопотами, когда ее ищут полицейские полдюжины штатов, не говоря о ФБР. «А почему бы и нет?» – подумала Натали и тут же отбросила эту мысль. Наверняка в доме Джентри или кто-нибудь из следователей. Он говорил ей, что они хотели перевезти вещи на хранение до завершения процесса. Да тут могла быть еще сотня других объяснений! Свет неожиданно погас, и Натали вздрогнула, будто кто-то дотронулся до нее сзади. Она нащупала фотоаппарат, подняла его и направила видоискатель на окно второго этажа. Да, света за белыми жалюзи не было. Натали осторожно положила фотоаппарат на соседнее сиденье, откинулась на спинку кресла, несколько раз глубоко вдохнула, чтобы успокоиться, затем вытащила из бардачка свою сумочку. Не сводя глаз с темного здания, она нащупала в сумочке «ламу» тридцать второго калибра и достала оружие. Во вторник Джентри повел ее в частный тир и показал, как заряжать пистолет и стрелять из него. Сейчас он был заряжен всеми семью патронами, плотно уложенными в обойму, как яйца в гнездо. Мысли Натали метались, словно лабораторные крысы в поисках выхода из лабиринта. Что же ей делать?.. А почему, собственно, надо что-то делать? Сюда и раньше забредали разные… Сол, например. А где он теперь, черт побери? Может, это опять он? Натали понимала, что просто хочет успокоить себя. Она вспомнила изображение Мелани Фуллер и мистера Торна на слайде. Нет, Торн мертв, да и старуха, возможно, тоже. Но кто тогда? Девушка стиснула рукоятку пистолета, старательно держа указательный палец подальше от спускового крючка, и посмотрела на темный дом. Дыхание ее было учащенным, но она держала себя в руках. Надо убираться отсюда и позвонить Джентри на работу или домой. Если его нет, придется поговорить с помощником. Интересно, сколько времени потребуется помощникам шерифа или городским полицейским, чтобы явиться по вызову вечером, в канун Рождества? Натали попробовала вспомнить, где находится ближайший телефон, но перед глазами всплывали только картины закрытых темных магазинов и ресторанов, мимо которых она проезжала недавно. Значит, надо двигаться к муниципальному зданию или домой к Джентри. Тут всего-то десять минут езды. А если тот, кто в доме, через десять минут исчезнет? Однако Натали твердо знала, что ни за что не войдет в дом одна. В первый раз она совершила ошибку, но тогда ею двигали злость, отчаяние и храбрость, рожденная невежеством. Идти туда сейчас, с пистолетом или без него, было бы непростительной глупостью. Будучи маленькой, Натали обожала допоздна смотреть фильмы ужасов по пятницам и субботам. Отец позволял ей расправлять кровать пораньше, чтобы она могла заснуть сразу после кино, а чаще она засыпала, когда еще мелькали кадры. Иногда они смотрели фильмы вместе, жевали воздушную кукурузу и обсуждали эти невообразимые события на экране. В одном они соглашались безоговорочно: никогда нельзя жалеть героиню, если она совершает глупые поступки. Так, например, некая молодая женщина в ночной кружевной рубашке не раз получала предупреждение не открывать запертую дверь в конце темного коридора, но стоило ей остаться одной, как она нарушила запрет. После этого симпатии Натали и ее отца тотчас отдавались чудовищу, ожидавшему ее за той дверью. У отца даже была поговорка: у глупости есть своя цена, и эту цену всегда приходится платить. Натали открыла дверцу и вылезла из машины, держа в правой руке пистолет. Она с секунду постояла так, глядя на два темных дома и примыкающий двор. Метрах в десяти фонарь освещал кирпичные стены и голые деревья. «Только до калитки», – решила Натали. Если кто-нибудь выйдет, она всегда сможет убежать. Девушка пересекла тихую улицу и подошла к калитке. Та оказалась не заперта и даже чуть приоткрыта. Она коснулась рукой холодного металла и широко раскрытыми глазами посмотрела на темные окна дома. Из-за притока адреналина Натали чувствовала, как сердце колотится о ребра, но он же сделал ее сильной, легкой и быстрой. В руке у нее был настоящий пистолет. Она щелкнула предохранителем, как учил ее Джентри, и решила, что будет стрелять, только если на нее нападут. Натали понимала, что пора вернуться в машину, отъехать от дома и позвонить Джентри, но вместо этого толкнула калитку и шагнула во двор. Большой старый фонтан посередине отбрасывал тень, и она встала в этом укрытии, не отрывая взгляда от окна и парадного входа. Она чувствовала себя десятилетней девочкой, вызвавшейся дотронуться до двери местного дома с привидениями. Но ведь горел же свет! Если там кто-то был, он мог выйти через заднюю дверь, как в прошлый раз поступили они с Солом. Он не станет пользоваться парадной дверью, где его можно заметить с тротуара. В любом случае она подошла достаточно близко. Пора вернуться в машину и убираться отсюда подальше. И все же Натали медленно подошла к невысокому крыльцу, слегка приподняв руку с пистолетом. Парадная дверь была приоткрыта, девушка дважды глубоко вдохнула и легонько толкнула ее. Дверь бесшумно распахнулась, словно на хорошо смазанных петлях. Натали увидела пол прихожей и несколько первых ступеней лестницы. Ей показалось, что она видит пятна – там, где лежали тела Кэтлин Ходжес и Баррет Крамер. Сейчас кто-то начнет спускаться по лестнице, покажутся сначала ботинки, потом ноги… Она не стала ждать, повернулась и побежала. Каблук зацепился за камень, Натали чуть не упала, еще не добежав до калитки, но все же удержалась на ногах. Бросив через плечо испуганный взгляд на открытую дверь, на темный фонтан и тени на стенах и окнах, она выскочила на улицу, подбежала к машине и без сил рухнула на сиденье. Она защелкнула замок и не забыла поставить пистолет на предохранитель, прежде чем швырнуть его на сиденье. Затем потянулась к ключу зажигания, моля Бога, чтобы он оказался на месте. Мотор завелся сразу, и в этот момент чьи-то руки крепко ухватили ее сзади – одна зажала ей рот, другая сильно и профессионально стиснула горло. Натали даже не успела крикнуть и в панике уцепилась за чужие руки в перчатках, сдавившие ей рот и шею. Она отчаянно сопротивлялась и, откинувшись назад, попробовала дотянуться ногтями до нападавшего. Пистолет! Правой рукой она ощупала соседнее сиденье, но не нашла его. На секунду рука ее задержалась у рычага скорости, потом она снова попыталась пустить в ход ногти. Тело ее выгнулось, она повисла над сиденьем, колени приходились выше руля. Чье-то тяжелое влажное лицо приблизилось к ней вплотную, но ее пальцы, скользнув, наткнулись лишь на шапку или кепку. Рука, сжимавшая ей рот, ослабла, нападавший наклонился к переднему сиденью, и Натали услышала, как пистолет с тяжелым стуком упал на резиновый коврик. Она снова вцепилась в толстые перчатки, но ее горло сдавили сильнее, а руку легко откинули в сторону. Хотя рот был теперь свободен, кричать она не могла, могла только шептать. В глазах прыгали яркие точки, в ушах шумела кровь. «Значит, вот как бывает, когда тебя душат», – мелькнуло у нее в голове. Царапая ногтями обивку сиденья, Натали попробовала поднять колени, чтобы надавить на гудок на руле. В зеркальце заднего вида она на мгновение увидела красные, как кровь, глаза возле своей шеи, чью-то красную щеку, но тут же сообразила, что это ее собственная кожа казалась красной, поскольку она уже ничего не видела, кроме красных точек. Ее щеку царапнула небритая щетина, и хриплый голос прошептал ей в ухо: – Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне. Натали, как кошка, выгнулась изо всех сил, потом резко откинулась назад, так резко, как только могла, и почувствовала с мимолетным удовлетворением боль от удара головой о чью-то плоть. Чужие немилосердные руки на миг отпустили ее, и девушка повалилась вперед, судорожно хватая ртом воздух. Она попыталась нащупать пистолет на полу, но тут железные пальцы стиснули ее горло с новой силой. Натали ощутила жгучую боль в шее, множество красных точек снова запрыгали перед глазами, и она погрузилась в пустоту.Книга вторая Миттельшпиль
О, разум… В разуме есть горы; пропасти, чтоб падать,отвесные, страшные, никем не меренные до сих пор…Джерард Мэнли Хопкинс
Глава 14 Мелани
Время для меня теперь сплошная мешанина. Я так ясно помню те последние часы в Чарлстоне и совсем плохо – дни и недели, последовавшие затем. Другие воспоминания выбиваются на передний план. Я помню стеклянные глаза и проплешины в волосах на голове мальчика в населенной призраками детской в Ропщущей Обители. Странно, что я вспоминаю именно это, – я провела там так мало времени. Помню, как дети играли, а маленькая девочка пела в свете зимнего дня на склоне холма над лесом, когда вертолет врезался в мост. Разумеется, я помню ту кровать – завораживающие белые холмы этой тюремной площадки, где покоилось мое собственное тело. Помню, как Нина очнулась от своего смертельного сна: синие губы растянулись, обнажив желтые зубы, голубые глаза вернулись в глазницы на гребне поднимающейся волны личинок, а кровь снова хлынула из дырки с небольшую монету на бледном лбу. Но это не настоящее воспоминание. По крайней мере, я так думаю. Когда я пытаюсь вспомнить те часы и дни после нашей последней встречи в Чарлстоне, первое, что я ощущаю, – это восторг, бодрость вернувшейся молодости. Я думала тогда, что самое худшее уже позади. Как глупо было так думать.* * *
Я свободна! Свободна от Вилли, от Нины, свободна от Игры и всех кошмаров, связанных с ней. Я выбралась из «Мансарды», когда там царило смятение, и медленно пошла сквозь тишину ночи. Несмотря на всю боль, причиненную мне в тот день, я чувствовала себя моложе, чем когда-либо за многие-многие годы. Свободна! Я шла легко, наслаждаясь темнотой и ночной прохладой. Где-то неподалеку выли сирены, но я не обращала на них внимания. Подойдя к «зебре» у перекрестка с интенсивным движением, я подождала, пока не загорится зеленый свет. Рядом со мной притормозила длинная машина синего цвета – «крайслер», насколько я понимаю в машинах. Шагнув с тротуара, я постучала в окно автомобиля. Водитель, грузный пожилой человек с остатками волос на затылке, наклонился и подозрительно глянул на меня. Потом он улыбнулся и нажал какую-то кнопку; окно опустилось. – Что-нибудь случилось, мэм? Я кивнула и села в машину на удивительно мягкое бархатное сиденье. – Поехали, – велела я. Через несколько минут мы уже выезжали из города по шоссе, ведущему в соседний штат. Я говорила лишь тогда, когда нужно было отдать приказания. Держать водителя в своей власти было легко, мне почти не требовалось прилагать усилия. Бодрое чувство вернувшейся молодости принесло с собой уверенность в своих силах, которой я уже давно не ощущала. Откинувшись на спинку сиденья, я смотрела, как мимо проплыли и исчезли огни Чарлстона. Мы уже отъехали от города на несколько миль, и тут водитель закурил сигару. Терпеть не могу сигарного дыма. Он опустил окно и выбросил ее. Я мысленно приказала ему включить кондиционер, и мы все так же молча поехали дальше на северо-запад. Незадолго до полуночи мы миновали темную полосу болот, куда упал самолет Вилли. Я закрыла глаза и вызвала воспоминания тех ранних дней в Вене: веселье за пивными столиками в садах, освещенных гирляндами желтых лампочек, прогулки поздней ночью вдоль Дуная, возбуждение, которое испытывали тогда мы трое в обществе друг друга, восторг первых осознанных Подпиток. В те далекие годы, когда мы встречались с Вилли в разных столицах, на разных курортах, мне иногда казалось, что я вот-вот влюблюсь в него. Только преданность памяти дорогого Чарльза заставляла меня противиться чувствам по отношению к нашему молодому, блестящему спутнику в ночи. Открыв глаза, я взглянула на темную стену деревьев и кустарника справа от дороги. Представила себе, как изуродованное тело Вилли валяется где-то там, в грязи, среди насекомых и гадов, и ничего не почувствовала. В Колумбии мы остановились на заправке. Когда водитель платил за бензин, я взяла его бумажник с сиденья. Там оставалось долларов тридцать, все остальное обычный хлам – визитные карточки и фото. Мне было все равно, как его зовут, я лишь взглянула на водительские права, но не стала запоминать фамилию. Вести машину – действие почти рефлекторное, мне не приходилось особо напрягаться, чтобы заставлять его делать все, что нужно. Я даже слегка задремала, пока мы ехали по шоссе I-20 мимо Огасты, штат Джорджия. Когда я проснулась, он уже начал что-то бормотать, рассеянно тряся головой, но я сжала тиски, и он вновь устремил взгляд на дорогу прямо перед собой. Я опять закрыла глаза, и передо мной замелькали отраженные огни фар и рефлекторов. Мы въехали в Атланту в четвертом часу утра. Мне никогда не нравился этот город, в нем не было очарования и элегантности культуры юга, а ныне он расползся во все стороны, превратившись в бесконечную череду промышленных парков и бесформенных новых районов. Мы свернули с шоссе у большого стадиона. Улицы в центре были пустынны. Я велела водителю отвезти меня к банку, который и служил целью моего путешествия, но стеклянный фасад не был освещен. Я почувствовала неприятное разочарование и раздражение. Когда-то мне понравилась идея держать запасные документы для своей новой легенды в ячейке сейфа – откуда мне было знать, что они понадобятся мне в три тридцать утра в воскресенье? Я пожалела, что во время всех этих бурных событий потеряла сумочку. Карманы моего светло-коричневого плаща были набиты вещами, которые я переложила из своего изодранного и испачканного кровью пальто. В бумажнике по-прежнему лежали ключ от сейфа и кредитная карточка. Я велела водителю несколько раз объехать центр города, но это было явно бесполезно. На большей части перекрестков горели желтые фонари, иногда мимо проезжал полицейский автомобиль. В центре города, неподалеку от банка, располагалось несколько приличных отелей, но мой непрезентабельный вид, да еще без багажа, не давал возможности искать там пристанища. Я мысленно приказала водителю направиться по скоростному шоссе к пригороду. Минут через сорок мы нашли мотель с вывеской «Свободные места» и подкатили к одному из этих ужасных заведений с названием вроде «Супер-6», «Мотель-8» или тому подобным вздором, словно люди такие кретины, что не запомнят название, если к нему не добавить номер. Я подумала, не послать ли водителя зарегистрироваться, но это было рискованно – он мог вступить в разговор, а я слишком устала, чтобы лишний раз напрягаться. Жаль, конечно, что у меня не хватило времени поработать с ним. В конце концов я причесалась как смогла, заглядывая в зеркальце заднего вида, и направилась ко входу в мотель. За стойкой сидела заспанная женщина, в шортах и заляпанной футболке мерсерского университета. Я заранее придумала, как нас зовут, откуда мы, придумала номер машины, но женщина даже не потрудилась выглянуть наружу, где стоял «крайслер» с работающим мотором. Как и всегда в этих глупых заведениях, она лишь попросила заплатить вперед. – На одну ночь? – спросила она. – На две. Мой муж завтра будет целый день отсутствовать. Он коммивояжер, продает кока-колу и поедет на завод. А я хочу… – Шестьдесят три доллара восемьдесят пять центов, – бросила женщина. Она дала мне ключ, привязанный к пластинке с номером: – Двадцать один шестнадцать. Объедете кругом и поставите машину около мусорных ящиков. Мы сделали, как она велела. Это казалось нелепым, но стоянка была забита машинами, а у дальнего забора стояли даже несколько трейлеров. Я открыла номер ключом и вернулась к машине. Водитель, сгорбившись, сидел за рулем и дрожал. Лоб его покрылся потом, щеки тряслись – он пытался выскочить из того малого пространства, что я оставила его воле. Я здорово устала, но по-прежнему уверенно держала над ним контроль. Признаться, мне ощутимо не хватало мистера Торна. Уже много лет мне даже не приходилось вслух высказывать свои пожелания – он и так выполнял все беспрекословно. Используя же этого незнакомого грузного человека в «крайслере», можно было дойти до отчаяния – все равно что работать с окалиной, когда привык иметь дело с благородными металлами. Я пребывала в нерешительности. Конечно, были определенные преимущества в том, чтобы держать его при себе до понедельника. Самое главное – автомобиль. Но риск был слишком велик. Его отсутствие уже могли заметить, и полицейские, возможно, ищут его машину. Все это очень осложняло ситуацию, но главное, из-за чего я решилась избавиться от него, была та ужасная усталость, которая навалилась на меня после прежних восторгов. Мне необходимо было поспать, оправиться от потрясений и вчерашнего кошмара. Этого глупого водителя не стоило оставлять без присмотра: он мог выйти из пассивного состояния, пока я буду отдыхать в номере. Наклонившись к нему поближе, я легко коснулась рукой его щеки. – Ты вернешься на шоссе, – прошептала я. – Поедешь вокруг города. Каждый раз, когда будешь проезжать съезд с шоссе, увеличивай скорость на десять миль в час. Когда проедешь четвертый съезд, закрой глаза и не открывай их, пока я тебе не велю. Кивни, если все понял. Он кивнул. Глаза его остекленели и смотрели прямо перед собой. С этим хорошей Подпитки не получится, даже если бы я захотела. – Поезжай, – приказала я. Я наблюдала, как «крайслер» выехал со стоянки и свернул влево, к скоростному шоссе. Закрыв глаза, я воочию видела длинный капот и слепящий свет фар, мелькающих мимо машин, слышала тихий гул кондиционера и чувствовала, как голые руки царапают шерстяной свитер. Во рту был противный привкус недокуренной сигары. Я вздрогнула от отвращения и немного отстранилась. Миновав первый съезд, водитель плавно увеличил скорость до шестидесяти пяти миль в час. Он отъехал уже довольно далеко, и мое восприятие немного ослабло, смешиваясь со звуками на стоянке и прикосновением ветерка к лицу. Я едва ощутила тот момент, когда машина разогналась до скорости девяносто пять миль и водитель закрыл глаза… Номер мотеля был именно таким, каким я себе его представляла, – пустой и тоскливый, ничего, кроме самого необходимого. Порез на правом боку оказался тонюсенькой царапиной, но платье и комбинация были безнадежно испорчены. Рана на мизинце пульсировала намного болезненнее, чем бок. На некоторое время я отогнала сон, чтобы принять горячую ванну и вымыть голову. Затем, завернувшись в два полотенца, я села и заплакала. У меня не было с собой ни ночной рубашки, ни смены нижнего белья. Боже мой, не было даже зубной щетки! Банк будет закрыт до утра понедельника, значит ждать еще больше суток. Я сидела и плакала, чувствуя себя старой, забытой и никому не нужной. Мне хотелось вернуться домой, забраться в свою кровать и чтобы утром мистер Торн, как всегда, принес кофе с бриошами. Но возвращаться было некуда. Мои рыдания скорее походили на плач покинутого ребенка. Потом, все еще закутанная в полотенца, я улеглась на бок, накрылась одеялом и заснула.* * *
Проснулась я лишь после полудня, когда в номер пыталась войти горничная. Добравшись до ванной, я попила воды, стараясь не смотреть на себя в зеркало, и вернулась в кровать. Толстые занавески не пропускали дневной свет в комнату, вентилятор тихонько урчал, и я снова прибегла к спасительной силе сна, как раненое животное. Никаких сновидений не было. Вечером я встала, пошатываясь и чувствуя боль во всем теле еще сильнее, чем накануне, и попыталась привести себя в порядок. Платье никуда не годилось, придется не снимать плащ. Волосы тоже требовали ухода. Но при всем при этом кожа моя ожила, плоть под подбородком сделалась более упругой, а морщинки, наложенные резцом времени, разгладились. Я ощущала себя гораздо моложе, чем прежде. Несмотря на весь ужас вчерашнего дня, Подпитка сослужила мне хорошую службу. За бесконечно тянувшейся автостоянкой находился ресторан. Совершенно бесчеловечное место: освещение как в операционной, на столах клеенка в красную клетку, все еще влажная после того, как помощник официанта провел по ней своей невообразимо грязной губкой, и огромное, закатанное в пластик меню с цветными фотографиями «специальных блюд» этого заведения. Я подумала, что фотографии, наверное, предназначены для неграмотных посетителей, неспособных расшифровать цветистые описания «восхитительной, хрустящей домашней поджарки» или «самого любимого блюда южан на все времена – мамалыги, как ее делала бабушка». Меню было невозможно читать из-за этих бесконечных отступлений и восторженных восклицаний, снабженных неграмотными комментариями. Как странно: одно поколение пробавляется паршивой, всем надоевшей пищей только потому, что эти люди слишком бедны или слишком невежественны, чтобы вкусно питаться, а для следующего поколения эти же блюда становятся традиционной едой «для души». Я заказала чай с горячей английской булочкой и ждала целых полчаса, когда мне ее принесут, все это время страдая от ругани и чавканья за соседним столом, где сидела огромная семья этих скотов-северян. Не в первый раз я подумала, что нация была бы гораздо более здравомыслящей, если бы закон запрещал детям и взрослым питаться в одних и тех же заведениях. Когда я вернулась в номер, было уже темно. От нечего делать я включила телевизор. За десять лет, что я не смотрела его, почти ничего не изменилось. На одном канале – безмозглые футбольные баталии, по другому рассказывали об эстетике борьбы сумо – гораздо подробнее, чем мне хотелось бы об этом знать. С третьей попытки я попала на телефильм, часто прерываемый рекламой, про компанию несовершеннолетних проституток и молодого общественника, который посвятил свою жизнь спасению героини, погрязшей во грехе. Эта идиотская картина напомнила мне скандальные бульварные газетки, популярные в дни моей молодости. И те и другие обличали возмутительные стороны порочного поведения, но если тогда это была «свободная любовь», то теперь в средствах массовой информации ее называли «детской порнографией», не стесняясь демонстрировать весь набор щекочущих нервы деталей. На последнем канале шли местные новости. Молодая цветная женщина, все время улыбаясь, рассказывала про «убийства в Чарлстоне», как это было названо. Полиция занималась поисками подозреваемых и мотивов преступления, свидетели описывали массовую сцену резни в хорошо известном отеле «Мансарда», полиция штата и ФБР интересуются местонахождением мисс Фуллер, много лет прожившей в Чарлстоне. Один из убитых являлся ее слугой. Фотографии этой дамы нет. Весь репортаж длился меньше сорока пяти секунд. Я выключила телевизор, погасила свет и лежала, дрожа в темноте. «Успокойся, – приказала я себе, – через сорок восемь часов ты будешь на своей вилле на юге Франции, в тепле и безопасности». Закрыв глаза, я попыталась представить маленькие белые цветы, растущие там между плитами дорожки, ведущей к беседке. На секунду мне показалось, что я улавливаю соленый запах моря, который всегда усиливался после каждого налетевшего с юга шторма. Представила черепичные крыши близлежащей деревни, красные и оранжевые, возвышающиеся над зелеными прямоугольниками плодовых садов, разбитых в долине. Но на эти приятные образы вдруг наложилось воспоминание о Нине: голубые глаза, широко распахнутые в изумлении, приоткрытый рот, дырочка во лбу – ничего ужасного, просто пятно, которое она вот-вот сотрет движением своих длинных пальцев с прекрасным маникюром. Потом, когда я уже совсем засыпала, я увидела кровь – она хлестала не только из раны, но и изо рта, носа и широко раскрытых, укоряющих глаз Нины. Я подтянула одеяло к самому подбородку и постаралась ни о чем не думать.* * *
Мне обязательно нужна была сумочка. Если я поеду в банк на такси, у меня не останется денег на сумочку. Но и в банк приехать без сумки я не могла. Снова пересчитав наличность в бумажнике, я нерешительно стояла в номере мотеля, а на стоянке уже нетерпеливо гудело вызванное мною такси. Проблему пришлось решить так: я велела таксисту остановиться по дороге у магазина уцененных товаров и купила за семь долларов совершенно ужасную соломенную корзинку. Поездка на такси, включая остановку для покупки этого сокровища, обошлась мне в тринадцать долларов. Я дала доллар водителю на чай и оставила себе последний доллар – вроде как на счастье. Вероятно, вид у меня был ужасный, когда я вот так стояла и ждала открытия банка. Прическе моей ничто уже не могло помочь, на лице не было никакой косметики. Я наглухо застегнула свой светло-коричневый плащ, все еще попахивающий порохом, правая рука крепко сжимала новую соломенную сумку. Оставалось лишь натянуть кроссовки, и я превратилась бы в вылитую «даму с кошелкой» – так этих бомжих, кажется, теперь называют. Тут я вспомнила, что на мне все еще прогулочные туфли на низком каблуке, а они и впрямь похожи на кроссовки. Это было невероятно, но помощник управляющего банком узнал меня и, казалось, пришел в восторг от моего появления. – А-а-а, миссис Строн, – приветствовал он, когда я робко приблизилась к его столу. – Рад снова вас видеть. Я была изумлена. Прошло почти два года после моего последнего посещения этого банка, да и денег у меня на счете было не так много, чтобы со мной любезно беседовал сам помощник управляющего. На несколько секунд я ударилась в панику, будучи уверенной, что полиция вычислила меня и устроила здесь ловушку. Я окинула взглядом редких посетителей и служащих, пытаясь определить, кто из них полицейские в штатском, но помощник со своей любезной улыбкой был спокоен, и я облегченно вздохнула. Просто мне попался человек, гордящийся своей способностью запоминать имена клиентов, ничего более. – Давно вас не было видно, – приветливо сказал он, бросив быстрый взгляд на мой костюм, если его можно было так назвать. – Два года, – уточнила я. – Как ваш муж? Здоров? Мой муж? Я отчаянно попыталась вспомнить, что я им тут рассказывала во время предыдущих посещений. Но я ведь никогда ничего не говорила! Вдруг до меня дошло, что он имеет в виду высокого лысого джентльмена, который всегда молча сопровождал меня во время этих визитов. – Ах да, – обрадовалась я. – Вы, наверное, говорите про мистера Торна, моего секретаря. Боюсь, он у меня уже не служит. А мистер Строн умер еще в пятьдесят шестом году. От рака. – Весьма сожалею. – Цветущее лицо помощника управляющего еще больше раскраснелось. Я кивнула, и мы несколько секунд помолчали – вероятно, в память о мифическом мистере Строне. – Так чем я могу вам помочь, миссис Строн? Надеюсь, вы хотите увеличить сумму вклада. – К сожалению, мне нужны деньги, – сказала я. – Но сначала мне необходимо взглянуть на свою ячейку в сейфе. Я протянула ему нужную карточку, стараясь не перепутать ее с так долго лежавшими в бумажнике карточками из полудюжины других банков. Затем мы торжественно проделали церемонию с двумя ключами, и я осталась одна в небольшой комнате, похожей на исповедальню. Под крышкой ячейки хранилась моя новая жизнь. Паспорт, выписанный четыре года назад, был все еще действителен. Это был паспорт особого выпуска, по поводу двухсотлетия Дня независимости, с красно-голубым фоном. Джентльмен на почте Атланты тогда еще сказал мне, что когда-нибудь этот юбилейный документ станет коллекционной ценностью. Наличные деньги, двенадцать тысяч долларов купюрами разного достоинства, тоже имели право на существование. Пачки были тяжелыми, и я с трудом затолкала их в сумку, моля Бога, чтобы дешевая солома выдержала. Облигации и сертификаты акций на имя миссис Строн мне не требовались, но они хорошо прикрывали тяжелые пачки денег. Я не стала брать ключи от своего «форда», поскольку мне вовсе не хотелось заниматься такими скучными делами, как забирать автомобиль из гаража, где он находился, и прочее; к тому же могли возникнуть проблемы, если его найдут на стоянке аэропорта. Последнее, что хранилось в ячейке, – крошечная «беретта», пистолет для мистера Торна в случае непредвиденных обстоятельств. Но там, куда я направлялась, он мне вряд ли понадобится. Или скажем так: куда я надеялась направиться. Я закрыла ячейку с той же похоронной торжественностью, что и в предыдущем ритуале, затем подошла к кассиру. – Вы хотите забрать все десять тысяч? – спросила девушка за перегородкой, перекатывая во рту жвачку. – Да. Я ведь там написала. – Значит, вы закрываете свой счет? – Именно это и значит. – Можно было только диву даваться, как годы обучения уходят на то, чтобы в конце концов выдать такой вот образчик компетентности. Девушка глянула в ту сторону, где стоял помощник управляющего, сложив руки на животе, словно платный плакальщик на похоронах. Он коротко кивнул, и она быстрее задвигала челюстями, гоняя жвачку. – Хорошо, мэм. Как вы хотите их получить? У меня был соблазн сказать: «Перуанскими копейками». – Дорожными чеками, пожалуйста, – улыбнулась я. – Тысячу долларов чеками по пятьдесят долларов, тысячу – по сто, остальные по пятьсот. – Это платная операция. – Девица слегка нахмурилась, словно такая перспектива могла заставить меня передумать. – Прекрасно, милочка, – согласилась я. В это раннее утро я вдруг тоже почувствовала себя ранней пташкой, совсем юной. На юге Франции будет прохладно, зато воздух густой, как топленое масло. – Можешь не торопиться. Отель «Атланта Шератон» размещался в двух кварталах от банка. Я сняла там номер, воспользовавшись вместо кредитной карточки пятисотдолларовым дорожным чеком, а сдачу положила в бумажник. Номер был не такой плебейский, как в том мотеле с цифрой в названии, но такой же стерильный. Из номера я позвонила в туристическое агентство в центре города. Молодая особа несколько минут лазила по компьютеру, потом сообщила, что у меня есть выбор: вылететь сегодня в шесть рейсом TWA, сорок минут подождать в Хитроу и дальше лететь в Париж либо лететь прямо в Париж десятичасовым рейсом «Пан Америкэн». В обоих случаях я успевала на вечерний рейс из Парижа в Марсель. Она посоветовала воспользоваться более поздним рейсом, поскольку так дешевле, но я предпочла более ранний и первым классом. Недалеко от отеля располагались три респектабельных магазина. Я позвонила во все три и выбрала тот, где их меньше всего шокировала мысль доставить покупки клиенту прямо в отель. Затем вызвала такси и поехала в магазин. Я купила восемь платьев от Альберта Нипона, четыре юбки, одна из которых оказалась восхитительной шерстяной моделью от Кардена, полный набор чемоданов от Гуччи, два костюма от Эван-Пикон, показавшиеся мне подходящими для моего возраста, достаточное количество нижнего белья, две сумочки, три ночные рубашки, удобный синий халат, пять пар обуви, включая пару черных туфель-лодочек на высоком каблуке от Балли, полдюжины шерстяных свитеров, две шляпы – одна из них, соломенная, с широкими полями, довольно хорошо подошла к моей семидолларовой корзине, дюжину блузок, туалетные принадлежности, флакон духов от Жана Патона с претензией на то, чтобы считаться «самыми дорогими духами в мире», что вполне могло оказаться правдой, цифровой будильник и калькулятор всего за девятнадцать долларов, косметику, капроновые чулки – не эти ужасно неудобные колготки, а настоящие капроновые чулки, полдюжины бестселлеров в мягких обложках, путеводитель по Франции, вместительный бумажник, несколько разных шоколадок, английских бисквитов и небольшой металлический сундучок. Потом, пока продавец побежал искать кого-нибудь, чтобы доставить покупки в отель, я зашла в соседний салон красоты – надо было привести себя в полный порядок. Позже, посвежевшая, даже немного расслабленная, одетая в удобную юбку и белую блузку, я вернулась в «Шератон». Кожу, особенно на голове, все еще покалывало, словно иголками. Я заказала в номер кофе, сэндвич с холодным ростбифом и с дижонской горчицей, картофельный салат, ванильное мороженое и дала юноше-коридорному, который принес все это, пять долларов на чай. В полдень по телевизору передавали программу новостей, но больше ничего о событиях в Чарлстоне сказано не было. Я пошла в ванную и долго нежилась в горячей воде. Лететь я решила в темно-синем костюме. Потом, все еще в комбинации, я принялась упаковывать вещи. В небольшую сумку, которую можно брать с собой в салон, я уложила смену одежды, ночную рубашку, туалетные принадлежности, кое-что из еды, две книжки и бо́льшую часть наличных денег. Мне пришлось послать коридорного за ножницами, чтобы срезать ярлыки и перерезать шпагат. К двум часам все было закончено, хотя небольшой сундучок оказался заполненным лишь наполовину. Пришлось затолкать туда плед, который я нашла в шкафу, чтобы в сундучке ничего не болталось. Я прилегла на кровать отдохнуть. В четыре пятнадцать такси должно было отвезти меня в аэропорт. Мне нравилось смотреть на бегущие черные цифры на серой поверхности экрана моего нового дорожного будильника. Я представления не имела, как работает эта штуковина. Мне вообщемногое было непонятно в последней четверти двадцатого века, но это не имело значения. Заснула я с улыбкой на устах.* * *
Аэропорт Атланты походил на все крупные аэропорты, в которых я бывала, а бывала я почти во всех. Мне очень не хватало великолепных железнодорожных вокзалов прошлых лет: мраморного благородства Гранд-Сентрала в его лучшие годы, открытого небу великолепия довоенного вокзала в Берлине и даже безвкусно-пышной архитектуры и вечного хаоса Виктория-стейшн в Бомбее. Аэропорт Атланты был воплощением современных средств передвижения, где понятие класса отсутствует: бесконечные залы, сиденья из пластика, ряды видеомониторов, немо отмечающие прибытие и отправление рейсов. По коридорам бегали бизнесмены и семейные толпы в пастельных тряпках, потные, громко кричащие. Но все это не имело значения. Через двадцать минут я буду свободна. Я сдала все вещи в багаж, кроме ридикюля, соломенной кошелки и сумки с самым необходимым. Служащий авиакомпании провез меня через весь зал на небольшом электрокаре. Сказать по правде, артрит действительно беспокоил меня, а ноги страшно болели после перенесенной нагрузки. Меня снова зарегистрировали у стойки отправления, предупредив, что в салоне первого класса курить запрещается, и я села в кресло, ожидая посадки. – Мисс Фуллер! Мисс Мелани Фуллер! Пожалуйста, возьмите трубку ближайшего белого телефона. Я вздрогнула всем телом и замерла, напряженно вслушиваясь. Громкоговоритель все это время беспрерывно болтал, прося кого-то пройти на регистрацию, предупреждая, что такие-то автомобили, оставленные в неположенном месте, будут оштрафованы, призывал пассажиров быть бдительными и не связываться с религиозными фанатиками, бродящими по аэровокзалу, как стая шакалов, вооруженных брошюрами. Конечно, это ошибка! Если бы мое имя действительно называли, я бы услышала его раньше. Выпрямившись, едва дыша, я слушала, как бесполый голос читает, словно молитву, имена людей, которых просят куда-то позвонить. Я немного успокоилась, когда услышала, что вызывают некую мисс Рене Фаулер. Неудивительно, что я ошиблась, мои нервы были напряжены уже несколько дней и даже недель. С ранней осени я все думала о нашей встрече. – Мисс Фуллер! Мисс Мелани Фуллер! Пожалуйста, возьмите трубку ближайшего белого телефона, – повторил голос. Сердце мое на секунду остановилось, я чувствовала, как болезненно сжались мышцы в груди. «Это ошибка. Такое распространенное имя. Конечно, я что-то не так поняла…» – Миссис Строн! Миссис Беатриса Строн! Пожалуйста, возьмите трубку ближайшего белого телефона… Мистер Бергстром! Мистер Харольд Бергстром… Я поняла, что сейчас упаду в обморок прямо здесь, в зале ожидания пассажиров, отлетающих за океан. Перед глазами заплясали мириады крошечных точек, поплыли красно-голубые стены зала. Шатаясь, я поднялась с кресла и пошла, крепко прижимая к себе ридикюль, соломенную кошелку и сумку. Мимо пронесся мужчина в синей форменной рубашке и с пластиковой биркой на груди. Я схватила его за руку: – Где это? Он тупо уставился на меня. – Белый телефон, – прошипела я. – Где он? Он ткнул пальцем в сторону ближайшей стены. Я подошла к аппарату и с минуту – или целую вечность – не могла заставить себя поднять руку и взять трубку, словно это была гадюка. Затем все же сняла ее и хрипло прошептала свое новое имя. Незнакомый голос в телефоне сказал: – Миссис Строн? Одну минуту. Тут вас спрашивают. Я не шевелилась, пока в трубке раздавались какие-то щелчки: соединяли с нужным номером. Когда наконец я услышала голос, он звучал, как гулкое эхо в пустоте, словно шел из тоннеля или из голой комнаты. Или из могилы. Я очень хорошо знала этот голос. – Мелани? Мелани, дорогая, это Нина… Мелани? Мелани, дорогая, это Нина… Я уронила трубку и шагнула назад. Шум и суета вокруг меня отдалились, остался только какой-то еле слышный, ничего не значащий гул. Казалось, я смотрела сквозь длинный тоннель на крохотные фигурки, мелькающие туда-сюда. Охваченная внезапной паникой, я повернулась и побежала, забыв про свою сумку, про деньги в ней, про рейс и вообще про все, кроме этого голоса из преисподней, который все еще звучал у меня в ушах, словно крик в ночи. Я уже приближалась к выходу из аэровокзала, когда ко мне бросился служащий в красном головном уборе. Не думая ни о чем, я просто взглянула на него, и он рухнул на пол. Вряд ли я когда-либо раньше Использовала кого-то так быстро и так свирепо. Служащий забился, как в эпилепсии, голова его снова и снова ударялась о плитки пола. Люди кинулись к нему, а я выскользнула через автоматически открывающиеся двери. Стоя у края тротуара, я тщетно пыталась унять охватившую меня панику. Казалось, любое из мелькавших мимо лиц вот-вот может обернуться бледной, улыбающейся маской смерти. Оглядываясь по сторонам, я прижимала к груди ридикюль и соломенную кошелку – жалкая старая женщина на грани истерики. «Мелани? Дорогая, это Нина…» – Такси, мэм? Я повернулась и увидела, что рядом со мной остановилось зеленое с белым такси, а я даже не заметила. За ним выстроились еще несколько, на специально отведенной для них полосе. Водитель – белый, лет тридцать с небольшим, гладковыбритый, но с прозрачной кожей, сквозь которую просвечивала щетина завтрашнего дня. Я кивнула и схватилась за ручку дверцы. Внутри пахло табачным дымом, потом и винилом. Когда мы двинулись к выезду из аэропорта, я повернулась и глянула в заднее стекло. Сказать, преследует ли нас кто-нибудь, было невозможно из-за слишком плотного потока машин. – Я спрашиваю, куда едем? – крикнул водитель. Я моргнула. В голове было пусто. – В центр? – спросил он. – К отелю? – Да. – Было такое впечатление, что я не говорю на этом языке. – К какому отелю? За левым глазом у меня вдруг вспыхнула слепящая боль. Я почувствовала, как она перетекает из мозга к шее, а потом заполняет все тело, словно жидкое пламя. С секунду я не могла дышать. Просто сидела, сжимая ридикюль и соломенную корзинку, и ждала, пока боль не утихнет. – …или как? – спросил водитель. – Извините? – Голос мой звучал, словно шелест мертвых стеблей кукурузы на сухом ветру. – Мне выбираться на скоростное шоссе? – «Шератон». – Слово прозвучало для меня полной бессмыслицей. Боль начала уходить, но к горлу подступила тошнота. – В центре или в аэропорту? – В центре. – Я совершенно не понимала, о чем идет речь. – Хорошо. Я откинулась на холодный винил. Полосы света пересекали зловонную внутренность такси через равные промежутки времени, создавая гипнотический эффект. Я сосредоточилась на том, чтобы выровнять дыхание. Шорох шин, катящихся по мокрому асфальту, медленно пробивался сквозь гул в ушах. «Мелани, дорогая…» – Как тебя зовут? – прошептала я. – А? – Как тебя зовут? – резко повторила я. – Стив Лентон. Вот тут написано. А что? – Где ты живешь? – А зачем? Мне это надоело. Несмотря на головную боль и подступающую тошноту, я крепко сжала его сознание. На несколько секунд он скорчился за рулем, затем я велела ему выпрямиться и снова смотреть на дорогу. – Где ты живешь? Картинки, образы, женщина со светлыми редкими волосами перед гаражом. Говори! – Бьюла-Хайтс. – Голос водителя звучал глухо, монотонно. – Далеко отсюда? – Пятнадцать минут. – Ты живешь один? Печаль. Чувство потери. Ревность. Исполненный боли образ блондинки с сопливым ребенком на руках, громкий злой голос, красное платье удаляется по тротуару. В последний раз мелькает ее машина. Жалость к себе. Слова из кантри-песни, соответствующие ситуации. – Едем туда, – сказала я. Наверное, я действительно сказала это. Закрыв глаза, я слушала, как шуршат шины по мокрому асфальту.* * *
Дом таксиста был погружен в темноту. Он походил на все остальные жалкие маленькие домишки в этом районе, мимо которых мы проехали: оштукатуренные стены, одно большое окно, выходящее на крохотный прямоугольник сада, гараж размером с весь остальной дом. Никто нас не видел, когда мы подъезжали. Таксист открыл двери гаража, и мы въехали внутрь. Там стоял «бьюик» новой модели, темно-синий или черный, трудно было сказать при таком плохом освещении. Я заставила его выкатить «бьюик» на дорожку перед гаражом, а потом вернуться. Мотор такси по-прежнему работал. Водитель закрыл дверь гаража. – Покажи мне дом, – тихо попросила я. В доме было все так, как я и предполагала, и оттого еще тоскливее. В раковине лежали грязные тарелки, по полу в спальне разбросаны носки и белье, везде валялись газеты, а со стен на это безобразие смотрели дешевые фотографии детей с глазами лани. – Где твой пистолет? – спросила я. Мне не нужно было прощупывать его мозг, чтобы выяснить, есть ли у него оружие. В конце концов, это юг. Таксист повел меня вниз по лестнице, в плохо освещенную мастерскую. На голых шлакоблочных стенах висели старые календари с фотографиями обнаженных женщин. Мужчина мотнул головой в сторону дешевого металлического шкафчика, где у него хранились дробовик, охотничий карабин и два пистолета, завернутые в промасленные тряпки. Один из них оказался длинноствольным спортивным пистолетом небольшого калибра, и притом однозарядным. Другой – более знакомое мне оружие: револьвер тридцать восьмого калибра со стволом сантиметров восемнадцать, немного похожий на антикварный револьвер Чарльза. Я уложила в корзину револьвер, три пачки патронов, и мы вернулись на кухню. Водитель принес ключи от «бьюика», и я принялась сочинять записку, которую он должен был оставить. Записка получилась не очень оригинальная – одиночество, угрызения совести, невозможность жить так дальше. Власти могли заметить исчезновение револьвера, и, уж конечно, они будут искать машину, но убедительность записки и выбор способа должны снять подозрения. Во всяком случае, я на это надеялась. Водитель вернулся в свое такси. Дверь из кухни в гараж осталась открытой всего на несколько секунд, но и этого хватило, чтобы глаза мои заслезились от выхлопных газов. Когда я в последний раз мельком глянула на мужчину, он сидел в машине выпрямившись, руки его крепко держали руль, а глаза смотрели прямо перед собой, за горизонт невидимого шоссе. Я закрыла дверь. Надо было сразу уходить, но руки мои дрожали, в правой ноге что-то пульсировало, уколы артритной боли доставали до бедра. Я судорожно схватилась за пластиковую крышку стола, присела и закрыла глаза. «Мелани? Дорогая, это Нина…» Спутать этот голос с чьим-то другим было невозможно. Одно из двух: либо Нина все еще преследует меня, либо я лишилась рассудка. Дырочка у нее во лбу была величиной с десятицентовую монету, идеально круглая. И никакой крови. Я порылась в кухонных шкафах в поисках вина или бренди. Нашла только полбутылки виски «Джек Дэниелс». Я взяла чистый стакан и выпила немного. Виски обожгло горло и желудок, но руки мои почти не дрожали, когда я аккуратно вымыла стакан и поставила его на место. С секунду я размышляла, не вернуться ли мне в аэропорт, но тут же отбросила эту идею. Мой багаж уже летел в Париж. Я могла его догнать, если бы села на более поздний рейс «Пан Америкэн», но сама мысль о том, что придется лететь в самолете, заставила меня содрогнуться. Я живо представила, как Вилли спокойно сидит, разговаривает с кем-то из своих спутников – и вдруг взрыв, вопли и долгое падение сквозь тьму в забвение. Нет, я решительно не собираюсь больше летать. Из-за двери гаража доносился звук работающего мотора – глухое безостановочное биение. Я здесь уже более получаса, пора уходить. Убедившись, что вокруг никого нет, я закрыла за собой входную дверь. Замок щелкнул, и в этом звуке было что-то законченное. Я села за руль «бьюика»; отсюда работающего мотора такси было почти не слышно. Я пережила несколько панических секунд, когда мне показалось, что ни один из ключей не подходит, но потом попробовала снова, на этот раз без спешки, и мотор сразу завелся. Еще с минуту повозившись, я подвинула сиденье вперед, поправила зеркальце заднего вида и разобралась с освещением. Мне уже много лет не приходилось самой водить машину. Сдав чуть назад по подъездной дорожке, я медленно поехала по извилистым улицам жилого квартала. Только сейчас мне пришло в голову, что у меня нет пункта назначения, нет никаких альтернативных планов. Я была нацелена лишь на виллу близ Тулона и на свое новое воплощение, ожидавшее меня там. Личность Беатрисы Строн являлась временной, так, инкогнито на время путешествия. Я вздрогнула, вспомнив, что двенадцать тысяч долларов наличными остались в сумке, брошенной в аэропорту у телефона. У меня все еще было больше девяти тысяч долларов дорожными чеками в ридикюле и соломенной корзинке, вместе с паспортом и разными карточками, но синий костюм, что на мне, – единственное, что осталось у меня из одежды. Горло сжалось при воспоминании о чудных покупках, сделанных утром. Все это улетело с багажом… Глаза мои чуть не обожгли слезы, но я тряхнула головой и поехала – загорелся зеленый, и какой-то кретин сзади нетерпеливо загудел. Мне чудом удалось разыскать кольцо, которое делала здесь федеральная дорога, и я поехала по ней на север. Увидев указатель поворота на аэропорт, я немного притормозила. Моя сумка, вполне возможно, все еще стоит там, рядом с телефоном. Я легко могла улететь другим рейсом. Но я проехала указатель, не останавливаясь. Ничто на свете не могло бы теперь заставить меня ступить в тот хорошо освещенный мавзолей, где звучал голос Нины. Меня пробрала дрожь, когда перед глазами возникла картина зала ожидания для отлетающих пассажиров, где я была всего два часа назад – или вечность? Там в чопорной позе сидела Нина, все еще в своем элегантном розовом платье, в котором я видела ее в последний раз. Руки ее были сложены на сумочке, которую она держала на коленях, во лбу дырочка с десятицентовую монету и все увеличивающийся синяк; она широко улыбалась, показывая белые зубы, сточенные до игольной остроты. Нина собиралась сесть в самолет. Она ждала меня. Я все время поглядывала в зеркальце, меняла полосы, дважды съезжала с шоссе и тут же возвращалась обратно с противоположной стороны. Невозможно было сказать с уверенностью, преследует меня кто-нибудь или нет, но я решила, что, скорее всего, нет. Фары встречных машин слепили глаза, руки снова стали дрожать. Я слегка приоткрыла окно, и холодный воздух царапнул меня по щеке. Я пожалела, что не взяла с собой ту бутылку виски. На дорожном указателе мелькнула надпись: «I-85, Шарлотт, Северная Каролина». Я терпеть не могла север, отрывистую речь янки, блеклые города, резкий холод и дни без солнца. Человек, хорошо знавший меня, знает также, что я ненавижу северные штаты, особенно зимой, и постараюсь игнорировать их, если только это будет возможно. Вместе с потоком автомобилей я свернула на эстакаду на выезде из города. На знаке поперек дороги высветилась люминесцентная надпись: «Шарлотт, Северная Каролина, 240 миль; Дарем, Северная Каролина, 337 миль; Ричмонд, Виргиния, 540 миль; Вашингтон, округ Колумбия, 650 миль». Изо всех сил вцепившись в руль, пытаясь не отставать от остальных машин, летящих с сумасшедшей скоростью, я помчалась в ночь, на север.* * *
– Эй, мисс! Мгновенно проснувшись, я непонимающе уставилась в некое видение всего в нескольких дюймах от своего лица. Яркий солнечный свет падал на длинные редкие волосы, наполовину закрывавшие лицо, больше похожее на морду какого-то грызуна. У видения были крохотные бегающие глазки, длинный нос, грязная кожа и тонкие обветренные губы. Оно выдавило улыбку, и я на мгновение увидела острые желтые зубы. Один передний зуб был сломан. Мальчишке было лет семнадцать, не больше. – Мисс, вы не в мою сторону едете? Я выпрямилась на сиденье и тряхнула головой. От солнечного света позднего утра в машине было тепло. Я оглянулась вокруг, поначалу не понимая, почему сплю в машине, а не дома, в своей кровати. Потом вспомнила эту бесконечную ночь, проведенную за рулем, и жуткий груз усталости, которая в конце концов заставила меня свернуть на площадку для отдыха. Сколько я проехала? Смутно вспомнилось, что незадолго до того, как остановиться, мимо промелькнул знак поворота на Гринсборо, штат Северная Каролина. – Мисс? – Существо постучало в окно машины костяшками пальцев с грязными ногтями. Я нажала кнопку, чтобы опустить стекло, но ничего не произошло. На секунду меня охватило острое чувство клаустрофобии, но тут я догадалась включить зажигание. Все в этом нелепом автомобиле, оказывается, работало на электричестве. Судя по индикатору, бак был почти полон. Я вспомнила, что несколько раз за ночь останавливалась, потом ехала дальше, прежде чем нашла заправочную станцию, где не было сплошного самообслуживания. Что бы ни случилось, я не собиралась опускаться до того, чтобы самой качать бензин. Окно с тихим гудением открылось. – Подвезете меня, мисс? – Голос мальчишки, эдакое гнусавое нытье, был таким же отвратительным, как и весь его облик. На нем была грязная военная куртка, а из багажа – небольшой рюкзачок и скатка одеял. За его спиной по федеральному шоссе катили автомобили, на ветровых стеклах поблескивали солнечные лучи. Я вдруг снова почувствовала себя свободной, словно удрала из школы с уроков. Парень шмыгнул носом и утерся рукавом. – Далеко вы направляетесь? – спросила я. – На север. – Мальчишка пожал плечами. Я не в первый раз изумилась тому, как можно было вырастить целое поколение людей, неспособных ответить на самый простой вопрос. – Ваши родители знают, что вы путешествуете автостопом? Он снова пожал плечами, точнее, одним плечом, словно на большее у него не хватило энергии. Я сразу поняла, что мальчишка определенно убежал из дома, он, скорее всего, воришка и, возможно, очень опасен для любого, кто сделает глупость и возьмет его к себе в машину. – Садитесь. – Я нажала кнопку, отпирающую дверь справа от водителя.* * *
В Дареме мы остановились, чтобы позавтракать. Парень некоторое время хмуро рассматривал картинки в меню, потом искоса глянул на меня: – Я не могу… То есть у меня нет денег, чтобы заплатить. У дяди много, он даст мне, а пока вот… – Ничего, – усмехнулась я. – Угощаю. Он ехал к своему дяде в Вашингтон – так, по крайней мере, мы оба предположительно считали. До этого, когда я попыталась уточнить, куда же он все-таки направляется, мальчишка бросил на меня свой косой взгляд, так похожий на взгляд грызуна, и спросил: – А вы куда едете? Я ответила, что мой пункт назначения Вашингтон, и тогда он подарил мне еще одну свою мимолетную улыбку, показав желтые от никотина зубы. – Вот-вот, там мой дядя живет. Туда я и еду. В Вашингтон… Молодой человек пробурчал свой заказ официантке и, поигрывая вилкой, сгорбился над столом. Как и в случае со многими другими молодыми людьми в эти дни, мне трудно было предположить, то ли он действительно умственно отсталый, то ли просто до жалости плохо воспитан и образован. Мне кажется, люди моложе тридцати сейчас неизбежно попадают либо в одну, либо в другую категорию. Я сделала глоток кофе и спросила: – Вы говорите, вас зовут Винсент? – Ага. Мальчишка опустил физиономию к чашке, как лошадь на водопое. При этом издаваемый им звук напоминал то же самое. – Приятное имя Винсент. А как дальше? – А? – Как ваша фамилия, Винсент? Мальчишка снова нагнулся над чашкой, чтобы выиграть время и подумать. Быстро, как зверек, он глянул на меня: – Винсент Пирс. Я кивнула. Он чуть было не сказал Винсент Прайс. В конце шестидесятых я как-то познакомилась с Прайсом на аукционе предметов искусства в Мадриде. Он был очень мягким и по-настоящему интеллигентным человеком, а его большие ухоженные руки постоянно находились в движении. Мы говорили об искусстве, кулинарии, испанской культуре. В то время Прайс покупал предметы оригинального дизайна для какой-то чудовищной американской компании. Мне он показался восхитительным. И только много лет спустя я узнала о его ролях в этих мерзких фильмах ужасов. Возможно, они с Вилли какое-то время работали вместе. – И вы предполагаете добраться до своего дяди в Вашингтон автостопом? – Ну… – У вас сейчас, конечно, рождественские каникулы. Занятий в школе нет. – Ну… – В каком же районе Вашингтона живет ваш дядя? Винсент сгорбился над чашкой. Его волосы висели, как засаленная гирлянда. Каждые несколько секунд он лениво поднимал руку и отбрасывал прядь волос с лица. Жест повторялся бесконечно, как тик, и просто бесил меня. Я наблюдала этого бродягу меньше часа, а его манеры уже выводили меня из себя. – Возможно, в пригороде? – подсказала я. – Ага. – В каком именно, Винсент? Вокруг Вашингтона довольно много пригородов. Может, мы будем проезжать то место, где живет ваш дядя, и я подвезу вас к дому. Он, наверное, живет в дорогом районе? – Ну. Мой дядя… у него полно бабок… У нас вся семья такая. Я невольно взглянула на его вонючую армейскую куртку – под ней виднелась драная футболка. Перепачканные джинсы в нескольких местах протерлись до дыр. Конечно, я понимала, что в наши дни одежда ничего не значит. Винсент с его гардеробом вполне мог оказаться внуком миллиардера вроде Дж. Пола Гетти. Я вспомнила великолепно отутюженные шелковые костюмы, которые носил Чарльз. Вспомнила, как тщательно подбирал подходящую случаю одежду Роджер Харрисон: плащ и дорожный костюм даже для самых коротких поездок, бриджи для верховой езды, черный галстук и фрак вечером. В том, что касается одежды, Америка определенно достигла вершины равенства всех со всеми. Для всей нации выбор одежды ныне был сведен к наименьшему знаменателю – рваным грязным джинсам. – Чеви-Чейс? – спросила я. – А? – Винсент покосился на меня. – Я имею в виду пригород. Может, это Чеви-Чейз? Он мотнул головой. – Бетесда? Силвер-Спрингс? Такома-Парк? Парень усиленно морщил лоб, словно вспоминая все эти названия. Он уже хотел что-то сказать, когда я его опередила: – Да, знаю! Если ваш дядя богат, он, скорее всего, живет в Бел-Эйр. Так? – Вот-вот. – Винсент облегченно вздохнул. – В нем самом. Я кивнула. Мне принесли чай с тостами. Перед Винсентом поставили яичницу с колбасой, рубленое мясо, ветчину и вафли. Ели мы молча, под чавканье и сопение мальчишки.* * *
За Даремом шоссе I-85 снова повернуло прямо на север. Через час с небольшим мы пересекли границу Виргинии. Когда я была маленькой, наша семья часто ездила сюда навещать друзей и родственников. Обычно мы путешествовали по железной дороге, но больше всего я любила плавать на небольшом, но комфортабельном боте, который шел всю ночь, а утром причаливал в Ньюпорт-Ньюс. Теперь же я вела «бьюик», огромный, но со слабеньким мотором, и ехала на север по шоссе с четырехрядным движением, слушая по радио классическую музыку и слегка опустив стекло, чтобы как-то разогнать запах пота и мочи, исходивший от моего спящего пассажира. Мы проехали Ричмонд далеко за полдень. Винсент проснулся, и я спросила, не хочет ли он немного повести машину. От напряжения у меня болели руки и ноги, я пыталась не отставать от других машин, так как никто не соблюдал ограничение скорости – пятьдесят пять миль в час. Глаза мои тоже устали. – Что, в самом деле? Я кивнула: – Надеюсь, вы будете ехать осторожно? – Ну конечно. Я остановилась в зоне для отдыха, где мы смогли поменяться местами. Винсент ехал с постоянной скоростью – шестьдесят восемь миль в час, придерживая руль одной рукой. Глаза его были наполовину прикрыты, и я на миг испугалась, не заснул ли он, но тут же напомнила себе, что современные автомобили настолько просты в управлении, что их могут водить даже шимпанзе. Я откинулась назад на сиденье и закрыла глаза: – Разбудите меня, когда мы приедем в Арлингтон, хорошо, Винсент? Он что-то буркнул в ответ. Я положила сумочку между передними сиденьями, зная, что Винсент на нее посматривал. Когда я вытащила толстую пачку денег, расплачиваясь за завтрак, ему не удалось достаточно быстро отвести глаза. Конечно, я рисковала, собираясь подремать, но я очень устала. Какая-то вашингтонская радиостанция передавала концерт Баха. Ровный гул мотора, звуки органа и мягкий шорох пролетающих мимо машин усыпили меня меньше чем за минуту.* * *
Проснулась я от тишины. Машина стояла, мотор не работал. Я очнулась мгновенно, словно вовсе не спала, готовая к прыжку, как хищник при приближении жертвы. «Бьюик» остановился на недостроенной площадке для отдыха. Судя по косым лучам зимнего солнца, я проспала около часа. Движение на шоссе стало интенсивнее, – вероятно, мы были недалеко от Вашингтона. А вот нож в руке Винсента наводил на нехорошие мысли. Он отвлекся от пересчитывания моих дорожных чеков и поднял глаза. Я безмятежно встретила его взгляд. – Ты сейчас подпишешь эти… – прошептал он. Я продолжала смотреть на него. – Ты перепишешь эти сучьи бумажки на меня. – Волосы снова упали ему на глаза, и он резким движением откинул их. – Сейчас! – Нет. От удивления его глаза широко раскрылись, на тонких губах выступила пена. Я думаю, он убил бы меня прямо тут, средь бела дня, хотя в двадцати метрах катил сплошной поток автомобилей, а спрятать тело старой леди было совершенно негде, разве что в Потомаке. Но даже милый тупой Винсент соображал, что сначала ему нужна моя подпись на чеках. – Послушай, ты, старая сука! – Он схватил меня за плечи и потряс. – Ты сейчас подпишешь эти чертовы чеки, или я отрежу твой свинячий нос. Тебе ясно? – Он поднес стальное лезвие прямо к моему лицу. Я глянула на эту немощную руку с грязными ногтями, вцепившуюся в мое платье, и вздохнула. На какой-то миг я вспомнила, как когда-то вошла в свой гостиничный номер из нескольких комнат лет тридцать назад, в другой стране, в другом мире даже, и застала лысого, но статного джентльмена приятной наружности, во фраке, копошившегося в моей шкатулке с драгоценностями. Тот вор всего лишь иронично усмехнулся и коротко поклонился мне, когда я его застукала. Мне всегда будет не хватать этого изящества, легкости Использования людей и неброской эффективности, которую невозможно заменить никаким воспитанием. – Давай! – прошипел этот грязный мальчишка, все еще держа меня за плечи и прижимая лезвие к моей щеке. – Ты сейчас сама напросишься. – В глазах его появился странный блеск, и блеск этот был вовсе не от алчности. – Да, – сказала я. Рука его замерла на полпути. Несколько секунд он что-то пытался сделать, у него даже вены вздулись на лбу. Но затем лицо исказилось гримасой, глаза расширились, а рука с лезвием потянулась к собственному горлу. – Пора начинать, – тихо приказала я. Острое как бритва лезвие прошло между его тонкими губами. – Время пришло, – прошептала я. Лезвие скользнуло дальше, разрезая десны и язык, затем коснулось мягкого нёба и обагрилось кровью. – Пора учиться. Я улыбнулась, и мы начали первый урок.Глава 15
Вашингтон, округ Колумбия
Суббота, 20 декабря 1980 г.
Сол Ласки простоял без движения минут двадцать, глядя на девочку. Она тоже смотрела на него не мигая, так же неподвижно, словно время застыло. На ней была соломенная шляпка, слегка сдвинутая на затылок, и серый фартук поверх простого белого платья без пояса. Волосы у нее были светлые, глаза голубые. Руки она сложила перед собой, слегка вытянув их с неловкой детской грацией. Кто-то прошел между ним и картиной, и Сол отступил назад, потом подвинулся вбок, чтобы лучше видеть. Девочка в соломенной шляпке продолжала смотреть на пустое место, где он только что стоял. Сол не мог сказать, почему эта картина так трогала его. Работы Мэри Кассат с размытыми пастельными контурами казались ему, в общем, слишком сентиментальными, но именно эта картина взволновала его до слез еще лет двадцать назад, когда он впервые пришел в Национальную галерею, и теперь он почти никогда не уезжал из Вашингтона, не совершив паломничества к «Девочке в соломенной шляпке». Иногда он думал, что пухлое лицо и задумчивый взгляд чем-то напоминали ему сестру Стефу, умершую от тифа во время войны, хотя волосы у Стефы были гораздо темнее, а глаза вовсе не голубые. Сол отвернулся от картины. Когда он приходил в музей, он обещал себе, что походит по другим отделам, проведет больше времени среди новых работ, но всякий раз слишком долго задерживался возле этой «Девочки». «Ну, в следующий раз», – подумал он. Был уже второй час, и к тому времени, когда он добрался до входа в ресторан галереи и остановился у двери, оглядывая зал, народ почти схлынул. Он сразу увидел Арона за небольшим столиком в углу, рядом с каким-то высоким растением в кадке. Сол помахал ему рукой и прошел через зал. – Здравствуй, дядя Сол. – Здравствуй, Арон. Племянник встал, и они обнялись. Широко улыбаясь, Сол взял молодого человека за плечи и оглядел с ног до головы. Да, уже не мальчик, в марте Арону исполнится двадцать шесть. Но он оставался все таким же худым, и еще Сол отметил, что улыбается он, как и Давид, загибая слегка вверх уголки губ. Темные же вьющиеся волосы и большие глаза за стеклами очков – это от Ребекки. Но было в нем и что-то присущее лишь ему одному, возможно, более темная кожа и высокие скулы, как у человека, родившегося в Израиле. Арону и его брату-близнецу было тринадцать, а на вид и того меньше, когда началась Шестидневная война. Сол тогда прилетел в Тель-Авив, но опоздал на пять часов – уже незачем было идти на фронт, даже в качестве санитара, но он вдоволь наслушался от близнецов историй о подвигах их старшего брата Авнера, капитана ВВС. И еще они в подробностях рассказывали о храбрости их двоюродного брата Хаима, который командовал батальоном на Голанских высотах. Два года спустя Авнер погиб, сбитый египетской ракетой во время войны на истощение, а потом через год, в августе, погиб и Хаим – подорвался на израильской же мине во время войны Судного дня. Арону было уже восемнадцать в то лето, но он имел слабое здоровье, мучился астмой с раннего детства. Его отец Давид одну за другой пресекал те уловки, к которым он прибегал, чтобы попасть на войну. Арон решил, что любыми путями станет коммандос или десантником, как его брат Исаак, но все виды войск его забраковали из-за астмы и плохого зрения. Тогда он закончил колледж и поставил все на свою последнюю карту. Он пошел к отцу и попросил его использовать свои старые связи с секретной службой, чтобы найти ему применение. В июне семьдесят четвертого он стал сотрудником Моссада. Из него не стали готовить полевого агента, в распоряжении Моссада было слишком много бывших коммандос и других героев для этой трудной работы, чтобы взваливать ее на плечи хлипкого интеллектуала, который мог заболеть в любую минуту. Правда, Арон получил обычную подготовку по самозащите и обращению с оружием и даже научился неплохо стрелять из «беретты» двадцать второго калибра, популярной в то время в Моссаде, но по-настоящему он нашел себя в криптографии. Он проработал три года в Тель-Авиве в спецсвязи, еще год – в полевых условиях где-то на Синае, а затем его послали в Вашингтон, в группу, прикомандированную к израильскому посольству. Назначение было шикарное, и то, что он являлся сыном Давида Эшколя, наверное, сыграло свою роль. – Ну, как ты, дядя Сол? – спросил Арон на иврите. – Неплохо, – ответил Сол и попросил: – Говори по-английски, пожалуйста. – Хорошо. – В его английском не было и намека на акцент. – Как твой отец? Брат? – Лучше, чем в последнюю нашу встречу, – сказал Арон. – Врачи считают, что этим летом отцу удастся провести какое-то время на ферме. А Исаака уже произвели в полковники. – Прекрасно, прекрасно. – Сол глянул на три досье, которые его племянник положил на стол. Он все пытался найти способ вернуть события назад, сделать так, чтобы мальчик не оказался вовлеченным во все это, и в то же время получить информацию, которую удалось собрать Арону. Словно прочитав его мысли, Арон наклонился вперед и прошептал: – Дядя Сол, во что ты тут впутался? Сол удивленно заморгал. Шесть дней назад он позвонил Арону и попросил его раздобыть какую-либо информацию об Уильяме Бордене или разузнать, где находится Фрэнсис Харрингтон. Конечно, он сделал глупость. Уже много лет Сол избегал обращаться за помощью к родственникам либо к их связям, но на этот раз исчезновение юного Харрингтона просто повергло его в отчаяние. Если он поедет в Чарлстон, то может пропустить что-то существенно важное, какую-то новую информацию о Бордене. Арон позвонил ему тогда по телефону, который не могли прослушивать, и спросил: «Дядя Сол, это насчет твоего немецкого полковника, да?» Ласки не стал отрицать. Все родственники знали, что он помешан на таинственном нацистском оберсте, с которым сталкивался в лагерях во время войны. «Ты же знаешь, что Моссад ни за что не станет действовать в Соединенных Штатах, ведь так?» – добавил тогда Арон. Сол ничего не сказал, но его молчание было красноречивее слов. Он работал вместе с отцом Арона, когда «Иргун Цваи Леуми» и «Хагана» были вне закона и очень активно скупали американское вооружение и целые оружейные заводы, по частям перевозили в Палестину, там собирали и пускали в действие, готовясь к тому моменту, когда арабские армии неизбежно перейдут границу нового сионистского государства. «Ладно, – вздохнул тогда Арон. – Я сделаю, что смогу». – О чем ты? – спросил он. – Просто я хотел разузнать побольше об этом Бордене. Фрэнсис – мой бывший студент, полетел в Лос-Анджелес, чтобы выяснить кое-что. Возможно, он собирал материал для развода, кто его знает? Фрэнсис вовремя не вернулся, а мистер Борден, по-видимому, погиб в авиакатастрофе. И когда один мой знакомый спросил, не могу ли я помочь, я вспомнил о тебе, Арон. – Ну да. – Арон некоторое время молча смотрел на своего родственника, наконец кивнул, вздыхая печально. Оглянувшись, нет ли кого поблизости, кто мог бы их подслушать, он открыл первую папку. – В понедельник я полетел в Лос-Анджелес, – тихо сообщил он. – Куда? Сол был потрясен. Он всего лишь хотел, чтобы его племянник позвонил кое-кому в Вашингтоне или воспользовался мощными компьютерами израильского посольства, особенно банками данных в офисе, где работали шесть агентов Моссада, или, может, заглянул бы в секретное досье израильтян или американцев. Но он вовсе не думал, что Арон на следующий же день полетит на Западное побережье. – Да все нормально, – улыбнулся Арон. – У меня просто накопилось несколько недель неиспользованного отпуска. Ты ведь никогда ничего не просил у нас, дядя Сол, и всегда помогал. Я учился в университете Хайфы на твои деньги, хотя мы вполне могли заплатить за обучение сами. Разве я не могу сделать что-то для тебя? Сол потер лоб. – Но ты же не Джеймс Бонд, Модди, – сказал он, назвав Арона его детским именем. – И потом, Моссад не проводит операций в Штатах. Арон никак не отреагировал на это замечание. – Я был в краткосрочном отпуске, дядя Сол, – повторил он. – Так ты хочешь послушать, что я делал в свободное время? Ласки кивнул. – Твой мистер Харрингтон остановился вот здесь. – Арон придвинул к нему черно-белую фотографию отеля «Беверли-Хиллз». Сол не стал брать ее в руки, только взглянул. – Я узнал очень немногое, – продолжил Арон. – Он зарегистрировался в отеле восьмого декабря. Официантка вспомнила, что молодой рыжеволосый мужчина, описание которого совпадает с внешностью Харрингтона, позавтракал в ресторане отеля утром девятого числа. Один из швейцаров видел, как какой-то молодой человек уехал со стоянки отеля около трех часов во вторник на желтом «датсуне», точно таком, какой Харрингтон взял напрокат. Но он не уверен. – Арон придвинул к Солу еще пару листков. – А вот копия заметки в газете – всего один абзац из полицейского рапорта. «Желтый „датсун“ найден на стоянке возле офиса „Херц“ в аэропорту в среду десятого числа. Администрация офиса в конце концов послала счет за прокат машины матери Харрингтона». Анонимный перевод на триста двадцать девять долларов сорок восемь центов в уплату за номер в отеле пришел по почте в понедельник пятнадцатого, в тот день, когда я туда прилетел. На конверте стоял штемпель Нью-Йорка. Ты разве ничего не знал об этом, дядя Сол? Ласки тупо смотрел на него. – Я так и думал. – Арон закрыл досье. – Тут есть один очень странный момент. Два временных помощника мистера Харрингтона по его частному детективному агентству Деннис Лиланд и Селби Уайт на той же неделе погибли в автомобильной катастрофе. В пятницу двенадцатого декабря они ехали из Нью-Йорка в Бостон на машине после того, как им кто-то позвонил… В чем дело, дядя Сол? – забеспокоился Арон. – Да нет, ничего… – Ласки снял очки и стал машинально протирать их. – Мне показалось, что тебе плохо. Ты знал этих парней? Уайт учился вместе с Харрингтоном в Принстоне… Он из команды «Хайнис-Порт-Уайтс». – Я их видел всего один раз, – сказал Сол. – Продолжай. Арон глядел на него, слегка прищурившись. Сол вспомнил, что у племянника бывало такое же выражение лица в детстве, когда он начинал сомневаться в правдивости фантастических историй, которые дядя рассказывал им на ночь. – Итак… Если там действительно что-то произошло, сделано это было весьма профессионально, – жестко проговорил Арон. – Примерно так действовали бы уголовные «семьи» в Америке, их новая мафия. Три убийства, и все чисто. Двое погибают в автомобильной катастрофе – кстати, грузовик, который налетел на них, до сих пор не найден, – а третий вообще исчезает. Но вопрос вот в чем: что такого натворил Фрэнсис Харрингтон в Калифорнии, если он так расстроил профессионалов, что они занялись этим делом в своем старом стиле? И почему убрали всех троих? У Лиланда и Уайта была постоянная работа, они выполняли отдельные поручения этого детективного агентства лишь по субботам и воскресеньям, для забавы. За весь прошлый год у Харрингтона было всего три дела, и два из них – услуги друзьям, которые хотели получить развод. В третьем случае он просто тратил время, пытаясь найти биологических родителей какого-то бедного старого придурка через сорок восемь лет после того, как они его бросили. – Откуда ты все это узнал? – тихо спросил Сол. – Я поговорил с секретаршей Фрэнсиса – она тоже работает у него время от времени. Потом как-то вечером я навестил его офис. – Беру свои слова назад, Модди. В тебе действительно есть нечто от Джеймса Бонда. – Конечно, – согласился Арон. Обеденное время в ресторане закончилось, за столами почти никого не осталось, кроме нескольких человек, не торопившихся с едой. Сол и Арон не сильно бросались в глаза, но метрах в пяти от них уже никого не было. Где-то в подвальном помещении за дверью ресторана заплакал ребенок – голос у него был как автомобильная сирена. – Но это еще не все, дядя Сол. – Арон покачал головой. – Ну, продолжай. – Секретарша сообщила, что Харрингтону часто звонил человек, который никогда не называл своей фамилии. Полиция интересовалась, кто бы это мог быть, но секретарша сказала, что не знает. Харрингтон же не вел никаких записей по этому делу, кроме заметок насчет расходов на дорогу и прочего. Как бы то ни было, этот новый клиент настолько загрузил Фрэнсиса работой, что тот попросил своих старых товарищей по колледжу помочь ему. – Понятно, – сказал Сол. Арон глотнул кофе из чашки. – Ты сказал, что Харрингтон был твоим студентом, дядя Сол. Но в Колумбии на этот счет нет никаких записей. – Он прослушал у меня два курса, – пояснил Ласки. – «Война и человеческое поведение» и «Психология агрессии». Фрэнсис ушел из Принстона не потому, что плохо учился. Наоборот, он был блестящим студентом, но ему было скучно. Правда, на моих лекциях ему скучать не приходилось. Продолжай, Модди. Арон сжал губы, и это немного напомнило Солу упрямое выражение лица, какое было у Давида Эшколя, когда они на ферме неподалеку от Тель-Авива до рассвета спорили о моральной стороне партизанской войны. – Секретарша сказала полицейским, что клиент Харрингтона говорил с еврейским акцентом. Она заверила меня, что всегда может отличить еврея по манере говорить. У этого был иностранный акцент. Возможно, немецкий или венгерский. – Ну и?.. – Так ты, наконец, скажешь, в чем тут дело, дядя Сол? – Не сейчас, Модди. Я сам толком ничего не знаю. Губы Арона были все так же упрямо сжаты. Он постучал пальцем по двум другим папкам, выглядевшим потолще, чем первая: – У меня тут есть еще кое-что круче, чем загадка с Харрингтоном. Мне кажется, обмен может получиться равноценным. Сол слегка поднял брови: – Значит, речь идет уже об обмене, а не о доброй услуге? Арон вздохнул и открыл вторую папку: – Борден Уильям Д. Предположительно родился восьмого августа тысяча девятьсот шестого года в Хаббарде, штат Огайо, но в деле нет совершенно никаких документов между свидетельством о рождении в девятьсот шестом году и внезапным изобилием разных бумаг – карточек соцобеспечения, водительских прав и так далее – в сорок шестом. Обычно компьютеры ФБР обращают внимание на такие вещи, но в данном случае, похоже, всем было наплевать. Я так думаю, что, если поискать на кладбищах вокруг Хаббарда, или как там эта дыра называется, мы найдем маленький надгробный камень над могилой малютки Билла Бордена, упокой Господи его невинную душу. А вот взрослый мистер Борден, похоже, выскочил на свет божий в Ньюарке, штат Нью-Джерси, где-то в начале сорок шестого года. В следующем году он уже переехал в Нью-Йорк. Кем бы он ни был, деньги у него имелись. В сорок восьмом и сорок девятом он был среди невидимых бродвейских спонсоров. Купил свою долю наравне с заправилами шоу-бизнеса, но, похоже, не очень-то общался с ними. Во всяком случае, я не могу найти каких-либо следов в светской хронике тех лет и никто из стариков, работавших тогда на продюсеров и агентов, ничего о нем не помнит. Как бы то ни было, в пятидесятом Борден перебрался в Лос-Анджелес, в том же году вложил деньги в какой-то фильм и с тех пор стал там крупной и заметной фигурой, особенно в шестидесятых. Те, кто знает всю подноготную жизни в Голливуде, звали его Фриц или Большой Билл Борден. Иногда он закатывал вечеринки, но никогда ничего по-крупному, всегдаобходилось без участия полиции. Этот парень был просто святой: не нарушал правил дорожного движения, не болтался по улицам пьяным – в общем, ничего такого… А если что и случалось, то у него, видимо, имелось достаточно денег и связей, чтобы от его прегрешений в официальных бумагах не оставалось и следа. Что ты на это скажешь, дядя Сол? – Что еще у тебя есть? – Ничего. Кроме кое-каких сплетен с киностудии, фото входа в поместье герра Бордена в Бел-Эйр – самого дома не видно – и вырезок из «Лос-Анджелес таймс» и «Верайети» о его гибели в авиакатастрофе в прошлую субботу. – Можно мне взглянуть на все это? Когда Сол закончил читать, Арон тихо спросил: – Это он, дядя Сол? Твой оберст? – Возможно, – кивнул Ласки. – Я хочу выяснить. – И ты послал Фрэнсиса Харрингтона выяснять это в ту самую неделю, когда Борден погиб в авиакатастрофе? – Да. – А твой бывший студент и оба его помощника погибли в те же самые три дня? – Я не знал про Денниса и Селби, пока ты мне не сказал, – промолвил Сол. – Мне и в голову не приходило, что им может угрожать реальная опасность. – Опасность со стороны кого? – настаивал Арон. – Честно, не знаю. Пока. – Расскажи мне все, что знаешь, дядя Сол. Возможно, мы сможем тебе помочь. – Мы? – Леви. Дэн. Джек Коэн и мистер Бергман. – Они из посольства? – Джек – мой начальник, но еще и друг, – заверил Арон. – Расскажи нам, в чем дело, и мы поможем тебе. – Нет. – Что «нет»? Не можешь мне рассказать или не хочешь? Сол оглянулся через плечо: – Ресторан через несколько минут закроется. Пойдем куда-нибудь в другое место. Мышцы в уголках рта Арона напряглись. – Трое из этих людей – вон та пара около входа и молодой парень поблизости от тебя – наши. Они будут сидеть, пока нам нужно присутствие других людей. – Значит, ты им уже все рассказал? – Нет, только Леви. Но он бы в любом случае понадобился – делать снимки. – Какие снимки? Арон достал фото из последней, самой толстой папки. На нем был изображен небольшого роста человек с темными волосами, в рубашке с открытым воротом и кожаной куртке. Глаза чуть прикрыты опухшими веками, жесткий рот. Он быстро пересекал узкую улицу – куртка расстегнута, полы разлетелись. – Кто это? – спросил Сол. – Хэрод, – ответил Арон. – Тони Хэрод. – Компаньон Уильяма Бордена. Его имя упоминается в заметке в «Верайети». Арон вытащил еще пару фотографий из папки. На них Хэрод стоял перед дверью гаража, держа в руке кредитную карточку, явно готовясь вставить ее в небольшое приспособление в кирпичной стене. Сол уже как-то видел такие замки. – Где это было снято? – спросил он. – В Джорджтауне. Четыре дня назад. – Здесь, в Вашингтоне? – удивился Сол. – Что он тут делал? И зачем ты его фотографировал? – Это не я, а Леви, – улыбнулся Арон. – В понедельник я присутствовал на панихиде по мистеру Бордену в Форест-Лоун. Тони Хэрод держал там речь. У меня было мало времени, но я немного покопался и обнаружил, что мистер Хэрод и мистер Борден были очень близки. Когда Хэрод во вторник вылетел в Вашингтон, я отправился следом. Мне все равно пора было возвращаться. Сол потряс головой: – А потом ты поехал за ним в Джорджтаун? – Да нет, в этом не было нужды, дядя Сол. Я позвонил Леви, и тот следил за ним от самого аэропорта. А я присоединился к нему позже. Вот тогда мы и сделали снимки. Я хотел поговорить с тобой до того, как показать их Дэну или мистеру Бергману. Нахмурившись, Сол еще раз взглянул на фотографии: – Я не вижу в них ничего особенного. По-твоему, важно, где это происходит? – Нет. Этот дом снимает «Бехтроникс», филиал «Эйч-ар-эл индастриз». Сол пожал плечами: – Ну и что? – А вот это важно. – Арон вытащил еще пять фотографий. – Леви был в этот раз на своем фургоне из «Белл телефон», – сказал Арон с некоторым удовлетворением. – Он сделал эти снимки, сидя наверху десятиметровой вышки, когда они выходили из дома. Со всех других точек переулок идеально защищен. Эти люди проходят по крытому тротуару, вот здесь, отпирают калитку, тут же садятся в лимузин и отъезжают. Соседи видеть их не могут. Из переулка их тоже не видно. Идеально. Все черно-белые снимки были сделаны как раз в тот момент, когда изображенный на них человек делал шаг от калитки к лимузину. Из-за сильного увеличения изображение получилось несколько зернистым. Сол внимательно рассмотрел все снимки, потом сказал: – Мне это ничего не говорит, Модди. Арон схватился руками за голову: – Сколько ты уже живешь в этой стране, дядя Сол? – Он ткнул пальцем в фото человека с маленькими глазками, толстыми отвисшими щеками и с густой вьющейся сединой. – Вот это – Джеймс Уэйн Саттер, более известный среди почитателей как преподобный Джимми Уэйн. Это тебе что-нибудь говорит? – Нет, – вздохнул Сол. – Телевизионный проповедник. Начинал в церкви на открытом воздухе, куда въезжали на автомобиле, в Дотане, штат Алабама, в шестьдесят четвертом году. Сейчас он владелец спутниковых и кабельных каналов, его доходы, не облагаемые налогом, составляют примерно семьдесят восемь миллионов долларов в год. В политическом плане он несколько правее Аттилы, предводителя гуннов. Если преподобный Джимми Уэйн заявляет, что Советский Союз – оружие Сатаны, – а он делает это ежедневно, когда появляется в ящике, – примерно двенадцать миллионов человек говорят «Аллилуйя». Даже премьер-министр Бегин делает реверансы этому придурку. Часть даров в духе любви доходит до Израиля в виде покупок оружия. Ради спасения Святой земли можно пойти на что угодно. – Тут нет ничего нового. Давно известно, что Израиль связан с фундаменталистами правого толка, – возразил Сол. – Значит, ты и твой друг Леви из-за этого переполошились? А может, мистер Хэрод – верующий? Арон заметно нервничал. Он убрал снимки Хэрода и Саттера в папку и улыбнулся официантке, которая подошла, чтобы подлить кофе. Ресторан был уже почти пуст. Когда она отошла, Арон взволнованно сказал: – Джимми Уэйн Саттер беспокоит нас здесь меньше всего, дядя Сол. А вот этого человека ты узнаешь? – Он указал на снимок мужчины с худым лицом, темными волосами и глубоко посаженными глазами. – Нет. – Ниман Траск. Близкий советник сенатора Келлога от штата Мэн. Помнишь, Келлог чуть было не попал в кандидаты в вице-президенты от партии прошлым летом? – Правда? От какой партии? Арон покачал головой: – Дядя Сол, чем ты, интересно, занимаешься, если совершенно не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг тебя? Ласки улыбнулся: – Да так, всякой всячиной. Читаю три курса лекций каждую неделю, все еще числюсь научным руководителем, хотя мне уже можно этого не делать, работаю по полной исследовательской программе в клинике. Шестого января должен сдать издателю свою вторую книгу… – Ну, хорошо, я понимаю, – сдался Арон. – Прошлая неделя была для меня необычной, я всего лишь председательствовал на одном обсуждении в университете. И потом, комиссия при мэре и Комитет советников штата отнимают как минимум два вечера в неделю. Скажи, Модди, почему этот мистер Траск такая важная шишка? Потому что он один из советников сенатора Келлога? – Не «один из», а единственный и неповторимый. Ходят слухи, что Келлог не смеет в туалет сходить, не посоветовавшись с Траском. И еще. Во время последней кампании Траск собрал массу денег в поддержку партии. О нем говорят так: где появляется Траск, появляются деньги. – Очень мило, – усмехнулся Сол. – А это что за джентльмен? – Он указал на снимок, где был изображен человек, слегка напоминающий актера Чарлтона Хестона. – Джозеф Филипп Кеплер. Бывший номер три в ЦРУ при Линдоне Джонсоне, бывший госдеповский «пожарник», а ныне советник по делам прессы и комментатор на Пи-би-эс. – Мне кажется, я его видел. У него, по-моему, вечерняя программа в воскресенье? – «Беглый огонь». Он приглашает бюрократов из правительства, а потом размазывает их по стенке. А вот это, – Арон постучал пальцем по фотографии приземистого лысого индивида с хмурой физиономией, – Чарльз Колбен, специальный помощник заместителя директора ФБР. – Очень интересный титул. Он может ничего не значить или, наоборот, играть большую роль. – В данном случае он играет чертовски большую роль. Колбен, пожалуй, единственный из подозреваемых среднего уровня в уотергейтском скандале, кто не сел за решетку. Он был связным между Белым домом и ФБР. Некоторые утверждают, что с его подачи Гордон Лидди выкидывал свои фортели. Вместо того чтобы пойти под суд, он стал еще более важной птицей, когда полетели все остальные головы. – Что все это значит, Модди? – Погоди, дядя Сол, мы тут напоследок приберегли самое интересное. Арон убрал все фото, кроме снимка худощавого человека лет шестидесяти в идеально сшитом костюме. Седые волосы придавали ему импозантный вид, прическа была безукоризненной. Даже на черно-белой фотографии плохого качества Сол различил то сочетание загорелой внешности, отменной одежды и подсознательного ощущения собственной власти, которое приходит только с очень большими деньгами. – К. Арнольд Барент, – сообщил Арон. – Друг президентов. Начиная с Эйзенхауэра, все президенты с семьей проводили по крайней мере один отпуск в каком-нибудь из уютных уголков мира, принадлежащих Баренту. Отец Барента занимался сталью и железными дорогами. Обычный миллионер по сравнению с Барентом-младшим и его миллиардами просто нищий. Попробуй полетать над Манхэттеном, и в любом небоскребе, который ты выберешь, на верхнем этаже будет размещаться офис корпорации – филиала компании, которая сама является филиалом конгломерата, а конгломерат управляется консорциумом, где главный владелец – К. Арнольд Барент. Возьми что угодно – средства массовой информации, компьютеры, микрочипы, нефть, предметы искусства, детское питание, – и везде Баренту принадлежит хороший кусок. – А что значит инициал «К.»? – Никто не знает. К. Арнольд-старший так и не открыл секрета, и сын тоже не собирается этого делать. Как бы то ни было, служба безопасности обожает, когда президент с семьей отправляется к нему в гости. Дворцы Барента по большей части находятся на островах – он владеет островами по всему свету, дядя Сол, – и там, уверяю, все устроено получше, чем в Белом доме, включая обстановку, охрану, вертолетные площадки, спутниковую связь и прочее. Один раз в год, обычно в июне, Фонд наследия Запада, принадлежащий Баренту, устраивает «летние лагеря» – развлечение на полную катушку, примерно на неделю, для самых крутых ребят в Западном полушарии. Туда попадают только по приглашению, а чтобы получить приглашение, нужно, по крайней мере, быть членом кабинета министров с блестящим будущим или живой легендой, человеком с нашумевшим прошлым. В последние несколько лет ходили разные слухи про бывших немецких канцлеров, танцующих вокруг костра и распевающих похабные песни вместе со старыми госсекретарями США и парой экс-президентов. В общем, можно себе представить, что это за «лагеря». – Да. – Сол смотрел, как Арон убирает последний снимок. – А теперь ответь, что все это значит? Почему Тони Хэрод отправился из Голливуда на тайное собрание этих пятерых, которых, видит бог, я должен был знать, но не знал? Арон сложил папки в портфель и скрестил руки на груди. Уголки его рта были плотно сжаты. – Нет, это ты мне ответь, дядя Сол. Продюсер и бывший нацист, тот самый, за которым ты охотишься, погибает в авиакатастрофе – вероятнее всего, в результате диверсии. Ты посылаешь богатого юнца с университетским образованием в Голливуд поиграть в детектива, разузнать что можно о прошлом продюсера, и его крадут, а затем наверняка убивают, как и его коллег-любителей. Неделю спустя компаньон твоего бывшего эсэсовца, который, по всем отзывам, сочетает в себе повадки шарлатана и уголовника, насилующего детей, летит в Вашингтон на встречу с компанией темных дельцов из коридоров власти, похлеще первого исполкома ООП Ясира Арафата. Что происходит, дядя Сол? Ласки по привычке снял очки и протер стекла. Он молчал чуть ли не целую минуту. Арон ждал. – Модди, – наконец сказал Сол, – я не знаю, что происходит. Меня интересовал только оберст – человек, которого звали Вилли фон Борхерт, он же Уильям Д. Борден. Я не знал, кто такой Борден, пока не увидел его фотографию в воскресном номере «Нью-Йорк таймс»… Я узнал того негодяя – оберста Вильгельма фон Борхерта из войск СС… – Сол замолчал, снова надел очки и приложил трясущиеся пальцы ко лбу. Он понимал, что в глазах Арона выглядит несчастным потрясенным стариком. – Дядя Сол, ты можешь все рассказать мне, – доверительно проговорил Арон на иврите и положил руку ему на плечо. – Позволь мне помочь тебе. Сол кивнул. Он вдруг почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы, и быстро отвернулся. – Если это в каком-то смысле важно для Израиля… Если это представляет угрозу, – продолжал настаивать Арон, – нам надо работать вместе, поверь! Сол выпрямился. «Если это представляет угрозу…» Он вдруг воочию увидел, как отец, неся на руках маленького Йозефа, уходит вместе с группой худых бледных мужчин и мальчиков там, в Хелмно… Как ушли мама и сестры – в никуда, в небытие… Он вновь ощутил боль пощечины и стыд унижения и вдруг ясно понял, как когда-то его отец, что спасение семьи иногда становится самым главным и даже единственным приоритетом. Сол благодарно сжал руку Арона: – Модди, тебе придется довериться мне во всем. Мне кажется, тут происходит много такого, что совершенно не связано друг с другом. Человек, которого я принял за оберста из лагерей, возможно, не имеет к нему никакого отношения. Фрэнсис Харрингтон был блестящим студентом, но с довольно неустойчивой психикой. Все, за что брался, он почему-то всегда бросал, как бросил Принстон три года назад. Я дал ему до нелепости большой аванс под его расходы на то, чтобы покопаться в прошлом Вилли Бордена. Уверен, скоро мать Фрэнсиса, или его секретарша, или подружка – кто-нибудь да получит от него открытку с почтовым штемпелем Бора-Бора или еще какого-то похожего местечка. Не сегодня, так завтра. – Дядя Сол… – Пожалуйста, выслушай меня, Модди. Друзья Фрэнсиса – они просто погибли в автокатастрофе. У тебя что, нет знакомых, погибших в автокатастрофе? Вспомни своего двоюродного брата Хаима, как он поехал с Голанских высот на своем джипе навестить девицу… – Дядя Сол… – Не перебивай, Модди. Ты сейчас играешь в Джеймса Бонда, как когда-то играл в Супермена. Помнишь, в то лето, когда я приехал к вам в гости? Тебе было девять, а в этом возрасте уже не стоило прыгать с балкона, обвязав полотенцем шею. Ты потом все лето не мог играть со своим любимым дядей из-за того, что нога у тебя была в гипсе. Арон покраснел и опустил глаза. – Эти снимки – все это интересно, Модди. Но что они значат? Заговор против Иерусалима? Ячейка арафатовского «Фатха» готовится начать отправку бомб к границе? Модди, ты всего лишь видел, как богатые и влиятельные люди имели встречу с порнодельцом в этом городе, полном богатых и влиятельных людей. Ты думаешь, что это тайная встреча? Но ты же сам сказал, что К. Арнольд Барент владеет островами и дворцами, в которых даже президент находится в большей безопасности, чем у себя дома. Это была всего лишь вечеринка, на которую не допустили публику, вот и все. Кто знает, какие делишки с порнографическими фильмами обделывают эти люди, на какие порнофильмы дает деньги твой дважды рожденный преподобный Уэйн Джим. – Джимми Уэйн, – уточнил Арон. – Какая разница. Ты думаешь, нам стоит беспокоить твое начальство в посольстве, чтобы они отрядили настоящих агентов заниматься этим делом? Ведь это может дойти до Давида, а он так болен… И все из-за какого-то дурацкого сборища, где обсуждались порнофильмы или не знаю что еще? Арон густо покраснел. На какую-то секунду Сол испугался, что он заплачет. – О’кей, дядя Сол. Значит, ты мне ничего не скажешь? Ласки снова коснулся руки племянника: – Клянусь могилой твоей матери, Модди, я рассказал тебе все, в чем сам смог разобраться. Я пробуду в Вашингтоне еще пару дней. Возможно, смогу выбраться к тебе, повидаюсь с Деборой, и мы снова потолкуем. Это за рекой, да? – В Александрии, – ответил Арон. – Сегодня не сможешь? – Мне нужно еще кое-кого навестить. А вот завтра… Я соскучился по домашней еде. – Сол глянул через плечо на трех израильтян – кроме них, в ресторане уже никого не осталось. – Что мы им скажем? Арон поправил очки. – Только Леви знает, почему мы здесь. Мы, так или иначе, собирались пойти пообедать. – Арон пристально посмотрел ему в глаза. – Ты сам точно знаешь, что ты делаешь, дядя Сол? – Да, знаю. Пока что мне хотелось бы делать как можно меньше, немного отдохнуть до конца отпуска, подготовиться к январским лекциям. Модди, надеюсь, ты не станешь посылать кого-нибудь из них следить за мной? – Сол мотнул головой в сторону израильтян. – Это было бы некорректно по отношению к одной моей… коллеге, с которой я собираюсь пойти сегодня в ресторан. Арон усмехнулся: – В любом случае у нас для этого нет людей. Здесь только Леви – в каком-то смысле полевой агент. Гарри и Барбара работают со мной в шифровальном отделе. – Они поднялись из-за стола. – Значит, завтра, дядя Сол? Мне заехать за тобой? – Нет, я взял машину напрокат. Около шести? – Раньше, если сможешь. Чтобы у тебя было время поиграть с близнецами до обеда. – Тогда в четыре тридцать. – И мы потолкуем? – Обещаю, – кивнул Сол. Они дружески обнялись и разошлись. Сол постоял у входа в магазин подарков, пока Гарри, Барбара и смуглый парень, которого звали Леви, не ушли. Затем он медленно поднялся на верхний этаж, к импрессионистам. «Девочка в соломенной шляпке» все еще ждала его, глядя чуть вверх со своим немного испуганным, немного озадаченным, немного обиженным выражением, которое так задевало какую-то струнку в душе Сола. Он долго стоял у картины, думая о таких вещах, как семья, месть и страх. Он втянул родственников в схватку, которая ни при каких обстоятельствах не должна была стать их делом, и это заставляло его усомниться в собственной этике, хотя сомнений в разумности сделанного не было. Сол решил вернуться в отель, как следует попариться в ванной и почитать книгу Мортимера Адлера. Потом, когда настанет время льготного тарифа, он позвонит в Чарлстон и поговорит с ними обоими – с шерифом и Натали. Он скажет им, что разговор вышел удачным, что продюсер, погибший в авиакатастрофе, определенно не тот немецкий оберст, который привиделся ему в кошмарных снах. Он пожалуется, что в последнее время находился в состоянии стресса, и пусть они сами сделают нужные выводы из его истолкования роли Нины Дрейтон в чарлстонских событиях. Сол все еще стоял, погруженный в свои мысли, когда тихий голос за его спиной произнес: – Очень милая картина, не правда ли? Какая жалость, что девочка, которая позировала для нее, наверное, давно уже умерла, а тело ее сгнило. Сол резко обернулся. Перед ним стоял Фрэнсис Харрингтон собственной персоной, но ужасно похожий на фашиста. Глаза его странно светились, бледное веснушчатое лицо выглядело посмертной маской. Вялые, безвольные губы марионетки дернулись, будто кто-то потянул их за веревочки, и сложились в гримасу, обнажив зубы в страшном подобии улыбки. – Guten Tag, mein alte Freund, – сказало чудовище в облике Фрэнсиса Харрингтона. – Wie geht’s, mein kleiner Bauer?[38] Моя любимая пешечка?Глава 16
Чарлстон
Четверг, 25 декабря 1980 г.
В вестибюле больницы, в самом центре, где обычно толкались посетители, стояла украшенная серебряная елка. Пять подарочных пакетов, пустых, но очень ярких, лежали под ней, а с ветвей свисали бумажные игрушки, сделанные детьми. На вымощенный плитками пол белыми и желтыми прямоугольниками падал солнечный свет. Шериф Бобби Джо Джентри пересек вестибюль и направился к лифтам. – Доброе утро и счастливого Рождества, миз Хауэлл, – приветствовал он дежурную за стойкой. В руках у него был огромный белый бумажный пакет. – Счастливого Рождества, шериф! – откликнулась семидесятилетняя старушка, дежурившая сегодня добровольно. – Можно вас на секунду? – Конечно, мэм. – Джентри повернулся спиной к открывшейся двери лифта и подошел к стойке. На дежурной был пастельно-зеленый халат, который совсем не гармонировал с темной зеленью пластиковых сосновых ветвей на ее столе. Там же лежали два прочитанных и отложенных дамских романа. – Чем могу служить, миз Хауэлл? Старушка наклонилась вперед и сняла очки, которые повисли на цепочке с нанизанными на нее бусами. – Я насчет той цветной женщины на четвертом, которую привезли прошлой ночью, – начала она взволнованным, почти заговорщицким шепотом. – Да, мэм? – Сестра Олеандер сказала, что вы сидели там всю ночь, вроде как охраняли ее… И что ваш помощник сменил вас утром, когда вам надо было уходить… – Это Лестер, – пояснил Джентри, переложив пакет из одной руки в другую. – Мы с Лестером единственные в нашей конторе холостяки, поэтому обычно работаем по праздникам. – Ну да. – Мисс Хауэлл была немного сбита с толку. – Но мы с сестрой Олеандер подумали… сейчас рождественское утро и все такое… Ну за что эту девушку арестовали? Я, конечно, понимаю, тут официальное дело, но правду говорят, что ее подозревают в связи с убийствами в «Мансарде»? И что ее пришлось доставить сюда силой? Джентри улыбнулся и подался вперед. – Миз Хауэлл, вы можете хранить тайну? – шепотом спросил он. Дежурная снова нацепила очки на нос, сжала губы, выпрямилась и кивнула: – Конечно, шериф. – Тогда я вам скажу. – Он наклонился ниже. – Мисс Престон моя невеста. Ей это не очень нравится, поэтому мне приходится держать ее взаперти в подвале. Вчера я немного погулял с ребятами, а она попыталась в это время выбраться и убежать, так что мне пришлось всыпать ей разок. Вот Лестер и держит ее наверху под дулом пистолета, пока я не вернусь. Входя в лифт, Джентри обернулся и подмигнул мисс Хауэлл. Она сидела, все так же выпрямившись, с открытым от изумления ртом.* * *
Джентри постучал в дверь и заглянул в палату, где находилась Натали. Девушка подняла глаза. – Доброе утро и счастливого Рождества! – Он прошествовал к столику на колесах и положил на него белый пакет. – Счастливого Рождества, – ответила Натали хриплым шепотом, затем болезненно поморщилась и поднесла левую руку к горлу. – Видели свои синяки? – спросил Джентри, наклоняясь, чтобы еще раз получше рассмотреть их. – Да, – прошептала она. – У того, кто это сделал, пальцы длинные, как у Вана Клиберна, только предназначены не для игры на рояле. Как голова? Натали дотронулась до широкой бинтовой повязки. – Что же все-таки произошло? – спросила она. – Я помню, как меня душили, а как ударилась головой, не помню… Джентри принялся извлекать из пакета белые пластиковые коробки с едой. – Доктор еще не заходил? – С тех пор как я проснулась, нет. – Он говорит, что вы, наверное, ударились головой о дверцу, когда дрались с этим мерзавцем. – Джентри достал большие пластиковые чашки с дымящимся кофе и апельсиновым соком. – Просто ушиб и немного крови. А сознание вы потеряли оттого, что он душил вас. Девушка снова потрогала горло и поморщилась, вспомнив, как все было. – Теперь я знаю, что чувствуешь, когда тебя душат, – прошептала она, слабо улыбаясь. Джентри покачал головой: – Это не совсем так. Он применил особый захват, вы потеряли сознание оттого, что вам перекрыли доступ крови к мозгу, а не воздуха к легким. Этот ублюдок знал, что делает. Еще немного, и у вас был бы поврежден мозг – в лучшем случае. Хотите горячую английскую булочку к яичнице? Натали, широко раскрыв глаза, смотрела на еду, разложенную перед ней: поджаренные булочки, яичница, ветчина, сыр, фрукты. – Где вы все это достали? – удивленно спросила она. – Мне уже приносили завтрак, только я не смогла есть эту резину. Разве в рождественское утро работает хоть один ресторан? Джентри снял шляпу и приложил ее к груди с самым обиженным видом: – Ресторан? Вы сказали «ресторан»? Мэм, здесь у нас богобоязненный христианский город. Сегодня не работает ни одно заведение, кроме, пожалуй, забегаловки Тома Делфина на федеральном шоссе. Том – агностик. Нет, мэм, этот завтрак приехал прямо из кухни вашего покорного слуги. Ну-ка, налетайте, пока все не остыло. – Спасибо, шериф, – поблагодарила Натали. – Но я же не в силах все это проглотить… – И не надо. Я помогу. Мне тоже не вредно позавтракать. – А как же мое горло? – Док говорит, что оно немного поболит, но кушать можно. Ешьте. Натали не заставила себя долго упрашивать и взялась за вилку. Джентри вытащил из пакета небольшой приемник и поставил на стол. Большинство радиостанций передавали рождественскую музыку. Он покрутил настройку, и оратория Генделя «Мессия» заполнила палату. Яичница, похоже, Натали понравилась. Она отпила глоток кофе и сказала: – Все это прекрасно, шериф. А как же Лестер? – Ну, про Лестера не скажешь, что он – прекрасен. – Нет, я имею в виду… Он еще здесь? – Он отправился назад в участок. До двенадцати. А потом его сменит Стюарт. Не беспокойтесь, Лестер уже позавтракал. – Отменный кофе, – похвалила Натали и взглянула на Джентри, склонившегося над едой. – Лестер сказал, что вы провели здесь ночь. Джентри ухмыльнулся с набитым ртом: – Эти чертовы яйца остывают еще до того, как их уложишь в эти дурацкие пластиковые штуковины. – Вы думаете, что он… кто бы это ни был… Что он вернется? – спросила она. – Не обязательно. Но нам не дали поговорить вчера – вам сразу ввели снотворное. Я подумал, что вовсе не помешает, если тут будет кто-нибудь, с кем можно потолковать, едва вы проснетесь. – Значит, вы провели канун Рождества на больничном стуле? – заключила Натали. Шериф широко улыбнулся: – А что тут такого? Все веселее, чем смотреть двадцатый год подряд, как мистер Магу играет роль богатого дядюшки Скруджа. – Как вам удалось так быстро разыскать меня вчера? – Голос Натали был все еще хриплым, но уже не таким напряженным. – Ну, мы ведь договорились встретиться. Вас нигде не было, а у меня на автоответчике не оказалось никаких сообщений, так что я вроде как нечаянно завернул к дому Фуллер по дороге к себе. Я ведь знаю, что у вас появилась привычка проверять, как там и что. – Но вы не видели, кто на меня напал? – Нет. В машине сидели только вы, согнувшись, с окровавленным фотоаппаратом в руке. Натали покачала головой: – Я до сих пор не могу вспомнить, как ударила его фотоаппаратом… Все пыталась дотянуться до папиного пистолета. – Да, кстати, про пистолет. – Джентри подошел к стулу, на который повесил свою зеленую куртку, вытащил из кармана «ламу» тридцать второго калибра и положил на столик рядом со стаканом апельсинового сока. – Я поставил его на предохранитель. Он все еще заряжен. Натали взяла тост, но есть не стала. – Так кто же все-таки это был? Джентри качнул головой: – Вы говорите, он белый? – Да. Я видела только лицо… Ну, немного щеки… Потом глаза. Но я уверена, что он белый. – Возраст? – Не знаю. У меня такое ощущение, что ему примерно столько же, сколько вам… Тридцать с небольшим. – Вы больше ничего не вспомнили из того, что не успели сказать мне вчера? – спросил Джентри. – Пожалуй, нет. Он был уже в машине, когда я вернулась. Скорее всего, спрятался на заднем сиденье… – Натали положила тост, ее передернуло от страшного воспоминания. – Он разбил лампочку в машине, – сказал Джентри, доедая яичницу. – Поэтому она и не зажглась, когда вы открыли дверь. Значит, вы говорите, что видели свет на втором этаже дома Фуллер? – Да, сквозь жалюзи, но не в холле и не в спальне. Скорее, в гостиной наверху. – Ладно. Доедайте. – Джентри пододвинул к ней небольшую коробку с ветчиной. – А вы знали, что электричество в доме было отключено? Брови Натали удивленно поползли вверх. – Нет… – Наверное, кто-то воспользовался фонариком. Причем большим, батареек на шесть. – Значит, вы мне верите? Джентри перестал складывать пустые коробки и чашки, которые собирался выкинуть в корзину для мусора, и посмотрел на нее: – А почему я должен вам не верить? Интересно, как бы вы сами наставили себе этих синяков на шее? – Но зачем кому-то понадобилось убивать меня? – спросила Натали слабым голосом, и не только из-за поврежденного горла. Джентри закончил убирать со стола. – Этот человек, кто бы он ни был, вовсе не пытался вас убить. Он просто хотел причинить вам боль. – В этом он преуспел. – Натали осторожно потрогала забинтованную голову. – И еще припугнуть. – Это ему тоже удалось. – Она окинула взглядом палату. – Бог мой, как я ненавижу больницы! – Повторите-ка, что он вам сказал. Натали закрыла глаза: – «Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне». – Еще раз, – попросил Джентри. – Попробуйте сказать это тем же тоном, с той же интонацией, как вы слышали. Она повторила фразу глухим голосом, без всяких интонаций. – Значит, так? – сказал Джентри. – Без акцента, без намека на диалект? – Абсолютно. Вроде диктора, монотонно читающего сводку погоды по радио. – Не южанин, – определил шериф. – Нет. – Может, какой-нибудь северный диалект? Он повторил фразу с нью-йоркским акцентом, настолько правдоподобно, что Натали рассмеялась, несмотря на свое больное горло. – Нет, – сказала она. – Он мог быть из Новой Англии? Или немец? Или американский еврей из Нью-Джерси? – Джентри несколько раз успешно имитировал диалекты. – Нет, – снова рассмеялась Натали. – У вас здорово получается. Нет, голос был просто ровный, бесцветный. – А по высоте? – Низкий, но не такой, как у вас. Нечто вроде мягкого баритона. – Это могла быть женщина? – спросил Джентри. Натали моргнула. Она попыталась вспомнить то, что мельком увидела в зеркальце, когда красный цвет уже застилал ей глаза: худое лицо, изгиб щеки, кажется небритой… хотя, возможно, это был колючий шарф. Какая-то шапка, не то кепка, и руки в перчатках, с ужасно сильными длинными пальцами. – Нет. – Натали покачала головой. – Это был все-таки мужчина, хотя, конечно, до этого мужчины не нападали на меня. И в его действиях не было ничего сексуального… – Она запнулась. – Я понимаю, о чем вы говорите, – кивнул шериф. – И это еще одно доказательство того, что, кто бы это ни был, он не пытался убить вас. Убийцы обычно не передают сообщения своим жертвам. – Сообщение? – Точнее будет сказать «предупреждение», – заключил Джентри. – В общем, мы записали это как случайное нападение и возможную попытку к изнасилованию. Трудно было бы зарегистрировать это как ограбление, раз он не взял ни вашу сумочку, ни фотоаппарат. – Он вытащил небольшой термос из изрядно похудевшего пакета. – Хотите еще кофе? Натали немного подумала, потом кивнула: – Да. Обычно я не пью много кофе, но сейчас он, похоже, сглаживает действие укола, который мне сделали вчера. – А кроме того, сегодня Рождество. – Джентри снова разлил ароматный кофе по чашкам. Некоторое время они сидели, слушая триумфальную концовку оратории. Когда музыка кончилась и ведущий принялся обсуждать программу, Натали сказала: – Мне ведь не обязательно оставаться здесь, правда? – Вы перенесли довольно тяжелую психическую травму, – ответил Джентри. – Почти десять минут были без сознания. На голову пришлось наложить восемь швов – вы сильно ушиблись… – Но я все равно могла бы поехать домой, ведь так? – Возможно, – признал он. – Однако я бы не хотел, чтобы вы это делали. Оставаться одной вам сейчас небезопасно, а если я предложу вам поехать ко мне, вы вряд ли меня правильно поймете. Кроме того, мне самому не очень хочется сидеть в рождественскую ночь в машине у вашего дома. Да и док сказал, что лучше провести ночь в больнице под наблюдением. – Знаете, я бы поехала к вам, – тихо произнесла Натали. В голосе ее не было и намека на кокетство. – Мне страшно, – добавила она. Джентри кивнул: – Ну да. – Он допил кофе. – Мне и самому страшно. Не знаю почему, но мне кажется, что мы по уши увязли в вещах, которые недоступны пониманию. – Значит, вы все еще верите в историю, рассказанную Ласки? – Я бы больше верил, если бы от него пришла хоть какая-нибудь весточка. Шесть дней прошло, как он уехал, а от него ни слуху ни духу… Но вовсе не обязательно безоговорочно верить всему, что он рассказал; и так ясно – вокруг нас происходит какая-то чертовщина. – Вы думаете, вам удастся поймать того, кто напал на меня вчера ночью? – Натали внезапно почувствовала усталость, она откинулась на подушки, а шериф приподнял изголовье кровати. – Вряд ли, если мы будем полагаться на отпечатки пальцев и лабораторные исследования. Мы проверяем кровь на «Никоне», но от этого тоже мало проку. Единственный способ что-то узнать – продолжать расследование, так или иначе. – Или подождать, пока он снова на меня не нападет… – Нет, это вряд ли случится. Я думаю, они уже передали нам то, что хотели. – «Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне», – снова повторила Натали. – А женщина – Мелани Фуллер? – А вы можете назвать кого-то другого? – Нет. А где этот Джермантаун? Он действительно существует? – Я, по крайней мере, знаю два. Это кварталы в северных городах. Кажется, в Филадельфии есть историческая часть города с таким названием. В моем маленьком атласе их не оказалось, но я собираюсь пойти в библиотеку, покопаться в справочниках. – Но зачем кому-то сообщать нам, где она находится? – спросила Натали. – Замечательный вопрос. Только ответа у меня пока нет. Если то, что рассказал Сол, правда, тогда здесь замешано нечто гораздо большее, чем он сам понимает. – А не мог этот вчерашний мерзавец быть… ну, чем-то вроде агента самой Мелани Фуллер? Кто-то, кого она использовала наподобие того, как оберст использовал Сола? Может, она все еще в Чарлстоне и пытается навести нас на ложный след? – Может быть, только все эти сценарии, когда начинаешь их продумывать, рассыпаются в прах. Если Мелани Фуллер жива и по-прежнему в Чарлстоне, зачем ей вообще понадобилось давать о себе знать? Особенно нам. Кто мы такие, в конце концов? Этим делом занимаются две городские организации, три отдела органов правопорядка штата плюс это чертово ФБР. Все три телекомпании на прошлой неделе показали программы на эту тему, в понедельник окружной прокурор дал пресс-конференцию, на которую сбежались полсотни репортеров, кое-кто из них все еще пытается что-то разнюхать… Кстати, я именно поэтому не записал в журнале происшествий, что ваша машина вчера стояла прямо напротив дома Фуллер. Представляю, какие были бы заголовки в бульварных газетенках: «Еще одна жертва чарлстонского убийцы!» – Так какой же сценарий кажется вам наиболее правдоподобным? – спросила Натали. Джентри отодвинул столик на колесах в сторону и присел на край кровати. Несмотря на свою массивную фигуру, он двигался легко и почти грациозно, создавалось ощущение, что под этой массой скрывается пластичный и хорошо тренированный атлет. – Допустим, Сол рассказал нам чистую правду, – тихо проговорил Джентри. – Значит, мы столкнулись с ситуацией, когда несколько этих вампиров мозга сражаются друг с другом. Нина Дрейтон мертва. Я видел ее тело до и после морга. Кем бы она ни являлась при жизни, сейчас она просто прах. Люди, забравшие тело, кремировали его. – А кто забрал тело Нины Дрейтон? – Не родственники. И даже не друзья. Нью-йоркский адвокат, который был ее душеприказчиком, и два члена корпорации, где она числилась одним из директоров. – Значит, Нины Дрейтон нет. Кто же остается? Джентри поднял три пальца: – Мелани Фуллер, Уильям Борден – этот оберст Сола… – А кто же третий? – Натали пристально глядела на оставшийся палец. – Множество из миллионов неизвестных, – вздохнул Джентри, пошевелил всеми десятью пальцами и перевел разговор на другую тему: – Знаете, у меня для вас рождественский подарок. – Он вытащил из кармана куртки конверт. Там оказались рождественская открытка и билет на самолет до Сент-Луиса. – На завтра, – сказала Натали, посмотрев дату. – На сегодня билетов не было. – Вы меня гоните, шериф? Хотите избавиться? – Можно и так сказать. – Джентри широко улыбнулся. – Я знаю, что позволяю себе вольности, миз Престон, но я буду чувствовать себя гораздо лучше, если вы уедете к себе, пока все не прояснится. – Просто не знаю, что думать… Почему я буду в большей безопасности в Сент-Луисе? Если за мной кто-то охотится, он найдет меня и там. Джентри сложил руки на груди. – Это вы хорошо подметили, но я не думаю, что за вами кто-то охотится, ведь правда? – Девушка молчала, и он продолжил: – В любом случае вы мне сказали недавно, что у вас там друзья. Фредерик мог бы пожить у вас… – Мне не нужен ни телохранитель, ни нянька, – холодно бросила Натали. – Возможно. Но там вы будете заняты чем-то, окружены друзьями, а главное, выйдете из этой чертовой игры, в которую тут играют, убивая людей, заставляя их убивать других, нападая на девушек… – А как же быть с поисками убийцы моего отца? Кто будет следить за домом Фуллер до того, как Сол даст о себе знать? – Один из моих помощников присмотрит за домом. Я получил разрешение миссис Ходжес, чтобы кто-то пока пожил у нее наверху, в кабинете мистера Ходжеса. Его окна как раз выходят в общий двор. – А вы что будете делать? Джентри взял стетсон с кровати, смял тулью и нахлобучил его на свой вспотевший лоб. – Я решил взять отпуск, – вздохнул он и почему-то покраснел. – Отпуск? – изумилась Натали. – В разгар всей этой истории? Когда ничего еще не ясно? Он улыбнулся: – Примерно так же отреагировало мое начальство. Но дело в том, что я не был в отпуске два года, и администрация должна мне недель пять по крайней мере. Наверняка я могу себе позволить уехать на пару недель, если мне так уж захочется. – И когда же вы уезжаете? – Завтра. – Куда? – В голосе Натали было не только любопытство. Джентри потер щеку. – Ну, я думаю, что можно смотаться на север, посетить, скажем, Нью-Йорк. Давненько я там не был. А потом я мог бы провести пару дней в Вашингтоне. – Будете разыскивать Сола? – догадалась Натали. – Да, возможно, загляну и к нему. – Джентри посмотрел на часы. – Уже поздно. Часов в девять к вам должен зайти доктор. А потом вы можете сразу уезжать. – Он помолчал. – Давайте вернемся к тому моменту, когда вы сказали, что могли бы пожить немного у меня… Натали приподнялась на кровати: – Это что, предложение? – Да, мэм. Мне было бы спокойнее, если бы вы до отъезда поменьше находились одна в своем доме. Конечно, вы можете снять номер в отеле на сегодня, а я попрошу Лестера или Стюарта подежурить по очереди со мной… – Шериф, нам надо уладить один вопрос, прежде чем я скажу «да». Джентри посерьезнел: – Слушаю вас, мэм. – Мне надоело называть вас шерифом и еще больше надоело слушать, как вы говорите мне «мэм». Или будем звать друг друга по имени, или вообще никак. – Отлично, мэм. – Джентри ухмыльнулся во весь рот. – Но тут есть маленькая проблема. Я никогда не смогу заставить себя называть вас «Бобби Джо». – Родители тоже меня так не называли. Эта кличка прилипла ко мне, когда я работал тут помощником шерифа. А когда пришла пора баллотироваться в шерифы, я так ее за собой и оставил. – А как вас зовут друзья и ваши близкие? – Друзья в основном обращаются ко мне «жирный». А мама звала меня Роб. – И Джентри вновь покраснел как мальчишка. – Хорошо. Спасибо за приглашение, Роб. Я принимаю его.* * *
Они ненадолго заехали домой к Натали, она быстро уложила свои вещи, потом позвонила поверенному отца и некоторым друзьям. Дело с вступлением ее в наследство и продажей фотомагазина затягивалось как минимум на месяц. У Натали не было причин задерживаться в городе. Рождественский день выдался теплым и солнечным. Хотя был четверг, но создавалось ощущение, что сегодня воскресенье. Они пообедали рано. Джентри приготовил запеченный окорок, картофельное пюре, брокколи с соусом из сыра и шоколадный мусс. Затем он передвинул круглый обеденный стол к большим окнам, и они устроились за ним, неторопливо попивая кофе и глядя, как ранние сумерки окутывают в серый цвет дома и деревья. Когда на небе зажглись первые звезды, Натали с Джентри оделись и отправились гулять по улицам. Дети звонко смеялись, радуясь своим новым рождественским игрушкам, в затемненных окнах вспыхивали разноцветные огоньки телевизоров. – Как вы думаете, с Солом все в порядке? – спросила Натали. Они впервые после утреннего разговора вернулись к серьезным вещам. Он пожал плечами и засунул руки глубоко в карманы куртки: – Я не уверен. У меня такое чувство, что с ним что-то случилось. – Мне совсем не хочется прятаться в Сент-Луисе. Что бы тут ни происходило, мой долг перед отцом разобраться во всем этом. Джентри не стал спорить: – Давайте сделаем так. Я выясню, куда запропастился профессор, а потом мы свяжемся и спланируем наш следующий шаг. Мне кажется, одному человеку с этим делом проще будет справиться. – Но ведь Мелани Фуллер может находиться и здесь, в Чарлстоне. Мы ведь даже не знаем, что хотел сказать тот вчерашний бандит. – Не думаю, что старуха здесь. – Джентри рассказал Натали про то, как Артур Луэллин в ночь убийства поехал на минутку купить сигару, а кончилось тем, что он налетел на опору моста в окрестностях Атланты на скорости девяносто семь миль в час. – Кстати, табачный киоск, куда направлялся мистер Луэллин, находится неподалеку от «Мансарды». – Значит, Мелани Фуллер вполне способна сделать то, о чем говорил Сол? – Да… Чистейший вздор, а между тем это – единственное объяснение. – Вы думаете, что она прячется в Атланте? – Нет, не думаю. Это слишком близко отсюда. Скорее всего, она улетела или уехала оттуда при первой возможности. Поэтому я исидел на телефоне почти всю неделю. В прошлый понедельник, через два дня после здешних событий, случилось недоразумение в международном аэропорту Хартсфилд. Какая-то дама оставила двенадцать тысяч долларов наличными в сумке, и никто не смог ее описать. Местный носильщик, сорокалетний мужчина, до этого вполне здоровый, забился в припадке и умер. Я проверил все происшествия той ночи. На двести восемьдесят пятом шоссе в дорожной катастрофе погибла семья из шести человек – их протаранил сзади полуприцеп, шофер грузовика заснул за рулем. Мужчина в Рокдейле застрелил своего зятя после ссоры из-за лодки, которая уже много лет принадлежала всей семье. Найден труп бродяги у стадиона в Атланте. Люди шерифа утверждают, что труп пролежал там почти неделю. И наконец, таксист по имени Стивен Лентон покончил жизнь самоубийством у себя дома. По данным полиции, его друзья утверждают, что он находился в состоянии депрессии с тех пор, как от него ушла жена. – А как это все связано с Мелани Фуллер? – спросила Натали. – Можно только догадываться. Строить догадки – самое интересное в этом деле. – Они добрались до небольшого сквера. Натали присела на качели и стала потихоньку раскачиваться. Джентри, держась за цепь качелей, стоял рядом. – Самое забавное в случае с мистером Лентоном то, что он покончил с собой на дежурстве. У таких людей вообще не принято тратить рабочее время на самоубийство. Вы ни за что не догадаетесь, где он находился, когда передавал в диспетчерскую данные о своей последней поездке… Натали перестала раскачиваться: – В аэропорту? – Да. Она тряхнула головой: – Нет, здесь что-то не стыкуется. Если Мелани Фуллер вылетала из аэропорта Атланты, зачем ей было оставлять там деньги или убивать носильщика, а потом таксиста? – Давайте представим себе, что ее что-то спугнуло. Или, скажем, она вдруг передумала. Собственный автомобиль таксиста исчез. Бывшая жена Дентона надоедала полиции почти неделю, пока машину наконец не нашли. – Где? – В Вашингтоне. Прямо в центре. – Ничего не понимаю. Разве не естественно предположить, что человек просто совершил самоубийство, а кто-то угнал его машину и бросил в Вашингтоне? – Конечно. Но у истории, рассказанной Солом Ласки, есть одно несомненное достоинство: она заменяет длинную цепь случайностей одним-единственным объяснением. Я вообще большой сторонник «бритвы Оккама». Натали улыбнулась и снова принялась раскачиваться. – Только резать ею надо осторожно. А то она затупится, и можно раскромсать собственное горло. – Верно. – У Джентри было прекрасное настроение. Вечерний воздух, скрип ржавых качелей, напоминающий о детстве, и присутствие этой чудесной девушки делали его почти счастливым. – И все равно я не хотела бы выходить из игры, – упрямо заявила Натали. – Может быть, мне стоит отправиться в Атланту и заняться этим делом там, пока вы будете действовать в Вашингтоне? – Но это всего на несколько дней, – заверил Джентри. – Поезжайте на свою базу в Сент-Луисе, и через некоторое время я с вами свяжусь. – Сол Ласки говорил то же самое. – Послушайте, у меня есть автоответчик и еще аппарат, с помощью которого я могу прослушать по телефону все, что записано на автоответчике. Я всегда все теряю, поэтому у меня две эти штуки… ну, которые дают тоновый сигнал. Я дам вам одну из них. Обещаю звонить по своему телефону в одиннадцать, каждое утро и каждый вечер. Если у вас будет что мне сообщить, просто наговорите это на автоответчик. Вы можете связываться со мной точно таким же образом. Натали моргнула: – А не проще вам просто позвонить мне? – Да, проще, но вдруг возникнут какие-нибудь трудности? – У вас же там могут быть ваши личные записи… Джентри усмехнулся в темноте. – От вас у меня секретов нет, мэм… мисс… Натали, – поправился он. – Или, скажем так, не будет, как только я передам вам эту электронную чертовщину. – Я прямо сгораю от нетерпения. – Натали плотнее запахнула пальто и, сойдя с качелей, взяла шерифа под руку.* * *
Когда они вернулись к дому Джентри, их кто-то поджидал. В глубокой тени длинного крыльца мерцал огонек сигареты. Они остановились на мощенном каменными плитами тротуаре, шериф медленно расстегнул молнию своей куртки, и Натали увидела рукоятку револьвера, засунутого за пояс. – Кто тут? – тихо спросил Джентри. Огонек сигареты вспыхнул ярче, потом исчез, и с крыльца спустилась темная фигура. Девушка схватила Джентри за руку, когда высокая тень двинулась к ним. – Привет, Роб, – сказал кто-то низким, немного хриплым голосом, – хорошая ночка для полетов. Я заглянул спросить, не хочешь ли ты полетать вдоль побережья? – Привет, Дэрил, – произнес Джентри, и Натали почувствовала, как расслабились мышцы его руки. Глаза ее привыкли к темноте, и теперь она различила высокого худого мужчину с длинными, седеющими на висках волосами. Он был одет вовсе не по погоде – в коротко обрезанных джинсах, сандалиях и футболке с выцветшей надписью «Клемсонский университет». Его грубоватое лицо имело задумчивый вид. – Познакомьтесь, Натали, это Дэрил Микс, – представил мужчину Джентри. – У Дэрила чартерная контора там, за гаванью. Воздушный извозчик. Несколько месяцев в году он летает с рок-группой, а заодно и сам играет на ударных. Он считает себя наполовину Чаком Йегером,[39] наполовину Фрэнком Заппой. Мы с ним вместе бегали в школу. Дэрил, это миз Натали Престон. – Рад познакомиться, – кивнул Микс. Рукопожатие было твердым, дружеским, и Натали оно понравилось. – Усаживайтесь, а я пойду раздобуду пива, – сказал Джентри. Натали села в плетеное кресло на крыльце. Микс потушил сигарету о перила, кинул окурок в кусты и устроился в шезлонге, положив ногу на ногу. Одна из сандалий повисла на ремешке. – В каком колледже вы учились с шерифом? – поинтересовалась Натали. Ей показалось, что Микс старше Джентри. – В Северо-Западном, – дружелюбно пояснил Дэрил. – Но Роб закончил с отличием, а меня отчислили и забрали в армию. Пару лет мы жили в одной комнате. Так, двое перепуганных ребят с юга в большом городе. – Вот-вот, – подхватил Джентри, вернувшись с тремя охлажденными банками пива «Мишлоб». – Дэрил и в самом деле вырос на юге, точнее, на южной окраине Чикаго. Он никогда не бывал южнее линии Мейсона – Диксона,[40] за одним-единственным исключением, когда однажды провел у меня летние каникулы. Но потом хороший вкус в нем победил, и он переехал сюда после возвращения из Вьетнама. И вовсе его не отчислили из колледжа – он сам ушел и записался добровольцем, хотя еще раньше отслужил в морской пехоте, а в самом колледже был активным пацифистом. Микс сделал большой глоток пива, глянул на банку в тусклом свете и поморщился: – Черт, Роб, и как ты пьешь эти помои? Вот «Пабст» – настоящее пиво. Сколько раз тебе говорить… – Значит, вы были во Вьетнаме? – спросила Натали. Она вспомнила Фредерика и его упорное нежелание говорить об этом, его ярость при одном упоминании о войне. Микс улыбнулся и кивнул: – Да, мэм. Я был воздушным наблюдателем целых два года. Просто летал кругами в своем малюсеньком «пайпер-кабе» и сообщал настоящим пилотам в больших истребителях-бомбардировщиках, куда бросать груз. За все время моего пребывания там я ни разу не выстрелил в кого-либо. Самая непыльная работа, какую только можно себе представить. – Дэрила дважды сбивали, – сообщил Джентри. – Он единственный сорокалетний хиппи из всех, кого я знаю, у которого целый ящик стола забит орденами и медалями. – Все куплено на базаре, – пошутил Микс и допил пиво. – Я так понимаю, что сегодня не самое удачное время для воздушной прогулки, а, Роб? – В следующий раз, амиго, – улыбнулся Джентри. Микс кивнул, встал и поклонился Натали: – Очень рад был познакомиться, мисс. Если вам нужно опылить с воздуха поля, или зафрахтовать рейс, или вдруг понадобится хороший барабанщик, заглядывайте ко мне в аэропорт на Маунт-Плезант. – Обязательно, – улыбнулась Натали. Микс хлопнул Джентри по плечу, легко сбежал по ступенькам крыльца и исчез в темноте.* * *
Весь вечер они слушали музыку, рассказывали друг другу о своем детстве, рассуждали о том, каково это – расти на юге, а учиться в колледже на севере, потом вымыли посуду и выпили немного бренди. Натали вдруг заметила, что между ними почти нет никакого напряжения, будто они знакомы уже много лет. Она пришла в восторг, когда Роб провел ее в комнату для гостей, чистую и тщательно прибранную. Ковер отсутствовал, мебели, кроме простенькой кровати с сеткой, почти не было, но спартанскую суровость скрашивали цветистое одеяло и похожий на ананас орнамент стен. Джентри показал Натали чистые полотенца в ванной, пожелал ей доброй ночи, в последний раз проверил дверные замки и вернулся в свою спальню. Затем он переоделся в чистые удобные спортивные брюки и футболку. За последние восемь лет Джентри четыре раза попадал в больницу с приступами почечнокаменной болезни, и каждый раз они случались ночью. Избавиться от камней совсем было невозможно, хотя он старался придерживаться диеты с низким содержанием кальция, и невероятная боль в начале приступа лишала его сил – их хватало только на то, чтобы набрать номер и вызвать «скорую», которая затем везла его в приемный покой. Джентри всегда было неприятно сознавать свою беспомощность, но в данном случае от него ничего не зависело. Поэтому он давно уже отказался от пижамы в пользу спортивного костюма – если уж ему суждено попадать в больницу в среднем раз в два года, то его повезут туда все-таки одетым, а не в пижаме. Джентри повесил кобуру с «ругером» на спинку стула рядом с кроватью. Он всегда вешал ее там, чтобы в любую минуту пистолет легко мог оказаться у него в руке. Ему долго не удавалось заснуть, мысль о том, что через две комнаты от него спит привлекательная молодая женщина, лишала его покоя, но он знал, что не встанет и не пойдет в эту комнату. Джентри чувствовал свое влечение к ней и на основе собственного опыта мог вычислить, насколько ему отвечали взаимностью. Глядя, как по потолку движутся отражения автомобильных фар, он слегка хмурился. Нет, только не сегодня. Какие бы возможности ни таили в себе их отношения, время было решительно неподходящим. Инстинкт подсказывал ему, что Натали надо немедленно убрать из Чарлстона, подальше от всего этого безумия, что разыгрывается вокруг них. А инстинкты Джентри никогда не подводили, они не раз спасали ему жизнь, и он им верил. Он пошел на огромный риск, позволив ей провести ночь в своем доме, но он не знал, как еще можно обеспечить ее безопасность до утреннего рейса. Кто-то за ним следил – и не один, а несколько человек. Он сомневался в этом до вчерашнего дня, пока не провел в машине почти полтора часа, разъезжая по городу, чтобы убедиться в своем предположении и вычислить все автомобили, задействованные в слежке. Теперь это делали не так грубо, как на прошлой неделе, наоборот, настолько профессионально, что Джентри догадался о слежке только благодаря своей интуиции. Задействованы были по крайней мере пять машин: одно такси и четыре других абсолютно ничем не примечательных автомобиля, какие выпускают на заводах в Детройте. Хотя три из них походили на тот «бьюик», с которым он недавно играл в кошки-мышки. Одна из машин следовала далеко позади, не приближаясь, а когда он резко менял направление, за ним увязывалась другая. Лишь через пару дней Джентри догадался, что вторая машина иногда была не сзади, а обгоняла его. Он знал: чтобы организовать такую слежку, нужна была по крайней мере дюжина автомобилей, вдвое больше людей и радиосвязь. Джентри прикинул, способны ли чарлстонские органы внутренних дел организовать такое, но сразу же отбросил эту мысль. Во-первых, его прошлое, его образ жизни, те дела, которыми он сейчас занимался, никак не могли вызвать подобного внимания; во-вторых, бюджет полиции Чарлстона просто не выдержал бы такой нагрузки; а в-третьих, те полицейские, которых он знал, не смогли бы следить за подозреваемым с ювелирной точностью, даже если бы от этого зависела их жизнь. Кто же тогда остается? ФБР? Джентри терпеть не мог Ричарда Хейнса и не доверял ему, но он не знал ни одной причины, по которой ФБР может подозревать чарлстонского шерифа в связи с авиакатастрофой или убийствами в «Мансарде». Может, это ЦРУ? Но с какой стати? Джентри сразу отмел эту мысль, не отрывая взгляда от потолка. Он уже начал засыпать, ему даже приснилось, будто он в Чикаго ищет какую-то аудиторию в университете и никак не может найти, когда раздался крик. Еще толком не проснувшись, Джентри схватил «ругер» и кинулся в коридор. Последовал еще один крик, на этот раз приглушенный, затем рыдание. Он подбежал к двери, попробовал ручку – дверь была не заперта – и рывком распахнул ее, отскочив назад, чтобы его не было видно из комнаты. Выждав немного, Джентри пригнулся и бросился вперед, держа «ругер» в вытянутых руках и поводя им во все стороны. Кроме Натали, в комнате никого не было, она сидела на кровати и рыдала, закрыв лицо руками. Шериф осмотрел комнату, проверил, закрыто ли окно, осторожно положил пистолет на тумбочку и присел рядом с ней на кровать. – Извините меня, – заикаясь, пробормотала девушка сквозь слезы. В голосе ее звучали страх и смущение. – Каждый раз, как я начинаю засыпать… эти руки обхватывают меня сзади… – Усилием воли она заставила себя успокоиться и потянулась к коробке с бумажными салфетками. Джентри обнял ее левой рукой. Она секунду сидела неподвижно и вдруг прижалась к нему, ее волосы щекотали ему щеку и подбородок. Еще некоторое время она продолжала мелко дрожать, снова и снова переживая страшные воспоминания. – Все хорошо, – пробормотал Джентри, поглаживая ее плечи. – Все будет хорошо. – Он чувствовал себя так, будто гладит беззащитного котенка. Позже, когда он уже подумал, что она уснула, Натали вдруг подняла голову, обняла его за шею теплыми руками и поцеловала. Поцелуй получился долгим и страстным, так что у обоих закружилась голова. Он чувствовал, как ее полная мягкая грудь прижимается к его груди. Когда Джентри наконец смог взглянуть в лицо Натали, он увидел в нем нежность и желание. Их пальцы были крепко сплетены, и ему передалась дрожь, пробегающая волной по ее телу. Но на сей раз вовсе не страх владел чувствами девушки…* * *
Самолет Натали вылетел в Сент-Луис на два часа раньше, чем самолет Джентри в Нью-Йорк. На прощанье она поцеловала его. Они оба родились и выросли на юге, впитали в себя привычки и понятия юга и знали, что поцелуй черной женщины и белого мужчины в общественном месте даже в восьмидесятые годы вызовет молчаливые упреки. Но им было в высшей степени наплевать на это. – Подарки на память, – сказал Джентри и протянул ей свежий номер «Ньюсуика» и передатчик тонового сигнала для автоответчика. – Я сегодня проверю, что там будет. Натали кивнула, решила ничего не говорить и быстро пошла к выходу на посадку. Через час, в небе где-то над штатом Кентукки, она отложила «Ньюсуик», взяла местную газету и наткнулась на заметку, которая навсегда изменила ее жизнь.Филадельфия (Ассошиэйтед Пресс). Полиция Филадельфии еще не обнаружила каких-либо улик или подозреваемых по делу об убийстве в Джермантауне четырех членов молодежной банды, которое лейтенант Лео Хартвелл из городского отдела по убийствам назвал одним из самых диких преступлений, виденных им за десять лет службы в полиции». В рождественское утро четверо членов молодежной уличной банды «Душевный двор» были найдены мертвыми неподалеку от Рыночной площади Джермантауна. Имена жертв и конкретные детали преступления не сообщаются, однако известно, что жертвам было от четырнадцати до семнадцати лет и что тела их были обезображены. Лейтенант Хартвелл, возглавляющий расследование, отказывается подтвердить или опровергнуть сообщение с места преступления о том, что все четверо юношей были обезглавлены. – Мы приступили к тщательному и непрерывному расследованию, – сказал капитан Томас Морано, начальник отдела по убийствам. – Сейчас разрабатываем все возможные версии. Район Филадельфии под названием Джермантаун всегда отличался высоким уровнем преступности, связанной с молодежными бандами. В 1980 году в разборках между группировками здесь погибли два человека, а в 1976 – шестеро. Преподобный Уильям Вудз, директор Благотворительного дома в Джермантауне, заверил, что в последние десять месяцев разборки между уличными группировками утихли, каких-либо данных о распрях или вендеттах сейчас нет. Группировка «Душевный двор» – одна из дюжины молодежных банд в районе Джермантаун. По некоторым данным, в ней около сорока постоянных членов и примерно вдвое больше примкнувших. Как и большинство других уличных группировок в Филадельфии, она издавна конфликтует с органами правопорядка, хотя в последние годы были предприняты попытки улучшить имидж таких группировок посредством выдвинутых городскими властями программ типа «Дома завета» и «Доступ к обществу». Все четверо погибших юношей – члены банды «Душевный двор».Натали инстинктивно, в одно мгновение и без всяких сомнений, поняла, что это как-то связано с Мелани Фуллер. Она понятия не имела, как эта старуха из Чарлстона может быть вовлечена в разборки между уличными бандами в Филадельфии, но снова как бы ощутила пальцы, сдавившие ей горло, и услышала горячий шепот прямо над ухом: «Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне». В международном аэропорту Сент-Луиса, который старожилы все еще называли Поле Ламберта, Натали приняла решение прежде, чем успела испугаться последствий. Она знала, что стоит ей позвонить Фредерику и встретиться с друзьями, и она никогда уже не уедет из Сент-Луиса. Натали закрыла глаза и вспомнила своего отца, лежащего в пустой комнате бюро похоронных услуг. Лицо его еще не было приведено в порядок, и раздраженный работник морга снова и снова повторял: «Но мы не ждали никого из родственников до завтрашнего дня». Натали купила билет до Филадельфии на следующий рейс TWA, воспользовавшись кредитной карточкой. В бумажнике у нее оставалось долларов двести наличными и шестьсот пятьдесят – дорожными чеками. Она проверила, сохранилось ли у нее удостоверение представителя прессы с прошлого лета, когда она работала в «Чикаго сан-таймс», и затем позвонила Бену Йейтсу, редактору фотоотдела этой газеты. – Натали! – донесся до нее голос сквозь треск в трубке и шум аэропорта. – Я думал, ты в колледже до самого мая. – Так и есть, Бен, – сказала она, – но сейчас я на несколько дней отправляюсь в Филадельфию. Может, тебе нужны фотографии по делу об убийстве членов уличной банды? – Конечно нужны, – неуверенно сказал Йейтс. – А что это за дело? Натали вкратце передала смысл заметки. – Какого черта! Не будет там никаких фото! – воскликнул он. – А если и будет, так их передадут по фототелеграфу. – Ну а если я раздобуду что-нибудь интересное, тебе это может понадобиться, Бен? – Конечно. А что происходит, Натали? У тебя все в порядке? Как отец? Натали почувствовала сильную боль в груди, будто ее ударили. Очевидно, Бен еще не знал о гибели ее отца. Она подождала, пока дыхание немного не успокоится. – Я тебе все расскажу, Бен. Как-нибудь позже. А пока, если тебе позвонят из филадельфийской полиции или еще откуда-нибудь, ты сможешь подтвердить, что я выполняю работу для «Сан-таймс»? Последовало короткое молчание. – Хорошо, Натали. Но ты дашь мне знать, в чем там дело, ладно? – Конечно, Бен. Как только смогу. Честное слово. Перед отлетом Натали связалась с университетским компьютерным центром и попросила передать Фредерику, что скоро позвонит. Потом она набрала номер Джентри в Чарлстоне, услышала его голос на автоответчике и после сигнала в трубке сообщила, что у нее поменялись планы. Немного поколебавшись, она добавила: «Будь осторожен, Роб». В салоне самолета, летевшего прямым рейсом до Филадельфии, было много народу. Рядом с Натали сидел темнокожий мужчина, очень хорошо одетый, привлекательный, если не обращать внимания на толстую шею и крупную челюсть. Он, не отрываясь, читал журнал «Уолл-стрит». Натали сначала смотрела в окно, затем немного подремала. Проснулась она минут через сорок пять, чувствуя себя одинокой и уставшей, и сразу пожалела, что отправилась в эту погоню за привидениями. Она вытащила из сумки чарлстонскую газету и в десятый раз перечитала заметку. У нее было ощущение, будто она уже давно уехала из города и все случившееся с ней – и Роб тоже – всего лишь сон. – Я вижу, вы читаете про это безобразие, которое произошло недалеко от моего дома. Натали повернула голову. Ее сосед отложил журнал и теперь улыбался ей, держа в руке стакан с виски. – Вы спали, когда стюардесса разносила напитки, – сказал он. – Хотите, я ее позову? – Нет, спасибо. – Ей что-то не понравилось в манерах этого человека, хотя трудно было сказать, что именно. Все в нем – улыбка, негромкий голос, непринужденная поза – выражало открытое дружелюбие. – А что вы имели в виду, когда сказали про безобразие недалеко от вашего дома? Он указал рукой со стаканом на газету: – Разборки между бандами. Я как раз живу в Джермантауне. Эта мерзость происходит там постоянно. – Вы можете мне рассказать подробнее? Про банды и про… убийства? – Про банды могу, – кивнул сосед. Его голос напоминал Натали раскатистый бас актера Джеймса Эрла. – А вот про убийства – нет. Последние несколько дней меня не было дома. – Тут он широко улыбнулся. – И потом, мисс, я из другого района, несколько повыше классом, чем эти бедные ребята. Вы собираетесь посетить Джермантаун, пока будете в Филадельфии? – Не знаю. А что? Он улыбнулся еще шире, хотя в его темно-коричневых глазах трудно было что-то прочесть. – Просто я подумал, что это будет интересно. Джермантаун – историческое место, там есть не только трущобы и банды. Мне бы хотелось, чтобы туристы знали про обе эти стороны. – Он вдруг спохватился: – О, возможно, я делаю какие-то поспешные выводы и вы сами живете в Филадельфии? Усилием воли Натали заставила себя расслабиться. Нельзя ведь всю жизнь проводить в состоянии параноидного беспокойства и тревоги. – Нет, я просто еду в гости, – улыбнулась она. – И мне хотелось бы услышать как можно больше про Джермантаун. И плохое и хорошее. – Вот это правильно, – одобрил ее собеседник. – Знаете, я, пожалуй, попрошу еще виски. – Он подозвал стюардессу. – Вы действительно ничего не хотите пить? – Если только стакан колы. Он заказал напитки, потом снова повернулся к ней, все так же улыбаясь: – Ну что ж, если я буду вашим официальным гидом по Филадельфии, нам, по крайней мере, следует познакомиться… – Меня зовут Натали Престон, – сказала девушка. – Рад встрече, мисс Престон, – произнес мужчина с вежливым полупоклоном. – А я – Дженсен Лугар. К вашим услугам. «Боинг-727» плавно скользил в облаках, без усилий приближаясь к быстро надвигавшейся зимней ночи.
Глава 17
Александрия, штат Виргиния
Четверг, 25 декабря 1980 г.
За Ароном и его семьей пришли в третьем часу рождественского утра. Арон спал плохо. После полуночи он встал, спустился на кухню и принялся уничтожать вкусное домашнее печенье – подарок соседей Уэнтвортов. Накануне они провели приятный вечер вместе. Третий год подряд они собирались за рождественским столом с Уэнтвортами, Доном и Тиной Сиграм. Жена Арона, Дебора, была еврейкой, но ни он, ни она не принимали свою религию всерьез; Дебора не совсем понимала мужа, когда он называл себя сионистом. Арон часто думал о том, как хорошо его жена вписалась в американский образ жизни. Она готова была пропускать через себя любые проблемы, даже такие, которых нет в природе. Ему всегда было неудобно на приемах и вечеринках в посольстве, когда Дебора вдруг начинала защищать точку зрения ООП. Нет, не ООП, поправил себя Арон, доедая третье печенье, а палестинцев. «Сделаем такое допущение…» – предлагала она и затем лихо развивала эту тему. У нее это здорово получалось, гораздо лучше, чем у Арона. Ему иногда казалось, что он вообще мало в чем разбирается, кроме кодов и шифров. А дядя Сол с удовольствием вступал в спор с Деборой. Кстати, о дяде Соле. Арон потратил четыре дня, обдумывая, не сообщить ли о его исчезновении Джеку Коэну, своему начальнику и главе отделения Моссада в вашингтонском посольстве. Джек был тихим мужчиной невысокого роста, от него исходило ощущение слегка небрежного дружелюбия. И еще он служил капитаном-десантником, когда участвовал в налете на Энтеббе четыре года назад. Кроме того, о нем говорили, что это он разработал план захвата целого египетского комплекса ПВО во время войны Судного дня. Арон никак не мог решить, стоит ли придавать серьезное значение факту исчезновения Сола. Но Леви настаивал на осторожности. Леви Коул, друг Арона, работавший вместе с ним в шифровальном отделе, сделал снимки и помог выяснить, кто есть кто. Он был полон энтузиазма, считая, что дядя Арона наткнулся на нечто очень важное, но он не хотел обращаться к Джеку Коэну или мистеру Бергману, атташе посольства, не имея более подробной информации. Именно Леви помог Арону без шума проверить в воскресенье все местные отели, но поиски Сола Ласки оказались безрезультатными. Было десять минут второго, когда Арон выключил свет на кухне, проверил сигнализацию в коридоре, поднялся в спальню и лег, уставившись в потолок. Близнецы были ужасно разочарованы. Арон сказал Бекки и Рии, что в субботу вечером приедет дядя Сол. Он приезжал в Вашингтон всего раза три или четыре в год, и близнецы, четырехлетние девочки, обожали, когда дедушка (они приходились Солу внучатыми племянницами) навещал их. Арон мог их понять, он помнил, как сам всегда ждал приездов Сола, когда был мальчишкой и жил в Тель-Авиве. В каждой семье должен быть дядя или дедушка, который не подлаживается к детям, но внимательно слушает, когда они говорят что-то важное, приносит именно тот подарок, какой нужен, – не обязательно большой, но всегда интересный, который рассказывает истории и шутит с серьезным видом, что получается гораздо веселее, чем натужное веселье некоторых взрослых. И нынешнее исчезновение было совсем не похоже на Сола – если он обещал что-нибудь, то непременно выполнял обещание. Леви сказал, что Сол, возможно, имеет какое-то отношение к взрыву в офисе сенатора Келлога в прошлую субботу. Связь с Ниманом Траском была слишком очевидной, чтобы ее игнорировать, но Арон знал: его дядя ни за что не станет прибегать к террору в какой бы то ни было форме. У него был шанс заняться этим делом в сороковых годах, когда все, от отца Арона до Менахема Бегина, занимались такого рода деятельностью, теперь же эти бывшие партизаны осуждали ее как терроризм. Арон знал, что Сол участвовал в трех войнах, причем на передовой линии, но всегда в качестве санитара, а не бойца. Он вспомнил, как, засыпая в квартире в Тель-Авиве или на ферме летними ночами, слушал голоса своего отца и дяди Сола, споривших о безнравственности бомбардировок. Сол при этом громко напирал на то, что от актов возмездия «Скайхоков» грудные дети погибали точно так же, как от налетчиков из ООП с их «калашниковыми». Леви и Арон потратили четыре дня, пытаясь расследовать взрыв в здании сената, но так ничего и не добились. Обычные источники Леви в Министерстве юстиции и ФБР не имели информации. Арон несколько раз звонил в Нью-Йорк, но след Сола потерялся. «Да ничего с ним не случилось, – успокоил себя Арон и проговорил вслух, имитируя голос дяди Сола: – Не надо играть в Джеймса Бонда, Модди». Сон пришел внезапно, в усталом мозгу уже мелькали картинки близнецов, прыгающих у елки Уэнтвортов, когда в коридоре послышались какие-то звуки. Мгновенно прогнав сон, Арон откинул одеяло и, схватив с тумбочки очки, вытащил из ящика заряженную «беретту». – Что?.. – спросонья спросила Дебора. – Тихо, – прошипел он. По идее никто не мог проникнуть в дом так, чтобы не сработала сигнализация. В прошлом посольство использовало этот дом в Александрии как конспиративную квартиру. Он стоял в тихом переулке, довольно далеко от дороги. Двор хорошо освещался, а в ворота и стены были вмонтированы сенсоры, приводившие в действие сигналы тревоги на панели в главной спальне и внизу в холле. Войти в дом можно было только через стальную дверь, снабженную системой запоров, перед которой у самого профессионального взломщика опустились бы руки. Сенсоры на дверях и окнах также были подключены к системе сигнализации. Дебору раздражали многочисленные ложные тревоги, и она даже отключила часть системы после того, как они переехали сюда. То был один из редких случаев, когда Арон накричал на нее. Дебора постепенно смирилась с системой безопасности, как и с неудобствами, которые проходилось терпеть из-за того, что они жили далеко от города. Арону тоже не нравилась удаленность от работы, от товарищей по посольству, но он не возражал, поскольку близнецам хотелось жить за городом, и Дебора в конце концов привыкла. Преодолеть оба уровня системы безопасности невозможно, обязательно должна сработать сигнализация – так полагал Арон. Из коридора донесся еще один звук, откуда-то со стороны черной лестницы и детской. Арону показалось, что он слышит тихий шепот. Он махнул Деборе, жестом велев ей лечь на пол с другой стороны кровати. Она так и сделала, стащив вместе с собой и телефон. Арон подошел к открытой двери спальни. Он глубоко вдохнул, левой рукой плотнее надвинул очки, вогнал патрон в патронник и выскочил в коридор. Трое человек, а может, и больше, стояли не далее чем в пяти метрах от него. На них были плотные полевые куртки, перчатки и лыжные маски. К своему ужасу, Арон увидел позади них двух террористов с длинноствольными пистолетами, приставленными к головам Ребекки и Рии. Руками в перчатках они зажимали рты близнецам, на фоне темных курток виднелись только расширенные от ужаса глаза детей да голые ножки в пижамах. Не раздумывая ни секунды, Арон принял стойку для стрельбы, как его учили на бесчисленных тренировках, – широко расставил ноги и вскинул «беретту». В ушах у него зазвучал неторопливый и строгий голос Элиаху, его старого инструктора: «Если они не готовы, стреляй. Если они готовы, стреляй. Если у них заложники, стреляй. Если целей больше одной, стреляй. Два выстрела в каждого. Два. Не думай – стреляй». Но это же не заложники, это его дочери – Ребекка и Рия! Арон видел картинки с Микки-Маусом на их пижамах. Он навел маленькую «беретту» на первую маску. В тире, даже при плохом освещении, он легко мог бы всадить две пули в мишень размером с человеческую голову, повернуться корпусом, не разгибая рук, и всадить еще две пули во второе лицо. На расстоянии пяти шагов Арон укладывал полную обойму из десяти патронов двадцать второго калибра в кружок размером с кулак. Но ведь здесь его дочери!.. – Брось оружие, – прозвучал приглушенный маской голос человека, державшего пистолет с глушителем у головы Бекки. Арон знал, что мог уложить обоих, прежде чем они выстрелят. Деревянный пол словно горел под его босыми ступнями, хотя не прошло и пяти секунд, как он выскочил в коридор. «Никогда не отдавай своего оружия, – внушал им Элиаху в то жаркое лето в Тель-Авиве. – Никогда. Всегда стреляй на поражение. Лучше убить противника, даже если придется самому или заложнику погибнуть или получить ранение». – Брось, тебе говорят. Не выходя из стойки, Арон осторожно положил заряженную «беретту» на пол и широко развел руки: – Пожалуйста. Пожалуйста… Не трогайте детей.* * *
Бандитов оказалось не пять, а восемь человек. Они связали Арону руки за спиной скотчем, вытащили Дебору из-за кровати и отвели всех четверых вниз, в гостиную. Двое мужчин в масках отправились на кухню. – Модди, телефон не работал, – успела выдохнуть Дебора до того, как тащивший ее захватчик заклеил ей рот. Арон кивнул. Он не решался заговорить. Его посадили на фортепианный стул, а Дебору с девочками на пол, спиной к голой стене. Они не залепили рты детям и не связали их, обе девочки рыдали в голос, обнимая маму. Справа и слева от них присели на корточках двое в камуфляжных куртках, джинсах и лыжных масках. Главарь кивнул, и все шестеро стянули маски. «О боже, значит, они собираются нас убить», – подумал Арон. В эту секунду он отдал бы все, что имел, лишь бы повернуть время вспять на три минуты. Он бы выстрелил дважды, повернулся, еще выстрелил дважды, еще повернулся… Все шестеро – белые, загорелые, ухоженные – совсем не походили на палестинских агентов или коммандос из организации «Бадер-Майнхоф». Они выглядели скорее как обычные люди, которых Арон видел каждый день на улицах Вашингтона. Тот, что стоял перед ним, наклонился, его лицо было теперь совсем близко от лица Арона. У него были голубые глаза и идеальные зубы. Легкий акцент выдавал в нем уроженца Среднего Запада. – Мы хотим поговорить с тобой, Арон. Он кивнул. Его руки были связаны за спиной так туго, что он уже не чувствовал их. Если упасть на спину, еще можно дать хорошего пинка в рожу этому красавчику. Остальные пятеро были вооружены и стояли слишком далеко – он не смог бы дотянуться до них при всем желании. Арон почувствовал желчный привкус во рту, усилием воли он попробовал замедлить сумасшедшее биение сердца. – Где фотографии? – спросил человек приятной наружности, что стоял перед ним. – Какие фотографии? – Арон не верил своим ушам – он не только смог заговорить, но его голос звучал твердо, не выдавая никаких эмоций. – Ну, Модди, не надо играть с нами в прятки. – Главарь кивнул худощавому парню, стоявшему у стены. Все с тем же безучастным выражением тот ударил четырехлетнюю Бекку по лицу. Девочка закричала. Дебора попыталась освободиться, она тоже кричала, хотя ее голоса не было слышно. Арон встал. – Сучий сын! – крикнул он на иврите. Главарь свалил его на пол ударом ноги. Он упал на бок, сильно ударившись носом и скулой о полированный пол. Теперь уже закричали обе девочки. Арон слышал, как захватчики с треском отмотали липкую ленту, и крики прекратились. Худощавый подошел, поднял Арона и с силой снова посадил на пуфик. – Фотографии в доме? – тихо спросил главарь. – Нет. – Арон мотнул головой. Кровь из носа потекла на верхнюю губу. Он запрокинул голову и почувствовал, как горит от боли щека. Правая рука онемела. – Они в сейфе в посольстве, – сказал он, слизывая кровь с губы. Главарь кивнул и слегка улыбнулся: – Кто их видел, кроме твоего дяди Сола? – Леви Коул. – Начальник отдела связи, – удовлетворенно отметил главный. – Исполняющий обязанности начальника, – уточнил Арон. Возможно, какой-то шанс все же есть. Сердце его снова бешено забилось. – Ури Давиди в отпуске. – Кто еще? – Больше никто, – еле выдавил из себя Арон. Главарь покачал головой, словно его разочаровал ответ, и кивнул одному из своих подручных. Дебора вскрикнула, когда нога в тяжелом ботинке ударила ее в бок. – Никто! – закричал Арон. – Клянусь! Леви не хотел обращаться к Джеку Коэну, пока мы не получим больше информации. Клянусь… Я могу раздобыть фотографии. А негативы у Леви в сейфе. Можете забрать… – Тихо, тихо. – Красавец повернулся к тем двоим, что вышли из кухни. Один из них кивнул. – Наверх, – приказал он, и четверо стали подниматься по лестнице. Арон вдруг почувствовал запах газа и догадался, что они открыли вентили. «Зачем, о боже, зачем?» Трое оставшихся внизу связали руки и ноги сначала детям, потом Деборе. В отчаянии Арон пытался что-нибудь придумать, о чем можно было бы поторговаться, предложить хоть что-то… – Я могу вас провести туда прямо сейчас, – сказал он. – Там в это время никого нет. Почти никого. Я достану фотографии, какие угодно документы. Скажите, что вам нужно? Я поеду с вами, клянусь… – Тише, – успокоил главарь. – Хейни Адам видел их? – Нет, – выдохнул Арон. Он смотрел, как они укладывали жену и детей на пол, укладывали осторожно, чтобы их головы не ударились о дерево. Дебора была очень бледна, глаза ее закатились. Арон подумал, что она, наверное, потеряла сознание. – Барбара Грин? – Нет. – Моше Герцог? – Нет. – Пол Бен-Бриндси? – Нет. – Хаим Тсолков? – Нет. – Зви Хофи? – Нет. Этот допрос мог продолжаться бесконечно, главарь называл имя за именем, перебирая всех сотрудников израильского посольства, вплоть до помощников посла. Арон понял, что с самого начала это была всего лишь игра, просто безобидный способ убить время, пока идет обыск наверху и у него в кабинете. Он был согласен играть в эту игру, выдать любой секрет, лишь бы они не причиняли боль Деборе и близнецам. Одна из девочек застонала, попыталась перекатиться на бок. Худощавый похлопал ее по крохотному плечику. Четверка вернулась. Тот, что был выше всех, отрицательно мотнул головой. Красавец вздохнул и сказал: – Что ж, приступим. Один из тех четверых прилепил скотчем к стене белую детскую простынку. Потом к стене прислонили Дебору и детей. – Приведите-ка ее в чувство. Худощавый достал из кармана ампулу с нюхательной солью и разломил ее у Деборы под носом. Она сразу пришла в себя и вскинула голову. Два человека схватили Арона за плечи и за волосы, подтащили к стене и поставили на колени. Худощавый отступил назад, вытащил небольшой поляроид и сделал фотографии. Подождав, пока не проявятся снимки, он показал их главарю. Еще один из налетчиков принес маленький магнитофон «Сони» и поставил его рядом с Ароном. – Пожалуйста, прочитай вот это, – сказал главарь, разворачивая листок с напечатанным на машинке текстом и поднося его к глазам Арона. – Нет. – Он напрягся, ожидая удара. Ему хотелось любым способом поломать им сценарий, хоть как-то выиграть время. Главарь задумчиво кивнул и отвернулся. – Убейте одну из девочек, – тихо приказал он. – На выбор. – Нет! Постойте! Прошу вас! – пронзительно закричал Арон. Худощавый приставил глушитель к виску Ребекки, взвел курок и глянул на своего предводителя. – Одну секунду, пожалуйста, Дональд, – сказал тот, снова поднес лист бумаги к лицу Арона и включил магнитофон. – Дядя Сол, с нами все в порядке, Дебора и девочки чувствуют себя хорошо, но я прошу вас: сделайте все, что они скажут… – начал Арон. Он медленно прочитал те несколько абзацев, что были напечатаны. Это заняло меньше минуты. – Прекрасно, Модди, – похвалил главарь. Два человека снова схватили Арона за волосы и с силой запрокинули его голову. Он едва мог дышать от напряжения, глаза его метались из стороны в сторону, пытаясь хоть что-то увидеть. Простыню сняли со стены и унесли. Один из бандитов вытащил из кармана куртки кусок черного дешевого полиэтилена и расстелил его на полу перед Деборой. – Тащите-ка его сюда, – приказал главный, и Арона снова поволокли к фортепианному стулу. В тот момент, когда его волосы опустили, он распрямился, как пружина, ударил головой красавца в подбородок, повернулся, боднул еще одного в живот, уворачиваясь от множества потянувшихся к нему рук, ногой нацелился противнику между ног, но промахнулся, и тут его повалили на пол. Он снова сильно ударился лицом, но ему было уже все равно… – Что ж, начнем сначала, – спокойно сказал главарь, ощупывая разбитый подбородок. Позевывая, он пытался растянуть мышцы челюсти. Синяк, скорее всего, окажется ниже подбородка. – Кто вы? – выдохнул Арон, когда они снова рывком усадили его на фортепианный стул; один из них стянул его щиколотки липкой лентой. Ему никто не ответил. Худощавый подтащил Дебору и поставил ее на колени на черный полиэтилен. У двоих в руках были тонкие проволоки сантиметров по пятнадцать, заостренные с одного конца, а с другого заделанные в деревянные конусовидные рукоятки. В комнате страшно воняло газом. Арон чувствовал, что его вот-вот стошнит от запаха. – Что вы хотите делать? – Горло Арона пересохло, слова звучали хрипло. Главарь что-то отвечал ему, но в голове Арона все перепуталось, мысли крутились, словно автомобиль на льду. Он перенесся в какое-то другое измерение и стал смотреть на все происходящее откуда-то сверху, отказываясь принять то, что должно случиться, и все же зная, что это непременно случится, ибо нет никакой возможности изменить что-либо – ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем… Сердце его сжалось от невыносимой безнадежности, той самой, что ощущали до него сотни поколений евреев – у дверей крематориев или смертельных душегубок, перед стихией огня, пожирающего их храмы, города, гетто, или под ударами бичей свирепых гоев. «Дядя Сол знал», – подумал Арон, крепко зажмурившись. – Сейчас произойдет взрыв газа, – звучал будто издалека спокойный голос главаря. – Потом пожар. Опытный коронер или врач может установить, что люди умерли незадолго до пожара, но он этого не установит. Проволока вводится в угол глаза и идет прямо в мозг. Остается очень маленькая дырочка, даже если тело не обгорело. – Он повернулся к остальным. – Я думаю, миссис Эшколь найдут в коридоре наверху – она будет обнимать детей. Им почти удастся выбраться из пламени. Женщину – первой. Потом близнецов. Арон пытался вырываться, стучал руками и ногами, бился головой, но его держали крепко. – Кто вы? – закричал он. – Кто мы? – неожиданно переспросил красивый мужчина. – Да никто. Абсолютно никто. – Он отошел в сторону, чтобы Арон мог лучше видеть то, что будут делать остальные. Когда с проволокой подошли к нему, он уже не сопротивлялся.Глава 18 Мелани
Направляясь к северу и наблюдая из окна автобуса бесконечную вереницу трущоб Балтимора и промышленной клоаки Вилмингтона, я вспомнила строчку из Блаженного Августина: «На севере дьявол обоснует свои города». Я всегда испытывала ненависть к большим северным городам – к их смраду неперсонифицированного безумия, мрачным, давящим столбам угольного дыма, ощущению безнадежности, которое словно окутывало грязные улицы и их не менее грязных обитателей. Я всегда считала, что самое очевидное проявление предательства Нины Дрейтон заключается в том, что она променяла юг на холодные каньоны Нью-Йорка. Однако яне собиралась углубляться на север так далеко. Внезапно обрушившийся снегопад скрыл унылые удручающие картины, мелькавшие за окном, и я вновь переключила внимание на то, что происходит в салоне автобуса. Женщина, сидевшая по другую сторону прохода, оторвалась от книги и лукаво улыбнулась мне, уже в третий раз с тех пор, как мы выехали из пригорода. Я кивнула ей и продолжила вязать, прикидывая, сможет ли эта робкая леди, вероятно лет пятидесяти с небольшим, но отмеченная печатью дряхлости старой девы, помочь мне разрешить кое-какие проблемы. По крайней мере одну из них. Когда мы выехали из Вашингтона, я ощутила облегчение. В молодости мне еще нравился этот сонный южного типа город; вплоть до Второй мировой войны в нем царил дух свободной раскованной неразберихи. Но теперь этот мраморный муравейник казался мне претенциозным мавзолеем, кишащим суетящимися насекомыми, стремящимися к власти. Я взглянула в окно на снежные вихри и какое-то мгновение не могла даже вспомнить число и месяц. Первым в памяти всплыл день недели – четверг. Две ночи – со вторника на среду и со среды на четверг – мы провели в каком-то жутком мотеле в нескольких милях от центра Вашингтона. В среду я приказала Винсенту отвезти «бьюик» в район Капитолия, оставить его там и вернуться в мотель пешком. Это заняло у него три часа, но он не жаловался. В будущем он тоже не станет жаловаться. Во вторник ночью я заставила его позаботиться о некоторых необходимых частностях, снабдив его обычной ниткой и иголкой, которую я накалила в пламени свечи. Покупки, сделанные мною в среду утром, – несколько платьев, халат, нижнее белье – удручающе контрастировали с изысканными вещами, оставленными в аэропорту Атланты. Однако в моей дурацкой соломенной сумке все еще оставалось почти девять тысяч долларов. Конечно, можно было получить деньги из сейфов и со счетов в Чарлстоне, Миннеаполисе, Нью-Дели и Тулоне, но пока у меня не было намерения воспользоваться этими суммами. Раз Нине было известно о моем счете в Атланте, она может знать и об остальных. «Нина мертва», – в который раз твердила я себе. Но из всех нас она обладала самой сильной Способностью. Она использовала одну из пешек Вилли, чтобы уничтожить его самолет в тот самый момент, когда сидела и болтала со мной. Возможно, она могла добраться до меня и из могилы, ее Способность не умрет, пока астральное тело Нины разлагается в гробу. Сердце у меня учащенно забилось, и я искоса взглянула на лица пассажиров, едва различимые в полумраке… Сегодня 18 декабря, четверг, значит до Рождества остается ровно неделя. Мы встречались двенадцатого. С тех пор, казалось, миновала целая вечность. За последние двадцать лет в моей жизни происходило не так уж много видимых перемен, если не считать вынужденных поблажек, которые я позволяла себе. Теперь все идет по-другому. – Извините меня, – не выдержала женщина, сидевшая через проход, – но я не могу удержаться, чтобы не выразить свое восхищение вашим вязанием. Это свитерок для внука? Я одарила ее своей самой лучезарной улыбкой. Когда я была маленькой и еще не знала о существовании вещей, которых не положено делать молодой леди, я ездила с отцом на рыбалку. И больше всего мне нравились первые робкие подергивания лески и рывки поплавка. Именно в этот момент, когда рыба готова проглотить наживку, рыболов должен проявить все свое умение. – О да! – с готовностью отозвалась я. От одной мысли о хнычущем внуке меня чуть не стошнило, но я давно уже открыла для себя целительную пользу вязания и тот психологический камуфляж, который оно мне обеспечивало в общественных местах. – Мальчик? – Девочка, – ответила я и проникла в сознание женщины. Это оказалось так же просто, как войти в открытую дверь. Я не встретила ни малейшего сопротивления. Как можно осторожнее и незаметнее я скользила по коридорам ее мозга, не оказывая насилия, пока не добралась до центра удовольствия. Представив себе, что ласкаю персидскую кошку, хотя терпеть их не могу, я принялась поглаживать ее, ощущая поток удовольствия. – Ах! – воскликнула женщина и залилась краской, сама не понимая отчего. – Внучка, это так чудесно. Я стала поглаживать ее медленнее, меняя ритм, соотнося его с каждым робким взглядом, который она бросала на меня, и увеличивая давление, когда до нее доносились звуки моего голоса. Некоторые люди поражают этой своей способностью при первой же встрече. Среди молодежи это называется влюбленностью, у политиков носит название плодотворной притягательности. Когда подобный талант проявляется у оратора, обладающего хотя бы намеком на Способность, это приводит к массовой истерии толпы. Например, современники и соратники Адольфа Гитлера часто упоминали, как хорошо они ощущали себя в его присутствии, однако почему-то этому факту психологического воздействия личности на толпу уделяется мало внимания. Несколько недель такой обработки, и у этой женщины разовьется потребность подобного состояния, гораздо большая, чем потребность в героине. Нам нравится быть влюбленными, потому что это единственное чувство, позволяющее людям максимально приблизиться к психологической наркомании. По прошествии нескольких минут малосодержательного, ни к чему не обязывающего диалога эта одинокая женщина, выглядевшая настолько же старше своего возраста, насколько я – моложе, похлопала рукой по свободному сиденью рядом и предложила, снова залившись краской: – Здесь достаточно места. Может, вы присоединитесь ко мне, чтобы мы могли продолжить беседу, не повышая голоса? – С радостью! – откликнулась я и засунула вязанье и спицы в сумку – они уже сделали свое дело.* * *
Ее звали Энн Бишоп, она возвращалась домой в Филадельфию после длительного и неприятного пребывания в Вашингтоне в доме своей младшей сестры. Через десять минут я уже знала о ней все необходимое. В мозговом поглаживании не было никакой надобности – эта женщина изнемогала от жажды общения. Энн происходила из благопристойной и благополучной филадельфийской семьи. Трастовый фонд, основанный ее отцом, оставался главным источником ее дохода. Она никогда не была замужем. В течение тридцати двух лет этот усохший призрак женщины опекал брата Пола, страдавшего параличом нижних конечностей, который медленно переходил в полный паралич под воздействием какого-то нервного заболевания. В мае Пол умер, и Энн Бишоп еще не привыкла к состоянию, когда не нужно постоянно думать о нем. Ее визит к сестре Элейн, впервые за восемь лет, оказался неудачным. Энн раздражали неотесанный муж Элейн и ее плохо воспитанные дети. Короче говоря, тетя Энн в силу своих привычек старой девы испытывала к этой семье лишь отвращение. Я была хорошо знакома с этим типом женщин, поскольку за время своей долгой спячки не раз прибегала к образу несчастной женщины-неудачницы с целью маскировки. Она была спутником в поисках планеты, вокруг которой можно было бы совершать свои обороты. Ее устраивала любая, лишь бы она не требовала холодного и одинокого эллипса независимости. Парализованные братья были даром Божьим для таких женщин, их могла бы заменить бесконечная и безраздельная преданность мужу или ребенку, но именно уход за умирающим братом давал массу оправданий для пренебрежения другими обязанностями, проблемами и утомительными подробностями бытия. Неослабевающая забота и преданность этих женщин всегда превращают их в эгоистичных монстров. В ее робких, скромных и нежных упоминаниях о дорогом усопшем брате я ощущала извращенный фетишизм судна и кресла-каталки, тридцатилетнее мазохистское отрицание юности, женственности, зрелости, материнства, принесенных в жертву смердящим потребностям полутрупа. Я прекрасно поняла Энн Бишоп – она испытывала наслаждение от процесса медленного самоубийства. При мысли, что мы с ней принадлежим к одному полу, меня охватил стыд. Зачастую, встречая таких несчастных, я с трудом преодолеваю искушение помочь им затолкать собственные руки в глотку, чтобы они уже окончательно распрощались с этим миром. – Да, понимаю. – Я похлопала Энн Бишоп по руке, пока она, заливаясь слезами, рассказывала о своих страданиях. – Я знаю, что это такое. – Правда? – восторженно прошептала она. – Так редко можно встретить человека, который понимает чужое горе. Я чувствую, что между нами много общего. Я кивнула и посмотрела на нее. Ей пятьдесят два, хотя вполне можно было дать все семьдесят. Она была хорошо одета, но из-за сутулости дорогой костюм сидел мешковато, казался просто безвкусной домашней одеждой. Темно-русые крашеные волосы были расчесаны на прямой пробор, не менявший своего направления в течение сорока пяти лет, грудь безвольно свисала, в глазах, обведенных темными кругами, всегда стояли непролитые слезы. Тонкий поджатый рот явно не был приспособлен для смеха. Все морщины на лице шли сверху вниз, глубоко запечатлев в себе непреодолимый закон земного притяжения. Мысли скакали беспорядочно и были отрывочны, как у перепуганной белки. Она подходила идеально. Я рассказала ей свою историю, назвавшись Беатрисой Строн, поскольку при мне все еще оставались документы на это имя. Мой муж был преуспевающим банкиром в Саванне. После его смерти, восемь лет назад, дело перешло к сыну моей сестры. Тодд – так звали моего выдуманного племянника, – похоже, собирался спустить не только все свои деньги, но и мои, пока осенью этого года не погиб вместе со своей развратной женой в страшной автомобильной катастрофе, оставив мне оплату расходов на похороны, огромные долги и своего сына Винсента. Мой родной сын со своей беременной женой жили в Окинаве, они преподавали в миссионерской школе. Я только что продала дом в Саванне, расплатилась с последними долгами погибшего олуха Тодда и теперь направлялась на север в поисках новой жизни для себя и своего внучатого племянника. Это была полная ахинея, но я помогала Энн Бишоп поверить в нее, сопровождая каждое откровение легкими поглаживаниями ее центра удовольствия. – У вас очень красивый племянник, – промолвила Энн. Я улыбнулась и взглянула через проход туда, где сидел Винсент. На нем была дешевая белая рубашка, темный галстук, синяя ветровка, отглаженные брюки и черные ботинки, купленные для него в Вашингтоне. Я хотела постричь ему волосы, но потом по какому-то наитию решила оставить их длинными – они теперь были чистыми и аккуратно собранными назад в хвостик. Он безучастно смотрел в окно на снегопад и проносившиеся мимо машины. Изменить его лицо, напоминавшее мордочку хорька из-за отсутствия подбородка, или уничтожить на нем прыщи оказалось мне не под силу. – Спасибо, – улыбнулась я. – Он пошел в мать… да упокоит Господь ее душу. – Он очень спокойный, – продолжила Энн. Я кивнула и позволила слезам увлажнить свои глаза. – Несчастный случай… – начала было я и умолкла, выдержав паузу. – Бедняжка почти лишился дара речи после той автомобильной катастрофы. Мне сказали, что он уже никогда не сможет говорить. – Боже мой, боже мой, – закудахтала Энн. – Нам не дано понять Божью волю, остается лишь терпеть. Так мы утешали друг друга, пока автобус с шипением проносился по эстакаде над бесконечными трущобами южной Филадельфии.* * *
Энн Бишоп была в восторге, когда мы приняли ее приглашение погостить у нее несколько дней. Окраины Филадельфии были перенаселены, изобиловали шумом и грязью. Вместе с Винсентом, который нес наши сумки, мы добрались до метро, и Энн купила билеты до станции «Челтен-стрит». Пока мы еще ехали в автобусе, она успела рассказать мне о своем очаровательном домике в Джермантауне. И хотя она упомянула, что за последние десятилетия квартал пришел в упадок в силу появления «нежелательных элементов», я все же представляла его себе как нечто обособленное. Однако все оказалось иначе. В тусклом дневном свете за окном поезда мелькали ряды одноквартирных домов, разваливающиеся кирпичные заводы, осевшие пристани, узкие улочки, запруженные каркасами брошенных автомобилей, пустые стоянки и негры. Казалось, город полностью заселен черными, за исключением нескольких пассажиров и водителей машин, мчавшихся по шоссе параллельно рельсам поезда. В отчаянии я взирала сквозь грязное окно на чернокожих детей, носившихся по заброшенным стоянкам, на негров, бредущих с тупой угрозой на лице по пустым улицам, и толстых негритянок, толкавших перед собой краденые тележки для продуктов. Прижавшись лбом к холодному стеклу, я с трудом сдерживалась, чтобы не заплакать. Мой отец был прав, когда в те последние солнечные дни перед войной предсказывал гибель страны, если цветным будет предоставлено право голоса. Они превратили когда-то великую нацию в рассеянные обломки собственной отчаянной лени. Нина никогда не найдет меня здесь. В последнее время я двигалась на ощупь, поступала наугад. Неделя или, возможно, несколько недель, проведенных у Энн, даже если они означали сосуществование с безработными неграми, еще больше усугубят непредсказуемость уже и так довольно сумбурного плана моих действий. Наконец мы вышли из поезда на станции под названием «Челтен-стрит». Рельсы здесь пролегали между голыми бетонными стенами, а сам город нависал сверху. Мне вдруг стало страшно, и, чувствуя, что слишком устала, чтобы подниматься на улицу, я опустилась на неудобную скамейку цвета желчи и несколько минут приходила в себя. Поезд с ревом промчался мимо, устремившись к центру города. На лестнице собралась группа цветных подростков, они выкрикивали непристойности, толкая друг друга, а также всех попадавшихся им на пути. Издали доносился уличный шум. Дул нестерпимо холодный ветер, неизвестно откуда пошел снег. Винсент, однако, даже не шелохнулся и не стал застегивать свою ветровку. – Давайте возьмем такси, – предложила Энн. Я кивнула, но продолжала сидеть до тех пор, пока не увидела, как из расщелины в бетонной стене напротив появились две крысы размером с небольших кошек и начали рыться в мусоре пересохшей сточной канавы.* * *
Водитель такси оказался угрюмым негром. Он содрал с нас немыслимую плату за расстояние в восемь кварталов. Джермантаун представлял собой смесь камня, кирпича, неоновых вывесок и рекламных стендов. Челтен и Джермантаун-стрит были запружены машинами, изобиловали дешевыми магазинами и барами и кишмя кишели человеческими отбросами, характерными для любого северного города. Однако далее по Джермантаун-стрит ездили настоящие автобусы, а между банками, барами и лавками старьевщиков кое-где виднелись прекрасные старые каменные дома или вдруг попадался кирпичный магазинчик постройки прошлого века или небольшой клочок парка с позеленевшими статуями за железной оградой. Пару веков назад здесь, вероятно, находилось крохотное поселение с изысканными коттеджами и воспитанными фермерами или антикварами, предпочитавшими жить в десяти милях от города. Еще сто лет назад это было тихое местечко в нескольких минутах езды от Филадельфии, сохранявшее свое очарование, с большими домами вдоль тенистых улиц и редкими тавернами, жавшимися к проезжей дороге. Сегодня Филадельфия поглотила Джермантаун, как какой-нибудь огромный донный карп заглатывает гораздо более прекрасную, но маленькую рыбку, оставляя лишь обглоданные белые косточки, которым суждено перемешаться с остальным хламом в ужасающем пищеварительном процессе прогресса. Энн так гордилась своим домиком, что, показывая его нам, постоянно заливалась краской. Он представлял собою явный анахронизм с белеными стенами, – вероятно, когда-то здесь жили фермеры. Располагался он в нескольких десятках ярдов от центра, на узкой улочке под названием Квин-лейн. Высокий деревянный забор, почти скрывавший дом из виду, был жестоко исцарапан и расписан, несмотря на явные попытки поддерживать его в аккуратном состоянии. Дворик был еще меньше моего в Чарлстоне, перед входной дверью находилось крохотное крылечко, два мансардных окна намекали на наличие второго этажа. Рядом с домом виднелось единственное чахлое персиковое дерево, которому, похоже, никогда уже не суждено расцвести. Сам домик был зажат между химчисткой, рекламирующей дохлых мух в витринах своих окон, и заброшенным трехэтажным зданием, которое можно было бы принять за пустующее, если бы не черные лица, маячившие за окнами. На противоположной стороне улицы высились разнообразные склады из осыпающегося кирпича, переделанные под жилье, а через полквартала к югу тянулась вереница вездесущих одноквартирных домов. – Не слишком шикарно, но зато свое, – промолвила Энн, ожидая, что я опровергну первую часть ее заявления; я и опровергла. Большая спальня Энн и комната поменьше для гостей располагались на втором этаже. Крохотная спальня за кухней принадлежала ее брату, там все еще пахло лекарствами и сигарами. Энн, вероятно, собиралась предложить нижнюю комнату Винсенту, а маленькую гостевую – мне. Я ненавязчиво продиктовала ей уступить нам две верхние комнаты, а самой перебраться вниз. Пока она переносила свою одежду и личные вещи, я осмотрела остальной дом. Здесь была еще маленькая столовая, слишком официальная для своих размеров, крохотная гостиная, забитая мебелью и изобиловавшая большим количеством пятен на стенах, кухня, такая же холодная и бесприютная, как и сама Энн, комната брата, ванная и миниатюрное заднее крыльцо, выходившее во дворик размером не больше собачьей конуры. Я открыла заднюю дверь, чтобы впустить немного свежего воздуха в затхлый дом, и мимо моих ног проскользнул толстый серый кот. – Ой, Пушок! – воскликнула Энн, застыв с целой охапкой одежды. – Это мой ребеночек. За ним присматривала миссис Пагнелли, но он почувствовал, что мамочка вернулась. Ты без меня не плакал? – обратилась она к коту. Я улыбнулась и отступила назад. Считается, что женщины в моем возрасте должны любить котов, тащить их к себе в дом при каждой возможности и вообще прыгать как идиотки вокруг этих надменных и предательских животных. Когда я была девочкой лет шести-семи, не больше, моя тетя каждое лето привозила с собой толстого сиамца. Я всегда боялась, что как-нибудь ночью он уляжется мне на лицо и я задохнусь. Помню, я сунула этого кота в мешок, пока взрослые пили лимонад на заднем дворе, потом утопила его в корыте с водой и оставила за соседским сараем, где часто собиралась свора рыжих собак. Когда обработка Энн будет закончена, я не удивлюсь, если с ее «ребеночком» произойдет подобный несчастный случай.* * *
Человеку, обладающему Способностью, весьма несложно Использовать окружающих, гораздо сложнее подвергнуть их успешной обработке. Когда Нина, Вилли и я почти полвека назад начали в Вене Игру, мы забавлялись тем, что Использовали посторонних людей, и мало задумывались о необходимости последующей ликвидации этих одушевленных инструментов. Позднее, когда мы повзрослели и усовершенствовались в применении своей Способности, каждый из нас ощутил потребность в компаньоне – полуслуге-полутелохранителе, который был бы идеально настроен на восприятие наших нужд и его использование не требовало бы от нас почти никаких усилий. До того как двадцать пять лет назад я нашла мистера Торна в Швейцарии, я путешествовала с мадам Тремон, а до нее – с молодым человеком, которого я называла Чарльзом, из дешевой юношеской сентиментальности дав ему имя своего последнего возлюбленного. Нина и Вилли сменили целую вереницу пешек, пока рядом с Вилли роковым образом не оказались два его последних компаньона, а рядом с Ниной – ненавистная Баррет Крамер. Такая обработка требует некоторого времени, хотя решающими становятся первые дни. Сложность заключается в необходимости сохранить пустую оболочку личности, но исключить для нее какую-либо возможность независимых действий. И хотя поступки становятся регулярными, они должны оставаться автономными в том смысле, что простые ежедневные обязанности и действия осуществляются самостоятельно, без какого-либо прямого руководства. Чтобы появляться на людях с такими обработанными ассистентами, в них необходимо сохранять подобие неповторимой индивидуальности. Преимущества такой обработки очевидны. Тогда как Использовать одновременно двух людей трудно, даже почти невозможно, хотя Нина и была способна на это, управлять действиями двух обработанных пешек не представляет никакого труда. Вилли никогда никуда не отправлялся без двух своих «приятелей», а Нина, до того как впала в феминизм, разъезжала с пятью-шестью молодыми красивыми телами. Обрабатывать Энн Бишоп было просто – она сама стремилась к подчинению. За те три дня, что я отдыхала в ее доме, она была доведена до соответствующей кондиции. С Винсентом дело обстояло иначе. Хотя мое начальное «обучение» уничтожило в нем все проявления воли высшего порядка, его подсознание продолжало оставаться необузданным и плохо управляемым клубком страхов, предрассудков, желаний, похоти и взрывов ненависти. Я не хотела их вытравлять, ведь они были источниками той энергии, которая могла потребоваться мне позднее. В течение этих трех длинных дней перед Рождеством 1980 года я отдыхала в чуть спертой атмосфере дома Энн Бишоп и изучала темное подсознание эмоциональных джунглей Винсента, оставляя в нем пути и механизмы для дальнейшего использования. В воскресенье 21 декабря я завтракала тем, что приготовила Энн, и расспрашивала ее о друзьях, средствах к существованию и прочих житейских подробностях. Выяснилось, что друзей у нее нет, да и жизни, как таковой, тоже. Время от времени ее навещала миссис Пагнелли, соседка, она же иногда присматривала за Пушком. При упоминании о пропавшем коте глаза Энн наполнились слезами, и я почувствовала, как мысли ее заскользили в сторону. Я усилила давление и вернула ее обратно к новой и главной страсти – желанию доставить мне удовольствие. На банковском счете Энн находилось семьдесят три тысячи долларов. Как многие эгоистичные старухи, ощущающие приближение унылого конца своей унылой жизни, в течение многих десятилетий она жила на грани нищеты, копила деньги и акции, как сумасшедшая белка, складывающая желуди, которые ей никогда не понадобятся. Я предложила Энн перевести все ее ценные бумаги в наличные деньги на следующей неделе, и она сочла, что это прекрасная мысль. Мы как раз обсуждали источники ее доходов, когда она упомянула Ропщущую Обитель. – Общество платит мне небольшую стипендию за то, что я приглядываю за ней, вожу туда иногда частные экскурсии, проветриваю, когда она закрывается на долгое время, как, например, сейчас… – Что это за общество? – поинтересовалась я. – Филадельфийское общество сохранения достопримечательностей, – пояснила Энн. – А что это за достопримечательность – Ропщущая Обитель? – О, мне бы очень хотелось показать ее вам! – с энтузиазмом откликнулась Энн. – До нее отсюда всего один квартал. Три дня отдыха и обработки этих двоих утомили меня, и я с готовностью кивнула. – После завтрака, – промолвила я. – Если у меня возникнет желание пройтись.* * *
Даже сейчас мне трудно передать все очарование и внешнюю несуразность Ропщущей Обители. Располагалась она непосредственно на вымощенной разбитым кирпичом Джермантаун-стрит, состоявшей из нескольких прекрасных старых зданий в окружении баров, лавок старьевщиков, гастрономов и дешевых магазинчиков. Переулки, отходящие от главной улицы, в этом месте упирались в самые настоящие трущобы, ряды одноквартирных домов и пустующие стоянки. Но здесь, под табличкой «Джермантаун-стрит, 5267», за рядом парковочных счетчиков и двумя почерневшими от копоти и изрезанными ножами дубами, в десяти футах от оживленного движения, громыхающих трамваев и бесконечного шествия цветных пешеходов высилось старинное каменное чудо с высокими окнами. В дом вели две парадные двери. Энн достала ключи на искореженном кольце и открыла восточный вход. Внутри было темно из-за тяжелых штор, плотно прикрывавших окна, пахло стариной, вековым деревом и мебельным лаком. Мне показалось, что я вернулась домой. – Здание построил в тысяча семьсот сорок четвертом году Джон Вистер, – начала Энн. Голос ее становился громче, постепенно приобретая интонации гида. – Он был филадельфийским купцом и пользовался этим домом в летнее время. Потом дом стал круглогодичной резиденцией семьи. Мы перешли из маленькой прихожей в гостиную. Пол, выложенный резным паркетом, был натерт до блеска, лепнина потолка выполнена в элегантном и скромном стиле «обручального кольца», у камина стояло кресло. Рядом на столике XVIII века высилась единственная свеча в старинном шандале. Ни электрических лампочек, ни розеток видно не было. – Во время битвы при Джермантауне, – продолжала Энн, – в этой комнате скончался британский генерал Джеймс Агню. Здесь до сих пор видны следы его крови. – Она указала на пол. Я посмотрела на едва различимые пятна на дереве. – Но снаружи нет никакой вывески, – удивилась я. – Раньше в окне висела маленькая табличка, – пояснила Энн. – Дом был открыт для посещений по вторникам и четвергам с двух до пяти. Кроме того, Общество организовывало частные экскурсии для тех, кого интересовала местная история. Но теперь дом закрыт и будет закрыт по меньшей мере еще месяц, пока не поступят фонды для завершения реставрационных работ, начатых на кухне. – А кто здесь живет сейчас? – спросила я. Энн рассмеялась, и смех ее прозвучал как слабый мышиный писк. – Никто здесь не живет. Здесь же нет электричества, нет отопления, за исключением каминов, отсутствует канализация. Я регулярно слежу за домом, а раз в полтора-два месяца сюда с инспекцией приезжает миссис Уэйверли из Общества. Я кивнула. – Вон потайная дверь влюбленных, – промолвила я. – Ах да, вы знакомы с обычаями! – улыбнулась Энн. – Она также использовалась при похоронах. – Покажите мне остальной дом, – распорядилась я. В столовой стояли деревянный стол и кресла, своим видом напоминающие скромную красоту раннего колониального стиля. Здесь же находилась потрясающая деревянная скамья ручной работы. Энн указала на кресло, выполненное Соломоном Фасселем, тем самым, что изготовлял кресла для Зала Независимости. Окна кухни выходили на задний двор, и, несмотря на темную замерзшую землю и снег, мне удалось различить там следы прекрасного старого цветника, который должен был благоухать здесь летом. Пол на кухне был каменным, а камин настолько большим, что в него можно было войти не наклоняясь. На стене висел странный набор древней утвари и инструментов – огромные ножницы, коса длиной в шесть футов, мотыга, старинные грабли, железные щипцы, а рядом стоял громадный педальный точильный станок. Энн указала на развороченный угол – вынутая каменная кладка была сложена рядом, а отверстие прикрывал уродливый кусок черного пластика. – Здесь были незакрепленные плиты, – пояснила она. – Во время реставрации в ноябре рабочие обнаружили под камнем сгнивший деревянный пол и частично засыпанный коридор. – Подземный ход? – Возможно. – Энн кивнула. – Когда дом строился, индейцы еще продолжали свои вылазки. – И куда же он ведет? – Рабочие выяснили, что выход из него должен находиться где-то за соседним гаражом. – Энн махнула рукой в сторону подернутого инеем окна. – Но у Общества пока нет денег, чтобы продолжать раскопки, по крайней мере до начала февраля, когда оно получит пособие от Филадельфийского исторического комитета. – Винсенту, я вижу, ужасно хочется заглянуть в этот подземный ход, – сказала я. – Ну конечно, – согласилась Энн. В гостиной стояла свеча, однако мне пришлось отослать мальчишку обратно в дом Энн за спичками. Когда он отодвинул пластик и спустился по короткой лесенке, я прикрыла глаза, чтобы лучше все рассмотреть. Сырой каменный проход выходил на поверхность не далее чем в десяти футах от заднего двора. Влажные бревна подпирали потолок частично раскопанного хода. Я вернула Винсента обратно и открыла глаза. – Хотите посмотреть комнаты наверху? – спросила Энн. Не отвечая ей ни жестом, ни словом, я поднялась на второй этаж.* * *
Как только я вошла в детскую, до меня донесся шепот. – Существует легенда, что эту комнату посещают призраки, – промолвила Энн. – Собаки миссис Уэйверли никогда сюда не забегают. Я подумала, что Энн тоже слышит шепот, но когда прикоснулась к этому участку ее сознания, то обнаружила там пустоту, если не считать все возрастающего желания угодить мне. Я двинулась к середине комнаты. Окно, выходившее на улицу и закрытое шторами, почти не пропускало свет. В сумраке я различила уродливую низкую металлическую колыбель – эдакую позорную клеть для злобного младенца. Здесь же располагались две детские кроватки с сетками и стульчик, но что по-настоящему обращало на себя внимание, так это игрушки и куклы в натуральную величину. В углу стоял огромный кукольный дом. Вероятно, он был создан по меньшей мере век спустя после строительства самого дома, но поражало в нем то, что он сгнил и частично обрушился прямо как настоящий покинутый дом. Я была почти готова увидеть крохотных крыс, снующих по маленьким коридорам. Рядом с кукольным домом на низкой кровати с сеткой лежало с полдюжины кукол. Лишь одна из них была довольно старой, чтобы относиться к XVIII веку, остальные же настолько походили на настоящих детей, что их вполне можно было принять за трупики младенцев. Над всем этим кукольным царством высился манекен ростом с семилетнего мальчика. Он был одет в древнюю реконструкцию костюма эпохи Войны за независимость, но за прошедшие десятилетия ткань поблекла, швы разошлись и комнату заполнил запах гниющего дерева. Розовое покрытие на руках, шее и лице во многих местах облупилось, из-под него выглядывала темная фарфоровая основа. Глянцевитый парик когда-то был изготовлен из настоящих волос, но теперь изрезанный трещинами череп покрывали лишь редкие шершавые заплатки. Стеклянные глаза выглядели как настоящие, и я поняла, что точно такие же используют для человеческих протезов. Лишь они сохраняли блеск и лучезарность на этом разваливающемся манекене – любопытные мальчишеские глаза на стоячем трупе. Почему-то я решила, что шепот исходит от манекена, но, когда я приблизилась к нему, смутное бормотание сделалось тише, а не громче. Это говорили стены. Под безучастными взорами Энн и Винсента я прислонилась к оштукатуренной стене и замерла. Шепот слышался довольно отчетливо, но слов разобрать было нельзя. Похоже, звучало сразу несколько голосов, и у меня создалось впечатление, что они обращаются непосредственно ко мне. – Вы что-нибудь слышите? – поинтересовалась я у Энн. Она нахмурилась, пытаясь угадать ответ, который доставит мне больше удовольствия. – Только шум уличного движения, – ответила она наконец. – Где-то на улице кричат мальчишки. Я покачала головой и снова приникла ухом к стене. Шепот продолжал звучать, и в нем не было ни настойчивости, ни угрозы. Мне показалось, что в тихих переливах звуков я различила отдельные слоги своего имени. В привидения я не верю. Не верю и в сверхъестественные явления. Но, став старше, я начала понимать, что точно так же, как радиоволны продолжают поступать в пространство после выключения передатчика, некоторые индивидуумы не теряют свою силу даже после смерти. Однажды Нина рассказывала мне об археологе, обнаружившем во время раскопок голос гончара, который был мертв уже несколько тысяч лет. Не знаю, насколько это соответствовало действительности, но зато вполне согласовывалось с той мыслью, к которой я пришла самостоятельно. Люди – особенно те немногие, обладающие Способностью, подобно нам, – могут воздействовать не только на одушевленные существа, но и на предметы. Я снова подумала о Нине и поспешно отстранилась от стены. Шепотки смолкли. – Нет, это не имеет никакого отношения к Нине, – произнесла я вслух. – Это дружелюбные голоса. Мои спутники молчали. Энн не знала, что сказать, а Винсент даже если и знал, то не мог. Я улыбнулась им, и Энн одарила меня ответной улыбкой. – Пошли, – промолвила я. – Устроим второй завтрак и вернемся сюда позже. Мне очень понравилась Ропщущая Обитель, Энн. Вы правильно сделали, что привели меня сюда. Женщина расцвела от счастья.* * *
К полудню понедельника Энн и Винсент доставили в Ропщущую Обитель складную кровать и новые матрасы, купили свечей, подсвечников и три масляных обогревателя, заполнили кухонные полки банками с консервированной пищей. Затем они установили небольшую плиту, работавшую на бутане, посреди массивного кухонного стола, а также вымыли и пропылесосили все комнаты. Я распорядилась поставить свою кровать в детской. Энн принесла чистые простыни, одеяла и свое любимое стеганое покрывало. Винсент расставил вдоль кухонной стены ряд новых совков и ведер. Относительно отсутствующей канализации я пока ничего не могла придумать, к тому же бо́льшую часть времени я собиралась по-прежнему проводить у Энн. Мне просто захотелось обустроить Ропщущую Обитель и сделать ее более удобной для своих неизбежных будущих визитов. В понедельник днем Энн сняла все свои деньги с текущих и сберегательных счетов – почти семьдесят три тысячи долларов – и начала переводить акции, бонды и страховки в наличные. В некоторых случаях ей приходилось платить пени, но никто из нас не возражал. Деньги я складывала в свой багаж. К четырем часам дня, когда за окном едва брезжил зимний свет, все помещения Ропщущей Обители ярко сияли от десятков свечей; гостиную, кухню и детскую обогревали приятно мерцающие масляные радиаторы, а Винсент уже часа три как копался в подземном ходе, вынося землю в дальний угол двора. Это была грязная, тяжелая и, возможно, опасная работа, но Винсенту было полезно выполнять такие задания. Физический труд помогал ему избавляться от затаенной ярости. Я знала, что мальчишка очень силен – гораздо сильнее, чем можно было предположить, глядя на его сухопарое сутулое тело, но теперь мне удалось установить истинные размеры его жилистой мощи и чуть ли не демонической энергии. Я не осталась ночевать в Ропщущей Обители, по крайней мере в ту первую ночь, но, пока задувались свечи и выключались обогреватели, поднялась в детскую и остановилась там при свете одной-единственной свечи, пламя которой отражалось в пуговичных глазах тряпичных кукол и стеклянных очах мальчика-манекена. Шепот сделался громче. Если я и не могла различить слов, то по крайней мере в их интонации ощущала благодарность. Они желали мне добра и просили вернуться.* * *
Накануне Рождества, во вторник, Винсент вытащил из подземного хода около полутонны земли. Расчистив следующие двенадцать футов, мы выяснили, что дальше тоннель сохранился почти полностью, если не считать осыпавшихся за последние два столетия камней и земли. В среду утром Винсент разобрал бо́льшую часть выхода, открывавшегося на поверхности недалеко от проулка, который шел с тыльной стороны одноквартирных домов на расстоянии одного квартала от нас. Он заложил выход досками и вернулся в Ропщущую Обитель. На него стоило посмотреть! Парень весь был покрыт грязью, старая рабочая одежда порвалась и испачкалась землей, длинные волосы свисали жирными прядями, глаза безумно горели. У меня с собой оказался лишь один большой термос с водой, поэтому я заставила Винсента раздеться и устроиться на кухне возле обогревателя, а сама отправилась в дом к Энн, чтобы выстирать и высушить его одежду. Энн весь день обслуживала праздничную рождественскую трапезу. На улице было темно и почти пусто. Мимо прогромыхал одинокий трамвай с уютно освещенным салоном. Начал падать снег. Я вдруг обнаружила, что совсем одна и полностью беззащитна. В обычной ситуации я бы и квартала не прошла без сопровождения хорошо обработанного спутника, но целый трудовой день в Ропщущей Обители и странные предупреждения шепотков в детской, поглотившие все мои мысли, заставили меня потерять бдительность. К тому же я размышляла о Рождестве. Я всегда относилась к Рождеству с особым чувством. Вспоминала большую елку и праздничные обеды, которые устраивались, когда я была маленькой. Отец разделывал индейку, а в мои обязанности входило дарить прислуге, в основном состоявшей из пожилых негров и негритянок, маленькие подарки. Помню, уже за несколько недель я начинала сочинять для них краткие слова благодарности. По большей части я высказывала похвалу, а в некоторых случаях осторожно журила за недостаток усердия. Самые лучшие подарки и самые теплые слова неизменно приберегались для толстой стареющей тетушки Гарриет, которая вынянчила и вырастила меня. Гарриет родилась рабыней. Интересно, что много лет спустя, в Вене, Нина, Вилли и я вспоминали похожие детали своего детства, и в частности доброту к прислуге. Да, в Вене Рождество для нас было изумительным праздником. Я вспоминаю зиму 1928 года с катанием на санках с крутого берега замерзшего Дуная и пышным банкетом в арендованной вилле к югу от города. Лишь в последние годы я перестала отмечать Рождество так, как мне того хотелось. Всего две недели назад, при нашей последней встрече, мы как раз обсуждали с Ниной прискорбное обнищание рождественского духа. Люди перестали понимать, что же на самом деле означает этот праздник.* * *
Парней было восемь, и все цветные. Не могу определить их возраст, но все выше меня, у троих над пухлой верхней губой уже пробивался черный пушок. Они показались мне каким-то единым существом, состоящим из локтей и коленей и издающим крики и хриплые непристойности. Вывалившись из-за угла на Джермантаун-стрит, они оказались прямо передо мной. Один из них держал большой приемник, изрыгающий какофонию звуков. Вздрогнув, я остановилась и посмотрела на них, все еще погруженная в свои размышления о Рождестве и отсутствующих друзьях. Не обращая на них внимания, я ждала, когда они сойдут с тротуара и уступят мне дорогу. Возможно, было что-то такое в выражении моего лица или гордой осанке, отличающейся от обычного раболепствующего поведения белых в негритянских кварталах северных городов, что заставило одного из них обратить на меня внимание. – Ты на что уставилась? – осведомился высокий подросток в красной кепке. Лицо его выражало смесь тупости и презрения, выработавшегося в его расе вследствие многовекового племенного невежества. – Жду, мальчики, когда вы уступите дорогу леди, – промолвила я тихо и вежливо. В обычной ситуации я бы промолчала, но голова моя была занята другими мыслями. – Мальчики! – воскликнул тот, что был в красной кепке. – Кого это ты называешь мальчиками? Они образовали полукруг. Я смотрела в одну точку, чуть повыше их голов. – Эй, ты что это себе думаешь? – грозно осведомился один из них – толстяк в грязной серой парке. Отвечать я не стала. – Пошли, – бросил другой, пониже и с менее грубым выражением лица. У него были голубые глаза. Они уже собрались уходить, но негр в красной кепке решил поставить последнюю точку. – В следующий раз смотри, с кем имеешь дело, старая шлюха! – заявил он и сделал жест, будто намереваясь толкнуть меня в грудь или плечо. Я поспешно сделала шаг назад, чтобы он не мог ко мне прикоснуться, зацепилась каблуком за трещину в асфальте, потеряла равновесие и, взмахнув руками, рухнула на снег, усеянный собачьими экскрементами. Толпа подростков разразилась громовым хохотом. Низенький мальчик с голубыми глазами махнул рукой, призывая всех к спокойствию, и сделал шаг ко мне: – С вами все в порядке? – Он протянул руку, словно намереваясь помочь мне встать. Но я лишь смотрела на них, не обращая никакого внимания на его руку. Через мгновение он пожал плечами и двинулся дальше вместе с остальными. Их дикая музыка отдавалась эхом в безмолвных витринах магазинов. Я сидела до тех пор, пока они не скрылись из виду, потом попыталась встать, поняла безнадежность этого и поползла на четвереньках к парковочному счетчику, который можно было использовать вместо опоры. Некоторое время я стояла дрожа, опираясь на счетчик. Мимо то и дело проносились машины, – наверное, люди спешили домой к рождественскому столу, обливая меня фонтанами грязи. По тротуару прошли две полные молодые негритянки, переговариваясь базарными голосами. Никто не остановился, чтобы помочь мне. Когда я добралась до дома Энн, меня все еще колотила дрожь. Позднее я поняла, что с легкостью могла призвать ее на помощь сама, но в тот момент я была не способна мыслить отчетливо. Навернувшиеся на глаза от порывов холодного ветра слезы так и застыли на моих щеках. Энн тут же налила мне горячую ванну, помогла выбраться из грязной одежды и приготовила чистую, пока я мылась. Когда я села за стол, было уже девять вечера; я ела одна, Энн сидела в соседней комнате. Покончив с вишневым пирогом, поданным на десерт, я уже точно знала, что мне делать. Достав ночную рубашку и остальные необходимые вещи, я заставила Энн принести постельное белье, смену одежды для Винсента, запас еды и напитков, а также револьвер, позаимствованный мною у таксиста в Атланте. Мы быстро и без приключений добрались до Ропщущей Обители. Снег уже валил вовсю. Проходя мимо того места, где я упала, я отвернулась. Винсент сидел там же, где я его оставила. Он оделся и начал с жадностью есть. Я не слишком беспокоилась о регулярном питании мальчишки, но за последние два дня раскопок в нем сгорели тысячи калорий, и мне хотелось восстановить его силы. Он ел как животное. Его руки, лицо и волосы все еще были грязными и запекшимися от красной глины, а его вид и чавканье были просто звериными. Поев, Винсент принялся натачивать косу и одну из лопат, которую за два дня до этого Энн купила в хозяйственном магазине на улице Челтен. Было уже почти двенадцать, когда я поднялась в детскую, закрыла дверь, разделась и легла. В трепещущем пламени свечи за мной следили блестящие стеклянные глаза мальчика-манекена. Энн сидела внизу, в гостиной, сторожа входную дверь, – она слегка улыбалась, держа на коленях, прикрытых фартуком, заряженный револьвер тридцать восьмого калибра. Винсент выбрался через подземный ход. Лицо его стало еще более грязным и мокрым, пока он волочил по темному проходу косу и лопату. Я закрыла глаза и отчетливо увидела, как в тусклом свете проулка падает снег, как Винсент вытаскивает следом свои инструменты и устремляется по проулку. Морозныйвоздух благоухал чистотой. Я ощущала мерные сильные удары сердца Винсента, чувствовала, как гнутся и трепещут заросли его мыслей, словно от порывов ветра, по мере того как все больше адреналина выбрасывалось ему в кровь. Мышцы моих собственных губ непроизвольно напряглись, растягивая их в такую же широкую жестокую ухмылку, как у Винсента. Он быстро миновал проулок, немного задержался у поворота к ряду одноквартирных домов и бросился бегом по южной стороне улочки туда, где лежали самые темные тени. Здесь он остановился, но я мысленно заставила его повернуть голову в том направлении, куда ушли подростки. Ноздри у Винсента раздулись, когда он начал принюхиваться к ночному воздуху, пытаясь различить запах негров. Ночь была тихой, если не считать отдаленного звона колоколов, возвещавших о рождении нашего Спасителя. Винсент склонил голову, взвалил лопату и косу на плечо и углубился во мрак проулка. Лежа наверху в Ропщущей Обители, я улыбнулась, повернулась лицом к стене и погрузилась в легкое бормотание шепотков, накатывавшееся на меня, как волны во время прилива.Глава 19
Вашингтон, округ Колумбия
Суббота, 20 декабря 1980 г.
– Вы ничего не знаете об истинной природе насилия, – говорило Солу Ласки то, что когда-то было Фрэнсисом Харрингтоном. Они шли по аллее в направлении Капитолия. Холодные лучи вечернего солнца освещали белые гранитные здания, возле пустых скамеек осторожно прогуливались голуби. Сол чувствовал дрожь во всем теле и понимал, что это не от холода. Его охватило страшное волнение, как только они вышли из Национальной художественной галереи, и он не мог и не пытался с ним справиться. Наконец-то, после стольких лет! – Вы считаете себя специалистом в области насилия, – продолжал Харрингтон на немецком, хотя Сол никогда не слышал, чтобы раньше тот пользовался этим языком, – но вы ничего о нем не знаете. – Что вы имеете в виду? – спросил он по-английски и засунул руки поглубже в карманы пальто. Его голова находилась в постоянном движении – он то смотрел на человека, выходящего из восточного крыла Национальной галереи, то, прищурившись, вглядывался в одинокую фигуру на дальней скамейке, то пытался различить что-нибудь за тонированными стеклами медленно ехавшего лимузина. Где вы, оберст? При мысли о том, что нацистский преступник может быть где-то поблизости, у Сола сжималась диафрагма. – Вы воспринимаете насилие как извращение, – тем временем говорил Харрингтон на безупречном немецком, – хотя на самом деле это норма. Оно составляет самую суть человеческого существа. Сол изо всех сил пытался следить за разговором. Нужно выманить оберста, каким-то образом освободить Фрэнсиса из-под его контроля… – Глупости, – бросил Сол. – Это общее заблуждение, а в действительности природа насилия столь же чужда человеку, как какая-нибудь болезнь. Мы справились в свое время с полиомиелитом и черной оспой, значит мы можем справиться и с насилием в человеческом поведении. – Он перешел на профессиональные интонации. Харрингтон рассмеялся. Это был старческий смех – прерывистый, перемежающийся влажными хрипами. Сол взглянул на молодого человека, шедшего рядом с ним, и вздрогнул. У него возникло ощущение, что лицо Фрэнсиса с короткими рыжими волосами и веснушками на скулах – всего лишь маска, натянутая на череп другого человека. Тело Харрингтона под длинным плащом выглядело странно неуклюжим, будто тот внезапно растолстел или надел на себя несколько свитеров. – Вы не сможете справиться с насилием, как невозможно справиться с любовью, ненавистью или смехом, – произнес Фрэнсис Харрингтон голосом Вилли фон Борхерта. – Страсть к насилию – одна из характерных черт человечества. Даже слабые хотят стать сильными в основном для того, чтобы взять кнут. – Чушь! – снова возразил Сол. – Чушь? – переспросил Харрингтон. Они перешли проезд Медисона и оказались на аллее за капитолийским прудом. Фрэнсис опустился на скамейку, обращенную к Третьей улице. Сол последовал его примеру, предварительно окинув взглядом всех, кто находился поблизости. Таковых было немного, и ни один из них не походил на его оберста. – Мой дорогой еврей, – презрительно промолвил Харрингтон, – возьми хотя бы Израиль. – Что?! – Сол резко повернулся и уставился на Фрэнсиса, как будто видел его впервые. – Что вы имеете в виду? – Твоя любимая страна прославилась своим жестоким обращением с врагами, – продолжил Харрингтон. – Ее ветхозаветный девиз – «око за око, зуб за зуб», ее политика выражается в непреложном отмщении, страна гордится мощью своей армии и военно-воздушных сил. – Израиль вынужден защищаться, – спокойно сказал Сол. От ощущения ирреальности этой полемики голова у него шла кругом. За их спинами последние лучи солнца освещали купол Капитолия. Харрингтон снова рассмеялся: – Ах да, моя верная пешка! Насилие во имя самозащиты всегда выглядит симпатичнее. Так было и с вермахтом. У Израиля есть враги, не так ли? Но они были и у Третьего рейха. И не последними из этих врагов являлись те самые бездельники, которые прикидывались беспомощными жертвами, когда они стремились уничтожить рейх. Теперь же они именуют себя героями, осуществляя насилие над палестинцами. На эту эскападу Сол отвечать не стал. Антисемитизм Харрингтона был всего лишь подначкой. – Что вы хотите? – тихо спросил он. Харрингтон поднял брови. – Просто побеседовать со старым знакомым, – произнес он вдруг по-английски. – Как вы меня нашли? Фрэнсис пожал плечами. – Скорее, это ты меня нашел, – ответил он странным хриплым голосом. – Представь себе мое удивление, когда в Чарлстон вдруг прибыла моя дорогая пешка, мой вечный еврей, – и в такой дали от Хелмно. «Как вы меня узнали?» – чуть было не спросил Ласки, но удержался. Те несколько часов, когда они вдвоем пребывали в теле Сола сорок лет назад, создали между ними такую омерзительную близость, которую невозможно было передать словами. Сол не сомневался, что сразу узнает оберста, несмотря на разрушительное влияние времени. Вместо этого он спросил: – Вы следили за мной от самого Чарлстона? Харрингтон улыбнулся: – Ты доставил бы мне огромное удовольствие, если бы позволил послушать одну из твоих лекций в Колумбии. Возможно, мы бы поспорили об этических принципах Третьего рейха. – Возможно, – кивнул Сол. – Мы могли бы обсудить относительную здравость бешеного пса. Однако пока при этом заболевании существует только один выход – пристрелить собаку. – Что ж, – холодно усмехнулся Харрингтон. – Еще один способ окончательного решения. Вы, евреи, никогда не отличались утонченностью. Сол вздрогнул. За спокойным голосом марионетки скрывался человек, непосредственно отдававший приказы, по которым были расстреляны сотни, а может, и тысячи людей. Он понял, что оберст мог разыскивать его и следовать за ним из Чарлстона только с одной целью – убить. Вильгельм фон Борхерт, он же Уильям Борден, сделал все возможное, чтобы убедить мир в том, что он мертв. Зачем ему было открываться единственному человеку в мире, знавшему его в лицо, если только это не было завершающим этапом игры кошки с мышкой? Сол еще глубже засунул руку в карман и сжал в кулаке пригоршню двадцатипятицентовых монет – единственное оружие, которое он носил со времен польского гетто. Даже если ему удастся сбить Фрэнсиса с ног – а Сол знал, что это будет не так легко сделать, – что дальше? Бежать? Но что может помешать оберсту проникнуть в его мозг? Сол содрогнулся, снова вспомнив об этом насилии над собственным сознанием. Он не хотел становиться жертвой еще одного преступления, очередным рассеянным профессором, попавшим в сумерках под колеса оживленного вашингтонского движения… К тому же он не мог оставить Фрэнсиса. Сол сжал монеты в кулаке и начал медленно вытаскивать руку. Он не знал, удастся ли ему вернуть парня, – одного взгляда на маячившую перед ним маску лица было достаточно, чтобы ощутить всю бессмысленность этого предприятия, но Сол понимал, что должен хотя бы попытаться. Как пронести бесчувственное тело по аллее, преодолеть полтора квартала и затолкать его во взятую напрокат машину? Он решил, что оставит Фрэнсиса на скамейке, помчится бегом за машиной, быстро подъедет к Третьей улице и забросит тело молодого человека на заднее сиденье. Сол не мог придумать ни единого способа, как самому защититься от оберста. Да это уже и не играло никакой роли. С небрежным видом он вытащил из кармана кулак с мелочью, прикрывая его своим телом. – Я бы хотел тебя кое с кем познакомить, – промолвил Харрингтон. – Что? – Сердце Сола, казалось, билось уже в горле, он едва мог говорить. – Я бы хотел тебя кое с кем познакомить, – повторил Вилли фон Борхерт, заставив Харрингтона встать. – Думаю, тебе это будет интересно. Сол не двигался. Он сжимал кулак с такой силой, что рука его дрожала. – Ты идешь, юде? – Интонация и слова были почти такими же, какими пользовался оберст в бараках Хелмно тридцать восемь лет назад. – Да. – Он встал, снова засунул руку в карман пальто и последовал за Фрэнсисом Харрингтоном во внезапно сгустившиеся зимние сумерки.* * *
Это был самый короткий день в году. Немногочисленные закаленные туристы стояли в ожидании автобусов или спешили к своим машинам. Сол и Фрэнсис прошли вдоль улицы Конституции, мимо Капитолия и остановились у входа в гараж здания сената. Через несколько минут автоматические двери открылись и изнутри выехал лимузин. Харрингтон быстрым шагом двинулся вниз по пандусу, и Сол последовал за ним, поднырнув под опускающуюся створку металлической двери. Двое охранников в полном изумлении уставились на непрошеных гостей. Один из них, краснолицый толстяк, двинулся к ним навстречу. – Черт побери, сюда вход воспрещен! – закричал он. – Разворачивайтесь и уносите отсюда ноги, пока вас не арестовали. – Простите, – произнес Харрингтон голосом Фрэнсиса Харрингтона. – Дело в том, что у нас пропуска к сенатору Келлогу, но дверь, через которую он велел нам войти, заперта… – Главный вход! – рявкнул охранник, продолжая махать руками; второй стоял у турникета, его правая рука лежала на рукояти револьвера, и он пристально всматривался в лица незнакомцев. – Все посещения после пяти запрещены. А теперь убирайтесь отсюда или будете арестованы. Пошевеливайтесь! – Конечно, – дружелюбно откликнулся Харрингтон и вытащил из-под плаща автоматический пистолет. Он застрелил толстяка, попав ему в правый глаз. Второй охранник просто остолбенел. Сол отскочил в сторону при первом же выстреле и теперь обратил внимание на то, что неподвижность охранника не является естественной реакцией на страх. Тот изо всех сил пытался шевельнуть правой рукой, но она была как парализованная. Лоб и верхняя губа мужчины покрылись потом, глаза выпучились и, казалось, вот-вот вылезут из орбит. – Слишком поздно, – сказал Харрингтон и выпустил четыре пули в грудь и шею охранника. Сол по звуку догадался, что к стволу приставлен глушитель. Он чуть шевельнулся и тут же замер, когда Фрэнсис направил автомат в его сторону. – Затащи их внутрь, – приказал он. Сол беспрекословно подчинился, сосредоточив внимание на клубах пара, со свистом вырывавшихся у него изо рта, пока он тащил толстяка по пандусу и запихивал его в будку. Харрингтон выщелкнул пустую обойму и, шлепнув ладонью, загнал в рукоять новую. Затем он опустился на корточки и собрал пять гильз. – Пошли наверх, – распорядился он. – У них есть видеокамеры, – задыхаясь, проговорил Сол. – Да, в самом здании, – снова переходя на немецкий, ответил Харрингтон. – В подвальном помещении только телефон. – Но охранников хватятся, – более уверенно возразил Сол. – Несомненно, – кивнул Харрингтон. – Поэтому я советую тебе поторапливаться. Они поднялись на первый этаж и двинулись по коридору. Еще один охранник, читавший газету, с изумлением поднял голову: – Простите, джентльмены, но это крыло закрыто после… Договорить он не успел. Харрингтон дважды выстрелил ему в грудь и выволок тело на лестничную клетку. Сол бессильно привалился к обитому деревом дверному проему. Ноги у него стали ватными, он прикидывал, сможет ли убежать или закричать, но так и остался стоять, вцепившись в дубовый дверной косяк. – Лифт, – скомандовал Харрингтон. Коридор третьего этажа был пуст, хотя из-за угла доносились звуки голосов и смех. Фрэнсис распахнул четвертую дверь справа. Молодая женщина в приемной как раз накрывала чехлом пишущую машинку IBM. – Прошу прощения, – промолвила она, – но после… Харрингтон вскинул пистолет и ударил секретаршу рукоятью точно в левый висок. Она упала на пол почти бесшумно. Он поднял полиэтиленовый чехол, аккуратно накрыл пишущую машинку, затем схватил Сола за рукав пальто и потащил через пустую приемную в более просторный темный кабинет. Между шторами Сол успел заметить освещенный купол Капитолия. Открыв обитую кожей следующую дверь, Харрингтон вошел в помещение. – Привет, Траск, – поздоровался он на английском. Сухопарый мужчина, сидевший за столом, с легким удивлением поднял голову, и тут же на них бросился огромный парень в коричневом костюме, отдыхавший на кожаном диване. Фрэнсис дважды выстрелил в телохранителя, наклонился, чтобы рассмотреть маленький пистолет, выпавший из руки парня, и, поднеся ствол к его левому уху, выстрелил в третий раз. Огромное тело дернулось на толстом ковре и затихло. Ниман Траск не шевелился. Он продолжал держать в левой руке скрепленный тремя кольцами блокнот, а в правой – ручку с золотым пером. – Садись. – Фрэнсис указал Ласки на диван. – Кто вы? – спросил Траск с легким любопытством. – Вопросы потом, – ответил Харрингтон. – А сначала, пожалуйста, уясните, что моего друга, – он указал на Сола, – трогать нельзя. Если он сдвинется с этого дивана, я разожму левый кулак. – Разожмете кулак? – переспросил Траск. Когда Фрэнсис входил в кабинет, в левой руке у него ничего не было, но теперь он сжимал пластиковое кольцо с небольшим выступом посередине. – А, понимаю, – устало промолвил Траск. Он положил блокнот и стиснул обеими руками ручку с золотым пером. – Взрывчатка? – Си-четыре. – Не выпуская из правой руки автомат, Харрингтон начал расстегивать плащ. Под ним оказалась бесформенная рыболовная куртка, каждый карман которой был забит до отказа. Сол разглядел маленькие петли проводов. – Двенадцать фунтов, – добавил он. Траск кивнул. Вид у него был невозмутимый, но костяшки пальцев, которыми он сжимал авторучку, побелели. – Более чем достаточно, – промолвил он. – Так чего же вы хотите? – Я хочу поговорить. – Харрингтон опустился в кресло, стоявшее в трех футах от стола. – Конечно, – кивнул Траск и откинулся на спинку. Взгляд его метнулся к Солу и обратно. – Прошу вас, приступайте. – Свяжитесь с мистером Колбеном и мистером Барентом по многоканальной связи, – приказал Харрингтон. – Прошу прощения. – Траск разжал пальцы и положил ручку на стол. – Колбен в данный момент направляется в Чеви-Чейз, а мистера Барента, насколько мне известно, сейчас нет в стране. – Считаю до шести, – предупредил Харрингтон. Траск снял трубку на счете «четыре», но для того, чтобы связаться со всеми, потребовалось еще несколько минут. Колбена он поймал в его лимузине на скоростном шоссе Рок-Крик, а Барента – в самолете где-то над штатом Мэн. – Включите громкую связь, – распорядился Харрингтон. – В чем дело, Ниман? – раздался ровный голос с легким кембриджским акцентом. – Чарльз, вы тоже здесь? – Да, – пророкотал Колбен. – Ни черта не понимаю, что все это значит. Что происходит, Траск? Вы держите меня уже две минуты! – У меня здесь небольшая проблема, – пробормотал Траск. – Ниман, эта линия небезопасна, – донесся тихий голос, принадлежавший Баренту, как догадался Сол. – Вы один? Траск замешкался и бросил взгляд на Фрэнсиса. Но тот лишь улыбнулся, и он ответил: – Нет, сэр. Тут со мной двое джентльменов в кабинете сенатора Келлога. – Какого черта, что у вас там творится, Траск? – заорал Колбен так, что микрофон завибрировал. – Что все это значит? – Спокойно, Чарльз, – донесся голос Барента. – Продолжайте, Ниман. Траск сделал жест рукой, предлагая Харрингтону ответить. – Мистер Барент, мы бы хотели вступить в один из ваших клубов, – произнес, цинично усмехаясь, Фрэнсис. – Прошу прощения, сэр, но вы пользуетесь своим преимуществом, – ответил Барент. – Меня зовут Фрэнсис Харрингтон. А мой работодатель – присутствующий здесь доктор Соломон Ласки из Колумбийского университета. – Траск! – рявкнул Колбен. – Что происходит? – Тихо! – приказал Барент. – Мистер Харрингтон, доктор Ласки, рад познакомиться. Чем я могу вам помочь? Сол тяжело вздохнул. До того как Фрэнсис назвал его имя, у него еще оставалась слабая надежда выбраться живым из этого кошмара. Теперь, хоть он и не имел ни малейшего представления, в какую игру играет Уильям Борден с этими людьми, не сомневался, что оберст вознамерился принести его в жертву. – Вы упомянули какой-то клуб, – напомнил Барент. – Может, уточните? Харрингтон жутко ухмыльнулся, обнажив зубы. Он так и держал левую руку поднятой, не убирая большого пальца с детонатора. – Я бы хотел вступить в ваш клуб, – повторил он. В голосе Барента появилась веселая нотка. – Но я являюсь членом многих клубов, мистер Харрингтон. Вы можете выражаться конкретнее? – Меня интересует клуб для самых избранных, – сказал Фрэнсис. – К тому же я всегда питал слабость к островам. Из микрофона донесся сдавленный смех. – Как и я, мистер Харрингтон. Но, несмотря на то что мистер Траск является замечательным спонсором, боюсь, для вступления в клубы, к которым я принадлежу, потребуются дополнительные рекомендации. Вы упомянули, что с вами присутствует ваш работодатель, доктор Ласки. Вы тоже хотите вступить в клуб, доктор? Сол не мог придумать ничего, что как-то повлияло бы на ситуацию, поэтому он решил промолчать. – Может быть, вы… э-э-э… представляете кого-нибудь? – спросил Барент. Харрингтон лишь рассмеялся. – У него двенадцать фунтов пластиковой взрывчатки, – ровным голосом произнес Траск. – По-моему, это вполне впечатляющая рекомендация. Почему бы нам всем не договориться где-нибудь встретиться и обсудить это? – Мои люди уже в пути, – донесся четкий голос Колбена. – Держитесь, Траск. Ниман Траск вздохнул, потер лоб и склонился ближе к трубке: – Колбен, сукин сын, если кто-нибудь из ваших людей окажется ближе чем в десяти кварталах от этого здания, я задушу вас собственными руками. Не суйтесь в это дело. Барент, вы здесь? – Мне очень жаль, мистер Харрингтон, но я взял за правило никогда не входить в выборные комитеты клубов, завсегдатаем которых являюсь, – продолжил К. Арнольд Барент так, словно и не слышал предыдущего диалога. – Однако иногда мне нравится спонсировать новых членов. Возможно, вы посоветуете, к кому мне следует обратиться, чтобы составить на вас рекомендации? – Продолжайте, я слушаю, – произнес Харрингтон. Именно в этот момент Сол Ласки почувствовал, как Траск проскользнул в его сознание. Это было невыносимо больно – словно кто-то воткнул длинную острую проволоку ему в ухо. Он вздрогнул, но закричать ему не дали. Взгляд его механически замер, остановившись на ковре, в футе от вытянутой руки мертвого телохранителя. Сол ощутил, как Траск холодно рассчитывает время и необходимые действия: две секунды на то, чтобы вскочить и схватить пистолет с пола, секунда – чтобы выстрелить в голову Харрингтона, одновременно схватив его руку. Кулаки Сола самопроизвольно сжимались и разжимались, мышцы ног напряглись, словно у бегуна перед стартом. Заталкиваемый все дальше и дальше на чердак собственного сознания, он ощущал полную беспомощность. Неужели именно это происходило с Фрэнсисом на протяжении нескольких недель? – Уильям Борден… – тихо проговорил Барент. Сол уже забыл, о чем шла речь. Траск чуть подвинул его правую ногу и сместил центр тяжести. – Я не знаком с этим джентльменом, – невозмутимо откликнулся Харрингтон. – Следующий? Сол чувствовал, как напрягаются все мышцы его тела по мере того, как Траск подготавливал его к броску. Он уловил, что план изменился. Траск заставит его налететь на Фрэнсиса, толкнуть его, одновременно зажав левую руку, и втащить в главный кабинет сенатора. После чего Сол должен прикрыть своим телом взрывную волну, а сам Траск в это время спрячется за массивным дубовым столом. Сол прикладывал все силы, чтобы как-то предупредить оберста. – Мелани Фуллер? – спросил Барент. – О да, – откликнулся Харрингтон. – Кажется, с ней можно связаться в Джермантауне. – Что это за Джермантаун? – осведомился Траск, продолжая готовить Сола к нападению. Не обращать внимания на пистолет. Схватить руку. Вытеснить назад. Держаться между Харрингтоном и письменным столом. – Это квартал Филадельфии, – дружелюбно пояснил Фрэнсис. – Точный адрес я припомнить не могу, но если вы проверите списки жителей по Квин-лейн, то сможете связаться с этой леди. – Очень хорошо, – послышался в трубке смешок Барента. – Еще одно. Не могли бы вы… – Прошу прощения. – Харрингтон тоже рассмеялся, но не своим, а старческим смехом Вилли Бордена. – Боже милостивый, Траск, неужели вы считаете, что я ничего не замечаю? Вам и за месяц не удастся его обработать… Mein Gott, вы же ходите вокруг да около, как подросток, тискающий соседку в темном зале кинотеатра. И оставьте в покое моего бедного еврея. Как только он шевельнется, я разожму кулак. Этот стол разлетится на тысячи щепок. О, вот так уже лучше… Сол рухнул на диван. Все его тело, освободившееся от плотных тисков чужой воли, охватила судорога. – Так на чем мы остановились, мистер Барент? – продолжил Фрэнсис. В течение нескольких секунд из микрофона доносились лишь звуковые помехи, после чего вновь раздался спокойный голос Барента: – Прошу прощения, мистер Харрингтон, я разговариваю с вами из своего личного самолета и боюсь, что мне уже пора. Я благодарен вам за звонок и надеюсь вскоре услышать вас снова. – Барент! – заорал Траск. – Черт побери, не вешайте… – До свидания, – бросил Барент. Раздался щелчок, и шумовой фон оповестил о том, что связь прервана. – Колбен! – завопил Траск. – Скажите же что-нибудь! – Конечно, – донесся мрачный голос. – Пошел ты к долбаной матери, Ниман. – Еще один щелчок, и следующая шумовая волна накрыла связь. С видом загнанного зверя Траск поднял голову. – Ничего страшного, – успокоил его Харрингтон. – Я могу оставить свою информацию у вас. Мы продолжим наш разговор, мистер Траск, но я бы предпочел сделать это с глазу на глаз. Доктор Ласки, вы не будете возражать? Сол поправил очки, моргнул и встал. Траск смотрел на него широко раскрытыми глазами. Фрэнсис садистски улыбался. Сол повернулся, быстро вышел из кабинета сенатора и уже бегом добрался до приемной. Он вспомнил о секретарше, немного помедлил, но затем без колебаний бросился со всех ног по коридору. Из-за угла появились четверо. Сол обернулся и увидел, что с противоположного конца коридора бегут еще пятеро в темных костюмах. Двое из них свернули в кабинет Траска, а трое оставшихся в едином движении вскинули свои пистолеты, образовав ровный ряд рук. Даже на таком расстоянии черные отверстия стволов казались огромными. И вдруг Сол словно куда-то переместился. В безмолвии его сознания раздался вопль Фрэнсиса Харрингтона. И Фрэнсис смутно ощутил в окружающем его мраке внезапное появление Сола. Теперь глазами Харрингтона они вместе смотрели, как Ниман Траск, приподнявшись в своем кресле, что-то кричит и вздымает в мольбе руки. – Auf Wiedersehen, – промолвил Фрэнсис голосом нацистского оберста и разжал кулак. Южные двери и стена коридора взметнулись вместе с огромным шаром оранжевого пламени. Сол вдруг осознал, что летит по коридору навстречу тем троим в темных костюмах. Их вытянутые руки подбросило вверх, один из пистолетов разрядился, но звук выстрела заглушил страшный грохот взрыва, а затем охранники тоже полетели, кувыркаясь, назад и врезались в стену за секунду до Сола. Но, даже получив сильнейший удар и ощущая, как над ним смыкается тьма, Сол успел расслышать отголосок старческого шепота, произносящего «Auf Wiedersehen».Глава 20
Нью-Йорк
Пятница, 26 декабря 1980 г.
Шерифу Джентри нравилось лететь в самолете, хотя он совершенно не думал о цели своего путешествия. Это состояние подвешенности над облаками на высоте нескольких тысяч футов определенно способствовало размышлениям. Место его назначения – Нью-Йорк – всегда представлялось шерифу конгломератом поводов для безумия, выражающихся в массовом сознании, уличной преступности, паранойе, переизбытке информации и тихом сумасшествии. Джентри давно уже понял, что большие города не для него. Он знал районы Манхэттена, а когда-то, сто лет назад, учился в колледже в разгар вьетнамской кампании. Они с друзьями провели в этом городе не один уик-энд. Как-то они позаимствовали машину в Чикаго у его знакомой девушки, работавшей в автосервисе неподалеку от университета, и открутили одометр назад на две тысячи миль. После четырех бессонных ночей они вшестером закончили тем, что в течение двух часов объезжали пригороды Чикаго ранним утром, чтобы цифры километража вернулись к прежним показаниям. Джентри сел в автобус, курсировавший до центрального автовокзала, а там поймал такси, чтобы добраться до отеля «Эдисон». Отель был старым и уже начинал утрачивать свою славу. Теперь его основными постояльцами были проститутки и бедные туристы, хотя он еще сохранял атмосферу былой степенности. В кафетерии заправлял горластый, неотесанный, но очень умелый пуэрториканец, а номер стоил треть того, во что обычно обходились манхэттенские отели. В последний раз Джентри был в Нью-Йорке, когда сопровождал восемнадцатилетку из другого штата – юнец убил в Чарлстоне четырех продавцов в супермаркете. Тогда округ оплатил его расходы и стоимость номера в отеле. Джентри залез под душ, чтобы смыть дорожную пыль, надел удобные синие вельветовые брюки, старый свитер с высоким горлом, коричневую вельветовую куртку, мягкую кепку и пальто, которое вполне годилось для Чарлстона, но вряд ли могло противостоять напору зимнего нью-йоркского ветра. Он с минуту подумал, затем вынул из чемодана «ругер» и переложил его в карман пальто. Карман сразу оттопырился, слишком явственно обозначив его содержимое. Джентри вытащил револьвер и засунул его за ремень брюк. Так тоже никуда не годилось. Кобуры для «ругера» у него не было – ремень и кобуру он носил лишь вместе с формой, а когда не был на службе, то держал при себе специальный полицейский револьвер 38-го калибра. Какого черта он потащил с собой этот «ругер» вместо более компактного оружия? Дело кончилось тем, что он затолкал револьвер в карман куртки. Придется не застегивать пальто, невзирая на непогоду, и не снимать его в помещении, чтобы не выдавать оружие. Перед тем как выйти из отеля, он позвонил домой в Чарлстон и включил свой автоответчик. Джентри не ожидал получить сообщение от Натали, но думал о ней всю дорогу и мечтал услышать ее голос. Первая запись была оставлена ею. «Роб, это Натали. Сейчас два часа дня по сент-луисскому времени. Я только что добралась сюда и вылетаю следующим рейсом в Филадельфию. Кажется, мне удалось выйти на след Мелани Фуллер. Взгляни на третью страницу сегодняшней чарлстонской газеты, хотя в нью-йоркских это тоже может быть опубликовано. Массовые убийства в Джермантауне. Не знаю, зачем старой женщине понадобилось связываться с уличной бандой, но все произошло именно там. Сол говорил, что лучший способ искать этих людей – идти по следам бессмысленного насилия вроде этого. Обещаю не высовываться… просто осмотрюсь и проверю, не сможем ли мы здесь за что-нибудь уцепиться. Вечером позвоню и оставлю сообщение, когда буду знать, где я остановилась. Надо бежать. Будь осторожен, Роб». – Черт, – тихо выругался Джентри, опуская телефонную трубку. Он снова набрал свой номер, выдохнул, когда его собственный голос попросил оставить сообщение, и после гудка произнес: – Натали, не смей останавливаться в Филадельфии или Джермантауне, или куда ты там еще отправилась. Кто-то видел тебя в канун Рождества. Если не хочешь оставаться в Сент-Луисе, приезжай ко мне в Нью-Йорк. Глупо бегать по отдельности и изображать Джо Харди и Нэнси Дру. Позвони мне сюда, как только получишь это сообщение. – Он назвал свой отель, номер комнаты, подождал и повесил трубку. – Черт, – повторил он и с такой силой грохнул кулаком по столу, что дешевая столешница задрожала.* * *
Джентри доехал на метро до Гринвич-Виллидж и вышел около Сен-Винсента. В дороге он перелистал свою записную книжку, просмотрев все сделанные им записи: адрес Ласки, замечание Натали, упоминание Сола о домохозяйке по имени Тима, его добавочный номер в Колумбии, телефон декана, которому Джентри звонил почти две недели назад, телефон покойной Нины Дрейтон. «Немного», – подумал он. Позвонив в университет, шериф убедился, что до следующего понедельника на факультете психологии никого не будет. Местожительство Сола плохо согласовывалось с представлениями Джентри об образе жизни нью-йоркского психиатра. Он напомнил себе, что Ласки был скорее профессором, чем психиатром, и окрестности показались ему более подходящими. Дома были в основном четырех– и пятиэтажными, на углах улочек располагались магазины и рестораны, а общая скученность и компактность застройки создавали атмосферу маленького провинциального городка. Мимо прошли несколько пар, одна из них состояла из мужчин, державшихся за руки, но Джентри знал, что большинство местных обитателей сейчас в центре. Они сидят в издательствах, брокерских конторах, книжных магазинах, агентствах и других железобетонных клетках. Все они колеблются между должностью секретаря и вице-президента, зарабатывая необходимые тысячи для содержания двух– или трехкомнатных квартир в Гринвич-Виллидж, и мечтают о большом прорыве, неизбежном продвижении на более высокую ступень, перемещении в более просторный кабинет с эркерами и возвращении на такси в новый дом в районе Центрального парка. Подул ветер. Джентри плотнее запахнул пальто и поспешил вперед. Доктора Сола Ласки дома не оказалось, однако шерифа это не удивило. Он постучал еще раз и замер на узкой лестничной площадке, вслушиваясь в приглушенную болтовню телевизоров и детские крики, вдыхая запахи жареной говядины и капусты. Затем он вытащил из бумажника кредитную карточку и, отжав язычок замка, вошел в квартиру, сокрушенно качая головой. Сол Ласки являлся официально признанным экспертом по вопросам насилия, человеком, выжившим в лагере смерти, но безопасность его дома оставляла желать лучшего. По меркам Гринвич-Виллидж у Сола была большая квартира: удобная гостиная, маленькая кухня, еще более крохотная спальня и просторный кабинет. Всюду – даже в ванной – было полно книг. Кабинет был завален блокнотами, папками, на многочисленных полках лежали тщательно надписанные вырезки из статей и сотни книг – многие на немецком и польском языке. Джентри обошел все комнаты, на мгновение задержался рядом с рукописью, лежавшей у компьютера, и собрался уходить. Сам себе он казался взломщиком. Квартира выглядела так, словно в ней никто не жил много недель: кухня была безупречно чистой, холодильник – почти пустым, но отсутствие пыли и накопившейся почты свидетельствовало о том, что сюда кто-то приходит. Джентри удостоверился, что рядом с телефоном нет никаких записок, еще раз быстро осмотрел все комнаты, проверяя, не упустил ли он чего-нибудь важного, и тихо вышел из квартиры. Спустившись на один лестничный пролет, шериф столкнулся с пожилой женщиной с седыми волосами, собранными в пучок на затылке. Он пропустил ее, а потом повернулся и спросил: – Простите, мэм. Вы, случайно, не Тима? Женщина остановилась и, подозрительно прищурившись, уставилась на шерифа: – Я вас не знаю. – Она говорила с сильным восточноевропейским акцентом. – Нет, мэм. – Джентри снял кепку. – И прошу прощения, что называю вас по имени, но Сол не упомянул вашей фамилии. – Миссис Валижельски, – ответила женщина. – А вы кто? – Шериф Бобби Джентри. Я друг Сола и пытаюсь разыскать его. – Доктор Ласки никогда не упоминал никакого шерифа Джентри. – Она произнесла его имя, сильно подчеркнув «ж». – Думаю, вы правы, мэм. Мы познакомились всего пару недель назад, когда он был в Чарлстоне. Это в Южной Каролине. Может, он говорил вам, что отправляется туда? – Доктор Ласки просто сказал, что у него дела, – оборвала его женщина и запыхтела. – Можно подумать, я слепая и не вижу, что написано на авиабилете! Он обещал – два дня. Ну, может, три. На это время он попросил меня поливать в квартире цветы. Да они засохли бы уже дней десять назад, если бы я не приходила! – Миссис Валижельски, вы видели доктора Ласки в течение последней недели? – прервал Джентри ее излияния. Женщина поправила воротник пальто и не проронила ни слова. – Мы с ним договорились, – продолжал шериф, – что он позвонит, когда вернется… То есть в прошлую субботу. Но я не получал от него никаких вестей. – Он лишен чувства времени, – вздохнула она. – На прошлой неделе мне звонил из Вашингтона его родной племянник. Он сказал, что доктор Ласки должен был приехать к ним в субботу на обед, но не приехал. Зная доктора Ласки, я уверена, что он просто забыл о своем обещании и отправился куда-нибудь на семинар. И что мне было отвечать его племяннику? – Это тот самый, который работает в Вашингтоне? – уточнил Джентри. – А какой же еще? Он кивнул, поняв по позе и тону женщины, что она не расположена продолжать разговор и собирается идти по своим делам. – Сол говорил, что я смогу связаться с ним через его племянника, но я потерял номер телефона. Он живет в самом Вашингтоне? – Нет-нет, – откликнулась миссис Валижельски. – Это посольство. Доктор Ласки рассказывал, что сейчас они живут в пригороде. – А Сол может быть в польском посольстве? – Зачем это доктору Ласки идти в польское посольство? – прищурившись, осведомилась женщина. – Арон работает в израильском посольстве, но живет он не там. Значит, вы шериф? Интересно, какие могут быть общие дела у доктора с шерифом? – Я поклонник его книг, – пояснил Джентри. Щелкнув авторучкой, он нацарапал на обороте своей блеклой визитной карточки адрес. – Я остановился вот здесь. А это номер моего домашнего телефона в Чарлстоне. Как только Сол появится, попросите его позвонить мне. Это очень важно. – И он двинулся вниз по лестнице. – О, кстати, – окликнул он женщину еще раз, – если я дозвонюсь до посольства, фамилия племянника Сола пишется с одним «е» или с двумя? – Как может быть два «е» в фамилии Эшколь? – Миссис Валижельски недоуменно пожала плечами. – Действительно, – хмыкнул Джентри и вприпрыжку побежал вниз.* * *
Натали не объявилась. Джентри прождал до начала одиннадцатого, потом позвонил в Чарлстон и был вознагражден лишь ее прежним посланием и своей собственной тирадой. В десять минут двенадцатого он еще раз набрал номер, и снова ничего. В четверть второго ночи он сдался и попробовал заснуть, но из-за тонкой перегородки доносился такой шум, словно там ссорились с полдюжины иранцев. В три ночи Джентри опять позвонил в Чарлстон с тем же результатом. Он произнес еще один текст, извиняясь за предыдущую грубость и умоляя девушку не болтаться одной по Филадельфии. Рано утром Джентри еще раз связался со своим автоответчиком, оставил название вашингтонского отеля, где он забронировал номер, и успел на восьмичасовой рейс. Перелет был слишком коротким, чтобы как следует все обдумать, но зато у него было время изучить свои записи в блокноте и папке. «Натали прочитала о взрывах в здании сената 20 декабря и опасалась, что это могло иметь отношение к Солу. Но не каждое убийство, несчастный случай или террористический акт в Америке стоит приписывать стареющему оберсту, злому гению доктора Ласки. В телевизионных новостях высказывалось предположение, что за этими взрывами, в результате которых погибли шесть человек, стояли пуэрто-риканские националисты. Нападение на здание сената было совершено всего несколько часов спустя после того, как Сол прибыл в город, и имя его в списке погибших не упоминается. Хотя личность самого террориста не установлена, не следует впадать в панику. Но Натали это вряд ли убедит». Джентри добрался до здания ФБР в начале двенадцатого. Он не знал, работает ли там кто-нибудь в субботу. Секретарша в приемной подтвердила, что агент по особым поручениям Ричард Хейнс на месте, и продержала Джентри несколько минут, дозваниваясь до этого делового человека, после чего объявила, что мистер Хейнс примет его. Джентри едва сдержал свою радость. Молодой человек, в дорогом костюме и с тонкими усиками, проводил шерифа в отдел безопасности, где его сфотографировали, записали основные данные, пропустили через металлический детектор и выдали пластиковый пропуск посетителя. Джентри похвалил себя за то, что оставил «ругер» в номере. Молодой человек, не говоря ни слова, провел его по коридору, посадил в лифт, потом они прошли еще по одному коридору, и наконец провожатый постучал в дверь с табличкой: «Агент по особым поручениям Ричард Хейнс». Когда изнутри раздалось «войдите», парень кивнул и развернулся на каблуках. Джентри с трудом удержался, чтобы не окликнуть его и не сунуть чаевые. Кабинет Ричарда Хейнса, просторный и искусно обставленный, резко контрастировал с кабинетом шерифа в Чарлстоне, маленьким и захламленным. На стенах висели фотографии. Джентри обратил внимание на мужчину с крупной челюстью и свинячьими глазками, который вполне мог быть Эдгаром Гувером, – на снимке он пожимал руку кому-то похожему на Ричарда Хейнса, только с меньшим количеством седых волос. Натуральный Хейнс не поднялся с места и даже не протянул руку, а просто указал жестом на кресло, предлагая посетителю сесть. – Что вас привело в Вашингтон, шериф? – осведомился он ровным баритоном. Джентри поерзал в тесном креслице, пытаясь устроиться поудобнее, потом понял, что его комплекция исключает эту возможность, и откашлялся. – Просто приехал на праздники, Дик, и решил заскочить, чтобы поздороваться. Хейнс удивленно поднял бровь, продолжая перебирать бумаги: – Очень мило с вашей стороны, шериф, хотя у нас тут довольно сумасшедшие выходные. Если вы по поводу убийств в «Мансарде», то я уже все отослал вам через Терри и наше отделение в Атланте, больше у меня нет ничего нового. Джентри положил ногу на ногу и передернул плечами: – Я случайно оказался поблизости и решил заскочить. У вас тут впечатляющая обстановочка, Дик. Хейнс хмыкнул. – А что это у вас с подбородком? – продолжил Джентри. – Похоже, кто-то хорошенько вам вмазал. Неприятности во время ареста? Хейнс прикоснулся к пластырю на фоне крупного желтоватого синяка. Его не скрывал даже грим телесного цвета. – Ничего особенного, шериф, – с печальным видом произнес он. – Поскользнулся, вылезая из ванны перед Рождеством, и стукнулся подбородком о вешалку для полотенец. Хорошо еще, что жив остался. – Да, говорят, большинство несчастных случаев происходит дома, – проворковал Джентри, не обращая внимая на недовольный взгляд Хейнса, брошенный на часы. – Послушайте, а вы получили фотографию, которую мы вам послали? – Фотографию? Ах да, той пропавшей женщины, мисс Фуллер? Спасибо, шериф. Она роздана всем нашим агентам. – Это хорошо. – Джентри кивнул. – Ничего не слышно, где она может находиться? – Фуллер? Нет. Я продолжаю считать, что она мертва. Думаю, ее тело нам никогда не удастся найти. – Возможно, и так, – согласился Джентри. – Дик, я только что проезжал мимо Капитолия на автобусе и видел через улицу большое здание с полицейскими кордонами вокруг. Это то самое, как оно называется… – Здание сената, – договорил Хейнс. – Да, это там неделю назад террористы взорвали сенатора? – Террорист, – поправил Хейнс. – Всего один. И сенатор от штата Мэн в это время отсутствовал. Был убит его политический советник, довольно известное лицо в партии республиканцев, по фамилии Траск. Больше никто из важных лиц не пострадал. – Полагаю, вы участвуете в расследовании этого дела? Хейнс вздохнул и отложил бумаги: – У нас здесь довольно большое учреждение, шериф. А агентов не так много. – Да, конечно, – согласился Джентри. – Говорят, террорист был пуэрториканец. Это так? – Извините, шериф, мы не имеем права рассказывать о текущих расследованиях. – Хорошо, хорошо… Скажите, а вы помните этого нью-йоркского психиатра, доктора Ласки? – Соломон Ласки. – Хейнс наморщил лоб. – Преподает в Колумбийском университете. Да, мы выясняли, где он находился в уик-энд тринадцатого. В Чарлстон он, вероятно, приезжал, чтобы организовать презентацию своей будущей книги. – Вполне возможно. Дело в том, что он должен был прислать мне кое-какие сведения об этих массовых убийствах, а теперь я не могу с ним связаться. Вы, случайно, не следили за ним? – поинтересовался Джентри как бы между прочим. – Нет, – ответил Хейнс и снова посмотрел на часы. – С чего вдруг? – Да, действительно, нет никаких оснований. Но мне казалось, что Ласки собирается сюда, в Вашингтон. По крайней мере, я думаю, он был здесь в прошлую субботу. В тот самый день, когда у вас произошла эта история с террористом в здании сената. – Ну и что? – Хейнс равнодушно пожал плечами. – Просто у меня такое ощущение, что этот парень пытается кое-что расследовать самостоятельно. Я думал, он здесь появлялся. – Нет, – быстро ответил Хейнс и вздохнул. – Шериф, я бы с радостью еще поболтал с вами, но через несколько минут у меня назначена встреча. – Конечно. – Джентри встал, комкая в руках кепку. – Вам надо обратиться к кому-нибудь. – К кому? – непонял Хейнс. – По поводу вашего синяка, – пояснил Джентри. – Могут быть осложнения…* * *
Он прошел по Девятой улице, пересек Пенсильвания-стрит и миновал Министерство юстиции. Затем свернул по улице Конституции, прошел по Десятой мимо здания Налогового управления, снова свернул на Пенсильвания-стрит и взбежал по ступенькам старой почты. Похоже, за ним никто не следил. Он дошел до Першинг-парка и посмотрел на крышу Белого дома. Интересно, там ли сейчас находится Джимми Картер и чем он занимается? Может, размышляет о заложниках и винит иранцев в своем поражении? Джентри сел на скамейку, вынул из кармана блокнот и перелистал страницы, плотно заполненные его почерком. «Тупик. А что, если Сол не в своем уме? Является ли он параноидным психом? Нет. А почему нет? Просто нет. О’кей, тогда куда он провалился? Надо пойти в Библиотеку Конгресса, просмотреть газеты за прошлую неделю, сообщения о смертях и несчастных случаях. Обзвонить больницы. А что, если он находится в морге под именем пуэрториканца Джона Доу? Глупо. Какое дело оберсту до советника сенатора? Какое он имеет отношение к Кеннеди и Руби?» Джентри закрыл блокнот, потер глаза и вздохнул. В Чарлстоне, когда он сидел на кухне Натали Престон и слушал рассказ Сола, все выглядело очень правдоподобно, все вставало на свои места. Разрозненные на первый взгляд убийства выстраивались в цепь трюков, которыми обменивались три маньяка, обладающие действительно невероятными возможностями. Но теперь все казалось глупостью. Если только… этих маньяков не было больше! Джентри выпрямился. Ласки должен был с кем-то встретиться здесь, в Вашингтоне. Но несмотря на всю свою откровенность, он не сказал с кем. Может, с членами семьи? Но зачем? Джентри вспомнил, с какой болью Сол рассказывал об исчезновении нанятого им детектива Фрэнсиса Харрингтона. Что, если он обратился к кому-нибудь за помощью? Например, к племяннику из израильского посольства? Может, кто-то еще вмешался в это дело? Тогда кто и с какой целью? Джентри вздрогнул и плотнее запахнул пальто. День был ясным, слабое зимнее солнце золотило колючую поблекшую траву. Он нашел таксофон на углу рядом с отелем «Вашингтон» и воспользовался кредитной карточкой, чтобы позвонить в Чарлстон. От Натали по-прежнему не было никаких известий. Тогда Джентри набрал номер израильского посольства, который он переписал из справочника в холле отеля. Интересно, работает ли там кто-нибудь в субботу? Ему ответил женский голос. – Здравствуйте, – произнес Джентри, с трудом справляясь с внезапно возникшим желанием сказать «шалом». – Могу я попросить Арона Эшколя? На другом конце провода возникла небольшая пауза, затем женщина спросила: – Будьте любезны, кто его просит? – Это шериф Роберт Джентри. – Секундочку. Секундочка вылилась в две минуты. Джентри стоял, сжимая обеими руками телефонную трубку, и взирал на здание казначейства на противоположной стороне улицы. Если таких людей, как оберст, вампиров сознания, было много, то это объясняло все. Тогда понятно, зачем Уильяму Бордену потребовалось инсценировать собственную смерть. Понятно, почему за простым шерифом округа в течение полутора недель велась слежка. И почему, беседуя с известным агентом ФБР, Джентри поймал себя на остром желании врезать ему по зубам. И что случилось с замусоленными газетными вырезками, которые в последний раз видели на месте убийства… – Да, – послышался в трубке мужской голос. – Здравствуйте, мистер Эшколь. Это шериф Бобби Джентри… – Это не мистер Эшколь, меня зовут Джек Коэн. – А, мистер Коэн… Я бы хотел поговорить с Ароном Эшколем. – Я возглавляю отдел мистера Эшколя. Вы можете сообщить мне свое дело, шериф. – Вообще-то, мистер Коэн, у меня к нему дело личного характера. – Вы друг Арона? – В голосе мужчины явно звучала тревога. Джентри понимал, что творится нечто странное, но не мог определить, что именно. – Нет, сэр, – ответил он. – Скорее, я друг дяди Арона, Соломона Ласки. Но мне непременно нужно поговорить с Ароном. Повисло напряженное молчание. Наконец, вздохнув, Коэн сказал: – Лучше, если бы вы прибыли сюда лично, шериф. Джентри взглянул на часы: – Боюсь, у меня нет на это времени, мистер Коэн. Если вы соедините меня с Ароном, я смогу выяснить, насколько это необходимо. – Очень хорошо. Откуда вы звоните? Вы здесь, в Вашингтоне? – Да, – ответил Джентри. – Из таксофона. – Вы в самом городе? Вам объяснят, как добраться до посольства. Джентри с трудом сдержал закипающую ярость: – Я нахожусь рядом с отелем «Вашингтон». Свяжите меня с Ароном Эшколем или дайте мне его домашний телефон. Если мне понадобится встретиться с ним в посольстве, я просто возьму такси. – Очень хорошо, шериф. Пожалуйста, перезвоните через десять минут. – И Коэн повесил трубку, прежде чем Джентри успел что-либо возразить. Взбешенный, он ходил взад-вперед перед входом в отель, с трудом сдерживая желание собрать вещи и тут же вылететь в Филадельфию. Все это было чрезвычайно странно. Он знал, как сложно найти исчезнувшего человека в Чарлстоне, но там у него под рукой все же было шесть полицейских и в десять раз больше возможных источников информации. Джентри перезвонил через восемь минут. Ему снова ответил женский голос: – Да, шериф. Подождите секундочку, пожалуйста. Он вздохнул и прислонился к металлическому каркасу телефонной будки. И тут что-то острое воткнулось ему в бок. Джентри обернулся и увидел рядом двух мужчин, стоявших как-то подозрительно близко. Тот, что был повыше, широко улыбался. Затем Джентри чуть опустил глаза и различил ствол пистолета. – Мы сейчас пойдем к той машине и сядем в нее, – сказал высокий, по-прежнему улыбаясь. Он похлопал шерифа по плечу, словно они были старыми друзьями, встретившимися после долгой разлуки. Ствол еще глубже впился под ребра. «Слишком уж этот здоровяк ко мне прижимается», – подумал Джентри. Он допускал, что ему удастся отбить оружие прежде, чем мужчина сможет выстрелить, но его напарник отошел на пять футов, продолжая держать правую руку в кармане плаща. Поэтому, что бы Джентри ни предпринял, у второго оставалась возможность выстрелить беспрепятственно. – Ну, пошли, – сказал высокий. И Джентри пошел.* * *
Они неплохо прокатились – сначала на запад к мемориалу Линкольна, затем по Джефферсон-драйв к Капитолию, мимо здания Пентагона и обратно, хотя о достопримечательностях столицы никто не говорил. Широкий лимузин с кожаными сиденьями двигался бесшумно. Стекла были затемнены, дверцы запирались автоматически, переднюю и заднюю часть автомобиля разделяла звуконепроницаемая перегородка. Джентри усадили назад так, что он оказался зажатым между двумя неизвестными. Рядом на откидном сиденье расположился взъерошенный человек с седыми волосами, грустными глазами и уставшим, изъеденным оспинами лицом, которое тем не менее казалось красивым. – Ребята, открою вам страшную тайну, – заметил Джентри. – Похищение людей в этой стране запрещено законом. Тем более шерифов… – Не предъявите ли вы мне какое-нибудь удостоверение личности, мистер Джентри? – тихо попросил седовласый человек. Джентри подумал, не произнести ли возмущенную обличительную речь, но потом просто пожал плечами и полез за своим бумажником. Никто не стал на него набрасываться, когда он сунул руку в карман, – перед тем, как сесть в машину, его обыскали. – Похоже, вы – Джек Коэн, – заключил Джентри. – Вы правы, – подтвердил мужчина, копаясь в его бумажнике. – А у вас полный порядок с удостоверениями, кредитными карточками и прочими документами, выданными на имя шерифа Роберта Джозефа Джентри. – Друзья и коллеги зовут меня Бобби Джо, – заметил Джентри. – Но нет на земле другого такого места, как Америка, где бы удостоверение личности значило меньше, – усмехнулся Коэн. Джентри пожал плечами. Его подмывало объяснить им, насколько мало его это заботит, но вместо этого он спросил: – А могу я взглянуть на ваше удостоверение личности? – Я – Джек Коэн. – Вы действительно начальник Арона Эшколя? – Я возглавляю отдел переводов и внешних связей в посольстве, – пояснил седовласый мужчина. – Это отдел, в котором работает Арон? – Да, – кивнул Коэн. – А вы не знали этого? – Может быть, один из вас троих – Арон Эшколь, откуда мне знать? – улыбнулся Джентри. – Я его никогда не видел и, судя по тому, как складывается ситуация, никогда не узнаю, кто из вас – он. – Почему вы так говорите, мистер Джентри? – произнес мужчина ровным ледяным тоном. – Считайте, что я догадался, – хмыкнул шериф. – Я прошу к телефону Арона, и все посольство пытается удержать меня на связи, пока вы, ребята, впрыгиваете в ближайший лимузин и рвете когти к отелю, чтобы под дулом пистолета свозить меня на экскурсию. И если вы те, за кого себя выдаете, хотя сейчас это трудно разобрать, ваше поведение не слишком соответствует тому, как должны вести себя посланники наших верных и зависящих от нас союзников на Ближнем Востоке. Подозреваю, Арон Эшколь убит или пропал без вести, и вы настолько расстроены этим обстоятельством, что тыкаете стволом под ребра законно избранному представителю власти. – Продолжайте, – попросил Коэн. – А пошли вы знаете куда! – отозвался Джентри. – Я уже все сказал. Объясните мне, что происходит, и я скажу, зачем я звонил Арону Эшколю. – Мы можем поспособствовать тому, чтобы вы продолжили свое участие в этой беседе, другими средствами, – произнес Коэн, и отсутствие угрозы в его голосе сработало лучше, чем любое запугивание. – Сомневаюсь, – ответил Джентри. – Если только вы те, за кого себя выдаете. Как бы то ни было, я не скажу ничего, пока вы не сообщите мне что-нибудь действительно стоящее. Коэн бросил взгляд на мелькавшие за окном мраморные башни и снова посмотрел на шерифа. – Арон Эшколь мертв, – проронил он. – Убит. Он, его жена и две четырехлетние дочери. – Когда? – спросил Джентри. – Два дня назад. – В Рождество! – простонал Джентри. – Ну и праздничек выдался. Как его убили? – Кто-то проткнул им головы проволокой, – безучастно произнес Коэн. Можно было подумать, что он описывает новый способ укрепления автомобильного двигателя. – О господи, – выдохнул Джентри. – Почему я ничего не читал об этом? – Там произошел взрыв с последующим пожаром, – пояснил Коэн. – Прокурор Виргинии классифицировал это как смерть вследствие несчастного случая – утечка газа. Связь Арона с посольством не была установлена агентствами властей. – А ваши врачи нашли истинную причину их гибели? – Да, – печально подтвердил Коэн. – Вчера. – Но зачем было устраивать весь этот спектакль, когда я позвонил? – осведомился Джентри. – У Арона могло быть… нет, постойте. Я упомянул Сола Ласки. Вы думаете, что смерть Арона и его семьи каким-то образом связана с его родственником? – Да. Именно так, – ответил Коэн. – Так кто убил Арона Эшколя? Коэн пристально взглянул на Джентри: – Теперь ваша очередь, шериф. Джентри помолчал, собираясь с мыслями. – Вы должны отдавать себе отчет, – продолжил Коэн, – что, если Израиль сейчас оскорбит американских налогоплательщиков в этот чрезвычайно важный период отношений между нашими странами, последствия могут оказаться для него губительными. Мы готовы поступиться собственными желаниями, но освободим вас только в том случае, если вы докажете свою непричастность к этому трагическому событию. Если же вам не удастся убедить нас, то для всех заинтересованных сторон будет гораздо проще, если вы исчезнете. – Хватит! – оборвал его Джентри. – Я думаю. – Они в третий раз проехали мимо мемориала Джефферсона и свернули на мост; впереди замаячил обелиск Вашингтона. – Десять дней назад Сол Ласки приехал в Чарлстон, заинтересовавшись убийствами в отеле «Мансарда»… Вы, наверное, слышали о них? – Да, – кивнул Коэн. – Несколько стариков были убиты из-за денег, а заодно под раздачу попали пара невинных свидетелей, так? – Приблизительно так, – усмехнулся Джентри. – Только одним из стариков оказался бывший нацист, скрывающийся под именем Уильям Борден. – Кинопродюсер, – пояснил высокий израильтянин, сидевший слева от шерифа. Джентри подпрыгнул – он почти забыл, что телохранители владеют даром речи. – Да. Так вот, – продолжил он, – Сол Ласки охотился конкретно за этим нацистом в течение сорока лет – со времен Хелмно и Собибора. – Это что? – осведомился молодой человек, сидевший справа от него. Джентри удивленно повернулся к нему, но тут Коэн что-то резко сказал на иврите, и молодой человек залился краской. – Этот немец… Борден… он погиб, не так ли? – осведомился Коэн. – Во время авиакатастрофы… Якобы погиб… Но Сол придерживался другого мнения. – Значит, доктор Ласки считал, что его старый мучитель все еще жив? – задумчиво произнес Коэн. – Но какое отношение имеет Борден ко всем этим убийствам в Чарлстоне? Джентри снял свою кепку и почесал затылок. – Сводит старые счеты… Сол и сам не мог сказать наверняка. Он просто чувствовал, что оберст – так он называл Бордена – каким-то образом связан со всем этим. – Зачем Ласки встречался с Ароном? – Признаться, я и не знал, что они встречались. – Джентри покачал головой. – До вчерашнего дня я вообще не знал о существовании Арона Эшколя. Сол вылетел из Чарлстона в Вашингтон, где он должен был с кем-то встретиться двадцатого декабря, однако с кем именно – не сказал. Он обещал держать со мной связь, но с тех пор, как он покинул Чарлстон, от него нет никаких вестей. Вчера я был в квартире Сола в Нью-Йорке и разговаривал с его домохозяйкой… – Тимой, – вставил высокий телохранитель и тут же умолк под свирепым взглядом Коэна. – Да, – подтвердил Джентри. – Она упомянула его племянника Арона, вот почему я приехал сюда… – О чем же доктор Ласки хотел поговорить с Ароном? – спросил Коэн. Джентри положил кепку на колени и развел руками: – Если б я знал. У меня сложилось впечатление, что он хотел получить какие-то сведения о жизни Бордена в Калифорнии. Арон мог ему в этом помочь? Прежде чем ответить, Коэн довольно долго молчал, закусив губу. – Перед встречей с дядей Арон взял отпуск за свой счет на четыре дня, – наконец ответил он. – Бо́льшую часть этого времени он провел в Калифорнии. – Ему удалось что-либо выяснить? – спросил Джентри. – Этого мы не знаем, – вздохнул Коэн. – А откуда вам известно о его встрече с дядей? Сол приходил в ваше посольство? Высокий произнес что-то предостерегающее на иврите, но Коэн не обратил на него внимания. – Нет, – ответил он. – Доктор Ласки встречался с Ароном неделю назад в Национальной галерее. Арон и Леви Коул, его коллега по внешним связям, сочли эту встречу чрезвычайно важной. Судя по словам их друзей и коллег по отделу, Арон и Леви в течение той недели хранили в шифровальном сейфе какие-то папки, которым придавали огромное значение. – Что было в папках? – не слишком надеясь на ответ, спросил Джентри. – Это нам неизвестно. – Коэн пожал плечами. – Через несколько часов после того, как была убита семья Арона, Леви Коул ворвался в посольство и изъял все материалы. С тех пор его никто не видел. – Он устало потер переносицу. – И все это абсолютно необъяснимо. Леви – холостяк. У него нет семьи ни в Израиле, ни здесь, в Штатах. Он преданный сионист, бывший военный. Я не могу себе представить, чем его можно подкупить. С точки зрения логики они должны были уничтожить именно его, а Арона Эшколя – шантажировать. Вопрос только в том, кто такие они? Джентри нечего было ответить. Он лишь тяжело вздохнул. – Ладно, шериф, – сказал Коэн, – расскажите, пожалуйста, все, что могло бы нам помочь. – Больше мне нечего добавить. Разве что могу пересказать вам историю Соломона Ласки. «Но как я это сделаю, не вдаваясь в подробности? Не упомянув о способности тех вампиров овладевать сознанием людей? – подумал Джентри. – Они же не поверят мне. А если не поверят, я погиб». – Нам нужно все, – жестко сказал Коэн. – Все с самого начала. Лимузин пронесся мимо мемориала Линкольна и снова направился к зданию Капитолия.Глава 21
Джермантаун
Суббота, 27 декабря 1980 г.
С помощью своего «Никона» со стотридцатипятимиллиметровым объективом Натали Престон пыталась запечатлеть противоречия умирающего города: кирпичные и каменные дома, банк, зажатый с двух сторон постройками восемнадцатого столетия, антикварные магазины, забитые сломанной рухлядью, пустые стоянки, заваленные мусором, грязные улочки и аллеи. Она зарядила в «Никон» черно-белую пленку «Кодак плюс-икс» и, не заботясь о зернистости, ставила длинные неторопливые экспозиции, чтобы было видно все до малейшей трещинки в стене. Накануне она набралась мужества и зарядила свою «ламу» тридцать второго калибра. Теперь револьвер лежал на дне ее большой сумки под вторым картонным дном, заваленный ворохами пленки и крышками от линз. Днем квартал выглядел не столь отталкивающе. Вчера вечером, после того как самолет приземлился, Натали, ощущая полную растерянность, позволила своему соседу, назвавшемуся Дженсеном Лугаром, отвезти ее в Джермантаун. Тот заверил, что ему это по пути. Его серый «мерседес» стоял на долгосрочной стоянке. Сначала Натали обрадовалась, что приняла это приглашение: путь был долгим – по оживленному шоссе, через двухуровневый мост в самый центр Филадельфии и за ее пределы, снова через автомобильную развязку, по скоростной автостраде и еще раз через реку. Наконец они выехали к вымощенной кирпичом Джермантаун-стрит, петлявшей между темных лачуг и пустых магазинов. К тому времени, когда они добрались до отеля, в котором Лугар посоветовал ей остановиться, Натали не сомневалась, что он вот-вот предложит подняться к ней в номер или показать ей свой дом, находящийся неподалеку. Но скорее всего, первое: у него не было на пальце обручального кольца, хотя это ничего не значило. Однако она ошиблась. Он высадил ее перед старым отелем, помог с сумками, пожелал удачи и отбыл. У нее мелькнуло подозрение, что он голубой. Около одиннадцати Натали позвонила в Чарлстон и оставила свой номер телефона и номер комнаты на автоответчике Роба. Она надеялась, что он позвонит в начале двенадцатого, возможно, настаивая на том, чтобы она вернулась в Сент-Луис, но он не позвонил. Разочарованная, ощущая какую-то странную обиду и изо всех сил сопротивляясь желанию лечь и заснуть, она еще раз позвонила в Чарлстон в половине двенадцатого, но на пленке ничего не было, кроме двух ее звонков. Недоумевая и подсознательно испытывая некоторый страх, она легла спать. При дневном свете все казалось более обнадеживающим. Хотя от Джентри так и не поступило никаких посланий, Натали позвонила в «Филадельфийский обозреватель» и, упомянув имя своего чикагского издателя, смогла получить некоторые сведения от редактора газеты. Подробности преступления все еще оставались покрыты мраком, очевидным было лишь одно: четверых членов банды обезглавили. Штаб братства Кирпичного завода располагался в городском благотворительном учреждении на Брингхерст-стрит, всего в миле с небольшим от отеля Натали на Челтен-стрит. Она нашла телефон учреждения, позвонила и назвалась репортером из «Сан-таймс». Священник по имени Билл Вудз назначил ей встречу на три часа и пообещал уделить пятнадцать минут. Весь день Натали занималась осмотром Джермантауна, все дальше и дальше углубляясь в лабиринты улиц и запечатлевая их на пленку. Это место, как ни странно, обладало некоторой притягательностью. К северу и западу от Челтен-стрит высились большие старые здания, хотя и заселенные несколькими семьями, но все же сохранявшие намек на зажиточность их обитателей, к востоку же от улицы Брингхерст тянулись ряды полуразвалившихся двухквартирных домов, заброшенных машин, и повсюду царила атмосфера безнадежности. За Натали следовала целая толпа хихикающих ребятишек, канючивших, чтобы она их сфотографировала. Натали не возражала. Над головой прогремел поезд, из раскрытой двери за полквартала от них раздался женский крик, и ребятишки рассеялись, как листья, унесенные ветром. Посланий от Роба не было ни в десять, ни в двенадцать, ни в два. Натали решила, что надо дождаться одиннадцати вечера. В три часа дня она постучала в дверь большого здания в стиле двадцатых годов, высившегося среди груд булыжника, закопченных многоквартирных домов и фабричных складов. Перила на крыльце были выломаны, окна на третьем этаже забиты досками, но кто-то потрудился недавно покрасить дом дешевой желтой краской, отчего он выглядел так, будто болен желтухой. Преподобный Билл Вудз, неуклюжий белый мужчина, усадил ее на стул в захламленном кабинете на первом этаже и стал жаловаться на недостаток финансирования, бюрократические препоны для функционирования такого проекта, как общинный дом, и слабую помощь со стороны молодежи и общины в целом. Слова «банда» он не употреблял. Краем глаза Натали видела, как по коридорам ходят молодые чернокожие парни, со второго этажа и из подвала доносились крики и раскаты смеха. – Могу я побеседовать с кем-нибудь из братства Кирпичного завода? – поинтересовалась она. – О нет! – воскликнул Вудз. – Ребята ни с кем не хотят говорить, кроме телевизионщиков. Им нравится сниматься. – Они живут здесь? – спросила Натали. – О господи, конечно нет. Они просто часто собираются тут для отдыха и дружеских бесед. – Мне надо переговорить с ними, – решительно сказала девушка и встала. – Боюсь, это… эй, мисс, постойте, подождите! Натали вышла в коридор, открыла дверь и поднялась по узкой лестнице. На втором этаже около дюжины парней толпились вокруг бильярдного стола или валялись на матрасах, раскиданных по полу, покрытому линолеумом. Окна были забраны стальными решетками, Натали насчитала четыре пневматические винтовки, стоявшие у подоконников. Когда она вошла, все замерли. – Тебе чего надо? – спросил высокий, невероятно худой парень лет двадцати с небольшим, опиравшийся на бильярдный кий. – Я хочу поговорить с тобой. – Ну и ну, – протянул бородатый юнец, лежавший на одном из матрасов. – Ты только послушай! Я хочу поговорить с тобой, – передразнил он. – Ты откуда свалилась, красотка? Из какого-нибудь долбаного южного штата? – Мне нужно взять интервью. – Натали сама удивлялась, что у нее не подгибаются колени и не дрожит голос. – Об убийствах. Повисло молчание, с каждой секундой становившееся все более угрожающим. Высокий парень, первым обратившийся к Натали, поднял свой кий и начал медленно приближаться к ней. В четырех футах от нее он остановился, вытянул руку и провел белым от мела концом кия сверху вниз между расстегнутыми полами ее куртки. – Я дам тебе интервью, сука. Я с тобой пообщаюсь на полную катушку – ты меня поняла. Натали заставила себя с минуту стоять неподвижно, затем сунула руку в карман и достала цветную фотографию, сделанную со слайда мистера Ходжеса. – Кто-нибудь из вас видел эту женщину? Парень с кием взглянул на снимок и жестом подозвал к себе мальчика, которому было не больше четырнадцати. Тот посмотрел, кивнул и вернулся на свое место у окна. – Позовите сюда Марвина! – приказал тот, что с кием. – Живо, шевелите задницами.* * *
Марвин Гейл – девятнадцатилетний темнокожий парень, синеглазый, с длинными ресницами, поражал своей красотой. Он был прирожденным лидером. Натали поняла это сразу, как только он вошел в помещение. Все каким-то неуловимым образом переменилось, и Марвин сделался всеобщим центром внимания. В течение десяти минут он требовал, чтобы Натали объяснила, кто эта женщина на фотографии. Еще десять минут Натали убеждала его сначала рассказать ей об убийствах, после чего пообещала ответить на все вопросы. Наконец Марвин расплылся в широкой улыбке, обнажив восхитительные зубы: – Ты уверена, что хочешь знать это, малышка? – Да. – Она кивнула. «Малышкой» ее называл Фредерик, и ей резануло слух, когда она услышала это слово здесь. Марвин хлопнул в ладоши. – Лерой, Кальвин, Монк, Луис, Джордж, – перечислил он. – Остальные остаются здесь. Послышался хор недовольных голосов. – Тихо! – оборвал Марвин. – Мы находимся в состоянии войны, вам ясно? За нами продолжают охотиться. Если мы выясним, кто эта старая сука и какое она имеет к этому отношение, мы будем знать, кто нам нужен. Уясните себе это и заткнитесь. Все разошлись обратно по своим матрасам, некоторые вернулись к бильярдному столу.* * *
Было уже четыре часа, на улице начало темнеть. Натали застегнула молнию куртки, пытаясь приписать свои внезапные приступы дрожи порывам ветра. Они прошли на север по Брингхерст-стрит, затем свернули на запад в узенький проулок. Фонари еще не горели. Время от времени пролетали редкие снежинки. Вечерний воздух был наполнен миазмами помоек и запахом прогоревшей сажи. Они остановились у поворота, и Марвин указал пальцем на четырнадцатилетнего парнишку: – Монк, расскажи, что тогда произошло. Мальчик заложил руки в карманы и сплюнул на заиндевевшую траву. – Мухаммед и остальные трое… они дошли досюда, понимаешь? Я шел за ними, но отставал. Темно было, как в преисподней. Мухаммед и Тоби нюхнули кокса и пошли добавить к брату Зига, в Пуласки-Тауне, а я так накурился, что не заметил, как они ушли. Потом побежал их догонять, понимаешь? – Расскажи о белом ублюдке. – Вонючий ублюдок, он вышел из этой улочки и показал Мухаммеду средний палец. Вот прямо здесь. Я был за полквартала отсюда – и то услышал, как Мухаммед охренел. Какой-то белый ублюдок – посылает Мухаммеда и трех братишек. – Как он выглядел? – спросила Натали. – Заткнись! – рявкнул Марвин. – Вопросы задаю я. Расскажи ей, как он выглядел. – Он выглядел как сука, – сказал Монк и еще раз сплюнул. Не вынимая рук из карманов, он повернул голову и утер подбородок о собственное плечо. – Этот долбаный ублюдок выглядел так, словно его окунули в дерьмо, понимаешь? Так, как будто он целый год питался одними отбросами. Волосы такими сосульками, а лицо как будто завешено травой… И весь грязный – в глине или в крови, я не понял. – Монка передернуло. – Ты уверен, что тот парень белый? – спросила Натали. Марвин бросил на нее сердитый взгляд, но Монк вдруг разорался: – О да, он был белый! Он был белый! Это истинная правда. – Расскажи ей про серп. Монк быстро закивал. – И белый засранец как рванул к ним, а Мухаммед, Тоби и остальные стоят как вкопанные, не врубаются. Тут Мухаммед говорит, мочи гада, и они ломанулись ему навстречу. Без пушек, без нихера, с ножами только. Да и ладно, и так покромсают. – Расскажи ей про серп. – Ага. – Глаза Монка расширились так, что, казалось, вот-вот вылезут из орбит. – Я услышал шум и подошел, чтобы посмотреть. Не бежал, ничего такого не делал, понимаешь? Я не думал ни о каких убийствах. Просто решил посмотреть, что у них там происходит. Но этот белый ублюдок, он достал такой серп… ну, как в мультиках, знаешь? – Каких мультиках? – спросила Натали. – Черт, ну там старуха с черепом и с палкой, а на палке серп. Смерть, в общем… Она приходит, чтобы забирать мертвецов. – С косой, что ли? – удивленно переспросила Натали. – Которой траву косят? – Да, черт, – бросил Монк и повернулся к ней. – Только этот белый ублюдок скосил Мухаммеда и братишек. И быстро. О черт, как быстро. Но я видел, я прятался там… – Он указал пальцем на большую мусорную кучу. – Я дождался, пока он не ушел, а потом еще очень долго сидел, мне такое дерьмо ни к чему… А после, когда рассвело, я пошел рассказать Марвину, понимаешь? Главарь сложил на груди руки и посмотрел на Натали: – Ну что, с тебя достаточно, малышка? Уже совсем стемнело. Далеко, в самом конце аллеи, виднелись огни Джермантаун-стрит. – Почти, – ответила Натали. – И он… этот белый ублюдок убил всех? Монк обхватил себя за плечи, его снова передернуло. – Ты же сама знаешь… И не спешил к тому же. Ему, понимаешь, это нравилось. – Они были обезглавлены? – Чего? – Она спрашивает, отрезал ли он им головы, – пояснил Марвин. – Расскажи ей, Монк. – Да, они были обезглавлены. Он скосил им головы своей косой и потом добил лопатой. И насадил их на стояночные счетчики, знаешь? – О господи, – выдохнула Натали. Снежинки падали ей на лицо и таяли на щеках и ресницах. – Это еще не все, – продолжал Монк. Смех его стал таким хриплым и прерывистым, что больше походил на сдерживаемые с трудом рыдания. – Он еще вырезал им сердца. По-моему, он съел их. Натали начала пятиться в ужасе, повернулась, чтобы бежать, но, не увидев вокруг ничего, кроме кромешной тьмы и гор кирпичей, замерла. Марвин взял ее за руку: – Пошли, малышка. Ты пойдешь с нами. Теперь твоя очередь рассказывать. Настало время поговорить серьезно…Глава 22
Беверли-Хиллз
Суббота, 27 декабря 1980 г.
Тони Хэрод усердно долбил стареющую старлетку, когда позвонили из Вашингтона. Тари Истен исполнилось сорок два, она была по меньшей мере на двадцать лет старше героини той роли, которую хотела получить в «Торговце рабынями», зато грудь у нее была в порядке. Хэрод поглядывал на нее снизу, пока Тари трудилась над ним, и ему казалось, что он различает бледно-розоватые линии на ее накачанной силиконом груди. Она выглядела настолько упругой, что почти не колыхалась, когда Тари подпрыгивала вверх-вниз, откинув плечи назад и открыв рот, восхитительно разыгрывая страсть. Хэрод не Использовал ее, он просто пользовался ею. – Давай, малыш, давай. Дай мне, дай, – задыхаясь, шептала стареющая инженю, которую «Калейдоскоп» в 1963 году называл «новой Элизабет Тейлор». Но она стала всего лишь новой Стеллой Стивенс. – Дай мне, дай, – повторяла она с каждым выдохом. – Дай мне все, малыш. Тони старался. За последние пятнадцать минут их страсть окончательно превратилась в тяжелый труд. Тари знала все нужные движения и выполняла их не хуже любой другой порнозвезды, с которой когда-либо работал Хэрод. Ее переполняла фантазия, она предвосхищала любое его желание, пытаясь доставить ему удовольствие каждым своим прикосновением, и старалась сосредоточить весь акт на самоотверженном поклонении пенису, которое, как она знала, нравилось любому мужчине. Она была самим совершенством. Но несмотря на все ее старания, Хэроду казалось, что с равным успехом он мог бы трахаться с дуплом в дереве. – Давай, малыш. Сейчас, дай мне все сейчас, – задыхалась Тари, продолжая оставаться в образе и подпрыгивая на нем, как ковбойская красотка на механическом быке. – Заткнись, – бросил Хэрод и попытался сосредоточиться, чтобы достичь оргазма. Он закрыл глаза и вспомнил стюардессу, летевшую с ним из Вашингтона две недели назад. Неужели она была последней? Ах да, еще две немки, развлекавшие друг друга в сауне… Хотя нет, о Германии он вспоминать не хотел. Чем больше они старались, тем слабее становилась эрекция у Хэрода. Пот с сосков Тари капал на его грудь. Хэрод вспомнил бесчувственную Марию Чэнь три года назад, ее смуглое обнаженное тело, покрытое потом, маленькие соски, твердеющие от холодной воды, когда он обтирал ее губкой, и капли влаги, поблескивающие на черном треугольнике лона. – Давай, малыш, – шептала Тари, чувствуя приближение победного конца и энергично труся, как пони, завидевшая впереди долгожданную конюшню. – Отдай мне все, малыш. И Хэрод отдал. Тари застонала, дернулась и застыла в наигранном экстазе, который явно тянул на премию за лучшее достижение, если бы «Оскаров» давали за оргазмы. – О малыш, как ты хорош, – проворковала она, запуская пальцы в его волосы, приникая лицом к плечу и елозя по нему своими грудями. Хэрод открыл глаза и увидел, что на телефоне мигает лампочка. – Проваливай, – буркнул он. Пока он сообщал Марии Чэнь, что возьмет трубку, Тари свернулась рядом клубочком. – Хэрод, это Чарльз Колбен! – проревел знакомый грубый голос. – Да? – Ты сегодня же вылетаешь в Филадельфию. Мы встретим тебя в аэропорту. Он оттолкнул руку Тари, тянувшуюся к его промежности, и закатил глаза. – Хэрод, ты здесь? – Да. А зачем в Филадельфию? – Просто тебе надо быть там. – А что, если я не хочу? Теперь настала очередь Колбена промолчать. – Ребята, я же вам сказал еще на прошлой неделе, что выхожу из игры, – продолжил Хэрод и посмотрел на Тари Истен. Она курила сигарету с ментолом. Глаза у нее были синими и пустыми, как вода в бассейне Хэрода. – Ниоткуда ты не выходишь! – заорал Колбен. – Ты знаешь, что случилось с Траском? – Да. – А это значит, что в Клубе Островитян открывается вакансия. – Не уверен, что меня это интересует. Колбен рассмеялся из трубки: – Хэрод, несчастный тупица, ты бы лучше надеялся на то, чтобы мы не потеряли интерес к тебе. Как только мы его потеряем, твоим недоношенным друзьям из Голливуда придется отправиться на очередные похороны. Вылетай немедленно, двухчасовым рейсом. Тони осторожно положил трубку, выбрался из кровати и влез в свой оранжевый халат с монограммами. Тари, потушив сигарету, смотрела на него сквозь длинные ресницы. Ее распластанная поза напомнила Хэроду дешевый итальянский нудистский фильм, в котором снялась Джейн Мэнсфилд незадолго до того, как лишилась головы в автомобильной катастрофе. – Малыш, – вздохнула Тари, явно преисполненная удовлетворения, – поговорим об этом? – О чем? – Конечно же, о проекте, глупый, – захихикала она. – О’кей. – Хэрод подошел к бару и налил себе стакан апельсинового сока. – Он называется «Торговец рабынями» и основан на этой книжонке, которая прошлой осенью валялась на каждом прилавке. Режиссером будет Шу Уильямс. Мы заложили в бюджет двенадцать миллионов, но Алан считает, что мы превысим его еще на миллион до окончательного монтажа. Хэрод чувствовал, что теперь Тари уже приближается к настоящему оргазму. – Рони сказал, что я идеально подхожу на эту роль, – прошептала она. – Ты ему за это и платишь. – Он жадно отпил ледяного сока. Рони Брюс был у Тари агентом и мальчиком для постели. – Рони утверждал, что это твои слова. – Она слегка надулась. – Да, мои, – сказал Хэрод. – Ты подходишь. – Он расплылся в улыбке. – Но, естественно, не на главную роль. Во-первых, ты на двадцать пять лет старше, у тебя толстая задница, а сиськи выглядят так, словно это надутые воздушные шары, которые того и гляди лопнут. Тари издала такой звук, словно кто-то внезапно ударил ее в солнечное сплетение. Губы ее шевелились, но она не могла произнести ни слова. Хэрод допил сок и почувствовал, как у него тяжелеют веки. – У нас имеется эпизодическая роль тетушки героини, которая отправляется на ее поиски. Диалогов не много, но у нее есть хорошая сцена, когда арабы насилуют ее на базаре в Маракеше. Из Тари начали вылетать отдельные слова: – Какого же черта ты, паршивый кобель… Хэрод расцвел в улыбке: – Я говорю, может быть. Подумай об этом, малышка. Пусть Рони позвонит мне, и я приглашу его на ланч. – Он поставил стакан и направился к джакузи.* * *
– Зачем понадобилось лететь среди ночи? – осведомилась Мария Чэнь, когда они висели где-то над Канзасом. Хэрод выглянул в темный иллюминатор. – По-моему, они просто хотят поиграть у меня на нервах. Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на Марию. После Германии что-то изменилось в их отношениях. Хэрод закрыл глаза, снова представил себе шахматную фигуру, на которой было вырезано его собственное лицо, и вздрогнул. – А почему в Филадельфию? – спросила Мария Чэнь. Он начал сочинять какую-то замысловатую остроту о Филдсе,[41] но потом решил, что слишком устал для легкомысленных ответов. – Не знаю, – сказал он. – Там или Вилли, или эта Фуллер. – А что ты будешь делать, если это Вилли? – Буду уносить ноги. Надеюсь, ты мне поможешь. – Он огляделся. – Ты упаковала браунинг так, как я сказал? – Да. – Она отложила в сторону калькулятор, на котором подсчитывала расходы, необходимые на гардероб. – А что, если это Фуллер? За три ряда от них не было ни одного человека. Несколько пассажиров в салоне первого класса спали. – Если это всего лишь она, то я ее убью, – сказал Хэрод. – Ты или мы? – поинтересовалась Мария Чэнь. – Я! – рявкнул Хэрод. – Ты уверен, что сможешь? Он свирепо посмотрел на нее и отчетливо представил, как его кулак врезается в ее идеальные зубы. Ему даже показалось, что игра стоит свеч – арест, суд и все остальное, – лишь бы пробиться через ее чертово восточное самообладание. Хотя бы раз. Избить ее и изнасиловать прямо здесь, в первом классе самолета, летящего из О’Хары в Филадельфию. – Уверен, – проронил он. – Она всего лишь несчастная старуха. – Вилли ведь тоже был… старик. – Ты видела, на что способен Вилли. Он спокойно перелетает из Мюнхена в Вашингтон, только чтобы отправить Траска на тот свет. Он сумасшедший. – Ты еще ничего не знаешь о Фуллер. Хэрод покачал головой: – Она женщина. А ни одна женщина на свете не может быть так опасна, как Вилли Борден.* * *
Они приземлились в Филадельфии за час до рассвета. Хэрод так и не смог заснуть. Начиная от Чикаго в салоне первого класса гулял такой сквозняк от вентиляторов, что теперь Хэроду казалось, будто под веки ему залили смесь клея с песком. Настроение у него еще больше испортилось, когда он увидел, что Мария Чэнь по-прежнему выглядит свежей и бодрой. Их встретили три омерзительно чистеньких агента. – Мистер Хэрод? – осведомился представительный мужчина с поблекшим синяком на подбородке, заклеенным пластырем. – Мы отвезем вас к мистеру Колбену. Тони протянул ему свою сумку: – Да, хорошо бы пошевеливаться. Я смертельно хочу спать. Красивый агент передал сумку одному из своих помощников и повел их вниз по эскалаторам, через двери с табличками «Вход воспрещен» и наружу, на бетонированную дорожку между основным зданием аэропорта и комплексом частных ангаров. Грязная красно-желтая полоса на востоке намекала на восход солнца, но огни на взлетных полосах еще продолжали гореть. – О черт! – с чувством выругался Хэрод. Перед ними стоял готовый к взлету дорогой вертолет на шесть пассажиров, выкрашенный в оранжевые и белые цвета; его бортовые огни посверкивали, а двигатели уже слабо вращались. Один из агентов придержал дверцу, пока второй закидывал внутрь багаж Хэрода и Марии Чэнь. Через стекла салона на них смотрел Чарльз Колбен. – Черт, – повторил Хэрод, обращаясь к Марии Чэнь. Та кивнула. Тони вообще терпеть не мог летать, но вертолеты он ненавидел больше всего. В то время как самый распоследний голливудский режиссер тратил треть своего бюджета, арендуя эти опасные безумные машины, и с ревом кружил и нырял над каждой съемочной площадкой, как маньяк с комплексом Иеговы, Тони Хэрод категорически отказывался подниматься над землей. – Неужели у вас нет какого-нибудь паршивого наземного транспорта? – проорал он сквозь шум лопастей. – Залезайте, – скомандовал Колбен. Хэрод произнес еще несколько внушительных ругательств, после чего последовал в салон за Марией Чэнь. Он знал, что двигатели расположены над землей по меньшей мере в восьми футах, но ни один здравомыслящий человек не мог пройти под их невидимыми лопастями, не сгибаясь. Тони и Мария еще возились с пристежными ремнями на мягком заднем сиденье, когда Колбен уже развернулся в своем кресле и, подняв вверх большие пальцы, подал пилоту знак взлетать. Хэрод решил, что тот вполне тянет на главную роль: потертая кожаная куртка, худое лицо с резкими чертами под козырьком красной кепки и глаза, взгляд которых говорил, что им привычен вид смертельного боя, а все остальное, менее волнующее, просто не представляет никакого интереса. Пилот произнес что-то в микрофон, закрепленный у него на голове, выжал вперед ручку управления, затем притянул ее чуть на себя. Вертолет взревел, приподнялся, нырнул носом вниз и полетел, стабильно держась в шести футах над землей. – О черт, – пробормотал Хэрод. Ощущение было такое, будто он катил на доске с тысячью шарикоподшипников. Они вышли из зоны, прилегавшей к ангарам и аэропорту, обменялись какими-то репликами с диспетчером и взмыли вверх. Прежде чем закрыть глаза, Хэрод успел различить внизу реку и огромную тушу нефтяного танкера. – Старуха здесь, в городе, – сказал Колбен. – Мелани Фуллер? – переспросил Хэрод. – А ты думаешь, я о ком? – ухмыльнулся Колбен. – О Хелен Хейс?[42] – Где она? – Увидишь. – Как вы ее нашли? – Это наше дело. – И что вы собираетесь делать? – В свое время расскажем. Хэрод открыл глаза: – Люблю я с тобой разговаривать, Чак. Все равно что беседовать с собственными подмышками. Колбен прищурился и улыбнулся: – Тони, малыш, лично я считаю, что ты кусок собачьего дерьма, но мистер Барент почему-то полагает, что ты мог бы вступить в наш Клуб. Тебе представился счастливый случай, смотри не проморгай его. Хэрод рассмеялся и снова закрыл глаза. Мария Чэнь смотрела в иллюминатор на вьющуюся ленту серой реки. Справа тянулись ряды двухквартирных домов, покрывавшие все пространство кирпично-коричневой сеткой, прошитой автострадами, слева же раскинулся казавшийся бесконечным парк с низкими холмами, которые топорщились обнаженными деревьями и кое-где были припорошены заплатками снега. Поднялось солнце, повиснув золотым прожектором между горизонтом и низкими облаками, и сотни окон домов на склонах холмов отразили его свет. Колбен положил руку на колено Марии. – Мой пилот – вьетнамский ветеран, – доверительно сообщил он. – Он как вы. – Я никогда не была во Вьетнаме, – тихо ответила она. – Нет, – поправился Колбен, и его рука скользнула вверх по ее бедру. Хэрод, казалось, спал. – Я имел в виду, что он – нейтрал. Мария Чэнь сжала колени и пресекла рукой дальнейшие поползновения. Триостальных агента наблюдали за происходящим, а тот, у которого был травмирован подбородок, даже слегка улыбался. – Чак, – проронил Хэрод, не открывая глаз, – ты левша или правша? – А в чем дело? – ухмыльнулся Колбен. – Я просто хотел узнать, сможешь ли ты заниматься мастурбацией, если я сломаю тебе правую руку. – Хэрод открыл глаза. Колбен смотрел на него, не мигая. Трое агентов одновременно расстегнули плащи. – Подлетаем, – сообщил пилот. Колбен убрал руку с колена Марии и наклонился вперед. – Посади нас рядом с центром связи, – распорядился он, хотя в этом не было никакой необходимости. Внизу виднелся небольшой квартал с ветхими одноквартирными домами и заброшенными фабриками, обнесенный высоким строительным забором. В центре стоянки расположились четыре трейлера, а с южной стороны от них стояли машины и фургоны. На крышах одного из фургонов и двух трейлеров высились коротковолновые антенны. Посадочная площадка была размечена оранжевыми пластиковыми панелями. Выйдя из вертолета, все пригнулись, проходя под вращающимися лопастями, за исключением Марии Чэнь. Ассистентка Хэрода шла выпрямившись, осторожно переступая лужи на своих высоких каблуках. Пилот остался в вертолете, лопасти продолжали вращаться. – Небольшая остановка, – пояснил Колбен, направляясь к одному из трейлеров. – А потом тебя ждет работа. – Единственная работа, которой я хотел бы заняться, – это поиски постели, – откликнулся Хэрод. Два центральных трейлера, развернутые на север и на юг, соединялись широкой дверью. Западная стена была полностью заставлена телевизионными мониторами и пультами связи. За мониторами сидело человек восемь в белых рубашках и темных галстуках, время от времени они что-то говорили в микрофоны. – Прямо центр управления космическими полетами, – заметил Хэрод. Колбен важно кивнул: – Это наш центр связи. Сидевший за первым пультом «белый воротничок» поднял голову, и Колбен обратился к нему: – Ларри, это мистер Хэрод и мисс Чэнь. Я пригласил их сюда взглянуть на нашу операцию. Ларри кивнул, посчитав прибывших за высоких гостей, и Хэрод понял, что эти рядовые сотрудники ФБР ничего не знают об истинных целях операции. – Что это такое на экране? – осведомился он. – Это фасад дома на Квин-лейн, где находится подозреваемая и неизвестный парень вместе с некой Энн Мари Бишоп. Ей пятьдесят три года, она не замужем, после смерти брата в мае этого года живет одна, – объяснил Колбен. – Группа «Альфа» установила пункт наблюдения на втором этаже склада через дорогу. На следующем мониторе – тыльная сторона того же дома, снимается с третьего этажа одноквартирного дома, стоящего на другой стороне проулка. А на этом – вид проулка с передвижного фургона, прослушивающего телефонные переговоры. – Она сейчас там? – Хэрод кивнул на черно-белые изображения маленького домика. Колбен покачал головой и повел их к монитору, на экране которого виднелся старый каменный дом. Камера была установлена на уровне земли, на противоположной стороне оживленной улицы, и изображение время от времени перекрывалось проходящим транспортом. – В данный момент она находится в Ропщущей Обители, – пояснил Колбен. – Где? – опешил Хэрод. – В Ропщущей Обители. – Колбен указал на две увеличенные фотокопии архитектурных планов, приколотые к стене над монитором. – Это историческая достопримечательность, в настоящий момент закрытая для посещений публики. Фуллер проводит там довольно много времени. – Объясните-ка мне подробнее, – попросил Хэрод. – Интересующая нас старуха скрывается в здании национального памятника? – Это не национальный памятник, – отрезал Колбен, – а всего лишь местная достопримечательность. Но она действительно проводит там бо́льшую часть времени. Утром – по крайней мере в течение тех двух дней, что мы за ней наблюдаем, – Фуллер, вторая пожилая женщина и парень ходят в дом на Квин-лейн, вероятно, для того, чтобы помыться и поесть чего-нибудь горячего. – Боже мой, – произнес Хэрод и снова оглядел агентов и оборудование. – И сколько людей у вас занимается этой работенкой, Чак? – Шестьдесят четыре человека. Местные власти знают о нашем присутствии, но им велено не вмешиваться. Когда же дело дойдет до развязки, нам может потребоваться их помощь с регулировкой движения. Хэрод ухмыльнулся и посмотрел на Марию Чэнь. – Шестьдесят четыре человека, чертов вертолет и миллион долларов, потраченных на «Звездные войны», и все для того, чтобы поймать восьмидесятилетнюю шлюху! – (Ларри и еще несколько агентов недоумевающе посмотрели на него.) – Как следует работайте, ребята, – подбодрил их Хэрод с издевкой в голосе. – Ваша страна гордится вами. – Пройдем в мой кабинет, – холодно заметил Колбен.* * *
Кабинеты находились в трейлерах, расположенных на южной окраине стоянки. Кабинет Колбена был чуть больше обычной клетки и чуть меньше комнаты. – А что находится на другом конце этой конструкции? – осведомился Хэрод, когда он, Мария Чэнь и помощник директора ФБР расположились вокруг небольшого стола. Колбен замялся. – Камеры заключения и оборудование для проведения допросов, – ответил он наконец. – Вы собираетесь допрашивать эту Фуллер? – Нет, – произнес Колбен. – Она слишком опасна. Мы намереваемся уничтожить ее. – У вас уже есть задержанные, которых вы допрашиваете? – Возможно, – уклонился Колбен. – Тебе это знать не обязательно. Хэрод вздохнул: – О’кей, Чак, а что мне нужно знать обязательно? Колбен бросил быстрый взгляд на Марию Чэнь: – Ты не можешь здесь обойтись без своей Конни Чжен,[43] Тони? – Нет, – сказал Хэрод. – И только попробуй еще раз прикоснуться к ней. Боюсь, тогда Баренту придется заполнять еще одну вакансию в Клубе Островитян. Колбен слегка улыбнулся: – Нам с тобой предстоит решить кое-какие вопросы. Но это позднее. А пока мы должны завершить эту операцию, и тебе ради разнообразия придется поработать. – Он достал фотографию и протянул ее Хэроду. Тони уставился на снимок, сделанный поляроидом. На нем была изображена симпатичная чернокожая девушка лет двадцати двух, стоящая на углу улицы в ожидании смены сигнала светофора. Вьющиеся волосы, короткая стрижка, на изящном овале лица выделялись выразительные глаза и полные губы. Слишком мешковатое верблюжье пальто не давало возможности оценить фигуру. – Миленькая крошка, – заметил он. – На главную роль, конечно, не тянет, но я мог бы пригласить ее на пробы или снять где-нибудь в эпизоде. Кто она такая? – Натали Престон, – пояснил Колбен. Хэроду это имя ничего не говорило. – Ее отец оказался в зоне конфликта между Ниной Дрейтон и Мелани Фуллер несколько недель назад в Чарлстоне. – И что же? – А то, что он мертв, а юная мисс Престон вдруг объявляется здесь, в Филадельфии. – Сейчас? – Да. – Вы думаете, она идет по следу шлюхи Фуллер? – Нет, Тони, мы думаем, что безутешная дочь оставляет могилу своего папочки, бросает дипломную работу в Сент-Луисе и прилетает в Джермантаун из внезапно проснувшегося интереса к ранней истории Америки, – ухмыльнулся Колбен. – Естественно, она идет по следу старухи. – А как же она ее нашла? – Хэрод не сводил глаз с фотографии. – По банде, – сказал Колбен и, видя непонимание на его лице, добавил: – О господи, у вас что, в Голливуде нет газет и телевидения? – Я был занят запуском фильма с бюджетом в двенадцать миллионов, – важно заметил Хэрод. – Что за банда? Колбен рассказал ему о рождественских убийствах на Джермантаун-стрит. – А с тех пор еще два, – добавил он. – Грязное дело. – А каким образом эта сладкая шоколадка связала потасовку между местными ублюдками с Мелани Фуллер? – спросил Хэрод. – И как вы вообще отыскали здесь ее и эту старуху? – У нас есть свои источники, – усмехнулся Колбен. – Что касается этой черной красотки, мы прослушивали ее телефон и телефон того чокнутого шерифа, с которым она общалась. Они оставляли презабавные послания друг другу на его автоответчике. Мы отправили в Чарлстон парня, который стер ненужные нам сообщения. Хэрод покачал головой: – Не понял. Какое отношение ко всему этому дерьму имею я лично? Колбен поиграл костяным ножом для распечатывания писем. – Мистер Барент решил, что это по твоей части, Тони. – Что именно? – Хэрод вернул ему фотографию. – Позаботиться о мисс Престон. – Нет уж, спасибо. Мы договаривались только о Фуллер. Только о ней. Колбен приподнял бровь: – В чем дело, Тони? Эта малышка пугает тебя так же, как и перелеты? Чего ты еще боишься? Хэрод потер глаза и зевнул. – Займись этим, и, возможно, тебе не придется беспокоиться о Мелани Фуллер, – добавил Колбен. – Это кто сказал? – Мистер Барент сказал. Господи, Хэрод, ты получаешь бесплатный билет в самый элитный клуб, какие только знала история. Я подозревал, что ты недоумок, но такой глупости я от тебя не ожидал. Хэрод еще раз зевнул. – А кому-нибудь из вас, интеллектуальных паралитиков, не приходило в голову, что я не обязан выполнять вашу грязную работу? – поинтересовался он. – Ты сам сказал, что вы по нескольку раз в день снимаете старуху своими камерами. Замените одну из них на тридцать шестой калибр, и вопрос решен. А что за возня с этой малышкой Натали? Она тоже обладает Способностью или чем-нибудь еще? – Нет, – ответил Колбен. – Натали Престон имеет степень бакалавра искусств, полученную в Оверлине, и на две трети сдала курс на право преподавания. Очень спокойная девушка. – Тогда почему я? – Взнос, – ответил Колбен. – Мы все платим взносы. – И чего вы хотите? Арест и допрос? – Нет необходимости, – бросил Колбен. – Все сведения, которые она могла бы нам предоставить, мы уже… э-э-э… получили из другого источника. Ее просто нужно вывести из игры. – Окончательно? Колбен издал смешок: – А вы как думали, мистер Хэрод? – Я подумал, может, отвезти ее в Беверли-Хиллз на небольшие принудительные каникулы? – Веки у него совсем отяжелели. Колбен снова рассмеялся: – Как хочешь. Но вопрос с этой шоколадкой, как ты ее назвал, должен быть решен окончательно. Тони, малыш, только чтобы без каких-либо промашек. – Промашек не будет, – пообещал Хэрод и бросил взгляд на Марию Чэнь. – Вам известно, где она сейчас? – Да. – Колбен взглянул на компьютерную распечатку. – Она все еще в отеле «Челтен» в двенадцати кварталах отсюда. Хейнс может отвезти вас туда. – Прежде всего, я хотел бы, чтобы нам с Марией предоставили номера люкс в хорошем отеле. А затем – семь или восемь часов сна. – Но мистер Барент… – Имел я мистера Барента, – промолвил Хэрод с улыбкой. – Если ему не нравится, пусть сам охотится за этой малышкой. А теперь распорядись, чтобы Хейнс или кто там отвез нас в приличный отель. – А как насчет Натали Престон? – продолжал настаивать Колбен. Хэрод остановился у двери: – Полагаю, она тоже находится под наблюдением? – Конечно. – Ну так попроси своих мальчиков, чтобы они еще часов восемь-девять повисели у нее на хвосте. – Он собрался идти, но вдруг замер и пристально посмотрел на Колбена. – Ты так и не ответил на мой вопрос, Чак. Если последние несколько дней Мелани Фуллер находится у вас под колпаком, чего вы тянете? Почему не покончите с ней и не уберетесь отсюда? Колбен снова поиграл ножом. – Мы просто хотим выяснить, осталась ли какая-нибудь связь между этой Фуллер и твоим старым приятелем мистером Борденом. Ждем, когда Вилли сделает промашку и высунет нос. – И что же будет тогда? Колбен улыбнулся и провел тупой стороной ножа себе по горлу: – Тогда… тогда твой дружок Вилли пожалеет, что его не было рядом с Траском, когда взорвалась бомба.* * *
Хэрода и Марию Чэнь поселили в отеле «Каштановые холмы» в семи милях от Джермантаун-стрит, в районе тенистых улиц и огороженных парков. Колбен тоже был зарегистрирован в этом отеле. Агент с травмированным подбородком распорядился, чтобы на улице в машине их дождался белокурый фэбээровец. Хэрод проспал часов шесть и проснулся разбитым, совершенно не понимая, где находится. Мария Чэнь смешала ему водку с апельсиновым соком и, пока он пил, присела на край кровати. – Что ты собираешься делать с девушкой? – поинтересовалась она. Хэрод поставил стакан и потер лицо: – Какая тебе разница? – Разница есть. – Тебя это не касается. – Мне поехать с тобой? Тони уже думал об этом. Он чувствовал себя неуютно, когда его никто не прикрывал, но в данном случае необходимости не было. Чем больше он думал, тем менее необходимым ему это казалось. – Нет, – ответил он. – Оставайся здесь и займись письмами от «Парамаунта». Это не потребует много времени. Не говоря ни слова, Мария Чэнь вышла из комнаты. Хэрод принял душ, надел шелковую рубашку, дорогие шерстяные брюки и черный пиджак с ворсом. Затем он набрал номер телефона, который ему дал Колбен. – Эта девушка Натали все еще на месте? – спросил он. – Она болтается в трущобах, но к обеду вернется в отель, – довольно рассмеялся Колбен. – Она проводит много времени с этой черной бандой. – Той самой, которая лишилась своих членов? Колбен снова расхохотался. – Что смешного? – раздраженно спросил Хэрод. – Которая лишилась своих членов, – продолжал хохотать Колбен. – Это полностью соответствует действительности. Два последних трупа были изрублены на куски, и у них отрезаны члены. – О господи! – выдохнул Хэрод. – И ты думаешь, этим занимается Мелани Фуллер? – Мы не знаем, – ответил Колбен. – Мы не видели, чтобы ее парень выходил из Ропщущей Обители в то время, когда происходили убийства, но она могла использовать кого-нибудь другого. – А вы хорошо следите за этой Ропщущей Обителью? – Можно было бы и получше. Но мы не можем поставить по спецмашине на каждой улочке – вдруг старуха что-нибудь заподозрит. Однако у нас хорошее прикрытие спереди, камера, целиком охватывающая задний двор, и весь квартал оцеплен агентами. Как только старая ведьма высунется, мы тут же ее схватим. – Ну что ж, хорошо, – сказал Хэрод. – Слушай, если я сегодня закончу с этим вторым делом, я бы хотел утром убраться отсюда. – Надо будет связаться с Барентом. – К черту Барента! – разозлился Хэрод. – Я не собираюсь дожидаться, когда здесь появится Вилли Борден. На это уйдет слишком много времени, потому что Вилли мертв. – Не так уж много, – возразил Колбен. – Нам дан зеленый свет заняться старухой. – Сегодня? – Нет, но довольно скоро. – Когда? – Мы скажем, если тебе надо будет это знать. – Люблю беседовать с тобой, подмышка. – Хэрод положил трубку. Молодой белокурый агент отвез его в город, показал отель «Челтен» и припарковал машину в соседнем квартале. Хэрод дал ему на чай двадцать пять центов. Это был старый отель, старавшийся сохранить достоинство, несмотря на стесненные обстоятельства. Холл поражал своей пустотой, но бар был недавно отремонтирован, там царил приятный полумрак. Хэрод решил, что основные доходы отель получает от ланчей, на которые сюда заходят немногие оставшиеся в этом районе белые бизнесмены. Нужную ему девушку он отыскал в баре. Она сидела в углу, ела салат и читала книгу в мягкой обложке. Выглядела она ничуть не хуже, чем на фотографии, к тому же терракотовый свитер плотно облегал ее полную грудь. С минуту Хэрод постоял у стойки бара, пытаясь выявить среди посетителей агентов ФБР. На эту роль идеально подходил одинокий парень со слуховым аппаратом и в излишне дорогом для такой дыры костюме. Через некоторое время Хэрод обратил внимание на толстого негра, который поедал густой суп из моллюсков и не сводил глаз с Натали. «Неужели они стали теперь нанимать в ФБР негров? – подумал Хэрод. – Тоже, наверное, своя квота». По меньшей мере еще один агент должен был сидеть в холле с газетой. Хэрод взял свой джин с тоником и направился к столику Натали Престон. – Вы не возражаете, если я ненадолго составлю вам компанию? Молодая женщина оторвалась от книги, и он прочел название: «Преподавание как деятельность по сохранению ценностей». – Нет, – жестко сказала она, – возражаю. – О’кей. – Хэрод нагло повесил пиджак на спинку стула и сел. – Зато я не возражаю. Натали Престон открыла было рот, но Хэрод мгновенно проник в ее мозг и легко надавил… совсем чуть-чуть. Девушка онемела. Она попыталась встать и замерла на полпути. Зрачки ее сверкнули, как у кошки. Тони улыбнулся и откинулся на спинку стула. Вокруг них в пределах слышимости не было ни одного посетителя. – Тебя зовут Натали, – проговорил он, складывая руки на животе. – Меня – Тони. Как ты насчет того, чтобы разговаривать шепотом, но ни в коем случае не переходить на полный голос и не кричать? Натали опустила голову и судорожно глотнула воздух. – Ты неправильно играешь в эту игру, детка. Я спросил, как ты смотришь на то, чтобы немного поразвлечься? Все еще с трудом переводя дыхание, словно после пробежки на длинную дистанцию, девушка подняла глаза и откашлялась. Поняв, что к ней вернулся голос, она прошептала: – Пошел к черту… сукин сын… Хэрод выпрямился. – Неправильный ответ. Он с интересом стал наблюдать, как Натали внезапно согнулась, охваченная нестерпимой головной болью. В детстве Хэрод страдал страшными мигренями и знал, как делиться своей болезнью с мнительными особами. – С вами все в порядке, мисс? – поинтересовался проходивший мимо официант. Натали медленно выпрямилась, как механическая кукла, у которой кончается завод, и хрипло прошептала: – Да, со мной все в порядке, просто месячные спазмы. Официант в смущении удалился. Хэрод расплылся в улыбке, наклонился вперед и погладил руку девушки. Та попыталась отдернуть ее, и ему пришлось приложить немало сил, чтобы не дать ей преуспеть в этом. Во взгляде Натали появилось выражение загнанного зверя, которое Хэроду всегда нравилось. – Давай начнем сначала, – прошептал он. – Чем бы ты хотела заняться сегодня вечером, детка? – Я хочу… сделать тебе… минет… – Каждое слово из нее приходилось вытаскивать чуть ли не клещами, но Хэрода это вполне устраивало. Огромные карие глаза Натали наполнились слезами. – А что еще? – проворковал он. От прилагаемых усилий лоб его покрылся морщинами. Эта шоколадка требовала от него гораздо больше трудов, чем обычно. – Чем бы ты еще хотела заняться? – Я бы… хотела… чтобы ты… меня… трахнул… – Конечно, малышка. В ближайшие два часа лучшего занятия я себе и не придумаю. Пойдем в твой номер. Они вместе поднялись из-за стола. – Лучше оставь какие-нибудь деньги, – прошептал он. Натали уронила на стол десятидолларовую купюру. Проходя мимо двух агентов у бара, Хэрод подмигнул им. В холле, пока они ждали лифт, мужчина в темном костюме опустил газету и пристально посмотрел на них. Хэрод улыбнулся ему и недвусмысленно показал жестом, чем они собираются заняться. Агент залился краской и снова поднял газету. Ни в лифте, ни в коридоре третьего этажа они никого не встретили. Хэрод взял у Натали ключ и открыл дверь. Пока он осматривал комнату, девушка стояла посередине, безучастно глядя перед собой. Чистенькая, но маленькая кровать, бюро, черно-белый телевизор на вращающейся подставке и открытый чемодан вместо вешалки. Хэрод достал из чемодана нижнее белье, провел им по своему лицу, заглянул в ванную и подошел к окну, рядом с которым спускалась пожарная лестница. – Ну что ж, – весело промолвил он и, отодвинув от стены низкое зеленое кресло, сел. – Сначала небольшое шоу. Натали стояла между ним и кроватью. Руки ее безвольно свисали по бокам, лицо ничего не выражало, но Хэрод видел по легким судорогам, пробегавшим по ее плечам, какие неимоверные усилия она прилагает. Он улыбнулся и усилил свою хватку. – Всегда приятно посмотреть небольшой стриптиз перед тем, как лечь в постель, не правда ли? Натали Престон медленно подняла руки и стянула свитер через голову. Ее большая грудь в старомодном белом лифчике внезапно напомнила Хэроду стюардессу в самолете две недели назад. Кожа стюардессы была настолько же бледной, насколько темными были щечки у этой малышки. Боже, зачем они носят эти простые, совершенно не возбуждающие лифчики? Хэрод кивнул, и Натали завела руки за спину, чтобы расстегнуть застежку. Бретельки лифчика скользнули вниз, и он упал на пол. Хэрод посмотрел на светло-коричневые соски и облизнулся. Пусть она немного поиграет сама с собой, прежде чем займется им. – Отлично, – прошептал он. – Теперь, я думаю, самое время… И тут раздался оглушительный грохот. Хэрод обернулся как раз в тот момент, когда выбитая дверь рухнула внутрь и в проеме возникла огромная фигура, загородившая собой свет, лившийся из коридора. Он еще успел подумать, что, как идиот, оставил свой браунинг в багаже Марии Чэнь. Хэрод привстал, попробовал защититься руками, но что-то с тяжестью наковальни опустилось ему на голову, вжав в подушки кресла, а затем он полетел на пол, в теплый, затаившийся внизу мрак.Глава 23 Мелани
Винсента было трудно содержать в чистоте. Есть такие мальчишки, которые, кажется, источают грязь из всех своих пор. Не успевала я вычистить ему ногти, как через час под ними уже снова чернела траурная кайма. Мне приходилось постоянно бороться за то, чтобы он выглядел опрятно. В Рождество мы отдыхали. Энн готовила еду, ставила на проигрыватель одну за другой праздничные пластинки и занималась стиркой, пока я читала Писание и размышляла над ним. День выдался тихим и спокойным. Несколько раз у Энн возникал порыв включить телевизор – до встречи со мной она смотрела его по шесть-восемь часов в день, – но моя обработка давала себя знать, и она тут же находила себе какое-нибудь другое занятие. В первую неделю своего пребывания здесь я и сама много времени проводила у экрана, пока однажды вечером в одиннадцатичасовых новостях не показали короткий сюжет о так называемых чарлстонских убийствах. «Полиция штата до сих пор разыскивает пропавшую женщину», – сообщила молодая дикторша. И тогда я решила, что больше в доме Энн Бишоп никто не будет смотреть телевизор. В субботу, через два дня после Рождества, мы отправились с Энн по магазинам. В гараже у нее хранился «де сото» 1953 года. Это была отвратительная зеленая машина с решеткой на радиаторе, отчего она напоминала испуганную рыбу. Энн вела машину так осторожно и неуверенно, что, когда мы выехали из Джермантауна, я была вынуждена посадить на ее место Винсента. Энн указала нам дорогу, по которой мы выбрались из Филадельфии и направились к самому фешенебельному торговому центру «Прусский король». Более глупого названия я еще не встречала. Мы ходили по магазинам в течение четырех часов, и я сделала несколько симпатичных приобретений, хотя, опять же, ни одно из них не могло сравниться с той восхитительной одеждой, которую я оставила в аэропорту Атланты. Я купила красивое пальто за триста долларов – темно-синее, с пуговицами цвета слоновой кости, и решила, что оно сможет защитить меня от пронизывающего холода северной зимы. Энн было приятно покупать мне разные вещи, и я не хотела препятствовать ее счастью. Вечером я вернулась в Ропщущую Обитель. Так приятно было переходить из комнаты в комнату в свете колеблющегося пламени свечей, в сопровождении лишь теней да еле различимого шепота. Да, забыла упомянуть, что в магазине спортивных товаров Энн приобрела два дробовика. Молодой продавец, с грязными светлыми волосами и в таких же грязных кроссовках, был потрясен наивностью пожилой женщины, покупавшей оружие для своего взрослого сына. Он предложил два дорогих помповых ружья – двенадцатого и шестнадцатого калибра, в зависимости от того, на какую дичь собирался охотиться ее мальчик. Энн купила оба ружья и еще по шесть коробок патронов для каждого. И теперь, пока я переходила с канделябром из комнаты в комнату, Винсент в каменной прохладе кухни проверял и смазывал дробовики. Раньше я никого не Использовала так, как Винсента. Если до сих пор я сравнивала его сознание с джунглями, то теперь все больше убеждалась, что эта метафора прекрасно отражает действительность. Образы, мелькавшие в сохранившихся участках его мозга, неизменно были связаны с насилием, убийством и разрушением. Я улавливала картины убийства членов его семьи – матери на кухне, отца в кровати, старшей сестры на кафельном полу ванной, но я не знала, это воспоминания о реальных событиях или просто фантазии. Сомневаюсь, что и сам Винсент отдавал себе в этом отчет. Я никогда не спрашивала его о семье, но, даже если бы и спросила, он не смог бы ответить. Вообще Использование Винсента напоминало мне езду верхом на норовистой лошади – стоило только отпустить вожжи и предоставить ей делать все, что заблагорассудится. Он был невероятно силен для своего роста и телосложения, необъяснимо силен. Казалось, в самые неожиданные моменты весь его организм захлестывали волны адреналина, и тогда его мощь становилась поистине сверхчеловеческой. Мне очень нравилось разделять с ним это состояние, хотя я и была всего лишь пассивной участницей. С каждым днем я чувствовала себя все моложе. Я знала, что, когда доберусь до своего дома на юге Франции, возможно в будущем месяце, я настолько помолодею, что даже Нина не сумеет меня узнать. Рождественские праздники портили только ночные кошмары, связанные с Ниной. Они повторялись из ночи в ночь: Нина открывает глаза, мертвенно-бледная маска ее лица с дыркой во лбу, Нина поднимается из своего гроба – я вижу ее пожелтевшие острые зубы и голубые глаза в пустых глазницах черепа, окруженных полчищами белесых червей. Мне не нравились эти сны. В субботу вечером я оставила Энн на первом этаже Ропщущей Обители охранять дверь, а сама свернулась на кровати в детской и отдалась шепоткам, погрузившим меня в полудрему. Винсент вновь вышел через подземный ход. Это будто символизировало появление на свет: длинный узкий коридор с наползающими друг на друга шероховатыми стенами, резкий запах земли, напоминающий медный привкус крови, узкий лаз в конце и, как взрыв света и звука, первый глоток свежего ночного воздуха. Винсент пересек темный проулок, перепрыгнул через ограду, миновал пустую стоянку и нырнул во тьму следующей улицы. Ружья он оставил на кухне в Ропщущей Обители, захватив с собой лишь косу, предварительно укоротив ее деревянную рукоять на четырнадцать дюймов, и нож. Я не сомневалась, что летом эти улицы запружены неграми: жирные негритянки сидят на ступеньках и мелют языками, как бабуины, или тупо смотрят на своих грязных, оборванных ребятишек, а расхлябанные особи мужского пола, без работы, без идеалов, без каких-либо видимых средств к существованию, околачиваются в барах или подпирают стены на углах. В тот же вечер, в разгар суровой зимы, на улицах было темно и тихо, узкие оконца занавешены, заперты двери одноквартирных домов. Винсент не просто двигался, как безмолвная тень, он поистине превратился в нее, перемещаясь с аллеи на улицу, с улицы на пустую стоянку, со стоянки во двор, нарушая при этом покой не больше, чем дуновение ветра. Две ночи назад он выследил членов банды, которые собирались в большом старом здании, расположенном посреди заброшенных автостоянок, неподалеку от высокой эстакады надземки, врезавшейся в эту часть гетто, как Великая стена, в бесплодной попытке некоторых более цивилизованных горожан оградиться от варваров. Лежа на промерзшей траве возле заброшенной машины, Винсент наблюдал. Черные фигуры двигались перед освещенными окнами, словно карикатурные изображения на экране «волшебного фонаря». Наконец пятеро из них вышли из дома. Мне не удалось узнать их в тусклом свете, но это не имело значения. Винсент подождал, пока они не скроются в узком проулке возле эстакады, а затем двинулся следом. Как меня возбуждало безмолвное преследование, это скольжение в ночи, казалось, не требовавшее от него никаких усилий! Почти в кромешной тьме Винсент видел не хуже, чем большинство людей при дневном свете. Я словно разделяла мысли и чувства сильной и гибкой охотничьей кошки. Голодной кошки. В компании были две девушки. Винсент замедлил шаг, когда группа остановилась. Он принюхался, вбирая в ноздри сильный, чуть ли не звериный запах чернокожих. Негры так же легко возбуждаются и так же быстро забывают о происходящем вокруг, как кобели, учуявшие суку в период течки. Эти две девицы были явно разгорячены. Вместе с третьим парнем, дожидавшимся своей очереди, Винсент смотрел, как две пары совокупляются в тени эстакады: обнаженные ноги девиц то разъезжались в стороны, то смыкались на дергающихся задах мужских особей. Все тело Винсента напряглось, не в силах противиться желанию тут же вступить в дело, но я заставила его отвернуться и дождаться, пока парни не удовлетворят свою похоть. Девицы с невинным и простодушным видом, как довольные помойные кошки, направились по своим домам, смеясь и переговариваясь. И тогда я спустила Винсента с цепи. Он дождался, когда негры свернут за угол Брингхерст-стрит возле заброшенной обувной фабрики. Первый удар косы пришелся парню в живот, и, разрезав его пополам, лезвие вышло в районе позвоночника. Винсент не стал вытаскивать косу и бросился на второго с ножом. Третий негр пустился наутек. Раньше, когда я ходила в кино еще до Второй мировой войны, пока фильмы не превратились в бездумную непристойную дешевку, мне всегда нравились сцены с испуганными цветными рабами. Помню, как смотрела в детстве «Рождение нации» и смеялась от души, когда цветные дети пугались кого-то, завернутого в простыню. Однажды, сидя в пятипфенниговом кинотеатре вместе с Ниной и Вилли на старом фильме Гарольда Ллойда, не требовавшем субтитров, я заливалась смехом вместе со всем залом над туповатым ужасом Степина Фетчита. Припоминаю, как смотрела по телевизору старый фильм Боба Хоупа, еще до того, как вульгарность шестидесятых заставила меня навсегда распрощаться с телеэкраном, и хохотала над побелевшим от ужаса цветным помощником Боба, когда он оказался в каком-то доме с привидениями. Так вот, вторая жертва Винсента выглядела в точности как эти комики: огромное побелевшее лицо, вылезшие на лоб глаза, зажатый ладонью от ужаса рот, сведенные колени, трясущиеся ноги. Тишина детской в Ропщущей Обители была нарушена моим громким хохотом, и я не могла остановиться, даже когда Винсент пустил в ход нож и сделал то, что нужно. Третьему парню удалось бежать. Винсент хотел последовать за ним, он рвался, как собака на поводке, но я заставила его повернуть обратно. Негр был лучше знаком с расположением улиц, Винсент же полагался главным образом на быстроту и неожиданность. Я понимала, насколько рискованна эта игра, и не хотела потерять мальчика после стольких вложенных в него трудов. Однако, прежде чем заставить его вернуться, я позволила ему окончательно разделаться с теми двумя. Его маленькие забавы не требовали много времени и удовлетворяли какое-то садистское начало в джунглях его сознания. И вот, когда он снял куртку со второго, тут-то из нее и выпала фотография. Винсент был слишком поглощен своим занятием, чтобы обратить на это внимание, но я заставила его отложить косу и поднять снимок. На нем была изображена я с мистером Торном. Я резко вскочила с постели у себя в детской. Винсент сразу же направился домой. Встретив его на кухне, я вынула из его грязной окровавленной руки снимок. Никаких сомнений не оставалось: на расплывчатом изображении – вероятно, оно являлось увеличенным фрагментом более крупной фотографии – я была видна совершенно отчетливо, и мистер Торн тоже. Я сразу поняла, что это дело рук мистера Ходжеса. В течение многих лет мне доводилось наблюдать, как этот жалкий человечек со своей жалкой камерой делал любительские снимки своей несчастной семейки. Мне казалось, я принимала все меры предосторожности, чтобы не попасть случайно в кадр, но, очевидно, он все-таки однажды снял нас. При свете свечей я сидела в холодной каменной кухне Ропщущей Обители и размышляла. Как этот снимок оказался у мальчишки? Значит, меня кто-то разыскивает, но кто? Полиция? Откуда они могли узнать, что я в Филадельфии? Нина? Однако все мои догадки были лишены какого-либо смысла. Я заставила Винсента вымыться в большой гальванизированной ванне, купленной Энн. Она принесла масляный обогреватель, но ночь выдалась холодной, и от тела Винсента, пока он купался, шел пар. Некоторое время спустя я помогла ему вымыть волосы. Ну и зрелище же мы представляли втроем: две благородные тетушки, купающие отважного юношу, только что вернувшегося с войны, его обнаженное тело в клубах пара и наши огромные тени, суетящиеся при свете старинных свечей на грубо отесанных стенах. – Винсент, дорогой мой, – шептала я, втирая шампунь в его длинные волосы, – мы непременно должны узнать, откуда взялась эта фотография. Не сегодня, мой мальчик, сегодня на улицах будет слишком много народу, когда обнаружится твое «рукоделие». Но в самом ближайшем времени. И когда ты узнаешь, кто дал чернокожему снимок, ты приведешь этого человека сюда, ко мне.Глава 24
Вашингтон, округ Колумбия
Суббота, 27 декабря 1980 г.
Сол Ласки лежал в стальном саркофаге и размышлял о жизни. Он вздрогнул от холодного потока воздуха, идущего из кондиционера, подтянул колени к груди и в подробностях попытался вспомнить весеннее утро на ферме своего дяди – золотистый солнечный свет, игравший на тяжелых ветвях ив, поле белых маргариток за каменной стеной амбара… Его левое плечо и рука распухли, в висках пульсировала кровь, пальцы покалывало, а вены на правой руке болели от бесконечных уколов. Но Солу почему-то была приятна эта боль, он не сопротивлялся ей. Боль стала для него единственным маяком, на который он мог положиться в густом тумане медикаментозного дурмана и полной дезориентации. Сол перестал ощущать время. Он отдавал себе в этом отчет, но ничего не мог поделать. Он помнил все подробности, по крайней мере до момента взрыва в здании сената, но они никак не хотели располагаться в нужной последовательности. То он лежал на узкой койке в холодной стальной камере с металлической дверью, уходящей в стену; то пытался зарыться в холодную солому, ощущая морозный ночной воздух, проникающий через разбитое окно, и чувствовал, что скоро за ним придут оберст и немецкие охранники с овчарками. Боль была маяком. Несколько минут отчетливого сознания за эти первые дни после взрыва были отмечены болью. Нестерпимая боль, когда ему вправляли сломанную ключицу, – зеленые хирургические халаты в окружении антисептических средств явно могли относиться к любому лечебному заведению. Но далее последовал ледяной шок белых коридоров и обитой сталью камеры, люди в строгих костюмах с яркими бэджами, приколотыми к карманам и лацканам, и болезненные уколы, вызывающие галлюцинации и дискретность сознания. Первые допросы также сопровождались болью. Их проводили двое – лысый коротышка и блондин с военной стрижкой. Лысый ударил Сола по плечу металлической дубинкой. Сол закричал, от боли из глаз невольно брызнули слезы, но внутренне он обрадовался – обрадовался тому, что сознание очистилось от тумана и мутных испарений. – Вам известно мое имя? – осведомился лысый. – Нет. – Что вам говорил ваш племянник? – Ничего. – Кому еще вы рассказывали об Уильяме Бордене и других? – Никому. Может, до этого разговора, а может, позже – Сол точно не знал – боль растворилась в приятной дымке транквилизаторов. – Вы знаете, как меня зовут? – Чарльз Колбен, помощник по особым поручениям директора ФБР. – Кто вам это сказал? – Арон. – Что еще вам рассказывал Арон? Сол повторил весь разговор до малейших подробностей, которые мог припомнить. – Кому еще известно о Вилли Бордене? – Шерифу. Девушке. – И Сол рассказал о Джентри и Натали. – Что вы еще знаете? И он выложил все, что ему было известно. Туман и видения наступали и отступали. Зачастую, когда Сол открывал глаза, он видел перед собой все ту же стальную камеру. Койка была прочно прикреплена к стене, уборная крохотная и без ручки спуска – вода сливалась автоматически через нерегулярные отрезки времени. Пища на стальных подносах появлялась, пока Сол спал. Он перебирался на металлическую скамью, съедал все принесенное и оставлял поднос. Когда он снова засыпал, поднос исчезал. Время от времени металлическая дверь открывалась и в камеру входили санитары в белых одеждах. Они делали уколы или вели его по голым коридорам в маленькое помещение с зеркалами на стене. Его ставили лицом к зеркалу, и Колбен или еще один тип в сером костюме задавал ему бесконечные вопросы. Если он отказывался отвечать, ему снова делали укол, и тогда у него возникало острое желание подружиться с этими людьми и рассказать им все, что они от него хотят. Несколько раз он ощущал, как кто-то – Колбен? – проскальзывал в его сознание, и тогда у него всплывали воспоминания сорокалетней давности о подобном насилии. Но такое случалось редко. Уколы же делали постоянно. Сол перемещался во времени взад и вперед: то он окликал свою сестру Стефу на ферме дяди Моше, то пытался догнать отца в гетто в Лодзи, то засыпал гашеной известью трупы во рву, то пил лимонад и беседовал с Джентри и Натали или играл с десятилетними племянниками Ароном и Исааком на ферме Давида и Ребекки возле Тель-Авива. Понемногу вызванная наркотиками дискретность сознания проходила. Разрозненные временные отрезки увязывались воедино. Свернувшись на голом матрасе – одеяла не было, а из-за стальной решетки немилосердно дуло, – Сол размышлял о себе и своей лжи. Оказывается, он лгал себе многие годы. Поиски оберста были ложью, оправдывавшей его бездействие. Его деятельность психиатра тоже была ложью, способом отодвинуть свои страхи на безопасное академическое расстояние. Его служба в качестве санитара во время трех израильских войн также представляла собою самообман, позволявший избегать конкретных действий. Пребывая в сером мареве между наркотической нирваной и болезненной действительностью, Сол угадывал в истинном свете свою многолетнюю ложь. Он оправдывал себя вымышленными причинами, когда в Чарлстоне рассказывал шерифу и Натали о Нине и Вилли. Втайне он надеялся, что это подвигнет их к какому-либо действию. С себя же он груз ответственности за необходимость отомстить снимал и перекладывал на плечи других. Он обратился к Арону с просьбой найти Фрэнсиса Харрингтона не потому, что был слишком занят, а потому, что подсознательно желал, чтобы все за него сделали Арон и Моссад. Теперь он понимал, зачем двадцать лет назад рассказал Ребекке об оберсте: не признаваясь себе в этом, он тайно надеялся, что она сообщит Давиду, а Давид в своей энергичной американо-израильской манере займется этим… Сол содрогнулся, подтянул колени к груди и замер, обозревая вереницу лжи, которая прошла через всю его жизнь. За исключением редких минут, как, например, в Хелмно, когда он скорее готов был убить, чем позволить увести себя в ночь, вся его жизнь являлась гимном бездействию и компромиссу. И казалось, власть имущие ощущали это. Теперь он понимал, что его назначение на работу в ров в Хелмно и на сортировочный узел в Собиборе было не просто случайностью или удачей: те негодяи, что распоряжались его жизнью, каким-то образом чувствовали, что Сол Ласки по натуре прирожденный капо, союзник, человек, которого можно спокойно использовать. Он не мог взбунтоваться, броситься на колючую проволоку, отдать свою жизнь за других даже для спасения хотя бы собственного достоинства. Его бегство из Собибора и за пределы охотничьих угодий оберста было не закономерным, а чисто случайным – он просто поддался течению не зависевших от него событий. Сол выкатился из кровати и замер, покачиваясь, посреди своей крохотной стальной камеры. На нем был надет серый комбинезон, очки отобрали, поэтому металлическая стена, находившаяся в нескольких футах, расплывалась и казалась нематериальной. Левая рука Сола была на перевязи, но сейчас он вынул ее, и она свободно свисала вдоль тела. Он осторожно пошевелил пальцами, и его плечо и шею пронзила острая боль, отрезвляющая сознание. Он еще раз пошевелил рукой. И еще раз. Затем, спотыкаясь, добрел до стальной скамейки и тяжело рухнул на нее. Джентри, Натали, Арон и его семья – над всеми ними теперь нависла ужасная опасность. Но со стороны кого? Он почувствовал сильное головокружение и, склонив голову, застонал. Почему он оказался настолько глуп, что приписал эти страшные способности лишь оберсту и тем пожилым женщинам? И сколько еще было таких, кто разделял с Борденом его пристрастия и таланты? Из груди Сола вырвался хриплый смех. Он посвятил в свою историю Джентри, Натали и Арона, не имея ни малейшего представления, как бороться даже с одним оберстом! Он не предполагал, что все они – его друзья, его близкие – могут попасть в какую-либо ловушку. Вилли Борден ни о чем не догадывается, а непричастность этих людей служила как бы гарантией их безопасности. Но что же он надеялся сделать дальше? На что рассчитывал? На выстрел из моссадовской «беретты» двадцать второго калибра? Сол прислонился к холодной металлической стене. Скольких же людей он погубил из-за собственной трусости и бездействия? Стефу. Йозефа. Своих родителей. А теперь, почти наверняка, шерифа и Натали. Фрэнсиса Харрингтона. Сол снова застонал, вспомнив утробное «Auf Wiedersehn» в кабинете Траска и последовавший затем взрыв. За мгновение до этого оберст каким-то образом дал возможность Солу взглянуть на происходящее глазами Фрэнсиса, и Сол уловил загнанное в угол перепуганное сознание Харрингтона, оказавшегося пленником в своем собственном теле и безвольно ожидающего неизбежного конца. Сол посылал его в Калифорнию. С ним были его друзья Селби Уайт и Деннис Лиланд. Значит, еще две жертвы на алтаре трусости Сола Ласки… Он не понимал, почему они вдруг решили сделать перерыв, перестав колоть ему наркотики. Возможно, он, доктор Ласки, больше не нужен им, и в следующий раз, когда за ним придут, его отведут на казнь. Но ему уже было все равно. Ончувствовал, что его, словно электрическим током, пронзает ярость. Перед тем как неизбежная, давно ожидаемая пуля разнесет ему голову, он должен совершить поступок. Он нанесет кому-нибудь ответный удар. В это мгновение Сол Ласки с радостью отдал бы свою жизнь, только чтобы предупредить Арона, Джентри и Натали, но с еще большей готовностью он отдал бы их жизни, чтобы отомстить оберсту или любому из этих надменных негодяев, управлявших миром и посмеивавшихся над страданиями людей, которых они использовали как пешек. Дверь с лязгом поползла в сторону, и в камеру вошли трое высоких мужчин в белых комбинезонах. Сол с трудом поднялся и, подойдя к ним на заплетающихся ногах, вмазал первому по физиономии. Удар не достиг цели. Мужчина рассмеялся, легко перехватил его руку и завел ее за спину. – Смотри-ка, старый еврейчик хочет с нами поиграть. Сол попробовал сопротивляться, но здоровяк справился с ним, как с ребенком. Второй закатал ему рукав и достал шприц. Сол стиснул зубы, стараясь не заплакать. – Сейчас будем бай-бай, – сказал третий и ввел иглу в исхудавшую исколотую руку. – Приятного путешествия, старина. Они выждали с полминуты, потом отпустили его и повернулись к двери. Сжав кулаки, Сол сделал несколько неуверенных шагов в их сторону, но потерял сознание еще до того, как захлопнулась дверь.* * *
Ему снилось, что его куда-то ведут и он послушно переставляет ноги. До него донесся звук работающих авиадвигателей, он ощутил застоявшийся запах табачного дыма. Потом его снова куда-то вели, поддерживая под руки. Свет горел нестерпимо ярко, а когда он закрыл глаза, то услышал перестук колес поезда, увозившего его в Хелмно. Очнулся Сол в удобном кресле и через некоторое время по ровному ритмичному гулу сообразил, что находится в вертолете. Глаза его были закрыты. Под головой лежала подушка, но щекой он ощущал поверхность не то стекла, не то пластика. До слуха долетали приглушенные мужские голоса и звуки радиосвязи. Хотя очки снова были на месте, Сол не стал открывать глаза, надеясь собраться с мыслями и уповая на то, что захватившие его люди не обратят внимания на окончание срока действия наркотика. – Я знаю, что вы проснулись, – раздался рядом мужской голос. Сол уже где-то слышал его. Он открыл глаза, превозмогая боль, повернул голову и поправил очки. В темном салоне в пассажирских креслах сидели трое мужчин. В красном свете приборной доски виднелись фигуры пилота и его помощника. За иллюминатором справа разглядеть что-либо было невозможно, а слева от Сола расположился агент по особым поручениям Ричард Хейнс. Он перелистывал какие-то бумаги при свете крохотной лампочки над головой. Сол откашлялся и облизнул сухие губы, но Хейнс опередил его: – Мы садимся через минуту. Приготовьтесь. – На подбородке агента все еще оставался след от синяка. Сол вспомнил о вопросах, которые хотел задать, но решил не делать этого. Он опустил глаза и только теперь заметил, что его левая рука была прикована наручниками к правой руке Хейнса. – Сколько времени? – спросил он, и голос его прозвучал как воронье карканье. – Около десяти. Сол вгляделся во тьму за иллюминатором и понял, что десять вечера, а не утра. – Какой сегодня день? – Суббота, – с легкой улыбкой ответил Хейнс. – Число? Фэбээровец замешкался и слегка передернул плечами: – Двадцать седьмое декабря. Сол закрыл глаза от внезапно накатившего на него приступа головокружения. Значит, потеряна неделя. Но ему казалось, что прошла вечность. Нестерпимая боль пронзила левую руку и плечо. Оглядев себя, он увидел, что одет в чужой темный костюм, белую рубашку и галстук. Сол снял очки. Стекла были подобраны правильно, однако оправа новая. Он внимательно рассмотрел пассажиров вертолета. Из всех он знал только Хейнса. – Вы работаете на Колбена, – медленно проговорил Сол. Агент не ответил, и он продолжил: – Вы ездили в Чарлстон убедиться, что местная полиция так и не догадалась, что же произошло на самом деле. И вы забрали из морга альбом с вырезками Нины Дрейтон. – Пристегните ремень, – откликнулся Хейнс. – Мы сейчас будем садиться.* * *
Ничего прекраснее Сол еще не видел в своей жизни. Сначала он решил, что это коммерческий океанский лайнер, расцвеченный огнями и сияющий белизной на фоне темно-зеленых вод, но по мере того, как вертолет приближался к яркому оранжевому кресту на палубе, понял, что это частная яхта, элегантная, изящная, длиной чуть ли не с футбольное поле. В свете регулировочных прожекторов вертолет мягко опустился на палубу. Четверо пассажиров вышли из салона, не дожидаясь, пока утихнут двигатели. Когда они отошли от вертолета и смогли выпрямиться, Хейнс отстегнул наручники и засунул их в карман своего пальто. Сол потер запястье чуть ниже вытатуированных синих цифр. К ним тут же подошли несколько членов экипажа в белых кителях. – Сюда. И процессия двинулась вверх по направлению к широкому проходу. Ноги у Сола подгибались, хотя судно стояло неподвижно, и Хейнсу дважды пришлось поддержать его. Сол вдыхал теплый, влажный тропический воздух, насыщенный приглушенными ароматами джунглей, и заглядывал через открытые двери в полутьму кают, кабинетов и баров, мимо которых они проходили. Полы везде были устланы коврами, стены обиты деревом, искусно выполненные интерьеры украшены медью и золотом. Яхта выглядела как плавучий пятизвездочный отель. Они поднялись на лифте в отдельную каюту с балконом, который скорее представлял собой крыло ходового мостика. В каюте сидел мужчина в белоснежном пиджаке, держа в холеной руке высокий бокал. За его спиной, возможно в миле от яхты, виднелся остров. Пальмы и другую разнообразную тропическую растительность освещали сотни японских фонариков, дорожки были обозначены белыми огнями, а длинный пляж заливали десятки прожекторов, и над всем этим в вертикальных лучах подсветки высился огромный замок, будто декорация из какого-то исторического фильма. – Вы меня знаете? – осведомился мужчина, сидевший в шезлонге. Сол прищурился: – Это что, реклама потребительских кредитов? Хейнс подсек Сола сзади под колени, и тот повалился на пол. – Можете оставить нас, Ричард. Когда вся группа сопровождающих во главе с Хейнсом вышла, Сол, преодолевая боль, поднялся на ноги. – Вы знаете, кто я такой? – Вы – К. Арнольд Барент, – ответил Сол. – Как расшифровывается К., кажется, никто не знает. – Кристиан, – улыбнулся Барент. – Мой отец был очень верующим человеком. Но в то же время он не был лишен чувства юмора. – Барент указал на соседнее кресло. – Садитесь, пожалуйста, доктор Ласки. – Я не хочу. – Сол отошел к перилам балкона или мостика. Тридцатью футами ниже плескалась вода. Крепко сжав руками перила, он посмотрел на Барента. – А вы не рискуете, оставаясь со мной наедине? – Нет, доктор Ласки, – произнес Барент. – Я никогда не рискую. Сол кивнул в сторону замка, сиявшего во тьме: – Это ваш? – Нашей организации. – Барент сделал глоток из бокала. – Вы догадываетесь, почему вы здесь, доктор Ласки? Сол поправил очки. – Мистер Барент, я даже не знаю, что вы имеете в виду под словом «здесь». Я вообще не понимаю, почему до сих пор жив. – Ваше второе замечание весьма уместно, – признал он. – Полагаю, ваш организм уже в достаточной степени освободился от… э-э-э… транквилизаторов, чтобы вы оказались в состоянии прийти к каким-то выводам на этот счет. Сол сжал губы. Он ощутил, насколько в действительности ослаб от недоедания и обезвоживания. Вероятно, потребуются недели, чтобы окончательно избавиться от последствий наркотического воздействия. – Наверное, вы полагаете, что я укажу вам путь к оберсту? – спросил он. Барент рассмеялся: – К оберсту! Как забавно. Видимо, вы называете его так, исходя из ваших… э-э-э… странных взаимоотношений. Скажите мне, доктор Ласки, неужели лагеря были так ужасны, как об этом рассказывают средства массовой информации? Я всегда подозревал, что они пытаются, может бессознательно, слегка усугубить реальную картину, чтобы как-то избавиться от чувства вины. Сол пристально посмотрел на собеседника, вбирая в себя все подробности его облика – безупречный загар, шелковый пиджак, мягкие туфли от Гуччи, аметистовое кольцо на мизинце… Ему не хотелось отвечать. – Ну, не важно, – продолжил Барент. – Конечно, вы правы. Вы до сих пор живы только потому, что являетесь посланником мистера Бордена, а нам бы очень хотелось побеседовать с этим джентльменом. – Я не посланник, – резко сказал Сол. Барент махнул рукой с ухоженными ногтями. – Ну, тогда само послание, – поправился он. – Разница небольшая. Раздались звуки гонгов, яхта начала разворачиваться и набирать обороты, словно намереваясь обойти остров. Сол увидел, как пристань озарилась ртутными лампами. – Мы бы хотели, чтобы вы кое-что передали мистеру Бордену, – продолжил Барент. – Боюсь, у меня не будет возможности сделать это, пока вы накачиваете меня наркотиками и держите в стальной камере. – Впервые с момента взрыва у Сола забрезжила какая-то надежда. – Очень справедливое замечание, – согласился Барент. – Мы проследим, чтобы у вас появилась возможность встретиться с ним там, где… э-э-э… он сам захочет. – Вам известно местонахождение Уильяма Бордена? – удивился Сол. – Мы знаем, где он решил действовать. – Если я встречусь с ним, то убью его. Барент тихо рассмеялся. У него были идеальные зубы. – Очень сомневаюсь, доктор Ласки. И тем не менее мы будем благодарны, если вы передадите ему наше послание. Сол глубоко вдохнул морской воздух. Он не понимал, зачем он нужен этим людям в качестве посыльного, не знал, почему ему позволяют руководствоваться собственной волей, и не мог представить, что с ним случится, когда поручение будет выполнено. Голова у него кружилась от слабости и наркотиков, он едва держался на ногах. – Что же ему надо передать? – Скажите Вилли Бордену, что Клуб будет очень рад, если он согласится занять вакантное место в его комитете по выбору членов. – Это все? – Да, – ответил Барент. – Не хотите поесть или выпить перед тем, как мы расстанемся? Сол на минуту закрыл глаза и еще крепче сжал перила. – Вы ничем не отличаетесь от них, – произнес он. – От кого? – От бюрократов, начальников и гражданских служащих, превратившихся по воле Гитлера в членов айнзацгрупп, эсэсовцев, железнодорожных инженеров, военных промышленников и смердящих пивом сержантов, которые болтали своими толстыми ногами надо рвом, полным трупов… Барент на мгновение задумался. – Да, – наконец промолвил он, – думаю, в конечном итоге, все мы одинаковы. Ричард! Будьте любезны, проводите доктора Ласки к месту его назначения.* * *
Они долетели на вертолете до широкой посадочной полосы на острове и, пересев в частный самолет, взяли курс на северо-запад. В течение часа до приземления Солу удалось поспать. Это был его первый здоровый сон за неделю, не спровоцированный наркотиками. Разбудил его Хейнс: – Взгляните. – Он протянул Солу фотографию. На снимке Арон, Дебора и девочки сидели, крепко связанные, на белом фоне, который не давал возможности определить, где они находились. Вспышка выхватила перепуганные лица и расширенные от ужаса глаза детей. Хейнс включил маленький кассетный магнитофон. «Дядя Сол, – раздался голос Арона, – пожалуйста, делай все, что они скажут. До тех пор, пока ты будешь это делать, они не причинят нам вреда. Следуй их указаниям, и нас освободят. Пожалуйста, дядя Сол…» Дальше запись резко обрывалась. – Если вы попробуете связаться с ними или с посольством, мы убьем их, – прошептал Хейнс; двое других агентов спали. – Если будете делать то, что вам приказано, с ними ничего не случится. Понятно? – Понятно. Сол крепко прижался лицом к холодному стеклу иллюминатора. Внизу виднелись окрестности какого-то большого американского города. В свете уличных фонарей мелькали кирпичные здания и белые шпили муниципальных строений. Именно в это мгновение он понял, что ни для кого из них уже не остается никакой надежды.Глава 25
Вашингтон, округ Колумбия
Воскресенье, 28 декабря 1980 г.
Шериф Бобби Джо Джентри был в ярости. У взятого напрокат «форда» имелась автоматическая коробка передач, но Джентри рванул ручку с такой силой, словно вел гоночный автомобиль с шестью передачами. Выехав с окружной дороги на магистраль, он выжал из сопротивлявшегося «форда» семьдесят две мили в час и рванул вперед, не обращая внимания на зеленый «крайслер», пытавшийся сесть ему на хвост, и патрульных штата Мэриленд. Перед этим он перетащил чемодан на переднее сиденье, порылся в его боковом кармане, затем положил заряженный «ругер» на приборную доску и снова зашвырнул чемодан назад. Шерифа переполняла ярость. Израильтяне продержали его до рассвета, сначала допрашивая в своем лимузине, затем в охраняемой резиденции неподалеку от Роквилла и снова в их распроклятой машине. Он до конца придерживался своей первоначальной версии, пытаясь связать все с чарлстонскими убийствами, рассказал и о Соле Ласки, который охотился за нацистским военным преступником, чтобы свести с ним старые счеты. К насилию израильтяне не прибегали и даже не угрожали ему после единственного замечания Коэна, но они изматывали Джентри бесконечными перекрестными допросами. Что ж, на то они и израильтяне. Шериф не сомневался в этом, как не сомневался в том, что Джек Коэн именно тот человек, за которого себя выдает, и что Арон Эшколь и вся его семья убиты, хотя никаких доказательств у него не было. Он понимал лишь одно: эти люди ведут большую и опасную игру и он, чарлстонский шериф, является лишь незначительной помехой в этой игре. Джентри глянул на спидометр, потом перевел взгляд на «ругер» и сбавил скорость до стабильных шестидесяти двух. Зеленый «крайслер» отставал от него на две машины. Больше всего после этой изматывающей ночи ему хотелось забраться в широкую кровать своего номера и проспать до самого Нового года. Но вместо этого он позвонил из холла отеля в Чарлстон. На автоответчике по-прежнему не было никаких сообщений. Тогда Джентри позвонил в свой рабочий кабинет. Лестер заверил его, что для него ничего не оставляли, и поинтересовался, хорошо ли шериф отдыхает. Он ответил, что великолепно и уже успел осмотреть все достопримечательности. Затем Джентри набрал номер телефона Натали в Сент-Луисе. Ему ответил мужской голос. Он попросил Натали. – Кто ее спрашивает? – поинтересовался голос. – Шериф Джентри. А я с кем говорю? – Черт побери, она рассказывала мне о вас на прошлой неделе! Похоже, вы и есть тот самый тупой южанин-полицейский. Какого черта вам надо от Натали? – Мне необходимо поговорить с ней. Она дома? – Нет. И у меня нет времени болтать с тобой, легавый. – Фредерик, – усмехнулся Джентри. – Что? – Тебя зовут Фредерик. Натали рассказывала мне о тебе. – Хватит молоть чушь. – В течение двух лет после возвращения из Вьетнама ты не носил галстуков, – продолжил Джентри. – Ты считаешь, что математика ближе всего подошла к понятию абсолютной истины. Ты работаешь в компьютерном центре каждый день с восьми вечера до трех ночи, кроме субботы. На другом конце провода повисло молчание. – Где Натали? – повторил Джентри. – Это связано с полицейским расследованием. С убийством ее отца. Ей может грозить опасность. – Что вы имеете в виду… – Где она? – рявкнул Джентри. – В Джермантауне, – раздраженно ответил голос. – В Филадельфии. – Она звонила вам после того, как туда приехала? – Да. В пятницу вечером. Меня не было дома, но Стен передал мне, что она остановилась в отеле «Челтен». Я звонил ей шесть раз и ни разу ее не застал. Она мне так и не перезвонила. – Дайте мне номер. – Джентри записал его в маленькую записную книжку, которую постоянно носил с собой. – Во что это она ввязалась? – Послушайте, мистер Чистоплюй, – вне себя проговорил Джентри, – мисс Престон разыскивает лицо или лиц, убивших ее отца. Я не хочу, чтобы она нашла этих людей или чтобы эти люди нашли ее. Когда она вернется в Сент-Луис, вы должны проследить, чтобы она, во-первых, больше никуда не уезжала, а во-вторых, чтобы не оставалась одна в ближайшие несколько недель. Ясно? – Да. Джентри различил в голосе Фредерика такую ярость, которая отбила у него всякую охоту очутиться вдруг в Сент-Луисе рядом с тем типом. Он собирался поспать и со свежей головой отправиться в путь вечером. Но вместо этого позвонил в отель «Челтен», оставил послание для отсутствующей мисс Престон, договорился о прокате машины – непростая задача в воскресное утро, – заплатил по счету, собрал чемодан и выехал в северном направлении. Первые сорок миль зеленый «крайслер» держался на расстоянии двух машин позади. Выехав из Балтимора, Джентри свернул на Сноуден-ривер, проехал с милю до пересечения с шоссе и притормозил у первой же забегаловки. «Крайслер» остановился на противоположной стороне, в дальнем конце большой стоянки. Джентри заказал кофе с сэндвичем и подозвал мальчика-разносчика, когда тот проходил мимо с подносом грязной посуды. – Сынок, не хочешь заработать двадцать долларов? Мальчик прищурился, с подозрением глядя на незнакомца. – Там стоит машина, о которой мне хотелось бы знать побольше, – продолжил Джентри, указывая на «крайслер». – Тебе нужно всего лишь прогуляться до нее и сообщить мне номерные знаки и все остальное, что тебе удастся заметить. Он еще не успел допить кофе, когда мальчик вернулся и на одном дыхании выдал все, что сумел узнать. – Ух, думаю, они не обратили на меня внимания. Я просто выбрасывал мусор из урны – я всегда это делаю около полудня. А кто они такие? Джентри заплатил мальчику и направился в коридор, откуда позвонил в администрацию балтиморского портового тоннеля. Руководство в воскресное утро не работало, но автоответчик назвал ряд телефонов на случай неотложных дел. Джентри ответил усталый женский голос. – Черт, я зря вам звоню, потому что они пришьют меня, если вычислят, – затараторил Джентри. – Но Ник, Луис и Делберт только что поехали устраивать мятеж, а начнут они его с подрыва портового тоннеля. Усталость с женщины как рукой сняло, и уже совсем другим тоном она потребовала, чтобы звонивший назвал свое имя. Шериф расслышал щелчок, когда она включила записывающее устройство. – На это нет времени, нет времени! – возбужденно выпалил он. – У Делберта, у него пистолет с собой, а у Луиса тридцать шесть брусков динамита со стройки. Они спрятали все это в потайное отделение багажника. Ник сказал, что мятеж начнется сегодня. Он достал им поддельные удостоверения и все остальное. Женщина хотела было что-то спросить, но Джентри перебил ее: – Мне надо сматываться. Они меня пристукнут, если узнают, что я их выдал. Они в машине Делберта… зеленый «ле барон» семьдесят шестого года выпуска. Лицензия штата Мэриленд, номер АВ семьдесят два шестьдесять девять. За рулем будет Делберт. Он такой с усами, в синем костюме. О господи, они все с пушками, и весь багажник напичкан взрывчаткой. – Джентри повесил трубку, заказал еще кофе, расплатился и двинулся обратно к своей машине. Он находился всего в нескольких милях от тоннеля, и особенно спешить ему было незачем, поэтому он доехал до университета Мэриленда, объехал Луденское кладбище и медленно прокатился вдоль берега. Машин в воскресный день было немного, и «крайслеру» пришлось сильно отстать, но за рулем явно сидел опытный водитель, который не лез на глаза, но и не выпускал «форд» из виду. Следуя указателям, шериф добрался до портового тоннеля, оплатил проезд и, медленно въехав в освещенный проем, посмотрел в зеркальце заднего вида. «Крайслер» даже не добрался до будки с турникетом. За пятьдесят ярдов до въезда в тоннель его окружили три патрульные машины, черный фургон без опознавательных знаков и синий пикап. Еще четыре полицейские машины перекрыли движение сзади. Джентри увидел полицейских с нацеленными винтовками и пистолетами, заметил, как трое пассажиров «крайслера» отчаянно машут из окон руками, а потом выжал из своего «форда» все, что можно, чтобы поскорее выбраться из тоннеля. Если его преследовали фэбээровцы, им хватит нескольких минут на то, чтобы выпутаться из этой ситуации. Но помоги им Бог, если это были израильтяне, да еще вооруженные. Джентри свернул с главной магистрали, едва вынырнув из тоннеля, в течение нескольких минут петлял по окрестностям города, но потом увидел клинику Джона Хопкинса, сориентировался и выехал на шоссе, которое вело за пределы города. Машин было мало. Через несколько миль ему встретился указатель поворота на Джермантаун штата Мэриленд, и он улыбнулся самому себе. Сколько Джермантаунов в Соединенных Штатах? Оставалось уповать лишь на то, что Натали выбрала этот.* * *
Джентри добрался до юго-западных окрестностей Филадельфии в половине одиннадцатого, а в одиннадцать въехал в Джермантаун. Зеленого «крайслера» видно не было, если только слежку не подхватил кто-либо другой, более осторожный. Отель «Челтен» выглядел так, словно он знавал лучшие дни, но пока не отчаивался, уповая на их возвращение. Джентри припарковал «форд» в полуквартале от отеля, засунул «ругер» в карман своего спортивного пиджака и двинулся ко входу. В дверях стояли пятеро подвыпивших парней – двое белых и трое черных. Мисс Престон не ответила на звонок администратора. Назойливый юркий мужчина за стойкой, с тремя прядями волос, прикрывавшими лысину, и огромным носом, возмущенно закудахтал, когда Джентри попросил у него ключ. Шериф показал свою звезду. Администратор снова закудахтал: – Чарлстон? Он значит тут столько же, сколько любой десятицентовик. Полицейские из Джорджии не обладают здесь никакой властью. Джентри вздохнул, окинул взглядом пустой холл и, резко развернувшись, схватил администратора за грязный галстук на четыре дюйма ниже узла. Он дернул лишь раз, но этого оказалось достаточно, чтобы подбородок и нос мужчины едва не уткнулись в регистрационную стойку. – Послушай, приятель, – тихо проговорил Джентри. – Я сотрудничаю здесь с капитаном Дональдом Романо, главным в убойном отделе, район Франклин-стрит. У этой женщины могут быть сведения о человеке, который хладнокровно убил шестерых. Я не спал двое суток, пока добрался сюда. Так что, мне звонить капитану Романо после того, как я размажу твою физиономию по стойке, или мы просто решим этот вопрос? Администратор протянул руку назад, нащупал за спиной ключ-вездеход и отдал Джентри. Тот отпустил его галстук, и мужчина от неожиданности подскочил, потом робко сглотнул, потирая кадык. Джентри сделал три шага по направлению к лифту, но вдруг резко развернулся на каблуках, двумя скачками подлетел к стойке и снова схватил администратора за галстук прежде, чем тот успел увернуться. Подтянув его к себе поближе, он улыбнулся: – К тому же, приятель, Чарлстон находится в Южной Каролине, а вовсе не в Джорджии. Запомни это как следует. Я потом проверю.* * *
Трупа Натали в номере не было. Не было и кровавых пятен, если не считать нескольких раздавленных клопов под потолком. Никаких записок с требованием выкупа он не нашел. Ее открытый чемодан лежал на полу, одежда была аккуратно сложена, рядом стояла пара туфель. Платье, в котором два дня назад она вылетала из Чарлстона, висело на вешалке. На полке в ванной какие-либо туалетные принадлежности отсутствовали, душевая кабина была сухой, хотя рядом лежал развернутый и уже использованный кусочек мыла. Сумки с фотопленками и камеры не было. По аккуратно застеленной кровати трудно было сказать, спали ли в ней накануне ночью. Но, прикинув, насколько исполнительным может оказаться здешний персонал, Джентри пришел к выводу, что, скорее всего, ночью кроватью не пользовались. Он опустился на край постели и потер лицо, ничего путного в голову не приходило. Единственное, что оставалось, – это обойти Джермантаун, уповая на случайную встречу, и каждый час звонить в отель в надежде, что администратор не обратился в филадельфийскую полицию. Ну что ж, пара часов на свежем воздухе не повредит. Джентри снял пальто, лег и положил «ругер» справа от себя. Через две минуты он уже спал.* * *
Проснулся он в темноте, не понимая, где находится, с ощущением, что случилось что-то ужасное. Его «ролекс», подарок отца, показывал 4:35. Снаружи в окно лился тусклый серый свет, но в самой комнате было темно. Джентри прошел в ванную, умылся и позвонил ночному портье. Нет, мисс Престон не появлялась и не звонила. Шериф спустился на улицу, дошел до своей машины, переложил чемодан в багажник и отправился бродить по городу. Он шел на юго-запад по Джермантаун-стрит мимо огороженного решеткой парка. Ему не помешало бы сейчас выпить пива, но бары были закрыты. Серый безрадостный день совсем не походил на воскресенье, но на какой день недели он походил, Джентри тоже сказать не мог. Когда он вернулся к отелю за чемоданом, пошел легкий снежок. За стойкой стоял уже новый администратор – гораздо моложе и вежливее предыдущего. Джентри оформил документы, заплатил вперед тридцать два доллара и уже собрался проследовать за портье в свой номер, когда ему пришло в голову спросить о Натали. Ключ-вездеход все еще лежал у него в кармане, – может, тот «длинный нос» не стал никому сообщать об инциденте, уходя с работы? – Да, сэр, – откликнулся молодой администратор. – Мисс Престон справлялась о звонках минут пятнадцать назад. Джентри моргнул от неожиданности: – Она все еще здесь? – Она поднялась в свой номер, сэр, но, кажется, я недавно видел, как она входила в ресторан. Джентри поблагодарил молодого человека, дал ему три доллара, чтобы тот отнес его багаж наверх, и направился к дверям ресторана. Сердце у него подпрыгнуло, когда он увидел Натали за маленьким столиком в противоположном конце зала. Он двинулся было к ней, но на полдороге остановился. Рядом с Натали сидел невысокий темноволосый мужчина в дорогом кожаном пиджаке. Она смотрела на него со странным выражением. Джентри помедлил с секунду и пошел к салатной стойке. В следующий раз он посмотрел в их сторону, уже сев за столик. Проходившая мимо официантка приняла заказ на кофе, и Джентри начал медленно есть, искоса поглядывая на Натали. За тем столом происходило что-то странное. Джентри был знаком с Натали Престон меньше двух недель, но ему было известно, какой это живой, импульсивный и подвижный человек. Он научился распознавать все оттенки выражений ее лица, в которых проявлялись особенности ее неповторимой личности. Теперь же он видел лишь застывшую маску. Натали смотрела на сидевшего напротив мужчину так, будто ей сделали лоботомию или вкололи сильный наркотик. Время от времени девушка что-то говорила, и резкие, какие-то неестественные движения ее губ напоминали Джентри его мать после того, как ее парализовало. Ему очень хотелось рассмотреть лицо мужчины, но он видел лишь черные волосы, пиджак и бледные руки, сложенные на скатерти. Когда тот наконец повернулся, шериф заметил приспущенные веки, желтоватый цвет лица и маленький тонкогубый рот. Что этому типу нужно от Натали? Джентри взял газету с соседнего стола и стал изображать из себя одинокого рассеянного коммивояжера. Через короткое время он убедился, что Натали и ее спутником интересуются по меньшей мере еще двое посетителей. Полиция? ФБР? Израильтяне? Джентри доел салат, оставил на тарелке не желавший накалываться на вилку помидор и в сотый раз за день подумал, во что же это они такое ввязались. Предположим, мужчина со скользким взглядом был одним из тех мозговых вампиров и намерения имел не самые дружеские. Соглядатаи же в ресторане гарантировали ему безопасность. Возможно, кроме них, в холле есть еще кто-то. Что ему делать дальше? Если они останутся сидеть, а Джентри пойдет за Натали, он тут же выдаст себя. Значит, надо уйти раньше, чтобы потом увязаться за ними. Но куда? Джентри заплатил по счету и направился к вешалке в тот самый момент, когда Натали и мужчина поднялись со своих мест. Девушка посмотрела на шерифа с расстояния в двадцать футов, и в ее пустых глазах ничто не отразилось. Он быстро пересек холл и замешкался у входной двери, делая вид, что натягивает пальто. Мужчина подвел Натали к лифту и, ухмыльнувшись какому-то парню, сидевшему на обшарпанном диване, сделал непристойный жест. Джентри решил рискнуть. У Натали был 312-й номер, он попросил 310-й. Номера в этом отеле занимали только три этажа, и если мужчина с приспущенными веками собрался вести ее не туда, Джентри потеряет их след. Он поспешно направился к лестнице и, перепрыгивая через три ступеньки, понесся наверх. Ему потребовалось десять секунд, чтобы перевести дыхание на площадке третьего этажа. Шериф успел заметить, как мужчина завел Натали в ее номер. Выждав еще немного и убедившись, что сзади никого нет, Джентри бесшумно двинулся по коридору. Правой рукой он нащупал рукоять «ругера», но передумал. Если этот человек был таким же, как оберст Сола Ласки, он может заставить Джентри выстрелить в самого себя. Если же это обычный человек, шериф решил, что обойдется без оружия. «О господи, – подумал он, – а вдруг это просто приятель Натали и она сама его пригласила?» Но тут он вспомнил выражение ее лица, отсутствующий взгляд и бесшумно вставил ключ в замочную скважину. Джентри ворвался в номер, заполнив собой крохотную прихожую, и увидел, как сидящий в кресле мужчина испуганно повернулся в его сторону. Еще он увидел полураздетую Натали, ужас в ее глазах и со всего размаху опустил кулак на голову незнакомца, словно пытался вогнать туда огромный гвоздь. Тот попробовал встать, но тут же осел в кресле, дважды дернулся и в беспамятстве перевалился через левый подлокотник. Джентри повернулся к Натали. Она смотрела на него расширенными от ужаса глазами, не делая никаких попыток прикрыть наготу. Внезапно ее начала колотить жуткая дрожь. Он быстро стащил с себя пальто, накинул ей на плечи, и девушка рухнула ему в объятия, мотая головой из стороны в сторону, словно хотела стряхнуть наваждение. Она пыталась что-то сказать, но зубы ее стучали так сильно, что Джентри едва разбирал слова. – О Роб… он хотел… я не… сделать что-нибудь. Обхватив Натали за плечи, Джентри стал гладить ее по голове, как испуганного ребенка, одновременно лихорадочно соображая, что делать дальше. – О господи, меня… сейчас… стошнит. – И она опрометью кинулась в ванную. Джентри, не теряя времени, склонился над мужчиной, перевернул его, быстро обыскал карманы и раскрыл бумажник. «Энтони Хэрод, Беверли-Хиллз». У мистера Хэрода было с собой около тридцати кредитных карточек, билет клуба «Плейбой», удостоверение члена Писательской гильдии Америки и другие документы, указывающие на его связь с Голливудом. В кармане пиджака лежал ключ от номера в отеле «Каштановые холмы». Когда Натали, приведя себя в порядок, с влажными лицом и волосами вышла из ванной, Хэрод начал шевелиться. Затем он застонал и перевернулся на бок. – Ненавижу! – вырвалось у Натали, и она со всей силы пнула Тони между ног. На ней были плотные туфли на низком каблуке, и удар был такой силы, словно она намеревалась забить гол в ворота противника. Хэрод дернулся и врезался головой в деревянную стойку кровати. – Не сейчас, – удержал ее Джентри и опустился на колени, чтобы проверить пульс и дыхание лежавшего. Энтони Хэрод из Беверли-Хиллз, Калифорния, был жив, но снова отключился. Джентри взглянул на дверь. Ни задвижки, ни цепочки на ней не было. Он повернул ключ и подошел к Натали. – Роб, – задыхаясь, произнесла она, – он заставлял меня делать и говорить… – Все хорошо, – успокоил ее Джентри. – Нам нужно скорее уходить отсюда. – Он застегнул чемодан Натали, помог ей надеть куртку и перебросил через плечо сумку с камерой. – Тут есть пожарная лестница. Ты в состоянии спуститься по ней? – Да, но зачем нам… – Объясню, когда выберемся отсюда, – прервал ее Джентри. – Моя машина рядом с отелем. Пошли. Железные перекладины пожарной лестницы обледенели и скрипели так, что неизбежно должны были привлечь внимание гостиничного персонала. Однако ни в дверях черного хода, ни в окнах никто не появился. Шериф помог Натали спрыгнуть на землю, и они быстро двинулись по темной аллее, заваленной мусором и гниющими отбросами. Выйдя на Джермантаун-стрит, они прошли вперед ярдов тридцать и свернули за угол, где Джентри оставил свой «форд-пинто». Вокруг не было ни души. Пока он открывал машину и включал зажигание, из отеля «Челтен» никто так и не появился. Витрины магазинов были погружены в темноту. – Куда мы едем? – спросила Натали. – Не знаю. Главное – убраться отсюда подальше… После мы все обсудим. Джентри повернул на восток по Джермантаун-стрит и был вынужден притормозить, чтобы пропустить автобус, который двигался в том же направлении. – Черт! – выругался он. – Что такое? – Просто я, как идиот, оставил в отеле свой чемодан. – В нем что-нибудь ценное? Джентри подумал о смене рубашек и брюк и рассмеялся: – Да нет… Но обратно я ни за что не вернусь. – Роб, что происходит? Он покачал головой: – Я думал, что ты мне сначала объяснишь. Натали передернуло. – Со мной такого никогда в жизни не случалось. Я ничего не могла поделать. Как будто мое тело перестало слушаться меня. И сознание тоже… – Теперь мы убедились, что они существуют на самом деле, – хрипло проговорил Джентри. Она как-то неестественно рассмеялась: – Роб, старуха… Мелани Фуллер… она где-то здесь, в Джермантауне. Ее видели Марвин и его ребята. Прошлой ночью она убила еще двоих из их банды. Я была… – Подожди-ка, – прервал ее Джентри, объезжая муниципальный автобус на остановке; впереди тянулась пустая улица, вымощенная кирпичом. – Кто такой Марвин? – Марвин – главарь братства Кирпичного завода. Он… И тут сильный удар сзади тряхнул машину. Натали швырнуло вперед, она вытянула руки, чтобы не удариться лбом о ветровое стекло. Джентри, выругавшись, оглянулся. К ним стремительно приближался огромный радиатор автобуса. Дав задний ход, автобус теперь разгонялся для нового удара. – Держись! – прокричал Джентри и выжал акселератор до упора; но автобус оказался шустрее, и, прежде чем «форд» рванул вперед, они получили еще один мощный удар. На высокой скорости, трясясь и подпрыгивая, они понеслись по неровным снежным ухабам. Даже сквозь закрытые окна до них доносился нарастающий рев дизеля сзади. – Черт! – еще раз выругался Джентри. Дорогу впереди перегородил разворачивающийся трейлер. Джентри прикинул, не выехать ли на тротуар, но заметил старика, роющегося в урне, и круто свернул влево на узкую улочку, скользнув бампером по высокому бордюру. Раздался отвратительный скрежещущий звук, и шериф догадался, что бампер оторвался и теперь волочится следом. По обеим сторонам улочки стояли ряды одноквартирных домов. Вдоль правого тротуара выстроилось кладбище машин без колес, относящихся еще к доисторическим временам. – Он снова догоняет! – закричала Натали. Джентри взглянул в зеркальце заднего вида как раз в тот момент, когда огромный автобус, въехав на тротуар, снес два запретительных знака парковки вместе с почтовым ящиком и в облаке дизельных выхлопов рванул за ними по узкой улочке. – Просто не могу поверить, – пробормотал шериф. Улица упиралась в заснеженную железнодорожную насыпь у подножия холма. Дальше, к востоку и западу, тянулись пустые стоянки и складские помещения. Джентри круто свернул влево, услышал, что задний бампер оторвался и надрывно взревел четырехцилиндровый двигатель. – Они могут догнать нас? – выдохнула Натали, когда автобус с разгона въехал на насыпь и откатился обратно на дорогу. Джентри различил водителя в хаки, который выворачивал огромный руль, и темные фигуры пассажиров, столпившихся за ним в проходе. – Они нас не догонят, пока мы не совершим какую-нибудь глупость, – сказал он, сам не очень-то веря в это. Дорога впереди шла мимо заброшенной фабрики и заваленной кирпичом стоянки и упиралась в тупик, хотя знака нигде не было. – Например, как эта? – тревожно спросила Натали. – Да. – Джентри затормозил. Он знал, что «пинто» не преодолеть тридцати футов склона, усеянного мусором. Слева виднелись высокие ворота и ограда, которой была обнесена грязная стоянка. Джентри прикинул, не проломиться ли через ворота, но решил, что это мало чем улучшит их положение. Справа тянулся ряд пустых двухэтажных домов с заколоченными окнами. Их стены и двери, как во многих негритянских кварталах, были разрисованы граффити. К востоку шел узкий проулок. Автобус у насыпи развернулся в их сторону. Водитель выжал скорость до упора, и махина взревела, как смертельно раненный зверь. – Бежим! – крикнул Джентри; он успел взять чемодан Натали, она схватила сумку с камерой, и они бросились в проулок. Через несколько секунд автобус на полной скорости врезался в левое крыло «форда». Заднее стекло машины раскололось, а автобус, отлетев в сторону, накренился и въехал правыми колесами на насыпь. Тормозные огни вспыхнули, когда он смял ограду и выкатился на замерзшую грязь стоянки. Затем колеса снова заработали, автобус подмял под себя расплющенную ограду, врезался в дверцу «форда» и таранил его до тех пор, пока машина не вмялась в поребрик футах в двадцати от проулка, где стояли Натали и Джентри. «Пинто» задел пожарный гидрант и с оглушительным скрежетом перевернулся. В ночном воздухе остро запахло разлившимся бензином. – Боже мой, – прошептала Натали. Джентри почти машинально вытащил «ругер» и крепко сжал в руке. Затем покачал головой и снова опустил оружие в карман. Автобус дал задний ход и выехал на середину улочки, волоча за собой в дизельных выхлопах остатки искореженного металла. Джентри схватил Натали за руку и потащил ее дальше в темную аллею. – Кто это? – только и спросила девушка. – Не знаю. Джентри впервые по-настоящему осознал, что эти люди способны на то, что уже испытали на себе Сол и Натали. Он вспомнил, как несколько лет назад читал роман «Изгоняющий дьявола», и теперь понял агностический восторг священника, наблюдавшего за дьявольской силой, которая мучит и уродует тело и мозг того, кем завладела. Священник доказывал, что раз существует дьявол, значит есть и Бог. Но что же следует из этой невероятной цепи событий? Извращенность человеческой природы? Или то, что какие-то парапсихологические способности, свойственные всем, могут быть доведены до такой степени совершенства? – Он останавливается, – сказала Натали. Автобус въехал на насыпь и сделал резкий поворот влево. – Что бы там ни было, здесь ему нас не достать. – Джентри обнял за плечи дрожащую девушку. Дверь автобуса находилась с противоположной стороны, но они услышали, когда зашипел сжатый воздух. Было видно, как еле различимые темные силуэты пассажиров двинулись к выходам спереди и сзади. Что они должны были думать после этой безумной гонки? Чего добивался этот сумасшедший водитель? Кто владел его сознанием? Джентри различал лишь массивную тень, склонившуюся над рулем. Семеро пассажиров вышли из автобуса, двигаясь неуверенно, как больные полиомиелитом или марионетки в неумелых руках. Один из них делал шаг вперед, и все замирали, затем движение повторял кто-нибудь другой. Возглавлявший группу пожилой человек опустился на четвереньки и таким манером двинулся по направлению к аллее, словно собака принюхиваясь к земле. – О господи! – выдохнула Натали. Они бросились бежать, перепрыгивая через мусорные кучи, обдирая руки и плечи о кирпичные стены. Джентри понял, что все еще продолжает тащить чемодан Натали. Проулок заканчивался плотной ржавой проволочной сеткой, а за их спинами раздавалось тяжелое звериное дыхание. Отпустив руку девушки, шериф разогнался и с помощью чемодана и собственного веса прорвал заграждение. Они оказались на какой-то улице, спускавшейся под темный железнодорожный мост и дальше, к освещенным одноквартирным домам. Джентри и Натали свернули к мосту и побежали. За спиной у них кто-то сражался с проволочным заграждением. Шериф оглянулся и увидел, как через бетонные плиты с видом обезумевшего добермана лезет пожилой мужчина в костюме. Джентри вытащил «ругер» и кинулся дальше. Под железнодорожным мостом было темно и скользко. Натали первой добежала туда, и Джентри увидел, как взлетели вверх ее ноги, и услышал звук тяжелого удара по мостовой. У него было время притормозить на льду, но он тоже не удержался и упал на колени. – Натали! – Со мной все в порядке. Джентри протянул руку во тьму и помог ей подняться. – Можно я оставлю здесь твой чемодан? – спросил он. Из горла Натали вырвался хриплый смех. – Идем. Вынырнув из-под моста, они побежали по неосвещенной улице, которую припаркованные с обеих сторон машины делали еще у́же, чем она была на самом деле. Позади раздался топот ног, который гулко отдавался под железнодорожным мостом, затем – треск льда и кирпича, однако ни криков, ни ругательств не последовало. – Туда! – крикнул Джентри и подтолкнул Натали к первому освещенному дому, футах в ста впереди. Когда они добрались до бетонного крыльца в три ступени, шериф уже едва переводил дух. Пока Натали колотила в дверь и кричала: «Помогите!» – он стоял спиной к ней, готовый встретить преследователей в любой момент. Грязная занавеска на окне колыхнулась, на мгновение появилось чье-то лицо, но дверь никто не открыл. – Пожалуйста! – закричала девушка. – Натали! – окликнул ее Джентри. Пожилой мужчина, теперь уже в разорванном костюме, появился из-под моста. Их разделяло всего футов тридцать. В свете единственного горевшего окна Джентри различил широко раскрытые глаза, отвисшую нижнюю челюсть и струйку слюны, стекавшую по подбородку на воротник. Он прицелился, взвел курок, затем передумал и опустил револьвер, намереваясь дать отпор этому идиоту с отключенным сознанием. Нападавший на полной скорости врезался в плечо шерифа, его подбросило, и он рухнул на спину, ударившись головой обобледенелую ступеньку. Джентри склонился над ним, но старик снова вскочил, не обращая внимания на кровь, которая хлынула из-под спутанных седых волос, и, по-звериному клацнув зубами, попытался вцепиться шерифу в горло. Джентри приподнял его за лацканы пиджака и отшвырнул на проезжую часть улицы, уже ни о чем не заботясь. Человек-марионетка перевернулся, вновь издал нечеловеческий рык и – невероятно! – опять вскочил на ноги. Тогда Джентри нанес ему удар рукояткой «ругера», и наконец тот рухнул ничком. Шериф тяжело опустился на нижнюю ступеньку крыльца. Натали продолжала стучать руками и ногами в дверь: – Пожалуйста, впустите! – Я офицер полиции! – из последних сил крикнул Джентри. – Откройте! Но дверь оставалась все так же запертой. Из-под моста донесся топот уже многих ног. – Господи! – выдохнул в отчаянии Джентри. – Помнишь, Сол говорил, что оберст мог контролировать лишь одного человека зараз… А эти… кто же так умело руководит ими? Из мрака появилась фигура высокой женщины. Она бежала босиком, сжимая в правой руке что-то острое. – Вперед! – крикнул Джентри. Они преодолели футов тридцать, когда из-за поворота послышался рев автобуса. Мощные фары выхватили кирпичные дома по левую сторону улицы. Джентри стал судорожно оглядываться в поисках прохода, пустой стоянки, чего-нибудь, где можно спрятаться, но до самого железнодорожного моста тянулся лишь сплошной фасад слепленных воедино одноквартирных домов. – Назад! – закричал он. – Вверх по насыпи, к рельсам! – Он повернулся как раз в тот момент, когда высокая блондинка, преодолев последние десять футов, с разбегу врезалась в него. Они упали и покатились по мокрой мостовой. Пытаясь ухватить ее за горло и увернуться от лязгающих челюстей, Джентри выронил оружие. Женщина оказалась очень сильной. Изловчившись, она впилась зубами в левую руку шерифа. Сжав кулак, он попробовал ударить ее в челюсть, но она успела наклонить голову, так что удар в основном пришелся по черепу. Джентри оттолкнул женщину, прикидывая, как бы отключить ее, не нанося при этом существенных увечий, но тут она резко вытянула правую руку, и что-то впилось ему в бок. Шерифу показалось, что его окатили ледяной водой, он ничего не успел предпринять, когда ножницы снова проткнули его тело через пальто. Женщина занесла руку в третий раз, и Джентри приготовился ударить ее наотмашь с такой силой, что наверняка сломал бы ей шею, если бы попал. Но он не попал. Блондинка отпрыгнула назад, подняла ножницы на уровень глаз, готовясь к новому броску, и в этот момент Натали обрушила ей на голову всю тяжесть своей сумки с фотоаппаратом. Женщина безвольно повалилась на землю, а Джентри с трудом приподнялся на одно колено. Левый бок и рука у него горели. Шериф и Натали замерли в свете фар приближавшегося с ревом автобуса. Отбросив сумку с камерой, Натали схватила с земли револьвер, широко расставила ноги и выстрелила четыре раза, как ее учил Джентри. – Нет! – закричал он, когда первая пуля разбила фару. Вторая врезалась в ветровое стекло слева от шофера. Из-за отдачи следующие две пули попали еще выше. Джентри схватил сумку с камерой и потащил Натали к ступенькам домов. Автобус развернулся и двинулся за ними, переехав через бездыханное тело женщины с ножницами. Когда его вынесло на лед, он закрутился, потерял управление и с грохотом врезался в деревянную опору железнодорожного моста. – Давай! – выдохнул Джентри, и они опрометью бросились к платформе. Шериф бежал согнувшись, зажимая рукой раненый бок. Скользя и буксуя, автобус вертелся на месте, двигатель ревел, визжали тормоза, а луч единственной фары метался, как безумный, из стороны в сторону. Наконец деревянная опора с треском подалась, и автобус вынырнул из-под моста как раз в тот момент, когда Джентри и Натали достигли насыпи и стали карабкаться по замерзшему, усеянному мусором склону. Джентри зацепился за ржавую проволоку и упал, на мгновение оказавшись в луче автобусной фары. Пальто его было разорвано в клочья и испачкано кровью, искалеченная рука безвольно повисла. Натали схватила его за другую руку и помогла подняться. – Дай мне «ругер», – хрипло попросил он. Автобус пятился задом, намереваясь с разгону въехать на склон. – Оружие! Натали протянула Джентри револьвер, когда автобус начал набирать скорость. Оба трупа, лежавшие на улице, теперь были расплющены тяжелыми колесами. – Уходи! – велел он. Натали на четвереньках стала карабкаться дальше. Джентри последовал за ней. Преодолев половину пути, они наткнулись на забор, который не был виден снизу. Он просел и кое-где представлял собою лишь витки проволоки. Натали запуталась, тогда Джентри дернул проволоку на себя, услышал треск рвущейся ткани и подтолкнул девушку наверх. Она сделала четыре шага и снова упала. Шериф развернулся, покрепче уперся ногами в скользкий склон и поднял «ругер». Высота насыпи и длина автобуса были почти одинаковыми. Тяжелое пальто мешало, и Джентри скинул его, ощущая, как слабеет рука. Автобус разогнался, перепрыгнул через невидимый бордюр и стал въезжать на обледеневший склон. Джентри опустил ствол чуть ниже, чтобы отдача от выстрела не подбросила его вверх. Теперь он наконец разглядел лицо водителя. Это была женщина в камуфляжной форме, лицо ее застыло, глаза неестественно расширились. «Они… он… те, кто использует этих людей, все равно не оставят ее в живых», – решил он и разрядил последние два патрона. Ветровое стекло пошло трещинами и осыпалось мелкой пылью, Джентри развернулся и бросился бежать. Его отделяло от Натали десять футов, когда автобус нагнал его, поддел решеткой радиатора, и он взлетел вверх, как младенец, небрежно подброшенный к потолку. Сильно ударившись, шериф рухнул на левый бок и, перевесившись через ледяной рельс, посмотрел вниз. Автобус въехал на пять футов выше гребня, потерял управление и теперь с безумной скоростью летел вниз, вихляя из стороны в сторону. Наконец его правое крыло с грохотом врезалось в мостовую, чуть не поставив весь длинный корпус на попа, затем он завалился набок и замер. Колеса все еще вертелись как заведенные. – Не шевелись, – прошептала Натали, но Джентри уже поднялся, все еще сжимая револьвер помертвевшей рукой. Машинальным движением он попытался сунуть его в карман пальто, но, обнаружив, что пальто на нем нет, затолкал «ругер» за ремень брюк. – Что будем делать? – тихо спросила Натали, поддерживая его. – Ждать полицию, пожарных, «скорую», – ответил Джентри, понимая, что эти предложения здесь почему-то не годятся, но он слишком устал. В окнах домов один за другим загорались огни, хотя на улице так никто и не появился. Джентри стоял, опершись на Натали. Ему было холодно, к тому же снова пошел снег. Снизу вдруг раздался звон выбитого стекла. На металлический корпус автобуса вскарабкались три темные фигуры, ползущие по нему, как огромные пауки. Не говоря ни слова, Джентри и Натали повернулись и помчались по железнодорожным путям. Зацепившись за шпалу, шериф упал и услышал мерный топот быстро приближавшихся шагов. И вновь Натали подняла его, и они побежали, хотя сил уже у обоих не осталось. – Туда! – выдохнула Натали. – Я знаю, где мы находимся. Он повернул голову и увидел трехэтажное здание, зажатое между пустыми стоянками. В нем светилась дюжина окон. Но тут Джентри оступился и полетел вниз по крутому склону. Что-то острое впилось ему в правую ногу. Едва он успел подняться, как услышал грохот приближающегося пригородного поезда. На крыльце трехэтажного дома с освещенными окнами стояли несколько человек. Они выкрикивали угрозы, Джентри различил у двоих винтовки. Он полез в карман за «ругером», но замерзшие пальцы отказывались повиноваться. Откуда-то издали звучал настойчивый голос Натали. Джентри решил на пару секунд закрыть глаза, чтобы собраться с силами. Теряя сознание, он почувствовал, как чьи-то сильные руки подхватили его.Глава 26
Джермантаун
Понедельник, 29 декабря 1980 г.
Весь понедельник Натали то и дело заглядывала к Робу. Его лихорадило, он не осознавал, где находится, и время от времени бормотал что-то в забытьи. Ночь она провела рядом с ним, тихонько поглаживая его и стараясь не задеть заклеенную пластырем грудную клетку и перебинтованную левую руку. Когда Марвин Гейл увидел, как они с Джентри приближаются к общинному дому, его это не слишком обрадовало. – Что это за толстяк с тобой, малышка? – окликнул он Натали, стоя на верхней ступеньке; по бокам от него стояли Лерой и Кальвин с обрезами в руках. – Это шериф Роб Джентри, – произнесла Натали и тут же пожалела, что упомянула о его связи с властью. – Он тяжело ранен. – Это я вижу, малышка. А почему бы тебе не отвезти его в больницу для белых? – За нами кто-то гонится, Марвин. Впусти нас. – Натали понимала, что, если ей удастся достучаться до юного главаря банды, он выслушает ее. Почти весь конец недели Натали провела в общинном доме. Она была здесь и в субботу вечером, когда стало известно, что убиты Монк и Лайонел. По просьбе Марвина она отправилась на место происшествия и сфотографировала их расчлененные трупы, после чего, спотыкаясь, отошла за угол, где ее долго тошнило. Уже позднее Марвин рассказал ей, что у Монка с собой был снимок Мелани Фуллер, который он показывал многим в округе, пытаясь определить местонахождение старухи. Но когда нашли его тело, фотографии при нем не оказалось. Услышав об этом, Натали буквально похолодела. Как ни странно, ни полиция, ни средства массовой информации никак не отреагировали на убийства. За исключением Джорджа, перепуганного пятнадцатилетнего подростка, свидетелей не было, а Джордж никому, кроме членов братства Кирпичного завода, ничего не рассказывал. Банду вполне это устраивало. Искалеченные трупы завернули в полиэтилен и спрятали в холодильнике в подвале у Луиса Тейлора. Монк обитал один в полуразрушенном доме, Лайонел жил с матерью на Брингхерст-стрит, но та бо́льшую часть времени пребывала в алкогольном ступоре и могла не скоро вспомнить о сыне. – Сначала мы пришьем ублюдка, который это сделал, а потом уже сообщим легавым и телевизионщикам, – рассуждал Марвин в ту субботнюю ночь. – Если мы проговоримся им сейчас, у нас останется слишком мало пространства для того, чтобы действовать. Натали провела с бандой все воскресенье, снова и снова рассказывая о способностях Мелани Фуллер и выслушивая их стратегические планы, которые в основном сводились к тому, чтобы найти старуху с ее белым чудищем и убить обоих. И вот теперь, в воскресную ночь, она стояла под тяжелыми хлопьями снега, поддерживая полубессознательное тело Роба Джентри, и умоляла: – За нами гонятся. Помогите нам! Марвин сделал жест рукой, и тут же Луис, Лерой и еще какой-то парень, которого Натали не узнала, спрыгнули с крыльца и исчезли во тьме. – Кто за вами гонится, малышка? – Я не знаю. Какие-то люди. – Такие же умалишенные, как тот старухин белый выродок? – Да. – Это она управляет ими? – Возможно. Не знаю. Но Роб ранен. За нами гонятся. Впусти нас, пожалуйста. Марвин посмотрел на нее своими прекрасными холодными синими глазами и отошел в сторону, разрешив войти. Джентри пришлось отнести в подвал и положить на матрас. Натали требовала, чтобы вызвали врача или «скорую помощь», но Марвин лишь качал головой: – Нет, малышка. У нас уже есть два трупа, о которых мы решили не сообщать, пока не найдем ту мадам Вуду. Нам не нужны неприятности из-за твоего раненого дружка. Мы позовем Джексона. Джексон, сводный брат Джорджа, когда-то служил врачом во Вьетнаме и успел закончить два с половиной курса медицинской школы. Он появился с синим рюкзаком, набитым бинтами, шприцами и таблетками. – Два ребра сломаны, – тихо сообщил он, осмотрев Джентри. – Имеется также глубокая резаная рана… Еще бы на полдюйма ниже и на полтора глубже, и он бы уже скончался от проникающего ранения. К тому же кто-то здорово прокусил ему руку. Возможно также сотрясение мозга. Об остальном без рентгена судить трудно. Посмотрите, пожалуйста, чтобы нам никто не мешал, тогда я смогу заняться им. – И он принялся накладывать швы, промывать и перебинтовывать глубокие порезы и царапины, затем наложил плотную повязку на сломанные ребра и ввел противостолбнячную сыворотку. Наконец Джексон сломал какую-то ампулу под носом шерифа и почти мгновенно привел его в чувство. – Сколько пальцев? – спросил он, подняв руку. – Три, – ответил Джентри. – Какого черта, где я? Они побеседовали несколько минут, врач-недоучка удостоверился, что сотрясение мозга не слишком серьезное, после чего он сделал Джентри еще один укол и позволил тому спокойно погрузиться в сон. – С ним все будет в порядке. Я загляну к вам завтра. – Почему вы ушли из медицинской школы? – Натали слегка покраснела, смутившись от собственного любопытства. Джексон пожал плечами: – Слишком много всякой ерунды. Решил вернуться сюда. Прошу вас будить его каждые два часа. В отгороженном занавесками углу, где Марвин разрешил им спать, Натали подходила к Джентри каждые полтора часа. Последний раз это было в 4:38, и он, очнувшись окончательно, нежно прикоснулся к ее волосам.* * *
Около дюжины парней сидели вокруг стола, болтали ногами, водрузившись на стойку, или стояли, прислонившись к стенам и шкафам. Джентри проспал до двух часов дня и проснулся страшно голодным. На четыре был назначен военный совет, а шериф все еще закидывал в себя какую-то китайскую снедь, которую по его просьбе принес один из членов банды. Если не считать Кары, молчаливой подруги Марвина, Натали была единственной женщиной в помещении. – На районе появилась куча каких-то странных придурков, – сообщил Лерой. – Что за придурки? – осведомился Джентри с полным ртом, набитым свининой мушу. Лерой бросил взгляд на Марвина. Тот утвердительно кивнул, и тогда он ответил: – Странные белые легавые. Свиньи. Вроде тебя. – В форме? – спросил Джентри. Он расположился у стойки, из-за перевязанной грудной клетки его фигура казалась еще толще, чем была на самом деле. – Нет. В цивильном прикиде. Аккуратненькие сукины дети. Черные брюки, ветровки, ботинки с узкими носами. Просочились повсюду! – Где они? – Говорят же – повсюду, – ухмыльнулся Марвин. – Пара фургонов без опознавательных знаков стоит с обоих концов Брингхерст-стрит. Уже два дня, как между Квин-лейн и Грин-стрит торчит грузовик с локатором. Двенадцать ублюдков в четырех машинах без номеров мотаются между церковью и нами. И целые толпы их собрались на вторых этажах домов на Квин-лейн и Джермантаун-стрит. – Сколько же всего? – спросил Джентри. – Думаю, человек сорок. Может, пятьдесят. – Работают командами по восемь часов? – Да. Ублюдки считают, что их никто не замечает, и спокойно сидят себе у прачечной. Все белые. Так и шныряют туда-сюда. А один вообще ничего не делает, только бегает для них за едой. – Филадельфийская полиция? Высокий худой парень по имени Кальвин рассмеялся: – Черт, да нет же! Местные свиньи носят костюмы, белые носки и ортопедическую обувь… когда выходят на дело. – Кроме того, их слишком много, – добавил Марвин. – Даже если сложить всю полицию нравов, отделы убийств, наркотиков и инспекторов по несовершеннолетним, все равно пятьдесят человек не получится. Или это федеральный отдел по борьбе с наркобизнесом, или еще что-то. – Или ФБР, – добавил Джентри и задумчиво потер левый висок. Натали заметила, как лицо его чуть заметно исказилось от боли. – Да. – Марвин погрузился в размышления, и на мгновение взгляд его стал рассеянным. – Возможно. Хотя я этого не понимаю. Зачем их так много? Я думал, может, они ловят убийц Зига, Мухаммеда и остальных, но им, похоже, плевать на то, что кто-то замочил нескольких негров. Если только все это не ради той старухи и ее белого выродка. Да, малышка? – Очень может быть, – кивнула Натали. – Но все гораздо сложнее… – То есть? Джентри, стараясь не шевелить верхней частью тела, подошел к столу и положил на него свою перебинтованную руку. – Есть такие подонки… которые могут мысленно заставить людей подчиняться их воле. Обычный спокойный человек становится по их приказу маньяком, убийцей. А те, кто ими управляет, садистски радуются. Один из таких мужчин, вероятно, прячется где-то здесь, в городе. Этой способностью обладают и несколько представителей власти. И между ними идет нечто вроде войны, – объяснил Джентри негромко. – Мне нравится, как ты говоришь, приятель, – фыркнул Лерой и передразнил неторопливую тихую речь шерифа, подчеркивая южный акцент. – Твой говор тоже ничего, – добродушно отозвался тот. Лерой привстал, и лицо его исказилось от ярости. – Что ты сказал? – Он сказал, чтобы ты заткнулся, Лерой, – спокойно заметил Марвин. – И сделай это побыстрее. – Он снова перевел взгляд на Джентри. – О’кей, мистер шериф, скажи-ка мне вот что: этот мужчина, который прячется здесь, он белый? – Да. – И ублюдки, которые его преследуют, тоже белые? – Да. – И все остальные, кто в этом может быть замешан? Джентри кивнул. – Значит, они такие же твари, как эта Фуллер со своим выродком? – Марвин вздохнул. – Интересно получается. – Он сунул руку в карман своей куртки, достал «ругер» Джентри и со стуком положил его на стол. – Здоровый кусок железа ты таскаешь с собой, мистер шериф. Никогда не собирался зарядить его? – Запасные патроны у меня в чемодане, – не прикасаясь к револьверу, ответил Джентри. – А где твой чемодан, парень? Если он был в расплющенном «форде», то его сперли. – Марвин ходил за моей сумкой, – пояснила Натали. – Она исчезла вместе с останками твоей прокатной машины. И автобусом. – Автобусом? – Брови Джентри удивленно поползли вверх. – Автобус исчез? Через сколько времени после нашего появления вы ходили туда? – Через шесть часов, – ответил Лерой. – Так что придется нам поверить на слово малышке, что за вами гнался большой нехороший автобус, – проронил Марвин. – Она утверждает, что вы стреляли в него и попали. Может, он уполз умирать в кусты, мистер шериф? – Шесть часов, – повторил Джентри и прислонился к холодильнику. – Что-нибудь есть в новостях? Об этом уже должно быть известно. – Ничего, – ответила Натали. – Телевидение безмолвствует. В «Филадельфийском обозревателе» нет даже крохотной заметки. – О господи, – произнес он. – Какие же у них должны быть связи, чтобы все так быстро убрать и замять! По меньшей мере четверо были убиты. – А уж до чего, наверное, разозлилась контора, которой принадлежал автобус, а? – заметил Кальвин. – Советую тебе, парень, не пользоваться здесь муниципальным транспортом. А то, глядишь, какой-нибудь автобус отомстит тебе за убийство своего собрата. – И Кальвин так расхохотался, что чуть не упал со стула. – Так где же твой чемодан? – повторил Марвин. Джентри передернул плечами, выходя из задумчивости: – Я оставил его в отеле «Челтен». Но я заплатил всего за одну ночь. Так что, возможно, его уже забрали. Марвин развернулся в своем кресле: – Тейлор, ты работаешь в этой старой развалине. Можешь пробраться в их камеру хранения? – Конечно. – Худое лицо восемнадцатилетнего Тейлора покрывали темные шрамы, оставшиеся после прыщей и фурункулов. – Это опасно, – предупредил Джентри. – Возможно, там уже нет чемодана. В любом случае за парнем будут следить. – Какие-нибудь накачанные свиньи? – осведомился Марвин. – В том числе и они. – Тейлор, – произнес Марвин. Это был приказ. Парень осклабился, спрыгнул со стойки и исчез. – Нам надо еще кое-что обсудить, – сказал Марвин, поглядев на шерифа и Натали. – Вы пока можете отдохнуть.* * *
Натали с Джентри стояли на заднем крыльце общинного дома и смотрели, как растворяются последние остатки тусклого зимнего дня. Перед домом тянулся длинный пустырь, усеянный грудами разбитых заснеженных кирпичей и упиравшийся в два заброшенных здания. Отблеск керосиновых ламп в нескольких окнах указывал на то, что там еще кто-то живет. Было очень холодно. В свете единственного уцелевшего фонаря плясали снежинки. – Значит, мы остаемся здесь? – спросила Натали. Джентри посмотрел на нее. Из-под армейского одеяла, которое он набросил на себя вместо куртки, торчала лишь его голова. – На сегодня, пожалуй, ничего лучшего не придумаешь, – промолвил он. – Может, мы и не среди друзей, но, по крайней мере, у нас общий враг. – Марвин Гейл умен и хитер, – заметила Натали. – Как лиса, – добавил Джентри. – Почему ты считаешь, что он зря теряет время с бандой? Шериф прищурился, вглядываясь в грязные сумерки. – Когда учился в Чикаго, я работал там с парочкой городских банд. В основном главари были вполне толковыми ребятами, только один психопат попался. Помести альфа-личность в замкнутую систему, и она достигнет в ней высших ступеней власти. И со здешней бандой то же самое. – Что значит альфа-личность? Джентри рассмеялся было, но тут же умолк из-за боли в груди. – Студенты, изучающие поведение животных, следят, кто в каком порядке получает в этой группе пищу, и называют главного барана, воробья, волка или еще кого-нибудь альфа-самцом. Бывают, конечно, и альфа-самки, поэтому я предпочитаю термин «альфа-личность». Иногда мне кажется, что дискриминация и другие глупые социальные барьеры приводят к возникновению неожиданно большого количества альфа-личностей. Возможно, этот процесс является чем-то вроде естественного отбора, с помощью которого разные этнические и культурные группы отвоевывают себе справедливые места в несправедливом обществе. Натали прикоснулась к его руке сквозь одеяло: – Знаешь, Роб, для доброго провинциального шерифа в твоей голове бродят слишком оригинальные мысли. – Не такие уж оригинальные. – Джентри ласково посмотрел на нее. – Сол Ласки уже предполагал нечто подобное в своей книге «Патология насилия». Он писал о том, как попранные, униженные люди, менее всего подходящие для данного общества, вдруг перерождаются в невероятных борцов, когда от этого зависит выживание культуры и нации… что-то вроде супер-альфа-личностей. В несколько извращенном, болезненном виде в эту модель вписывается даже Гитлер. Натали смахнула с ресниц снежинки. – Ты думаешь, Сол еще жив? – Судя по обстоятельствам, не должен. – Джентри уже рассказал Натали, как провел последние несколько дней перед тем, как отыскал ее в Джермантауне. Он еще плотнее закутался в одеяло и положил перевязанную руку на выщербленные перила крыльца. – И все же почему-то я думаю, что он жив. – Его кто-то насильно удерживает? – Да. Иначе он не исчез бы так бесследно. Он бы предупредил нас каким-нибудь образом. – Каким? – спросила Натали. – И ты, и я оставляли свои послания на автоответчике, но их кто-то стирал. Если мы не могли связаться друг с другом, как бы это удалось Солу? Особенно если за ним следят? – Серьезный довод, – согласился Джентри. Натали вздрогнула. Он придвинулся ближе и прикрыл ее полой своего одеяла. – Вспоминаешь вчерашний вечер? Девушка кивнула. Всякий раз, как она начинала обретать хоть какую-нибудь уверенность, к ней снова возвращалось то ощущение, когда сознание Энтони Хэрода проникло в ее мозг, и все тело ее охватывало дрожью, словно при воспоминании о каком-то зверском насилии. Впрочем, это и было насилие. – Все позади, – промолвил Джентри. – Больше они не доберутся до тебя. – Но они все еще там, – прошептала Натали. – Да. И это главная причина, по которой нам следует попытаться выбраться из Филадельфии сегодня… – Ты по-прежнему считаешь, что Хэрод не имел отношения к автобусу? – Не представляю, как он мог это сделать, – ответил Джентри. – Он был без сознания, когда мы уходили. Если ему и удалось прийти в себя минут через десять, заниматься умственной гимнастикой он был явно не способен. Кроме того, разве у тебя не сложилось впечатление, что он мог использовать свои способности только с женщинами? – Да, мне так показалось, когда он… когда он… – Доверься своему чувству, – посоветовал Джентри. – Кто бы ни натравил вчера на нас этих ребят, среди преследователей явно были мужчины. – Но если это не Энтони Хэрод, тогда кто? Уже совсем стемнело. Откуда-то издалека послышался вой сирены. Разбитые фонари, тускло освещенные окна, снег, мрачные, нависшие над пустырем тучи – все казалось нереальным, словно свету не было места среди этих грязных кирпичей и ржавого металла. – Не знаю, – вздохнул Джентри. – Зато я знаю, что наша задача сейчас – затаиться и выжить. Единственная здравая мысль, которую я вынес из размышлений о вчерашних событиях, заключается в том, что, кто бы нас ни преследовал, он хотел загнать нас сюда и вовсе не стремился убить… по крайней мере тебя. Натали широко раскрыла глаза от изумления: – С чего ты взял? Ты посмотри, что они натворили! Автобус… эти люди… А что они сделали с тобой? – Да, – согласился Джентри. – Но тебе не кажется, что они могли бы справиться с нами гораздо проще? – Как? – спросила Натали, хотя уже сама догадалась. – Все это время при мне был пистолет. Если они видели нас, когда преследовали, они могли заставить меня выстрелить в тебя, а потом в себя. Натали вздрогнула под одеялом, и Джентри обнял ее правой рукой. – Значит, ты думаешь, они не пытались уничтожить нас? – спросила она. – Это один из вариантов. – Джентри замолчал, и Натали поняла, что он не хочет развивать свою мысль. – А другой? – настойчиво спросила она. Он поджал губы и слабо улыбнулся: – Другой вариант вполне согласуется с обстоятельствами: они были уверены, что нам некуда деться, и просто решили поразвлечься. Немного поиграть с нами. Дверь за их спинами с шумом распахнулась, и Натали подпрыгнула от неожиданности. – Эй, вы! – крикнул Лерой. – Марвин велел вас позвать. Тейлор вернулся и принес чемодан. Луис тоже вернулся с хорошими вестями. Они с Джорджем выследили, где живет эта старая сука, дождались, когда она уснет, и взяли ее. И ее белого ублюдка. Сердце у Натали забилось как сумасшедшее, – казалось, оно вот-вот вырвется из груди. – Что значит – взяли? – прошептала она. Лерой ухмыльнулся. – Пришили. Луис перерезал старухе горло, пока она спала. А Джордж с Сетчем закололи ублюдка ножами. Проткнули его насквозь раз десять, искромсали на мелкие кусочки. Больше эта сука не будет охотиться за членами братства. Натали с Джентри обменялись взглядами и последовали за Лероем в дом, откуда доносились звуки веселья.* * *
Луис Соларц был плотным довольно светлокожим парнем с выразительными глазами. Он восседал во главе стола, а Кара и еще одна молодая женщина промывали и забинтовывали ему рану на горле. Его желтая рубашка была вся забрызгана кровью. – А что с твоим горлом? – осведомился Марвин. Главарь банды только что спустился. – Ты вроде сказал, что вы перерезали горло старухе. Луис возбужденно кивнул, попытался заговорить, но издал лишь хриплое карканье и перешел на шепот: – Ну, сказал. Белый ублюдок полоснул меня, когда мы разделывались с ним. Кара шлепнула Луиса по руке, чтобы он не тянулся к ране, и поправила повязку. Марвин облокотился на стол. – Что-то я не понимаю. Ты говоришь, вы пришли к Фуллер, пока она спала, но этот сукин сын все же успел порезать тебя. И где, черт побери, Джордж и Сетч? – Они все еще там. – С ними все в порядке? – Да, все нормально. Джордж хотел отрезать голову белому ублюдку, но Сетч велел ему подождать. – Чего? – осведомился Марвин. – Тебя подождать. Натали с Джентри подошли ближе. Натали вопросительно посмотрела на Роба, но тот лишь пожал плечами, все еще закутанными в одеяло. Марвин сложил на груди руки и вздохнул: – Расскажи все сначала, Луис. Все с самого начала. Луис прикоснулся к своему перебинтованному горлу: – Больно. – Рассказывай! – рявкнул Марвин. – Хорошо, хорошо. Мы с Джорджем и Сетчем поговорили с местным народом, как ты велел, но никто ничего не видел, и мы решили, что с нас довольно, понимаешь? Мы стояли на Джермантаун-стрит, а она вдруг выходит из магазина на Вистер-стрит. – Магазин Сэма Дели? – переспросил Кальвин. – Вот именно, – хмыкнул Луис. – Мадам Вуду собственной персоной. – Вы узнали ее по моей фотографии? – спросила Натали. Все обернулись к ней, а Луис бросил на нее странный взгляд. Натали подумала, что, наверное, женщине положено молчать на военных советах, но она откашлялась и снова спросила: – Вам помогла моя фотография? – Да, она тоже, – хрипло прошептал Луис. – Но с ней к тому же был белый ублюдок. – Ты уверен, что это был он? – усомнился Лерой. – Да, уверен, – подтвердил Луис. – И Джордж его видел раньше. Тощий такой, длинные грязные патлы, дикие глаза. Много таких придурков разгуливают со старухами, чтобы можно было ошибиться? Все присутствующие дружно разразились хохотом. Натали подумала, что это разрядка после нервного напряжения. – Продолжай, – сказал Марвин. – Мы двинули за ними, пока они не вошли в старый дом. Сетч говорит: «Валяйте», а я говорю: «Нет, давайте сначала оглядимся». Джордж залез на дерево сбоку и увидел, что мадам Вуду спит. Тогда я говорю: «Ну, валяйте». Сетч соглашается, открывает замок, и мы входим. – Где находится тот дом? – спросил Марвин. – Я покажу тебе. – Нет, ты расскажи мне! – Марвин сгреб Луиса за воротник. Тот заскулил и схватился за горло: – На Квин-лейн, недалеко от Джермантаун-стрит. Я покажу тебе. Сетч и Джордж ждут там. – Рассказывай дальше, – приказал Марвин. – Мы тихо вошли, – продолжил Луис. – Понимаешь, было всего четыре часа. Но старуха спала наверху в комнате, битком набитой куклами… – Куклами? – Да, что-то вроде детской. Только она не совсем спала, а вроде как была под наркотой, понимаешь? – В трансе, – подсказала Натали. – Да. Вроде того… – Луис снова бросил на нее быстрый взгляд. – Что было дальше? – спросил Джентри. Луис одарил всех широкой улыбкой: – Дальше я перерезал ей горло. – Она точно мертва? – спросил Лерой. Улыбка Луиса сделалась еще шире. – О да. Она мертва. – А белый ублюдок? – допытывался Марвин. – Мы с Сетчем и Джорджем нашли его на кухне. Он натачивал это свое кривое лезвие. – Косу? – уточнила Натали. – Да, – кивнул Луис. – Нож у него тоже был. Им он и полоснул меня, когда мы захотели его отнять. А потом Сетч и Джордж прикончили его. Хорошо его отделали, распороли глотку. – Он мертв? – Да. – Ты уверен? – Еще как! Ты считаешь, мы не умеем отличать мертвого от живого? Марвин уставился на Луиса. В синих глазах главаря мелькнул какой-то странный огонек. – Луис, этот белый ублюдок убил пятерых наших добрых братьев. Он справился с Мухаммедом, в котором было шесть футов два дюйма росту. Как же тебе, Сетчу и малышу Джорджу удалось так просто убить его? Луис пожал плечами: – Не знаю. Когда мадам Вуду отбросила копыта, белый ублюдок оказался не таким уж чудовищем. Обычный тощий парень. Он даже плакал, когда Сетч резал ему горло. Марвин покачал головой: – Что-то не верится… Уж слишком все просто. А что свиньи? Луис молчал. – Послушай, Марвин, – наконец изрек он. – Сетч сказал, чтобы я сразу привел тебя. Ты хочешь посмотреть на них или нет? – Да, – ответил Марвин. – Да, хочу!* * *
– Ты не пойдешь туда, – сказал Джентри. – Что значит – не пойду? – возмутилась Натали. – Марвин хочет, чтобы их сфотографировали. – Мне наплевать, чего там хочет Марвин! Ты останешься здесь. Они стояли за занавеской в углу на втором этаже. Все члены банды уже собрались внизу. Джентри принес свой чемодан и теперь переодевался в вельветовые брюки и свитер. Натали заметила, что бинты на его груди пропитались кровью. – Ты же ранен, – сказала она. – Тебе тоже не следует ходить. – Я должен убедиться, что Фуллер мертва. – Но я… я тоже хочу убедиться… Она убила моего отца! – Нет. – Джентри натянул на свитер куртку и повернулся к ней. – Натали, пожалуйста… – Он поднял свою огромную ладонь и нежно прикоснулся к ее щеке. – Ты мне так нужна. Она осторожно обняла его, стараясь не касаться раненого бока, и заглянула в глаза: – Ты тоже очень нужен мне, Роб. – Я вернусь, как только мы взглянем на то, что там творится. – А фотографии? – Я возьму твой «Никон», не возражаешь? – Да, но все-таки нехорошо, что я… – Послушай, этот Марвин не дурак, – заметил Джентри, понизив голос до густого баса. – Он не склонен рисковать. – Тогда и ты не рискуй. – Нет, мэм. Мне придется это сделать. – Он притянул девушку к себе и так надолго прильнул к ее губам, что она, позабыв о его сломанных ребрах, крепко обняла его и прижалась к нему всем телом.* * *
Из окна второго этажа Натали наблюдала за тем, как процессия тронулась в путь. Вместе с Луисом отправились Марвин, Лерой, высокий парень по имени Кальвин, старый член банды с угрюмым лицом по прозвищу Форель, двое близнецов, с которыми Натали не была знакома, и Джексон – экс-медик, появившийся в последний момент. Все были вооружены, за исключением Луиса, Джентри и Джексона. Кальвин и Лерой прятали обрезы под свободными куртками, Форель нес длинноствольный пистолет 22-го калибра, близнецы имели при себе маленькие, дешевые на вид пистолеты, которые Джентри обозвал «специальными субботними». Шериф попросил Марвина вернуть ему «ругер», на что тот лишь рассмеялся и, зарядив револьвер, сунул его в карман собственной армейской куртки. Отойдя от дома, Джентри повернулся и помахал Натали «Никоном». Натали устроилась в углу на матрасе и вся сжалась, пытаясь справиться с подступившими слезами. Она обдумывала всевозможные повороты и варианты событий. Если Мелани Фуллер мертва, они смогут уехать. Смогут ли? А как же представители власти, о которых говорил Роб? И оберст? И Энтони Хэрод? Она ощутила во рту привкус желчи, едва подумала об этом сукином сыне с глазами рептилии. К горлу снова подкатила тошнота при воспоминании о его паническом страхе перед женщинами и его ненависти к ним, которые она ощутила за те несколько минут, пока находилась в его власти. Как бы ей хотелось растоптать его омерзительное лицо! Шум в коридоре заставил ее вскочить. В тусклом свете лестничной площадки возникла чья-то фигура. Ответственным за дом оставили Тейлора, несколько членов банды отправились оповестить остальных, снизу слышался смех, но на втором этаже Натали была одна. Фигура неуверенно двинулась к свету, и она увидела белую руку и бледное лицо. Девушка быстро огляделась в поисках какого-либо оружия. Затем подбежала к бильярдному столу, ярко освещенному единственной свисавшей с потолка лампой, и схватила кий, пытаясь отыскать в нем центр тяжести. – Кто там? – спросила она, сжимая кий обеими руками. – Всего лишь я, – откликнулся преподобный Билл Вудз, якобы управлявший общинным домом, и шагнул в полосу света. – Простите, что напугал вас. Натали чуть расслабилась, но кий не положила. – Я думала, что вы ушли. Вудз облокотился на стол и принялся катать белый бильярдный шар. – О, я весь день хожу то туда, то обратно. Вы не знаете, куда отправились Марвин с ребятами? – Нет. Священник покачал головой и поправил очки с толстыми стеклами. – Ужасно, как они страдают от дискриминации и эксплуатации. Вы слышали, что уровень безработицы здесь среди черных подростков превышает девяносто процентов? – Нет. – Натали обошла стол, чтобы держаться подальше от этого худого навязчивого человека, но, кроме желания общаться, он вроде ничего не выражал. – Да-да, – настойчиво закивал Вудз. – Магазины и лавки в Джермантауне принадлежат исключительно белым. В основном евреям. Многие из них уже не живут здесь, но продолжают контролировать остатки своего бизнеса. В общем, ничего не меняется. – Что вы имеете в виду? – переспросила Натали. «Интересно, добрался ли Роб с остальными до места? – подумала она. – Если убитая не Мелани Фуллер, что он будет делать?» – Я имею в виду евреев, – пояснил Вудз. Он вдруг вскочил на край бильярдного стола и одернул брючину, после чего прикоснулся к узенькой черной полоске усов, походивших на нервную гусеницу. – Эксплуатация евреями притесняемых классов в американских городах имеет долгую историю. Вы негритянка, мисс Престон. Вы должны понимать это особенно хорошо. – Я не знаю, о чем вы говорите, – промолвила Натали, и в этот миг дом содрогнулся от раздавшегося внизу взрыва. – Боже милостивый! – воскликнул Вудз. Натали бросилась к одному из окон узнать, что происходит. У края тротуара ярко пылали два брошенных автомобиля. Языки пламени взлетали футов на тридцать, освещая пустые стоянки, брошенные дома на противоположной стороне улицы и железнодорожную платформу на севере. Несколько членов банды высыпали на тротуар, крича и потрясая обрезами и другим оружием. – Лучше я вернусь в молодежный центр и вызову пожарных. Здесь телефон не работает… – сказал Вудз и вдруг умолк. Натали обернулась и увидела, что тот, широко раскрыв глаза, смотрит на лестничную площадку. Там стоял какой-то парень, худой, мертвенно-бледный, в разорванной и испачканной кровью армейской куртке. Длинные спутанные волосы свисали на глаза, посаженные так глубоко, что казалось, они выступают из пустых глазниц черепа. В его широко разинутом рту Натали заметила обрубок языка, который двигался в темном провале мерзкой розовой гортани. В руках парень держал косу, ручка ее была выше его на целую голову, и, когда он сделал шаг вперед, по ободранной стене взметнулась его громадная тень. – Вам здесь не место, – начал преподобный Билл Вудз. И тут коса со свистом описала дугу, и голова Вудза повисла на ошметках шеи. Священник рухнул на бильярдный стол, кровь брызнула на зеленое сукно, стекая в ближайший кармашек. Безмолвная длинноволосая фигура с косой – настоящая смерть – повернулась к Натали. Девушка попыталась кием раскрыть окно, но все окна были забраны металлическими решетками. Тогда она изо всех сил закричала, и истерические нотки, прозвучавшие в ее голосе, удивили ее саму и заставили мыслить здраво. Треск пламени и шум на улице заглушили ее вопль. Те, кто метался перед домом, даже не подняли головы. Натали перевернула кий заостренным концом к себе и кинулась к столу. Тварь с косой метнулась вправо, она тоже подалась вправо, поглядывая на лестничную площадку и следя за тем, чтобы между ними оставался стол. Натали поняла, что ни при каких обстоятельствах ей не удастся пробраться к лестнице, ноги у нее подкосились, и она почувствовала, что вот-вот упадет. Она крикнула еще раз, призывая на помощь, и отшвырнула тяжелый кий. Длинноволосое чудовище снова метнулось вправо, позволив Натали чуть приблизиться к площадке. Затем тварь подняла косу, разбив стеклянный колпак лампы, и принялась размахивать ею. Звук падающих капель, словно из неплотно закрытого крана, на секунду привлек его внимание. Из горла того, кто недавно был священником, тонкой струйкой стекала кровь. Свет качающейся лампы отбрасывал на стены немыслимые тени, меняя цвет крови и зеленого сукна от красного к зеленому, от черного к серому… И тут парень с косой подпрыгнул, словно намереваясь перелететь через стол, и Натали закричала что есть силы. Пригнувшись, она увернулась от острия косы и, схватив подвернувшийся кий, вскинула его, как пику, уперев основанием в пол. Упырь с косой налетел на него всем весом и как бы повис над стоявшей на коленях девушкой. Затем он с грохотом рухнул на спину и тут же попытался косой срезать ее ноги, но лезвие лишь скользнуло по доскам пола. Натали вскочила и бросилась к лестнице, когда тень в армейской куртке позади нее уже поднималась на ноги. Она швырнула еще один подвернувшийся под руку кий, по звуку поняла, что попала, и, не оглядываясь, понеслась вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Позади слышались тяжелые шаги. Вылетев в коридор, Натали столкнулась с Карой у дверей кухни, но не остановилась. – Ты куда? – окликнула ее та. – Беги! Кара нерешительно топталась в дверном проеме кухни, пока рукоять косы не ударила ей тупым концом точно между глаз. Красивая девушка упала без единого звука, стукнувшись головой об основание плиты. Натали выбежала через черный ход, скатилась с крыльца на замерзшую землю и успела вскочить прежде, чем дверь распахнулась снова. Она мчалась, рассекая холодный ночной воздух, по заваленному мусором пустырю за общинным домом, ныряла в темные переулки, сворачивала во дворы. Шаги за ее спиной становились все тяжелее и громче. Она слышала позади свистящее дыхание, звон косы о лед, но все бежала и бежала, опустив голову, не разбирая дороги.Глава 27
Джермантаун
Воскресенье, 28 декабря 1980 г.
Тони Хэрод лишь частично понимал, о чем говорили Колбен и Кеплер, когда в воскресенье вечером те везли его обратно в отель «Каштановые холмы». Он сидел, откинувшись на заднем сиденье машины, прижимая к голове пакет со льдом. Сознание его то фокусировалось, то снова расплывалось вместе с приливами боли, которая пульсировала и перетекала из головы в шею. Он плохо понимал, откуда взялся Джозеф Кеплер и что он здесь делал. – Чертовски глупо, если вас интересует мое мнение, – сказал Кеплер. – Да, – отозвался Колбен, – только не рассказывайте мне, что вам это не понравилось. Вы видели выражения лиц пассажиров, когда водитель начал выжимать газ? – Колбен разразился каким-то детским смехом. – Теперь вам придется объясняться за три трупа, пятерых искалеченных и разбитый автобус. – Этим занимается Хейнс, – ответил Колбен. – Волноваться не о чем. Мы прикрыты со всех сторон. – Не думаю, что Баренту это понравится, когда он узнает. – Пошел этот Барент… Хэрод застонал и открыл глаза. Кругом было темно, на улицах – ни души. Каждый раз, когда машина подпрыгивала на выщербленной мостовой или на трамвайных рельсах, егопронзала острая боль в затылке. Он попробовал что-нибудь сказать, но собственный язык показался ему слишком толстым и неповоротливым, чтобы им можно было шевелить. Он снова закрыл глаза. – …Важно удерживать их в безопасной зоне, – говорил Колбен. – А если бы нас здесь не было в качестве запасного варианта? – Но мы ведь здесь. Неужели вы думаете, что я положусь в чем-нибудь основательном на этого идиота на заднем сиденье? Хэрод сидел с закрытыми глазами и гадал, о ком идет речь. – Вы уверены, что тех двоих использует старик? – снова раздался голос Кеплера. – Вилли Борден? – переспросил Колбен. – Нет, зато мы не сомневаемся, что его орудием является еврей. И мы знаем наверняка, что те двое были связаны с евреем. По мнению Барента, он замышляет нечто большее, чем урок, преподанный Траску. – А зачем Бордену понадобился Траск? – Старичок Ниман послал своих «сантехников» в Германию, чтобы покончили с Борденом, – со смешком ответил Колбен. – Посланцы завершили свои дни в полиэтиленовых мешках, а что случилось с Траском, вы знаете. – Но зачем Борден явился сюда? Чтобы разделаться со старухой? – Кто его знает. Эти старые пердуны психованные, как тараканы. – Вам известно, где он находится? – Неужели вы думаете, мы стали бы тут ковыряться, если бы нам было это известно? Барент считает, что эта шлюха Фуллер – наша лучшая приманка, но мне уже осточертело сидеть и ждать у моря погоды. Приходится прикладывать недюжинные усилия, чтобы не подпускать близко местных легавых и представителей власти. – Особенно когда вы используете муниципальные автобусы таким оригинальным способом, – съехидничал Кеплер. – Это точно, – откликнулся Колбен, и оба рассмеялись.* * *
Мария Чэнь застыла в изумлении, когда Колбен и еще один неизвестный ей мужчина втащили в гостиную номера Тони Хэрода. – Твой шеф откусил сегодня слишком большой кусок и не смог проглотить, – заметил Колбен, отпуская руку Хэрода и позволяя тому рухнуть на диван. Тони попробовал подняться, но голова так закружились, что он снова упал на подушки. – Что случилось? – спросила Мария Чэнь. – Некий ревнивый малыш застукал Тони в спальне у дамы, – рассмеялся Колбен. – Врач в штабе операции уже осмотрел его, – сообщил второй, который немного походил на Чарлтона Хестона. – Он считает, что возможно небольшое сотрясение мозга, но не более. – Ну, нам пора! – проревел Колбен. – После того как твой мистер Хэрод провалил свою часть операции, всё в этом поганом городе того и гляди взлетит на воздух. Проследи, чтобы в десять утра он был в главном трейлере. – Колбен погрозил девушке пальцем. – Поняла? Мария Чэнь молча смотрела на него, ни единый мускул не дрогнул на ее лице. Колбен удовлетворенно крякнул, и оба вышли из номера.* * *
Хэрод помнил лишь отдельные фрагменты того вечера: свою безудержную рвоту в маленькой кафельной ванной, нежные руки Марии Чэнь, снимающей с него одежду, прохладное прикосновение простыней к коже. Всю ночь она меняла у него на лбу влажные полотенца. Раз, проснувшись, он обнаружил ее рядом в постели, белое нижнее белье подчеркивало смуглость ее кожи. Он протянул к ней руку, снова ощутил головокружение и закрыл глаза.* * *
Хэрод проснулся в семь утра в состоянии самого страшного похмелья, которое когда-либо переживал. Он ощупал постель и, не найдя Марии Чэнь, со стоном сел, стараясь припомнить, в каком из борделей находится, пока у него в голове не всплыло все происшедшее. – О господи, – снова застонал он. Ему потребовалось около часа, чтобы принять душ и побриться. Он ни на минуту не сомневался, что от любого резкого движения его голова скатится с плеч, и ему совершенно не улыбалось ползать потом в темноте на четвереньках и искать ее. Мария Чэнь вошла в тот момент, когда Хэрод, шаркая ногами, направился в своем оранжевом халате в гостиную. – Доброе утро, – промолвила она. – К черту! – Сегодня прекрасное утро. – Имел я его! – Я принесла завтрак из кофейни. Почему бы нам не съесть что-нибудь? – Почему бы тебе не заткнуться? Мария Чэнь улыбнулась, порылась в сумочке и достала браунинг. – Послушай, Тони, я снова предлагаю тебе позавтракать вместе. Если я услышу от тебя еще одну непристойность или увижу какой-либо намек на мрачную угрюмость, я разряжу всю обойму в этот холодильник. Не думаю, что произведенный грохот будет полезен шаткому состоянию твоего здоровья. – Ты не посмеешь! – Хэрод выпучил глаза. Мария Чэнь сняла предохранитель, прицелилась в холодильник и отвернулась, прикрыв веки. – Стой! – воскликнул Хэрод. – Так ты будешь завтракать со мной? Тони принялся растирать виски обеими руками. – Сочту за счастье, – наконец процедил он.* * *
Мария принесла четыре пластиковые чашки с герметичными крышками, и, когда они покончили с яичницей и ветчиной, каждый из них смог выпить по две порции кофе. – Я бы заплатил десять тысяч долларов, чтобы узнать, кто меня так отделал, – произнес Хэрод. Мария Чэнь протянула ему чековую книжку и ручку, которой он пользовался для подписания контрактов. – Его зовут Бобби Джо Джентри. Он шериф из Чарлстона. Барент считает, что он приехал сюда за девушкой, которая ищет Мелани Фуллер, и все они каким-то образом связаны с Вилли. Хэрод поставил чашку и рукавом халата промокнул пролитый кофе. – Черт побери, откуда ты это знаешь? – Мне сказал Джозеф. – А что за задница этот Джозеф? – Ай-ай-ай. – Мария Чэнь покачала головой и указала пальцем на холодильник. – Кто такой Джозеф? – Джозеф Кеплер. – Кеплер? Я думал, мне приснилось, что он здесь. Какого черта ему тут нужно? – Его послал сюда мистер Барент, – пояснила Мария Чэнь. – Они с мистером Колбеном были вчера у отеля, когда люди Хейнса сообщили по рации, что шериф с девушкой уходят. Мистер Барент не хотел, чтобы они скрылись. А первым начал Использовать автобус мистер Колбен. – Начал использовать что?.. Мария Чэнь пояснила. – Чтоб я сдох, – выругался Хэрод, закрыл глаза и принялся неторопливо массировать голову. – Этот поганый легавый поставил мне такую шишку! Чем он меня ударил? – Кулаком. – Серьезно? – Серьезно, – подтвердила Мария Чэнь. Хэрод открыл глаза: – И ты узнала все от этого бабника и пердуна Кеплера? Ты что, переспала с ним? – Нет, мы с Джозефом вместе сбегали на пробежку сегодня утром. – Он тоже остановился здесь? – Номер тысяча десятый. Рядом с Хейнсом и мистером Колбеном. Хэрод встал, покачнулся и направился в ванную. – Мистер Колбен просил, чтобы ты к десяти был у командного трейлера. Хэрод поднял пистолет и ухмыльнулся: – Пусть засунет это себе в задницу.* * *
Телефонные звонки начались в 10:10. В 10:15 Тони не выдержал и снял трубку. – Хэрод, быстро двигай сюда. – Это ты, Чак? – Да. – Пошел ты куда подальше, Чак.* * *
Вечером телефон зазвонил снова, и Мария Чэнь взяла трубку. Хэрод только что закончил одеваться к обеду. – Думаю, тебе лучше ответить, Тони, – сказала она. Хэрод схватил трубку: – Да, в чем дело? – Полагаю, тебе было бы интересно посмотреть на это, – медленно проговорил Кеплер. – На что? – Шериф, который отделал тебя вчера, вышел из укрытия. – Где? – Подъезжай к командному трейлеру, мы тебе покажем. – А вы можете прислать машину? – Один из агентов у отеля подвезет тебя. – Хорошо, – бросил Хэрод. – Смотрите не дайте этому болвану улизнуть. Мне надо с ним расквитаться. – Тогда лучше поторапливайся, – ответил Кеплер.* * *
К тому времени, когда Хэрод вошел в тесный центр управления, уже совсем стемнело, повалил снег. Кеплер оторвался от одного из экранов и поднял голову: – Добрый вечер, Тони. Добрый вечер, мисс Чэнь. – Где этот чокнутый легавый? – с ходу спросил Хэрод. Джозеф Кеплер указал на монитор с изображением дома Энн Бишоп и пустой улицы. – Минут двадцать назад они прошли пост наблюдения Синей бригады и двинулись дальше по Квин-лейн. – И где он сейчас? – Не знаем. Людям Колбена не удалось проследить. – Не удалось проследить?! – заорал Хэрод. – Боже мой, у Колбена здесь человек сорок агентов… – Почти сотня, – поправил Кеплер. – Сегодня утром Вашингтон прислал подкрепление. – Сотня долбаных агентов не может выследить толстого белого легавого среди черномазых в гетто? Несколько человек с неодобрительным видом оторвались от мониторов. Кеплер жестом указал Хэроду и Марии Чэнь, чтобы они прошли в кабинет Колбена. Когда дверь за ними закрылась, он сказал: – Золотой бригаде было велено следовать за шерифом и черными парнями. Но они не смогли выполнить приказ, поскольку их средство передвижения временно выведено из строя. – Что это означает, черт побери? – Кто-то пропорол шины их грузовика, – пояснил Кеплер. Хэрод рассмеялся: – Почему же они не последовали дальше пешком? Джозеф откинулся на спинку кресла и сложил руки на плоском животе. – Во-первых, потому, что Золотая бригада целиком состоит из белых и они решили, что привлекут к себе слишком много внимания. Во-вторых, им было приказано не покидать грузовик. – Почему? Кеплер едва заметно улыбнулся: – Неблагоприятные районы. Колбен и остальные опасаются, что машина может быть разграблена. Хэрод разразился хохотом, потом, немного успокоившись, спросил: – Кстати, а где малыш Чак? Кеплер кивнул на передатчик, стоявший у северной стены кабинета. Из него доносился фоновый шум и обрывки разговоров. – Он наверху, в вертолете. – Понятно. – Хэрод тоже сложил руки и усмехнулся. – Хотел бы я посмотреть, как выглядит этот шериф. Кеплер включил переговорное устройство и что-то произнес. Через тридцать секунд на экране монитора появился Джентри с компанией. Хотя изображение было окрашено в зеленовато-белые тона, Хэрод различил грузного человека в окружении молодых негров. Внизу экрана мерцали цифры, коды и время записи. – Я с ним еще встречусь, – прошептал Хэрод. – Одна из бригад уже отправилась на поиски пешком, – заметил Кеплер. – И мы почти уверены, что вся компания вернется в общинный дом, где обычно банда и собирается. Внезапно заработало переговорное устройство, и оттуда послышался возбужденный голос Чарльза Колбена: – Красный лидер – Замку. Красный лидер – Замку. У нас пожар на улице возле ОД-один. Повторяю, у нас… нет… два источника возгорания на улице возле ОД-один. – Что такое ОД-один? – спросила Мария Чэнь. – Общинный дом. – Кеплер переключал каналы на мониторе. – Большой старый дом, о котором я только что говорил, там находится штаб банды. Чарльз называет его Осиной Дырой – один. На экране показалось пламя, полыхавшее на расстоянии в полквартала. Камера, вероятно, находилась в машине, припаркованной неподалеку. Было видно, как возле дома толпятся темные фигуры, грозно потрясая оружием. – Прием, Красный лидер. Говорит Зеленая бригада от ОД-один, – раздался незнакомый голос. – Признаков вторжения не наблюдается. – Черт побери! – снова заорал Колбен. – Возьмите Желтых и Серых и окружите район. Багряный, у вас с севера никого не видно? – Нет, Красный лидер. – Замок, вы записываете происходящее? – Да, Красный лидер, – послышался усталый голос агента из контрольного помещения трейлера. – Возьмите фургон СП, которым мы пользовались вчера, и потушите пожар, пока в это дело не вмешались городские власти. – Есть, Красный лидер. – Что такое фургон СП? – поинтересовался Хэрод. – Фургон «скорой помощи». Колбен переправил его из Нью-Йорка. Это одна из причин, почему операция обходится в двести тысяч долларов в день. Хэрод покачал головой: – Сотня федеральных легавых, вертолет, фургон «скорой помощи»… И все ради того, чтобы загнать двух стариков, у которых и зубов-то не осталось. – Может, и не осталось, – отозвался Кеплер, кладя ноги на стол Колбена и устраиваясь поудобнее, – но по крайней мере один из них все еще здорово кусается. Хэрод и Мария Чэнь откинулись на спинки кресел, приготовившись смотреть представление.* * *
Во вторник утром на девять часов Колбен назначил конференцию, которая должна была состояться в пяти тысячах футов над землей. Хэрод не преминул продемонстрировать свое отвращение к этому мероприятию, но в вертолет все же залез. Кеплер и Мария Чэнь, все еще разгоряченные после своей шестимильной пробежки вокруг «Каштановых холмов», обменялись улыбками. Ричард Хейнс устроился в кресле второго пилота, а нейтрал Колбена был абсолютно непроницаем за толстыми стеклами очков. Когда вертолет взмыл вверх, взяв курс на юг к реке и парку Фермонт, Колбен развернулся в своем откидном кресле и обратился к троице, сидевшей сзади: – Нам до сих пор неизвестно, из-за чего вчера разгорелась драка и почему они начали стрелять друг в друга. Возможно, каким-то образом в этом замешаны Вилли и эта старая шлюха. Но решать – дело Барента. Пока нам дан зеленый свет. Операция продолжается. – Отлично, – ухмыльнулся Хэрод. – Что до меня, то я сваливаю отсюда сегодня вечером. – Исключено, – сказал Колбен. – У нас осталось сорок восемь часов, чтобы отыскать твоего друга Вилли. А затем мы переключимся на эту суку Фуллер. – Вы даже не знаете, здесь ли Вилли, – заметил Хэрод. – Лично я продолжаю считать, что он мертв. Колбен покачал головой и погрозил Хэроду пальцем: – Ты так не считаешь. Тебе известно не хуже, чем нам, что этот сукин сын где-то здесь и что он что-то затевает. Мы не уверены, работает Фуллер с ним или нет, но к утру четверга это уже не будет иметь никакого значения. – А к чему ждать так долго? – осведомился Кеплер. – Хэрод здесь. Ваши люди на месте. Колбен пожал плечами: – Барент хочет использовать еврея. Если Вилли заглотнет наживку, мы тут же начнем действовать. Если нет – ликвидируем еврея, прикончим старуху и тогда поглядим, что из этого получится. – Какого еще еврея? – спросил Тони Хэрод. – Одна из старых пешек твоего дружка Вилли, – ответил Колбен. – Барент провел с ним соответствующую обработку, а теперь хочет натравить его на этого фрица. – Хватит называть его моим дружком! – рявкнул Хэрод. – Конечно-конечно, – откликнулся Колбен. – Твой шеф. Так тебя больше устроит? – Эй вы, заткнитесь оба! – попросил Кеплер. – Объясни Тони план действий. Колбен наклонился и что-то сказал пилоту. Вертолет завис на высоте пять тысяч футов над серо-коричневым геометрическим рисунком Джермантауна. – В четверг утром мы заблокируем весь город, – произнес Колбен. – Чтобы ни одна душа не вошла и не вышла. Более точно определим местонахождение Фуллер. Ночи она обычно проводит в этой Ропщущей Обители на Джермантаун-стрит. Хейнс возглавит тактическую бригаду и возьмет дом штурмом. Агенты позаботятся о Бишоп и о парне, которого она Использует. Так что остается одна Мелани Фуллер. Она полностью в твоем распоряжении, Тони. Хэрод сложил на груди руки и посмотрел вниз на пустые улицы: – И что? – Ты ликвидируешь ее. – Всего-то? – Да, всего-то. Барент говорит, что ты можешь Использовать кого угодно. Но ею придется заняться тебе. – Почему мне? – Твой вклад, Тони. – Мне казалось, вы захотите ее допросить. – Мы обдумаем эту возможность, – заметил Кеплер, – но мистер Барент считает, что гораздо важнее ее нейтрализовать. Наша главная цель – выманить из укрытия старика. Хэрод погрыз ноготь и снова взглянул вниз на крыши домов. – А что, если мне не удастся… ликвидировать ее? Колбен улыбнулся: – Тогда мы ее заберем, а в Клубе по-прежнему останется вакантное место. Это не разобьет никому сердца, Тони. – Но пока мы еще можем испытать еврея, – добавил Кеплер. – Мы не знаем, к чему это приведет. – Когда приземлится эта штука? – спросил Хэрод. Колбен посмотрел на часы: – Операция уже началась. – Он сделал знак пилоту, чтобы тот опустился пониже. – Хотите взглянуть?Глава 28 Мелани
Уик-энд прошел тихо. В воскресенье Энн приготовила для нас очень вкусный обед. Фаршированные свиные отбивные удались на славу, но овощи она немного перетушила. Пока мы с Энн пили чай из ее лучших фарфоровых чашек, Винсент убрал со стола. Я вспомнила о своем веджвуде, который пылится в Чарлстоне, и меня захлестнула ностальгия по дому. В тот вечер я слишком устала, чтобы отправлять куда-нибудь Винсента, хотя меня и мучило любопытство насчет той фотографии. Но нет дел, которые не могли бы подождать. Гораздо важнее были голоса в детской. С каждым днем они становились все отчетливее, уже почти достигнув той границы, когда можно различить слова. Накануне вечером, искупав Винсента перед тем, как лечь спать, я смогла выделить в общем шепоте голоса детей. По меньшей мере их было трое – мальчик и две девочки. Я не видела ничего удивительного в том, что в детской старинного дома звучали детские голоса. Поздно вечером в воскресенье, уже после девяти, Энн и Винсент вернулись вместе со мной в Ропщущую Обитель. Где-то поблизости завывали сирены. Проверив запоры на дверях и окнах, я оставила Энн в гостиной, а Винсента на кухне и поднялась наверх. Было очень холодно. Забравшись под одеяла, я стала смотреть на мерцающие во тьме спирали нагревателя. Свет отражался в глазах мальчика-манекена и окрашивал в оранжевый цвет пучки его волос. Голоса были слышны очень отчетливо.* * *
В понедельник я отправила Винсента на поиски. Мне не хотелось отправлять его днем – тот квартал был слишком неблагоприятным, но нужно было все-таки разузнать хоть что-то о фотографии. Винсент взял с собой нож и револьвер, позаимствованный мною у таксиста из Атланты. Он несколько часов просидел на корточках в задней части брошенной машины, наблюдая за проходящими мимо цветными подростками. Один раз в боковое стекло сунулся заросший щетиной бездомный, но Винсент открыл рот и зашипел на него. Тот сразу же исчез. Наконец Винсент заметил знакомое лицо. Это был тот самый третий мальчик, который сбежал субботней ночью. Он шел с коренастым подростком и еще с одним парнем, постарше. Винсент пропустил их вперед на один квартал и тронулся следом. Они миновали дом Энн и двинулись дальше на юг, где линия пригородных поездов образовывала искусственный каньон. Мальчишки достигли перекрестка и вошли в заброшенный дом. Строение являло собой странную пародию на особняк довоенной постройки – четыре непропорциональные колонны поддерживали плоский навес, переплеты узких высоких окон сгнили, а остатки металлической ограды были завалены ржавыми консервными банками и тонули в зарослях замерзшей травы. Окна на первом этаже были заколочены досками, дверь заперта, но подростки подошли к подвальному окошку с погнутыми прутьями и выбитой рамой и проскользнули внутрь. Винсент быстро миновал четыре квартала и вернулся к дому Бишоп. Я заставила его взять большую перьевую подушку с кровати Энн, затолкать ее в огромный рюкзак и бегом вернуться обратно. День был серым и сумрачным, то и дело из низких туч начинал идти снег. В сыром воздухе пахло выхлопными газами и сигарным дымом. Машин было мало. Когда Винсент начал просовывать в окошко рюкзак, мимо прогрохотал поезд. Цветные подростки устроились на третьем этаже, они сидели на корточках тесным кружком среди обвалившейся штукатурки и покрытых льдом луж. Сквозь разбитые окна и дырявый потолок кое-где виднелось серое небо. Все стены были исписаны. Мальчишки словно молились белому порошку, который пузырился у них в ложках. Обнаженная левая рука у каждого была перетянута резиновым жгутом. На грязных тряпках перед ними лежали шприцы. Я посмотрела на все это глазами Винсента и поняла, что здесь воистину совершается священнодействие – величайшее священнодействие в современной церкви Отчаяния городских негров. Двое парней подняли головы и увидели Винсента как раз в тот момент, когда он вышел из укрытия, держа перед собой подушку как щит. Младший – тот самый, которому мы позволили убежать в субботу ночью, – начал что-то кричать, и Винсент выстрелил ему прямо в открытый рот. Перья разлетелись как снег, потянуло запахом обгоревшей наволочки. Парень постарше развернулся и попробовал отползти на коленях. Винсент выстрелил еще два раза – первая пуля попала негру в живот, вторая пролетела мимо. Парень заметался, схватившись за живот и извиваясь, как какое-то морское существо, выброшенное на негостеприимный берег. Винсент крепко прижал подушку к перепуганному лицу негра и, вдавив в нее револьвер, выстрелил еще раз. Парень дернулся, и всякое движение прекратилось. Подняв револьвер, Винсент повернулся к третьему, самому грузному. Тот продолжал стоять на коленях со шприцем в руке и с невероятно расширенными глазами. Его толстое черное лицо выражало чуть ли не религиозный трепет и благоговение. Винсент опустил револьвер в карман куртки и раскрыл свой длинный нож. Парень повернулся очень медленно, каждое движение казалось настолько подчеркнутым, будто он находился под водой. Винсент ударил его ногой по голове и, когда тот повалился назад, встал коленом ему на грудь. Шприц выпал из руки и покатился по грязному полу. Винсент вонзил острие ножа в горло негра, чуть правее кадыка. Тут-то я и столкнулась со сложностями. Бо́льшую часть своих сил мне пришлось бросить на то, чтобы сдерживать Винсента. Этот мальчик нужен был мне живым, чтобы узнать у него, каким образом фотография оказалась в Филадельфии, откуда взялась у этой цветной банды и что они с ней делали. Но Винсент не мог задавать вопросов. У меня мелькнула мысль непосредственно Использовать мальчика, однако это не так просто, если ты никогда не видел человека. Мне несколько раз удалось проделать это с уже обработанной пешкой для установления контакта – одновременно и Использовать, и допрашивать. Во-первых, в этот момент поверхностные мысли объекта ощущаются отчетливо, но дальнейшее подавление воли, необходимое для Использования, подчас вовсе уничтожает процессы рационального мышления. Все тонкости сознания этого толстяка оказались бы мне доступными не более, чем ему – мои. Во-вторых, если бы я полностью переключила внимание на этого негра и заставила его, предположим, вернуться в дом Энн, возможно, мне тогда не удалось бы удержать Винсента от его собственных порывов и он бы просто перерезал мальчишке горло. В конце концов я заставила Винсента держать негра, пока к ним не подоспеет посланная мною Энн. Мне не очень хотелось оставаться одной, даже в Ропщущей Обители, но у меня не было выбора. Я не могла тащить парня ни сюда, ни к Энн, чтобы их с Винсентом никто не увидел. Энн доехала до здания на своей машине, припарковала ее чуть дальше и закрыла дверцу на ключ. Ей было трудно пролезть сквозь подвальное окошко, поэтому я заставила Винсента стащить толстяка вниз и сломать замок на боковой двери. В комнате первого этажа было абсолютно темно. Энн приступила к допросу: – Откуда взялась фотография? Глаза у парня расширились еще больше, и он облизнулся. – Какая фотография? Винсент изо всей силы ударил его в низ живота. У негра перехватило дыхание, и он согнулся пополам. Винсент поднес нож к его окровавленному горлу. – Фотография пожилой женщины. Она была у одного из ваших, из тех, что умерли в субботу, – сквозь зубы пояснила Энн. Учитывая проведенную обработку, мне несложно было управлять ею и в то же время сдерживать Винсента. – Вы говорите о мадам Вуду? – переведя дыхание, спросил парень. – Но ведь вы – не она. Энн повторила мою улыбку: – Кто такая мадам Вуду? Мальчишка попытался сглотнуть. Вид у него был смехотворный. – Это женщина, которая заставляет белого ублюд… белого парня делать то, что он делает. Так сказала та малютка. – Какая малютка? – Ну, которая еще говорит так странно. – Что значит «странно»? – Ну, знаете… – Он часто задышал, словно после пробежки. – Как и ее толстая белая свинья. Будто они откуда-то с юга. – Это она дала вам фотографию? Или тот… полный полицейский? – Она. Позавчера. Она ищет мадам Вуду. Марвин, как увидел фото, сразу вспомнил. Теперь мы все ее ищем. – Женщину на фотографии? Мадам… Вуду? – Ага. – Мальчишка попытался отползти в сторону, и Винсенту пришлось ударить его в висок ребром ладони, а потом, подняв за ворот разорванной рубахи, пару раз стукнуть о стену. Затем он поднес острие ножа к глазу негра. – Скоро мы еще с тобой побеседуем, – тихо промолвила Энн. – И ты расскажешь мне то, что я захочу узнать. Парень, которого звали Луис, выполнил все, как ему было велено.* * *
Перед тем как Использовать его, я отослала Винсента прочь. Это было несложно. Я не могла воспроизвести расхлябанную, с преувеличенно резкими движениями походку юнца, но в этом и не было особой необходимости. Гораздо большего внимания требовала его манера речи – тональность, словарный запас, синтаксис. В течение часа я заставила его разговаривать с Энн, прежде чем перешла к непосредственному Использованию. Я даже не встретила сколько-нибудь серьезного сопротивления. Сначала мне с трудом давались его голосовой тембр и построение фраз, но затем я расслабилась и отчасти позволила проявиться его подсознательным диалектизмам, после чего мне удалось говорить его устами во вполне правдоподобной манере. Энн отвезла обоих парней к Ропщущей Обители и высадила из машины на углу. Винсент на некоторое время исчез, после чего вернулся с патронами для револьвера и вошел в дом через подземный ход. Луиса я отправила в общинный дом, а Энн отвела машину в свой гараж на Квин-лейн. Моя уловка удалась. Пару раз я ощущала, что мой контроль над Луисом слабеет, но я умело скрыла это, заставляя негра изображать муки боли. Марвина, главаря, я узнала сразу. Это его синие глаза безжалостно взирали на меня, когда в канун Рождества я лежала в собачьих фекалиях. Мне еще предстояло свести с ним счеты. В разгар обсуждения, когда я уже начала ощущать себя уверенно, чернокожая девица, стоявшая поодаль, вдруг спросила: «Вы узнали ее по моей фотографии?» Я снова едва не утратила контроль над Луисом. Ее манера речи совсем не походила на тот отвратительный плоский северный говор. Она напомнила мне о доме. Рядом с ней, закутавшись в дурацкое одеяло, стоял белый мужчина, чье лицо показалось мне странно знакомым. Мне потребовалась целая минута, чтобы сообразить: он тоже из Чарлстона. Я вспомнила, что видела его фотографию в одной из газет миссис Ходжес много лет назад… Кажется, там было что-то про выборы. «…Уж слишком все просто, – недоверчиво говорил Марвин. – А что свиньи?» Он имел в виду полицию. Из разговора с Луисом я поняла, что окрестности наводнены полицейскими в штатском. Мне не удалось узнать от него о причине их появления, но я предположила, что ликвидация пятерых человек, даже столь бесполезных, как эти хулиганы, должна была вызвать какую-то реакцию со стороны властей. И когда Марвин вульгарно упомянул «свиней», у меня все связалось. Этот краснолицый толстяк был полицейским из Чарлстона – шерифом, если я не ошибалась. Несколько лет назад я даже читала о нем статью. «Послушай, Марвин, – заставила я произнести Луиса. – Сетч сказал, чтобы я привел тебя. Ты хочешь на них посмотреть или нет?»* * *
И хотя присутствие двух людей из Чарлстона и многочисленных представителей власти в штатском посеяло во мне чувство глубокой тревоги, поднявшуюся волну беспокойства приглушило нарастающее возбуждение, переходящее едва ли не в подлинный экстаз. Меня действительно захватило. С каждым часом подобной игры я становилась все моложе. Нельзя было терять ни минуты. Как только Луис вывел Марвина, шерифа, имя которого я не могла вспомнить, и еще шестерых членов банды из дома, Винсент подложил бутылки с зажигательной смесью в два брошенных автомобиля. Я не покидала Винсента, пока он обегал дом, ликвидировал негра, остававшегося сторожить черный вход, и поднимался наверх со своей неуклюжей косой. Я надеялась, что чернокожая девица отправится вместе с Луисом и остальными. Это было бы очень удобно, но я давно уже научилась воспринимать реальность такой, какова она есть, и не ждать от нее подарков. Однако девица мне нужна была живой. На втором этаже общинного дома произошла небольшая возня. И как раз тогда, когда в моем внимании нуждался Луис, мне пришлось сдерживать Винсента от излишней грубости. Из-за этой краткой заминки девице удалось сбежать на улицу. Я отправила Винсента догонять ее, а сама вернулась к Луису, который, покачиваясь, стоял на бордюре у многоквартирного дома. – В чем дело? – осведомился главарь по имени Марвин. – Ничего, – заставила я ответить Луиса. – Просто горло болит. – Ты уверен, что они там? – спросил парень, которого звали Лероем. – Я ничего не слышу. – Они в задней части дома, – сказал Луис. Рядом с ним в свете единственного фонаря стоял белый шериф. Насколько я могла судить, он был безоружен, если не считать камеры, очень похожей на ту, что при каждой возможности таскал с собой мистер Ходжес. В бетонном каньоне прогрохотали две невидимые встречные электрички. – Боковая дверь открыта, – произнес Луис. – Пошли, я покажу. Куртку он расстегнул чуть раньше. Под свитером и грубошерстной рубахой я отчетливо ощущала холодок револьвера. Винсент уже перезарядил его в темном проулке. – Нет, – сказал Марвин, явно колеблясь. – Пойдут Лерой, Джексон, я и он. – Его палец указал на шерифа. – А ты, Луис, останешься здесь с Кальвином, Форелью и братьями Г. Р. и Г. Б. Я заставила Луиса пожать плечами. Прежде чем последовать за Марвином и двумя другими парнями, шериф наградил его долгим взглядом. – Они на третьем этаже! – крикнул Луис им вслед. – В самой глубине! Четверка исчезла за углом в снежном мраке. Времени у меня было мало. Часть моего сознания пребывала в атмосфере теплого мерцания нагревателя, отражавшегося в глазах манекена в детской, часть бежала с Винсентом по темным переулкам, вслушиваясь в затрудненное дыхание выбивающейся из сил жертвы, а часть оставалась с Луисом. Тот, которого звали Кальвин, переступил с ноги на ногу и поежился. – Черт, холодно. У тебя ничего нет покурить? – обратился он к Луису. – Есть, – ответил тот. – И кое-что недурное. – Он запустил руку под рубашку, вытащил револьвер и выстрелил Кальвину в живот с расстояния двух футов. – Вот тебе. Близнецам хватило одного взгляда, и они бросились со всех ног в сторону Квин-лейн. Двадцатилетний парень по прозвищу Форель вытащил из-под куртки длинноствольный спортивный пистолет. Луис развернулся, прицелился и выстрелил тому в левый глаз. Приглушить звук выстрела было нечем. Кальвин с озверевшим лицом стоял на коленях, обеими руками держась за живот, и, когда Луис проходил мимо, вцепился ему в ногу: – Тварь, сука, ты что это?.. С той стороны, куда убежали близнецы, послышались три резких глухих звука, и что-то впилось Луису в левое предплечье. Я заблокировала боль для нас обоих и ощутила в этом месте немоту. Луис поднял револьвер и разрядил его в том направлении, откуда раздались выстрелы. Кто-то закричал, и прогремел еще один выстрел. У Луиса кончились патроны. Я заставила его отбросить револьвер, разорвать куртку Кальвина и вытащить новое оружие. Пока он пытался вытащить пистолет из зажатого кулака Форели, со стороны Квин-лейн послышались еще три выстрела, и что-то с глухим звуком врезалось в Кальвина. Как ни странно, он все еще продолжал держать Луиса за ногу. – О черт, зачем? – тихо повторял он. Луис отшвырнул его в сторону, положил спортивный пистолет в карман куртки и, сжав в руке обрез, побежал ко входу в здание. Выстрелы со стороны Квин-лейн прекратились. Винсент загнал девицу в брошенный дом неподалеку от Джермантаун-стрит. Он стоял в дверях и прислушивался к тому, как она мечется среди обуглившихся бревен в глубине дома. Окна были заколочены досками. Другого выхода, кроме этой единственной двери, не существовало. Мне пришлось приложить огромное усилие, чтобы заставить Винсента просто устроиться на корточках в темноте и ждать. Он сидел, прислушиваясь и жадно втягивая воздух, источавший сладкий аромат женского адреналина. Луис быстро вошел в боковую дверь здания, стараясь, чтобы его силуэт не был виден в проеме. Четверка, находившаяся внутри, вероятно, слышала звуки выстрелов, а может, уже нашла трупы на третьем этаже. Луис осторожно заглянул в первую комнату – там было пусто. Что-то метнулось по коридору в направлении главной лестницы, Луис выстрелил, и от отдачи его правая рука взлетела вверх. Он упер обрез укороченным прикладом себе в бедро, чтобы загнать в ствол еще один патрон, потом присел на корточки и принялся вглядываться в темноту. На мгновение оба парня, Винсент и Луис, наложились у меня друг на друга – они сидели почти в одинаковых позах, примерно в миле один от другого, и вслушивались, пытаясь уловить малейшее движение. Затем все озарилось ярким всполохом, раздался оглушительный грохот, штукатурка посыпалась на голову Луиса, и мы с Винсентом рефлекторно дернулись, несмотря на то что я тут же заставила Луиса встать и броситься по направлению к вспышке. Он выстрелил, остановился, чтобы перезарядить обрез, и снова бросился бежать. На заваленной мусором лестнице раздались звуки шагов. Кто-то кричал на втором этаже. Пока я обдумывала положение, Луис спрятался у подножия лестницы. Он уже начинал сильно сдавать. Пуля в левом предплечье в значительной мере ослабила его рефлексы. Я бы с радостью Использовала кого-нибудь другого из находившихся в здании, но это было бы уже слишком. Я и так держала начеку Энн на первом этаже Ропщущей Обители, следила за Винсентом в заброшенном доме и продолжала заставлять Луиса действовать. Мне страшно хотелось добраться до синеглазого негра. А еще мне хотелось как следует рассмотреть шерифа, но для этого надо было переместиться к нему поближе. Если удастся порасспросить его кое о чем, возможно, и ему найдется применение. С ближайшей площадки раздался выстрел, и пуля расщепила перила. Луис пригнулся еще ниже. Их было четверо: Марвин, который в общинном доме зарядил тяжелый револьвер и лишь рассмеялся в ответ на просьбу шерифа отдать его; бородатый Лерой с обрезом, очень напоминавшим тот, что был сейчас в руке у Луиса; шериф, казавшийся безоружным, и чернокожий Джексон, постарше, с синим рюкзаком. К тому же в любой момент могли вернуться близнецы Г. Б. и Г. Р. со своими дешевыми пистолетиками. Луис бросился вверх по лестнице, споткнулся, перескочил через ступеньку и рухнул на площадке второго этажа. Снова раздался выстрел из обреза, на этот раз произведенный с расстояния в пятнадцать футов. Пуля обожгла висок и щеку Луису. Я заблокировала боль, но заставила его рукой прикоснуться к обожженному месту. Левого уха не было. Луис вытянул руку и выстрелил в направлении световой вспышки. – Черт побери! – раздался голос, по-моему, Лероя. Следующий выстрел прогремел с противоположной стороны, и пуля, пройдя навылет через икру Луиса, врезалась в металлическое переплетение перил. Я заставила его кинуться по направлению к новой вспышке, на ходу перезаряжая обрез. Впереди по темному коридору кто-то бежал, потом поскользнулся и упал. Луис остановился, отыскал взглядом более светлый контур на темном фоне и поднял обрез. Как раз когда он нажимал на курок, тело перекатилось к черному дверному проему. Вспышка выхватила скрывающегося из виду Марвина и брызги щепок от дверного косяка. Луис перезарядил обрез, вытянул руку из-за угла и выстрелил. Безрезультатно. Он вогнал в ствол еще один патрон и снова выстрелил. Опять никакого результата. Я заставила его отбросить бесполезное оружие, когда раздался выстрел и что-то сильно ударило Луиса в левую ключицу, отшвырнув назад. Он врезался в стену и съехал по ней на пол, одновременно вытаскивая спортивный пистолет. Следующая пуля попала в стену фута на три выше головы Луиса. Я помогла ему прицелиться как можно тщательнее именно в ту точку, откуда только что стреляли. Пистолет не сработал. Луис нащупал предохранитель, затем дважды выстрелил в угол. Перекатившись влево через омертвевшую руку, он попытался встать и налетел на кого-то. По росту и общему облику фигуры я догадалась, что это был шериф. Я заставила мальчишку поднять пистолет, пока ствол не уперся противнику в грудь. Яркая вспышка ослепила нас. Луис отпрыгнул, и перед моими глазами застыло изображение шерифа, наводящего сбоку фотокамеру. Затем еще и еще раз свет ослепил Луиса. Пытаясь справиться с временной слепотой, он развернулся лицом к реальной угрозе – вытянутому револьверу, но было слишком поздно. Пока мы, моргая, старались что-либо различить сквозь синеватую пелену, главарь банды, держа обеими руками тяжелый револьвер, выстрелил в Луиса. Я ощутила не боль, а лишь толчок, когда первая пуля впилась ему в нижнюю часть живота, а вторая врезалась в грудь, расщепляя ребра. Я бы могла еще Использовать мальчишку, если бы третья пуля не попала ему в лицо. Контакт мгновенно прервался. Сколько бы раз я ни переживала гибель своих пешек, меня продолжает это волновать, напоминая обрыв связи во время оживленного телефонного разговора. На мгновение я расслабилась, ощущая лишь шипение обогревателя, вглядываясь в изъеденное временем лицо куклы-манекена и прислушиваясь к ставшим уже отчетливыми голосам. «Мелани, – шептали стены детской. – Мелани, тебе грозит опасность. Поверь нам». Даже возвращаясь к Винсенту, я продолжала слушать эти голоса. Из глубины пропахшего гарью дома не доносилось никаких звуков. Но девице некуда было деться. Худое тело Винсента распрямилось, и он бесшумно и уверенно двинулся в темноту, держа наперевес свою смертоносную косу.Глава 29
Джермантаун
Понедельник, 29 декабря 1980 г.
Соломоном Ласки они занялись в понедельник днем. В течение двадцати минут он находился без сознания, а потом еще целый час ощущал головокружение. Когда он начал воспринимать окружающее пространство – все ту же крохотную камеру, в которой находился с воскресного утра, – первое, что он сделал, это стащил с левой руки повязку и принялся рассматривать разрез. Он находился с тыльной стороны, на три дюйма выше вытатуированного лагерного номера. Операция была проведена профессионально, швы наложены аккуратно. Несмотря на припухшую и воспаленную кожу, Сол отчетливо различал бугорок, которого раньше не было. В большую мышцу руки было вживлено что-то размером с двадцатипятицентовую монету. Он снова перевязал руку и лег, чтобы все обдумать. Времени на размышления у него было много. Сол удивился, когда в воскресенье его не освободили и не стали использовать. Он не сомневался, что в Филадельфию его доставили не случайно. Вертолет приземлился в отдаленной части огромного аэропорта, Солу завязали глаза и пересадили в лимузин. Судя по частым остановкам и приглушенным уличным звукам, он догадался, что автомобиль едет через оживленную часть города. Потом под колесами раздался гул металлического покрытия моста. Перед тем как окончательно остановиться, машина в течение нескольких минут подпрыгивала и тряслась по бездорожью. Если бы не отдаленный городской вой сирен и звуки пригородных электричек, можно было бы подумать, что они уже выехали в сельскую местность. Но это оказался всего лишь грязный, захламленный пустырь в центре города. Заброшенная стоянка? Место будущего строительства? Парковая зона? Сол сделал три шага, после чего его втолкнули в дверь, затем провели направо по узкому коридору и еще раз направо. Дважды он натыкался на стены и по гулкости звуков и еще каким-то неуловимым ощущениям определил, что находится в трейлере или передвижном доме. Камера оказалась менее просторной и внушительной, чем в Вашингтоне. В ней также находилась койка, уборная и маленькая вентиляционная решетка, сквозь которую доносились приглушенные голоса и смех. Сол мечтал о возможности почитать. Странно, как человеческий организм приспосабливается к любым условиям, но не может прожить и нескольких дней без книг. Он вспомнил, как в гетто в Лодзи его отец взял на себя труд составить список доступных книг и организовал нечто вроде библиотеки. Зачастую люди, которых отправляли в лагеря, забирали книги с собой, и отец со вздохом вычеркивал из списка очередное название, но чаще усталые мужчины и женщины с грустными глазами почтительно возвращали их, иногда даже не вынимая закладок. И тогда отец говорил им: «Дочитаете, когда вернетесь», и люди согласно кивали ему. Раза два или три заходил Колбен, чтобы провести поверхностный допрос, но Сол чувствовал, что тот не испытывает к нему никакого интереса. Как и он сам, Колбен чего-то ждал. Все в этом трейлере чего-то ждали. Он понимал это. Только вот чего именно? Свободное время Сол тратил на размышления об оберсте, Мелани Фуллер, Колбене, Баренте и других, еще неизвестных ему лицах. Много лет он находился в плену глобального и рокового заблуждения, полагая, что стоит лишь понять психологическую основу этого порока, и он сможет излечить его. Охотясь за оберстом, движимый не только личными туманными соображениями, но подгоняемый столь жадной научной любознательностью, которая заставляет бактериолога в центре инфекционного контроля выслеживать и выделять еще неизвестный, смертельно опасный вирус, Сол невольно сам заражался этим вирусом. Найти, понять, излечить… Но для этой чумной бациллы не существовало антител. Уже много лет Ласки был знаком с исследованиями и теориями Лоренса Колберга, который посвятил свою жизнь изучению стадий этического и морального развития. Для психиатра, прошедшего терапию концлагерей, размышления Колберга порой казались упрощенными до наивности, но сейчас, лежа в своей камере и прислушиваясь к шуршанию лопастей вентилятора, Сол понял, насколько уместной в его ситуации являлась теория Колберга. Ученый установил семь стадий морального развития, соответствующих разным культурам, эпохам и странам. Первая стадия характеризовалась младенческим уровнем сознания –отсутствие представлений о добре и зле, все поступки регулируются исключительно инстинктами и потребностями, их реализация подавляется лишь отрицательными стимулами. Этические суждения основаны исключительно на классической модели: боль – удовольствие. На второй стадии люди начинают различать добро и зло, руководствуясь авторитетом власти. Большим людям, мол, виднее. Представители третьей стадии жестко зависят от законов и правил. «Я следовал указаниям». Этика представителей четвертой стадии целиком определялась мнением большинства, «стадным чувством». На пятой стадии человек посвящает свою жизнь созданию и защите законов, которые в самом широком смысле служат идее общего блага, но в то же время не ущемляют права тех, чьи взгляды для этой стадии неприемлемы. Эти люди становятся прекрасными адвокатами. Сол был знаком с носителями подобных представлений в Нью-Йорке. Люди шестого уровня способны были подняться над узкоправовым сознанием пятого уровня и сосредоточить свое внимание на более высокой идее блага и этических принципах, не зависящих от национальных, культурных или общественных границ. Седьмая стадия руководствуется исключительно общечеловеческими моральными принципами. Подобные индивиды – редкое явление на Земле: Иисус Христос, Гаутама, наконец Махатма Ганди… Колберг не был идеологом – Сол встречался с ним несколько раз и получал искреннее удовольствие от его чувства юмора. Самому исследователю нравилось указывать на парадоксы, порождаемые его собственной иерархией морального развития. На одной из вечеринок, которая устраивалась в колледже Хантер, Колберг сказал, что Америка является нацией пятой стадии: основана она самым невероятным союзом представителей шестого уровня, какой только можно вообразить, а населена в основном людьми третьего и четвертого уровня. Колберг утверждал, что в принятии ежедневных решений человек зачастую руководствуется соображениями более низкого уровня морального развития, но никогда не может подняться выше. Вследствие чего, печально констатировал он, происходит неизбежное нивелирование всех идей и теорий представителей высшей, седьмой стадии. Христос передает свое наследие Петру и Павлу, находящимся на третьем уровне, Будду представляют поколения священнослужителей, неспособных подняться выше шестого уровня. И лишь над своими последними исследованиями Колберг никогда не подшучивал. Сначала с изумлением и сомнениями, которые затем перешли в шок и пассивное приятие, он обнаружил, что существует еще и нулевая стадия. У людей, характеризующихся зародышевой стадией сознания, вообще нет никаких моральных обязательств. Даже стимул боль – удовольствие не является устойчивым руководством для такого человека, если к ним вообще применимо понятие «человек». Представитель нулевого уровня мог без причины напасть на прохожего на улице, убить его из прихоти и отправиться дальше по своим делам без малейшего намека на чувство вины или раскаяние. Эти люди, конечно, не хотели быть пойманными и наказанными, но они не основывали свои действия на стремлении избежать наказания. Дело заключалось и не в том, что удовольствие от совершения преступления перевешивало у них страх наказания. Представители нулевого уровня просто не отличали преступления от других ежедневных поступков – они были морально слепы. Сотни исследователей бросились проверять гипотезу Колберга, но данные оказывались неопровержимыми, а выводы более чем убедительными. В каждый отдельно взятый момент в любой культуре, в любой нации оказывались один-два процента особей с нулевым уровнем морального развития.* * *
В понедельник днем к Солу пришли. Колбен и Хейнс держали его за руки, пока третий делал укол. Через три минуты Сол потерял сознание. Проснулся он с тяжелой головой и болью в левой руке – в его тело явно что-то вживили. Он осмотрел рану, пожал плечами и снова лег.* * *
Освободили его в четверг. Пока Колбен произносил речь, Хейнс завязывал ему глаза. – Мы собираемся отпустить вас. Вам запрещается удаляться более чем на шесть кварталов в любом направлении от того места, где вас высадят. Вам запрещается звонить по телефону. Позднее с вами свяжутся и сообщат, что делать дальше. Вы не должны ни к кому обращаться первым. Если вы нарушите хотя бы одно из этих правил, вашему племяннику Арону, его жене Деборе и детям не поздоровится. Вы хорошо поняли? – Да. Ласки отвели к лимузину. Поездка заняла не более пяти минут. Колбен снял с его глаз повязку и вытолкнул из открытой дверцы на улицу. Сол остался стоять на тротуаре, глупо моргая в сумрачном предвечернем свете. Он опомнился слишком поздно, чтобы рассмотреть номер отъезжавшей машины. Сделав шаг назад, Сол наткнулся на негритянку с продуктовой сумкой и извинился, но со своей глупой улыбкой так ничего и не смог поделать. Он двинулся по узкому тротуару, вбирая в себя все подробности мощенной кирпичом улицы: обшарпанные магазины, низкие серые тучи, обрывок бумаги, трепещущей на медно-зеленом уличном фонаре. Ласки шел быстрым шагом, не обращая внимания на саднящую боль в левой руке, пересекал улицу на красный свет, глупо махал рукой чертыхающимся водителям и чувствовал лишь одно: он свободен. Сол понимал, что это всего лишь иллюзия. Вероятно, кто-то из обычных прохожих наблюдал за ним. Он не сомневался, что в проезжавших машинах и фургонах сидят неулыбчивые мужчины в темных костюмах, нашептывая свои сведения в радиопередатчики. Деталь, вживленная ему в руку, тоже, по-видимому, содержала радиопередатчик или взрывное устройство или и то и другое. Хотя это уже не имело никакого значения. Поскольку в карманах у Сола было пусто, он подошел к первому встречному – огромному чернокожему мужчине в поношенном красном макинтоше – и попросил у него двадцать пять центов. Тот уставился на странное бородатое явление, поднял здоровенную руку, словно намереваясь стереть его в порошок, потом покачал головой и достал пятидолларовую купюру. – Глядишь, поможет, братишка, – пророкотал он. Сол вошел в угловое кафе, разменял банкноту и набрал номер израильского посольства в Вашингтоне. Его отказались соединить с Ароном Эшколем или Леви Коулом. Тогда он назвал свое имя. У секретарши не то чтобы явственно перехватило дыхание, но голос заметно изменился. – Да, доктор Ласки. Если вы можете подождать минуту, я уверена, с вами поговорит мистер Коэн. – Я звоню из телефона-автомата в Филадельфии, штат Пенсильвания, – ответил Сол и назвал свой номер. – У меня мало монет, не могли бы вы мне перезвонить? – Конечно, – заверила секретарша. Через некоторое время раздался звонок, но, едва Сол поднял трубку, связь прервалась. Он перешел к другому аппарату, чтобы самому связаться с посольством, но после первого же гудка в аппарате раздался статический шум. Сол вышел из кафе и бесцельно побрел по улице. Модди и его семья убиты – он чувствовал это сердцем. Теперь его уже ничем не запугать. Он остановился и огляделся, пытаясь распознать агентов, следующих за ним. Белых было немного, но это ничего не значило – в ФБР работали и цветные. С противоположного тротуара на проезжую часть вышел красивый негр в дорогом верблюжьем пальто и двинулся навстречу Солу. У него были крупные волевые черты лица, широкая улыбка, глаза скрывали зеркальные стекла очков. В руках он держал дорогой кожаный портфель. Приблизившись к Солу, мужчина остановился, улыбнулся ему, как старому знакомому, и, сняв кожаную перчатку, протянул руку. Сол пожал ее. – Добро пожаловать, моя маленькая пешка, – произнес негр на безупречном польском языке. – Пора тебе вступить в игру.* * *
– Оберст… – Сол ощутил странное волнение, словно глубоко внутри что-то завибрировало, но он потряс головой, и это чувство исчезло. Негр улыбнулся и перешел на немецкий: – Оберст. Почетное звание, давненько я его не слышал. – Он остановился перед рестораном Хорна и Хардарта и сделал жест рукой. – Хочешь есть? – Вы убили Фрэнсиса. Мужчина рассеянно потер щеку: – Фрэнсиса? Боюсь, я не… Ах да! Юного детектива. – Он улыбнулся и покачал головой. – Пойдем, я угощаю. – Вы же знаете, что за нами следят, – сказал Сол. – Естественно. А мы следим за ними. Не самое продуктивное занятие. – Он распахнул дверь и добавил по-английски, пропуская Сола вперед: – Только после вас.* * *
– Меня зовут Дженсен Лугар, – представился мужчина, когда они устроились за столиком в почти пустом ресторане. Он заказал чизбургеры, лук, запеченный в тесте, и ванильно-солодовый лимонад. Сол сидел, не отрывая взгляда от чашки кофе. – Вас зовут Вильгельм фон Борхерт, – произнес он. – Если когда-либо и существовал человек по имени Дженсен Лугар, его давным-давно уже нет. Негр сделал резкое движение и снял очки: – Бессмысленное пустословие. Тебе нравится игра? – Нет. Арон Эшколь мертв? – Твой племянник? Да, боюсь, что так. – А его семья? – Тоже. Сол глубоко вздохнул: – Как это случилось? – Насколько мне известно, мистер Колбен отправил своего любимчика Хейнса с коллегами к твоему племяннику. Там вроде бы взорвался газ, но я почему-то уверен, что несчастные были мертвы задолго до того, как появились первые языки пламени. – Хейнс! Лугар потягивал напиток через длинную трубочку. Затем он откусил большой кусок чизбургера, изящно приоткрыл рот и улыбнулся. – Вы играете в шахматы, доктор. – Это не было вопросом. Мужчина протянул Солу колечко лука. Тот ответил ему изумленным взглядом. Проглотив то, что было у него во рту, Лугар продолжил: – Если вы хоть немного знаете эту игру, то должны правильно оценить происходящее в настоящий момент. – Вы воспринимаете это как игру? – Конечно. Любой другой взгляд означал бы слишком серьезное отношение к жизни и самому себе. – Я найду и убью вас, – тихо произнес Сол. Дженсен Лугар кивнул и еще раз откусил от чизбургера. – Если бы мы встретились лично, я не сомневаюсь, что ты попытался бы это сделать. Но сейчас у тебя нет выбора. – Что вы имеете в виду? – А то, что прославленный президент так называемого Клуба Островитян, некий мистер К. Арнольд Барент, запрограммировал тебя с единственной целью – убить кинопродюсера, которого и так все уже считают мертвым. Чтобы скрыть свое смущение, Сол глотнул холодного кофе. – Барент не делал этого. – Конечно же, сделал, – заверил Лугар. – У него не было других причин лично встречаться с тобой. Как ты думаешь, сколько времени длился ваш разговор? – Несколько минут, – ответил Сол. – Скорее, несколько часов. Обработка преследовала две цели: убить меня и обезопасить мистера Барента от твоих последующих возможных действий. – То есть? Лугар доел последнее колечко лука. – Попробуй сыграть в простейшую игру. Представь себе мистера Барента, а потом представь, как ты набрасываешься на него. Сол нахмурился, но попытался. Это оказалось очень сложным. Когда он вспомнил Барента, спокойного, загорелого, безмятежно глядящего на море с мостика корабля, то, к собственному изумлению, испытал вдруг симпатию и расположение к нему. Усилием воли Сол заставил себя представить, как причиняет боль Баренту, бьет кулаком по его гладкому красивому лицу… …и вдруг согнулся от внезапного приступа боли и тошноты. На лбу его выступила испарина, он протянул дрожащую руку к стакану с водой и принялся судорожно пить, стараясь отвлечься. Комок боли и спазмы медленно рассасывались в животе. – Интересно, да? – осведомился Лугар. – В этом и заключается основная сила мистера Барента. Ни один человек, лично встречавшийся с ним, не может пожелать ему зла. Служить мистеру Баренту – настоящее удовольствие для очень многих людей. Сол допил воду и вытер салфеткой пот со лба. – Зачем же вы с ним сражаетесь? – О нет, моя дорогая пешка. Я не сражаюсь с ним, я с ним играю. – Лугар огляделся. – Пока они еще не установили микрофонов достаточно близко, чтобы прослушивать наш разговор, но через минуту к ресторану подъедет фургон, и интимность нашей беседы будет нарушена. Нам пора прогуляться. – А если я откажусь? Дженсен Лугар пожал плечами: – Через несколько часов игра станет действительно очень интересной. Там-то тебе и уготована роль. Если ты хочешь «отблагодарить» людей, которые уничтожили твоего племянника и его семью, тебе лучше последовать за мной. Я предлагаю тебе свободу… по крайней мере от них. – Но не от вас? – Нет, моя дорогая пешка. Ну, пора решаться. – Когда-нибудь я убью вас, – тихо пообещал Сол. Лугар ухмыльнулся, натянул перчатки и надел очки. – Ja, ja. Так ты идешь? Сол встал и посмотрел в окно. У входа в ресторан притормозил зеленый фургон. Он повернулся и вышел на улицу вслед за Дженсеном Лугаром.* * *
Позади Джермантаун-стрит тянулись узкие кривые переулки. Когда-то высокие обшарпанные здания, обрамлявшие их, вероятно, выглядели довольно симпатично – некоторые из них напомнили Солу узкие фахверковые дома Амстердама. Теперь же они превратились в перенаселенные трущобы. Многочисленные крохотные магазинчики и деловые конторы, наверное, когда-то были центром общественной жизни, а сегодня в их витринах рекламировались дохлые мухи. В некоторых разместились дешевые квартирки; в одной такой витрине стоял чумазый мальчик лет трех, прижавшись лицом и грязными руками к стеклу. – Что вы имели в виду, когда говорили, что «играете» с Барентом? Сол оглянулся, но зеленого фургона не заметил, хотя это ничего не значило. Он не сомневался, что они находятся под наблюдением. Ему же нужно было лишь одно – найти оберста. – Мы играем в шахматы. – Негр повернулся к нему, и Сол увидел собственное отражение в темных стеклах его очков. – А ставки – наши жизни, – добавил Сол. Он мучительно пытался придумать способ, как заставить оберста выдать свое местонахождение. Лугар рассмеялся, обнажив крупные белые зубы. – Нет-нет, моя маленькая пешка, – возразил он на немецком. – Ваши жизни ничего не значат. Ставки определяет тот, кто устанавливает правила игры. – Игры… – автоматически повторил Сол. Они перешли на другую сторону улицы. Вокруг было пусто, если не считать двух толстых негритянок, выходивших из прачечной за несколько кварталов от них. – Наверняка тебе известно о Клубе Островитян и его ежегодных играх, – голосом оберста проговорил Лугар. – Герр Барент и эти остальные трусы испугались принять меня в игру. Они знают, что я потребую вести ее с бо́льшим размахом, который соответствовал бы игре… übermenschen. Суперменов, по-вашему. – Вам не хватило этого во время войны? Лугар рассмеялся: – Ты все время норовишь спровоцировать меня. Глупое занятие. – Они остановились перед бетонным зданием неопределенного назначения рядом с прачечной. – Мой ответ – «нет»! Клуб Островитян считает, что может претендовать на власть лишь в силу того, что оказывает влияние на государственных деятелей, народы, экономику. Влияние! – Лугар сплюнул на тротуар. – Когда я буду диктовать условия игры, они узнают, чего можно достичь с помощью настоящей власти. Мир – это кусок гнилого, изъеденного червями мяса, пешка. Мы очистим его огнем. Я покажу им, что значит играть армиями, а не жалкими суррогатами. Покажу, как с потерей одной фигуры разрушаются целые города, как по прихоти игрока уничтожаются или становятся рабами целые народы. И я покажу им, что значит вести эту игру в масштабах земного шара. Мы все умрем, пешка, но вот чего герр Барент не понимает, так это того, что миру вовсе незачем существовать после нас. Сол замер с широко раскрытыми глазами. Холодный ветер продувал его пальто насквозь, он весь продрог и от холода, и от этих слов. – Ну вот мы и пришли, – произнес Лугар и достал связку ключей, чтобы открыть дверь какого-то заброшенного здания, возле которого они остановились. Он вошел в темное затхлое помещение и жестом пригласил за собой Сола. – Ты идешь, пешка? Сол нервно сглотнул. – Вы еще более безумны, чем я думал, – прошептал он. Лугар кивнул: – Возможно. Но если пойдешь со мной, ты сможешь продолжить игру. Увы, не ту, которая будет вестись с большим размахом. В ней тебе места не найдется. Но твоя неизбежная жертва даст ей возможность состояться. Если ты сейчас пойдешь со мной… по собственной воле… мы удалим эти штучки, которыми снабдил тебя герр Барент, и ты сможешь продолжать служить мне как верная пешка. Сол некоторое время стоял на холоде, сжимая кулаки и чувствуя пульсирующую боль в левой руке, там, где было вживлено устройство. Затем собрался с силами и шагнул во тьму. Лугар улыбнулся и запер дверь на задвижку. В тусклом свете первого этажа был виден пол, усеянный опилками, и несколько погрузочных подъемников. Наверх вела широкая деревянная лестница. Лугар указал на нее, и они двинулись к ступенькам. – О господи, – вырвалось у Сола. Сквозь мутное стекло в потолке просачивался слабый дневной свет. В комнате стояли стол и четыре стула. Два из них были заняты обнаженными трупами. Сол подошел ближе и осмотрел тела. Одно принадлежало негру, приблизительно такого же роста и телосложения, как Лугар. Его открытые глаза были подернуты пеленой смерти. Другой – белый, на несколько лет старше Сола, с поредевшими волосами и бородой. Нижняя челюсть у него отвисла, под кожей щек и носа просвечивали разорвавшиеся капилляры, что указывало на развитую стадию алкоголизма. Лугар снял пальто. – Наши doppelgängers? Двойники? – спросил Сол. – Естественно, – ответил оберст устами Лугара. – Я удалил уже почти все или, по крайней мере, большинство маниакальных механизмов, внедренных в твой мозг герром Барентом. Ты готов продолжить, пешка? – Да, – кивнул Сол. «Продолжить искать способы разделаться с тобой», – подумал он про себя. – Очень хорошо. – Лугар посмотрел на часы. – Прежде чем мистер Колбен решит присоединиться к нам, у нас есть полчаса. Этого должно хватить. Он поставил портфель на стол рядом с трупом негра и щелкнул замками. Сол увидел, что портфель заполнен той же пластиковой взрывчаткой, которая была у Харрингтона. – Хватит на что? – поинтересовался он. – На приготовления. Из этого здания в подвал соседнего дома ведет никому не известный подземный ход. А из подвала есть выход в старую городскую канализационную систему. Мы сможем уйти по ней лишь на квартал отсюда, но это находится уже за пределами непосредственного круга их наблюдения. Там меня будет ждать машина. Ты можешь присоединиться ко мне, и я отвезу тебя куда угодно. – Вы такой сообразительный, что даже тошно, – признался Сол. – Ничего не получится. – Почему же? – Тяжелые брови Лугара поползли вверх. Сол снял пальто и закатал рукав рубашки. Бинты слегка пожелтели от мази. – Я думаю, вчера мне в руку вживили датчик. – Конечно, – согласился Лугар и достал из портфеля сверток из зеленой ткани. Когда он его развернул, в тусклом свете замерцали хирургические инструменты и бутылка йода. – Процедура займет не больше двадцати минут. Сол повертел в руке скальпель в стерильной упаковке: – Я так понимаю, вы возьмете это на себя? – Если ты настаиваешь. Но предупреждаю, я никогда не занимался медициной. – Значит, я получу массу удовольствия. – Сол осмотрел содержимое портфеля и поднял взгляд на Лугара. – Ни шприцев, ни местной анестезии? В зеркальных очках негра отразилось пустое помещение склада. Его тяжелое лицо не отражало ровным счетом ничего. – К сожалению, нет. Во сколько вы оцениваете свою свободу, доктор Ласки? – Вы сумасшедший, герр оберст. – Он уселся за стол, разложил инструменты и подвинул к себе поближе бутылку с йодом. Лугар вытащил из-под стола спортивную сумку. – Сначала мы должны переодеться, – сказал он. – На случай, если тебе позднее этого не захочется. Когда трупы были облачены в их одежду, а Сол натянул на себя бесформенные джинсы, черный свитер с высоким горлом и тяжелые ботинки, которые были малы ему на полразмера, Лугар сообщил: – Осталось восемнадцать минут, доктор. – Садитесь, – распорядился Сол. – Сейчас я подробно объясню, что вы должны делать, если я потеряю сознание. – Он вынул из сумки упаковку с бинтами. – Вам нужно будет закрыть рану. – Как скажешь. Сол покачал головой, взглянул на окошко в потолке, потом посмотрел на руку и одним уверенным движением скальпеля сделал первый надрез.* * *
Сознание он не потерял. Несколько раз он вскрикнул, и сразу же после того, как корпус датчика был отделен от мышечной ткани, его стошнило. Лугар наложил на рану грубые швы, перебинтовал ее и заклеил пластырем, а затем накинул на плечи полубесчувственного психиатра пальто. – Мы уже опаздываем на пять минут, – предупредил он. Бетонный пол казался монолитным, но в дальнем углу имелся люк, скрытый деревянными поддонами. Когда Лугар поднимал крышку, снаружи послышался приближающийся рев вертолета. – Пошевеливайся! – приказал негр в сгустившейся тьме. Сол начал спускаться, но вскрикнул от пронзительной боли, не удержался и кубарем полетел вниз. Оглушительный взрыв, раздавшийся наверху, засыпал его голову штукатуркой и паутиной. Лугар без труда отодвинул в сторону бетонные плиты, поднял Сола на ноги в темном подвале, пропахшем плесенью и старыми газетами, и заставил его двигаться дальше. Подземный ход оказался узким, и им пришлось ползти. Руки и ноги Сола погрузились в ледяную воду, он то и дело натыкался в темноте на что-то скользкое и липкое. Дважды он падал и ударялся левым плечом, намочив при этом пальто. Негр лишь смеялся и продолжал подталкивать его сзади. Сол закрыл глаза и стал думать о Собиборе – о людях, кричавших от ужаса, о рве, о тишине леса Сов. Наконец проход расширился, и они смогли подняться на ноги. Под руководством Лугара они сделали еще сотню шагов, свернули направо в более узкий проход и остановились под решеткой. Негр своими огромными ручищами принялся сдвигать ее в сторону. Чувствуя боль и головокружение, Сол запустил руку в карман пальто и нащупал холодный скальпель, который он прихватил с собой, пока Лугар устанавливал часовой механизм в своем портфеле. – Ну вот, – выдохнул Лугар, наконец справившись с решеткой. Руки его все еще были подняты, одежда задралась, обнажив смуглый живот. Сол тут же воспользовался ситуацией, намереваясь проткнуть его одним ударом скальпеля, но реакция оберста в обличье Дженсена Лугара оказалась мгновенной. Он схватил психиатра за предплечье и с такой силой сжал его больную руку, что у Сола перехватило дыхание, он упал на колени, а перед глазами поплыли красные круги. Лугар спокойно вынул скальпель из его обессилевшей руки. – Нехорошо, нехорошо, mein kleine Jude, – прошептал он. – Auf Wiedersehen. На секунду огромное тело Лугара заслонило свет, и он исчез в проеме. Сол остался стоять на коленях, склонив голову к холодному камню и изо всех сил цепляясь за уплывающее сознание. «Зачем? – думал он. – Зачем за него цепляться? Нужно отдохнуть, – и тут же приказал себе: – Нет!» Прошла целая вечность, прежде чем он встал, дотянулся до решетки здоровой рукой и попытался вылезти. От частых падений джинсы и пальто у него промокли насквозь. С пятой попытки ему наконец удалось выбраться на свет. Дренажный люк оказался за металлическим мусорным контейнером, стоявшим в узком проулке. Он никак не мог определить, где находится. Наверх по склону тянулись ряды одноквартирных домов. Сол прошел примерно с полквартала, когда снова почувствовал головокружение и остановился. Рана на руке открылась, кровь просочилась через плотный рукав пальто, запачкав всю левую полу. Он оглянулся и непроизвольно рассмеялся, увидев за собой отчетливый алый след. Тротуар под его ногами ходил ходуном, как палуба крохотного суденышка в бушующем море. Он зажал руку и прислонился к стеклянной витрине заброшенного магазина. Темнело. В свете далекого фонаря светлячками бились в воздухе снежинки. По тротуару к Солу приближалась крупная темная фигура. Он съехал спиной по грубой стене на асфальт, обхватил колени и изо всех сил постарался стать невидимкой, словно обычный алкоголик, прибегающий к подобного рода укрытиям. Как раз в тот момент, когда прохожий не спеша миновал дверь магазина, Сол ощутил нестерпимую боль в левой руке, стиснул зубы и застонал. Сознание его медленно проваливалось во тьму, где не было ни этих тяжелых шагов, ни опасности, которая могла исходить от незнакомца. Его уже не страшил оберст – все равно такие, как он, будут жить и править миром, и никто не в силах предотвратить этот ужас… Они сильнее… Они… Боль все еще не давала Солу до конца погрузиться в долгожданное беспамятство. Луч фонарика ослепил его. Заслонив улицу и весь мир, над ним нависло огромное тело прохожего. Тяжелая рука опустилась ему на плечо, и Сол, теряя сознание, сжал кулак. – Боже мой, – услышал он спокойный знакомый голос. – Доктор Ласки, это вы? Сол кивнул, глаза его закрылись, и перед тем, как провалиться в темноту, он почувствовал, что сильные руки шерифа Бобби Джентри подхватили его и куда-то понесли.Глава 30
Джермантаун
Вторник, 30 декабря 1980 г.
Джентри казалось, что он сошел с ума. Пока он бежал к общинному дому, он жалел лишь о том, что не может убедиться в этом, пока Сол без сознания. Мир для него превратился в какую-то кошмарную паранойю, где были окончательно разрушены какие-либо причинно-следственные связи. Близнец по имени Г. Б. остановил шерифа, когда тот был в полуквартале от дома. Джентри глянул на направленный в его сторону револьвер и крикнул: – Пропусти! Марвин знает, что я должен вернуться. – Да, но он не знает, что ты тащишь с собой какого-то дохлого ублюдка. – Он жив и сможет помочь нам. Если он умрет, не сомневайся, тебе придется отвечать перед Марвином. А теперь дай мне пройти. Г. Б. медлил. – Пошел ты к черту, свинья, – произнес он наконец и отошел в сторону. Прежде чем добраться до дома, Джентри миновал еще трех караульных. Марвин расставил охрану ярдов на сто во всех направлениях. Любая неопознанная машина в пределах квартала должна была подвергаться обстрелу, если отказывалась добровольно уехать. Зеленому фургону, набитому белыми, понадобилось всего полминуты на рассмотрение ультиматума Лероя, чтобы укатить подальше на полной скорости. Возможно, их убедила литровая бутылка с бензином, которую Лерой держал откупоренной в правой руке. Вечер же понедельника стал прелюдией к кошмару. Марвин и остальные возвращались в общинный дом проходными дворами и глухими переулками, Лерой истекал кровью из десятка мелких ранок, оставленных дробью. За исключением главаря, все находились на грани истерики после перестрелки. Марвин собирался послать Джексона или Тейлора с грузовиком обратно, чтобы забрать трупы Кальвина и Форели, но паника, с которой те столкнулись в общинном доме, заставила их забыть об этом на много часов. Когда наконец перед самым рассветом грузовик все же поехал туда, пяти трупов на месте не оказалось, а на втором и третьем этаже остались лишь запекшиеся пятна крови. Представители власти, конечно же, отсутствовали. В общинном доме царил жуткий беспорядок. Обитатели палили без разбору в любую тень. Кто-то потушил горевшие автомобили, но весь квартал был окутан клубами дыма, словно на него опустилось облако смерти. – Он был здесь, Марвин, этот белый ублюдок с косой! Проник в дом прямо как привидение и ранил Кару… А Раджи видел, как он бежал за той малюткой с камерой через двор, и… – затараторил Тейлор, как только они вошли. – Где Кара?! – заорал Марвин. За все это время Джентри впервые услышал его крик. Тейлор сказал, что Кара наверху, на матрасе за занавеской, и что она действительно сильно ранена. Джентри поспешил за Марвином наверх. Большинство членов банды молча взирали на обезглавленное тело преподобного Вудза, лежавшее на бильярдном столе, а Марвин с Джексоном прямиком прошли за занавеску. Кара была без сознания, над ней хлопотали четыре девушки-негритянки. – Похоже, дела плохи, – сказал Джексон, осмотрев Кару. Прекрасное лицо девушки изменилось почти до неузнаваемости – лоб немыслимо раздулся, глаза остекленели. – Надо ехать в больницу. Пульс и давление падают. – Эй, послушайте, – попробовал возразить Лерой, демонстрируя окровавленную правую руку и ногу. – Я тоже ранен. Давай я поеду с тобой, чтобы меня вылечили и… – Заткнись! – приказал Марвин. – Собери этих идиотов. И чтоб никто сюда не подобрался ближе чем на полквартала, понял? Скажи Шерману и Эдуардо, чтобы отправлялись в «Собачий город» – пусть разыщут Мэнни. Нам нужно подкрепление, которое он обещал еще прошлой зимой, когда мы помогли ему с Пасториусом. Они нужны нам прямо сейчас. Скажи Вымогателю, пусть соберет все малолитражки и вспомогательные средства, которые у него есть. Я хочу знать, где находится эта старуха! Пока Марвин отдавал распоряжения, а Джексон осторожно спускал Кару вниз, Джентри отвел Тейлора в сторону. – Где Натали? – требовательно спросил он. Парень покачал головой, а потом резко выдохнул, когда шериф сжал его бицепс. – Черт, хватит! За ней гонится вонючий ублюдок. Раджи видел, как они бежали через двор, а потом скрылись между старыми домами. Темно было, ничего не видно… Мы бросились за ними, но они оба как в воду канули, честно… – Когда это произошло? – Джентри еще крепче сжал руку парня. – Черт! Больно же!.. Минут двадцать назад, может, двадцать пять. Джентри быстро спустился и успел перехватить Марвина. – Мне нужен мой «ругер», – с ходу заявил он. Главарь банды посмотрел на него ледяными посветлевшими глазами. – Этот сукин сын с косой гонится за Натали, и я иду туда. Отдай мне револьвер. – Он протянул руку. Лерой тут же поднял свой обрез и направил его на шерифа, ожидая приказа главаря. Марвин спокойно вытащил тяжелый «ругер» из кармана и отдал Джентри: – Убей его, приятель. – Постараюсь. Джентри поднялся на второй этаж, вытащил дополнительную коробку патронов и перезарядил оружие. Гладкие тяжелые пули легко проскальзывали от прикосновений его пальцев. Он заметил, что рука у него дрожит. Наклонившись вперед, он несколько раз глубоко вздохнул, пока дрожь не утихла, после чего спустился за фонариком и вышел из общинного дома в сгущавшиеся сумерки.* * *
Сол Ласки пришел в себя, когда Джексон принялся осматривать его рану. – Похоже, кто-то поработал над тобой консервным ножом, – заметил бывший медик. – Дай мне другую руку. Я сделаю укол морфина, а потом уж займусь этим. – Спасибо, – прошептал Сол через силу, откинувшись на подушку. – Спасибо мало чего стоит, – усмехнулся врач-недоучка. – Оплатишь мне по счету. Тут есть братишки, которые готовы убить любого за такую ампулу. – И он быстрым и уверенным движением ввел иглу в вену. – Вы, белые парни, не умеете заботиться о собственных телах. Джентри старался говорить быстро, чтобы успеть до того, как подействует наркотик: – Какого черта вы оказались в Филадельфии, а, док? Сол покачал головой: – Это длинная история. Тут замешано гораздо больше людей, чем я думал, шериф… – Мы это как раз сейчас выясняем, – ответил Джентри. – Вам удалось узнать, где находится этот проклятый оберст? Джексон закончил промывать рану и принялся накладывать новые швы. Сол глянул на руку и отвернулся. Говорить ему было невыносимо трудно, губы едва шевелились. – Не совсем… Но он где-то здесь… Поблизости. Я только что встретил человека по имени Дженсен Лугар, который долгие годы был агентом оберста. Он и говорит по-немецки, как Борхерт… И делает все, что тот ему приказывает. А Колбен и Хейнс отпустили меня, чтобы я вывел их на фон Борхерта… Вилли Бордена. Они тоже охотятся за ним. – Хейнс! – воскликнул Джентри. – Черт, этот сукин сын мне сразу не понравился! Сол облизнул пересохшие губы. Голос его становился все более замедленным и тягучим. – А Натали? Она тоже здесь?.. Джентри отвернулся: – Была. Ее кто-то выманил отсюда… сутки назад. Сол попытался сесть. Джексон выругался и толкнул его обратно на матрас. – Она… жива? – выдавил из себя Сол. – Не знаю. Я обшарил всю округу. – Джентри потер глаза. Он не спал уже почти двое суток. – Вряд ли Мелани Фуллер, убив стольких людей, сохранит жизнь Натали, – промолвил он. – Но что-то заставляет меня продолжать поиски. Просто у меня есть какое-то ощущение… Если вы расскажете мне все, что вам известно, тогда, может, мы вместе… – Джентри умолк, увидев, что Сол Ласки погрузился в глубокий сон.* * *
– Как Кара? – спросил шериф, войдя на кухню. Марвин поднял голову от стола, на котором была разложена дешевая карта города, придавленная пивными банками и пакетами с чипсами. Рядом с ним сидел Лерой – через его разорванную одежду просвечивали бинты. То и дело в кухню входили и выходили разные посланцы, но в доме царила тихая деловая атмосфера, ничем не напоминавшая неразбериху вчерашнего дня. – Плохо, – ответил Марвин. – Врачи говорят, что травма тяжелая. Сейчас в больнице дежурят Кассандра и Шелли. Если будут какие-нибудь перемены, они сообщат. Джентри кивнул и сел. Он чувствовал, что им овладевает усталость, накладывая на все тусклый глянец. Он потер лицо. – Тот человек наверху поможет тебе найти твою подружку? – спросил Марвин. – Не знаю. – Джентри качнул отяжелевшей головой. – А нам он может помочь найти эту суку… мадам Вуду? – Возможно. Джексон говорит, что он придет в себя через пару часов. У вас есть какие-нибудь новости? – Это дело времени, приятель, – ответил Марвин. – Всего лишь дело времени. Наши помощники обходят сейчас каждый дом. Белой старухе не удастся остаться незамеченной. А как только мы найдем ее, сразу начнем действовать. Джентри постарался сосредоточиться на том, что он собирался сказать. Говорить становилось все труднее – слова разбегались, язык заплетался. – Ты знаешь об остальных… федеральных войсках? Марвин рассмеялся резким, каким-то истеричным смехом: – Конечно, они тут рыщут повсюду. Зато они не пускают сюда местных свиней и телевизионщиков, так? – Наверное, – согласился Джентри. – Но я хотел сказать, что они не менее опасны, чем Мелани Фуллер. Некоторые из них обладают такими же… такими же способностями, как она. И охотятся они за человеком, который еще более опасен. – Ты считаешь, они тоже приложили свою руку к братству Кирпичного завода? – спросил Марвин. – Нет. – Они имеют какое-нибудь отношение к белому ублюдку? – Нет. – Тогда они могут немного подождать. А если сунутся, то и им перепадет от нас. – Речь идет о сорока – пятидесяти федеральных полицейских в штатском, – усмехнулся Джентри. – Обычно они вооружены до зубов. Марвин пожал плечами. В комнату вбежал какой-то парень и что-то зашептал ему на ухо. Главарь выпрямился и спокойным голосом быстро отдал четкие распоряжения. Джентри взял со стола банку и, обнаружив, что в ней осталось теплое пиво, сделал глоток. – Ты не думаешь, что лучше уйти, пока это еще возможно? – спросил он. – Я имею в виду, оставить их всех, и пусть эти маньяки перегрызут горло друг другу. Марвин посмотрел шерифу в глаза. – Приятель, – произнес он почти шепотом, – ты ничего не понял. Нас уже давно преследуют белые, правительство, все эти свиньи и грязные местные политики. Так было всегда. И то, что этот белый ублюдок творит с черными, не ново… Но он творит это на нашей территории, понял? Вы с Натали утверждаете, что на самом деле это дело рук мадам Вуду, и я думаю, что так оно и есть. Похоже, по крайней мере. Но она не единственная. За ней стоят другие, которые тоже с радостью смешают нас с грязью. Они и так занимаются этим постоянно. Но здесь – братство Кирпичного завода. Они убивают наших людей – Мухаммеда, Джорджа, Кальвина… Может, и Кара умрет… За это они должны заплатить! Мы все равно уничтожим белого выродка и эту старую суку. – Марвин сжал кулаки. – Мы ни от кого не ждем помощи. Но если ты хочешь быть с нами, оставайся. – Да, я хочу быть с вами, – хрипло сказал Джентри. И его собственный голос показался ему таким же тягучим и замедленным, как у Сола Ласки под воздействием морфия. Марвин кивнул и встал. Подойдя к шерифу, он крепко взял его за руку, поднял на ноги и подтолкнул к лестнице: – А что тебе надо сейчас, приятель, так это поспать. Если что-нибудь начнется, мы тебя разбудим.* * *
Джексон разбудил его в половине шестого утра. – Твой друг очнулся, – сообщил бывший медик. Джентри поблагодарил его и несколько минут просидел на краю матраса, обхватив голову руками и пытаясь соображать. Перед тем как пойти к Солу, он спустился на кухню, приготовил кофе в древней кофеварке и вернулся обратно с двумя дымящимися чашками. В разных помещениях похрапывали человек двенадцать. Ни Марвина, ни Лероя видно не было. – Я проснулся и решил, что мне все приснилось, – сказал Сол, с благодарностью принимая от Джентри чашку. – А потом увидел это… – Он приподнял свою перебинтованную руку. – Так что произошло? – спросил Джентри. – Послушайте, шериф, – произнес Сол, глотнув кофе. – Мы заключим сделку. Я начну с самых важных сведений. Потом то же самое сделаете вы. Если наши истории каким-то образом совпадут, мы продолжим. Согласны? – Да. – Джентри кивнул. Они проговорили часа полтора и еще полчаса задавали друг другу вопросы. Когда эта «пресс-конференция» была закончена, Джентри помог психиатру встать, и они подошли к зарешеченному окну. Снаружи едва брезжил рассвет. – Канун Нового года, – заметил Джентри. Сол поднял руку, чтобы по привычке поправить очки, но понял, что их нет. – Все это кажется невероятным, не так ли? – Да, – согласился Джентри. – Но Натали Престон где-то здесь, и я не уеду из города, пока не найду ее. Они отыскали очки Сола, а затем спустились раздобыть что-нибудь из еды.* * *
Марвин и Лерой вернулись в десять утра, оживленно беседуя с двумя латиноамериканцами. У тротуара стояли три автомобиля, до отказа набитые чикано, которые пытливо рассматривали негров, столпившихся на крыльце общинного дома. Члены черной банды также бросали на прибывших любопытные взгляды. Кухня превратилась в боевой штаб, и входить в нее разрешалось лишь по особому приглашению. Сола и Джентри позвали минут через двадцать после того, как уехали латиносы. Марвин, Лерой, один из близнецов и еще с полдюжины парней встретили их молчаливыми взглядами. – Как Кара? – спросил Джентри. – Она умерла. – Марвин с горечью посмотрел на Сола. – Ты сказал Джексону, что хотел бы поговорить со мной. – Да, – кивнул Ласки. – Мне кажется, вы можете помочь мне найти то место, где меня держали. Оно не должно быть слишком далеко отсюда. – Зачем нам это надо? – Там находится центр управления ФБР, оккупировавшего округу. – Ну и что? Пошли они куда подальше!.. Сол пощипал бороду. – Я думаю, им известно, где находится Мелани Фуллер. Главарь поднял голову: – Ты уверен? – Нет, – ответил Сол, – но, судя по тому, что я видел и слышал, очень похоже. Мне кажется, оберст по каким-то своим причинам навел их на ее след. – Этот оберст – твой мистер Вуду? – Да. – На улицах масса правительственных свиней. И всем им известно, где находится старуха? – Если мы сможем попасть в центр управления и с кем-нибудь поговорить там, нам удастся выяснить подробнее. – Расскажи мне об этом центре, приятель, – попросил Марвин. – Он находится на открытой местности в восьми минутах езды отсюда, – начал Сол. – Кажется, там постоянно курсирует вертолет. Строения временные, возможно, передвижные дома или что-то вроде трейлеров, которые используют строители…* * *
В вязаной шапочке-балаклаве с прорезями для глаз и в перчатках, Сол вместе с Джентри и еще пятерыми парнями вышел из дома. Шериф полагал, что, если Колбен и Хейнс считают Ласки погибшим, они вряд ли узнают его в таком виде. Забравшись в грузовик Вудза, вся компания доехала до Джермантаун-стрит, потом свернула на Челтен и еще раз на соседнюю улицу без названия, идущую к складам. – За нами следует синий «форд», – предупредил Лерой, который вел машину. – Давай, – распорядился Марвин. Трясясь и подпрыгивая, грузовик пересек захламленную стоянку и притормозил у осевшего ржавого сарая, где смогли поместиться лишь Марвин, Сол, Джентри и один из близнецов, да и тому пришлось затаиться в тени открытой двери. Грузовик быстро набрал скорость и свернул на восток в узкий переулок. Через мгновение мимо пронесся синий «форд» с тремя белыми пассажирами. – Сюда! – скомандовал Марвин и направился через грязный пустырь к высившейся впереди свалке из расплющенных автомобилей. Марвин и один из близнецов быстро вскарабкались на штабель, у Джентри же и Сола на это ушло гораздо больше времени. – Это здесь? – спросил главарь, когда психиатр, преодолев последние шесть футов, наконец шатко замер на вершине, опираясь на плечо шерифа, чтобы не упасть. Марвин протянул ему маленький бинокль. Впереди виднелся высокий деревянный забор, ограждавший чуть ли не полквартала. К югу тянулся вырытый котлован, залитый бетоном. Рядом застыли в бездействии два бульдозера, экскаватор и еще какое-то более мелкое оборудование. В центре буквой «П» расположились несколько трейлеров, неподалеку стояли семь машин и фургон. Над центральным трейлером болталась микроволновая антенна. За ним на открытом пространстве виднелся круг, выложенный красными сигнальными фонарями, с металлического шеста безвольно свисал ветровой конус. – Похоже, – кивнул Сол. Пока они наблюдали, из центрального трейлера вышел мужчина в рубашке и поспешно направился к временным туалетам, расположенным ярдах в двадцати от машин. – Это один из ублюдков, с которыми ты бы хотел поговорить? – спросил Марвин. – Вероятно, – откликнулся Сол. Заметить их среди гор ржавого металла было практически невозможно, и тем не менее Джентри поймал себя на том, что все они вдруг присели, укрываясь за колесами ирасплющенными кабинами машин. – Темнеть начнет только часов через пять. – Марвин взглянул на часы. – Тогда и займемся этим. – Черт побери! – возмутился Джентри. – Неужели нужно так долго ждать! И, словно в ответ на его слова, в небе появилось узкое тело вертолета, который, описав дугу, приземлился в световом круге. Из него выскочил человек в толстой куртке и бегом бросился к командному трейлеру. Сол, снова взглянув в бинокль, различил круглую физиономию Чарльза Колбена. – Вот с этим человеком встречаться не следует, – предупредил он. – Надо дождаться, пока он в очередной раз куда-нибудь не отправится. Марвин пожал плечами. – Давайте выбираться отсюда, – сказал Джентри. – Я пойду искать Натали. – Я с тобой, – приглушенным голосом объявил Сол.* * *
– Вы ищете ее труп? – спросил психиатр, когда они заглянули в развалины еще одного пустого дома. Джентри прислонился к обвалившейся кирпичной стене. Сквозь дырявый потолок над их головами виднелись последние проблески тусклого дневного света. – Да, наверное, – вздохнул он. – Полагаете, та пешка Мелани Фуллер убила ее и оставила тело в каком-нибудь таком месте? Джентри вытащил из кармана «ругер» и снял предохранитель. Утром он дважды смазал все части, механизм работал безупречно. – По крайней мере, тогда не останется никаких сомнений… Зачем старухе сохранять ей жизнь? – Одна из проблем с психически ненормальными людьми заключается в том, что их мыслительные процессы непредсказуемы, – ответил Сол, устроившись рядом на обломках кирпичной кладки. – Полагаю, это к лучшему. Если бы мы полностью осознавали деяния маньяков, мы бы, несомненно, сами приблизились к состоянию безумия. – Вы уверены, что Фуллер психически ненормальная? – Все имеющиеся у нас данные подтверждают это. Сложность заключается не в том, что она пребывает в замкнутом мирке искаженных представлений о действительности, а в том, что благодаря своим способностям она может поддерживать и подкреплять эти представления. – Сол поправил очки. – По сути, та же проблема возникла с нацистской Германией. Психоз подобен вирусу. Он может размножаться и распространяться самопроизвольно, когда организм носителя предрасположен к его восприятию. – Вы хотите сказать, то, что натворила в мире нацистская Германия, случилось в основном благодаря таким маньякам, как ваш оберст и Мелани Фуллер? – Вовсе нет. – Сол решительно покачал головой. – Я даже не уверен, можно ли этих людей называть настоящими людьми. Я считаю их мутантами – жертвами эволюции, которая в течение миллиона лет поощряла развитие межличностного господства наряду с другими особенностями. Но ориентированные на насилие фашистские общества создаются не полковниками и психопатками вроде Мелани Фуллер и даже не Барентами и Колбенами. – Тогда кем же? Сол махнул рукой в сторону улицы, видневшейся за разбитыми оконными рамами: – Члены банды считают, что в операции участвуют несколько десятков федеральных агентов. Но я думаю, только один из них – Колбен обладает этой странной способностью. Остальные лишь позволяют разрастаться вирусу насилия, выполняя распоряжения и являя собою часть социального механизма. Немцы были большими специалистами по организации и созданию таких механизмов. Лагеря смерти являлись только частью более крупного механизма убийства. И он не был полностью уничтожен, а всего-навсего перестроен, модернизирован… Джентри встал и подошел к пролому в дальней стене: – Пойдем. Мы еще успеем осмотреть этот квартал перед тем, как стемнеет.* * *
Среди обгоревших опор обуглившегося, но так и не снесенного дома они нашли обрывок ткани. – Я уверен, что это от рубашки, которая была на ней в понедельник, – сказал Джентри. Он пощупал ткань и в свете фонарика принялся осматривать пол, усыпанный углем. – Смотрите, здесь масса следов. Похоже, они боролись тут, в углу. Натали могла зацепиться за этот гвоздь и порвать рукав рубашки, когда ее отшвырнули к стене. – Или если ее тащили на плече, – добавил Сол. Он прижимал к себе саднящую левую руку. Лицо его было очень бледным. – Вы правы. Давайте посмотрим, нет ли следов крови или… еще чего-нибудь. В угасающем свете дня они внимательно осмотрели помещение, но больше ничего не нашли. Выйдя на улицу, они стали размышлять, куда мог направиться похититель Натали в этом лабиринте переулков и полуразрушенных зданий, когда увидели Тейлора, бегущего к ним и размахивающего руками. – Эй, вы! – закричал он издалека. – Марвин сказал, чтобы вы оба возвращались. Лерой сцапал одного ублюдка из трейлера. Он сообщил, где найти мадам Вуду.* * *
– Ропщущая Обитель, – произнес Марвин. – Она в Ропщущей Обители. – Что такое Ропщущая Обитель? – осведомился Сол. Они с Джентри стояли в битком набитой людьми кухне. В коридорах и нижних помещениях тоже толпились члены братства. – Вот и я тоже спросил, что такое Ропщущая Обитель? – Марвин, довольный, сидел во главе стола. – Тогда этот ублюдок объяснил мне. Я знаю, где это место. – Это старый дом на Джермантаун, – добавил Лерой. – Действительно очень старый. Он был построен, когда белые еще носили треугольные шляпы. – Кого вы допрашивали? – спросил Сол. Марвин усмехнулся: – Мы с Лероем и Г. Б. вернулись обратно к центру, когда стемнело. Вертолета уже не было, поэтому мы стали ждать у туалетов, когда выйдет кто-нибудь из тех типов. Как только он спустил штаны, мы появились и сказали «привет». Лерой подогнал грузовик сбоку, позволил ублюдку сделать свои дела и затолкал в кабину. – И где он сейчас? – спросил Джентри. – Все еще в грузовике Вудза. А что? – Я хочу поговорить с ним. – Он спит, – усмехнулся Марвин. – Ублюдок сказал, что он специальный агент, видеотехник, и ничего не знает. Заявил, что не станет разговаривать с нами и что нам здорово влетит за оскорбление федеральной свиньи и все такое. Лерой и Г. Б. помогли ему разговориться. Джексон считает, с ним все будет в порядке, но сейчас он спит. – Значит, Фуллер в доме, который называется Ропщущая Обитель, на Джермантаун-стрит, – повторил Джентри. – Он уверен в этом? – Да, – ответил главарь. – Мадам Вуду живет с другой белой старухой на Квин-лейн. Я должен был догадаться. Старые шлюхи всегда липнут друг к другу. – Тогда что она делает в Ропщущей Обители? Марвин пожал плечами: – Федеральная свинья говорит, что в последнюю неделю она проводит там все больше и больше времени. Мы рассудили, что белый выродок с косой приходит тоже оттуда. Джентри протиснулся через толпу и остановился перед Марвином: – О’кей. Мы знаем, где она. Пошли. – Еще рано. – Марвин повернулся к Лерою, намереваясь что-то сказать, но Джентри схватил его за плечо и рванул к себе: – К черту твое «рано»! Может, Натали Престон еще жива. Пошли! Главарь поднял на него свои холодные синие глаза: – Отвали, приятель. Если уж мы беремся за дело, то беремся как следует. Тейлор сейчас договаривается с Эдуардо и его парнями. Г. Р. и Г. Б. проверяют все вокруг Ропщущей Обители. Лейла с девчонками выясняют места скопления федеральных свиней. – Тогда я пойду один, – упрямо сказал Джентри. – Нет, – остановил его Марвин. – Если ты подойдешь к дому, федеральные свиньи узнают тебя и всякий эффект неожиданности полетит к чертям. Ты будешь ждать нас, или мы вообще оставим тебя здесь. Огромная фигура шерифа угрожающе нависла над Марвином. Тот встал. – Только убив меня, ты сможешь помешать мне, – произнес Джентри. – Совершенно верно, – спокойно заметил Марвин, выдержав его взгляд; кто-то в глубине дома включил радио, и напряженную тишину заполнили звуки музыки. – Через несколько часов, приятель. Я знаю, каково тебе. Несколько часов, и мы сделаем это вместе. Огромное тело Джентри постепенно обмякло. Он протянул руку главарю, и тот крепко пожал ее. – Несколько часов, – повторил шериф. – Точно так, парень, – улыбнулся Марвин.* * *
Джентри сидел на матрасе на втором этаже и в третий раз за день прочищал и смазывал свой «ругер». Единственным источником света была лампа с потрепанным шелковым абажуром. Сукно на бильярдном столе покрывали темные пятна и подтеки. Сол Ласки вошел в освещенный круг, неуверенно огляделся и подошел к Джентри. – Привет, Сол, – произнес Джентри, не поднимая головы. – Добрый вечер, шериф. – Учитывая, сколько мы пережили вместе, Сол, я бы предпочел, чтобы ты называл меня Робом. – Хорошо, Роб. – Сол впервые улыбнулся. Джентри защелкнул барабан и покрутил его. Осторожно и сосредоточенно, один за другим, он принялся вставлять патроны. – Марвин уже начал высылать группы, – заметил Сол. – По двое – по трое. – Отлично. – Я решил, что пойду с группой Тейлора в командный центр, – сказал Ласки. – Я сам вызвался. Чтобы отвлечься. Джентри бросил на него быстрый взгляд, и он пояснил: – Это не потому, что я не хочу присутствовать при захвате Фуллер. Просто я думаю, члены банды недооценивают, насколько опасным может быть Колбен… – Понимаю, – кивнул Джентри. – Они сказали, когда все начнется? – Сразу после полуночи. Шериф отложил в сторону револьвер и откинулся на подушку. – Новый год, – произнес он. – Счастливого Нового года. Сол снял очки и протер стекла салфеткой. – Ты ведь довольно близко познакомился с Натали Престон, правда? – После твоего отъезда она пробыла в Чарлстоне всего несколько дней, – ответил Джентри. – Но мы… мы прекрасно поняли друг друга. – Замечательная девушка, – подтвердил Сол. – При общении с ней создается впечатление, будто знаешь ее тысячу лет. Очень интеллигентная и тонкая натура. – Да, – согласился Джентри и глубоко вздохнул. – Я все-таки надеюсь, что она жива, – сказал Сол. Джентри поднял голову к потолку. Тени на нем были как кровоподтеки и напоминали разводы на бильярдном столе. – Сол, – прошептал он, – если она жива, я очень хочу вытащить ее из этого кошмара. – Надеюсь, ты сделаешь это… Извини, но мне нужно пару часов поспать перед началом нашего праздника. – И Сол направился к матрасу у окна. Некоторое время Джентри упорно разглядывал потолок. Он ждал. Когда наконец его позвали, он уже был готов.Глава 31
Джермантаун
Среда, 31 декабря 1980 г.
Комната промерзла насквозь, окон в ней не было. Скорее, это была даже не комната, а кладовка – шесть футов в длину, четыре в ширину; с трех сторон пространство было ограничено каменными стенами, с четвертой – мощной деревянной дверью. Натали стучала в нее руками и ногами, пока они не покрылись синяками и ссадинами, но дверь даже не дрогнула. От холода заснуть она не могла. Сначала ее то и дело захлестывали волны ужаса – они накатывали, будто приступы тошноты, причиняя еще большую боль, чем порезы и ссадины на лбу. Она вспомнила, как, сжавшись, сидела за обуглившимися опорами дома и смотрела на приближавшуюся сутулую фигуру с косой. Потом вскочила, запустила в эту тварь кирпичом, который сжимала в руке, и попыталась проскользнуть мимо быстро метнувшейся тени. Но тут ее схватили за руки. Она кричала, отбивалась, однако парень держал ее крепко. После двух сокрушительных ударов по голове тело ее обмякло, кровь залила левый глаз, и Натали смутно осознала, что ее подняли и куда-то понесли. Клочок неба, снег, раскачивающийся фонарь – и тьма, тьма… Очнулась она от холода и первым делом подумала, что ей выкололи глаза, – так темно было вокруг. Она выползла из груды одеял, наваленных на каменном полу, и принялась ощупывать грубо отесанные стены своей камеры. Дотянуться до потолка ей не удалось. На одной из стен Натали обнаружила холодные металлические стержни, – вероятно, когда-то на них крепились полки. Через несколько минут она смогла различить более светлые полосы в дверных щелях – не то чтобы оттуда мог просачиваться свет, но просто всепоглощающая тьма обрела хоть какие-то очертания. Натали укуталась в два одеяла и, содрогаясь от холода, забилась в угол. Голова болела нестерпимо, и она с трудом сдерживала приступы тошноты, которые усиливались из-за страха. Всю жизнь Натали восхищалась своей способностью сохранять мужество в критических ситуациях, мечтая стать такой же, как отец, – спокойной, рассудительной в моменты, когда окружающие бессмысленно суетятся, – и вот теперь она беспомощно тряслась от страха, моля Бога, чтобы тот подонок с косой не вернулся. Натали не имела ни малейшего представления о том, где находится. Прошло несколько часов; несмотря на холод, она задремала, когда вдруг услышала скрежет многочисленных отодвигаемых засовов и явственно различила свет в щелях двери. На пороге возникла Мелани Фуллер. Натали не сомневалась, что это была именно она, хотя пляшущий язычок свечи освещал лицо старухи лишь снизу, придавая ему карикатурный вид: покрытые морщинами щеки и скулы, дряблый подбородок, нависавший над шеей, остекленевшие глаза, заплывшие веки, иссиня-седые редкие волосы на покрытом старческими пятнами черепе торчали чуть ли не дыбом, образуя своеобразный нимб. За спиной маньячки Натали отчетливо различила худое лицо того негодяя с длинными волосами, выпачканными грязью и кровью. Сломанные зубы парня желтовато поблескивали в свете единственной свечи, которую держала старуха. В руках у него ничего не было, а длинные белые пальцы время от времени подрагивали, будто под воздействием каких-то токов, пробегавших по телу. – Добрый вечер, моя дорогая, – скрипучим голосом промолвила Мелани Фуллер. На ней была длинная ночная рубашка и толстый дешевый халат. Ноги тонули в розовых пушистых тапочках. Натали натянула одеяло до подбородка и ничего не ответила. – Здесь холодно? – ласково осведомилась старуха. – Прости меня, дорогая. В этом доме всюду холодно, если тебя утешит такая весть. Не представляю, как это люди жили на севере до изобретения центрального отопления. – Она улыбнулась, обнажив идеально белую вставную челюсть. – Пришло время нам с тобой поговорить. Натали обдумывала, не броситься ли ей на старуху, пока у нее есть такая возможность, и попробовать прорваться наружу. Она заметила за дверью длинный деревянный стол – несомненно, старинный, а еще дальше – каменные стены. Но путь ей преграждал парень с дьявольскими глазами. – Это ты привезла мою фотографию из Чарлстона, милочка? Девушка молчала. Мелани Фуллер горестно покачала головой: – У меня нет желания причинять тебе вред, но, если ты добровольно не согласишься беседовать со мной, мне придется попросить Винсента уговорить тебя. Сердце Натали учащенно забилось у самого горла, когда она увидела, как эта длинноволосая тварь собирается шагнуть к ней. – Откуда же ты взяла фотографию, моя милая? Во рту у Натали пересохло, и она выдавила через силу: – Мистер Ходжес. – Тебе дал ее мистер Ходжес? – насмешливо осведомилась Мелани Фуллер. – Нет. Миссис Ходжес позволила нам посмотреть его слайды. – Кому это «нам», дорогая? – Старуха слегка улыбнулась. Пламя осветило острые скулы под натянувшейся пергаментной кожей. Натали молчала. – Тогда я предположу, что «нам» – это тебе и шерифу, – тихо сказала Мелани Фуллер. – Зачем же ты и полицейский из Чарлстона проделали такой путь и преследуете пожилую леди, которая не сделала вам ничего дурного? Натали почувствовала, как в ней закипает ярость, придавая ей силу и разгоняя страх. – Вы убили моего отца! – крикнула она и, попытавшись вскочить, больно ударилась плечом о грубую каменную кладку. – Твоего отца? – недоуменно переспросила старуха. – Тут какая-то ошибка, милочка. Натали покачала головой, стараясь справиться с подступившими слезами: – Вы использовали свою прислугу, чтобы убить его. Без всяких оснований. – Мою прислугу? Мистера Торна? Боюсь, ты что-то путаешь. Натали готова была плюнуть в лицо этому синевласому монстру, но во рту было сухо, как в пустыне. – Кто еще ищет меня? – спросила старуха. – Только ты и шериф? Как вам удалось отыскать меня здесь? Натали натужно рассмеялась, и смех ее эхом раскатился под каменными сводами. – Все знают, что вы здесь. Нам все известно и о вас, и о старом нацисте, и о вашей подруге – Нине Дрейтон… Больше вам не удастся убивать людей. Что бы вы со мной ни сделали!.. – Она глубоко вдохнула, потому что сердце ее колотилось с такой силой, что готово было выскочить из груди. Впервые за время разговора лицо старухи выразило явное беспокойство. – Нина?! – воскликнула она. – Так тебя послала Нина Дрейтон? В расширенных глазах Мелани Фуллер Натали увидела проблеск безумия. – Да, – твердо заявила она, понимая, что, возможно, обрекает себя на гибель, но желая во что бы то ни стало нанести ответный удар. – Меня послала Нина Дрейтон. Она знает, где вы находитесь! Старуха отшатнулась, будто ее ударили по лицу, нижняя челюсть у нее отвисла. Она схватилась за дверной косяк, чтобы не упасть, и оглянулась на существо, которое называла Винсентом. Поняв, что от него поддержки не будет, она, задыхаясь, прошептала: – Я устала… Мы поговорим позже. Позже… милочка. Дверь с силой захлопнулась, затем раздался скрежет задвигаемых засовов. Дрожа всем телом, Натали сжалась в темноте.* * *
Наступивший день оповестил о себе серыми полосами света у двери. Очнувшись от дремоты, Натали ощутила острую потребность оправиться, но вокруг не было ничего, даже горшка. Она стала стучать в дверь и кричать, пока не охрипла, однако никто не отозвался. Наконец она нащупала в темноте в дальнем углу своей камеры качающийся камень, ногтями вытащила его и приспособила образовавшуюся выемку под уборную. Закутавшись в одеяла, Натали снова легла, содрогаясь от холода и рыданий. Когда она пробудилась в следующий раз, уже стемнело. Засовы с лязгом отодвинулись, мощная дверь со скрипом распахнулась. На пороге стоял один Винсент. Натали попятилась, пытаясь нащупать вытащенный камень, но парень в одно мгновение схватил ее за волосы и приподнял. Левой рукой он сдавил ей горло, лишая воздуха и всякой воли к сопротивлению. Натали сдалась. Винсент грубо вытащил девушку из темницы и поволок к крутой узкой лестнице. Она успела увидеть темную кухню колониальных времен и маленькую гостиную с обогревателем, который мерцал в крохотном камине. Лестница вела в короткий темный коридор, откуда Винсент втолкнул ее в комнату, залитую светом свечей. Натали замерла на пороге с широко раскрытыми глазами. Мелани Фуллер лежала, свернувшись в позе зародыша, под целой горой одеял и покрывал на походной кровати. В комнате с высоким потолком имелось единственное окно, закрытое шторами. На столах, подоконнике, каминной полке и на полу вокруг кровати горели по меньшей мере три дюжины свечей. Повсюду сохранились свидетельства того, что когда-то здесь жили дети, – сломанный кукольный дом, колыбель с металлическими прутьями, похожая на клетку для маленького зверька, древние тряпичные куклы и неприятный манекен мальчика, который, казалось, получил изрядную дозу радиации. Его покрытый пятнами череп лишь кое-где был скрыт редкими пучками волос, а отслоившаяся на лице краска походила на внутренние кровоизлияния. Мелани Фуллер повернулась и взглянула на девушку, стоявшую в дверях. – Ты слышишь их? – прошептала она. Но в комнате, если не считать тяжелого дыхания Винсента да учащенных биений сердца Натали, царила полная тишина. Девушка ничего не ответила. – Они говорят, что уже пора, – прошипела старуха. – Я послала Энн домой на случай, если нам понадобится машина. Натали бросила взгляд в сторону лестницы, но путь ей снова преграждал Винсент. Она оглядела комнату в поисках возможного оружия. Металлическая колыбель была слишком громоздкой, манекен тоже наверняка не годился. Если бы у нее был нож или еще что-нибудь острое, она могла бы попытаться воткнуть его старухе в горло. Интересно, как поведет себя этот живой длинноволосый манекен, если погибнет его властительница? Мелани Фуллер, впрочем, тоже казалась живым трупом – в трепещущем свете кожа ее отливала такой же синевой, как и волосы, левый глаз почти полностью закрылся. – Скажи мне, чего хочет Нина, – прошептала она. Взгляд ее блуждал по лицу Натали. – Нина, скажи мне, чего ты хочешь? Я не собиралась убивать тебя, дорогая. Ты тоже слышишь голоса, моя милая? Они предупредили меня о том, что ты придешь. Они сказали мне о пожаре и о реке. – Она прерывисто задышала. – Мне надо одеться, но моя чистая одежда у Энн, а туда слишком далеко идти. Я должна немного отдохнуть. Энн принесет ее. Нина, тебе понравится Энн. Если захочешь, ты можешь взять ее… Натали застыла на месте, чувствуя, как в ней поднимается животный ужас. Возможно, это ее последний шанс. Что, если она попытается проскочить мимо Винсента, скатиться по лестнице и найти выход? Или наброситься на старуху? Она снова пристально посмотрела на Мелани Фуллер. От нее пахло неухоженным телом, детской присыпкой и потом. Теперь Натали совершенно не сомневалась в том, что именно эта тварь повинна в смерти ее отца. Она вспомнила, как видела его в последний раз: они обнимались на прощание в аэропорту после проведенного вместе Дня благодарения. Он благоухал свежим мылом и хорошим табаком, но глаза его были почему-то грустными. Может, он чувствовал тогда, что они больше не увидятся? И Натали решила, что Мелани Фуллер должна умереть. Все тело ее напряглось, готовое к броску. – Мне надоела твоя дерзость, девчонка! – вдруг заверещала старуха. – Что ты здесь делаешь? Ступай и займись своими обязанностями! Ты знаешь, как папа поступает с непослушными черномазыми? – И она закрыла глаза. И тут Натали, будто острым лезвием топора, вскрыли череп, и кто-то насильно проник в ее мозг. Голову словно охватило огнем. Она повернулась, начала падать вперед, но с трудом сохранила равновесие. Тело вдруг задергалось в каком-то полубезумном танце. Натыкаясь, как слепая, на стены, Натали сделала шаг назад и рухнула на Винсента. Тот схватил ее своими грязными руками за грудь. От него тоже несло мертвечиной. Резким движением он разорвал рубашку Натали. – Нет-нет-нет, – бормотала старуха в забытьи, как сомнамбула. – Сделай это внизу. А труп отнеси обратно в дом, когда закончишь. – Она приподнялась на локте и уставилась на девушку одним глазом, из-под тяжелого века другого виднелся лишь белок. – Ты солгала мне, милочка. У тебя нет никакого сообщения от Нины. Натали открыла было рот, чтобы ответить или закричать, но Винсент схватил ее за волосы, а другой рукой зажал лицо. Вытащив ее из комнаты, он поволок девушку вниз по лестнице. Она пыталась отбиваться, цеплялась за шероховатые перила, но Винсент не торопился. Он отрывал ее пальцы от перил, затем грубо ее пинал. Натали откатилась к стене, желая свернуться в тугой невидимый клубок, но парень снова вцепился ей в волосы и сильно дернул на себя. Тогда она с криком вскочила и изо всех сил ударила его в пах. Он без труда поймал ее ногу и резко дернул. Натали успела повернуться, но недостаточно быстро, лодыжка хрустнула, как сухая ветка, и девушка тяжело рухнула на пол. Жгучая боль охватила всю нижнюю часть ее тела. Она оглянулась как раз в тот момент, когда Винсент вытащил нож из кармана своей армейской куртки и раскрыл длинное лезвие. Натали хотела отползти в сторону, но он ухватил ее за рубашку и почти приподнял над полом. Джинсовая ткань не выдержала и с треском разорвалась, кусок рубашки остался у него в руках. Натали продолжала ползти вперед по темному коридору, пытаясь нащупать хоть что-то, что можно было бы использовать вместо оружия. Но, кроме холодных досок, которыми был устлан пол, ничего не попадалось. Услышав тяжелую поступь над головой, девушка перекатилась на спину и, развернувшись, впилась зубами в ногу своего преследователя. Тот не дернулся и не издал ни единого звука. Лезвие ножа мелькнуло в воздухе, рассекая кожу на плече Натали. Она задохнулась от жгучей боли и подняла руки в тщетной попытке защититься от нового удара. И тут на улице загремели взрывы.Глава 32
Джермантаун
Среда, 31 декабря 1980 г.
– Проблема заключается в том, что я никогда никого не убивал, – произнес Тони Хэрод. – Никого? – переспросила Мария Чэнь. – Никого, – подтвердил он. – И никогда. Мария Чэнь кивнула и долила шампанского в фужеры. Они лежали лицом друг к другу в огромной ванной отеля «Каштановые холмы». В зеркалах отражалась единственная горящая ароматическая свеча. Хэрод откинулся назад и посмотрел на Марию из-под тяжелых век. Ее смуглые ноги возвышались между его коленями, лодыжки под пенящейся водой нежно касались его ребер. Пена скрывала все, кроме выпуклости ее правой груди, но он различал сосок – упругий и сладкий, как спелая клубника. Тони любовался изгибом ее шеи, тяжестью черных волос, когда она запрокидывала голову, чтобы глотнуть шампанского. – Двенадцать часов, – заметила Мария Чэнь, бросив взгляд на золотой «ролекс» на полке. – С Новым годом! – С Новым годом, – ухмыльнулся Хэрод, и они чокнулись полными фужерами. Они начали отмечать праздник с девяти вечера. Это Марии Чэнь пришло в голову принять совместную ванну. – Никогда никого не убивал, – снова повторил Хэрод. – И не испытывал в этом необходимости. – Похоже, теперь тебе придется это сделать, – заметила Мария Чэнь. – Джозеф сегодня перед уходом напомнил, как бы между прочим, что мистер Барент настаивает на твоей кандидатуре. – Да. Хэрод вылез из ванны и поставил фужер на полку. Обтершись махровым полотенцем, он протянул руку Марии. Та не спеша, как Афродита, выбралась из пенящихся пузырей. Хэрод принялся нежно вытирать ее тело, проводя мягким полотенцем по спине, по груди. Когда он коснулся ее живота и бедер, она чуть раздвинула ноги. Выронив полотенце, Хэрод подхватил девушку на руки и понес в спальню. Ему казалось, что такое с ним творится впервые. С пятнадцати лет он не спал с женщиной, которая отдалась бы ему по доброй воле. Он всегда лишь грубо брал их. Кожа Марии Чэнь пахла лавандой и ароматическим мылом. У нее перехватило дыхание, когда он медленно вошел в нее, и они покатились по необъятному пространству мягких простыней. Их тела слились воедино, губы и руки жадно ласкали друг друга. Когда Мария оказалась сверху, Хэрод закрыл глаза и застонал. Она кончила первой, он – несколько секунд спустя, и прильнул к ней с такой силой, с какой падающий в бездну человек цепляется за последнюю ветку в надежде удержаться. Зазвонил телефон. И продолжал звонить не переставая. Тони потряс головой. Мария Чэнь поцеловала его руку, сняла трубку и передала ему. – Хэрод, сейчас же приезжай сюда! – донесся возбужденный голос Колбена. – Тут просто сумасшедший дом!* * *
Колбен вернулся в центр управления. Агенты по-прежнему сидели за мониторами, делали записи, нашептывали что-то в надетые на голову микрофоны. – Черт побери, где Галлахер? – рявкнул Колбен. – До сих пор никаких сведений, сэр, – откликнулся техник из-за второго пульта. – Тогда фиг с ним, – решил Колбен. – Скажи Зеленой бригаде, чтобы прекратила поиски. Пусть прикроют вторую Синюю возле рынка. – Есть, сэр. Колбен прошелся вдоль узкого прохода и остановился у последнего монитора: – Черномазые все еще у Крепости? – Да, сэр, – ответила молодая женщина. Она переключила канал, и на экране вместо изображения дома Энн Бишоп появился проулок, тянувшийся за ним. Даже несмотря на использование инфракрасной подсветки, фигуры у гаража напоминали привидения. Колбен насчитал двенадцать теней. – Свяжите меня с Золотой! – приказал он. – Есть, сэр. – Техник протянул ему дополнительный комплект наушников с микрофоном. – Петерсон, я насчитал целую дюжину. Какого черта, что там происходит? – Не знаю, сэр. Хотите, чтобы мы вмешались? – Нет, – ответил Колбен. – Оставайтесь поблизости. – На Эшмед еще восемь неизвестных, – сообщил агент от пятого пульта. – Только что миновали Белую бригаду. Колбен снял наушники: – Дьявол, где Хейнс? – Он везет Хэрода и его секретаршу. Они будут через пять минут. Колбен закурил сигарету и похлопал по плечу женщину за монитором: – Свяжись с Хайеком, пусть готовит вертолет. – Есть, сэр. Из кабинета Колбена вынырнул Джеймс Леонард: – Мистер Барент на третьей линии, сэр. Колбен кивнул, вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. – С Новым годом, Чарльз! – послышался голос Барента. Он звучал гулко и сопровождался шумовым фоном, словно передавался по спутниковой связи. – Да, – отозвался Колбен. – В чем дело? – Я уже разговаривал с Джозефом, – сообщил Барент. – Его тревожит ход развития операции. – Ну и что? Кеплер всегда паникует. Мог бы остаться здесь, если его это так тревожит. – У Джозефа есть дела в Нью-Йорке. – Барент помолчал. – Наши друзья не появлялись? – Вы имеете в виду старого фрица? – осведомился Колбен. – Нет. После вчерашнего взрыва на складе ни слуху ни духу. – У вас есть какие-нибудь идеи насчет того, зачем Вилли понадобилось приносить в жертву одного из своих подручных для ликвидации доктора Ласки? И к чему столько разрушений? Джозеф сказал, что пришлось вызывать городскую пожарную команду. – Откуда мне знать? – огрызнулся Колбен. – Послушайте, мы даже не уверены, действительно ли Лугар и этот еврей были там. – Мне казалось, что этим как раз занимаются ваши судебно-медицинские эксперты, Чарльз. – Занимаются. Но завтра праздник. Кроме того, насколько мне известно, Лугар и Ласки сидели на тридцати фунтах взрывчатки Си-четыре. Так что для экспертов там мало что осталось. – Понимаю, Чарльз. – Мне нужно идти, – заторопился Колбен. – У нас здесь развиваются события. – Что за события? – Ничего серьезного. Несколько придурков из этой несчастной банды крутятся вокруг охраняемой зоны. – Но это ведь не осложнит утреннюю задачу, не так ли? – осведомился Барент. – Нет, – бросил Колбен. – Я уже вызвал Хэрода, он на пути сюда. Если потребуется, мы сможем в течение десяти минут закрыть периметр и позаботиться о Фуллер с опережением графика. – Вы думаете, мистер Хэрод справится с заданием, Чарльз? Колбен загасил сигарету и закурил следующую. – Я думаю, Хэрод не может справиться даже с тем, чтобы подтереть свою собственную задницу. Вопрос заключается в том, что нам делать, когда он все провалит? – Полагаю, вы уже рассмотрели варианты? – поинтересовался Барент. – Да. Хейнс готов вмешаться и позаботиться о старухе. Но когда Хэрод все провалит, я бы хотел сам заняться этим голливудским трахалем. – Вы будете настаивать на его ликвидации? – Я буду настаивать на том, чтобы заткнуть ему рот полицейским стволом и разнести его мозги по всей Филадельфии. – Колбен не на шутку разозлился. Повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием в трубке. – Что ж… Как сочтете нужным, – наконец произнес Барент. – Его секретарше тоже придется исчезнуть, – добавил Колбен. – Разумеется, – согласился Барент. – Единственное, Чарльз… В дверь просунулась голова агента Леонарда. – Только что появился Хейнс с мистером Хэродом и мисс Чэнь. Они уже в вертолете. Колбен кивнул. – Так что? – продолжил он разговор с Барентом. – Завтрашний день очень важен для всех нас, – проговорил тот на другом конце провода. – Но, пожалуйста, не забывайте, что после того, как старуха будет выведена из игры, нашей главной целью останется мистер Борден. Если окажется возможным, свяжитесь с ним, вступите в переговоры и ликвидируйте, если того потребуют обстоятельства. Клуб Островитян целиком полагается на ваше мнение, Чарльз. – Да, – подтвердил Колбен. – Я буду помнить об этом. Поговорим позже, не возражаете? – Удачи, Чарльз. – В трубке что-то зашипело, и связь оборвалась. Колбен быстро натянул бронежилет и бейсбольную кепку, засунул револьвер 38-го калибра в кобуру и застегнул куртку. Лопасти винта уже начали набирать обороты, когда он подбежал, согнувшись, к открытой двери вертолета.* * *
Сол Ласки, Тейлор, Джексон и шестеро более молодых членов братства Кирпичного завода наблюдали за тем, как вертолет поднялся в воздух и направился к северо-востоку. Грузовик они оставили за высоким деревянным забором, неподалеку от входа в центр управления ФБР. – Что ты об этом думаешь? – обратился к Солу Тейлор. – Это твой мистер Вуду? – Возможно, – откликнулся психиатр. – Мы находимся рядом со стройкой? – Да, насколько я могу судить. Сол повернулся к Джексону: – Ты уверен, что сможешь все завести без ключей? – Не сомневайся, приятель, – заверил тот. – Я три месяца оттрубил механиком в строительном батальоне во Вьетнаме. Заведу без ключа даже твою маму. – С меня хватит и бульдозера. – Сол не хуже Джексона знал, что одним коротким замыканием проводов бульдозер не заведешь. – А если я его заведу, ты с ним справишься? – осведомился Джексон. – Я четыре года занимался строительством в кибуце, так что справлюсь не только с бульдозером, но и с твоей мамой, – в тон ему пошутил Сол. – Спокойно, приятель. – Джексон широко улыбнулся. – Не старайся переплюнуть меня. У белых нет слуха на хорошие подначки. – Мой народ привык обмениваться подначками с самим Господом. Так что лучшей школы не придумаешь. Джексон рассмеялся и хлопнул Ласки по плечу. – Кончайте трепаться, – одернул их Тейлор. – Мы уже на две минуты опаздываем. – Ты уверен, что твои часы идут правильно? – спросил Сол. Тейлор бросил на него негодующий взгляд и вытянул вперед руку, демонстрируя элегантные дамские часы «Леди Элджин» в золотой оправе с бриллиантами: – Эти даже за год не отстанут на пять секунд. Пора двигаться. – Отлично, – сказал Сол. – Как мы проберемся? – Зубатка! – позвал Тейлор. Из задней дверцы грузовика выскочил парень. Забравшись на крышу кабины, он перепрыгнул на забор высотой в десять футов и исчез за ним. Остальные пятеро проделали то же самое. За плечами у них висели тяжелые рюкзаки, откуда доносилось звяканье бутылок. – Пошли, – скомандовал Тейлор, вылезая из кабины. Сол глянул на свою перебинтованную руку. – Рана будет пока болеть, – предупредил его Джексон. – Хочешь какой-нибудь укол? – Нет. – Сол покачал головой и последовал за остальными.* * *
– Это противозаконно, – произнес Тони Хэрод. Он глядел на проплывающие внизу фонари, мосты и автострады с высоты всего в триста футов. – Полицейский вертолет, – буркнул Колбен. – Специальное разрешение. Он развернулся в своем кресле так, что смог высунуться из открытого окна с правого борта. Холодный воздух с шумом врывался в салон, обжигая лица Хэрода и Марии Чэнь. На специальной опоре у окна Колбен держал снайперскую винтовку 30-го калибра. Оружие с громоздким прибором ночного видения, лазерным видоискателем и увеличенным магазином казалось несуразным и неуклюжим. Колбен ухмыльнулся и что-то произнес в микрофон, нахлобучив капюшон на глаза. Пилот круто свернул вправо, сделав вираж над Джермантаун-стрит. Хэрод вцепился в сиденье обеими руками и закрыл глаза. Он не сомневался, что только благодаря пристежному ремню не вывалился из окна и не полетел, кувыркаясь, на мощенную кирпичом улицу с высоты тридцатиэтажного здания. – Красный лидер – Центру управления, – произнес Колбен. – Проверка связи. – Центр управления на связи, – послышался голос агента Леонарда. – Вторая Синяя бригада сообщает о вторжении четырех машин с латиноамериканцами в охраняемую зону на Челтен-стрит и в районе рынка. В переулках за Крепостью-один и Крепостью-два наблюдается скопление новых неопознанных группировок. Команда из пятнадцати неизвестных негров захватила Белую бригаду – один. Связь окончена. Колбен повернулся к Хэроду: – Думаю, обычная междоусобица. Традиционная новогодняя стычка. – Но ведь Новый год уже наступил, – возразила Мария Чэнь. – Какая разница? – хмыкнул Колбен. – Нам-то что? Пусть мочат друг друга, лишь бы не мешали нашей операции. Верно, Тони? Хэрод ничего не ответил, продолжая изо всех сил держаться за сиденье.* * *
Шериф Джентри, задыхаясь, бежал вперед, стараясь не отставать от подростков. Марвин и Лерой во главе десятка негров вели их сквозь темный лабиринт переулков, дворов, заваленных хламом стоянок и нежилых зданий. Наконец в одном из переулков Марвин взмахом руки подал сигнал остановиться. Ярдах в шестидесяти от них, за мусорными баками и просевшими гаражами, виднелся зеленый фургон. – Федеральные свиньи, – прошептал Лерой, посмотрел на часы и ухмыльнулся. – Мы опережаем график на минуту. Джентри присел, уперев руки в колени и стараясь справиться с одышкой. Ребра у него болели, ему было холодно. Больше всего он мечтал сейчас оказаться дома в Чарлстоне, слушать квартет Дейва Брубека и читать Брюса Кэттона. Он прислонился затылком к холодному кирпичу и задумался о том, что же произошло, когда они покидали общинный дом, и почему изменился его взгляд на Джермантаун и братство Кирпичного завода. Он вспомнил, как в последний момент перед их выходом в кухню ворвался мальчишка не старше семи-восьми лет. Он сразу бросился к Марвину. – Стиви, – строго сказал главарь банды, – я же велел тебе не приходить сюда. Мальчик захныкал, рукавом растирая по лицу слезы: – Мама просила, чтобы ты сразу шел домой, Марвин. Она сказала, что ты нужен ей и Марите дома… Марвин обнял мальчугана за плечи и повел в соседнюю комнату, откуда до Джентри донеслось: «Скажи маме, что первым делом утром я зайду домой. А Марита пусть остается с ней и занимается делами. Так и передай им, Стиви». Этот разговор почему-то очень взволновал Джентри. До сих пор он относился к банде лишь как к части кошмара, который окружал его в течение последних пяти дней. Джермантаун и его обитатели ассоциировались в его сознании с болью, мраком и, казалось бы, разрозненными событиями, происходящими вокруг. Джентри знал, что члены банды молоды – исключением был Джексон, но тот потерянная душа, гость, бывший питомец, вынужденный вернуться к своим прежним пристрастиям, ибо жизнь вытолкнула его отовсюду. Джентри встречал еще нескольких людей на холодных улицах – то были тихие, болезненного вида женщины, спешившие по делам, бесцельно шатающиеся старики и неизбежные алкоголики, валявшиеся перед магазинами. Он понимал, что они не являются истинным лицом общины, что летом улицы заполнят гуляющие семейства, играющие во дворах дети, подростки, гоняющие мяч по полю. Нынешняя кошмарная пустота порождена холодом, взрывом насилия на улицах и присутствием чужих, потусторонних сил, которые продолжали считать себя невидимыми. С приходом Стиви шериф осознал, что на самом деле оказался заброшенным в другой мир, где ему предстоит в обществе детей сражаться со взрослым противником, обладающим всей полнотой власти и вооруженным до зубов по последнему слову техники. – Они здесь, – прошептал Лерой. Мимо пронеслись три низкие машины и, резко затормозив, остановились в дальнем конце переулка. Смеясь и перебрасываясь шутками на испанском, оттуда вывалилась целая толпа молодых людей. Некоторые из них подошли к фургону и стали колотить по нему бейсбольными битами и обломками труб. Фары фургона вспыхнули, изнутри раздался чей-то крик. Трое мужчин выскочили из боковой двери, один из них выстрелил в воздух. – Пошли, – бросил негромко Марвин, и члены банды быстро побежали по переулку, держась в тени гаражей и заборов. Миновав ярдов двадцать и достигнув пустого пространства за сараем, они остановились у низкой металлической ограды. Со стороны фургона раздалось еще несколько выстрелов. Джентри расслышал гул заводящихся моторов, машины, набирая скорость, начали удаляться в сторону Джермантаун-стрит. – Вот она, Ропщущая Обитель, – сказал Лерой. Джентри, прильнув к ограде, разглядел маленький дворик с огромным голым деревом посередине и тыльную сторону старого каменного здания. – Окна первого этажа зарешечены, – сообщил Марвин. – Одна дверь сзади, две спереди. Будем заходить с двух сторон. Вперед! Марвин, Лерой, Г. Б., Г. Р. и еще двое парней легко перемахнули через ограду. Джентри попробовал последовать их примеру, но зацепился за проволоку и тяжело рухнул на замерзшую землю. Поднявшись на ноги, он вытащил из кармана «ругер» и бросился догонять остальных. Марвин и Г. Б. жестами показали ему, чтобы он двигался к торцу дома. У обоих в руках были пневматические винтовки. Лоб главаря стягивала красная бандана. – Мы войдем с улицы. От соседнего магазина Ропщущую Обитель отделял деревянный забор высотой в четыре фута. Они подождали, пока мимо не проедет пустой автобус, после чего Лерой ногой распахнул ворота, и они с Г. Б. спокойно вошли во двор, с равнодушным видом двигаясь вдоль зарешеченных окон к дверям. Почти от самой дорожки шел спуск к подвалу, запертому на замок. Джентри чуть отошел назад и окинул взглядом старинное здание. Ни в одном из девяти окон света не было, на улице тоже было пусто, если не считать удалявшегося на запад автобуса. Яркие фонари освещали витрины магазинов и вымощенную кирпичом мостовую. – Давай, – скомандовал Марвин. Г. Б. подошел к западной двери и изо всех сил ударил по ней ногой. Толстая дубовая дверь не шелохнулась. Тогда Марвин и Лерой вскинули свои винтовки, отступили назад и выстрелили в замок. Джентри шарахнулся в сторону, инстинктивно прикрывая глаза от разлетавшихся щепок. После второго выстрела дверь распахнулась, и Г. Б. повернулся к Марвину, подняв кулак в победном салюте. И тут на груди у него заплясала непонятно откуда взявшаяся красная точка, затем она метнулась вверх, к виску. Г. Б. поднял голову, дотронулся рукой до лба, так что крошечная точка оказалась на его запястье, и посмотрел на Марвина с выражением веселого удивления. Звук выстрела был слабым и донесся словно издалека. Тело Г. Б. швырнуло сначала к дверям, потом обратно на дорожку. Джентри увидел, что у юноши снесено полголовы, а дальше он уже бежал, падал на четвереньки и полз к воротам, ведущим в боковой дворик. Он успел заметить, что Марвин перепрыгнул через ступеньки крыльца и нырнул в открытую дверь. Красные точки плясали на здании над головой Джентри, от двух выстрелов ему в лицо полетели осколки камня. Он миновал ворота, откатился в сторону и сильно обо что-то ударился, в то время как несколько сделанных подряд выстрелов взметнули вверх комья земли слева от него. Ничего не видя перед собой, Джентри пополз вглубь двора. Со стороны улицы раздалось еще несколько выстрелов, но ни один из них не попал в цель. – Какого черта? – спросил Лерой, подбежав к нему. – Стреляют с той стороны улицы, – переводя дыхание, ответил Джентри, с удивлением обнаружив, что все еще сжимает в руке «ругер». – Со второго этажа или с крыши. Используют какое-то лазерное приспособление. – А где Марвин? – Кажется, внутри. Г. Б. убит. Лерой махнул рукой и исчез из виду. С полдюжины теней метнулись к дому. Джентри подбежал к торцу здания и осторожно выглянул на задний двор. Черный ход был открыт, изнутри лился слабый свет. В переулке затормозил фургон, из двери высунулся водитель, но тут из темноты прогремели выстрелы, и он исчез в кабине. Джентри увидел, как к большому дереву метнулись сразу несколько человек. Над головой послышался рев вертолета, и яркий луч прожектора залил двор. Мальчишка, имени которого Джентри не знал, замер, как олень, в луче света и, прищурившись, уставился вверх. Лишь на мгновение красная точка появилась на его груди, и он тут же упал, сраженный пулей. Звука выстрела Джентри даже не услышал. Он сжал «ругер» обеими руками и трижды пальнул в сторону прожектора. Луч его дико заметался, освещая ветви деревьев, крыши, фургон, – вертолет разворачивался и поднимался выше, к темному небу. Со стороны фасада грянула беспорядочная пальба, и кто-то закричал высоким тонким голосом, звуки и вспышки выстрелов доносились и со стороны фургона. К Ропщущей Обители подъезжали все новые и новые машины, оглашая окрестности ревом моторов. Джентри глянул на «ругер», решил, что перезаряжать его нет времени, и опрометью бросился к черному ходу.* * *
Сол Ласки уже лет двадцать не управлял бульдозером, с тех пор как помогал расчищать кибуц, но, как только Джексон пробудил двигатель к жизни, он уселся на место водителя, и память его сработала автоматически. К счастью, это оказался американский «Катерпиллер Д-7» – прямой потомок знакомых ему машин. Сол освободил рукоять маховика, поставил переключатель скоростей в нейтральное положение, зафиксировал тормоз правой гусеницы и, убедившись, что все готово, принялся искать кнопку стартера. Обнаружив ее, он облегченно вздохнул, однако после того, как он включил зажигание и открыл топливный клапан, ничего не последовало. – Эй! – крикнул худой парень по кличке Зубатка, сидевший рядом с Солом на корточках. – Ты хоть знаешь, что делаешь? – Все в порядке! – прокричал в ответ Сол, дотянулся до рычага, решив, что все дело в тормозе, потом схватился за другой и рванул на себя. Стартер взвыл, двигатель заработал. Сол нашел дроссельный клапан, высвободил его и так нажал на правое сцепление, что чуть не задавил Джексона, который как раз заводил слева второй бульдозер. Сол быстро выровнял машину, едва не заглушив двигатель, и умудрился развернуться в сторону трейлеров, ярдах в шестидесяти от них. Черный дым и дизельные выхлопы повалили им в лицо. Сол посмотрел вправо и увидел, что по разрытой земле рядом с бульдозером бегут трое членов банды. – А быстрее эта штуковина двигаться не может? – спросил Зубатка. Сол услышал скрежет и понял, что он до сих пор не поднял ковш. Он тут же исправил свою оплошность, и машина двинулась вперед с бо́льшим энтузиазмом. За спиной у них взревел бульдозер Джексона, направляясь следом. – А что ты будешь делать, когда мы до них доберемся? – снова спросил Зубатка. – Увидишь! Сол надел очки. У него не было ни малейшего представления о том, что он будет делать. Он понимал только одно: в любую секунду из трейлеров могут выскочить фэбээровцы и открыть огонь. Медленно двигающиеся бульдозеры станут для них отличной мишенью. Вероятность того, что удастся добраться до трейлеров, была весьма невелика. Уже много лет Сол не испытывал такого душевного подъема.* * *
Малькольм Дюпри в сопровождении восьми членов братства подходил к дому Энн Бишоп. Марвин практически не сомневался, что Фуллер находится в старом доме на Джермантаун-стрит, но Малькольму было поручено проверить дом на Квин-лейн. Радиосвязи у них не было; к каждой группе Марвин приставлял по двое мальчишек лет десяти-одиннадцати, которые должны были бегом доставлять информацию. Пока никаких сообщений от Марвина не поступало, но, едва Малькольм услышал перестрелку со стороны Джермантаун-стрит, он взял половину своей группы и двинулся по переулку к заднему двору дома Энн Бишоп. Остальные шестеро остались наблюдать за фургоном, который продолжал неподвижно стоять в конце переулка с потухшими фарами. Малькольм, Донни Коулс и маленький толстяк Джимми, младший брат Луиса Соларца, вошли в дом первыми, выбив дверь на кухню. Малькольм вытащил никелированный девятимиллиметровый пистолет с удлиненным магазином на четырнадцать патронов, купленный у Мухаммеда за семьдесят пять долларов. У Донни была кустарная пукалка с единственным патроном 22-го калибра. Джимми имел при себе лишь нож. Ни хозяйки, ни ее гостей в доме не оказалось. Им потребовалось три минуты, чтобы обыскать помещение, после чего Малькольм вернулся на кухню, а Донни пошел проверить двор. – Кровать наверху завалена кучей барахла, – заметил Джимми. – Похоже, кто-то укладывался в спешке. – Да, – согласился Малькольм. Он махнул рукой своим приятелям, оставшимся на заднем дворе, и к нему тут же подскочил десятилетний связной Джефферсон. – Беги к старому дому на Джермантаун и узнай, что Марвин собирается… Он не успел договорить, так как снаружи послышался звук поднимающихся ворот гаража и шум мотора. Малькольм выскочил через заднюю дверь и увидел, как из гаража выехала старинная машина со странной решеткой на радиаторе. Фары у нее были погашены, на водительском месте, вцепившись в руль, сидела старуха. Он мгновенно узнал ее – мисс Бишоп всю жизнь была его соседкой, а в детстве он даже подстригал ее крохотный газончик. Когда пятеро членов банды перегородили дорогу, старуха с испуганным видом оглянулась и опустила стекло. – Мальчики, вам лучше отойти, – произнесла она чужим, неестественным голосом. – Мне нужно проехать. Малькольм заглянул в машину убедиться, что в ней больше никого нет, опустил револьвер и склонился к мисс Бишоп: – Простите, но вы никуда не поедете, пока… И тут старуха вскинула руки с изогнутыми, как когти, пальцами, и Малькольм чуть не лишился обоих глаз, но вовремя отпрянул назад. Длинные ногти оставили на его щеках и веках несколько кровавых полос. Он вскрикнул, а машина с ревом рванула вперед, подбросив в воздух маленького Джефферсона и наехав на Джимми левым колесом. Малькольм выругался и нагнулся, пытаясь нащупать на земле свой пистолет, затем опустился на одно колено и трижды выстрелил вслед удалявшейся машине. Он услышал чей-то предупреждающий крик и, не поднимаясь с колена, резко обернулся. Прямо на него с ревом несся фургон, до этого стоявший в конце переулка. Малькольм прицелился – и понял, что потерял на это бесполезное движение несколько драгоценных секунд. Он хотел закричать, но было уже слишком поздно. На бешеной скорости бампер фургона врезался ему в лицо.* * *
– Давайте убираться отсюда к черту! – завопил Тони Хэрод, когда что-то ударилось в левый борт вертолета, рассыпав целый фонтан искр. Они висели в шестидесяти футах над плоской крышей здания, пока Колбен, не переставая глупо ухмыляться, палил из своей навороченной винтовки – ни дать ни взять реквизит для «Звездных Войн». Пилот Хайек, вероятно, был согласен с Хэродом, поскольку он, не дожидаясь, пока Колбен оторвется от окна и отдаст распоряжение, резко взял вправо и начал набирать высоту. Ричард Хейнс продолжал невозмутимо сидеть в кресле второго пилота, глядя вниз, словно они совершали ночную экскурсию, осматривая местные достопримечательности. Мария Чэнь, крепко зажмурившись, сидела справа от Хэрода. – Красный лидер – Центру управления, – произнес Колбен в микрофон. Хэрод и Мария Чэнь тоже были в наушниках, чтобы иметь возможность переговариваться, невзирая на рев ветра, двигателей и лопастей. – Центр управления слушает, – донесся женский голос. – Говорите, Красный лидер. – Какого черта, что происходит? Крепость-два окружена черномазыми. – Так точно, Красный лидер. Зеленая бригада подтверждает контакт с неизвестным количеством вооруженных чернокожих, прорывающихся в Крепость. Золотая бригада преследует цель-два, движущуюся на север параллельно Квин-лейн в «де сото» пятьдесят третьего года. Белая, Синяя, Серая, Серебряная и Желтая бригады – все сообщают о контактах с воинственно настроенными неизвестными лицами. Дважды звонил мэр города. Прием. – Мэр, – повторил Колбен. – Боже мой! Где же Леонард? Прием. – Агент Леонард расследует беспорядки в районе стройки. Я свяжу вас с ним, как только он вернется, Красный лидер. Прием. – Черт побери! – выругался Колбен. – Слушайте, я собираюсь прислать Хейнса, чтобы он разобрался с ситуацией в Крепости-два. Пусть Синяя и Белая бригады оцепят район от рынка до Эшмед-стрит. Передайте Зеленой и Желтой бригадам, чтобы они никого не впускали в Крепость и никого не выпускали. Понятно? – Да, Красный лидер. У нас тут… – Послышался громкий скрежет, и связь прервалась. – Черт! – снова выругался Колбен. – Центр? Центр? Хейнс, переключитесь на оператора два-пять. Золотая бригада? Это Красный лидер. Петерсон, вы меня слышите? – Да, Красный лидер, – донесся приглушенный мужской голос. – Где вы находитесь? – Преследуем цель-два к западу по Джермантаун-стрит. – Бишоп… – Нам нужно подкрепление, Красный лидер, – затараторил тот же голос. – Две машины с латиноамериканцами… Мы свяжемся с вами позднее, Красный лидер. Связь окончена. – Спускайся! – крикнул Колбен пилоту. – Нет открытого пространства, сэр. – Мне плевать! – выпалил Колбен. – Если надо, садись хоть на Джермантаун-стрит. Сейчас же! Хайек глянул направо, развернул вертолет и кивнул. Тони Хэрод чуть не задохнулся, когда они начали стремительно терять высоту, словно в лифте с оборвавшимся тросом. Уличные фонари буквально неслись им навстречу, в соседнем квартале полыхало какое-то здание. Еще мгновение, и вертолет мягко приземлился на асфальт посреди улицы. Хейнс, выскочив из кабины, короткими перебежками бросился к тротуару. – Взлетай! – приказал Колбен, указывая вверх большим пальцем. – Нет! – завопил Хэрод и кивнул Марии Чэнь; оба начали судорожно распутывать свои пристежные ремни. – Мы тоже выходим. – Черта с два, – ухмыльнулся Колбен. Мария Чэнь молча вытащила из сумочки браунинг и направила ствол в грудь Чарльза. – Мы выходим! – еще раз крикнул Хэрод. – Можешь считать себя покойником, Тони, – тихо произнес Колбен. Хэрод покачал головой: – Я не слышу тебя, Чак. До встречи! – Он выпрыгнул из левой двери и бросился в сторону, противоположную той, куда побежал Хейнс. Мария Чэнь выждала еще с полминуты и тоже сдвинулась к двери. – Оба можете считать себя покойниками, – со злостью бросил Колбен, затем перевел взгляд на винтовку, закрепленную с правого борта, и расслабился. Мария Чэнь кивнула, выпрыгнула наружу и пустилась бегом. – Высота сто футов, – произнес Колбен. Вертолет поднялся над проводами и крышами домов, повернул влево и снова завис над Джермантаун-стрит. Колбен прильнул к оптическому прицелу, проверяя переулки, но так и не заметил никакого движения. – Слишком много всего нависает, – пробормотал он; в наушниках скороговоркой трещал голос Хейнса, настойчиво требуя ответа от снайперов из Зелени-один. Колбен покачал головой. – Назад к Крепости-два, – скомандовал он. – С этим дерьмом я разберусь позднее. Вертолет развернулся, набрал высоту и направился к востоку.Глава 33
Джермантаун
Четверг, 1 января 1981 г.
Натали Престон лежала на спине, пытаясь защититься от ножа Винсента, когда снаружи у парадной двери что-то взорвалось. Щепки фонтаном брызнули в коридор. Раздался второй взрыв, у задней двери. Через дверной проем маленькой гостиной Натали увидела, как мощная входная дверь дрогнула и распахнулась. Во внезапно наступившей тишине Винсент поднял голову и завертел ею из стороны в сторону, как плохо запрограммированный робот. Нож поблескивал в его руке. Натали затаилась, боясь даже дышать. Послышалась еще целая серия взрывов, на этот раз более отдаленных. И вдруг в гостиную влетела темная фигура и, прокатившись, врезалась в кресло у камина. Выпавший обрез, прогрохотав по голым доскам пола, замер у ножки стола. Винсент переступил через девушку и двинулся в ту сторону. Натали успела заметить расширенные от ужаса ярко-синие глаза Марвина Гейла и, собрав все силы, поползла вглубь дома. Боль в лодыжке была нестерпимой, но Натали закусила губу до крови, чтобы не закричать. С улицы донеслись новые выстрелы, а за спиной у нее боролись Марвин и Винсент. Подтянувшись за косяк, Натали встала и кое-как поковыляла в длинную комнату – вероятно, кухню. При свете двух свечей, горевших на столе, она заметила у стены помповый дробовик. Натали уже почти добралась до оружия, когда в запертую дверь кухни трижды выстрелили снаружи. Металлический замок и деревянный засов разлетелись. Она успела отскочить в сторону, но при этом врезалась в стол и упала, сильно ударившись о каменный пол. В дверь выстрелили еще пару раз, и она уже почти поддалась. В шести футах перед собой Натали увидела кладовку, ту самую, где ее держали в заточении. Решив, что там можно временно укрыться, она поползла туда, и в этот момент входная дверь распахнулась. В кухню ворвался один из близнецов из банды Марвина, которого Натали тут же узнала. За ним следовал еще один парень, у обоих в руках были обрезы. Они подбежали к столу и укрылись за ним. – Не стреляйте! – закричала Натали. – Это я! – Кто это «я»? – переспросил близнец, поводя стволом. Натали нырнула в кладовку, когда в кухню, спотыкаясь, вошел Марвин Гейл. Его руки и грудь были залиты кровью, дробовик свисал до пола так, словно у Марвина не было сил поднять оружие. – Марвин! Черт, как ты сюда попал? – Близнец встал из-за стола. Второй парень тоже высунул голову. Марвин вскинул дробовик и дважды выстрелил. Близнец отлетел назад к холодному камину. Его напарник перекатился в угол, что-то прокричал и попытался встать. Марвин развернулся и выстрелил от бедра. Парень врезался в стену и попросту исчез в дыре, которую скрывали тени. Натали осознала, что сидит на корточках, стягивая на груди разодранный лифчик. Она выглянула в щель и увидела, как Марвин деревянной походкой направился к камину, чтобы осмотреть труп близнеца. Затем он повернулся и подошел к отверстию, ведущему в подземный ход. Заглянув внутрь, он опустил туда ствол и еще раз выстрелил. Натали выползла в коридор, забыв придерживать лифчик, который распахнулся. Тело ее содрогалось от страха и холода. С улицы грохотали выстрелы. «Это какой-то кошмарный сон, – твердила она себе. – Сейчас я проснусь, и все кончится». Но страшная боль в лодыжке говорила об обратном. В коридор, широко расставляя ноги, вышел Винсент, сжимая в руке длинный нож. Натали замерла на месте, ухватившись за обшивку стены, чтобы не упасть. Слева от нее крутая лестница вела на второй этаж. Винсент сделал шаг к ней, но девушка отскочила влево и закричала, ударившись больной ногой о ступеньку. Захлебываясь слезами, она ринулась вверх по лестнице, когда услышала за спиной голос Роба Джентри, доносившийся из кухни.* * *
Идея напасть на центр управления принадлежала Солу Ласки. Он предложил нанести стремительный внезапный удар, создав как можно больше паники, и тут же отступить. В идеале все должно было обойтись без неожиданностей и даже без выстрелов. Сол надеялся захватить Колбена или Хейнса, но теперь, когда бульдозер преодолевал последние двадцать ярдов, остававшиеся до трейлеров, он начал сомневаться в разумности своего плана. Слева раздался взрыв, и вверх футов на двадцать взметнулись языки пламени. Значит, Тейлор с командой уже начали забрасывать припаркованные машины бутылками с зажигательной смесью. В ярком свете вспышки Сол увидел мужчину в белой рубашке и темном галстуке, вышедшего из главного трейлера. Недоуменно повертев головой, он остановил взгляд на двух приближающихся бульдозерах, крикнул что-то неразборчивое и вытащил револьвер из маленькой кобуры на поясе. Сол находился от трейлера ярдах в десяти. Он поднял широкий ковш, используя его вместо щита, но тот заблокировал ему видимость. Из-за грохота мотора и очередного взрыва он не расслышал выстрелов, пока пули не забарабанили по решетке радиатора. Бульдозер не остановился. Сол на фут поднял лопасть и сквозь щель увидел, как мужчина метнулся обратно к трейлеру. – Здесь я соскакиваю! – крикнул Зубатка и, высоко подпрыгнув, исчез в темноте. Сол тоже подумал о том, чтобы покинуть бульдозер, но потом отказался от этой идеи и поднял ковш еще на фут. Тот с ходу врезался в трейлер. От толчка Сола швырнуло вперед, и он до боли прикусил язык. Когда ему удалось выпрямиться на сиденье, гусеницы уже делали свое дело, подминая под себя длинную конструкцию из алюминия. Весь комплекс вздрогнул еще раз, когда бульдозер Джексона врезался в него футах в двадцати от главной двери. Стекла разлетелись в стороны и захрустели под колесами машин. На секунду Солу показалось, что бульдозеры просто расплющат трейлеры, но потом стальной ковш уперся во что-то твердое, оба бульдозера поднатужились, и центральный трейлер, отделившись от двух других, с жутким скрежетом начал опрокидываться назад. В нескольких футах от Сола отворилась дверь трейлера, оттуда высунулся по пояс мужчина с револьвером, дуло судорожно дергалось в поисках цели, но тут трейлер окончательно опрокинулся. Рука мужчины взметнулась вверх, прогремели два выстрела в воздух, и все исчезло. Сол поставил рычаг в нейтральное положение и спрыгнул на землю. Джексон уже вылез из своего бульдозера, и, обменявшись взглядами, они укрылись за бампером одной из стоявших поблизости машин. – Что дальше? – после паузы спросил Джексон. Из обломков разбитого трейлера выползали люди. Сол увидел, как какой-то женщине помогли выбраться через пробоину в крыше. Большинство были в шоке, словно после автокатастрофы, некоторые все же вытаскивали оружие. Оставаться здесь дольше было глупо. Тейлор с командой не показывались, – вероятно, они уже вернулись к грузовику. – Мне кое-кто нужен. Сол дождался, пока из трейлера не выползли все агенты, словно муравьи, спасающиеся из разворошенного муравейника. К его глубокому разочарованию, ни Чарльза Колбена, ни Ричарда Хейнса среди них не было. – Пожалуй, нам пора убираться, – прошептал Джексон. – Они начинают приходить в себя. Сол кивнул и последовал в темноту за Джексоном.* * *
Увидев тело Г. Б. на тротуаре и заметив вспышки выстрелов из окон третьего этажа дома напротив Ропщущей Обители, Лерой бросился через улицу к воротам. Пули одна за другой врезались в забор слева от него. Ему казалось, что кто-то из его друзей отвечает встречным огнем с западной стороны дома, но, конечно, их разномастное оружие не могло тягаться с винтовками, которыми пользовались федеральные свиньи. Лерой упал и прижался лицом к замерзшей земле. – Вот жуть-то, – прошептал он. У каменной стены кто-то лежал. Он перевернул тяжелое тело и услышал, как в рюкзаке звякнули бутылки с зажигательной смесью. В воздухе остро запахло бензином. Это был Дитер Колман, ученик старшего класса джермантаунской школы и недавний член братства. Дитер несколько раз встречался с сестрой Лероя, и тот знал, что парня больше интересовали школьный театр и компьютерный клуб, чем уличные разборки, хотя он уже не раз просил Марвина принять его в банду. Главарь предоставил ему такую возможность всего неделю назад. Разрывной пулей Дитеру снесло почти полголовы. Лерой потянулся к рюкзаку, бормоча себе под нос: – Ты просто идиот, Лерой. Вечно удумаешь дурость какую-нибудь. Он вскинул рюкзак на спину, почувствовав, как бензин из разбитой бутылки потек ему за воротник, потом сунул за пояс бесполезный маленький пистолетик 25-го калибра и, не дав себе времени опомниться, распахнул ворота и помчался к дому. Сзади раздались два выстрела, и что-то ударило в подошву кроссовки, но Лероя это не остановило. Он прорвался сквозь ряд мусорных баков, загораживавших дорогу, и запрыгнул на пожарную лестницу. – Какая все-таки идиотская мысль, – бормотал он, карабкаясь по перекладинам. На третьем этаже здания со стороны переулка не было ни одного окна, а лестница заканчивалась запертой металлической дверью без ручки. – Глупо, глупо, – прошептал Лерой, присев справа от двери. Он ощупал карманы брюк и куртки – ни спичек, ни зажигалки у него не было. Внизу в переулок выбежали три фигуры, и Лерой чуть не расхохотался вслух. Со своего места на высоте тридцать футов он различил их бледные лица и вскинутые вверх руки с оружием. Все, дальше идти некуда. Когда первая пуля просвистела мимо, осыпав его осколками, он прильнул всем телом к кирпичной стене. Вторая снова угодила в подошву его правой кроссовки, подбросив ногу вверх. Лерой почувствовал, как ступня тут же онемела, и уставился на черное отверстие, образовавшееся в его белой кроссовке. – Шутите со мной, да? – спросил он неизвестно кого. Стальная дверь вдруг открылась, и на площадку пожарной лестницы вышел мужчина в темном костюме с винтовкой. Лерой успел выхватить у него из рук винтовку и упереть приклад в горло так, что мужчина перегнулся через перила. Правую занемевшую ногу он быстро вставил в щель, чтобы дверь не закрылась. Выстрелов снизу пока не было, но Лерой видел, как агенты суетятся в переулке, выбирая угол прицеливания. Прижатый к перилам мужчина брызгал слюной и сопротивлялся, одной рукой царапая лицо нападавшего, а другой отталкивая приклад винтовки. Лерой прижал его еще сильнее, так что тот едва сохранял равновесие. – Огоньку не найдется? – прохрипел он. Сзади послышались шаги, и Лерой, не дождавшись ответа, запустил руку в карман пиджака мужчины и вытащил оттуда золотую зажигалку. – Слава богу, – произнес он вслух и отпустил своего пленника, который перевалился через перила и полетел вниз вместе с винтовкой. Лерой распахнул дверь и вошел в здание как раз в тот момент, когда снизу снова раздались выстрелы. – Ну что, снял?.. – обратился было к нему другой белый с пистолетом. У окна стояли еще трое рядом с диковинными винтовками и подзорными трубами на тяжелых треногах. Лерой заметил складные стулья, карточные столы, заваленные едой и уставленные пивными банками. – Не двигаться! – заорал белый и направил ствол пистолета ему в грудь. Но Лерой уже поднял руку и щелкнул зажигалкой, на мгновение ощутив тепло от крохотного язычка пламени. «Повезло. С первого же щелчка», – успел подумать он и уронил зажигалку в открытый рюкзак с бутылками.* * *
Энн Бишоп была в полуквартале от Ропщущей Обители, когда раздался оглушительный взрыв. Она не затормозила и продолжала двигаться вперед с постоянной скоростью пятнадцать миль в час, крепко сжимая руль «де сото» и не сводя взгляда с дороги. Все окна третьего этажа заброшенного здания напротив Ропщущей Обители разлетелись на тысячу осколков и, переливаясь как снежинки, посыпались на мостовую. Тридцатью секундами позже весь третий этаж охватило пламя. Энн Бишоп остановилась рядом с Ропщущей Обителью и, следуя рефлексам, выработанным треть столетия назад, поставила машину на ручной тормоз. Огонь тем временем разгорался все сильнее, отбрасывая оранжевое сияние на Ропщущую Обитель и прилегающую к зданию часть улицы. Из дома доносились разрозненные выстрелы. В пятидесяти ярдах от машины с полдюжины длинноногих фигур бегом пересекли улицу. Рядом с правым колесом «де сото» ничком лежал парень с разбитой головой. Кровь медленно стекала с тротуара в канализационную канаву. Из горевшего здания напротив раздался мощный треск, словно кто-то одновременно сломал сотни толстых сучьев. Время от времени оттуда доносились хлопки взрывавшихся боеприпасов, чем-то напоминавшие звук поджаривающегося попкорна. Кто-то кричал. Выли сирены. Но Энн Бишоп продолжала сидеть в машине, вцепившись в руль и глядя в пустоту. Она ждала.* * *
Джентри быстро проскользнул в открытую заднюю дверь, держа «ругер» перед собой. Перевернутый стол служил хорошей защитой, и он воспользовался ею, тяжело опустившись на одно колено, чтобы оглядеться. Старую кухню освещали две свечи – одна стояла на полке, другая, продолжая гореть, валялась на полу. Близнец по имени Г. Р. лежал мертвый в огромном камине, его куртка была распорота, и пух разлетелся по всей кухне. Больше в помещении никого не было. Узкая дверь, ведущая то ли в кладовку, то ли в какую-то маленькую комнату, была распахнута, загораживая обзор коридора. Услышав шум, Джентри прицелился в дверь кладовки. Он поймал себя на том, что судорожно дышит ртом, рискуя получить перенасыщение кислородом, и задержал дыхание секунд на десять. Стрельба на улице стихла, и во внезапно наступившей тишине он различил слабое шуршание в темном углу позади себя. Не вставая с колена, Джентри поспешно развернулся и увидел, как из какой-то дыры выползает Марвин Гейл. Даже при тусклом свете было заметно, что лицо главаря банды выражает полную безучастность, зрачки закатились. – Марвин! – окликнул его Джентри, и в то же мгновение ствол дробовика, прежде скрытого в тени, нацелился ему в голову. Раздался сухой щелчок. Джентри поднял «ругер», но Марвин снова выстрелил. И снова осечка. Шериф взвел курок, затем перехватил его большим пальцем и тщательно опустил. – Черт! – выругался он и прыгнул вперед. Марвин Гейл выронил дробовик и начал вылезать из своего убежища. Хотя он уступал Джентри в росте и весе, но был вдвое моложе, стремительнее и к тому же наделен дьявольской энергией. Джентри не стал рисковать и, прежде чем Марвин успел подняться на ноги, нанес ему сильнейший удар в висок револьвером. Марвин упал, перекатился на спину и замер. Джентри присел рядом, нащупал его пульс, и в этот момент в дверях кладовки появился Винсент. Шериф выстрелил дважды – первая пуля попала в каменную стену, возле которой секунду назад стояла эта тварь, вторая врезалась в дверь кладовки. В коридоре послышались тяжелые шаги. Снаружи донесся приглушенный звук взрыва. – Натали! – крикнул Джентри, выждал секунду и позвал снова. – Я здесь, Роб! Будь осторожен, он… – Голос Натали оборвался. Похоже, она была в конце коридора. Джентри вскочил, обогнул стол и побежал на голос девушки.* * *
Натали карабкалась по лестнице, пока хватало сил, рассчитывая, что в крайнем случае сможет ударить Винсента ногой в лицо, когда почувствовала на себе чей-то взгляд. Она заставила себя поднять голову. На лестничной площадке стояла, улыбаясь, Мелани Фуллер. Вставная челюсть у нее вывалилась, и в тусклом свете язык ее казался черным, как запекшаяся кровь. – Постыдилась бы, милочка, – прошепелявила старуха. – Прикрой свою наготу. Натали вздрогнула и прижала к груди обрывки одежды. Голос старухи дребезжал, ее зловонное дыхание заполняло лестницу запахом разложения. Натали захотелось подползти ближе, чтобы сдавить эту морщинистую шею. – Натали! – снова послышался голос Роба. Девушка вцепилась в сломанную деревянную ступеньку. Где же Винсент? Она попыталась было предупредить Роба, но тут Мелани Фуллер спустилась на три ступеньки и дотронулась до ее плеча ногой в розовой тапочке: – Тихо, дорогая! Натали наконец увидела Джентри. Он двигался по коридору с поднятым револьвером. Заметив ее, он замер на месте: – Натали! О господи! – Глаза его расширились от ужаса. – Роб! – закричала она, пока ее сознание еще принадлежало ей. – Будь осторожен! Там белый ублюдок!.. – Успокойся, дорогая, – повторила Мелани Фуллер. Повернув голову, старуха безумными глазами уставилась на Джентри. – Я знаю, кто ты, – прошептала она, брызгая слюной. – Но я за тебя не голосовала. Джентри окинул взглядом коридор, ведущий в гостиную и прихожую. Затем поставил ногу на нижнюю ступеньку и, прислонившись к стене, начал медленно поднимать револьвер. Старуха покачала головой, и ствол «ругера» вдруг стал опускаться, словно под воздействием мощной магнетической силы, затем дернулся и замер, указывая прямо в лицо Натали. – Да, сейчас, – шепотом приказала Мелани Фуллер. По телу Джентри пробежала судорога, зрачки его расширились еще больше, лицо налилось кровью. Рука дрожала с такой силой, будто все нервные окончания сопротивлялись командам, поступавшим из агрессивного мозга. Джентри сжал рукоять револьвера и оттянул курок. – Да, – повторила Мелани Фуллер. На лбу шерифа выступила испарина, рубашка взмокла от пота, вздувшиеся жилы на шее и висках свидетельствовали о невероятном напряжении. По лицу было видно, что он борется с насилием над собой, не желая стать марионеткой в руках безумной старухи. Натали не шевелилась. Она смотрела на эту мученическую гримасу и не видела ничего, кроме ярко-голубых глаз Роба Джентри. – Это тянется слишком долго, – прошептала Мелани Фуллер и устало потерла свой морщинистый лоб. Джентри отлетел назад, как если бы силач, с которым он соперничал в перетягивании каната, внезапно отпустил свой конец. Он врезался в стену, сполз на пол и выронил револьвер, хватая ртом воздух. На мгновение, когда их глаза встретились, Натали увидела на лице Роба выражение восторга. И тут из гостиной появился Винсент. Приблизившись к Джентри, он дважды взмахнул ножом, и тот, охнув, прижал руки к горлу, будто желая соединить вместе края раны. В течение нескольких секунд казалось, что ему это удалось, но затем кровь хлынула фонтаном, заливая руки и грудь. Джентри повалился на бок, мягко уткнувшись головой и плечом в пол. Он продолжал смотреть на Натали, пока глаза его не закрылись – медленно и плавно, как у засыпающего ребенка. Мощное тело пару раз дернулось и затихло навсегда. – Нет! – закричала Натали и вскочила. Она кубарем скатилась с лестницы, больно ударившись левой рукой о нижнюю ступеньку, так что в плече у нее что-то хрустнуло. Но она уже не обращала внимания ни на боль, ни на щупальца, продолжавшие трепетать в ее сознании, как мотыльки, бьющиеся о стекло, ни на второй удар, когда она перекатилась через ноги Роба. Думать было некогда. Ее тело действовало инстинктивно, исполняя то, что она приказала ему давным-давно, еще до того, как вскочила. Винсент стоял и размахивал руками, пытаясь сохранить равновесие после того, как Натали врезалась в него. Чтобы нанести удар ножом, ему нужно было развернуться. Не мешкая ни секунды, Натали перевернулась на спину, нащупала правой рукой тяжелый «ругер» как раз там, куда он должен был отскочить, и, подняв его, выстрелила подонку прямо в открытый рот. От силы удара Винсент буквально взлетел в воздух, врезавшись в стену на высоте семь футов от пола, и сполз по ней, оставляя широкий кровавый след. Не успев прийти в себя, Натали заметила, что Мелани Фуллер стала медленно спускаться, шаркая по скрипучим деревянным ступенькам. Натали попробовала встать, но сильная боль во всем теле не давала ей это сделать. Тогда она подняла револьвер и сквозь слезы, застилавшие глаза, прицелилась в Мелани Фуллер. Старуха была от нее на расстоянии всего пяти футов. Натали ждала, что мерзкие щупальца вот-вот проникнут в ее сознание, заставят опустить револьвер, но ничего не происходило. Она нажала на спусковой крючок – раз, два, три… Выстрела не было. – Всегда надо считать патроны, милочка, – прошипела старуха. Она преодолела последние две ступеньки, перешагнула через ноги Натали и неуверенной походкой направилась к двери. У порога она обернулась. – До свидания, Нина. Мы еще встретимся. Прямо в халате и тапочках, Мелани Фуллер вышла на улицу, освещенную пламенем пожара, и исчезла. И тогда Натали выронила револьвер и разрыдалась. Подобравшись к Джентри, она высвободила его тело из-под Винсента и прижала окровавленную голову к груди. Остатки ее одежды, пол, все вокруг тут же пропиталось кровью. «Господи, ну за что?! Почему я всех теряю?» Ей хотелось громко кричать от нестерпимой боли утраты, разрывавшей сердце. Когда Сол Ласки и Джексон вошли в дом минут через пять, подгоняемые пламенем пожара, ревом сирен и возобновившейся перестрелкой на улице, они увидели Натали все так же сидящей на полу. Голова шерифа покоилась у нее на коленях, она гладила его по волосам и что-то еле слышно напевала.Глава 34 Мелани
Мне очень не хотелось покидать Ропщущую Обитель, но другого выбора у меня в тот момент практически не было. Все вокруг вышло из-под контроля; цветные избрали Новый год, чтобы устроить одну из своих бессмысленных потасовок, о которых я столько читала. Еще два-три десятилетия назад подобных вещей просто не могло бы произойти, но все резко изменилось после агитации за так называемые гражданские права негров. Отец всегда говорил, что, стоит неграм уступить дюйм, они потребуют ярд, а потом отхватят и милю. Чернокожая девица, которая выглядела бы вполне привлекательно, если бы не прическа, почти убедила меня в том, что ее послала Нина, пока я не разгадала ее уловку. Об этом мне сказали голоса. В тот последний день они звучали особенно громко. Признаюсь, я с трудом сосредоточивалась на менее важных вещах, ибо пыталась хорошенько расслышать то, что мне говорили голоса детей – несомненно, мальчика и девочки – со странным, похоже британским, акцентом. Кое-что звучало вполне разумно. Они предупреждали меня о пожаре, мосте, реке и шахматной доске. Возможно, эти вещи имели отношение к их собственным жизням, каким-то роковым образом участвуя в их юных судьбах. Но предупреждения о Нине я слышала совершенно отчетливо. В конце концов, эти двое так называемых Нининых посланцев, прибывших сюда из Чарлстона, оказались не более чем неприятным недоразумением. Я сожалела о потере Винсента, но, по правде говоря, он уже полностью выполнил свою задачу. Я плохо помню последние моменты в Ропщущей Обители, потому что у меня страшно разболелась правая часть головы. Когда Энн складывала вещи, еще до того, как заехать за мной, я заставила ее положить флакон назального спрея. Неудивительно, что мой полиартрит и застарелая мигрень разыгрались в сыром, холодном и негостеприимном северном климате. Когда я вышла из Ропщущей Обители, Энн перегнулась через переднее сиденье и открыла мне дверцу своей старенькой машины. Здание на противоположной стороне улицы горело, – несомненно, это было делом рук черномазых бездельников. В свое время, когда меня посещала миссис Ходжес и начинала причитать о последних зверствах на севере, она неизменно указывала, что те, кто считался бедным, голодающим и подвергающимся дискриминации меньшинством, при первой же возможности крали дорогие телевизоры и модную одежду. Она считала, что цветные, будучи рабами, обкрадывали белых и продолжают делать это до сих пор. То было одним из немногих здравых суждений пронырливой старухи, с которым я соглашалась. На заднем сиденье «де сото» стояли три чемодана. В самом большом была сложена моя одежда, в среднем – наличные деньги и собранные Энн ценные бумаги, в самом маленьком – одежда и личные вещи Энн. Моя соломенная сумка тоже была там. На полу лежал дробовик 12-го калибра, который Энн держала у себя дома. – Поехали, дорогая, – промолвила я и устало откинулась на спинку. Энн Бишоп вела машину по-старушечьи. Мы оставили позади Ропщущую Обитель и горящее здание напротив и двинулись на северо-запад по Джермантаун-стрит. Оглянувшись, я заметила, что там, где от Джермантаун отходит Квин-лейн, происходит какая-то стычка. На перекрестке стояли фургон и два низких несимпатичных автомобиля. Полиции видно не было. Мы миновали Пенн-стрит, когда два фургона торгового вида выехали на середину улицы и перегородили нам дорогу. Я заставила Энн свернуть на левый тротуар и проскочить мимо. Из фургонов высыпало несколько человек, потрясая оружием, но тут же их внимание отвлек парень, который, повинуясь моему приказу, развернулся и стал палить из револьвера в своих напарников. Все это была какая-то неразбериха. Если они приехали арестовывать цветных бездельников, пусть бы и занимались этим, оставив в покое двух пожилых белых дам. Мы добрались до Маркет-стрит, и, несмотря на темноту, я разглядела на перекрестке силуэт бронзового солдата-янки, высившегося на своем постаменте. Еще в первый наш выезд Энн сообщила мне, что гранитная глыба была привезена из Геттисберга. Я вспомнила: ведь генерал Ли отступал под дождем, он потерпел поражение, но не был повержен, с ним в целости и сохранности остались честь и гордость конфедератов. И это воспоминание тоже наполнило меня гордостью и заставило более оптимистично взглянуть на ситуацию – поле боя я покидала временно, сдаваться я не собиралась. Нам навстречу, по Джермантаун-авеню, мигая маячками, с воем неслись пожарные машины и полицейские автомобили. А позади, набирая скорость, нас догонял один из фургонов и седан темного цвета. Я обернулась. На крышах машин крутились мигалки. – Поворачивай налево, – распорядилась я. Энн круто развернулась, и я достаточно близко увидела лицо шофера пожарной машины. Закрыв глаза, я нашла в себе силы и послала приказ. Пожарная машина заскрежетала тормозами, ушла в занос поперек авеню, перескочила через трамвайные рельсы и врезалась в догонявший нас фургон. Тот опрокинулся и замер колесами вверх. Я успела заметить, как темный седан метнулся в сторону, чтобы объехать красную пожарную машину, перегородившую авеню, но мы уже неслись прочь по Скул-Хаус-лейн. Труднее всего было заставить Энн ехать со скоростью свыше тридцати миль в час. Пришлось собрать всю свою волю, чтобы она вела машину так, как мне нужно. На самом же деле именно ее глазами я видела проносившиеся мимо дома, ее ушами слышала сверху шум вертолета и замечала, как разъезжаются в разные стороны редкие встречные машины. Скул-Хаус-лейн – приятная улочка, но совершенно не приспособленная для езды на «де сото» выпуска 1953 года со скоростью восемьдесят пять миль в час. Вслед за нами с авеню туда нырнула зеленая машина. Над головой время от времени раздавался рев вертолета. Я заставила Энн круто свернуть в сторону и увеличить скорость. Внезапно по правому заднему стеклу пошли трещины, и внутрь салона брызнули осколки. Обернувшись, я успела заметить две дыры размером с мой кулак. Когда мы приближались к Ридж-авеню, на тротуаре появился негр без пальто, раскачиваясь из стороны в сторону. Перед самым носом зеленой машины он вдруг выскочил на проезжую часть и бросился под колеса. Я увидела в зеркальце заднего вида, как машину занесло вправо, она врезалась в бордюр на скорости семьдесят миль в час, перекувырнулась в воздухе и въехала в стеклянную витрину гамбургерной «Джино». Я порылась в ящике для перчаток в надежде найти карту Филадельфии, ни на мгновение не выпуская из-под контроля Энн. Мне нужно было выбраться на скоростное шоссе, чтобы покинуть этот кошмарный город, и, хотя нам то и дело попадались дорожные указатели, я понятия не имела, какую дорогу выбрать. Через разбитое стекло в машину врывался страшный шум турбин зависшего прямо над нами огромного вертолета. В свете проносившихся мимо фонарей я даже различила пилота в глубине кабины и мужчину в бейсбольной кепке, высунувшегося из окна. На губах его играла маниакальная улыбка, он что-то держал в руках. Я заставила Энн свернуть вправо на уходившую вверх эстакаду. Левое колесо «де сото» забуксовало на мягкой обочине, и в течение нескольких секунд я была полностью поглощена сложными маневрами – руль налево, руль направо, педаль в пол, – призванными спасти нас от катастрофы. Пока мы крутились по бесконечной развязке, вертолет продолжал реветь у нас над головой. На долю секунды на левой щеке Энн появилась красная точка. Я тут же заставила Энн выжать акселератор до упора, и старая машина рванула вперед. Точка исчезла, но что-то врезалось в задний бампер слева. Нас вынесло на высокий мост через реку. Мне совершенно не нужен был мост, мне нужна была скоростная автострада. Вертолет теперь летел справа, на одном уровне с нами. На мгновение красный свет ослепил меня, и я заставила Энн вильнуть влево и прижаться к «фольксвагену», используя его в качестве прикрытия. Водитель «фольксвагена» внезапно упал на руль, а его машина на скорости врезалась в перила правого ограждения моста. Вертолет приблизился почти вплотную, умудряясь двигаться вбок на скорости восемьдесят миль в час. Мост кончился. Энн резко свернула влево, и мы вылетели на автостраду, едва не врезавшись в огромный фургон, который непрерывно сигналил нам. Указатель впереди сообщал, что мы въезжаем на федеральную трассу. В разные стороны от нее шли четыре пустых ответвления, освещенные ртутными лампами. Вертолет пронесся над «де сото», ослепив нас красными и зелеными огнями, сделал круг и завис в ста ярдах впереди. На таком открытом пространстве мы представляли для него слишком легкую добычу, как металлические утки в конце длинного тира. Машина взвизгнула тормозами, забуксовала, но наконец мы вылетели на узкую, без всяких указателей дорогу. Она вела на юго-восток, вниз под эстакаду, обозначенную на карте как Скулкилл-экспрессвей. Дорога – это слишком громко сказано, скорее она напоминала посыпанную гравием широкую колею. Фары нашей машины выхватывали из темноты железобетонные опоры эстакады. Платье и свитерЭнн пропитались потом, на лице ее застыло весьма странное выражение. Вертолет не оставлял нас в покое, он как фантом возник слева, над железнодорожным полотном, идущим параллельно шоссе. Мелькавшие мимо опоры усиливали ощущение скорости. Наш древний спидометр заклинило на отметке сто миль в час. Впереди гравийная дорога обрывалась, а вверху раскинулась целая сеть автомобильных развязок, поддерживаемая колоннами и опорами. Мы оказались в настоящем железобетонном лесу. Я следила за тем, чтобы Энн, тормозя, не заблокировала колеса, и мы юзом проехали расстояние с половину футбольного поля, подняв облако пыли, в котором рассеивались лучи фар. Когда пыль осела, наша машина остановилась менее чем в ярде от огромной опоры размером с небольшой домик. Осторожно объехав ее, мы вынырнули из-под одного моста и тут же нырнули под укрытие другого. Развязка вверху состояла по меньшей мере из пятнадцати дорог. Я заставила Энн проехать еще ярдов пятьдесят и притормозить у бетонного островка. Она выключила двигатель и фары – мне необходимо было отдохнуть. Мы были как мыши, загнанные в некий причудливый храм. Огромные колонны вздымались здесь на высоту пятьдесят футов, а дальше – на восемьдесят и еще выше у основания трех мостов, перекинутых через темные воды реки Скулкилл. Вокруг царила полная тишина, если не считать приглушенного гула моторов над головой да свистков поезда. Я досчитала до трехсот, и только после этого у меня появилась надежда, что вертолет потерял нас из виду. От рева турбин, когда он наконец раздался, у меня поджилки затряслись. Адская машина зависла под самым высоким мостом, прорезав пространство перед собой лучом прожектора. Вертолет летел очень медленно, чтобы лопасти винта не приближались к платформам и опорам, а фюзеляж его разворачивался то влево, то вправо, как голова осторожного кота. Луч прожектора обнаружил нашу машину и безжалостно замер, пригвоздив нас к месту. Я мысленно приказала Энн выбраться из машины, и она как-то неуклюже пристроила дробовик на крыше «де сото». Велев ей выстрелить, я сразу поняла свою ошибку: вертолет находился еще слишком далеко. Выстрел только добавил лишнего шума. Отдача заставила Энн отступить, затем пуля, выпущенная стрелком из вертолета, вышибла дробовик у нее из рук. Следующая врезалась в ветровое стекло нашей машины, отчего оно разлетелось на мельчайшие осколки, но я уже лежала на полу «де сото», прикрыв голову руками. Энн удалось подняться, доковылять до машины и левой рукой включить зажигание. Правая рука у нее уже ни на что не годилась и висела плетью. Из-под изувеченной плоти проглядывала кость. Мы промчались прямо под брюхом вертолета, как отчаявшиеся мыши, шныряющие между лапами разъяренного кота, и рванули по гравийной дороге и поросшему деревьями склону к темному мосту, немного отдалившись от берега реки. Вертолет следовал за нами, но голые деревья вдоль обочины как-то защищали нас. Машина взлетела на холм, справа осталось изгибающееся к югу скоростное шоссе, слева оказались железная дорога и река. Выбора у нас не было: вертолет висел прямо над нами, деревья здесь росли слишком редко, чтобы за ними можно было укрыться, а «де сото» не мог преодолеть крутой спуск вниз, где в сотне ярдов виднелась автострада. Мы свернули влево и ринулись к темному мосту. И резко затормозили. Это был железнодорожный мост, к тому же очень старый. По обеим его сторонам тянулось низкое каменное и металлическое ограждение, узкоколейка с прогнившими шпалами и ржавыми рельсами висела в темноте над водой. В тридцати футах перед нами на рельсах стоял барьер. И даже если бы мы пробились через преграду, дорога была слишком узкой, слишком открытой, и, учитывая шпалы, двигаться по ней можно было бы только на малой скорости. Мы простояли на месте не более двадцати секунд, но этого оказалось достаточно. Вверху раздался оглушительный рев, сопровождаемый тучами пыли, и я пригнула голову, когда тяжелая масса закрыла собой все небо. Почти одновременно в лобовом стекле возникло пять дыр, приборная доска и руль разлетелись вдребезги, и пули продырявили Энн Бишоп (щека, грудь, живот), и она судорожно задергалась. Я открыла дверцу и бросилась вон из машины. Одна из тапочек соскочила с ноги и откатилась в заросли кустарника. Халат и ночная сорочка раздулись, как паруса, от урагана, поднятого лопастями вертолета. Он пролетел почти над моей головой и исчез за гребнем холма. Я поковыляла по деревянным шпалам прочь от моста. За холмами, в отраженном свете скоростной автострады, я различила темный массив парка Фермонт. Энн рассказывала мне, что этот самый большой городской парк в мире занимает более четырех тысяч акров и тянется вдоль реки. Если бы мне удалось до него добраться… Вертолет начал подниматься над макушками деревьев, как паук, карабкающийся по своей паутине. Плавно спустившись, он начал приближаться ко мне. Я увидела, что из бокового окна потянулся тонкий красный лучик, рассекая пыльный воздух. Повернувшись, я поплелась обратно к мосту, к брошенной машине Энн. Это было именно то, чего они от меня хотели. Сквозь кустарник вниз к берегу вела крутая тропа. Я свернула на нее, поскользнулась, потеряла вторую тапку и тяжело рухнула на холодную сырую землю. Вертолет проревел надо мной, завис на высоте пятьдесят футов над рекой и принялся ощупывать прожектором берег. Спотыкаясь, я начала снова спускаться, потом упала и футов двадцать катилась вниз, чувствуя, как ветви деревьев и кустарник обдирают мне кожу. Прожектор вновь отыскал меня, и я зажмурилась от его ослепительного света. О, если бы мне удалось Использовать пилота!.. И тут пуля вонзилась в подол моего халата. Я упала на четвереньки и поползла вдоль склона. Вертолет не отставал. Нет, там была не Нина. Тогда кто же? Я спряталась за трухлявым бревном и разрыдалась. Две пули подряд ударили в дерево. Я постаралась свернуться в тугой комок. Голова ужасно болела, халат и ночная рубашка были в грязи. Вертолет висел надо мною рядом с мостом и вращался вокруг собственной оси. Подняв голову, я сосредоточила все свое внимание на этой дьявольской машине и ее пассажирах и, преодолевая нестерпимую головную боль, направила туда луч своей воли с небывалой ранее решимостью. И – ничего. В кабине находились двое мужчин. Пилот был нейтралом, а другой сам обладал Способностью… Нет, это был не Вилли, хотя такой же сильный и кровожадный. Не зная и не видя его, я не могла оспорить его Способность настолько, чтобы Использовать его. Он же вполне мог меня убить. Я поползла дальше к каменной арке опоры, которая виднелась в двадцати футах впереди. Пуля вгрызлась в землю в десяти дюймах от моей руки. Пятясь, я попробовала вернуться на узкую тропу в кустарнике, и следующая пуля едва не попала мне в пятку. Я припала к земле, прислонилась спиной к бревну и закрыла глаза. Пуля прошила трухлявое дерево рядом с моим позвоночником. Еще одна, разбрызгивая грязь, угодила в землю между ног. Энн получила четыре пули. Одна попала ей в желудок и прошла насквозь, другая сломала ребро и руку, третья задела правое легкое и застряла под лопаткой, а четвертой был срезан язык и выбита бо́льшая часть зубов. Да, Энн не спасти, но она мне еще нужна. Чтобы Использовать ее, я должна была претерпеть всю боль, обрушившуюся на нее. Стоило поставить какой-нибудь заслон, и она бы ускользнула от меня. Но я еще не могла позволить ей умереть. У меня оставалась для нее последняя задача. Зажигание было включено, машина стояла на нейтральной передаче. Для того чтобы привести ее в движение, Энн требовалось просунуть голову сквозь разбитый руль и остатками зубов повернуть переключатель скоростей. Рычаг ручного тормоза она, следуя многолетней привычке, опустила, – теперь пришлось поднимать его коленом. Зрение мигнуло и пропало, но, зажмурившись, силой собственной воли я заставила его вернуться. Обломки кости, торчавшие из правой скулы, заслоняли ей обзор. Хотя это не имело значения. Она положила свои изуродованные руки на обшитый пластиком руль. Я открыла глаза. Красная точка плясала на засохшей траве рядом со мной, вот она нашла мою руку и переместилась мне на лицо. Трухлявое бревно разлетелось в мелкие щепки. Моргнув, я постаралась отогнать надоедливое пятно. Даже сквозь рев вертолета было слышно, как заработал двигатель «де сото», и машина рванула вперед через ограждение. Я подняла глаза как раз в тот момент, когда две фары взметнулись вверх, а потом нырнули вниз, и «де сото» 1953 года выпуска почти вертикально начал падать с обрыва. Пилот был хорош, очень хорош. Вероятно, боковым зрением он успел что-то заметить и среагировал почти мгновенно. Турбины вертолета взревели, и фюзеляж круто нырнул вперед, разворачиваясь к открытому пространству реки. Падавшая машина Энн задела лишь край лопасти винта. Но этого было достаточно. Красная точка исчезла из виду, раздался чудовищный скрежет металла. Вся вращательная энергия винта вертолета словно передалась фюзеляжу, его развернуло несколько раз, и наконец машина врезалась в каменную арку железнодорожного моста. Вертолет не загорелся и не взорвался. Груда искореженной стали, пластика и алюминия безмолвно рухнула в реку, с плеском исчезнув под водой не далее чем в десяти футах от того места, где только что исчез «де сото». Течение было очень сильным. Еще несколько секунд прожектор вертолета продолжал гореть. Я следила, как мертвая машина погружается все глубже и глубже, относимая вниз по реке с такой скоростью, что даже трудно себе представить. Затем свет погас, и темные воды сомкнулись над корпусом, как грязный саван. Силы мои были на исходе, и мне потребовалось по меньшей мере полчаса, прежде чем я смогла встать. Вокруг повисла тишина, нарушаемая лишь слабым плеском реки и отдаленным монотонным гулом невидимой автострады. Спустя некоторое время я отряхнула со своей сорочки приставшие ветки и пыль, потуже затянула пояс халата и начала медленно взбираться по тропе.Глава 35
Филадельфия
Четверг, 1 января 1981 г.
За час до завтрака детям позволили выйти из дому поиграть. Утро было холодным, но ясным, солнце медленно поднималось над деревьями, словно цеплявшимися за него своими голыми ветками. Трое ребятишек, смеясь, бегали по длинному склону, который вел к лесу и дальше, к реке. Старшей, Таре, всего три недели назад исполнилось восемь лет. Элисон было шесть. Рыжему Джастину должно исполниться пять в апреле. Их смех и крики отдавались эхом от поросшего лесом холма. Когда из-за деревьев появилась старая леди и направилась к ним, все трое замерли. – Почему вы до сих пор в халате? – поинтересовалась Элисон. Женщина остановилась и улыбнулась. – О, сегодня такое солнечное утро, что мне захотелось пройтись, прежде чем одеться, – проскрипела она странным голосом. Дети понимающе закивали. Им часто хотелось поиграть на улице в пижамах. – А почему у вас нет зубов? – осведомился Джастин. – Замолчи, – поспешно оборвала его Тара. Джастин опустил глаза, переминаясь с ноги на ногу. – Где вы живете? – спросила старуха. – Мы живем в замке. – Элисон указала на высокое старинное здание из серого камня, стоявшее на холме. Вокруг него простирались сотни акров парковых угодий. Узкая полоска асфальта вилась вдоль склона, уходя в лес. – Наш папа помощник лесничего, – пропела Тара. – Правда? – снова улыбнулась незнакомка. – Ваши родители сейчас дома? – Папа еще спит, – сказала Элисон. – Они с мамой вчера поздно легли после новогоднего вечера. Мама проснулась, но у нее болит голова, и она отдыхает перед тем, как готовить завтрак. – У нас будут французские тосты, – сообщил Джастин. – И мы будем смотреть Парад роз, – добавила Тара. Женщина улыбнулась и глянула на дом. Десны у нее были бледно-розового цвета. – Хотите покажу, как я умею кувыркаться? – Джастин схватил ее за руку. – Умеешь кувыркаться? – переспросила она. – Конечно же хочу. Малыш расстегнул куртку, встал на колени и неуклюже перевернулся вперед, упав на спину и подняв кроссовками грязные брызги. – Видели? – Браво! – Пожилая леди захлопала в ладоши и снова пристально взглянула на дом. – Я – Тара, – сообщила старшая девочка. – Это – Элисон. А Джастин еще ребенок. – Я не ребенок! – заявил Джастин. – Нет, ребенок, – возразила Тара. – Ты младше всех, поэтому ты – ребенок. Мама так говорит. Джастин сердито нахмурился и снова взял за руку пожилую леди. – Вы хорошая, – сообщил он. Та небрежно погладила его по голове свободной рукой. – А у вас есть машина? – поинтересовалась незнакомка. – Конечно, – ответила Элисон. – У нас есть «бронко» и «синий овал». – Синий овал? – Старуха удивленно подняла брови. – Она имеет в виду синий «вольво», – пояснила Тара, качая головой. – Это Джастин его так называет, а теперь и папа с мамой. Они считают, что это смешно. – И она состроила гримасу. – А кто-нибудь еще в доме есть? – Да, – откликнулся Джастин. – Должна была приехать тетя Кэрол, но она вместо этого поехала в какое-то другое место. А папа сказал, что слава богу, от нее только одни хлопоты… – Тихо ты! – снова оборвала мальчика Тара и хлопнула его по руке. Джастин спрятался за спину леди в халате. – Вам, наверное, скучно одним в замке? – предположила та. – А вы не боитесь грабителей или каких-нибудь нехороших людей? – Нет. – Элисон бросила камень в сторону отдаленных деревьев. – Папа говорит, что парк – это самое безопасное место для детей во всем городе. Джастин заглянул в лицо незнакомке: – А что у вас с глазом? – У меня болела голова, дорогой, – пояснила она и провела дрожащей рукой по лбу. – Как у мамы, – кивнула Тара. – Вы тоже вчера ходили на новогоднюю вечеринку? Старуха обнажила десны и снова посмотрела на дом. – Помощник лесничего – это звучит очень важно, – промолвила она. – Да, – согласилась Тара. Ее брат и сестра уже утратили интерес к разговору и убежали играть в пятнашки. – У твоего отца есть что-нибудь, чтобы защищать парк от плохих людей? Что-нибудь вроде пистолета? – Конечно же у него есть, – бодро отозвалась девочка. – Но нам не разрешают с ним играть. Он держит его на полке в шкафу. А в столе у него еще лежат патроны в синей и желтой коробках. Дети снова обступили незнакомку, прервав свою игру. – А хотите, я вам спою? – предложила Элисон, отдышавшись. – Конечно, дорогая. Скрестив ноги, дети уселись на траву. За их спинами оранжевое солнце наконец выпуталось из обрывков утреннего тумана и, отделившись от ветвей, выплыло в холодное лазурное небо. Элисон выпрямилась, сложила руки и пропела три куплета «Хей, Джуд» группы «Битлз». Каждая нотка, каждый звук звучал так же чисто и пронзительно, как сверкал в щедром утреннем свете иней на траве. Закончив, она улыбнулась, и дети замерли в тишине. На глазах старухи выступили слезы. – А теперь я бы очень хотела познакомиться с вашими родителями, – тихо промолвила она. Элисон взяла ее за одну руку, Джастин – за другую, а Тара двинулась вперед, указывая дорогу. Когда они дошли до мощенной плитами дорожки, старуха вдруг поднесла руку к виску и отвернулась. – Вы не пойдете? – спросила Тара. – Возможно, позже, – странным голосом ответила женщина. – У меня вдруг страшно разболелась голова. Может, завтра. Под взглядами детей она сделала несколько неуверенных шагов в сторону от дома, слабо вскрикнула и упала на замерзшую клумбу. Они подбежали к ней, Джастин потряс ее за плечо. Лицо старухи посерело и исказилось в страшной гримасе. Левый глаз полностью закрылся, в правом виднелся лишь белок. Она тяжело дышала, высунув язык, как собака. С подбородка свисала длинная струйка слюны. – Она умерла? – с придыханием, шепотом спросил Джастин. Тара закусила губу. – Нет. Не думаю. Не знаю. Пойду позову папу. – Она повернулась и бросилась бегом к дому. Элисон секунду помешкала и тоже побежала вслед за старшей сестрой. Джастин опустился на колени и приподнял руку пожилой леди. Та была холодна как лед. Когда из дома на холме появились взрослые, они увидели, что их сын стоит на коленях на клумбе, гладит руку старухи в розовом халате и повторяет: – Не умирай, добрая тетя. Пожалуйста, не умирай.Книга третья Эндшпиль
Очнувшись, наступленье мрака,А не рассвет я ощутил.Джерард Мэнли Хопкинс
Глава 36
Дотан, штат Алабама
Среда, 1 апреля 1981 г.
Всемирный библейский центр в пяти милях к югу от Дотана состоял из двадцати трех белоснежных зданий, раскинувшихся более чем на ста шестидесяти акрах. Молитвенный дворец находился в огромном здании из гранита и стекла. Полы повсюду были устланы коврами. Амфитеатр одновременно вмещал шесть тысяч истинно верующих, которые могли с полным комфортом предаваться духовному совершенствованию в помещениях, оснащенных кондиционерами. Каждый золотой кирпич на бульваре Вероисповедания олицетворял пожертвование в пять тысяч долларов, серебряный – в одну тысячу и белый – в пятьсот долларов. Прибывая по воздуху, иногда в одном из трех принадлежащих центру «лир-джетов», гости взирали сверху на бульвар, напоминавший огромную белую челюсть, с вкраплениями золотых и серебряных коронок. С каждым годом оскал становился все шире и приобретал все больше золотых зубов. Напротив Молитвенного дворца на бульваре расположилось длинное низкое здание внешних связей центра, которое можно было бы по ошибке принять за большую фабрику компьютеров или исследовательскую лабораторию, если бы не шесть огромных спутниковых тарелок на крыше, с узнаваемым логотипом. Круглосуточные телевизионные программы, транслируемые через один или более спутников кабельными компаниями, телестанциями и церковным телевидением, по утверждению центра, смотрели сто миллионов зрителей более чем из девяноста стран. Здесь был также современный печатный цех, студия звукозаписи и четыре компьютера, постоянно подключенные ко Всемирной евангелической информационной сети. Там, где заканчивался серебряно-золотой оскал и бульвар Вероисповедания выходил из зоны повышенной охраны и превращался в окружную дорогу 251, располагались Библейский колледж Джимми Уэйна Саттера и его же Школа христианского бизнеса. В этих неаккредитованных заведениях обучались восемьсот студентов, из них шестьсот пятьдесят постоянно проживали в жестко разграниченных корпусах: Западном – Роя Роджерса, Восточном – Дейла Эванса и Южном – Адама Смита. В других зданиях с бетонными колоннами и гранитными фасадами, напоминавшими нечто среднее между современной протестантской церковью и мавзолеем, трудились легионы служащих. Они занимались административной деятельностью, службой безопасности, транспортом, внешними связями и финансами. Всемирный библейский центр хранил в тайне суммы своих доходов и расходов, но было известно, что его комплекс, завершенный в 1978 году, обошелся более чем в сорок пять миллионов долларов. Также ходили слухи, что в центр еженедельно поступает в качестве пожертвований около полутора миллионов долларов. Предвидя быстрый финансовый рост, Всемирный библейский центр планировал открытие целой сети христианских магазинов, организацию отелей для отдыха и строительство Библейского увеселительного парка в Джорджии, который должен был обойтись в сто шестьдесят пять миллионов долларов. Хотя Библейский центр являлся некоммерческой религиозной организацией, христианские предприятия создавались с целью будущей коммерческой экспансии, чтобы прибрать к рукам и торговлю. Президентом Библейского центра, его председателем и единственным членом совета директоров религиозных предприятий являлся преподобный Джимми Уэйн Саттер.* * *
Надев свои очки в золотой оправе, Джимми Саттер улыбнулся в третью камеру. – Я всего лишь скромный сельский проповедник, – елейным голосом начал он, – все эти финансовые и правовые вопросы для меня ничего не значат… – Джимми, – тут же подхватил его приспешник, грузный мужчина в очках в роговой оправе, с отвисшими щеками, которые начинали дрожать, когда он возбуждался, как это случилось сейчас, – я уверен, что расследования службы внутренних доходов, налоговых органов, эти преследования Федерального совета церквей – все это, бесспорно, дело рук врага рода человеческого… – …Но я знаю, что такое преследования, – продолжил Саттер, возвышая голос и слегка улыбаясь, чувствуя, что камера продолжает держать его в кадре. Он заметил, как выдвинулись объективы, снимая теперь ближним планом; Тим Макинтош, режиссер программы, был хорошо знаком с Саттером, за восемь лет они вместе сделали десять тысяч программ. – И я распознаю зловоние дьявола, когда сталкиваюсь с ним. Конечно, это происки, козни дьявола. Ему ведь ничего так не хотелось, как поставить преграду слову Божьему… Это его мечта – использовать правительство, чтобы не дать слову Иисуса Христа проникнуть к тем, кто взывает к Нему о помощи, кто просит у Него прощения и ищет у Него спасения… – И эти… эти преследования настолько очевидно являются делом его рук, – подхватил второй приспешник. – Но Иисус не покидает свой народ в часы бедствий! – возопил Джимми Уэйн Саттер. Теперь он расхаживал взад-вперед, размахивая шнуром от микрофона, словно волочил за хвост самого Сатану. – Иисус за нас… Иисус поддерживает нас и нашу игру и презирает князя тьмы и его аспидов… – Аминь! – воскликнула растолстевшая бывшая телезвезда, сидевшая в кресле. Год назад Иисус излечил ее от рака груди во время телевизионного сеанса в живом эфире. – Слава Иисусу! – добавил с дивана усатый тип. За последние шестнадцать лет он уже издал девять книг о скором конце света. – Иисус не замечает этих правительственных бюрократов. – Саттер чуть ли не выплюнул эту фразу. – Как благородный лев, не обращающий внимания на укус блохи! – С нами Бог! – пропел некогда известный певец, выпустивший свой последний хит в 1957 году. Похоже, все трое пользовались одним и тем же лаком для волос и одевались в одном и том же отделе распродаж универмага «Сирс». Саттер остановился, подтянул шнур микрофона и повернулся к аудитории. Декорация, по телевизионным стандартам, была грандиозной, она выглядела даже шикарнее, чем большинство бродвейских постановок, – зрители располагались на трех уровнях, покрытых красными и синими коврами и украшенных букетами живых белых цветов. Верхняя площадка, используемая в основном для вокальных номеров, напоминала террасу, огражденную сзади тремя стрельчатыми окнами, за которыми сиял вечный восход или закат. На средней площадке потрескивал камин, который горел даже тогда, когда температура воздуха в Дотане поднималась до тридцати градусов в тени, а вокруг него располагалась сцена для интервью и бесед с позолоченными диваном, креслами и письменным столом эпохи Людовика XIV. За ним обычно восседал преподобный Джимми Уэйн Саттер на резном стуле с высокой спинкой, величественном, как трон Цезаря Борджиа. Преподобный Саттер спустился на самую нижнюю площадку, представляющую собой полукруглую сцену, покрытую коврами, что позволяло режиссеру давать общие планы дальними камерами, показывая главу Библейского центра на фоне шестисот человек аудитории. Эта студия обычно использовалась для съемок ежедневной программы «Библейское шоу в час завтрака». Сейчас же здесь шла запись более длинной передачи – «Библейская встреча с Джимми Уэйном Саттером». Программы, предполагавшие больший состав участников или большую аудиторию, записывались в Молитвенном дворце. – Я всего лишь скромный провинциальный проповедник, – снова произнес Саттер, переходя на доверительный тон, – но с Божьей помощью и с вашей помощью все испытания и беды останутся позади. С Божьей и вашей помощью мы переживем эти дни преследований и гонений, и слово Господа зазвучит еще громче, сильнее и яснее, чем прежде. Он промокнул вспотевший лоб шелковым носовым платком. – Но чтобы мы выжили, дорогие друзья, чтобы мы могли и дальше доносить до вас послание Господа, выраженное в Его евангелиях, нам нужна ваша помощь. Нам нужны ваши молитвы, ваши негодующие письма в адрес правительственных бюрократов, преследующих нас, ваши подношения любви… Нам нужно все, что вы можете дать во имя Христа. Вы должны помочь нам доносить до людей слово Господа. Мы верим, что вы не подведете нас. А пока вы надписываете конверты, разосланные вам в этом месяце Крисом, Кей и братом Лайлом, давайте послушаем Гейл и ансамбль «Евангелические гитары» с нашими библейскими певцами, которые напоминают вам: «Нет необходимости понимать, нужно просто держать Его за руку…»* * *
Помощник режиссера пальцами отсчитал Саттеру четыре секунды и зажег лампочку, когда нужно было снова вступать после музыкальной паузы. Преподобный опустился за письменный стол, кресло рядом с ним пустовало. На диване же оказалось слишком много людей. Саттер с вальяжным и даже несколько игривым видом улыбнулся в объектив второй камеры: – Друзья, говоря о силе Господней любви, силе вечного спасения и даре возвращения к жизни во имя Иисуса, мне особенно приятно представить нашего следующего гостя. Много лет он блуждал в паутине греха Западного побережья, о которой мы все слышали. Много лет эта добрая душа, лишенная света Христова, бродила в темной чаще страха и блуда, которая уготована тем, кто не обрел слова Господа… Но сегодня в доказательство бесконечной милости Иисуса и Его силы, Его вечной любви, не оставляющей ни одного страждущего, с нами знаменитый продюсер, голливудский режиссер… Энтони Хэрод! Под громкие аплодисменты шестисот христиан, не имевших ни малейшего представления о том, кто такой Хэрод, тот пересек широкую площадку. Он протянул Саттеру руку, но преподобный вскочил, обнял продюсера и усадил в гостевое кресло. Хэрод нервно закинул ногу на ногу. Трио на диване отреагировало на гостя по-разному: популярный некогда певец саркастически усмехнулся, апокалиптический писатель наградил его холодным взглядом, а раздобревшая кинозвезда состроила хитрую физиономию и послала воздушный поцелуй. Хэрод был в джинсах с ремнем, пряжка которого изображала робота R2-D2 из «Звездных Войн», в своих любимых ковбойских сапогах змеиной кожи и в красной шелковой рубашке. Джимми Уэйн Саттер склонился к нему и начал: – Ну что ж, Энтони, Энтони, Энтони… Хэрод неуверенно улыбнулся и подмигнул аудитории. Из-за яркого освещения лиц он не различал, лишь кое-где поблескивали стекла очков. – Энтони, и сколько лет ты уже сотрудничаешь с ярмаркой мишуры и тщеславия? – Э-э-э… шестнадцать лет, – произнес Хэрод и откашлялся. – Я начал в шестьдесят четвертом году, когда мне было девятнадцать. Начал как сценарист. – И, Энтони… – Саттер склонился ближе, придав своему голосу одновременно оттенки лукавства и таинственности, – правда ли то, что мы слышали о греховности Голливуда? Конечно, не всего Голливуда… у нас с Кей там есть несколько добрых друзей-христиан, включая тебя, Энтони. Но вообще, неужто он так порочен, как говорят? – Довольно порочен, – кивнул Хэрод. – Это действительно клоака греховности. – Разводы? – осведомился Саттер. – Повсеместно. – Наркотики? – Употребляют все. – Алкоголь? – О да. – Кокаин? – Запросто, как леденцы. – Героин? – Даже у звезд все вены истыканы, Джимми. – И люди упоминают имя Господа всуе? – Постоянно. – Богохульничают? – Само собой разумеется. – Поклоняются дьяволу? – Ходят такие слухи. – Молятся золотому тельцу? – Вне всяких сомнений. – А как же насчет седьмой заповеди, Энтони? – Э-э-э… – «Не пожелай жены ближнего»? – Я бы сказал, она полностью забыта. – Ты бывал на этих порочных голливудских приемах, Энтони? – Не раз участвовал в них. – Наркотики, блуд, неприкрытое прелюбодейство, погоня за всемогущим долларом, поклонение врагу рода человеческого, пренебрежение законами Божьими… – Да, – подтвердил Хэрод, – и это только на самом скучном приеме. Аудитория издала звук, напоминающий нечто среднее между кашлем и приглушенным вздохом. Преподобный Джимми Уэйн Саттер сложил пальцы домиком: – А теперь, Энтони, расскажи нам свою собственную историю о падении в эту бездну – и восшествии из нее. Хэрод едва заметно улыбнулся, уголки его губ поползли вверх. – Ну, Джимми, я был молод, впечатлителен… хотел, чтобы мною руководили. Признаюсь, что соблазн этого образа жизни довольно долго вел меня вниз по темному пути. Многие годы. – И ты получал за это мирское признание, – подсказал Саттер. Хэрод кивнул и отыскал глазами камеру с красной лампочкой, после чего на его лице появилось выражение искреннего раскаяния. – Как ты только что сказал, Джимми, у дьявола есть свои приманки. Деньги… столько денег, Джимми, что я не знал, что с ними делать. Скоростные машины, шикарные дома, женщины… красивые женщины, знаменитые звезды с прославленными именами и прекрасными телами. Мне только надо было снять телефонную трубку, Джимми. У меня возникло ложное чувство власти. Ложное чувство собственной высокопоставленности. Я пил, я употреблял наркотики. Дорога в ад может начаться даже с горячей ванны, Джимми. – Аминь! – воскликнула толстая кинозвезда. Саттер напустил на себя встревоженный вид: – Но, Энтони, вот что действительно пугает, чего мы должны больше всего опасаться… Ведь эти люди делают фильмы для наших детей, верно? – Именно так, Джимми. И фильмы, которые они делают, продиктованы лишь одним соображением – прибылью. Первая камера загудела, предупреждая о крупном плане, и Саттер повернулся к объективу. Всякое спокойствие исчезло с его лица, теперь он напоминал ветхозаветного пророка: сильные скулы, темные брови, длинные волнистые седые волосы. – И наши дети, дорогие друзья, получают грязь. Грязь и отбросы. Когда я был мальчиком… когда большинство из нас были детьми… мы собирали двадцатипятицентовые монеты, чтобы сходить в кино, если нам разрешали сходить в кино… И мы шли на воскресные утренники и смотрели мультфильмы. Что стало с мультфильмами, Энтони? А после мы смотрели вестерны… Помните Хута Гибсона, Хопалонга Кэссиди, Роя Роджерса? Да благословит его Господь… Рой участвовал в нашей программе на прошлой неделе… прекрасный, великодушный человек. Мы возвращались домой и знали, что побеждают хорошие ребята, что Америка – это особое место, благословенная страна. Помните Джона Уэйна в «На линии огня»? И мы возвращались домой в свои семьи… помните Микки Руни в «Энди Харди»? Возвращались домой в свои семьи и знали, что семья – это самое главное, что мы любим свою страну, что доброта, уважение к власти и любовь друг к другу – это очень важно… Что сдержанность, дисциплина и самоконтроль – самое важное… А самое главное, что Господь всегда с нами! Саттер снял очки. На лбу и верхней губе выступила испарина. – А что наши дети смотрят сейчас? Они смотрят безбожную грязь, ужасы, насилие, убийства. Сегодня вы идете в кино – я имею в виду фильмы, разрешенные для детей, я не говорю о грязных фильмах категории «эр» или даже «икс», которые показывают теперь везде, которые расползаются повсюду, как раковая опухоль, и любой ребенок может их увидеть… Уже нет возрастных границ, хотя это тоже лицемерие: грязь есть грязь – то, что не годится для шестнадцатилетних, не годится и для богобоязненных взрослых. Но дети идут на эти фильмы, и еще как идут! И они видят обнаженное тело, богохульство, прелюбодеяние… ругательство следует за ругательством, богохульство за богохульством. Эти фильмы разрушают наши семьи, нашу страну, веру, законы Господа и потешаются над словом Господним, предлагая вместо него секс, насилие, грязь и нездоровое возбуждение. А вы говорите: что я могу сделать? Что мы можем сделать? И я отвечаю вам: приблизьтесь к Господу, воспримите Его слово, следуйте примеру безгрешного Иисуса, чтобы эти отбросы, эта грязь потеряли для вас всякую привлекательность… И пусть ваши дети примут Христа в свои сердца, примут как своего Спасителя, своего личного Спасителя, и тогда эти пороки потеряют для них привлекательность, перестанут притягивать их… «Ибо Отец… весь суд отдал Сыну… И дал Ему власть производить и суд… ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло… а делавшие зло… в воскресение осуждения». Евангелие от Иоанна, глава пятая, стихи двадцать второй, двадцать шестой и двадцать восьмой. Толпа закричала: «Аллилуйя!» – Слава Иисусу! – воскликнул певец. Писатель закрыл глаза и кивнул. Толстая актриса рыдала. – Энтони, – тихим низким голосом произнес Саттер, снова привлекая к себе всеобщее внимание, – принял ли ты Господа? – Принял, Джимми. Я обрел Господа… – И принял Его как личного Спасителя? – Да, Джимми. Я принял Иисуса Христа в свою жизнь. – И позволил Ему вывести тебя из бездны страха и блуда… из фальшивого блеска больного Голливуда к исцеляющему свету слова Божьего? – Да, Джимми. Христос вернул мне радость жизни, даровал мне цель жить и работать во имя Его… – Да славится имя Господне, – выдохнул Саттер и улыбнулся. Он потряс головой, словно избавляясь от охватившего его волнения, и повернулся к третьей камере; помощник режиссера махал руками, показывая, что пора закругляться. – И в ближайшем будущем, в самом ближайшем будущем, я надеюсь, Энтони обратит свои навыки, талант и опыт на осуществление совершенно особого Библейского проекта. Сейчас мы еще не можем говорить об этом, но не сомневайтесь, мы используем все замечательные приемы Голливуда, чтобы донести слово Божье до миллионов добрых христиан, изголодавшихся по здоровым семейным развлечениям. Аудитория и гости ответили громом аплодисментов. Саттер склонился к микрофону и сообщил, перекрывая шум: – Завтра состоится особая библейская служба священной музыки. Наши гости – Пэт Бун, Петси Диллон, группа «Благовест» и наша Гейл и «Евангелические гитары». Под электронными вспышками аплодисменты еще более усилились. Третья камера взяла максимально крупный план Саттера, и преподобный улыбнулся: – До следующей встречи. Помните стих шестнадцатый из главы третьей Евангелия от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». До свидания! Да благословит вас всех Господь!* * *
Саттер и Хэрод покинули площадку еще до того, как погасли навесные софиты и стихли аплодисменты. Быстрым шагом они двинулись по кондиционированным коридорам, устланным коврами. Мария Чэнь и жена преподобного Кей ожидали их в кабинете Саттера. – Ну, что ты думаешь, дорогая? – осведомился Саттер. Кей Элен Саттер, высокая худая женщина, наложила на лицо столько слоев косметики и сделала такую прическу, что казалось, будто ее вылепили много лет назад. – Замечательно, дорогой. Восхитительно. – Надо будет убрать этот монолог идиота-певца, когда он начал разглагольствовать о евреях, наводнивших шоу-бизнес, – заметил Саттер. – Ну да все равно нам нужно вырезать минут двадцать, прежде чем все пойдет в эфир. – Он надел очки и посмотрел на жену. – Куда это вы собрались? – Я хочу показать Марии детскую группу в общежитии женатых студентов, – ответила Кей Саттер. – Отлично, отлично! – одобрил преподобный. – У нас с Тони запланирована еще одна короткая встреча, а потом им пора отправляться в Атланту. Мария Чэнь бросила на Хэрода вопросительный взгляд. Тот пожал плечами, и обе женщины вышли. В обширном кабинете преподобного Джимми Уэйна Саттера, в отличие от красно-сине-белых тонов остальной части комплекса, преобладали нежные бежевые цвета. Одну стену целиком занимало окно, выходившее на лужайку и небольшой клочок леса, оставленный строителями. Позади широкого письменного стола были развешены фотографии известных и влиятельных лиц, почетные грамоты, удостоверения о награждениях, афиши и другие документы, свидетельствующие о высоком и стабильном положении Джимми Саттера. Хэрод рухнул в кресло и, вытянув ноги, шумно выдохнул воздух. Саттер, сняв пиджак и расстегнув рукава рубашки, сел напротив: – Ну что, Тони, позабавился? Хэрод запустил пальцы в волосы. – Надеюсь, что никто из наших инвесторов не увидит этого. Саттер улыбнулся: – Почему, Тони? Неужели причастность к богоугодному делу может повредить кинобизнесу? – Повредить ему может идиотский вид. – Хэрод посмотрел в дальний конец кабинета, где находился бар. – Можно я что-нибудь выпью? – Конечно, – ответил Саттер. – Справишься сам? Ты здесь все знаешь. Хэрод уже направился к бару. Он налил себе водки со льдом и вытащил еще одну бутылку из потаенного шкафчика: – Бурбон? – Да, пожалуйста, – кивнул Саттер. – Ты рад, что принял мое приглашение? – осведомился он, когда Хэрод протянул ему бокал. – А ты думаешь, разумно было засвечиваться, показывая меня в этой программе? – Он сделал большой глоток. – Они и так знают, что ты здесь, – возразил Саттер. – Кеплер следит за тобой и одновременно с братом К. не выпускает из виду и меня. Может, твои показания их немного смутят. – Не знаю, как их, но меня они точно смутят. – Хэрод направился к бару за новой порцией водки. Саттер захихикал и принялся перекладывать бумаги на столе: – Тони, только не подумай, что я цинично отношусь к своему сану. Хэрод замер с кубиками льда в руке и посмотрел на него. – Ты что, смеешься надо мной? – возмутился он. – Ничего циничнее, чем это мероприятие, я еще в жизни не видел. – Вовсе нет, – тихо возразил Саттер. – Я отношусь к пасторству очень серьезно. Я действительно забочусь о людях и благодарен Господу за дарованную мне Способность. Хэрод покачал головой: – Джимми, уже два дня ты меня водишь по этому диснейленду, здесь все до последней мелочи направлено на то, чтобы извлекать деньги из бумажников провинциальных идиотов. Твои автоматические линии отсортировывают конверты с чеками от пустых, компьютеры сканируют письма и пишут стандартные ответы, телефонный банк данных тоже компьютеризирован. Ты проводишь направленные почтовые кампании, от которых обкончался бы и Дик Вигери,[44] а по сравнению с твоими церковными телеслужбами старый добрый мистер Эд и его говорящая кобыла[45] покажутся гигантами мысли… – Тони, Тони, – покачал головой Саттер. – Нельзя зацикливаться на внешней стороне дела, надо смотреть вглубь. Да, мои верующие в большинстве своем простаки, провинциалы и недоумки. Но это никак не дискредитирует мою проповедническую деятельность. – Да ну? – Конечно. Я люблю этих людей! – Саттер стукнул своим огромным кулаком по столу. – Пятьдесят лет назад, когда я был юным евангелистом, семилетним мальчишкой, преисполненным благоговения к слову Божьему, и обходил палатки с папой и тетей Эл, я знал, что Иисус наградил меня Способностью с какой-то целью, а не просто для того, чтобы делать деньги. – Он взял в руки лист бумаги и уставился на него через очки. – Тони, как ты думаешь, кто написал эти слова: «Проповедники, бойтесь наступления науки, как ведьмы боялись наступления дня, и смейтесь над роковыми провозвестниками, не желающими отказаться от обмана, на котором основана их жизнь»? – Саттер взглянул на Хэрода поверх очков. Тот пожал плечами: – Г. Л. Менкен? Мэдлин Мюррей О’Хара?[46] Преподобный покачал головой: – Джефферсон, Тони. Томас Джефферсон. – Ну и что? Саттер ткнул в Хэрода своим мясистым пальцем: – Неужели ты не понимаешь? Несмотря на всю евангелистскую болтовню о том, что эта страна основана на религиозных принципах, что это христианская нация и всякое такое, все ее отцы-основоположники, подобно Джефферсону, были атеистами, яйцеголовыми интеллектуалами, унитариями… – Ну и что? – А то, что эта страна была образована кучкой секулярных гуманистов, Тони. Вот почему в наших школах больше нет места Богу. Вот почему ежедневно в лабораториях убивают тысячи нерожденных младенцев. Пока мы спорим о разоружении, коммунисты набирают силу. Господь наградил меня способностью пробуждать сердца и души простых людей, чтобы мы смогли превратить эту страну в христианское государство, Тони. – И для этого тебе нужна моя помощь в обмен на твою поддержку и защиту от Клуба Островитян? – усмехнулся Хэрод. – Рука руку моет, мой мальчик, – миролюбиво улыбнулся Саттер в ответ. – Похоже, ты когда-нибудь надеешься стать президентом, – заметил Хэрод. – По-моему, вчера мы говорили лишь о том, чтобы слегка перетасовать иерархическую структуру Клуба. Саттер развел руками: – А что плохого в том, чтобы мыслить по-крупному, Тони? Брат К., Кеплер, Траск и Колбен уже много десятилетий забавляются политикой. Я познакомился с братом К. сорок лет назад на политическом съезде консервативных проповедников в Баден-Руж. Поверь, не будет ничего дурного, если в Белом доме ради разнообразия вдруг появится добрый христианин. – Мне казалось, Джимми Картер считался добрым христианином, – ухмыльнулся Хэрод. – Джимми Картер новообращенный слабак, – возразил Саттер. – Настоящий христианин знал бы, как поступить с Хомейни, когда этот фанатик наложил свои лапы на американских граждан. В Библии сказано: «Око за око, зуб за зуб». Надо было оставить этих шиитских негодяев без зубов. – Согласно официальному мнению, Рейгана тоже привели к власти христиане. – Хэрод отправился за новой порцией водки. Политические дискуссии всегда наводили на него тоску. – Черта с два! – воскликнул Саттер. – Нашего дружка Рональда привели к власти брат К., Кеплер и этот осел, который стоит за спиной Траска. Страна поворачивает вправо, но еще предвидятся временные откаты. Однако к девяностым годам будет подготовлена почва для прихода настоящего христианскогокандидата. – То есть тебя? – спросил Хэрод. – А перед тобой в очереди никто не стоит? – Кто, например? – поинтересовался Саттер. – Как же его зовут?.. Парень от «Нравственного большинства»… Фолуэлл. Саттер рассмеялся: – Джерри – это креатура наших друзей из правого крыла в Вашингтоне. Он дутый пузырь. Когда его финансирование иссякнет, все увидят, что это куча дерьма в образе человека. И к тому же не слишком сообразительного. – А как насчет тех, кто постарше? – осведомился Хэрод, пытаясь вспомнить имена заклинателей змей и шарлатанов, которых он видел по телевизору в Лос-Анджелесе. – Рекс Хобарт… – Хамбард, – поправил Саттер, – и, кажется, Орал Робертс. Ты что, шутишь, Тони? – То есть? Саттер достал из стола гаванскую сигару и закурил. – Мы говорим о людях, у которых коровье дерьмо еще от сапог не отлипло, – произнес преподобный. – Мы обсуждаем добрых парней, которые идут на телевидение и говорят: «Друзья, приложите больную часть своего тела к экрану, и я ее вылечу!» Ты только представь себе все геморрои, опухоли, фурункулы и грибковые инфекции… И человек, который благословляет всю эту биологию, будет встречаться с представителями иностранных государств и отдыхать в спальне Линкольна? – Да, это как-то пугает. – Хэрод между тем налил себе четвертый стакан водки. – А другие? Есть какая-нибудь альтернатива? Преподобный Саттер закинул руки за голову и улыбнулся: – Ну, есть Джим и Тэмми, но на них вечно катит бочку Федеральный совет церквей… Кроме того, они по очереди страдают нервными срывами. Я не виню Джима. С такой женой, как у него, у меня бы тоже были нервные срывы. Потом есть Сваггерт в Луизиане. Он умный парень, но, мне кажется, ему больше хочется стать звездой рок-н-ролла, как его кузен… – Кузен? – переспросил Хэрод. – Джерри Ли Льюис, – пояснил Саттер. – Ну, кто там еще? Конечно же, Пэт Робертсон. Я думаю, Пэт будет баллотироваться в восемьдесят четвертом или в восемьдесят восьмом. Он основательный человек. На фоне его организационной структуры мой проект выглядит консервной банкой. Но у Пэта есть свои обязательства. Окружающие иногда забывают, что он священник, и Пэт поддается этому… – Все это очень интересно, – заметил Хэрод, – но мы слишком далеко ушли от цели моего визита. Саттер снял очки, вынул изо рта сигару и недоуменно посмотрел на Хэрода: – Тони, ты приехал сюда, потому что влип в историю, и, если тебе не удастся получить помощь, Клуб перестанет использовать тебя для своих послеобеденных развлечений на острове… – Я теперь полноправный член выборного комитета, – заметил Хэрод. – Да, – кивнул Саттер. – Но Траск мертв, Колбен мертв. Кеплер залег на дно, а брат К. расстроен из-за фиаско в Филадельфии. – К которому я не имею никакого отношения, – добавил Хэрод. – Из которого ты умудрился выпутаться, – поправил Саттер. – Боже милосердный, какая неразбериха! Погибли пять агентов ФБР и шестеро из команды Колбена, не говоря уж о десятке с лишним местных негров. Пожары, разрушение частной и общественной собственности… – Средства массовой информации продолжают придерживаться версии столкновения между двумя бандами, – сказал Хэрод. – Считается, что агенты ФБР находились там из-за группы черных террористов… – Да, отголоски событий звучат повсюду – от кабинета мэра до самого Вашингтона. Ты знаешь, что Ричард Хейнс теперь работает частным образом на брата К.? – А мне-то что? – Хэрод пожал плечами. – Вот именно, – улыбнулся Саттер. – Но ты понимаешь, что твое вступление в выборный комитет происходит… в горячее время. – Ты уверен, что они хотят использовать меня лишь в качестве средства подобраться к Вилли? – спросил Хэрод. – Абсолютно. – А потом меня уберут? – Вот именно. – Но зачем? – возмутился Хэрод. – Зачем им нужен старый психопат Вилли? – У обитателей пустынь есть древняя поговорка. Она никогда не включалась в Писание, но по времени своего создания вполне могла быть внесена в Ветхий Завет. – Какая же? – «Лучше держать верблюда в шатре, чтобы он мочился на улицу, чем наоборот», – пропел Саттер. – Спасибо, – невесело усмехнулся Хэрод. – Всегда рад помочь, Тони. – Саттер посмотрел на часы. – Надо поторапливаться, если вы хотите успеть в Атланту на свой рейс. Хэрод быстро протрезвел. – Ты не знаешь, почему Барент назначил собрание на субботу? Саттер сделал неопределенный жест рукой: – Я думаю, брат К. созывает всех в связи с событиями понедельника. – Покушение на Рейгана?.. – Да, – кивнул Саттер. – Но знаешь, кто был с президентом – в трех шагах от него, – когда раздались выстрелы? Хэрод поднял брови. – Да, сам брат К., – подтвердил Саттер. – Думаю, нам будет о чем поговорить. – О господи, – выдохнул Хэрод. Джимми нахмурился. – Не смей упоминать имя Господа всуе! – проревел он. – Не советую тебе делать это и в присутствии брата К. Хэрод подошел к двери и остановился: – Еще один вопрос, Джимми. Почему ты называешь Барента братом К.? – Потому что К. Арнольд не любит, когда я называю его по имени, – ответил тот. – И ты знаешь его первое имя? – изумился Хэрод. – Конечно. Я знаком с братом К. с тридцатых годов, когда мы были еще детьми. – И как же его зовут? – Первое имя К. Арнольда – Кристиан, – многозначительно протянул Саттер. – Как? – Кристиан, – повторил Саттер. – Кристиан Арнольд Барент. Даже если брат К. ни во что не верит, отец его был верующим человеком. – Чтоб я провалился! – воскликнул Хэрод и поспешил прочь, прежде чем преподобный успел что-либо ответить.Глава 37
Кесария, Израиль
Четверг, 2 апреля 1981 г.
Самолет Натали Престон, совершавший рейс из Вены, приземлился в аэропорту «Бен-Гурион» в половине одиннадцатого утра по местному времени. Израильские таможенники оказались деятельными и невозмутимыми людьми и даже несколько излишне обходительными. – Добро пожаловать в Израиль, мисс Хэпшоу, – промолвил мужчина, осмотревший обе ее сумки. Натали уже в третий раз прилетала сюда по фальшивому паспорту, но у нее по-прежнему замирало сердце в эти минуты ожидания. Уверенности ей придавало лишь то, что документы были изготовлены Моссадом, собственной разведывательной организацией Израиля. Пройдя таможню, Натали села в автобус до Тель-Авива, а дальше отправилась пешком по дороге на Яффу до улицы Амасгер. Там в прокате она внесла недельную плату и залог в четыреста долларов за зеленый «опель» семьдесят пятого года выпуска с такими тормозами, что его при каждой остановке заносило влево. Натали оставила позади некрасивые пригороды Тель-Авива и двинулась к северу вдоль побережья, по дороге на Хайфу. День стоял солнечный, температура воздуха достигала двадцати градусов, и Натали надела темные очки, спасаясь от нестерпимого сияния, отражавшегося от покрытия шоссе и глади Средиземноморья. Проехав двадцать миль, она миновала Натанью, небольшой курортный городок, высившийся на скалах над пляжем. Еще через несколько миль она увидела поворот на Ор-Акиву и свернула с четырехполосного шоссе на более узкую асфальтовую дорогу, которая, извиваясь между песчаными дюнами, вела к морю. Натали бросила взгляд на римский акведук и массивные крепостные стены города крестоносцев, а затем выехала на старую прибрежную дорогу, идущую мимо отеля «Дан Кесария» с его огромными площадками для гольфа, обнесенными по периметру высокой оградой и колючей проволокой. Свернув на восток и следуя указателю на кибуц Мааган-Михаэль, она наконец достигла перекрестка с другой, еще более узкой дорогой. Прежде чем остановиться перед запертыми воротами, «опель» с полмили рывками продвигался вверх, объезжая рожковые деревья, фисташковые кусты и даже одну случайно выросшую здесь сосну. Девушка вышла из машины, размяла ноги и помахала рукой в сторону белого дома, стоявшего на вершине холма. Сол Ласки спустился с крыльца, чтобы открыть ей ворота. За это время он похудел и сбрил бороду. Его тонкие ноги, торчавшие из мешковатых шортов цвета хаки, и впалая грудь под белой футболкой делали его похожим на заключенного из фильма «Мост через реку Квай», но, в отличие от заключенного, он сильно загорел, мышцы окрепли. Сол еще больше облысел, хотя оставшиеся на затылке волосы отросли и теперь вились над ушами и шеей. Свои разбитые очки в роговой оправе он сменил на более современные. Шрам после операции на предплечье все еще был ярко-красным. Отперев ворота, Сол дружески обнял Натали. – Все прошло хорошо? – спросил он. – Замечательно, – кивнула она. – Симон Визенталь просил передать тебе привет. – Он здоров? – Для его возраста он находится в прекрасной форме. – Симон смог указать тебе необходимые источники? – Лучших и не придумать, – ответила Натали. – Он сам провел поиски. То, чего не оказалось в его собственном офисе, он попросил принести из различных венских библиотек и архивов своих служащих. – Отлично, – улыбнулся Сол. – А остальное? Натали указала на большой чемодан, лежавший на заднем сиденье машины: – Он целиком набит фотокопиями. Это страшные вещи, Сол. Ты по-прежнему дважды в неделю ходишь в Яд-Вашем? – Нет. – Он покачал головой. – Неподалеку отсюда есть одно место, которое строили поляки: Лохамей-ха-Гетаот. – Это то же, что и Яд-Вашем? – Только более мелкого масштаба. Но этого достаточно – там есть имена и биографии людей. Проезжай, я закрою ворота.* * *
Дом на вершине холма был очень большим. Натали миновала его, не съезжая с дороги, спустилась по южному склону и притормозила у небольшого бунгало рядом с апельсиновой рощей. Вид отсюда открывался потрясающий. К западу, за обработанными полями, раскинулись песчаные дюны, развалины древних зданий и зубчатые волнорезы синего Средиземного моря. К югу, мерцая в знойном мареве, вздымались покрытые лесом скалы Натаньи. На восток убегала целая череда холмов и благоухающая апельсинами долина Шарон. К северу, за крепостями, которые считались древними даже во времена Соломона, и зеленым гребнем горы Кармель, лежала Хайфа с ее узкими улочками, вымощенными умытым дождем булыжником. Натали ощутила ни с чем не сравнимую радость оттого, что вернулась сюда. Сол придержал дверь, пока она вносила сумки. В маленьком коттедже ничего не изменилось с тех пор, как она покинула его восемь дней назад: небольшая кухня, объединенная со столовой, образовывала одну длинную комнату с камином, вокруг скромного деревянного стола стояли четыре стула, беленые стены утопали в жарком солнечном свете, лившемся через два окна. Помимо этой гостиной, в доме имелись две спальни. Натали отнесла сумки к себе в комнату, бросила их на широкую кровать и обратила внимание на свежие цветы в белой вазе на ее ночном столике. Когда она вернулась на кухню, Сол варил кофе. – Хорошо съездила? – спросил он. – Без проблем? – Да. – Натали положила одну из папок на грубо отесанную поверхность стола. – Похоже, Сара Хэпшоу увидит все те места, где никогда не бывала Натали Престон, – рассмеялась она. Сол кивнул и поставил перед ней большую белую чашку с густым черным кофе. – Здесь тоже ничего не происходило? – поинтересовалась Натали. – Нет, – откликнулся Сол. – Ничего и не могло произойти. Она положила себе сахар и только теперь поняла, насколько устала. Сидя напротив, Сол протянул руку и ободряюще похлопал ее по плечу. Несмотря на его худое, покрытое морщинами лицо, Натали подумала, что сейчас он выглядит гораздо моложе, чем с бородой. Всего три месяца прошло, а кажется, целое столетие. – Есть новые сведения от Джека, – произнес он. – Не хочешь прогуляться? Она бросила взгляд на недопитый кофе. – А ты возьми чашку с собой, – предложил Сол. – Мы пойдем к ипподрому. Он встал и на минуту удалился в свою спальню. Вернулся он в свободной рубашке навыпуск, которая не смогла полностью скрыть выпирающую кобуру, засунутую за ремень, с пистолетом сорок пятого калибра.* * *
Они двинулись по склону на запад, мимо изгородей и апельсиновых рощ, туда, где песчаные дюны подползали к обработанным полям и зеленым лужайкам частных вилл. Сол перешел на акведук, который вздымался на двадцать футов над песком и простирался на многие мили по направлению к груде развалин и новым строениям, видневшимся на побережье. Юноша в белой рубашке, крича и размахивая руками, бросился к ним, но Сол что-то тихо сказал ему на иврите, тот кивнул и отошел. Сол и Натали двинулись дальше по грубому покрытию акведука. – Что ты ему сказал? – поинтересовалась она. – Я упомянул, что знаком с Фровой, Ави-Йоном и Негевом, – пояснил он. – Все трое занимались здесь раскопками, начиная с пятидесятых годов. – И все? – Да. – Он остановился и огляделся. Справа от них синело море, а впереди, на расстоянии мили, в солнечном свете купалось целое скопление белых новых домов. – Когда ты рассказывал мне о своем доме, я представляла себе хижину в пустыне, – сказала Натали. – Так оно и было, когда я приехал сюда сразу после войны. Сначала мы строили и расширяли кибуцы Гааш, Кфар-Виткин и Мааган-Михаэль. А после Войны за независимость Давид и Ребекка обосновали здесь свою ферму… – Это же настоящее поместье! – воскликнула Натали. Сол улыбнулся и допил остатки кофе. – Поместье – это место обитания барона Ротшильда. Теперь там расположен пятизвездочный отель «Дан Кесария». – Мне нравятся эти развалины, – призналась Натали. – Акведук, театр, город крестоносцев – все такое древнее. Сол кивнул: – Когда я жил в Америке, мне очень недоставало этих временных слоев разных эпох. Натали сняла с плеча красную сумку и положила в нее пустые кофейные чашки, предварительно аккуратно завернув их в полотенце. – Я скучаю по Америке, – вздохнула она и, обхватив руками колени, взглянула на море песка, расстилавшееся внизу. – Мне кажется, я скучаю по Америке, – поправилась она. – Эти последние дни был сплошной кошмар… Сол ничего не ответил, и в течение нескольких минут оба сидели молча. Первой заговорила Натали: – Интересно, кто был на похоронах Роба? Сол искоса взглянул на нее, и солнечный свет отразился от стекол его очков. – Джек Коэн написал, что шерифа Джентри похоронили на чарлстонском кладбище в присутствии представителей местной полиции и нескольких местных агентств. – Нет, я имела в виду близких ему людей. Присутствовали ли там члены семьи? Его приятель Дэрил Микс? Кто-нибудь из тех… кто любил его? – Она умолкла. – Это было бы безумием, если бы ты отправилась туда, – тихо промолвил он после паузы. – Они бы тебя узнали. Кроме того, ты все равно не могла этого сделать. Врачи в иерусалимской больнице сказали, что у тебя был очень тяжелый перелом. – Сол с улыбкой глянул на девушку. – А сегодня я что-то не замечаю, чтобы ты хромала. – Да. – Натали улыбнулась в ответ. – Нога стала гораздо лучше. – И, переводя разговор на другую тему, тряхнула головой. – О’кей, так с чего начнем? – Мне кажется, у Джека довольно интересные новости, но сначала я бы хотел все узнать о Вене. Натали кивнула: – Регистрационные книги отеля «Империал» подтвердили, что они были там – мисс Мелани Фуллер и Нина Хокинс, это девичья фамилия Дрейтон, – в тысяча девятьсот двадцать пятом, двадцать шестом и двадцать седьмом годах. А в отеле «Метрополь» – в тридцать третьем, тридцать четвертом и тридцать пятом. Они могли ездить в Вену еще несколько раз, останавливаясь в других отелях, архивы которых пропали во время войны или по разным другим причинам. Мистер Визенталь продолжает поиски. – А фон Борхерт? – осведомился Сол. – Записей в регистрационных книгах нет, но Визенталь подтвердил, что Вильгельм фон Борхерт с двадцать второго по двадцать девятый год арендовал небольшую виллу в Перхтольдсдорфе, неподалеку от города. Она была разрушена после войны. – А относительно… другого? – спросил Сол. – Убийств? – Обычный набор уличной преступности, политические убийства, убийства на почве ревности и так далее. Потом, летом двадцать пятого года, три странных, необъяснимых случая. Двое аристократов и известная светская львица убиты своими знакомыми. Во всех трех случаях у преступников не было ни мотивов, ни алиби, ни каких-либо предлогов. Газеты назвали это «летним помешательством», поскольку убийцы клялись, что не помнят, как совершали свои преступления. Все трое были признаны вменяемыми и виновными. Один казнен, второй покончил с собой, а женщину отправили в сумасшедший дом, где она через неделю утопилась в пруду. – Похоже, наши юные вампиры сознания именно тогда и начинали свою игру, – заметил Сол. – Обретали вкус к убийствам. – Мистер Визенталь не смог установить связи, – продолжила Натали, – но он будет заниматься расследованиями для нас. Семь необъяснимых убийств летом двадцать шестого года. Одиннадцать – между июнем и августом двадцать седьмого… Но это было лето неудавшегося путча, когда на демонстрации погибли восемьдесят рабочих, и венские власти были гораздо больше обеспокоены другими проблемами, чем смертью каких-то граждан из низшего сословия. – Значит, наша троица сменила свои мишени, – задумчиво произнес Сол. – Возможно, убийство представителей их собственного круга стало для них небезопасным. – За лето и зиму двадцать восьмого года нам не удалось обнаружить ничего, – сказала Натали. – Зато в двадцать девятом в австрийском курортном городке Бад-Ишль произошло семь таинственных исчезновений. Венская пресса писала о «цаунерском оборотне», потому что всех исчезнувших – а среди них были очень влиятельные лица как в Вене, так и в Берлине – в последний раз видели в кондитерской «Цаунер» на Эспланаде. – Однако подтверждений того, что в это время там находился наш молодой немец со своими двумя американскими подружками, нет? – спросил Сол. – Пока нет, – ответила Натали. – Но мистер Визенталь сказал, что в округе имелось множество частных вилл и отелей, которых давно не существует. Сол удовлетворенно кивнул. Одновременно, как по команде, оба подняли голову и проводили взглядом пять израильских F-16, которые низко пролетели над морем, с ревом направляясь к югу. – Это только начало, – сказал Сол. – Конечно, нам нужны подробности, гораздо больше подробностей, но начало положено. Несколько минут они сидели в тишине. Солнце спускалось к юго-западу, отбрасывая изощренные тени от акведука на песок дюн. Весь мир купался в красновато-золотистом сиянии. – Этот город в двадцать втором году до нашей эры начал строить Ирод Великий – доносчик и прихлебатель – в честь Цезаря Августа. К шестому году нашей эры он стал административным центром с сияющими белизной театром, ипподромом и акведуком, – наконец промолвил Сол. – В течение десяти лет здесь был прокуратором Понтий Пилат. – Ты уже рассказывал мне все это в прошлый раз, – напомнила Натали. – Да, – кивнул Сол. – Смотри. – Он указал на дюны, наползающие на каменные арки. – Бо́льшая часть всего этого была скрыта на протяжении последних пятнадцати столетий. Акведук, на котором мы сидим, раскопали лишь в начале шестидесятых годов. Натали о чем-то напряженно думала, и ей было, видимо, не до исторических экскурсов. – Так что же осталось от власти Цезаря? Чем кончились политические замыслы Ирода? Куда подевались страхи и предчувствия апостола Павла, сидевшего здесь в заключении? – Сол помолчал несколько секунд. – Все погибло, – ответил он сам себе. – Погибло и занесено прахом времен. Погибла власть, исчезли и погребены ее символы. Ничего не осталось, кроме камней и воспоминаний. – О чем ты, Сол? – Оберсту и этой Фуллер, должно быть, сейчас по меньшей мере семьдесят. На фотографии, которую мне показывал Арон, изображен мужчина лет шестидесяти. Как однажды сказал Роб Джентри, все они смертны. И со следующим полнолунием уже не восстанут из мертвых. – Значит, ты предлагаешь, чтобы мы оставались здесь? Сидели у моря и ждали погоды? – Голос Натали задрожал от гнева. – Мы будем прятаться, пока эти… эти монстры не перемрут от старости или не угробят друг друга? – Здесь или в каком-нибудь другом безопасном месте, – ответил Сол. – Тебе же известна альтернатива – нам тоже придется лишать кого-то жизни. Натали вскочила и прошлась взад-вперед по узкой каменной стене. – Ты забываешь, Сол, что я уже убила одного человека. Я застрелила того ужасного парня Винсента, которого использовала старуха. – К тому времени он уже не был человеком, – заметил Сол. – Вовсе не ты, а Мелани Фуллер лишила его жизни. Ты просто освободила его тело из-под ее контроля. – И все-таки мы должны вернуться, – вздохнула Натали. – Да, но… – начал Сол. – Я не могу поверить, что ты всерьез готов отказаться от преследования, – перебила она. – Подумай о том риске, на который ради нас пошел Джек Коэн в Вашингтоне, используя свои компьютеры, чтобы получить все необходимые сведения? А долгие недели моих поисков в Торонто, во Франции, в Вене? А сотни часов, проведенных тобой в Яд-Вашеме?.. – Это было просто предложение. – Сол поднялся. – По крайней мере, совершенно не обязательно, чтобы мы оба… – Ах вот в чем дело! – воскликнула Натали. – Ну так забудь об этом, Сол. Они убили моего отца, убили Роба, посмели прикоснуться ко мне своими грязными мыслями. И пусть нас только двое, и я еще не знаю, что мы можем сделать, но я возвращаюсь в Америку. С тобой или без тебя, Сол. – Со мной. – Он протянул Натали ее сумку. – Мне просто нужно было убедиться. – Лично я ни в чем не сомневаюсь, – сказала она. – Расскажи мне о той информации, которую ты получил от Коэна. – Потом, после обеда. – Он взял ее под руку, и они двинулись обратно. Их тени сливались и изгибались в высоких волнах набегающего песка.* * *
Сол приготовил восхитительный обед: салат из свежих фруктов, домашний хлеб, который он называл «багель» (и совсем не похожий на привычные бейглы), запеченная в восточном стиле баранина и сладкий турецкий кофе на десерт. Когда они вернулись в его комнату, чтобы поработать, уже стемнело, и им пришлось включить свет. Длинный стол был завален папками, горами переснятых документов, фотографиями концлагерных доходяг, безучастно взирающих в объектив. Повсюду валялись сотни желтоватых листков, исписанных убористым почерком Сола, а на стенах висели списки имен, дат и карты расположения концлагерей. Натали заметила старую фотокопию, на которой был изображен молодой полковник с несколькими офицерами СС, – все они улыбались со старой газетной вырезки. Рядом – цветной снимок Мелани Фуллер, где она стояла с Торном во дворе своего чарлстонского дома. Они уселись в большие удобные кресла, и Сол достал толстую папку. – Джек считает, что им удалось обнаружить местонахождение Мелани Фуллер, – начал он. Натали резко выпрямилась: – Где она? – В Чарлстоне. Снова в своем старом доме. Натали медленно покачала головой: – Это невозможно. Она не настолько глупа, чтобы вернуться туда. Сол открыл папку и взглянул на текст, отпечатанный на бланках израильского посольства: – Дом Фуллер был закрыт в ожидании окончательного юридического решения о статусе владелицы. Суд не мог сразу объявить ее умершей, а чтобы продать дом, потребовалось еще больше времени. Похоже, родственников у нее не осталось. Тем временем объявился некий Говард Варден, заявивший, что является внучатым племянником Мелани Фуллер. Он предоставил письма и документы, включая последнее завещание, датированное восьмым января семьдесят восьмого года, по которому дом и все его содержимое перешли к нему именно с этого числа, а не в случае смерти владелицы. Варден пояснил, что пожилую даму тревожило ее ухудшающееся самочувствие и наступление старческого маразма. Он якобы не сомневался в том, что это чистая формальность и что его двоюродная бабушка спокойно доживет свои дни в этом доме, но в связи с ее исчезновением считает необходимым поддерживать хозяйство. В настоящий момент он поселился там со своей семьей. – Может, это действительно дальний родственник? – спросила Натали. – Непохоже. Джеку удалось собрать кое-какие сведения о Вардене. Он вырос в штате Огайо, а четырнадцать лет назад переехал в Филадельфию. Последние четыре года работал помощником старшего лесничего в городском парке и три из них жил в парке Фермонт… – Парк Фермонт! – воскликнула Натали. – Это как раз неподалеку от того места, где исчезла Мелани Фуллер. – Вот именно, – подтвердил Сол. – Вардену сейчас тридцать семь лет, он женат, имеет троих детей – двух девочек и мальчика. По сведениям чарлстонской полиции, его жена полностью соответствует описанию, но ребенок при них почему-то всего один… пятилетний мальчик по имени Джастин. – Но… – начала было Натали. – Постой, это еще не все, – перебил Сол. – Дом Ходжесов по соседству был продан в марте. Его приобрел некий врач по имени Стивен Хартман, с ним живут жена и двадцатитрехлетняя дочь. – Ну и что? Я вполне могу понять, почему миссис Ходжес не захотела возвращаться в этот дом. – Да, – согласился Сол, поправив очки, – но похоже, что доктор Хартман тоже из Филадельфии… Преуспевающий нейрохирург, который внезапно прекращает свою практику, женится и в марте покидает город. Именно тогда же, когда Говард Варден со своим семейством ощутили потребность перебраться на юг. Новая жена доктора Хартмана, третья по счету, некая Сюзанна Олдсмит – бывшая старшая сестра отделения интенсивной терапии в филадельфийской больнице общего профиля. Его друзья крайне изумлены этим браком. – А что необычного в том, что врач женится на медицинской сестре? – удивилась Натали. – Ничего, конечно. Но согласно справкам, которые навел Джек Коэн, до того момента, как доктор Хартман и сестра Олдсмит уволились и вступили в брак, все считали их отношения сугубо профессиональными. Более того, ни у одного из счастливых новобрачных не было двадцатитрехлетней дочери. – Тогда кто же?.. – Юная особа, известная в Чарлстоне под именем Констанции Хартман, очень сильно напоминает некую Конни Сьюэлл – медсестру из отделения интенсивной терапии, которая уволилась на той же неделе, что и сестра Олдсмит. Джеку не удалось получить более точных сведений, но мисс Сьюэлл бросила свою квартиру и друзей, не сообщив им, куда направляется. Натали принялась мерить нервными шагами маленькую комнату, не обращая внимания на шипение лампы и мечущиеся по стенам тени. – Значит, похоже, что во время этого безумия в Филадельфии Мелани Фуллер была ранена или получила травму. Газеты писали о том, что в реке Скулкилл была найдена машина с трупом возле того места, где потерпел крушение вертолет ФБР. Но тело принадлежало не Мелани. Я знала, что она жива. Я чувствовала это. Выходит, она была лишь ранена и заставила этого лесничего доставить ее в местную больницу. А Коэн проверил больничные записи? – Конечно. – Сол кивнул. – Он выяснил, что перед ним там побывал кто-то из ФБР или под видом агента ФБР. Никаких упоминаний о Мелани Фуллер нет. Масса старух, но ни одна из них не подходит под ее описание. – Это не имеет значения, – сказала Натали. – Старая ведьма каким-то образом замела следы. Нам ведь известно, что она умеет это делать. – Натали вздрогнула и потерла руки. – Значит, когда наступило время выздоровления, у Мелани Фуллер уже была готова группа обработанных зомби, которые и отвезли ее обратно домой в Чарлстон. Постой-ка, я догадываюсь… мистер и миссис Варден привезли с собой больную бабушку? – Да, вроде бы мать миссис Варден, – с легкой улыбкой ответил Сол. – Соседи ни разу ее не видели, но кто-то рассказал Джеку, как в дом вносили больничное оборудование. Это тем более странно, ибо, по сведениям, полученным из Филадельфии, мать Нэнси Варден скончалась еще в шестьдесят девятом году. Натали снова заметалась по комнате. – А доктор, как его?.. – Хартман. – Да… Он с сестрой Олдсмит находится в доме Ходжесов, чтобы оказывать Фуллер медицинскую помощь по первому разряду. – Натали замерла с широко раскрытыми глазами. – Но, господи, Сол, это же очень рискованно! Что, если власти… – Она замолчала. – Какие власти? – усмехнулся Сол. – Чарлстонская полиция никогда не заподозрит, что больная мать миссис Варден и исчезнувшая Мелани Фуллер – одно и то же лицо. Это мог заподозрить шериф Джентри, у Роба была потрясающая интуиция… Но он мертв. Натали бросила на него быстрый взгляд и глубоко вздохнула. – А что насчет группы Барента? – поинтересовалась она. – Этих… из ФБР и всех остальных? – Возможно, они объявили перемирие. – Сол пожал плечами. – Вероятно, мистер Барент и его дружки, оставшиеся в живых, не хотят больше подвергаться такому же пристальному вниманию общественности, как в декабре. Натали, представь, если бы ты была Мелани Фуллер и бежала от таких же порождений мрака, не желающих афишировать свои кровавые деяния, куда бы ты направилась? Натали секунду подумала, затем произнесла: – В дом, который и без того уже стал центром всеобщего внимания из-за целой череды необъяснимых убийств. Невероятно! – Да, – согласился Сол. – Невероятно, но именно эта невероятность и стала для нас удачей. Джек Коэн сделал все, что мог, при этом не навлекая на себя гнев начальства. Я отправил ему закодированное послание с благодарностью и просьбой продолжать расследование. Он будет ждать известий от нас. – О, если бы только остальные могли нам поверить! – воскликнула Натали. Сол покачал головой: – Даже Джек Коэн верит лишь в часть этой истории. Единственное, в чем он не сомневается, так это в том, что кто-то убил Арона Эшколя и всю его семью и что я говорил правду, когда утверждал, что в гибели моего племянника, его жены и детей каким-то непонятным ему образом замешаны оберст и агенты ФБР. Натали как подкошенная рухнула на стул. Лицо ее побледнело. – О господи, Сол, а что же случилось с дочерьми Вардена? С теми двумя девочками, о которых сообщал Джек Коэн? – Этого Джеку выяснить не удалось. – Сол захлопнул папку. – Никаких признаков траура, никаких сообщений о смерти ни в Филадельфии, ни в Чарлстоне. Возможно, их отослали к близким родственникам, но у Джека нет способа выяснить это, не засвечиваясь. Если они все обслуживают Мелани Фуллер, то вполне возможно, что старуха устала от такого количества детей и устранила двоих из них. У Натали даже губы затряслись от ярости. – Эта тварь должна умереть, – прошептала она. – Да, – согласился Сол. – Я уверен, что мы выяснили ее местонахождение. – Наверняка, хотя сама мысль о том, что у нее до сих пор развязаны руки… – Мы их остановим, – заверил ее Сол, – всех. Но для этого мы должны действовать по плану. Роб Джентри погиб по моей вине. По моей вине погиб Арон и его семья. Я считал, что, если мы незаметно приблизимся к этим людям, нам не будет грозить опасность. Но Джентри был прав, называя это ловлей ядовитых змей с закрытыми глазами. – Он подвинул к себе другую папку и провел по ней пальцами. – Если мы возвращаемся в эту трясину, Натали, мы должны стать охотниками и не дожидаться безучастно, когда эти чудовища первыми нанесут удар. – Ты ее не видел, – прошептала Натали. – Она… она не человек. А главное – я упустила возможность, Сол. Она отвлеклась, и в течение нескольких секунд я держала в руках заряженный револьвер, но выстрелила не в того, в кого нужно. Роба убил не Винсент, а она. Я просто сразу не сообразила. Сол крепко сжал ее руку повыше локтя: – Не нужно, Натали. В этом гнезде Мелани Фуллер – лишь одна из гадюк. Даже если бы ты ее уничтожила, остальные остались бы невредимыми. И их количество не изменилось бы, если считать, что Чарльза Колбена убила именно Фуллер. – Но если бы я… – Хватит, – решительно оборвал ее Сол, ласково потрепав по волосам. – Ты очень устала, Натали. Завтра, если захочешь, я возьму тебя с собой в Лохамей-ха-Гетаот. – Да, – согласилась она, – я бы хотела поехать. – И чуть склонила голову, когда Сол поцеловал ее в макушку. Несколько позже, когда Натали уже легла, Сол раскрыл тонкую папку, на которой было написано «Тони Хэрод», и в течение некоторого времени изучал досье. Затем он отложил в сторону и ее. Открыв дверь, Сол прислонился к косяку, глубоко вдыхая дивный ночной воздух. Высоко в небе плыла луна, заливая серебром склоны холмов и отдаленные дюны. Дом Давида Эшколя покоился во мраке на вершине холма. С запада долетал аромат апельсинов, слышался тихий шепот далекого моря. Постояв несколько минут, Сол закрыл дверь, задвинул засовы, проверил окна и вернулся в свою комнату. Затем взял первую папку, которую ему прислал Визенталь. Поверх стопки обычных формуляров, заполненных четкими стенографическими значками вермахта, была прикреплена фотография еврейской девушки лет восемнадцати, со впалыми щеками, черными, повязанными шарфом волосами и огромными темными глазами. Несколько минут он смотрел на фотографию, гадая, о чем думала эта девушка, когда глядела в объектив нацистской камеры. Как и где умерла она, кто ее оплакал? Сможет ли он найти в ее досье ответы на эти вопросы? По меньшей мере ему нужны были скупые факты: когда ее арестовали за величайшее преступление против арийцев – ведь она еврейка, когда была переведена в лагерь, как закончилась ее короткая юная жизнь, а с нею все надежды, мечты, симпатии… Неужто так и рассеялись, как горстка пепла на холодном ветру? Сол вздохнул и приступил к чтению.* * *
На следующий день они встали рано, и Сол приготовил один из тех обильных завтраков, которые, по его словам, являлись традиционными для Израиля. Солнце едва поднялось над холмами, когда они забросили на заднее сиденье почтенного «лендровера» рюкзак и направились по прибрежному шоссе к северу. Минут через сорок показался порт Хайфы. Город раскинулся у подножия горы Кармель. – «Голова твоя на тебе, как Кармель, и волосы на голове твоей, как пурпур», – процитировал Сол, перекрывая шум ветра. – Красиво, – откликнулась Натали. – Песнь Соломона? – Песнь песней, – поправил Сол. Ближе к северному берегу залива начали попадаться указатели с названием Акко в двух вариантах перевода – «Поместье» и «Поместье святого Иоанна». Натали посмотрела на запад, на обнесенный белыми стенами город, купавшийся в щедром утреннем свете. День снова обещал быть жарким. Из Акко вела узкая дорога к кибуцу, где сонный охранник, взмахнув рукой, подал Солу знак проезжать. Они миновали зеленеющие поля, комплекс зданий кибуца и остановились у большого блочного дома с вывеской на иврите и английском: «Лохамей-ха-Гетаот – гетто Музей борцов», ниже были указаны часы работы. Навстречу им вышел невысокий мужчина, на его правой руке не хватало трех пальцев. Он вступил с Ласки в оживленную беседу на иврите. Сол протянул ему несколько монет, и тот двинулся вперед, указывая им дорогу, улыбаясь и повторяя Натали «шалом». Они вошли в центральный зал и двинулись мимо застекленных витрин с журналами, рукописями и другими реликвиями обреченного на гибель восстания варшавского гетто. Висевшие на стенах фотографии безмолвно и наглядно повествовали о жизни в гетто и тех нацистских зверствах, которые уничтожили эту жизнь. – Это не похоже на Яд-Вашем, – заметила Натали. – Здесь нет такого гнетущего ощущения. Может, из-за того, что здесь потолки выше. Сол пододвинул низкую скамейку и уселся на нее, скрестив ноги. Слева от себя он положил целую кипу папок, а справа – стробоскоп на батарейках. – Лохамей-ха-Гетаот скорее посвящен идее сопротивления, чем воспоминаниям о геноциде, – ответил он. Натали остановилась перед снимком с изображением большого семейства, выгружающегося из теплушки, – их пожитки были свалены на земле рядом. Она резко повернулась к Солу: – Ты можешь загипнотизировать меня? Он поправил очки. – Могу. Но это займет много времени. А зачем? Натали пожала плечами: – Мне хочется узнать, какие ощущения у загипнотизированного… Ведь это не составит для тебя никакого труда. – Многолетняя практика, – откликнулся Сол. – В течение многих лет я использовал нечто вроде самогипноза, чтобы справляться с мигренями. Натали взяла папку и, открыв ее, взглянула на фотографию молодой женщины: – Неужели ты действительно сможешь вместить все это в свое подсознание? – Существуют разные уровни подсознания. – Он потер щеку. – На одних я просто пытаюсь восстановить уже имеющиеся воспоминания… так сказать, разблокировать память. А с другой стороны, я пытаюсь настолько раскрепоститься, чтобы ощутить происшедшее с людьми, которые имели подобный опыт. Натали оглянулась: – И это помогает? – Да. Особенно если впитываешь, пропускаешь через себя биографические сведения. – Сколько у тебя времени на это? Сол посмотрел на часы: – Около двух часов, но Шмулик обещал не впускать сюда туристов, пока я не закончу. Натали поправила тяжелую сумку на плече: – Я немного погуляю, а потом начну усваивать и запоминать все венские сведения. – Хорошо, – кивнул Сол. Оставшись один, он внимательно прочитал все, что хранилось в первых трех папках. Затем отвернулся в сторону, включил маленький стробоскоп и установил таймер. Метроном начал отстукивать ритм в унисон со вспышками мигающего света. Сол полностью расслабился, стер из своего сознания все, за исключением ощущения пульсирующего света, и словно поплыл по волнам другой исторической эпохи и других географических мест. Сквозь дым, пламя и завесу времени на него взирали со стен бледные изможденные лица.* * *
Выйдя из здания, Натали стала наблюдать за молодыми обитателями кибуца, занимавшимися своими делами. Вдали виднелся грузовик, направлявшийся в поля с последней партией рабочих. Сол рассказывал ей, что этот кибуц был основан людьми, выжившими в варшавском гетто и польских концлагерях, но взгляд Натали в основном задерживался на молодых лицах тех, кто родился уже здесь, в Израиле. Худые, загорелые, внешне они ничем не отличались от арабов. Она медленно добрела до края поля и устроилась в тени единственного эвкалипта, неподалеку от высокого оросителя, который выплевывал на посевы струи воды с такой же завораживающей периодичностью, как метроном Сола. Натали достала из сумки бутылку пива и открыла ее своим новым армейским ножом. Пиво уже успело нагреться, но было вкусным, его аромат прекрасно гармонировал с жарким не по сезону днем, запахами влажной земли и растений. При мысли о возвращении в Америку сердце ее учащенно забилось. Господи, ну и ужас! В памяти остались лишь обрывки: вспышки пламени, темнота, прожекторы, вой сирен – словно воспоминания о кошмарном сне. Она помнила, как проклинала Сола, колотила его кулаками за то, что тот оставил тело Роба в Ропщущей Обители. Помнила, как Сол нес ее на руках в кромешной тьме, а также нестерпимую боль в голеностопе, от которой сознание то покидало ее, то вновь возвращалось, будто пловец, ныряющий в волнах штормового моря. Некто Джексон бежал рядом, волоча на плече безжизненное тело Марвина Гейла. Позднее Сол сказал ей, что главарь был еще жив, хотя и находился без сознания. Еще Натали помнила, как лежала на скамейке в парке, а Сол звонил куда-то из таксофона… Затем наступил серый промозглый рассвет, и она очнулась на заднем сиденье фургона в окружении незнакомых людей, а Сол впереди разговаривал с каким-то человеком, который и был Джеком Коэном, шефом ячейки Моссада в израильском посольстве. События последующих двух суток Натали тоже помнила урывками. Номер в мотеле, обезболивающие уколы, врач, перебинтовывающий ее поврежденную ногу. Перед глазами у нее стояла одна и та же картина: неподвижное тело Роба на полу, красно-серая кашица мозгов Винсента на стене и безумные глаза старухи, заглядывающей ей в душу: «До свидания, Нина. Мы еще встретимся». Натали просыпалась по ночам от собственных криков и билась в истерике. Сол признался ей, что никогда в жизни не тратил столько сил, как на тот разговор с Джеком Коэном, длившийся двое суток подряд. Бывалый седовласый агент не смог бы воспринять всю правду, однако при помощи обмана ему следовало внушить хотя бы часть правды. Наконец израильтяне вынуждены были поверить, что и Сол, и Натали, и Арон Эшколь, и исчезнувший шеф шифровального отдела Леви Коул – все они были втянуты в смертельно опасную широкомасштабную игру, которую вели высшие должностные лица в Вашингтоне и ФБР с бывшим нацистским преступником. Коэну не удалось получить почти никакой поддержки от своего посольства или начальства в Тель-Авиве, однако на рассвете в воскресенье четвертого января фургон с Солом, Натали и двумя израильскими агентами, урожденными американцами, пересек границу с Канадой. Через пять часов они вылетели из Торонто в Тель-Авив с новыми документами. О последующих двух неделях своего пребывания в Израиле Натали почти ничего не помнила. На второй день с ее сломанной ногой стало твориться что-то невообразимое, боль была адской, резко подскочила температура, и ее почти без сознания отвезли на частном самолете в Иерусалим, где Солу, благодаря его старым медицинским связям, удалось поместить ее в платную палату медицинского центра Хадасса. На той же неделе прооперировали и руку Сола. Натали пробыла в клинике пять дней, в последние три из которых каждое утро и вечер с помощью костылей добиралась до синагоги и рассматривала витражи, выполненные Марком Шагалом. Она пребывала в каком-то ступоре, словно весь ее организм получил мощную дозу новокаина. Но каждую ночь, закрывая глаза, она видела перед собой лицо Роба Джентри, его победный взгляд за миг до того, как оборвалась его жизнь… Натали допила пиво и убрала пустую бутылку в сумку, испытывая легкое чувство вины оттого, что пьет так рано, когда все работают. Затем она достала первую стопку документов: фотокопии, сведения о Вене двадцатых – тридцатых годов, полицейские отчеты, переведенные помощниками Визенталя, тонкое досье Нины Дрейтон, перепечатанное покойным Фрэнсисом Харрингтоном, – и со вздохом принялась за работу.* * *
После полудня Сол иНатали отправились в Хайфу пообедать, прежде чем все заведения закроются в связи с наступлением субботы. Они купили фалафели у уличного торговца и, жуя на ходу, двинулись по направлению к оживленному порту. За ними увязались несколько дельцов черного рынка, пытавшихся всучить им зубную пасту, джинсы и «ролексы», но Сол что-то резко сказал им, и они отстали. Облокотившись на парапет, Натали наблюдала за отчалившим от причала грузовым судном. – Когда мы поедем в Америку, Сол? – спросила она. – Я буду готов через три недели. Может, раньше. А когда ты будешь готова? – Никогда, – ответила Натали. Он усмехнулся: – Хорошо, значит, когда ты захочешь вернуться? – В любой момент… На самом деле чем раньше, тем лучше. – Она шумно выдохнула. – Господи, у меня снова начинаются спазмы, едва подумаю, что надо возвращаться. – Да, – согласился Сол. – Со мной происходит то же самое. Давай еще раз переберем имеющиеся у нас факты и догадки и проверим, нет ли в нашем плане уязвимых мест. – Самое уязвимое место – это я, – тихо промолвила Натали. – Нет. – Сол прищурился, глядя на плещущуюся внизу пенистую воду. – Итак, мы допускаем, что сведения Арона соответствуют действительности и что главный штаб игроков составляют по меньшей мере пять человек: Барент, Траск, Колбен, Кеплер и проповедник по имени Саттер. Я собственными глазами видел, как Траск погиб от руки оберста. Мы полагаем, что Колбен разбился вместе с вертолетом в результате действий Мелани Фуллер. Следовательно, из этой группы остались трое. – Четверо, если считать Хэрода, – поправила Натали. – Да, – согласился Сол, – нам известно, что он действовал заодно с людьми Колбена. Значит, четверо. Может быть, еще агент Хейнс, но я думаю, что он скорее орудие в их руках, нежели активный игрок. Вопрос в том, зачем оберст устранил Траска. – Месть? – предположила Натали. – Возможно, но у меня сложилось впечатление, что между ними идет какая-то дьявольская игра. Давай предположим, что вся операция в Филадельфии была направлена не столько против Фуллер, сколько против фон Борхерта… Бордена. И Барент сохранил мне жизнь лишь потому, что мог использовать меня в качестве еще одного оружия против оберста. Но почему оберст сохранил жизнь мне… и зачем ему понадобилось включать в эту игру тебя и Роба? – Чтобы спутать карты? Нечто вроде развлечения. – Может быть, – согласился Сол, – но давай вернемся к предположению, что он косвенно использовал нас как орудие для каких-то своих целей. Нет никакого сомнения в том, что Дженсен Лугар был помощником Уильяма Бордена в Голливуде. Джек Коэн подтвердил сведения, полученные Харрингтоном. В самолете Лугар тебе представился. Это могло быть сделано сознательно: оберст ставил нас в известность, что манипулирует нами обоими. Затем он прилагает массу усилий, чтобы убедить Барента и Колбена в том, что я погиб во время взрыва и пожара в Филадельфии. Зачем? – Он собирается использовать тебя в дальнейшем, – сказала Натали. – Вот именно. Но почему он не использует каждого из нас непосредственно? – Возможно, это для него слишком сложно, – предположила она. – Похоже, что для этих вампиров существенную роль играет расстояние. Может, его вообще не было в Филадельфии… – И действовали лишь его обработанные пешки, – договорил Сол. – Лугар, бедный Фрэнсис и белый помощник Том Рейнольдс. Ведь именно Рейнольдс напал на тебя у дома Фуллер в рождественскую ночь. У Натали перехватило дыхание. Такое она слышала впервые. – Откуда ты знаешь? Сол снял очки и протер их полой рубашки. – А тогда какой смысл был в этом нападении, кроме того, чтобы навести вас с Робом на правильный след? Оберст хотел, чтобы вы оба были в Филадельфии, когда разыграются финальные сцены с людьми Колбена. – Не понимаю. – Натали покачала головой. – А в какой момент появляется Мелани Фуллер? – Давай будем полагать, что Фуллер не сотрудничает ни с Вилли Борденом, ни с его противниками, – предложил Сол. – Скажи, сложилось ли у тебя впечатление, что ей известно о существовании этих группировок? – Нет, – ответила Натали. – Она упоминала только Нину… Вероятно, Нину Дрейтон. – Да. И если следовать логике Роба – а я не вижу причин от нее отказываться, – Нину Дрейтон в Чарлстоне убила именно Мелани Фуллер. С чего бы ей считать, что ты являешься посланницей мертвеца, Натали? – Потому что она сумасшедшая! – воскликнула девушка. – Ты бы видел ее, Сол. У нее взгляд безумного, больного человека, маньяка. – Будем считать, что так оно и есть, – согласился он. – И хотя, возможно, Мелани Фуллер является самой опасной из всех, ее безумие может сыграть нам на руку. А что же наш мистер Хэрод? – Я бы задушила его собственными руками! – вырвалось у Натали, когда она вспомнила о бесцеремонном вторжении в ее сознание. Сол кивнул и надел очки: – Но контроль Хэрода над тобой был прерван, так же как оберста надо мной сорок лет назад, а в результате мы оба помним о своих переживаниях и об их… как бы это сказать… мыслях? – Не совсем, – поправила Натали. – Скорее, чувствах. Об их личности. – Да, – согласился он. – Но как бы это ни выражалось, у тебя создалось отчетливое впечатление, что Тони Хэрод не склонен пользоваться своей Способностью по отношению к лицам мужского пола? – Я в этом не сомневаюсь, – ответила Натали. – Его отношение к женщинам грязное и порочное, однако я почувствовала, что… насиловать таким образом он может только женщин. Мне даже показалось, он видел во мне… как бы свою мать, с которой хотел вступить в половую связь, чтобы что-то ей доказать… – Очень удобная фрейдистская позиция, – усмехнулся Сол. – Значит, будем полагать, что Хэрод может влиять только на женщин. Если это так, то у наших врагов имеются по крайней мере два слабых места: обладающая невероятными способностями женщина, выжившая из ума и не принадлежащая к той группе власть имущих, и мужчина, который, может быть, и входит в эту группу, но не хочет или не может использовать свою Способность с мужчинами. – Хорошо, – сказала Натали. – Предположим, что это так. И что это нам дает? – У нас остается тот же план, который мы впервые обсуждали в феврале, – ответил Сол. – И который, возможно, приведет нас к гибели, – вздохнув, добавила Натали. – Да. Но если нам предстоит жить в трясине с этими ядовитыми существами, что ты предпочтешь: всю оставшуюся жизнь бояться их и ждать нападения или, рискуя собственной жизнью, начать охоту? Натали рассмеялась: – Отличный выбор, Сол. – Пока ничего другого не остается. – Ну что ж, тогда давай вооружимся мешком и займемся отловом змей. – Натали посмотрела на золотой купол Бахаистского храма, сверкавший на горе Кармель, и снова перевела взгляд на исчезающее вдали грузовое судно. – Знаешь, – доверительно сказала она, – наверное, это глупость, но мне почему-то кажется, что Робу понравился бы наш план. Даже если все это безумие обречено на провал, он бы сумел увидеть в нем привлекательную сторону. Сол дружески похлопал ее по плечу: – Тогда давай продолжим составлять наши безумные планы и не станем разочаровывать Роба. Они вместе двинулись по направлению к дороге на Яффу, где их ожидал «лендровер».Глава 38 Мелани
Как приятно снова оказаться дома! Я так устала от больничной атмосферы, даже несмотря на то, что у меня была отдельная палата в отдельном крыле, специально отгороженном для моего удобства, и весь персонал занимался исключительно моим обслуживанием. Но, как говорится, дома и стены помогают, и процесс выздоровления идет с удвоенной скоростью. Много лет назад я читала о так называемых внетелесных переживаниях, которые якобы испытывают умирающие или безнадежно больные люди в состоянии клинической смерти. Я никогда не верила этим домыслам, считая их глупой журналистской погоней за сенсациями, столь распространенной в наше время. Но когда в больнице ко мне вернулось сознание, я испытала именно эти чувства. Какое-то время мне даже казалось, будто я парю под потолком своей палаты, ничего не видя, но все ощущая. Я наблюдала как бы со стороны чужое, старое, скрюченное тело на кровати с подключенными к нему датчиками и катетерами, суету и беготню сестер и врачей, стремящихся поддержать жизнь в этом чужеродном организме. А когда я наконец вернулась в мир красок и звуков, я поняла, что воспринимаю его глазами и ушами всех этих людей. И как их оказалось много! Насколько я знаю, ни мне, ни Вилли, ни Нине никогда не удавалось Использовать более одного человека, чтобы получать такой поток разнообразных ощущений. Даже Использование двух незнакомцев, попеременно переключаясь с одного на другого, не позволяло ощутить мир с такой пронзительностью, с какой ощущала его я. Кроме того, наше Использование всегда осознавалось другими людьми, что приводило либо к уничтожению их личности, либо к провалам в памяти. Теперь же я взирала на мир по меньшей мере с шести разных точек и абсолютно точно знала, что никто не догадывается о моем присутствии в своем сознании. Но могла ли я на самом деле Использовать их? Я начала осторожно экспериментировать, то заставляя сестру без всякой необходимости взять стакан, то помогая ординатору закрыть дверь, то вынуждая врача говорить нечто иное, о чем он и не думал. Я не стала внедряться в них глубоко, чтобы не помешать их профессиональной деятельности. И ни один из них ни разу не ощутил в своем сознании моего присутствия. Шли дни. Я выяснила, что, пока мое тело пребывало в коме и жизнь в нем поддерживалась лишь благодаря повышенному уходу и непрекращающейся работе аппаратов, в действительности я могла перемещаться в пространстве и заниматься его исследованием с неведомой мне доселе легкостью. Я выходила из палаты, укрывшись в сознании молодой сестры, ощущая ее энергию и бодрость, вкус ее ментоловой жвачки, а в конце коридора я выпускала еще одно щупальце сознания, не теряя при этом контакта с сестрой, и оказывалась в лифте вместе с врачом. Я заводила его «линкольн» и уносилась на шесть миль к дому в пригороде, где его ждала жена… И все это время я продолжала пребывать с медсестрой, с сиделкой в коридоре, интерном-рентгенологом, работавшим этажом ниже, и вторым врачом, который в данный момент стоял и взирал на мое коматозное тело. Расстояние перестало быть преградой для моей Способности. Много лет нас с Ниной поражало умение Вилли Использовать своих пешек на гораздо большем расстоянии, чем это удавалось нам, но теперь я обрела поистине неограниченные возможности. И силы мои все возрастали.* * *
На второй день, когда я испытывала свои новые ощущения и возможности, ко мне в палату явились члены моей «семьи». Я не узнала высокого рыжего мужчину и его худую жену-блондинку, но затем я переместилась в приемный покой и взглянула глазами регистраторши на троих детей. Я тут же вспомнила, как встретила их в парке. Рыжий мужчина, похоже, был встревожен моим видом. Я лежала в отделении интенсивной терапии в переплетении трубок для внутривенных вливаний и сенсорных датчиков. Врач с листком бумаги, который сестра называла картой, отвел мужчину за прозрачную перегородку. – Вы родственник? – поинтересовался он. Это был спокойный педантичный человек с целой гривой седых волос. Звали его доктор Хартман, и мне передавались то удовольствие, настороженность и уважение, которые испытывали сестры в его присутствии. – Нет, – ответил рыжий великан. – Меня зовут Говард Варден. Мы нашли ее… то есть мои дети… вчера утром, когда она бродила у нас в парке, близ дома. А потом она потеряла сознание… – Да-да, – откликнулся доктор Хартман, – я читал записанные с ваших слов сведения. Вы не имеете ни малейшего представления, кто она такая? – Нет, на ней были только ночная рубашка и халат. Мои дети сказали, что она вышла из леса, когда они… – А какие-нибудь другие идеи, откуда она могла взяться? Варден пожал плечами: – Я не стал звонить в полицию. Наверное, надо было это сделать. Мы с Нэнси прождали в приемном покое несколько часов, а когда стало ясно, что эта пожилая леди не собирается… я хочу сказать, что состояние ее стабильно… мы вернулись домой. Это был мой выходной день. Я собирался позвонить в полицию сегодня утром, но сначала решил узнать, как она… – Полицию мы уже известили, – солгал доктор Хартман. (Тут я Использовала его впервые. Это оказалось не сложнее, чем накинуть старое любимое пальто.) – Они приезжали и составили рапорт. Похоже, там тоже не знают, откуда взялась миссис Как-Там-Ее. Никто не сообщал о пропавших родственниках. – Миссис Как-Там-Ее? – переспросил Говард Варден. – Ну, хорошо. Для нас это такая же тайна, доктор. Мы живем на расстоянии двух миль от входа в парк, и, по словам детей, она появилась даже не со стороны входа. – Он снова посмотрел на мою кровать. – Как она, доктор? Вид у нее… жуткий. – У нее произошел обширный удар, – ответил доктор Хартман. – Возможно, даже целая серия ударов. – Увидев непонимание на лице Говарда, он продолжил: – Мы называем это кровоизлиянием в мозг. Он временно перестал получать кислород. Насколько мы можем судить, кровоизлияние локализовано в правом полушарии мозга пациентки, что и привело к нарушению неврологических функций. Парализованной оказалась левая половина тела – запавшее веко, рука, нога, но в каком-то смысле это можно считать благоприятным признаком. Афазия – проблемы с речью – в основном вызывается кровоизлияниями в левом полушарии. Мы сделали ЭКГ и компьютерную томографию, и, честно говоря, результаты несколько обескураживающие. Если томография мозга подтвердила инсульт и возможную закупорку центральной нервной артерии, то ЭКГ абсолютно не соответствует тому, чего можно ожидать при обстоятельствах подобного рода… Я потеряла интерес к этой сугубо медицинской терминологии и сосредоточила свое внимание на регистраторше среднего возраста, которая сидела в вестибюле. Я велела ей встать и подойти к детям. – Привет, – заставила я ее сказать. – Я знаю, кого вы пришли навестить. – Нас не пропускают, – ответила шестилетняя девочка, которая на рассвете пела мне «Хей, Джуд». – Мы слишком маленькие. – Но я знаю, кого бы вы хотели повидать, – продолжила женщина с улыбкой. – Я хочу увидеть добрую тетю, – сказал мальчик. В глазах его стояли слезы. – А я не хочу, – с вызовом заявила старшая девочка. – И я не хочу, – подхватила ее шестилетняя сестра. – Почему? – спросила регистраторша моим голосом. Мне было очень обидно. – Потому что она странная, – ответила старшая девочка. – Мне показалось, что она мне нравится, а когда я вчера дотронулась до ее руки, она была странной. – Что значит «странной»? – спросила я. На носу у женщины были очки с толстыми стеклами, поэтому изображение получалось искаженным. Я надевала очки только для чтения. – Странной, – повторила девочка. – Неправильной. У нее кожа жесткая и скользкая, как у змеи. Я отпустила ее руку еще до того, как ей стало плохо, но я сразу поняла, что она противная. – Да-да, – поддакнула ее сестра. – Замолчи, Эли, – оборвала старшая девочка. На лице ее было написано, что она сожалеет о том, что вступила в разговор. – А мне хорошая тетя понравилась, – возразил мальчик. Похоже, он плакал перед визитом в больницу. Регистраторша по моему приказу отозвала девочек к стойке. – Идите сюда. У меня кое-что для вас есть. – Она порылась в ящике и достала две круглые мятные конфеты в обертках, а когда старшая из девочек протянула руку, женщина крепко схватила ее за запястье. – Сначала дай я предскажу тебе твое будущее, – прошептала она. – Отпустите, – так же шепотом попросила девочка. – Тебя зовут Тара Варден. А твою сестру Элисон. Обе вы живете в большом каменном доме на холме, который вы называете замком. Однажды ночью в вашу спальню войдет огромный зеленый человек с острыми желтыми зубами и разорвет вас на куски, а потом съест. Девочки попятились, лица их побелели, глаза стали огромными, как блюдца, а челюсти отвисли от страха и изумления. – А если вы расскажете об этом отцу или матери или кому-нибудь другому, – прошипела регистраторша им вслед, – то зеленый человек придет за вами уже сегодня ночью! Девочки рухнули на стулья, глядя на женщину с таким ужасом, словно она была змеей. Через несколько минут в приемную вошла пожилая пара, и я позволила регистраторше снова вести себя вежливо и несколько чопорно. Наверху доктор Хартман как раз заканчивал свои медицинские объяснения Говарду Вардену. В конце коридора старшая сестра Олдсмит проверяла назначения, особо обращая внимание на то, что прописали миссис Как-Там-Ее. В моей палате молодая сестра Сьюэлл осторожно обертывала меня холодными компрессами, чуть ли не подобострастно массируя мне кожу. Я ощущала это очень слабо, но при мысли о том, что моей особе уделяется такое огромное внимание, настроение мое улучшилось. Приятно было вновь чувствовать себя в кругу семьи.* * *
На третий день, а точнее, на третью ночь я отдыхала. В действительности я перестала спать, просто позволяя парить своему сознанию свободно, наугад перемещаясь от одного объекта к другому. И вдруг я ощутила физическое возбуждение, незнакомое мне уже много лет, – присутствие мужчины, прикосновение его рук, тяжесть его тела, прижимающегося ко мне. Сердце мое учащенно забилось, когда я почувствовала, как его язык проник в мой рот, а пальцы ласкают мою грудь и возятся с пуговицами форменного сестринского платья. Мои собственные руки скользнули вниз, к его ремню, расстегнули молнию на брюках и обхватили твердый член. Это было отвратительно. Это было непристойно. Сестра Конни Сьюэлл в подсобном помещении развлекалась с каким-то интерном. Но поскольку спать я все равно не могла, я позволила своему сознанию вернуться к сестре Сьюэлл, утешаясь мыслью, что не являюсь инициатором всего этого, а лишь принимаю пассивное участие в происходящем. Ночь прошла почти незаметно.* * *
Не могу сказать, когда у меня зародилась мысль о том, чтобы вернуться домой. В течение первых нескольких недель, даже месяца, мое пребывание в больнице было неизбежным, но к середине февраля я начала все чаще и чаще задумываться о Чарлстоне и о родном доме. Оставаться в больнице дольше, не привлекая к себе внимания, становилось все труднее. Через три недели доктор Хартман перевел меня в просторную отдельную палату на седьмом этаже, и у большей части персонала сложилось впечатление, что я являюсь очень состоятельной пациенткой, требующей особого ухода. В общем-то, это соответствовало действительности. Однако оставался администратор, доктор Маркхам, который продолжал интересоваться моим случаем. Он каждый день поднимался на седьмой этаж и старательно пытался что-нибудь разнюхать. Я была вынуждена заставить доктора Хартмана объясниться с ним. Старшая сестра Олдсмит также вступила с ним в переговоры. Наконец я пробралась в сознание этого ничтожества и применила собственные способы убеждения. Но Маркхам оказался на редкость упорным. Дня через четыре он вернулся и вновь принялся допрашивать сестер: кто оплачивает дополнительный уход за безымянной пациенткой, откуда деньги на добавочные медикаменты, исследования, анализы, томографию и консультации специалистов? Мол, администрация не располагает никакими сведениями о поступлении дамы в больницу, нет компьютерных расчетов стоимости проведенных мероприятий, нет данных о том, как будет производиться оплата. Сестра Олдсмит и доктор Хартман согласились встретиться на следующее утро с нашим инквизитором, заведующим больницей, шефом отдела делопроизводства и еще какими-то тремя чиновниками. В тот вечер я присоединилась к Маркхаму, когда он отправился домой. Автострада через реку Скулкилл была перегружена, и я вновь вспомнила о новогодних событиях. Перед поворотом на шоссе Рузвельта я заставила его прижаться к обочине, включить фары и выйти из машины. Пока Маркхам стоял у капота, почесывая лысину и гадая, что же случилось с машиной, все пять полос заполнились несущимися автомобилями, а как раз там, где остановился «крайслер», появился огромный грузовик. Наш администратор сделал три больших скачка, я успела услышать рев автомобильного гудка, увидеть изумленное выражение на лице водителя приближавшегося грузовика, ощутить немыслимую беготню мыслей Маркхама, прежде чем удар откинул меня назад, к другим объектам. Я отыскала сестру Сьюэлл и разделила с ней нетерпеливое ожидание конца смены и прихода ее молодого интерна.* * *
Время для меня не имело никакого значения. Я перелетала в прошлое с такой же легкостью, с какой перемещалась из сознания одного человека в другое. Особенно мне нравилось оживлять в памяти те летние месяцы, которые мы проводили в Европе с Ниной и нашим новым другом Вильгельмом. Я вспоминала прохладные летние вечера, когда мы втроем гуляли по фешенебельной Рингштрассе, где все, кто хоть что-то представлял собою, щеголяли в своих самых лучших нарядах. Вилли любил ходить в кинотеатр «Колоссеум» на Нюссдорферштрассе, где неизменно демонстрировались скучные пропагандистские немецкие картины. Мы же с Ниной предпочитали «Крюгер-кино», где показывали новейшие американские ленты про гангстеров. Однажды вечером я хохотала до слез, глядя, как Джимми Кэгни изрыгает потоки отвратительной австро-немецкой речи в первом увиденном мною дублированном звуковом фильме. Затем мы шли выпить и посидеть в баре на Кертнерштрассе, общались там с другими компаниями молодых весельчаков, отдыхали в шикарных кожаных креслах и любовались игрой света, отражавшегося от полированных поверхностей красного дерева, стекла, хрома, позолоты и мраморных столиков. Иногда с соседней улицы сюда заходили шикарные проститутки со своими клиентами, и их присутствие добавляло чувственность и кураж в атмосферу вечера. Несколько раз наши прогулки заканчивались походом в «Симпл» – самое роскошное кабаре Вены. Его полное название было «Симплициссимус», и я отчетливо помню, что там выступали два еврея – Карл Фракс и Фриц Грюнбаум. Даже позднее, когда коричневорубашечники и штурмовики потопили улицы Старого города в крови и беспорядках, у этих двух комиков еще оставались покровители, которые покатывались со смеху над их сатирическими скетчами. Странно, но объектами их пародий как раз являлись нацистские стереотипы. Вилли просто заходился от хохота так, что по его покрасневшему лицу текли слезы. Однажды он досмеялся до того, что чуть не задохнулся, и нам с Ниной пришлось колотить его по спине и поочередно предлагать ему свои бокалы с шампанским. Уже после войны он небрежно упомянул о том, что не то Фракс, не то Грюнбаум – не помню, кто именно, – погиб в одном из лагерей, которые находились в ведении Вилли перед тем, как его перевели на Восточный фронт. Нина была очень красива. Светлые волосы, коротко подстриженные и завитые по последней моде, яркий маникюр, ухоженная кожа, роскошные шелковые платья, доставленные из Парижа по заказу… Особенно помню зеленое, с глубоким декольте – ткань плотно облегала ее маленькую грудь, подчеркивая изящность бледного румянца щек и странным образом оттеняя голубизну глаз. Не помню, кто конкретно предложил сыграть в Игру в то первое лето, зато отчетливо помню наше возбуждение и азарт преследования. Мы по очереди стали Использовать разных пешек – наших знакомых, их друзей. То была ошибка, которую мы никогда больше не повторяли. На следующее лето мы играли уже более откровенно, сидя в номерах отеля на Йозефштадтерштрассе и Используя один и тот же объект – тупого рабочего с толстой шеей, который так и не был пойман и которого Вилли позднее ликвидировал. Присутствие втроем в одном и том же сознании и переживание одинаково острых ощущений создавали между нами такую близость, которая не возникла бы даже при самых смелых сексуальных экспериментах. Одно лето мы провели в Бад-Ишле. Помню Нинину шутку о станции Атнанг-Пуххайм, где мы пересаживались с венского поезда. Когда это название повторялось с ускоряющимся ритмом, оно начинало напоминать стук колес поезда. Мы смеялись до изнеможения и, едва отдохнув, начинали смеяться снова под презрительные взгляды старой вдовы, сидевшей через проход от нас. Именно в Бад-Ишле однажды днем я оказалась одна в кафе «Цаунер». С утра, по обыкновению, я пошла на урок по вокалу, но мой педагог заболел, и я вернулась в кафе, где меня обычно дожидались Вилли и Нина. Однако почему-то в тот раз их за столиком не оказалось. Признаться, я была несколько удивлена, спрашивая себя, куда они вдруг могли отправиться и почему не подождали меня? Я вернулась в отель, где мы жили с Ниной. Открыв дверь номера, я уже почти дошла до гостиной, когда услышала какие-то звуки из спальни Нины. Сначала я подумала, что она плачет, и бросилась туда, чтобы оказать помощь. Разумеется, в спальне были Нина и Вилли. Господи, как же наивна я была! Помню белизну Нининых бедер и ритмично движущийся торс Вилли в тусклом свете, льющемся из-за задернутых бордовых штор. Я простояла целую минуту в дверях, глядя на них, потом повернулась и тихо вышла из спальни. В течение всей этой ужасно долгой минуты лицо Вилли оставалось скрытым от меня Нининым плечом и краем подушки, зато Нина обратила на меня свой чистый взор почти сразу же, едва я вошла. Я убеждена в том, что она видела меня тогда, однако это ее не остановило. Она продолжала издавать страстные животные звуки, вырывавшиеся из ее полуоткрытых розовых губ идеальной формы…* * *
К середине марта я решила, что пора покинуть и эту больницу, и проклятую Филадельфию и вернуться на свой благословенный юг домой, в Чарлстон. Я заставила Говарда Вардена заняться приготовлениями к переезду. Однако из всех своих скудных сбережений он наскреб лишь две тысячи пятьсот долларов. Ему так и не удалось добиться в жизни чего-либо. Зато когда Нэнси закрыла текущий счет в банке, оставшийся после смерти ее матери, он составил довольно приличную сумму в сорок восемь тысяч. Вардены предполагали потратить эти деньги на обучение детей в колледжах, но больше их не должно было это волновать. Доктору Хартману я приказала посетить замок. Говард и Нэнси спокойно сидели в своих комнатах, пока доктор делал уколы девочкам. Затем он позаботился о последствиях. На следующее утро Говард и Нэнси покормили пятилетнего Джастина и, благодаря моей обработке, не заметили ничего необычного, если не считать случайных вспышек прозрения, очень напоминающих те, что происходят во сне, когда вдруг понимаешь, что забыл одеться и сидишь голым в школе или каком-нибудь другом общественном месте. Но потом и эти вспышки прошли. Нэнси и Говард прекрасно свыклись с тем, что у них всего один ребенок, и я была рада, вовремя решив не Использовать Говарда для столь необязательных действий. Проводить обработку всегда проще и результативнее, если она не сопровождается травмами и последующим раскаянием. Бракосочетание доктора Хартмана и старшей сестры Олдсмит прошло незаметно и было зарегистрировано филадельфийским гражданским судом в присутствии сестры Сьюэлл, Говарда, Нэнси и Джастина. По-моему, они хорошо смотрелись вместе, хотя некоторые и утверждали, что у сестры Олдсмит грубое и невыразительное лицо. Доктор Хартман тоже внес свою лепту в общий фонд переезда на новое местожительство. Ему потребовалось некоторое время, чтобы продать свои акции и ценные бумаги, а также избавиться от дурацкого нового «порше», которым он так гордился. Но после уплаты необходимой суммы в трастовые фонды для обеспечения двух его предыдущих жен он все же смог внести в наше предприятие сто восемьдесят пять тысяч долларов. Учитывая, что доктору Хартману предстояло уволиться, этого на ближайшее время должно было хватить. Однако это по-прежнему не решало проблему ни с покупкой моего старого дома, ни с приобретением дома Ходжесов. Я более не собиралась позволять чужим людям жить рядом с собой. По своей глупости Вардены не додумались застраховать жизни детей. Говард оформил десятитысячный полис за страховку собственной жизни, но эта сумма была смешной по сравнению с ценами на недвижимость в Чарлстоне. В конечном итоге проблема разрешилась благодаря восьмидесятидвухлетней матери доктора Хартмана, которая все еще пребывала в добром здравии и проживала в Палм-Спрингс. Это случилось в первый день Великого поста, когда во время очередной операции доктор узнал о внезапной эмболии, происшедшей у его матери. В тот же день он вылетел на Западное побережье. Похороны состоялись в субботу седьмого марта, но некоторые юридические проволочки заставили Хартмана задержаться до одиннадцатого числа, и он вернулся домой только в среду. Общая сумма сбережений матери составила четыреста тысяч долларов. Мы переехали в Чарлстон неделей позже, в День святого Патрика.* * *
Перед тем как покинуть север, нужно было позаботиться о нескольких мелочах. Я чувствовала себя уютно в своей новой семье с Говардом, Нэнси и маленьким Джастином, а также со своими будущими соседями – доктором Хартманом, сестрой Олдсмит и мисс Сьюэлл, однако ощущала недостаток определенных мер предосторожности. Доктор был низеньким человеком, не выше пяти футов пяти дюймов, к тому же худым. Говард же, хотя и производил впечатление своим ростом, был чрезвычайно медлителен и тучен. Требовались по меньшей мере еще двое-трое мужчин для того, чтобы я могла чувствовать себя защищенной. Так появился Калли, которого Варден привел ко мне в больницу непосредственно перед нашим отъездом. Он оказался настоящим гигантом – около семи футов ростом и весом фунтов двести восемьдесят, с мощными буграми мышц. Калли не отличался умом, речь его была почти бессвязной, зато двигался он быстро и упруго, как огромный хищник. Говард объяснил, что Калли, до того как его посадили за убийство семь лет назад, работал помощником лесничего. В прошлом году он вышел из заключения и был взят на самую тяжелую и грязную работу – корчевал пни, сносил старые строения, расчищал снег, асфальтировал дороги. Калли не жаловался, и полицейский надзор за ним уже был снят. Говард сообщил Калли, что того ждет уникальное деловое предложение, хотя это и было выражено более простыми словами. Мне же принадлежала мысль привести его в больницу. – Это твоя будущая хозяйка. – Говард указал на кровать, где лежали останки моего тела. – Ты будешь служить ей, защищать ее и отдашь за нее свою жизнь, если потребуется. Калли издал хриплый рык. – Эта старая уродина еще жива? – осведомился он. – На мой взгляд, она уже сдохла. И тогда я вошла в то, что якобы называлось извилинами его мозга. За исключением основополагающих инстинктов: голода, жажды, страха, гордости, ненависти и стремления доставлять удовольствие, основанного на смутном желании принадлежать кому-нибудь и быть любимым, – в его остроконечном черепе больше ничего не было. Последнее стремление я взяла за основу и расширила его. Последующие восемнадцать часов Калли просидел в моей палате. Когда он ушел помогать Говарду укладывать вещи и готовиться к отъезду, в нем уже мало что осталось от прежнего громилы, кроме роста, силы, быстроты и желания нравиться. Нравиться мне. Я так и не узнала: Калли – это имя или фамилия?* * *
Когда я была молодой, у меня имелась одна слабость, с которой я ничего не могла поделать, – любые путешествия сопровождались для меня приобретением сувениров. В Вене моя страсть к магазинам очень быстро стала поводом для бесконечных шуток Нины и Вилли. Уже много лет я никуда не ездила, но мое пристрастие к сувенирам так и не исчезло полностью. Вечером шестнадцатого марта я заставила Говарда и Калли отправиться в Джермантаун. Его удручающие улицы казались мне пейзажем какого-то полузабытого сна. Убеждена, что Говард, несмотря на обработку, чувствовал бы себя неуютно в этом негритянском квартале, если бы не присутствие Калли. Я знала, что мне было нужно, хотя помнила лишь, как его зовут и как он выглядел. Первые четыре подростка, к которым обратился Говард, либо вообще не отвечали, либо использовали слишком цветистые выражения, зато пятый, щуплый десятилетний парнишка в драной футболке, несмотря на мороз, откликнулся: – А, ты имеешь в виду Марвина Гейла? Он только что вышел из тюрьмы за какие-то уличные беспорядки или еще какое-то дерьмо. А чего тебе надо от Марвина? Говард и Калли узнали, как пройти к его дому, без ответа на последний вопрос. Марвин Гейл жил на втором этаже полуразрушенного строения, зажатого между двумя многоквартирными домами. Дверь им открыл маленький мальчик, и Калли с Говардом вошли в гостиную с продавленным диваном, покрытым розовым покрывалом, древним телевизором, на зеленоватом экране которого ведущий ободрял своими выкриками участников телеигры, и с облезшими стенами, где были развешены фотографии Роберта Кеннеди. На диване лежала девушка, безучастно глядя на гостей. Из кухни, вытирая руки о клетчатый передник, вышла толстая негритянка: – Что вам надо? – Мы бы хотели поговорить с вашим сыном, мэм, – ответил Говард. – О чем? – осведомилась негритянка. – Вы не из полиции? Марвин ничего не сделал. Я не отдам вам своего мальчика. – Да что вы, мэм, дело совсем не в том, – вкрадчиво заверил ее Говард. – Мы просто хотим предложить Марвину работу. – Работу? – Женщина с подозрением посмотрела на Калли и снова перевела взгляд на Говарда. – Какую работу? – Все в порядке, мама, – успокоил ее Марвин Гейл, появившись из коридора в старых шортах и застиранной футболке. Лицо у него было помятым, а взгляд блуждал, словно он только что проснулся. – Марвин, ты не должен разговаривать с этими людьми, если… – Все в порядке, мама, – повторил он и уставился на мать своим неподвижным взглядом, пока та не опустила глаза. Затем повернулся к Говарду. – В чем дело? – Мы можем поговорить за дверью? – спросил Говард. Марвин пожал плечами и последовал за нами на улицу, не обращая внимания на пронизывающий ветер. Он посмотрел на Калли и подошел к Говарду. Взгляд его слегка оживился, будто он уже начал догадываться, что его ждет, и даже был рад этому. – Мы предлагаем тебе новую жизнь, – прошептал Говард. – Совершенно новую жизнь. Марвин Гейл хотел было что-то сказать, и тут-то с расстояния в десять миль я вторглась в его сознание. Углы рта у парня опустились, и он так и не успел договорить первое слово. Вообще-то, я уже Использовала Марвина прежде, в те последние безумные мгновения перед расставанием с Ропщущей Обителью, и, возможно, теперь это в какой-то мере облегчило мою задачу. Впрочем, до своей болезни я никогда не смогла бы сделать того, что сделала в тот вечер. Действуя сквозь фильтр восприятий Говарда Вардена, одновременно контролируя Калли, своего доктора и еще с полдюжины обработанных пешек, находящихся в разных местах, я нажала на негра так сильно, что у того перехватило дыхание. Он попятился, широко раскрыв невидящие глаза, и замер в ожидании моего первого распоряжения. В его взгляде больше не было ни подавленности, ни признаков употребления наркотиков; глаза его светились ярким прозрачным светом неизлечимого безумца. Весь печальный груз размышлений, воспоминаний и жалких надежд Марвина Гейла исчез навсегда. Никогда ранее не совершала я такой глобальной обработки за один раз, и в течение целой минуты почти позабытое мною тело пребывало в тисках едва ли не полного паралича, пока сестра Сьюэлл пыталась массировать его. Наконец я обратилась к Марвину через Калли, не столько нуждаясь в словесном распоряжении, сколько желая услышать его ушами Говарда. – Пойди оденься, – велел он, – и отдай это своей матери. Скажи ей, что это аванс. – И Калли протянул парню стодолларовую купюру. Марвин исчез в доме и появился вновь уже через три минуты. На нем были джинсы, свитер, кроссовки и черная кожаная куртка. Никаких вещей он с собой не взял. Так хотела я – после переезда мы могли сами обеспечить его необходимым гардеробом. За все то время, пока я росла, у нас в доме всегда был кто-нибудь из цветной прислуги. И мне казалось правильным, чтобы и сейчас у меня был слуга-негр, когда я вернусь в Чарлстон. Кроме того, не могла же я уехать из Филадельфии без сувенира.* * *
Путешествие на двух грузовиках, двух машинах и арендованном фургоне с моей кроватью и медицинской аппаратурой заняло у нас три дня. Говард выехал раньше в семейном «вольво», который Джастин называл «синим овалом», чтобы приготовить все заранее к моему прибытию и проветрить дом. Мы приехали несколько часов спустя после наступления темноты. Калли взял меня на руки, и под надзором доктора Хартмана и сестры Олдсмит, не отстававшей ни на шаг с бутылкой для внутривенного вливания, мы поднялись на верхний этаж. Моя спальня утопала в мягком свете лампы, шерстяной плед на кровати был откинут, простыни благоухали чистотой и свежестью, темное дерево мебели матово поблескивало, мои щетки и гребни в идеальном порядке лежали на туалетном столике. Мы все разрыдались. Слезы текли по щекам Калли, когда он нежно и чуть ли не подобострастно опускал меня на постель. Сквозь приоткрытые окна долетал запах пальмовых побегов и мимозы. Затем в спальню подняли и установили медицинское оборудование. Странно было видеть зеленое сияние осциллоскопа в моей старой спальне. На мгновение все собрались вокруг меня: доктор Хартман со своей новой женой Олдсмит, которая занималась последними медицинскими приготовлениями; Говард и Нэнси с Джастином на руках, словно они позировали для семейной фотографии; юная, улыбающаяся мне сестра Сьюэлл и Калли с Марвином, в галстуке и белых перчатках, которые были натянуты на его отдраенные руки. Говард столкнулся с небольшими сложностями: миссис Ходжес не желала продавать свой дом, а хотела всего лишь сдать его в аренду. Но это было для меня неприемлемо. Впрочем, этим я могла заняться утром. Пока же я снова была дома, в окружении любящей «семьи». Впервые за много недель я поняла, что сумею спокойно заснуть. Мелкие проблемы – например, миссис Ходжес – были неизбежны, но я могла позволить себе заняться ими завтра…Глава 39
На высоте тридцать пять тысяч футов над штатом Невада
Суббота, 4 апреля 1981 г.
– Прокрути-ка это еще раз, Ричард, – попросил К. Арнольд Барент. В салоне «Боинга-747» стало темно, и на огромном экране вновь заплясало изображение: президент обернулся к кому-то, отвечая на заданный вопрос, поднял в приветственном жесте левую руку, и лицо его вдруг исказилось в гримасе. Раздались крики, началась всеобщая паника. Агент службы безопасности бросился вперед, и его словно вздернуло вверх, как марионетку на ниточках. Выстрелы прозвучали еле слышно, будто были произведены из игрушечного пистолета. Как по волшебству, в руках другого агента возник автомат «узи». Несколько человек набросились на молодого парня и прижали его к земле. Камера дернулась и переместилась на упавшего человека, чья лысина обагрилась кровью. Полицейский лежал лицом вниз. Агент с «узи» присел, отрывисто отдавая команды, как уличный регулировщик, в то время как остальные продолжали борьбу с подозреваемым. Целая толпа неизвестно откуда возникших агентов, окружив президента, начала оттеснять его к «кадиллаку», пока наконец длинная черная машина, взвизгнув тормозами, не рванула с места, оставив позади себя жуткую неразбериху. – Достаточно, Ричард, – распорядился Барент; свет снова вспыхнул, на экране застыло изображение удаляющегося «кадиллака». – Что скажете, джентльмены? – осведомился Барент. Тони Хэрод моргнул и оглянулся. К. Арнольд Барент восседал за своим большим изогнутым столом, позади него поблескивали телефонные отводы и компьютерные приставки. За стеклами иллюминаторов было темно, шум двигателей приглушался внутренней обшивкой салона. Напротив Барента сидел Джозеф Кеплер, его серый костюм выглядел безупречно, черные ботинки блестели. Хэрод посмотрел на мужественное лицо Кеплера и решил, что тот похож на Чарлтона Хестона[47] и такой же идиот. Сложив руки на своем плоском животе, в кресле рядом с Барентом расположился преподобный Джимми Уэйн Саттер, с аккуратно причесанными длинными седыми волосами. Кроме них, в салоне находился лишь новый помощник Барента Ричард Хейнс. Мария Чэнь вместе с остальными дожидались в носовом отсеке. – Похоже, кто-то пытался убить нашего любимого президента, – произнес Саттер со свойственными ему вкрадчивыми интонациями. Углы рта Барента чуть дернулись. – Это более чем очевидно. Но зачем Вилли Бордену понадобилось так рисковать? И в кого он на самом деле метил – в Рейгана или в меня? – Я вас в этом клипе не заметил, – хмыкнул Хэрод. Барент кинул взгляд на продюсера: – Я стоял в пятнадцати футах за спиной президента, Тони. Когда раздались выстрелы, я только что вышел из отеля «Хилтон». Ричард и моя охрана успели затолкать меня обратно. – Нет, как хотите, но я не могу поверить, что Вилли Борден имеет к этому какое-то отношение, – заявил Кеплер. – Сейчас нам известно больше, чем на прошлой неделе. У Хинкли оказалась длинная история болезни, изобилующая подробностями душевного расстройства. Он вел дневник. Но все это было связано с тем, что он был одержим Джоди Фостер. Так что это абсолютно не относится к делу. Старик мог Использовать одного из собственных агентов Рейгана или какого-нибудь вашингтонского полицейского, вроде того, которого подстрелили. Ведь этот немец бывший офицер вермахта, не так ли? Думаю, он умеет пользоваться и более действенным оружием, чем пукалка двадцать второго калибра. – Заряженная разрывными пулями, – напомнил Барент. – Они не взорвались чудом. – Чудо заключается в другом: одна из них отскочила рикошетом от дверцы машины и попала в Рейгана, – сказал Кеплер. – Если бы в этом был замешан Вилли, он бы дождался, пока вы с президентом не усядетесь в машину, и тогда бы использовал агента с «узи» или с «ингрэмом», не опасаясь провала. – Утешительная мысль, – сухо заметил Барент. – А ты что думаешь, Джимми? Саттер промокнул лоб шелковым носовым платком и пожал плечами: – В том, что говорит Джозеф, есть резон, брат К. Доказано, что парень был не в себе. Зачем было тратить столько сил наподготовку всей этой истории, чтобы в результате промазать? – Он не промазал, – покачал головой Барент. – Он повредил президенту левое легкое. – Промазал в тебя, – широко улыбнулся Саттер. – Да и вообще, с чего бы нашему другу-продюсеру иметь зуб на старика Ронни? Они оба – ветераны Голливуда. Интересно, подумал Хэрод, спросят ли его мнения. В конце концов, он впервые присутствовал в качестве полноправного члена на заседании Клуба Островитян. – Тони? – Барент повернулся к Хэроду. – Не знаю, – ответил тот. – Просто не знаю. Барент кивнул Ричарду Хейнсу: – Вдруг это поможет нам в наших рассуждениях. Свет опять погас, и на экране задергалось зернистое изображение, зафиксированное на восьмимиллиметровой пленке и позднее переведенное в видеозапись. Это были разрозненные массовые сцены: толпы людей, полицейские машины, сопровождающие лимузины, охранники и агенты спецслужб. Хэрод понял, что это приезд президента в отель «Хилтон» в Вашингтоне. – Мы отыскали и реквизировали всевозможные любительские пленки, снятые в тот момент, – прокомментировал Барент. – И фото-, и кино-. – Кто это «мы»? – поинтересовался Кеплер. Барент приподнял одну бровь: – Хотя безвременная кончина Чарльза стала для нас большой потерей, Джозеф, мы продолжаем сохранять определенные контакты с известными кругами. Вот это место. На экране возникла почти пустая улица и чьи-то затылки. Хэрод догадался, что съемка велась с расстояния тридцати – сорока ярдов от места покушения, с противоположной стороны улицы. И снимал человек, страдающий нервной трясучкой. Хоть как-то зафиксировать камеру никто даже не пытался. Звук отсутствовал. О том, что были произведены выстрелы, можно было догадаться только по усилившемуся волнению толпы. Объектив камеры в это мгновение не был направлен на президента. – Вот! – воскликнул Барент. Кадр застыл на большом экране. Ракурс, под которым велась съемка, был неудобным, но между плечами двух зевак отчетливо виднелось лицо пожилого человека лет семидесяти. Из-под клетчатой спортивной кепки выбивались седые волосы. Он стоял на противоположной стороне улицы и внимательно наблюдал за происходящим. Взгляд его маленьких глаз был холоден и спокоен. – Это он? – спросил Саттер. – Ты уверен? – Но он не похож на человека с фотографии, которую я видел, – возразил Кеплер. – Тони? – вновь спросил Барент. Хэрод почувствовал, как на его лбу и верхней губе выступили крупные капли пота. Застывший кадр был размытым, искаженным из-за плохого объектива, снят в неудачном ракурсе и на дешевой пленке. Нижний правый край вообще был засвечен. Хэрод мог бы сказать, что изображение слишком плохого качества, что он не уверен. Он мог еще не впутываться во все это – и в то же время не мог. – Да, – кивнул он. – Это Вилли. Барент опустил голову. Хейнс выключил экран, зажег в салоне свет и удалился. В течение нескольких секунд стояла полная тишина, если не считать монотонного гула реактивного двигателя. – Может, это всего лишь случайное совпадение, Джозеф? – спросил К. Арнольд Барент, обойдя стол и усаживаясь в кресло. – Нет, – откликнулся Кеплер. – И все же я ничего не понимаю! Что он пытается доказать? – Возможно, всего лишь то, что он по-прежнему действует, – предположил Джимми Уэйн Саттер. – Что он ждет. Что может добраться до любого из нас, когда пожелает. – Преподобный покачал головой и улыбнулся Баренту. – Полагаю, ты на время воздержишься от появлений в общественных местах, брат К.? Барент скрестил на груди руки: – Это наше последнее собрание перед летним выездом в июне на остров. До этого времени я покину страну… по делам. Прошу всех вас принять необходимые меры предосторожности. – Меры предосторожности против чего? – поинтересовался Кеплер. – Что ему надо? Мы уже предложили ему членство в Клубе по всем возможным каналам. Мы даже послали к нему с приглашением этого еврея-психиатра и убеждены, что он успел связаться с Лугаром прежде, чем оба погибли во время взрыва… – Идентификация трупов не была исчерпывающей, – оборвал его Барент. – У дантиста в Нью-Йорке мы не обнаружили карточки Соломона Ласки. – Да, – согласился Кеплер, – ну и что? Немец почти наверняка получил наше сообщение. И чего он еще хочет? – Тони? – спросил Барент, и все трое повернулись к Хэроду. – Откуда мне знать, чего он хочет? – Тони, Тони, – покачал головой Барент. – Ты сотрудничал с ним в течение многих лет. Ты обедал с ним, беседовал, шутил… Чего он хочет? – Играть. – Что? – спросил Саттер. – Как играть? – наклонился вперед Кеплер. – Он хочет играть в летнем лагере на острове? Хэрод покачал головой: – Он знает о ваших играх на острове, но ему нравятся другие игры. Думаю, ему это напоминает прежние времена. Как в Германии, когда он и эти две старые шлюхи были молодыми. Это как шахматы. Вилли становится сам не свой, когда дело доходит до шахмат. Он как-то рассказывал мне о своих снах. Он считает, что все мы – фигуры в дьявольской шахматной партии. – Шахматы, – пробормотал Барент, сложив кончики пальцев. – Да, – подтвердил Хэрод, – Траск сделал неверный ход, позволил нескольким пешкам слишком далеко зайти на поле Вилли, и тот убрал его с доски. То же самое с Колбеном. Дело не в личных отношениях… это просто такая игра. – А старуха? – осведомился Барент. – Она была добровольным ферзем Вилли или одной из его многочисленных пешек? – Откуда мне знать? – бросил Хэрод. Он встал и заходил взад-вперед по салону, толстое ковровое покрытие скрадывало звук его шагов. – Насколько я знаю Вилли, в такого рода вещах он не доверяет никому. Может, он ее боится? Я уверен в одном: он навел нас на ее след, поскольку знал, что мы недооценим ее. – Это и произошло, – согласился Барент. – Эта женщина обладала исключительной Способностью. – Обладала? – переспросил Саттер. – У нас нет доказательств, что она жива, – пояснил Джозеф Кеплер. – А как насчет наблюдения за ее домом в Чарлстоне? – спросил преподобный. – Там кто-нибудь сменил Нимана и группу Чарльза? – Там сейчас мои люди, – ответил Кеплер. – Пока никаких сведений. – А как насчет авиарейсов и тому подобного? – не унимался Саттер. – Колбен был уверен, что она пыталась выехать из страны, пока что-то не спугнуло ее в Атланте. – Речь сейчас не о Мелани Фуллер, – перебил Барент. – Как правильно сказал Тони, она была отвлекающим маневром, ложным следом. Если она до сих пор жива, мы можем оставить ее в покое, и совершенно не важно, какую роль она играла. Вопрос заключается в том, как мы должны отвечать на этот последний ход нашего немецкого друга? – Я предлагаю проигнорировать его, – сказал Кеплер. – Старик просто показал нам зубы, организовав события понедельника. Мы все согласились, что, если бы он собирался покончить с мистером Барентом, он вполне мог бы преуспеть в этом. Пусть старый извращенец развлекается, а когда успокоится, мы с ним поговорим. Если он согласится с нашими правилами, мы сможем предложить ему место пятого члена в клубе. Если нет… черт побери, джентльмены, откровенно говоря между нами троими… прости, Тони, четверыми… в нашем распоряжении находятся сотни оплачиваемых охранников, а сколько их у Вилли, а, Тони? – Было двое, когда он уезжал из Лос-Анджелеса, – ответил Хэрод. – Дженсен Лугар и Том Рейнольдс. Но он им не платил. Они были его личными любимчиками. – Вот видите, – продолжил Кеплер. – Подождем, пока ему не надоест играть в эту одностороннюю игру, а потом вступим в переговоры. А если он откажется, пошлем Хейнса или кого-нибудь из моих людей. – Нет! – заорал вдруг преподобный Саттер. – Слишком часто мы подставляли другую щеку. «…Мститель Господь и страшен в гневе… Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы распадаются пред Ним… и врагов Его постигнет мрак». Пророк Наум, глава вторая, шестая и восьмая. Джозеф Кеплер с трудом подавил зевок: – Ну при чем тут Господь, Джимми? Мы говорим о том, как поступить с выжившим из ума нацистом, одержимым игрой в шахматы. Лицо Саттера побагровело, и он ткнул в Кеплера своим тупым мясистым пальцем. Большой рубин в его кольце вспыхнул и заиграл всеми своими гранями. – Не смейся! – басом проревел он. – Господь говорил со мной и через меня, и Он будет услышан! – Саттер огляделся. – «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему». Соборное послание апостола Иакова, глава первая. – И что Господь говорит по этому поводу? – тихо поинтересовался Барент. – Что этот человек вполне может быть Антихристом. – Саттер своим громовым голосом заглушал слабый гул двигателей. – Господь велит нам найти его и истребить. Мы должны сокрушить его ребра и чресла. Мы должны найти и его, и его подручных… «Чтобы они испили чашу гнева Господня; чтобы он был подвергнут мукам геенны огненной в присутствии святых ангелов и Агнца; и чтобы смрад его мучений не прекращался во веки веков…» Барент слабо улыбнулся: – Насколько я понял, Джимми, ты против того, чтобы вести переговоры с Вилли и предлагать ему членство в Клубе? Преподобный сделал большой глоток из своего бокала с бурбоном и произнес неожиданно тихо, так что Хэроду даже пришлось наклониться, чтобы расслышать: – Да, я считаю, мы должны убить его. Барент кивнул и развернулся в своем большом кожаном кресле. – Будем голосовать, – промолвил он. – Тони, ты как думаешь? – Я пас, – ответил Хэрод. – Но я думаю, что решать – это одно, а выслеживать Вилли и иметь с ним дело – совсем другое. Посмотрите, в какое дерьмо мы вляпались с этой Мелани Фуллер. – Чарльз в этом случае допустил ошибку, и он заплатил за нее. – Барент перевел взгляд на двоих оставшихся. – Ну что ж, поскольку Тони воздерживается, похоже, мне принадлежит право решающего голоса. Кеплер открыл было рот, но передумал. Саттер в молчании допивал остатки своего бурбона. – Какие бы цели наш друг Вилли ни преследовал в Вашингтоне, – промолвил Барент, – мне они не нравятся. Однако будем считать происшедшее вызовом и пока не станем отвечать на него. Возможно, следует прислушаться к мнению Тони о том, что Вилли одержим игрой в шахматы. У нас осталось два месяца до летнего лагеря на острове Долманн и наших… э-э-э… мероприятий там. Мы должны внятно заявить о своем приоритете. Если Вилли прекратит нас запугивать, возможно, в дальнейшем мы рассмотрим вопрос о том, чтобы начать с ним переговоры. Если же он продолжит чинить нам препятствия, если мы столкнемся хотя бы еще с одним эпизодом подобного рода, мы применим все средства, общественные и частные, чтобы найти и уничтожить его в соответствии со способом, процитированным Джимми из Откровения. Ведь это было Откровение, брат Дж.? – Именно так, брат К. – Прекрасно. – Барент встал. – А теперь, думаю, мне надо немного поспать. У меня завтра встреча в Лондоне. Спальные места для всех готовы, так что можете располагаться. Где бы вы хотели, чтобы вас высадили? – Лос-Анджелес, – ответил Хэрод. – Новый Орлеан, – сказал Саттер. – Нью-Йорк, – пробормотал Кеплер. – Хорошо, – кивнул Барент. – Несколько минут назад Дональд сообщил мне, что мы находимся где-то над Невадой, так что первым мы высадим Тони. Боюсь, Тони, ты не успеешь воспользоваться всеми удобствами, но немного вздремнуть перед посадкой сможешь. В дверях, ведущих в коридор, появился Хейнс. – До встречи в летнем лагере Клуба Островитян, джентльмены, – произнес Барент. – Желаю всем удачи.* * *
Стюард в синем блейзере проводил Хэрода и Марию Чэнь в их отсек. Задняя часть «боинга» была превращена в огромный кабинет Барента, гостиную и спальню. Слева по коридору, напоминавшему европейские поезда, шли вместительные комнаты, декорированные нежными оттенками зеленого и кораллового цвета. В них имелись ванная, большая кровать, диван и цветной телевизор. – А где же камин? – обратился Хэрод к стюарду. – Кажется, в частном самолете шейха Музада есть действующий камин, – без тени улыбки отозвался миловидный стюард. Хэрод положил в стакан лед, налил водки и только устроился рядом с Марией Чэнь на диване, когда в дверь постучали. В комнату вошла молодая женщина точно в таком же блейзере: – Мистер Барент спрашивает, не хотите ли вы с мисс Чэнь присоединиться к нему в гостиной «Орион»? – «Орион»? – переспросил Хэрод. – Черт, конечно хотим. Они проследовали за женщиной по коридору и миновали дверь с кодовым замком, которая вела к винтовой лестнице. Хэрод знал, что на стандартных «Боингах-747» подобные лестницы вели в салон первого класса. Поднявшись, Хэрод и Мария Чэнь застыли в изумлении. Сопровождавшая их женщина спустилась и закрыла дверь, отрезав последний луч света, шедший из коридора. Помещение было не слишком большим, но казалось, что кто-то снял здесь верхнюю часть фюзеляжа, и теперь сквозь потолок можно было взирать на небо, открывавшееся на высоте тридцать пять тысяч футов над землей. Над головой сияли мириады звезд, разливая вокруг ровный немеркнущий свет. Слева и справа были видны темные конусы крыльев, на которых мигали красные и зеленые навигационные огни. Внизу раскинулся полог облаков, освещенный звездным сиянием. Казалось, ничто не отделяет их от бесконечного пространства ночного неба. Лишь смутные контуры указывали на присутствие в гостиной низкой мебели, а в глубине угадывалась фигура сидящего человека. – Боже мой, – прошептал Хэрод и услышал рядом резкий вздох Марии Чэнь. – Я рад, что вам нравится, – донесся из темноты голос Барента. – Проходите и располагайтесь. Хэрод и Мария Чэнь осторожно двинулись по направлению к креслам, стоявшим вокруг низкого круглого стола, стараясь свыкнуться с необыкновенным зрелищем. Оставшаяся за их спинами винтовая лестница была обозначена светящейся красной полосой на первой ступеньке. С запада черной полусферой звездное небо закрывало отделение для экипажа. Хэрод и Мария Чэнь погрузились в мягкие кресла, не отрывая глаз от неба. – Это специальное пластиковое покрытие, – пояснил Барент. – Более тридцати слоев. Но почти идеально прозрачное и очень прочное. Оно поддерживается множеством ребер жесткости, толщиной с волос, и потому в темноте их не видно. Внешняя поверхность при дневном свете отражает лучи и выглядит как обычный блестящий черный корпус. Мои инженеры работали над ее созданием целый год, а потом еще два года я убеждал Управление гражданской авиации, что эта штука может летать. – Невероятно! – восхищенно прошептала Мария Чэнь, и Хэрод увидел отражение звездного света в ее темных глазах. – Тони, я пригласил вас сюда, потому что дело касается вас обоих, – начал Барент. – Какое дело? – Вы, наверное, уловили некоторое напряжение, возникшее не так давно в наших кругах? Атмосфера накаляется. – Я заметил, что все чуть не свихнулись, – сказал Хэрод. – Так вот, – кивнул Барент. – События последних нескольких месяцев были довольно неприятными. – Не понимаю почему, – усмехнулся Хэрод. – По-моему, мало кого заботит, что их коллег разорвало на части или они утонули в реке Скулкилл. – Дело в том, что мы слишком расслабились, – промолвил К. Арнольд Барент. – Наш Клуб существует уже много лет, даже десятилетий, и, возможно, затеянная Вилли игра даст нам шанс осуществить необходимую… э-э-э… прополку. – Ну, лишь бы никого лично из нас не собрались выполоть, – ответил Хэрод. – Вот именно. – Барент налил вина в хрустальный бокал и поставил его перед Марией Чэнь. Глаза Хэрода уже привыкли к темноте, так что теперь он отчетливо различал лица, но от этого сияние звезд казалось лишь ярче, а верхушки облаков приобретали еще более переливчатые оттенки. – Меж тем, – продолжил Барент, – в нашей группе произошла определенная разбалансировка, и то, что было действенным при иных обстоятельствах, перестало работать. – Что вы имеете в виду? – осведомился Хэрод. – Я имею в виду, что образовался вакуум власти. – Голос Барента был столь же холоден, как сияние звезд, в котором они купались. – Или, точнее, общее ощущение того, что образовался вакуум власти. Вилли Борден дал возможность ничтожествам счесть себя титанами, и за это ему придется заплатить жизнью. – Вилли заплатит жизнью? – переспросил Хэрод. – Так, значит, все разговоры о дальнейшем сотрудничестве и вступлении его в Клуб не более чем блеф? – Да, – подтвердил Барент. – Если потребуется, я лично буду руководить Клубом, но ни при каких обстоятельствах этот бывший нацист за нашим столом не появится. – Тогда зачем… – начал Хэрод и умолк. – Вы думаете, что Кеплер и Саттер готовы предпринять самостоятельные шаги? – спросил он после паузы. Барент улыбнулся: – Я знаком с Джимми очень давно. Впервые я увидел его сорок лет назад, когда он читал проповедь в Техасе. Он обладал несфокусированной, но непреодолимой Способностью. Он мог заставить целую толпу потных агностиков делать то, чего он от них хотел, и делать это с восторгом во имя Господа. Но Джимми стареет и все меньше и меньше полагается на свою силу, пользуясь вместо этого аппаратом убеждения, который он создал. Я знаю, что на прошлой неделе вы посетили его маленькое королевство… – Резким движением руки Барент пресек возражения Хэрода. – Ничего страшного, Тони. Джимми наверняка предупредил тебя, что мне станет об этом известно… и что я пойму. Не думаю, что Джимми желает опрокинуть нашу тележку с яблоками, но он чувствует грядущие перемены во властных взаимоотношениях и хочет оказаться на нужной стороне, когда это произойдет. Вмешательство Вилли нарушило наше шаткое равновесие, как может показаться на первый взгляд. – А в действительности? – поинтересовался Хэрод. – Нет, – жестко сказал Барент. – Они позабыли о главном. – Он выдвинул ящик стола, за которым они сидели, и достал маленький пистолет. – Возьми, Тони. – Зачем? – Хэрод покрылся гусиной кожей. – Пистолет настоящий и заряжен, – произнес Барент. – Возьми его, пожалуйста. Хэрод выполнил просьбу: – О’кей, что дальше? – Прицелься в меня, Тони. Хэрод вздрогнул. Что бы Барент ни собирался демонстрировать, Тони не желал принимать в этом никакого участия. Он знал, что поблизости находится Хейнс и еще дюжина крепких парней. – Я не хочу, – сказал Хэрод. – Не люблю эти чертовы игры. – Целься в меня, Тони. – Пошли вы знаете куда! – разозлился Хэрод и встал, чтобы уйти. Сделав прощальный жест рукой, он направился к красной полосе, обозначившей лестницу. – Тони, – послышался из темноты голос Барента, – иди сюда. Хэроду показалось, что он натолкнулся на одну из невидимых стен. Мышцы его сжались, превратившись в тугие узлы, тело покрылось потом. Он попытался броситься вперед, прочь от Барента, но единственное, что ему удалось, – это упасть на колени. Однажды, лет пять назад, у них с Вилли была беседа, во время которой старик попытался продемонстрировать на нем свои Способности. Это была чисто дружеская забава в ответ на какой-то вопрос Хэрода о венских играх, о которых рассказывал Вилли. И тогда, вместо того чтобы почувствовать волну возбуждения, которой пользовался сам Хэрод по отношению к женщинам, он ощутил необъяснимое, но жуткое вторжение в свой мозг чужой воли и полную обреченность. Однако тогда Хэрод не утратил самоконтроля. Он тут же понял, что Способность Вилли гораздо мощнее его собственной, гораздо кровожаднее, как подумал он тогда. И хотя сам Тони вряд ли смог бы Использовать кого-нибудь во время вторжения Вилли, он был убежден, что и Вилли не сможет по-настоящему Использовать его. – Ja-ja, – сказал тогда старик, – так бывает всегда. Мы можем вторгаться друг в друга, но те, кто умеет Использовать других, сами не могут быть Использованы, не так ли? Мы испытываем свои силы на третьих лицах, верно? А жаль. Но король не может брать короля, Тони, запомни это. И Хэрод помнил об этом вплоть до настоящего момента. – Иди сюда, – повторил Барент. Голос его по-прежнему был тихим, с изысканными модуляциями, но, казалось, теперь он заполнил весь мозг Хэрода, всю гостиную, а потом и вселенную, так что даже небосвод завибрировал. – Иди сюда, Тони. Хэрод напрягся из последних сил, но что-то толкнуло его, и он упал на спину, как ковбой, сброшенный с лошади невидимой натянутой проволокой. Тело его охватили судороги, а ноги в ботинках задергались на ковре. Челюсти сжались до боли, глаза чуть не вылезли из орбит. Он чувствовал, как внутри его нарастает крик, но понял, что никогда не сможет его издать, что крик этот будет расти и шириться внутри, пока не взорвется и не разметает куски его плоти по всей гостиной. Он лежал на спине с вытянутыми ногами, мышцы его сжимались и разжимались, ногти впились в ковер, как хищные птичьи когти. – Иди сюда, Тони, – прозвучало в третий раз, и он, как младенец, послушно пополз вперед. Когда голова его стукнулась о ножку стола, Хэрод почувствовал, что тиски разжались. По телу его прокатилась завершающая судорога, и все члены настолько обмякли, что он едва не обмочился. Он поднялся на колени и облокотился о черное стекло столешницы. – Прицелься же в меня, Тони, – повторил Барент тем же непринужденным голосом. Хэрод почувствовал, как его затопляет волна слепой ярости. Дрожащими руками он нащупал пистолет и сжал его. Но как только он попробовал поднять руку, к горлу подступила тошнота. Много лет назад, в свой первый год жизни в Голливуде, у Хэрода случился приступ почечнокаменной болезни. Боль была невыносимой. Позднее его приятель рассказывал, будто Тони убеждал всех, что ощущение было такое, словно ему в спину воткнули нож. Но это было гораздо больнее, потому что, когда в молодости он был членом чикагской банды, ему действительно воткнули нож в спину. Тогда же, во время приступа, ему казалось, что его проткнули изнутри, острые лезвия впивались во внутренности и кровеносные сосуды, и эта невероятная, чудовищная боль сопровождалась тошнотой, рвотой, судорогами и лихорадкой. Но то, что происходило сейчас, было еще хуже. Не успев поднять пистолет, Хэрод упал на пол, испачкав рвотными массами свою шелковую рубашку и ковер. Одновременно с болью, тошнотой и чувством унижения возникла всепоглощающая мысль о том, что он пытался причинить вред мистеру Баренту, и это было невыносимо. Мысль эта вызывала у Тони неведомое ему ранее отвращение, и он просто взвыл от боли. Пистолет выпал из его разжавшихся пальцев. – Я вижу, ты не очень хорошо себя чувствуешь, – тихо произнес Барент. – Может, тогда в меня прицелится мисс Чэнь? – Нет, – еле выдохнул Хэрод, скрючившись на ковре. – Да, – возразил Барент. – Я так хочу. Скажи ей, чтобы она прицелилась в меня, Тони. – Целься! – крикнул Хэрод. – Целься в него! Мария Чэнь медленно шевельнулась, словно двигалась под водой. Она подняла пистолет своими изящными руками и направила его в голову Тони Хэрода. – Нет! В него! – И Хэрод снова согнулся от судорог. – В него! Барент иронично усмехнулся: – Ей совершенно не обязательно слышать мои распоряжения, чтобы подчиняться, Тони. Большим пальцем Мария Чэнь взвела курок. Черное смертоносное отверстие было направлено прямо в лицо Хэрода. Он видел боль и ужас в ее глазах. Никто и никогда до сих пор не Использовал Марию Чэнь! – Невероятно, – прошептал Хэрод, чувствуя, как отступают боль и тошнота, и понимая, что, возможно, ему осталось жить всего несколько секунд. Он поднялся на колени и бессмысленно вытянул вперед руку, пытаясь заслониться от пули. – Это невозможно… Она же нейтрал! – Что такое нейтрал? – спокойно осведомился К. Арнольд Барент. – Никогда не встречался с такими. – Он повернул голову. – Спусти, пожалуйста, курок, Мария. Раздался сухой щелчок. Мария Чэнь еще раз взвела курок, и снова последовал холостой выстрел. – Как непредусмотрительно, – улыбнулся Барент. – Мы забыли его зарядить. Мария, помоги, пожалуйста, Тони сесть на место. Не переставая дрожать, Хэрод опустился в кресло и свесил голову на испачканную рубашку, пропитавшуюся потом. – А теперь Дебора проводит тебя вниз и поможет привести себя в порядок, – сказал Барент. – Если потом захочешь подняться и выпить что-нибудь до того, как мы приземлимся, добро пожаловать. Это уникальное место, Тони. Но, пожалуйста, не забудь о появляющемся у некоторых искушении… э-э-э… пересмотреть естественное положение вещей. В какой-то степени в этом есть и моя вина. Большинство из них уже много лет не подвергались подобной… демонстрации. Воспоминания меркнут даже в тех случаях, когда жизненные интересы человека требуют помнить о них. – Барент наклонился вперед. – Когда Джозеф Кеплер обратится к тебе с предложением, ты примешь его. Понятно, Тони? Хэрод кивнул. Пот стекал по его лицу. – Скажи «да», Тони. – Да. – И ты тут же свяжешься со мной. – Да. – Хороший мальчик, – похвалил К. Арнольд Барент и похлопал Хэрода по спине. Затем он развернулся в своем высоком кресле так, что спинка полностью скрыла его из виду, заслонив часть звездного неба. Когда кресло повернулось обратно, Барента в нем уже не было. Через несколько минут в гостиную вошли служащие, чтобы вычистить и продезинфицировать ковер. Молодая женщина с фонариком подошла к Хэроду и попыталась взять его за локоть, но он отшвырнул ее руку. Повернувшись спиной к Марии Чэнь, Тони поковылял вниз по лестнице. Через двадцать минут они совершили посадку в Лос-Анджелесе. Их встречал лимузин с шофером. Не оглядываясь на сверкающий черный корпус «боинга», Хэрод почти без чувств рухнул на заднее сиденье машины.Глава 40
Тихуана, Мексика
Понедельник, 20 апреля 1981 г.
Перед самым закатом Сол и Натали выехали из Тихуаны на северо-восток во взятом напрокат «фольксвагене». Стояла нестерпимая жара. Как только они свернули с шоссе, то сразу оказались в лабиринте грязных дорог, шедших мимо деревень с жалкими лачугами, заброшенных фабрик и маленьких ранчо. Сол сидел за рулем, а Натали держала на коленях нарисованную рукой Джека Коэна карту. Припарковав «фольксваген» у небольшой таверны, они двинулись пешком сквозь тучи пыли и толпу маленьких ребятишек к северу. Когда начали угасать последние проблески кроваво-красного заката, склоны холма озарились огнями. Натали сверилась с картой и указала на тропу вдоль склона, усеянную мусором, где возле костров группами сидели мужчины и женщины. В полумиле к северу на фоне черного склона холма белел высокий забор. – Давай дождемся здесь наступления темноты. – Сол поставил на землю чемодан и тяжелый рюкзак. – Говорят, сейчас с обеих сторон границы орудуют банды. Глупо проделать такой путь и погибнуть от руки приграничного бандита. – Я согласна, – кивнула Натали. Они прошли меньше мили, но ее синяя хлопчатобумажная юбка уже прилипала к ногам, а кроссовки словно съежились от жары и пыли. В ушах звенел непрекращающийся писк комаров. Единственный электрический фонарь, горевший возле ночного бара, привлек такое количество мотыльков, что казалось, там начался настоящий снегопад. Около получаса они сидели молча, изможденные долгим перелетом сначала через океан, а потом самолетом местной авиалинии. Кроме того, они находились в постоянном напряжении – ведь у них были поддельные паспорта. Хуже всего оказалось в Хитроу, так как рейс задержали на три часа, которые они провели под неусыпным оком местных полицейских. Несмотря на жару, жужжание комаров и неудобства, Натали задремала. Через полчаса Сол разбудил ее, прикоснувшись к плечу. – Они собираются, – прошептал он. – Пойдем. По меньшей мере сотня нелегальных беженцев мелкими группами направилась к отдаленному забору. Еще большее количество костров озарило склон за их спинами. Вдали, на северо-западе, сияли огни американского города. Впереди меж холмов расстилались темные каньоны. На востоке мелькнула и исчезла единственная пара фар, преодолев невидимый пограничный пост, и скрылась по другую сторону забора на американской территории. – Пограничный патруль, – тихо сказал Сол и двинулся вниз по узкой тропе, а затем снова вверх, на следующий холм. Уже через несколько минут у обоих появилась одышка. Они обливались потом под рюкзаками и с трудом волочили свои большие чемоданы, набитые документами. Несмотря на то что Сол и Натали старались держаться в стороне, вскоре им все же пришлось присоединиться к длинной веренице людей, одни из которых тихо переговаривались и ругались по-испански, другие молча и угрюмо ползли вперед. Перед ними шел высокий худой мужчина, он нес на плечах семилетнего мальчика, а рядом с ним грузная женщина волочила огромный картонный чемодан. Ярдах в двадцати от ручейка, вытекавшего из-под забора и растворявшегося в пересохшем русле реки, люди остановились. Группами по трое и по четверо они стали перебираться через русло и исчезать в черном отверстии сливной трубы, откуда вытекал ручей. Время от времени с другой стороны забора доносились крики, где-то у дороги раздался истошный вопль, и Натали почувствовала, как испуганно забилось ее сердце. Она вцепилась в ручку чемодана и заставила себя успокоиться. Когда появилась патрульная машина, вся толпа, состоявшая к тому моменту человек из шестидесяти, кинулась врассыпную за камни и кусты. Прожектор скользнул по сухому руслу реки на расстоянии десять футов от жалкого терновника, за которым спрятались Сол и Натали. Крики и звук выстрела, раздавшиеся с северо-востока, заставили машину двинуться дальше. Окрестность огласилась громкими командами на английском языке, и беженцы снова стали скапливаться у отверстия трубы. Уже через несколько минут Натали ползла на четвереньках вслед за Солом, толкая перед собой тяжелый чемодан и чувствуя, как рюкзак задевает ржавый свод тоннеля. Внутри было абсолютно темно, пахло мочой и экскрементами. Руки Натали то и дело погружались в жидкую грязь, перемешанную с битым стеклом и обрезками металла. Где-то за ее спиной раздался не то женский, не то детский плач, а потом резкий мужской голос, и вновь наступила тишина. Ей казалось, что это движение в никуда, что труба становится все у́же, а грязь и вода вот-вот затопят их. – Почти добрались, – прошептал Сол. – Я вижу лунный свет. У Натали болело в груди из-за безумно колотящегося сердца и попыток сдерживать дыхание. Она выдохнула в тот самый момент, когда Сол скатился на каменистую отмель и протянул руку, чтобы помочь ей выбраться из зловонной трубы. – Добро пожаловать в Америку, – прошептал он, когда они собрали свое имущество и приготовились спрятаться в укрытии темных берегов пересохшей реки, чтобы спастись от убийц и грабителей, которые регулярно дожидались здесь ночных перебежчиков, преисполненных радужных надежд. – Спасибо, – так же шепотом ответила она. – В следующий раз я полечу прямым рейсом, даже если это будет «Народный экспресс».[48]* * *
Джек Коэн дожидался их на вершине третьего холма. Каждые две минуты он мигал фарами своего старого синего фургона, указывая путь Солу и Натали. – Поехали, надо спешить, – сказал он, когда они наконец поднялись на холм и обменялись рукопожатиями. – Это не лучшее место для стоянки. Я привез то, о чем вы просили в письме, и не имею ни малейшего желания объясняться по этому поводу с пограничниками или полицией Сан-Диего. Задняя часть фургона была наполовину забита ящиками. Сол и Натали побросали туда же свой багаж, а Джек Коэн сел за руль. Натали села с ним рядом, а Сол устроился сзади на ящиках. С полмили им пришлось ехать по рытвинам и ухабам, затем они свернули на восток по гравийной дороге и наконец отыскали асфальтовое окружное шоссе, которое вело к северу. Через десять минут они уже спускались по пандусу на скоростную автостраду. Натали все вокруг казалось чужим и незнакомым, словно за ее трехмесячное отсутствие облик страны изменился до неузнаваемости. «Нет, скорее всего, я просто никогда здесь не жила», – подумала она, глядя на пригороды и мелькавшие за окном машины. Ей трудно было поверить, что тысячи людей ехали по своим делам как ни в чем не бывало, будто и не было никогда ползущих по зловонной трубе детей, мужчин и женщин всего в десяти милях от этих комфортабельных домов. Будто в это самое мгновение юные израильтяне не объезжали с оружием границы своих кибуцев, а бойцы за освобождение Палестины, сами еще мальчишки, не смазывали свои «калашниковы» в ожидании темноты. Будто не был убит Роб Джентри, ставший столь же недосягаемым, как и ее отец, который приходил по вечерам укрыть ее одеялом и рассказать истории о Максе, любопытной таксе, которая всегда… – Вы достали оружие в Мехико, где я вам сказал? – спросил Коэн. Натали вздрогнула и очнулась, – оказывается, она спала с открытыми глазами. От усталости у нее кружилась голова, в ушах продолжал звучать приглушенный шум авиадвигателей. Она сосредоточилась и начала вслушиваться в разговор своих спутников. – Да, – ответил Сол. – Никаких проблем не возникло, хотя я очень волновался, что тамошняя полиция обнаружит его. Натали сфокусировала взгляд, чтобы получше рассмотреть агента Моссада. Джеку Коэну было под шестьдесят, но выглядел он даже старше Сола, особенно теперь, когда тот сбрил бороду и отпустил длинные волосы. У Коэна было худое лицо, изъеденное оспинами, большие глаза и, видимо, не раз переломанный нос. Тонкие седые волосы были подстрижены неаккуратно, словно он делал это сам и, не доведя дело до конца, бросил. Джек свободно и абсолютно грамотно говорил по-английски, но речь его портил сильный акцент, источник которого Натали не могла определить. Как будто западный немец выучил английский у валлийца, а тот в свою очередь почерпнул знания у бруклинского кабинетного ученого. Натали нравилось слушать голос Джека Коэна, да и сам он ей понравился. – Дайте мне посмотреть оружие, – попросил Коэн. Ласки достал из-за ремня пистолетик. Натали и не знала, что у Сола есть оружие. Выглядело оно как детский пугач. Они въехали на мост по крайней левой полосе. На расстоянии по меньшей мере мили позади не было видно ни одной машины. Коэн взял пистолетик и выбросил его в открытое окно в темный овраг внизу. – При первом же выстреле он бы взорвался у вас в руке, – пояснил он. – Прошу прощения за дурной совет, но телеграфировать было уже поздно. А насчет тамошней полиции вы не ошиблись: есть документы или нет, стоило бы federales найти это, и они подвесили бы вас за яйца и раз в пару лет заглядывали бы проверить, что вы исправно мучаетесь. Неприятные люди, Сол. Я подумал, что имеет смысл рисковать только из-за денег. Сколько вы привезли в конечном итоге? – Около тридцати тысяч, – ответил Ласки. – И еще шестьдесят переводятся в банк в Лос-Анджелесе адвокатом Давида. – Это ваши деньги или Давида? – спросил Джек. – Мои, – кивнул Сол. – Я продал ферму в девять акров возле Натаньи, она принадлежала мне со времен Войны за независимость. Я решил, что глупо будет переводить эти деньги на мой собственный нью-йоркский счет. – Вы правильно решили, – одобрил Коэн. Они уже въехали в город. Мелькавшие мимо фонари отбрасывали пятна света на ветровое стекло, отчего некрасивое и в то же время привлекательное лицо Коэна приняло желтоватый оттенок. – Боже мой, Сол, – вздохнул Джек, – если бы вы знали, как трудно было достать некоторые вещи из вашего списка. Сто фунтов пластиковой взрывчатки Си-четыре, пневматическая винтовка, пули с транквилизаторами… Вам известно, что в Соединенных Штатах существует всего шесть поставщиков пуль с транквилизаторами и для того, чтобы получить хоть смутное представление о том, где их разыскать, нужно быть дипломированным зоологом? Сол улыбнулся: – Прошу прощения, но вам грех жаловаться, Джек. Вы наш deus ex machina.[49] – Не знаю, как насчет богов, но сквозь мясорубку мне пришлось пройти, это точно, – усмехнулся Коэн. – Я потратил на ваши мелкие поручения все отпускное время, накопленное мною за два с половиной года работы. – Я постараюсь когда-нибудь хоть чем-то отблагодарить вас, – пообещал Сол. – У вас по-прежнему проблемы с начальством? – Нет. Звонок из офиса Давида Эшколя разрешил бо́льшую часть проблем. Хотел бы я сохранить такую же энергию, как у него, через двадцать лет после ухода на пенсию. Как он себя чувствует? – Давид? После двух сердечных приступов не очень хорошо, но деятелен, как всегда. Мы с Натали видели его в Иерусалиме пять дней назад. Он просил передать вам наилучшие пожелания. – Я лишь однажды сотрудничал с ним, – признался Коэн. – Четырнадцать лет назад. Он вернулся на работу, чтобы возглавить операцию, когда мы захватили русскую базу ракет «земля – воздух» прямо под носом у египтян. Это спасло массу жизней во время Шестидневной войны. Давид Эшколь – блестящий тактик. Теперь они ехали по Сан-Диего, и Натали со странным чувством отчужденности наблюдала за жизнью города из окна. – Какие у вас планы на ближайшие несколько дней? – поинтересовался Сол. – Прежде всего – устроить вас, – ответил Коэн. – Я должен вернуться в Вашингтон не позднее среды. – Без проблем. С вами можно будет связаться, если нам потребуется ваш совет? – В любое время. Но сначала вы ответите мне на один вопрос. – Какой? – Что в действительности происходит, Сол? Что на самом деле связывает вашего старого нациста, группу в Вашингтоне и старуху из Чарлстона? Как я ни пытаюсь понять, у меня ничего не получается. Почему правительство Соединенных Штатов покрывает этого военного преступника? – Оно не покрывает, – вздохнул Сол. – В том-то и дело… Правительственные группы хотят разыскать оберста ничуть не меньше, чем мы, но они преследуют свои цели. Поверьте, Джек, я мог бы рассказать вам больше, но это мало чем прояснит для вас ситуацию. Многое в этой истории находится за пределами логики. – Замечательно! – саркастически заметил Коэн. – Если вы не сможете мне все объяснить, я не смогу подключить агентство, какое бы уважение ни испытывали его сотрудники к Давиду Эшколю. – Наверное, это к лучшему, – улыбнулся Сол. – Вы видели, что стало с Ароном и вашим другом Леви Коулом, когда они ввязались в это дело. Я наконец понял, что в ближайшее время нас не ждут ни фанфары, ни головокружительный успех. Долгие десятилетия я бездеятельно ожидал, когда же прискачет кавалерия, но теперь уверен, что все зависит только от меня… И Натали чувствует то же самое. – Ерунда! – воскликнул Коэн. – Возможно, – согласился Сол, – но все мы в той или иной степени руководствуемся верой в ерунду. Еще век назад идея сионизма казалась полной ерундой, а сегодня наша граница, граница Израиля, – единственный чисто политический рубеж, который виден с орбиты: там, где кончаются деревья и начинается пустыня, заканчивается Израиль. – Это другая тема, – спокойно произнес Коэн. – Я делаю все это потому, что любил вашего племянника и, как сына, любил Леви Коула. Надеюсь, что вы преследуете их убийц. Верно? – Да. – А та женщина, которая вернулась в Чарлстон, – она, по-вашему, тоже участвовала в этом? – Да, участвовала, – кивнул Сол. – И ваш полковник по-прежнему продолжает уничтожать евреев? Сол выдержал паузу. Утверждать это он бы не стал. – Он по-прежнему продолжает убивать невинных людей, – тихо сказал он. – А продюсер из Голливуда имеет к этому отношение? – Да. – Ладно. – Коэн тряхнул седыми волосами. – Я буду вам помогать, но в один прекрасный день вам придется за все отчитаться. – Если вам станет от этого легче, то мы с Натали оставили запечатанное письмо у Давида Эшколя, – сказал Сол. – Давид не знает всех подробностей этого кошмара, но, если мы с Натали погибнем или исчезнем, он или его доверенные лица вскроют конверт. Там есть указание поставить вас в известность о его содержании. – Замечательно, – невесело усмехнулся Коэн. – С нетерпением буду ждать, когда вы оба погибнете или исчезнете. Разговор был исчерпан. В полной тишине они направились по скоростному шоссе к Лос-Анджелесу. Натали задремала, и ей приснилось, что они с отцом и Робом гуляют по старому району Чарлстона. Был прекрасный весенний вечер, в паутине пальмовых ветвей и новых побегов сверкали звезды. Воздух благоухал ароматами мимозы и гиацинтов. И вдруг из темноты выскочила черная собака с белой головой и зарычала на них. Натали испугалась, но отец сказал ей, что собака просто хочет познакомиться. Он опустился на колени и протянул ей правую руку, чтобы та обнюхала ее, но собака вдруг вцепилась в нее и стала рвать на части. Рука отца исчезла в пасти черно-белой собаки, а затем не стало и отца. Собака увеличилась в размерах, и Натали поняла, что это просто она сама уменьшилась, стала совсем маленькой девочкой. Собака повернулась к ней, и Натали обуял такой ужас, что она была не в силах ни побежать, ни закричать. Но в тот самый момент, когда собака кинулась на нее, вперед вышел Роб и заслонил девочку своим телом. Собака прыгнула на него, завязалась ожесточенная схватка, и Натали увидела, что огромная голова собаки начинает уменьшаться и исчезать. Но, оказывается, чудовищная псина вгрызлась в грудь Роба, погрузившись в глубину его грудной клетки. Послышалось отвратительное чавканье. Девочка тяжело опустилась на тротуар. На ногах у нее были роликовые коньки, а сама она была в синем платье, подаренном любимой тетей, когда ей исполнилось шесть лет. Перед ней, словно огромная серая стена, высилась спина Роба. Она взглянула на кобуру у него на поясе, но та была застегнута, и Натали не могла дотянуться до пряжки. Все тело шерифа содрогалось, собака вгрызалась в него все глубже. Несколько раз Натали пыталась подняться, но ролики разъезжались, и она падала на тротуар. Она уже почти дотянулась до огромной серой спины Роба, когда кожа его вдруг лопнула и оттуда высунулась окровавленная морда собаки. Поднатужившись, тварь рванула вперед, глаза ее безумно сверкали, челюсти щелкали, как у акулы из знаменитого фильма Стивена Спилберга. Натали отползла фута на два и застыла. Она не могла оторвать взгляда от собаки, которая рычала и рвалась к ней. Шерсть топорщилась на ее передних лапах, она пыталась выбраться из чревачеловеческой плоти. Это напоминало какой-то кошмарный процесс родов, когда рождение сулило гибель самому наблюдателю. Но именно вид ее морды парализовал Натали. Он лишил ее способности двигаться и вызывал приступы тошноты, поднимавшейся к горлу. И вдруг над темной шерстью мощных окровавленных лап показалась бледная смертельная маска Мелани Фуллер, искаженная безумной усмешкой. Выпиравшие гигантские вставные челюсти старухи защелкали всего лишь в нескольких дюймах от Натали. Тварь издала истошный вопль, напряглась в последнем рывке и вырвалась наружу из прогрызенного насквозь тела Роба…* * *
Натали судорожно вздохнула и проснулась. Протянув руку, она оперлась на приборную доску и выпрямилась. Ветер, влетевший в открытое окно, доносил запахи отбросов и дизельных выхлопов. На автостраде мелькали фары несущихся навстречу машин. – Мне нужен совет, – тихим голосом произнес Сол. – Как убивать людей. Коэн искоса посмотрел на него: – Я не убийца, Сол. – Я тоже, но мы много раз видели, как убивают людей. Я видел, как хладнокровно и целенаправленно это делается в лагерях, быстро и незаметно – в лесах, с кровожадным патриотизмом – в пустыне, подло и бессмысленно – на улицах. Возможно, настало время научиться делать это профессионально. – Вы хотите, чтобы я провел с вами семинар по практической методологии убийства? – осведомился Джек. – Да. Коэн вытащил сигарету из кармана рубашки и закурил. – Эти штуки тоже убивают, – заметил он, выдыхая дым. Мимо них проревел трейлер, мчавшийся на бешеной скорости. – Я размышлял о чем-нибудь более быстром и менее опасном для тех людей, которые нечаянно могут оказаться поблизости, – промолвил Сол. – Самый целесообразный способ убийства – это нанять профессионального киллера. – Он бросил взгляд на собеседника. – Я не шучу. Так поступают все – КГБ, ЦРУ и прочие… Американцы очень расстроились, узнав несколько лет назад, что ЦРУ нанимает киллеров из мафии для того, чтобы разделаться с Кастро. Но если вдуматься, это разумно. А все истории про Джеймса Бонда – полная чушь. Профессиональные убийцы – это психопаты, которых держат под жестким контролем. Они, конечно, не вызывают симпатии, так же как и маньяк Чарльз Мэнсон. Использование мафии – всего лишь гарантия, что дело будет сделано профессионально и что эти конкретные психопаты в течение нескольких недель не будут убивать обыкновенных американцев. – Коэн помолчал, затягиваясь сигаретой. – Если дело доходит до умышленного убийства, все мы пользуемся посредниками, – продолжил он, стряхивая пепел в окно. – Когда я работал в Израиле, в мои обязанности входило перевербовывать юных новобранцев Организации освобождения Палестины. Они должны были расстреливать других палестинских лидеров. Думаю, что по меньшей мере треть междоусобных разборок среди террористов – это результат нашей деятельности. Иногда для того, чтобы ликвидировать A, мы доводили до сведения D, что B заплатил C за убийство D по приказу A, а дальше садились и ждали результатов. – Но предположим, что нанять кого-то нет возможности, – сказал Сол. По тихим голосам своих спутников Натали поняла, что они не заметили, как она проснулась. Глаза у нее непроизвольно закрывались, и сквозь опущенные ресницы просачивался лишь свет встречных фар и редких фонарей. Она вспомнила, как в детстве засыпала на заднем сиденье машины, прислушиваясь к тихой монотонной беседе родителей. Но об убийствах они никогда не говорили. – Хорошо, – согласился Коэн, – предположим, по политическим, практическим или личным причинам вы не можете никого нанять, тогда дело усложняется. Прежде всего, надо решить, готовы ли вы расстаться со своей жизнью ради достижения цели. Если готовы, то у вас есть огромное преимущество. Тогда традиционные меры безопасности становятся несущественными. Большинство великих убийц, известных истории, были готовы отдать жизнь, чтобы выполнить свою миссию. – Ну а если бы в данном случае убийца предпочел остаться в живых по завершении дела? – спросил Сол. – Тогда и без того трудная задача становится еще сложнее, – ответил Коэн. – Варианты следующие: организованная военная операция… ведь налеты наших «эф-шестнадцать» на Ливан – это не что иное, как попытки покушения на убийство… далее – избирательное применение взрывчатки, дальнобойные винтовки, на близком расстоянии – пистолеты, и чтобы заранее подготовить пути для отступления, затем яд, ножи, рукопашная борьба. – Коэн выбросил в окно окурок и закурил следующую сигарету. – В наши дни в моду вошла взрывчатка, но это капризная штука, Сол. – Почему? – Ну, возьмем, например, Си-четыре, в этих ящиках сзади. Тут запаса лет на десять. Она безопасна, как обычная замазка, – можно ее бросать, комкать, пинать, садиться на нее, и она не взорвется. Опасна лишь азотная кислота, само взрывное устройство в крохотных детонаторах, в пластиковых трубках, которые тщательно упакованы в другую коробку. Вы когда-нибудь пользовались пластиковой взрывчаткой, Сол? – Нет. – Помоги вам Господь, – промолвил Коэн. – Хорошо, завтра мы проведем семинар по использованию пластиковой взрывчатки. Ну, предположим, вы установили взрывчатку в нужном месте. Каким образом вы приведете ее в действие? – Что вы имеете в виду? – Я имею в виду, что возможности неограниченны – механический способ, электрический, химический, электронный, – но все они небезопасны. Большинство экспертов в этой области заканчивают свою жизнь, экспериментируя с собственными изобретениями. Взрывчатка – наилучший способ борьбы с террористами, не считая других террористов. Но, предположим, вам удалось установить вашу пластиковую взрывчатку, подсоединить детонатор и подключить к нему электрическую кнопку, которая приводится в действие радиосигналом передатчика. Дальше вы сидите в машине на безопасном расстоянии от передвижного средства вашей жертвы. Дожидаетесь, когда он выезжает за пределы города, подальше от свидетелей и невинных зевак, и тут, несмотря на то что ваш передатчик выключен, его машина взлетает на воздух рядом со школьным автобусом, полным детей-калек. – Почему? Натали различила усталость в голосе Сола и поняла, что он вымотан ничуть не меньше, чем она. – Автоматические механизмы открывания гаражей, авиасвязь, детские электронные игрушки, радиоприемники гражданского населения и даже дистанционный пульт телевизора – все это может спровоцировать механизм запуска реакции, – объяснил Джек. – Поэтому при использовании пластиковой взрывчатки приходится работать как минимум двумя включениями – ручным, чтобы привести ее в боевое положение, и электронным, чтобы запустить реакцию. И тем не менее шансы на успех не столь велики, как хотелось бы. – А другие способы? – спросил Сол. – Винтовка с оптическим прицелом. – Коэн докурил вторую сигарету. – Далекое расстояние обеспечивает безопасность и дает время, необходимое для отступления, а собственно винтовка избирательна и при должном применении всегда эффективна. Именно это оружие предпочли Ли Харви Освальд, Джеймс Эрл Рей и бесчисленное множество других. Хотя и с винтовкой бывают сложности. – Какие? – Прежде всего, выкиньте из головы все эти телевизионные сказки о снайпере, который приносит с собой винтовку в дипломате, а потом собирает ее, пока жертва послушно стоит на месте и дожидается выстрела. Оптический прицел должен быть подогнан с учетом расстояния, угла выстрела, скорости ветра и свойств самого оружия. Стрелок должен обладать опытом и знать соотношения расстояния и скорости ветра. Военный снайпер работает на таких расстояниях, что между выстрелом и попаданием пули в цель его жертва успевает сделать три шага. У вас есть опыт стрельбы из винтовок, Сол? – Только во время Второй мировой войны, – ответил он. – Да и то я ни разу не убил человека. – Там, сзади, полно всякой всячины, добытой по вашему списку, – сказал Коэн. – Ваши восемнадцать тысяч долларов потрачены на самое бредовое собрание вещей, которое я когда-либо покупал… Но винтовки с оптическим прицелом там, увы, нет. – А как насчет охраны? – спросил Сол. – Вашей или их? – Их. – А что вас интересует? – Как с ней управляться? Прищурившись, Коэн задумчиво смотрел в световой коридор, образованный габаритными огнями машин. – Если кто-то собирается вас убить, то охрана – это в лучшем случае обреченная попытка отсрочить неизбежное. Если ваша жертва ведет общественную жизнь и часто появляется на людях, самая лучшая охрана может разве что осложнить вам путь к отступлению. Последствия можно было наблюдать месяц назад, когда один балбес решил, что ему хочется выстрелить в американского президента из пукалки двадцать второго калибра. – Арон говорил мне, что вы обучаете своих агентов пользоваться «береттами» двадцать второго калибра, – заметил Сол. – В последние годы – да, – кивнул Джек, – но они применяют их на близких расстояниях, там, где, скорее, надо бы пользоваться ножами, и в ситуациях, требующих тишины и быстроты действий. Когда мы посылаем ударную группу, этому предшествуют недели слежки, тренировок и налаживания путей отступления. Этот парень, который стрелял месяц назад в вашего президента, готовился не больше, чем вы или я перед тем, как пойти на угол купить газету. – И что это доказывает? – Это доказывает, что такой вещи, как охрана, не существует, когда поведение и поступки предсказуемы, – ответил Коэн. – Хороший шеф службы безопасности запретил бы своему клиенту следовать распорядку дня и назначать встречи, расписание которых может стать достоянием публики. Раз пять-шесть именно непредсказуемость спасала Гитлера. Именно из-за нее нам не удалось ликвидировать верхушку Организации освобождения Палестины. Но какую охрану обсуждаем мы в этой гипотетической дискуссии? – Гипотетической? – переспросил Сол и улыбнулся. – Ну, давайте для начала гипотетически обсудим охрану мистера К. Арнольда Барента. Коэн резко обернулся: – Так вот зачем вы просили раздобыть сведения о летнем лагере Барента! – Мы же говорим гипотетически. – Сол продолжал улыбаться. Коэн нервным движением провел рукой по лицу: – О господи, вы сошли с ума! – Вы сказали, что это безнадежная попытка отсрочить неизбежное. Разве мистер Барент является исключением? – Послушайте, – промолвил Джек Коэн, – когда президент Соединенных Штатов отправляется куда-нибудь – куда угодно, даже с визитом к лидерам зарубежных стран, и встречается с ними в уединенных охраняемых зонах, служба безопасности стоит на ушах. Дай им волю, они бы не выпускали президента из бункера Белого дома, да и его они считают не вполне безопасным. Единственное, когда охрана вздыхает с облегчением, – это когда президент проводит время с К. Арнольдом Барентом. Этим разные президенты занимаются вот уже последние тридцать с лишним лет. В июне Фонд западного наследия Барента устраивает ежегодный летний лагерь, и сорок – пятьдесят самых влиятельных людей мира, сняв смокинги, отдыхают на одном из его бесчисленных островов. Это что-нибудь говорит вам про его службу охраны? – Только то, что она хорошая, – сказал Сол. – Лучшая в мире, – поправил Коэн. – Если завтра Тель-Авив сообщит, что будущее Израиля зависит от внезапной смерти К. Арнольда Барента, я вызову оттуда наших самых подготовленных людей, соберу группы коммандос, рядом с которыми освободители заложников в Энтеббе – это детский сад,[50] подтяну отряды мстителей из Европы – и тогда у нас будет лишь один шанс из десяти подобраться к нему. – Как именно вы бы попытались это сделать? – спросил Сол. Коэн молчал несколько минут. – Гипотетически, – наконец промолвил он, – я бы дождался того момента, когда он окажется в зависимости от чьей-то чужой охраны, например президента, и тогда попытался бы… О господи, Сол, это все пустые разговоры. Где вы были тридцатого марта? – В Кесарии, – ответил Ласки. – И тому есть масса свидетелей. Что бы вы еще попробовали? Коэн покусал губы. – Барент постоянно совершает перелеты, а это всегда увеличивает уязвимость. Охрана на земле, естественно, не даст установить взрывчатку на борту, но остается перехват или ракеты «земля – воздух». Если вы заранее сможете узнать, куда направляется самолет, когда и как определить его местонахождение в нужный момент… – Вы можете это сделать? – спросил Сол. – Да, – съязвил Коэн, – если все ресурсы военно-воздушных сил Израиля объединить с электронным обеспечением разведок, воспользоваться американским спутником и системами противоядерной защиты, а также если мистер Барент окажет нам любезность и будет совершать полет над Средиземным морем или Южной Европой по заранее утвержденному расписанию. – У него есть яхта, – не унимался Сол. – С корпусом длиной двести шестнадцать футов, «Антуанетта». Она куплена им двенадцать лет назад за шестьдесят девять миллионов долларов у одного покойного греческого судового магната, больше известного в качестве второго мужа некой американской вдовы, чей первый супруг оказался на слишком близком расстоянии от хорошо настроенной оптической винтовки, которую держал в руках бывший морской пехотинец.[51] – Коэн перевел дух. – На борту яхты Барента столько же охраны, как и на любом из его островов. Никто никогда не знает, куда она направляется и в какой именно момент он будет на борту. На ней имеются две посадочные площадки для вертолетов, она снабжена катерами, которые занимаются разведывательной деятельностью, если поблизости оказываются какие-нибудь суда. Не исключено, что яхту можно торпедировать, хотя я сомневаюсь в этом. Она маневренна, оснащена радарами и системами контроля более совершенными, чем современные эсминцы. – Итак, наша гипотетическая дискуссия подошла к своему концу, – произнес Сол, и по его тону Натали поняла, что все рассказанное Джеком уже было ему известно. – Здесь мы остановимся. – Коэн свернул на боковую дорогу. На указателе значилось «Сан-Хуан-Капистрано». Они притормозили у заправочной станции, и Коэн расплатился своей кредиткой. Натали, продолжая бороться со сном, вышла из машины и размяла ноги. Стало прохладнее, ей показалось, что где-то неподалеку плещутся волны и пахнет морем. Она подошла к Джеку, который наливал себе кофе из автомата. – Вы проснулись, – улыбнулся он. – Добро пожаловать обратно в нашу реальность. – А я и не спала… почти, – откликнулась Натали. Коэн сделал глоток и поморщился. Кофе был отвратительным. – Странный разговор. Вы в курсе планов Сола? – Да, мы вместе их составляли. – И вы знаете, что находится в фургоне? – Если это то, что было в нашем списке, то да. – Они направилась обратно к машине. – Ну что ж, надеюсь, вы отдаете себе отчет в своих действиях, – пробормотал моссадовец. – Нет, – улыбнулась Натали, – но мы очень благодарны вам за помощь, Джек. – Еще бы. – Коэн открыл для нее дверцу машины. – Если только благодаря моей помощи вы не ускорите собственный конец.* * *
Они проехали еще восемь миль по автостраде, удаляясь от побережья, свернули к северу через низкорослый лес и наконец остановились у фермерского дома. – Это ранчо наши люди с Западного побережья использовали как укрытие, – пояснил Коэн. – В последний год в нем не было никакой необходимости, но здесь поддерживался порядок. Местные власти считают, что это летний дом, принадлежащий чете молодых профессоров с Анахеймских холмов. Дом был двухэтажным, на втором этаже располагались спальни, заставленные дешевыми кроватями. В трех спальнях могли ночевать по меньшей мере с дюжину человек. Застекленная дверь внизу вела в небольшую гостиную с диванами и низким журнальным столиком. – Это все было устроено как-то летом, когда тут велись долгие допросы одного члена организации «Черный сентябрь», который принимал нас за ЦРУ. Мы помогали ему скрываться от страшного и ужасного Моссада, пока он не рассказал нам все, что знал. Думаю, эта комната вполне подойдет для вас. – Как нельзя лучше, – согласился Сол. – Мы сэкономим здесь несколько недель на подготовку. – Хотел бы я остаться с вами ради интереса, – усмехнулся Коэн. – Если это окажется интересным. – Сол пытался справиться с охватившей его зевотой. – Мы как-нибудь сядем вместе и все вам расскажем. – Договорились, – кивнул Джек Коэн. – А как насчет того, чтобы выбрать себе по комнате и немного поспать? У меня завтра рейс в половине двенадцатого из Лос-Анджелеса.* * *
В начале девятого Натали проснулась от страшного грохота. Она огляделась, не понимая, где находится, а потом отыскала свои джинсы и быстро натянула их. Сола в соседней комнате не оказалось. Джека Коэна тоже нигде не было. Натали спустилась и вышла на улицу. Небо было ослепительно-синим, и день обещал быть жарким. К дороге, по которой они приехали, тянулся луг, заросший высохшей травой. Она обошла дом и за старой дверью, прислоненной к забору, обнаружила Сола и Джека. В центральной панели двери зияла дыра диаметром в десять дюймов. – Семинар по пластиковой взрывчатке, – пояснил Коэн, когда Натали подошла ближе. – Это было меньше половины унции. Можно представить, какой эффект будет при ваших сорока фунтах. – Он встал с колен и отряхнул брюки. – Как насчет завтрака? Холодильник в доме был пуст и лежал на боку, но Коэн принес из фургона большой герметичный контейнер, и в течение следующих двадцати минут все трое сосредоточенно вытаскивали сковородки и кофейники, поворачивали в разные стороны ручки плиты – словом, мешали друг другу. Когда наконец порядок был восстановлен и кухня наполнилась ароматами кофе и яичницы, все трое уселись за стол. В середине необязательного разговора Натали вдруг снова ощутила глубокую печаль и поняла, что эта комната напоминает ей дом Роба. Сейчас ей казалось, что до Чарлстона десятки сотен миль, и она даже не могла вспомнить, сколько времени прошло с ее последнего визита в этот город. После завтрака они занялись разгрузкой фургона. Втроем им удалось втащить огромную подставку с энцефалографом. Все электронное оборудование они перенесли в помещение для наблюдений, отгороженное зеркальной дверью. Ящики с Си-4 и контейнер с детонаторами перетащили в подвал. Когда работа была закончена, Коэн поставил на стол две небольшие коробки. – А это подарок от меня, – пояснил он. В первой коробке лежало два пистолета. На синих этикетках значилось: «Кольт МК. IV. Серия 380». – Я бы предпочел подарить вам такие же, сорок пятого калибра, как у меня. То, что действительно способно остановить любого. Но эти почти на полфунта легче, ствол у них на два дюйма короче, и вмещают они семь патронов, а не шесть. К тому же для начинающих у них сравнительно небольшая отдача, и их легче скрыть. Они вполне годятся для небольшого расстояния. – Он выложил на стол три коробки патронов. – Место приобретения снаряжения установить не удалось. Знаю только, что оно входило в состав перехваченного груза Ирландской освободительной армии и в процессе транспортировки было каким-то образом утеряно. Джек раскрыл коробку побольше и вытащил оттуда тяжелый пистолет странной формы. Длинная прямоугольная призма ствола казалась непропорционально большой по сравнению с рукоятью, а отверстие слишком маленьким. Словно футуристический прототип пистолета-пулемета, только без магазина. – Я чуть было не позвонил Марлину Перкинсу,[52] чтобы отыскать такое с дальнобойностью выше десяти футов, – пояснил Коэн. – Большинство подобного оружия делается специально на заказ. Заряда углекислого газа хватает на двадцать выстрелов. Хотите посмотреть в действии? Натали спустилась с крыльца, взглянула на фургон и расхохоталась. На желтом фоне синими буквами было написано: «Сварные ванны Джека и Нат. Установка и ремонт. Наша специализация – горячие ванны и душевые». – Так было или это вы раскрасили? – спросила она. – Я. – А это не будет выглядеть подозрительно? – Возможно, хотя, честно говоря, я надеялся на противоположный эффект. – Почему? – Вы направляетесь в достаточно фешенебельный район, хорошо охраняемый полицией. К тому же население там страдает паранойей. Стоит вам остановиться где-нибудь на полчаса, и на вас обратят внимание, а эта надпись может помочь. Натали кивнула и отправилась с мужчинами за сарай, откуда навстречу им из загона вышла небольшая свинья. – Я думала, ферма не используется по назначению, – удивилась девушка. – Не используется, – улыбнулся Коэн. – Но я приобрел свинью вчера утром. Это была идея Сола. – Она весит сто сорок фунтов, – заметил Сол. – Ты же помнишь наш разговор с Ицеком в зоопарке? – Ах да! – воскликнула Натали. Коэн поднял странное оружие: – Штука довольно неуклюжая, но целиться надо так же, как из любого пистолета. Просто представьте себе, что ствол – это ваш указательный палец. – Раздался громкий щелчок, и в дверь сарая вонзилась маленькая стрелка с синим хвостиком. Коэн отогнул ствол и открыл коробочку на столе. – Вот эти, с синим кружком наверху, – пустые. Приготовьте собственный раствор, у Сола есть все необходимое. Ампулы с красными кружками на пятьдесят кубиков, с зелеными – на сорок, с желтыми – на тридцать, а с оранжевыми – на двадцать. – Он вынул красную ампулу и вставил ее в ствол. – Хотите попробовать, Натали? – Конечно. – Она взяла ружье и прицелилась в дверь сарая. – Нет-нет, – остановил ее Сол. – Давай испытаем это на нашей подружке. Натали повернулась и с жалостью посмотрела на свинью. Та стояла, принюхиваясь, обратив к ней свой пятачок. – В основе состава лежит кураре, – пояснил Коэн. – Вещь очень дорогая и не столь безопасная, как утверждают зоологи. Вам придется точно рассчитывать необходимое количество на вес тела. На самом деле свинья не лишится сознания. По сути, это не транквилизатор, а скорее специфический токсин, парализующий деятельность нервной системы. Стоит немного недобрать, и ваша мишень, хотя и почувствует некоторую немоту в членах, все же сможет благополучно ускакать. Небольшой перебор – и вместе со способностью совершать произвольные поступки будет подавлен процесс дыхания и сердцебиения. – А это правильная концентрация? – Натали бросила взгляд на ружье. – Выяснить можно только одним способом. Этот кусок ветчины весит приблизительно столько, сколько сказал Сол. Пятьдесят кубиков рекомендуется для животных именно такого размера. Давайте попробуем. Натали обошла загон, чтобы лучше прицелиться. Свинья просунула пятачок сквозь решетку, будто ждала от них угощения. – Надо целиться в какое-то специальное место? – спросила она. – Старайтесь не попасть ей в морду и в глаза, – ответил Коэн. – Могут возникнуть проблемы и при попадании в шею, зато любое другое место вполне годится. Натали подняла пневматический пистолет и выстрелила свинье в бедро. Та подпрыгнула, взвизгнула и бросила на девушку укоризненный взгляд. Через восемь секунд задние ноги у нее подогнулись, она пробежала еще полкруга, волоча часть тела по земле, а потом повалилась на бок, тяжело дыша. Все трое тут же вошли в загон. Сол приложил ладонь к боку свиньи: – Сердце колотится как сумасшедшее. Может, раствор слишком концентрированный? – Вы же хотели быстродействующий, – ответил Коэн. – Чтобы поймать животное, при этом не убивая его. Сол заглянул в открытые, подернутые пленкой глаза свиньи: – Она нас видит? – Да, – кивнул Джек. – Время от времени животное может терять сознание, но в основном органы чувств у него работают нормально. Оно не способно двигаться и издавать звуки, однако будьте уверены, эта ветчина как следует рассматривает нас и запоминает, чтобы потом расплатиться. Натали похлопала по боку парализованную свинью. – Ее зовут не ветчина, – тихо промолвила она. – Да ну? – улыбнулся Коэн. – А как же? – Хэрод, – ответила Натали. – Энтони Хэрод.Глава 41
Вашингтон, округ Колумбия
Вторник, 21 апреля 1981 г.
Во время своего полета Джек Коэн думал о Соле Ласки и Натали. Он тревожился о них, не зная, что именно они собираются делать и каковы их возможности. После тридцати лет работы в разведке он знал, что любители в конце операции неизбежно оказываются в списке погибших. Коэн попытался утешить себя тем, что это не будет операцией в прямом смысле слова, и задумался, чем же тогда это будет? Он чувствовал, что Сол очень обеспокоен и поглощен предстоящей задачей, что для него имела большое значение полученная информация о Баренте и об остальных членах Клуба Островитян. Джек размышлял, все ли меры предосторожности принял во время компьютерных поисков. Был ли он достаточно предусмотрителен, когда ездил в Чарлстон и в Лос-Анджелес? Конечно, Коэн заверил психиатра, что занимается этой работой с сороковых годов, но по мере приближения к Вашингтону он ощущал все большее беспокойство и чувство вины, которые у него всегда были связаны с участием гражданских лиц в военных операциях. В сотый раз он уговаривал себя, что инициатива исходила не от него. «Может, это не я пользуюсь ими, а они мной?» – вопрошал себя Коэн. Он был абсолютно уверен, что племянника Сола Ласки и Леви Коула убили люди из контрразведки ФБР. Однако убийство всей семьи Арона Эшколя продолжало оставаться для него немыслимым и необъяснимым. Коэн знал, что ЦРУ могло вляпаться в подобную ситуацию, утратив контроль за своими контрактными исполнителями, – однажды он сам участвовал в такой операции в Иордании, которая обернулась гибелью трех гражданских лиц, – но он никогда не слышал, чтобы так опрометчиво действовало ФБР. Однако когда Ласки указал ему на связь между Чарльзом Колбеном и миллионером Барентом, это стало для него совершенно очевидным. Сам Коэн занимался сбором мельчайших улик, относящихся к убийству Леви Коула. Леви был протеже Коэна, блестящим молодым оперативником, временно назначенным в отдел связей и шифровок для получения необходимого опыта, но готовили его для гораздо более серьезных задач. Леви обладал редчайшими и необходимыми для агента качествами. Успех сопутствовал ему. Он был наделен интуитивной осторожностью и в то же время обожал азарт чистой игры, когда противники, которым, возможно, никогда не суждено встретиться и узнать истинные имена или звания друг друга, вступают в изощренное состязание интересов. У Коэна была собственная теория насчет того, почему ФБР так быстро деградировало. Он полагал, что, возможно, ненамеренное вмешательство Арона и Леви каким-то образом вывело Колбена на след проводящейся уже восьмой год операции «Иона» по внедрению израильских «кротов» в американские контрразведывательные агентства. В триумфальной эйфории, последовавшей за Шестидневной войной, в Тель-Авиве созрел план подключиться к основным каналам американской разведки, сажая платных информаторов на ключевые позиции. С помощью конкурирующих групп Моссад проанализировал и выяснил, какие именно информационные каналы ФБР самые важные. Кроме того, приводились доводы о необходимости захвата основных источников сведений ФБР по внутренним делам Соединенных Штатов – особенно досье на крупных политических лидеров, которые Бюро собирало в собственных интересах начиная с эпохи Дж. Эдгара Гувера. Эти досье могли бы оказаться бесценным рычагом в урегулировании будущих кризисов, когда Израилю потребовалась бы помощь конгресса США. Тогда эту операцию сочли слишком рискованной, но так продолжалось лишь до ужаснувшей всех войны Судного дня, которая показала перестраховщикам в Тель-Авиве, что сохранение Израиля возможно лишь при получении доступа к такой совершенной и всеобъемлющей разведке, какой владеет только Америка. Операция по внедрению своих агентов началась одновременно с назначением Джека Коэна на пост главы отделения Моссада в Вашингтоне в 1974 году. Теперь эта операция под кодовым названием «Иона» оказалась тем самым китом, который поглотил Моссад. На этот проект было потрачено неимоверное количество денег и времени: сначала для того, чтобы расширить операцию, а затем – чтобы обеспечить ее необходимым прикрытием. Израильские политики жили в постоянном страхе, что американцы раскроют «Иону» в тот самый момент, когда поддержка Соединенных Штатов окажется для страны решающей. Бо́льшая часть сведений, поступавших из Вашингтона, не могла быть использована уже по той причине, что это обнаружило бы существование подобной операции. Коэну казалось, что Моссад начинал действовать как классический любовник, страшащийся того дня, когда его измена будет раскрыта, и так страдающий от усталости и угрызений совести, что сам страстно желает разоблачения. Коэн задумался о возможных вариантах. Он мог либо продолжить свое сотрудничество с Солом и Натали, сохраняя формальную дистанцию между Моссадом и их непонятной любительской затеей и дожидаясь, что из этого выйдет, либо же вмешаться на настоящем этапе. По крайней мере, заставить группу Западного побережья занять более активную позицию. Он не стал говорить Солу, что фермерский дом начинен подслушивающими устройствами. Коэн мог распорядиться, чтобы тройка из его лос-анджелесской команды установила фургон с аппаратурой под прикрытием леса в миле от дома, и поддерживать с ними связь по совершенно безопасным каналам. Это означало бы активно задействовать в операции по меньшей мере с полдюжины агентов Моссада, однако другого пути Коэн не видел. Сол Ласки говорил, что больше не станет дожидаться спасительной кавалерии, но в этом случае она подключится без его ведома. Коэн пока не видел связи между операцией «Иона» и контактами Барент – Колбен, между отсутствующим и, возможно, мифическим оберстом Ласки и всем тем безумием, которое творилось в Вашингтоне и Филадельфии. Но что-то явно происходило. И он выяснит, что именно. А если ему придется столкнуться с возражениями начальства, что ж, пусть будет так. У Коэна была с собой единственная небольшая сумка, но он сдал ее в багаж, поскольку в ней был пистолет. Да уж, таможня – это всегда лишняя головная боль. И он подумал, что решил правильно, когда, получив свою сумку, вышел из здания аэропорта в Далласе и направился к долгосрочной стоянке, где оставил свой старый синий «шевроле». «Надо позвонить Джону или Эфраиму в Лос-Анджелес, предупредить их о ферме и распорядиться, чтобы они прикрывали Ласки и девушку, – подумал Коэн. – По крайней мере, у них будет поддержка, что бы они там ни затевали». Он протиснулся к своей машине, открыл дверцу и швырнул сумку на пассажирское сиденье. За его спиной в узком проходе появился кто-то еще, он раздраженно оглянулся, мол, могли бы подождать, пока он не даст задний ход… Дальше Коэну потребовалась секунда, прежде чем в нем возобладали древние инстинкты. И еще секунда ушла на то, чтобы рассмотреть в тусклом свете лицо приблизившегося человека. Это был Леви Коул. Уже вспомнив, что его пистолет запрятан под бельем в сумке, Коэн продолжал бесцельно шарить в кармане своей куртки. Потом он выкинул вперед руки в защитном жесте, хотя тот факт, что перед ним стоял Леви, и вызывал у него некоторое смятение. – Леви? – Джек! То был крик о помощи. Молодой агент исхудал и был очень бледен, словно провел несколько недель в подвале без воздуха. Зрачки расширены, взгляд пустой. Он поднял руки, будто желая обнять Коэна, однако тот уперся ладонью в грудь агента, останавливая его. – Что происходит, Леви? – спросил он. – Где ты был? Леви Коул был левшой. Коэн забыл об этом. Короткое выкидное лезвие вдруг блеснуло в его руке. Движение было быстрым и незаметным, как мгновенно прокатившаяся судорога. Лезвие ножа, пройдя под ребрами, вонзилось Коэну в сердце, и тело шефа Моссада тут же обмякло. Леви усадил Коэна на место водителя и оглянулся. Сзади к «шевроле» подъехал лимузин, закрывая обзор. Он вынул бумажник Коэна, достал из него деньги и кредитные карточки, обыскал карманы куртки и сумку, вытряхнув одежду на заднее сиденье. Из машины он вышел с пистолетом, авиабилетом, деньгами и кредитными карточками, а также с конвертом, в котором Коэн хранил квитанции. Скинув мертвое тело на пол, Леви захлопнул дверцу «шевроле» и направился к ожидавшему его лимузину. Машина выехала со стоянки и по автостраде направилась к Арлингтону. – Здесь немного, – сообщил Ричард Хейнс по рации. – Разве что два счета за бензин на заправочной станции в Сан-Хуан-Капистрано. Гостиничные счета из Лонг-Бич. Это вам что-нибудь говорит? – Отправьте туда своих людей, – раздался голос Барента. – Начните с мотелей и заправочных станций. Кстати, ласточки уже вернулись в Капистрано? – Боюсь, мы пропустили это событие.[53] – Хейнс бросил взгляд на Леви Коула, сидевшего рядом и безучастно смотревшего вперед. – Что будем делать с вашим приятелем? – Мне он больше не нужен, – ответил Барент. – На сегодня или вообще? – Думаю, вообще. – О’кей, – откликнулся Хейнс. – Мы позаботимся об этом. – Ричард… – Да? – Пожалуйста, начните поиски немедленно. То, что привлекло любопытного мистера Коэна, непременно окажется небезынтересным и для меня. Я ожидаю от вас сообщений не позже пятницы. – Вы их получите. Ричард Хейнс выключил рацию и уставился на пейзажи штата Виргиния, мелькавшие за окном. Над головой, мигая огнями, взлетал реактивный самолет, и Хейнс невольно подумал, не мистер ли Барент направляется куда-нибудь? Сквозь тонированное стекло чистое голубое небо приобретало цвет бренди. Салон машины заливало болезненным, коричневатым светом, который создавал ощущение надвигавшейся бури.Глава 42
В окрестностях Меридена, штат Вайоминг
Среда, 22 апреля 1981 г.
К северо-востоку от Шайенна расстилался тот самый тип западного пейзажа, который у одних вызывает поэтическое настроение, у других же – немедленный приступ агорафобии. Стоило свернуть с автострады и проехать сорок миль, как вокруг раскидывались бескрайние, забытые богом прерии. На расстоянии многих миль от дороги временами попадались случайные ранчо, а еще дальше к востоку бастионами вздымались холмы, кое-где мелькали ручьи, обрамленные кустарником и редкими деревьями, между которыми бродили пугливые стайки косуль и стадо коров, сбившихся в кучу, хотя им были предоставлены миллионы акров пастбища. На фоне этого привольного пейзажа пусковые площадки выглядели столь же непривлекательно, как все, что является плодом человеческих рук. Небольшие прямоугольные участки, покрытые обожженными сгустками гравия, располагались в основном ярдах в пятидесяти от дороги. От естественных газовых скважин или пустующих стоянок их отличало прочное металлическое ограждение. По углам его виднелись трубы с отражающими зеркалами и низкая массивная бетонная крыша, установленная на ржавых опорах. Последнее можно было рассмотреть, лишь приблизившись на такое расстояние, с которого была видна надпись: «Вход воспрещен. Собственность правительства Соединенных Штатов. При обнаружении посторонних лиц на данной территории охрана стреляет без предупреждения». За исключением этого, ничего не было. Лишь ветер свистел в прерии, да время от времени с полей доносилось мычание коров. Синий фургон военно-воздушных сил выехал с базы Уоррен в 6:05 утра и должен был вернуться с остатками штатного состава эскадрильи в 8:27, в промежутке доставив персонал смены на различные объекты. В то утро в фургоне находились шестеро молодых лейтенантов, двое из которых направлялись на юго-восток от Меридена, в центр управления стратегического военного командования ВВС США, а остальные – на тридцать восемь миль дальше, в бункер, расположенный неподалеку от Чагвотера. Оба лейтенанта на заднем сиденье без всякого интереса взирали на мелькавший мимо безрадостный пейзаж. Они были знакомы с космическими фотографиями этого участка земли; так же он выглядел и с советского спутника. На снимках изображались шесть тысяч квадратных миль прерии – десять колец ракетных шахт, представляющих собою окружности по восемь миль в диаметре. Каждая из шестнадцати пусковых площадок в каждом круге была оснащена ракетой «Минитмен-3». В последние месяцы шли разговоры об уязвимости этих устаревших площадок, обсуждалась противоударная стратегия Советов, которые могут засыпать эти прерии боеголовками, взрывающимися со скоростью одна в минуту. Ходили слухи о необходимости укрепления шахт и об оснащении их более совершенным новым оружием. Но эти политические проблемы отнюдь не волновали лейтенантов Билла Дэниэла и Тома Уолтерса. Это были просто два молодых человека, промозглым весенним утром отправлявшиеся на работу. – Ты как, Том? – спросил Билл. – Нормально, – ответил Уолтерс, не отводя взгляда от далекого горизонта. – Сидел с этими туристами допоздна? – Нет, – покачал головой Уолтерс, – вернулся около восьми. Билл поправил сползавшие темные очки и ухмыльнулся: – Так я тебе и поверил. Фургон притормозил и свернул влево, на две покрытые гравием колеи, ведущие вверх, на северо-запад от шоссе. Миновали три указателя, требующие от тех, кто не имеет разрешения на въезд на закрытую территорию, сменить направление. Через четверть мили фургон остановился у первых ворот пропускного пункта. Все по очереди предъявили охранникам свои удостоверения, и те по рации передали сведения о фургоне впередистоящим постам. Процедура повторилась и у въезда в центральный корпус. Лейтенанты Дэниэл и Уолтерс вышли из фургона и направились к проходной, а машина тем временем развернулась по направлению к спуску. Выхлопной дым повис в холодном утреннем воздухе. – Так ты сделал ставку у Смита? – поинтересовался Билл, когда они вошли в кабину лифта. Скучающий охранник с М-16 с трудом подавил зевок. – Нет, – ответил Уолтерс. – Ты серьезно? Мне казалось, ты хотел сделать ставку. Лейтенант Уолтерс покачал головой. Они перешли в другую, меньшую кабину и спустились под землей на три этажа к центру управления запусков. Прежде чем войти в помещение, они миновали еще два пункта проверки и отсалютовали дежурному офицеру в приемной. Часы показывали 7:00. – Лейтенант Дэниэл заступил на дежурство, сэр. – Лейтенант Уолтерс заступил на дежурство, сэр. – Ваши удостоверения, джентльмены, – обратился к ним капитан Хеншоу. Он тщательно сверил фотографии на удостоверениях с лицами стоявших перед ним молодых людей, хотя знал их уже больше года. Затем капитан кивнул сержанту, тот вставил кодированную карточку в прорезь замка, и первая герметичная дверь с шипением отворилась. Через двадцать секунд то же произошло со второй дверью, и оба лейтенанта ВВС вошли внутрь. Они отсалютовали предыдущей смене и улыбнулись. – Сержант, зарегистрируйте, что лейтенанты Дэниэл и Уолтерс сменили лейтенантов Лопеса и Миллера в… ноль семь ноль одну тридцать, – распорядился капитан Хеншоу. – Слушаюсь, сэр. Два уставших человека покинули свои обитые дерматином кресла и передали новым дежурным толстые журналы, скрепленные тремя кольцами. – Что-нибудь есть? – поинтересовался Билл. – В три пятьдесят было зафиксировано какое-то нарушение связи с поверхностью, – ответил лейтенант Лопес. – Гасс уже занимается этим. Обрыв наступил в четыре двадцать, и все заработало снова в пять десять. Терри передал сигнал тревоги на Шестую южную в пять тридцать пять. – Опять кролик? – поинтересовался Билл. – Неисправный датчик давления. Вот и все. Ты не заснул, Том? – Нет, – откликнулся Уолтерс и улыбнулся. – Не трогайте тумблеры управления, – напоследок предупредил лейтенант Лопес, и оба дежурных вышли. Дэниэл и Уолтерс закрыли за ними двери и уселись в синие кресла на колесиках, которые скользили по направляющим вдоль северной и западной стены с приборными панелями. Целеустремленно взявшись за дело и время от времени переговариваясь через закрепленные на голове микрофоны с дежурными других участков командного центра, они проверили свои первые пять объектов. В 7:43 последовала контрольная связь с Омахой через базу Уоррен, и лейтенант Дэниэл передал сведения по двенадцати каналам. Затем он взглянул на своего коллегу, лейтенанта Уолтерса: – Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь, Том? – Голова болит, – пожаловался тот. – Возьми аспирин в аптечке. – Потом, – отмахнулся Уолтерс. В 11:56, как раз в тот момент, когда Дэниэл распаковывал термосы и коричневые пакеты с едой, с военно-воздушной базы Уоррен поступила команда о полной боевой готовности. В 11:58 Дэниэл и Уолтерс открыли красный сейф, достали оттуда свои ключи и активировали последовательный механизм запуска. В 12:10 комплекс был готов к запуску, оставалось лишь включить источники питания зарядов и дать команду на старт шестнадцати ракет с их ста двадцатью боеголовками. По сигналу из Уоррена Дэниэл включил двухминутную систему «отбоя», когда Уолтерс вдруг расстегнул свои пристежные ремни, встал и двинулся прочь от пульта. – Том, что ты делаешь? Нам надо закончить все до завтрака, – заволновался Билл. – Голова болит, – снова сказал Уолтерс. Лицо у него вдруг покрылось мертвенной бледностью, зрачки расширились и как-то неестественно заблестели. Билл достал с полки аптечку: – По-моему, здесь есть сильнодействующий… И тут лейтенант Уолтерс вынул свой пистолет сорок пятого калибра и выстрелил лейтенанту Дэниэлу в затылок, предварительно удостоверившись, что траектория полета пули пойдет вниз и не заденет приборные панели. Но пуля из черепа напарника не вышла. Билл дернулся и упал вперед, повиснув на ремнях. Из-за гидростатического давления кровь хлынула из его глаз, ушей, носа и рта. Через секунду замигали два желтых огонька интеркома и сработало сигнальное устройство, предупреждающее, что открывается внешняя дверь. Уолтерс неторопливо подошел к внутренней двери и два раза выстрелил в электронный замок. Затем он вернулся к приборной панели Билла и включил аварийную систему резервного наполнения командного пункта стопроцентным кислородом. Сев в свое кресло, Уолтерс в течение нескольких минут изучал инструкции. Громкий стук едвадоносился из-за толстой стальной двери. Лейтенант вынул из кармана своего мертвого напарника длинный ключ зажигания и вставил его в пусковую панель. Он повернул пять тумблеров в положение запуска, затем проделал то же самое на своем пульте и вставил свой ключ. – Черт побери, что вы делаете, лейтенант?! – раздался голос полковника Андерсона из командного центра в Уоррене, когда Уолтерс включил интерком. – Одному вам все равно не удастся ничего запустить. Немедленно откройте дверь! Уолтерс выключил интерком и уставился на стрелку часов, продолжающую отсчитывать секунды. В соответствии с установленной процедурой запуска ракет в это время под огромными бетонированными площадками должен был осуществляться подрыв взрывчатки, чтобы снести стодесятитонные заслонки, расположенные на расстоянии в четверть мили от пункта, и обнажить гладкие стальные шахты и носы трехступенчатых межконтинентальных баллистических ракет. За шестьдесят секунд до зажигания завоют сирены, предупреждая о состоянии боевой готовности всех находящихся поблизости. В действительности же их вой спугнет разве что кроликов да пасущихся поблизости коров или случайного владельца ранчо, проезжающего мимо на своем пикапе. Ракеты работали на твердом топливе, ожидавшем лишь электронного зажигания, чтобы вспыхнуть. Запуск программ траектории, ведения, включения гироскопов и электронных механизмов уже был осуществлен в процессе подготовительной серии процедур. За тридцать секунд до зажигания компьютеры выдержат паузу, дожидаясь, когда сигнал запуска будет дан вторым ключом. Задержка могла растянуться на неопределенное время, пока оба ключа не будут повернуты. Уолтерс окинул взглядом приборную панель Билла. Оба ключа находились на расстоянии шестнадцать футов друг от друга. Их надо было повернуть в течение одной секунды. Военно-воздушные силы потрудились основательно, чтобы гарантировать невозможность осуществить запуск одним человеком за необходимый отрезок времени. Уголки рта Тома Уолтерса задергались. Он подошел к Биллу Дэниэлу, оттолкнул кресло с трупом так, что оно отъехало в дальний конец стены, и вытащил из кармана ложку и два мотка проволоки. Ложка была заблаговременно вынесена из офицерской столовой в Уоррене. Уолтерс привязал основание ложки к выступу ключа, приведя его в нужное положение, а более длинный кусок проволоки закрепил на ее черенке. Затем он вернулся к собственному пульту, натянул проволоку, дождался тридцатисекундной готовности и, повернув собственный ключ, дернул. Ложка оказалась подходящим рычагом, чтобы повернуть ключ Билла. Компьютер воспринял сигнал запуска, подтвердил код активации, запрограммированный Уолтерсом и Биллом во время испытаний, и перешел к непосредственному исполнению предстартовых операций. Уолтерс взял свой журнал и написал короткую записку, после чего глянул на дверь. Там, где находился замок, сталь светилась вишнево-красным светом от ацетиленового паяльника, которым орудовали с другой стороны. Оставалось минуты две до момента, когда металл наконец подастся и дверь будет прожжена насквозь. Лейтенант Том Уолтерс улыбнулся, сел в кресло, пристегнул ремни, засунул в рот ствол своего пистолета сорок пятого калибра, так что он уткнулся в нёбо, и большим пальцем спустил курок.* * *
Через три часа генерал ВВС США Верн Кетчем вместе со своим помощником полковником Стивеном Андерсоном вышли из центра запуска, чтобы глотнуть свежего воздуха и выяснить причиненный ущерб. Стоянка и склон холма за зоной внутренней охраны были усеяны военными транспортными грузовиками и машинами «скорой помощи». На земле стояли пять вертолетов, и еще два кружили в небе. Полковник Андерсон посмотрел на безоблачный небосклон: – Интересно, что обо всем этом подумают русские? – К черту русских! – разозлился Кетчем. – Мне сегодня здорово достанется от всех, вплоть до вице-президента. Я не успею вернуться, как меня тут же с ним свяжут. И каждый будет интересоваться, каким образом такое могло произойти. И что мне им говорить, Стив? – Мы и раньше иногда сталкивались со сложностями, – задумчиво сказал Андерсон, – но такого еще не было. Вы видели результаты последнего психиатрического обследования Уолтерса, проведенные всего два месяца назад. Нормален, умен, не женат, хорошо адаптируется к стрессовым ситуациям, честолюбив лишь в пределах служебных обязанностей, пунктуален в выполнении приказов, прошлой осенью входил в состав команды-победительницы на соревнованиях по запуску ракет в Вандербурге. Воображения не больше, чем вон у того мешка с углем. В общем, идеальная кандидатура для службы на ракетной базе. Кетчем закурил сигару и выпустил облако дыма. – Так что же тогда произошло? Андерсон покачал головой, глядя на опускавшийся вертолет: – Я ничего не понимаю. Уолтерс знал, что завершающая процедура запуска ракеты может быть осуществлена лишь в тандеме еще с двумя операторами, находящимися в отдельном контрольном центре. Он знал, что компьютеры будут выдерживать пятисекундную паузу, пока не получат оттуда подтверждения. Но он без причины убил Дэниэла и застрелился сам. – Эта записка у вас? – спросил Кетчем, не вынимая сигары изо рта. – Так точно, сэр. – Отдайте ее мне. Предсмертная записка Уолтерса была вставлена в пластиковый конверт, хотя Кетчем не видел в этом никакого смысла. Уж конечно, никто не станет снимать с нее отпечатки пальцев. Сквозь пластик была отчетливо видна запись: «У. Б. – К. А. Б. Королевская пешка на В6. Шах. Твой ход, Кристиан». – Какой-то шифр, верно, Стив? – спросил Кетчем. – Этот шахматный бред что-нибудь говорит вам? – Нет, сэр. – Как вы думаете, может, К. А. Б. – это Комитет авиационной безопасности? – Не вижу особого смысла, сэр. – А что это за чушь про Кристиана? Уолтерс что, верил в реинкарнацию или нечто похожее? – Нет, сэр. Согласно показаниям капеллана базы, лейтенант был унитарием, но службы в церкви никогда не посещал. – Буквы «У» и «Б» могут означать Уолтерс и Билл, – предположил Кетчем, – но какой в этом смысл? Андерсон покачал головой: – Не имею представления, сэр. Может, разведка или ФБР что-нибудь выяснят. По-моему, вон в том зеленом вертолете прилетел специальный агент из Денвера. – Как мне надоело, что они везде суют свой нос, – проворчал Кетчем, вынимая сигару изо рта. – Таков закон, сэр, – откликнулся Андерсон. – Они обязаны заниматься этим. Генерал Кетчем повернулся и смерил полковника таким взглядом, что тот опустил глаза и с особой заинтересованностью принялся рассматривать складку на своих брюках. – Ну что ж, – наконец изрек Кетчем, отбрасывая в сторону сигару. – Пошли к этим гражданским попугаям. Хуже уже не будет. – Он развернулся на каблуках и четким шагом направился к стоявшей в отдалении группе людей. Полковник Андерсон наклонился к брошенной сигаре, удостоверился, что она погасла, и вприпрыжку кинулся догонять командующего.Глава 43 Мелани
Жизнь каким-то образом стала казаться более безопасной. Сквозь шторы и жалюзи просачивался мягкий свет, очерчивая контуры знакомых предметов: темную спинку моей кровати, высокий шкаф, сделанный по заказу родителей в год наступления нового века, мои гребни на туалетном столике, разложенные в том же порядке, как много лет назад, стеганое одеяло бабушки, покрывавшее мои ноги. Приятно было просто лежать и прислушиваться к деловитой суете людей, заполнявших дом. Говард и Нэнси расположились в гостевой комнате, по соседству с моей спальней, которая когда-то принадлежала родителям. Сестра Олдсмит спала на раскладушке рядом с моей дверью. Мисс Сьюэлл бо́льшую часть времени проводила на кухне, готовя для всех еду. Доктор Хартман жил через двор, но, как и остальные, почти всегда находился в доме, следя за состоянием моего здоровья. Калли спал в маленькой комнате за кухней, которая когда-то принадлежала мистеру Торну, но спать ему приходилось не так уж много. По ночам он сидел в кресле у входной двери. Чернокожий юноша занял лежанку, которую мы соорудили для него на задней веранде. Ночью все еще было прохладно, но он не возражал. Маленький Джастин много времени проводил со мной. Он расчесывал мне волосы, отыскивал книги для чтения и всегда находился под боком, когда мне нужно было послать кого-то с поручением. Иногда я просто отправляла его в свою комнату для шитья, и он сидел там в плетеном шезлонге, наслаждаясь лучами солнца, видом неба за ветками деревьев и ароматом новых растений, которые покупал и рассаживал Калли. Мои фарфоровые статуэтки снова красовались в застекленной этажерке – я заставила негра починить ее. Было что-то приятное и волнующее в том, чтобы наблюдать за миром глазами Джастина. Его чувства и восприятие были настолько обострены, настолько свободны от каких-либо корыстных соображений, что иногда казались чуть ли не болезненными, и уж конечно, они завораживали. С каждым разом мне становилось все сложнее удерживать свое внимание в пределах собственного тела. Сестра Олдсмит и мисс Сьюэлл с оптимизмом наблюдали за процессом моего выздоровления и настойчиво продолжали проводить все терапевтические мероприятия. Я позволяла им это и даже отчасти поощряла, хотя не испытывала ни малейшего желания снова начинать ходить, говорить, что означало бы возвращение в этот мир. Однако в какой-то мере обещанное ими улучшение меня пугало, поскольку я понимала, что оно неизбежно повлечет за собой ослабление моей Способности. Каждый день доктор Хартман осматривал меня, ободрял и проводил необходимые исследования. Сестры купали меня, каждые два часа переворачивали с боку на бок и двигали мои конечности, чтобы суставы и мышцы не костенели. Вскоре после нашего возвращения в Чарлстон они приступили к процедурам, которые требовали активного участия с моей стороны. Я уже могла двигать левой рукой и ногой, но, когда я совершала это, контролировать мое маленькое семейство становилось очень тяжело. Поэтому вскоре мы ввели обычай, требующий, чтобы в течение часа моих оздоровительных процедур все, за исключением сестер, замирали и нуждались в моем внимании не больше, чем лошади в стойле. К концу апреля я снова стала видеть левым глазом и могла двигать своими конечностями. Я странно ощущала левую половину тела, словно лицо, рука, бок и нога постоянно находились под новокаиновой блокадой, однако неудобств мне это не доставляло. Доктор Хартман гордился мною. Он говорил, что я представляю собой редкий случай, так как в первые недели после кровоизлияния в мозг функции моих органов чувств были полностью заблокированы. И хотя наблюдалась картина явного левостороннего паралича, признаков пароксизма или нарушений зрения не было. Тот факт, что я молчала в течение трех месяцев, вовсе не означал, будто доктор заблуждался, полагая, что я не страдаю дисфункцией речи, столь часто встречающейся после удара. Я говорила каждый день – устами Говарда, Нэнси, мисс Сьюэлл или еще кого-нибудь. После длительных бесед с доктором Хартманом я пришла к собственному выводу, почему эта способность не была у меня нарушена. Инсульт поразил лишь правое полушарие мозга, речевые же центры, как у большинства людей, более активно пользующихся правой рукой, у меня были расположены в левом, неповрежденном полушарии. Но доктор Хартман объяснил, что зачастую больные со столь обширными кровоизлияниями временно перестают говорить, пока функции речевых центров не переместятся в новые, неповрежденные участки мозга. Я поняла, что из-за моей Способности подобные перемещения происходили со мной постоянно. Теперь же, когда она возросла, я не сомневалась в том, что смогу восстановить все функции своего организма даже в том случае, если будут повреждены оба полушария. В моем распоряжении имелся неограниченный запас здоровой мозговой ткани! Каждый, с кем я вступала в контакт, становился моим донором нейронов, синапсов, речевых ассоциаций и запаса воспоминаний. Воистину, я стала бессмертной! Именно в это время я осознала пользу нашей Игры для здоровья и механизмы наркотической зависимости от нее. Применяя Способность, особенно постоянно Используя кого-то, чего требовала Игра, мы делались моложе. Точно так же как в наше время продлеваются жизни больных с помощью трансплантации органов и тканей, наши жизни обновлялись путем Использования чужих сознаний, энергии, заемных РНК, нейронов и всех остальных эзотерических составляющих, до которых низводит сознание современная наука. Глядя на себя чистыми глазами малыша Джастина, я видела скорчившуюся, угасающую старуху с воткнутыми в руку иглами капельниц, с выпирающими костями, обтянутыми бледной кожей, но я знала, что это впечатление ошибочно. Никогда еще я не чувствовала себя такой молодой, как сейчас. Я впитывала энергию окружающих, как подсолнух накапливает солнечный свет, и знала, что вскоре смогу подняться со своего ложа, воскрешенная этой лучистой энергией, которая питала меня день за днем.* * *
Ночью меня посетила ужасная мысль: «Боже мой, неужели таким образом и Нине удалось ожить после смерти?» Если, претерпев кислородную смерть небольшого участка собственного мозга, мне удалось увеличить свою Способность, расширив ее до невиданных пределов, разве не могла Нина, с ее гораздо большими ресурсами, за ту долю секунды, которая последовала за моим выстрелом, воскреснуть из мертвых? Чем отличалась ее дырочка во лбу от моего собственного инсульта? По прошествии часов и даже дней после нашей стычки Нинино сознание могло переместиться в сознание других людей. За последние годы я довольно много читала о том, как жизнь в людях поддерживается с помощью разнообразной аппаратуры, которая заменяет, стимулирует или воспроизводит функции сердца, почек и еще бог знает чего. Поэтому я не видела никакого противоречия в том, что Нинина Способность могла продолжить свое существование в чьем-то чужом мозгу. «Нина разлагается в гробу, тогда как ее Способность дает возможность сознанию скользить во тьме бесформенным зловещим духом. Голубые Нинины глаза выпирают из глазниц под напором белых личинок, сжирающих ее мозг, но он все равно восстанавливается. Энергия всех Использованных ею возвращается обратно в ее тело, и скоро Нина восстанет в том же лучезарном блеске юности, силу которой я ощущаю теперь в себе. Только труп Нины будет двигаться во сне». Явится ли она сюда снова? В ту ночь никто из моей «семьи» не спал. Одни сидели со мной, другие заслоняли меня от страшной тьмы за окном, и все же уснуть я не могла.* * *
Миссис Ходжес никак не хотела продавать свой дом до тех пор, пока доктор Хартман не предложил ей совершенно несусветную сумму. Я могла вмешаться в их переговоры, но, поглядев на миссис Ходжес, предпочла этого не делать. Прошло всего пять месяцев с того дня, как «в результате несчастного случая» погиб ее муж Джордж, но она за этот короткий срок постарела не меньше чем на двадцать лет. Прежде миссис Ходжес всегда тщательно следила за своими волосами и подкрашивала их вызывающей рыжей краской, теперь же ее волосы висели неубранными седыми прядями. Взгляд ее стал беспокойным. Она всегда была некрасива, но теперь даже не пыталась скрыть свои морщины и складки косметикой. Мы выплатили запрошенную ею сумму. Вскоре деньги перестанут быть для нас проблемой, к тому же, еще раз пристально взглянув на миссис Ходжес, я подумала о том, что в будущем смогу найти ей другое применение.* * *
Весна наступила незаметно, как это всегда бывает на моем любимом юге. Иногда я позволяла Калли выносить меня на руках в комнату для шитья, а раз – всего один раз – он вынес меня во двор, чтобы я отдохнула в шезлонге и посмотрела, как чернокожий юноша вскапывает землю в саду. Калли, Говард и доктор Хартман обнесли весь двор высоким забором высотой десять футов, так что я не боялась посторонних, мне просто вредно было принимать солнечные ванны. Гораздо приятнее было разделять чувства с Джастином, когда он играл на траве или присоединялся к мисс Сьюэлл, загоравшей на патио. Дни становились все длиннее и теплее. Ко мне в открытые окна долетал аромат свежей зелени. Иногда мне казалось, что я слышу визг и смех внучки миссис Ходжес и ее подруги, но потом я поняла, что, скорее всего, это совсем другие дети, живущие по соседству. Днем пахло свежескошенной травой, а ночью – медом. Благословенный мой юг! Я чувствовала себя в безопасности…Глава 44
Беверли-Хиллз
Четверг, 23 апреля 1981 г.
В четверг после полудня Тони Хэрод лежал в роскошной по-королевски постели в отеле «Хилтон» и размышлял о любви. Эта тема его никогда особенно не интересовала. Хэрод полагал, что любовь – это фарс, чреватый тысячью банальностей. Она оправдывала ту ложь, самообман и лицемерие, которые процветали в отношениях между полами. Тони гордился тем, что спал с сотнями женщин, и никогда не делал вид, что влюблен в них, хотя, возможно, в те последние секунды, когда они ему отдавались, в момент оргазма он и испытывал нечто напоминавшее любовь. Теперь же Тони Хэрод был влюблен, кажется, по-настоящему. Он поймал себя на том, что постоянно думает о Марии Чэнь. Его пальцы и губы хранили подробную память о ее теле, повсюду ему чудился ее сладкий, неповторимый запах. Ее темные волосы, карие глаза и нежная улыбка витали в его сознании как некий бестелесный образ, скользящий на периферии реальности, – образ был хрупким и растворялся при едином повороте головы. Одно ее имя, произнесенное вслух, вызывало в нем странные и необъяснимые чувства. Хэрод закинул руки за голову и уставился в потолок. Скомканные простыни еще хранили острый аромат секса, из ванной доносился плеск воды. Днем Хэрод и Мария Чэнь по-прежнему продолжали заниматься своими делами. Каждое утро, пока он лежал в джакузи, она приносила ему почту, отвечала на телефонные звонки, писала письма под его диктовку, затем ездила на студию на съемки «Торговца рабынями» или на просмотр эпизодов, отснятых накануне. В связи с профсоюзными проблемами съемки были перенесены в «Парамаунт», и Хэрод был рад, что мог наблюдать за работой, не покидая дом на долгое время. Накануне он смотрел пробы с Джанет Делакурт – двадцативосьмилетней коровой, взятой на роль семнадцатилетней нимфетки, и вдруг представил в главной роли Марию Чэнь, неуловимую смену ее настроений вместо грубых эмоциональных всплесков Делакурт, ее чувственную и смуглую наготу вместо бледного тяжелого тела. После Филадельфии Тони и Мария Чэнь лишь трижды занимались любовью – совершенно необъяснимое для Хэрода воздержание, возбуждавшее в нем такую страсть, что она уже переходила из сферы физической в психологическую. Бо́льшую же часть дня он думал о Марии. Ему доставляло удовольствие даже то, как она двигается по комнате. Плеск воды в ванной прекратился, до Хэрода донеслись приглушенные шорохи и гудение фена. Он попробовал представить себе жизнь с Марией Чэнь. У них было достаточно денег, так что они могли спокойно собраться и уехать куда-нибудь и прожить без каких-либо проблем в течение двух-трех лет. Хэроду всегда хотелось все бросить, найти небольшой островок на Багамах или где-то еще и посмотреть, удастся ли ему написать что-нибудь стоящее, кроме дешевых киношных эпизодов. Он представлял себе, как отсылает Баренту и Кеплеру записку с советом убираться ко всем чертям и исчезает. Видел, как Мария Чэнь идет по берегу в своем синем купальнике и как они вдвоем пьют кофе с круассанами, любуясь восходом. Тони Хэроду нравилось быть влюбленным. Джанет Делакурт вышла из ванной комнаты обнаженной и встряхнула головой так, что ее длинные белокурые волосы рассыпались по плечам. – Тони, малыш, сигаретки не найдется? – Нет. Хэрод открыл глаза и увидел лицо, как у потасканной пятнадцатилетки, и грудь такого размера, что Расс Мейер[54] обкончался бы. Джанет снялась в трех фильмах, но ее актерские способности, слава богу, так и остались нераскрытыми. Кинодива была замужем за шестидесятитрехлетним техасским миллионером, который купил ей чистопородного скакуна и роль оперной примадонны, над которой в течение нескольких месяцев потешался весь Хьюстон. Теперь же миллионер скупал для нее Голливуд. Режиссер «Торговца рабынями» Шу Уильямс неделю назад в баре заявил Хэроду, что Делакурт и падение со скалы не сможет изобразить – даже если ее оттуда столкнуть. В ответ Хэрод напомнил ему, из каких источников была получена треть бюджета в девять миллионов долларов, и предложил в пятый раз переписать сценарий, чтобы избавиться от тех эпизодов, в которых Джанет должна была делать нечто, выходящее за пределы ее возможностей – например, говорить, – заменив это парой постельных сцен. – Кажется, у меня есть в сумочке. – И Джанет принялась копаться в холщовой сумке, превышавшей по размерам ту, которую Хэрод обычно брал с собой в путешествия. – У тебя ведь сегодня пересъемка эпизода в сериале с Дерком, так? – спросил он. – Угу. – Она затолкала в рот жвачку и принялась жевать ее, не вынимая сигареты изо рта. – Шу сказал, что лучше, чем сняли во вторник, все равно уже не снимем. – Она легла на живот, опершись на локти и прижавшись к бедру Хэрода грудями. Они выглядели как тяжелые дыни на прилавке фруктового лотка. Хэрод закрыл глаза. – Тони, малыш, это правда, что оригинал пленки хранится у тебя? – Какой пленки? – Ну, ты знаешь. Той, где малышка Шейла Баррингтон дергает какого-то хера за хер. – Ах этой… – О господи, за последние несколько месяцев я видела эту десятиминутную запись уже минимум в шестидесяти домах. Такое ощущение, что люди никак не насмотрятся. Но ведь у нее же вообще нет сисек! Хэрод промычал что-то невразумительное. – Я видела ее на том благотворительном вечере. Ну, знаешь, который устраивался для детей, больных… как это там называется?.. Она сидела за столом с Дрейфусом, Клинтом и Мерил и изображала из себя чуть ли не святую. Понимаешь, о чем я? А теперь, когда над ней все стали смеяться, она выглядит так глупо. – Над ней действительно стали смеяться? – Конечно. Знаешь, Дон – он так смешно умеет говорить. Он подошел к Шейле и сказал что-то вроде: «Мы удостоены присутствия одной из прелестнейших русалок с тех пор, как Эстер Уильямс[55] забросила свою купальную шапочку…» Так у тебя есть? – Что? – Оригинал этой записи? – Какая разница, у кого оригинал, если копии разошлись по всему городу? – Тони, малыш, мне просто интересно, вот и все. Я считаю, это хорошая месть за то, что Шейла дала тебе от ворот поворот с «Торговцем гусынями» и вообще. – «Торговец гусынями»? – Ну, Шу так называет этот фильм. Вроде как Крис Пламмер всегда называет «Звуки музыки» «Звуками пузика», знаешь? Мы все так говорим. – Забавно, – пробормотал Хэрод. – А кто сказал, что Баррингтон предлагали там роль? – Ну, малыш, всем известно, что ей первой предложили. Я думаю, если бы наша мисс Недотрога подписала контракт, фильм получился бы гораздо хуже. – Джанет загасила сигарету. – А теперь она вообще ничего не может получить. Я слышала, что диснеевская группа отказалась от большого мюзикла с ее участием, а Донни и Мари вышвырнули ее из этого спецвыпуска, который делали на Гавайях. Ее старая мормонская мамаша подергалась-подергалась и получила инфаркт или типа того. Вот так. – Джанет принялась елозить грудью по его ноге и бедру. Хэрод отстранил ее и сел на край кровати. – Пойду приму душ. Ты пока не уйдешь? Джанет Делакурт перекатилась на спину и наградила его улыбкой: – А ты очень хочешь, чтобы я осталась? – Не особенно, – признался он. – Ну и хрен с тобой, – без всякой враждебности в голосе произнесла Джанет. – Я прогуляюсь по магазинам.* * *
Через сорок минут Хэрод вышел из «Хилтона» и протянул ключи служащему отеля в красном пиджаке и белых брюках. – Которую сегодня, мистер Хэрод? – поинтересовался тот. – «Мерседес» или «феррари»? – Давай «мерседес», Джонни, – бросил Хэрод. – Сейчас, сэр. Тони сощурился и принялся рассматривать сквозь темные очки пальмы и синее небо. На его взгляд, скучнее пейзажа, чем в Лос-Анджелесе, не было нигде в мире. Разве что в Чикаго, где он вырос. К нему подкатил «мерседес», и Хэрод уже протянул руку с пятидолларовой банкнотой, когда увидел в салоне улыбающееся лицо Джозефа Кеплера. – Садись, Тони, – произнес Кеплер. – Надо кое о чем поговорить.* * *
Они направились к каньону Колдуотер. Хэрод не спускал с Кеплера глаз. – Охрана в «Хилтоне» действительно становится паршивой, – заметил он. – Теперь в твоей машине может оказаться любой уличный бродяга. Губы Кеплера дернулись в улыбке. – Джонни меня знает, – пояснил он. – Я сказал ему, что это розыгрыш. Хэрод ухмыльнулся в ответ. – Мне надо поговорить с тобой, Тони. – Ты уже сказал это. – А ты у нас юморист, да, Тони? – Хватит молоть языком! – оборвал его Хэрод. – Если тебе есть что сказать, говори. Кеплер на огромной скорости вел «мерседес» по дороге, петлявшей вдоль каньона, и придерживал руль одной рукой. – Твой дружок Вилли сделал еще один ход, – многозначительно сообщил он. – Притормози-ка, – попросил Хэрод, – побеседуем здесь. Но если ты еще раз назовешь его моим дружком, мне придется вогнать тебе зубы в глотку. Понял, Джозеф? Кеплер искоса взглянул на Хэрода и усмехнулся краешками губ. – Вилли сделал следующий ход, и теперь на него надо отвечать. – Что он вытворил на этот раз? Трахнул жену президента или еще кого-то? – Нет, нечто более серьезное и драматичное. – Мы что, так и будем играть в вопросы и ответы? – В конце концов, не важно, что он сделал, в газетах ты об этом не прочтешь, но это что-то такое, что Барент не может оставить без внимания. То есть твой… то есть Вилли намерен повышать ставки, и нам придется отвечать ему тем же. – Переходим к тактике выжженной земли? – поинтересовался Хэрод. – Будем убивать каждого американского немца старше пятидесяти пяти лет от роду? – Нет, мистер Барент намерен вступить в переговоры. – А как вы собираетесь это сделать, если даже не можете найти старого негодяя? – Хэрод поглядел на крутые склоны, окутанные туманом. – Или вы по-прежнему считаете, что я поддерживаю с ним связь? – Нет. – Кеплер покачал головой. – Зато я поддерживаю. Хэрод вздрогнул от неожиданности и выпрямился. – С Вилли? – удивился он. – А мы о ком говорим? – Где… как ты отыскал его? – Я его не искал. Я написал ему. Он ответил. Мы поддерживаем весьма приятную деловую переписку. – И куда же ты отправил свое письмо? – В его домик в лесах Баварии. – В Вальдхайм? Старый особняк возле чешской границы? Но там же нет ни души! Люди Барента следят за ним с декабря, когда я еще был там. – Верно, – откликнулся Кеплер, – но сторожа продолжают присматривать за домом. Немцы, отец и сын по фамилии Мейер. Мое письмо не вернулось, а через несколько недель я получил ответ от Вилли. Проштамповано во Франции. Второе письмо было из Нью-Йорка. – И что он пишет? – спросил Хэрод, чувствуя, как его охватывают злость и волнение. – Вилли пишет, что хочет вступить в Клуб и отдохнуть этим летом на каком-нибудь острове. – Ну и ну! – воскликнул Хэрод. – И знаешь, я ему верю, – продолжил Кеплер. – Думаю, его обидело то, что мы не пригласили его раньше. – А еще то, что вы подстроили ему авиакатастрофу и натравили на него его старую подружку Нину. – Возможно, это тоже, – кивнул Кеплер. – Но мне кажется, он готов забыть старые обиды. – А что говорит Барент? – Мистер Барент не знает, что я нахожусь в контакте с Вилли. – О господи! – выдохнул Хэрод. – А не слишком ли ты рискуешь, Джозеф? Кеплер ухмыльнулся: – Он неплохо обработал тебя, да, Тони? Нет, я не слишком рискую. Барент не сделает ничего ужасного, даже если узнает об этом. После исчезновения Чарльза и Нимана коалиция К. Арнольда потеряла былую силу и прочность. Не думаю, что Барент хочет развлекаться на острове один. – Ты собираешься сказать ему? – Да, – ответил Кеплер. – Я полагаю, после вчерашнего происшествия он будет только благодарен, что мне удалось связаться с Вилли. Барент согласится на включение старика в летние забавы, если удостоверится, что это безопасно. – А это может быть безопасным? – удивился Хэрод. – Неужели ты не понимаешь, на что способен Вилли? Этот старый сукин сын не остановится ни перед чем. – Вот именно, – согласился Кеплер. – Но, думаю, мне удалось убедить нашего бесстрашного вождя, что гораздо безопаснее иметь Вилли при себе, где за ним можно наблюдать, пока он не истребил нас поодиночке. К тому же Барент продолжает тешить себя надеждой, что ни один человек, с которым он вступил в… э-э-э… личный контакт, не представляет угрозы для него. – Ты считаешь, он сможет нейтрализовать Вилли? – А ты как считаешь? – с неподдельной заинтересованностью спросил Кеплер. – Не знаю. – Хэрод пожал плечами. – Способность Барента представляется мне уникальной. Что же касается Вилли… я не уверен в том, что он обычный человек. – Это не имеет никакого значения, Тони. – Что ты хочешь сказать? – Я хочу сказать, что, возможно, Клуб Островитян нуждается в смене исполнительного руководства. – Ты намекаешь на отставку Барента? И как это можно сделать? – Нам ничего не надо будет делать, Тони. Единственное, что мы должны, – это продолжать поддерживать связь с нашим корреспондентом Вильгельмом фон Борхертом и постараться убедить его, что мы займем нейтральную позицию в случае каких-либо… неприятностей на острове. – Вилли будет участвовать в проведении летнего лагеря? – В последний вечер общих мероприятий, – кивнул Кеплер. – А затем пробудет с нами всю следующую неделю, чтобы поучаствовать в охоте. – Сомневаюсь, что Вилли вот так запросто отдастся во власть Баренту, – заметил Хэрод. – У Барента сколько там… сотня охранников? – Скорее, две сотни, – уточнил Кеплер. – С такой армией даже Вилли не сладит. С чего он будет подставлять себя? – Барент даст честное слово, что обеспечит Вилли безопасный проход. Хэрод рассмеялся. – Ну, тогда, я думаю, все в порядке. Если Барент даст свое слово, тогда уж Вилли наверняка положит голову на плаху, – съязвил он. Кеплер ехал по Малхолланд-драйв. Ниже виднелось еще одно шоссе. – Но ты же представляешь себе альтернативу, Тони? Если Барент уничтожит старика, мы просто вернемся к своим делам, только ты будешь уже полноправным членом. Если же у Вилли в кармане есть какой-нибудь сюрприз, мы с распростертыми объятиями примем его к себе. – Ты уверен, что сможешь сосуществовать с Вилли? – поинтересовался Хэрод. Кеплер свернул на стоянку возле амфитеатра Голливуд-Боул, где стоял серый лимузин с тонированными стеклами. – Поживешь с гадюками столько, сколько пожил я, Тони, – заметил он, – и поймешь: не так уж важно, что за яд у новой змеи в клубке, главное, чтобы она не кусала соседок. – А как насчет Саттера? Кеплер заглушил мотор «мерседеса». – Перед приездом сюда у меня был долгий разговор с преподобным. При всей давности и глубине его дружбы с Кристианом, он все же не сомневается, что кесарю – кесарево. – То есть? – То есть надо заверить Вилли, что Джимми Уэйн Саттер не будет возражать, если портфель мистера Барента перейдет в другие руки. – Знаешь что, Джозеф, – сказал Хэрод. – Ты не умеешь выразить ни одной простой мысли, даже когда от этого зависит твоя жизнь. Кеплер улыбнулся и открыл дверцу машины: – Ты с нами или нет, Тони? – Если быть с вами означает сидеть тихо и не влезать в это дерьмо, то да, – ответил Хэрод. – Мысль выражена достаточно просто и ясно, – с улыбкой похвалил Кеплер. – Твой дружок Вилли хочет знать, на чьей ты стороне. Хэрод окинул взглядом залитую солнцем стоянку, повернулся к Кеплеру и устало произнес: – Я с вами.* * *
Было уже почти одиннадцать вечера, когда Хэрод решил съесть парочку хот-догов с горчицей и луком. Он отложил в сторону переписанный сценарий, над которым работал, и отправился в западное крыло дома. Из-под дверей комнаты Марии Чэнь все еще виднелась полоска света. Он дважды постучался: – Я собираюсь в «Пинкс». Хочешь со мной? Ее голос прозвучал приглушенно, словно она говорила из ванной. – Нет, спасибо. – Ты уверена? – Да. Хэрод натянул кожаный пиджак и вывел из гаража «феррари». Он получал удовольствие от быстрой езды, от резкого переключения скоростей и гонки с соперниками, которые имели наглость соревноваться с ним на бесконечном бульваре. «Пинкс», как всегда, был переполнен. Хэрод съел два хот-дога за стойкой, а третий прихватил с собой. Между темным фургоном и его машиной стояли какие-то подростки. Один из них даже облокотился на «феррари», беседуя с двумя девушками. Хэрод подошел к нему. – Проваливай, парень, а то тебе не поздоровится, – бросил он. Мальчишка был на шесть дюймов выше Тони, но отскочил от «феррари» так, будто случайно прикоснулся к раскаленной плите. Вся четверка медленно двинулась прочь, время от времени оглядываясь на Хэрода и дожидаясь того момента, когда расстояние станет достаточно безопасным, чтобы можно было облить его потоками ругани. Хэрод оценивающим взглядом посмотрел вслед двум девицам. Та, что пониже, была очень хороша – черноволосая, смуглая, в дорогих шортах и обтягивающей майке, которая, казалось, сдавливала ее полную грудь. Он представил себе, как удивятся ее приятели, если она вдруг развернется и залезет к нему в «феррари»… Но сегодня он слишком устал. Сев за руль, Тони доел третий хот-дог, запил его остатками кока-колы и уже включил зажигание, когда вдруг послышался тихий голос: – Мистер Хэрод. Дверь стоящего рядом фургона открылась, на пассажирском сиденье, свесив длинные ноги, сидела чернокожая красотка. Хэрод уловил что-то знакомое в ее чертах и механически улыбнулся, вспоминая, где и при каких обстоятельствах он ее видел. Девушка держала на коленях какой-то предмет, обхватив его руками. Хэрод захлопнул дверцу и уже собрался тронуться с места, когда раздался легкий хлопок, какой издавали глушители в его бесчисленных шпионских фильмах, и в его левое плечо впилось что-то острое. – Черт! – воскликнул он, поднял правую руку, чтобы пощупать плечо, но тут перед его глазами все поплыло, и приборная панель врезалась ему в лицо.* * *
Окончательно сознания Хэрод не потерял, но ощущения, испытываемые им, весьма напоминали беспамятство. Казалось, его заперли в подвале собственного тела. Звук и изображение доносились смутно, будто Хэрод смотрел передачу отдаленной дециметровой станции по дешевому черно-белому телевизору, а из соседней комнаты вещало искаженное помехами радио. Затем кто-то накрыл его голову капюшоном. Он ощутил легкую качку, словно находился на борту маленькой шлюпки, но это ощущение было расплывчатым и недостоверным. Потом его куда-то понесли, по крайней мере так ему казалось. Возможно, он сам схватил себя руками за ноги, хотя нет, руки его были крепко связаны сзади чьим-то ремнем. Прошло еще сколько-то времени. Хэрод пребывал в прострации, плавая где-то внутри себя в приятном омуте обманчивых ощущений и сбивчивых воспоминаний. Откуда-то издалека до него доносились два голоса. Один из них явно принадлежал ему, но разговор – если это был разговор – вскоре надоел ему, и он снова погрузился в темноту с той же пассивной безучастностью, с какой тонущий ныряльщик позволяет течению увлечь себя в бездну. Тони Хэрод осознавал, что с ним происходит что-то нехорошее, но ему было на это глубоко наплевать.* * *
Его разбудил свет. Свет и боль в запястьях. И еще одна нестерпимая боль, которая заставила его вспомнить «Чужих» Ридли Скотта, когда тварь вылезает из груди бедного сукина сына. Кто его играл? Ах да, Джон Херт. Что это за свет режет ему глаза? И почему так болят запястья? Что такое он пил накануне, если в голове у него все перемешалось?.. Хэрод попытался сесть и вскрикнул от боли. Этот крик, казалось, разорвал пленку, отделяющую его от окружающего мира, и он начал обращать внимание на то, что еще совсем недавно казалось неважным. Он находился в постели. Правая рука лежала на подушке, прикованная наручниками к мощному металлическому изголовью кровати. Левая рука вытянулась вдоль тела, и ее наручник был прикреплен к какой-то неподвижной части, находящейся под матрасом. Хэрод попытался поднять левую руку и услышал металлический скрежет. Значит, к остову или к трубе. Или еще к чему-нибудь. Он пока был не в состоянии повернуть голову, чтобы убедиться. Возможно, ему удастся сделать это позднее. Черт, с кем он провел ночь? У Хэрода было несколько подружек с садомазохистскими наклонностями, но он никогда не позволял себе оказываться в роли жертвы. Слишком много выпил? Или Вита наконец затащила его в свою комнату наслаждений? Хэрод открыл глаза и, невзирая на боль, доставляемую режущим светом, заставил себя не закрывать их больше. Белая комната, белая кровать, простыни, медные спинки, тоже зачем-то выкрашенные в белый цвет, на противоположной стене маленькое зеркало в белой крашеной раме, дверь. Белая дверь с белой ручкой. С потолка на белом шнуре свисает единственная голая лампочка – ватт эдак миллионов на десять, вон как глаза режет. Сам он лежал почему-то в белой больничной рубашке. Он ощутил разрез на спине и почувствовал, что, кроме рубашки, на нем ничего нет. Ладно, не Вита. Она все больше по камню и бархату. У кого из его знакомых эдакий медицинский сдвиг? Вроде бы ни у кого. Хэрод пошевелил кистями и ощутил под наручниками свежие ссадины. Он чуть наклонился влево и посмотрел вниз. Белый пол. Левое запястье приковано к белому металлическому остову кровати. Больше двигаться было незачем. Разве что накатит приступ тошноты, и тогда он заплюет весь этот чистенький белый пол. Это надо было обдумать. На какое-то время Хэрод погрузился в забытье. Когда он пришел в себя, горел все тот же режущий глаза свет, он находился все в той же белой комнате, разве что голова стала болеть чуть меньше. Тогда Тони вспомнил о психиатрических клиниках. Неужели кто-то умудрился затолкать его в подобное местечко? Но в психушках больным не надевают наручники. Или надевают? Его охватил такой ужас, что он начал брыкаться и дергаться, пока полностью не обессилел. Барент, Кеплер, Саттер – эти сукины дети куда-то упрятали его, и теперь остаток жизни он проведет, глядя на белые стены и оправляясь под себя?! Нет, эти негодяи не стали бы так поступать. Они бы просто убили его. А потом Тони вспомнил «Пинкс», подростков, фургон и черную девушку. Да, это была она. Что о ней говорил Колбен в Филадельфии? Они считали, что ее и шерифа Использует Вилли. Но шериф погиб… Хэрод присутствовал, когда Кеплер и Хейнс подкинули его тело на автовокзал в Балтиморе, чтобы его не связали с их фиаско в Филадельфии. А кто Использует девушку теперь? Вилли? Возможно, он не удовлетворился посланием, которое отправил Кеплер. Но к чему это все? Хэрод решил пока ни о чем не думать. Этот процесс был слишком болезненным. Лучше подождать, когда появится кто-нибудь. Если придет чернокожая красотка и окажется, что Вилли или кто-то другой держит ее не слишком крепко, можно будет устроить для них небольшой сюрприз.* * *
Тони нестерпимо хотелось в туалет, и он кричал уже несколько минут, когда дверь наконец открылась и в комнату вошел мужчина. На нем был зеленый хирургический костюм, на голове – шапочка-балаклава с зеркальными очками вместо глаз. Хэрод вспомнил о солнцезащитных очках Кеплера, а потом об убийце в сериале «Вальпургиева ночь», который они снимали вместе с Вилли, и чуть было тут же не обмочился. Но это был не Вилли. Хэрод сразу это понял. Не походил он и на Тома Рейнольдса – пешку Вилли с пальцами душителя. Впрочем, это не имело значения. У Вилли было время набрать легионы новых пешек. Хэрод попытался проникнуть в него. Он действительно попытался, но в последнюю секунду его охватило уже знакомое ему отвращение, оказавшееся еще более сильным, чем недавняя тошнота и головная боль, и он оставил свои попытки. Хэрод готов был скорее вылизать чужую задницу или чужой пенис, что казалось ему менее интимным, чем вторгнуться в чужое сознание. От одной мысли об этом он вздрогнул и покрылся холодным потом. – Кто вы? Где я? – Слова звучали неразборчиво, он едва ворочал одеревеневшим языком. Мужчина подошел к кровати и глянул на Хэрода. Потом запустил руку под свою хирургическую куртку и вытащил револьвер. – Тони, – произнес он с мягким акцентом, целясь Хэроду в лоб, – я досчитаю до пяти, а потом выстрелю, так что если ты хочешь что-нибудь сделать – делай это сейчас. Хэрод напряг руки так, что кровать затрещала. – Раз… два… три… Мысли его заскакали как сумасшедшие, но тридцать лет самообработки не давали ему возможности вступить в контакт с мужчиной. – Четыре… Он закрыл глаза. – Пять. – Щелкнул взведенный курок, но выстрела не последовало. Когда Хэрод открыл глаза, мужчина уже стоял около двери, револьвера у него в руке не было. – Тебе что-нибудь нужно, Тони? – спросил он тихо, с небольшим акцентом. – Судно, – умоляюще прошептал Хэрод. Капюшон благосклонно качнулся. – Санитар сейчас принесет. Хэрод дождался, когда закроется дверь, и крепко зажмурился, пытаясь сосредоточиться. «Санитар… боже милостивый, пусть это будет не санитар, а санитарка… какая-нибудь дряхлая кошелка с большими сиськами и прорезью между ног».* * *
Вошла чернокожая. Та самая, из Филадельфии. Которая стреляла в него и доставила его сюда. Он вспомнил, что девушку звали Натали. У него к ней накопился большой счет. Она была без капюшона, зато к вискам белым пластырем были прикреплены какие-то тонкие провода, прячущиеся в ее вьющихся волосах. В руках у нее было судно, которое она профессионально установила под тело Хэрода и отошла в сторону. Еще облегчаясь, Хэрод слегка скользнул по ее сознанию. Нет, девушку никто не Использовал. Он даже не мог поверить, что они оказались настолько глупыми, кем быони ни были. А может, их всего двое? Эта черная красотка и ее сообщник? Колбен, помнится, говорил, что они якобы охотятся за Мелани Фуллер. Вероятно, они не догадывались о том, на что он сам способен. Тони подождал, пока она не взяла судно и не направилась обратно к двери. Ему нужно было удостовериться, что дверь не заперта. Вилли вполне мог пошутить, оставив их взаперти, предоставить Хэроду возможность Использовать ее, а потом лишить его этой возможности. И что это за датчики в ее волосах? Тони видел такие в каких-то фильмах о больницах, но их закрепляли на пациентах, а не на сестрах. Девушка тем временем открыла дверь. Он вторгся в нее с такой силой и скоростью, что она выронила судно, и моча полилась по ее белой юбке. «Ну-ка, детка, достань мне ключи, – велел Хэрод, протолкнул ее сквозь дверной проем и осмотрелся ее глазами. – Любым способом убей этого мудилу, достань ключи и вытащи меня отсюда». За дверью виднелся небольшой коридорчик, упиравшийся в следующую дверь. Она была заперта. Он заставил Натали кидаться на дверь, пока не почувствовал, что у нее вывихнуто плечо, и тогда она стала царапать обшивку. Дверь не поддавалась. «К черту!» Хэрод приказал ей вернуться обратно в комнату. Вокруг не было ничего подходящего, что сгодилось бы в качестве оружия. Она подошла к кровати и стала дергать за наручники. Если бы она могла разломать кровать, разобрать ее на части… Но достаточно быстро это сделать невозможно, пока Хэрод остается прикованным к изголовью и раме одновременно. Он взглянул на себя глазами негритянки и увидел небритую щетину на бледных щеках, свои расширенные глаза и свалявшиеся волосы. Зеркало. Хэрод посмотрел в него и понял, что это тонированное стекло, обладающее односторонней прозрачностью. Если понадобится, он заставит Натали разбить его голыми руками. А если и оттуда не будет выхода, он заставит ее использовать осколки, чтобы прикончить того типа в капюшоне. Он сделает так, что она будет биться физиономией о стекло до тех пор, пока от ее лица не останется ничего, кроме обвисших ошметков черной кожи. Уж он-то постарается устроить шоу для тех, кто наблюдает за ним с противоположной стороны. Когда же они войдут, она вцепится им в глотки и будет рвать их зубами и ногтями, выхватит у них оружие и добудет ключи… Дверь распахнулась, и в комнату снова вошел мужчина в балаклаве. Натали развернулась и присела, готовясь к прыжку. На лице ее появился оскал, который можно увидеть только в зоопарке на звериной морде, когда кормежка слишком долго откладывается. Вошедший выстрелил из какого-то странного пистолета и попал ей в бедро. Девушка прыгнула вперед, вытянув руки, но мужчина поймал ее и осторожно опустил на пол. Затем он встал рядом с ней на колени, взял ее запястье, чтобы проверить пульс, и, приподняв веко, заглянул в зрачок. Выпрямившись, врач подошел к кровати Хэрода. – Сукин сын! – произнес он дрожащим голосом, повернулся и вышел из комнаты. Через некоторое время он появился вновь, набирая в шприц какую-то жидкость из ампулы. – Это будет немного больно, мистер Хэрод, – тихим, сдавленным голосом произнес он, подходя к кровати. Хэрод попытался отдернуть левую руку, но мужчина воткнул иглу прямо ему в бедро через рубашку. В течение секунды Тони ощущал лишь немоту, а потом ему показалось, что кто-то внутривенно ввел ему шотландское виски. Пламя охватило его от бедер до груди. У Хэрода перехватило дыхание, когда жар подобрался к самому сердцу. – Что… что это? – прошептал он, осознавая, что человек в капюшоне убил его. Летальная инъекция, как называла это бульварная пресса. Хэрод всегда был сторонником смертной казни. – Что это? – Заткнись! – рявкнул мужчина и повернулся спиной, а тьма уже поглотила и кружила сознание Тони Хэрода, унося его прочь, как щепку в бушующем море.Глава 45
Окрестности Сан-Хуан-Капистрано
Пятница, 24 апреля 1981 г.
Натали выбралась из тумана анестезии и ощутила нежное прикосновение Сола, утиравшего ей лоб влажным полотенцем. Она бросила взгляд вниз, увидела, что ее руки и ноги связаны ремнями, и разрыдалась. – Ну-ну, – успокоил ее Сол, склонился ниже и поцеловал в лоб. – Все в порядке. – Как… – начала Натали, умолкла и облизнула губы. Они казались резиновыми и чужими. – Сколько? – Около получаса, – ответил Сол. – Возможно, мы слишком поскромничали с раствором. Натали покачала головой. Она вспомнила весь пережитый ужас, когда ее мозг снова подвергся насилию. Вспомнила, как готовилась прыгнуть на Сола. Она понимала, что в тот момент могла бы убить его голыми руками. – Быстро… – прошептала девушка. – А Хэрод? – Она с трудом заставила себя произнести это имя. – Первый допрос прошел очень удачно. Электроэнцефалограмма замечательная. Скоро он начнет выходить из этого состояния. Потому-то… – Он указал на ремни. – Я понимаю, – кивнула Натали. Она сама помогала оснастить кровать этими ремнями. Сердце у нее все еще колотилось от невероятного адреналинового выброса, происшедшего в то время, когда ее сознанием владел Хэрод, и от страха, который она испытывала перед тем, как войти к нему в комнату. Войти оказалось сложнее всего. – По-моему, картина весьма примечательная, – сказал Сол. – Согласно электроэнцефалограмме, он не пытался использовать ни тебя, ни меня, пока находился под воздействием пентотала натрия. Уже минут пятнадцать, как он выходит из этого состояния… показатели почти те же, что и сегодня утром. Больше он не пытался восстановить контакт с тобой. Я почти уверен, что для установления первоначального контакта или восстановления прерванного необходимо визуальное общение. Конечно, с обработанными субъектами картина будет выглядеть иначе, но не думаю, что он сможет сейчас Использовать тебя. Он должен тебя видеть. Натали изо всех сил старалась не расплакаться. Не то чтобы ремни ее очень стесняли, но они вызывали у нее неприятное чувство клаустрофобии. От электродов, закрепленных на голове, к телеметрической установке на ее груди сбегали маленькие проводки. Сол слышал об этой аппаратуре от своих коллег, занимавшихся изучением сна, поэтому смог точно указать Коэну, где ее приобрести. – Мы просто не знаем… – выдохнула Натали. – Мы знаем гораздо больше, чем двадцать четыре часа назад, – возразил Сол и вытянул две длинные бумажные ленты с записью ЭЭГ; самописец дикими каракулями отметил пики и падения. – Вот, посмотри. Видишь, сначала появляются эти периодические провалы в гипокампусе. Амплитуда волн постепенно уменьшается, практически сходит на нет, а затем переходит в состояние, которое можно квалифицировать как быстрый сон. А вот через три секунды, смотри… – Сол развернул вторую ленту, на которой пики и ровные участки почти идеально соответствовали тем, что были изображены на первой. – Полное совпадение. Ты лишилась всех функций высшей нервной деятельности, потеряла контроль над произвольными рефлексами, даже периферическая нервная система оказалась в полном подчинении Хэрода. Потребовалось четыре секунды на то, чтобы ты подключилась к его искаженному состоянию быстрого сна, или чем там оно является… Но, возможно, самая интересная аномалия – это то, что Хэрод начинает генерировать здесь тета-ритм. Это совершенно неоспоримо. И твой гипокампус реагирует идентично, а неокортикальная кривая начинает выравниваться. Этот тета-ритм хорошо исследован у кроликов, крыс и подобных млекопитающих во время их специфически видовой деятельности – состояния агрессии, процесса завоевания лидирующего положения, но он никогда не наблюдался у приматов! – Ты хочешь сказать, что у меня мозг как у крысы? – спросила Натали. Это была неудачная шутка, и ей снова захотелось плакать. – Каким-то образом Хэрод и, вероятно, все остальные генерируют в собственном гипокампусе и в гипокампусе своей жертвы этот редчайший тета-ритм, – объяснил Сол, в основном обращаясь к самому себе. Он даже не обратил внимания на попытку Натали пошутить. – Значит, это процесс с одновременной генерацией искусственного состояния быстрого сна. Ты получаешь сигналы органов чувств, но не можешь действовать в зависимости от них, а Хэрод может. Невероятно! – Он указал на резкое распрямление кривой на энцефалограмме Натали. – Это тот самый момент, когда начали действовать нервные токсины из ампулы с транквилизатором. Обрати внимание на отсутствие взаимовлияния: все его желания совершенно очевидно передаются твоему организму с помощью нейрохимических команд, твои же ощущения лишь частично воспринимаются Хэродом. Твоя боль или ощущение парализованности воспринимается им не более чем во сне. А вот через сорок восемь секунд, когда я ввел ему аметил с пентоталом… – Сол показал Натали место, где судорожные рывки линий трансформируются в мягкие волны. – Господи, чего бы я только не отдал, чтобы поработать с ним месяцок в своей лаборатории. – Сол, а что, если я… что, если ему удастся восстановить контроль надо мной? Ласки поправил очки. – Я сразу зарегистрирую этот момент, даже не глядя на записи приборов. Я запрограммировал компьютер на сигнал тревоги при появлении первых же признаков этой лихорадочной деятельности его гипокампуса, внезапного провала твоих альфа-ритмов или проявления тета-ритма у него. – Да, – вздохнула Натали, – но что ты тогда станешь делать? – Мы продолжим наши исследования, как и планировали, – ответил Сол. – С помощью купленных Джеком датчиков мы можем передавать сигнал на расстояние до двадцати пяти миль. – А что, если он способен влиять на сотню миль, на тысячу? Натали старалась сохранять спокойствие, хотя ей с трудом это удавалось. Вдруг он никогда не отпустит ее? Ей казалось, что она согласилась на какой-то медицинский эксперимент, позволив внедрить в свое тело отвратительного паразита. Сол взял ее за руку: – Пока мы должны апробировать диапазон в двадцать пять миль. Если потребуемся, мы вернемся, и я снова введу ему пентотал. Нам уже известно, что он не может контролировать свое поведение, когда находится без сознания. – Он никогда не сможет его контролировать, если умрет! – зло бросила Натали. Сол кивнул и сжал ее руку: – Сейчас он очнулся. Подождем минут сорок, и, если он не предпримет попытки завладеть тобой, ты сможешь встать. Что касается меня, то я не верю, что наш мистер Хэрод сможет это сделать. Каковы бы ни были источники способностей этих монстров, все предварительные данные свидетельствуют, что Энтони Хэрод – самый безопасный из них. Он налил в чашку воды и напоил Натали, приподняв ее голову. – Сол… а после того, как ты освободишь меня, ты не станешь отключать сигнал тревоги у компьютера? – Нет. – Он покачал головой. – До тех пор пока у нас в доме эта гадюка, будем держать ее в клетке.* * *
«Второй допрос Энтони Хэрода. Пятница, 24 апреля 1981 г. 7 часов 23 минуты. Субъект временно находится под воздействием пентотала натрия и мелиритина С. Данные регистрируются также с помощью видеозаписи, ЭЭГ на многоканальном осциллографе и по каналам биодатчиков». – Тони, ты меня слышишь? – Да. – Как ты себя чувствуешь? – Смешно. – Тони, когда ты родился? – А? – Когда ты родился? – Семнадцатого октября. – В каком году, Тони? – Э-э-э… в сорок четвертом. – Значит, сколько тебе сейчас лет? – Тридцать шесть. – Где ты вырос, Тони? – В Чикаго. – Когда ты впервые осознал, что владеешь этими силами? – Какими силами? – Силами диктовать свою волю другим людям. – Ах этими… – Когда это произошло впервые, Тони? – Когда тетя велела мне ложиться в постель. Я не хотел спать, и тогда я заставил ее позволить мне не ложиться. – Сколько тебе было лет? – Не знаю. – Ну, как ты думаешь, Тони? – Лет шесть. – А где были твои родители? – Отец к тому времени уже умер – он покончил с собой, когда мне было четыре года. – А твоя мать? – Она не любила меня. Она сердилась на меня и отдала тете. – А почему она не любила тебя? – Она считала, что это я виноват. – В чем виноват? – В смерти отца. – Почему она так считала? – Потому что перед тем, как выпрыгнуть, отец ударил меня… сделал мне больно. – Выпрыгнул? Он выбросился из окна? – Да. Мы жили на высоком третьем этаже, и отец упал на ограду с острыми пиками. – Отец часто бил тебя, Тони? – Да. – Ты помнишь это? – Сейчас помню. – Ты помнишь, за что он избил тебя в тот вечер, когда выбросился из окна? – Да. – Расскажи мне об этом. – Мне было страшно. Я спал в передней комнате, где стоял большой шкаф. Я проснулся и испугался. Как всегда, пошел в мамину комнату. Только там оказался папа. Обычно его там не было, потому что он занимался продажей вещей и часто отсутствовал, а в тот раз он оказался дома, и он делал маме больно. – Как именно? – Он лежал на ней голым и делал ей больно. – И как ты поступил, Тони? – Я закричал, чтобы он перестал. – А больше ты ничего не делал? – Нет. – Что произошло дальше? – Папа… перестал. Вид у него был страшный. Он вытащил меня в гостиную и ударил ремнем. Он действительно больно ударил меня. Мама сказала ему не делать этого, но он продолжал меня бить. Было очень больно. – И ты заставил его остановиться? – Нет! – Что произошло дальше, Тони? – Внезапно папа перестал меня бить. Он поднял голову и пошел какой-то странной походкой. Посмотрел на маму. Она уже не плакала. На ней была папина фланелевая рубашка. Она часто ее надевала, когда его не было дома, потому что она теплая. А потом он подошел к окну и шагнул наружу. – Окно было закрыто? – Да. На улице было очень холодно. А ограда была новой. Домовладелец установил ее перед самым Днем благодарения. – И через сколько времени после этого ты перебрался жить к тете, Тони? – Через две недели. – Почему ты решил, что мать сердится на тебя? – Она сама сказала. – Что она сердится? – Что я причинил боль папе. – Что ты заставил его выпрыгнуть? – Да. – А ты заставлял его, Тони? – Нет! – Ты уверен? – Да! – Тогда откуда же твоя мать знала, что ты можешь заставлять людей делать разные вещи? – Не знаю! – Нет, знаешь, Тони. Подумай. Ты уверен, что впервые использовал свои силы, когда заставил тетю позволить тебе не ложиться в кровать? – Да! – Ты уверен? – Да! – Тогда почему твоя мать считала, что ты способен на такие вещи, Тони? – Потому что она сама умела это делать! – Твоя мать умела управлять людьми? – Да. Она всегда это делала. Она заставляла меня садиться на горшок, когда я был маленьким, молчать, когда я хотел плакать. Она заставляла отца делать для нее разные вещи, когда он был дома, поэтому он все время уходил. Это она сделала! – Она заставила его выпрыгнуть из окна в тот вечер? – Нет, она заставила меня заставить его выпрыгнуть.* * *
«Третий допрос Энтони Хэрода. Пятница, 24 апреля. 8 часов 7 минут». – Тони, кто убил Арона Эшколя и его семью? – Кого? – Израильтянина. – Израильтянина? – Тебе должен был об этом рассказать мистер Колбен. – Колбен? Нет, мне об этом говорил Кеплер. Да, точно. Парень из посольства. – Да, парень из посольства. Кто его убил? – С ним ездила разбираться команда Хейнса. – Ричарда Хейнса? – Да. – Агента ФБР? – Да. – Хейнс лично убил семью Эшколя? – Думаю, да. Кеплер сказал, что он возглавлял команду. – А по чьему распоряжению была проведена эта операция? – Э-э-э… Колбена… Барента. – Так кого именно, Тони? – Какая разница? Колбен – просто марионетка Барента. Можно я закрою глаза? Я очень устал. – Да, Тони, закрой глаза. Поспи, а потом мы еще побеседуем.* * *
«Четвертый допрос Энтони Хэрода. Пятница, 24 апреля. 10 часов 16 минут. Внутривенно введен пентотал натрия. В 10:04 повторно введен амобарбитал натрия. Данные зарегистрированы в видеозаписи на многоканальном осциллографе, энцефалографе и с помощью биодатчиков». – Тони? – Да. – Ты знаешь, где оберст? – Кто?! – Уильям Борден. – А, Вилли… – Где он? – Я не знаю. – У тебя есть какие-нибудь предположения, где он может быть? – Нет. – Ты можешь как-нибудь узнать, где он? – Мм. Возможно. Я не знаю. – Почему ты не знаешь? Может, кто-нибудь другой знает? – Может быть, Кеплер. – Джозеф Кеплер? – Да. – Кеплер знает, где находится Вилли Борден? – Кеплер говорит, что получает письма от Вилли. – Как давно было прислано последнее письмо? – Не знаю. Несколько недель назад. – Ты веришь Кеплеру? – Да. – Откуда приходили письма? – Из Франции, из Нью-Йорка… Кеплер не все мне рассказывал. – Переписка начата по инициативе Вилли? – Я не понимаю, что вы имеете в виду. – Кто написал первым: Вилли или Кеплер? – Кеплер. – Как он связался с Вилли? – Послал письмо ребятам, которые охраняют его дом в Германии. – В Вальдхайме? – Да. – Кеплер послал письмо сторожам Вальдхайма? И Вилли ответил ему? – Да. – Зачем Кеплер писал ему и что Вилли ответил? – Кеплер играет не в одни ворота. Он хочет заручиться расположением Вилли, если тот войдет в Клуб Островитян. – Клуб Островитян? – Да. В то, что от него осталось. Траск мертв. Колбен мертв. Наверное, Кеплер считает, что Баренту придется вступить в переговоры с Вилли, если тот не ослабит своего давления. – Расскажи мне об этом клубе, Тони…* * *
Было уже начало третьего, когда Сол пришел к Натали на кухню. Он выглядел бледным и уставшим. Она налила ему свежего кофе, и они уселись за стол, развернув огромную дорожную карту. – Это лучшее из того, что мне удалось достать, – сказала Натали. – Я отыскала ее на круглосуточной грузовой стоянке. – Нам нужен настоящий атлас или, не знаю, съемка со спутника. Возможно, Джек Коэн сумеет помочь. – Сол провел пальцем вниз по побережью Южной Каролины. – Здесь он даже не отмечен. – Да, – подтвердила Натали. – По словам Хэрода, остров всего в двадцати трех милях от берега, и на этой карте его просто не может быть. Думаю, он где-то здесь, к востоку от Кедровых островов и островов Мерфи… Но не южнее, чем мыс Ромен. Сол снял очки и потер переносицу. – Это не отмель и не наносной песчаный остров, – заметил он. – Как утверждает Хэрод, остров Долманн приблизительно семь миль в длину и три в ширину. Ты почти всю жизнь прожила в Чарлстоне. Неужели ты никогда не слышала о нем? – Нет, – ответила Натали. – Ты уверен, что он спит? – Да, – кивнул Сол. – Даже если я очень захочу, в ближайшие шесть часов я не смогу его разбудить. – Он достал план, нарисованный со слов Хэрода, и сравнил его с географическим атласом, приложенным Коэном к досье на Барента. – Ну что, повторим еще раз или ты слишком устала? – Давай попробуем, – сказала Натали. – Давай. Барент и его группа, оставшиеся в живых ее члены, соберутся на острове Долманн седьмого июня, с тем чтобы пробыть там неделю. Это формальная часть. Хэрод сказал, что там будет тот самый набор знаменитых людей соответствующего ранга, о которых нам рассказывал Джек Коэн. Исключительно мужчины. Женщины не допускаются. Даже Маргарет Тэтчер не удалось бы туда попасть, если бы она очень захотела. Весь обслуживающий персонал – тоже исключительно мужчины. Судя по словам Джека, на острове будут толпы охранников. Официальные развлечения заканчиваются в субботу тринадцатого июня. В воскресенье четырнадцатого июня, согласно информации Хэрода, туда прибудет наш оберст, чтобы присоединиться к четырем членам клуба, включая Хэрода, и за этим следуют еще пять дней совсем других развлечений. – Развлечений! – выдохнула Натали. – Я бы назвала это иначе. – Кровавых развлечений, – поправился Сол. – Выглядит вполне логично. Эти люди обладают теми же способностями, что и оберст, Мелани Фуллер и Дрейтон. Они страдают наркотической зависимостью и не могут прожить без насилия, но они – общественные деятели. Они не смеют позволить себе даже косвенно участвовать в уличных преступлениях, которыми начала развлекаться наша троица в Вене еще до войны… – И потому они отводят для этого одну жуткую неделю в году, – договорила Натали. – Да. Которая также дает им возможность безболезненно – безболезненно для них – каждый год корректировать свою иерархическую структуру. Остров является частной собственностью Барента. Формально он даже не находится под юрисдикцией Соединенных Штатов. Когда Барент приезжает туда, он и его гости располагаются вот здесь, на южной оконечности. Здесь его замок и остальные помещения для обслуживания летних лагерей. Далее минными полями обнесены три мили джунглей и мангровых лесов. Именно там они разыгрывают свою версию старой игры оберста и двух его спутниц. – Неудивительно, что Борден прилагает столько усилий, чтобы оказаться в числе приглашенных, – заметила Натали. – И сколько невинных людей погибают в течение этой безумной недели? – Хэрод говорит, что каждый член клуба получает пять суррогатов, – ответил Сол. – То есть по одному на день. – Откуда они берут этих людей? – Раньше их поставлял Чарльз Колбен, – пояснил Сол. – Цель заключается в том, что каждое утро они разыгрывают свои… как бы это сказать… свои фигуры наугад. Сама же забава, или охота, начинается вечером, но не раньше, чем стемнеет. Они испытывают свои силы с некоторой долей риска. Они не хотят терять… фигуры… на обработку которых было потрачено длительное время. – А где же они будут добывать жертв в этом году? – Натали подошла к буфету и вернулась с бутылкой виски, плеснув немного себе в чашку. – В том-то все и дело. В качестве нового члена клуба наш мистер Хэрод обязан в этом году поставить пятнадцать суррогатов. Это должны быть относительно здоровые люди, но такие, которых не будут искать. – Это абсурд, – возразила Натали. – Почти любого человека будут искать. – Не совсем, – вздохнул Сол. – В этой стране каждый год из домов сбегают десятки тысяч подростков. Большинство из них так никогда и не возвращаются. В больницах многих крупных городов есть психиатрические отделения, которые наполовину заполнены людьми без биографий, без семейных связей, фактически без памяти. Полиция завалена рапортами о пропавших мужьях и сбежавших женах. – Значит, они просто хватают пару десятков человек, переправляют их на этот чертов остров и заставляют убивать друг друга? – Голос Натали стал хриплым, когда она представила себе эту ужасную картину. – Да, – кивнул Сол. – Ты веришь Хэроду? – Он может передавать ошибочные сведения, но введенные вещества лишают его возможности лгать умышленно. – Ты собираешься оставить его в живых? – Да. Лучший способ отыскать оберста – дать возможность этим убийцам продолжить свои безумные забавы. Уничтожение Хэрода или даже его дальнейшее заточение наверняка испортит все наши планы. – А ты думаешь, он не побежит доносить о нас Баренту и остальным? – Скорее всего, нет. – О господи, Сол, как ты можешь быть уверен? – В этом я не уверен, зато я уверен, что Хэрод полностью дезориентирован. Он сначала считал нас агентами Вилли, потом думал, что мы подосланы Кеплером или Барентом. Он не в состоянии поверить в то, что мы независимые актеры в этой мелодраме… – Мелодрама – слишком слабо сказано, – печально улыбнулась Натали. – Это называется «Самая опасная игра», которую отец обычно позволял мне смотреть поздно вечером по пятницам. И эта игра такой же бред, Сол. – Не смей говорить мне, что это бред! – вдруг закричал он, с силой ударив ладонью по столу так, что чашка Натали подпрыгнула. Впервые за пять месяцев она слышала, как он повышает голос. – Лучше скажи это своему отцу и Робу Джентри с перерезанным горлом! Моему племяннику Арону, его жене и девочкам! Скажи это всем тем… тем тысячам, которых оберст отправил в печи! Скажи это моему отцу и брату Йозефу… Сол так резко вскочил, что его кресло опрокинулось. Он уперся руками в стол, и Натали заметила, как заиграли мускулы под его загорелой кожей, увидела страшный шрам на левом предплечье и выцветшую татуировку на запястье. Успокоившись, он продолжил уже тише: – Все это столетие, Натали, походит на жалкую мелодраму, написанную посредственными драматургами ценой жизни других людей. Мы не можем положить этому конец. Даже если нам удастся покончить с теми… игроками, обязательно всплывет какой-нибудь другой актер-людоед, принимающий участие в этом жестоком фарсе. Подобные вещи совершаются каждый день людьми, не обладающими и малейшей долей этой способности. Они проявляют свою власть в форме насилия по праву занимаемого ими положения или должности, осуществляя ее с помощью пули, ножа или права голоса… Но, Натали, эти сукины дети уничтожают наших близких, наших друзей, и мы должны остановить их! – Сол умолк и опустил голову. Пот капал с его лба. Натали прикоснулась к его руке. – Я знаю, – тихо произнесла она. – Прости меня, Сол. Мы очень устали. Нам надо поспать. Он кивнул, похлопал ее по руке и потер щеку: – Поспи несколько часов. Я лягу на раскладушке рядом с приборами. Датчики подадут сигнал, когда проснется Хэрод. При удачном стечении обстоятельств нам обоим удастся отдохнуть часов семь. Натали выключила свет на кухне и вышла вслед за Солом. – Это значит, что мы можем приступать к следующей части, так? – спросила она перед уходом. – В Чарлстоне? Он устало кивнул: – Думаю, да. Другого пути я не вижу. Прости. – Все нормально, – заверила Натали, хотя от одной мысли о том, что ей предстоит, у нее поползли по коже мурашки. – Я же знала, что будет дальше. – Все можно изменить. – Нет. – Она начала медленно подниматься по лестнице. – Ничего изменить уже нельзя.Глава 46
Лос-Анджелес
Пятница, 24 апреля 1981 г.
Специальный агент Ричард Хейнс позвонил в центр связи мистера Барента в Палм-Спрингс по скремблерной линии ФБР. Он не имел ни малейшего представления, где находится Барент, и был очень удивлен, когда тот лично ему ответил. – Что вы узнали, Ричард? – Не много, сэр. Мы ведем наблюдение за местным израильским консульством, но пока у нас нет никаких доказательств, что Коэн посещал консульство или отдел импорта, под прикрытием которого работает местная группа Моссада. У нас там свой человек, и он клянется, что Коэн в последнее время у них не появлялся. – И это все, что у вас есть? – Не совсем. Мы проверили мотель в Лонг-Бич и удостоверились, что Коэн там останавливался. Дневной портье сообщил, что он приехал во взятой напрокат машине – это было утром в четверг, шестнадцатого. Тот же портье смутно припоминает, что, когда Коэн уезжал в понедельник утром, у него был уже фордовский фургон – вроде бы «эконолайн». Одна из горничных вспомнила, что в номере еще стояли большие коробки с эмблемой «Хитачи». – Электроника? – осведомился Барент. – Оборудование для слежки? – Возможно, – ответил Хейнс, – но обычно Моссад получает аппаратуру такого рода не через магазины. – Может, Коэн действует в одиночку… или работает на кого-то еще? – В данный момент именно это мы и проверяем. – Вам удалось выяснить, находился ли поблизости Вилли Борден? – Нет, сэр. Мы снова обыскали его дом… Он еще не продан, но никаких признаков присутствия ни его самого, ни Рейнольдса или Лугара не обнаружили. – А как насчет Хэрода? – Нам до сих пор не удалось с ним связаться. – Что это значит, Ричард? – Последние несколько недель мы не следили за Хэродом, а когда звонили ему вчера, секретарша сообщила, что его нет и она не знает, где он. Мы уже отправили туда своих людей, но пока он не выходил из дому и не появлялся на студии «Парамаунт». – Вы меня разочаровываете, Ричард. Хейнса охватила легкая дрожь. Он облокотился на стол и крепко сжал трубку обеими руками: – Прошу прощения, сэр. Довольно трудно было проводить расследования в Вайоминге и одновременно управлять нашими агентами здесь, в Калифорнии. – А какие новости из Вайоминга? – Ничего конкретного, сэр. Мы убеждены, что Уолтерс, офицер военно-воздушных сил, который… – Да-да. – Так вот, Уолтерс был в одном из баров Шайенна во вторник вечером. Бармен уверен, что в тот момент там находилась компания мужчин, один из которых соответствует описанию Вилли… – Абсолютно уверен? – Бар был переполнен, мистер Барент. Мы предполагаем, что это Вилли. Мы проверили все отели и мотели вплоть до Денвера, но ни его, ни двух его спутников никто не видел. – Просто какая-то череда бесплодных попыток, Ричард. У вас есть идеи, где сейчас может находиться Вилли? – Сэр, мы следим за всеми авиалиниями и автовокзалами на случай, если кто-нибудь из коллег Вилли воспользуется кредитной карточкой или приобретет билеты на собственное имя. Сфера поисков расширена, компьютеры также запрограммированы на появление еврея-психиатра, который, скорее всего, погиб в Филадельфии, и девицы по фамилии Престон. Мы задействовали все таможни, в списке текущих дел ФБР это занимает первое место. Слежка осуществляется во всех наших региональных отделениях и их местных представительствах… – Это я знаю, Ричард, – тихо, но властно оборвал его Барент. – Я спросил, есть ли что-нибудь новое? – Ничего с тех пор, как мы засекли вторжение в нашу компьютерную сеть Джека Коэна в прошлый вторник. – Вы по-прежнему считаете, что Коэна Использовал Вилли? – Я не знаю никого другого, кому потребовалось бы заниматься выяснением связей между преподобным Саттером, мистером Кеплером и вами, сэр. – Может, мы поспешили, организовав мистеру Коэну такую… э-э-э… встречу? Хейнс ничего не ответил. Дрожь у него прекратилась, зато на лбу и над верхней губой выступили капельки пота. – А что со счетом автозаправочной станции, Ричард? – Ах да, сэр. Мы проверили. Владелец говорит, что движение у них очень оживленное и он не может упомнить всех, кто у него останавливается. Но по кредитной карточке мы удостоверились, что это был Коэн. Парень, обслуживавший его машину, ушел на неделю в отпуск и сейчас бродит с рюкзаком где-то в горах Санта-Ана. Впрочем, на него тоже надежды мало. – Ричард, мне кажется, кончилось то время, когда вы могли бы пренебрегать мелочами. Я хочу, чтобы Вилли Борден был найден и связи Джека Коэна раскрыты. Вам ясно? – Да, сэр. – По-моему, вы упоминали, что у израильтян неподалеку от Лос-Анджелеса есть убежище… и даже не одно. Вы до сих пор не обнаружили их? – Я лишь предполагаю, что они могут существовать, мистер Барент. Доказательств у нас пока нет. – Но это возможно? – Да, сэр. Видите ли, пару лет назад случилась одна история с палестинцем, который участвовал в операции «Черный сентябрь». Он дал согласие на сотрудничество с Соединенными Штатами, но люди, которых он принял за агентов ЦРУ, на самом деле оказались представителями Моссада. Так вот, они привезли его в Штаты, дали убедиться в том, что он находится в Лос-Анджелесе, а затем куда-то запрятали так, что ни ЦРУ, ни ФБР не смогли его отыскать… – Это не имеет отношения к нашему делу, Ричард. Значит, у вас есть основания полагать, что где-то рядом с Лос-Анджелесом существует израильское убежище? – Да, сэр. – И оно может располагаться неподалеку от заправочной станции в Сан-Хуан-Капистрано? – Да, сэр. Но оно может находиться и в другом месте. – Хорошо, Ричард. Во-первых, вы немедленно отправитесь в дом к мистеру Хэроду и тщательно допросите – я подчеркиваю, тщательно – мисс Чэнь. Если там окажется Хэрод, допросите обоих. Если нет, вы разыщете его. Во-вторых, вы бросите все силы вашего лос-анджелесского отделения, а также силы других местных организаций, чтобы отыскать того служащего с заправочной станции. Я хочу знать, на какой именно машине приехал мистер Коэн, кто был с ним и в каком направлении они выехали. В-третьих, начинайте опрос магазинов, торгующих электроникой в районе Лонг-Бич и прилегающих районах. В-четвертых, повторно допросите обслугу мотеля в Лонг-Бич, чтобы выяснить все до мельчайших подробностей. Можете использовать любые формы убеждения, которые сочтете нужными… И наконец, я окажу вам некоторую помощь. К вам будет отправлена дюжина людей Джозефа для поддержки, а мы постараемся получить дополнительную информацию об этом убежище. Сведения я передам вам в течение ближайших суток. – Но каким образом… – начал Хэйнс и замолк. В трубке раздался смешок Барента. – Ричард, неужели вы полагаете, что были с Чарльзом единственными источниками информации для меня? Если все остальное провалится, я позвоню известным… э-э-э… лицам в правительстве Израиля. Из-за временно́й разницы, возможно, я смогу это сделать лишь завтра утром, перед тем как связаться с вами. Но вы начнете обыскивать окрестности Сан-Хуан-Капистрано сегодня же днем. Проверьте документы продаж земельных участков, дома, которые не посещаются бо́льшую часть года… просто поездите по району и поищите темный фургон, если вам больше ничего не придет в голову. И помните, вы ищете частный дом в охраняемой зоне, скорее всего находящийся вдали от жилых кварталов. – Есть, сэр. – Я свяжусь с вами, как только смогу, – холодно сказал К. Арнольд Барент. – И еще, Ричард. – Да, сэр? – Постарайтесь на сей раз не разочаровывать меня. – Я приложу все усилия, – заверил Хейнс и повесил трубку.Глава 47
Лос-Анджелес
Суббота, 25 апреля 1981 г.
Перед тем как выбросить Хэрода в квартале от Диснейленда, его накачали наркотиками и завязали глаза. Когда он окончательно пришел в себя, то обнаружил, что сидит за рулем своего «феррари», одетый, без наручников, лишь глаза прикрывала обычная черная повязка для сна. Машина была припаркована между мусорным контейнером и кирпичной стеной на задворках магазинчика, торгующего коврами по сниженным ценам. Хэрод вылез из машины и облокотился на капот в ожидании, когда окончательно пройдут тошнота и головокружение. Через полчаса он почувствовал, что в состоянии вести машину. Стараясь избегать оживленных магистралей, Хэрод направился на запад, а затем свернул на бульвар Лонг-Бич, пытаясь осознать, что же с ним произошло. Воспоминания о предыдущих сорока часах в основном были смазанными, расплывчатыми – он помнил лишь обрывки каких-то бесконечных разговоров, похожих на допросы. Зато следы от внутривенных уколов и дающее себя знать головокружение от последнего транквилизатора не оставляли сомнений, что его накачали наркотиками, похитили и протащили через ад. Вполне возможно, что это дело рук Вилли. Последняя беседа – единственная, которую он помнил целиком, – окончательно убедила его в этом. Мужчина в балаклаве вошел к нему в комнату и сел на кровать. Хэрод хотел увидеть его глаза, но в зеркальных стеклах отражалось лишь его собственное бледное, покрытое щетиной лицо. – Тони, – тихо произнес мужчина с раздражающе знакомым немецким акцентом, – мы собираемся тебя отпустить. Хэрод вздрогнул всем телом: его хотят убить! – Прежде чем расстаться, я хочу задать тебе один вопрос, – продолжил мужчина, на лице которого были видны лишь шевелящиеся губы. – Каким образом ты собираешься поставить бо́льшую часть суррогатов для пятидневного развлечения в Клубе Островитян в этом году? Хэрод попытался облизнуть губы, но во рту у него все пересохло, язык жгло. – Я ничего об этом не знаю. Балаклава качнулась, и в зеркальных очках отразились белые стены. – Нам уже известно об этом, Тони. Но каким образом ты будешь поставлять их? Ты же предпочитаешь общаться с женщинами. Неужели они действительно в этом году готовы удовлетвориться одними женщинами? Хэрод энергично затряс головой. – Я должен это узнать, прежде чем мы попрощаемся, Тони. – Вилли! – прохрипел он. – Зачем ты так со мной? Давай поговорим нормально! Пара зеркальных стекол сфокусировалась на лице Хэрода. – Вилли? По-моему, я не знаю никого с таким именем. Так каким же образом ты собираешься поставлять суррогатов обоих полов, когда нам известно, что ты не можешь этого сделать? Хэрод напрягся и выгнул спину, чтобы увидеть лицо палача. Мужчина не спеша встал и подошел к изголовью кровати, оказавшись вне досягаемости ног Хэрода. Он схватил его за волосы и приподнял голову над подушкой: – Тони, мы все равно получим от тебя ответ. Ты уже должен был убедиться в этом. Возможно, мы и так все знаем. Нам просто нужно твое подтверждение, когда ты в здравом уме и твердой памяти. Если нам снова потребуется накачать тебя наркотиками, это лишь отодвинет срок твоего освобождения. Последние слова Хэрод воспринял как «нам просто придется отложить твое убийство», – а это его вполне устраивало. Если молчание, даже сопровождающееся болью и насилием, могло отсрочить неизбежную пулю в лоб, Хэрод готов был молчать, как чертов сфинкс. Только он в это мало верил. По обрывкам своих воспоминаний он понимал, что выложил все, что знал, под воздействием каких-то химических веществ. Если это был Вилли, что казалось весьма вероятным, Тони вскоре это выяснит. Возможно, даже в интересах Хэрода, чтобы Вилли узнал об этом. Он продолжал лелеять надежду, что еще может понадобиться Вилли. Ему вспомнилось лицо пешки на шахматной доске в Вальдхайме. Если этими двумя управляли Барент, Кеплер или Саттер или вся троица вместе, они хотели от него подтверждения того, что уже и так знали. Как бы то ни было, больше всего Хэрод нуждался сейчас в диалоге. – Я плачу Хейнсу за то, что он подбирает для меня суррогатов, – ответил он. – Беглецы, бывшие заключенные, осведомители с новыми удостоверениями личности. Он все устроит. Они будут работать за деньги, считая, что участвуют в каком-то правительственном проекте. К моменту, когда они сообразят, что единственное, что их ждет, – это могила, они уже будут на острове в одном из загонов. Человек в капюшоне рассмеялся: – Платишь агенту Хейнсу? А как на это смотрит его настоящее начальство? Хэрод собрался было пожать плечами, понял, что со скованными руками это сделать невозможно, и покачал головой: – Мне наплевать на это, думаю, Баренту тоже. Подобная идея пришла в голову Кеплеру. На самом же деле это – тест, проверка моей Способности… Зеркальные стекла зорко уставились на него. – Расскажи мне еще об острове, Тони. Планировка, загоны, место для лагеря, охрана – все. А потом мы попросим тебя об одной услуге. В этот момент Хэрод окончательно убедился, что имеет дело с Вилли. Дальше он рассказывал в течение часа. И остался в живых.* * *
Когда Хэрод добрался до Беверли-Хиллз, он принял решение поставить в известность Барента и Кеплера. Не мог же он постоянно прятаться: если за его похищением стоял Вилли, возможно, старику именно это и нужно было. Чтобы Барент был в курсе. Это вполне могло входить в замысел Вилли. Если же это была проверка на верность, устроенная Барентом и Кеплером, утаивание похищения могло возыметь роковые последствия. Когда Хэрод закончил свой рассказ об острове Долманн и проводившихся там забавах, мужчина в капюшоне проговорил: – Хорошо, Тони. Мы ценим твою помощь. Теперь нам остается попросить лишь об одной услуге, которая и станет условием твоего освобождения. – О какой? – устало спросил Хэрод. – Ты сказал, что получишь так называемых волонтеров от Ричарда Хейнса в субботу тринадцатого июня. Мы свяжемся с тобой в пятницу двенадцатого. У нас будет несколько других человек, которыми ты заменишь волонтеров Хейнса. «Ну конечно! – подумал Хэрод. – Вилли хочет играть краплеными картами». Мысль об этом действительно потрясла его. Значит, Вилли на самом деле собирается прибыть на остров! – Ну, как? – осведомился мужчина в капюшоне. – Согласен. – Хэрод все еще не мог поверить в то, что его отпустят. Он готов был согласиться на что угодно. Все равно он тоже будет играть краплеными картами. – И ты, надеюсь, не станешь упоминать о замене? – Нет. – Ты понимаешь, что твоя жизнь зависит от этого? Сейчас и в дальнейшем. Наказание за измену будет самым суровым, Тони. – Я понял. Хэрод изумился: неужели Вилли считает его настолько глупым? И насколько же поглупел сам Вилли? «Волонтеры», как назвал их этот тип, были наперечет и обнаженными дожидались в загоне того момента, пока непредсказуемая жеребьевка не определит, кто и когда будет использован. Хэрод не представлял себе, что́ Вилли здесь сможет придумать, а если он надеялся таким образом пронести оружие через посты охраны Барента, значит он действительно превратился в умственно отсталого придурка, за которого Хэрод ошибочно принимал его раньше. – Да, – повторил Хэрод. – Я согласен. – Sehr gut, – одобрил человек в балаклаве.* * *
Тони решил, что позвонит Баренту, как только примет ванну, что-нибудь выпьет и обсудит с Марией Чэнь все происшедшее. Интересно, тревожилась ли она о нем, скучала ли? Как часто в течение последних лет он исчезал на несколько дней, даже недель, не ставя ее в известность, куда направляется. Улыбка Хэрода увяла, когда он понял, насколько уязвимым сделал его этот образ жизни. Плавно остановив «феррари» под мрачным взглядом сатира, он направился к дому. Сначала он примет ванну, потом выпьет виски и… Парадная дверь была распахнута. Хэрод застыл на месте и лишь через минуту заставил себя войти в дом, чувствуя, как у него снова начинает сильно кружиться голова. Не переставая звать Марию Чэнь, он окинул взглядом стены, мебель, даже не замечая, что она перевернута, пока не споткнулся о кресло и не рухнул на ковер. Он вскочил на ноги и, не переставая кричать, принялся бегать из комнаты в комнату. Марию Чэнь он нашел в кабинете на полу. Она лежала возле своего стола, ее черные волосы запеклись от крови, лицо распухло так, что его трудно было узнать. Рот тоже был в крови, она тяжело дышала, и как минимум один из передних зубов был сломан… Хэрод обогнул стол, опустился на колени и взял ее голову дрожащимируками. Едва он прикоснулся к ней, она застонала: – Тони… Хэрод с изумлением обнаружил, что сейчас, когда его переполнял такой гнев, которого он никогда раньше не испытывал, ему на ум не приходили никакие ругательства. Из груди не вырывалось ни единого крика. Когда к нему вернулся дар речи, он смог лишь хрипло прошептать: – Кто это сделал с тобой? Когда? Губы девушки были так изуродованы, что Хэроду пришлось наклониться, чтобы расслышать слова: – Прошлой ночью… Трое… Искали тебя… Они не сказали, кто послал их, но я видела Хейнса… в машине… прежде чем они позвонили. Хэрод жестом заставил ее замолчать и с бесконечной нежностью поднял на руки. Он понес Марию к себе в комнату, по дороге убеждая себя, что ее просто жестоко избили, что она будет жива, с ней все будет в порядке, и с изумлением замечая, что по щекам его текут слезы. Это повергло его в шок. Если прошлой ночью Хэрода искали здесь люди Барента, значит уже не оставалось никаких сомнений, что его похитил Вилли. Больше всего Тони хотелось сейчас снять трубку и позвонить Вилли. Он скажет ему, что теперь нет причин для изощренных игр и глупых предосторожностей. Что бы там Вилли ни хотел сделать с Барентом, отныне Хэрод готов был во всем ему помогать.Глава 48
В окрестностях Сан-Хуан-Капистрано
Суббота, 25 апреля 1981 г.
Сол и Натали возвращались в субботу днем к своему убежищу. Натали явно испытывала облегчение, а вот чувства Сола были двойственными. – Потенциал этих исследований огромен, – заметил он. – Если бы я мог поработать с Хэродом хотя бы неделю, я бы собрал бессчетное количество данных. – Да, – кивнула Натали, – а он бы за это время, в свою очередь, нашел пути, как достать нас. – Сомневаюсь, – откликнулся Сол. – Выяснилось, что одни только барбитураты подавляют его способность вырабатывать ритмы, необходимые для контакта и управления чужой нервной системой. – Но если бы мы продержали его целую неделю, его бы стали искать, – сказала Натали. – И тогда мы лишились бы возможности перейти к следующему этапу нашей программы. – Это так, – согласился Сол, хотя в его голосе по-прежнему звучало сожаление. – Ты действительно веришь, что Хэрод сдержит свое обещание переправить нужных нам людей на остров? – спросила Натали. – Я не исключаю такой возможности. В настоящий момент мистер Хэрод стремится избегать дальнейших неприятностей. Существуют определенные причины, вынуждающие его действовать в соответствии с нашим планом. Но даже если он откажется от сотрудничества, нам хуже не будет. – А что, если он перевезет одного из нас на остров, а потом выдаст Баренту и остальным? На его месте я поступила бы именно так. Сол вздохнул. – Это будет не лучшим поворотом событий, но прежде, чем рассматривать такую возможность, мы должны заняться другими делами.* * *
На ферме все было так же, как и перед их отъездом. Сол вновь принялся прокручивать отдельные фрагменты видеозаписи. От одного вида Хэрода на экране Натали становилось плохо. – Что дальше? – спросила она. Он огляделся: – Нам надо еще кое-что сделать: просмотреть и обдумать результаты допросов, подписать энцефалограммы и данные медицинских приборов, провести компьютерный анализ и расшифровку всех показаний. Затем мы сможем приступить к биоэксперименту на основе собранных нами сведений. Ты должна заняться техникой гипноза и как следует изучить материалы о венском периоде этой троицы. Нужно тщательно проанализировать наши планы в свете новой информации об острове Долманн и, возможно, обдумать роль, которую мог бы сыграть в этом Джек Коэн. Натали улыбнулась: – И с чего ты хочешь, чтобы я начала? – Ни с чего, – улыбнулся в ответ Сол. – Напоминаю тебе, на случай если ты не успела усвоить этого в Израиле, что сегодня суббота. Сегодня мы отдыхаем. Поднимайся наверх, а я пока приготовлю настоящий американский обед: мясо, тушеный картофель, яблочный пирог и «будвайзер». – Сол, но у нас ничего этого нет! – воскликнула она. – Джек запасся только консервированными продуктами и замороженными полуфабрикатами. – Знаю. Именно поэтому, пока ты будешь спать, я съезжу вниз по каньону. Там есть один магазинчик. – Но… – попыталась возразить Натали. – Все в порядке, моя дорогая. – Сол развернул ее за плечи и легонько подтолкнул к лестнице. – Я позову тебя, когда мясо будет готово, и тогда мы устроим настоящий праздник. – Я хочу помочь приготовить пирог, – сонным голосом пробормотала Натали. – Договорились, – кивнул Сол. – Будем пить «Джек Дэниелс» и готовить яблочный пирог.* * *
Сол не спеша выбирал продукты, толкая вперед тележку по ярко освещенным проходам супермаркета, прислушиваясь к невыразительной музыке и размышляя о тета-ритмах и агрессии. Он уже давно обнаружил, что американские магазины создают наилучшие условия для занятия самогипнозом, а у него вошло в привычку погружаться в легкий гипнотический транс, когда ему предстояло решать сложные проблемы. Двигаясь с тележкой вдоль прилавков с продуктами, Сол понял, что в течение последних двадцати пяти лет он шел ошибочными путями, пытаясь обнаружить механизм доминирования у людей. Как и большинство исследователей, Сол полагал, что он основан на сложном взаимодействии социальных предпосылок, тонкостей физиологического строения и поведенческих моделей высшего порядка. Даже будучи знакомым с примитивной природой воздействия на него оберста, Сол продолжал искать пусковой механизм в неизведанных структурах коры головного мозга и мозжечка. Теперь же данные энцефалограмм свидетельствовали, что эта Способность возникает в стволе головного мозга и каким-то образом передается с помощью гипокампуса, взаимодействующего с гипоталамусом. Он часто размышлял о полковнике и ему подобных как о своего рода мутантах, эволюционном эксперименте или статистическом исключении, которые демонстрировали, как патологические извращения и агрессия меняют нормальных людей. Сорок часов, проведенные с Хэродом, изменили этот взгляд навсегда. Если источником необъяснимой способности являлся ствол головного мозга и зачаточная система млекопитающих, тогда мозговой вампиризм должен был предшествовать появлению вида Homo sapiens. Хэрод и остальные были выродками, оказавшимися на более ранней эволюционной ступени. Сол все еще размышлял о тета-ритмах и стадии быстрого сна, когда вдруг понял, что уже расплатился за покупки и ему вручили два доверху наполненных пакета. Он попросил разменять четыре доллара мелкими монетами и направился к фургону, размышляя, звонить Джеку Коэну или нет. Ласки по-прежнему не желал впутывать в дело представителя израильского посольства более чем нужно, а потому не было необходимости посвящать его в подробности последних дней. Не собирался он и обращаться с просьбами. По крайней мере, в ближайшее время. И все-таки вопреки логике Сол закинул покупки в машину и подошел к длинному ряду таксофонов у входа в супермаркет. Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими новыми открытиями. Он будет действовать осмотрительно, но зато Джек поймет, что не зря потратил на них свое время и силы. Набрав домашний номер Коэна, который помнил наизусть, Сол услышал длинные гудки. Трубку никто не взял. Тогда он достал еще мелочь и набрал телефон израильского посольства, попросив секретаршу связать его с Джеком Коэном. Когда она поинтересовалась, кто звонит, Сол назвался Сэмом Тернером, как ему советовал Джек. Тот должен был поставить своих людей в известность, чтобы его без промедления связывали с этим человеком. Сол ждал больше минуты, безуспешно пытаясь справиться с растущим волнением. Затем в трубке послышался мужской голос: – Простите, кто это говорит? – Сэм Тернер, – повторил Сол, чувствуя, как болезненно сжимаются мускулы живота. Он сознавал, что надо повесить трубку. – Вам нужен мистер Коэн? – Да. – Не скажите ли вы, по какому делу? – По личному. – Вы родственник или друг мистера Коэна? Сол повесил трубку. Он знал, что проследить, откуда был сделан телефонный звонок, гораздо труднее, чем это происходит в фильмах, но он был на связи достаточно долго. Найдя в справочнике номер телефона «Лос-Анджелес таймс», Сол позвонил в редакцию. – Меня зовут Хаим Херцог, – сообщил он. – Я занимаю должность помощника начальника отдела информации израильского консульства в вашем городе и хочу исправить опечатку, допущенную в опубликованной вами статье на этой неделе. – Да, мистер Херцог. Вам нужно обратиться в архивный отдел. Секунду, я соединю вас. Сол уставился на длинные тени, ползущие по склону холма напротив, и так глубоко задумался, что даже подпрыгнул, когда женский голос ответил ему: – Некрологи, архив. Он повторил свою вымышленную историю. – Какого числа вышла статья, сэр? – Простите, у меня под рукой нет вырезки… – А о чем там шла речь? – О джентльмене по имени Джек Коэн. Сол прислонился к стене кабины и принялся смотреть, как большие черные дрозды клюют что-то на кустах за дорогой. Над головой на высоте пятьсот футов к западу проревел вертолет. Сол представил себе, как женщина в архивном отделе нажимает клавиши компьютера. – Да, – откликнулась она. – Это было в среду. Газета за двадцать второе апреля, четвертая полоса. «Чиновник израильского посольства убит и ограблен в аэропорту». Вы эту статью имели в виду, сэр? – Да. – Мы получили ее по каналам Ассошиэйтед Пресс, мистер Херцог. Если там были допущены какие-либо ошибки, в них повинен телеграф в Вашингтоне. – Не могли бы вы прочитать мне эту статью? – попросил Сол. – Просто чтобы я убедился, действительно ли там присутствует ошибка. – Конечно. И женщина зачитала ему четыре абзаца, где говорилось, что на стоянке международного аэропорта имени Даллеса было обнаружено тело пятидесятивосьмилетнего Джека Коэна, старшего советника по сельскому хозяйству израильского посольства, ставшего жертвой ограбления. Несмотря на отсутствие свидетелей, полиция продолжает вести расследование. – Благодарю вас. – Сол не дослушал и повесил трубку. Какое-то время он стоял неподвижно, глядя, как черные дрозды на ветках кустарника покончили со своей трапезой и спиралью взмыли в небо.* * *
Он сел в фургон и рванул вверх по каньону со скоростью семьдесят миль в час, выжимая из машины все, что возможно. По дороге Сол пытался обдумать вполне приемлемую версию, что Джек Коэн действительно погиб вследствие случайного ограбления. В реальной жизни такие совпадения происходили регулярно, но даже если это было не так, со дня смерти прошло уже четверо суток, и убийцы Коэна за это время должны были выйти на след Сола и Натали. Однако его это мало успокаивало. В клубах пыли он свернул на дорогу, ведущую к ферме, и, не сбавляя скорости, понесся мимо деревьев и изгородей. Кольт он оставил в своей спальне наверху, рядом с комнатой Натали. Машин перед домом не было. Сол открыл переднюю дверь и вошел внутрь: – Натали! Ему никто не ответил. Он быстро огляделся и, не заметив ничего подозрительного, прошел через гостиную и кухню в комнату с аппаратурой. Духовой пистолет с капсулами лежал на том же месте, где Сол его оставил. Убедившись, что оружие заряжено, Сол прихватил коробку с остальными капсулами и бегом вернулся в гостиную. – Натали! Он уже поднялся на три ступени, держа духовой пистолет наготове, когда она появилась на верхней площадке. – Что случилось? – с сонным видом протирая глаза, спросила Натали. – Собирайся. Просто хватай все и забрасывай в машину. Мы должны немедленно уезжать. Не задавая никаких вопросов, она повернулась и бросилась в свою комнату. Сол поднялся к себе, взял пистолет, лежавший на чемодане, проверил предохранитель и вставил новую обойму. Потом засунул оружие в карман своей спортивной куртки. Когда Сол спустился с рюкзаком и сумкой, Натали уже затолкала чемодан в заднюю часть фургона. – Что мне делать? – спросила она. Ее кольт выпирал из кармана широкой юбки. – Принеси к крыльцу две канистры с бензином, которые мы с Джеком нашли в сарае, а потом заведи машину и жди здесь. Если кто-то появится, предупреди меня. – Хорошо. Сол вошел в дом и начал отсоединять провода электронного оборудования и заталкивать все в ящики, не разбираясь, что к чему. Видеомагнитофон и камеру он мог оставить, но им не обойтись без энцефалографа, многоканального осциллографа, компьютера, принтера, бумаги и радиопередатчика. Он перетаскал ящики в фургон за десять минут, хотя им потребовалось два дня, чтобы установить и отрегулировать оборудование и подготовить комнату для допросов. – Что-нибудь видно? – спросил он с крыльца. – Пока ничего, – отозвалась Натали. Сол колебался лишь мгновение, затем внес канистры с бензином в дом и начал поливать комнату для допросов, пункт наблюдения, кухню и гостиную. Он не мог избавиться от ощущения, что занимается варварской и неблагодарной деятельностью, но ему трудно было предвидеть, какие выводы сделает Хейнс или люди Барента, побывав в доме. Отшвырнув пустые канистры в сторону, он удостоверился, что на втором этаже ничего не осталось, и вынес из кухни последние вещи. Затем достал зажигалку и замер на пороге: – Я ничего не забыл, Натали? – Пластит и детонаторы в подвале! – Боже мой! – воскликнул он и бросился вниз по лестнице. Натали расчистила место между ящиками в задней части фургона, и они осторожно сложили туда взрывчатку и детонаторы. После этого Сол снова вернулся в дом, вытащил из буфета бутылку виски и чиркнул зажигалкой. Пламя охватило все мгновенно. Он прикрыл лицо рукой и пробормотал: «Прости меня, Джек». Когда он выбежал из дома, Натали уже сидела за рулем. Она не стала дожидаться, пока он закроет за собой дверь фургона, и рванула вперед, разбрасывая из-под колес гравий. – Куда? – спросила Натали, как только они добрались до шоссе. – На восток. Она кивнула, вывернула руль, и они помчались вдоль каньона.Глава 49
В окрестностях Сан-Хуан-Капистрано
Суббота, 25 апреля 1981 г.
Ричард Хейнс еще издали увидел, что ферма израильтян окутана облаками дыма. В сопровождении трех машин он свернул на подъездную дорогу к дому и понесся на полной скорости. Когда Хейнс выскочил из «понтиака» и бросился к крыльцу, в окнах первого этажа уже вовсю бушевало пламя. Прикрыв рукой лицо, он заглянул в гостиную, попытался войти внутрь, однако был отброшен назад дохнувшим на него жаром. – Черт! – выругался Хейнс и вернулся к машине. Он направил троих своих людей в обход, четверых – обыскивать сарай, а остальных – в другие прилегавшие строения. – Оповещать? – осведомился его помощник, державший в руках рацию. – Да, можешь оповестить всех, – кивнул агент. – Но пока сюда кто-нибудь доберется, от дома уже ничего не останется. – Он отошел в сторону и уставился на языки пламени, лизавшие окна второго этажа. Из-за угла появился человек из команды сопровождения в темном костюме. Он бежал, зажав в руке револьвер. – Ни в сарае, ни в курятнике ничего нет, сэр, – доложил он, переводя дыхание. – Только свинья бродит на заднем дворе. – На заднем дворе? – переспросил Хейнс. – В загоне? – Нет, сэр. Просто свободно бродит вокруг. Ворота загона распахнуты настежь. Хейнс снова чертыхнулся, глядя, как огонь пожирает крышу здания. Машинам пришлось отъехать назад, подальше от огня. Помощники, не зная, что предпринять, переминались с ноги на ногу в ожидании дальнейших указаний. Хейнс подошел к первой машине и обратился к мужчине с рацией: – Питер, как зовут того окружного полицейского, который возглавляет поиски парня с автозаправочной станции? – Несбитт, сэр. Шериф Несбитт из Эль-Торо. – Он к востоку отсюда, правильно? – Да, сэр. Там считают, что парень со своим приятелем отправились вверх по каньону Трабуко. Они уже привлекли к поискам людей из лесничества и… – Несбитт задействовал вертолет? – Да, сэр. Хотя они занимаются не только нашим делом. В национальном заповеднике Кливленд разгорелся пожар и… – Свяжи меня с шерифом Несбиттом, – распорядился Хейнс. – И заодно узнай, где находятся ближайший штаб полиции и пожарная станция. Когда Питер передал ему рацию, на ранчо уже въезжала первая пожарная машина. – Шериф Несбитт? – спросил Хейнс. – Так точно. Кто говорит? – Специальный агент Ричард Хейнс, Федеральное бюро расследований. По моему распоряжению вы проводите поиски Гомеса. Но у нас тут произошло нечто более важное, и мы нуждаемся в вашей помощи. – Я слушаю. – Пошлите сообщение всем постам следить за появлением темного фургона «форд-эконолайн» выпуска семьдесят шестого или семьдесят восьмого года. Водитель и возможные пассажиры разыскиваются в связи с поджогом и убийством. Вероятно, они только что выехали отсюда… э-э-э… это двенадцать и две десятых мили вверх по каньону Сан-Хуан. Мы не знаем, куда они направились – на восток или на запад, но предполагаем, что на восток. Вы можете выставить пост на семьдесят четвертом шоссе к востоку от нашего местонахождения? – А кто за все это будет отвечать? За спиной Хейнса рухнула часть крыши, языки пламени взметнулись к самому небу. С воем подъехала еще одна пожарная машина, и бригада начала разворачивать тяжелые брандспойты. – Речь идет о национальной безопасности! – прокричал Хейнс. – Федеральное бюро расследований официально просит местные власти оказать помощь. Так вы установите пост? Последовала длительная пауза, наконец сквозь помехи раздался голос Несбитта: – Агент Хейнс, к востоку от вас на семьдесят четвертом шоссе у меня стоят две полицейские машины. Мы проверяли там лагерь «Синяя сойка» и несколько туристических троп. Я распоряжусь, чтобы полицейский Байерс установил заграждение на главной дороге к западу от озера Эльсинор. – Хорошо. А до этого места есть какие-нибудь ответвления от шоссе? – Спокойный голос шерифа выводил Хейнса из себя. – Нет, – ответил Несбитт. – Только въезды в национальный заповедник. Я попрошу Дасти взять вторую группу и перекрыть места ответвлений. Нам потребуется более подробное описание пассажиров, если вы не хотите, чтобы мы ограничились остановкой машины. Передняя стена дома обвалилась внутрь. Четыре тонкие струи из брандспойтов не могли усмирить бушующий огонь. – Нам неизвестно количество и внешний вид подозреваемых, – едва сдерживаясь, произнес агент. – Возможно, это белый мужчина лет семидесяти, с седыми волосами и немецким акцентом. С ним могут быть еще двое молодых высоких парней, один из них чернокожий. Они вооружены и крайне опасны. Хотя сейчас в фургоне могут находиться и другие лица. Найдите и остановите машину. Прежде чем приближаться к пассажирам, примите все меры предосторожности. – Понял вас, агент Хейнс. Посты будут. Что-нибудь еще? – Да, шериф. Где сейчас ваш поисковый вертолет? – Стив как раз заканчивает облет пика Сантьяго. Стив, ты слышишь нас? – Да, Карл, я все слышал. – Хейнс, наш вертолет вам тоже нужен? У него сейчас особый контракт с лесничеством и с нами. – Стив, – произнес Хейнс, – с этого момента вы сотрудничаете с правительством Соединенных Штатов по решению вопроса национальной безопасности. Вы меня поняли? – Да, – донесся лаконичный ответ. – Я полагал, что служба лесничества тоже является правительственной организацией. Куда мне отправляться? Я только что заправился, так что могу держаться на этой высоте около трех часов. – Где вы находитесь в настоящий момент? – Двигаюсь к югу между пиками Сантьяго и Трабуко. Приблизительно в восьми милях от вас. Нужны координаты по карте? – Нет, – ответил Хейнс. – Я хочу, чтобы вы забрали меня отсюда. Ранчо на северной стороне каньона Сан-Хуан. Вы сможете найти это место? – Вы шутите? – откликнулся пилот. – Я даже отсюда вижу дым. Неплохую посадочную площадку вы для меня приготовили. Буду через две минуты. Связь окончена.* * *
Хейнс открыл багажник «понтиака». Проходивший мимо пожарный кинул взгляд на целую груду М-16, дробовиков, снайперских винтовок, бронежилетов и боеприпасов. – Вот это да! – присвистнул он, ни к кому конкретно не обращаясь. Хейнс вытащил М-16, достал магазин и, постучав им по заднему бамперу, чтобы устранить возможный перекос патронов, загнал на место. Потом снял пиджак, аккуратно сложил его, спрятал в багажник и натянул бронежилет. – Я связался с начальником дорожного патруля, сэр, – доложил помощник, занимавшийся радиосвязью. – Передайте ему ту же информацию, – распорядился Хейнс. – Узнайте, сможет ли он сообщить ее всем постовым полицейским вдоль шоссе. – Заграждения, сэр? Хейнс пристально посмотрел на молодого помощника: – Заграждения на скоростной автомагистрали, Тайлер? Вы глупы или настолько небрежны? Скажите, что нам нужна информация об этом «форде». Полиция должна записать номера, вести слежку и докладывать обо всем в центр связи лос-анджелесского отделения ФБР. К Хейнсу подошел местный агент Барри Меткалф: – Дик, должен признаться, что я ничего не понимаю. Зачем ливийским террористам понадобилось захватывать израильское убежище и поджигать его? – Кто тебе сказал, что это ливийские террористы, Барри? А об израильских террористах ты никогда не слышал? Меткалф моргнул и промолчал. За его спиной обрушилась еще одна стена дома, выбросив вверх целый фонтан искр. Пожарные удовлетворились тем, что стали поливать подсобные строения. С северо-востока появился маленький вертолет «Белл» с кабиной из прозрачного плексигласа, сделал круг и опустился на поле к югу от фермы. – Хотите, чтобы я полетел с вами? – спросил Меткалф. – Похоже, в этой старой развалине найдется место лишь для одного пассажира, Барри, – заметил Хейнс, указывая на вертолет. – Ну да, как будто прямиком из «Военно-полевого госпиталя».[56] – Оставайся здесь. Когда огонь погасят, надо будет просеять пепел. Возможно, нам удастся обнаружить даже трупы. – Хорошо, – без всякого энтузиазма согласился Меткалф и направился к своим людям. Когда Хейнс подбежал к вертолету, его ждал там Свенсон, самый старший из присланных Кеплером «сантехников». На лице его была саркастическая ухмылка. – Это все только догадки! – прокричал Хейнс в ответ на молчаливый взгляд Свенсона. – Но у меня есть предчувствие, что это дело рук Вилли. Может, не его самого, а Лугара или Рейнольдса. Если я их поймаю, то убью. – А как насчет канцелярской работы? – осведомился Свенсон, кивнув в сторону Меткалфа и его группы. – Я позабочусь об этом, – сказал Хейнс. – Занимайтесь своим делом. Свенсон медленно покивал.* * *
Вертолет едва поднялся в воздух, как поступило первое радиосообщение: – Говорит патрульный Байерс из Третьего отряда. Пост на семьдесят четвертом шоссе выставлен. Прием. – Хорошо, Байерс. Продолжайте наблюдение. Дорога внизу петляла в холмах бледно-серой лентой. Машин было мало. – Э-э-э, мистер Хейнс, может, это совсем не то, но, по-моему, несколько минут назад я видел темный фургон… возможно, «форд». Он развернулся в двухстах ярдах от меня. Прием. – Куда он направляется в данный момент? Прием. – В вашу сторону, сэр, обратно по шоссе. Если только не свернет на одну из лесных дорог. Прием. – Он может объехать пост по этим дорогам? Прием. – Нет, мистер Хейнс. Они все заканчиваются тупиком или переходят в горные тропы, кроме пожарной дороги лесничества, на которой стоит Дасти. Прием. Хейнс повернулся к пилоту, плотному коротышке в ветровке и кепке команды «Кливленд индианс»: – Стив, можете связаться с Дасти? – Он то появляется, то исчезает, – ответил пилот по интеркому. – В зависимости от того, над каким мы склоном. – Мне нужно связаться с ним, – произнес Хейнс, глядя вниз. Поросшие кустарником склоны то освещались солнцем, то погружались в тень. В низинах и вдоль пересохших ручьев возвышались сосны. По расчету Хейнса, оставалось около полутора часов до захода солнца. Они перевалили через гребень, вертолет набрал высоту и сделал круг. На западе в синей дымке лежал Тихий океан, к северо-западу над Лос-Анджелесом висел коричнево-оранжевый смог. – Пост находится сразу за этим холмом, – сказал пилот. – Я не вижу никаких темных фургонов на шоссе. Хотите лететь к Дасти? – Да, – кивнул Хейнс. – Вы еще не связались с ним? – Одну секунду. – Стив пощелкал кнопками. – Вот. Можете говорить. – Дасти, это специальный агент Хейнс. Слышите меня? Прием. – Да, сэр. Я здесь кое-что обнаружил. Возможно, вы захотите взглянуть. Прием. – Что именно? – Темно-синий фургон «форд» семьдесят восьмого года выпуска… Наткнулся на него возле дороги. Прием. Губы Хейнса растянулись в улыбке. – В нем кто-нибудь есть? Прием. – Нет… правда, в задней части масса всяких вещей. Прием. – Черт побери, говорите конкретнее. Каких вещей? – Электронное оборудование, сэр. Не знаю. Лучше приезжайте и посмотрите сами. Я собираюсь заняться прочесыванием леса… – Нет! – выкрикнул Хейнс. – Стерегите фургон и не двигайтесь с места! Ваши координаты? Прием. – Координаты? Э-э-э… скажите Стиву, что я проехал полмили по главной пожарной дороге к озеру Лысух. Прием. Хейнс посмотрел на пилота, тот кивнул. – Мы вас поняли, – отозвался Хейнс. – Оставайтесь на месте. Держите револьвер наготове и не спите. Мы имеем дело с террористами международного класса. – Вертолет резко свернул вправо и нырнул к заросшим лесом склонам. – Тайлер, Меткалф, вы слышали? – Да, Дик, – донесся голос Меткалфа. – Мы готовы сворачиваться. – Оставайтесь на ранчо, – приказал Хейнс. – Пусть у фургона меня встретят Свенсон и его люди. Ясно? – Свенсон? – озадаченно переспросил Меткалф. – Но ведь это наша работа. – Мне нужен Свенсон! – рявкнул Хейнс. – И не заставляй меня повторять еще раз. – Ричард, мы все слышали и уже двигаемся, – раздался голос Свенсона. Вертолет пролетел в шестистах футах над озером и спустился в небольшую лощину. Хейнс держал на коленях М-16 и улыбался. Ему будет приятно доставить удовольствие мистеру Баренту, и теперь он с нетерпением ожидал развития событий. Он знал уже почти наверняка, что это был не Вилли, – старик не стал бы бросать фургон, а скорее Использовал бы полицейского и прорвался через пикет… Но кто бы это ни был, они проиграли. Вокруг расстилались сотни квадратных миль национального заповедника, однако, поскольку люди Вилли лишились средства передвижения, теперь все зависело от времени. В распоряжении Хейнса имелись почти неограниченные возможности, а лес в основном был низкорослым. Хейнсу не хотелось дожидаться утра для продолжения поисков. Ему необходимо было покончить с этой частью игры до наступления темноты. «Нет, это не Лугар и не Рейнольдс, – размышлял он. – Скорее, та негритянка, которую Вилли Использовал в Джермантауне. Она абсолютно выпала из поля зрения. А возможно, даже Тони Хэрод». Хейнс вспомнил допрос Марии Чэнь накануне вечером и ухмыльнулся. Чем больше он думал, тем логичнее представлялось ему участие Хэрода в этой операции. Ну что ж, довольно возиться с этим голливудским красавчиком. Больше трети жизни Ричард Хейнс работал на Чарльза Колбена и К. Арнольда Барента. Будучи нейтралом, он не мог быть обработан Колбеном, но получал хорошее вознаграждение, как деньгами, так и реальной властью. Да и сама работа ему нравилась, он даже любил ее. Со скоростью семьдесят миль в час на высоте двести футов вертолет летел над холмами. Темный фургон стоял прямо у дороги, задняя дверь его была открыта. Рядом застыла брошенная полицейская машина шерифа. – Какого черта, куда подевался шериф? – раздраженно бросил Хейнс. Пилот покачал головой и попытался вызвать по радиосвязи Дасти. Эфир молчал. Они сделали широкий круг над холмом. Хейнс поднял М-16 и принялся оглядывать местность, в надежде уловить внизу какой-либо признак движения. – Сделай еще круг, – распорядился он. – Послушайте, – возразил пилот. – Я не полицейский, не федеральный агент и не герой, я уже отдал стране свой долг во Вьетнаме. Я живу за счет этой машины, и, если ее или меня продырявят, вам придется искать другую вертушку с водителем. – Заткнись и делай что говорят! – заорал Хейнс. – Мы решаем вопрос национальной безопасности. – Это я уже слышал, – усмехнулся пилот. – Как и Уотергейт. Но меня это не волнует. Хейнс развернулся и направил ствол винтовки, лежавшей у него на коленях, в сторону пилота: – Стив, я говорю в последний раз. Делай круг. Если мы ничего не обнаружим, ты посадишь машину на южной стороне холма. Понятно? – Да, – неохотно ответил пилот. – И вовсе не потому, что вы так держите свою винтовку. Даже федеральные свиньи не могут пристрелить пилота, если только сами не умеют управлять вертолетом или если у них нет под рукой другого. – Садись, – приказал Хейнс. Они сделали уже четыре круга над холмом, но не заметили ни шерифа, ни кого-либо другого. Пилот начал резко снижаться и, едва не задев макушки деревьев, уверенно посадил вертолет там, где указал Хейнс. – Выходи, – распорядился агент и снова направил на него винтовку. – Вы шутите? – Стив, зло прищурясь, смотрел на Хейнса. – Если нам придется убираться отсюда, я хочу быть уверенным, что мы сделаем это вместе, – ответил Хейнс. – А теперь быстро выметайся из своей консервной банки, пока я тебя не продырявил. – Вы спятили. – Пилот сдвинул на затылок свою кепку. – Я этого так не оставлю, я подниму такой шум, что мистер Гувер встанет из могилы. – Быстро! – заорал Хейнс, снимая М-16 с предохранителя. Стив замедлил вращение винта, отстегнул ремни и вылез из кабины. Хейнс дождался, пока он не отошел на тридцать футов к ближайшим кустам, затем отстегнул собственные ремни и, пригнувшись, бросился к полицейской машине, виляя из стороны в сторону. Присев за капотом, он оглядел склоны холмов, но не заметил ничего подозрительного и, осторожно высунув голову, заглянул в салон. В машине никого не было. Между сиденьями располагалась стойка с углублениями для двух винтовок. Обе были пусты. Хейнс подергал ручку запертой передней дверцы, затем опустился на одно колено и снова стал внимательно изучать местность. Если этот идиот-шериф все же отправился в лес, то он вполне мог взять с собой винтовку и запереть машину. Если, конечно, там была только одна винтовка… и вообще была. И если шериф еще жив… Хейнс поглядел на фургон, стоявший от него в двадцати футах, и вдруг пожалел, что не остался в воздухе до прибытия Свенсона и его команды. Сколько им потребуется времени, чтобы добраться сюда? Десять минут? Пятнадцать? Может, даже меньше, если только озеро не находилось дальше от шоссе, чем это казалось сверху. Он вдруг представил себе голову Тони Хэрода на подносе, хищно улыбнулся и бросился бегом к фургону. Задние двери были распахнуты настежь. Прижавшись к раскаленному металлу машины, Хейнс двинулся вдоль фургона. Он знал, что представляет собой идеальную мишень для любого человека с винтовкой на южной стороне холма, но поделать ничего не мог. Он сам выбрал место для посадки, так как с этой стороны склон в основном был покрыт травой и камнями. Укрыться здесь практически было негде, если не считать нескольких кустов, возле которых по-прежнему стоял пилот. За четыре совершенных ими облета Хейнсу так и не удалось ничего заметить. Он прижал к бедру М-16 и заглянул в дверь фургона. Внутри находились какие-то ящики, мотки проводов и электронное оборудование. Хейнс увидел радиопередатчик и компьютер «Эпсон». Спрятаться в салоне было негде. Он залез внутрь и принялся копаться в ящиках. В одном из них оказалось шестьдесят или семьдесят фунтов какой-то массы, напоминающей гипс для лепки. Она была разделена на отдельные куски, тщательно завернутые в пластиковые пакеты. – О черт, – прошептал Хейнс. Больше ему не хотелось тут оставаться. – Эй, капитан, может, мы уже полетим? – окликнул его пилот. – Да, возвращайся в вертолет! – приказал агент и, как только Стив запрыгнул в кабину, бросился, пригнувшись, к отверстию в правом боку плексигласового пузыря. Он был уже на полпути, когда с северного склона прозвучал голос, слишком громкий для того, чтобы быть естественным: – Хейнс! Первые выстрелы раздались несколькими секундами позже.Глава 50
В окрестностях Сан-Хуан-Капистрано
Суббота, 25 апреля 1981 г.
Сол и Натали не проехали и пятнадцати минут, как увидели впереди полицейский пост. Машина с мигалками стояла поперек шоссе, оставив с обеих сторон лишь узкие проезды. Еще четыре выстроились с восточной стороны от нее и три с западной на встречной полосе. Натали остановила фургон у обочины на вершине холма, не доезжая четверти мили до заграждения. – Авария? – спросила она. – Не думаю. – Сол покачал головой. – Быстро разворачивайся. – Вниз по каньону, откуда мы приехали? – спросила она. – Нет. В двух милях отсюда есть гравийная дорога. – Там, где стоял знак лагерной стоянки? – Не знаю. – Сол вытащил картонную коробку из-за пассажирского сиденья, достал оттуда кольт и удостоверился, что он заряжен. Натали не пришлось долго искать дорогу, они свернули влево и двинулись сквозь густые деревья и редкие лужайки, заросшие травой. Один раз им пришлось съехать на обочину и пропустить пикап с небольшим прицепом. От дороги в обе стороны отходили разные тропинки, но они выглядели слишком узкими, и ими явно давно не пользовались, поэтому Натали продолжала двигаться вперед – сначала к югу, потом на восток и снова к югу, по мере того как гравий постепенно переходил в утрамбованную землю. Они заметили еще одну полицейскую машину в двухстах ярдах впереди, когда спускались по крутому, заросшему лесом склону. Натали остановила фургон. – Проклятье! – вырвалось у нее. – Он нас не видел, – успокоил ее Сол. – Шериф, или кто он там, стоял у машины и смотрел в бинокль в противоположную сторону. – Он заметит нас, когда мы снова будем пересекать открытое пространство, – возразила Натали. – Здесь так мало места, что мне придется дать задний ход, пока мы не доберемся до более широкого участка у поворота дороги. – Не надо возвращаться, – немного подумав, сказал Сол. – Поезжай вперед. Посмотрим, остановит ли он тебя. – Он нас арестует, – выдохнула девушка. Сол покопался за сиденьем и извлек балаклаву и духовой пистолет с ампулами, испробованный на Хэроде. – Я сейчас выйду, – сказал он. – Если они охотятся не на нас, я присоединюсь к тебе на той стороне холма, там, где дорога сворачивает на восток. – А что, если они все-таки ищут нас? – Тогда я присоединюсь к тебе гораздо раньше. Я почти уверен, что, кроме этого парня, там, внизу, никого нет. Может, нам удастся выяснить, что происходит. – Сол, а вдруг он захочет осмотреть фургон? – Пусть. Я постараюсь подобраться как можно ближе. Но когда мне надо будет пересечь открытый участок, отвлеки его. Я буду двигаться с южной стороны под прикрытием фургона, если мне это удастся. – А он не может оказаться одним из этих? – Не знаю. Думаю, они просто привлекли местные власти. Поэтому надо действовать осторожно, чтобы не причинить ему вреда, но чтобы и нам его никто не причинил. – Он бросил взгляд на заросший лесом склон. – Дай мне минут пять, чтобы добраться до места. – Будь осторожен, Сол. – Натали прикоснулась к его руке. – Теперь у нас никого нет, кроме друг друга. Он ободряюще похлопал ее по плечу, кивнул, взял свое снаряжение и бесшумно исчез за деревьями.* * *
Натали выждала минут шесть, завела мотор и медленно двинулась вперед. Когда она выехала на открытое место, шериф, стоявший возле своей машины с окружными номерами, выразил явное изумление. Резким движением он вытащил револьвер из кобуры и прицелился, положив правую руку на капот. Когда фургон отделяло от него всего футов двадцать, он поднял мегафон, который держал в другой руке, и прокричал: – Немедленно остановитесь! Натали выполнила требование и подняла над рулем руки, показывая, что они пусты. – Выключите мотор и выходите из машины, руки за голову! – скомандовал полицейский. Сердце Натали билось как сумасшедшее, она выключила двигатель и открыла дверцу. Казалось, что полицейский очень нервничает. Пока она стояла у фургона, подняв руки, взгляд его метался к машине и обратно, словно он намеревался воспользоваться радиосвязью, но при этом не желал расставаться ни с револьвером, ни с мегафоном. – В чем дело, шериф? Она старалась, чтобы ее голос звучал спокойно. Ей было странно произносить это слово, поскольку человек у машины ни в малейшей степени не походил на Роба. Ему было пятьдесят с небольшим, высокий, худой, со множеством мелких морщин на лице, будто он всю жизнь щурился от солнца. – Молчите! Отойдите от фургона. Вот так. Руки за голову. Не приближаться. Лечь на землю. – В чем дело? Что я такого сделала? – опускаясь на коричневую траву, спросила Натали. – Молчите! Всем выйти из фургона! Немедленно! Она попыталась улыбнуться: – Кроме меня, там никого нет. Послушайте, шериф, это какая-то ошибка. Я никогда даже не останавливалась в неположенном месте. – Молчите! Мужчина мгновение колебался, затем положил мегафон на капот. Натали показалось, что вид у него несколько растерянный. Он снова бросил взгляд на рацию, обошел машину, держа девушку на прицеле, и осторожно осмотрел фургон. – Не двигайтесь! – крикнул он, приближаясь к открытой дверце «форда». – Если внутри кто-нибудь есть, скажите, чтобы выходили немедленно. – Но я действительно еду одна, – повторила Натали. – Что происходит? Я ничего не сделала… – Молчите! – снова бросил полицейский и неуклюже запрыгнул на водительское сиденье. Револьвер его теперь был направлен внутрь салона, но, осмотрев его и убедившись, что внутри только ящики, он совершенно очевидно расслабился. Не выходя из машины, он снова прицелился в Натали: – Одно движение, мисс, и я раскрою ваш череп, как арбуз. Натали лежала в неудобной позе, упершись локтями в землю и заведя руки за голову, пытаясь через плечо рассмотреть поджарого полицейского. Револьвер, из которого он в нее целился, казался ей невероятно огромным. От напряжения у нее заныло между лопатками, она физически ощущала, что вот-вот туда вонзится пуля. Что, если он – один из них? – Руки за спину. Быстро! Как только Натали выполнила приказ, он рванулся к ней и защелкнул наручники. Она уткнулась лицом в землю, почувствовав на зубах песок. – А вы не хотите сообщить мне о моих правах? – осведомилась она, чувствуя, как волна адреналина и гнева смывает охвативший ее паралич ужаса. – Идите вы к черту со своими правами, мисс! – огрызнулся шериф, выпрямившись и успокоившись. – Вставайте. – Он убрал в кобуру длинноствольный револьвер. – Сейчас сюда прибудет ФБР, и тогда мы узнаем, что происходит. – Отличная мысль, – раздался приглушенный голос за их спинами. Натали повернулась и увидела, как из-за фургона выходит Сол в балаклаве и зеркальных очках. В правой руке он держал кольт, а в левой – громоздкий духовой пистолет. – Даже и не думайте! – продолжил Сол, когда шериф замер на месте. Натали окинула взглядом черную балаклаву, серебристые зеркальные очки, пистолет, и даже ей самой стало страшно. – Лицом вниз. Быстро! – распорядился Сол. Шериф явно колебался, и Натали поняла, что чувство достоинства в нем борется с инстинктом самосохранения. Сол щелкнул затвором и взвел курок. Шериф опустился на колени и упал на живот. Натали откатилась в сторону и стала наблюдать за происходящим. Момент был решающим: у полицейского в кобуре по-прежнему оставался револьвер. Солу следовало сначала заставить его положить оружие и лишь потом укладывать шерифа на землю. Теперь ему придется подойти на достаточно близкое расстояние, чтобы забрать у него револьвер. «Мы абсолютные дилетанты во всем этом», – подумала Натали. Больше всего ей хотелось, чтобы Сол просто выстрелил ампулой с транквилизатором в зад полицейскому и покончил со всем этим. Однако Ласки быстро подошел к шерифу и встал на его худую спину коленом. Тот резко выдохнул, прижавшись лицом к земле. Вынув револьвер из кобуры, Сол отбросил его в сторону и кинул Натали связку ключей. – Один из них должен быть от наручников. Она кивнула, подобрала с земли ключи и попыталась перешагнуть назад через кольцо скованных рук. – Пора побеседовать, – сказал Сол, приставив кольт к голове шерифа. – Кто приказал выставить дорожные посты? – Пошел к черту! – буркнул полицейский. Сол быстро встал, отступил шага на четыре и выстрелил. Пуля врезалась в землю в четырех дюймах от головы полицейского. От оглушительного грохота Натали выронила ключи. – Перестаньте упираться. Я же не прошу вас открывать мне государственную тайну. Просто спрашиваю, кто дал такое распоряжение? Если в течение ближайших пяти секунд я не получу ответа, пуля для начала прострелит вам левую лодыжку. Раз… Два… – Сукин сын, – выдавил из себя шериф. – Три… Четыре… – ФБР! – ответил он. – Кто именно из ФБР? – Не знаю. – Раз… Два… Три… – Хейнс! – выкрикнул полицейский. – Какой-то агент по фамилии Хейнс из Вашингтона. Минут двадцать назад он вышел со мной на связь. – А где он сейчас? – Не знаю… Клянусь, не знаю. Вторая пуля взметнула фонтан пыли между длинных ног полицейского. Натали тем временем справилась с ключами и отстегнула наручники. Она потерла запястья и осторожно подползла к валявшемуся на земле револьверу. – Он в вертолете Стива Гормана совершает облет шоссе, – признался шериф. – Хейнс дал вам описание людей или только фургона? Полицейский поднял голову и, прищурившись, посмотрел на Сола. – Людей, – ответил он. – Негритянка лет двадцати с небольшим и белый мужчина. – Вылжете! – Сол покачал головой. – Вы бы никогда не подошли к фургону, если бы знали, что преступников двое. Что, по словам агента, мы сделали? Мужчина что-то пробормотал. – Громче! – приказал Ласки. – Террористы, – мрачно повторил он. – Международный терроризм. Сол рассмеялся под черной шапочкой с прорезями. – Как он прав! Руки за спину, шериф. – Зеркальные линзы развернулись в сторону Натали. – Надень на него наручники. Дай мне револьвер и оставайся здесь. Если он сделает малейшее движение в твою сторону, я убью его. Натали защелкнула наручники на запястьях шерифа и попятилась. – Сейчас мы подойдем к вашей машине и свяжемся с Хейнсом, – обратился Сол к полицейскому. – Я объясню, что вы должны сказать. Выбор следующий: можете умереть здесь и сейчас, а можете вызвать на помощь кавалерию – и, чем черт не шутит, выжить. После того как шериф в точности выполнил указания Сола, его отвели на склон холма и приковали наручниками к стволу поваленной сосны. Место это с дороги не просматривалось и служило прекрасным укрытием. Отсюда хорошо был виден весь склон. – Оставайся с ним, – распорядился Сол. – Я вернусь к фургону за шприцами и пентобарбиталом, а заодно прихвачу его винтовку из машины. – Но, Сол, они же сейчас будут здесь! – воскликнула Натали. – Лучше используй духовой пистолет с ампулами! – Мне эти транквилизаторы не очень нравятся. У тебя слишком подскочило сердцебиение в прошлый раз. Если у этого парня какие-нибудь нелады с сердцем, он может не выдержать. Я сейчас вернусь, не беспокойся. Натали прислонилась к стволу дерева, наблюдая, как Сол побежал сначала к полицейской машине, а затем нырнул в фургон. – Мисс, – прошипел шериф, – вы здорово влипли. Расстегните наручники и отдайте мне пистолет, тогда у вас будет шанс выбраться живой. – Молчите! – бросила Натали. Сол уже поднимался по склону с синим рюкзачком и полицейской винтовкой в руках, когда до Натали донесся приглушенный рокот вертолета, с каждой секундой становившийся все громче. Ей не было страшно, она испытывала лишь возбуждение. Револьвер шерифа Натали положила рядом на землю и сняла предохранитель с кольта Сола. Затем она оперлась руками о камень и прицелилась в фургон, задняя дверца которого теперь была распахнута, – впрочем, Натали понимала, что с такого расстояния у нее нет никаких шансов. Сол подбежал к ним как раз в тот момент, когда из-за холмов появился вертолет. Еле переводя дыхание, он опустился на корточки и принялся наполнять шприц. Изрыгая ругательства, шериф попробовал было оказать сопротивление, но Сол решительно ввел иглу ему в руку, и через несколько мгновений шериф погрузился в забытье. Сол сдернул балаклаву и очки. Вертолет сделал заход на новый круг, на сей раз опустившись ниже, и они невольно пригнулась к земле. Покопавшись в рюкзаке, Сол нашел красно-белую коробку с запаянными медью патронами и один за другим начал вставлять их в винтовку полицейского. – Извини, Натали, что я с тобой не посоветовался. Но я не могу упустить такую возможность. – Все нормально, – кивнула она. Ей не было страшно, наоборот, она испытывала сильное возбуждение и с трудом заставляла себя спокойно сидеть на месте. – Это так захватывающе, – выдохнула она. Сол внимательно посмотрел на нее: – Я понимаю, что поступаю неправильно, но мне ужасно хочется разобраться с тем типом. А потом мы выберемся отсюда и уедем. – Он прислонил винтовку к камню и обнял ее за плечи. – Натали, в настоящий момент наш организм перенасыщен адреналином и все кажется чрезвычайно захватывающим, но это не телевидение. После того как стрельба закончится, исполнители не встанут и не пойдут пить кофе. Через несколько минут, возможно, кто-то из нас будет ранен, и все окажется не менее трагичным, чем последствия автодорожной катастрофы. Сосредоточься. Лучше, чтобы эта катастрофа произошла не с нами. Она немного успокоилась, понимая, что Сол прав. Вертолет сделал заход на последний круг, ненадолго исчез за гребнем холма и начал снижаться, поднимая клубы пыли и сосновых игл. Натали легла на живот и прижалась плечом к валуну, Сол поудобнее взял винтовку и устроился рядом.* * *
Вдыхая запах высушенной солнцем хвои, он думал о другом времени и других местах. После бегства из Собибора в октябре 1944 года он присоединился к еврейскому партизанскому отряду, действовавшему в лесу Сов. В декабре, еще до того, как стал помощником врача, Солу была выдана винтовка, и его посылали в караул. Однажды холодной ясной ночью он лежал в засаде. Освещенный луной снег казался подкрашенным синькой. И вдруг на просеку вышел немецкий солдат. Он был без каски, без оружия, и на вид казался совсем юным. Руки и уши у него были замотаны тряпьем, щеки побелели от мороза. По нашивкам Сол сразу определил, что юноша был дезертиром. Неделю назад в этом районе Красная армия предприняла крупномасштабное наступление, и, хотя до окончательного падения вермахта оставалось еще много времени, этот юноша присоединился к сотням других, пустившихся в стремительное бегство. Командир партизанского отряда Йехиэль Гриншпан дал отчетливые указания, как поступать с такими одиночками, немецкими дезертирами. Их следовало расстреливать, а тела сбрасывать в реку или оставлять разлагаться. Никакие допросы не предполагались. Единственное исключение допускалось в тех случаях, когда звук выстрела мог выдать присутствие партизанского отряда нередким здесь немецким патрулям. Тогда дезертира можно было пропустить или попытаться прикончить его ножом. Сол пребывал в нерешительности. У него была возможность выстрелить. Отряд находился в пещере в нескольких сотнях метров от этого места. Фашистов поблизости не было, но, вместо того чтобы стрелять, он вышел навстречу тому немцу. Парень упал на колени в снег и начал плакать, с мольбой обращаясь к Солу на немецком языке. Тот обошел его сзади, так что ствол допотопного маузера оказался менее чем в трех футах от покрытого светлыми волосами затылка. Он вспомнил о рве – шевелящиеся белые тела и лейкопластырь на щеке сержанта вермахта, когда тот сел, свесив ноги в эту заполненную живыми и мертвыми людьми яму, чтобы устроить себе перекур. Юноша продолжал плакать. Изморозь поблескивала на его длинных ресницах. Сол поднял маузер, отступил на шаг и сказал по-польски: «Иди». Не веря своим ушам, молодой немец оглянулся, пополз вперед, а потом поднялся на ноги и заковылял прочь по просеке. На следующий день, когда партизанская группа переместилась к югу, они наткнулись на его окоченевший труп, лежавший в ручье лицом вниз. В тот же вечер Сол пошел к Гриншпану и попросил перевести его в помощники к доктору Ячику. Командир отряда долго смотрел на него, прежде чем ответить. Отряд не мог позволить себе роскошь содержать евреев, которые не хотели или не могли убивать немцев, но Гриншпан знал, что Сол прошел Хелмно и Собибор. И он дал согласие. Сол снова участвовал в военных действиях в 1948, 1956, 1967 и в течение нескольких часов в 1973 году, и каждый раз исполнял лишь обязанности медика. Кроме тех нескольких жутких часов, когда оберст заставлял его преследовать старика-генерала, он никогда в своей жизни не сталкивался с ситуацией, где ему нужно было убить другого человека… Сол лежал на животе в мягкой ложбине, усыпанной нагретой солнцем хвоей, и смотрел на часы. Вертолет наконец приземлился в неудобном месте на дальнем участке холма, так что обзор был частично скрыт полицейской машиной. Винтовка шерифа оказалась старой – с деревянным ложем, со щелевым прицелом. Сол пожалел, что у него нет оптического прицела. Все складывалось не так, как учил Джек Коэн, – в руках у него было чужое оружие, из которого он никогда не стрелял, поле обзора заслоняли помехи, пути к отступлению не было. Но тут Сол вспомнил об Ароне, Деборе и близнецах и загнал патрон в ствол. Первым из вертолета вышел пилот и неторопливым шагом направился к ближайшим кустам. Это оказалось для Сола неожиданностью и встревожило его. Человек, оставшийся в кабине, держал в руках автоматическую винтовку, на нем были темные очки, кепка с длинным козырьком и громоздкий бронежилет. С расстояния в шестьдесят ярдов и при косых лучах заходящего солнца Сол не мог с уверенностью сказать, что это Ричард Хейнс. Внезапный приступ тошноты вместе с пугающим чувством, что он делает что-то не так, вновь накатил на него. Когда он забирал из полицейской машины винтовку, то слышал по радиосвязи голос Хейнса, тот обращался к какому-то Свенсону. Нет, конечно, это должен быть Хейнс. Значит, единственное, что оставалось фэбээровцу, – это сидеть и ждать подкрепления. Сол положил мегафон слева от себя и снова посмотрел в прицел винтовки. Мужчина в бронежилете выскочил из вертолета и, пригнувшись, бросился под прикрытие полицейской машины. Сол не слишком отчетливо различил его, но он успел заметить мощную челюсть и аккуратно подстриженные волосы, выглядывавшие из-под кепки. Конечно, это не кто иной, как Ричард Хейнс. – Где он? – прошептала Натали. – За фургоном, – так же шепотом ответил Сол. – У него винтовка. Не высовывайся. Пилот что-то спросил и, видимо получив разрешение, неторопливо двинулся в сторону вертолета. Пятью секундами позже агент направился туда же маленькими перебежками. – Хейнс! – крикнул в мегафон Сол, и Натали вздрогнула от громкого звука, эхом отразившегося от противоположного склона. Пилот бросился обратно под укрытие кустов, а человек в бронежилете развернулся, опустился на одно колено и начал поливать склон автоматным огнем. Из-за расстояния хлопки выстрелов казались Солу какими-то игрушечными и несерьезными. Одна пуля просвистела сквозь ветви футах в восьми-девяти над их головами. Сол прижал к щеке винтовку, прицелился и выстрелил. Отдача оказалась неожиданно сильной, приклад больно ударил его в плечо. Хейнс продолжал стрелять. Две пули отскочили от валуна прямо перед Солом, а еще одна вгрызлась в поваленное дерево с таким звуком, который обычно издает топор, когда рубят полено. Сол пожалел, что не завел шерифа в лес поглубже. Он увидел, как от его выстрела взметнулся фонтан из хвои чуть левее Хейнса, и переместил винтовку правее, одновременно заметив боковым зрением, что пилот бежит в сторону деревьев. Следующая очередь прошлась по валуну, за которым, свернувшись, лежала Натали, и тут стрельба резко оборвалась. Припавший на колено человек отбросил в сторону прямоугольную обойму и начал доставать из кармана следующую. Сол прицелился и выстрелил. Хейнс отшатнулся, словно его дернули за невидимый поводок, очки и кепка слетели, и он рухнул на спину, раскинув ноги. Наступившая тишина была оглушающей. Натали высунулась из укрытия, хватая ртом воздух. – О господи, – прошептала она. – С тобой все в порядке? – спросил Сол. – Да. – Оставайся на месте. – Ни за что, – категорично ответила она, поднимаясь на ноги. Медленно они стали спускаться по склону. Они прошли уже сорок футов, когда Хейнс перекатился на живот, поднялся на колени, схватил винтовку и бросился к дальнему краю опушки. Сол выстрелил, но промахнулся. – Черт! Сюда! – Он толкнул Натали влево, в густые заросли кустарника. – Сейчас подойдут остальные, – задыхаясь, прошептала она. – Да, – кивнул он. – Будем двигаться осторожно, от дерева к дереву. У подножия холма склон был не таким заросшим. Сол гадал, вооружен ли пилот. Оставаясь под прикрытием деревьев и стараясь держаться подальше от края просеки, они добрались до того места, где Хейнс скрылся в лесу. Сол жестом показал Натали, чтобы она остановилась за кустами, а сам, глядя по сторонам, двинулся дальше. Патроны позвякивали в карманах его спортивной куртки. Под деревьями уже становилось темно, тучи комаров облепили потное лицо Сола. Ему казалось, что прошло уже много часов с тех пор, как приземлился вертолет, но оказалось – всего шесть минут. Косой солнечный луч упал вдруг на что-то яркое и блестящее на фоне темной хвои. Сол опустился на колени и пополз вперед. Затем остановился, перекинул винтовку в левую руку и нащупал правой мокрое кровавое пятно. Алая дорожка вела в гущу деревьев. Он попятился, и тут слева от него раздалась автоматная очередь. Теперь она вовсе не казалась игрушечной. Это была безумная беспорядочная стрельба. Он вжался щекой в землю и попытался слиться с ней, в то время как пули срезали ветви над его головой, впивались в стволы деревьев и со свистом улетали обратно на просеку. По крайней мере дважды до него донеслись металлические звуки, но он не стал поднимать голову и смотреть, которая из машин подбита. И тут Сол услышал дикий крик, переходивший в вопль. Он вскочил и бросился влево, подхватив на бегу сбитые веткой очки, пока чуть не перелетел через Натали, которая сидела, прижавшись к гнилому пню. Он упал на землю рядом с ней: – С тобой все в порядке? – Да. – Она указала револьвером по направлению к густым зарослям молодых сосен, где склон холма переходил в овраг. – Шум доносился оттуда. Он стрелял не в нас. Сол осмотрел свои очки и проверил карманы куртки – убедиться, что револьвер и патроны на месте. Локти его были испачканы грязью. – Пошли, – скомандовал он. Они поползли вперед на расстоянии три ярда друг от друга и вскоре наткнулись на ручей, выбегавший из оврага. Его плотно окружали молодые побеги елей, низкорослые березы и папоротник. Здесь-то Натали и обнаружила пилота. Тело его было разрезано почти пополам автоматной очередью, он судорожно обхватил руками серовато-белые кишки, вылезшие из живота, будто пытался заправить их обратно. Голова мужчины запрокинулась, рот широко раскрылся в оборвавшемся крике, затянутые пленкой глаза были устремлены в клочок синего неба, видневшегося меж ветвей. Натали отвернулась, не в силах выносить это зрелище. – Пойдем, – прошептал Сол. Шум воды в ручье был достаточно громким, чтобы заглушать остальные звуки. За стеной еловых побегов на поваленном дереве виднелись крохотные капли крови. Вероятно, Хейнс побывал здесь за несколько минут до того, как услышал приближение пилота, пытавшегося укрыться в кустах. Сол огляделся, гадая, в какую сторону мог двинуться агент ФБР. Слева за прогалиной снова начинался лес, заполнявший долину и поднимавшийся по склону. Справа тянулся заросший молодыми деревцами овраг, заканчивавшийся узкой расщелиной, покрытой можжевеловыми кустами. Надо было решаться. Куда бы Сол ни двинулся, он оказывался на виду у агента, вооруженного автоматом. Психологический барьер, создаваемый прогалиной слева, заставил его прийти к выводу, что Хейнс пошел направо. Он передал винтовку Натали и, почти прижавшись губами к ее уху, прошептал: – Я пойду туда. Спрячься за стволом. Дай мне ровно четыре минуты, а затем выстрели в воздух. Но сама не высовывайся. Если ничего не услышишь, выжди еще минуту и выстрели еще раз. Через десять минут, если я не вернусь, возвращайся в фургон и уезжай. Отсюда он не может видеть дорогу. Поняла? – Да. – У тебя есть паспорт, – продолжил Сол. – Ты в любой момент можешь вылететь в Израиль. Натали молча кивнула. Лицо ее напряглось, она крепко сжала губы, так что они превратились в тонкую полоску. Сол пополз через мягкую поросль елей, стараясь не удаляться от ручья.* * *
Он чувствовал запах крови. По мере того как он углублялся в заросли низкого можжевельника, ее становилось все больше. Он двигался слишком медленно – прошло уже три минуты. Правая ладонь, в которой он сжимал кольт, вспотела, очки то и дело соскальзывали с переносицы. Рукава на локтях и джинсы на коленях были разодраны, дыхание со свистом вырывалось из груди. Целая туча мух, вьющихся над очередной лужицей свежей крови, облепила его лицо. У него оставалось всего полминуты. Если Хейнс тяжело ранен, он не мог далеко уйти. Возможно, их отделяет расстояние не более десяти ярдов. М-16 в двадцать раз дальнобойнее, чем пистолет Сола, даже считая дополнительную пулю в стволе. У него было всего восемь патронов, остальные три обоймы он аккуратно сложил возле шерифа. Хотя теперь это не имело значения. До выстрела Натали оставалось двадцать секунд, а он прополз совсем немного. Сол на четвереньках рванулся вперед, с шумом вдыхая и выдыхая воздух, сознавая при этом, что издает слишком громкие звуки. Он упал под нависающую можжевеловую ветвь, пытаясь выровнять дыхание. И тут в овраге прогремел выстрел Натали. Сол перекатился на спину и зажал рот рукой, чтобы его не было слышно. Сверху не донеслось ни выстрелов, ни шелеста ветвей. Он лежал на спине, держа пистолет рядом с лицом, понимал, что надо двигаться дальше, вверх по склону, но не мог пошевелиться. Небо темнело. Последние лучи заходящего солнца окрашивали в розовый цвет перистые облака, над краем оврага уже замерцала первая звездочка. Сол приподнял левую руку и взглянул на часы. С момента приземления вертолета прошло двенадцать минут. Он вдохнул остывающий воздух и снова ощутил запах крови. Почему Натали не стреляет? Сол уже поднял руку, чтобы еще раз свериться с часами, когда прогремел второй выстрел, на этот раз ближе, и выпущенная пуля отрикошетила от камня на высоте тридцать футов от дна оврага. И тут Ричард Хейнс поднялся из кустов в восьми футах от Сола и начал поливать очередью овраг. Пули со свистом пролетали через кустарник, который он только что миновал, молодые деревца падали как подкошенные, словно их срезали невидимым серпом. Казалось, стрельбе не будет конца. Когда же наконец наступила тишина, Сол был настолько оглушен, что пару секунд не мог даже пошевелиться. Потом он расслышал щелчок, означавший, что Хейнс перезарядил винтовку. Где-то рядом с Солом хрустнула ветка. Он встал на ноги и увидел Хейнса, ненавистного подонка и предателя, работавшего на два фронта. Рука его не дрогнула, когда он выпустил в этого негодяя шесть пуль. Агент выронил винтовку, застонал и сполз на землю. Он глядел на Сола с таким изумлением, словно не верил собственным глазам. Волосы Хейнса взмокли от пота, бронежилет свисал с одного плеча, лицо было покрыто грязью, а левая штанина пропиталась кровью. Первые три выстрела, вероятно, попали в жилет и просто отшвырнули агента назад, зато следующий повредил ему левую руку, и как минимум еще один попал в шею. Сол перешагнул через низкий куст, присел в трех футах от Хейнса и увидел обнаженную белую кость раздробленной ключицы. Он отодвинул в сторону М-16. Хейнс сидел, выпрямив ноги, так что носки черных ботинок были направлены перпендикулярно вверх. Поврежденная рука была вывернута, а другая безвольно лежала на колене. Он несколько раз открыл и закрыл рот, и Сол заметил на его губах алую кровь. – Мне больно, – слабым голосом произнес Ричард Хейнс. Сол кивнул и по старой привычке, а также из профессионального интереса принялся рассматривать и анализировать ранения. Левую руку наверняка придется ампутировать, но при наличии плазмы и оказании помощи в течение ближайших двадцати-тридцати минут жизнь агента можно спасти. Он вспомнил, как в последний раз видел Арона, Дебору и близнецов в Йом-Киппуре. Они с Ароном сидели на диване и беседовали, а девочки, утомившись, заснули рядом на подушках. – Помоги мне, – прошептал Хейнс. – Пожалуйста. – Нет. – Сол покачал головой и до боли сжал челюсти. – Только не тебе. – И он дважды выстрелил в голову агента.* * *
Когда Сол спустился в овраг, Натали с винтовкой уже поднималась вверх по склону. Она посмотрела на автомат в его руке и вопросительно подняла брови. – Готов, – произнес он. – Надо спешить. С момента приземления вертолета до того, как Натали вновь завела мотор фургона, прошло всего семнадцать минут. – Постой, – сказал Сол, – после начала стрельбы ты заглядывала к шерифу? – Да, – ответила она. – Он спал, с ним все было в порядке. – Я сейчас. – Он выскочил из фургона с автоматом в руках и посмотрел на вертолет, стоявший на расстоянии сорок футов. Под кабиной виднелись два резервуара для горючего. Сол установил селектор на единичный выстрел. Раздался гулкий звук, словно ломом ударили по котлу, но взрыва не последовало. Он выстрелил еще раз, и все вокруг заполнилось острым запахом авиационного топлива. После третьего выстрела вертолет загорелся. – Поехали! – крикнул он, запрыгивая в фургон. Трясясь по кочкам, они миновали машину шерифа. Едва они успели добраться до деревьев на юго-восточной стороне холма, как взорвался второй бак, кабина отлетела за деревья и опалила левую сторону полицейской машины. – Быстрее! – крикнул Сол, когда они въехали под темный полог леса. – У нас маловато шансов, – заметила Натали. – Да. Сейчас они поднимут всех полицейских в округе Ориндж и Риверсайд, перекроют шоссе и подъезды к нему и вышлют сюда вертолеты и машины до наступления рассвета. Фургон пересек ручей и с ревом помчался вверх по холму, разбрасывая вокруг снопы гравия. Натали ловко развернула машину, так что ее даже не занесло, и спросила: – Это стоило того, Сол? Он сосредоточенно выправлял погнутые дужки очков. – Да, – ответил он, подняв голову. – Стоило. Натали кивнула и направила машину вниз по длинному пологому склону к видневшейся впереди темной полосе леса.Глава 51
Дотан, штат Алабама
Воскресенье, 26 апреля 1981 г.
Утром в воскресенье, прежде чем выступить перед восьмитысячной аудиторией с прямой трансляцией почти на два с половиной миллиона телезрителей, преподобный Джимми Уэйн Саттер настолько потряс слушателей в Молитвенном дворце своей проповедью о грядущем конце света, что те повскакали с мест и заголосили. Они тут же бросились звонить по телефону сборщикам пожертвований и сообщать им номера своих кредитных карт. Передача длилась полтора часа, семьдесят две минуты из которых преподобный Саттер читал свою проповедь. Сначала он зачитывал отрывки из Послания апостола Павла к коринфянам, после чего разразился гораздо более длинной речью, в которой сам стал воображать себя Павлом, пишущим коринфянам в наши дни и сообщающим о перспективах духовного развития Соединенных Штатов. Говоря от лица апостола Павла, преподобный Джимми Саттер обрисовывал нравственный климат в стране как разгул безбожия, порнографии, вседозволенности, разврата, демонической одержимости, поощряемой видеозаписями, компьютерными играми и состоянием всеобщего и всепроникающего разложения, наиболее ощутимо проявляющегося в отказе принимать Христа как своего личного Спасителя. Когда ансамбль «Евангелические гитары» доиграл последние триумфальные аккорды и на всех девяти камерах погасли красные лампочки, преподобный Джимми Уэйн в сопровождении лишь трех телохранителей, личного консультанта и бухгалтера двинулся к своему кабинету по пустым коридорам, куда никого не допускали. Саттер оставил всех пятерых в приемной и, на ходу снимая пасторские одежды, двинулся по ковру своей святая святых, пока не застыл обнаженным у стойки бара. Он наливал бурбон в высокий фужер, когда кожаное кресло у его рабочего стола вдруг развернулось, и Саттер увидел в нем пожилого человека с румяным лицом и выцветшими глазами. – Весьма впечатляющая проповедь, Джеймс, – иронично произнес тот с едва заметным немецким акцентом. От неожиданности Саттер подпрыгнул, пролив бурбон себе на руку. – Черт побери, Вилли! Я думал, ты приедешь позже… – А я решил приехать раньше, – улыбнулся Вильгельм фон Борхерт, оглядывая обнаженный торс преподобного. – Ты прошел через мой персональный вход? – Естественно, – кивнул немец. – А ты думал, я войду вместе с толпами туристов и поприветствую приспешников Барента и Кеплера? Джимми Уэйн Саттер что-то пробормотал, допил свой бурбон и направился в ванную. – Сегодня утром мне звонил брат Кристиан. Как раз по поводу тебя! – крикнул он, перекрывая шум льющейся воды. – Неужели? – осведомился Вилли все с той же улыбкой. – И чего же хотел наш старинный друг? – Он просто поставил меня в известность, что ты трудишься не покладая рук, – откликнулся Саттер. – Правда? – Хейнс, – пояснил преподобный, и голос его отразился эхом от изразцовых стен, когда он шагнул под струи душа. Вилли подошел к двери ванной. На нем был белый льняной костюм и открытая рубашка цвета лаванды. – Хейнс – это агент ФБР? – уточнил он. – И что же с ним случилось? – Можно подумать, ты не знаешь. – Саттер принялся усиленно растирать губкой свое тело – розовое, гладкое и безволосое, чем-то напоминавшее огромную новорожденную крысу. – Может, и не знаю, так что расскажи мне. – Вилли снял пиджак и повесил его на крючок. – После гибели Траска Барент отслеживал израильские связи. Выяснилось, что в израильском посольстве кто-то занимается компьютерным расследованием, ищет файлы ограниченного допуска. Их интересовала информация, связанная с братом К. и всеми остальными. Но ведь для тебя это не новость, не так ли? – Продолжай, я внимательно слушаю. – Вилли стащил рубашку и повесил ее рядом с пиджаком. Затем, не торопясь, снял свои модные итальянские туфли за триста долларов. – Барент ликвидировал назойливого субъекта, а Хейнс взялся отслеживать его связи на Западном побережье, где ты играл в какую-то непонятную игру. Вчера вечером Хейнс чуть было не поймал твоих людей, но в результате пострадал сам. Кто-то заманил его в лес и пристрелил. Кого ты Использовал? Лугара? – спросил Саттер, шумно отфыркиваясь под струями воды. – И нарушители спокойствия так и не были пойманы? – Вилли аккуратно сложил брюки и, повесив их на спинку биде, остался лишь в синих трусах. – Нет, – ответил преподобный Джимми Уэйн. – Лес кишмя кишит полицией, но пока они так никого и не нашли. Как тебе удалось провернуть это дело, Вилли? – Профессиональная тайна, – усмехнулся немец. – Послушай, Джеймс, если я скажу тебе, что не имею к этому никакого отношения, ты мне поверишь? Саттер рассмеялся: – А как же! Ровно настолько, насколько ты поверишь мне, если я скажу, что все пожертвования идут на приобретение новых Библий. Вилли снял с запястья золотые часы. – Это может как-то помешать нашим планам, Джеймс? – Пока не вижу, каким образом, – ответил Саттер, ополаскивая от шампуня свои длинные седые волосы. – Думаю, брат Кристиан еще с большей готовностью будет ждать тебя на острове. – Он открыл стеклянную дверь душа и посмотрел на обнаженное тело Вилли. Член у преподобного встал, головка почти побагровела. – Но ведь мы не дрогнем, не так ли, Джеймс? – промолвил Вилли, входя под душ и становясь рядом с проповедником. – Нет, – откликнулся Джимми Уэйн Саттер. – Чем же мы станем руководствоваться? – осведомился немец напевным голосом. – Откровением Иоанна. – Саттер блаженно застонал, когда Вилли нежно взял в руки его мошонку. – Какова же наша цель, mein Liebchen?[57] – прошептал Вилли, поглаживая тяжелый пенис преподобного. – Второе пришествие, – выдохнул Саттер, закрывая глаза. – И чью волю мы исполняем? – Немец провел губами по гладкой щеке Саттера. – Волю Господню, – ответил преподобный Джимми Уэйн, двигая чреслами в унисон с движениями ласкающей его руки. – И что является нашим божественным орудием? – прошептал Вилли в ухо Саттеру. – Армагеддон, Армагеддон! – воскликнул тот. – Да свершится воля Его! – возопил немец, быстрыми, энергичными движениями растирая пенис проповедника. – Аминь! – заорал Саттер. – Аминь! Он раскрыл рот, позволив трепещущему языку Вилли проскользнуть внутрь, и кончил. Белесые нити спермы заструились на дно душевой, вращаясь в струях воды, пока не исчезли в отверстии канализации.Глава 52 Мелани
Меня обуревали романтические мысли о Вилли. Возможно, это было следствием влияния мисс Сьюэлл. Она была энергичной и чувственной молодой женщиной с совершенно определенными потребностями, требующими удовлетворения. Время от времени, когда эти потребности начинали отвлекать ее от обязанности ухаживать за мной, я позволяла ей на несколько минут уединяться с Калли. Иногда я подсматривала за этими краткими и зверскими вспышками плотских восторгов ее глазами. Порою взирала на это с позиции Калли, а однажды я испытала даже оргазм, пребывая одновременно в телах обоих. Но всякий раз, когда до меня доносились волны чужой страсти, я думала о Вилли. Как он был красив в те тихие довоенные дни! Его аристократичное лицо с тонкими чертами и светлые волосы свидетельствовали о благородном арийском происхождении. Нам с Ниной нравилось находиться в его обществе. Думаю, и он гордился тем, что его видели с двумя привлекательными игривыми американками – ошеломляющей блондинкой с васильковыми глазами и более тихой и застенчивой, но тем не менее обворожительной юной красавицей с каштановыми локонами и длинными ресницами. Помню, как мы гуляли в Бад-Ишле еще перед тем, как наступили дурные времена. Вилли сказал какую-то шутку, и, пока я смеялась, он взял меня за руку. Это было как удар электрическим током, мой смех тут же оборвался. Мы склонились друг к другу, взгляд его прекрасных голубых глаз был полностью поглощен мною. Нас разделяло столь малое расстояние, что мы ощущали жар друг друга, но мы не поцеловались, по крайней мере тогда. Отказ был составной частью изощренного ритуала ухаживаний в те дни. Он являлся чем-то вроде поста, обостряющего аппетит перед наслаждением гурманской трапезой. Нынешние юные обжоры даже не подозревают о подобных тонкостях и воздержании, они стремятся тут же удовлетворить любую возникающую у них потребность, и нет ничего удивительного, что все удовольствия для них имеют привкус застоявшегося шампанского. Такие победы всегда чреваты бесплодной горечью разочарования. Я думаю, в то лето Вилли влюбился бы в меня, если бы Нина не соблазнила его самым вульгарным образом. После того страшного дня в Бад-Ишле я больше года отказывалась играть в нашу венскую Игру, а когда возобновила общение с ними, то наши отношения приобрели уже новый, более официальный оттенок. Сейчас я понимаю, что к тому моменту у Вилли давно уже закончился его краткий роман с Ниной. Нинина страсть вспыхивала ярко, но быстро иссякала. В течение последнего лета в Вене Вилли был полностью поглощен своими партийными обязанностями и долгом перед фюрером. Я помню его в коричневой рубашке, подпоясанной безобразным армейским ремнем, на премьере «Песни о Земле» в 1943 году, когда оркестром дирижировал Бруно Вальтер. То лето было невыносимо жарким, и мы жили в мрачном старом особняке, который Вилли арендовал в Хоэ-Варте, как раз неподалеку от того места, где проживала надменная гусыня Альма Малер. Эта претенциозная особа никогда не приглашала нас на свои вечеринки, и мы отвечали ей такой же холодностью. Я не раз испытывала искушение сосредоточиться на ней во время Игры, но в те дни мы очень мало играли из-за идиотской одержимости Вилли политикой. Теперь, лежа в своей постели в родном доме в Чарлстоне, я часто вспоминаю то время, думаю о Вилли и гадаю, как могла бы сложиться моя жизнь, если бы я опередила разрушительное кокетство Нины и вздохом, улыбкой или случайным взглядом вдохновила Вилли. Возможно, эти размышления подсознательно готовили меня к тому, что должно было вскоре последовать. За время болезни представления о времени потеряли для меня всякий смысл, так что, возможно, я стала передвигаться вперед, предвидя события будущего с такой же легкостью, с какой моя память возвращала меня в прошлое. Трудно сказать наверняка. К маю я настолько привыкла к уходу доктора Хартмана и сестры Олдсмит, заботливым процедурам мисс Сьюэлл, услугам Говарда, Нэнси, Калли и негра Марвина, непрерывному и нежному вниманию маленького Джастина, что могла бы пребывать в этом комфортном состоянии еще долго, если бы в один теплый весенний вечер в железные ворота моего дома не постучали. Я уже встречалась с этой посланницей. Звали ее Натали. И прислала ее, конечно же, Нина.Глава 53
Чарлстон
Понедельник, 4 мая 1981 г.
Позднее Натали вспоминала о происшедшем, и оно казалось ей сплошным сном, который растянулся на три тысячи миль. Все началось с чудесного появления красной машины. Всю ночь они колесили по Кливлендскому национальному заповеднику, держась в стороне от главной дороги после того, как увидели с вершины холма горящие фары, и пробирались к югу по дорожкам, немногим шире пешеходных троп. Затем кончились и тропы, но надо было двигаться вперед. Сначала на протяжении четырех миль по высохшему руслу ручья, так что фургон подскакивал и дребезжал, затем вверх через невысокий гребень. То и дело они натыкались на невидимые в темноте поваленные деревья и камни. Шли часы, приближая неизбежное. Сол пересел за руль, а Натали, несмотря на скрежет и тряску, погрузилась в дремоту. Преодолевая крутой склон на второй передаче, они наскочили на валун. Передний мост машины умудрился перевалить через него, но затем мотор заглох. Сол с фонариком залез под машину и вынырнул оттуда секунд через тридцать. – Все, – произнес он. – Дальше придется идти пешком. Натали слишком устала, чтобы плакать. – Что возьмем с собой? – только и спросила она. Сол осветил фонариком содержимое фургона: – Деньги, рюкзак, карту, какую-нибудь еду, наверное, пистолеты. – Он посмотрел на две винтовки. – Есть смысл брать их? – Мы что, собираемся стрелять в невинных полицейских? – Нет. – Тогда незачем брать и пистолеты. – Она взглянула на усеянное звездами небо, на темную стену холмов и деревьев, возвышавшуюся над ними. – Сол, ты знаешь, где мы находимся? – Мы двигались по направлению к Мюрриете, но столько раз сворачивали туда и сюда, что теперь я совсем запутался. – Нас могут выследить? – Только не в темноте. – Он посмотрел на часы; стрелки на светящемся циферблате показывали четыре утра. – Когда рассветет, они отыщут тропу, с которой мы съехали. Прежде всего прочешут все лесные дороги, и рано или поздно вертолеты разыщут фургон. – Может, имеет смысл забросать его ветками? Сол посмотрел на вершину холма. До ближайших деревьев было по меньшей мере ярдов сто. Остаток ночи уйдет на то, чтобы наломать необходимое количество сосновых веток и перетащить их к машине. – Нет, – решительно сказал он. – Давай просто возьмем то, что нужно, и пойдем. Через двадцать минут они уже, тяжело дыша, преодолевали склон. Натали несла рюкзак, Сол – тяжелый чемодан, набитый деньгами и документами, которые он отказался оставить в фургоне. – Постой, – попросила Натали, когда они достигли деревьев. – В чем дело? – Мне нужно отойти на минутку. – Она вытащила пачку салфеток, взяла фонарик и двинулась к зарослям. Сол вздохнул и сел на чемодан. Каждый раз, закрывая глаза, он мгновенно погружался в сон, и тут же из глубины его сознания всплывало одно и то же видение – побелевшее лицо Ричарда Хейнса, его изумленный взгляд, шевелящиеся губы и слова, идущие с небольшим запозданием, как в плохо дублированном фильме: «Помоги мне, пожалуйста». – Сол! Вздрогнув, он очнулся, выхватил из кармана кольт и бегом бросился за деревья. Через тридцать футов он наткнулся на Натали. Луч ее фонарика скользил по блестящей красной «тойоте», похожей на британский «лендровер». – Я сплю, мне это снится? – спросила она. – Если ты спишь, то нам снится одно и то же, – усмехнулся он. Машина была такой новой, словно только что из автосалона. Сол посветил фонариком на землю – дороги здесь не было, но он отчетливо различил следы, оставленные машиной под деревьями. Он потрогал дверцы и крышку багажника – все оказалось заперто. – Смотри. – Натали потянулась к ветровому стеклу и вытащила из-под дворников записку. – «Дорогие Алан и Сюзанна! Добраться сюда несложно. Мы остановились в двух с половиной милях от „Маленькой Маргариты“. Захватите пиво. С любовью, Эстер и Карл», – прочла она и направила луч фонарика на заднее окно. На полке для багажа высился целый ящик пива. – Здорово! – воскликнула девушка. – Ну что, заведем ее и будем выбираться отсюда? – А ты умеешь заводить машины без ключа? – спросил Сол, снова опускаясь на чемодан. – Нет, но по телевизору это всегда выглядит так просто. – По телевизору все просто. Прежде чем мы начнем возиться с системой зажигания, которая наверняка электронная, что выше моего разумения, давай немного подумаем. Каким образом Алану и Сюзанне предлагается доставить пиво, если дверцы заперты? – Второй набор ключей? – предположила Натали. – Возможно, – согласился Сол. – Но, скорее всего, есть условное место, где спрятаны единственные ключи. Натали обнаружила их со второй попытки – в выхлопной трубе. Кольцо с ключами было таким же новеньким, как и сама машина, и на нем значилось название дилера «Тойоты» в Сан-Диего. Когда они открыли дверцу, от запаха свежей обивки Натали почему-то прослезилась. – Надо посмотреть, смогу ли я съехать на ней по склону, – сказал Сол. – Зачем? – Хочу перенести сюда из фургона все необходимое: взрывчатку, детонаторы, электронику. – Ты думаешь, они нам снова понадобятся? – Они будут нужны мне для установления обратной биосвязи. – Сол открыл дверцу для Натали, но она шагнула назад. – Что-нибудь не так? – спросил он. – Нет, захватишь меня на обратном пути. – Ты что-то забыла? Она помялась: – Вроде того. Так и забыла сходить в туалет.* * *
Они почти без проблем преодолели пересеченную местность, которая через полторы мили сменилась чередой глубоких ухабов, а затем постепенно перешла в лесную просеку, выведшую их на гравийную окружную дорогу. Где-то перед самым наступлением рассвета они заметили, что едут вдоль высокой проволочной ограды, и Натали, попросив Сола остановиться, прочла на табличке, закрепленной в шести футах над землей: «Собственность правительства Соединенных Штатов. Проход запрещен по распоряжению командующего. Лагерь Пендлтон, ракетная база типа „земля – воздух“». – Да уж, не думал, что мы так заплутали, – заметил Сол. – Хочешь пива? – предложила Натали. – Пока нет, – ответил он. Как только они выбрались на мощеную дорогу, Натали свернулась на полу у заднего сиденья, натянула на себя одеяло и попыталась поудобнее устроиться. – Тебе не придется долго так мучиться, – сказал Сол, прикрыв ее сверху багажом и ящиком с пивом, оставив лишь место для дыхания. – Они ищут молодую негритянку и ее неизвестного сообщника в темном фургоне. Надеюсь, что добропорядочный старичок в новенькой «тойоте» подозрений не вызовет. Как ты думаешь? В ответ ему донеслось лишь сонное сопение. Сол разбудил Натали через пять минут, когда впереди, сразу за небольшим пригородом под названием Фолбрук, замаячил полицейский пост. Поперек дороги стояла единственная патрульная машина, два сонного вида полицейских, прислонившись к багажнику, пили кофе из металлического термоса. Сол подъехал к ним и остановился. Один полицейский остался на месте, а другой, переложив чашку из правой руки в левую, не спеша двинулся к нему: – Доброе утро. – Доброе утро, – поздоровался Сол. – Что случилось? Патрульный наклонился и заглянул в «тойоту». – Едете из заповедника? – спросил он, оглядев целый склад вещей в задней части салона. – Да, – кивнул Сол. Он знал, что человек, чувствующий себя виноватым, неосознанно начинает тараторить, пытаясь дать всему многословное объяснение. Когда он недолгое время консультировал нью-йоркскую полицию, эксперт по ведению допросов рассказал ему, что всегда узнает виновных по тому, как они слишком быстро и связно хотят все объяснить. Лейтенант утверждал, что люди, которым нечего скрывать, наоборот, мямлят и путаются. – Провели там одну ночь? – осведомился полицейский, чуть отодвинувшись и вглядываясь туда, где под одеялом, рюкзаком и ящиком с пивом лежала Натали. – Две. – Сол посмотрел на второго полицейского, подошедшего к ним. – А что такого? – Отдыхали? – спросил первый, глотнув кофе. – Да, – ответил он. – И испытывал новую машину. – Красавица, – заметил тот. – Совсем новенькая? Сол кивнул. – Где вы ее купили? Он назвал фирму, выбитую на кольце с ключами. – Где вы живете? – спросил полицейский. Сол на мгновение замешкался. В фальшивом паспорте и водительском удостоверении, сделанных для него Джеком Коэном, значился нью-йоркский адрес. – В Сан-Диего, – ответил он. – Переехал два месяца назад. – Где именно в Сан-Диего? – Полицейский вел себя вполне дружелюбно, но Сол заметил, что его правая рука лежит на рукояти револьвера, а кожаный ремешок на кобуре отстегнут. Сол был в Сан-Диего лишь однажды, а именно шесть дней назад, когда они проезжали этот город вместе с Джеком Коэном. Однако его напряжение и усталость тогда были настолько велики, что каждое впечатление того вечера неизгладимо отпечаталось в его сознании. Он вспомнил по меньшей мере три указателя. – В Шервуде, – ответил он. – Еловая аллея, тысяча девятьсот девяносто, рядом с дорогой Линда-Виста. – Да-да, – кивнул полицейский. – Дантист моего шурина жил на Линда-Виста. Это рядом с университетом? – Не совсем, – ответил Сол. – Я так понимаю, вы не хотите мне рассказывать, что случилось? Полицейский еще раз заглянул в заднюю часть «тойоты», словно пытаясь определить, что находится в ящиках. – Неприятности в районе озера Эльсинор, – пояснил он. – Где вы ночевали? – В «Маленькой Маргарите», – ответил Сол. – И если я в ближайшее время не попаду домой, моя жена пропустит службу в церкви, и тогда крупные неприятности будут уже у меня. Полицейский кивнул: – Вы, случайно, не встречали по дороге синий или черный фургон? – Нет. – Я так и думал. Между этим местом и озером нет никаких дорог. А пеших туристов не видели? Чернокожую девушку лет двадцати с небольшим? Или парня постарше, палестинского вида? – Палестинского вида? – переспросил Сол. – Нет, я никого не встречал, кроме молодой пары – белой девушки Эстер и ее приятеля Карла. У них там наверху медовый месяц. Я старался не мешать. А что, какие-то террористы с Ближнего Востока? – Похоже на то, –признал полицейский. – Разыскиваются негритянка и палестинец, а при них целый арсенал боеприпасов. Ничего не могу поделать, но вы говорите с акцентом, мистер… – Гроцман, – подсказал он. – Сол Гроцман. – Венгр? – Поляк. Но я стал американским гражданином сразу после войны. – Да, сэр. А эти цифры означают именно то, что я думаю? Сол взглянул на свое запястье – рукава рубашки были закатаны. – Концлагерная татуировка, – подтвердил он. Патрульный медленно опустил голову: – Никогда в жизни еще не видел ничего подобного. Мне очень не хочется вас задерживать, мистер Гроцман, но я должен задать вам еще один важный вопрос. – Да? Патрульный сделал шаг назад, снова положил руку на кобуру и еще раз оглядел машину: – В какую сумму обходятся эти японские джипы? Сол рассмеялся: – Моя жена считает, что в очень большую. Даже слишком. – Он кивнул и тронулся с места.* * *
Они миновали Сан-Диего, свернули на восток к Юме, где припарковали «тойоту» и перекусили в «Макдональдсе». – Пора добывать новую машину, – заметил Сол, потягивая молочный коктейль. Иногда ему приходила в голову мысль о том, что бы сказала его кошерная бабушка, если бы увидела его. – Уже? – удивилась Натали. – И мы будем учиться включать зажигание без ключа? – Можешь попробовать, если хочешь, – улыбнулся Сол. – Но я бы предпочел более простой способ. – И он кивком указал на стоянку салона по продаже подержанных автомобилей на противоположной стороне улицы. – Мы можем позволить себе потратить тысяч тридцать долларов, которые уже прожигают дыру в моем чемодане. – Хорошо, – согласилась Натали, – только давай что-нибудь с кондиционером. В ближайшие пару дней нам придется пробираться через пустыню.* * *
Они выехали из Юмы в пикапе «шевроле», который был оборудован кондиционером, гидроусилителем и электроподъемником стекол. Сол дважды изумил продавца: сначала, когда осведомился, автоматически ли выдвигаются пепельницы, а второй раз, когда без всякой торговли выложил наличными запрошенную сумму. Хорошо, что он не стал торговаться. Когда они вернулись к тому месту, где оставили «тойоту», группа смуглых ребятишек пыталась камнем разбить боковое стекло. Они со смехом кинулись врассыпную, показывая Солу и Натали непристойные жесты. – Вот это да, – сказал Сол. – Интересно, что бы они сделали с пластиковой взрывчаткой и М-шестнадцать? Натали укоризненно посмотрела на него: – Ты не сказал, что захватил с собой автомат. Он поправил очки и оглянулся: – Этот район даст нам недостаточную фору. Поехали. «Тойоту» они перегнали к ближайшему торговому центру. Затем Сол вытащил из машины все вещи, вставил ключ в приборную панель и поднял стекла окон. – Не хочу, чтобы ее изуродовали, – пояснил он. – Пусть просто угонят.* * *
После первого дневного переезда они стали путешествовать по ночам, и Натали, всегда мечтавшая увидеть юго-запад Соединенных Штатов, могла любоваться лишь усеянным звездами небом над бесконечными одинаковыми шоссе, немыслимыми пустынными рассветами, окрашивавшими серый мир в розовые, оранжевые и пронзительно-синие тона, да слушать гудение кондиционеров в номерах крошечных мотелей, пропахших сигаретным дымом. Сол погрузился в размышления, предоставив Натали вести машину. С каждым днем они останавливались все раньше, чтобы у него оставалось время на изучение досье и работу с аппаратурой. Перед въездом в Техас он провел всю ночь в салоне машины. Сидел, скрестив ноги, перед компьютерным дисплеем и энцефалографом, подсоединенным к аккумулятору, который они приобрели в магазине радиотоваров в Форт-Уорте. Натали не решалась даже включить радио, чтобы не мешать ему. – Видишь, самое главное – это тета-ритм, – задумчиво сказал Сол. – Это неопровержимый индикатор, точный указатель. Я не могу его генерировать в себе, но могу воспроизвести по петле обратной биологической связи, потому что мне известны его признаки. Приучив свой организм реагировать на этот первоначальный альфа-пик, я смогу запускать в себе механизм постгипнотической суггестии. – И таким образом ты можешь противодействовать их… силам? – спросила Натали. Сол поправил очки и нахмурился: – Нет, не совсем. Вряд ли это вообще возможно, если человек не обладает такими же способностями. Интересно было бы исследовать группу разных индивидуумов в контролируемом… – Тогда какой в этом смысл? – в отчаянии воскликнула Натали. – Это дает шанс… крошечный шанс, – повторил он, – создать своего рода систему оповещения в коре головного мозга. При соответствующей обработке и наличии обратной биосвязи, думаю, я смогу использовать феномен тета-ритма для запуска постгипнотической суггестии, чтобы воспроизвести все заученные мною сведения. – Сведения? – переспросила Натали. – Ты имеешь в виду все это время, проведенное тобой в Яд-Вашеме и в Музее борцов гетто?.. – Лохамей-ха-Гетаоте, – поправил Сол. – Да. Досье, переданные тебе Визенталем, фотографии, биографии, записи, которые я заучивал самопроизвольно в легком трансе… – Но какой смысл разделять страдания всех этих людей, если против вампиров сознания не существует никакой защиты? – спросила Натали. – Представь себе проектор, действующий по принципу карусели. Оберст и остальные способны произвольно запускать эту нейрокарусель, вставляя в нее собственные слайды, накладывая на смесь воспоминаний, страхов и предпочтений, которую мы называем личностью, свою организующую волю и супер-эго. Я просто пытаюсь вставить в обойму большее количество слайдов. – Но ты не уверен, окажется ли это действенным? – Нет. – И ты не думаешь, что это сработает в моем случае? – Нечто подобное может произойти и с тобой, Натали, но эти сведения должны быть идеально подогнаны к твоей биографии, травматическому опыту, механизмам сопереживания. Я не могу с помощью гипноза генерировать в тебе необходимые… э-э-э… слайды. – Но если речь о тебе, тогда это сможет подействовать только на твоего оберста и больше ни на кого. – Вероятно, да. Лишь он может иметь общий опыт с личностью, которую я создаю… пытаюсь создать… во время этих сеансов. – И по-настоящему это его не остановит, разве что смутит на несколько секунд, если вообще этот многомесячный труд и пляски с энцефалографом что-либо значат? – Верно. Натали печально вздохнула и уставилась на бесконечное полотно дороги впереди, освещенное фарами. – Зачем же ты потратил на это столько времени, Сол? Он открыл досье. На снимке была молодая девушка с бледным лицом, испуганными глазами, в темном пальто и платке. В верхнем левом углу фотографии едва виднелись черные брюки и высокие сапоги солдата СС. Девушка как раз поворачивалась в сторону камеры, поэтому изображение получилось смазанным. В правой руке она держала маленький чемоданчик, а левой прижимала к груди самодельную потрепанную куклу. К фотографии было приложено полстраницы печатного текста на немецком языке. – Даже если ничего не получится, это стоило потраченного времени, – тихо промолвил Сол Ласки. – Власть имущие получили свою долю внимания, хотя порой их власть и являлась чистым злом. Жертвы остались безликой массой, исчисляемой лишь голыми цифрами. Эти чудовища усеяли наше столетие братскими могилами своих жертв, но настало время, чтобы угнетенные обрели имена и лица… а также голоса. – Он выключил фонарик и откинулся назад. – Прости, моя логика начинает страдать от собственной одержимости. – Теперь я стала понимать, что такое одержимость, – вздохнула Натали. Сол посмотрел на ее лицо, слабо освещенное приборной панелью: – И ты по-прежнему намерена поддаться своей? У Натали вырвался нервный смешок. – Ничего другого мне не остается. Впрочем, чем ближе мы подъезжаем, тем страшнее мне становится. – Мы можем сейчас свернуть к аэропорту и улететь в Израиль или Южную Америку. – Нет, не можем, – сказала Натали. – Да, ты права, – после небольшой паузы ответил он. Они поменялись местами, и в течение нескольких часов машину вел Сол. Натали дремала. Ей снились глаза Роба Джентри, его испуганный, изумленный взгляд, когда лезвие распороло ему горло. Снилось, будто отец убеждает ее по телефону, что все это ошибка, что ничего не случилось и даже ее мать дома – живая и здоровая. Но вот она приезжает, а дом оказывается пустым, комнаты опутывает липкая паутина, а в раковине плавают какие-то темные сгустки. Потом Натали вдруг снова становится маленькой, бежит в слезах в комнату родителей, но отца там нет, а вместо мамы из затянутой паутиной постели поднимается совсем чужая женщина – вернее, разлагающийся труп с глазами Мелани Фуллер. И труп этот начинает дико хохотать… Натали резко выдохнула и проснулась, сердце ее бешено колотилось в груди. Машина все так же мчалась по скоростной автостраде. Казалось, уже светало. – Скоро утро? – спросила она. – Нет, – ответил Сол усталым голосом, – еще нет.* * *
И вот наконец старый юг; вдоль шоссе один за другим замелькали съезды на города – Джексон, Меридиан, Бирмингем, Атланта. В Августе они съехали на семьдесят восьмую дорогу, которая пересекала нижнюю часть Южной Каролины. Несмотря на темноту, Натали уже узнавала привычные пейзажи – Сен-Джордж, где она отдыхала в летнем лагере в тот год, когда умерла ее мать; Дорчестер, где они жили у сестры отца, пока та не скончалась от рака в 1976 году; Саммервилл, куда она ездила по воскресеньям фотографировать старые особняки; Чарлстон… Они въехали в город на четвертую ночь своего путешествия, перед восходом солнца, в тот мертвый час, когда дух человеческий воистину пребывает в самом незащищенном состоянии. Знакомые места, где прошло детство Натали, казались ей чужими, бедные чистенькие кварталы выглядели призрачными, как размытые изображения на тусклом экране. Дом Натали стоял с темными окнами. На нем не висела табличка «Продается», у подъезда не было никаких машин. Она не имела представления, кто распоряжается теперь имуществом и собственностью после ее внезапного исчезновения. Натали взглянула на этот странно знакомый дом с маленьким крыльцом, на котором пять месяцев назад они с Солом и Робом обсуждали глупые выдумки о вампирах сознания, и у нее не возникло ни малейшего желания войти внутрь. Она вспомнила о фотографиях отца и с удивлением обнаружила, что на глазах вдруг выступили слезы. Не сбавляя скорости, они проехали мимо. – Мы можем не заглядывать сегодня в старые кварталы, – произнес Сол. – Нет, поедем, – упрямо сказала Натали и свернула на восток, через мост в Старый город.* * *
В доме Мелани Фуллер светилось одно-единственное окно на втором этаже, там, где находилась ее спальня. Свет был не электрический и не такой мягкий, как от свечи. Слабый зеленый огонь болезненно пульсировал, напоминая фосфоресцирующее свечение болота. Натали крепко вцепилась в руль, чтобы сдержать охватившую ее дрожь. – Ограду заменили на более высокую с двойными воротами, – заметил Сол. – Настоящая цитадель. Не хватает только башен с бойницами. Не отрывая взгляда, Натали смотрела на сочившийся сквозь шторы и жалюзи зеленоватый свет. – Но мы еще не знаем точно, она ли это, – сказал Сол. – Джек собрал свои сведения из косвенных источников, к тому же этой информации уже несколько недель. – Это она, – уверенно произнесла Натали. – Поехали. Мы устали. Надо найти место, где переночевать, а завтра необходимо пристроить куда-нибудь наше оборудование, чтобы оно было в полной безопасности. Натали включила двигатель и медленно тронулась вниз по темной улице.* * *
Они отыскали дешевый мотель на северной окраине города и проспали семь часов. Натали проснулась в полдень, испуганно вскочила, не осознавая, где находится, с одним лишь желанием выбраться из липкой паутины преследующих ее кошмаров, в которых к ней через разбитые окна тянулись чьи-то руки. Оба чувствовали себя уставшими и раздраженными. Почти не разговаривая друг с другом, они купили копченую курицу и съели ее в парке у реки. День был жарким, солнце светило так же безжалостно, как лампы в операционной. – Думаю, тебе не надо показываться днем, – сказал Сол. – Тебя могут узнать. Натали пожала плечами: – Они – вампиры, и мы скоро превратимся в обитателей тьмы. По-моему, не очень справедливо. Прищурившись, Сол поглядел на противоположный берег реки: – Я много думал о том пилоте и шерифе. Если бы я не заставил его выйти на связь с Хейнсом, пилот остался бы жив. Натали кивнула: – Да. Как и Хейнс. – Понимаешь, тогда мне казалось, что, если потребуется принести в жертву обоих – и шерифа, и пилота, я все равно сделаю это. Только чтобы добраться до агента. – Он убил твоих родственников. И хотел уничтожить тебя, – напомнила Натали. Сол покачал головой: – Но ведь шериф и пилот не имели к этому никакого отношения. Неужели ты не понимаешь, к чему это ведет? В течение двадцати пяти лет я ненавидел, презирал палестинских террористов, которые слепо уничтожали невинных людей лишь потому, что у них не хватало сил на открытую борьбу. А теперь мы пользуемся той же самой тактикой, поскольку не способны по-иному противостоять этим чудовищам. – Глупости! – возмутилась Натали, глядя на семейство из пяти человек, устроившее пикник на берегу; мать уговаривала малыша не подходить к самой воде. – Ты же не подкладываешь динамит в самолеты и не обстреливаешь автобусы из автоматов. К тому же это не мы убили пилота, а Хейнс. – Но мы явились причиной его гибели, – возразил Сол. – Представь себе, что все они – Барент, Хэрод, Фуллер, оберст – очутились на борту одного самолета, в котором летят еще сотни невинных граждан. У тебя бы возникло желание покончить со всеми ними одним взрывом? – Нет. – Натали энергично тряхнула волосами. – Подумай, – тихо продолжил Сол. – Эти вампиры повинны в гибели тысяч людей, и можно положить всему конец ценой еще пары сотен жизней и забыть об этом навсегда. Неужели оно того не стоит? – Нет, – твердо повторила Натали. – Так не годится. Он кивнул: – Ты права, так действительно не годится. Если мы начнем размышлять подобным образом, мы превратимся в таких же, как они. Но, лишив жизни пилота, мы уже встали на этот путь. – Что ты пытаешься доказать, Сол? – гневно воскликнула она. – Мы обсуждали это в Иерусалиме, Тель-Авиве, Кесарии. Мы знали, на что идем. Ведь мой отец тоже был абсолютно невинной жертвой. Как и Роб, как Арон, Дебора и их дети, как Джек, как… – Она умолкла и попыталась успокоиться, глядя на воду. – Что ты пытаешься доказать? – снова спросила она уже другим тоном. Сол встал: – Я решил, что ты не будешь участвовать в следующей части нашего плана. Натали резко повернулась и недоуменно уставилась на него: – Ты сошел с ума! Это наша единственная возможность добраться до них! – Глупости! – теперь уже воскликнул Сол. – Просто мы не смогли придумать ничего лучшего. Но мы придумаем. Мы слишком спешим. – Слишком спешим! – громко повторила Натали, так что семейство у воды обернулось в их сторону. – Нас разыскивает ФБР и половина полиции страны, – уже тише произнесла она. – У нас есть единственный шанс, когда все эти сукины дети соберутся вместе. С каждым днем они становятся все более осмотрительными и все больше набираются сил, мы же слабеем и поддаемся страху. Нас осталось всего двое, и я доведена до такого состояния, что через неделю вообще ни на что не буду способна!.. А ты говоришь, слишком спешим. – Она понимала, что Сол хочет уберечь ее, но ведь они уже давно все обсудили. – Согласен, – ответил Сол. – Однако этим человеком не обязательно должна быть ты. – Конечно же, это должна быть я! Других вариантов у нас нет. – Тогда мы заблуждались, – упрямо продолжал твердить Сол. – Она вспомнит меня! – Мы убедим ее, что к ней направили другого посланника. – То есть тебя? – Это вполне логично… – Нет, не логично! – Натали чуть не плакала. – А как насчет всей этой кучи фактов, цифр, дат, смертей, географических названий, которые я заучивала, начиная со Дня святого Валентина? – Это не имеет никакого значения, – не сдавался Сол. – Если она так безумна, как мы предполагаем, логика будет играть весьма незначительную роль. Если же она способна мыслить трезво, наших фактов все равно окажется недостаточно, и версия будет выглядеть слишком шаткой. – Как же так! – воскликнула Натали. – Я пять месяцев готовилась, а теперь ты говоришь, что в этом нет никакой необходимости и все равно ничего не получится. – Не совсем, – мягко произнес Сол. – Я говорю только, что нужно рассмотреть все возможные варианты, и в любом случае ты не тот человек, который должен заниматься этим. Натали вздохнула: – Хорошо. Ты не возражаешь, если мы отложим этот разговор до завтрашнего дня? Мы еще не пришли в себя после путешествия. Мне надо как следует выспаться. – Согласен, – кивнул Сол и, взяв ее за руку, повел обратно к машине.* * *
Они решили оплатить номера в мотеле за две недели вперед. Сол занес к себе аппаратуру и работал до девяти вечера, пока Натали не позвала его на обед, который она тем временем приготовила. – Действует? – поинтересовалась она. Он покачал головой: – Даже в самых простых случаях обратная биосвязь не всегда удается. У нас же случай не из простых. Я уверен: то, что я что-то запомнил, может быть вызвано постгипнотической суггестией, но мне не удается установить механизм запуска. Воссоздать тета-ритм невозможно, и генерировать альфа-пик я тоже не могу. – Неужели все напрасно? – вздохнула Натали. – Пока да, – кивнул Сол. – Может, ты отдохнешь? – Позже. Попробую поработать еще несколько часов. – Тогда я сделаю тебе кофе. – Прекрасно, – улыбнулся он. Натали подошла к стойке, включила кофейник и положила в каждую чашку по две ложки кофе, чтобы сделать его покрепче. Затем осторожно добавила в одну из чашек необходимую дозу фенотиазина, который Сол дал ей в Калифорнии на случай, если потребуется усыпить Тони Хэрода. Сделав первый глоток, Сол слегка поморщился. – Ну как? – спросила Натали, отпив из своей чашки. – Крепкий. Как раз то, что нужно, – заверил он. – Ты лучше ложись. Я могу засидеться допоздна. Она согласно кивнула, поцеловала Сола в щеку и ушла к себе. Через полчаса Натали вернулась, уже переодетая в длинную юбку, темную блузку и свитер. Сол крепко спал в своем кресле с целой кипой досье на коленях. Она выключила приборы и перенесла папки на стол, положив сверху короткую записку. Затем сняла с Сола очки и, накрыв его ноги пледом, нежно погладила по плечу. Он даже не шелохнулся. Натали проверила, не осталось ли в машине чего-нибудь важного. Взрывчатка была сложена в шкафу у нее в комнате, детонаторы хранились у Сола. Она вспомнила о ключе от номера и тоже отнесла его к себе в комнату. У нее не было с собой ни сумочки, ни документов, ничего из того, что могло бы дать о ней какие-либо сведения. Внимательно следя за светофорами и не превышая лимита скорости, Натали направилась к Старому городу. Она оставила машину возле ресторана «У Генри», о чем сообщала Солу в записке, и пешком прошла несколько кварталов до дома Мелани Фуллер. Ночь была темной и влажной, тяжелые кроны, казалось, смыкаются над головой, скрывая звезды и высасывая кислород. Подойдя к нужному дому, Натали уже не колебалась. Высокие ворота были заперты, но на них висело украшенное орнаментом кольцо. Она постучала в ворота и замерла в ожидании. Кроме зеленого сияния, лившегося из спальни Мелани Фуллер, в доме не горело ни одно окно. Свет так и не зажегся, но за воротами возникли две мужские фигуры. Тот, что был повыше, подошел ближе – здоровый толстяк с маленькими глазками, рассеянным взглядом и лицом умственно отсталого. – Что вам нужно? – произнес он, выделяя каждое слово, как неисправный речевой синтезатор. – Я хочу поговорить с Мелани, – громко сказала Натали. – Передайте, что к ней пришла Нина. Целую минуту оба мужчины не шевелились. Было слышно, как в траве стрекочут кузнечики, с пальмы, укрывавшей своими побегами эркер старинного дома, слетела ночная птица, громко хлопая крыльями. Где-то в соседнем квартале завыла сирена и смолкла. Усилием воли Натали заставляла себя стоять прямо, хотя колени у нее подгибались от ужаса. Наконец здоровяк сказал: – Войдите. – Повернув ключ, он открыл ворота и втащил Натали за руку во двор. В доме отворилась парадная дверь, но в темноте Натали ничего не могла различить. В сопровождении двух мужчин, один из которых продолжал крепко держать ее за руку, она вошла в дом.Глава 54 Мелани
Она сказала, что ее прислала Нина. В первое мгновение я так испугалась, что полностью погрузилась в себя и даже попыталась сползти с кровати, волоча за собой омертвевшую часть тела, которая превратилась в ненужный кусок мяса и костей. Закачались стойки капельниц, иглы вылетели из вен. На целую минуту я потеряла контроль над всеми – Говардом, Нэнси, Калли, доктором, сестрами и негром, по-прежнему стоявшим в темноте с мясницким тесаком в руках, но затем расслабилась и позволила своему телу снова замереть. Ко мне вернулось самообладание. Сначала я решила, что Калли, Говард и цветной парень должны прикончить ее во дворе, а потом водой из фонтана смыть с кирпичей все следы. Говард отнесет ее за гараж, завернет останки в душевую занавеску, чтобы не испачкать обивку «кадиллака» доктора Хартмана, а у Калли не займет и пяти минут доехать до свалки. Но мне еще не все было известно. Если ее прислала Нина, мне нужно узнать кое-что. Если же это не Нина, то, прежде чем избавиться от нее, необходимо выяснить, кто ее прислал. Калли и Говард провели девушку в дом. Доктор Хартман, сестра Олдсмит, Нэнси и мисс Сьюэлл собрались в гостиной, а Марвин остался стоять на страже. Джастин был рядом со мной. Негритянка, заявившая, что она от Нины, окинула взглядом мое «семейство». – Здесь темно, – произнесла она странным тонким голосом. В последнее время я редко пользовалась электрическим светом. Я настолько хорошо знала дом, что могла передвигаться по нему с завязанными глазами, члены же моей «семьи» также не нуждались в электричестве, кроме тех случаев, когда ухаживали за мной, да и тогда им хватало приятного мягкого сияния, исходившего от медицинской аппаратуры. Если эта цветная девица говорила от лица Нины, то мне казалось странным, что Нина все еще не привыкла к темноте. Ведь в гробу у нее было всегда темно. Но если девица лгала, вскоре ей тоже придется свыкнуться с темнотой… – Что вам угодно, мисс? – от меня обратился к ней доктор Хартман. Негритянка облизала пересохшие губы. Калли усадил ее на диван. Члены моей «семьи» остались стоять. Слабые лучи света выхватывали то чье-то лицо, то руку, но в основном мы должны были казаться ей одной сплошной темной массой. – Я пришла поговорить с тобой, Мелани, – ответила она. Голос ее дрогнул, чего я прежде у Нины не замечала. – Здесь нет никого с таким именем, – произнес доктор Хартман из темноты. Девушка рассмеялась. Может, мне только послышался в ее голосе хрипловатый смешок Нины? От этой мысли по моему телу пробежал озноб. – Я знаю, что ты здесь, – сказала она. – Точно так же, как я знала, где отыскать тебя в Филадельфии. Как она меня нашла? Я заставила Калли положить свои огромные руки на спинку дивана позади негритянки. – Мы не понимаем, о чем вы говорите, мисс, – произнес Говард. Девушка покачала головой. Зачем Нине понадобилось Использовать негритянку? Я не могла этого понять. – Мелани, я знаю, что ты здесь. Я знаю, что ты нездорова. Я пришла предупредить тебя, – замогильным голосом медленно проговорила она. Предупредить меня? О чем? Шепотки в Ропщущей Обители предупреждали меня, но она не была их частью. Она появилась позже, когда все пошло из рук вон плохо. Да и не она нашла меня, а я ее! Винсент поймал ее и привел ко мне. А она убила Винсента. Даже если она была посланницей Нины, лучше всего избавиться от нее. Тогда Нина, возможно, поймет, что со мной шутки плохи, что я не позволю безнаказанно уничтожать своих пешек. Марвин продолжал стоять в темном дворе, держа длинный нож для разделки мяса, который мисс Сьюэлл оставила на столе. Лучше это сделать за пределами дома. Не надо будет потом тревожиться о пятнах на ковре и паркете. – Мисс, – заставила я произнести доктора Хартмана, – боюсь, никто из нас не понимает, о чем вы говорите. Здесь нет никого по имени Мелани. Сейчас Калли вас проводит. – Постойте! – вскричала девица, когда Калли взял ее под руку и развернул в сторону двери. – Подождите минуту! – Голос ее даже отдаленно не напоминал неторопливое щебетание Нины. – До свидания, – хором произнесли все пятеро. Цветной парень стоял сразу за фонтаном. Я уже много недель не получала Подпитки. Негритянка пыталась вырваться из рук Калли, пока он тащил ее к двери. – Вилли жив! – крикнула вдруг она. Я заставила Калли остановиться. Все замерли. Еще через мгновение доктор Хартман спросил: – Что такое? Девица бросила на всех высокомерный, пренебрежительный взгляд. – Вилли жив, – спокойно повторила она. – Объяснитесь, – попросил Говард. Она покачала головой: – Мелани, я буду разговаривать только с тобой. Если ты убьешь эту посланницу, ты больше не услышишь меня. Пусть те, кто пытался уничтожить Вилли, а теперь собираются покончить с тобой, делают свое дело. – Она отвернулась и уставилась в угол, потеряв всякий интерес и не обращая внимания на огромную лапу Калли, крепко сжимавшую ее руку. Она напоминала какой-то механизм, который внезапно отключили. Оставшись наверху одна, если не считать общества маленького Джастина, я пребывала в нерешительности. У меня болела голова. Все это казалось каким-то дурным сном. Я хотела, чтобы она ушла и оставила меня в покое. Нина мертва. Вилли тоже мертв. Калли снова проводил ее к дивану и усадил. Мы все не спускали с нее глаз. Я подумала, не Использовать ли мне ее? Бывает, и довольно часто, что в момент перемещения в чужое сознание, когда только овладеваешь им, ты воспринимаешь не только чувственные ощущения, но и поток поверхностных мыслей. Если девушку Использовала Нина, мне не удастся перехватить контроль, но я смогу ощутить присутствие самой Нины. Если же за ней стоит не Нина, я сумею уловить истинный мотив ее поступков. – Мелани сейчас спустится, – произнес Говард, и, пока она переваривала сообщение – не знаю, со страхом или с удовлетворением, я проскользнула в ее сознание. И не встретила никаких препятствий. Полнейшее отсутствие противодействия привело к тому, что я мысленно чуть не провалилась вперед, как человек, пытающийся в темноте опереться на спинку кресла или туалетный столик, которых вдруг не оказывается на месте. Контакт был кратким. Я уловила поток поднимающейся паники, слабый протест «только не это», часто встречающийся у людей, которых уже Использовали, но которые не были как следует обработаны, и еще целый вихрь мыслей, с трепетом разбегающихся в темноте, как мелкие животные. Никаких связных фраз в ее сознании не было. Мелькнул обрывок какого-то видения – старинный каменный мост, нагретый солнцем, переброшенный через море песчаных дюн, и тени от его опор. Мне это ни о чем не говорило. Я никак не могла связать это с воспоминаниями Нины, хотя после войны мы так долго были в разлуке, что я плохо знала, где, когда и с кем она проводила время. Я оставила мозг негритянки. Мне было неинтересно пребывать в ее сознании. Там не было никакой информации. Непонятно… Девица дернулась и выпрямилась. Это Нина возобновляла свой контроль над ней или самозванка пыталась вернуть себе самообладание? – Больше не делай этого, Мелани, – произнесла она властным тоном, который впервые чем-то напомнил мне Нину Дрейтон. Ее манеру приказывать. В гостиную вошел Джастин со свечой. Пламя освещало лицо шестилетнего ребенка снизу, и каким-то образом игра света делала его глаза очень старыми. Негритянка посмотрела на него, как норовистая лошадь, вдруг заприметившая змею. – Здравствуй, Нина, – сказал мальчик моим голосом, ставя свечу на чайный столик. Девица моргнула: – Здравствуй, Мелани. А ты разве не хочешь поздороваться со мной лично? – Я не расположена в данный момент. Возможно, я спущусь, когда ты сама придешь ко мне. На губах девушки мелькнула слабая улыбка. – Мне будет несколько сложно сделать это. Все завертелось у меня перед глазами, в течение нескольких секунд я была способна лишь на то, чтобы сохранять контроль над своими людьми. А что, если Нина не умерла? Что, если она была всего лишь ранена? Но я же видела дыру у нее во лбу! Ее голубые глаза вылезли из орбит! Может, патроны были старыми? Пуля врезалась в череп, но не пробила его, вызвав в мозгу повреждений не больше, чем у меня мое кровоизлияние? Газеты сообщили, что она умерла. Я сама видела ее имя в списке жертв. Впрочем, ведь там присутствовало и мое имя. Рядом с постелью загудел один из мониторов, предупреждая о чрезмерной нагрузке на мой организм. Усилием воли я умерила одышку и сердцебиение. Гудки прекратились. Выражение лица Джастина за эти несколько секунд не изменилось и в трепещущем пламени свечи по-прежнему напоминало лик бесенка. Он уселся в кожаное кресло, которое так любил мой папа, и скрестил ноги на сиденье. – Расскажи мне о Вилли, – попросила я через него. – Он жив, – ответила негритянка. – Этого не может быть. Его самолет разбился, и все пассажиры погибли. – Все, за исключением Вилли и двух его помощников, – усмехнулась она. – Они покинули самолет до того, как он взлетел. – Зачем же ты напала на меня, если знала, что твой замысел с Вилли провалился? – вырвалось у меня. – Я не имею к самолету отношения, – призналась она после паузы. У меня началась бешеная тахикардия, так что осциллограф залил комнату пульсирующим ярким светом. – Кто же это сделал? – Другие, – равнодушным тоном отозвалась она. – Кто они? Девица глубоко вздохнула: – Есть группа лиц, обладающих нашей силой. Тайная группировка… – Нашей силой? – перебила ее я. – Ты имеешь в виду Способность? – Да. – Глупости. Мы никогда не встречали кого-либо даже с намеком на Способность. – Я заставила Калли поднять в темноте руки. Ее худенькая прямая шейка торчала из ворота темного свитера. Калли мог переломить ее запросто, как сухую ветку. – А эти люди обладают ею, – уверенно произнесла негритянка. – Они пытались убить Вилли. Они пытались убить тебя. Неужели ты не задумалась, кто устроил все это в Джермантауне? Стрельба? Свалившийся в реку вертолет? Откуда Нина может знать? Откуда вообще кто-то может знать? – Ты вполне могла быть одной из них, – уклончиво ответила я. Девица невозмутимо кивнула: – Да, но в таком случае разве я стала бы предупреждать тебя? Я пыталась сделать это в Джермантауне, но ты не захотела слушать. Я попробовала вспомнить. Предупреждала ли негритянка меня о чем-нибудь? Шепотки тогда уже звучали очень громко, и сосредоточиться было трудно. – Ты и шериф приходили, чтобы убить меня, – возразила я. – Нет. – Голова девушки медленно шевельнулась, как у заржавевшей марионетки. Нинина компаньонка Баррет Крамер двигалась именно так. – Шерифа прислал Вилли. Он тоже хотел предупредить тебя. – А кто эти другие? – осведомилась я. – Известные люди, очень могущественные. Барент, Кеплер, Саттер, Хэрод… – Мне эти имена ничего не говорят. – Я вдруг поймала себя на том, что визжу голосом шестилетнего Джастина. – Ты лжешь! Ты не Нина! Ты умерла! Откуда ты знаешь про этих людей? Девица помедлила, словно прикидывая, говорить или нет. – Я познакомилась кое с кем из них в Нью-Йорке, – наконец ответила она. – И они уговорили меня сделать то, что я сделала. Наступила такая мертвая и продолжительная тишина, что через все свои восемь источников я могла слышать, как на карнизе эркера воркуют голуби. Мисс Сьюэлл бесшумно удалилась на кухню и теперь стояла в тени дверного проема, держа тесак в складках бежевой юбки. Калли переступил с ноги на ногу, и я ощутила отголосок обостренной готовности Винсента в его кровожадном нетерпении. – Они убедили тебя уничтожить меня, – сказала я, – и пообещали расправиться с Вилли, пока ты занимаешься мною? – Да, – ответила она. – Но им так же ничего не удалось, как и тебе. – Да. – Зачем ты рассказываешь мне это, Нина? – поинтересовалась я. – Ведь этим ты только вызываешь еще большую ненависть к себе. – Они обманули меня, – тихо прошептала девушка. – Когда ты пришла за мной, они меня бросили. И я хочу с ними поквитаться. Я заставила Джастина чуть склониться вперед. – Поговори со мной, Нина, – попросила я тихо. – Расскажи мне о нашей юности. Она покачала головой: – На это нет времени, Мелани. Я улыбнулась, чувствуя, как слюна увлажнила молочные зубы Джастина. – Где мы познакомились, Нина? На чьем балу мы впервые сравнили свои карточки с ангажементами? Негритянка слегка задрожала и поднесла ко лбу руку: – Моя память, Мелани… После травмы образовались провалы… – По-моему, несколько секунд назад они тебя не тревожили, – ехидно заметила я. – Кто ездил с нами на пикники на остров Дэниел, Нина, милая? Неужели ты не помнишь его? Наших кавалеров в то далекое-далекое лето? Девица качнулась, не отводя руку от виска: – Мелани, прошу тебя, я вспоминаю, а потом забываю… боль… Мисс Сьюэлл подошла к ней сзади. Ее сестринские туфли на резиновой подошве не издавали ни малейшего шума. – Кого мы выбрали первым для нашей Игры в то лето в Бад-Ишле? – осведомилась я лишь для того, чтобы дать возможность мисс Сьюэлл сделать два последних шага. Я знала, что цветная самозванка не сможет ответить на эти вопросы. Посмотрим, сможет ли она изображать Нину, когда голова ее скатится на пол. Может, Джастину будет интересно поиграть с таким «футбольным мячом»? – Первой была танцовщица из Берлина, – вдруг сказала негритянка, – по фамилии Майер, кажется. Подробностей я не помню, но мы, как всегда, обратили на нее внимание, когда сидели в кондитерской «Цаунер». – Что? – ошарашенно воскликнула я. – А на следующий день… нет, это было через два дня, в среду… такой смешной мороженщик. Мы оставили его труп в морозильной камере на железном крюке… Мелани, мне больно. Я то вспоминаю, то забываю! – Девушка начала плакать. Джастин сполз с кресла, обошел чайный столик и похлопал ее по плечу. – Нина, – прошептала я, – прости меня. Прости.* * *
Мисс Сьюэлл приготовила чай и подала его в моем лучшем веджвудском фарфоре. Калли принес свечи. Доктор Хартман и сестра Олдсмит поднялись проведать меня, в то время как Говард, Нэнси и остальные устроились в гостиной. Негр остался стоять у парадной двери. – А где же Вилли? – спросила я через Джастина. – Как он? – С ним все в порядке, – ответила Нина, – но я не знаю точно, где он. Ему, бедняге, приходится скрываться. – От этих людей, которых ты упомянула? – Да. – Почему они желают нам зла, Нина, милая? – Они боятся нас, Мелани. – Почему? Мы же не сделали им ничего дурного. – Они боятся этой нашей… нашей Способности. И еще того, что могут быть разоблачены из-за… эксцессов Вилли. Маленький Джастин кивнул: – Вилли тоже знал о них? – Да, – ответила Нина. – Сначала он хотел вступить в их… в их клуб. Теперь он просто хочет остаться в живых. – Клуб? – переспросила я. – У них есть что-то вроде тайной организации, – пояснила Нина. – Место, где они встречаются каждый год и охотятся на заранее выбранных жертв… – Я понимаю, почему Вилли хотел присоединиться к ним… А сейчас мы можем ему доверять? – Думаю, да, – ответила негритянка после паузы. – Как бы то ни было, нам троим, из соображений самозащиты, лучше держаться вместе, пока эта угроза не миновала. – Расскажи мне подробнее об этих людях, – попросила я. – В следующий раз, Мелани. Я… быстро устаю… Джастин расплылся в своей самой ангельской улыбке: – Нина, милая, расскажи мне, где ты сейчас. Позволь, я приду к тебе, помогу. Девица улыбнулась, но промолчала. – Ну ладно. Не хочешь – не говори. Скажи, я еще увижусь с Вилли? – Возможно, – ответила Нина. – Но даже если не увидишься, мы должны действовать с ним заодно до назначенного времени. – Назначенного времени? – Через месяц. На острове. – Она снова провела рукой по лбу, и я увидела, что рука ее дрожит. Да, она была измождена. Наверное, Нине приходилось тратить много сил на то, чтобы заставлять ее двигаться и говорить. Я вдруг представила себе Нинин труп, гниющий во мраке могилы, и Джастин вздрогнул. – Расскажи мне об этой встрече. Об острове, – попросила я. – Потом, – ответила Нина. – Мы еще встретимся и обсудим с тобой, что нужно делать… Как ты можешь помочь нам всем. А теперь мне пора идти. – Хорошо. – Мой детский голосок не смог скрыть чисто детского разочарования, которое я ощущала. Нинина негритянка встала, медленно подошла к креслу, где сидел Джастин, и поцеловала его, то есть меня, в щеку. Как часто Нина награждала меня этим иудиным поцелуем, прежде чем предать! Я вспомнила нашу последнюю встречу. – До свидания, Мелани, – прошептала она. – До свидания, Нина, дорогая, – улыбнулась я в ответ. Глядя по сторонам, словно опасаясь, что Калли или мисс Сьюэлл остановит ее, она пошла к двери. Мы все сидели, ангельски улыбаясь при свете свечей, держа чайные чашки на коленях. – Нина! – окликнула я ее, когда она приблизилась к двери. Она медленно обернулась, и я почему-то вспомнила кота Энн Бишоп, его загнанный вид, когда Винсент наконец настиг его в углу спальни. – Да, дорогая? – Все-таки зачем ты прислала ко мне эту черномазую? Девица загадочно улыбнулась: – Мелани, а разве ты никогда не Использовала цветных для разных поручений? Я кивнула, и она вышла. Марвин с мясницким тесаком еще глубже вжался в куст за дверью и проводил девушку пытливым взглядом. Калли пришлось выйти, чтобы открыть ворота. Она свернула налево и медленно двинулась по темной улице. Я отправила негра за ней. А еще через минуту Калли присоединился к ним.Глава 55
Чарлстон
Вторник, 5 мая 1981 г.
Натали заставила себя пройти один квартал спокойным шагом. Свернув за угол и потеряв из виду дом Фуллер, она поняла, что стоит перед выбором: либо дать своим коленям согнуться, либо бежать. Она побежала. Миновав первый квартал со спринтерской скоростью, она обернулась и в свете фар выворачивавшей машины увидела метнувшуюся темную фигуру. Юноша показался ей странно знакомым, но на таком расстоянии рассмотреть лицо было невозможно. Зато блеснувший в его руке нож она увидела. Из-за угла показалась еще одна, более крупная фигура. Натали пробежала следующий квартал к югу и снова свернула на восток. Она уже задыхалась, под ребрами кололо и жгло, но она не обращала внимания на боль. Улица, где она оставила машину, была освещена ярче, хотя рестораны и магазины уже закрылись, а пешеходы исчезли. Натали рванула на себя дверцу и запрыгнула на водительское сиденье. На мгновение ее охватила еще большая паника, когда она обнаружила, что ключи в зажигании отсутствуют, а при ней нет сумочки. Но почти сразу же она вспомнила, что положила их под сиденье, чтобы их мог найти Сол, когда придет за машиной. Едва она наклонилась за ключами, как противоположная дверца распахнулась и в машину ввалился мужчина. Натали, пытаясь сдержать крик, резко выпрямилась и подняла сжатые кулаки. – Это я, – сказал Сол, поправляя очки. – С тобой все в порядке? – О господи, – выдохнула Натали. Она нащупала ключи, и машина с ревом тронулась с места. За их спинами от кустарника отделилась тень и бросилась вдогонку. – Держись! – крикнула Натали, выехав на середину улицы и нажимая на газ. Свет фар на мгновение выхватил фигуру чернокожего парня, прежде чем тот отскочил в сторону. – Ты видел, кто это? – спросила она. – Марвин Гейл. – Сол ухватился за приборную доску. – Сверни-ка здесь. – Что он тут делает? – удивилась Натали. – Не знаю, – ответил Сол. – Сбавь скорость. Нас никто не преследует. Они выехали на шоссе, ведущее к северу. Натали поймала себя на том, что плачет и смеется одновременно, и затрясла головой, пытаясь успокоиться. – О господи, получилось, Сол! А я даже никогда не играла в самодеятельности. Просто не могу поверить! – Она попробовала улыбнуться, но вместо этого из глаз хлынули слезы. Сол сжал ее плечо, и только тогда Натали посмотрела на него. На какое-то ужасное мгновение ей показалось, что Мелани Фуллер все же удалось перехитрить их, что старая ведьма каким-то образом узнала об их планах и завладела Солом… От его прикосновения Натали вся сжалась. Он бросил на нее недоуменный взгляд и покачал головой: – Все в порядке, Натали. Я проснулся, обнаружил твою записку и добрался на такси до кафе… – Фенотиазин, – прошептала она, не зная, куда смотреть – на Сола или на дорогу. – Я не допил кофе, – ответил он. – Оказался слишком горьким. К тому же ты взяла дозу, как для Энтони Хэрода. А я покрупнее буду. Натали посмотрела на Сола. Какая-то часть сознания убеждала ее в том, что она сошла с ума. – Ладно, – усмехнулся он. – Мы согласились, что эти… штуки… влияют на память. Я собирался расспросить тебя, но можем начать и с меня. Описать ферму Давида в Кесарии? Рестораны, в которых мы бывали в Иерусалиме? Наставления Джека Коэна? – Да нет же, – отмахнулась Натали. – Все нормально, раз ты не допил кофе. Она вытерла рукавом слезы и рассмеялась: – Сол, это было ужасно. Какое-то умственно отсталое чудовище и другой зомби отвели меня в гостиную, где стояли еще с полдюжины таких же в полной темноте. Они выглядели как трупы – у одной женщины белое платье было застегнуто не на те пуговицы, а рот не закрывался. Я простоне могла думать, мне казалось, что голос вот-вот перестанет меня слушаться. А потом, когда вошло это маленькое… существо со свечой, стало еще хуже, чем в Ропщущей Обители. Такого я даже представить себе не могла! У ребенка был ее взгляд – безумный, неотрывный. Я никогда не верила ни в бесов, ни в Сатану, но это существо было прямо из Данте или какого-нибудь босховского кошмара. Она все спрашивала и спрашивала через него, а я никак не могла ответить. Я знала, что женщина, одетая в платье медсестры, собирается что-то сделать за моей спиной, но тут Мелани, то есть этот бесенок, упомянула Бад-Ишль, и у меня что-то щелкнуло в мозгу. Я вспомнила материалы, собранные Визенталем, вспомнила танцовщицу из Берлина, Берту Майер, а потом все пошло легко. Только я боялась, что она снова спросит о ранних годах, но она не спросила. Сол, по-моему, мы убедили ее. Но мне было так страшно… – Натали умолкла, еле переводя дыхание. – Притормози здесь, – сказал Сол, указав на пустую стоянку. Натали остановила машину и откинулась назад, пытаясь успокоиться. Сол наклонился, взял ее лицо в ладони и поцеловал – сначала в левую щеку, потом в правую: – Милая моя, более отважного человека я еще не встречал в своей жизни. Если бы у меня была дочь, я бы хотел, чтобы она походила на тебя. Натали всхлипнула: – Сол, нам надо спешить обратно в мотель и включить энцефалограф, как мы планировали. Ты должен обо всем меня спросить. Она прикасалась ко мне, я это чувствовала… Это было хуже, чем тогда с Хэродом… такое ледяное прикосновение, холодное и скользкое, как… как из могилы. Он кивнул: – Наоборот, она уверена, что это ты из могилы. И нам остается только надеяться, что она побоится еще одного столкновения с Ниной и не будет пытаться отнять тебя у своей предполагаемой соперницы. Если бы она собиралась применить к тебе свою силу, то, по логике вещей, скорее сделала бы это, пока вы общались. – Способность, – поправила Натали. – Так она это называет, причем явно с большой буквы. – Девушка испуганно оглянулась. – Сол, надо вернуться в мотель и провести исследование моего мозга, как мы и планировали. Ты должен расспросить меня обо всем и убедиться… что я помню. Он слабо рассмеялся: – Хорошо, мы включим энцефалограф, пока ты будешь спать, но расспрашивать тебя нет никакой необходимости. Твой маленький монолог здесь, в машине, вполне убедил меня, что ты именно та, кем была всегда, – то есть очень отважная и красивая девушка. Пересаживайся на мое место, а я сяду за руль. Пока они ехали к мотелю, Натали думала об отце – вспоминала тихие вечера в лаборатории или за обедом. Однажды она распорола ногу ржавой железякой за гаражом Тома Пайпера и прибежала к дому, а отец, бросив машинку для стрижки газонов, кинулся ей навстречу, с ужасом глядя на ногу и пропитанный кровью носок. Но Натали не плакала, и он, подняв ее на руки и неся в дом, все время повторял: «Моя отважная девочка, моя отважная девочка». И она стала отважной. Натали закрыла глаза. – Это начало, – произнес Сол. – Несомненное начало их конца. Не открывая глаз и чувствуя, как успокаивается ее сердцебиение, Натали задремала, продолжая думать об отце.Глава 56 Мелани
При свете дня поверить в то, что со мной связывалась Нина, оказалось труднее. Моей первой реакцией была тревога и чувство незащищенности, вызванные тем, что я обнаружена. Но эти ощущения скоро прошли, сменившись уверенностью и возрожденной энергией. Кого бы ни представляла эта девица, она заставила меня снова думать о будущем. В среду, кажется, это было пятого мая, негритянка не пришла, поэтому я предприняла самостоятельные действия. Доктор Хартман обошел больницы якобы в поисках места, куда меня можно было бы госпитализировать, на самом же деле он проверял, нет ли там больных, похожих на Нину. Помня о моем пребывании в больнице Филадельфии, доктор Хартман не обращался к медицинскому персоналу или администраторам, а под видом проверки больничного оборудования сам работал с компьютерами, медицинскими картами и историями болезней в хирургических отделениях. Поиски продолжались до пятницы, и за это время никаких сведений ни о Нине, ни о негритянке не поступало. К выходным доктор Хартман обошел все больницы, дома для престарелых и медицинские центры, предназначенные для длительного содержания больных. Он также заглянул в окружной морг, где его заверили, что тело мисс Дрейтон было выдано наследникам и кремировано. Но это лишь подтверждало возможность того, что она жива… или что ее тело похищено… Когда я бегло прошлась по сознаниям служителей морга, я обнаружила одного глуповатого человека среднего возраста по имени Тоб, с безошибочными признаками того, что его Использовали, о чем после ему велено было забыть. Калли начал обходить чарлстонские кладбища в поисках могилы годичной давности, в которой могло бы находиться тело Нины. Семья Хокинс происходила из Бостона, поэтому, когда обследование чарлстонских кладбищ ничего не дало, я отправила Нэнси на север – мне не хотелось, чтобы Калли покидал дом на столь длительное время, – и она отыскала семейную усыпальницу. В пятницу после полуночи, с заступом и ломом, купленными в Кембридже, она произвела тщательные раскопки. Хокинсов было в изобилии – всего одиннадцать тел, из них девять взрослых, но все они выглядели так, будто пролежали здесь уже по меньшей мере полстолетия. Глазами мисс Сьюэлл я осмотрела проломленный череп, принадлежавший, очевидно, Нининому отцу. Я разглядела золотые зубы, по поводу которых он любил шутить, и в сотый раз задумалась: неужели это Нина толкнула его под трамвай в 1921 году за то, что он не позволил ей купить синий автомобиль, на который она в то лето положила глаз? В могилах были лишь кости, прах и давно сгнившие останки похоронных убранств, и все же, чтобы быть абсолютно уверенной, я заставила мисс Сьюэлл вскрыть все черепа и заглянуть внутрь. Кроме серой пыли и насекомых, ничего обнаружить не удалось. Нина в склепе не пряталась.* * *
Какими бы бесплодными ни были эти поиски, я радовалась тому, что размышляю вполне здраво. Долгие месяцы болезни расслабили меня, притупили обычную остроту восприятия, но теперь я чувствовала возвращение былой мощи. Мне следовало догадаться, что Нина не захочет быть похороненной вместе со своей семьей. Она не любила своих родителей и ненавидела единственную сестру, которая умерла в юности. Нет, если Нина была действительно мертва, ее скорее можно найти в каком-нибудь недавно купленном особняке, может, даже здесь, в Чарлстоне, возлежащей на роскошной постели, прелестно одетой и каждый день заново подкрашенной, в окружении целого некрополя прислужников мертвых. Признаюсь, я заставила сестру Олдсмит надеть лучшее шелковое платье и отправила ее завтракать в «Мансарду», но никаких признаков Нининого присутствия там тоже не оказалось. Ведь хотя чувство юмора у нее было таким же изящным, как у меня, она была не настолько глупа, чтобы вернуться туда. Только не подумайте, будто я всю неделю занималась бесплодными поисками, возможно, не существовавшей Нины. Я предприняла и чисто практические меры предосторожности. Говард улетел в среду во Францию и начал подготавливать мой будущий переезд туда. Дом находился в том же состоянии, в каком я оставила его восемнадцать лет назад. В сейфе в Тулоне хранился мой французский паспорт, положенный туда мистером Торном лишь тремя годами раньше. То, что я могла воспринимать Говарда, находящегося на расстоянии более двух тысяч миль, свидетельствовало о моей несоизмеримо возросшей Способности. Раньше на далекие расстояния я отправляла только идеально обработанных пешек, таких как мистер Торн, и они действовали по заранее утвержденному плану и не нуждались в моем непосредственном руководстве. Разглядывая глазами Говарда поросшие лесом холмы южной Франции, сады и рыжие прямоугольники крыш в долине неподалеку от моего дома, я недоумевала, почему отъезд из Америки казался мне таким сложным. Вернулся Говард в субботу вечером. Все было готово к тому, чтобы он с Нэнси, Джастином и матерью Нэнси – инвалидом в течение часа могли покинуть страну. Калли и остальные должны были выехать позднее в том случае, если не возникнет необходимости прикрытия. Я не собиралась лишаться своего личного медицинского персонала, но, если бы дело дошло до этого, во Франции тоже имелись превосходные врачи и сестры. Однако, когда путь к отступлению был подготовлен, я засомневалась, хочу ли я этого. Мысль о встрече с Вилли и Ниной не была лишена приятности. Эти месяцы блужданий, боли и одиночества становились еще более тягостными от ощущения незавершенности дел. Полгода назад Нинин звонок в аэропорту Атланты поверг меня в бегство, зато реальное появление представительницы Нины – если она была тем, за кого себя выдавала, – оказалось не таким уж пугающим. Я решила, что так или иначе добьюсь правды. В четверг сестра Олдсмит пошла в публичную библиотеку и отыскала все упоминания имен, названных негритянкой. Она нашла несколько журнальных публикаций и недавно вышедшую книгу о таинственном миллионере К. Арнольде Баренте, заметки о Чарльзе Колбене в статьях, посвященных политике Вашингтона, и пару книг об астрономе по имени Кеплер. Но, вероятно, это был не тот человек, так как он уже несколько веков находился в могиле, – ссылок же на другие имена не было. Эти книги и статьи ни в чем меня не убедили. Если девицу прислала не Нина, то она почти наверняка лгала. Если же все-таки это Нина, я тоже допускала, что она могла лгать. Нина не нуждалась в провокации со стороны других, обладающих Способностью, чтобы провоцировать меня. «Могла ли смерть сделать Нину безумной?» – размышляла я. В субботу я позаботилась о последней детали. Доктор Хартман договорился с миссис Ходжес и ее зятем о покупке соседнего дома. Я знала, где она живет. Я также знала, что в субботу утром она ездит одна на рынок в Старый город за свежими овощами, которые были для нее своеобразным фетишем. Калли остановился рядом с машиной дочери миссис Ходжес и дождался, пока старуха не выйдет с рынка. Как только она появилась с полными сумками в руках, он подошел и сказал: – Позвольте, я помогу вам. – Спасибо, я сама… – начала было миссис Ходжес, но Калли забрал у нее одну сумку, крепко взял за руку и повел к «кадиллаку» доктора Хартмана. Подойдя к машине, он открыл дверцу и затолкал ее на переднее сиденье, как выведенный из себя родитель толкает ребенка. Миссис Ходжес сделала попытку открыть запертую дверцу и выбраться, но Калли скользнул на водительское место и своей огромной рукой, в которой помещалась вся голова глупой старухи, сжал ее лицо. Она тяжело привалилась к дверце. Калли, удостоверившись, что она дышит, повез ее домой, включив пленку с записью Моцарта и неумело подпевая.* * *
В воскресенье десятого мая, вскоре после полудня, в ворота вновь постучала посланница Нины. Я отправила Говарда и Калли, чтобы ей открыли. На этот раз я была готова к ее приходу.Глава 57
Остров Долманн
Суббота, 9 мая 1981 г.
Натали и Сол вылетели из Чарлстона в половине восьмого утра. Впервые за четыре дня Натали сняла телеметрические датчики энцефалографа и чувствовала себя странно обнаженной и в то же время свободной, словно она действительно вышла из карантина. Маленькая «Сессна-180», поднявшись в воздух, пролетела над портом и повернула навстречу восходящему солнцу. Внизу показались голубовато-зеленые волны океана, под правым крылом раскинулся остров Каприз. Натали сверху различала фарватер, уходящий к югу сквозь безумное переплетение заливов, морских рукавов и прибрежных болот. – Как ты думаешь, сколько нам потребуется времени? – спросил Сол пилота. Он сидел на правом переднем сиденье, Натали – за ним. В ногах у нее лежала большая сумка. Дэрил Микс посмотрел на Сола, а потом бросил взгляд через плечо на Натали. – Около полутора часов, – прокричал он, перекрывая шум двигателя. – Может, немного больше, если налетит юго-восточный ветер. Дэрил Микс выглядел так же, как семь месяцев назад, когда Натали познакомилась с ним возле дома Роба Джентри. На Дэриле были дешевые темные очки, армейские ботинки, обрезанные джинсы и футболка с выцветшей надписью «Колледж Уобаш». Натали по-прежнему казалось, что Микс напоминает помолодевшего длинноволосого Морриса Юдалла.[58] Она вспомнила его имя и то, что старый приятель Роба Джентри был чартерным пилотом, дальше оставалось только перелистать желтые страницы, чтобы отыскать его офис в маленьком аэропорту севернее Маунт-Плезанта, через реку от Чарлстона. Микс узнал ее и после нескольких минут разговора – в основном вспоминались забавные случаи времен их общей с Робом юности – согласился взять ее и Сола на облет острова Долманн. Пилот поверил версии, что они ведут журналистское расследование о миллионере-отшельнике К. Арнольде Баренте, хотя Натали не сомневалась, что он запросил с них гораздо меньшую сумму, чем обычно. День был теплым и безоблачным. Натали смотрела, как светлые прибрежные воды смешиваются с сине-пурпурными глубинами истинной Атлантики, растянувшейся на сотни миль вдоль извилистого берега; на юго-запад к раскаленному горизонту уходил зеленовато-коричневый пейзаж Южной Каролины. Во время полета Сол и Натали почти не разговаривали, погрузившись в собственные мысли. Микс был занят приборами и радиосвязью, а в основном явно наслаждался полетом в такой прекрасный день. Когда они углубились дальше, он указал своим пассажирам на два пятна в океане, к западу от них. – То, что побольше, – Хилтон-Хед, – лаконично сообщил он. – Излюбленное место отдыха всяких больших шишек. Никогда там не был. А второе – Пэррис-Айленд, база морской пехоты. Однажды мне устроили на ней оплачиваемый отпуск. Там знают, как превращать мальчиков в мужчин, а мужчин в роботов меньше чем за десять недель. Насколько мне известно, этим занимаются до сих пор. К югу от Саванны они снова свернули к берегу, и перед ними открылась длинная вереница песчаных отмелей и зеленых островов. Микс называл их по очереди: Святой Катерины, Черная Борода и, наконец, острова Сапело. Он свернул влево, выровнял курс на 112 градусов и указал еще на одно туманное пятно в нескольких десятках миль от того места, где они находились. – А вот и остров Долманн, – объявил Микс. Натали приготовила камеру – новенький «Никон» с трехсотмиллиметровым объективом – и прислонила ее к боковому окну, закрепив на моноподе. Она использовала пленку высокой чувствительности. Сол разложил на коленях блокнот и карты с диаграммами, которые извлек из досье, подготовленного Джеком Коэном. – Мы зайдем с севера! – прокричал Микс. – Пролетим над океаном, как я и говорил, потом сделаем круг и взглянем на старый особняк. Сол кивнул: – А как близко ты сможешь подлететь? Микс ухмыльнулся: – Вообще-то, там все охраняется. Формально северная часть острова – это дикий заповедник, поэтому воздушное пространство там закрыто. Все это якобы принадлежит Фонду западного наследия, и остров охраняют так, словно на нем расположена ракетная база русских. Стоит пролететь над ним, и Комитет гражданской авиации тут же отнимет у тебя лицензию, как только проверят регистрационные номера. – А ты сделал, как мы договаривались? – уточнил Сол. – Да, – кивнул Микс. – Не знаю, обратил ли ты внимание, но большинство цифр просто вырезаны из красной клейкой ленты. Лента снимается, и мы получаем другой номер. Ладно, посмотрите вон туда. – Он указал на серое судно с высокой мачтой, которое медленно двигалось в северном направлении примерно в миле от острова. – Это одно из их сторожевых судов с радаром. Кроме того, у них есть быстроходные патрульные катера, курсирующие туда и обратно, и, если какому-нибудь дураку вздумается устроить пикник на Долманне или высадиться, чтобы полюбоваться на птичек, его ждет страшное потрясение. – А что происходит здесь в июне, во время проведения лагеря? – спросил Сол. Микс рассмеялся: – Ну, тогда уже подключаются береговая охрана и военно-морской флот. Без специального разрешения никто не сможет приблизиться к острову. Ходят слухи, что охрана хорошо вооружена, а со взлетной полосы на юго-западе, которую я вам покажу, то и дело поднимаются вертолеты. Приятели мне рассказывали, что в июне сюда не подпускают никого и по воздуху ближе чем на три мили. А вот это – северный пляж. – Микс показал вниз. – Здесь идет единственная полоска песка, если не считать пляжа возле особняка и летнего лагеря. – Пилот повернулся и бросил взгляд на Натали. – Надеюсь, вы готовы, мэм? С этой стороны мы больше не окажемся. – Готова! – откликнулась Натали и, как только они оказались в четверти мили от пляжа, на высоте четыреста футов, принялась щелкать фотоаппаратом. Хорошо, что она взяла фотокассету увеличенной емкости и камеру с автоматической перемоткой, которыми при обычной съемке не пользовалась. Вместе с Солом она хорошо изучила карты острова, но увидеть все воочию было гораздо интереснее, хотя картинки и мелькали внизу очень быстро, представляя собою чехарду пальмовых зарослей, отмелей и других едва заметных подробностей. Остров Долманн ничем не отличался от остальных островов, в основном располагавшихся ближе к побережью. Он был вытянут в форме буквы «Г» с севера на юг, длиною семь миль и шириной – около трех. К северной оконечности остров сужался, мысом уходя в океан. За длинной белесой полосой пляжа виднелись топи, болота и субтропические заросли, покрывавшие всю северную часть. С пальм и кипарисов взлетали большие белые птицы, суматошно хлопая крыльями. Натали отщелкивала пленку с такой скоростью, какую только позволяла автоматическая перемотка. Вскоре они увидели какие-то почерневшие развалины. – Это руины бывшей лечебницы для рабов, – прокричал Сол, делая отметку на своей карте. – За ней – плантация Дюбоза, уже полностью заросшая джунглями. Где-то там рабское кладбище… а там охранная зона! Натали оторвалась от видоискателя. Северную часть острова занимали холмы, поросшие густой непроходимой растительностью. Далее виднелись низкие, наполовину утопленные в земле бетонные строения, между пальмами вилась черная гладкая лента асфальтовой дороги, ведущая к огороженной и абсолютно голой площадке. Казалось, земля здесь вымощена остроконечным ракушечником. Натали выдвинула объектив и снова принялась делать снимки. Микс снял наушники: – Господи, вы бы только послушали, что орет этот парень с радарной посудины! Жаль, что у меня не работает приемник. – И он подмигнул Солу. Они приблизились к восточной части острова. Микс сделал крюк, чтобы не пролетать непосредственно над ней. – Давай выше! – крикнул Сол. Когда они набрали высоту, Натали получила превосходную панораму для обзора. Она отложила «Кодак» и взяла «Рико» с широкоугольным объективом и ручной перемоткой. Переместившись к левому иллюминатору, она начала быстро снимать крупные планы длинного пляжа. Восточная часть острова выглядела совсем иначе. За охраняемой зоной тянулись сосновые и дубовые рощи, вдали высились поросшие лесом холмы, все несло на себе следы тщательного и продуманного ухода. Асфальтовая дорога продолжала виться вдоль берега, и лишь пальмы и древние дубы скрывали из виду ее идеально гладкую поверхность. С высоты в пятьсот футов между кронами деревьев замелькали зеленые крыши строений и кольцо скамеек на травянистой поляне ближе к центру острова. – Амфитеатр летнего лагеря! – крикнул Сол. – Держитесь, – предупредил Микс и снова круто свернул влево, к рифу пурпурного цвета, чтобы миновать искусственную гавань и длинный бетонный причал на юго-восточной оконечности острова. – Не думаю, что они станут нас обстреливать, – усмехнулся он, – но черт их знает. За гаванью они круто свернули вправо и полетели вдоль каменистого южного побережья. Микс кивком указал на крышу, которая виднелась над колышущимися под ветром пальмами и цветущими магнолиями. – А это особняк, – пояснил он. – Бывшая плантация Вандерхуфа. Старый священник женился на наследнице большого состояния. Построен примерно в тысяча семьсот семидесятом году. На третьем этаже располагается более двадцати спален, а во всем доме, наверное, около ста двадцати комнат. А там, за деревьями, – взлетная площадка. «Сессна» снова свернула вправо и прошла низко над макушками белых скал, спускавшихся с высоты двести футов к ревущему внизу прибою. Натали сделала пять снимков телеобъективом и два – широкоугольником. Особняк виднелся в конце длинной дубовой аллеи – огромное старинное здание, окруженное идеально подстриженным газоном. Сол сверился с картой и, прищурившись, еще раз посмотрел на крышу особняка, исчезавшего за высокими деревьями: – Говорят, здесь должна быть дорога, уходящая на север… – Дубовая аллея, – подтвердил Микс. – Тянется почти с милю от гавани до подножия холма, где начинаются сады. А дороги никакой нет. Лишь травянистая аллея ярдов тридцать в ширину. Ветви деревьев вдоль нее украшены японскими фонариками, свет от них виден за десятки миль. Именно по этой освещенной аллее они и направляются к особняку в первый день лагеря. А вон там – взлетная полоса! Они пролетели еще две мили к западу вдоль основания буквы «Г». Скалы начали постепенно переходить в гряду прибрежных камней, а затем в белый песчаный пляж. За ним виднелась взлетная полоса, уходящая в лес на северо-восток. Пляж вскоре остался позади, а с западной стороны прямую береговую линию нарушало изрезанное речное устье. Здесь была огороженная зона, которая уходила через перешеек вглубь острова. Сотни ярдов территории с пышной тропической растительностью выглядели внушительно, будто рай, отсеченный от всего мира. К северу от охраняемой зоны вдоль всего западного побережья отсутствовали какие-либо признаки человеческого жилья, да и самого человека, – все пространство до самого берега занимали заросли пальм, сосен и магнолий. – А как они объясняют необходимость таких закрытых зон? – осведомился Сол. Микс пожал плечами: – Вероятно, они отделяют дикий заповедник от частных владений. На самом же деле весь остров – частная собственность. Во время летних лагерей – идиотское название, правда? – здесь толпами бродят всякие премьер-министры и бывшие президенты. Их держат к югу от закрытой зоны, чтобы проще было обеспечивать безопасность. И дело не в том, что им на острове что-то угрожает. Через три недели здесь будут десятки кораблей, яхты, катера береговой охраны. Даже если кому-то удастся высадиться на острове, далеко ему не уйти. Тайные агенты и служба безопасности постоянно проверяют территорию. Если вы пишете о К. Арнольде Баренте, то, наверное, уже знаете, что этот человек умеет охранять свою жизнь. Завершая облет, самолет снова приблизился к северной оконечности острова. – Я бы хотел приземлиться там. – Сол указал вниз. – Послушай, приятель, – усмехнулся Микс, качая головой. – Можно нарушить схему планов вылетов, можно даже вторгнуться в воздушное пространство Барента. Но если мои шасси коснутся взлетной полосы, я больше никогда не увижу свой самолет. – Я не имею в виду взлетную полосу, – сказал Сол. – Северный пляж выглядит ровным, песок там достаточно утрамбован. – С ума сошел! – Микс нахмурился и начал возиться с управлением; за северной оконечностью острова раскинулся океан. Сол вынул из кармана рубашки четыре пятисотенные купюры и положил их на приборную доску перед Миксом. Тот покачал головой: – Этого не хватит ни на новый самолет, ни на оплату больничных расходов, если мы врежемся в какой-нибудь камень. Натали склонилась вперед и сжала плечо пилота. – Пожалуйста, Микс, – перекрывая шум двигателя, попросила она. – Для нас это очень важно. Он повернулся и посмотрел на девушку: – Значит, это не просто статья для журнала, так? Натали быстро взглянула на Сола, потом на Микса и покачала головой: – Нет. – Это имеет какое-то отношение к смерти Роба? – спросил пилот. – Да, – кивнула она. – Так я и думал. – Он вздохнул. – Я же сразу не поверил всем этим объяснениям, почему Роб оказался вдруг в Филадельфии и как это связано с ФБР. Значит, тут как-то замешан миллионер Барент? – Да, мы так считаем, – ответила Натали. – И нам нужны дополнительные сведения. Микс указал на северный пляж внизу: – И если мы приземлимся там на несколько минут, вам это поможет сделать какие-то выводы? – Возможно, – сказал Сол. – Черт побери, – пробормотал Микс. – Похоже, вы оба шпионы или еще что-то в этом роде. Правда, от шпионов я никогда не видел никакого зла, а вот негодяи типа Барента отравили мне всю жизнь. Держитесь! «Сессна» заложила резкий вираж вправо. Узкую береговую полосу прорезали несколько ручьев и бухточек. – Не больше ста двадцати ярдов! – крикнул Микс. – Придется садиться у самой воды, и молитесь, чтобы мы не попали в яму и не наскочили на камень. – Он глянул на приборы и посмотрел вниз на белые пенистые барашки прибоя и качающиеся макушки деревьев. – Ветер западный. «Сессна» снова заложила вираж вправо и начала терять высоту. Сол покрепче затянул ремни и ухватился руками за приборную доску. Натали убрала камеры, сунула кольт под блузку, затем обхватила себя за плечи руками. Микс резко сбросил скорость, и «сессна» стала медленно снижаться, – казалось, она висела над волнами целую минуту. Сол не сомневался, что траектория их падения неизбежно закончится в полосе прибоя, но в последний момент Микс прибавил скорость, пронесся над камнями, которые выросли до размеров устрашающих валунов, и уверенно направил самолет на мокрый песок. Нос «сессны» нырнул вниз, на ветровое стекло полетели брызги соленой воды, и Сол почувствовал, как заносит левое шасси. Микс, словно умалишенный, одновременно дергал за все ручки управления. Через мгновение самолет выровнялся и начал останавливаться, но недостаточно быстро – устьица, которые казались такими далекими с северо-западного конца пляжа, неудержимо неслись навстречу. За пять секунд до того, как перемахнуть через овраг, Микс накренил самолет вправо, так что брызги полетели в окно Сола, нажал на дроссель и тормоза и, развернувшись почти на сто восемьдесят градусов, остановил машину в нескольких дюймах от бухты и дюн. – Три минуты, – предупредил он, оттягивая дроссель. – Я буду на восточном конце пляжа, и если ветер начнет стихать или я увижу катер, выруливающий из-за мыса Рабов, то привет. Девушка останется в самолете, чтобы помочь мне развернуть хвост. Сол кивнул, отстегнул ремни и выскочил из дверцы. Ветер тут же подхватил его длинные волосы. Натали подала ему тяжелую сумку, обмотанную полиэтиленом. – Эй! – окликнул Микс. – Ты ничего не сказал… – Двигай! – прокричал Сол и бегом бросился к зарослям, туда, где бухта скрывалась в пальмовых побегах и тропических цветах.* * *
Не пройдя и десяти ярдов, он оказался по колено в болотной жиже в окружении магнолий, пальм, кипарисов и дубов, заросших испанским мхом. Из большого гнезда прямо над его головой с шумом вылетела птица, по воде скользнуло какое-то земноводное, оставив за собой расходящиеся волны. Сол вспомнил слова Джентри о ловле змей в темноте. Три минуты почти истекли, когда он догадался вытащить компас и решил, что ушел достаточно далеко. Оглядевшись, он заметил старый кипарис, обезображенный пожаром или ударом молнии, – две нижние ветки раскинулись над темной водой, как обугленные руки человека. Сол двинулся к дереву, но, еще не дойдя до ствола, по пояс погрузился в воду. Оказывается, ствол расщепило молнией, сквозь зазубренные края выемки виднелась полусгнившая сердцевина. Он чувствовал, как левая нога погружается в вязкую тину, пока он заталкивал сумку в щель ствола так, чтобы ее не было видно, и закреплял тут же обломанными ветками. Отойдя на десять шагов и убедившись, что все в порядке, он цепким взглядом окинул местность, запоминая расположение старого кипариса относительно бухты, других деревьев и участка неба, видневшегося сквозь свисающий мох и искривленные сучья. Повернувшись, Сол поспешил к берегу. Трясина затягивала его, угрожая содрать ботинки и мертвой хваткой вцепиться в щиколотки. Солоноватый налет покрыл рубашку, от стоячей воды несло водорослями и разложением. Огромные листья папоротников хлестали Сола по лицу, тело плотным кольцом облепили москиты. Чем дальше он продвигался, тем непроходимее казались заросли. Наконец Сол преодолел последний барьер и, спотыкаясь, вышел к мелкой песчаной бухте. Поднявшись по крутому откосу, он понял, что, несмотря на компас, отклонился ярдов на тридцать западнее. «Сессны» не было. Не веря своим глазам, Сол замер на месте, затем, заметив вдали солнечные блики, отражавшиеся от металла и стекла, бросился вперед. За изгибом низких дюн самолет казался невероятно далеким. Он услышал, как нарастает грохот двигателя, и понял, что начавшийся прилив быстро сокращает возможное пространство для взлета. Пробежав две трети пути, Сол уже не слышал ничего, кроме собственного дыхания. Не слышал он и низкого гула моторной лодки. Он заметил ее, когда обернулся: разбрасывая белые брызги, она неслась по крутой дуге из-за северо-восточной оконечности острова. На борту стояли по меньшей мере пять темных фигур с автоматическими винтовками в руках. Сол рванул еще быстрее по самому краю прибоя. Если бы самолет начал взлетать, у него осталось бы два пути: нырять в воду либо оказаться разрезанным пропеллером. От самолета его отделяли всего десять ярдов, когда из-под левого крыла взвились три фонтана песка. Ощущение было странным – будто ему навстречу выскочила огромная песчаная блоха. Отрывистую очередь он услышал секундой позже. Сол понял, что стрелок промазал лишь из-за сильных волн прибоя и большой скорости. Задыхаясь, он преодолел последние несколько футов и запрыгнул в открытую левую дверь кабины. Не дожидаясь, когда Натали справится с хлопающей дверцей, самолет рванулся вперед, подпрыгивая и виляя на узкой полосе мокрого песка. Пуля врезалась в металл позади них. Микс выругался и дернул верхнюю ручку, борясь с вибрирующим штурвалом. Сол сидел прямо и смотрел вперед. «Сессна» достигла конца пляжа и, так и не взлетев, с ревом ринулась через песчаные ухабы и узкие протоки. С западной стороны подступали острые скалы и полоса деревьев. Подпрыгнув в очередной раз, переднее шасси подняло фонтан брызг и оторвалось от земли. Они миновали скалы, едва не задев их острые макушки, и свернули вправо навстречу волнам, набирая высоту – сначала двадцать, потом тридцать футов. Внизу Сол видел все так же скачущую по волнам моторную лодку. Казалось, стволы винтовок нацелены прямо ему в лицо. Микс изо всех сил давил на педали, дергал ручку штурвала то вперед, то назад, заставляя «сессну» двигаться по невероятной дуге, чтобы западный мыс с его зарослями и стеной деревьев мог скорее укрыть их от патрульной лодки. Так и не успев пристегнуться, Сол врезался головой в потолок кабины, его отшвырнуло к незапертой дверце, и он обеими руками вцепился в сиденье, чтобы не упасть на пилота. Микс бросил на него мрачный взгляд. Сол пристегнул ремни и посмотрел вниз. Под ними мелькали макушки деревьев, а впереди, рассекая волны задранными кверху носами, навстречу им неслись еще три моторных катера. Микс вздохнул и заложил такой крутой вираж вправо, что чуть не задел краем крыла гребень волны. Затем он выровнял самолет и двинулся к западу, оставляя остров и катера позади, но продолжал пока держаться над самой водой, так что нарастание скорости ощущалось весьма явственно. Сол пожалел, что у «сессны» не убираются шасси, и поймал себя на желании поджать ноги. – Придется лететь на частный аэродром моего приятеля Теренса в Монк-Корнере, а потом позвонить Альберту и попросить его внести изменения в план вылетов, – сказал Микс. – На случай, если они станут проверять прибрежные аэропорты. Ну и путешествие! – Он покачал головой, но лицо его расплылось в широкой улыбке. – Я помню, мы договорились на триста долларов, – сказал Сол. – Думаю, эта увеселительная прогулка стоит дороже. – Неужели? – удивился Микс. Сол кивнул Натали, и та вытащила из своей фотосумки четыре тысячи долларов крупными купюрами. Он положил их перед Миксом. Пилот присвистнул: – Послушайте, если это помогло вам получить сведения о том, кто убил Роба Джентри, одного этого уже достаточно. Не надо никакого вознаграждения. – Да, помогло, – наклонившись вперед, подтвердила Натали. – Но оставь это себе. – Может, вы мне лучше расскажете, какое отношение этот негодяй Барент имел к Робу? – Обязательно, когда узнаем чуть побольше, – ответила Натали. – К тому же нам может снова понадобиться твоя помощь. Микс через футболку почесал грудь и ухмыльнулся: – Конечно, мэм. Главное – не начинайте революцию без меня, о’кей? – Он повертел настройку приемника, и дальше к материку они летели под музыку марьячи; Микс подпевал по-испански.Глава 58 Мелани
В воскресенье Нинина пешка взяла Джастина на прогулку. Она постучала в ворота, когда еще не было одиннадцати, – приличные люди в это время находятся в церкви. Негритянка отклонила приглашение Калли пройти в дом и спросила, не хочет ли Джастин – она сказала «мальчик» – покататься? Я задумалась. Меня тревожило, что малыш должен покинуть дом, – из членов своей «семьи» я любила его больше всех. Но, с другой стороны, в том, что цветная девица не будет входить в дом, явно были свои преимущества. К тому же такая поездка могла пролить какой-нибудь свет на местонахождение Нины. Так что в конце концов она осталась ждать у фонтана, а сестра Олдсмит надела на Джастина самый нарядный костюмчик – синие шорты и матроску, и он отправился с негритянкой на прогулку. Я мысленно обследовала ее машину, но это мне ничего не дало. Почти новенький «датсун», выглядевший так, будто взят напрокат. Никаких особых примет, никакого запаха. На девушке была коричневая юбка, высокие сапоги и бежевая блузка – ни сумочки, ни портмоне, ничего такого, где могло бы находиться удостоверение личности. Естественно, если она представляла собой посланницу Нины, у нее уже не было личности. Мы медленно поехали по восточной прибрежной дороге, а потом свернули на север по шоссе к чарлстонским высотам. Здесь, на небольшой площадке, выходившей на морские верфи, негритянка затормозила, взяла бинокль с заднего сиденья и подвела Джастина к черной металлической ограде. Некоторое время она разглядывала темные сигнальные мостики и корабли, затем повернулась ко мне: – Мелани, хочешь ли ты помочь спасти жизнь Вилли и защитить себя? – Конечно, – ответила я детским контральто Джастина. Следила я вовсе не за ее словами, а за пикапом, который подъехал к стоянке и притормозил на дальнем ее конце. Кроме водителя, в машине никого не было, но из-за расстояния, темных очков и отбрасываемых теней я не могла рассмотреть его лицо. Зато я была уверена, что это та самая машина, которая следовала за нами по восточной прибрежной дороге. Любопытные взгляды Джастина легко было скрыть под маской детской непосредственности. – Хорошо, – сказала девушка и повторила свою заготовленную историю о власть имущих, обладавших Способностью. Они якобы каждое лето разыгрывали странную версию нашей Игры на каком-то острове. – Чем я могу помочь? – осведомилась я, придавая лицу Джастина выражение искренней озабоченности. Трудно испытывать недоверие к ребенку. Пока негритянка объясняла, я прикидывала, какие у меня есть варианты. Сначала мне казалось, что Использование девицы ничего мне не даст. Мое экспериментальное зондирование выявило то, что или Нина уже Использовала ее, но не проявляла никакого настойчивого желания удержать, попытайся я завладеть ею, или девица являлась идеально обработанной пешкой и не нуждалась в надзоре со стороны Нины – или кто ее там обрабатывал, или ее не Использовали вовсе. Теперь положение изменилось. Если мужчина в пикапе каким-то образом связан с негритянкой, тогда, Использовав ее, я могла получить необходимые сведения. – Вот, посмотри. – Она протянула бинокль Джастину. – Третий корабль справа. Я взяла бинокль и проскользнула в ее сознание. Помимо испуга, я увидела странную картинку на приборе, называемом осциллоскопом, – он был знаком мне по той аппаратуре, которую расставил в моей спальне доктор Хартман. Как я и ожидала, перемещение оказалось несложным, учитывая мою усилившуюся Способность. Негритянка была молодой, сильной – я чувствовала, как в ней бурлит жизненная энергия, и решила, что в ближайшие минуты найду ей применение. Оставив Джастина стоять с глупым биноклем, я заставила девушку быстрым шагом направиться к пикапу. Жаль, у нее не было ничего такого, что можно использовать как оружие. Машина находилась в дальнем конце стоянки. Только подойдя ближе, я увидела глазами негритянки, что она пуста, а дверца со стороны водительского сиденья распахнута. Я заставила девушку остановиться и оглядеться. На стоянке было несколько человек – вдоль ограды прогуливалась цветная пара, под деревом бесстыдно разлеглась молодая женщина в вызывающем наряде, возле фонтанчика с водой два джентльмена что-то бурно обсуждали, а за столиком для пикников устроилось целое семейство. На мгновение меня снова охватила паника, я принялась вглядываться в лица, словно пыталась различить среди них Нину. Что, если она сидит сейчас на скамейке или в машине и смотрит на меня через ветровое стекло пустыми глазницами? Джастин в манере игривого ребенка поднял с земли веточку и, небрежно помахивая ею, двинулся к негритянке, стоявшей у пикапа. Заглянув в окно машины, я увидела целую гору электронной аппаратуры. Провода тянулись через водительское сиденье вглубь салона. Джастин повернулся, чтобы следить за людьми на стоянке. Заставив девицу подойти к другому окну, я вдруг ощутила внезапный укол легкой боли и почувствовала, что теряю контроль над ней. Сначала я решила, что это Нина пытается дать мне отпор, но тут увидела, что негритянка падает. Я вовремя успела переключиться на Джастина. Девушка же, скользнув головой по дверце машины, неподвижно растянулась на земле. В нее кто-то выстрелил. Маленькими шажками Джастина я попятилась назад, продолжая сжимать в руке ветку, которая, на взгляд малыша, казалась такой прочной, а на самом деле была лишь хрупким побегом. Бинокль все еще висел у него на шее. Я приблизилась к пустому столику для пикников, поворачивая голову то вправо, то влево, не зная, кто мой враг и откуда мне ждать нападения. Похоже, никто не заметил, как девица упала, и не обратил внимания на ее тело, лежавшее между пикапом и синей спортивной машиной. Я не имела ни малейшего представления о том, кто ее убил и каким способом. Джастин заметил красное пятнышко на ее бежевой юбке, но оно казалось слишком маленьким для пулевого отверстия. Я подумала о глушителях и других экзотических устройствах, которые видела в фильмах до того, как заставила мистера Торна избавиться от телевизора. Да, напрасно я решила Использовать негритянку. Теперь она мертва – или, по крайней мере, так казалось, и я не хотела, чтобы Джастин приближался к ней. А сам он оказался в ловушке на этой стоянке, вдали от надежного укрытия дома. Я отошла еще дальше, к ограде. Один из джентльменов удивленно повернулся в мою сторону. Джастин поднял ветку и ощерился, как дикое животное. Мужчина бросил на него странный взгляд, затем повернулся и направился к своей машине. Я заставила Джастина пуститься бегом вдоль ограды. В дальнем конце стоянки он остановился и прижался спиной к холодному металлу. Отсюда тела цветной девицы видно не было. Калли и Говард спустились в гараж и в темноте завели «кадиллак», пока сестра Олдсмит делала мне укол, чтобы умерить бешеное сердцебиение. Свет был каким-то странным – он падал на мамино стеганое одеяло в моих ногах, отражался в глазах Джастина игрой воды в реке Купер и просачивался сквозь грязное окно гаража, где Говард возился с замком. Мисс Сьюэлл споткнулась на лестнице, Марвин на кухне застонал и вдруг схватился за голову, взгляд Джастина померк, потом снова прояснился… Как тяжело управлять сразу таким количеством людей! Голова у меня раскалывалась, я села на кровати, глядя на себя глазами сестры Олдсмит. Куда же подевался доктор Хартман? Черт бы тебя побрал, Нина! Я закрыла глаза. Все свои глаза, кроме глаз мальчика. Никаких причин для паники не было. Джастин не мог сам вести машину, даже если бы ему удалось найти ключи, но через него я могла Использовать кого угодно и заставить отвезти ребенка домой. Однако я слишком устала. У меня болела голова. Калли дал задний ход, и «кадиллак» снес ворота гаража, едва не задавив Говарда. С остатками сгнившего дерева на багажнике и заднем стекле машина рванула вперед. «Я еду, Джастин. Волноваться не о чем. И даже если тебя заберут другие, они останутся здесь, со мной». А что, если все это лишь отвлекающий маневр? Калли уехал, Говард ползает в гараже, пытаясь подняться на ноги. Может, в этот момент в ворота входят Нинины пешки? Переползают через ограду? Я заставила Марвина взять топор на заднем крыльце и выйти на улицу. Он попробовал сопротивляться. Это длилось секунду, меньше секунды, но он боролся. Моя обработка оказалась слишком слабой. Он еще сохранил остатки индивидуальности. Я заставила его выйти во двор и миновать фонтан. Вокруг никого не было видно. К нему присоединилась мисс Сьюэлл, и они оба встали на страже. Затем я разбудила доктора Хартмана, отдыхавшего в гостиной Ходжесов, и заставила его прийти ко мне. Сестра Олдсмит достала из шкафа дробовик и пододвинула кресло ближе к кровати. Калли уже приближался к верфям. Говард охранял задний двор. Я почувствовала себя лучше, восстановив контроль. Это было всего лишь прежнее ощущение паники, которое умела вызывать только Нина Дрейтон. Но теперь оно прошло. Если кто-то попробует угрожать Джастину, я заставлю этого человека посадить самого себя на острые пики в ограде и… Джастина не было! Пока мое внимание было поглощено другим, я оставила его. Шестилетний мальчик только что стоял спиной к реке и ограде,сжимая в руке веточку, а теперь он исчез. Я ничего не понимала. Ведь не было ни удара, ни выстрела. Может, их затмила боль Говарда? Или проблеск сознания негра? Или неловкость мисс Сьюэлл?.. Я пребывала в полной растерянности. Джастин исчез! Кто теперь будет расчесывать мои волосы по вечерам? Может, Нина не убила его, а только забрала? Но зачем? В отместку за то, что я спровоцировала убийство ее глупой пешки? Неужели Нина может быть настолько мелкой? Да, может. Приехав на стоянку, Калли бродил по ней до тех пор, пока на него не стали пристально посматривать. Посматривать на меня. Взятая напрокат машина по-прежнему стояла на месте пустой. Пикап же исчез, как и тело цветной девицы. И Джастин исчез. Положив массивные руки на металлическую ограду, Калли уставился на реку, плескавшуюся внизу на расстоянии сорок футов. Вода была покрыта рябью. Калли заплакал. Я заплакала. Мы все заплакали. Черт бы тебя побрал, Нина! Поздно вечером, когда я уже задремала под воздействием лекарств, в ворота громко постучали. Едва соображая, что делаю, я отправила Калли, Говарда и Марвина на улицу. Увидев, кто это, я оцепенела. Нинина негритянка стояла у ворот, с побледневшим лицом, одежда ее была испачкана и разорвана, глаза широко раскрыты. На руках она держала обмякшее тело Джастина. Сестра Олдсмит раздвинула шторы и выглянула сквозь жалюзи, чтобы предоставить мне еще один угол зрения. Тогда девица подняла свой длинный палец и, указывая прямо на окно моей спальни, прокричала так громко, что было слышно на весь Старый город: – Открывай сейчас же ворота, Мелани! Я хочу говорить с тобой! Палец она не опускала. Казалось, прошло уже много времени. Зеленые вспышки на мониторе пульсировали с дикой скоростью. Мы все закрыли глаза и снова открыли их. Негритянка по-прежнему стояла на месте, воздев палец, и вид ее был столь же надменен и властен, как у Нины Дрейтон, когда я в последний раз расстроила ее планы. Медленно и неуверенно я заставила Калли открыть ворота и тут же отступить, пока его не коснулась эта тварь, посланная Ниной. Глядя прямо перед собой, она быстрым шагом направилась к дому. Мы замерли, когда она вошла в гостиную и положила тело Джастина на диван. Я не знала, что предпринять. Мы ждали.Глава 59
Чарлстон
Воскресенье, 10 мая 1981 г.
Сол наблюдал за Натали и мальчиком на стоянке и слушал их беседу. Микрофон девушка прикрепила к воротничку блузки. Когда компьютер вдруг издал пронзительный звук, Сол бросил взгляд на экран, надеясь, что это какая-то ошибка телеметрии, датчиков или блока питания на заднем сиденье, а вовсе не то, чего они оба боялись. Однако он тут же убедился, что это не ошибка. Рисунок тета-ритма был выявлен безошибочно, и альфа-кривая уже приобретала пики и ровные участки фазы быстрого сна. В это мгновение Сол нашел ответ на вопрос, который мучил его несколько месяцев, и одновременно понял, что его жизнь находится в опасности. Он глянул в окно, увидел, что Натали движется в его направлении, схватил духовой пистолет и скатился на землю, стараясь держаться под прикрытием соседних машин. «Нет, это не Натали», – подумал он, присев за чужим капотом в двадцати пяти футах от пикапа. Почему старуха решила Использовать ее именно сейчас? Наверное, он сам виноват в этом. Нельзя было так опрометчиво и явно ехать следом за ними. Но у него не было выбора – микрофон и датчики, закрепленные на голове Натали, имели радиус действия менее полумили, а машин на дороге было мало. Вероятно, они потеряли бдительность после достигнутых успехов на прошлой неделе и поездки на остров накануне. Сол тихо выругался, сидя на корточках за белым «фордом». Натали уже подходила к пикапу. Мальчик отставал от нее шагов на пятнадцать, держа в руках веточку, поднятую с земли. В это мгновение Сол ощутил непреодолимое желание убить этого ребенка, выпустить всю обойму в худенькое тельце и изгнать из него бесов ценой смерти. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Ему приходилось читать курс лекций в Колумбийском и других университетах об извращенной тенденции насилия в современном мире, чем пользовались писатели и особенно Голливуд в таких кинофильмах, как «Изгоняющий дьявола», «Омен», и в бесчисленном количестве версий, восходящих к «Ребенку Розмари». Сол считал, что изобилие одержимых бесами детей на экране и в литературе является симптомом глубинных подсознательных страхов и ненависти, оно свидетельствует о неспособности взрослых взять на себя ответственность. Родители не хотят расставаться с собственным нескончаемым детством и нести на себе груз вины за развод. Ребенок же воспринимается ими не как ребенок, а как взрослое злобное существо, заслуживающее любых оскорблений с их стороны. В этом выражается раздражение общества, культура которого в течение двух десятилетий определялась юношеским мировоззрением, подростковыми вкусами в музыке, кино и телевизионных постановках, подкармливавших идею о том, что взрослый ребенок неизмеримо мудрее, спокойнее и разумнее, чем великовозрастное инфантильное существо. Поэтому Сол учил, что страх перед детьми и ненависть к детям, проявляющиеся в популярных шоу и книгах, уходит своими корнями в глубокие подсознательные слои общего чувства вины, опасений и возрастной зависти. Он предупреждал, что захватившая нацию волна пренебрежения к детям и насилия над ними уже имела исторические прецеденты и что процесс этот будет развиваться своим чередом. Однако необходимо сделать все возможное, чтобы уничтожить этот вид насилия, пока он не захлестнул всю Америку. Глядя через заднее стекло «форда» на отвратительную маленькую тварь, которая когда-то была Джастином Варденом, Сол решил, что не станет убивать его, по крайней мере пока. Кроме того, убийство шестилетнего ребенка в воскресный полдень на стоянке было чревато нежелательными последствиями для их анонимного пребывания в Чарлстоне. Натали повернулась к нему спиной и, слегка наклонившись, заглянула в салон пикапа. Мальчик в это время рассматривал людей на стоянке. Сол поднялся, положил духовой пистолет на крышу машины и выстрелил. Он был уверен, что промахнулся, поскольку расстояние было слишком большим для крохотной стрелки, но в последнее мгновение успел заметить красную точку на блузке Натали. Первым его порывом было броситься к ней и удостовериться, что ни транквилизатор, ни падение на асфальт не причинили ей вреда, но тут Джастин повернулся в его сторону, и он снова скрылся за «фордом», судорожно перебирая капсулы, чтобы перезарядить ружье. Перед лицом Сола неожиданно появились худые обнаженные ножки. Он резко поднял голову и увидел мальчика лет восьми-девяти с синим мячом в руках. Широко раскрыв глаза, тот смотрел на Сола и его ружье. – Эй, мистер! Вы собираетесь кого-то убивать? – Уходи, – прошипел он. – Вы полицейский? – с интересом спросил мальчик. Сол покачал головой. – А это «узи» или что? – Мальчишка засунул мяч под мышку. – Похоже на «узи» с глушителем. – Проваливай, – прошептал Сол, пользуясь любимым выражением английских солдат в оккупированной Палестине, когда их окружали уличные оборванцы. Мальчик пожал плечами и побежал прочь. Сол поднял голову и увидел, что Джастин тоже убегает, размахивая своей веточкой. Решение у него созрело мгновенно. Он встал и быстрым шагом направился за ним. Край темно-коричневой юбки Натали, распластавшейся на земле, выглядывал между машинами. Похоже, ее еще никто не заметил. На стоянку с ревом подъехали и затормозили два мотоциклиста. Сол ускорил шаг и еще футов на сорок сократил расстояние до Джастина, который стоял, прислонившись спиной к ограде набережной. Взгляд мальчика был рассредоточен и неподвижен, рот открыт, по подбородку тонкой струйкой стекала слюна. Сол спрятался за дерево и глубоко вздохнул. – Эй! – окликнул его стоявший неподалеку мужчина в сером летнем костюме. – Какая интересная у вас пушка. На такую нужна лицензия? – Нет. – Сол покачал головой и выглянул из-за дерева, убедиться, что Джастин все еще на месте; мальчик был от него футах в пятидесяти – слишком далеко. – Интересная, – повторил мужчина в сером костюме. – А стреляет двадцать вторым калибром? Или чем? – А где они продаются? – подхватил разговор усатый молодой блондин в синей рубашке. – Не знаю, – бросил Сол и, не скрываясь, направился к набережной. Джастин стоял неподвижно. Взгляд его был устремлен в какую-то точку над крышами машин. Сол продолжал идти вдоль ограды к застывшей фигуре шестилетнего ребенка, держа духовой пистолет за спиной. Когда их разделяло шагов двадцать, он поднял оружие, прицелился и выстрелил в обнаженную ногу мальчика стрелкой с синим ободком. Джастин начал падать, но Сол подбежал и успел подхватить его на руки. Казалось, никто вокруг не заметил происшедшего. Преодолевая искушение броситься напрямик через стоянку, Сол быстро направился вдоль ограды и, дойдя до конца, свернул к пикапу. Около лежавшей на земле Натали стояли два длинноволосых байкера. Они не двигались и не предпринимали попыток помочь ей – просто смотрели. – Извините, – пробормотал Сол, протиснувшись между ними. Он открыл заднюю дверцу машины и осторожно усадил Джастина рядом с блоком питания. – Эй, приятель! – окликнул его тот, что потолще. – Она мертва или что? – Нет-нет, – натянуто улыбнулся Сол и, кряхтя, затащил Натали на переднее сиденье. Один сапожок свалился у нее с ноги, он поднял его и снова улыбнулся мотоциклистам. – Я – врач. У нее просто бывают небольшие припадки, вызванные сердечно-легочными отеками. – Забравшись в машину и не переставая улыбаться, он положил на пол капсульное ружье. – И у мальчика то же самое. Наследственность. Пока байкеры переваривали информацию, Сол включил зажигание и дал задний ход, почти не сомневаясь, что вот-вот будет перехвачен марионетками Мелани Фуллер. Но он благополучно выехал со стоянки, а никто так и не появился. Сол кружил по городу, пока не убедился, что их никто не преследует, и только после этого вернулся в мотель. Датчики, спрятанные в волосах Натали, по-прежнему функционировали. Он помедлил, потом отключил компьютер и, после того как осторожно занес в комнату девушку и мальчика, вернулся за аппаратурой. Тета-ритм отсутствовал, не наблюдались и всплески фазы гипноза. Энцефалограмма свидетельствовала о глубоком медикаментозном сне. Поудобнее устроив Джастина и Натали, Сол проверил функции их жизненно важных органов. Затем закрепил электроды на голове ребенка и запустил программу, которая должна была показывать на экране обе энцефалограммы одновременно. Состояние Натали свидетельствовало о нормальном глубоком сне. Энцефалограмма же мальчика представляла собой прямую клинической смерти мозга. Сол сосчитал его пульс, послушал сердце, проверил реакцию сетчатки глаз, измерил кровяное давление, произвел звуковую и болевую стимуляции, однако компьютер продолжал указывать на отсутствие какой-либо нервной деятельности. Тогда он подключил дополнительные электроды, но картина осталась прежней. Шестилетнего Джастина Вардена по всем принятым параметрам можно было считать мертвым – мозг его бездействовал, если не учитывать примитивных стволовых функций, поддерживавших сердцебиение, работу почек и легких, перегонявших кислород по бессознательной плоти. Сол обхватил голову руками и долго сидел так. Было от чего прийти в отчаяние.* * *
– Что будем делать? – спросила Натали, допивая вторую чашку кофе. Она пробыла без сознания чуть меньше часа, и еще минут пятнадцать ей понадобилось на то, чтобы начать мыслить отчетливо. – Думаю, будем держать его под седативами, – ответил Сол. – Если мы дадим ему выйти из состояния глубокого сна, Мелани Фуллер может восстановить свой контроль над ним. Маленький мальчик, которого звали Джастин Варден, с его воспоминаниями, привязанностями, опасениями и всем тем, что составляет человеческую личность, исчез навсегда. – Ты уверен в этом? Сол вздохнул, поставил на стол чашку и налил себе немного виски. – Нет, – признался он, – без более совершенной аппаратуры, сложных исследований и изучения его поведения при разных обстоятельствах утверждать это невозможно. Но, даже имея те данные, которыми я располагаю, все говорит о том, что он никогда не вернется к нормальному человеческому сознанию и с еще меньшей вероятностью когда-либо восстановит память и личностные свойства. – Он сделал большой глоток. – Значит, все мечты об их освобождении… – начала Натали глухим голосом. – Да. – Сол со злостью стукнул кулаком по столу. – Когда размышляешь об этом, все кажется реальным, но чем больше усилий прикладывает старуха для их обработки, тем меньше шансов. Возможно, взрослые еще продолжают сохранять остатки своих индивидуальных особенностей… Какой смысл был бы похищать медицинский персонал, если бы он лишился своих прежних навыков? Но даже в этом случае массированный мозговой контроль должен с течением времени уничтожать первоначальную личность. Это как раковая опухоль, которая постоянно разрастается, и злокачественные клетки уничтожают доброкачественные. У Натали от боли раскалывалась голова. – А может такое быть, что одни люди поддаются контролю в большей степени, чем другие? Что среди них есть более и менее зараженные? Сол вздохнул: – Думаю, да. Но если они обработаны ею в достаточной мере, чтобы вызывать у нее доверие, их функции высшей нервной деятельности серьезно повреждены. – Но тебя ведь использовал оберст, – заметила Натали. – И меня дважды использовал Хэрод и по меньшей мере столько же – старая ведьма. – Ну и что? – Сол снял очки и потер переносицу. – Они причинили нам вред? В данный момент в нас тоже разрастаются раковые клетки? Мы изменились, Сол? – Не знаю. – Он сидел неподвижно, пока Натали не отвела взгляд. – Прости, – промолвила она. – Это так… ужасно, когда старуха проникает в твое сознание. Я никогда еще не чувствовала себя такой беспомощной… Наверное, это хуже, чем быть изнасилованной. По крайней мере, когда совершают насилие над твоим телом, сознание продолжает принадлежать тебе. И хуже всего то, что после пары раз… начинаешь… – Натали умолкла, не в силах продолжать. – Я знаю. – Сол нежно взял ее руку. – Какая-то часть тебя даже начинает желать этого. Это как жуткий наркотик с болевыми побочными эффектами. Но к нему тоже привыкаешь. Его даже хочется. Я это знаю. Испытал. – Ты никогда не говорил о… – Об этом не очень хочется говорить. Натали вздрогнула. – Но это не та раковая опухоль, которую мы обсуждали, – заметил Сол. – Я почти уверен, что привыкание происходит лишь при интенсивной обработке, которую эти твари проводят с немногими избранными. И тут мы подходим к другой нравственной дилемме. – Какой? – Если мы будем следовать нашему плану, нам потребуется несколько недель на то, чтобы обработать по меньшей мере одного невинного человека, а то и больше. – Это разные вещи… Это будет временно, для конкретного дела. – Да, временно, – согласился Сол. – Но как мы теперь знаем, последствия могут сказываться всю жизнь. – Черт побери! – выпалила Натали. – Какая разница? Это наш план. У тебя есть другой? – Нет. – Значит, мы будем продолжать, чего бы нам это ни стоило. Мы будем продолжать, даже если придется пострадать невинным людям. Потому что мы обязаны это делать, это наш долг перед погибшими и возможными будущими жертвами. Наши семьи, люди, которых мы любили, заплатили слишком дорогую цену, и теперь настало время заставить убийц отвечать… О какой справедливости можно говорить, если мы остановимся сейчас? И не важно, во что нам это обойдется. – Конечно же, ты права, – печально заметил Сол. – Но именно такая логика заставляет разъяренного палестинца подкладывать бомбу в автобус, а баскского сепаратиста – стрелять по толпе. У них нет выбора. Чем же тогда они отличаются от немецких солдат, выполнявших приказы и отказавшихся от личной ответственности? Цель оправдывает средства, так? – Нет. – Натали покачала головой. – Но сейчас я слишком рассержена, чтобы меня волновали все эти этические тонкости. Я просто хочу знать, что надо делать, и идти делать это. Сол встал: – Эрик Хоффер[59] утверждал, что для фрустрированных, рассерженных людей свобода от ответственности оказывается более привлекательной, чем свобода от ограничений. Натали энергично тряхнула головой, так что вместе с нею задрожали тонкие черные проводки датчиков, уходящие под воротник ее блузки. – Я не стремлюсь к свободе от ответственности, – твердо сказала она. – Я беру ответственность на себя. Но сейчас я хочу понять, надо ли возвращать мальчика старухе. На лице Сола появилось выражение изумления. – Возвращать его? А как мы можем это сделать? Он… – Его мозг мертв, – перебила Натали. – Она уже убила его. Точно так же, как его сестер. А мне он может пригодиться, когда я пойду к ней сегодня вечером. – Нелья тебе туда сегодня. – Сол посмотрел на нее так, словно видел впервые. – Прошло слишком мало времени, состояние Фуллер нестабильно… – Именно поэтому я и должна идти, – решительно заявила Натали. – Пока она сомневается и пытается что-то понять. Эта старуха сумасшедшая, но она отнюдь не глупа, Сол. Мы должны удостовериться в том, что убедили ее. Я должна раз и навсегда стать для нее Ниной Дрейтон… Он покачал головой: – Мы действуем, опираясь на весьма шаткие предположения, исходя из имеющихся у нас скудных сведений. – Но ничего другого у нас и не будет! Если мы решились, нечего ограничиваться полумерами. Нам нужно еще раз повторить все, что мы знаем, пока не удастся нащупать что-то известное лишь Нине Дрейтон, то, чем я смогу изумить Мелани Фуллер. – Досье Визенталя. – Сол рассеянно потер лоб. – Нет, – ответила Натали, – нужно что-то более существенное. Вспомни свои беседы с Ниной Дрейтон, когда она приходила к тебе в Нью-Йорке. Она играла с тобой, но ты все равно выполнял роль психотерапевта, а в таких случаях люди раскрываются больше, чем подозревают. – Возможно, – задумчиво произнес Сол. – Но ты очень рискуешь. – И он устремил на Натали свой печальный взгляд. – Чтобы перейти к следующему этапу нашего плана, где придется рисковать так, что мне даже страшно подумать, сейчас нам необходимо заняться этим, – решительно сказала она.* * *
Они проговорили пять часов, вновь и вновь обсуждая подробности, к которым они уже обращались бессчетное число раз, но которые теперь были отточены до совершенства, как меч перед битвой. К восьми вечера они закончили, однако Сол предложил подождать еще несколько часов. – Думаешь, она спит? – спросила Натали. – Возможно, и нет, но даже злодеи подвержены усталости. Если не она, так ее пешки. К тому же мы имеем дело с поистине параноидной личностью и вторгаемся в ее пространство, на ее территорию, а существуют все доказательства, что эти мозговые вампиры являются такими же собственниками, как и их примитивные предшественники, с которыми их роднит упрощенная функция гипоталамуса. В таком случае ночное вторжение может оказаться наиболее эффективным. Натали посмотрела целую стопку листов, на которых делала записи: – Значит, это паранойя? – Не совсем, – ответил Сол. – Не надо забывать, что здесь мы столкнулись с нулевым уровнем по Колбергу. В целом ряде сфер Мелани Фуллер не вышла из инфантильной стадии развития. Ее парапсихологические способности являются для нее проклятьем, она не в силах противиться своим желаниям и тяге к их мгновенному удовлетворению. Для таких, как она, неприемлемо все, что препятствует их воле, отсюда неизбежная паранойя и страсть к насилию. Возможно, Тони Хэрод является наиболее продвинутой личностью из них. Вероятно, его паранормальные способности стали развиваться позднее и при менее благоприятных обстоятельствах, поэтому он пользуется ими лишь для удовлетворения эротических фантазий ранней юности. Если мы рассмотрим с этой точки зрения поведение Мелани Фуллер и проанализируем развитую стадию ее паранойи, мы получим целый винегрет из девичьей ревности и скрытых гомосексуальных влечений, сопутствовавших ее долгому соперничеству с Ниной. – Отлично! – воскликнула Натали. – С эволюционной точки зрения они супермены, а с точки зрения психологического развития – умственно отсталые. Если же подходить к ним с нравственными мерками, они просто нелюди. – Нет, – улыбнулся Сол, – их просто не существует. Они долго сидели в тишине. Экран компьютера вычерчивал резкие пики и падения мечущихся мыслей Натали. – Я решил проблему запуска постгипнотического механизма, – сообщил Сол. Натали выпрямилась: – Как тебе удалось? – Моя ошибка заключалась в том, что я пытался вызвать реакцию в ответ на запуск тета-ритма или искусственно продуцируемых пиков альфа-ритма. Первое мне не удавалось, второе представлялось недостаточно достоверным, а на самом деле механизмом запуска должна быть фаза быстрого сна. – А разве в состоянии бодрствования ты сможешь ее воспроизвести? – удивилась Натали. – Возможно, – ответил он, – хотя я и не уверен. Вместо этого я могу включить промежуточный стимул, что-то вроде тихого колокольчика, и использовать естественную фазу быстрого сна для запуска постгипнотического механизма. – Сны, – догадалась Натали. – А у тебя хватит времени? – Почти месяц. Если мы сможем заставить Мелани обработать необходимых нам людей, то уж как-нибудь я заставлю собственный мозг заняться обработкой своего сознания. – Но ты только представь себе эти сны, которые тебе придется смотреть, – промолвила Натали. – Умирающие люди… безнадежность… Сол слабо улыбнулся: – Мне и так это все время снится.* * *
Вскоре после полуночи Сол отвез Натали в Старый город и остановил машину за полквартала до дома Фуллер. Оборудования в пикапе не было. На Натали тоже – ни микрофонов, ни датчиков. Проезжая часть и тротуар были пусты. Натали открыла заднюю дверь и осторожно взяла на руки неподвижное тело Джастина. – Если я не вернусь, действуй дальше по плану, – сказала она Солу через открытое окно. Он указал головой на заднее сиденье, где в отдельных пакетах лежали оставшиеся двадцать фунтов пластиковой взрывчатки: – Если ты не вернешься, я проникну в дом, чтобы вытащить тебя. А если она причинит тебе зло, я убью их всех и дальше буду действовать по плану. – Хорошо, – помедлив, ответила Натали, затем повернулась и с Джастином на руках направилась к дому, в котором по-прежнему лишь одно окно на втором этаже светилось зеленоватым сиянием.* * *
Когда ее впустили, она положила мальчика на старинный диван в гостиной, пропахшей плесенью. Вокруг них собралась вся «семья» Мелани Фуллер, напоминавшая ходячих трупов: умственно отсталый великан, которого старуха называла Калли; мужчина пониже и потемнее, который, хотя и был отцом Джастина, даже не взглянул на него; две женщины в грязных сестринских униформах. Лицо одной из них было покрыто густым слоем небрежно наложенной косметики, так что она напоминала слепую клоунессу. И еще одна женщина в разорванной полосатой блузке и неправильно застегнутой набивной юбке. Гостиную освещала единственная шипящая свеча, которую принес Марвин. В правой руке бывший главарь банды держал нож. Но Натали Престон это не заботило. Кровь ее бурлила, сердце колотилось с бешеной скоростью, она ощущала себя другим человеком, индивидуальность которого она впитывала в течение последних недель и месяцев, и рвалась в бой. Все-таки это было лучше, чем постоянное ожидание, страх и бегство. – Мелани, – проговорила она надменно, старательно подражая тягучей интонации Нины, – вот твоя игрушка. И не вздумай еще когда-нибудь сделать это. Громила по имени Калли подался вперед и уставился на Джастина: – Он мертв? – Нет, моя дорогая, он жив. А мог бы быть мертв, как и ты. О чем ты вообще думаешь, Мелани? Калли пробормотал что-то, будто сомневался, действительно ли цветная девица посланница Нины. Натали рассмеялась: – Тебя смущает, что я Использую эту чернокожую? Или ты ревнуешь? Насколько я помню, Баррет Крамер тебя тоже не очень-то привлекала. А кто из моих помощников тебе вообще нравился, моя дорогая? – Докажи, что это ты! – раскрыла рот сестра с клоунской косметикой. Натали резко развернулась на каблуках. – Пошла ты к черту, Мелани! – закричала она так, что сестра невольно отступила на шаг. – Выбери, через кого ты будешь говорить со мной, и хватит притворяться! Я устала от всего этого. Похоже, ты окончательно забыла, что такое гостеприимство. Если ты попытаешься еще раз овладеть моей посланницей, я убью всех твоих пешек, а потом приду за тобой. Мои силы неизмеримо выросли с тех пор, как ты убила меня, моя дорогая. Ты никогда не могла сравниться со мной в своей Способности, а теперь можешь и не пытаться. Поняла, Мелани? – выкрикнула Натали прямо в лицо сестре, на щеке которой виднелся след от помады. Сестра снова попятилась. Натали повернулась, обвела взглядом восковые лица и опустилась в кресло рядом с чайным столиком. – Мелани, Мелани, почему все должно быть так? Я простила тебя, дорогая, за то, что ты убила меня. Знаешь ли ты, как больно умирать? Можешь ли ты представить себе, как тяжело сосредоточиться с этим куском свинца в голове, который ты выпустила из своего древнего револьвера? Уж если я тебе это прощаю, как ты можешь быть настолько глупой, чтобы из-за старых счетов подвергать опасности Вилли, себя и всех нас? Забудем прошлое, моя милая, или, клянусь Богом, мне придется продолжить игру без тебя. Не считая Джастина, в комнате было пятеро человек. Натали догадывалась, что наверху со старухой может быть кто-то еще, не говоря уже о доме Ходжесов. Когда она умолкла, все пятеро явственно подались назад. Марвин наткнулся на высокий деревянный буфет, и на полках зазвенели тарелки и изящные статуэтки. Натали встала, сделала три шага и заглянула в глаза сестры-клоунессы: – Мелани, посмотри на меня. – Это прозвучало как приказ. – Ты узнаешь меня? Измазанные губы сестры зашевелились. – Я… я… мне трудно… Натали кивнула: – После всех этих лет тебе по-прежнему трудно меня узнать? Неужели ты настолько поглощена собой, Мелани, что не понимаешь, какая нам всем грозит опасность? – Вилли… – выдавила из себя сестра-клоунесса. – Ах, Вилли! – воскликнула Натали. – Наш дорогой друг! Ты в самом деле думаешь, что у Вилли хватит ума на это, Мелани? Или изощренности? Или ты полагаешь, он поступит с тобой так же, как с тем художником в отеле «Империал» в Вене? Сестра затрясла головой, с ресниц ее потекла тушь. Тени на веки были наложены так густо, что придавали ее лицу вид черепа. Натали склонилась еще ближе и зашептала в ее накрашенную щеку: – Мелани, если я убила своего собственного отца, неужели что-нибудь помешает мне убить тебя, если ты еще раз встанешь на моем пути? Сама подумай. Казалось, время в этом доме остановилось. Натали словно стояла в окружении небрежно одетых, сломанных манекенов. Сестра-клоунесса моргнула, и накладные ресницы, отклеившись, повисли на веках. – Нина, ты никогда не говорила мне этого… Натали сделала шаг назад и с изумлением ощутила, что ее собственные щеки мокры от слез. – Я никогда никому не говорила, – прошептала она, понимая, что очень рискует, если Нина Дрейтон все же рассказала своей подружке Мелани о том, что доверила доктору Ласки. – Я разозлилась на него. Он в тот момент ждал трамвая… – Она подняла глаза и посмотрела в пустое лицо сестры. – Мелани, я хочу видеть тебя. Разрисованное лицо задергалось. – Это невозможно, Нина, мне не по себе. Я… – Нет, возможно! – крикнула Натали. – Если мы собираемся продолжать это дело вместе… если мы хотим восстановить доверие между нами… я должна убедиться в том, что ты здесь, живая. Все присутствующие, кроме Натали и мальчика, продолжавшего лежать без сознания, в унисон закачали головой. – Мне не по себе… – произнесли одновременно пять уст. – До свидания, Мелани. – Натали повернулась к выходу. Сестра догнала ее и схватила за руку, прежде чем она вышла на улицу: – Нина, дорогая, пожалуйста, не уходи. Мне так одиноко. Здесь совсем не с кем поиграть. Натали замерла, чувствуя мурашки на коже. – Хорошо, – произнесла сестра. – Иди за мной. Но сначала… никакого оружия. Калли подошел ближе и начал обыскивать Натали, шаря своими огромными лапами по ее груди, животу, между ног. Она старалась не смотреть на него и сжала зубы, чтобы сдержать рвавшийся наружу истерический вопль. – Пойдем, – наконец промолвила сестра, и целая процессия во главе с Калли вышла из гостиной и поднялась по широкой лестнице на площадку. При их приближении по стенам коридора заметались огромные тени. Дверь в спальню Мелани Фуллер была закрыта. Натали вспомнила, как входила сюда полгода назад с отцовским револьвером в кармане пальто, потом услышала слабый шорох в шкафу и обнаружила Сола. Тогда никаких чудовищ здесь не было. Дверь открыл доктор Хартман. Внезапный сквозняк задул свечу в руке Калли, оставив лишь слабое зеленоватое мерцание медицинских мониторов с обеих сторон высокой кровати. Из-за кружевного балдахина, похожего на марлю, кровать напоминала гнездо черного паука-крестовика. Натали вошла в комнату, сделала три шага и была остановлена быстрым движением руки доктора. Она и так была уже достаточно близко. То, что лежало в кровати, когда-то являлось человеком. Волосы на голове практически выпали, а остатки их были тщательно расчесаны и разложены на огромной подушке, напоминая ореол ядовито-синих язычков пламени. Левая сторона лица, покрытого пигментными пятнами и изрезанного морщинами, обвисла, как восковая маска, поднесенная слишком близко к огню. Беззубый рот открывался и закрывался, словно пасть столетней черепахи. Зрачок правого глаза бесцельно и беспокойно метался, то устремляясь к потолку, то закатываясь еще дальше, так что оставался виден лишь белок, глазное же яблоко проваливалось в череп, а потом медленно затягивалось вялым лоскутом коричневого пергаментного века. Это подобие лица за серым кружевом медленно повернулось в сторону Натали, и черепаший рот что-то слюняво прошамкал. – Я молодею, не правда ли, Нина? – прошептала сестра-клоунесса за спиной Натали. – Да, – ответила она. – Скоро я стану такой же молодой, как до войны, когда мы ездили к Симплсу. Помнишь, Нина? – Симплс, – повторила Натали. – Да. В Вене. Доктор вышел вперед, оттеснил всех в коридор и закрыл дверь. На лестничной площадке Калли внезапно протянул руку и осторожно взял маленькую кисть Натали в свою огромную ладонь. – Нина, дорогая, – произнес он девичьим, чуть ли не кокетливым фальцетом. – Все, что ты захочешь, будет сделано. Скажи мне, что надо делать. Натали покосилась на свою руку и слегка пожала ладонь Калли: – Завтра, Мелани, я заеду за тобой, чтобы отправиться еще на одну прогулку. Утром Джастин проснется здоровым, если ты захочешь Использовать его. – А куда мы поедем, Нина, дорогая? – Нужно готовиться, – ответила Натали и в последний раз пожала заскорузлую ладонь великана. Она заставила себя спускаться как можно медленнее по казавшейся бесконечной лестнице. Марвин, с длинным ножом в руке, стоял в прихожей. В глазах его не отразилось ничего, когда он открыл ей дверь. Натали остановилась, собрала последние остатки сил и посмотрела на безумное сборище, столпившееся в темноте коридора. – До завтра, Мелани, – улыбнулась она. – Больше не разочаровывай меня. – Нет, – хором ответила пятерка. – Спокойной ночи, Нина. Девушка повернулась и вышла из дома. Она позволила Марвину отпереть ворота и, не оглядываясь, двинулась по улице, не остановившись даже возле пикапа, в котором ее ждал Сол. Она шла вперед, делая все более глубокие вдохи и лишь усилием воли не давая им перерасти в рыдания.Глава 60
Остров Долманн
Суббота, 13 июня 1981 г.
К концу недели Тони Хэрода уже тошнило от общения со знаменитостями. Он пришел к выводу, что власть и деньги явно ведут человека к идиотизму. Вечером в воскресенье они с Марией Чэнь прибыли частным самолетом в Меридиан, штат Джорджия, – самый душный город, в котором когда-либо приходилось бывать Хэроду, – только для того, чтобы им сообщили о другом частном самолете, который доставит их на остров. Если они, конечно, не хотят воспользоваться катером. Хэроду не надо было долго думать, чтобы сделать выбор. Поездка на катере по бурному морю заняла почти час, но, даже свесившись через борт в ожидании, когда желудок очистится от водки с тоником и подававшихся в самолете закусок, Хэрод не жалел, что предпочел эти прыжки с гребня на гребень восьмиминутному перелету. Его совершенно поразил эллинг для яхты Барента, высотой в три этажа с цветными витражами, окрашивавшими воду во все цвета радуги. Женщин во время недели летнего лагеря на остров не допускали. Хэрод знал это, но по-прежнему мучился при мысли о том, что через пятнадцать минут ему придется оставить Марию Чэнь на сияющем белоснежном судне длиной в футбольное поле, с белыми тарелками радаров и прочим немыслимым оборудованием. На корме высился вертолет, выглядевший так, словно он был пришельцем из XXI века. Лопасти его не вращались, но и не были закреплены, по первому зову хозяина он готов был сорваться с места и лететь на остров. Повсюду виднелось множество лодок и кораблей: обтекаемые катера с охраной, вооруженной М-16, громоздкие катера с радарами и вращающимися антеннами, разнообразные частные яхты в окружении сторожевых судов из полудюжины разных стран мира, а на расстоянии мили – даже миноносец. Зрелище было захватывающим: серое гладкое, акулье тело, разрезая воду, неслось на огромной скорости, хлопали флаги, вращались тарелки радаров, словно голодная гончая гналась за беспомощным зайцем. – А это еще что за чертовщина? – прокричал Хэрод, обращаясь к рулевому катера. Мужчина в полосатой рубашке улыбнулся, обнажив зубы, белизну которых подчеркивал его загар. – Это «Ричард С. Эдвардс», сэр, – ответил он. – Первоклассный эскадренный миноносец. Он каждый год патрулирует эти воды во время летнего лагеря Фонда западного наследия, приветствуя первых лиц государства и зарубежных гостей. – Одна и та же шаланда? – удивился Хэрод. – Один и тот же корабль, сэр, – ответил рулевой. – Официально он каждое лето проводит здесь свои маневры. Миноносец прошел на таком расстоянии, что Хэрод различил выведенные на корпусе белые цифры. – А что это там за ящик сзади? – осведомился он. – Противолодочная установка, сэр, модифицированная для работы с новыми гидроакустическими системами. – Рулевой развернул катер к пристани. – С него сняты пятидюймовые МК – сорок два и пара трехдюймовых МК – тридцать три. – Ах вот оно что. – Хэрод крепко прижался к поручню, брызги от волн на его бледном лице смешивались с каплями пота. – Мы уже почти добрались?* * *
Повышенной мощности карт для гольфа, управляемый шофером в голубом блейзере, доставил Хэрода в особняк. Дубовая аллея впечатляла. Все пространство между мощными вековыми стволами было плотно засеяно блестящей, коротко подстриженной травой, напоминавшей мраморный пол. Огромные сучья переплетались в сотнях футов над головой, образуя подвижный лиственный шатер, сквозь который проглядывали вечернее небо и облака, создававшие изумительный пастельный фон. Пока карт бесшумно скользил по длинному тоннелю из деревьев, которые были старше самих Соединенных Штатов, фотоэлементы, уловив наступление сумерек, включили тысячи японских фонариков, запрятанных в высоких ветвях, свисающем плюще и массивных корнях. Хэрод словно попал в волшебный лес, залитый светом и музыкой, – невидимые усилители заполнили пространство чистыми звуками классической сонаты для флейты. – Огромные, черти, – сказал Хэрод, показав на деревья. Они преодолевали последнюю четверть мили, и впереди уже виднелся роскошный сад, окружавший особняк с северной стороны. – Да, сэр, – не останавливаясь, согласился водитель.* * *
Хэрода встретил не Барент, а преподобный Джимми Уэйн Саттер, с высоким фужером бурбона в руке и раскрасневшимся лицом. Евангелист двинулся ему навстречу по огромному пустому залу, пол которого был выложен белыми и черными изразцами, что напомнило Хэроду собор в Шартре, хотя он никогда там не был. – Энтони, мальчик мой, – прогудел Саттер, – добро пожаловать в летний лагерь. – Голос его отдавался гулким эхом. Хэрод запрокинул голову и начал оглядываться, как турист. Необъятное пространство, обрамленное мезонинами и балконами, уходило вверх на высоту пяти этажей и заканчивалось куполом. Его подпирали изысканные резные колонны и хитро переплетающиеся блестящие опоры. Сам купол был выложен кипарисом и красным деревом, перемежавшимися цветными витражами. Сейчас он был темным, и дерево приобрело глубокие кровавые тона. С массивной цепи свисала люстра довольно внушительных размеров. – Ни хрена себе! – воскликнул Хэрод. – Если это вход для прислуги, покажите мне парадную дверь. Саттер поморщился от его лексики, в то время как вошедший служащий, все в той же синей униформе, подошел к затасканной сумке Хэрода и замер в позе почтительного ожидания. – Ты предпочитаешь поселиться здесь или в одном из бунгало? – осведомился Саттер. – Бунгало? – переспросил Хэрод. – Ты имеешь в виду коттеджи? – Да, – усмехнулся преподобный, – если коттеджем можно назвать домик с удобствами пятизвездочного отеля. Их предпочитают большинство гостей. В конце концов, это ведь летний лагерь. – Да брось ты, – отмахнулся Хэрод. – Я хочу получить здесь самую шикарную комнату. В бойскаутов я успел наиграться в детстве. Саттер кивнул прислуге: – Апартаменты «Бьюкенен», Максвелл. Энтони, я провожу тебя через минуту, а пока пойдем в бар. Они проследовали в небольшое помещение с обитыми красным деревом стенами, и Хэрод заказал себе большой фужер водки. – Только не рассказывай мне, что это было построено в восемнадцатом веке, – произнес он. – Уж слишком все огромное. – Изначально дом пастора Вандерхуфа был достаточно внушительным для своего времени, – пояснил Саттер. – Последующие владельцы несколько расширили особняк. – А где же все? – поинтересовался Хэрод. – Сейчас собираются менее важные гости. Наследные принцы, монархи, бывшие премьер-министры и нефтяные шейхи прибудут завтра в одиннадцать утра на традиционное торжественное открытие. А экс-президента мы увидим в среду. – Ну и ну. – Хэрод присвистнул. – А где Барент и Кеплер? – Джозеф присоединится к нам позже вечером, – ответил евангелист. – А наш гостеприимный хозяин прибудет завтра. Хэрод вспомнил Марию Чэнь, оставшуюся на борту яхты. Кеплер еще раньше рассказывал ему, что все помощницы, секретарши, референтки, любовницы и жены скучали на борту «Антуанетты», пока господа развлекались на острове. – Барент на яхте? – спросил он. Проповедник развел руками: – Где он, знают лишь Господь да христианские пилоты. Лишь в последующие двенадцать дней друг или враг может точно знать, где он находится. Хэрод фыркнул и взял в руки фужер. – Не знаю, чем это сможет помочь врагу. Ты видел миноносец? Не понимаю, чего они боятся? Высадки русского морского десанта? Саттер налил себе еще бурбона. – Не так уж далеко от истины, Тони. Несколько лет назад в миле от берега начал курсировать русский траулер. Приплыл с обычного своего поста у мыса Канаверал. Не мне тебе рассказывать, что, как и большинство русских траулеров у американских берегов, этот был разведывательным судном, набитым подслушивающей аппаратурой под самую коммунистическую завязку. – И что же они могли услышать в миле от берега? – поинтересовался Хэрод. Саттер рассмеялся: – Это осталось между русскими и их антихристом. Но наши гости и брат Кристиан встревожились. Отсюда этот сторожевой пес, которого ты видел по дороге сюда. – Сторожевой пес, – повторил Хэрод. – А в течение второй недели вся охрана тоже остается? – Нет. То, что имеет отношение к Охоте, предназначено лишь для наших глаз. Хэрод пристально посмотрел на раскрасневшегося священника: – Джимми, как ты думаешь, Вилли появится на следующий уик-энд? Преподобный поспешно вскинул голову, и его маленькие глазки живо блеснули. – Конечно, Тони. Я не сомневаюсь, что мистер Борден прибудет в условленное время. – А откуда ты это знаешь? Саттер покровительственно улыбнулся, поднял фужер и тихо произнес: – Об этом говорится в Откровении Иоанна, Энтони. Все это было предсказано тысячи лет назад. Все, что мы делаем, давно уже начертано в коридорах времен Великим Ваятелем, который видит жилу в камне гораздо отчетливее, чем на это способны мы. – Неужели? – съязвил Хэрод. – Да, Энтони, это так, – подтвердил Саттер. – Можешь не сомневаться. Губы Хэрода дернулись в усмешке. – Кажется, я уже и не сомневаюсь, Джимми. Но, боюсь, я не готов провести здесь эту неделю. – Эта неделя – ничто. – Саттер закрыл глаза и прижал холодный фужер к щеке. – Это всего лишь прелюдия, Энтони. Всего лишь прелюдия.* * *
Неделя так называемой прелюдии показалась Хэроду бесконечной. Он вращался среди людей, чьи фотографии всю жизнь видел в «Таймс» и «Ньюсуик», и выяснил, что, если не считать ауры власти, исходившей от них так же, как вездесущий запах пота исходит от жокеев мирового класса, ничто человеческое было им не чуждо. Они нередко ошибались и слишком часто вели себя глупо в своих судорожных попытках избежать конференций и брифингов, которые служили клетками с железными решетками для их пышного и роскошного существования. В среду вечером десятого июня Хэрод обнаружил, что сидит в пятом ряду амфитеатра и наблюдает, как вице-президент Всемирного банка, кронпринц одной из богатейших стран – экспортеров нефти, бывший президент Соединенных Штатов ибывший Государственный секретарь исполняют танец дикарей, нацепив на голову метелки, привязав вместо грудей половинки кокосовых орехов и обмотав бедра пальмовыми побегами, в то время как другие наиболее влиятельные восемьдесят пять человек Западного полушария свистят, орут и ведут себя как первокурсники на вечеринке. Хэрод смотрел на костер и думал о черновом монтаже «Торговца рабынями», который уже три недели назад нужно было отправить на озвучивание. Композитор-дирижер ежедневно получал три тысячи долларов и прохлаждался в «Хилтоне» в Беверли-Хиллз, дожидаясь, когда в его распоряжение будет предоставлен оркестр, и тогда он запишет саундтрек, ничем не отличающийся от предыдущих шести: сплошь романтические струнные и драматические духовые, смазанные системой «долби» до полной неразличимости. Во вторник и в четверг Хэрод совершил поездки на «Антуанетту», чтобы повидаться с Марией Чэнь, и занимался с ней любовью в шелковом безмолвии ее каюты. Перед тем как вернуться к вечерним праздничным мероприятиям, он решил поговорить с ней: – Чем ты здесь занимаешься? – Читаю, – сказала она. – Разбираюсь с тем проектом для «Ориона». Отвечаю на письма. Иногда загораю. – Видела Барента? – Ни разу. Разве он не на острове вместе с тобой? – Да, я видел его. Он занимает все западное крыло особняка – он и очередной человек дня. Мне просто интересно, приезжает ли он сюда? – Волнуешься? – поинтересовалась Мария Чэнь, перекатившись на спину и откинув со щеки прядь темных волос. – Или ревнуешь? – Пошла ты к черту! – Хэрод вылез из кровати и голым направился к бару. – Лучше бы он трахал тебя. Тогда, по крайней мере, можно было бы понять, что происходит. Мария Чэнь подошла сзади и обхватила его руками. Ее маленькая, идеальной формы грудь прижалась к его спине. – Тони, – промолвила она, – ты лгун. Хэрод раздраженно обернулся. Она прижалась к нему еще крепче и нежно провела рукой по его гениталиям. – Ты ведь не хочешь, чтобы я была с кем-нибудь другим. Совсем не хочешь. – Чушь! – огрызнулся Хэрод. – Нет, – прошептала Мария и скользнула губами по его шее. – Это любовь. Ты любишь меня так же, как я люблю тебя. – Меня никто не любит. – Он намеревался сказать это шутливым тоном, но получилось совсем наоборот. – Я люблю тебя, – тихо произнесла она. – А ты любишь меня, Тони. Он оттолкнул ее и закричал: – Как ты можешь говорить это? – Могу, потому что это правда. – Но зачем мы любим друг друга? – Потому что не можем иначе. – И Мария Чэнь снова потянула его к мягкой широкой постели. Позднее, лежа в ее объятиях, слушая плеск воды и другие непонятные корабельные звуки, Хэрод вдруг почувствовал, что впервые за всю свою сознательную жизнь ничего не боится.* * *
Бывший президент Соединенных Штатов отбыл в субботу после полуденного банкета на открытом воздухе, и к семи вечера на острове остались лишь приспешники средней руки, бесцеремонные и прожорливые, этакие Яго и Кассии в блестящих костюмах из ткани «акулья кожа» и джинсах «Ральф Лорен». Хэрод решил, что самое время возвращаться на материк. – Охота начинается завтра, – заметил Саттер. – Неужели ты хочешь пропустить это развлечение? – Я не хочу пропустить приезд Вилли. Барент по-прежнему уверен, что он приедет? – До захода солнца, – кивнул Саттер. – Такова была последняя договоренность. Джозеф слишком секретничал насчет того, как связывается с мистером Борденом. Чересчур секретничал. По-моему, брата Кристиана это начало раздражать. – Это проблемы Кеплера. – Хэрод поднялся на палубу катера. – Ты уверен, что нужно привезти дополнительных суррогатов? – осведомился преподобный Саттер. – У нас их предостаточно в общем загоне. Все молодые, сильные, здоровые. Большинство – из моего центра реабилитации для беженцев. Там даже женщин хватит для тебя, Энтони. – Я хочу иметь парочку собственных, – ответил Хэрод. – Вернусь сегодня вечером. Самое позднее – завтра утром. – Ну что ж. – Глаза Саттера странно блеснули. – Я бы не хотел, чтобы ты что-нибудь пропустил. Возможно, этот год будет особенным. Хэрод кивнул, мотор катера заработал, и он, мягко отплыв от причала, начал набирать скорость, как только оказался за пределами волнорезов. Яхта Барента оставалась единственным крупным судном, если не считать пикетировавших остров катеров и удалявшегося миноносца. Как обычно, им навстречу выехала лодка с вооруженной охраной, которая, визуально опознав Хэрода, сопроводила катер к яхте. Мария Чэнь, с сумкой в руке, уже ждала у трапа. Ночная поездка на берег оказалась гораздо спокойнее, чем предыдущее плаванье. Хэрод заранее заказал машину, и за верфью Барента его ждал небольшой «мерседес» – любезность со стороны Фонда западного наследия. Они свернули на семнадцатое шоссе к Южному порту, а последние тридцать миль до Саванны проделали по автостраде. – Почему в Саванне? – поинтересовалась Мария Чэнь. – Они не сказали. Парень по телефону просто объяснил мне, где остановиться, – у канала на окраине города. – И ты думаешь, это был тот самый человек, который тебя похитил? – Да, – кивнул Хэрод. – Я уверен в этом. Тот же самый акцент. – Ты продолжаешь считать, что это дело рук Вилли? – спросила Мария Чэнь. Хэрод с минуту ехал молча, затем тихо сказал: – Да. И я могу найти этому только одно объяснение. Барент и остальные уже имеют возможность поставлять в загон обработанных людей, если им это требуется. А Вилли нужен помощник. – И ты готов участвовать в этом? Ты по-прежнему лоялен к Вилли Бордену? – К черту лояльность! – огрызнулся Хэрод. – Барент отправил Хейнса ко мне в дом, избил тебя, просто чтобы покрепче натянуть мой поводок. Со мной еще никто так не поступал. Если у Вилли есть свои планы, какая разница? Пусть делает что хочет. – Но это может оказаться опасным. – Ты имеешь в виду суррогатов? – спросил Хэрод. – Не вижу, каким образом. Мы удостоверимся, что они безоружны, а когда они окажутся на острове, с ними вообще не будет никаких проблем. Даже победитель этих пятидневных олимпийских игр заканчивает свою жизнь под корнями мангровых деревьев на старом рабском кладбище где-то на острове. – Так что же Вилли пытается сделать? – спросила Мария. – Проучить меня. – Хэрод выехал на эстакаду. – Единственное, что мы можем, – это наблюдать и пытаться выжить. Кстати, ты захватила браунинг? Мария Чэнь достала из сумки пистолет и передала его Хэроду. Ведя машину одной рукой, он выщелкнул обойму, проверил, есть ли в ней патроны, и засунул пистолет под ремень, прикрыв свободной гавайской рубашкой. – Ненавижу оружие, – бесцветным голосом произнесла Мария Чэнь. – Я тоже, – сказал Хэрод. – Но есть люди, которых я ненавижу еще больше, и один из них – этот негодяй в лыжной шапочке и с польским акцентом. Если он окажется тем самым суррогатом, которого Вилли хочет отправить на остров, мне придется очень постараться, чтобы не вышибить ему мозги по дороге. – Вилли это не понравится, – заметила Мария Чэнь. Хэрод кивнул и свернул на боковую дорогу, идущую вдоль заросшего берега канала к заброшенной пристани. Их уже ждали. Он остановился, не доезжая шестидесяти футов, как было условлено, и помигал фарами. Из машины впереди вышли мужчина и женщина и медленно направились к ним. – Мне надоело беспокоиться, что понравится Вилли, Баренту или еще кому-нибудь, – сквозь зубы произнес Хэрод. Он открыл дверцу и вытащил из-за пояса пистолет. Мария Чэнь достала из своей сумки цепи и наручники. Когда мужчина и женщина были от них футах в двадцати, Хэрод наклонился к Марии Чэнь и ухмыльнулся: – Пусть теперь они беспокоятся о том, что понравится Тони Хэроду. Он поднял ствол и прицелился точно в голову мужчины с короткой бородкой и длинными седыми волосами. Тот остановился, посмотрел на револьвер и указательным пальцем поправил очки.Глава 61
Остров Долманн
Воскресенье, 14 июня 1981 г.
Соломону Ласки казалось, что все это уже однажды было с ним. Шел первый час ночи, когда катер пришвартовался к бетонной пристани и Тони Хэрод вывел Сола и мисс Сьюэлл на берег. Пока они стояли на причале, Хэрод спрятал браунинг – ведь считалось, что они его обработанные пешки. К ним подъехали два карта для гольфа, и Хэрод сказал водителю в блейзере: – Этих двоих отвези в загон для суррогатов. Сол и мисс Сьюэлл безучастно уселись на сиденье, позади них встал человек с пневматической винтовкой. Сол повернул голову и посмотрел на женщину рядом с ним. Лицо ее ничего не выражало, косметики на нем не было, волосы зачесаны назад, дешевое платье висело как на вешалке. Они остановились у проверочного пункта на южном конце охраняемой зоны и покатили дальше по ничейной земле, вымощенной хрустящим ракушечником. «Интересно, – думал Сол, – что передает Натали шестилетний бесенок Мелани Фуллер, если вообще передает что-нибудь?» Бетонные сооружения за оградой купались в ярком свете. Только что прибыли еще десять суррогатов, и Сол с мисс Сьюэлл присоединились к ним на голом дворе размером с баскетбольную площадку, обнесенном колючей проволокой. С этой стороны ограды вместо служащих в синих блейзерах повсюду стояли вооруженные автоматами люди в зеленых комбинезонах и черных кепках. Из записей Коэна Сол знал, что это личная охрана Барента, а из допросов Хэрода двумя месяцами раньше он выяснил, что все они в той или иной мере обработаны своим хозяином. – Раздевайтесь! – скомандовал высокий человек с пистолетом. Около дюжины пленников – в основном молодые мужчины, хотя Сол заметил и двух женщин, практически еще девочек, – тупо посмотрели друг на друга. Они все пребывали либо в состоянии шока, либо под воздействием наркотиков. Солу был знаком этот взгляд. Он видел его, когда люди приближались ко рву в Хелмно или выходили из поездов в Собиборе. Он с мисс Сьюэлл начали раздеваться, в то время как остальные продолжали безучастно стоять на месте. – Я сказал – раздеваться! – повторил охранник. Вперед вышел еще один с винтовкой. Он ударил прикладом ближайшего пленника – юношу лет восемнадцати-девятнадцати в очках с толстыми стеклами и неправильным прикусом. Тот, так и не поняв, чего от него хотят, рухнул лицом на бетон. Сол отчетливо услышал хруст сломанных зубов. Затем пленники начали медленно раздеваться. Мисс Сьюэлл выполнила приказ первой. Сол обратил внимание, что ее тело выглядит моложе, чем лицо, впечатление портил только шрам от удаленного аппендикса. Не отделяя мужчин от женщин, пленников выстроили в ряд и повели вниз по длинному бетонированному спуску. Краем глаза Сол замечал двери, ведущие в отделанные плиткой коридоры, которые разбегались в разные стороны от этого подземного проспекта. К дверям подходили охранники в комбинезонах, чтобы посмотреть на новых суррогатов, а один раз всем пришлось прижаться к стенам, когда навстречу выехала процессия из четырех джипов, заполнивших тоннель шумом и выхлопами. Сол начал гадать, не прорезан ли весь остров такими подземными тоннелями? Их отвели в пустое, ярко освещенное помещение, где мужчины в белых куртках и хирургических перчатках осмотрели всем рот, задний проход и влагалище у женщин. Одна из девушек зарыдала, но ее тут же заставили умолкнуть ударом приклада. Сол ощущал странное спокойствие, размышляя о том, откуда взялись эти суррогаты, Использовали ли их раньше, и если да, то насколько отличается его собственное поведение. После смотровой их отправили в длинный узкий коридор, который, похоже, был вырублен прямо в камне. По выкрашенным в белый цвет стенам стекала вода, с двух сторон тянулись полукруглые ниши, забранные решетками, за которыми виднелись обнаженные безмолвные фигуры. Когда очередь дошла до мисс Сьюэлл, Сол понял, что надобности в камерах в человеческий рост не было, так как никто из узников не задерживался здесь больше недели. А потом наступила очередь Сола. Ниши располагались на разных уровнях, и его оказалась в четырех футах над землей. Он заполз внутрь. Камень был холодным, зато ниша оказалась достаточно глубокой и позволяла вытянуться в полный рост. Выдолбленная канавка и вонючее отверстие подсказали, где следует справлять нужду. Решетка опускалась гидравлическим способом сверху и упиралась остриями в глубокие отверстия в полу, оставляя лишь двухдюймовую щель, куда должна была подаваться еда. Сол лег на спину и уставился в каменный потолок, находившийся в пятнадцати дюймах от его лица. Где-то дальше по коридору раздался хриплый мужской крик. Послышались шаги, звуки ударов, лязг железа, и вновь наступила тишина. Сол ощущал полное спокойствие. Он исполнял свой долг. Каким-то странным образом он почувствовал себя сейчас гораздо ближе к своим родным – отцу, Йозефу, Стефе, чем когда бы то ни было. Чтобы не заснуть, Сол потер глаза и надел очки. Странно, что их не отобрали. Он вспомнил, как в Хелмно работал в бригаде, собиравшей десятки тысяч очков, горы очков, – их перекладывали на грубый конвейер, где другие заключенные отделяли стекла от металлических оправ, а затем сортировали оправы, выбирая золотые и серебряные. В рейхе ни одна мелочь не пропадала даром. Лишь человеческие жизни ничего не стоили. Сол принялся щипать себя за щеки, чтобы не дать закрыться глазам. В нише было холодно, но он понимал, что уснет без всяких усилий. По-настоящему он не спал уже три недели – каждую ночь наступление фазы сна включало механизм постгипнотической суггестии, которая теперь и составляла его видения. Вот уже восемь ночей, как для запуска этого механизма он не нуждался в звуке колокольчика. Фаза быстрого сна сама по себе вызывала появление видений. Были ли эти видения просто сном, или он находился во власти воспоминаний? Сол уже не мог понять этого. Сон-воспоминание стал реальностью. В бесплотные видения превратились часы бодрствования, когда он готовился, планировал и обсуждал с Натали их дальнейшие действия. Поэтому он был так спокоен. Темный холодный коридор, обнаженные заключенные, камера – все это было гораздо ближе к реальности, к тем беспощадным воспоминаниям о нацистских гетто и концлагерях, чем жаркие летние дни в Чарлстоне с Натали и Джастином. Девушка и мертвец в оболочке ребенка… Сол попробовал представить себе Натали. Он крепко сжал веки, пока глаза его не наполнились слезами, затем он широко раскрыл их и начал думать о ней.* * *
Прошло всего два дня с тех пор, как Натали приняла решение. – Сол! – воскликнула она, оторвавшись от карты, разложенной на маленьком столике мотеля. – Нам незачем делать это в одиночку. Мы можем найти того, кто тоже заинтересован. Стена в номере за спиной Натали была усеяна мозаикой увеличенных снимков, сделанных ею на острове Долманн. Сол покачал головой, не в силах разделить ее энтузиазм от усталости. – Никого нет, Натали. Все погибли. Роб, Арон, Коэн. Микс будет вести самолет. – Нет, есть еще кое-кто! – воскликнула она. – Я думала об этом все последние недели. Тот, кто имеет к нашему делу непосредственный интерес. И я могу привезти их завтра. До субботней встречи на стоянке мне не надо навещать Мелани. И она все ему рассказала, а уже через восемнадцать часов он встречал в аэропорту самолет из Филадельфии. Натали появилась в сопровождении двух молодых чернокожих мужчин. Джексон выглядел старше, чем полгода назад, его лысеющая голова поблескивала в ярком освещении зала, лицо покрылось сеткой мелких морщин, что свидетельствовало об окончательном заключении негласного нейтралитета с окружающим миром. Юноша справа от Натали казался полной противоположностью Джексону: высокий, тощий, энергичный, с таким подвижным и выразительным лицом, что трудно было отследить оттенки его настроений. Его высокий громкий смех эхом отдавался в коридорах, заставляя окружающих оборачиваться. Сол вспомнил, что этого парня называли Зубаткой. – А вы уверены, что это Марвин? – спросил Джексон позднее, когда они уже ехали в Чарлстон. – Да, – подтвердил Сол. – Но он… стал другим. – Мадам Вуду здорово поработала над ним? – осведомился Зубатка. Он без конца крутил ручку приемника в панели управления, пытаясь найти что-нибудь подходящее. – Да, – ответил Сол, не переставая удивляться, что может говорить об этом еще с кем-то, кроме Натали. – Но есть шанс, что нам удастся вылечить его… спасти. – Как раз это мы и собираемся сделать. – Зубатка ухмыльнулся. – Стоит сказать слово, и все братство Кирпичного завода наводнит этот чертов город, понимаешь? – Нет-нет, из этого ничего не получится, – поспешно предостерег Сол. – Натали, наверное, уже объяснила вам почему. – Она-то объяснила. Но как ты думаешь, сколько нам еще ждать? – спросил Джексон. – Две недели, – ответил Сол. – Так или иначе, через две недели все будет закончено. – Хорошо, даем вам две недели, – согласился Джексон. – А потом мы сделаем все, чтобы вытащить Марвина, независимо от того, будете вы участвовать в этом или нет. – Мы успеем. – Сол посмотрел на огромного негра на заднем сиденье. – Джексон, я не знаю, это твое имя или фамилия? – Фамилия. Я отказался от имени, когда вернулся из Вьетнама. Больше оно мне не нужно. – Да и меня зовут не Зубатка, – присоединился к разговору его приятель. – Я – Кларенс Артур Теодор Варш. – И он пожал протянутую Солом руку. – Да ладно, – тут же ухмыльнулся он, – учитывая, что ты друг Натали и вообще, так и быть, зови меня просто мистер Варш.* * *
Труднее всего было в последний день перед отъездом. Сол был уверен, что ничего не получится, что старуха не выполнит свою часть сделки или не сумеет осуществить необходимую обработку, на которую, как она утверждала, ей понадобится три недели, пока Джастин и Натали будут ходить на пристань и смотреть в бинокль. Или информация Коэна окажется ошибочной, а если и верной, то за прошедшие месяцы планы могли измениться. Или Тони Хэрод не откликнется на телефонный звонок и расскажет обо всем на острове, а если не расскажет, то убьет Сола и того, кого пошлет Мелани Фуллер, едва берег исчезнет из виду. Может, когда Сол будет на острове, старуха расправится с Натали, пока он будет связан по рукам и ногам в ожидании собственной кончины. Затем наступил полдень той субботы. Они подъехали к Саванне и припарковали машину у канала еще до того, как сгустились сумерки. Натали и Джексон спрятались в кустах ярдах в шестидесяти к северу. Натали держала винтовку, изъятую ими у шерифа в Калифорнии. Зубатка, Сол и женщина-манекен, которую Джастин называл мисс Сьюэлл, остались ждать в машине. Один раз женщина повернула голову, как кукла чревовещателя, пристально взглянула на Сола и изрекла: – Я вас не знаю. Он ничего не ответил, лишь посмотрел на нее без всякого выражения и попробовал представить себе ее мозг после столь долгого периода насилия. Мисс Сьюэлл закрыла глаза с механической резкостью кукушки из часового механизма. До приезда Тони Хэрода больше никто не проронил ни слова. На мгновение Солу показалось, что продюсер собирается пристрелить его, когда он увидел, как тщательно тот целится. На шее Хэрода напряглись жилы, палец на спусковом крючке побелел. Сол испугался, но это был чистый, контролируемый страх, не имевший ничего общего с волнениями последней недели и безнадежностью его ночных видений. Что бы ни случилось, он сознательно выбрал этот путь. В конце концов Хэрод удовлетворился тем, что выругался и дважды ударил Сола по лицу, вторым ударом слегка поцарапав ему скулу. Сол даже не сопротивлялся, мисс Сьюэлл также безучастно взирала на происходящее. У Натали был приказ стрелять из укрытия лишь в том случае, если Хэрод попытается убить Сола или заставит кого-нибудь другого напасть на него с целью убийства. Его и мисс Сьюэлл посадили на заднее сиденье «мерседеса», несколько раз обмотав им запястья и лодыжки тонкой цепью. Азиатская секретарша Хэрода – по сообщениям Харрингтона и Коэна Сол знал, что ее звали Мария Чэнь, – сделала это тщательно, но аккуратно, чтобы не пережать кровеносные сосуды. Потом она затянула цепочки и защелкнула на них замки. Тем временем Сол, как психиатр, заинтересованно изучал ее лицо, размышляя, что привело ее сюда и что ею движет. Он догадывался, что это было врожденным недостатком его народа – вечное еврейское желание понять, осознать мотивы, докопаться до причин. Так они продолжали свои бесконечные талмудические споры, в то время как их энергичные и не особо размышляющие враги сковывали их цепями и заталкивали в печи. Их убийц никогда не волновали ни средства и способы достижения целей, ни проблемы нравственности до тех пор, пока поезда прибывали точно по расписанию и канцелярия исправно заполняла отчетные бланки.* * *
За мгновение до того, как фаза быстрого сна запустила механизм его видений, Сол Ласки очнулся. Он вобрал в себя сотни биографий, собранных Симоном Визенталем, целый каталог гипнотически запечатленных личностей, но в сновидениях, на которые он себя обрек, регулярно повторялась лишь дюжина. Он не видел их лиц, хотя провел многие часы в Яд-Вашеме и Лохамей-ха-Гетаоте, глядя на их фотографии. Просто он смотрел их глазами, обозревая картины их жизни, и для него вновь становились реальностью бараки, колючая проволока и изможденные лица. И сейчас, лежа в каменной нише на скале острова Долманн, Сол Ласки понял, что на самом деле никогда и не покидал эти лагеря смерти. Более того, они оказались единственным местом на земле, где он чувствовал себя абсолютно естественно. Балансируя на грани сна и бодрствования, он знал, чей образ привидится ему этой ночью, – Шалома Кржацека, человека, чью внешность и биографию он выучил наизусть, хотя сейчас некоторые даты и подробности утонули в тумане истинных воспоминаний. Сол никогда не был в варшавском гетто, но теперь он видел его каждую ночь: толпы людей, бегущих под автоматным огнем к канализационным трубам, ползущих в потоках экскрементов по черным сужающимся проходам, одновременно посылая проклятья и молясь, чтобы впереди никто не умер и не закупорил путь… Сотни перепуганных мужчин и женщин, проталкивающихся в арийскую канализационную систему, проходящую под стенами и колючей проволокой. Кржацек выводил своего девятилетнего внука Леона, а сверху на них лились экскременты немцев и плавали вокруг, в то время как уровень воды все время поднимался, грозя затопить их… Наконец впереди показался просвет, но позади Кржацека уже никого не было – он выполз один под лучи арийского солнца и, развернувшись, заставил себя вновь вернуться в трубу, по которой полз две недели. Вернуться, чтобы отыскать Леона. Зная, что это приснится ему с самого начала, Сол смирился и заснул.Глава 62
Остров Долманн
Воскресенье, 14 июня 1981 г.
Тони Хэрод наблюдал за прибытием Вилли. За час до захода солнца маленький «лир-джет» мягко опустился на посадочную полосу, перечерченную тенями высоких дубов. В конце ее, в маленьком терминале с кондиционерами собрались Барент, Саттер и Кеплер. Хэрод почему-то сомневался, что Вилли окажется в самолете, и чуть не раскрыл рот от изумления, когда тот появился в окружении Тома Рейнольдса и Дженсена Лугара. Остальные, похоже, отнеслись к этому совершенно спокойно. Джозеф Кеплер принялся знакомить всех, словно был старым другом Вилли. Джимми Уэйн Саттер поклонился и загадочно улыбнулся, пожимая ему руку. Лишь Хэрод продолжал стоять, вытаращив глаза, пока Вилли не обратился к нему: – Вот видишь, друг мой Тони, остров и вправду райский. Барент более чем любезно поздоровался с гостем и дипломатично взял его под локоток. Вилли был в вечернем смокинге и черном галстуке. – Как же долго мы ждали этого удовольствия! – улыбнулся Барент, не выпуская руки продюсера. – Вот уж действительно, – улыбнулся в ответ тот. Вся процессия двинулась к особняку в сопровождении картов для гольфа, подбиравших по дороге прислугу и телохранителей. Мария Чэнь, просияв, встретила Вилли в Главном зале, подставив для поцелуя щеку: – Билл, мы рады, что вы вернулись. Мы скучали. – Я тоже соскучился по твоей красоте и проницательности, дорогая. Если ты когда-нибудь устанешь от дурных манер Тони, пожалуйста, поразмысли над тем, чтобы стать моей помощницей. – И его выцветшие глаза озорно блеснули. Мария Чэнь рассмеялась: – Надеюсь, скоро мы все снова начнем работать вместе. – Возможно, даже очень скоро, – кивнул Вилли и, взяв ее под руку, последовал за Барентом и остальными в гостиную.* * *
Обед превратился в настоящий банкет, длившийся до начала десятого. За столом присутствовали более двадцати человек, но, когда Барент поднялся и направился в Игровой зал в западном пустом крыле особняка, к нему присоединились только четверо. – Мы ведь не сейчас начинаем? – осведомился Хэрод с некоторой тревогой. Он не имел ни малейшего представления, сможет ли Использовать ту женщину, привезенную из Саванны, остальных же суррогатов он и вовсе не видел. – Пока нет, – ответил Барент. – Мы по традиции обсуждаем в Игровом зале дела Клуба и лишь после этого выбираем объекты для вечерней Игры. Хэрод огляделся. Помещение выглядело впечатляюще, напоминая одновременно библиотеку, английский викторианский клуб и кабинет. Две стены с балконами и лестницами были заставлены стеллажами с книгами, повсюду – мягкие кожаные кресла с настольными лампами, посередине бильярдный стол, у дальней стены – массивный круглый зеленый стол, освещенный единственным светильником. Пять кожаных кресел, окружавшие его, утопали в тени. Барент дотронулся до кнопки на скрытой панели, и тяжелые шторы бесшумно поползли вверх, открывая тридцатифутовое окно, выходящее в залитый светом сад и длинный, мерцающий японскими фонариками коридор дубовой аллеи. Хэрод не сомневался, что стекло было матовым с внешней стороны и, уж конечно, пуленепробиваемым. Барент поднял руку ладонью вверх, словно демонстрируя Вилли Бордену помещение и открывающийся из окна вид. Продюсер равнодушно кивнул и опустился в ближайшее кресло. Верхний свет превратил его лицо в морщинистую маску, оставляя глаза в тени. – Очень мило, – произнес он. – Чье это кресло? – Э-э-э… мистера Траска… было, – ответил Барент. – Но вполне логично, что теперь оно станет вашим. Саттер указал Хэроду на его место, и все расселись вокруг стола. Тони погрузился в старинное роскошное кресло, сложил руки на зеленом сукне столешницы и подумал о трупе Чарльза Колбена, которым три дня питались рыбы, прежде чем его обнаружили в темных водах реки Скулкилл. – Неплохой клуб, – заметил он. – А что мы будем делать сейчас: разучивать тайную клятву или петь песни? Барент снисходительно усмехнулся и оглядел присутствующих. – Двадцать седьмая ежегодная сессия Клуба Островитян считается открытой, – объявил он. – Остались ли у нас старые нерешенные дела? – (Молчание было ему ответом.) – Тогда перейдем к тому, чем нам предстоит заняться сегодня. – А будут ли еще пленарные заседания, на которых можно обсуждать насущные вопросы? – осведомился Вилли. – Конечно, – ответил Кеплер. – В течение этой недели любой человек в любое время может созвать сессию, за исключением тех моментов, когда будет идти Игра. – Тогда я приберегу свои вопросы до следующей сессии. – Вилли улыбнулся Баренту, и его зубы блеснули в резком верхнем свете. – Я должен не забывать, что я тут новичок, и вести себя соответственно своему положению, не так ли? – Вовсе нет, – возразил Барент. – Здесь, за столом, мы все равны. – Он впервые пристально посмотрел на Хэрода. – Если на сегодня никаких вопросов нет, готовы ли вы совершить экскурсию к суррогатам и сделать свой выбор? Хэрод кивнул. – Я бы хотел Использовать одного из своих людей, – сказал Вилли. Кеплер слегка нахмурился: – Билл, я не знаю… то есть ты, конечно, можешь, если хочешь, но мы стараемся не пользоваться нашими… э-э-э… постоянными людьми. Шансов выиграть пять вечеров подряд очень мало, и не хотелось бы, чтобы кто-нибудь обижался или уезжал отсюда с неприятными чувствами из-за того, что лишился ценного ресурса. – Да, я понимаю, – кивнул Вилли, – и все же я бы предпочел одного из своих. Это ведь разрешено? – Конечно, – подтвердил Саттер, – но, если он останется в живых сегодня, он должен быть осмотрен и отправлен в загон к остальным. – Согласен. – Вилли снова улыбнулся, отчего еще больше усугубилось впечатление, будто говорит безглазый череп. – Как мило, что вы идете на уступки старику. Ну что ж, осмотрим загоны и выберем фигуры на сегодня?* * *
Хэрод впервые оказался к северу от охраняемой зоны. Подземный комплекс поразил его, хотя он и догадывался, что где-то на острове должен находиться штаб охраны. Несмотря на то что на сторожевых постах и в контрольных пунктах всегда толклись человек тридцать в камуфляже, это было ничто по сравнению с армией телохранителей в неделю проведения летнего лагеря. Тони подозревал, что основные силы Барента сосредоточены в море – на яхте и патрульных катерах, и внимание их направлено на то, чтобы не подпускать никого к острову. Интересно, что думают эти охранники о суррогатах и Игре? Хэрод два десятилетия работал в Голливуде и знал, что есть люди, готовые за деньги совершить с себе подобными все, что угодно. Он был уверен, что Барент, даже не прибегая к своим способностям, с легкостью мог обеспечить себя необходимым контингентом службы безопасности. Загоны для суррогатов были вырублены в природной скале и находились в коридоре, гораздо более древнем и узком, чем остальная часть комплекса. Хэрод, следуя вдоль ниш, где, скорчившись, лежали обнаженные тела, в который раз подумал: вот отличный сюжет для фильма. Но если бы какой-нибудь сценарист принес Тони нечто подобное, он задушил бы его, а потом посмертно исключил из гильдии. – Эти загоны были построены еще во времена плантатора Вандерхуфа, а некоторые существовали уже при Дюбуа, – рассказывал Барент. – Нанятый мною археолог высказал предположение, что именно эти камеры использовались испанцами для размещения мятежных элементов индейского населения острова, хотя испанцы редко устраивали базы так далеко к северу. Как бы то ни было, эти камеры высечены в скале еще до тысяча шестисотого года нашей эры. Интересно отметить, что первым рабовладельцем этого полушария был Христофор Колумб. Он переправил на кораблях в Европу несколько тысяч индейцев, и еще несколько тысяч были порабощены им и убиты на островах. Он истребил бы все коренное население, если бы не вмешался папа римский, пригрозивший ему отлучением от церкви. – Вероятно, папа был недоволен своей долей, – иронично заметил преподобный Джимми Уэйн Саттер и спросил: – Из этих можно выбирать? – Любых, кроме тех двоих, которых вчера вечером привез мистер Хэрод, – ответил Барент. – Я так понимаю, ты бережешь их для себя, Тони? – Да, – подтвердил тот. Кеплер подошел ближе и дружески взял Хэрода за локоть: – Джимми сказал мне, что один из них мужчина. У тебя меняются вкусы, Тони, или это кто-то из твоих друзей? Хэрод окинул взглядом идеальную стрижку Джозефа Кеплера, его превосходные зубы, ровный загар, и у него возникло искушение каким-нибудь образом нарушить эту гармонию. Но он промолчал. – Мужчина? – удивился Вилли. – Тони, стоит тебя оставить на несколько недель, как ты начинаешь меня удивлять. И где же этот мужчина, которого ты собираешься Использовать? Хэрод пристально посмотрел на старого продюсера, но лицо Бордена было непроницаемым. – Где-то там, – бросил он, сделав неопределенный жест рукой. Группа рассеялась по коридору, продолжая разглядывать и оценивать тела, как судьи на собачьей выставке. Вероятно, кто-то приказал узникам вести себя тихо, а может, присутствие этой пятерки так подействовало на них, но в загоне царила мертвая тишина, нарушаемая лишь звуками шагов и падающих капель в темной, никем не используемой части древнего подземного хода. Хэрод нервно переходил от ниши к нише в поисках тех двоих, которых он привез из Саванны. Неужели Вилли снова играет с ним или Хэрод заблуждался насчет того, что происходит? Нет, черт побери, никто другой не мог заставить его привезти на остров специально обработанных суррогатов. Если только Кеплер и Саттер не замышляли чего-то. Или Барент не вел особо изощренную игру. Может, его просто пытаются заманить в ловушку, чтобы дискредитировать? Хэроду стало не по себе. Он с тревогой вглядывался сквозь прутья решеток в побелевшие испуганные лица, подозревая, что сам выглядит точно так же. – Тони! – окликнул его Вилли, находившийся шагах в двадцати впереди. – Это и есть твой избранник? Хэрод быстро подошел и глянул на мужчину, лежавшего в нише на уровне его груди. Тени обострили резкие черты его лица, так что щеки казались совсем впалыми, но Хэрод был уверен, что это тот самый человек, которого он привез из Саванны. Какого черта замыслил старик? Вилли склонился ближе к решетке. Мужчина отпрянул, глаза его были красными от сна. Они явно узнали друг друга. – Wilkommen in der Hölle, mein Bauer,[60] – тихо сказал Вилли. – Geh zum Teufel, Oberst,[61] – сквозь зубы бросил узник. Вилли рассмеялся, и смех его гулко прокатился по коридору. Хэрод вдруг понял, что облажался по полной. Если только это не Вилли развлекается. К ним подошел Барент, его седые волосы мягко поблескивали в свете тусклой лампы. – Вас что-то рассмешило, джентльмены? Вилли хлопнул Тони по плечу и улыбнулся: – Мой протеже рассказал мне анекдот, К. Арнольд. Ничего более. Барент посмотрел на обоих мужчин, кивнул и двинулся дальше. Не отпуская плеча Хэрода, Вилли сжал его так, что лицо Тони исказила гримаса боли. – Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь, Тони? – прошипел старик, лицо его побагровело. – Поговорим об этом позже. – Он повернулся и двинулся за Барентом и остальными к выходу. Хэрод изумленно уставился на человека, которого считал пешкой Вилли. Обнаженный, тот лежал, свернувшись, на холодном камне за стальной решеткой. Бледное лицо почти полностью скрадывали тени. Он выглядел старым и изможденным, на запястье левой руки явственно вырисовывался недавний шрам, сквозь кожу проступали ребра. Этот человек казался Хэроду абсолютно безопасным, если не считать непокорного блеска его огромных печальных глаз. – Тони, – окликнул преподобный Джимми Уэйн Саттер, – поторапливайся. Мы возвращаемся в особняк и начинаем Игру. Хэрод кивнул, бросил последний взгляд на человека за решеткой и пошел прочь, на ходу высматривая достаточно молодую и сильную женщину, которой он мог бы легко овладеть для сегодняшней ночной забавы.Глава 63 Мелани
Вилли жив! Глядя глазами мисс Сьюэлл сквозь прутья решетки, я сразу же узнала его, несмотря на то что тусклая лампа позади создавала вокруг его седых прядей некий ореол, оставляя лицо в тени. Хотя бы в этом Нина не солгала мне. Я уже ничего не понимала: мы с Ниной приносили на этот кровавый алтарь свои жертвы, а Вилли, жизнь которого, как утверждала Нина, находилась под угрозой, смеялся и спокойно разгуливал среди своих номинальных врагов. За полгода Вилли почти не изменился, разве что всякого рода злоупотребления наложили на него свою печать. Когда он подошел ближе и лицо его отчетливо проступило на фоне глубокого мрака коридора, я заставила мисс Сьюэлл отвернуться и вжаться в дальний угол камеры, хотя это было просто глупо. Он обратился по-немецки к мужчине, которого Нинина негритянка называла Солом, и пригласил его в ад. Мужчина послал Вилли к черту, тот расхохотался и повернулся к своему более молодому спутнику с глазами рептилии. Затем к ним подошел очень приятный джентльмен. Вилли назвал его К. Арнольд, и я поняла, что это и есть тот самый легендарный мистер Барент, сведения о котором мисс Сьюэлл нашла в библиотеке. Даже при грубом освещении этого убогого тоннеля я сразу определила, что Барент утонченный человек благородного происхождения. Он говорил с кембриджским акцентом, как и мой возлюбленный Чарльз, его темный костюм был скроен идеально, и, если верить информации мисс Сьюэлл, он являлся одним из богатейших людей мира. Я решила, что он именно тот человек, который сможет оценить мою зрелость и изысканное воспитание и в целом будет способен понять меня. Я заставила мисс Сьюэлл подойти ближе к решетке и кокетливо прикрыть ресницами глаза. Однако на мистера Барента, похоже, это не произвело впечатления. Он двинулся дальше, не дожидаясь Вилли и его молодого друга. – Что там происходит? – осведомилась Нинина негритянка, называвшая себя Натали. – Посмотри сама, – раздраженно бросил Джастин. – Я не могу сейчас, – ответила цветная девица. – Как я уже объясняла, на таком расстоянии контакт все время нарушается. Глаза ее сверкали в пламени свечи. Я не могла различить васильковой голубизны Нининых глаз в ее грязно-коричневых радужных оболочках. – Тогда как же ты можешь осуществлять контроль, моя дорогая? – спросила я, стараясь придать голосу Джастина надлежащую нежность. – С помощью предварительной обработки, – ответила Нинина пешка. – Так что происходит? Я вздохнула: – Мы все еще находимся в маленьких камерах, только что здесь был Вилли… – Вилли! – вскричала девица. – Что ты так удивляешься, Нина? Ты же сама мне сказала, что Вилли было приказано туда явиться. Значит, ты лгала, когда говорила, что поддерживаешь с ним связь? – Конечно же нет. – Девушка быстро и уверенно вернула себе самообладание, и это вновь напомнило мне Нину. – Но мы уже некоторое время не виделись. Он хорошо выглядит? – Нет, – отрезала я. Потом, подумав, решила испытать ее. – Там был мистер Барент. – Да? – У него очень… впечатляющая внешность. – Да, действительно. Не нотка ли игривости послышалась мне? – Теперь я понимаю, как ему удалось уговорить тебя, чтобы ты предала меня, Нина. Ты… спала с ним? – Я терпеть не могла эту пошлую формулировку, но ничего менее грубого в голову не приходило. Негритянка ответила мне лишь многозначительным взглядом, и я в сотый раз обругала про себя Нину за то, что она подсунула мне ее вместо человека, с которым я могла бы обращаться как с равным. Даже ненавистная мисс Баррет Крамер была бы лучше в качестве посредника. Некоторое время мы молчали. Негритянка погрузилась в грезы, которыми Нина забила ей голову. Мое внимание было рассредоточено между членами «семьи», узким кругом впечатлений мисс Сьюэлл, ограничивающихся холодом камня и пустым коридором, тщательным наблюдением Джастина за Нининой пешкой и, наконец, наилегчайшим прикосновением к сознанию нашего нового друга в океане. Последнее было осуществить особенно сложно не столько из-за расстояния – после болезни расстояние перестало быть для меня преградой, – сколько из-за того, что эта связь должна была оставаться едва ощутимой и полностью незаметной до тех пор, пока Нина не изменит своих намерений. Я решилась на это, потому что чувствовала необходимость играть наравне с Ниной, а еще из-за ее детского намека, будто я не смогу установить и поддерживать контакт с человеком, которого видела лишь в бинокль. Но теперь, когда я добилась своего, мне совершенно незачем было следовать остальной части ее плана. Особенно учитывая те жесткие ограничения, которые смерть наложила на Способность Нины. Не уверена, что уже полгода назад, при нашей последней встрече, она смогла бы Использовать кого-нибудь на расстоянии двести миль, однако я не сомневалась в том, что Нина никогда не обнаружит свою слабость и не окажется в зависимом от меня положении. Теперь же она зависела. Негритянка в свободном свитере, надетом поверх коричневого платья, сидела в моей гостиной, и Нина оказалась слепа и глуха. Происходящее на острове может стать ей известным – и в этом я убеждалась все больше и больше – лишь в том случае, если ей сообщу об этом я. Я ни на секунду не поверила ей, когда она заявила, что поддерживает непрерывную связь с пешкой по имени Сол. Прикоснувшись к его сознанию во время поездки на катере, я хоть и ощутила следы того, что он был Использован, и довольно основательно, когда-то в прошлом, но также почувствовала в нем затаившиеся, латентные, потенциально опасные силы, словно Нина каким-то необъяснимым образом превратила его мозг в ловушку. Я также поняла, что в данный момент он не находится под ее контролем. Мне известно, как ограниченна возможность Использования даже идеально обработанной пешки при смене условий или возникновении непредвиденных обстоятельств. Из всей нашей веселой троицы именно мне принадлежала самая сильная Способность, когда дело касалось обработки пешек. Нина всегда подшучивала надо мной и объясняла это тем, что я боюсь новых видов соревнований, а Вилли с презрением относился к любым долгосрочным контактам и менял пешек с такой же легкостью, с какой перемещался из постели одного партнера к другому. Нет, если Нина надеялась действовать на острове только с помощью обработанного орудия, ее ждало разочарование. И тут я поняла, что равновесие между нами сместилось – после всех этих лет! – так что следующий ход будет моим, и я сделаю его тогда и там, когда и где это будет удобно мне. Но как же мне хотелось знать, где Нина! Негритянка в моей гостиной – папа бы умер! – попивает чай, не ведая, что, едва я найду другой способ выяснить местонахождение Нины, этот цветной объект моего замешательства будет уничтожен, да так, что даже на Нину произведет впечатление моя оригинальность. Но я могла подождать. С каждым часом мое положение становилось все прочнее, Нинино же, наоборот, слабело.* * *
Дедушкины часы в прихожей пробили одиннадцать, и Джастин уже начал дремать, когда охранники в своих невзрачных комбинезонах распахнули древнюю металлическую дверь в конце коридора и с помощью гидравлики подняли решетки на пяти клетках. Камеры мисс Сьюэлл и Сола, Нининой пешки, остались закрытыми. Я смотрела, как из ниш выходят четверо мужчин и одна женщина, вероятно уже Используемые, и вдруг с изумлением узнала среди них высокого мускулистого негра, с которым Вилли плохосправлялся при нашей последней встрече. Кажется, его звали Дженсен. Меня охватило любопытство. Используя всю свою возросшую Способность, приглушив восприятие Джастина, «семейства», мужчины, спящего в своей маленькой, мягко покачивавшейся каюте, – всех, даже свое собственное, я сумела проникнуть в одного из охранников и начала получать через него смутные впечатления. Правда, это напоминало тусклое изображение плохо настроенного телевизора. Группа миновала коридор, прошла через железные двери, подъемную решетку, преодолела тот же подземный проспект, по которому мы входили, и начала подниматься по длинному темному пандусу навстречу запахам гниющей растительности и тропической ночи.Глава 64
Остров Долманн
Понедельник, 15 июня 1981 г.
На следующий вечер Хэроду не оставалось ничего другого, как попробовать Использовать мужчину, которого он привез из Саванны. Первая ночь превратилась для него в кошмар. Управлять выбранной женщиной оказалось очень сложно. Это была высокая крепкая амазонка с крупными челюстями, маленькой грудью и непривлекательно подстриженными волосами – одна из бродяг Саттера, которых он изолировал и откармливал в Библейском центре, пока Клубу Островитян не требовались суррогаты. Но она оказалась плохим суррогатом. Хэроду пришлось приложить все силы, чтобы просто заставить ее выйти на площадку в пятидесяти ярдах от северной ограды. Земля там была выжжена в форме большой пентаграммы, а концы всех лучей обведены мелом. Дженсен Лугар уверенным, крепким шагом достиг своего круга и остановился в ожидании, когда женщина Хэрода добредет до своего пьяной походкой. Хэрод знал, что у него есть масса оправданий: он привык управлять женщинами с более близких расстояний, к тому же эта, на его вкус, была слишком мужеподобной, и вдобавок – что играло не последнюю роль – ему было страшно. Пока Хэрод крутился и ерзал, стараясь не утратить контакт с женщиной и доставить ее в нужное место, остальные сидели, свободно раскинувшись в своих креслах за огромным круглым столом Игрового зала. Заставив ее остановиться приблизительно в центре круга, он вытер пот со лба, кивнул и переключил внимание на происходящее в комнате. – Очень хорошо, – снисходительно прокомментировал К. Арнольд Барент, – похоже, мы готовы. Правила всем известны. Если кому-то удастся дожить до рассвета, но он никого не убьет при этом, игрок получает пятнадцать очков, а суррогат ликвидируется. Если ваш суррогат набирает сто очков путем ликвидации остальных до рассвета, он… или она может быть использована по вашему выбору в следующей Игре. Надеюсь, нашим новым игрокам это понятно? Вилли улыбнулся. Хэрод коротко кивнул. – На всякий случай напомню. – Кеплер положил руку на стол и повернулся к Хэроду. – Если ваш суррогат ликвидируется на ранних этапах, остальную часть Игры можно наблюдать по монитору из соседней комнаты. В северной части острова расположены более семидесяти камер, так что обзор достаточно хороший. – Однако все-таки хуже, чем для тех, кто продолжает Игру, – промолвил Саттер. Лоб и верхняя губа священника покрылись капельками пота. – Джентльмены, если мы готовы, – сказал Барент, – через тридцать секунд взлетит ракета. Мы начинаем по ее сигналу.* * *
Все, кроме Хэрода, тут же закрыли глаза, готовые действовать, в то время как он бо́льшую часть тридцатисекундной готовности потратил на восстановление контакта. Когда же он очутился в сознании амазонки, ощутил дуновение ветерка на ее обнаженной коже, почувствовал, как твердеют ее соски от прохлады ночного воздуха, то увидел, что к ней склонился Дженсен Лугар. Он посмотрел на нее со злобной ухмылкой и голосом Вилли Бордена произнес: – Ты будешь последним, Тони. Я приберегу тебя напоследок. Затем в трехстах футах над верхушками пальм взвилась красная ракета, четверо человек пришли в движение, и Хэрод, развернув свою женщину, заставил ее стремглав броситься в джунгли на север. Часы проходили в лихорадочном мелькании ветвей, жужжании насекомых и наплывах страха – его собственного и его суррогатки. Это был бесконечный бег без разбору сквозь заросли и трясину. Несколько раз Хэроду казалось, что он уже достиг северной оконечности острова, но всякий раз, выходя из-под деревьев, он обнаруживал перед собой колючую проволоку охраняемой зоны. Он попробовал было разработать какую-нибудь стратегию, чтобы черпать энтузиазм в определенной последовательности действий, но, по мере того как ночь двигалась к рассвету, понял, что способен лишь блокировать боль в окровавленных ногах и исцарапанном теле своей суррогатки и заставлять ее бежать дальше, сжимая в руках тяжелую бесполезную палку. Игра шла не более получаса, когда до Хэрода донесся первый крик – всего футах в пятидесяти от зарослей сахарного тростника, где он спрятал свою женщину. Минут через десять он заставил ее выползти на четвереньках из укрытия и наткнулся на труп полного блондина, которого Использовал Саттер. Голова его была повернута на сто восемьдесят градусов, а красивое лицо вдавлено в землю. Несколько минут спустя, выбравшись из болота, кишевшего змеями, женщина Хэрода издала истошный крик, когда на нее набросился высокий худой пуэрториканец Кеплера и принялся колотить тяжелой дубиной. Хэрод почувствовал, что она падает, постарался увернуться, но сделал это недостаточно проворно, и очередной удар пришелся ей по спине. Он заблокировал боль, но ощутил, как по всему ее телу разливается странная немота. Пуэрториканец безумно захохотал и поднял свое бревно, чтобы нанести последний удар. Из темноты вылетел дротик – очищенная от коры и заостренная ветка – и проткнул пуэрториканцу горло. Там, где только что виднелся его кадык, торчало четырнадцатидюймовое острие. Суррогат Кеплера схватился за горло, упал в густые заросли папоротника, дважды дернулся и замер. Хэрод заставил свою женщину подняться на четвереньки, когда из-за деревьев вышел Дженсен Лугар. Он выдернул окровавленный дротик из горла пуэрториканца и направил острие прямо в глаз женщине. – Остался еще один, Тони, – произнес черный великан, и его обнажившиеся в улыбке зубы блеснули в лунном свете, – а потом твоя очередь. Наслаждайся пока Охотой, друг мой. – Лугар похлопал суррогатку Хэрода по плечу и исчез, растворившись во тьме. Хэрод заставил женщину подняться и пуститься бегом по узкой полосе пляжа – его уже не заботило, что ее могут увидеть. Спотыкаясь о камни, корни, то и дело падая в воду, она неслась не разбирая дороги, подальше от того места, где, по мнению Хэрода, должен быть скрываться Лугар, то есть Вилли. Человека Барента, с армейской стрижкой и телосложением борца, он не видел с самого начала Игры, но инстинктивно ощущал, что в схватке с Лугаром шансов у того мало. Отыскав прекрасное укрытие в заросших виноградником руинах старой плантации, Хэрод уложил искромсанное и израненное тело своей марионетки на подстилку из листьев. Пусть он не получит очки за убийство, но пятнадцать очков – за то, что он доживет до рассвета, – его, а когда патруль Барента станет искать амазонку, чтобы ликвидировать, ему уже не придется быть вместе с ней. Уже почти рассвело, и Хэрод вместе со своей суррогаткой начал дремать, мутным взором глядя в просвет между листьями на то, как меркнущие звезды сменяются утренними облаками, когда перед ним возникло хищно улыбающееся лицо Дженсена Лугара. Огромной рукой он схватил женщину за волосы и швырнул ее на груду остроконечного булыжника. Хэрод закричал. – Игра окончена, Тони, – промолвил Лугар – Вилли, и его черное тело, блестящее от пота и крови, затмило просвет. Перед тем как свернуть женщине шею, Лугар избил ее и изнасиловал. Изнасилование было разрешено, но очков не приносило. Игровые часы показали, что амазонка скончалась за две минуты и десять секунд до наступления рассвета, лишив Хэрода, таким образом, положенных пятнадцати очков.* * *
В понедельник игроки встали поздно. Хэрод проснулся последним. В каком-то полузабытьи побрился, принял душ и перед самым полуднем спустился на завтрак; из Главного зала доносились голоса остальных четверых игроков, – все поздравляли Вилли. Кеплер смеялся, обещая отомстить в следующей партии; Саттер утверждал, что новичкам всегда везет; Барент с открытой улыбкой заверял Вилли, насколько приятно им видеть его в их обществе. Хэрод заказал двойную порцию «Кровавой Мэри» и устроился в дальнем углу. Когда он допивал третий бокал, к нему присоединился Джимми Уэйн Саттер. – Энтони, мальчик мой, – ласково проговорил Саттер, – сегодня тебе надо постараться показать себя с наилучшей стороны. Брат Кристиан и остальные заинтересованы в проявлении энергии и чувства стиля, а не только в наборе очков. Используй сегодня мужчину, Энтони, и покажи всем, что они не ошиблись, приняв тебя в Клуб. Хэрод пристально посмотрел на Саттера, но ничего не сказал. После завтрака все отправились осматривать территорию летнего лагеря. Пока Вилли безучастным взглядом обводил постройки, Кеплер, преодолев последние десять ступенек амфитеатра, подошел к Хэроду и одарил его своей улыбкой Чарлтона Хестона. – Недурно, Тони, – заметил он, – ты почти продержался до рассвета. Но позволь мне дать тебе один совет, малыш. Мистер Барент и остальные хотят видеть немного инициативы. Ты привез с собой пешку мужского пола. Используй ее сегодня вечером… если можешь. Барент поймал Хэрода на обратном пути к особняку. – Тони, – промолвил миллионер с мягкой улыбкой, глядя на его угрюмое лицо, – мы очень рады, что ты присоединился к нам в этом году. Полагаю, мы обрадуемся еще больше, если ты как можно скорее начнешь Использовать своего суррогата. Но конечно же, все зависит от твоего желания. Никакой спешки нет. Остальной путь до особняка они проделали молча. Последним с Хэродом говорил Вилли. За час до обеда Тони решил присоединиться к Марии Чэнь на пляже. Он вышел из дома через боковую дверь и бродил по переплетающимся садовым дорожкам среди клумб с высокими папоротниками и цветами, когда вдруг наткнулся на Вилли, сидевшего на длинной белой скамье. За его спиной стоял Том Рейнольдс. Глядя на его пустые глаза, белокурые волосы и длинные пальцы, Хэрод в который раз подумал, что вторая излюбленная пешка Вилли очень похожа на рок-звезду, переквалифицировавшуюся в палача. – Тони, – хрипло произнес старик, – нам пора поговорить. – Не сейчас, – бросил Хэрод, пытаясь пройти мимо, но Рейнольдс преградил ему путь. – Отдаешь ли ты себе отчет, что ты делаешь, Тони? – негромким голосом осведомился Вилли. – А ты? – огрызнулся Хэрод, тут же поняв, насколько беспомощно это прозвучало. Но им владело лишь одно желание – поскорее уйти отсюда. – Да, – важно кивнул немец, – я отдаю. И если ты сейчас начнешь соваться не в свое дело, мои многолетние усилия пойдут прахом. Хэрод оглянулся и понял, что в этом заросшем цветами тупике их никто не увидит даже с помощью телекамер. Отступать он не хотел, да и Рейнольдс продолжал загораживать дорогу. – Послушай, – сказал он, чувствуя, как от напряжения у него срывается голос, – в гробу я все это видал, и мне плевать, о чем ты там говоришь. Я просто не хочу в этом участвовать, понятно? Вилли улыбнулся. Маленькие глаза его сузились и теперь почти не походили на человеческие. – Хорошо, Тони. Но нам всем остается сделать несколько последних ходов, и я не позволю, чтобы мне мешали. В голосе бывшего партнера прозвучало нечто такое, что напугало Хэрода, как никогда в жизни. Он даже онемел на мгновение. Вилли сменил тон, голос его стал более доверительным. – Полагаю, это ты отыскал моего еврея, которого я бросил в Филадельфии? – продолжил он. – Ты или Барент. Но это не важно, даже если они приказали тебе разыграть этот гамбит. Хэрод открыл было рот, но старик жестом остановил его: – Возьми сегодня еврея, Тони. Мне он больше не нужен, а вот на тебя я сделаю ставку в конце этой недели… если ты больше не будешь создавать сложностей. Тебе понятно, Тони? Безжалостный холодный взгляд палача проник в сознание Хэрода. – Понятно. На мгновение он отчетливо представил себе, что Вилли Борден, Вильгельм фон Борхерт, мертв, а перед ним сидит его труп. Однако скалился в ухмылке не просто череп, но некое вместилище миллионов других черепов, из акульей пасти которых доносилась вонь склепов и безымянных могил. – Очень хорошо, что ты понял, – одобрительно сказал Вилли. – Увидимся позже, Тони, в Игровом зале. Рейнольдс отошел в сторону с тем же подобием улыбки Вилли, которую на рассвете Хэрод видел на лице Дженсена Лугара за мгновение до того, как тот свернул шею его суррогатке. Он отправился на пляж к Марии Чэнь и, даже опустившись на раскаленный песок под лучами жаркого солнца, не мог унять дрожь. – Тони? – прикоснулась к его руке Мария Чэнь. – К черту! – прорычал он. – К черту! Пусть получат еврея. Кто бы за ним ни стоял, что бы они ни имели в виду, пусть получат его сегодня. К черту! Пошли они все к черту!* * *
В этот вечер в банкетном зале было тихо, словно все обдумывали свои ходы в предстоящей Игре. Кроме Хэрода и Вилли, остальные уже посетили загон для суррогатов и отобрали себе фаворитов, тщательно их осмотрев, как обычно осматривают скаковых лошадей. За обедом Барент сообщил, что будет Использовать глухонемого с Ямайки – человека, бежавшего со своего родного острова после того, как он из кровной мести убил четверых. Кеплер довольно долго выбирал себе кандидата. Он дважды прошел мимо клетки Сола, не обращая на него никакого внимания, приглядываясь к более молодым. Наконец он остановился на одном из уличных сирот Саттера – высоком худом парне с сильными ногами и длинными волосами. – Гончая, – удовлетворенно заметил Кеплер за обедом. – Гончая с клыками. Саттер в этот вечер решил положиться на обработанную пешку, заявив, что будет Использовать человека по имени Амос, который в течение двух лет был его личным телохранителем в Библейском центре, приземистого мужчину с бандитским лицом и телом полузащитника. Вилли снова намеревался пустить в ход Дженсена Лугара. Хэрод сообщил лишь, что будет Использовать польского еврея, и больше не захотел принимать участие в разговоре. Предыдущим вечером Барент и Кеплер сделали ставки на десять тысяч долларов с лишним, теперь они удвоили их. Все сошлись во мнении, что для второго вечера ставки и накал страстей невероятно высоки. Когда солнце зашло за тучи, Барент сообщил, что барометр быстро падает, с юго-востока приближается шторм. В половине одиннадцатого все поднялись из-за стола и направились в Игровой зал, оставив телохранителей и обслуживающий персонал за дверью. Игроки расселись по своим местам, лица их снова стали походить на неподвижные маски. Это впечатление еще больше усугублял свет единственной люстры, висевшей над столом. Время от времени темное небо за окном освещалось вспышками молний. Барент распорядился отключить иллюминацию в дубовой аллее, чтобы наслаждаться величавым зрелищем надвигавшейся грозы. – До начала Игры осталось тридцать секунд, – объявил он. Четверо игроков закрыли глаза и напряглись в ожидании. Хэрод отвернулся и принялся смотреть, как яркие вспышки освещают силуэты деревьев вдоль дубовой аллеи и иссиня-черные грозовые тучи. Он не имел ни малейшего представления, что случится, когда поднимется решетка камеры с евреем по имени Сол. Тони не собирался вторгаться в его сознание, а без этого он не мог знать, что происходит. Однако именно такое положение вещей вполне устраивало Хэрода. Что бы там ни замышлялось, кто бы ни пытался смешать карты, введя в колоду этого еврея, какие бы цели они ни преследовали, его это не волновало. Он знал, что не будет иметь никакого отношения к событиям дальнейших шести часов и что в этой игре он не участвует. В этом он не сомневался. Никогда еще Хэрод не заблуждался так жестоко.Глава 65
Остров Долманн
Понедельник, 15 июня 1981 г.
Сол просидел в своей крохотной нише более суток, когда вдруг механизмы, скрытые в каменных стенах, заскрежетали и стальные прутья решетки поползли вверх. На мгновение он растерялся. Его заключение вызывало у него странное чувство спокойствия, словно все сорок предшествовавших лет исчезли и он вернулся к самому важному в своей жизни. Двадцать часов он пролежал в холодной каменной нише, размышляя о жизни и подробно вспоминая вечерние прогулки с Натали возле фермы в Кесарии, залитый солнцем песок и томные зеленые волны Средиземного моря. Он вспоминал их беседы и смех, откровения и опасения, а когда засыпал, его тут же охватывали видения, уносившие туда, где жизнь утверждала себя иначе перед лицом жестокого самоотречения. Дважды в день охрана просовывала в щель еду, и Сол ел. Низкие пластиковые подносы были наполнены лапшой быстрого приготовления с прожилками мяса. Пища космонавтов. Но Сола не удивляла эта ирония судьбы: космический паек подавался в загоне для рабов семнадцатого века! Он съедал все, пил воду и возвращался к упражнениям, чтобы не затекали мышцы и не замерзало тело. Больше всего он тревожился о Натали. Они предвидели многое из того, что им предстояло сделать, до мельчайших подробностей изучили план действий поодиночке, но, когда подошло время расставания, оба почувствовали горький привкус трагического конца. Сол вспомнил освещенную солнцем спину уходящего в небытие отца и руку Йозефа на его плече. Лежа в темноте, пропахшей вековым страхом, он размышлял о мужестве. Об африканцах и коренных жителях Америки – индейцах, заточённых в этих же каменных клетках, вдыхавших этот же запах безнадежности и не знавших тогда, что они победят, что их потомки обретут свободу и достоинство, в которых было отказано тем, кто дожидался здесь своей смерти. Он закрыл глаза и тут же увидел вагоны, въезжавшие в Собибор, застывшие, сваленные в кучу трупы, жмущиеся друг к другу тела в поисках тепла, которому неоткуда было взяться. Но за этими телами и укоризненными взглядами он различал молодого сабру, который шел из кибуца на работу в садах или вооружался для ночного патрулирования. В его лице сквозили твердость и уверенность, и он был полон жизни. Собственно, сам факт его существования и был ответом на вопрошающие взгляды мертвецов Собибора, которых партия за партией сваливали в ров в 1944 году… Сол тревожился за Натали и боялся за себя, как боятся лезвия опасной бритвы, приближающегося к глазам, вкуса холодной стали во рту. Однако ему был знаком этот страх, и он приветствовал его возвращение, позволяя ему проникать в себя, но не желая покоряться. Тысячу раз Сол мысленно повторял все пункты плана, которые ему предстояло выполнить. Анализируя возможные препятствия, он прикидывал различные варианты их устранения. Он размышлял над тем, как поступит Натали, если старуха согласится следовать их плану, и что ей придется делать в более вероятном случае, если Мелани Фуллер начнет вести себя с непредсказуемостью, обусловленной ее безумием. И решил, что все равно будет продолжать, даже если Натали погибнет. И даже если все их планы рухнут, он тоже будет продолжать. Он будет действовать и в том случае, если не останется никакой надежды. Сол лежал в темной нише на холодном камне и размышлял о жизни и смерти – своей собственной и других людей. Он анализировал все непредвиденные повороты событий, а затем начинал изобретать новые. И все же в тот момент, когда прутья решетки со скрежетом поползли вверх и остальные четверо заключенных зашевелились и начали выбираться из своих камер, Сол Ласки в течение целой минуты, которая, казалось, длилась вечно, не знал, что ему делать. Он вылез из своей ниши последним и замер. Каменный пол обжег холодом его босые ноги. Марионетка, именуемая Констанцией Сьюэлл, смотрела на него сквозь стальные прутья и спутанные волосы, когда он последовал за остальными к дверному проему, ведущему во тьму. Тони Хэрод сидел в Игровом зале и из-под опущенных век наблюдал за лицами четверки, ожидающей начала ночного состязания. Лицо Барента выражало спокойствие и удовлетворенность, уголки его рта подрагивали в легкой улыбке. Кеплер, запрокинув голову, хмурился от напряжения. Джимми Уэйн Саттер сидел, наклонившись вперед и положив руки на стол, его морщинистый лоб и верхняя губа были покрыты капельками пота. Вилли так глубоко зарылся в кресло, что свет падал лишь на его лоб, острые скулы и нос. И все же Хэроду казалось, что глаза старика открыты и он не сводит с него своего пристального взгляда. Сам Хэрод ощущал внутри растущую панику по мере того, как осознавал всю абсурдность своего положения. Он даже не пытался прикоснуться к сознанию еврея, поскольку знал: кто бы им ни руководил, ему не дадут в него войти. Он еще раз окинул взглядом лица присутствующих. Кто в состоянии управлять двумя суррогатами одновременно? Логика подсказывала, что это под силу только Вилли, – в его пользу говорили и Способность старика, и цель, которой он руководствовался. Но к чему тогда этот разговор в саду? Хэрод чувствовал растерянность и страх, и его мало утешала мысль, что Мария Чэнь осталась внизу, спрятав пистолет на катере, ожидающем их у пристани на случай, если возникнет необходимость бегства. – Черт побери! – вскричал Джозеф Кеплер. Все четверо открыли глаза и уставились на Хэрода. Вилли подался вперед, лицо его побагровело от ярости. – Что ты делаешь, Тони? – Затем он окинул ледяным взглядом остальных. – Или это не Тони? Так вот что, по-вашему, честная Игра? – Постойте! Постойте! – воскликнул Саттер, снова закрывая глаза. – Смотрите! Он убегает. Мы можем… все вместе… Глаза Барента широко распахнулись, как у хищника, поджидающего в темноте свою жертву. – Ну конечно, – тихо промолвил он, сложив руки на груди, – это Ласки, психиатр. Я должен был догадаться. Без бороды я его не узнал. Кто бы там ни додумался до этого, у него скверное чувство юмора. – Какие, к черту, шутки! – взревел Кеплер, снова зажмуривая глаза. – Ловите его! Барент покачал головой: – Джентльмены, по причине непредвиденных обстоятельств сегодняшняя партия откладывается. Я прикажу охране вернуть его. – Нет! – крикнул Вилли. – Он мой! Барент с улыбкой повернулся к нему: – Да, он может быть и вашим. Посмотрим. А пока я уже нажал кнопку, оповещающую силы безопасности. Они видели на мониторе начало Игры и знают, кого искать. Вы можете помочь им в этом, герр Борден, только проследите, чтобы психиатр не погиб до допроса. Вилли издал звук, похожий на рычание, и закрыл глаза. Барент посмотрел на Хэрода с убийственным спокойствием.* * *
Сол вместе с остальными четырьмя суррогатами поднялся по пандусу и очутился в тропической мгле. В ожидании приближающейся грозы воздух был тяжелым и влажным, вспышки молний освещали деревья и пустое пространство к северу от зоны безопасности. Один раз Сол споткнулся и упал на колени, но тут же поспешно поднялся и пошел дальше. На площадке была выложена огромная пентаграмма, остальные суррогаты уже заняли свои места на концах лучей. Сол подумывал, не побежать ли сразу, но при каждой вспышке молнии за пределами зоны безопасности вырисовывались фигуры двух охранников, вооруженных М-16 и приборами ночного видения. Он решил, что лучше подождать, и занял пустое место между Дженсеном Лугаром и высоким худым юношей с длинными волосами. То, что все они были голыми, казалось само собой разумеющимся. Из всей пятерки лишь физическое состояние Сола вызывало сомнения. Голова Дженсена Лугара повернулась к нему, как на шарнирах. – Если ты меня слышишь, моя маленькая пешка, я хочу попрощаться с тобой, – произнес он по-немецки голосом оберста. – Но убью я тебя не во гневе. Это произойдет быстро. – И Лугар задрал голову к небу, как и остальные, словно в ожидании какого-то сигнала. Сол развернулся, поднял руку и швырнул тяжелый булыжник, который подобрал минуту назад, когда якобы споткнулся. Удар пришелся Лугару точно в висок, и великан рухнул как подкошенный. Сол пустился бежать. Пока остальные суррогаты удивленно смотрели ему вслед, он нырнул в кустарник и скрылся под покровом тропического леса. Выстрелов не было. Первые пять минут Сол бежал не разбирая дороги. Сосновые иглы и осыпавшиеся пальмовые побеги впивались в его голые ступни, ветви раздирали бока, дыхание с хрипом вырывалось из горла. Затем он все же справился с собой, остановился и прислушался, присев у зарослей сахарного тростника. Слева плескались волны, вдоль берега с ревом проносились мощные сторожевые моторные лодки. Сол закрыл глаза и попытался представить карты и фотографии острова, которые он так долго запоминал, сидя с Натали в номере мотеля. До северной оконечности было почти пять миль. Он знал, что лес скоро превратится в настоящие джунгли, которые за милю до побережья уступят место болоту и трясине, а затем снова начнутся густые заросли. Единственными строениями у него на пути будут развалины рабского госпиталя, заросший фундамент плантации Дюбуа у скал восточного побережья и поваленные надгробия кладбища. Во время очередной вспышки молнии Сол оглядел тростник и ощутил непреодолимое желание просто спрятаться в нем – заползти внутрь, свернуться в клубок и стать невидимым. Но он знал, что это будет означать лишь более скорую смерть. Твари в особняке – по крайней мере трое из них – в течение многих лет преследовали друг друга по этим джунглям. Во время допросов Хэрод рассказал Солу о «Пасхальной охоте», когда в последнюю ночь выпускались все неиспользованные суррогаты – дюжина, а то и более обнаженных беспомощных мужчин и женщин, и члены Клуба начинали охотиться на них с помощью своих фаворитов, вооруженных ножами и пистолетами. Баренту, Кеплеру и Саттеру известны здесь все укрытия, к тому же Сол не мог избавиться от чувства, что оберст догадывается, где он находится. В любую секунду он ожидал отвратительного прикосновения старика к своему сознанию, понимая, что, если им овладеют на таком расстоянии, это будет полный провал, весь их многомесячный труд и все, о чем он мечтал целую жизнь, все сорок лет, окажется напрасным… Сол знал, что его единственный шанс – бежать на север. Он выбрался из тростника и помчался вперед под грохот приближающейся грозы.* * *
– Вот он. – Барент указал на бледную обнаженную фигуру на экране одного из мониторов. – Нет никаких сомнений, что это психиатр Ласки. Саттер сделал глоток из высокого фужера и закинул ногу на ногу, поудобнее устроившись на одном из мягких диванов. – А никто и не сомневается, – заметил он. – Вопрос в том, кто ввел его в Игру и зачем? Все трое повернулись к Вилли, но старик смотрел на экран того монитора, где было видно, как охранники уносят с «поля боя» бесчувственное тело Дженсена Лугара. Остальных троих суррогатов отправили в джунгли преследовать Соломона Ласки. Вилли повернулся к присутствующим со слабой улыбкой на губах. – Глупо было бы с моей стороны вводить в Игру еврея, – сказал он. – А я, джентльмены, никогда не делаю глупостей. К. Арнольд Барент отошел от мониторов и сложил руки на груди: – Почему глупо, Уильям? Старик почесал щеку: – Все связывают со мной этого еврея, хотя именно вы, герр Барент, обрабатывали его последним, и лишь вам поэтому ничего не грозит. Барент моргнул, но промолчал. – Если бы мне нужно было незаметно ввести в Игру кого-то еще, я никогда бы не выбрал человека, которого вы все знаете. И к тому же настолько хилого. – Вилли улыбнулся и покачал головой. Барент взглянул на Хэрода: – Тони, ты собираешься придерживаться своей версии о похищении и шантаже? Хэрод сидел на низком диване и кусал костяшки пальцев. Да, он рассказал им правду, поскольку чувствовал, что они все готовы ополчиться против него и ему надо срочно развеять подозрения. Теперь его считали лжецом, и единственное, что ему удалось, так это немного уменьшить их страх перед Вилли. – Не знаю, кто это, – сказал Хэрод, – но кто-то из присутствующих морочит нам голову. Мне-то какая выгода от этого? – Действительно, какая? – дружелюбно повторил Барент. – Думаю, это отвлекающий маневр, – произнес Кеплер, бросив напряженный взгляд на Вилли. Преподобный Джимми Уэйн Саттер рассмеялся. – Отвлекающий от чего? – хихикая, осведомился он. – Остров отрезан от внешнего мира. Сюда никто не может проникнуть, кроме личных сил безопасности брата К., а они все нейтралы. Не сомневаюсь, что при первом же сигнале тревоги все наши помощники были… э-э-э… препровождены в свои апартаменты. Хэрод испуганно посмотрел на Барента, но тот продолжал улыбаться. Он понял, как был наивен, полагая, что в критический момент Мария Чэнь сможет хоть чем-то помочь ему. – На мой взгляд, бедного провинциального священника, на отвлекающий маневр это не похоже, – заключил Саттер. – Хорошо, но кто-то же контролирует его? – не унимался Кеплер. – А может, и нет, – тихо заметил Вилли. Все головы повернулись к нему. – Мой маленький еврей уже в течение многих лет проявляет поразительную настойчивость, – пояснил немец. – Представьте мое удивление, когда семь месяцев назад я обнаружил его в Чарлстоне. Барент перестал улыбаться: – Вильгельм, вы хотите сказать, что этот… человек… явился сюда по собственной воле? – Да, – кивнул Вилли. – С давних времен моя пешка как тень следует за мной. Кеплер побагровел: – Значит, вы признаете, что он здесь по вашей вине, даже если он явился с целью найти вас? – Не совсем, – лукаво улыбнулся Вилли. – Ведь это по вашему гениальному указанию были убиты его родственники в Виргинии. Барент задумчиво постукивал согнутым пальцем по столу: – Предположим, ему стало известно, кто несет за это ответственность, но откуда он узнал все подробности о Клубе Островитян? – Он пристально посмотрел на Хэрода. – Откуда мне было знать, что он действует сам по себе? – возмутился Хэрод. – Ведь эти сволочи накачали меня наркотиками. Саттер встал и подошел к монитору, на экране которого было видно, как обнаженная мужская фигура продирается сквозь заросли виноградника и поваленные надгробия. – И кто же работает с ним сейчас? – спросил он тихо, словно обращался к самому себе. – Негритянка, – ответил Вилли. – Которая была с шерифом в Джермантауне. – Он рассмеялся, запрокинув голову так, что стали видны пломбы в коренных зубах, стершихся от возраста. – Как фюрер и опасался, унтерменши взбунтовались. Саттер отвернулся от экрана как раз в тот момент, когда на нем появился суррогат Барента с Ямайки. Быстро и уверенно он продвигался по кладбищу, откуда только что, спотыкаясь, вышел Ласки. – Ну и где же тогда эта девица? – осведомился Саттер. Вилли пожал плечами: – Это не имеет значения. Среди ваших суррогатов черной сучки не было? – Нет, – ответил Барент. – Значит, она где-то в другом месте, – предположил Вилли. – Возможно, вынашивает планы мести тем, кто убил ее отца. – Мы не убивали ее отца, – задумчиво сказал Барент. – Это сделала Мелани Фуллер или Нина Дрейтон. – Вот именно! – рассмеялся Вилли. – Еще одна ирония судьбы. Но еврей здесь, и я почти не сомневаюсь, что попасть сюда ему помогла та негритянка. Все снова уставились на мониторы. Сквозь высокую траву на юг от старой плантации Дюбуа пробирался лишь один суррогат Саттера по имени Амос. Закрыв глаза, евангелист сосредоточенно управлял своей пешкой. – Нам необходимо допросить Ласки, – решительно сказал Кеплер. – Мы должны выяснить, где находится девица. – Нет. – Вилли покачал головой, не сводя глаз с Барента. – Нужно как можно скорее убить еврея. Даже если он безумен, он может причинить вред всем нам. Барент опустил руки и снова улыбнулся: – Беспокоишься, Уильям? Старик передернул плечами: – Просто это самый разумный выход. Если мы объединим наши усилия для того, чтобы убить еврея, это послужит доказательством, что он не был доставлен сюда кем-либо из нас с определенной целью. А негритянку найти будет нетрудно. Предполагаю, она снова вернулась в Чарлстон. – Предположений здесь недостаточно, – оборвал его Кеплер. – Считаю, что еврея надо допросить. – Джеймс? – Барент обратился к преподобному. Саттер открыл глаза. – Убить его и вернуться к Игре, – бросил тот и снова смежил веки. – Тони? Вздрогнув, Хэрод посмотрел на Барента: – Вы хотите сказать, что у меня есть право голоса? – Остальные проблемы мы обсудим позже, – ответил Барент. – Пока ты являешься членом Клуба и обладаешь всеми правами. Хэрод обнажил свои маленькие острые зубы: – Тогда я воздерживаюсь. Оставьте меня в покое и делайте с этим парнем все, что хотите. Барент задумчиво уставился на пустой монитор. Вспышка молнии на мгновение ослепила камеру, экран затопило белизной. – Уильям, – произнес он, – я не очень понимаю, чем для нас может быть опасен этот человек, но я готов согласиться с тем, что, будучи мертвым, он станет представлять меньшую угрозу. А девицу и прочих мстителей мы отыщем без проблем. Вилли наклонился вперед: – Вы можете подождать, пока мой суррогат Дженсен не придет в себя? Барент покачал головой: – Это лишь оттянет начало Игры. – Он поднял трубку и связался с одним из своих помощников. – Мистер Свенсон, вы следите за суррогатом, убежавшим на север? Хорошо. Да, я тоже видел его в секторе два-семь-шесть. Пришло время его ликвидировать. Подключите береговой патруль и снимите с дежурства вертолет номер три. При возможности используйте приборы ночного видения и тут же передавайте наземные сведения поисковым бригадам. Да, я не сомневаюсь, что вы справитесь, но, пожалуйста, побыстрее. Благодарю вас.* * *
Натали Престон сидела в темном доме Мелани Фуллер и вспоминала Роба Джентри. Все месяцы, прошедшие с момента трагедии в Джермантауне, она постоянно думала о нем перед тем, как погрузиться в сон. Правда, после отъезда из Израиля старалась поглубже запрятать чувство горя и раскаяния, чтобы оставить место для суровой решимости, которая, по ее мнению, должна была сейчас целиком завладеть ею. Но у нее это плохо получалось. Вернувшись в Чарлстон, Натали каждый день проезжала мимо дома Роба, в основном по вечерам. Расставшись с Солом на несколько часов, она бродила по тихим улицам, где гуляли они с Робом, вспоминала не только подробности их бесед, но и те глубокие чувства, которые зародились между ними, хотя оба понимали, насколько неуместна и чревата осложнениями такая связь. Трижды она ходила на его могилу, и всякий раз ее охватывала такая горечь, которую не в состоянии приглушить или компенсировать никакая месть. И тогда она давала себе клятву, что больше не придет сюда. Теперь, когда наступала вторая ночь в доме ужасов Мелани Фуллер, Натали не сомневалась, что если ей удастся выжить, то это произойдет лишь благодаря воспоминаниям о светлых чувствах, а вовсе не из решимости отомстить. Она находилась наедине с лишенным сознания «семейством» Мелани Фуллер немногим более суток, но ей казалось, что прошла уже целая вечность. Ночь с воскресенья на понедельник выдалась очень тяжелой. Натали пробыла в доме старухи до четырех утра и ушла, лишь когда уже не оставалось сомнений, что до следующего вечера Солу ничего не грозит. Если, конечно, он был еще жив. Натали знала лишь то, что говорила ей Мелани устами мальчика, который когда-то был Джастином Варденом. С каждой минутой версия, что Нина не может контролировать Сола на таком расстоянии и нуждается в помощи Мелани для спасения Вилли и их самих, казалась все менее достоверной. В первую ночь случались периоды, когда Джастин умолкал и долго сидел, уставясь во тьму невидящими глазами, да и остальные члены «семейства» становились такими же безжизненными. Натали предполагала, что старуха в это время была занята мисс Сьюэлл или мужчиной, за которым в течение многих часов они вместе с Джастином следили в бинокль. Нет, для этого еще рано. Джастин сказал, что за кровопролитием первой ночи Мелани наблюдала глазами одного из охранников. Натали попробовала убедить старуху не вмешиваться и не обнаруживать пока свое присутствие, после чего Джастин бросил на девушку ненавидящий взгляд и умолк на час, оставив ее в полной беспомощности. Ей оставалось только ждать новых сведений. Ждать, когда старуха проникнет в ее сознание и покончит с ней. Убьет их обоих. Натали сидела в доме, пропахшем гнилью, и старалась думать о Робе, о том, что бы он сказал в подобной ситуации, какую отпустил бы шутку. После полуночи она потребовала Нининым высокомерным тоном зажечь свет. Великан по имени Калли включил настольную лампу с ободранным абажуром, но ее тусклый свет оказался еще хуже, чем кромешная тьма. Все предметы в гостиной были покрыты густым слоем пыли, повсюду валялась чья-то одежда, из-под продавленного дивана выглядывал почерневший обгрызенный початок кукурузы, пол под чайным столиком был усеян апельсиновой коркой. Кто-то, скорее всего Джастин, беззастенчиво размазал по подлокотникам кресел и дивана малиновое или клубничное варенье, и теперь его следы напоминали Натали кровавые подтеки. За стенами слышалась возня крыс, а возможно, они бегали и по коридору – попасть в дом для них не составляло труда. Порою какие-то звуки доносились и со второго этажа, но они были слишком громкими для крыс. Натали подумала об умирающей наверху сморщенной старухе с перекошенным от паралича лицом, напоминавшим морду древней черепахи, изъятой из своего панциря, полутрупе, чья жизнь поддерживалась лишь благодаря внутривенным вливаниям физиологического раствора и мощной медицинской аппаратуре. Иногда, во время долгих периодов затишья, когда никто из членов «семейства» не только не двигался, но даже, казалось, переставал дышать, она представляла себе, что Мелани Фуллер умерла, а эти автоматы из плоти и крови продолжают действовать, подчиняясь последним безумным фантазиям угасающего мозга, как марионетки, приводимые в движение агонией кукловода. – Они забрали твоего еврея, – внезапно прошептал Джастин. Натали вздрогнула и очнулась. Позади кресла, в котором сидел мальчик, стоял Калли. Его опухшее лицо освещалось единственной лампой. Марвин, Говард и сестра Олдсмит прятались где-то в тени за спиной девушки. – Кто его взял? – еле дыша, спросила она. Лицо мальчика казалось ненастоящим, словно он был резиновой куклой. Натали вспомнила куклу размером с ребенка в Ропщущей Обители и содрогнулась – старуха каким-то образом превратила этого несчастного мальчика в такой же распадающийся манекен. – Никто его не брал, – злобно прошипел Джастин. – Час назад они открыли решетку и выпустили его для своих ночных забав. Нина, ты что, не поддерживаешь с ним контакт? Натали стиснула зубы и оглянулась. Джексон сидел в машине в квартале от дома Фуллер, Зубатка вел наблюдение из переулка напротив. С таким же успехом они могли находиться на другой планете. – Мелани, не спеши, – попросила она. – Расскажи мне, что происходит. – Не скажу, Нина, – снова прошипел Джастин голосом старухи. – Настала пора признаться, где ты. Калли обошел кресло. Из кухни вышел Марвин с длинным ножом, поблескивавшим в неярком свете. За спиной завозилась сестра Олдсмит. – Прекрати, Мелани, – тихо сказала Натали. В последнюю секунду горло ее сжалось от страха, и то, что должно было прозвучать властным распоряжением Нины, больше походило на сдавленную мольбу. – Нет-нет-нет. – Джастин соскользнул с кресла. Пригнувшись и касаясь пальцами грязного восточного ковра, как муха, ползущая по стене, он двинулся к девушке. – Пора все нам рассказать, Нина, или распрощаться с этой черномазой. Покажи мне, что у тебя сохранилась Способность, если ты действительно Нина. – Детское личико исказилось в зверином оскале, словно его кукольная резиновая голова плавилась в языках невидимого пламени. – Нет! – Натали вскочила, но Калли загородил ей путь к двери. Марвин обошел диван и провел рукой по острому лезвию, которое тут же обагрилось его кровью. – Пора все рассказать нам, Нина, – повторил Джастин, когда со второго этажа донесся какой-то стук. – Или она умрет.* * *
Дождя еще не было. Шквальный ветер раскачивал пальмы, срывая с них ветви. Они ливнем осыпались на землю, образуя непроходимые завалы с торчащими во все стороны остриями побегов. Сол упал на колени и прикрыл голову руками, чувствуя, как иголки впиваются в его тело. Вспышки молний выхватили картину хаоса, оглушительные раскаты грома следовали один за другим. Сол понял, что заблудился. Он укрылся под массивным папоротником, когда на него обрушился первый шквал дождя, и попытался сориентироваться. Он достиг соляных топей, но затем, вместо того чтобы выйти к последнему участку джунглей, вдруг снова оказался на кладбище. Где-то рядом послышался рев вертолета, и луч света от его прожектора прорезал тьму так же ярко, как вспышки молний. Сол не имел ни малейшего представления, на какой стороне болот находится. Когда он несколько часов назад во второй раз выбрался на рабское кладбище, на него вдруг набросился высокий длинноволосый суррогат. Измученный и изнемогающий от усталости и страха, Сол схватил первое, что попалось ему под руку, – ржавый металлический прут, когда-то, вероятно, служивший оградой чьей-то могилы, и попытался защититься от нападавшего. Острие прута раскроило парню череп. Тот упал, потеряв сознание. Сол опустился на колени, нащупал его пульс и стремглав бросился в джунгли. Над головой опять появился вертолет. Ветер ревел так громко, что заглушал даже шум двигателей, хотя машина висела всего в двадцати футах над макушками кипарисов, под которыми укрылся Сол. Он не особенно опасался вертолета: при таком ураганном ветре вести прицельную стрельбу, да еще в зарослях, крайне сложно. Сол не мог понять, почему до сих пор длится ночь. Ему казалось, что прошло уже много часов с того момента, как он пустился в бега. Ноги его безумно болели, на них было страшно смотреть, будто их вдоль и поперек исполосовали бритвами. Он даже попытался утешить себя иллюзией, что на нем, как в детстве, полосатые красно-белые гольфы и алые тапочки. И тут из-за ствола кипариса в неговонзился яркий горизонтальный луч. В первое мгновение Сол решил, что это молния, потом начал гадать, как это вертолету удалось приземлиться. Наконец он понял, что это ни то ни другое. За стеной деревьев виднелась узкая полоска песка, а дальше шумел океан, откуда сторожевые катера прощупывали берег своими прожекторами. Не обращая внимания на луч, Сол пополз к океану. С этой стороны зоны безопасности единственный пляж находился на северной оконечности острова. Значит, он достиг его! Интересно, сколько раз он уже был здесь, в нескольких ярдах от берега, разворачивался и снова углублялся в джунгли и топь? Полоса песка была на удивление узкой – не более десяти-двенадцати футов, а дальше огромные волны океана натыкались уже на скалы. Вой ветра и раскаты грома заглушали грохот прибоя. Стоя на четвереньках на песке, Сол посмотрел вперед. За линией прибоя виднелись по меньшей мере два катера, их мощные прожектора продолжали ощупывать берег. Молния на мгновение осветила оба суденышка, и Сол понял, что их отделяют от пляжа не более ста ярдов. На борту отчетливо виднелись темные силуэты людей с винтовками в руках. Один из прожекторов скользнул по песку к Солу, и он опрометью кинулся в джунгли, упав в траву за мгновение до того, как пространство над его головой снова прорезал луч света. Спрятавшись за низкой дюной, Сол принялся обдумывать свое положение. Вертолет и патрульные катера свидетельствовали о том, что Барент и компания оставили свою Игру с суррогатами и начали преследовать его. Он мог уповать на то, что его бегство посеяло смятение, если не раздор в их рядах, но рассчитывать на это было нельзя. Недооценка проницательности и сил противника никому и никогда еще не приносила пользы. Вернувшись домой в самые критические дни войны Судного дня, он отлично знал, к каким фатальным последствиям иногда может привести самоуспокоение. Сол двинулся вдоль песчаного побережья, продираясь сквозь густые заросли, спотыкаясь об огромные корни мангровых деревьев, сомневаясь даже в том, верное ли направление он выбрал. Каждые две минуты ему приходилось падать на землю, когда мимо скользил луч прожектора или над головой снова ревел вертолет. Каким-то образом он догадывался, что диапазон его поисков сужен до этого участка острова. За долгие часы своего лихорадочного бегства он не видел ни камер, ни сенсоров, но не сомневался, что Барент и остальные используют все достижения техники, чтобы зафиксировать каждый момент своих извращенных забав и свести к минимуму возможность того, что какой-то хитрый суррогат случайно ускользнет от них. Сол споткнулся о невидимый корень и рухнул вперед, больно ударившись головой о мощный сук. В шести дюймах от него вновь начиналась трясина. Сознания он не потерял и перекатился на бок, ухватившись за пучок осоки. Из щеки хлестала кровь, попадая в рот, – на вкус она ничем не отличалась от солоноватой болотной жижи. Полоса пляжа здесь была шире, но не настолько, как в том месте, где они приземлялись на «сессне». Сол понял, что если будет оставаться под деревьями, то никогда не найдет бухты и ручьев. Он вполне мог их уже проскочить, не заметив из-за густого переплетения ветвей. Если же до заветного места еще далеко, то при такой скорости могут уйти часы, прежде чем он доберется туда. Единственной надеждой Сола оставалась песчаная полоса пляжа. Из своего укрытия под низкими ветвями кипариса он насчитал уже четыре катера, а один из них направлялся к берегу и теперь высоко взлетал на гребне каждой штормовой волны не далее чем в тридцати ярдах. По листьям забарабанили струи дождя, и Сол молился, чтобы тот перешел в тропический ливень, который снизит видимость до нуля и потопит его врагов, как воинов фараона. Но дождь пока продолжал мерно накрапывать и с равным успехом мог перейти как в ливень, так и в туманный рассвет, который решит его судьбу. Прижавшись к валявшемуся бревну, Сол выждал пять минут. Больше всего ему хотелось сейчас расхохотаться, вскочить из укрытия и начать швырять в своих преследователей камнями, осыпая их проклятьями, прежде чем в его обнаженное измученное тело вонзятся первые пули. В джунглях позади Сола вдруг прогремел взрыв. На мгновение ему показалось, что это просто гроза переместилась ближе, но затем он услышал рев мотора и понял, что поисковая группа сбрасывает с вертолета гранаты или что посерьезнее. Песок под его ногами завибрировал, ветви кипарисов закачались. Звуки взрывов становились все громче, колебания почвы все отчетливее. Сол догадался, что они таким образом прочесывают прибрежную полосу, сбрасывая заряды через каждые двести-триста футов. Направление, в котором распространялся дым, подтверждало, что он находится на северной оконечности острова – если, конечно, гроза продолжала двигаться с юго-востока, – но еще не достиг северо-восточного мыса, где приземлялась «сессна». Оттуда было примерно с четверть мили до приливной бухты. Если добраться до бухты по прибрежным джунглям, уйдет слишком много времени, любая же попытка срезать угол грозит тем, что он снова потеряется в болоте. Очередной взрыв разорвал темноту не далее чем в трехстах футах от Сола. Сотни цапель, громко хлопая крыльями, взмыли вверх и исчезли в небе. Затем раздался жуткий и протяжный человеческий вопль. Неужели суррогат способен так вопить или же по следу Сола пустили наземный патруль и кто-то случайно попал под «дружеский огонь»? Сол уже отчетливо слышал приближающийся рокот мотора. Автоматная очередь прорезала темноту – это кто-то наугад начал стрелять из лодки, двигавшейся вдоль полосы прибоя. Сол мечтал лишь об одном: чтобы на нем была хоть какая-нибудь одежда. Холодные капли дождя хлестали по худому исцарапанному телу, ноги дрожали, и всякий раз, когда он оглядывал себя, это жалкое зрелище лишало его последней уверенности в своих силах, подталкивая к тому, чтобы плюнуть на все и вступить в схватку. Но больше всего на свете он мечтал о горячей ванне и мягкой постели. Холод, безысходность и одиночество владели его душою и телом, от него осталась только оболочка, лишенная каких-либо чувств, кроме одного упрямого желания выжить, а зачем – он уже забыл. В общем, Соломон Ласки превратился именно в того человека, каким он был сорок лет назад, когда работал во рву, разве что стойкости и выносливости у него поубавилось. Но он знал, что есть и еще одно отличие. Подняв голову навстречу стихии, он прокричал по-польски, обращаясь к небесам и не заботясь о том, услышат его преследователи или нет: «Я сам захотел быть здесь!» Сол сейчас не смог бы сказать, что означал его воздетый кверху кулак – вызов, победу или смирение. Он прорвался сквозь кипарисовые заросли и выскочил на открытое пространство пляжа.* * *
– Энтони, иди сюда, – позвал Джимми Уэйн Саттер. – Сейчас, – бросил Хэрод. Он остался один в комнате, освещенной лишь экранами мониторов. Поскольку наземные камеры больше не показывали ничего существенного, включенными остались только две – на борту одного из патрульных катеров у северной оконечности острова и на вертолете, который бомбил мыс. С точки зрения Хэрода, операторы работали плохо. Для воздушных съемок надо было пользоваться «Стедикамом», а от всех этих рывков и дерганий на обоих экранах его просто тошнило, хотя он вынужден был признать, что пиротехника превосходила все когда-либо сделанное им с Вилли в Голливуде. Хэрод жалел, что у него нет парочки «Стедикамов» и заранее установленной системы панвидения, – уж он бы нашел применение такому материалу, даже если бы пришлось специально писать сценарий, только чтобы включить этот фейерверк. – Тони, мы ждем, – повторил Саттер. – Сейчас, – снова откликнулся Хэрод, забрасывая в рот еще пригоршню арахиса и запивая его водкой. – Судя по всему, они загнали этого несчастного идиота на северную оконечность острова и теперь жгут джунгли… – Ты слышишь меня? – рассердился Саттер. Хэрод поднял глаза на евангелиста. Остальная четверка уже час назад удалилась в Игровой зал и о чем-то беседовала там, но теперь, судя по выражению лица Саттера, произошло нечто из ряда вон выходящее. Прежде чем покинуть помещение, Хэрод глянул на оба экрана и увидел голого человека, несущегося по берегу. Атмосфера в Игровом зале достигла такого же накала, как и кровавая погоня в джунглях при разбушевавшейся стихии. Вилли сидел напротив Барента, Саттер подошел и встал рядом со старым немцем. Скрестив на груди руки, Барент хмуро разглядывал присутствующих, лицо его выражало крайнее недовольство. Джозеф Кеплер метался по залу взад-вперед. Шторы были подняты, на стекле блестели капли дождя, и каждая вспышка молнии освещала силуэты деревьев дубовой аллеи. Раскаты грома доносились даже сквозь многослойное стекло и толстые стены особняка. Хэрод взглянул на часы – они показывали без четверти час. Он устало подумал, освободили Марию Чэнь или все еще держат под стражей? Больше всего он жалел, что вообще покинул Беверли-Хиллз. – У нас возникла проблема, Тони, – обратился к нему К. Арнольд Барент. – Присаживайся. Хэрод опустился в кресло. Он ждал, что Барент, а скорее всего, Кеплер сейчас объявит о том, что его членство в Клубе аннулировано, а сам он будет ликвидирован. Хэрод прекрасно понимал, что в своей Способности не может соперничать ни с Барентом, ни с Кеплером, ни с Саттером. Он не сомневался, что Вилли и пальцем не пошевелит, чтобы защитить его. «А может, – подумал он с внезапной отчетливостью обреченного, – Вилли специально подставил меня с этим евреем, чтобы дискредитировать и ликвидировать? Но зачем? – недоумевал он. – Каким образом я могу помешать его планам? Для чего старику устранять меня?» Кроме Марии Чэнь, на острове не было ни одной женщины, которую Хэрод мог бы использовать. Охранники Барента – человек тридцать или около того, оставшиеся в южной части острова, были нейтралами. Барент не станет тратить свою Способность для его ликвидации, он просто нажмет кнопку. – Да, – устало спросил он. – В чем дело? – Твой старый друг герр Борден приготовил для нас сюрприз, – холодно сообщил Барент. Хэрод бросил тревожный взгляд на Вилли. Он сразу же решил, что этот «сюрприз» будет осуществляться за его счет, но пока не знал, каким образом. – Мы просто предложили внести дополнение в повестку дня, – усмехнулся Вилли. – Мистер Барент и мистер Кеплер против. – Потому что это безумие! – воскликнул Кеплер, вышагивая вдоль огромного окна. – Успокойтесь, Джозеф! – бросил Вилли, и Кеплер умолк. – Мы? – тупо переспросил Хэрод. – А кто это «мы»? – Преподобный Саттер и я, – пояснил Вилли. – Оказывается, мой старый друг Джеймс уже несколько лет дружит с герром Борденом, – произнес Барент все тем же ледяным тоном. – Интересный поворот событий. – А вы, случайно, не забыли, что сейчас творится в северной части этого долбаного острова? – с ухмылкой спросил Хэрод. – Нет. – Барент вынул из уха крошечный наушник. – Я в курсе. Но это ерунда по сравнению с нашей дискуссией. Как ни смешно, Тони, в первую же неделю твоего пребывания в нашем Клубе в твоих руках оказывается его судьба. – Черт, я даже не врубаюсь, о чем вы говорите! – воскликнул Хэрод. – Мы говорим о предложении расширить деятельность Клуба Островитян до… э-э-э… более адекватных масштабов. – Весь мир, – добавил Саттер. Лицо евангелиста раскраснелось и покрылось потом. – Что – весь мир? На губах Барента заиграла сардоническая улыбка. – Они хотят вместо индивидуальных игроков Использовать целые нации суррогатов, – пояснил он. – Нации? – переспросил Хэрод. Где-то за дубовой аллеей ударила молния, и поляризованное стекло окна потемнело. – Черт побери, Тони! – вспылил Кеплер. – Ты способен на что-нибудь другое, кроме как стоять здесь и повторять за всеми как попугай?! Эти два идиота хотят все взорвать. Они требуют, чтобы мы играли не людьми, а ракетами и подводными лодками. Они хотят сжечь дотла целые страны! Хэрод вытаращил глаза на Вилли и Саттера. – Тони, – спросил Барент, – признайся, ты впервые слышишь об этом предложении? Он кивнул. – И мистер Борден никогда не поднимал эту тему в разговорах с тобой? Хэрод покачал головой. – Теперь ты понимаешь всю важность своего голоса, – тихо произнес Барент. – Это решение вскоре может изменить характер наших ежегодных развлечений. Кеплер надтреснуто рассмеялся: – Оно может взорвать весь этот чертов мир! – Да, – согласился Вилли, – не исключено. Однако не факт. Но в любом случае это будет невероятно захватывающее зрелище. – Вы смеетесь надо мной, – произнес Хэрод срывающимся фальцетом. – Вовсе нет, – спокойно сказал Вилли. – Я уже продемонстрировал, с какой легкостью могут быть обойдены самые высокие уровни военной безопасности. Мистер Барент и остальные давно знают, как просто оказывать влияние на глав государств. Нам остается только отказаться от временных ограничений и расширить масштаб наших состязаний, что придаст им несравнимо большую привлекательность. Конечно, это будет связано с некоторыми поездками, необходимостью обеспечить безопасное место для переговоров, когда состязание… э-э-э… станет слишком горячим, но мы не сомневаемся, что К. Арнольд в состоянии позаботиться о таких мелочах. Не правда ли, герр Барент? Миллионер потер щеку: – Конечно. Но дело в том, что мои возражения обусловлены не затратами средств и даже не огромным количеством времени, которого потребуют подобные состязания, а потерей ресурсов – как человеческих, так и технических, накопленных за столь долгий период времени. Джимми Уэйн Саттер рассмеялся своим грудным смехом, который так хорошо был знаком миллионам телезрителей: – Брат Кристиан, неужели ты думаешь, что сможешь забрать все это с собой? – Нет, – тихо ответил Барент, – но я не вижу смысла уничтожать все лишь потому, что сам не смогу наслаждаться этим. – А вот я вижу! – решительно возразил Вилли. – Вы являетесь основателем этой Игры. Предлагаю провести голосование. Джимми Уэйн и я голосуем «за». Вы и трус Кеплер – «против». Тони, твое решение? Хэрод вздрогнул. Тон Вилли не допускал никаких возражений. – Я воздерживаюсь, – заявил он. – И пошли вы все к такой-то матери! Вилли стукнул кулаком по столу: – Хэрод, кусок дерьма, черт бы тебя побрал, юдофил! Голосуй! Словно огромные тиски впились стальными когтями в череп Хэрода. Он схватился за голову, раскрыв рот в беззвучном крике. – Прекратите! – рявкнул Барент, и тиски разжались. Хэрод снова чуть не закричал, теперь от облегчения. – Он сделал свой выбор, – уже спокойно произнес Барент. – Он имеет право воздержаться. А при отсутствии большинства голосов решение не принимается. В глубине холодных серых глаз Вилли словно вспыхнуло синее пламя. – Нет. При отсутствии большинства возникает патовая ситуация. – Он повернулся к Саттеру. – Как ты думаешь, Джимми Уэйн, можем мы оставить этот вопрос в подвешенном состоянии? Лицо Саттера лоснилось от пота. Он уставился в какую-то точку чуть выше и правее головы Барента и забубнил: – «И семь Ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Первый Ангел вострубил, и град и огонь, смешанные с кровью, пали на землю; и третья часть дерев сгорела… Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью… Третий Ангел вострубил, и большая звезда, горящая подобно светильнику, упала с неба на третью часть рек и на источники вод. Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд… И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить! Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ему ключ от кладезя бездны…» Саттер умолк, допил остатки бурбона и упал в кресло. – И что это означает, Джеймс? – спросил Барент. Саттер словно очнулся и промокнул лицо благоухающим лавандой шелковым платком. – Это означает, что патовая ситуация исключается, – прошептал он хрипло. – Антихрист уже здесь. Час его наконец настал. Единственное, что нам остается, – это выполнить предписанное и засвидетельствовать бедствия, которые обрушатся на нас. Выбора у нас нет. Барент снова сложил на груди руки и слабо улыбнулся: – И кто же из нас Антихрист, Джеймс? Саттер безумным взглядом обвел лица присутствующих. – Помоги мне, Господи, – взмолился он. – Не знаю. Я отдал Ему на служение свою душу, но я не знаю. Тони Хэрод резко отстранился от стола: – Ну, это уже слишком! Я выхожу из Игры. – Оставайся на месте, – приказал Кеплер. – Никто не выйдет отсюда, пока мы не примем решение. Вилли откинулся на спинку кресла. – У меня есть предложение, – проронил он. – Мы слушаем. – Барент спокойно встретил взгляд немца. – Предлагаю завершить нашу шахматную партию, герр Барент. Кеплер остановился и посмотрел сначала на Вилли, затем на Барента. – Шахматную партию? – переспросил он. – Что это за шахматная партия? – Да, – подхватил Тони Хэрод. – Что за шахматная партия? – Он прикрыл глаза и отчетливо вспомнил свое собственное лицо, вырезанное на фигурке из слоновой кости. Барент улыбнулся: – Мы с мистером Борденом уже несколько месяцев ведем шахматную партию, обмениваясь ходами по почте… Совершенно безобидное развлечение. – Боже милостивый! – выдохнул Кеплер. – Аминь, – сказал Саттер, поглядев на всех мутными глазами. – Несколько месяцев? – повторил Хэрод. – Вы хотите сказать, что все происходящее… Траск, Хейнс, Колбен… А вы, значит, все это время просто играли в шахматы? Джимми Уэйн Саттер издал какой-то странный звук, нечто среднее между отрыжкой и смешком. – «И если кто поклоняется зверю или его образу и имеет его знак на своем челе, тот изопьет чашу гнева Господня, – пробормотал он. – И будет мучим огнем и серой в присутствии святых ангелов и Агнца. И он сделает так, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено будет иметь знак на правой руке или на челе… и число его будет шестьсот шестьдесят шесть». – Заткнись, – спокойно произнес Вилли. – Герр Барент, вы согласны? Партия почти завершена, осталось лишь доиграть ее. Если я выиграю, мы расширим… состязание… до более крупных масштабов. Если победа будет за вами, я смирюсь с настоящим положением вещей. – Мы остановились на тридцать пятом ходу, – напомнил Барент. – И ваше положение было не слишком… э-э-э… завидным. – Да, – ухмыльнулся Вилли. – Но я готов продолжить. Мы не будем разыгрывать новую партию. – А если игра завершится вничью? – спросил Барент. Вилли пожал плечами: – Тогда победа будет присуждена вам. Я выигрываю лишь вчистую. Барент кинул взгляд в окно на всполох молнии. – Не обращайте внимания на этот бред! – вскричал Кеплер. – Он же просто сумасшедший! – Заткнитесь, Джозеф. – Барент повернулся к Вилли. – Хорошо. Мы закончим партию. Будем играть теми фигурами, что имеются в наличии? – Я более чем приветствую это. – Немец широко улыбнулся, продемонстрировав идеальную работу стоматолога. – Спустимся? – Да, – кивнул Барент. – Через минуту. – Он взял наушники, прислушался, затем произнес в микрофон: – Барент на связи. Высадите одну из бригад на берег и немедленно покончите с евреем. Понятно? – Затем положил наушники на стол. – Все готово. Хэрод на ватных ногах последовал за остальными к лифту. Саттер, шедший впереди него, внезапно споткнулся, повернулся и схватил Тони за руку. – «И в эти дни люди станут искать смерти, и не найдут ее, – страстно прошептал преподобный прямо ему в лицо. – Они будут искать смерти, но та будет бежать от них». – Отвали, – бросил Хэрод, высвобождая руку. Все пятеро молча спустились на нижний этаж.Глава 66 Мелани
Я помню пикники, которые мы устраивали в окрестностях Вены. Эти заросшие соснами холмы, луга с полевыми цветами и открытый «пежо» Вилли возле какого-нибудь ручья или в другом живописном месте. Когда Вилли снимал свою дурацкую коричневую рубашку и портупею, он являл собой образец изысканности в этих шелковых летних костюмах и широкополой белой шляпе, подаренной ему одним из актеров кабаре. До Бад-Ишля, до момента предательства Нины, я испытывала наслаждение только оттого, что нахожусь в обществе двух таких красивых людей. Нинина красота в те предвоенные годы достигла своего расцвета, и, хотя мы обе уже были в том возрасте, когда нас нельзя считать девушками, а по тогдашним меркам – даже молодыми женщинами, один вид голубоглазой восторженной Нины заставлял меня чувствовать себя молодой и вести себя как юное существо. Теперь я понимаю, что их измена в Бад-Ишле даже в большей мере, чем измена Нины с моим Чарльзом, стала поворотным пунктом, после которого я начала стареть, в то время как Нина продолжала оставаться молодой. В каком-то смысле все эти годы Нина и Вилли питались моей энергией, кровью, Способностью. Теперь настала пора все это прекратить. Во вторую ночь моего странного бдения с Нининой негритянкой я решила положить конец ожиданию. Я не сомневалась в том, что, даже если я уберу цветную со сцены, Вилли сможет подсказать мне, где находится Нина. Признаюсь, внимание мое было рассеянно. Да, я ощущала, как ко мне возвращаются юность и бодрость, пока паралич медленно ослаблял свою хватку, однако моя способность контролировать членов «семейства» и остальных явно снижалась. Глядя глазами мисс Сьюэлл на то, как удаляются Дженсен Лугар, мужчина по имени Сол и еще трое, я сообщила негритянке: «Они забрали твоего еврея». По тому смятению, которое охватило Нинину пешку, я ощутила недостаток ее контроля. Собрав своих людей в тесный кружок, я потребовала, чтобы Нина призналась, где она находится. Она отказалась и начала перемещать свою негритянку к двери. Я не сомневалась, что Нина потеряла всякую связь со своим человеком на острове, а следовательно, и с Вилли. Девица в буквальном смысле была у меня в руках. Я заставила Калли подойти к ней ближе, чтобы она оказалась в пределах его досягаемости, и ввела в гостиную негра из Филадельфии. Он держал в руке нож. – Пора рассказать нам все, – язвительно заметила я, – или эта цветная умрет. Я предполагала, что Нина отдаст девицу. Ни одна, даже идеально обработанная пешка, не стоила того, чтобы выйти из укрытия. Я подготовила Калли к двум быстрым шагам и резкому движению руками, которое оставило бы негритянку бездыханной на ковре с немыслимо вывернутой шеей, как у цыплят, которых убивала мамаша Бут на заднем дворе перед обедом. Мама отбирала птиц, а мамаша Бут хватала их, отворачивала голову и швыряла пушистые трупики на крыльцо, так что глупые цыплята не успевали сообразить, что уже мертвы. Негритянка же выкинула нечто странное. Я полагала, Нина заставит ее или бежать, или бороться, – на худой конец, я ожидала ментальной схватки, если Нина попытается овладеть кем-нибудь из моих людей, однако девица осталась стоять на месте и задрала свой огромный свитер. Под ним оказался какой-то глупый пояс, что-то вроде бандильеро мексиканских бандитов, набитый целлофановыми мешочками с содержимым, напоминающим гипс. От приспособления, похожего на транзистор, к этим пакетам с гипсом тянулись какие-то проводки. – Остановись, Мелани! – крикнула она. Я послушалась. Руки Калли замерли в воздухе на полпути к тощему горлу девицы. Меня мало что беспокоило в этот момент, я испытывала лишь чувство легкого любопытства при проявлении Нининого безумия. – Это взрывчатка, – задыхаясь, произнесла негритянка. Рука ее двинулась по направлению к маленькой кнопке на поясе. – Если ты дотронешься до меня, я все взорву. А если ты прикоснешься к моему мозгу, устройство автоматически включит зажигание и взрыв сровняет с землей твой вонючий мавзолей. – Нина, Нина, – заставила я сказать Джастина, – ты слишком горячишься. Присядь на минутку. Я попрошу мистера Торна принести нам чаю. Это была совершенно естественная обмолвка, но негритянка обнажила зубы в гримасе, даже отдаленно не напоминающей улыбку: – Мистера Торна здесь нет, Мелани. Похоже, у тебя в голове что-то перепуталось. Мистер Торн… или как его там звали… убил моего отца, а потом его прикончил кто-то из твоих поганых дружков. Но за ними всегда стояла ты, ты, старая рухлядь. Ты была паучихой, сидящей в центре этой паутины… И даже не пытайся! Калли едва шевельнулся. Я заставила его медленно опустить руки и сделать шаг назад. Я подумала о том, чтобы завладеть вегетативной нервной системой девицы. Это заняло бы секунды – их хватит как раз на то, чтобы кто-нибудь из моих людей успел прикончить ее прежде, чем она нажмет маленькую красную кнопку. Не очень-то я поверила ее глупым угрозам. – А что это за взрывчатка, дорогая? – поинтересовалась я через Джастина. – Она называется Си-четыре, – ответила девица ровным и спокойным голосом, но я слышала, как часто она дышит. – Это военная пластиковая взрывчатка… и здесь ее двенадцать фунтов, вполне достаточно, чтобы взорвать тебя, твой дом и снести еще половину дома Ходжесов. Это мало походило на изысканную речь Нины. Наверху доктор Хартман неуклюже вынул иглу капельницы из моей правой руки и начал поворачивать меня на бок. Я отстранила его здоровой рукой. – Как же ты включишь эту взрывчатку, если я отниму у тебя твою маленькую негритянку? – заставила я спросить Джастина. Говард взял с моего ночного столика тяжелый пистолет сорок пятого калибра, снял обувь и стал бесшумно спускаться по лестнице. Я продолжала поддерживать слабый контакт через мисс Сьюэлл и охранника с тем, что происходило на острове, когда они подняли бесчувственное тело Дженсена Лугара и понесли его в тоннель, в то время как остальные кинулись преследовать человека, которого негритянка называла Солом. Сигналы тревоги доносились даже до мисс Сьюэлл. К острову приближалась гроза; офицер на борту яхты сообщил, что высота волн достигла шести футов и продолжает нарастать. Девица шагнула к Джастину: – Видишь эти провода? – Она наклонилась, чтобы он мог рассмотреть тонкие проводки, сползавшие из-под ее волос и уходившие за ворот блузки. – Это сенсоры, передающие электрические сигналы моих мозговых волн на монитор. Ты в состоянии это понять? – Да, – прошептал Джастин. Я не имела ни малейшего представления, о чем она там говорит. – Мозговые волны могут иметь разный рисунок, – продолжила Натали. – Они так же неповторимы, как отпечатки пальцев. Как только ты прикоснешься к моему сознанию своими грязными безумными мыслями, ты вызовешь то, что называется тета-ритмом. Он встречается у крыс, ящериц и других низших представителей жизни, как ты сама. Компьютер зафиксирует его и подаст сигнал тревоги. Это произойдет в считаные доли секунды, запомни, Мелани. – Ты лжешь, – сказала я. – Можешь попробовать. – Негритянка сделала еще шаг и сильно толкнула Джастина, так что бедняжка полетел назад, наткнулся на любимое папино кресло и рухнул на пол. – Попробуй, – повторила она, повышая голос, дрожавший от ярости, – и ты отправишься в ад! – Кто ты? – спросила я. – Никто, – ответила девица. – Дочь убитого тобой человека. Ты даже не помнишь о такой мелочи. – Так ты не Нина? Говард уже спустился. Он поднял пистолет, приготовившись выскочить в проем двери и выстрелить. Негритянка повернула голову. Зеленоватое сияние, лившееся со второго этажа, отбрасывало фантастические тени в том месте, где стоял Говард. – Если ты убьешь меня, – твердо сказала Натали, – датчики зафиксируют замирание мозговых волн и включат детонатор. Тогда в этом доме будут уничтожены все. – В ее голосе не было страха, лишь какая-то восторженность. Конечно же, она лгала. А скорее всего, лгала Нина. Ни одна цветная с улицы не могла знать таких подробностей о Нининой жизни, о смерти ее отца, о деталях нашей венской Игры. Но эта девица уже говорила мне что-то об убийстве своего отца, когда мы впервые встретились с ней в Ропщущей Обители. Или не говорила? Все страшно перепуталось. Может, Нина действительно обезумела после смерти и теперь считает, что это я толкнула ее отца под трамвай в Бостоне? Может, в последние секунды жизни ее сознание укрылось в низменном мозгу этой девицы? Не работала ли она горничной в «Мансарде»?.. И теперь Нинины воспоминания смешались с пустыми мыслями цветной прислуги. Подумав об этом, Джастин чуть не рассмеялся: какая насмешка над Ниной! Однако, в чем бы ни заключалась истина, я не боялась ее взрывчатки. Мне доводилось слышать сочетание «пластиковая взрывчатка», но я не сомневалась, что она ничем не напоминает эти кусочки гипса. Они даже на пластик-то не похожи! К тому же я помнила, как папа взрывал бобровую плотину в нашем поместье в Джорджии перед войной. На озеро тогда поехали только он и десятник, и с какой предосторожностью они обращались с предательским динамитом и подрывными капсюлями! Носить взрывчатку на каком-то поясе было крайне непредусмотрительно. Что же касается остального – всех этих мозговых волн и компьютеров, они вообще казались полной бессмыслицей. Чем-то из области научной фантастики. Помню, Вилли зачитывался этой чушью, печатавшейся в дешевых немецких журнальчиках с аляповатыми обложками. Но даже если такое было возможно – чему я, конечно, не верила, – подобные идеи не могли прийти в голову черномазой. Даже для моего ума это представляло определенную сложность. И тем не менее давить на Нину дальше казалось мне бессмысленным. Нельзя было исключить тот минимальный шанс, что ее пешка действительно обвесилась динамитом. Но все же я не могла удержаться от соблазна поиграть с Ниной еще немного, хотя сумасшествие не делало ее менее опасной. – Чего ты хочешь? – спросила я. Девица облизнула пересохшие губы и оглянулась: – Выведи отсюда своих людей. Всех, кроме Джастина. Он пусть остается в кресле. – Конечно, дорогая, – промурлыкала я. Негр, сестра Олдсмит и Калли вышли в разные двери. Когда Калли проходил мимо, Говард шагнул назад, но револьвер не опустил. – Рассказывай мне, что происходит, – злобно приказала девица. Она продолжала стоять, не отводя пальца от красной кнопки на поясе. – Что ты имеешь в виду, дорогая? – Что происходит на острове? Что случилось с Солом? Джастин пожал плечами: – Знаешь, я потеряла к этому интерес. Девица сделала три шага вперед, и мне показалось, что она собирается ударить беспомощного ребенка. – Черт бы тебя побрал! – выругалась она. – Рассказывай мне то, что я хочу знать, или я нажму кнопку сию же минуту. Это стоит того, чтобы прикончить тебя… приятно будет осознавать, что ты поджариваешься в своей кровати, как старая лысая крыса. Ну, решай же! Мне всегда была отвратительна грубость. Моя мать необъяснимым образом боялась потопа и наводнений. Моим же кошмаром всегда был пожар. – Твой еврей запустил камнем в пешку Вилли и скрылся в лесу еще до того, как началась Игра, – сказала я. – За ним послали несколько человек. Двое охранников понесли Дженсена Лугара в санитарную часть их дурацкого подземного комплекса. Он уже несколько часов без сознания. – Где Сол? Джастин скорчил гримасу. В его голосе прозвучало больше жалобных ноток, чем я намеревалась ему придать: – Откуда мне знать? Я не могу быть везде. Мне не хотелось сообщать ей, что в этот момент я заглянула глазами охранника, с которым установила контакт через мисс Сьюэлл, в медицинскую часть и увидела, как негр Вилли поднялся со стола и задушил двух людей, принесших его. Это зрелище вызвало у меня странно знакомое ощущение, пока я не вспомнила Вену, лето 1932 года, когда мы смотрели с Ниной и Вилли «Франкенштейна» в кинотеатре «Крюгер». Помню, я вскрикнула, увидев, как дернулась на столе рука чудовища и он поднялся, чтобы задушить склонившегося над ним и ничего не подозревавшего врача. Сейчас кричать мне не хотелось. Я заставила своего охранника пройти мимо, обойти помещение, в котором его коллеги смотрели на экраны мониторов, и остановиться у кабинета администрации. Никаких оснований сообщать об этом Нининой негритянке не было. – Куда побежал Сол? – осведомилась девица. Джастин сложил руки на груди. – А почему бы тебе не сказать мне об этом, если ты такая умная? – поинтересовалась я. – Хорошо, – согласилась негритянка. Она смежила веки, пока не остались лишь щелочки, в которые едва проглядывал белок. Говард продолжал стоять в тени прихожей. – Он бежит на север через густые джунгли. Там какие-то развалины… Надгробия. Это кладбище. – Она открыла глаза. Я застонала и заметалась наверху в своей постели. Я была так уверена, что Нина не может поддерживать контакт со своей пешкой. Но именно эта картина была на экранах мониторов охранников минуту назад. Я потеряла след негра Вилли в переплетениях коридоров. Мог ли Вилли Использовать девицу? Кажется, ему нравилось Использовать цветных и представителей других неполноценных рас. Но если это был Вилли, где же тогда Нина? Я чувствовала, что у меня снова начинает болеть голова. – Чего ты хочешь? – вновь спросила я. – Чтобы ты следовала нашему плану. – Девица не отходила от Джастина. – Так, как мы договорились. – Она бросила взгляд на часы. Рука ее отодвинулась от красной кнопки, но продолжала оставаться проблема мозговых волн и компьютеров. – Мне кажется, нет больше смысла продолжать все это, – заметила я. – Неспортивное поведение твоего еврея расстроило всю вечернюю программу, и я не сомневаюсь, что остальные… – Заткнись! – оборвала меня негритянка, и, хотя лексика была чуть вульгарной, интонация принадлежала Нине. – Ты будешь продолжать, как мы договорились. Если нет, посмотрим, удастся ли Си-четыре сразу сровнять этот дом с землей. – Ты никогда не любила мой дом, – сказал Джастин моим голосом, выпятив нижнюю губу. – Приступай, Мелани, – скомандовала девица. – А если ты попробуешь уклоняться, я все равно узнаю. Если не сразу, то очень скоро. И не стану предупреждать тебя, когда включу детонатор. Пошевеливайся. В это мгновение я чуть было не заставила Говарда пристрелить ее. Никто еще не разговаривал со мной таким тоном в моем собственном доме, не говоря уже о черномазых девках, которым вообще было не место в моей гостиной. Но я сдержалась и приказала Говарду осторожно опустить револьвер. Необходимо учитывать и другие вещи. Это было вполне в Нинином духе, впрочем, и в духе Вилли, – провоцировать меня таким способом. Если я убью ее сейчас, в гостиной начнется страшный беспорядок, который придется убирать, и я ни на йоту не приближусь к тому, чтобы узнать, где находится Нина. В то же время сохранялась вероятность того, что часть ее истории соответствовала истине. Ведь странный Клуб Островитян, о котором она мне рассказала, реально существовал, хотя мистер Барент на самом деле оказался гораздо более приличным джентльменом, чем можно было заключить из ее слов. К тому же имелись довольно веские доказательства, что этот Клуб представлял для меня угрозу, хотя я не понимала, почему опасность может грозить и Вилли. И если бы я упустила эту возможность, то не только лишилась бы мисс Сьюэлл, но осталась бы в состоянии тревоги и неуверенности, гадая, что эти люди могут предпринять в будущем против меня. Поэтому, несмотря на мелодраматичные события предыдущего получаса, я вернулась к неприятному сотрудничеству с Нининой пешкой. – Хорошо, – вздохнула я. – Давай, – велела девица. – Сейчас-сейчас. Джастин замер. Все члены моего «семейства» застыли, как статуи, в разных комнатах. Я сжала челюсти, и тело мое напряглось от усилий.* * *
Мисс Сьюэлл подняла голову, когда в конце коридора хлопнула тяжелая дверь. Охранник, сидевший в кабинке на стуле, вскочил при виде негра и вскинул свой автомат. Лугар отнял у него оружие и наотмашь ударил по лицу, сломав при этом нос и загнав осколки кости охраннику в мозг. Затем он вошел в кабинку и нажал на рычаг. Прутья решеток поползли вверх, и, пока остальные пленники продолжали прятаться по углам в своих нишах, мисс Сьюэлл вылезла наружу, потянулась, чтобы восстановить кровообращение, и повернулась лицом к негру. – Привет, Мелани, – сказал он голосом Вилли. – Добрый вечер, Вилли, – ответила мисс Сьюэлл. – Я знал, что это ты, – тихо промолвил он. – Невероятно, как мы узнаем друг друга, несмотря на все наши маски. Не правда ли? – Да, – кивнула я. – Не найдется ли чего-нибудь прикрыть ее наготу? Нехорошо, что она обнажена. Негр Вилли ухмыльнулся, сорвал с мертвого охранника рубашку и накинул ее на плечи мисс Сьюэлл. Я сосредоточилась на том, чтобы застегнуть две оставшиеся пуговицы. – Ты отведешь меня в дом? – спросила я. – Да. – Нина там, Вилли? Лоб негра наморщился, одна бровь приподнялась. – А ты ожидала встретить ее? – поинтересовался он. – Нет. – Там будут другие. – Он обнажил зубы в улыбке. – Мистер Барент, – промолвила я, – Саттер… и остальные члены Клуба Островитян, верно? Лугар от души рассмеялся: – Мелани, любовь моя, ты не устаешь меня удивлять. Ты ничего не знаешь, но всегда в курсе событий. Я придала чертам мисс Сьюэлл слегка надутый вид. – Не груби, Вилли. Это тебе не идет. Он снова рассмеялся: – Да-да. Сегодня никаких грубостей. Это наша последняя встреча, любимая. Пошли, все уже ждут. Я последовала за ним по коридорам, поднялась наверх и вдохнула прохладный ночной воздух. Никаких охранников я не заметила, хотя продолжала поддерживать легкий контакт с тем, что остался стоять возле административного помещения. Потом я различила в темноте бледные фигуры остальных суррогатов, выползавших на свет. По небу с бешеной скоростью неслись тучи. Надвигалась гроза. – Люди, причинившие мне боль, поплатятся за это сегодня, да, Вилли? – спросила я. – О да! – прорычал он, не разжимая своих белоснежных зубов. – Да, Мелани, любовь моя. Мы шли к огромному дому, купавшемуся в ярком свете. И тут я заставила Джастина ткнуть пальцем в Нинину негритянку. – Ты этого хотела! – завизжала я пронзительным голосом шестилетнего ребенка. – Ты этого хотела! А теперь смотри!Глава 67
Остров Долманн
Вторник, 16 июня 1981 г.
Сол еще никогда в жизни не оказывался под таким дождем. Он мчался по берегу, а потоки воды грозили вдавить его в песок, как вдавливает тяжелый занавес незадачливого актера, вышедшего не в той мизансцене. Горизонтальные лучи прожекторов с катеров и вертикальные с вертолета освещали лишь плотные струи воды, сверкавшие во тьме, как трассирующие пули. Сол бежал, увязая в песке, постепенно превращавшемся в жижу, и думал лишь о том, чтобы не поскользнуться и не упасть. Почему-то ему казалось, что если он упадет, то уже никогда не сможет подняться. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Только что струи барабанили по его голове и обнаженным плечам, раскаты грома и шум обрушивающейся на деревья воды заглушали все остальные звуки, и вот уже потоки перешли в капли, видимость увеличилась до десяти метров, и Сол разглядел фигуры людей. В нескольких шагах от него песок взвился вверх целой серией мелких фонтанчиков, и, прежде чем сообразить, что в него стреляют, он успел подумать, не является ли это странной реакцией на грозу закопавшихся в песок крабов и других моллюсков. Прямо над его головой взревели турбины, перекрывая все остальные звуки, и прожектор, ударивший из темного корпуса вертолета, надвое разрезал лучом полосу берега. Машина круто развернулась и, преодолевая сопротивление густого, насыщенного влагой воздуха, будто забуксовала футах в двадцати над песком. Две моторные лодки, с ревом прорвавшись сквозь полосу прибоя, ринулись к берегу. Сол споткнулся, с трудом восстановил равновесие и помчался дальше. Он не знал, где находится, но отчетливо помнил, что северный пляж был короче этого и джунгли отступали от песка на большее расстояние. На какое-то мгновение, когда вертолет завис неподвижно и стал нашаривать Сола прожектором, беглецу показалось, что он уже проскочил бухточку, не разглядев ее под тропическим ливнем. Ночью, в грозу и шторм все вокруг выглядит иначе. Чувствуя, как каждый вдох раздирает горло и грудь, он продолжал свой бег, а с обеих сторон от него то и дело вздымались фонтаны песка. Вертолет, казалось, летел прямо на Сола. Бортовые огни сверкали чуть ли не на уровне его головы. Он плашмя упал на землю, обдирая свое обнаженное тело о гальку, острую, как наждачная бумага. Порывом воздуха от лопастей вертолета его еще сильнее вжало в песок. То ли автоматная очередь, выпущенная с одного из катеров, зацепила механизм вертолета, то ли в нем просто что-то сломалось, но в тот момент, когда он пролетал над распростертым телом Сола, раздался гулкий рокочущий звук, словно в катящуюся пустую железную бочку попал камень. Вертолет задрожал и попытался снова набрать высоту, но его занесло сначала влево, потом вправо, лопасти винта самопроизвольно начали вращаться в обратном направлении. Теперь его несло прямо на стену деревьев. В течение нескольких минут казалось, что он собирается скосить верхушки деревьев собственным винтом. Ветви кипарисов и пальм взвивались вихрем вверх и разлетались в разные стороны, как дорожные рабочие, спасающиеся от взбесившегося мотоцикла в комедии Мака Сеннетта.[62] Наконец вертолет закрутил немыслимую петлю, блеснула мокрая от дождя кабина, отражая луч собственного прожектора, который бил теперь вертикально в небо из перевернутого брюха. Затем раздался оглушительный скрежет, и обломки вертолета посыпались на пляж. Отделившаяся кабина рухнула у самой кромки воды, трижды подпрыгнула в волнах, как умело брошенный камешек, и погрузилась на дно. Через секунду сдетонировала взрывчатка, находившаяся в кабине, и море вскипело, как столб пламени, наблюдаемый сквозь толстое зеленое стекло. Вверх взвился гейзер белых брызг, осыпав вжавшегося в песок Сола с головы до ног. Мелкие обломки еще в течение полминуты продолжали падать на пляж. Сол приподнялся и глупо пялился на все это, пока в него не угодилапервая пуля. Почувствовав жгучую боль в левом бедре, он понял, что стоит в маленьком ручейке, протекавшем по дну широкого углубления в песчаной полосе. В это мгновение что-то еще сильнее ударило его под правую лопатку, и он рухнул лицом вниз в мутную воду. Два катера на полной скорости преодолели волны прибоя, а третий продолжал курсировать футах в ста от берега. Сол застонал, перекатился на бок и посмотрел на ногу. Пуля проделала кровавый желобок чуть ниже кости с внешней стороны. Он попробовал нащупать левой рукой рану на спине, но у него занемела лопатка. Измазанная кровью рука мало что говорила ему. Сол поднял правую руку и пошевелил пальцами. Рука продолжала действовать, и этого было достаточно. Ползя к джунглям, он услышал, как ярдах в двадцати от берега днище первого катера заскрежетало по дну. В воду спрыгнули четверо человек, вооруженные винтовками. Не вставая с колен, Сол поднял голову. По небу неслись лохматые клочья туч, в просветах появились звезды. Затем небо совсем расчистилось, и, словно перед началом третьего, заключительного акта, поднялся огромный занавес.* * *
Хэрод понял, что ему безумно страшно. Впятером они спустились в Главный зал, где люди Барента уже поставили напротив друг друга два огромных кресла, разделенные широким пространством пола, выложенного черно-белыми клетками. Нейтралы в синих блейзерах с автоматами в руках встали возле каждого окна и двери. Целая группа охранников окружила Марию Чэнь, помощника Кеплера по имени Тайлер и пешку Вилли – Тома Рейнольдса. Через открытые панорамные двери Хэрод увидел, что ярдах в тридцати от особняка стоит вертолет Барента, а рядом – целый эскадрон нейтралов, щурившихся от яркого света прожекторов. Похоже, лишь Барент и Вилли до конца понимали, что происходит. Кеплер продолжал ходить взад-вперед, заламывая руки, как осужденный на казнь. Джимми Уэйн Саттер пребывал в отрешенном состоянии человека, накачанного наркотиками. – Ну и где эта ваша шахматная доска? – осведомился Хэрод. Барент улыбнулся и направился к длинному столу эпохи Людовика XIV, заставленному бутылками, фужерами и разнообразными закусками. На другом столе находился целый набор электронной аппаратуры, а рядом стоял усатый фэбээровец по фамилии Свенсон, в наушниках с микрофоном. – Для этой игры вовсе не требуется шахматная доска, Тони, – улыбнулся Барент. – В конце концов, это всего лишь упражнение для ума. – И вы говорите, что играете уже несколько месяцев по почте? – спросил Джозеф Кеплер сдавленным голосом. – С тех пор, как мы выпустили в Чарлстон Нину Дрейтон в прошлом декабре? – Нет. – Барент налил в бокал шампанского, сделал глоток и снова улыбнулся. – На самом деле мистер Борден прислал мне первый ход за несколько недель до Чарлстона. Кеплер хрипло рассмеялся: – Значит, в то время как вы с Саттером постоянно поддерживали с ним связь, мне продолжали внушать, что я один нахожусь с ним в контакте? Барент бросил взгляд на священника. Тот тупо смотрел в окно. – Преподобный Саттер общался с мистером Борденом гораздо дольше, – ответил он. Кеплер подошел к столу и налил себе виски в высокий стакан. – Вы использовали меня точно так же, как Колбена и Траска. – И он осушил стакан одним глотком. – Так же, как Колбена и Траска, – повторил он обреченно. – Джозеф, – примирительным тоном произнес Барент, – Чарльз и Ниман просто оказались не в то время и не в том месте. Дрожащей рукой Кеплер вновь наполнил стакан. – Убитые фигуры убираются с доски, – прошептал он. – Да! – с чувством подхватил Вилли. – Но я тоже проиграл несколько фигур. – Он посолил очищенное крутое яйцо и откусил от него большой кусок. – Мы с герром Барентом слишком беззаботно поступили со своими ферзями в самом начале игры. Хэрод подошел к Марии Чэнь и взял ее за руку. Пальцы ее были холодными как лед. Охранники Барента стояли в нескольких ярдах от них. – Они обыскали меня, Тони, – тихо сообщила Мария Чэнь. – Им известно об оружии в катере. Нам отрезаны все пути с острова. Хэрод отрешенно кивнул. – Тони, – она сжала его руку, – мне страшно. Хэрод окинул взглядом зал. Люди Барента зажгли несколько софитов, освещавших лишь черно-белые клетки пола. На вид каждая клетка была размером в четыре квадратных фута. Хэрод насчитал восемь рядов по восемь клеток в каждом. До него наконец дошло, что это и есть шахматная доска. – Не волнуйся, – произнес он. – Клянусь, я вытащу тебя отсюда. – Я люблю тебя, Тони, – прошептала прекрасная азиатка. Хэрод с минуту смотрел на нее, затем отпустил ее руку и направился к столу. – Единственное, чего я не понимаю, герр Борден, – говорил Барент, – как это вам удалось помешать Фуллер выехать из страны? Люди Ричарда Хейнса так и не установили, что произошло в аэропорту Атланты. Вилли рассмеялся, стряхнув с губ остатки яичного желтка. – Телефонный звонок, – ответил он. – Обычный телефонный звонок. На протяжении многих лет я аккуратно записывал телефонные разговоры между моей дорогой Ниной и Мелани, а после мне это пригодилось. – Голос Вилли взвился фальцетом. – Мелани, дорогая, это ты, Мелани? Это Нина. – Вилли взял со стола второе яйцо. – И вы заранее выбрали Филадельфию как место розыгрыша миттельшпиля? – поинтересовался Барент. – Нет. Я готов был играть в любом месте, куда бы ни направилась Мелани Фуллер. Впрочем, Филадельфия меня вполне устраивала, поскольку она давала моему помощнику Дженсену Лугару возможность свободно перемещаться в негритянских кварталах. Барент горестно покачал головой: – Там мы оба потеряли много ценных игроков. Вот результат небрежных ходов как с той, так и с другой стороны. – Да, мой ферзь в обмен на коня и нескольких пешек. – Вилли нахмурился. – Надо было избежать слишком ранней ничьей, но в целом это не похоже на мою обычную игру в турнирах. К Баренту подошел Свенсон и что-то прошептал ему на ухо. – Прошу меня извинить, – промолвил миллионер и направился к столу с аппаратурой. Через несколько минут он вернулся, явно взволнованный. – Что это вы задумали, мистер Борден? – осведомился он сердито. Вилли облизал пальцы и, широко раскрыв глаза, с невинным видом посмотрел на Барента. – В чем дело? – вмешался Кеплер, переводя взгляд с одного на другого. – Что происходит? – Несколько суррогатов вырвались из загона, – пояснил Барент. – По меньшей мере двое из охранников убиты к северу от зоны безопасности. Только что мои люди засекли чернокожего помощника мистера Бордена с женщиной-суррогаткой, привезенной на остров мистером Хэродом. Они в четверти мили отсюда, на дубовой аллее. Что вы задумали, сэр? Вилли пожал плечами: – Дженсен мой старый и очень ценный помощник. Я просто возвращаю его сюда для эндшпиля, герр Барент. – А женщина? – Признаюсь, я намеревался использовать и ее. – Немец окинул взглядом зал, в котором собрались по меньшей мере дюжины две нейтралов Барента с автоматами. На балконах тоже было полно охранников. – И уж конечно, два обнаженных безоружных суррогата не могут представлять угрозу для вас, – со смешком добавил он. Преподобный Джимми Уэйн Саттер оторвался от окна. – «А если Господь сотворит необычайное, – изрек он, – и земля разверзнет уста свои и поглотит их… и они живые сойдут в преисподнюю: то знайте, что люди сии презрели Господа». – И он снова повернулся к окну. – Книга Чисел, глава шестнадцатая. – Премного благодарен, – буркнул Хэрод. Отвинтив крышку от бутылки с дорогой водкой, он начал пить прямо из горлышка. – Молчи, Тони, – бросил Вилли. – Ну что, герр Барент, вы впустите моих бедных пешек, чтобы мы могли начать Игру? Кеплер, с расширенными от ужаса или ярости глазами, дернул Барента за рукав. – Убей их, – настойчиво произнес он, затем указал дрожащим пальцем на Вилли. – Убей и его. Он сумасшедший. Он хочет уничтожить весь мир только потому, что чувствует приближение собственной смерти. Убей его, пока он не… – Хватит, Джозеф, – оборвал его Барент и кивнул Свенсону. – Приведите их сюда, мы начнем. – Постойте, – сказал Вилли и на полминуты смежил веки. – Прибыла еще одна фигура. – Он открыл глаза и расплылся в улыбке. – Игра окажется гораздо более захватывающей, чем я предполагал, герр Барент.* * *
Сержант СС, с пластырем на подбородке, выстрелил в Сола Ласки, и его сбросили в ров вместе с сотнями других убитых евреев. Но Сол не умер. В темноте он выбрался из мокрого рва по гладким остывающим трупам мужчин, женщин и детей, привезенных из Лодзи и сотни других польских городов. Немота в правом плече и левой ноге уступила место раздирающей боли. Он был дважды застрелен и сброшен в ров, но был все еще жив. Жив! И доведен до ярости. Ярость, бушевавшая в нем, была сильнее боли, сильнее усталости, страха и потрясений. Ему казалось, что он снова и снова ползет по обнаженным телам, лежащим на дне сырого рва, и он позволял ярости подогревать свою несгибаемую решимость остаться в живых. В кромешной тьме он все полз и полз вперед. В некоторой степени Сол отдавал себе отчет в том, что галлюцинирует, и профессиональная часть его сознания металась в догадках: не ранения ли запустили механизм видений? Он с изумлением взирал, как накладываются друг на друга реальные события, разделенные между собой сорока годами. Но другая часть сознания воспринимала происходящее как абсолютную реальность, как решимость бороться с самой беспросветной частью его жизни, с чувством вины и одержимостью, обескровившими его существование на целых сорок лет, лишившими его любви и семейного счастья. Почему он до сих пор жив? Почему не остался со всеми во рву? Но сейчас он был с ними. За его спиной четверо преследователей вышли на берег и теперь перекрикивались и махали друг другу руками, растянувшись по пляжу на тридцать ярдов. То и дело короткие очереди рассекали листву. Сол сосредоточенно полз вперед в полной темноте, ощупывая почву руками и чувствуя, как песок сменяется землей, заваленной деревьями, и более вязкой трясиной. Он опустил лицо в воду и, задохнувшись, резко выпрямил спину, стряхивая с волос капли и приставшие ветки. Очки где-то потерялись, но в темноте толку от них было мало – с равным успехом он мог находиться в десяти футах и в десяти милях от нужного ему дерева. Свет далеких звезд не проникал сквозь густую листву, и лишь едва различимая белизна собственных пальцев в нескольких дюймах от лица убеждала Сола в том, что он не ослеп. Будучи врачом, Сол не мог не задаться вопросами, как велика потеря крови, где именно засела пуля – ему не удалось найти выходного отверстия – и как долго он сможет обойтись без медицинской помощи? Но когда через секунду выстрелы винтовок разрезали листву в двух футах у него над головой, эти вопросы показались ему риторическими. С легкими шлепками в болото посыпались ветки. – Туда! – послышался совсем рядом мужской голос. – Он пошел туда! Кетти, Саггс, за мной! Оверхольт, двигайся вдоль берега, чтобы он не вышел из зарослей. Сол полз вперед, пока вода не достигла пояса, затем встал. Мощные фонари снопами желтого света освещали джунгли за его спиной. Он прошел вперед футов десять-пятнадцать и упал, споткнувшись о невидимое под водой бревно. Лицо его погрузилось в воду, и он непроизвольно глотнул ее. Пока он пытался подняться на колени, прямо в глаза ему ударил луч света. – Вот он! Луч метнулся в сторону, и Сол прижался к гнилому бревну, когда со всех сторон снова засвистели пули. Одна срезала кусок мягкой древесины в десяти дюймах от его щеки и поскакала по поверхности болота со звуком обезумевшего насекомого. Сол инстинктивно дернулся в сторону, и в это мгновение лучи фонариков скользнули по стволу высохшего дерева, расколотого молнией. – Назад, налево! – закричал охранник. Автоматные очереди поднимали немыслимый грохот, а плотный покров листвы лишь усугублял его, создавая впечатление, что трое стреляют в закрытом тире. Сол встал и направился к дереву в двадцати футах от него. Луч одного из фонариков метнулся к нему, остановился и снова потерял его, пока охранник вскидывал винтовку. Пули с жужжанием проносились мимо, как рассерженные пчелы, а те, что врезались в воду, осыпали Сола брызгами. Следующая очередь гулко забарабанила по дереву, тому самому, к которому он направлялся. Сол наконец достиг цели и запустил руку в дупло. Сумка, которую он там оставил, исчезла. Он нырнул в воду в тот момент, когда пули вонзились в изуродованное молнией дерево. Пока он продвигался по дну, цепляясь за корни, пучки водорослей и все, что попадалось под руку, все новые и новые пули со зловещим пением врезались в воду. Спрятавшись за деревом, он высунул голову, чтобы набрать воздуха, и принялся молить Бога послать ему палку, камень, любой увесистый предмет, которым он мог бы запустить в своих врагов в последние мгновения жизни. Ярость его стала всеобъемлющей, она заглушила даже боль от ран. Солу казалось, что ярость превратилась в сияние над его головой, словно у Моисея, с которым тот, по преданию, спустился с горы. И вдруг он заметил, что в трещине у самой воды что-то поблескивает. – Выходи! – крикнул тот же охранник. Стрельба прекратилась, и он вместе с напарником, громко шлепая по воде, начал смещаться влево, чтобы лучше прицелиться. Третий, не опуская фонарика, двинулся вправо. Сол сжал кулак и ударил по плотной древесине в том месте, где сквозь кору просачивался свет. Раз. Два. На третий раз его кулак прошел внутрь, и пальцы сомкнулись на мокром пластике. – Видишь его? – крикнул охранник слева. Свисавший с нижних ветвей испанский мох частично закрывал обзор. – Черт, подойди ближе! – заорал тот, что был справа. Его фигура виднелась за изгибом ствола. Сол вцепился в скользкий пластик и попытался вытащить сумку сквозь проделанное им узкое отверстие. Однако сумка была слишком большой. Тогда он отпустил ее и стал сдирать кору ногтями. Обугленная гнилая древесина отрывалась целыми клочьями, но сердцевина была твердой, как сталь. – Я вижу его! – закричал второй охранник слева, и очередь снова заставила Сола нырнуть под воду. Но и там он продолжил свое занятие, не обращая внимания на фонтаны брызг. Через две-три секунды грохот прекратился, и Сол вынырнул, хватая ртом воздух и отряхивая воду. – Барри, законченный ты идиот! – орал слева один из охранников. – Я прямо на твоей линии огня, сукин ты сын! Сол засунул руку в дупло и обнаружил там лишь воду. Сумка погрузилась еще глубже. Он обошел ствол и запустил левую руку в отверстие так глубоко, как только мог. Пальцы его сомкнулись вокруг ручки. – Я вижу его! – снова закричал охранник справа. Сол подался назад, ощущая простреленной лопаткой присутствие двоих человек у себя за спиной, и потянул ручку изо всех сил. Сумка приподнялась и застряла – отверстие по-прежнему было слишком узким. Охранник справа установил фонарик и выстрелил одиночным патроном. Еще один луч высветил новое отверстие в стволе в нескольких дюймах над головой Сола. Он присел, поменял руки и снова дернул. Ничего не изменилось. Вторая пуля прошла между его правой рукой и боком. Сол понял, что охранники позади не стреляли лишь потому, что их коллега теперь находился прямо на линии огня. Он подбирался ближе, чтобы сделать третий выстрел, ни на мгновение не выпуская свою цель из луча света. Сол ухватился за ручку обеими руками, уперся ногами в ствол и оттолкнулся от него изо всех сил. Он не сомневался, что ручка оторвется, и она все-таки оторвалась, но уже после того, как громоздкая сумка вывалилась наружу. Он подхватил ее, едва не уронив, прижал покрепче к груди, повернулся и бросился бежать. Охранник справа выстрелил и перевел винтовку на автоматический режим. В Сола уперся другой луч и тут же потерял его, скользнув вниз, а охранник вдруг взвыл и разразился ругательствами. Справа снова раздалась очередь, на этот раз охранник сместился в сторону футов на пятнадцать. Сол бежал не останавливаясь, жалея лишь о том, что потерял очки. Воды было уже по щиколотку, когда он споткнулся о поваленное дерево и вылетел на островок, поросший низким кустарником и болотной травой. По хлюпающим шагам он догадался, что его преследуют как минимум двое. Он бросил тяжелую сумку на землю, нащупал молнию, быстро открыл ее и разорвал внутренний водонепроницаемый мешок. – У него там что-то есть! – крикнул охранник. – Быстрей! – И двое мужчин бросились через полосу мелководья. Сол вытащил пакет со взрывчаткой, отшвырнул его в сторону и схватил винтовку, полученную им по наследству от Хейнса. Она не была заряжена. Стараясь не уронить сумку в воду, он нащупал магазин и вставил его в паз. Только теперь он начал понимать, что имел в виду Коэн, когда говорил, что оружие надо уметь заряжать даже с завязанными глазами. Лучи фонариков заплясали по стволу, за которым укрылся Сол, и по звукам он догадался, что шедший впереди охранник находится не более чем в десяти футах от него и продолжает приближаться. Сол перекатился на живот, снял автомат с предохранителя движением, которое уже вошло у него в привычку, прижал к плечу приклад и выпустил целую очередь в грудь и живот охранника. Тот рванулся вперед, затем его словно подбросило в воздух, и он вместе с фонариком плюхнулся в болото. Второй преследователь остановился в двадцати футах справа от Сола и прокричал что-то неразборчивое. Сол выстрелил прямо в луч света. Раздался звон стекла, потом крик – и полная тишина. Он различил в футе от себя призрачное зеленоватое мерцание и догадался, что это все еще светит под водой фонарик первого убитого им охранника. – Барри? – донесся тихий голос слева, оттуда, где двое мужчин пытались обойти дерево. – Дон? Какого черта, что происходит? Я ранен. Хватит шататься вокруг. Сол вытащил из сумки еще одну обойму, закинул обратно взрывчатку и, стараясь придерживаться мелководья, быстро двинулся влево. – Барри? – снова раздался голос, уже с расстояния футов в двадцать. – Я выбираюсь отсюда. Я ранен. Кретин, ты попал мне в ногу! Сол крался вперед, делая движения лишь тогда, когда охранник издавал какие-нибудь звуки. – Эй! Кто там? – донеслось из темноты. Сол отчетливо расслышал, как щелкнул затвор. Прижавшись спиной к дереву, он прошептал: – Это я, Оверхольт. Посвети-ка нам. – Черт, – выругался охранник, включая фонарик. Сол выглянул из-за дерева и увидел человека в серой форме службы безопасности. Левая штанина у него была в крови. В руках он держал «узи», одновременно возясь с фонариком. Сол убил его одним выстрелом в голову. Форма службы безопасности представляла собой цельный комбинезон с молнией спереди. Сол выключил фонарик, стащил с трупа одежду и натянул ее на себя. С берега доносились отдаленные крики. Комбинезон оказался ему велик, ботинки жали даже без носков, но никогда еще в своей жизни Сол Ласки не испытывал такого восторга от одежды. Он нащупал в воде кепку с длинным козырьком и натянул ее на голову. Сунув под мышку М-16 и прихватив «узи», для которого он нашел три дополнительные обоймы в глубоких карманах комбинезона, Сол прицепил фонарик к ремню и двинулся обратно, туда, где оставил сумку. Пакеты со взрывчаткой, патроны и кольт не промокли и были вполне боеспособны. Он затолкал «узи» в сумку, застегнул ее, перебросил через плечо и начал выбираться из болота. Вторая лодка стояла ярдах в двадцати от берега, и четвертый охранник, оставшийся на пляже, теперь присоединился к пяти вновь прибывшим. Когда Сол появился с западной стороны бухты, тот окликнул его: – Дон, это ты? Сол потряс головой. – Барри, – сказал он, прикрыв рот рукой. – Что там была за стрельба? Вы его взяли? – На восток! – загадочно ответил Сол, махнув рукой вдоль берега. Трое охранников, вскинув винтовки, потрусили в указанном направлении. Один из них вытащил рацию и что-то быстро затараторил. Два катера, курсировавшие за волнорезами, развернулись к востоку и направили свои прожектора на стену деревьев. Сол подошел к первому катеру, вытащил из песка маленький якорь, забрался внутрь и осторожно положил сумку на пассажирское место. Ремень сумки был испачкан его кровью, сочившейся из раны под лопаткой. Катер имел два огромных мотора, но для того, чтобы включить зажигание, нужен был ключ. Слава богу, он оказался вставленным в отверстие приборного щитка. Сол завел двигатели, дал задний ход, подняв целый фонтан песка и пены, миновал полосу прибоя и рванул в открытый океан. Затем развернул катер на восток, на полной скорости обошел северо-восточный выступ острова и с ревом устремился на юг, делая сорок пять узлов в час. Передатчик что-то шипел и хрипел, и он выключил его. Направлявшийся к северу катер посигналил ему огнями, но Сол не обратил на это никакого внимания. Он опустил М-16 пониже, чтобы на винтовку не попадали соленые брызги. Капли воды поблескивали на его заросшем щетиной лице и освежали, как холодный душ. Сол знал, что потерял много крови и продолжает терять ее – нога по-прежнему кровоточила, а комбинезон просто прилип к спине… Но даже несмотря на это, решимости у него не убавилось. На расстоянии мили уже показался зеленый огонь в конце длинного пирса, того самого, который вел к дубовой аллее и дальше, к особняку и Вильгельму фон Борхерту.Глава 68
Чарлстон
Вторник, 16 июня 1981 г.
Полночь уже миновала, но Натали Престон все еще казалось, что она завязла в ночном кошмаре, который преследовал ее в детстве. Случай, происшедший во время похорон матери, довел ее до такого состояния, что все лето и осень она по меньшей мере раз в неделю просыпалась с криком и бежала искать защиты у отца. Похоронная процедура осуществлялась по старомодному образцу, и на протяжении многих часов в морг шли и шли посетители, желавшие попрощаться. Собравшиеся друзья и родственники сидели у открытого гроба уже целую вечность, как казалось Натали. Все последние два дня она проплакала, и слез у нее больше не осталось. Она сидела в скорбной тишине, держа отца за руку. Через какое-то время ей захотелось в туалет, отец собрался отвести ее, но тут прибыла очередная группа пожилых родственников, и проводить Натали вызвалась тетя. Пожилая дама взяла девочку за руку, и они пошли по длинным коридорам, миновали несколько дверей и лестничный пролет, прежде чем добрались до туалетной комнаты. Когда Натали вышла, оправляя юбку своего жестко накрахмаленного темно-синего платья, тети почему-то не было. Девочка уверенно свернула налево, вместо того чтобы идти направо, прошла через коридоры и лестничные площадки и заблудилась. Однако это не испугало ее. Она знала, что бо́льшую часть первого этажа занимали часовня и притворы, и решила, что если будет открывать подряд все двери, то рано или поздно найдет отца. Не знала она лишь того, что черная лестница вела прямо в подвал. Через два дверных проема Натали заглянула в большую пустую комнату, затем распахнула третью дверь, и свет, лившийся из коридора, упал на стальные столы, подставки с огромными бутылями, в которых колыхалась темная жидкость, и длинные иглы с тонкими резиновыми шнурами. Девочка в ужасе прикрыла рот рукой и попятилась, потом повернулась и побежала через широкие двойные двери. Когда глаза ее привыкли к полутьме – занавешенные окна едва пропускали свет, – она уже почти пересекла огромное помещение, заполненное большими ящиками, но остановилась. Ничто не нарушало смрадный покой, а ящики вокруг нее оказались вовсе не ящиками, а гробами. Тяжелое темное дерево словно поглощало слабый свет. У нескольких гробов створки крышек были открыты, как у гроба матери Натали. Не далее чем в пяти футах стоял маленький гробик размером с нее саму с серебряным распятием на крышке. Много лет спустя Натали поняла, что попала тогда просто на склад гробов, но в тот момент она была уверена, что осталась одна в окружении мертвецов. Она ожидала, что вот-вот из гробов начнут подниматься синеватые трупы, поворачиваться к ней и открывать глаза, как в фильмах ужасов, которые они с отцом смотрели по пятницам. Впереди виднелась еще одна дверь, но казалось, что до нее тысячи миль, а главное, чтобы туда попасть, девочке нужно было пройти в непосредственной близости от нескольких гробов. Она двинулась вперед медленным шагом, не спуская глаз с двери, ожидая, что в нее вот-вот вцепятся бледные руки. Натали не позволила себе ни закричать, ни побежать. День был слишком важным для нее – похороны любимой мамы. Она все-таки прошла через комнату, поднялась по освещенной лестнице и оказалась в коридоре неподалеку от входной двери. «Вот ты где, дорогая!» – воскликнула пожилая тетя и повела девочку к отцу в соседнее помещение, по дороге успокаивая ее и убеждая больше не убегать. Уже много лет Натали не вспоминала тот кошмар, но вот теперь, сидя в гостиной Мелани Фуллер напротив Джастина, глядевшего на нее своими безумными старческими глазами, утопленными в бледном пухлом личике, она пережила то же самое ощущение ужаса. Будто и в самом деле крышки гробов открывались, сотни мертвецов вставали, тянули к ней свои руки и тащили к маленькому гробику, предназначенному для нее. – О чем задумалась, моя милая? – раздался старушечий голос из уст сидевшего напротив ребенка. Натали вздрогнула и очнулась. После бессмысленного визга двадцать минут назад это были первые произнесенные нормальным тоном слова. – Что происходит? – спросила она. Джастин пожал плечами и широко улыбнулся. Его молочные зубы казались остро заточенными. – Где Сол? – Пальцы девушки скользнули к кнопке на поясе. – Говори! – прикрикнула она. В течение последних двадцати семи часов она несколько раз ловила себя на том, что почти хочет, чтобы старая ведьма внедрилась в ее сознание и тем самым запустила действие взрывного механизма. Пребывание в постоянном страхе настолько утомило ее, что временами ей хотелось только одного: чтобы все это побыстрее закончилось. Она не знала, уничтожит ли взрывчатка старуху на таком расстоянии, но не сомневалась, что зомби Мелани не дадут ей подобраться ближе. – Где Сол? – повторила Натали. – Его забрали, – небрежно ответил мальчик. Натали вскочила. Тени в соседних комнатах зашевелились. – Ты лжешь! – крикнула она. – Да ну? – улыбнулся Джастин. – Зачем мне это надо? – Что случилось? Он снова пожал плечами и демонстративно зевнул: – Нина, мне пора спать. Почему бы нам не продолжить этот разговор утром? – Говори! – закричала Натали, снова потянувшись к кнопке. – Хорошо-хорошо, – надулся мальчик. – Твой еврейский друг убежал от охранников, но человек Вилли поймал его и отвел в особняк. – В особняк? – выдохнула Натали. – Да, в особняк, – передразнил ее Джастин и стукнул каблуком ботинка по ножке кресла. – Вилли и мистер Барент хотят поговорить с ним. Они собираются играть. Натали оглянулась и заметила, как в коридоре что-то шевельнулось. – Сол ранен? Джастин пожал плечами. – Он еще жив? Мальчик скорчил гримасу: – Я же сказала, Нина, они хотят поговорить с ним. А разве можно разговаривать с мертвецом? Натали закусила губу, обдумывая ситуацию. – Пора приступать к тому, о чем мы договаривались. – Нет, не пора, – заскулил ребенок. – Ситуация совсем не похожа на то, что ты мне обещала. Они просто играют. – Ты лжешь, – сказала Натали. – Они не могут играть, если человек Вилли отсутствует, а Сол в особняке. – Это другая игра, – пояснил Джастин, неодобрительно качая головой от ее недогадливости. Натали то и дело забывала, что он всего лишь плоть, которой манипулирует старая ведьма, лежащая наверху. – Они играют в шахматы, – добавил он. – В шахматы? – переспросила Натали. – Да. И тот, кто победит, будет определять следующую партию. Вилли хочет играть на бо́льшие ставки. – Джастин старчески покачал головой. – Его всегда по-вагнеровски тянуло к Армагеддону. Думаю, в нем говорит немецкая кровь. – Сол ранен и отправлен в особняк, где они играют в шахматы, – монотонным голосом повторила Натали. Она вспомнила, как более полугода назад они с Робом слушали историю доктора Ласки о лагерях и полуразрушенном замке в польском лесу, где молодой оберст бросил вызов старику-генералу в финальной игре. – Да-да, – радостно закивал Джастин. – Мисс Сьюэлл тоже будет участвовать в игре. В команде мистера Барента. Он очень симпатичный. Они с Солом обсуждали, что ей надо будет делать, если их план сорвется. Он советовал Натали бросить сумку со взрывчаткой, поставив таймер на сорок секунд, и бежать, даже если это означало, что Баренту и его команде удастся спастись. Второй вариант – продолжать блефовать, давя на Мелани, чтобы все-таки добраться до Барента и остальных членов Клуба Островитян. Теперь Натали увидела третью возможность. До рассвета по меньшей мере шесть часов. Она вдруг осознала, что тревога за Сола гораздо сильнее ее стремления к справедливости и желания отомстить за отца. К тому же она знала, что все обсуждавшиеся планы отступления Сола были пустыми разговорами, – на самом деле он не собирался отступать. По логике, она должна оставаться здесь и следовать намеченному плану, но сердце ее разрывалось от страстного желания спасти Сола, если это еще было возможно сделать. – Я выйду на несколько минут, – решительно заявила Натали. – Если Барент попытается сбежать или возникнут другие непредвиденные обстоятельства, делай именно то, о чем мы договаривались. Я не шучу, Мелани, и не потерплю промашек. Твоя собственная жизнь зависит от этого. Если ты не сделаешь того, что должна, можешь не сомневаться: члены Клуба Островитян прикончат тебя, впрочем я опережу их. Ты поняла меня, Мелани? Джастин смотрел на нее с легкой улыбкой. Натали круто повернулась и направилась к выходу. В темноте перед ней кто-то метнулся в сторону и исчез в столовой. Джастин двинулся следом. На площадке лестницы слышался шорох, из кухни тоже доносились неясные звуки. Девушка остановилась в прихожей, не убирая пальца с красной кнопки. Кожа головы болела от клейкой ленты, которой были закреплены электроды. – Я вернусь до рассвета, – пообещала она. Джастин улыбнулся, лицо его сияло в слабом зеленом свечении, лившемся со второго этажа.* * *
Зубатка ждал уже более шести часов, когда из дома Фуллер наконец появилась Натали. Это не входило в заранее проработанный план. Он дважды нажал кнопку передатчика, который Джексон назвал «раздолбанной рухлядью», и присел в кустах, посмотреть, что происходит. Он еще не видел Марвина, но знал, что, если увидит, сделает все для спасения своего старого главаря от мадам Вуду. Быстрым шагом Натали пересекла двор и остановилась у ворот, пока неизвестный Зубатке белый ублюдок открывал их. Не оглядываясь, она перешла улицу и повернула направо, к переулку, где прятался он, вместо того чтобы идти налево к машине Джексона. Это был условный сигнал, что за ней могут следить. Зубатка еще три раза нажал кнопку передатчика, сообщая тем самым Джексону, что надо объехать квартал до условленного места встречи, потом присел ниже и стал ждать. Как только Натали скрылась из виду, из ворот дома Фуллер выскочил человек и, пригнувшись, бросился к противоположной стороне улицы. В свете фонаря Зубатка заметил, как блеснула сталь ствола. Большой автоматический пистолет. – Черт, – прошипел он, выждал еще минуту, убедиться, что больше никого нет, и, прячась за припаркованными машинами, проскользнул на восточную сторону улицы. Зубатка не знал этого человека со стволом – он был слишком мал для того ублюдка, который открывал ворота, и слишком белым для Марвина. Бесшумно добежав до угла, он прополз под кустами и высунул голову. Девушка уже прошла полквартала и теперь собиралась переходить на другую сторону улицы. Тень с пистолетом медленно скользила за нею. Зубатка четыре раза нажал кнопку передатчика и двинулся следом. Черные брюки и ветровка делали его практически невидимым. Он надеялся, что Натали отсоединила детонатор от этой чертовой Си-4. От взрывчатки Зубатке становилось не по себе. Он видел, что осталось от его лучшего друга Лероя, когда этот безумный малый подорвал шашку, которую таскал при себе. Зубатка не боялся смерти – он не надеялся дожить и до тридцати, но хотел лежать красивым в большом гробу, в своем лучшем семисотдолларовом костюме и чтобы Марси, Шейла и Белинда плакали над ним. Предупрежденный четырехкратным сигналом, Джексон рванул по улице и прижался к левому тротуару, чтобы прикрыть Натали, пока она открывала дверцу машины. Тот, с пушкой, обеими руками схватил оружие, установил его на крыше припаркованного «вольво» и начал целиться в ветровое стекло машины с той стороны, где сидел Джексон. «Похоже, вечером у мадам Вуду был не один чай со сливками, – подумал Зубатка. – Видать, здорово достали старую шлюху». В своих бесшумных пятидесятидолларовых кроссовках он подбежал к белому ублюдку и сделал подсечку. Тот ударился подбородком о крышу «вольво», и Зубатка вдобавок треснул его лицом о стекло, после чего выхватил пистолет и на всякий случай зафиксировал пальцем курок. «Людей убивают не люди, – рассуждал он, оттаскивая тело подальше от тротуара, – а поганые стволы». Джексон дважды нажал кнопку своего передатчика и завел мотор. Зубатка оглянулся, убедился, что человек с винтовкой без сознания, но дышит, и только тогда спросил: – Эй, братишка, что происходит? – С девушкой все в порядке. Что у тебя? – Дешевый микрофон и слабая мощность исказили голос Джексона. – Ублюдку с большой пушкой не понравилось твое лицо, старик. Сейчас он отдыхает. – Как отдыхает? – проскрежетал голос Джексона. – Дремлет. Что с ним делать? – У Зубатки был нож, но они решили, что, если в таком фешенебельном районе будут обнаружены трупы, это может повредить делу. – Тихо оттащи его куда-нибудь, – ответил Джексон. – О’кей. – Зубатка поднял бесчувственное тело и бросил в кусты. Отряхнувшись, он снова нажал кнопку передатчика. – Вы вернетесь или совсем сваливаете? Из-за увеличившегося расстояния голос Джексона был едва слышен. Зубатка начал гадать, куда это они направляются. – Мы вернемся позднее, – ответил Джексон. – Не горячись. Не высовывайся. – Черт, – выругался Зубатка, – вы, значит, едете кататься, а мне сидеть здесь? – Право старшинства, приятель. – Голос Джексона был уже еле слышен. – Я вступил в братство Кирпичного завода, когда ты еще сидел в штанах своего папаши. Не высовывайся, братишка. – Пошел к черту. Зубатка подождал, но ответа не последовало, и он понял, что они выехали за пределы слышимости. Он положил передатчик в карман и бесшумно двинулся обратно к своему укромному месту, вглядываясь в каждую тень, дабы удостовериться, что больше никаких военных сил мадам Вуду не выслала. Он просидел между мусорными баками и старым забором почти десять минут, вспоминая в подробностях одну из своих любимых сцен с Белиндой в постели отеля «Челтен», когда за его спиной что-то хрустнуло. Зубатка мгновенно вскочил, на ходу раскрывая лезвие стилета. Стоявший сзади человек казался ненастоящим – слишком огромным и без единого волоса на голове. Одним взмахом своей мощной ладони Калли выбил нож из руки парня, затем правой рукой схватил худого негра за горло и поднял его в воздух. Зубатка задохнулся, перед глазами у него все поплыло, но, даже находясь в тисках этой массивной туши, оторвавшей его от земли, он умудрился дважды лягнуть Калли в пах и так ударить по ушам лысого ублюдка, что у того могли лопнуть барабанные перепонки. Однако чудовище даже не поморщилось. Зубатка потянулся пальцами к его глазам, но огромные руки на его горле сомкнулись еще плотнее, а потом раздался громкий хруст ломающихся позвонков. Великан бросил бьющегося в агонии негра на землю и с безучастным видом стал наблюдать за ним. Агония длилась почти три минуты, сломанная шея перекрыла доступ воздуха в легкие. В конце концов Калли пришлось наступить своим массивным ботинком на сотрясающееся и мечущееся тело. Затем он достал нож и произвел несколько экспериментов. Убедившись, что чернокожий действительно мертв, он зашел за угол, поднял бесчувственное тело Говарда и без всяких усилий перенес обоих через улицу в дом, где со второго этажа продолжал струиться слабый зеленоватый свет.* * *
Когда Джексон с Натали были на полпути к мысу Плезант, дождь начался снова. Джексон попытался связаться с Зубаткой, но гроза и расстояние в десять миль не позволили это сделать. – Как ты думаешь, с ним все будет в порядке? – спросила Натали. Сев в машину, она тут же сняла с себя пояс со взрывчаткой, но датчики, которые должны были подать сигнал тревоги при первом же появлении тета-ритма, оставила. Однако Натали сомневалась, что они понадобятся, – вряд ли Мелани захочет в такой момент бросать вызов Нине. Не подписала ли она сама себе смертный приговор, признавшись в том, что не является Нининой пешкой? – С Зубаткой? – переспросил Джексон. – Он побывал не в одной переделке. К тому же он не дурак. Кто-то же должен наблюдать, чтобы старуха за это время не удрала. – Он внимательно посмотрел на Натали; дворники монотонно шуршали по залитому дождем ветровому стеклу. – У нас что, изменились планы? Она кивнула. Джексон пожевал зубочистку. – Ты собираешься на остров? – Откуда ты знаешь? – выдохнула Натали. – Сегодня днем ты звонила одному пилоту и предупреждала, что для него может найтись дело. – Да, – призналась она, – но тогда я думала о завтрашнем дне, когда все будет уже позади. – А ты уверена, что завтра все будет позади, Натали? Девушка смотрела прямо перед собой через мокрое стекло. – Да, я уверена! – решительно ответила она.* * *
Дэрил Микс стоял в кухне своего трейлера, закутавшись в синий халат, и, прищурившись, смотрел на двух вымокших гостей. – А откуда мне знать, что вы не какие-нибудь террористы, пытающиеся втянуть меня в свою безумную затею? – осведомился он. – Поверь мне на слово, – ответила Натали. – Барент и его группа захватили моего друга Сола, и я хочу вызволить его. Микс почесал седую щетину: – Кстати, по дороге сюда никто из вас двоих не заметил, что там льет как из ведра и условия просто штормовые? – Да, – кивнул Джексон, – мы заметили. – И вы по-прежнему хотите оплатить полет на самолете? – Хотим, – сказала Натали. – Не знаю, каковы расценки для такой экскурсии, – бросил Микс, открывая банку с пивом. Натали достала из-под свитера толстый конверт и положила его на кухонный стол. Микс заглянул внутрь, кивнул и отхлебнул пива. – Здесь двадцать одна тысяча триста семьдесят пять долларов, – сообщила она. Микс почесал в затылке. – Разбила по такому случаю свинью-копилку палестинского Фронта национального освобождения, а? – ухмыльнулся он и сделал еще один большой глоток. – Хотя какого черта! Отличная ночка для полета. Подождите здесь, пока я не переоденусь. Наливайте себе пиво, если у вас в КГБ это не запрещено.* * *
Дождь лил не переставая, скрывая из виду маленький ангар, освещенный прожекторами. – Я тоже лечу, – сказал Джексон. – Нет. – Натали, поглощенная своими мыслями, покачала головой. – Черта с два! – прорычал Джексон и поднял тяжелую черную сумку, захваченную им из машины. – У меня плазма, морфий, бинты… полная аптечка. Что будет, если ты найдешь его, а человеку нужен врач? Ты подумала об этом? Или ты хочешь, чтобы он умер от потери крови на обратном пути? – Хорошо, – согласилась Натали. – Готов! – крикнул Микс из ангара. На нем была синяя кепка с вышитой белыми нитками надписью «Киты Йокогамы», древняя кожаная куртка, джинсы и зеленые кроссовки. На ремне висела кобура, из которой выглядывала инкрустированная рукоять «смит-вессона» тридцать восьмого калибра. – Только два требования! – заявил он. – Первое: если я говорю, что сесть невозможно, значит это действительно так. Тогда я оставляю себе треть ваших денег. И второе: больше не вытаскивайте свой злосчастный кольт, если не собираетесь им пользоваться. Советую вообще не решать со мной вопросы таким образом, не то придется вам плыть всю дорогу назад, понятно? Джексон и Натали согласно кивнули.* * *
Натали однажды каталась с отцом на «американских горках», и у нее хватило ума больше никогда этого не делать. Но их полет оказался в тысячу раз хуже. Маленькая кабина «сессны» запотела, по ветровому стеклу струился настоящий водопад. Натали не могла даже точно сказать, когда они взлетели, разве что скачки и прыжки стали резче, а заносы – круче. Лицо Микса, освещенное снизу красноватыми огоньками приборной доски, приобрело одновременно какие-то оттенки дьявольщины и слабоумия. Натали не сомневалась, что ее лицо выглядит не лучше от ужаса, который она испытывала. Джексон время от времени ругался, когда его подбрасывало вверх, а потом опять наступала тишина, если не считать воя ветра, грохота дождя, скрежета измученных механизмов, раскатов грома и жалостного тарахтения двигателя. – Пока неплохо, – заметил Микс. – Подняться над этой стихией нам не удастся, но мы оставим ее позади, когда доберемся до Сапело. Все идет как надо. – Он повернулся к Джексону и осведомился: – Вьетнам? – Да. – Морская пехота? – Врач из Сто первого. – Когда демобилизовался? – Не демобилизовался. Нас с двумя братишками выперли, когда южновьетнамский союзничек подорвался на собственной мине после того, как мы накурились. – А те двое? – Прибыли домой в полиэтиленовых мешках. А мне дали еще одну ленточку, как раз вовремя, чтобы я успел проголосовать за Никсона. – И ты проголосовал? – Черта с два, – засмеялся Джексон. – Да, я тоже не припомню, чтобы получал что-нибудь стоящее от политиков, – отозвался Микс. Салон «сессны» внезапно осветило вспышкой молнии, словно прорезавшей крыло самолета. В то же мгновение порыв шквального ветра попытался перевернуть их, и они начали падать, пролетев едва ли не вертикально вниз футов двести, как сорвавшийся с троса лифт. Микс поправил что-то у себя над головой и постучал по прибору, в котором метался черно-белый шарик. – Ещечас двадцать, – зевнул он. – Мистер Джексон, там где-то у ваших ног стоит большой термос. И кажется, есть кое-что закусить. Почему бы нам не выпить кофе? Не хочу выглядеть негостеприимным. Мисс Престон, что я могу вам предложить? Полет в первом классе предполагает высокий уровень обслуживания пассажиров. – Нет, спасибо. – Натали отвернулась к иллюминатору. Внизу блеснула молния, осветив обрывки черных туч, похожих на лохмотья какой-нибудь ведьмы. – Пока ничего не хочется, – добавила она и попыталась закрыть глаза.Глава 69
Остров Долманн
Вторник, 16 июня 1981 г.
Сол сбросил скорость, и катер, проплыв еще немного, мягко коснулся пристани. В конце пирса мигнул зеленый огонь, посылая незаметный сигнал в пустую Атлантику. Сол закрепил катер, выбросил на пристань сумку и вылез сам, встав сначала на одно колено и держа М-16 наготове. Пирс и пляж были пусты. На дороге, идущей вдоль берега к югу, стояли неприкрытые карты для гольфа. Никаких других катеров у причала не было. Он перекинул сумку через плечо и осторожно двинулся к дубовой аллее. Даже если Барент отправил большинство охранников на его поиски, он не мог поверить, что тот оставил незащищенными подходы к особняку. В любой момент ожидая выстрелов, Сол углубился в темноту под полог деревьев. Вокруг было тихо, если не считать слабого шелеста листьев при порывах легкого бриза с океана. Вдали виднелись огни особняка. Главной задачей Сола было сейчас попасть туда живым. Он вспомнил рассказ пилота Микса о том, как освещалась дубовая аллея, когда на остров приезжали главы государств и высокопоставленные лица. Сегодня ночью здесь царила темнота. Прошло примерно полчаса, пока он, осторожно передвигаясь от дерева к дереву, не преодолел половину пути, а охранников все не было видно. Внезапно Сола пронзила мысль, от которой его охватил еще больший ужас, чем страх перед смертью: что, если Барент и Вилли уже отбыли? Это было вполне возможно. Барент не из тех, кто готов рисковать собой. Сол рассчитывал использовать в качестве оружия самоуверенность миллионера – каждый, кто встречался с ним, включая Сола, обрабатывался таким образом, что лишался возможности причинить ему какой-либо вред. Но что, если вмешательство Вилли в Филадельфии или неожиданный побег Сола все изменил? Забыв об опасности, он сунул винтовку под мышку и помчался по дубовой аллее. Он пробежал всего двести ярдов, затем резко остановился, опустился на колено и поднял ствол винтовки. Под невысоким деревом лицом вниз лежало чье-то тело. Пытаясь восстановить дыхание, Сол вгляделся в темноту, в который раз пожалев, что лишился очков. Убедившись, что вокруг все спокойно, он снял с плеча сумку и подошел ближе. Это была женщина, к тому же частично одетая. Ее спину прикрывала разорванная окровавленная рубашка, спутанные волосы падали на повернутое в сторону лицо, пальцами разведенных рук она будто царапала землю, правая нога была согнута. Вероятно, она бежала в тот момент, когда подверглась нападению. Еще раз оглядевшись, он осторожно прикоснулся к ее шее, чтобы нащупать пульс. И тут женщина резко повернула голову. Прежде чем она успела вцепиться зубами в его левую руку, Сол увидел разинутый рот и безумные, широко раскрытые глаза мисс Сьюэлл. Она издала звериный рык. Лицо Сола исказилось судорогой, но, когда он поднял М-16, чтобы ударить женщину прикладом, с дерева на него прыгнул Дженсен Лугар. Сол закричал и выпустил автоматную очередь, пытаясь развернуть ствол к огромному негру, но пули лишь прошили ветви и листву у него над головой. Лугар рассмеялся и выбил винтовку из руки Сола таким сильным ударом, что та отлетела футов на двадцать. Сол попробовал сопротивляться, одновременно стараясь высвободить свою кисть из бульдожьей хватки женщины. Правую руку он завел назад, надеясь нащупать лицо и глаза негра. Лугар снова рассмеялся и приподнял тело психиатра над землей. Сол услышал, как трещит на левой руке сдираемая кожа. Затем негр развернулся и отшвырнул его в сторону. Сол больно ударился раненой ногой, перекатился на плечо, которое уже горело как в огне, и пополз к сумке, где остались кольт и «узи». Глянув через плечо, он увидел готовое к прыжку обнаженное тело Дженсена Лугара, поблескивавшее от пота и крови, и мисс Сьюэлл, стоявшую на четвереньках, со спутанными волосами, падавшими ей на глаза. В зубах у нее болтался кусок вырванной из руки Сола плоти, по подбородку стекала кровь. До сумки оставалось уже три фута, когда Лугар бесшумно подскочил и сильно ударил Сола босой ногой под ребра. Он четырежды перевернулся, чувствуя, как из него выходит воздух, а вместе с ним и силы, попытался подняться на колени, но в глазах уже начало темнеть. Негр еще раз пнул Сола, отшвырнул подальше его сумку и схватил психиатра за волосы. Приблизившись вплотную, он встряхнул обмякшее тело и произнес по-немецки: – Очнись, моя пешка. Пора нам поиграть.* * *
Прожектора Главного зала освещали восемь рядов черно-белых квадратов. Тони Хэрод взирал на эту немыслимую шахматную доску, идущую в обоих направлениях на тридцать два фута. В тени переговаривались охранники Барента, от стола с электронной аппаратурой доносились какие-то приглушенные звуки, но на освещенном участке находились лишь члены Клуба Островитян и их помощники. – Пока эта партия очень интересная, – усмехнулся Барент. – Хотя было несколько моментов, когда я не сомневался, что ее исходом может стать только ничья. – Да, – согласился Вилли. Под белым пиджаком на нем была белая шелковая водолазка, что придавало немцу вид пастора, только на пленке в негативе. Его редеющие волосы блестели в свете софитов, подчеркивавшем румянец на щеках и скулах. – Я всегда предпочитал защиту Тарраша. Сейчас она вышла из моды, но я по-прежнему считаю ее эффективной, если использовать правильные вариации. – До двадцать девятого хода игра носила чисто позиционный характер, – заметил Барент. – Мистер Борден предложил мне свою королевскую пешку, и я взял ее. – Пешку с секретом. – Вилли, нахмурившись, смотрел на «доску». Барент улыбнулся. – Возможно, для менее профессионального игрока этот ход оказался бы фатальным. Но когда обмен закончился, я сохранил пять пешек против трех мистера Бордена, – пояснил Барент всем присутствующим. – И слона, – добавил Вилли, бросив взгляд на Джимми Уэйна Саттера, стоявшего у стойки бара. – И слона, – кивнул Барент. – Но в эндшпиле две пешки зачастую побеждают одинокого слона. – И кто же выигрывает? – заплетающимся языком спросил Кеплер. Он уже был пьян. Барент потер щеку: – Все не так просто, Джозеф. В настоящий момент черные – а я играю ими – обладают явно выраженным преимуществом. Но в эндшпиле все меняется очень быстро. Вилли вышел на «доску»: – Может, вы хотите поменяться сторонами, герр Барент? – Nein, mein Herr.[63] – Миллионер негромко рассмеялся. – Тогда давайте продолжим. – Вилли победоносно оглядел стоящих на границе света и тени. Свенсон подошел к Баренту и снова что-то прошептал ему на ухо. – Секундочку. – Хозяин повернулся к Вилли. – А что вы теперь намереваетесь делать? – Впустите их, – велел немец. – С чего бы это? – рассердился Барент. – Это ваши люди. – Вот именно, – подтвердил Вилли. – Совершенно очевидно, что мой негр безоружен, а еврея я вернул обратно, чтобы он выполнил здесь свое предназначение. – Час назад вы утверждали, что мы должны убить его, – возразил Барент. Старик пожал плечами: – Вы по-прежнему можете это сделать, если хотите, герр Барент. Он и так уже почти труп. Но меня тешит мысль о том, что он проделал такой сложный путь для исполнения своего долга. – Вы продолжаете утверждать, что он прибыл на остров самостоятельно? – ухмыльнулся Кеплер. – Я ничего не утверждаю, – ответил Вилли. – Просто прошу разрешения использовать его в игре. Мне это будет приятно. – И он с улыбкой взглянул на Барента. – К тому же, герр Барент, вы прекрасно знаете, что еврей был обработан вами. Вы можете не опасаться его, даже если у него окажется оружие. – Тогда зачем он сюда явился? – не унимался Барент. Вилли рассмеялся: – Чтобы убить меня. Ну, решайтесь. Я хочу продолжить игру. – А как насчет женщины? – Она была моей ферзевой пешкой, – ответил Вилли. – И я готов отдать ее вам. – Ферзевой пешкой, – повторил Барент. – А разве ваша королева все еще в игре? – Нет, моя королева уже покинула поле. Впрочем, вы сами можете спросить об этом пешку, когда она прибудет. Барент щелкнул пальцами, и вперед вышло с полдюжины охранников с оружием в руках. – Приведите их сюда, – распорядился он. – Если они сделают хоть одно подозрительное движение, стреляйте без предупреждения. Скажите Дональду, что, возможно, я отправлюсь на «Антуанетту» раньше, чем собирался. Верните патруль и удвойте охрану к югу от зоны безопасности.* * *
Тони Хэроду очень не нравилось происходящее. Насколько он понимал, у него нет способа выбраться с этого чертового острова. Вертолет Барента, готовый к взлету, ожидал за дверью, у Вилли на посадочной полосе стоял «лир», даже у Саттера был свой самолет; они же с Марией Чэнь не имели никаких шансов. В сопровождении охранников в зал вошли Дженсен Лугар и двое суррогатов, которых Хэрод привез из Саванны. Черное мускулистое тело негра предстало во всей красе. На женщине была разорванная рубашка, видимо снятая с одного из охранников. Перепачканное грязью и кровью лицо производило жуткое впечатление, но больше всего Хэрода поразили ее глаза – безумные, с невероятно расширенными зрачками. Она дико озиралась по сторонам из-под нависших спутанных волос. А вот пожилой мужчина по фамилии Ласки выглядел просто ужасно. Лугар поддерживал еврея в стоячем положении, когда они остановились в десяти шагах от Барента. Бывший суррогат Хэрода истекал кровью – она сочилась по его лицу, насквозь пропитала левую штанину комбинезона, лилась по спине. Одна рука выглядела так, словно ее пропустили через мясорубку, и кровь с нее капала на белый квадрат под ногами. Но что-то в его взгляде свидетельствовало о дерзости и отваге. Хэрод ничего не мог понять. Совершенно очевидно, что оба суррогата – мужчина и женщина были знакомы Вилли, он даже признал, что один из них когда-то являлся его пешкой, однако Барент, похоже, продолжал считать, что оба несчастных пленника явились на остров по собственной воле. Вилли упомянул, что еврей подвергся обработке со стороны Барента, но миллионер явно не имел никакого отношения к его проникновению на остров. Похоже, он продолжал относиться к нему как к независимому лицу. А диалог с женщиной выглядел еще более загадочным. Хэрод пребывал в полной растерянности. – Добрый вечер, доктор Ласки, – мягко обратился Барент к истекающему кровью человеку. – Сожалею, что не узнал вас сразу. Тот ничего не ответил. Взгляд его метнулся к креслу, где восседал Вилли, и больше уже не отрывался от немца, даже когда Лугар с силой повернул его голову к Баренту. – Это ваш самолет приземлился на северном берегу несколько недель назад? – осведомился Барент. – Да, – ответил психиатр, не сводя глаз с Бордена. – Умный ход, – одобрил Барент. – Жаль, что ваша операция сорвалась. Вы признаете, что явились сюда с целью убить нас? – Не всех, – сказал Ласки, – только его. – Он не стал указывать на Бордена, да в этом и не было необходимости. – Ясно, – кивнул Барент, потирая щеку. – Ну что ж, доктор Ласки, вы по-прежнему намереваетесь убить нашего гостя? – Да. – Вас это не волнует, герр Борден? – осведомился миллионер. Вилли расплылся в улыбке. И тогда Барент сделал нечто невероятное. Он встал с кресла, в котором сидел с момента появления трех суррогатов, подошел к женщине, взял ее грязную руку и нежно поцеловал. – Герр Борден поставил меня в известность, что я имею честь обращаться к мисс Фуллер, – промолвил он слащавым голосом. – Это так? Женщина откинула волосы со лба и жеманно улыбнулась. – Да, – ответила она с тягучим южным выговором. На ее зубах тоже виднелись следы засохшей крови. – Это огромное удовольствие для меня, мисс Фуллер, – промолвил Барент, продолжая держать ее за руку. – Невозможность встретиться с вами раньше очень огорчала меня. Но не скажете ли вы, что привело вас на мой островок? – Чистое любопытство, – ответило привидение с расширенными зрачками. Она переступила с ноги на ногу, и Хэрод заметил в разрезе рубашки треугольник темных волос на лобке. Барент, все еще улыбаясь, продолжал перебирать пальцы женщины. – Понимаю, – ответил он. – Но вам совершенно незачем было являться инкогнито, мисс Фуллер. Ваше личное присутствие на острове всегда желанно для нас, и я уверен, что… э-э-э… в гостевом крыле особняка вы будете чувствовать себя удобно. – Благодарю вас, сэр, – улыбнулась суррогатка. – Я временно не могу воспользоваться вашим приглашением, но, когда состояние моего здоровья улучшится, непременно сделаю это. – Отлично. – Барент поклонился, отпустил ее руку и уселся в свое кресло; охранники слегка расслабились и опустили стволы автоматов. – Мы как раз собирались закончить нашу шахматную партию, – продолжил Барент. – Новые гости должны присоединиться к нам. Мисс Фуллер, не окажете ли вы мне честь и не позволите ли вашей суррогатке играть на моей стороне? Уверяю вас, что она не подвергнется никакой опасности. Женщина одернула подол рубашки и попыталась кое-как пригладить волосы. – Это вы мне окажете честь, сэр, – ответила она. – Замечательно! – воскликнул Барент. – Герр Борден, как я понимаю, вы собираетесь воспользоваться двумя своими фигурами? – Да, – подтвердил Вилли. – Моя старая пешка принесет мне удачу. – Итак, вернемся к тридцать шестому ходу? Старик кивнул. – Предыдущим ходом я взял вашего слона, – напомнил он. – Вы передвинули короля к центру. – Ах, как прозрачна моя стратегия для такого блестящего гроссмейстера! – притворно вздохнул Барент. – Вы правы. – Вилли горделиво кивнул. – Ну что ж, начнем.* * *
Когда самолет вырвался из грозовых туч где-то к востоку от островов Сапело, Натали вздохнула с облегчением. Штормовой ветер продолжал крутить «сессну», океан внизу по-прежнему вскипал белыми барашками волн, но подъемы и провалы стали более плавными. – Осталось минут сорок пять. – Микс вытер рукой мокрое лицо. – Из-за встречного ветра время полета увеличилось почти на полчаса. – Ты действительно считаешь, что они дадут нам приземлиться? – наклонившись к Натали, тихо спросил Джексон. Девушка прижалась щекой к иллюминатору: – Если старуха сделает то, что обещала, возможно, и дадут. У Джексона вырвался смешок. – А ты полагаешь, она сделает? – Не знаю. Главное – вытащить оттуда Сола. По-моему, мы сделали все возможное, чтобы убедить Мелани: действовать по плану – в ее же интересах. – Да, но ведь она сумасшедшая, – возразил Джексон. – А сумасшедшие не всегда действуют в собственных интересах. Натали улыбнулась: – Думаю, это отчасти объясняет, почему мы здесь находимся. Джексон ласково тронул ее за плечо: – А ты подумала, что будешь делать, если они убьют Сола? Натали вздрогнула и стиснула зубы: – Мы заберем его тело… А потом я вернусь и убью эту тварь в Чарлстоне. Джексон вздохнул, откинулся на спинку сиденья, и уже через минуту послышалось его сонное дыхание. Натали смотрела на океан, пока не стало больно глазам, потом повернулась к пилоту. На лице Микса застыло странное выражение. Встретившись с ней взглядом, он поправил свою кепку и вновь занялся приборами.* * *
Раненый, истекающий кровью, с трудом держась на ногах и усилием воли сохраняя уплывающее сознание, Сол был несказанно рад, что очутился здесь. Он неотрывно смотрел на оберста. После сорока лет поисков он, Соломон Ласки, наконец оказался в одном помещении с Вильгельмом фон Борхертом. Положение было не из лучших. Сол разыграл все как по нотам, он даже позволил Лугару справиться с собой, хотя реально имел возможность вовремя добраться до оружия, позволил лишь потому, что лелеял слабую надежду встретиться с оберстом. Именно этот сценарий он обсуждал с Натали несколько месяцев назад, когда они пили кофе в благоухавших апельсинами израильских сумерках, но обстоятельства сложились иначе. Он мог оказать сопротивление нацистскому убийце только в том случае, если тот попробует воздействовать на его психику. Сейчас же здесь присутствовали все мутанты – Барент, Саттер, некто по имени Кеплер, даже Хэрод и суррогатка Мелани Фуллер, и Сол опасался, что кто-нибудь из них завладеет его сознанием, лишив единственной возможности удивить оберста. К тому же в сценарии, который он рисовал Натали, встреча со стариком всегда происходила один на один и Сол оказывался физически сильнее. Теперь же он прилагал все усилия для того, чтобы только не упасть, его кровоточащая левая рука безвольно повисла, под лопаткой засела пуля, оберст же выглядел бодрым и отдохнувшим в окружении по меньшей мере двух идеально обработанных пешек и еще полдюжины охранников, которых он мог призвать одним усилием воли. К тому же Сол не сомневался, что люди Барента не дадут ему сделать и трех шагов. И тем не менее он был счастлив. Не было на свете такого места, где бы он хотел оказаться больше, чем здесь. Сол тряхнул головой, чтобы сосредоточиться на происходящем. Барент и оберст занимались расстановкой одушевленных фигур. Второй раз в течение этой бесконечной ночи у Сола начались галлюцинации. Все поплыло у него перед глазами, будто отражаясь в покрытой рябью водной глади, и он отчетливо увидел лес и камни польской крепости, где солдаты зондеркоманды в серых мундирах развлекались под вековыми шпалерами, а в кресле сидел старик с генеральскими погонами, похожий на высохшую куколку какого-то насекомого. Тени, отбрасываемые факелами, плясали по камням и изразцам, падая на бритые головы тридцати двух еврейских заключенных, безвольно стоявших между двумя немецкими офицерами. Юный оберст убрал со лба прядь белокурых волос, оперся локтем о колено и улыбнулся Солу. – Willkommen, Jude,[64] – произнес он. – Начнем, – скомандовал Барент. – Джозеф, встаньте на третье поле королевского слона.[65] Кеплер отшатнулся с ужасом на лице: – Вы, наверное, шутите? – Он попятился, налетел на стол и опрокинул стоявшие на нем фужеры. – Отнюдь, – ответил Барент. – И поскорей, пожалуйста, Джозеф. Мы с герром Борденом хотим уладить все прежде, чем станет слишком поздно. – Пошли вы к черту! – заорал Кеплер и с такой силой сжал кулаки, что у него на шее выступили жилы. – Я не позволю использовать себя как какого-нибудь долбаного суррогата, пока вы там… Голос его оборвался, словно иголка проигрывателя съехала с испорченной пластинки. Он еще секунду шевелил губами, но не мог издать ни единого звука. Лицо его побагровело, затем сделалось синим, и он рухнул на пол. Руки изогнулись назад, словно их зверски заломил кто-то невидимый, щиколотки прижались друг к другу, будто связанные, и он задергался, как в припадке, скачками продвигаясь вперед. При каждом рывке его грудь и подбородок с размаху ударялись об пол. Таким образом, Джозеф Кеплер, оставляя на белых квадратах кровавые следы от разбитого подбородка, проделал весь путь до указанной позиции. Наконец Барент ослабил контроль, и по телу Кеплера пробежала судорога облегчения. – Встаньте, пожалуйста, Джозеф, – тихо произнес он. – Мы хотим начать игру. Кеплер в ужасе посмотрел на миллионера и, не говоря ни слова, встал. Его дорогие итальянские брюки пропитались мочой и кровью. – Вы собираетесь всех нас Использовать подобным образом, брат Кристиан? – осведомился Джимми Уэйн Саттер. Проповедник топтался на краю импровизированной шахматной доски, его седые волосы поблескивали в лучах прожекторов. – Я не вижу в этом никакой необходимости, Джеймс, – улыбнулся Барент. – Если, конечно, никто не будет препятствовать завершению нашей партии. А вы, герр Борден? – Да, – согласился Вилли. – Джимми, ты, как мой слон и единственная оставшаяся у меня фигура, не считая короля и пешек, встанешь рядом с пустой клеткой ферзя. Саттер поднял голову, на лбу у него выступили капельки пота. – А у меня есть выбор? – спросил он. Его театральный голос звучал хрипло и надтреснуто. – Nein, – резко ответил Вилли. – Ты должен играть. Саттер повернулся к Баренту. – Я имею в виду, на чьей стороне играть? – пояснил он. Миллионер приподнял бровь: – Ты долго и верно служил мистеру Бордену. Неужели ты теперь переметнешься на другую сторону, Джеймс? – «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, – пробормотал Саттер, – а не верующий в Сына не увидит жизни…» Иоанн, глава третья, стих тридцать шестой. Барент усмехнулся и потер подбородок: – Герр Борден, похоже, ваш слон собирается дезертировать. Вы не возражаете, если он закончит игру на стороне черных? На лице Вилли появилось обиженное выражение. – Забирайте его, к черту! – воскликнул он. – Мне не нужны жирные педерасты. – Ну что ж, Джеймс, – обратился Барент к вспотевшему проповеднику, – ты будешь левой рукой короля. – И он указал на белую клетку перед черной королевской пешкой, которая начинала игру. Саттер занял место на «доске» рядом с Кеплером. У Сола появилась надежда, что во время партии игроки не будут вторгаться в сознание своих пешек. Это оттягивало момент, когда оберст мог проникнуть в его мозг. Вилли наклонился вперед в своем массивном кресле и тихо рассмеялся: – Ну, если мне отказано в моем главном союзнике, тогда я с удовольствием повышу в звании свою старую пешку и произведу ее в слоны, иначе в епископы. Пешка, ты понимаешь? Иди сюда, еврей, и получи свою митру и посох. Сол поспешно, пока его не подтолкнули, пересек освещенное пространство поля и встал на черный квадрат в первом ряду. Теперь его отделяло от оберста всего восемь футов, но между ними находились Лугар и Рейнольдс, к тому же охранники Барента не спускали с него глаз. Он уже по-настоящему страдал от боли – левая нога занемела и ныла, плечо горело, но Сол старался не показывать этого. – Как в старые добрые времена, да, пешка? – спросил оберст по-немецки. – Прошу прощения, я имел в виду – герр слон. – И он рассмеялся. – Теперь у меня остались еще три пешки. Дженсен, пожалуйста, на ка-пять. Тони – на кью-ар-три. Том будет ферзевой пешкой на эн-пять. Сол смотрел, как Лугар и Рейнольдс занимают свои места. Хэрод продолжал стоять. – Я не знаю, что такое кью-ар-три, – произнес он. Вилли нетерпеливо оглянулся. – Вторая клетка перед моей ферзевой ладьей! – прорычал он. – Быстрее! Хэрод заморгал и направился к черной клетке в левой части доски. – Теперь ваша очередь расставлять фигуры, – обратился старик к Баренту. Тот кивнул: – Мистер Свенсон, если вы не возражаете, встаньте рядом с мистером Кеплером, пожалуйста. Усатый охранник оглянулся, положил на пол свой автомат и занял место левее и чуть позади Кеплера. Сол понял, что он стал пешкой королевского коня, которая еще не совершала ходов и стояла на исходной позиции. – Мисс Фуллер, – продолжил Барент, – не позволите ли вы вашей замечательной суррогатке проследовать на место пешки ферзевой ладьи? Женщина, которую когда-то звали Констанцией Сьюэлл, с готовностью вышла вперед и встала через четыре пустые клетки перед Хэродом. – Спасибо, мисс Фуллер, – поблагодарил Барент. – Мисс Чэнь, пожалуйста, рядом с мисс Сьюэлл. – Нет! – закричал Хэрод, когда Мария Чэнь сделала шаг вперед. – Она не играет! – Нет, играет, – возразил Вилли. – Она внесет определенное изящество в нашу игру, не правда ли? – Нет! – снова крикнул Хэрод, поворачиваясь к старику. – Она не имеет к этому никакого отношения. Вилли, улыбаясь, посмотрел на Барента: – Как трогательно. Предлагаю позволить Тони поменяться местами с его секретаршей, если положение ее пешки станет… э-э-э… угрожающим. Вас это устроит, герр Барент? – Вполне, – подтвердил тот. – Они могут поменяться местами в любой момент, когда пожелает Тони, главное, чтобы это не нарушало течения игры. Давайте же приступим. Нам все еще надо расставить своих королей. – И Барент окинул взглядом оставшуюся группу помощников и охранников. – Нет! – Борден встал и вышел на поле. – Королями будем мы, герр Барент. – Что вы такое говорите, Вилли? – устало спросил миллионер. Немец развел руками. – Это очень важная партия, – пояснил он. – Мы должны показать нашим друзьям и коллегам, что поддерживаем их. – И он занял место справа через клетку от Дженсена Лугара. – Кроме того, герр Барент, – добавил он, – короля нельзя съесть. Барент покачал головой, но встал и прошел к клетке Q3, рядом с преподобным Джимми Уэйном Саттером. Тот посмотрел на него пустыми глазами и произнес: – «И сказал Бог Ною: конец пришел всякой плоти, ибо она наполнила землю злодеяниями. И теперь Я сотру их с земли…» – Заткнись, старый педик! – крикнул Тони Хэрод. – Тихо! – приказал Барент. В краткое мгновение последовавшей тишины Сол попытался представить себе ту позицию на доске, как она выглядела после тридцать пятого хода.
Обладая довольно скромными познаниями в шахматах, предсказать ход развития эндшпиля ему было сложно. Он знал, что предстоит схватка между гроссмейстерами высокого класса, что Барент имеет значительное преимущество в сложившейся ситуации и почти не сомневается в победе. Сол не понимал, как белые фигуры могут претендовать на нечто большее, чем ничья, даже при самом удачном раскладе, но он слышал слова оберста, что ничья будет означать победу Барента. Одно Сол знал наверняка: оставшись единственной значительной фигурой среди трех пешек, слон будет использоваться весьма активно, даже невзирая на риск. Он закрыл глаза и попытался справиться с внезапно накатившей волной боли и слабости. – Итак, герр Борден, – произнес Барент, – ваш ход.
Глава 70 Мелани
В этот безумный вечер мы с Вилли наконец скрепили нашу любовь. После стольких лет. Конечно, мы сделали это с помощью наших пешек, до того как прибыть в особняк. Предложи он подобное или даже намекни, я дала бы ему пощечину, но его суррогат в образе негра-великана решил обойтись без вступлений. Дженсен Лугар просто схватил мисс Сьюэлл за плечи, швырнул ее на мягкую траву под деревом и грубо сделал свое дело. С нами. Со мной. Тяжелое тело негра еще лежало на мисс Сьюэлл, а я невольно вспоминала наши перешептывания с Ниной, когда мы забирались с ней в одну постель. Нина, затаив дыхание, рассказывала мне, вероятно, подслушанные истории об огромных анатомических размерах и невероятной потенции цветных. Соблазненная Вилли, все еще прижатая к холодной земле тяжелым телом Дженсена Лугара, я решила переключить внимание с мисс Сьюэлл на Джастина. Пока я пребывала в легком тумане воспоминаний, негритянка заявила, что она вовсе не от Нины. Но я-то понимала, что она врет. Мне не терпелось сообщить Нине, как она тогда оказалась права насчет цветных. Для меня это было отнюдь не обыденностью. Если не считать моего неожиданного и довольно призрачного знакомства с физической стороной любви в филадельфийском госпитале через мисс Сьюэлл, я об этом не знала ровным счетом ничего. Хотя буйное проявление страсти пешки Вилли с трудом можно было назвать любовью. Скорее это напоминало лихорадочные судороги сиамца моей тети, когда он вцеплялся в несчастную кошку, страдавшую течкой вовсе не по своей вине. А у мисс Сьюэлл, похоже, была постоянная течка, ибо она отвечала на грубые мимолетные приставания негра с такой похотливостью, какую ни одна юная особа в мое время не могла бы себе позволить. Но как бы то ни было, дальнейшее переживание этого опыта было неожиданно прервано негром, который вдруг выпрямился и уставился в темноту, раздувая ноздри. – Приближается моя пешка, – произнес он по-немецки и вжал мое лицо в землю. – Не двигайся. – С этими словами он вскарабкался на нижние сучья дуба, как огромная черная обезьяна. Последовавшая глупая потасовка, абсолютно бессмысленная на мой взгляд, закончилась тем, что Дженсен Лугар поднял предполагаемого суррогата Нины по имени Сол и потащил его в особняк. После того как Нинин бедняга был сломлен, но нас еще не окружили охранники, наступило несколько чарующих мгновений, когда все фонари, прожектора и подсветка на деревьях вдруг вспыхнули, словно мы вошли в сказочное царство или приближались к Диснейленду по какому-то тайному заколдованному тоннелю.* * *
Уход Нининой негритянки из моего дома в Чарлстоне и последовавшие за этим глупости отвлекли меня ненадолго, но к тому времени, когда Калли внес в гостиную бесчувственное тело Говарда и труп цветного самозванца, я уже была готова целиком отдаться своей встрече с К. Арнольдом Барентом. Мистер Барент до кончиков ногтей был настоящим джентльменом и приветствовал мисс Сьюэлл со всем уважением, которого она заслуживала как моя представительница. Я сразу поняла, что за жалкой внешностью моей пешки он видит облик моей зрелой красоты. Лежа в своей постели в Чарлстоне в зеленом сиянии аппаратуры доктора Хартмана, я знала, что обаяние моей женственности в точности передается через грубый облик мисс Сьюэлл и достигает утонченных чувств К. Арнольда Барента. Он пригласил меня играть в шахматы, и я приняла приглашение. Признаюсь, до сего момента я не испытывала к шахматам ни малейшего интереса. Мне всегда было скучно наблюдать за этой игрой, хотя Чарльз и Роджер Харрисон играли в нее постоянно. Но я так и не удосужилась выучить названия фигур или запомнить, как они ходят. Гораздо больше мне нравились оживленные игры в шашки, за которыми мы с мамашей Бут проводили дождливые вечера моего детства. Между началом этой глупой партии и последовавшим затем разочарованием в мистере Баренте прошло некоторое время. Мне поневоле приходилось отвлекаться, чтобы послать Калли и остальных наверх и заставить их заняться приготовлениями к возможному возвращению Нининой негритянки. Несмотря на препятствия, я решила, что настало время осуществить план, составленный мною несколькими неделями раньше. Я все же продолжала поддерживать контакт с человеком, за которым наблюдала много недель во время прогулок Джастина и Нининой девицы по набережной. К этому моменту я уже решила не использовать его так, как было задумано, но поддержание с ним связи стало для меня своего рода вызовом, ведь он занимал важную позицию и пользовался сложной технической лексикой. Позже я была более чем довольна, что потрудилась поддерживать эту связь, хотя сейчас она казалась мне лишь ненужной помехой. Тем временем бестолковая шахматная партия между Вилли и хозяином особняка продолжалась, представляя собой какую-то сюрреалистическую картину, изъятую из оригинала «Алисы в Стране чудес». Вилли метался взад и вперед, как Сумасшедший Шляпник. Я позволила передвигать мисс Сьюэлл, полагаясь на обещание мистера Барента не ставить ее в опасное положение. Остальные жалкие пешки и фигуры ходили туда-сюда, съедали друг друга, погибали своими смертями и убирались с доски. Пока мистер Барент не разочаровал меня, я обращала мало внимания на их мальчишеские игры. Мне нужно было завершить свое состязание с Ниной. Я знала, что ее негритянка вернется до наступления рассвета, и, несмотря на усталость, спешила все подготовить к ее возвращению.Глава 71
Остров Долманн
Вторник, 16 июня 1981 г.
Хэрод отчаянно пытался что-нибудь придумать. Неприятные ситуации сами по себе были довольно отвратительны, они ставили его в глупое положение, из которого нужно было искать выход. Пока Хэроду это не удавалось. В данный момент, насколько он понимал, Вилли и Барент вполне серьезно разыгрывали шахматную партию, ставки на выигрыш в которой были очень велики. В случае победы Вилли – а Хэрод никогда не видел, чтобы старый негодяй проигрывал, – они с Барентом продолжат свое состязание на более высоком уровне, когда ставкой будет уничтожение городов и целых стран. Победа Барента предполагала сохранение статус-кво, но Хэрод не слишком надеялся на это, ведь он только что видел, как Барент пренебрег правилами Клуба Островитян лишь для того, чтобы разыграть эту чертову партию. Хэрод стоял на своей черной клетке, на расстоянии двух клеток от края доски и трех – от безумной шлюхи Сьюэлл, и пытался изобрести хоть что-нибудь. Он готов был стоять здесь до тех пор, пока не найдет выхода из этой дурацкой ситуации, но Вилли сделал первый ход и сказал: – Пешка – на ар-четыре, прошу. Хэрод начал озираться. Остальные смотрели на него во все глаза. Двадцать или тридцать охранников, стоявшие в тени, производили жуткое впечатление, никто из них не издавал ни звука. – Это относится к тебе, Тони, – мягко проронил Барент. Миллионер в своем черном костюме стоял от него в десяти футах по диагонали. Сердце Хэрода бешено заколотилось. Он испугался, что Вилли или Барент снова попытается его Использовать. – Эй! – крикнул он. – Я в этом ни черта не понимаю! Объясните мне, куда идти. Вилли скрестил руки на груди. – Я уже объяснил, – проворчал он. – Ты стоишь на клетке ар-три, Тони. Перейди на одну клетку вперед. Хэрод поспешно шагнул на белую плитку перед собой. Теперь его отделяла одна клетка по диагонали от белокурого зомби Тома Рейнольдса и всего две пустых – от Сьюэлл. Мария Чэнь безмолвно стояла на белом квадрате рядом с суррогаткой Мелани Фуллер. – Послушай, у тебя три пешки! – крикнул Хэрод. – Откуда мне знать, что ты имеешь в виду меня? – Для того чтобы увидеть Вилли, ему пришлось изогнуться и заглянуть за черную тушу Дженсена Лугара. – Сколько у меня ладейных пешек, Тони? – раздраженно бросил немец. – А теперь заткнись и не мешай. Хэрод отвернулся и плюнул в тень, пытаясь остановить внезапную дрожь в правой ноге. Барент ответил тут же, полностью изменив представления Хэрода о долгих минутах или даже часах размышлений игроков над очередным ходом. – Король на ферзь-четыре, – промолвил он с ироничной улыбкой и сделал шаг вперед. Этот ход показался Хэроду глупым. Теперь миллионер стоял впереди всех своих фигур и лишь через клетку по диагонали от Дженсена Лугара. Хэрод с трудом сдержал истерический хохот, когда вспомнил, что черный великан олицетворял собой белую пешку. Он закусил губу и с тоской подумал о своем доме в Голливуде и джакузи. Вилли кивнул, словно ожидал этого хода, и сделал нетерпеливый жест рукой в сторону истекавшего кровью еврея: – Слон – ладья-три. Бывший суррогат по имени Сол прохромал три клетки по диагонали и остановился на том месте, где только что стоял Хэрод. Вблизи он выглядел еще страшнее. Комбинезон его целиком пропитался кровью и потом. Близоруко прищурившись, еврей кинул на Хэрода измученный настороженный взгляд. Тони не сомневался, что именно он накачал его наркотиками и допрашивал в Калифорнии. Ему было глубоко наплевать, что с ним будет дальше, он надеялся лишь на то, что еврей уничтожит несколько черных фигур перед тем, как его принесут в жертву. Барент засунул руки в карманы, сделал шаг вправо по диагонали и остановился на белом квадрате прямо перед Лугаром. – Король на ка-пять, – прокомментировал он. Хэрод ничего не понимал в этой идиотской игре. В детстве он несколько раз играл в шахматы – ровно столько, чтобы знать названия фигур и уяснить, что игра ему не нравится. Прежде всего он избавлялся от своих пешек, а затем приступал к размену более крупных фигур. Его горячие противники никогда не ходили своими королями, кроме случаев рокировки – Хэрод уже не помнил, что это за штука, – или когда их начинали преследовать. И вот два гроссмейстера мирового уровня остаются почти ни с чем, кроме пешек, и мотают королей взад-вперед, как какие-нибудь извращенцы свои члены. «А пошли они…» – подумал Хэрод и перестал стараться что-либо понять. Вилли и Барента разделяло всего шесть футов. Старик нахмурился, покусал губы и произнес: – Bauer… entschuldigen… Bischric zum Bischof funf.[66] – Потом он посмотрел на Джимми Уэйна Саттера, стоявшего от него в десяти футах по диагонали, и перевел: – Слон на слон-пять. Тощий еврей отер лицо и похромал по черным клеткам к Рейнольдсу. Хэрод сосчитал плитки от края «доски» и удостоверился, что это действительно пятая по полю слона, или ряду слона, или как они там это называют. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять: еврей теперь защищал позицию пешки Лугара, а по черной диагонали угрожал мисс Сьюэлл. Но похоже, та не осознавала, что ей грозит опасность. Хэрод снова посмотрел на нее, пытаясь разглядеть обнаженное тело в разрывах рубашки. Теперь, когда он восстановил в памяти основные шахматные правила, он ощущал меньшее напряжение. Пока он оставался на этом месте, ему ничто не угрожало. При прямом столкновении пешки не могли есть пешек. Справа от него, на клетку впереди, стоял Рейнольдс, защищая, так сказать, фланг Хэрода. Он снова посмотрел на Сьюэлл и решил, что, если ее как следует вымыть, она будет не так уж дурна. – Пешка – ладья-три, – промолвил Барент и сделал учтивый жест рукой. На какое-то мгновение Хэрод с ужасом подумал, что ему опять надо передвигаться, но потом вспомнил, что Барент – черный король. Мисс Сьюэлл среагировала на жест миллионера и изящно переступила на белую клетку. – Благодарю вас, дорогая, – сказал Барент. У Хэрода снова бешено заколотилось сердце. Еврей-слон больше не угрожал пешке Сьюэлл, но она находилась в одном диагональном шаге от Тома Рейнольдса. Если Вилли не съест ее Рейнольдсом, она уничтожит его следующим же ходом и тогда окажется по диагонали от Хэрода. «Черт», – подумал он. – Пешка на конь-шесть, – без промедления среагировал Вилли. Хэрод повернул голову, пытаясь сообразить, как он может попасть туда со своего места, но Рейнольдс пришел в движение. Белокурая пешка шагнула на черную клетку рядом с мисс Сьюэлл, оказавшись лицом к лицу с Марией Чэнь. Хэрод облизнул внезапно пересохшие губы. Марии Чэнь пока ничего не грозило, Рейнольдс не мог ее съесть. «О господи, – подумал он, – а что же станет с нами, пешками, когда нас будут съедать?» – Пешка на слон-четыре, – бесстрастно ответил Барент. Свенсон вежливо подтолкнул Кеплера. Член Клуба Островитян заморгал и сделал шаг вперед. Барент перестал выглядеть на доске таким одиноким. – Кажется, это сороковой ход? – заметил Вилли и сделал шаг по диагонали на черную клетку. – Король на ладья-четыре. – Пешка – слон-пять. – Барент передвинул Кеплера еще на одну клетку. Кеплер, в своем перепачканном костюме, двигался осторожно, словно в квадрате, расположенном рядом с Барентом, могла находиться западня. Заняв новую позицию, он остался стоять у самого края клетки, не сводя глаз с обнаженного негра, расположившегося в шести футах от него, на соседней черной диагонали. Лугар смотрел на Барента. – Пешка бьет пешку, – пробормотал Вилли. Лугар сделал шаг вперед и вправо. Джозеф Кеплер закричал и повернулся, чтобы бежать. – Нет-нет, – нахмурился Барент. Кеплер замер в прыжке, мышцы его напряглись, ноги выпрямились. Не шевелясь, он смотрел на приближающегося негра. Лугар остановился рядом с ним на черной клетке. В глазах Кеплера застыл ужас. – Спасибо, Джозеф, – сказал Барент. – Ты сослужил хорошую службу. – И он кивнул Вилли. Дженсен Лугар обеими ладонями взял угловатое лицо Кеплера, стиснул его и резким движением вывернул голову. Хруст сломанной шеи эхом отдался под сводами зала. Кеплер один раз дернулся и испустил дух, снова обмочившись при падении. По жесту Барента вперед выскочили охранники и, схватив обмякшее тело, поволокли его прочь. Лугар остался на черной клетке один, глаза его были устремлены в пустоту. Барент внимательно посмотрел на него. Хэрод не мог поверить, что Вилли отдаст Баренту Лугара. Уже четыре года негр был любимчиком старого продюсера и по меньшей мере дважды в неделю делил с ним постель. Вероятно, Барент тоже сомневался в этом. Он поднял палец, и из темноты выступило с полдюжины охранников, нацелив свои «узи» на Вилли и его пешку. – Герр Борден? – спросил Барент, поднимая бровь. – Мы можем сойтись на ничьей и вернуться к установленным состязаниям. На следующий год… кто знает? Лицо Вилли превратилось в бесстрастную маску. – Меня зовут герр генерал Вильгельм фон Борхерт, – ровным голосом произнес он. – Ходите. Барент помедлил, затем кивнул своим охранникам. Хэрод ожидал шквала огня, но они лишь удостоверились, что траектории выстрелов свободны, и замерли в готовности. – Что ж, пусть будет так. – Барент положил на плечо Лугара свою бледную руку. Уже позднее Хэрод думал, что смог бы воспроизвести на экране то, что последовало дальше, при неограниченном бюджете, дюжине техников по гидравлике и работе с искусственной кровью, плюс Альберт Уитлок[67] на подхвате, но ему никогда бы не удалось добиться такого звука и такого выражения на лицах окружающих. Через мгновение тело Лугара начало корчиться и дергаться, органы грудной клетки выперли наружу, грозя сломать ребра, бугры мускулов на плоском животе надулись, как крыша тента от порыва ветра. Затем все тело негра содрогнулось, будто охваченное неким жутким спазмом, и у Хэрода мелькнул образ расплющенной глины в руках выведенного из себя скульптора. Но страшнее всего были глаза: они закатились, так что остались видны лишь белки, которые постепенно увеличивались – сначала до размеров шариков для гольфа, потом бейсбольного мяча, надувных шаров… Лугар открыл рот, но вместо ожидаемого крика оттуда хлынула кровь. Хэрод слышал звуки, доносившиеся из утробы Лугара, – мышцы внутри рвались с таким же надрывным дребезжанием, как лопаются струны рояля, слишком туго натянутые на колки. Барент отступил на шаг, чтобы не испачкать свой парадный костюм, белую рубашку и лакированные ботинки. – Король берет пешку, – промолвил он, поправив шелковый галстук. Вышедшие на поле охранники вынесли тело Лугара. Теперь Барента инемца разделяла лишь одна белая клетка. Шахматные правила запрещали кому-либо из них вставать на нее. Короли не могли вступать в противостояние. – По-моему, мой ход, – промолвил Вилли. – Да, герр Бор… герр генерал фон Борхерт, – ответил Барент. Вилли кивнул, щелкнул каблуками и объявил следующий ход.* * *
– Разве мы не должны уже прилететь? – спросила Натали Престон и, наклонившись вперед, посмотрела в залитое дождем ветровое стекло. Дэрил Микс жевал незажженную сигару, перегоняя ее из одного угла рта в другой. – Встречный ветер сильнее, чем я думал, – ответил он. – Успокойтесь. Уже скоро. Высматривайте огни с правой стороны. Натали откинулась назад и с трудом справилась с желанием в тридцатый раз заглянуть в сумочку и проверить кольт. – Я до сих пор не могу понять, что здесь делает такая малышка, как ты, – пошутил с заднего сиденья Джексон. Натали резко обернулась: – Послушай, я знаю, что я здесь делаю. А вот что ты делаешь здесь? Уловив ее напряженное состояние, Джексон улыбнулся и невозмутимо ответил: – Братство Кирпичного завода не может смириться с тем, что являются подлые люди и начинают расправляться с его членами на нашей территории. Когда-то ведь надо рассчитаться. Натали сжала кулаки. – Дело не только в этом, – промолвила она. – Это не просто подлые люди. Джексон взял ее за плечи и тихонько сжал их: – Послушай, малышка, на этой земле есть всего три сорта людей: подлые ублюдки, подлые черные ублюдки и подлые белые ублюдки. Подлые белые ублюдки хуже всего, потому что они дольше всех занимаются этим делом. – Он бросил взгляд на пилота. – Я не хотел тебя обидеть, приятель. – А я и не обиделся, – сказал Микс, перекинув сигару в другой угол рта и ткнув пальцем в ветровое стекло. – Вон там, на горизонте, возможно, уже наш огонек. – Он сверился с указателем скорости и добавил: – Через двадцать минут… Может, через двадцать пять. Натали снова нащупала в сумочке кольт тридцать второго калибра. Всякий раз, как она прикасалась к нему, он казался ей все меньше и незначительней. Микс дернул дроссель, и «сессна» понемногу начала терять высоту.* * *
Сквозь пелену боли и усталости Сол заставлял себя следить за игрой. Больше всего он боялся потерять сознание или по собственной невнимательности вынудить Вилли преждевременно применить свою силу. И то и другое запустило бы механизм фазы сна, а фаза быстрого сна повлекла бы за собой многое другое. Как же ему хотелось сейчас лечь и заснуть долгим сном без всяких сновидений. Уже полгода он видел во сне одни и те же запрограммированные сюжеты, и теперь ему казалось, что если смерть – единственный вид глубокого сна, лишенный сновидений, то он готов был приветствовать ее. Но не сейчас. После смерти Лугара и потери единственной дружелюбной фигуры оберст – Сол отказывался производить его в генералы – воспользовался своим сорок вторым ходом и перешел в следующую клетку, передвинув белого короля на ладью-5. Похоже, его не волновало, что он оказался на чужой половине доски: две клетки отделяли его от Свенсона, три – от Саттера и две – от самого Барента. Только слон мог прийти сейчас на помощь старому немцу, и Сол заставил себя сосредоточиться. Если следующий ход Барента будет направлен на слона, Сол не выдержит и тут же набросится на оберста. До Вилли было почти двадцать футов, но он уповал лишь на то, что присутствие Барента помешает охранникам сразу открыть огонь. К тому же оставался еще Том Рейнольдс, белая пешка, стоявшая на черной клетке в трех футах от Сола. Даже если никто из охранников Барента не среагирует, оберст непременно использует Рейнольдса, чтобы схватить его. Сорок вторым ходом Барент перевел своего короля в квадрат королевского слона-4 и встал рядом с Саттером. Теперь от оберста его отделяла всего одна пустая клетка. – Слон на король-три, – объявил Вилли, и Сол, встряхнувшись, поспешно двинулся вперед, пока его не подогнали. Но даже с новой позиции ему было трудно представить это скопление уставших тел со стратегической точки зрения. Он закрыл глаза и как бы воочию увидел шахматную доску, пока Барент делал ход король-5 и перемещался на соседнюю с ним клетку.
Сол понимал, что если оберст сейчас не передвинет его, то следующим ходом Барент его съест. Он заставил себя стоять на месте, вспоминая ту ночь в бараках Хелмно, когда он решил, что лучше бороться и умереть, чем позволить увести себя в темноту. – Слон на слон-два, – скомандовал старик. Сол шагнул назад и вправо и оказался на расстоянии хода коня от Барента. Миллионер задумался над следующим ходом, потом кинул взгляд на Вилли и улыбнулся. – Это правда, герр генерал, что вы присутствовали при кончине Гитлера? – спросил он. Сол широко раскрыл глаза. Это было невероятным нарушением шахматного этикета – обращаться к сопернику в ходе игры. Но похоже, Вилли не возражал. – Да, я был в бункере фюрера в его последние часы, герр Барент. И что из этого? – Ничего, – задумчиво протянул Барент. – Я просто подумал, не оттуда ли идет ваше пристрастие к «Сумеркам богов»? Вилли захихикал: – Фюрер был дешевым позером. Двадцать второго апреля… помню, это было через двое суток после его дня рождения… он решил отправиться на юг и возглавить военные группировки Шернера и Кессельринга, прежде чем падет Берлин. Я убедил его остаться. На следующее утро я вылетел из города на частном самолете, используя вместо взлетной полосы аллею разрушенного зоопарка. Ваш ход, герр Барент. Барент выждал еще секунд сорок и отступил назад по диагонали на клетку слон-4, вновь оказавшись рядом с Саттером. – Слон на ладья-четыре, – скомандовал Вилли. Сол миновал по диагонали две черные клетки и встал позади оберста. Пока он хромал, рана на левой ноге открылась, и теперь он стоял, зажимая ее тканью комбинезона. Он находился так близко от немца, что даже ощущал его запах – такой же острый и приторно-сладкий, каким он представлял себе запах газа «Циклон-В». – Джеймс? – окликнул Барент Саттера, и тот, выйдя из своего транса, сделал шаг вперед и остановился рядом с хозяином на четвертой клетке королевской линии. Вилли бросил взгляд на Сола и резким движением указал ему на пустой квадрат между Барентом и собой. Сол повиновался. – Слон на конь-пять, – в гробовой тишине объявил немец. Сол стоял и глядел на бесстрастного агента по имени Свенсон, находившегося в двух клетках от него, ощущая присутствие Барента в двух футах слева от себя и оберста на таком же расстоянии справа. Он подумал, что, наверное, то же самое чувство испытывает человек, очутившийся между двумя огромными кобрами. Близость оберста подталкивала Сола к тому, чтобы начать действовать прямо сейчас. Ему надо было лишь повернуться и… Нет. Время еще не пришло. Сол украдкой посмотрел влево. Барент едва ли не с апатичным видом взирал на группу из четырех забытых пешек в дальней левой части «доски». Затем он похлопал Саттера по широкой спине и пробормотал: – Пешка на король-пять. И телепроповедник перешел на белую клетку. Сол мгновенно понял, какую угрозу несет Саттер оберсту. Проходная пешка, достигшая последнего ряда, могла быть превращена в любую фигуру. Но пока Саттер стоял всего лишь в пятом ряду. В качестве слона Сол контролировал диагональ, на которой находилась шестая клетка. Однако теперь появилась вероятность, что ему придется «съесть» Саттера. Какое бы презрение ни испытывал Сол к отвратительному лицемеру, в это мгновение он твердо решил, что никогда не позволит оберсту использовать себя таким образом. Если последует распоряжение убить Саттера, значит ему придется наброситься на немца, и наплевать, что при этом шансы на успех могут равняться нулю. Сол закрыл глаза и чуть было не провалился в сон. Сжав левой рукой раненую ногу, он заставил, чтобы немыслимая боль вернула его в бодрствующее состояние. Теперь у него болела правая рука, пальцы еле реагировали, когда он пытался пошевелить ими. Сол подумал о том, где сейчас Натали. Почему она не может заставить старуху действовать? Мисс Сьюэлл стояла далеко в третьем ряду на линии ферзевой ладьи, как брошенная статуэтка, устремив взгляд в тенистые своды зала. – Слон на король-три, – скомандовал оберст. Тяжело вздохнув, Сол вернулся на свою прежнюю позицию, заблокировав продвижение Саттера. Он не мог причинить тому никакого вреда, пока черная пешка оставалась на белой клетке. И Саттер не мог сделать Солу ничего плохого, пока они находились лицом друг к другу. – Король на слон-три, – произнес Барент и отступил назад на одну клетку. Теперь Свенсон оказался слева от него. – Белый король на конь-четыре, – объявил Вилли и передвинулся на шаг ближе к Саттеру и Солу. – И черный король не отстает, – чуть ли не игриво откликнулся Барент. – Король на ка-четыре. – Он сделал шаг вперед по диагонали и остановился за Саттером. Фигуры сходились к бою. С расстояния двух футов Сол смотрел в зеленые глаза преподобного Джимми Уэйна Саттера. В них не было страха, лишь недоумение, всепоглощающее желание понять, что происходит. Сол догадался, что игра вступает в заключительную фазу. – Король на конь-пять, – объявил Вилли, перемещаясь на черную клетку в ряду Барента. Миллионер выдержал паузу, огляделся и отошел на клетку вправо, в сторону от оберста. – Герр генерал, не хотите ли прерваться и освежиться? Сейчас почти три ночи. Мы могли бы перекусить и возобновить игру через полчаса. – Нет! – упрямо сказал Вилли. – Кажется, пятидесятый ход? – Он сделал шаг по направлению к Баренту и перешел на белую клетку по диагонали от Саттера; священник не пошевелился. – Король на слон-пять, – громко сказал немец. Барент отвел глаза в сторону. – Пешка – ладья-четыре, пожалуйста, – откликнулся он. – Мисс Фуллер, вы не возражаете? Дрожь пробежала по телу женщины, стоявшей на отдаленной линии ладьи, голова ее повернулась, как заржавевший флюгер. – Да? – Передвиньтесь, пожалуйста, вперед на одну клетку, – пояснил Барент. В голосе его прозвучала легкая нотка беспокойства. – Конечно, сэр. – Мисс Сьюэлл уже собралась сделать шаг, но вдруг остановилась и спросила голосом Мелани Фуллер: – Мистер Барент, а это не ставит под угрозу мою юную леди? – Конечно нет, мэм, – улыбнулся Барент. Мисс Сьюэлл прошлепала своими босыми ногами и остановилась прямо перед Тони Хэродом. – Благодарю вас, мисс Фуллер, – поклонился Барент. Вилли ухмыльнулся: – Слон на слон-два. Сол перешел по диагонали вправо на клетку назад. Этого хода он не понял. – Пешка на конь-четыре, – тут же среагировал Барент. Свенсон бодро сделал два шага вперед. Это был его первый ход – единственный, когда пешка может ходить сразу через две клетки. Теперь он оказался на одной линии с оберстом. Вилли расплылся в улыбке. – Вы начинаете нервничать, герр Барент, – промолвил он и посмотрел на Свенсона. Агент не двигался и не предпринимал попыток ни бежать, ни защищаться. Чье-то психологическое давление – оберста или Барента – не оставляло ему ни малейшей возможности действовать по собственной воле. Убийство, совершенное немцем, выглядело не столь патетичным. Свенсон мгновенно упал замертво на линию, разделявшую черные и белые клетки. – Король берет пешку, – прокомментировал Вилли равнодушно. Барент сделал шаг по направлению к Хэроду. – Черный король на слон-пять, – пояснил он. – Ну что ж. – Старик перешел на черную клетку, прилегавшую к квадрату Джимми Уэйна Саттера. – Белый король на слон-четыре. Сол понял, что, пока Барент пытался решить судьбу Хэрода, оберст почему-то угрожал Саттеру. – Король на конь-пять, – произнес хозяин особняка и переместился в квадрат рядом с Хэродом. До Тони Хэрода дошло, что следующей жертвой Барента будет он. Лицо продюсера побледнело, он облизнул пересохшие губы и оглянулся, словно намереваясь бежать. Охранники Барента придвинулись ближе. Сол повернулся к Джимми Уэйну Саттеру. Проповеднику оставалось жить несколько секунд. Совершенно очевидно, что следующим ходом Вилли захватит беспомощную пешку. – Король бьет пешку, – подтвердил фон Борхерт, переходя в белый квадрат Саттера. – Секундочку! – вскричал Саттер. – Одну секундочку. Мне надо кое-что сказать еврею! Вилли брезгливо тряхнул головой, но вмешался Барент: – Предоставьте ему секунду, герр генерал! – Побыстрее, – бросил тот, ему явно не терпелось завершить партию. Саттер полез в карман за носовым платком и, не найдя его, вытер пот с верхней губы тыльной стороной ладони. Он уставился прямо в глаза Солу и тихим твердым голосом, совсем непохожим на хорошо модулированный баритон, которым он читал свои телевизионные проповеди, произнес: – Из Книги Премудрости царя Соломона. Глава третья: «А души праведников в руке Божьей, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздания им они воссияют как искры, бегущие по стеблю… Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его…» – Это все, брат Джеймс? – весело поинтересовался Вилли. – Да, – ответил Саттер. – Король бьет пешку, – повторил оберст. – Герр Барент, я устал. Пусть ваши люди позаботятся об этом. По кивку Барента из тени вышел охранник, приставил «узи» к голове Саттера и выстрелил одиночным. – Ваш ход, – напомнил немец, пока выносили тело преподобного.
* * *
Сол и оберст остались в одиночестве в правой части доски. Барент медлил, глядя на Тони Хэрода, затем повернулся к Вилли: – Вы согласитесь на ничью? Я вступлю с вами в переговоры о возможности расширить состязания позднее. – Нет. – Старик покачал головой. – Ходите. К. Арнольд Барент сделал шаг и протянул руку к плечу Тони Хэрода. – Подождите минуточку! – заорал Хэрод и отшатнулся от Барента, не покидая своей белой клетки. Двое охранников обступили его с обеих сторон, чтобы иметь свободную траекторию огня. – Поздно, Тони, – сказал Барент. – Ну, будь же хорошим мальчиком. – До свидания, Тони, – добавил Вилли. – Постойте! – закричал Хэрод. – Вы говорили, что я могу поменяться. Вы обещали! – Голос его сорвался на визг. – О чем ты говоришь? – раздраженно прервал его Барент. Хватая ртом воздух, Хэрод указал на Вилли: – Ты обещал. Ты сказал, что я могу поменяться местами с ней… – Голова его дернулась по направлению к Марии Чэнь, а взгляд так и остался прикованным к протянутой руке Барента. – Мистер Барент слышал, что ты сказал. Он ведь согласился с тобой. Раздражение на лице Вилли сменилось легким изумлением. – Тони прав, герр Барент. Мы договорились, что у него будет возможность поменяться. Барент вдруг побагровел от ярости: – Чушь! Он хотел поменяться с девушкой, если ей будет что-то угрожать. Это же глупо! – Вы обещали! – заныл Хэрод. Он молитвенно сложил руки и повернулся к немцу. – Вилли, скажи ему. Вы же оба обещали, что я смогу поменяться, если захочу. Скажи ему, Вилли, пожалуйста. Скажи ему. Старик пожал плечами: – Дело ваше, герр Барент. Миллионер вздохнул и глянул на часы: – Предоставим решать даме. Мисс Чэнь? Мария Чэнь не мигая смотрела на Тони Хэрода. Сол не мог понять, что выражают ее темные глаза. Хэрод заерзал, бросил косой взгляд в ее сторону и отвернулся. – Мисс Чэнь? – повторил Барент. – Да, – прошептала она. – Что? Я не слышу вас. – Да, – повторила девушка. Тело Хэрода обмякло. – Напрасно, – задумчиво произнес Вилли. – У вас безопасная позиция, фройляйн. Чем бы ни кончилась партия, вашу пешку не тронут. Не понимаю, зачем меняться местами с этим никому не нужным куском дерьма? Мария Чэнь не ответила. Подняв голову и не глядя на Хэрода, она направилась к его черной клетке. Ее высокие каблуки гулко простучали по плиткам. Дойдя до места, Мария Чэнь повернулась, улыбнулась мисс Сьюэлл и посмотрела на Хэрода. – Я готова, – сказала она. Хэрод так и не поднял глаз. К. Арнольд Барент нежно провел пальцами по ее черным волосам. – Вы прекрасны, – промолвил он и шагнул на ее квадрат. – Итак, король бьет пешку. Шея Марии Чэнь изогнулась, рот невероятно широко раскрылся. Она безуспешно попыталась сделать вдох, но из горла вырвались лишь какие-то жуткие скрежещущие звуки. Упав на спину, она начала раздирать острыми ногтями собственное лицо и шею. Это продолжалось почти целую минуту. Пока уносили тело Марии Чэнь, Сол пытался понять, что же именно делали оберст и Барент. Он решил, что это не было проявлением какой-то новой грани их Способности, просто они использовали присущую им силу, захватывая контроль над соматической и автономной нервной системой человека и подавляя основы биологических функций организма. Совершенно очевидно, что от них это требовало определенных усилий, но процесс, вероятно, был тем же самым: внезапное появление тета-ритма у жертвы сменялось наступлением искусственно вызванной фазы быстрого сна и потерей самоконтроля. Сол не сомневался, что это именно так, и даже готов был держать пари на что угодно. – Король на ферзь-пять, – тем временем объявил Вилли и двинулся в сторону Барента. – Король на конь-пять, – ответил Барент и перешел на соседнюю черную клетку. Сол попытался понять, каким образом Барент намеревается спасти положение. На его взгляд, выхода не было. Мисс Сьюэлл – черная пешка Барента на ладейном поле – могла быть продвинута вперед, но не имела возможности достичь конца доски, пока у оберста сохранялся слон. Пешку Хэрода заблокировал Том Рейнольдс, и толку от нее не было никакого. Близоруко щурясь, Сол посмотрел на Хэрода, находившегося в двадцати футах от него. Тот стоял опустив голову и, судя по всему, напрочь забыл об игре, быстро приближавшейся к развязке. Оберст активно использовал Сола – своего слона и в любой момент мог объявить шах белому королю. У Барента практически не осталось шансов. – Король на ферзь-шесть. Оберст перешел на черную клетку в том же ряду, что и Рейнольдс. Лишь одна черная клетка по диагонали отделяла его от Барента. Вилли явно играл с миллионером как кошка с мышкой. Барент улыбнулся и поднял три пальца, делая вид, что отдает честь: – Сдаюсь, герр генерал. – Я – гроссмейстер, – жестко усмехнулся Вилли. – Конечно, – согласился Барент. Он пересек разделявшие их шесть футов и пожал старику руку. – Уже поздно, – оглядев зал, заметил он. – Я утратил интерес к вечеринке. Свяжусь с вами завтра относительно деталей нашего будущего состязания. – Я сегодня улетаю домой, – сказал немец. – Хорошо. – Барент облегченно вздохнул. – Не забывайте, что я оставил письменные распоряжения и инструкции у своих друзей в Европе относительно нашего будущего всемирного предприятия, – напомнил он. – Так сказать, гарантии моего безопасного возвращения в Мюнхен. – Да-да, я не забыл, – кивнул Барент. – Ваш самолет готов к отлету, я свяжусь с вами по нашим обычным каналам. – Очень хорошо. Барент оглядел почти пустую «доску». – Все произошло точно так, как вы предсказывали несколько месяцев назад, – улыбнулся он. – Весьма вдохновляющая игра. Миллионер повернулся и быстрым шагом направился к панорамным дверям, его поступь отдавалась гулким эхом под сводами зала. Одни охранники двинулись сразу на улицу, другие окружили его плотным кольцом. – Не хотите, чтобы я позаботился о докторе Ласки? – осведомился Барент, остановившись в дверях. Старик бросил взгляд на Сола, словно совсем позабыл о его существовании. – Оставьте его, – сказал он. – А как насчет нашего «героя дня»? – Барент указал на Хэрода, который опустился на пол и теперь сидел, обхватив голову руками. – Я займусь Тони, – ответил Вилли. – А женщина? – спросил Барент, кивая в сторону мисс Сьюэлл. Немец откашлялся. – Первый пункт нашей завтрашней беседы как раз и будет посвящен тому, что делать с моей дорогой подругой Мелани Фуллер. Нам следует проявить должное уважение. – Он потер уставшие глаза. – А эту уничтожьте. Барент кивнул, и вышедший вперед охранник разрядил «узи» в грудь мисс Сьюэлл. Будто гигантской рукой ее снесло с «доски», она заскользила по гладким плиткам и замерла, широко раскинув ноги. Рубашка задралась, обнажив грязное тело. – Danke, – поблагодарил немец. – Bitte sehr, – улыбнулся Барент. – Gute Nacht, Meister. Двери за хозяином и его свитой закрылись. Через минуту раздался шум двигателей, и вертолет, развернувшись, взял курс в открытый океан к дожидавшейся яхте. В большом зале не осталось никого, кроме Рейнольдса, безвольной фигуры Тони Хэрода, тел убитых, Бордена и Сола. – Итак, – сказал оберст, засовывая руки в карманы и чуть ли не с сожалением глядя на Сола, стоявшего футах в пятнадцати от него. – Настало время попрощаться, моя маленькая пешка.Глава 72 Мелани
Оказалось, что мистер Барент вовсе не джентльмен, как я подумала вначале. Пока я занималась другими делами в Чарлстоне, он убил бедную мисс Сьюэлл. Для меня это явилось, мягко говоря, ударом. Всегда неприятно, когда пули врезаются в тело, каким бы чужим оно ни было, а из-за того, что я временно отвлеклась от происходящего, ощущение, пережитое мною, оказалось вдвойне неприятным и шокирующим. Мисс Сьюэлл была довольно вульгарной простолюдинкой, перед тем как попала ко мне на службу, и ее манеры продолжали оставаться грубыми, но она стала лояльным и полезным членом моего нового «семейства» и заслуживала более достойной кончины. Моя пешка прекратила функционировать через несколько секунд после того, как была застрелена человеком Барента – вынуждена с прискорбием отметить, по предложению Вилли, – но этих нескольких секунд мне хватило, чтобы переключить свое внимание на охранника, оставленного мною у административного помещения в подземном комплексе. У охранника был при себе какой-то автомат сложной конструкции. Я не имела ни малейшего представления, как им пользоваться, зато это знал он. Поэтому я позволила ему руководствоваться собственными рефлексами при выполнении моих распоряжений. Пятеро свободных от дежурства человек из службы безопасности сидели вокруг длинного стола и пили кофе. Мой охранник короткими очередями выбил троих из кресел и ранил четвертого, когда тот метнулся к своему оружию, лежавшему на соседней койке. Пятому удалось бежать. Затем он обошел стол, переступая через трупы, подошел к раненому, который тщетно пытался заползти в угол, и дважды выстрелил в него. Где-то вдали завыла сирена, заполняя переплетения коридоров пронзительными звуками. Я заставила охранника идти к главному входу. Он свернул за угол и тут же был застрелен бородатым латиноамериканцем. Я перескочила в него и приказала броситься бегом вверх по пандусу. Снаружи затормозил джип, в котором находились трое, и офицер на заднем сиденье принялся задавать вопросы моему человеку. Я выстрелила офицеру в левый глаз, переметнулась к капралу за рулем и принялась смотреть его глазами, как джип, увеличивая скорость, несется на ограду, находившуюся под высоким напряжением. Двое охранников на переднем сиденье перелетели через капот и повисли на проводах, в то время как джип, дважды перевернувшись и подняв фонтан искр, привел в действие наземную мину на территории зоны безопасности. Пока мой мексиканец торопливо пересекал по дорожке зону безопасности, я переключилась на молодого лейтенанта, который бежал к месту происшествия со своими девятью подчиненными. Обе мои новые пешки рассмеялись, увидев выражения лиц охранников, осознавших, что оружие командира направлено на них. С севера приближалась еще одна группа с остатками суррогатов, взятых в плен после бегства Дженсена Лугара. Я заставила мексиканца швырнуть им под ноги световую гранату. Вспышка высветила обнаженные фигуры, и те с криками бросились врассыпную. Выстрелы звучали уже отовсюду, обезумевшие охранники стреляли друг в друга. Два патрульных катера пристали к берегу выяснить, что происходит, и я заставила молодого лейтенанта броситься им навстречу. Я бы с большим удовольствием наблюдала за событиями из особняка, но это можно было сделать только через мисс Сьюэлл. Нейтралы Барента оставались вне моей досягаемости, а единственным игроком в зале, которого я могла бы Использовать, был еврей, но я ощутила в нем что-то неладное. Он принадлежал Нине, а с ней в данный момент мне не хотелось иметь никаких дел. Тогда я решила возобновить контакт, который не был связан с людьми на острове. Он находился гораздо ближе. Из-за последних оживленных событий в Чарлстоне я почти потеряла с ним связь и теперь смогла восстановить ее лишь благодаря долгой предварительной обработке на расстоянии. Я действительно считала Нину сумасшедшей, когда ее негритянка день за днем таскала Джастина в этот парк у реки и верфей и заставляла его смотреть в идиотский бинокль, чтобы разглядеть этого человека. Мне потребовалось четыре сеанса, прежде чем я попробовала установить первый робкий контакт. Именно Нинина негритянка заставила меня сделать это с изысканной тонкостью… будто Нина могла учить меня изысканности! Я испытывала невероятную гордость оттого, что поддерживала эту связь в течение нескольких недель, в то время как ни сам субъект, ни его коллеги ничего не замечали. Поразительно, какие технические подробности и жаргон можно узнать, просто пассивно присутствуя в другом человеке. Пока мисс Сьюэлл продолжала действовать, я и не собиралась Использовать этот источник, несмотря на все Нинины угрозы и махинации. Теперь же все изменилось. Я разбудила человека по имени Мэллори, подняла его с койки и отправила по короткому коридору в помещение, освещенное красными лампами. – Сэр, – произнес некто по имени Лиланд. Я вспомнила, что его называли Крестики-Нолики. И еще я вспомнила, как сама в детстве проводила долгие одинокие часы за этой игрой. – Очень хорошо, мистер Лиланд, – похвалил Мэллори. – Оставайтесь на месте. Я буду в командном центре. Я заставила Мэллори выйти и спуститься по лестнице, пока никто не заметил, как изменилось выражение его лица. К счастью, в освещенном красными лампами коридоре ему никто не встретился. Улыбка предвкушения так широко раздвинула его губы, что стали видны все зубы, вплоть до самых последних. Это могло бы показаться его коллегам странным и даже подозрительным.Глава 73
Остров Долманн
Вторник, 16 июня 1981 г.
– Держитесь! – крикнул Микс. – Начинается развлекательная часть программы. Нос «сессны» круто нырнул вниз и выровнялся всего в пяти футах над гребнями волн. Натали изо всех сил вцепилась в края своего сиденья, когда они помчались навстречу темному острову, видневшемуся в шести милях. – Что это? – спросил Джексон, указывая на черное устройство на приборной доске, наконец прекратившее гудеть и попискивать. – Антирадар, – ответил Микс. – За нами начал следить локатор. А сейчас мы или слишком низко поднырнули, или прикрылись островом. – Но им известно, что мы приближаемся? Натали с трудом сохраняла спокойствие, глядя на то, как вскипает странно фосфоресцирующая вода под несущимся со скоростью сто миль в час самолетом. Она знала: стоит Миксу ошибиться, и они врежутся в волны, от которых, казалось, их отделяло всего несколько дюймов. Натали еле сдерживала желание поднять повыше ноги. – Должны знать, – ответил Микс. – Но я взял сильно на восток, так что им должно было показаться, будто мы пролетели милях в пяти-шести к югу от острова. Мы вроде бы вышли из радиуса их обзора. А сейчас подлетаем с северо-востока: думаю, они более бдительно отслеживают западное направление. – Смотрите! – воскликнула Натали. Впереди замаячили зеленые огни пирса, за которым явственно виднелись всполохи пожара; она повернулась к Джексону. – Может, это Мелани? Может, она все-таки начала действовать! – Мне рассказывали, что они жгут огромные костры в амфитеатре, – откликнулся Микс. – Возможно, там идет какое-нибудь представление. Натали посмотрела на часы: – В три часа ночи? Пилот пожал плечами. – А мы можем пролететь над островом? – спросила она. – Я хочу взглянуть на особняк перед тем, как мы сядем. – Слишком рискованно. – Микс покачал головой. – Я облечу с востока и вернусь обратно вдоль южного побережья, как в первый раз. Натали кивнула. Всполохи огня исчезли, не стало видно и пирса, остров вообще казался необитаемым, когда они свернули к восточному побережью. Самолет удалился от него еще ярдов на сто в открытый океан и набрал высоту, когда впереди показались скалы юго-восточного мыса. – Боже мой! – воскликнул Микс, и они приникли к левому стеклу кабины, чтобы лучше рассмотреть происходящее, пока «сессна» круто выворачивала вправо, уходя в относительную безопасность океана. К югу океан озарился от гриба пламени, взметнувшегося чуть ли не до неба. Желтовато-зеленые периферийные всполохи огня долетали почти до «сессны». Когда самолет снизился до шести футов над полосой прибоя, Натали увидела две яркие вспышки, высветившие силуэт корабля на фоне бушевавшего пламени, которое разгоралось все ярче и ближе к ним. Первая из вспышек, рассыпавшись, упала в воду и погасла, вторая стремительно пронеслась мимо и врезалась в скалу ярдах в ста позади них. Взрыв подбросил «сессну» футов на шестьдесят, как хорошая волна подкидывает доску виндсерфинга, и самолет стал быстро приближаться к темной поверхности океана. Микс попытался справиться с управлением, потом вытравил до предела дроссель и резко отпустил его, издав нечто напоминающее индейский клич. Натали, прижавшись щекой к стеклу, смотрела, как огненный шар разлетается на сотню маленьких. Вершина скалы обрушилась в воду. Натали повернула голову влево как раз в тот момент, когда еще три вспышки на корабле обозначили взлет новых ракет. – Ну и ну! – выдохнул Джексон. – Держитесь! – крикнул Микс и так круто свернул вправо, что Натали всего футах в двадцати от себя увидела верхушки пальм.* * *
К. Арнольд Барент почувствовал облегчение, когда вышел из особняка и сел в вертолет. Двигатель загудел, лопасти начали набирать скорость, и его пилот Дональд поднял машину над деревьями и затопленной огнями лужайкой. Слева взлетал более старый «белловский» вертолет типа «ирокез» с девятью охранниками Барента на борту, а справа виднелось гладкое смертоносное тело единственной во всей стране «кобры», находящейся в частном владении. Тяжеловооруженная «кобра» обеспечивала прикрытие с воздуха и должна была дождаться, пока яхта «Антуанетта» не выйдет в открытый океан. Барент откинулся на спинку кожаного кресла и попытался расслабиться. Представление с Вилли казалось довольно безопасным, учитывая многочисленную охрану и расставленных повсюду снайперов, и все же Барент испытывал явное облегчение теперь, когда все закончилось. Он поднял руку, чтобы поправить галстук, и с изумлением обнаружил, что она дрожит. – Подлетаем, сэр, – сообщил Дональд. Они сделали круг над «Антуанеттой» и начали мягко опускаться на корму. Барент с удовлетворением отметил, что шторм утихает, а трехфутовые волны не представляли сложности для стабилизаторов яхты. Он подумывал о том, чтобы не выпускать Вилли с острова, но обещанные стариком неприятности по линии европейских контактов могли оказаться слишком существенными. Теперь, когда предварительная игра закончилась и прежние препятствия устранены, стоит поразмышлять о более крупных масштабах состязания со старым нацистом, которые тот предложил несколькими месяцами раньше. Барент не сомневался, что сможет уговорить Вилли на вполне удовлетворяющий обоих, но не столь необъятный размах – возможно, на Ближнем Востоке или где-нибудь в Африке. Такие игры уже не впервые разыгрывались на международной арене. Однако старуха в Чарлстоне была не тем лицом, с которым можно вести переговоры. Барент решил утром посоветоваться со Свенсоном, как лучше ее ликвидировать, и тут же улыбнулся собственной забывчивости. Сказывалась усталость. Ну ладно, если не Свенсон, то его заместитель Де Прист или любой другой из бесконечного числа помощников. – Садимся, сэр, – сообщил пилот. – Спасибо, Дональд. Пожалуйста, свяжись по рации с капитаном Шаерсом и скажи, что я загляну на мостик, прежде чем идти к себе. Мы должны сняться с якоря, как только будет закреплен вертолет. В сопровождении четырех охранников, доставленных первым вертолетом, Барент направился к мостику. Не считая его изготовленного на заказ самолета, «Антуанетта» была самым безопасным местом. Отборная команда состояла всего из двадцати трех идеально обработанных нейтралов плюс охрана. Быстрая, хорошо вооруженная, окруженная скоростными патрульными катерами и находящаяся, как сейчас, неподалеку от берега, яхта была даже надежнее острова. Капитан и два офицера, стоявшие на мостике, вежливо кивнули при появлении Барента. – Курс на Бермуды, сэр, – отрапортовал капитан. – Мы тронемся, как только сядет «кобра». – Хорошо, – произнес Барент. – Охрана острова еще не сообщала об отбытии самолета мистера Бордена? – Нет, сэр. – Будьте добры, Джордан, дайте мне знать, как только это случится. – Да, сэр. Второй офицер откашлялся и обратился к капитану: – Сэр, радары сообщают о появлении какого-то большого судна из-за юго-восточного мыса. Расстояние всего четыре мили и продолжает сокращаться. – Сокращаться? – переспросил капитан Шаерс. – Что сообщает первый пикет? – Первый пикет не отвечает, сэр. Стенли утверждает, что расстояние составляет три с половиной мили и судно делает двадцать пять узлов. – Двадцать пять узлов? – снова удивленно переспросил капитан. Он поднял большой бинокль с устройством ночного видения и присоединился к первому помощнику, стоявшему у правого борта. – Срочно установите, что это за судно, – распорядился Барент. – Уже, сэр, – откликнулся Шаерс. – Это «Эдвардс». – В голосе его послышалось облегчение. «Ричард С. Эдвардс», эсминец класса «Шерман», охранявший остров Долманн во время летнего лагеря. Линдон Джонсон первым из президентов отрядил для этой цели «Эдвардс», и с тех пор традиция не нарушалась. – А почему эсминец вернулся? – спросил Барент. В отличие от капитана, он продолжал нервничать. – Он должен был покинуть акваторию два дня назад. Сейчас же свяжитесь с его капитаном. – Расстояние две и шесть десятых мили, – доложил второй офицер. – На связь никто не выходит, сэр. Включить сигнальный огонь? Барент, как во сне, приблизился к стеклу. Снаружи была кромешная тьма. – На расстоянии в две мили они сбавили скорость, – отрапортовал второй офицер. – Разворачиваются к нам бортом. По-прежнему никаких ответов на наши обращения. – Может, капитан Мэллори решил, что у нас проблемы? – предположил Шаерс. Барент вдруг очнулся. – Немедленно уходим! – закричал он. – Пусть «кобра» атакует их. Нет, погодите! Скажите Дональду, пусть готовит вертолет. Я улетаю. Шевелитесь, черт бы вас побрал, Шаерс! Пока трое офицеров удивленно пялились на него, Барент выскочил за дверь и, растолкав охранников, скатился по лестнице на главную палубу. По дороге он потерял лакированный ботинок, но возвращаться не стал. Подбежав к освещенной взлетной площадке, Барент споткнулся о свернутый канат и упал, испачкав костюм. Охранники бросились ему на помощь, но он уже вскочил и заорал: – Дональд, черт побери! Пилот и два члена экипажа уже отцепили только что закрепленные канаты и теперь возились с крепежом лопастей винта. «Кобра», вооруженная авиапушками и двумя ракетами с тепловым наведением, прогрохотала в тридцати футах над «Антуанеттой» и заняла положение между яхтой и ее бывшим защитником. На волнах скакали отблески огней, тошнотворно напомнившие Баренту о светлячках его детства в Коннектикуте. Только теперь он разглядел в темноте контуры эсминца, но уже в следующее мгновение «кобра» взорвалась в воздухе. Одна из ее ракет прочертила зигзаг в ночном небе, прежде чем с безобидным плеском упасть в океан. Барент повернулся спиной к вертолету и, еле переставляя ноги, направился к правому борту. Он увидел вспышку пятидюймовой пушки за мгновение до того, как услышал грохот выстрела и свист приближающегося снаряда. Первый снаряд упал в десяти ярдах от «Антуанетты», окатив палубу такой волной, что она сбила с ног Дональда и троих охранников на корме. Вода еще не успела схлынуть, как последовала новая вспышка. Барент широко расставил ноги и вцепился в поручень, стальные тросы впились ему в ладони. – Черт бы тебя побрал, Вилли! – прорычал он сквозь стиснутые от ярости зубы. Следующий снаряд, скорректированный и управляемый радиолокатором, попал в корму «Антуанетты» футах в двадцати от того места, где стоял Барент. Он прошил обе палубы и взорвался в отделении, где располагались двигатель и обе главные цистерны с дизельным топливом. Пожар сразу охватил половину яхты, взметнувшись на восемьсот футов вверх, а затем постепенно начал спадать, сворачивая огненные языки.* * *
– Цель поражена, сэр, – донесся с мостика голос дежурного офицера Лиланда. – Отлично, Крестики-Нолики, – ответил капитан «Ричарда С. Эдвардса». – Развернитесь, чтобы наши десятки были направлены на береговые цели. Артиллеристы и противолодочная бригада в полном изумлении взирала на своего капитана. Мэллори сказал им, что это дело государственной важности, абсолютно секретное. Теперь им только оставалось смотреть на его бледное безжизненное лицо и гадать, не произошло ли чего-нибудь ужасного. Одно они знали наверняка: если эта ночная операция была ошибкой, карьере капитана пришел конец. – Остановиться и заняться поисками уцелевших, сэр? – донесся голос Лиланда. – Отставить, – распорядился Мэллори. – Мы будем атаковать цели В-три и В-четыре. – Сэр! – вскричал офицер противовоздушной обороны, склонившись над своим радарным экраном. – Только что появился самолет. Расстояние две и семь десятых мили. Параллельное следование, сэр. Скорость восемь узлов. – Оставайтесь у «терьеров», Скип, – распорядился Мэллори. Обычно для противовоздушной обороны «Эдвардс» использовал лишь двадцатимиллиметровые пушки «фаланга», но перед выходом на патрулирование к острову Долманна эсминец снабдили четырьмя ракетами «земля – воздух» и громоздкими ракетными установками. Пять недель вся команда выражала недовольство, поскольку «терьеры» заняли единственное ровное свободное место, использовавшееся обычно для турниров по фрисби. Одну из ракет, правда, применили три минуты назад для уничтожения вертолета. – Это гражданский самолет, сэр, – сообщил радарный офицер. – Одномоторный. Скорее всего, «сессна». – Ракеты к запуску! – скомандовал капитан. Офицеры, находившиеся в оперативно-тактическом центре, услышали, как были выпущены две ракеты, щелчок перезарядки и звук запуска еще одной ракеты. – Черт! – выругался наводящий офицер. – Простите, капитан. Цель ушла за гребень скалы, и первая ракета ее потеряла. Вторая врезалась в скалу. Третья попала куда-то еще. – Цель видна на экране? – осведомился Мэллори. Глаза у него стали как у слепого. – Нет, сэр. – Очень хорошо, – произнес капитан. – Артиллерия? – Да, сэр? – Открывайте огонь из обоих орудий, как только получите подтверждение цели на взлетном поле. После пяти залпов перевести огонь на особняк. – Есть, сэр. – Я буду в своей каюте, – сказал Мэллори. Офицеры какое-то время стояли на месте, глядя на закрывшуюся дверь, пока наводящий офицер не доложил: – Цель В-три взята. И тогда члены команды отставили все вопросы и занялись каждый своим делом. Через десять минут, когда дежурный офицер Лиланд собрался постучать в каюту капитана, оттуда донесся одиночный выстрел.* * *
Натали еще никогда не приходилось летать между деревьями. Отсутствие луны не делало это занятие более приятным. Черная масса деревьев неслась им навстречу и исчезала внизу, когда Микс дергал «сессну» вверх и снова нырял вниз, отыскивая какое-либо свободное пространство. Даже в темноте Натали различала бунгало, дорожки, бассейн и пустой амфитеатр, мелькавшие под самолетом. Каким бы собственным радарным устройством ни руководствовался Микс, оно явно было совершеннее механических сенсоров, установленных в третьей выпущенной ракете. Она врезалась в дуб и взорвалась, подняв немыслимый фонтан из коры, ветвей и листьев. Микс свернул вправо к пустующей полосе зоны безопасности. Внизу что-то горело, дымились по меньшей мере две машины, а в лесу то и дело мелькали вспышки выстрелов. В миле к югу на единственную взлетную полосу ложились снаряды. – Ого! – воскликнул Джексон, когда рядом с ангаром взлетел на воздух топливный бак. Они обогнули северный причал и вновь углубились в океан. – Нам надо вернуться, – сказала Натали. Она держала руку в своей сумке, не спуская палец с предохранителя кольта. – Приведите мне хотя бы один довод, – бросил Микс, поднимая самолет на пятнадцать футов над уровнем моря. Натали вынула руку из сумки. – Пожалуйста, – твердо сказала она. Микс посмотрел на нее, затем поднял бровь и перевел взгляд на Джексона. – А, какого черта! – прорычал он. «Сессна» круто свернула вправо и изящно развернулась, пока прямо под ней не замигал зеленый огонь пирса.Глава 74
Остров Долманн
Вторник, 16 июня 1981 г.
После того как вертолетБарента пропал из виду и наступила тишина, оберст еще некоторое время стоял на месте, засунув руки в карманы. – Итак, – наконец повернулся он к Солу. – Настало время прощаться, моя маленькая пешка. – Мне казалось, я уже стал слоном, – холодно возразил Сол. Вилли рассмеялся и подошел к креслу с высокой спинкой, которое прежде занимал Барент. – Пешка всегда остается пешкой, – сказал он, усаживаясь с достоинством короля на троне. Он бросил взгляд на Рейнольдса, тот подошел и встал рядом. Сол не отрываясь смотрел на оберста, однако успел заметить краем глаза, как Тони Хэрод отполз в тень и, положив голову своей мертвой секретарши себе на колени, издал какое-то тошнотворное мяуканье. – Продуктивный день, не так ли? – спросил старик. Ласки промолчал. – Герр Барент сказал, что ты сегодня убил по меньшей мере трех его людей, – улыбнулся Вилли. – И как тебе нравится быть убийцей, еврей? Сол на глаз прикинул расстояние между ними. Шесть клеток и еще около шести футов. Двенадцать шагов. – Это были невинные люди, – продолжил немец. – Оплачиваемая охрана. У них наверняка остались жены, дети. Тебя это не заботит, еврей? – Нет. – Он покачал головой. – Вот как? – удивился Вилли. – Значит, ты осознал необходимость уничтожать невинные жизни, когда это требуется? Очень хорошо. Я боялся, что ты сойдешь в могилу с той же дешевой сентиментальностью, которую я уловил в тебе при нашей первой встрече. Это прогресс. Как и вся ваша убогая нация, ты понял, что невинных нужно убивать, если от этого зависит твоя собственная жизнь. Представь, как тяготила меня эта необходимость, моя маленькая пешка. Людей, обладающих моей Способностью, немного – может, один на несколько сот миллионов, от силы десяток в каждом поколении. На протяжении всей истории таких, как я, боялись и преследовали. При первых же признаках проявления нашего превосходства нас клеймили, как ведьм и дьяволов, и безмозглая толпа уничтожала нас. Мы поломали зубы, пока научились скрывать свой исключительный дар. Если нам удавалось спастись от пугливых скотов, мы становились жертвами других, обладавших такими же способностями. Когда рождаешься акулой среди тунцовых косяков, при встрече с другими акулами не остается ничего другого, как бороться за сферу обитания. Мне, как и тебе, удалось выжить. У нас с тобой гораздо больше общего, чем мы готовы признать, не так ли, пешка? – Нет, – ответил Сол. – Что? – Нет, – повторил Сол. – Я – цивилизованное человеческое существо, а ты – акула, безмозглая, безнравственная машина убийства, питающаяся отбросами. Ты – рудимент эволюции, способный лишь хватать и глотать. – Ты пытаешься спровоцировать меня, – ухмыльнулся оберст. – Ты боишься, что я оттяну твой конец. Не бойся, пешка. Это будет быстро. И скоро. Сол глубоко вздохнул, пытаясь справиться с физической слабостью. Только бы не упасть. Раны его все еще кровоточили, но болезненные участки тела онемели и потеряли чувствительность, что было в тысячу раз ужаснее. Он знал, что для решительных действий у него остаются считаные минуты. Но старик еще не закончил своей тирады. – Как и весь Израиль, ты твердишь о морали, а ведешь себя подобно гестаповцу. Любое насилие проистекает из одного и того же источника, пешка. Страсть к власти. Власть – вот единственная истинная мораль, еврей, единственный бессмертный бог, и страсть к насилию – это его заповедь. – Нет, – сказал Сол. – Ты безнадежное жалкое создание, которое никогда не поймет основ человеческой морали и того, что заложено в слове «любовь». Но я хочу, чтобы ты знал, оберст. Как и весь Израиль, я понял, что существует и другая мораль, которая требует жертвоприношений и власти над людьми, и что мы никогда больше не преклоним головы перед такими, как ты, и теми, кто вам служит. К этому взывают сотни поколений невинных жертв. И выбора здесь нет. Оберст печально покачал головой. – Ты так ничему и не научился, – вздохнул он. – Ты так же сентиментально глуп, как и твои недоразвитые сородичи, которые послушно шли в печи, улыбаясь и дергая себя за пейсы, и уговаривали своих умственно отсталых детей следовать за собой. Вы – безнадежная нация, и единственное преступление фюрера в том, что он не достиг своей цели по полному вашему истреблению. И все же, когда я убью тебя, пешка, я сделаю это не из личных соображений. Ты хорошо послужил, но ты слишком непредсказуем. И эта непредсказуемость не согласуется с моими дальнейшими планами. – Когда я убью тебя, – сказал Сол, – то сделаю это исключительно из личных соображений. – И он шагнул к немцу. – Ты умрешь сейчас, – объявил оберст. – Прощай, еврей. Сол ощутил сильнейший мозговой удар, пронзивший его до основания позвоночника. Столь мощный и непреодолимый, словно тело его насадили на стальной прут. В то же мгновение его собственное сознание отделилось от него, и где-то в мозгу пробудился тета-ритм, запуская фазу быстрого сна, превращающую его в лунатика, в ходячий труп, неспособный контролировать собственные действия. Но даже несмотря на то, что сознание его было отброшено на темные задворки мозга, Сол продолжал ощущать внутри присутствие оберста – столь же острое и болезненное, как первый раздирающий легкие вдох ядовитого газа. Прежде чем произошло разделение его сознания, он успел отметить изумление немца, ибо включение фазы быстрого сна запустило поток воспоминаний и впечатлений, гипнотически внедренных в подсознание Сола и теперь взрывавшихся, как мины на поле озимой пшеницы. Проникнув в мозг Соломона Ласки, Вилли фон Борхерт внезапно столкнулся с другой личностью – хрупкой, искусственно созданной и облекающей тонкие нервные центры в жалкую оболочку из фольги, претендующую на звание истинных доспехов. Он в своей практике встречался с чем-то подобным лишь однажды, когда в 1941 году со своей айнзацгруппой ликвидировал несколько сотен пациентов литовской психиатрической клиники. От скуки, за несколько секунд до того, как пуля солдата СС лишила жизни безнадежного шизофреника, Вилли проскользнул в его мозг. Тогда его тоже удивила вторая личность, присутствующая в сознании, но справиться с ней оказалось не сложнее, чем с первой. Он был уверен, что и в данном случае не возникнет никаких проблем. Немец снисходительно улыбнулся этим жалким потугам еврея удивить его и, прежде чем уничтожить безнадежное творение Сола, несколько секунд помедлил, смакуя его. Двадцатитрехлетняя Мала Каган несет в печь крематория в Аушвице свою четырехмесячную дочь Эдек, сжимая в правом кулаке лезвие бритвы, которое прятала все эти месяцы. Офицер СС врывается в толпу обнаженных, медленно передвигающихся женщин. «Что у тебя в руке, сука? Отдай мне». Сунув ребенка своей сестре, Мала поворачивается к эсэсовцу и открывает ладонь. «Получи!» – кричит она и взмахивает лезвием. Офицер вскрикивает и отскакивает назад, закрыв лицо руками, кровь сочится между пальцев. Дюжина эсэсовцев поднимают свои автоматы, когда Мала с бритвой в руке делает шаг им навстречу. «Жизнь!» – кричит она, и все двенадцать автоматчиков стреляют одновременно. Сол уловил ухмылку оберста и непроизнесенный вопрос: «К чему запугивать меня призраками, пешка?» Тридцать часов потратил он, чтобы с помощью самогипноза воспроизвести последнюю минуту жизни Малы Каган. Но оберст в одну секунду разрушил этот образ, смел его с такой легкостью, с какой сметают паутину в кладовке. Сол сделал еще один шаг вперед. Старик снова безжалостно вторгся в его сознание, достиг центров контроля и запустил желанный механизм фазы быстрого сна. Шестидесятидвухлетний Шалом Кржацек ползет на четвереньках по варшавским канализационным трубам. Вокруг кромешная тьма, на головы безмолвной вереницы беглецов обрушиваются фекальные воды, когда наверху опорожняются арийские туалеты. Шалом ползет уже четырнадцать дней, с того момента, как они бежали после безнадежной шестидневной схватки с отборными нацистскими частями. Он взял с собой девятилетнего внука Леона. Из огромной семьи Шалома в живых остался только этот мальчик. Две недели ползет постоянно редеющая цепочка евреев сквозь вонючий мрак узких труб, в то время как немцы стреляют, поливают их из огнеметов и забрасывают канистры с ядовитым газом во все уборные гетто и канализационные люки. Шалом захватил с собой шесть кусков хлеба, и они делят их с Леоном. Четырнадцать дней они пытаются вырваться наружу, пьют воду из сочащихся по стенам ручейков, уповая на то, что она дождевая, пытаются выжить. Наконец над головой открывается крышка люка, и на них глядит грубое лицо борца польского Сопротивления. «Выходите! – говорит он. – Выходите! Здесь вы в безопасности». Собрав последние силы, ослепленный солнечным светом, Шалом выбирается наружу и долго лежит на уличной мостовой. За ним появляются еще четверо. Леона среди них нет. Слезы бегут по его лицу, он пытается вспомнить, когда в последний раз разговаривал в темноте с мальчиком. Час назад? Вчера? Слабо оттолкнув руки своих спасителей, Шалом спускается в темную дыру и ползет назад, туда, откуда пришел, выкрикивая имя внука. Вилли фон Борхерт незамедлительно уничтожил плотную защитную мембрану, которой был Шалом Кржацек. Сол сделал еще один шаг вперед. Оберст поерзал в кресле, и будто тупой топор расколол сознание Сола. Семнадцатилетний Питер Гайн сидит и рисует в Аушвице движущуюся мимо него очередь мальчиков, направляющихся к душевой. Последние два года в Терезине Питер и его друзья выпускали газету «Ведем», в которой он и другие юные дарования публиковали свою поэзию и рисунки. Перед отправкой Питер отдал все восемьсот страниц Зденеку Тауссигу, чтобы тот спрятал их в старой кузнице за магдебургскими бараками. Питер не видел Зденека с момента приезда в Аушвиц. Теперь он тратит последний лист бумаги и кусок угля, чтобы зарисовать бесконечную очередь обнаженных мальчиков, проходящих перед ним морозным ноябрем. Уверенными, точными движениями руки Питер набрасывает выступающие сквозь кожу ребра и расширенные от ужаса глаза, трясущиеся худые ноги и руки, стыдливо прикрывающие сжавшиеся от холода гениталии. К нему подходит капо в теплой одежде и с деревянной дубинкой в руке. «Что это? – спрашивает он. – Вставай к остальным». Питер не поднимает головы от своего рисунка. «Сейчас, – отвечает он. – Я почти закончил». Разъяренный капо бьет юношу дубинкой по лицу и каблуком сапога наступает ему на руку, ломая три пальца. Он хватает его за волосы, поднимает на ноги и толкает в медленно движущуюся очередь. Прижимая к себе сломанную руку, Питер оглядывается через плечо и видит, как холодный осенний ветер подхватывает его рисунок, тот ненадолго застревает в верхнем ряду колючей проволоки и, кувыркаясь, летит дальше, к линии деревьев на западе. Оберст смел и эту личность. Сол сделал два шага вперед. Боль от непрекращающегося мозгового насилия стальными шипами впилась ему изнутри в глазницы. Ночью, перед тем как отправиться в газовые камеры в Биркенау, поэт Ицхак Кацнельсон читает свое стихотворение двенадцатилетнему сыну и еще дюжине свернувшихся на полу людей. До войны Ицхак был известен в Польше своими юмористическими стихами и песнями для детей. Это были добрые, веселые стихи. Младших сыновей Ицхака, Бенджамина и Бенсиона, убили вместе с их матерью в Треблинке полтора года назад. Теперь он читает на иврите, языке, которого никто, кроме его сына, не понимает, затем переводит на польский:* * *
Тони Хэрод завороженно смотрел, как Сол приближается к Вилли. Психиатр походил на пловца, преодолевающего мощный прилив, или путешественника, двигающегося навстречу ураганному ветру. Схватка между ними была безмолвной и невидимой, но явственно ощутимой, как электромагнитная буря. По завершении каждого этапа противостояния еврей поднимал ногу, медленно наклонялся вперед и снова ставил ее, как парализованный, вновь учащийся ходить. Таким образом, израненный, окровавленный человек преодолел шесть клеток и уже достиг последнего ряда «шахматной доски», когда Вилли словно стряхнул с себя сонное оцепенение и бросил взгляд на Тома Рейнольдса. Вытянув свои длинные белые пальцы, убийца прыгнул вперед… В трех милях от особняка раздался мощный взрыв, поднявший в воздух «Антуанетту». Сила его была столь велика, что вылетели несколько стекол из панорамных дверей. Ни Вилли, ни Ласки ничего не заметили. Хэрод смотрел, как трое мужчин сошлись, как Рейнольдс начал душить психиатра, и услышал новые взрывы со стороны аэропорта. Он осторожно опустил голову Марии Чэнь на холодную плитку, пригладил ее волосы и стал медленно обходить борющихся людей. Восемь футов отделяло Сола от оберста, когда насилие над его сознанием прекратилось. Казалось, кто-то выключил невыносимый, заглушающий все на свете рев. Сол споткнулся и едва не упал. Он восстановил контроль над собственным телом с таким ощущением, которое испытывает человек, возвращаясь в дом раннего детства, робко и с грустью осознавая, какое расстояние отделяет его от когда-то близкой и родной обстановки. В течение нескольких минут Сол и оберст являлись практически одним лицом. В процессе страшной схватки ментальных энергий Сол точно так же пребывал в сознании оберста, как тот – в его собственном. Когда всеобъемлющая гордыня этого монстра начала сменяться неуверенностью, а неуверенность – страхом, он понял, что ему противостоят не просто несколько человек, но армии, легионы мертвых, поднимающихся из своих братских могил, чтобы в последний раз бросить ему свой вызов. Да и самого Сола поразили и даже испугали тени, вставшие с ним рядом, чтобы защитить его, прежде чем уйти обратно во тьму. Некоторых из них он даже не мог вспомнить. Откуда они – с фотографий, из досье? Зато Сол хорошо помнил других – молодого венгерского кантора, последнего раввина Варшавы, девочку из Трансильвании, покончившую с собой в День искупления, дочь Теодора Герцля, умершую от голода в Терезиенштадте, шестилетнюю девочку, убитую женами эсэсовцев в Равенсбруке… Ужасный миг он метался в бесконечных коридорах собственного сознания, гадая, не попал ли он в какое-то невероятное хранилище национальной памяти, которое не имеет никакого отношения к сотням часов его тщательного самогипноза и месяцам заранее спланированных кошмаров. Последней личностью, уничтоженной оберстом, был он сам, четырнадцатилетний Соломон Ласки, стоящий в Хелмно и беспомощно глядящий вслед отцу и брату Йозефу. Только на этот раз, за мгновение до того, как фон Борхерт рассеял этот образ, Сол вспомнил то, чего он не позволял себе раньше. Его отец вдруг обернулся, крепко прижимая к себе Йозефа, и воскликнул на иврите: «Услышь, о Израиль! Мой старший сын будет жить!» И Сол, сорок лет искавший покаяния в этом самом непростительном из грехов, наконец увидел его в лице единственного человека, который мог простить его, четырнадцатилетнего мальчика. Он споткнулся, но, восстановив равновесие, бросился к оберсту. Том Рейнольдс кинулся наперерез, протягивая свои длинные пальцы к его горлу. Сол не обратил на него никакого внимания, оттолкнул в сторону, позаимствовав силу у своих мысленных союзников, и преодолел последние пять футов, отделявшие его от Вилли фон Борхерта. На мгновение он увидел удивленное лицо немца, его расширенные от недоумения выцветшие глаза и вцепился в жилистую шею, опрокидывая кресло и увлекая за собой Рейнольдса. Все трое рухнули на пол. Герр генерал Вильгельм фон Борхерт был старым человеком, но его руки все еще сохраняли силу, и он уперся ими в грудь Сола в отчаянной попытке освободиться. Сол не обращал внимания на колени оберста, бившие его в живот, на сокрушительные кулаки Тома Рейнольдса, опускавшиеся ему на спину и голову. Используя свою многоликую силу, он сомкнул пальцы на горле немца и принялся душить его, понимая, что ослабит хватку лишь тогда, когда эта тварь перестанет дышать. Вилли брыкался, извивался, царапал руки и лицо своего насильника, брызжа слюной во все стороны. Его румяное лицо сделалось сначала багрово-красным, потом посинело, он уже задыхался. Чем глубже впивались пальцы Сола в горло ненавистной твари, тем больший прилив сил он ощущал. Вилли молотил каблуками по ножке опрокинутого массивного кресла. Сол не заметил, как следующей взрывной волной снесло панорамные двери и выбило все окна, осыпав их осколками стекла. Он не заметил, как второй снаряд попал в верхние этажи особняка, наполнив зал дымом, когда занялись старые кипарисовые стропила. Он не заметил, что Рейнольдс удвоил свои усилия, колотя и пиная Сола, словно обезумевшая заводная игрушка. Он не заметил, как, хрустя битым стеклом, к ним подошел Тони Хэрод с двумя бутылками «Дом Периньона» и одной из них ударил Рейнольдса по затылку. Пешка Вилли Бордена, потеряв сознание, отпустила Сола, но продолжала извиваться и вздрагивать от лихорадочных нервных импульсов, которые все еще посылал оберст. Хэрод сел на черную клетку, открыл бутылку и стал пить прямо из горлышка. Но Сол и этого не заметил. Он все крепче и крепче сжимал руки на горле немца, не обращая внимания на кровь, хлещущую из его собственного расцарапанного горла и капающую на темнеющее лицо и выпученные глаза старика. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем Сол осознал, что оберст мертв. Пальцы его так глубоко ушли в горло немца, что, даже когда он заставил себя разжать их, на шее остались глубокие вмятины, словно отпечатки скульптора в мягкой глине. Голова фон Борхерта запрокинулась, вылезшие из орбит глаза неподвижно уставились в потолок, распухшее лицо почернело. Том Рейнольдс лежал без дыхания на соседней клетке, его застывшее лицо представляло собой искаженную карикатуру на маску смерти своего хозяина. Сол почувствовал, что последние силы вытекают из него, как жидкость из разбитого сосуда. Он знал, что где-то здесь в зале находится Хэрод и с ним тоже надо разобраться, но не сейчас. А может, в этом и не возникнет необходимости. С возвращением сознания вернулась и боль. Правое плечо Сола было сломано и кровоточило, ему казалось, что осколки костей трутся друг о друга. Грудь и шея оберста были залиты кровью Сола, вырисовывая бледные отпечатки его рук. Тем временем особняк содрогнулся еще от двух взрывов. Дым окутал зал, и десятки тысяч витражей отразили языки бушующего на втором этаже пламени. Сол уже ощущал спиной жар, понимал, что должен встать и идти, но не мог. Он упал щекой на грудь оберста и позволил силе тяжести придавить себя. Снаружи снова раздался грохот, но это не имело значения. Испытывая острейшую потребность хотя бы в минутном отдыхе, Сол закрыл глаза, и теплый мрак объял его со всех сторон.Глава 75
Остров Долманн
Вторник, 16 июня 1981 г.
– Ну, вот и все, – сказал Микс. Едва закончился обстрел, пилот направил «сессну» к посадочной полосе. После обстрела на ней остались лишь несколько глубоких воронок, которые при сопутствующей удаче и умелом управлении можно было миновать, однако южная часть была перекрыта стволами двух поваленных деревьев, а северная охвачена огнем – там взорвался резервуар с авиационным топливом. Рядом с горами пепла и балками, которые еще недавно были ангаром, виднелись дымящиеся остовы вертолетов и полыхал «лир-джет». – Приплыли, – вздохнул Микс. – Видит бог, мы старались. Стрелка топлива показывает, что пора поворачивать обратно. Нам и так придется добираться на честном слове. – У меня есть идея, – сказала Натали. – Давайте приземлимся в каком-нибудь другом месте. – Нет. – Пилот покачал головой. – Ты видела северный пляж, над которым мы пролетали несколько минут назад? Прилив и шторм перемесили там все. Ни малейшего шанса. – Он прав, Натали, – устало промолвил Джексон. – В этой ситуации мы вряд ли что-то сможем сделать. – Эсминец… – начал Микс. – Ты сам сказал, что сейчас он уже находится в пяти милях от юго-восточного мыса, – прервала его Натали. – Но у него длинные руки, – возразил пилот. Они уже в третий раз приближались к южной части взлетной полосы. – Поворачивай налево, – скомандовала Натали. – Сейчас покажу.* * *
– Ты, наверное, шутишь? – усмехнулся Микс, когда они ушли в сторону от скал. – Мне не до шуток, – бросила девушка. – Давайте садиться, пока не вернулось это корыто. – Эсминец, – автоматически поправил ее Микс. – Ты сумасшедшая! На скале, где минут двадцать назад самоуничтожилась ракета, все еще горел кустарник. Западную часть неба освещали пожары, бушевавшие на взлетной полосе. В трех милях от берега на черном фоне воды догорали обломки роскошной «Антуанетты». Уничтожив взлетную полосу, эсминец вернулся вдоль восточного берега назад и уложил по меньшей мере с полдюжины снарядов туда, где стоял особняк. Крыша огромного строения полыхала, восточное крыло было полностью разрушено, дым клубами поднимался в свете еще горевших прожекторов, а один из снарядов, вероятно, попал в южную часть, выбив окна и стену, которая выходила на длинную лужайку, тянувшуюся до самых скал. Однако сама лужайка выглядела неповрежденной, хотя частично тонула в темноте там, где были разбиты прожектора. Пожар, бушевавший на скалах, высвечивал кустарник и карликовые деревья. Освещенный участок лужайки, прилегавший к особняку, длиной ярдов в двадцать, казался довольно ровным, если не считать единственной воронки от снаряда и руин, оставшихся от дома. – Это нам подходит, – заявила Натали. – Сомневаюсь, – откликнулся Микс. – Угол наклона почти тридцать градусов. – Для посадки годится, – упрямо повторила девушка. – Тебе будет вполне достаточно этой полосы. Ведь на британских авианосцах палубу специально делают наклонной, верно? – Она дело говорит, – кивнул Джексон. – Под тридцать градусов? – фыркнул Микс. – Кроме того, даже если нам удастся приземлиться и не врезаться в это горящее здание, на темных кусках лужайки могут быть сучья, ямы, декоративные камни… Это безумие! – Я голосую «за», – сказала Натали. – Мы должны попытаться найти Сола. – Да, – поддержал ее Джексон. – Какое, к черту, голосование? – возмутился Микс. – С каких это пор на самолетах демократия? – Он натянул на лоб кепку и бросил взгляд на эсминец, удалявшийся на восток. – Ну, признайтесь, – взмолился он, – это что, начало революции? Натали подмигнула Джексону. – Да, – кивнула она. – Ну вот! – воскликнул Микс. – Я так и знал. Ладно, леди и джентльмены, ставлю вас в известность, что вы совершаете полет с единственным заслуженным социалистом Дорчестерского округа. – Он достал сигару из кармана рубашки и пожевал ее. – Ну что ж, – сказал он наконец, – все равно нам не хватит топлива на обратную дорогу.* * *
С приглушенным двигателем самолет начал плавно снижаться к скале, белевшей внизу в свете звезд. Натали никогда еще не испытывала такого возбуждения. Затянув пристежной ремень так туго, что едва можно было дышать, она наклонилась вперед и вцепилась в приборную доску, когда вершины скал устремились к ним с захватывающей дух скоростью. Через сто футов ей показалось, что «сессна» неминуемо должна разбиться о скалы. – Встречный ветер нам здорово поможет, – сказал Микс, осторожно выжимая ручку управления. Они миновали вершину скалы на высоте десять футов и погрузились во мрак, царивший между деревьями. – Мистер Джексон, сообщите мне, когда этот корабль повернет назад. Джексон со своего места издал нечто нечленораздельное. Микс посадил «сессну» в самом начале первой освещенной полосы. Посадка оказалась жестче, чем Натали могла себе представить. Она ощутила во рту привкус крови и поняла, что прикусила язык. Через секунду они уже неслись в темноте, чередующейся с полосами света. Натали подумала о стволах рухнувших деревьев и декоративных камнях. – Пока неплохо, – заметил Микс. Самолетик проскакал по очередному освещенному участку и вновь нырнул в темноту. Натали казалось, что они карабкаются по вертикальной стене, выложенной булыжником. Правое шасси вдруг что-то зацепило, и «сессну» занесло вбок, так что она чуть не перевернулась на скорости пятьдесят миль в час. Микс дергал за дроссель, тормоза и педали управления, как обезумевший органист. Наконец самолет выровнялся и выкатился на последний освещенный участок. Южная стена горящего дома летела им навстречу с угрожающей скоростью. Они описали ухабистую дугу так, что правое крыло прошло над краем воронки, в каких-то пятнадцати футах от патио. Порывом поднятого «сессной» ветра сорвало зонтик над столом, и он, кувыркаясь, полетел в сторону. Самолет замер, глядя под уклон. Натали казалось, что даже горнолыжные трассы, на которых ей довелось кататься, были менее крутыми. Пилот вытащил изо рта сигару и недоуменно уставился на нее, словно только сейчас обнаружил, что она не зажжена. – Санитарная остановка, – объявил он. – Кто не вернется через пять минут или при первом появлении противника, пойдет домой пешком. – Он извлек из лежавшей между сиденьями кобуры кольт с перламутровой рукоятью и отсалютовал им. – Viva la revolution![68] Натали никак не могла расстегнуть свой ремень и открыть дверь. В результате она просто выпала из кабины, увлекая за собой сумку и чуть не вывернув лодыжку. Она вытащила кольт, оставив все остальное на земле, и подождала Джексона. У него была с собой лишь черная медицинская сумка и фонарик, но он повязал на голову красный платок. – Куда? – прокричал он, перекрывая рев все еще вращавшегося пропеллера. – Думаю, наше прибытие заметили. Так что лучше поторопиться. Натали кивнула в направлении главного зала. Свет в этой части особняка не горел, но рыжие отблески пламени очерчивали смутные тени в дымном пространстве за развороченными стеклянными дверями. Джексон пробрался по разбитым плитам, ногой толкнул дверь и включил свой армейский фонарик. Густой дым обволакивал огромный зал, пол которого был усеян бесчисленными осколками и обломками кирпичей. Натали с поднятым вверх кольтом двинулась вперед. Чтобы легче было дышать, она прижала к лицу носовой платок. Слева, в конце зала, виднелись два стола, заставленные едой, напитками и разбитыми электронными приборами. На полу в разных местах лежали несколько тел. Джексон, освещая себе дорогу фонариком, осторожно подошел к первому из них. Это оказалась та красивая азиатка, которая была в машине с Тони Хэродом, когда три дня назад Сол встречался с ним в Саванне. – Не свети ей в глаза, – донесся из темноты знакомый голос. Натали присела и развернула ствол револьвера в направлении звука, а Джексон посветил туда же фонариком. У перевернутого кресла на полу, скрестив ноги, сидел Хэрод, а рядом с ним лежали еще чьи-то тела. На коленях он держал наполовину пустую бутылку вина. Натали придвинулась к Джексону, передала ему кольт и взяла фонарик. – Он Использует только женщин, – сказала она, указывая на Хэрода. – Если он шевельнется или я начну вести себя странно, убей его. Хэрод мрачно покачал головой и сделал большой глоток из бутылки. – С этим покончено, – произнес он. – Навсегда. Натали посмотрела вверх. Сквозь разрушенную крышу виднелись звезды. Судя по звукам, где-то работала автоматическая противопожарная система, но на втором и третьем этаже продолжало бушевать пламя. Вдали слышался треск автоматных очередей. – Смотри! – крикнул Джексон. Луч фонарика осветил три тела рядом с массивным креслом. – Сол! – Натали бросилась вперед. – О господи, Джексон! Он мертв? Она оттащила Сола в сторону, с трудом отцепив его руки от тела лежавшего под ним мужчины. Натали сразу поняла, что это оберст, – Сол показывал ей газетные вырезки с фотографиями Уильяма Бордена из своего архива, – но теперь его искаженное почерневшее лицо с вылезшими из орбит глазами казалось нечеловеческим и абсолютно неузнаваемым. Джексон опустился на колени рядом с Солом, нащупал его пульс, поднял веко и посветил фонариком. Натали же видела только сплошную кровь, покрывавшую лицо, руки и одежду Сола. Она не сомневалась, что он мертв. – Он дышит, – сказал Джексон. – Пульс слабый, но прощупывается. Они расстегнули комбинезон и осторожно перевернули Сола. Джексон при свете фонарика осмотрел его. – О боже, – прошептал он. – У него два пулевых ранения. С ногой ничего страшного, но надо как-то остановить кровотечение в плече. И кто-то здорово потрудился над его рукой и горлом. – Он открыл свою сумку, приготовил шприц и ввел иглу в левую руку психиатра. Затем глянул на приближавшиеся языки пламени. – Надо выбираться отсюда, Натали. В самолете у меня есть плазма. Помоги мне. Сол застонал, когда они начали поднимать его. – Эй! – раздался из темноты голос Хэрода. – Можно я с вами? Натали, едва не выронив фонарик, метнулась к кольту, оставленному Джексоном на полу. – Он собирается меня Использовать, – прошептала она. – Застрели его. – Нет. – Это был голос Сола. Ресницы его дрогнули, губы посинели и так опухли, что он едва мог говорить. – Он помог мне, – прохрипел Сол и дернул головой в сторону Хэрода. Один глаз у него не открывался от запекшейся вокруг крови, другой был устремлен на Натали. – Эй, – тихо произнес он, – что тебя задержало? Попытка Сола улыбнуться вызвала у Натали слезы. Она хотела обнять его, но опустила руки, когда увидела, как он сморщился от боли. – Пошли, – сказал Джексон. Треск автоматных очередей стал громче. Натали кивнула и в последний раз обвела зал лучом фонарика. Пожар полыхал уже ближе, захватив прилегающие коридоры второго этажа. Усиливавшееся кроваво-красное сияние напоминало картину Страшного суда Иеронима Босха, а сверкавшие на полу осколки казались глазами бессчетного числа демонов. Натали еще раз взглянула на мертвое тело Вильгельма фон Борхерта и судорожно вздохнула. – Пошли, – сказала она.* * *
Все три горевших на склоне холма прожектора погасли. Натали с фонариком и кольтом шла впереди, а Джексон нес Сола. Еще до того, как они покинули особняк, психиатр вновь потерял сознание. «Сессна» стояла на месте, пропеллер по-прежнему вращался, но пилот исчез. – О господи, – выдохнула Натали, обводя фонариком лужайку. – Ты умеешь водить эту штуку? – спросил Джексон, затаскивая Сола в самолет. Он тут же принялся распаковывать стерильные бинты и готовить плазму. – Нет. – Она покачала головой и посмотрела вниз. То, что должно было служить им взлетным полем, погрузилось в кромешную тьму. Натали не могла даже различить, где начинается дубовая аллея. Со стороны холмов вдруг послышались шаги и чье-то тяжелое дыхание. Натали направила туда луч фонарика и подняла кольт. Дэрил Микс бежал к самолету, заслоняясь рукой от света. – Где ты был? – воскликнула Натали, опуская фонарик. – Свет погас, – задыхаясь, ответил он. – Мы знаем. Где… – Залезай! – Он вытер кепкой мокрое от пота лицо. Натали кивнула и побежала вокруг самолета к пассажирскому сиденью, чтобы не ползти через пульт управления, боясь задеть тормоза или еще что-нибудь. Под крылом с другой стороны стоял Тони Хэрод. – Пожалуйста, – заныл он. – Вы должны взять меня с собой. Я действительно спас ему жизнь, честное слово. Пожалуйста. Натали ощутила легкий намек на чужое присутствие в своем сознании, словно чья-то рука робко ощупывала темноту. Ждать она не стала. Едва Хэрод открыл рот, девушка подошла ближе и изо всех сил пнула его в пах, радуясь, что на ней не кроссовки, а жесткие туристские ботинки. Хэрод выронил бутылку, которую держал в руке, и упал на траву, корчась от боли. Натали запрыгнула на подножку и открыла дверь кабины. Она не знала, какая концентрация внимания требуется мозговому вампиру, чтобы применить свою силу, но не сомневалась, что гораздо большая, чем та, на которую сейчас был способен Тони Хэрод. – Быстрее! – крикнула она, хотя Микс тронул самолет с места прежде, чем она успела захлопнуть за собой дверь. Натали попробовала нащупать пристежной ремень, не нашла его и удовлетворилась тем, что обеими руками вцепилась в приборную доску. Если их приземление было захватывающим, то взлет стал воплощением всех известных аттракционов одновременно. Натали сразу поняла, чем занимался Микс, пока они были в особняке. В конце длинного темного коридора на расстоянии тридцать футов друг от друга ярко полыхали два огня. – Надо знать, где кончается земля и начинается откос! – прокричал пилот, перекрывая нарастающий грохот двигателя и дребезжание шасси. – Это неплохо срабатывало, когда мы с папой играли в «подковки» в темноте. На сигареты. Продолжать беседу было уже невозможно. Тряска увеличилась, огни метнулись навстречу и вдруг остались позади, а на Натали нахлынуло опасение, подстерегающее всех любителей «американских горок»: что, если въедешь на вершину и рельсы кончатся, а кабина будет продолжать лететь дальше? Скалы за особняком спускались к морю почти на двести футов. «Сессна» упала уже на половину этой высоты, и тут Микс совершил нечто неожиданное: он опустил нос самолета и, прибавив обороты, еще стремительнее ринулся навстречу белой полосе прибоя, которая целиком заполнила обзор в ветровом стекле. Позже Натали не могла вспомнить ни о собственном крике, ни о выпущенной из кольта пуле, но Джексон уверял ее, что вопль был впечатляющим, а пулевое отверстие в крыше кабины говорило само за себя. Микс дулся из-за этого почти всю обратную дорогу. Едва они вышли из крутого виража, придавшего им необходимое ускорение, и стали набирать высоту, Натали переключила свое внимание на Сола. – Как он? – спросила она, разворачиваясь в кресле. – Без сознания. – Джексон стоял на коленях в тесном проходе, занимаясь правой рукой Сола. – Он выживет? – Если мне удастся стабилизировать его состояние. – В тусклом свете приборной доски были видны лишь глаза медика. – Про остальное: внутренние повреждения, переломы – сказать ничего не могу. Пулевое ранение плеча не так опасно, как я думал. Похоже, пуля была выпущена с большого расстояния или от чего-то отскочила. Я могу прощупать ее на глубине два дюйма, чуть выше кости. Видимо, Сол в тот момент наклонился. Если бы он стоял прямо, она бы вышла через правое легкое. Он потерял много крови, но я влил ему плазму. Натали, ты знаешь, что плазму изобрели чернокожие? – Нет. – Парень по имени Чарльз Дрю. Я читал где-то, что он умер от потери крови после автомобильной аварии в пятидесятые, потому что какой-то идиот в больнице Северной Каролины заявил, что у него в холодильнике нет негритянской крови, а «белую» кровь он отказался ему переливать. – Какое это сейчас имеет значение? – удивилась Натали. Джексон пожал плечами: – Солу бы понравилось. У него с чувством юмора получше, чем у тебя. Вероятно, потому, что он психиатр. Микс вынул изо рта сигару. – Мне очень не хочется прерывать вашу романтическую беседу, – заметил он, – но, может, вашего друга стоит доставить в ближайшую больницу? До Саванны, к примеру, лететь на час меньше, чем до Чарлстона, Брунсуика или Меридиана. Да и с горючим это отчасти решит проблему. Джексон бросил взгляд на Натали. – Дайте мне десять минут, – сказал он. – Я волью ему еще немного крови, проверю реакции, и тогда посмотрим. – Я бы предпочла вернуться в Чарлстон, если у нас есть возможность сделать это, не рискуя жизнью Сола, – ответила Натали. – Мне очень нужно туда попасть. – Как хотите. – Микс пожал плечами. – Я могу лететь прямо, вместо того чтобы огибать побережье, но не уверен, что я правильно оцениваю ситуацию с горючим. – Оценивай ее, пожалуйста, правильно, – попросила Натали. – Постараюсь. У тебя, кстати, нет жвачки или чего-нибудь такого? Она покачала головой. – Тогда заткни пальцем дыру, которую ты мне проделала в крыше. Этот свист действует мне на нервы. В конечном итоге именно Сол решил, что они полетят в Чарлстон. После трех пинт плазмы его состояние улучшилось, пульс выровнялся, и он, открыв здоровый глаз, спросил: – Где мы? – Летим домой. – Натали опустилась рядом с ним на колени. Они с Джексоном поменялись местами после того, как медик проверил все жизненно важные функции организма Сола и объявил, что у него затекли ноги. Миксу такое перемещение не очень понравилось, и он сказал, что люди, которые встают на ноги в движущихся на полной скорости аэропланах и каноэ, просто сумасшедшие. – С тобой все будет в порядке. – Натали нежно погладила Сола по волосам. – Немного странное ощущение, – тихо сказал он. – Это морфий, – пояснил Джексон, нагнувшись, чтобы еще раз проверить пульс. Сол снова начал куда-то проваливаться, но тут же открыл уже оба глаза и спросил тревожным голосом: – Оберст… Он действительно мертв? – Да, – ответила Натали. – Я его видела. Вернее, то, что от него осталось. Сол сделал хриплый вдох: – А Барент? – Если он был на своей яхте, то тоже. – Как мы и планировали? – Вроде того, – улыбнулась Натали. – Все пошло не так, как было задумано, но в конце концов вмешалась Мелани. Я даже не знаю, что ее подтолкнуло к действию. Судя по ее последним словам, она отлично ладила с Борденом и Барентом. Сол с трудом улыбнулся опухшими губами: – Барент уничтожил мисс Сьюэлл… Это могло разозлить Мелани… А вообще, что вы оба здесь делаете? Мы же ни разу не обсуждали вероятность твоего появления на острове. – Может, отвезти тебя обратно? – усмехнулась Натали. Сол закрыл глаза и произнес что-то по-польски. – Трудно сосредоточиться, – пояснил он. – Натали, может, мы отложим последнюю часть? Может, займемся ею позже? Она хуже их всех, она обладает гораздо большей силой. Думаю, даже Барент под конец стал ее опасаться. Нам вдвоем с ней не справиться. – Голос его становился все слабее, по мере того как он погружался в сон. – Все кончено, Натали… Мы победили. Она взяла его руку и, поняв, что он уснул, тихо возразила: – Нет, не кончено. Еще не совсем. Они летели на северо-запад, к видневшемуся в предрассветной дымке берегу.Глава 76
Чарлстон
Вторник, 16 июня 1981 г.
При сильном попутном ветре они приземлились на крохотной посадочной полосе Микса к северу от Чарлстона за сорок пять минут до рассвета. На протяжении последних десяти миль показатель топлива стоял на нуле. Сол не проснулся, даже когда они переложили его на брезентовые носилки, хранившиеся у Микса в ангаре. – Нам нужна еще одна машина, – сказала Натали, оглядевшись. – Эта продается? – Она указала на микроавтобус «фольксваген», стоявший рядом с трейлером Микса. – Мой электропрохладительный кислотный экспресс?[69] – воскликнул Микс. – Наверное. – Сколько? – спросила Натали. Древняя машина была покрыта психоделическими узорами, которые просвечивали сквозь выцветшую зеленую краску, но Натали привлекло то, что на окнах имелись занавески, а на заднем сиденье, достаточно длинном и широком, вполне можно было разместить носилки. – Пятьсот?.. – Годится, – кивнула девушка. Пока мужчины устанавливали носилки позади водительского сиденья, она отправилась к своему пикапу и покопалась в чемоданах. Найдя деньги, спрятанные в одном из ботинков Сола, Натали перенесла все вещи, кроме тех, что могли ей понадобиться, в «фольксваген». Джексон измерял Солу давление. – А зачем тебе две машины? – спросил он, подняв глаза. – Я хочу как можно скорее доставить его в больницу, – ответила она. – Как ты считаешь, везти его в Вашингтон не слишком рискованно? – Почему в Вашингтон? Натали вынула из сумки кожаную папку: – Тут письмо от… родственника Сола. В нем содержится просьба оказать ему помощь в израильском посольстве. Мы приготовили его на всякий случай. Если отправить Сола в чарлстонскую больницу, пулевые ранения неизбежно привлекут внимание полиции. Зачем рисковать без надобности? – Можно и в Вашингтон, – кивнул Джексон. – Если они смогут быстро обеспечить ему квалифицированную медицинскую помощь. – В посольстве о нем позаботятся. – Он нуждается в хирургическом вмешательстве, Натали. – И у них есть прямо в посольстве операционная. – Вот это да. – Джексон развел руками. – А почему бы тебе тоже туда не поехать? – Я хочу забрать Зубатку, – ответила Натали. – Мы можем заскочить за ним перед выездом из города, – предложил Джексон. – К тому же мне надо избавиться от пластита и всякого электронного хлама, – добавила она. – Встретимся в посольстве сегодня вечером. Джексон долго смотрел на нее, затем кивнул. Когда они вылезли из машины, к ним подошел Микс. – По радио что-то не слышно никаких сообщений о революции, – заметил он. – Разве подобные вещи не начинаются везде одновременно? – Продолжай слушать, – посоветовала Натали. Микс кивнул и взял у нее пятьсот долларов: – Если революция и дальше будет так продолжаться, глядишь, я разживусь на ней. – Спасибо за прогулку, – улыбнулась Натали, и они пожали друг другу руки. – А вам троим нужно сменить занятие, если хотите насладиться жизнью после революции, – заметил Микс. – Не нервничайте. – И, насвистывая какую-то мелодию, он направился обратно к своему трейлеру. Натали подошла к «фольксвагену» и дотронулась до руки Джексона. – Увидимся в Вашингтоне, – сказала она. Он взял ее за плечи и крепко обнял: – Будь осторожна, малышка. Мы все сделаем втроем, когда позаботимся о Соле. Натали лишь кивнула, боясь, чтопроговорится. Быстро выехав из аэропорта, она отыскала главную дорогу в Чарлстон.* * *
Продолжая вести машину на большой скорости, Натали разложила на соседнем сиденье пояс со взрывчаткой, детонатор с проводами, радиопередатчик, кольт с двумя дополнительными обоймами, духовой пистолет и коробку с ампулами. На заднем сиденье стояло дополнительное электронное оборудование и лежал купленный в последнюю пятницу топор, накрытый одеялом. Она задумалась о том, как к этому отнесется полицейский, если ее остановят за превышение скорости. Мрак рассеивался, переходя в туманный рассвет, но плотные тучи на востоке не давали пробиться солнцу, и фонари продолжали гореть. Сбросив скорость, девушка въехала в Старый город, и сердце ее бешено заколотилось. Она остановилась за полквартала от дома Фуллер, нажала кнопку передатчика и спросила: «Зубатка, ты здесь?» Ответа не последовало. Спустя несколько минут Натали проехала мимо дома, но в переулке напротив, где их должен был дожидаться Зубатка, тоже никого не было. Она убрала передатчик, уповая лишь на то, что парень где-нибудь заснул, или отправился разыскивать их, или, на худой конец, был арестован за бродяжничество. Дом и двор Фуллер под высокими деревьями, с которых все еще стекали капли дождя, тонули в темноте. Лишь сквозь жалюзи верхнего окна продолжал литься зеленоватый свет. Натали медленно объехала квартал. Сердце ее билось так, что она ощущала физическую боль. Ладони вспотели, а пальцы ослабли настолько, что она даже не могла сжать их в кулак. Голова кружилась от усталости и недосыпания. Натали понимала, что продолжать действовать в одиночку глупо. Нужно дождаться, пока Солу не станет лучше, подключить Зубатку и Джексона, чтобы они помогли им. Разумнее всего сейчас развернуться и двинуться в Вашингтон, прочь от этого темного дома, маячившего в сотне ярдов впереди, с его зеленоватым свечением, напоминавшим какой-то фосфоресцирующий гриб в мрачных глубинах леса. Натали заглушила мотор и попыталась выровнять дыхание. Опустив голову на холодный руль, она заставила свой уставший мозг думать. Как же ей не хватало Роба Джентри! Он знал бы, что делать дальше. По щекам ее катились слезы – явный признак усталости. Девушка тряхнула волосами, резко выпрямилась и ладонью вытерла лицо. «Каждый, кто принимал участие в этом кошмаре, сделал все возможное и невозможное, – подумала она, – кроме меня. Роб выполнил свою задачу и расстался с жизнью. Сол отправился на остров один, зная, что там будут пятеро монстров. Джек Коэн погиб, пытаясь нам помочь. Даже Микс, Джексон и Зубатка взвалили на свои плечи львиную долю ответственности, а маленькая мисс Натали хочет, чтобы все сделали за нее». Она так крепко вцепилась в руль, что у нее побелели костяшки пальцев, и попробовала разобраться в своих мыслях. Ее жажду отомстить за отца и Роба затмили время и безумные события последних семи месяцев. Она была уже не той девочкой, которая беспомощно и одиноко стояла перед закрытым моргом, где лежало тело ее отца, и клялась отомстить неизвестному убийце. В отличие от Сола, ею больше не двигало стремление к возмездию и справедливости. Натали взглянула на дом Фуллер. Нет, сейчас ею руководило нечто похожее на то, что подвигло ее стать учительницей. Оставить Мелани Фуллер в живых – все равно что бежать из школы, в которой среди ничего не подозревающих детей ползает смертельно ядовитая змея. Руки Натали дрожали, когда она надевала пояс и вставляла в него тяжелые пакеты с пластитом. Энцефалограф требовал замены батареек, и она с ужасом вспомнила, что оставила дополнительное снаряжение в одной из сумок. Непослушными пальцами ей все же удалось открыть радиопередатчик и переставить батарейки. Два контакта никак не приклеивались, и Натали оставила их болтаться, подсоединив пусковой механизм к детонаторам Си-4. Главный детонатор был электрическим, но присутствовал еще и механический таймер обратного отсчета, и катушка запала, которую они с Солом рассчитали на временной отрезок в тридцать секунд. Натали похлопала себя по карманам в поисках зажигалки, но та, вероятно, осталась на острове вместе с остальным содержимым ее сумки. В бардачке, среди дорожных карт, она обнаружила единственную упаковку спичек, которую они прихватили из ресторана, когда останавливались по пути, и сунула ее в карман. Окинув взглядом вещи, разложенные на сиденье, Натали включила двигатель. Однажды, когда ей было семь лет, один приятель подбил ее прыгнуть с вышки в новом муниципальном бассейне. Это была вышка для взрослых, к тому же Натали едва умела плавать. Тем не менее она уверенно прошла мимо спасателя, оживленно болтавшего с девушкой и не обратившего внимания на малолетку, взобралась по лестнице, казавшейся бесконечной, подошла к краю узкой доски, самой высокой из шести, и прыгнула. Тогда она понимала, точно так же как и теперь, что стоит задуматься – и все будет кончено. Единственный способ осуществить свое намерение – это не допускать ни единой мысли о последствиях. Натали тронула машину и поехала по тихой улице, зная, как и в бассейне, что обратного пути у нее нет.* * *
После возвращения в Чарлстон старуха установила вокруг дома шестифутовый кирпичный забор, надстроенный четырьмя футами чугунного ограждения, однако первоначальные узорные ворота с металлическими решетками сохранились. Хотя они были заперты, боковые крепления выглядели не слишком надежными. Натали резко свернула вправо, перескочила через бордюр и на полной скорости въехала в ворота. Одна створка рухнула, превратив ветровое стекло в паутину трещин, правое крыло машины задело декоративный фонтан и оторвалось. Пикап пересек двор, подминая под себя кустарник и карликовые деревья, и врезался в фасад дома. Натали забыла пристегнуть ремень. От удара ее швырнуло вперед, затем отбросило назад так, что на лбу тут же вздулась шишка, а перед глазами поплыли красные круги. Оружие, аккуратно разложенное на соседнем сиденье, грохнулось на пол. «Отличное начало», – подумала она, наклонившись, чтобы поднять кольт и духовой пистолет. Коробка с ампулами вместе с дополнительными обоймами закатились куда-то под сиденье. Натали решила не возиться с ними – пока и то и другое оружие у нее было заряжено. Выйдя из машины, она ступила в предрассветную мглу. До нее доносился лишь звук воды, вытекавшей из разбитого фонтана, но она не сомневалась, что своим бурным вторжением подняла на ноги полквартала. У нее оставалось очень мало времени сделать то, что она должна. Натали намеревалась выбить входную дверь, обрушив на нее три тысячи фунтов автомобильного веса, но промахнулась. Она подергала ручку – вдруг Мелани решила облегчить ей задачу? – но дверь оказалась заперта. Натали вспомнила, что видела раньше целый набор затейливых замков и цепочек. Положив духовой пистолет на крышу пикапа, она достала с заднего сиденья топор и принялась за работу с той стороны, где находились петли. После шести мощных ударов пот уже стекал с нее ручьем, заливая глаза. После восьмого удара дерево возле петель поддалось и стало расщепляться. После десятого удара дверь распахнулась, продолжая держаться с левой стороны на цепях и запорах. Натали перевела дыхание, сдержала накатившую волну тошноты и отшвырнула топор в кусты. Ни воя сирен, ни каких-либо передвижений внутри дома по-прежнему слышно не было. Зеленое сияние со второго этажа проникало во двор, освещая траву болезненным светом. Девушка вытащила кольт 32-го калибра и загнала пулю в патронник, вспомнив, что их осталось семь вместо восьми после случайного выстрела в «сессне». Взяв духовой пистолет, она помедлила, понимая, что выглядит глупо со стволом в каждой руке. Отец сказал бы, что она похожа сейчас на его любимого ковбоя Хута Гибсона. Натали никогда не видела фильма с Хутом Гибсоном, но тоже продолжала считать его своим любимым ковбоем. Открыв пошире дверь, она вошла в темный затхлый коридор, не задумываясь о том, что будет дальше. Ее удивляло лишь, что сердце у человека может колотиться с такой силой, не разрывая при этом грудной клетки. Футах в шести от двери на стуле сидел Зубатка. Его мертвые глаза смотрели на девушку, к отвисшей нижней челюсти был приколот лист бумаги с надписью, сделанной фломастером: «Убирайся!» «Может, ее уже нет?» – подумала Натали, обходя Зубатку и направляясь к лестнице. Справа из дверей кухни выскочил Марвин, а через долю секунды вход в гостиную перекрыл Калли. Натали выстрелила Марвину в грудь ампулой с транквилизатором и бросила на пол теперь уже ненужный духовой пистолет. Левой рукой ей пришлось стремительно перехватить запястье Марвина, когда он занес мясницкий нож в смертоносном ударе. Ей удалось притормозить его движение, но острие все же на полдюйма вошло в ее левое плечо, пока она выворачивала ему руку, вращаясь словно в безумном танце. Калли бросился к ним и в обхват Марвина вцепился своими огромными лапами в горло Натали. Понимая, что великану потребуется несколько секунд на то, чтобы сломать ей шею, Натали просунула кольт под левой рукой Марвина, уперла ствол в мягкий живот Калли и дважды выстрелила. Звуки выстрелов были еле слышны. На тупом лице Калли внезапно появилось выражение обиженного ребенка, пальцы его разжались, и он попятился, по дороге ухватившись за дверной косяк, словно пол вдруг принял вертикальное положение. Невероятным физическим усилием, от которого буграми вздулись мышцы на его руках, он преодолел невидимую силу, увлекавшую его назад, и принялся карабкаться по этой воображаемой стене. Опершись на внезапно начавшее проседать плечо Марвина, Натали выстрелила еще дважды. Первая пуля прошла навылет через ладонь Калли и попала ему в живот, вторая срезала мочку левого уха так ровно, словно это был какой-то фокус. Натали почувствовала, что ее душат рыдания, и закричала: «Падай же! Падай!» Но гигант не упал, он снова уцепился за дверной косяк и начал потихоньку оседать синхронно с Марвином, словно в замедленной съемке. Нож с грохотом упал на пол. Натали успела подхватить голову бывшего главаря банды прежде, чем он врезался лицом в полированное дерево. Уложив его у ног Зубатки, она развернулась и начала поводить стволом из стороны в сторону, прикрывая дверь в столовую и короткий коридорчик в кухню. Больше никто не появился. Все еще всхлипывая и хватая ртом воздух, Натали стала подниматься по длинной лестнице. По дороге она нажала на выключатель, но хрустальная люстра над площадкой верхнего этажа так и не зажглась. Заставив себя собраться, она расстегнула пояс со взрывчаткой и перекинула его через левую руку так, чтобы механический таймер, установленный на тридцать секунд, был повернут кверху. Его можно будет привести в действие одним нажатием кнопки. Она выждала еще секунд двадцать, чтобы дать возможность старухе сделать ход, если та собиралась его делать. На площадке второго этажа царила мертвая тишина. Слева от входа в спальню Мелани стоял одинокий плетеный стул – именно на нем мистер Торн проводил свои ночные бдения. Заглянуть за угол, в темный коридор, уходивший налево в глубину дома, Натали не могла. Услышав вдруг шум, она обернулась, но увидела лишь три тела, распластанные на полу гостиной. Калли теперь лежал, уткнувшись лицом в пол. Она снова повернулась к двери, ожидая, что на нее набросится кто-нибудь из коридора. Нервы у нее были на пределе, и она чуть не выстрелила в темноту, но из коридора никто не появился. Он был пуст, выходящие в него двери – закрыты. Натали подошла к дверям спальни. Какое-то едва уловимое движение воздуха, коснувшееся ее щеки, заставило ее посмотреть вверх, на утопавший во мраке потолок и еще более темный квадрат – маленький люк, ведущий на чердак. Люк был открыт, а в его проеме застыло напряженное, готовое к прыжку тело шестилетнего ребенка. Недетское лицо искажала безумная улыбка, пальцы со стальными ногтями изогнулись, как когти. Натали попыталась отскочить в сторону и одновременно выстрелить, но Джастин уже летел вниз с громким шипением, так что пуля врезалась в дерево. Его стальные когти разодрали правую руку девушки и выбили у нее кольт. Она попятилась, подняв левую руку со взрывчаткой, как щит. Когда Натали была маленькой, каждый Хеллоуин она отправлялась на дешевую распродажу и покупала себе «ведьмины когти», затем приклеивала их к пальцам и щеголяла с трехдюймовым маникюром. Однако накладные ногти Джастина были стальными и острыми, как скальпели. Непроизвольно в мозгу Натали возникла картинка: Калли или какой-нибудь другой суррогат Мелани Фуллер изготавливает стальные тигли, заливает их расплавленным оловом и смотрит, как ребенок опускает в них пальцы, ждет, пока олово не застынет и не затвердеет. Джастин бросился на Натали. Она прижалась спиной к стене и инстинктивно подняла руку. Когти глубоко вонзились в пояс, прорвали брезент и пластиковую обертку взрывчатки. Когда по меньшей мере два из них разрезали ее руку, Натали стиснула зубы, чтобы не закричать от боли. С победным шипением Джастин сорвал пояс с руки Натали и швырнул его через перила. Внизу послышался глухой удар, когда туда приземлились двенадцать фунтов инертной взрывчатки. Натали опустила глаза и увидела свой кольт, лежащий между двумя столбиками перил. Не успела она сделать и полшага, как к оружию подлетел Джастин и, поддев его своей синей кроссовкой, отправил вниз, вслед за взрывчаткой. Натали попыталась обойти мальчишку справа, но он прыгнул, перекрывая ей дорогу. И тут она заметила массивное тело Калли, медленно ползущее по лестнице. Он уже преодолел треть пути, оставляя за собой кровавый след. Девушка бросилась бегом в темный коридор и резко остановилась, понимая, что именно этого и хотела от нее старуха. Одному богу известно, что ожидало ее там. Джастин двинулся к ней, рассекая воздух своими ужасными когтями. Тогда Натали быстро схватила правой окровавленной рукой плетеный стул и резко вскинула его. Одна из ножек попала Джастину в рот, но он продолжал приближаться, размахивая руками как одержимый. Когти его царапали стул, пока не вырвали плетеное сиденье. Изогнувшись, мальчишка атаковал, норовя попасть Натали в бедренную артерию. Не выпуская стул из рук, она попыталась сбить его с ног и пригвоздить к полу, но он делал ложный выпад то вправо, то влево, наносил удары, отскакивал и снова набрасывался. Подошвы его кроссовок мягко поскрипывали на гладком паркете. Натали удавалось отражать атаки Джастина, но ее израненные руки уже начинали дрожать от усталости. Рваная рана на левой руке болела так, словно доходила до самой кости. С каждым разом она отступала все дальше, пока не оказалась прижатой спиной к дверям спальни Мелани Фуллер. Несмотря на то что у нее не было времени на размышления, Натали живо представила себе, как дверь распахивается и она падает прямо в поджидающие ее руки старухи… Но дверь не открывалась. Джастин, не обращая внимания на ножки стула, впившиеся ему в грудь и горло, пытался дотянуться до девушки. Ему это никак не удавалось, и тогда он, вцепившись когтями в деревянную основу сиденья, попробовал отнять у Натали ее единственное средство защиты или разломать его. Летели щепки, но стул продолжал держаться. И тут откуда-то из глубины сознания до Натали донесся сухой, педантичный голос Сола: «Она использует тело ребенка, Натали, и его возможности. Преимущество Мелани – в ее страхе и ярости. Твое преимущество – в росте, весе, концентрации и способности сохранять равновесие. Воспользуйся этим». Джастин зашипел, как переполненный чайник на плите, и, пригнувшись, снова прыгнул на Натали. Над краем площадки уже показалась лысая голова Калли. Держа стул перед собой обеими руками, она нажала на него всем своим весом так, что мальчишка оказался между ободранными ножками. Он отлетел назад к перилам. Старое дерево затрещало, но не сломалось. Ловкий и быстрый, как кот, Джастин вскочил на перила шириной в пять дюймов, мгновенно восстановил равновесие и приготовился напасть на Натали сверху. Не медля ни секунды, она шагнула вперед, перехватила стул, как бейсбольную биту, и, размахнувшись, нанесла такой удар, что Джастин полетел вниз, словно мячик. Единый вопль вырвался из глоток Джастина, Калли и еще бесчисленного числа суррогатов за закрытой дверью Мелани Фуллер. Однако мальчишка успел зацепиться когтями за массивную люстру, свисавшую чуть ниже уровня площадки, и принялся карабкаться вверх, балансируя на высоте пятнадцать футов над полом. Не веря своим глазам, Натали выронила стул. Калли уже добрался до последней ступеньки и продолжал подтягиваться. С чудовищной усмешкой на лице, Джастин стал раскачивать люстру взад-вперед, с каждым разом его вытянутая рука оказывалась все ближе к перилам. В свое время, по меньшей мере век назад, эта люстра могла бы выдержать вес десяти таких, как Джастин. Железная цепь и болты были по-прежнему крепкими, но девятидюймовая деревянная балка, в которой крепилась арматура, уже более ста лет терпела влажность Южной Каролины, осаждавших ее насекомых и полное пренебрежение со стороны хозяйки. Когда балка не выдержала, Джастин полетел вниз, увлекая за собой люстру, кусок штукатурки длиной в пять футов, электрические провода, болты и сгнившее дерево. Звук удара был поистине впечатляющим, осколки разбитого хрусталя брызнули во все стороны. Натали подумала о взрывчатке и кольте, валявшихся внизу, но они уже наверняка были похоронены под обломками. «А где же полиция? Соседи?» И тут она вспомнила, что и в предыдущие вечера большинство домов на этой улице стояли с темными окнами, – вероятно, их хозяева отсутствовали или были весьма преклонного возраста. Ее вторжение казалось ей достаточно громким и вызывающим, но вполне возможно, что никто не обратил внимания на чужую машину и шум. К тому же высокая ограда и густая тропическая растительность скрывали из виду двор и заглушали или искажали звуки выстрелов. А может, соседи просто решили ни во что не вмешиваться. Натали посмотрела на свои залитые кровью часы. Прошло почти три минуты с тех пор, как она вошла в дом. Калли вылез на площадку и устремил на девушку свой безумный взгляд. Беззвучно всхлипнув, она подняла стул и трижды огрела великана по голове. Одна из ножек, переломившись, отлетела к стене, а Калли, пересчитывая ступеньки, съехал вниз. Натали с ужасом смотрела, как его залитое кровью лицо снова приподнялось, руки и ноги дернулись и он, повинуясь приказу старухи, опять пополз вверх по лестнице. Тогда она закричала и изо всех сил ударила стулом по тяжелой двери. После четвертого удара стул рассыпался в ее руках.* * *
Дверь распахнулась. Она не была заперта. Серый утренний свет почти не проникал в спальню сквозь плотно закрытые шторы и жалюзи. Перед кроватью выстроились сестра Олдсмит, доктор Хартман и Нэнси Варден, мать Джастина. Все трое были в грязных белых халатах и с одинаковым выражением обреченности и безразличия на бледных лицах. Такое выражение Натали видела только в документальных фильмах о концлагерных узниках, которые точно так же смотрели на армию освободителей через колючую проволоку. За этой последней оборонительной линией стояла огромная кровать со своей обитательницей. Сквозь тонкую кружевную ткань Натали отчетливо различала сморщенное, перекошенное лицо с одним открытым глазом, лоб, покрытый старческими пятнами и оттененный редкими голубыми волосами, высохшую правую руку на одеяле. Старуха слабо ерзала на постели, как морское существо, с которого содрали кожу и выкинули из родной среды обитания. Натали быстро огляделась. За дверью в коридоре никого не было, справа от нее находился туалетный столик с разложенными на пожелтевшей салфетке гребнями и щетками для волос. Слева стояла гора немытых подносов с чашками и грязными тарелками. В раскрытом шкафу валялись испачканное белье и одежда, здесь же лежали медицинские инструменты, а на двухколесных каталках высились четыре кислородных баллона. Краны на двух из них были отвинчены, и оттуда в пластиковую маску старухи поступал кислород. Запах в комнате стоял невыносимый, – видно, ее никогда не проветривали. Услышав слева какой-то шорох, Натали вздрогнула. Две огромные крысы шмыгали по тарелкам и грязному белью, не обращая внимания на людей, будто их здесь и не было. Натали подумала, что это не так уж далеко от истины. Три амбулаторных трупа синхронно разлепили губы. – Уходи, – произнесли они недовольными капризными голосами. – Я больше не хочу играть. Искаженное лицо старухи задвигалось, когда беззубый рот начал издавать мокрые чавкающие звуки. Три пешки одновременно подняли правую руку, и в зеленоватом сиянии экрана осциллографа блеснули короткие лезвия скальпелей. «Всего трое?» – подумала Натали. Она чувствовала, что их должно быть больше, но усталость, страх и боль мешали ей думать. Сейчас нужно сосредоточиться и сказать что-то важное, хотя она еще не знала, что именно. Может, попробовать объяснить этим зомби и лежащему за их спинами чудовищу, что ее отец был хорошим человеком, очень нужным людям и ей, Натали, и его нельзя было вот так запросто вычеркнуть из жизни, как эпизодический персонаж в плохом фильме? Любой человек, все люди заслуживают уважения. Что-то в этом духе. Но тут пешка, бывшая когда-то хирургом, засеменила навстречу Натали, а за ним двинулись и обе женщины. Девушка метнулась влево, открыла кран кислородного баллона и изо всех сил швырнула его в доктора Хартмана. Однако промахнулась – баллон оказался невероятно тяжелым. Он с грохотом упал на пол, сбил с ног Нэнси Варден и покатился под кровать, распространяя по комнате запах кислорода. Хартман резко замахнулся скальпелем, Натали отскочила, однако недостаточно быстро. Она толкнула тележку с пустым баллоном, так что тот оказался между ней и доктором, и с удивлением увидела, что тонкий разрез на ее блузке окрашивается кровью. В комнату на локтях вполз Калли. Натали почувствовала, что ее ярость достигла предела. Они с Солом зашли уже слишком далеко, чтобы останавливаться. Возможно, Сол и оценил бы парадоксальность всего происходящего, но Натали не любила парадоксов. Невероятным усилием она оторвала от пола семидесятифунтовый кислородный баллон и швырнула его прямо в лицо доктору Хартману. Когда баллон вместе с телом доктора рухнул на пол, пусковой клапан отскочил сам по себе. Но к Натали уже ползла Нэнси Варден и бежала сестра Олдсмит с зажатым в поднятой руке скальпелем. Натали набросила желтую от мочи простыню на голову сестре и вильнула вправо. Та, потеряв ориентацию, врезалась в шкаф, однако уже через секунду лезвие скальпеля распороло тонкую ткань. Натали схватила наволочку, но тут Нэнси Варден удалось поймать девушку за щиколотку. Тяжело рухнув на вытертый ковер, Натали попыталась свободной ногой отбиться от женщины. Та выронила скальпель, но продолжала крепко держать Натали, вероятно намереваясь затащить ее вместе с собой под кровать. На расстоянии три фута от них полз Калли. От полученных ранений стенки брюшины у него просели, и кишки волочились следом. Сестра Олдсмит тем временем справилась с остатками простыни и развернулась, как ржавая марионетка. – Прекрати! – изо всех сил закричала Натали, судорожным движением вытаскивая из кармана упаковку спичек. Пока Нэнси Варден продолжала подтягивать ее к кровати, она попробовала поджечь наволочку. Но ткань гореть не хотела, спичка погасла. И тут Натали почувствовала, что дрожащие пальцы Калли вцепились ей в волосы. Она зажгла вторую спичку, дала огню разгореться, прикрывая его ладонью, и поднесла к наволочке, обжигая руку. Наволочка наконец загорелась. Натали локтем отшвырнула ее под кровать. Кружевные занавески, белье и деревянная основа кровати, пропитавшиеся кислородом снизу, вспыхнули, и пламя стало стремительно распространяться по комнате. Пытаясь задержать дыхание, Натали освободилась от хватки женщины, на которой загорелась одежда, и вскочила на ноги. Но Калли уже стоял в дверном проеме, как полувыпотрошенный труп, поднявшийся с патологоанатомического стола в разгар вскрытия. Натали оглянулась и увидела извивающееся и мечущееся в синих клубах пламени тело старухи. Оно будто состояло из одних суставов и ежесекундно меняло свою форму. И тут с кровати донесся истошный крик, который мгновенно был подхвачен сестрой Олдсмит, Нэнси Варден, Калли, доктором Хартманом и самой Натали. Девушка бросилась к двери, невероятным усилием оттолкнула Калли и выскочила из комнаты в тот момент, когда взорвался второй баллон с кислородом. Через секунду весь дом заполнился запахом горелой плоти. Калли принял на себя главную силу взрыва и, вылетев из спальни, горящим комом перевалился через перила. Натали лежала ничком на лестнице. Она ощущала спиной жар, идущий от потолочных перекрытий, видела отблески пламени, отражавшиеся в целой горе хрустальных осколков внизу, но не могла сдвинуться с места. Она сделала все, что могла. Когда чьи-то сильные руки подхватили ее, она пыталась сопротивляться, но попытки выглядели слабыми и беспомощными. – Спокойно, Натали. Мне еще нужно захватить Марвина. – Джексон! Медик тащил ее, обхватив левой рукой, а правой волочил за ворот рубашки бывшего главаря банды. Помраченное сознание то рисовало Натали зеркальную комнату с выбитой стеной, то ей казалось, что ее несут через сад и по темному тоннелю гаража. «Фольксваген» дожидался их в переулке. Джексон осторожно положил Натали на заднее сиденье, а Марвина опустил на пол. – О господи, ну и денек, – пробормотал он, присаживаясь рядом и вытирая влажной салфеткой кровь и сажу с лица девушки. Натали облизнула потрескавшиеся губы. – Дай мне посмотреть, – прошептала она. Джексон взял ее под мышки и помог приподняться. Весь дом Фуллер был объят пламенем, огонь уже перекинулся на соседний дом Ходжесов. В просветах между домами Натали различила красные пожарные машины, перегородившие улицу. Мощные струи воды из двух брандспойтов безрезультатно поливали разбушевавшийся огонь, остальные были направлены на деревья и крыши соседних строений. Натали повернула голову и увидела Сола. Он сидел и, близоруко щурясь, тоже глядел на огонь. Улыбнувшись ей, он слабо покачал головой и снова закрыл глаза. Джексон укутал Натали одеялом, затем захлопнул дверцы и забрался на водительское место. – Господа туристы, если вы не возражаете, то нам лучше убраться отсюда, пока полиция или пожарные не обнаружили нас в этом переулке, – сказал он, заводя мотор. Навстречу им продолжали мчаться машины полиции и «скорой помощи», спешившие к месту пожара. Джексон выехал на пятьдесят второе шоссе, обогнул главный аэропорт и двинулся на северо-запад, прочь из города. Натали поняла, что, едва она закрывает глаза, перед ее взором возникают картины, которые ей вовсе не хочется видеть. – Как Сол? – спросила она дрожащим голосом. – Отличный парень, – ответил Джексон, не отрывая взгляда от дороги. – Он проснулся как раз вовремя и сообщил мне, что ты собираешься натворить. Она сменила тему разговора: – А как Марвин? – Дышит. Об остальном позаботимся позже. – Зубатка мертв, – сказала Натали, с трудом контролируя свой голос. – Знаю, – вздохнул Джексон. – Слушай, малышка, через несколько миль после Лэдсона будет стоянка. Не возражаешь, если мы заедем туда и я приведу тебя в порядок? Наложу повязки на колотые раны, смажу ожоги и порезы. Наконец, сделаю укол, чтобы ты поспала. Натали согласно кивнула. – Ты знаешь, что у тебя огромная шишка на лбу и полностью отсутствуют брови? – Он поглядел на нее в зеркальце заднего вида. Она молча покачала головой. – Хочешь рассказать мне, что там произошло? – мягко спросил Джексон. – Нет! – воскликнула Натали, понимая, что сейчас разрыдается. – Ну, хорошо. – Джексон начал что-то тихо насвистывать. – Черт, больше всего я хочу выбраться из этого поганого города и вернуться в Филадельфию, но что-то это превращается в бегство Наполеона из сожженной Москвы. Пусть только кто-нибудь попробует сунуться к нам, пока мы не добрались до израильского посольства, и он сильно пожалеет об этом. – Он помахал инкрустированным револьвером тридцать восьмого калибра и быстро засунул его обратно под сиденье. – Где ты это взял? – спросила Натали, утирая слезы. – Купил у Дэрила, – ответил Джексон. – Не только ты одна рвешься финансировать революцию, детка. Натали устало закрыла глаза. Кошмарные видения мелькали как в калейдоскопе, но желания кричать больше не было. Она поняла, по крайней мере в этот момент, что не один Сол Ласки отказал себе в праве видеть те сны, которые ему снятся. – А вот и указатель стоянки, – донесся уверенный, глубокий голос Джексона.Глава 77
Беверли-Хиллз
Суббота, 20 июня 1981 г.
Тони Хэрод поздравлял себя с тем, что ему удалось выжить. После ничем не спровоцированного нападения на него черной красотки на острове он решил, что, вероятно, удача изменила ему. У него ушло полчаса на то, чтобы разогнуться, а остаток этой безумной ночи он провел, бегая от охранников, которые уже палили из автоматов во все движущиеся объекты. Хэрод направился к взлетному полю, надеясь, что сможет улететь на самолете Саттера или Вилли, но ему хватило одного взгляда на полыхавший там огонь, чтобы поскорее убраться обратно в лес. Несколько часов он прятался под кроватью в одном из бунгало летнего лагеря неподалеку от амфитеатра. Раз туда забрела группа пьяных охранников, они обшарили кухню и главные помещения в поисках спиртного и ценностей, разыграли три банка в покер и отправились обратно искать свое подразделение. Именно из их возбужденной болтовни Хэрод узнал, что Барент находился на борту «Антуанетты», когда яхта взлетела на воздух. Перед рассветом Тони выбрался из бунгало и направился к пристани. У причала стояли четыре катера, и ему удалось без ключа завести один из них – быстроходный, длиной двенадцать футов, – пользуясь навыками, к которым он не прибегал со времен своей бурной юности в Чикаго. Пьяный охранник, спавший под деревом, дважды выстрелил в Хэрода, но тот уже на полмили углубился в океан. Других признаков преследования он не заметил. Хэрод знал, что остров Долманн находится всего в двадцати милях от берега, и решил, что даже со своими ограниченными навигационными навыками не промахнется мимо берега Северной Америки, если будет держать курс на запад. День был облачным, но водная гладь была спокойной, словно компенсируя ночную грозу и сопутствовавшее ей безумие. Найдя веревку, Хэрод закрепил руль, натянул над кормой брезент и заснул. Проснулся он в двух милях от берега и обнаружил, что кончилось горючее. Первые восемнадцать миль его путешествия заняли полтора часа, тогда как две последние – восемь, и, вероятно, ему никогда бы не удалось добраться до берега, если бы не заметившее его рыболовное судно, взявшее катер на буксир. Рыбаки из Джорджии дали Тони воды и еду, крем от загара и немного топлива. Он проследовал за ними между островами и заросшими лесом мысами, выглядевшими, вероятно, так же, как и три века назад, пока наконец не пристал к берегу в маленькой бухточке возле провинциального городка Санта-Мария. Хэрод выдал себя за новичка в морском деле, который нанял катер возле мыса Хилтон и заблудился. Местные не понимали, как можно быть таким идиотом, но в случае Хэрода готовы были поверить. Он сделал все, что мог, для укрепления дружеских отношений, сводил своих спасителей, владельцев судна и еще пятерых зевак в ближайший бар – сомнительно выглядевшее заведение на повороте к Национальному парку Санта-Мария и истратил на них двести восемьдесят долларов. Добрые веселые парни все еще пили за его здоровье, когда он убедил дочь владельца бара по имени Стар отвезти его в Джексонвилл. Они добрались до места в половине восьмого вечера, и, хотя оставался еще целый час летнего светового времени, Стар решила, что возвращаться в Санта-Марию слишком поздно. Она начала влух размышлять, не снять ли номер в мотеле в Джексонвилл-Биче или Понтеведре. Стар было около сорока, и формы она имела самые невероятные. Тони вручил ей пятьдесят долларов, сказал, чтобы она заезжала, когда в следующий раз будет в Голливуде, и попросил высадить его у отеля. У Хэрода в бумажнике оставалось почти четыре тысячи долларов – он не любил путешествовать без карманной наличности, и никто ему не сказал, что на острове будет нечего покупать, – но, заказывая билет первого класса до Лос-Анджелеса, он воспользовался одной из своих кредитных карточек. Во время краткого стыковочного перелета до Атланты он дремал, зато в течение более длинного, до Лос-Анджелеса, Тони понял, что стюардессы, приносившие ему обед и напитки, явно сочли, что он забрел не в свой салон. Он осмотрел себя, принюхался и понял, почему они могли прийти к такому выводу. На его светло-коричневый пиджак от Армани попало совсем немного пятен чьей-то крови, пролитой накануне ночью, но зато он пропах дымом, моторным маслом и рыбой. Его черная шелковая рубашка вся пропиталась потом, а летние хлопчатобумажные брюки от Джорджио и мокасины из крокодиловой кожи были погублены окончательно. И все же Хэрод не мог смириться с тем, что какая-то стюардесса ведет себя с ним подобным образом. Он ведь оплатил обслуживание первого класса, а Тони привык всегда получать то, что оплачивал! Он бросил взгляд на туалетную комнату – она была пуста. Бо́льшая часть пассажиров уже дремали или читали. Хэрод поймал высокомерный взгляд белокурой стюардессы. – Мисс? – обратился он к ней. Когда она подошла ближе, он до мельчайших подробностей разглядел ее крашеные волосы, слой косметики на лице и слегка смазанную тушь. Ее белые зубы были испачканы розовой помадой. – Да, сэр? – В ее голосе явно звучала снисходительность. Хэрод посмотрел на нее еще несколько секунд. – Нет, ничего, – сказал он наконец. – Все в порядке.* * *
Он прибыл в Лос-Анджелес рано утром в среду, но ему потребовалось еще три дня, чтобы добраться до дому. Став вдруг не в меру осторожным, он нанял машину и поехал на пляж Лагуна, где у Тари Истен имелся загородный дом. Тони несколько раз ночевал там в перерывах между ее любовниками. Он знал, что Тари сейчас в Италии на съемках какого-то феминистского фильма, но ключ был по-прежнему на месте – в третьем горшке с рододендронами. Воздух в доме был застоявшимся, и его пришлось как следует проветрить, зато в холодильнике имелся дорогой импортный эль, а кровать с водяным матрасом была застелена свежими шелковыми простынями. Бо́льшую часть дня Хэрод проспал, вечером посмотрел старые кассеты Тари по видео и около полуночи отправился на побережье в китайский ресторан. В четверг он надел темные очки и огромную широкополую шляпу из банановой республики, принадлежавшую одному из дружков Тари, и поехал в город поглядеть на свой дом. Казалось, все было в порядке, и все же вечером он снова вернулся в Лагуну. В четверг газеты на шестой полосе опубликовали небольшую заметку о внезапной смерти таинственного миллионера К. Арнольда Барента, скончавшегося от сердечного приступа в своем поместье в Палм-Спрингс. Тело было кремировано, и европейская ветвь его семейства заказала мемориальную службу. Четверо ныне здравствующих американских президентов выразили свои соболезнования по этому поводу. Далее в заметке бегло перечислялись заслуги Барента в его многолетней благотворительной деятельности и обсуждалось будущее его акционерной империи. Хэрод покачал головой. Ни слова о яхте, об острове, о Джозефе Кеплере, о преподобном Джимми Уэйне Саттере… Он не сомневался, что их некрологи появятся в ближайшие дни. Кто-то явно пытался замести следы. Огорченные политиканы? Многолетние приспешники этого трио? Какой-нибудь европейский филиал Клуба Островитян? На самом деле Хэроду вовсе не хотелось ничего знать до тех пор, пока это не касалось лично его. В пятницу он самым тщательным образом осмотрел собственный дом – настолько внимательно, насколько это можно было сделать, не прибегая к помощи полиции. Все вроде бы выглядело нормально, и Хэрод расслабился. Впервые за несколько лет он вдруг почувствовал, что может действовать, не опасаясь обрушить себе на голову массу проблем в случае неверного шага. В субботу утром, в самом начале десятого, Тони подъехал к своему дому, кивнул сатиру, чмокнул в щечку испанскую горничную и сказал кухарке, что она может взять выходной сразу после того, как приготовит ему завтрак. Затем он позвонил домой директору студии и режиссеру Шу Уильямсу, выяснить, как идут дела с «Торговцем рабынями». Фильм находился на последних стадиях монтажа, из него вырезали двенадцать минут, когда публика на предварительном просмотре начала откровенно скучать. Хэрод сделал еще семь-восемь звонков, поставив своих абонентов в известность, что он вернулся и работает, а после связался со своим адвокатом Томом Макгайром. Тони подтвердил, что намерен переехать в дом Вилли Бордена, сохранив прежнюю службу безопасности. Еще он поинтересовался, не знает ли Том хороших секретарей. Макгайр не мог поверить, что после стольких лет Хэрод решился уволить Марию Чэнь. – Знаешь, даже сообразительные красотки становятся со временем слишком навязчивыми, – пояснил Хэрод. – Пришлось ее уволить, пока она не начала штопать мои носки и вышивать свои инициалы на моих трусах. – И куда же она отправилась? – спросил Макгайр. – Обратно в Гонконг? – Откуда мне знать, да и какое мне дело! – оборвал его Хэрод. – Сообщи, если услышишь о ком-нибудь с хорошими мозгами и навыками стенографии. Он повесил трубку, несколько минут задумчиво посидел в полной тишине и отправился в джакузи.* * *
Лежа под горячими струями воды, Хэрод чуть было не задремал. Ему казалось, что он слышит на изразцовых плитках шаги Марии Чэнь, идущей к нему с утренней почтой. Он сел, вынул сигарету из пачки, валявшейся рядом с высоким фужером с водкой, закурил и почувствовал приятную расслабленность. «Не так уж плохо, когда можно позволить себе думать о другом», – решил он про себя. Хэрод снова почти уснул, сигарета догорала уже у самых пальцев, когда из холла вдруг донесся четкий стук каблуков. Он резко открыл глаза, поднял руки и приготовился встать, если возникнет необходимость. Его оранжевый халат висел в шести футах от него. В первое мгновение Тони не узнал привлекательную молодую девушку в простом белом платье, но, вглядевшись в глаза нимфетки на миссионерском личике, пухлую нижнюю губу и походку фотомодели, воскликнул: – Шейла! Черт побери, как ты меня напугала! – Я принесла вашу почту, – без всякого выражения сказала Шейла Баррингтон. – Не знала, что вы тоже выписываете «Нейшнл географик». – Господи, малышка, а я как раз собирался позвонить тебе, – торопливо забормотал Хэрод. – Объясниться и попросить прощения за тот неприятный эпизод прошлой зимой. Продолжая ощущать неловкость, Хэрод невольно подумал: не Использовать ли ее? Но это означало бы начать все заново. Нет, некоторое время ему придется обойтись без этого. – Все в порядке, – ответила Шейла. Ее голос всегда был тихим и мечтательным, но сейчас она говорила и вовсе как сомнамбула. Может, эта бедная мормонка открыла для себя наркотики в течение долгого периода вынужденной безработицы? – Я больше не сержусь, – с отсутствующим видом добавила Шейла. – Господь помог мне это пережить. – Ну и отлично. – Он стряхнул пепел со своей груди. – Ты была абсолютно права – «Торговец рабынями» не для тебя. Твой класс неизмеримо выше этого дерьма, но я разговаривал сегодня утром с Шу Уильямсом – он запускает проект для «Ориона», мы с тобой идеально подходим. Шу говорит, что Боб Редфорд и еще какой-то парень по имени Том Круз согласились переснять старый… – Вот ваша почта, – перебила его Шейла, протягивая журнал и стопку писем. Хэрод сунул в рот сигарету, поднял руку и замер. Серебристый пистолетик, вдруг появившийся в руке Шейлы, был таким крошечным, что показался ему игрушкой, и у пяти произведенных им выстрелов звук тоже был абсолютно игрушечным. – Эй! – воскликнул он, глядя на пять маленьких отверстий в своей груди и пытаясь смыть их водой. Затем посмотрел на Шейлу Баррингтон, рот у него открылся, выпавшая сигарета завертелась в потоках воды. – О черт, – прошептал продюсер и стал медленно сползать вниз. Горячая вода поглотила сначала его тело, затем лицо. Шейла Баррингтон с безучастным видом смотрела, как бурлящая поверхность окрасилась в розовый цвет, потом постепенно стала очищаться вследствие поступления свежих потоков и работы фильтров. Круто повернувшись на высоких каблуках, девушка неторопливой походкой прошла в холл, предварительно погасив везде свет. В закрытом шторами помещении стало темно, и лишь случайные солнечные блики, отражаясь от водной глади бассейна, отбрасывали на белую стену замысловатые тени. Будто фильм уже закончился, но проектор еще работал, высвечивая странные узоры на пустом экране.Глава 78
Кесария, Израиль
Воскресенье, 13 декабря 1981 г.
Натали Престон ехала на своем «фиате» к северу по дороге на Хайфу, то и дело останавливаясь, чтобы насладиться прекрасными пейзажами и зимним солнцем. Она не знала, доведется ли ей еще когда-нибудь побывать здесь. Прежде чем повернуть к кибуцу Мааган-Михаэль, ей пришлось задержаться из-за колонн с военной техникой, но когда она наконец добралась до подножия холма с разбросанными тут и там рожковыми деревьями, военных машин вокруг уже не было. Как всегда, Сол ожидал ее у нижних ворот и открыл их, чтобы впустить «фиат». Натали выскочила из машины, крепко обняла его, затем отступила на шаг и принялась рассматривать. – Ты замечательно выглядишь! – воскликнула она, и это почти соответствовало истине. Солу так и не удалось набрать потерянного веса, левая рука и запястье по-прежнему были перебинтованы после недавних операций, но борода его отросла, хоть и стала совсем седой, как у пророка. Темный загар сменил долго державшуюся бледность, а волосы уже доставали до плеч. Он улыбнулся и знакомым жестом поправил очки в роговой оправе. Натали знала – Сол всегда так делает, когдасмущается. – Ты тоже замечательно выглядишь, – ответил он и махнул рукой молодому сабре, который наблюдал за ними со своего поста. – Пойдем в дом. Обед почти готов. Пока они ехали по подъездной дорожке к дому, Натали бросила взгляд на перебинтованную руку Сола: – Как прошла операция? – Что? – рассеянно переспросил он. – А, прекрасно. – Сол посмотрел на свои бинты так, будто видел их впервые. – Большой палец спасти не удалось, но, оказывается, без него можно прекрасно обойтись. – Он улыбнулся. – По крайней мере, пока другой на месте. – Странно, – промолвила Натали. – Что именно? – Два пулевых ранения, пневмония, сотрясение мозга, три сломанных ребра, а порезов и ссадин столько, что хватило бы на целую футбольную команду… – Еврея трудно убить. – Нет, я имела в виду другое… – Натали припарковала «фиат» под навесом. – Столько серьезных ранений, а в могилу тебя чуть не свел укус женщины. Ведь из-за него ты едва не лишился руки. – Укусы человека весьма опасны, это давно известно, – усмехнулся он, открывая для нее дверцу машины. – Но эта мисс Сьюэлл… она не была человеком. – Конечно, – согласился он, снова поправляя очки. – Думаю, к тому времени уже не была.* * *
Сол приготовил восхитительную трапезу с бараниной и свежевыпеченным хлебом. За столом они болтали о самых разных вещах – курсах лекций Сола в университете в Хайфе, последнем договоре Натали с «Джерусалем пост» на фоторепортаж, о своих коллегах и погоде. После фруктового десерта и сыра Натали захотела еще раз побывать на акведуке, и Сол пошел наливать кофе в стальной термос, а она отправилась в свою комнату за толстым свитером. Декабрьские вечера на побережье были прохладными. Они медленно спустились с холма и миновали апельсиновую рощу, беседуя о насыщенных красках вечернего света и стараясь не обращать внимания на двух молодых израильтян, которые следовали за ними на почтительном расстоянии с перекинутыми через плечо «узи». – Я очень сожалею о смерти Давида, – грустно сказала Натали, когда они добрались до песчаных дюн; Средиземное море окрасилось в медные цвета. Сол пожал плечами: – Он прожил насыщенную жизнь. – Я так хотела попасть на его похороны, – продолжала Натали. – Целый день пыталась вылететь из Афин, но все рейсы были отложены. – Считай, что ты присутствовала на них… Я все время думал о тебе. – Он махнул рукой телохранителям, чтобы они оставались на месте, и первым ступил на акведук. На покрытых извилистыми линиями дюнах их тени от горизонтально падавшего света казались просто гигантскими. Добравшись до середины пролета, они остановились, и Натали обхватила плечи руками, когда подул резкий ветер. На небе появились три звездочки и узкий серп молодого месяца. – Ты все-таки улетаешь завтра? – тихо спросил он. – Возвращаешься обратно? – Да. – Натали кивнула. – Рейс одиннадцать тридцать из «Бен-Гуриона». – Я провожу тебя, – сказал Сол. – Оставлю машину у Шейлы и попрошу, чтобы она или кто-нибудь из ее ребят подвез меня обратно. – Очень хорошо, – улыбнулась Натали. Сол открыл термос и протянул ей пластиковую чашку, наполненную горячим ароматным кофе. – Ты не боишься? – спросил он. – Возвращения в Америку или того, что могут еще встретиться такие? – Самого возвращения, – пояснил Сол. – Боюсь, – честно призналась она. По прибрежной дороге двигалось несколько машин, свет от их фар терялся в зареве заходящего солнца. К северу поблескивали руины города крестоносцев. Гора Кармель вдали была окутана дымкой такого насыщенного фиолетового цвета, что Натали сочла бы его ненастоящим, если бы увидела на фотографии. – То есть я не знаю, – продолжила девушка. – Но все равно попробую. Ведь Америка моя родина… Ты понимаешь, что я хочу сказать? – Да. – А ты сам не думал о том, чтобы вернуться? Сол опустился на большой камень, в расщелинах которого виднелась изморозь, – ее так и не растопило дневное солнце. – Постоянно думаю об этом, – кивнул он. – Но здесь столько дел. – Я до сих пор удивляюсь, как быстро Моссад… поверил всему, – сказала Натали. Сол улыбнулся: – У нашего народа длинная и сложная история, связанная с опасностями и предрассудками. Полагаю, мы прекрасно поспособствовали этому. – Он допил кофе и налил себе еще. – К тому же у них была масса разведывательных данных, с которыми они просто не знали, что делать. Теперь у них есть система… странная, конечно, но это все же лучше, чем ничего. Натали указала рукой на темневшее на севере море: – Как ты думаешь, они выяснят… когда-нибудь? – Таинственные связи оберста? – спросил Сол. – Может быть. Я подозреваю, что им уже известны эти люди. Глаза Натали подернулись печалью. – Я все думаю об этом человеке… в доме Мелани. Его ведь там не было… – О Говарде? Рыжеволосый, отец Джастина. – Да. – Натали вздрогнула, когда солнце коснулось линии горизонта; ветер усилился. – Зубатка же передал вам по радиосвязи, что он уложил Говарда отдохнуть. Если именно он преследовал тебя. Когда Мелани послала кого-то – скорее всего, великана – прикончить Зубатку, он, вероятно, забрал и Говарда. Возможно, тот все еще был без сознания, когда в доме начался пожар. – Может быть. – Натали обхватила ладонями чашку, пытаясь таким образом согреть руки. – Или Мелани где-то его похоронила, решив, что он умер. Это объясняет несовпадение количества тел, названного в газетах. – Она подняла голову и взглянула на небо, где загорались, мерцая, все новые и новые звезды. – Ты знаешь, что сегодня годовщина? Год со дня… – Со дня смерти твоего отца, – продолжил Сол, помогая Натали подняться. В сумерках они двинулись обратно. – Ты, кажется, говорила, что получила письмо от Джексона? Лицо девушки просияло. – И длинное к тому же. Он вернулся в Джермантаун, стал новым директором общинного дома, но от старой развалины избавился. Братство Кирпичного завода подыскало себе другой клуб, Джексон остался его членом и теперь открыл целую серию настоящих общинных заведений на Джермантаун-стрит. У него там бесплатная клиника и масса других вещей. – А о Марвине он не упоминал? – А как же! Он более или менее привел его в норму. Говорит, что есть явные признаки выздоровления. Теперь Марвин находится на уровне развития четырехлетнего ребенка… но талантливого ребенка, как пишет Джексон. – Ты собираешься съездить к нему? – Наверное. Они осторожно спустились и посмотрели назад, туда, откуда пришли. Лишившись красок, дюны стали напоминать застывшие морские волны, омывающие римские развалины. – Ты будешь подписывать какие-нибудь договоры перед возвращением в школу? – Да. В «Джерусалем пост» заказали материал об упадке крупных американских синагог, и я думаю, что начну с Филадельфии. Сол махнул рукой телохранителям, которые дожидались их под сводами колонн. Один из них закурил сигарету, и она загорелась красным глазом в сгущавшейся тьме. – Фоторепортаж, который ты сделала о рабочих арабах в Тель-Авиве, был превосходен, – заметил Сол. – Ну, надо же смотреть правде в лицо, – немного надменно ответила Натали. – С ними обращаются как с израильскими неграми. Они остановились на дороге у подножия холма и несколько минут стояли молча. Несмотря на холод, им почему-то не хотелось возвращаться в освещенный дом, где их ожидали тепло, возможность вести непринужденную беседу и спокойный сон. – О Сол! – вздохнула вдруг Натали и прижалась к его груди, чувствуя, как его борода щекочет ее щеку. Он неуклюже похлопал ее по спине забинтованной рукой. Как бы он хотел, чтобы это мгновение длилось вечно, даже несмотря на то, что оно было окрашено печалью. Позади тихонько шуршал песок в своем постоянном стремлении засыпать все сотворенное человеком. Натали слегка отстранилась, вытащила из кармана салфетку и вытерла нос. – Черт побери, – пробормотала она сквозь слезы. – Прости, Сол. Думаю, я хотела сказать «шалом», но, похоже, у меня не получается. Он поправил очки: – Запомни, шалом не означает ни «до свидания», ни «здравствуй». Шалом – это мир. – Шалом, – прошептала Натали и вновь укрылась в его объятиях от холодного ветра.* * *
Эпилог
21 октября 1988 г.
Прошло много времени. Я здесь счастлива. Теперь я живу на юге Франции, между Каннами и Тулоном, но, к счастью, не слишком близко от Сен-Тропе. Я почти полностью оправилась после болезни и могу уже передвигаться самостоятельно, но выхожу я редко. Необходимые покупки делают Анри и Клод. Иногда я позволяю им вывезти себя в Италию, к югу от Пескары, а иногда даже в Шотландию, чтобы посмотреть на него, но и эти поездки становятся все реже. В холмах за моим домом раскинулось брошенное аббатство, до него рукой подать, и я часто прихожу туда посидеть среди развалин и диких цветов. Я думаю об одиночестве и воздержании, а также о том, насколько одно зависит от другого – самым роковым, жестоким образом. Только теперь я начала ощущать свой возраст. Конечно, я понимаю, это вызвано моей долгой болезнью и приступами ревматизма, которые мучают меня вот такими же промозглыми октябрьскими вечерами, как нынешний, но чувствую, что на самом деле скучаю по знакомым улицам Чарлстона, по своему старому дому и тем последним дням, которые провела там. Увы, это бесплодные мечты. Туда я никогда больше не вернусь. Когда в мае я посылала Калли похитить миссис Ходжес, я еще не знала, какое применение найду старухе. Временами мне казалось, что это лишняя трата сил – сохранять ей жизнь в подвале дома Ходжесов, пытаться перекрасить ее волосы в такой же, как у меня, цвет и экспериментировать с различными лекарствами, которые могли бы вызвать у нее симптомы, напоминающие мое заболевание. Но в конце концов усилия оправдали себя. Семейство Ходжесов хорошо послужило мне, и я поняла это, когда дожидалась Говарда во взятой напрокат машине «скорой помощи» в квартале от собственного дома. Большего и желать было нельзя. Учитывая состояние здоровья старухи, может, ее и не стоило привязывать к кровати. Хотя сейчас я не сомневаюсь: не прими мы этих мер предосторожности, она бы спрыгнула со своего погребального костра, бросилась вон из горящего дома и расстроила бы весь тщательно подготовленный сценарий, ради которого я пожертвовала столь многим. Бедный мой дом. Мое дорогое семейство. У меня до сих пор наворачиваются слезы, когда я вспоминаю о том дне. Первое время Говард служил мне верой и правдой, но, когда я прочно обосновалась на новом месте и убедилась, что меня никто не преследует, я посчитала: будет гораздо лучше, если с ним произойдет несчастный случай где-нибудь подальше отсюда. Клод и Анри – уроженцы этой местности, происходят из семейства, которое хорошо служило мне много десятилетий. Я сижу здесь и жду Нину. Уверена, что она захватила контроль над всеми низшими расами – неграми, евреями, азиатами и прочими, и уже одно это не позволит мне вернуться в Америку. О, как же прав был Вилли еще в первые месяцы нашего знакомства, когда мы сидели в венском кафе и вежливо слушали его разглагольствования о том, что Соединенные Штаты стали страной дворняжек, рассадником недочеловеков, которые только и ждут момента, чтобы уничтожить чистые расы. Теперь над всеми ними властвует Нина. В ту ночь на острове я довольно долго сохраняла контакт с одним из охранников и видела, что Нинины люди сделали с бедным Вилли. Даже мистер Барент оказался в ее власти! Но я не собираюсь сидеть здесь сложа руки и ждать, когда Нина и ее дворняжки отыщут меня. По иронии судьбы эту мысль подсказала мне именно Нина со своей негритянкой. Благополучная развязка истории с капитаном Мэллори напомнила мне о более раннем контакте, практически случайной встрече, происшедшей тем далеким декабрем… В тот самый субботний день, когда я решила, что Вилли убили лишь для того, чтобы натравить на меня Нину, я вспомнила о своем прощальном визите в форт Самтер. Сначала я увидела скользящее в воде темное акулье тело подводной лодки, а потом у меня возник удивительный контакт с капитаном, стоявшим на серой башне (кажется, это называют рубкой) с биноклем на шее. С тех пор я выслеживала его шесть раз и разделяла его ощущения. Наш контакт выглядит гораздо мягче, чем те случайные проникновения в мозг Мэллори, которыми мне приходилось довольствоваться в свое время. Рядом с моим домиком близ Абердина можно стоять в одиночестве на прибрежных скалах и наблюдать за тем, как подводная лодка скользит к порту. Они гордятся своими шифрами, ключами и прочими системами безопасности, но я-то знаю то, что давно известно моему капитану: обойти все это будет очень просто. Именно его ночные кошмары стали моим руководством к действию. Но уж если браться, то это надо делать в ближайшее время. Ни капитан, ни его подводная лодка не становятся моложе. Старею и я. Возможно, вскоре его уже нельзя будет Использовать. Или я стану такой старой, что ничего не смогу. Нет, я не всегда думаю о грозящей мне опасности со стороны Нины, не всегда строю планы грандиозной Подпитки для себя. Но теперь это случается все чаще и чаще. Порой я просыпаюсь от звуков голосов, когда мимо моего дома на велосипедах проезжают девушки, направляющиеся на молочную ферму. Утро тогда кажется мне особенно теплым. Я поднимаюсь, завтракаю и иду к развалинам аббатства, сижу на лугу, вдыхаю аромат белых цветов, и больше мне ничего не нужно – лишь сидеть здесь и радоваться тишине и солнцу. Но в другие дни – холодные и темные, как сегодня, когда с севера наплывают тучи, я вспоминаю безмолвное тело подводной лодки, рассекающей темные воды залива, и думаю: неужели мое добровольное воздержание было напрасным? В эти дни я представляю, как омолодит мой организм такая грандиозная последняя Подпитка. Как говаривал Вилли, предлагая свою очередную выходку: а что я, собственно, теряю? Похоже, завтра будет теплее, и мое настроение улучшится. А сегодня меня что-то знобит, одолела меланхолия. Я совсем одна, мне не с кем поиграть. Близится зима. И я очень, очень проголодалась…
Дэн Симмонс
 МЕРЗОСТЬ
МЕРЗОСТЬ
Эту книгу я с глубоким уважением посвящаю памяти Джейкоба «Джейка» Уильяма Перри 2 апреля 1902 – 28 мая 1992
Вступление
Случаются великие дела, когда сходятся вместе горы и люди.Я познакомился с Джейком Перри летом 1991 года. Меня давно интересовали исследования и исследователи Антарктики — на самом деле еще с Года геофизики 1957–1958, когда США основали там первые постоянные базы, что поразило мое воображение, в то время десятилетнего мальчишки, — и где-то в 1990 году у меня возникло смутное ощущение, что можно написать роман, действие которого разворачивается в Антарктике. Прошло еще пятнадцать лет, прежде чем я действительно написал и опубликовал книгу об обреченной на неудачу арктической (не антарктической) экспедиции — вышедший в 2007-м роман «Террор», — но летом 1991-го мне нужно было представить издателю серию из трех книг. Меня интересовала именно Антарктика, а не экспедиции на Северный полюс, которые оставляли меня равнодушным (но о которых в конечном итоге я написал книгу), и этот интерес подпитывался многими годами чтения о приключениях Эрнеста Шеклтона, Роберта Фолкона Скотта, Эпсли Черри-Гаррарда и других героев и мучеников Антарктики. Тогда, летом 1991-го, подруга моей жены рассказала, что знакома с настоящим исследователем Антарктики. Этот старик — он переселился в город Дельта на западном склоне Колорадо, в специальный дом для пожилых людей, где им обеспечивают уход, — в 1930-х участвовал в американских антарктических экспедициях под командованием контр-адмирала Ричарда Бэрда. По крайней мере, Карен сказала, что так говорила ей Мэри. Лично я подозревал болезнь Альцгеймера, ложь, стремление рассказывать байки — либо все вместе. Однако, по словам Мэри, 89-летний джентльмен по имени Джейкоб Перри действительно участвовал в американской антарктической экспедиции 1934 года. Это была опасная экспедиция, во время которой адмирал Бэрд, всегда жаждавший личной славы, провел пять зимних месяцев в одиночестве в ледяной пещере на современной метеорологической станции, где едва не погиб, отравившись окисью углерода от кухонной плиты вследствие плохой вентиляции. (Бэрд написал чрезвычайно успешную книгу об этой зимовке, естественно, названную «Один».) Судя по тому, что Мэри сказала моей жене Карен, престарелый Джейкоб Перри был одним из четырех человек, которые в полной темноте преодолели сотни миль по Антарктике через ледяные бури полярной зимы 1934 г., чтобы спасти адмирала Бэрда. Потом всей группе пришлось ждать до октября, и после наступления полярного лета их самих спасли. — Похоже, он сможет снабдить тебя информацией о Южном полюсе, — сказала Карен. — Ты можешь написать целую книгу об этом мистере Перри. Может, он тот самый адмирал Перри, который первым добрался до Северного полюса! — Он Перри, — сказал я. — Перри из Антарктики. А не контр-адмирал Роберт Пири, который, как принято считать, в тысяча девятьсот девятом году первым добрался до Северного полюса. — Почему нет? — спросила Карен. — Все возможно. — Ну, во-первых, у них разные фамилии, — ответил я немного раздраженным тоном, поскольку не люблю, когда меня подталкивают к действию. Меня всегда раздражает, когда мне указывают, о чем мне писать. Я по слогам произнес фамилии адмирала «Пири» и старого мистера «Перри» из Дельты, о котором говорила Мэри. — Кроме того, — прибавил я, — теперь контр-адмиралу Пири было бы больше ста тридцати лет… — Ладно, ладно. — Карен подняла руки жестом, выработанным за десятилетия брака, — сигнал, который теоретически удерживает обе стороны от кровожадности. — Я ошиблась. Но этот мистер Перри все же может рассказать что-то интересное, и… — Кроме того, — перебил я, проявляя неуступчивость, — адмирал Пири умер в тысяча девятьсот двадцатом. — Да, но этот Джейкоб Перри пока еще живет в Дельте, — сказала Карен. — Пока. — Пока? Ты имеешь в виду его возраст? — Для меня всякий старик в возрасте восьмидесяти девяти или девяноста лет попадает в категорию «пока живых». Черт возьми, в 1991-м я считал, что любой человек старше шестидесяти долго не протянет. (Признаюсь, что теперь, в 2011-м, когда я пишу это предисловие, мне исполнилось шестьдесят три.) — Нет, дело не только в возрасте, — ответила Карен. — В письме Мэри также упоминала о раке. По всей видимости, Перри еще жив, но… Когда вошла Карен, я сидел за компьютером, обдумывая идеи для своих книг — печатал варианты заглавий, — но теперь выключил компьютер. — Мэри действительно говорит, что он был с Бэрдом в Антарктике в тридцать четвертом? — спросил я. — Действительно, — подтвердила Карен. — Я знала, что ты заинтересуешься им. — Моя жена каким-то образом умудряется не выглядеть самодовольной, даже когда права. — Тебе будет полезно на несколько дней выйти из кабинета. Это займет пять или шесть дней, даже если ехать до самого Гранд-Джанкшн. В Дельте можешь переночевать у Гая и Мэри. Я покачал головой. — Возьму «Миату». Сверну с 1-70, проеду Карбондейл, а затем вверх — и через перевал Мак-Клур. — А «Миата»[1] преодолеет Мак-Клур? — Посмотришь, — ответил я, размышляя, какую одежду положить в дорожную сумку для двухдневного путешествия. Предположительно я поговорю с мистером Перри утром второго дня, а затем поеду домой. У меня есть небольшая сумка «Норт Фейс», прекрасно подходящая для крошечного багажника «Миаты». Я напомнил себе, что нужно не забыть фотоаппарат. (В те времена я еще не перешел на цифровую технику — по крайней мере, в том, что касается фотографии.) Таким образом, благодаря желанию прокатиться в горах на новенькой «Мазда Миата» 1991 года выпуска я познакомился с мистером Джейкобом Перри.Уильям Блейк
Население города Дельта, штат Колорадо, составляет 6000 человек. Попав туда той дорогой, которой приехал я — съехав на юг с 1-70 у Гленвуд-Спрингс, затем повернув на шоссе 65 у Карбондейла, затем по узкой двухполосной дороге через высокие перевалы мимо затерянных в горах поселков Марбл и Паония, — можно убедиться, что маленький городок действительно окружен горами. Дельта расположен в широкой речной долине к югу от Гранд-Меса, которую местные жители называют «одной из самых больших в мире гор с плоской вершиной». Заведение, где в Дельте жил Джейк Перри, было не похоже на дом престарелых, и уж тем более на дом, где услуги сиделки были доступны двадцать четыре часа в сутки. С помощью нескольких федеральных грантов Мэри отремонтировала некогда роскошный, но теперь обветшавший отель и объединила с соседним складом. Результат выглядел скорее как четырехзвездочный отель, скажем, 1900 года, чем как дом для проживания с уходом. Я обнаружил, что у Джейкоба Перри своя комната на четвертом этаже. (Во время ремонта Мэри установила лифты.) После того как Мэри представила нас друг другу и еще раз объяснила, почему я хочу с ним поговорить — Дэн писатель, работающий над книгой, действие которой происходит на Северном полюсе, и он слышал о Джейке, сказала она, — мистер Перри пригласил меня войти. Комната и ее обитатель, похоже, подходили друг другу. Я удивился огромным размерам помещения — аккуратно заправленная двуспальная кровать у одного из трех окон, смотревших на горы и плоскую вершину Гранд-Меса на севере поверх крыш более низких зданий в центре города. Книжные шкафы высотой от пола до потолка были заполнены книгами в твердых обложках — я обратил внимание, что многие из них о горных вершинах мира, — и сувенирами. Среди последних были бухты старинной альпинистской веревки, очки из крукса, которые носили исследователи Антарктики, потертый кожаный мотоциклетный шлем, древний фотоаппарат «Кодак» и старый ледоруб с деревянной ручкой, гораздо длиннее, чем у современных ледорубов. Что касается самого Джейкоба Перри — я не мог поверить, что этому человеку восемьдесят девять лет. Возраст и земное притяжение сделали свое дело: позвоночник согнулся и сжался, сделав Перри ниже на один или два дюйма, однако в старике еще осталось шесть футов роста. На нем была джинсовая рубашка с короткими рукавами, и я видел опавшие бицепсы, но мышцы по-прежнему оставались рельефными — особенно внушительными выглядели предплечья; верхняя часть тела даже в таком возрасте сохранила треугольную форму и выглядела мощной благодаря тренировке длиною в жизнь. Лишь несколько минут спустя я заметил, что на левой руке у него не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного. Похоже, это была старая рана — плоть на обрубках у самых костяшек была коричневой и огрубевшей, как и вся остальная кожа ладоней и предплечий. И отсутствие пальцев нисколько ему не мешало. Позже, когда во время нашего разговора мистер Перри вертел в руках два восемнадцатидюймовых тонких кожаных шнурка, я с изумлением наблюдал, как он каждой рукой завязывает сложный узел — одновременно и разные. Вероятно, узлы были морскими или альпинистскими, поскольку сам я не смог бы завязать их обеими руками, несмотря на весь мой опыт бойскаута. Мистер Перри, не глядя, небрежно завязывал их, причем каждая рука действовала независимо от другой, а затем с рассеянным видом развязывал, используя только три сохранившихся пальца левой руки. По всей видимости, это была старая привычка — возможно, она его успокаивала — и он почти не обращал внимания ни на законченные узлы, ни на сам процесс. Когда мы пожимали друг другу руки, я почувствовал, как мои пальцы тонут в его большой и все еще сильной ладони. Однако он не делал характерной для забияки из захолустья попытки стиснуть мою руку; просто я ощутил его силу. Лицо мистера Перри много лет подвергалось воздействию солнца — в высоких широтах и в условиях разреженного воздуха, когда ультрафиолетовые лучи сжигают клетки кожи, — и между коричневыми пигментными пятнами были видны шрамы от операций по удалению возможных меланом. У старика сохранились волосы на голове, и он их коротко стриг. Сквозь поредевшую седину просвечивала смуглая кожа головы. Улыбаясь, мистер Перри демонстрировал собственные зубы, сохранившиеся почти полностью, если не считать двух или трех дальних на нижней челюсти. Но больше всего мне запомнились синие глаза мистера Перри. Они были ярко-синими и, казалось, не имели возраста. Они никак не походили на слезящиеся, невидящие глаза человека, которому скоро стукнет девяносто. Взгляд ярких глаз Перри был любопытным, внимательным, смелым, почти… детским. Когда я читаю лекции начинающим писателям любого возраста, то предостерегаю их от сравнений с кинозвездами или известными людьми — это клише, лень и торопливость. И все же пятнадцать лет спустя, когда мы с Карен смотрели фильм «Казино „Рояль“» из новой серии про Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом в главной роли, я взволнованно прошептал: «Смотри! Такие же пронзительные голубые глаза, как были у мистера Перри. И вообще Дэниел Крейг выглядит как мой мистер Перри в молодости». Карен внимательно посмотрела на меня в полутемном кинотеатре, а затем сказала: «Тише». Тогда, в 1991-м, в доме для стариков я немного растерялся и несколько минут восхищенно разглядывал разнообразные артефакты в книжных шкафах и на письменном столе Перри — длинный ледоруб с деревянной ручкой, стоявший в углу, несколько камней, которые, как потом объяснил Перри, были взяты с вершин разных пиков, и черно-белые фотографии, пожелтевшие от старости. Маленький фотоаппарат на полке — модель «Кодака», которую нужно разложить, прежде чем сделать снимок, — был древним, но не ржавым; похоже, за ним тщательно ухаживали. — В нем пленка… отснятая несколько лет назад, — сказал мистер Перри. — Так и не проявленная. Я дотронулся до маленького фотоаппарата и повернулся к старику. — Вам не интересно, что вышло на снимках? Мистер Перри покачал головой. — Я не фотографирую. На самом деле фотоаппарат не мой. Но здешний аптекарь сказал, что пленку, наверное, еще можно проявить. Когда-нибудь я увижу, что получилось. — Он жестом пригласил меня сесть в кресло у встроенного письменного стола. Вокруг стола я увидел разбросанные рисунки цветов, камней, деревьев, довольно искусные. — У меня очень давно не брали интервью, — сказал мистер Перри с иронической улыбкой. — Но даже тогда, несколько десятилетий назад, мне было почти нечего рассказать прессе. Я предположил, что он имеет в виду экспедицию Бэрда 1934 года. Но тогда я глупо ошибся и также не догадался уточнить. Моя жизнь и эта книга были бы совсем другими, будь у меня хотя бы зачатки журналистского инстинкта, заставившего бы ухватиться за этот ответ. Вместо этого я перевел разговор на себя и скромно (для эгоиста) сказал: — Я редко беру интервью. Большая часть предварительной работы у меня проходит в библиотеках. Вы не против, если я буду записывать? — Нисколько, — ответил мистер Перри. — Значит, вас интересуют антарктические экспедиции тридцать третьего и тридцать пятого годов? — Наверное, — сказал я. — Понимаете, у меня появилась идея написать психологический триллер, действие которого происходит в Антарктике. Все, что вы мне расскажете о Южном полюсе, будет очень полезно. Особенно страшное. — Страшное? — Перри снова улыбнулся. — Триллер? А вашим персонажам придется иметь дело с какими-нибудь враждебными силами, кроме холода, тьмы и одиночества? Немного растерявшись, я улыбнулся ему в ответ. Вырванные из контекста, сюжеты книг часто выглядят глупо. А если честно, то иногда и в контексте. Действительно, я думал о гигантском страшилище, которое будет преследовать, убивать и поедать моих персонажей. Только еще не придумал, что это может быть. — Вроде того, — признал я. — Что-то действительно большое и грозное пытается уничтожить наших героев, нечто, живущее во тьме и холоде. Оно пытается пробраться в их ледяную хижину, вмерзший в лед корабль или еще куда-нибудь. Нечто нечеловеческое и очень голодное. — Пингвин-убийца? — предположил мистер Перри. Я заставил себя рассмеяться вместе с ним, хотя моя жена, мой агент и редактор задавали этот вопрос каждый раз, когда я заговаривал об антарктическом триллере. «И что, Дэн? Этот твой монстр будет чем-то вроде пингвина-убийцы, мутанта?» Все шутят одинаково. (И до сих пор я не признавался, что действительно думал о мутанте, гигантском пингвине-убийце, как об антарктической угрозе.) — На самом деле, — вероятно, Перри заметил, что я покраснел, — пингвины могут убить вонью помета своих колоний. — А вы бывали в их колониях? — спросил я, занося ручку над своим тонким блокнотом, которым я пользовался во время подготовительной работы. Я чувствовал себя Джимми Олсеном.[2] Мистер Перри кивнул и снова улыбнулся, но на этот раз взгляд ярких голубых глаз был обращен внутрь, к каким-то воспоминаниям. — Третью — и последнюю — зиму, а также весну мне пришлось провести в хижине на мысе Ройдс… считалось, что я изучал там соседнюю колонию и поведение пингвинов. — Хижина на мысе Ройдс… — Я был потрясен. — Хижина Шеклтона? — Да. — Мне казалось, хижина Шеклтона — музей, закрытый для посетителей. — Мой голос звучал неуверенно. Я был слишком удивлен, чтобы писать. — Да, — сказал мистер Перри. — Теперь. Я чувствовал себя идиотом и наклонил голову, пытаясь скрыть румянец, снова заливший щеки. Джейкоб Перри говорил быстро, словно хотел избавить меня от чувства неловкости. — Шеклтон был для британцев национальным героем, и хижина уже превратилась в нечто вроде музея, когда адмирал Бэрд послал меня туда зимой тридцать пятого, поручив наблюдать за колонией пингвинов. Англичане время от времени пользовались хижиной, отправляя туда орнитологов для наблюдения за птицами, и там все время хранился провиант, так что американцы с соседней базы или кто-то другой, попавший в беду, мог им воспользоваться. Но в то время, когда мне приказали отправиться туда, в хижине уже много лет никто не зимовал. — Удивительно, что англичане дали разрешение американцам несколько месяцев жить в хижине Шеклтона, — сказал я. Мистер Перри ухмыльнулся. — Они не давали. И почти наверняка не дали бы. Адмирал Бэрд не спрашивал разрешения у англичан. Он просто отправил меня туда с двумя санями с семимесячным запасом продовольствия — парни вернули сани и собак на базу Бэрда через день после того, как высадили меня, — да, и еще с ломом, чтобы открыть дверь и заколоченные окна. Той зимой собаки могли бы составить мне компанию. Дело в том, что адмирал не желал меня видеть. И поэтому отправил как можно дальше, но в такое место, где у меня был шанс пережить зиму. Адмирал любил делать вид, что занимается наукой, но на самом деле ни в грош не ставил наблюдения за пингвинами или их изучение. Я все записал, до конца не понимая, но чувствуя, что по какой-то причине это важно. Мне было непонятно, как использовать хижину Шеклтона в своем новом романе, еще без названия и с туманным сюжетом. — Шеклтон и его люди построили хижину в тысяча девятьсот девятом… Когда я туда пришел, там еще сохранился корпус снегохода, который они оставили, — рассказывал Перри. — Наверное, она еще там — в Антарктике все ржавеет и разлагается очень медленно. Сомневаюсь, чтобы эта чертова штуковина проехала хотя бы десять футов по глубокому снегу, с которым столкнулся Шеклтон, но англичане любят всякие технические прибамбасы. Кстати, адмирал Бэрд тоже. Как бы то ни было, в начале антарктической осени меня высадили около старой хижины. Это было в марте тридцать пятого. Забрали меня в начале антарктической весны — в первых числах октября — того же года. Моя работа состояла в наблюдении за пингвинами Адели в большой колонии на мысе Ройдс. — Но это же антарктическая зима. — Я умолк, уверенный, что сейчас скажу несусветную глупость. — Мне казалось, пингвины Адели не… понимаете… не зимуют там. Я думал, они появляются на мысе Ройдс где-то в октябре и уходят вместе с птенцами — теми, кто выжил, — в начале марта. Я ошибаюсь? Наверное, ошибаюсь. — Вы абсолютно правы, мистер Симмонс. Когда меня высадили, я как раз успел увидеть, как последние два или три пингвина ковыляют к воде и уплывают в море — в начале марта вода у мыса Ройдс начинает замерзать, так что открытое море вскоре оказалось за десятки миль от хижины, — а забрали меня весной, в октябре, до того, как пингвины Адели вернулись, чтобы образовать колонию, найти себе пару и высиживать птенцов. Я покачал головой. — Не понимаю. Вам приказали сидеть там… Боже мой, больше семи месяцев, почти восемь… чтобы наблюдать за колонией на мысе, в которой не было пингвинов. И большую часть времени без солнечного света… Вы ученый, мистер Перри, биолог или что-то в этом роде? — Нет, — ответил он с той же кривой улыбкой. — В Гарварде я специализировался на английской литературе — американская литература восемнадцатого и девятнадцатого веков и много британской. В двадцать третьем, когда я выпускался, Генри Джеймса еще не изучали. Джеймс Джойс опубликовал своего «Улисса» всего за год до этого, в двадцать втором, а «Портрет художника в юности» вышел шестью годами раньше. Год я провел в Европе, катаясь на лыжах и лазая по горам — в двадцать один я получил небольшое наследство, — а в двадцать четыре прочел в журнале «Трансатлантическое обозрение» Форда Мэдокса Форда[3] один рассказ и решил, что должен немедленно покинуть Швейцарию и поехать в Париж, чтобы встретиться с молодым человеком по фамилии Хемингуэй и показать ему мои собственные произведения. — И вы так и поступили? — спросил я. — Да, — улыбнулся мистер Перри. — Хемингуэй время от времени подрабатывал корреспондентом «Торонто стар» в Европе, и у него в запасе имелся ловкий трюк, чтобы избавляться от таких надоедливых визитеров, как я. Мы встретились у него в кабинете — маленькой, грязной комнате, — и он сразу же повел меня вниз в кафе, чтобы выпить кофе. А через несколько минут поступил со мной так же, как и со всеми остальными — посмотрел на часы, сказал, что ему нужно возвращаться к работе, и удалился, оставив будущего писателя в кафе. — Вы показали ему свои рассказы? — Конечно. Он взглянул на первые несколько страниц трех из них и посоветовал мне не бросать основную работу. Но это совсем другая история, правда? Мы, старики, склонны отвлекаться и болтать попусту. — Это интересно, — выдавил из себя я. Но думал совсем другое: «Подумать только, встретиться с Хемингуэем и услышать, что ты не писатель… Что он при этом чувствовал? Или Перри просто меня разыгрывает?» — Итак, вернемся к тому, что вас интересует, мистер Симмонс, — Антарктике с тридцать третьего по тридцать пятый год. Адмирал Бэрд нанял меня в качестве палубного матроса, а также с учетом моего альпинистского опыта. Понимаете, ученые планировали исследовать несколько горных пиков во время той экспедиции. Я ни черта не знал ни о науке, ни о пингвинах, да и теперь знаю немногим больше, несмотря на все эти каналы с документальными фильмами о природе, которые транслируют тут по кабельному телевидению. Но в тысяча девятьсот тридцать пятом это не имело значения, потому что смысл состоял в том, чтобы я не попадался на глаза адмиралу до антарктической весны, когда мы все должны были покинуть континент. — Значит, вы семь месяцев провели в одиночестве, темноте и холоде, — растерянно пробормотал я. — Чем вы так разозлили адмирала? Мистер Перри разрезал яблоко маленьким, но очень острым складным ножом и предложил мне дольку. Я не стал отказываться. — Я его спас, — тихо ответил он, жуя свою дольку яблока. — Да, Мэри говорила, что вы были в составе маленькой группы, которая в тридцать четвертом вызволила адмирала Бэрда из одиночного заточения на передовой базе. — Совершенно верно, — подтвердил мистер Перри. — Ему было неприятно видеть одного из своих спасителей, и он сослал вас в хижину Шеклтона на мысе Ройдс, чтобы вы пережили такое же одиночество, как он? — Мне это казалось бессмысленным. — Вроде того, — кивнул Перри. — Разве что я не отравился окисью углерода, как адмирал… и меня не вызволяли, как его. И он каждый день связывался по радио с нашей базой «Маленькая Америка». У меня не было радио. И какой-либо связи с базой. — В составе группы, которая спасла Бэрда предыдущим августом, — сказал я, заглянув в заметки, сделанные на основе рассказа Мэри и поиска в справочниках (в 1991-м еще не было «Гугла»), — вы вместе с тремя другими людьми преодолели несколько сотен миль в условиях полярной зимы, когда немногие знаки, предупреждавшие о лабиринтах из трещин, сдуло ветром или занесло снегом, сотни миль в почти полной темноте на снегоходе, представлявшем собой просто «Форд-Т» с металлической крышей. Вы и еще трое с базы «Маленькая Америка». Мистер Перри кивнул. — Доктор Поултер, мистер Уэйт и мой непосредственный начальник по части снегоходов И. Дж. Демас. Именно Демас настоял, чтобы я вел снегоход. — Это была ваша обязанность во время экспедиции?.. Спасибо. — Перри протянул мне еще одну дольку вкусного яблока. — Будучи матросом, я много возился с этими проклятыми вездеходами и в конечном итоге летом часто возил на них ученых, которым нужно было за пределы базы, — объяснил старик. — Полагаю, мистер Демас думал, что у меня наилучшие шансы уберечь нас всех от расщелины, даже в темноте. Когда мы обнаружили, что большая часть предупреждающих знаков исчезла, нам пришлось вернуться, но мы сразу же предприняли новую попытку, даже несмотря на ухудшение погоды. — И все же это выглядит так, будто адмирал Бэрд вас наказывал, — сказал я, ощущая во рту свежий аромат яблока. — Отправил на семь месяцев в одиночное заключение. Джейк Перри пожал плечами. — «Спасение» — он очень не любил, когда кто-то употреблял это слово, — раздражало адмирала. С доктором Поултером и мистером Уэйтом он ничего сделать не мог, поскольку в экспедиции они были важными шишками, но Демасу поручил такую работу, чтобы редко его видеть. А меня он посылал в летние экспедиции, а затем отправил на мыс Ройдс на всю антарктическую зиму. В конечном итоге адмирал Бэрд даже не упомянул меня в отчете о своем… спасении. Моей фамилии нет в большинстве книг об Антарктике. Я был поражен низостью и мелочностью адмирала Бэрда. — Отправить вас одного на всю зиму на мыс Ройдс — это равносильно одиночному заключению. — Голос выдавал мой гнев. — И без радио… Адмирал Бэрд спятил после трех месяцев одиночества — а у него была ежедневная радиосвязь с «Маленькой Америкой». — Без радио, — ухмыльнулся мистер Перри. Я пытался это понять, но не мог. — Была ли какая-то цель — или причина, — чтобы вы провели семь месяцев в изоляции и пять в полной темноте в хижине Шеклтона на мысе Ройдс? Мистер Перри покачал головой, но ни в его лице, ни в голосе не отразилось гнева или обиды. — Как я уже говорил, меня взяли в экспедицию, чтобы лазать по горам. После того как мы спасли Бэрда — нам пришлось делить с ним маленькую подземную пещеру, которая служила ему передовой базой, с восьмого августа, дня нашего прибытия, до двенадцатого октября, когда Бэрд и доктор Поултер улетели на «Пилигриме», — я наконец отправился в летние экспедиции, где мой опыт альпиниста пригодился ученым. — «Пилигрим» — это самолет? — спросил я. Мистер Перри имел полное право сказать: «А что еще это могло быть, если они на нем улетели? Громадный альбатрос?» — но старик лишь вежливо кивнул. — В начале экспедиции у них было три самолета — большой «фоккер»… — Он умолк и улыбнулся. — То есть «фоккер», мистер Симмонс. Ф-о-к… — произнес он по буквам. — Понял. — Я улыбнулся. — Зовите меня Дэном. — Если вы будете звать меня Джейком. К моему удивлению, это оказалось трудно — то есть непринужденно называть его Джейком. Я редко смущаюсь в присутствии известных или авторитетных людей, но мистер Перри произвел на меня глубокое впечатление. Даже после того, как несколько минут спустя мне удалось произнести «Джейк», мысленно я продолжал называть его мистером Перри. — В любом случае, у них был большой «фоккер», именовавшийся «Голубой клинок»… который разбился при первой же попытке оторваться от земли — то есть ото льда — после нашего прибытия в Антарктику. Еще имелся даже больший по размерам гидросамолет «Уильям Хорлик», однако он, похоже, всегда стоял на техническом обслуживании. Поэтому в октябре, когда мы добрались до подземного убежища во льду и починили там вентиляцию, за адмиралом Бэрдом и доктором Поултером послали маленький моноплан «Пилигрим» — как только стабилизировалась погода. Помню, что те несколько недель ожидания доктор Поултер наблюдал за звездами и метеорами и измерял атмосферное давление — Бэрд был слишком болен и растерян, чтобы этим заниматься. Высокая концентрация окиси углерода не лучшим образом повлияла на мозг адмирала. Затем, после того как в августе «Пилигрим» забрал адмирала Бэрда и доктора Поултера, мы с Уэйтом и Демасом отправились на вездеходе назад, к «Маленькой Америке»… как раз вовремя, чтобы я успел поучаствовать в экспедициях в горы Хейнса. — Вы присоединились к экспедиции, чтобы взбираться на горы в Антарктиде? Постучав, вошла Мэри и принесла нам обоим лимонад, ненадолго прервав разговор. Лимонад был вкусным, домашнего приготовления. Мистер Перри кивнул. — Это единственное, что я умею. Единственная причина моего участия в экспедиции. Альпинизм. Конечно, я умел обращаться с моторами и разбирался в другом оборудовании… и поэтому в конце концов зимой, когда мои альпинистские навыки были не нужны, стал обслуживать снегоходы Демаса… Но я отправился в Антарктику ради гор. — И много у вас было восхождений? — спросил я. Перри улыбнулся, и взгляд его голубых глаз снова стал задумчивым. — Пик Мак-Кинли в то лето тридцать четвертого… нет, конечно, не гора Мак-Кинли, а вершина с тем же названием у самого Южного полюса. Несколько безымянных пиков на хребте Хейнса… Ученые искали там мхи и лишайники, и я доставил всех целыми и невредимыми на уступы, потом взобрался на вершину и спустился, чтобы помочь с оборудованием. Летом тридцать четвертого я покорил гору Вудвард на хребте Форда, потом горыРеа и Купер, потом Саундерс. С технической точки зрения ничего интересного. Много работы на снегу и на льду. Большое количество расщелин, ледяных утесов и лавин. Жан-Клоду понравилось бы. — Кто такой Жан-Клод? — спросил я. Задумчивый взгляд мистера Перри снова стал сосредоточенным. — Нет, нет. Просто альпинист, которого я знал много лет назад. Он любил решать проблемы, связанные со снегом, льдом и трещинами. Да, еще я покорил горы Эребус и Террор. — Эти две последние — вулканы, — заметил я, пытаясь показать, что кое-что знаю о Южном полюсе. — Названы в честь британских кораблей, да? Мистер Перри кивнул. — Их назвал в тысяча восемьсот сорок первом году Джеймс Кларк Росс — его считают первооткрывателем Антарктиды, хотя его нога не ступала на континент. Корабль ВМС Великобритании «Эребус» был его флагманом, а кораблем «Террор» командовал его заместитель, некий Фрэнсис Крозье. Я все записал, не зная, пригодится ли мне это в предполагаемой книге о гигантских мутантах, пингвинах-убийцах, напавших на хижину Шеклтона. — Несколько лет спустя Крозье был заместителем у сэра Джона Франклина, когда в северных ледяных полях были потеряны и «Эребус», и «Террор», — почти рассеянно прибавил мистер Перри, словно заканчивал мысль. — То есть британские ледоколы, — с улыбкой уточнил он. — Не вулканы. Те на своих местах. — Они утонули? — Я поднял голову от блокнота. — Два судна, в честь которых были названы вулканы, «Эребус» и «Террор»… Они затонули несколько лет спустя? — Дело обстоит гораздо хуже, Дэн. Они исчезли. Сэр Джон Франклин, Фрэнсис Мойра Крозье и еще сто двадцать семь человек. Они пытались пройти Северо-Западным проходом, и к северу от Канады два судна и все люди просто… исчезли. На необитаемых островах нашли человеческие кости, но до сего дня не обнаружили никаких следов ни кораблей, ни большинства людей. Я лихорадочно писал. Северный полюс и экспедиции к нему меня не интересовали, но больше ста человек и два судна просто… исчезли без следа? Я спросил полное имя капитана Крозье, и мистер Перри произнес его по слогам, словно ребенку. — В любом случае, — заключил мистер Перри, — поскольку адмирал Бэрд не хотел видеть меня рядом с собой — полагаю, я напоминал ему о почти преступной небрежности, когда он едва не отравил себя газом в своей разрекламированной «Передовой базе» и вынудил других людей рисковать жизнью для его спасения — в мою следующую и последнюю антарктическую зиму, то приказал мне в одиночестве «наблюдать за пингвинами» в хижине Шеклтона на мысе Ройдс. С марта по октябрь тридцать пятого. — Наблюдать за пингвинами, которые уже ушли, — сказал я. — Да. — Усмехнувшись, мистер Перри скрестил руки на груди, и я снова поразился, какие сильные у него предплечья. На них были заметны несколько шрамов. Старых шрамов. — Но осенью, прежде чем стало совсем холодно, я каждый день вдыхал невыносимую вонь помета из колонии пингвинов. — Наверное, это выглядело как настоящее наказание, — повторил я, с ужасом представляя подобную изоляцию и чувствуя настоящий гнев из-за мелочности адмирала Бэрда. — Я имею в виду не помет. Чувство, что вы в одиночном заключении. В ответ Перри лишь улыбнулся. — А мне нравилось, — сказал он. — Те зимние месяцы в хижине Шеклтона были одними из лучших дней в моей жизни. Конечно, одиноко и холодно… временами очень холодно, поскольку хижина на мысе Ройдс не была предназначена для обогрева всего одного человека, и ветер каждый день находил дорогу через тысячи щелей и трещин… но чудесно. С помощью брезента и старых ящиков Шеклтона я соорудил у двери маленькое убежище, где мог поддерживать тепло, хотя иногда по утрам мех росомахи вокруг отверстия в моем спальном мешке покрывался инеем. Но само ощущение… просто чудесное. Необыкновенное. — Той зимой вы покоряли горы? — спросил я и тут же сообразил, что вопрос глупый. Кто полезет на горы в полной темноте и при температуре минус шестьдесят или минус семьдесят? Удивительно, но Перри снова кивнул. — Люди Шеклтона взбирались на гору Эребус — по крайней мере, на край вулканического кратера — в тысяча девятьсот восьмом, — сказал он. — Я поднимался на вершину трижды, разными маршрутами. Один раз ночью. Да, считается, что первое зимнее восхождение на Эребус совершил британский альпинист Роджер Майер всего шесть лет назад, в тысяча девятьсот восемьдесят шестом, но зимой тридцать пятого я дважды поднимался на вершину вулкана. Не думаю, что это есть хотя бы в одном справочнике. Наверное, я не рассказал об этом никому, кто мог бы это записать. Он умолк, и я тоже молчал, снова задавая себе вопрос, не разыгрывает ли меня этот чудесный старик. Затем он встал, взял старый ледоруб с деревянной ручкой и сказал: — Всего несколько месяцев назад… минувшим январем… арматурщик со станции Мак-Мердо, парень по имени Чарльз Блэкмер, совершил одиночное восхождение на гору Эребус за семнадцать часов. Об этом писали разные альпинистские журналы, поскольку он установил официальный рекорд. Улучшил старый на много часов. — А вы отмечали время подъема на гору пятьюдесятью шестью годами раньше? — спросил я. Мистер Перри улыбнулся. — Тринадцать часов и десять минут. Правда, это было уже не первое восхождение. — Он рассмеялся и покачал головой. — Но вам это ничем не поможет, Дэн. Что вы хотите знать об исследовании Южного полюса? Я вздохнул, понимая, что совсем не подготовился к интервью. (И в определенной степени к разговору вообще.) — А что вы можете мне рассказать? — спросил я. — То, что нельзя найти в книгах. Перри потер подбородок. Послышался шорох седой щетины. — Понимаете, — тихо сказал он, — когда смотришь на звезды у горизонта… особенно в сильный холод… они как будто дрожат… прыгают влево, затем вправо… и одновременно колеблются вверх-вниз. Думаю, это как-то связано с массами очень холодного воздуха над землей и замерзшим морем, которые действуют как подвижные линзы… Я лихорадочно записывал. Мистер Перри усмехнулся. — Неужели эта банальность действительно поможет написать роман? — Заранее неизвестно, — ответил я, продолжая писать. Как выяснилось, прыгающие у горизонта звезды появились в предложении, занимавшем конец первой и начало второй страницы моего романа «Террор», который вышел шестнадцать лет спустя и был посвящен неудачной попытке сэра Джона Франклина пройти Северо-Западным проходом, а вовсе не Антарктике. Но мистер Перри умер от рака задолго до того, как был опубликован «Террор».
Впоследствии я выяснил, что мистер Перри участвовал в нескольких знаменитых восхождениях, а также в экспедициях на Аляску, в Южную Америку и восхождениях на К2,[4] а не только в трехгодичной экспедиции к Южному полюсу, которую мы обсуждали в тот летний день 1991 года. Наше «интервью» — по большей части милый разговор о путешествиях, храбрости, дружбе, жизни, смерти и судьбе — длилось несколько часов. И я так и не задал самого главного вопроса: вопроса о том, что он пережил в Гималаях в 1925 году. Могу сказать, что к концу нашего разговора мистер Перри устал. Дыхание у него стало хриплым. Увидев, что я это заметил, он сказал: — Зимой мне удалили часть легкого. Рак. Второе, вероятно, тоже поражено, но метастазы распространились везде, так что добьют меня не легкие. — Мне жаль, — произнес я, остро чувствуя неадекватность этих слов. Мистер Перри пожал плечами. — Если я доживу до девяноста, Дэн, то выиграю не одно пари. Больше, чем вы можете себе представить. — Он усмехнулся. — Но самое любопытное, что у меня рак легких, а я никогда не курил. Никогда. Ни разу в жизни. Я не знал, что на это ответить. — Еще один парадокс состоит в том, что я переехал в Дельту из-за близости к горам, — прибавил он. — А теперь задыхаюсь после подъема на небольшой холм. Сотня футов пастбища на окраине города, а я дышу так, словно вскарабкался на высоту двадцати восьми тысяч футов. Я по-прежнему не знал, что сказать — наверное, ужасно лишиться легкого из-за рака, — но не догадался спросить, где и когда он поднимался на высоту 28 000 футов. Зона выше 25 000 футов, или 8000 метров, называется «зоной смерти», и не без оснований: на такой высоте альпинист слабеет с каждой минутой, кашляет, задыхается; ему всегда не хватает воздуха, и он не в состоянии восстановить силы во время сна (тем более что заснуть на такой высоте практически невозможно). Впоследствии я спрашивал себя, называл ли мистер Перри 28 000 футов в качестве примера, как трудно ему дышать, или действительно поднимался на такую высоту. Мне было известно, что Винсон, самая высокая гора Антарктиды, чуть выше 16 000 футов. Но прежде чем я собрался задать умный вопрос, мистер Перри хлопнул меня по плечу. — Я не жалуюсь. Просто мне нравится иронизировать. Если в этой несчастной, печальной и беспорядочной вселенной есть Бог, этот Бог — горькая ирония. К примеру… вы успешный писатель. — Да, — осторожно согласился я. Чаще всего новые знакомые обращаются к успешному писателю с просьбами (а) найти литературного агента, (б) помочь с публикацией, (в) то и другое вместе. — У вас есть литературный агент и все такое? — спросил Перри. — И что? — Я насторожился еще больше. После четырех часов разговора я восхищался этим человеком, но графоман есть графоман. Напечатать его практически невозможно. — Я собирался кое-что написать… Вот оно. В каком-то смысле мне было жаль слышать эти знакомые слова. Они красной линией проходят через все разговоры с новыми знакомыми. Но я также почувствовал некоторое облегчение. Если Перри еще не написал свою книгу или что там еще, каковы шансы, что он сделает это теперь, почти в девяносто, больной раком? Мистер Перри увидел мое лицо, прочел мои мысли и громко рассмеялся. — Не волнуйтесь, Дэн. Я не буду просить вас что-нибудь опубликовать. — А что тогда? — спросил я. Он снова потер щеки и подбородок. — Я хочу кое-что написать и хочу, чтобы кто-нибудь это прочел. Понимаете? — Думаю, да. Именно поэтому я пишу. Он покачал головой, как мне показалось, раздраженно. — Нет, вы пишете для тысяч или десятков тысяч людей, которые прочтут ваши мысли. Мне же нужен всего один читатель. Один человек, который поймет. Один, который способен поверить. — Может, родственники? — предположил я. — Единственная известная мне родственница, внучатая племянница или правнучка, или как там она называется, живет в Балтиморе или где-то еще, — тихо сказал он: — Я ее никогда не видел. Но у Мэри и администрации этого дома есть ее адрес… куда посылать мои вещи, когда я отдам концы. Нет, Дэн, если я сумею написать эту штуку, то хочу, чтобы ее прочел тот, кто способен понять. — Это фантастика? — Нет, но я уверен, что это будет выглядеть фантастикой. Вероятно, плохой фантастикой. — Вы уже начали писать? Он снова покачал головой: — Нет, я ждал все эти годы… черт, я не знаю, чего ждал. Наверное, пока смерть постучит в мою дверь, чтобы у меня появилась мотивация. Ну вот, старуха с косой уже колотит изо всех сил. — Почту за честь прочитать все, чем вы пожелаете со мной поделиться, мистер Перри, — ответил я, удивляясь эмоциональности и искренности своего предложения. Обычно я относился к произведениям новичков так, словно их рукописи кишат бациллами чумы. Но тут обнаружил, что мне не терпится прочесть все, что захочет написать этот человек, хотя в то время предполагал, что он будет рассказывать об экспедиции Бэрда на Северный полюс в середине 30-х. Какое-то время Джейкоб Перри сидел неподвижно и пристально смотрел на меня. Эти голубые глаза словно ощупывали меня — будто восемь грубых, покрытых шрамами пальцев с силой давят мне на лоб. Не очень приятное ощущение. Но между нами возникла какая-то связь. — Ладно, — наконец произнес он. — Если я когда-нибудь это напишу, то пришлю вам. Я уже вручил ему свою визитную карточку с адресом и другой информацией. — Но есть одна проблема, — сказал он. — Какая? Перри сцепил руки, такие ловкие даже без двух пальцев на левой руке. — Я совсем не умею печатать, — признался он. Я рассмеялся. — Если бы вы отправляли рукопись издателю, то мы нашли бы машинистку, чтобы она ее напечатала. Или я сам. А пока… Я извлек из потертого портфеля чистый блокнот «Молескин» — 240 бежевых нетронутых страниц. Блокнот был в мягкой кожаной суперобложке с двойной петелькой для ручки или карандаша. Я уже вставил в петельку остро отточенный карандаш. Мистер Перри дотронулся до кожаной обложки. — Это слишком дорого… — нерешительно произнес он и отдернул руку. Мне было приятно услышать старомодное слово «дорого», но я покачал головой и вложил блокнот в кожаной обложке ему в руки. — Это всего лишь памятный сувенир в благодарность за те несколько часов, которые вы мне уделили, — я хотел прибавить «Джейк», но не смог заставить себя назвать его по имени. — Серьезно, я хочу, чтобы вы его взяли. А когда напишете то, чем захотите со мной поделиться, то я буду с нетерпением ждать. И обещаю дать честную оценку. Мистер Перри улыбнулся, сжимая блокнот своими узловатыми пальцами. — Вероятно, я буду уже мертв, когда вы получите эту тетрадь… или тетради… Дэн, так что будьте максимально честными в своей критике. Меня это уже нисколько не обидит. Я не знал, что ему ответить.
Наш с Перри разговор состоялся в июле 1991 года, за двадцать лет до того, как я пишу предисловие к этой рукописи, на исходе лета 2011-го. В конце мая 1992 года позвонила Мэри и сообщила, что мистер Перри умер в больнице города Дельта. Рак победил. Когда я спросил Мэри, не оставил ли мистер Перри что-нибудь для меня, она удивилась. Все его вещи — а их было немного, в основном книги и артефакты — упаковали и отправили внучатой племяннице в Балтимор. В то время Мэри не было в хосписе — она была в больнице в Денвере. Посылки отправлял ее помощник. Затем, девять недель назад, в конце весны 2011-го, почти через двадцать лет после моей поездки в Дельту, я получил посылку UPS от человека по имени Ричард А. Дарбейдж-младший из города Лютервилл-Тимониум, штат Мэриленд. Предположив, что кто-то прислал стопку моих старых книг с просьбой подписать — меня очень раздражает, когда читатели без спроса присылают мне книги на подпись, — я боролся с искушением отправить посылку назад, не открывая. Но вместо этого взял нож для бумаги и, удивляясь своему нетерпению, вскрыл пакет. Карен взглянула на информацию об отправителе и рассмешила меня заявлением, что нам еще не присылали книги на подпись из Лютервилл-Тимониума, и тут же подошла к компьютеру, чтобы посмотреть, где это находится. (Карен любит географию.) Но в посылке оказались не мои старые книги, присланные на подпись. Двенадцать блокнотов «Молескин». Пролистав их, я обнаружил, что каждая страница с двух сторон исписана мелким, но четким наклонным почерком, явно мужским. И даже тогда я не подумал о мистере Перри, пока не добрался до последнего блокнота, на самом дне. На нем была кожаная суперобложка с огрызком карандаша М2, только кожа теперь стала сморщенной и потертой, с темными пятнами от многочисленных прикосновений рук мистера Перри. По всей видимости, он надевал кожаную суперобложку на каждый новый блокнот все десять месяцев, которые потребовались на запись этой длинной истории. В посылке было отпечатанное на машинке письмо.
Уважаемый мистер Симмонс! В апреле нынешнего года умерла моя мать, Лидия Дарбейдж. Ей был 71 год. Разбирая ее вещи, я наткнулся на эту коробку. Ее прислали ей в 1992 году из дома престарелых, где последние годы перед смертью жил ее дальний родственник мистер Джейкоб Перри. Моя мать, которая не была знакома с ним и никогда его не видела, похоже, просто заглянула в пакет, выбрала пару вещей для гаражной распродажи, а остальное не трогала. Полагаю, она не открывала тетради, которые я отправляю вам. На первой странице верхней тетради была записка, но не для моей матери, а для некоей «Мэри», которая управляла домом для пожилых людей, где обеспечивают уход, из города Дельта, с просьбой переслать вам эти блокноты, и фотоаппарат «Кодак Вест Покет». Ваш адрес прилагался — именно оттуда я узнал, куда отправлять сильно запоздавшую посылку. Если эти вещи вы ждали двадцать лет назад, то я приношу извинения за такую задержку. Моя мать была рассеянной, даже в более молодом возрасте. Поскольку блокноты предназначались вам, я решил их не читать. Просто пролистал их и обратил внимание, что родственник моей матери был хорошим художником: карты, рисунки гор и другие наброски сделаны настоящим профессионалом. Еще раз приношу свои извинения за непреднамеренную задержку, которая не позволила вам получить этот пакет вовремя, как, я уверен, рассчитывал мистер Перри. С уважением, Ричард А. Дарбейдж-младшийЯ отнес коробку к себе в кабинет, вытащил стопку блокнотов, тут же начал читать — и не отрывался всю ночь, закончив на следующий день в девять утра. После нескольких месяцев размышлений я решил опубликовать два варианта последней (и единственной) рукописи Джейкоба Перри. В конечном итоге мне показалось, что именно этого он и хотел, посвятив ей последние десять месяцев жизни. Я убежден, что именно поэтому он выбрал меня единственным читателем. Он знал, что я смогу оценить, достойна рукопись публикации или нет. И я твердо убежден, что рукопись Джейкоба Перри — эта книга — действительно должна увидеть свет. Второе издание, с очень ограниченным тиражом, будет включать фрагменты рукописи, а также огромное количество рисунков, портретов, тщательно прорисованных карт, горных пейзажей, старых фотографий и других элементов, которыми мистер Перри сопроводил текст. В данном варианте только текст. Думаю, этой книге удастся рассказать историю, которую Джейкоб Перри (1902–1992) хотел поведать людям. Хотел, чтобы мы услышали. В качестве редактора я лишь исправил несколько грамматических ошибок и добавил небольшое количество примечаний к тексту. Остается верить и надеяться, что, позволяя мне быть его первым читателем и редактором, мистер Перри понимал, что у меня возникнет желание познакомить других с этой необычной и прекрасной историей. Я действительно думаю, что он этого хотел. И искренне надеюсь, что так и было.
Часть I АЛЬПИНИСТЫ
Пик Маттерхорн предлагает очень простой выбор: оступишься влево, и умрешь в Италии; неверный шаг вправо, и смерть настигнет тебя в Швейцарии.* * *
Мы все трое узнали об исчезновении Мэллори и Ирвина на горе Эверест, когда обедали на вершине горы Маттерхорн. Это был чудесный день в конце июня 1924 года, а известие дошло до нас из английской газеты трехдневной давности, в которую на кухне маленькой гостиницы в итальянской деревушке Брей кто-то завернул сэндвичи из говядины с листьями хрена на толстых ломтях свежего хлеба. Сам того не зная, я нес эти не имевшие веса новости — вскоре они камнем лягут на сердце каждого из нас — в своем рюкзаке вместе с бурдюком вина, двумя бутылками воды, тремя апельсинами, 100 футами альпинистской веревки и большим кругом салями. Мы не сразу заметили и прочли новость, которая все для нас изменила. Были слишком возбуждены покорением вершины и открывшимся с нее видом. Шесть дней мы занимались только тем, что раз за разом лазали на Маттерхорн, неизменно избегая вершины — по причинам, известным только Дикону. В первый день, поднявшись из Церматта, мы исследовали гребень Хорнли — этим маршрутом прошел Уимпер в 1865-м, — не пользуясь закрепленными веревками и тросами, прочертившими поверхность горы, словно шрамы. На следующий день мы точно так же прошли по гребню Цмутт. Третий день выдался длинным — мы перебрались через гору, снова поднявшись со стороны Швейцарии через гребень Хорнли, пройдя по рыхлому северному склону ниже вершины, которую Дикон сделал для нас запретной, и, спустившись вдоль Итальянского хребта, уже в сумерках добрались до наших палаток на зеленых высокогорных лугах, которые смотрели на юг, в сторону Брей. На шестой день я понял, что мы идем по стопам тех, кто принес славу пику Маттерхорн — известному художнику и альпинисту 25-летнему Эдварду Уимперу и его импровизированному отряду из трех англичан. В него входили преподобный Чарльз Хадсон («священник из Крыма»), 19-летний новичок Дуглас Хэдоу, протеже преподобного Чарльза Хадсона, и 18-летний лорд Фрэнсис Дуглас (который только что лучше всех сдал экзамены в военную академию, почти на 500 пунктов опередив ближайшего из 118 конкурентов), сын маркиза Куинсберри и начинающего альпиниста, уже два года приезжавшего в Альпы. Разношерстную группу молодых британских альпинистов с разными возможностями и разным уровнем подготовки сопровождали три нанятых Уимпером проводника: Старый Петер Таугвальдер (ему было всего 45, но он считался стариком), Молодой Петер Таугвальдер (21 год) и очень опытный проводник из Шамони Мишель Кро. На самом деле им было достаточно одного Кро, однако Уимпер уже пообещал работу Таугвальдерам, а английский альпинист всегда держал слово, хотя команда стала слишком большой, а два проводника были явно лишними. На Итальянском хребте я понял, что Дикон демонстрирует нам отвагу и усилия Жана-Антуана Карреля, друга, соперника и бывшего партнера Уимпера. Сложные маршруты, которыми мы наслаждались, были проложены Каррелем. Наши альпинистские палатки — палатки Уимпера, как их до сих пор называют, поскольку они были изобретены звездой «Золотого века альпинизма» для покорения именно этой горы, — располагались на поросших травой лугах над нижними ледниками по обе стороны горы, и каждый день мы возвращались к ним в сумерках, а зачастую после наступления темноты, чтобы перекусить и поговорить у небольшого костра, а после нескольких часов крепкого сна вставали и снова шли в горы. Мы поднимались на гребень Фурген на горе Маттерхорн, но обходили впечатляющие выступы у самой вершины. Это не было поражением. Целый день мы изучали подходы к одному еще непокоренному выступу, но решили, что у нас не хватит ни опыта, ни снаряжения, чтобы преодолеть его в лоб. (Выступ в конечном итоге был покорен Альфредо Перино, Луи Каррелем, которого называли Маленьким Каррелем в честь знаменитого предшественника, и Джакомо Чиарро восемнадцать лет спустя, в 1942 году.) Наша осторожность в неосуществимой — с учетом снаряжения и техники скалолазания 1924 года — попытке преодолеть выступ на гребне Фурген напомнила мне о первой встрече с 37-летним англичанином Ричардом Дэвисом Диконом и 25-летним французом Жан-Клодом Клэру у подножия непокоренной Северной стены горы Эйгер — смертельно опасного Эйгерванда. Но это совсем другая история. Суть в том, что Дикон — многочисленные друзья и коллеги-альпинисты звали его Дьяконом — и Жан-Клод, только что ставший полноправным членом «Гидов Шамони», вероятно, самого эксклюзивного альпинистского братства в мире, согласились взять меня с собой в многомесячную экспедицию в Альпы, занявшую всю зиму, весну и начало лета. О таком подарке я даже не мечтал. Мне нравилось учиться в Гарварде, но уроки Дикона и Жан-Клода — которого я в конечном итоге стал называть Же-Ка, поскольку он не возражал против этого прозвища, — на протяжении тех месяцев были самыми трудными и вдохновляющими в моей жизни. По крайней мере, до кошмара горы Эверест. В последние два дня на Маттерхорне мы совершили частичное восхождение по коварному западному склону, последнему из непокоренных и самому сложному маршруту в Альпах. Франц и Тони Шмидты поднялись по нему семь лет спустя, переночевав в промежуточном лагере на самом склоне. Они проедут на велосипедах от Мюнхена до горы и после стремительного броска по северному склону снова сядут на велосипеды и вернутся домой. Для нас троих это была всего лишь рекогносцировка. В этот последний, чудесный день в конце июня мы попробовали несколько маршрутов на кажущемся недоступным Носе Цмутт, нависающем над правой частью северной стены, затем отступили, перешли на Итальянский хребет и — когда Дикон кивком разрешил преодолеть последние 100 футов — наконец оказались здесь, на узкой вершине. За неделю, которую мы провели на Маттерхорне, нам пришлось преодолевать ливни, внезапные снежные бури, мокрый снег, тонкую пленку льда на камнях и сильный ветер. В этот последний день на вершине было ясно, тихо и тепло. Ветер был таким слабым, что Дикон смог разжечь свою трубку всего одной спичкой. Вершина горы Маттерхорн представляет собой гребень длиной сто ярдов, если вы захотите преодолеть расстояние между нижней, чуть более широкой «Итальянской вершиной» и высшей, самой узкой точкой на «Швейцарской вершине». За прошедшие девять месяцев Дикон и Жан-Клод научили меня, что все хорошие горы предлагают простой выбор. Пик Маттерхорн предлагает очень простой выбор: оступишься влево, и умрешь в Италии; неверный шаг вправо, и смерть настигнет тебя в Швейцарии. Итальянская сторона представляет собой отвесную скалу высотой 4000 футов, оканчивающуюся камнями и острыми выступами, которые остановят падение на полпути, а швейцарская сторона обрывается к крутому снежному склону и скалистым гребням на несколько сотен футов ниже серединной отметки, где валуны и выступы могут остановить, а могут и не остановить падение тела. На самом гребне довольно много снега, на котором остаются четкие отпечатки наших шипованных ботинок. Гребень на вершине Маттерхорна не относится к тем, которые журналисты называют острым, как бритва. Свидетельством тому наши следы. Будь он острым, отпечатки подошв располагались бы по обе стороны, поскольку самый разумный способ передвижения по такому гребню — медленная, раскачивающаяся походка больной утки, когда одна нога ставится на западной стороне узкого гребня вершины, а другая на восточной. Поскользнувшись, вы отобьете себе яйца, но — будь на то воля Бога или судьбы — не упадете с высоты 4000 футов. На чуть более широком снежном гребне, который представляет собой вертикальный снежный карниз, мы использовали бы прием, который Жан-Клод называет «прыжок на веревке». Мы двигались бы в связке, и если бы шедший непосредственно впереди или сзади поскользнулся, следовало мгновенно (на таком узком снежном склоне времени на размышления нет) — «мгновенная реакция» становится автоматической в результате многочисленных тренировок — прыгать на противоположную сторону гребня, и тогда оба повисли бы над 4000-футовой или еще более глубокой пропастью, отчаянно надеясь, что (а) веревка не оборвется, обрекая на смерть обоих, и (б) что ваш вес уравновесит его вес, предотвращая падение. Это действительно работает. Мы много раз тренировались выполнять этот прием на остром снежном гребне Монблана. Только там наказанием за ошибку — или обрыв веревки — было 50-футовое скольжение до горизонтального снежного поля, а не падение в 4000-футовую пропасть. Рост у меня 6 футов и 2 дюйма, а вес 220 фунтов, и когда я исполнял «прыжок на веревке» в паре с бедным Жан-Клодом (рост 5 футов и 6 дюймов, вес 135 фунтов), логика подсказывала, что он должен перелететь через снежный гребень, как попавшая на крючок рыба, и мы оба съедем вниз. Но поскольку у Жан-Клода была привычка брать самый тяжелый рюкзак (кроме того, у него была самая быстрая реакция, и он лучше всех управлялся с ледорубом на длинной ручке), принцип противовеса срабатывал, и сильно натянутая пеньковая веревка врезалась в снежный карниз, пока не упиралась в скалу или твердый лед. Но, как я уже сказал, по сравнению с острыми гребнями длинный гребень Маттерхорна был все равно что французский бульвар: достаточно широкий, чтобы идти по нему, хотя в некоторых местах гуськом, и — если вы очень смелый, опытный или абсолютно безмозглый — даже сунув руки в карманы и думая о посторонних вещах. Дикон именно так и поступил — расхаживал взад-вперед по узкому гребню, вытащив из кармана свою старую трубку и раскуривая ее на ходу. В то утро Дикон, который мог молчать дни напролет, вероятно, чувствовал потребность в общении. Попыхивая трубкой, он жестом пригласил меня и Жан-Клода последовать за ним к дальнему краю гребня, откуда можно было видеть Итальянский хребет, откуда начинались почти все первые попытки покорения вершины — даже Уимпером, пока он не решил использовать казавшийся более сложным (но в действительности несколько более простой из-за наклона гигантских плит) Швейцарский хребет. — Каррель со своей группой был там, — говорит Дикон, указывая на линию приблизительно в одной трети расстояния до узкого гребня со скалистыми склонами. — Столько лет усилий, и в конечном итоге Уимпер на два или три часа опережает своего итальянского друга и проводника. Естественно, он имеет в виду Уимпера и его шестерых товарищей, которые первыми покорили Маттерхорн 14 июля 1865 года. — А Уимпер и Кро не сбрасывали на них камни? Дикон смотрит на нашего французского друга и видит, что тот шутит. Оба улыбаются. — Уимпер очень хотел привлечь внимание Карреля. — Дикон указывает на отвесную скалу слева от нас. — Вместе с Кро он кричал и бросал камни с северного склона — разумеется, подальше от гребня, по которому поднимались итальянцы. Но Каррелю и его команде это, наверное, напоминало артиллерийский обстрел. Мы все смотрели вниз, словно могли видеть расстроенного итальянского гида и его товарищей, переживающих шок от своего поражения. — Каррель узнал белые бриджи своего старого клиента. Каррель считал, что находится примерно в часе от вершины — он уже провел через самые сложные препятствия, — но после того, как узнал Уимпера на вершине, просто повернул назад и повел группу вниз. — Дикон вздыхает, глубоко затягивается трубкой и окидывает взглядом горы, долины, луга и ледники под нами. — Каррель взошел на Маттерхорн два или три дня спустя, снова от Итальянского хребта, — тихо прибавляет он, словно обращаясь к самому себе. — Закрепив за итальянцами второе место в гонке. Даже после чистой победы британских парней. — Чистой победы, oui…[5] но такой трагичной, — говорит Жан-Клод. Мы возвращаемся к северному концу узкого гребня вершины, где у камней сложены наши рюкзаки. Мы с Жан-Клодом начинаем распаковывать обед. Это наш последний день на Маттерхорне и, возможно, последний перед долгим перерывом в совместных восхождениях… а может, и вообще, хотя я очень надеюсь, что нет. Больше всего на свете мне хочется провести остаток своих Wanderjahr[6] занятий альпинизмом в Альпах с этими новыми друзьями, но Дикона ждут какие-то дела в Англии, а Же-Ка должен вернуться к обязанностям члена «Гидов Шамони» и присутствовать на ежегодном собрании ассоциации в свято блюдущей традиции долине Шамони, священной для альпинистского братства. Отбросив грустные мысли о расставании и о том, что всему приходит конец, я прервал свое занятие и снова окинул взглядом пейзаж. Мои глаза голоднее желудка. На небе ни единого облачка. Ясно видны Приморские Альпы в 130 милях от нас. На фоне неба выделяется похожая на зуб гигантской пилы громада горы Экрин, которую впервые покорили Уимпер и его проводник Кро. Слегка повернувшись к северу, я вижу высокие пики Оберланда на том берегу Роны. На западе над более низкими горами господствует Монблан; солнечные лучи отражаются от его заснеженной вершины, которая сверкает так ярко, что я щурюсь. Немного повернувшись на восток, вижу зубчатую гряду пиков — на некоторые я поднимался за минувшие девять месяцев вместе со своими новыми друзьями, другие ждут меня, а какие-то я никогда не покорю, — белых остроконечных вершин, постепенно уменьшающихся в направлении далекого бугристого горизонта, тонущего в тумане. Дикон и Жан-Клод жуют свои сэндвичи и запивают водой. Я перестаю любоваться окрестностями, отбрасываю романтические мысли и принимаюсь за еду. Холодный ростбиф очень вкусный, на хлебе хрустящая корочка, и я с удовольствием жую. От листьев хрена на глазах выступают слезы, и Монблан становится размытым белым пятном. Посмотрев на юг, я наслаждаюсь видом, о котором Уимпер писал в своей классической книге «Восхождения в Альпах в 1860–1869 гг.». Я прекрасно помню эти слова, которые читал накануне вечером при свете свечи в своей палатке над деревней Брей и которые описывали картину, увиденную Эдвардом Уимпером 14 июля 1865 года, ту самую, которой я наслаждался в конце июня 1924 года.Здесь темные, мрачные леса и яркие, живые долины, гремящие водопады, и тихие озера, плодородные земли и дикие пустоши, солнечные равнины и замерзшие плато. Здесь самые грубые формы и самые изящные очертания — дерзкие, вертикальные утесы и мягкие, волнистые склоны, скалистые горы и заснеженные горы, мрачные и одинокие или сияющие белыми склонами — башенки — бельведеры — пирамиды — купола — конусы — и шпили! Здесь все, что может предложить мир, любой контраст, который только пожелает душа.Да, вы можете назвать Эдварда Уимпера неисправимым романтиком, каковыми были многие альпинисты «золотого века» в середине и в конце XIX столетия. И по строгим, современным стандартам 1924 года это описание казалось слишком цветистым и старомодным. Что касается обвинения в безнадежном романтизме, то я должен признаться, что сам романтик. Наверное, это во мне неистребимо. Я окончил Гарвард по специальности английская литература и был готов писать собственные великие романы и рассказы о путешествиях — разумеется, неизменно в строгом современном стиле, — но тут с удивлением обнаружил, что стиль XIX века в исполнении Эдварда Уимпера, цветистая проза и все такое, снова тронул меня до слез. Итак, этим июньским днем 1924 года мое сердце откликалось на слова, написанные более пятидесяти лет назад, а душа — на еще более безнадежную картину, которая вдохновила на эти слова сентиментального Эдварда Уимпера. Великому альпинисту было двадцать пять лет, когда он впервые поднялся на Маттерхорн и увидел эту картину; мне же недавно исполнилось двадцать два, всего за два месяца до того, как я сам любуюсь этим видом. Я чувствую близость к Уимперу и всем альпинистам — прожженным циникам или романтикам, как я сам, — которые смотрели на юг, на Италию, с этого самого хребта, с этого самого трона, представляющего собой невысокий валун. Все эти осенние, зимние и весенние месяцы, что я вместе с Жан-Клодом и Диконом покорял вершины Альп, после каждого покорения вершины мне приходилось отвечать на вопросы, касающиеся данной горы. Тон нашего разговора ни в коем случае не был снисходительным, и мне нравился этот процесс, поскольку я многому научился у этих двух альпинистов. В Европу из Соединенных Штатов я приехал уже неплохим альпинистом, но понимал, что под опекой Жан-Клода и Дикона — иногда мягкой, иногда строгой, но никак не мелочной — мое мастерство неизмеримо выросло. Я превращался в альпиниста мирового класса. Входил в братство немногих избранных. Более того, опека Жан-Клода и Дикона — в том числе вопросы и ответы на покоренных вершинах — помогали мне полюбить гору, на которую я только что взошел. Полюбить, несмотря на то, что во время нашего близкого знакомства она могла быть вероломной сукой. Крошащиеся скалы, снежные лавины, траверсы, на которых даже негде зацепиться пальцами, смертельно опасные камнепады, вынужденные привалы на таких узких уступах, что на них едва поместится поставленная на ребро книга, но к которым приходилось прижиматься на ледяном ветру, ливни и грозы, ночи, когда металлический наконечник моего ледоруба светился голубым от электрических разрядов, жаркие дни без глотка воды и ночевки, когда в отсутствие крюков, чтобы закрепиться на склоне, приходилось держать под подбородком зажженную свечу, которая не давала заснуть и свалиться в пропасть. Но, несмотря на все это, Дикон и особенно Жан-Клод учили меня любить гору, любить такой, какая она есть, любить даже самые тяжелые испытания, которым она тебя подвергала. На Маттерхорне вопросы задает Жан-Клод, и наш катехизис короче, чем для большинства других гор. Ты должен что-то полюбить у каждой хорошей горы. Маттерхорн хорошая гора. Тебе нравятся стены этого пика? Нет. Стены Маттерхорна, особенно северная, на которой мы провели большую часть времени, не достойны любви. Они усеяны камнями. Там постоянные камнепады и лавины. Но ты любишь саму скалу? Нет. Скала вероломна. Она непрочная. Вбивая крюк молотком, ты не услышишь звон стали, вгрызающейся в камень, а уже через минуту бесполезный крюк можно вытащить двумя пальцами. Скала на стенах Маттерхорна ужасна. Альпинисты знают, что все горы постоянно разрушаются — их отвесные стены неизбежно и неотвратимо каждую секунду изнашиваются под действием ветра, воды, погоды и силы тяжести, — но Маттерхорн больше других пиков напоминает неустойчивую груду постоянно осыпающихся камней. Но тебе нравятся гребни? Нет. Знаменитые гребни Маттерхорна — итальянский и швейцарский, Фурген и Цмутт — слишком опасные, с камнепадами и снежными лавинами, или слишком прирученные, испещренные перилами и закрепленными веревками для женщин и семнадцатилетних английских джентльменов. Любовь к гребням этой горы? Она невозможна. Разве что во времена Уимпера, когда все это было внове. Но ты любишь гору. И ты это знаешь. Что тебе в ней нравится? Oui. Маттерхорн — это гора, ставящая перед альпинистом множество задач, которые нужно решить, но — в отличие от Эйгера и некоторых других пиков, которые я видел или о которых слышал, — Маттерхорн предлагает альпинисту и четкое, чистое решение каждой задачи. Маттерхорн — это груда осыпающихся камней, но издалека у его стен и гребней красивый вид. Гора похожа на стареющую актрису, у которой под хорошо заметным и облетающим макияжем видны щеки и скулы молодой женщины и угадывается прежняя, почти идеальная красота. Форма самого пика — одинокого, не связанного с другим горами, — возможно, самая совершенная и запоминающаяся во всех Альпах. Попросите ребенка, никогда не видевшего гор, нарисовать гору — и он возьмет цветной карандаш и изобразит Маттерхорн. Настолько характерный вид у этой горы. А верхняя часть северной стены с ее отрицательным наклоном создает впечатление, что гора не стоит на месте, а все время движется. Эта гладкая, нависающая стена словно создает собственную погоду, формируя облака. Маттерхорн — серьезная гора. И ты любишь призраков. Oui. Здесь никуда не деться от призраков, достойных любви. Патриотичное предательство Жана-Антуана Карреля, верного гида Эдварда Уимпера, который предпочел вести Феличе Джордано по Итальянскому хребту в надежде, что чисто итальянская группа первой покорит вершину 14 июля 1865 года. Призраки отчаянного броска Уимпера из Церматта — чтобы попытаться подняться противоположным гребнем — с наскоро собранной группой из лорда Фрэнсиса Дугласа, преподобного Чарльза Хадсона, 19-летнего Дугласа Хэдоу, одного из «Гидов Шамони» Мишеля Кро и двух местных гидов, Молодого Петера и Старого Петера Таугвальдеров. Призраки четырех погибших в тот день говорят со мной громче всего, и каждый альпинист должен научиться слышать их, должен испытывать любовь и уважение, взбираясь по тем же камням, по которым шагали они, укладываясь спать на тех же плитах, на которых спали они, торжествуя на той же узкой вершине, где раздавались радостные крики семерки Уимпера, и сосредоточившись на безопасном спуске по тому же коварному участку, где четверо из них пролетели несколько тысяч футов навстречу смерти. И еще, mon ami,[7] тебе нравится вид с этой вершины. Oui. Мне нравится этот вид. Он стоит ноющих мышц и стертых в кровь ладоней. И не просто стоит — о них забываешь. Вид — это всё. Пока я жую и разглядываю пейзаж, Жан-Клод, закончив со мной урок катехизиса, разглаживает газету, в которую завернута марля с нашими сэндвичами. — Мэллори и Ирвин погибли при попытке покорить Эверест, — читает он вслух со своим французским акцентом. Я перестаю жевать. Дикон, который вытряхивает угольки или пепел из своей трубки, постукивая ею о шипованную подошву ботинка, замирает — ботинок на колене, уже пустая трубка у ботинка — и пристально смотрит на Жан-Клода. Наш товарищ продолжает читать: — Лондон, двенадцатое июня тысяча девятьсот двадцать четвертого года. «Комитет Эвереста» с глубоким сожалением сообщает, что получил каблограмму от… — Он останавливается и протягивает мне мятую газету. — Джейк, это твой родной язык. Ты и прочти. Удивляясь и не понимая сдержанности Жан-Клода — насколько я знаю, он бегло читает и говорит по-английски, — я беру газету, разглаживаю на коленке и читаю вслух:
Лондон, двенадцатое июня тысяча девятьсот двадцать четвертого года. «Комитет Эвереста» с глубоким сожалением сообщает, что получил каблограмму от полковника Нортона, отправленную из Пхари дзонга девятнадцатого июня в четыре пятьдесят пополудни. «Мэллори и Ирвин погибли во время последней попытки. Остальная группа в тот же день благополучно прибыла на базу. Два альпиниста, которые не были членами экспедиции, погибли под лавиной на Эвересте в последний день, после ухода остальных». Комитет телеграфировал полковнику Нортону, выражая глубокое соболезнование членам экспедиции. Потеря двух отважных товарищей, которая случилась из-за неблагоприятной погоды и состояния снега, которые в этом году с самого начала препятствовали восхождению…Я продолжаю читать колонки газетной статьи, наполовину печального репортажа о событиях, наполовину идеализированного жизнеописания:
Трагическая гибель этих двух людей — Джорджа Ли Мэллори, единственного из всех участников этой попытки, кто входил в состав предыдущих экспедиций, и Э. С. Ирвина, одного из его новобранцев, — стала необыкновенно печальным концом истории попыток покорить гору, начавшейся три года назад. Всего три дня назад мы опубликовали рассказ самого Мэллори о втором отступлении настоящей экспедиции…Причиной этого отступления стали снег и ветер, заставившие альпинистов покинуть самые верхние лагеря — «расстроенными, но не признавшими поражение», как писал сам Мэллори. Следующие несколько абзацев рассказывали об отказе Мэллори сдаться, несмотря на холодную погоду, сильный ветер, снежные лавины и неминуемое приближение муссонов, с приходом которых закончится альпинистский сезон. Я останавливаюсь и поднимаю взгляд на моих друзей, ожидая сигнала прекратить чтение и передать газетудальше, но Жан-Клод и Дикон просто смотрят на меня. Ждут продолжения. Поднимается слабый ветер, и я крепче сжимаю в руках мятую газету и продолжаю читать длинную статью.
Все письмо Мэллори написано словно в преддверии отчаянной схватки. «Действия, — говорил он, — приостанавливаются только перед еще более решительными действиями в преддверии кульминации. Цель скоро будет достигнута. Так или иначе, третий подъем по леднику Восточный Ронгбук станет послед ним». Он оценивал шансы и был готов рискнуть. «Мы не рассчитываем, — сообщал он в последней фразе своего письма, — на милость Эвереста». И Эверест, увы, поймал его на слове…Я делаю паузу. Дикон и Жан-Клод сидят и ждут. Вдали, за спиной Дикона, в небе парит большой ворон; его тело, поддерживаемое легким бризом, неподвижно висит над землей на высоте 5000 футов. Удержавшись от критики по поводу стиля статьи, я продолжаю чтение: рассказ о Мэллори как о «выдающемся альпинисте» и о его решимости покорить гору Эверест («Увы!» — думаю я, но молчу), о вкладе генерала Ч.Г. Брюса, майора Э.Ф. Нортона и других альпинистов, которые побили рекорд высоты в 22 000 футов герцога Абруцци, установленный на далекой и неизвестной мне вершине под названием К2. Далее идет рассказ о 37-летнем Джордже Ли Мэллори, решительном и опытном ветеране Эвереста, и юном Эндрю Ирвине, которому было всего 22 года — столько же, сколько мне. Они вышли из верхнего лагеря утром 8 июня, предположительно с кислородными аппаратами, и потом, несколько часов спустя, двух героев заметил их товарищ Ноэль Оделл, когда они «решительно двигались к вершине», но затем облака сомкнулись, началась метель, и больше ни Мэллори, ни Ирвина никто не видел. Я читаю вслух, что, по сообщению «Таймс», вечером в день их исчезновения Оделл проделал весь путь до ненадежного шестого лагеря, пытаясь перекричать бушевавшую высоко в горах бурю, на тот случай, если Мэллори и Ирвин пытаются спуститься в темноте. Мэллори оставил сигнальную ракету и фонарь в палатке шестого лагеря. У него не было возможности подать сигнал людям внизу, даже если бы он был жив в ту ужасную ночь. Когда прошло пятьдесят часов, пишет «Таймс», даже никогда не терявший оптимизма Оделл распрощался с надеждой и сложил два спальника в форме буквы «Т», чтобы их могли увидеть наблюдатели с подзорными трубами из нижнего лагеря. Условный сигнал означал, что дальнейшие поиски бесполезны — двое альпинистов исчезли. Наконец я опускаю газету. Усиливающийся ветер рвет ее из рук. На синем небе уже нет ворона, а само небо начинает темнеть — день клонится к вечеру. Я качаю головой, чувствуя, как взволнованы два моих друга, но по-настоящему не понимая глубины и сложности их чувств. — Дальше там примерно то же самое, — хриплым голосом говорю я. Наконец Дикон шевелится. Он сует остывшую трубку в нагрудный карман твидовой куртки и тихо говорит: — Там пишут, что были еще двое. — Что? — В первом абзаце сказано, что погибли еще два человека. Кто? Как? — О… — Я сражаюсь с газетой, проводя пальцем по последней колонке к заключительным абзацам. Все о Мэллори и Ирвине, Ирвине и Мэллори, а потом опять о Мэллори. Но вот оно, в самом конце. Я читаю вслух:
После того как основная группа покинула базовый лагерь на Эвересте, то, по свидетельству немецкого альпиниста Бруно Зигля, который проводил рекогносцировку для будущей немецкой экспедиции на Эверест, он видел, как тридцатидвухлетнего лорда Персиваля Бромли, брата пятого маркиза Лексетера, а также немецкого или австрийского альпиниста, которого Зигль опознал как Курта Майера, накрыла лавина, сошедшая между лагерем V и лагерем VI. Юный Бромли — лорд Персиваль, — который официально не был членом экспедиции, возглавляемой полковником Нортоном, следовал вместе с экспедицией от Дарджилинга до базового лагеря. Несмотря на то, что сезон муссонов уже наступил и экспедиция полковника Нортона отступила от горы, лорд Персиваль и Майер, по всей видимости, предприняли последнюю попытку найти Мэллори и Ирвина. Тела лорда Персиваля и немецкого или австрийского альпиниста так и не были найдены.Я снова опускаю газету. — Лорд Бромли, пэр вашего королевства, погибает на горе Эверест, но в газете об этом почти ничего нет, — бормочет Жан-Клод. — Все о Мэллори. О Мэллори и Ирвине. — Лорд Персиваль, или лорд Перси, как говорят у нас в Англии, — голос Дикона звучит очень тихо. — Лорд Бромли — это его старший брат, маркиз. А Перси Бромли никак не похож на пэра, даже если он был бы следующим в очереди наследников. Джордж Мэллори, хоть и скромного происхождения, был настоящим королем той экспедиции. — Дикон встает, сует руки в карманы брюк и идет по узкому гребню, опустив голову. Он очень похож на рассеянного профессора, который разгуливает по студенческому городку, обдумывая какую-то сложную задачу из своей области знания. Когда Дикон удаляется и уже не может нас слышать, я шепчу Жан-Клоду: — Он знал Мэллори или Ирвина? Жан-Клод смотрит на меня, затем наклоняется ближе и тихо говорит, почти шепчет, хотя Дикон от нас довольно далеко: — Ирвина? Не знаю, Джейк. Но Мэллори… да, они с Диконом были знакомы много лет. До войны учились в одном и том же маленьком колледже в Кембридже. Во время войны их пути много раз пересекались на поле боя. Дикон получал предложения от Мэллори участвовать в рекогносцировке двадцать первого года и в экспедиции на Эверест двадцать второго года — и принимал их. Но в этом году ни Мэллори, ни Альпийский клуб не позвали его в экспедицию на Эверест. — Черт побери! — До этого момента я думал, что начинаю узнавать своих новых друзей и партнеров. Похоже, я ничего не знал и не знаю. — На Эвересте могли пропасть Мэллори и Дикон, а не Мэллори и этот юный Сэнди Ирвин, — шепчу я Жан-Клоду. Жан-Клод прикусывает потрескавшуюся губу и оглядывается, чтобы убедиться, что Дикон достаточно далеко, стоит на итальянской стороне вершины и смотрит в пространство. — Нет, нет, — шепчет Жан-Клод, — во время первых двух экспедиций у Мэллори и Дикона случилось несколько… как это по-английски… падений. Я на мгновение теряюсь, представляя, как падают двое связанных веревкой альпинистов, потом понимаю. — Ссор. — Oui, oui. Боюсь, серьезных ссор. Я уверен, что Мэллори не разговаривал с Диконом после возвращения из экспедиции двадцать второго года. — А из-за чего они ссорились? — шепчу я. Ветер вновь усилился и швыряет в лицо холодные крупинки лежащего на вершине снега. — Первая экспедиция… официально ее называли рекогносцировкой, но для Мэллори и остальных настоящая цель состояла в том, чтобы найти самый быстрый маршрут к горе от базового лагеря через все ледопады и ледники, а затем как можно скорее начать восхождение. Я знаю: и Дикон, и Мэллори верили, что могут подняться на вершину Эвереста во время той первой попытки в тысяча девятьсот двадцать первом году. — Амбиции, — бормочу я. Дикон по-прежнему на дальнем конце итальянской части вершины. Ветер усилился еще больше и дует от него к нам, я сомневаюсь, что Дикон нас услышит, даже если бы мы кричали. Но мы с Жан-Клодом все равно говорим очень тихо, разве что не шепчем. — Мэллори настаивал, что к Северному седлу — самому очевидному пути к северной стене Эвереста — лучше всего идти с востока, по долине Харта. Это был… как по-английски cul-de-sac? — Тупик. Жан-Клод ухмыляется. Иногда мне кажется, что он получает удовольствие от некоторой грубости английского языка. — Oui — настоящий тупик. Мэллори вел их вокруг горы, выбираясь из одного тупика и попадая в другой. Он даже заставил Гая Баллока дойти до Западного Ронгбука, так что они едва не пересекли границу с Непалом в поисках южных подходов к Эвересту, и решил, что ледники и ледопады у Южной стены, а также гребни абсолютно непроходимы. Поэтому путь к вершине должен проходить по Северной стене. — Сомневаюсь… — прошептал я, скорее себе, чем Же-Ка. — В любом случае несколько месяцев были потеряны, — говорит Жан-Клод. — По крайней мере, по мнению Дикона. Разведка на востоке и на западе, всевозможные измерения, фотографирование. И тщетные поиски подхода к Северному седлу. — Я видел некоторые фотографии. — Оглядываюсь, чтобы убедиться, что Дикон по-прежнему на дальнем краю вершины. Похоже, он абсолютно неподвижен. — Они прекрасны. — Да, — соглашается Же-Ка. — Но в первой серии фотографий, ради которых Мэллори взобрался на серьезный пик, чтобы получить выгодную позицию для съемки, он неправильно вставил пластины в камеру. Разумеется, ничего не получилось. Большинство фотографий сделали Баллок и остальные. — Но какое отношение это имеет к ссоре Мэллори и Дикона? — спрашиваю я. — Они стали почти врагами после стольких лет сотрудничества и… полагаю… взаимного уважения. Жан-Клод вздыхает. — Их первый базовый лагерь у подножия горы был устроен у входа в маленькую долину, по которой река стекает на равнину. Они проходили мимо этой долины, наверное, сотню раз, но не исследовали ее. Дикон хотел проверить, не открывает ли она проход прямо к Северному седлу, но Мэллори каждый раз не позволял, настаивая, что долина просто доходит до ледника Восточный Ронгбук и упирается в него. Они видели вход в долину — легкий, с гравием и островками старого снега, остатками ледника, — и Дикон предположил, что эта долина может снова сворачивать на запад, как потом и оказалось, обеспечив им безопасный и легкий путь к Северному седлу и началу восхождения. Мэллори отверг эту… забыл слово… возможность и потратил еще несколько недель на бесполезную разведку на востоке и на западе. Кроме того, Мэллори и Альпийский клуб решили, что летний сезон муссонов лучшее время для попытки покорения Эвереста, но, как оказалось, только не в июне, потому что даже месье Мэллори был вынужден согласиться, что летний сезон муссонов с его бесконечным снегопадом — плохое… плохое время для изучения горы, не говоря уже о попытке восхождения… поскольку метели на большой высоте… как это говорится… еще злее. — Значит, в этом причина ссоры двадцать второго года, — шепчу. Улыбка Жан-Клода получается почти грустной. — Последний кирпич… нет, как это говорится? Что-то последнее, что ломает хребет верблюду? — Соломинка. — Последней соломинкой стало то, что Дикон все время настаивал, чтобы они поднялись на Лакра Ла и оттуда взглянули на окрестности. Неделю за неделей Мэллори отказывал Дикону, считая это бесполезным. — Что такое Лакра Ла? — спрашиваю я. В июне 1924 года я практически не имел представления о географии Эвереста. Конечно, я знал, что высочайшая вершина мира находится на границе Непала и Тибета, и путь к ней пролегает только через Тибет — из-за политической обстановки того времени, — и это значит, что маршрут восхождения, если таковое случится, будет проходить по Северной стене. А если точнее, то по Северо-Восточному гребню, над Северным гребнем и по Северной стене — если верить фотографиям. — Лакра Ла — это высокогорный проход на запад, отделяющий ледник Катра от ледника Восточный Ронгбук, — объясняет Же-Ка. — Они поднялись на него во время сильной метели, при нулевой видимости, по пояс… как это сказать, Джейк? — Утопая. — Утопая по пояс в снегу, который становился все глубже, и ничего не видя, даже когда они достигли горизонтальной площадки, как они предполагали, вершины перевала. Даже поставить палатки в такую метель было настоящим кошмаром, и Мэллори был в ярости из-за потери времени. Но утром небо полностью очистилось, и из своего заснеженного лагеря на Лакра Ла они увидели превосходный путь к Северному седлу — прямо по долине, которую столько раз предлагал исследовать Дикон, затем через снег и лед на ту сторону долины, а затем, без каких-либо затруднений, прямо к самому Северному седлу. А оттуда прямо к Северному гребню и дальше, к высокому Северо-Восточному гребню. Вызванные муссонами бури продолжали засыпать экспедицию снегом, ветер был просто ужасным, но, несмотря на это, они разведали весь путь до тысячефутовой ледяной стены, которая ведет к Северному седлу, хотя в этом году пытаться покорить вершину было уже поздно. Они повернули назад двадцать четвертого сентября — даже не ступив ногой на скалистые склоны горы Эверест. Дикон снова выкурил трубку и теперь выбивал из нее пепел. В любую минуту он может вернуться. — Значит, вот в чем причина ссоры, — шепчу я. — И причина того, что Дикон не присоединился к экспедиции Мэллори в этом году. — Нет, — возражает Жан-Клод; он говорит быстрым и торопливым шепотом. — Это инцидент, случившийся в конце второй экспедиции. Пробыв в Англии несколько месяцев после экспедиции тысяча девятьсот двадцать второго года, они начали готовить экспедицию двадцать четвертого года. Дикона пригласили, но с неохотой. В своем письме жене, отрывок из которого был каким-то образом скопирован и распространялся среди альпинистов в тысяча девятьсот двадцать третьем и который я довольно хорошо помню, Мэллори писал:
«Несмотря на давнее знакомство с мистером Диконом — мы были довольно близкими друзьями в Кембридже, и особенно в горах Уэльса после окончания учебы, — я не могу сказать, что он мне очень нравится. В нем слишком много от аристократа, слишком много от землевладельца, слишком много от изнеженного поэта, и ему присущи не только предрассудки тори, которые время от времени пробиваются наружу, но также сильно развитое чувство презрения, иногда на грани настоящей ненависти, к людям, которые отличаются от него. Наш друг мистер Ричард Дэвис Дикон любит свое всем известное прозвище Дьякон, данное ему другими людьми — тогда, в его первый год обучения в маленьком колледже Магдалены в Кембридже, нас таких было всего пятьдесят человек, — поскольку, я уверен, оно ему льстит. В любом случае, Рут, после прошлой экспедиции мне кажется, что наши отношения всегда будут натянутыми — и это уже произошло. Он эрудирован, упрям и очень не любит, когда кто-то знает то, что неизвестно ему. А когда его догадки случайно оказываются верными — например, маршрут от верхней точки перевала под названием Лакра Ла, — он воспринимает удачу как должное, словно руководитель не я, а он».— У тебя чертовски хорошая память, друг мой. Вид у Жан-Клода удивленный. — А как же иначе! Разве американских школьников не заставляют выучивать сотни страниц стихов, прозы и всякого другого? Наизусть? И строго не наказывают за нерадивость? Во Франции запоминание — это обучение, а обучение — это запоминание. Дикон смотрит в нашу сторону, и лицо у него по-прежнему ничего не выражает — по-видимому, он о чем-то глубоко задумался. Но я уверен, что через минуту он вернется к нам. — Быстро, — говорю я Жан-Клоду, — расскажи мне, что произошло во время экспедиции двадцать второго года, что стало той последней соломинкой, которая переломила хребет их дружбы. Признаю, это не самая удачная фраза из когда-либо произнесенных мной, но Жан-Клод смотрит на меня так, словно я заговорил на арамейском. — В двадцать втором они все чувствовали, что у них хорошие шансы покорить вершину, — говорит Жан-Клод, и в этот момент Дикон поворачивает назад, к нам. — Они преодолели внушительную ледяную стену перед Северным седлом, пересекли седло, поднялись по Северному гребню до Северо-Восточного гребня и пошли к вершине, но жуткий ветер заставил их спуститься на саму Северную стену, где продвижение было медленным и опасным. Им пришлось вернуться в базовый лагерь. Но седьмого июня Мэллори настоял на еще одной попытке подняться на Северное седло, все еще воображая, что, несмотря на не прекращавшийся много дней снег, они смогут покорить вершину. Дикон возражал против того, чтобы носильщики и альпинисты снова поднимались на Северное седло. Он указывал, что погода изменилась и в этом году вершина уже недоступна. Но что еще важнее, Дикон значительно лучше Мэллори мог оценить состояние снега и льда — он гораздо больше времени провел на альпийских ледниках — и утверждал, что есть опасность схода лавин. Днем раньше, при возвращении с разведки Северного седла несколько альпинистов, спускавшихся к оставленной на ледяной стене веревочной лестнице, обнаружили пятидесятиметровый участок, где снежный оползень стер их следы двухчасовой давности. Дикон отказался идти. Дикон находился уже в 50 футах от нас, и мы давно бы уже замолчали, если бы вой ветра не заглушал наши слова. Но Жан-Клод торопится закончить. — Мэллори назвал Дикона трусом. В то утро, седьмого июня, Мэллори повел группу из семнадцати человек к Северному седлу; все шерпы шли в одной связке. Лавина накрыла их в двухстах метрах ниже Северного седла, как раз на таком склоне, о котором предупреждал Дикон. Девять носильщиков попали под лавину. От Мэллори она прошла всего в нескольких метрах, но и его задело волной. Двух носильщиков удалось откопать, но семь человек погибли, и их тела похоронили в расселине, куда их едва не утащила лавина. Как пытался объяснить Дикон, попытка пересечь заснеженные склоны в таких условиях была настоящим безумием. — Господи, — шепчу я. — Вот именно, — соглашается Жан-Клод. — С того июньского дня, два года назад, два старых друга не разговаривали. И в этом году Дикона не пригласили в экспедицию. Я молчу, потрясенный тем, что Дикона — если бы не его «ссора» с Мэллори — могли пригласить для участия в таком важном событии. Возможно, главном событии века. И явно героической трагедии века, если верить газетам. Я думаю о бессмертии, о том, что оно пришло к англичанам только после смерти, и о том, что для Джорджа Ли Мэллори оно теперь создается словами в «Лондон таймс», «Нью-Йорк таймс» и тысячах других газет. Мы пропустили события последних четырех дней — были заняты восхождениями, спусками, ночевками и снова восхождениями. — Как… — начинаю я, но тут же умолкаю. Дикон уже рядом. Усиливающийся ветер теребит его шерстяную куртку и галстук. Слышен скрип его шипованных ботинок — почти наверняка таких же, какие были на Мэллори и Ирвине на прошлой неделе, — которые оставляют свежие следы на неглубоком снегу, покрывающем гребень пика Маттерхорн. Руки Дикона в карманах шерстяных брюк, холодная трубка в правом нагрудном кармане куртки. Он пристально смотрит на Жан-Клода и тихо спрашивает: — Mon ami, будь у тебя шанс попытаться покорить Эверест, ты бы им воспользовался? Я жду, что Жан-Клод ответит шуткой — не сдержится, несмотря на печальную газетную новость, — однако он молча смотрит на нашего фактического лидера. Дикон отрывает взгляд своих пронзительных серых глаз от Же-Ка и смотрит куда-то вдаль; я оглядываюсь, чтобы проверить, не вернулся ли парящий в вышине ворон. — Oui, — наконец произносит Жан-Клод. — Гора Эверест очень большая и находится далеко от долины Шамони, где я работаю проводником и где меня ждут клиенты, и мне кажется, это в большей степени английская гора, чем какая-либо другая. Думаю, что она и дальше будет хладнокровным убийцей людей, мой друг Ричард Дикон. Но, oui, mon ami, если у меня появится шанс укротить этого зверя, я им воспользуюсь. Я жду, что Дикон задаст мне тот же вопрос, и не уверен в своем ответе — однако он ни о чем меня не спрашивает. Громко, перекрикивая ветер, Дикон говорит: — Давайте спускаться по стене, а потом через Швейцарский хребет к Церматту. Это небольшой сюрприз. Наши лучшие палатки и спальники, а также большая часть снаряжения и припасов находятся на итальянской стороне, на высокогорных склонах над деревней Брей. Ладно, не беда. Всего лишь еще один длинный переход черед перевал Теодул и обратно. Вероятно, эта обязанность достанется мне как самому младшему из нашей троицы. Остается лишь надеяться, что в Церматте мне удастся нанять мула. Мы начинаем спускаться по неожиданно крутому гребню к затененной, почти вертикальной стене — «плохой участок», как назвал его Эдвард Уимпер при подъеме, что и подтвердилось, когда они спускались, — и Дикон удивляет меня и Жан-Клода (я замечаю его едва заметное колебание) вопросом: — Что, если мы здесь пойдем в связке? Большую часть стен и гребней мы проходили не в связке. Если кто-то падает — значит, он падает. Преодоление почти всех хребтов и больших плит здесь не требует веревок для страховки, а плиты с отрицательным наклоном на Северной стене, вроде той, по которой мы собираемся спускаться теперь, слишком опасны для любой страховки. Здесь почти нет скальных выступов, на которые верхний альпинист мог бы набросить страховочную петлю — такую технику использовали в 1924 году. Размотав несколько разных кусков веревки, висевших у меня на плече, я выбираю самую короткую. Мы связываем наши пояса — нас разделяют всего 20 футов. Порядок следования не обсуждается. Жан-Клод идет первым — он самый опытный в том, что касается снега и льда, а также блестяще справляется с голой скалой, по которой мы через минуту начнем спускаться; за ним — я, наименее опытный из всех, но с сильными руками, и последний Дикон. Он — наш спасательный якорь; третий человек в связке, который будет страховать и Жан-Клода, и меня, если мы упадем… хотя страховка на этой коварной скале не под силу почти никому в мире, не говоря уже о недостаточной прочности нашей тонкой пеньковой веревки. Но связка дает чувство безопасности, даже когда веревка настолько тонкая, что ее можно рассматривать как метафору. То же самое относится к Ричарду Дэвису Дикону в качестве спасательного якоря в связке. Мы переходим на швейцарскую сторону вершины и начинаем спуск.
Когда я тщательно выбираю место для ноги на узких наклонных камнях, то замечаю старые закрепленные веревки и один металлический трос, которые висели или были закреплены крюками на некотором расстоянии от кромки стены. Некоторые веревки установили заботливые проводники минувшим летом, но большинство болтаются тут уже много лет, быстро превращаясь в пыль под действием времени, зимних холодов и высокогорного солнца, ускоряющего химические и физические процессы их медленного, но неумолимого разложения. «Клиенты» — туристы в этих высоких горах, незнакомые со скалами, льдом, веревками и небом, — привязываются к этим закрепленным веревкам, а некоторые используют их для спуска с этого почти вертикального «плохого участка» горы, хотя одна веревка может выдержать ваш вес во время такого спуска, а другая тут же порвется, и вы кубарем полетите на камни и расселины ледника, который находится внизу, на расстоянии нескольких тысяч футов. По виду пеньковой веревки практически невозможно определить, какая из них новая и надежная, а какая старая, гнилая и обречет пристегнувшегося к ней на верную смерть. Именно для этого нужны проводники. При спуске мы все держимся подальше от веревок — Жан-Клод ведет нас ближе к краю стены, где камнепады и небольшие снежные лавины случаются чаще, даже в июне. Небольшая вероятность камнепада или лавины — это плата за преимущество более прочной опоры для ног ближе к гребню. Но зачем идти этим маршрутом? Зачем повторять последние шаги бедняги Фрэнсиса Дугласа и других членов группы Уимпера, покорившей вершину 14 июля 1865 года? Большинство людей, хотя бы немного интересующихся горами, знают, что спуск гораздо опаснее подъема, но им, скорее всего, не известно, что во время подъема и спуска альпинист ведет себя по-разному, особенно на скальной поверхности. Поднимаясь на гору, альпинист тесно прижимается к поверхности скалы: его тело как бы растекается по ней, щека касается камня, пальцы хватаются за любой уступ, трещину, клин, навес, камень — словно человек занимается любовью с горой. При спуске альпинист чаще всего отворачивается от горы, поскольку так легче увидеть маленькие выступы и опоры для ног на несколько ярдов и метров ниже и по обе стороны от себя; спиной он прижимается к горе, а смотрит в пустоту прямо перед собой (и к ней приковано все его внимание) и видит чистое небо и манящую пропасть, а не прочную и надежную скалу или плотную массу снега. Поэтому для новичка спуск с горы почти всегда страшнее подъема и даже для самого опытного альпиниста требует полной сосредоточенности. Спуски отняли больше жизней, чем просто восхождения на гору. Следуя за Же-Ка и тщательно выбирая место для руки или ноги, я удивляюсь, почему Дикон предложил этот смертельно опасный маршрут, убивший больше половины группы Уимпера. Но больше всего меня занимает вопрос: «Почему Дикон не спросил меня, не хотел бы я подняться на Эверест?» Разумеется, этот вопрос глупый и бессмысленный — у меня нет денег, чтобы участвовать в гималайских экспедициях Альпийского клуба. (Фактически это спортивный клуб для богачей, а я уже потратил большую часть скромного наследства, полученного мной по достижении двадцати одного года, на поездку в Европу для занятий альпинизмом.) Кроме того, это британский Альпийский клуб — они не приглашают американцев. Британские альпинисты и их круг избранных считают пик Эверест — названный так британским исследователем в честь британского картографа — английской горой. И никогда не возьмут с собой американца, каким бы опытным тот ни был. Более того, у меня просто отсутствовал опыт, который необходим героям, пытающимся покорить Эверест. Я много занимался альпинизмом во время учебы в Гарварде — честно говоря, больше лазал по горам, чем учился, в том числе участвовал в трех небольших экспедициях на Аляску, — но это, а также несколько месяцев в Альпах вместе с Жан-Клодом и Диконом нельзя считать достаточным опытом и тренировкой сложной техники, чтобы замахиваться на самую высокую и, вероятно, самую суровую из непокоренных вершин в мире. Я имею в виду, что на Эвересте только что погиб Джордж Ли Мэллори, и вполне возможно, именно его физически хорошо подготовленный, но молодой и не очень опытный партнер Эндрю «Сэнди» Ирвин упал и утащил за собой Мэллори навстречу смерти. И наконец — мы спускаемся еще на несколько метров, следя за тем, чтобы связывающая нас веревка слегка провисала, — я признаюсь себе, что не уверен, что когда дойдет до дела, у меня хватит духу на попытку покорения Эвереста, даже если Альпийский клуб вдруг решит пригласить недостаточно опытного и стесненного в средствах янки присоединиться к их следующей экспедиции на Эверест. (Я знаю, что еще одна экспедиция обязательно будет. Если уж англичане приняли вызов и затеяли какую-либо грандиозную и героическую экспедицию, они ни за что не отступят, даже после гибели своих героев — Роберта Фолкона Скотта и Мэллори — во время предыдущих попыток. Упрямый народ эти англичане.) Внезапно мы с Жан-Клодом оказываемся на том самом месте, откуда четыре человека из группы Уимпера, впервые покорившей вершину, сорвались навстречу своей ужасной смерти.
Здесь я должен прервать свой рассказ и объясниться. Конечно, это кажется странным, что я вдруг начинаю описывать несчастный случай, который произошел в июле 1865 года, за 60 лет до приключения 1925 года, о котором я собираюсь рассказать. Но потом вы поймете, что по меньшей мере одна из вроде бы незначительных деталей трагедии, случившейся с группой Уимпера, впервые поднявшейся на Маттерхорн, стала тем самым элементом, который позволил осуществиться в высшей степени неофициальной и практически не упоминавшейся гималайской экспедиции Дикона — Клэру — Перри в 1925 году. Группа Уимпера поднялась на вершину в связке — все семеро, — но по какой-то причине при спуске альпинисты разделились. Возможно, товарищи Эдварда Уимпера и превосходный проводник Мишель Кро стали жертвой опьянения победой и усталости. В первой связке из четырех человек Кро — самый опытный альпинист — шел первым, за ним абсолютный новичок Хэдоу, приятель Дугласа, потом довольно опытный альпинист Хадсон, а последним 18-летний талантливый альпинист лорд Фрэнсис Дуглас. Трое остальных — все еще стоявшие на дальнем, швейцарском краю вершины, когда их товарищи начали спуск, — образовали вторую связку: первым шел Старый Петер Таугвальдер, затем Молодой Петер Таугвальдер и, наконец, Эдвард Уимпер. Два заурядных проводника и один превосходный альпинист. Таким образом, покоривший вершину отряд состоял из четырех британцев — одного профессионала, одного способного новичка и двух просто новичков — двух относительно опытных жителей швейцарского кантона Вале (Таугвальдеры) и одного по-настоящему одаренного уроженца Савойи, Мишеля Кро. По логике вещей, опытный проводник Кро должен был руководить экспедицией — принимать решения и выбирать маршрут, — но, несмотря на то, что он возглавлял группу при спуске на «коварном участке» над нависающим козырьком, главным в экспедиции оставался Уимпер. Кро был очень занят; несмотря на помощь Хадсона, который время от времени поддерживал ноги лорда Фрэнсиса Дугласа и даже просто направлял их на выступы и впадины скалы, работы у него хватало. Он точно так же помогал не слишком уверенному в себе и физически гораздо более слабому Хэдоу на каждом шагу сложного спуска. Одновременно Кро должен был найти самый лучший и самый безопасный путь вниз, а затем — к самому легкому гребню. Так семеро альпинистов спускались по «коварному участку» между вершиной и закругленным карнизом, на который только что ступили мы с Жан-Клодом и Диконом. Однако непосредственно над тем местом, где мы теперь стояли — как оказалось, роковым местом, — у лорда Фрэнсиса Дугласа, самого молодого из них, хватило смелости и ума предложить, чтобы все шли в одной связке, точно так же как при успешном восхождении на вершину. Не знаю, почему Уимпер или Кро не предложили этого раньше. По существу, это обеспечивало дополнительную безопасность. «Коварный участок» спуска с Маттерхорна между вершиной и волнообразным карнизом был сложным и теперь, в 1924 году, с закрепленными веревками и разведанными маршрутами, когда большая часть неустойчивых камней уже была сбита вниз альпинистами. Во времена Уимпера «коварный участок» был еще более коварным, особенно с точки зрения «объективной опасности», такой как камнепад, однако самая большая опасность — и тогда, и теперь — заключается в том, что здесь очень трудно найти крошечные выступы, углубления и трещины, чтобы зацепиться пальцами или упереться ногой, и практически нет торчащих камней и плоских участков, пригодных для организации страховки. Теперь, когда Уимпер и два проводника, Таугвальдеры, оказались в одной связке с остальными — как выяснилось, веревка, связывавшая Старого Петера и лорда Фрэнсиса Дугласа, была непригодной, — все семеро, и особенно новички, чувствовали себя увереннее, новый порядок не обеспечивал большей или дополнительной безопасности. Все произошло внезапно и быстро. Несмотря на официальное расследование в Церматте, во время которого в течение нескольких последующих дней были допрошены все оставшиеся в живых участники событий, несмотря на появившиеся впоследствии газетные статьи, книги Уимпера и остальных выживших, несмотря на тысячи газетных заметок, рассказывавших о трагедии, никто точно не может сказать, что именно случилось и в какой последовательности. Вероятнее всего, самый неопытный из всех, 19-летний Дуглас Хэдоу, оступился — даже несмотря на помощь Кро — и упал, сильно ударив проводника и сбив его с ног. Общий вес внезапно потерявшего равновесие Кро и Дугласа Хэдоу меньше чем за секунду лишил опоры более опытного преподобного Чарльза Хадсона и растерявшегося лорда Фрэнсиса Дугласа. Через мгновение четверо связанных веревкой альпинистов уже скользили вниз, навстречу смерти. Действия последних троих в связке — Старого Петера Таугвальдера, которого с лордом Фрэнсисом Дугласом и остальными, летевшими в пропасть, все еще связывал кусок дешевой веревки, Молодого Петера и самого Уимпера — были мгновенными и инстинктивными, продиктованными многолетним опытом. Обеспечить надежную страховку мог только Старый Петер. У него была хорошая, относительно широкая опора для ног. Более того, он стоял ниже одного из немногих скальных выступов на всем «коварном участке» спуска, и он, не задумываясь, набросил на этот выступ веревочную петлю. Выше его Молодой Петер и Уимпер ухватились одной рукой за ближайшие камни, а другой за веревку и приготовились страховать сорвавшихся. Веревка натянулась, как струна. Механический удар от четырех падающих с ускорением тел, который пришелся на трех остальных — и особенно на Старого Петера, — был ужасен. Веревка врезалась в ладони Старого Петера, оставив глубокий ожог, не заживавший несколько недель. (Пребывавший в смятении и мучимый чувством вины Старый Петер демонстрировал всем желающим свой шрам.) Но, несмотря на петлю вокруг небольшого выступа над Старым Петером — а возможно, из-за нее, — веревка лопнула посередине. Гораздо позже Эдвард Уимпер говорил репортеру, что этот жуткий звук он не может забыть уже двадцать пять лет — и не забудет до самой смерти. В своей книге он писал:
Несколько секунд мы смотрели, как наши несчастные товарищи скользили вниз на спине, раскинув руки и пытаясь спастись. Они исчезали из поля зрения целые и невредимые, падали по одному, из пропасти в пропасть на ледник Маттерхорн внизу, с высоты почти 4000 футов.Чтобы пролететь почти милю, требуется довольно много времени. К счастью — если это слово вообще применимо, — они почти наверняка были мертвы и изуродованы задолго до того, как достигли дна. Я много раз слышал рассказы альпинистов — и в Штатах, и в Европе — об ужасах многочасового спуска после падения товарища или товарищей. Это было тяжело. Каждый описывал, как шел по прерывающимся следам крови на снегу, камнях и льду — огромного количества крови — мимо разбросанных ледорубов, окровавленных обрывков одежды, ботинок, мимо оторванных частей тел. Путь Уимпера и Таугвальдеров — когда они наконец нашли в себе силы продолжить спуск, что, по словам Уимпера (винившего в задержке растерянных, охваченных ужасом Таугвальдеров), произошло через полчаса после падения товарищей, — лежал по самому ступенчатому гребню. Оттуда им был хорошо виден кровавый маршрут — тела ударялись о камни, отскакивали от них, продолжая путь в пропасть — по отвесному склону Маттерхорна на лежащий внизу ледник. Уимперу потребовалось больше двух дней уговоров, лести, угроз, подкупа и обращения к совести проводников из Церматта, чтобы подняться на тот ледник и «забрать тела». Местные проводники — все члены влиятельного профсоюза — очевидно, гораздо лучше неопытного британского альпиниста знали, что представляли собой «тела» после такого падения. Проводники прекрасно представляли то, что Уимпер называл «несложным подъемом к подножию горы». Взобраться к леднику у подножия северного склона Маттерхорна — это опасное предприятие (в каком-то смысле не менее опасное, чем восхождение на вершину) из-за невидимых расселин, готовых обрушиться в любую секунду сераков,[8] неустойчивых пирамид и наклонных башен из старого льда, а также лабиринта из ледяных глыб, в котором можно плутать (и обычно люди плутали) несколько часов или даже дней. Но в конечном счете Уимпер нашел добровольцев — большинство этих «добровольцев» за деньги с неохотой согласились отправиться на поиски в понедельник (в воскресенье они должны были присутствовать в Церматте на мессе), — и они обнаружили тела. Впоследствии Уимпер признавался: он искренне надеялся, что каким-то чудом, благодаря мягкому снегу и удачному скольжению целую милю по вертикальному склону, он найдет одного или нескольких товарищей живыми. Ничего подобного не случилось. Останки трех тел были разбросаны по льду и камням у подножия северного склона. Камни падали вокруг «спасателей» почти все время, пока они были там, но когда проводники поспешили в укрытие, Уимпер и другой англичанин, присоединившийся к нему, остались на месте. А если точнее, то британцы тупо и упорно не покидали ледник, а вокруг холодными метеорами падали камни. Поначалу никто, даже Уимпер, не мог определить, кому из погибших принадлежали фрагменты тел. Но потом англичанин по клочку бороды опознал своего проводника и друга Мишеля Кро. Его руки и ноги были оторваны, большая часть черепа снесена, но целой осталась часть нижней челюсти с бородой того же цвета, как у Кро. Один из гидов, вернувшийся после окончания камнепада, был давним другом альпиниста и узнал шрамы на растерзанной руке, лежавшей далеко от тела, а также ладонь на ледяной глыбе, шрамы на которой тоже хорошо помнил. Как ни странно, брюки на изуродованном туловище Кро остались почти целыми, а во время падения в пропасть из кармана даже не выпали шесть золотых монет. Кто-то заметил, что распятие Кро — без которого он никогда не шел в горы — глубоко впечаталось в сохранившийся фрагмент челюсти, словно пуля в форме креста. Один из проводников, Робертсон, раскрыл перочинный нож и подцепил распятие, полагая, что семья Кро захочет его сохранить. Останки Хадсона опознали по бумажнику и по письму от жены, которые остались с ним во время падения — в отличие от рук, ног и головы. Уимпер нашел одну из перчаток Хадсона и, побродив по забрызганному кровью леднику, подобрал английскую широкополую шляпу от солнца, которую сам подарил Кро. Большая часть останков Хэдоу была разбросана между останками Кро и Хадсона. Когда при следующем камнепаде гиды побежали в укрытие, Уимпер остался рядом с телами и тут впервые заметил, что останки тел Кро, Хэдоу и Хадсона все еще связаны веревкой. Тело лорда Фрэнсиса Дугласа нигде не нашли. Ходили слухи, что в тот день кто-то нашел один ботинок Дугласа — ноги в нем не было, — хотя другие утверждали, что это был пояс, который Уимпер видел на Дугласе во время подъема. А третьи говорили об одной перчатке. В тот момент Уимпер понял, что трое спускавшихся первыми были связаны более толстой и прочной веревкой, чем та, тонкая и легкая, которой Старый Петер Таугвальдер связал себя с Дугласом — такую опытные альпинисты редко используют для движения в связке. Тогда Уимпер нисколько не сомневался, что Старый Петер намеренно использовал менее надежную веревку на случай падения первой четверки. Позднее знаменитый британский альпинист уже прямо обвинял старого проводника — на словах и в книгах. Однако на самом деле все веревки — даже тонкую, которая висела на плече Таугвальдера, когда пришло время привязать лорда Фрэнсиса Дугласа к общей веревке, связывавшей всех семерых, — и в тот день, и во все другие дни даже не предполагалось использовать для организации связки во время спуска. Уимпер просто не задумывался об относительной толщине веревки, о пределе прочности на разрыв, о расчете предела прочности веревок разного диаметра, пока не произошла трагедия в день триумфального покорения Маттерхорна. Останки 18-летнего Фрэнсиса Дугласа так и не нашли, и этот факт дает основание для маленького примечания к случившейся трагедии. Уимпер писал, что престарелая мать лорда Фрэнсиса Дугласа, леди Куинсберри, «очень страдала от мысли, что ее сына не нашли». Действительность была еще хуже. Вскоре леди Куинсберри стала одержима болезненным убеждением, что ее юный сын еще жив и находится где-то на Маттерхорне — возможно, попал в ловушку в ледяной пещере высоко в горах и пытается выжить, питается лишайниками и мясом горных коз, пьет воду, которая попадает в его тюрьму сверху, от растаявшего снега. По всей видимости — скорее всего, леди Куинсберри так и думала — ее любимый сын Фрэнсис ранен, не может не только самостоятельно спуститься, но и подать сигнал тем, кто находится внизу. А может, говорила она одной из своих подруг, Фрэнсис выжил при падении на ледник — как бы то ни было, он не был связан веревкой с теми, кто погиб ужасной смертью, — и теперь лежит раненый в какой-нибудь расселине. Благородные люди, такие как профессор Джон Тиндалл — он едва не присоединился к Уимперу в его первом, знаменитом восхождении, — затем вернулись на Маттерхорн для систематических поисков останков Дугласа. Он написал леди Куинсберри и пообещал «полностью использовать свои возможности в трудном и опасном, но необходимом для вашего душевного спокойствия деле обнаружения и возвращения тела вашего отважного сына на родную землю и в дом предков». Но мать Дугласа стремилась не к возвращению тела своего дорогого сына Фрэнсиса. Она не сомневалась, что он жив, и хотела, чтобы его нашли. Леди Куинсберри сошла в могилу, уверенная, что лорд Фрэнсис Дуглас все еще жив, сидит в ловушке высоко на северном склоне Маттерхорна или бродит по холодным голубым пещерам под ледником у подножия горы. Внезапно Дикон командует прекратить спуск по «коварному участку», и мы с Жан-Клодом останавливаемся в нескольких метрах ниже его, с каждой минутой замерзая все больше (северный склон теперь полностью в тени, а ветер стал холоднее, и его завывание усилилось) и недоумевая — по крайней мере, я — какого черта нужно от нас Ричарду Дэвису Дикону. Возможно, думаю я, у него развивается старческое слабоумие. Хотя физическая форма 37-летнего Дикона (ровно столько же было Джорджу Мэллори, когда он в этом месяце исчез на Эвересте) гораздо лучше, чем у меня в 22 года. — То самое место, — тихо говорит Дикон. — Именно тут Кро, Хэдоу, Хадсон и лорд Фрэнсис Дуглас сорвались с этого обрыва… — Он указывает на точку в 40 или 50 футах ниже, где изогнутая вершина Маттерхорна живописно нависает над склоном, обрываясь в пропасть, падение в которую несет неминуемую смерть. — Merde,[9] — Жан-Клод выражает наше общее мнение. — Мы с Джейком это знаем. И ты знаешь, что мы знаем. И не говори нам, Ричард Дэвис Дикон, бывший школьный учитель, что ты повел нас этим печально известным маршрутом без закрепленных веревок — у нас есть выбор из целой дюжины в тридцати шагах справа от тебя, и, если хочешь знать, я с удовольствием вобью крюк и пристегнусь к новой веревке, — не говори нам, что ты повел нас этим путем только для того, чтобы рассказать историю, которая с детства известна каждому, кто любит Альпы и эту гору. Хватит болтать, и давай спускаться с этой проклятой стены. Мы так и сделали, легко и уверенно смещаясь вправо и постоянно помня о пропасти внизу, пока не оказались на относительно безопасных плитах — череде наклонных ступенек, как Уимпер однажды описал этот гребень после того, как отказался от восхождения с итальянской стороны (плиты с отрицательным наклоном) и попробовал пройти через Швейцарский гребень. Там мы развязываемся, и спускаться, несмотря на сохраняющуюся опасность камнепада или риск поскользнуться на льду,становится «легко, словно съесть кусок пирога», как иногда выражается Жан-Клод. Теперь мы знаем, что при отсутствии неприятных сюрпризов до наступления темноты достигнем хижины Хорнли на высоте 3260 метров, или почти 11 000 футов — достаточно комфортной для той, что примостилась на узком выступе и вклинивается в саму гору. Преодолев две трети пути вниз, мы добираемся до своих старых припасов. (Припасы — по большей части дополнительные продукты, вода и одеяла для хижины — мы сложили почти точно в том месте, где товарищи Уимпера оставили рюкзаки во время восхождения. Что должны были чувствовать и думать трое выживших, когда они во время молчаливого спуска подобрали четыре рюкзака погибших товарищей и понесли к подножию горы?) Я понимаю, что чертовски расстроен и подавлен — в том числе из-за того, что неделя на Маттерхорне, не говоря уже о нескольких месяцах, проведенных с этими двумя людьми, подошла к концу. Что я теперь буду делать? Вернусь в Бостон и попробую найти работу? Выпускники университета, специализировавшиеся на литературе, обычно кончают тем, что преподают свой любимый предмет скучающим первокурсникам, которым глубоко плевать на излагаемый материал, и от мысли, что придется жить в Пятой Щели Восьмого Круга Научного Ада, мне становится еще хуже. У Жан-Клода тоже несчастный вид, но, в отличие от меня, он вернется к своей потрясающей работе проводника. Они с Диконом добрые друзья, и ему явно жаль, что долгий отпуск в горах — а с ним и общение — уже закончился. На лице Дикона идиотская улыбка. Кажется, мне еще не приходилось видеть, как Ричард Дэвис Дикон улыбается во весь рот, — ироническая усмешка, да, но улыбаться как ненормальный человек? Более того, скалиться, как идиот? Ну и ну. С этой улыбкой что-то не так. И речь у него явно взволнованная, медленная, почти официальная со своими кембриджскими модуляциями. Дикон по очереди смотрит нам обоим в глаза, что тоже случается крайне редко. — Жан-Клод Клэру, — тихим голосом произносит он. — Джейкоб Уильям Перри. Вы согласны сопровождать меня в полностью профинансированной экспедиции на вершину Эвереста в следующем году, весной и в начале лета двадцать пятого? Нас будет только трое плюс необходимое число носильщиков — в том числе несколько шерпов, которые помогут в устройстве высокогорных лагерей, но в основном обычные носильщики. Нас будет всего трое — альпинистов, пытающихся покорить вершину. Только мы. Именно в этот момент мы с Жан-Клодом поняли, как выглядит чистая фантазия или глупая шутка, на которую обычно отвечают: «Ты шутишь» или «Расскажи своей бабушке». Но это сказал Дикон, и мы с молодым французом, одним из «Гидов Шамони», несколько секунд смотрим друг на друга, потом поворачиваемся к Дикону и с полной серьезностью почти в один голос отвечаем: — Да. Мы согласны. Так все и началось.
Здесь, в центре 9400 акров красивейшей в мире местности, томится навеки разбитое сердце и непоправимо поврежденный разум.
* * *
На машине путь от Лондона до поместья Бромли в Линкольншире занимает около двух часов, включая остановку на ланч в Сэнди, поскольку мы опережали график, а приезжать раньше условленного времени не хотели. К полудню, все еще на несколько минут раньше, чем нужно, мы добрались до Стамфорд-Джанкшн. До места назначения оставалось несколько миль, и я, должен признаться, очень волновался, буквально до тошноты, хотя меня никогда в жизни не укачивало — особенно в открытом туристическом автомобиле чудесным летним днем, когда легкий ветерок приносит ароматы полей и леса, со всех сторон тебя окружает живописный пейзаж, а над головой безоблачное голубое небо. На указателе к Стамфорд-Джанкшн написано «Карпентерс-Лодж», по типично английской привычке все запутывать, и мы сворачиваем влево на узкую улочку. Последние две мили слева от нас тянется стена из каменных блоков. — Зачем тут стена? — спрашиваю я Дикона, который ведет машину. — Она окружает небольшую часть поместья Бромли, — отвечает наш старший товарищ, не выпуская изо рта трубки. — По другую сторону стены знаменитый Олений парк Бромли, и леди Бромли не хочет, чтобы ее олени — хоть они и ручные — выпрыгнули на дорогу и пострадали. — И полагаю, не пускать туда браконьеров, — замечает Жан-Клод. Дикон кивает. — Поместье Бромли большое? — спрашиваю я с заднего сиденья. — Дай-ка подумать, — говорит Дикон. — Помнится мне, что предыдущий маркиз, покойный лорд Бромли, выделил около восьми тысяч акров под сельскохозяйственные угодья — большая их часть обычно пустует и используется для охоты, — а около девяти сотен акров леса, девственного леса, вернулись королеве Елизавете. Думаю, осталось лишь около пяти сотен акров оленьего парка, сада и угодий, за которыми круглый год присматривает небольшая армия лесников и садовников. — Почти десять тысяч акров земли, — ошарашенно повторяю я и поворачиваюсь к высокой стене, словно вдруг обрел способность видеть сквозь нее. — Почти, — соглашается Дикон. — На самом деле здесь немногим больше девяноста четырех сотен акров. Деревня Стамфорд, которую мы проехали, официально относится к поместью Бромли — вместе с проживающими там людьми и еще ста сорока с лишним обитателями окрестностей Стамфорда и дальних уголков поместья, а еще есть несколько дюжин объектов коммерческой недвижимости в самом Стамфорде и за его пределами, которыми леди Бромли по-прежнему владеет и управляет как частью поместья. Именно это и имели в виду в прежние времена, когда речь шла о владельце поместья. Я пытаюсь все это представить. Разумеется, мне уже приходилось видеть большие участки земли в частном владении. Когда я учился в Гарварде и на летних каникулах занимался альпинизмом, то ездил на запад, в Скалистые горы, и поезд проезжал ранчо, площадь которых, вероятно, достигала или превышала пол миллиона акров — или даже миллион. Кто-то рассказывал мне, что в моем родном Массачусетсе корове для выпаса требуется чуть меньше акра земли, тогда как для выживания на высокогорных равнинах восточного Колорадо или Вайоминга нужно больше сорока акров. На большей части огромных ранчо растет полынь, хризотамнус и редкие старые тополя вдоль ручьев — если там вообще есть ручьи. Как правило, нет. По словам Дикона, в поместье Бромли 900 акров старых лесов, использующихся для… чего? Вероятно, для охоты. Для прогулок. Или как тень для ручных оленей, когда они устанут бродить по солнечным полянкам своего парка. Стена поворачивает на юг, и мы едем вдоль нее еще немного и сворачиваем влево на узкую и немного разбитую дорогу, а затем внезапно проезжаем через старинную арку и оказываемся в поместье. Здесь нас встречает широкая гравийная площадка; ни особняка, ни сада, ни чего-либо другого, представляющего интерес — до самого горизонта, зеленого и холмистого. Дикон останавливает наш туристический автомобиль в тени и ведет нас к экипажу с усатым кучером и двумя белыми лошадьми, который ждет рядом с узкой асфальтовой дорогой, теряющейся в зеленых зарослях поместья. По бокам и сзади карета украшена многочисленными гербами и завитушками, как будто предназначалась для коронационной процессии королевы Виктории. Кучер соскакивает на землю и открывает для нас низкую дверцу кареты. Он выглядит таким старым, что тоже мог бы участвовать в процессии в честь коронации Виктории. Меня приводят в восхищение его длинные белоснежные усы, которые делают его немного похожим на очень высокого и очень худого моржа. — С возвращением, мастер[10] Ричард, — говорит старик Дикону, закрывая дверцу. — Если мне будет позволено выразить свое мнение, вы прекрасно выглядите. — Спасибо, Бенсон, — отвечает Дикон. — Вы тоже. Рад, что вы по-прежнему заведуете конюшней. — О, на моем попечении теперь только экипаж у входа, мастер Ричард. — Старик ловко запрыгивает на свое место спереди и берет в руки вожжи и кнут. Когда мы выезжаем на асфальтовую дорогу, грохот колес экипажа — железных, а не резиновых — на твердой поверхности и цоканье лошадиных копыт, вероятно, заглушают все, что мы говорим нормальным голосом, и мистер Бенсон нас не услышит. Тем не менее мы наклоняемся друг к другу, и наши голоса звучат чуть громче шепота. — Мастер Ричард? — переспрашивает Жан-Клод. — Ты уже бывал здесь, mon ami? — В последний раз в десятилетнем возрасте, — говорит Дикон. — И был отшлепан одним из старших лакеев за то, что ударил юного лорда Персиваля по его выдающемуся носу. Он жульничал в какой-то игре, в которую мы играли. Я продолжаю вертеть головой, чтобы получше рассмотреть идеально выкошенные и постриженные холмы, деревья, кусты. Озеро размером в несколько акров посылало на нас вспышки света, когда ветер поднимал на нем маленькие волны, а на юге, как мне показалось, я увидел начало регулярного сада, а еще дальше, у самого горизонта, очертания дома. Хотя один дом — даже Бромли-хаус — не мог занимать столько места; должно быть, это нечто вроде деревни. — Ты был… и теперь тоже… ровня Бромли? — шепчу я. Вопрос, конечно, невежливый, но мной движет удивление и легкий шок. Дикон настоял, чтобы я отправился к его портному на Сэвил-роу[11] и заказал для этого визита костюм — у меня еще не было костюмов, которые так хорошо на мне сидели и так мне шли, — и сам его оплатил, но после нескольких проведенных в Европе месяцев я был уверен, что денег у Дикона не особенно много. Теперь мне начинало казаться, что следующее поместье площадью 9000 акров называется Дикон-хаус. Тот качает головой, вынимает изо рта трубку и печально улыбается. — Наша семья оставила древнее имя, но не оставила денег последнему, непутевому наследнику… то есть мне. В наше время нельзя официально отказаться от наследственного титула, но будь такое возможно, я сделал бы это не задумываясь. Так что после возвращения с войны я старался совсем не использовать и не упоминать его. Но в прошлом веке я время от времени приезжал сюда поиграть с Чарльзом Бромли, моим ровесником, и его младшим братом Перси, у которого не было ни настоящих друзей, ни товарищей по детским играм — по причинам, о которых ты скоро узнаешь. Все закончилось 6 тот день, когда я расквасил нос Персивалю. Потом Чарльз сам приезжал ко мне. Я знал, что Дикон родился в том же году, что и Джордж Ли Мэллори — в 1886-м, — но из-за его все еще не тронутых сединой волос и превосходной физической формы, благодаря которой он превосходил (кажется, я уже об этом упоминал) и Жан-Клода, и меня в большинстве аспектов альпинистского искусства, в умении работать по снегу и льду, в выносливости, я просто не задумывался, что Ричард Дэвис Дикон первые четырнадцать лет прожил в предыдущем столетии… и пятнадцать лет при королеве Виктории! Под стук копыт мы движемся вперед. — Неужели все посетители парка оставляют машины у ворот и садятся в экипаж, чтобы доехать до дома? — громко спрашивает Же-Ка у нашего кучера Бенсона. — О нет, сэр, — отвечает старик, не поворачивая к нам головы. — Когда в Бромли-хаусе или в Бромли-парке званый ужин или прием — хотя теперь, Бог свидетель, они бывают редко, — прибывшим на машинах гостям позволяется подъезжать прямо к дому. Как и самым уважаемым гостям, включая бывших королев и Его нынешнее Величество. — Король Георг Пятый приезжал в Бромли-хаус? — В своем голосе я слышу благоговение провинциала и гнусавый американский акцент. — О да, сэр, — с энтузиазмом отвечает Бенсон и легким прикосновением кнута к крупу подгоняет более медленную из двух белых лошадей. Об английском монархе я знал лишь то, что во время войны он изменил название королевского дома с Саксен-Кобург-Готского на Виндзорский, пытаясь замаскировать все свои тесные связи с Германией. Тем не менее кайзер приходился Георгу V двоюродным братом, и ходили слухи, что они очень близки. И действительно, монархи были очень похожи внешне. Я почти уверен, поменяйся они орденами и мундирами во время одной из семейных встреч, каждый мог бы править чужой страной и никто бы ничего не заметил. Однажды я спросил Дикона о правящем короле, и он ответил так: — Мой друг Джейкоб, боюсь, он делит время между стрельбой по животным и наклеиванием марок в альбомы. Если у Георга — Его Величества — имеется страсть или способности к чему-то еще, то мы, его верные и любящие подданные, пока об этом не знаем. — А другие королевские особы посещали Бромли-хаус? — спрашивает Жан-Клод достаточно громко, чтобы услышал наш кучер Бенсон. — О да, конечно, — отвечает кучер и на этот раз оглядывается через обтянутое черной ливреей плечо. — Почти каждый монарх посещал Бромли-хаус и останавливался в нем со времени постройки дома в тысяча пятьсот пятьдесят седьмом, за год до коронации Елизаветы. У королевы Елизаветы здесь были свои покои, которые с тех пор использовались для приема только королевских особ. В так называемых «комнатах Георга» несколько месяцев гостила королева Виктория во время летнего отдыха в восемьдесят четвертом — а потом много раз возвращалась. Говорят, Ее Величеству особенно нравились потолки, расписанные Антонио Веррио. Следующая минута проходит в молчании; слышен только цокот копыт. — Да, многие наши короли, королевы и принцы Уэльские приезжали в Бромли-хаус на приемы, останавливались на ночь или проводили здесь каникулы, — прибавляет Бенсон. — Но в последнее время королевские визиты прекратились. Лорд Бромли — четвертый маркиз — умер десять лет назад, а у Его Величества, наверное, есть более важные дела, чем визиты к вдовам… если мне будет позволено так выразиться, сэр. — Разве не здесь живет старший сын, брат Перси Бромли, который пропал на Эвересте? — шепчу я Дикону. — Пятый маркиз Лексетерский? — Да. Чарльз. Я его хорошо знаю. Он отравился газами во время войны и стал инвалидом, так до конца и не оправился. Уже несколько лет он не покидает свою комнату и находится на попечении сиделок. Все думали, что Чарльзу уже недолго осталось и ближе к концу года титул перейдет к Перси, который станет шестым маркизом Лексетерским. — Как это «отравился газами»? — шепчет Жан-Клод. — Где в британской армии служат лорды? — Чарльз был майором и участвовал во многих самых ожесточенных сражениях, но в последний год он вместе с другими важными персонами из армии и правительства входил в состав группы Красного Креста, которая посещала передовые позиции и направляла отчеты этой организации, — тихим голосом отвечает Дикон. — Между британским участком фронта и немцами было организовано трехчасовое прекращение огня, но что-то пошло не так, и начался артиллерийский обстрел их позиций… горчичный газ. Большинство членов делегации не взяли с собой противогазы. Но в случае Чарльза это не имело значения, потому что самые тяжелые поражения у него были не в легких, а стали результатом попадания в раны горчичного порошка из снарядов. Понимаешь, некоторые раны — и особенно подвергшиеся воздействию порошка, выделяющего горчичный газ, — не заживают. Их нужно каждый день перевязывать, а боль никогда не проходит. — Проклятые боши, — шипит Жан-Клод. — Им нельзя верить. Дикон печально улыбается. — Стреляла британская артиллерия. Английский горчичный газ, который немного не долетел. Кто-то не получил приказ о прекращении огня. — Он ненадолго умолкает, и мы слышим только грохот колес и стук огромных лошадиных копыт. — Артиллерийской частью, которая убила несколько важных персон из Красного Креста и сделала инвалидом беднягу Чарльза Бромли, командовал Джордж Ли Мэллори, но я слышал, что сам Мэллори в то время отсутствовал… был в Англии, лечился после ранения или от какой-то болезни… Бенсон, расскажешь нам о двери для королевских особ? — громко спрашивает он. Впереди я замечаю регулярный сад с тщательно ухоженными холмами и лужайками, а над горизонтом — многочисленные шпили и башенки. Слишком много шпилей и башенок для дома — и даже для обычной деревни. Как будто мы приближаемся к городу посреди великолепного сада. — Конечно, мастер Ричард, — отвечает кучер. Длинные белые усы слегка подрагивают — мне это видно даже сзади. Вероятно, он улыбается. — С шестнадцатого века прибытие королевы Елизаветы, королевы Виктории, короля Георга V и остальных обычно назначали днем или ранним вечером — разумеется, сэры, если это было удобно королевским особам, — поскольку, как вы можете видеть, сотни окон здесь, на западной стороне, специально предназначены для того, чтобы ловить лучи заходящего солнца. Полагаю, стекла подверглись какой-то специальной обработке. Они все отливают золотом, как будто за каждым из многочисленных окон, сэры, горит яркий огонь. Очень красиво и приятно для Его или Ее Величества, даже зимним вечером. А в центре западной стены дома есть золотая дверь, которой пользуются только королевские особы — а если точнее, то резной позолоченный портал, потому что это только внешняя из нескольких прекрасных дверей, сконструированных и изготовленных специально для первого визита Елизаветы. Это было незадолго до смерти первого лорда Бромли. Мне известно, что в тысяча пятьсот пятьдесят девятом королева Елизавета и ее свита приезжали к нам на несколько недель. Между жилыми крыльями дома, сэры, устроен чудесный внутренний дворик — полностью приватный, хотя у вас будет возможность взглянуть на него, когда вы будете пить чай с леди Бромли. Говорят, там несколько раз выступал Шекспир со своей труппой. На самом деле двор специально — в смысле естественного усиления человеческого голоса и всех других аспектов — предназначен для театральных представлений с несколькими сотнями зрителей. Я прерываю рассказ банальностью: — Жан-Клод, Дикон, посмотрите на эти древние развалины на холме. Похоже на разрушенную сторожевую башню или маленький средневековый замок. Башня вся заросла плющом, камни осыпались, а в готическом окне одинокой полуразрушенной стены растет дерево. — Почти наверняка руинам меньше пятидесяти лет, — говорит Дикон. — Это «причуда», Джейк. — Что? — Искусственные руины. Ими увлекались с семнадцатого по девятнадцатый век — они то входили в моду, то выходили из нее. Полагаю, это последняя леди Бромли в конце девятнадцатого века потребовала построить павильон на холме, чтобы она могла видеть его во время прогулок верхом. Хотя большая часть ландшафтных работ была выполнена раньше, в конце восемнадцатого века… кажется, Капабилити Брауном.[12] — Кем? — переспрашивает Жан-Клод. — Это было бы подходящее имя для хорошего альпиниста — Капабилити. — Его настоящее имя Ланселот, — говорит Дикон. — Но все звали его Капабилити. Он считался величайшим ландшафтным архитектором Англии восемнадцатого столетия и спроектировал сады и угодья для — не уверен в точности цифры — почти двухсот самых роскошных загородных домов и поместий, а также таких величественных сооружений, как Бленхеймский дворец. Я помню, как мать рассказывала мне, что Капабилити Браун сказал Ханне Мор в шестидесятых годах восемнадцатого века, когда они оба были знаменитыми. — Кто такая Ханна Мор? — спрашиваю я, уже не стесняясь своего невежества. Как оказалось, я совсем не знаю Англию. — Она была писательницей — очень популярной, писала на морально-религиозные темы, — и до самой своей смерти в тридцатых годах девятнадцатого века оставалась чрезвычайно щедрой благотворительницей. В общем, Капабилити Браун называл свои сады и угодья «грамматическими ландшафтами», а когда однажды показывал Ханне Мор законченное поместье — возможно, ее собственное, хотя я понятия не имею, приглашала ли она его, чтобы оформить свои загородные владения, — то описал свою работу ее собственными словами. Я почти дословно помню, как моя мать, которая была увлеченным садоводом вплоть до самой смерти двадцать лет назад, цитировала монолог Брауна. Мне кажется, что слушает даже Бенсон на своем кучерском месте — он еще больше наклонился назад, хотя и не забывает править лошадьми. — «Вот там, — говорил Капабилити Браун, указывая пальцем на ландшафтный элемент, который он создал, но который выглядел так, словно всегда был на том месте, — там я поставил запятую, а там, — указывая на какой-то камень, поваленный дуб или кажущийся естественным элемент, возможно, на расстоянии сотни ярдов или в глубине сада, — где уместен решительный поворот, я поставил двоеточие; в другой части, где желательно прервать плавную линию, я делаю отступление, а затем перехожу к другой теме». Дикон ненадолго умолкает. — По крайней мере, довольно близко к тексту. Прошло много лет, с тех пор как мать рассказывала мне о Капабилити Брауне. Взгляд его становится задумчивым, и я понимаю, что он слышит голос матери. — Может, эти искусственные руины замка на холме — точка с запятой, — говорю я и тут же спохватываюсь. — Нет, постой, ты говорил, что Капабилити Браун не строил «причуд». — Он не стал бы строить таких павильонов и за миллион фунтов, — с улыбкой отвечает Дикон. — Его специальность — изысканные сады, искусственность которых не должен заметить даже опытный глаз. — Дикон указывает на частично заросший лесом склон холма с удивительным разнообразием кустарников, поваленных деревьев и полевых цветов. Но когда экипаж преодолевает пологий подъем и лошади, цокая копытами по асфальту, поворачивают направо, все разговоры смолкают. Отсюда уже прекрасно виден регулярный сад с прямыми и кольцевыми аллеями из чисто-белого гравия — а может, дробленых устричных раковин или даже жемчуга. От вида садов и фонтанов захватывает дух, но именно Бромли-хаус, впервые полностью показавшийся позади сада, заставляет меня привстать в экипаже и, глядя поверх плеча Бенсона, ошеломленно пробормотать: — Господи. О Боже… Нельзя сказать, что это самая утонченная фраза из когда-либо произнесенных мной. Скорее всего, так выразились бы американские религиозные фундаменталисты (хотя моя семья в Бостоне принадлежала к вольнодумцам из Унитарной церкви). Бромли-хаус формально считается тюдоровским поместьем и был построен, как я уже говорил, первым лордом Бромли, который был главным клерком и помощником государственного казначея королевы Елизаветы лорда Берли, когда в 1550-х гг. началось строительство дома. Потом Дикон рассказал мне, что Бромли-хаус был одним из нескольких поместий, построенных в Англии в ту эпоху успешными молодыми людьми из простолюдинов. Он также поведал мне, что лорд Бромли с семьей поселился в готовой части дома в 1557 году, хотя строительство Бромли-хауса растянулось на тридцать пять лет. На тридцать пять лет и еще три с половиной столетия, поскольку даже для моего неопытного в архитектуре глаза очевидно, что многие поколения лордов и леди что-то прибавляли и убавляли, экспериментировали, тысячи раз переделывая поместье. — Дом… — я слышу торжественность в старческом голосе Бенсона, тихом, но исполненном гордости, — был поврежден во время гражданской войны. Люди Кромвеля были настоящими зверьми, бездушными зверьми, бездушными и безразличными даже к самым прекрасным произведениям искусства, но пятый граф закрыл поврежденную южную часть дома окнами, и получилась большая галерея. Очень светлая и очаровательная, как мне говорили, за исключением зимних месяцев. Позже, уже в семнадцатом веке, при восьмом графе эту галерею потом закрыли и превратили в Большой зал — его гораздо легче обогревать. — Граф? — шепчу я Дикону. — Мне казалось, мы имеем дело с лордами, леди и маркизами из семьи Персиваля. Дикон пожимает плечами. — Со временем титулы меняются и накапливаются, старина. Парнем, который в шестнадцатом веке построил эту громадину, был Уильям Бэзил, первый лорд Бромли. Его сыну Чарльзу Бэзилу, тоже лорду Бромли, в тысяча шестьсот четвертом году, через год после смерти королевы Елизаветы, пожаловали титул графа Лексетера. Я ничего не понимаю в его объяснении, за исключением слов о смерти Елизаветы. Наш экипаж катится вокруг южного крыла громадной постройки к дальнему входу на восточной стороне. — Возможно, этот пустой угол вас заинтересует, — говорит Дикон, показывая на угол дома, мимо которого мы проезжаем. На западной стороне два ряда красивых окон поднимаются на высоту шестидесяти или восьмидесяти футов, но угол здания никак не назовешь изящным — у него такой вид, словно его в спешке облицевали грубым камнем. — Несколько сотен лет назад тогдашний лорд Бромли понял, что хотя его высокий Большой зал очень красив и наполнен светом — он почти весь стеклянный, — но в самом крыле слишком много красивых окон и слишком мало опорных стен. Огромный вес крыши из английского дуба в сочетании с весом тысяч колливестонов… — Что такое колливестон? — спрашивает Жан-Клод. — Похоже на породу английской охотничьей собаки или овчарки. — Колливестон — это плита из очень тяжелой разновидности серого сланца, который используется в качестве кровельной черепицы во многих больших старинных поместьях Англии. Впервые сланец нашли и стали добывать именно здесь еще римляне. Сегодня встретить сланец колливестон в Англии почти невозможно, только в Бромли-хаусе и еще нескольких отдаленных уголках. В любом случае, вы можете увидеть, где несколько столетий назад встревоженный граф заложил красивые окна и добавил несущие опоры из камня. У этих маленьких окон — наверху, с северной стороны, где должен быть пятый этаж, — есть стекла, но за ними каменная кладка. Эта крыша очень тяжелая. Размеры Бромли-хауса поражают — со своими многочисленными стенами и внутренними двориками он больше многих деревень в Массачусетсе, которые мне приходилось видеть, — но в данный момент мое внимание привлекает крыша, от которой я не могу оторвать взгляда. (Подозреваю, что рот у меня приоткрылся, но я так захвачен этой картиной, что мне все равно; уверен, что Дикон закроет мне рот, если я уж слишком начну походить на деревенского дурачка.) Бенсон пружинисто спрыгивает с козел, обходит вокруг кареты и открывает для нас створку двери. Крыша кажущегося бесконечным дома — высоко над нашими головами — представляет собой невероятное скопление вертикальных (а иногда и горизонтальных) выступов: обелиски, похоже, не имеющие определенного назначения, внушительная часовая башня с циферблатом часов, обращенным к предположительно неиспользуемому гостями южному фасаду дома, ряды высоких, похожих на древнегреческие колонн, которые на самом деле представляли собой дымовые трубы бесчисленных каминов в доме размером с город, арки, вздыбившиеся над чем-то невообразимым, зубчатые башенки с высокими, узкими окнами на прямых шпилях и круглыми маленькими окошечками под фаллическими утолщениями, еще окна на горизонтальных, похожих на Старый лондонский мост, нависающих верхних этажах, которые соединяли некоторые более массивные башни с многочисленными окнами, и наконец, ряды более высоких, тонких и вызывающих чувственные ассоциации шпилей, разбросанных как будто в случайном порядке вокруг, между и над остальными элементами загроможденной башенками крыши. Эти последние очень похожи на минареты, торчащие из какой-нибудь ближневосточной мечети. У открытой двери восточного входа еще один лакей в очень строгой и очень старомодной ливрее — вероятно, этот джентльмен еще старше нашего возницы, но чисто выбритый, лысый, как бильярдный шар, и гораздо более сутулый по причине искривления позвоночника — кланяется нам и произносит: — Добро пожаловать, джентльмены! Леди Бромли ждет и вскоре присоединится к вам. Мастер Дикон, вы должны простить меня, если я осмелюсь заметить, что вы выглядите необыкновенно здоровым, загорелым и крепким. — Спасибо, Харрисон, — отвечает Дикон. — Прошу прощения, сэр? — Харрисон прикладывает сложенную ковшиком ладонь к левому уху. Похоже, он почти ничего не слышит и явно не очень хорошо читает по губам. Дикон громко, почти крича, повторяет эти два слова. Харрисон улыбается, демонстрируя превосходные вставные зубы, и хрипло выдыхает: — Пожалуйста, следуйте за мной, джентльмены. — Потом поворачивается и ведет нас внутрь. Пока мы медленно идем за шаркающим лакеем бог знает куда по череде прихожих, потом через большие залы, Дикон шепчет нам: — Харрисон — тот самый лакей, что отшлепал меня, когда тридцать лет назад я ударил юного лорда Персиваля. — Хотел бы я посмотреть, как он попытается сделать это сегодня, — шепчет Жан-Клод со злорадной улыбкой, которую я уже видел прежде и которая почему-то кажется проказливой и привлекательной дамам. Мы идем вслед за шаркающим лакеем через вереницу фойе с картинами, персидскими коврами и красными портьерами, потом проходим не меньше трех «холлов», где дух захватывает от цвета, размера и мастерства одних только древностей. Но не золоченая старинная мебель заставляет меня изумленно замереть на месте. Харрисон слабо машет немощной левой рукой, указывая на потолок и обводя всю комнату, и объявляет своим скрипучим старческим голосом: — Райская зала, джентльмены. Очень… Я не могу разобрать последнее слово, но скорее всего это «известная». Мне она больше напоминает «футбольную залу», поскольку высота потолка здесь не меньше сорока футов, а само помещение по размерам может сравниться с полем для игры в американский футбол. Мне приходит в голову, что вдоль этих золоченых, увешанных картинами стен можно поставить ряды сидений для зрителей и устроить игру между Гарвардом и Йелем. Но челюсть у меня снова отвисает вовсе не от этого, а при взгляде на бесконечный потолок с искусной росписью. Я не сомневаюсь, что сотни (сотни!) обнаженных и почти обнаженных мужских и женских фигур должны изображать богов и богинь, которые резвятся так, как положено языческим богам, но, на мой взгляд варвара, это выглядит как самая большая в мире оргия. Просто поразительно, как художнику удалось изобразить столько фигур, спускающихся — свисающих, падающих, стекающих — с потолка на стены, собирающихся в углах мясистыми грудами бедер, бицепсов и грудей; другие переплетенные тела украшают боковые двери и зеркала, словно пытающиеся помешать падению этой беспорядочной массы плоти на покрытый персидскими коврами паркет. Иллюзия объема сбивает с толку и вызывает головокружение. — Большую часть этих фресок написал Антонио Веррио в тысяча шестьсот девяносто пятом и девяносто шестом, — тихо говорит Дикон, явно предполагая, что наш престарелый сопровождающий его не слышит. — Если вам кажется, что это здорово, то вы не видели фреску «Врата ада» на потолке у подножия главной лестницы — Веррио изображает врата ада как пасть гигантского кота, проглатывающего нагие потерянные души, словно истерзанных мышей. — Magnifique,[13] — шепчет Жан-Клод, тоже глядя на потолок Райской залы. Потом прибавляет, еще тише: — Хотя… как это будет по-вашему?.. Хвастливо. Очень хвастливо. Дикон улыбается. — Говорят, за тот год, что Веррио работал здесь, он уложил в постель всех служанок в поместье — а также крестьянских девушек, работавших в поле. На самом деле стены еще не были завершены, когда хозяева пригласили иллюстратора детских книжек — кажется, его звали Стотард, — чтобы закончить этот потрясающий рай. Я смотрю на сплетенные в объятиях бесчисленные тела, мужские и женские — многие, как я заметил, падают с потолка и, извиваясь в пароксизме страсти, сползают по стенам — и думаю: «И кое-что из этого нарисовал иллюстратор детских книг?» Следуя за шаркающим, безмолвным лакеем через Райскую залу, я испытываю благодарность к Дикону, который настоял на моем визите к портному на Сэвил-роу за подобающим костюмом. Поскольку Же-Ка как-то сказал мне, что у Дикона, последнего представителя некогда состоятельной семьи, теперь не так много денег, я решительно протестовал, но Дикон заявил, что просто не может позволить мне явиться к леди Бромли в этой «пыльной, бесформенной твидовой штуковине цвета дерьма», которую я использую вместо костюма. Я обиженно ответил, что «штуковина цвета дерьма» — мой лучший твидовый костюм — прекрасно послужила мне на всех официальных мероприятиях Гарварда (по крайней мере тех, где требовался вечерний костюм), но на моего британского коллегу-альпиниста этот аргумент не произвел впечатления. Таким образом, когда мы покидали Райский зал и переходили в гораздо более спокойную боковую комнату, я еще раз порадовался элегантности своего сшитого на заказ костюма, выбранного и оплаченного Диконом. Однако Жан-Клод обладал достаточной уверенностью в себе, чтобы надеть свой старый костюм, в котором он, вполне вероятно, сопровождал альпинистов в качестве гида — похоже, к нему прекрасно подходят альпинистские ботинки, и я почему-то не сомневаюсь, что подобное сочетание имело место.Старый лакей Харрисон наконец останавливается в боковой комнате, отделенной от Райской залы всего двумя нелепыми вычурными галереями и потрясающей библиотекой. После огромных помещений, которые нам пришлось пройти, чтобы попасть сюда, эта маленькая уютная комната кажется кукольным домиком, хотя по размерам приблизительно равняется половине гостиной, какая бывает в домах американского среднего класса. — Пожалуйста, садитесь, джентльмены. Чай и леди Бромли скоро прибудут, — говорит Харрисон и удаляется шаркающей походкой. Его слова объединяют чай и хозяйку одного из крупнейших поместий Англии — на равных. Вероятно, одно неразрывно связано с другим. На мгновение небольшой размер и уютная обстановка этой маленькой комнаты — немногочисленные предметы мебели в центре, на великолепном персидском ковре, окруженном сверкающим паркетом, одно кресло с высокой спинкой, обитое тканью, похоже, XIX века, низкий круглый столик, вероятно, для неизбежного чая, и два изящных стула по обе стороны от него, которые выглядят слишком хлипкими, чтобы выдержать взрослого человека, а также красное канапе прямо напротив кресла — заставляют меня предположить, что это личные покои кого-то из обитателей Бромли-хауса, но я тут же осознаю свою ошибку. Все маленькие картины и фотографии на стенах с нежными обоями — женские. Несколько книжных полок, совсем не похожих на гигантские стеллажи библиотеки, которую мы проходили, почти пусты; на них лишь несколько книг, по виду ручной работы, возможно, альбомы для газетных вырезок и фотографий, сборники кулинарных рецептов или генеалогические таблицы. Однако эта комната, несмотря на внешнее сходство, не относится к личным покоям хозяев. Я понимаю, что леди Бромли, должно быть, использует ее для того, чтобы в непринужденной обстановке встречаться с людьми из низших социальных слоев. Возможно, беседует со своим ландшафтным архитектором или главным лесничим — или с дальними родственниками, теми, кому не предложат остаться на ночь. Мы с Жан-Клодом и Диконом втискиваемся на красное канапе и ждем, касаясь друг друга бедрами и выпрямив спины. Это довольно неудобная для сидения мебель — возможно, еще одно напоминание слишком не задерживаться. Я нервно провожу большим и указательным пальцами по острой стрелке брюк своего нового костюма. Внезапно открывается потайная дверь в библиотеку, и в комнату входит леди Элизабет Мэрион Бромли. Мы втроем поспешно вскакиваем, едва не сбивая друг друга с ног. Леди Бромли очень высокая, и ее рост подчеркивается тем, что она одета во все черное — кружевное черное платье с высоким, отделанным рюшами воротником, которое вполне могло быть сшито в XIX веке, но выглядит удивительно современным. Ее прямая спина и грациозная, но в то же время непринужденная походка усиливают ощущение высокого роста и величия. Я ожидал увидеть старую даму — лорду Персивалю, пропавшему на Эвересте этим летом, было уже за тридцать, — но в темных волосах леди Бромли, уложенных в сложную прическу, которую я видел только в журналах, видны лишь редкие серебристые пряди, в основном на висках. Ее темные глаза живые и блестящие, и она — к моему глубокому удивлению — быстро идет к нам, огибает стол, подходит вплотную, доброжелательно и, похоже, искренне улыбается и протягивает обе руки, изящные, бледные, с длинными пальцами пианиста, совсем не старческие. — О, Дики… Дики… — произносит леди Бромли и обеими руками сжимает мозолистую ладонь Дикона. — Так чудесно снова видеть тебя здесь. Кажется, только вчера твоя мать привозила тебя к нам, чтобы поиграть с Чарльзом… и как вы, старшие, раздражались, когда маленький Перси пытался к вам присоединиться! Мы с Жан-Клодом осмеливаемся обменяться вопросительными взглядами. Дики?! — Я очень рад нашей встрече, леди Бромли, но также глубоко опечален обстоятельствами, которые снова свели нас вместе, — отвечает Дикон. Леди Бромли кивает и на секунду опускает наполнившиеся слезами глаза, но затем улыбается и снова поднимает голову. — Чарльз очень сожалеет, что не может сегодня поздороваться с тобой — как ты знаешь, здоровье у него совсем неважное. Дикон сочувственно кивает. — Тебя же тоже ранило на войне. — Леди Бромли по-прежнему держит ладонь Дикона, одна ее рука сверху, другая снизу. — Легкие ранения, давно зажили, — говорит Дикон. — Не сравнить с отравлением газом, как у Чарльза. Я тысячу раз вспоминал о нем. — И спасибо за письмо с соболезнованиями, оно было очень милым, — тихо произносит леди Бромли. — Но я невежлива… пожалуйста, Дики, представь меня своим друзьям. Знакомство и короткий разговор проходят гладко. Леди Бромли на хорошем французском обращается к Же-Ка, и я могу разобрать, что она выражает восхищение, что такой молодой человек пользуется известностью как превосходный гид по Шамони, а Жан-Клод отвечает ей своей самой широкой, лучезарной улыбкой. — И мистер Перри, — произносит она, когда приходит время повернуться ко мне, и грациозно берет в свои руки мою неловко протянутую ладонь. — Даже в своей деревенской глуши я слышала о Перри из Бостона — прекрасная семья. Запинаясь, я бормочу благодарности. Я происхожу из очень известной и старинной семьи «бостонских браминов», и вплоть до предпоследнего поколения — историю семьи можно проследить до 1630-х — члены семьи были известными торговцами и профессорами Гарварда, а несколько смельчаков отличились на полях сражений, таких как Банкер-хилл и Геттисберг. Но увы, «брамины» Перри из Бостона теперь почти разорены. Хотя уменьшающееся состояние не мешало моим родителям называть футбольный матч между Гарвардом и Йелем просто «матчем», а за скромными рождественскими покупками приходить в центр города, в семиэтажный магазин «С. С. Пирс Компани», который обслуживал такие семьи, как наша, с 1831 года. Нет, поначалу приближающаяся бедность даже не помешала мне наслаждаться лучшими частными школами, а также теннисными кортами и лужайками Бруклинского загородного клуба (который мы, естественно, называли просто «клубом», словно он был единственным в мире), а моим родителям — оплачивать мое обучение в Гарварде на протяжении всех лет, что окончательно истощило ресурсы семьи. Поэтому я мог посвящать каждую свободную минуту и все летние каникулы в колледже своему увлечению, вместе с друзьями карабкаясь по скалам и покоряя вершины, не думая о расходах. И когда я получил в наследство от тетки 1000 долларов, то даже не подумал отдать их родителям, чтобы помочь оплатить счета — в том числе мои, — а потратил их на то, чтобы провести год в Европе, лазая по Альпам. — Садитесь, пожалуйста, — обращается ко всем нам леди Бромли. Она перешла на противоположную сторону низкого столика и устроилась в удобном кресле с высокой спинкой. Тут же, словно по команде, появляются три горничных — или еще какие-то служанки — с подносами с чайником, старинными фарфоровыми чашками и блюдцами, серебряными ложками, серебряной сахарницей, серебряным молочником и пятиярусной сервировочной подставкой с маленькими пирожными и печеньем на каждом ярусе. Одна из служанок предлагает налить чай, но леди Бромли говорит, что справится сама, а затем спрашивает каждого — за исключением «Дики», который, как она помнит, добавляет в чай немного сливок, дольку лимона и два кусочка сахара, — с чем мы будем пить чай. Я отвечаю: «Просто чай, мэм», — что звучит довольно глупо, и в ответ получаю улыбку и блюдце с чашкой чая без сливок, лимона или сахара. Ненавижу чай. После нескольких минут светской беседы, в основном между Диконом и леди Бромли, хозяйка наклоняется вперед и отрывисто говорит: — Давай обсудим другое твое письмо, Дики. То, что я получила через три недели после милой открытки с соболезнованием. То, в котором говорится, что вы втроем отправляетесь на Эверест на поиски моего Персиваля. Дикон прочищает горло. — Возможно, это было самонадеянным, леди Бромли, но обстоятельства исчезновения лорда Персиваля вызывают много вопросов, а ответов на них нет, и я подумал, что могу предложить свои услуги в попытке разгадать загадку, окружающую тот несчастный случай… падение, сход лавины… что бы там ни произошло. — Да, что бы там ни произошло, — повторяет леди Бромли. Голос ее звучит резко. — Ты знаешь, что тот немецкий джентльмен, который был единственным свидетелем так называемой «лавины», унесшей Перси и немецкого носильщика, — герр Бруно Зигль, — даже не отвечает на мои письма и телеграммы? Он отправил мне одну невежливую записку, в которой утверждает, что ему больше нечего сказать, и упорно молчит, несмотря на требования Альпийского клуба и «Комитета Эвереста» сообщить дополнительные подробности. — Так нельзя, — тихо говорит Жан-Клод. — Родные должны знать правду. — Я не до конца убеждена, что Персиваль погиб, — продолжает леди Бромли. — Возможно, он ранен и потерялся в горах, едва живой, или ждет помощи в какой-нибудь близлежащей тибетской деревне. «Вот оно, — думаю я. — Безумие, которым хочет воспользоваться Дикон». Меня начинает подташнивать, и я ставлю на стол блюдце с чашкой. — Я понимаю, джентльмены, шансы на это — что мой Перси все еще жив — крайне малы. Я все понимаю. Я живу в реальном мире. Но разве без спасательной или поисковой операции можно быть уверенным? Жизнь юного Персиваля была такой… такой приватной… такой сложной… В последние годы я почти ничего не знала о нем. И теперь чувствую, что должна, по крайней мере, узнать подробности его смерти… или исчезновения. Зачем он вообще отправился в Тибет? Почему именно на Эверест? И почему он был с тем австрийцем… мистером Майером… когда погиб? Она умолкает, и я вспоминаю все, что слышал о молодом лорде Персивале Бромли, — охотник за удовольствиями, азартный игрок, человек, который много лет провел в Германии и Австрии,вечный скиталец, приезжавший домой, в Англию, с редкими визитами и живший в самых роскошных номерах лучших европейских отелей. Ходили слухи (правда, у меня не хватило смелости спросить об этом у Дикона), что он был содомитом, клиентом немецких и австрийских борделей для мужчин, любителей подобных развлечений. Приватная, сложная… да, жизнь, заполненную такими занятиями и увлечениями, можно назвать приватной и сложной, не так ли? — Перси был очень хорошим спортсменом… ты должен это помнить, Дики. — Помню, — говорит Дикон. — Это правда, что Персиваль должен был выступать за Англию в гребле на Олимпийских играх 1928 года? Леди Бромли улыбается. — В его возрасте — за тридцать — это звучит странно, правда? Но именно таким был план Перси: поехать на девятые Олимпийские игры в Амстердаме и войти в состав команды гребцов. Ты же помнишь его успехи в гребле, когда он учился в Оксфорде. Он поддерживает… поддерживал… прекрасную физическую форму и тренировался с английскими олимпийцами, когда приезжал домой. Он тренировался также в Голландии и Германии. Но гребля — лишь один из видов спорта, в которых успешно выступает… выступал Перси. — У него был большой опыт восхождений, когда он отправился на Эверест? — спрашивает Дикон. — Я давно не общался с Персивалем. Леди Бромли улыбается и наливает еще чаю каждому из нас. — Больше пятнадцати лет занятий альпинизмом в Альпах с лучшими гидами и со своим кузеном. — В ее словах слышится гордость. — С юного возраста. Покорил все пять вершин Гранд-Жорас, в том числе поднялся на самую высокую и сложную — кажется, она называется Пойнт-Уокер — еще в двадцатилетием возрасте. Разумеется, Маттерхорн. Пиц-Бадиль… — С юга? — перебивает Дикон. — Не уверена, Дики, но, кажется, да. Кроме того, Перси со своим гидом совершили… как это называется… длинный горизонтальный переход во время восхождения? — Траверс? — подсказывает Жан-Клод. — Oui. Merci, — благодарит леди Бромли. — Перси и его гид прошли траверсом по Монблану от хижины Дом до Гран-Мюль во время, как он выразился, летней бури. Я помню, как он писал о прохождении Гран-Комбен — не знаю, что это, — за очень короткое время… Перси в основном описывал открывающийся с вершины вид. У меня сохранились его открытки, в которых он рассказывает о… траверсе, да, это так называется… Финстераархорна и об успешном восхождении на Нестхорн. — Она печально улыбается. — Все годы, когда Перси занимался опасными видами спорта, в том числе альпинизмом, я провела много тревожных часов, разглядывая в нашей библиотеке эти горы и вершины. — Однако он так и не вступил в Альпийский клуб, — замечает Дикон. — И официально не входил в состав весенней экспедиции на Эверест, вместе с Нортоном, Мэллори и остальными? Леди Бромли качает головой, и я снова восхищаюсь утонченной простотой ее прически, которая делает еще выше эту высокую, держащуюся необыкновенно прямо женщину. — Персиваль никогда не любил к кому-либо присоединяться, — говорит леди Бромли, и по ее лицу вдруг пробегает тень, а глаза становятся печальными — она осознает, что говорит о сыне в прошедшем времени. — В марте я получила от него короткую весточку, отправленную с плантации его кузена Реджи в окрестностях Дарджилинга, где он сообщал, что может отправиться в Тибет вслед за экспедицией мистера Мэллори или вместе с ней, а потом ничего… молчание… пока в июне не пришли ужасные новости. — Вы можете вспомнить имена гидов, которые сопровождали его в Альпах? — спрашивает Дикон. — Да, конечно, — лицо леди Бромли немного оживляется. — У него были три любимых гида, все из Шамони… Она называет имена, и Жан-Клод складывает губы в трубочку, словно собирается присвистнуть. — Лучшие из тех, что у нас есть, — говорит он. — Им нет равных ни на скалах, ни на снегу, ни на льду. — Персиваль их любил, — кивает его мать. — И еще один англичанин, с которым он часто совершал восхождения в Альпах, его тоже звали Перси. Перси… Ферроу, Феррей? — Перси Фаррар? — спрашивает Дикон. — Да, совершенно верно. — Леди Бромли снова улыбается. — Не странно ли, что я помню, как зовут всех его немецких и французских проводников, а имя английского парня забыла? Дикон поворачивается к Же-Ка и ко мне. — У Перси Фаррара уже был шестнадцатилетний или семнадцатилетний опыт экстремальных восхождений в Альпах, когда он присоединился к Перси… к молодому лорду Персивалю. — Глядя мне прямо в глаза, Дикон поясняет: — Впоследствии Фаррар стал президентом Альпийского клуба и первым предложил включить Джорджа Ли Мэллори в состав первой экспедиции на Эверест, в тысяча девятьсот двадцать первом. — Итак, ваш сын ходил в горы с самыми лучшими, — говорит Жан-Клод, обращаясь к леди Бромли. — Даже если его не пригласили в экспедицию на Эверест, он был превосходным альпинистом. — Но имени Перси не было в списках ни Альпийского клуба, ни «Комитета Эвереста», — уточняет Дикон. — Вы случайно не знаете, леди Бромли, каким образом ваш сын оказался на Эвересте почти одновременно с командой Мэллори? Леди Бромли допивает остатки чая и аккуратно ставит чашку на блюдце. — Как я уже говорила, мне пришло лишь короткое письмо от Персиваля, отправленное в марте на плантации в окрестностях Дарджилинга, — терпеливо напоминает она. — Очевидно, Перси встретил Мэллори и других членов той экспедиции на плантации своего кузена Реджи около Дарджилинга на третьей неделе марта. Мой сын путешествовал по Азии и без предупреждения появился на нашей чайной плантации под Дарджилингом… которой уже много лет владеет и управляет Реджи, кузен Перси. Кузен Реджи оказал большую помощь в поиске непальских носильщиков — их называют шерпами — для экспедиции Мэллори; у многих родственники много лет работали на нашей плантации. Как вам должно быть известно, руководителем экспедиции в то время был бригадный генерал Чарльз Брюс… Но судя по тому, что после возвращения в Англию рассказывали мне полковник Нортон и остальные, генерал Брюс заболел и был вынужден повернуть назад всего через две недели после того, как экспедиция покинула Дарджилинг, чтобы пройти через Сепола на Кампа-дзонг и Тибет. Насколько я понимаю, полковник Нортон, который уже входил в состав группы, был выбран на замену генерала Брюса в качестве начальника экспедиции, а затем — по словам самого Нортона, который был так добр, что нанес мне визит, — он назначил Мэллори руководить восхождением. Вот и все, что мне известно о последних днях Персиваля. Он не присоединился к лагерю английской экспедиции и не пытался покорить вершину вместе с ними. — Лорд Персиваль путешествовал один или его сопровождали слуги? — спрашивает Дикон. — О, Перси всегда предпочитал путешествовать в одиночку, — отвечает леди Бромли. — Это было неудобно — вся эта суета с выбором одежды и багажом, — но таковы были его предпочтения, и полковник Нортон говорит, что на всем протяжении пятинедельного перехода до горы Эверест Перси ставил свою палатку отдельно. — Никогда не присоединялся к официальной экспедиции? — спрашивает Жан-Клод, и в его голосе сквозит легкое удивление. Почему английский лорд путешествует отдельно от английской экспедиции? Леди Бромли едва заметно качает головой. — Ни Альпийский клуб, ни полковник Нортон ничего об этом не говорили. И кузен Реджи тоже не знает, зачем Перси направлялся в Тибет и почему предпочел идти рядом с экспедицией, но не вместе с ней. — А как насчет тех немцев? — спрашивает Дикон. — Кто такой Майер, который, как говорят, попал под лавину вместе с лордом Персивалем? Или Бруно Зигль, который утверждает, что все видел, находясь ниже на склоне горы? Вы не знаете, был ли Персиваль знаком с этими джентльменами? — Боже мой! — восклицает леди Бромли. — Я совершенно уверена, что не был. Этот Майер, по всей видимости, был никем — по сведениям Альпийского клуба и моих друзей в правительстве Ее Величества… Скажем, он был не тем человеком, с которым стал бы заводить знакомство Персиваль. Дикон трет лоб, словно у него болит голова. — Если лорд Персиваль не был с британской экспедицией, когда пропали Мэллори и Ирвин, то каким образом, если верить Бруно Зиглю, его вместе с каким-то неизвестным немцем накрыло лавиной между пятым и шестым лагерями? Пятый лагерь Мэллори располагался в нескольких сотнях метров выше семи тысяч шестисот двадцати пяти метров — это двадцать пять тысяч футов, леди Бромли, очень высоко, — а шестой лагерь, плацдарм для покорения вершины, был устроен выше восьми тысяч метров, или двадцати шести тысяч восьмисот футов. Меньше чем в трех тысячах футов от вершины Эвереста. В газетах высказываются предположения, что лорд Персиваль пытался искать Мэллори и Ирвина через несколько дней, как их потеряли Нортон и другие члены экспедиции. Но никто из альпинистов не видел лорда Персиваля, Майера или этого Зигля во время спуска с вершины. Вы можете предположить, почему Персиваль находился так высоко на склоне горы после того, как Нортон и остальные ушли? — Понятия не имею, — говорит леди Бромли. — Разве что Персиваль… мой Перси… пытался покорить вершину Эвереста сам… или с этим австрийским альпинистом. Нельзя исключать. Понимаете, Перси… был… очень честолюбивым. В ответ Дикон молча кивает и смотрит на меня. Нортон и остальные, посчитав Мэллори и Ирвина погибшими, отказались от дальнейших попыток подняться на вершину, причем не только из уважения к мертвым товарищам, но также из опасений, что сезон муссонов начался по-настоящему. Они уходили из базового лагеря на Эвересте в необычно ясную погоду, но боялись, что муссон может прийти со дня на день и захватить их в пути. Совершенно очевидно, что при неминуемой угрозе плохой погоды даже такой новичок, как Бромли, не стал бы пытаться взойти на вершину — или даже подниматься по склону в поисках пропавших Мэллори и Ирвина. Подставить себя под удар муссона на Эвересте — это чрезвычайно глупый и бессмысленный способ самоубийства. Молчание затягивается и кажется почти невыносимым. Больше не осталось чая, чтобы нас отвлечь, а к еде прикоснулись только мы с Жан-Клодом. Наконец Дикон нарушает молчание: — Леди Бромли, вы хотите, чтобы мы втроем предприняли… через год после исчезновения лорда Персиваля слишком поздно называть эту экспедицию спасательной, но она вполне может стать поисковой… попытку будущей весной, когда снова откроется путь на Эверест? Она опускает взгляд, и я вижу, как белые зубы прикусывают полную нижнюю губу. — «Комитет Эвереста» и Альпийский клуб не планируют экспедицию в тысяча девятьсот двадцать пятом году, правда, Дики? — Нет, мэм, — отвечает Дикон. — Потеря Мэллори и Ирвина — и, разумеется, вашего сына — потрясла клуб и комитет, и поэтому может пройти еще несколько лет, прежде чем на Эверест будет отправлена официальная экспедиция. Кроме того, тибетские власти, похоже, гневаются на Альпийский клуб и «Комитет Эвереста» — по неизвестным мне причинам. Говорят, премьер-министр Тибета и местные племенные вожди в ближайшее время могут не дать разрешение на экспедицию. Да, конечно, и Альпийский клуб, и «Комитет Эвереста» считают Эверест «английской горой» и не допускают мысли, что иностранец может покорить ее первым, но в Альпах ходят слухи, что к такой попытке готовятся немцы. Хотя я не думаю, что следующим летом. Не в тысяча девятьсот двадцать пятом. Однако мы трое можем это сделать. — Но ведь в экспедиции Мэллори, к которой присоединился Перси, были десятки людей, сотни носильщиков и еще сотни вьючных животных… Я помню, как в письме с плантации Перси жаловался на их намерение использовать мулов тибетской армии, с которыми, по его словам, просто невозможно справиться. А полковник Нортон рассказывал мне, какой это медленный процесс, устраивать один лагерь за другим, сначала на леднике, затем на том ледяном гребне между Эверестом и соседней вершиной — я изучала географию горы, джентльмены, очень тщательно изучала, — когда европейские альпинисты вырубают ступени для носильщиков через каждые несколько футов ледяной стены того гребня, Северного седла. Всем этим людям требуется много недель медленного подъема. Как, ради всего святого, вы трое сможете — нет, не покорить вершину, что меня в этой экспедиции не интересует, а подняться достаточно высоко, к пятому и шестому лагерю, чтобы искать моего сына? Отвечает ей Жан-Клод: — Леди Бромли, мы будем идти очень быстро, в альпийском стиле,[14] а не в стиле военной кампании, как все экспедиции Мэллори. Мы наймем нескольких шерпов в качестве носильщиков, в том числе способных подниматься высоко в горы — возможно, найдем этих опытных людей на вашей чайной плантации с помощью кузена Реджи, — но с того момента, как мы доберемся до горы, нашими главными целями станут скорость и эффективность. Мы будем подниматься, спать и есть, как в Альпах — нести оснащение для бивака с собой в рюкзаках, не тратя время на устройство постоянных лагерей, — и сможем провести тщательные поиски от пятого лагеря на Северном седле до верхнего шестого лагеря за неделю или две… а не за пять-десять недель, которые потребовались бы такой большой экспедиции, как у генерала Брюса. Леди Бромли окидывает взглядом нас всех, потом пристально смотрит на Дикона. Ее взгляд неожиданно становится… нет, не холодным, а отстраненным, деловым. — И во что обойдется эта спасательная… поисковая экспедиция, джентльмены? Тон у Дикона такой же деловой, как у леди Бромли. — Альпийский клуб выделил десять тысяч фунтов на две первые попытки — рекогносцировку тысяча девятьсот двадцать первого года и серьезную попытку покорения вершины тысяча девятьсот двадцать второго года. Они предполагали, что рекогносцировка обойдется всего в три тысячи фунтов, а на восхождение пойдут оставшиеся от десяти тысяч. Однако бюджет был превышен — в обоих случаях. А восхождение этого года — тысяча девятьсот двадцать четвертого, во время которого пропали ваш сын, Мэллори и Ирвин, — стоило почти двенадцать тысяч фунтов. Серьезный взгляд леди Бромли теперь не отрывается от лица Дикона. — Значит, вы просите у меня двенадцать тысяч фунтов за эту попытку… поисковой… экспедиции, чтобы найти моего сына? — Нет, мэм, — говорит Дикон. — Нас будет всего трое плюс, возможно, две дюжины опытных носильщиков-шерпов, и, по моим оценкам, вся экспедиция — включая проезд по железной дороге от Калькутты, палатки, альпинистское снаряжение, кислородное оборудование, подобно тому, которое разработал Финч и усовершенствовал Сэнди Ирвин для последней экспедиции, а также аренда лошадей и вьючных мулов, чтобы доставить нас и снаряжение до базового лагеря на Эвересте, — будет стоить не больше двадцати пяти сотен фунтов. Услышав эту сумму, леди Бромли удивленно моргает. Должен признаться, лично мне цифра не кажется маленькой. — Мы профессиональные альпинисты, мэм, — говорит Дикон, подавшись к женщине в черном. — Мы поднимаемся быстро и в любую погоду, едим мало, спим в брезентовых мешках, привязанных веревкой к склону горы, или — если это невозможно — проводим ночь, сидя на узком уступе с зажженной под подбородком свечкой, чтобы не заснуть. Леди Бромли снова обводит взглядом всех троих, затем поворачивается к Дикону. Но ничего не говорит. — Леди Бромли, — продолжает Дикон, — как вы уже говорили, экспедиция Нортона и Мэллори, за которой следовал ваш сын, везла с собой тонны припасов и снаряжения. Одно лишь Кооперативное общество содействия армии и флоту предоставило шестьдесят банок фуа-гра, три сотни фунтовых упаковок ветчины и четыре дюжины бутылок шампанского «Монтебелло». Вы должны понимать, что наша экспедиция будет другой — три опытных альпиниста, идущих быстро, знающих, в каких местах искать вашего сына, и способных быстро подняться на гору, сделать свою работу и спуститься обратно. Для Дикона это длинная речь, и я не уверен, убедил ли он леди Бромли, пока она не нарушает молчание. — Я дам три тысячи фунтов на вашу экспедицию, — тихо произносит она. — Но при одном условии. Мы ждем. — Я хочу, чтобы с вами был кто-то из членов семьи, — говорит леди Бромли тоном, которого я еще от нее не слышал. Почти царственным, не допускающим возражений, одновременно мягким и решительным. — На счету Реджи, кузена Перси, не одна покоренная вершина в Альпах — вместе с ним и многими превосходными проводниками, о которых я уже упоминала, — и Реджи под силу дойти с вами по крайней мере до окрестностей горы Эверест — возможно, до третьего лагеря или какого-то другого, который вы разобьете на том ледяном гребне между горами. Разумеется, все решения относительно восхождения будешь принимать ты, Дики, но Реджи будет отвечать за всю экспедицию и за расходование средств — на шерпов, на продавцов яков в Кампа-дзонге и на все остальное, что вам потребуется. И кузен Реджи будет вести учет всем квитанциям, каждому потраченному фунту, каждому фартингу. Согласны? Дикон поворачивается, смотрит на нас с Жан-Клодом, и я понимаю, о чем он думает. Еще один новичок, вроде Перси… вероятно, замедлит наше продвижение или даже подвергнет опасности, если нам придется выручать его на леднике или ледяной стене Северного седла. Но тон леди Бромли не оставляет сомнений: без кузена Реджи не будет никакой экспедиции. И этот «кузен Реджи», очевидно, не будет сопровождать нас в высокогорных восхождениях. — Да, мэм, мы согласны, — говорит Дикон. — Мы с радостью объединим наши усилия с кузеном Перси, Реджи. Это освободит нас от необходимости следить за расходами — признаюсь, для меня это ужасное бремя. Леди Бромли внезапно встает, и мы трое поспешно вскакиваем. Она пожимает руку Дикону, потом Жан-Клоду и, наконец, мне. Я вижу, как ее темные глаза наполняются слезами, однако она берет себя в руки. — Как долго… — начинает леди Бромли. — Мы завершим экспедицию и предоставим вам полный отчет к середине лета следующего года, — говорит Дикон. — Я беру с собой небольшой фотоаппарат, но обещаю, что мы заберем с собой все, что сможем… личные вещи лорда Персиваля, одежду, письма… — Если его нет в живых, — перебивает леди Бромли абсолютно бесстрастным тоном. — Я убеждена, что он предпочел бы быть похороненным там, на горе. Но я была бы очень благодарна за несколько памятных вещей, о которых вы упоминали… как бы тяжело ни было на них смотреть… и фотографии. Мы дружно киваем. У меня нелепое ощущение, что я сам вот-вот расплачусь. И еще я чувствую вину. И радость. — Если же мой Перси жив, — леди Бромли кажется еще прямее и выше, — я хочу, чтобы вы привезли его домой, ко мне. Больше она не произносит ни слова — просто поворачивается и выходит из комнаты через потайную дверь в библиотеку. Прошло несколько секунд, прежде чем я сообразил, что с нами попрощались. И что Дикон добился того, что обещал нам, — финансирования экспедиции из трех человек (а теперь плюс одного бухгалтера) для восхождения на гору Эверест. Если мы найдем тело бедняги Перси, тем лучше. Если нет, то, возможно, покорим самую высокую вершину мира.
Поездка в экипаже до границы поместья кажется бесконечной. Бенсон, наш кучер с моржовыми усами, хранит молчание. Мы трое, сидящие в экипаже, тоже не разговариваем друг с другом. Но воздух вокруг нас словно пропитан эмоциями. Бенсон высаживает нас на засыпанной белым гравием площадке для машин — пустой, если не считать нашего открытого автомобиля с краю. Мы по-прежнему молчим. Внезапно Жан-Клод бросается бегом по бесконечному пространству стриженой травы за гравийной площадкой, издает громкий крик и проходится колесом четыре раза. Мы с Диконом смеемся и смотрим друг на друга с улыбками довольных идиотов — что в данный момент недалеко от истины. Но когда мы едем назад, сквозь мою радость и предвкушение экспедиции, о которой я не мог и мечтать, пробивается одна мысль: здесь, в центре 9400 акров красивейшей в мире местности, томится навеки разбитое сердце и непоправимо поврежденный разум. Сможем ли мы принести ей хоть каплю душевного покоя? Впервые за все время, пока мы строим планы — «заговор», как я это мысленно называю, — мне в голову приходит этот вопрос. И я понимаю, что должен был подумать об этом сразу же, как только мы стали обсуждать немыслимую экспедицию на Эверест в составе трех человек. Сможем ли мы принести леди Бромли хоть каплю душевного покоя? Чудесным летним днем, когда только что начавшие удлиняться тени падают на поля и пустое шоссе, мы едем в открытой машине, и я прихожу к выводу, что, наверное, сможем — подняться на гору, найти останки Перси Бромли, привезти что-нибудь, что угодно, оставшееся от этой смерти в горах, которое… Нет, не исцелит разбитое сердце леди Бромли, поскольку ей вскоре суждено потерять старшего сына, страдающего от последствий отравления горчичным газом, прилетевшим в английском снаряде восемь лет назад, а ее младший сын навеки сгинул на горе Эверест. Но, возможно, нам удастся немного успокоить ее, выяснив подробности, обстоятельства бессмысленной гибели лорда Персиваля Бромли на этой горе. Возможно. Сидящий за рулем Дикон улыбается, и Жан-Клод на переднем пассажирском сиденье тоже улыбается, склонив голову набок и ловя ветер, словно собака; я решаю присоединиться к их радости. Мы понятия не имеем, что нас ждет.
Если мы сможем найти останки лорда Персиваля, то, вне всякого сомнения, сможем найти Мэллори или Ирвина… или даже обоих.
* * *
В конце лета и осенью 1924 года в память о Мэллори и Ирвине отслужили множество заупокойных служб, но самая главная, наверное, состоялась 17 октября в соборе Св. Павла. Туда пускали только по приглашению, и из нашей маленькой группы его получил один Дикон. Он идет в собор, но нам почти ничего не рассказывает — однако лондонские газеты заполнены подробностями панегирика, произнесенного епископом Честера. Свою речь епископ заканчивает адаптированной библейской цитатой из плачевной песни царя Давида: «Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей». На следующий день Жан-Клод замечает, что если — а скорее всего, так и случилось — один из них упал первым при подъеме или спуске, то в последние минуты или часы они точно были разлучены. Во время епископского панегирика смерть лорда Персиваля и Курта Майера упоминалась лишь один раз — «мы помним и других, которые погибли на горе в том же месяце», — а леди Бромли летом и осенью не заказывала заупокойную службу по сыну (возможно, потому что она все еще верит, что он жив где-то на горе Эверест или на леднике Ронгбук внизу, и действительно верит, что мы трое найдем и вызволим его через год после его исчезновения). Леди Бромли убеждала Дикона начать экспедицию осенью 1924 года и попытаться провести «спасательную» операцию зимой, однако он убедил ее, что зима в Гималаях делает абсолютно недоступными и саму гору, и подходы к ней. В глубине души леди Бромли — даже несмотря на шок и временную неустойчивость психики — понимает, что наша экспедиция весной и летом следующего, 1925 года будет в лучшем случае попыткой поиска, а не спасения. Тем же вечером, 17 октября, состоялся прием в память Мэллори и Ирвина, на который Дикон приводит Же-Ка и меня, хотя народу было столько, что организаторам пришлось арендовать Королевский Альберт-холл. Королевское географическое общество и его Альпийский клуб устроили совместное собрание, чтобы «заслушать отчет об экспедиции 1924 года на гору Эверест». Сказать, что собравшиеся — в основном альпинисты и толпа репортеров — проявляют живейший интерес, значит ничего не сказать. Последним пунктом стоит отчет альпиниста, фотографа и геолога Ноэля Оделла — многие считали, что именно он, а не юный Ирвин, был партнером Мэллори в той последней попытке покорить вершину, — который рассказывает о своих попытках дождаться пропавших альпинистов в высокогорном лагере, а также о том, что он последний раз видел их со своего места между четвертым и пятым лагерями, когда небо ненадолго очистилось от облаков, хотя Оделл, похоже, временами путается — например, где именно он видел «две черные движущиеся точки», на снежном поле над «первой ступенью» вдоль Северо-Восточного гребня, над «второй ступенью», или даже над меньшей по размеру «третьей ступенью» и на «пирамиде снежных полей», подступающих к самой вершине. «Остается вопрос о том, — пишет в своем отчете Оделл, — была ли покорена вершина. Он должен быть оставлен без ответа, поскольку никаких прямых свидетельств нет. Но с учетом всех обстоятельств… и принимая во внимание место, где их видели в последний раз, я думаю, существует большая вероятность, что Мэллори и Ирвину сопутствовал успех. На этом я должен остановиться». Эти слова вызывают перешептывание и негромкие разговоры в толпе лучших английских альпинистов. Многие из них — даже некоторые из товарищей Мэллори и Ирвина по экспедиции — не верят, что свидетельства указывают на покорение вершины двумя смельчаками. Даже если Оделл не ошибся и действительно видел их, было уже поздно для успешной попытки восхождения — пришлось бы спускаться в темноте, — и в такой поздний час их кислородные баллоны были бы почти или совсем пустыми. Поэтому, по мнению большинства альпинистов мирового класса, собравшихся в тот вечер в Альберт-холле, Мэллори и Ирвин продвинулись слишком далеко и слишком поздно, попытались спуститься в темноте — возможно, так и не сумев приблизиться к вершине, — и оба сорвались и разбились насмерть на Северной стене той темной, ветреной и по-лунному холодной ночью где-то там, на высоте более 27 000 футов, а возможно, в непригодном для дыхания, разреженном, как на Марсе, воздухе, на высоте 28 000 футов. Но я помню, что отчет Оделла вызвал мощную волну возражений, когда тот закончил его словами, что, по его мнению, двое альпинистов умерли от переохлаждения. Дело в том, что «переохлаждение» — недостаточно благородная смерть для этих двух национальных героев, этих обычных людей, которые быстро превращались в английскую легенду; даже иностранные альпинисты, знавшие Мэллори и поднимавшиеся с ним в горы — люди, обладающие иммунитетом к патриотической лихорадке, охватившей Альберт-холл тем октябрьским вечером, — не верили, что он или, если уж на то пошло, Сэнди Ирвин были настолько глупы, чтобы умереть от переохлаждения. Большинство альпинистов, которых мы слышали после собрания, высказывали предположение, что один из двух пропавших — почти наверняка Ирвин — сорвался в пропасть, вероятно, во время спуска с вершины или высшей точки, на которую они поднялись в тот вечер, до захода солнца, возможно, в темноте, возможно, на самой Северной стене, в борьбе с сильным ветром, и, падая, потянул за собой товарища навстречу смерти. Даже официальный руководитель несчастливой экспедиции 1924 года Эдвард «Тедди» Нортон писал из базового лагеря: «Мне очень жаль, что Оделл включил в свой отчет этот фрагмент о переохлаждении». Обращаясь к «Комитету Эвереста», он прибавляет: «Остальные согласны, что скорее всего это было падение». Когда в тот октябрьский вечер мы пешком возвращаемся в гостиницу после собрания Альпийского клуба, Жан-Клод спрашивает Дикона: — Ри-шар, ты думаешь, Мэллори и Ирвин добрались до вершины? — Понятия не имею, — отвечает тот, не вынимая трубки изо рта. Аромат его табака оставляет след в холодном, влажном воздухе у нас за спиной. — Ты веришь, что они умерли от переохлаждения? — настаивает Же-Ка. — Или сорвались? Дикон вынимает трубку изо рта и смотрит на нас. Его серые глаза блестят в свете фонаря на углу. — В газетах и в «Альпийском журнале» просто нет достаточного количества информации от Оделла или еще кого-либо, кто там был, чтобы делать выводы о том, как и где они погибли. Нам троим нужно поговорить с Нортоном, Джоном Ноэлом, Оделлом, доктором Сомервеллом и другими моими друзьями, которые были членами весенней экспедиции. Затем следует поехать в Германию — в Мюнхен — и встретиться с этим альпинистом, Бруно Зиглем, который говорит, что он поднялся достаточно высоко по склону Эвереста и видел лавину, которая унесла Бромли и таинственного австрийца или немца по фамилии Майер. Согласны? Мы с Жан-Клодом переглядываемся. По глазам Же-Ка я вижу, что он ни за что не поедет со мной и Диконом в Германию. Немцы убили трех его братьев, и он давно поклялся, что ноги его не будет в этой стране. — Я знаю, Жан-Клод, — говорит Дикон, хотя Же-Ка не произнес ни слова. — И понимаю. Мы с Джейком можем поехать в Мюнхен в следующем месяце — в ноябре — и сообщить тебе, что этот Зигль рассказывает о смерти лорда Персиваля и того другого, Майера, а также какие подробности ему известны об исчезновении Мэллори и Ирвина. Только задержись в Лондоне, чтобы вместе с нами нанести визиты Нортону и остальным. — А если этот парень Зигль не знает никаких подробностей? — Мой голос звучит почти жалобно. — А если мы зря потратим время на поездку в Мюнхен в следующем месяце и ничего не узнаем о Мэллори и Ирвине или — что важнее для нашей миссии — о том, что случилось с Персивалем Бромли? — Ну, — произносит Дикон с хищной улыбкой, — тогда мы просто должны с марта по июнь следующего года пойти на Эверест и сами выяснить, что с ними случилось. Если мы сможем найти останки лорда Персиваля, то, вне всякого сомнения, сможем найти Мэллори или Ирвина… или даже обоих. Сухие ветры горы Эверест высушивают и мумифицируют труп гораздо эффективнее, чем верховные жрецы Древнего Египта.Лошади были убиты выстрелом в голову.
* * *
Наш разговор с членами экспедиции 1924 года на Эверест, полковником Эдвардом Ф. Нортоном, офицером медицинской службы Р.У.Дж. Хингстоном, доктором Теодором Говардом Сомервеллом, капитаном Джоном Б. Ноэлом и Ноэлем И. Оделлом — последние трое были близкими друзьями Дикона, — состоялся в октябре, после официального богослужения в память Мэллори и Ирвина. Эти бывшие руководители и члены экспедиции пришли в Альпийский клуб при Королевском географическом обществе на Кенсингтон-гор, 1, и нам предложили встретиться с ними в Комнате карт в субботу после полудня.Надеюсь, что они предупредили о нашем приходе, — говорю я, когда мы выходим из такси и пересекаем Кенсингтонский сад. Вечерние тени постепенно удлиняются, а громадный купол Альберт-холла нависает над кирпичным зданием географического общества. Солнце опускается за горизонт, и расцвеченные октябрем листья на бесчисленных деревьях парка по ту сторону бульвара словно вспыхивают огнем, ловя отраженный куполом свет. — Я член клуба, — отвечает Дикон. — Мы беспрепятственно попадем в Комнату карт. Мы с Же-Ка переглядываемся. Если не считать бюста Дэвида Ливингстона в нише стены, окружающей внутренний дворик, ничто не указывает на то, что для географов и путешественников это приземистое кирпичное здание является центром вселенной. Внутри у нас берут пальто и шляпы, а затем пожилой, седовласый мужчина во фраке и белом галстуке говорит: — Мистер Дикон. С возвращением, сэр. Мы уже давно не имели удовольствия видеть вас здесь. — Спасибо, Джеймс, — отвечает Дикон. — Если я не ошибаюсь, полковник Нортон и еще несколько человек ждут нас в Комнате карт. — Да, сэр. Собрание у них закончилось несколько минут назад, и пятеро джентльменов ожидают в Клубной комнате, примыкающей к Комнате карт. Вас проводить? — Спасибо, Джеймс, мы сами найдем дорогу. В широких коридорах с до блеска натертыми полами и стеклянными витринами хочется разговаривать только шепотом, как в церкви, но голос Дикона остается таким же громким, как снаружи. Комната карт очень красивая — стеллажи с книгами в кожаных переплетах, длинные столы с картами на деревянных распорках, большой глобус, на котором может балансировать акробат, катя его по Кенсингтонскому бульвару, — но не такая огромная, как рисовало мне воображение. Одну сторону помещения занимает один из многооконных портиков построенного в 1875 году здания, во встроенном в противоположную стену камине горит огонь. Когда мы подходим, Хингстон, Ноэл, Нортон, Сомервелл и Оделл встают, Дикон представляет нас с Же-Ка, и затем мы трое садимся в последние из восьми глубоких кожаных кресел, поставленных полукругом напротив камина. В окнах за нашей спиной свет заходящего солнца превратился в рассеянное золотистое сияние. Пока Дикон нас знакомит и мы обмениваемся рукопожатиями, я понимаю, что хотя раньше не видел никого из этих людей, но представляю, как они выглядят, — по опубликованным фотографиям их многочисленных экспедиций. Но на тех снимках почти у всех бороды — или по меньшей мере пышные усы, — а теперь они чисто выбриты, если не считать пары аккуратно постриженных усиков, так что на улице я, скорее всего, прошел бы мимо, не узнав этих людей. Полковник Эдвард Феликс «Тедди» Нортон необыкновенно высок — как я понимаю, по крайней мере на дюйм выше моих шести футов и двух дюймов, — и все в нем, от спокойных и уверенных манер до холодного взгляда, выдает военного, который давно привык командовать. 37-летний доктор Ричард Хингстон отличается хрупким телосложением — он не альпинист (в последней экспедиции 1924 года он выполнял обязанности врача и биолога), — но мне известно, что он поднялся в четвертый лагерь на Северном седле, чтобы оказать помощь пораженному снежной слепотой Нортону и другим пациентам, которые там застряли. Во время войны он служил врачом во Франции, Месопотамии и Восточной Африке и был награжден за храбрость Военным крестом. Может, Хингстон и не альпинист, но я смотрю на него с огромным уважением. Теодор Говард Сомервелл — друзья называют его Говардом, и Дикон так и представил его нам — тоже хирург и бывший миссионер, но внешность у него как у портового грузчика. Дикон рассказывал нам, что Сомервелл фактически не вернулся в Англию после экспедиции на Эверест в 1922 году, а предпочел жить и работать в медицинской миссии в Нейяуре на юге Индии. Он приехал в Лондон лишь для того, чтобы почтить память Мэллори и Ирвина и присутствовать на собраниях и приемах Альпийского клуба и Королевского географического общества. Сомервелл — красивый мужчина, даже без густой темной бороды, которой он щеголяет на снимках из Тибета, а его вьющиеся волосы, дочерна загорелое лицо, выразительные черные брови и вспышки белозубой улыбки придают ему щегольской вид. Однако он не таков. Дикон почти никогда не рассказывал о том, что ему пришлось пережить на войне, но однажды ночью, когда в прошлом году мы разбили лагерь высоко в горах, заметил, что Сомервелл — его близкий друг — превратился в убежденного, почти фанатичного пацифиста после того, как в первое утро битвы при Сомме вместе с тремя другими хирургами оперировал в медицинской палатке тысячи раненых солдат, многие из которых были смертельно ранены и понимали это. Дикон сказал, что Сомервелл говорил с сотнями людей, которые лежали снаружи на окровавленных носилках или плащ-палатках; каждый, вне всякого сомнения, знал, что промедление с медицинской помощью будет стоить им жизни, но ни один раненый не попросил помочь ему первому. Ни один. Я пожимаю Сомервеллу руку — мозолистую руку хирурга, смотрю в его ясные глаза и размышляю над тем, может ли подобный опыт мгновенно превратить просто чувствительного человека в пацифиста. Дикон также рассказывал, что Сомервелл глубоко верующий христианин, но ни в коем случае не догматик. «Единственная проблема с христианством, — сказал Сомервелл Дикону, когда они делили двухместную палатку на заснеженном высокогорном перевале во время экспедиции 22-го года, — заключается в том, что оно никогда по-настоящему не применялось». Капитан Джон Ноэл — худой мужчина с морщинистым лицом и глубоко посаженными глазами, в которых словно застыла тревога. Возможно, на это есть причина: Ноэл оплатил экспедицию 1924 года, 8000 фунтов, в обмен за права на все киносъемки и фотографии — он доставил специально сконструированные фотоаппараты и кинокамеры на самое Северное седло, чтобы снимать общие планы и альпинистов, предположительно Мэллори и Ирвина, поднимающихся на вершину Эвереста, — и даже предыдущей весной привез в базовый лагерь полноценную фотолабораторию, разместив ее в отдельной палатке. Он платил посыльным, которые доставляли проявленные снимки от Эвереста в Дарджилинг, откуда их пересылали в ведущие лондонские газеты. Теперь Ноэл монтирует свой фильм «Поэма об Эвересте», но из-за того, что облака закрыли — по крайней мере, с Северного седла, Мэллори и Ирвинга в последние минуты их жизни, — то, как говорили злые языки, у капитана Ноэла не оказалось удовлетворяющей его концовки. Он каким-то образом ухитрился привезти с собой в Лондон труппу танцующих лам из тибетского монастыря — не монастыря Ронгбук в окрестностях горы Эверест, а другого, — чтобы оживить свои сеансы, но это намерение, а также «ужасные сцены, в которых тибетцы едят вшей» из его будущего фильма, по всей видимости, уже вызвали дипломатические проблемы. Если картина Ноэла не станет громадным хитом здесь, в Англии, а также в Америке, то бедняга потеряет большую часть из вложенных 8000 фунтов. Разглядывая Оделла, я понимаю, что в тот осенний вечер 1924 года у него есть веская причина выглядеть обеспокоенным и рассеянным. Именно капитан Джон Оделл получил записку от Джорджа Мэллори, однако последним, кто, как полагают, видел Мэллори и Ирвина живым, был геолог и альпинист, близкий друг Дикона, Ноэль И. Оделл. Он был один в четвертом лагере в ночь перед тем, как Мэллори и Ирвин предприняли попытку восхождения из своей ненадежной палатки в шестом лагере, и один поднялся в шестой лагерь на следующий день, который должен был стать благоприятным для восхождения. Именно Оделл в 12:50 вскарабкался на 100-футовую скалу на высоте 26 000 футов и, как он писал вечером в своем дневнике, «видел на гребне М. и И., приближающихся к основанию последней пирамиды». Но их ли он видел? Уже теперь, всего через несколько дней после поминальной службы по Мэллори и Ирвину и многолюдного собрания Альпийского клуба, взбудоражившего всю Англию, альпинисты — и даже другие члены той экспедиции — высказывали сомнения относительно того, что видел Оделл. Могли ли Мэллори и Ирвин уже в 12:30 подниматься на так называемую третью ступень, так что их силуэты были видны на фоне последней снежной пирамиды, как утверждал Оделл? Возможно, но сомнительно. Скорость их подъема в этом случае должна была быть очень большой, даже с кислородными масками. Некоторые возражают, что Оделл, наверное, видел их на «второй ступени». Нет, утверждают другие специалисты, не подходившие к Эвересту ближе 5000 миль, так рано Мэллори и Ирвин могли проходить только «первую ступень». Должно быть, Оделл ошибается, хотя фотографии и карты местности свидетельствуют, что высокие гребни и громада горы заслоняли вид на первую ступень с его наблюдательного пункта на скале. Облака расступились всего на минуту, позволив увидеть две карабкающиеся вверх человеческие фигурки — если это вообще были человеческие фигурки, а не «просто камни на снежном поле», как утверждают многие альпинисты, — а затем сомкнулись, закрывая обзор. Мы все рассаживаемся, и когда еще один слуга во фраке и белом галстуке принимает наши заказы на напитки, полковник Нортон нарушает молчание: — Рад видеть тебя, Ричард. Жаль, но у нас есть только двадцать минут до начала официального ужина Альпийского клуба. Поскольку ты член Королевского географического общества и принимал участие в экспедиции, мы всегда найдем для тебя место… Дикон отмахивается от предложения. — Я неподобающе одет для такого случая, да и вряд ли это будет уместно. Нет, мы с друзьями только хотели бы задать вам, джентльмены, несколько вопросов, а затем мы уйдем. Приносят напитки: виски, чистый и янтарный, восемнадцатилетней выдержки, в бокалах для хереса. По телу разливается тепло. Мои руки не дрожат, но я понимаю, что вполне могли бы. И еще я понимаю, что, наверное, больше никогда не окажусь в этом благородном обществе лучших альпинистов мира. Должно быть, это и есть причина моей скованности. Меня не пугает попытка покорить Эверест, но мне почти страшно сидеть в присутствии этих людей, которые стали знаменитыми, пытаясь это сделать и потерпев неудачу. — Полагаю, о Мэллори и Ирвине? — обращается Нортон к Дикону довольно прохладным, как мне показалось, тоном. Сколько раз за последние четыре месяца этим людям задавали вопросы о пропавших «героях»? — Вовсе нет, — отвечает Дикон. — Летом я нанес визит леди Бромли и обещал ей помочь выяснить все подробности об исчезновении ее сына. — Молодого Персиваля Бромли? — спрашивает кинорежиссер Ноэл. — Чем, черт возьми, мы можем ей помочь? Ты же знаешь, Ричард, Бромли был не с нами. — У меня сложилось впечатление, что он вместе с вами шел от Дарджилинга до Ронгбука. — Дикон делает глоток виски. С моего места виден его орлиный профиль, освещенный пламенем камина. — Не с нами, Ричард, — возражает Говард Сомервелл, — а за нами. Самостоятельно. Только он, на тибетской лошади, и его снаряжение на одном муле. Всегда в дне или двух пути позади. Он догонял нас и приходил к нам в лагерь… сколько раз, Джон? — Сомервелл обращается к режиссеру. — Три? — Думаю, всего два, — говорит Ноэл. — Первый раз в Кампа-дзонге, где мы провели три ночи. Последний раз в Шекар-дзонге, перед тем, как мы повернули на юг, к монастырю Ронгбук и леднику. В Шекар-дзонге у нас было две ночевки. Похоже, молодой Бромли нигде не проводил больше одной ночи. У него была простая палатка Уимпера, одна из самых маленьких и легких. — Значит, по пути он вас не обгонял? — спрашивает Жан-Клод; он явно наслаждается виски. — Я хочу сказать, если в некоторых местах вы проводили несколько ночей, а Бромли останавливался всего на одну… — В самом деле, — усмехается Хингстон. — Я понял, о чем вы. Нет… Бромли, похоже, отклонялся от маршрута. Например, на юг вдоль реки Йяру Чу, после того, как мы провели две ночи у Тинки-дзонга. Возможно, чтобы взглянуть на гору Эверест оттуда, с невысоких гор. В любом случае, когда мы прибыли в Шекар-дзонг, он снова был позади нас. — Очень странная вещь, — говорит полковник Нортон. — Когда молодой лорд Персиваль приходил к нам, то приносил свою еду и напитки — оба раза. Не принимал нашего гостеприимства, хотя, Бог свидетель, у нас было достаточно еды, чтобы в конце оставить после себя целую тонну консервов. — Значит, у него было достаточно провизии? — спрашивает Дикон. — На недельный поход поЛинкольнширу, — замечает Джон Ноэл. — Но не для одиночной экспедиции в Тибет. — Как он мог путешествовать один, без официального разрешения от тибетского правительства? — Я слышу свой голос и чувствую, как кровь приливает к щекам, теплая, словно виски в желудке. Я не собирался сегодня говорить. — Хороший вопрос, мистер Перри, — говорит полковник Нортон. — Мы сами удивлялись. Тибет — довольно варварская страна, но местные дзонгпены — племенные вожди и старосты деревень, — а также правительство выставляют посты охраны и солдат, особенно на высокогорных перевалах, которые невозможно обойти. Охрана проверяла там наши документы, и поэтому я должен предположить, что у лорда Персиваля было официальное разрешение — возможно, полученное через губернатора Бенгалии. Плантация Бромли в окрестностях Дарджилинга — теперь Бромли-Монфор — давно установила добрые отношения с тибетцами и всеми правителями Бенгалии и Сиккима. — Я один или два раза ездил в лагерь лорда Персиваля, — вступает в разговор Ноэль Оделл. — В самом начале экспедиции, сразу после того, как мы вошли в Тибет через перевал Джелеп Ла. По всей видимости, молодой Персиваль получал огромное удовольствие от одиночества — он был достаточно дружелюбен, но не слишком гостеприимен, когда я однажды сел у его очага. Понимаете, я беспокоился о его здоровье — у многих из нас к тому времени уже была дизентерия или начиналась горная апатия, — но Бромли, похоже, прекрасно себя чувствовал. При каждой нашей встрече он выглядел здоровым и бодрым. — А он следовал за вами от Шекар-дзонга до базового лагеря у подножия ледника Ронгбук? — спрашивает Дикон. — О нет, — отвечает полковник Нортон. — Бромли продолжал движение на запад, прошел миль двенадцать или пятнадцать к Тингри, после того как мы повернули на юг к Эвересту. Больше мы его не видели. У меня сложилось впечатление, что он намеревался исследовать местность дальше на запад и север, за Тингри. Понимаешь, Ричард, большая часть этого района практически не изучена. Сам Тингри — это устрашающе примитивный бывший тибетский форпост на вершине горы. Насколько я помню, ты был тогда с нами, в двадцать втором, когда все изо всех сил пробивались к Тингри-дзонгу. — Да, — говорит Дикон, однако этим и ограничивается. — Кроме того, когда мы встречались с юным Бромли на семейной чайной плантации, у меня сложилось впечатление, что он собирался в Тибет, чтобы с кем-то встретиться. Похоже, у него было достаточно провианта и снаряжения, чтобы попасть на место рандеву где-то за Шекар-дзонгом. — А как насчет альпинистского снаряжения? — спрашивает Дикон. — Бруно Зигль сообщил немецкой прессе, что лорд Персиваль и еще один человек погибли под лавиной на Эвересте. Кто-нибудь из вас видел альпинистское снаряжение у лорда Персиваля? — Веревки, — говорит Нортон. — Хорошая веревка в Тибете всегда пригодится. Но ее недостаточно для попытки подняться на Эверест… и недостаточно провианта, палаток, примусов и всего остального, что ему могло бы потребоваться, чтобы подняться до третьего лагеря, не говоря уже о Северном седле… и гораздо, гораздо меньше, чем огромное количество снаряжения, которое понадобилось бы для выхода к пятому лагерю или даже на стену. — Этот Бруно Зигль… — начинает Дикон. — Лжец, — перебивает его полковник Нортон. — Извини, Ричард. Я не хотел быть грубым. Просто все, что Зигль сказал прессе, — полная чушь. — То есть вы никогда не видели Зигля или других немцев, включая этого предполагаемого австрийца Майера, который якобы погиб вместе с Персивалем? — спрашивает Дикон. — Никогда не слышал и намека, что какие-то немцы находились в радиусе тысячи миль от нас, пока мы были на горе или леднике, — говорит полковник Нортон. На его острых скулах проступают красные пятна. Я невольно думаю, что порция виски, которую он допивает, не первая за этот вечер. Причина румянца либо в этом, либо в том, что сама мысль, что немцы были где-то поблизости, пока они пытались в этом году покорить Эверест, непереносима для Нортона и приводит его в ярость. — Признаю, что я в некоторой растерянности, — говорит Дикон. — Последние члены вашей группы покинули базовый лагерь… когда? Шестнадцатого июня, через восемь дней после исчезновения Мэллори и Ирвина, так? — Да, — подтверждает Оделл. — Мы задержались, чтобы дать отдых выбившимся из сил альпинистам, а также сложить пирамиду из камней в память о Джордже и Сэнди — а также носильщиков, которых мы потеряли в двадцать втором году, — и последние из нас вышли в долину Ронгбук к полудню шестнадцатого июня. Мы все были в плохой форме, кроме меня, что довольно странно: у полковника Нортона последствия снежной слепоты, и у всех обморожения, усталость, постоянные приступы высотной болезни, головные боли. Всех мучил кашель. — Этот кашель меня едва не убил на горе, — замечает Говард Сомервелл. — В любом случае, мы уходили несколькими группами, в большинстве своем инвалиды, и большинство отправилось с полковником Нортоном, чтобы исследовать долину Ронгшар у подножия Гаришанкара, где еще никто никогда не был, — мы имели на это разрешение — и восстановить силы в течение десяти дней на небольшой высоте перед трудной обратной дорогой. — Я должен был привезти свой фильм и поэтому направился прямиком в Дарджилинг вместе с носильщиками и мулами, — говорит капитан Ноэл. — Джон де Вер Хазард, наш главный картограф, хотел закончить съемку, начатую твоей экспедицией двадцать первого года, Ричард, — говорит полковник Нортон. — Мы разрешили ему в течение нескольких дней сопровождать Хари Синг Тапу из Индийской геологической службы в регион Восточного Ронгбука. Мы попрощались с ними, и они с несколькими носильщиками направились на запад — шестнадцатого июня, когда большинство пошли на север и восток. — А у меня был свой маршрут, — замечает Оделл. — Я хотел еще немного заняться геологией. Остальные четверо знаменитостей рассмеялись. Геологическое рвение Оделла на Эвересте, на высоте более 27 000 футов, похоже, стало предметом для шуток среди этих серьезных альпинистов, оставшихся в живых. — Я сказал Оделлу, что на обратном пути он может совершить свое маленькое путешествие в сотню миль, если возьмет с собой нашего начальника транспорта, и.о. Шеббера, — говорит Нортон. — В горах Тибета много бандитов. Шеббер, по крайней мере, немного говорит по-тибетски. Оделл смотрит на полковника. — И Шеббер неделей позже признался мне, что вы, Эдвард, предупреждали его, что после окончании нашего маленького путешествия больше не желаете меня видеть. Убежден, что он точно процитировал ваши слова: «Мой дорогой Шеббер, возможно, вам захочется больше никогда не видеть Оделла». Полковник Нортон опускает взгляд в свой бокал, и два розовых пятна на его скулах становятся ярко-красными. — Но мы с Шеббером наслаждались каждым днем наших геологических изысканий, — продолжает Оделл. — И наша дружба еще больше окрепла. Благодаря этим десяти дням отдыха, которые были у основной партии в долине Ронгшар в тени хребта Гаришанкар, мы догнали их как раз по прибытии в Дарджилинг, перед тем как Хазард отправился назад с Хари Синг Тапой и носильщиками, которых они взяли с собой, на Западный Ронгбук для картографической съемки. Дикон достает из кармана жилета часы, смотрит на них и говорит: — Остается несколько минут, прежде чем вам всем нужно будет идти на ужин, друзья мои. И я признаю, что мы совсем потеряли след лорда Персиваля, не говоря уже о немцах — Майере и Зигле. Сообщение о гибели лорда Персиваля — и этого неизвестного Майера — в горах опубликовано в «Таймс» на той же неделе, что и полный отчет о случившемся с Мэллори и Ирвином. Я считал, что вы отправили это сообщение из Дарджилинга. Если вы не видели Бромли после двадцать второго апреля, когда ваша экспедиция повернула на юг к Эвересту, а Бромли продолжил путь к Тингри, тогда как… — Мы приносим свои извинения, Ричард, — перебивает полковник Нортон. — Это довольно-таки запутанная история, но именно так мы узнали о смерти Бромли. Позволь объяснить. Когда Джон Хазард и Хари Синг Тапа приближались к Западному Ронгбуку, предмету своих исследований, религиозные паломники рассказали им (их слова перевел Хари Синг Тапа), что два английских сахиба в Тингри — один по имени Бромли и «другой не говорящий по-английски сахиб» по имени Майер — наняли шесть яков и вместе с ними направились на юг, потом на восток вдоль реки Чобук, а потом снова на юг к леднику Ронгбук и Джомолунгме. — Тибетцы прямо сказали, что Бромли и этот Майер вместе направлялись к горе Эверест? — Дикон допивает виски и аккуратно ставит пустой бокал на плетеный столик рядом со своим креслом. — Именно так, — кивает полковник Нортон. — Два других паломника — все они направлялись в монастырь Ронгбук — рассказали Хазарду и Хари Синг Тапе то же самое, когда они возвратились назад, к перевалу Панг Ла и Шекар-дзонгу. Однако они прибавили, что на следующий день после того, как Бромли и Майер покинули Тингри, туда пришли еще семь «не говорящих по-английски английских сахибов», которые тут же оставили деревню и направились на юго-восток, словно по следам Бромли. — Очень странно, — замечает Дикон. — Более того, — продолжает Нортон. — Хазард и Хари сами видели Бромли и Майера. И семерых людей, следовавших за ними. — Где теперь Джон Хазард? — спрашивает Жан-Клод. Джон Ноэл неопределенно разводит руками. — Полагаю, где-то в Индии, делает картографические съемки для правительства. — А Хари Синг Тапа? — интересуется Дикон. — Тоже занимается картографическими работами в Индии, — отвечает полковник Нортон. — Но отдельно от Джона. — Вы можете рассказать, что именно видел Хазард? — спрашивает Дикон. Слово берет доктор Хингстон. Я чувствую, как еще сильнее напрягаются мышцы спины и шеи — несколько минут, которые согласились уделить нам эти люди, скоро истекут, а мы не получили никакой достоверной информации. — Хазард и Хари направлялись на северо-восток и только начали подниматься по древней торговой тропе к Панг Ла, когда Хари — у него было более острое зрение — сказал, что видит две группы всадников, двигающиеся на юг. До всадников было несколько миль, но погода стояла ясная — Хазард сказал, что они могли видеть гору Эверест, курящуюся сильнее, чем когда-либо, так что облачный шлейф тянулся над вершинами миль на тридцать к востоку от нашей горы. Хазард и Хари свернули к ближайшему склону, и Джон взял полевой бинокль, чтобы рассмотреть все как следует. Дальняя группа состояла из двух человек — Джон сказал, что, вне всякого сомнения, узнал лошадь Бромли и мула, которого тот купил в Дарджилинге, но теперь у Бромли и его нового товарища были еще шесть яков — а довольно далеко от них, часах в пяти или семи езды, двигались семь человек на более крупных лошадях. Либо на настоящих верховых лошадях, либо — как назвал их Хари — этих больших лохматых монгольских пони. — Это выглядело как преследование? — спрашивает Дикон. — Хазарду это показалось очень странным, — говорит Нортон. — Когда они догнали нас в Дарджилинге, он рассказывал, что потом подумал, что им с Хари Синг Тапой следовало повернуть на юг и узнать, что, черт возьми, там происходит — не собирается ли Бромли и следующие за ним люди посягнуть на нашу гору. Но из-за картографических съемок Хазард и так уже отставал от нас на несколько дней. Он хотел догнать нас до прибытия в Калькутту, и в конечном итоге они с Хари повернули на север, к перевалу Панг Ла. — Какого числа они видели всадников? — уточняет Дикон. — Девятнадцатого июня. Всего через три дня после того, как наша группа разделилась на выходе из долины ледника Ронгбук. — Все это очень увлекательно, — замечает Дикон, — но никак не подтверждает сообщение, что лорд Персиваль погиб под лавиной на горе Эверест. Полагаю, вы получили дополнительную информацию из какого-то другого надежного источника? — Получили, — подтверждает Оделл. — Когда мы с Шеббером завершали нашу довольно приятную геологическую экспедицию и направлялись на север, к главному проходу на восток, то встретили трех шерпов, которые сопровождали нас на гору Эверест, опытных высокогорных носильщиков. Возможно, по экспедиции двадцать второго года вы помните одного из них, который лучше всех говорил по-английски… Иемба Чиринг, но все почему-то звали его «Ками». — Я очень хорошо помню Ками, — говорит Дикон. — Он таскал тяжелые грузы в пятый лагерь… без кислородной маски. — Совершенно верно, — кивает Оделл. — И он был таким же надежным во время экспедиции этого года, окончившейся так печально. Но мы с Шеббером очень удивились, когда снова повернули на северо-восток и встретили Ками и двух его не говорящих по-английски двоюродных братьев, Дасно и Нему. Они так спешили, что буквально хлестали своих маленьких тибетских лошадок… вам известно, что шерпы редко так обращаются с животными. Они вернулись на ледник Ронгбук, а теперь бежали, словно спасаясь от смерти. — Какого числа это было? — спрашивает Дикон. — Двадцать второго июня. Полковник Нортон прочищает горло. — Ками и его кузены пошли назад вместе с нами, но попросили разрешения отделиться от основной группы. Я позволил, полагая, что они самостоятельно пойдут домой. Очевидно, они собирались вернуться в базовый лагерь… а может, и в верхние лагеря. — С какой целью? — спрашивает Жан-Клод. — Могу ли я предположить… уборку мусора? Нортон хмурится. — Вполне возможно. Хотя мы не оставили после себя ничего ценного, если не считать таковым запасы ячменя и консервов в разных лагерях. — Впоследствии Ками убеждал меня, что они случайно оставили там какой-то религиозный талисман, — говорит Оделл. — Он подумал, что забыл талисман в базовом лагере или прикрепленным к одной из каменных стен сангха во втором лагере. Говорил, что не может без него вернуться к семье и в деревню. Я ему поверил. — И что, по его словам, они видели? — спрашивает Дикон. Я тайком бросаю взгляд на часы. Остается не больше трех минут, прежде чем эти уважаемые альпинисты должны будут отправиться на официальный прием, устраиваемый Королевским географическим обществом в этом же здании. Оглянувшись, я вижу, что фонари на пересечении Экзибишн-роуд и Кенсингтон-роуд уже горят. Октябрьский вечер уже опустился на город. — Ками рассказал, что вместе с двоюродными братьями вернулся в наш старый базовый лагерь двадцатого июня, — говорит Оделл. — Они обыскали лагерь, но талисмана там не было. Однако они нашли там то, что повергло их в недоумение… семь хромых монгольских лошадей, пасущихся ниже памятной пирамиды из камней, ниже озерца из талой воды, где растет немного той жесткой травы. — И никто не приглядывал за лошадьми? — спрашивает Дикон. — Ни души, — подтверждает Оделл. — А чуть дальше в долине, до начала лабиринта из ледяных шпилей, они наткнулись на палатку Уимпера, принадлежавшую лорду Персивалю — ту самую, в которой он спал каждую ночь, когда мы видели его во время перехода, Ками ее сразу узнал — и двух мертвых тибетских пони. Лошади были убиты выстрелом в голову. — Застрелены! — вырывается у Жан-Клода. Оделл кивает. — Ками рассказал нам, что он и его младшие братья встревожились. Нема не хотел ни идти дальше, ни оставаться рядом с мертвыми лошадьми, и поэтому Дасно повел его назад, к базовому лагерю, а Ками продолжил подъем по леднику ко второму лагерю. Он говорит, что должен был найти талисман. И еще он удивлялся и немного беспокоился за Бромли, который был добр к нему, когда приходил к нам в лагерь во время перехода. — А он больше не видел Бромли? — спрашиваю я. — Нет, — отвечает Оделл. — Ками нашел свой талисман — между камнями сангха, которую они построили во втором лагере, именно там, где и предполагал. — Что такое сангха? — интересуется Жан-Клод. Ему отвечает Дикон: — Каменные стены, которые мы вместе с носильщиками строим в первом лагере и выше. Они окружают наши палатки и не дают вещам улететь, если поднимается ветер. Носильщики часто спят внутри сангха, на подстилке, под брезентовой крышей, держащейся на шесте. — Дикон поворачивается к Оделлу. — Что видел Ками? Оделл трет щеку. — Ками признался нам, что нужно было повернуть назад и догонять кузенов, как только он нашел талисман, но любопытство взяло верх, и он стал подниматься к третьему лагерю. — Наверное, это было опасно — принесенный муссоном снег скрыл трещины, — говорит Жан-Клод. — Странное дело, — замечает полковник Нортон. — Мы думали, муссон развернется во всю силу в первую неделю июня… и действительно, несколько дней перед последней попыткой Мэллори и Ирвина было несколько сильных снегопадов. Но шестнадцатого июня, когда мы двинулись в обратный путь, муссон еще не пришел на Ронгбук — а по словам вернувшегося Ками, и двадцатого июня тоже. Немного снега, очень сильный ветер, но это не настоящий муссон. Он разыгрался только после нашего возвращения в Дарджилинг. Очень странно. — Ками сказал, что когда он был во втором лагере, задолго до того, как преодолел последние четыре мили по леднику через поле высоких кальгаспор, он слышал нечто вроде грома, и этот звук доносился с верхней части горы, над Северным седлом, — говорит Оделл. — Грома? — переспрашивает Дикон. — Ками показалось это очень странным, — продолжает Оделл, — потому что день был ясным — яркое голубое небо, хорошо различимая снежная шапка на вершине Эвереста. Но, по его словам, звук был похож на гром. — Лавина? — предполагает Же-Ка. — А может, эхо от пистолетного или ружейного выстрела? — прибавил Дикон. Нортон, похоже, удивился этому предположению, но Оделл кивает. — Ками провел ночь на леднике, а в утреннем свете увидел новые палатки на месте нашего третьего лагеря и другие палатки на уступе Северного седла, где мы разбивали четвертый лагерь. Он также сказал, что видел три фигуры высоко на склоне горы, над тем местом, где Северо-Восточный гребень соединяется с Северным гребнем. По его словам, далеко на западе, между первой ступенью и второй ступенью… где находится валун. Этот валун формой похож на гриб. Три крошечные фигурки остановились у того камня, а потом вдруг осталась только одна фигурка. Через несколько часов он наблюдал, как люди спускались по отвесной ледяной стене Северного седла, используя веревочную лестницу, которую сплел Сэнди Ирвин. По его мнению, их было четверо или пятеро. — Даже шерпа с его острым зрением не способен без полевого бинокля различить фигурки людей на таком расстоянии, — задумчиво произносит Дикон. — Да, конечно, — с улыбкой говорит полковник Нортон. — Ками признался, что «позаимствовал» добрый цейссовский бинокль в одной из пустых немецких палаток третьего лагеря. — Вы оставили веревочную лестницу Ирвина? — спрашивает Дикон Нортона. — Она все еще там, на ледяных утесах Северного седла? — Мы собирались снять ее, поскольку она была опасной, потертой и изношенной, — отвечает полковник. — Но в конце концов выяснилось, что это слишком хлопотно, а некоторые считали, что она продержится до нашей следующей экспедиции, и мы оставили ее на месте. И, честно говоря, отчасти в память о Сэнди. Дикон кивает. — Я понимаю, вам уже пора, но что такого вам рассказал Ками, что заставило вас сообщить о смерти лорда Персиваля, свидетелем которой был некто Бруно Зигль из Германии? Оделл прочищает горло. — Ками испугался грома, но остался поблизости от третьего лагеря в этот второй день, чтобы посмотреть, что за люди спускаются с ледника — надеялся, что это Бромли, — но когда он уже отчаялся ждать и решил уйти, кто-то приказал ему остановиться — по-английски, но с сильным акцентом. У кричавшего человека в руке был пистолет. Ками считает, что это был «люгер». Ками остановился. — Пистолет на горе Эверест, — шепчет Жан-Клод. Я слышу отвращение в его голосе. И полностью разделяю его чувства. — По крайней мере, вот ответ на вопрос, кто застрелил пони Бромли и Майера, — предполагаю я. Дикон качает головой. — Животные могли охрометь. Возможно, Бромли и Майер их сами застрелили, рассчитывая спуститься к Тингри или Шекар-дзонгу с яками. — Как бы то ни было, бедняга Ками подумал, что его пристрелят за проникновение в палатку и кражу цейссовского бинокля, — продолжает Оделл. — По его словам, он надеялся лишь на то, что двоюродным братьям хватит смелости отыскать его тело и похоронить здесь же, в расселине, соблюдая установленный обряд. Но немец с «люгером» спросил по-английски — Ками довольно долго жил в Калькутте и мог узнать немецкий акцент, — кто он такой. Ками ответил, что он шерпа из экспедиции Нортона и Мэллори и что он вместе с другими вернулся забрать забытые вещи и его ждут. «Сколько вас?» — спросил немец. Девять, — солгал Ками. — Включая двух сахибов, которые ждут в монастыре Ронгбук. — Умный парень, — замечает Дикон. — В любом случае, немец убрал пистолет, назвался европейским исследователем Бруно Зиглем, который занимается рекогносцировкой вместе с двумя товарищами — в это Ками не поверил, потому что видел семь монгольских лошадей и четыре или пять человек на веревочной лестнице Ирвина, — и что он, Зигль, видел, как двадцать часов назад Бромли и сопровождавшего его австрийца по имени Курт Майер накрыла лавина. У Ками хватило самообладания спросить, где погиб сахиб Бромли, и Зигль ответил, что это случилось на склоне горы выше четвертого лагеря, на Северном седле. Ками сказал, что очень опечален этой новостью — и действительно, он плакал в присутствии Зигля, отчасти, как он сам признался, потому что знал, что немец лжет ему насчет места гибели Бромли, и думал, что его самого, скорее всего, застрелят. Но Зигль просто махнул рукой, чтобы тот уходил, и сказал держаться подальше от Ронгбука. Ками послушался, — завершает рассказ Оделл, — и буквально съехал вниз по опасным языкам ледника, пока не догнал Нему и Дасно. Двоюродные братья принялись нахлестывать своих пони, чтобы оказаться как можно дальше оттуда, и ехали всю ночь, пока не наткнулись на нас с Шеббером, когда мы направлялись на север, к торговым путям. — Таким образом, в нашем первом полном отчете об экспедиции в «Таймс» из Дарджилинга мы высказали предположение о несчастном случае и гибели Бромли, — говорит полковник Нортон. — Не прошло и двух дней, как мы сели на поезд и отбыли в Калькутту, в Дарджилинге объявился сам Зигль и телеграфировал свою версию гибели Бромли немецкой «Фёлькишер Беобахтер». — Это одна из правых газет, так? — спрашивает Жан-Клод. — Да, — отвечает Говард Сомервелл. — Газета национал-социалистической партии. Но Зигль — известный немецкий альпинист, и историю почти сразу перепечатал «Шпигель», потом «Берлинер тагеблатт» и «Франкфуртер цайтунг». Рассказ Зигля был практически дословно повторен «Таймс» меньше чем через день после нашего первого, краткого сообщения — и включен в наш отчет, хотя, честно говоря, это мне не очень нравится. Нортон и остальные кивают. — Но у вас есть свидетельства Хазарда, Хари Синг Тапы, тибетских паломников и Ками, которые подтверждают, что Бромли дошел до Эвереста и начал восхождение, — отвечает Дикон. — Вряд ли я могу дать какую-то надежду или утешить леди Бромли, предположив, что сообщения о его исчезновении на горе — это ошибка. — Вероятно, — говорит Говард Сомервелл, — но все это чертовски странно. Оставляет неприятный осадок, не так ли? Мы все знаем Бруно Зигля — он уже много лет является известным немецким альпинистом, но, насколько я знаю, никогда не был исследователем. А как насчет Курта Майера? Почему Бромли выбрал именно этого немца или австрийца для попытки покорения Эвереста, даже первого этапа? Полковник Нортон пожимает плечами. — Альпийский клуб связался с немецкими и австрийскими клубами альпинистов, но они сообщили, что в их списках нет человека по имени Курт Майер. Это странно. Затем мы жмем друг другу руки, и прощание выглядит гораздо сердечнее, чем знакомство. Снаружи северный ветер дует поперек широкой улицы от Кенсингтонского сада. Он несет с собой аромат зелени и еще не увядших цветов, но его перебивает более резкий, печальный запах опавших, гниющих листьев. Не очень приятный запах осенней смерти. Облака низко нависают над городом, и я чувствую, что скоро пойдет дождь. — Нам лучше взять кеб, — говорит Дикон. Всю дорогу до гостиницы никто из нас не произносит ни слова.
Дурацкое место, чтобы оставлять трубку.
* * *
После октябрьских поминальных служб, отчетов Альпийского клуба и нашего разговора с Нортоном, Сомервеллом, Ноэлом, Оделлом и Хингстоном, но еще до нашей ноябрьской поездки в Мюнхен мы с Жан-Клодом выражаем желание начинать сборы на Эверест. Дикон нас отговаривает. Говорит, что, прежде чем планировать снаряжение и логистику для такой экспедиции, нужно сделать две вещи. Во-первых, утверждает он, мы должны как можно больше узнать о Джордже Мэллори — нечто важное о трудной задаче восхождения на Эверест, которая стоит перед нами, — а для этого нужно поехать в Уэльс. (Я ничего не знаю об Уэльсе, за исключением того, что у них в языке нет гласных. Неужели всех гласных?.. Ничего, скоро выясню.) До нашей с Диконом поездки в Германию остается еще несколько недель. Он договорился о встрече с Бруно Зиглем в Мюнхене в ноябре месяце. Тем временем Дикон напомнил мне, что во время войны Жан-Клод потерял не только всех трех старших братьев, но также двух дядек и несколько других родственников мужского пола. Узнав об этом, я удивился, что Же-Ка принимает немецких клиентов в качестве гида Шамони и, по словам Дикона, относится к ним с такой же заботой, вниманием и терпением, как к французам, итальянцам, британцам, американцам и другим клиентам. Но в ноябре нас ждет поездка в Мюнхен. — Во-первых, — говорит Дикон, после того как мы заполняем большую часть заднего сиденья и весь багажник рюкзаками и альпинистским снаряжением, в том числе большим количеством дорогой новой веревки, которую изобрел сам Дикон — «волшебной веревки Дикона», как мы с Же-Ка ее называем; сочетание разных материалов в ней обеспечивает гораздо большую прочность на разрыв, чем у легко рвущейся альпинистской веревки, которую мы использовали в Альпах, и, как я полагаю, что все это поедет с нами на Эверест, — мы едем в Пен-и-Пасс. — Пенни Пасс?[15] — переспрашиваю я, хотя он произнес название явно иначе. — Похоже на какое-то место из вестерна с Томом Миксом. Дикон не отвечает, а молча заводит двигатель и везет нас из города на запад, в Уэльс.Выясняется, что Пен-и-Пасс — это район высоких утесов и вертикальных каменных плит в окрестностях горы Сноудон на севере Уэльса. Мы проезжаем гостиницу, расположенную в верхней точке перевала, которая, по словам Дикона, использовалась многими группами на заре британского альпинизма. Многие из этих групп привозил сюда выдающийся скалолаз своего времени, старший товарищ Мэллори, Джеффри Уинтроп Янг, с которым Мэллори познакомился в 1909 году. Я бы не отказался от плотного ланча и пинты пива в гостинице, но мы едем дальше. В рюкзаках у нас есть сэндвичи и вода, но я втайне надеюсь на что-нибудь более питательное. Прямо у самой грунтовой дороги, по которой мы едем уже целый час, видны многочисленные утесы, прекрасно подходящие для скалолазания, но Дикон едет мимо, пока в какой-то невероятной глуши не останавливает нашу машину с открытым верхом и говорит: — Забирайте свои рюкзаки и все снаряжение из багажника, парни. И свяжите все покрепче. Нас ждет долгий переход. Так и есть. Больше двух часов по пересеченной местности, прежде чем мы добираемся до выбранного им утеса. (Не помню, как он назывался, то ли Лливедд, то ли Ллехог, но это был большой утес, вертикальная стена футов 400 с нависающим карнизом во всю ширину приблизительно в 50 футах от вершины.) Нам дают понять, что Дикон взбирался на него до войны с Мэллори, его женой, Клодом Эллиотом, Дэвидом Паем, превосходным скалолазом Гарольдом Портером — который в 1911 г. первым покорил многие из этих утесов и проложил новые маршруты, — а также Зигфридом Херфордом, лучшим альпинистом того времени и, возможно, самым близким другом Мэллори. Мы с Жан-Клодом готовы сесть, изучить поверхность утеса — должен признаться, устрашающую — и съесть свой жалкий ланч, но Дикон настаивает, чтобы мы потерпели и прошли чуть дальше. К нашему удивлению, он ведет нас вокруг массивного утеса к обратной стороне, по которой подняться на вершину — детская забава. Нужно просто карабкаться на разбросанные в беспорядке камни и пологие выступы. Так мы и поступаем, и это меня раздражает. Я очень не люблю легкие пути к вершине, даже если это лучший способ разведки вертикальной скальной стены. Многие великие скалолазы так и делали, даже спускались на веревке вниз, чтобы все проверить, прежде чем начать восхождение — хотя Дикон рассказывает нам, что Мэллори после разведывательного спуска позволил идти первым своему тогдашнему партнеру, Гарольду Портеру. Дикон не разрешает нам поесть даже после того, как мы затащили все наши вещи на вершину утеса. Выясняется, что узкий пятачок вершины практически бесполезен для разведки, поскольку обзор заслоняет карниз в 40 или 50 футах ниже. — Страхуй, — говорит Дикон и протягивает мне одну из длинных бухт веревки, которую мы послушно притащили с собой на вершину. Выбор меня в качестве страхующего вполне логичен — я самый тяжелый, высокий и, вероятно, сильный из нас троих, а страховать с этого места задача не из легких, — но мое раздражение не проходит. Я не хочу впустую тратить силы, которые понадобятся для подъема на скалу — по всей видимости, именно это Дикон и планирует. К счастью, вдоль края вершины тянется каменный гребень, в который я мог надежно упереть обе ноги, что уменьшало опасность скольжения и повышало надежность моей одиночной страховки. Я чувствую, как стоящий позади меня Жан-Клод берет конец веревки, хотя если мы с Диконом сорвемся, вероятность того, что маленький и легкий Же-Ка остановит падение, практически равна нулю. Он просто упадет вместе с нами с высоты 300 футов. Невозмутимо посасывая трубку, Дикон начинает спускаться по веревке спиной вперед и исчезает из поля зрения за краем скалы. Он спускается быстро, каждым прыжком преодолевая восемь или десять футов, и веревка сильно натягивается. Я напрягаюсь в классической для страховки позе, когда веревка перекинута через плечо, и радуюсь трещине на вершине вертикального утеса, в которую можно упереться каблуками ботинок. Не выпуская из рук движущийся конец веревки, Жан-Клод подходит к краю пропасти, наклоняется, смотрит вниз и сообщает: — Его теперь не видно за краем выступа. Натяжение веревки внезапно ослабевает. Дикон по-прежнему движется — я чувствую, как выбирается веревка, — но движется горизонтально, вдоль какого-то карниза, и полноценная страховка ему не нужна. Потом веревка останавливается. Я остаюсь на месте, а Жан-Клод наклоняется еще дальше и говорит: — Над выступом поднимается дым. Черт возьми, Дикон сидит на каком-то карнизе и курит свою трубку. — А я тем временем умираю от голода. — Я хочу выпить вина, которое захватил с собой, — говорит Жан-Клод. — Это совсем не интересно. Какое отношение имеет скалолазание к подъему на Эверест — независимо от подвигов Мэллори и Дикона на этих дурацких скалах еще до войны? Гора Эверест — это не голые скалы, а снег и лед, ледники и расщелины, ледяные стены, высокие гребни и крутые ледяные поля. Поездка в Уэльс — пустая трата времени. Словно услышав нас, Дикон дергает за веревку, и я возвращаюсь к страховке, отклонившись назад, чтобы принять на себя его вес — слава Богу, не очень большой, поскольку он худой, как Шерлок Холмс, — когда он начинает подниматься на выступ и преодолевать около 50 футов, отделяющих его от вершины. При подъеме он тоже отклоняется назад, держа тело почти горизонтально. Наконец Дикон переступает через край площадки на вершине скалы и оказывается рядом с нами, развязывает узлы страховочной веревки и, уже не посасывая свою чертову трубку, которую, должно быть, теперь сунул в карман рубашки, говорит: — Давайте перекусим, а потом спустимся и займемся тем, для чего приехали.
— Я хочу, чтобы вы вдвоем поднялись наверх, — говорит Дикон, и мы с Же-Ка смотрим на устрашающую вертикальную стену утеса. — На вершину? — спрашивает Жан-Клод и опускает взгляд на груду веревок, карабинов, крюков и другого снаряжения, которое мы тащили в такую даль. Для надежного закрепления потребуется вбивать крюки — как делают немцы, — а также использовать стремена и нечто вроде подвесной веревочной лестницы, чтобы повиснуть под этим громадным карнизом, а затем с помощью узлов Прусика постепенно перемещаться вверх, пытаясь найти опору для рук или прижимаясь всем телом к широкой кромке, чтобы перебраться через нее. Дикон качает головой. — Только до того места, где я забыл трубку, — говорит он и указывает на поросший травой карниз приблизительно в трех четвертях пути до вершины, прямо под нависающим выступом. — Я хочу ее вернуть. Нас с Же-Ка так и подмывает сказать: «Тогда лезь за ней сам», — но мы молчим. Это должно иметь какое-то отношение к Мэллори и к нашей попытке покорить Эверест. — И никакого железа, — прибавляет Дикон. — Только вы двое, веревки и, если хотите, ледорубы. Ледорубы? Мы с Жан-Клодом снова обмениваемся тревожными взглядами и смотрим на вертикальную стену. Карниз с травой, на котором Дикон оставил свою проклятую трубку, находится на высоте около 250 футов, прикрытый нависающим выступом, но достаточно широкий, чтобы на него можно было сесть, свесить ноги, закурить и любоваться окрестными видами с высоты 25-этажного дома. Именно так и поступил Дикон. Ему понадобилось пару минут, чтобы спуститься на этот карниз по веревке с вершины утеса, включая не самый простой участок с нависающим выступом. Но взобраться на него отсюда?.. Утес относится к той категории почти непреодолимых препятствий, которые заставляют даже самых сдержанных альпинистов использовать цветистые выражения. — Я знаю, — говорит Дикон, словно читая наши мысли. — Страшная, зараза. Скала ниже поросшего травой карниза, шириной от 50 до 75 футов и даже больше, представляет собой громадную, гладкую, крутую каменную выпуклость — словно брюхо гигантской свиноматки или полностью опустившегося бывшего профессионального боксера. Я хороший скалолаз — начинал с бесчисленных скал в Массачусетсе и других местах, а затем использовал полученные навыки в горах Колорадо и Аляски. И я считал, что могу забраться практически на любую скалу, которую вообще можно преодолеть. Однако эта проклятая каменная стена под карнизом с травой просто непреодолима. По крайней мере, по стандартам 1924 года — с теми возможностями и снаряжением. (Наверное, это под силу немцам со всем их железом — карабинами, крюками и прочим, что мы притащили с собой, — но Дикон запретил нам использовать при подъеме это тевтонское снаряжение.) Я не вижу ни выступов, ни трещин, чтобы ухватиться за них пальцами или использовать как опору для ног. Гладкое свиное брюхо выдается далеко вперед, а затем спускается к тому месту, где мы стоим. Удержать скалолаза на подобной вертикальной стене (над похожим на живот выступом) может только скорость и сила трения — иногда для этого требуется прижиматься к скале всем телом, включая ладони, щеку и туловище, пытаясь слиться с камнем, чтобы не соскользнуть с высоты 200 футов навстречу смерти. Но в нижней трети этого выпуклого свиного брюха не может быть никакой речи о трении — придется висеть почти горизонтально, без каких-либо опор, не говоря уже о крюках. Падение неизбежно. Но если бы даже нам было позволено пользоваться крюками, я не вижу на этой сплошной гранитной глыбе трещин, расселин или участков мягкой породы, куда их можно было бы вбить. Итак, придется попрощаться с direttissima[16] маршрутом — прямым путем к поросшему травой карнизу, на котором лежит трубка Дикона. Это исключено. Значит, остается трещина, которая проходит футах в 50 справа от карниза и поднимается до высоты 250 футов. Мы с Жан-Клодом подходим к основанию скалы и смотрим вверх. Нам приходится отклониться назад, чтобы увидеть, как трещина постепенно сужается и исчезает у большого нависающего выступа. Первые футов 30 подъема будут относительно легкими — эрозия привела к образованию валунов, камней и выступов на этом первом коротком участке, — но дальше идет только узкая трещина, и можно лишь надеяться на опоры для рук и ног, которых отсюда не видно. — Ненавижу карабкаться по долбаным трещинам, — бормочет Жан-Клод. Я потрясен. До этой секунды я ни разу не слышал от своих товарищей ни настоящих ругательств, ни подобных грубостей. Вероятно, думаю я, Жан-Клод не до конца понимает, что в английском языке это слово считается неприличным. Но при взгляде на него становится ясно, что Жан-Клоду такие упражнения явно не по душе. Больше 200 футов нам придется втискивать ладони, ободранные предплечья, окровавленные пальцы и носки ботинок в неуклонно сужающуюся извилистую трещину. Сомневаюсь, что на этой жалкой маленькой трещине найдется хотя бы полдюжины точек страховки — и по-прежнему не вижу надежных опор для рук и ног по обе стороны от нее. — Ты пойдешь первым, Джейк, — говорит Жан-Клод; он не спрашивает, а утверждает. Не имеющий себе равных на снегу и льду, превосходно себя чувствующий на высокогорных хребтах и каменных стенах, молодой талантливый альпинист просто не любит эту разновидность скалолазания. — Стоит ли нам связываться? — спрашивает он. Я снова смотрю на поверхность скалы и трещину — от поросшего травой карниза с оставленной трубкой ее отделяют 50 футов, и из верхней точки придется перемещаться горизонтально, если это вообще возможно, — и задумываюсь над вопросом. Точек страховки практически нет, и поэтому если один из нас сорвется, то шансов на то, что второй его удержит, почти или совсем нет. Но даже маленький шанс лучше, чем никакого. — Да, — отвечаю я. — Десяти метров веревки будет достаточно. Жан-Клод стонет. Такая короткая связка слегка повышает шансы удержать сорвавшегося товарища — поскольку если ведущий, то есть я, упадет, то страхующему (Же-Ка) придется иметь дело с инерцией 60-футового падения, а при падении второго, Жан-Клода, на ведущего придется меньшая нагрузка (если у меня найдется надежная опора). Но короткая веревка означает замедление подъема, поскольку каждый будет страховать товарища. Неуверенный, медленный, опасный подъем — противоположность качественной, скоростной работе на скале. — Но нам придется тащить с собой чертову уйму веревки, — прибавляю я. — Чтобы спуститься с карниза с трубкой. Не хочу ползти вниз по этой проклятой скале. Жан-Клод сердито смотрит на почти невидимый «карниз с трубкой» почти в 250 футах над нами, потом переводит взгляд на Дикона и говорит: — Это много веревки для полного спуска. — Мы сделаем это в два этапа, Же-Ка, — говорю я с большим вдохновением и уверенностью, чем чувствую. — Где-то посередине трещины или чуть ниже должна найтись точка страховки, и ведущий спустится к ней по веревке, а оттуда организует вторую часть спуска. Проще простого. В ответ Жан-Клод снова стонет. Я поворачиваюсь к Дикону и обнаруживаю, что мой тон не менее сердитый, чем взгляд Же-Ка, которым он сверлит нашего «лидера». — Полагаю, ты объяснишь нам, какое отношение этот дурацкий и опасный подъем за трубкой имеет к Мэллори и нашей попытке покорения Эвереста. — Я все объясню после того, как вы вернете мне трубку, парни, — говорит Дикон тем высокомерным британским тоном, от которого у американцев начинают чесаться кулаки. Мы с Жан-Клодом садимся, прислонившись спиной к скале, и начинаем сматывать дополнительную веревку — нам понадобится много веревки, обмотанной вокруг туловища, — и опустошать рюкзаки, чтобы взять с собой еще. Я беру рюкзак, в основном для ледоруба, который мне, возможно, придется использовать, хотя Жан-Клод полагает это сумасшествием — тащить его с собой по этой каменной громадине без льда и снега. Он в изумлении — явно не сомневаясь в моем безумии — смотрит, как я снимаю альпинистские ботинки и надеваю старенькие кеды, которые привез с собой в рюкзаке, с дырками от многолетних занятий теннисом на летних грунтовых кортах в подготовительной школе и колледже. Мне понятно изумление моего французского друга. Подъем по трещине требует самых тяжелых и самых жестких альпинистских ботинок, которые только можно найти: вдавливаешь носок этого альпинистского ботинка в малейший выступ или площадку, и жесткая подошва удерживает тебя, пока ты ищешь следующую опору. Мои теннисные туфли гарантируют лишь то, что после этого подъема ноги будут точно так же сбиты в кровь, как и голые руки. Но я думаю лишь о 50-футовом траверсе к карнизу с трубкой — по гладкой округлости свиного брюха 250-футовой скалы, на которой, похоже, не за что зацепиться. На такой поверхности я всегда использовал самую мягкую обувь, которая была под рукой — американский аналог туфель с рифленой подошвой, которые новое поколение немецких скалолазов называет Kletterschuhe. Сегодня это мои старые, дырявые теннисные туфли.
Мы с Жан-Клодом связываемся веревкой и начинаем подъем. Вскоре уже приходится пользоваться трещиной, и она оказывается еще уже, чем я думал. Мои руки — огрубевшие и покрытые мозолями, приспособленные для такой работы на скале — сильно кровоточат уже к концу первой веревки. На теннисных туфлях прибавилось дыр, ноги у меня тоже в синяках и кровоподтеках. Но мы находим свой ритм — и вскоре поднимаемся максимально быстро, насколько позволяют частые паузы для организации страховки. Жан-Клод выискивает невероятные места, куда я вдавливаю руки или ставлю ноги, и следует за мной; вскоре мы уже довольно споро поднимаемся по скале. Только редкие проклятия — на американском английском и более эмоциональном французском — срываются вниз и летят к Дикону, который сидит, прислонившись к дереву, и время от времени поглядывает на нас. Когда мы поднимаемся по скале на три веревки и примерно на 100 футов, на поверхность всплывает мысль, все время присутствовавшая в моем подсознании: большинство скалолазов предпочитают утесы и скальные стены рядом с дорогой. Падение с вертикальной стены может иметь ужасныепоследствия, и если пострадавший выживет, но лишится возможности передвигаться из-за сломанных конечностей или травмы позвоночника, то его нужно как можно скорее доставить в медицинское учреждение — если его вообще можно перемещать — или привезти врача, если раненого нельзя двигать, не рискуя сломать ему позвоночник или шею. Двухчасовой переход до этой скалы и невозможность доехать сюда по камням на машине или даже конной повозке показывают, что Мэллори, Дикон, Гарольд Портер, Зигфрид Херфорд и остальные, покоряя эту скалу до войны, демонстрировали необыкновенную уверенность в себе и смелость. А может, высокомерие и глупость. «Нужно поговорить о подобном высокомерии и глупости других людей», — думаю я, напрягаю свою истерзанную, кровоточащую ладонь, снова превращая ее в клин, который просовываю в трещину так высоко, как только могу достать. Затем, не имея опоры для ног, начинаю подтягиваться. Когда я нахожу в трещине выступы, на которые можно поставить хотя бы одну из моих рваных теннисных туфель, и зацепку для хотя бы одной руки, более надежную, чем держащийся силой трения клин, то кричу: «Страхую!» — и жду, пока Жан-Клод не преодолеет десять метров или около того, и его голова не окажется под моей свободно болтающейся ногой. Поднявшись по скале футов на 200, мы останавливаемся, чтобы отдышаться — если долго висеть на таких ненадежных опорах, то устаешь еще больше, но нам нужен перерыв хотя бы на несколько секунд, — и Жан-Клод говорит: — Mon ami, этот подъем — merde. — Oui, — соглашаюсь я, используя половину своих знаний разговорного французского. Возможно, мизинец моей левой руки сломан — по крайней мере, у меня такое ощущение, — и это не предвещает ничего хорошего в свете нашей попытки покорения Эвереста, даже с учетом того, что до этой попытки еще восемь месяцев. — Жан-Клод, — кричу я вниз, — мы должны добраться до самого конца чертовой трещины, чтобы иметь хоть какой-то шанс на траверс. До самого нависающего выступа. — Знаю, Джейк. Тебе предстоит нечто среднее между свободным восхождением и скольжением вниз к карнизу с трубкой. Почти двадцать метров по тому плохому участку почти вертикальной скалы. Мы свяжемся дополнительной веревкой — если сможем найти для меня точку страховки, — но если хочешь знать мое мнение, я не верю, что это возможно. Когда ты сорвешься со стены, то выдернешь меня из трещины, как пробку из бутылки. — Спасибо за красочную картину и за поддержку, — бормочу я и уже громче командую: — Вперед! Потом как можно глубже втискиваю разбитую левую руку в трехдюймовую трещину над моей головой и, повиснув на ней всей тяжестью, ищу очередной выступ, за который можно зацепиться или в который можно упереться моей теннисной туфлей.
Мы всем телом прижимаемся к скале прямо под нависающим выступом толщиной в шесть футов, как будто этот каменный потолок может сорвать нас с ненадежных опор в последних жалких остатках трещины, теперь почти горизонтальной. Вид с высоты двадцать пятого этажа великолепен, но у нас нет времени оценить его, а также отвлекаться от своих жалких опор. Поскольку мы находимся всего в 40 футах или чуть выше заросшего травой карниза — кажется, что до него почти полмили гладкой выпуклости практически вертикальной скалы, — запланированное заторможенное скольжение будет сложнее, чем я надеялся. Осторожно, одной рукой, я вытаскиваю из рюкзака до сих пор не пригодившийся ледоруб и как можно глубже втыкаю длинный изогнутый клюв в трещину. К счастью, трещина ныряет вниз, а затем вверх в виде буквы «V». Затем я отпускаю другую руку и переношу вес тела на ледоруб. Изгиб щели точно совпадает с формой острого клюва. Ледоруб держит, но я не могу быть абсолютно уверен — хотя, честно говоря, очень на это надеюсь, — что он выдержит слишком долго. — Вот твоя точка страховки, — говорю я Жан-Клоду, который приблизился ко мне справа вдоль сужающейся трещины и теперь находится впереди меня, и мы впервые за все время подъема оказываемся лицом к лицу. — Висеть. На твоем ледорубе, — без всякого выражения говорит Жан-Клод. — Да. Упираясь левым ботинком в эту часть вертикальной трещины, которая только что порвала верх моей теннисной туфли. — Длины моих ног не хватит, чтобы достать до трещины, вися на твоем ледорубе. — Голос Жан-Клода все так же бесстрастен. Этот подъем уже отнял у нас почти все силы. В глубине души я понимаю, что Же-Ка предпочел бы свободное восхождение на непреодолимый нависающий выступ, а не помощь мне в попытке добраться до проклятого карниза с трубкой. — Вытяни одну ногу, — говорю я и протягиваю ему конец второй 50-футовой бухты веревки, которую втащил на скалу. Жан-Клод лучше меня вяжет узлы. Теперь мы готовы и привязаны к новой веревке. Длина привязи между нами 80 футов. Именно столько нужно для той голой скалы, которую я собираюсь преодолеть — 60 футов до карниза и еще запас для вертикального перемещения, — но это означает, что Же-Ка остановит меня только после 80-футового падения. Я смотрю на его позу. Он вытянул левую ногу, но висит почти горизонтально; одна нога упирается в край щели чуть выше того места, где была моя, левая ладонь сжимает ледоруб, а правое предплечье (на него приходится почти весь вес тела) упирается в трехдюймовый выступ, который Жан-Клод нашел ниже трещины. Я вспоминаю картину, которую он нарисовал: если я сорвусь, то выдерну его с ненадежной позиции, как пробку из бутылки — а в данном случае и того хуже: он вылетит, подобно пробке из шампанского. Но если я собираюсь страховать его, когда доберусь до карниза, то мы должны быть связаны. Мне кажется, будь я на месте Жан-Клода, в свободную правую руку я бы взял раскрытый нож, чтобы в случае моего падения перерезать веревку раньше, чем она натянется. Возможно, он так и сделал — его правую руку заслоняет от меня скала. — О'кей, — говорю я. — Была не была. Обычно Дикону и Жан-Клоду нравятся мои американизмы, но на этот раз я стараюсь зря: Дикон, похоже, дремлет в 250 футах под нами, прислонившись спиной к теплой скале и надвинув на глаза фетровую шляпу, а Жан-Клод не в том настроении, чтобы реагировать на мой жаргон. Я перемещаюсь с трещины на гладкую, почти вертикальную поверхность скалы. Потом сползаю вниз, но всего на один или два фута, прежде чем сила трения останавливает меня. Всем телом — рубашкой, лицом, животом, бедрами и изо всех сил напряженными лодыжками — я прижимаюсь к скале, чтобы усилить трение, которое по большей части обеспечивается носками теннисных туфель, согнутых почти под прямым углом к остальной части туфель и ступням. Ощущение не очень приятное, но все же лучше, чем падать 250 футов. Оставаться на месте мне нельзя. Я начинаю соскальзывать, одновременно сдвигаясь влево к проклятому карнизу, от которого меня отделяет приблизительно 25 футов по вертикали и 60 футов по горизонтали. Мои пальцы ищут, за что зацепиться, но поверхность скалы просто неприлично гладкая. Я продолжаю двигаться влево, удерживаясь на почти вертикальном утесе только трением и скоростью. Если ты достаточно быстр, иногда гравитация замечает тебя не сразу. 80 процентов работы приходится на мои теннисные туфли, удерживающие меня на свином брюхе выпуклой скалы. Это непросто — ползти влево, словно краб, и одновременно стравливать для Жан-Клода веревку. Большая ее часть лежит у меня в рюкзаке, который пытается сбросить меня со скалы весом дополнительной веревки и еще нескольких мелочей, но остальную мне пришлось намотать на правое плечо, откуда ее легче подавать Жан-Клоду. Сама бухта веревки не дает прижаться к скале, уменьшая трение, и когда я снимаю с плеча очередное кольцо, то каждый раз сползаю чуть ниже, пока снова не прижимаю ладони, пальцы и предплечья к скале. Преодолев чуть больше половины пути до карниза, где лежит трубка, я соскальзываю. Мое тело просто не держится на гладком, как стекло, участке громадной скалы. Я отчаянно пытаюсь остановиться, цепляясь пальцами за каждый выступ, каждую шероховатость, каждую неровность скалы, но все равно сползаю вниз, сначала медленно, но затем все быстрее и быстрее. Я уже ниже уровня карниза с трубкой Дикона, который все еще далеко от меня, и соскальзываю к тому участку, который закругляется вниз, так что его можно назвать обрывом. Если я сорвусь, то рухну прямо к ногам дремлющего Дикона. И потащу за собой Же-Ка, если он не догадается перерезать веревку ножом. Думаю, я должен крикнуть ему, чтобы он это сделал — он всего лишь в 40 футах от меня, ерзает в неудобном положении, пытаясь перенести вес тела на правое предплечье, упирающееся в узкий выступ, — но времени у меня нет. Если перережет, то перережет. Если нет, то умрет вместе со мной. На решение остаются секунды. Меня ведет влево, и через несколько мгновений я уже переворачиваюсь головой вниз, по-прежнему распластанный на скале; лицо и верхняя половина туловища расцарапаны до крови о скалу, внезапно ставшую шероховатой. Шероховатой. Мои окровавленные пальцы превращаются в когти, пытаются найти достаточно большой выступ, чтобы остановить ускоряющееся падение, а затем перевернуть меня. Я теряю один или два ногтя, но это не останавливает и не замедляет скольжение — положение вниз головой еще больше осложняет дело. Я уже в 20 метрах ниже поверхности своего траверса, а скорость все увеличивается — веревка еще не натянулась, и остатки ее слетают с моего плеча к Жан-Клоду, и когда дело дойдет до 40 футов в моем рюкзаке, я уже перелечу через край, всего в нескольких метрах от меня, и буду падать вниз. Внезапно носок моей правой туфли находит среди неровностей скалы глубокую выемку прямо над обрывом, и я резко останавливаюсь. Уф! Рюкзак пытается перелететь через мою голову, но не сбрасывает меня вниз. Долгие несколько секунд — а может, часов — я вишу головой вниз, по-прежнему распластавшись на скале; кровь из ладоней и расцарапанной щеки стекает на скалу подо мной. Затем я начинаю медленный процесс принятия решения — как перевернуться головой вверх, держась только на одном носке теннисной туфли, и что делать дальше. Первая часть задачи имеет одно реальное решение, и оно мне не нравится. Удерживаясь на месте носком одной ноги, я должен изогнуться в виде буквы «U», насколько это возможно, вытянув вверх руки и окровавленные пальцы, и ухватиться за этот выступ, прежде чем неудобная поза вырвет носок моей туфли из углубления, и мы с Же-Ка полетим вниз. Движение должно быть точным, поскольку когда моя нога освободится, я снова начну соскальзывать. Не очень изящный кульбит, по любым меркам. Меня охватывает странное чувство — я радуюсь, что Дикон, сидящий в 200 футах подо мной, не видит меня в эти мгновения, которые могут стать для меня последними. Я вишу вниз головой, и это отнимает силы и мешает ясно мыслить — из-за прилива крови к голове, — и чем больше я об этом думаю, тем больше слабею. Носок правой туфли может сорваться в любую секунду. Используя шероховатости скалы как опору для пальцев, я изо всех выгибаюсь вправо и поднимаю туловище, складываясь пополам. Носок теннисной туфли срывается раньше, чем я рассчитывал, и мои ноги начинают скользить вниз, к обрыву, но инерция поворота помогает мне вытянуться и достать до углубления, где раньше была моя нога. Слава Богу, это не просто узкая складка, а настоящая трещина, достаточно глубокая, чтобы просунуть обе ладони, и теперь я вишу головой вверх, и даже мои ноги нащупали опору на неровной скале в том месте, где несколько секунд назад была моя голова. Я вижу, что эта трещина — примерно шесть дюймов шириной и не меньше восемнадцати дюймов глубиной — тянется влево до участка скалы под карнизом, футах в 25 ниже. В самом конце горизонтальная трещина даже загибается вверх, приближаясь к карнизу с трубкой Дикона. До меня доносится крик Жан-Клода, скрытого изгибом скалы: — Джейк! Джейк? — Я в порядке! — кричу я в ответ как можно громче. Мой голос эхом отражается от соседних скал. В порядке? Я могу ползти влево, переставляя руки в трещине, но для скалолаза это не лучший выход. Я внимательно изучаю скалу и нахожу над трещиной выступы, за которые можно ухватиться пальцами. Оставив левую руку в трещине, чтобы в случае неудачи остановить падение, протягиваю правую руку к одной из складок. Длины руки не хватает, и мне приходится помогать себе коленями и носками теннисных туфель, карабкаясь вверх, как персонаж одного из тех новых американских короткометражек Диснея, в которых роли героев «Алисы в Стране чудес» исполняют актеры и неуклюжие рисованные фигурки. В данном случае неуклюжая рисованная фигурка с гибкими ногами без суставов и нелепыми разлапистыми ступнями — это я. Нащупав опору для руки, которая оказывается вполне приемлемой, я бросаю тело влево и вверх — это опасно, но скорость и трение должны на какое-то время пересилить гравитацию и помочь мне переползти выше трещины. Получается. Теперь мои ноги в трещине, и, чтобы двигаться влево, нужно лишь медленно перемещать их. Надежной расселины или выступа, за которые можно зацепиться руками, у меня нет, но тут помогает контакт верхней части тела со скалой. Мне ничто не мешает, и через несколько минут я уже в верхней точке трещины, которую от того проклятого карниза с трубкой Дикона отделяет 15 футов гладкой скалы. Я смотрю вверх. Мне не хочется убирать ноги из этой спасительной трещины. Не хочется снова прижиматься всем телом к камню, надеясь на удачу. Длинная веревка к Жан-Клоду тянется вправо и исчезает из виду. Выпуклость скалы скрывает Же-Ка от меня. Мало-помалу ко мне возвращается уверенность. Я учился карабкаться на скалы в Массачусетсе и в Новой Англии, потом дважды в Скалистых горах и один раз во время летней экспедиции на Аляску. После двух лет тренировок с моими товарищами из Гарварда я стал лучшим скалолазом группы. Какие-то вшивые 15 футов гладкой скалы. Давай, Джейк, — чистой вертикальной инерции, коленей, носков теннисных туфель и, если понадобится, зубов должно быть достаточно, чтобы продержаться на одном месте три секунды и подняться на эти 15 футов. Я тянусь вверх, широко раскинув руки, вытаскиваю ноги из спасительной трещины и начинаю ползти, карабкаться вверх. На краю карниза у меня заканчиваются силы, и я вынужден сделать паузу и висеть на руках несколько секунд, прежде чем подтянуться и перебросить тело через край, на мягкую траву. Чертов Дикон. Он рисковал нашими с Жан-Клодом жизнями ради… чего? Его проклятая трубка лежит на траве футах в десяти справа от меня. Я встаю и окидываю взглядом действительно впечатляющий вид, которым любовался Дикон, с моей помощью спустившись сюда на веревке. На карнизе есть также тонкий камень, загибающийся назад и вверх, который прекрасно подходит для крепления веревки для спуска. Я накидываю на него веревку, делаю несколько оборотов, смещаюсь влево и махаю Жан-Клоду, который вернулся к вертикальной трещине, и мой ледоруб теперь у него под ногой. Новая позиция для страховки — с одной рукой глубоко в трещине, балансируя на изогнутой стали ледоруба, — могла бы остановить меня, сорвись я с обрыва. Возможно. Скорее всего, нет. Несколько секунд я пытаюсь восстановить дыхание, затем кричу: — Готов! Страхую! Отвечает мне только эхо. Же-Ка предстоит непростая задача — оставить узкую полоску моего ледоруба, потом спуститься по вертикальной трещине под него, выдернуть ледоруб и вставить в петлю в своем рюкзаке. Затем он машет мне — расстояние между нами кажется странно большим, — криком предупреждает меня и выходит на поверхность скалы. Жан-Клод срывается после третьего участка траверса. Начинает сползать, как я, но натянутая между нами веревка не позволяет ему перевернуться головой вниз, когда он скользит к обрыву и падению в пропасть. Но этого не произойдет. Между нами теперь меньше 40 метров веревки, и я упираюсь ногой в камень, чтобы увеличить рычаг и без труда удержать его на страховке, которую я организовал, обмотав веревку вокруг невысокого остроконечного камня за моей спиной. Веревка растреплется, когда мы будем поднимать Жан-Клода, но с этим ничего не поделаешь. Мы тщательно проверим ее и при необходимости используем для спуска другую. Жан-Клод не пытается остановить падение самостоятельно — бережет пальцы, ногти и колени, — а просто раскачивается внизу, описывая широкую дугу, и возвращается к поверхности скалы прямо подо мной. Затем он подтягивается, пока подошвы его ботинок не упираются в поверхность скалы, и я напрягаюсь, несмотря на страховку в виде камня у меня за спиной. Же-Ка начинает карабкаться вверх — с единственной опорой из натянутой, истрепанной веревки, — и я страхую его так быстро, как только могу, чтобы веревка не терлась о скалу дольше, чем необходимо. У нас хорошая пеньковая веревка, самая дорогая из тех, что смог найти Дикон, но это всего лишь спасательный трос толщиной в полдюйма. И вот он наверху, перебирается через край карниза и падает на траву. Я сматываю веревку, внимательно осматривая ее. — Проклятый Дикон, — бормочет Же-Ка по-французски, тяжело дыша. Я киваю. Эта фраза составляет вторую половину моего французского словарного запаса. И я полностью разделяю его мнение. Жан-Клод освобождается от последнего витка веревки, подходит к трубке Дикона и поднимает ее. — Дурацкое место, чтобы оставлять трубку, — говорит он по-английски. Потом сует эту чертову штуковину в большой нагрудный карман, застегивающийся на пуговицу, откуда она точно не выпадет. — Может, приготовимся и начнем спуск? — спрашиваю я. — Джейк, дай мне три минуты, чтобы полюбоваться видом, — говорит он. Я вижу, что подъем отнял у него все силы. — Отличная идея, — соглашаюсь я, и пять или десять минут мы просто сидим на мягкой траве, свесив ноги с обрыва и прислонившись спинами к нагретому солнцем кривому каменному шпилю, который собираемся использовать как опорную точку для спуска по веревке. Вид, открывающийся с этой почти 250-футовой скалы — как из большого окна на 25-м этаже какого-нибудь нью-йоркского небоскреба, — необыкновенно красив. Я вижу другие утесы, выше, тоньше и труднее для скалолазания, и лениво размышляю, забирались ли на них Джордж Мэллори, Гарольд Портер, Зигфрид Херфорд и Ричард Дэвис Дикон в те годы, после окончания Мэллори и Диконом Кембриджа в 1909-м и до начала войны в 1914-м. Что касается меня, то я только что покорил одну-единственную валлийскую скалу, и больше не собираюсь в этом году — а может, и вообще. Очень весело, но одного раза достаточно — спасибо. Приятно сознавать, что ты жив. Насладившись видом и дав Жан-Клоду немного отдышаться, мы крепим веревки для спуска. Тот кусок, с помощью которого я поднимал Же-Ка, используя скалу как опорную точку для страховки, выглядит нормально, но мы прячем его в мой рюкзак, на крайний случай. Спуск на веревке — это весело. В конце первого 80-футового участка мы раскачиваемся у гладкой поверхности скалы — в вертикальном положении, как маятники, — пока Жан-Клод наконец не хватается за край вертикальной трещины, по которой мы карабкались вверх, и останавливает наше движение. Секунду спустя он уже в трещине, упоры для ног и неровности которой мы запомнили при подъеме — одна надежная площадка на всей вертикальной трещине, — и еще через несколько секунд я присоединяюсь к нему. Же-Ка завязал надежный узел для нашего спуска на двух веревках, поскольку застрявшая веревка, которую невозможно выбрать, может стать настоящим кошмаром на таком длинном участке, и для последнего отрезка нам нужно 160 футов веревки, два куска по 80 футов. — Тяни веревку! — одновременно кричим мы с Жан-Клодом. Если потянуть не ту веревку, то хитрый узел, навязанный Же-Ка на петле, накинутой на камень, затянется, и нам придется трудно. Я проверяю концы веревки, расправляю несколько небольших перекрученных мест и развязываю предохранительные узлы, которые мы навязали на концах волокон. Затем сильно тяну веревку — левую, о которой мы только что напоминали друг другу. Когда она приходит в движение и падает, я кричу: «Веревка!» Это и давняя привычка, и необходимость. Восемьдесят футов падающей веревки способны сбить скалолаза с узкого выступа, даже самого надежного. Мы вытягиваем первый кусок и сматываем его, а затем я снова кричу: «Веревка!» — и стягиваю второй. Ничего не застряло. Никакой мусор не свалился нам на голову. Мы поднимаем вторую веревку, сворачиваем ее, и Же-Ка начинает связывать их вместе своим безупречным узлом из арсенала «Гидов Шамони», которым всегда сращивает веревки. Пять минут спустя мы уже на земле, тянем длинную веревку и отскакиваем в сторону, когда она со всего размаху шлепается на землю, поднимая в воздух пыль и сосновые шишки. Вместо того чтобы, как положено, сразу же осмотреть и свернуть ее, мы оба идем к камню, у которого сидит Дикон и, похоже, спит. Я не верю своим глазам. Мне казалось, что он будет наблюдать за нами на самых сложных участках подъема и на траверсе. Разодранной теннисной туфлей я толкаю колено Дикона, чтобы привлечь его внимание. Он сдвигает шляпу вверх и открывает глаза. Я понимаю, что мой голос очень похож на рычание. — Ты нам расскажешь, какого… какого черта… какое это имеет отношение к Эвересту? — Да, — говорит Дикон. — Если вы принесли мою трубку. Жан-Клод без улыбки извлекает трубку из кармана. Мне даже жалко, что она не раскололась надвое во время спуска. Дикон кладет ее в нагрудный карман своей куртки, встает и смотрит на каменную стену. Мы втроем смотрим вверх. — Я поднимался на нее вместе с Джорджем Мэллори в тысяча девятьсот девятнадцатом, — говорит он. — После как минимум пятилетнего перерыва в скалолазании — четыре военных года войны и год, когда я пытался найти работу после войны. Мы с Жан-Клодом мрачно молчим и ждем. Нам не нужны старые сказки о героизме — ни в горах, ни на войне. Наши души и сердца теперь стремятся к горе Эверест, к восхождению по снегу, ледникам, расселинам, ледяным стенам, обледенелым каменным плитам, продуваемым ветрами гребням, громадной Северной стене, и мы не хотели отвлекаться от этого. — Мэллори спустился на разведку на веревке с вершины и остановился на том поросшем травой карнизе, чтобы выкурить трубку, — продолжал Дикон. — В этом восхождении участвовали только он, я и Рут — его жена; и Рут не захотела подниматься до самого верха. Слева от карниза с травой Мэллори обнаружил единственное углубление в нависающем выступе, по которому можно было подняться без крюков, веревочных лестниц и всего этого современного снаряжения. Я согласился. Но траверс от трещины до карниза с травой, а потом подъем на нависающий выступ отнял все мои силы — и даже больше. Мы были связаны вместе, но точек страховки там нет, как вы сами только что убедились. Мы с Мэллори выполнили тот же траверс на той нее скале. — Какое отношение это имеет к Эвересту, кроме сообщения о том, что Мэллори… был… хорошим скалолазом? — В моем голосе еще остались сердитые нотки. — Когда мы спустились сзади и обошли скалу, чтобы забрать снаряжение и идти назад, — говорит Дикон, оглядываясь на утес, — Мэллори сказал нам, что забыл трубку на том поросшем травой карнизе, и не успел я ответить, что у него есть другие трубки и что я, черт возьми, куплю ему новую, Джордж уже снова карабкался на скалу, до того места, где ты страховал, Жан-Клод, а потом выполнил траверс по той гладкой скале… один. Я пытался это представить. Но видел лишь большого черного паука, ползущего по скале. Один? Без надежды на страховку или помощь? Даже в 1919 году такие одиночные восхождения, без какой-либо страховки, считались дурным тоном, бахвальством, грубым нарушением правил Альпийского клуба при Королевском географическом обществе, членом которого был Мэллори. — Затем он взял шестидесятифутовый моток веревки, с которым поднимался по скале и выполнял траверс, и спустился вниз, — продолжает Дикон. — С трубкой. К Рут, которая была в ярости из-за того, что он фактически повторил восхождение, кроме нависающего выступа, причем в одиночку. Мы с Же-Ка молча ждем. Кажется, в этом все же есть какой-то смысл. День не потрачен впустую. — В последний день на Эвересте Мэллори и Ирвин около девяти утра вышли из шестого лагеря на высоте двадцать шесть тысяч восемьсот футов. Они задержались с выходом, — говорит Дикон. — Вы оба видели фотографии и карты, но нужно попасть на тот гребень, на шквальный ветер и пронизывающий холод, чтобы это понять. Мы с Жан-Клодом внимательно слушаем. — Если вы подниметесь на Северо-Восточный хребет, — говорит Дикон, — и если ветер позволит остаться на нем, то путь до вершины будет пролегать по крутым, покрытым льдом и наклоненным вниз каменным плитам. За исключением трех «ступеней». Мы с Жан-Клодом переглядываемся. Мы видели три «ступени» хребта на карте Эвереста, но на карте и на снимках, сделанных с большого расстояния, они выглядят именно так — как ступени. Не препятствие. — Первую ступень можно обойти вдоль Северной стены, прямо под ней, затем снова взобраться на гребень, если удастся, — продолжает Дикон. — О третьей ступени ничего не знает ни одна живая душа. Но вторая ступень… я до нее добирался. Вторая ступень… На лице у Дикона появляется странное выражение, страдальческое, словно он рассказывает какую-то ужасную историю, случившуюся на войне. — Вторую ступень обойти невозможно. Она появляется внезапно, из вихря облаков и метели, как серый нос дредноута. Для Мэллори и Ирвина, а также нас троих единственный шанс преодолеть вторую ступень — свободное восхождение. На высоте двадцать восемь тысяч триста футов или около того, когда после одного шага ты останавливаешься, а потом две минуты хрипишь и хватаешь ртом воздух. Вторая ступень, друзья мои, эта серая громадина, похожая на корпус линкора, стоит на пути от Северо-Восточного хребта к вершине и имеет высоту около сотни футов — гораздо меньше, чем вам пришлось преодолеть сегодня, когда вы лазили за трубкой, — но состоит она из крутых, шатких и ненадежных камней. Единственный путь, который мне удалось увидеть, прежде чем ветер и болезнь моего товарища, Нортона, вынудили нас повернуть назад… единственный возможный маршрут — это пятнадцати- или шестнадцатифутовая вертикальная плита в верхней части, которая в свою очередь расколота тремя широкими трещинами, идущими к вершине второй ступени. Этот маршрут, который вы только что прошли, включая нависающий выступ, относится к категории «очень сложный». С технической точки зрения свободное восхождение на вторую ступень — на высоте более двадцати восьми тысяч футов, не забывайте, пожалуйста, где, даже если вы тащите с собой тяжелое кислородное снаряжение, тело и мозг умирают каждую секунду, пока вы остаетесь на этой высоте или поднимаетесь выше, — выходит за пределы категории «очень сложный» по классификации Альпийского клуба. Возможно, эта скала на такой высоте просто непреодолима. А есть еще и третья ступень, которая ждет нас выше, последнее реальное препятствие — я убежден, — если не считать заснеженного конуса, который нужно преодолеть перед последним гребнем. Эта третья ступень может оказаться еще неприступней. Жан-Клод долго смотрит на Дикона. Потом произносит: — Значит, тебе нужно было проверить, сможем ли мы — а если точнее, то Джейк — совершить сравнимое по сложности свободное восхождение. А потом поднять меня, как тюк с бельем. И он смог… но… я не понимаю. Значит ли это, что ты веришь, что мы способны на такое восхождение на высоте двадцати восьми тысяч футов? Дикон улыбается, на этот раз искренне. — Я верю, что мы можем попытаться, и это не будет самоубийством, — говорит он. — Я верю, что смогу преодолеть вторую ступень, а теперь думаю, что и Джейк тоже; а ты, Жан-Клод, будешь надежным третьим партнером. Это не гарантирует нам вершину Эвереста — мы просто не знаем, что нас ждет за второй ступенью, за исключением, возможно, замерзших тел Мэллори и Ирвина, которые могут также быть у подножия второй ступени, — но это значит, что у нас есть шанс. Я сворачиваю остатки веревки и прикрепляю ее к рюкзаку, обдумывая услышанное. Злость прошла, и я прощаю Дикона за то, что он заставил нас пройти это испытание с трубкой. Мэллори поднялся по этой скале один, после того, как свободным стилем забрался на скалу вслед за Диконом — плевое дело, как, по словам Дикона, выразился сам Мэллори, поскольку у него, Мэллори, было преимущество от рекогносцировочного спуска на веревке. Мы направляемся к оставленной машине, до которой нужно идти почти два часа по пересеченной местности, после целого дня скалолазания, и у меня такое чувство, что мои внутренности стали невесомыми. Сердце — или душа, или что там еще у нас внутри — словно освободилось и парит над нами. Мы втроем собираемся покорить Эверест. Неизвестно, найдем ли мы останки лорда Персиваля — думаю, вероятность этого очень мала, — но мы втроем попытаемся покорить в альпийском стиле самую высокую гору в мире. И Дикон теперь считает, что нам по силам взобраться на ту вертикальную стену второй «ступени», похожую на нос дредноута. По крайней мере, мне по силам. С этой секунды во мне загорается яростное пламя, которое не угаснет много недель и месяцев. Мы собираемся взойти на ту проклятую гору. Выбора или альтернативы уже нет. Мы втроем хотим стоять на вершине мира.
Человек, которого невозможно опорочить.
* * *
За год, проведенный в Европе, я ни разу не был в Германии, почти все восхождения совершая во Франции и Швейцарии, хотя в Швейцарии мы встречали довольно много немцев; одни были настроены дружелюбно, другие не очень. Когда я познакомился с Жан-Клодом и Диконом, мы втроем стояли у Северной стены горы Эйгер, соглашаясь, что эта стена недоступна для современного снаряжения и техники скалолазания. Неподалеку стояла группа из пяти очень упорных, очень самонадеянных и очень недружелюбных немцев, которые вели себя так, словно на самом деле собирались подняться по der Eigerwand — стене Северного склона. Разумеется, им это не удалось. Они едва преодолели расщелину и первые 100 футов склона, а затем отказались от своей безрассудной попытки. По пути в Германию мы с Диконом сначала вернулись во Францию, где он должен был уладить какие-то финансовые дела, пересекли Швейцарию и из Цюриха направились на север, к границе, где пересели на другой поезд, поскольку ширина железнодорожных рельсов в Германии отличалась от той, что была принята в окружающих странах. Это была оборонительная мера, принятая соседями Германии, даже несмотря на то, что, согласно Версальскому договору, бывшая империя кайзера подлежала разоружению. Дикон приглушенным голосом — несмотря на то, что мы ехали в отдельном купе (благодаря средствам на расходы, выделенным леди Бромли) — рассказал мне, что нынешнее правительство Веймарской республики довольно слабое и больше похоже на дискуссионный клуб людей с левыми взглядами. Утром мы прибываем в Мюнхен. День выдался дождливым, и низкие серые тучи быстро бегут на запад, навстречу поезду. Мои первые впечатления от Германии ноября 1924 года немного сумбурные. Аккуратные деревни — нависающие карнизы, современные строения вперемежку с домами и общественными зданиями, которые выглядят так, словно были построены в Средние века. Мокрая от дождя брусчатка отражает слабый дневной свет. Редкие люди на деревенских улицах одеты в комбинезоны, как крестьяне или рабочие, но среди них попадаются и мужчины в современных двубортных костюмах серого цвета, с кожаными портфелями в руках. Однако все, кого я вижу из окна поезда — крестьяне, рабочие и бизнесмены, — выглядят… какими-то придавленными. Словно сила тяжести в Германии больше, чем в Англии, Франции и Швейцарии. Даже молодые люди в деловых костюмах, спешащие по своим делам под мокрыми зонтами, кажутся немного согнутыми, сгорбленными — головы у них опущены, взгляд обращен вниз, как будто каждый несет на плечах невидимый груз. Затем мы проезжаем промышленную зону, состоящую из длинных грязных зданий из кирпича и шлакоблоков посреди гор шлака. Несколько башен и заводских труб выбрасывают в небо огромные языки пламени, от которых бегущие дождевые облака приобретают оранжевый оттенок. Я не вижу ни одного человеческого существа среди этого ландшафта — миля за милей мимо окна нашего вагона скользят под дождем только эти уродливые громадины, а также горы угля, шлака, песка и просто мусора. — В январе прошлого года, — говорит Дикон, — немецкое правительство отказалось выплачивать репарации, которые были одним из условий мирного договора. Курс марки упал с семидесяти пяти за доллар в тысяча девятьсот двадцать первом году до семи тысяч за доллар в начале двадцать третьего. Немецкое правительство попросило союзников объявить мораторий на выплаты репараций, по крайней мере, пока марка не начнет укрепляться. Ответ от лица союзников дала Франция. Бывший президент и нынешний премьер-министр Пуанкаре отправил французские войска, чтобы оккупировать Рур и другие промышленные районы в самом сердце Германии. Когда войска прибыли — в январе прошлого, двадцать третьего года, — курс марки обвалился до восемнадцати тысяч за доллар, затем достиг ста шестидесяти тысяч за доллар, а к первому августа прошлого года за доллар давали уже миллион марок. Я пытаюсь осмыслить сказанное Диконом. Экономика всегда навевала на меня скуку, и хотя я читал в газетах, что французские войска вошли в Германию, чтобы оккупировать промышленные районы, но уж точно не обращал внимания, что эта оккупация точно так же угнетала немецкую экономику, как последствия мировой войны. — К ноябрю прошлого года, — продолжает Дикон, наклоняясь ко мне и понижая голос почти до шепота, — один доллар стоил четыре миллиарда немецких марок. Французские войска в Руре контролировали все промышленное производство, речной транспорт, экспорт стали, и Германия фактически оказалась разделенной надвое. Поэтому в прошлом году немецкие промышленные рабочие, трудившиеся под вооруженной охраной и надзором оккупационных французских войск на всех заводах, которые мы проезжаем, объявили всеобщую забастовку — и благодаря пассивному сопротивлению немецких рабочих, саботажу и даже партизанским действиям на большинстве этих предприятий, а также во всем Руре производство стали и всего остального практически остановилось. Французы арестовывали, депортировали и даже расстреливали предполагаемых зачинщиков, но это ни к чему не привело. — Господи, — бормочу я. Дикон кивком указывает на мужчин и женщин на улице. — В прошлом году эти люди узнали, что даже если у них на банковском счету миллионы марок, этого не хватит, чтобы купить фунт муки или несколько вялых морковок. И забыли о возможности заплатить за несколько унций сахара или фунт мяса. Он тяжело вздыхает и указывает на мокрый от дождя пригород Мюнхена, в который мы въезжаем. — Здесь очень много отчаяния и злости, Джейк. Будь осторожен, когда мы пойдем на встречу с Зиглем. Американцы, даже несмотря на то, что они помогли выиграть войну, тут экзотика. Но многие, хотя и не все, открыто ненавидят британцев и французов, и Жан-Клоду не гарантируется личная безопасность на улицах Мюнхена. — Буду осторожен, — обещаю я, хотя не имею ни малейшего представления ни о характере этой «осторожности», ни о ее размерах в этой странной, печальной и обозленной стране. Дикон не бронировал нам места в гостинице. У нас билеты в спальный вагон поезда на Цюрих, отправляющегося в десять вечера. Меня это удивляет, потому что на деньги, которые выдала нам на расходы леди Бромли, можно снять роскошные номера в отелях Мюнхена. Я знаю, что, в отличие от Жан-Клода, Дикон не испытывает ненависти к Германии или немцам — мне также известно, что он часто приезжал сюда после войны, — и поэтому из города сегодня вечером нас гонит, не давая провести ночь в достойных условиях, вовсе не тревога и не страх. Я чувствую, что Дикона почему-то беспокоит этот простой разговор с альпинистом Бруно Зиглем, но не понимаю почему. В краткой телеграмме Зигль выражал согласие встретиться с нами — ненадолго, поскольку он очень занятой человек (его собственные слова) — в Мюнхене, в пивном зале под названием «Бюргербройкеллер» на юго-восточной окраине города. Встреча назначена на семь вечера, и у нас с Диконом есть время, чтобы оставить нераспакованный багаж на железнодорожном вокзале, немного привести себя в порядок в туалете для пассажиров первого класса и побродить под нашими черными зонтами час-другой по странным улицам без магазинов в центре Мюнхена, а затем взять такси и поехать на окраину города. Мюнхен выглядит старым, но не кажется мне живописным или привлекательным. Сильный дождь по-прежнему барабанит по черепичным крышам, а на улицах темно и холодно, как ноябрьским вечером в Бостоне. Всю свою сознательную жизнь я считал, что мое знакомство с Германией начнется с прогулки по Унтер-ден-Линден при роскошном вечернем свете, а сотни хорошо одетых и дружелюбных немцев будут гулять рядом и кивать мне: «Guten Abend».[17] Дождь льет, как из ведра, и стеклоочистители такси бесполезно хлопают по ручейкам воды на ветровом стекле. Мы переезжаем реку по широкому, пустому мосту, и через несколько минут угрюмый водитель на ломаном английском объявляет, что мы «hier»[18] — у die Bürgerbräukeller на Rosenheimer Strasse в районе Haidhausen, — и требует с нас сумму, в три раза превышающую официальную. Дикон безропотно платит, отсчитывая огромную стопку купюр с многочисленными нулями, как будто это игрушечные деньги. В пивной зал ведет громадная каменная арка со словами: Bürger Bräu Keller Эти слова теснятся вдоль полукруглого, тяжелого венка, неуклюжего каменного овала с замковым камнем внизу. С арки стекают капли воды, которая льется с крутой черепичной крыши и нескольких переполненных водосточных труб. Мы идем через арку к дверям, и это больше похоже на вход на железнодорожный вокзал, а не в бар или ресторан. По крайней мере, в фойе не идет дождь. Войдя в зал «Бюргербройкеллер», мы с Диконом застываем в изумлении. Помимо самого факта, что здесь присутствуют две или три тысячи человек — в основном мужчины, жадно глотающие пиво из каменных кружек за столами, настолько грубыми, словно их вырезали в лесу сегодня днем, — сам зал просто огромен, гораздо больше, чем в любом ресторане или пабе, который мне приходилось видеть. Шум голосов и звуки аккордеонов — если это не крики людей, которых пытают, — обрушиваются на меня, словно удар кулака. Следующий удар — вонь: три тысячи плохо или совсем не мытых немцев, в основном рабочих, судя по их грубой одежде, и с этой стеной пота, накрывшей нас, словно громадная волна, смешивается запах пива, такой сильный, что мне кажется, что я упал в пивной чан. — Герр Дикон? Идите сюда. Сюда! — Этот приказ, а не приглашение, выкрикивает мужчина, стоящий у занятого стола посередине битком набитого зала. Стоящий мужчина — как я полагаю, Бруно Зигль — наблюдает, как мы пробираемся сквозь этот бедлам, пристальным взглядом своих холодных голубых глаз. В Европе у Зигля репутация опытного альпиниста — судя по специализированным журналам, ему особенно хорошо удается прокладывать маршруты на непокоренных скальных стенах в Альпах, — но если не считать мощных предплечий, выглядывающих из закатанных рукавов темно-коричневой рубашки, он совсем не похож на покорителя гор. Нарочито и чрезмерно мускулистый, со слишком массивной верхней частью туловища, слишком коренастый, слишком тяжелый. Белокурые волосы Зигля на макушке пострижены так коротко, что похожи на плоскую щетку, а по бокам головы гладко выбриты. У многих сидящих за столом мужчин, еще более массивных, точно такие же прически. Зиглю она не очень идет, потому что его большие уши нелепо торчат по обе стороны гранитной глыбы лица. — Герр Дикон, — говорит Зигль, когда мы подходим к столу. Низкий голос немца проходит сквозь гул пивного зала, словно нож сквозь мягкую плоть. — Willkommen in München, meine Kolleginnen und Kletterer.[19] Я читал о многих ваших блестящих восхождениях в «Альпийском журнале» и других местах. По-английски Бруно Зигль, как и следовало ожидать, говорит с немецким акцентом, но свободно и бегло — по крайней мере, для моего нетренированного уха. Я знал, что Дикон говорит по-немецки так же свободно, как и по-французски, по-итальянски и на некоторых других языках, но до сих пор удивляюсь, как быстро и уверенно он отвечает Зиглю. — Vielen Dank, Herr Sigl. Ich habe von Ihrer Erfolge und Heldentaten zu lesen als auch.[20] Ночью, когда мы возвращались в поезде домой, Дикон по памяти переведет все, что говорили Зигль и другие немцы, а также свои собственные ответы. Я правильно догадался, что Дикон отвечает Зиглю комплиментом на комплимент, говоря, что тоже читал о достижениях и успехах немца в горах. — Герр Джейкоб Перри, — произносит Зигль, сжимая мою ладонь словно гранитными тисками, так что я чувствую мозоли скалолаза. — Из бостонских Перри. Добро пожаловать в München. Из бостонских Перри? Что этот немецкий альпинист знает о моей семье? И Зигль каким-то образом умудрился произнести имя «Джейкоб», по-немецки смягчив первый звук, так что оно стало похоже на еврейское. Зигль одет в ледерхозен — кожаные шорты и нагрудник — поверх коричневой рубашки военного образца с высоко закатанными рукавами — и выглядит довольно странно среди всех этих мятых деловых костюмов, заполнивших гигантский пивной зал, но его массивные загорелые бедра, руки и слишком большие, словно вылепленные Роденом ладони придают ему властный вид — почти как у бога. Взмахом руки он указывает на скамью напротив себя — несколько человек сдвигаются, чтобы освободить место, не отрываясь от своих кружек с пивом, — и мы с Диконом садимся, готовые к разговору. Зигль подзывает официанта и заказывает пиво. Я разочарован. Я ожидал, что пиво будут разносить Fräuleins[21] в крестьянских блузах с низким вырезом, но все официанты здесь мужчины в ледерхозенах, с подносами гигантских каменных кружек. Очень хочется есть — прошло много времени с тех пор, как мы с Диконом съели легкий ланч в поезде, но все столы вокруг нас пустые, если не считать пятен от пива и волосатых мужских рук. Очевидно, либо время еды уже прошло, либо тут ничего не подают, кроме пива. Наши кружки приносят почти мгновенно, и должен признаться, что мне еще не приходилось пить такого вкусного, крепкого немецкого пива из ледяной каменной кружки. Подняв эту штуковину три раза, я начинаю понимать, почему у всехмужчин на нашей стороне стола такие громадные бицепсы. — Джентльмены, — говорит Зигль, — позвольте представить нескольких моих друзей, сидящих за этим столом. Увы, никто из них не знает ваш язык достаточно хорошо, чтобы говорить по-английски сегодня вечером. — Но они понимают? — спрашивает Дикон. Зигль тонко улыбается. — Не особенно. Слева от меня — герр Ульрих Граф. Герр Граф — высокий, худой мужчина с густыми и нелепо черными усами. Мы киваем друг другу. Думаю, никаких рукопожатий больше не будет. — Ульрих был его личным телохранителем и в ноябре прошлого года заслонил его своим телом, получив несколько серьезных пулевых ранений. Но, как вы видите, он быстро поправляется. Я слышу странное, почти благоговейное выделение слова «его», но понятия не имею, о ком они говорят. Похоже, Зигль не собирается меня просвещать, и я, не дожидаясь дальнейших знакомств, поворачиваюсь к Дикону в надежде на подсказку. Но Дикон смотрит на людей на противоположной стороне стола, которых ему представляют, и не отвечает на мой вопросительный взгляд. — Слева от герра Графа — герр Рудольф Гесс, — продолжает Зигль. — Герр Гесс командовал батальоном СА во время акции в минувшем ноябре. У Гесса странная внешность: слишком большие уши, темная пятичасовая щетина — вероятно, он относится к той категории людей, которые бреются два или три раза в день, если у них есть достойная работа или им приходится общаться с людьми, — и печальные глаза под густыми, словно нарисованными бровями, которые все то время, что я на него смотрю, либо удивленно подняты, либо сердито опущены. Гесс напоминает мне сумасшедшего, которого я как-то встретил в городском сквере Бостона, когда был еще мальчишкой, — безумца, сбежавшего из ближайшей психушки, которого мирно задержали три одетых в белое санитара в тридцати футах от меня. Тот сумасшедший шаркающей походкой шел вокруг озера прямо ко мне, как будто ему поручена миссия, справиться с которой может только он, и при взгляде на Гесса у меня мурашки бегут по коже, как в детстве, около лодочного павильона. Я по-прежнему не понимаю, что это за «акция в минувшем ноябре», но подозреваю, что речь идет о боевых действиях. Это может объяснить, почему столько мужчин за столом одеты в коричневые рубашки армейского покроя с погонами. Попытка вспомнить, какие новости приходили из Германии в ноябре 1923 года, ни к чему не приводит поскольку тот месяц я провел на Монблане и соседних вершинах, и не помню, что слышал по радио или читал в газетах — большинство из них были на французском или немецком — те несколько раз, когда мы останавливались в швейцарских гостиницах. Прошлый год был для меня каникулами, посвященными исключительно альпинизму, когда я был практически полностью отрезан от мира — до тех пор, пока мы не прочли об исчезновении Мэллори и Ирвина на Эвересте, — и какая бы «акция» ни происходила в Мюнхене в минувшем ноябре, она не привлекла мое внимание. Полагаю, это была очередная политическая глупость, которые совершали обе стороны политического спектра, с тех пор как после свержения кайзера власть перешла к Веймарской республике. Но в любом случае это не имеет отношения к причине, которая заставила нас приехать в Мюнхен для разговора с Зиглем. А вот имена шестерых альпинистов, которых нам теперь представляет Зигль, шестерых мужчин с волосатыми руками, сидящих на скамье у длинного стола, имеют к этому самое прямое отношение. — Во-первых, позвольте мне представить нашего второго ведущего альпиниста наряду со мной, — говорит Зигль, протягивая раскрытую ладонь к загорелому мужчине с худым лицом, бородой и мрачным взглядом, сидящим справа от меня. — Герр Карл Бахнер. — Знакомство с вами — большая честь, — произносит Дикон. Затем повторяет по-немецки. Бахнер слегка наклоняет голову. — Герр Бахнер, — продолжает Зигль, — был учителем многих лучших мюнхенских и баварских альпинистов — то есть, естественно, лучших альпинистов мира — в Akademischer Alpenverein München, альпинистском клубе Мюнхенского университета… Сколько раз за время учебы в Гарварде я мечтал, чтобы мой колледж имел официальные связи с таким альпинистским клубом, как мюнхенский? Несмотря на то, что несколько наших профессоров занимались альпинизмом и помогали организовывать экспедиции на Аляску и в Скалистые горы, но до основания Гарвардского альпинистского клуба оставалось еще несколько лет. — Герр Бахнер также является руководителем объединенного Deutschen und Österreichen Alpenvereins, — говорит Зигль. Эту фразу по-немецки могу понять даже я. Из альпинистских журналов мне известно, что Карл Бахнер был инициатором объединения немецкого и австрийского альпинистских клубов. Зигль указывает на следующих двух молодых людей, сидящих за Бахнером. — Полагаю, вы читали о последних подвигах Артура Фольценбрехта на ледниках… Тот, который сидит ближе ко мне, кивает нам. — …а это его партнер, Ойген Оллвайс. Я знаю, что этот молодой человек изобрел короткий ледоруб — на самом деле молоток для льда, — который позволяет с помощью крюков и ледобуров быстро взбираться по ледяным стенам, которые успешно отражают наши старомодные попытки вырубить ступени во льду. Британские альпинисты вроде Дикона презрительно называют эту технику «висеть и рубить». — На прошлой неделе Артур и Ойген поднялись по прямому маршруту на северную стену Дан д'Эран за шестнадцать часов. Я удивленно присвистываю. Шестнадцать часов на подъем по северной стене, одной из самых сложных в Европе? Если это правда — а немцы, похоже, никогда не лгут насчет своих восхождений, — тогда эти два человека, пьющие пиво справа от меня, открыли новую эру в истории альпинизма. Дикон на беглом немецком произносит какую-то фразу, которую впоследствии переводит мне: — Джентльмены, у вас, случайно, нет с собой ваших новых ледорубов? Артур Фольценбрехт опускает руку под стол и достает не один, а два коротких ледоруба, рукоятки которых раза в три меньше деревянной рукоятки моего, а наконечники более острые и изогнутые. Фольценбрехт кладет это революционное альпинистское снаряжение на стол перед собой, но не протягивает Дикону или мне для более тщательного осмотра. Но это не имеет значения. Одного взгляда на укороченные молотки для льда (это более подходящий термин) достаточно, чтобы представить, как двое альпинистов карабкаются на скованную льдом северную стену Дан д'Эран, на всем пути вбивая длинные крючья или вкручивая недавно изобретенные немецкие ледобуры, которые обеспечивают их безопасность. И еще я не сомневаюсь, что они также использовали «кошки» с 10 зубьями, которые изобрел в 1908 году англичанин Оскар Экенштейн, но которые не пользовались популярностью у английских альпинистов. С помощью «кошек» и ледорубов прокладывали путь по гигантской ледяной стене. Это не просто изобретательно — блестяще. Только я не уверен, что это честно и что в этом есть смысл. Зигль представил нам трех остальных альпинистов — Гюнтера Эрика Ригеле, который два года назад, в 1922 году, успешно приспособил немецкий крюк для работы на льду, очень молодого Карла Шнайдера, о котором я читал удивительные вещи, и Йозефа Вьена, альпиниста постарше, с наголо обритой головой, мечтавшего — судя по сообщениям в журналах для альпинистов — повести совместные советско-германские экспедиции на пик Ленина и другие неприступные вершины в горах Памира и Кавказа. Дикон на своем хорошем немецком говорит, что для нас с ним знакомство с выдающимися баварскими альпинистами — это большая честь. Шестеро мужчин — семеро, если считать Бруно Зигля, — выслушивают комплимент, не моргнув глазом. Дикон, не торопясь, делает большой глоток пива из каменной кружки и обращается к Бруно Зиглю: — Теперь можно открывать дискуссию? — Это будет не «дискуссия», как вы это называете, — рявкает тот. — Это будет допрос — как будто я в английском суде. Я изумленно смотрю на него, но Дикон лишь улыбается в ответ. — Вовсе нет. Будь мы в английском суде, я надел бы смешной белый парик, а вы бы сидели на скамье. Зигль хмурится. — Я всего лишь свидетель, герр Дикон. В английском суде на скамье сидит ответчик, обычно виновная сторона, разве не так? Свидетель сидит… где? На стуле рядом с судьей, ja?[22] — Ja, — соглашается Дикон, не переставая улыбаться. — Постараюсь исправиться. Может, вы предпочитаете общаться по-немецки, чтобы ваши друзья могли понимать нас? Джейку я переведу позже. — Nein,[23] — отвечает Бруно Зигль. — Мы будем говорить по-английски. Ваш берлинский акцент неприятен для моего баварского уха. — Мне жаль, — говорит Дикон. — Но мы согласились, что вы были единственным свидетелем того, как лорд Персиваль Бромли и его товарищ Курт Майер погибли под снежной лавиной, так? — Какие власти уполномочили вас, герр Дикон, допрашивать… или даже расспрашивать меня? — Никакие, — спокойно отвечает Дикон. — Мы с Джейком Перри приехали в Мюнхен поговорить с вами в качестве личного одолжения леди Бромли, которая по вполне понятным причинам просто хочет знать подробности внезапной гибели в горах своего сына. — Одолжения леди Бромли. — Даже сильный немецкий акцент Зигля не в силах скрыть явный сарказм. — Полагаю, за этим… одолжением стоят деньги. Дикон ждет, продолжая улыбаться. Наконец Зигль с грохотом ставит на стол пустую каменную кружку, машет бдительному официанту, чтобы тот принес еще одну, и угрюмо бормочет: — Все, что я видел, я сообщил немецким газетам, немецкому альпинистскому журналу и вашему Альпийскому клубу Королевского географического общества. — Очень короткое сообщение, — замечает Дикон. — Лавина сошла очень быстро, — огрызается Зигль. — Вы участвовали в обеих предыдущих экспедициях Мэллори на Эверест. Надеюсь, вы видели снежные лавины? По крайней мере, в Альпах? Дикон дважды кивает. — Тогда вам известно, что человек может стоять в каком-то месте, а через секунду его уже нет. — Да, — соглашается Дикон. — Только мне трудно понять, что лорд Персиваль и человек по имени Майер вообще делали на той горе. Зачем они туда пришли? А вы с шестью вашими немецкими друзьями? Журналы передавали ваши слова о том, что вы и еще несколько немецких… исследователей… пришли в Тибет через Китай. Что вы получили разрешение от китайских, а не от тибетских властей, но по какой-то причине дзонгпены воспринимали его как официальный пропуск. Газете «Франкфуртер цайтунг» вы сообщили, что изменили маршрут, когда в Тингри узнали, что немец и англичанин наняли яков и приобрели альпинистское снаряжение в тибетском городе Тингри-дзонг и что вы с друзьями отправились на юг… из чистого любопытства. И всё. — Все, что я рассказал газетам, — правда. — Тон Зигля категоричен. — Вы с вашим американским другом специально приехали в Мюнхен, чтобы я подтвердил то, что уже объяснял? — Большая часть этих объяснений почти или полностью лишена смысла, — говорит Дикон. — Леди Бромли, мать молодого лорда Персиваля, будет очень благодарна, если вы поможете восстановить отсутствующие факты. Это все, что ей нужно. — И вы проделали весь этот путь, чтобы помочь старой леди узнать еще несколько… как это будет по-английски… пикантных подробностей о смерти ее сына? — Улыбка Зигля больше похожа на оскал. Я удивляюсь, как Дикону удается сохранять самообладание. — А Курт Майер был членом вашей… э-э… исследовательской группы? — спрашивает он. — Nein! Мы никогда не слышали о нем, пока тибетцы в Тингри-дзонге не назвали его имя, сообщив, что он вместе с лордом Персивалем Бромли из Англии поехал на юго-восток, к Ронгбуку. — Значит, Майер не альпинист? Зигль делает большой глоток пива, рыгает и пожимает плечами. — Никто из нас не слышал о Курте Майере. О нем мы узнали только от тибетцев из Тингри, которые с ним разговаривали. Сидящие за этим столом знакомы почти со всеми настоящими альпинистами Германии и Австрии. Ja, meine Freunde? — этот вопрос Зигль адресует своим немецким товарищам. Они кивают, и кто-то отвечает: «Ja», — хотя Зигль только что убеждал нас, что они не понимают английского. Дикон вздыхает. — Я задаю вам вопросы, герр Зигль, отчего у вас может сложиться впечатление, что вы на заседании суда. Может, просто подробно расскажете нам, почему вы оказались там, на подходах к Эвересту, и что вы видели — касательно лорда Персиваля Бромли и Курта Майера? Возможно, вам даже известно, почему их лошади были застрелены. — Когда мы прибыли, лошади уже лежали там, мертвые, — говорит Зигль. — В районе первого лагеря, как вам известно, герр Дикон, очень неровная морена. Возможно, лошади переломали себе ноги. А может, герр Бромли или герр Майер сошли с ума и пристрелили лошадей. Кто знает? — Немецкий альпинист снова пожимает плечами и продолжает: — А что касается причины нашего «преследования» Бромли и Майера до ледника Ронгбук, я открою вам то, о чем не говорил никому, даже местным газетам. Я и шесть моих друзей просто хотели познакомиться с Джорджем Мэллори, полковником Нортоном и другими альпинистами, которые, по нашим сведениям, собирались покорить Эверест той весной. Совершенно очевидно, что, поскольку большая часть нашего маршрута проходила через Китай, мы не знали о гибели Мэллори и Ирвина, и даже о том, что экспедиция достигла горы. Но когда тибетцы в Тингри сказали нам, что Бромли направился к горе, которую они называют Джомолунгма, мы подумали — как выражаетесь вы, англичане и американцы: «почему нет?» И поэтому повернули на юго-восток вместо того, чтобы возвращаться на север. (Итак, мы пошли скорее на юго-восток, чем обратно на север. Акцент Зигля почему-то становится мне неприятен.) — Однако, — вежливо, но настойчиво продолжает Дикон, — когда вы увидели, что базовый лагерь Нортона и Мэллори пуст, за исключением обрывков палаток и груд несъеденных консервов, то должны были понять, что экспедиция уже ушла. Почему вы продолжили подъем по леднику до самого Северного седла и даже выше? — Потому что увидели две фигуры, спускающиеся с Северного хребта, и нам было очевидно, что они в беде, — огрызается Зигль. — Вы смогли это увидеть из базового лагеря, в двенадцати милях от горы Эверест? — спрашивает Дикон, но скорее с удивлением, чем с вызовом. — Nein, nein! Когда мы нашли мертвых лошадей, то поднялись во второй лагерь, подумав, что Бромли и этот Майер, о котором мы никогда не слышали, попали в беду. Мы видели их на гребне из второго лагеря Мэллори. У нас были немецкие полевые бинокли — «Цейсс», лучшие в мире. Дикон кивает, подтверждая этот факт. — Значит, вы поставили палатки на месте третьего лагеря Мэллори, прямо под тысячефутовым подъемом к Северному седлу, затем взобрались на само седло. Вы пользовались веревочной лестницей, которую группа Нортона оставила на последнем, вертикальном участке высотой около ста футов? Щелчком пальцев Зигль отметает это предположение. — Мы не использовали ни старых веревочных лестниц, ни закрепленных веревок. Только наши новые ледорубы и другие немецкие приспособления для подъема по ледяным стенам. — Ками Чиринг сообщил, что видел несколько ваших людей, которые спускались с седла по веревочной лестнице Сэнди Ирвина, — говорит Дикон. — Кто такой Ками Чиринг? — спрашивает Зигль. — Шерпа, которого вы встретили в тот день около третьего лагеря и на которого направили револьвер. Кому вы рассказали о смерти Бромли. Бруно Зигль пожимает плечами и ухмыляется. — Шерпа. Вот, значит, что… Шерпы все время лгут. И тибетцы. Я вместе со своими шестью друзьями даже не приближался к старой веревочной лестнице. Видите ли, в этом просто не было нужды. — Значит, у вас была чисто исследовательская экспедиция в Китай, но вы захватили с собой альпинистское снаряжение для скал и льда. — Дикон достает трубку и начинает ее набивать. В огромном зале так накурено, что одна трубка ничего не изменит. — В Китае есть горы и крутые перевалы, герр Дикон. — Тон Зигля меняется с угрюмого на презрительный. — Я не хотел прерывать ваше повествование, герр Зигль. Зигль снова пожимает плечами. — Мое… повествование, как вы его назвали… подходит к концу, герр Дикон. Мы с друзьями поднялись на Северное седло потому, что увидели, что двум фигуркам, спускавшимся с Северного хребта, нужна помощь. Один, похоже, был поражен снежной слепотой, и второй его вел, буквально держал. — Значит, вы разбили лагерь на Северном седле? — спрашивает Дикон, раскуривая трубку и затягиваясь. — Нет! — вскрикивает Зигль. — У нас не было лагеря на Северном седле. — Ками Чиринг видел как минимум две палатки на том же карнизе седла, что Нортон и Мэллори использовали для четвертого лагеря, — говорит Дикон. И снова в его голосе звучит лишь удивление, а не вызов. Человек просто пытается прояснить кое-какие факты, чтобы помочь убитой горем матери узнать обстоятельства странного исчезновения сына. — Палатки принадлежали Бромли, — отвечает Зигль. — Одна уже была изодрана сильным ветром. Тем ветром, который заставил Бромли и Майера отступить с вершины гребня на ненадежный снег склона прямо над пятым лагерем. Я кричал им по-английски и по-немецки, чтобы они не ступали на склон — что снег там ненадежен, — однако они либо не слышали меня из-за ветра, либо не послушались. Густые брови Дикона слегка приподнимаются. — Вы находились достаточно близко, чтобы разговаривать с ними? — Кричать, — поясняет Зигль тоном, каким обычно разговаривают с непонятливым ребенком. — До них было метров тридцать, не меньше. Затем снег у них под ногами пришел в движение, и ревущая белая масса понеслась вниз. Они исчезли под лавиной, и мы больше их не видели. — Вы не попытались спуститься и посмотреть — может, они живы? — В голосе Дикона нет осуждения, но Зигль вспыхивает, словно его оскорбили. — Спуститься по склону было невозможно. Там не осталось склона. Весь снег был унесен лавиной, и у нас не оставалось сомнений, что молодой Бромли и Курт Майер погибли — погребены под тоннами снега в нескольких тысячах футов под нами. Мертвы. Kaput. Дикон понимающе кивает, словно соглашаясь. Я вспоминаю, что он видел — и предупреждал Мэллори против попыток подняться по нему — длинный снежный склон, ведущий к Северному седлу, тот самый склон, на котором в 1922 году во время экспедиции на Эверест лавина убила семерых носильщиков Мэллори. — В своих газетных интервью вы говорили, а теперь повторили еще раз, что ветер на грабене,[24] поднимающемся к шестому лагерю, был настолько силен, что лорд Персиваль и герр Майер были вынуждены отступить к скалам и ледяным полям Северной стены и спуститься к пятому лагерю. — Ja, совершенно верно. — По всей видимости, герр Зигль, вы тоже были вынуждены спуститься с гребня на склон, когда искали двоих людей. Это значит, что вы встретили их, видели их, кричали им — а они вам — уже на склоне, а не на гребне. Что объясняет лавину, которой не могло быть на самом гребне. — Да, — подтверждает Зигль. Тон у него решительный, словно этим словом он ставит точку в нашем разговоре. — И тем не менее, — продолжает Дикон, складывая ладони словно в молитвенном жесте, вы говорите мне, что и вы, и двое несчастных могли слышать друг друга на расстоянии более тридцати метров — сотни футов, — несмотря на рев ветра на гребне. — На что вы намекаете, Englander?[25] — Я ни на что не намекаю, — говорит Дикон. — Просто вспоминаю, что когда я сам был на том гребне в тысяча девятьсот двадцать втором и вместе с двумя другими альпинистами был вынужден из-за ветра спуститься на скалы Северной стены, мы не слышали криков друг друга даже на расстоянии пяти шагов, не говоря уже о тридцати метрах. — То есть вы называете меня лжецом? — Голос у Зигля тихий, но очень напряженный. Он убирает локти со стола, и его правая рука опускается к широкому ремню, словно он собрался что-то выхватить — маленький пистолет или нож. Дикон медленно вынимает изо рта трубку и кладет обе руки — с длинными пальцами, все в шрамах, какие бывают у скалолаза, — на стол. — Герр Зигль, я не называю вас лжецом. Я просто пытаюсь восстановить последние минуты жизни Бромли и его товарища, австрийского альпиниста, чтобы во всех подробностях передать их леди Бромли, которая места себе не находит от горя. До такой степени, что вообразила, что ее сын все еще жив, где-то там, на горе. Я предполагаю, что когда вы покинули гребень, чтобы продолжить подъем по склону, то рев ветра утих и Бромли смог услышать ваши крики с расстояния тридцати метров. — Ja, — подтверждает Зигль, его лицо все еще перекошено от гнева. — Именно так все и было. — Что именно, — спрашивает Дикон, — вы кричали им, и особенно Бромли, и что они вам успели ответить, прежде чем сошла лавина? И кто из них, по всей видимости, был поражен снежной слепотой? Зигль колеблется, словно дальнейшее участие в разговоре будет равносильно поражению. Но потом отвечает. Его товарищ со странными бровями и тревожным взглядом, герр Гесс, похоже, внимательно следит за обменом репликами по-английски, но я не уверен. Возможно, он просто пытается понять отдельные слова или с нетерпением ждет, когда Зигль переведет ему. Как бы то ни было, происходящее ему явно интересно. Кроме того, я убежден — хотя причину объяснить не могу, — что сидящий справа от меня человек, знаменитый альпинист Карл Бахнер, точно понимает английские фразы, которыми обмениваются Дикон и Зигль. — Я крикнул Бромли, который, похоже, вел ослепшего и спотыкавшегося Майера, зачем они забрались так высоко, а потом спросил, не нужна ли им помощь. — А шесть ваших немецких друзей, исследователей, тоже были с вами на гребне, когда вы обращались к Бромли? — спрашивает Дикон. Зигль качает своей коротко стриженной и частично обритой головой. — Nein, nein. Мои друзья хуже переносили условия высокогорья, чем я. Одни отдыхали в третьем лагере — как его называла ваша английская экспедиция, — а другие просто поднялись на Северное седло. На Северный гребень и к пятому лагерю я пошел один. Я уже объяснял разным газетам и альпинистским журналам, что был один, когда встретил Бромли и его пораженного снежной слепотой товарища. Полагаю, вы все это читали, прежде чем прийти сюда. — Разумеется, — говорит Дикон и снова берет трубку. Немец вздыхает, словно жалуясь на непроходимую тупость своего английского собеседника. — Если вы не против, я хотел бы узнать, какова была ваша цель, герр Зигль? Куда вы направлялись со всеми этими монгольскими лошадьми, мулами и снаряжением? — Попытаться встретиться с Джорджем Мэллори и полковником Нортоном и, возможно, герр Дикон, провести рекогносцировку Эвереста на расстоянии. Как я уже говорил. — И возможно, взойти на вершину? — спрашивает Дикон. — Взойти? — повторяет Бруно Зигль, затем смеется резким, неприятным смехом. — У нас с друзьями было только самое примитивное альпинистское снаряжение — с таким невозможно даже думать о покорении такой горы. Кроме того, муссон и так задерживался на несколько недель и мог обрушиться на нас в любую минуту. Именно ваш Бромли был настолько глуп, что решил, что может взойти на Эверест, используя несколько банок консервов, потертые веревочные лестницы и засыпанные снегом закрепленные веревки, которые оставила после себя экспедиция Мэллори. Бромли был дураком. Полным дураком. И оставался им до самых своих последних шагов по ненадежному снегу. Он убил не только себя, но и моего соотечественника. Несколько немецких альпинистов справа от меня согласно кивают; тот парень, Рудольф Гесс, тоже. Здоровяк с бритой головой рядом с Зиглем, Ульрих Граф, которого представили как чьего-то телохранителя, продолжает смотреть прямо перед собой, и взгляд у него отрешенный, словно он пьян или ему все это неинтересно. — Мой дорогой герр Дикон, — продолжает Зигль. — По общему мнению, гора Эверест не подходит для одиночного восхождения. — Он пристально смотрит на меня. — Или даже для двух… или трех… честолюбивых альпинистов, поклонников альпийского стиля из разных стран. Гору Эверест не покорить альпийским стилем. Или в одиночку. Нет, я всего лишь хотел взглянуть на гору издали. Кроме того, это ведь английская гора, не так ли? — Вовсе нет, — говорит Дикон. — Она принадлежит тому, кто покорит ее первым. Что бы там ни думал Альпийский клуб Королевского географического общества. Зигль усмехается. — В тот последний день вы кричали Бромли и Майеру, находящимся на склоне… — продолжает Дикон. — Вы не могли бы еще раз повторить, что именно? — Как я уже говорил, всего несколько слов, — говорит Зигль; похоже, он раздражен. Дикон ждет. — Я спросил их — крикнул, — зачем они поднялись так высоко, — повторяет Зигль. — А потом спросил, не нужна ли помощь… они явно в ней нуждались. Майер, по всей видимости, страдал от снежной слепоты и так выбился из сил, что не мог стоять без поддержки Бромли. Сам британский лорд выглядел смущенным, потерянным… ошеломленным. Он делает паузу и прихлебывает пиво. — Я предупредил их, чтобы они не ступали на снежный склон, но они не послушались, а потом сошла лавина, положившая конец нашему разговору… навсегда, — говорит Зигль, явно не желая вновь пересказывать всю историю. — Вы говорили, что кричали по-немецки и по-английски, — продолжает Дикон. — Майер отвечал вам по-немецки? — Nein, — говорит Зигль. — Человек, которого тибетцы называли Куртом Майером, выглядел очень измученным, страдал от снежной слепоты и не мог говорить. Он не произнес ни слова. Ни единого, до той самой секунды, когда лавина накрыла его. — Вы им что-нибудь еще говорили… кричали? Зигль качает головой. — Снег под ними сдвинулся, и лавина смела их со склона Эвереста, а я вернулся на более надежный гребень — почти полз из-за шквального ветра, — потом спустился к четвертому лагерю, потом на Северное седло и к подножию горы. — Вы не видели каких-либо признаков тел? — спрашивает Дикон. Зигль явно злится. Губы у него побелели, голос похож на лай. — От той точки на Северной стене до ледника Ронгбук внизу больше пяти ваших verdammte[26] английских миль! И я не искал их тела в восьми километрах ниже себя, герр Дикон, я использовал свой ледоруб, чтобы выбраться со своей ненадежной глыбы снега — которая в любую секунду могла присоединиться к остальной лавине — и вернуться на обледенелые скалы Северного гребня, чтобы потом как можно скорее спуститься к Северному седлу. Дикон понимающе кивает. — Как вы думаете, каковы были намерения тех двоих? — В его голосе нет ничего, кроме искреннего любопытства. Бруно Зигль смотрит на сидящих за столом Бахнера и других немецких альпинистов, и я снова задаю себе вопрос: «Сколько человек следят за этим разговором на английском языке?» — Это совершенно очевидно, — тон Зигля явно выражает презрение. — Я же говорил несколько минут назад. Вы не слушали, герр Дикон? Разве для вас это не очевидно, герр Дикон? — Скажите мне еще раз, пожалуйста. — Ваш Бромли — совершивший несколько восхождений с проводниками в Альпах — решил, что может использовать остатки веревок и лагерей, оставленных группой Нортона и Мэллори, чтобы самому подняться на Эверест с этим идиотом Куртом Майером в качестве единственного носильщика и партнера. Это было чистым Arroganz…[27] Stolz…[28] есть такое греческое слово… hubris.[29] Чистая спесь. Дикон медленно кивает и постукивает по нижней губе чубуком трубки с таким видом, словно разрешилась какая-то серьезная загадка. Потом говорит: — Как вы думаете, насколько высоко им удалось подняться, прежде чем они повернули назад? Зигль презрительно фыркает. — Какая, к черту, разница? Дикон терпеливо ждет. Наконец немец нарушает молчание. — Если вы думаете, что эти два глупца могли покорить вершину, выбросьте это из головы. Они исчезли из виду всего на несколько часов и не могли подняться выше пятого лагеря… возможно, шестого лагеря, если воспользовались кислородными аппаратами, оставленными в пятом… если их там вообще оставили. В чем я сомневаюсь. Во всяком случае, не выше шестого лагеря, я в этом уверен. — Почему вы так уверены? — спрашивает Дикон рассудительным, заинтересованным тоном. Он по-прежнему постукивает по нижней губе чубуком трубки. — Ветер, — непререкаемым тоном выносит приговор Зигль. — Холод и ветер. Он был просто непереносим на вершине гребня прямо над пятым лагерем, где я их встретил. Попытка двигаться дальше, рядом с шестым лагерем, на высоте больше восьми тысяч метров, по открытому Северо-Восточному гребню или по отвесной стене была бы равносильна самоубийству. Шанса дойти так далеко у них не было, герр Дикон. Ни одного шанса. — Вы с большим терпением отвечали на наши вопросы, герр Зигль, — говорит Дикон. — Примите мою искреннюю благодарность. Эта информация, возможно, поможет леди Бромли успокоиться. Зигль в ответ только усмехается. Потом смотрит на меня. — Что вы там разглядываете, молодой человек? — Красные флаги на той стене в отгороженном веревками углу, — признаюсь я, указывая за спину Зиглю. — И символ в белом круге на красных флагах. Зигль пристально смотрит на меня, но его голубые глаза холодны, как лед. — Вы знаете, что это за символ, герр Джейкоб Перри из Америки? — Да. — В Гарварде я довольно долго изучал санскрит и культуру долины Инда. — Этот символ происходит из Индии, Тибета и некоторых других индуистских, буддистских и джайнских культур и означает «пожелание удачи», а иногда «гармонию». Кажется, на санскрите он называется свасти. Мне рассказывали, что его можно увидеть во всех древних храмах Индии. Теперь Зигль смотрит на меня так, словно я смеюсь над ним или над чем-то, что для него священно. Дикон раскуривает трубку и поднимает на меня взгляд, но не произносит ни слова. — В сегодняшней Deutschland, — наконец говорит Зигль, едва шевеля тонкими губами, — это свастика. — Он произносит это слово по буквам, специально для меня. — Славный символ NSDAP — Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Она, а также человек на тех фотографиях будут спасением Германии. У меня хорошее зрение, но я не могу разглядеть «человека на тех фотографиях». На стене под красными флагами в отгороженном углу висят две рамки с довольно маленькими снимками, а прямо в углу, футах в шести от пола, — еще один свернутый красный флаг. Мне кажется, что этот флаг такой же, как те два, которые висят на стене. — Идем, — командует Бруно Зигль. Все немцы, включая Гесса и бритоголового мужчину рядом с Зиглем на противоположной стороне стола, а также Бахнер, все альпинисты с нашей стороны и Дикон, продолжающий попыхивать трубкой, — встают и направляются в угол зала вслед за мной и Зиглем. Веревка, отгораживающая этот мемориальный угол — он похож на импровизированное святилище, — оказывается обычной альпинистской веревкой толщиной в полдюйма, покрытой золотистой краской и подвешенной на двух маленьких столбиках, похожих на те, на которых метрдотели вешают бархатный шнур, перекрывая вход в шикарные рестораны. На обеих фотографиях присутствует один и тот же человек, и я вынужден предположить, что именно он — а также эта социалистическая партия со свастикой на флаге — является «спасением Германии». На снимке, висящем под красным флагом на правой стене, он один. Издалека можно подумать, что это фотография Чарли Чаплина — из-за нелепых маленьких-усиков под носом. Но это не Чаплин. У этого человека темные волосы с аккуратным пробором посередине, темные глаза и напряженный — можно даже сказать, неистовый — взгляд, направленный на камеру или фотографа. На снимке слева тот же человек стоит в дверях — я понимаю, что в дверях этого зала, — с двумя другими. Эти двое в какой-то униформе военного образца, а человек с усиками, как у Чарли Чаплина, одет в мешковатый гражданский костюм. Он самый низкорослый и явно самый невзрачный из трех мужчин, позирующих перед камерой. — Адольф Гитлер, — произносит Бруно Зигль и пристально смотрит на меня, ожидая реакции. Я теряюсь. Кажется, мне уже приходилось слышать это имя в связи с беспорядками здесь, в Германии, в ноябре 1924 года, которые не произвели на меня особого впечатления. Очевидно, он какой-то коммунистический лидер в этой национал-социалистической рабочей партии. За моей спиной раздается голос великого альпиниста Карла Бахнера: — Der Mann, den wir nicht antasten liessen. Я смотрю на Зигля в ожидании перевода, но немецкий альпинист молчит. — Человек, которого невозможно опорочить, — переводит Дикон. Трубку он теперь держит в руке. Я замечаю, что красный флаг с белым кругом и свастикой на полотнище изодран — словно прошит пулями — и испачкан кровью, если засохшие бурые пятна действительно кровь. Я протягиваю руку к флагу, намереваясь задать вопрос. Бритоголовый мускулистый человек, молча сидевший рядом с Зиглем на протяжении всего разговора, молниеносным движением отбивает мою руку вниз и в сторону, чтобы я не притронулся к изодранной ткани. Потрясенный, я опускаю руку и вопросительно смотрю на разъяренного громилу. — Это Blutfahne — Знамя Крови, — священное для последователей Адольфа Гитлера и Nationalsozialismus, — говорит Бруно Зигль. — К нему запрещено прикасаться неарийцам. И Auslander.[30] Дикон не переводит, но я по контексту догадываюсь о значении этого слова. — Это кровь? — ошеломленно спрашиваю я. Все, что я делал, говорил или чувствовал в этот вечер, кажется мне глупым. И я умираю от голода. Зигль кивает. — С резни девятого ноября прошлого года, когда полиция Мюнхена открыла по нам огонь. Флаг принадлежал Пятому штурмовому отряду СА, а кровь на нем — это кровь нашего товарища, убитого полицией мученика Андреаса Бауридля, который упал на флаг. — Неудачный «Пивной путч», — объясняет мне Дикон. — Начался в этом самом зале, если я правильно помню. Зигль пристально смотрит на него сквозь облако дыма от трубки. — Мы предпочитаем называть его Hitlerputsch[31] или Hitler-Ludendorff-Putsch,[32] — резко возражает альпинист. — И он не был… как вы изволили выразиться… неудачным. — Неужели? — удивляется Дикон. — Полиция подавила восстание, рассеяла марширующих нацистов, арестовала руководителей, в том числе вашего герра Гитлера. Кажется, он отбывает пятилетний срок за государственную измену в тюрьме старой крепости Ландсберг, на скале над рекой Лех. Улыбка у Зигля какая-то странная. — Адольф Гитлер стал героем немецкого народа. Он выйдет из тюрьмы еще до конца этого года. Но даже там так называемая охрана обращается с ним по-королевски. Они знают, что когда-нибудь он поведет нацию за собой. Дикон выколачивает трубку, прячет ее в карман твидового пиджака и понимающе кивает. — Благодарю вас, герр Зигль, за сообщенные сведения и за то, что вы — как говорят у Джейка в Америке — исправили мои ошибочные представления и неверную информацию о Hitlerputsch и нынешнем статусе герра Гитлера. — Я провожу вас до дверей «Бюргербройкеллер», — говорит Зигль.Наш поезд на Цюрих отходит от станции ровно в десять часов. Я начинаю понимать, что точность — это типично немецкая черта. Я рад, что у нас отдельное купе, в котором можно вытянуться на мягких диванах и подремать, если захотим, пока ночью на швейцарской границе мы не сменим рельсы и поезда. Пока такси везет нас от пивной «Бюргербройкеллер» до железнодорожного вокзала Мюнхена, я понимаю, что весь взмок — потом пропитался даже шерстяной пиджак, а не только белье и рубашка. Руки у меня дрожат, и я вглядываюсь в огни Мюнхена, которые постепенно гаснут в относительной темноте сельской местности. Думаю, я еще никогда так не радовался, наблюдая, как огни какого-то города исчезают у меня за спиной. Наконец, когда мне удается справиться с дрожью в голосе, такой же сильной, как раньше дрожь в руках, я нарушаю молчание: — Этот Адольф Гитлер — мне знакомо его имя, но я ничего о нем не запомнил, — он местный коммунистический лидер, призывающий к ниспровержению Веймарской республики? — Скорее, наоборот, старина, — отвечает Дикон, растянувшийся на втором диване купе, мягком и довольно длинном. — Гитлер был — и есть, поскольку суд дал общенациональную аудиторию для его напыщенных разглагольствований — известен и любим за свои крайне правые взгляды, пещерный антисемитизм и все такое. — Ага, — бормочу я. — Но ведь его посадили в тюрьму на пять лет за государственную измену во время попытки переворота в прошлом году? Дикон садится, снова раскуривает трубку и приоткрывает окно купе, чтобы дым вытягивался наружу, хотя мне все равно. — Я убежден, что герр Зигль был прав в обоих случаях… то есть что Гитлер к Новому году будет на свободе, не пробыв в заключении и года, и что в той тюрьме над рекой власти обращаются с ним как с королевской особой. — Почему? Дикон слегка пожимает плечами. — Мой слабый разум не в состоянии понять немецких политиков образца тысяча девятьсот двадцать четвертого года, но крайне правое крыло — нацисты, если быть точным — явно выражают мнение многих людей, отчаявшихся после начала этой суперинфляции. Я понимаю, что мне совсем не интересен низенький человечек с усами, как у Чарли Чаплина. — Кстати, — прибавляет Дикон, — ты помнишь того бритоголового, круглолицего, мрачного джентльмена, который сидел за столом напротив и ударил тебя по руке, подумав, что ты хочешь прикоснуться к священному Знамени Крови? — Да? — Ульрих Граф был личным телохранителем Гитлера — и именно поэтому он принял на себя несколько пуль, предназначенных Гитлеру, во время этого нелепого и плохо организованного ноябрьского путча. Но Граф храбрый парень, и я уверен, что он с радостью еще раз спасет этого нацистского героя немецкого народа. Прежде чем стать нацистом и телохранителем их вождя, Граф был мясником, полупрофессиональным борцом, а также наемным уличным громилой. Иногда он вызывается избивать — или даже убивать — евреев и коммунистов, но так, чтобы подозрение не пало на его боссов. Я надолго задумываюсь, а когда решаюсь заговорить, мой голос звучит тихо, чуть громче шепота — несмотря на отдельное купе. — Ты веришь рассказу Зигля о том, как погибли лорд Персиваль и тот австриец Майер? Лично я, несмотря на неприязнь к Зиглю и некоторым его товарищам, не вижу другого выхода. — Ни единому слову, — говорит Дикон. Я резко выпрямляюсь, отодвигаясь от спинки дивана. — Нет? — Нет. — В таком случае, что, по твоему мнению, случилось с Бромли и Майером? И зачем Зиглю лгать? Дикон снова слегка пожимает плечами. — Вполне возможно, что Зигль и его друзья готовились к нелегальной попытке восхождения, когда в Тингри им сказали, что остатки группы Мэллори ушли. У Зигля явно не было разрешения тибетских властей ни на восхождение, ни на проход к горе. Возможно, Зигль и шесть его друзей догнали Бромли ниже Северного седла и заставили его и Майера идти с ними на гору в эту ненадежную погоду, в преддверии муссона. Когда Бромли и Майер были сметены лавиной в пропасть — или погибли другой смертью на склоне горы, — Зиглю пришлось повернуть назад и сочинить историю о том, как двое безумцев карабкались наверх одни и были накрыты лавиной. — Ты не веришь в эту историю о лавине? — Я был на той части гребня и на склоне, Джейк, — говорит Дикон. — На том участке склона редко собирается столько снега, чтобы сошла лавина, которую описал Зигль. Но даже если снег там и был, мне кажется, что Бромли достаточно насмотрелся на лавины в Альпах и не стал бы рисковать, поднимаясь по такому склону. — Если Бромли и австрийца убила не лавина, то ты полагаешь, что они сорвались в пропасть, пытаясь подняться выше шестого лагеря вместе с Зиглем? — Возможны и другие варианты, — отвечает Дикон. — Особенно с учетом того немногого, что я помню о Перси Бромли. Я не допускаю и мысли, что его мог заставить пойти на вершину Эвереста какой-то немецкий политический фанатик, вознамерившийся покорить гору во славу der Vaterland.[33] Он разглядывает свою трубку. — Жаль, что я плохо знал лорда Персиваля. Как я уже говорил вам с Жан-Клодом, меня время от времени привозили в поместье — примерно так богачи заказывают доставку какого-нибудь товара, — чтобы я поиграл со старшим братом Перси, Чарльзом, который был примерно моего возраста, девяти или десяти лет. Маленький Персиваль всюду таскался за нами. Он был — как это выражаются у вас в Америке, Джейк? — настоящей занозой в заднице. — И после этого вы больше не видели Перси? — Ну, время от времени я сталкивался с ним на традиционных английских приемах в саду или на континенте. — Ответ Дикона звучит уклончиво. — Персиваль действительно был… извращенцем? — Мне трудно произнести это слово вслух. — Он и вправду посещал европейские бордели, в которых проституцией занимаются молодые мужчины? — Ходили такие слухи, — говорит Дикон. — А тебе это важно, Джейк? Я задумываюсь, но не могу прийти к определенному решению. И понимаю ограниченность своего жизненного опыта. У меня никогда не было друзей нетрадиционной ориентации. По крайней мере, о которых я знал. — А как еще могли погибнуть Бромли и Курт Майер? — Я смущен и хочу сменить тему. — Их обоих мог убить Бруно Зигль, — говорит Дикон. Между нами висит сизое облако дыма, которое затем медленно уплывает в окно. Стук чугунных колес о рельсы заглушает все звуки. Слова Дикона меня потрясли. Может, он сказал это просто для красного словца? Чтобы меня шокировать? Если да, то ему это удалось. Моя мать католичка — в девичестве О’Райли, еще одно пятно на безупречной родословной старинной семьи «бостонских браминов» Перри? — и мне с детства внушали разницу между простительным и смертным грехом. Убить другого альпиниста на такой горе, как Эверест? — для меня это было даже за гранью смертного греха. Для альпиниста такой поступок придает смертному греху убийства оттенок святотатства. Наконец ко мне возвращается дар речи. — Убить своих коллег-альпинистов? Почему? Дикон вытряхивает трубку в пепельницу в подлокотнике дивана. — Думаю, для того, чтобы это выяснить, мы должны подняться на Эверест и сделать то, что от нас ждут? — найти останки лорда Персиваля Бромли. Дикон надвигает твидовую кепку на глаза и почти мгновенно засыпает. Я долго сижу, выпрямившись, в наполненномстуком колес купе, думаю, пытаясь разобраться в беспорядочном клубке мыслей. Потом закрываю окно. Снаружи становится холодно.
Карниз был шириной с этот поднос для хлеба.
* * *
В другом поезде, ползущем по узкоколейке на высоту 7000 футов из малярийной Калькутты к высоким холмам Дарджилинга в конце марта 1925 года, у меня наконец появляется время восстановить в памяти суматошную зиму и весну перед нашим отъездом.В начале января 1925 года мы втроем вернулись в Цюрих, чтобы встретиться с Джорджем Инглом Финчем, который был лучшим — возможно, за исключением Дикона — среди ныне живущих британских альпинистов. Финч в 1922 году участвовал в экспедиции на Эверест вместе с Мэллори и Диконом, но, подобно Дикону, заслужил немилость «сильных мира сего» — причем в случае Финча дважды, — не только оскорбив чувства Джорджа Ли Мэллори, но также восстановив против себя весь «Комитет Эвереста», Альпийский клуб и две трети Королевского географического общества. Финч какое-то время изучал медицину на медицинском факультете Парижского университета, затем увлекся физикой, которую осваивал в Швейцарской высшей технической школе Цюриха с 1906 по 1922 год, во время войны служил в полевой артиллерии во Франции, Египте и Македонии, дослужившись до звания капитана, а после войны вернулся в Альпы, в основном в Швейцарию, где впервые покорил больше вершин, чем все отобранные члены экспедиции на Эверест, вместе взятые. Он лучше любого из членов «Комитета Эвереста» и всех британских альпинистов знал немецкую и другую современную европейскую технику восхождения — однако в 1921 году его исключили из списка участников экспедиции, официально из-за плохих результатов медосмотра. Но истинная причина состояла в том, что Финч, британский гражданин и удостоенный наград артиллерийский офицер, до и после войны провел много лет в немецкой части Швейцарии и привык изъясняться на немецком, а не на английском. Бригадный генерал так объяснял выбор комитета: «Понимаете, они, то есть мы, по возможности хотели бы составить экспедицию на Эверест только из близких нам по духу людей. Настоящих британцев, как мы их называем». По словам Дикона, генерал Брюс, член «Комитета Эвереста» и руководитель экспедиции 1922 года, который ратовал за команду альпинистов из «настоящих британцев», однажды написал другим потенциальным членам комитета и претендентам на место в экспедиции (включая Дикона), что Джордж Финч был «убедительным рассказчиком с совершенно неприемлемой квалификацией. Чистит зубы 1 февраля и в тот же день принимает ванну, если вода очень горячая, а в противном случае откладывает это до следующего года». Но, по словам Дикона, главный грех Финча в глазах состоящего из «настоящих британцев» комитета заключался не в его зачастую неопрятной наружности и не в странном немецком акценте, а в «неприемлемой квалификации» — то есть Джордж Финч продолжал настаивать на использовании новинок альпинистской техники для покорения горы Эверест. Ни Королевское географическое общество, ни Альпийский клуб (и «Комитет Эвереста», если уж на то пошло) не любили «новшеств». Они предпочитали старые, проверенные временем средства: шипованные ботинки, использовавшиеся в XIX веке ледорубы и тонкий слой шерсти между альпинистом и ледяным воздухом почти инопланетной атмосферы на высотах более 28 000 футов. Одной из таких нелепых новинок Финча, рассказывал Дикон, была придуманная и изготовленная этим успешным альпинистом куртка — как раз для условий на горе Эверест — с прослойкой из гусиного пуха, а не из шерсти, хлопка или шелка, как обычно. Финч экспериментировал с разными материалами, но в конечном счете остановился на тонкой, но очень прочной ткани, которую используют для изготовления воздушных шаров, и соорудил длинную куртку с многочисленными простроченными отделениями, заполненными гусиным пухом, которые создают завоздушенные карманы, сохраняющие тепло человека, — точно так же защищены от холода гуси в Арктике. В результате, объяснил Дикон, во время экспедиции 1922 года Финч был единственным, кто на высоте больше 20 000 футов не мерз в условиях сильного ветра и стужи. Однако смертельным ударом по шансам Джорджа Финча попасть в состав экспедиции 1924 года, несмотря на рекорд, установленный во время предыдущей попытки покорения Эвереста (27 мая 1922 года во время отважной, но неудачной попытки восхождения на вершину он вместе с юным Джеффри Брюсом ненадолго установили рекорд высоты), стал тот факт, что именно Финч предложил использовать и адаптировал кислородную аппаратуру Королевской санитарной авиации, которая применялась — с большим успехом — в 1922 и 1924 годах. (Мэллори и Ирвин имели при себе кислородные аппараты Финча, хотя и существенно модернизированные умельцем Сэнди Ирвином, когда они пропали при попытке покорения вершины во время последней экспедиции 1924 года.) Артур Хинкс, который в «Комитете Эвереста» отвечал за расходование (и сбор) средств экспедиции, написал о кислородных аппаратах Финча — уже после того, как те были испытаны в специальных камерах с разреженным, как на большой высоте, воздухом, а также прошли проверку на горе Эйгер и на самом Эвересте — официальный комментарий, вызвавший широкий резонанс: «Мне будет особенно жаль, если кислородное снаряжение не позволит им подняться на максимально возможную без него высоту. Если кто-то из группы не способен подняться на 25 000 или 26 000 футов без кислорода, они слабаки». — Слабаки? — Легко так говорить человеку, который все время сидит в Лондоне, на высоте уровня моря, — заметил Дикон в январе 1925 года в купе поезда, везущего нас в Цюрих. — Я бы хотел притащить мистера Хинкса на склон Эвереста, на высоту двадцать шесть тысяч футов, и посмотреть, как его будет выворачивать наизнанку и он будет задыхаться, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, а потом спросить, не считает ли он себя «слабаком». По моему мнению, он и есть слабак, даже когда остается на уровне моря. Вот почему мы собирались взять с собой в экспедицию двадцать пять комплектов усовершенствованных Ирвином кислородных масок Финча, а также сотню баллонов с кислородом. (В экспедицию 1924 года Мэллори и члены его команды взяли более девяноста баллонов, которыми пользовались несколько десятков альпинистов и носильщиков. А нас будет только трое.) — А как насчет «кузена Реджи»? — спросил Жан-Клод, напомнив Дикону об условии леди Бромли — что к нам присоединяется владелец чайной плантации. — «Кузен Реджи», черт бы его побрал, может оставаться в базовом лагере и дышать плотным, воняющим яками воздухом на высоте шестнадцати тысяч пятисот футов, — сказал Дикон. И теперь, в первые холодные месяцы того года, когда мы готовились к отчаянному штурму Эвереста, он хотел, чтобы мы встретились и поговорили с Финчем в Цюрихе, который стал ему родным. (Дикон приглашал его в Лондон, предлагая оплатить расходы, что имело смысл, поскольку нас трое, а Финч один, но вспыльчивый альпинист телеграфировал в ответ: «Во всей Англии не хватит денег, чтобы заставить меня теперь вернуться в Лондон».) Мы встретились с Джорджем Инглом Финчем в ресторане «Кронхалле», шикарном даже по высоким цюрихским стандартам месте, известном во всей Европе. Дикон рассказал нам, что, несмотря на славную историю, в последние несколько лет «Кронхалле» пришел в упадок и во время гиперинфляции в Германии держался на плаву только за счет превосходной репутации, завоеванной еще в XIX веке. Однако совсем недавно его купили Хильда и Готлиб Зумстег, которые обновили ресторан — включая шеф-повара, меню, состоящее из лучших блюд баварской, классической и швейцарской кухни, и превосходное обслуживание — и вывели свое заведение на самый высокий уровень как в Цюрихе, так и во всей Швейцарии. Так что в нескольких милях от него, по ту сторону границы, немцы голодают, а швейцарские банкиры, торговцы и другие представители высшего класса могут наслаждаться роскошным ужином. Ресторан «Кронхалле» расположен на Ремиштрассе, 4, меньше чем в миле к юго-западу от Цюрихского университета (где учились двое из трех старших братьев Жан-Клода, прежде чем вернуться во Францию и погибнуть на войне), в том месте, где река Лиммат впадает в Цюрихское озеро. Январский ветер, дующий с озера, лишь слегка ослабевает на широкой Ремиштрассе с ее тихо позвякивающими трамваями, и я промерзаю до костей, несмотря на толстое шерстяное пальто. Именно в этот момент я задал себе вопрос: «Если я клацаю зубами от холода, всего лишь пересекая Ремиштрассе в Цюрихе при легком бризе, то как, ради всего святого, я переживу ледяные ветра горы Эверест на высоте более 26 000 футов?» Мне казалось, что я ужинал в хороших заведениях — в Бостоне, Нью-Йорке, Лондоне и Париже, на деньги из теткиного наследства или благодаря щедрости леди Бромли, когда по счету платил Дикон, — но «Кронхалле» был самым большим и самым роскошным рестораном, где мне приходилось бывать. Мы встречались с Финчем в единственный день недели, когда тут подавали ланч, но официанты, метрдотель и остальной персонал все равно были одеты в смокинги. Даже высокие растения в горшках, расставленные по углам, у колонн и возле окон, выглядели слишком официально для простых представителей флоры; казалось, им тоже хочется надеть смокинг. На мне был темный костюм, который мы с Диконом купили в Лондоне, но, пересекая огромный зал цюрихского ресторана «Кронхалле», за накрытыми для ланча столиками которого сидели мужчины в строгих костюмах и несколько элегантных женщин, я осознал, насколько неуверенно все еще чувствую себя в высшем обществе Европы. Несмотря на то, что на мне была моя лучшая (и единственная) пара начищенных до блеска черных выходных туфель, я вдруг подумал, какими грубыми и потертыми они должны выглядеть в глазах людей, сидящих в этом громадном ресторане. За столиком с серебряными приборами на белоснежной скатерти, к которому нас провели, в одиночестве сидел невысокий человек с резкими чертами лица. Он не обращал внимания на уже наполненные бокалы с вином и минеральной водой и, казалось, был полностью поглощен книгой, которую читал. Финч единственный во всем зале был одет в повседневный твидовый костюм с жилетом — и то и другое выглядело не особенно чистым (на жилете виднелся сигаретный пепел), — и сидел он в удобной, расслабленной позе, вытянув скрещенные ноги, что я счел признаком либо необыкновенного богатства, либо редкостной уверенности в себе. Дикон осторожно покашлял, и мужчина с худым лицом поднял голову, закрыл книгу и положил ее на стол. Немецкое название книги, одно длинное слово, я перевести не смог. Финч снял очки для чтения и посмотрел на нас так, словно понятия не имеет, кто мы и почему стоим перед его столиком. Я не уверен, что редкое подобие усов у него под носом — это действительно усы, а не рыжеватая щетина, покрывающая подбородок и щеки. Дикон называет себя, хотя они вместе участвовали в экспедиции 1922 года на Эверест, затем представляет нас с Жан-Клодом. Финч не дает себе труда встать, но поднимает руку, которая выглядит вялой и обвисшей — словно протянутая для поцелуя, а не для рукопожатия, — но оказывается на удивление сильной, с длинными, тонкими пальцами. Потом я заметил изуродованные пальцы и ногти; вне всякого сомнения, этот человек был альпинистом, который много лет втискивал ладони в расщелины и трещины в граните, известняке и остром льду. — Джейк, Жан-Клод, — продолжал Дикон, — позвольте представить вам мистера Джорджа Ингла Финча. Вы оба знаете, что два с половиной года назад мы с мистером Финчем участвовали в экспедиции, которая поднялась на высоту больше двадцати семи тысяч трехсот футов на Восточном гребне и Северном склоне Эвереста… без кислорода. В то время это был рекорд высоты. Но, несмотря на то, что в тот день у нас не было баллонов, Джордж помог разработать кислородные аппараты, которыми пользовались Мэллори и Ирвин, когда пропали в июне прошлого года, и он любезно согласился после ланча показать нам свою мастерскую и продемонстрировать оборудование… а также дать несколько советов относительно нашей… поисковой экспедиции. Похоже, Дикон несколько растерялся от того, что пришлось использовать такое количество слов, и — что с ним редко случается — от того, что не знал, что еще сказать. Финч спас положение, небрежно махнув рукой в сторону трех пустых стульев. — Садитесь, пожалуйста, — сказал он. — Я позволил себе заказать вино, но мы можем попросить к столу другую бутылку… особенно если платишь ты, Ричард. — На лице Финча мелькнула улыбка, обнажившая слегка пожелтевшие от никотина, но крепкие зубы. Вопреки предвзятым обвинениям Альпийского клуба, он явно чистил их чаще одного раза в год. — В этом заведении хорошо кормят, но я редко могу позволить себе сюда наведываться, даже на ланч, — продолжил он на своем британском английском с легким немецким акцентом. — И именно поэтому предложил встретиться тут, когда ты сказал, что оплачиваешь счет. — Он небрежно махнул официанту, и — к моему удивлению — затянутый в смокинг джентльмен отреагировал мгновенно и с явным почтением. Видимо, в Цюрихе хорошо знали о достижениях Финча в области альпинизма. А может, официанты просто считали, что каждый, кто может себе позволить обед в ресторане «Кронхалле», достаточно богат, чтобы заслуживать уважительного обращения. Признаюсь, что чувствовал некоторое раздражение, когда мы заказывали ланч (я просто сказал, что буду то же, что и Дикон), а Жан-Клод с Финчем оживленно обсуждали, какое вино заказать к столу. Мое недовольство было вызвано предположением, что фраза Финча: «В этом заведении хорошо кормят» — была произнесена специально для меня, типичного американца, да еще на вид не слишком успешного. (Вскоре я понял, что ошибался. Джордж Ингл Финч говорил на многих языках и часто для развлечения включал в свою речь разговорные выражения, даже американизмы. К концу проведенного в Цюрихе дня мне стало ясно, что Финч, обладая обостренным чувством собственного достоинства, прилагал меньше усилий, чтобы произвести впечатление на окружающих своими знаниями, героизмом и достижениями, чем любой другой альпинист.) Кормили действительно хорошо. Вино, как бы оно ни называлось (и как ни плохо я разбирался в вине в возрасте 22 лет), было превосходным. А официанты, от которых я ожидал напыщенности и даже некоторого немецко-швейцарского высокомерия по отношению к маленькой группе иностранцев, оказались чрезвычайно вежливыми и были почти незаметны, когда молча подавали блюда и убирали со стола. (Представление о том, что незаметность официанта свидетельствует о качестве обслуживания, я позаимствовал у отца. Один из немногих непрошеных советов, которые я вообще от него слышал, — если не считать того дня, когда они с мамой привезли меня в Гарвард и он отвел меня в сторону и строгим голосом произнес: «Вот так, Джейк. С этого момента ты сам за себя отвечаешь. Постарайся держать бутылку виски подальше от спальни, член — в штанах, а голову — в книгах, пока не получишь диплом. Любой диплом».) Я ставлю бокал с вином на стол и понимаю, что Финч, Жан-Клод и Дикон обсуждали наши планы — каковы они были на тот момент — грядущей «поисковой экспедиции», чтобы привезти личные вещи Бромли его матери, или, поскольку мы все понимаем, что шансы на это близки к нулю, хотя бы составить ясную картину гибели молодого Персиваля. Дикон заверил нас, что Финч понимает, что новостями о нашей частной экспедиции не следует делиться ни с кем. — Кроме того, — прибавил Дикон, — в настоящее время между Финчем с одной стороны и Альпийским клубом, «Комитетом Эвереста» и всем Королевским географическим обществом с другой стороны отношения таковы, что он вряд ли захочет им что-либо рассказать… не говоря уже о нашем секрете. — Значит, вы были знакомы с Персивалем… лордом Персивалем Бромли? — спросил Жан-Клод. — В первый раз мы встретились около года назад, когда он нанял меня в качестве проводника, — отвечает Финч на своем довольно приятном британском английском с легким немецким акцентом. — Бромли хотел пройти траверсом по Дув-Бланш… — Он умолк и впервые посмотрел на меня. — Дув-Бланш — это пик, мистер Перри, острый и крутой, в стороне от главной цепи Гран-Дентс на восточной стороне долины Ароллы. — Я там был. — В моем голосе проступает нетерпение. В конце концов, я больше не новичок в альпинизме. Прошлой осенью я прошел траверсом по Дув-Бланш с Жан-Клодом и Диконом. Похоже, Финч не заметил моего тона. А может, заметил, но почему-то решил не обращать внимания. Он кивнул и продолжил рассказ: — Молодой Перри даже тогда был способен на этот траверс, но намеревался попробовать свои силы на череде «восхитительных», как он их называл, и довольно впечатляющих расселин, прорезавших двухсотфутовую скалу над верхним ледником Ферпекль, и хотел, чтобы кто-то шел с ним в связке. Мы втроем ждали, но Финч как будто потерял интерес к Бромли и снова принялся за стейк и вино. — И как он вам показался? — спросил Дикон. Финч посмотрел на него так, словно тот говорил на суахили. (Хотя потом я понял, что это неудачное сравнение, потому что, как выяснилось, Джордж Ингл Финч действительно немного говорил на суахили, а понимал почти все.) — Я хотел спросить, — уточнил Дикон, — как он себя вел? Финч неопределенно пожал плечами, и на этом разговор мог, к сожалению, закончиться, однако он, наверное, вспомнил, что мы проделали долгий путь и, вполне возможно, скоро будем подниматься на большую высоту по склону горы Эверест, чтобы отыскать тело Перси Бромли, а также что, как-никак, мы (или леди Бромли) платим за его ланч в одном из самых дорогих ресторанов Швейцарии. Или даже всей Европы. — С Бромли было все в порядке, — сказал Финч. — Лазал очень хорошо — для любителя. Ни разу не пожаловался, даже когда нам пришлось провести долгую, холодную ночь на очень узком карнизе, без еды и должного снаряжения, на том крутом южном гребне в одном коротком, но сложном переходе от вершины. Ни теплой куртки, ни спальника, ни выступа на поверхности скалы, к которому можно привязаться. Карниз был шириной с этот поднос для хлеба… — Финч кивком указал на узкий серебряный поднос. — У нас не было свечей, чтобы держать под подбородком на тот случай, если мы задремлем, и поэтому мы всю ночь по очереди сторожили друг друга, чтобы не дать другому заснуть и свалиться на ледник, который находился в тысяче футов под нами. Финч помолчал, а затем, возможно, желая убедиться, что мы правильно его поняли, прибавил: — Я доверил парню свою жизнь. — Значит, лорд Персиваль был не таким уж неопытным альпинистом, как теперь утверждают некоторые? — Дикон приканчивал Tafelspitz — превосходное блюдо из кусочков говяжьей вырезки с овощами и всевозможными специями в густом соусе, подаваемые с жареными ломтиками картофеля, яблочным пюре и сметаной с хреном. Меня всегда восхищало, как британцы могут поднести ко рту вилку с кусочком мяса в соусе на обратной стороне прибора, причем так, что это кажется не только легким, но и правильным. Есть в Англии и в Европе, подумал я, это все равно что отправиться в Китай и привыкать пользоваться палочками. — Зависит от того, каких именно «некоторых» ты имеешь в виду, — ответил Финч после очередной долгой паузы. Он пристально смотрел на руководителя нашей маленькой группы. — Кого-то конкретного? — Бруно Зигля. Финч рассмеялся отрывистым, похожим на лай смехом. — А, этот грубиян-нацист, фанатичный поклонник герра Гитлера… Зигль — искусный альпинист. Я никогда не поднимался в горы вместе с ним, но за последние годы мы раз десять сталкивались во время восхождений. Он ловок, осторожен и компетентен на скалах и льду — но в то же время он лживый Scheisskopf, подвергающий смертельной опасности своих молодых товарищей-альпинистов. — Что такое этот… Scheisskopf? — спросил Жан-Клод. — Безмозглый, ненадежный человек, — быстро поясняет Дикон, оглядываясь на стоящих за спиной официантов. Потом обращается к Финчу: — Значит, если бы герр Зигль сообщил вам, что Персиваль Бромли отправился на опасную Северную стену Эвереста вместе с каким-то австрийцем и ступил на ненадежный участок снега, вы бы ему не поверили? — Я не поверил бы Бруно Зиглю, даже если бы этот ублюдок сообщил мне, что завтра взойдет солнце, — сказал Финч и налил остатки вина себе в бокал.
— Ричард, разве ты не был одним из первых, что видел следы монстра на Лакра Ла, когда в двадцать первом году вел Мэллори к этому перевалу? — спросил Джордж Ингл Финч, отрываясь от яблочного штруделя. Жан-Клод и Дикон на десерт заказали только густой, крепкий кофе. Я же решил попробовать шоколадный пудинг. — Монстра? — вскинул голову Жан-Клод. Я видел, что от тяжелой баварской пищи, непривычной для худощавого французского проводника, его потянуло в сон. — Монстра? — повторил он, словно был не уверен, правильно ли понял английское слово. — Ja, — ответил Финч. — Следы какого-то громадного двуногого существа, которые наш друг Ричард и ныне покойный, чрезмерно превозносимый Джордж Мэллори видели на высоте больше двадцати двух тысяч метров на Лангри Ла, высокогорном перевале, который Ричард предложил — и, как впоследствии выяснилось, был прав — в качестве возможного маршрута к Эвересту. При подъеме на перевал — по-моему, в конце сентября тысяча девятьсот двадцать второго года — они вместо вида на гору наткнулись на следы. Правильно? — Он повернулся к Дикону. — Двадцатого сентября, — сказал тот, точно рассчитанным движением ставя кофейную чашку на стол. — В разгар сезона муссонов. Снег был очень рыхлым, выше колен. — Но вы, несмотря на снег, поднялись на вершину этой маленькой горы — больше похожей на пик, чем на перевал, ja? — Это было утверждение, а не вопрос. Дикон потер щеку. Я не сомневался, что ему хочется закурить трубку, однако он ждет, пока Финч закончит наслаждаться десертом. — Да, мы с Мэллори благополучно преодолели ледопад, но глубокий снег замедлил подъем и заставил носильщиков с нашими палатками повернуть назад в восьмистах футах ниже вершины. Мы все — Мэллори, я, Уиллер и Баллок, а также Уолластон, Моршед и Говард-Бери в резерве — поднялись на вершину и разбили лагерь. — А следы монстра? — напомнил Жан-Клод. — Да, как насчет монстра? — поддержал его я. За все время ланча я впервые открыл рот, если не считать просьб передать то или иное блюдо. — Над ледопадом, куда никто из наших альпинистов или носильщиков еще не поднимался, виднелись глубокие следы, как на свежем снегу, так и на более твердом, замерзшем насте, покрывавшем склон, по которому можно идти, не проламывая его. — Голос Дикона звучал очень тихо. — Они были похожи на следы двуногого существа. — Зачем ты говоришь «похожи»? — спросил Финч; его губы под жидкими усами растянулись в слабую улыбку. — Мэллори, Уолластон, Говард-Бери и все остальные, кто поднимался на вершину седла Лакра Ла, клялись, что это были следы когтистых лап какого-то двуногого существа, вероятно, млекопитающего. Дикон допил остатки кофе в чашке. Подскочил официант, и мы все заказали еще кофе, чтобы у нас был предлог оставаться за столиком. — Насколько велики были отпечатки на снегу? — спросил я. — След, похожий на отпечаток человеческой ноги, только длиной от четырнадцати до шестнадцати дюймов? — Повернувшись к Дикону, Финч превращает утверждение в вопрос. Наш друг молча кивает. Потом снова ставит кофейную чашку на стол и говорит: — К тому времени, как Уолластон и остальные поднялись на седловину Лакра Ла, наши носильщики — Мэллори и мои, поскольку мы возглавляли вторую попытку — затоптали все следы, которые мы видели. Остальные британские альпинисты никак не могли знать, что это такое и каков был размер следов на снегу. — Но Джордж Мэллори их сфотографировал, — заметил Финч. — Да, — подтвердил Дикон. — И те следы на снимках практически совпадают со следами, о которых сообщили и которые сфотографировали на высокогорном перевале в Сиккиме в тысяча восемьсот восемьдесят девятом… — Так мне говорили, — кивнул Дикон. Финч усмехнулся и повернулся ко мне и Жан-Клоду. Уверен, что глаза у меня были вытаращены не меньше, чем у француза. — Носильщики точно знали, что это за следы и кому они принадлежат, — произнес Финч со своим легким немецким акцентом. — Они были оставлены метох-кангми… йети. — Кем? — Моя чашка с кофе застыла в воздухе, словно я был не в состоянии ни пить из нее, ни вернуть на блюдце. — Чем? — почти одновременно со мной воскликнул Жан-Клод. — Йети, — повторил Финч. — Не одним из многочисленных демонов, которые, как верит местное население, живут в горе или на горе, а реальным, живым, питающимся кровью, похожим на человека существом… чудовищем ростом в восемь футов или больше. С огромными ступнями. Похожим на гориллу или на человека монстром, способным жить на высоте больше двадцати двух тысяч футов в окрестностях Эвереста. Мы с Жан-Клодом посмотрели друг на друга. Финч отправил в рот кусок штруделя и снова улыбнулся. — Годом позже, в тысяча девятьсот двадцать втором, я сам видел следы, когда мы с Джеффри Брюсом впервые поднялись до вершины Северо-Восточного гребня. Отпечатки были на покрытом коркой льда снежном поле на высоте около двадцати пяти тысяч футов — на то снежное поле не ступал никто из наших людей. Четкие следы двуногого существа, вроде нас, только ширина шага раза в два больше, чем у самого высокого человека, а на самых мелких участках снежного поля, где отпечатались следы — в основном на тонком льду, — можно было различить форму ступни, почти шестнадцати футов длиной и, похоже, с когтями на пальцах. — Он посмотрел на Дикона. — Ты ведь был там, в монастыре Ронгбук, в тысяча девятьсот двадцать втором, когда мы обсуждали йети, да? Дикон кивнул. Финч снова перевел взгляд на нас с Жан-Клодом. — Монастырь Ронгбук — это священное место, расположенное рядом с деревней Чобук, прямо напротив входа в долину, которая в конечном счете ведет к Джомолунгме… — Джомолунгме? — перебил его Жан-Клод. Финч снова повернулся к Дикону и по какой-то причине продолжал смотреть на него, отвечая на вопрос Же-Ка. — Местное название горы Эверест. Означает нечто вроде «матери жизни». — О, oui, — спохватился француз. — Я забыл. Полковник Нортон упоминал это название, когда мы беседовали с альпинистам из Королевского географического общества. — Значит, монахи в монастыре Ронгбук знали об этом существе… йети? — спросил я, не желая менять тему разговора. Финч кивнул и снова обратился к Дикону: — Вы были там со мной в конце апреля тысяча девятьсот двадцать второго года и слышали, что рассказывал о йети на Эвересте лама Ронгбука и его монахи. Кажется, лама сказал, что там живут четыре таких существа? — Пять, — поправил Дикон. — Брюс упорно расспрашивал их о следах и о загадочных существах, и главный лама — Дзатрул Ринпоче — сообщил нам, что он и другие монахи видели пять йети. Он сказал, что они жили на верхних подступах к долине, по дороге к Северному седлу и даже выше. Ринпоче предупредил, что йети следует бояться больше, чем любого демона гор, о которых точно неизвестно, существуют ли они. По его словам, йети похож на человека, только выше, массивнее, с огромной грудной клеткой и длинными, мощными руками; тело у них покрыто длинной шерстью, а глаза желтые. Лама рассказал Брюсу и всем нам — вы там были, Финч, и должны помнить, — что иногда йети совершают набеги на деревню Чобук, но никогда — на сам монастырь Ронгбук. Они пьют кровь яков, убивают людей одним ударом своей когтистой лапы и — убежден, что Джеффри Брюса это заинтересовало больше всего, — похищают деревенских женщин. — Что нужно монстрам от наших женщин? — спросил Жан-Клод своим высоким, почти детским голосом. Мы втроем усмехаемся, и щеки Жан-Клода заливает яркий румянец. — Затем лама рассказал, что когда деревенские жители отправляли на ледник вооруженных мужчин, — Финч говорит очень тихо, чтобы никто из маячивших неподалеку официантов не мог его услышать, — те не находили ни йети, ни женщин. По крайней мере, живых — только обглоданные скелеты и черепа. Лама утверждал, что из женских костей был высосан весь костный мозг. А глазницы черепов выглядели так, словно их вылизывали дочиста. Наконец мне удалось поставить чашку с кофе на блюдце. Они задребезжали. Этот звук вызвал в моем воображении жуткую картину: шквальный ветер Эвереста свистит в обглоданных ребрах и пустых глазницах черепов… Допив кофе и убедившись, что в наших чашках тоже ничего не осталось, Джордж Ингл Финч изящным жестом махнул официанту; его изрезанные шрамами пальцы альпиниста выписывают в воздухе знак, обозначающий, что нам нужен счет. Когда счет принесли, он не менее изящным жестом указал на Дикона.
Мы вышли из ресторана «Кронхалле», повернули налево на Ремиштрассе, и на нас набросился ледяной ветер с озера. Стуча зубами от холода, мы прошли полтора квартала до моста Квайбрюкке, снова повернули налево на пустую набережную под названием Утоквай и двинулись на юго-восток вдоль берега замерзшего озера. Низкий бетонный парапет справа от нас охраняют клыки сосулек. Неумолчный грохот внизу напоминает, что лед — у берегов озеро замерзло, а ледяная, но жидкая вода начинается в сотне ярдов от берега — трется о бетонный волнолом ниже парапета. Ветер достаточно сильный, и вдали, за белой полосой льда и белесым пространством воды, виднеются «барашки». Однако тот же ветер, едва не сбивший меня с ног, не помешал аккуратным швейцарцам полностью очистить от льда и снега дорожку бульвара Утоквай, обильно посыпав ее солью. Финч сообщил нам, что до его склада меньше полумили, но когда мы с Жан-Клодом тащились за Диконом и Финчем, пытаясь сквозь завывания холодного ветра расслышать, о чем они говорят, даже это расстояние показалось нам слишком большим. Прибавив шагу, мы с Жан-Клодом нагнали шагавшую впереди пару. — Я знаю, что вы задумали, — говорил Финч. — Это просто невозможно, Ричард. — И что же я задумал, Джордж? — Взойти на гору в альпийском стиле, — ответил тот, кто был пониже ростом. — Вместе со своими юными друзьями вы решили отказаться от осады горы, похожей на военную кампанию Мэллори, Брюса и Нортона — неспешное и последовательное оборудование лагерей, атака, отступление, новая атака, — а взять ее одним стремительным броском. Не получится, Ричард. Вы все там погибнете. — Леди Бромли заплатила нам только за поисковую операцию — максимум, что мы сможем, это найти и похоронить тело ее сына, — сказал Дикон. — Если повезет, мы найдем его следы гораздо ниже того места, о котором говорил Бруно Зигль, между четвертым и пятым лагерями, поскольку его свидетельство выглядит неправдоподобно. Но я не говорил, что мы собираемся взойти на вершину. Джордж Финч кивнул. — Но вы попытаетесь, Ричард. Я вас знаю. И поэтому переживаю за вашу судьбу и судьбу ваших прекрасных друзей. Дикон ничего на это не ответил. Мы прошли мимо здания оперы и повернули налево, на улицу под названием Фолькен-штрассе. По крайней мере, ветер теперь дул нам в спину. — Вы должны помнить, — снова нарушил молчание Финч, — тот день в двадцать втором году, когда мы достигли перевала Панг Ла на высоте семнадцати тысяч двухсот футов и впервые увидели Эверест. — Я помню, — пробормотал Дикон. — На Панг Ла ветер был так силен, что пришлось лечь, хватая ртом воздух и цепляясь за камни, чтобы нас не сдуло, — продолжил Финч. — Но вдруг перед нами открылся вид на сотни миль Гималайских гор. Эверест по-прежнему находился в сорока чертовых милях к югу от нас, но гора возвышалась надо всем. Вы помните облако, плывшее от нее, Ричард? Вы помните снежную шапку, протянувшуюся на запад на много миль? Эта чертова гора сама формирует погоду. — Я был там с вами, Джордж, — сказал Дикон. Мы повернули направо, на узкую улицу с пакгаузами без окон и облезлыми старыми многоквартирными домами — Зеефельд-штрассе, как было написано на обледенелой табличке. — Тогда вы понимаете, что восхождение в альпийском стиле невозможно, — сказал Финч, доставая толстое и тяжелое кольцо с ключами из кармана пальто и находя нужный ключ, чтобы отпереть дверь склада. — Болезни альпинистов, болезни носильщиков, жуткие ветры, внезапные снегопады, ранний приход муссонов, травмы, лавины, камнепады, порванные палатки, отказавшие кислородные аппараты, дизентерия, высотная болезнь, обморожения, неисправные печки… любое препятствие, а их будет много, Ричард, вы знаете это не хуже меня… любое препятствие может оказаться гибельным для восхождения в альпийском стиле. И стоить жизни кому-то из вас — или всем… Ну вот, мы и пришли. Финч нырнул в черный проем и нащупал выключатель. Первый — он первый по моим, американским, меркам — этаж этого пакгауза оказался вовсе не огромным складом, как я ожидал. Хотя, конечно, он им когда-то был, но теперь его разделили перегородками. Девятифутовые стены без потолков создавали десятки складов, в каждый из которых вела металлическая решетчатая дверь с висячим замком. Мы прошли вслед за Финчем примерно до середины огромного, отдававшего эхом помещения, затем он снял с кольца еще один ключ, открыл решетчатую дверь и придержал ее, пропуская нас в комнату размером приблизительно 25 на 20 футов. Внутри длинный верстак вдоль дальней стены был завален баллонами с кислородом. Стена слева от нас была увешана ледорубами разного размера и формы. Полки были уставлены огромным количеством ботинок, шипованных и подбитых войлоком, а на длинной вешалке красовалась череда шерстяных альпинистских курток, арктических анораков и целый ряд длинных стеганых курток. Я насчитал десять штук и удивился, зачем Финчу столько. Хозяин закрыл дверь, а я подошел к куртке, поднял полу длинного пуховика, висевшего на вешалке, и спросил: — Это и есть ваша знаменитая куртка из ткани для воздушных шаров? Финч пристально посмотрел на меня. Совершенно очевидно, что он перенес много насмешек по поводу этой одежды. — Это наполненная гусиным пухом куртка, которую я сконструировал специально для Эвереста, — буркнул он. — Да, действительно, из такой ткани делают воздушные шары — единственный материал из тех, что мне удалось найти, который не рвется и который можно без труда прострочить, чтобы сделать отделения для пуха. Куртка не позволяла мне замерзнуть на высоте почти двадцати четырех тысяч футов, ниже Северо-Восточного гребня. — Могу засвидетельствовать, — усмехнулся Дикон. — Мы трое — Джордж, Джеффри Брюс и я, а Брюс в то время был новичком — использовали «английский воздух», кислородные аппараты Джорджа, чтобы пройти через Желтый пояс до самого Северо-Восточного гребня. Мы поднялись бы и на гребень, не сломайся у Брюса кислородный аппарат. К счастью, Джордж захватил с собой запасную стеклянную трубку, но пришлось остановиться и переделать свой кислородный аппарат, чтобы тот подавал кислород и Джеффри, и ему самому, пока он чинил снаряжение Брюса. И все это на высоте двадцати семи тысяч трехсот футов… в то время высшей точки, куда люди когда-либо поднимались пешком. — А потом пришлось повернуть назад, — сердито прибавил Финч. — Отказаться от попытки покорить вершину из-за состояния Брюса, который какое-то время не получал кислород. А он был одним из тех, кто особенно настаивал на восхождении без «искусственного воздуха». Будь он опытным альпинистом… — Гнев в его голосе пропал, сменившись печалью, но лицо сохранило мрачное выражение. Дикон кивнул, разделяя разочарование Финча. Тогда я понял, впервые за все время, каким разочарованием для этих двоих человек, каждый из которых во время экспедиции 1922 года поднимался выше, чем Мэллори или кто-то другой, стало лишение шанса повторить попытку в 1924 году. Какую ярость они должны были испытывать, когда им сообщили, что их не выбрали для участия в экспедиции на Эверест! Держа в одной руке стеганую куртку Финча, я вдруг представил горечь, которую должны были чувствовать эти два гордых человека. — Я имел в виду лишь то, — сказал Дикон, — что когда вечером мы вернулись в четвертый лагерь, мы с Джеффри Брюсом промерзли до костей, а Джорджу было тепло в его набитой пухом куртке. Вот почему я попросил каждого из вас захватить с собой два пустых кожаных саквояжа. И заплатил Джорджу, чтобы он изготовил для нас девять таких курток. — Девять? — удивился Жан-Клод. Он окинул взглядом вешалку с толстыми пуховиками. — Зачем так много? Они такие непрочные, что быстро порвутся? — Нет, — сказал Дикон. — Я подумал, что у каждого из нас должно быть по два носильщика, чтобы разбить высокогорный лагерь на подступах к вершине. И заказал для них дополнительные кислородные аппараты и пуховики. Всего девять. Они прекрасно складываются. Сегодня мы упакуем их в чемоданы и сами отвезем назад, чтобы они не потерялись при пересылке. Финч усмехнулся. — Мэллори вписал мои пуховые куртки в список одежды для альпинистов во время прошлогодней экспедиции, — сказал он. — Но мне их не заказали. Предпочли идти в горы — и умереть — одетые в шелк, шерсть, хлопок, шерсть, шерсть и еще раз шерсть. — Шерсть держит тепло, когда она многослойная, — нерешительно возражает Жан-Клод. — Она много раз спасала мне жизнь во время ночевок высоко в горах. Финч не стал возражать, а лишь кивнул и провел рукой по двум поношенным шерстяным курткам и одному ветрозащитному анораку «Шеклтон». — Шерсть — превосходный материал, пока не намокнет. От нашего пота, а также от снега или дождя. А потом вы таскаете сорок фунтов влажной шерсти во время восхождения, в дополнение к сорока или пятидесяти фунтам в рюкзаке и тридцати с лишним фунтам кислородных аппаратов. И если вы остановитесь высоко в горах на холодном ветру, пот замерзнет в нижних слоях… — Он покачал головой. — А разве ваш пуховик не впитывает пот и не теряет эластичность, когда намокает? — спросил я. Финч снова качает головой. — Я надевал обычное шерстяное белье, но потел меньше из-за того, что пух дышит. Пух теряет свои термоизолирующие свойства, когда намокает — именно воздух сохраняет тепло для гуся, а теперь и для меня в куртке из гусиного пуха, — но ткань для воздушных шаров, которую я выбрал, отталкивает воду, если только не погружать ее в озеро. — Он выдавил из себя улыбку. — На Эвересте, на высоте более двадцати тысяч футов, не так много озер… если не поскальзываться. — Я не знал, что на верхних подступах к леднику Ронгбук есть озера или другая стоячая вода. — Жан-Клод пристально смотрит на Финча. — Всего лишь озерца талой воды у входа в ледниковую долину. Джордж Финч вздохнул в ответ на это явное занудство моего французского друга и слегка пожал плечами. — Если пролететь две мили по вертикали с Северо-Восточного гребня или с гребня, где находится вершина Эвереста, силы удара будет достаточно, чтобы расплавить лед и создать приличный пруд. Финч не хуже нас знал — почти все альпинисты имеют возможность убедиться в этом на собственном опыте, — что сорвавшийся альпинист почти никогда не падает к самому подножию горы. Тело по пути вниз ударяется о многочисленные скалы, валуны, ледяные плиты, выступы и другие препятствия… так что до ледника долетят лишь маленькие окровавленные фрагменты, принадлежность к человеку которых опознать практически невозможно. — Или нет, — прибавил он и указал на заставленный аппаратурой верстак. — Ричард, куртки готовы, и-их можно забрать сегодня. Я также подумал, что мы можем взглянуть на кислородные аппараты, которые использовали в двадцать втором году, а потом на те, что Сэнди Ирвин приспособил для их с Мэллори последней попытки, и на последний вариант, на котором мы остановились. Мне нужно окончательное подтверждение, прежде чем я отправлю их в Ливерпуль для погрузки на судно, которым вы отплываете в следующем месяце. До нашего отплытия в феврале остался всего один месяц. Разумеется, мы с Жан-Клодом еще в ноябре знали, что Дикон заказывает баллоны с кислородом и дыхательную аппаратуру для нашей маленькой экспедиции. И еще мы знали, что он решил не обращаться к английской компании «Зибе Горман», несмотря на то — или как раз из-за того, — что «Зибе Горман» изготавливала все кислородное оборудование для официальных экспедиций 1921, 1922 и 1924 годов. Дикон объяснил, что слишком велик риск, что из «Зибе Горман» могут просочиться сведения, что еще одна экспедиция заказала оборудование для Гималаев — и эти слухи могут дойти до Королевского географического общества, Альпийского клуба и «Комитета Эвереста». Он сказал, что не знает ни одной английской фирмы по производству кислородного оборудования, которой можно доверить наш секрет. И поэтому обратился к «своему источнику в Швейцарии». Теперь мы с Же-Ка знали, что этот источник зовут Джордж Ингл Финч. Но когда я сказал об этом вслух, Финч лишь усмехнулся и покачал головой: — Нет, мистер Перри, наш друг Ричард Дэвис Дикон присылал мне деньги леди Бромли, но я передавал их известной цюрихской компании, которая изготавливает научную аппаратуру. Наверное, на моем лице было написано сомнение. — Я по профессии ученый, мистер Перри. Химик. И связан с подобными фирмами, у которых постоянно заказываю научное оборудование. Они швейцарцы, а это значит, что скрытность у них в крови. Длинный верстак был завален баллонами с кислородом, рамами для них, клапанами, трубками, регуляторами и разнообразными масками, а на стене над верстаком висели всевозможные инструменты, как знакомые, так и необычные. Финч подтащил к нам один из кислородных аппаратов и повернулся к Дикону. — Узнаешь, Ричард? Тот в ответ лишь кивнул. — Каждый из нас тащил такую штуковину на высоту двадцать семь тысяч триста футов, не так ли, Ричард? — сказал Финч. — И мы поднялись бы еще выше, если бы стеклянная трубка в маске Брюса не лопнула от холода. — Ненамного выше, — заметил Дикон. — В тот день мы не поднялись бы на вершину, Джордж. Это было просто невозможно. Финч улыбнулся своей странной, напряженной улыбкой. — Мы с вами могли бы покорить ее, отправив Брюса назад в пятый лагерь, а сами продолжив двигаться к гребню и выше… и если были бы готовы умереть там. Думаю, мы добрались бы до вершины к заходу солнца. Дикон снова покачал головой. Я понял, что он отрицает не эту возможность — что они вдвоем поднялись бы на вершину Эвереста на закате солнца в тот день в конце мая 1922 года, —а лишь то, что он, Дикон, готов заплатить за это жизнью. Я решил задать очевидный вопрос (но, возможно, оскорбительный для Финча, который отстаивал необходимость использования кислорода на Эвересте). — А эта аппаратура действительно помогает? Большинство английских альпинистов, которых я знаю, против использования ее на Эвересте. К моему удивлению, ответил мне Дикон: — Большинство английских альпинистов не поднимались на высоту даже нижней части Северного седла Эвереста. В противном случае они знали бы о преимуществах кислорода… возможно, он так же необходим, как запасы продуктов или печка, на которой растапливают снег, чтобы получить горячую воду. Вероятно, у нас с Жан-Клодом был скептический вид — у меня точно, — потому что Финч пустился в подробные объяснения. Паузу он сделал всего один раз. — Джентльмены, вам удобнее метрическая система мер или английские футы? — Все равно, — ответил Жан-Клод. Я признался, что метрическая система для меня непривычна. Несмотря на частое использование метров и километров во время своих восхождений во Франции, Италии и Швейцарии, мне все равно трудно пересчитывать их в футы или мили. — Тогда буду пользоваться и тем, и другим, — сказал Финч. — Всего один пример. Во время экспедиции тысяча девятьсот двадцать второго года были две серьезные попытки покорения вершины из выдвинутого вперед базового лагеря, который в том году располагался на высоте пяти тысяч ста восьмидесяти метров — то есть семнадцати тысяч футов, мистер Перри. Джордж Мэллори и Говард Сомервелл во время своих попыток поднялись на высоту восьми тысяч трехсот двадцати метров, приблизительно двадцати семи тысяч футов, за четырнадцать с половиной часов. И это — запомните — без кислорода. Таким образом, скорость подъема Мэллори и Сомервелла составляла сто двадцать метров — приблизительно триста девяносто три фута — в час. Пока все понятно? Мы с Же-Ка кивнули, но я был неискренен. Нить математических выкладок я потерял уже на первой цифре. — Затем Ричард, Джеффри Брюс и я, также выступив из выдвинутого вперед базового лагеря, поднялись на высоту восьми тысяч трехсот двадцати метров… двадцати семи тысяч трехсот футов, о чем я уже говорил и к чему буду еще возвращаться, поскольку это самая высокая точка на Эвересте, на которую поднимался человек до исчезновения Мэллори и Ирвина в прошлом году. С кислородом нам понадобилось двенадцать часов с четвертью, чтобы подняться на эту высоту. Получается, что мы втроем, пользуясь примитивными кислородными аппаратами, шли со скоростью сто пятьдесят метров… или примерно пятьсот семнадцать футов в час. Совершенно очевидно, что это выше скорости восхождения Мэллори или Сомервелла, и Ричард согласится со мной, что мы могли бы подняться еще выше, если бы сильный ветер на гребне не вынудил нас к медленному траверсу Северной стены. Жан-Клод поднял палец, словно студент, намеревающийся задать вопрос преподавателю. — Однако вам пришлось повернуть назад из-за поломки клапана в аппарате Брюса. Значит, в конечном итоге кислородные баллоны лишили вас шанса подняться на вершину. Финч улыбнулся. — Проблему с клапаном мы еще подробно обсудим, когда я до нее дойду. Но не забывайте, месье, о еще одном преимуществе баллонов с кислородом на такой высоте. — Он перевел взгляд на Дикона. — Они спасли жизнь нам троим. — Как это? — спросил я. — Двадцать четвертого мая мы с Ричардом и Брюсом отправили носильщиков вниз и поставили палатку на открытом месте на высоте двадцать пять тысяч шестьсот футов — семьдесят восемь сотен метров. В результате мы оказались запертыми там на тридцать шесть часов из-за сильного ветра, который буквально приподнимал палатку над землей. Палатка превратилась в парус на краю обрыва глубиной в три тысячи футов. Спать было невозможно, и мы провели весь день и всю ночь, пытаясь удержать пол палатки, а время от времени кто-то выходил на ураганный ветер, чтобы привязать еще одну веревку к камню. Когда буря немного ослабла, нам нужно было немедленно спускаться ниже, но никто этого не хотел, несмотря на то, что у нас заканчивались продукты, а тела онемели от холода. В ту ночь мы сильно ослабли, и у всех троих появились первые признаки переохлаждения, которые к утру стали бы необратимыми. После еще одной бессонной ночи на этом коварном холоде никто из нас не смог бы спуститься в лагерь. Тогда я вспомнил о баллонах с кислородом, которые мы захватили с собой. Мы посмотрели на Дикона. Его кивок был почти незаметен. — В ту ночь кислород спас нам жизнь, — сказал он. — Всю ночь, как только холод становился невыносимым, мы начинали передавать друг другу баллон с кислородом, и от нескольких глотков живительного воздуха становилось теплее… эффект был мгновенным. Это позволило нам немного поспать, согреться и пережить худшую ночь, что я когда-либо проводил в горах. — На следующее утро мы попытались дойти до вершины, — сказал Финч. — Мы покинули палатку в шесть тридцать и начали подъем. Кислородная аппаратура не только не дала нам замерзнуть насмерть той ночью, но и восстановила нашу решимость на следующий день подняться на вершину — или, по крайней мере, на Северо-Восточный гребень. Не забудьте, что это было после рекордных сорока восьми часов на беспрецедентной высоте, почти без еды и с ограниченным количеством воды. Ветер был так силен, что мы даже не могли набрать котелок снега снаружи или разжечь печку. Но кислород позволил нам в тот день все равно пойти на гребень. Со скоростью, о которой я уже говорил, мы поднялись на высоту двадцать пять тысяч пятьсот футов, много часов используя баллоны с кислородом, при скорости подъема шестьсот шестьдесят шесть футов в час — сравните с тремястами шестьюдесятью тремя футами в час у Мэллори и Сомервелла. Почти в два раза больше, джентльмены. — Хорошо, — сказал я Дикону и Финчу. — Это убеждает даже меня. Мы пойдем с кислородными аппаратами. Как они работают, Финч? Тот начинает объяснять нам с Жан-Клодом принцип работы кислородного оборудования, обращаясь в основном ко мне, но вдруг прерывает рассказ. — Это ведь вы будете в экспедиции выполнять обязанности механика, мистер Перри? — Нет, что вы! — я почти испугался. — Я с трудом могу сменить свечи в машине. Технарь у нас Жан-Клод. Финч заморгал. — Как глупо с моей стороны… Возможно, мистер Перри, я предположил, что именно вы являетесь техническим специалистом, поскольку вы очень похожи на Сэнди Ирвина, который отвечал за всю технику в прошлогодней экспедиции Мэллори, даже модернизировал эти кислородные аппараты. Думаю, вы примерно одного возраста… двадцать два? Тот же рост. Тот же вес. Тот же уверенный взгляд. То же атлетическое телосложение человека, который в колледже занимался греблей. Такие же светлые волосы. Такая же улыбка. — Он повернулся к Жан-Клоду. — Pardonnez-moi, monsieur. J'aurais bien vu que vous êtes l'ingénieur du groupe.[34] — Merci, — кивнул Жан-Клод. — Но боюсь, что я всего лишь любитель, мистер Финч, а не блестящий инженер, которым показал себя месье Ирвин. Мой отец почти всю жизнь работал кузнецом, а незадолго до войны открыл небольшую компанию по производству скобяных изделий. Во время войны компания значительно выросла, и mon рèrе[35] начал выпускать более сложные металлические изделия для армии. Я смотрел… иногда помогал… но я не инженер. — Полагаю, для вашей группы вы будете инженером, — сказал Финч и поднял тяжелый кислородный аппарат. Немного помолчав, он начал — как я предполагал — лекцию о работе оборудования. — Конечно, Ричард это знает, но известно ли вам о разнице в количестве кислорода в воздухе на уровне моря и, скажем, на высоте двадцати восьми тысяч футов? Я снова почувствовал себя школьником, застигнутым врасплох неожиданным вопросом. И отчаянно пытался вспомнить процент кислорода в воздухе на уровне моря — никаких цифр в голову не приходило, — а также вспомнить уравнение, которое позволит вычислить этот процент на высоте 28 000 футов. Возможно, разделить на 28. Но что разделить? — На высоте двадцати восьми тысяч футов кислорода в воздухе почти столько же, сколько на уровне моря, — уверенно ответил Жан-Клод. Что? Мой французский друг явно сошел с ума. — Очень хорошо, — похвалил Финч. — Ему удавалось избегать нравоучительного тона и говорить нормально. — Но если количество кислорода на разных высотах примерно одинаково, то почему, — он сделал эффектную паузу, — вы легко пробегаете милю по берегу моря, но задыхаетесь и вынуждены останавливаться и хватать ртом воздух, словно рыба, через каждые два шага на высоте двадцати восьми тысяч футов? — Атмосферное давление, — сказал Жан-Клод. Финч кивнул. — Наука практически ничего не знает о физиологии человека на больших высотах, и большая часть наших сведений получена благодаря нескольким исследованиям Министерства авиации Великобритании, проведенным в последние несколько лет — совершенно очевидно, что аэроплан способен за очень короткое время подняться на высоту десять тысяч футов, — а также благодаря экспериментам во время экспедиции на Эверест в двадцать четвертом году. Тем не менее мы знаем, что на высоте выше двадцати тысяч футов нас убивает низкое атмосферное давление — в буквальном смысле убивает нервные клетки мозга, убивает наши органы и обмен веществ, убивает способность рационально мыслить — и, как говорит месье Клэру, происходит это оттого, что низкое давление затрудняет дыхание, ограничивает поступление кислорода в легкие, не дает кислороду проникнуть в мелкие капилляры и сосуды для восстановления красных кровяных телец. Он поднял выше тяжелый кислородный аппарат. — Кислород в этих сосудах — во время нашей экспедиции двадцать второго года шерпы остроумно называли его «английским воздухом» — находится под таким давлением, как воздух атмосферы на высоте пятнадцати тысяч футов. Подготовленный альпинист не должен испытывать никаких проблем с дыханием. Я вспомнил, что высота пика Маттерхорн, на который мы поднимались в июне прошлого года, составляет 14 690 футов. И действительно, никаких трудностей с дыханием у меня не возникало. Воздух, заполнявший легкие, казался немного разреженным и холодным, но был достаточно плотным, чтобы поддерживать усилия, необходимые для восхождения. Финч подвинул тяжелые баллоны с кислородом, так что они оказались прямо перед ним. — Это конструкция, которую предоставило нам министерство авиации и которая была изготовлена согласно рекомендациям и разработкам профессора Дрейера. Обратите внимание на прочную стальную раму, в которой крепятся четыре стальных сосуда с кислородом, в каждом из которых воздух сжат до той же степени, что на высоте пятнадцати тысяч футов, как я уже говорил. Тут также имеется множество трубок и несколько регулирующих клапанов — все это хозяйство перекидывается через плечо и висит у альпиниста на груди, где он может возиться с ним, рискуя вообще лишиться кислорода, — и в довершение всего три разных маски, включая мой собственный вариант. Финч надел лямки рамы для четырех баллонов. Трубки, клапаны и… всякие штуковины… висели у него спереди, как необрезанная пуповина младенца. — Каждый полный баллон кислорода весит пять и три четверти фунта, — сообщил он. — Вы предпочитаете английские фунты, месье Клэру, или мне перевести в килограммы? — Мне прекрасно подойдут и фунты, — заверил его Жан-Клод. — И пожалуйста, обращайтесь ко мне по имени. — Oui, très bien,[36] — кивнул Финч. — Раз уж речь зашла о метрической системе, то просто для справки — каждый баллон весит более двух целых и шести десятых килограмма. Таким образом, вес всего комплекта составляет чуть больше четырнадцати с половиной килограммов… или тридцати двух фунтов, мистер Перри. — Джейк, — поправил я. — Oui, très bien, — повторил он. — Так вот, Джейк… Ричарду очень хорошо знаком вес этого кислородного аппарата. Попробуйте надеть его, а потом передайте Жан-Клоду. Я взял раму с кислородными баллонам у Финча, просунул руки в широкие лямки и надел. Не зная, что делать со всеми этими регуляторами, трубками и маской, я просто оставил их висеть на груди. — Не особенно тяжелый. Я носил с собой в два раза большие тяжести на серьезные горы. — Да, — улыбнулся Финч, — но не следует забывать, что кроме кислородного аппарата у вас будет еще рюкзак или нечто вроде брезентовой сумки. Продукты, одежда, дополнительное альпинистское снаряжение, палатки для высокогорных лагерей… Сколько весит обычная трехместная палатка, Джейк? — Шестьдесят фунтов. Улыбка Финча начала казаться мне самодовольной. — Довольно скоро эти баллоны, которые мы носили на себе в двадцать втором году, сместят ваш центр тяжести назад. И представьте, как вы карабкаетесь по скале со всеми этими клапанами, регуляторами и трубками, которые висят на груди! С этим снаряжением на высоте выше девятнадцати тысяч футов силы у вас закончатся уже через десять шагов. Жан-Клод принялся ощупывать баллоны с кислородом, расходомерные трубки и всякие регуляторы, словно так мог лучше понять назначение разных частей. Я отступил, освобождая ему место. — Попробуйте надеть, оба, — предложил Дикон. — Пожалуйста. Же-Ка поставил аппарат на верстаке вертикально и ловко скользнул в лямки. Потом подтянул выше и закрепил поперечный ремень на груди. — Ничего страшного, — сказал он. — Мне часто приходилось совершать восхождение с более тяжелым рюкзаком. Но думаю, вы правы насчет центра тяжести. Затем Жан-Клод удивил меня, поставив ногу на табурет, с помощью одних только рук подтянулся вместе с кислородным аппаратом и встал на колени на прочный верстак. Потом уперся руками в стену, поднялся на ноги и, возвышаясь над нами, сказал: — Да, карабкаться по голой скале или по льду с этой штукой будет труднее. Затем спрыгнул с высоты четырех футов на пол с такой легкостью, словно за спиной у него не было тридцати двух фунтов стали и сжатого кислорода. Когда настала моя очередь, я отрегулировал лямки и поперечный ремень под свой размер, снова затянул их, сделал несколько шагов вокруг верстака и неопределенно хмыкнул. Потом с помощью Же-Ка снял кислородный комплект и осторожно поставил на верстак. Я не был уверен, затруднит ли такой вес мне подъем, но надеялся — хотя и не произнес этого вслух, — что физическая сила и молодой возраст позволят мне делать то, что недоступно 37-летнему Дикону или более хрупкому и легкому Жан-Клоду. — Тогда перейдем к многочисленным маскам, — сказал Джордж Ингл Финч и подтянул к себе три кислородные маски, лежавшие на верстаке. — Первая получила название «Экономайзер». Она была разработана с учетом того факта, что на высотах Эвереста, в условиях низкого давления, большая часть кислорода, который вы вдыхаете, взбираясь в гору, просто выдыхается обратно — и красные кровяные тельца в вашем организме ничего не получают. Поэтому у маски «Экономайзер» два клапана… — Финч перевернул маску и постучал пальцем по ее сложным внутренностям. — Они пропускают двуокись углерода, а кислород задерживают для повторного использования. Но эти проклятые клапаны замерзают чаще, делая всю маску бесполезной. Он взял другую маску, более массивную на вид. — Мы попытались устранить этот недостаток при помощи запасной маски — так называемой стандартной, — изготовленной из упругой меди и обтянутой замшей. Идея заключалась в том, что она эластична и подходит к любому лицу. И, как вы видите, тут нет клапанов… — Он указал на пустое пространство внутри. — Вы регулируете вдох и повторный вдох, просто прикусывая питающую трубку. Проще простого. — Мэллори ненавидел эту маску, — заметил Дикон. Финч улыбнулся. — В самом деле. Не меньше, чем аварийный вариант действий, которому я обучил всех — просто сдернуть маску и дышать прямо из кислородного шланга, как часто делают пилоты Королевских ВВС во время коротких полетов на высоте десять тысяч футов. И он ненавидел и маску, и голую трубку по одной и той же причине — альпинист пускает слюни, как младенец. Потом слюна замерзает. Или стекает по шее и воротнику и опять-таки замерзает. — А третья маска? — спросил я, указывая на нее. — Это мой ответ на проблему слюны в стандартной маске, — сказал Финч. — Т-образные стеклянные трубки, похожие на маленькие мундштуки, вместо резиновых шлангов. Они минимизируют слюноотделение и значительно эффективнее возвращают в легкие кислород, который вы выдохнули, не использовав. Хотя существует еще одна проблема, которую обнаружил Джеффри Брюс во время нашего с ним и Ричардом установления рекорда высоты на Северо-Восточном гребне в тысяча девятьсот двадцать втором году… — Они разбиваются, — сказал Жан-Клод. — Действительно, — вздохнул Финч. — На сильном холоде стекло становится хрупким и может треснуть… или разбиться… в любом случае кислород перестает поступать к альпинисту. До экспедиций двадцать первого и двадцать второго года ученые, изучающие атмосферу, полагали, что если на высоте — скажем, двадцати семи тысяч трехсот футов, где были мы с Брюсом и Ричардом, когда вышел из строя клапан Брюса, — у альпиниста, который использует баллоны со сжатым кислородом при давлении как на высоте пятнадцати тысяч футов, внезапно прекратится доступ кислорода, то он мгновенно умрет. — Но никто не умер из-за такой неисправности, — сказал Жан-Клод, явно знавший историю применения кислородных аппаратов в Гималаях. — Никто. По крайней мере, двое из наших альпинистов и трое носильщиков поднялись до пятого лагеря на высоте двадцать пять тысяч футов на Восточном гребне с неисправными кислородными аппаратами. Но поломка клапана у Брюса в тот день, о котором мы с Ричардом рассказывали, заставила нас троих повернуть назад прежде, чем мы добрались до Северо-Восточного гребня. — Значит, именно этот вариант маски со стеклянными клапанами мы будем использовать на Эвересте? — спросил я, переводя взгляд с Дикона на Финча. — Нет, — одновременно ответили они. Финч подтянул к себе одну из рам для баллонов, прислоненных к заднику верстака. Она была не похожа на остальные. — Это так называемая пятая модель Сэнди Ирвина, — сказал Финч и постучал пальцем по стальным сосудам. — Вы сами видите разницу. Выглядел аппарат иначе, но будь я проклят, если понимаю, как… постойте, там в раме три баллона, а не четыре. Я улыбнулся, гордясь своей сообразительностью. — Тут все по-другому, — сообщил Жан-Клод, проведя руками по раме, баллонам и трубкам. — Начиная с того, что Ирвин перевернул баллоны, так что клапаны находятся внизу, а не наверху. «Черт побери, — подумал я. — Все верно». — Ирвин избавился почти от всех трубок, — продолжал Же-Ка, — и здорово упростил этот расходомер, расположив его внизу, в центре рамы, чтобы конструкция получилась более сбалансированной. Не спросив разрешения, он перевернул разработанный Сэнди Ирвином аппарат. — Шланг теперь перекидывается через плечо, а не пропускается под мышкой, а потом через все эти клапаны и трубки, болтающиеся на груди. Их теперь нет. Подача воздуха должна улучшиться, а передвигаться станет легче. И весит он меньше. «Черт побери», — снова подумал я. — Мистер Ирвин проделал большую часть этой работы, когда еще учился в Оксфорде, — продолжал Финч. — Он отправил предложения по модификации фирме, которая изготавливала аппараты — нашей знаменитой «Зибе Горман», — и почти за год они не сделали ни одной из доработок, которые он предложил. — Ни одной? — переспросил я. — Ни одной, — подтвердил Финч. — Они проигнорировали указания — и его, и «Комитета Эвереста» — внести необходимые изменения и поставляли точно такие же неудобные, негерметичные и тяжелые комплекты, которые мы с Ричардом и Брюсом использовали в тысяча девятьсот двадцать втором году. Мой добрый друг Ноэль Оделл, который последним видел Мэллори и Ирвина, идущих к вершине, рассказал мне, что когда девяносто баллонов экспедиции прибыли в Калькутту, пятнадцать оказались пустыми, а двадцать четыре протекали так сильно, что были бесполезны при восхождении. Мистер Ирвин сказал Оделлу, что он, Сэнди, разбил один комплект, когда осторожно извлекал его из упаковки. То же самое обнаружил и я, когда мы добрались до базового лагеря на Эвересте в двадцать втором году, — ни один из десяти поставленных аппаратов не работал. Все паяные соединения протекали, прокладки во время пребывания на большой высоте высохли настолько, что сочленения перестали быть герметичными, а большинство манометров не работали. Кое-что можно было починить — и я исправил все, что смог, — но в целом аппараты «Зибе Горман» оказались просто… мусором. Жан-Клод отсоединил кислородную маску Ирвина и с громким стуком опустил на верстак. — А как Сэнди Ирвин сконструировал эту усовершенствованную маску? Губы Финча снова растянулись в слабой улыбке. — Он обдумывал конструкцию на протяжении всего трехсотпятидесятимильного перехода, затем в базовом лагере, затем в высокогорных лагерях, и продолжал обдумывать и совершенствовать ее — теми инструментами, которые у него были, — до того утра, когда он и Мэллори вышли из шестого лагеря и пропали. — Полагаю, что мы получим пятую модель маски Ирвина? — спросил Жан-Клод. — Да, но модифицированную согласно моим указаниям. И вы получите их не от «Зибе Горман», а от моей швейцарской фирмы. — Улыбка стала чуть шире, почти незаметно. — И я гарантирую, джентльмены, что они изготовлены должным образом, в соответствии с самыми высокими требованиями Сэнди Ирвина, и даже выше. Дикон шагнул вперед и дотронулся до кислородных баллонов. — Джордж, вы сказали, что они сделали пару доработок, о которых вы просили. Финч снова кивнул. — Я попросил инженеров из Цюриха изготовить раму рюкзака, расходомеры и несколько других элементов аппарата из алюминия, — он произнес это слово на английский манер, — прочного металла, получаемого из бокситовой руды. Я бы хотел сделать из алюминия и кислородные баллоны, но у нас нет оборудования, чтобы присоединять клапаны или штамповать сами баллоны, так что кислород по-прежнему будет храниться в стальных резервуарах. Но с максимум тремя, а не четырьмя баллонами и новыми алюминиевыми элементами вес аппарата будет существенно меньше. Финч взял еще один кислородный аппарат. Он был очень похож на пятую модель Сэнди Ирвина, но все же… другим. — Насколько меньше? — спросил Дикон, проводя рукой по алюминиевой раме. Финч пожал плечами, но в голосе его проступила гордость. — Он весит чуть больше двадцати фунтов — по сравнению с тридцатью двумя фунтами аппарата «Зибе Горман». — И еще вы что-то сделали с клапанами маски, — сказал Дикон. Финч поднял маску своего аппарата. Она выглядела проще всех остальных и казалась эластичной в его покрытой шрамами ладони. — Я заменил стекло в мундштуках для дыхания и повторного использования кислорода высококачественной резиной, — сказал он. — Мы испытывали эту резину на высотах до тридцати тысяч футов — и при очень сухом воздухе, — и резина не становилась хрупкой и не пропускала газ. Я позволил себе заменить негерметичные прокладки «Зибе Горман» и клапаны высококачественной резиной. — Финч опустил глаза, и его голос звучал смущенно, почти виновато. — У меня не было времени проверить новые компоненты в горах, Ричард. Я хотел… Планировал… Думал, что гребни вдоль Северной стены горы Эйгер могут подойти для тщательной проверки… Не стоит думать, что вы поймете, что все работает, только на Эвересте… Но изготовление новой конструкции заняло столько времени… Дикон похлопал Финча по спине. — Благодарю вас, друг мой. Я уверен, что ваши испытания в Цюрихе подтвердили, что заказанная аппаратура будет работать и не потеряет герметичность, как предыдущая. Спасибо за вашу работу и за советы, Джордж. Финч снова улыбнулся своей слабой улыбкой, кивнул и сунул руки в карманы. Дикон посмотрел на часы. — Нам пора идти, если мы хотим успеть на поезд. — Я провожу вас до Eisenbahn[37] вокзала, — сказал Джордж Ингл Финч.
Поезд, разумеется, отправился вовремя. Это же был швейцарский поезд. Мы с Диконом собирались пересечь Францию до Шербура и отправиться в Англию, чтобы продолжить подготовку к экспедиции. Жан-Клод ненадолго возвращался в Шамони — в основном, как мне казалось, чтобы попрощаться со своей девушкой, на которой собирался жениться, — и должен был присоединиться к нам в Лондоне перед тем, как мы уедем в Ливерпуль, откуда отправимся в Индию. В поезде из Цюриха у каждого из нас будет по два кожаных чемодана, в которых упакованы девять подбитых пухом курток. Когда мы ждали посадки на поезд, Финч — молчавший весь путь до вокзала — вдруг произнес: — Я хочу сказать вам еще кое-что о причине вашей экспедиции на Эверест… то есть о лорде Персивале Бромли. Мы замерли. Дикон уже поставил одну ногу на подножку вагона. За нами никого не было. Мы стояли, держа в руках легкие чемоданы, и слушали Финча, а пар от паровоза окутывал нас стелющимися клубами. — С тех пор как мы с Бромли несколько лет назад вместе поднимались в горы, я видел его всего один раз. Он приехал ко мне в Цюрих — прямо домой — весной тысяча девятьсот двадцать третьего. В апреле. Сказал, что хочет спросить меня об одном аспекте нашей экспедиции двадцать второго года… Казалось, Финч не может найти подходящих слов. Мы молча ждали. На платформе последние пассажиры садились в поезд. Выдохнув — облачко, вылетевшее из его рта, смешалось с паром от паровоза, — Финч продолжил рассказ: — На самом деле это выглядит довольно нелепо. Молодой Бромли хотел, чтобы я рассказал ему все, что знаю, что видел или слышал о… ну… о метох-кангми. — Об этом существе, йети? — удивился я. Финч наконец заставил себя улыбнуться. — Да, мистер Перри. То есть Джейк. О йети. Я рассказал ему о следах, которые видел на леднике Ронгбук в окрестностях Северного седла, показал фотографии отпечатков, сделанные Мэллори годом раньше на Лакра Ла, и передал рассказ ламы из монастыря Ронгбук о пяти существах, которые, по его утверждению, живут на верхних подступах к долине. Это все, что я мог рассказать и показать молодому Бромли — ради этого вряд ли стоило приезжать в Цюрих из Парижа, где он в то время жил, — но лорд Персиваль вовсе не казался разочарованным. Поблагодарил меня за то, что я согласился уделить ему время, за информацию, допил чай и в тот же вечер вернулся в Париж. Кондуктор уже махал нам, нетерпеливо указывая на часы. — А Бромли не говорил вам, почему его заинтересовала эта история о йети? — поспешно спросил Дикон. Финч молча покачал головой. Потом шагнул вперед, слегка поклонился, щелкнул каблуками — это выглядело официально, почти по-прусски, — пожал каждому из нас руку и сказал: — До свидания, джентльмены. Мне почему-то кажется, что мы больше никогда не увидимся, но я желаю вам удачи в ваших путешествиях, в вашей экспедиции на Эверест и в… поисках.
В «Барберри», на Хеймаркет («спросить мистера Пинка»).
* * *
Дикон еще в ноябре прошлого года сообщил нам, что для экспедиций, проводившихся в 1921–1924 годах, Альпийский клуб выделял на снаряжение каждого альпиниста 50 фунтов стерлингов. Он также рассказал, что большинство этих джентльменов из высшего общества потратили собственные деньги на одежду и снаряжение, и поэтому позволил себе выделить из бюджета леди Бромли по 100 фунтов стерлингов на каждого из нас — а при необходимости эта сумма будет увеличена. Даже несмотря на личное участие Дикона в экспедициях 21-го и 22-го годов, в также расширенный список оборудования для экспедиции 24-го года, предоставленный его другом, режиссером и альпинистом капитаном Джоном Б. Л. Ноэлом, найти и купить одежду и специальное альпинистское снаряжение для Эвереста было почти так же трудно, как для экспедиции на Южный полюс. Но с другой стороны, до сих пор все попытки британцев — включая прошлогоднюю, когда пропали Ирвин и Мэллори, — покорить Эверест строились по образцу экспедиций на Южный полюс. То есть с использованием носильщиков, чтобы оставить запасы продовольствия и снаряжения на маршруте — в нашем случае на различных высотах на склонах горы, — а затем перемещаться вперед и назад между этими лагерями, пока маленькая группа, воспользовавшись окном хорошей погоды, не предпримет бросок на вершину, как тринадцать лет назад совершил бросок к Южному полюсу Роберт Фолкон Скотт, когда его группа из четырех опытных путешественников планировала 1600-мильный переход на санях к Южному полюсу и обратно. Скотт и его спутники погибли во время этой неразумной и сопровождавшейся невезением попытки, но об этой аналогии я старался не думать. Как бы то ни было, одежда и снаряжение, которые мы покупаем теперь, очень похожи — с несколькими замечательными новшествами — на то, чем пользовались Скотт и его спутники, когда погибли от холода в Антарктиде. Первым пунктом в «священном» списке числилась защищающая от ветра одежда, за которой, как указывалось в том же списке, следует обратиться в «Барберри», на Хеймаркет («спросить мистера Пинка»). Нам с Жан-Клодом было немного страшновато отправляться в этот один из самых роскошных мужских магазинов Лондона — «мы одеваем Эрнста Шеклтона», и все такое. Поэтому мы с Же-Ка пошли туда вместе в один из дней, когда Дикон был занят другими аспектами подготовки экспедиции. Как выяснилось, «мистер Пинк» был нездоров и в тот день отсутствовал в магазине «Барберри» на Хеймаркет, но затянутый в строгий костюм и безупречно вежливый «мистер Уайт» провел с нами почти три часа, помогая выбирать модели и размеры, прежде чем мы покинули магазин с чеком на наши покупки и обещанием, что они сегодня же вечером будут доставлены к нам в гостиницу. Пакеты даже опередили нас, хотя по дороге из «Барберри» мы остановились всего один раз, выпить по пинте пива. Большая часть наших покупок в «Барберри» — это ветрозащитные бриджи, блузы и перчатки из серии «Шеклтон». Мы также купили шерстяные рукавицы без пальцев, которые вставляют внутрь других рукавиц из габардина «Шеклтон». В числе товаров из «Барберри» также были шерстяные шарфы. Кроме того, на Эвересте — и даже на высотах более 17 000 футов на многочисленных перевалах 350-мильного перехода к горе через Тибет — нам требовалось защитить головы и лица. Как это ни удивительно — на мой взгляд, — но в «Барберри» продавались кожаные шлемы для летчиков, а может, мотоциклистов, на кроличьем или лисьем меху и с наушниками, которые завязывались на подбородке. А еще магазин предлагал маски — мы купили себе по одной — из тонкой, мягкой, пропускающей воздух замши, отделанной кожей. Это потрясающее сочетание кожаных наушников, ремешков с мехом и латунных пряжек дополнялось массивными очками из крукса,[38] которые по желанию могли крепиться к замшевой маске или к шлему. Толстое темное стекло защитит наши глаза от невыносимо яркого солнечного света на больших высотах. Все альпинисты знают историю Эдварда Нортона, который в 1922 году снял очки во время рискованного траверса вместе с Сомервеллом по Северной стене при неудачной попытке подняться по заполненному снегом громадному ущелью, которое идет вниз от самой вершины. Восхождение было таким сложным, что Нортон на несколько часов снял очки, чтобы лучше видеть, куда он ставит ногу или за что цепляется рукой. Он думал, что поскольку карабкается по голой скале, а не по отражающему свет снегу или льду, то солнце не причинит вреда глазам. Им не удалось преодолеть коварное ущелье, но той же ночью, уже спустившись в четвертый лагерь, Нортон почувствовал невыносимую боль в глазах. Он заработал себе офтальмию — снежную слепоту, сопровождающуюся воспалением, — и на протяжении шестидесяти часов ничего не видел и мучился от боли. Остальным пришлось спустить ослепшего Нортона в базовый лагерь и поместить в палатку, накрытую спальными мешками, чтобы уберечь от света. Говорят, страдания Нортона в той палатке были невыносимыми. Куртки «Шеклтон» — они представляли собой анораки из провощенного хлопка — во время предыдущих экспедиций защищали шерстяную одежду от намокания, но практически не держали тепло, несмотря на то, что считались ветрозащитными. Дикону пришла в голову безумная идея, что альпинисты — по крайней мере, мы трое — смогут без палатки выжить на Эвересте после наступления темноты в пуховиках Финча и наших куртках «Шеклтон». Возможно — маловероятно, но возможно, — наша одежда окажется достаточно теплой, чтобы сохранить нам жизнь в открытом лагере на высоте более 25 000 футов. По словам Дикона, несколько слоев одежды, которые были на Ирвине и Мэллори, когда они пропали, позволили бы им продержаться не больше часа, неподвижно сидя после захода солнца на Северо-Восточном гребне. — Я не могу гарантировать, что пуховики мистера Финча станут тем, что отделяет жизнь от смерти на той высоте, — сказал Дикон, когда мы решали, какую одежду брать с собой (на самом деле решал он), — но я знаю, что в двадцать втором Финч мерз меньше всех остальных, и кроме того, гусиный пух легче нескольких слоев шерсти, а куртки «Шеклтон» должны уберечь пух от влаги. Так что стоит рискнуть. Мне не нравилось слово «риск», когда речь шла о наших жизнях на самой высокой вершине мира. На следующий день после визита в «Барберри» мы с Жан-Клодом присоединились к Дикону для посещения обувной мастерской «Фэгг бразерс» на Джермин-стрит. Там всем троим подобрали ботинки последней модели — естественно, предназначенные для полярных условий — из войлока, на кожаной подошве, специально большего размера, чтобы в них помещались три пары шерстяных носков. Лишь немногие из участников экспедиции 1924 года решили надеть войлочные ботинки, поднявшись выше первого ледника, а это значит, что никто не знал, как они поведут себя при восхождении по скалам и льду на таких высотах. — Почему я не могу пользоваться своими альпинистскими ботинками? — спросил Жан-Клод. — Они верно служили мне много лет. Нужно лишь время от времени менять им подошву. — Во время первых двух экспедиций мы — даже Финч, а также все альпинисты из прошлогодней экспедиции — надевали собственные шипованные ботинки, — сказал Дикон. — И у всех мерзли ноги, а у некоторых даже были обморожения, вплоть до потери пальцев. В прошлом году Сэнди Ирвин назвал Джону Ноэлу причину этого: специальные альпинистские ботинки снабжены не только шипами — рисунок может быть разный, и каждый выбирал то, что ему удобнее, — но и маленькими металлическими пластинами между внешним и внутренним слоем подошвы, усиливающими сцепление. А некоторые из шипов имеют рифленую поверхность. — И что? — Я наконец потерял терпение. — Эти дорогие шипованные ботинки действительно обеспечивают хорошее сцепление? Если да, то металлические пластины — хорошая идея, так? Не так уж и много они весят. Дикон покачал головой — так он делал, когда хотел сказать: «Нет, ты не понимаешь». — Ирвин предлагал уменьшить количество шипов для того, чтобы ботинки стали легче, — сказал он. — В армии нас учили, что один фунт веса на ногах равен десяти фунтам на плечах. Во время войны наши кожаные ботинки были прочными и одновременно легкими, — чтобы солдаты меньше уставали на марше. Но Сэнди Ирвин говорил Ноэлу не о весе ботинок, а о передаче холода. — Передаче холода? — повторил Жан-Клод, словно сомневаясь в значении этой английской фразы. — Кожаная подошва и толстые носки в какой-то степени защищают от жуткого холода скал и льда на такой высоте, — пояснил Дикон. — Но у Ирвина была теория, что шипованные ботинки, которые были на ногах у всех, отводят тепло от тела через ноги, металлические пластины и сами шипы. По утверждению Ирвина, именно в этом заключалась причина замерзших ног и настоящих обморожений. В нашей экспедиции Генри Моршеду по возвращении в Индию пришлось ампутировать большой палец и несколько суставов других пальцев ноги. Он хотел попасть в экспедицию тысяча девятьсот двадцать четвертого года, но его кандидатуру отклонили — именно из-за этого. Поэтому я согласен с Сэнди Ирвином, что шипованные ботинки передают тепло тела на камни и лед. — Тогда зачем мы сюда пришли? — спросил я. — Вполне можно надеть мои старые добрые альпинистские ботинки, если в этих дорогих шипованных штуковинах мои ноги просто быстрее замерзнут. — Эта фраза даже мне самому показалась по-детски обидчивой. Дикон достал из кармана куртки несколько листков бумаги и развернул. На каждом из них был аккуратный рисунок карандашом или чернилами с колонками рукописного текста по обе стороны. Орфография была ужасной, но это нисколько не мешало понять объяснения — Сэнди Ирвин проанализировал конструкцию стандартного альпинистского ботинка, показав, где нужно добавить слои войлока между стелькой и шипованной подошвой. Вывод Ирвина (Дикон подтвердил, что это его записки, врученные капитану Ноэлу за несколько дней до исчезновения его и Мэллори) был написан четким почерком, но с чудовищными орфографическими ошибками: «На батинках далжно быть мало шыпов — каждая унция на щету!» — Орфографические ошибки. — Я повернулся к Дикону, который держал сложенный листок, словно улику. После нескольких месяцев газетных статей и поминальной речи все знали, что Эндрю «Сэнди» Ирвин учился в Мертон-колледже в Оксфорде. — Результат недостатка кислорода на большой высоте? Дикон покачал головой. — Ноэл сказал, что Ирвин был одним из умнейших молодых людей, каких ему только приходилось встречать… но у парня была какая-то проблема, не позволявшая ему научиться писать грамотно. Однако это ему, по всей видимости, нисколько не мешало. Он был в команде гребцов Оксфордского университета, а также членом скандально известного Мирмидонского клуба в Мертоне. — Скандально известного? — переспросил Жан-Клод. Он удивленно поднял голову от рисунков Ирвина, изображавших специальные ботинки, которые внимательно изучал. — Ирвин был замешан в чем-то… скандальном? — Клуб богатых мальчишек, в большинстве своем прекрасных спортсменов, которые покушались на неприкосновенность университетских правил, а также окон, — пояснил Дикон. Он забрал сложенные листки и протянул одному из вежливых братьев Фэгг, который вместе с нами обсуждал ботинки. — Мы должны выбрать ботинки: конструкцию Ирвина для новых и, возможно, более теплых альпинистских ботинок, новую модель фетровых ботинок, сверхжесткие ботинки для новых «кошек», которые предлагает Жан-Клод, или просто взять свои старые. — А нельзя взять все четыре пары? — спросил Жан-Клод. — Я потом продемонстрирую вам, почему очень жесткие ботинки, о которых я говорил, могут пригодиться на Эвересте. Получается четыре пары: фетровые от холода, сверхжесткие для моих новых «кошек», фетровые шипованные ботинки Ирвина и наши старые, на всякий случай. А денег леди Бромли хватит? — Хватит, — сказал Дикон. Потом повернулся к мистеру Фэггу и указал на рисунки. — Для каждого из нас по две пары этих специальных ботинок с дополнительным слоем войлока и металлическими пластинами, не касающимися шипов. По две пары сверхжестких ботинок, — у Жан-Клода есть листок с описанием. И по две пары войлочных ботинок «Лапландер Арктик». У нас есть время снять мерки.Но самым серьезным новшеством в экипировке нашей маленькой экспедиции 1925 года стали не пуховики Финча и не новые ботинки конструкции Ирвина. Как только Же-Ка присоединился к нам после своей короткой поездки во Францию, то сразу же попросил, чтобы мы освободили для него два дня в конце января. Дикон ответил, что это невозможно; у него просто нет двух лишних дней до самого конца февраля, когда мы должны отплыть в Индию. — Это важно, Ри-шар, — сказал Жан-Клод. В то время он редко называл Дикона по имени, и я всегда удивлялся, когда Же-Ка использовал французское произношение имени Ричард. — Très important.[39] — Настолько важно, что от этого может зависеть успех или неудача всей экспедиции? — Тон Дикона вряд ли можно было назвать дружелюбным. — Oui. Да. — Жан-Клод посмотрел на нас с Диконом. — Думаю, да; эти два дня могут быть такими важными, что от них будет зависеть успех или неудача всей экспедиции. Дикон вздохнул и вытащил крошечный ежедневник с календарем, который держал в кармане куртки. — Последний уик-энд месяца, — наконец произнес он. — Двадцать четвертое и двадцать пятое января. У меня намечено несколько важных дел… Но я их перенесу. Как раз будет полнолуние… это имеет значение? — Возможно, — сказал Жан-Клод и неожиданно улыбнулся широкой, мальчишеской улыбкой. — Полная луна кое-что меняет. Да. Merci, mon ami. Мы отправились в путь на восходе солнца — или то, что называлось восходом в этот серый, туманный день в конце января, с редким снегом — в субботу двадцать четвертого числа. Автомобиля ни у кого из нас не было, и поэтому Дикон позаимствовал его у приятеля по имени Дик Саммерс. Насколько я помню, это был «Воксхолл», футов тридцать длиной — с тремя рядами сидений, массой места для ног и колесами, доходившими мне почти до груди. (Ирония заключалась в том, объяснил Дикон, что Дик Саммерс использовал тот же «Воксхолл» два года назад для первого автомобильного путешествия по гравийной дороге — практически тропинке — через труднопроходимые перевалы Райноуз и Харднот в Озерный край. Когда я заметил, что не вижу тут никакой иронии, Дикон закурил трубку и сказал: «Совершенно верно. Я забыл сообщить, что во время этой поездки Саммерс сидел за рулем, а на третьем ряду сидений ехал Сэнди Ирвин с двумя привлекательными юными леди».) Покинув гараж Саммерса, мы довольно быстро убедились, что громадный «Воксхолл» лучше приспособлен для летних экспедиций на горные перевалы, чем для передвижения зимой. Это был кабриолет — британцы называют их автомобилями с откидным верхом, — и хотя нам троим потребовалось всего полчаса, сопровождавшихся проклятиями и сбитыми пальцами, чтобы должным образом поднять и закрепить необыкновенно сложную крышу, а затем еще полчаса, чтобы пристегнуть и поставить на место боковые и задние стекла, как только мы выехали на лондонские улицы и направились на северо-запад города, то поняли, что в этой проклятой машине больше дырок, чем в дешевом дуршлаге. Громадный автомобиль ехал по улицам всего десять минут, а снег уже хлестал нам в лицо и собирался на деревянном полу, на наших ботинках и коленях. — Сколько, тысказал, нам ехать? — спросил Дикон у Жан-Клода, который вел машину. Же-Ка до сих пор не раскрывал пункт нашего назначения, что все больше и больше раздражало Дикона. (Хотя в те дни он, казалось, и так был раздражен сверх меры; с тем количеством подготовительной работы для нашей маленькой «поисковой экспедиции» он недоедал и недосыпал, не говоря уже об отдыхе и физических упражнениях, и явно устал.) — Как мне говорили, меньше шести часов, в ясный летний день, — жизнерадостно ответил Же-Ка, крепко сжимая руль пальцами в шерстяных перчатках и сплевывая налипший на губах снег. — Возможно, сегодня немного дольше. — Десять часов? — прорычал Дикон, пытаясь раскурить трубку. В трех парах перчаток — наши новые перчатки без пальцев, поверх них шерстяные, затем варежки «Шеклтон» — это была непростая задача. Собираясь в эту поездку, мы оделись, как на Южный полюс. — Нам повезет, если доберемся туда за двенадцать часов, — весело сообщил Жан-Клод. — Пожалуйста, откиньтесь на спинку сиденья и — как вы говорите — расслабьтесь. Сделать это было никак невозможно — по двум причинам. Во-первых, «Воксхолл» теоретически был оснащен обогревателем, встроенным в приборную панель, и мы втроем наклонились вперед, причем я со второго ряда сидений, чтобы по возможности приблизиться к нему, даже несмотря на то, что из этой штуки дул холодный воздух. Во-вторых, у Жан-Клода вообще было мало опыта управления автомобилем, и особенно в Англии, и поэтому поездка по снегу и льду внушала страх даже независимо от того, что он путался, по какой стороне дороги следует ехать. Снегопад усилился. Мы по-прежнему ехали на северо-запад — кроме нас на дорогу в этот день рискнули выехать только грузовики — через Хемел-Хемпстед, затем Ковентри, затем почерневший от дыма Бирмингем, затем в направлении Шрусбери. — Мы едем в Северный Уэльс, — со вздохом сказал Дикон задолго до того, как мы добрались до Шрусбери. Слово «Уэльс» прозвучало у него довольно мрачно. Широкий третий ряд сидений и половина моего ряда были заняты огромными и тяжелыми вещмешками, которые Же-Ка с нашей помощью погрузил в машину. Очень тяжелыми. А металлическое звяканье и глухой стук, доносившиеся из вещмешков, когда машина виляла то вправо, то влево, пытаясь удержаться на покрытой снегом и льдом дороге, свидетельствовали, что там сложено какое-то серьезное снаряжение. — Ты взял с собой кислородные аппараты? — спросил я, крепко держась за спинку переднего сиденья, как за поручни «американских горок». — Non, — рассеянно ответил Жан-Клод, который, прикусив губу, пытался протиснуть двенадцатифутовый «Воксхолл» между встречным грузовиком, густой живой изгородью и глубокой канавой слева от нашей обледенелой и заснеженной дороги. Дикон на секунду извлек трубку изо рта. Я решил, что нужно придвинуться ближе и протянуть к ней — трубке — ладони как к источнику тепла, а не к так называемому «обогревателю» машины. — Это не кислородные аппараты, — хмуро заметил Дикон. — Разве ты не помнишь, что Финч отправит их из Цюриха прямо на судно для погрузки? Темнело. Наш ужин состоял из ледяных — в буквальном смысле, потому что в них попадались кристаллики льда — сэндвичей, которые мы упаковали в корзину с крышкой, и термоса с горячим супом, который успел стать почти холодным за десять часов, прошедших с тех пор, как мы покинули северо-западные пригороды Лондона. Снег не прекращался. Мигающие фары «Воксхолла» давали не больше света, чем две шипящие свечки. Хотя это не имело значения — кроме нас, ни у кого не хватило ума выехать на дорогу сегодня вечером. Возможно, полная луна, о которой мечтал Жан-Клод, уже взошла. Но мы об этом не знали. Мир вокруг нас превратился в белый вихрь, сквозь который Же-Ка уверенно вел машину, смаргивая нетающие снежинки с ресниц и вглядываясь в черно-белый вихрь впереди. — Мы едем к горе Сноудон, — сказал Дикон. Его трубка скоро должна погаснуть под струями холодного воздуха из щелей в хлопающих боковинах, в крыше и в окнах. — Non, — угрюмо ответил Жан-Клод. В последний раз я видел его улыбку где-то после Бирмингема. В ту ночь мы так и не достигли места назначения. Об этом позаботились две проколотые шины, первые за эту поездку. К счастью, Дик Саммерс предусмотрительно закрепил на правой подножке «Воксхолла» два запасных колеса. (Я мог попасть на второй ряд сидений и вылезти из машины только через правую дверцу.) К сожалению, домкрат и другие инструменты, необходимые для замены колеса в условиях сильной метели, по всей видимости, находились в крошечном багажнике «Воксхолла». Авария произошла прямо посреди дороги, и поэтому если грузовик или другая машина выскочили бы на нас из снежной тьмы, то нам пришел бы конец (у нас не было даже фонаря — или «лампы», как называл его Дикон, — чтобы установить на дороге, предупредив другие машины). А багажник был заперт. И ключ зажигания к нему не подходил. В темноту полетел поток ругательств, такой плотный, что мне кажется, он до сих пор плавает где-то в районе границы между Англией и Уэльсом. Наконец один из нас догадался просто стукнуть посильнее по крышке багажника, полагая, что она просто замерзла в закрытом состоянии, а не была заперта, и маленькая откидная крышка легко поднялась, открыв домкрат, монтировку и другие инструменты, выглядевшие так, словно предназначались для автомобиля впятеро меньше, чем огромный «Воксхолл». Но это не имело значения. Мы заменили колесо меньше чем за полтора часа. Ночь пришлось провести в слишком дорогом и не очень чистом мотеле в местечке под названием Серригидраден. Мы приехали слишком поздно, и нам уже не досталось горячей пищи, которую подавали раньше, и хозяин не открыл для нас кухню, чтобы мы могли что-нибудь перекусить. В общей гостиной имелся камин, и хотя хозяин, удаляясь к себе в спальню, предупредил, чтобы мы не подкладывали угля, наши возмущенные взгляды заставили его прикусить язык. Мы сидели у крошечного огня до полуночи, пытаясь оттаять. Затем потащились в маленькие комнатушки со странным запахом, в которых было почти так же холодно, как в «Воксхолле». Мы захватили с собой наши лучшие, пуховые, спальные мешки — Жан-Клод предупредил, что субботнюю ночь мы проведем на открытом воздухе — но холод и жуткий запах в крошечных кельях привели к тому, что где-то около трех часов я натянул на себя верхнюю одежду и потащился назад, в гостиную, чтобы снова растопить камин. В этом не было нужды. Жан-Клод и Дикон пришли сюда раньше меня, разожгли уголь в маленьком камине и уже спали, растянувшись в двух легких креслах у ярко горящего огня. В комнате имелось и третье, совсем древнее кресло. Я подтянул его — скрежет не разбудил моих друзей — как можно ближе к огню, накинул на себя спальник, словно плед, и крепко проспал до шести утра, пока хозяин постоялого двора не выгнал нас из наших уютных гнездышек.
То воскресенье, 25 января 1925 года, было одним из лучших дней в моей жизни, хотя в нежном 22-летнем возрасте почти вся жизнь была у меня впереди. Но честно говоря, ни один из «лучших дней в моей жизни» за почти семь следующих десятилетий — причем не только этот день, но и многие другие на протяжении следующих месяцев — я не провел с кем-либо так, как со своими друзьями и коллегами-альпинистами, Жан-Клодом Клэру и Ричардом Дэвисом Диконом. Повсюду лежал глубокий снег, но на голубом небе ярко светило солнце. Возможно, это был самый солнечный день за все время моего пребывания в Англии, за исключением разве что того чудесного солнечного дня, когда мы приезжали к леди Бромли. Было по-прежнему холодно — не меньше десяти градусов ниже нуля, — и снег не таял, но громадный «Воксхолл» с его мощным двигателем и гигантскими шинами со странным рисунком был в своей стихии. Даже на проселочных валлийских дорогах, где в то утро не было других машин, мы спокойно и без помех мчались со скоростью тридцать миль в час. Проехав несколько миль, мы поняли, что больше не можем находиться в похожем на гробницу «Воксхолле», остановили машину посреди пустой, ослепительно белой дороги — двойной след позади нас, исчезающий вдали, словно черные рельсы железной дороги в накрытом голубым куполом белом мире, — и сняли брезентовый верх, уложив окна, боковины и все остальное на пол рядом с огромными вещмешками Же-Ка, которые ехали на заднем сиденье вместе со мной. Каждый из нас натянул пять слоев шерсти, затем сшитую на заказ парку из ткани для воздушных шаров с гусиным пухом, которые мы привезли от мистера Финча из Цюриха в кожаных чемоданах, а сверху — купленные в «Барберри» анораки модели «Шеклтон». Мы с Же-Ка также надели кожаные летные или мотоциклетные шлемы и маски, а также безбликовые очки из крукса. Жалко, что в тот день в районе горы Сноудон не было никого, кто мог бы нас сфотографировать. Должно быть, мы были похожи на вторгнувшихся на Землю марсиан из книги мистера Уэллса. Однако вскоре выяснилось, что наша конечная цель — секрет Жан-Клода — вовсе не популярная в зимний сезон гора Сноудон и не скалы Пен-и-Пасс, куда нас привозил Дикон осенью прошлого года. Пунктом назначения, которого мы достигли в середине утра того январского воскресенья, было озеро Длин и окружающие его морены, roches moutonnées[40] (описание Жан-Клода знакомо мне по многочисленным восхождениям в прошлом году), блестящие страты в скалах, дикие морены и каменистые осыпи, erratics (валуны, принесенные сюда давно растаявшими ледниками и оставшиеся на скалистых плато, словно громадные мячи для херлинга,[41] забытые расой великанов), обнажения пластов твердой породы на вертикальных стенах, каменные плиты и склоны со всех сторон. Длин — само озеро, в то время замерзшее, — окружали скалы из твердых пород. Когда мы вышли из машины и вытянули ноги на снегу, Же-Ка указал на высокие пики И-Глайдер-Ваур и И-Гарн. Мы с Жан-Клодом надели гетры из вощеного хлопка, чтобы сохранить сухими высокие носки. Дикон, тоже в бриджах, предпочел старомодные обмотки — хотя из самого лучшего кашемира — и был похож на разряженных британских альпинистов из экспедиций на Эверест 21-го, 22-го и 24-го годов. Кроме того, в своих бриджах цвета хаки и такой же шерстяной рубашке, выглядывающей из-под расстегнутого пуховика, Дикон напоминал военнослужащего — капитана, — каким он был во время войны. Вид Дикона в одежде коричневого и защитного цвета и в обмотках вызывал какое-то смутное беспокойство. Но если он сам и вспоминал о войне, то не подавал виду — вышел из большой машины, потянулся, покрутил головой, разглядывая окружающие пики и ледопады, затем достал трубку из кармана своей старой, потертой шерстяной куртки и принялся раскуривать. Я помню, что запах его табака в холодном воздухе действовал как сильнодействующий наркотик. Я беспокоился, что до места, где мы будем карабкаться по скалам, придется идти пешком еще часа два — как с тем проклятым карнизом, где Мэллори оставил трубку, — но Жан-Клод остановил громадный «Воксхолл» всего в сотне ярдов от места назначения. Он искал вертикальные водопады, которые зимой превратились в ледопады; ему были нужны 200-футовые стены намерзшего на скалах льда, которые заканчивались устрашающими ледяными навесами. И он их нашел. Замерзшие водопады и впечатляющие ледопады заполняли всю долину, в дальнем конце которой под утесами Кам-Идвал виднелось почти полностью замерзшее озеро Ллин-Ваур. Мы потащили тяжелые сумки к подножию одного из самых больших, самых крутых, отвесных ледопадов, с самыми большими навесами сверху, где Жан-Клод опустил свой вещмешок на снег и махнул нам рукой, предлагая последовать его примеру. А потом начал объяснять нечто, что навсегда изменит технику восхождения как в Альпах, так и в Гималаях.
— Во-первых, вы должны надеть новые ботинки, которые пошил для нас месье Фэгг, — сказал Жан-Клод и вытащил из тяжелой брезентовой сумки две пары жестких ботинок. У него на ногах уже были такие же. Мы с Диконом с недовольным видом нашли себе по камню, сели и заменили наши новые альпинистские ботинки, удобные и уже разношенные, на непривычно жесткие. Мы пытались ходить в этой обуви по Лондону и обнаружили, что она жутко неудобная. (Лучше всего себя показали высокие ботинки «Лапландер» из войлока и кожи — такое ощущение, словно идешь в высоких, до колен, и очень теплых индейских мокасинах. К сожалению, скалы и камни, по которым мы будем продвигаться в Тибете — как правило, с тяжелыми рюкзаками, во время 350-мильного перехода к Эвересту, — разобьют нам ноги, если мы все время будем носить мягкие ботинки. Но для лагеря они подходят как нельзя лучше.) Сделав несколько неуклюжих шагов в «жестких ботинках», мы с Диконом переглянулись, а затем хмуро посмотрели на Жан-Клода. Дурацкие ботинки почти не гнулись. И они никогда не разносятся, чтобы стать удобными для ходьбы или для лазания по горам. Похоже, наши взгляды нисколько не смутили Жан-Клода. Кроме того, он был слишком занят — извлекал из трех тяжелых сумок со снаряжением груду металлических и деревянных приспособлений. — Что это? — спросил Же-Ка, демонстрируя две пары старых «кошек», которые я видел у него не один раз. — «Кошки»? — Мне самому не понравилась вопросительная интонация, как у школьника на уроке. — «Кошки», — повторил я уже уверенным тоном. — А для чего их используют? — продолжал он учительским тоном, с едва заметным французским акцентом. — Проходить ледники, — еще тверже ответил я. — Иногда подниматься по снежным склонам, если они не слишком крутые. — Сколько у каждой зубьев? — Зубьев? — не понял я. — Шипов в нижней части, — пояснил Дикон. Он снова возился со своей чертовой трубкой. Мне хотелось ударить его одной из четырехфутовых сосулек, свисающих с нижней части ледопада прямо перед нами. — Десять шипов. — Мне пришлось представить оставленные дома «кошки» и мысленно посчитать шипы. Тупица. Я пользовался ими с подросткового возраста. — Десять. — Почему мы так мало пользуемся ими при восхождении? Почему не пользуемся в условиях высокогорья, на Эвересте? — В спокойном, невинном тоне француза мне почему-то мерещился подвох. Я посмотрел на Дикона, однако он вдруг принялся снова раскуривать трубку. — Потому что эти чертовы штуковины бесполезны на камне, — наконец ответил я. Роль тупого школьника мне уже начинала надоедать. — Разве на Эвересте у нас под ногами будет только камень? Я вздохнул. — Нет, Жан-Клод, на Эвересте у нас под ногами будет не только камень — но по большей части. Мы можем использовать эти «кошки» на встречающихся там снежных полях, только не очень крутых. Однако шипованные ботинки лучше. Сильнее сцепление. Больше усилие. По сведениям Альпийского клуба и по словам участников экспедиции тысяча девятьсот двадцать четвертого года, Северная стена Эвереста, а также большая часть Северо-Восточного и Восточного гребня состоит преимущественно из наклонных каменных плит, похожих на сланцевую черепицу крутой крыши. Очень крутой крыши. — Значит, «кошки» там нецелесообразны? У меня в школе был преподаватель геометрии, который объяснял материал и вел дискуссию в подобном тоне. Я его ненавидел. — В высшей степени нецелесообразны, — подтвердил я. — Все равно что идти на стальных ходулях. — Мягко выражаясь, это будет нелегко. Жан-Клод медленно кивнул, как будто наконец усвоил основы восхождения в Гималаях и на вершинах Альп. — А как насчет ущелья Нортона? «Ущельем Нортона» альпинисты теперь называли гигантскую, заполненную снегом и льдом расщелину, которая поднималась в центре Северной стены Эвереста до самой пирамидальной вершины. Годом раньше Эдвард Нортон и Говард Сомервелл — не в связке, Нортон лидировал — проложили наклонный маршрут от Восточного гребня на Северный склон над так называемым Желтым поясом скал выше 28 000 футов. Сомервелл неважно себя чувствовал и шел далеко позади, а Нортон добрался до гигантского заснеженного ущелья и попытался подняться по нему, почти вертикально. Но снег был глубоким, почти по пояс. А там, где его не было, громоздились наклонные каменные плиты, покрытые льдом. Наконец Нортон стал понимать опасность своего положения — взгляд под соскальзывающую ногу открывал пропасть глубиной 8000 футов к леднику Ронгбук — и был вынужден отказаться от подъема к вершине, а потом очень медленно спустился к Сомервеллу и срывающимся голосом спросил, стоит ли им идти в связке. (Такая внезапная потеря самообладания после дерзких попыток очень опасного восхождения случается не так уж редко, даже в Альпах. Как будто мозг внезапно вспоминает об инстинкте самосохранения, и тот в конечном итоге пересиливает адреналин и амбиции даже самых отважных альпинистов. Те, кто игнорировал эту «потерю самообладания» в действительно опасных ситуациях — например, Джордж Мэллори, — зачастую не возвращались.) Попытка Нортона подняться по ущелью поражает воображение. Новый рекорд высоты в 28 126 футов мог быть превзойден только Мэллори и Ирвином во время последней, фатальной попытки пройти продуваемый ветрами Северо-Восточный гребень. Но большинство альпинистов, побывавших на Эвересте, писали, что ущелье Нортона неприступно. Слишком крутой подъем. Слишком много ненадежного снега. Слишком много вертикального подъема. Слишком серьезная расплата за единственный неверный шаг после многочасового перехода в условиях сильнейшего холода, высокогорья и неимоверной усталости. — А почему бы не использовать «кошки» для подъема по ущелью Нортона? — спросил Жан-Клод. — Или даже на крутых снежных склонах выше двадцати семи тысяч метров на Восточном гребне или на Северо-Восточном гребне, куда добрались только Мэллори и Ирвин? Когда прозвучала эта фраза, меня пробрала дрожь. Правда, к тому времени я снял пуховик Финча, а с Кам-Идвал через озеро Ллин-Ваур дул холодный ветер. — «Кошки» бесполезны на таких крутых снежных полях, как ущелье Нортона, — раздраженно сказал я. — И даже на снежных полях ниже высокогорного лагеря на высоте примерно двадцати семи тысяч футов. — А почему? — спросил Жан-Клод со своим раздражающим галльским самодовольством. — Потому что колени и голеностопы человека не гнутся в эту сторону, черт возьми! — громко сказал я. — И еще потому, что «кошки» не держат на крутых снежных склонах, когда вес альпиниста не вгоняет их в снег. Ты сам прекрасно это знаешь, Же-Ка! — Конечно, знаю, Джейк. — Жан-Клод бросил свои старые «кошки» в снег. — Думаю, наш друг хочет нам что-то показать, — заметил Дикон. Его трубка теперь дымила вовсю, и он говорил, зажав ее зубами. Жан-Клод улыбнулся, наклонился к большой сумке и вытащил одну металлическую «кошку», новенькую и блестящую. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы заметить разницу. — У нее шипы… зубья впереди, — наконец произнес я. — Как рога. — «Кошки» с двенадцатью зубьями. — Теперь Жан-Клод говорил кратко, по-деловому. — О них говорили немецкие альпинисты. Я попросил отца сконструировать и изготовить их. Мы знали, что отец Жан-Клода прошел путь от кузнеца до руководителя одной из крупнейших фирм, если не во Франции, то в Шамони, специализирующихся на литье и штамповке металлов. Бизнес месье Клэру-старшего стремительно рос благодаря контрактам французского (а также британского и американского) правительства во время мировой войны. Теперь его компания выпускала самую разнообразную продукцию, от стальных труб до стоматологических инструментов. — Похоже, это опасно, — сказал я. — Точно, — подтвердил Жан-Клод. — Для горы, которая не хочет, чтобы ее покорили. — Кажется, я понял. — Дикон шагнул вперед и взял в руку устрашающего вида «кошку» с 12 шипами. — Ты вбиваешь эти зубцы, переносишь вес тела на твердую, почти не гнущуюся подошву нового жесткого ботинка и используешь их в качестве опоры. Даже — теоретически — на почти вертикальном льду. — Oui, — кивнул Жан-Клод. — Но не только на «почти вертикальном», друг мой. На вертикальном. И даже хуже, чем вертикальном. Я испытывал их во Франции. А сегодня мы проверим их здесь. Признаюсь, что мое сердце учащенно забилось. Я никогда не любил работу на льду. Ненавижу поверхности, где нет опоры для обеих ног, даже ненадежной. От слов Же-Ка «сегодня мы проверим их» меня прошиб пот. — Но это еще не все, — сказал Жан-Клод. — Покажите свои ледорубы, друзья мои. Разумеется, мы принесли с собой ледорубы. Я выдернул свой из снега и поставил перед собой: длинная ручка и металлическая головка с острым клювом. Дикон тоже извлек свой ледоруб из снега и прислонил к моему. — Какая длина у твоего ледоруба, Джейк? — спросил Же-Ка. — Тридцать восемь дюймов. Для вырубки ступеней на крутом склоне я предпочитал именно такой, относительно короткий ледоруб. — А у тебя, Ричард? — Ри-шар. — Сорок восемь дюймов. Устаревшая конструкция, знаю. Как и я сам. Жан-Клод просто кивнул в ответ. Затем протянул руку к битком набитой сумке на снегу и достал из нее «ледорубы», которые на самом деле не были ледорубами. Длина самого большого не превышала 20 дюймов. Господь свидетель, это были просто молотки. Только с разными головками и клювами на деревянных или… Боже милосердный… стальных рукоятках. Отец Же-Ка не зря владел фирмой по выпуску стальных изделий. — Твоя конструкция? — спросил Дикон, поднимая одну из этих нелепых штуковин, похожих на молоток. Жан-Клод пожал плечами. — На основе тех, что использовали в этом году немцы — вы сами мне рассказывали после возвращения из Мюнхена в ноябре прошлого года. Поэтому я поднимался по ледовым маршрутам с ними в декабре месяце — то есть с несколькими молодыми немцами — и видел их технику, пользовался их снаряжением. А потом сделал собственные модификации на I'usine de mon рèrе,[42] попробовал усовершенствовать их. — Это не ледорубы! — Я почти кричал. — Разве? — Нет, — сказал я. — С этими штуковинами невозможно ходить, на них нельзя опираться, ими даже нельзя вырубить ледяные ступени на крутом склоне. Жан-Клод поднял вверх палец. — Au contraire,[43] — тихо возразил он и взял в руки один из пяти ледорубов-молотков, которые оставил лежать на брезентовой сумке. Эта модель была больше других похожа на обычный ледоруб — деревянная рукоятка и все такое, — который словно оставили под дождем и он съежился на две трети. Однако на одной стороне головки у него вместо лопатки, как у наших ледорубов, имелся тупой и короткий боек, как у молотка. Это был настоящий молоток. — Этот ледяной молоток, который мы с отцом назвали «прямым», — сказал Же-Ка, — очень удобен для вырубания ступеней на крутом снежном или ледяном склоне. И при этом не нужно отклоняться от вертикали, смещая центр тяжести, как с нашими старыми, длинными ледорубами. Я просто покачал головой. — А вот самый короткий, — сказал Дикон, указывая на большой молоток, полностью сделанный из стали с заостренным основанием и длинным, плоским клювом с одной стороны и очень коротким бойком с другой. Же-Ка улыбнулся и поднял ледоруб, потом протянул его Дикону, который взял его свободной рукой. — Легкий. Алюминий? — Нет. Сталь. Но с полой ручкой. Эту модель мы с отцом назвали «изогнутым» коротким ледорубом. Для работы на крутых ледяных склонах — очень удобно вырубать ступени. А вот этот, чуть длиннее, с деревянной ручкой, который выглядит как укороченный вариант обычного ледоруба, но с длинным изогнутым и зазубренным клювом, который мы назвали ледорубом с «обратным изгибом». Он использовался, — Жан-Клод повернулся к вертикальной ледяной стене позади себя, — для этого. Дикон протянул мне два коротких ледоруба и потер заросшие щетиной щеки и подбородок. В то утро он не дал себе труда побриться, хотя нам в конце концов удалось достать немного горячей воды в той ужасной гостинице. — Кажется, начинаю понимать, — сказал он. Я размахивал обеими остроконечными… штуковинами, словно рубил лед. И представил, как длинные, изогнутые клювы вонзаются в череп француза. — Как ты нашел это место… Кам-Идвал? — спросил Дикон, запрокинув голову и рассматривая вертикальный ледяной утес, который ярко блестел в лучах утреннего солнца. Его устрашающая глыба нависала над нами всей своей огромной массой, которая в любой момент могла обрушиться на нас с высоты 200 футов. Навес был слишком широким и толстым для свободного восхождения — ширина скалы по меньшей мере вдвое превышала рост Жан-Клода, а глыбы льда выступали еще на пять или шесть футов. Не было никакой возможности добраться до вертикальной стены из камня и льда над навесом — для последней веревки длиной около восьмидесяти футов. — Я узнал у британских альпинистов лучшее место в Англии и Уэльсе, — ответил Жан-Клод. — А разве в Британии есть специалисты по ледникам? — спросил Дикон. Я не понял, было ли его удивление искренним или поддельным. Мне всегда казалось, что он лично знал всех британских альпинистов. А также большинство французских и немецких. — Очень немного, — с легкой улыбкой ответил Жан-Клод. — Что дальше? — поинтересовался Дикон, указывая на почти полную сумку, словно ему не терпелось увидеть, как из нее появится еще одна необычная штуковина. Жан-Клод повернулся, отступил назад, прикрыл глаза от солнца ладонью и стал вместе с Диконом рассматривать отвесную ледяную стену и устрашающий навес. — Дальше… — Усиливающийся ветер почти заглушил его голос. — Дальше мы втроем пройдем эту стену. До конца. Всю. Включая навес. До самой вершины. Ладно, буду откровенен. Мой мочевой пузырь удержала от опорожнения только мысль, что намокшее шелковое белье и шерстяные бриджи скоро замерзнут и превратятся в сосульку, что причинит мне серьезные неудобства. — Ты… это… не… твою мать… не всерьез, — пробормотал я, обращаясь к маленькому французу, который перестал быть мне другом. Я употреблял это грубое выражение всего лишь второй раз в жизни и впервые в присутствии двух своих новых товарищей. Же-Ка улыбнулся.
Из самой большой сумки Жан-Клод извлек три прочных, но легких кожаных… «сбруи», это самое подходящее слово — с металлическими карабинами на ремне спереди, где посередине груди перекрещиваются лямки, а также с многочисленными петлями и карабинами по всему широкому ремню. Пока мы с Диконом с сомнением натягивали на себя эти странные конструкции, Же-Ка поднял левую ногу как можно выше, вонзил в лед передние зубья своей новой «кошки», затем вогнал острые концы обоих коротких ледорубов — я только что заметил, что они крепились к запястьям короткими кожаными петлями, — и подтянул тело вверх, пока полностью не выпрямился, опираясь лишь на негнущуюся подошву левого ботинка. Его сбруя зазвенела, поскольку к ней были прикреплены разнообразные стальные инструменты — что-то вроде дополнительного ледоруба в чехле, куча блестящих карабинов, большая сумка с ледобурами, а также другие сумки со звякающими внутри приспособлениями, висящие на поясе. Через плечо и поперек груди Жан-Клода была намотана огромная бухта веревки, и по мере подъема он медленно разматывал ее. Же-Ка потянул ледоруб в правой руке вниз, покачал из стороны в сторону, выдернул изо льда и снова глубоко вонзил заостренный конец, но уже на четыре фута выше. По-прежнему опираясь на левую ногу — думаю, это не составляло особого труда, — он точно так же закрепил правую ногу несколькими футами выше, извлек «кошку» на левой ноге изо льда и подтянулся на обеих руках. Затем поглубже вогнал в ледяную стену левый ледоруб, выше правого, поднял левую ногу и с помощью зубьев «кошки» закрепил на льду. Стоя в непринужденной, словно на прогулке, позе на ледяной стене на высоте шести футов, Же-Ка оглянулся на Дикона — которому наконец удалось влезть в сбрую — и спросил: — Будь это ледяная стена под Северным седлом и если бы нам требовалось подготовить ее для других альпинистов и носильщиков, как ты думаешь, сколько времени заняла бы вырубка ступеней? Прищурившись, Дикон посмотрел вверх. — Слишком круто для ступеней. И навес… это невозможно. Носильщикам не подняться, даже с перильными веревками. — В таком случае, — Жан-Клод даже не задыхался, стоя на вертикальной стене, — мы возьмем с собой что-то вроде стофутовой веревочной лестницы, которую в прошлом году Сэнди Ирвин соорудил для носильщиков. Ею будут пользоваться носильщики, когда им потребуется идти за нами. — Это было после того, как Ирвину пришлось свободным стилем подняться по камину — расщелине в ледяной стене, — сказал Дикон. — И они установили шкив для подъема грузов. — Но если предположить, что по этой стене можно подняться, вырубая ступени, сколько времени это займет? Дикон снова посмотрел вверх. Вертикальная ледяная стена ослепительно блестела на солнце. Он надел очки. — Три часа. Может, четыре. Или пять. — Семь, — сказал я. — Не меньше семи часов. Же-Ка улыбнулся и продолжил подъем, работая «кошками» и ледорубами. Приблизительно через каждые 30 футов он останавливался, сверлил острым концом ледоруба крошечное отверстие прямо перед собой или чуть выше, вытаскивал из висевшей на поясе сумки ледобур длиной от 12 до 15 сантиметров и рукой вворачивал его под углом к вертикальной стене — сверху вниз, под углом от 45 до 60 градусов относительно линии нагрузки. Иногда, если лед был слишком твердым и ледобур не входил до конца, Жан-Клод использовал острый конец ледоруба или какой-то инструмент, висевший у него на поясе, вставляя его в шлиц ледобура и удлиняя рычаг. Закончив установку ледобура, он каждый раз проверял прочность крепления, пристегивая к нему карабин и нагружая весом своего тела — но не извлекая «кошки» изо льда. Даже с задержками на установку страховочных ледобуров через каждые десять ярдов Жан-Клод поднимался по ледяной стене, словно паук. Иногда он оставлял оба ледоруба во льду — соединенные лишь сдвоенным ремешком, продетым через карабины на груди «сбруи» и петли на запястьях, — и обеими руками вворачивал ледобур. По мере того как он поднимался все выше и выше, мне становилось труднее следить за его движениями. Теоретически веревка — которая была пропущена через серию узлов на груди и животе «сбруи» — остановит его падение, если он сорвется со стены, но если это произойдет в верхней точке следующего участка, прежде чем Же-Ка успеет ввернуть очередное крепление, то он пролетит 60 футов по вертикали, и только потом веревка будет поймана ушком торчащего изо льда ледобура. Немногие альпинисты, даже при условии надежного упора для ног и точки страховки, способны удержать человека, пролетевшего по воздуху 60 футов. Слишком большая масса. Слишком большая скорость после такого долгого падения. Кроме того, альпинистские веревки образца 1925 года почти наверняка не выдержали бы такой нагрузки. Именно в этот момент я понял, что громадная бухта веревки на плече Жан-Клода выглядела такой большой не только потому, что была длиной 200 футов, когда он начинал подъем, но также потому, что веревка, теперь спускавшаяся-по ледяной стене, была толще тех, что мы обычно использовали. Жан-Клод продолжал карабкаться по непреодолимой вертикальной стене изо льда, смещаясь на несколько футов влево или вправо, чтобы избежать ненадежных ледяных выступов, и веревка, остававшаяся после него, теперь стала напоминать паутину. Дикон достал из кармана жилета золотые часы и следил за стрелками. Я знал, что эти часы могли использоваться в качестве хронометра. Дикон хронометрировал работу нашего друга. Когда маленькая фигурка добралась до 15-футового выступа из камня и льда, нависавшего над вертикальной стеной высотой около 180 футов, Жан-Клод пристегнул карабин на поясе или на груди (с такого расстояния определить было трудно) к широкой петле, продетой в последний ледобур, только что ввернутый в том месте, где стена упиралась в навес, и крикнул нам (почти не задыхаясь): — Сколько прошло времени? — Двадцать одна минута, — крикнул в ответ Дикон, пряча часы. Я видел, как Жан-Клод покачал головой. На голове у него была свободная вязаная шапочка красного цвета, напоминавшая берет. — Я мог бы проделать это в два раза быстрее, если бы потренировался. И… — Он посмотрел вниз, между своих широко расставленных ног. — …Думаю, с меньшим количеством ледобуров. — Ты нам все показал, Жан-Клод, — крикнул Дикон. — Проверил свое новое снаряжение! Оно великолепно. Теперь спускайся! Фигурка отклонилась назад, повиснув на лямках обвязки на высоте почти 200 футов, и покачала головой. Потом Жан-Клод что-то крикнул, но ни я, ни Дикон не разобрали ни слова. — Я же сказал — до самой вершины, — повторил он и снова посмотрел на нас сквозь широко расставленные ноги. От волнения я буквально заламывал руки, хотя это было странно — из нас троих я был самым опытным скалолазом. Мне должны были нравиться такого рода вертикальные стены — ровная поверхность, испещренная трещинами скала и даже несколько небольших навесов в качестве дополнительных препятствий. Но это… это было самоубийством. Я осознал, что по-настоящему ненавижу лед. И мысль о том, чтобы подниматься на Эверест с этой дурацкой сбруей и со всеми этими гремящими железяками — «проклятые жестянщики», так британские альпинисты презрительно называли немцев и немногих французов, которые пользовались металлическими карабинами и крючьями на такого рода скальных и ледяных стенах, — внезапно показалась мне просто неприличной. Неприличной и абсурдной. В ту же секунду я также понял, что очень сильно нервничаю. Мне еще не приходилось испытывать подобной скованности, даже когда в Альпах вместе с этими двумя людьми я карабкался по карнизам, гребням, стенам, вершинам и склонам. Я посмотрел на Же-Ка, ожидая, что тот начнет спуск. У него еще оставался достаточный запас веревки, чтобы большую часть пути спуститься по ней. Если он доверяет этим чертовым ледобурам. Но Жан-Клод Клэру не стал спускаться по веревке или тем же способом, что поднимался, а сделал то, во что мне трудно поверить даже теперь, больше шестидесяти пяти лет спустя. Во-первых, не отцепляя петли своей обвязки от последнего ледоруба, только что установленного в верхней точке вертикальной стены, Же-Ка отклонился назад, так что натяжение пятифутовой петли удерживало его почти горизонтально. Затем вонзил оба ледоруба в нависающий лед, как можно дальше от себя. Потом поднял ноги — я испуганно отвел взгляд, потом снова посмотрел на маленькую фигурку, ожидая увидеть, как она падает, — и уперся зубьями «кошек», передними и нижними, в угол, где встречались вертикальная стена и горизонтальный навес. Каким-то образом ему удавалось висеть в горизонтальном положении, одной рукой поддерживая вес всего тела, а другой вворачивая ледобур — последние несколько сантиметров его пришлось вбивать, и я слышал звук скрежета стали о камень подо льдом. Затем Жан-Клод пристегнул к ледобуру карабин и что-то вроде двойной лямки и повис в горизонтальном положении футах в семи под выступом. Затем, отталкиваясь стальными зубьями «кошек» от вертикальной стены, он принялся раскачиваться вперед-назад. Же-Ка держали только петля на ледобуре и веревка, и его тело не касалось стены или навеса, за исключением тех моментов, когда он отталкивался ногами, чтобы раскачаться еще сильнее. — Матерь Божья, — прошептал Дикон. А может, я. Правда, не помню. Но я помню, что маятник из маленькой человеческой фигурки под тем навесом шириной 20 футов остановился после того, как Жан-Клод вонзил оба ледоруба в ледяной потолок. Закрепился только один из них, но Же-Ка подтянулся выше, так что веревка, которая удерживала его в горизонтальном положении, немного ослабла. Затем он вонзил передние зубья «кошек» на обоих жестких ботинках в потолок и вогнал в лед второй ледоруб. Хороший альпинист должен быть сильным. Посмотрите на наши предплечья, и вы увидите бугры мышц, которые не часто встречаются у других спортсменов, не говоря уже о «нормальных» людях. Но висеть вот так, в горизонтальном положении — не просто горизонтальном, потому что его голова находилась ниже зацепившихся за лед ботинок, — держась лишь руками за два коротких ледоруба, на силе кистей, предплечий и плеч… Невозможно. Тем не менее Жан-Клод висел. А потом он отпустил один из ледорубов. И стал левой рукой нащупывать ледобур в сумке, висевшей у него на поясе. Металлический штырь выскользнул у него из пальцев, которые к тому времени почти потеряли чувствительность, и упал вниз, пролетев около 200 футов по вертикали. Мы с Диконом отпрянули, когда длинный бур отскочил от небольшого камня между нами и на снег во все стороны полетели искры. Же-Ка спокойно вытащил другой ледобур, поправив сумку так, чтобы из нее больше не вываливалось снаряжение. Перехватив прочно застрявшие во льду ледорубы, так чтобы вес тела приходился только на левую руку, Жан-Клод не торопясь ввернул бур, соорудив ледяной якорь. Ему пришлось использовать маленький стальной инструмент, висевший у него на поясе, чтобы пройти последние сантиметры льда, а затем вбить бур в скалу подо льдом. Я так и не понял, почему Же-Ка не свалился с навеса, когда проделывал все это. Затем он — после того, как выпустил еще семь или восемь футов лямки — повис, голова и ноги ниже поддерживаемого лямкой туловища, и принялся сильно раскачиваться взад-вперед. В дальней точке траектории Жан-Клод поднимался выше края навеса. Он продолжал раскачиваться, а я со страхом напрягал слух и зрение, ожидая, что оба бура, вкрученные в потолок, вырвутся из отверстий и он пролетит 30 или 60 метров вдоль ледяной стены, почти наверняка потеряв сознание. Одному из нас придется подниматься по закрепленной веревке, чтобы забрать раненого или мертвого друга. Мне очень не хотелось этого делать. Но Жан-Клод никуда не падал, а дуга маятника уже выносила его над краем навеса, и на втором взмахе он вонзил в лед изогнутые клювы обоих ледорубов. Переставляя ледорубы, подтянулся выше — снова одной лишь силой плеч и предплечий, которые, наверное, дрожали от перенапряжения и адреналина. Поднявшись на семь футов по 12-футовой вертикальной стене навеса, Жан-Клод вонзил носки своих новых «кошек» в лед и спокойно ввернул в лед последнюю точку необходимой ему страховки. Единственным признаком неимоверной усталости — а возможно, оттока адреналина, в результате которого дрожат руки и пальцы альпиниста после действительно опасной ситуации, — можно считать то, что, пристегнув карабин и с помощью Y-образных лямок закрепив обвязку на груди и на поясе, Же-Ка откинулся назад под углом около 40 градусов к ледяной стене и пару минут отдыхал. Короткие ледорубы свисали с его запястий на темляках. Даже с расстояния почти 200 футов я видел, как он сжимает и разжимает пальцы обеих рук. Затем Жан-Клод подхватил оба ледоруба, выпрямился и возобновил подъем. Мы с Диконом смотрели, как он перегибается через край ледяной глыбы, вбивает во что-то острый конец ледоруба, подтягивается и исчезает за краем навеса. Минуту спустя он уже стоял на краю, снимая с плеча остатки веревки, и кричал нам: — У меня осталось около сотни футов. — Его торжествующий голос эхом отражался от скал. — Я отвязал их — для страховки нам понадобятся две веревки, — так что захватите еще сотню футов самой толстой, «волшебной веревки Дикона», которая у меня во второй сумке. Привяжете ее на полпути. Кто следующий? Мы с Диконом посмотрели друг на друга. Да, из нас троих я был самым опытным скалолазом. Именно я должен был карабкаться по скалам Эвереста, если бы нам удалось дойти до так называемой второй ступени, похожей на нос дредноута, недалеко от вершины на Северо-Восточном гребне на высоте более 28 000 футов. Но в тот момент меня объял ужас. — Я следующий, — сказал Дикон и, закинув на плечо 100-футовую бухту «хорошей веревки» Жан-Клода, пошел к ледяной стене, подняв оба ледоруба.
Никто из нас не хотел еще раз ночевать на том жалком постоялом дворе в Серригидрадене или вообще в Уэльсе, и поэтому Дикон повез нас прямо в Лондон. Дорога заняла весь вечер и долгую, темную ночь. Фары «Воксхолла» по-прежнему были почти бесполезными, но когда после наступления темноты мы выехали на шоссе, Дикон пристраивался за каким-нибудь грузовиком и ориентировался на его габаритные огни, маленькие красные точки. Мы потратили немало времени, чтобы установить и закрепить крышу, окна и боковины. Похоже, обогреватель наконец заработал (а может, все дело было в наших разгоряченных телах), и Жан-Клод растянулся на подушках и мешках со снаряжением на заднем сиденье и проспал всю обратную дорогу. Если мы с Диконом и заговаривали, то очень тихими, почти благоговейными голосами. Я вспоминал этот необыкновенный день и невероятные открытия, с которыми познакомил нас Жан-Клод. Когда наступила моя очередь, подъем оказался не таким страшным, как я думал. Ледовые молотки и «кошки» с 12 зубьями, в том числе двумя передними, давали ощущение безопасности. Кроме того, Дикон поднял дополнительные 100 футов веревки, которую Же-Ка называл «волшебной веревкой Дикона», и привязал ко второй — если первой считать закрепленную веревку, — и поэтому на всем маршруте я был фактически под двойной страховкой. Она пригодилась, когда я дважды немного поторопился извлечь изо льда «кошки», прежде чем нашел три надежных точки опоры и отделился от стены. Возможно, падение с высоты 50 футов, пока тебя остановит (или не остановит) предыдущий ледобур, штука довольно захватывающая, но вторая страховочная веревка, привязанная к толстому дереву где-то за ледяным навесом и поддерживаемая Диконом, не дала мне пролететь и пяти футов. Сам навес, который так пугал меня, когда я смотрел на него снизу, даже доставил мне удовольствие. Я волновался, выдержат ли мой вес два ледобура, которыми до меня пользовались мои более легкие товарищи, но Дикон не поленился — пока висел в горизонтальном положении под ледяным навесом, вкрутил третий, более длинный ледобур, и сильными ударами вогнал последние пять или шесть сантиметров стального штыря в скалу подо льдом. Поэтому я даже получил удовольствие, раскачиваясь по широкой дуге над скалами внизу, от которых меня отделяло 200 футов, а затем с первой попытки вонзил острые концы обоих ледорубов во внешний, вертикальный участок ледяного навеса. Как оказалось, многолетний опыт скалолазания пригодился и на льду: последние десять футов до вершины я использовал только силу рук, подтягиваясь на ледорубах. Когда я оказался на вершине — с нее открывался просто фантастический вид на Ллин-Идвал и Кам-Идвал, а также другие пики и озера подними, — Жан-Клод выругал меня за то, что на последнем участке я не пользовался «кошками», но я лишь ухмыльнулся ему в ответ. Мы по очереди спустились вниз на веревке, оставив вторую страховочную веревку на месте, и остаток дня тренировались на склонах пониже. Благодаря новой веревке Дикона — большей по диаметру, состоявшей из пеньковых волокон, обычной альпинистской веревки и какого-то секретного компонента, который он нам не назвал (но который придавал веревке большую эластичность и большую прочность на разрыв), — мы чувствовали себя уверенно при подобном спуске. В 1924–1925 годах немногие альпинисты решались доверять своим веревкам — Дикон называл их «наши старые веревки для сушки белья» — такие длинные спуски. Стараясь не заснуть во время долгой обратной дороги в Лондон — просто чтобы составить компанию Дикону, который вел машину и должен был не спать, — я снова и снова прокручивал в усталом мозгу французские термины, связанные с этой новой техникой работы на льду, которые Жан-Клод пытался вбить нам в голову. Pied marche — просто переход по горизонтальному участку льда или пологому склону не круче 15 градусов, как через ледник — мы много раз проделывали это раньше с помощью обычных «кошек» с 10 зубьями. Pied en canard — «утиная прогулка» — осторожный подъем на «кошках» с 12 зубьями по склону крутизной до 30 градусов. Выглядит так же нелепо, как и звучит, но можно пользоваться нашими привычными длинными ледорубами. Pied à plat — буквально «плоскостопный», когда нижние 10 зубьев обеих «кошек» удерживают ваше тело в вертикальном положении на склоне крутизной до 65 градусов, а ледоруб вбит в лед над головой. Хороший способ отдохнуть. Далее шли названия приемов работы с самими ледорубами: piolet ramasse на склонах крутизной от 35 до 50 градусов (элегантный способ вырубить ступени на крутом склоне) и piolet ancre, способ вырубания ступеней или другой работы руками (например, вкручивания ледобуров свободной рукой) на крутых склонах от 45 до 60 градусов и даже круче. Для ледовых молотков своя терминология — угол входа в лед, высота хвата во время восхождения и т. д., — и после первого дня я запомнил лишь piolet panne для крутых склонов от 45 до 55 градусов, piolet poignard, который мы использовали для еще более крутых склонов от 50 до 60 градусов, и piolet traction, для склонов от 60 градусов до вертикальных стен и навесов. Насколько я помнил, Жан-Клод сказал, что последнему способу, который требовал применения передних зубьев «кошек», он научился у немцев и австрийцев, когда вместе с ними работал на льду в декабре прошлого года, и поэтому я недоумевал, почему термины были французскими, а не немецкими. Ответ оказался прост: немцы и австрийцы, по-прежнему пользовавшиеся старыми французскими «кошками» с 10 зубьями и длинными ледорубами, просто добавили новые термины. Ничего не поделаешь — Европа. В то воскресенье на более пологих — но таких же скользких и смертельно опасных — ледяных склонах вокруг Ллин-Идвал мы начали осваивать технику, которую я называю (до сегодняшнего дня, после того как прибегал к ней тысячи раз) «танцевальными шагами»: например, pied à plat-piolet ramasse — подъем по склону с упором на полную стопу и использованием короткого ледоруба в положении piolet ramasse для организации следующей точки опоры. Же-Ка с такой ловкостью проделывал это на крутом, но не вертикальном склоне, что наблюдать за ним было настоящим удовольствием — левая нога слегка сгибается коленом внутрь, а обе руки держат короткий ледоруб, вбитый выше по склону, затем правая нога заводится поверх левой, как в сложном танцевальном па, острие ледоруба и 10 из 12 стальных зубьев «кошки» на правой ноге снова вгрызаются в лед, и левая нога перемещается выше по склону, пока 10 зубьев «кошки» на ее подошве надежно не цепляются за склон. А затем танцевальный шаг повторяется снова и снова. Жан-Клод показал нам разнообразные способы отдыха на таких крутых, отнимающих много сил склонах, но мне больше всего пришелся по вкусу простой pied assis — откинуться назад на склоне так, чтобы ягодицы почти коснулись (но все же не коснулись) льда, левая нога согнута в колене, а левая ступня под вами, так что зубья «кошки» вдавлены в лед, правая нога вывернута наружу, а голеностоп повернут так, что правый ботинок и зубья его «кошки» располагаются под углом почти 90 градусов к направлению, в котором смотрит правое колено. В этом положении не нужно держаться за ледоруб и ледовые молотки, и в результате до тех пор, пока мышцы ног не начнет сводить судорогой; так можно отдыхать довольно долго, держа ледоруб обеими руками и не торопясь разглядывая склон и ландшафт внизу. Но большую часть второй половины дня на красивом валлийском закате мы учились пользоваться самым коротким ледорубом и ледяными молотками в основных положениях piolet panne и piolet poignard: движение на передних зубьях (использование только двух передних зубьев «кошек» из двенадцати) в закрепленном положении; движение на передних зубьях в положении piolet traction; движение на передних зубьях в положении piolet poignard (так, как мы поднимались по вертикальной стене); в положении «на три часа» с использованием обоих ледовых молотков над головой на крутом склоне, когда правая нога согнута и отброшена назад; движение на передних зубьях на очень крутом склоне, так что вес тела приходится на ледовые молотки с обращенным вниз клювом в положении piolet panne (опора на оба сразу, внизу), и так далее. Остальное время заняла техника траверса и спуска — особенно быстрого спуска. (Мне всегда нравилось скользить вниз по крутому снежному полю, используя обычный ледоруб в качестве руля, а затем для остановки в самом низу; но Жан-Клод показал нам, как шагать с «кошками» на ботинках, в положении piolet ramasse, для страховки оставляя сзади ледоруб, почти так же быстро и по гораздо более крутым склонам.)
Ближе к вечеру на крутом снежном склоне под скальной стеной Же-Ка продемонстрировал нам свое последнее технологическое чудо. Это был маленький и относительно легкий металлический инструмент клинообразной формы со стальными пружинами — они отпускались нажатием ладони и автоматически сжимались, если убрать давление, — который мог скользить по закрепленной веревке. Же-Ка деловито взобрался по склону в своих новых «кошках» с 12 зубьями, привязал «волшебную веревку Дикона» к длинному ледорубу, глубоко вогнанному в лед под скалой футах в 150 над нами, укрепил эту точку страховки несколькими ледобурами, затем снял «кошки» и ловко соскользнул по крутому склону прямо к нам. Веревка на ослепительно белом снегу лежала как линия разлома. Затем Жан-Клод достал эти зажимы для веревки для каждого из нас. — Очень просто, non? — сказал он. — Полностью отпустите, и механизм крепко зажмет веревку. Можно даже повиснуть, ни за что не держась, если захочешь. Если слегка нажать одной рукой, механизм скользит по веревке, как по направляющей. А если нажать сильнее, то у механизма и вместе с ним у вас больше нет… как это произносится?., трение?., трения на веревке. — Для чего ты собираешься использовать это приспособление? — спросил я, хотя видел, что Дикон уже уловил идею. — Было бы здорово прикрепить это устройство к какой-нибудь легкой альпинистской обвязке, — сказал тот. — Так, чтобы обе руки оставались свободными, а ты был присоединен к закрепленной веревке. — Exactement![44] — воскликнул Жан-Клод. — Я работаю именно над такой легкой обвязкой из кожи и брезента. И сегодня мы испытаем один вариант, ладно? С этими словами Же-Ка надел свое маленькое приспособление на закрепленную веревку и начал сдвигать его вверх и подниматься по склону даже без «кошек». Следующим пошел Дикон, через несколько шагов уже сообразив, когда нажимать на механизм, а когда отпускать. Мне потребовалось больше времени, но вскоре и я признал удобство и безопасность подъема с этим дурацким маленьким приспособлением с пружинами, которое зажимает закрепленную веревку сильнее, чем любая рука в толстой рукавице. Надежность увеличилась бы еще больше, если прикрепить устройство, скажем, веревкой или карабином к альпинистской обвязке, о которой говорили Жан-Клод и Дикон. На вершине 150-метрового склона с уклоном 50 градусов мы сгрудились вместе, защищаясь от усиливавшегося холодного ветра. Солнце садилось за горными пиками на западе. На востоке всходила луна. — Теперь мы используем его для управляемого спуска, — сказал Жан-Клод. — Я уверен, вы убедитесь, что механизм можно применять даже на вертикально закрепленных веревках. Это… как у вас говорят? Дурацкая защита? — Защита от дурака, — уточняет Дикон. — Покажи нам быстрый спуск. Тогда Же-Ка отстегнул свое приспособление от двойной закрепленной веревки — двойной для того, чтобы мы могли забрать веревку после спуска со склона, — выдернул ледоруб, так что двойную страховочную веревку удерживали только глубоко вкрученные в лед ледобуры, пристегнул механизм к веревке подо мной и начал быстрое скольжение без использования «кошек», управляя лишь давлением пружин механизма в его руке. — Невероятно! — выдохнул я, когда мы с Диконом достигли дна; так быстро спускаться по веревке мне не приходилось еще ни разу в жизни. — Мы еще потренируемся до отъезда и во время перехода к Эвересту, — сказал Жан-Клод. Сумерки сгустились, и вдруг стало очень холодно. Же-Ка уже вытягивал длинную веревку из проушин своих ледобуров. — Как называется это устройство? — спросил Дикон. Же-Ка улыбнулся, ловко наматывая бухту «волшебной веревки» на кулак и локоть, кольцо к кольцу. — Жумар, — ответил он. — Что это значит на французском? — поинтересовался я. — Ничего. Но так звали моего пса, когда я был маленьким. Он мог влезть за белкой на дерево, если хотел. Никогда в жизни я не видел такой собаки-альпиниста. — Жумар, — повторил я. Странное слово. Сомнительно, что я когда-нибудь к нему привыкну.
— Я уже несколько месяцев волновался насчет последней ледяной стены между ледником Ронгбук и Северным седлом на Эвересте, — тихо признался Дикон, когда мрачным зимним утром мы приближались к Лондону. Я кивнул, показывая, что не сплю, и ответил ему шепотом: — Почему? В двадцать втором вы с Финчем и остальными нашли снежные склоны к Северному седлу и вырубили на них ступени для носильщиков. В июне прошлого года снежных склонов не было, но обнаружилась та расселина — ледяной камин, — на которую Мэллори поднялся свободным стилем и установил перила, а затем спустил самодельную веревочную лестницу Сэнди Ирвина. Дикон слегка наклонил голову. — Но Ронгбук — это ледник, Джейк. Он растет, уменьшается, покрывается трещинами, тает, движется, крошится, создает расщелины. Единственное, в чем мы уверены, — ледник не будет таким, каким видел его Мэллори в прошлом году или мы с Финчем годом раньше. Этой весной на леднике нас могут ждать пригодные для подъема трещины или новые снежные склоны — а может, и две сотни футов отвесной ледяной стены. — Ну, если это будет вертикальная стена, — мой голос звучал устало, но в нем проступала не свойственная мне бравада, — Же-Ка со своими «кошками» с передними зубьями, дурацкими короткими ледорубами и… как там они называются… жумарами показал нам, как на нее подняться. Несколько секунд Дикон молча вел машину. Я видел, как на горизонте вместе с солнцем появляется купол собора Святого Павла. — В таком случае, Джейк, — сказал Дикон, — я должен предположить, что мы готовы к восхождению на Эверест.
Я лишь хочу, чтобы этот лорд Бромли как-его-там, его чертово высочество, соизволил спуститься в Калькутту со своих холмов и помочь нам бандобаст эти большие тяжелые ящики к проклятому грузовому складу на целый день раньше; вот чего я хочу, черт возьми.
* * *
Калькутта — ужасный город, с киплинговскими «мертвецами в саванах» под ногами во время вечерней прогулки (как выясняется, не мертвыми телами, а просто закутанными в простыню людьми, которые спят на том, что служит здесь тротуарами), пропитанный благовониями, специями, человеческой мочой, коровами, неприятным запахом пота и дыхания людских толп, а также вонючим дымом горящих коровьих лепешек. Взгляды всех темнокожих мужчин выражают любопытство, презрение или неприкрытый гнев, тогда как взгляды женщин из складок черной ткани, в которую они закутаны от макушки до пяток, притягивают, манят и — по крайней мере, для меня — исполнены сексуальных обещаний. На дворе всего лишь 22 марта 1925 года, и до жутких летних предвестников муссона, а также ливней самого муссона еще далеко, однако воздух Калькутты уже похож на груду мокрых одеял, которые словно окутывают меня с головы до ног. Таковы были мои впечатления от двух с половиной дней, проведенных в этом городе. Все мне тут казалось странным. В прошлом году я пересек Атлантику на лайнере, следовавшем из Бостона в Европу, но пять недель плавания на корабле британских военно-морских сил «Каледония» были в тысячу раз более экзотическими. Первые дни выдались непростыми — буксиры с трудом вытащили нас из ливерпульской гавани, борясь с ветром и волнами, — и я с удивлением обнаружил, что единственным из нас троих ни разу за все путешествие не страдал от морской болезни. Качка представлялась мне чем-то вроде игры, просто препятствием, мешающим попасть из точки А в точку Б на деревянной палубе судна, где я утром и вечером ежедневно пробегал свои двенадцать миль, по маршруту, напоминающему подпрыгивающий и раскачивающийся овал. Я ни разу не почувствовал и намека на тошноту, которая едва не испортила первую часть путешествия Жан-Клоду и Дикону. Если не считать тягучей скуки во время прохождения Суэцкого канала и шторма в Восточном Средиземноморье, когда мне весь день пришлось провести в трюме, путешествие до Калькутты доставило мне удовольствие. В Коломбо — маленький город с белыми домиками, словно осажденный со всех сторон джунглями — я купил немного кружев и отправил их матери и тетке в Бостон. Окружающее было для меня новым и волнующим. И я знал — но в то время еще не полностью оценил, — что все это лишь прелюдия. В экспедициях на Эверест 1921, 1922 и 1924 годов Калькутта была лишь промежуточным пунктом на пути к официальному отправному пункту — Дарджилингу, — однако финансировались экспедиции «Комитетом Эвереста», Альпийским клубом и Королевским географическим обществом, и поэтому в Калькутте всегда были их представители, всегда готовые принять и рассортировать контейнеры с провизией и снаряжением, и по прибытии альпинистов все необходимое уже было либо погружено на поезд до Дарджилинга, либо готово к погрузке. Наша миссия тайная и незаконная, и поэтому никакие агенты в Калькутте нас не ждали. Дикон, который распоряжается деньгами леди Бромли — по крайней мере, пока «кузен Реджи» не возьмет на себя эту обязанность здесь, в Индии, — вскоре знакомит нас со словом, которое на хинди звучит как бандобаст и переводится как «организация». По всей видимости, слово бандобаст в Калькутте (где большинство населения говорит на бенгали, а не на хинди, но это почти универсальное понятие, похоже, используют во всей Индии, с ее необычайным разнообразием языков и культур) означает примерно то же самое, что бакшиш на Ближнем Востоке — взятки, необходимые для того, чтобы сделать даже простейшие вещи. Но Дикон участвовал в первых двух экспедициях Альпийского клуба вместе с Мэллори и остальными и интересовался всеми организационными аспектами, включая смазывание административных шестеренок в Калькутте (мы с Жан-Клодом могли только надеяться, что в Дарджилинге и Тибете тоже), и поэтому двенадцать наших тяжелых ящиков — среди прочего снаряжения, которое мы везли с собой из Европы, было много высококачественной веревки Дикона, и причины этого я объясню ниже, — переместили из порта на грузовой склад железнодорожного вокзала на третий день нашего пребывания в городе. Ночью от станции Силда сразу за Калькуттой отправляется поезд, который называют «Дарджилингским почтовым» и на который мы должны сесть, но этот поезд — настоящий, если можно так сказать, — идет только до Силигури, маленькой фактории в самой глуши, куда мы прибываем на следующее утро в 6:30. Там мы должны пересесть на Дарджилинг-Гималайскую железную дорогу — судя по всему, узкоколейку с маленькими, словно игрушечными паровозом и вагонами, которая поднимается на высоту 7000 футов к подножию Гималаев в Дарджилинге, где проводит лето британская колониальная администрация Бенгалии. Нам предстоит проехать около 400 миль, и Дикон предупреждает, что будет очень пыльно и жарко, и в «Дарджилингском почтовом» поспать вряд ли удастся. Это неважно. В любом случае я не собирался все время спать в поезде. В первое же утро после прибытия пришла телеграмма от «кузена Реджи»: ВСТРЕЧА ОТЕЛЕ ЭВЕРЕСТ ДАРДЖИЛИНГ ВТ. 24 МАРТА. С ЭТОГО МОМЕНТА ПРЕДПОЛАГАЮ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ РУКОВОДСТВО ЭКСПЕДИЦИЕЙ. Л./ Р. К. БРОМЛИ-МОНФОР — «Предполагаю взять на себя руководство экспедицией», подумать только, — бормочет Дикон, неловко комкая телеграмму своими длинными пальцами и бросая ее на землю. — Что означает буква «Л» с косой чертой? — спрашивает Жан-Клод, поднимая и расправляя листок телеграммы. — Полагаю, «лорд», — говорит Дикон и с такой силой прикусывает мундштук трубки, что я боюсь, что он сломается. — Лорд Реджинальд-какой-то-Бромли-Монфор. — Зачем ему сохранять фамилию Бромли? — Эти благородные англичане почти королевских кровей для меня по-прежнему загадка. — Откуда мне знать, черт возьми? — рявкает в ответ Дикон. Он злится, что с ним случается очень редко. Мы с Жан-Клодом пятимся, шокированные его тоном. — Я лишь хочу, чтобы этот лорд Бромли как-его-там, его чертово высочество, соизволил спуститься в Калькутту со своих холмов и помочь нам бандобаст эти большие тяжелые ящики к проклятому грузовому складу на целый день раньше, вот чего я хочу, черт возьми. Это его вшивая страна, его продажная культура, где без проклятых взяток не сделаешь ничего и где, черт возьми, никто даже не может вовремя прийти на назначенную встречу. И где же этот «руководитель экспедиции», когда нам действительно нужна его жирная задница?! Мы с Жан-Клодом переглядываемся — похоже, наши мысли текут в одном направлении. Когда годом раньше сюда прибыл Джордж Мэллори, у него не было никаких административных обязанностей, пока они не достигли Тибета и руководитель экспедиции Джеффри Брюс не заболел во время пятинедельного перехода в базовый лагерь на Эвересте. Из-за проблем с сердцем и неспособности адаптироваться к высоте даже на тибетских перевалах врач экспедиции отправил 58-летнего Брюса назад в Дарджилинг, и полковник Нортон, возглавлявший команду альпинистов, стал руководителем всей экспедиции, уступив свое место Мэллори. Последнему приходилось планировать восхождение и логистику, однако он был избавлен от более сложных обязанностей по управлению всей экспедицией — арендовать мулов, нанимать носильщиков, выполнять все требования тибетских властей и — самое утомительное — иметь дело с характерами, недостатками и внезапными болезнями всех британских альпинистов, а также пестрой команды из более чем сотни носильщиков. Мы с Жан-Клодом смотрим друг на друга после неожиданной вспышки Дикона — я уже говорил, что за полтора года знакомства с ним ничего подобного я от него не слышал (в ответ на вопрос о логистических или технических трудностях он обычно пожимал плечами и иронично улыбался, а затем раскуривал трубку), — и я знаю, о чем мы оба думаем. Пока мы с Жан-Клодом наслаждались океанским путешествием (Же-Ка «наслаждался» им лишь время от времени, между непродолжительными приступами валившей его с ног морской болезни), Дикон был занят распределением денег и разнообразными деталями организации экспедиции и самого восхождения. Во время плавания на военном корабле «Каледония» он ежедневно упражнялся, чтобы поддерживать форму, но у него не было времени бегать, как я, по раскачивающейся палубе. Обычно его можно было найти за письменным столом в его каюте первого класса, склонившимся над топографическими картами Эвереста и его окрестностей, фотографиями, а также рассказами (личными и в прессе) о трех предыдущих экспедициях, в их число входили многочисленные блокноты, которые сам Дикон исписал в 21-м и 22-м годах, прежде чем поссорился с Мэллори. Мы еще на первом этапе нашего пути — готовимся к поездке на поезде из Калькутты сначала в Силду, затем в маленький городок Силигури, а затем в холмы Дарджилинга, откуда начнется настоящее путешествие к Эвересту, — а Дикон уже выжат как лимон. И не только, понимаю я. Дикона привела в ярость высокомерная телеграмма от этого лорда Бромли-Монфора. Этот «кузен Реджи» должен был заведовать финансами нашей экспедиции по дороге из Дарджилинга к Эвересту, а не руководить ею. Я не виню Дикона за такую реакцию — я всерьез беспокоился о том, что случится, когда примерно через сорок восемь часов эти двое встретятся, — но у меня возникает неприятное чувство, что вся наша экспедиция на Эверест пребывает на грани провала. Вне всякого сомнения, это будет не первая альпинистская экспедиция, сорвавшаяся на первом этапе из-за конфликта двух человек, претендующих на лидерство. (И не последняя, в чем я мог убедиться на протяжении следующих шестидесяти девяти лет.) Но затем мы покидаем вокзал в Силде в грохочущем, адски жарком и неимоверно пыльном вагоне первого класса в таком же грохочущем, адски жарком и неимоверно пыльном поезде, преодолевающем первую часть нашего маршрута до Силигури, и я обнаруживаю, что смотрю в окно на самый скучный пейзаж, который мне приходилось видеть: бесконечные рисовые поля, прерываемые лишь плантациями разных пальм. В поезде царит хаос — пассажиры второго и третьего класса, а также безбилетники висят во всех дверях и окнах, а также на крыше всех вагонов, за исключением вагонов первого класса. С наступлением темноты стали видны многочисленные деревни на этой бесконечной равнине — по огням тысяч костров и ламп, которые мы проезжали. Казалось, миллионы людей одновременно готовят ужин, большинство на открытом огне рядом с домом или внутри дома с открытой дверью, и — по не слишком приятному запаху, пропитывающему воздух в купе, несмотря на закрытые окна, так что движение воздуха в купе обеспечивалось лишь электрическими вентиляторами, медленно вращающимися на стенках под потолком, — становится очевидным, что и подтвердил Дикон, что большинство очагов для приготовления пищи, мимо которых мы проезжаем, топят сушеным коровьим навозом. Дикон не извиняется за свою вспышку гнева на подготовительном этапе в Калькутте, но когда наш поезд до Силигури углубляется в сельскую местность с сотнями или даже тысячами огоньков в деревнях и отдельно стоящих домах, он выглядит немного виноватым и смущенным. Мы ужинаем жареными цыплятами, которых нам упаковали в корзинку в отеле, и вполне приличным белым вином в своем маленьком купе, где мы трое будем спать на откидных койках, и аромат табака из трубки Дикона смешивается с запахом коровьего навоза, пропитавшим влажный индийский воздух. Как ни странно, это успокаивает. Мы почти не разговариваем — нам интереснее рассматривать яркие картинки, которые мелькают перед нами, когда лязгающий маленький поезд проезжает деревни и дома, освещенные открытыми очагами и редкими лампами. Дорога уходит немного вверх, но мы знаем, что узкоколейка Дарджилинг-Гималайской железной дороги поднимет нас с уровня моря до Дарджилинга — город и чайная плантация Бромли-Монфора расположены в районе хребта Махабхарат, или Малых Гималаев — на высоте около 7000 футов. В конечном счете жара заставляет нас открыть окна и впустить в купе еще больше пыли, дыма и летающего в воздухе пепла, но плотный и влажный воздух становится капельку прохладнее. Теперь мы едем через банановые и кокосовые плантации, и вонь горящего в очагах коровьего навоза уравновешивается, а иногда и полностью вытесняется густым и чувственным тропическим запахом орошаемых пальм. В трех часах езды от Калькутты дарджилингский почтовый экспресс с ревом и грохотом проезжает по знаменитому мосту Сара, перекинутому через реку Падма. После него все погружается во тьму, в которой лишь тускло мерцают созвездия сотен и сотен далеких деревень, разбросанных по равнине. К одиннадцати вечера мы укладываемся на свои довольно жесткие откидывающиеся койки, и, судя по доносящимся до меня звукам, вскоре мои товарищи уже крепко спят. Меня какое-то время одолевают всякие мысли и сомнения — я опасаюсь, что встреча с лордом Бромли-Монфором в отеле «Эверест» завтра вечером или во вторник утром может обернуться катастрофой, — но затем равномерный стук железных колес и покачивание вагона «Дарджилингского почтового» убаюкивают меня, и я засыпаю. Рано утром в Силигури — после чая, кофе и плотного европейского завтрака в зале железнодорожного вокзала, предназначенном только для британцев и других белых пассажиров, — мы пересаживаемся на узкоколейку, поезд по которой отправляется ровно через тридцать пять минут после прибытия почтового экспресса. Проехав семь миль — поезд такой крошечный, что кажется слегка увеличенной копией игрушечной железной дороги, о какой мечтает каждый мальчишка, — мы прибываем на станцию Сукхна, после которой начинается необыкновенно крутой и необыкновенно медленный подъем в Дарджилинг. Влажные ароматы густонаселенной равнины Бенгали вскоре сменяются освежающим бризом, а ряды чайных кустов время от времени прерываются густым зеленым лесом, пахнущим дождем. По расписанию мы должны прибыть в полдень, но два камнепада, перегородивших рельсы, задерживают нас на несколько часов. Машинист и кочегар маленького игрушечного поезда заставляют несколько десятков пассажиров из вагонов третьего и даже второго класса убирать камни, осыпавшиеся с мокрых от дождя скал, и мы с Жан-Клодом с воодушевлением присоединяемся к ним, с помощью маленьких ломиков ворочая упавшие на рельсы булыжники. Дикон стоит в сторонке, скрестив руки на груди, и сердито смотрит на нас. — Если потянете спину или повредите руку, — напряженным голосом говорит он, — то из-за пустяка лишите себя шанса подняться на Эверест. Ради всего святого, оставьте это другим пассажирам. Мы с Же-Ка улыбаемся в знак согласия, но игнорируем его совет и помогаем очищать рельсы — под взглядами машиниста, кочегара и бесполезных кондукторов (которые собрали у нас билеты до отправления поезда Дарджилинг-Гималайской железной дороги, поскольку перейти из одного крошечного вагона в другой невозможно, а с тех пор ничего не делали), которые стоят со скрещенными на груди руками и хмурыми лицами. Время от времени они выкрикивают указания или выражают свое недовольство на бенгали и хинди, а также на каком-то другом диалекте. В конце концов дело сделано — рельсы очищены, и мы с Жан-Клодом бредем к своему вагону. Через двенадцать миль нас останавливает еще один камнепад; на этот раз на рельсах лежит груда более крупных камней. — Сильный дождь, — говорит машинист, пожимает плечами и смотрит вверх, на вертикальную скалу, с которой льются тысячи крошечных водопадов. Мы с Жан-Клодом снова присоединяемся к пассажирам второго и третьего класса, чтобы переместить несколько тонн камней. Дикон демонстративно остается в своей койке и дремлет. Таким образом, в Дарджилинг мы прибываем на несколько часов позже, не в полдень, как положено по расписанию, а уже на закате солнца. И в сильный ливень, который не дает нам полюбоваться вершинами Канченджанги и другими пиками Гималаев, которые обычно видны — по словам Дикона — при подъезде к Дарджилингу. Двое из нашей команды покрыты ссадинами и синяками после перетаскивания нескольких тонн камней; мышцы, тренированные для занятий альпинизмом, болят, а такие необходимые для скалолазания пальцы стерты до крови. Третий жутко раздражен нашим поведением. Мы идем в хвост поезда к пятому и последнему вагону нашего игрушечного экспресса — так называемому «грузовому» вагону, который на самом деле представляет собой просто платформу с нашими многочисленными ящиками и коробками, второпях привязанными и накрытыми брезентом, — и размышляем, как доставить все это в отель «Эверест». (Членов предыдущих экспедиций, и особенно руководителей, часто приглашали поселиться в резиденции губернатора на холме, но наша экспедиция настолько неофициальна, что мы предпочли бы быть невидимками. Поэтому выбрали отель.) Внезапно, словно по волшебству, из плотной пелены дождя появляется высокий мужчина с зонтом. За ним следуют больше дюжины носильщиков, выпрыгнувших из трех грузовиков «Форд» с брезентовым верхом. Над станционной платформой нет крыши, а дождь тут, на высоте 7000 футов, холодный, и из-под еще не остывших капотов грузовиков поднимается пар. Высокий мужчина одет в кремовый хлопковый балахон с длинной коричневой шерстяной обмоткой на шее, концы которой свисают, как у шарфа. Замысловатый и тщательно подогнанный головной убор, как у него, мне в Индии еще не попадался. Мужчина не похож ни на индуса, ни на тибетца — у него недостаточно азиатская внешность для первого, и он недостаточно низкорослый и темноволосый для второго. Возможно, он принадлежит к мифическим шерпам, о которых я так много слышал, хотя, насколько мне известно, шерпы тоже невысокие, а карие глаза этого человека находятся вровень с моими — во мне 6 футов и 2 дюйма росту. Он не произнес ни слова и не сделал ни единого жеста, однако во всем его облике чувствуется благородство и достоинство. Вне всякого сомнения, он обладает тем, что некоторые называют властностью. Дикон идет к нему сквозь дождь, и потоки воды стекают с полей его мягкой фетровой шляпы. Мужчина протягивает зонт, чтобы Дикон мог стать рядом с ним под широким черным кругом. — Вас прислал лорд Бромли-Монфор? — спрашивает Дикон. Мужчина пристально смотрит на Дикона. Несколько секунд слышен только шум дождя. Англичанин тыкает пальцем себе в грудь и произносит: — Я… Ричард Дэвис Дикон. — Он указывает на собеседника. — Вы?.. — Пасанг, — голос звучит так тихо, что едва различим за барабанной дробью, которую дождь отбивает на ткани зонта. — Пасанг… и все? — Пасанг… Сирдар. Я подхожу ближе и протягиваю руку. — Рад встрече, Пасанг Сирдар. Высокий мужчина не шевелится, а лишь слегка перемещает зонт, чтобы немного прикрыть меня от потоков воды. — Нет, нет, Джейк. — Дикону приходится почти кричать, чтобы я мог услышать его сквозь шум дождя. — Сирдар означает нечто вроде «главного». Он начальник носильщиков. Очевидно, пока он для нас просто Пасанг. — Дикон снова поворачивается к высокому мужчине. — Пасанг… вы… можете… доставить это? — Дикон указывает на груду накрытых брезентом ящиков, которые мы с Же-Ка только начали отвязывать. — В… отель «Эверест»? — Теперь взмах руки направлен вверх, в темноту, на невидимый за пеленой дождя город Дарджилинг, террасами поднимающийся по склону холма. Потом Дикон повторяет, уже громче: — Отель… «Эверест»? — Это не проблема, мистер Дикон, — отвечает Пасанг на превосходном английском с оксбриджским акцентом. Густой и низкий голос звучит не менее аристократично, чем у Дикона, — а может, и более. — Потребуется не больше пяти минут. Он передает мне зонт, выходит под дождь и что-то кричит на хинди и бенгали дюжине носильщиков, сгорбившихся под струями воды. Они бросаются к ящикам и быстро перетаскивают их под тенты грузовиков. Каким-то образом — я не понимаю, как это вышло, но Же-Ка примостился на моем левом колене, боком прижимаясь к пассажирской дверце, — мы умудряемся втиснуться в кабину первого грузовика, вместе с Пасангом, который садится за руль. Я ничего не вижу — ни впереди, ни по бокам, ни сзади; машина подпрыгивает, раскачивается и скрежещет на невидимых поворотах, петляя по крутой и кажущейся бесконечной горной дороге. Как бы ни выглядел Дарджилинг, этим вечером я его не увижу. На протяжении всего пути ни один из нас четверых не произнес ни слова. Я ожидал, что отель «Эверест» окажется старинным каменным зданием, зажатым среди других каменных зданий — серых, серых, серых. Однако мы остановились у хорошо освещенного и красивого трехэтажного особняка в викторианском стиле, примостившегося на склоне холма. Отель, наверное, соответствовал представлению американцев о «старом Лондоне» — фронтоны, балки, башенки, снова фронтоны, изящный портик с кирпичной подъездной дорожкой и елизаветинскими колоннами, одинокая зубчатая башенка справа от главного входа, палисадник с белой гравийной дорожкой, маленькие лиственные деревья (совсем не похожие на громадные гигантские баньяны с несколькими стволами, мимо которых мы проезжали, когда наш крошечный поезд взбирался в гору) вдоль фасада гостиницы и изящные высокие пинии позади здания. Когда мы подходим к дверям отеля, дождь внезапно прекращается — словно кто-то закрыл кран. Из-за быстро бегущих облаков выглядывает луна, освещая заснеженные вершины высоких гор на севере, востоке и западе от отеля. — Мы же не настолько близко к Гималаям, правда? — спрашиваю я, когда мы втроем отступаем от здания и козырька над крыльцом, чтобы взглянуть на то, что должно быть облаками, а не горными вершинами. Не настолько близкими к Дарджилингу. — Это лунный свет отражается от снега и льда, — говорит Жан-Клод. — Горные пики и хребты. Несмотря на поздний час, к нам через холл поспешили четверо красиво одетых посыльных, которые теперь заносят внутрь наши личные вещи — несколько чемоданов, но по большей части рюкзаки и вещмешки. Дикон настаивает, чтобы мы вместе с Пасангом и носильщиками вернулись к грузовикам «Форд» и убедились, что наше снаряжение перенесли в надежное укрытие. Это место оказалось большим зданием, которое, вне всякого сомнения, раньше было обширными конюшнями отеля. Пасанг следит за тем, как носильщики аккуратно расставляют наши ящики и снова накрывают их брезентом в отделениях с высокими распахивающимися дверцами, бывших просторных стойлах. — Полагаю, один из нас должен остаться здесь и присматривать за… — начинает Дикон и тут же умолкает. Когда наши ящики проверены и пересчитаны, а брезент привязан, Пасанг закрывает двери каждого стойла, протягивает перед ними цепи, навешивает массивные замки, запирает их и молча протягивает ключи Дикону. — Ночью тут все будет в полной сохранности, мистер Дикон. И я приказал надежному слуге с плантации, чтобы тот переночевал здесь и посторожил — на всякий случай. Мало ли что… Мы бредем ко входу в отель, и на нас обрушивается невероятное разнообразие запахов: мокрые листья и трава, жирная земля, цветущие клумбы по обе стороны от подъездной дорожки, влажный мох вдоль ручья, который журчит под горбатым мостиком, влажная кора, которой усыпана дорожка там, где заканчиваются кирпичи, и — возможно, самый сильный — принесенный ветром с гор аромат сотен тысяч сочных, пропитанных влагой чайных кустов, растущих на десятках тысяч зеленых террас на крутых, теперь освещенных луной, склонах холмов выше, ниже и вокруг города Дарджилинг. Везде зажигаются огни, и многие из них электрические. Ночной портье в отеле — индус в строгой визитке и с высоким, по моде XIX века, воротником рубашки, — похоже, очень взволнован нашим прибытием. Просторный вестибюль непривычно пуст — если не считать посыльных, Пасанга и нас троих. — Да, да, да, — говорит портье со своим сильным индийским акцентом, открывая и перелистывая огромную регистрационную книгу и доставая изящную ручку. Его конторка из красного дерева, старая и потертая, приобрела почти золотистый цвет. — Экспедиция Бромли, да, да, — не умолкает улыбающийся портье. — Мы очень рады принять уважаемую экспедицию Бромли-Монфора. Гнев Дикона почти — хотя и не полностью — гасит широкую улыбку портье. — Мы не… экспедиция Бромли, — тихо произносит наш главный альпинист. — У нашей группы нет названия. Но если бы было… мы назывались бы экспедицией Дикона — Клэру — Перри. — Да, конечно, да, да, — соглашается портье, нервно поглядывая на Пасанга, который, похоже, даже не моргает. — Половина верхнего этажа, крыло Мэллори, как мы его теперь называем, наши лучшие номера, сэр, да, да, зарезервированы за экспедицией Бромли. Дикон вздыхает. Мы все устали. Он расписывается в регистрационной книге, передает ручку Жан-Клоду, который следует его примеру и протягивает ручку мне. Посыльные в ливреях — не те смуглые люди, которые таскали наши ящики, а другие — бросаются к нашим чемоданам, рюкзакам и вещмешкам. Мы втроем и один посыльный втискиваемся в единственную кабинку лифта — древнего, из кованого железа, на электрической тяге, с каким-то сложным, но работоспособным механизмом из цепей и шестеренок. Лифтер начинает закрывать раздвижные двери лифта. — Секунду, — говорит Дикон и возвращается к портье. Тот вытягивается по стойке «смирно», как прусский солдат на плацу перед бывшим кайзером. — Лорд Бромли-Монфор уже здесь? — вопрошает он. Голос у него хриплый, то ли от холода, то ли от усталости. — Мне нужно увидеться с ним сегодня, если он еще не спит. Широкая улыбка застывает на лице портье, превратившись просто в жутковатый провал рта. Он одновременно кивает и трясет головой — да, нет, да, нет, — а его взгляд то и дело перемещается на Пасанга, который неподвижно застыл на месте, не обращая внимания на суетящихся с багажом посыльных. — Встреча назначена завтра утром, — говорит Пасанг. — Да, да, да, — с облегчением выдыхает портье. — Комната для завтраков приготовлена для… да… утром. Дикон качает головой, проводит ладонями по редеющим волосам и возвращается к лифту, где мы его ждем. Несмотря на то, что мы собираемся подняться на высочайшую вершину мира, сегодня вечером мы слишком устали, чтобы преодолеть три лестничных пролета до приготовленных для нас роскошных номеров. Ультрамарин — это необычный и очень редкий оттенок: более насыщенный, чем голубовато-зеленый, и даже чем тот, который художники называют цветом морской волны. Когда мая мать использовала ультрамарин в своих картинах, что случалось редко, она большим пальцем растирала в порошок маленькие шарики ляпис-лазури, добавляла несколько капель воды из стакана или собственной слюны, а затем резкими, уверенными движениями мастихина добавляла крошечное количество этого невероятно насыщенного цвета — ультрамарина — на море или небо пейзажа, над которым она трудилась. Чуть перестараешься — и он уже раздражает, нарушает баланс. Но в нужной пропорции это самый красивый оттенок на свете.* * *
Номера в гостинице «Эверест» были настоящими номерами — с гостиными, заставленными слишком мягкой викторианской мебелью. В угловом номере были два высоких окна, выходящих на юго-восток, на домики Дарджилинга, спускающиеся с холма ниже отеля, и когда мы раздвинули шторы, то сквозь бегущие облака увидели высокие горы с блестевшими в лунном свете заснеженными вершинами, которые громадными бастионами вздымались на севере и северо-востоке. — Которая из них Эверест? — благоговейно спрашиваю я Дикона. — Тот зазубренный, невысокий пик в центре слева… почти не видный, — отвечает он. — Более близкие гиганты, вроде Кабру и Канченджанги, заслоняют Эверест. В этом просторном номере каждого из нас ждет отдельная спальня и… возможно, самое замечательное… пуховая перина. Следующим утром мы с Жан-Клодом с удовольствием поспали бы допоздна — когда еще доведется спать на пуховых перинах? — но Дикон, полностью одетый, вплоть до альпинистских ботинок на толстой подошве, нарушает наши планы. Он громко стучит в двери наших спален, распахивает их, будит Же-Ка, затем, громко топая, проходит ко мне в комнату, распахивает тяжелые портьеры, впуская лучи поднимающегося над горами солнца, и расталкивает меня. Снаружи только-только рассвело. — Ты не поверишь! — выпаливает он, пока я сонно щурюсь, сидя на краю своей необыкновенно удобной и теплой постели. — Во что не поверю? — Он меня не пустил. — Кто тебя не пустил и куда? И который час? — Голос у меня сердитый. Я действительно сержусь. — Почти семь, — отвечает Дикон и идет в комнату Жан-Клода, чтобы убедиться, что тот встает и одевается. К его возвращению я успеваю сполоснуть мыльной водой из таза лицо и подмышки — накануне вечером перед сном я долго лежал в ванне и едва не заснул в горячей воде — и уже надеваю чистую рубашку и брюки. Я понятия не имею, как принято одеваться в этом на удивление роскошном отеле «Эверест», но на Диконе саржевые брюки, альпинистские ботинки, белая рубашка и полотняный жилет — очевидно, строгий костюм для завтрака тут не обязателен. Тем не менее я надеваю твидовый пиджак и повязываю галстук. Даже если в отеле предпочтут не заметить альпинистский наряд Дикона, то лорд Бромли-Монфор может не проявить подобной терпимости. — Кто тебя не пустил и куда? — повторяю я вопрос, когда мы снова встречаемся в коридоре. Когда Дикон действительно зол, его губы — и без того тонкие — превращаются в ниточку. Сегодня утром они почти исчезли. — Лорд Бромли-Монфор. Он закрыл целое крыло дальше по коридору, за нашими номерами, и поставил перед дверями этого сирдара Пасанга и двух огромных шерпов, которые стоят, скрестив руки на груди — охраняют двери, Джейк, словно это гарем, черт бы его побрал. Дикон с отвращением качает головой. — Очевидно, лорд Бромли-Монфор сегодня утром решил выспаться и не желает, чтобы его беспокоили. Даже альпинисты, которые преодолели тысячи миль, чтобы рискнуть жизнью и найти тело его любимого кузена. — А он был любимым? — спрашивает Жан-Клод, присоединяясь к нам на лестнице, оказавшейся на удивление узкой. — Кто? — спрашивает Дикон, все еще не примирившийся с тем, что его не пустили в номер лорда Реджи. — Молодой лорд Персиваль, — говорит Же-Ка. — Кузен Перси. Беспутный сын леди Бромли. Парень, чей замерзший труп мы приехали искать. Любил ли молодого Перси лорд Бромли-Монфор из Дарджилинга… его кузен Реджи? — Откуда мне, черт возьми, знать? — рявкает Дикон. Он ведет нас вниз, в просторную комнату для завтраков. — Надеюсь, нам предложат достойный завтрак, — говорю я, чтобы не слышать раздраженное ворчание Дикона. В Индии явно проявилась не самая приятная, нетерпеливая сторона личности нашего друга, с которой мы раньше не сталкивались. За те месяцы, что я знал Ричарда Дэвиса Дикона, у меня выработалось убеждение, что он скорее даст отрубитьсебе голову, чем позволит себе публично проявить свои чувства. Совсем скоро мне предстоит убедиться, как сильно я ошибался. Продолговатая комната для завтраков пуста, если не считать стола, накрытого на семерых. Тот же портье, который встретил нас посреди ночи, ведет всех к столу и выкладывает пять меню. Мы с Же-Ка садимся по одну сторону стола, а Дикон — напротив; стулья справа от меня во главе стола и слева от Дикона остаются пустыми. Я ждал, что нам предложат британский буфет — разновидность завтрака для представителей высшего общества, — но отель «Эверест» явно собирался предложить нам что-то другое. Пять меню указывали на то, что к нам может присоединиться лорд Бромли-Монфор и кто-то еще — возможно, леди Бромли-Монфор. Для такого умозаключения не нужно быть Шерлоком Холмсом, но я еще не до конца проснулся и не успел выпить свой утренний кофе. После двадцати минут ожидания — по большей части в полной тишине, если не считать бурчания наших животов, — мы решили сделать заказ. Меню на завтрак оказывается чисто английским. Жан-Клод просит принести только бисквитное пирожное и черный кофе — большой кофейник черного кофе. — Чай, месье? — Портье-официант поджимает губы. — Никакого чая, — рычит Же-Ка. — Кофе, кофе, кофе. Портье-официант печально кивает, шаркающей походкой приближается ко мне и склоняется, снова приготовив ручку. — Мистер Перри? Мне кажется странным, что он запомнил мое имя, регистрируя нас посреди ночи, хотя мы, по всей видимости, единственные постояльцы отеля, если не считать лорда и леди Бромли-Монфор и их свиты. Я в некоторой растерянности, поскольку в Англии трудно найти завтрак, который пришелся бы мне по вкусу, а меню тут явно английское. Дикон наклоняется ко мне. — Попробуй «Полный Монти», Джейк. Я не вижу этого в меню. — Полный Монти? — переспрашиваю я. — Что это такое? — Доверься мне, Джейк, — улыбается Дикон. Я заказываю «Полный Монти» и кофе, Дикон — «Полный Монти» и чай, а Жан-Клод снова бормочет: «Кофе», — и мы трое снова остаемся одни. — Нельзя сказать, что отель «Эверест» ломится от постояльцев, — замечаю я, пока мы ждем. — Не будь наивным, Джейк, — говорит Дикон. — Совершенно очевидно, что лорд Бромли-Монфор арендовал весь отель, чтобы наша сегодняшняя встреча прошла приватно. — Ага. — Я чувствую себя дураком. Но не настолько, чтобы не спросить: — Зачем ему это? Дикон вздыхает и качает головой. — Это наша попытка остаться в тени и миновать Дарджилинг почти незаметно. — Ладно, — не унимаюсь я, — если лорд Бромли-Монфор все подготовил для нашей встречи сегодня утром… то где же он? Зачем заставляет нас ждать? Дикон пожимает плечами. — Очевидно, английские лорды в Индии предпочитают спать допоздна, — замечает Жан-Клод. Приносят завтрак. У кофе вкус как у слегка подогретой воды из придорожной канавы. Гора продуктов на моей тарелке настолько высока, что отдельные ломтики соскальзывают вниз, словно собираясь убежать; она состоит из полудюжины поджаренных до черноты кусочков бекона, яичницы из как минимум пяти яиц, двух гигантских гренков, сочащихся маслом, какого-то полужидкого черного пудинга, жаренных в масле помидоров, нескольких скрючившихся на гриле сосисок, чьи внутренности прорываются сквозь сожженные дочерна шкурки, беспорядочно разбросанного жареного лука, а также кучи оставшихся от вчерашнего ужина овощей и картошки, слегка обжаренных и перемешанных — я знаю, что кашеобразная часть этой смеси называется поджаренным рагу из капусты и картофеля. Я ненавижу поджаренное рагу из капусты и картофеля. Я уже знаком с плотным английским завтраком, но это… просто нелепо. — Ладно. — Я поворачиваюсь к Дикону. — Но почему это называется «Полный Монти»? Что значит «Полный Монти»? — Приблизительно это означает… «все, что душа пожелает». — Он уже принялся вилкой отправлять в рот жареные продукты в своей невыносимой британской манере — перевернутая вилка в левой руке, кусок еды балансирует на обратной стороне вилки, а нож в правой руке, чтобы резать студенистую массу. — Но что значит «Полный Монти»? — настаиваю я. — Откуда взялось это выражение? Кто такой Монти? Дикон вздыхает и откладывает вилку. Жан-Клод, которого вид на горы явно интересует больше еды, смотрит окно на яркое утро Дарджилинга. — Понимаешь, Джейк, есть три разные теории насчет происхождения фразы «Полный Монти», — нараспев произносит Дикон. — Одна из них, которую я считаю наиболее правдоподобной, связана с портновским бизнесом некоего сэра Монтегю Бертона и уходит корнями к началу столетия. Бертон предложил совершенно невообразимую вещь — хорошо сшитые костюмы для обычных буржуа. — Мне казалось, все англичане носят хорошие костюмы… как ты назвал их, когда купил мне костюм в Лондоне?.. Сшитые на заказ. — Это, вне всякого сомнения, справедливо для высшего общества, — поясняет Дикон. — Но сэр Монтегю Бертон продавал такие сшитые на заказ костюмы мужчинам, которые надевали их всего несколько раз в жизни — на собственную свадьбу, на свадьбы детей, на похороны друзей и на свои похороны, если уж на то пошло. Ателье Бертона специализировались на переделке одного и того же костюма, который служил хозяину всю жизнь: если джентльмен увеличивался в размерах, то его костюм — тоже. Фасон у костюма был таким, что он никогда, как выражаются у вас в Бостоне, «не выходил из моды». Бертон начал с одного ателье, кажется, в Дербишире, и через несколько лет у него была уже сеть ателье по всей Англии. — Значит, если я заказываю «Полный Монти», то… Что? Мне нужен полный костюм? Всё? — Совершенно верно, мой дорогой друг. Пиджак, брюки, жилетка… — Жилет, — поправляю я. Дикон снова морщится. На этот раз причиной служат брызги сока от моей сосиски, которую я пытаюсь разрезать ножом. Я хочу сказать что-то саркастическое, но застываю с открытым ртом, потому что в комнату входит самая красивая женщина, какую я когда-либо видел — и когда-либо увижу в своей жизни. Я не могу адекватно описать ее. Я понял это несколько десятилетий назад, когда впервые попытался сесть за эти мемуары и надо мной еще не висел смертный приговор в виде рака. Мне пришлось бросить попытку, когда я дошел до… ее описания. Возможно, мне удастся хоть немного передать, какой она была, рассказывая, какой она не была. В 1925 году стильная женщина должна была выглядеть определенным образом. Это означало, что она должна была быть плоскогрудой, как мальчик (я слышал, что существовали специальные повязки для груди и особое нижнее белье для тех дам, которым не повезло и которых природа не наделила маленькой грудью), но у этой женщины, которая вошла в комнату в сопровождении Пасанга, грудь определенно имелась, хотя владелица и не выставляла ее напоказ. Рубашка — а это действительно была скорее мужская рабочая рубашка, чем женская блузка, — из тонкого льна не скрывала округлых форм. В 1925 году следящая за модой женщина коротко стриглась и делала завивку — шлюхи Бостона, Нью-Йорка и Лондона особенно увлекались небольшими завитками волос, смоченными и прилепленными ко лбу или виску — а самые заядлые модницы стриглись под мальчика. У женщины рядом с Пасангом были длинные волосы, густые естественные локоны которых спускались на плечи. Модными в 1925 году считались белокурые волосы с оттенком платины. У этой женщины волосы были такими черными, что отливали синевой. Солнечные лучи падали на длинные локоны, и блики света на эбеновых завитках мерцали, словно танцуя при каждом движении. Утонченные женщины, которых я встречал в Гарварде, и шлюхи в бостонских барах обычно выщипывали брови, а затем карандашом рисовали тонкие изогнутые дуги фальшивых бровей, которые вскоре станут популярны во всем мире благодаря Джин Харлоу. У женщины, приближавшейся к нашему столу, были густые черные брови, лишь слегка изогнутые, но необыкновенно выразительные. А ее глаза… Когда она спускается с лестницы, футах в двадцати пяти от меня, мне кажется, что глаза у нее голубые. Но когда расстояние между нами сокращается до двадцати футов, я понимаю, что ошибся, — ее глаза ультрамаринового цвета. Ультрамарин — это необычный и очень редкий оттенок: более насыщенный, чем голубовато-зеленый, и даже чем тот, который художники называют цветом морской волны. Когда мая мать использовала ультрамарин в своих картинах, что случалось редко, она большим пальцем растирала в порошок маленькие шарики ляпис-лазури, добавляла несколько капель воды из стакана или собственной слюны, а затем резкими, уверенными движениями мастихина добавляла крошечное количество этого невероятно насыщенного цвета — ультрамарина — на море или небо пейзажа, над которым она трудилась. Чуть перестараешься — и он раздражает, нарушает баланс. Но в нужной пропорции это самый красивый оттенок на свете. В глазах женщины ровно столько ультрамарина, чтобы завершить и подчеркнуть ее красоту. Эти глаза совершенны. Она совершенна. Женщина и Пасанг, который держится всего на полшага сзади, пересекают комнату и останавливаются позади пустого стула во главе стола; Дикон оказывается по правую, а мы с Же-Ка — оба с вытаращенными глазами — по левую. Дикон, Жан-Клод и я встаем, приветствуя ее, хотя должен признаться, что мое движение больше похоже на прыжок. Жан-Клод улыбается. Дикон — нет. У Пасанга в руках книги и трубки, похожие на свернутые карты, но у меня нет времени задерживать взгляд на нем или моих друзьях. Костюм женщины, кроме красивой льняной рубашки-блузки, состоит из широкого пояса и юбки для верховой езды — на самом деле это бриджи, но выглядят они как юбка — из, как мне кажется, самой мягкой и самой роскошной замши в мире. Под высокогорным солнцем Дарджилинга замша довольно сильно и равномерно выцвела и стала еще мягче. Такое впечатление, что это рабочая одежда сборщиков чая (если бы рабочую одежду шил хороший портной). Сапоги для верховой езды такого фасона дамы обычно обувают для прогулок по высокой траве или в местности, изобилующей змеями; кожа, из которой они сшиты, настолько мягкая, что, скорее всего, на нее пошли шкуры новорожденных телят. Женщина стоит во главе стола, а Пасанг по очереди кивает каждому из нас. — Мистер Ричард Дэвис Дикон, месье Жан-Клод Клэру, мистер Джейкоб Перри, позвольте представить вам леди Кэтрин Кристину Реджину Бромли-Монфор. Леди Бромли-Монфор кивает каждому, когда произносится его имя, но не протягивает руку. Ее ладони обтянуты тонкими кожаными перчатками в тон сапогам. — Мистер Перри и месье Клэру, я рада наконец с вами познакомиться, — говорит она и поворачивается к Дикону. — А о вас, Дики, мои кузены Чарли и Перси много писали мне, когда мы все были молоды. Вы были испорченным ребенком. — Мы ждали лорда Бромли-Монфора, — холодно отвечает Дикон. — Он где-то неподалеку? Нам нужно обсудить с ним вопрос об экспедиции. — Лорд Монфор находится на нашей плантации, в получасе верховой езды вверх по склону холма, — говорит леди Бромли-Монфор. — Но боюсь, он не сможет с вами встретиться. — Почему это? — вопрошает Дикон. — Он покоится в усыпальнице на нашей чайной плантации, — отвечает женщина. Ее удивительные глаза остаются ясными, и их взгляд прикован к лицу Дикона. Она словно забавляется. — Мы с лордом Монфором поженились в Лондоне в 1919 году, перед возвращением в Индию, на плантацию, где я выросла и которой управляла. Я стала леди Бромли-Монфор, а восемь месяцев спустя лорд Монфор скончался от лихорадки денге. Климат Индии ему никогда не подходил. — Но я отправлял письма лорду Бромли-Монфору… — бормочет Дикон. Он достает трубку из кармана куртки и стискивает зубами, но не делает попыток набить или закурить ее. — Леди Бромли говорила о Реджи, и я, естественно, предполагал… Она улыбается, и у меня начинают дрожать колени. — Кэтрин Кристина Реджина Бромли-Монфор, — тихо произносит она. Для друзей — Реджи. Месье Клэру, мистер Перри, я искренне надеюсь, что вы будете называть меня Реджи. — Жан-Клод, Реджи, — отвечает мой друг, склоняется в низком поклоне, берет ее руку и целует, не обращая внимания на перчатку. — Джейк, — с трудом выдавливаю я. Реджи садится во главе стола, а высокий, величавый Пасанг стоит за ее спиной, словно телохранитель. Он подает карту, и Реджи разворачивает ее на столе, бесцеремонно сдвигая грязные тарелки и чашки, чтобы освободить место. Мы с Жан-Клодом переглядываемся и тоже садимся. Дикон с такой силой прикусывает мундштук трубки, что слышится треск, но в конечном счете тоже опускается на стул. Реджи уже говорит. — Вы предложили стандартный маршрут, и с большей его частью я согласна. Послезавтра несколько грузовиков с плантации довезут нас до шестой мили, где мы перегрузим вещи на вьючных животных и пешком вместе с шерпами пройдем по мосту через Тисту и дальше к Кампонгу, где нас будут ждать другие наши шерпы с мулами… — Нас? — переспрашивает Дикон. — Мы? Реджи с улыбкой смотрит на него. — Конечно, Дики. Когда моя тетя согласилась финансировать поиски тела кузена Перси, подразумевалось, что я буду вас сопровождать. Это обязательное условие дальнейшего финансирования экспедиции. Должно быть, Дикон понимает, что рискует перекусить мундштук своей любимой трубки, и поэтому резким движением выдергивает ее изо рта, едва не задев голову Реджи. Но извиняться даже не думает. — Вы — в экспедиции на Эверест? Женщина? Даже до базового лагеря? Даже до Тибета? Абсурд. Это смешно. Не может быть и речи. — Это было обязательным условием финансирования этой — моей — экспедиции для поиска останков кузена Персиваля, — говорит Реджи, не переставая улыбаться. — Мы пойдем без вас, — возражает Дикон. Лицо у него побагровело. — Но в таком случае вы больше не получите от Бромли ни шиллинга, — замечает Реджи. — Очень хорошо, тогда мы будем пользоваться собственными средствами, — рявкает Дикон. «Какими средствами?» — мелькает у меня в голове. Даже билеты от Ливерпуля до Калькутты оплачены леди Бромли… вероятно, из доходов плантации Реджи. — Я назову вам две причины, по которым я должна присоединиться к этой экспедиции — кроме финансирования, — спокойно говорит Реджи. — Вы будете так любезны и выслушаете или продолжите перебивать меня своими грубостями? Дикон молча скрещивает руки на груди. Судя по лицу и позе, никакие аргументы не в силах его переубедить. — Во-первых… или скорее во-вторых, после вопроса о деньгах, — начинает Реджи, — позвольте обратить внимание на возмутительный факт, что в составе вашей экспедиции нет врача. Во всех трех предыдущих британских экспедициях присутствовало не меньше двух врачей, причем один из них хирург. Обычно их больше двух. — Во время войны я научился оказывать первую помощь, — цедит Дикон сквозь зубы. — Разумеется, — улыбается Реджи. — Если во время этой экспедиции кто-то из нас будет ранен шрапнелью или сражен пулеметной очередью, я не сомневаюсь, что вы сможете продлить ему жизнь на несколько минут. Но в Тибете нет полевых госпиталей сразу за линией фронта, мистер Дикон. — Хотите сказать, что вы опытная медсестра? — говорит Дикон. — Да. На двух наших плантациях работают больше тринадцати тысяч местных жителей, и мне пришлось освоить сестринское дело. Но суть не в этом. Я хочу, чтобы к нам присоединился превосходный врач, опытный хирург. — Мы не можем себе позволить нанимать еще людей… — возражает Дикон. Реджи останавливает его грациозным жестом руки. — Доктор Пасанг, — обращается она к своему сирдару, — будьте любезны, сообщите этим джентльменам о вашей медицинской подготовке. Доктор Пасанг? Признаюсь — со стыдом, — что за те несколько секунд, пока Пасанг не заговорил на своем идеальном английском, в моей голове промелькнула череда туманных образов индийских факиров и святых, не говоря уже о гаитянских колдунах вуду, лечащих танцами. — Я год посещал лекции в Оксфорде и год в Кембридже, — говорит высокий шерпа. — Потом год стажировался в Эдинбургском медицинском центре, три года в университетской больнице Мидлсекса, восемнадцать месяцев обучался хирургии у знаменитого торакального хирурга герра доктора Клауса Вольхейма в Гейдельберге… в немецком Гейдельберге, джентльмены… затем, после возвращения в Индию, еще год работал в больнице монастыря Каррас в Лахоре. — Кембридж и Оксфорд никогда не… — начинает Дикон, но умолкает на полуслове. — Не допустят к себе цветных? — бесстрастно заканчивает за него доктор Пасанг. Впервые за все время на его лице появляется широкая, искренняя улыбка. В ней нет злобы. — По какой-то непонятной причине, — продолжает он, — эти оба достойных заведения пребывали в иллюзии, что я старший сын махараджи Айдапура. Как и больницы в Эдинбурге и в Мидлсексе, о которых я упоминал. Это было незадолго до вашей учебы в Кембридже, мистер Дикон, и тогда для Англии было очень важно поддерживать хорошие отношения с правителями Индии. Долгое молчание прерывает тихий голос Жан-Клода: — Доктор Пасанг, может, мой вопрос покажется вам дерзким, но почему, получив такое блестящее медицинское образование и став дипломированным врачом, вы вернулись к работе… сирдара… здесь, на плантации Реджи… то есть леди Бромли-Монфор? Снова блеснула белозубая улыбка. — Сирдар — моя должность только в этой экспедиции к священной тибетской горе Джомолунгме, — отвечает он. — Как уже объяснила леди Бромли-Монфор, на нее работают больше тринадцати тысяч мужчин и женщин. У этих работников большие семьи. Мои знания здесь, между Дарджилингом и южными склонами Гималаев, не пропадают зря. На плантациях у нас две больницы, которые, осмелюсь заявить, по части оборудования и лекарств превосходят маленькую английскую больницу в Дарджилинге. — А как люди обойдутся без вашей помощи, пока вы будете в экспедиции, доктор Пасанг? — слышу я свой голос. — Леди Бромли-Монфор была очень щедра и отправила более молодых, чем я, людей учиться медицине в Англию и в Нью-Дели. А несколько наших женщин из шерпов окончили курсы медсестер в Калькутте и Бомбее и, в знак благодарности к своей благодетельнице, вернулись, как и я, на плантацию, чтобы предложить свои услуги. — Вы и вправду хирург? — спрашивает Дикон. Улыбка Пасанга теперь другая, более резкая. — Позвольте мне достать скальпель из моего саквояжа, мистер Дикон, и я вам это продемонстрирую. Дикон снова поворачивается к Реджи. — Вы сказали, что имеются три причины, почему мы должны согласиться с вашим присутствием. Мы можем взять с собой доктора Пасанга — и будем благодарны, — но женщина в экспедиции на Эверест… — Полагаю, вам будет очень трудно путешествовать по Тибету без официального разрешения властей, — говорит Режди. — Я… Мы… — бормочет Дикон. Потом ударяет по столу кулаком. — Леди Бромли обещала, что получит такое разрешение и что нам передадут бумаги здесь, в Дарджилинге. — Совершенно верно. — Реджи поднимает руку над правым плечом, и Пасанг вкладывает ей в ладонь свернутый в трубку документ. Она расправляет толстый пергамент на карте с маршрутом нашего пятинедельного путешествия из Дарджилинга к Ронгбуку, а затем к Эвересту. — Пожалуйста, прочтите его, все. — Реджи поворачивает к нам документ. Мы привстаем, наклоняемся над столом и начинаем читать. Это рукописный текст, написанный красивым почерком и скрепленный несколькими восковыми печатями. ДЗОНГПЕНАМ И СТАРЕЙШИНАМ ФАРИДЗОНГА, ТИНГ-КЕ, КАМБЫ И КХАРТЫ Вы должны иметь в виду, что отряд сахибов идет посмотреть на гору Джомолунгма, несмотря на временный запрет далай-ламы на подобные путешествия иностранцев из-за их неподобающего поведения после так называемой «экспедиции на Эверест» 1924 г. Данное исключение сделано святым далай-ламой только потому, что руководитель этой группы, леди Бромли-Монфор, является давним другом тибетцев и многих дзонгпенов, и мы желаем, чтобы она и ее спутники получили возможность доступа к Джомолунгме и на Джомолунгму, дабы попытаться забрать тело ее погибшего кузена, британского лорда Персиваля Бромли, с которым многие из вас встречались. Он умер на священной горе в 1924 г., и наши друзья Бромли хотели бы похоронить его должным образом. Мы верим, что отряд леди Бромли-Монфор, в продолжение традиции, которую она установила на своей плантации в Дарджилинге, проявит дружеское и уважительное отношение к тибетцам. Поэтому, по просьбе премьер-министра Белли и согласно воле Его Святейшества далай-ламы, было выпущено данное распоряжение, обязывающее вас, всех официальных лиц и подданных правительства Тибета, предоставлять средства транспорта, в том числе верховых лошадей, вьючных животных и носильщиков, по просьбе леди Бромли-Монфор и ее помощников сахибов по ценам, удовлетворяющим обе стороны. Любая другая помощь, которая может потребоваться леди Бромли-Монфор, днем или ночью, во время переходов или остановок, в их лагере или его окрестностях, или в наших деревнях, должна быть немедленно предоставлена, а их требование относительно транспорта или всего остального следует выполнять без промедления. Где бы ни оказалась леди Бромли-Монфор и ее помощники, все наши подданные должны оказывать ей необходимую помощь наилучшим из возможных способов, не только для того, чтобы восстановить дружеские отношения между британским и тибетским правительством, но и поддержать давнюю дружбу между чайной плантацией леди Бромли-Монфор — известной своим гостеприимством к нашим путешественникам — и всем народом Тибета. Составлено в год Водяной Собаки Печать премьер-министра. У Дикона не нашлось слов. Его лицо ничего не выражало — таким бесстрастным я его еще не видел, даже в тот день, несколько месяцев назад, когда на вершине Маттерхорна мы узнали о гибели Мэллори и Ирвина. Реджи — я почти сразу же позволяю себе мысленно называть ее по имени — сворачивает бумагу от премьер-министра и карту, передает их Пасангу и говорит: — Я приказала слугам упаковать ваши вещи. Теперь нам нужно ехать на плантацию, чтобы остаток дня посвятить обсуждению таких вопросов, как предполагаемый маршрут, подробности восхождения, запасы продовольствия, отношения с тибетскими дзонгпенами и так далее. Завтра утром вы должны выбрать себе личных проводников-шерпов и лошадей. У меня есть достаточно надежных людей, и к завтрашнему чаю мы сможем отобрать около шестидесяти носильщиков, которые нам понадобятся, и до наступления ночи они успеют погрузить все на вьючных животных. Она встает и стремительно выходит из комнаты. Пасанг — доктор Пасанг, напоминаю я себе, — не отстает от нее лишь за счет своих гигантских плавных шагов. Через какое-то время мы с Же-Ка встаем, переглядываемся и, с трудом удержавшись от улыбки в присутствии Дикона, идем наверх, чтобы проследить за упаковкой нашего багажа. Дикон в конечном итоге тоже идет к лестнице. Монахи превратились в настоящую гастролирующую труппу, где одни танцевали, а другие били в барабаны и играли на дудочках из бедренной кости. Они были очень популярны среди английских завсегдатаев кинотеатров. Карты расстелены на длинном столе в библиотеке особняка Реджи на чайной плантации. Такие обширные библиотеки мне приходилось видеть нечасто — в том числе в домах моих богатых бостонских друзей и в Англии. Даже в библиотеке леди Бромли не было столько дополнительных уровней, круглых железных лестниц, поднимающихся к световым люкам, и передвижных стремянок. Стол для чтения достигал четырнадцати футов в длину и шесть в ширину; по бокам его стояли глобусы, один с древней картой, другой с современной. Мы окружили один край стола, встав рядом с картой с нашим предполагаемым маршрутом, которую Реджи показала нам в отеле; под ней лежали другие цветные карты. Этим утром до плантации мы доехали с шиком. По крайней мере, Реджи и двое из нас. Три грузовика — за рулем первого сидел Пасанг — тянули наше продовольствие и снаряжение в гору, но мы с Же-Ка ехали вместе с Реджи в обитом бархатом салоне «Роллс-Ройса» модели 1920 года «Серебряный призрак». Переднее сиденье шофера было открытым — начинался дождь, — но Жан-Клод с комфортом расположился на мягких подушках рядом с Реджи под черной крышей — так, чтобы не стеснять даму, — а я сидел напротив Же-Ка на маленьком откидном сиденье, которое представляло собой всего лишь обитую кожей дощечку, прикрепленную к перегородке, отделявшей нас от водителя. Каждый раз, когда колесо попадало в колдобину или натыкалось на серьезный ухаб — а грунтовая дорога состояла из одних ям и ухабов, — я подпрыгивал на своей маленькой «подкидной доске», ударяясь непокрытой головой о жесткий брезент крыши, и со всего размаху опускался на место. Мои длинные ноги задевали за более короткие ноги Же-Ка, и после каждого толчка я извинялся. Дикон выбрал место впереди, слева от шофера — молчаливого маленького индуса по имени Эдвард, такого маленького, что я удивлялся, как ему удается что-то разглядеть за длиннющим капотом «Серебряного призрака». Несмотря на название, машина была не серебристой, а кремовой, за исключением сверкающего радиатора, держателей для фар, пяти хромированных полос, идущих от радиатора к такому же сияющему бамперу, рамы ветрового стекла и еще нескольких блестящих деталей, в том числе хромированных спиц запасных колес, которые были закреплены за передними дверцами на нижних частях крыльев. Раздвижная панель, позволявшая Реджи разговаривать с шофером, открывалась только с правой стороны, за водителем. К реву двигателя прибавлялся грохот струй внезапного ливня по толстому брезенту крыши, и нам пришлось бы кричать, чтобы Дикон нас услышал. Перегородка за спиной последнего была из матового стекла с выгравированным гербом Бромли, грифоном с рыцарской пикой в лапах — точно такого же я видел на флаге, реявшем над поместьем леди Бромли в Линкольншире. — У вас большая плантация, леди… Реджи? — спросил Жан-Клод сквозь барабанную дробь внезапного ливня. — Эта главная плантация, ближе к Дарджилингу, занимает около двадцати шести тысяч акров, — ответила Реджи. — На северо-западе у нас есть еще одна, выше и больше, но маленький поезд из Дарджилинга не доходит до ее полей, как здесь, на главной плантации, и поэтому оттуда дороже поставлять чайный лист на рынок. «Больше пятидесяти тысяч акров, — подумал я. — Чертова уйма чая». Потом вспомнил, что британцы в Англии и здесь, в Индии, пьют этот напиток утром, днем и вечером, не говоря уже о сотнях миллионов индусов, перенявших эту привычку. Крутые склоны холмов тут были изрезаны террасами, на которых зеленели ряды кустов, похожих на ухоженный виноградник, только гораздо ниже. Я заметил мужчин и женщин в мокрых хлопковых сари и рубашках, трудившихся вдоль бесконечных зеленых рядов, повторявших изгибы холмов, словно параллельные линии высот на топографической карте. От разнообразия оттенков зеленого захватывало дух. Минут через двадцать мы свернули с крутой, раскисшей грунтовой дороги на длинную, уходящую вверх аллею из белого гравия. Не знаю, что я ожидал увидеть в конце аллеи — возможно, еще один каменный замок, как у леди Бромли в Линкольншире, — но дом Реджи, большой и окруженный конюшнями и другими прочными хозяйственными постройками, по цвету и архитектуре больше походил на большой деревенский дом Викторианской эпохи. Грузовики последовали за нами на широкую аллею, но затем свернули к конюшне и гаражу за ней, а «Серебряный призрак» остановился перед домом на круглой гравийной площадке, окруженной разнообразной тропической зеленью, мокрой от дождя. Заглушив мотор, Эдвард выскочил из машины и открыл дверцу с той стороны, где сидела Реджи. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда я ездил в «Роллс-Ройсе». Когда за окном сгустились тропические сумерки, мы ужинали великолепной телятиной за длинным столом (длиннее, чем в библиотеке, на котором оставили карты), а затем все четверо — пятеро, если считать высокую, безмолвную фигуру доктора Пасанга, — вернулись в библиотеку, где всех ждал бренди, а нас с Же-Ка — еще и сигары. Дикон попыхивал трубкой и, по всей видимости, продолжал молча искать аргументы и причины, чтобы помешать Реджи примерно через 36 часов отправиться в путь вместе с нами. Мы не собираемся у стола с картой, а садимся у гигантского камина, который растопили слуги. На плантации, на высоте около 8000 футов, довольно холодно. — Взять женщину на Эверест — об этом даже не может быть и речи, — заявляет Дикон. Реджи поднимает взгляд от своего сужающегося кверху бокала с бренди. — А это и не обсуждается, мистер Дикон. Я иду. Вам нужны мои деньги, мои шерпы, мои лошади и седла, нужны медицинские знания доктора Пасанга и мое разрешение от премьер-министра Тибета — и вам нужна я, чтобы в этом году получить доступ в Тибет, даже если бы не было кризиса со вшами и танцующими ламами. Дикон морщится. «По крайней мере, она больше не называет его „Дики“», — думаю я. — Кризис со вшами и танцующими ламами? — удивляется Жан-Клод, отрываясь от бренди и сигары. Я почти забыл, что Же-Ка провел зиму и осень во Франции, а не в Лондоне, как мы с Диконом. Я смотрю на последнего, ожидая объяснений, однако он машет рукой, предоставляя слово мне. — Ты должен помнить, — я поворачиваюсь к Жан-Клоду, — что знакомый Ричарда, которого мы видели в Королевском географическом обществе, фотограф и кинорежиссер Джон Ноэл, заплатит «Комитету Эвереста» восемь тысяч фунтов за права на все кино- и фотосъемки прошлогодней экспедиции. — Помню. Еще подумал тогда, что это невероятная сумма, — говорит Жан-Клод. Я киваю. — Ну вот, Ноэл не сомневался, что получит прибыль, окажись прошлогодняя экспедиция успешной, однако он не мог снять захватывающий фильм об исчезновении Мэллори и Ирвина, поскольку имелась всего лишь одна фотография, сделанная перед тем, как они покинули четвертый лагерь, а облака заслонили двадцатидюймовый объектив кинокамеры, так что Ноэлу пришлось выпустить очередной фильм о путешествиях — он назвал его «Крыша мира». Мы с Диконом посмотрели его в январе, перед тем, как ты вернулся из Франции. — И что? — То, что в фильме были вещи — в том числе сцена, где старик находит вшей у мальчика-попрошайки и давит их зубами, — которые явно рассердили тибетское правительство. Другим не понравился фрагмент, когда приводились слова вдовы Мэллори о том, что она сожалеет о всей экспедиции. Но больше всего тибетцев разозлили танцующие ламы. — Танцующие ламы? — переспрашивает Жан-Клод. — Ноэл снял их в монастыре Ронгбук? — Гораздо хуже, — говорит Реджи. — Джон Ноэл заплатил группе лам, чтобы те покинули монастырь Гьянгдзе и давали представления — вживую, в кинотеатрах Лондона и других британских городов — того, что Ноэл в своем фильме называет «танцем дьявола». Монахи превратились в настоящую гастролирующую труппу, где одни танцевали, а другие били в барабаны и играли на дудочках из бедренных костей. Они были очень популярны среди английских завсегдатаев кинотеатров. Нечто экзотическое. В то же время лам представили архиепископу Кентерберийскому как «святых людей». Ссора между Тибетом и правительством Ее Величества была достаточно серьезной, и Тибет не дал разрешение «Комитету Эвереста» на планируемую экспедицию 1926 года. Возможно, пройдет еще лет десять, прежде чем британский Альпийский клуб и «Комитет Эвереста» получат доступ в горы. — Ага, — говорит Же-Ка. — Я могу понять, почему обиделись тибетцы. Но как они узнали, что происходит в английских кинотеатрах? Дикон нервно набивает трубку. Реджи улыбается. — На самом деле инициаторами моратория на британские экспедиции на Эверест были не тибетцы, — говорит она. — Это дело рук майора Фредерика Маршмана Бейли. — Кто, черт возьми, этот майор Фредерик Маршман Бейли? — Я впервые слышу об этом человеке и о том, что именно он, а не тибетцы, мешает «Комитету Эвереста» получить разрешение на экспедицию на Эверест. — Он английский резидент в Сиккиме, — отвечает Дикон, не выпуская трубки изо рта. Голос у него очень злой. — Помните наши карты? Самая восточная провинция британской колониальной администрации Индии, та самая, через которую нам придется идти в Тибет. Якобы независимое королевство Сикким. Бейли заручился поддержкой далай-ламы в Лхасе относительно всей этой чепухи об «оскорбленных тибетцах», но на самом деле именно Бейли не позволил получить разрешение всем британским альпинистам, за исключением нашей экспедиции. А также немецким и швейцарским. — Зачем ему это, Ри-шар? — спрашивает Жан-Клод. — То есть я понимаю, почему британский резидент пытается остановить немцев и швейцарцев и сохранить Эверест как «английскую гору», но почему, черт возьми, он не дает получить разрешение английским экспедициям? Похоже, гнев не дает Дикону говорить. Он кивает леди Бромли-Монфор. — Бейли — бывший альпинист, покоривший несколько не самых высоких вершин здесь, в Гималаях, — объясняет Реджи. — Он уже давно не в лучшей форме — хотя и тогда не мог даже подумать об Эвересте, — но многие из нас считают, что он поддерживает и преувеличивает гнев тибетцев по поводу лам в качестве предлога сохранить горы за собой. От этой новости я начинаю часто моргать. — Он попытается сделать это весной или летом? — Никогда, — цедит Дикон сквозь сжатые зубы. — Просто хочет помешать остальным. — Тогда почему леди… Реджи… получила согласие премьер-министра и далай-ламы? Реджи снова улыбается. — Я пошла прямо к премьер-министру и далай-ламе, попросила персонального разрешения. И полностью игнорировала Бейли. Он возненавидел меня за это. Нам придется пересекать Сикким по возможности быстро и незаметно, прежде чем Бейли придумает, как нас задержать. Единственное наше преимущество заключается в том, что я предприняла кое-какие меры, чтобы ввести его в заблуждение и заставить поверить, что наша экспедиция попытается пройти к Джомолунгме в августе, после окончания сезона муссонов, а не теперь, до его начала, и что мы выберем более короткий северный маршрут — через равнину Тангу и вверх по Серпо Ла, — а не традиционный, который проходит восточнее. — Неужели Бейли так глуп, что поверит, что кто-то снова попытается подняться на Эверест в августе? — спрашивает Дикон. Его разведывательная экспедиция 1921 года выбрала именно этот вариант, но выяснила лишь то, насколько глубоким может быть снег в августе. Однако именно 5 июня Мэллори, Сомервелл и другие — за исключением Дикона, который считал состояние снега опасным, — потеряли семь шерпов и жителей Бхопала под лавиной во время попытки упрямого Мэллори вернуться в третий лагерь на Северном седле после сильных снегопадов рано пришедшего муссона. — Потому что мы с Пасангом и еще шесть человек проделали это в августе прошлого года. Мы втроем, как по команде, поворачиваемся к Реджи и молча смотрим на нее. Присутствие доктора Пасанга почти незаметно. В мерцающем свете камина он стоит позади мягкого кресла, в котором сидит Реджи, наклонившись над бокалом с бренди. — Что проделали? — наконец спрашивает Дикон. — Пошли к Эвересту, — голос Реджи звучит резко. — Пытались найти тело кузена Перси. Я бы отправилась туда раньше, но после того как оттуда ушли полковник Нортон, Джеффри Брюс и остальные члены группы Мэллори, муссон разыгрался не на шутку. Нам с Пасангом пришлось ждать, пока прекратятся самые сильные дожди, а на Джомолунгме — снег, и только тогда мы пошли туда с шестью шерпами. — И далеко вы добрались? — В голосе Дикона проступает сомнение. — До Шекар-дзонга? Дальше? До монастыря Ронгбук? Реджи поднимает взгляд от бокала с бренди; ее ультрамариновые глаза потемнели от гнева, вызванного тоном, каким был задан вопрос. Но голос остается твердым и бесстрастным. — Мы с Пасангом и двумя другими шерпами провели восемь дней на высоте больше двадцати тысяч футов в четвертом лагере Мэллори. Но снег не прекращался. В один из дней мы с Пасангом поднялись до пятого лагеря, но там не осталось никаких продуктов, а буран усиливался. Нам повезло, что мы смогли спуститься на Северное седло, где застряли еще на четыре дня, причем последние три провели без пищи. — Пятый лагерь Мэллори находился на высоте двадцати пяти тысяч двухсот футов, — очень тихо говорит Жан-Клод. Реджи лишь кивает в ответ. — За те восемь дней на Северном седле в четвертом лагере я похудела на тридцать фунтов. Один шерпа, Наванг Бура — вы познакомитесь с ним завтра утром — едва не умер от горной болезни и обезвоживания. Наконец, восемнадцатого августа мы дождались временного улучшения погоды и спустились до первого лагеря Мэллори — четверым шерпам, которые ждали нас в третьем лагере, пришлось буквально нести Наванга через ледник, — где немного отдохнули, прежде чем идти назад. Снег так и не перестал. С неба лило и в джунглях Сиккима, через которые мы продирались в сентябре. Я думала, что никогда не просохну. Мы с Диконом и Жан-Клодом обменялись взглядами. Уверен, что их мысли были созвучны моим. Эта женщина и этот высокий шерпа поднялись на Эверест на высоту более 25 000 футов в разгар сезона муссонов? И провели восемь дней подряд на высоте больше 23 000 футов? Почти никто из состава трех предыдущих экспедиций не провел столько времени на такой высоте. — Где вы учились альпинизму? — спрашивает Дикон. Похоже, бренди на него подействовал, чего я никогда прежде не видел. Возможно, все дело в высоте над уровнем моря. Реджи поднимает пустой бокал, Пасанг кивает куда-то в темноту, откуда появляется слуга и снова наполняет наши бокалы для бренди. — В Альпах, начинала еще девчонкой. — Ее голос звучит буднично. — С кузеном Перси, с проводниками и одна. Приезжая в Европу из Индии, я больше времени проводила в Альпах, чем в Англии. И в здешних горах тоже. — Вы помните, как звали ваших альпийских гидов? — спрашивает Жан-Клод; в его тоне не слышно вызова, только любопытство. Реджи называет имена пяти опытных представителей «Гидов Шамони», таких знаменитых, что о них наслышан даже я. По словам леди Бромли, трое из них в прошлом сопровождали ее сына Персиваля. С губ Жан-Клода срывается тихий свист — как и в тот раз, когда он услышал от леди Бромли имена троих из этих пяти. — На какие вершины вы поднимались в одиночку? — спрашивает Дикон. Тон у него изменился. Реджи слегка пожимает плечами. — Пево, Элефруад, Мейджи, северный склон Гранд-Жорас, северо-восточный склон Пиц-Бадиль, северный склон Дрю, затем Монблан и Маттерхорн. И несколько вершин здесь — среди них только один восьмитысячник. — В одиночку, — повторяет Дикон. Выражение лица у него какое-то странное. Реджи снова пожимает плечами. — Не знаю, поверите ли вы мне, мистер Дикон, но для меня это не имеет значения. Однако вы должны понять вот что. Когда прошлой осенью моя тетя, леди Бромли, написала мне и попросила получить разрешение на проход к Джомолунгме для вашей экспедиции, чтобы — цитирую — «найти Персиваля», я уже была в Лхасе, чтобы получить от далай-ламы и премьер-министра разрешение… на еще одну попытку, этой весной. Мою собственную вторую попытку — с Пасангом и на этот раз большим количеством шерпов. — Но в разрешении упоминаются «другие сахибы», — замечает Дикон. — Я сама собиралась их найти, мистер Дикон. Даже связалась с ними и пригласила присоединиться к моей поисковой экспедиции этой весной. Разумеется, им пришлось бы заплатить. Но когда тетя Элизабет сообщила мне ваши имена, я кое-что разузнала и решила, что вы… подходите. Кроме того, вы были другом моего кузена Чарльза и знали Перси. Я подумала, что так будет лучше — дать вам шанс. Я вдруг осознаю, что мы поменялись ролями, и теперь мы выступаем в роли просителей в ее экспедиции, а не наоборот. Судя по слегка остекленевшему взгляду Дикона, он тоже это сообразил. — Как ваш кузен Чарльз? — Скорее, он хочет сменить тему разговора, чем получить ответ. — Я получила телеграмму от тети Элизабет всего неделю назад, — говорит Реджи. — Чарльз умер от прогрессирующего отека легких, пока вы плыли в Калькутту. Мы выражаем соболезнования. Дикона эта новость, похоже, сильно расстроила. Долгое молчание нарушается только потрескиванием дров в камине. Мы с Же-Ка докуриваем сигары, и я по его примеру бросаю окурок в огонь. Потом мы ставим пустые бокалы на стол. — Нам нужно внести кое-какие изменения в маршрут и в планы по закупке провизии, — говорит Реджи, — но мы можем сделать это завтра днем после того, как вы выберете себе шерпов и лошадей. Шерпы будут здесь, как только рассветет; сегодня вечером они разбили лагерь всего в миле отсюда, и я хочу поздороваться с ними. Пасанг разбудит вас, если кто-то привык вставать поздно. Спокойной ночи, джентльмены. Мы встаем вслед за Реджи, и она покидает освещенный круг. Через несколько минут, все еще не произнеся ни слова, мы идем вслед за слугой в свои комнаты на втором этаже. Поднимаясь по широкой винтовой лестнице, я замечаю, что Дикон как будто с трудом поднимает ноги. Но как вы сохраните куриную тушку свежей в течение нескольких недель, если снег застанет вас в третьем лагере ниже Северного седла, мистер Дикон? Вы собираетесь нести с собой лед? Электрический холодильник? В поместье Реджи мы просыпаемся рано. Аккуратный задний двор за домом своими размерами и тщательно постриженной травой напоминает поле для крикета. Выше и ниже дома утренний туман, словно пар от дыхания, поднимается от рядов чайных кустов, и я различаю силуэты, которые движутся между кустами и собираются во дворе, как будто туман вдруг сгустился и принял человеческие формы. Солнце становится ярче, туман начинает рассеиваться, и мне удается насчитать около тридцати фигур. За плантацией виднеются горы; далекие белые вершины Гималаев так ярко блестят в лучах восходящего солнца, что я щурюсь — но это не помогает, и глаза все равно слезятся. — Слишком много людей, — говорит Дикон. — Я собирался взять дюжину шерпов-кули. — Просто шерпов, — поправляет Реджи. — «Шерпа» означает «люди с востока». Несколько поколений назад они спустились с перевала Нангпа Ла высотой девятнадцать тысяч футов. Несколько тысячелетий они защищали свою землю и свою независимость. И никогда не были ничьими «кули». — Все равно слишком много, — говорит Дикон. Фигуры, все четче проявляющиеся сквозь туман, приближаются к нам. Реджи качает головой. — Я потом объясню, почему нам понадобится не меньше тридцати. Теперь я представлю ихвсех и отберу двенадцать человек, которые будут, как мне кажется, великолепными альпинистами. «Тигры» — так их обычно называли генерал Брюс и полковник Нортон. Большинство из этих двенадцати говорят по-английски. Я позволю вам троим поговорить с ними и выбрать двух напарников. — Вы знаете их имена? — удивляюсь я. — Конечно, — кивает Реджи. — А также их родителей, жен и детей. — И все эти шерпы живут в окрестностях Дарджилинга? — спрашивает Жан-Клод. — Рядом с вашей плантацией? — Нет. Эти люди — лучшие из лучших. Кое-кто живет в непальском регионе Солу Кхумбу у южных склонов горы Эверест. Другие пришли из района Хеламбу, из долины Аруна или из Ровалинга. Остальные из Катманду. Только четверть из них живет в пределах четырех дней пути от Дарджилинга. — Предыдущие экспедиции всегда брали несколько шерпов из Дарджилинга, а по пути нанимали в деревнях тибетских носильщиков, — говорит Дикон. — Да, — подтверждает Реджи и ударяет кожаным стеком по обтянутой перчаткой ладони; когда перед восходом солнца мы собрались в огромной кухне, чтобы выпить кофе, она вернулась с утренней верховой прогулки. — Вот почему у трех первых английских экспедиций было несколько хороших альпинистов-шерпов, но много носильщиков, совсем не приспособленных для работы в горах. Тибетцы — замечательный народ, гордый и храбрый, но когда они вынуждены выполнять обязанности носильщиков, то — как вы должны помнить по опыту двух предыдущих экспедиций сюда, мистер Дикон, — начинают вести себя как английские члены профсоюза и объявляют забастовку, чтобы добиться повышения жалованья, улучшения питания, сокращения рабочего дня… причем всегда в самый неподходящий момент. Шерпы так себя не ведут. Если они согласились помочь, то будут помогать, и остановить их может только смерть. Дикон хмыкает, но я замечаю, что он с этим не спорит. Пасанг выстраивает тридцать шерпов в подобие шеренги; они по очереди выходят вперед, кланяются леди Бромли-Монфор, и Реджи сама представляет их нам. Непривычные имена не задерживаются у меня в памяти, и я удивляюсь, как Реджи их различает, но потом понимаю, что виновата моя американская невнимательность: этот шерпа массивнее остальных, у этого густая черная борода, у этого редкие усики, этот чисто выбрит, но брови у него срослись, образуя сплошную черную линию над глазами. У одного нет передних зубов, а стоящий сразу за ним улыбается ослепительной белозубой улыбкой. Есть плотного телосложения, есть худые. Одежда у кого-то из тонкого хлопка, у кого-то больше напоминает тряпье. У кого-то на ногах европейские альпинистские ботинки, но большинство в сандалиях, а некоторые вообще босиком. Когда церемония знакомства заканчивается, Пасанг отводит большую половину шерпов в дальний угол двора, где те усаживаются на корточки и тихими голосами заводят дружескую беседу. — Никогда в жизни не нанимал на работу шерпу, — шепчет Жан-Клод. — Я нанимал, — успокаивает его Дикон. Но в конечном итоге именно Пасанг и Реджи помогают нам сделать выбор. Наша троица едва способна выйти за рамки разговора о пустяках, но Пасанг, например, говорит, что «Нийма может целый день, не уставая, нести груз, вдвое превышающий его собственный вес», а Реджи сообщает, что «Анг Чири живет в деревне, расположенной на высоте более пятнадцати тысяч футов, и, похоже, прекрасно чувствует себя и на больших высотах». Такого рода информация, а также способность говорить по-английски или понимать английский помогают нам принять решение, особенно по поводу персональных шерпов. Через двадцать минут мы понимаем, что единственным шерпой у Реджи будет Пасанг — на него также возложены обязанности сирдара, или начальника всех шерпов, и врача экспедиции. Же-Ка выбрал Норбу Чеди и Лакру Йишея в качестве личных шерпов. Они из разных деревень и скорее всего не родственники, но похожи, как братья. У обоих на глаза спадают длинные челки — Реджи объясняет, что у людей, живущих среди ледников, эти длинные челки служат вместо темных очков, защищая от снежной слепоты. Дикон выбрал шерпу по имени Нийма Тсеринг — невысокого, крепкого мужчину, который хихикает перед тем, как ответить на своем пиджин-инглиш на каждый вопрос, и который может нести груз, более чем вдвое превышающий его вес. Второй шерпа Дикона выше, тоньше и лучше говорит по-английски; его зовут Тенцинг Ботиа, и он никогда не расстается со своим помощником, молодым Тейбиром Норгеем. В качестве «тигров» я выбираю улыбающегося, невысокого, но явно крепкого и жизнерадостного парня по имени Бабу Рита, а также Анга Чири из высокогорной деревни. Широкая улыбка Бабу настолько заразительна, что я невольно улыбаюсь ему в ответ. У него все зубы на месте. Анг не очень высокий, но его бочкообразная грудь такая широкая, что, как выразился бы мой отец, «сделала бы честь любому уроженцу Кентукки». Я предполагаю, что Анг Чири способен подняться на вершину Эвереста, ни разу не воспользовавшись кислородом из наших баллонов. Еще несколько минут мы просто болтаем, а затем Реджи объявляет, что общительный невысокий паренек по имени Семчумби — похоже, фамилии у него нет — будет поваром экспедиции. Высокий, серьезный шерпа с относительно светлой кожей, которого зовут Наванг Бура, будет отвечать за вьючных животных. — Кстати, о вьючных животных, — говорит Реджи. — Пора паковать снаряжение в тюки для мулов. — Она хлопает в ладоши, Пасанг делает знак рукой, и все тридцать шерпов спешат к нижним конюшням, где стоят грузовики со снаряжением. — А вам, джентльмены, нужно выбрать верховых лошадей и седла, — прибавляет Реджи и быстрым шагом направляется к верхним, большим конюшням. — Должно быть, вы шутите. — Я сижу на белом пони, а мои ноги стоят на земле. — Это тибетские пони, — объясняет Реджи. — Они гораздо лучше обычных лошадей и пони приспособлены для обледенелых горных троп, по которым мы будем продвигаться, и могут пастись там, где лошадь или мул останутся голодными. — Да, но… Я встаю и позволяю пони выйти из-под меня. Жан-Клод смеется так, что хватается за бока. Ноги у него не такие длинные, и он может свесить их по бокам пони, как будто действительно едет верхом. Дикон тоже выбрал себе лошадку, но не дал себе труда сесть на нее. Когда я увидел, как Реджи возвращается с утренней прогулки на чалом жеребце, то подумал, что в Тибете у нас будут настоящие лошади. Как бы то ни было, в перечне необходимого снаряжения для экспедиции Брюса 1924 года имелась рекомендация, чтобы каждый англичанин привез собственное седло. Я смотрю на миниатюрного белого пони, выходящего из-под моих расставленных ног. Черт возьми, беднягу придавит даже английское седло, а американское вообще превратит в лепешку. Дикон словно прочел мои мысли. — Можно просто положить одеяло на спину бедного животного, но ты, Джейк, устанешь все время поднимать ноги. Свалиться с пони на узкой горной тропе тоже будет не очень приятно… до речки внизу может быть три или четыре сотни футов отвесной скалы. Есть еще деревянные тибетские седла, которые хотел использовать Мэллори в двадцать первом году, но я бы тебе не советовал. — Почему? — спрашиваю я. — У него форма буквы «V», — говорит Реджи. — Через две или три мили оно раздавит вам яички. Я густо краснею — мне еще не приходилось слышать, чтобы женщина произносила слово «яички». Жан-Клод не в силах сдержать смех. — Я спущусь и помогу Пасангу проследить за погрузкой, — говорит Дикон. Реджи указывает конюху, какое из маленьких седел нужно взять для каждого маленького пони. Мне достается самое большое. — Ланч ровно в одиннадцать, — кричит она вслед Дикону. — Тогда и решим вопрос с продовольствием. Ричард останавливается, поворачивается, открывает рот, словно собираясь что-то сказать, но потом вытаскивает из кармана твидовой куртки незажженную трубку и прикусывает мундштук. По-военному повернувшись через правое плечо, он быстрым шагом идет к конюшне, потом спускается к нижней конюшне и гаражу, откуда доносятся крики шерпов и ржание мулов. Во время ланча Дикон и Реджи громко спорят; дискуссия продолжается после полудня за бокалом хереса, когда провизия и снаряжение наконец распределены по тюкам, чтобы утром их можно было быстро погрузить на мулов, и возобновляется за ужином в большой столовой. Они спорят по поводу провизии, маршрута, планов поиска тела Персиваля Бромли, способов восхождения, времени, когда мы доберемся до Эвереста, и — самое главное — кто руководит экспедицией. В разгар спора за ланчем Дикон упоминает о загадке, которую нам так и не удалось разрешить, несмотря на все связи Ричарда среди членов экспедиции 1924 года — каким образом Персиваль Бромли вообще мог получить разрешение следовать за экспедицией? И генерал Брюс, прежде чем заболел и был вынужден покинуть экспедицию, и полковник Нортон, сменивший его на посту руководителя, твердо придерживались заранее разработанного плана. Даже один лишний человек, за которого им нужно было отвечать, мог внести неразбериху, а молодой Перси не был известным альпинистом, так что Мэллори и остальные стали бы возражать против его присутствия, хотя бы и не в качестве члена экспедиции. Даже давние друзья Дикона, Ноэль Оделл и капитан Джон Ноэл, режиссер, вызвавший скандал своими танцующими ламами, утверждали, что понятия не имеют, почему Перси позволили следовать за ними. Они лишь ссылались на генерала Брюса и полковника Нортона, которые утверждали, что всё в порядке — вопреки всякой логике. Все альпинисты, которых расспрашивал Дикон, говорили, что Перси был милым и скромным парнем, и пока он просто следовал за экспедицией, примерно в полутора днях позади, его терпели. Но никто не позволил бы молодому лорду Персивалю Бромли идти за ними до базового лагеря на Эвересте у подножия ледника Ронгбук. Все это понимали. Реджи устала от разговоров, и ее тон ясно дает понять, что дальнейшее обсуждение бессмысленно. — Выслушайте меня в последний раз, мистер Дикон. Кузен Персиваль гостил здесь, когда руководителей экспедиции двадцать четвертого года пригласили на плантацию на ужин с лордом и леди Литтон, а также со мной и Перси. Должно быть, вам известно, что лорд Литтон был генерал-губернатором Бенгалии, и они вместе с генералом Брюсом и полковником Нортоном почти час беседовали с Перси в кабинете. Вернувшись, Брюс и Нортон объявили, что Перси будет позволено следовать за экспедицией — не с ними, как вы понимаете, неофициально, а только позади них — при условии, что у Перси будет собственная лошадь, палатка и запас продуктов. Последнее было не проблемой, потому что Перси уже собирал здесь, на плантации, все необходимое еще за две недели до прибытия экспедиции в Калькутту. Дикон качает головой. — В этом нет никакого смысла. Позволить кому-то просто следовать за экспедицией в Тибет? Тому, у кого нет официального разрешения находиться на территории Тибета? Даже если бы лорд Персиваль держался на расстоянии одного дня пути от экспедиции, он все равно был англичанином, и его арест или задержание могли бы осложнить отношения экспедиции с дзонгпенами и тибетскими властями. Полная бессмыслица. — Кто такие дзонгпены, о которых я все время слышу? — спрашивает Жан-Клод. — Просто местные начальники? Деревенские старосты? Тибетские военачальники? — Ни то, ни другое, ни третье, — отвечает Реджи. — Большинство тибетских общин управляются дзонгпенами — обычно двумя, один из которых уважаемый лама, а другой уважаемый мирянин из числа жителей деревни. Но иногда дзонгпен один, глава племени. — Она снова поворачивается к Дикону. — Уже поздно, мистер Дикон. Вы получили удовлетворительные ответы на все вопросы? — За исключением одного: зачем ваш кузен хотел подняться на Эверест после того, как оттуда ушла экспедиция Нортона? — продолжает настаивать Дикон. Реджи смеется, но смех у нее невеселый. — Перси никогда не пытался покорить Эверест. В этом я уверена. — Зигль рассказал «Берлинер цайтунг» и «Таймс», что именно таковы были намерения Перси, — возражает Дикон. — Он утверждает, что когда с другими немцами прибыл во второй лагерь — уже из чистого любопытства, понимая, что первоначальный план встретиться с Мэллори осуществить не удастся, — то он, Зигль, и его спутники видели вашего кузена и Курта Майера, спускавшихся с Северного гребня. Явно с трудом. Реджи решительно качает головой. Ее иссиня-черные локоны скользят по плечам. — Бруно Зигль лгал. — Голос ее звучит резко. — Возможно, у Перси была причина подниматься на гору, но я точно знаю, что он приезжал в Тибет не для того, чтобы покорить Эверест. Бруно Зигль — заурядный немецкий бандит, и он лжет. — Откуда вы знаете, что Зигль — заурядный немецкий бандит? — спрашивает Дикон. — Вы знакомы? — Разумеется, нет, — фыркает Реджи. — Но я навела справки в Германии и кое-где еще. Как альпинист Зигль опасен — для себя и для тех, кто идет с ним; а в своей обычной жизни в Мюнхене он головорез-коричневорубашечник. — Думаете, Зигль как-то замешан в смерти вашего кузена и Майера? — спрашивает Дикон. Реджи не отвечает, но взгляд ее ультрамариновых глаз упирается в Дикона. Когда все немного успокаиваются, мы демонстрируем Реджи усовершенствованные Жан-Клодом «кошки» с 12 зубьями и короткие ледорубы для преодоления вертикальных стен. Затем Же-Ка показывает приспособление под названием «жумар» и веревочные лестницы, которыми обычно пользуются исследователи пещер. — Великолепно, — восклицает Реджи. — Все это значительно облегчит подъем на Северное седло — а перила и лестницы обезопасят носильщиков. Но боюсь, у меня нет достаточно жестких ботинок, чтобы воспользоваться «кошками» с передними зубьями. — Они нужны только лидеру, — поясняет Дикон. — А я гарантирую, что этого не будет. — Я привез с собой запасную пару жестких ботинок, — говорит Жан-Клод. — Думаю, они могут подойти. Я сбегаю и принесу — проверим. Ботинки приходятся женщине впору. Реджи делает несколько пробных замахов короткими ледорубами. Дикон не закатил глаза, но я вижу, чего ему это стоило. — А теперь я хочу вам показать одну новинку, — говорит Реджи. Она идет в кладовую и через несколько минут возвращается с четырьмя головными уборами, похожими на шлемы футболистов, только изготовленными из кожаных ремешков, или на головные повязки, которыми пользуются шахтеры. Только сзади у них две изолированные батарейки, а спереди — шахтерская лампа. — Я заказала эти штуки в сентябре прошлого года, после возвращения с Эвереста, — говорит Реджи. — Лорд Монфор владел большим количеством шахт в Уэльсе. Это новейшее изобретение — электрические головные фонари вместо карбидных, которые могли вызвать взрыв. Батареи тяжеловаты, но их хватает на несколько часов… и у меня есть много запасных. — Для чего, черт возьми? — Дикон держит кожаные ремешки с лампой и тяжелыми батареями на вытянутых руках. Реджи вздыхает. — По словам Нортона, Ноэла и остальных, с которыми я говорила, когда в прошлом году их несчастливая экспедиция возвращалась через Дарджилинг, Мэллори и Ирвин планировали покинуть палатку в шесть или шесть тридцать утра, но на такой высоте все делается очень медленно — правильно зашнуровать ботинки, попытаться растопить снег на плите, чтобы добыть воду и приготовить горячий напиток и горячую кашу перед выходом, при этом не перевернуть плиту, надеть кислородные аппараты и включить их, — и поэтому они вышли из лагеря только в восемь или даже позже. Слишком поздно для попытки покорить вершину. Даже если они достигли вершины, им никак не удалось бы спуститься к пятому лагерю до наступления темноты. Вероятно, они не добрались бы даже до Желтого пояса. — И когда, по вашему мнению, группа должна покидать лагерь с этими… этими… штуковинами на головах? — спрашивает Дикон. — Не позже двух утра, мистер Дикон. Я бы предложила ближе к полуночи в ночь перед попыткой покорения вершины. Мысль о восхождении на такой высоте ночью вызывает у Дикона смех. — Мы замерзнем, — безапелляционно заявляет он. — Нет, нет, — возражает Жан-Клод. — Разве ты забыл, Ри-шар, что благодаря тебе у нас есть замечательные теплые куртки на гусином пуху месье Финча, которых хватит и нам, и всем «тиграм»-шерпам? И мне кажется, что в словах леди… в словах Реджи есть резон. Ночью сходит меньше лавин. Снег и лед плотнее и тверже. Новые «кошки» будут лучше держать на более холодном снегу и твердом льду. И если эти фонари действительно освещают дорогу… — Ими пользуются сотни валлийских шахтеров, — перебивает его Реджи. — По крайней мере, инженеры и мастера. И у шахтеров в их темных норах нет луны и звезд. — Magnifique! — восклицает Жан-Клод. — Очень интересно, — соглашаюсь я. — Выйти из высокогорного лагеря в полночь, чтобы покорить вершину, — говорит Дикон. — Полный абсурд. Для перехода к Эвересту отобраны 40 мулов, и каждый мул способен тащить на себе двойной тюк весом около 160 фунтов. Один носильщик-шерпа может вести двух мулов и одновременно нести тяжелый груз. Реджи настаивает, чтобы наша экспедиция взяла больше полуфабрикатов. Дикон решительно возражает. За вкуснейшим ужином — фазан с превосходным белым вином — они снова схлестываются. — Полагаю, леди Бромли-Монфор, вы не понимаете мою идею, которая лежит в основе этой экспедиции, — холодно замечает Дикон. — Слишком хорошо понимаю, мистер Дикон. Вы пытаетесь покорить высочайшую вершину мира в альпийском стиле, словно это Маттерхорн. Вы планируете купить как можно больше продовольствия в тибетских деревнях по пути, а также охотиться на диких коз, кроликов, тибетских газелей, белого оленя, гималайских голубых баранов — на все, что только можно найти и подстрелить. — Именно так, — подтверждает Дикон. — А поскольку вы утверждаете, что ходили в горы и в Альпах, и здесь, в Гималаях, то знаете, что еще никто не испытывал альпийский стиль на Эвересте. — И на то есть веская причина, мистер Дикон. Не только высота горы, но и погода. Даже в это время, до начала муссона, погода на горе может измениться за несколько минут. А у вас просто нет достаточного количества занимающих немного места продуктов, чтобы провести на горе несколько недель, если потребуется. Вы же не можете бегать от ледника Ронгбук через Панг Ла в Шекар-дзонг каждый раз, когда у вас закончатся припасы. А в крошечной деревушке Чодзонг на перевале Панг Ла со стороны Эвереста в это время года нет лишних продуктов. К этому времени я уже усвоил, что Ла по-тибетски означает «перевал». Панг Ла — это перевал на высоте 17 000 футов к югу от Шекар-дзонга, последний высокогорный перевал на подходе к монастырю Ронгбук, леднику Ронгбук и Эвересту. У большинства экспедиций дорога от Шекар-дзонга до базового лагеря на Эвересте в устье ледниковой долины Ронгбук занимает четыре дня… и еще несколько дней требуется для того, чтобы найти дорогу через ледник на Северное седло. — Мы можем купить дополнительный провиант в деревнях по пути, — не сдается Дикон. Реджи смеется. — Большинство жителей тибетской деревни продадут вам последнюю курицу, даже если это значит, что его семья будет голодать, — говорит она, сверкнув белоснежными зубами. — Но как вы сохраните куриную тушку свежей в течение нескольких недель, если снег застанет вас в третьем лагере ниже Северного седла, мистер Дикон? Вы собираетесь нести с собой лед? Электрический холодильник? А после того, как вы минуете Ронгбук, не стоит надеяться, что вам хватит дичи, которую вы можете подстрелить. Если не считать немногочисленных голубых баранов и еще более редких йети, там, наверху, ничего нет. Вы можете потратить несколько дней на охоту, а не на восхождение… и все равно будете голодать. Дикон игнорирует упоминание йети. — Не забывайте, пожалуйста, леди Бромли-Монфор, что я там был. Я провел не одну неделю, исследуя северные подходы к Эвересту — гораздо дольше вас. — В двадцать первом году вы потратили столько времени из-за того, что не могли отыскать очевидный путь через ледник Восточный Ронгбук, мистер Дикон. Лицо Ричарда мрачнеет. — Послушайте, — Реджи поворачивается ко всем троим, а не только к Дикону. — Я не предлагаю организовать питание так, как это делали Брюс, Нортон и Мэллори… Боже милосердный, я видела, как они отправлялись из Дарджилинга. Семьдесят носильщиков-шерпов — а к тому времени, как они пересекли границу Тибета, к ним присоединились еще столько же, всего сто сорок — и больше трех сотен вьючных животных, тащивших не только все необходимое, вроде кислорода, палаток и провианта, но также бесчисленные банки с фуа-гра, копчеными сосисками и говяжьим языком. — На больших высотах пропадает аппетит, — говорит Дикон. — Нужна еда, которая его стимулирует. — Да, знаю, — улыбается Реджи. — Возможно, вы помните: я говорила, что в августе прошлого года я сбросила больше тридцати фунтов на Северном седле. Выше двадцати трех тысяч футов одна мысль о еде вызывает отвращение. И нет сил, чтобы ее приготовить. Вот почему я хочу взять больше консервов, простых продуктов и пакетиков с рисом и лапшой, которые достаточно разогреть в кипящей воде. На случай, если нас задержит непогода. Дикон смотрит на нас с Же-Ка, словно мы обязаны броситься на его защиту. Мы улыбаемся ему и ждем. — Вместо трехсот вьючных животных, — продолжает Реджи, — у нас будет только сорок, а замену мы при необходимости будем покупать по дороге. И носильщиков-шерпов не семьдесят, а тридцать. Мы не будем нанимать еще сто пятьдесят носильщиков в Шекар-дзонге — я договорилась обменять мулов на яков, и нам хватит наших тридцати шерпов. Но у нас должно быть достаточно продовольствия. Поиски кузена Перси могут занять несколько недель. Глупо возвращаться, не найдя его, просто потому, что у нас закончилась еда. Дикон вздыхает. Он не может раскрыть настоящую причину, по которой он, Жан-Клод и я согласились на эту экспедицию. Дождаться хорошей погоды, затем в альпийском стиле на вершину, а затем… домой. Реджи по очереди смотрит на каждого из нас. — Я знаю истинную причину вашего участия в экспедиции, джентльмены, — говорит она, словно читая наши тайные мысли. — Я знаю, что вы надеетесь покорить Эверест и что вы используете деньги моей тети и предлог в виде поисков Перси для того, чтобы добраться до горы, а если повезет, то и подняться на вершину. Мы молчим. И ни у кого не хватает духу встретить ее холодный взгляд. — Но это не имеет значения, — продолжает Реджи. — Для меня важнее, чем для вас, найти тело Персиваля — возможно, по причинам, которые вы пока не понимаете, — но я тоже хочу подняться на Эверест. Услышав эти слова, мы дружно поднимаем головы. Женщина на вершине Эвереста? Это просто смешно. Никто не произносит ни слова. — Уже девять часов, — говорит Реджи, и в ту же секунду по большому дому разносится бой часов. — Нам пора спать. Выступаем на рассвете. Мы с Жан-Клодом встаем вместе с Реджи, но Дикон остается сидеть. — Нет, пока мы не уладим вопрос о том, кто руководит экспедицией, леди Бромли-Морфор. У экспедиции не может быть двух руководителей. Так ничего не получится. Реджи отвечает ему улыбкой: — Все прекрасно получилось в прошлом году, когда генерал Брюс заболел малярией, мистер Дикон. Полковник Тедди Нортон — вероятно, он знал, что не попадет в группу, которая пойдет на приступ вершины, — взял на себя общее руководство экспедицией, а мистер Мэллори отвечал за план восхождения и отбор группы, которая пойдет на вершину. Естественно, это оказался он сам и его физически крепкий, но неопытный помощник Сэнди Ирвин… Милый мальчик, мне было приятно видеть его у себя в доме. Теперь я предлагаю использовать ту же систему. Я возьму на себя руководство всей экспедицией, а вы будете отвечать за восхождение, отчитываясь только о тех решениях, которые связаны с моими разумными предложениями по поиску останков кузена Перси. Я вижу, что Дикон пытается найти нужные слова, чтобы раз и навсегда отвергнуть это предложение. Но не успевает. Пасанг… доктор Пасанг… отодвигает стул Реджи, освобождая ей проход. — Доброй ночи, джентльмены, — тихо произносит она. — На рассвете мы выступаем к Эвересту.Часть II ГОРА
Суббота, 25 апреля 1925 года До Эвереста все еще 40 миль, но гора уже доминирует не только на фоне покрытых снегом высоких вершин Гималаев, но и на самом небе. Я подозреваю, что Дикон привез с собой британский флаг, чтобы водрузить его на вершине, но теперь вижу, что у горы уже есть свое знамя — белое туманное облако и водяная пыль, крутящаяся в дующем с запада на восток ветре и протянувшаяся миль на 20 или больше, справа налево, словно белый плюмаж, колеблющийся над более низкими вершинами к востоку от заснеженной громады Эвереста. — Mon Dieu,[45] — шепчет Жан-Клод. Мы впятером, включая Пасанга, ушли вперед от носильщиков-шерпов и яков и поднялись на невысокую гору к востоку от перевала. Пасанг стоит в нескольких ярдах позади нас и ниже самой высокой точки перевала, держа в руке поводья маленького белого пони Жан-Клода, которого пугает сильный ветер на Панг Ла — последнем перевале перед Ронгбуком и Эверестом, — а остальные четверо вынуждены лечь на усыпанную камнями землю, чтобы нас не сдуло ветром. Мы небрежно лежим на правом боку, как римляне на ложе во время пира — Дикон дальше всех от меня, приподнявшись на правом локте и пытаясь удержать полевой бинокль левой рукой, затем Реджи, которая вытянулась ничком, так что подошвы ее ботинок напоминают два перевернутых восклицательных знака, и двумя руками направляет опирающуюся на камень морскую подзорную трубу, затем Жан-Клод, который приподнялся выше всех нас и, прищурившись, смотрит на юг сквозь темные очки, и наконец я, чуть сзади от остальных, тоже приподнявшись на правом локте. У всех на голове широкополые шляпы, защищающие от гималайского солнца, безжалостного на такой высоте — солнечные ожоги и слезающая кожа были моим проклятием последние недели, вероятно, как и для Сэнди Ирвина. Мужчины просто нахлобучивают шляпы поглубже, пытаясь перехитрить ветер, а на голове Реджи странная шляпа из мягкого фетра — с широкими полями слева, спереди и сзади, завернутая справа, с регулируемым ремешком, который проходит под подбородком и удерживает ее. Реджи сказала, что купила ее в прошлом году в Австралии. Мы выкрикиваем друг другу названия гор, словно дети, разбирающие рождественские подарки: «На западе, та высокая — это Чо-Ойю, двадцать шесть тысяч девятьсот шесть футов…», «Гиачунг Канг, двадцать пять тысяч девятьсот девяносто футов», «Тот пик, отбрасывающий тень на Эверест, — это Лхоцзе, двадцать семь тысяч… я забыл…». «Двадцать семь тысяч восемьсот девяносто футов», «А вон там — Чомо Лонзо, двадцать пять тысяч шестьсот четыре фута…» — И Макалу, — говорит Дикон. — Двадцать семь тысяч шестьдесят пять футов. — Боже мой, — шепчу я. Самые высокие вершины американских Скалистых гор просто потеряются среди подножий этих сверкающих белыми клыками гигантов. Седла — понижения, соединяющие Эверест и другие вершины, — находятся выше 25 000 футов, на 3000 футов выше любой горы в Северной Америке. По словам Реджи и Дикона, члены предыдущих экспедиций могли видеть Эверест, когда шли на запад к Шекар-дзонгу — особенно если у них возникало желание подняться по долине Йару к западу от Тинки-дзонга и совершить небольшое восхождение, — но мы последние пять недель шли под густыми низкими облаками, нередко навстречу ледяному дождю или метели, и в этот солнечный день на Панг Ла впервые получили возможность посмотреть на гору. Реджи манит меня к себе, и я ложусь ничком рядом с ней — испытывая странное чувство близости — на красноватую землю и твердые камни, и она держит подзорную трубу, пока я смотрю. — Боже мой. — Похоже, это единственное, что я в состоянии произнести в этот день. Даже в своем возрасте — 2 апреля где-то в Сиккиме мне исполнилось 23 — я имел достаточно альпинистского опыта, чтобы понимать, что на горе, которая издалека кажется неприступной, могут обнаружиться маршруты восхождения, если приблизиться к ней или даже подняться на склон. Но вершина Эвереста выглядит… слишком большой, слишком высокой, слишком белой, продуваемой ветрами и бесконечно далекой. Жан-Клод подполз к Дикону, чтобы воспользоваться его биноклем. — Отсюда не видно Северного седла и верхней точки ледника Восточный Ронгбук, потому что их заслоняют горы, — объясняет Дикон. — Но ты взгляни на Северо-Восточный хребет. Видишь первую и вторую ступени ближе к вершине? — Я вижу только бесконечный шлейф водяного пара, — отвечает Же-Ка. — Какой же должен быть сейчас ветер на самом Северо-Восточном хребте? Дикон не отвечает на этот вопрос, а продолжает объяснять. — Отсюда хорошо видно Большое ущелье — или, как они его теперь называют, ущелье Нортона, — протянувшееся вниз и влево из-под пирамидальной вершины. — Да… — выдыхает Жан-Клод. Слегка подрагивающая подзорная труба Реджи не позволяет понять, заполнено ли ущелье глубоким снегом — тогда это смертельная ловушка, если сойдет лавина. — Сильные весенние ветра — это хорошо. — Голос Реджи почти не слышен из-за воя ветра на Панг Ла, ухающего и свистящего среди камней. — Они уносят с собой муссон и зимний снег. И повышают наши шансы найти Перси. Перси. Растущее желание побыстрее добраться до горы и начать восхождение практически вытеснило из моей головы мысли о лорде Перси. Воспоминание о том, что труп молодого человека лежит где-то здесь, на неприступной, жестокой горе с ее жуткими ветрами, заставляет меня вздрогнуть. До нас доносится звучный голос Пасанга: — Первые носильщики приближаются к вершине перевала позади нас. Неохотно, со слезящимися от ветра и попыток разглядеть далекую вершину глазами, прищурившись от безжалостного света, мы все четверо встаем, стряхиваем пыль и камешки с многослойной одежды из шерсти и гусиного пуха, поворачиваемся спиной к западному ветру и идем — спотыкаясь от порывов ветра, толкающих нас в спину, — к узкой тропе, проходящей через седло перевала.Сикким был похож на жаркую теплицу — цветы, джунгли из рододендронов, воздух такой густой и влажный, что трудно дышать, заросшие влажной зеленью долины, лагеря на полянах, которых и полянами-то не назовешь, пиявки, которых нужно было снимать с себя в конце каждого долгого дня, когда мы пробирались сквозь мокрую растительность. Мы не останавливались в даках — аккуратных маленьких бунгало, которые британская колониальная администрация построила через каждые одиннадцать миль — расстояние дневного перехода — на длинной дороге в Тибет к торговой столице страны Гиантсе. По словам Реджи и доктора Пасанга, в даках вас ждали свежие продукты, кровати, книги для чтения и постоянный слуга, которого называли чоукидар, для каждого бунгало. Однако наш отряд становился лагерем примерно в миле перед даком или в двух милях от него, никогда не пользуясь удобствами бунгало, предназначенного для тех, кто в нем нуждается. — Британские экспедиции пользовались даками, — сказал Дикон, когда мы расселись вокруг костра на одной из наших первых стоянок в джунглях Сиккима. — Как и сотни других англичан, — кивнула Реджи. — Торговые представители, направляющиеся на север, в Гиантсе. Чиновники колониальной администрации. Натуралисты. Картографы. Дипломаты. — Но мы не относимся к этим категориям, — сказал Дикон. — Одного взгляда на наше альпинистское снаряжение, мили веревок, а также носильщиков достаточно, чтобы поползли слухи, что мы направляемся в Тибет. — Каким образом? — удивился Жан-Клод. Дикон вытащил изо рта трубку и насмешливо улыбнулся. — Мы не в такой глуши, как нам кажется, джентльмены. Даже здесь, в Сиккиме. Администрация протянула телефонные и телеграфные линии на север до Гиантсе, даже через высокогорные перевалы. — Совершенно верно, — подтвердила Реджи. — Мы будем придерживаться главного торгового пути север-юг, пока не свернем на запад к Кампа-дзонгу, в Тибет. А пока мне кажется, что единственные, кого мы обманываем, разбивая примитивный лагерь и отказываясь от относительно комфортных ночевок в даках, — это пиявки, попадающиеся у нас на пути. Мы вышли из Дарджилинга и стали спускаться к мосту через реку Тиста. Шерпы тронулись в путь еще до рассвета 26 марта, с лошадьми и поклажей, а наши рюкзаки и дополнительный запас продовольствия доставили до шестой мили два потрепанных грузовика; за рулем одного из них сидел Пасанг, а другого — Реджи. Там мы присоединились к остальным, а шофер Эдвард и еще один работник отогнали грузовики на плантацию, а мы с тридцатью шерпами, лошадьми и мулами продолжили спуск к реке Тиста и деревне Калимпонг, которая находилась уже на территории Сиккима. Мы стали лагерем за Калимпонгом, потому что Реджи не хотела, чтобы о нас раньше времени узнал своенравный губернатор Сиккима майор Фредерик Бейли, английский резидент, который (по словам Реджи) мешал «Комитету Эвереста» получить разрешение на пребывание в Тибете, чтобы у него самого остался шанс покорить гору. На границе Сиккима нас встретил часовой — одинокий гуркх, который без возражений принял документ, выданный Реджи тибетскими властями. Мы с изумлением наблюдали, как пограничник выкрикивает команды самому себе: «Отдать честь правой рукой!», «Налево!», «Шагом марш!». Потом Дикон объяснил нам, что при отсутствии офицера или сержанта, который подает команды, гуркхи с удовольствием командуют сами собой. Пока мы пересекали Сикким, нашу вереницу из шерпов, мулов и маленьких белых пони два раза догоняли смуглые люди в полицейских мундирах, но Реджи каждый раз отводила представителя власти в сторону, о чем-то шепталась с ним и — хотя это лишь мое предположение — давала ему денег. Как бы то ни было, в Сиккиме нас никто не пытался задержать, и всего через неделю, на протяжении которой нам приходилось вдыхать приторный аромат рододендронов, отрывать пиявок от всех незащищенных участков тела и брести по доходящей до пояса траве, мы подошли к высокогорному перевалу — Джелеп Ла, — который приведет нас в Тибет. Мы нисколько не жалели, что Сикким остался позади — там все время шел дождь, и вскоре наша одежда пропиталась влагой, и не выдалось ни единого солнечного дня, чтобы разложить ее и просушить. Мне казалось, что во время пребывания в Сиккиме только я подхватил легкую форму дизентерии, но потом выяснилось, что Же-Ка и Дикон тоже страдали от расстройства желудка. Только Реджи и Пасанг, похоже, устояли перед этим неприятным недомоганием. Несколько дней я лечил себя опиумом, но затем Дикон заметил, что я болен, и отправил меня к доктору Пасангу. Высокий шерпа кивнул, когда я, смущаясь, признался в проблемах с кишечником, а затем сказал, что опиум, возможно, немного помогает при дизентерии, но побочный эффект от ежевечерней дозы может быть хуже самой болезни. Он дал мне бутылочку какого-то сладкого лекарства, которое за один день привело в порядок мой кишечник. Поначалу я шел впереди своего белого пони и тащил в рюкзаке около 70 фунтов снаряжения, но Реджи убедила меня ехать верхом, а большую часть груза переложить на мулов. — Вам понадобятся силы для Эвереста, — сказала она, и я вскоре убедился, что леди права. Ослабленный дизентерией, от которой только-только начал оправляться, я привык к тому, что наша экспедиция останавливалась ранним вечером, и наши палатки Уимпера и большая брезентовая палатка для приготовления пищи уже установлены, спальные мешки разложены. Я также привык, что утром меня будит тихий голос: «Доброе утро, сахибы», — это Бабу Рита и Норбу Чеди приносят нам кофе. В соседней палатке пьет кофе Дикон, а Реджи, которая всегда встает раньше нас и успевает полностью одеться, вместе с Пасангом сидит у костра и завтракает чаем с оладьями. И только когда мы поднялись на 14 500-футовый перевал Джелеп Ла, я понял, как ослабила меня болезнь в Сиккиме. Несколько лет назад в Колорадо я со своими друзьями альпинистами из Гарварда едва ли не бегом поднялся на Лонг-Пик высотой больше 14 000 футов и прекрасно себя чувствовал на ее широкой вершине, так что мог без труда сделать стойку на руках. Но когда я карабкался по напоминавшей американские горки тропе, а затем по мокрым и скользким камням — что-то вроде естественной лестницы — к вершине Джелеп Ла, то обнаружил, что после каждых трех шагов останавливаюсь и ловлю ртом воздух, опираясь на свой длинный ледоруб. Затем еще три шага. И это плохой признак — высшая точка перевала находится на высоте вдвое меньшей, чем вершина Эвереста. Я вижу, что Жан-Клод дышит немного тяжелее и движется немного медленнее, чем обычно, хотя он покорил не одну вершину высотой 14 000 футов. Из нас троих только Дикон, похоже, уже привык к высоте, однако я заметил, что и ему тяжеловато выдерживать быстрый темп ходьбы и восхождения, заданный Реджи. Мы добрались до Ятунга в Тибете — разница между Тибетом и Сиккимом просто поразительная. В верхней точке перевала Джелеп Ла нас засыпало снегом, и метель с сильным западным ветром сопровождала нас и после того, как мы вышли на сухую высокогорную тибетскую равнину. После буйства красок в джунглях Сиккима — все мыслимые оттенки розового и кремового, а также цвета, названий которым я не мог подобрать, но которые Реджи и Дикон назвали розовато-лиловым и светло-вишневым, — мы оказались в почти черно-белом мире. Серые облака у нас над головой, серые камни вокруг, и только красноватая тибетская почва добавляла немного краски в эту бесцветную картину. Вскоре наши лица покраснели от кружившейся в воздухе пыли, а когда от холодного ветра у меня стали слезиться глаза — до того, как я понял, что нужно надевать очки даже на этой относительно небольшой высоте, — покрытые коркой грязи щеки прочертили кроваво-красные бороздки.
Последнюю ночь нашего перехода мы провели поблизости от маленькой, продуваемой ветрами деревни Чодзонг. Это было в понедельник, 27 апреля, а на следующий день мы спустились в долину длиной восемнадцать миль, которая вела к монастырю Ронгбук, всего в одиннадцати милях от прохода к леднику Ронгбук, где мы планировали устроить базовый лагерь. — Что означает название Ронгбук? — спрашивает Жан-Клод. Дикон либо не знает, либо слишком занят, чтобы ответить. — Снежный монастырь, — тут же поясняет Реджи. Мы делаем довольно продолжительную остановку в монастыре и просим аудиенции и благословения верховного ламы Дзатрула Ринпоче. — Шерпы не такие суеверные, как тибетские носильщики, — объясняет Реджи, пока мы ждем ламу, — но неплохо было бы получить такое благословение, перед тем как отправиться к базовому лагерю, не говоря уже о попытке покорить гору. Однако нас ждет разочарование. Святой лама с титулом, похожим на звяканье жестянки, катящейся по бетонным ступенькам, передает, что теперь «неподходящее время» для нашей встречи. Дзатрул Ринпоче пригласит нас в монастырь, сообщает представитель ламы, если — и когда — Его Святейшество лама посчитает благоприятным почтить нас своим присутствием и благословением. Реджи удивлена этим обстоятельством. У нее всегда были хорошие отношения с монахами и верховным ламой монастыря Ронгбук, говорит она. Но когда женщина спрашивает знакомого монаха, почему Дзатрул Ринпоче отказывает нам в аудиенции, бритый наголо старик отвечает — на тибетском, а Реджи потом переводит: — Плохие предзнаменования. Демоны горы не спят и гневаются, а будет еще хуже. Метох-кангми на горе активные и злые, и… — Метох-кангми? — переспрашивает Жан-Клод. — Йети, — напоминает нам Дикон. — Те вездесущие волосатые, похожие на человека монстры. — …ваш генерал Брюс три года назад заверял нас, что все британские альпинисты принадлежат к одной из сект Англии, которые поклоняются горе, и что они пришли для паломничества к Джомолунгме, но теперь мы знаем, что генерал Брюс лгал. Вы, англичане, не поклоняетесь горе, — Реджи переводила с такой же скоростью, с какой говорил старый монах. — Это он о танцующих монахах и том проклятом фильме Ноэла? — спрашивает Дикон. Реджи игнорирует его вопрос и не переводит монаху. Она что-то произносит на певучем тибетском наречии, низко кланяется, и мы впятером, в том числе Пасанг, выходим из кельи монаха. Старик начинает вращать молитвенное колесо. Снова оказавшись на холодном ветру, Реджи вздыхает. — Это очень плохо, джентльмены. Наши шерпы — особенно отобранные «тигры», которые пойдут с нами на гору, — нуждаются в этом благословении и очень хотят его получить. После устройства базового лагеря я вернусь в монастырь и попробую убедить ламу, что мы заслуживаем благословения подняться на гору. — Если старик не хочет давать своего дурацкого благословения — так и черт с ним, — рычит Дикон. — Нет. — Реджи непринужденно вскакивает на спину своего крошечного белого пони. — С чертом придется иметь дело нам, если мы не получим благословения для наших шерпов.
Еще в конце марта, когда мы стояли лагерем у первой большой деревни Сиккима, Калимпонг, к Дикону пришел таинственный незнакомец. Я обратил внимание на высокого худого мужчину, когда доктор Пасанг привел его в лагерь и Реджи начала болтать с ним. Несмотря на традиционную одежду непальских шерпов и коричневую шапку, больше похожую на тюрбан, а также смуглую кожу и густую черную бороду незнакомца, я подумал, что этот необычно высокий шерпа может быть родственником Пасанга. И еще я заметил на его ногах прочные, хотя и очень потертые, английские туристические ботинки. Оказалось, что он не только белый и англичанин, но и чрезвычайно известный англичанин. Прежде чем слухи о личности незнакомца начали распространяться по лагерю, личный шерпа Дикона, Нийма Тсеринг, пришел за нашим другом. — Сахиб хочет видеть вас, сахиб, — обратился он к Дикону и, как обычно, хихикнул. Дикон вместе с Же-Ка возился с проточным клапаном кислородного аппарата. Когда он поднял голову и взглянул на высокого бородатого мужчину в одежде непальского крестьянина и в прочных туристических ботинках, то моментально вскочил и побежал пожать руку гостю. Я думал, что Дикон приведет незнакомца к костру и познакомит со мною и Жан-Клодом, но вместо этого они вдвоем — довольно невежливо, по моему мнению, — отошли к небольшому ручью, впадавшему в реку Тиста, через которую мы только что переправились. Сквозь завесу листьев мы видели, что незнакомец присел на корточки, какшерпа, а Дикон сел на маленький валун на берегу ручья, и они о чем-то увлеченно заговорили. — Кто это? — спросил я Реджи, когда она наконец подошла к нам и спросила, не хотим ли мы еще кофе. — К. Т. Овингс, — ответила Реджи. Даже новость о втором пришествии Христа не произвела бы на меня такого впечатления. Кеннет Терренс Овингс был одним из моих литературных идолов с тех пор, как мне исполнилось двенадцать лет. Его называли «поэтом-альпинистом», и до Первой мировой войны он не только входил в пятерку самых известных английских альпинистов, но также считался одним из лучших британских поэтов, писавших верлибром, наряду с Рупертом Бруком и другими великими поэтами, погибшими на войне — Уилфредом Оуэном, Эдвардом Томасом, Чарльзом Сорли, — или теми, кто остался жив, чтобы написать о них, в том числе Зигфридом Сэссуном и Айвором Герни. К. Т. Овингс выжил на войне, пройдя путь от лейтенанта до майора, но никогда не писал о боях. Насколько мне известно, после войны он не написал ни единой поэтической строчки. В этом смысле они с Диконом были похожи — до войны тот тоже был известен своими стихами, но после начала боев не опубликовал — и, очевидно, не написал — ни одного стихотворения. Овингс также не вернулся в Альпы, где, подобно Джорджу Мэллори и Дикону (а зачастую в компании Дикона), получил такую известность в предвоенные годы. Он просто исчез. Некоторые газеты и литературные журналы сообщали, что Овингс уехал в Африку, где в одиночку поднялся на гору Килиманджаро и просто отказался спускаться. Другие были уверены, что он отправился в Китай покорять неизвестные горы и там погиб от рук бандитов. Но большинство авторитетов придерживались версии, что К. Т. Овингс — чтобы избавиться от воспоминаний времен войны — построил маленький парусник и попытался обогнуть земной шар, но утонул во время сильного шторма в Южной Атлантике. Я снова посмотрел сквозь ветки деревьев. Там был Овингс, одетый в нечто, напоминающее чистые тряпки, и с черной бородой с серебристыми нитями. Он сидел на корточках и о чем-то оживленно болтал с Диконом. В это было трудно поверить. Я встал, взял металлическую бутыль для воды и пошел к ручью. — Мистер Дикон хотел, чтобы их не беспокоили, — сказала Реджи. — Просто собирался набрать воды. Мешать им я не буду. — Обязательно прокипятите, прежде чем пить, — предупредила Реджи. Я почти на цыпочках подошел к ручью, стараясь, чтобы между мной и двумя собеседниками была густая завеса из ветвей. Наклонившись влево, к ветвям, чтобы лучше слышать, и наполняя водой большую металлическую бутыль, я обнаружил, что Дикон говорит слишком тихо, и его слов не разобрать, но хриплый голос Овингса звучал громко. — …я поднялся довольно высоко и видел, что у гребня есть большая ступень, каменная стена высотой около сорока футов, непосредственно под вершиной гребня… Я видел ее в бинокль из долины, а потом еще раз, когда взобрался выше Кам… О чем это он? Похоже, Овингс предупреждает Дикона насчет первой или второй ступени… скорее всего второй, потому что гребень вершины находится прямо под ней… на Северо-Восточном хребте Эвереста. Но о первой и второй ступени знают все, хотя никто — возможно, за исключением Мэллори и Ирвина в день их исчезновения — не поднимался достаточно высоко, чтобы сразиться с ними (особенно с более высокой и крутой второй ступенью). Обе ступени можно разглядеть на фотоснимках, которые делали начиная с экспедиции 1921 года. Почему Овингс теперь предупреждает Дикона о таких очевидных вещах? И почему называет Северное седло термином Кам, а не седлом? Вероятно, у поэта-альпиниста имеются свои названия для всевозможных особенностей рельефа, обнаруженных разведывательной экспедицией 1921 года. Может, Овингс пытался покорить Эверест в одиночку, но его остановили эти препятствия в виде громадных каменных ступеней на Северо-Восточном хребте? Они были главной причиной — наряду с жутким ветром на гребне хребта, — почему Мэллори и остальные переместились на северный склон и попытались подняться по практически вертикальному Большому ущелью. — …возможно, с перилами… — Это все, что мне удается расслышать из тихого ответа Дикона. — Да, да, это может сработать, — согласился Овингс. — Но я не могу обещать лагерь или склад прямо под… Дикон снова что-то сказал тихим голосом. Наверное, просил Овингса говорить не так громко, поскольку следующие слова поэта-альпиниста были едва слышны. — …худший участок — это, вне всякого сомнения, ледопад… — Голос Овингса звучал настойчиво. Ледопад? Я задумался. Неужели он говорит о почти вертикальной стене из снега и льда ниже Северного седла в начале ледника Восточный Ронгбук? Да, участок непростой — в 22-м году там под лавиной погибли семеро носильщиков-шерпов, — но как он может быть «худшим участком» экспедиции на Эверест? Две группы уже преодолевали его, и даже ежедневно поднимали по льду тяжелые грузы. Десятки раз. В прошлом году Сэнди Ирвин соорудил веревочную лестницу с деревянными планками, чтобы облегчить подъем носильщикам. Даже Пасанг и Реджи — если ей можно верить, а я верил — преодолели ее свободным стилем, с трудом вырубая ступени во льду, и смогли добраться до лагеря на Северном седле и даже выше, прежде чем погода заставила их повернуть назад. Мы привезли с собой спелеологические лестницы, новые «кошки» Же-Ка с двенадцатью зубьями, а также приспособление под названием «жумар», чтобы сделать подъем на Северное седло для носильщиков быстрее и безопаснее. — Я придумал последовательность, — сказал Овингс своим хриплым голосом. — Белый, зеленый, затем красный. Только убедись… как можно выше, очень высоко, и… Мне это казалось полной бессмыслицей. Внезапно мой ботинок соскользнул с камня, на котором я сидел на корточках у ручья, уже наполнив бутылку, и я услышал голос Дикона: — Ш-ш, кто-то есть поблизости. Я покраснел и, стараясь сохранять невозмутимость, закрыл бутылку и как ни в чем не бывало пошел к лагерю, не зная, могут ли видеть меня сквозь густую листву Дикон и его знаменитый друг. Они передвинулись еще чуть ниже по течению, подальше от всех, остановились на поляне, так, чтобы никто не мог подкрасться к ним незамеченным, и их оживленный разговор продолжался еще несколько минут. Потом Дикон вернулся к костру один. — Разве мистер Овингс не поужинает с нами? — спросила Реджи. — Нет, он сегодня же вечером возвращается. Надеется добраться до Дарджилинга к завтрашней ночи, — ответил Дикон и бросил недовольный взгляд на меня и на бутылку воды — улику — в моих руках. Я опустил глаза, чтобы не покраснеть. — Ри-шар, — сказал Жан-Клод, — ты никогда не говорил нам, что знаешь К. Т. Овингса. — Не было случая. — Дикон сел на один из ящиков и уперся локтями в обтянутые шерстяной тканью колени. — Мне бы очень хотелось познакомиться с месье Овингсом, — продолжал Же-Ка. В его тоне мне послышался упрек. Дикон пожал плечами. — Кен довольно нелюдимый человек. Он хотел рассказать мне кое о чем, что он сделал, а затем ему нужно было вернуться. — Где он живет? — Слова застревали у меня в горле. — В Непале. — На мой вопрос ответила Реджи. — Кажется, в Тиангбоче. В долине Кхумбу. — Я думал, что белым — англичанам — не разрешено жить в Непале. — Совершенно верно, — подтвердил Дикон. — Мистер Овингс приехал сюда после войны, — сказала Реджи. — Если я не ошибаюсь, у него жена из Непала — и несколько детей. Его тут приняли. Он редко приезжает в Индию или Сикким. Дикон промолчал. «Что это за последовательность из белого, зеленого и красного? — хотелось мне спросить у Дикона. — Почему ледяная стена, или ледопад, как называл его Овингс, будет самой опасной частью восхождения? Почему он говорил о местах для лагеря и склада? Может, он нашел или оставил на северном склоне горы нечто такое, на что не наткнулись три предыдущие английские экспедиции?» — Вы были знакомы с майором Овингсом во время войны? — спросила Реджи. — Да, я был знаком с ним, — сказал Дикон. — И раньше. — Он встал и хлопнул себя по коленям. — Уже поздно. Семчумби нам сегодня что-нибудь приготовил, или мы ляжем спать голодными?
Мы покинули монастырь Ронгбук, хотя многие шерпы выражали недовольство отсутствием благословения — пока доктор Пасанг не прикрикнул на них, и они не погрузились в угрюмое молчание. Наш отряд из тридцати пяти человек преодолел две мили по долине, переправился через реку и продолжил путь к началу ледника Ронгбук, пока приблизительно за час до захода солнца мы не добрались до места, где располагался базовый лагерь трех предыдущих экспедиций. Бесплодное ожидание в монастыре, пока нас не благословит главный лама, стоило бы нам целого дня. Признаюсь, что когда мы добрались до места базового лагеря, настроение у меня несколько испортилось. Все три экспедиции разбивали лагерь в одном и том же месте — в ледниковой долине. С юга его защищал от сильного ветра 40-метровый каменный гребень-морена, а на севере был проход, откуда мы только что пришли; тут имелись площадки для палаток (некоторые даже без крупных камней) и маленькое озерцо талой воды, где могли пить лошади, мулы, а также яки, которых мы выменяли по дороге. Рядом протекает речушка с ледника, и хотя воду перед употреблением все равно нужно кипятить из-за близости отходов жизнедеятельности людей и животных, и мы предпочитаем растапливать снег, в речушке можно брать воду для купания. Здесь также есть грязь и мусор от трех предыдущих британских экспедиций: обрывки брезента от палаток и сломанные шесты, использованные кислородные баллоны и рамы от них, низкие каменные стены, которые ветру удалось повалить в некоторых местах, груды из сотен еще не успевших проржаветь консервных банок, часть из которых еще заполнена гниющими несъеденными деликатесами предыдущей экспедиции, а слева от лагеря, вдоль цепочки камней, — отхожее место. Не способствовала хорошему настроению и расположенная к югу от замусоренного лагеря Мэллори высокая пирамида из камней, которую предыдущая экспедиция насыпала в память о погибших на горе. На самом верхнем камне виднелась надпись: «В ПАМЯТЬ О ТРЕХ ЭКСПЕДИЦИЯХ НА ЭВЕРЕСТ», — а ниже, на другом камне — «1921 КЕЛЛАС», в память о враче, умершем во время подготовительной экспедиции 1921 года, участником которой был Дикон. Еще ниже были написаны имена Мэллори и Ирвина, а также имена семерых шерпов, которые погибли под лавиной в 1922 году. У меня такое чувство, что мемориальная пирамида из камней превращает весь базовый лагерь в кладбище. Но больше всего угнетает сама громада горы Эверест, такой не похожей на Маттерхорн, — хотя до нее еще двенадцать миль по продуваемой ветрами ледниковой долине. Мы видим ее освещенные заходящим солнцем западные склоны и гребни в просвете между снегами и почти сплошным облачным покровом, но даже на таком расстоянии гора кажется уродливой и слишком большой. Это не отдельная гора, как Монблан или Маттерхорн, а скорее громадный клык, выступающий над невообразимым барьером гигантских зубов. Туманный шлейф от вершины и гребней теперь простирается на восток до самого горизонта, над соседней горой Келлас и более высокими — тоже слишком большими, слишком высокими, слишком крутыми, слишком массивными, слишком далекими — вершинами Гималаев, похожими на стену, которую построили боги, чтобы преградить нам путь. Я чувствую, что Дикон недоволен, что приходится разбивать лагерь на этом месте, но в этот долгий день шерпы не в состоянии идти дальше. Дикон всегда хотел поставить наш первый лагерь в трех милях дальше по долине, где раньше был первый лагерь, или передовой базовый лагерь. Однако наша база уже находится на высоте 16 500 футов — более чем в 12 500 футов ниже неприступной вершины Эвереста, но достаточно высоко, чтобы мы все задыхались под 60-фунтовым грузом. Судя по словам Дикона и Реджи, первый лагерь располагается на высоте 17 800 футов и — несмотря на утверждения, что он самый солнечный из всех лагерей на Эвересте, — зачастую открыт ветрам, дующим с северного склона горы и обрушивающимся на ледник. Там, наверху, больше льда, чем моренных камней, и доктор Пасанг заметил, что дополнительные 1300 футов затруднят нам восстановление после высотной болезни. В течение пяти недель, когда мы вечерами сидели у костра, Реджи убедительно доказывала, что первую линию палаток нужно установить именно здесь — куда можно отступить, если нас настигнет горная болезнь, — и Дикон, похоже, больше не собирается возражать. Он планирует сложить все альпинистское снаряжение во втором лагере, в шести милях от базы. Теперь Дикон опускает на землю тяжелый тюк, который он нес, достает из него почти пустой рюкзак и обращается к Реджи: — Будьте добры, леди Бромли-Монфор, проследите за установкой здесь базового лагеря. Я разведаю долину до первого лагеря. — Это смешно, — говорит Реджи. — Вы не успеете добраться туда до темноты. Дикон сует руку в почти пустой рюкзак и вытаскивает головной убор Реджи из кожаных ремешков с лампой и батареями. Включает, а затем выключает лампу. — Посмотрим, работает ли эта хитроумная штуковина валлийских шахтеров. Если нет, у меня в рюкзаке есть старомодный ручной фонарь. — Ты не должен идти один, Ри-шар, — говорит Жан-Клод. — И особенно на ледник. В полутьме увидеть трещины почти невозможно. — Не обязательно подниматься на ледник, чтобы добраться до первого лагеря, — отвечает Дикон. — В кармане куртки у меня есть печенье, но я буду очень благодарен, если вы сохраните для меня теплыми суп и кофе. Реджи подзывает Пасанга, и через несколько минут они уже руководят уставшими носильщиками, которые разгружают яков и мулов, и решают, где какие палатки ставить в этом необычно мрачном месте. Пасанг приказывает поставить большую палатку Уимпера с клапаном у входа внутри одной из разваливающихся каменных стен сангха и объявляет, что это медицинский пункт. Несколько шерпов тут же принимаются за ее установку. Наша долина погружается во тьму, но далекий Эверест сияет над нами в своем холодном, властном, независимом одиночестве. Устрашающий вид.
В наш последний вечер в Сиккиме — 2 апреля — перед тем как пройти по перевалу Джелеп Ла в Тибет, я праздновал свой 23-й день рождения. Я никому не говорил об этой дате, но кто-то, наверное, заметил ее в паспорте, поэтому у меня получился настоящий праздник. Я даже не помню названия крошечной деревушки, где мы остановились на ночлег, в 12 или 13 милях от Гуатонга в направлении границы — возможно, у нее не было названия, как и бунгало дак, но имелось сооружение, что я называл «чертовым колесом», Дикон — «миниатюрной версией Большого Колеса в Блэкпуле», а Реджи — «маленькой версией венского колеса обозрения». Это была грубая конструкция из необработанных бревен с четырьмя «пассажирскими кабинками», чуть больше деревянных ящиков, куда с трудом втискивается один человек. В наивысшей точке это «Большое Колесо» поднимает ваши ноги футов на десять над землей, а механизм, приводивший его в движение — после того, как меня уговорили втиснуться в кабинку, — состоял из Жан-Клода, который тянул следующую кабинку вниз, и Дикона, толкающего еще одну вверх. Должно быть, этот аттракцион построили для деревенских ребятишек, но никаких детей нам не встретилось — когда мы входили в деревню вечером и когда покидали ее следующим утром. Затем колесо остановили в верхней точке — передо мной открылся вид на все восемь домиков деревни, крыши которых находились чуть выше моих коленей, — и Реджи, Дикон, Жан-Клод, Пасанг и несколько говорящих по-английски носильщиков запели «Ведь он такой хороший, славный парень»,[46] а потом нестройный хор грянул «С днем рожденья тебя». Признаюсь, что я густо покраснел, сидя там с болтающимися в воздухе ногами в шерстяных чулках. Реджи захватила с собой все ингредиенты для настоящего пирога, включая глазурь и свечи, и вместе с Жан-Клодом и поваром Семчумби они испекли его перед ужином — с помощью примуса и каменного очага. Дикон достал две бутылки хорошего виски, и мы вчетвером до поздней ночи пили за здоровье друг друга. Наконец, когда все нетвердой походкой разбрелись по палаткам и улеглись в спальные мешки, я выбрался наружу из своей палатки и посмотрел на звездное небо. Это был один из тех редких дней, когда в Сиккиме не шел дождь. Двадцать три года. Я казался себе гораздо старше, чем в 22, но почему-то ничуть не умнее. Сколько лет было Сэнди Ирвину, когда он в прошлом году погиб на Эвересте, 22 или 23? Я не мог вспомнить. Кажется, двадцать два. Моложе, чем я в ту ночь в Сиккиме. От виски слегка кружилась голова, и я прислонился к шершавой опоре Не-Очень-Большого Колеса и посмотрел поверх черных верхушек деревьев на половинку лунного диска, всходящую над джунглями. Был четверг, и всего один день отделял меня от того момента, как я покину нанесенную на карты территорию и углублюсь в высокогорную пустыню нетронутого Тибета. Я подумал о Реджи. Взяла ли она с собой ночную рубашку? Или спит в каком-то сочетании повседневной одежды и белья? Или в пижаме, как почти все мы? Или голой, как Дикон, — даже в местах, где водились сколопендры и змеи? Я снова тряхнул головой, чтобы избавиться от образа леди Бромли-Монфор. Реджи старше меня как минимум на десять лет — вероятно, даже больше. «И что?» — спрашивал меня мой раскрепощенный спиртным мозг. Я посмотрел на поднимающуюся в небе половинку луны — достаточно яркую, чтобы посеребрить верхушки джунглей и сделать почти невидимыми точки звезд, медленно приближавшиеся к зениту, — и представил разнообразные героические поступки, которые я могу совершить во время будущего перехода и восхождения, что-либо такое, что сделает наши отношения с Реджи чем-то большим или по крайней мере отличающимся от просто дружбы, которая, как мне кажется, завязалась между нами. Она испекла мне именинный пирог. Она знала, когда у меня день рождения, взяла с собой муку, сахар и консервированное молоко — и купила четыре яйца в этой или предыдущей деревне, — а потом вместе с Семчумби и Же-Ка испекла пирог на открытом огне. Я понятия не имел, как им это удалось, но пирог получился вкусный, даже с шоколадной глазурью. И на нем горели двадцать три маленькие восковые свечи. Она испекла мне именинный пирог. В порыве юношеского увлечения я забыл о вкладе Жан-Клода и Семчумби в изготовление пирога, забыл о том, как искренне пел Дикон и как он хлопал меня по спине, забыл о его щедром подарке, виски. Она испекла мне именинный пирог. Прежде чем заплакать, я сумел заползти в палатку, снять ботинки и забраться в спальный мешок, пытаясь сохранить в голове эту мысль — она испекла мне именинный пирог — последней, перед тем как заснуть. Но последней была другая: Теперь мне 23. Доживу ли я до того времени, когда мне исполнится 24? В первое утро в базовом лагере на Эвересте я проснулся с жуткой головной болью и тошнотой. Это меня очень расстроило, поскольку я лишь недавно полностью восстановился после дизентерии, которую доктор Пасанг вылечил почти месяц назад в Сиккиме. Мне всегда казалось, что поскольку я самый молодой участник экспедиции, то должен быть и самым здоровым, но выяснилось, что самым слабым из всех оказался именно я. В первую минуту я не мог вспомнить, какой сегодня день, и поэтому перед тем, как выползти из теплого спальника — в тот день термометр показывал максимальную температуру — 19° по Фаренгейту,[47] — посмотрел свой карманный календарь. 29 апреля 1925 года в Сиккиме мы отставали от графика Нортона и Мэллори, но наверстали упущенное благодаря более короткому пути, который нам показала Реджи во время долгого перехода через Тибет к горной деревне Шекар-дзонг, прежде чем мы повернули на юг к Ронгбуку. Кроме того, в деревнях мы проводили по одной ночи вместо двух, как предыдущие экспедиции. Ровно год назад Мэллори, Ирвин, Нортон, Оделл, Джеффри Брюс, Сомервелл, Бентли Битхем и несколько других альпинистов, надеявшихся покорить вершину, впервые проснулись в базовом лагере, в этом самом месте. Я понимаю, что Жан-Клод уже вылез из своего спальника и принялся за дела; разжигая маленький примус, он желает мне доброго утра. Же-Ка полностью одет и успел забраться подальше от лагеря и принести чистый снег, чтобы сварить первую порцию кофе. Шерпы не появились у входа в наши палатки, чтобы предложить утренний напиток, но Семчумби, по всей видимости, уже разжег самый большой примус с несколькими горелками и готовит завтрак в большой экспериментальной палатке круглой формы, которую взяла с собой Реджи и которую мы использовали в качестве столовой, когда просто большого куска брезента было недостаточно, чтобы защитить нас от все более суровой погоды. В этой экспедиции у нас три типа палаток: тяжелые палатки Уимпера с двумя скатами, которыми пользовались уже много лет, в том числе предыдущие экспедиции, и которые мы собирались устанавливать в нижних лагерях; более легкие, но прочные двухскатные палатки Мида для верхних лагерей; а также эта экспериментальная палатка Реджи в форме иглу. Это прототип каркасной палатки полусферической формы производства компании «Кэмп энд Спорте» с двойной внешней оболочкой из жаккардовой ткани. «Большая палатка Реджи», как мы ее называем, имеет восемь деревянных изогнутых телескопических опор, каждая из которых складывается вдвое, что облегчает транспортировку. Пол палатки вшит, а здесь, на холоде, я видел, как Реджи и Пасанг руководили установкой отдельного, более толстого пола — Реджи говорит, что его по специальному заказу изготовила фирма «Харрикейн Смок Компани». В этой необычной куполообразной палатке имеются два слюдяных окошка — разумеется, остальные наши палатки без окон, только с клапаном для входа на завязках. Кроме того, «Большая палатка Реджи» снабжена почти непроницаемым для ветра входным клапаном со сложной шнуровкой. В ней также имеется вентиляционный или кухонный зонт, который можно поворачивать в любую сторону, в зависимости от ветра. Палатка рассчитана на ночевку четырех или пяти человек — вполне комфортную, — а во время трапезы в нее могут втиснуться восемь или девять человек. Когда Реджи и Пасанг поставили ее в первый раз во время нашего перехода, Дикон кисло заметил, что это сооружение похоже на рождественский сливовый пудинг, только без веточки падуба. Но как вскоре выяснилось, большая палатка была теплее и лучше защищала от ветра, чем любая палатка Мида или Уимпера. В первые дни нашего пребывания в базовом лагере я возьму на заметку: будущие экспедиции должны пользоваться уменьшенными версиями полусферической палатки, возможно, с четырьмя изогнутыми опорами вместо восьми, в самых опасных лагерях — IV, V, VI и даже VII, если он будет — на самой горе, где горизонтальную площадку под палатку нужно вырубать в снегу и во льду или с трудом складывать, перетаскивая камни. Круглое основание потребует меньше места, а сильный ветер плавно огибает нашу большую палатку, тогда как двухскатные палатки уже хлопают, издавая звук, похожий на ружейные залпы. — Что там за погода? — сонно спрашиваю я Же-Ка, принимая у него первую сегодняшнюю чашку горячего кофе. — Сам посмотри, — отвечает он. Стараясь не пролить кофе, я сажусь на корточки рядом с плотно зашнурованным клапаном палатки и выглядываю наружу. Сплошная пелена метели. Не видно ни соседних палаток, ни даже большой палатки в центре. — Проклятье, — шепчу я. Мне казалось, что в палатке холодно, но сильный ветер, проникший внутрь, пробирает до костей, несмотря на два слоя теплого белья, а также третий, который я надел на ночь. — Дикон вчера вернулся с разведки к первому лагерю? Было бы очень обидно и печально, если бы наш опытный руководитель попал в снежную бурю и погиб, в первый раз покинув базовый лагерь. Же-Ка кивает и отхлебывает кофе. — Он вернулся около полуночи, незадолго до того, как пошел снег и задул сильный ветер. Маска у него покрылась льдом, и, по словам Тенцинга Ботиа, Ри-шар был очень голодным. — Вроде меня, — говорю я, допивая кофе. Головная боль и тошнота еще не прошли, но я убедил себя, что мне станет легче, если что-нибудь съесть. — Я сейчас оденусь. Думаешь, мы сможем добраться до большой палатки?
Бандиты напали на нас 18 апреля, во время перехода к Эвересту. Мы преодолели уже больше половины пути, рассчитанного на пять недель. Две ночи мы провели в окрестностях крупного тибетского города Тинки-дзонг и решили не сворачивать в долину Яру Чу, чтобы взглянуть на Эверест — погода была ужасной, с низкой облачностью, ледяным дождем, снегом и сильным ветром. Мы двигались по главному торговому пути к перевалу Тинки Ла на высоте 16 900 футов, когда сверху вдруг спустились всадники и окружили нас, собрав впереди отдельную группу из шерпов и мулов. Всадников было около шестидесяти, в многослойной одежде из кожи и меха и в мохнатых шапках. Черты лица, разрез глаз, цвет кожи — все выглядело более азиатским, чем у жителей деревень, которых мы встречали за две с половиной недели пребывания в Тибете. Большинство бандитов носили усы или клочковатые бороды, а их предводителем был крупный мужчина с широкой грудью, огромными кулаками и щеками, такими же мохнатыми, как его шапка. Каждый держал в руках ружье — от мушкетов, какими пользовались в прошлом веке, и стоявших на вооружении индийской армии ружей, заряжавшихся с казенной части, до современных винтовок времен последней войны. Я знал, что у Реджи и Пасанга есть зачехленные ружья — для охоты, — а также случайно увидел, как в Ливерпуле Дикон укладывает в рюкзак что-то похожее на армейский револьвер «уэбли», но никто из них не попытался достать оружие, пока бандиты скакали к нам, окружали и сгоняли нас в кучу, словно овец. Многие из наших шерпов — особенно не «тигров» — явно испугались. У Пасанга был презрительный вид. Мулы, недовольные тем, что прервали их привычный распорядок, подняли крик, но затем умолкли. Мой маленький белый тибетский пони попытался спастись бегством, но я уперся ногами в землю, схватил седло, почти оторвав животное от земли, и держал, пока оно не успокоилось. Лохматые монгольские лошадки бандитов, гривы и хвосты которых были красиво заплетены, размерами превосходили наших нелепых пони и были больше похожи на нормальных европейских лошадей. Когда красная пыль осела, оказалось, что мы окружены и разделены на две группы: большинство бандитов окружили носильщиков и лошадей, а предводитель с дюжиной вооруженных людей — Реджи, Дикона, Же-Ка, Пасанга и меня. Нельзя сказать, что все ружья были направлены на нас — но и не в сторону. Глядя на этих людей, я думал, что мы каким-то образом перенеслись на несколько веков назад в прошлое и наткнулись на Чингисхана и его орду. Реджи вышла вперед и заговорила с предводителем на своем беглом тибетском — или на каком-то другом диалекте. Он звучал не так, как тибетский, который она использовала в беседах с дзонгпенами и простыми жителями в Ятунге, Пхари, Кампа-дзонге и множестве мелких деревень, которые мы проходили и в которых покупали еду или останавливались на ночлег. Предводитель бандитов обнажил в улыбке крепкие белые зубы и что-то сказал, отчего остальные рассмеялись. Реджи смеялась вместе с ними, так что я был вынужден предположить, что замечание не относилось на ее счет (возможно, на Же-Ка, Дикона и мой). Мне было все равно — лишь бы бандиты в нас не стреляли. Вслед за этой малодушной мыслью пришла другая — если бандиты уведут наших мулов со всем снаряжением, кислородными баллонами, палатками и провизией, а также заберут деньги Реджи и леди Бромли, наша экспедиция закончится. Предводитель бандитов что-то рявкнул, по-прежнему улыбаясь улыбкой безумца, и Реджи перевела: — Хан говорит, что теперь неподходящий год, чтобы идти на Джомолунгму. Все демоны проснулись и голодны, говорит он. — Хан? — ошарашенно повторил я. Наверное, мы и вправду провалились в дыру во времени. Мысль о том, что на нас напали орды Чингисхана, мне почему-то не казалась странной. — Джимми-хан, — пояснила Реджи. Она что-то сказала предводителю с необычным именем, пошла к мулу, которого Пасанг всегда привязывал позади ее белого пони, и вернулась с двумя маленькими упаковочными коробками. Потом слегка поклонилась, что-то сказала и с улыбкой протянула первую коробку хану. Он извлек из-за своего пояса кривой клинок, который был лишь немного короче турецкого ятагана, и вскрыл коробку. Внутри, обложенная соломой, находилась шкатулка из полированного красного дерева. Хан отбросил упаковочную коробку, и несколько его товарищей — от них разило лошадьми, человеческим потом, дымом, навозом и лошадиным потом — подъехали поближе, пытаясь рассмотреть, что там, внутри. Хан вложил клинок в ножны и извлек из шкатулки два американских револьвера — хромированных, с рукоятками из слоновой кости. Отделения для патронов были выстланы красным бархатом. Бандиты издали коллективный стон: «Ах-х-х-х-р-р-р-х-х-х» — то ли от восхищения, то ли от зависти и злости; но хан что-то прорычал, и они умолкли. Другая группа, окружившая сбившихся в кучу шерпов, внимательно наблюдала. Реджи опять что-то сказала на тибетском диалекте и протянула хану вторую коробку, побольше. Он снова вскрыл картон клинком, но на этот раз поднял коробку вверх и крикнул своим людям. Внутри были плотно набиты плитки английского шоколада «Раунтриз». Хан начал раздавать плитки своим людям. Внезапно несколько человек дали залп из ружей в воздух, и нашим шерпам пришлось изо всех сил удерживать пони и мулов. Я снова приподнял над землей передние копыта своего запаниковавшего пони. Хан вскрыл первую упаковку, осторожно освободил овальную шоколадку от бумажной обертки — его грязные пальцы были почти такого же цвета, как шоколад, — и деликатно откусил. — Шоколад с миндалем, — сказал он по-английски. — Очень, очень хорошо. — Надеюсь, вам всем понравится. — Реджи тоже перешла на английский. — Берегитесь демонов и йети, — сказал Джимми-хан. Потом выстрелил из ружья, пришпорил лошадь, и монгольская орда исчезла в облаке красной пыли — на северо-востоке, откуда они и появились. — Старый знакомый? — спросил Дикон после того, как мы не без труда вновь выстроились в длинную цепочку и возобновили движение к Тинки Ла. — Деловой партнер, время от времени, — ответила Реджи. Ее лицо было красным от пыли, поднятой копытами лошадей. Я понял, что мы все покрыты пылью, которая на ледяном дожде быстро превращается в красную грязь. — Джимми-хан? — спросил я. — Откуда, черт побери, взялось такое имя? — Его назвали в честь отца, — сказала Реджи и натянула поводья своего упрямого пони, направляя его на крутой участок тропы, ведущей к перевалу под названием Тинки Ла на высоте 16 900 футов.
Первые три дня мы были заперты в базовом лагере. Дикон сходит с ума. Я схожу с ума по-своему — жутко волнуюсь, что от высоты у меня все время будет болеть голова, что меня будет тошнить как минимум раз в день и что я лишусь аппетита и сна. Даже переворачиваясь — на камнях под полом палатки, каждый из которых мое тело запомнило после первой же ночи, — я просыпаюсь от беспокойного сна и тяжело дышу. Это абсурд. Базовый лагерь находится на высоте всего 16 500 футов. Настоящее восхождение начнется только выше Северного седла, до которого еще примерно половина высоты базового лагеря. Шестнадцать тысяч пятьсот футов — это немногим выше, чем альпийские вершины, на которых я резвился прошлым летом, убеждаю я себя. Почему же там было все в порядке, а тут — нет? «Обычно ты проводил на тех вершинах не больше часа, идиот, — объясняет мне разум. — А тут ты пытаешься жить». В эти три ужасных дня у меня нет никакого желания прислушиваться к доводам моего проклятого разума. Я также изо всех сил стараюсь скрыть свое состояние от остальных, но Же-Ка делит со мной палатку, и он слышал, как меня тошнит, слышал мои стоны по ночам, видел, как я стою на четвереньках на спальном мешке и тяжело дышу, как больная собака. Остальные, наверное, заметили мою вялость, когда мы ели или планировали дальнейшие действия в «большой палатке Реджи», но никто ничего не говорит. Насколько я понимаю, ни на Реджи, ни на Дикона высота не действует, а у Жан-Клода легкие симптомы прошли на второй день пребывания в базовом лагере. Несмотря на жуткий холод, ветер и снег, мы не сидели в палатках весь день. В первый полный день в лагере мела метель, и температура опускалась до минус двадцати по Фаренгейту, но мы все равно пробирались сквозь метель, чтобы разгрузить мулов и разобрать снаряжение. Мулов отправили обратно в Чодзонг вместе с несколькими шерпами, поскольку тут для животных не было травы, а яков привязали в защищенном от ветра месте ближе к реке, примерно в полумиле к северу от нас, где бедные лохматые животные могли раскапывать снег на берегу реки в поисках пищи. Большую палатку Уимпера поставили чуть в стороне, и в ней расположилась мастерская Же-Ка, где он проверяет кислородные баллоны, их рамы, примусы и другое оборудование. У него больше инструментов, чем у бедняги Сэнди Ирвина год назад, который все равно умудрялся чинить оборудование, изготавливать самодельные лестницы и модернизировать кислородные аппараты, но возможности у него все равно довольно ограниченны. Жан-Клод может паять, но сварки у него нет, он может разбирать фотоаппараты, часы, печки, лампы, «кошки» и другие предметы, а затем снова собирать их при помощи имеющихся инструментов, но запасных частей в его распоряжении минимальное количество. Он может отрихтовать погнутую металлическую деталь, но не выковать новую в случае серьезного повреждения. К счастью, после двухдневных испытаний Же-Ка объявляет, что только в четырнадцати из ста наших кислородных баллонов упало давление, причем в девяти ненамного — в отличие от прошлогодней экспедиции Нортона, Мэллори и Ирвина, когда, по словам Дикона, вышли из строя больше тридцати из девяноста баллонов. Тридцать баллонов разгерметизировались до такой степени, что стали практически бесполезными уже в Шекар-дзонге, когда их снова проверили. Ирвин усовершенствовал кислородный аппарат «Марк V» во время прошлогоднего перехода, и в сочетании с дальнейшей модернизацией, особенно прокладок, клапанов и расходомеров — благодаря таланту Джорджа Финча и Жан-Клода, а также отца Же-Ка, бывшего кузнеца, ставшего промышленником, — это сделало свое дело. Если наша экспедиция окончится неудачей — даже поиски останков лорда Персиваля Бромли на нижней половине горы, — причиной будет не недостаток «английского воздуха», как называют его шерпы. Как я уже сказал, у нас есть чем заняться. На второй день, когда груз с яков и мулов распределен по тюкам для носильщиков, а часть ящиков оставлена здесь, в базовом лагере, или отложена для лагерей I, II или III, мы — четверо сахибов и Пасанг — собираемся в «большой палатке Реджи», чтобы выработать окончательную стратегию. — Датой штурма вершины остается семнадцатое мая, — говорит Дикон, когда мы вчетвером садимся на корточки перед топографическими картами, разложенными на круглом полу палатки Реджи. Над нами шипит подвешенная к потолку лампа. Пасанг стоит чуть поодаль, в тени, охраняя зашнурованный вход от случайных посетителей. — А на какую дату у вас назначено найти кузена Перси? — спрашивает Реджи. Дикон постукивает незажженной трубкой по губам — в палатке слишком душно и стоит сильный запах влажной шерсти, чтобы еще и курить. — Я добавил несколько дней поиска в каждом лагере на нашем пути, леди Бромли. — Но вашей целью остается покорение Эвереста, — замечает она. — Да. — Дикон прочищает горло. — Но мы можем остаться после успеха группы восхождения и при необходимости искать останки лорда Персиваля до начала муссона. Реджи с улыбкой качает головой. — Мне известно состояние людей, которые здесь поставили рекорды высоты, но не поднялись на вершину. Брюс с сердечными проблемами, а также травматическим шоком и обморожением после поломки кислородного аппарата. Морсхед, Нортон и Сомервелл, настолько ослабевшие, что не смогли спуститься и заскользили к обрыву — Мэллори не смог их подстраховать, и спасли их только запутавшиеся веревки. Носильщики, умершие от эмболии сосудов мозга или после переломов ног. Других пришлось отправить назад из-за обморожений. Нортон, шестьдесят часов кричавший от боли, когда в прошлом году его поразила снежная слепота… Дикон взмахом руки отметает возражения. — Никто не говорит, что гора не потребует жертв. Мы все можем погибнуть. Но велика вероятность, что, даже если к семнадцатому мая мы поднимемся на вершину, некоторые или даже все будут в достаточно хорошей форме, чтобы руководить шерпами в поисках Перси. У нас есть преимущества, отсутствовавшие у предыдущих экспедиций. — Скажите какие, сделайте одолжение, — говорит Реджи. Я вижу интерес в глазах Жан-Клода и понимаю, что мне тоже не терпится это услышать. — Во-первых, кислородные аппараты, — начинает перечислять Дикон. — Две из трех предыдущих британских экспедиций пользовались похожими аппаратами, — возражает Реджи, голос у нее спокойный. Дикон кивает. — Совершенно верно, но наши лучше. И баллонов у нас больше. Джордж Финч уверен: проблема в том, что большинство альпинистов, включая меня, пользовались ими слишком мало и начинали слишком поздно. Высотная болезнь начинает отнимать у нас силы даже здесь, в базовом лагере. Вы и я акклиматизировались, но вы сами видите, леди Бромли-Монфор, как влияют даже семнадцать тысяч футов над уровнем моря на некоторых шерпов и… остальных. Он стреляет глазами в мою сторону и продолжает: — Выше Северного седла, особенно выше восьми тысяч метров, наше тело и мозг начнут умирать. Не просто уставать и лишаться сил, а в буквальном смысле умирать. Предыдущие экспедиции — даже носильщики — обычно начинали пользоваться кислородными баллонами, только когда поднимались значительно выше Северного седла. И то в основном во время восхождения. Я рассчитываю, что мы будем носить кислородные маски начиная с третьего лагеря — в том числе «тигры» из числа шерпов, если понадобится — даже в палатках. Даже во время сна. — Мы с Пасангом провели две недели на Северном седле и поднимались выше без всякого кислорода, — говорит Реджи. — И вам все время было плохо? — спрашивает Дикон. — Да. — Она опускает взгляд. — Вы хорошо спали… или вообще спали по ночам? — Нет. — У вас был аппетит, даже когда еще не закончился запас продуктов? — Нет. — Вы заставляли себя ежедневно — после того как пробыли на такой высоте некоторое время — приносить снег и разжигать примус, чтобы сварить суп или просто получить питьевую воду? — Нет. — Вы оба были обезвожены, страдали от головной боли и рвоты уже через несколько дней? — Да. — Реджи вздыхает. — Но ведь это следствие пребывания на Эвересте, не так ли? Дикон качает головой. — Следствие того, что на Эвересте начиная с восьми тысяч метров наш организм начинает умирать. Кислород из баллонов — всего лишь несколько литров во время сна — не может остановить это медленное умирание, но способен немного замедлить процесс. Прибавить несколько дней, когда мы в состоянии ясно мыслить и энергично действовать. — Значит, мы точно будем пользоваться «английским воздухом» после Северного седла, Ри-шар? — спрашивает Жан-Клод. — Да, а при необходимости и на Северном седле. Я не хочу глупеть, друзья мои — а эта гора всех делает глупее. И часто вызывает галлюцинации. По крайней мере, выше третьего лагеря у подножия ледопада. В двадцать втором я четыре дня поднимался с четвертым человеком в связке… несуществующим человеком. Использование кислорода, даже в небольших дозах, днем и ночью, немного ослабит смертельно опасное оглупление. Надеюсь, в достаточной степени, чтобы дать нам шанс подняться на вершину и найти останки Бромли. Не думаю, что Реджи удалось полностью убедить его, но разве у нее есть выбор? Она всегда знала, что главная цель Дикона — а также Жан-Клода и моя — состоит в покорении вершины (хотя за последние два дня болезни я стал сомневаться в возможности достижения этой цели). Ей остается лишь верить, что мы постараемся найти Перси по пути туда и обратно — если «обратно» будет.
Утром четвертого дня, когда появились признаки того, что метель начала стихать, мы снова собрались в большой палатке и принялись обсуждать стратегию Дикона. — Не зря всеми английскими экспедициями руководили военные, — говорит Дикон, когда мы наклоняемся над картой горы. Его взгляд чаще останавливается на лице Реджи, чем на Же-Ка или моем, и я понимаю, что это последняя попытка убедить ее. — Такой способ взятия горы — сначала первый лагерь, затем второй, и так до шестого или седьмого, прежде чем идти приступом на вершину — представляет собой классическую военную стратегию осады. — Как на прошедшей войне? — спрашивает Реджи. — Нет, — со всей решительностью отвечает Дикон. — Прошедшая война — это четыре года окопного безумия. В один день десятки тысяч жизней отдавались… за несколько ярдов земли, которые на следующий день отбивал противник, такой же ценой. Нет, я имею в виду классические осады, практиковавшиеся со времен Средневековья. Например, осада Корнуоллиса в Йорк-тауне, которой твоего генерала, Джейк… Вашингтона… обучил его французский друг… — кивок в сторону Же-Ка, — Лафайет. Окружить врага в том месте, где у него нет возможности отступить. Полуостров прекрасно подходил для этого, поскольку французские корабли не позволяли Королевскому флоту спасти Корнуоллиса и его людей. Затем бомбардировка. Во время обстрела продвигать свои траншеи, ярд за ярдом, миля за милей, пока не окажешься прямо перед оборонительными сооружениями противника. Затем последняя стремительная атака — и победа. — Но здесь, на Эвересте, — замечает Жан-Клод, — ни один из твоих английских генералов не смог приблизить свои траншеи к вершине, чтобы обеспечить успех последней атаки. Дикон кивает, но я вижу, что он отвлекся. Возможно, его смущает пристальный взгляд Реджи. Экспедиции двадцать второго и двадцать четвертого годов планировали устроить седьмой лагерь на высоте приблизительно двадцати, семи тысяч трехсот футов, но ни тем, ни другим это не удалось. Мэллори с Ирвином и все до них начинали штурм вершины из шестого лагеря на высоте двадцати шести тысяч восьмисот футов. — Разница всего пятьсот футов, — говорит Реджи и опускает взгляд на карту сизображением ледника Ронгбук и горы. — Пятьсот футов по вертикали — это целый день восхождения на таких высотах. — Дикон вертит в руках незажженную трубку. — Слово всего тут неприменимо. — Но ведь Нортон и Мэллори не смогли разбить седьмой лагерь из-за носильщиков? — спрашиваю я, поскольку слышал и читал отчеты. — Потому что они просто не могли нести палатки выше? — Отчасти, — говорит Дикон. — Но альпинисты-сахибы тоже выбились из сил — в том смысле, что не могли нести груз выше шестого лагеря. Как и мы с Финчем в двадцать втором году. Кроме того, седьмой лагерь должен был стать последним перед штурмом вершины без кислорода; когда же Мэллори решил, что они с Ирвином попробуют использовать аппараты, лишние пятьсот футов не казались ему существенными. — Но у вас иное мнение, — говорит Реджи. — Да. — Если в ее тоне и сквозила ирония, Дикон делает вид, что ничего не заметил. Он прижимает чубук трубки к точке на карте над отмеченным шестым лагерем, ниже соединения Северного хребта с длинным Северо-Восточным хребтом. — Проблема тут не только в высоте, хотя она отнимает много сил. По мере приближения к Северо-Восточному хребту каменные плиты становятся круче, а количество слежавшегося снега уменьшается — там мало мест, чтобы вырезать площадку даже под одну палатку, а у альпинистов нет сил, чтобы таскать камни и складывать из них горизонтальную платформу. Но хуже всего ветер. В шестом лагере он уже сильный, а ближе к Северо-Восточному хребту дует сверху вниз почти непрерывно. И способен повалить альпиниста, не говоря уже о палатке. — Поначалу ты планировал быстрый штурм в альпийском стиле с пятого лагеря на высоте двадцати пяти тысяч трехсот футов или ниже, Ри-шар, — говорит Же-Ка. — Только мы втроем, с рюкзаками, хлебом, водой, шоколадом и, возможно, флагом, чтобы водрузить его на вершине. Дикон хитро улыбается. — И еще бивуачный мешок, — прибавляю я. — На случай, если солнце сядет, пока мы спускаемся со второй или с первой ступени. — Ага, вот в этом-то и трудность. — Дикон скребет свою заросшую щетиной щеку. — Еще никому не удалось провести ночь в бивуаке на таких высотах. Довольно трудно выжить даже в палатке с работающим примусом в четвертом, пятом и шестом лагерях. Вот почему я решил, что мы должны атаковать вершину с седьмого лагеря, а если не получится, то с шестого, как Мэллори и Ирвин. Но выйти раньше. Возможно, даже ночью, как предложила Ред… леди Бромли-Монфор. Эти маленькие головные фонари отлично работают. Но я пока не понимаю, как не замерзнуть насмерть, пытаясь подниматься до рассвета — или после захода солнца, если уж на то пошло. — Что касается выживания… — говорит Реджи. — Прошу прощения, я на минутку… Она выходит из палатки, в которую ветер тут же задувает снег. Пасанг остается в палатке и снова затягивает шнуровку. Дикон смотрит на нас, но мы пожимаем плечами. Возможно, какие-то его слова расстроили ее. Несколько минут спустя она возвращается из своей палатки, стряхивая снег со своих длинных волос; в руках у нее охапка вещей, которые мы поначалу принимаем за куртки Финча из материи для воздушных шаров, утепленные гусиным пухом. — Вы смеялись, что я взяла с собой педальную швейную машину, — говорит Реджи. И прежде чем мы успеваем что-то сказать, прибавляет: — Нет, я слышала, как вы жалуетесь. Половина груза для мула, говорили вы. И я слышала, как во время перехода вы хихикали по вечерам, когда я шила в своей большой палатке и вы слышали стрекотание машинки. Никто из нас не решается это отрицать. — Вот над чем я работала. — Она протягивает нам объемные, но легкие вещи. Три пары простроченных и подрубленных брюк на гусином пуху. «Вот почему она сняла с нас мерку на плантации», — думаю я. — На мой взгляд, мистер Финч решил половину проблемы, — говорит она. — Слишком много тепла рассеивается через шелк, хлопок и шерсть белья и брюк альпиниста. Я сшила по паре брюк для всех нас, Пасанга и восьмерых «тигров»-шерпов. Не могу обещать, что они позволят нам пережить ночь в бивуаке на высоте двадцати восьми тысяч футов, но мы получим хороший шанс продолжить подъем до восхода и после захода солнца. — Они истреплются и порвутся, — говорит Дикон. Мы с Же-Ка уже поспешно снимаем ботинки и втискиваемся в новые брюки на гусином пуху. — Они сшиты из той же ткани для воздушных шаров, которую Финч использовал для курток, — возражает Реджи. — Кроме того, я сделала внешний слой брюк из вощеного хлопка. Довольно легкого. И они прочнее, чем анораки, которые вы надеваете поверх курток Финча. Обратите внимание, что у всех брюк, нижних и верхних, есть пуговицы для подтяжек и ширинка на пуговицах. Над последней мне пришлось потрудиться, должна вам сказать. От этих слов я краснею. — Остатки ткани для воздушных шаров я использовала для того, чтобы сшить капюшоны на гусином пуху для наших курток Финча, — говорит Реджи. — И должна сказать, что работать за швейной машинкой на такой высоте довольно трудно. Дикон сует в рот холодную трубку и хмурится. — Где, черт возьми, вы взяли ткань для воздушных шаров? — Я пожертвовала монгольфьером, который был на плантации, — говорит леди Кэтрин Кристина Реджина Бромли-Монфор. Мы с Жан-Клодом минут двадцать дефилируем по базовому лагерю — в метель, при температуре минус пятнадцать градусов — в трех парах рукавиц, куртках Финча, брюках Реджи, ветровках «Шеклтон», только что сшитых Реджи пристегивающихся капюшонах и плотных чехлах на брюки. Три пары рукавиц, авиационные шлемы из кожи и шерсти, надетые под капюшоны, балаклавы и очки — все это дает непривычное ощущение тепла. Выходит Реджи, тоже в полном облачении. Она больше не похожа на женщину. Честно говоря, и на человека тоже. — Я чувствую себя как человечек с рекламы шин «Мишлен». Смех Жан-Клода прорывается к нам через клапан для рта в шерстяной балаклаве, защищающей его лицо. Мы с Реджи тоже смеемся. Я видел этого человечка в Париже, на плакатах и рекламных щитах — коротенький и толстый субъект из автомобильных шин рекламировал продукцию компании с 1898 года. — А с кислородными аппаратами, — прибавляет Реджи, — мы вообще будем похожи на марсиан. — Мы и будем марсианами, — говорит Жан-Клод и снова смеется. Из своей палатки выходит Дикон. В руке у него длинный ледоруб, и на нем пуховик Финча, полный комплект перчаток и головной убор, но ниже пояса по-прежнему английские шерстяные бриджи, обмотки и кожаные ботинки. — Поскольку мы все равно вышли наружу, а день обещает быть ясным, — говорит он, — не пройтись ли нам вчетвером до первого лагеря? Отнесем туда несколько палаток Уимпера и посмотрим на ледник. «Кошки» и короткие ледорубы нам не понадобятся. — Без «тигров»? — спрашивает Реджи. Дикон качает головой. — Пусть наша первая разведка будет прогулкой одних сахибов. Мы возвращаемся, чтобы взять рюкзаки, веревку и длинные ледорубы. Дикон распределяет между нами груз весом от 40 до 50 фунтов — детали палаток, шесты, еще веревка, кислородные баллоны, примусы и немного консервов. Реджи достается столько же, сколько и всем. Пасанг — в хлопковой хламиде и шарфе, которые были на нем в большой палатке, — стоит снаружи, скрестив руки на груди, и с неодобрением смотрит, как четверо сахибов наклоняются навстречу снегу и ветру, огибают скалистую гряду и бредут вверх по усеянной камнями и глыбами льда долине ледника Ронгбук.
Суббота, 2 мая 1925 года Тот факт, что нам требуется чуть меньше двух часов, чтобы пройти с рюкзаками три мили по ложе ледника до места, где обычно разбивают первый лагерь, кое-что говорит о холоде и снеге — а возможно, и о моем неважном состоянии. Метель постепенно стихает, и я с удивлением замечаю, что глубина снега на камнях морены под нашими ногами не превышает одного-двух дюймов, хотя и этого достаточно, чтобы сделать дорогу скользкой. На этом первом этапе «осады» Эвереста — по моему скромному мнению, основанном скорее на тактике полярных экспедиций с устройством складов с припасами, чем на нашем первоначальном плане восхождения в альпийском стиле, — нам не придется подниматься по самому леднику, но мы будем вынуждены потратить много времени, петляя между удивительными ледяными пирамидами высотой от 50 до 70 футов: они называются кальгаспорами и похожи на гигантских паломников, закутанных в белые одежды. Кроме пирамид, превративших каменную морену в полосу препятствий, здесь также есть многочисленные озерца из растаявшего льда, покрытые льдом, но зачастую таким тонким, что попытка ступить на их скользкую поверхность приведет к промокшим ногам. Как ни удивительно — с учетом минусовых температур, от которых мы страдаем с тех пор, как вошли в устье долины ледника Ронгбук, — но это часть необычной природы Эвереста и его окрестностей. В тех местах, где каменные или даже ледяные стены защищают от студеного ветра, майское солнце может прогревать воздух до температур, которые на пятьдесят градусов превышают температуру в базовом лагере. На самом леднике условия гораздо хуже, но в этот первый день не будем подниматься на него, а пойдем по каменистому дну морены, которое предыдущие экспедиции назвали «корытом». У меня такое ощущение, что такого тяжелого рюкзака я давно не таскал, и во время подъема я отстаю футов на 50 от Дикона и Реджи, так что они не слышат моего тяжелого дыхания и отрыжки. Однако несмотря на дискомфорт, я понимаю, почему Мэллори и Баллок несколько недель и даже месяцев летом и в начале осени 1921 года не могли найти этой дороги к Северному седлу. Они обнаруживали, что главный путь по леднику Ронгбук вверх к Лхо Ла ниже Западного хребта Эвереста непроходим в верхней части. Широкий ледник Кхара спускается с северо-восточного и северного склона горы, но заканчивается к востоку от перевала Лакра Ла, куда Дикон в конце концов притащил Мэллори и откуда они наконец увидели дорогу к Северному седлу, — этот ледник Восточный Ронгбук. Однако ледник Восточный Ронгбук очень опасен и коварен. Он соединяется с долиной главного ледника Ронгбук внизу, в районе базового лагеря, и тянется к Северному седлу, поворачивая сначала на восток, затем на северо-восток, затем резко на северо-запад — параллельно леднику Кхара. Экспедиция 1921 года попыталась пройти по гребням к Северной стене, но самый многообещающий гребень, который тянется вдоль восточного края главного ледника Ронгбук, привел их в тупик, к горе, которую они назвали Северным Пиком, а мы теперь называем Чангзе. В разгар муссона в конце лета 1921 года Мэллори и Баллок просто не могли поверить, что такой большой ледник мог дать жизнь такому маленькому, жалкому ручейку — тому самому, который теперь течет мимо нашего базового лагеря, — и продолжали кружить у северных подходов к горе, отклоняясь все дальше на запад и восток, затем снова на запад в надежде найти ревущий поток или хотя бы небольшую речку, достойную ледника, который занимает весь северный склон или Северное седло. Этой речки не существует. Наш маленький ручеек у базового лагеря, как правильно догадался Дикон в 1921 году (думаю, именно за эту правильную догадку — плюс разведку на Лакра Ла, где они нашли следы йети на свежевыпавшем снегу, а также за находку пути к горе — Мэллори так и не простил его), единственный водный поток, рожденный ледником Восточный Ронгбук. Сегодня мы двигались бы еще медленнее, поскольку многие коридоры между кальгаспорами ведут к стенам ледника или упираются в морену, но Дикон во время разведки в первую ночь в базовом лагере захватил с собой бамбуковые вешки, и теперь их неровная цепочка на заснеженных участках не дает нам сбиться с пути. Поскольку мы еще не на леднике и даже не на склоне горы, где есть трещины, мы идем не в связке, но выстроились цепочкой: первым идет Дикон, за ним Реджи, за ней легко шагает Же-Ка, и наконец я, довольно далеко позади. Временами я теряю их из виду среди ледяных пирамид, и только бамбуковые вешки и слабые отпечатки следов на тонком слое снега и льда указывают мне, куда поворачивать. Наконец мы добираемся до места, где обычно располагается первый лагерь, сбрасываем на землю груз и садимся, тяжело дыша и прислонившись спиной к камням. Это место использовалось предыдущими экспедициями начиная с 1921 года; тут видны такие же неприглядные признаки присутствия людей, как в базовом лагере, и здесь тоже ручеек свежей воды выходит из каменной стены морены. Предыдущие экспедиции не построили в этом месте сангха — низкие стены из камней для дополнительной защиты от ветра, внутри которых ставится палатка или натягивается брезент, — но хорошо видны многочисленные площадки, с которых были убраны камни, а поверхность по возможности выровнена. — Мы поставим одну палатку Уимпера и одну поменьше, перекусим и пойдем назад, — говорит Дикон. — Зачем все это было? — спрашивает Реджи. Я еще не отдышался и не в состоянии присоединиться к дискуссии, даже если бы хотел. Но не хочу. Жан-Клод, похоже, не испытывает проблем с дыханием; он упирается локтями в колени, режет яблоко и отправляет кусочки в рот, но явно не испытывает желания принять участие в разговоре. — Что именно, леди Бромли-Монфор? — Глаза Дикона широко раскрываются в притворном удивлении. — Этот бесполезный поход с грузом к первому лагерю, — резко говорит Реджи. — В прошлом году Нортон и Джеффри Брюс поручили носильщикам доставить все грузы в первый, второй и третий лагеря, а британские альпинисты оставались в базовом лагере и берегли силы для подъема к Северному седлу и выше. — Разве вы с Пасангом сами не несли сюда свой груз в августе прошлого года? — спрашивает Дикон. — Да, но нам помогали полдюжины шерпов. И мы с Пасангом несли только легкие палатки до каждого лагеря… а также минимум продуктов. Дикон молча пьет из своей фляжки. — Это была такая проверка? — не отступает Реджи. — Дешевая проверка Джейка, Жан-Клода и меня, как будто мы только что не прошли триста пятьдесят миль, преодолели перевалы и поднялись до девятнадцати тысяч футов? Проверка, сможем ли мы протащить сорок с лишним фунтов через всю долину? Дикон пожимает плечами. Реджи спокойно извлекает из перегруженного рюкзака тяжелую банку консервированных персиков и запускает в голову Дикона. Тот пригибается, едва успев уклониться. Банка с персиками отскакивает от камня, но не взрывается. Жан-Клод весело смеется. Дикон указывает поверх голов Реджи и Же-Ка. — Смотрите. Снег перестал, и на юге облака расступились. Верхние подступы к Эвересту по-прежнему находятся в девяти опасных милях от ледника и Северного седла, и в двух милях выше нас, но воздух Гималаев настолько чист и прозрачен, что кажется, протяни руку — и коснешься хорошо видных первой и второй ступеней, проведешь пальцем по ущелью Нортона, прижмешь ладонь к заснеженному пику на самой вершине… Мы молчим. Затем Реджи вываливает содержимое своего тяжело нагруженного рюкзака на землю и встает. — Можете ставить здесь палатки и складывать свои банки с консервами, мистер Дикон. Я возвращаюсь в базовый лагерь, чтобы распределить груз между шерпами для двух завтрашних рейсов. Затем свой рюкзак опустошает Жан-Клод; ткань палатки хлопает на ветру, превратившемся в легкий бриз. — Я иду в базовый лагерь — нужно закончить знакомство шерпов с техникой использования «кошек» и жумаров. Же-Ка исчезает внизу, среди кальгаспор; от Реджи его отделяют несколько минут, однако он, похоже, не делает попыток догнать ее. Я сижу, прислонив к себе рюкзак. — Давай, опустошай его, Джейк, и иди, — говорит Дикон и раскуривает трубку. — Реджи абсолютно права. Это действительно была своего рода проверка, и я был неправ, вынуждая вас пройти ее. Это один из немногих случаев, когда Дикон называет ее «Реджи». — У меня нет никаких неотложных дел в базовом лагере. — Должен признаться, что я раздражен не только проверкой в наши первые дни на такой высоте, но также дымом от этой проклятой трубки, которым приходится дышать, когда я не в состоянии даже сделать глубокий вдох. — Помогу тебе поставить эти две палатки, — слышу я свой голос. Дикон снова пожимает плечами, но медленно встает, по-прежнему не отрывая взгляда от еще яснее проступившей громады Эвереста. Стараясь не дышать слишком громко, я роюсь в груде вещей, отыскивая большой брезентовый пол палатки Уимпера.
Вторник, 5 мая 1925 года До местоположения третьего лагеря мы добираемся около полудня, и когда выходим из леса ледяных пирамид в «корыте» ниже ледника и перед нами впервые открывается вид на Северное седло позади ледника и выше его, у меня невольно вырывается: — Боже, какое жуткое место! Еще более мрачным его делает пирамида из камней поблизости от громадной стены из снега и льда, ведущей к Северному седлу, — памятник семи носильщикам, погибшим под лавиной в 1922 году. Семь пустых кислородных баллонов, сложенных около каменной пирамиды, придают ей особенно трогательный вид. Конечно, я не могу знать, что со временем третий лагерь станет для всех нас источником менее разреженного воздуха и убежищем от невероятных испытаний, но теперь он сам стал суровым испытанием для моей выносливости. Первыми переход из второго в третий лагерь совершаем мы с Жан-Клодом. Мы идем в связках с нашими «тиграми», по трое: Лакра Йишей и Норбу Чеди с Же-Ка, Анг Чири и Бабу Рита со мной. Наша группа останавливается немного поодаль от лагеря — это место, как всегда, отмечено разбросанными шестами, обрывками брезента, разорванными и засыпанными снегом старыми палатками и другим мусором, оставленным предыдущими экспедициями, — и смотрит вперед, на 1000-футовую стену из льда и снега, ведущую к Северному седлу, которое соединяет Северный гребень Эвереста с южными гребнями Чангзе. Само слово «седло» предполагает понижение, но это самое высокое горное седло, какое мне приходилось видеть. Обессиленные шерпы сидят на камнях и тяжело дышат, а мы с Же-Ка смотрим в бинокль на гигантскую стену из снега и льда, вздымающуюся позади третьего лагеря. Я радуюсь, что рядом со мной только Жан-Клод и шерпы. Реджи сегодня во втором лагере, руководит второй группой шерпов, которые должны доставить грузы сюда, в третий лагерь, по маршруту через ледник, отмеченному Же-Ка бамбуковыми вешками. Дикон вместе с третьей группой «тигров» совершает челночные рейды от базового лагеря к лагерям I и II. — Дымоход Мэллори исчез, — говорит Жан-Клод и протягивает мне маленький полевой бинокль. Год назад Мэллори преодолел последние 200 футов стены, поднявшись в свободном стиле по ледяному камину до Северного седла, и именно в этой трещине в вертикальной стене льда спустили самодельную лестницу из веревок и деревянных планок, изготовленную Сэнди Ирвином, — ту самую, которой, как нам лгал Зигль, пользовались его спутники. По этой лестнице, несмотря на ее неважное состояние, также поднимались Реджи и Пасанг в августе прошлого года. Лестница позволила многочисленным носильщикам огромной прошлогодней экспедиции подняться на Северное седло без необходимости вырубать для них ступени. Теперь и сам ледяной камин, и лестница исчезли, затертые в складках постоянно перемещающейся ледяной стены и всего ледника. Последние 200 футов до карниза на Северном седле, где ставили палатки обе предыдущие экспедиции, снова представляли собой сплошную вертикальную поверхность скользкого льда. Более 800 метров снега и льда ниже ее выглядели не менее устрашающе. — Снежные поля подступили к самой ледяной стене, — говорю я между двумя судорожными вдохами. Этот непростой участок между вторым и третьим лагерями мы преодолевали без кислорода — последний участок без кислородных масок, если Дикон не отступит от первоначального плана, — и я понимаю, почему наши «тигры»-шерпы едва не падают от усталости. Они сидят, привалившись к своим рюкзакам, не в силах сбросить со спины тридцати- или сорокафунтовую поклажу. Жан-Клод снимает очки и, прищурившись, разглядывает ледяную стену. — Не заработай снежную слепоту, — предупреждаю я. Он качает головой, но продолжает разглядывать 1000-футовую стену из снега и льда, сощурившись и прикрывая глаза рукой. — Там больше свежего снега, чем на леднике, — наконец говорит он и надевает очки. — Наверное, так же плохо, как… Же-Ка умолкает, но я прекрасно знаю, о чем он думает, и могу закончить его мысль: «Наверное, так же плохо, как в 1922 году, когда лавина убила семерых шерпов». Точно ничего сказать нельзя, пока в третий лагерь не поднимется Дикон, но я предполагаю худшее. — Давай поднимем наших друзей, пока мы сами не легли рядом и не заснули последним сном. — Жан-Клод поворачивается и начинает убеждать четырех выбившихся из сил шерпов подняться на ноги. Они сгибаются под тяжестью груза. — Осталось всего несколько сотен ярдов, и отсюда дорога ведет под уклон, — говорит он им на английском, зная, что его шерпа Норбу и мой Бабу переведут остальным двум. Мы выходим из леса громадных ледяных пирамид у основания ледника и бредем к морене — сегодня у нас на ногах «кошки», с 10 зубьями у шерпов и 12 зубьями у нас с Же-Ка, и мы не снимаем их даже перед камнями морены. Я указываю на открытую площадку впереди нас, футах в 200 не доходя лагеря. — Должно быть, примерно здесь год назад Ками Чиринг столкнулся с Бруно Зиглем. Жан-Клод лишь кивает в ответ, и я вижу, что он очень устал.
Три мили подъема между базовым лагерем на Ронгбуке и первым лагерем — это переход через поперечные ложи морен, по полям из тонкого льда между сотнями ледяных пирамид кальгаспор. Три мили между первым и вторым лагерем представляют собой чередование морен и ледника, но большая часть пути пролегает вдоль «корыта», между ледяными пирамидами на дне долины. Однако почти все пять миль между вторым и третьим лагерями у основания стены — это еще более крутой ледник. И этот ледник прорезают сотни трещин, присыпанных свежим снегом. Два дня я шел за Же-Ка, который прокладывал путь между этими невидимыми трещинами, оставляя за собой след в глубоком снегу — большую часть времени Жан-Клод прокладывал тропу по колено или по пояс в снегу — и отмечая дорогу вешками, а на крутых участках и веревочными перилами. Оба дня были солнечными, и через мои очки снежные поля ледника кажутся просто лабиринтом из заструг, или снежных дюн, отбрасывающих повсюду голубые тени. Некоторые из этих голубых теней на самом деле тени. Но многие — расселины под тонким слоем снега, в которые можно провалиться, а затем пролететь несколько сотен футов в самую толщу ледника. Жан-Клод каким-то образом распознает, где какая тень. Между вторым и третьим лагерями нам дважды приходится переправляться через расселины в леднике, слишком длинные, чтобы их можно было обойти. В первый раз, вчера, Же-Ка в конце концов удалось найти снежный мост, который должен был выдержать наш вес. Жан-Клод прошел по нему первым, а я его страховал, глубоко вонзив ледоруб в лед; затем мы натянули на уровне пояса две прочные веревки с жумарами, которые при помощи карабинов пристегивались к новым обвязкам шерпов. На второй расселине снежных мостиков не оказалось, а попытка обойти ее с той или другой стороны завела нас в бесконечные поля других, засыпанных снегом трещин. В конечном итоге я соорудил страховку — одновременно меня страховали шерпы — с дополнительным ледорубом на краю расселины, чтобы веревка не прорезала снег. Жан-Клод с помощью двух новых коротких ледорубов и «кошек» с 12 зубьями спустился на 60 или 70 футов в устрашающую расселину, пока не добрался до места, где ледяные стены сближались и он мог сделать один широкий (для человека небольшого роста) шаг и вогнать правый ледоруб и передние зубья правой «кошки» в противоположную стену. Затем перекинул левую руку и левую ногу через расширяющуюся пропасть, дно которой терялось в полной темноте, ударил обоими передними зубьями в голубую стену льда и начал карабкаться вверх, по очереди вгоняя ледорубы в стену, один над другим. Когда Же-Ка выбрался наружу и встал на краю расселины, я бросил ему моток прочной веревки, а затем — два длинных ледоруба, которыми он закрепил веревки. После этого с помощью двух ледорубов и нескольких длинных ледобуров я закрепил концы веревок на нашей стороне расселины. На Же-Ка была одна из новых альпинистских обвязок, которые мы еще не испытывали в горах, и теперь он пристегнул карабины обвязки к жумару, перекинул ботинки с «кошками» через веревку и, перебирая руками, спиной к нам переместился по веревке на другую сторону бездонной расселины, словно ребенок на детской площадке. — Шерпы так не смогут с грузом за спиной, — выдохнул я, когда он отстегнул карабины и отошел от опасного края. Жан-Клод покачал головой. Он вел нашу группу, переправлялся через расселину, а отдышаться не мог я. — Наши славные парни оставят свой груз тут, и мы вернемся во второй лагерь. Наверное, девять носильщиков Реджи уже принесли во второй лагерь лестницы. Мы свяжем две десятифутовые лестницы, натянем веревочные перила, как на снежном мостике, и… voilà! — Voilà, — без особого воодушевления повторил я. Это был долгий, трудный и опасный подъем по леднику, но мы преодолели меньше двух третей пути в почти пять миль до третьего лагеря, а теперь придется возвращаться во второй лагерь за лестницей и веревками. Наши шерпы улыбались. Они весь день тащили тяжелые рюкзаки и теперь были рады сбросить с себя груз и спуститься по отмеченному вешками леднику. Дикон предупреждал нас, что все планы и расчеты предыдущих экспедиций, в том числе прошлогодней экспедиции Мэллори, шли прахом — грузы то и дело приходилось бросать на всем одиннадцатимильном пути через «корыто» к третьему лагерю и Северному седлу. Все военное планирование мира, сказал он, не в силах преодолеть неизбежный хаос из трещин и невероятной человеческой усталости. — Все равно нам нужны еще вешки, — сказал Жан-Клод. Это правда. Расселин так много, что проложенный по леднику маршрут совсем не похож на прямую линию длиной три с половиной мили, которые мы преодолели. Мы недооценили количество бамбуковых вешек, которые потребуются для точного обозначения пути для носильщиков — особенно если начнется метель. Но после полудня этого вторника, пятого мая, мы благополучно доставили поклажу в третий лагерь. Переправа через 15-футовую бездонную расселину по связанным деревянным лестницам с перилами из двух веревок на уровне пояса и с «кошками» на ботинках — такое мне совсем не хотелось повторять (хотя я знал, что придется, и не раз). Мы поставили нашу с Же-Ка маленькую палатку Мида и полусферическую «большую палатку Реджи», ожидая запланированного появления людей и грузов. Сегодня в ней могли спать четверо шерпов.
Мы планируем провести эту ночь здесь, ожидая вторую команду шерпов с Реджи и девятью шерпами с грузом, которые должны прибыть к полудню завтрашнего дня, а затем мы будем ждать дальше — и акклиматизироваться — в третьем лагере, пока еще через день, в четверг 7 мая, не прибудет Дикон с третьей группой шерпов. И только потом, согласно плану, еще через день акклиматизации кто-то из нас попытается подняться по 1000-футовому склону и стене на Северное седло. В основном, думаю я, потому, что Дикон не хочет, чтобы кто-то поднялся на Северное седло в его отсутствие — вероятно, он желает сделать это сам. Жуткая головная боль обрушивается на меня во вторник вечером, еще до наступления темноты. Голова у меня болела с тех пор, как мы достигли базового лагеря, далеко внизу, но теперь у меня такое чувство, что в череп мне на протяжении тридцати секунд вкручивают ледобур. Перед глазами у меня все плывет, появляются черные точки, и поле зрения сужается до туннеля. У меня никогда в жизни не было мигреней — насколько я помню, только два или три раза довольно сильно болела голова, — но ощущения просто ужасные. Не дав себе труда надеть пуховые штаны или куртку или натянуть перчатки с варежками, я на четвереньках выползаю из хлопающей палатки, отгребаю от того места, где мы поставили большую палатку, и меня рвет за ближайшим камнем. Головная боль вызывает новые спазмы даже после того, как мой желудок уже пуст. Через несколько секунд руки у меня начинают замерзать. С трудом, словно издалека, я осознаю, что ветер усилился настолько, что маленькая палатка Мида, в которой сидели на корточках мы с Же-Ка, хлопает и гремит, как белье, вывешенное сушиться во время урагана (я думал, что этот звук был только в моей пульсирующей болью голове). Во-вторых, ветер принес с собой жуткий холод и такую сильную метель, что я почти не вижу большую палатку в восьми футах от меня. В-третьих и в-последних, Жан-Клод надел пуховую куртку Финча, высунулся из клапана нашей палатки и кричит, чтобы я возвращался. — Не выходи наружу, Джейк, ради всего святого! — кричит он. — Потом мы выльем таз. Если останешься там еще на минуту, потом целый месяц будешь лечить обморожения! Я почти не слышу его за ревом ветра и хлопками брезента. Если бы моя голова не пульсировала болью, а внутренности не выворачивало наизнанку, я бы посчитал это предложение забавным. Но теперь мне не до веселья — у меня нет сил даже для того, чтобы заползти в нашу сотрясаемую ветром палатку. Я больше не вижу «большую палатку Реджи» с четырьмя шерпами, сгрудившимися в ней всего в восьми или девяти футах от меня, но слышу, как ее брезент борется с ветром. Между двумя палатками ощущение такое, что идет перестрелка между двумя пехотными батальонами. Затем я оказываюсь внутри, и Же-Ка растирает мои замерзшие руки и помогает мне забраться в спальный мешок. Мои зубы стучат так сильно, что я не могу говорить, но через минуту мне удается произнести: — Я у-у-у-умираю, а… м… мы… е… еще… даже не н… на… эт-той проклятой горе. Жан-Клод начинает смеяться. — Не думаю, что ты умираешь, mon ami. У тебя приличный приступ высотной болезни, которая не обошла и меня. Я качаю головой, пытаюсь говорить, терплю неудачу, но затем с трудом выдавливаю из себя одно слово: — Отек. Я буду не первым человеком, который умер от отека легких или мозга на подступах к горе при попытке покорить Эверест. Не могу представить, что еще может вызвать такую сильную головную боль и тошноту. Же-Ка сразу становится серьезным, достает из рюкзака электрический фонарик и несколько раз проводит лучом у меня перед глазами. — Пожалуй, нет, — наконец произносит он. — Думаю, это высотная болезнь, Джейк. В сочетании с сильнейшим солнечным ожогом, который ты получил в «корыте» и на леднике. Но мы вольем в тебя немного супа и чая, а там посмотрим. Вот только разогреть суп мы не можем. Примус — мы принесли большой, чтобы готовить на шестерых, — просто отказывается зажигаться. — Merde, — шепчет Жан-Клод. — Потерпи несколько минут, друг мой. — Он начинает ловко разбирать сложный механизм, продувая крошечные клапаны, проверяя маленькие детали и светя фонариком в узкие трубочки, как мой отец проверял дуло ружья после чистки. Наконец объявляет: — Все детали на месте и выглядят исправными, — и собирает примус с такой скоростью, которой позавидовал бы морской пехотинец, собирающий свою винтовку в полевых условиях. Но проклятая штуковина все равно не зажигается. — Плохое горючее? Говорить мне тяжело. Я свернулся калачиком в спальном мешке, и мой голос приглушен складками грубой ткани и пуха. От наблюдения за тем, как на жутком холоде Жан-Клод голыми руками делает такую тонкую работу, головная боль усиливается. Мне очень не хочется снова выползать наружу, если позывы к рвоте станут нестерпимыми, — но пока я лежу абсолютно неподвижно, подчиняясь волнам головной боли и спазмов в желудке, словно маленькая шлюпка в штормовом море. — Мы выпили почти всю воду из бутылок и фляжек во время долгого перехода из второго лагеря, — говорит Жан-Клод. — Можно продержаться много дней без пищи, но если мы не сможем растапливать снег для чая и питьевой воды, то у нас будут серьезные неприятности, застрянь мы тут на несколько дней. — Он натягивает верхний слой одежды. — Что значит «застрянем на несколько дней»? — с трудом выдавливаю я в покрытый инеем клапан своего спальника. — Реджи со своими носильщиками будет здесь завтра к полудню, а Дикон и его шерпы — до наступления темноты. Завтра в это же время тут будет настоящее столпотворение — еды, горючего и примусов хватит на целую армию. В эту секунду порыв ветра со скоростью не меньше ста миль в час обрушивается на северную сторону палатки, прорывается под брезентовый пол и силится поднять нас в воздух и унести, но Жан-Клод бросается на пол, раскинув руки и ноги в стороны. Примерно полсекунды сохраняется неустойчивое равновесие, и непонятно, взлетим мы или нет, но затем палатка с размаху опускается на место, а ее стенки начинают хлопать и трещать, издавая звук, похожий на ружейные залпы. Наверное, порвались несколько старательно завязанных креплений или вырвались колышки. А может, ветер просто сдул камни весом в полтонны, к которым мы для надежности привязали растяжки. — Боюсь, завтра они не придут. — Жан-Клод говорит громко, перекрикивая звук ружейной пальбы. — И до их появления мы должны найти способ растопить снег для чая и питьевой воды. А еще нам нужно проверить, как там шерпы в соседней палатке.
Снаружи кажется, что полусферическая «большая палатка Реджи» лучше выдерживает ветер, чем двускатная палатка Уимпера, но когда мы попадаем внутрь, то видим, что дела у четверых шерпов, делящих большую палатку, неважные. Мы с Жан-Клодом захватили с собой несколько банок замерзших консервов и притащили неисправный примус в слабой надежде, что кто-то из шерпов сумеет его починить. Снег врывается в палатку вслед за нами, и мы поспешно зашнуровываем клапан. Палатка освещена единственной свечой, короткой и толстой, которые индусы используют в религиозных обрядах. Свеча изготовлена из топленого масла, и запах от нее усиливает мою слегка утихшую тошноту. У четырех шерпов жалкий вид: Бабу Рита, Норбу Чеди, Анг Чири и Лакра Йишей грудой мокрых пуховиков Финча сбились в центре палатки. Двое наполовину скрыты пуховыми спальными мешками — тоже влажными, — а у двух других даже нет спальников. В палатке ни снаряжения, ни еды из их рюкзаков, ни даже запасных одеял, а все четверо, которых мы считали достойными звания «тигров», смотрят на нас растерянными взглядами, словно на своих спасителей. — Где еще два спальных мешка? — спрашивает Же-Ка. — Лакра оставил часть груза во втором лагере, — отвечает Чеди, стуча зубами. — Наши с ним спальные мешки и дополнительный пол для палатки… случайно, сахиб. — Merde! — вырывается у Жан-Клода. — Спальные мешки были самыми легкими в вашей поклаже. Вода у вас есть? — Нет, сахиб, — говорит мой персональный шерпа Бабу Рита. — Мы выпили всю воду из бутылок по дороге в этот лагерь. Мы думали, что вы уже растопили для нас немного воды. Же-Ка ставит упрямый примус в центр нашего тесного круга и объясняет, в чем проблема. Бабу и Норбу переводят для Анга Чири и Лакры Йишея. — Где еда? — спрашивает Жан-Клод. — Суп и консервы? — Мы не смогли добраться до рюкзаков, — говорит Норбу. — Слишком глубокий снег. — Глупости, — рявкает Жан-Клод. — Мы оставили груз в нескольких ярдах отсюда всего пару часов назад. Нужно выйти наружу, принести еду и рюкзаки и посмотреть, что нам может пригодиться. Кстати, там, случайно, нет второго примуса? — Нет, — в голосе Бабу проступает отчаяние. — Но я нес много банок с горючим для примуса. Жан-Клод качает головой. Я бы последовал его примеру, но у меня сильно болит голова. Маленькие банки с керосином бесполезны, если мы не починим примус. — Надевайте перчатки, рукавицы и ветровки «Шеклтон», — командует Же-Ка. — При таком снеге — и в такой темноте — мы там ничего не найдем, и поэтому нужно принести сюда рюкзаки и тюки с грузом. Снаружи действительно быстро темнеет, а метель ограничивает поле зрения двумя ярдами. Я размышляю, не следует ли нам действовать в связке, но тут сквозь завывание ветра слышится голос Жан-Клода, который кричит, чтобы Бабу и Анг держались друг за друга и за меня, а Норбу и Лакра не выпускали из виду друг друга и его. Мы ощупью бредем к тому месту, где, как нам кажется, шерпы оставили поклажу. Наши с Же-Ка рюкзаки и тюки с грузом лежат у входа в нашу палатку, прижатые большими камнями. Разумеется, они пусты, поскольку кроме небольшого запаса продуктов мы несли две тяжелые палатки, распорки и шесты для них, а также неисправный примус. Теперь наша жизнь зависит от того, что мы найдем в поклаже шерпов. Третий лагерь считался защищенным — по сравнению с четвертым лагерем на Северном седле, не говоря уже о лагерях на Северном и Северо-Восточном хребте выше по склону, — но ветер, дующий с 1000-футовой стены из снега и льда, настолько силен, что буквально сбивает меня с ног. Бабу Рита и Анг Чири падают в снег рядом со мной. Я ползаю на четвереньках, пытаясь нащупать их рюкзаки и тюки с поклажей среди сугробов, занесенных снегом камней и растущих снежных наносов у стенок палаток. — Нашел! — Голос Же-Ка едва слышен, но мы вместе с двумя шерпами ползем на звук. Каждый хватает часть груза, уже покрытого десятидюймовым слоем свежего снега, и тащит к большой палатке… но где же большая палатка? К счастью, Лакра Йишей не потушил свечу из топленого масла, которую шерпы поставили на полу — хотя глупо оставлять ее без присмотра в брезентовой палатке, где может легко возникнуть пожар, — и мы со стонами и проклятиями ползем на крошечный огонек. Внутри — под ветром и снегом разгрузить рюкзаки и тюки с поклажей просто невозможно — царит настоящий хаос. В палатку попало довольно много снега, и наши пуховые куртки и штаны (шерпы не надевали дополнительные штаны, подбитые пухом, которыми мы их снабдили), а также два расстеленных на полу спальных мешка покрыты белым слоем, который скоро растает от тепла наших тел. Чем сильнее намокает гусиный пух, тем меньше он действует, и в конце концов греет не лучше, чем холодная и мокрая фланель. Борясь с головокружением и тошнотой, я сворачиваюсь калачиком в самом сухом месте палатки; меня трясет, и с каждым движением головная боль только усиливается. Резкий запах керосина тоже не идет мне на пользу. Жан-Клод проверяет содержимое рюкзаков и тюков: еще несколько замерзших консервных банок и герметичные пакеты того, что в ВМС Великобритании с начала XIX века называли «переносным супом», но воды нет. И еще пять жестянок с керосином для примуса. Теперь у нас достаточно керосина, чтобы взорвать немецкий дот или прожечь дыру в ледяной стене Северного седла, но чертов примус не в состоянии его зажечь. Же-Ка очищает место в центре палатки и расстилает свою запасную шерстяную рубашку, так что получается рабочее место. Из своего рюкзака он достает фонарик, свет которого прибавляется к слабеющему голубоватому мерцанию крошечной лампы со свечой из топленого масла. Потом он снова устанавливает примус. У нас два больших котелка для кипячения воды, и у каждого есть собственная жестяная кружка. Же-Ка убеждается в том, что емкость для горючего на две трети заполнена свежим керосином, как и положено по инструкции, зажигает спирт в крошечной емкости под горелками, нагнетает давление и снова пытается поджечь горелки. Безрезультатно. Же-Ка разражается такими цветистыми ругательствами, что я понимаю лишь одно непристойное выражение из двадцати. Потом снова начинает разбирать проклятую железяку, стараясь не расплескать керосин и остатки спирта. — Как он может не работать? — Я лежу в позе эмбриона, и говорить мне мешает пульсирующая в голове боль. — Я… не… знаю, — отвечает Жан-Клод сквозь стиснутые зубы. Ветер с такой силой ударяет в стенку большой палатки, что мы вчетвером хватаемся за деревянные ребра купола, пытаясь удержать палатку собственным весом и иссякающей силой мышц. Когда мы были снаружи, Же-Ка вывесил свои защищенные стальной трубкой приборы и теперь шепотом сообщает мне результаты измерений: давление пугающе низкое и продолжает падать, а температура после захода солнца опустилась до минус тридцати восьми градусов по Фаренгейту. Для измерения скорости ветра в этой «защищенной» зоне у подножия Северного седла у нас есть только собственное тело, палатки и страхи, но этот ветер явно достигает ураганной силы. Скорость некоторых порывов не меньше ста миль в час. Я заставляю себя сесть и посмотреть на латунные детали разобранного примуса, слабо поблескивающие в неярком свете фонарика и одной почти погасшей масляной свечи. «На свете не существует устройства, более надежно защищенного от дурака, чем шведский примус одноименной фирмы», — думаю я. Дикон приобрел в основном новые модели 1925 года, но, за исключением некоторых усовершенствований для использования на больших высотах — часть этих доработок предложил некто Джордж Финч, — они практически не отличались от предыдущих моделей печек, выпускавшихся с 1892 года. Мы использовали наши примусы для приготовления пищи на всем маршруте через Сикким и Тибет. И все печки работали. Же-Ка снова подносит горелку к свету, желая убедиться, что она не засорилась, а я машинально перебираю остальные детали. Маленькое простое устройство — это модель 210 со стационарными ножками, год выпуска 1925-й. Процедура розжига такая же, как и у остальных примусов, которыми я столько лет пользовался в походах и в экспедициях в горы. Они всегда работали на любой высоте, на которую я забирался. Сначала нужно при помощи встроенного в резервуар для топлива насоса создать давление в этом резервуаре. При этом керосин поднимается по трубкам от резервуара к горелкам. Чтобы предварительно нагреть трубки горелок, необходимо зажечь небольшое количество метилового спирта в специальной чашечке, через которую проходит трубка горелки. Все это мы десятки раз проделывали сегодня днем и теперь, когда наступил вечер, — бесполезно. Когда трубка горелки нагревается до нужной температуры, через центральную форсунку в горелку поступают мелкие, почти невидимые капельки горячего топлива. Когда керосиновый пар смешивается с воздухом — даже разреженным воздухом Эвереста, — простой и прочный маленький пламегаситель примуса образует из этого газа кольцо. На самом деле в голубом кольце пламени примуса горит не керосин, а смесь воздуха с газом, образующимся из паров керосина. Шум, издаваемый круговой горелкой, всегда был довольно сильным, и поэтомуальпинисты и туристы прозвали примусы «ревунами». Но немного найдется на свете звуков, таких же приятных для слуха усталого альпиниста, как рев примуса, на котором растапливается снег для чая, греется суп или жаркое и который обычно согревает холодную палатку, примостившуюся высоко в горах на снегу или скале. А теперь… ничего. — Мы можем заварить чай или даже сварить суп на маленькой спиртовой горелке, — предлагаю я. — Или разогреть сардины. — Маленькие спиртовые горелки предназначены для высокогорных лагерей — в основном чтобы сделать горячий чай, — но их используют в качестве запасных в любом лагере. — Ни в одном из тюков не было спиртовой горелки, — говорит Жан-Клод. Мы обмениваемся виноватыми взглядами, и я понимаю, что нам обоим стыдно, что мы так плохо подготовили груз, шерпов и самих себя в нашем первом настоящем походе к горе. — Значит, остается примус, — заключаю я. Я тупо верчу в руках латунный резервуар, но не нахожу ни отверстий, ни трещин. Поскольку поврежденный резервуар должен протекать, в моих действиях нет никакого смысла. Словно загипнотизированный, я считаю языки, на которых сделана надпись на боку примуса. После окончания войны прошло только восемь лет, а эта шведская компания — В. A. Hjorth & Co., Стокгольм, как указано на шильдике, а также на рекламе принадлежностей для примуса (сосуд для спирта, с носиком, № 1745, набор игл для чистки, № 1050, и, разумеется, экран от ветра, № 1601), — продает свою печку как минимум в одиннадцати странах. В этой модели примуса «экраном от ветра» служит маленькая треугольная пластинка, но Же-Ка заслонял печку от ветра своим телом, наклоняясь над ней всякий раз, когда пытался разжечь ее, так что дело не в защите от ветра. Вообще-то пользоваться примусами следует не в палатке, а снаружи, но при штормовом ветре, прорывающемся даже внутрь, разжечь эту штуку нет никакой надежды. — Всё в порядке, — говорит Жан-Клод, проверяя каждую отсоединенную деталь: регулирующий пламя наконечник горелки, упорное кольцо горелки, пламегаситель, нитриловые уплотнители, свинцовую прокладку в самой горелке, кожаный манжет насоса. Он что-то шепчет себе под нос и с помощью немногочисленных инструментов, имеющихся в его распоряжении — отвертки, маленького гаечного ключа, нескольких проволочных зондов, — снова собирает печку и пытается разжечь. Ничего не выходит. — Не создается давление в резервуаре, — наконец заключает Жан-Клод. — Как это может быть? — удивляюсь я. Нужно накачать примус, и давление заставляет керосин подниматься по крошечным трубкам. У меня всегда получалось. Же-Ка качает головой. Тут раздается голос Норбу Чеди, тихий и почти виноватый: — На перевале Донгха Ла, задолго до Кампа-дзонга, Наванг Бура уронил свой тюк с крутого склона. Никто из сахибов не видел, потому что Наванг шел сзади, с последней партией мулов. Внутри был примус, который несколько раз ударился о большие камни внизу. Наванг Бура подобрал его и все остальное и снова уложил в тюк, не рассказав об этом случае ни доктору Пасангу, ни сахибу Дикону, ни леди Бромли. — Это было несколько недель назад, — замечаю я. — С тех пор мы должны были не раз пользоваться тем… этим примусом. — Не обязательно, — устало возражает Жан-Клод. — Обычно в каждом лагере мы разжигали одну и ту же печку. Этот примус мы взяли из резервных запасов, чтобы подниматься с ним на гору. Модель 1925 года, специально для больших высот. — Ты можешь его починить? Если мы застряли тут на несколько дней, от успеха Же-Ка может зависеть наша жизнь. Горячий чай и суп нам не повредят, но растопить снег, чтобы получить питьевую воду, — это необходимость. — Резервуар не протекает, — говорит Жан-Клод. — А насос я разбирал и проверял раз десять, и кожаный манжет тоже. Не вижу никакого дефекта или поломки. Эта штука просто… не работает… черт бы ее побрал. Мы все молчим, довольно долго, но тишина заполняется завыванием ветра, так что мы хватаем пол и стены палатки, чтобы она не улетела. — Сэнди Ирвин починил не один десяток вещей, соорудил веревочную лестницу на Северное седло и модернизировал весь кислородный аппарат, пока был в базовом лагере и выше, — бормочет Же-Ка. — А я — гид Шамони, сын кузнеца, изобретателя и промышленника — не в состоянии даже починить putain[48] примус во второй вечер выше базового лагеря. — Без примуса и спиртовой горелки какие еще есть способы добыть огонь и растопить немного воды или нагреть суп? — спрашиваю я. — У нас есть два котелка. У каждого оловянная кружка. Много спичек. Еще остался спирт. И куча керосина. — Если ты собираешься налить керосин в чашку, поджечь, а сверху поставить котелки — забудь об этом, Джейк, — отвечает Жан-Клод. — Сам керосин не горит так, чтобы что-нибудь нагреть. Для получения жаркого голубого пламени нужно… Внезапно Же-Ка замолкает и берет у меня латунный резервуар. Он уже снял насос, а теперь пытается отсоединить винт, которым я всегда ставил пламя на максимум в самом начале готовки и закручивал, чтобы выключить примус. — Проклятый прокачной винт, — говорит Жан-Клод. — Он каждый раз поворачивался, когда я его вращал, но у него сорвана резьба… и он не открывается и не пропускает керосин наверх. На самом деле эта чертова штуковина погнута, и резервуар не держит давление. Проклятый прокачной винт! Он берет гаечный ключ и плоскогубцы и принимается за винт, однако тот не хочет идти по резьбе. Потом его вообще заклинивает. Я вижу, как напрягаются мышцы на руках Жан-Клода, когда он пытается провернуть винт. Бесполезно. — Дай попробую. — Руки у меня гораздо больше, чем у Же-Ка, и я, наверное, сильнее гида Шамони, но и мне не удается сдвинуть винт — ни голыми руками, ни гаечным ключом, ни плоскогубцами. — Резьба окончательно сорвалась, а со сломанным прокачным винтом в резервуаре невозможно создать давление, — говорит Жан-Клод. Это звучит как смертный приговор. Остатки моего рационального мышления подсказывают, что без воды мы продержимся несколько дней, а без пищи — даже несколько недель; но мне кажется, что добытая из снега вода, а также немного супа могут значительно ослабить головную боль и другие мучительные симптомы высотной болезни. Тем временем стенки полусферической палатки пытаются избавиться от изогнутых деревянных шестов, удерживающих их на месте. Тонкий пол — шерпы не удосужились постелить дополнительный, более толстый и теплый, перед установкой палатки — приподнимается вместе с шестерыми людьми и тяжелым грузом из разбросанных продуктов и канистр с керосином. Я никогда не присутствовал при землетрясении, но, наверное, оно похоже вот на это. Только не так громко. Нам по-прежнему приходится кричать, чтобы услышать друг друга. — Мы с Джейком возвращаемся на ночь в свою палатку, — объясняет Жан-Клод Бабу и Норбу. — Тут слишком мало места, чтобы шесть человек могли вытянуться в полный рост. Попробуйте поспать — и скажите Ангу Чири и Лакре Йишею, чтобы не волновались. К утру буря может утихнуть, и тогда либо сюда придет леди Бромли-Монфор со своими шерпами, либо мы просто спустимся во второй лагерь. Мы не снимали ботинки и ветровки, и поэтому просто выползаем из палатки. Но Же-Ка останавливает меня и начинает передавать канистры с керосином. Кроме того, он забирает собранный, но неисправный примус. — Мы сложим канистры рядом с вашей палаткой, — кричит он Бабу Рите. Но вместо этого взмахом руки показывает, чтобы я перенес охапку маленьких канистр за дальний угол нашей просевшей палатки. Там он опускает свои канистры за камень, и я следую его примеру. — Самые ужасные травмы, которые мне приходилось видеть в горах, были следствием пожара в палатке. — Ему приходится наклониться к моему уху, чтобы я мог расслышать его голос за воем ветра. — Я не верю, что наши друзья не начнут экспериментировать с керосином, когда жажда станет слишком сильной. Я киваю, понимая, что в хорошую погоду риск подобных экспериментов — особенно если их проводить снаружи — мог быть оправдан. Но только не в палатке, которая непрерывно трясется и подпрыгивает. Наша маленькая палатка, семь на шесть футов, просела и имеет жалкий вид. Же-Ка поднимает палец, прося меня подождать снаружи, затем заглядывает в палатку и достает из своего рюкзака моток «волшебной веревки Дикона». Потом разрезает ее на куски разной длины, и мы привязываем терзаемую ветром палатку еще в нескольких местах. Здесь, на поперечной морене, длинные шесты абсолютно бесполезны, и поэтому мы протягиваем, словно паутину, дополнительные веревки к вмерзшим в морену камням, к валунам и даже к одной ледяной пирамиде. Я замерз и поэтому радуюсь, что мы наконец закончили натягивать веревки и можно заползти в низкую палатку. Мы забираемся в свои сухие спальники на гусином пуху и снимаем ботинки, но оставляем внутри спальных мешков, чтобы они не промерзли к утру. При такой температуре шнурки оставленных снаружи альпинистских ботинок порвутся при попытке завязать их утром. На мне по-прежнему пуховик Джорджа Финча, сшитые Реджи капюшон и штаны на гусином пуху, и поэтому согреваюсь я довольно быстро. — Вот, Джейк, положи это к себе в спальный мешок. — Же-Ка оставил включенным свой массивный фонарь, и я вижу, что он протягивает мне замерзшую консервную банку спагетти, банку поменьше с мясными отбивными, твердый кирпич «переносного супа» в резиновой оболочке и ту самую (я вижу вмятину) банку персиков, которой Реджи запустила в голову Дикона — это было сто лет назад, в субботу. — Ты шутишь, — говорю я. Интересно, как можно спать с этими замерзшими банками? — Вовсе нет, — отвечает Жан-Клод. — В моем мешке в два раза больше. Тепло нашего тела растопит — или по крайней мере размягчит — еду. В банке с персиками есть сироп, и утром мы поделимся им с четырьмя шерпами, чтобы — как это будет по-английски? — утолить жажду. «Давай откроем и выпьем прямо сейчас, вдвоем», — мелькает у меня в голове недостойная мысль. Но благородство побеждает. А также твердая уверенность, что в данный момент жидкость в банке с персиками замерзла и твердая, как кирпич. Же-Ка выключает фонарик, чтобы не разряжать батарейки, а затем произносит, подражая голосу Дикона: — Ну, какие уроки мы извлекли из сегодняшнего опыта, друзья мои? Ричард задает этот вопрос практически после каждого восхождения и после каждой проблемы, с которой мы сталкиваемся при подъеме. Жан-Клод с таким мастерством имитирует слегка нравоучительную оксфордскую интонацию Дикона, что я не могу сдержать смех — несмотря на боль, от которой раскалывается голова. — Думаю, нам следует внимательнее проверять содержимое рюкзаков и тюков, когда мы перемещаемся в верхний лагерь, — говорю я в гремящую тьму. — Oui. Что еще? — Тщательно следить, чтобы носильщики не оставили что-нибудь важное — например, спальный мешок товарища. — Oui. Что еще? — Наверное, иметь в каждом лагере, кроме «ревуна», еще и печку «Унна». Эти печки, которые мы привезли на Эверест, меньше и легче примусов и работают на твердом топливе; обычно их используют на больших высотах, чтобы минимизировать вес груза. Я не сомневаюсь, что в четвертом лагере Мэллори и Ирвина имелась печка «Унна». — Примусы практически не ломаются, — возражает Же-Ка. — Роберт Фолкон Скотт тащил печку девятьсот миль до Южного полюса и почти столько же назад. — Тебе известно, что случилось со Скоттом и его спутниками. Мы оба смеемся. И словно в ответ вой ветра, дующего с Северного седла, становится громче. Мне кажется, что наша маленькая двухместная палатка вот-вот разорвется на части, несмотря на паутину — а может, благодаря ей — дополнительных растяжек снаружи. Мы молчим, а потом я спрашиваю: — Думаешь, Реджи и шерпы с грузом будут здесь завтра к полудню? Жан-Клод молчит так долго, что мне начинает казаться, что он заснул. — Сомневаюсь, Джейк, — наконец отвечает он. — Если метель не утихнет и температура не поднимется, то будет настоящим безрассудством попытаться пройти эти три с половиной мили по леднику. Они же не знают, что у нас неисправный примус. Они думают, что у нас есть еда и вода, и… Как там у Марка Твена, мое любимое американское выражение? Ах да… присесть на корточки. Да, просто присаживаемся здесь на корточки и ждем, как и они. Думаю, что леди Бромли-Монфор благоразумно вернулась во второй лагерь при первых признаках метели. Это холодное, продуваемое ветрами место даже в самую лучшую погоду. Он прав. Второй лагерь считается приятным, потому что, в отличие от первого и третьего, расположен так, чтобы ловить максимум солнечных лучей, которые может дать небо Гималаев. Но теперь тут облачно, ветрено и жутко холодно. Единственное его достоинство — превосходный вид на гору Келлас, названную в честь врача, умершего во время разведывательной экспедиции 1921 года. — С теми перилами, которые мы установили, — с надеждой говорю я, — они могут подняться сюда из первого или даже базового лагеря за несколько часов. — Вряд ли, — возражает Жан-Клод. — Когда мы прокладывали путь сегодня утром, снегу было по колено. Теперь наших следов не найдешь — их сдуло или замело. Подозреваю, что к утру большую часть перил тоже засыплет снегом. Это очень сильная метель, друг мой. Если Реджи или Дикон попытаются сюда подняться, то они и носильщики будут… как это сказать?.. — В полном дерьме? — подсказываю я. — Non, копать ямы. По крайней мере тот участок пути от первого лагеря, где нужно сойти с морены и ступить на ледник. В такую метель, когда не видно ни следов, ни трещин, это тяжело и очень опасно. — Мы оставили бамбуковые вешки вдоль всего маршрута. — И по всей вероятности, — говорит Жан-Клод, — к утру многие из них сдует или занесет снегом. — Он снова имитирует речь Дикона с тягучим оксфордским акцентом. — И еще одно, что мы усвоили, друзья мои: по крайней мере каждый второй бамбуковый колышек или деревянная направляющая для веревки должны быть снабжены красным флажком. На этот раз я не смеюсь — слишком сильно болит голова. Кроме того, мне становится страшно. — Что мы будем делать, Жан-Клод, если буря продолжится и завтра? — Опыт подсказывает нам, что нужно оставаться здесь — присесть на корточки, — пока буря не утихнет, — говорит он, перекрикивая ружейные залпы трещащего по швам брезента палатки. — Но меня беспокоят шерпы, у которых нет спальных мешков. Они уже выглядят неважно. Надеюсь, их друзья не дадут им замерзнуть ночью. Но если это затянется больше чем на день, думаю, нужно попробовать спуститься во второй лагерь. — Но ты сказал, что там почти так же ветрено и холодно, как здесь, в третьем. — Там теперь есть не меньше шести палаток, Джейк. Велика вероятность, что в грузе, предназначенном для верхних лагерей, мы найдем продукты, как минимум один примус и одну печку «Унна» с запасом твердого топлива. — А, черт… все нормально, — бормочу я. Перевернувшись, ложусь на замерзшую банку каких-то консервов. Кроме того, я чувствую каждый камень морены под дном палатки — большая часть их врезается мне в позвоночник и почки. Когда мы ставили палатку, в этом месте, самом дальнем от возможной лавины, было достаточно снега, чтобы его слой под дном палатки принял форму тела. Теперь снег в основном на крыше палатки и по бокам. Я начинаю проваливаться в какое-то промежуточное состояние между бодрствованием и жалким подобием сна, когда слышу голос Жан-Клода: — Джейк? — Да? — Думаю, нам нужно подниматься прямо по ледяной стене, даже не приближаясь к склону, с которого в двадцать втором году сошла лавина. Здесь слишком много свежего снега. Это труднее, но я думаю, что мы должны идти прямо на девятисотфутовый склон, по пути устанавливая перила, а затем подняться по стене из голубого льда, где раньше был дымоход Мэллори. «Наверное, он шутит, — думаю я. — Или бредит вслух». — Ладно. — Oui, — говорит Же-Ка. — Я боялся, что ты захочешь пойти старым путем. Жан-Клод начинает посапывать. Секунд через десять засыпаю и я. Посреди ночи — потом мы выяснили, что было около трех часов, — меня будят ледяные иголки, впивающиеся в лицо, несмотря на то, что я с головой забрался в спальный мешок. И еще голос Жан-Клода сквозь усилившийся рев ветра. Ветер в конце концов порвал шов вдоль северной стенки нашей палатки — гарантирующей защиту от ветра палатки Мида — и порвал брезент в клочья. Буран обрушился на нас со всей своей силой. — Быстро! — кричит Жан-Клод. Фонарик освещает слепящий снежный вихрь, который нас разделяет. Же-Ка натягивает ботинки, одной рукой хватает рюкзак, другой фонарик и наполненный продуктами спальник, не переставая криком подгонять меня. Не зашнуровав ботинки, забыв надеть несколько слоев перчаток и варежек, с горящим от сорокаградусного мороза лицом, я беру в одну руку спальный мешок с банками консервов, в другую — почти пустой рюкзак и выбираюсь вслед за ним в снежный вихрь. Если «большую палатку Реджи» сдуло, это конец.
Четверг, 7 мая 1925 года — Пора собирать вещи и спускаться, — говорит Жан-Клод, когда после двух ужасных, бесконечных дней, когда мы были заперты в палатке, и еще более долгих бессонных ночей в третьем лагере небо немного светлеет. Я подношу руки к лицу, с которого клоками отслаивается кожа, и думаю: «Может, уходить уже поздно». У нас в рюкзаках нет зеркал. — Скажи мне честно, Жан-Клод… это проказа? — Солнечный ожог, — отвечает Же-Ка. — Но вид у тебя действительно неважный, друг мой. Обожженная кожа сходит красными и белыми полосами, а губы и щеки под ней почти синие — правильнее сказать, синюшные — от недостатка кислорода. — Красный, белый и синий, — говорю я. — Боже, храни Америку. — Или Vive la France,[49] — прибавляет Жан-Клод, но не смеется. Я замечаю, что у него и трех шерпов, за исключением Бабу, тоже синюшные губы, лица и ладони. Вчера на завтрак, обед и ужин я пытался сосать замороженную картошку и бобы в форме консервной банки. У них был вкус керосина, как и у всего остального, что шерпы несли в своих тюках. Мне пришлось выползти наружу, поскольку рвотные спазмы стали нестерпимыми, и с тех пор я не пытался что-нибудь есть. (Нам удалось согреть банку персиков, так что каждый из шестерых получил по одному крошечному глотку ледяного персикового сока. Дразнящий намек на жидкость был даже хуже, чем ее полное отсутствие.) Я замерзаю. В первую ночь мы с Же-Ка предположили, что Анг Чири и Лакра Йишей смогут втиснуться в спальный мешок с одним из двух других шерпов — спальники предназначались для мужчины-европейца, а не для маленького шерпы, — но у них ничего не вышло. Эти спальники пошиты в виде кокона, без пуговиц или молнии, и поэтому их невозможно развернуть и расстелить один сверху, а другой — снизу, как одеяла на гагачьем пуху. Поэтому в первую ночь Анг Чири пытался спать в одной верхней одежде из шерсти, поскольку шерпы не захотели надеть «мишленовские» пуховики Финча, в которые влезли мы с Же-Ка (и были вынуждены провести в них первый жаркий день в «корыте» и на леднике, где я заработал жуткий солнечный ожог). В результате Анг Чири и Лакра Йишей обморозили ступни и пальцы на ногах. Говорящий по-английски шерпа Же-Ка, Норбу Чеди, так страдал от недостатка кислорода, что обе ночи спал, не пряча лицо в складки спального мешка; результатом стали белые пятна обморожения на его щеках. Поэтому прошлой ночью мы с Жан-Клодом отдали свои пуховые куртки и штаны Ангу Чири и Лакре Йишею, и я до утра не сомкнул глаз. Под новой одеждой, подбитой пухом, у меня была только шерстяная норфолкская куртка, как у Мэллори, шерстяные бриджи и носки, и теперь меня не мог согреть даже пуховый спальник. Заснуть я не мог сначала из-за плохого самочувствия, а потом сон окончательно прогнал сильный холод или ощущение, что меня кто-то душит. Или то и другое вместе. От движения мне становится лучше — я натягиваю ботинки и прячу в рюкзак высокие фетровые «шлепанцы». Но каждое движение отнимает у меня силы, и я вынужден делать паузы, хватая ртом воздух. Я вижу, что Жан-Клод с не меньшими усилиями пытается завязать замерзшие шнурки. Шерпы движутся еще медленнее и с большим трудом, чем мы с Же-Ка. Но в конечном счете все собрали рюкзаки, обули ботинки и «кошки», оделись — мы с Жан-Клодом вернули себе куртки Финча, — после чего Же-Ка произносит фразу, от которой у меня вырывается стон, а у шерпов просто опускаются руки. — Нужно упаковать палатку вместе с ребрами и полом. — Зачем? — жалобно спрашиваю я. Экспериментальная «большая палатка Реджи» выдержала два дня и две ночи шквального ветра, но беда в том, что эта проклятая штука тяжелая. Я нес наверх только часть палатки, но ее вес буквально придавливал меня к земле. Мне казалось, что теперь все зависит от того, сможем ли мы быстро спуститься во второй лагерь. «Оставим эту чертову палатку здесь, для следующей группы „тигров“», — подумал я, но промолчал. — Она может нам пригодиться в качестве укрытия на леднике, — объясняет Жан-Клод. Я подавляю стон. Бивуак на открытом леднике кажется мне равносильным смерти. Но если по каким-то причинам мы будем вынуждены остановиться… Осознав, что Же-Ка прав, я говорю Бабу Рите: — Вы слышали, парни. Ты с Ангом Чири начинаете разбирать каркас. Норбу, ты и Лакра выходите наружу, выдергиваете все колышки и отвязываете все растяжки. Не режьте их без необходимости — и только рядом с узлом. Веревки оставьте на месте. Если придется ставить палатку на леднике, вряд ли у нас хватит сил продевать новые веревки. Кроме того, там не будет удобных скал и булыжников.
Странное чувство — снова стоять снаружи палатки с рюкзаком за плечами. Ветер еще не утих, а метель такая же сильная, как и два минувших дня и две ночи, но хитрое приспособление Жан-Клода, комбинация барометра-анероида и термометра, показывает подъем давления — вместе с температурой, которая достигает десяти градусов по Фаренгейту. — Хороша для «кошек» на снегу ледника, — кричит мне в ухо Же-Ка, перекрикивая рев ветра.
Ничего хорошего. Мы с Же-Ка удивлены тонким слоем свежего снега на леднике — всего около двух футов, а не четыре или пять, которых мы боялись после сильной трехдневной метели, но наст недостаточно прочный, и мы через каждые десять шагов проваливаемся по колено или по пояс. Тем не менее никто из нас не падает. Мы спускаемся по леднику, как шесть слепцов, разбитых параличом. Мы решили идти в связке, используя необыкновенно дорогую «волшебную веревку Дикона», которую он специально разработал (на деньги леди Бромли) для нашей экспедиции. При подъеме для таких целей, как направляющие на леднике, мы использовали стандартную хлопковую веревку толщиной в три восьмых дюйма — мысленно я называл ее «веревкой Мэллори — Ирвина», поскольку они пользовались ею на этой горе, — но для вертикальных перил и для организации связки в опасных ситуациях Дикон настаивал на новой веревке из смеси хлопка, пеньки, конопли и других материалов. Веревка получилась толще — пять восьмых вместо трех восьмых дюйма, что много лет считалось стандартом в альпинизме, — и поэтому тяжелее; кроме того, на ней было и труднее быстро завязывать узлы. Но связи Дикона в Альпийском клубе помогли ему найти коммерческую фирму в Бирмингеме, которая занималась испытаниями веревок. Стандартная веревка толщиной в три восьмых дюйма, даже новая и не истрепанная, рвалась при нагрузке 500 фунтов. На первый взгляд это много, но при свободном падении мужчины средней комплекции, скажем, с 30-футовой страховкой, его масса и набранная после 60-футового падения скорость почти наверняка приведут к обрыву стандартной веревки толщиной три восьмых дюйма. — Думаю, мы используем эту чертову веревку скорее в качестве средства самовнушения, чем как реальную меру предосторожности, — заметил Дикон. Такая низкая прочность на разрыв, говорил нам Дикон минувшей зимой, когда мы испытывали новую веревку в Уэльсе, стала причиной гибели — как в Гималаях, так и в Альпах — многих альпинистов, которые шли вниз по крутым склонам, вместо того чтобы спуститься по веревке, обеспечивавшей безопасность. Новая веревка «с комбинированными волокнами», как предпочитал называть ее Дикон, выдерживала нагрузку до 1100 фунтов, прежде чем порваться. Это не удовлетворило Ричарда — он мечтал о более прочной веревке, вроде нейлоновой веревки будущего, с прочностью на разрыв 5000 фунтов, не зная, как изготовить ее из материалов, доступных в 1924–1925 годах, — но было явно лучше, чем у хлопковой веревки толщиной три восьмых дюйма («бельевой», как называл ее Дикон), которой пользовались Мэллори и Ирвин в последний день своей жизни. Однако даже с этой новой, усовершенствованной веревкой нам с Же-Ка пришлось поломать голову над порядком нашего спуска. Очевидно, что Жан-Клод пойдет первым, но кто за ним? Из пятерых оставшихся Анг Чири и Лакра Йишей с трудом стоят и ковыляют на обмороженных и опухших ногах — они даже не смогли зашнуровать свои ботинки, и нам с Же-Ка самим пришлось надевать им «кошки», — и поэтому они не в состоянии обеспечить страховку, если Жан-Клод вдруг провалится в невидимую расселину. И ни я, ни «волшебная веревка Дикона» не выдержим веса трех падающих мужчин, независимо от того, насколько быстро мне удастся воткнуть ледоруб в снежный покров ледника. Поэтому мы решились на компромисс. Первым идет Же-Ка, за ним Бабу Рита — самый здоровый из шерпов в тот ужасный день, — затем я (в слабой надежде, что смогу подстраховать двух человек), после меня Анг и Лакра, держась друг за друга, а замыкающим у нас будет Норбу Чеди, с отмороженными щеками и всем прочим. Теоретически я могу подстраховать Анга и Лакру, если один из них или оба провалятся в трещину позади меня. Не вызывает сомнений, по крайней мере у нас с Жан-Клодом, что, если Норбу Чеди придется страховать большую часть группы или всех, шансов у нас никаких. Мы удаляемся от быстро исчезающих за пеленой снега остатков третьего лагеря — сначала вверх, а затем вниз, на ледник Восточный Ронгбук, и начинаем спуск по его неожиданно крутому склону. Я не понимаю, как среди этой непрекращающейся ни на минуту метели Жан-Клод находит дорогу и умудряется обходить сотни трещин, которые он отметил во время подъема при солнечном свете два дня назад. Большую часть наших бамбуковых вешек либо сдуло, либо замело, но Же-Ка время от времени вытаскивает из снега одну из них, показывая всем нам, что мы не сбились с пути. Я не верю в сверхъестественное, однако всегда — после того дня — буду настаивать, что Жан-Клод Клэру обладал необычным, но более чем реальным шестым чувством, которое позволяло ему находить трещины, невидимые даже в солнечный день, когда помогают тени, не говоря уже об этой слепящей метели. Несколько раз он поднимает руку, останавливая нас, потом поворачивается, возвращается по своим быстро исчезающим следам и ведет всех назад, в обход трещин, которые время от времени становятся различимыми для остальных, но в основном невидимы для всех, кроме Жан-Клода. После нескольких мучительно медленных часов в лагере, когда мы одеваемся, завязываем шнурки, надеваем «кошки», пакуем палатку и другие грузы (большую часть несет Же-Ка), мы еще несколько часов спускаемся по леднику, с остановками и возвращениями, пока не подходим к лестнице, перекинутой через расселину — во вторник от третьего лагеря ее отделяло меньше часа пути. Жан-Клод поднимает белую от снега руку, и мы останавливаемся, а затем медленно подходим к нему. 15-футовая лестница, связанная из двух коротких, сдвинулась с места. — Merde, — говорит Же-Ка. — Точно. Снегопад по-прежнему такой сильный, что с трудом удается разглядеть дальний конец соскользнувшей лестницы всего в 15 футах от нас, но через несколько минут, когда снег становится чуть реже, мы понимаем, что случилось. На дальнем, южном краю расселины имеется уступ — словно колонна льда, поддерживавшая дальнюю стенку; теперь он опустился футов на шесть. Одна наша растяжка из «волшебной веревки Дикона» отсутствует, а другая — левая, если смотреть на юг, — провисла под весом снега и льда; скорее всего, ослабли держащие ее ледобуры и колышек с проушиной. Мы оставили две обвязки для тяжело нагруженных носильщиков, которые должны были проследовать за нами в среду — чтобы они пристегивали карабин своей обвязки к одной из веревок во время прохода по шаткой лестнице, — но обвязок теперь не видно. Они либо занесены снегом, либо упали в широкую трещину. Мы отвязываемся от общей веревки, и Бабу Рита снова привязывает ее — теперь он ведущий в связке из четырех шерпов. Мы с Жан-Клодом образуем вторую связку, и он опускается на четвереньки, чтобы поближе подползти к лестнице и краю расселины. Я беру у Анга Чири и Норбу Чеди длинные ледорубы, и мы с Же-Ка как можно глубже вгоняем их в снег и твердый лед и привязываем Жан-Клода куском «волшебной веревки» длиной футов 30, чтобы ледорубы послужили первичной страховочной системой, если он упадет. Я машу рукой Ангу и Норбу, чтобы те встали на ледорубы, придавив их своим весом. Потом беру длинный ледоруб Лакры Йишея и кладу на край расселины, глубоко вонзив изогнутый клюв в лед. Если Же-Ка упадет, то веревка от точки страховки и моя веревка должны опираться на гладкое дерево рукоятки ледоруба, а не врезаться в край расселины. Бабу Рита вонзает свой ледоруб позади нас и накидывает на него веревочную петлю — на случай, если снег провалится под Ангом, Норбу и Лакрой. Теперь он их страхует. После этого я как можно глубже втыкаю стальной клюв своего ледоруба в снег — тут слишком много снежной крупы, чтобы он надежно закрепился, — и отхожу от края расселины, разматывая 30 футов веревки, которые я оставил между собой и Жан-Клодом. Он начинает ползти по наклонной лестнице. Я напрягаюсь, приготовившись к внезапному рывку, если Же-Ка сорвется. У Жан-Клода свободна только одна рука, которой он хватается за лестницу впереди себя; в другой руке у него короткий ледовый молоток, которым он на ходу сбивает лед с деревянных ступенек и веревок. Же-Ка не снял нагруженный рюкзак. Мы поняли друг друга без слов — если лестница выдержит, шерпы тоже должны преодолеть расселину с грузом за спиной. В этом ледяном мире с постоянно падающей температурой и непрекращающейся метелью потребуется слишком много времени, чтобы переправить груз вручную. Так что либо пан, либо пропал. Примерно посередине, когда ноги и ягодицы Же-Ка находятся выше головы, поскольку он ползет вниз, лестница опускается еще дюймов на шесть в снежной нише на противоположной стороне, и я снова напрягаюсь, готовясь к сильному рывку. Но ничего не происходит. Новый уступ из снега и льда на противоположной стороне расселины держится достаточно долго, и Жан-Клод успевает доползти до конца. Потом он — удивив меня — встает на краю лестницы и вбивает ледобуры в голубую ледяную стенку маленького желоба, к которому он полз. Берет два куска веревки Дикона, привязывает к ледобурам, а противоположные концы обматывает вокруг двух сторон лестницы, пока веревки не натягиваются. Не очень надежно, но это лишь начало. Теперь я почти не вижу Жан-Клода за густой снежной пеленой, но слышу, как он тяжело дышит, вытаскивая из рюкзака ледоруб и погружая его в снег и лед метрах в десяти позади расселины. Он привязывает длинные куски веревки к этому новому ледовому якорю и — просто невероятно — снова заползает на лестницу и привязывает концы веревок к ее средней части. Я бросаю ему еще два конца веревок, которые привязал к своим ледяным якорям, и он продвигается еще дальше, чтобы прикрепить их к краю лестницы. Затем, вместо того чтобы вылезти на нашей стороне расселины, еще раз медленно пересекает пропасть по лестнице, «кошками» вперед. Встав на желоб, Жан-Клод ледовым молотком и рукавицами счищает снег, чтобы носильщикам было легче встать и пройти восемь футов вверх по неровному уступу к самому леднику. Затем он бросает свою страховочную веревку и последнюю бухту «волшебной веревки Дикона» через расселину и отходит назад, чтобы привязать их концы к своему ледяному якорю, и приготавливается страховать. Наблюдая, как мой друг проделывает все это на высоте более 20 000 футов, я сам начинаю тяжело дышать. — Все в порядке, — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. — Первый — Лакра. Бабу, ты страхуешь двух остальных, пока я буду привязывать страховочные концы, свой и сахиба Клэру, к Лакре. И пожалуйста, объясните ему и остальным, чтобы они ползли к лестнице на четвереньках — вместе с грузом, прошу вас, — и двигались медленно. Скажи им, что опасности нет. Даже если лестница сорвется, что невозможно с новыми растяжками, мы с сахибом Клэру вас подстрахуем. Всё в порядке… Лакра первый… Несколько секунд объятый ужасом шерпа не двигается, и я понимаю, что придется иметь дело с бунтом. Но в конце концов после моей бурной жестикуляции и криков на непальском от Бабу Риты Лакра медленно ползет вперед, заползает на лестницу, пытаясь ставить колени на покрытые льдом ступеньки лестницы и по очереди перемещая руки в варежках. Это длится бесконечно, но наконец Лакра переползает на ту сторону, и Жан-Клод его отвязывает. Шерпа с отмороженными ногами хихикает и смеется, словно ребенок. «Остались четверо», — устало думаю я. Но улыбаюсь и машу Ангу Чири, чтобы он опустился на колени и полз вперед, чтобы я привязал к нему обе веревки. Еще через сто лет, когда все шерпы собрались на той стороне и образовали связку, чтобы идти дальше, я с трудом вытаскиваю изо льда три ледоруба и изо всех сил бросаю на ту сторону расселины. Же-Ка подбирает все три. Меня страхует только Жан-Клод, но вторая веревка, которую он мне бросает, привязана к его ледорубу, который по-прежнему служит ледовым якорем. Я обвязываюсь свободным концом «волшебной веревки» и навязываю петлю Прусика для ног — на случай, если лестница уйдет у меня из-под ног. Для альпиниста гораздо лучше свалиться в расселину с узлом Прусика, который позволит самостоятельно подняться по веревке и выбраться наружу — навязывая маленькие петли, похожие на стремена, — чем ждать, когда один или несколько человек на другой стороне вытащат его с помощью грубой силы. Переползая по лестнице, я делаю ошибку — смотрю вниз, в заснеженную сине-черную бездну. Пропасть под шаткой обледенелой наклонной лестницей выглядит в буквальном смысле бездонной. Наклон лестницы, когда на ней находишься, кажется еще круче. Я чувствую, как кровь приливает к голове. Наконец я на той стороне, и заботливые руки помогают мне встать. Присоединяясь к общей связке, я оглядываюсь назад на паутину веревок и импровизированного моста из лестниц, который мы только что переползли, и смеюсь, как недавно смеялся Лакра Йишей, когда усталость смешивается с радостью просто от того, что ты жив. День близится к вечеру, а идти еще далеко. Жан-Клод идет первым, а я становлюсь в связку третьим, вслед за Бабу Ритой, как и прежде, и мы продолжаем медленный спуск по леднику сквозь непрекращающуюся метель. Я вижу, что Анг Чири и Лакра ковыляют, не чувствуя обмороженных ног, словно на деревянных протезах. Наверно, мне никогда не понять, как Жан-Клод не сбивается с пути. Мы спускаемся ниже и снова оказываемся среди нависающих громад ледяных пирамид. Здесь меньше свежего снега и чаще попадаются бамбуковые вешки, похожие на быстрые и небрежные чернильные штрихи на белоснежном листе бумаги. Этим серым днем не видно границы между снегом и небом, и громадные пирамиды изо льда внезапно возникают впереди и с обеих сторон, словно закутанные в белые саваны призраки гигантов. Затем мы добираемся до последнего препятствия между нами и вторым лагерем со свежей питьевой водой, теплым супом и настоящей едой — последней расселины меньше чем в полумиле от лагеря, расселины с широким и толстым снежным мостом и веревочными растяжками, чтобы пристегиваться и чувствовать себя в безопасности, когда идешь по мосту. Обе растяжки на месте, только провисли под весом намерзшего льда. А вот снежный мост исчез, провалился в широкую расселину. Мы с Жан-Клодом сверяем часы. Половина пятого вечера, даже больше. Минут через сорок пять ледник окажется в тени гребней Эвереста и начнет темнеть. Снег и температура продолжают падать. Во время подъема мы прошли примерно полмили в каждую сторону, прежде чем решили, что лучше переправиться через расселину по снежному мосту. Если мы снова попытаемся обойти препятствие, то бамбуковых вешек между засыпанными снегом трещинами во льду там уже не будет. Нужно ждать утра и — если Господь нас пожалеет — улучшения погоды. Мы смотрим друг другу в глаза, и Жан-Клод громким голосом командует Бабу и Норбу: — Груз сбрасываем там, в тридцати футах от расщелины. Палатку ставим здесь. — Он втыкает в снег свой ледоруб метрах в десяти от края ледяной пропасти. Носильщики медлят, не в силах смириться с мыслью, что придется провести еще одну ночь на леднике. — Быстро! Vite! Пока не стемнело и ветер снова не усилился. — Же-Ка с такой силой хлопает варежками, что эхо возвращается к нам ружейным выстрелом. Громкий звук выводит шерпов из оцепенения, и мы принимаемся за работу: достаем оба пола палатки, ставим саму палатку и вбиваем как можно больше самодельных кольев и ледобуров для растяжек. Я понимаю, что, если ветер будет таким же сильным, как в две предыдущие ночи, шансы на то, что наша палатка — вместе с нами — уцелеет, крайне малы. Я могу представить «большую палатку Реджи» и нас шестерых, набившихся внутрь, пытающихся удержать палатку сквозь брезентовый пол, когда ураганный ветер несет нас, палатку и все остальное по льду, как хоккейную шайбу, пока мы не падаем в эту бездонную расселину. Через час мы уже внутри, прижимаемся друг к другу, чтобы согреться. Мы не пытаемся что-нибудь съесть. Жажда настолько ужасна, что я не могу ее описать. Все шестеро кашляют тем высокогорным кашлем, который Же-Ка называл «лаем шакала». Когда мой друг второй раз повторяет эту фразу, я спрашиваю, слышал ли он, как лает настоящий шакал. — Всю прошлую ночь, — отвечает он. В эту ночь мы с Жан-Клодом отдали Ангу и Лакре наши пуховые спальники, а сами остались в пуховиках Финча и сшитых Реджи брюках, подбитых гусиным пухом, и натянули на себя тонкие одеяла. В качестве подушки я приспосабливаю ботинки и ветровку. Мы с Же-Ка выбились из сил, но из-за холода и тревоги даже не притворяемся, что спим. Пытаемся прижаться друг к другу, но дрожь и клацанье зубов только ухудшают дело. Возможно, наши тела просто перестали вырабатывать тепло. «Это означало бы, что вы оба мертвы, Джейк». Мне не нравится голос, который звучит у меня в голове. Как будто он сдался. — Ут-т-тром, — шепчет Жан-Клод, когда наступает полная темнота и ветер усиливается, — я переправлюсь по одной из веревок, зацепившись руками и ногами, с-с-спущусь во второй лагерь и приведу кого-нибудь с собой, с лестницами, едой и водой. — Звучит… неплохо. — Я пытаюсь унять стук зубов. — Или я могу попробовать сделать это сегодня, Жан-Клод. Взять с собой ручной фонарик… — Нет, — шепчет он. — Я не в-в-верю, что веревка в-в-выдержит твой в-вес. Я легче. Слишком у-у-устал, чтобы страховать сегодня. У-утром. Мы прижимаемся друг к другу и притворяемся, что спим. Ветер усилился, и хлопки брезента снова напоминают пулеметные очереди. Мне кажется, что вся палатка ползет на юг, к трещине, но я слишком устал и обезвожен, чтобы что-то предпринимать, и остаюсь на месте, свернувшись калачиком, стиснутый другими телами. У медленного дыхания Жан-Клода есть неприятная особенность: оно словно прекращается на долгие минуты — ни звука, ни вдоха, ни выдоха — пока я не трясу моего друга, возвращая ему некое подобие дыхания. Это продолжается до глубокой ночи. Зато у меня есть причина не спать в этой холодной тьме. Каждый раз, когда я трясу Жан-Клода и возвращаю его к жизни, он шепчет: «Спасибо, Джейк», — и его неровное, полубессознательное дыхание возобновляется. Похоже на дежурство у постели умирающего. Внезапно я сажусь и выпрямляюсь. Должно быть, случилось что-то ужасное. В почти полной темноте до меня доносятся судорожные вдохи Же-Ка и всех остальных, в том числе и мои собственные, но что-то важное отсутствует. Ветер стих. Впервые за сорок восемь часов я не слышу его воя. Жан-Клод уже сидит рядом со мной, и мы трясем друг друга за плечи в каком-то подобии торжества — или просто в истерике. Я шарю рукой вокруг себя, нащупываю фонарик и направляю его луч на свои часы. Три двадцать утра. — Я должен попробовать перебраться по веревке прямо сейчас, — хрипит Же-Ка. — К рассвету у меня могут кончиться силы. Ответить я не успеваю. От входа в палатку — мы научились не зашнуровывать ее наглухо, иначе дышать еще труднее — доносятся звуки, словно кто-то скребется и рвет брезент, и мне кажется, что внутрь врывается яркий свет. Наверное, это галлюцинация. Вдруг становятся отчетливо видны черные и белые пятна на обмороженных щеках Норбу Чеди. Что-то большое и сильное рвется в палатку. В проеме появляются головы Дикона и леди Бромли-Монфор. Я вижу фонари в защищенных рукавицами руках, а за их спинами еще свет — головные фонари, несколько штук. На них самих тоже головные уборы валлийских шахтеров, лучи которых освещают жалкую внутренность палатки, усыпанную ледяной пылью, и наши удивленные лица. — Как? — Это все, что я могу из себя выдавить. Дикон улыбается. — Мы приготовились выступить, как только утихнет метель. Должен признать, что эти шахтерские лампы работают вполне прилично… — Не прилично, а хорошо, — поправляет Реджи. — Но как вы переправились через… — начинает Жан-Клод. — Ледник постоянно движется, — говорит Дикон. — Метрах в шестистах — примерно полмили — к западу обе стенки обрушились, и образовалось неглубокое дно из осколков льда. Около ста пятидесяти футов вниз, затем столько же вверх — по наклонной плоскости. Ничего особенно сложного. Мы оставили несколько перил. Потеснитесь, джентльмены, мы заходим. Кроме Дикона и Реджи, которые заползают внутрь, так что в палатке становится тесно, к нам присоединяется доктор Пасанг. Он опускается на колени и достает из рюкзака свою аптечку. Шерпы остаются снаружи и садятся на корточки у входа, не выключая головных ламп — в ярком свете как минимум трех фонарей они с улыбками передают нам термосы с теплой говяжьей пастой «Борвил», чаем и супом. В большом термосе — вода, которую все мы жадно пьем. Доктор Пасанг уже осматривает лицо Норбу и обмороженные ноги Лакры и Анга. — Этих двоих понесут Тейбир и Нийма Тсеринг, — говорит Пасанг, потом начинает втирать пахучий китовый жир в почерневшие ноги двух шерпов и в лицо Норбу. — Мы идем прямо сейчас? — Мне трудно говорить. Я не уверен, что смогу встать, но вода немного восстановила жизненные силы, которые, казалось, совсем подходили к концу. — А почему бы и нет, — отвечает Дикон. — Каждому будет помогать шерпа. Мы также захватили для вас головные лампы. Даже с учетом — как там говорят у вас в Америке, Джейк? — с учетом окольного пути до новой переправы через расселину дорога до второго лагеря займет не больше сорока пяти минут. Мы отметили маршрут вешками. — Давайте, Джейк, я помогу вам встать, — говорит Реджи и кладет мою руку себе на плечи. Она поднимает двухсотфунтового меня, словно ребенка, и практически вытаскивает меня в темноту ночи. Звезды на небе необычайно яркие. Ни намека на облака или снег, если не считать белый клубящийся султан над вершинами и хребтами Эвереста всего в трех милях от нас — и в 10 000 футах над нами. Жан-Клод, которому помогают выйти из палатки, тоже смотрит на сверкающую россыпь звезд и на Эверест. — Nous у reviendrons, — говорит он горе. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, моего французского достаточно, чтобы понять смысл: «Мы вернемся».
Суббота, 9 мая 1925 года Жара несусветная. В двухместной палатке Мида, где мы с Жан-Клодом спали минувшей ночью после того, как нас отпустили из «лазарета» в базовом лагере, буквально нечем дышать, и хотя брезентовый клапан палатки расшнурован и распахнут настежь, у меня такое ощущение, что я погребен в песках Сахары, в пропитанном запахом нагретого брезента саване. Мы с Же-Ка разделись до белья, но все равно обливаемся потом. По неровной площадке, засыпанной камнями морены, к нам приближается Дикон.
Вчера утром, еще до рассвета, когда нам на выручку пришли Дикон, Реджи, Пасанг и остальные, нас отвели во второй лагерь, где мы с Жан-Клодом непрерывно пили воду, кружку за кружкой. Я думал, что нас оставят во втором лагере, а Анга Чири и Лакру Йишея спустят в базовый лагерь, и Пасанг займется лечением их обмороженных ног в медицинской палатке, или «лазарете», которую он там установил, но Дикон настоял, чтобы все — в том числе Норбу Чеди, почерневшие щеки которого теперь были обильно смазаны китовым жиром и колесной мазью, — вернулись в базовый лагерь. Мы с Жан-Клодом, выпив столько воды и потом еще горячий суп, в состоянии пройти вниз по «корыту» с Пасангом и несколькими шерпами, но Анга Чири приходится нести на импровизированных носилках, а Лакра Йишей опирается на друзей, которые поддерживают его с двух сторон. Свидетельством нашего сильного обезвоживания служит тот факт, что, несмотря на огромное количество проглоченной воды, во время спуска мы ни разу не останавливаемся, чтобы помочиться. После двух дней и двух ночей в третьем лагере на высоте 21 500 футов воздух в базовом лагере — на высоте всего 16 500 футов — кажется таким густым и плотным, что в нем можно плавать. Кроме того, доктор Пасанг «прописал» всем шестерым «английский воздух» из кислородного аппарата, принесенного в третий лагерь носильщиками. Выписав нас с Жан-Клодом из «лазарета» в пятницу вечером, он прислал один баллон с кислородом и две маски — отрегулированных на подачу всего одного литра кислорода в час, — и строго-настрого приказал пользоваться ими ночью, если мы начнем задыхаться или замерзнем. С помощью «английского воздуха» мы с Же-Ка проспали тринадцать часов.
Дикон присаживается на корточки рядом с нами — мы греемся на жарком солнце, лежа на своих спальниках, наполовину вытащенных из палатки. Он разделся до рубашки, но на нем по-прежнему бриджи из толстой шерсти и высокие обмотки. — Как поживают мои двое больных? Мы с Жан-Клодом в один голос убеждаем его в своем превосходном самочувствии — крепкий сон, волчий аппетит, никаких признаков обморожения или остатков «горной апатии». И это правда. Мы говорим, что готовы снова подняться по «корыту» и леднику к третьему лагерю прямо сейчас, не теряя ни минуты. — Рад, что вам лучше, — говорит Дикон. — Но нет никакой нужды торопиться и быть в третьем лагере завтра. В одном мы с леди Бромли-Монфор полностью согласны: карабкаться наверх, но спать внизу. Особенно после ветра и холода, что вам, парни, пришлось пережить в течение трех ночей. — Ты поднялся по ледяной стене к Северному седлу без нас. — В голосе Жан-Клода проступают разочарование и упрек. — Вчерашний день и сегодняшнее утро мы потратили на то, чтобы сделать дорогу к третьему лагерю безопаснее, а также руководили шерпами, которые поднимали туда груз. Редж… леди Бромли-Монфор теперь во втором лагере, и остаток дня она будет организовывать доставку груза. Думаю, завтра мы с ней в достаточной степени акклиматизируемся в третьем лагере, и если к завтрашнему вечеру вы к нам присоединитесь, то в понедельник утром мы попробуем подняться по ледяной стене к Северному седлу. — Он хлопает Жан-Клода по плечу. — Ты наш официальный специалист по снегу и льду, старина. Я же обещал тебе, что мы не пойдем на Северное седло, пока ты не будешь готов. Кроме того, сегодня там слишком сильный ветер. Возможно, завтра и послезавтра он утихнет. — Ветер? — удивляюсь я. Здесь, в базовом лагере, воздух абсолютно неподвижен. Дикон сдвигается в сторону и протягивает левую руку, словно представляя кого-то. — Смотрите, как она парит. Мы с Же-Ка любовались голубым небом и ослепительно белым снегом на Северном склоне Эвереста, но теперь замечаем, насколько сильным может быть ветер там, на большой высоте. Белый султан над вершинами и Северным хребтом тянется далеко влево, исчезая из виду. — Невероятно, — говорю я. — А в «корыте» такая же жара? — На двадцать градусов больше, — с улыбкой отвечает Дикон. — Мой термометр зарегистрировал больше ста градусов по Фаренгейту[50] среди кальгаспоров между вторым и третьим лагерями. На леднике же еще жарче. Мы давали носильщикам много времени на отдых и много воды, но они все равно добирались до третьего лагеря такими уставшими, что не могли стоять или есть. — Какой груз они несли, Ри-шар? — Не более двадцати пяти фунтов между вторым и третьим лагерями. По большей части около двадцати. — Значит, потребуется много рейсов вверх и вниз. В ответ Дикон лишь рассеянно кивает. — Как там сегодня наши четверо парней? — спрашиваю я, понимая, что должен был поинтересоваться здоровьем шерпов в первую очередь. — Бабу Рита и Норбу Чеди уже снова присоединились к носильщикам. У Лакры почернели ноги, но доктор Пасанг считает, что он, скорее всего, не лишится пальцев. Что касается Анга Чири… Пасанг говорит, что ему придется распрощаться с большими пальцами ног, а также еще двумя или тремя. Я потрясен этим известием. Ступни Анга были опухшими, наполовину замерзшими и белыми, когда утром вторника в третьем лагере мы помогали ему втискивать деформированные ноги в ботинки, и я знаю, что вчера в больничной палатке доктор Пасанг провел много времени с шерпами, но и представить не мог, что дело дойдет до ампутации. — Другие шерпы уже мастерят новые «ботинки сахибов» для Анга, с клинышками вместо отсутствующих пальцев, — говорит Дикон. — Анг прекрасно держится. К среде Пасангу, наверное, придется удалить ему пальцы — три штуки у него выглядят особенно плохо, коричневые и сморщенные, как у египетской мумии. Но Анг настаивает, что к следующим выходным он уже вернется в строй. Мы мрачно молчим. Наконец Жан-Клод спрашивает: — Ты уверен, что нам не стоит сегодня подниматься в третий лагерь, Ри-шар? Мы с Джейком достаточно хорошо себя чувствуем для восхождения и для переноски груза. Дикон качает головой. — Я не хочу, чтобы вы таскали груз даже завтра, когда будете идти в третий лагерь. Для подъема на Северное седло потребуется очень много сил… на большей части склона снегу по пояс, а стену голубого льда, где был любимый камин Мэллори, вы сами видели. Мы с Реджи предоставляем прокладку пути в понедельник утром вам двоим, парни. Мы будем идти следом и ставить перила и лестницу. — Не забудьте мой велосипед, — говорит Же-Ка. Дикон кивает. — Завтра можешь взять свой велосипед с личными вещами, — соглашается он. — Но ничего сверх того. «Велосипед» Жан-Клода — сиденье, педали и руль мы видели редко, только во время переупаковки грузов на мулах и яках — был источником шуток и искреннего любопытства все пять недель нашего перехода к Эвересту. Я знаю, что это не настоящий велосипед — никто не видел шин или колес, а несколько человек клялись, что заметили странные складывающиеся металлические опоры, прикрепленные к раме, — но только Же-Ка и Дикон, похоже, знают, что это за штуковина. — Надеюсь, эта чудесная погода сохранится, — говорит Жан-Клод. — Естественно, за исключением ужасной жары. — Я не сомневаюсь, что сегодня на солнечных участках Северного седла температура на солнце — или, по крайней мере, без ветра — превышает сто градусов по Фаренгейту, — замечает Дикон. — Во вторник и в среду по ночам температура в третьем лагере была ниже минус тридцати градусов, и мы не сомневались, что уже пришел муссон, — говорю я. — Еще нет, — возражает Дикон. — Еще нет. — Он хлопает себя по обтянутым шерстью бедрам и встает. — Я хочу еще раз навестить Анга и Лакру, поговорить с доктором Пасангом и взять с собой несколько парней. Мы будем перемещать грузы в третий лагерь до захода солнца. — Ри-шар, — говорит Жан-Клод. — Ты не забыл нас кое-что спросить? Дикон улыбается. — Ну, джентльмены, — произносит он. — Какие уроки мы все усвоили после вашего маленького приключения в третьем лагере? Мы с Жан-Клодом смеемся, но ответить не успеваем — Дикон машет рукой и идет к больничной палатке.
Понедельник, 11 мая 1925 года Сегодня превосходный день для попытки подняться на вершину Эвереста. К сожалению, мы только начинаем атаку на подступы к горе, пытаясь добраться до Северного седла и закрепиться там до конца дня. Мы выходим из третьего лагеря в начале восьмого утра. В первой связке идет Жан-Клод, затем я, за мной Дикон, и за ним самый опытный из персональных шерпов Дикона, Нийма Тсеринг. Вторую связку образуют Реджи, мой улыбчивый шерпа Бабу Рита и еще три «тигра»; последним идет высокий шерпа Дикона, Тенцинг Ботиа. Пасанг остался в базовом лагере, приглядывает за Ангом Чири и Лакрой Йишеем. Выясняется, что, вопреки его заверениям, Дикон в выходные вовсе не бездельничал. Путь от третьего лагеря до подножия гигантского склона по свежевыпавшему снегу мог превратиться в двухчасовое тяжелое испытание — пришлось бы брести по пояс в снегу. Но вчера, на жаре, Дикон, Реджи и несколько шерпов проложили удобную тропу, и уже через тридцать минут мы добрались до начала склона и были готовы к восхождению. Последние несколько дней все наши надежды были связаны с тем, что солнце растопит несколько верхних дюймов снега, а морозными ночами поверхность затвердеет, превратившись в лед, удобный для наших новых «кошек» с 12 зубьями. Теперь это предстояло проверить… Мы с Же-Ка прекрасно понимаем, что это уже не ребячество в Уэльсе, когда мы изображали из себя настоящих покорителей Гималаев. Новая конструкция «кошек», придуманная Жан-Клодом, ледовые молотки, жумары и другие приспособления — не говоря уже о «волшебной веревке Дикона», которой мы доверяем свои жизни каждый раз, когда спускаемся по веревке вместо того, чтобы вырубать ступени во льду, — либо помогут нам сэкономить время и силы, либо окажутся ошибкой, за которую придется дорого заплатить; возможно, даже фатальной. Одно не вызывает сомнений: если мы хотим выдержать график восхождения Дикона и покорить вершину к 17 мая, подняться на Северное седло абсолютно необходимо. Первые 300 футов — это всего лишь крутой склон. Мэллори и его предшественники — включая Дикона — потратили не один день, вырубая в ледяной корке опоры для рук и ног, которыми могли бы пользоваться носильщики. Но ступени все равно требовали ежедневного «обслуживания», поскольку их заметало снегом, старым и новым — нелегкая работа на высоте 21 000 футов. Чтобы облегчить путь носильщикам, альпинисты вырубали ступени на склоне в виде пологой винтовой лестницы. Но сегодня все иначе. Жан-Клод держит слово, и цепочка следов, оставляемая его «кошками», ведет прямо к 1000-футовому склону, в сотне ярдов от того места, где в 1922 году семерых шерпов накрыла лавина. Но мы все равно ставим перила — более легкие хлопковые «веревки Мэллори» толщиной три восьмых дюйма для этого несложного подъема, — и через каждые 50 футов Жан-Клод останавливается и ждет, пока я деревянным молотком вгоняю в снег высокие, заостренные колья с проушинами на конце. Мы все несем тяжелые бухты (в рюкзаках лежат еще), и тонкая хлопковая веревка быстро убывает. Несмотря на то что «прокладывать трассу» в «кошках» с 12 зубьями несравнимо легче, чем брести по пояс в снегу или вырубать ступени, вскоре до меня доносится тяжелое дыхание Жан-Клода. У нас устанавливается размеренный ритм: три шага, остановка, вдох, затем следующие три шага. — Пора включить кислород, — кричит Дикон во время следующей остановки, когда две связки альпинистов замирают на крутом склоне. Таково «правило Дикона» — выше 22 000 футов все потенциальные покорители вершины должны использовать кислородные аппараты. Но вместо того, чтобы дать каждому полный комплект, Дикон распределил баллоны с кислородом по рюкзакам — по одному у четырех сахибов и по одному для Тенцинга Ботиа, Ниймы Тсеринга и трех других «тигров», которые нас сопровождают. Полные комплекты понадобятся выше Северного седла. — Мне еще не нужен «английский воздух», — кричит в ответ Реджи. — И я тоже в порядке, — доносится сверху голос Же-Ка. Дикон качает головой. — Можете поставить регулятор на минимум, но с этой минуты на крутых участках мы будем использовать кислород. Я изображаю недовольство, но, честно говоря, головная боль, от которой удалось избавиться только вчера, начинает возвращаться — она пульсирует в такт с ударами сердца, и я хватаю ртом воздух во время каждой короткой остановки, — и я испытываю облегчение, натянув под очки маску и услышав слабое шипение поступающего кислорода. Подачу можно установить на 1,5 литра в минуту — минимальное значение — или на 2,2 литра в минуту. Я выбираю минимум. Через минуту у меня такое ощущение, как после укола адреналина. Жан-Клод вдвое увеличивает скорость восхождения, хотя склон становится круче и опаснее, и расстояние между нами и связкой Реджи с шерпами начинает увеличиваться. Бабу Рита и трое других носильщиков идут размеренно, но за теми, кто дышит кислородом, им не угнаться. Тонкая «веревка Мэллори» заканчивается именно там, где мы рассчитывали, и Дикон дает знак переключиться на более прочную «волшебную веревку». Теперь склон достаточно крутой, и по нему можно спускаться по веревке — если научимся доверять новой страховке на невиданных до сих пор длинных участках, — и мы начинаем разматывать ее, только без кольев с проушинами. Во время следующей остановки, около одиннадцати утра, когда мы ждем Реджи и ее «тигров», я вдруг понимаю, что мы преодолели уже 600 футов из 1000-футовой стены из снега и льда. Подо мною пустота — третий лагерь выглядит отсюда далеким и маленьким, — но перила, закрепленные ледобурами через равные промежутки, и почти невероятная цепкость «кошек» с 12 зубьями и коротких ледовых молотков дают чувство безопасности. Пока мы отдыхаем здесь, в 200 футах ниже отвесной ледяной стены, Дикон жестом показывает, чтобы мы с Же-Ка поменялись местами. Жан-Клод сигнализирует, что у него еще достаточно сил, но Дикон просто повторяет безмолвную команду. Мы с Же-Ка отвязываемся, организуем страховку и меняемся местами на крутом склоне — это занимает не больше минуты. Теперь лидирующим в связке буду я, и нужно переключить регулятор подачи кислорода на моем баллоне с минимума на максимум, до 2,2 литра в минуту. Этого достаточно, чтобы подняться на Северное седло, но я не сомневаюсь, что вскоре мне придется снова снизить подачу. Уверен, что на вертикальном участке голубого льда, который нависает над нами, Дикон отправит вперед Жан-Клода. Признаюсь, мое воодушевление от того, что мне наконец досталась роль лидера в этой экспедиции, смешивалось с разочарованием, что я не буду первым, кто на такой высоте преодолеет ледяную стену, используя только «кошки» с 12 зубьями и ледовые молотки в каждой руке. Этой чести удостоится Же-Ка. Мы стоим на крутом склоне ниже вертикального участка, и я обливаюсь потом, хотя давно уже снял всю подбитую пухом верхнюю одежду и уложил в рюкзак, оставшись только в шерстяной рубашке и хлопковом белье. Вся верхняя чаша ледника Восточный Ронгбук и Северное седло освещены прямыми лучами солнца, а третий лагерь отсюда, с высоты 60-этажного дома, кажется сверкающим озером яркого света. Реджи и ее «тигры» — белозубую улыбку Бабу Риты я вижу с расстояния 50 футов — догоняют нас, в мои руки переходит тяжелая бухта «волшебной веревки», и через одну или две минуты я затягиваю ремешки кислородной маски и пускаю в ход «кошки» и ледовые молотки. Минут через пятнадцать до меня доходит, что я никогда еще так хорошо себя не чувствовал на горе. Головная боль прошла. Руки и ноги обрели силу, а в душе поселилось чувство уверенности. Этот новый способ восхождения, который Же-Ка, как он сам признается, подсмотрел у лучших немецких альпинистов, доставляет удовольствие. Я останавливаюсь примерно через каждые 30 футов, чтобы установить точку опоры и очередной участок перил — теперь они висят почти вертикально, — но мне больше не нужен отдых, чтобы перевести дух после четырех или пяти шагов, когда приходится вонзать зубья «кошек» в лед. У меня такое ощущение, что я могу идти так весь день и всю ночь. Впервые за все время я начинаю верить, что у нашей маленькой команды может появиться реальный шанс покорить Эверест. Я знаю, что Дикон планировал подойти к Северной стене из пятого или шестого лагеря, повторив попытку Нортона 1924 года преодолеть Большое ущелье — траверсом с гребня вправо, над Желтым поясом, до снежного клина, который тянется прямо к снежному полю под пирамидальной вершиной, — и если наст в ущелье такой же прочный, как здесь, на склоне Северного седла, этот план может оказаться разумным. Если мы будем пользоваться кислородными аппаратами и покидать палатки еще до рассвета — веря, что одежда на пуху, сконструированная Финчем и Реджи, убережет нас от безжалостной стужи, — то без труда достигнем вершины и вернемся до захода солнца. В том случае, если подъем с помощью «кошек» с 12 зубьями и ледовых молотков будет таким же простым, как теперь. Я обрываю подобные мысли, пока мечты не вытеснили реальность. Даже теперь я в глубине души понимаю, что на Эвересте ничего не «дается легко». Судя по рассказам Дикона, а также по рассказам и дневникам других альпинистов, все, что гора вам дает, она отбирает так же быстро и решительно. В этом я убедился на собственном опыте в третьем лагере. Возможно, Большое ущелье и входит в наши планы, но я напоминаю себе, что никакой этап этого восхождения в конечном итоге не будет «легким». Неожиданно мы оказываемся под отвесной стеной из льда. Я снова останавливаюсь, учащенно дыша, но все же не задыхаясь, и позволяю Дикону, который находится прямо подо мной, установить ледобуры для последней секции перил из «волшебной веревки» и — доверяя зубьям «кошек» и утопленным в лед клювам ледовых молотков больше, чем я мог вообразить вплоть до сегодняшнего дня, — отклоняюсь далеко назад, чтобы посмотреть на сверкающую стену льда, последнее серьезное препятствие перед Северным седлом. Она кажется непреодолимой. В нескольких ярдах справа я вижу сеть трещин и груду каменных глыб — все, что осталось от дымохода, по которому в прошлом году поднялся Мэллори. Я видел это восхождение на фотографии и слышал рассказ Дикона о нем — Мэллори напоминал одновременно паука и гимнаста, и его стремительный бег по вертикали не могли повторить даже опытные альпинисты, шедшие вслед за ним. Носильщикам и альпинистам помогла веревочная лестница Сэнди Ирвина. Мы принесли с собой лестницы из веревок и дерева именно для этой цели, но планировали спустить их с Северного седла, а не устанавливать во время подъема. Я поворачиваюсь к Дикону и поднимаю вверх большие пальцы рук — знак, что я могу идти ведущим во время вертикального подъема, если он скажет, — но Ричард качает головой и оглядывается на Жан-Клода, который остановился практически под нами на очень крутом склоне. Вверх поднимается рука в варежке — Дикон спрашивает, остались ли у Жан-Клода силы на ледяную стену. Я знаю, что, если Же-Ка не сможет, Дикон сам будет лидировать на этом 200-футовом вертикальном участке. Это главная причина, почему сегодня утром Ричард все время шел вторым в связке. Же-Ка поднимает вверх большие пальцы — кислородная маска, очки и кожаный летный шлем скрывают его лицо — и передает веревку и другой груз Нийме Тсерингу, который идет следующим в связке. Мы с ним снова меняемся местами, на этот раз еще осторожнее, потому что неверный шаг здесь почти наверняка приведет к смертельному падению. Эти ледяные молотки прекрасно подходят для передвижения по снежному насту и льду, но ни у кого из нас нет опыта самозадержания на склоне с их помощью. Мы снова присоединяемся к связке, и с моих губ срывается вздох облегчения — я и не заметил, что задерживаю дыхание. Это напоминает мне, что нужно установить подачу кислорода на минимум, на 1,5 литра в час. Шерпы позади Реджи — за исключением вечно улыбающегося Бабу Риты — выглядят уставшими и встревоженными. На всех экспериментальные альпинистские обвязки, и Реджи помогла им пристегнуть карабин к перилам. Я замечаю, что все шерпы, кроме доверчивого Бабу Риты, хватаются за веревку крепче, чем следовало бы для безопасности нашей маленькой группы. Внезапно Реджи отвязывается и быстро привязывает 30-футовый конец «волшебной веревки» к обвязке Тенцинга Ботиа. Освободившись, она перемещается вверх и вниз между шерпами и длинным ледорубом выкапывает в снегу глубокие лунки для каждого из носильщиков. Затем показывает, как — не отпуская перила, а лишь перехватывая веревку — они могут медленно повернуться и сесть в чашеобразные выемки, так чтобы «кошки» с 10 зубьями прочно зацепились за снег. Наблюдая, как шерпы устраиваются на снегу на этом почти вертикальном склоне, я радуюсь, что мы взяли для «тигров» белье, а также плотные шерстяные брюки с верхним слоем из габардина. Бабу Рита хихикает и смеется — вид отсюда необыкновенно красивый. Пришла пора решающей проверки альпинистского снаряжения Жан-Клода и новой техники восхождения.
Я вытягиваю шею так, что она начинает болеть, и обнаруживаю, что еще дальше отклонился назад, доверяя — возможно, излишне — зубьям «кошек» и клювам ледовых молотков. Но отвести взгляд от этого tour de force[51] Жан-Клода практически невозможно. Точно так же, как на гораздо более безопасном льду Уэльса, Же-Ка карабкается по гладкой ледяной стене, словно геккон по темной стене бунгало. Первые 50 футов он остается привязанным к нашей веревке — мы с Диконом глубоко вонзили ледорубы в снежный наст и приготовились его страховать, — но когда этот длинный конец веревки заканчивается, он вбивает в лед крюк и привязывает свою «волшебную веревку» в качестве страховки. Жан-Клод делает это приблизительно через каждые 50 футов всей 200-футовой стены, поскольку если он сорвется, это будет вертикальное падение, и даже «волшебная веревка Дикона» не выдержит вес его тела, пролетевшего 400 футов по вертикали. Преодолев примерно две трети ледяной стены, Же-Ка останавливается, роется в рюкзаке и достает кислородный баллон. Мы с Диконом обмениваемся виноватыми взглядами. Планировалось, что Жан-Клод преодолеет этот участок пути с новым кислородным баллоном, открытым на полную, на 2,2 литра в час. Мы забыли сменить баллон — даже Жан-Клод, которому не терпелось начать самую драматическую часть сегодняшнего маршрута. Теперь он снимает кислородную маску вместе со свисающим регулятором и трубками и аккуратно укладывает в рюкзак, одновременно вытаскивая пустой баллон, прижимает его к стене своим телом и свободной правой рукой раскручивает соединения. — Эй, внизу, берегись! — кричит Же-Ка, размахивается пустым баллоном — раз, два, три — и бросает его вправо. Мы завороженно и даже с некоторым страхом смотрим, как тяжелая железяка отскакивает сначала от самой стены, а затем от самого снега и летит к леднику в 1000 футах ниже нас. Грохот, который он издает при падении — особенно при последнем ударе о заметенный снегом камень, — просто великолепен. Дикон сдергивает маску. — Хочешь, я тебя сменю? — кричит он, задрав голову. Вне всякого сомнения, в ветреный день его голос потерялся бы среди рева ветра, но сегодня воздух практически неподвижен. Рукавом рубашки я вытираю пот со лба, хотя мы просто стоим на склоне под вертикальной стеной, удерживаясь на месте с помощью передних зубьев «кошек» и острых клювов ледовых молотков в левой руке; правая рука сжимает веревку перил. Жан-Клод улыбается, качает головой и смотрит на оставшийся участок стены. Затем возобновляет подъем, хотя останавливается чуть чаще, движется чуть медленнее, но сохраняет размеренный темп. Проходит еще пятнадцать минут, и мы наблюдаем, как он бросает свое тело вперед, опираясь на зубья «кошек», переваливается через край ледяной стены, ведущей к Северному седлу, и вгоняет правый ледовый молоток в невидимую нам горизонтальную поверхность. Затем исчезает. Несколько секунд спустя — очевидно, Же-Ка привязался к точке опоры, которую он организовал на поверхности седла, — его голова и плечи вновь появляются над краем, и вниз начинает спускаться вторая веревка. — Давайте сюда лестницы! — кричит Жан-Клод. Что мы и делаем, но только после того, как все восемь человек, стоящих и сидящих под отвесной стеной, криком приветствуют его. Лестницы, которыми пользуются спелеологи, поделены на секции по 50 футов; для того, чтобы подняться на Северное седло, нужны все четыре. Не доверяя креплению, соединяющему смежные части, Же-Ка спускается и укрепляет каждую 50-футовую секцию короткими отрезками «волшебной веревки», ледобурами и крюками. Это тяжелая работа, и когда последняя лестница надежно закреплена, Жан-Клод уже весь мокрый от пота. Он спускается к нам к подножию ледяной стены; мы хлопаем его по спине и плечам, поздравляем своими охрипшими от разреженного высокогорного воздуха голосами. Дикон демонстрирует шерпам и всем нам свою уверенность в абсолютной надежности лестниц, отстегнувшись от общей веревки и поднявшись наверх; зубья его «кошек» вгрызаются в деревянные планки. Мы по очереди следуем его примеру — Реджи замыкает цепочку, пропуская вперед всех носильщиков. Я поднимаюсь вслед за моим старым другом Бабу Ритой, который с ловкостью обезьяны карабкается по веревочной лестнице с деревянными ступеньками, оглядываясь и улыбаясь мне, пока я не начинаю сердиться. Мне хочется прикрикнуть на него и напомнить правило трех точек — во время восхождения три части тела должны иметь надежную точку опоры (например, две ноги и рука, две руки и нога, неважно), — но для этого придется снять кислородную маску, а я уже привык к преимуществам «английского воздуха». Бабу благополучно завершает подъем и протягивает мне руку, чтобы помочь рывком перебросить тело с лестницы на край Северного седла. Затем сильные руки Бабу хватают меня за предплечье и подмышку, помогая встать. Я отхожу на несколько шагов от лестницы и окидываю взглядом вид, от которого захватывает дух. Мы забрались на «полку», где предыдущие экспедиции ставили свои палатки, — впадину на северной стороне Северного седла, верхний ледяной гребень которого служит превосходной защитой от ветра и лавин. Однако «полка», где в 1922 году хватало места для нескольких десятков палаток, в 1924 году сократилась до ледового выступа шириной 30 футов, годного лишь для одного ряда палаток, а теперь ее ширина составляет меньше десяти футов. Слишком близко к обрыву и слишком мало места, чтобы служить нам четвертым лагерем. Как бы то ни было, это превосходное место для отдыха, и почти все рассаживаются вдоль южной стены «полки». Я плюхаюсь на лед рядом с остальными и жду, пока появится Реджи с тремя последними шерпами. Она предупреждает их на непальском и тибетском, чтобы они не освобождались от груза — предстоит еще выбираться с этой защищенной, но узкой «полки», — а затем садится рядом со мной и повторяет на английском то, что сказала им. Ветры и снежные лавины сбросили с «полки» все палатки и другие следы пребывания предыдущих экспедиций, кроме одной упавшей палатки зеленого цвета — брезент превратился в лохмотья, но один шест все еще торчит — прямо у наших ног. Я указываю ногой на зеленый брезент и говорю, обращаясь к Реджи и Жан-Клоду: — Подумать только… Здесь мог спать Мэллори. — Вряд ли, — возражает леди Бромли-Монфор. — Это наша с Пасангом палатка; мы поставили ее в августе, когда застряли тут на целую неделю. Я уже перекрыл кислород и снял с лица маску, но теперь жалею об этом: она могла бы скрыть дурацкий румянец, внезапно заливающий мои щеки. Мы долго сидим и любуемся потрясающим по красоте видом — у нас под ногами змейкой уходит вдаль почти весь ледник Восточный Ронгбук (отсюда видна дорога до первого лагеря), слева к небу поднимается громада Чангзе, а справа небо разрезают нависающее плечо Эвереста и крутые, неровные участки Северного седла. Жан-Клод оглядывается на сидящих шерпов. — Где le Diacre?[52] — спрашивает он. — Мистер Дикон? — говорит Реджи. — Он вместе с Ниймой Тсерингом, Тенцингом Ботиа и охапкой бамбуковых вешек пошел искать более подходящее место для четвертого лагеря. — А мы почему сидим? — спрашиваю я. Мы с Же-Ка с трудом поднимаемся на ноги, я снова включаю подачу кислорода, и мы идем по узкой полоске льда, отделяющей вытянутые ноги носильщиков от 1000-футового обрыва к леднику, по следам Дикона и двух шерпов, которые ведут вверх за пределы «полки», на само Северное седло. Поднявшись на него, мы с Жан-Клодом останавливаемся, вытаращив глаза, и несколько секунд не можем сдвинуться с места. Перед нами открывается вся Северная стена Эвереста, словно кто-то раздвинул театральный занавес. Слева, позади последних гигантских пирамид изо льда от Северного седла гигантским 4500-футовым отростком вздымается Северный гребень, который затем соединяется с Северо-Восточным гребнем — Дикон по-прежнему называет его Северо-Восточным плечом Эвереста — на высоте 27 636 футов. С места соединения Северного и Северо-Восточного гребней высоко над нами до настоящей вершины Эвереста еще миля вправо по кромке гребня. Северная стена, в том числе Большое ущелье Нортона, с той точки, в которой находимся мы, кажется вертикальной, но я знаю, что это обман зрения — так выглядят все подобные стены от подножия горы. Ущелье, возможно, будет наилучшим маршрутом, особенно если сильный ветер прогонит нас с гребней. Даже без биноклей мы с Же-Ка ясно видим две трети пути вверх по Северному гребню, прямо впереди нас, до едва заметного понижения, где Дикон планировал разбить пятый лагерь. Ниже Северный гребень состоял из неровно закругленного каменного контрфорса, который вскоре исчезал в горбатом поле из снега и льда, которое тянулось к нашей заснеженной впадине Северного седла. Это странно. Мы можем отчетливо видеть отходящий от вершины облачный султан, похожий на 20-мильный белый шарф на фоне ослепительного голубого неба, а также еще один султан, поднимающийся от Северо-Восточного гребня и верхней части Северного гребня, словно там бушует ураган, — но здесь, на Северном седле, полный штиль. Я помню, как Дикон рассказывал, что когда он с Мэллори и остальными добрался до этого места во время разведывательной экспедиции 1921 года, то ветер на Северном седле — за исключением ледяной «полки» позади нас, которая с тех пор значительно уменьшилась, — был настолько силен, что стоять можно было не больше нескольких секунд. Встать на том месте, где шли мы с Жан-Клодом, было равносильно смерти. Вот, подумал я, в чем разница между восхождением на Северное седло в короткий промежуток времени между зимой и началом муссона и восхождением во время сезона муссонов. Отпечатки ботинок с «кошками» Дикона и его двух шерпов отчетливо видны на снегу, и мы идем по ним вверх и дальше на запад, за «полку» изо льда. Позади нас Реджи подняла Бабу Риту и трех других носильщиков, хотя здесь, на высоте 23 000 футов, их движения замедленны. Если кому-то из шерпов станет плохо, Дикон планирует дать ему кислород; в противном случае дышать кислородом на Северном седле будут только четверо альпинистов. Непонятно почему, но я не ожидал увидеть здесь, на Северном седле, зияющие провалы расселин. Совершенно очевидно, что они должны быть — лед продолжает откалываться с Северного седла и падать прямо на ледник Восточный Ронгбук далеко внизу. Но мне кажется — несмотря на прочитанные отчеты предыдущих экспедиций и на рассказы Дикона о том, как мы будем выбирать дорогу между расселинами на Северном седле, — я по какой-то причине предполагал, что поверхность седла окажется более гладкой. Мои ожидания не оправдались. Идя по следам трех человек вдоль узких гребней между глубокими трещинами, я понимаю, что снова началось восхождение — вверх и через массивный ледяной мост, который несколько минут назад Дикон отметил бамбуковыми вешками с красными флажками, затем вокруг череды гигантских ледяных пирамид, уже обрушенных, и к широкому, прочерченному многочисленными расселинами склону. Наконец, мы видим Дикона, Нийму Тсеринга и Тенцинга Ботиа, которые ставят палатки под защитой гигантских сугробов и ледяных пирамид у южного края Северного седла, прямо под тем местом, где седло упирается во вздыбленный снег и лед Северного гребня. Мой взгляд скользит вверх, к Северному гребню и Северной стене горы. Я отчетливо вижу наклонные плиты из черного гранита на гребне и на стене, одни частично засыпанные снегом, другие блестящие, словно покрытые льдом. Большинство альпинистов — в том числе я — не любят такие наклонные каменные плиты. Это все равно что карабкаться по гладкой, скользкой, вероломной черепице крутой крыши какой-нибудь готической церкви. Иногда каменные плиты уходят у тебя из-под ног. Из-за лабиринта трещин, путь между которыми обозначен несколькими бамбуковыми вешками с красными флажками, мы с Же-Ка образуем одну связку с Реджи и тремя шерпами и продолжаем подниматься к новому месту четвертого лагеря. Когда мы добираемся до Дикона и его помощников, наши шерпы сбрасывают с плеч груз и без сил падают на снег, а те, кто пришел раньше, заканчивают установку тяжелой палатки Уимпера и двух более легких палаток Мида. Дыша остатками кислорода, я извлекаю из рюкзака 10-фунтовую палатку Мида и три спальных мешка, которые таскал с собой весь день. Мы принесли с собой много воды, термосы с теплым питьем и немного продуктов — в основном шоколад, изюм и другие богатые углеводами продукты, которыми можно перекусить на ходу; но большая часть груза — это палатки и спальники для четвертого лагеря, а если повезет, то и для пятого. Один из шерпов принес примус — для приготовления нормальной пищи, — но после едва не случившейся с нами катастрофы в третьем лагере принято решение, что в каждом лагере необходимо иметь как минимум две спиртовки и, что еще важнее, несколько печек «Унна» с запасом твердого топлива. Дикон не желает рисковать — в остальных лагерях на большой высоте мы должны иметь возможность растопить снег для приготовления питьевой воды, чая (хоть на таких высотах он получается чуть теплым) и супа. Реджи указывает шерпам, что куда класть, становится рядом с Диконом и с сомнением рассматривает гигантские ледяные пирамиды, заслоняющие Северный гребень. — Вы уверены, что они защитят нас от ветра? — спрашивает она. Дикон пожимает плечами. В его глазах я замечаю искорки радости, как на Маттерхорне и других вершинах, когда он наслаждался восхождением. — В двадцать первом и двадцать втором мы замечали, что здесь, в западной части Северного седла, под прикрытием ледяных пирамид ветер всегда слабее, — говорит он. Его кислородная маска висит на груди. — А Тедди Нортон рассказывал мне, что в прошлом году выбрал бы это место, если бы не удалось поставить палатки на «полке». Реджи, похоже, все еще сомневается. Я напоминаю себе, что они с Пасангом провели тут, на Северном седле, целую неделю, запертые в палатке — обрывки зеленого брезента и сломанные распорки я заметил на ледяной «полке», — которую в любую секунду ураганный ветер мог сбросить в пропасть. Северное седло вызывало у нее тревогу. — Отсюда удобно подниматься на Северный гребень, — наконец говорит она. — А для тех, кто спускается с пятого или шестого лагеря, не придется обходить столько расселин, как на пути к ледяной «полке». Дикон кивает. Реджи отдает новые распоряжения шерпам на английском и непальском. Она хочет, чтобы входы в палатки были обращены на север, к отражающей солнце громаде Чангзе. Шерпы заканчивают работу, и мы вчетвером рассаживаемся на том, что попалось под руку. Же-Ка и Дикон устраиваются на свернутых спальниках, грызут шоколад и смотрят на запад поверх ледяных пирамид на Северный гребень. — Сегодня идем дальше? — спрашиваю я. Ричард качает головой. — Сегодня мы хорошо поработали. Спустимся во второй лагерь, как следует выспимся, а завтра попробуем привести сюда не менее трех групп шерпов с провизией и снаряжением, в том числе и для следующих лагерей. Надеюсь, хорошая погода продержится еще несколько дней. — Планируешь штурм вершины на послезавтра? — спрашивает Жан-Клод Дикона. Это на четыре дня раньше, чем 17 мая. Тот лишь улыбается в ответ. Тут раздается голос Реджи. Тон у нее решительный: — Вы забываете, что мы ищем Бромли. — Не забываю, мадам, — говорит Же-Ка. — Просто полагаю, что поиск будет составной частью нашего восхождения. Повисает неловкое молчание, которое я прерываю вопросом: — А как насчет расселин здесь, на Северном седле? Может, стоит проверить их… насчет… Бромли? — Ками Чиринг сообщил, что видел три фигуры гораздо выше, на Северо-Восточном гребне, — говорит Реджи. — Потом только одну фигуру. Подозреваю, что раньше мы не найдем никаких следов моего пропавшего кузена. Я знаю, что в августе прошлого года между этим местом и пятым лагерем Мэллори следов не было. Кроме того, мы с Пасангом опускали фонари во все расселины, которые были тут летом. Ничего. Совершенно очевидно, что новые трещины осматривать не нужно. — Значит, на сегодня нам остается доесть ланч, закончить обустройство четвертого лагеря и сойти вниз на ночевку во втором лагере, — заключаю я. — Совершенно верно, — подтверждает Дикон, и я не удивляюсь легкой иронии в его тоне.
На обратном пути лидирует Дикон. Спуск занимает меньше часа, и мы могли бы двигаться еще быстрее, если бы шерпы умели спускаться по веревке, как мы с Же-Ка, преодолевая целые секции лестницы и проверяя прочность «волшебной веревки Дикона». Над нами, на западном краю Северного седла, остались шесть прочно закрепленных палаток — две палатки Уимпера и четыре палатки Мида, — зашнурованных и набитых спальниками, одеялами, разнообразными печками, брикетами твердого топлива; керосин мы оставили снаружи. Мы с Жан-Клодом вызвались идти последними, чтобы проверить прочность перил (хотя мы немного жульничали, по очереди страхуя спуск остальных альпинистов). Спуск по веревке на открытом склоне — это всегда захватывающее ощущение. Мы с Же-Ка предполагали, что сегодняшнее восхождение будет несложным, но ни один из нас и представить не мог, что получит такое удовольствие. Наконец, когда позади остаются перила нижнего склона — утром мы решили, последние 200 футов к уровню третьего лагеря перила не нужны, поскольку тут относительно пологий снежный склон, — мы видим Бабу Риту. Он ждет нас среди удлиняющихся послеполуденных теней, притопывая ногами, чтобы не замерзнуть. Бабу снял «кошки» (с ними и новыми жесткими ботинками всего одна проблема — ремни «кошек» затрудняют кровообращение, и ноги начинают мерзнуть, несмотря на дополнительную прослойку войлока в «жестких» ботинках новой конструкции), и мы с Же-Ка следуем его примеру. — Очень хороший день, да, сахибы Джейк и Жан-Клод? — спрашивает Бабу с улыбкой до ушей. — Очень хороший день, Бабу Рита, — соглашаюсь я. Мы втроем начинаем спускаться, ступая по глубоким следам в снегу, а затем мне в голову приходит идея. — Хочешь посмотреть, Бабу, как по таким склонам спускаются настоящие альпинисты? — Конечно, сахиб Джейк! Проверив, что мои «кошки» надежно привязаны к рюкзаку в таком месте, где они не вонзятся мне в спину, если я упаду или буду вынужден прибегнуть к самозадержанию, я выпрыгиваю из колеи, протоптанной нашей группой, беру в руки длинный ледоруб и начинаю скользить по длинному снежному склону. Шипованные подошвы ботинок оставляют борозды за моей спиной, а острый конец ледоруба служит мне рулем. — Наперегонки! — кричит Жан-Клод и выпрыгивает на поверхность снега, начинающую покрываться настом. — Оставайся на месте, Бабу… Берегись, Джейк! Жан-Клод скользит быстрее и вскоре уже пытается меня обогнать. Черт бы побрал этих гидов Шамони! Мы несемся вниз, огибая немногочисленные камни у основания склона, и Же-Ка пересекает воображаемую линию финиша футов на 15 впереди меня. — Я тоже! — кричит маленький шерпа, выходит из глубоких следов на снежный наст, заводит за спину длинный ледоруб, словно руль, и начинает скользить вниз, подражая нам. — Нет, не надо! — кричит Жан-Клод, но уже поздно. Бабу быстро скользит по склону и смеется, словно безумный. Затем он слишком сильно нажимает на острый клюв своего ледоруба — распространенная ошибка новичка при таком способе спуска, поскольку ледоруб должен лишь слегка касаться снега. Клюв глубоко погружается в снег, Бабу дергается, резко поворачивается, и вот он уже лежит на спине, широко раскинув руки, и несется вниз, набирая скорость; из рюкзака сыплются его личные вещи. Тем не менее смеется он еще громче. — Цепляйся! — кричу я, приложив руки ко рту, чтобы усилить звук. — Цепляйся, Бабу! Он потерял ледоруб, но руки унего остались, а если он снимет рукавицы, то сможет погрузить обтянутые перчатками пальцы в снег, чтобы уменьшить скорость спуска. Мы обучали всех шерпов технике самозадержания, причем не раз. Но распластанное на снегу тело Бабу разворачивается — голова сначала оказывается вверху, а затем внизу, а пятки хлопают по снежному насту. Приближаясь к нам, он смеется все громче. В пятнадцати футах от основания склона Бабу подпрыгивает на невидимом снежном трамплине. — Ой-ой! — кричит он по-английски, взлетая в воздух футов на восемь, по-прежнему головой вперед. Со странным звуком шерпа врезается головой в нечто похожее на большую белую подушку из снега, и смех умолкает. Его тело поворачивается еще три раза и останавливается футах в 30 от нас, и мы с Же-Ка бежим к неожиданно умолкшему шерпе, оставляя глубокие следы на снегу. Я молюсь, чтобы у него просто перехватило дыхание от удара о землю. Потом мы замечаем продолговатое красное пятно на белом снегу. «Подушка» из снега, о которую головой ударился Бабу, оказалась камнем.
Вторник, 12 мая 1925 года Бабу был без сознания, когда вчера вечером, в понедельник, мы эвакуировали его из третьего лагеря. Остальные вышли из палаток на наши крики — сначала привлеченные смехом, потом призывами о помощи, — и все мы опустились на колени вокруг распростертого на спине Бабу Риты. Реджи бросила один-единственный взгляд на ссадину и расползающийся синяк на виске шерпы, сунула аптечку Дикону, подозвала двух шерпов и, раздавая указания по-непальски, вернулась вместе с ними к палаткам, чтобы соорудить носилки из запасного брезента и шестов. Дикон склонился над Бабу и осторожно приподнял его кровоточащую голову. Потом быстро приложил два марлевых тампона к ранам на черепе, закрепил повязкой, отрезал бинт перочинным ножом и быстрыми, уверенными движениями завязал узлы. — С ним все будет в порядке? — слабым голосом спросил я, чувствуя вину за несчастный случай, произошедший с моим шерпой. У Жан-Клода тоже был виноватый вид. — Травмы головы — вещь непредсказуемая, — ответил Дикон. Он осторожно приподнимал плечи Бабу, прощупывая его короткую шею и позвоночник, до самой поясницы. — Похоже, позвоночник цел. Его можно передвигать. Самое лучшее, что мы можем сделать, — как можно быстрее доставить Бабу в базовый лагерь к доктору Пасангу. — Это на самом деле безопасно? — спросил Же-Ка. Он как-то рассказывал мне, что гидов Шамони учили не передвигать раненого при подозрении на серьезную травму позвоночника или шеи. Дикон кивнул. — Насколько я могу судить по внешнему виду, шея у него не сломана. Позвоночник в порядке. Думаю, опаснее оставлять его тут на ночь, чем перемещать. Реджи и Нийма Тсеринг вернулись с импровизированными носилками — сложенный вдвое брезент был крепко привязан к двум шестифутовым шестам. — Нужны люди, чтобы отнести его вниз, — сказал Дикон. — Думаю, шестеро. Четверо несут, двое на смену. — Я понесу, — в один голос заявляем мы с Жан-Клодом. Нас мучает чувство вины. Дикон снова кивнул. — Пемба, Дорджей, Тенцинг, Нийма — вы четверо идете вниз вместе с сахибами. Реджи быстро перевела указание трем шерпам, которые не говорили по-английски. Я видел, что от палаток она также принесла два фонаря и два комплекта головных ламп. Она ждала, пока мы склонимся над бесчувственным Бабу и — на счет три, с бесконечной осторожностью — переложим его со снега на импровизированные носилки. На снегу осталось красное пятно, а повязка на голове Бабу уже пропиталась кровью. Реджи молча передала лампы Пембе и Дорджею, а головные лампы — Же-Ка и мне. — Тейбир! — окликнула она самого высокого из окруживших нас шерпов. Я вспомнил, что Тейбир Норгей говорит по-английски. — Ты идешь вперед как можно быстрее. Скажи всем во втором и в первом лагере, что нам потребуются добровольцы, когда мы дойдем до каждого лагеря. Но не теряй там времени — торопись прямо в базовый лагерь и попроси доктора Пасанга подняться и встретить носилки по пути. Опиши доктору Пасангу раны Бабу Риты и расскажи, как он их получил. Там, у большой палатки, есть третий фонарь — возьми его по дороге. Тейбир кивнул и побежал по снежному склону, на бегу схватил фонарь, выскочил на занесенную снегом морену рядом с лагерем и через несколько минут исчез за ледяными пирамидами на тропе через ледник. Жан-Клод взял левый шест спереди, а я — правый сзади. Нийма Тсеринг схватил правый передний, а Тенцинг Ботиа — левый задний, рядом со мной. На счет три мы подняли носилки на уровень пояса. Такое впечатление, что Бабу Рита ничего не весит. — Мы тоже спустимся, как только все подготовим здесь и в третьем лагере для завтрашних рейсов с грузом, — сказал Дикон. — Передайте доктору Пасангу, что я приведу всех в первый или базовый лагерь. Путь вниз по леднику был тяжелым, особенно если учесть, что это был конец длинного дня в горах. Прежде чем мы ступили на ледник и начали спуск, Реджи передала Пембе комплект кислородного снаряжения с тремя полными кислородными баллонами. Предполагалось, что если мы устанем, то будем дышать «английским воздухом» из баллонов, которые будут нести для нас Пемба или Дорджей. Бабу Рита будет все время дышать из третьего баллона. Его вес добавил 22 фунта к весу носилок. Но ни я, ни Жан-Клод не выпускали носилок во время четырехчасового спуска через все лагеря, даже когда шерпы сменяли один другого. Один или два раза, после особенно трудного участка — например, после спуска на ледник и подъема по его крутому склону, — Пемба прижимал кислородную маску к лицу Жан-Клода, а затем к моему лицу, и мы немного дышали «английским воздухом», а затем шли дальше. Лицо Бабу Риты под замшевой маской казалось лицом спящего. Доктор Пасанг встретил нас в первом лагере, попросил поставить носилки на какой-то ящик и при свете фонаря бегло осмотрел Бабу. — Думаю, ваш мистер Дикон правильно определил, что признаков перелома шеи или позвоночника нет, — сказал он. — Мы должны спустить его ниже. Вы в состоянии нести его дальше, в базовый лагерь, или мне найти свежих носильщиков? Мы с Жан-Клодом не желали передавать кому-либо свои углы носилок. Разумеется, это было абсурдно, поскольку мы как будто наказывали себя, но тогда я думал — и по сей день не изменил своего мнения, — что мы, и в особенности я, заслуживали наказания. Если бы мы не вели себя как глупые школьники… если бы я не начал все это с дурацкого, детского бахвальства, Бабу Рита сидел бы теперь за ужином в третьем лагере и смеялся вместе со своими друзьями шерпами. Мы добрались до базового лагеря около одиннадцати вечера. У больничной палатки подняты боковые клапаны; для высоты 16 000 футов ночь на удивление теплая. Ни ветерка. На свесах крыши шипят несколько керосиновых фонарей, и я вижу, почему доктор Пасанг предпочитает проводить серьезные медицинские процедуры именно здесь, где воздух плотнее и теплее и лампы дают более яркий свет, чем в других лагерях. Четверо шерпов, которые спустились вместе с нами, расходятся по своим палаткам, а мы с Пасангом опускаемся на пол медицинской палатки и смотрим, как врач внимательно осматривает рану Бабу Риты. Руки у меня устали, и мне кажется, что я никогда не смогу их поднять. Во время получасового обследования, во время которого доктор Пасанг измерил давление, пульс и другие жизненные показатели Бабу, очистил рану и наложил свежую повязку, не было произнесено ни слова. Наконец он снова надел на лицо шерпы кислородную маску, включил подачу кислорода на максимум, прикрыл раненого двумя одеялами и убрал одну из ламп и оба зеркала, которыми пользовался. — Насколько все плохо, доктор Пасанг? — не выдержал я. — Дыхание поверхностное и затрудненное, пульс слабый, — ответил он. — С вероятностью девяносто пять процентов у Бабу образовалась гематома — сгусток крови в мозге — после удара головой о камень. — Вы что-нибудь можете с этим сделать? — спросил Жан-Клод. Я знал, что гид Шамони видел, как люди умирают в горах от эмболии мозга, или после травмы, или в результате горной болезни, которая вызвала образование тромба в легких или в мозге. Для меня это было абстракцией. Доктор Пасанг вздохнул. — Немного поможет кислород. В условиях больницы я попробовал бы определить точное местоположение сгустка или сгустков крови, а затем, если пациент не очнется, а жизненные показатели ослабнут, мог бы выполнить краниотомию. Здесь, в этих условиях, максимум, что я могу, — старомодная трепанация. — В чем разница? — спросил я. Пасанг провел своей большой ладонью над бинтами на черепе пациента. — Для хирургической краниотомии я бы обрил эту часть головы Бабу, а затем сделал бы надрез на коже — без рентгеновского аппарата я был бы вынужден просто предполагать, где находится сгусток и где резать. Затем просверлил бы небольшое отверстие и удалил фрагмент черепа… мы называем это костным лоскутом. Затем удалил бы осколки кости, которые давят на мозг Бабу, а также свернувшуюся и жидкую кровь. Если травма вызвала отек мозга, я мог бы не ставить на место костный лоскут — в этом случае операция превратилась бы в краниотомию. При отсутствии серьезного отека я бы поставил костный лоскут на место при помощи металлических пластин, проволоки или ниток. — Выглядит довольно примитивно, — с трудом выговорил я, борясь с подступившей тошнотой. Пасанг покачал головой. — Это современный вариант. В наших условиях и с теми инструментами, которые у меня есть, придется делать трепанацию. — А это что? Пасанг надолго задумался. — Трепанацию делают со времен неолита, — наконец сказал он. — Сверлят отверстие в черепе пациента до твердой мозговой оболочки, таким образом снижая давление на мозг, возникшее в результате давления осколков кости и крови в результате травмы. Я захватил с собой трепан. — Пасанг подошел к маленькому ящику со своим хирургическим набором и показал инструмент. — Это просто ручная дрель, — сказал я. Доктор кивнул. — Как я уже сказал, такой инструмент для трепанации используют уже не одно столетие. Иногда помогает. — А как вы закроете такую дыру? — спросил Жан-Клод. Я слышу отвращение в его голосе. Пасанг пожал плечами. — Такая дыра по определению будет больше костного лоскута, но я могу закрыть отверстие проволокой или даже прикрутить винтами нечто прозаическое, вроде монеты подходящего размера. Как известно, в черепе нет нервных окончаний. — И вы собираетесь это сделать? — спросил я. — То есть трепанацию? — Только в случае крайней необходимости, — ответил Пасанг. — Подобная операция на такой высоте — и в таких антисанитарных условиях — была бы очень, очень опасной. А поскольку с камнем соприкоснулись как минимум три участка черепа, я не знаю, где находится сгусток крови. И мне очень не хочется сверлить три отверстия в черепе Бабу Риты — и не найти нужного места. — Pardonnez-moi, — пробормотал Жан-Клод и вышел из палатки. Я не знал, что мой французский друг такой чувствительный. — Дадим Бабу десять или двенадцать часов, — сказал доктор Пасанг. — Если он выйдет из комы, будем просто ухаживать за ним, пока он не сможет путешествовать на носилках, а затем как можно быстрее доставим его в Дарджилинг. Я подумал о пятинедельном переходе. Существует более короткий путь через высокогорные перевалы прямо в северный Сикким, но эти перевалы очень высокие и открываются только на несколько дней в летний сезон. Ни долгий переход через грязные тибетские города в горах, ни трудный маршрут через высокогорные перевалы, где возможны снежные бури, никак не подходят для человека, перенесшего травму головы и, возможно, трепанацию черепа. Жан-Клод вернулся с двумя спальными мешками, которые мы оставили в базовом лагере. — Можно, мы сегодня будем спать на полу в больнице, доктор Пасанг? — спросил он. Тот улыбнулся. — У нас имеется кое-что получше. В задней секции, за занавеской, рядом с тем местом, где спят Анг Чири и Лакра Йишей, есть две походные койки. Я помогу вам принести их сюда. Можете сегодняшнюю ночь провести с Бабу Ритой.
Я сплю допоздна — солнце уже взошло — и просыпаюсь с ужасным чувством, что случилось что-то плохое. Выглянув из спального мешка, я вижу, что Бабу Рита сидит — глаза открыты, на лице широкая улыбка. Рядом стоит Пасанг, скрестив руки на груди. Я бужу Же-Ка, лежащего на соседней койке. — О, сахиб Джейк и сахиб Жан-Клод, — кричит Бабу Рита. — Я никогда в жизни так не веселился! Я заставляю себя ответить на улыбку шерпы. Жан-Клод просто смотрит на него широко раскрытыми глазами. — Мне так повезло, что я умираю рядом с возлюбленным Дзатрулом Ринпоче, — продолжает Бабу Рита все с той же широкой улыбкой. — Я прошу вас, пусть святейший настоятель Ронгбука решит, какими будут мои похороны. — Никто не умирает… — начинаю я, но замолкаю, увидев, что Бабу Рита снова упал на высокий стол, где Пасанг наблюдал за ним всю ночь. Глаза шерпы по-прежнему открыты, на лице застыла улыбка. Но я вижу, что он не дышит. Доктор Пасанг в течение нескольких бесконечных минут пытается оживить его, но ни искалеченное тело Бабу Риты, ни его душа не откликаются на эти усилия. Он умер. — Мне очень жаль, — наконец произносит доктор Пасанг и закрывает глаза Бабу Рите. Я невольно смотрю на Жан-Клода и по выражению его глаз понимаю, что он согласен со мной: наше ребячество и пренебрежение здравым смыслом убили этого хорошего человека.
Вторник, 14 мая 1925 года Последние два дня были идеальными для покорения вершины. Эверест уже довольно давно перестал «куриться» — впервые за то время, что мы его видим. Даже ветер на Северо-Восточном гребне, похоже, ослаб до такой степени, что не поднимает никакого султана. Температура на Северном седле этим днем около семидесяти градусов. Сильный ветер, не утихавший всю минувшую неделю, сдул почти весь снег со скалистых гребней, и даже Большое ущелье как будто уменьшилось в размерах. Но сегодня никого из нас на горе нет. Все — шерпы, доктор Пасанг, леди Бромли-Монфор, Дикон, Же-Ка и я — преодолеваем одиннадцать миль по долине до монастыря Ронгбук от базового лагеря, чтобы получить благословение Дзатрула Ринпоче. Гнев Дикона на эту бессмысленную потерю двух самых подходящих для восхождения дней за целый месяц — а может, и целый год — проявляется в виде сжатых губ и напряженного выражения лица. Мы с Жан-Клодом ждем, когда ярость Ричарда обратится на нас. Шерпы выглядят очень довольными, словно школьники на каникулах. Похоже, никто из них не опечален внезапной смертью Бабу Риты. Я обращаюсь за разъяснением к Пасангу. — Они считают, что если Бабу Рите было суждено погибнуть в горах, значит, его смерть неизбежна, и нет особой причины печалиться. Наступил новый день, — говорит наш сирдар. Я качаю головой. — Тогда почему им так хочется получить благословение от настоятеля монастыря, Дзатрула Ринпоче? Если судьба все равно предопределена, на что может повлиять благословение святого человека? Пасанг улыбается своей сдержанной улыбкой. — Не просите меня, мистер Перри, объяснить внутренние противоречия, которые так часто встречаются во всех религиях.
Вчера мы завернули тело Бабу в самую чистую и самую белую палаточную ткань, какую только смогли найти, и шерпы из базового лагеря положили тело на носилки, которые укрепили на спине яка. Шесть шерпов во главе с доктором Пасангом оседлали пони и сопровождали тело Бабу в монастырь. Не зная, что делать, если нас пригласят на церемонию погребения, которую по просьбе Бабу должен был выбрать Дзатрул Ринпоче, мы с Жан-Клодом взяли груз из продуктов и кислорода — а также упаковку с таинственным «велосипедом» — и прошли с ним одиннадцать миль по «корыту» и леднику Северный Ронгбук до третьего лагеря. Узнав, что Реджи и Дикон по-прежнему находятся в четвертом лагере на Северном седле или выше, мы отправили Ричарду сообщение о смерти Бабу, но в ответной записке он писал, что поскольку мы не занимаемся похоронами Бабу, то он останется в высотных лагерях. Оставив часть груза (у Жан-Клода практически остался один «велосипед»), мы с Же-Ка с помощью перил и лестниц поднялись на Северное седло. Чувствуя себя виноватыми во всем, мы решили — не сговариваясь — не использовать кислород, пока поднимались по стене из льда, а сберечь его для следующих дней. Нас сопровождали двое шерпов. Же-Ка оставил шерпов с собой на краю ледяной полки. — Иди вперед, к четвертому лагерю… С помощью Дорджея и Намгьи я соберу «велосипед», а когда мы тут закончим, присоединюсь к вам. Добравшись до четвертого лагеря через ослепительно белую впадину Северного седла, я узнал от Реджи, что Дикон и четверо шерпов, включая Тенцинга Ботиа и Тейбира Норгея, только что вернулись на Северное седло, преодолев первый участок Северного гребня, и поставили две палатки на том месте, которое он выбрал для пятого лагеря, там, где Северный гребень слегка понижается до высоты чуть больше 25 000 футов. На такой высоте ультрафиолетовые лучи сделали лицо Дикона почти черным. Он улыбнулся нам и сказал: — Если погода не испортится, мы можем завтра выдвинуться к вершине из пятого лагеря. На лице Реджи — она пришла в лагерь часом раньше, привела из четвертого лагеря четырех шерпов с грузом — написано сомнение. Северное седло за ее спиной и вокруг нас ослепительно сверкает и пышет жаром. Я не снимаю защитных очков с затемненными стеклами из крукса. Дикон жадно глотает ланч — подогретый картофельный суп, говяжий язык, шоколад, какао — и предлагает днем спуститься в третий лагерь, на следующий день снова вернуться сюда, в четвертый, а затем подняться в пятый лагерь и переночевать там. Если погода не изменится, мы можем выйти из пятого лагеря посреди ночи, чтобы попытаться взойти на вершину в пятницу, 15 мая. — Значит, мои валлийские лампы все же могут оказаться полезными? — В голосе Реджи сквозит ирония. Дикон слишком взволнован, чтобы спорить. — Две палатки Мида, которые мы установили сегодня в пятом лагере, могут вместить максимум четырех человек. Я предлагаю, чтобы мы вышли в ночь на пятницу двумя связками, мы с Тенцингом Ботиа в первой, а вы — Джейк и Жан-Клод — во второй. Все с кислородными аппаратами. При минимальном расходе запаса кислорода в баллонах хватит на период от пятнадцати до шестнадцати с половиной часов. Достаточно времени, чтобы подняться на вершину и вернуться в пятый лагерь до захода солнца. — А каково мое место в ваших планах? — спросила Реджи. Дикон молча смотрел на нее. — Вы обещали, что по пути наверх мы будем искать останки Персиваля, — продолжала Реджи. — Значит, я должна проследить, что мы действительно ищем. Дикон нахмурился и снова принялся грызть шоколад. — Мои планы никогда не предполагали вашего восхождения на вершину, леди Бромли-Монфор. — А мои предполагали, мистер Дикон. Я пытался отдышаться после подъема на Северное седло без кислорода и не принимал участия в споре. Мои мысли были далеко от вершины Эвереста — перед глазами стояло лицо мертвого Бабу Риты и его широко раскрытые глаза. И тут мы заметили Пембу, который в одиночестве шел к нам от ледяной «полки» по отмеченной вешками тропе. Никто не произнес ни слова, пока шерпа не подошел к нам. Новости нас ошеломили. Дзатрул Ринпоче прислал сообщение, что на следующий день, в четверг, мы все должны прибыть в монастырь Ронгбук за благословением. Небесные похороны Бабу Риты, сказал Пемба, состоятся на восходе солнца в пятницу, но приглашены будут только его близкие родственники. — Проклятье! — зарычал Дикон. — Черт возьми, лучшая погода за целый год… и мы так близко к тому, чтобы подняться на гору… Такой погоды у Джорджа Мэллори никогда не было… и этот чертов старик, буддийский настоятель, зовет нас всех к себе? К черту! Я не пойду. — Мы все идем, — сказала Реджи. — Это не похороны Бабу, — не сдавался Дикон. — Просто еще одно проклятое благословение, за которое нам придется заплатить — дать по две рупии каждому шерпе, чтобы у них были деньги заплатить этому главному ламе за благословение. Меня уже дважды благословляли, и мне кажется, черт возьми, что этого вполне достаточно, и в такую погоду я лучше пойду к вершине Эвереста, чем весь день завтра буду сидеть в этом вонючем монастыре. — Мы все должны прийти, — настаивала Реджи. В ее голосе сквозило… облегчение. — Не пойду. — Дикон отставил котелок, который со звоном опустился на лед рядом с маленькой печкой «Унна». — Собираетесь пойти к вершине без шерпов? — спросила Реджи. — Если потребуется, то пойду. — Дикон посмотрел на нас с Жан-Клодом. — В связке нас будет трое, друзья мои, и завтра в пятый лагерь мы возьмем только кислородные баллоны, дополнительную одежду и немного еды в карманах. Реджи покачала головой. — Это будет не только оскорбление Дзатрула Ринпоче, мистер Дикон. Попытка взойти на вершину в день благословения святейшего будет вам стоить лояльности всех шерпов. Они очень ждали этого благословения. Если вы оскорбите ламу и попытаетесь подняться на гору без благословения Дзатрула Ринпоче, многие шерпы покинут экспедицию — причем немедленно. — Проклятье! — повторил Дикон. — Джейк, Жан-Клод, вы же пойдете со мной, да? Я знал, что ответит Жан-Клод, прежде чем он успел раскрыть рот. — Нет, Ри-шар. Мы спустимся вместе с Реджи и остальными, чтобы получить благословение и почтить память Бабу Риты.
В четверг утром, когда мы покидаем базовый лагерь, чтобы проделать 11-мильный путь по долине за благословением ламы, стоит прекрасная погода. Даже обмороженные Анг Чири и Лакра Йишей — обморожения у последнего оказались серьезнее, чем казалось вначале, и обоим шерпам пришлось ампутировать по нескольку пальцев на ногах — расположились верхом на мулах, которых ведут их товарищи. Доктор Пасанг едет на маленьком пони; у Реджи лошадь чуть побольше. Дикон идет пешком, без труда поспевая за медленно бредущими пони. Его лицо замкнуто, словно ворота замка перед вражеской армией. Я сжимаю пятками ребра пони, догоняю Реджи и Пасанга и расспрашиваю о монастыре и его настоятеле. — Дзатрула Ринпоче считают воплощением Падмасамбхавы, — говорит Реджи и в ответ на мой недоуменный взгляд прибавляет: — Вы видели изображение Падмасамбхавы на всем пути через Тибет, Джейк. Это бог с девятью головами. — Понятно. — Монастырь Ронгбук — самый высокогорный монастырь во всем Тибете… и во всем мире, если уж на то пошло, — продолжает Реджи. — Верующие совершают сюда паломничества круглый год. Многие ложатся ничком на землю каждые несколько ярдов… и так сотни миль. Горы вокруг нас изобилуют пещерами, где живут святые, ушедшие из мира. Ламы монастыря говорят, что многие из этих святых людей — у них нет практически никакой одежды, а зимы здесь ужасные — могут прожить на трех зернышках ячменя в день. Я поворачиваюсь к доктору Пасангу, который едет между нами. — Вы во все это верите? Пасанг сдержанно улыбается. — Не спрашивайте меня, мистер Перри. Я принадлежу к Римско-католической церкви. С самого детства. Он достаточно вежлив и делает вид, что не замечает мой приоткрытый от удивления рот. — Как вы думаете, Джейк, сколько лет монастырю Ронгбук? — Реджи смотрит на меня. — Попробуйте угадать. Я вспоминаю, каким древним выглядел храм с осыпающимися чортенами и другими святилищами, когда мы останавливались там по пути в базовый лагерь. — Тысяча лет? — Нынешний настоятель, Дзатрул Ринпоче, начал строить монастырь всего двадцать четыре года назад, — говорит Реджи. — Тогда ему было тридцать пять, и его звали Нгаванг Тенцин Норбу. Он сумел стать покровителем торговцев в Тингри и шерпов, живущих и проповедующих в районе Нангпа Ла и других перевалов в Солу Кхумбу в Непале. Кое-кто здесь называет его Сангье Будда, или Будда Ронгбука. Он выбрал себе имя Дзатрул Ринпоче, живое воплощение легендарного гуру Ринпоче — Великого Учителя — и духовного мастера чод. — Что такое чод? — вынужден спросить я. — Это одна из буддистских духовных практик, — отвечает Реджи. — В буквальном смысле означает «отсечение» от той иллюзии, корой является мир. Впервые практиковать чод начали здесь, в долине Ронгбук — Мачиг Лабдрон, жившая в одиннадцатом веке йогиня… нечто вроде тантрической волшебницы. Мачиг Лабдрон стала известным буддистским ученым в возрасте семи лет и остаток жизни посвятила освобождению своего разума от всего рационального. — Иногда мне кажется, что я делаю то же самое, — замечаю я. С каждым часом у меня усиливается чувство вины за смерть Бабу Риты, не говоря уже об ампутации пальцев у Анга и Лакры — и все это из-за нашего с Жан-Клодом неумения руководить людьми. Реджи внимательно смотрит на меня. — Мачиг Лабдрон пришла в Ронгбук девятьсот лет назад, чтобы сокрушить всю ортодоксию своей техникой чод. Она учила, что только в таких вселяющих страх, суровых местах, как Ронгбук и скованные льдом горы вокруг него — или в населенных духами склепах, кладбищах, местах небесного погребения, — в самых грязных, самых убогих и опасных местах можно найти источник истинного духовного преображения. Я трясусь на своем крошечном пони и размышляю. Впереди уже виднеются низкие крыши монастыря Ронгбук. Мои мысли прерывает Пасанг: — Мачиг Лабдрон однажды написала: «Без того, чтобы сделать действительность хуже, невозможно достичь освобождения… Посему удаляйтесь в страшные места и убежища в горах… чтобы не отвлекаться на догматы и книги… а просто постигать мир… в ужасе и одиночестве». — Другими словами, — говорю я, — посмотрите в лицо своим демонам. — Совершенно верно, — подтверждает Реджи. — Принести свое тело в дар демонам гор и пустыни. Это лучший способ сбросить остатки тщеславия и гордости. — Это уж точно, — говорю я. — В качестве духовного учителя чод монастыря Ронгбук, — сообщает доктор Пасанг, — Дзатрул Ринпоче отправил в горы сражаться с демонами больше тысячи искателей мудрости. Большинство не вернулись, и считается, что они достигли просветления в своих горных пещерах. — Думаю, к этому списку можно добавить еще четыре имени. — Я имею в виду Мэллори, Ирвина, Бромли и теперь Бабу Риту, но вслух спрашиваю: — Дзатрул Ринпоче дает советы, как обращаться с йети? Реджи улыбается. — Кстати, один юный будущий аскет как-то спросил Ринпоче, что ему делать, если в его пещере появится йети. Учитель ответил: «Разумеется, пригласить его на чай!» Представив себе эту картину, мы умолкаем, и оставшаяся часть пути до монастыря Ронгбук проходит в молчании.
Мы ждем в приемной на первом этаже около полутора часов, но ламы приносят нам ланч, состоящий из йогурта, риса и очень густого, почти до тошноты, чая с маслом. Деревянные чашки чистые, но палочки для еды обгрызены бесчисленными зубами, прикасавшимися к ним до нас. С их помощью мы также обмакиваем редис в жгучий черный перец, от которого у меня начинает течь из глаз и носа. В конце концов нас приглашают наверх, и мы — и вслед за нами шерпы со склоненными головами — поднимаемся по лестнице на полузакрытую веранду на крыше, где Дзатрул Ринпоче ждет нас на металлическом троне, который выглядит в точности как железный остов кровати красного цвета. Нас, сахибов, и Пасанга проводят к скамьям с красивой обивкой по обе стороны алькова, а большинство шерпов опускаются на четвереньки на холодный камень пола, склонив голову и не поднимая взгляда. Я начинаю понимать, что в глаза человека-бога смотреть не принято. Но ничего не могу с собой поделать. Первое, на что я обратил внимание во внешности Дзатрула Ринпоче, воплощения богочеловека Падмасамбхавы, это его необычно большая голова, по форме напоминающая гигантскую сплющенную тыкву. Дикон рассказывал мне, что запомнил широкую, искреннюю, заразительную улыбку святейшего ламы. Улыбка на неестественно широком лице человека-бога действительно была широкой, но с тех пор, как Дикон видел настоятеля в последний раз, тот, похоже, лишился нескольких зубов. Голос у Ринпоче чрезвычайно низкий и грубый, словно охрипший от многочасовых молитв. Внезапно до меня доходит, что он не молится, а задает вопрос Дикону или Реджи — или обоим. Как бы то ни было, Реджи переводит: — Дзатрул Ринпоче хотел бы знать, почему мы опять пытаемся подняться на Джомолунгму, после гибели стольких путешественников-сахибов и шерпов. — Можете сказать ему… «потому что она есть», — предлагает Дикон. Лицо нашего английского друга по-прежнему мрачное и напряженное. — Могу, — соглашается Реджи. — Но не скажу. Хотите дать другой ответ, или мне ответить самой? — Валяйте, — рычит Дикон. Реджи поворачивается к святейшему ламе, кланяется и говорит на быстром и мелодичном тибетском наречии. Улыбка Ринпоче становится еще шире, и он слегка наклоняет голову. — Вы сказали ему, что мы пришли затем, чтобы найти и должным образом похоронить тело вашего кузена Персиваля, — возмущенно говорит Дикон. Реджи бросает на него короткий взгляд. — Я в курсе, мистер Дикон, что вы немного знаете тибетский. Если не хотите, чтобы я отвечала, можете поговорить с Его Святейшеством без переводчика. Дикон молча качает головой и еще больше мрачнеет. Ринпоче снова что-то произносит, и Реджи кивает, а затем переводит для Дикона, Же-Ка и меня. — Его Святейшество напоминает, что на подступах к вершине Джомолунгмы очень холодно и что там много опасностей для тех, кто не следует Пути. Там нечего делать, говорит он, кроме практики дхармы. — Смиренно попросите его благословения и защиты, — говорит Дикон. — И заверьте Его Святейшество, что мы не будем убивать животных во время стоянки на леднике Ронгбук. Реджи переводит. Ринпоче кивает, как будто довольный, потом что-то спрашивает. Не посоветовавшись с Диконом, Реджи отвечает. Настоятель снова кивает. — Его Святейшество говорит, что он вместе с другими ламами следующие две недели будет проводить в монастыре очень мощный ритуал, и предупреждает, что такой ритуал всегда будит демонов и злых божеств горы. — Поблагодарите его, пожалуйста, за предупреждение, — отвечает Дикон. Реджи передает его слова Ринпоче, который отвечает довольно длинной тирадой. Реджи слушает, низко склонив голову, и отвечает святейшему ламе короткой, почти музыкальной фразой на тибетском. — Что? — интересуется Дикон. — Его Святейшество похвалил меня, — объясняет Реджи. — Он говорил, что при каждой нашей встрече все больше убеждается, что я — реинкарнация тантрической волшебницы одиннадцатого века Мачиг Лабдрон и что если бы я совершенствовала свой чод, то могла бы стать хозяйкой Джомолунгмы и всех окрестных гор и долин. — И что вы ответили? — спрашивает Дикон. — Я уловил лишь тибетское слово «недостойный». — Да, я сказала, что недостойна подобного сравнения, — говорит Реджи. — Но призналась, что практика чод меня привлекает, особенно теперь, когда, как я уже говорила, мир от меня устал. — Можно задать вопрос? — шепчет Жан-Клод. — Только один, — предупреждает Реджи. — Нужно приступать к церемонии благословения, если мы хотим вернуться в базовый лагерь к ужину. — Я просто хотел знать, — шепотом продолжает Же-Ка, — действительно ли Джомолунгма означает «Божественная Мать Жизни», как говорил полковник Нортон и остальные. Реджи улыбается и передает вопрос Ринпоче с громадной головой. Старик — ему еще не исполнилось семидесяти, но выглядит он старше — снова улыбается и отвечает мелодично, похожей на молитву фразой. — Не совсем так, говорит Ринпоче, — переводит Реджи. — Его Святейшество благодарит вас за вопрос. Он утверждает, что сахибы всегда дают здешним местам названия, которые им нравятся, не обращая внимания на настоящие. Название Джомолунгма, говорит он, можно произнести так, что оно будет означать «Божественная Мать Жизни», но те, кто живет рядом с горой, обычно называют ее по-тибетски, Канг Джомолунг, что означает нечто вроде «Снег Земли Птиц». Однако, по его мнению, такой перевод с тибетского имени горы, которую мы называем Эверест, слишком упрощен. Более точный перевод имени Джомолунгма, говорит Его Святейшество, должен звучать так: «высокий пик, который можно видеть сразу с девяти сторон, с вершиной, которая становится невидимой, когда подходишь ближе, такая высокая гора, что все птицы, пролетающие над ее вершиной, мгновенно слепнут». Мы с Жан-Клодом переглядываемся. Думаю, мы оба уверены, что Его Святейшество нас разыгрывает. Снова грохочет низкий голос Дзатрула Ринпоче. Реджи переводит. — Его Святейшество решил, что наш умерший, Бабу Рита, удостоится небесного погребения завтра на восходе солнца. Ринпоче спрашивает, есть ли среди нас близкие родственники Бабу Риты, которые могут пожелать остаться на церемонию. Реджи затем переводит вопрос на непальский, но шерпы не поднимают взгляда. Очевидно, родственников Бабу Риты среди них нет. Не сговариваясь и даже не взглянув друг на друга, мы с Жан-Клодом встаем и делаем шаг вперед, почтительно склонив голову. — Пожалуйста, — говорю я, — мы с другом хотим, чтобы нас считали родственниками Бабу Риты и оказали нам честь, разрешив присутствовать на церемонии погребения завтра утром. Я слышу, как скрипят стиснутые зубы Дикона. И, кажется, могу прочесть его мысли: «Еще одно потерянное утро и потерянный день для восхождения». Мне плевать. И Же-Ка тоже — я в этом уверен. Бессмысленная смерть Бабу потрясла меня до глубины души. Реджи переводит, и Его Святейшество дает разрешение. Затем Реджи говорит Норбу Чеди, который немного говорит по-тибетски и по-английски, чтобы тот остался с нами на ночь и помог, если потребуется, переводить. Дзатрул Ринпоче кивает, и снова раздается его низкий голос. — Пора приступать к благословению, — говорит Реджи.
Сама церемония благословения для всех нас, сахибов и шерпов, занимает меньше сорока пяти минут. Дзатрул Ринпоче что-то произносит нараспев своим хриплым голосом — я так и не понял, это связные предложения, молитва или то и другое вместе, — а потом один из старших лам жестом приглашает благословляемых выйти вперед и получить его или ее благословение. Реджи и Дикона приглашают одновременно, и настоятель взмахом руки приказывает преподнести им подарки: каждый получает изображение Тринадцатого Далай-ламы и кусок шелка, слишком короткий, чтобы служить в качестве шарфа. Реджи и Дикон низко кланяются, но я замечаю, что они не опускаются на колени, как шерпы. Реджи хлопает в ладоши, и четверо шерпов приносят подарок для Ринпоче: четыре мешка готовой цементной смеси. Дзатрул Ринпоче снова широко улыбается, и я понимаю, что цемент пойдет на ремонт чортенов и других относительно новых построек на территории монастыря, которые разрушаются потому, что сооружены в основном из глины, камней, слюны и добрых намерений. Четыре мешка — это груз одного мула во время перехода (и источник еще одного конфликта между Диконом и Реджи), но, судя по радости святейшего и других лам, подарок чрезвычайно ценный. Когда меня вызывают вперед, я низко кланяюсь, и Ринпоче дотрагивается до моей головы предметом, который похож на белую металлическую перечницу, хотя Же-Ка сказал мне, что это одна из разновидностей молитвенного колеса. Вскоре все мы, сахибы, получили соответствующее благословение, и наступает очередь шерпов. Это занимает немного больше времени, поскольку каждый шерпа падает ниц на холодный каменный пол и ползет к Ринпоче, не поднимая головы и не встречаясь взглядом со святым старцем, чтобы получить его благословение. Только у Пасанга такой вид, что он будет проклят, если его благословят; он наблюдает за церемонией с легкой улыбкой, удивленно, но уважительно, однако его не вызывают монахи, и он явно уже отказывался от подобного ритуала. Дзатрул Ринпоче, похоже, не обращает на это внимания. Наконец ритуальное благословение заканчивается, шерпы уходят — не поворачиваясь спиной к Ринпоче и другим ламам, — и настоятель обращается к нам (Реджи переводит): — Родственники умершего могут остаться для утреннего небесного погребения. Затем Его Святейшество тоже уходит. Мы с Же-Ка выходим из главного здания монастыря, чтобы попрощаться с Реджи, Пасангом и Диконом. Шерпы уже пустились в долгий путь к базовому лагерю. — Вы можете пожалеть, что решили присутствовать на небесном погребении, — говорит Ричард. Я спрашиваю почему, но Дикон игнорирует мой вопрос и заставляет пони пуститься в некое подобие галопа, торопясь догнать шерпов. — Расскажите нам об этом Падмасамбхаве, воплощением которого считается нынешний Ринпоче, — обращается Жан-Клод к высокому доктору. — Он был человеком или богом? — И тем, и другим, — говорит Пасанг. — В восьмом веке Падмасамбхава принес буддизм в Тибет, — прибавляет Реджи. — Он завоевал Джомолунгму с помощью буддийской истины, а затем сокрушил злую силу всех демонов, богов и богинь горы, превратив их в защитников дхармы. Самая мрачная и самая могущественная из демонических богинь, королева небесных танцовщиц дакини, была превращена в белоснежный пик Джомолунгму, а ее юбки простираются до самой долины Ронгбук. Первый из построенных здесь храмов воздвигли на ее левой груди. Под ее вульвой погребена белая раковина, которая по сей день является источником доктрины дхармы и буддийской мудрости. Я снова густо краснею. Сначала «яички», теперь «вульва»… Эта женщина предпочитает все говорить вслух. — Если гуру Ринпоче, — тихо говорит Жан-Клод, — Великий Учитель, Великий мастер, сам Падмасамбхава победил всех богов и демонов и превратил их в последователей Будды, почему Дзатрул Ринпоче говорит, что они сердятся и что он попросит за нас? Реджи улыбается и запрыгивает на своего белого пони. — Горные боги, богини и демоны укрощены по большей части для тех, кто следует Пути, Джейк, — говорит она. — Для тех, кто овладел дхармой. Но неверующие и те, у кого вера слаба, по-прежнему в опасности. Вы уверены, что хотите посмотреть небесное погребение? Мы с Же-Ка киваем. Реджи что-то говорит шерпе Норбу Чеди, затем пускает пони галопом, вдогонку за шерпами и Диконом. Их фигуры уже растворились в серых сумерках. Доктор Пасанг кивает нам и тоже торопится присоединиться к остальным. — Надвигается буря, — говорит он нам на прощание. Все вокруг серое. Снова появились облака, пошел снег, а температура упала градусов на тридцать, не меньше. — Муссон? — спрашиваю я. Же-Ка качает головой. — Этот фронт надвигается с севера. Муссон придет с юга и с востока, прижимаясь к Гималаям, пока не обрушится на вершины, словно цунами на низкий волнолом. Из здания выходят два монаха и что-то говорят Норбу Чеди. — Они покажут нам, где мы будем спать, — объясняет нам шерпа. — И еще будет легкая закуска из риса и йогурта.
Старые монахи — на двоих у них не больше пяти зубов — ведут нас в маленькую комнату, без окон, но с ужасными сквозняками, где, по словам Норбу, мы должны провести ночь, а на рассвете нас разбудят для участия в похоронах Бабу Риты. У нас одна свеча, три чашки риса, общая чашка йогурта и немного воды. На каменном полу расстелены три одеяла. Прежде чем уйти, монахи останавливаются в темной нише и высоко поднимают свои свечи, чтобы мы увидели настенную роспись. — Боже правый, — шепчу я. Дьяволы с раздвоенными копытами сбрасывают альпинистов в глубокую пропасть. Место для проклятых тут совсем не похоже на ад Данте, — снег, камень и лед. На фреске изображен вращающийся смерч, нечто вроде снежного торнадо, который уносит несчастных альпинистов все ниже и ниже. Гора — это, несомненно, Эверест, а по обе стороны от нее скалят зубы два сторожевых пса огромных размеров. Но большую часть фрески занимает фигура человека, лежащего у подножия горы, — в такой позе обычно изображают распростертую на алтаре жертву. Тело у человека белое, а волосы черные — явно сахиб. На нем многочисленные раны, один дротик все еще торчит из тела. Жертву окружают рогатые демоны, и, шагнув ближе, мы с Же-Ка видим, что живот у него вспорот. Он еще жив, но внутренности вывалились на снег. — Чудесно, — говорю я. Два монаха улыбаются, кивают и уходят, забрав с собой свечи. Мы садимся на холодный пол, заворачиваемся в одеяла и пытаемся есть рис с йогуртом. Поднявшийся ветер гуляет по всему монастырю, и его вой напоминает крики испуганной женщины. В комнате очень холодно и с каждой минутой становится все холоднее. — Интересно, сколько лет этой фреске, — произносит Жан-Клод. — Ее нарисовали только прошлой осенью, сахибы, — говорит Норбу Чеди. — Я слышал, как об этом говорили другие монахи. — После исчезновения Мэллори и Ирвина, — уточняю я. — Зачем? Норбу Чеди тыкает пальцем в свой рис. — В монастыре, в Тингри и других деревнях стали поговаривать, что сахибы в своих лагерях наверху оставили много еды — рис, масло, тсампу и всякое другое. — Что такое тсампа? — спрашиваю я. — Поджаренная ячменная мука, — объясняет Норбу Чеди. — В общем, когда деревенские жители и пастухи из долины поднялись на ледник Северный Ронгбук, чтобы забрать брошенную еду, то примерно в том месте, где вы с сахибом Диконом поставили третий лагерь, из своих ледяных пещер выскочили семь йети и погнались за молодыми пастухами и крестьянами, пока не прогнали с ледника и из долины. Поэтому Дзатрул Ринпоче приказал нарисовать эту картину — предупреждение жадным и глупым, которые хотят пойти за чужеземными сахибами в такие опасные места. — Замечательно, — говорю я. Мы сворачиваемся калачиком под своими одеялами, но холод не дает заснуть. До нас доносится свист гуляющего по монастырю ветра, приглушенный стук деревянных сандалий, монотонные молитвы и непрестанное шуршание вращающихся молитвенных колес. Не сговариваясь, мы оставляем горящую свечу между нами и фреской.
Пятница, 15 мая 1925 года Лама приходит за нами — я не могу сказать «будит нас», потому что ни я, ни Жан-Клод в ту ночь не сомкнули глаз — приблизительно в половине пятого утра. Норбу предпочел спать снаружи, на холодном ветру, и я его понимаю. Свеча в руках священника, как и все свечи в монастыре Ронгбук, представляет собой топленое масло в крошечной чашке. Запах ужасный. За бесконечную бессонную ночь я понял, что ненавижу все запахи в этом якобы священномместе. И дело не в грязи — монастырь Ронгбук можно назвать одним из самых чистых мест, которые я только видел в Тибете, — а скорее в вездесущей смеси из смрада немытого человеческого тела (тибетцы обычно принимают ванну раз в год, осенью) и горящего топленого масла, а также густого аромата благовоний и запаха самих камней здания, имеющего какой-то медный привкус, как у свежепролитой крови. Я ругаю себя за это последнее сравнение, поскольку буддисты в Тибете — противники всякого насилия. В соседних бейюлах — священных долинах, которые благодаря белой магии гуру Ринпоче много веков назад стали источником энергии дхармы, — животных не трогали на протяжении многих поколений. Дикон рассказывал нам, что дикий горный баран может зайти к тебе в палатку, дикие лебеди едят с руки. Говорят, даже гималайский белый волк здесь не убивает свою добычу. Из полумрака появляется монах, и мы следуем за ним и его мерцающей лампой через лабиринт комнат монастыря. Норбу Чеди трет глаза кулаками. К нам присоединяется второй монах. Я думал, что похоронный обряд будет проходить в самом монастыре, но монахи выводят нас через заднюю дверь и ведут по тропе, проложенной прямо по скале. Наша безмолвная процессия преодолевает лабиринт из огромных валунов, за которыми тропа уходит вверх. Место церемонии удалено от монастыря не меньше чем на полмили. Наконец мы останавливаемся на открытой площадке, где четверо тибетцев — очень бедных, если судить по тряпкам, прикрывающим их тела, — ждут нас около необычного плоского камня. Позади большого каменного алтаря (по крайней мере, так мне кажется) на более высоких скалах вырезаны фигуры, напоминающие гигантских горгулий. Первый монах что-то произносит, и Норбу Чеди переводит нам: — Священник говорит, что эти четыре тибетца — отец, два сына и внук из семьи Нгаванг Тенцин, и они будут могильщиками Бабу Риты. Священник говорит, что во время церемонии вы можете сидеть здесь. — Норбу Чеди указывает на длинный плоский камень и уходит. — Погоди! — окликает его Жан-Клод. — Разве ты не останешься с нами? — Не могу, — не оборачиваясь, отвечает Норбу Чеди. — Я не родственник Бабу Риты. И мне не положено видеть небесное погребение. — Он ныряет в темный лабиринт из камней и исчезает в нем вместе с двумя монахами, которые привели нас сюда. На востоке небо начинает светлеть, но день обещает быть облачным и холодным. Я захватил с собой еще один свитер, который натянул ночью, но ни он, ни фланелевая рубашка, ни тонкая норфолкская куртка не в состоянии меня согреть. Я жалею, что не положил в рюкзак пуховик Финча вместо двух шоколадок и свитера. Же-Ка тоже дрожит от холода. Мы киваем семье Нгаванг Тенцин — старику с седой щетиной на лице, вероятно дедушке, двум тучным мужчинам средних лет, у которых на двоих всего две брови, и худому, как щепка, мальчику, скорее всего, подростку, выглядящему младше своих лет. Никто из них не отвечает на приветствие. Похоже, мы кого-то ждем. Наконец из каменного лабиринта выходят четыре священника, вероятно, выше рангом, чем те монахи, которые привели нас сюда. Сам монастырь находится внизу, за нашими спинами, и отсюда не виден. Я почему-то ждал, что обряд небесного погребения будет проводить сам Дзатрул Ринпоче. Но, по всей видимости, простой шерпа у белых сахибов не заслуживает присутствия святейшего ламы и реинкарнации Падмасамбхавы. За этими священниками идут четыре прислужника с телом Бабу Риты — по-прежнему на импровизированных носилках, которые мы соорудили, чтобы доставить его в монастырь. Четыре ручки носилок лежат на плечах прислужников, а белая палаточная ткань, которая служила саваном для Бабу Риты, теперь заменена белой полупрозрачной тканью, похожей на шелк. Они ставят носилки на широкий низкий камень, вокруг которого ждет семья Нгаванг Тенцин — их род занятий Норбу Чеди определил как «убирающие мертвых». Предрассветное небо светлеет, и я вижу, что фигуры на высоких камнях, которые я принял за горгулий, на самом деле живые бородатые грифы. Огромные. Они не шевелятся. Их жадные взгляды не отрываются от маленького тела под полупрозрачной тканью. Начинает моросить мелкий дождик. Мы с Жан-Клодом стоим и смотрим: четверо священников и четверо монахов нараспев произносят свои странные молитвы, а два священника обходят громадный камень с телом Бабу Риты, время от времени посыпая его каким-то белым порошком. Наконец священники умолкают и отступают в тень каменного лабиринта, где их молча ждут прислужники, которые несли носилки. Но никто не уходит. Три поколения семьи Нгаванг Тенцин — «убирающие мертвых» — во время церемонии стоят на почтительном расстоянии от камня, едва различимые в полутьме. — Что это? — шепчу я Жан-Клоду. — Неужели небесное погребение закончилось? — Не думаю, — шепчет в ответ мой друг. В его интонации мне чудится что-то зловещее. Члены семьи Нгаванг Тенцин открывают несколько сумок из дубленой кожи и черные тряпки, наполненные острыми инструментами: длинные и изогнутые разделочные ножи, секачи для мяса, ручные пилы, маленький топорик, большой секач и другие лезвия, а также массивные каменные молотки. И тут же принимаются за работу. Они сбрасывают белый саван, открывая смуглое обнаженное тело бедного Бабу Риты. Он лежит на спине, руки вдоль туловища ладонями вниз, глаза уже запали, и выглядит очень маленьким. Мы с Же-Ка инстинктивно отводим взгляды, пытаясь оказать хоть какое-то уважение нашему другу шерпе. Но можно было не беспокоиться. Седой дедушка Нгаванг Тенцин искусно орудует разделочным ножом в одной руке и большим секачом в другой. Быстрее, чем я успею об этом написать, он отделяет обе ладони и обе ступни, а затем двумя сильными ударами секача обезглавливает труп. Двое его сыновей рубят и пилят то, что осталось от рук и ног Бабу Риты. Звук вгрызающейся в кости и суставы пилы эхом отражается от скал. Младший Тенцин маленьким топориком принимается отрубать пальцы мертвого Бабу Риты, а затем каменным молотком разбивать их на еще более мелкие кусочки. Эти кусочки затем превращаются в мягкую массу. Трое старших теперь принимаются за тело Бабу. Сердце, легкие, печень, кишки и другие внутренние органы нашего друга бесцеремонно вынимают и бросают в каменную чашу. Дедушка металлическим прутом разбивает на куски ребра. Плоть отделяется от костей. Мужчины и мальчик Нгаванг Тенцин переворачивают то, что осталось от туловища Бабу Риты, на живот, разрубают и извлекают позвоночник. Его они тоже расплющивают в однородную массу. Звуки, которые при этом раздаются… ни с чем невозможно сравнить. Когда все раскромсано и расплющено, мальчику доверяют кидать маленькие кусочки, по одному, ждущим стервятникам. Уродливые пожиратели падали спрыгивают к каждому куску, падающему среди камней, но не дерутся и не отгоняют друг друга — я слышал, что так происходит во время их трапезы над трупами в Африке и других местах. Как будто эти бородатые ветераны небесных погребений знают, что еды хватит на всех. Расчленив Бабу Риту на маленькие куски, которые можно проглотить — в том числе голову с раздробленным черепом, из которого вырвали глаза и бросили ожидающим стервятникам, и серой массой, в которую превратил мозг юный могильщик, — «убирающие мертвых» смывают с плоского камня кровь, вылив на него несколько ведер воды. Затем четверо «убирающих мертвых» удаляются. Восемь священников и служителей ушли раньше — пока мы с Же-Ка в ужасе смотрели на то, как разделывают труп. Жан-Клод кивает, и мы тоже уходим, огибаем монастырь по широкой дуге и присоединяемся к Норбу Чеди, который ждет нас на склоне с тремя пони. Не произнеся ни слова, мы ударяем пятками в бока пони и спешим на север, к базовому лагерю, прямо в пасть надвигающейся бури. Раньше наши маленькие пони добирались от монастыря Ронгбук до базового лагеря меньше чем за два часа. Но сегодня, в снежной завирухе, даже при том, что сильный холодный ветер дует нам в спину, дорога занимает больше трех часов. Первую половину пути мы с Же-Ка молчим. Наконец молчание нарушает Норбу Чеди: — Я несколько раз видел небесные погребения, сахибы. Больше не хочу. Нам с Жан-Клодом нечего на это ответить. В последний час пути, когда мы приближаемся к наполовину замерзшей реке чуть ниже морены и базового лагеря, Же-Ка поворачивается ко мне. — Наверное, в этом есть смысл, с культурной и практической точки зрения — десять месяцев в году земля в Тибете промерзшая и твердая, как камень. — Да, — соглашаюсь я. Но мне так не кажется. После продолжительного молчания Жан-Клод, убедившись, что Норбу Чеди нас не слышит, приближается ко мне и шепчет: — Если я погибну на этой горе, Джейк, проследи, чтобы мое тело похоронили в расселине или просто оставили там, где оно лежит. Хорошо? — Обещаю, — говорю я. — А ты сделаешь то же самое для меня, ладно? Же-Ка кивает, и последние пятнадцать минут пути к базовому лагерю сквозь метель на спине пони мы не обмениваемся ни словом.
Пятница, 15 мая 1925 г. Базовый лагерь, в который мы добираемся к полудню, почти пуст. Доктор Пасанг, разумеется, на месте — как и два его обмороженных пациента, отдыхающих в своих палатках. Пасанг произвел ампутации вчера, когда все вернулись из монастыря: все десять пальцев на ногах у Анга Чири, четыре пальца на ногах и три пальца на правой руке у Лакры Йишея. Обычно, объясняет нам Пасанг, он подождал бы еще несколько дней, прежде чем оперировать, но гангрена с пальцев на ногах Анга Чири стала распространяться на ступню, а также угрожала левой ноге и правой руке Лакры. Мы с Жан-Клодом навещаем обоих шерпов; настроение у Анга Чири лучше, чем когда-либо, и ему уже не терпится испытать свои альпинистские ботинки с деревянными клиньями в передней части и посмотреть, что значит обходиться без пальцев ног. Разумеется, мы с Же-Ка думаем — хотя и не говорим этого вслух, — что шерпе большую часть жизни придется провести дома, в сандалиях, а вовсе не в альпинистских ботинках английского фасона. Но эта небольшая разница, по-видимому, не беспокоит Анга Чири. Лакра, пострадавший меньше Анга, выглядит гораздо мрачнее. У обоих ноги забинтованы, и сквозь бинты проступают красно-желтые пятна йода. Лакра поддерживает правую руку, на которой осталось два пальца, и, едва не плача, повторяет, что — как перевел Пасанг — больше никогда не найдет работу. Выйдя из палаток, мы с Же-Ка рассказываем Пасангу об оптимизме Анга Чири. — Нельзя недооценивать воздействие небольшой дозы опия на настроение пациента после операции, — тихим голосом говорит он. В базовом лагере остались только пять шерпов, и Пасанг сообщает нам, что вчера Реджи и Дикон отправили большинство людей на доставку грузов в «верхние» лагеря, то есть третий лагерь у подножия последнего ледового склона и в четвертый лагерь на Северном седле. Кроме того, по словам Пасанга, сегодня приходил гонец с сообщением, что сильный ветер и густой снег остановили всех, за исключением Дикона, Реджи и двух «тигров», ниже Северного седла, и Пасанг предполагает, что даже эти четверо теперь уже могли вернуться в третий лагерь. По крайней мере, во втором и третьем лагерях много палаток, спальных мешков и еды для многочисленных шерпов, которые через них проходят. Пасанг говорит нам, что сам хочет подняться в верхние лагеря, когда два его пациента немного окрепнут. Разумеется, при условии, что больше не будет серьезных травм и ему не придется снова доставлять раненого или раненых в базовый лагерь. Мне кажется, Пасанг не желает разлучаться со своим работодателем — леди Бромли-Монфор — на такое долгое время. Мы с Жан-Клодом принимаем решение отнести часть груза в самый высокий лагерь, до какого только сможем сегодня добраться — несмотря на то, что выйдем из базового лагеря довольно поздно. Думаю, нам обоим требовалось выложиться по полной на восхождении и переноске грузов, чтобы избавиться от ужасного послевкусия предрассветного «небесного погребения». Мне — уж точно. Многие кислородные аппараты были уже доставлены шерпами в следующие лагеря, но мы с Же-Ка проверяем два таких комплекта — во всех шести баллонах практически нет утечки — и закидываем за спину, чтобы отнести их как можно выше до наступления ночи. Взяв модифицированные Ирвином и Финчем кислородные комплекты — сегодня мы не собираемся дышать «английским воздухом», и поэтому маски и клапаны прикреплены к металлической раме, — мы уже приблизились к установленному Диконом максимальному весу груза в 25 фунтов, но нам нужно захватить с собой и личные вещи, если мы хотим ночевать в верхних лагерях — и, возможно, оставаться там до попытки штурма вершины. Поэтому мы берем с собой две сумки с плечевыми лямками для переноски на груди — на самом деле сумки для противогазов (без самих противогазов), оставшиеся после войны, которые Дикон задешево купил оптом. В них прекрасно размещаются дополнительная одежда, бритвенные приборы — я не пользовался им целую неделю, потому что ненавижу бриться холодной водой, — фотоаппарат, туалетная бумага и все остальное. Вполне возможно, что в верхних лагерях есть лишние спальные мешки, но мы с Же-Ка не желаем рисковать — туго сворачиваем спальники, надеваем на них защитные водонепроницаемые чехлы и привязываем к внешним металлическим планкам рамы кислородных аппаратов. У нас с собой полный набор ледорубов самых разных размеров (расчехлены и извлечены из рюкзаков только самые длинные), а также два жумара Жан-Клода. Мы надеваем свои «кошки» с 12 зубьями (несмотря на тот факт, что большая часть пути проходит по камням морены), а также пуховики Финча, подбитые пухом брюки Реджи, а сверху анораки «Шеклтон» и плотные брюки — сегодня довольно холодно и идет снег. Мы обмениваемся рукопожатиями с Пасангом и пускаемся в путь по каменной долине между стенами грязного моренового льда и редкими ледяными пирамидами. Погода не улучшается, и видимость снижается футов до пятнадцати. Ветер здесь, в долине Ронгбук, еще сильнее, а крупинки снега врезаются в наши лица, словно заряды дроби. Связавшись сорока футами «волшебной веревки Дикона» и закинув дополнительные бухты веревки на плечи, мы с Жан-Клодом (я впереди) направляемся к Северному седлу, от которого нас отделяют двенадцать миль долины и ледник.
За весь долгий путь вверх по «корыту», а затем по леднику выше второго лагеря, мы с Же-Ка обменялись лишь несколькими необходимыми фразами. Каждый был погружен в свои мысли. Я размышляю о смерти в горах. Кроме искренней вины за бессмысленную гибель Бабу из-за нашего мальчишества, я вспоминаю и другие смерти в горах, и свою реакцию на них. Мне уже приходилось сталкиваться с такими случаями. Я уже упоминал о Гарвардском альпинистском клубе, который официально открылся только в прошлом, 1924 году, но во время моей учебы в университете с 1919 по 1923 год несколько человек — в альпинистских кругах нас называли «гарвардской четверкой» — все каникулы и все свободное время проводили в горах, в близлежащих Куинси-Куоррис весной-осенью и в горах Нью-Гемпшира зимой. Нашим неформальным лидером был инструктор Генри С. Холл, основавший клуб в 1924 году, и наша разношерстная команда альпинистов обычно встречалась у него дома. В нее входили также Террис Картер (мы с ним ровесники) и Эд Бейтс, на год младше нас, маленького роста, с нелепой, но на удивление эффективной техникой. Профессор Холл и его старшие и более опытные товарищи предпочитали канадские Скалистые горы и иногда Аляску. На втором курсе, ранней осенью во время каникул, мы вчетвером поднимались на Маунт-Темпл в Альберте на Восточном гребне — сегодня ее отнесли бы к классу сложности IV 5.7, — когда Эд поскользнулся, оборвал 60-футовую веревку, которой был связан со мной и Террисом, и разбился насмерть. Мы не были готовы его подстраховать, а падение Эда было таким внезапным и отвесным, что, если бы веревка не оборвалась, мы с Террисом непременно сорвались бы с северной стены и полетели в пропасть вслед за ним. Конечно, мы оплакивали смерть Эда, как только молодые люди могут оплакивать смерть ровесника. Я пытался поговорить с родителями Эда, когда те приехали в Гарвард, чтобы забрать его вещи, но сумел выдавить из себя только всхлип. Когда возобновились занятия, я стал пропускать лекции — просто сидел в своей комнате, погруженный в мрачные мысли. Я был уверен, что с альпинизмом покончено. Тогда-то ко мне и пришел профессор Холл. Он сказал, чтобы я либо посещал занятия, либо бросал университет. Сказал, что так я впустую трачу родительские деньги. Что касается альпинизма, Холл сообщил, что ведет студентов на гору Вашингтон, как только выпадет первый снег, и что я должен решить, либо я продолжаю — он считал, у меня есть способности, — либо бросаю прямо сейчас. «Смерть можно считать неотъемлемой частью этого спорта, — сказал мне профессор Холл. — Очень несправедливо, но это факт. Когда погибает друг или партнер, ты должен оставаться альпинистом, Джейк, ты должен научиться говорить смерти „пошла ты на хер“ и идти дальше». Я еще никогда не слышал, чтобы так выражался учитель или профессор, и это произвело на меня большое впечатление. Как и урок, который он мне преподал. За последние несколько лет занятий альпинизмом я научился — по крайней мере, отчасти — говорить смерти «пошла ты на хер» и идти дальше. За те несколько месяцев, что я провел в Альпах с Диконом и Же-Ка, мы не меньше пяти раз участвовали в спасательных операциях, причем три раза после трагедии. Конечно, я не был знаком с погибшими альпинистами, но узнал, какие ужасные повреждения получает человеческое тело при падении с высоты: сломанные и оторванные конечности, разодранная о скалы одежда, повсюду кровь, расколотые черепа или вообще отсутствующие головы. Смерть при падении с большой высоты не назовешь благородной. Бабу Рита ниоткуда не падал; он просто последовал за двумя идиотами, скользящими по склону — такие склоны можно найти на горках для катания на санях в городских парках Америки. Только на горках обычно не бывает занесенных снегом камней. — Пошла ты на хер, — слышу я свой шепот. — Я иду дальше. Ветер завывает между ледяными пирамидами «корыта», и, выйдя на ледник, мы вынуждены откапывать веревочные перила, натянутые для безопасности между трещинами, но бамбуковые вешки с флажками указывают нам путь. Мы добираемся до третьего лагеря еще до начала сумерек, но Реджи и Дикона там нет. Теперь в третьем лагере шесть палаток — в том числе две большие палатки Уимпера, — но восемь шерпов набились в маленькие палатки Мида. Пемба жалуется, что все они плохо себя чувствуют: страдают от «горной усталости» — так в 1925 году мы называли высотную болезнь. Часть свернулась в спальных мешках, остальные завернуты в несколько слоев толстых одеял. Пемба говорит, что леди мемсахиб и Дикон сахиб в четвертом лагере на Северном седле, вместе с Тейбиром Норгеем и Тенцингом Ботиа. Ветер там, прибавляет он, просто ужасный. Мы с Жан-Клодом выбираемся из вонючей палатки и совещаемся. День клонится к вечеру, и мы не успеем добраться до четвертого лагеря до темноты. Но мы захватили с собой валлийские шахтерские лампы, а в моей противогазной сумке есть ручной фонарик. Кроме того, мы полны сил и не хотим сидеть на месте. Как ни странно, самой трудной частью восхождения оказывается засыпанная снегом нижняя часть склона, а затем — двести ярдов крутого участка, где начинаются перила, до вертикальной стены. Метель и опускающиеся сумерки скрывают камень, убивший Бабу, но я невольно представляю замерзшую кровь под свежевыпавшим снегом, словно клубничный джем под тонким ломтиком белого хлеба. Когда мы доходим до крутого подъема, приходится ледорубами откапывать из-под снега начало перил, а затем дергать за веревку, освобождая ее. Затем мы достаем из брезентовых сумок и надеваем головные лампы, достаем приспособления, которые Жан-Клод назвал жумаром в память о собаке, жившей у него в детстве. По крайней мере, он так говорил. Пока Же-Ка проверяет, правильно ли я защелкнул жумар на «волшебной веревке Дикона», я спрашиваю его: — Ты и вправду изобрел эту штуковину? Мой друг улыбается. — Изобрел, только вместе с отцом, который помогал молодому французскому джентльмену по имени Анри Брено, хотевшему получить механизм для передвижения по свободно висящим веревкам в пещерах. Поскольку заказ предназначался для одного человека, отец не стал патентовать устройство — как и Брено, который назвал довольно громоздкий механизм для подъема по веревке singe — обезьяна. Я решил его усовершенствовать, сделал меньше, использовал более прочный и легкий металл, добавил изогнутую ручку с ограничителем, придумал более мощный кулачок, который зажимает веревку, не соскальзывает и не повреждает ее, и… voilà! — А твою собаку действительно звали Жумар? Улыбка Жан-Клода становится шире, и он начинает подниматься — я уже начинаю мысленно называть это «жумарить» — по закрепленной веревке.
В прошлом году Мэллори, Ирвину, Нортону или любому другому альпинисту потребовалось бы четыре или пять часов, чтобы преодолеть эту ледовую стену, особенно при такой метели, которая теперь окружала нас с Жан-Клодом. Большую часть времени на этой стене Мэллори провел бы согнувшись почти пополам и с трудом вырезая ледорубом новые ступени из снега и льда. Мы с Же-Ка при помощи передних зубьев наших новых «кошек» и жумаров тратим на подъем меньше сорока пяти минут — и это с учетом отдыха на полпути, когда мы висим на веревке и грызем шоколад. Длинные ледорубы тоже идут в дело, но только для того, чтобы левой рукой воткнуть в снег для равновесия или сбить снег и лед, покрывающие следующие несколько ярдов закрепленной веревки над нами. Траверс по Северному седлу от ледяной полки до четвертого лагеря в северо-восточном углу под прикрытием высоких пирамид в такую бурю был довольно неприятным занятием, но Дикон и остальные проделали такую превосходную работу, расставив постоянные вешки с красными флажками, что даже при сильном ветре и почти нулевой видимости мы без труда находим дорогу по хорошо размеченному шоссе шириной восемь футов между невидимыми расселинами 100-футовой глубины. Четвертый лагерь теперь состоит из среднего размера палатки Уимпера, которую принесли сюда по частям, БПР — «большой палатки Реджи», — а также двух маленьких палаток Мида, в которых Дикон собирался складировать грузы для дальнейшего перемещения. Когда часть этих вещей попадет в пятый и шестой лагеря, палатки Мида и палатка Уимпера станут пристанищем для шерпов в предполагаемой линии снабжения. Наше появление застало Дикона и Тейбира Норгея врасплох — мы ныряем в дверь палатки Уимпера и стряхиваем снег с одежды в маленьком тамбуре и проходим внутрь. Представляю, что у нас за вид: остроконечные капюшоны на пуху, летные шлемы с закрывающими лицо масками, горящие лампы на лбу, заледеневшие очки и припорошенные снегом плечи анораков. Обитатели палатки явно не ждали гостей — они склонились над печкой «Унна», на которой кипел большой котелок, хотя температура кипения на высоте 23 500 футов была прискорбно низкой. Вода тут кипит при 170 градусах по Фаренгейту, а на уровне моря — при 212. Возможно, 170 градусов — это много, но в холодном воздухе наш «кипяток» мгновенно охлаждается до температуры тела. Когда мы открываем лица, Дикон говорит: — Как раз к ужину, джентльмены. Жаркое из говядины. У нас тут много. Удивительно, но мы с Же-Ка жадно набрасываемся на еду. По всей видимости, тошнота, преследовавшая нас после «небесного погребения», была побеждена многочасовым переходом и восхождением. Я ожидал упреков Дикона по поводу гибели Бабу Риты, но ошибся — он даже не задавал язвительных вопросов, понравилось ли нам «небесное погребение» и хорошо ли мы провели время с «убирающими мертвых». Мне известно, что Дикон присутствовал на таких жутких обрядах, однако он не упоминает о них, ни с иронией, ни как-то еще. Думаю, он понимает нашу реакцию на тот ужас, свидетелями которого мы стали. И еще я знаю, что Бабу Рита очень нравился Ричарду Дэвису Дикону. — Какие у нас планы на восхождение, Ри-шар? — спрашивает Же-Ка, когда мы доели жаркое и подогретые хлебцы и прихлебываем теплый кофе. — Утром, если погода не слишком ухудшится, мы попробуем подняться на Северный гребень к пятому лагерю, — отвечает Дикон. — Несколько дней назад мне удалось доставить туда две палатки Мида… Остается надеяться, что их не сдуло ветром и не утащило лавиной на ледник. — Он указывает в угол палатки, куда мы с Же-Ка сложили кислородные аппараты. — Вы этим пользовались по пути сюда? Мы качаем головами. — Хорошо, — говорит Дикон. — Но здесь, в четвертом лагере, у нас есть запасные, и я советовал бы вам на ночь положить между собой один баллон… с двумя масками. Если замерзнете или почувствуете себя плохо, немного кислорода с расходом полтора литра в секунду вам поможет. Нам всем нужно немного поспать, если мы собираемся утром двигаться дальше. Кстати, вы захватили запасные батареи для тех шахтерских ламп? Я киваю. — Хорошо, — повторяет Ричард. — Когда я говорю «утро», то имею в виду половину четвертого или четыре. Меня так и подмывает сказать: «Значит, в конечном итоге ты следуешь совету Реджи», — но я ограничиваюсь вопросом: — А где Реджи и Тенцинг Ботиа? — В БПР, — отвечает Дикон и неожиданно улыбается. — Сегодня утром в третьем лагере леди Бромли-Монфор набросилась на меня, случайно услышав, как я говорю с двумя шерпами о БПР. Потребовала, чтобы я объяснил, что означает «БПР», о котором постоянно слышит. Когда я сказал, что это «большая палатка Реджи», и извинился за подобную фамильярность, она лишь охнула и густо покраснела. Интересно, что она думала? Я задумываюсь на минуту, и тут до меня доходит… Реджи… Большие… Теперь моя очередь краснеть. Я наливаю себе еще кофе, чтобы скрыть смущение. Ветер рвет стены палатки Уимпера, но у меня нет ощущения, что она неминуемо рухнет, как неделю назад в третьем лагере. Но даже если брезент порвется, у нас есть две пустые палатки Мида и… БПР… которые послужат нам убежищем. Разумеется, если мы успеем выбраться из палатки, когда ураганный ветер порвет растяжки и повалит шесты. В этом случае мы будем просто пытаться разодрать брезент, пока палатка скользит в бездонную трещину или к краю тысячефутового обрыва к леднику. Мы устраиваемся в спальных мешках, допивая остатки кофе, и я вытаскиваю книгу, которую захватил с собой. Это популярная антология английской поэзии времен войны под названием «Душа человека». Я начинаю вслух читать стихотворение Теннисона, но Дикон внезапно прерывает меня. — Прошу прощения, Джейк. Можно мне взглянуть на книгу? — Конечно. — Я передаю ему книгу. Ричард встает — он еще не снял ботинки, обмотки и пуховик, — сворачивает свой спальник, хватает рюкзак и выходит из палатки прямо в снежную пургу. Я растерянно улыбаюсь, думая, что это шутка — возможно, имеющая отношение к туалетной бумаге, хотя у каждого имелся ее запас, — затем просовываю голову и плечи в клапан палатки Мида и вижу, как Дикон швыряет «Душу человека» в одну из самых глубоких трещин. Затем направляется к забитой снаряжением палатке Мида и исчезает среди снежного вихря. Я закрываю клапан палатки и поворачиваюсь к Же-Ка и Тейбиру. У обоих испуганные и растерянные лица — как и у меня. Я качаю головой, не зная, что сказать, и размышляя, не вызвала ли высота внезапный приступ безумия у нашего старшего английского друга, как вдруг клапан палатки откидывается и внутрь входит Реджи. Пуховик и теплые брюки она держит в руках — вместе с пуховым спальником и надувной подушкой. — Можно войти? — спрашивает она уже внутри, снова зашнуровывая за собой клапан палатки. — Пожалуйста… да… пожалуйста… конечно, — бормочем мы с Же-Ка. Тейбир молча таращится на нее, и я вспоминаю, что он забывает английский, когда расстроен или смущен. Мы освобождаем место. Реджи кладет подстилку и спальный мешок, снимает незашнурованные ботинки и сидя забирается в спальник. Потом что-то быстро говорит Тейбиру по-непальски; шерпа кивает, натягивает обувь, складывает спальный мешок, берет рюкзак и выходит из палатки. — Я сказала Тейбиру, что поскольку сегодня ночью буду спать в этой палатке — если вы не возражаете, ребята, — то Тенцингу Ботиа может быть одиноко. Тейбир понял намек. Так у нас будет больше места. «Она будет спать сегодня здесь», — ошеломленно думаю я. Затем понимаю нелепость своего шока, уместного разве что в Викторианскую эпоху. Кроме спальных мешков, делающих нас похожими на мумии, на нас еще надето несколько слоев шерсти, хлопка и гусиного пуха. Я вспомнил историю о сэре Роберте Фолконе Скотте на Южном полюсе, которую как-то слышал в Англии. По всей видимости, Скотт был довольно консервативен в том, что касалось субординации и классовых различий — говорят, он приказал повесить одеяло, разделяющее единственную комнату хижины, которую они построили на побережье, на две части — для рядового состава и для руководителей экспедиции. Однако на этом первом участке пути к полюсу, когда еще присутствовали те, кто вернется в хижину и останется жив, кто-то почтительно поинтересовался у Скотта, почему он отсутствует дольше, чем другие, когда выходит из палатки на жуткий холод по естественной надобности. «В основном, — ответил он, — из-за трудностей извлечения двухдюймового инструмента из семидюймового слоя одежды». Другими словами, этой ночью рядом с нами леди Бромли-Монфор ничего не угрожало. Разумеется, как и в том случае, если бы мы все спали голыми. — Я шла в туалет, когда увидела, как мистер Дикон бросает книгу со скалы, а затем уходит и расчищает себе место в палатке Мида, которую мы наполовину заполнили продуктами для следующих лагерей, — сообщает она. Я растерянно умолкаю. Шла в туалет? Для того чтобы опорожнить мочевой пузырь в такую погоду, мы, мужчины, — не будучи в этом отношении такими щепетильными, как Скотт, — не выходили из палатки, а просто пользовались приспособлением, которое деликатно называли «бутылкой для мочи». Потом потихоньку — или не совсем потихоньку — выливали содержимое бутылки, когда позволяли погодные условия. Но я никогда не задумывался, какие проблемы могут возникнуть у женщины-альпиниста в этой простейшей форме… «похода в туалет». И теперь представлял, что ей приходится балансировать на краю расселины, и тревожился по поводу возможного обморожения. Нет, я не покраснел, но отвел взгляд, пока не восстановил душевное равновесие. — Что это была за книга? — спрашивает Реджи. Я понимаю, что Же-Ка ждет ответа от меня. — Антология английской поэзии Роберта Бриджеса, «Душа человека», — поспешно объясняю я. — Говорят, Джордж Ли Мэллори читал ее вслух соседям по палатке здесь, в четвертом лагере, и я подумал, что… возможно… будет уместным… Реджи кивает. — Тогда я понимаю, почему мистер Дикон бросил книгу в пропасть. Я смотрю на Же-Ка, однако он, похоже, пребывает в таком же недоумении, как и я. Может, Дикон слегка тронулся на такой высоте? Или мы должны поверить, что он все еще злится на Мэллори — или ревнует к нему? И то, и другое выглядит бессмысленным. Затем Реджи задает вопрос, который переносит меня из мира предположений прямиком в мир невероятного. — Кто-нибудь видел вашего друга Ричарда Дэвиса Дикона обнаженным? — бесстрастным голосом спрашивает она. Мы с Жан-Клодом смотрим друг на друга, но ни он, ни я не в состоянии выдавить из себя хотя бы слово или даже покачать головой. — Не думаю, — говорит Реджи. — А я видела. «Бог мой, они с Диконом были любовниками с тех самых пор, как мы встретились в Дарджилинге, — думаю я. — А вся эта раздраженная пикировка — просто дымовая завеса…» Жан-Клоду каким-то образом удается задать интересующий меня вопрос. Возможно, французу это сделать легче. — Могу я полюбопытствовать, когда вы видели его обнаженным, миледи? Реджи улыбается. — В первую же ночь после вашего прибытия на мою плантацию в Дарджилинге. Но это не то, о чем вы думаете. Я приказала Пасангу подсыпать морфий в бренди мистера Дикона, чтобы он крепко уснул. Затем мы с Пасангом осмотрели его тело при свечах. К счастью, в более теплом климате мистер Дикон спит без одежды. Ничего личного, смею вас заверить. С чисто медицинскими целями, по необходимости. Я не знаю, как на такое реагировать, и поэтому молчу. Не только безумие, но и неслыханное оскорбление. Ничего личного? Что может быть более личным: подсыпать тебе наркотик и осмотреть, пока ты голый?.. Я задаю себе вопрос, не осмотрели ли они с Пасангом всех нас в ту ночь — помню, я тогда крепко спал. Но зачем? Ни я, ни Жан-Клод не задаем этого вопроса вслух, но Реджи на него отвечает. — Кто-нибудь из вас знал мистера Дикона до войны? Мы качаем головами. — А кто-нибудь из вас был знаком с ним в первые годы после окончания войны? И снова мы молча даем понять, что нет. Иногда я забываю, что Жан-Клод познакомился с Диконом и стал ходить с ним в горы всего на два месяца раньше меня. Реджи вздыхает. — Во время войны капитан Эр. Дэ. Дикон упоминался в официальных сводках не менее четырнадцати раз, — тихо говорит она. — Вы знаете, что это значит? — Что Ри-шар очень храбрый? — неуверенно произносит Же-Ка. Реджи улыбается. — Среди всей той бойни и всей той храбрости, — отвечает она, — упоминание в четырех или пяти сводках — это уже нечто из ряда вон выходящее. А семи или восьми упоминаний удостаивались такие смельчаки, которые неизбежно гибли в бою. Капитан Дикон — понимаете, он отвергал многочисленные попытки присвоить ему чин майора или полковника — был в самой гуще сражения при Монсе, когда британский экспедиционный корпус бросили в брешь на фронте во время первой битвы на Марне, а также на Ипре, — (многие британские солдаты произносили «Иппер»), — в Лоосе во время битвы при Артуа в тысяча девятьсот пятнадцатом, участвовал в битве при Сомме в феврале тысяча девятьсот шестнадцатого, когда в первый же день до завтрака британские войска потеряли пятьдесят восемь тысяч человек, в Мессинской операции и, наконец, в самых тяжелых сражениях войны — в битве за Пашендаль в тысяча девятьсот семнадцатом и во второй битве на Марне в тысяча девятьсот восемнадцатом. — Откуда вы все это знаете? — спрашиваю я. — От моего покойного кузена Чарльза, — отвечает Реджи. — Но по большей части от кузена Персиваля. — Я думал, что Персиваль — молодой Бромли — не был на войне, — говорит Жан-Клод. — Персиваль не воевал. По крайней мере, в мундире, как капитан Дикон и мой кузен Чарльз. Но у Персиваля были… скажем… обширные связи… в Министерстве обороны. — Но ваш кузен Перси был уже мертв, когда вы узнали, что с этой миссией прибывает Ри-шар, — не сдается Же-Ка. — Oui, — соглашается Реджи. — Но последние несколько месяцев имя Персиваля открывало для меня кое-какие двери… а если точнее, то архивы. — Не понимаю. — Мне не удается скрыть переполняющее меня возмущение. — Каким образом, черт возьми, достойный восхищения послужной список Дикона оправдывает то, что вы с Пасангом опоили его и осмотрели обнаженного, пока он спал? — Я уже организовала весеннюю экспедицию, чтобы найти останки Персиваля, — говорит Реджи. — Со мной в горы должны были отправиться три альпийских гида, швейцарцы. Когда до меня дошли сведения, что вы с Жан-Клодом и мистером Диконом — который увидел возможность использовать деньги моей тети Элизабет, чтобы финансировать ваше участие, — уже высадились в Калькутте, я должна была убедиться в должной физической форме мистера Дикона. — Разумеется, он в форме. — Я даже не пытаюсь скрыть своего возмущения. — Вы видели его во время перехода и восхождения. Он сильнее всех нас, в этом почти нет сомнений. Реджи слегка пожимает плечами, но в этом жесте нет ни извинения, ни сожаления. — От кузена Чарли — а также из архивов Министерства обороны, доступ к которым удалось получить благодаря связям Чарльза и Персиваля, — я знаю, что капитан Дикон был ранен не менее двенадцати раз. И ни разу не позволил, чтобы его демобилизовали и отправили домой в Англию, как, скажем, Джорджа Мэллори. Во время битвы при Сомме Мэллори был вторым лейтенантом в сороковой батарее осадных орудий — все время пребывания в действующей армии он прослужил в артиллерийском подразделении за линией фронта и, хотя видел смерть вокруг себя, никогда долгое время не был на передовой, в отличие от служившего в пехоте Ричарда Дикона. Мэллори демобилизовали и отправили в Англию на операцию — старая травма лодыжки, полученная еще до войны, насколько я знаю, при падении во время занятий скалолазанием. Его отправили из Франции восьмого апреля тысяча девятьсот семнадцатого, за день до начала битвы при Аррасе, в которой погибли сорок тысяч британских солдат. Битвы, в которой капитан Дикон был ранен в пятый раз. До конца войны Джордж Мэллори — у него были друзья, на самом верху, в переносном смысле — почти все время оставался в Англии, восстанавливался после операции и служил в учебных частях. У него еще не закончился отпуск, который предоставляют выздоравливающим, когда он почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы вместе с друзьями лазать по скалам Пен-и-Пасс в Уэльсе. Мэллори получил приказ вернуться в артиллерийский батальон незадолго до ужасной битвы за Пашендаль, но не смог прибыть вовремя из-за еще одной травмы, полученной в Англии, — на этот раз повредил ступню и большой палец на ноге, попав в аварию на своем мотоцикле в Винчестере. Можно сказать — если такое вообще позволительно говорить, — что у второго лейтенанта Джорджа Мэллори была легкая война… В отличие от него, капитан Дикон каждый раз возвращался на фронт, несмотря на ранения. Он не позволял себе вернуться в Англию. Насколько мне известно, он за всю войну ни разу не побывал на родине — что очень необычно для офицера. До Лондона или до дома был всего один день пути, и офицеры пользовались этим обстоятельством во время отпусков, почти каждый раз приезжая домой. Что касается официальных сводок и ранений, мне также известно, что капитан Дикон по меньшей мере дважды подвергался воздействию горчичного газа. — Легкие у него в порядке, — возражаю я. — И глаза тоже. — Ага, — выдыхает Жан-Клод, словно наконец что-то сообразил. Реджи качает головой. — Вы не понимаете, Джейк. Горчичный газ повреждает не только глаза, легкие и слизистые оболочки человека, но — как произошло с моим бедным кузеном Чарльзом — при попадании на кожу желтый порошок буквально разъедает плоть, и раны от него никогда не заживают. После контакта с горчичным газом остаются кровоточащие, сочащиеся гноем язвы, требующие ежедневной перевязки. Именно от них страдал мой дорогой кузен Чарльз. Кому-нибудь из вас знакомо имя Джона де Вере Хазарда? — Хазард был членом прошлогодней экспедиции, — отвечает Жан-Клод. — Тот парень, что оставил четырех шерпов здесь, на Северном седле, во время бури — такой, как теперь, — и заставил Мэллори, Сомервелла и остальных рисковать жизнью и подниматься сюда из третьего лагеря, чтобы забрать шерпов. Реджи кивает. — Мистер Хазард во время войны был награжден Военным крестом. Очень серьезная награда за безупречную службу и ранения, полученные на боевом посту. Мистера Дикона награждали этим орденом четыре раза. В прошлогоднюю экспедицию на Эверест мистер Хазард пришел вместе со своими ранами; больше всего неприятностей доставляли те, что образовались в результате контакта с порошком горчичного газа, но, кроме них, имелась шрапнель в спине и раны от пуль на бедрах. Здесь, в горах, раны мистера Хазарда открылись. Постоянно кровоточили под всеми этими слоями шерсти и хлопка. И он вышел из строя именно тогда, когда был более всего нужен. — Откуда вы все это знаете? — снова спрашиваю я. — У моих кузенов Чарльза и Перси были обширные связи, — говорит Реджи. — Кроме того, я много лет переписываюсь с полковником Тедди Нортоном, с которым вы встречались прошлой осенью в Королевском географическом обществе. — Поэтому, — говорит Жан-Клод, — вы считали необходимым… проверить мистера Дикона, приказав доктору Пасангу осмотреть его, пока он спит на вашей плантации под действием морфия. — Да. — В тоне Реджи нет вызова, но нет и сожаления. — И что вы обнаружили? — спрашивает Жан-Клод. Я поворачиваюсь и бросаю на Же-Ка возмущенный взгляд. — Больше дюжины шрамов, как нетрудно догадаться, — отвечает Реджи. — Часть икроножной мышцы отсутствует, вероятно, срезанная пулеметной очередью. Не меньше трех комплектов шрамов на туловище, где шрапнель или пули прошили капитана Дикона насквозь, — очевидно, не задев жизненно важных органов или кровеносных сосудов. Шрамы на обнаженном теле капитана Ричарда Дэвиса Дикона выглядят так, словно паук свил белую паутину у него на коже. — Это довольно бесцеремонно — так подглядывать за ним. — Мой голос звучит резко, максимум того, что я могу позволить себе в разговоре с дамой. Реджи кивает. — Совершенно верно. Непростительное вторжение в личную жизнь мистера Дикона. Но я должна была знать. Трое швейцарских гидов, которых я попросила помочь найти тело Персиваля, уже отплыли из Европы, и мне нужно было отправить им телеграмму в Коломбо, если я отказываюсь от их услуг и пойду в горы с вами. — Значит, Ри-шар прошел проверку? — В голосе Же-Ка нет гнева, только легкое смущение. Сомневаюсь, чтобы он говорил тем же тоном, если бы его голого рассматривала Реджи. Хотя не обязательно. — Прошел, — подтверждает Реджи. — Но Пасанг сообщил мне, что из-за местоположения и тяжести некоторых ран мистер Дикон может испытывать постоянную боль. — И что? — возражаю я. — Многие альпинисты мирового класса совершают восхождения, несмотря на боль. — Возможно, не такую сильную, — отвечает Реджи. — И я сожалею, что солгала вам насчет того, что мой дорогой кузен Чарльз умер от ран, пока вы плыли в Индию. На самом деле он покончил с собой. По словам моей тети Элизабет — леди Бромли, — он семь лет мужественно переносил страдания, но у него больше не осталось сил терпеть боль. Чарльз застрелился из служебного револьвера. Мы долго молчим, несколько минут. — Просто из любопытства, — наконец произносит Жан-Клод, — вы не повторите имена тех нанятых вами швейцарских гидов? Реджи снова называет их, и Жан-Клод смотрит на нее широко раскрытыми глазами. — Я удивлен, ледиБромли-Монфор, — уважительно присвистнув, говорит он, — что вы отправили их назад и выбрали нас. Реджи улыбается. — Я заплатила трем швейцарцам за потраченное время, отправила чек на приличную сумму, когда они вернулись из Коломбо, но вам уже заплатила моя тетя. А она получает доходы от плантации в Дарджилинге, которой я управляю с четырнадцати лет. Продолжать экспедицию с вами — а также с Пасангом и «тиграми» из числа шерпов — было гораздо дешевле. Но я должна была знать о ранах мистера Дикона… выдержит ли его организм это восхождение, или нет. Как вам известно, ему тридцать семь. — Джорджу Мэллори тоже было тридцать семь, когда он пропал в прошлом году. — Это звучит глупо, но на мою фразу никто не реагирует. Жан-Клод высвобождает верхнюю часть туловища из кокона спального мешка. Ему нужно освободить руки. Он не может разговаривать, не жестикулируя. — Но, мадам, вы спрашивали, знали ли мы Ри шара Дикона в послевоенные годы. Этот период как-то связан с вашими сомнениями по поводу лидерских качеств нашего друга? — Что вы знаете о жизни мистера Дикона сразу после войны? — спрашивает Реджи. — Только то, что он приехал во Французские Альпы и большую часть времени проводил в горах, — отвечает Же-Ка. Реджи кивает. — Мать мистера Дикона умерла за насколько лет до начала войны. Отец скончался от сердечного приступа в тысяча девятьсот семнадцатом. У мистера Дикона был младший брат, который служил пилотом Королевских ВВС и погиб в тысяча девятьсот девятнадцатом. Поэтому Дикон остался не только единственным владельцем двух громадных поместий — по сравнению с большим домом в Брамблз Бромли-хаус выглядит жалкой хижиной, — но также стал графом, пэром Англии и членом палаты лордов. — Граф Дикон? — вырывается у меня. — Люблю американцев, — смеется Реджи. — Нет, мистер Дикон, несмотря на все его возражения, носит титул девятнадцатого графа Уотерсбери. — Она произносит имя на британский манер, растягивая гласные. — Несмотря на возражения? — Ладони Же-Ка взлетают вверх. — Мистер Дикон не может законным образом отказаться от наследственного титула, — объясняет Реджи. — Однако он не желает на него откликаться, отказался почти от всех поместий и не участвует в заседаниях палаты лордов. — Не представлял, что кто-то может не хотеть быть графом, — удивляюсь я. — И что он вынужден быть им, даже если не хочет. — Многие люди в Соединенном Королевстве тоже не представляют, — говорит Реджи. — Как бы то ни было, в тысяча девятьсот девятнадцатом, находясь во Франции, мистер Дикон передал в пользу короны два своих поместья с двадцатью девятью тысячами акров земли и всеми доходами. С условием, что самый большой дом, Брамблз, которому больше девятисот лет, превратят в санаторий для выздоравливающих после ранений. После войны мистер Дикон так и не вернулся в Англию. У него есть скромный доход — кажется, нерегулярные авторские отчисления за романы и стихи, которые он публиковал до войны под различными псевдонимами, — и с тысяча девятьсот девятнадцатого он почти не покидал Альпы. — Вы хотите сказать, что Ричард Дэвис Дикон сумасшедший? — спрашиваю я. Реджи смотрит на меня в упор, прищурив свои ультрамариновые глаза. — Никоим образом, — резко отвечает она. — Я пытаюсь объяснить, почему ваш друг взял сборник стихов и выбросил в пропасть. — Я не понимаю. — Мистер Дикон знает, что в сентябре тысяча девятьсот четырнадцатого, когда война с Германией только началась, недавно созданное бюро военной пропаганды организовало тайную встречу лучших писателей и поэтов Англии, которая состоялась в Веллингтон-Хаусе на Букингем-гейт. Там присутствовали Томас Харди, мистер Герберт Уэллс… — «Война миров»! — вырывается у меня. Реджи кивает и продолжает список. — Редьярд Киплинг, Джон Мейсфилд — католический писатель, — Гилберт Кит Честертон, Артур Конан Дойл… Джордж Маколей Тревельян, Джеймс Мэтью Барри… — Питер Пэн! — восклицает Же-Ка. — Очевидно, мистер Дикон был достаточно уважаемым поэтом, поскольку его тоже пригласили, — тихим голосом продолжает Реджи. — Вместе с его другом поэтом Робертом Бриджесом. Всех их предложили освободить — даже молодых, таких как мистер Дикон, — от воинской повинности во время войны, чтобы они послужили стране своим литературным талантом. В первую очередь поддерживая высокий моральный дух британцев и никогда… никогда не раскрывая перед ними, какой ужасной может на самом деле оказаться война. — Но Дикон пошел на фронт. — Ладони Жан-Клода теперь сложены вместе, словно в молитве. — Да, — кивает Реджи. — Однако его друг и собрат по перу Роберт Бриджес остался дома и за всю войну не написал ни строчки. Вместо этого он редактировал антологию возвышенной английской поэзии — ту самую «Душу человека», которую Джордж Мэллори дважды читал здесь, в четвертом лагере, и которую вы пытались читать сегодня вечером, Джейк. Я смущен. — Но все это — хорошая английская поэзия. Классика. И там даже есть одно из ранних стихотворений Дикона. — И ни одного упоминания о войне, — прибавляет Реджи. — Правильно, — соглашаюсь я. — Тематика разнообразная, но ни одного английского стихотворения о войне. И… Я умолкаю на полуслове. Кажется, до меня доходит. — Газеты тоже включились в пропагандистскую кампанию, — говорит Реджи. — Разумеется, без них никак, правда? Списки потерь там публиковались, но не было никаких описаний ужасов войны… ни разу. Все газеты с готовностью выполняли распоряжения бюро пропаганды. Кузен Чарльз писал мне в тысяча девятьсот девятнадцатом году, что Ллойд Джордж сказал (надеюсь, я дословно помню цитату) Скотту из «Манчестер гардиан», что «если бы люди действительно знали» — он имел в виду бойню на полях сражений в Бельгии и Франции — «если бы люди действительно знали, война закончилась бы завтра». Я говорю медленно и осторожно, тщательно выбирая слова, словно иду между расселинами по снежному полю. — Значит, сборник «Душа человека» был… работой бюро пропаганды… чтобы война продолжалась, несмотря ни на какие жертвы? Реджи молчит и даже не кивает, но я вижу: она довольна, что я наконец сообразил. Иногда я туго соображаю, но горжусь тем, что у меня все же хватает ума это делать. У Жан-Клода встревоженный вид. — Реджи… Леди Бромли-Монфор, — довольно громко говорит он, чтобы перекричать треск терзаемых ветром стен палатки, — наверное, это не единственная причина, почему вы поделились с нами информацией такого сугубо личного свойства о Ри-шаре. — Не единственная. Мне известно, как сильно вам троим хочется использовать деньги моей тети, чтобы получить шанс подняться на Эверест. Но понимаете, я не убеждена, что наш дорогой мистер Ричард Дэвис Дикон хочет вернуться назад.
Суббота, 16 мая 1925 года Дикон планировал — прежде чем отобрать у меня книгу и удалиться — встать посреди ночи, выпить горячего чаю, одеться при свете шипящих ламп, выйти из палатки и выдвинуться к пятому лагерю. Часа в четыре утра. Поэтому когда мы с Же-Ка и Реджи забираемся в тесные спальные мешки, чтобы немного поспать, я ставлю будильник в своих карманных часах на 3:30. Часы превосходные и очень дорогие, подарок отца по случаю окончания Гарварда, и что бы ни случилось тут, на Эвересте, я бы очень не хотел их разбить. У них имеется очень удобная функция — они беззвучно сообщают о достижении установленного на будильнике времени вибрацией маленького металлического рычажка на задней крышке. Я кладу часы в карман жилета и в 3:30 чувствую лихорадочный трепет в районе сердца. И мгновенно просыпаюсь, несмотря на усталость. Как ни странно, за те несколько часов, что у нас были, мне удалось немного поспать. Один раз Жан-Клод разбудил меня и прошептал: «Ты не дышишь, Джейк», — и я глотнул «английского воздуха» из баллона, который мы положили между нами; но в целом я так крепко еще не спал с тех пор, как мы поднялись высоко в горы. В третьем лагере я просыпался и хватал ртом воздух просто от усилия, необходимого, чтобы перевернуться с боку на бок, и все время натыкался на замерзший иней от собственного дыхания, но здесь, на 1500 футах выше, я спал как младенец. Значит, сегодня утром мы остаемся в лагере. Боковые стенки палатки по-прежнему трещали и хлопали, и я отчетливо слышал удары бесчисленных снежных шариков о брезент. «Еще день можно поспать и отдохнуть», — с облегчением думаю я и снова зарываюсь в спальник, хотя рациональная часть моего сознания понимает, что лишний день на такой высоте — не самая лучшая идея. Термин «зона смерти» в 1925 году еще не вошел в обиход, но после трех британских экспедиций на Эверест суть этого явления уже стала ясна. Здесь, в четвертом лагере, организм уже страдал от последствий пребывания на такой высоте. Я уже говорил, что кислорода тут столько же, сколько на уровне моря, — 20,92 процента, если быть точным, — но при пониженном атмосферном давлении наши легкие не в состоянии обеспечить организму доступ к этому необходимому ресурсу. Внизу, в первом лагере, на высоте всего 17 800 футов атмосферное давление — а значит, и количество кислорода, которое могут получить легкие, — в два раза меньше, чем на уровне моря. Если нам удастся взойти на вершину горы высотой чуть больше 29 000 футов, давление там будет составлять всего одну треть от нормы. Этого едва хватит, чтобы не потерять сознание, и явно недостаточно, чтобы предотвратить головную боль, тошноту, сильнейшую «горную усталость» и — возможно, самое худшее, с точки зрения альпиниста, — невероятную путаницу мыслей, галлюцинации и помутнение сознания. Таким образом, выше 8000 метров — чуть больше 24 000 футов, на пятьсот с лишним футов выше, чем то место, где мы спим сегодня на Северном седле, — в будущей «зоне смерти» задерживаться дольше необходимого абсолютно исключено. Выше 8000 метров вы просто умираете — в буквальном смысле, каждую минуту, которую проводите на такой высоте. Технический термин этого процесса — некроз. Доктор Пасанг объяснил, что при этом не только отмирают миллионы нервных клеток — остальной мозг из-за недостатка кислорода тоже не может нормально функционировать, кровь становится густой и вязкой, а остальные органы начинают увеличиваться в размерах (как уже увеличилось сердце у всех нас, даже у шерпов), в буквальном смысле грозя разорваться и просто отключиться, перестать работать. Пульс у нас давно уже участился до 140 ударов в минуту или даже больше, из-за чего каждый шаг вверх или легкая физическая нагрузка становятся не просто трудными, но и опасными. В тщетной попытке доставить больше кислорода к мышцам и мозгу кровь в наших жилах уже загустела, с каждым часом пребывания на этой высоте и с каждой попыткой подняться еще выше увеличивая риск смертельно опасного инсульта или тромбоза. Любопытно, что, поскольку из-за недостатка кислорода кровь стала темнее, наши лица, губы и конечности приобрели голубоватый оттенок. И только периодическое подключение «английского воздуха» позволяет нам избавиться от самых серьезных проблем. А до вершины еще 5500 футов. Подумав, что скоро нам придется спуститься, я, тем не менее, глубже зарываюсь в пуховый спальник и снова проваливаюсь в сон, предварительно сделав глубокий вдох из кислородного баллона, отчего согреваются замерзшие ноги. Затем кто-то или что-то вваливается в палатку, и я резко просыпаюсь и пытаюсь сесть. Получается с третьей попытки. Реджи нет. Мелькает мысль: «Пошла в туалет?», но затем я замечаю, что ее спального мешка тоже нет. В проеме двери появляется Дикон, а за ним — снежный вихрь и стена холодного воздуха. Если бы не красные повязки, которые он вчера повязал на рукава своего пуховика, я бы его не узнал: он с головы до ног покрыт снегом и льдом, летный шлем, балаклаву и очки обрамляют сосульки, а огромные внешние рукавицы гремят, когда он пытается их снять. На спине Дикона обледенелый кислородный аппарат, но маска не надета, и я не сомневаюсь, что регулятор поставлен в положение «Закрыто». — Холодное утро, — сообщает он, тяжело дыша. Я вытаскиваю часы. Начало восьмого. — Где ты был, Ри-шар? — спрашивает Жан-Клод. Я замечаю, что борода у него растет аккуратнее. У меня просто щетина, которая все время чешется. — Просто смотрел, можно ли пройти на Северный гребень, — отвечает Дикон. — Нельзя. — Снег? — спрашиваю я. — Ветер, — отвечает Дикон. — Должно быть, больше ста двадцати миль в час. Я пытался подняться по плитам, наклонившись вперед так сильно, что носом едва не касался гранита. — Один? — В голосе Жан-Клода слышен упрек. — Нам ты бы не советовал этого делать. — Знаю. — Дикон нащупывает нашу печку «Унна» в тамбуре палатки и пытается окоченевшими руками зажечь спичку и поднести ее к печке; ветер каждый раз ее задувает. — К черту, — бормочет он и вносит печку внутрь — очередное грубое нарушение правил пожарной безопасности. Я зажигаю твердое топливо, и Дикон ставит печку с котелком снега в защищенный от ветра угол тамбура. — Не думаю, что сегодня мы доберемся до пятого лагеря, — говорит он, расстегивая верхнюю одежду, словно в палатке не отрицательная температура, а тропический климат. — Я заглянул в палатку и всех их разбудил. Реджи уже встала, возится с печкой, которая никак не хочет кипятить воду. Очевидно, сегодняшнее утро наградило их бессонницей, головной болью, одышкой, замерзшими ногами, першением в горле и мрачными мыслями. Белые зубы Дикона сверкают сквозь сосульки, которые все еще свисают с его отрастающей бороды. — Думаю, эта прекрасная стерва, гора, уже объявила нам войну, друзья мои. Бог, боги, судьба или случай дают нам возможность принять этот вызов. — Внезапно он снимает внутреннюю варежку и шелковую перчатку и протягивает мне посиневшую правую руку. — Джейк, я приношу свои глубокие, искренние и безоговорочные извинения за свой глупый поступок, за то, что вчера забрал и выбросил твою книгу. Мое поведение непростительно. Я куплю тебе другой экземпляр — и даже добуду для тебя автограф Бриджеса, — как только мы вернемся из этого путешествия. По мне, это достойное предложение — Роберт Бриджес с 1913 года является поэтом-лауреатом. Я не знаю, что сказать, и просто пожимаю протянутую руку. Такое впечатление, что держишь в руке брусок мороженой говядины. Входит Реджи и зашнуровывает за собой клапан палатки. На ней полный комплект одежды на пуху. Единственное, что помешало бы ей начать восхождение прямо в том, в чем она была, это меховые ботинки «Лапландер», которые мы предпочитали носить в лагере, пока сушатся наши обычные альпинистские ботинки. У этой обуви относительно мягкая подошва, которая не подходит к почти отвесным склонам из скал, снега и льда. — Тенцинг Ботиа болен, — говорит она без всяких предисловий и даже не здороваясь. — Его рвало последние шесть или семь часов. Нужно спустить его… как минимум в третий лагерь, но лучше еще ниже. Дикон вздыхает. Предстоит принять трудное решение. Если мы останемся здесь, в четвертом лагере на Северном седле, то будем слабеть с каждым часом, но это удобная позиция для прорыва в пятый лагерь на Северном гребне, если погода улучшится. Однако улучшения погоды можно ждать неделю или больше. Но если мы спустимся, то за это придется очень дорого заплатить в смысле логистики. Третий лагерь у подножия ледяной стены до отказа заполнен шерпами — в палатках нет свободных мест. Часть людей, скорее всего, страдает от высотной болезни, и их придется эвакуировать в базовый лагерь. Наш груз — для пятого и шестого лагерей, а также для поисков Персиваля — распределен между первым и четвертым лагерями, и тщательно спланированный график доставки со сменными командами шерпов теперь летит к чертям. Я знаю, что до сих пор каждая из экспедиций на Эверест — все три — сталкивалась с той же проблемой, вне зависимости от тщательности составления плана и количества носильщиков, но для нас, собравшихся в хлопающей от ветра палатке Уимпера на высоте 23 000 футов, это слабое утешение. — Я отведу Тенцинга вниз, — предлагает Жан-Клод. — Со мной пойдет Тейбир Норгей. — С Тейбиром все в порядке, — сообщает Реджи. — Просто устал. — Тогда он в состоянии помочь мне с Тенцингом на закрепленных веревках, — говорит Же-Ка. — И мы вдвоем поможем Тенцингу спуститься во второй или в первый лагерь, если нужно. После минутного размышления Дикон кивает. — Если мы спустимся все вместе, то выселим из палаток третьего лагеря шестерых шерпов. — У нас остались только три жумара для подъема и спуска по веревкам, если нам придется последовать за тобой или ставить веревки выше, — говорю я. Такое впечатление, что мысли пробиваются сквозь вату. — Я еще не забыла, как завязывать фрикционный узел, — замечает Реджи. Мне хочется хлопнуть себя ладонью по лбу. Как быстро мы привыкли к новому снаряжению. Фрикционный узел на закрепленных веревках при спуске, наверное, даже безопаснее механической игрушки, придуманной Жан-Клодом. Не так удобно, зато надежно. — Значит, троим — Джейку, леди Бромли-Монфор и мне — по-прежнему предстоит решить, как долго мы останемся здесь, — говорит Дикон сквозь обледеневшие усы. — Мы будем пользоваться кислородными баллонами ночью, если почувствуем себя плохо, но нет никакого смысла просто сидеть здесь и расходовать «английский воздух». Поэтому придется поднимать сюда еще два комплекта кислородных баллонов для пятого и шестого лагерей… не говоря уже о попытке взойти на вершину или о продолжительных поисках лорда Персиваля и Майера… Ровно столько у нас осталось в резерве. Есть какие-нибудь предложения, что нам троим делать дальше? Я чрезвычайно удивлен, что Дикон выносит этот вопрос на голосование — или мне это только кажется. Армейский опыт и характер обычно подталкивают его в любой ситуации брать ответственность на себя. Кроме того, в Дарджилинге мы все — даже Реджи — согласились, что за чисто альпинистскую часть экспедиции будет отвечать именно он. — Думаю, я смогу доставить Тенцинга до нужного лагеря и вернуться сюда до наступления темноты, — после непродолжительного молчания говорит Жан-Клод. — И передать указания Пасангу и остальным, что делать, как только погода немного улучшится. — Вы сможете спуститься и снова подняться сюда? — спрашивает Реджи. — В такую метель? При таком ветре? В такой холод? Жан-Клод пожимает плечами. — Думаю, да. Мне уже приходилось совершать подобные прогулки в такую же погоду в Альпах… без закрепленных веревок, которые есть у нас на ледяной стене и на леднике. Я вставлю новые батареи в свою шахтерскую лампу — для последнего участка пути, уже в темноте. — Хорошо, — говорит Дикон. — Я предлагаю принять план Жан-Клода. Доставить Тенцинга на ту высоту, которая ему нужна сегодня, спустить Тейбира, чтобы освободилось место для следующей группы шерпов, которые будут переносить грузы отсюда в пятый лагерь. Но мы вчетвером можем оставаться здесь не больше двадцати четырех или тридцати шести часов. Что скажете? Я снова удивляюсь вопросу Дикона. И убеждаю себя: это свидетельство того, что он уважает наше мнение. — Согласна, — говорит Реджи. — Теперь у нас утро субботы. Если ветер и снег не утихнут или существенно не ослабеют к утру понедельника, нам всем нужно будет спуститься — как минимум во второй лагерь. Шерпы просто потеснятся, чтобы освободить для нас место, или спустятся в базовый лагерь. — Завтра воскресенье, семнадцатое мая, — тихим голосом напоминает Жан-Клод. Дикон молча смотрит на него. — День, на который ты планировал подняться на вершину. В ответ Дикон лишь проводит ладонью без перчатки по мокрой бороде. На ней еще остался лед, хотя часть уже растаяла. Же-Ка начинает одеваться. — Я забираю Тенцинга и Тейбира — и начинаю спуск. Решать вам, Реджи, но я предлагаю перебраться сюда, в палатку Уимпера, пока мы не приведем еще людей на Северное седло. Нельзя терять ни капли тепла, которое вырабатывают наши тела. Когда я вернусь, тут нас будет четверо. Шерпы, которых я приведу с собой, могут занять другую палатку. — Хорошо, — соглашается Реджи. — Пойду, заберу вещи и скажу Тенцингу и Тейбиру, что они идут с вами, Жан-Клод. Вернусь через минуту, и… ну… я принесла книгу для чтения… «Холодный дом» Диккенса. Надеюсь, она уцелеет при обыске и конфискации? Дикон в ответ лишь печально улыбается и чешет мокрую бороду.
Следующим утром я просыпаюсь в 3:30 от вибрации крошечного металлического молоточка где-то в районе сердца. И сразу же понимаю, что чего-то не хватает… что-то не так. Ветер стих. Не слышно ни звука, кроме неровного дыхания спящих. Стены палатки покрылись инеем от нашего дыхания, но они неподвижны. Воздух очень, очень холодный. Я напрягаю слух, но не слышу ни ветра, ни непрерывного шелеста от ударяющего в брезент палатки снега. Я потихоньку натягиваю ботинки и пуховик и выскальзываю из палатки, стараясь никого не разбудить. Жан-Клод вернулся после наступления темноты, почти в десять вечера. Он сообщил, что сопроводил Тенцинга до второго лагеря, откуда его без труда доставят в базовый лагерь, потом выпил почти два полных термоса воды, которые мы ему приготовили, и заснул, едва успев забраться в спальный мешок. Выбравшись наружу, я потягиваюсь и делаю несколько осторожных шагов в сторону от занесенных снегом палаток. Далеко отходить нельзя — можно оказаться среди расселин или на краю обрыва. Убедившись, что мне ничего угрожает, я оглядываюсь вокруг. Потрясающее зрелище. Убывающая, где-то посередине между половинкой и четвертью, луна еще достаточно яркая, и ее серебристое сияние вместе с блеском рассыпанных по небу звезд заставляют снежные склоны и вершину Чангзе за моей спиной и громаду Эвереста надо мной ярко сверкать, словно снег на них сам излучает холодный лунный свет. На севере, ниже седла, клубились залитые молочным светом облака, похожие на шапку густых сливок, стекающие на 200 или 300 футов с вершины Северного седла. Третий лагерь и все, что ниже его, окутано туманом — потом я слышал, что именно этот термин используют мои приятели пилоты, — но на небе ярко светят звезды и луна. Еще дальше к северу из облаков вздымалась, словно гребень на спине гигантской сияющей ящерицы, череда восьмитысячников, уходящая в глубь Тибета и еще дальше, в Китай. — Впечатляющая картина, правда? От звука этого спокойного голоса у меня за спиной я вздрагиваю. Оказывается, Дикон все время стоял здесь. — Ты давно проснулся? — шепчу я. — Не особенно. — Те облака — приближающийся муссон? Тень Дикона качает головой. — Вспомни, муссон приходит с запада и с юга. Просто буря, которая так нам досаждала. Еще неделю или дней десять, до начала муссона, погода будет определяться северными ветрами. Эта неделя — лучшее время года для восхождения на Эверест. Он что-то наливает из термоса и протягивает мне кружку. Я жадно пью: теплое какао. — Думаешь, мы застали это окно хорошей погоды? — шепчу я. — Трудно сказать, Джейк. Но мне кажется, сегодня мы должны выдвигаться к пятому лагерю. Я делаю глоток какао и киваю. — Будить остальных? — Нет, пусть поспят, — шепчет Дикон. — Жан-Клод вымотан. Я заметил, что Реджи плохо спит… часто пользуется кислородом. Через час я приготовлю для вас завтрак — и потом вы пойдете наверх. — Мы пойдем? — переспрашиваю я. — Разве ты сегодня не поднимешься в пятый лагерь? — Думаю, нет. — Он обращается ко мне, но его взгляд безостановочно скользит по залитым светом луны Северному гребню, Северо-Восточному гребню и вершине Эвереста. — Если повезет, две палатки Мида, которые мы там поставили, никуда не делись и ждут вас. Вы с Реджи и Жан-Клодом можете устроиться там и приготовиться к поискам Бромли. Думаю, что для удобства поисков нужно разбить шестой лагерь как можно ближе к отметке 27 000 футов. После вашего ухода я спущусь, а к вечеру вернусь с Пасангом и самыми сильными «тиграми». Для подъема самих тяжелых грузов на Северное седло мы воспользуемся «велосипедом» Жан-Клода, потом заново упакуем продукты, кислородные аппараты и как минимум одну палатку для самого верхнего лагеря. Доставим все это к вам завтра утром. В понедельник. — Сегодня день покорения вершины, — шепчу я. — Семнадцатое. Я вижу, как в лунном свете сверкают зубы Дикона. — Мог бы быть, если б не поиски. Все четверо могли бы начать восхождение, попробовать пробиться на вершину и к вечеру вернуться в пятый лагерь. — Но ты не собираешься этого делать? Мне казалось, ты… мы втроем… собирались покорить вершину, а потом заняться поисками. Что заставило тебя передумать? Тонкая тень в капюшоне качает головой. — Конечно, я мог лгать леди Бромли-Монфор и убеждать ее, что мы будем искать останки ее кузена на обратном пути от вершины, но я бывал на высоте больше двадцати шести тысяч пятисот футов, Джейк. Там, в Дарджилинге, она была права. За один подъем на самые высокие гребни Эвереста эта проклятая гора отнимает у тебя все силы. Сегодня у тебя в крови бурлит адреналин, и ты готов идти к вершине, преодолевая любые трудности, а завтра шерпы помогают тебе добрести до базового лагеря — энергия иссякла, сердце расширилось, глаза не видят, пальцы на руках и ногах обморожены. Я хотел назначить на сегодня восхождение к вершине, но я обещал леди, что буду искать Персиваля, и мы потратим на это пару дней, а потом решим, остались ли у нас еще силы для покорения вершины. Я смотрю на черно-белый горб Северного хребта, круто уходящего вверх прямо над нами. Я не взял с собой кислородный аппарат и теперь задыхаюсь от усилий, которые требуются просто для того, чтобы стоять. В глубине души я даже испытываю облегчение от новой отсрочки — мне не хочется пропасть на этих высотах, как Мэллори и Ирвин в прошлом году, — но самое сильное мое чувство — это горькое разочарование. Возможно, это конец мечтам о покорении вершины. «Почему в последний момент Дикон передумал? Нашей целью всегда была вершина этой проклятой горы». — Значит, придется провести много времени на высоте больше восьми тысяч метров, — наконец говорю я. — Возможно, даже слишком много. — Он как будто признает, что лишил нас лучшего шанса покорить вершину Эвереста, но не говорит, почему принял такое решение. Особенно в последний момент. Я вижу, как сверкает высоко над нами Северо-Восточный гребень, словно вымощенное алмазами шоссе. До самой вершины. И ни намека на обычные ураганные ветры. — Думаешь, у нас есть шанс найти лорда Персиваля? — наконец выдавливаю из себя я. — Нет, — отвечает Дикон. — По моему мнению, ни единого шанса из ста. Но мы обещали попытаться. Мы взяли деньги леди Бромли. На это мне нечего ответить. Я отдаю пустую чашку, и он накручивает ее на верхнюю часть термоса. — Поспи еще, Джейк. Сделай пару глотков старого доброго «английского воздуха», согрейся и поспи, если сможешь. Я разбужу вас, когда поставлю греться завтрак на «Унну». Прежде чем заползти назад в палатку, я еще раз окидываю взглядом эту сказочную картину: Эверест и другие вершины рядом с ним сверкают в свете звезд, ниже Северного седла клубятся облака, и только едва видимый султан поднимается над вершиной, к которой мы пойдем через несколько часов. Впервые после отплытия из Англии я думаю: «Мы могли бы покорить эту чертову гору сегодня. И еще можем покорить в ближайшие пару дней, если не будем терять времени на поиски мертвого человека. Это возможно». И это твердая уверенность, а не абстрактное бахвальство.
Воскресенье, 17 мая 1925 года Выясняется, что карабкаться по крутым гранитным плитам к пятому лагерю сегодня предстоит только нам с Реджи. Жан-Клод признался, что неважно себя чувствует — «немного квелый», сказал он, позаимствовав это английское выражение у Дикона, — и мы решили, что он спустится вместе с Диконом и поможет организовать доставку грузов на Северное седло, а на следующий день поднимется в пятый или шестой лагерь. — У меня появится возможность как следует испытать свой «велосипед», — говорит Же-Ка. Кажется, я еще не описывал хитроумное изобретение, которое Жан-Клод в разобранном виде таскал за собой через весь Тибет, а затем не без труда собрал на Северном седле. В этом устройстве использованы детали от велосипеда — сиденье, педали, шестеренки, цепи, — но, помимо них, имеются обтянутая кожей спинка (поскольку крутить педали предполагается практически лежа на спине, с коленями выше головы) и металлические опоры, отходящие на шесть футов в четырех направлениях, каждая надежно закреплена на ледовой полке ледобурами, вбитыми в лед крюками и паутиной веревок. Это похожее на велосипед приспособление упадет вниз только в том случае, если от покрывающего Северное седло ледника отколется громадный кусок. Приблизительно в метре над педалями начинается девятифутовая металлическая консоль — состоящая из трехфутовых секций, удобных для транспортировки, — которая расположена горизонтально и тоже закреплена многочисленными веревками. На консоли крепятся третья велосипедная шестеренка и шкивы. До начала снежной бури в пятницу мы успели поднять всего два груза, однако «велосипед» хоть и был довольно примитивным, но показал себя с хорошей стороны. Во время экспедиции 1924 года шерпы спускали веревки и втаскивали грузы по вертикальной расселине, с помощью которой Мэллори преодолел последние 200 футов ледяной стены, но при таком способе грузы должны быть не очень тяжелыми. Педали, которые нужно крутить ногами, выигрыш в силе благодаря понижающим шестеренкам — все это значительно облегчало подъем по сравнению с руками и спиной, а вес груза, привязанного к закольцованной 400-футовой «волшебной веревке Дикона», мог достигать 50 или 60 фунтов. На высоте, превышающей 23 000 футов, крутить педали было тяжело, никто и не отрицал, но каждый из нас попробовал, и все убедились, что два человека — один в седле «велосипеда», другой направляет веревку и отвязывает груз, когда тот поднимется на уровень ледовой «полки», — действительно способны переместить несколько тонн на Северное седло без длинной вереницы тяжело нагруженных шерпов, с хрипом хватающих ртом воздух и часто отдыхающих на веревочной лестнице или перилах. — Жаль, что у меня не было возможности поднять маленький бензиновый генератор, — сказал Жан-Клод. Но сегодня он плохо себя чувствует и восстанавливает силы внизу, так что этим ясным воскресным утром по каменным плитам к пятому лагерю карабкаемся только мы с Реджи. Перед расставанием, когда Реджи была в нескольких ярдах от нас и возилась с регулятором шипящего кислородного аппарата, Же-Ка прошептал мне: — Кроме того, mon ami, Дикон, Тенцинг и Тейбир поставили в пятом лагере только две маленькие двухместные палатки. Если повезет, сегодня я буду спать один.
Мы с Реджи не стали связываться веревкой, и я не могу сказать почему. Наверное, потому, что первые несколько сотен ярдов по снежным полям, ведущим от Северного седла, требовалось просто идти, высоко поднимая ноги, а выше, на этих чертовых плитах из черного гранита, передвижение напоминало подъем по лестнице с гигантскими ступенями. Несколько острых ребер и нависающих выступов, с которыми мы столкнулись на вершине гребня, легко обходились по таким же наклонным гранитным плитам Северной стены — мы отклонялись в сторону, огибали препятствие и возвращались на широкую вершину. Нельзя сказать, что падение с Северного гребня — иногда Дикон называет его Северо-Восточным плечом (не путать с Северо-Восточным гребнем высоко над нами, который ведет к вершине) — не представляет серьезной опасности. Ветер в эти предрассветные часы переменный, совсем не похожий на тот непрекращающийся шторм, с которым Дикон и двое шерпов столкнулись в пятницу. Они были вынуждены наклониться навстречу ураганному ветру так низко, что голова оказалась ниже коленей, а нос почти касался каменных плит перед ними. Мы с Реджи можем идти, лишь слегка наклонившись вперед — как французская и британская пехота в битве при Сомме навстречу вражескому пулеметному огню, я читал об этом, — но редкие порывы отбрасывали нас назад, заставляя переносить вес на пятки и размахивать руками, чтобы сохранить равновесие. Разумеется, падение назад здесь дорого обойдется. На одном из участков хребта ветер вдруг налетает на нас одновременно с двух сторон, и Реджи приходится упасть вперед и рукам в варежках искать зацепку на обледенелой каменной плите перед собой, чтобы не дать ветру отбросить ее назад, в глубокую пропасть. Нам следовало идти в связке. Я это знаю — все мои чувства и опыт альпиниста говорят, что нужно идти в связке, — но по какой-то причине даже не могу предложить это Реджи. Возможно, такое предложение кажется мне слишком личным. Впервые я осознаю проблему, с которой столкнулись Дикон и его шерпы — а также обе высокогорные британские экспедиции до них, — когда искали место для палаток. Справа от нас, на западе, края крутого гребня и самой Северной стены открыты для сильных ветров, постоянно дующих с северо-запада. Палатка не продержится здесь и часа. Но на западной стороне Северного хребта все равно нет плоской площадки, на которой можно поставить палатку, даже самую маленькую. Слева, на востоке, гребень немного защищает от ветра, но на той стороне тоже нет ничего, кроме очень крутых и полностью открытых склонов, снежных ущелий, внезапно заканчивающихся 5000-футовыми обрывами к главному леднику Ронгбук, пятнистыми от нагромождения наклонных скал, среди которых легко потеряться альпинисту, особенно не в лучшем физическом состоянии. Дикон и Мэллори в 22-м и Мэллори в 24-м опасались, что спускающиеся альпинисты ошибутся и свернут в одно из этих оканчивающихся отвесным обрывом ущелий, и поэтому этим утром мы с Реджи тащим с собой много бамбуковых вешек с красными флажками и втыкаем их поглубже в снег вдоль всего маршрута, чтобы тот, кто будет спускаться в метель, не ошибся и не свернул не туда — навстречу вечности. Мы продолжаем идти навстречу солнцу, но наши защитные очки из крукса все еще на обтянутых замшевой маской лбах. Вершину Эвереста золотистое сияние окружило еще вскоре после того, как мы покинули снежное поле и вышли на скалы Северного гребня, а теперь ярким светом уже залиты Чангзе, Макалу, Чомо Лонзо и другие соседние пики. Даже заснеженные вершины далеко на севере начали приветствовать наступающее утро. Я с нетерпением жду, когда полоса утреннего света доберется до нашего гребня, расположенного ниже, и немного ослабит этот жуткий холод. Даже в новой, подбитой пухом одежде и ботинках с несколькими слоями войлока только постоянное движение противостоит стремительной потере тепла телом на такой высоте, но все время двигаться здесь практически невозможно. Дикон продемонстрировал нам трюк, который он с Мэллори использовал высоко в горах, когда ты делаешь глубокий вдох — глубже и дольше, чем обычно, — затем делаешь шаг, выдыхаешь во время паузы и снова делаешь глубокий вдох для следующего шага. Но поскольку мы с Реджи включили кислород на минимальную подачу 1,5 литра в минуту, воспользоваться этим трюком нам не удастся — регуляторы не позволят. Поэтому мы с Реджи сразу же опускаем маски и пытаемся сделать двадцать шагов, прежде чем остановиться, хрипя и жадно глотая ртом воздух, но самое большее, на что мы способны — на снегу или на этих каменных плитах, — это тринадцать коротких шагов. С каждой сотней футов завоеванной высоты наши остановки, чтобы перевести дух, становятся все чаще и продолжительнее. Я смотрю вниз и по сторонам, а не под ноги, как должен. Но ничего не могу с собой поделать. Мне всегда нравились виды, открывающиеся с большой высоты, но ничто в моем небогатом опыте — и в моей короткой жизни — не могло сравниться с картиной, которая открывалась мне с Северного плеча Эвереста на высоте около 25 000 футов. Позади нас долина ледника Восточный Ронгбук, в которой стоят наши лагеря с первого по третий; она все еще заполнена густыми серыми облаками, которые клубятся и наскакивают друг на друга в бесплодной попытке бушующей внизу бури поднять эту тяжелую влажную массу на Северное седло. Воздух над облаками такой прозрачный, что, кажется, можно дотянуться рукой до далеких вершин милях в пятидесяти от нас. Наклонившись вперед, я могу видеть четвертый лагерь на Северном седле в просвете между моими закутанными в брезент и гусиный пух ногами — зеленые палатки уже превратились просто в темные точки на белом снегу седловины. Следуя совету Дикона и Жан-Клода, мы с Реджи не снимаем — в том числе на этом крутом склоне из нескончаемых каменных плит — «кошки» с 12 зубьями. Поначалу я нервничал, карабкаясь по скалам в «кошках» вместо привычных твердых подошв — если не следить за каждым своим шагом, можно запросто зацепиться передними зубьями и споткнуться, — но после двух или трех часов восхождения я ясно вижу преимущества «кошек». Сцепление с камнем у них не хуже, чем у шипованных ботинок, но преодоление участков снега и льда значительно облегчается — можно вонзать передние зубья «кошек» и двигаться с такой же скоростью, как на камнях. Кроме того, лишь немногие из камней действительно голые: несмотря на сильный ветер, на большинстве плит метель оставила тонкий слой льда. «Кошки» вгрызаются в этот лед и удерживают ногу так, как не смогли бы удержать никакие шипы. Разумеется, мы используем длинные ледорубы; через каждые тринадцать шагов останавливаемся, сгибаемся почти пополам, опираясь на ледорубы, включаем подачу кислорода и жадно наполняем живительным воздухом измученные легкие. У каждого за спиной по три баллона с кислородом — хотя по дороге в пятый лагерь мы планируем израсходовать только по одному, — но не на металлической раме, а в особом рюкзаке, который приспособил Жан-Клод. Чтобы надеть этот рюкзак, требуется несколько лишних минут — трубки и регулятор нужно пропустить через специально проделанные отверстия, которые затем туго зашнуровываются, — но мы несем на себе дополнительный запас продуктов, одежды и другой груз, который неудобно сдавливает ремешки кислородной маски, висящей на груди или на плече. Я чувствую тяжесть трех баллонов кислорода со всеми их клапанами, трубками и прочим, но благодаря усовершенствованиям мистера Ирвина и месье Клэру общий вес не превышает 30 фунтов — даже с дополнительным грузом у меня за спиной. И это с 10-фунтовой двухместной палаткой Мида, детали которой распределены по нашим рюкзакам. Нас настигает солнце. Я вижу, что фигурка рядом со мной, похожая на человечка с рекламы «Мишлен», жестами показывает, что нужно надеть очки; у самой Реджи очки уже на месте. Я их ненавижу, поскольку особое стекло искажает цвета и вызывает ощущение — вместе с недостатком кислорода, — что я заперт в чужом мире, как человек в тяжелом водолазном костюме с металлическим шлемом. Однако Реджи права. Теперь мы вышли со снежного поля на длинный участок вздыбленных плит и низких каменных пирамид, но на такой высоте это не спасет нас от снежной слепоты. Ультрафиолетовые лучи все равно ослепят, если достаточно долго карабкаться даже по темной скале. Под анораками, надетыми поверх пуховиков, у нас с Реджи висят маленькие полевые бинокли. Обычно их не берут на Эверест, однако они могут помочь в поисках кузена Персиваля. Реджи еще не доставала бинокль, и на Северной стене справа от себя я не видел ничего такого, что заставило бы меня достать свой. Один раз, когда мы остановились, разломили плитку шоколада и пытались растопить ее во рту, я спросил, ищет ли она тело кузена. — По обе стороны гребня, — задыхаясь, отвечает она с полным ртом шоколада. — Но… вы помните… мы с Пасангом смотрели… внимательно… до… пятого лагеря… в прошлом году, в августе. Никаких следов… тогда… тоже. Я почти забыл, что этот подъем к пятому лагерю, новый для меня, был давно знаком леди Бромли-Монфор. Когда мы с Диконом спросили, сколько времени займет подъем к пятому лагерю с Северного седла, она назвала до смешного точную цифру — пять часов и десять минут. Но Дикон, верный себе, поднял записи тех, кто перемещался из четвертого лагеря в пятый в 22-м и 24-м годах, включая свои собственные, и пришел к той же цифре. Через пять часов и двенадцать минут мы увидели две маленькие палатки нового пятого лагеря, разбитого Диконом всего в десятке ярдов над нами. Моя первая мысль: «Должно быть, это шутка». Это худший лагерь из всех, что я когда-нибудь видел. По правде говоря, здесь вообще нет лагеря. Просто выступ на склоне в месте, частично защищенном от камнепада и ветра высокой каменной грядой, где Дикон с Тенцингом Ботиа и Тейбиром Норгеем передвинули несколько камней, так что образовались две нелепые наклонные площадки, меньшие по размерам, чем установленные на них палатки. Две маленькие палатки Мида располагаются даже не на одном уровне. Одна, справа от нашего маршрута восхождения, наклонилась над самым обрывом, а другая, в еще более ненадежном положении, футов на 30 выше и слева. Эта вторая палатка буквально висит над пропастью — до главного ледника Ронгбук 5000 футов отвесной стены. В первую секунду мне кажется, что это неудачная шутка Дикона и двух его шерпов. «Мы не можем тут ночевать, — мелькает у меня в голове. — Это просто невозможно, черт возьми». Но потом я понимаю, почему Ричард выбрал именно эти места; каменная гряда надежно защищает нижнюю палатку, а у верхней, которая выглядит менее надежной, имеется целая паутина веревочных растяжек, концы которых обмотаны вокруг трех больших камней рядом с ней. С наветренной стороны каждой зеленой палатки намело сугроб снега, но ни одну из них не повалило и не сдуло с обрыва. И все же я не могу поверить, что мы вручим свою жизнь — не говоря уже о том, чтобы хоть на мгновение закрыть глаза и заснуть, — этим безумным конструкциям на каменных плитах склона. Но сколько я ни вглядываюсь в скалистый гребень через толстые стекла очков, другого места для палаток найти не могу. Реджи поворачивается и садится на громадную наклонную плиту рядом с нижней палаткой. Потом перекрывает подачу кислорода и снимает маску. Я следую ее примеру. Ощущение, что я тону — даже полный вдох не дает достаточно кислорода, — мгновенно вызывает панику. Но это быстро проходит. Медленно, как водолаз, которым я себе казался, Реджи расшнуровывает клапан палатки — со стороны каменной стены, а не крутого обрыва — и наклоняется, чтобы заглянуть внутрь. — Спальные… мешки… и все… остальное на месте… где Дикон… и носильщики… их оставили… — говорит она, громкои тяжело дыша. — Печка «Унна» и… брикеты топлива. Но… много… снега. Внутри… спальные мешки… мы можем намокнуть. Черт. Ладно, мы принесли с собой спальники. Солнце светит так ярко, что в защищенных от ветра местах почти тепло. Я расстегиваю пуховик и с трудом выдавливаю: «Веник… метелка…» — и хлопаю по внешнему кармашку с левой стороны рюкзака. Реджи кивает, достает крошечную метелку и откуда-то находит в себе силы просунуть голову в палатку и вымести оттуда почти весь снег. Затем она выворачивает наизнанку спальные мешки, вытягивает на солнце и прижимает камнями, чтобы их не унесло внезапным порывом ветра. Закончив, Реджи достает из внутреннего кармана барометрический высотомер и смотрит на шкалу. — Двадцать пять тысяч двести пятьдесят футов, плюс-минус двести футов погрешности на погоду, — сообщает она и замолкает, тяжело дыша. Я вижу, что она указывает на что-то внизу, слева от нас. Мне требуется целая минута, чтобы разглядеть. Два обрывка зеленого брезента на заснеженной скалистой площадке на крутом склоне. — Пятый лагерь в двадцать втором, — поясняет Реджи. Глупо, конечно, но я радуюсь тому, что для разбивки пятого лагеря мы поднялись на 200 или 300 футов выше, чем железные люди из экспедиции 22-го года. — А где… палатки… лагеря… двадцать четвертого года? — спрашиваю я. Реджи пожимает плечами. Она говорила, что летом прошлого года вместе с Пасангом поднималась до пятого лагеря предыдущей экспедиции, и я подозреваю, что она знает, где это место, но слишком устала, чтобы отвечать. Какую бы палатку или палатки мы ни выбрали для ночлега — а от мысли о том, что придется провести ночь в таком ненадежном сооружении на сильном ветру, у меня холодеет внутри, — по рассказам Дикона, Нортона и остальных я прекрасно представляю, каким будет остаток этого дня. Во-первых, нам с Реджи предстоит достать немногочисленные предметы первой необходимости — здесь уже имеется печка «Унна», так что принесенную с собой мы прибережем для следующего лагеря — и заползти в спальные мешки, наслаждаясь обманчивым ощущением тепла под нагретым лучами солнца брезентом палатки. Слишком уставшие, чтобы заняться чем-то полезным, мы будем просто лежать без движения каждый в своем спальнике минут сорок пять или даже час, время от времени включая «английский воздух», чтобы отогнать головную боль, которая уже заползает в черепную коробку, как клубящаяся масса облаков на леднике Восточный Ронгбук далеко внизу. Потом один из нас — я очень надеюсь, что это будет Реджи, — найдет в себе силы, чтобы с частыми остановками (и еще более частыми стонами) выползти из спального мешка, из палатки, проковылять по жутко крутому склону к ближайшему участку чистого снега, в десяти шагах от палатки и всего в четырех шагах от висящей над пустотой палатки слева от нас, и потратить последние силы, чтобы наполнить снегом два алюминиевых котелка. Затем, с такими же стонами и охами, мы будем вместе разжигать проклятое твердое топливо, открывать консервные банки и пакеты с едой — непростое дело на такой высоте — и два часа готовить обед, на который нам даже не хочется смотреть: наверное, пеммикан или вареную говядину (должно быть, ее любит Дикон, поскольку взял ее так много), — а потом «кипятить» едва теплый чай с большим количеством сахара и сгущенного молока. От мысли о еде желудок сжимают спазмы. Наверное, я просто буду спать весь день и всю ночь. У нас в термосах еще осталась вода. Ее хватит до завтра. Или до самой смерти. В зависимости от того, что наступит первым. Поэтому слова Реджи вызывают у меня не просто удивление — оторопь. — Как вы отнесетесь к тому… чтобы… подняться… к шестому лагерю? — Сегодня? — Мой голос похож на писк. Кивнув, она извлекает откуда-то из-под застегнутого пуховика маленькие дамские часики. — Еще нет двенадцати. Дикон говорит… они поднялись из пятого лагеря… в шестой… меньше чем… за четыре с половиной часа. Мы можем добраться туда задолго до… темноты. Мне кажется, что это чистая бравада, что Реджи просто шутит, но потом я смотрю на ее обожженное солнцем лицо и прекрасные глаза между спущенной кислородной маской и сдвинутыми на лоб очками и понимаю, что она абсолютно серьезна. — Они начали подъем… утром, — говорю я. — Отдохнувшими. Реджи качает головой, и локоны ее иссиня-черных волос выбиваются из-под шерстяной шапочки, надетой под капюшоном. — На такой высоте… невозможно толком отдохнуть. Одно… мучение. Лежишь… без сна. Это можно делать… и на высоте двадцати семи тысяч футов… ночью. А утром… начнем искать… Перси. По пути вниз. — Дикон и Же-Ка рассчитывают, что мы будем здесь… в пятом лагере, — выдавливаю из себя я. Реджи пожимает плечами. — Я оставлю им записку. Из внутреннего кармана она достает маленький блокнот в кожаной обложке и маленький карандаш. «Боже милосердный, — думаю я. — Она и вправду не шутит!» Я выкладываю козырную карту. На это ей нечего будет возразить. Я спасу наши жизни… или по крайней мере, свою жизнь. — Там нет… шестого лагеря, — произношу я, пытаясь придать своему тону оттенок сожаления. — Мы не знаем, где… его разбить. Мы не успеем… разбить его… до наступления ночи. Мы замерзнем… насмерть. — Глупости, — отвечает Реджи. Она деловито пишет. Затем запихивает немного подсохшие спальные мешки в наклоненную палатку, показывает мне записку, кладет на ближайший спальник и прижимает камнем. Всего несколько слов, наш смертный приговор — по крайней мере, мне так кажется. «В пятом лагере в полдень. Оба в порядке. Решили идти дальше и разбить шестой лагерь около 27 000. Начнем поиски на стене утром. Реджи». Она туго зашнуровывает клапаны палаток, и мы со стонами и вздохами поднимаемся на ноги. Головокружение едва не сбрасывает меня с 2000-футовой высоты на Северное седло, и я отчаянно размахиваю руками, словно это рудиментарные крылья не умеющей летать птицы. Если я упаду назад, то между мной и обрывом нет ничего, что может меня остановить. Я раскачиваюсь, как пьяный, в тщетной попытке сохранить равновесие, а затем чувствую сильную ладонь Реджи на своем плече, которая удерживает меня на месте. Когда мне удается наконец восстановить равновесие и немного отдышаться, Реджи как ни в чем не бывало хлопает меня по плечу. — Мы можем оставить первый кислородный… баллон… когда он опустеет, — говорит она и натягивает маску. — Может… в конце подъема стоит… поберечь кислород. Больше останется… на завтра. — Конечно, — выдыхаю я поверх своей маски. — Как… скажете… мэм. Мы поворачиваемся лицом к невероятно крутому нагромождению убийственно скользких плит из черного гранита и снега и готовимся сделать первые тринадцать шагов. Почти в 6000 футах над нами в холодном и постепенно тускнеющем послеполуденном свете начинает сиять Западная стена заснеженной вершины Эвереста. Облачный султан снова тянется от нее на много миль к юго-востоку. Я пытаюсь представить, каким будет ветер там, на высоте 27 000 футов, всего в нескольких сотнях футов ниже Желтого пояса, последнего ориентира и разделительной линии между Северо-Восточным гребнем и прямой — если вообще существующей — дорогой к вершине. Но затем мне приходится приструнить свое воображение — чтобы не сесть на камень и не заплакать, как ребенок. Мы делаем первые тринадцать шагов.
Понедельник, 18 мая 1925 года — Джейк, — тихо окликает меня Реджи, — если вы не спите, то вам стоит на это посмотреть. Конечно, не сплю. Наш «шестой лагерь» больше похож на невеселую шутку — маленькая 10-фунтовая палатка Мида с двумя стойками ненадежно примостилась на наклонной каменной плите, такой крутой, что нам приходится упереться ногами в камень, удерживающий нижний край палатки, и спать под наклоном, отчего создается впечатление, что спишь стоя. По крайней мере, я догадался расстелить на плоской поверхности камня еще одно одеяло, когда мы закрепляли палатку на склоне горы, так что за ночь ледяная скала не смогла полностью передать нам невероятный холод этого неземного мира на высоте 27 000 футов. Я вздремнул несколько минут, пока было темно. Кроме того, я смутно помню, что мы с Реджи, зарывшись в коконы спальников, все равно льнули друг к другу, как два замерзших пассажира на переполненном втором этаже нелепо покосившегося британского двухэтажного автобуса в один из дней холодной лондонской зимы. Хорошо еще ветер ночью был не очень сильным. Ожидание, что нас в любой момент сдует с этой жалкой пародии на площадку, не дало бы мне сомкнуть глаз ни на секунду. — Ладно, — говорю я и сажусь, готовясь к суровому испытанию, то есть натянуть верхнюю одежду и ботинки, которые всю ночь провели со мной в спальном мешке. Моя единственная уступка гигиене — последняя чистая пара хлопковых нижних носков, обнаруженная в рюкзаке. Я выползаю из верхнего конца палатки. Словно выбираюсь наружу из покрытого изморозью туннеля. Нет, не так — словно только появился на свет и обнаружил, что я на Луне. Полоса света только что надвинулась на наш милый маленький дом на высоте 27 000 футов, и я понимаю, что шипящий звук, который доносился до меня уже некоторое время, — это не метель, а последняя из наших печек «Унна» на твердом топливе, на которой в жалких, маленьких котелках по очереди растапливаются порции снега. Наверное, печка работает довольно давно, потому что Реджи — она полностью одета и сидит на сложенном спальном мешке, упираясь ботинками в выступ каменной плиты, чтобы не соскользнуть с крутого склона, — уже наполнила три термоса… чем-то теплым. Я пытаюсь вспомнить температуру кипения воды на высоте 27 000 футов — 164 градуса по Фаренгейту? 162? Все равно очень мало, так что если мы продолжим подъем, то вода, похоже, будет закипать в котелке без всякой горелки под ним. Я смутно припоминаю, как Джордж Финч рассказывал, что если человек когда-нибудь попадет в открытый космос — туда, где совсем нет атмосферы, — наша кровь вскипит в венах и в мозгу даже при том, что температура на затененных частях нашего тела может быть ниже минус 200 градусов по Фаренгейту. «Разумеется, — прибавил Финч, чтобы нас успокоить (мы как раз приступили к десерту в четырехзвездочном цюрихском ресторане), — у вас не будет времени волноваться из-за закипания крови в открытом космосе, поскольку ваши легкие и тела уже взорвутся, как те несчастные глубоководные существа, которых мы время от времени вытаскиваем из моря». Это заставило меня отодвинуть пудинг. Я тащу свой спальный мешок вверх по каменной плите и сажусь рядом с Реджи. Когда я подсовываю его себе под зад, мои ботинки соскальзывают — я еще не надел «кошки», поскольку мои пальцы не готовы к такой тонкой работе, как шнуровка, — и Реджи снова приходится держать меня своей сильной рукой, пока мои каблуки не упираются в следующий выступ, удерживая меня на месте. Нам пришлось немного подняться по Северной стене, чтобы найти это жалкое место для лагеря. Мы не видели никаких признаков прошлогоднего шестого лагеря Мэллори и Ирвина; возможно, не заметили его в сумерках, среди длинных теней, каменного лабиринта и снежных вихрей. И хотя Северная стена в этом месте, ниже Желтого пояса, примыкает к Северному гребню и не кажется слишком крутой — наверное, это похоже на знаменитую черепичную крышу с наклоном градусов 35 или 40, на которую мальчишкой забрался Джордж Мэллори, — один неверный шаг может означать падение с высоты 6000 футов на ледник Восточный Ронгбук. — Как самочувствие, Джейк? Я вижу, что она не пользуется кислородом, и радуюсь, что не успел вытащить свой баллон из палатки. — Превосходно, — глухо отвечаю я. Если в пятом лагере у меня было ощущение, что череп набит шерстью, то здесь, в шестом лагере, голова кажется абсолютно пустой, если не считать боли… которая резко усиливается от разговоров и мыслей. — Вы всю ночь кашляли, — говорит Реджи. Я заметил. Постоянный кашель — полагаю, вызванный тем, что на этой высоте невероятно сухой воздух проникает в мельчайшие легочные пузырьки, иссушает слизистую оболочку горла, — иногда вызывает такое чувство, что ты в буквальном смысле выкашливаешь свои внутренности. — Просто холодный воздух, — отмахиваюсь я. Честно говоря, у меня такое чувство, что у меня в горле застряло что-то твердое. Эта мысль вызывает тошноту, и я стараюсь на ней не задерживаться. Реджи раскидывает руки. — Я подумала, что вам захочется посмотреть рассвет. — О… да… спасибо, — бормочу я. Боже, как он прекрасен… Часть моего заторможенного мозга и жаждущей тепла души смутно ощущает эту красоту. Через секунду реальность открывшейся передо мной картины и капелька тепла восходящего солнца начинают проникать в полудохлый кусок замороженного, кашляющего и дрожащего мяса, в который я превратился. В этот момент мы с леди Кэтрин Кристиной Реджиной Бромли-Монфор, вне всякого сомнения, находимся выше всех людей на планете, которых коснулись лучи восходящего солнца. Я смотрю влево и вытягиваю ноющую шею, чтобы увидеть вершину Эвереста — так близко и так бесконечно далеко! — всего в 2000 непреодолимых футов над нами, меньше чем в миле на запад вдоль кромки гребня, и сияние солнца, своим светом благословляющего рыжеватые камни пика. Сверкающие снежные поля пирамидальной вершины ниже последнего вертикального участка, ведущего к самому пику, кажутся чем-то божественным, чем-то неземным. «На этой высоте иной мир. Люди не созданы для него. — Я ошеломлен, но чувствую, как откуда-то из глубины подступает паника. И одновременно в голову приходит совсем другая мысль: — Судьбой мне предназначено быть здесь. Я ждал этого всю свою жизнь». Что там говорил Джон Ките о «негативной способности» — когда в голове у тебя две противоречащие друг другу идеи и ты не пытаешься их примирить? Не помню. А может, это вовсе не Ките… может, это говорил Йейтс, или Томас Джефферсон, или Эдисон. Черт… о чем я только что думал? — Вот, выпейте, — говорит Реджи и вручает мне один из термосов. — Не горячий, но кофеин в нем есть. От едва теплого кофе меня тошнит, но я прихожу к выводу, что извергнуть из себя этот напиток прямо на Реджи — это не самый лучший способ поблагодарить ее за то, что она встала до рассвета, чтобы приготовить мне утренний кофе. Потом я замечаю, что Реджи время от времени подносит к глазам висящий у нее на шее бинокль и рассматривает склон под нами. — Есть что-нибудь? — спрашиваю я. — На Северной стене слишком много снега… и поэтому… каждая скала или валун на первый взгляд кажутся похожими на человеческую фигуру. — Она опускает бинокль. — Нет. Пока смотреть не на что. Не считая двух человек, поднимающихся прямо к нам. — Что? — Я беру у нее бинокль. У меня уходит не меньше минуты, чтобы обнаружить то, о чем говорит Реджи, даже с ее помощью. Это просто маленькие точки, медленно ползущие по серо-черным скалам вдоль хребта. И только когда они перемещаются на очередное снежное поле, преграждающее им путь, я действительно понимаю, что эти точки живые и что они поднимаются к нам. — Впереди Дикон, — сообщаю я. — И Жан-Клод? — Второй человек в связке слишком высок для Же-Ка. Наверное, тот очень высокий шерпа, которого Дикон… постойте! Это Пасанг! Реджи отбирает у меня бинокль. Я вижу, как ее лицо освещается радостью. На мой взгляд, это прекрасное лицо как нельзя лучше подходит к окружающей нас картине: теплеющее голубое небо, облака в долинах далеко под нами, гигантские ледники в просветах низких облаков и лес вершин высотой 20 000 футов и больше, которые одна за другой вспыхивают в лучах солнца, словно череда исполинских свечей, зажигаемых невидимым служкой. Под каждой зажженной свечой расстилается напрестольная пелена из бесчисленных ледников, скал и девственно-белых снежных полей. Чтобы добраться до нас, двум фигуркам требуется еще полчаса — последнюю часть подъема они скрыты от нас лабиринтом оврагов, который начинается приблизительно в 1000 футах ниже Желтого пояса и тянется до вершины гребня над нами, а потом неожиданно появляются рядом с нами. Ожидая, пока товарищи поднимутся к нам, мы с Реджи плотно завтракаем: несколько галет, шоколад, пару ложек слегка подогретых макарон, затем еще шоколад и кофе. Мы с Реджи не разговариваем — такое молчание писатель, коим я себя когда-то воображал (пока не встретил в Париже того парня, Хемингуэя), назвал бы «товарищеским». Я пытаюсь расшевелить свои затуманенные мозги, вспоминая названия вершин, уже освещенных солнцем: разумеется, скалы и Северная вершина самого Эвереста, заснеженный пик далеко на востоке, должно быть, Канченджанга, на западе Чо-Ойю, на юге только начинающая зажигаться Лхоцзе, вдали под лучами восходящего солнца туманная тень хребта Гианкар медленно обретает гранитную монументальность, а еще дальше, над уже заметным закруглением земли, на нас смотрит какая-то вершина Центрального Тибета. Я понятия не имею, что это может быть. И вот Ричард с Пасангом уже здесь, связанные 60 футами «волшебной веревки Дикона». Мы с Реджи виновато переглядываемся — вчера во время восхождения нам не пришло в голову идти в связке, даже после того, как мы поднялись на Северную стену или пробирались через лабиринт оврагов, цепляясь руками на самых крутых участках. Я не понимаю, почему наш маленький секрет доставляет мне такое удовольствие. — Еще нет семи часов, — говорит Реджи. — Когда, черт возьми… вы вышли? И откуда? Кислородная маска Пасанга висела у него на груди все то время, что я мог видеть его в бинокль. Вряд ли у него закончился кислород — из рюкзака торчат верхние части двух баллонов. Их с лихвой хватит на весь путь от Северного седла, даже при максимальной подаче. Кроме того, бахвальство не в характере доктора Пасанга. Наверное, он просто способен подняться выше, чем европейцы, не пользуясь кислородом из баллона. Как бы то ни было, Дикон не снимал маску, пока они не взобрались на нашу плиту и не нашли надежную опору под ногами. Теперь он закрывает клапан подачи кислорода, опускает маску и долго стоит, хватая ртом воздух, прежде чем ответить на вопрос Реджи. — Вышли… в начале… третьего, — с трудом выговаривает он. — Из пятого… лагеря. Поднялись туда… вчера… днем. Я смотрю на валлийские шахтерские лампы поверх шерстяных шапочек под капюшонами на гусином пуху и невольно улыбаюсь. Пуховики Джорджа Финча, «кошки» и другие приспособления Жан-Клода, новые веревки Дикона, выверенная логистика и мой лихой и дерзкий энтузиазм — все это делало особенной нашу самую маленькую из всех экспедиций на Эверест. Но самое большое отличие — шахтерские лампы леди Бромли-Монфор и идея начинать восхождение посреди ночи, независимо от того, светит луна или нет. — Быстро добрались, — говорит Реджи. Она разворачивает свой спальник, так что он оказывается у ног Дикона. — Садитесь, джентльмены. Только сначала убедитесь, что подошвы и каблуки ботинок имеют прочную опору. Пасанг улыбается, но продолжает стоять. Он поворачивается, окидывает взглядом великолепную картину, потом снова поворачивается к нам, смотрит на Желтый пояс, Северо-Восточный гребень и саму вершину Эвереста, которая кажется обманчиво близкой. Дикон с величайшей осторожностью снимает рюкзак — он как-то рассказывал нам, что в 1922 году Говард Сомервелл на высоте около 26 000 футов однажды неосторожно опустил рюкзак на землю, а потом смотрел, как тот летит 9000 футов на главный ледник Ронгбук, — и ставит его между двух маленьких камней, а затем медленно садится сам. Никто из двоих новоприбывших еще не надел очки. Под высокогорным солнцем лицо Дикона загорело до черноты, и они с Пасангом могли бы сойти за братьев. — Мы… быстро дошли, — наконец произносит Ричард, — потому что кто-то… чрезвычайно предусмотрительный… протянул… сотни футов перил… на нескольких крутых… участках. — Он кивком благодарит нас. — Бамбуковые вешки с красными флажками и… между оврагами… были также… очень полезными. — Это самое меньшее, что мы могли сделать, поскольку все равно сюда поднимались. — Реджи снова улыбается своей благожелательной улыбкой. — Хорошо, что вы… пришли сюда… на день раньше, — продолжает Дикон. — Так что у нас есть целый день на осмотр Северной стены. — Но мы же не собираемся обыскивать всю Северную стену, правда? — спрашивает Реджи. Я понимаю, что она шутит. Дикон слабо улыбается и показывает куда-то вниз. Я замечаю, что его губы потрескались и кровоточат. — Мы будем придерживаться плана… Представьте громадную трапецию… спускающуюся с Северо-Восточного гребня с… того места, где недалеко от первой ступени в него упирается Северный гребень. — Он неуклюже сдвигается, чтобы посмотреть на первую ступень, от которой с нашего места видна лишь верхняя часть. — Господи, отсюда все это кажется возможным, правда, Джейк? Но та verdammte[53] вторая ступень… Реджи протягивает ему бинокль, и Дикон изучает вторую ступень, как недавно изучал ее я. — Небольшая задачка для скалолаза, — выносит он вердикт. — Однако именно за этим мы и брали тебя с собой, Джейк. Ты у нас главный специалист по скалам. — Небольшая задачка для скалолаза! — Мое возмущение неподдельно. — Я битый час… рассматривал эту чертову вторую ступень в бинокль… когда любовался рассветом… и она точно такая, как описывал ее Нортон или кто-то еще из Королевского географического общества. Словно на тебя прямо из тумана надвигается вертикальный нос долбаного дредноута, черт бы его побрал. — Я делаю несколько жадных вдохов. — Прошу меня извинить за грубость, Реджи. — Вот так-то лучше, — замечает она. — В любом случае, — продолжает Дикон, снимая варежки и показывая руками в перчатках на крутой скалистый склон под нами, — мы обыщем трапецию, которую… наметили раньше, но начнем отсюда, с шестого лагеря, и будем идти вниз… Это легче, чем подниматься… с пятого лагеря. — У вас есть силы на сегодняшний поиск? Пасанг снова улыбается. Дикон делает кислое лицо. — У нас еще осталось два полных баллона с кислородом, — говорит он. — А у вас? — У каждого по два, — подтверждаю я. Словно что-то вспомнив, Дикон извлекает из рюкзака недавно опустошенный баллон, отсоединяет клапаны и резиновые трубки. Потом начинает аккуратно пристраивать между острых камней, но Реджи его останавливает. — Мы с Джейком обнаружили… забавную вещь… когда вчера вечером выбрасывали свои баллоны, — говорит она. Брови Дикона слегка сдвигаются в сторону шахтерской лампы на лбу. Реджи берет у него баллон, обеими руками поднимает над головой и швыряет вниз с Северной стены. Он ударяется о склон футах в 60 ниже нас, отскакивает, пролетает еще футов 50, снова ударяется о скалу и, кувыркаясь, летит дальше — серебристое пятно, сверкающее в ярком утреннем свете, — под гулкое нескончаемое эхо. Потом исчезает из виду. Дикон с улыбкой качает головой. — Если баллон приземлится на кого-то из наших друзей шерпов на Северном седле, я ответственности не несу, — замечает он. — Кстати, кое о чем вспомнил. На Северной стене чуть ниже пятого лагеря, прямо под нами, есть отвесный обрыв до самого Большого ущелья. Это… нижняя граница нашей зоны поиска. — Я повторю то, что уже говорила. — Голос Реджи звучит тихо. — Это все равно не одна сотня акров. Вертикального склона. — Не совсем вертикального, — поправляет Дикон. — Слава Богу. Он сует руку под расстегнутый пуховик и достает из внутреннего кармана сложенный листок бумаги. Потом разворачивает, и я вижу более аккуратный вариант схемы, которую он нарисовал раньше и которую мы обсуждали во время перехода через Тибет, а потом еще в базовом лагере. Четыре извилистые горизонтальные линии разного цвета тянутся слева направо, а затем назад через схематичное изображение Северной стены Эвереста между Северным плечом, которое теперь располагается к востоку от нас, и Большим ущельем в нескольких сотнях ярдов к западу. — Леди Бромли-Монфор, — официальным тоном произносит Дикон, — поскольку до сих пор вы были нашим лидером в восхождении, то я предлагаю вам продолжить и подняться еще приблизительно на четыреста футов к нижней границе Желтого пояса над этой впадиной и начать осмотр с востока на запад вдоль гребня ниже оврагов Желтого пояса. Я не думаю… что вам нужно будет забираться в… сами овраги. Просто посмотрите в бинокль. Там есть выступающая «полка» недалеко от Большого ущелья… пожалуйста, не заходите дальше ее. Ориентиром будет служить первая ступень на гребне прямо над вами… просто поверните назад, когда зайдете за нее дальше на запад. Реджи кивает, но не в силах удержаться от язвительного вопроса: — Вы поручаете мне участок ниже Желтого пояса не потому, что он самый широкий и безопасный, с самым легким траверсом, нет? — Наоборот. — Лицо Дикона абсолютно серьезно. — Я поручаю этот участок вам, потому что падать на том маршруте дальше всего. А еще, — теперь в его глазах мелькают озорные искорки, — потому, что туда нужно подниматься, а все остальные будут спускаться. Доктор Пасанг? — Да? — откликается тот. Это первое слово, которое я от него услышал сегодня. Он дышит так легко, словно мы беседуем на берегу моря. — Я прошу вас спуститься на пару сотен футов к тому незаметному скальному ребру. — Дикон делает паузу и показывает рукой. «Ребро» такое незаметное, что разглядеть его удается лишь через несколько минут, но мне кажется, что это именно тот «горизонтальный гребень», по которому Нортон и Сомервелл траверсом возвращались от Большого ущелья после того, как Нортон в прошлом году установил мировой рекорд, поднявшись на высоту 28 600 футов — известный рекорд, поскольку никто не знает, на какую высоту поднялись Мэллори и Ирвин перед смертью. — Пожалуйста, продвигайтесь на запад, пока чувствуете прочную опору под ногами, потом спуститесь на несколько сотен футов и возвращайтесь на восток к Северному гребню, — продолжает Дикон и пристально смотрит на высокого шерпу. — Сегодня утром вы прекрасно обошлись без кислорода, Пасанг, но во время поисков не пренебрегайте «английским воздухом». Просто чтобы не рассеивалось внимание. — Хорошо, — говорит доктор. Прикрыв глаза ладонью, он смотрит вниз на крутые, как черепичная крыша, плиты, которые составляют его зону поиска. — Я возьму себе большой участок впадины между так называемым «незаметным ребром» доктора Пасанга и уровнем пятого лагеря. — Это большой участок, Ричард, — говорит Реджи. — И очень крутой. И совершенно открытый. Дикон пожимает плечами. — Я буду чрезвычайно осторожен. Не забудьте надеть очки, друзья мои. Даже если вы на темных скалах, помните… — О полковнике Нортоне, — вставляю я. — Да, — кивает Дикон. — По одному кислородному баллону мы используем, а второй оставим про запас, на вечер, но в любом случае к двум часам дня мы все должны вернуться в пятый лагерь. Сомневаюсь, что кто-нибудь из нас смог нормально отдохнуть минувшей ночью, и я… не хочу… больше никаких проблем со здоровьем из-за высоты, если их можно избежать. — Он смотрит на меня. — У тебя усиливается кашель, Джейк. Я раздраженно трясу головой. — Он пройдет, когда я снова начну дышать кислородом. — Я знаю, что не пройдет — в горле такое ощущение, что там застряла куриная кость, — но я не хочу ни спорить, ни жаловаться. Дикон с сомнением кивает — я его явно не убедил — и открывает рюкзак. — У меня кое-что есть для каждого из вас, — говорит он и вытаскивает нечто похожее на три черных пистолета с коротким и широким дулом. — Дуэльные пистолеты? — шутит Реджи. Смеюсь только я, и мой смех быстро переходит в кашель. — Не знал, что сигнальные пистолеты Вери стали такими маленькими, — говорит Пасанг. Дикон достает разноцветные патроны, каждый немногим больше обычного ружейного патрона. И сами пистолеты, и патроны гораздо меньше, чем все морские и армейские ракетницы, которые мне приходилось видеть. Я заметил их в списке необходимых вещей, который Дикон составлял в Лондоне. В то время я не представлял, зачем они, и Дикон почему-то произносил их название как «Верей» (вероятно, чисто английский акцент), хотя я точно знал, что эти сигнальные пистолеты называются «Вери», по фамилии того парня, который их изобрел. — Во время войны моя ракетница «Уэбли-Скотт» была больше похожа на мушкет, — продолжает Дикон. — Большое латунное дуло с раструбом. Заряжалась патронами дюймового калибра — вроде того сигнального пистолета Вери с дюймовым дулом, который ты, наверное, видел, Джейк. Но какой-то немецкий конструктор изобрел эти ракетницы двенадцатого калибра для ночных патрулей. Мы добыли несколько штук. — Он достает из рюкзака большую английскую ракетницу, чтобы продемонстрировать разницу. Сам сигнальный пистолет и патроны к нему как минимум вдвое больше немецких, которые лежат на камне перед нами. Но у этих ракетниц из вороненого металла, даже миниатюрных, все равно уродливый, утилитарный немецкий вид. — Значит, — в это чудесное утро на высоте 27 000 футов на Северной стене Эвереста во мне просыпается сарказм, — армия позволила забрать себе три маленьких немецких ракетницы и одну большую английскую? Какая щедрость! — Признаюсь, что захватил с собой одну большую, — говорит Дикон. — Никто не попросил ее вернуть, и я им не напомнил. Подобные вещи часто случались при демобилизации. Маленькие, те, что предназначены для вас — Жан-Клод получил свою вчера вечером, — я заказал по почте в одной фирме в Эрфурте, перед тем как они разорились. — Как мы будем их использовать? — спрашивает Реджи, уже настроившись на деловой лад. Она берет сигнальный пистолет и, продемонстрировав умение обращаться с оружием, переламывает его пополам, чтобы убедиться, что он не заряжен. Потом прибирает патроны 12-го калибра с разноцветными метками, лежащие на камне рядом с ладонью Дикона. — Видите, сигнальные ракеты бывают трех цветов: красного, зеленого и, как мы его называли во время войны, «белая звезда», — продолжает Дикон. Должен признать, что тон у него совсем не поучительный — просто объясняет что-то друзьям. — Предлагаю использовать зеленый как сигнал, что мы что-то нашли, чтобы подозвать остальных. Красный будет означать, что кто-то в беде и ему нужна помощь. Белый — сигнал, что всем пора возвращаться в пятый лагерь. — Значит, сорвавшись с обрыва, — я чувствую себя немного пьяным, глупею и на секунду забываю, какое печальное событие привело нас сюда, — я должен по пути вниз выпустить красную ракету? Все трое смотрят на меня так, будто у меня выросла вторая голова. — Это не помешает, Джейк, — наконец произносит Дикон. — Ты — самый нижний, ближе всего к обрыву. Затем мы вытаскиваем свои рюкзаки и прячем сигнальные пистолеты Вери и патроны к ним во внешние карманы, которые можно достать, не снимая рюкзак со спины, но подальше от кислородных баллонов. — Кстати, о поисках в нижней части стены, — говорит Реджи, когда мы все уже собрались и встали. — Вы действительно считаете, что тело Персиваля могло пролететь так далеко после падения с Северо-Восточного гребня или с Северной стены у Северного гребня? Дикон не пожимает плечами, но в его тоне явно угадывается этот жест. — Когда тело начинает падать с такого крутого склона, Реджи… падение обычно продолжается долго. Если причиной падения стала лавина, как утверждает Зигль, то тела Перси и Майера приобрели вертикальную скорость с самого начала. — Тогда их тел вообще может не быть на Северной стене, — говорит Реджи. Дикон не отвечает, но мы все слышим безмолвное: «Может и не быть». Об этом 2000-футовом обрыве под нами и падении с высоты более 8000 футов страшно даже подумать. — Но я убежден, что Бруно Зигль солгал, когда называл лавину причиной смерти вашего кузена и этого Майера, — прибавляет Дикон. Я впервые слышу, что он с такой уверенностью говорит об этом. — Но если Перси и Майер упали с другой стороны, с южной стороны Северо-Восточного гребня… — бормочет Реджи. — Мы их не найдем, — с бесстрастной убежденностью заканчивает Дикон. — Больше двенадцати тысяч футов до ледника Кангчунг. Даже если мы поднимемся на эту гору по… Северо-Восточному гребню… как планировал и Мэллори… искать с южной стороны нет никакого смысла. Нам не разглядеть тел — или частей тел — с такой высоты. Особенно после года снегопадов. И я не собираюсь приближаться к снежному карнизу, который там обязательно есть. — А как насчет меня? — спрашиваю я. — Что насчет тебя? — удивляется Дикон. — Границы моей зоны поиска. — Ага. — Дикон указывает на синюю линию в самом низу разбитой на участки карты. — Я оставил тебе самый опасный участок, Джейк. Нижняя зона перед самым обрывом. Не думаю, что тебе стоит спускаться ниже уровня пятого лагеря — то есть к самому краю обрыва — поскольку человеческое тело, упавшее туда с Северо-Восточного гребня, будет разорвано на мелкие кусочки. Или, по крайней мере, жутко изуродовано. Пища для… горных воронов, которые залетают даже на такую высоту. Приношу свои извинения, леди Бромли-Монфор. — За что? — бесстрастно спрашивает Реджи. — За непростительную бестактность, — Ричард не поднимает взгляда. — Мне уже приходилось видеть трупы в горах, мистер Дикон, — говорит Реджи. — И я не только прекрасно представляю, что падение с такой высоты делает с человеческим телом, но также знаю, что какой-нибудь падальщик вполне мог добраться до тел моего кузена и Майера, если они еще здесь, на горе. — Тем не менее, — Дикон проявляет не меньшую бестактность, неуклюже пытаясь загладить грубость предыдущей фразы, — Северная стена на этой высоте представляет собой высокогорную пустыню. Тело может подвергнуться мумификации, пролежав здесь всего год. Я чувствую, что пора сменить тему на нечто более приятное. Задрав голову, я смотрю на высокого шерпу. — Доктор Пасанг, я удивлен, что вы смогли оставить своих пациентов и присоединиться к нам. Как Тенцинг Ботиа? — Он умер, — говорит Пасанг. — Легочная эмболия — тромб, образовавшийся из-за сгущения крови на этой высоте, закупорил артерию, ведущую к легкому. Я ничего не смог бы сделать и спасти его, даже будь я в ту ночь в палатке на Северном седле. Он умер по дороге из первого лагеря в базовый. — Боже, — шепчу я еле слышно. Реджи явно потрясена этим известием. — Аминь, — произносит она.
Понедельник, 18 мая 1925 года Для того чтобы добраться до своей зоны поиска, Дикону нужно спуститься вместе со мной примерно до половины впадины на Северной стене ниже Желтого пояса, и он предлагает идти в связке общую часть пути. Я поспешно соглашаюсь. Это предложение напомнило мне, что гораздо больше альпинистов погибает при спуске с горы, чем при попытке восхождения. Точно так же на Маттерхорне мне напомнили, что при спуске спиной, а не лицом к горе на крутых, но не вертикальных участках альпинист не использует руки, как при подъеме, и ты уже движешься в направлении силы тяжести независимо от того, насколько осторожно и медленно пытаешься спускаться. Этот склон, состоящий из каменных глыб и снега, тянется до «незаметного скального ребра», которое Дикон попросил проверить Пасанга; не такой крутой, как тот участок Маттерхорна, где поскользнулись и разбились насмерть четверо товарищей Эдварда Уимпера, однако наклонные гранитные плиты скользкие и опасные — и спускаться по Северной стене гораздо сложнее, чем по острой, но не такой крутой кромке Северного гребня. Мы прошли траверсом на восток к Северному гребню, и я понимаю, что Дикон действительно намеревается придерживаться зигзагообразного маршрута поиска — на запад, на восток и снова на запад, — нанесенного на карту. Мы добираемся до крутого участка вблизи водораздела в самой восточной точке поисков. Единственная палатка, из которой состоит шестой лагерь, скрыта нависающими над нами плитами, но мы отчетливо видим палатки пятого лагеря (теперь их три, после того как Дикон с Пасангом минувшим вечером установили «большую палатку Реджи» на камне футах в 80 выше остальных двух) на Северном гребне в нескольких сотнях футов под нами. Мы разъединяемся, и я сворачиваю свою веревку и прячу в рюкзак, следя за тем, чтобы она не запуталась в кислородных трубках. Мы дышим «английским воздухом» с самого начала спуска, но теперь Дикон снимает маску и поднимает на лоб очки. — Будь осторожен здесь, Джейк. Сегодня никаких падений. Пока мы спускались, поднялся сильный ветер, и теперь он уносит слова Дикона, но я слежу за его губами сквозь толстые стекла очков. Моя зона поиска начинается почти на том же уровне, на котором стоят три палатки пятого лагеря, но дальше к западу вдоль Северного гребня. Спустившись до нужной, как мне кажется, высоты, я поворачиваю назад, к Большому ущелью, и начинаю осторожный траверс по склону, держа длинный ледоруб в левой, верхней руке и обязательно находя для него точку опоры, прежде чем сделать следующий шаг. Непросто искать мертвое тело, когда нужно все время смотреть под ноги и выбирать место, куда поставить ногу. Я снова надел «кошки» — несмотря на то, что их ремни затрудняют кровообращение и ноги замерзают быстрее. За последние два дня восхождения я заметил, что мне удобнее шагать по скалам и каменным осыпям в «кошках», чем отталкиваться от них шипованными подошвами ботинок. На Северной стене достаточно много участков, покрытых снегом и льдом, и потому «кошки» оказываются весьма кстати каждые несколько ярдов. Время от времени я останавливаюсь, опираюсь на ледоруб, вытягиваю шею и смотрю вверх, чтобы убедиться, что у моих товарищей все в порядке. Из-за расстояния и нагромождения льда и камней мне требуется одна или две минуты, чтобы увидеть три маленькие фигурки, каждая из которых челноком обходит свою зону поиска. Реджи, самая дальняя, лучше всего различима на фоне Желтого пояса, полосы высотой 700 футов, которую в своем докладе Альпийскому клубу геолог Оделл назвал «среднекембрийским мрамором с включениями диопсида и эпидота, характерной желтовато-коричневой окраски». В переводе на нормальный язык это означает многочисленные слои крошечных морских обитателей, окаменевших и заключенных в мрамор в период среднего кембрия, когда Гималайский хребет был дном древнего океана. Даже я — с не самыми высокими баллами по геологии в университете — понимал, что это было чертовски давно. Теперь я вижу, как Реджи перемещается вдоль линии водораздела прямо под Желтым поясом, время от времени останавливаясь и разглядывая в бинокль лабиринт оврагов над ней. Эти овраги образуют лабиринт чуть ниже самого Северо-Восточного гребня — нашего (а также Мэллори и Ирвина) предполагаемого маршрута к вершине, — и вполне логично искать тела Бромли и Курта Майера именно там, если они сорвались с гребня на эту, северную сторону. Не хотелось бы, чтобы именно Реджи нашла труп своего кузена. А может, Реджи, как и я, использует бинокль просто как предлог, чтобы остановиться и передохнуть? Неожиданно для себя я радуюсь, что Дикон настоял, чтобы поиски — включая возвращение в шестой лагерь или в пятый, если в шестом не хватит места, — длились до тех пор, пока не иссякнет запас кислорода в баллоне, то есть четыре или четыре с половиной часа. У меня такое чувство, что я способен проспать целую неделю, но я понимаю, что не смогу заснуть на холодных, наклонных камнях пятого и шестого лагерей, особенно шестого. И, если уж на то пошло, по-настоящему отдохнуть здесь, на высоте более 8000 метров, тоже не получится. Я начинаю понимать, что усталость на Эвересте имеет свойство накапливаться. Она просто усиливается, пока не убивает тебя или не прогоняет с горы. Я снова трогаюсь с места, но вдруг понимаю, что подошел слишком близко к Большому ущелью, отклонился дальше к западу, где надо мной на Северо-Западном гребне вздымается первая ступень, и почти поравнялся с устрашающей второй ступенью. Это граница моей зоны поиска. Дальше начинается глубокий снег и крутые склоны ущелья Нортона. Я поворачиваю назад и вниз, зигзагом двигаясь на восток, к Северному гребню с наклонными палатками пятого лагеря. Угроза в виде обрыва глубиной около 1000 футов постоянным фоном присутствует в моих мыслях. Один неверный шаг, и я полечу вниз, крича и беспомощно размахивая руками. Теперь я жалею о той глупой шутке насчет красной ракеты во время падения — полет к леднику далеко внизу станет худшими и последними сознательными мгновениями моей жизни. Более ужасной смерти я не могу себе представить. О чем думает человек, когда падает с высоты в тысячу футов? Я пытаюсь выбросить из головы этот вопрос, предполагая, что ударюсь о скалу и потеряю сознание еще до того, как свалюсь с края обрыва и полечу навстречу смерти, которая ждет меня далеко внизу. Эта мысль немного приободряет. Но, честно говоря, я в это не верю. Мой одурманенный недостатком кислорода мозг пытается вычислить, сколько минут и секунд я буду оставаться в сознании в процессе свободного падения. — К черту, — вслух говорю я и направляю умственные усилия на свои ботинки и заснеженный склон впереди. Проходит всего около получаса поисков, а я уже жалею, что Дикон не снабдил нас радиопередатчиками вместо этих уродливых ракетниц. Конечно, 60-фунтовый передатчик таскать на этих высотах совсем непросто, а хрупкие вакуумные лампы потребуют большого количества набивочного материала и крайне осторожного обращения, но главной проблемой будет 300 миль электрического кабеля, который придется тащить за собой каждому из нас во время… Я останавливаюсь и трясу головой, чтобы в голове немного прояснилось. Чуть ниже что-то шевелится, словно ветки на кустах или обрывки шелковой ленты, развевающиеся на ветру. Или радуга, которая как будто машет мне. Зовет меня. На том же маленьком снежном пятне впереди и чуть ниже меня, где я заметил какое-то движение, мелькает что-то зеленое. «Странно, — думаю я. Шестеренки в моем мозгу проворачиваются медленно, словно скованные вязкой патокой. — Не знал, что на такой высоте водятся зеленые растения». Погоди. Они здесь не растут. Я останавливаюсь и подношу к глазам бинокль. Руки у меня так сильно дрожат, что мне приходится присесть, с трудом сохраняя равновесие, и поставить бинокль на воткнутый в снег ледоруб. «Зеленое растение» — это зеленый кожаный ботинок на правой ноге трупа, лежащего ничком на крутом склоне, с вытянутыми вверх руками, словно он все еще пытается остановить скольжение вниз. На левой ноге только остатки носка. «Маленькое снежное пятно» оказывается вовсе не снегом. Похоже, это белая как мрамор кожа,просвечивающая сквозь лохмотья рубашки и брюк трупа. А шевелятся обрывки одежды (или плоти?) на усиливающемся ветру. Вторая мысль в моем затуманенном мозгу: «Это лорд Перси Бромли, тот парень Майер — или Дикон, Пасанг или Реджи? Может, кто-то из моих товарищей упал, а я ничего не видел и не слышал?» Такое вполне возможно, поскольку я отрезан от окружающего мира несколькими слоями кожи и гусиного пуха, кислородной маской и очками, а при каждом вдохе регулятор подачи кислорода издает довольно громкий булькающий звук. Я не увидел и не услышал бы даже духовой оркестр, промаршировавший за моей спиной. Нет, ни Дикон, ни доктор Пасанг — и если уж на то пошло, Реджи — не надели сегодня зеленые кожаные ботинки. И насколько я могу судить с расстояния нескольких сотен футов, это мертвое тело лежит там довольно давно. Каменистая осыпь — маленькие отдельные камешки, которых так много здесь, на Северном гребне, — закрыла часть головы трупа. Теперь мне нужно двигаться еще осторожнее, чем раньше, я приближаюсь к телу. Я не забыл о ракетнице в кармашке рюкзака, но не хочу прибегать к ее помощи, пока не рассмотрю свою находку. Глядя себе под ноги, я начинаю спуск по крутому склону к телу и устрашающему обрыву за ним.
Понедельник, 18 мая 1925 года В конце концов я выстреливаю зеленой ракетой — она взлетает не очень высоко и горит лишь несколько секунд, прежде чем опуститься, описав дугу, на крутой склон надо мной и с шипением погаснуть. Затем я опускаюсь на землю рядом с трупом. Ноги меня больше не держат, но я не могу понять, отчего — от волнения или от невероятной усталости. «Это должен быть либо Бромли, либо Курт Майер». По крайней мере, я так думал, когда смотрел на мертвого мужчину несколькими секундами раньше. Но затем увидел лохмотья обмоток на лодыжках и понял, что передо мной британский подданный. Немецкие и австрийские альпинисты не носили обмоток. «Я нашел Персиваля Бромли». Именно тогда я выстрелил из ракеты — пришлось снять две пары рукавиц, но зеленая гильза 12-го калибра все равно едва не выпала из негнущихся от холода и волнения пальцев. Убрав сигнальный пистолет, я обнаружил, что колени у меня подгибаются и что мне лучше присесть. У меня в рюкзаке два кислородных баллона и несколько хрупких вещей, и поэтому я не сажусь на него, как обычно поступаю на склоне горы, и уже через несколько минут космический холод гранитной плиты на Северном гребне Эвереста уже добирается через все слои шелка, хлопка, шерсти и гусиного пуха до моего зада, а затем и до бедер. Я быстро замерзаю. Теперь, разглядев английские обмотки на трупе, я узнаю разодранные шерстяные бриджи и норфолкскую куртку, и уверенность в том, что это Персиваль Бромли, крепнет. Рассматривая тело в бинокль, я видел, что оно лежит ничком, с вытянутыми вверх руками; голые пальцы, длинные и загорелые, впились в замерзшие камни над головой, которая наполовину скрыта каменной осыпью. Теперь мне совсем не хочется рассматривать лицо мертвого человека. Как я уже говорил, мне приходилось видеть тела погибших в горах, но у меня нет никакого желания без необходимости видеть лицо этого. И я не хочу даже думать о том, что через несколько минут Реджи, отвечая на мой сигнал, спустится сюда и увидит своего любимого кузена в таком виде. Одна из причин этого — смущение. Большая часть трупа по-прежнему скрыта одеждой и не повреждена, за исключением торчащей кости сломанной правой ноги — классический перелом голени, думаю я, — и нескольких рваных ран на удивительно широкой и мускулистой спине, но вороны уже клевали его ягодицы, и они полностью обнажены. Птицы — тибетцы называют их горак, что значит «ворон», но я подозреваю, что какая-то разновидность альпийских галок, — растерзали прямую кишку лорда Персиваля и начали вытаскивать наружу внутренности. Мне хочется прикрыть курткой эти непристойные увечья, как в Лондоне или Нью-Йорке прикрывают лицо внезапно скончавшегося на улице человека, но я и так уже дрожу от холода. Мне очень нужен этот слой шерсти. Кроме того, я понимаю, что должен снять «кошки», встать и потопать замерзшими ногами, чтобы восстановить кровообращение, и немного походить, пока не согреюсь. «Еще минутку». Руки у трупа загорелые, какого-то странного коричневого оттенка. Поначалу мне кажется, что это результат разложения, но затем я вспоминаю, что точно такой же темный высокогорный загар появился у Же-Ка, Дикона и даже у нас с Реджи после пяти недель перехода через Тибет и транспортировки грузов через «корыто» и ледник сюда, на Эверест. На такой высоте ультрафиолетовые лучи довольно быстро делают смуглолицыми даже белокожих британцев, французов и американцев. Я также замечаю, что на открытых участках тела нет признаков обморожения — даже на обнаженной спине и плечах в том месте, где лопнули швы рубашки и норфолкской куртки. Какие могучие плечи. Я не подозревал, что кузен Персиваль был настоящим атлетом. «У трупов не бывает обморожений, Джейк. Только у живых». Я это знаю. Мозг у меня работает, но до смешного медленно — мысли и умозаключения похожи на звуки далеких взрывов, которые приходят гораздо позже вспышки. Левая нога Бромли лежит поверх правой, прямо над местом ужасного перелома, откуда торчит белая кость и обрывки частично мумифицированных связок. «Он был жив, когда упал сюда. По крайней мере, успел положить здоровую ногу на сломанную, пытаясь ослабить боль». От этой мысли меня мутит, и я сдергиваю кислородную маску, опасаясь, что меня вырвет. Но тошнота быстро проходит. Я понимаю, что веду себя как ребенок. Что бы я делал, черт возьми, если бы мне пришлось участвовать в минувшей войне? Эти парни почти все время шли по колено в умирающих и в ошметках тел. «И что такого? — отвечает рациональная часть моего сознания. — Это всего лишь бедный Персиваль Бромли. Ты никогда не был солдатом, Джейк». Сквозь разорванную норфолкскую куртку я вижу, что на молодом Бромли было семь или восемь слоев одежды: верхний анорак, который за год холодные ветры превратили в лохмотья, шерстяная норфолкская куртка, не меньше двух свитеров и несколько слоев хлопка и шелка. То, что в окулярах бинокля выглядело как голый потемневший череп, оказалось кожаным мотоциклетным шлемом, похожим на тонкий летный шлем, надетый на мне. Кожаный шлем мертвеца порвался в нескольких местах, и мне показалось странным, что торчащие из дырок волосы Бромли почти белые на концах и темно-каштановые у корней. И я не вижу ремешков от солнцезащитных очков на повернутом к земле лице. Совершенно очевидно, что он пытался — и это ему удалось — остановиться, прежде чем соскользнуть с обрыва ярдах в двадцати ниже нас, а его руки застыли в классической позе альпиниста, пытающегося выполнить самозадержание, последнее средство спасения после потери ледоруба. Я осматриваю склон, но не вижу ледоруба Бромли. Как и ботинка, слетевшего с его левой ноги. Усиливающийся ветер треплет паутину из веревки толщиной три восьмых дюйма, которую мы трое пренебрежительно назвали бельевой, хотя сами пользовались ею в Альпах, — именно это движение и привлекло мое внимание. Веревка туго охватывает талию Бромли, запутанные петли висят на плече, и я вижу растрепавшийся конец в том месте, где она лопнула. Значит, вот что это за «волна», которую я заметил. «Бруно Зигль говорил, что Бромли и Курт Майер шли в связке, когда их унесло лавиной. Наверное, в данном случае нужно отдать должное немцу — он сказал правду». Но лавина или рывок при падении оборвали веревку. Одному Богу известно, где оказалось тело Курта Майера. Я снова внимательно изучаю склон надо мной, но не вижу ни мертвого немца, ни троих спешащих ко мне товарищей. «Может, пустить еще одну ракету? Может, они не заметили первую, зеленую? Она горела всего лишь несколько секунд». Я решаю подождать. Руки у меня до сих пор не согрелись. Внезапно я замечаю движение, но не вверху, а внизу — невысокий человек в анораке «Шеклтон» приближается ко мне с востока, траверсом по крутой стене. «Должно быть, Курт Майер, — мелькает у меня в голове. — Он как-то ухитрился выжить после падения и все это время ждал, когда кто-нибудь найдет его и Бромли». «А может, Майер тоже умер здесь, и теперь со мной хочет поговорить его мумифицированный труп. Или это просто призрак Перси Бромли». Одышка и кашель, а вовсе не галлюцинации заставляют меня осознать, что я слишком долго не дышал «английским воздухом». Я возвращаю на место маску и регулятором устанавливаю расход на 2,2 литра в минуту. В голове у меня почти мгновенно проясняется. Я узнаю Жан-Клода за секунду до того, как передо мной появляется упакованная в многослойную одежду фигура с закрытым очками лицом. Благодаря кислороду мне требуется всего тридцать секунд, чтобы вспомнить: по словам Дикона, Же-Ка должен был подняться в пятый лагерь с группой шерпов и организовать доставку грузов наверх. Должно быть, он увидел мою зеленую ракету и пришел проверить, в чем дело. Я стою, слегка покачиваясь и опираясь на ледоруб, а Жан-Клод осторожно обходит труп, обнимает меня, сдергивает маску и поворачивается, так что мы оба смотрим на мертвеца. — Mon Dieu! — восклицание Жан-Клода с трудом пробивается сквозь ветер. Я опускаю маску, чтобы можно было разговаривать, и объясняю: — Вне всякого сомнения, это Бромли. Видишь, Же-Ка, эти обмотки. Явно британские. Нога сломана. Наверное, есть и другие повреждения, которых отсюда не видно. Сомневаюсь, что он мог упасть сюда с самого Северо-Восточного гребня и… понимаешь… остаться таким целым. И явно не с Северного гребня — тот гораздо западнее. Наверное, он дошел почти до второй ступени, вдоль водораздела. Здесь нет никаких лавин. Я слишком много говорил и слишком мало дышал, и поэтому когда зашелся в кашле, то натянул кислородную маску и согнулся пополам, ожидая, пока пройдет приступ. — Правая нога сломана в нескольких местах, Джейк, — говорит Жан-Клод. — И смотри, левый локоть тоже как будто сломан… или как минимум сильно вывихнут. Думаю, основной удар пришелся на правую половину тела бедняги… — Же-Ка умолкает, прикрывает ладонью глаза (я не догадался, а он сдвинул очки на лоб, чтобы лучше видеть) и начинает изучать склон над нами. — Но ты прав, — делает вывод он. — До Северо-Восточного гребня почти тысяча футов. Он не мог оттуда упасть. Может, с тех скал ниже Желтого пояса… Большая часть твоих расчетов верна, но в одном, друг мой, я боюсь, ты ошибаешься. — В чем именно? — спрашиваю я, но получается лишь нечленораздельный звук, поскольку клапан рециркуляции в маске не приспособлен для передачи человеческой речи. Я опускаю эту проклятую штуковину и делаю вторую попытку: — В чем? Же-Ка начинает что-то говорить, но затем умолкает и указывает вверх. Связка из трех человек — Пасанг первый, Реджи в центре, Дикон замыкающий — медленно спускается по склону, опираясь на длинные ледорубы. Они уже ярдах в двадцати от нас. Я должен был догадаться, что осторожный Дикон, прежде чем отреагировать на мой сигнал, потратил время на то, чтобы соединить всех веревкой, не позволив спускаться по одному. — В чем же я ошибаюсь? — спрашиваю я, возобновляя разговор с Же-Ка с того места, где он прервался. В ответ он лишь качает головой и отступает от трупа. Трое наших товарищей огибают тело и останавливаются, образуя полукруг. Я жалею, что не снял анорак и не прикрыл изуродованные воронами ягодицы и вытащенные наружу внутренности лорда Персиваля. Теперь Реджи наклоняется ниже и видит эту ужасную картину — останки человека, с которым вместе росла, как с родным братом. Моя кислородная маска по-прежнему опущена. — Мне очень жаль, Реджи, — говорю я, понимая, что мои глаза под толстыми зеленоватыми стеклами очков наполняются слезами. Может, это просто холодный ветер. Она стягивает кислородную маску и вопросительно смотрит на меня. Очки у нее подняты на лоб. В утреннем свете лицо выглядит очень бледным. — Мне очень жаль, что вам приходится видеть своего кузена таким, — повторяю я. Больше всего на свете мне хотелось бы, чтобы его нашел не я. Реджи вскидывает голову, обводит взглядом трех остальных мужчин, затем снова смотрит на меня. Как и все остальные. — Это не Персиваль. — Ей приходится повышать голос, чтобы его можно было расслышать за усиливающимся воем холодного ветра. Я пячусь — чисто инстинктивно. «Кошки» у меня на ногах соскальзывают с камня, и мне приходится опереться на ледоруб, чтобы не упасть. Потом я напоминаю своему телу, что до падения в вечность меня отделяют каких-то двадцать ярдов. Я очень смущен. Но это британский альпинист, можно не сомневаться. И если не ее кузен… — Я узнаю эти широкие плечи и эти альпинистские ботинки, — говорит Реджи. — Персиваль гораздо тоньше, и торс у него не такой мускулистый. И зеленых альпинистских ботинок у него никогда не было… Джейк, я абсолютно уверена, что вы нашли Джорджа Ли Мэллори.
Вторник, 19 мая 1925 года Время уже за полночь, но мы впятером — Дикон, Пасанг, Реджи, Жан-Клод и я — сидим в своих спальных мешках внутри «большой палатки Реджи», которая примостилась на наклонной каменной плите рядом с пятым лагерем, и каждый держит одну из внутренних растяжек, пытаясь помешать усиливающемуся ветру порвать брезент или сбросить нас с горы. Мы очень, очень устали. Мне жаль, что мы не стали хоронить Джорджа Мэллори сегодня днем — вернее, вчера днем, понимаю я, взглянув на часы. Сегодня уже девятнадцатое мая, а по плану Дикона мы должны были подняться на вершину еще два дня назад. Ветер усиливается с каждым часом, и двояковыпуклое облако, висевшее над вершиной Эвереста все утро, после наступления темноты спустилось к нам в вихре метели, и если бы мы остались на Северной стене с телом Мэллори, то были бы вынуждены потратить еще час или два, отбивая замерзшие куски скалы, чтобы засыпать тело. Даже самая маленькая пирамида из камней отняла бы больше времени и сил, чем мы могли потратить в условиях надвигающейся бури. Мы тщательно обыскали тело, отметили его положение и приметы, по которым его можно найти, чтобы потом вернуться к нему, и Дикон объявил, что пора начинать длинный траверс с запада на восток к пятому лагерю. Когда я возразил, что Мэллори заслуживает должного погребения, несмотря на приближающуюся ночь, Реджи ответила мне: «Он почти год лежал здесь под снегом и солнцем, под луной и звездами, Джейк. Еще одна ночь ничего не изменит. Мы переночуем ниже — в пятом, а не в шестом лагере — а утром вернемся, чтобы похоронить Мэллори». Но вышло так, что мы не вернулись. Мне до сих пор больно об этом думать. Как оказалось, мы поступили разумно, что повернули назад и пошли траверсом в пятый лагерь, а не попытались подняться в крошечный шестой лагерь. К двум часам дня ветер так разгулялся, что вырвал часть креплений одной из двух маленьких палаток Мида в пятом лагере. Теперь это засыпанная снегом куча зеленого брезента и сломанные стойки на крутом склоне горы. Мы могли бы снова поставить палатку, используя ледорубы в качестве стоек, но не стали тратить на это силы. Вторая палатка Мида была порвана падающими с горы маленькими камнями, которые пробивали стены и крышу, как пули — жестяную банку. Любой, кто находился бы в палатке в момент попадания в нее камня, был бы убит на месте. Впереди нас ждала долгая ночь с сильным ветром и летящими камнями. Поэтому нам не оставалось ничего другого, как впятером набиться в «большую палатку Реджи» на наклонной плите, защищенной от камнепада двумя большими валунами; Дикон и Пасанг установили ее вчера, когда поднялись с грузом в пятый лагерь. (В воскресенье, поправляю себя я, снова вспомнив, что время уже за полночь.) Дикон и Пасанг не только придавили все края палатки довольно большими камнями и вместо колышков использовали вбитые в скалу немецкие стальные крюки, но также укрепили палатку приблизительно двадцатью ярдами новой особо прочной веревки, зигзагом пропущенной через вершину купола и привязанной к большим валунам, выше и ниже по склону. Палатка Реджи достаточно велика, чтобы пять человек могли в ней сидя поужинать, но вытянуться в ней в полный рост, чтобы поспать, довольно трудно. У нас не было времени, чтобы отковырять примерзшие камни и похоронить Мэллори, но мы все равно целый час мерзли у его тела на Северной стене Эвереста. Несмотря на пришитые к одежде бирки с надписью «Дж. Мэллори», Дикон хотел со всей определенностью установить личность погибшего. Поэтому мы втроем взялись за ножи и стали отковыривать гравий с левой стороны тела, где оно вмерзло в землю, пока не смогли немного приподнять его и взглянуть на лицо. Ощущение было такое, что приподнимаешь бревно, накрепко вмерзшее в почву за долгую зиму. В конечном счете Дикон лег на спину и заполз под приподнятое тело, чтобы рассмотреть лицо мертвеца. — Это Мэллори, — сказал он. — Что вы еще видите? — спросил Пасанг. — Глаза закрыты. На щеках и подбородке щетина, но бороды нет. — Голос у Дикона усталый. — Я имел в виду видимые повреждения, — уточнил Пасанг. — Жуткая колотая рана на правом виске над глазом, — сказал Дикон. — Возможно, ударился о камень, когда летел вниз, или в него отскочило острие ледоруба при попытке самозадержания. — Кость черепа в этом месте пробита? — спрашивает Пасанг. — Да. — Можно его опускать? — спрашиваю я, тяжело дыша. Мы сняли кислородные маски перед тем, как приступить к делу. Усилие, которое требовалось приложить, чтобы просто приподнять наполовину выпотрошенный, окоченевший труп, было для меня чрезмерным. — Да, — повторил Дикон и выскользнул из-под мертвого тела. Потом прибавил, почти шепотом: — Прощай, Джордж.
Мы обыскали карманы Мэллори и заглянули в брезентовую сумку, висевшую у него на груди. Как я уже говорил, на трупе не было ни металлической рамы для кислородных баллонов, ни рюкзака — только маленькая сумка на груди и под мышкой, а также несколько сохранившихся в карманах вещей. В кармане норфолкской куртки обнаружился высотомер, похожий на те, которыми пользовались мы — специально калиброванный до 30 000 футов, — но стекло разбилось при падении, а стрелки отсутствовали. — Очень плохо, — сказала Реджи. — Нам никогда не узнать, поднялись ли они с Ирвином на вершину. — Кажется, у них было несколько фотоаппаратов, — вспомнил Дикон. — Тедди Нортон говорил, что Мэллори носил с собой «Вест Покет Кодак». Мы повернули брезентовую сумку, чтобы в нее можно было просунуть руку, и мои пальцы, обтянутые перчаткой, нащупали что-то твердое и металлическое. — Похоже, мы нашли эту камеру, — объявил я. И ошибся. Твердый предмет состоял из большой коробки спичек «Сван Веста» и металлической консервной банки с мясными лепешками. Мы вернули все на место. Другие предметы из карманов Мэллори составили почти случайный набор личных вещей, словно он только что отправился на зимнюю прогулку в Гайд-парк: огрызок карандаша, ножницы, английская булавка, маленький металлический футляр для ножниц и съемный кожаный ремешок, которым кислородная маска крепилась к его кожаному мотоциклетному шлему. Последний предмет я узнал, поскольку почти такой же ремешок в этот момент стягивал мне подбородок. Мы вернули консервы, спички и другие предметы на свои места, в сумку и карманы, но продолжили извлекать другие: очень грязный — похоже, сопливый — простой платок с маленьким тюбиком вазелина (мы знаем, что вазелином смазывают потрескавшиеся губы, поскольку у каждого из нас есть такой тюбик, той же марки) и гораздо более красивый, с искусно вышитой монограммой, Дж. Л. М., фуляровый носовой платок с узором синего, бордового и зеленого цвета. В этот платок были завернуты какие-то бумаги. Дикон просмотрел бумаги, но это, похоже, были личные письма, и он не стал их читать, только обращения и надписи на конвертах (один был адресован «Джорджу Ли Мэллори, эскв., для передачи, британский торговый агент, Ялунг, Тибет»). Личные и деловые письма не представляли интереса, за исключением странной серии цифр, нацарапанных карандашом на полях письма от какой-то дамы, но не жены. — Это показания давления кислорода, — сказал Жан-Клод. — Возможно, расчеты, как далеко они могут дойти с таким запасом в тот последний день. — Тут только пять столбцов, — заметила Реджи. — Я думала, они вышли из четвертого лагеря, имея при себе больше пяти баллонов. — Так и было, — подтвердил Дикон. — Тогда тут нет ничего, что поможет нам понять, — сказала Реджи. — Не уверен. — Дикон кивнул, снова сложил каждое письмо, вложил в конверты, аккуратно завернул в платок с монограммой и вернул в карман мертвеца. Мы ничего не взяли, но я все равно чувствовал себя расхитителем гробниц. Мне еще не приходилось обыскивать карманы трупа. Для Дикона такое занятие, похоже, было не в новинку, и я понял, что он действительно этим занимался — возможно, сотни раз — на Западном фронте. В других карманах обнаружились только складной нож и очки. — Возможно, это важно, — сказала Реджи. — Очки были у него в кармане. Я не сразу сообразил, что она имеет в виду — был слишком занят, пытаясь справиться с кашлем. — Да, — кивнул Жан-Клод. — Они упали либо до рассвета, либо уже в сумерках… Мэллори начал восхождение через день после того, как видел пораженного снежной слепотой Нортона. Не подлежит сомнению, что он мог снять очки только после захода солнца. — Но куда они шли, вверх или вниз, когда сорвались с гребня? — спросил Пасанг. — Думаю, спускались, — ответил Дикон. — А электрический фонарь у них был? — поинтересовалась Реджи. — Нет, — покачал головой Дикон. — Оделл нашел его в их палатке в шестом лагере и захватил с собой. Тот факт, что они не взяли единственный электрический фонарик, почти неопровержимо свидетельствует, что они покинули шестой лагерь после восхода солнца. А также о том, что Джордж Мэллори был довольно рассеянным. — Не будем плохо говорить о мертвых, — сказал я, все еще кашляя. — Вовсе не плохо, — возразил Дикон. — Я просто придерживаюсь фактов. В двух экспедициях, в которых я участвовал вместе с ним, Джордж вечно что-нибудь забывал, терял или оставлял на месте ночевки — носки, бритвенный прибор, шляпу, рулон туалетной бумаги… Просто он был таким. — И все же… — начал я, но не нашел других аргументов. Дикон прикрыл глаза ладонью — мы обыскивали тело Мэллори, сняв очки, поскольку облака были уже прямо над нами, — и посмотрел на склон, пытаясь что-то разглядеть в снежном вихре. — Те овраги внизу и эта сторона первой ступени, под Желтым поясом, — по ним очень трудно спускаться в темноте, без электрического фонарика, ламп или свечей. Мы все посмотрели на скалы и овраги высоко над нами. — Исходя из того, что тело не сильно изуродовано — а также из факта, что Мэллори был еще в сознании и пытался задержаться на склоне, что ему в конечном итоге удалось, — можно с уверенностью сказать, что он упал не с северо-восточного склона. — Дикон подтвердил мою догадку. — И почти наверняка не с такой высоты, на которой находится Желтый пояс. Скорее всего, он сорвался с какого-нибудь оврага или с каменной гряды внизу, ближе к нам. — Тогда Сэнди Ирвин может ждать нас там, — сказала Реджи. Дикон пожал плечами. — Или Ирвин сорвался первым и утащил за собой Мэллори. Мы этого не узнаем, если не найдем тело Ирвина. «Хочешь сказать, что после всего этого мы продолжим поиски?» — устало подумал я. И тогда Дикон приказал нам возвращаться в пятый лагерь, пока ветер не стал еще сильнее, а среди вихрей снега еще можно было что-то разглядеть.
— Получается, ничто из найденного на теле Джорджа Мэллори не может нам подсказать, поднялись ли они с Сэнди Ирвином на вершину или нет, — говорит Реджи. — И часы, и высотомер Мэллори разбились и лишились стрелок. — Возможно, именно отсутствующее даст нам ключ к разгадке, — замечает Дикон. Я выглядываю из глубин своего грязного пухового спальника. — Фотоаппарат «Кодак»? — Нет, — говорит Дикон. — Фотография Рут, жены Мэллори. — Нортон и все остальные, с кем я беседовал, говорили, что он взял с собой фотографию из четвертого лагеря — там ее не нашли, как и в двух верхних лагерях, — поскольку обещал Рут, что оставит ее на вершине. — Или в самой верхней точке, откуда ему пришлось повернуть назад — одному Богу известно где, — прибавляет Же-Ка. Дикон кивает и принимается грызть чубук холодной трубки. — Отсутствие фотографии нельзя считать доказательством, что он побывал на вершине, — говорит Реджи. — Нельзя, — соглашается Дикон. — Только того, что Мэллори ее где-то оставил. Возможно, как предположил Жан-Клод, в самой верхней точке, перед тем, как повернуть назад… где бы это ни было. — А меня интересует пропавшая камера, — говорит Пасанг. Его низкий голос, как всегда, мягок и нетороплив. — Почему? — спрашиваю я. — А когда вы отдаете свой фотоаппарат другому человеку? — вопросом на вопрос отвечает высокий шерпа. — Когда просите вас сфотографировать, — говорит Реджи. — Мэллори мог… отдать Ирвину свой «Кодак» на вершине, после того как сфотографировал молодого человека. — Это всего лишь догадка, — возражает Дикон. — А вот вам не догадка и не гипотеза, а непреложный факт: если мы хоть немного надеемся продолжить поиски завтра, то должны немного поспать. — Легко сказать, — выдавливаю я между приступами кашля. — Похоже, я совсем не могу заснуть на этих долбаных высотах. — Не выражайся, Джейк, — говорит Дикон. — Среди нас дама. Реджи закатывает глаза. — У меня с собой есть снотворное, — предлагает Пасанг. — Гарантированные три или четыре часа сна. Все умолкают, и я представляю, что они думают о том же, что и я: «Пока мы будем дрыхнуть, ветер сдует нашу палатку в пропасть». Я открываю рот, чтобы выразить свое мнение, но Реджи останавливает меня, вскинув руку. — Тихо, все, — шепчет она. — Я слышу голос. Чьи-то крики. Моя рука покрывается мурашками. — При таком ветре? — удивляется Дикон. — Это невозможно. Четвертый лагерь далеко внизу, и… — Я тоже слышу, — говорит Пасанг. — Там, в темноте, кто-то есть, и он кричит.
Часть III МЕРЗОСТЬ
Глава 1
Примечание для мистера Симмонса. Вплоть до этой части я излагал свою историю преимущественно в настоящем времени, поскольку использовал записи из дневника и заметки, которые сделал летом и осенью 1924 г., а также весной 1925 г. Настоящее время помогло мне оживить воспоминания. Я знаю, что это не очень профессионально с моей стороны, но эту последнюю часть своей истории я рассказывал только одному человеку и ни разу не записывал. Теперь я записываю ее так, как помню теперь, в прошедшем времени, но вы должны понимать, что каждое слово в ней настолько точно и правдиво, насколько я в состоянии вспомнить и рассказать, и что вы второй человек с 1925 г., который услышит эту часть истории.Через пять минут после того, как Пасанг подтвердил, что слышит крики, мы втроем — Дикон, Пасанг и я — выскочили из палатки прямо в снежный вихрь. Было решено, что кто-то должен остаться внутри и держать стойки. Реджи вызвалась сама, а мы с Же-Ка бросили монетку, и он проиграл. — Вы все еще слышите? — крикнул Дикон Пасангу. — Нет, но кое-что вижу, — ответил шерпа. Он указал вниз, в то место футах в 300 от нас, где находились остатки двух палаток на первоначальном месте нашего пятого лагеря. Из-за снега, кружащегося в конусе света шахтерской лампы, я не сразу его увидел: красное свечение за большими валунами футах в 100 ниже нас. Связавшись веревкой — мы не стали тратить время, чтобы надеть «кошки», — мы стали спускаться по крутому склону; я шел первым. Из-за сильного ветра на камнях было не очень много снега, но толстый слой льда делает камни еще более скользкими, чем обычно. Странное ощущение — снова идти в одних шипованных ботинках, без «кошек». Мне уже не хватает ощущения безопасной опоры, которое в последние дни обеспечивали мне «кошки». Через пятнадцать минут мы добрались до места нашего первоначального пятого лагеря; одна палатка была разорвана камнепадом, вторая рухнула, открывая нам брызги красного огня. Совершенно очевидно, что это не недолговечная ракета Вери, а скорее железнодорожный осветительный патрон, один из тех, что мы тоже привезли с собой, красных и белых. В десяти футах от осветительного патрона на спине неподвижно лежал человек в куртке на гусином пуху, которую носили участники нашей экспедиции. Он упал рядом с клапаном целой, но упавшей палатки Мида. Мы наклонились над ним; лампы освещали его обращенное к небу лицо и широко раскрытые глаза. — Это Лобсанг Шерпа, — сказал Дикон. — Он мертв. Когда в понедельник утром мы встретились в четвертом лагере, Ричард сказал, что днем раньше доставлял груз в пятый лагерь с несколькими носильщиками, и Лобсанг выполнял обязанности сирдара. Теперь, восемнадцать часов спустя, Лобсанг, невысокий, но выносливый «тигр», заслуживший должность сирдара невероятно тяжелой работой и долгими переходами, действительно выглядит мертвым — рот открыт, зрачки неподвижные и расширенные. — На сегодня хватит трупов, — сказал Пасанг и поставил на землю рюкзак. Он единственный взял с собой вещи. В дрожащем свете ламп и вихре снежинок из тяжелого рюкзака появляется кожаный медицинский саквояж. — Мистер Перри, — обратился он ко мне, — будьте так любезны, расстегните куртку Лобсанга Шерпы и всю остальную одежду, чтобы обнажилась грудь. Я опустился на крутой склон на одно колено, снял неудобные верхние варежки и сделал то, что сказал Пасанг, — хотя не верил, что методы первой помощи помогут человеку, который выглядит мертвым, а его лицо покрыто тонким слоем кристалликов льда, принесенных ветром. Но Пасанг извлек из саквояжа самый большой шприц из всех, что я когда-либо видел, если не считать скетча, разыгранного студенческим театром в Гарварде. Игла была не меньше шести дюймов длиной, а сам шприц напоминал скорее ветеринарный инструмент, которым делают прививки рогатому скоту, никак не подходящий для человеческого существа. — Держите ему руки, — попросил Пасанг и провел пальцами по голой коричневой груди Лобсанга. Немигающие глаза шерпы по-прежнему смотрели в вечность. «Зачем держать ему руки? — помнится, подумал я. — Труп куда-то собирается идти?» Пасанг деловито пересчитал ребра, нащупал под кожей шерпы острую грудину, затем обеими руками поднял шприц фута на три над телом и с силой проткнул кожу и грудину Лобсанга, вонзив иглу прямо в сердце. Конец иглы, проходя через грудину, издал довольно громкий щелчок, различимый даже сквозь шипение гаснущего сигнального патрона и завывание ветра. Пасанг надавил на поршень огромного шприца. Тело Лобсанга выгнулось дугой — он слетел бы со склона горы, если бы мы с Диконом не удержали его, — и маленький шерпа начал жадно глотать ртом воздух. — Господи Иисусе, — прошептал Дикон. Я был с ним полностью согласен. Такого медицинского чуда мне еще не приходилось видеть. И не придется следующие шестьдесят с лишним лет. — Укол адреналина в сердце, — выдохнул доктор Пасанг. — Единственное, что может его оживить. Пасанг уперся ногой в камень рядом с шерпой и выдернул иглу из его груди — мне рассказывали, что именно таким движением солдат учат извлекать застрявший штык из тела врага. Лобсанг вздохнул, заморгал и попытался сесть. Через несколько секунд мы с Пасангом уже помогали ему встать на ноги, обутые в тяжелые ботинки. У меня было такое ощущение, что я помогаю встать Лазарю. Как ни удивительно, Лобсанг был в состоянии держаться на ногах. В противном случае мы были бы вынуждены его оставить — на этой высоте даже троим людям не под силу перенести такую тяжесть на 100 футов вверх по крутому склону. Вчетвером мы заковыляли вверх к «большой палатке Реджи» — мы с Диконом поддерживали тяжело дышавшего и все время моргавшего шерпу, а замыкал шествие Пасанг со своим тяжелым рюкзаком. И раньше было мало надежды, что пять человек могут выспаться под брезентовым куполом, а теперь, когда к нам присоединился шестой, шансы на это приближались к нулю. Так что я испытывал неоднозначные чувства от того, что этот шестой оказался жив. Несколько часов назад мы разогревали на печке «Унна» воду и суп, а теперь Реджи дала тяжело дышащему Лобсангу какао. Он залпом проглотил напиток. Когда шерпа немного пришел в себя и, похоже, обрел способность говорить, Реджи задала ему первый вопрос, сначала на английском, а потом на стрекочущем непальском: — Почему ты пришел сюда в темноте, Лобсанг Шерпа? Глаза носильщика снова широко раскрылись, и в моей памяти снова всплыла жутковатая картина, как несколько минут назад эти же мертвые глаза смотрели в пространство. Он что-то пробормотал по-непальски, оглянулся и повторил на плохом английском: — Вы должны спуститься, мемсахиб, сахибы и доктор Пасанг. Вы должны спуститься, прямо сейчас. Йети убили всех в базовом лагере!Джейк Перри
Глава 2
Каким-то образом нам все же удалось вздремнуть несколько часов перед серым полумраком, который заменял рассвет в центре густого облака. Лобсанг Шерпа все время дышал кислородом, на минимальной подаче, и поэтому спал крепче всех. Остальные время от времени делали несколько глотков «английского воздуха», когда холод — а в моем случае кашель — становились уж совсем невыносимыми. Леди Бромли-Монфор было позволено первой удалиться за камень, служивший нам туалетом, а затем наружу вышли и все остальные, по одному или парами. Преимущество сильного обезвоживания на высоте больше 25 000 футов состоит в том, что почки напоминают о своем существовании не слишком часто. Мы не пытались разжечь печку, даже несмотря на то, что у нас еще оставались шесть брикетов твердого топлива. Удовлетворились двумя маленькими термосами, которые наполнили накануне вечером. Одеваясь, мы почти не разговаривали. Дикон задал Лобсангу несколько вопросов о тех «йети», которые напали на лагерь, но шерпа не мог сказать ничего вразумительного, а мы, четверо сахибов, все равно не верили в существование йети. Самым большим скептиком был Дикон, который видел следы «монстра» в 1921 и 1922 годах. Он несколько раз напомнил нам, что жаркие солнечные лучи растапливают обычные следы четвероногих, так что они становятся похожими на отпечатки гигантских ног. Полагаю, можно утверждать, что в 1925 году в отношении йети я был скептически настроенным агностиком, но точно знаю, что не верил в то, что какое-то большое двуногое существо поедает наших носильщиков-шерпов. Мы проверили трубки и клапаны кислородных аппаратов и оставили их в БПР — собирались использовать это дополнительное снаряжение для подъема на вершину, когда вернемся в пятый лагерь, — а затем упаковали в рюкзаки то немногое, что брали с собой. Все четверо захватили сигнальные пистолеты Вери — у каждого, кроме меня, оставалось по три ракеты. Я единственный по просьбе Дикона нес в рюкзаке два кислородных баллона. — Нам не обязательно спускаться всем вместе, — сказал я, когда мы стояли рядом с палаткой в густом облаке, не отличимом от холодного лондонского тумана. — Я могу остаться здесь и подождать, пока вы будете выяснять, что случилось. — Что ты тут будешь делать один, Джейк? — спросил Жан-Клод. — Похороню Мэллори. Похоже, мой ответ его ничуть не удивил. Я знал, что ему тоже не хочется оставлять Мэллори здесь, на открытом месте, на том склоне, где он погиб. Но мы оба понимали, что поступили правильно, подчинившись приказу Дикона возвращаться в пятый лагерь. Если бы вчера вечером сильный ветер и метель застали нас на склоне, то на Северной стене Эвереста пришлось бы хоронить не одно тело, а несколько. — Нет, Джейк, — сказал Дикон. — Кроме того факта, что в таком тумане ты, скорее всего, даже не найдешь тело Джорджа — особенно учитывая то, что теперь его засыпал свежий снег, — нам нужно, чтобы ты лидировал при спуске в четвертый лагерь. — Первым может идти и Жан-Клод, — попытался слабо протестовать я. — Жан-Клод сменит тебя, когда мы доберемся до снежных полей и расселин Северного седла, — сказал Дикон начальственным, не терпящим возражений тоном. — Ты поведешь нас вниз по скалам. Ты наш главный скалолаз. Именно по этой причине оплачено твое пребывание здесь, мой американский ДРУГ. Я не стал спорить, а просто установил регулятор подачи кислорода на 1,5 литра в минуту, сдвинул маску на место, затянул ремешок на летном шлеме — вспоминая такой же ремешок в кармане Джорджа Мэллори — и надел тяжелый рюкзак. Там были только два кислородных баллона, маленький сигнальный пистолет Вери, два оставшихся патрона к нему и плитка шоколада. Предполагалось, что во время долгого спуска только лидирующий будет нести два кислородных баллона и пользоваться ими. Остальные пять полных баллонов, оставшихся со вчерашнего дня, и их оснастку мы сложили в пятом лагере, а под руководством Дикона в воскресенье и Же-Ка в понедельник шерпы доставили в пятый лагерь шесть рюкзаков с тремя баллонами кислорода в каждом, не пользуясь ими во время подъема. Их сложили чуть ниже, на уровне разорванной и упавшей палаток, где вчера ночью мы нашли Лобсанга. Если вернемся в верхние лагеря, этих двадцати трех полных баллонов с кислородом с лихвой хватит для поисков Перси и для серьезной попытки подняться на вершину — по крайней мере, для нас четверых. Было бы здорово, помнится, подумал я, если бы вершину покорили шестеро. Несмотря на явные признаки того, что Лобсанг пребывает в ужасе, я больше не думал о йети. — Сегодня спускаемся по двум веревкам, — объявил Дикон, не спрашивая нашего мнения или совета. — Джейк лидирует на первой веревке, за ним Пасанг, и замыкающим Жан-Клод. Леди Бромли-Монфор лидирует на второй, за ней Лобсанг и последним я. Закрепленные веревки могут быть в некоторых местах засыпаны снегом, но Лобсанг сказал, что нашел и освободил от снега большую часть, когда поднимался к нам вчера вечером, так что мы сэкономим немного времени. Никто не пользуется кислородом — только если плохо себя почувствует, — за исключением Джейка, который передаст баллоны Жан-Клоду, когда тот сменит его на снежных полях выше четвертого лагеря. Же-Ка начал было возражать, что ему не нужен кислород и что днем раньше он поднялся почти до пятого лагеря без него, но Дикон прекратил все разговоры, просто покачав головой. Перед тем как все закрыли лица балаклавами и шарфами, заглушавшими звуки, Реджи сказала: — Лобсанг немного non compos mentis.[54] Любопытно, что мы обнаружим в базовом лагере. Шерпа наконец понял, о чем мы говорим, хотя, конечно, не понял латинскую фразу, означавшую, что он немного не в своем уме. — Нет, нет, нет, — забормотал он по-английски. — Не испугались… не убежали… все убиты! Йети их убили. Все мертвые! — Где ты был? — спросил Пасанг на английском. — Ты видел, как йети убивают шерпов? — Нет, нет, — признался Лобсанг. — Я тоже был бы мертвым, если бы там был. Но повар Семчумби и начальник вьючных животных Наванг Бура видели тела. Все в базовом лагере мертвые. Везде кровь, руки и ноги. Йети их убил! Дикон похлопал его по спине и помог завязать правильный узел, чтобы соединиться с той же веревкой, которая связывала их с Реджи. — Скоро узнаем, — сказал он. — Леди Бромли-Монфор, не будем забывать, что «кошек» нет только у Лобсанга. Мы должны быть особенно осторожны при спуске. Я на секунду сдвинул маску. — Остается надеяться, что я найду бамбуковые вешки и перила в таком тумане. Никто мне не ответил, и я вернул маску на место. — Но ведь нам не обязательно надевать эти проклятые очки при таком тусклом свете и тумане, как сегодня, правда? — спросил Же-Ка. — Не обязательно, — подтвердил Дикон. — Наденем очки только в том случае, если начнет светлеть. Сейчас важнее смотреть себе под ноги при спуске. Мы с Жан-Клодом проверили, правильно ли привязан доктор Пасанг — мы оставили между людьми в связке только 30 футов веревки, что довольно мало и опасно, поскольку если кто-то сорвется, то у следующего будет мало времени для страховки, — но я согласился с невысказанным вслух предложением Дикона, что соединяющие нас отрезки веревки должны быть достаточно короткими, позволяя видеть идущего спереди и сзади, независимо от погоды и силы ветра. — Давай, Джейк, — донесся сзади голос Дикона. — Веди нас вниз. Тщательно выбирая дорогу по снегу и наклонным каменным плитам с помощью ледоруба, я начинаю прокладывать извилистый путь между камнями, мимо разгромленной нижней части пятого лагеря, а затем поворачиваю на восток, к кромке Северного гребня и ненадежным ступеням на нем.Глава 3
Ни одна из предыдущих экспедиций на Эверест не проложила столько перил — причем наши состояли из «волшебной веревки Дикона», — и поэтому участники этих экспедиций не имели возможности с такой сравнительной легкостью спускаться из пятого лагеря. По крайней мере, нам изначально должно было быть легче. Но в действительности облака были такими густыми, а порывы ветра такими сильными — тогда мне казалось, что до пятидесяти миль в час, — и пугающе внезапными, что спуск по гребню, ледовому склону и леднику Эвереста в тот день, во вторник, 19 мая, оказался настоящим кошмаром. Часть отмечавших дорогу вешек остались на месте, но другие ночной шторм либо сдул, либо повалил и засыпал снегом. Сотни раз за время спуска по кромке Северного гребня к Северному седлу мне приходилось принимать решение: «Идти прямо вперед, направо по оврагу, который выглядит знакомым, или налево, по более крутому участку?» Я помню о ведущих в пропасть оврагах, которые видел при дневном свете во время подъема в пятый лагерь — любой неверный поворот закончится крутым 6000-футовым обрывом над главным ледником Ронгбук. Поэтому я редко сворачивал вправо, когда не мог найти бамбуковых вешек с флажками, указывающих путь. Тем не менее неверный поворот дважды приводил нашу группу к Северной стене Эвереста, и кроме того, не обходилось без невидимых трещин и вертикальных ледовых ловушек. Оба раза я осторожно возвращался назад, на кромку Северного гребня, а затем прокладывал дорогу вниз, пока мы не натыкались на следующую закрепленную веревку, которая убеждала нас, что мы на правильном пути. Когда мы брели по пояс в снегу на болеепологом склоне, я решил, что это, должно быть, снежные поля чуть выше Северного седла, и остановился, пропуская Жан-Клода вперед и передавая ему баллон с кислородом, чтобы Же-Ка вел нас через лабиринт из расселин. — Не забудь, что я хочу вернуть свой рюкзак, — сказал я и потащился к заднему концу веревки, которая связывала нас троих. Ракетница с патронами, бинокль, пустая бутылка из-под воды, запасной свитер и наполовину сгрызенная плитка шоколада остались в рюкзаке. Жан-Клод спускался быстрее, чем я. Он нашел покрытый ледяным настом участок, по которому мы практически скользили вниз, несмотря на «кошки» на ногах. Я понял, что после смерти Бабу мне больше не хочется прибегать к такому способу передвижения. Прошло чуть больше двух часов после выхода из пятого лагеря, когда Же-Ка провел нас между последними невидимыми расселинами к маленькой группе палаток, сгрудившейся в тени высоких ледяных пирамид в северо-восточном углу Северного седла. Лагерь был пуст. — Все испугались, — сказал Лобсанг Щерпа. — Вчера вечером я вызвался пойти наверх. Рассказать вам. Все остальные захотели спуститься. — Почему? — спросил Дикон. — Если йети находятся внизу, не было бы безопаснее для всех остаться в четвертом лагере? Лобсанг в ужасе затряс головой. — Йети поднимаются вверх, — сказал он. — Они живут на Седле в пещерах. Они очень на нас сердятся. Дикон не стал искать логику в словах перепуганного шерпы — я по крайней мере спросил бы, почему рассерженные йети напали на базовый лагерь, если обозлились на то, что люди потревожили их дома на Северном седле, — и вместо того, чтобы обсуждать мифических чудовищ, мы стали заглядывать в палатки в поисках продуктов и воды. Мы не обнаружили ни бутылок с водой, ни термосов с другими напитками — кроме того, проклятые шерпы, которые два дня назад обещали ждать нас здесь, в четвертом лагере, забрали с собой дополнительные спальные мешки, примусы и печки «Унна», — но Реджи нашла три забытых брикета твердого топлива, и мы зажгли их и держали над открытым огнем закопченные котелки, чтобы растопить снег. Затем Пасанг нашел под грудой брошенной одежды в одной из палаток Уимпера две наполовину замерзших банки спагетти, а Дикон раскопал жестянку ветчины с фасолью. Все это мы вывалили в последний котелок и поставили на умирающий огонь. Все устали, проголодались и были обезвожены. Теперь, когда я не дышал кислородом, мой кашель не прекращался ни на минуту, и ощущение, что у меня в горле застряла маленькая куриная косточка, только усилилось. Лобсанг Шерпа явно был в ужасе от одной мысли, что придется еще немного задержаться в четвертом лагере, а остальные были так измотаны, что напрочь лишились аппетита, и поэтому всем было понятно, что мы немного перекусим, выпьем воды, а затем начнем спускаться по ледяной стене. Мы с удовольствием пили чай, помогавший проглотить еду.С шестью жумарами Жан-Клода и прочными перилами опытные альпинисты из нашей маленькой группы могли бы спуститься по веревке с ледяной стены и с большей части 800-футового крутого склона под ней, но мы двигались с такой скоростью, которая была приемлема для Лобсанга, и ползли вниз по лестнице, используя жумары и фрикционные узлы на перилах для удержания и торможения, а не как средства для ускоренного спуска. Тем не менее спуск был относительно быстрым, несмотря на сгущающиеся облака, которые поднимались из долины ледника Восточный Ронгбук. — Это муссон, Ри-шар? — спросил Жан-Клод, когда две связки альпинистов спиной вниз спускались по веревкам в густом мареве облака. — Нет, не думаю, — ответил Дикон. — Облака собираются на юге, но ветер по-прежнему дует с севера и северо-запада. Же-Ка молча кивнул, сберегая дыхание, и съехал вниз по веревке. Лобсанг шел впереди него в связке, и усталый шерпа каждый раз вскрикивал, когда приходилось отталкиваться от ледяной стены. Четырнадцать шерпов — вместе с Лобсангом это была половина носильщиков, имевшихся в нашем распоряжении, — собрались в третьем лагере. Места для пятнадцати шерпов здесь не хватало, так что они сидели буквально друг на друге в маленьких палатках Уимпера и Мида — комичное зрелище, не будь их лица искажены от страха. Те, кто не поместился внутри, сидели у ревущего костра. — Где, черт возьми, вы взяли топливо для большого костра? — спросил Дикон у первого из шерпов, хоть немного понимавшего английский, повара Семчумби, который должен был находиться в базовом или в первом лагере. Семчумби не ответил, но Реджи указала на груду щепок с одной стороны костра. Шерпы взяли старый ледоруб и разбили все деревянные ящики, которые мы сложили в третьем лагере, чтобы перемещать в них грузы наверх. — Потрясающе, черт возьми, — пробормотал Дикон. — Просто потрясающе. — Он крепко стиснул плечо Семчумби. — И этот костер должен отпугнуть йети? Повар яростно закивал и, очевидно забыв английский, стал повторять: — Нитиканджи… Нитиканджи… — Что это значит? — спросил Дикон доктора Пасанга. — Снежный человек, — ответил Пасанг. — То же самое, что и йети, то есть йе ти, что означает «человек с вершин». Его также называют метох-кангми. — Снежный человек, — с отвращением повторил Дикон. — Кто-нибудь на самом деле видел этого… снежного человека? Все пятнадцать шерпов разом заговорили, но Реджи и Пасанг указали на единственного человека, который сам видел чудовищ, — Наванга Буру, отвечавшего за вьючных животных во время нашего перехода через Тибет и последние три недели остававшегося в базовом лагере, чтобы следить за теми пони и яками, которых мы оставили при себе. Я знал, что Наванг Бура немного знает английский, но, как и в случае с Семчумби, он, похоже, от страха все забыл. Реджи слушала отрывистые, низкие звуки и переводила нам. — Наванг Бура говорит, что он единственный, кто смог уйти из базового лагеря живым. Нитиканджи пришли вчера вечером после захода солнца. Высокие существа с ужасными лицами, клыками, длинными когтями, длинными руками и густым серым мехом, покрывающим все тело. Наванг Бура как раз возвращался из первого лагеря и увидел, как они убивают всех в базовом лагере. Он побежал, спасся и выжил, а потом поднялся сюда, в третий лагерь, с несколькими шерпами из первого и второго лагерей. Никто не хотел оставаться в долине вместе с такими злыми и голодными метох-кангми. — Голодными? — переспросил я. — Наванг Бура говорит, что йети убивали и ели шерпов в базовом лагере? Реджи передала вопрос главному погонщику мулов, и Наванг Бура ответил речью, которая длилась не менее тридцати секунд, но Реджи перевела ее одним словом. — Да, — сказала она. — Сколько их в базовом лагере? — спросил Дикон. Наванг Бура и дюжина других шерпов ответили одновременно. — Семь, — перевела Реджи. — Нет, я имел в виду не йети, черт возьми. Я спрашивал, сколько шерпов было в базовом лагере. А здесь? Реджи заговорила по-непальски, и снова ей ответили не меньше десятка человек. — Двенадцать шерпов, — сказала она. — Семчумби сказал, что во время резни некоторые побежали на север, к монастырю Ронгбук, но он видел, как йети убили их раньше, чем они успели добраться до берега реки. — Значит, — сказал Дикон, — семь йети предположительно убили дюжину сильных шерпов. — Прошу прощения, — возразил доктор Пасанг. — Двоих шерпов — Лакру Йишея и Анга Чири — нельзя назвать сильными. Они оставались в базовом лагере, чтобы восстановиться после ампутации обмороженных пальцев на руках и ногах. — Значит, семь йети предположительно убили десятерых сильных шерпов и двух выздоравливающих, — поправил себя Дикон. — И никто не догадался взять ружье, из тех, что хранились в базовом лагере? Я не сразу вспомнил, сколько ружей имелось в распоряжении экспедиции. Реджи взяла с собой одно для охоты — как и Пасанг с Диконом. После прибытия в базовый лагерь все три ружья хранились в ящиках с замками в особой, запечатанной палатке. Даже повару требовалось разрешение сахиба, чтобы взять ружье для охоты. — В любом случае, у нас есть оружие, — сказал Дикон и достал из рюкзака огромный пистолет — не сигнальный пистолет Вери, а настоящий. Откинув ствол, он продемонстрировал, что в гнездах барабана нет патронов, и дал каждому подержать. Это был тяжелый револьвер «Уэбли Марк VI». К металлической петельке внизу рукоятки крепился маленький кожаный вытяжной ремешок, почти черный от смазки, пота и пороховой копоти. — Стреляет патронами калибра.455, — сказал Дикон, показывая нам коробку крупных, тяжелых патронов, потом взял револьвер и зарядил все шесть гнезд. — Слава Богу, у нас есть оружие, — вздохнула Реджи. — Из этого пистолета ты стрелял на войне? — спросил я. — Купил его перед отправкой на фронт и пользовался все четыре года. Теперь я жалею, что мы не взяли ружья в третий или четвертый лагерь. Глупо было оставлять все в базовом лагере. Я не обращал особого внимания на три ружья, даже когда Реджи или Пасанг брали одно из них, чтобы поохотиться. Мне казалось, это обычные охотничьи ружья, хотя, как я теперь вспомнил, одно из них — кажется, Дикона — могло похвастаться оптическим прицелом. Шерпы снова что-то объясняли Реджи, но, судя по опущенной голове Семчумби, ни одному из них во время нападения йети не пришло в голову проникнуть в «палатку сахибов», вскрыть ящики и достать ружья. — Ладно, — сказал Дикон. — Это неважно. Мы принесем из второго лагеря несколько палаток, чтобы хватило на четырнадцать шерпов, а затем впятером спустимся в базовый лагерь и возьмем ружья. Кто из шерпов хочет пойти с нами во второй лагерь? Доктор Пасанг повторил вопрос Ричарда по-непальски. Желающих не было. — Отлично, — сказал Дикон. — Значит, я выбираю тебя, тебя, тебя, тебя, тебя и тебя… — Он поочередно ткнул пальцем в шестерых шерпов, включая Наванга Буру и Семчумби. — Вы идете с нами во второй лагерь, помогаете снять несколько палаток, потом несете их сюда, в третий лагерь. Когда Пасанг перевел его распоряжение, шерпы закачали головами, но Дикон повернулся к доктору и резко бросил: — Скажите им, черт возьми, что это не просьба, а приказ. Если они не поднимут сюда хотя бы три палатки, то кое-кто из них к утру будет мертв. Объясните этим шестерым, что мы, сахибы, и Пасанг останемся с ними во втором лагере, пока они не упакуют четыре палатки, чтобы доставить сюда. Мы подождем, пока они благополучно не вернутся на ледник, а затем впятером спустимся проверить базовый лагерь. И они могут взять с собой в третий лагерь мой пистолет. Шестеро шерпов вздохнули и опустили головы, но один или два обрадовались возможности получить большой револьвер «Уэбли Марк VI». Семчумби что-то сказал, и Реджи перевела: — Повар говорит, что если им суждено умереть на Джомолунгме от рук йети, так тому и быть. Дикон хмыкнул. — Скажите этим шестерым, пусть берут свои рюкзаки. И пускай пошевеливаются, черт бы их побрал. Реджи наклонилась к Дикону и прошептала: — Думаете, разумно отдавать им единственное оружие, которое у нас есть? — Я его не отдаю, — возразил Дикон. — Просто оставляю Семчумби, пока мы не вернемся из базового лагеря. Тут четырнадцать шерпов, которые нуждаются в защите. А у нас пятерых, по крайней мере, есть сигнальные пистолеты Вери. Через десять минут мы были готовы. Дикон организовал небольшую церемонию передачи своего револьвера Семчумби, а затем пристроил свой тяжелый сигнальный пистолет — заряженный ракетой — в большой карман анорака «Шеклтон». После секундного колебания Реджи, Пасанг, Жан-Клод и я вытащили свои ракетницы Вери, зарядили патронами 12-го калибра — я выбрал белый, после чего у меня остался всего один запасной патрон, красный, — и сунули жалкие маленькие пистолетики во внешние карманы курток. — По леднику мы будем идти в связке? — спросил Жан-Клод. Дикон задумался на целую минуту. — Думаю, нет, — наконец сказал он. — Я пойду первым, а ты будешь идти рядом и предупреждать о расселинах, которые мог скрыть выпавший ночью снег. Джейк, ты поможешь шестерым шерпам держаться одной плотной группой позади нас с Жан-Клодом. Пусть идут за нами след в след. Реджи и доктор Пасанг пойдут замыкающими. Потом Дикон повернулся к Семчумби. — Надень вытяжной ремешок пистолета на запястье — правильно — и не держи оружие за рукоятку, если не собираешься в кого-то стрелять. Предохранителя у него, разумеется, нет. Семчумби обращался с тяжелым пистолетом, как с коброй, но оружие, по всей видимости, вселяло уверенность не только в остальных пятерых шерпов, но даже в тех, кто оставался в лагере. Все кивнули. Мы покинули третий лагерь и двинулись по длинному, опасному леднику в направлении второго лагеря.
Глава 4
Когда мы добрались до базового лагеря, было уже почти темно. Все заняло слишком много времени — сопроводить шестерых напуганных шерпов вниз по леднику до второго лагеря на высоте 19 800 футов, проверить, что лагерь цел, невредим и не населен йети и демонами гор, помочь шерпам разобрать лагерь, затем перегрузить палатки, шесты и колышки — одну большую палатку Уимпера, предназначенную для третьего лагеря, и три меньших по размеру палатки Мида — и, наконец, удостовериться, что взволнованные шерпы пустились в пятимильный путь до третьего лагеря. В конце концов только тяжелый револьвер «Уэбли Марк VI», обладателем Которого временно стал Семчумби, убедил их направиться к леднику; их друзья и родственники в третьем лагере будут ждать защиты с помощью этого оружия. Во втором лагере Дикон попросил Наванга Буру спуститься с нами в базовый лагерь, поскольку он единственный из выживших шерпов, утверждающий, что видел нападение йети. Прежде чем отправиться в первый, а затем в базовый лагерь, мы вшестером разожгли большой примус в разоренном втором лагере, чтобы приготовить сытный ланч из какао — горячее, чем любой напиток, которые мы пятеро пили за последние несколько дней, — а также горохового супа, галет, ветчины, сыра и свежих плиток шоколада на десерт. Я не сомневался, что после этой полуденной трапезы всем хотелось забраться в несколько оставшихся палаток второго лагеря и проспать целые сутки. Но мы не могли. От второго до первого лагеря, расположенного на высоте всего 17 800 футов, всего две с половиной мили — сравнительно легких, когда мы перемещались вверх и вниз по отмеченной бамбуковыми вешками тропе в центре «корыта», но в этот вторник мы держались в стороне от проторенной дороги, и наш путь оказался в два раза длиннее, поскольку мы спускались по поперечной морене, которая проходила выше «корыта» по краю самого ледника. Верхняя дорога по морене по большим камням была сложнее обычного перехода по «корыту», но мы не хотели неожиданно столкнуться с тем, что может ждать нас в лагере или подниматься из него. Мы хотели увидеть их раньше, чем они увидят нас. В первом лагере мы не нашли ничего и никого необычного. Палатки были пустыми, запасные кислородные аппараты и запасы продуктов лежали там же, где мы оставили их несколько дней назад, когда отправились к Северному седлу. Мы исследовали несколько снежных полей вокруг первого лагеря, пытаясь найти необычные отпечатки ботинок — или, хотя я признался в этом только самому себе, гигантские отпечатки лап йети, — но не нашли в этом первом после базового лагере ничего необычного, кроме отсутствия нескольких шерпов, которые все время находились здесь. Должен сказать, что после стольких дней, проведенных в верхних лагерях, воздух на высоте 17 800 футов показался мне таким плотным, что в нем можно было плавать. Отсюда до базового лагеря на высоте всего 16 500 футов оставалось три мили, но мы снова не пошли по проторенной тропе, что удлинило время спуска — и усилило мою тревогу. К тому времени, когда мы добрались до кромки морены, которая выходила к другому, более низкому гребню у базового лагеря, все мы, за исключением Наванга Буры, держали в руках маленькие ракетницы. Огромный сигнальный пистолет Вери в руках Дикона выглядел просто гигантским по сравнению с ракетницами, которые держали Же-Ка, Реджи, Пасанг, и я. Наванг взял во втором лагере большой разделочный нож. Лично я предпочел бы, чтобы Дикон оставил себе проклятый револьвер. Мы нашли место, где можно было лечь на живот на каменистом гребне, который нависал над последней мореной между нами и базовым лагерем, и начали разглядывать лагерь в бинокли. — Douce Mère de Dieu,[55] — прошептал Жан-Клод. Я лишился дара речи. У меня просто отвисла челюсть, и я изо всех сил старался не выронить бинокль из дрожащих рук. По всему базовому лагерю были разбросаны тела. Палатки порваны и повалены, в том числе большая палатка Уимпера, медицинская и даже брезентовые навесы над площадками, огороженными низкими каменными стенами сангха. Тела лежали как попало, и, похоже, ни одно не осталось целым. Одно туловище без головы, другое тело с головой, руками и ногами, но с вырванными внутренними органами. Позади ровной площадки, где ручей с ледника превращался в мелкую речку, над двумя мертвецами кружили стервятники, кидаясь на добычу. С помощью бинокля можно было разглядеть, что на тех двух дальних трупах одежда шерпов, но узнать их мы не могли — особенно с учетом того, что низкие облака продолжали перемещаться над самой землей, словно густой туман, то пряча от нас тела, то снова открывая жуткую кровавую сцену. Количество крови в базовом лагере было… неправдоподобным — другого слова я тогда подобрать не мог. Поэтому, глядя в бинокли, мы не могли опознать убитых — только в ужасе смотреть на истерзанные тела, оторванные руки и отделенные от туловища головы в лужах крови. Я отказывался верить своим глазам. Опустил бинокль, вытер глаза и снова посмотрел. Картина резни не изменилась. Пасанг встал и пошел к лагерю, но Дикон молча вернул его назад, за гребень морены. — Подождем немного, — прошептал он. — Там могут быть раненые, и им нужна помощь, — сказал Пасанг. — Они все мертвы, — шепотом ответил Ричард. Мы сидели, прислонившись спиной к скале, в окружении густого тумана и по очереди наблюдали за лагерем в бинокль, пока не опустились сумерки. — Там могут быть раненые, которых отсюда не видно, — прошептал Пасанг. Мне еще не приходилось видеть доктора таким взволнованным. — Я должен туда спуститься. Дикон покачал головой. — Семчумби не ошибся в своих подсчетах. Все там, и они явно мертвы. Подождем. — Это было не предложение. Я впервые слышал командный голос бывшего капитана английской армии Ричарда Дэвиса Дикона. Время шло. Облака все так же скрывали тела, открывали, затем снова прятали. Становилось холоднее. Ни одного живого существа, кроме воронов, устраивающихся на растерзанных трупах. Когда стало почти совсем темно, Дикон наконец сказал: — Ладно. По предложению Ричарда — то есть произнесенной тихим голосом команде — мы рассредоточились, когда вышли на открытый участок. Я заметил, что он убрал свой сигнальный пистолет в карман, но жестом приказал нам держать свои «сигналки» в руках. Только потом я понял, что враг, который предположительно прятался среди скал, мог легко ошибиться и принять ракетницы Вери 12-го калибра за настоящие пистолеты; похожее на мушкетон оружие Дикона с широким раструбом развеяло бы эту иллюзию. Это был странный и неприятный осмотр. Инстинкт подталкивал меня к тому, чтобы проверить каждое окровавленное, но не изуродованное тело, ища в нем признаки жизни — в конце концов, разве Пасанг в пятом лагере не оживил Лобсанга с помощью неправдоподобно большого шприца с адреналином? Но Дикон торопил нас и шикал в ответ на стоны и восклицания тех, кто узнавал среди мертвецов старых друзей, а затем жестом приказал нам с Же-Ка присоединиться к нему для проверки большой палатки Уимпера, в которой хранились ящики с оружием. Большая палатка была разодрана в клочья, и полосы брезента висели, как обрывки плоти на разбросанных повсюду трупах. Все ящики были разбиты, словно кто-то в ярости обрушил на них топор (а может, когти?), но ящики с охотничьими ружьями и запасом патронов — для пистолета Дикона и для ружей — просто исчезли. Ричард присел на корточки, чтобы каменные сангха, которые шерпы сложили вокруг этой бывшей палатки, немного защищали нас от вооруженных убийц, которые могли прятаться среди холмов и скал. В данный момент нашим лучшим (и единственным) другом было постоянно перемещающееся облако тумана. — Значит, если у йети раньше и не было оружия, то теперь есть, — тихо сказал Дикон, обращаясь к нам с Жан-Клодом. Реджи, Пасанг и явно испуганный Наванг Бура по-прежнему бродили в тумане, переходя от тела к телу, ненадолго опускаясь на колени и затем перемещаясь к следующему трупу. — Не собирайтесь группами, — приказал Дикон. Это снова был голос капитана 76-го пехотного батальона 33-го Йоркширского полка. — Лучше повысить голос, если нужно что-то сообщить, чем становиться большой и удобной мишенью. — Никакому человеческому существу такое не под силу, — сказала Реджи. Она стояла над шерпой с вырванным сердцем и другими внутренними органами. Забрызганное кровью лицо осталось целым, и его можно было узнать. Но главным признаком были ботинки, специально изготовленные нашим сапожником из числа шерпов для человека с ампутированными пальцами ног. — Анг Чири, — тихо сказал я, держась футах в десяти или двенадцати от Реджи и изуродованного трупа. — Мне нужно провести вскрытие одного или двух тел, чтобы выяснить истинную причину смерти, — сказал Пасанг. — Мистер Перри, месье Клэру, леди Бромли-Монфор, вы не поможете перенести тела Анга Чири и Норбу Чеди в то, что осталось от медицинской палатки? Операционный стол не сильно пострадал, а среди мусора я видел вполне пригодную лампу. «Выяснить истинную причину смерти?» — пробормотал я. Эти люди разорваны в клочья, так что от них остались лишь окровавленные ошметки и раздробленные кости. Что может выявить вскрытие? Дикона интересовал другой вопрос. — Вы хотите воспользоваться для вскрытия фонарем, несмотря на то, что убийцы, возможно, притаились где-то поблизости и ждут? — спросил он, присаживаясь на корточки перед обезглавленным трупом Лакры Йишея. Я узнал Лакру, потому что его оторванная голова была пристроена среди торчащих обломков ребер на вскрытой груди. И вспомнил о ритуале «небесного погребения». — Да, мне нужен свет от фонарей, — сказал Пасанг. — Да, мистер Дикон, будьте любезны, принесите, пожалуйста, голову Лакры Йишея… да, только голову. Как только тела окажутся внутри каменных стен лазарета, мы снова можем рассредоточиться, как вы пожелали.Дикон попросил меня прикрывать Пасанга с помощью маленькой ракетницы Вери, пока доктор будет работать в конусе желтого света от фонаря, подвешенного на высоком опорном шесте для палатки, который он пристроил рядом с расколотым операционным столом. Я старался не смотреть на него — таращился на подвижное густое облако, которое клубилось между нами и ледяными пирамидами и гребнями морен, и мне все время казалось, что какая-то громадная серая фигура надвигается на нас из темноты, — но иногда переводил взгляд на стол, где Пасанг исследовал опустошенную грудную клетку Анга Чири. При помощи скальпеля и пинцета из своего медицинского набора — нападавшие сбросили на землю и раскидали многочисленные хирургические инструменты в бывшем лазарете, но не унесли с собой — доктор исследовал область рядом с обнажившимся позвоночником. Я быстро отвел взгляд и снова стал смотреть в сгущавшуюся вокруг нас тьму. В свободных серых анораках «Шеклтон», надетых поверх курток на гусином пуху, Реджи, Дикон, Жан-Клод и даже Наванг Бура были похожи на йети, стоящих или скользящих среди клубов тумана. Снова пошел снег. Я услышал звяканье металла о металл у себя за спиной и, оглянувшись, увидел, как Пасанг пинцетом кладет что-то маленькое и темное на белый металлический лоток испачканного кровью операционного стола. — Мистер Перри, помогите мне, пожалуйста, снять тело мистера Анга Чири — мы положим его здесь, на землю внутри сангха — и поднять на стол мистера Чеди. Я выполнил просьбу, предварительно надев толстые варежки, чтобы не запачкать кровью руки. Это было ошибкой — мне так и не удалось смыть кровь с тех рукавиц. Признаюсь, что я наблюдал за доктором Пасангом, когда тот поднял оторванную голову Лакры Йишея, поднес к своему лицу и стал поворачивать под лучом фонаря, словно рассматривая редкий кристалл. Вся левая часть лица Лакры отсутствовала, как будто сорванная громадной когтистой лапой. В глубине разбитого черепа виднелось что-то серое и блестящее. Я снова отвернулся, борясь с приступом тошноты, а доктор положил голову на стол и перевернул на правую половину изуродованного лица Лакры. Потом взял тонкую, но устрашающего вида пилу. От звука вгрызающегося в череп металла мне хотелось зажать ладонями уши, но я сдержался. Через минуту опять послышалось звяканье металла о металл, а когда я оглянулся, Пасанг уже отложил голову Лакры и исследовал изуродованный труп Норбу Чеди. «Господи Иисусе, — подумал я. — Неужели это действительно необходимо? Неужели нельзя просто похоронить бедняг?» Пасанг надел длинные резиновые перчатки, которые носил с собой в рюкзаке, но руки у него были по локоть в крови. Внезапно я заметил справа от себя какое-то движение и услышал шелестящие звуки. Я вскинул ракетницу и едва не нажал на спусковой крючок, но успел сообразить, что тишину нарушили Реджи, Жан-Клод и Наванг Бура. Низко пригибаясь, они быстро следовали за Диконом. Когда они оказались внутри сангха, Ричард молча указал каждому его место у каменной стены. У сахибов в руках по-прежнему были сигнальные пистолеты Вери. Наванг Бура заткнул нож за свой широкий пояс и держал топорик для мяса, подобранный где-то в разоренном базовом лагере. — Нашли что-нибудь? — прошептал я. — Двенадцать трупов, как и говорил Наванг Бура, — прошипел Жан-Клод со своего поста напротив проема в стене сангха, который служил входом в медицинскую палатку. — А те двое на равнине? — тоже шепотом спросил я. — Оба мертвы. Головы разбиты, сердца вырваны, — ответил Дикон. — Кто ходил их проверить? — Я. Сколько же мужества нужно иметь, чтобы пройти — даже в сумерках и в тумане — несколько сотен метров по открытой местности до того места, где на равнине лежали два тела! Мне казалось, что я бы так не смог. Потом я понял, что во время войны Дикон, вне всякого сомнения, не одну сотню раз точно так же подставлял себя под вражеский огонь — или даже хуже. — Вы знаете их имена, кроме Анга Чири и Лакры Йишея? — Я заставил себя задать этот вопрос. Не ответив мне, Дикон шепотом обратился к тем, кто сидел на корточках по периметру сангха. — Смотрите внимательнее. Попытайтесь использовать боковое зрение — оно лучше распознает слабые движения. — Потом он повернулся к Пасангу. — Кстати, скоро вы закончите и выключите этот проклятый фонарь? Пасанг кивнул, опустил последний кусочек металла в белый лоток и потушил фонарь. От облегчения, что мы перестали быть заметной мишенью — или едой? — я громко вздохнул. Реджи подползла ко мне вдоль северной стены из камней и зашептала: — Мы опознали всех, Джейк. Это было нелегко. Кроме Анга Чири и Лакры Йишея, погибли Нийма Тсеринг, Намгья Шерпа, Учунг Шерпа, Чунби Шерпа, Да Аннулу, Черинг Лхамо — тот молодой буддистский послушник, вы должны его помнить… Я вспомнил нашего худого, вечно улыбающегося «тигра», который столько времени провел в беседах со священниками в монастыре Ронгбук. — …а также Килу Темба, Анг Черинг и Анг Нийма. Последние двое — это те, которые побежали на север, на ту сторону ручья. — Братья Анг? — прошептал я. Было достаточно светло, и я увидел, что Реджи покачала головой. — «Анг» — это уменьшительное имя, Джейк. Означает «маленький и любимый». Анг Черинг означает «любимый Долгая Жизнь». Анг Нийма означает «любимый родившийся в воскресенье». Пристыженный и расстроенный, я смог лишь покачать головой. Я даже не понимал имен этих людей. Для меня они были носильщиками — средством для достижения наших, то есть Дикона, Же-Ка и моих, целей — и я удосужился выучить лишь несколько слов из их языка, и то в основном команды. Я поклялся, что если выйду живым из этой переделки, то обязательно исправлюсь. Тем временем Дикон снял анорак «Шеклтон» и накинул на себя и Пасанга, словно плащ-палатку. Потом включились шахтерские фонари, и через складки импровизированной палатки я увидел, что они рассматривают какие-то маленькие предметы из тусклого металла — три штуки — в металлическом лотке операционного стола. — Пули, — сказал Пасанг достаточно громко, чтобы его услышали все. — Извлечены из каждого трупа. У Анг Чири пуля прошла через сердце — само сердце у него отсутствовало, как вы помните — и застряла в позвоночнике. От удара она деформировалась, но я думаю, что вы ее узнаете, мистер Дикон. Она похожа на вот эту, которая застряла в мозгу Лакры Йишея, не пройдя через твердую кость и не деформировавшись. — Патроны «парабеллума» калибра 9 миллиметров, — прошептал Дикон, взяв пулю побольше. — На войне я видел много таких пуль, извлеченных из английских парней. — Я тоже, — кивнул Пасанг. Я вспомнил, что во время войны доктор учился и работал интерном в британских госпиталях. — Такими пулями обычно стреляли из немецкого пистолета «люгер», — сказал Дикон. — С семизарядным магазином. Иногда, ближе к концу войны, девятимиллиметровыми патронами заряжали «Люгер Р.17», нечто вроде пистолета-пулемета с тридцатидвухзарядным магазином и более длинным стволом. — Но мы не слышали никаких выстрелов, — свистящим шепотом возразил Жан-Клод. Он сидел на корточках с ракетницей в руке и пристально вглядывался в клубящуюся тьму своего сектора обзора. Головы он не повернул. — При том направлении ветра, — сказал Дикон, — и снегопаде… В горах довольно странная акустика. — Прошлой ночью в пятом лагере мы слышали, как кричал Лобсанг Шерпа, — прошептала Реджи. — Несмотря на сильные порывы ветра. — Который дул от пятого лагеря как раз в нашем направлении, вверх по склону горы, — шепотом ответил ей Дикон. — С учетом всех этих ледяных пирамид и «паломников» между базовым лагерем и вторым и третьим лагерями, западного и северо-западного ветра вчера вечером, я не удивлюсь, что никто не слышал ни единого выстрела, даже шерпы из второго лагеря. — Значит, мы ищем йети с немецкими «люгерами»? — спросил я, пытаясь немного поднять общее настроение. Или хотя бы подбодрить себя. Никто мне не ответил. Под прикрытием анорака Пасанг поднял последнюю из трех пуль, извлеченных из трупов. — А вот эта странная. Не деформировалась, но я не могу ее идентифицировать. Не девятимиллиметровая. — Восемь миллиметров, — прошептал Дикон. — Часто использовалась австрийцами и венграми в пистолетах, сконструированных до войны Карелом Крнкой и Джорджем Ротом. Самым распространенным пистолетом — сначала он стоял на вооружении австро-венгерской кавалерии, а затем его выпускали немцы для пехотных офицеров — был «Рот-Штайр М1907», полуавтоматический пистолет тысяча девятьсот седьмого года выпуска. Однажды в траншее его приставили к моей голове, но боек ударил по пустой камере магазина. — Сколько у него патронов в магазине? — не удержался я. — Десять, — ответил Дикон. Он выключил маленькую лампу, снова натянул куртку на голову, жестом предложил всем нам подойти поближе и прошептал: — Хотел бы я, чтобы мы имели дело с йети, но это не так. Мы должны предполагать, что столкнулись с несколькими профессиональными убийцами, и, вне всякого сомнения, людьми — возможно, это те самые семь человек, которых издалека видел Наванг Бура, — причем некоторые из них вооружены полуавтоматическими пистолетами и, возможно, даже автоматическим оружием. — Пулеметы? — растерянно спросил я. — Пистолеты-пулеметы, — поправил Дикон. — Мы не знаем. Но нет никаких сомнений, что мы должны как можно быстрее вернуться в третий лагерь — на тот случай, если эти чудовища в человеческом обличье попытаются добраться до остальных шерпов. — Но раны на наших «тиграх»… — прошептала Реджи. — Отрубленные конечности, растерзанные палатки, отрезанные головы, вырванные сердца… — Скорее всего, это сделано холодным оружием и специальными инструментами — например, часть увечий, которые мы видели, могли быть нанесены очень острыми граблями, — шепотом ответил Пасанг. — Они изуродовали и осквернили трупы, чтобы наполнить страхом сердца наших шерпов. — Это наполняет страхом мое сердце, — прошептал Жан-Клод, но на его губах играла слабая улыбка. «Как, черт возьми, он может улыбаться?» — удивился я. — Мы не будем идти в связке, — сказал Дикон и посмотрел каждому в глаза, — но цепочкой по одному и как можно тише, на расстоянии вытянутой руки от идущего впереди, чтобы можно было при необходимости коснуться рукой плеча. Те, у кого есть ракетницы Вери, держат их в руке заряженными и кладут запасные патроны во внешние карманы, откуда их можно быстро достать. — Но у шерпов имеется ваш «уэбли», — заметила Реджи. — Это у нас нет настоящего оружия. Может, шерпы должны спускаться и спасать нас? Дикон улыбнулся. — Я попрошу вернуть свой револьвер, когда мы доберемся до третьего лагеря. Но в данный момент мне не хочется даже думать об одном вооруженном поваре против шести или семи вооруженных до зубов убийц. Мы убедились, на что способны эти хищники. — Дикон кивком указал на трупы. Я чувствовал терпкий запах крови и слабое, но постепенно усиливавшееся зловоние разлагающейся плоти. — Кто они? — шепотом спросил Жан-Клод. Дикон не ответил. Взмахом руки он приказал нам приготовиться покинуть защищенную каменными стенами сангха территорию лазарета. — Значит, мы пойдем прямо по «корыту»? — спросила Реджи, когда мы выстроились в колонну по одному: первый Дикон, за ним Реджи, потом я, потом Пасанг, за ними Наванг Бура и последний Жан-Клод. — Да, — прошептал Дикон. — Но не по тропе. От одной ледяной пирамиды к другой, от кальгаспоры к кальгаспоре, от одного гребня морены до другого. Идите, когда иду я, и останавливайтесь, когда останавливаюсь. Если я в кого-то выстрелю, найдите цель, прежде чем стрелять самим. Помните, что сигнальные пистолеты Вери — не настоящее оружие. Если до цели больше десяти футов, шансов попасть в кого-нибудь у вас почти нет. Берегите патроны. Нам нечего было к этому добавить. Мы по одному последовали за Диконом — левая рука вытянута, чтобы касаться плеча идущего впереди, в правой ракетница — в заснеженную тьму, вверх по леднику Ронгбук, назад к Эвересту.
Глава 5
Пока мы медленно поднимались по темному «корыту», стремительно перемещаясь от одного теоретического укрытия в виде ледяной пирамиды или гребня морены к другому (но уже не присаживаясь на корточки и не нагибаясь, за исключением тех моментов, когда Дикон поднимал руку, приказывая остановиться), я начал размышлять, когда эта экспедиция перешла ту грань, которая отделяет просто фантастическое от совсем уж невероятного. Цепочка из шести человек, медленно перебегающая от одной 50-футовой ледяной пирамиды к другой, напомнила мне детство, когда две сестры заставляли меня, совсем маленького, играть в ковбоев и индейцев на невысоком холме среди густых рощ за нашим домом в Уэллсли, пригороде Бостона. Мы прятались, выглядывали из-за дерева, бежали к другому и снова прятались. Увидев мелькание юбок или сарафанов среди пятнистой лесной тени, я стрелял в сестер из своего деревянного пистолета. Но сестры, не желая пачкать одежду, отказывались падать замертво на лесную подстилку и катиться вниз с холма, когда я в них попадал. В отличие от них, я с таким удовольствием грохался на землю и так грациозно катился под гору, что в конечном итоге игра в ковбоев и индейцев превратилась в другую, попроще, которую я называл «пристрелить Джейка и смотреть, как он умирает и катится». Вспомнив сестер, я подумал, что ни один из нас не отправлял писем родным и друзьям с тех пор, как мы отплыли из Англии. Эта экспедиция на Эверест должна была быть тайной — нашей тайной, — и поэтому не предполагалось никаких писем из Коломбо, Порт-Саида, Калькутты или Дарджилинга. Совсем не так, как в британских экспедициях 21-го, 22-го и 24-го годов, когда гонцы сновали туда-сюда между Эверестом и Дарджилингом, поддерживая нерегулярную, но прочную связь альпинистов с внешним миром. Если кто-либо — например, Генри Моршед или Говард Сомервелл — писали домой, что им хочется шоколадного торта, через несколько недель они получали шоколадный торт. Я знал, что Жан-Клод каждый день писал письма любимой девушке — или она уже была невестой? — Анне-Мари. Они собирались пожениться в декабре, после того, как Же-Ка станет гидом Шамони первого класса, что увеличит его скромный доход. Мне неизвестно, писал ли письма Дикон во время нашего путешествия; я ни разу не видел, чтобы он писал что-либо, кроме официальных писем или заметок в своем блокноте с кожаной обложкой, в котором вел дневник путешествия. Я сам в первые недели написал несколько писем родителям, одно старой гарвардской подружке и даже одно своей любимой сестре Элеонор, но потом мне надоело таскать с собой письма, и я направил свои литературные таланты на подробный журнал восхождений. Пока мы перебежками поднимались по «корыту», размышления привели меня к печальному выводу: «Если мы умрем на этом чертовом леднике или горе, никто никогда не узнает». Через час челночного бега от одной ледяной пирамиды к другой, в стороне от обозначенной бамбуковыми вешками и красными флажками центральной тропы, но не сильно отклоняясь в ту и другую сторону, мы добрались до первого лагеря на высоте 17 800 футов, на 1300 футов выше поля брани, в которое превратился базовый лагерь. При спуске мы оставили первый лагерь в прекрасном состоянии, но теперь, несколько часов спустя, он был полностью уничтожен. Все то же самое: разодранный брезент, поваленные шесты палаток, вскрытые ящики и общая картина полного разорения, какую мы наблюдали в базовом лагере. За исключением трупов. Мы поискали следы на снегу, но, за исключением отпечатков шипованных ботинок — многие из наших «тигров» носили шипованные ботинки, — ничего не нашли. Затем Жан-Клод шикнул на нас, и на 15-футовом участке снега мы увидели три гигантских следа йети. Каждый был похож на отпечаток человеческой ноги, за исключением невероятной длины — больше 18 дюймов, как мне показалось, — и того факта, что большой палец был повернут внутрь, как у гориллы или другой крупной обезьяны. — Такой шаг должен быть у высокого парня, — прошептал Дикон. — Ростом не меньше семи футов. А может, и все восемь. — Но вы же не верите… — начала Реджи. — Не верю, — ответил Дикон. — Ни на секунду. Под каждым следом заметны отпечатки ботинок — кто-то становился на это место, затем оставлял фальшивый след гигантской ноги йети и делал следующий шаг. — Хитроумная уловка, но довольно глупая, если эти люди все равно собираются нас убить, — сказала Реджи. Дикон пожал плечами. — Я подозреваю, что бойня в базовом лагере и эта глупая детская игра со следами предназначена для того, чтобы напугать всех наших шерпов. А может, они планировали убить всех, включая шерпов, а эту легенду о йети продать местным жителям. Но конечная цель этих странствующих убийц — мы четверо. Вернее, пятеро, включая доктора Пасанга. «Очень обнадеживает», — подумал я.Второй лагерь горел. Они подожгли все, что только смогли найти, кроме склада кислородных аппаратов, который мы устроили за покрытыми снегом валунами в лабиринте ледяных пирамид, трещин и гребней морен со стороны ледника, по пути вниз. — Огонь виден из третьего лагеря, — сказала Реджи. — Они перестали притворяться йети. — Они йети, только со спичками и зажигалками. — Как вы думаете, станут ли четырнадцать человек, которых мы оставили в третьем лагере, подниматься на Северное седло в попытке спастись? — спросил доктор Пасанг. — Не думаю, — ответил Дикон. — Тогда они сами себя загнали бы в ловушку. — Они могут рассеяться, — сказала Реджи. — Вскарабкаться на гребни морен, а затем спуститься. Попытаться дойти до базового лагеря и вернуться на равнину — мелкими группами или по одному. — Это было бы разумно, — согласился Жан-Клод. — Вы верите, что они так и поступят, мистер Дикон? — спросил Пасанг. — Нет. Я смотрел на кислородные маски и баллоны. Почти все манометры показывали максимальное давление. — Что мы со всем этим будем делать? — Возьмем с собой, — сказал Дикон. — Зачем, черт возьми, оно нам? — удивился я. — Разве мы не собираемся просто забрать выживших шерпов из третьего лагеря и бежать к монастырю Ронгбук, в Чобук или в Шекар-дзонг? Из трех упомянутых мною мест только последнее, Шекар-дзонг, было достаточно крупным и удаленным, чтобы служить временным убежищем, хотя оно находилось на расстоянии почти 60 миль к северу от базового лагеря, если идти по тропе, — чуть меньше 40 миль по прямой, как летают вороны. В тот момент я сам не отказался бы стать вороном. Но тут же вспомнил о растерзанной прямой кишке Мэллори и вытащенных наружу внутренностях и почувствовал тошноту. Во вскрытой брюшной полости знаменитого альпиниста виднелось что-то похожее на семечки, и я подумал — не в первый раз, — что могу сказать, что ел Мэллори в свой последний день. Я тряхнул головой. Подобные мысли ничем не помогут в нашей ситуации. Мы сидели на корточках вокруг уцелевших кислородных аппаратов. — …По всей видимости, шерпы не станут спасаться бегством по перилам и лестнице в четвертый лагерь, поскольку знают, что эти… убийцы… просто запрут их там, — говорил Же-Ка. — Но то же самое справедливо и для нас. Восхождений в этой экспедиции больше не будет, не так ли, Ри-шар? Зачем же, ради всего святого, тащить эти кислородные аппараты назад на ледник? Дикон вздохнул. — Мы должны продолжить восхождение, если будет такая возможность, — тихо сказала Реджи. — Зачем? — спросил я. — Неужели вы рассчитываете,что после всего этого мы продолжим поиски вашего кузена? Я хочу сказать… пожалуйста, подумайте об этом, леди Бромли-Монфор… четырнадцать шерпов мертвы, а двенадцать находятся во власти кровожадных садистов. Как вообще можно думать о том, чтобы вернуться на гору? И зачем… чтобы подняться на вершину? — Нет, не на вершину. Теперь еще важнее найти тело Бромли, — настаивала Реджи. — Она права, — сказал Дикон. Леди заморгала, явно удивленная этим быстрым согласием. Я ничего не понимал, но заметил, как кивнул Жан-Клод. Он переводил взгляд с Реджи на Дикона и обратно. — Целью нашей экспедиции были вовсе не поиски тела Персиваля по просьбе семьи, правда, Реджи? Она прикусила нижнюю губу, на которой выступила кровь, казавшаяся черной при свете звезд. — Нет, — наконец произнесла Реджи. — С самого начала. — Она посмотрела на Дикона. — Вы знаете, почему так важно найти тело Перси? Или убедиться, что никто другой его не найдет? — Думаю, да, — прошептал Дикон. — Боже мой, — пробормотала Реджи. — У нас есть общий друг? Который последнее время выписывает много чеков? — Но предпочитает золото? — улыбнулся Дикон. — Да, миледи. — Боже мой, — повторила Реджи и провела пальцами по лбу, словно у нее жар. — Мне и в голову не приходило, что вы тоже… — Я не понимаю ни слова из того, что вы тут говорите, — вмешался Жан-Клод. — Но может, вам будет интересно узнать, что Наванг Бура ускользнул, воспользовавшись темнотой. Дикон кивнул. — Примерно две минуты назад. Он направился на север, к базовому лагерю. Возможно, хочет сбежать. — Он не трус, — сказал Пасанг. — Все шерпы не трусы, — согласился Дикон. — Одни из самых храбрых людей, которых я когда-либо встречал, — а после войны эти слова дорогого стоят. Но Наванг и остальные столкнулись с необычным явлением, которое их вера и традиции считают реальной угрозой. — Что ты знаешь об их вере, Ри-шар? — В тоне Жан-Клода сквозило раздражение. Ответила ему Реджи: — Разве вы двое не знаете, что капитан Дикон давно перешел в буддийскую веру? Я с трудом сдержал смех. — Глупости. Ричард даже не хотел присутствовать на церемонии благословения Дзатрула Ринпоче. — Не все буддисты верят в демонов и поклоняются статуям Будды, — сказал Дикон. Моя улыбка погасла. — Ты шутишь. — Неужели вы не видели, как во время перехода ваш друг каждое утро молча сидел в позе лотоса? — спросил Пасанг. — Oui. — Я слышал в голосе Же-Ка удивление и недоверие, схожие с моими. — Но мне казалось, что он… размышлял. — Мне тоже, — сказал я. — Составлял планы на день. — Люди, планирующие предстоящий день, не поют вполголоса «ом мани падме хум», сидя в позе лотоса, — заметила Реджи. — Умереть, не встать! — воскликнул Жан-Клод. Признаюсь, что в этот раз я не удержался от смеха. Интересно, где Же-Ка подхватил это выражение? — Можно спросить, зачем мы тратим время на мои, возможно, необычные философские взгляды, — сказал Дикон, — когда нужно принять решение? Собирать ли нам шерпов в третьем лагере и спасаться бегством, или отправить шерпов — как только это будет возможно — на север, а затем впятером подняться на Северное седло, пока туда не добрались наши йети с «люгерами»? Или нам тоже удирать в долину? — Сначала один вопрос, Ри-шар. — Что ты хочешь знать, Жан-Клод? — Когда ты стал буддистом? — В июле тысяча девятьсот шестнадцатого, — прошептал Дикон. — Но, к счастью для нас всех, я плохой буддист. Если у меня будет возможность убить этих людей, которые лишили жизни наших шерпов, я убью их без каких-либо сожалений или колебаний. Тогда вы сможете называть меня бывшим буддистом. Второй раз за последние двадцать четыре часа я почувствовал, как покрываются мурашками руки, а волосы на затылке встают дыбом. «Убить всех этих людей? Как, черт возьми, он это сделает, когда у них настоящее оружие, а у нас только маленькие игрушечные ракетницы?» — Я пойду с тобой, куда прикажешь, — сказал Жан-Клод. — Я тоже. — Был ли я искренен? Да. — Я останусь с леди Бромли-Монфор, что бы она ни решила, — сказал Пасанг. — И буду исполнять приказы того, кому она подчинится. Дикон потер лоб, словно не хотел снова принимать на себя командование в ситуации, когда люди будут убивать и сами могут погибнуть. — Если мы вернемся на ледник и пойдем к третьему лагерю, повернуть назад уже вряд ли получится. Вы должны доверять нашим решениям… в данном случае — нашим с Реджи. За ней остается общее руководство экспедицией. На мне — восхождение и боевые действия. — Вы можете сказать, почему поиски тела Бромли гораздо важнее, чем мы думали? — прошептал Же-Ка, обращаясь к Реджи. Леди Бромли-Морфор снова прикусила окровавленную губу и посмотрела на Дикона. — Если мы благополучно доберемся до четвертого лагеря на Северном седле, я скажу вам причину, — ответил тот. — Если же нам придется бежать в Шекар-дзонг и дальше на восток, лучше этого не обсуждать. — Хорошо, — сказал Жан-Клод, как будто Дикон что-то объяснил. Я пребывал в полной растерянности, но спорить не стал. Далеко впереди, выше и восточнее нас, внезапно появилось красное свечение. Мы несколько минут молча наблюдали за ним. — Это на леднике, — прошептала Реджи. — Ближе к нам, чем к третьему лагерю. Красный сигнальный огонь? — Слишком долго горит, — покачал головой Дикон. — Даже для железнодорожного осветительного патрона. — Жутковатый свет. — Реджи поежилась. — Как будто кто-то открыл для нас врата ада, — сказал Жан-Клод. — Знаете, это может быть ловушка, — предупредил Пасанг. — Приманка. — Да, — согласился Дикон. — Но нам нужны пленные, чтобы понять, какого черта тут происходит и с кем мы имеем дело. Мы будем осторожны, но придется идти в их ловушку. Представим, что мы — ночной патруль на нейтральной полосе. — А велики ли шансы остаться в живых после ночного патрулирования нейтральной полосы? — спросил я. — Нет. Дикон жестом приказал нам снять кислородные баллоны вместе с клапанами, резиновыми трубками и масками с алюминиевых рам и упаковать в наши почти пустые рюкзаки. Мы старались экономить силы и не шуметь. Затем он махнул рукой, и мы снова выстроились цепочкой — Дикон впереди, Жан-Клод замыкающий, — и пригнувшись, почти бегом, под хруст «кошек», вгрызающихся в снег и лед, стали подниматься по лабиринту из занесенных снегом ледяных пирамид на открытое пространство ледника Восточный Ронгбук.
Глава 6
Красное свечение виднелось из-за леса кальгаспор и вертикальных ледяных плит на южной стороне большой трещины, которую мы пытались преодолеть с помощью лестницы, пока нашли другой путь, состоящий из спуска и подъема, в четверти мили к востоку, когда лестница просела. Ледяные глыбы к востоку от нашей главной тропы больше похожи на высокие, тонкие и острые, как бритва, вертикальные лезвия из почти прозрачного льда, чем на одиночные пирамиды внизу, в «корыте», и загадочное красное свечение исходило именно из этого лабиринта. Дикон жестом приказал Жан-Клоду переместиться вперед, и мы последовали за нашим гидом Шамони через паутину невидимых, покрытых снегом трещин. Мы знали о трещинах просто потому, что видели их при свете дня каждый раз, когда поднимались или спускались по леднику, перемещаясь между вторым и третьим лагерями. Я понятия не имею, как Жан-Клоду удавалось обходить расселины ночью; облака по-прежнему висели низко, туман все так же тянулся к нам серыми щупальцами, а на небе не было видно ни одной звезды. Дикон довел нас до этого места почти на ощупь, где по памяти, а где при помощи шахтерского фонаря, который пристегнул к правой голени, и включал его лишь на долю секунду, освещая несколько футов снега, льда или камней впереди себя. Невероятно, но факт: почти каждый раз, когда он включал маленький фонарь, в десяти футах от него оказывалась вешка с красным флажком. Когда мы приблизились к светящимся красноватым глыбам, Дикон перестал включать прикрепленный к ноге фонарь и повел нас в обход, на юг. Яркое красное свечение рассеивалось туманом, и казалось, что сам воздух стал алым. Ричард жестом приказал всем нам лечь, и мы мгновенно выполнили команду, как хорошо обученные служебные собаки. Он указал на Жан-Клода, потом на низкую ледяную пирамиду слева от проема в ледяном гребне, потом ткнул пальцем себе в грудь и указал на ледяной гребень справа. Же-Ка кивнул. Они практически одновременно кинулись в противоположные стороны — только осколки льда из-под зубьев «кошек», как капельки замерзшей крови, сверкнули в холодном ночном воздухе. Прильнув каждый к своей ледяной пирамиде, они застыли, как будто приготовились ворваться через дверь в полную опасностей комнату. Затем, повинуясь почти незаметному кивку Дикона, одним броском обогнули ледяные стены, держа в вытянутой руке сигнальные пистолеты. Выстрелов не последовало. На несколько секунд, заполненных быстрыми ударами сердца, они исчезли из виду, но затем в проеме появился Жан-Клод и махнул рукой, что мы можем продолжить путь. Первым пошел Пасанг, за ним — я, и последней — Реджи. Мы осторожно двигались сквозь красноватый туман, стараясь идти по следам Дикона и Же-Ка на снегу, а когда добрались до проема в ледяном гребне, то увидели, что источником красного света служил современный электрический прожектор — он представлял собой черный ящик с яркой лампой, дающей направленный свет, — поверх обычной прозрачной линзы которого была прикреплена еще одна, красного цвета. Заснеженная площадка между ледяными колоннами размером с комнату была исчерчена отпечатками ботинок. — Ловушка, — прошептал Пасанг. Высокая фигура вынырнула из-за кальгаспор и бросилась к Реджи. Мне показалось, что это существо покрыто мехом, а его серо-белое лицо с резкими чертами похоже на вывернутый наизнанку человеческий череп. И только потом я заметил черный металлический предмет в его правой руке. Я замер на месте — в отличие от Реджи. Увидев метнувшуюся к ней тень с поднятой правой рукой, она опустилась на одно колено и выстрелила из сигнального пистолета — красной ракетой — прямо в грудь нападавшего, с расстояния семи или восьми футов. Ракета ударила высокого человека в грудь и отскочила вверх, в подбородок; меховая куртка загорелась, похожее на череп лицо резко дернулось вверх и в сторону; второй, человеческий рот под маской широко открылся, и из него вырвался не крик, а искры красного огня. Высокая фигура завертелась на месте — один раз, другой, третий, с горящим на груди мехом, освещавшим искаженное двойное лицо, словно гигантская красная свеча в разбитом фонаре из тыквы, — а затем просто… исчезла. Она не скрылась за ледяным гребнем или пирамидой — секунду назад кружилась в сполохах красного пламени, разбрасывая искры, и вдруг… пропала. Потом я увидел красное свечение, идущее откуда-то изнутри ледника. Я подбежал к Реджи. — С вами все в порядке? — Да, спасибо, Джейк, — ответила она. Облачко ее дыхания делало видимым красное свечение, которое пробивалось сквозь лед прямо у нас под ногами. Реджи спокойно заряжала новый патрон в сигнальный пистолет Вери. Повернувшись, я побежал к тому месту, где внизу светился лед, но меня остановила сильная рука Жан-Клода, которая уперлась мне в грудь. — Расселина, — прошептал он и протянул мне конец веревки, которую обвязал вокруг себя, а затем на животе пополз к провалу во льду. Потом заглянул в почти круглую дыру в снегу, и я увидел отблески гаснущей красной ракеты на его лице. — Твердый наст до самого края, — шепотом сообщил он и махнул рукой, подзывая нас к себе. Мы с Диконом поползли на животе, отталкиваясь локтями, и заглянули в расселину. Ричард захватил с собой тяжелый электрический фонарь — свет от него был гораздо ярче, чем от шахтерских головных фонарей, — и теперь опустил на вытянутой руке в провал (вероятно, чтобы его не видели другие, кто мог быть на леднике) и включил. Я едва не отпрянул — таким шокирующим был вид белого, похожего на череп лица, которое скалилось на нас с глубины 40 или 45 футов. Затем до меня дошло, что маска, которую надел убийца, при падении просто сползла на макушку. Голова его была опущена, и со своего места я не видел лица. Длинная меховая куртка все еще горела на груди и на шее, и снизу вместе с дымом поднимался тошнотворный запах — горелого мяса. Человек упал спиной вперед в расселину, ширина которой в верхней части составляла почти семь футов, но сужавшуюся до полутора футов в том месте, где застряло тело убийцы. Не вызывало сомнений, что позвоночник у него сломан; шипованные ботинки смотрели на нас с одной стороны узкой расселины, а макушка головы с грубой, похожей на череп маской йети — с другой, и в мерцающем свете горящей меховой куртки, и в луче электрического фонаря, который держал Дикон, мы видели, что руки в перчатках бессильно обвисли на его коленях. Там же, на коленях, лежал 9-миллиметровый «люгер». От сильного удара тело сложилось в форме буквы «V» и прочно застряло в самой узкой части расселины; сверху нам было видно, что ниже этого нелепо изогнутого тела расселина снова расширяется в черную, кажущуюся бездонной пропасть. Дикон поднял фонарь, и мы отползли от края провала. Пасанг с Реджи присоединились к нам и тоже присели на корточки. — Нам нужен тот пистолет, — прошептал Ричард. — Я спущусь, — тоже шепотом ответил ему Же-Ка. — Я самый легкий. И у меня с собой ледовые молотки. Ри-шар с Джейком могут меня страховать. — Нет, Жан-Клод, — сказал Дикон после секундной паузы. — Вниз полезет Джейк, а мы будем страховать. Я не хочу, чтобы они услышали удары ледовых молотков, а у Джейка самые длинные и самые сильные ноги из всех нас — он может выбираться из расселины, как из каменного камина. Я видел, как Жан-Клод удивленно заморгал. — Мы должны попытаться достать тот пистолет, — продолжал Дикон, — но это задержит нас, и мы не успеем предупредить шерпов в третьем лагере. Хотя, возможно, уже поздно. Но мы обязаны попытаться. Жан-Клод у нас специалист по ледникам. Возьми Пасанга в качестве переводчика, и вдвоем идите к третьему лагерю как можно быстрее. Постарайтесь без крайней необходимости не включать даже головные лампы. Если вы доберетесь туда раньше этих ублюдков, фальшивых йети, организуйте из шерпов оборонительный периметр… У вас будет только мой «уэбли» и ваши ракетницы двенадцатого калибра. Мы присоединимся к вам, как только достанем отсюда «люгер» — я на это надеюсь. Жан-Клод кивнул, но тут подала голос Реджи: — Нет, Ричард, позвольте мне пойти с Жан-Клодом, пожалуйста. Пасанг гораздо сильнее меня, и он поможет вам страховать Джейка. И я думаю, что мои команды шерпы будут исполнять чуть быстрее. Дикон секунду обдумывал ее предложение, потом кивнул. — Вы правы. Идите вперед… только осторожнее. Реджи с Жан-Клодом переглянулись и двинулись на северо-запад к обозначенной вешками тропе, не бросив на нас даже прощального взгляда. Еще секунду их фигуры были видны в кровавом свете фонаря с красным фильтром, принадлежащего убийце, а затем исчезли среди тьмы и клубящегося туманного облака. Дикон извлек из тяжелого, туго набитого рюкзака — из второго лагеря мы забрали запас кислородных баллонов — большую бухту веревки, один конец которой вручил мне. Затем быстро подполз к круглому провалу расселины и вогнал длинный ледоруб Пасанга параллельно зазубренному краю, в двух дюймах от него. Отступив на фут, он воткнул как можно глубже самый длинный из своих ледовых молотков в покрытый ледяной коркой снег, перочинным ножом отрезал кусок веревки, быстро навязал на нем узел и прикрепил головку второго, более короткого, ледоруба к первому в качестве якоря. К тому времени, когда он ползком вернулся к тому месту, где на корточках сидели мы с Пасангом, я успел два раза обернуть «волшебную веревку» вокруг талии и бедер, так что получилась вполне приемлемая альпинистская обвязка, затем тщательно вывязал фрикционный узел. Дикон встал футах в восьми от края расселины, поглубже вонзил свой ледоруб в лед, дважды захлестнул на нем петлю длинной веревки и перекинул ее через плечо Пасанга, организовывая страховку, затем через свое плечо. — Дерни два раза, если хочешь остановить спуск, — сказал мне Дикон. — И один раз, если нужно стравить веревку. Три раза — мы тебя вытаскиваем. — Что-нибудь еще нужно, кроме «люгера»? — спросил я. Дикон покачал головой. — Не помешало бы все тело, чтобы обыскать карманы и попытаться понять, кто он такой и что задумал. Только он там крепко застрял, Джейк, и мне кажется, мы потратим слишком много времени, пытаясь поднять труп, после того, как вытащим тебя. Но если у него есть карманы, до которых легко добраться, проверь их. Ищи коробку девятимиллиметровых патронов и любые документы или удостоверения, которые могут быть у него с собой. Но не рискуй без необходимости. Со сломанным позвоночником тело превратилось в мягкую массу, застрявшую между стенками, и в любой момент может провалиться в пропасть. Я согласно кивнул, надвинул на лоб лампу, включил свет, подошел к самому краю круглого отверстия, подождал, пока Дикон и Пасанг туго натянут страховочную веревку, сильно отклонился назад и начал спускаться в дымящуюся трещину, упираясь «кошками» в западную ледяную стену; в луче моей лампы выступы из голубого льда были похожи на торчащие кинжалы. Спустившись до уровня трупа — как я теперь понял, он был ближе, чем в 50 футах от поверхности, — я дважды дернул за веревку выше фрикционного узла, повернулся, прижался спиной к ледяной стене, по которой спускался, и уперся ногами по обе стороны тела, глубоко вонзив зубья «кошек» в противоположную стену. Теперь я был совсем близко от трупа. Языки пламени больше не вырывались из овчины, мехового жилета или чего-то в этом роде, надетого поверх обычной куртки, но дым еще шел. Я понял, что это тлеет плоть на груди и щеках. Очень медленно, чтобы случайно не сбросить «люгер» в темную пропасть внизу, я наклонился к самому лицу трупа, мои обтянутые перчаткой пальцы левой руки сомкнулись на рукоятке пистолета. «Готово!» Я поднял пистолет и осторожно убрал в карман рубашки под свитер, пуховик Финча и анорак. Я могу упасть на дно этой расселины — хотя луч моей головной лампы не высвечивал никакого дна, только неровные ледяные стены и сотни футов темноты внизу, — но будь я проклят, если уроню и потеряю пистолет. Я внимательно рассмотрел маску, съехавшую на макушку убийцы. Похоже, ее вырезали из какого-то легкого белого дерева, а потом нарисовали преувеличенные морщины. Зубы вокруг отверстия рта были настоящими — возможно, волчьи или собачьи. Я видел места, где их приклеили к углублениям в маске. Похлопав по карманам брюк — они были мешковатыми и тоже покрыты овечьей шерстью, выкрашенной в серый цвет, чтобы напоминать волчий мех, — я не нащупал ничего твердого, что могло быть коробкой патронов. В карманах брюк под внешней меховой оболочкой были какие-то бумаги, но я не мог добраться до них, не извлекая тело из клинообразной расселины. Проклятье. Потом я направил луч фонаря в лицо мертвого человека и едва не вскрикнул от ужаса. Выглядело оно так, словно вороны выклевали глаза, и кто-то плеснул на лицо расплавленный воск, но я сообразил, что глаза лопнули и частично расплавились от жара осветительной ракеты. Стекловидная масса вытекла из глаз и залила заросшие щетиной щеки, словно расплавленный воск. Рот мужчины был открыт — словно пародия на удивление собственной ужасной смерти, — и дым от сигнальной ракеты Реджи, которая вошла ему под нижнюю челюсть, струился из него, будто зловонное дыхание падальщика. Пришлось отвернуть голову, прижаться щекой к ледяной стене и несколько раз вдохнуть свежий воздух, чтобы меня не вырвало. Я глотал чистый воздух и боролся с приступом тошноты. То ли мое движение, когда я слегка пошевелился, устраиваясь поудобнее, то ли какие-то процессы в самом леднике словно толкнули труп, и за несколько секунд его ноги оказались выше плеч. Тело скользнуло вниз и — сломанный позвоночник и опавшие ребра позволили ему сложиться, подобно чудовищному аккордеону — протиснулось в щель шириной не больше фута. Затем труп исчез, и мои «кошки» начали скользить по противоположной стене — вероятно, труп просто задел меня при падении, но мне показалось, что мертвец схватил меня за щиколотки и тянет за собой. Сердце у меня бешено колотилось, и я никак не мог втянуть в себя холодный воздух, чтобы наполнить легкие. И вдруг я повис на веревке — зубья «кошек» соскользнули с ледяной стены. Я пролетел всего фут или два, прежде чем Дикон и Пасанг остановили падение. «Волшебная веревка Дикона» выдержала, но я чувствовал, что она растянулась больше, чем наши старые веревки. Я не стал терять время, просто болтаясь в воздухе, а быстро повернулся, вонзил зубья «кошки» на правой ноге в западную стену расселины, а на левой ноге — в восточную, расставил руки для упора и начал подниматься по расселине, как по скальному дымоходу, предварительно три раза дернув за веревку. Я чувствовал, что двое сильных мужчин наверху держат веревку натянутой, но изо всех сил упирался руками и ногами, стараясь подниматься самостоятельно. На леднике в любую секунду могли появиться другие убийцы, и мне совсем не хотелось бесполезным грузом болтаться в этой расселине, когда — и если — это произойдет. Наконец я выбрался из холодного, так что пробирало до костей, нутра ледника и перекатился через край, почувствовав под собой деревянную рукоятку воткнутого в снег ледоруба Пасанга, который не давал веревке врезаться в ледяную кромку провала. Потом встал на колени, взял два ледовых молотка, служивших страховочным якорем, и стал осторожно пятиться от расселины, не поворачиваясь к ждущим меня товарищам. Оба тяжело дышали — страховать человека весом чуть больше двухсот фунтов нелегко на любой высоте, а здесь в двадцати с лишним тысячах футов над уровнем моря это требует титанических усилий. Я дал им отдышаться — сложился пополам, уперся ладонями в колени и постарался выкашлять внутренности прямо на ледник. — Ваш кашель становится сильнее, мистер Перри, — сказал Пасанг. В мерцающем красном свете он метнулся в сторону и стал рыться в своем рюкзаке и аптечке. — Мы не сможем подкрасться ни к одному йети, если ты будешь так кашлять, — сказал Дикон. — Пистолет достал? Я сунул руку в карман рубашки, где холодный металл словно огнем жег грудь сквозь несколько слоев шелка и хлопка, вытащил оружие и протянул Дикону. Он уверенно взял полуавтоматический пистолет, словно знал, как обращаться с этой штуковиной — в чем я ни минуты не сомневался, — и сдвинул рычажок около спусковой скобы (впоследствии я узнал, что это предохранитель… мертвец в расселине снял оружие с предохранителя), обхватил пальцами маленький цилиндр в верхней части «люгера», откинул его вверх и назад, пока тот не зафиксировался в таком положении, проверил патронник, потом на что-то нажал, и магазин выпал ему на ладонь. — Проклятье! Дикон пальцем извлек из магазина два 9-миллиметровых патрона… Их было всего два. — Ты не нащупал коробки с патронами у него в карманах? — спросил Дикон. — Нет. По крайней мере, в его куртке йети. До задних карманов мне было не достать. Дикон покачал головой. — Если они не потратили все боеприпасы на расстрел всех шерпов в базовом лагере, где-то здесь должны быть еще патроны — может, рюкзак этого йети спрятан за какой-нибудь ледяной пирамидой или гребнем. Только полный идиот устраивает засаду на пятерых или шестерых человек с двумя патронами в магазине и пустым патронником, разве не так? У меня не было ответа на этот вопрос — не стоило и пытаться. Я даже не знал, где находится патронник этого пистолета и как он выглядит. — Вероятно, патроны он хранил в рюкзаке. Мы втроем обыщем тут все вокруг — можно включить головные лампы, а я возьму большой электрический фонарь, — но не больше пяти или десяти минут. Нельзя слишком далеко отставать от Жан-Клода и Реджи. Я снова перегнулся пополам и стал кашлять и хрипеть, пока не почувствовал на плече широкую ладонь Пасанга, который приподнимал меня. — Вот, выпейте это, мистер Перри. Всё. Он протянул мне маленькую бутылочку. Я залпом проглотил жидкость, которая обожгла меня огнем, поперхнулся, но все же подавил приступ тошноты и вернул бутылочку доктору Пасангу. Через пол минуты позывы к кашлю исчезли, и впервые почти за сорок восемь часов у меня пропало ощущение, что в горле застряла грудная кость индейки. — Что это за штука? — шепотом спросил я Пасанга, когда мы вслед за Диконом покинули неровный круг красного света, отбрасываемого фонарем йети. — В основном кодеин, — ответил доктор. — Я дам вам еще, когда кашель возобновится. Мы включили фонари и вели поиски почти пятнадцать минут, но за гребнями и ледяными пирамидами нашли только отпечатки ботинок — никакого следа от рюкзака с боеприпасами. Наконец Дикон позвал нас, и мы тронулись в путь. Я чувствовал разочарование Ричарда — оно пылало, словно огонь в ночи. Какой прок от немецкого полуавтоматического пистолета, если в нем всего два патрона? «Но все же это лучше, чем быть без пистолета и без патронов», — повторял я себе. Думаю, я пытался убедить себя, что мои усилия в этой Богом проклятой расселине были не напрасны. Когда мы удалились на запад от расселины и вернулись на тропу, поднимающуюся на ледник, Дикон повернулся и положил мне руку на плечо. — Джейк… не хотел говорить при Же-Ка… но я попросил тебя спуститься туда потому, что надеялся: ты можешь узнать нашего приятеля без маски йети. Ты его узнал? — Думаю, да. Наверное. Да… узнал. — Лица мертвых, как я убедился, не похожи на лица живых. — Кто же это, ради всего святого? — Карл Бахнер, — сказал я. — Приятель Бруно Зигля — тот альпинист, опытный, знаменитый, президент и основатель всех немецких альпинистских клубов — мужчина в летах, который сидел за столом в тот вечер осенью прошлого года, когда мы в Мюнхене встречались с Зиглем. Дикон стоял совсем близко, так что даже в тусклом свете я хорошо видел его лицо. Он нисколько не удивился.Глава 7
Мы увидели пламя и услышали выстрелы, когда до третьего лагеря оставалось идти еще больше мили по проложенной через ледник тропе. — Проклятье! — воскликнул Дикон. Я знал: он боялся, что Реджи и Же-Ка успели подняться туда как раз к началу резни. Пистолетные выстрелы эхом разносились по длинной долине ледника и звучали как-то глухо — так лопаются на сковородке последние зерна кукурузы, — но затем стали громче. К одиночным выстрелам из пистолета внезапно присоединился треск, словно кто-то рвал длинные полосы плотной ткани. — Что, черт возьми… — прошептал я. Поднятый палец Дикона заставил меня умолкнуть. Никто из нас не пользовался кислородом, мы все тяжело дышали и хрипели после попытки быстрой ходьбы на высоте 21 000 футов. Треск повторился. — Это может быть пистолет-пулемет «Бергманн-Шмайссер», — наконец сказал Дикон. — Если это так, шерпам и Жан-Клоду с Реджи остается надеяться только на Бога. — Какая у него скорострельность? — спросил я, хотя ответ меня не очень интересовал. — Четыреста пятьдесят выстрелов в минуту, — ответил Дикон. — Ограничивается лишь скоростью, с которой стрелок успевает менять тридцатидвухзарядные спиральные дисковые магазины.[56] Эти громоздкие круглые магазины делают «Шмайссер МР-18/1» не очень удобным — носить, целиться, стрелять более или менее точно. Но при такой скорострельности точность не особенно важна. Нам нужно рассредоточиться. Немцы любили использовать свои проклятые «шмайссеры» в близком бою в траншеях. — Господи, — выдохнул я. — Давайте двигаться быстрее, — сказал Пасанг и перешел на легкий бег. «Кошки» на его ногах поблескивали в свете наших головных ламп. — Полагаю… больше… не притворяются… йети. — Дикон тяжело дышал, едва поспевая за длинноногим шерпой. У каждого в рюкзаке по-прежнему было больше тридцати фунтов кислородной аппаратуры и других вещей. — Нет, — согласился Пасанг. — Теперь просто люди убивают людей. Я ускорил шаг, чтобы догнать их, но ощущение застрявшей в горле кости вернулось, и время от времени мне приходилось останавливаться, упираться в обтянутые толстыми брюками колени и кашлять до рвоты. Затем я вынужден был бежать еще быстрее, чтобы не отстать. Никто меня не ждал.Пламя осветило всю долину, в том числе склон Чангзе и ледяную стену Северного седла. До третьего лагеря оставалось меньше двух сотен метров, когда перед нами внезапно возникли две темные фигуры, преградив путь. Моя рука дернулась вверх, и я едва не выстрелил в ближайший силуэт. — Нет! — крикнул Дикон и ударил меня по руке. Это были Реджи и Жан-Клод. — Сюда, — прошипел Же-Ка, и мы вслед за ним сошли с утоптанной тропы. Он провел нас на север вдоль цепочки покрытых снегом ледяных пирамид и сераков. Через несколько секунд я понял, что Жан-Клод выбрал это место, чтобы сойти с главной тропы, из-за толстой ледяной корки, на которой наши ботинки не оставляли следов. — Нам нужно немедленно подняться в третий лагерь, — прошептал Дикон; голос его звенел от напряжения и боли. Стрельба стихла несколько минут назад. Дикон в обтянутой перчаткой руке держал 9-миллиметровый «люгер» Бахнера с двумя патронами, а не большой сигнальный пистолет Вери. Же-Ка и Реджи провели нас метров двести на север вдоль линии кальгаспор и сераков, а затем — на восток через ледовый лабиринт, пока мы не добрались до места, откуда был виден третий лагерь. Те из нас, у кого были бинокли, достали их из рюкзаков. — О… Боже… Проклятье, — прошептал Дикон.
Все палатки третьего лагеря были охвачены огнем. Повсюду лежали тела шерпов — в отблесках пламени мы насчитали не менее девяти, — а те ящики и груды припасов, которые не горели, были раскрошены топорами. Никаких фальшивых йети не наблюдалось, но когда туман немного поднимался, я видел кровавые отпечатки ботинок, ведущие к лесу каменных пирамид к югу от лагеря. Опустившись на землю ниже ледяного гребня, мы смотрели друг на друга. — Мы пришли слишком поздно и не успели помочь, — прошептал Жан-Клод. — И это все моя être damné par Dieu вина! — Что случилось? — спросил Дикон. Жан-Клод издал какой-то сдавленный звук, который можно было принять и за всхлип, и за вздох. — Я упал в эту чертову трещину. Moi! Лучший специалист Шамони по льду и ледникам! — Вы включали головные фонари? — спросил я. — Нет, — ответил расстроенный Жан-Клод. — Вы шли в связке? — задал я еще один вопрос. — Нет. — Он с усилием втянул в себя воздух. — Я шел первым, стараясь держаться на ледяном участке, поближе к тропе. Внезапно снег подо мной провалился, и я пролетел футов двадцать пять внутрь ледника, пока мой ледоруб не застрял в сужающейся расселине. Я повис на рукоятке ледоруба. Потом стал с помощью «кошек» выбираться наверх. Леди Бромли-Монфор спустила мне веревку. Она тянула, а я поднимался на узле Прусика. Но на подъем ушло почти пятнадцать минут, и я едва не уронил в пропасть свой рюкзак. Провалился в расселину, как новичок… — Тебе не в чем себя винить, Жан-Клод, — прошептал Дикон. — Сегодня слишком темно, черт возьми, и мы все выбились из сил. Спали не больше часа в пятом лагере в понедельник ночью, и с тех пор на ногах. В воскресенье и понедельник мы поднимались на высоту больше двадцати семи тысяч футов, слишком много ночей подряд провели на большой высоте, воды у нас было столько, что не хватило бы и хомяку, мы за день спустились почти на десять тысяч футов, а сегодня снова поднялись почти на пять тысяч футов. Просто чудо, что все еще держатся на ногах. — Шерпы… там… — Жан-Клод умолк и всхлипнул. — У них не было ни одного шанса, — сказал Дикон. — И это все моя вина. Я отвечаю за восхождение в этой экспедиции, отвечаю за безопасность. Теперь все шерпы, возможно, мертвы, и это моя вина. Я был их командиром. — Мы видим только девять тел, — прошептала Реджи. — В третьем лагере должно было быть четырнадцать шерпов, если все носильщики, которых мы отправили туда из второго лагеря, благополучно добрались до места. Наванг Бура пошел с нами, а потом исчез. Можно надеяться, что он сумел выбраться из долины. — С топориком для разделки мяса против пистолетов-пулеметов «Бергманн-Шмайссер» и полуавтоматических пистолетов «люгер», — с горечью заметил Дикон, потирая заросшую щетиной щеку. — Как убили тех двоих, которым почти удалось убежать из базового лагеря? — спросил Пасанг. — Выстрелами из дальнобойной винтовки, — прошептал Дикон. — Полагаю, из украденных у нас винтовок. — У нас с леди Бромли-Монфор были охотничьи ружья, — сказал Пасанг. — Для охоты мы оба использовали ружья «Манлихер-Шенауэр» со скользящим затвором модели тысяча девятьсот двадцатого года. А вы что с собой привезли, капитан Дикон? Это была модифицированная винтовка «Ли-Энфилд», не так ли? — Да, — подтвердил Дикон. — Оснащенная оптическим прицелом «Перископик призм компани». Прицел смещен на три дюйма влево из-за хода затвора. Прицеливаешься правым глазом, но во время стрельбы можно переключаться на левый. Я стрелял из нее на фронте. Выглядит неуклюже — она и в самом деле неуклюжая, — но никогда меня не подводила. — И тебе разрешили оставить ее у себя после войны? — спросил я. — Это было незаконно, но я ее не сдал, — сказал Дикон. — Оптический прицел я покупал за свои деньги. — Но, Ри-шар… — Жан Клод умолк на несколько секунд. — Ты же был офицером, так? И твое единственное оружие — револьвер «уэбли», который ты сегодня дал Семчумби, да? — И да, и нет, — мрачно ответил Дикон, словно на исповеди открывал какую-то ужасную тайну. — Несмотря на то что я был офицером, я прошел курсы снайперов. И за те недели, что мы сидели в траншеях между атаками, научился очень хорошо стрелять. Я не знал, как относиться к такому откровению. Все, что я слышал после войны, свидетельствовало о том, что обе воюющие стороны ненавидели снайперов. Даже своих. — Снайпер-буддист, — наконец прервала молчание Реджи. — И это значит, что мы должны вернуть себе хотя бы одно из ружей. — Мы пытались, — сказал Жан-Клод. — Реджи предложила, и я согласился, что здесь, среди этих пирамид, нужно устроить засаду на йети — немецких альпинистов-йети, — когда они пойдут назад по тропе через ледник. Хорошая идея. Выстрелить из ракетниц в тех, у кого в руках ружья или эти автоматы «шмайссер», в темноте и суматохе попытаться отнять оружие, а потом отступить в ледяной лабиринт. — Они бы убили вас обоих, — покачал головой Дикон. Жан-Клод пожал плечами. — Нам нужно настоящее оружие, mon ami. Вам удалось достать пистолет мертвого йети? Дикон показал черный «люгер». — Два патрона в магазине и пустой патронник. Полагаю, Бахнер никогда не служил в армии. — Это был Бахнер? — спросил Жан-Клод. — Человек, которого вы видели в Мюнхене вместе с Зиглем? — Кто такой Бахнер? — спросила Реджи. Я начал шепотом объяснять, но Дикон прервал меня: — Вы видели немцев во время этой расправы в третьем лагере? Сколько их было? Есть ли вероятность, что кто-то из четырнадцати шерпов сумел уйти? — Мы видели как минимум восемь немцев в меховых куртках, — сказала Реджи. — Убивая наших людей, они не надели маски йети. А когда подожгли палатки и припасы, то просто побросали маски и меховые куртки в огонь. — Думаю, несколько раненых уползли в лабиринт из ледяных пирамид, — прошептал Жан-Клод. — Отпечатки ботинок на снегу показывают, что немцы пошли за ними по кровавому следу. Чтобы прикончить. — Надеюсь, часть этих кровавых следов принадлежит немцам, — сказал я. — У Семчумби был револьвер Дикона «уэбли». Я забыл… сколько в нем патронов? — Всего шесть, — ответил Дикон. — И это не самовзводный револьвер. Но у него есть автоматический экстрактор гильз, так что опытный стрелок, имея под рукой запас патронов, может делать от двадцати до тридцати выстрелов в минуту. — А Семчумби был опытным стрелком? — спросил Же-Ка. — Нет. — Голос Дикона звучал хрипло. — А у него были еще патроны? — Этот вопрос задал Пасанг. — Нет. — Но я все же надеюсь, что он пристрелил нескольких ублюдков, — сказал я. — Аминь, — прошептал Жан-Клод. Время от времени мы выглядывали из-за гребня, приставив к глазам бинокли, но ужасная картина не менялась, если не считать постепенно гаснущего пламени. Немцы не вернулись. Все тела на снегу были неподвижными. — Мы должны туда спуститься, — сказала Реджи. Голос ее звучал твердо — сомневаюсь, что я смог бы так совладать со своим. — Зачем туда спускаться? — спросил я. — Зачем рисковать? — Нам нужны продукты, керосин, примус или печка «Унна», брикеты твердого топлива, спальные мешки, дополнительная одежда — все полезное, что не уничтожили немцы. — Давайте просто отступим назад по леднику, — предложил я. — Подходить к огню слишком опасно. Немцы могут этого ждать. Ждать нас. — Вероятно, они и ждут, — согласился Дикон. — Но Реджи права. Мы должны забрать все, что можно, из третьего лагеря — Бог свидетель, что в базовом, первом и втором лагерях ничего не осталось, а нам, чтобы выжить, нужны еда, горючее и печка. — Почему ты считаешь, что все это там осталось? — Даже мне самому показалось, что в моем голосе слышно отчаяние и даже паника. — Вспомни, Джейк, — сказал Дикон, — здесь, в третьем лагере, мы устроили склад, накрыв наши запасы брезентом — примерно в пятидесяти футах к западу от лагеря, у подножия Чангзе, где камни становятся острыми. Сегодняшний снег мог совсем скрыть его. Кроме того, склад находился достаточно далеко, и немцы могли его не заметить — в отличие от базового и других лагерей, где у них было преимущество светлого времени суток, третий лагерь они атаковали в темноте. — Может, сначала нужно решить, что делать дальше — в каком направлении мы пойдем и какие у нас планы, — а уж потом спасать то, что можно спасти? — спросил Жан-Клод. — Тут нечего обсуждать, — настаивал я. — Экспедиция окончена. Вопрос лишь о том, куда идти — на запад через Чангзе и перевал Лхо Ла и дальше в Непал или на восток через Северо-Восточный гребень… нет, так не получится… но все равно надо как-то выбираться из долины, а потом через перевалы Лакра Ла и Карпо Ла спускаться в Тибет. Думаю, это должен быть запасной вариант. — Куда идти и что делать — это мы обсудим после того, как пополним запасы, — послышался командный голос капитана Дикона. — Существуют факторы, о которых ты, Джейк, и ты, Жан-Клод, еще не слышали. Первым делом следует добыть печку и топливо, а также все, что сможем найти. Кроме того, нужно посмотреть, нет ли там выживших. — Шерпов или немцев? — спросил я. — И тех, и других, — ответил Дикон. — Я бы отдал свое левое яичко, чтобы взять одного немца в плен. — Я бы тоже отдала за это ваше левое яичко, — мгновенно отреагировала Реджи. Забыв обо всех мерах предосторожности, соблюдавшихся во время перехода из второго лагеря, мы громко рассмеялись. Когда смех стих, Дикон спросил, кто хочет пойти вместе с ним в лагерь. — Я пойду, — вызвался Же-Ка. — Я останусь здесь с леди Бромли-Монфор, — сказал Пасанг. — Я тоже пойду с вами. — Эти слова стали неожиданностью для меня самого.
Глава 8
Еще до того, как найти что-нибудь ценное, мы с Диконом и Же-Ка наткнулись на два тела шерпов. Немцы не стали тратить силы, чтобы изуродовать тела ножами, заостренными граблями или чем-то еще, что они использовали в базовом лагере, имитируя нападение йети. Насколько позволяло рассмотреть гаснущее пламя пожара, все шерпы погибли от пуль. Причем некоторые — не от одной. Многих расстреляли из автоматического оружия с близкого расстояния. Семчумби был один из тех, кто побежал на восток и получил пулю в спину позади теперь уже сгоревших дотла палаток Уимпера. Револьвера Дикона у него не было. Неизвестно, стрелял ли он, прежде чем его убили, или нет. Но револьвер отсутствовал. Мы не стали углубляться в лабиринт кальгаспор, куда направились немцы после очередной резни, а выбрали более трудный маршрут на север, почти к самой ледяной стене, а затем сделали круг вдоль подножия Чангзе и приблизились к третьему лагерю со стороны догорающих палаток. Догадка Дикона оказалась верной: последний, укрытый снегом склад приблизительно в 100 футах к востоку от лагеря немцы не заметили. Мы с ним заползли под брезент и включили головные лампы, чтобы провести инвентаризацию, а Жан-Клод остался на страже снаружи. Нам повезло: шесть еще не использованных рюкзаков и гора брезентовых вещмешков. Кислородных аппаратов здесь не оказалось, но был примус, две печки «Унна» и двенадцать брикетов твердого топлива. Мы погрузили примус и принадлежности к нему в пустой рюкзак, хотя уже на собственном опыте убедились, что на такой высоте примусы ненадежны. Тем не менее стоило таскать с собой дополнительную тяжесть ради еще одного шанса растопить снег и приготовить горячие напитки. В тот момент я по-прежнему не видел ни одной причины подниматься на Северное седло — и массу причин отправляться на север и восток к Лакра Ла, в то место, куда в 21-м году Дикон в конце концов привел Мэллори и показал ледник Восточный Ронгбук как очевидный подход к Северному седлу. Если мы сможем избежать столкновения с этими немецкими убийцами и доберемся до Лакра Ла, то оттуда повернем на восток вдоль ледника Катра (экспедиция 1921 года составила его подробную карту), затем вверх к перевалу Карпо Ла на высоте почти 20 000 футов и вниз в северный Тибет, затем снова повернем на восток, чтобы обойти ненадежный ледник Кангшунг, который поднимается к основанию почти отвесного (с южной стороны) Северо-Восточного гребня. Судя по всему, Карпо Ла был опасным и ненадежным перевалом, с внезапными метелями, жуткими ветрами и сильными летними снегопадами — именно поэтому британские экспедиции не пытались сэкономить время и попасть на север Тибета и к Эвересту этой дорогой, — но теперь он казался мне самым подходящим (и быстрым) путем к отступлению. А мне отчаянно хотелось найти выход. Я не сомневался,что если бы мне удалось придумать что-то стоящее, то я смог бы убедить Реджи и Дикона, несмотря на все «факты», которые были известны им и которыми они с нами еще не поделились. Главным оставался тот факт, что вооруженные люди, убившие всех наших шерпов, теперь охотятся за нами. Другая возможность — менее трудный, но требующий долгого перехода через Тибет маршрут — заключалась в том, чтобы подождать до утра и подняться на плечо ледника Восточный Ронгбук, пока не откроется путь к Лакра Ла, пройти перевал, затем несколько миль траверсом по гигантской стене Гималаев, затем через исхоженный перевал Серпо Ла и вниз в зеленую долину реки Тисти, а из нее спуститься к Гантоку и оттуда прямо к Дарджилингу. Переход будет очень трудным — я не знал, совершал ли его кто-нибудь до нас, — но, во всяком случае, это безопаснее, чем иметь дело с безумными немецкими убийцами с автоматическим оружием. Имелся еще один необычный вариант. Ближе всего был перевал Лхо Ла на западе — сразу за горой Чангзе, которая граничила с ледником Восточный Ронгбук, — но этот путь включал длинный траверс вдоль Чангзе, спуск неизвестной сложности, затем крутой подъем на Лхо Ла — и с большой вероятностью всем пятерым не один год гнить в непальской тюрьме за незаконное проникновение в страну. Непальцы никогда не дают разрешение иностранцам — единственное исключение, насколько мне было известно, составлял мистер К. Т. Овингс. Но Дикон был его другом, и возможно, Овингс поможет нам… В общем, я склонялся к тому, чтобы рискнуть и пойти к высокогорному перевалу Карпо Ла или двинуться на восток к относительно надежному Серпо Ла — оба восточнее выжженной земли, в которую превратился базовый лагерь. Я усердно принялся разбирать склад и заполнил все найденные здесь пустые рюкзаки. К тому времени, как мы пустились в обратный путь к Пасангу и Реджи — снова кружным путем, сначала на запад, потом на север, — палатки уже догорели. Не преодолев и полпути, Дикон сказал: — Оставьте груз тут. В этом не было никакого смысла. Мы находились у той части ледяной стены, где раньше закрепили веревочные перила и — высоко, очень высоко — лестницу. Но ни за что на свете я не согласился бы подниматься на жумарах по веревкам или карабкаться по лестницам, даже если бы за нами гнались немцы. Это был тупик. Подняться на Северное седло равносильно неминуемой смерти. Оттуда не убежишь, поскольку южная сторона седла представляет собой отвесную стену высотой несколько тысяч футов, спускающуюся в глубокую долину позади Чангзе. А поднимаясь еще выше на Эверест или Чангзе — еще не покоренную вершину, хотя ее высота составляла «всего» 24 878 футов (ниже нашего пятого лагеря), — мы лишь откладывали неизбежное. Я начал было протестовать, но Дикон меня остановил: — Доверься мне, Джейк. Оставь все здесь. Доверься мне. Пожалуйста. «Все тридцать наших шерпов доверились вам, капитан Дикон, и все они мертвы», — едва не ответил я, но промолчал. Потому что очень устал. И мое молчание сохранило нашу дружбу. Думаю, это была дружба — к такому выводу я пришел, размышляя об этом в течение последующих шестидесяти пяти лет. И Дикон — капитан Ричард Дэвис Дикон, человек, который тысячи раз отдавал приказы подчиненным за четыре года самой жестокой войны, которую только знало человечество, — только что произнес слово «пожалуйста». Я отбросил все свои аргументы, молча сбросил груз на снег, и мы побрели дальше, по широкой дуге приближаясь к ждавшим нас Реджи и Пасангу.В нашем «укрепленном лагере», как мы его назвали, мы сели кружком на рюкзаки, чтобы не отморозить себе зад, и пытались выработать план действий. Дикон приказал нам в течение трех минут дышать «английским воздухом», включив подачу на 2,2 литра в минуту — он засек время по часам, — но речь у нас все равно была замедленной, словно у пьяных, и соображали мы с трудом. Все вымотались до полного изнеможения. Даже попытка мысленно составить из слов предложения напомнила мне документальный фильм о летчиках Королевских ВВС Великобритании, которые решали математические задачи в барокамере с пониженным давлением, как в самолете на большой высоте — именно на такой высоте мы находились уже больше семидесяти двух часов. Каждый пилот не только не смог решать задачи, но упал ничком на свою парту. Но за ними наблюдали ученые и врачи, готовые повысить до нормы давление в герметичной барокамере, как только испытуемые потеряют сознание. За пределами же нашей «герметичной барокамеры» был лишь космос или отряд вооруженных до зубов безумных фрицев. Голова у меня опустилась на грудь, и я начал тихонько посапывать, но Дикон осторожно меня растолкал. Говорил Жан-Клод: — Джейк был прав, друзья мои. Если отвлечься от того, что мы с ним чего-то не знаем, единственный разумный образ действий — с первыми лучами солнца выбираться из этой проклятой долины и идти к ближайшему перевалу в Тибет или Непал. А поскольку свою свободу я ценю не меньше, чем жизнь, то предлагаю Карпо Ла или Серпо Ла и Тибет. В Непале не слишком хорошо относятся к непрошеным гостям. — Вы с Джейком действительно кое-чего не знаете, mon ami, — сказала Реджи. — Дикон тоже может не знать подробностей, но я думаю, он догадался… нет, скорее знает. Мне трудно об этом рассказывать. Пасанг в курсе, но лишь в общих чертах. — О чем это вы, черт возьми? — с трудом выговорил я. — Мы должны сегодня же подняться на Северное седло, — сказал Дикон. — Это невозможно. — Речь моя была замедленной. — Я так устал, что смогу забраться разве что в спальный мешок. На складе третьего лагеря обнаружились спальники на пуху. Они были привязаны к рюкзакам, которые мы зачем-то оставили в четверти мили отсюда, в глубоком снегу у подножия Северного седла. — Я тоже считаю, что мы должны сегодня подняться на Северное седло, мистер Перри, — сказал Пасанг. — Позвольте леди Бромли-Монфор и капитану Дикону вам все объяснить. Реджи повернула усталое лицо к бывшему пехотному капитану. — Хотите объяснить, Ричард? — Не уверен, что мне известно все. — Голос у него был таким же усталым, как у меня. — То есть я знаю, кто, когда и почему, но я не уверен насчет «что». — Но вы признали, что знакомы с нашим общим другом… и возможно, работаете на него… того, кто выписывает много чеков, но предпочитает золото, — сказала Реджи. Дикон устало кивнул. — Да, я знаю, чем он занимается. Но работал я на него… с ним… только время от времени. — Может, вы двое соблаговолите говорить на нормальном языке? — Боюсь, мои слова прозвучали резче, чем я рассчитывал. Реджи кивнула. — У моего кузена Персиваля, как вы, наверное, знаете, была репутация повесы, паршивой овцы в семье, а во время войны — позора для своей страны: он не был в армии, не сражался на фронте, всю войну прожил в Швейцарии и других безопасных местах, в том числе, как со стыдом признавалась его мать, в мирных районах Австрии. Казалось, кузен Перси находится лишь в одном шаге от прямого предательства интересов Великобритании. И в довершение всего в Англии и на континенте Персиваля считали развратником. С отклонениями. Гомосексуалистом, как теперь говорят. Возразить нам было нечего, и все промолчали. — Но это была маска, — продолжала Реджи. — Видимость. Искусственная завеса. Сознательная. Я посмотрел на Дикона, ища объяснение этим словам — наверное, у Реджи сильный приступ высотной болезни, с галлюцинациями, — но взгляд его серых глаз не отрывался от ее лица. — До войны, во время войны и после войны мой кузен Персиваль был агентом разведки, — сказала Реджи. — Сначала секретная служба Его Величества, затем разведка ВМФ, а в последнее время… тайная сеть агентов, работавшая на одного из высокопоставленных членов правительства. — Перси был долбаным шпионом? — Я слишком устал, чтобы следить за своей речью. — Да, — подтвердила Реджи. — А юный Курт Майер — никакой он не альпинист — был самым глубоко внедренным и самым ценным из его австрийских источников. Восемь месяцев назад, до того, они встретились в тибетской деревне Тингри, к северо-востоку отсюда, Майер был вынужден бежать из Австрии. Он бежал на восток, затем еще дальше на восток и в конечном итоге прибыл в Китай, а оттуда направился на юг, в Тибет. — Очень долгий путь для беглеца, — заметил Жан-Клод. — За ним гналась банда этих немецких чудовищ, — сказала Реджи. — Сегодня вы видели, на что они способны. — Что такого было у Майера — видимо, он передал это Перси в Тингри — и почему немцы так хотели это получить? — спросил Дикон. — Именно эта часть головоломки мне неизвестна. — Мне тоже, — призналась Реджи. — Я знаю только, что от этого может зависеть будущее наших стран — не только Великобритании, Жан-Клод, но и Франции. — Похоже, это оставляет за бортом меня и Соединенные Штаты, — услышал я свой голос, почти сердитый. Реджи повернулась ко мне. — Совершенно верно, Джейк. В том смысле, что вы тут ни при чем. Мне было жаль впутывать вас, но я не знала, как помешать вам присоединиться к вашим английскому и французскому друзьям. Каковы бы ни были наши планы — то есть тех, кто пойдет со мной, — я считаю, что вы должны обогнуть долину ледника с юго-востока и идти к Серпо Ла и дальше в Индию. Этот более безопасный и прямой путь, чем два других перевала. Вы пойдете налегке, и если повезет, то через три недели будете уже в Дарджилинге. Я открыл рот, но слова не приходили. — Немцы не будут вас преследовать, Джейк, — продолжала Реджи. — Вы их не интересуете. И никогда не интересовали. Они второй год подряд приходят сюда потому, что не смогли забрать то, что было у Курта Майера и что он передал моему кузену Перси, и они боятся, что существует один шанс из ста, что мы впятером можем это найти. Или им самим удастся разыскать это где-нибудь на склоне горы. — Они убили тридцать шерпов, тридцать человек, — я заморгал, чтобы скрыть слезы ярости и отчаяния, — чтобы заполучить… что?.. чертежи какого-нибудь проклятого дредноута, скорострельного авиационного пулемета или другой долбаной ерунды, черт бы ее побрал? Реджи покачала головой. — Эти немцы, не знаю, сколько их там… но уверена, что в прошлом году их было семеро, под руководством Бруно Зигля… действительно видели или сами устроили падение Персиваля и Майера где-то на этой горе. Но по какой-то причине Зигль и его спутники не смогли забрать ту вещь, которую Майер пытался передать в руки англичан. В руки моего кузена, британского агента. Не забывайте, что эти немцы не представляют Веймарскую республику, не представляют Германию. Пока. Но когда-нибудь все эти чудовища, последователи монстра по фамилии Гитлер… В общем, то, что Майер пытался передать Перси, каким-то образом может им повредить. Повредить ему, их вождю. Это единственное, что меня волнует. Я слишком устал, чтобы следить за ее логикой. — Мне понятно одно, — сказал я. — Если мы поднимемся на Северное седло, то попадем в западню. Как крысы. Даже если немцев всего четверо, у них есть пистолеты — в отличие от нас. У них есть ружья. Какая эффективная дальность стрельбы у твоей винтовки «Ли-Энфилд» с оптическим прицелом, Ричард? — Эффективная дальность стрельбы чуть больше пятисот ярдов, — ответил Дикон. — Максимальная дальность около трех тысяч футов. — Почти миля, — уточнил я. — Да, — кивнул Дикон. — Но на максимальной дистанции точность никуда не годится. Я проигнорировал это дополнение. — Вполне достаточно, чтобы снять нас с Северного седла или нижней части Северного гребня, причем стрелку необязательно даже подниматься на седло. Дикон пожал плечами. — Возможно. Все зависит от ветра и погоды. — Да, но этот чертов ветер и погода до сих пор нам не очень-то помогали, — выкрикнул я. Никто мне не ответил. Наконец Жан-Клод повернулся к Реджи и нарушил молчание: — Я согласен с Джейком, что было бы глупо жертвовать жизнью ради чертежей пулемета или дредноута, которые другие шпионы все равно когда-нибудь выкрадут. Кроме того, в настоящее время мы не воюем с Германией. Я уже потерял трех братьев, двух дядей и пять двоюродных братьев на войне с бошами, Реджи. Вы должны убедить меня, что та вещь, которую герр Майер выкрал у немцев или австрийцев, во-первых, уникальна и незаменима, а во-вторых, действительно является тем, от чего может зависеть выживание моей и вашей страны. Реджи тяжело вздохнула. Впервые за все время я видел, что она готова расплакаться. — Во втором я не могу быть уверена, Жан-Клод. Но гарантирую, что та вещь, на передачу которой кузену Перси Майер потратил почти год, действительно уникальна. Перси сам заверил меня в этом, перед тем как в прошлом году отправиться сюда, навстречу своей смерти. Это не было чем-то банальным вроде чертежей нового пулемета или бомбы. — Значит, в прошлом году Перси признался вам, что он шпион. — Я сам не знал, вопрос это или утверждение. Реджи слабо улыбнулась. — Я знала об этом много лет, Джейк. Перси меня любил. Я уже говорила, что мы были как родные брат с сестрой, а не кузены. В детстве мы играли вместе, а когда выросли, вместе покоряли вершины в Альпах и в предгорьях Гималаев. Он просто был обязан признаться мне, что не предавал Англию и… что он не развратник и не извращенец, если уж на то пошло. — Но вы даже не знаете, — не унимался я, — что Майер вез с собой через всю Восточную Европу, Ближний Восток, Китай… до самого Тибета? Нечто такое важное, что ваш кузен был готов ради этого пожертвовать жизнью, но вы даже не догадываетесь, что это могло быть? — Нет, разве что эта вещь очень небольшая. Это все, что мне рассказал Перси. Он должен был вернуться в Дарджилинг к началу июля… с этой штукой, что бы это ни было. Сэр Джон Генри Керр, нынешний губернатор Бенгалии, и сэр Генри Роулисон, глава британской разведки в Индии, получили инструкции из Лондона — по крайней мере, что Персиваль пытался получить нечто важное, — и оба до сих пор ждут от меня известий. — Не понимаю, — растерянно пробормотал я. — Зачем для передачи выбирать склоны Эвереста? Это безумие. Когда вы поднялись сюда, обратного пути уже нет… я имею в виду, если вас поджидают. Реджи пристально посмотрела на меня. — Перси и Майер не выбирали Эверест, Джейк. Они встретились в Тингри-дзонге. Но Бруно Зигль и его головорезы гнались за Майером по пятам. В конечном счете Перси пришлось подняться по лестнице, которую оставила экспедиция Мэллори — сначала на Северное седло, а потом, по словам Ками Чиринга, гораздо выше — возможно, даже на Северо-Восточный гребень. Должно быть, он надеялся, что немцы не смогут вскарабкаться так высоко, не смогут последовать за ними вверх по склонам; возможно, Перси думал, что обильные запасы продуктов, которые оставила экспедиция Нортона и Мэллори, позволят продержаться, пока немцы не уйдут, или что они сумеют ускользнуть среди надвигающихся муссонов. Перси ошибся. Зигль, наверное, привел с собой лучших немецких альпинистов… политических фанатиков. И теперь они вернулись. Долгое молчание нарушалось только завыванием слабеющего ветра за окружавшими нас ледяными стенами. Наконец Дикон повернулся к Реджи. — Но вы готовы рисковать — и даже пожертвовать — жизнью, чтобы забрать то, из-за чего погиб Перси. — Да. — Я поднимусь сегодня с вами по перилам на Северное седло, — бесстрастно сказал Дикон. — Мы будем карабкаться наверх, пока не найдем Перси или пока… — Он умолк, но мы все поняли, что значит это второе «пока». — Я тоже иду, — сказал Жан-Клод. — Ненавижу проклятых бошей. И мне очень хочется с ними поквитаться. Я не успел ничего сказать. — Серьезно, Джейк, вы должны уйти к перевалу Серпо Ла, а затем прямиком в Дарджилинг. Вы американец, и вы нейтральная сторона в этом деле, — сказала Реджи. — Черта с два нейтральная! — воскликнул я. — «Мы пришли, Лафайетт».[57] Сражение при Белло Вуд. Битва при Кантиньи. Вторая битва на Марне. Сражение при Шато-Тьерри. Маас-Аргонн… — От усталости у меня из головы вылетели сражения, в которых принимали участие американские войска. — «Вместе с Тайлером Типпекану выбрал судьбу одну»,[58] — невпопад прибавил я. Но моему затуманенному мозгу это казалось уместным. — Я с вами, ребята. И пусть кто-нибудь попробует меня остановить. Никто не произнес ни слова, никто не похлопал меня по плечу. Наверное, все слишком устали. — И последнее, — сказал Жан-Клод. — Вы все считаете, что у нас хватит сил, чтобы подняться по тысячефутовому снежному склону и вскарабкаться по лестнице на Северное седло, а затем пересечь седло и дойти до пятого лагеря? Сегодня? — Скоро узнаем, — ответил Жан-Клод. Где-то внизу, позади нас, среди леса сераков и кальгаспор в «корыте», а также 60-футовых ледяных пирамид, покрытых снегом, раздались три пистолетных выстрела. Затем тишина.
Глава 9
Несколько лет назад, зимой 1991–1992 годов, когда я писал эти мемуары в той помеси гостиницы для стариков и дома престарелых, где я жил тут, в Колорадо, управляющий — Мэри Пфальцграф, чудесная женщина, — попросила меня выступить вместо приглашенного лектора, который приезжал к нам по средам, и немного рассказать об альпинизме. Я согласился и произнес перед полудюжиной обитателей дома небольшую речь (семь минут по моим часам) — в основном о ночных восхождениях в Андах и в Антарктике, а также о том, как прекрасно звездное небо в обоих этих местах (в последнем сияло и переливалось всеми красками северное сияние). Крошечная аудитория моих сверстников задала всего два вопроса. Говард «Герб» Герберт, мой самый упорный противник в домино, спросил: «Где вы лишились двух пальцев на левой руке, Джейк?» (Я подозревал, что он давно хотел задать этот вопрос, но вежливость не позволяла.) «На Аляске», — честно ответил я. (Но не стал вдаваться в детали девятидневного сидения в снежной пещере на высоте 16 000 футов; эти девять дней стоили жизни двум моим товарищам.) Затем миссис Хейвуд, боюсь, с далеко зашедшим Альцгеймером, поинтересовалась: «А вы можете подниматься на горы во сне? Я имею в виду, спящим?» — Да, — без колебаний ответил я. У меня не было в этом сомнений, поскольку я до сего дня не помню первые сорок пять минут нашего подъема на Северное седло в те предрассветные часы в среду 20 мая 1925 года. Я карабкался вверх во сне. Проснулся я на ледяной стене, ведущей к Северному седлу, когда моя голова и плечи внезапно оказались над плотным покрывалом густого облака. Ощущение, что я вынырнул из моря на воздух, мгновенно прогнало сон. Господи, как красиво! Было очень поздно, и поэтому я не сомневался, что огрызок убывающей луны уже взошел над горизонтом, но прятался где-то за громадами Северного и Северо-Восточного хребтов Эвереста. Вершина нашей любимой и ненавидимой горы и его вездесущий облачный султан были освещены ярким светом звезд. Даже когда я учился в Гарварде и уезжал на запад в горы за сотни миль от города, то никогда не видел таких ярких звезд. И так много сразу. Они никогда так не сверкали даже среди Альп, во время ночевки на вершине, которую от огней городов или фермерских фонарей заслоняли бесчисленные горные пики. Небо над Гималаями было ни с чем не сравнимо. Млечный Путь выгнулся над залитой светом звезд заснеженной вершиной Эвереста, словно проложенное через ночное небо шоссе. У горизонта звезд не становилось меньше, и они не тускнели — просто тысячи звезд внезапно сменялись сотнями сверкающих снежных полей, ледников и вершин. Ветер стих. Впервые за много дней воздух — по крайней мере, здесь, на высоте около 23 000 футов, — был неподвижен. Соседние и далекие вершины — Чангзе, Чо-Ойю, Макалу, Лхоцзе, Ама Даблам, Лхо Ла и другие, которые усталость не позволяла мне распознать, — казались такими близкими, что можно протянуть руку и сорвать их, словно белые цветы рудбекии. Когда мы сошли с раскачивающейся веревочной лестницы и ступили на узкий ледовый карниз Северного седла, я понял, что Дикона с нами нет. Неужели он сорвался, пока я карабкался наверх во сне? Или его подстрелили? — Он остался внизу, чтобы привязать груз, — объяснил Же-Ка. — Привязать груз к чему? — не понял я. — К кольцевой веревке на блоках, которые установлены на «велосипеде», — сказал Жан-Клод. — Помнишь? С ее помощью мы собираемся поднять ту дюжину с лишним тяжелых мешков, которые притащили из третьего лагеря сюда, к Северному седлу. Заставив себя проснуться, я вспомнил. Когда Дикон сказал, что останется внизу и будет привязывать грузы, пока их всех не поднимут, я подумал, что он сошел с ума — фрицы могли услышать звук трущейся о блоки веревки, осветить его лучом мощного прожектора или электрического фонаря из третьего лагеря, и без особого труда пристрелить из имеющихся у них ружей, — но ничего не сказал тогда, у подножия 1000-футовой стены, ведущей к Северному седлу. Все мои силы уходили на то, чтобы вспомнить, как закрепить жумар на веревке, как ослабить кулачок, чтобы переместить придуманное Жан-Клодом устройство вверх, и как последние 100 футов поднимать слишком тяжелый рюкзак по веревочной лестнице, не опрокинувшись назад, в клубящийся ледяной туман. «Кошки» у нас на ногах откалывали кусочки льда, которые сверкали в ярком свете звезд. Мы с Же-Ка, Реджи и Пасангом быстрым шагом шли по склизкому карнизу к тому месту, где Жан-Клод установил свое похожее на велосипед устройство.Это было похоже на сон. Из-за большого веса груза, который Дикон привязывал к веревке в клубящемся облаке внизу, мы по очереди крутили педали подъемника-велосипеда. Это отнимало много сил. Двое, не крутившие педали, подавали сигнал остановиться тому, кто сидел в седле, наклоняясь над отвесным обрывом, или ледорубами подцепляли груз и вытаскивали на ледовый карниз, а третий отвязывал неудобный тюк от кольцевой веревки и переносил или перетаскивал к дальнему краю карниза. Мы трудились, выбиваясь из сил, почти тридцать минут, а затем Дикон четыре раза резко дернул за обе веревки — условленный сигнал, что весь груз поднят, Ричард перерезает веревку и поднимается сам. Мы втянули веревку наверх, привязали к одному из рюкзаков, убедились, что рюкзаки находятся в безопасности в том месте, где мы должны перебраться с ледового карниза на Северное седло, а затем вернулись к веревочной лестнице и стали ждать.
После бесконечного ожидания — лестница и закрепленные веревки дергались и извивались под нашими ладонями, как леска с большой рыбой на крючке, но мы не знали, кто поднимается по склону в полной тишине, окутанный густым туманным облаком, наш товарищ или десяток немцев, — из тумана появился Дикон, преодолел в прозрачном воздухе последние 30 футов до карниза, перебросил через край огромную бухту веревки, которую тащил с собой, и с трудом перевалился сам, прямо в наши подставленные, готовые подхватить руки. — Поднять лестницу? — спросила Реджи. Сил говорить у Дикона не было, и он просто покачал головой. Через несколько секунд, когда мы дали ему подышать «английским воздухом», он сказал: — Оставьте ее на месте. Я принес из третьего лагеря и положил в один из рюкзаков большой топор и два тесака. Когда утром немцы начнут подниматься по лестнице, мы подождем… подождем… подождем, пока они не заберутся достаточно высоко, а потом перерубим веревки. Вот почему он захватил с собой закрепленную веревку, которая служила перилами на всем вертикальном участке, и особенно вдоль лестницы. Без нее не за что будет ухватиться, если лестница вдруг уйдет из-под ног. — На ночь нужно поставить часового, — сказал Жан-Клод. — Боши могут начать подъем в любое время. Или обманут нас, вырубая ступени на каменной стене. — Нет, — сказал Дикон. Он помолчал еще минуту, чтобы выровнять дыхание. — Не думаю, что они придут ночью. В последние два дня внизу было облачно, и я даже не уверен, что они видели лестницу и закрепленные веревки. — Немцы найдут их по нашим следам, — сказал Пасанг. Дикон устало кивнул. — Совершенно верно. Но, думаю, при дневном свете. И Зигль обязательно пошлет кого-нибудь проверить веревочную лестницу. — Значит, вы уверены, что там, внизу, Бруно Зигль? — спросила Реджи. Дикон пожал плечами. — Зигль, или кто-то вроде Зигля. Это не имеет особого значения. Они альпинисты и фанатики из немецких крайне правых, и я могу лишь надеяться, что их фанатизм возьмет верх над здравым смыслом альпиниста. Но сегодня никаких часовых. Нам нужно перенести как можно больше груза через Северное седло в пятый лагерь, постараться согреться и поспать, сколько получится. Это осознанный риск — и нам придется дорого заплатить, если немцы поднимутся на эту ледяную скалу в темноте, — но нам всем требуется отдых. — Но если Зигль и его убийцы поднимутся по веревочной лестнице сегодня ночью… — начал я, но затем обрадовался, когда Дикон не дал мне закончить. Мне очень не понравилось, как дрожал мой голос. Ричард положил мне руку на плечо. — Все уже очень устали, Джейк. Три дня и три ночи почти без сна на такой высоте. А утром придется возобновить подъем, независимо от погоды. Мы теперь поспим, а немцами займемся утром, когда они попытаются забраться сюда, на Северное седло. Какое-то время все молчали, потом по очереди кивнули. — Реджи, доктор Пасанг, — сказал Дикон. — Будьте добры, отнесите один или два тяжелых тюка через седло к пятому лагерю и приготовьте спальные мешки. Если понадобится, в каждом рюкзаке есть дополнительные спальники. Печка «Унна» в том рюкзаке, на котором я мелом написал цифру «1»… Нужно распаковать ее и установить в тамбуре палатки, даже если пользоваться ею мы будем только утром. Пасанг, пожалуйста, сверните и отнесите в лагерь эти несколько футов веревки от подъемника и перил лестницы. Просто оставьте ее рядом с одной из палаток в четвертом лагере, вместе с остальным грузом, который принесете… Джейк, Жан-Клод, идемте со мной к этому замечательному велосипеду-лебедке. Мы перережем все растяжки, вытащим ледобуры и колья, а потом притащим нашего металлического монстра на этот край карниза. — Зачем, Ри-шар? Мы уже перерезали и свернули длинную веревку от лебедки. Зачем тащить «велосипед» сюда? — Затем, что у нас под рукой нет кипящего масла, — ответил Дикон.
Глава 10
Спали мы сравнительно хорошо, несмотря на то, что у всех болела голова, а я жутко кашлял. Думаю, никому из нас не снились немцы, расстреливающие нашу палатку из «шмайссеров». Должны были сниться, но вряд ли снились. Мы просто чертовски устали. Просыпаясь холодной ночью, я поворачивал регулятор, с наслаждением вдыхал немного кислорода, от которого согревались руки и ноги, и снова проваливался в сон. Остальные делали то же самое, за исключением Пасанга, который, как мне кажется, проспал всю ночь без «английского воздуха». Когда я окончательно проснулся, подаренные отцом часы показывали почти семь. Пасанг и Реджи грели на печке кофе и какую-то еду рядом с тамбуром палатки. Солнечный день. Холодный, но неподвижный воздух. Неправдоподобно голубое небо. — Где Же-Ка и Дикон? — с тревогой спросил я. — Около половины пятого они пошли к лестнице, — ответила Реджи. — Еще до того, как начало светлеть. — Я проверю, как они там, потом вернусь за кофе и завтраком. — Я начал пристегивать «кошки», задыхаясь от кашля. — Да, Дикон попросил передать, чтобы вы надели пуховик Финча поверх остальной одежды, — сказала Реджи. — Если вам нужен анорак, наденьте его под куртку на гусином пуху. Да, и подбитые пухом брюки, которые я вам сшила, тоже нужно надеть поверх. И не снимать капюшон. Я заметил, что впервые за все время Реджи и доктор Пасанг были одеты точно так же, с опущенными и завязанными капюшонами. — Зачем? — Дикон говорит, что мы находимся в пределах дальности стрельбы трех винтовок, — ответил Пасанг. — Особенно его «Ли-Энфилда» с оптическим прицелом. Цвет ткани у курток Финча грязно-белый, и их труднее заметить на фоне снегов Северного седла и нижней части Северного гребня, чем серые анораки. — Ладно. Теперь мы все одеты в зимний камуфляж, подумал я. Интересно, какие еще неожиданности принесет это утро? — Вот, — сказала Реджи. — Два термоса относительно горячего кофе. Можете поделиться ими с Же-Ка и Ричардом. Сунув термосы в большие карманы куртки, с длинным ледорубом в одной руке и маленькой ракетницей Вери в другой, я поспешил через Северное седло к ледовому карнизу, помня о том, что нужно пригибаться. Я чувствовал себя глупо, но от перспективы стать мишенью для снайпера мне было как-то не по себе. Же-Ка с Диконом были не на карнизе, а лежали на животе у гряды снега и льда на самом Северном седле футах в 40 от лестницы. Я упал на землю рядом с ними и протянул термосы. — Очень кстати. Спасибо, Джейк, — сказал Дикон, взял термос, поставил его на снег, а затем его рука вернулась к большому биноклю. Я забыл захватить с собой бинокль, когда выходил из четвертого лагеря, и Же-Ка отдал мне свой. — Они работают с самого рассвета, — сказал Жан-Клод. — Хоронят мертвых, разбрасывают и закапывают оставшиеся от палаток угли. — Хоронят… — Я посмотрел в бинокль. Среди остатков третьего лагеря восемь человек в белых парках, с закрытыми белыми шарфами или носовыми платками лицами действительно тащили куда-то последние тела убитых шерпов. Другие собирали пепел и другой мусор, оставшийся после вчерашнего разгрома лагеря, на большие полотна брезента. — Я бы отдал тысячу фунтов, чтобы вернуть свою «Ли-Энфилд» с оптическим прицелом, — прошептал Дикон. — Зачем они… — Немцы опасаются, что в этом или следующем году будет еще одна британская экспедиция на Эверест. — Дикон наконец отложил бинокль и стал откручивать крышку своего термоса. Жан-Клод уже пил горячий кофе и протянул мне кружку. — Им нужно уничтожить следы преступления, — продолжал Дикон. — Немцы очень хорошо умеют избавляться от улик. — Где они их хоронят? — прошептал я, пытаясь вспомнить имена всех шерпов. — Вероятно, в глубокой расселине на краю морены с западной стороны, позади ледяных пирамид, — предположил Дикон. — Вкусный кофе. — Значит, когда они избавятся от тел и разбросают… улики, — сказал я, — то придут за нами? — Почти наверняка, — ответил Дикон. Запрокинув голову, я посмотрел на голубое небо и чистый, прозрачный воздух. Северная стена Эвереста нависала над нами, словно исполинская ступенька лестницы. — Мы лишились преимущества, которое давали ветер и облака, — невольно вырвалось у меня. — Совершенно верно, — подтвердил Дикон. — Но сегодня превосходный день для попытки покорить вершину. Я не понял, шутит он или нет. Однако мне было не до шуток. — У них два охотничьих ружья из базового лагеря плюс твоя модифицированная винтовка «Ли-Энфилд» с эффективной дальностью стрельбы пятьсот пятьдесят ярдов и максимальной дальностью больше тысячи ярдов. — Да. — А Северное седло находится всего лишь в тысяче футов выше их. — Я начинал раздражаться. — Мы тут в пределах максимальной дальности стрельбы. И на нижней части Северного гребня, если мы попытаемся на него подняться. Дикон кивнул. — Но у них неудобный угол стрельбы, Джейк. Подозреваю, что немец с моей снайперской винтовкой в данный момент находится на леднике ниже третьего лагеря — то есть в верхней точке ледника — и пытается занять самую удобную позицию для стрельбы. Однако Северное седло тут достаточно высокое, и они нас не могут видеть. Особенно если мы будем держаться подальше от этого края. Они не могут приблизиться на расстояние выстрела. Думаю, Джейк, они не станут стрелять, пока мы не высунем головы из-за этой снежной кромки. — А что мы теперь делаем? — Наверное, мой голос был чересчур взволнованным. — Именно это — высовываем головы, словно мишени в тире! Разве они не увидят, как отражается солнце в стеклах биноклей? — Не скоро, Джейк. — Дикон указал на восток. — Солнце теперь позади Северо-Восточного гребня и вершины, за нашими спинами и справа. Вечером мы должны дважды подумать, где и когда пользоваться биноклями. Что касается наших голов… ты, наверное, заметил эти маленькие туннели, что мы с Жан-Клодом прорыли сквозь снег и лед. Они ограничивают обзор, но позволяют оставаться в тени и практически невидимыми — если не смотреть прямо на нас. — Похоже, вы не особенно уверены, — буркнул я. — Нет, — ответил Же-Ка. — Но я думаю, Дикон прав, и вероятность стать мишенью для их винтовок у нас невелика — по крайней мере, пока мы не начнем подниматься по снежному полю на Северный гребень к пятому лагерю. — А почему бы не сделать это ночью, если обнаруживать себя днем так опасно? — спросил я Дикона. — Потому что, — тихо ответил он, — мы хотим убить несколько немцев, прежде чем покинем Северное седло. Я с трудом сдержал смех. — Ха! Два патрона в твоем трофейном «люгере» против восьми или десяти немцев? Или мы будем стрелять в них из ракетниц, когда они поднимутся по лестнице, которую мы любезно им оставили? — Не совсем, — сказал Дикон. — И как же мы умудримся убить немцев? Будем сбрасывать на них камни? — А вот это уже ближе к истине, — кивнул Ричард. Я лишь удивленно таращился на него. Внезапно мне в голову пришла мысль, от которой желудок болезненно сжался. — Вы тут наблюдаете через свои маленькие туннели из снега и льда, но откуда вы знаете, что фрицы не вырубают ступени на стене Северного седла в нескольких сотнях ярдов отсюда? — Картина в моем мозгу была удивительно яркой, почти реальной. — Мы бы услышали, как они вырубают ступени, — сказал Жан-Клод. — Кроме того, немцы были очень заняты уничтожением следов своих преступлений. Перетаскивать и сбрасывать тела — тяжелая работа на высоте больше двадцати тысяч футов над уровнем моря, даже если неподалеку имеется удобная расселина. И еще им нужно избавиться от улик в базовом лагере, не говоря уже о разоренных втором и третьем лагерях. Мы с Ри-шаром считаем, что заметать следы они будут как минимум до полудня. — Но снайпер по-прежнему наблюдает и ждет, пока мы себя обнаружим, — сказал я. — Да, — подтвердил Дикон. Я посмотрел ему прямо в глаза. — А что бы ты делал на месте снайпера? Где бы ты теперь сидел? Ричард достал из кармана трубку и сунул между своих белых зубов, но раскуривать не стал. Я ни разу не видел, чтобы он курил трубку на большой высоте. — Ночью поднялся бы по склону Чангзе, — спокойно начал объяснять он. — Нашел бы удобную позицию для стрельбы ближе к вершине, на высоте около двадцати четырех тысяч футов. И с первыми лучами солнца все мы тут, на Северном седле, были бы как на ладони, в пределах дальности эффективной стрельбы. В магазине моей винтовки «Ли-Энфилд» десять патронов. Я бы снял всех вас, даже не меняя магазина. Мне показалось, что меня сейчас стошнит. Вскинув голову, я принялся разглядывать высокий заснеженный склон Чангзе, нависающий над нами с западной стороны. — А откуда ты знаешь, что этот ублюдок не сидит там теперь и не целится в нас? — спросил я. — Потому что мы тут с половины пятого утра следим, не поднимается ли по склону Чангзе какой-нибудь огонек, — ответил Жан-Клод. — И ничего не видели. Даже немецкие супермены герра Гитлера не способны подняться по этому опасному склону в темноте. — Но после восхода солнца… — Мы наблюдали, — сказал Же-Ка. — Ничего. Мы видели одного боша — высокий человек нес ружье Ри-шара с оптическим прицелом, — который направился к тропе на ледник и исчез среди кальгаспор. Остальные убирали тела наших друзей, которых они убили, а также раскидывали и закапывали угли и остатки наших палаток и ящиков. Я покачал головой. В армии я не служил и поэтому не разбирался в тактике, не говоря уже о стратегии. Но мне никогда в жизни еще не было так страшно, даже во время самых опасных передвижений по скалам или льду. Словно прочитав мои мысли — или выражение лица, — Дикон снова положил мне руку на плечо. — У нас есть план, Джейк. Поверь мне. Не забывай, что это немцы. Они очень высокомерны. В течение сегодняшнего дня они пойдут за нами — прямо по лестнице, которую мы им оставили, чувствуя себя в безопасности, поскольку уверены, что у нас нет настоящего оружия, чтобы им угрожать, — и тогда мы убьем столько, сколько сможем. И только потом начнем тактическое отступление в горы. На этот раз я рассмеялся. Громко и от всей души. Наверное, меня было слышно даже в третьем лагере, где люди в белых анораках тащили прочь тела наших друзей. Но это не было истерикой. — Что? — спросил Жан-Клод. Я заставил себя умолкнуть, но по-прежнему улыбался. — Только мой друг Ричард Дикон, граф Уотерсбери, хочет он того или нет, может называть восхождение на вершину Эвереста «тактическим отступлением».Глава 11
Немцы начали подъем около пяти пополудни. Они вырубали ступеньки на склоне ниже лестницы — «кошек» с 12 зубьями у них не было, и кроме того, мы сняли закрепленные веревки, и поэтому, чтобы добраться до лестницы, им потребовалось почти три часа. Дикон по-прежнему считал, что они планируют быстро подняться по лестнице, удерживая нас на расстоянии с помощью ружей и автоматического оружия, выскочить на Северное седло — мы предполагали, что за вычетом Карла Бахнера, мертвого и похороненного в расселине, нам противостоят не больше десяти одетых в белое фрицев, — перестрелять нас всех, сжечь лагерь, сбросить угли (и наши трупы) в ближайшую расселину и до наступления темноты вернуться в свой невидимый лагерь среди ледяных пирамид ниже нашего бывшего третьего лагеря. К ужину. Таков, сказал Дикон, их план. Первая часть плана выполнялась с точностью хронометра. Вырубая ступени на склоне, они находились вне пределов досягаемости двух пуль нашего пистолета — Дикон все равно не собирался стрелять с такого расстояния, — и вскоре все шестеро одетых в белое людей собрались у основания лестницы. Мы знали об этом, потому что меня отправили пробурить отверстие для наблюдения в снежном гребне приблизительно в двадцати ярдах восточнее карниза, а Жан-Клод проделал то же самое в двадцати ярдах к западу. Теперь у нас был хороший обзор на восток и на запад, и никто не застанет нас врасплох, вырубая ступени в другом месте 1000-футового склона Северного седла. Же-Ка свистнул, и я увидел, как приподнялась голова Дикона в белом капюшоне — позади узкой кромки снега на краю обрыва, не видимая для людей внизу и даже для снайперов среди ледяных пирамид или на леднике. Жан-Клод поднял вверх руки в перчатках и показал шесть пальцев, потом сделал жест, как будто карабкается по лестнице. Отлично, они поднимаются. Шестеро. Разумеется, все вооруженные. Весь этот день мы были очень заняты. Пасанг и Реджи, выполняя инструкции Дикона — по крайней мере, следуя плану, который они с Ричардом разработали утром, — свернули лагерь, упаковали самое необходимое в пять рюкзаков, а затем отнесли еще пять вещмешков, а также свернутую большую палатку Уимпера к одной из расселин на Северном седле. Потом они опустили груз, который мы втащили сюда вечером, и свернутую и туго перевязанную палатку вместе с шестом в темноту расселины и засыпали снегом колышки с растяжками. При должном упорстве этот склад можно найти, если пройтись по всем нашим следам на Северном седле, но у немцев нет никаких причин для поисков — в качестве приманки мы оставили им часть снаряжения и две палатки Мида на месте четвертого лагеря, чтобы они могли все это сжечь с присущей тевтонцам скрупулезностью; кроме того, мы оставили на Северном седле очень много следов. Когда я спросил Дикона, что делают Реджи с Пасангом и зачем, он ответил: — Нам понадобятся продукты, снаряжение, одежда и печки, если мы спустимся этим путем после того, как найдем тело Перси. «Если? — с тревогой подумал я. — Этим путем? А какой еще есть путь с Эвереста?» Эти вопросы я отложил на потом. В данный момент я зарылся лицом и всем телом в снег — три украденных ружья и нечто похожее на пистолет-пулемет «шмайссер» открыли по нам огонь. Немцы не знали, где мы находимся, и поэтому пули ударяли в ледяную стенку и снежные валы вдоль всего карниза шириной 60 ярдов, по обе стороны от веревочной лестницы. Остальные пули свистели у нас над головами. Меня удивил тот факт, что никто мне не рассказывал — и я нигде не читал об этом, — что звук пролетающих рядом пуль очень похож на жужжание пчел на деревенской пасеке с белыми деревянными ульями. В меня стреляли первый раз в жизни, и, несмотря на то, что пули ударяли далеко от того места, где я укрылся за снежным валом, они вызвали странную и довольно любопытную физическую реакцию: я испытывал непреодолимое желание спрятаться за чем-нибудь или за кем-нибудь, даже за самим собой, а самым сильным моим побуждением было зарываться в снег и скалы Северного седла, пока я не превращусь в кого-то другого. «Вот, значит, как чувствуешь себя на войне, — подумал я. — И именно так ведет себя трус во время боя». Я перестал вжиматься в снег, заставил себя немного приподнять голову и огляделся. Мы с Же-Ка и Диконом тоже трудились весь день: помимо наблюдения за немцами внизу — эта обязанность перешла к Реджи и Пасангу, когда они присоединились к нам ближе к полудню, — мы, пригнувшись, перетаскивали самые большие глыбы льда, какие только могли найти, за снежный вал ледовым карнизом, где Мэллори и предыдущие экспедиции ставили палатки своего четвертого лагеря. И где теперь оканчивалась веревочная лестница. Вчера вечером Дикон привязал еще по десять футов своей «волшебной веревки» к концам лестницы, закрепленным колышками, затем выдернул старые колышки и вбил новые у задней стены карниза. Для одного жутко уставшего человека это была очень тяжелая работа, даже без учета высоты. Ричард в одиночку поднимал и привязывал невероятно тяжелые грузы к веревке подъемного устройства, педали которого мы крутили наверху. Теперь шестеро поднимавшихся по лестнице немцев стреляли из пистолетов — в основном «люгеров», насколько я мог разглядеть со своего наблюдательного поста, — а также из какого-то незнакомого мне автоматического оружия. Они понимали, что сильно рискуют, но с учетом прикрывающих их снайперов и подавляющего огня, который не позволял никому приблизиться к лестнице, должно быть, чувствовали себя в относительной безопасности. Я подумал о вражеских рыцарях, которыекарабкались по осадным лестницам на стены замков во времена Средневековья. Конечно, Северное седло можно считать нашей крепостью, но эти немцы из нацистской партии, которые поднимались по веревочной лестнице, совсем не похожи на рыцарей, черт бы их побрал. Скорее на диких гуннов. Жан-Клод знаками показывал Дикону, Реджи и Пасангу, которые сидели на корточках позади снежного вала прямо напротив лестницы, насколько высоко поднялись немцы. Пять пальцев и кулак означали пятьдесят футов. Шесть пальцев и кулак… восемь пальцев и кулак. Мы установили спелеологическую лестницу длиной 115 футов. Немцы приближались к самому верху, стреляя туда, где им привиделось какое-то движение. Снайперы теперь стреляли в снежный вал у верхнего края карниза с лестницей. Я понятия не имел, куда попадают пули от «шмайссера», но дрожал от страха, слушая треск близких очередей. Размеренные выстрелы бывшей снайперской винтовки Дикона доносились издалека, откуда-то с ледника. Признаюсь, мне было очень страшно. Однако не до такой степени, чтобы ослушаться приказа Дикона, который два раза свистнул. Мы с Жан-Клодом низко пригнулись, отступили на несколько шагов назад, к седлу, и со всех ног бросились к тому месту, где среди громадных ледяных глыб, которые мы подкатили к снежному валу над карнизом, ждали Пасанг и Реджи. Же-Ка остановился перед снежным валом и заглянул в туннель, который вырыл загодя. Вскинутый вверх кулак сообщил нам, что немцы по-прежнему поднимаются, а восемь пальцев означали, что до конца лестницы им осталось около 20 футов. Теперь самое для меня трудное — я не был уверен, что справлюсь, пока не сделал этого. Перебросив свое тело через снежный вал, я перекатился на живот и пополз к дальней стене карниза. Пули ударили в стену в пяти или шести футах надо мной, отколов необыкновенно острые кусочки льда, впившиеся мне в лицо. Другие пули вошли в ледяной край карниза впереди. Но Дикон оказался прав: даже снайпер с винтовкой «Ли-Энфилд» с оптическим прицелом не сможет меня достать, если я не буду высовываться. «Хотя, — подумал я, — когда-нибудь мне придется уходить с этого долбаного карниза». Но и это было запланировано. — Давай, — выдохнул Ричард, перемещаясь за груду скрепленного болтами металла — подъемник с велосипедным сиденьем, рулем, шкивом, фланцами и длинной опорой. — У нас несколько секунд. Я кивнул. Мы прислонились спиной к ледовой стене позади нас, уперлись «кошками» на ботинках в намеченные заранее места, согнули ноги и толкнули изо всех сил. Тяжелая металлическая конструкция заскользила по двум направляющим желобам, которые мы утром соорудили с помощью ледорубов. Пришлось даже вылить на снег четыре термоса драгоценной талой воды, чтобы в желобах образовалась ледяная корка. Сотни фунтов металла двигались без особого труда, и Дикон стоял сзади — вместо отсутствующий задней опоры, рискуя получить пулю, — чтобы направить подъемник в нужное место. Мы сбросили груду металла с края карниза. Дикон упал за несколько секунд до того, как град пуль ударил в заднюю стену нашего карниза, и зарылся в снежный вал наверху. Снизу послышались крики. Эти крики удалялись. Пули продолжали лететь, но уже реже. Же-Ка показал три пальца. Его любимый «велосипед»-подъемник сбил с лестницы трех немцев. Падение с лестницы должно было быть очень долгим — не только вертикальные 100 футов ледяной стены, но и сотни футов очень крутого склона ниже. Крики падающих немцев смолкли, и внезапная тишина показалась мне почти болезненной. Но поднятые вверх три пальца Жан-Клода показали, что три немца по-прежнему поднимаются к нам. «Если только они не отступают вниз по лестнице», — внезапно подумал я, и эта мысль была для меня как молитва. Жан-Клод из своего укрытия вскинул кулак. Оставшиеся три немца продолжали карабкаться вверх, очевидно, держась за веревки обеими руками — стрельба со стороны лестницы прекратилась. — Щиколотки, — крикнул Дикон. Я изо всех сил уперся «кошками» в лед карниза и обхватил щиколотки Ричарда Дэвиса Дикона — после стольких лет занятий скалолазанием ладони и запястья у меня очень сильные. Тем не менее при тренировках на ровном снегу и льду Северного седла проделывать это было гораздо легче. Дикон вытянулся вперед, как цирковой акробат, и его грязно-белый пуховик Финча заскользил по ледяному желобу, который мы соорудили для подъемника Жан-Клода. Я глубоко вонзил свой ледоруб в месте соединения задней стены и горизонтальной части карниза и зацепился за него локтем правой руки. Меня потащило вперед, к краю карниза, но затем зубья «кошек» нашли надежную опору. Едва не порвав мышцы и связки правой руки, я все же сумел остановить скольжение Дикона; верхняя половина его тела повисла в горизонтальном положении над обрывом. Не торопясь, он прицелился из черного «люгера», выждал еще две или три секунды — могу себе представить лицо первого немца, вероятно, с голубыми глазами, смотрящего на Дикона с расстояния около 20 футов, — и выстрелил из пистолета. Теперь ружейные пули ударяли в ледяную стену вокруг Ричарда — снайперы явно нервничали, боясь попасть в своих, двое из которых оставались на лестнице, — но Дикон выждал еще несколько бесконечных, наполненных страхом секунд, прежде чем выпустить вторую пулю вдоль вертикальной стены льда. — Назад! — крикнул он затем, и я изо всех сил потянул к себе его щиколотки, потом мощные икроножные мышцы, потом бедра и ягодицы, пока он не оказался у основания стены рядом со мной. — Оба упали, — выдохнул Дикон. Затем, чуть громче: — Снежки! Каждый «снежок» представлял собой глыбу льда весом не меньше тридцати или сорока фунтов. Во время долгого ожидания мы потратили уйму времени, чтобы найти и подкатить их к «складу боеприпасов», устроенному позади снежного вала. Мы с Диконом по возможности ослабляли удар каждой глыбы о карниз — неважно, если от них отколются куски, — заходили за них и ударом ноги отправляли вниз по ледяному желобу. Реджи и Пасанг по нашему сигналу подавали следующую глыбу, и мы снова останавливали ее, обходили и пинком отправляли к краю обрыва. Наш склад боеприпасов состоял из двенадцати ледяных глыб. Мы сбросили все. Крутой склон протяженностью больше 900 футов ниже того места, где начиналась лестница, был лавиноопасен. Жан-Клод, пригнувшись, бросился к своему наблюдательному пункту. «Шмайссер» умолк — Дикон сказал, что при автоматической стрельбе у них быстро нагревается ствол, — и тишину раннего вечера в Гималаях нарушал только размеренный звук винтовочных выстрелов. — Еще четверо готовы. Один сумел остановиться, бегом вернулся к лестнице и снова поднимается по ней, — крикнул Жан-Клод. — Движется быстро. Уже на полпути. Ближе… две трети лестницы. Дикон кивнул, взял пожарный топор, который заранее положил у задней стенки карниза, сосчитал до десяти и двумя быстрыми ударами перерубил веревки, удерживающие лестницу. Крик снизу был очень долгим и доставил мне огромное удовольствие. — Давай, — скомандовал Ричард. Я бросился к западному краю карниза, нырнул в узкий лаз, который мы вырыли здесь, и под грохот выстрелов выкатился по ту сторону снежного вала. Через несколько секунд Дикон запрыгнул в неглубокую траншею, вырытую в восточном конце. Встретившись с Же-Ка, Пасангом и Реджи по ту сторону высокого снежного вала, мы с Диконом жестами показали, что никто из нас не ранен. — Я наблюдал, — сообщил Пасанг. — Пять человек, включая того, что упал с лестницы, мертвы. Один еще шевелится, но я почти уверен, что у него сломан позвоночник. Остальные получили травмы, но немец со «шмайссером» и еще один выскочили из-за ледяных пирамид и помогли им добраться до укрытия. — Если вчера вечером мы не ошиблись и их действительно было двенадцать, — сказал Дикон, — то теперь осталось пять — с учетом Бахнера, которого вчера вывела из игры Реджи, — и некоторые из этих пятерых теперь не в лучшем состоянии. — Думаешь, они отступятся и уйдут? — спросил я. Сердце мое стучало так громко, что я почти не слышал собственных слов. Дикон посмотрел на меня так, словно я испортил воздух. — Они не отступят, Джейк, — ответила Реджи. — Они не знают, нашли ли мы уже Перси и Майера и забрали то, что у них было, но не хотят дать нам ни малейшего шанса. Потерпев вторую неудачу, они не смогут вернуться в Германию… и даже в Европу. Судя по тому, что рассказывал мне Персиваль, их будущий фюрер не склонен что-либо прощать или забывать. Эти лучшие нацистские альпинисты получат черную метку. — Господи, — прошептал я. — Что Майер передал вашему кузену, Реджи? Какой-то революционный прицел для бомбометания? Фрагмент креста, на котором распяли Иисуса? — Я не знаю, что это было, Джейк, — сказала она. — Но не сомневаюсь, что для политической партии Бруно Зигля это ценнее любого прицела для бомбометания или даже Святого Грааля. — Боши снова попытаются подняться сюда, — сказал Жан-Клод. — Скорее всего, в нескольких местах стены Северного седла. Возможно, их осталось больше пяти. В этом году они явно собрали сильную команду. Снайпер снова останется сзади, прикрывая их, пока они будут вырубать ступени на склоне. Это очень грозная винтовка и очень грозный оптический прицел, Ри-шар. Ричард скрипнул зубами. Я знал, он винит себя за то, что оставил оружие в базовом лагере. — Думаете, они скоро снова перейдут в наступление, мистер Дикон? — спросил Пасанг. — Сомневаюсь, — ответил тот. Мы передавали друг другу единственный кислородный баллон с маской, который оставили специально для восстановления сил, и он сделал несколько вдохов «английского воздуха», прежде чем продолжить. — На то, чтобы вырубить ступени на гладком ледяном склоне под нами, у них уйдет не один час — они справятся с этим делом только к ночи. А еще останется последний вертикальный участок из ста футов льда. Я не уверен, что они попытаются подняться по отвесной ледяной стене через несколько часов после захода солнца. — Скорее всего, боши не знают, что у Ри-шара было всего два патрона, в «люгере» герра Вахнера, — сказал Жан-Клод. — Выстрелы должны были их удивить, да? — Тем больше у них причин подниматься ночью. — Я попеременно вдыхал кислород и глотал воду из термоса. После первого боя, хоть и скромного, ощущения были… странными. Я не подозревал, что после боя можно чувствовать одновременно радость, уныние и опустошение. Но самое сильное свое чувство я прекрасно сознавал: я было чертовски рад, что остался жив. — Но тогда им придется повесить на шею электрические фонарики и включать их на сложных участках, — сказал Дикон. Голос у него был почти таким же хриплым, как у меня. — Если бы я ждал их с восемью патронами в магазине «люгера», принадлежавшего Карлу Бахнеру, это была бы плохая новость для восьмерых. — Вы так хорошо стреляете из пистолета? — спросила Реджи. — Попадете в мерцающий на груди огонек, в темноте, на таком холоде, свесившись с края пропасти? — Да, — ответил Дикон. Я заметил странную улыбку, которой обменялись эти двое. Что-то между ними было сказано или признано, не предназначавшееся для меня. Я почувствовал укол ревности и тут же мысленно пнул себя в зад. — Значит, придерживаемся плана? — спросил Же-Ка. — Да… если никто не возражает, — сказал Дикон. Никто не возражал. — Рюкзаки и дополнительное снаряжение для верхних лагерей готовы, правильно? — Правильно, — подтвердила Реджи. — Тогда берем груз и идем в пятый лагерь, прямо сейчас. Я поднял руку, как школьник, просящий разрешения выйти в туалет. — Еще не стемнело. Тот немец, который снизу стрелял из твоей винтовки с оптическим прицелом, продемонстрировал завидное искусство. А он не снимет нас по одному, когда мы выйдем на снежное поле Северного гребня и нас можно будет увидеть с ледника? Дикон посмотрел на вершину и гребни Эвереста, заслоняющие заходящее солнце: Желтый пояс и самые верхние скалы Северного гребня были ярко освещены, а остальная гора и все наше Северное седло теперь оказались в тени. — Когда мы выйдем на заснеженные склоны Северного гребня, будет почти темно, — тихо сказал он. — Связываться не стоит. Как мы обсуждали сегодня утром, будем передвигаться хаотически — с разной скоростью — и зигзагом, пока не доберемся до перил. Свет не включаем, даже головные лампы. — А когда доберемся до перил? — спросил я. — Тогда нам придется использовать головные лампы — станет слишком темно, и мы не сможем увидеть опоры для рук и ног. Снайпер с ледника по-прежнему может нас там достать? — Да, но это максимальная дистанция, — ответил Дикон. — И мы не будем включать головные лампы на трудных участках, где протянуты перила, Джейк. Используем свет звезд, память тела и жумары Жан-Клода. — Потрясающе. — Это действительно потрясающе, mon ami, — сказал Жан-Клод. — Если не считать твоего постоянного кашля, все, похоже, нормально себя чувствуют. Мы акклиматизировались — по крайней мере, для этого этапа восхождения. А восхождение на Эверест при свете звезд станет пиком моей альпинистской карьеры. — Если только не концом карьеры, — с трудом выговорил я между приступами кашля. — Я дам вам еще микстуры от кашля, мистер Перри, — сказал доктор Пасанг. — Но не слишком много. Кодеин вызывает сонливость и рассеянность, а это совсем лишнее. К счастью, у меня есть таблетка, которая поможет вам бороться со сном. — До утра нам всем могут понадобиться такие таблетки, — сказал Дикон. — Мы собираемся пройти весь путь до пятого лагеря в темноте? — спросил я, ощущая невероятную усталость после дня непрерывного кашля вперемежку с выбросами адреналина. — Нет, Джейк, дорогой мой. — Реджи взяла мою руку в свои. — Вы не помните? Мы остановимся в пятом лагере, чтобы выпить чаю и демонтировать большую палатку, но до рассвета мы должны добраться до шестого лагеря. Теперь я вспомнил весь план. «Твою мать…» — подумал я. Однако в присутствии дамы, будучи выпускником Гарварда и джентльменом — но в основном потому, что шел 1925 год, — не произнес этого вслух. Опираясь друг на друга, чтобы не упасть, и низко пригибаясь, мы побрели к четвертому лагерю, где нас ждал груз — и абсолютно немыслимое восхождение.Глава 12
Если не считать одиночного ночного восхождения на вулкан Эребус в Антарктике несколько лет спустя, в 1930-х, я никогда не видел такой красоты и так не наслаждался восхождением, как во время того ночного перехода в мае 1925 года по Северному гребню Эвереста из четвертого лагеря на высоте 23 000 футов в наш шестой лагерь на высоте 27 000 футов. Возможно, это было идеальное сочетание телесной радости восхождения среди невероятной красоты освещенного звездами пейзажа и психологического комфорта от того, что рядом со мной друзья, которых я люблю. Конечно, потом я задумывался, не была ли причиной превосходного настроения и радости смесь кодеина и бензедрина, которую влил в меня доктор Пасанг. Я по-прежнему сознавал, что в горле у меня словно застрял острый металлический предмет размером с ладонь, но поскольку кашель ослаб до такой степени, что я мог снова надеть кислородную маску, странное ощущение меня не очень беспокоило. Мы шли не в связке, сначала в беспорядке рассыпавшись по снежному полю сразу за Северным седлом, а затем снова выстроились цепочкой — по-прежнему не включая фонари и лампы — и пристегивались жумарами к многочисленным перилам, которые мы установили на крутых участках и наклонных плитах. У нас менялся не лидер, как при переходе по глубокому снегу, а замыкающий, поскольку на долю последнего выпадала нелегкая работа вытащить каждый отрезок перил из проушин в колышках, свернуть, закинуть на плечо и нести до следующей веревки, которую требуется снять. — Ага… — сказал Жан-Клод во время одной из пауз для смены замыкающего. — Я понимаю необходимость… лишить перил бошей, которые будут нас преследовать… но разве отсутствие закрепленных веревок не затруднит спуск нам самим? — Обсудим это во время пятиминутного перерыва в пятом лагере, прежде чем двигаться дальше, — сказал Дикон. Насколько я мог судить, он до сих пор не надевал кислородную маску и не открывал клапан. Мы несли с собой столько кислородных аппаратов, что я не понимал, зачем ему теперь экономить кислород. Мы шли вперед. Теперь уже никто не дышал кислородом, хотя в пятом и шестом лагерях имелись дополнительные аппараты и баллоны. Как будто по молчаливому соглашению берегли его для… чего-то еще. Дважды до нас доносилось эхо ружейного выстрела из долины далеко внизу, но оба раза я не слышал ни рикошета от скал вокруг нас, ни этого нового для меня, неприятного жужжания стальных пчел, пролетающих мимо. Даже с телескопическим прицелом, которым Дикон предусмотрительно оснастил свою винтовку, из которой по нам стреляли немцы, разглядеть темно-серые человеческие фигуры — мы снова надели поверх пуховиков Финча невзрачные анораки «Шеклтон», а поверх брюк на пуху защищавшие от ветра брезентовые чехлы — темной ночью на фоне скал и грязного снега с расстояния почти в милю было, как и предсказывал Дикон, практически невозможно. Вероятность стать жертвой прицельного огня из винтовки на такой дистанции была не больше, уверял нас Ричард, чем удар молнии, грузовик, камнепад или снежная лавина. (Но поскольку две последние угрозы были для нас реальными, я беспокоился бы немного больше, не находись под воздействием лекарств в состоянии, близком к эйфории.) В пятом лагере нас ждал обещанный пятиминутный отдых с кислородом на максимальной подаче, а потом мы потратили около пятнадцати минут на разборку «большой палатки Реджи» и распределение опор, брезента, москитной сетки и пола по рюкзакам. Здесь было больше кислородных аппаратов, чем мы могли унести, и поэтому пришлось потратить еще время на то, чтобы перетащить их на усыпанную валунами и щебнем Северную стену, где мы спрятали их за большим камнем треугольной формы. Необычная форма камня будет единственным ориентиром, если при спуске нам понадобится «английский воздух» — при условии, что кто-то из нас спустится оттуда живым. Мы не могли отметить его вешками или флажками, поскольку в этом случае его обнаружат и используют немцы. Вместе с кислородными аппаратами мы оставили здесь большую часть тяжелых бухт веревки, которую собирали по пути. Каждый из нас тащил на плече или в рюкзаке 150 футов свернутой «волшебной веревки» — даже несмотря на то, что на этом этапе восхождения мы не собирались идти в связке, — и оставалось надеяться, что их хватит для преодоления особенно сложных участков. Упаковав детали «большой палатки Реджи», заменив баллоны в рюкзаках на новые, спрятав дополнительные и наполовину пустые баллоны на Северной стене и вернувшись на гребень, мы все тяжело дышали, хватая ртом воздух. Тогда я наконец задал мучивший меня вопрос. — А как насчет отсутствия перил при спуске? — обратился я к Дикону. — Мы собираемся соорудить их из веревок, которые ставили здесь за пирамидальным камнем, и тех, которые спрячем наверху и заберем при спуске? Боюсь, к тому времени мы очень устанем. — Это вариант, — сказал Дикон между глотками кислорода из баллона. Наконец он воспользовался «английским воздухом», как и все остальные, за исключением Пасанга. — Если немцы отступят — или мы каким-то образом сможем их убить — и если мы будем спускаться тем же путем. — А как еще мы можем спускаться? — спросил Жан-Клод. — С Северо-Восточного гребня пройти к Лакра Ла невозможно, Ри-шар. Это острый, как лезвие ножа, гребень с множеством карнизов, зубцов, каменных пирамид и обрывов глубиной в тысячу футов. Спуск к леднику Кангшунг позади Северного гребня — это десять тысяч футов вертикальной стены, абсолютно непроходимой. Какой еще путь вниз — кроме падения — ты имеешь в виду? Дикон стоял, опираясь на свой ледоруб, а у него над головой нависал огромный рюкзак. Он улыбнулся Же-Ка, но его улыбка была похожа на волчий оскал. — Я имел в виду траверс, — ответил он. Почти полное отсутствие ветра в эту удивительную ночь позволяло нам разговаривать, не повышая голоса. — Траверс, — повторил Жан-Клод и посмотрел на Северную стену, затем на вершину Эвереста, затем снова на стену, туда, где в свете звезд поблескивало Большое ущелье. — Надеюсь, не к Большому ущелью Нортона, а потом вниз, — сказал он. — В сотнях футов ниже нашего уровня оно становится совсем отвесным, хотя лавины унесут нас задолго до этого. Никакой траверс по Северной стене не приведет нас вниз, Ри-шар. — Совершенно верно, — согласился Дикон. — А как насчет траверса с Северной вершины к Южной вершине, а затем вниз к Южному седлу, к тому, что Мэллори называл Западный Кам? Мы все молчали, пораженные этим предложением, но я видел, как блеснули в звездном свете зубы Реджи. Я смотрел на Дикона и леди Кэтрин Кристину Реджину Бромли-Монфор, и мне вдруг показалось, что на высочайшую вершину мира нас ведет пара голодных волков. — Это… безумие, — наконец пробормотал я. — Мы понятия не имеем, как выглядит гребень между Северной вершиной и Южной вершиной… или даже между первой ступенью и вершиной с этой стороны, если уж на то пошло. Даже если мы каким-то образом поднимемся на самую высокую вершину Эвереста и пройдем траверсом до Южной вершины, в возможности чего я сомневаюсь, спуск с Южной вершины на Южное седло, вероятно, вдвойне невозможен. Никто даже не видел этого гребня, не говоря уже о попытке… восхождения или спуска. — Это правда, друзья мои, — мрачно подтвердил Жан-Клод. — Давайте поговорим об этом, когда придем в шестой лагерь, — предложил Дикон. — Я вижу маленькие огоньки внизу, на месте бывшего третьего лагеря, — сказала Реджи. — Боши собираются вырубать ступени на стене Северного седла в темноте, а к утру начать восхождение, — сказал Жан-Клод. Мне хотелось продолжить разговор о немыслимом траверсе между двумя вершинами Эвереста, но времени на это не было. Мы подхватили рюкзаки, оставили две палатки Мида, упавшую и порванную, лежать на снегу и снова побрели вверх по крутому гребню. К счастью, перила начались меньше чем в 200 футах выше пятого лагеря. Дикон встал последним в цепочке, взяв на себя тяжелую работу снимать и сворачивать веревки во время подъема, а остальные защелкнули жумары на толстой веревке и двинулись наверх, после каждых четырех шагов останавливаясь и делая глубокий вдох. Мы все использовали так называемую «технику Мэллори», которой нас научил Дикон: сделать самый глубокий вдох, на какой только хватит сил — даже зная, что на высоте больше 8000 метров этого все равно недостаточно, — и растянуть воздух на четыре шага, затем остановиться, снова набрать полную грудь воздуха и повторить процесс. Так впятером мы шли навстречу рассвету.Глава 13
Единственная двухместная палатка Мида, которую мы с Реджи установили в качестве шестого лагеря, была неразличима во тьме и располагалась гораздо дальше на Северной стене, чем я думал, но Реджи привела нас прямо к ней. Там нашлись несколько запасных кислородных баллонов и маленький запас продуктов, который мы оставили перед тем, как разойтись по Северной стене в поисках тел в тот, уже казавшийся далеким понедельник, а также два спальника, в которых мы с Реджи провели воскресную ночь. Теперь мы несли с собой воду, чай, кофе и другие теплые напитки, которые приготовили из растопленного снега, прежде чем покинуть Северное седло. — Выглядит очень удобно, — сказал Дикон, разглядывая крошечную палатку, примостившуюся на каменной плите с 40-градусным наклоном и почти невероятным образом втиснутую между двумя другими большими камнями. Большая часть этого отрезка маршрута по Северному гребню чуть ниже Желтого пояса проходила через каменные овраги и скопления больших камней. Но четыре дня назад — казалось, с тех пор минула вечность — Реджи выбрала место для нашего шестого лагеря в нескольких сотнях футов от кромки гребня. На самом гребне тоже не было плоских площадок, даже если бы сильный ветер там позволил рассматривать такой вариант. Отраженный свет восходящего солнца медленно заливал все небо позади Северо-Восточного гребня — теперь он нависал прямо над нами, — и вскоре лучи должны были ударить в вершину Эвереста всего в миле к западу и в 2000 футов выше нас. Впервые за все время после выхода из пятого лагеря мы сняли рюкзаки и без сил опустились на них, следя за тем, чтобы ни рюкзаки, ни мы сами не свалились с наклонных каменных плит. Все очень устали, и я чувствовал, что действие кодеина и бензедрина заканчивается. Кашель вернулся и стал еще сильнее. Только Же-Ка повесил на шею бинокль поверх многочисленных слоев одежды, и мы по очереди высматривали людей, которые сегодня хотели нас убить. Наведя бинокль на Северное седло и Северный гребень, где едва виднелась упавшая зеленая палатка пятого лагеря, я не увидел движущихся фигур. — Может, они отступили и отправились домой, — предположил я между сильными приступами кашля, выворачивавшими меня наизнанку. Реджи покачала головой и показала прямо вниз. — Они как раз выходят из четвертого лагеря, Джейк. Я вижу пятерых. — Я тоже вижу пять человек, — сказал Дикон. — У одного, похоже, за спиной рюкзак и моя винтовка. Не исключено, что это Зигль, если только он не привел с собой опытного снайпера… что тоже вполне возможно. — Merde, — прошептал Жан-Клод. — Полностью согласен. Я понял, что бинокль Дикона уже направлен не вниз; Ричард повернул его и что-то разглядывал позади Северной вершины — самой высокой, настоящей вершины Эвереста. — Ищешь траверс? — спросил я, тут же пожалев о сарказме, пропитавшем мой вопрос. — Да, — подтвердил Дикон. — Кен Овингс сказал, что на гребне между двумя вершинами имеется довольно неприятная ступень — видел ее издалека, из Тьянгбоче в долине Кхумбу, где он живет. Это проклятый скальный уступ, вроде нашей предположительно непреодолимой второй ступени на Северо-Восточном гребне над нами, но Кен говорит, что эта скала между вершинами возвышается на сорок или пятьдесят футов над склоном с нижней стороны. — На такой высоте это невозможно, Ри-шар, — сказал Же-Ка. — Наверное, — согласился Дикон. — Но нам не обязательно подниматься на нее, Жан-Клод. Если мы пройдем мимо этой вершины, то сможем найти путь вниз. Просто спустимся на веревке с этой чертовой ступени, а затем к Южной вершине и ниже. Все промолчали, но мне кажется, они думали то же, что и я: у меня нет сил подняться даже на ступеньку лестницы, не говоря уже о переходе длиной в милю по Северо-Восточному гребню и двух высоких ступенях — в том числе второй ступени над нами справа, которая считалась «непреодолимой», — а также крутой пирамидальной вершине и острого конуса на самом верху. Это просто невозможно. — Как скоро нам следует опасаться выстрелов Зигля или того, кто несет твою винтовку? — спросил я только ради того, чтобы сменить тему. — Думаю, парень с моей винтовкой будет тщательно выбирать, когда и где стрелять в нас, — ответил Дикон. — Это обнадеживает, — заметил я. — Но почему? — Потому что ему нужно то же, что и нам. — Сбежать от безумных нацистов? Дикон покачал головой. — Найти то, что было у Бромли и Майера. Я убежден, что в прошлом году Бруно Зигль совершил ошибку, застрелив Майера, Бромли или обоих — мне очень жаль, Реджи, но мне кажется, что все было именно так, — в таком месте, где тела упали, или их унесло лавиной туда, где до них невозможно было добраться. — Согласна, — сказала Реджи. — Это совпадает с тем, что в прошлом году видел Ками Чиринг от третьего лагеря в немецкий бинокль. Ему показалось, что он разглядел на Северо-Восточном гребне три фигуры… а потом вдруг осталась только одна. И он слышал звуки, которые могли быть эхом пистолетных выстрелов. — Значит, вот где нам нужно искать, — кивнул Дикон. — Вдоль кромки гребня. Северо-Восточного гребня… куда никто не поднимался, за исключением Мэллори и Ирвина. — И если твоя теория верна, mon ami, — заметил Же-Ка, — то также Зигля, кузена Реджи Персиваля и этого молодого парня, Майера. — Да, — сказал Дикон. — Не думаю, что Зигль повторит свою ошибку — или позволит это сделать снайперу, если моя «Ли-Энфилд» у кого-то другого. Если пристрелить нас где-нибудь на Северном гребне или во время траверса сюда, в шестой лагерь, наши тела могут упасть — причем с большой вероятностью — в один из оврагов, ведущих к главному леднику Ронгбук или вообще на Северную стену и ледник Восточный Ронгбук в шести тысячах футов внизу. Шансы на то, что вещь, которую они ищут — будь это даже документ, — останется целой и невредимой, крайне малы. — Обнадеживающая мысль, — пробормотал Жан-Клод. — Так что они не захотят в нас стрелять, не убедившись, что мы не упадем слишком далеко, — невозмутимо продолжил Дикон. — Поэтому предлагаю и дальше идти впереди этих ублюдков. Реджи потерла бледный лоб. Я подумал, что голова у нее, должно быть, болит не меньше, чем у меня. Но у нее, по крайней мере, нет этого ужасного кашля. — Что вы имеете в виду, Ричард? — спросила она. — Мы и так зашли довольно далеко. И очень устали. — Я имею в виду, что нужно продолжать восхождение до темноты. — Дикон повернул бинокль к Желтому поясу и Северо-Восточному гребню над нашими головами. Ветер гнал туманный шлейф вдоль гребня, а потом дальше, к двум невероятно далеким и в то же время близким ступеням и к пирамидальной вершине. Под ногами — вернее было бы сказать, под «кошками» — везде был снег. Мы перемещались в другой мир. Враждебный к любой форме жизни. — Мы либо поднимемся на первую ступень, либо пройдем ее траверсом — можно даже обойти ее вдоль узкой кромки выше Желтого пояса, — а затем вновь поднимемся на гребень и атакуем эту чертову вторую ступень, — продолжал Дикон. — Можно остаться ниже кромки на этой стороне, чтобы стрелок не увидел наших силуэтов на фоне неба, а затем установить «большую палатку Реджи» в первом франко-англо-американском седьмом лагере где-нибудь у подножия пирамидальной вершины. — И что это даст, Ри-шар? Просто отсрочит неизбежное? Не стоит напоминать тебе, что боши вооружены, а у нас… ракетницы Вери. — Во-первых, — продолжила Реджи вместо Дикона, которому нужно отдышаться, — поднявшись на Северо-Восточный хребет, мы получаем шанс найти то, что мой кузен Перси и Курт Майер несколько месяцев тайно везли из Европы. Это важно. Это истинная причина нашей экспедиции. — Но вероятность того, что мы их найдем… — начал я. — Вы нашли Джорджа Мэллори, — возразила Реджи. Я вздохнул. — Там огромное открытое пространство. И я в буквальном смысле наткнулся на него. Я смотрел отсюда в бинокль минут десять, но не смог увидеть его тела. Хотя знаю, где оно. Мне все еще было не по себе от мысли, что мы не похоронили Мэллори. — Тогда есть вероятность, что мы наткнемся на герра Майера или моего кузена. Поднявшись на Северо-Восточный гребень, мы по крайней мере окажемся в том месте, где Ками Чиринг видел их в последний раз. Но лагерь выше второй ступени, Ричард… если поднимется такой ветер, который обычно там дует, я сомневаюсь, что моя куполообразная палатка его выдержит. И на высоте почти двадцать девять тысяч-футов будет очень холодно. — Вы все кое о чем забываете, — прохрипел я, с трудом подавив кашель. — Что именно, Джейк? — спросил Дикон. — Вы с Нортоном сравнивали вторую ступень с носом дредноута. — Я снова закашлялся. — Сотня футов почти отвесной скалы. Ни одному человеку — даже Мэллори — такое не под силу. По крайней мере, на такой высоте. А Северная стена ниже второй ступени и слишком крута для траверса. — Ты ошибаешься, Джейк, — сказал Дикон. — Есть один человек, который сможет свободным стилем подняться по отвесной скале второй ступени. Мысленно я стал перебирать всех великих европейских и американских скалолазов, которые могли бы бросить вызов второй ступени на такой высоте, но не нашел ни одного. — Это ты, Джейк, — сказал Ричард. — Ты, друг мой. Идемте. Он снова взялся за лямки своего тяжелого рюкзака. И на этот раз, отметил я, надел кислородную маску. Все остальные последовали его примеру. Дикон уложил в свой и без того перегруженный рюкзак два тяжелых, полных баллона кислорода, которые мы оставляли здесь, в шестом лагере. Затем повел нас вверх по усеянному камнями склону к очень крутым каменным оврагам, которые приведут нас к Желтому поясу и другим каменным оврагам и скальным лабиринтам, которые нужно преодолеть, чтобы добраться до продуваемого ветрами Северо-Восточного гребня.Глава 14
Это восхождение по Северной стене через Желтый пояс и дальше, к Северо-Восточному гребню, было самым трудным и технически сложным из всего, с чем мне до сих пор пришлось столкнуться на Эвересте. Несмотря на усилившуюся крутизну склона, труднопроходимый маршрут и устрашающий обрыв глубиной 8000 футов, мы по-прежнему шли не в связке. В лабиринте нависающих скал и снежных глыб, в большинстве своем на уходящих вверх крутых занесенных снегом оврагах, большинство дорог оканчивались тупиком, огромной каменной глыбой или опасным снежным карнизом. Дикон выбрал маршрут, который, по его мнению, мог привести нас на более пологий склон, ведущий к кромке гребня чуть восточнее большого выступа, получившего название первой ступени. Думаю, мы не стали идти в связке из-за глупой привычки, сформировавшейся за много часов независимого восхождения, а также потому, что все свое внимание сосредоточили на том, чтобы упираться передними зубьями «кошек» в крутой склон оврага, потом вгонять впереди себя ледоруб, хвататься за него и подтягиваться, тяжело дыша (кислородом мы пользовались только время от времени, что еще больше замедляло реакцию и мышление), и делать следующий мучительный шаг. От ударов «кошек» вниз летели комья снега; теоретически они могли спровоцировать сход лавины, но никому не хотелось следить за их падением. Мы рассеялись по склону, без лидера, на таком расстоянии друг от друга, что не могли бы помочь товарищу, который сорвется и начнет скользить вниз. Но каждый раз, когда я поднимал голову, Дикон был впереди и выше всех, прокладывал путь. За ним Жан-Клод, потом я, Пасанг и наконец — футах в пятнадцати ниже верного шерпы, по его следам — леди Бромли-Монфор. Реджи упала, когда мы не прошли и двух третей самого крутого участка снежного оврага. В тот момент я стоял, опираясь на свой ледоруб, и смотрел почти прямо вниз, мимо своих ботинок, и видел, как она поскользнулась. Правый ботинок с надетой «кошкой» опустился на присыпанный снегом камень, который должен был бы стать надежной точкой опоры — таких выступов в овраге было много, и мы использовали их, — но не стал. Камень сорвался и покатился вниз, а Реджи упала на бок и, громко вскрикнув, сразу заскользила по склону. Надо отдать ей должное — при падении она не выпустила ледоруб, сумела перевернуться на живот и вонзила широкую лопатку в снег, начав самозадержание. Ее движения были уверенными и неожиданно грациозными, выдавая опытного альпиниста. Но «кошки» с 12 зубьями — так помогавшие нам на склонах в последние несколько дней — глубоко зарылись в снег, и скользящая вниз Реджи перевернулась, выпустив из рук длинный ледоруб. Теперь она съезжала головой вниз, приближаясь к крутому обрыву и острым скалам внизу. Пасанг мгновенно повернулся и огромными шагами запрыгал по оврагу, но шансов остановить падение Реджи у него не было. Она уже проделала две трети пути и, набирая скорость, неслась к 100-футовому обрыву над высшей точкой того небольшого углубления, в котором я нашел тело Мэллори. Дальше она кубарем покатится вниз и разобьется насмерть. И тогда леди Кэтрин Кристина Реджина Бромли-Монфор проделала нечто невероятное. Вместо того чтобы беспомощно цепляться за снег варежками или обтянутыми перчатками пальцами, тщетно пытаясь замедлить падение, как поступило бы большинство, она, продолжая скользить по расширяющемуся оврагу, ловким движением протянула руки к рюкзаку, который каким-то образом не слетел с нее, и достала два коротких ледовых молотка конструкции Жан-Клода, надежно закрепленных ремешками над боковыми карманами для бутылок с водой. За несколько мгновений до того, как упасть с самого крутого участка Северной стены, Реджи продела запястья в темляки, оттолкнулась одним молотком, чтобы перевернуться лицом вверх, а затем подняла обе руки и глубоко вонзила клювы молотков в снег. Последовали еще три быстрых как молния удара, и Реджи перестала вращаться, хотя продолжала скользить вниз. Потом еще два сильных удара, всем телом; молотки ушли в снег так глубоко, что не были видны варежки на руках, и Реджи остановилась всего в нескольких ярдах от обрыва, спускавшегося к самому подножию Северной стены. Дикон с Пасангом продолжали огромными, опасными прыжками нестись вниз, за несколько минут теряя многие футы высоты, на преодоление которых ушло не меньше часа. Они почти одновременно остановились рядом с Реджи — та лежала на снегу лицом вниз, раскинув в стороны руки и ноги и подняв вверх «кошки». Мы с Же-Ка хотели спуститься к ним, но Дикон крикнул, чтобы мы оставались на месте — и так уже потеряно слишком много времени. Через минуту Реджи уже сидела — ботинок с «кошкой» на ноге Пасанга служил ей упором, не позволяя соскользнуть вниз — и пила горячий чай из термоса, который протянул ей Дикон. Ветер по-прежнему был такой слабый, что мы с Жан-Клодом слышали каждое слово Реджи, сидевшей в 100 футах ниже нас на почти вертикальном склоне. — Дура, дура, — повторяла она. — Дура! Пасанг осмотрел ее — просунул руки под верхние слои одежды, ощупывая руки, ноги и туловище. Глядя на него, я пожалел, что я не врач. Потом он крикнул нам, что с леди Бромли-Монфор все в порядке, за исключением нескольких синяков и ушибов. — Нужно проверить ваши лодыжки. — В тоне Дикона чувствовалась тревога. Нередко резкое опрокидывание в результате торможения «кошками» при скольжении приводит к растяжению и даже перелому лодыжек или голеней, в чем мы сами убедились на примере Джорджа Мэллори. На нем даже не было «кошек», а он все равно погиб. Одни лишь тяжелые ботинки стали причиной перелома большой берцовой кости, белый обломок которой торчал из его ноги. С помощью обоих мужчин Реджи встала и слегка покачнулась, но громадная ладонь Пасанга не дала ей упасть. — Больно… лодыжкам, я имею в виду… но растяжения нет. И ничего не сломано. Пасанг опустился на колени справа от нее, и на секунду мне показалось, что он молится. Потом я понял, что шерпа затягивает ремни на «кошках» леди. — Вот ваш ледоруб, — сказал Дикон и протянул ей инструмент. Реджи нахмурилась — я стоял выше ее на 100 футов и видел ее лицо в профиль. — Это не мой ледоруб. — А чей же еще? — удивился Дикон. — Я нашел его там, куда он отскочил, в овраге в двадцати футах правее вас. — Вон мой старый ледоруб, в снегу примерно посередине оврага, — махнула рукой Реджи. — Глупо было выпускать его из рук. А это новый ледоруб Шенка. — Вы не отпускали свой ледоруб, миледи, — сказал доктор Пасанг. — Его вырвало у вас из рук. Если бы вы затянули темляк — как с ледовыми молотками, — крутящий момент просто сломал бы вам запястье. — Да, — рассеянно подтвердила Реджи. — Но чей же это ледоруб? Выглядит абсолютно новым, но дерево рукоятки темнее, чем у моего. И на нем три зарубки примерно в двух третях от конца… — Три зарубки? — Голос Дикона звучал как-то странно. Он взял ледоруб из рук Реджи и внимательно осмотрел. Затем вытащил из рюкзака бинокль и начал изучать узкий овраг справа от того, в начале которого стояли мы с Же-Ка. С каждой секундой я мерз все сильнее, особенно ноги. — Там что-то есть. — Рука Пасанга указывала наверх. — Да, — подтвердил Дикон. — Человек. Тело. Втроем — первый десяток шагов двое высоких мужчин поддерживали Реджи, неуверенно шагавшую на своих «кошках», — они стали подниматься по оврагу, но не назад, где почти у самого верха стояли мы с Же-Ка, а к более узкому и крутому, справа от нас. Там нас что-то ждало — или кто-то.Глава 15
Я первым добрался до человека в другом овраге, потому что немного схитрил. Вместо того чтобы спуститься по своему оврагу, а затем снова подняться по соседнему, как разумно поступили все остальные, включая Жан-Клода, я использовал остаток сил, чтобы перебраться через девятифутовую гряду из камней, разделяющую два оврага, и спрыгнул с нее на снег, едва удержался на ногах, отчаянно размахивая руками, а затем поспешно вогнал в снег ледоруб. Эти глупые и опасные действия привели меня к трупу на несколько минут раньше остальных. То, что это труп, я понял сразу. И — даже с учетом моего очень ограниченного знакомства с мертвецами — выглядел он странно. Высокий мускулистый мужчина сидел на плоском камне всего в нескольких ярдах от того места, где после падения остановилось его тело. Он словно застыл. Английский альпинист, сомнений в этом быть не могло. Как и у Мэллори, у него за спиной не было кислородных баллонов или рамы для них. На нем был потрепанный ветром анорак поверх норфолкской куртки, из-под которой выглядывали несколько шерстяных свитеров, на голове — остатки мотоциклетного или летного шлема, странно сдвинутого набок, а также лохмотья большой шерстяной шапки. Очки отсутствовали, и лицо было открыто всем стихиям. Я наконец понял, почему его поза показалась мне странной: труп застыл в сидячем положении, сложив ладони вместе, то ли в молитве, то ли в попытке согреть руки. Причем ладони были зажаты между поднятыми коленями, так крепко притиснутыми друг к другу, что казались цельной замерзшей массой. Собравшись с духом, я присел и посмотрел в лицо мертвеца. Красивое лицо и, вероятно, очень молодое, хотя год пребывания на такой высоте, а также ветер и солнце оставили на нем свой отпечаток. Я видел глубокие следы в тех местах, куда прижималась кислородная маска в последний день его жизни: у переносицы красиво вылепленного носа и по обе стороны того, что когда-то было изящно очерченным ртом. Смотреть на его рот было жутковато, поскольку либо последний вздох, либо натянувшиеся уже после смерти связки приоткрыли его, отодвинув сморщенные губы от белых зубов и обнажив коричневые десны. Глаза были закрыты — они глубоко ввалились, словно в них отсутствовали глазные яблоки — и заполнены снегом и льдом. Правая сторона некогда красивого молодого лица осталась практически нетронутой, если не считать странных, прозрачных полосок кожи, свисавших со щек, лба и подбородка. Рана на левой стороне лица, которую я поначалу принял за полученную при падении, при ближайшем рассмотрении оказалась делом воронов, клевавших замерзшую кожу, чтобы добраться до глубоких слоев. В результате обнажились кость левой скулы, все зубы с левой стороны лица бедняги, а также коричневые мышцы и связки. Признаюсь, мне стало не по себе — словно эта сторона лица трупа широко мне улыбалась. Половина лба и черепа были открыты, поскольку мотоциклетный шлем и шерстяная шапка съехали набок, и волосы на голове оказались коротко постриженными и такими светлыми, что сквозь мои очки из крукса выглядели почти белыми. Я на секунду поднял очки, чтобы получше разглядеть, и убедился, что короткие, все еще зачесанные назад волосы действительно белые — скорее всего, из-за годового воздействия ультрафиолетовых лучей, свирепствующих на такой высоте. Нетронутая правая сторона лица поросла белой щетиной, но часть щетины вдоль затененной скулы имела желтоватый оттенок. Я оглянулся в поисках рюкзака или других вещей, сохранившихся после падения, но ничего не увидел, за исключением брезентовой противогазной сумки на груди трупа — как у Джорджа Мэллори. Борясь с внезапным приступом тошноты, я присоединил кислородную маску к своему кожаному мотоциклетному шлему, включил подачу кислорода на минимум и сделал несколько вдохов, чтобы вернуть мозг в рабочее состояние. Когда четверо моих товарищей преодолели последние ярды вверх по оврагу, я отступил, освобождая им место. Какое-то время все молчали, скорее для того, чтобы наполнить легкие кислородом, чем в знак уважения к мертвому человеку у наших ног. Это придет потом… А пока я жадно глотал воздух, который питал меня кислородом, как на высоте 15 000 футов, из своего баллона и, моргая, пытался избавиться от черных точек, заполнивших сузившееся поле зрения. Карабкаться через каменную гряду на высоте 28 000 футов — это не самый разумный мой поступок за последнюю неделю. Я потянул кислородную маску вниз. — Это ваш кузен Персиваль, Реджи? Женщина посмотрела на меня так, словно сомневалась, не шутка ли это. Увидев, что я серьезен, покачала головой. После падения на склоне из-под отороченного мехом летного шлема выбились несколько прядей ее прекрасных иссиня-черных волос. Она тоже сдвинула на лоб массивные очки, чтобы, как я полагаю, получше рассмотреть труп, и в ее глазах было еще больше яркого ультрамарина, чем обычно. — Этому человеку в момент смерти было чуть за двадцать, — сказала Реджи. — Моему кузену Перси в прошлом году исполнился тридцать один. Кроме того, у Перси… были… темные волосы, более длинные, и тонкие черные усики, как у Дугласа Фэрбенкса в «Знаке Зорро». — Тогда кто же это? — Джентльмены, — печальным голосом продолжила Реджи, — перед вами бренные останки двадцатидвухлетнего Эндрю Комина «Сэнди» Ирвина. Жан-Клод перекрестился. Впервые за все время нашего знакомства. Я снова оттянул маску вниз для длинной тирады. — Не понимаю. Я нашел Мэллори в семи или восьми сотнях футов ниже… но Ирвин тоже обвязан веревкой. И тоже оборванной близко к телу… Дикон огляделся. — Ты прав, Джейк, — сказал он. Здесь, на высоте больше 28 000 футов, по-прежнему дул лишь легкий ветерок. — Мэллори не падал с такой высоты, через весь Желтый пояс, каменные гряды и скалы — в противном случае его тело было бы изуродовано гораздо сильнее. — Значит, они спускались поодиночке? — спросил Жан-Клод; в его тоне сквозило неодобрение опытного гида Шамони. — Не думаю, — ответил Дикон. — Полагаю, несчастный случай — падение — имел место гораздо ниже, под Желтым поясом и тем гребнем, где-то среди скалистых оврагов внизу. Один из них сорвался первым… и как ни трудно в это поверить, мне кажется, этим человеком был Мэллори. — Почему? — спросил я. — Из-за раны на колене Ирвина, — тяжело дыша, сказал Пасанг. Я ее не заметил. Ткань некогда светлых, а теперь покрытых грязью брюк была порвана и испачкана засохшей кровью, и колено представляло собой открытое месиво из разбитых хрящей. — И что это доказывает? — Я снова надел кислородную маску. — Это доказывает, что Ирвин пролетел меньшее расстояние, чем Мэллори, — сказал Дикон. — Но обратите внимание, что альпинистская веревка толщиной три восьмых дюйма порвалась приблизительно в десяти футах от тела Ирвина — как и тела Мэллори, — и я полагаю, от удара об острую скалу, но уже после того, как оба получили травмы. — От которых они и умерли? — спросила Реджи. — Нет, — ответил Пасанг. — Мистер Мэллори умер от последствий падения и от переохлаждения. Но, я думаю — и мы все это видели, — через несколько минут или даже секунд он потерял сознание от ужасной травмы головы или от боли в сломанной ноге. Мистера Ирвина, по моему мнению, сбило с ног, предположительно во время страховки где-то чуть ниже этого места, и он упал и разбил колено — кстати, это очень, очень больно; травма колена считается одной из самых болезненных, какую только может выдержать человек. Но веревка оборвалась, снизу доносились затихающие крики и звуки падения мистера Мэллори, и мистер Ирвин прополз вверх несколько ярдов или даже сотню футов до этого места, где замерз насмерть после наступления темноты. — Почему он пополз вверх? — спросил Жан-Клод. — Их шестой лагерь находился всего в нескольких сотнях ярдов отсюда, ниже и восточнее. — Не забывайте, что ни у мистера Мэллори, ни у мистера Ирвина не было компаса, — тихо сказал Пасанг. — Мистер Мэллори спускался первым через каменный лабиринт ниже Желтого пояса и упал — возможно, сбив с ног мистера Ирвина, который его страховал, — а затем веревка оборвалась, и мистер Ирвин разбил пателлу. — Пателлу? — переспросил Жан-Клод. — Коленную чашечку, — пояснил Пасанг. — И тем не менее, — настаивал Жан-Клод, — зачем Ирвину ползти вверх, если Мэллори упал вниз? — Возможно, потому, что здесь, у самого гребня, еще оставалась полоса света от заходящего солнца, а Сэнди очень, очень замерз и думал, что солнце подарит ему еще несколько минут тепла и жизни, — предположила Реджи. — В любом случае, вот его блокнот. Она извлекла маленькую книжечку не из противогазной сумки, а из нагрудного кармана норфолкской куртки Ирвина. Мы сгрудились вокруг нее. Известно, что Ирвин писал с чудовищными ошибками — много лет спустя я понял, что это, скорее всего, дислексия, — но здесь он сокращал большинство слов, и читать накорябанные карандашом строчки было все равно что разгадывать немецкий шифр. Я снова оттянул маску от лица. — Что это значит: «вбс 1й блк 3.48 псл нчл всх V пдч всвр вкл 2.2л»? Ответил мне Жан-Код. Он разбирал каракули и сокращения Ирвина не лучше остальных, но был специалистом по кислородным аппаратам, модернизацией которых занимались его отец, Джордж Финч и Сэнди Ирвин. — Выбросил первый баллон… кислорода… через три часа сорок восемь минут после начала восхождения из пятого лагеря, — перевел Же-Ка. Но это было еще не все. — Подача все время была включена на максимум, две целых и две десятых литра в минуту. — Все точно, — с уважением произнес Дикон вполголоса. — Если они всю дорогу от пятого лагеря дышали кислородом при максимальной подаче, то должны были выбросить первый пустой баллон где-то недалеко от первой ступени. — Сколько кислородных баллонов у них было с собой? — спросила Реджи. Дикон пожал плечами. — Никто точно не знает. Но, судя по заметкам на полях одного из старых писем в кармане Мэллори, завернутых в красивый носовой платок… думаю, не меньше пяти на двоих. — Господи, — прошептала Реджи. — Имея пять баллонов и начав восхождение до рассвета или сразу после него, они могли подняться на вершину Эвереста, и у них осталось бы достаточно кислорода, чтобы спуститься, по крайней мере, ниже второй ступени. — А что сказано в этих двух записях? — спросил Дикон. «М офт Р в чдс мст. об оч грд. Нсл нич не пдл. Мсрв в прв. клн бл но нтс кк рнш. М обгнслнл бл слн. Нч. Мнг зв. Крс. Оч оч хлн. Прщ М я лб тб п и т Т. Д. Мн жл». Дикон подумал минуту, затем попытался щелкнуть пальцами в толстых варежках. — «Мэллори оставил фото Рут в чудесном месте. Оба очень горды. Несчастный случай, ничего не поделаешь… Мэллори сорвался… веревка порвалась». — А последняя часть? — спросил Пасанг, разглядывая записи, освещенные ярким солнцем. Он указал на строчку: «клн бл но нтс кк рнш. М обгнслнл бл слн. Нч. Мнг зв. Крс. Оч оч хлн». — Колено болит, но не так сильно, как раньше, — перевела Реджи, которая начала понимать сокращения, которыми пользовался погибший альпинист. — Мое… — Она остановилась на слове «обгнслнл». — Обгоревшее на солнце лицо? — предположил Дикон. Реджи со вздохом кивнула. — «Мое обгоревшее на солнце лицо болит сильнее. Ночь. Много звезд. Красиво. Очень, очень холодно». Я едва удерживался от слез, глядя через толстые стекла очков на мертвого человека. Его лицо тоже было бесстрастным. — А это? — спросил Жан-Клод, указывая на последние неровные буквы. — «Прщ М я лб тб п и т Т. Д. Мн жл». Дикон и Реджи переглянулись, Дикон кивнул, и Реджи напряженным, но не дрогнувшим голосом перевела: — «Прощай, мама. Я люблю тебя, папу и Хью — наверное, это старший брат Сэнди — и… тетя Т. Д.». — Реджи умолкла. — Тетя Т. Д., я уверена. Ее зовут Кристина. Он дважды упоминал ее во время нашего последнего ужина на плантации. А потом только… «Мне жаль».— Они пытались найти дорогу вниз среди этих «полок» и ущелий почти в полной темноте, даже луна не светила. — Дикон словно разговаривал сам с собой. — Поэтому очки были в рюкзаке или в кармане. — Все это… merde. Всего лишь предположения, — сказал Жан-Клод. — Oui, мой друг, — согласился Дикон. — Но Джейк, возможно, нашел тут доказательство, что они покорили вершину. — Какое доказательство? — спросил я. — Запись Ирвина, что Мэллори оставил фотографию своей жены, Рут, в чудесном месте. И что они оба — Ирвин и Мэллори — очень горды. На мой взгляд, это самая скромная запись о покорении вершины. — А может, Мэллори оставил фотографию Рут в высшей точке, куда они поднялись, но не на вершине? — предположила Реджи. — Откуда они повернули назад… когда решили, что пора отступать, или просто были застигнуты темнотой. С любого места выше второй ступени открывается великолепный вид. — Мы этого никогда не узнаем. — Если только не попытаемся пройти траверсом между вершинами. — Дикон посмотрел на меня. — И не найдем фотографию Рут на самой высокой, Северной вершине. Некоторое время все молчали. Я вдруг осознал, что мы стоим со сложенными ладонями, словно молимся за Сэнди Ирвина. Теперь наше молчание точно было данью памяти погибшему, о чем я уже говорил. — Жаль, что эти проклятые вороны добрались до его лица, — вырвалось у меня. — Но не до этой половины. — Доктор Пасанг снял две пары варежек и пальцем в тонкой перчатке указал на странные прозрачные полоски, свисающие с правой стороны лица бедного Ирвина. — Кожа сошла после ужасного солнечного ожога, полученного при жизни, — сказал он. — Это — особенно с кислородной маской, глубоко врезавшейся в обожженную плоть, — причиняло ужасную боль в последние дни и часы его жизни. — Ирвин никогда бы не стал жаловаться, — ровным голосом сказала Реджи. Дикон заморгал. — Я почти забыл, что в прошлом году вы встречались с ним на вашей плантации в Дарджилинге. Реджи кивнула. — Сэнди казался очень милым молодым человеком. Мне он понравился гораздо больше, чем Джордж Мэллори. — Она указала на брезентовую сумку и на карманы норфолкской куртки Ирвина. — Нужно посмотреть, что у него было с собой. — Прошу нас извинить, мистер Ирвин, — произнес Дикон и расстегнул клапан противогазной сумки и начал вынимать ее содержимое. Как и у Мэллори, внутри оказались личные вещи — коробочки с леденцами от горла, несколько документов, такой же кожаный ремешок для крепления кислородной маски, — а также маленький, но тяжелый фотоаппарат. — Я убежден, что это «Кодак» Джорджа Мэллори, — сказал Дикон. — Совершенно верно, — подтвердила Реджи. — Он показывал его леди Литтон и брату Гермионы, Тони Небуорту, во время моего прощального ужина на плантации Бромли, вечером накануне их отъезда в марте прошлого года… год назад. — Давайте все наденем очки, — сказал Дикон. — Снег очень яркий. — Он протянул нам фотоаппарат и предупредил: — Пожалуйста, не уроните. Тяжелый черный фотоаппарат размерами не превышал банку сардин. Он без труда помещался в большой нагрудный карман рубашки обоих альпинистов, но Ирвин почему-то предпочел носить его в брезентовой сумке. Же-Ка, испытывавший меньше почтения к историческим артефактам, чем я, разложил складную камеру, раздвинув гофру, прикрепленную к металлическим шарнирам. Механизм раскрылся легко, как будто не пережил летний муссон, бесконечную зиму и бурную весну на высоте 28 000 футов на склоне Эвереста. Видоискателя у камеры не было. Чтобы сделать снимок, следовало держать фотоаппарат на уровне груди и смотреть на очень маленькую призму. Затвор срабатывал от крошечного рычажка. Конструкция была чрезвычайно простой, с «защитой от дурака». Держа камеру у груди, Же-Ка отступил на шаг от нас пятерых — включая тело Ирвина — выше по склону. — Изображение перевернуто, — сообщил он. — Скажите «сыр». — Но мы… — запротестовал Дикон, однако Же-Ка уже нажал на рычажок. — Работает, — сказал он. — Компания «Кодак» достойна похвалы. Нужно написать им — это отличная реклама. — Как вы можете шутить в такой момент? — Реджи говорила тихо, но Же-Ка опустил голову, словно пристыженный ребенок. Никто из нас не хотел лишиться расположения леди Бромли-Монфор. — Если на том кадре, — устало сказал Дикон, — уже было изображение, ты мог его испортить. — Нет, — возразил Жан-Клод. — Я видел маленькое колесико для перемотки пленки и перемотал ее, перед тем как сделать ваш групповой портрет. Просто удивительно, что механизм не замерз. — Он посмотрел в глаза Дикону. — Если это фотоаппарат Мэллори, почему он оказался в сумке Ирвина? Или у обоих были одинаковые камеры? — По свидетельству Нортона и Джона Ноэла, — ответил Дикон, — только у Мэллори была камера «Кодак» этой модели. Ирвин должен был взять с собой из четвертого лагеря еще пару фотоаппаратов, а также миниатюрные кинокамеры Ноэла, но ни в карманах, ни в сумке их нет. Дикон печально покачал головой — похоже, присутствие тела Сэнди Ирвина его очень расстраивало, хотя они никогда не встречались, — но затем он встрепенулся и по очереди оглядел нас скрытыми за стеклами очков глазами. — Помните, что сказал Пасанг там, внизу? Когда кто-то желает получить собственный портрет, что он делает? — Голос Дикона звучал почти радостно. — Передает фотоаппарат другому, чтобы тот его сфотографировал! — быстро ответила Реджи. (Быстрее, отметил я, чем шевелились мои мозги, даже подпитанные «английским воздухом».) — Если они поднялись на вершину, — подхватил Жан-Клод, то Мэллори почти наверняка сфотографировал Ирвина, а потом передал маленькую камеру Сэнди, чтобы тот сфотографировал его. И Ирвин мог положить фотоаппарат в свою сумку. Это логично. — Мы должны сохранить фотоаппарат, — сказал Дикон. — Но в таком случае, — прибавила Реджи, — нужно взять и последнюю записку Ирвина, передать ее матери. — Обязательно, — кивнул Дикон. — Но только если мы не найдем кузена Персиваля и Майера вместе с… не знаю, что там у них было… и не будем обязаны какое-то время держать нашу экспедицию в тайне. Но вы возьмите блокнот, леди Бромли-Монфор. Если мы выживем и нам будет позволено рассказать об этой экспедиции, когда все закончится, я — черт, все мы — захотим узнать, поднялись ли Мэллори и Ирвин на Эверест год назад. — Давай, Джейк, — сказал Дикон. — Я беру блокнот, а ты понесешь фотоаппарат. Готов поспорить, там есть негативы, которые ответят на вопрос, покорили ли Мэлори и Ирвин вершину в прошлом году. — Почему я? — Мысль о том, что придется носить с собой камеру Мэллори, по какой-то непонятной причине беспокоила меня, словно мне предлагали большую тяжесть. — Потому что у тебя самый легкий груз, и потому что мне кажется, что ты можешь пережить это восхождение.
Глава 16
Честно говоря, я не верил, что мы сможем подняться на Северо-Восточный гребень Эвереста на высоте 28 000 футов, но когда представлял, как ступаю на него, то всегда думал, что мы втроем серьезно пожмем друг другу руки или по-братски похлопаем друг друга по плечу — а может, просто будем смотреть на мир с одной из самых высоких точек на нашей планете. Но когда мы на самом деле добрались до гребня, то настолько устали, что даже не могли пошевелиться. Первым сдвинулся Жан-Клод — проковылял за ближайший камень, сорвал кислородную маску, и его вырвало. Пасанг просто смотрел на юг, словно там его что-то ждало. Когда мы отдохнули и немного подышали кислородом, установив подачу на 2,2 литра в минуту, мы с Диконом и Реджи достали бинокли и стали изучать склоны под нами, выискивая немцев, которые делали все возможное, чтобы догнать и убить нас. — Вот они, — наконец сказал я, указывая вниз. Все пятеро. Поднимаются по трещинам над Желтым поясом примерно в трехстах футах к северо-западу от нашего шестого лагеря. Будут на нашем гребне минут через тридцать. — Видите их? — Oui. Я видел на груди идущего первым — самый опытный альпинист из всех пятерых, судя по скорости передвижения и коротким остановкам, — ремень винтовки. — Думаешь, это Бруно Зигль? — спросил я Дикона. — Откуда мне знать? — буркнул он. — На всех белые зимние маскировочные анораки с капюшонами, а под очками что-то вроде белых шарфов или масок. Как я могу узнать Бруно Зигля с такого расстояния? — Но ты думаешь, что это он? — Да, — ответил Дикон и опустил бинокль, так что тот повис на толстом кожаном ремешке. — Он — их лидер. Самый опытный альпинист. И больше всех хочет найти и убить нас. Поднимается уверенно, с какой-то странной агрессивностью. Да, думаю, это он. — Я по-прежнему кое-чего не понимаю, Ри-шар, мадам Реджи, — сказал Жан-Клод. Он набрал в рот немного воды из бутылки, прополоскал рот и сплюнул на снег. — Что такого мог этот Курт Майер — и, если уж на то пошло, ваш кузен Персиваль, Реджи, — стянуть у немецкого правительства, что они так хотят это вернуть? В конце концов, Англия и Франция не воюют с Германией… пока. Реджи вздохнула. — Перси поручили… добыть сведения вовсе не о нынешнем немецком правительстве, — сказала она. — Веймарская республика слаба и нерешительна. Наш с Диконом… общий друг… попросил Персиваля добыть информацию об одной экстремистской группе националистов правого толка. — Deutschland буквально кишит разными группами крайне левых и крайне правых националистов, — заметил Же-Ка. — Да, — согласилась Реджи, — но только нацисты — та группа, к которой принадлежит Бруно Зигль со своими друзьями, — будут представлять большую опасность для Великобритании… и Франции… в ближайшие годы и десятилетия. По крайней мере, так считает наш друг, который выписывает много чеков, но предпочитает золото. — Честно говоря, мне надоело, что вы двое все время разговариваете какими-то дурацкими загадками, — сказал я между приступами жуткого кашля; я разозлился. — Шпионы — даже те, кто на нашей стороне, — обычно работают на правительство, министерства, секретные службы, а не на частных лиц, которые любят золото. Просто скажите, о ком идет речь, черт бы его побрал, и как один человек может посылать шпионов в Германию. Мы тут рискуем жизнью. И имеем право знать, кто этот английский начальник над шпионами. — В данном случае он отправил шпионов в Австрию, — поправила меня Реджи. — Возможно, когда-нибудь вы сами с ним познакомитесь, Джейк. А теперь мы должны решить, что делать дальше. Эти убл… немцы… будут на Северо-Восточном гребне через сорок минут, и если мы быстро не примем решения, то скоро окажемся в пределах дальности стрельбы из винтовки. В наступившем молчании слышался только вой ветра. Внизу, на Северной стене и в оврагах, воздух был неподвижен, но на узкой кромке Северо-Восточного гребня свирепствовали ветры. Не очень густой плюмаж тумана тянулся от вершины меньше чем в 1000 футах над нами. Теперь нам приходилось кричать, чтобы быть услышанным, и от этих усилий мое горло, в котором словно застряла кость, болело еще сильнее. Я решил, что мне нужно заткнуться и предоставить все решать остальным. Честно говоря, мне было плевать, кто этот босс английских шпионов. Главное, он послал на смерть Бромли и Курта Майера, а теперь, похоже, та же участь ждала и нас. Примерно в ста футах ниже кромки гребня Жан-Клод похлопал меня по плечу и сказал: — Джейк, ты все еще несешь ледоруб мистера Ирвина. Совершенно верно. Мы решили, что лучше оставить тело Сэнди Ирвина на том же месте, поскольку через год или через два тем же путем пойдет следующая британская экспедиция на Эверест. Если мы его похороним — и если наша экспедиция по какой-то загадочной причине останется тайной, — его никогда не найдут. Так рассуждал Дикон. Но я, сам того не сознавая, притащил ледоруб Сэнди Ирвина с тремя характерными зарубками на рукоятке почти до кромки гребня с восточной стороны первой ступени, а когда Же-Ка напомнил мне о нем, аккуратно положил ледоруб на камень, чтобы его через год или два могли найти британские альпинисты — металлический клюв указывал вниз, на спрятанное в овраге тело. Откуда нам было знать, что следующая британская экспедиция попадет на Эверест только в 1933 году и что они найдут оставленный мной ледоруб, но не станут спускаться на пару сотен футов, чтобы искать самого Ирвина? — Мы должны подняться на первую ступень или обойти ее, — говорил Дикон. — Сделать так, чтобы она оказалась между нами и немцами. Как ты думаешь, Джейк… ты же у нас главный скалолаз — вскарабкаться на нее или обойти вдоль основания? Если решим подниматься, то пойдем по большим камням или по скалам с левой стороны гребня, ближе к стене Кангшунга? Я вынырнул из глубокой задумчивости и сделал несколько шагов к южному краю гребня. На Северной стене мы привыкли, насколько это возможно, к 8000-футовой высоте, которая отделяла нас от ледника внизу, но там была хотя бы иллюзия постепенного уклона перед отвесным обрывом. Однако от южного края этого очень узкого Северо-Восточного гребня начинался отвесный обрыв глубиной более 10 000 футов к ощетинившемуся черными зубами скал леднику Кангшунг. И абсолютно ничего — кроме завывающего ветра — между нами и ледником почти в двух милях внизу. — Черт! — услышал я свой голос, не отрывая взгляда от обрыва. — Полностью согласен, — сказал Жан-Клод. Он стоял справа от меня, почти касаясь плечом. Опасаясь столкнуться с ним, я отступил назад, посмотрел на Северо-Восточное седло и скалистую громаду первой ступени и надолго задумался. Молчание нарушалось только воем усиливающегося ветра. Над вершиной Эвереста формировалась грозная, клубящаяся белая шапка перистого облака. — Если бы мы поднимались на первую ступень свободным стилем, как, вероятно, это сделали Мэллори и Ирвин, — мой голос звучал гораздо увереннее, чем я на самом деле себя чувствовал, — я бы держался левее, ближе к стене Кангшунга. Там легче подниматься. Больше опор для рук. Но у нас есть хорошие веревки и жумары Жан-Клода. Если остальные воспользуются жумарами, то один может оставить рюкзак и кислородные баллоны, подняться по тем здоровым камням справа, на самый верх, организовать надежную страховку и закрепить веревки для жумаров. Я был уверен, что Дикон спросит меня, как туда подняться — в конце концов, я их главный скалолаз, и именно поэтому меня взяли сюда, на вершину мира. Только они не знали, что у меня в горле и в верхней части дыхательных путей поселился омар с острыми клешнями, и время от времени он шевелился. И каждый раз почти полностью перекрывал мне воздух. — Я поднимусь туда и проложу веревку, — сказал Дикон. — Побережем Джейка для второй ступени. Там будет настоящая работа. Я не спорил. Мы переместились к подножию нагромождения камней у южной стороны первой ступени и начали прокладывать веревки, а Дикон снял рюкзак и варежки, но вдруг остановился. — Подождите! А как насчет поисков тела Бромли на северной стороне первой ступени? Я думал, мы договорились. Реджи сжала его плечо. — Мы уже это сделали, Джейк. Но вместо него нашли Сэнди Ирвина. Чтобы обыскать все эти овраги, потребуется много часов и даже дней — и вы сами видите, что он не висит на южной стене этого гребня. Кроме того, я думаю, что Ками был прав… что бы там ни случилось… три фигуры, затем всего одна… на этом гребне между первой ступенью и более высокой второй ступенью, около того камня, похожего на гриб. Именно там мы будем искать. После того, как мы поднимемся на первую ступень. — Кроме того, герр Зигль и его друзья слишком быстро приближаются к нам, чтобы мы тут долго задерживались. — Но… — начал я, но кашель заставил меня замолчать на целую минуту. Реджи коснулась моей спины. — Пасанг, — окликнула она молчаливого шерпу, — вы можете дать нашему другу что-нибудь от кашля? — Кодеин больше нельзя, — сказал доктор Пасанг. — На такой высоте будет слишком сильный усыпляющий эффект. Но в моей аптечке есть древнее индийское лекарство от кашля, если вы согласны его попробовать. — Ладно, — согласился я и протянул варежку. Пасанг порылся в своем рюкзаке, а затем в маленькой аптечке, и наконец вложил мне в руку маленькую коробочку «Леденцов от кашля братьев Смит» — новые, ментоловые, которые появились всего два или три года назад. Стоявшая на страховке Реджи заглянула мне через плечо и рассмеялась, но я просто открыл коробочку и положил в рот три леденца. — Я готов, — сказал Дикон, привязался и накинул бухту веревки на плечо. — Кто будет страховать? — Я, — в один голос отозвались Реджи и Жан-Клод. Оба перекинули веревку через плечо, и Же-Ка обвязал ее вокруг самого тонкого вертикального камня. Затем они одновременно крикнули: — Страхую! Дикон выбрал свой конец страховочной веревки, чтобы обеспечить себе свободу движений, посмотрел на уродливое нагромождение камней и стал карабкаться вверх, похожий на неуклюжего паука. Его стиль нельзя было назвать красивым, но на большинстве скал он был эффективен. Выбирая едва заметные зацепки для рук и ненадежные опоры для ног, Ричард постепенно поднимался, отматывая за собой веревку и всем телом прижимаясь к вертикальной скале, удерживаться на которой иногда позволяла лишь сила трения. Я оглянулся назад и поднес к глазам бинокль. Меньше чем в восьмистах ярдах от нас на Северо-Восточный гребень поднялись немцы — на нашу высоту, вровень с нами. Я смотрел, как они остановились, чтобы отдышаться, а затем их высокий лидер с винтовкой за плечами что-то сказал, и все пятеро медленно двинулись на запад, в нашу сторону. — Поторопись! — крикнул я Дикону.Глава 17
Подъем на первую ступень, даже с помощью закрепленных Диконом веревок, был изматывающим — на высоте больше 28 000 футов любое движение отнимает все силы, — но добравшись до вершины, мы почувствовали себя немного лучше, поскольку были уже вне пределов прямой видимости пяти немецких альпинистов, которые нас преследовали. Затем, когда мы вытянули и свернули веревки, проложенные на первой ступени, Реджи сдернула кислородную маску, и мое только что обретенное чувство облегчения тут же испарилось. — Если, — сказала она, — Зигль действительно встретился с кузеном Перси и Куртом Майером на этом участке Северо-Восточного гребня, как рассказывал Ками Чиринг, это значит, что он уже поднимался на эту высоту. Вероятно, ему принадлежит рекорд — среди живых — восхождения на высшую точку Эвереста. И он может знать более быстрый путь в обход первой ступени. — До какой высоты полковник Нортон поднялся по Большому ущелью? — спросил Жан-Клод. — Думаю, вровень с нашим гребнем… до двадцати восьми тысяч футов. — Нортон повернул назад на высоте двадцать восемь тысяч сто двадцать шесть футов, на верхней точке Большого ущелья, до которой ему удалось подняться, — ответил Дикон. — Сомервелл достиг двадцати восьми тысяч футов, ниже и позади Тедди Нортона, просто проходя траверсом по Северной стене и не поднимаясь в ущелье. — Рекорды высоты ничего не значат, если Зигль и остальные немцы действительно знают более быстрый путь в обход первой ступени, — выдохнул я, сдвинув вниз маску. Дикон не отреагировал на мое замечание и указал на засыпанную снегом скалистую Северную стену. — Нортон и Сомервелл были там, в нескольких сотнях ярдов к западу от нас и почти прямо под вершиной, прежде чем повернуть назад. Мы побьем рекорд Нортона, если поднимемся по этому гребню к подножию второй ступени… это приблизительно двадцать восемь тысяч двести восемьдесят футов. — Всего семьсот футов ниже вершины, — прошептал Жан-Клод, но его слова почти заглушил усилившийся ветер, заставлявший нас наклоняться в западном направлении. Любой свободный край нашей одежды трепыхался, как белье на веревке во время урагана. Ветер поднимал со скал снег, который иглами вонзался в открытые участки лица. Примерно на полпути между первой ступенью и грозной громадой второй ступени находился низкий камень, действительно похожий на гриб. — Мы не можем оставаться здесь, на кромке гребня! — крикнул Жан-Клод. — Она слишком узкая. Слишком крутая. И ветер слишком сильный. Тут мы ничем не защищены от винтовки немцев, если они поднимутся на первую ступень или обойдут ее. Дикон кивнул, спустился на Северную стену и, нащупывая опоры для ног, траверсом двинулся на запад. Мы образовали две связки — Дикон, Реджи и Пасанг в первой, я и Жан-Клод во второй. Прежде чем мы разбились на две группы для этого непростого траверса, я крикнул Реджи: — Как мы будем искать лорда Персиваля на этом участке? — Просто постарайтесь не упасть, — крикнула она в ответ. — Похоже — по крайней мере, насколько это было видно в бинокль, — около напоминающей гриб скалы есть горизонтальная площадка. Мы остановимся там и попробуем осмотреться. Думаю, что если Перси и Майер действительно упали с Северо-Восточного гребня, это случилось именно там. Именно так мы и поступили — спустились ниже кромки гребня, нащупывая маршрут для траверса. Находиться среди осыпающихся камней и пятен снега в нескольких ярдах ниже и севернее острого, как лезвие бритвы, гребня было страшно — посмотрев прямо вниз, я видел крошечные точки в том месте, где на Северном седле в 5000 футах под нами стояли палатки. Напрямую до них была целая миля, и я не мог сказать, наши это палатки или немецкие. Я не сомневался, что если мы сорвемся, то будем катиться вниз, ударяясь о скалы, и клочки наших тел разбросает по леднику Восточный Ронгбук недалеко от бывшего третьего лагеря. Я ничего не мог поделать с чувством неуверенности, когда у троих из нас закончился кислород и пришлось остановиться на ненадежных опорах, чтобы переключить клапан, с помощью шедшего следом товарища достать пустой баллон из рюкзака и отсоединить от него арматуру и трубки. Уверенности не добавил и поступок Реджи, которая — намеренно — швырнула свой серебристый металлический баллон как можно дальше. Он ударился о скалы футах в 200 ниже нас и продолжил свой полет, отскакивая от Северной стены, пока не скрылся из виду. Казалось, грохот, издаваемый этим проклятым баллоном, не стихнет никогда. Я решил, что у леди Реджи Бромли-Монфор есть садистские наклонности. Мы с Же-Ка тоже выбросили баллоны, но мне было неприятно смотреть, как падает мой, и я отвернулся к заснеженной каменной стене и прижал обтянутый кожаным шлемом лоб к холодному камню. Потом помогли друг другу проверить, что регулятор второго из трех баллонов у каждого из нас установлен на 1,5 литра в минуту и клапан открыт. На этом участке я не мог обойтись без кислорода — не хотел совершить какую-нибудь глупость или быть неуклюжим больше, чем это было допустимо. Меня так и подмывало переключить подачу на 2,2 литра в минуту, но я понимал, что должен экономно расходовать тот небольшой запас «английского воздуха», который имелся в моем распоряжении. Таким опасным этот траверс делало отсутствие надежных опор для ног — весь склон на 100 или 200 футов ниже вершины гребня с северной стороны состоял из маленьких наклонных и неустойчивых плит, скользкого нагромождения мелких обломков и целых гравийных полей, судя по всему, состоящих из сланца, который раскрошился за сотни лет резкой смены температур. Тут были также невинные с виду пятна снега между валунами, на самом деле представлявшие собой глубокие ямы. Реджи назвала их «ловушками для тигров», и я подумал, что за десять лет, проведенные в Индии, у нее накопился некоторый опыт охоты на тигров. Хотя сомневался, что знатные представители британских властей занимались тем, что заманивали тигров в снежные ямы. В такую занесенную снегом дыру можно провалиться по грудь, а чтобы выбраться из нее, нужно потратить чертовски много сил и подвергнуть опасности товарищей, которые будут тебя вытаскивать. Дикон обходил снежные ямы, нащупывая их длинным ледорубом, и этим же ледорубом указывал на них и на особенно опасные места всем остальным. Пока никто не упал в яму — или со склона. А затем мы уткнулись в тупик.— Проклятие, — услышал я тихий голос Дикона, шедшего футах в 40 впереди меня. Как и все остальное на этом гребне, звуки сдувало с запада на восток. Преградой на нашем пути стал не камень, а длинный гладкий выступ гранита, тянущийся от острого гребня вверху до места, которое находилось приблизительно в 20 футах ниже маршрута нашего траверса. Но я сразу увидел, что обойти это препятствие сверху или снизу будет не так-то легко. Над нами громада гладкого камня переходила в ажурный гребень — высокий, хрупкий, неровный пик, который был Северным гребнем для этих нескольких смертельно опасных ярдов. Сегодня никто бы не смог на него подняться. По крайней мере, с этого места на Северной стене. Наша линия траверса на этом уровне предлагала лучшее решение проблемы гладкого выступа, но, как и все лучшие решения в альпинизме, оно дурно пахло. Это был слепой шаг… слепой прыжок… способ передвижения, к которому альпинист должен был бы прибегнуть в Альпах, примерно на 20 000 футов ниже, чем мы находились в данный момент, когда он просто проталкивает свое тело по гладкому выступу, изо всех сил прижимаясь к нему и надеясь, что трение удержит его три или четыре секунды, необходимые для того, чтобы поставить ногу с другой стороны — невидимой из-за выпуклости этой проклятой скалы. Остается лишь молиться, чтобы на той стороне оказалась опора для ног или зацепка для рук. Иногда это случается. Но очень часто — о чем свидетельствует столько смертей ежегодно — нет. В Альпах такого рода шаг вслепую опасен, однако падение там зачастую можно предотвратить, если партнер обеспечит надежную страховку. Но на этом крутом, скользком склоне страховка, которую мог организовать кто-либо из нас пятерых, не стоила и ломаного гроша. Все четверо могли страховать Дикона — или любого, у кого хватит глупости попробовать этот шаг вслепую, — но его падение неминуемо приведет к тому, что мы впятером сорвемся с Северной стены. У нас под ногами или над головой виднелись несколько скальных выступов, но все они были недостаточно большими и прочными, чтобы стать точкой страховки, и даже «волшебная веревка Дикона» все равно с большой долей вероятности перетрется об острые края. — Ладно, — крикнул я. — Что дальше? Возвращаемся к первой ступени и будем думать? Или бросать камни в немцев? — К черту возвращаться! — крикнул в ответ Дикон. Он отвязался от веревки, которая связывала его с Реджи и Пасангом, затем снял анорак и пуховик Финча и снова надел габардиновый анорак. Куртку и две пары варежек Ричард спрятал в рюкзак, который осторожно снял и передал Реджи, прижавшей его своим телом к скале. Затем опустил взгляд на подбитые гусиным пухом штаны и жесткие альпинистские ботинки, и я понял, что он размышляет, не снять ли «кошки». В конечном счете «кошки» с 12 зубьями остались на ногах. Потом Дикон снова взял альпинистскую веревку и обвязал вокруг талии. Я подумал, что, наверное, только мы с Же-Ка заметили, что узел, выглядевший как простой, на самом деле был скользящим узлом, который Дикон при падении мог развязать, не подвергая опасности страхующего. Я все видел, но ничего не сказал. Жан-Клод тоже. Наверное, именно в этот момент я понял, каким смелым человеком был Ричард Дэвис Дикон. — Нет! — крикнула Реджи. — Позвольте нам попробовать страховку! Пожалуйста, Ричард! Дикон даже не взглянул на нее. — На этой линии страхующему негде закрепиться, — сказал он, уже рассматривая гладкую скалу, которую намеревался обойти вслепую. Я буквально видел, как Ричард прокручивает в голове необходимые движения, представляя, что предстоит проделать его телу за несколько секунд. — Ну, ладно, — произнес он, как можно дальше вытянул правую ногу и прыгнул на гладкую поверхность вертикальной колонны. Дикон сразу же начал съезжать вниз, но вместо того, чтобы подчиниться инстинкту и искать руками зацепку — которой там не было, — он растопырил пальцы в шерстяных перчатках и прижал ладони, живот, бедра и ноги в брюках из ткани от воздушного шара к гладкой поверхности скалы. Скольжение замедлилось, затем почти остановилось. На горном склоне Дикона удерживал лишь слабый намек на поверхностное трение. По опыту я знал, что этого недостаточно, чтобы остановить скольжение и не дать ему упасть. И он падал. Скольжение к обрыву замедлилось и почти прекратилось, а затем с неизбежностью возобновилось. Дикон не ждал. Его оружием были трение и скорость, причем скорость — главным. Соскальзывая вниз, он сдвигался вправо, прижимаясь к скале всем распластанным по ней усталым телом: ладонями, щекой, животом, бедрами и зубьями «кошек», царапавшими скалу — и не позволяющими ему оторваться от гладкого камня. Соскользнув к дальней стороне изогнутой семифутовой колонны, он оттолкнулся от выступа, словно был уверен, что там его ждет карниз, опора для ноги или зацепка для руки. Разумеется, он не мог видеть, что ждет его с другой стороны этой каменной колонны. Возможно, еще одна, точно такая же, без выступов и зацепок. Дикон исчез, и с той стороны долго не доносилось ни звука. Однако веревка не провисла — ложный узел, которым он был обвязан, оставался на месте. Пока. Но самое главное, мы не слышали крика, который издает человек, падающий с высоты 8000 футов. Я вдруг задумался, будет ли кричать Дикон, если сорвется. Наконец с другой стороны каменного выступа донесся спокойный и уверенный голос: — Тут превосходный карниз. Отличная точка страховки с якорями на скале. И я вижу место, откуда легко подняться к грибовидному камню. Мы разом облегченно вздохнули, но никто не сказал ни слова. Из глубин моего усталого мозга всплыл главный вопрос: «Что мы будем делать, возвращаясь тем же путем?» В подобных ситуациях альпинист обычно устанавливает перила из одной или двух веревок; немецкий «жестянщик», возможно, нашел бы крошечную трещину, чтобы вбить крюки, которые послужат опорой для рук. Но мы не могли закрепить здесь веревку, поскольку она поможет нашим преследователям. (Должен признаться, что я рассчитывал — надеялся, — что один, несколько и даже все немцы упадут и разобьются насмерть на этом «слепом» участке.) Нет, если знакомый Реджи, шерпа Ками Чиринг, говорил правду, то великий немецкий альпинист Бруно Зигль один раз уже решил эту задачу. — Страховать буду только я, — послышался голос скрытого каменной колонной Дикона. Мы с Же-Ка все поняли — и Реджи тоже, я в этом не сомневался. Это означало, что только у Дикона была надежная опора, чтобы удержать того, кто сорвется, а мы не должны предпринимать никаких попыток страховки. Ботинки Реджи соскользнули, но она продолжила ползти по скале; страховочный конец натянулся, и Дикон практически протащил ее по гладкой поверхности к своему невидимому карнизу. Пасанг перебрался на ту сторону, как огромный, распластанный паук. Слепой шаг Жан-Клода был уверенным и быстрым, а его тело словно прилипло к скале. Не переставая кашлять, я последовал за ними. Когда мы все вместе собрались на карнизе с другой стороны выступа, я увидел между нависающими глыбами проход наверх, о котором нам сообщил Дикон. — Думаете, он ведет туда, где гребень расширяется, превращаясь в похожий на гриб камень? — Да, — коротко ответил Ричард. Впервые привязавшись к одной веревке — на этот раз Дикон использовал настоящий, надежный узел «восьмерка», — мы стали карабкаться вверх, к Северо-Восточному гребню. Опираясь на зубья «кошек», по очереди взобрались на узкую кромку гребня. Солнце уже миновало зенит. Ветер стал еще сильнее и холоднее. Двояковыпуклая облачная шапка вокруг вершины Эвереста превратилась в огромную серую массу, словно навалившуюся на гору с одной стороны, напомнив мне сбившуюся набок шерстяную шапочку на трупе Сэнди Ирвина. Мы были слишком заняты, чтобы радоваться чудесной горизонтальной площадке на кромке гребня, прямо перед необычным, похожим на гриб камнем. Я знал, что такие выступы с массивной верхней частью, результат тектонической деятельности и ветра, принято называть столбами. Но самым главным был вовсе не этот дурацкий камень. После многих миль крутых и скользких каменных плит и скал заснеженная, но относительно ровная площадка по обе стороны грибовидного камня — приблизительно восемь футов шириной и двенадцать длиной — показалась всем нам огромным, безопасным футбольным полем. — Идеальное место для лагеря, — сказал Дикон. — Должно быть, ты шутишь. — Я продолжал кашлять, при каждом приступе снимая маску. — Мы забрались выше двадцати восьми тысяч футов. Наши сердца были расширены, мышцы ослабели, почки, желудки и другие внутренние органы отказывалисьвыполнять свою работу, кровь загустела, и в ней в любой момент могли образоваться тромбы; красные кровяные тельца не получали необходимого кислорода, мозг требовал его и работал как автомобиль на последних каплях бензина в баке. Мы были в нескольких дюймах, в переносном смысле, от переохлаждения — с его многочисленными ужасными симптомами, в том числе беспричинной агрессивностью и непреодолимым желанием сорвать с себя одежду, а не только вероятностью заснуть и замерзнуть насмерть, — а также в нескольких дюймах от 9000-футового обрыва с южной стороны и в нескольких футах от 10 000-футового обрыва с северной стороны. Но в тот момент мы были очень счастливы. Вооруженных немцев не было видно, и мы достигли ближайшей поставленной цели. Возможно, Дикон был прав. Это превосходное место для седьмого лагеря. С помощью баллонов с кислородом здесь можно неплохо выспаться — особенно в прочной, ветроустойчивой «большой палатке Реджи» — и очень рано, включив головные лампы валлийских шахтеров, выдвинуться к высочайшей вершине мира, до которой всего два или два с половиной часа пути. Разумеется, если ночью не поднимется ветер. И немцы нас не пристрелят. И мы не успеем замерзнуть насмерть. Но пока это не имело значения. Мы рухнули на маленькую заснеженную площадку с северной стороны «гриба», включили подачу кислорода на максимум и пять минут дышали живительным воздухом, молча глядя друг на друга через толстые стекла очков. Не сиделось на месте только Реджи, но ее действия показались мне бессмысленными. На северном краю ровной площадки имелся крошечный скальный выступ, врезающийся в карниз из снега, который накапливался тут много лет, если не десятилетий. Даже в таком отупелом состоянии мы понимали, что ступившего на этот карниз ждет неминуемая смерть — один шаг, и человек провалится через слой снега и с огромной высоты рухнет на ледник Кангшунг с южной стороны гребня. Реджи ползла на животе к каменному выступу и опасному снежному карнизу. Же-Ка первым сообразил, что мы можем лишиться единственной женщины в нашей маленькой группе. — Реджи, не надо! — крикнул он, сдернув маску. — Что вы делаете? Остановитесь! Она оглянулась и подняла на лоб очки; ее лицо — по крайней мере, несколько квадратных дюймов вокруг глаз, остававшихся открытыми, — вовсе не выглядело безумным. Но те, кто страдает от переохлаждения, обычно кажутся абсолютно нормальными, когда их охватывает смертельно опасное безумие. — Видите тот кусок обвалившегося карниза? — спросила Реджи. Голос ее был немного взволнованным, и дышала она часто, но рассуждала вполне логично. Мы повернули головы и увидели — примерно в шести футах левее каменного трамплина в вечность. — И что с того? — спросил я. — Возвращайтесь, Реджи, пожалуйста. Просто ползите назад. — Заткнитесь, Джейк. — Ей приходилось перекрикивать свист и вой ветра. Она указала на то место, о котором говорила. В геометрически правильном, обтесанном ветром карнизе из снега и льда была «откушена» дуга шириной около пяти футов. — Леди Бромли-Монфор имеет в виду, что здесь мог кто-то упасть, — сказал Пасанг с довольно приятным оксфордским акцентом. — Возможно, в прошлом году. — Если год назад отсюда кто-то упал, — возразил я между приступами кашля, — карниз восстановил бы прежнюю форму. — Не обязательно, — сказал Дикон. — Давайте, Реджи. Только осторожно. Она поползла дальше, на крошечный каменный выступ — я бы точно не доверил вес своего тела этому жалкому осколку скалы над пропастью, — затем достала из-за спины бинокль, направила его вниз, несколько раз повела вправо-влево и замерла. — Вон они, — сказала Реджи. — Кто? — вскрикнул я. Моей первой мыслью было: немцы подбираются к нам с вертикальной южной стороны гребня. — Майер и кузен Персиваль. — Голос Реджи не дрогнул. — Но с помощью этого бинокля вы не можете видеть поверхность ледника, — сказал Жан-Клод. Реджи покачала головой и крикнула сквозь рев и свист ветра: — Они лежат недалеко и по-прежнему связаны. Веревка зацепилась за скалистый выступ примерно в ста футах ниже нашего гребня. Тело Майера лежит головой вниз на левой стороне скалы. Тело Перси висит в воздухе, поворачиваясь на ветру, головой вверх, с западной стороны. — Каким образом «бельевая веревка» Мэллори не порвалась от сильного удара об острый камень и продержалась целый год на такой высоте? — прошептал Жан-Клод. Реджи не могла его слышать из-за воя ветра — в отличие от Дикона. — Кто знает… — произнес он. Потом повысил голос, обращаясь ко всем: — Теперь мы должны придумать, как поднять их обоих, пока старая веревка еще цела. Я подумал об идущих за нами по пятам немцах с пистолетами. Добрались ли они уже до первой ступени? А до гладкого выступа на траверсе? В любом случае они преследуют нас, а Дикон сказал, что Бруно Зигль ни за что не отступит; И у этого нациста «люгер» и снайперская винтовка Дикона. Вместе с ним сюда поднимаются другие вооруженные нацисты. Я решил пока не упоминать о немцах. И не думать о них. — Размотайте веревки, — приказал Дикон. — Реджи, оставайтесь на месте. Мы идем к вам. Кого-то нужно спустить, чтобы он обвязал веревки вокруг каждого тела. — Меня, — предложил Жан-Клод. — Я самый легкий. Дикон кивнул. «Слава Богу, что не меня», — подумал я и тут же устыдился своих мыслей. Затем мы — Дикон и Пасанг стоя, мы с Же-Ка на четвереньках — стали приближаться к Реджи и северному краю Северо-Восточного гребня.
Глава 18
Достать два болтающихся над пропастью тела с помощью веревки, узлов, обвязки, карабина и страховки было сложной задачей — по крайней мере, для усталых, страдающих от недостатка кислорода и плохо работающих мозгов на высоте больше 28 000 футов над уровнем моря. Первым делом мы прикрепили четыре веревки к столбу в форме гриба, каменная «ножка» которого выглядела достаточно прочной, способной без труда выдержать вес нескольких роялей. Одну веревку передали Реджи, которая — по настоянию Пасанга и Дикона — пристегнула к страховке карабин обвязки. Но смотреть, как она лежит на узкой скале, а голова и плечи далеко выдаются над пропастью, все равно было страшно. Привязав страховочную веревку к грибовидному столбу и положив два ледоруба на кромку карниза, чтобы веревки не прорезали снег и лед, мы с Диконом — Пасанг держал еще две веревки с навязанными на них узлами и петлями лассо, — мы медленно опустили Жан-Клода с края глубокой пропасти. Нашими глазами была Реджи. — Вот так… медленно… хорошо… хорошо… медленно… хорошо… теперь он футах в пятнадцати выше выступа и тел… хорошо… медленно… стоп… нет, еще немного… есть! Хорошо, что я не видел своего французского друга, болтающегося под нами на высоте десяти этажей рядом с похожей на гнилой зуб скалой с перекинутой через нее старой потрепанной веревкой толщиной в три восьмых дюйма, гнилые хлопковые волокна которой держали два мертвых тела, медленно поворачивавшихся на неослабевающем ветру. — Он подает знак, что хочет сначала привязать Персиваля, — сказала Реджи. — Просит спустить ему около шести футов второй веревки. Пасанг бесстрашно подошел к самому краю скального выступа, остановился рядом с Реджи и спустил веревку, необходимую для того, чтобы привязать тело. Затем спокойно вернулся назад и передал конец мне. Наш план был таков: Дикон продолжит страховать Же-Ка, я начну поднимать тело Бромли, как только Жан-Клод освободит его от старой веревки, а Пасанг втащит наверх труп Майера, как только тот будет закреплен. Если его вообще удастся закрепить. Но сначала Жан-Клоду нужно накинуть дополнительные веревки через голову и плечи каждого тела, затянуть петли и надежно закрепить под мышками. — Жан-Клод уперся ногами в выступ и наклонился почти горизонтально, чтобы подтянуть тело Перси, — сообщила Реджи. От одних лишь этих слов мне стало немного не по себе. В этой экспедиции мы научились доверять «волшебной веревке Дикона» — в основном из-за тяжелых грузов, которые поднимали с ее помощью на «велосипеде»-подъемнике Жан-Клода, — но до сих пор от нее еще полностью не зависела жизнь человека, как теперь зависела жизнь Же-Ка. Мы, четверо альпинистов — включая Реджи (но не Пасанга, у которого, похоже, был природный дар), — принадлежали эпохе, когда при серьезной нагрузке или сильном рывке веревки чаще рвались, чем оставались целыми. — Наклоняется ниже… — Реджи обращалась ко мне, потому что я стоял справа от Дикона и стравливал первую из 100-футовых веревок с навязанным на конце лассо, которую дал мне Пасанг. — Хорошо, он на месте… еще четыре или пять дюймов, пожалуйста, Джейк… так, он пытается надеть петлю на голову Перси и пропустить под мышками… руки Перси не двигаются. — Трупное окоченение? — прошептал я Пасангу, который стоял рядом со второй длинной веревкой в руках. — Нет, это было больше года назад. — Пасанг говорил тихо, чтобы из-за ветра Реджи не могла его слышать. — Просто лорд Персиваль давно уже превратился в ледышку. — Понятно. — Я уже пожалел, что спросил. — Он накинул петлю, но никак не может затянуть скользящий узел, — сообщила Реджи. Краем глаза я видел покрытое потом лицо Дикона. Страховочная веревка Жан-Клода была привязана к грибовидному камню, но все усилие приходилось на плечо и талию Дикона. Он снял все варежки, оставив на руках только тонкие шелковые перчатки, и теперь я видел, как сквозь шелк проступает кровь. Признаюсь, я нервничал. Фраза «мертвый груз» приобретает жутковатую буквальность, когда приходится поднимать труп. Кажется, что в мире нет ничего… тяжелее. — Так, Джейк… он уже привязал тело Перси… — сказала Реджи. Я начал выбирать веревку, но меня остановил крик женщины: — Стой! Я забыл, что Же-Ка должен привязать труп Майера к веревке, которую держал Пасанг, и только потом перерезать старую веревку, скреплявшую тела, висевшие тут почти год. Если четыре веревки запутаются или оборвутся, наши потери не ограничатся двумя трупами. — Ноги Жан-Клода оторвались от скалы, — сообщила Реджи. — Он висит, пытаясь снова зацепиться ботинками. Дикон зарычал — скорее, от напряжения, понял я, чем в ответ на слова Реджи. Рывок в результате падения Же-Ка с выступа скалы, когда я сбил его с ног, раньше времени дернув за веревку с привязанным к ней Перси, оказался довольно сильным, и веревка глубоко врезалась в ладони, плечо и талию Дикона. — Порядок, он снова стоит на скале, — сказала Реджи. С заросшего щетиной подбородка Ричарда стекали капли пота. Мы уже довольно давно не дышали кислородом. Наши рюкзаки были сложены у южной стороны грибовидного камня. Не дожидаясь команды Реджи, Пасанг начал спускать третью веревку — с лассо на конце, для Курта Майера. Отмотав около 50 футов, он опустился на четвереньки, прополз под моей натянутой веревкой и страховочной веревкой от Дикона к Же-Ка, так, чтобы оказаться крайним слева в ряду из трех страхующих. — Еще немного… еще немного… теперь медленнее… — нараспев руководила Реджи. — Готово, он поймал. Стравите ему еще футов пять, Пасанг. Доктор спокойно выполнил команду. — Черт… — пробормотала Реджи. — Он не может достать Майера, оставаясь на скале. Ему нужно раскачаться, чтобы схватить его. — Господи, — прошептал я. Когда столько веревок висит в таком ограниченном пространстве, все может пойти наперекосяк, что обычно и происходит. — Помощь нужна? — прошептал я Дикону, который упирался каблуками ботинок — «кошки» он специально снял — в маленький каменный выступ в пяти футах севернее грибовидного камня. Дикон покачал головой, и сильный ветер подхватил и унес на запад капельки его пота. — Раскачивается… еще раз… промахнулся, — сообщила Реджи. — Теперь отталкивается от скалы почти горизонтально и пробует еще раз. — Господи, — снова прошептал я. Думаю, на этот раз это была молитва. Я понял, что научился доверять «волшебной веревке Дикона» в стандартных ситуациях свободного спуска и страховки, но если старая, потрепанная веревка порвется раньше, чем Же-Ка успеет затянуть петлю вокруг тела Майера — и если Же-Ка попытается удержать труп, в чем я не сомневался, — то вес двух человек, живого и мертвого, придется на одну страховочную веревку, протянутую к Дикону. И хотя конец веревки был привязан к каменному «грибу», я сомневался, что страховка выдержит двойной вес. Веревка Жан-Клода натянулась еще сильнее, прорезав кромку карниза и глубоко вдавив в снег нашу конструкцию из двух ледорубов. От этих ледорубов отходило несколько веревок к другим точкам опоры, причем две из них были несколько раз обмотаны вокруг грибовидного столба. Дикон застонал от напряжения, удерживая раскачивающегося Же-Ка. Шелк его перчаток уже стал красным. — Майер висит головой вниз, — сообщила Реджи. — Жан-Клод пытается перевернуть его. «Неужели „волшебная веревка Дикона“ выдержит даже такую нагрузку?» — снова подумал я. Увидим, через минуту или две. Тем временем я поддерживал натянутой веревку, которая шла к лорду Персивалю Бромли, человеку, который мог бы стать шестым маркизом Лексетерским, если бы остался жив. — Он его достал! — воскликнула Реджи. — Привязывает петлю под руками Майера. Теперь снова раскачивается, чтобы вернуться на выступ. Дикон опять застонал. Веревка из комбинированных волокон натянулась так туго, как будто он пытался вытащить гигантского марлина только голыми, окровавленными руками, выгнув спину и напрягая все тело. — Джейк, Пасанг, приготовьтесь, — крикнула Реджи. — Жан-Клод собирается перерезать старую веревку. Он раскрыл перочинный нож. Я нашел каменный выступ, в который можно было упереться ногами — «кошки» я снимать не стал, поскольку не был уверен, что у меня хватит ловкости снова их надеть, — и теперь откинулся назад, приготовившись вытаскивать мертвое тело. Веревка натянулась… но ни рывка, ни особой тяжести я не почувствовал. Может, вороны выпотрошили труп Бромли точно так же, как брюшную полость Джорджа Мэллори, через прямую кишку? Боже милосердный, я надеялся, что этого не случилось — ради Реджи. — Тяните! — крикнула она. Нужды в этом не было, поскольку мы с Пасангом уже вытягивали веревки, перебирая руками. Только Дикон оставался неподвижным. Перед тем как спустить Жан-Клода за край карниза, мы решили, что сначала поднимем мертвых, а уж потом его: во-первых, чтобы веревки не запутались, а во-вторых, чтобы уберечь Же-Ка и его страховочную веревку от падающего трупа, если тот сорвется. Тело Бромли поравнялось с карнизом и повисло прямо под нависающей глыбой снега и льда. — Секунду. — Реджи перегнулась через рыхлый, ненадежный, один раз уже обрушившийся карниз и взмахнула протянутым ледорубом — так напарник капитана рыбацкой лодки загребает багром, чтобы подтянуть из-под днища большую рыбу. Ей удалось зацепить веревку. Голова и плечи Перси показались над обрывом, и я изо всех сил потянул за веревку. — Назад, на камень, — прорычал Дикон, и я понял, что он обращается к Реджи. Она послушалась и поспешно отползла от края. Труп Майера, который вытягивал Пасанг, без особого труда поднялся на Северо-Восточный гребень — голова и плечи прошли через полукруглое отверстие, через которое он и Персиваль Бромли провалились сквозь карниз почти год назад. Я заметил — отстраненно, потому что все мои ощущения приходили словно издалека, — что несколько ярдов старой, разлохмаченной веревки, аккуратно разрезанной Жан-Клодом посередине несколько минут назад, все еще свисали с тела. Подхватив трупы и подтянув их как можно ближе к нам и грибовидному камню, так, чтобы осталось место и для нас самих, мы с Пасангом бросили веревки и поспешили на помощь к Дикону. Реджи осталась на тонком каменном выступе, еще дальше перегнувшись над обрывом. Она махнула Же-Ка, что мы готовы его вытаскивать. Я понимал: вот она, настоящая проверка «волшебной веревки». Жаль, что у нас не хватало веревки, чтобы бросить Жан-Клоду два конца — дополнительные 200 футов понадобились для мертвых тел. Теперь мы тянули — медленно, равномерно, все трое, синхронно и ритмично, наблюдая, как тонкая веревка змеится поверх двух рукояток вбитых горизонтально ледорубов. Реджи после каждого рывка называла оставшееся расстояние. — Сорок футов… тридцать… двадцать пять… ноги Жан-Клода не достают до поверхности стены… он просто висит… Мы чувствовали это по нагрузке на наши плечи и руки. Большая часть веса по-прежнему приходилась на Дикона. — Пятнадцать футов… десять… пять… осторожнее! Реджи перестала отсчитывать расстояние, протянула руку, схватила анорак Же-Ка и помогла приподнять плечи нашего друга над карнизом. Мы втроем еще раз потянули за веревку, и он перевалился через край, встал на четвереньки и быстро отполз от карниза. Реджи едва не упала вперед, когда Жан-Клод оказался на гребне, но широкая ладонь Пасанга метнулась к ее страховочной веревке и вытащила на тонкий каменный выступ. Реджи поползла к нам, тоже на четвереньках. Вытянув все веревки, развязав узлы, смотав бухты и уложив их в безопасное место под камень в виде гриба, мы окружили мертвые тела. — Это мой кузен Персиваль. — Реджи говорила довольно громко, чтобы мы слышали ее сквозь завывание ветра. Она сняла варежки и перчатки и приложила ладонь к выцветшей шерсти и рваному габардину анорака на его груди. Никакого запаха тления не чувствовалось. Обнаженные участки на руках и лицах обоих тел — и небольшой участок груди Майера под разорванной рубашкой — стали почти белыми под воздействием ультрафиолета, как спина Мэллори, кожа немного походила на кожу мумии, а глаза и щеки ввалились, как обычно бывает у трупов, но вороны до них не добрались. Я понятия не имел почему. В правом плече Майера виднелось огнестрельное ранение — не смертельное, сказал Дикон, — а на теле Бромли мы не нашли отверстий от пуль, ни входных, ни выходных, хотя осторожно перевернули его. — Получается, что немцы не убили лорда Персиваля? — Мой голос был хриплым от усталости, высоты и волнения. — Убили, друг мой, — сказал Жан-Клод. — Только не выстрелом. Они застрелили Майера, и лорду Перси оставалось только прыгнуть вниз или тоже принять пулю. — Наденьте перчатки, Реджи, — мягко сказал Дикон. Я видел, что он сам натянул шерстяные перчатки поверх пропитавшихся кровью шелковых. — Леди Бромли-Монфор, — сказал Пасанг. — Мы сами обыщем лорда Персиваля. Реджи покачала головой: — Нет. Пасанг, пожалуйста, помогите мне с Перси. Потом осмотрите пулевое ранение Майера. Остальные могут проверить одежду Майера. — Что мы ищем? — спросил Жан-Клод. — Точно не знаю, — ответила Реджи. — Но что-то небольшое. Майер провез эту вещь не одну тысячу миль через всю Европу, Ближний Восток, а затем Персию и Китай. Мы обращались с телами бережно, и движения наши были медленными и осторожными, хотя оскорбить мертвых либо причинить им вред было уже невозможно. Наверное, на нас просто подействовало ласковое прикосновение Реджи. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я посмотрел на Майера — несмотря на то, что его тело почти год провисело в воздухе на горе Эверест, открытое всем стихиям, — выглядел он очень, очень молодым. — Сколько лет было австрийцу? — спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. — Кажется, семнадцать, — сказала Реджи, тщательно обыскивая карманы кузена. Ни у Майера, ни у Бромли не было рюкзака. Мы проверили множество карманов на том, что осталось от их анораков, шерстяных брюк, норфолкских курток и жилетов. У Майера в левом кармане куртки обнаружились письма на немецком — я даже разобрал немецкий готический шрифт на конвертах — и австрийский паспорт с многочисленными отметками пересечения границ. В левом кармане куртки Майера лежала большая пачка купюр, фунты стерлингов. — Боже правый, — сказал я. — Они настоящие? Дикон пролистал их. Отдельные пачки купюр были стянуты полосками бумаги, на которых отчетливо виднелась надпись — «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ БАНК ЛТД. ЛОНДОН». — Это реальный банк, Ри-шар? — Хотелось бы, — ответил Дикон. — Те небольшие деньги, что у меня есть, я храню именно там, — он считал купюры. — Здесь пятнадцать тысяч фунтов. — Значит, ваш кузен Перси платил за информацию, — сказал Же-Ка Реджи. Она подняла на него взгляд от карманов, которые обыскивала. — Вероятно. Именно так он относился к своим источникам, которые соглашались рисковать своей жизнью и жизнью родных, предавая своих австрийских или немецких хозяев. Из того немногого, что Перси мне рассказывал — обычно после изысканного обеда с обилием вина, — следует, что шпионаж — это по большей части выплата денег неприятным субъектам. — Значит, — сказал я, указывая на тело молодого человека, карманы которого мы продолжали обыскивать, — этот австриец был неприятным субъектом. — Не думаю. — Слова Реджи были едва различимы за воем западного ветра. — Взгляните на паспорт еще раз, и вы поймете, почему он сделал то, что сделал, рискуя всем, что у него было. Я пролистал паспорт, но не заметил ничего интересного. «ИМЯ: Курт Абрахам Майер. ДАТА РОЖДЕНИЯ: 4 октября 1907. ПРОФЕССИЯ: ученик наборщика». — Вот. — Дикон указал на готический шрифт следующего раздела: ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ. Ниже располагалась запись, сделанная красивым чиновничьим почерком: ИУДЕЙ. — Он шпионил для вашего кузена потому, что был евреем? — спросил я Реджи, но она не ответила. Из нагрудного кармана норфолкской куртки на трупе кузена она извлекла плотный конверт из коричневой бумаги и заслонила своим телом от ветра, порывы которого рвали конверт из ее рук. Внутри большого конверта было пять других поменьше. В каждом одинаковое количество фотографий — семь. Я не видел, что это за снимки, поскольку Реджи наклонилась над ними, но подумал, что за 15 тысяч фунтов наличными это должны быть как минимум фотографии новейших военных аэростатов графа Цеппелина. — Ах-х. — Это было нечто среднее между удивлением и отказом поверить в некое откровение. — Хотите посмотреть, джентльмены, за что отдали свои жизни Перси и Майер? Все, за исключением Пасанга, кивнули. Доктор был занят: он разрезал жилет и рубашку на теле Майера, чтобы осмотреть пулевое ранение плеча, ниже ключицы. — Будьте осторожны, — сказала Реджи. — Тут пять одинаковых комплектов, причем в одном конверте негативы. Не дайте ветру вырвать их у вас из рук. — Она протянула Дикону один из конвертов с фотографиями, который взглянул на все семь, медленно кивнул и передал Жан-Клоду. Же-Ка с лихвой компенсировал сдержанность Дикона — и голосом, и физической реакцией. Его голова дернулась назад, как от неприятного запаха, руки с отвращением отодвинули снимки подальше. — Mon Dieu, — в ужасе воскликнул он, — это… они… это… мерзость. Я пытался заглянуть ему через плечо, но увидел лишь белые фигуры на темном фоне. — Мерзость, — хриплым голосом повторил Же-Ка, качая головой. — Совершеннейшая мерзость! Отвернувшись, он протянул фотографии. Мне пришлось крепко стиснуть их обеими руками и опустить голову, чтобы рассмотреть на сильном ветру. Потом я вспомнил, что не снял очки, резко сдвинул их на лоб и принялся разглядывать семь черно-белых фотографий. На каждом снимке присутствовал очень бледный, очень худой мужчина лет тридцати, занимавшийся сексом с, как мне показалось, четырьмя юношами… нет, мальчиками. Старшему мальчику было не больше тринадцати лет. Младшему восемь или девять. Фотографии были очень четкими — белая обнаженная плоть на чрезвычайно темном фоне, если не считать серого пятна скомканных простыней. Комната была похожа на номер дешевого европейского отеля, возможно, австрийского, с массивной мебелью и покрашенными темной краской стенами. Должно быть, фотограф работал со вспышкой или с долгой экспозицией, потому что на окне, попавшем на один из снимков, были задернуты занавески. Четкость каждой фотографии и глубина резкости свидетельствовали о первоклассной камере. Отпечатки были размером пять на семь дюймов, а негативы находились в бумажном чехле на дне конверта. Всего семь фотографий вмещали немыслимое количество извращений. Признаюсь, выражение моего лица отражало полнейший шок, который я испытывал, глядя на эти снимки. Вероятно, скромность должна была заставить меня отвести взгляд после первого же кадра, но я должен был видеть — такое же навязчивое желание я испытывал позже, проезжая мимо серьезной автомобильной аварии. Взрослый мужчина был очень худым и явно плохо питавшимся парнем — ребра и кости таза выпирали, на коже видны струпья. Вероятно, этот человек со своим пробором слева и короткими, аккуратно причесанными и набриолиненными волосами был похож на буржуа, — но в моменты страсти, запечатленные на снимках, эти волосы топорщились засаленными перьями. У мужчины были тонкие, резко очерченные губы — на единственном снимке, когда его рот не был открыт в пароксизме страсти или в увлечении каким-то извращенным половым актом, участником которого он был. На одной фотографии мужчина насиловал самого младшего мальчика, а тот, в свою очередь, сосал маленький, напряженный пенис тринадцатилетнего паренька. На другой мальчик не старше десяти лет рукой ласкал мужчину, который стискивал гениталии двух мальчиков помладше, а четвертый, самый старший, лет, наверное, четырнадцати, стоял чуть поодаль, обнаженный, и смотрел на это с отрешенным, как у пьяного, выражением лица. Лицо старшего мальчика почему-то показалось мне знакомым, а потом я испытал настоящее потрясение — это был Курт Майер! Всего года на четыре моложе, чем когда он погиб здесь, на Эвересте. — О… Господи, — прошептал я. На одной фотографии почти ничего невозможно было разобрать — клубок белых худых тел на скомканных простынях, удовлетворяющих друг друга такими изощренными и разнообразными способами, которые мой невинный ум американского протестанта даже не мог вообразить. Единственное лицо, различимое на этом снимке, было лицом взрослого мужчины. Я всматривался в него, стараясь не замечать все эти ласки и совокупления, и понял, что уже видел его. Один раз. На плакате в мюнхенском пивном зале. Там это лицо было немного старше, слегка располневшее — мужчине было уже под сорок, а не тридцать, как на наших снимках, но мрачный, пристальный взгляд остался тем же, как и смешные усики в стиле Чарли Чаплина. В тот момент я не мог вспомнить, как его зовут. Я сложил снимки в конверт и посмотрел на Реджи, Же-Ка и Дикона. — И ради этого погиб ваш кузен? — выдохнул я, обращаясь к Реджи. — Значит, они бежали, спасая свои жизни… из-за этих… непристойностей? — Мерзость, — тихо повторил Жан-Клод, отводя взгляд. — Мерзость? — крикнул я. — Это безумие, черт возьми. Я никогда не видел ничего подобного и больше не желаю видеть. Но кому какое дело до извращений какого-то немца с уличными мальчишками? Кого могут заинтересовать эти фотографии? — Взрослый мужчина, использующий мальчиков, не немец, — сказала Реджи. — Он австриец, хотя лишился австрийского гражданства после переезда в Германию несколько лет назад. И вы знаете, что он лидер Nationalsozialistlsche Deutsche Arbeiterpartei — очень опасной группировки, Джейк. — Он в тюрьме! Мы с Диконом слышали об этом в ноябре прошлого года, когда встречались с Зиглем в том чертовом пивном зале в Мюнхене! — Его отпустили в декабре. Когда мы покупали ботинки и веревки в Лондоне. — Мне плевать, если он социалист! — крикнул я, вскочил и принялся расхаживать вокруг похожего на гриб камня, размахивая руками. — Кому нужны эти чертовы социалисты — у нас в Нью-Йорке их тысячи; в Бостоне, где я живу, наверное, сотни. Зачем лорду Персивалю рисковать жизнью… погибать… — Я указал на лежащий у моих ног труп. В глаза мне бросились усики, как у Дугласа Фэрбенкса, и темная щетина на щеках и подбородке мертвеца. Я с ужасом вспомнил, что волосы продолжают расти и после смерти. — …Ради непристойных фотографий какого-то социалиста? — Он не социалист, Джейк, — возразила Реджи. — Он национал-социалист. Нацист. — Она что-то искала в рюкзаке. — Какая разница? — повторил я. — Даже я знаю, что в веймарской Германии существуют сотни безумных политических течений. Даже я это знаю, хотя не смогу отличить демократа от республиканца. Неужели мы должны были забраться почти на вершину Эвереста… прервать восхождение из-за этого… перенести все, что мы перенесли… ради грязных фотографий педераста и его жертв? И, ради всего святого, разве вы не видите, что одна из жертв — один из детей в той комнате — это юный Курт Майер? Парень, который продал вашему кузену Перси этот пакет мусора! — В ярости я поднял зажатый двумя пальцами конверт, и ветер стал рвать его у меня из руки. — Я выбрасываю это дерьмо! — Джейк! — крикнула Реджи. Я посмотрел на нее. Двумя руками она держала сигнальный пистолет 12-го калибра, дуло которого было направлено прямо мне в лицо. — Если вы выбросите эти фотографии, — бесстрастно сказала она, — я вас убью. Клянусь Богом. Я вас люблю, Джейк. Я вас всех люблю. Но я выстрелю вам в лицо, если вы не отдадите мне снимки. Вы знаете, что я это сделаю. Как с немцем на леднике. В то мгновение я понял, что она говорит правду — о том, что любит меня (увы, вероятно, как брата или как погибшего кузена), и о том, что готова убить меня, если я выброшу фотографии. Потом вспомнил красный огонь, вырывавшийся из открытого рта Карла Бахнера, и жидкость из его глаз, расплавленным воском стекавшую по щекам. Я осторожно вернул конверт с фотографиями и негативами Реджи. — Хотелось бы мне знать, — непринужденным тоном заговорил Дикон, словно между мной и Реджи ничего не произошло, — кто это снимал. Не… Бромли? — Нет, — сказала Реджи. В ее голосе вдруг проступила неимоверная усталость. — Персиваль был своим в определенных… заведениях и кругах… притворяясь распущенным британским экспатом,[59] симпатизирующим Австрии и Германии, но фотографии сделал Майер. С помощью хитрой маленькой камеры, с временной задержкой. Перси снабдил его камерой специально для этой цели. Мы все посмотрели на мертвого австрийца. Он был таким молодым. Я впервые заметил темную тень под носом Майера — очевидно, попытка юноши отрастить усы, как у настоящего мужчины. — Значит, Майер тоже был шпионом? — спросил я, не особо рассчитывая на ответ. — Агентом британской разведки, — сказала Реджи. — Кроме того, Курт Майер был евреем. — Как будто это все объясняло. У меня мелькнула мысль, что Реджи намекает на жадность евреев, способных за деньги на что угодно — разумеется, ни в Гарварде, ни у себя в Бостоне мне не приходилось общаться с евреями, — но потом я вспомнил, что нацисты не испытывают особой любви к евреям, даже к немецким или австрийским. Однако этот подонок Гитлер развлекался с еврейскими мальчиками — на снимках все, кроме взрослого нациста, были обрезанными. Бессмыслица какая-то. Все это просто… грязь. Я покачал головой. — Курт Майер был также одним из самых смелых людей, с которыми работал мой кузен Персиваль, — продолжила Реджи. — А Перси имел дело с сотнями смельчаков, большинство из которых погибли ужасной смертью. Мне нечего было ответить. — Вот так, — заключила леди Бромли-Монфор, продолжившая обыскивать карманы кузена после того, как отложила пистолет, которым угрожала меня убить. Она вытащила сложенный квадратик зеленого шелка, который я поначалу принял за изящный носовой платок, вроде того, что мы нашли на теле Джорджа Мэллори. Но Реджи развернула ткань, и это оказался флаг размерами три на четыре фута, с битвой грифона и орла над средневековым копьем. Я видел этот флаг — только гораздо больше — реющим над родовым поместьем, когда мы приезжали с визитом к леди Бромли. — Неужели ваш кузен и вправду полагал, что он и этот… мальчик… могут покорить вершину Эвереста? — спросил Дикон. — Очевидно, у них не оставалось выбора, кроме как подниматься выше и выше, спасаясь от преследовавших их нацистов, — ответ Реджи прозвучал довольно резко. — От экспедиции Мэллори и Ирвина остались закрепленные веревки и нетронутые лагеря, и это давало им шанс. Но немцы оказались превосходными альпинистами. И все же… Перси вкладывал в то, что делал, все свои силы, и поэтому мог подняться на вершину из самого высокого лагеря Мэллори и Ирвина, если бы Зигль его не догнал, — хотя первоначально и не планировал этого, а просто хотел убежать от немцев. — Она сложила флаг и спрятала где-то среди многочисленных слоев одежды. — Теперь я сделаю это для него. — Никто ничего не покорит, если мы не поторопимся. — Жан-Клоду пришлось перекрикивать рев ветра. Пока мы разглядывали порнографию, болтали и решали, не убить ли нам друг друга, француз достал из рюкзака бинокль, подошел к южному склону гребня, заснеженному и опасному, и стал смотреть вниз и назад, в ту сторону, откуда мы пришли. — В данный момент боши заняты проблемой «слепого шага», — сообщил он нам. — Будут здесь минут через тридцать или даже меньше, в зависимости от искусства герра Зигля. Предлагаю закончить здесь все дела и уходить. — Куда уходить? — с трудом выговорил я между двумя жуткими приступами кашля. Я не сомневался, что мне нужно вниз, где менее разреженный воздух позволит мне дышать даже с этими осколками панциря и клешнями омара, застрявшими у меня в горле. Дикон повернул голову и посмотрел направо и вверх, а затем еще выше, на устрашающую громаду второй ступени всего в сотне метров от нас. А над этой непреодолимой — или так только казалось — второй ступенью возвышалась вершина Эвереста, словно выдыхавшая двадцатимильный клубящийся шлейф, уносимый ветром.Глава 19
Вторая половина пути между первой и второй ступенями была такой же неизведанной и опасной, как первая. Череда острых и зазубренных выступов, скользких камней и снежных бугров делала саму кромку гребня непроходимой, и поэтому Дикон — он был лидирующим в связке, состоящей теперь из нас всех, — прокладывал тропу по снегу в десяти футах ниже продуваемой ветром кромки гребня, над Северной стеной и Большим ущельем со стороны ледника Восточный Ронгбук. Риск увеличивался с каждым шагом — снег под ногами Дикона то и дело соскальзывал со склона на несколько дюймов или даже футов, пока не уплотнялся в неустойчивую опору, останавливающую падение, и мы все затаивали дыхание. В таком положении страховка, которую мы могли предложить, не стоила и ломаного гроша. Мы не оглядывались на преследовавших нас пятерых немцев, но чувствовали, что они буквально дышат нам в спину. Последнее, что видел Жан-Клод в свой бинокль, пока остальные готовили Перси и Курта Майера к «похоронам», был немецкий лидер — мы по-прежнему думали, что это Бруно Зигль, — который сумел перебраться через гладкий вертикальный выступ и теперь закреплял веревку для своих партнеров. Очевидно, Зигль был самым опытным из пяти немецких альпинистов, и мы радовались, что остальные немного замедляют его продвижение. Но недостаточно. Затем Жан-Клод вернулся к нам, и мы собрались у тел Майера и Бромли. Реджи произнесла краткую молитву, и я удивился, когда Дикон стал повторять слова вслед за ней. Много лет спустя я заглянул в текст англиканской заупокойной службы и в молитвенник и увидел, что Реджи кое-то изменила, но Дикон, по всей видимости, так часто произносил эти слова над погибшими в бою товарищами, что без труда следовал за всеми пропусками и отклонениями. Как бы то ни было, все это выглядело вполне уместно — хотя и слишком долго, подумал я, поскольку немцы приближались к нам по Северной стене. Мы сели рядом с двумя телами, уложенными на узкий выступ у северного края скалы. Реджи достала свой зеленый с золотом носовой платок и завязала его на лице Персиваля; лицо Курта Майера мы закрыли чистым белым носовым платком из кармана Дикона. Реджи опустила голову — не снимая очков — и произнесла нараспев:Никто не произнес ни слова, пока мы не вернулись на кромку гребня прямо у основания второй ступени. Вид у нее был устрашающий, даже без учета того обстоятельства, что жаждущие крови немцы скоро приблизятся к нам на расстояние винтовочного выстрела. — Если ты поднимешь нас наверх, Джейк… — сказал Дикон, дернув вниз кислородную маску. — …Нет, я имел в виду, когда ты поднимешь нас наверх, то плоская, усеянная камнями вершина второй ступени станет для нас превосходной оборонительной позицией, несмотря на то, что наша армия вооружена только ракетницами. Я посмотрел на крутой заснеженный склон, ведущий к устрашающей груде камней, которая заканчивалась отвесной скалой. «Скажи Дикону о штуковине, застрявшей у тебя в горле, о том, что тебе трудно дышать, — настаивала получавшая кислород часть моего умирающего мозга. — Он примет правильное решение и попытается сам подняться по этой скале. Или позволит Жан-Клоду… Черт возьми, теперь даже Реджи и Пасанг лучшие скалолазы, чем ты, Джейк Перри». — Да, там будет настоящее Аламо,[60] — ответил я. — Что такое Аламо? — С учетом обстоятельств, голос Же-Ка звучал чересчур бодро. Я снова закашлялся, и Реджи рассказала ему об Аламо, уложившись в три или четыре коротких предложения. — Похоже, это была славная битва, — сказал Жан-Клод после того, как Реджи описала ему ход сражения, не упомянув о результате. — И чем же все закончилось? Я вздохнул. — Мексиканцы взяли крепость и убили всех защитников. — Меня опять сотрясал приступ кашля. — Включая моего любимого героя Дэвида Крокетта и его друга Джима Боуи, парня, который придумал «нож Боуи». — Ага. — Жан-Клод улыбнулся. — Тогда мы должны благодарить Бога, что будем сражаться всего лишь с немцами, а не с мексиканцами. Я стягивал с себя анорак «Шеклтон», куртку и штаны на гусином пуху, а также все варежки, оставив на руках только тонкие шелковые перчатки. С помощью «кошек» мы поднялись как можно выше по снежному склону, к основанию второй ступени. Скала поднималась футов на 90, и гладкие поверхности плиты были абсолютно непреодолимыми, но чуть левее центра проходила трещина — правильнее было бы назвать ее «соединением» двух глыб, — и у этой трещины в самом низу мы с Же-Ка, Диконом и Реджи обсуждали маршрут восхождения. Я снял очки, чтобы лучше видеть. Проблема — так скалолазы ласково называют смертельно опасный вызов — была чертовски сложной, почти неразрешимой. Особенно на этой немыслимой высоте. И особенно для человека с толченым стеклом в горле. Вся вторая ступень состояла из смеси скальных пород, которые разрушались гораздо медленнее, чем глинистый сланец и другие камни под ней. Первые десять ярдов 90-футовой скалы, вероятно, не представляли особой сложности, поскольку в нижней трети этой громады имелись отдельные камни всевозможных размеров и форм, выступы и маленькие трещины. Углубление между самым большим камнем и скальной стеной, уходящее на восток, тоже преодолимо, хотя придется приложить все свои навыки скалолаза и потратить много сил, но перед вторым участком трехступенчатого маршрута мне нужно залезть на этот чертов камень и закрепиться на нем. Сначала отрезок между камнями и поверхностью скалы, затем короткий бросок через камни на крутое снежное поле — во время наших вечерних тренировок в Уэльсе, в районе Пен-и-Пасс, все было непросто, но весело. Но я даже представить себе не мог, сколько сил потребуется для этого на высоте 28 246 футов. Однако я продолжал всматриваться, пытался определить наилучший маршрут. Если он вообще был. Ни Жан-Клод, ни Дикон ни словом не прервали мои размышления. Честно говоря, скорее всего, они тоже не видели приемлемого маршрута. С верхушки этого большого валуна высотой футов в 30 предстояло сделать опасный шаг, ступить на наклонную снежную полосу или — скорее всего — узкий конус снега, по которому придется идти крутым траверсом назад, к центральной трещине, где скала соединяется с вертикальной стеной почти под прямым углом. Одному Богу известно, удержится ли конус снега на скале или соскользнет с нее вместе со мной. Затем, если я доберусь до центральной трещины, мне предстоит научиться левитировать, как буддийскому святому, чтобы добраться до третьего, последнего и самого непреодолимого участка маршрута. Трещина представляла собой излом, но недостаточно широкий, чтобы протиснуться в него боком — в большинстве мест не шире моей ладони. Другая трещина, гораздо меньше, напоминала разветвленное дерево и тянулась вверх от снежного пятна, ответвляясь под самыми разными углами —скорее всего, бесполезная. Последний, вертикальный, участок скалы был просто убийственным — не только в переносном, но и в прямом смысле. В классификации, которая используется у меня на родине или в Европе, этот участок высотой 20 футов отнесли бы к категории «чрезвычайно сложных» — сегодня, весной 1992 года, когда я пишу эти строки, ему бы присвоили 5.9 или 5.10 баллов. Он требовал от скалолаза не только величайшего искусства, но и абсолютной решимости. Абсолютной решимости — или просто желания умереть. Практически непреодолимая сложность даже на уровне моря. Какой же уровень сложности ему присвоили бы здесь, на высоте больше 28 200 футов? Как сказать Дикону, Жан-Клоду и Пасангу одну простую фразу: «Я не смогу этого сделать»? И не просто потому, что получал всего третью часть необходимого воздуха через замерзшее, забитое и разрываемое болью горло, но и потому, что я не смог бы преодолеть эти проклятые последние 20 футов маршрута даже летним днем в Массачусетсе, если бы скальная стена находилась в десяти футах над землей и подо мной были бы расстелены матрасы, а не только здесь, на высоте больше 8000 футов над ледником Восточный Ронгбук. Никто бы этого не смог. В тот момент я был уверен, что даже Джордж Ли Мэллори не смог этого сделать — и не сделал. Я не сомневался, что Мэллори и Ирвин внимательно взглянули на вторую ступень и повернули назад. Какая бы задержка ни заставила их карабкаться вниз через каменные гряды ниже Желтого пояса уже после наступления темноты, я был абсолютно уверен, что в нее не входило время, потраченное на подъем на вторую ступень, а затем на спуск с нее. Это было невозможно. — Что скажешь, mon ami? — спросил Жан-Клод. Я закашлялся, потом прочистил горло. — Начать с вершины снежной пирамиды примерно в шести или десяти футах от стены и большой трещины. Подняться по тем камням к центральному камню, затем вверх по камину, если он там есть, затем один большой шаг на то крутое снежное поле. Потом попробовать траверсом вернуться к центральной трещине и с помощью нее и мелких трещин добраться до вертикальной части, а потом… ну, это я решу на месте. Эта фраза была произнесена не так просто и быстро, как выглядит на бумаге. Мне пришлось три раза прерываться из-за кашля, сгибаясь пополам от выворачивающих внутренности спазмов. — Я согласен с маршрутом, — сказал Дикон. — Но ты в порядке, Джейк? Кашель у тебя ужасный, и он усиливается с каждой минутой. Давай я сделаю это сам. Я обнаружил, что качаю головой. Я до сих пор не могу точно сказать, что означал этот жест: «Да, я в полном порядке, черт возьми, чтобы не испытывать никакого желания карабкаться без страховки на ту скалу и умирать там», или я настаивал, что первая попытка за мной. Мои друзья предпочли вторую интерпретацию. На мне осталась норфолкская куртка, шерстяные брюки и тонкие шелковые перчатки. Все остальное было скомкано и впихнуто в рюкзак. Я зачем-то натянул как можно ниже надетую под мотоциклетный шлем толстую шерстяную шапку, так что она закрыла поднятые на лоб очки. Во время этого восхождения — невероятного — у меня должна быть возможность смотреть вниз и видеть свои ноги. Кислородная маска и очки сужали поле зрения и слишком сильно изолировали меня от этой холодной и ветреной вершины мира. Я не взял с собой ни рюкзак, ни баллон с кислородом, ни маску, ни ледоруб. На спине не должно быть ничего, что могло бы сместить мой центр тяжести. «Кошки» я оставил, поскольку научился доверять им на камне, и это единственное, что мешало мне чувствовать скалу, если не считать усталости, кашля и почти парализующего страха. — Знаете, — почти небрежно сказал я, поворачиваясь к Дикону и Реджи, — кажется, мне известен способ, как нам всем выбраться из этой заварухи без жертв с обеих сторон. Реджи и Дикон ждали, удивленно вскинув брови. — Давайте я выйду с белым флагом, когда появится Зигль со своими парнями, — из-за кашля мне пришлось разделить эту фразу на несколько частей, — и отдам им фотографии… а может, и негативы. — Comment?[61] — Жан-Клод был явно шокирован и разочарован. — Но мы отдадим им четыре конверта, а пятый спрячем где-нибудь среди этих камней и трещин. — Я торопился высказать свою мысль… насколько может торопиться человек, когда так мало кислорода поступает в его раздираемые болью легкие. — Понимаете, оставим один комплект себе. — И вы отдадите немцам негативы? — Лицо Реджи оставалось непроницаемым. Я пожал плечами — без верхних слоев одежды это было гораздо легче. Но я быстро замерзал. — Я достаточно хорошо разбираюсь в фотографии и знаю, что из снимков можно получить нечто вроде новых негативов… кажется, их называют «дубликатом». — Я старался сделать вид, что это для меня пустяк, просто пришло в голову. — Тогда Зигль и его головорезы могут решить, что их миссия выполнена, и мы останемся в живых и сможем передать семь фотографий… тому вашему таинственному человеку, парню, который любит чеки и золото. У немцев не будет причины убивать нас, если им действительно нужно… то, за чем они охотились два года подряд. Дикон покачал головой — как мне показалось, печально. — Они все равно нас убьют, Джейк. Даже если будут думать, что забрали все фотографии, рисковать они не станут. Вспомни, они убили почти всех наших шерпов, а в прошлом году лорда Персиваля Бромли и австрийского парня. Они не оставят нас в живых, чтобы мы рассказали об этом. — И бошам не нужна причина, чтобы убивать людей, — прибавил Жан-Клод. — Это у них в крови. Я кивнул, словно сам пришел к этим выводам. Хотя в конце концов пришел бы… по крайней мере в части того, что сказал Дикон. Мои мысли все еще были заняты разломами, трещинами, камнями, снежными полями и отвесной стеной, которая десятиэтажным домом нависала над нами. И мне все это не нравилось. — Но использовать эти фотографии… — Я чувствовал, что должен это сказать, даже если эти слова будут последними в моей жизни. Теперь я смотрел на своих четверых товарищей. — Если бы даже они помогли выиграть войну или сохранить мир… хотя в данный момент речь идет лишь о предположении… все равно, использовать эти фотографии, такого рода вещи, шантажировать кого-то… это… я хочу сказать, это не… благородно. Целую минуту мне отвечал только свист ветра, бьющегося о камни и скальную стену. — Если немцы вроде герра Зигля и его друзей, — наконец нарушил молчание Дикон, — получат власть, то снова будет война, Джейк. Можешь не сомневаться. А в войне нет ничего благородного. Ничего. Это я точно знаю. Когда приближается война, остатки благородства можно сохранить лишь двумя способами. Либо избежать сражения, в чем, как полагают люди умнее нас с тобой, могут помочь эти грязные, непристойные фотографии, либо — когда дело все-таки дойдет до драки — вести себя по возможности достойно, когда каждую секунду тебя обуревает страх, и делать все, чтобы сохранить жизнь своих людей. — Что ты и делал все четыре года, Ри-шар. Старался уберечь своих людей. И делаешь теперь, на этой горе. Дикон хрипло рассмеялся, что стало для меня полной неожиданностью. — Мой дорогой друг, — сказал он и тронул Жан-Клода за плечо. — Друзья мои. — Он задержал взгляд на каждом из нас. Потом снял очки, чтобы мы видели его серые глаза, и я заметил, что от холодного ветра у него выступили слезы. — Друзья мои, я не смог сохранить жизни людей, которые были под моим началом. Мне не удалось даже уберечь тридцать наших шерпов во время этой мирной экспедиции. В горах за них отвечал я. Большинство из них мертвы. Господи, я не смог даже позаботиться о своей винтовке, не говоря уже о том, чтобы защитить от убийц наших шерпов. Если бы все добрые люди, которых я убил или помог убить на войне, пошли с нами на Эверест, то цепочка протянулась бы от Дарджилинга до этой проклятой вершины. Он умолк. — Ладно. — Я уже больше не мог слышать тишину и завывание ветра. — Полезу наверх, пока не замерз. Там есть приличная точка страховки, так что я буду привязан, пока не доберусь до верхнего левого края того снежного поля на высоте около сорока пяти футов. Похоже, кто-то из вас может подняться со мной и страховать — или, по крайней мере, наблюдать за мной — из той точки. Мы вытопчем маленькую площадку на снегу, если потребуется. Нет, нет, это дерьмовая точка страховки — если я сорвусь со скалы, то утащу страхующего за собой, — и поэтому я помогу кому-то из вас поставить перила до того места, до снежного поля у основания вертикального участка, а потом начну подниматься без страховки, просто накинув на себя веревку, чтобы другой мог повторить попытку, если я сорвусь. — Я пойду вслед за тобой до того места, когда ты найдешь точки страховки на камнях, — сказал Дикон. Жан-Клод перегнулся через край Северной стены и в бинокль рассматривал наши следы на маршруте. — Немцы поднимаются к грибовидному камню, — крикнул он. — Мы должны поторопиться, если хотим успеть к нашему Аламо.
Глава 20
Я ни черта не знал о медитации дзен — если это ею занимался Дикон, когда каждое утро перед завтраком сидел, погрузившись в размышления, как предполагала Реджи, — и у меня не было времени и желания расспрашивать его во время этого безумного восхождения. Но тогда я подозревал, а теперь точно знаю, что альпинизм — особенно скалолазание в экстремальных условиях, когда у тебя нет права на ошибку, — является крайне необычным и прекрасным эквивалентом дзен. В сознании альпиниста не остается ничего, кроме движений, которые он собирается сделать, зацепок, которые он видит, чувствует или на которые надеется, скорости, с которой он должен перемещаться, чтобы не соскользнуть с крутой или вертикальной стены. Он представляет — воображает, мысленно репетирует, чувствует, — куда протянуть руку, куда поставить ногу, за что зацепиться, какое трение нужно создать, чтобы не сорваться, в тех местах, где этого трения не было. Таким образом, привязав страховочную веревку от Дикона, я начал преодолевать первую половину этого немыслимого подъема — сначала налево к трещине, где под острым углом сходятся две каменные глыбы, небольшому разлому, который расширялся, превращаясь в довольно широкую трещину, идущую до высоты 45 футов. Эта трещина была заполнена камнями и галькой — она появлялась снизу и ничем не могла помочь мне на первом участке маршрута. Хотя это было не совсем так, поскольку когда я быстро двинулся влево к южной стене поблизости от «соединения» скал, то попал в тень и почувствовал, что воздух стал значительно холоднее. Держась рядом со щелью, я замерзну — и это негативный фактор. Затененные участки необходимо преодолевать как можно быстрее, или потом я лишусь пальцев на руках и ногах, самих рук и ног и всего остального, до чего доберется скальпель хирурга. Я вскарабкался по узкой выемке рядом с тем местом, где встречались каменные плиты, затем сместился вправо, нащупывая пальцами зацепки, которые не видели глаза, а мои «кошки» балансировали на выступах шириной меньше половины дюйма. Потом — короткий вертикальный участок прямо под снежным конусом на полпути вверх, когда ноги перемещались то влево, то вправо, чтобы найти самую маленькую опору, затем снова вверх, пока я не остановился, хватая ртом воздух и кашляя на четырехдюймовой верхушке высокого, тонкого камня. Четыре дюйма казались мне бульваром… канзасской прерией. Теперь предстоял «широкий шаг» на снежное поле, которое я видел снизу и решил, что буду думать о нем тогда, когда поднимусь сюда. И вот я здесь. Тут не было ничего, во что можно упереть «кошки» или руки, чтобы сделать шаг шириной четыре фута, или даже больше, на крутую, наклонную плиту, покрытую снегом. (На ней не просматривалось ни одного горизонтального участка, заслуживающего названия карниза.) Смерть при таком восхождении может настигнуть мгновенно, как только ты останавливаешься, чтобы подумать. Иногда нужно просто довериться инстинкту, опыту и краткому преимуществу, которое адреналин дает над рациональным мышлением. Зная, что Дикон не сможет меня удержать во время этого гигантского шага — скорее, прыжка, — и видя 8000-футовую пропасть, которая будет у меня под ногами, я на долю секунды пожалел, что привязан к страховочной веревке даже на этой нижней, «легкой» части маршрута. Я действительно, на самом деле, не хотел утащить за собой Дикона, если сорвусь и полечу навстречу смерти. Я упал животом на скользкий снег. Наклонная «полка» уже несколько часов находилась под прямыми солнечными лучами, и снег местами стал мокрым и скользким. Мои пальцы зарывались в рыхлую массу, не находя опоры. Я начал сползать назад и вправо, прямо к обрыву. Затем передние зубья «кошек» на моих болтающихся ногах нашли какую-то опору в покрывавшем каменную плиту слое снега толщиной от шести до восьми дюймов. Мое скольжение замедлилось, затем остановилось. Медленно — зубья «кошек» были моим единственным реальным контактом со снегом, не говоря уже о недоступной скале под ним, — я сумел дюйм за дюймом сместить тело влево и вверх. В конце концов, несмотря на крутой наклон плиты и пропасть под ногами, встал и, чтобы не потерять равновесие, ухватился за скалу сверху. Затем я двинулся к дальней слева — северной — стороне этой конической снежной полки, нашел угол, где можно вытоптать крошечную площадку в снегу, на которой поместятся ноги, накинул веревку на единственную скальную точку опоры, которую смог найти — трехдюймовый торчащий вверх тонкий выступ на уровне моего носа, но по размерам меньше его, — отмотал веревку, выбрал слабину, перекинул через плечо, как делал это тысячи раз, и крикнул: — Страхую! — Пошел! — ответил Дикон и, иногда используя натянутую веревку, чтобы не опрокинуться назад, начал карабкаться ко мне в стиле Мэллори, словно механический паук. Через несколько минут он уже стоял рядом со мной. Я знал, что пора начинать дальнейший подъем — мы были в тени, и я замерзал без пуховика, теплых брюк и варежек, дрожа всем телом (возможно, не только от холода, но и от адреналина). Поэтому я поднялся на несколько футов по щели между плитами и освободил Дикону место на горизонтальной площадке площадью в один квадратный фут, которую я соорудил в углу из снега. (С точки зрения скалолаза, такие щели неудобны, поскольку они слишком широки для ладони или кулака, чтобы те могли найти там надежную опору, не говоря уже о крюке, чтобы его вбить — если вы принадлежите к числу немецких «жестянщиков», которые используют крюки, — но в то же время слишком узкие, чтобы втиснуть туда тело. В сущности, такие трещины бесполезны, разве что служат мусорным ведром, куда бросают бутылки и все остальное.) Теперь я просунул ногу в щель; вдавленные в известняк зубья «кошек» и две вытянутые руки удерживали меня на несколько футов выше макушки Дикона в том месте, где сходились две скалы. Такое положение отнимало много сил на любой высоте, и я понимал, что здесь не продержусь больше минуты. — Не отвязывай страховку, — выдохнул Дикон. Лицо его было бледным после подъема — даже с помощью моей натянутой веревки. Не знаю, каким было лицо у меня, но мне казалось, что я похож на Моисея, спускающегося с горы Синай, с двумя лучами света, исходящими из его головы. Только я пойду вверх — если повезет — а не вниз. — Нет. Удерживаясь на месте с помощью ботинка, спины и одной вытянутой руки, я отсоединил веревку от обвязки, повесил два кольца на матерчатый пояс норфолкской куртки, чтобы веревка была со мной во время подъема, но освободилась, как только я сорвусь со скалы, и начал карабкаться вверх, пока мое дрожащее тело еще удерживало остатки тепла и сил.Глава 21
Как только я начал подъем без страховки по этой непреодолимой второй ступени, то сразу же понял: проживи я три минуты — включая время, которое буду падать в пропасть глубиной три с половиной мили, — или еще семьдесят лет, этим восхождением я буду гордиться больше всего. Дышать было трудно из-за колючего кома в горле, но мне было плевать. Я сделал один глубокий вдох ледяного воздуха на высоте 28 140 футов и теперь должен был завершить подъем на этом одном глотке кислорода. Или нет. Здравый смысл и опыт скалолазания подсказывали, что мне следует по возможности держаться ближе к левому краю стены шириной 25 футов и использовать трещину неудобной ширины — хоть как-то. К черту трещину! Всем своим пылающим нутром я чувствовал, что эта трещина означает смерть. Вместо нее я выбрал узкое ответвление одной из вертикальных трещин справа. Самая большая трещина в правой части скалы была заполнена маленькими камешками. Сунуть туда руку или ногу — верная смерть. Забудь о ней. Ладони и пальцы на несуществующих зацепках — а также скорость, максимальная, на какую я только был способен, — помогли мне преодолеть две трети гладкой стены. Взгляд вниз заставил бы меня громко рассмеяться — закругление земли было видно с тех пор, как мы добрались до основания первой ступени; здесь, на второй ступени, удаленные на 200 миль вершины гор торчали над туманом этого невероятного закругления, а вершины всех гималайских восьмитысячников теперь располагались ниже меня — и поэтому я не любовался пейзажем, а продолжал лезть наверх, словно ящерица по горячей скале. Только эта скала была совсем не горячей — от нее шло ледяное дыхание открытого космоса. Проклятый камень был обращен к северу, и его редко согревали солнечные лучи. Мои ладони и те части тела, которые прижимались к нему — а я старался прижаться к вертикальной стене всем телом, — вбирали этот парализующий холод быстрее, чем я карабкался вверх. Я прижимал ладони к тем местам, в которых должны были найтись зацепки — я их чувствовал. Стальные зубья «кошек» высекали искры из песчаника и гранита. Я приближался к самому верху — разумеется, там был проклятый навес, непреодолимый даже летним днем в Уэльсе без узлов Прусика, спущенной сверху прочной веревки и скользящего по ней приспособления Жан-Клода, жумара, названного в честь собаки, — и поэтому я полз влево, упираясь зубьями «кошки», находя зацепку и соскальзывая влево, к этой бесполезной трещине. Ладно. Трещина слишком широкая для ладони или кулака и слишком узкая, чтобы втиснуть туда все тело, но ничего не мешает мне просунуть в нее согнутый локоть, повиснуть на нем, а затем, через долю секунды, втиснуть ступню и лодыжку. Таков, понял я, должен быть мой план. Хоть какой-то план. Естественно, поблизости от трещины не было ни опор для ног, ни зацепок для рук — Бог не стремился облегчить мне задачу, — но в свободном восхождении Бога заменяет трение, и я молился ему и использовал его, чтобы подняться еще на несколько футов. Легкие жгло огнем, поле зрения сужалось, но я, не обращая внимания на боль, когда острый край скалы разодрал мне ногу, прополз еще несколько ярдов к вершине второй ступени и наткнулся… на еще один навес. Мне снова с трудом удалось удержаться от смеха. На него я потратил бы последний кислород, остававшийся в легких, если он там вообще оставался. Навес заканчивался футах в шести справа от меня, и поэтому я вытянул правую ногу как можно дальше вправо, скребя «кошками» по камню, пока ботинок не нащупал крошечный выступ, не больше сломанного карандаша. Я перенес на него весь вес своего тела и, не найдя зацепки для шарившей по скале правой руки, использовал силу трения, чтобы удержаться на почти вертикальной поверхности. Еще один выступ, на три фута выше, для левой ноги, еще несколько секунд балансирования над пропастью, и вот я уже наверху — верхняя половина тела перевалилась через край, правая нащупывает выступы, камни и углубления, которых здесь в изобилии. Я на вершине второй ступени. Затем я подтянул через край все тело и откатился на несколько дюймов, чтобы ни голова, ни плечи, ни ноги, ни зад больше не висели над пропастью глубиной 8000 футов. Дышать я по-прежнему не мог, но встать мог, что и сделал. Всего в паре футов от вертикальной стены второй ступени располагалась превосходная плита из известняка размером четыре на три фута, а за нею — множество выступов, гребней и даже несколько наклонных столбов, к которым можно было привязать страховочную веревку. Благодарю тебя, Господи. Каждый вдох и выдох буквально раздирали мое горло, и я боялся закричать от боли, но когда я крикнул остальным, что готов их страховать и они могут подниматься, то — как впоследствии рассказал мне доктор Пасанг — голос мой звучал уверенно и спокойно. У меня было 120 футов «волшебной веревки», а понадобилось всего 97 футов, с учетом петель и узлов на плите и столбах. Дикон не торопился, стараясь большую часть маршрута пройти самостоятельно, но два или три раза все же прибегал к помощи веревки. Мне было безразлично, и я никогда бы не сказал ему об этом. Мы тут не на соревновании. Все остальные — за исключением Жан-Клода — в полной мере использовали натянутую веревку, а наверху их страховали двое, трое, а затем четверо, делая невозможное возможным. Никто не удержался от искушения полюбоваться видом, открывавшимся с вершины второй ступени. За ней была третья ступень — вдоль Северо-Восточного гребня, выше, прямо перед заснеженной пирамидальной вершиной, — но это был пустяк по сравнению с препятствием, которое мы только что преодолели. С первого взгляда стало ясно, что мы сможем обойти третью ступень по снежному полю, если не захотим карабкаться по камням. А за ней была только заснеженная вершина с предательскими карнизами, ясно различимыми в прозрачном воздухе и лучах солнечного света. Маленькие лохматые остатки бывшего двояковыпуклого облака тянулись от вершины на запад, но они не предвещали смены погоды и начала бури. Ветер здесь, на вершине второй ступени, был очень сильным и дул, как обычно, с северо-востока, но мы наклонились ему навстречу и радостно закричали. По крайней мере, некоторые из нас. Я понял, что совсем не могу дышать. Мои друзья отошли на несколько шагов дальше к западу, а я упал на колени, а затем на четвереньки сразу за плоской известняковой плитой. Я не мог дышать, не мог даже кашлять. Воздух не проходил в мои измученные, раздираемые болью легкие и не выходил из них. Острые клешни омара в глубине горла — теперь это была, скорее, холодная зазубренная металлическая масса — перекрыли дыхание. Я умирал. Я знал, что умираю. Четверо моих друзей радостно вскрикивали, хлопали друг друга по спине и смотрели на освещенную полуденным солнцем вершину Эвереста, а я умирал. Мелкие точки перед глазами сменились черным, быстро схлопывающимся туннелем. Доктор Пасанг повернулся и в три быстрых шага оказался рядом со мной, потом опустился на одно колено. Я смутно осознавал — теперь, когда смерть была так близка, мне это было безразлично, — что трое остальных растерянно смотрят на меня. Реджи тоже опустилась возле меня на колени, но явно не знала, что делать. «Все правда, — подумал я в ту секунду. — Мы умираем в полном одиночестве, независимо от того, кто нас окружает». — Помогите мне его приподнять. — Голос Пасанга доносился словно издалека; зрение и слух все больше слабели. Я почувствовал, как чьи-то руки поднимают меня со скалы и ставят на колени. Но это не имело значения. Уже полторы или две минуты я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Острая штуковина в моем горле разрывала его изнутри. Я тонул. Уже утонул. Только без воды в легких. Впрочем, воздуха там тоже не было. Я издал несколько сдавленных звуков и повалился вперед, но кто-то держал меня за плечи, заставляя стоять на коленях. Мне было немного жаль умирать — хотелось еще немного помочь друзьям. «Но я поднял их на вторую ступень», — мелькнула последняя мысль. Рука Пасанга — я убежден, что это была его широкая ладонь, — с такой силой прижалась к моей груди, что затрещали ребра и грудина. В ту же секунду он резко хлопнул меня по спине, едва не сломав позвоночник. Один сильный, резкий толчок — как будто какое-то жутко острое существо выходило из меня через горло и рот — и препятствие, не впускавшее и не выпускавшее воздух, приподнялось и выскочило. Реджи наконец отпустила меня, и я упал на ту штуку, которую из себя выкашлял, — она была похожа на окровавленный фрагмент позвоночника, на громадного трилобита, который, наверное, забрался мне в горло во время ночевки в пятом лагере несколько дней назад. Но мне было все равно, что это за чудовище — я едва не плакал от радости, вновь получив возможность дышать. Да, преодолевая боль, но дышать. Воздух входил и выходил. Черный туннель перед глазами расширился, затем исчез. Я зажмурился от яркого света, и Реджи осторожно опустила мне на глаза очки. Я поднимался на вторую ступень без очков, чтобы видеть свои ноги, видеть скалу, но муки снежной слепоты, как у полковника Нортона, мне были ни к чему. «Я буду жить», — мелькнула радостная мысль. Меня подташнивало, и я все время сплевывал, в том числе кровь, на колючую штуковину, которая лежала на камне. — Что это, доктор Пасанг? — спросил Жан-Клод. — Это… была… слизистая оболочка его гортани, — ответил Пасанг. — Но она твердая и колючая, как краб, сказал Дикон. — Обморожена уже несколько дней, — объяснил доктор. — И замерзла. Увеличивалась, все плотнее забивая горло и пищевод, пока полностью не перекрыла доступ воздуха. — А Джейк сможет без нее жить? — спросил Дикон. Мне показалось, что его слова прозвучали довольно равнодушно. Не забыть бы потом его об этом спросить, подумал я. — Разумеется, — улыбнулся Пасанг. — Несколько дней мистеру Перри будет больно дышать, и нам нужно побыстрее доставить его туда, где воздух не такой разреженный, но с ним все будет в порядке. Мне не нравилось, что они говорили обо мне как об отсутствующем — как будто я уже умер. С небольшой помощью мне удалось встать. Боже всемогущий, как все это прекрасно: лица друзей с очками, закрывающими глаза, величественная пирамидальная вершина, синее-синее небо за их спинами, белые вершины и немыслимое закругление земного шара. Я едва не плакал от радости. — Не двигаться, — послышался голос Зигля. Он стоял в шести или восьми футах позади нас. Оглянувшись, я увидел направленный на нас черный пистолет. «Люгер» в правой руке и винтовка «Ли-Энфилд» на левом плече. Зигль стоял на известняковой плите, к которой я привязал веревки, широко расставив ноги, в устойчивой позе, слишком далеко, чтобы кто-то из нас мог броситься на него и столкнуть вниз, победоносно возвышаясь над нами. — Малейшее движение, — сказал Зигль, — и я вас всех перестреляю. Живыми вы мне больше не нужны. И благодарю вас, мистер Перри, за перила на этой интересной второй ступени.Глава 22
Ветер толкал нас в спину. Мы выстроились неровной линией на скалистой вершине второй ступени, лицом к Бруно Зиглю, с поднятыми по его приказу руками. «У Дикона есть пистолет Бахнера», — лихорадочно подумал я. Да, конечно. Только он уже выпустил обе пули, и магазин теперь пуст. А «люгер» в руке Зигля почти наверняка полностью заряжен. Что там говорил Дикон, сколько патронов в магазине этого пистолета? Восемь? Достаточно, чтобы пристрелить всех нас, быстро перезарядить и при необходимости добить раненых. Мы проделали долгий путь к этому нелепому и жалкому концу. И все потому, что мой приступ всех отвлек, и мы не вытянули наверх 100-футовую страховочную веревку, которая была привязана к известняковой плите на вершине второй ступени. Моя мысль безумным мотыльком металась между разнообразными возможностями, но все они был никуда не годны. — Пожалуйста, скажите, где фотографии, — сказал Зигль. — Чтобы я не тратил время и силы, обыскивая ваши тела и рюкзаки. — Какие фотографии? — спросил Жан-Клод. Зигль выстрелил в него. Звук показался мне очень громким, несмотря на ветер. Же-Ка упал на заснеженную скалу. Я видел кровь на снегу у его правого бока, но она не била фонтаном… и, похоже, не была артериальной. Но что я мог знать? Только одно: альпинисты на своем горьком опыте убедились: в Гималаях на этой высоте любая серьезная травма означает неминуемую смерть. Мы все шагнули к упавшему Же-Ка, но были остановлены взмахом «люгера» и снова подняли руки вверх. — Могу я оказать ему помощь, герр Зигль? — спросил Пасанг. — Я врач. Зигль рассмеялся. — Нет, не можешь. Ты индийский ниггер, и твои руки не коснутся тела арийца… даже мертвого француза. Я стиснул зубы. Но не пошевелился. Не бросился к рюкзаку, в восьми футах от меня, за жалкой, незаряженной ракетницей. Не опустил руки. Мне очень хотелось жить, даже несколько лишних минут. — Я наблюдал в бинокль, как вы достали фотографии, — сказал немец. — Пять конвертов. Не нужно считать меня дураком. — Герр Зигль, — прохрипел я. — Можно сплюнуть? — Что? — Он направил «люгер» мне в лицо. — Кровь, герр Зигль. Я болен. Можно выплюнуть кровь изо рта, пока меня не вырвало? Немец не ответил. Я отвернулся и выплюнул кровавый ком, собиравшийся в моем истерзанном горле, — следя за тем, чтобы ветер не отнес его на Зигля или кого-то еще. — Спасибо, — поблагодарил я. «Спасибо, Что не пристрелили меня, сэр». Унизительно. — Неважные дела, герр Перри, — сказал Зигль и снова рассмеялся. — Возможно, у вас легочная эмболия. — Он взмахнул пистолетом. — Все раздеваются, догола. Бросайте одежду у своих ног и отходите. И никакого геройства — или все умрете. — Я первая, — сказала Реджи и шагнула вперед. За несколько секунд она скинула рюкзак и поставила подальше от себя, сняла анорак, пуховик Финча и подбитые пухом брюки и прижала все это ногой к земле; ветер бил ей в спину. Еще пятнадцать секунд, и на ней осталась только шерстяная блузка поверх, как мне показалось, шелкового белья. Зигль с усмешкой смотрел на нее, но краем глаза следил за всеми; «люгер» в его руке не дрогнул. Если Реджи хотела отвлечь Зигля и дать мне или Дикону шанс броситься на него, ее план не сработал. Расстояние было слишком велико, чтобы преодолеть его, не получив пулю. Мы не заслоняли друг друга от выстрела, и Зигль держал всех нас на мушке своего уродливого пистолета. Реджи сняла блузку и быстрым движением ботинка запихнула под растущую груду одежды, чтобы ее не унесло ветром. Потом избавилась от нескольких слоев льна и шелка под блузкой. Теперь она осталась в шерстяных брюках и в лифчике. Потом завела руки за спину, чтобы расстегнуть застежку. Мне хотелось заплакать. Ее нежное тело окоченеет через несколько минут или даже секунд. Жан-Клод шевелился на заснеженной скале; из него по-прежнему текла кровь. — Мне жаль, леди Бромли-Монфор, — рассмеялся Бруно Зигль, — но мне уже приходилось видеть сиськи английских женщин. Sogar einen englischen Madchens Titten! Большие. Но когда вы разденетесь, я убью вас последней… а может, оставлю моим парням, чтобы они посмотрели на вас и позабавились с вами, пока вы еще живы. — Его лицо вдруг превратилось в звериную маску, и он зарычал: — Где фотографии, английская шлюха? — В моем рюкзаке, — сказала Реджи. — Я могу их достать… Зигль покачал головой. И тут Жан-Клод вскочил и, даже не держась за окровавленный бок, бросился на него. Немец отступил на полшага и дважды выстрелил. Обе пули попали куда-то в грудь или в живот Же-Ка. Но это не остановило его. Зигль сделал два шага влево, к южной стене — но все еще слишком далеко от рыхлого снежного карниза — и выстрелил еще два раза. Четвертая девятимиллиметровая пуля вышла из спины Жан-Клода и пробила кислородный баллон у него в рюкзаке, из которого вырвалась шипящая струя. Обоих окутало облако из ледяных кристаллов. Мы все бросились вперед, но Жан-Клод стиснул Зигля в медвежьем объятии, заставив отступить на шаг… на два… на четыре… — Nein, nein, nein! — закричал Зигль и принялся лупить черной металлической рукояткой «люгера» по голове Же-Ка. Спотыкаясь, они сделали еще три шага назад, по снегу карниза. — Bâtard Boche! — выдохнул Жан-Клод, и кровь из его горла хлынула на грудь белоснежного анорака Зигля. Даже пронзенный пятью пулями, с шипящим за спиной кислородным баллоном, Же-Ка размахивал окровавленной правой рукой у левого плеча Бруно Зигля. Карниз рухнул под ними. Оба исчезли в образовавшемся в снегу отверстии. Все, кроме Реджи, бросились к южному краю второй ступени. Зигль кричал очень долго, и этот звук постепенно удалялся и затихал по мере того, как два сплетенных тела падали в пропасть, переворачивались в воздухе и снова падали, падали… Никаких чудесных скал не появилось у них на пути, как у Персиваля и Майера, да и в любом случае, Зигль и Же-Ка не были связаны — их соединяла только железная хватка одной руки Жан-Клода. В конечном итоге они скрылись из виду, превратившись сначала в точки, а затем во что-то меньшее, чем точки, затерявшееся на фоне ледника Кангшунг в 10 000 футах под нами. Я не слышал криков Жан-Клода, ни одного. Тогда я думал — и предпочитаю думать теперь, — что он умер еще до того, как осознал, что падает, хотя падение с карниза вместе с Зиглем с самого начала было главной частью его плана. Дикон посмотрел вниз, но не в пропасть, а на край скалы, и я понял, почему Жан-Клод размахивал свободной рукой. За секунду до падения он сорвал с плеча Зигля винтовку «Ли-Энфилд» и бросил на снег. Я поднял ее. — Оптический прицел разбился о камень. — Мой голос звучал глухо. — Это неважно, — сказал Дикон и взял у меня винтовку. Он отсоединил трапециевидный металлический магазин, располагавшийся перед спусковой скобой, быстро высыпал на ладонь и сосчитал длинные патроны с латунными гильзами. Потом снова снарядил магазин, проталкивая в него патроны большим пальцем. Я насчитал десять штук. Свинцовые наконечники пуль выглядели тяжелыми и грозными. Реджи одевалась с помощью Пасанга. Она дрожала от холода, и губы у нее посинели. Несмотря на ухмылку Бруно Зигля, ей все-таки удалось немного отвлечь его, дав Жан-Клоду шанс сделать то, что он сделал. Мы с Диконом пересекли вершину второй ступени и остановились у плиты из песчаника на краю 90-футовой стены. Ричард опустился на одно колено позади плиты, положил на камень винтовку, уперся локтями. Я встал на колени рядом с ним и взял бинокль, который он извлек из рюкзака. — Будешь моим корректировщиком, — сказал Дикон. — Я не знаю, что это значит, Ричард. — Это значит, будешь смотреть и говорить мне, куда я стреляю, низко или высоко, правее или левее, — объяснил он. — Если промахнусь, скажешь, на сколько, влево или вправо, вверх или вниз. По твоим сообщениям я буду корректировать прицел. — Голос у него был спокойный, словно мы обсуждали расписание поездов на Паддингтонском вокзале. — Понял, — ответил я и поднял к глазам тяжелый полевой бинокль. Оставшиеся четыре немца были только на полпути между грибовидной скалой и второй ступенью. Наверное, они передохнули с восточной стороны столба, укрывшись от ревущего ветра, а Зигль — самый подготовленный и опытный альпинист из всей группы — продолжал идти вперед без отдыха. Прежде чем Реджи и Пасанг успели присоединиться к нам, Дикон — он пользовался только металлической планкой прицела, не обращая внимания на сбитый оптический прицел слева, — сделал вдох, задержал дыхание и выстрелил. Громкий звук заставил меня вздрогнуть и на секунду оглушил. Первый немец в цепочке опрокинулся назад, словно его ударили по ногам. В бинокль я видел, как на груди его белого анорака расплывается алое пятно; снег рядом с ним тоже стал красным. — Готов, — сказал я. — Точно в грудь. Двое из трех оставшихся немцев повернулись и побежали, забыв, что связаны между собой, а также с только что убитым товарищем. Окровавленное тело застреленного проехало по снегу несколько ярдов вслед за бегущими. Комический эффект этой сцены мог бы меня рассмешить, не будь остальное так чертовски печально. Затем двое из двух бегущих немцев споткнулись и упали друг на друга, но третий устоял на ногах, резко повернулся, выхватил пистолет из кармана анорака — я не могу сказать, был ли это «люгер» или какой-то другой пистолет, — и начал стрелять в нашу сторону. Я услышал слабое жужжание где-то вдалеке, но ни одна пуля не пролетела рядом с нами. Звук выстрелов почти потерялся среди воя ветра. Дикон снова сделал вдох, задержал дыхание и послал пулю в лицо немца. В бинокль я очень хорошо видел, как в разные стороны разлетаются кровь, мозг и осколки черепа. Пистолет выпал из руки уже мертвого человека, который рухнул на снег и камни; ноги его продолжали беспорядочно дергаться, повинуясь еще не угасшим нервным импульсам. Мне была видна густая серая масса мозга, разбросанная по снегу за головой в кожаном шлеме. — Мертв, — сказал я. — В голову. — Я не знал, должен ли сообщать об этом корректировщик, но хотел сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь Дикону. Двое упавших пытались подняться. Один все еще смотрел в нашу сторону, закинув голову и пытаясь разглядеть нас на вершине второй ступени; внезапно он вскинул обе руки вверх в универсальном жесте сдающихся на милость победителя. Дикон выстрелил в него дважды, и обе пули попали в грудь выше сердца. Прильнув к биноклю, я понял, что мог бы прикрыть одной ладонью кровавые смертельные раны на груди этого человека. Последний из немцев просто откинул капюшон и сдернул кислородную маску и балаклаву — лицо у него было типично немецким и очень юным; в бинокль я не видел даже щетины на подбородке, — опустился на четвереньки и, похоже, заплакал. «Он всего лишь мальчик!» — хотелось крикнуть мне. Но я промолчал. «Курт Майер тоже был всего лишь мальчиком». Дикон выстрелил в него три раза, прежде чем человек в белом анораке опрокинулся на спину, а потом еще дважды, пока он не затих. Теперь на Северо-Восточном гребне все замерло в неподвижности; только на ветру трепыхались обрывки ткани. Реджи с Пасангом стояли позади нас и смотрели на гребень. Все молчали. Потом, словно одновременно подумав об одном и том же, повернулись и сделали несколько шагов к краю площадки, остановившись у обрушившегося карниза. — Черт, — очень тихо сказал Дикон. — Да, — прошептала Реджи. Мы отступили от края и уселись на рюкзаки с подветренной стороны низкой известняковой плиты. На ней лежали семь пустых латунных гильз. Дикон, видимо по привычке, собрал их и сунул в наружный карман — и, согнувшись, чтобы защититься от ветра, мы принялись обсуждать, что делать дальше.Глава 23
Мы собрались с восточной стороны плиты на вершине второй ступени, чтобы поговорить, но сначала минут пять или восемь дышали «английским воздухом», включив подачу на максимум. Это немного помогло, и я перестал кашлять при каждом вдохе и выдохе. Наконец все отложили маски и приступили к делу. — Не могу поверить, что Жан-Клода больше нет, — сказала Реджи. Мы наклонились к ней, чтобы лучше слышать, но сильный ветер немного стих, как будто Эверест давал нам краткую передышку в память о нашем друге. Но, несмотря на затишье, все молчали, минуту или две. — Пора принимать решение, — сказал Дикон. Я ничего не понимал. — Какое решение? Немцы мертвы, включая Зигля и того, которого Реджи застрелила из ракетницы, а также тех, кто упал с лестницы на Северном седле. Ничто не может помешать нам спуститься с горы, вернуться к остаткам базового лагеря и убраться отсюда к чертовой матери. Вернуться в Дарджилинг, — это была длинная речь для человека, у которого так болело горло, и я сочувствовал своим друзьям, которые были вынуждены слушать мое хрипение и скрежет. — Думаю, в этом году герр Зигль привел большую команду, — возразил Дикон. — Двенадцать немцев мертвы, но я не удивлюсь, если такой хитрец, как Зигль, не оставил одного или двух на леднике, в «корыте» или ниже, у базового лагеря. Чтобы ни один из нас не ушел. — Мы должны доставить эти фотографии и негативы в Лондон, — сказала Реджи. — Вот что самое главное. Ради этого погиб Жан-Клод, а также все наши шерпы, хотя сами они об этом не знали. Дикон кивнул, потом еще раз, но затем покачал головой, посмотрел куда-то вверх, на запад, и сказал: — Я хочу подняться на вершину. Но я никогда не бросал партнера в беде и поэтому не пойду прямо сейчас, Джейк. Я замер, потрясенный. — Если ты хочешь продолжить восхождение, я готов идти с тобой. — Но это была ложь. У меня возникло ощущение, что колючий трилобит, который вышел из меня вместе с кровью, выгрыз мои внутренности — вроде того, как вороны добрались до Мэллори и выпотрошили его. — Нет, мистер Перри, вы не в состоянии идти с ним, — тихо сказал Пасанг. Я заморгал, сердито глядя на него. Кто он такой, чтобы помешать мне исполнить мечту всей моей жизни? «Врач», — ответили слегка оживленные кислородом остатки моего мозга. — Отсюда до вершины, должно быть, два часа пути — или два с половиной, если придется задержаться, прокладывая тропу в глубоком снегу пирамиды, — сказал Дикон. — Но у нас хватит кислорода даже на обратный путь. — Нет, не хватит, — прохрипел я, снова ничего не понимая. — У каждого остался всего один полный баллон. — Джейк, разве ты не заметил баллоны у Зигля и остальных немцев, которых мы только что застрелили? — спросил Дикон. — Это наши аппараты — конструкции Жан-Клода. Наверное, немцы взяли их на складе в базовом лагере. По всей видимости, при подъеме по Северо-Восточному хребту они использовали не больше двух полных баллонов… что дает нам как минимум восемь дополнительных баллонов. Полных. Тогда я понял: мы находимся в уникальном положении, гораздо лучшем, чем Мэллори и Ирвин в последний день их жизни. Им пришлось подниматься из шестого лагеря на высоте 27 000 футов, имея при себе по два или три баллона на каждого. И аппараты у них были гораздо тяжелее. Мы уже поднялись на вторую ступень — до вершины осталось два часа пути и всего 800 футов по вертикали. У нас не только достаточное количество кислородных аппаратов, но и «большая палатка Реджи», которую мы притащили с собой… и которая нам пригодится, если внезапное ухудшение погоды заставит нас разбить лагерь. Для всех предыдущих экспедиций бивуак на высоте больше 27 000 футов означал неминуемую гибель. Для нас — с большой палаткой, одеждой на гусином пуху и запасом «английского воздуха» — это будет просто очередным рекордом. Одним из многих, которые установила экспедиция Дикона — Бромли-Монфор — Пасанга — Перри — Клэру. От воспоминаний о Же-Ка и о его задорном стремлении подняться на этупроклятую гору у меня выступили слезы, которые тут же замерзли на ресницах. — Я тоже хочу пойти, — просипел я. — Мы все пойдем. Вместе ступим на вершину. — Нет, — сказал Пасанг. — Мистер Перри — прошу меня извинить, сэр, — вы потеряли не очень много крови, когда выкашляли отмороженную слизистую оболочку глотки; но продолжение подъема еще несколько часов или даже дней на такой высоте может стать причиной легочной эмболии — в лучшем случае. Еще одну ночь на этой высоте вы не переживете. — Я рискну, — с трудом выговорил я, уже чувствуя, как внезапно навалившаяся сонливость пытается уложить меня на заснеженную скалу. — А мы можем подняться на вершину и вернуться до наступления ночи? — спросила Реджи. — Или придется ставить мою палатку на открытом месте, например у грибовидного камня? Дикон вздохнул и покачал головой. — Я собираюсь пойти один. И не намерен возвращаться. Я хотел закричать, но боль в горле была слишком сильной. Вместо этого я вдохнул кислорода. — Вы собираетесь совершить самоубийство, чтобы забраться на эту гору? — вскрикнула Реджи. — Тогда вы трус, несмотря на то, что рассказывал мне кузен Чарльз, несмотря на все ваши блестящие медали! Дикон улыбнулся. «Что тут смешного?» — помнится, подумал я. У меня из головы не выходило шипение, которое издал баллон с кислородом за спиной Же-Ка, когда пуля прошла через его тело, а потом через металлический корпус баллона. Как будто душа Жан-Клода покидала тело. — Если подняться на вершину и не спуститься — это не самоубийство, то что? — не отступала Реджи. У нее был такой вид, словно она готова его ударить. — Помните, в Сиккиме ко мне приходил Кен?.. — спросил Дикон. — К. Т. Овингс! — прохрипел я. — Он-то тут при чем, черт побери? — Совершенно верно. Кен жил в Непале на собственной ферме в долине Кхумбу у южных отрогов Эвереста с тех пор, как после войны решил удалиться от мира. Он по-прежнему пишет стихи, просто никому не показывает. И он по-прежнему альпинист, только теперь никто не знает о его восхождениях. — Вы говорите, — язвительно сказала Реджи, — что ваш приятель Кен Овингс поднялся на Эверест и будет ждать вас на вершине с аэропланом или чем-то подобным? — Не так эффектно, Реджи, — усмехнулся Реджи. — Но Кен разведал подходы, седла и гребни с другой стороны Эвереста — с юга — и обещал мне, что он вместе с несколькими шерпами оставят вешки на тропе и мосты через расселины внизу, на леднике Кхумбу. Он говорит, что это, скорее всего, самая сложная часть маршрута, хотя и самая близкая к базовому лагерю на южной стороне. — На южной стороне нет никакого базового лагеря, — прокаркал я. Звук был такой, будто кто-то скреб когтями по классной доске. — Уже есть, Джейк, — возразил Дикон. — Кен уже неделю или даже больше поднимается оттуда, чтобы ставить для меня веревки и палатки на Южном седле. — Он посмотрел на Реджи. — Для нас. — Южное седло, — повторил я, морщась от боли. За последние девять месяцев я столько раз слышал фразу «Северное седло», что мне просто не приходило в голову, что у Эвереста может быть Южное седло — или что это словосочетание вообще может что-то означать. — Непал закрыт для иностранцев, — сказала Реджи. — Вас посадят в тюрьму, Ричард. Дикон еще раз покачал головой. — У Овингса там есть друзья. На его ферме в долине Кхумбу работают больше ста местных жителей, и он уважаемый человек. Кен принял буддизм в тысяча девятьсот девятнадцатом — по-настоящему, а не так, как я, медитировавший утром, а днем стрелявший в немцев, — и многие в Непале считают его святым. Он меня пристроит. Реджи долго смотрела на него, не говоря ни слова. — Почему вы хотите скрыться от всего, Ричард? Оставить все, что вам знакомо? Дикон тоже помолчал, а когда заговорил, голос его звучал хрипло: — Мне кажется — как вы однажды прекрасно выразились, Реджи, — что мир устал от меня, и не только в буддистском понимании. Все лучшее, что было во мне, так и не вернулось с войны. Реджи потерла щеку и посмотрела на белую пирамидальную вершину, сверкавшую над головой Дикона. — Я исполняла свой долг — Бромли и гордого бритта, — с тех пор, как в девять лет приехала в Индию, — сказала она. — Я стала управлять чайной плантацией в четырнадцать и продолжаю управлять ею до сих пор. Доходы от этой плантации поддерживают дом Бромли в Англии. Когда мне было двадцать шесть, я вышла замуж за старика, которого не любила — ради денег и сохранения плантации. Лорд Монфор умер, прежде чем я успела узнать его… а он никогда даже не пытался узнать меня. Я устала исполнять долг. — О чем вы, Реджи? — спросил я. — О том, что хотела бы взойти на вершину Эвереста и не отказалась бы потратить пару лет на знакомство с запретным Непалом, Джейк. — Я пойду с вами, миледи, — сказал доктор Пасанг. Реджи коснулась его руки. — Нет, друг мой. На этот раз вы не пойдете со мной. Джейку нужно в базовый лагерь и в Дарджилинг. Мы должны передать эти фотографии куда нужно. Я никогда вам не приказывала, мой дорогой Пасанг, и теперь лишь прошу вас сопроводить Джейка вниз и вернуться на плантацию, а я пойду своим путем. У Пасанга был такой вид, словно он собирался вступить в спор, но затем шерпа молча опустил голову. Его темные глаза влажно заблестели — наверное, от ветра. — Вы знаете, где хранится мое завещание, — говорила Реджи, пока я снова прильнул к кислородной маске. — Вам известен шифр сейфа. Плантацию я оставила вам и вашей семье, Пасанг. В завещании есть один пункт. Дополнение, которое гласит, что в случае моей смерти или исчезновения третья часть доходов с плантации должна по-прежнему поступать к леди Бромли в Линкольншире… до самой ее смерти. После этого все доходы принадлежат вам, и вы вольны распоряжаться ими по своему разумению, мой дорогой Пасанг. Доктор снова кивнул, не поднимая глаз. — Подождите, — сказал Дикон. — Сегодня никто не пойдет к вершине — не говоря уже о траверсе туда, где Кен оставил закрепленные веревки, палатки и припасы, — пока мы не будем абсолютно уверены, что Джейк сможет благополучно спуститься с помощью одного Пасанга. — Минутку, — прокаркал я. — Мы можем переночевать в «большой палатке Реджи» у грибовидного камня и все обсудить утром. К тому времени я, наверное, буду в полном порядке. Мы все поднимемся на вершину, и потом вы можете воплощать эту идиотскую идею идти траверсом на юг, в Непал — вы оба! А мы с Пасангом спустимся этим путем. Слушая меня, шерпа качал головой. Голос его звучал мягко и в то же время властно. — Нет, мистер Перри. Мне очень жаль. Вы должны спуститься сегодня. — Он повернулся к Дикону и Реджи. — Мистер Перри может идти практически без посторонней помощи… и я считаю, что на некоторое время у него еще хватит сил, особенно при спуске. Когда он не сможет идти, я его понесу. После того, как мы спустимся с горы и его дыхание улучшится, я провожу его в монастырь Ронгбук, а затем подготовлю наше возвращение в Дарджилинг. — Эй! — прокаркал я и закашлялся. — Разве у меня нет права голоса… Очевидно, не было. Мы встали. Ветер почти стих, но двояковыпуклое облако вернулось на вершину Эвереста. Дикон вытащил большой сигнальный пистолет Вери и выстрелил вверх, так, чтобы ракета опустилась за вершиной Эвереста. В небе вспыхнула белая звезда — гораздо ярче обычных ракет, которыми пользуются альпинисты. «Белый, зеленый, затем красный», — вспомнил я слова К. Т. Овингса, сказанные Дикону в Сиккиме десять тысяч лет назад. — Я верю, — голос Дикона был пропитан странной смесью грусти и усталой радости, — что я… что мы, — он посмотрел на Реджи, и она кивнула, — сможем подняться на вершину, пройти траверсом крутой гребень между двумя вершинами, спуститься по веревке с Большой ступени, о которой мне говорил Кен, и добраться до перил, которые Овингс со своими шерпами установил на Южном гребне… до… полуночи. Если мы не сможем спускаться при свете фонарей и шахтерских ламп, то поставим большую палатку где-нибудь за Южной вершиной, а утром бросим ее и продолжим спуск. — Это безумие, — сказал я. — Первое восхождение на Эверест — насколько нам известно, — и вы хотите пройти этим чертовым траверсом на юг… Полное безумие. В ответ Дикон и Реджи лишь улыбнулись мне. Мир сошел с ума. — Сделайте нам одно одолжение, — продолжил Дикон. — Страховочные веревки и дополнительные бухты — в том числе Жан-Клода — забирайте с собой, но сто футов веревки со второй ступени мы вытащим наверх после вашего спуска. Она нам понадобится, если мы будем вынуждены вернуться сюда. Хорошо? Я растерянно кивнул. Ричард извлек из какого-то внутреннего кармана сложенный листок бумаги и сказал: — Тут имя и адрес человека в Лондоне, которому ты должен доставить эти фотографии, Джейк. Отдашь их лично в руки. Больше никому. И, ради Бога, не потеряй это. Снова кивнув, я спрятал листок в застегивавшийся на пуговицу карман шерстяной рубашки под всеми куртками. Я не развернул его и не подумал взглянуть на имя — настолько был шокирован и подавлен сознанием того, что я действительно спускаюсь, а не… и это после того, как я ради них без страховки поднялся на вторую ступень! Хотя мне кажется, что мое подавленное состояние по большей части объяснялось чувством невосполнимой утраты из-за внезапной гибели Жан-Клода. В мое сознание и душу постепенно проникала печальная истина: я больше никогда не увижу своего друга из Шамони, не услышу его смеха. — Пасанг, — сказала Реджи, — если по какой-то причине в Лондон поедете вы, а не Джейк, чтобы передать копии фотографий, вы знаете, куда и к кому идти, правда? — Знаю, миледи. Дикон протянул руку. Я пожал ее, все еще не веря, что мы расстаемся. — Постарайся выжить, — услышал я свой голос. — Конечно, — ответил Дикон. — Помни: мне суждено умереть на Северной стене Эйгера… а не на Эвересте. Скоро тебе станет легче, Джейк. А потом леди Кэтрин Кристина Реджина Бромли-Монфор поцеловала меня. В губы. Крепко. Потом отступила к Дикону, и я в последний раз увидел ее прекрасные ультрамариновые глаза. — Не забудьте надеть очки, — глухо пробормотал я. Затем мы с Пасангом с помощью жумаров спустились по веревке, которая так пригодилась Бруно Зиглю, а когда оказались внизу, на снежном поле у подножия устрашающей второй ступени, я увидел, как Дикон вытягивает веревку. Еще секунда, и он исчез. Они исчезли. Вероятно, пошли вверх, к расширяющемуся западному концу Северо-Восточного гребня и снежным полям, ведущим к пирамидальной вершине. А я шел вниз. Спускаясь по острому, как лезвие ножа, гребню к мертвым немцам, лежащим на снегу, я заплакал, как ребенок. Пасанг похлопал меня по спине и сжал мое плечо. — Это травма после того, как вы чуть не задохнулись, — сказал он. — Нет. Я не слышал, чтобы Дикон давал указания или советы доктору Пасангу, но, когда мы подходили к каждому из четырех убитых немцев, он, похоже, знал, что нужно делать. Признаюсь, сам я стоял, опираясь на ледоруб, пытался дышать своим истерзанным горлом и смотрел. Первым делом он обыскивал каждое тело, забирая документы — и, главное, оружие. У одного из мертвецов под курткой был пистолет-пулемет «шмайссер», а у другого — принадлежавший Дикону револьвер «уэбли», который Пасанг отдал мне. Я сунул его в карман пуховика под анораком. Шерпа также забрал у каждого мертвого немца кислородный аппарат, затем проверил рюкзаки и сумки, извлекая все, что могло нам пригодиться или представляло интерес с точки зрения разведки, и сложил в сумки. Наполнив одну из брезентовых сумок, он протянул ее мне. — Теперь мы должны надеть металлические рамы для баллонов, а тяжелые рюкзаки бросить тут. Все вещи мы понесем в этих сумках через плечо. Соображал я так плохо, что о расчетах не могло быть и речи, но я нисколько не сомневался, что три полных баллона кислорода на каждого позволяют спуститься к базовому лагерю — или, по крайней мере, к одному из нижних лагерей, где мы спрятали несколько модифицированных Жан-Клодом кислородных аппаратов. Вряд ли немцы нашли их все. — Вы согласны с этим планом, мистер Перри? Я кивнул, поскольку говорить по-прежнему не мог. Перед тем как мы пустились в путь — прежде чем Пасанг взялся за плечевые ремни нового кислородного аппарата и ручки сумок, — он вытащил длинный нож, перерезал веревки, связывавшие четырех мертвецов, по очереди оттащил тела к южной стороне гребня и столкнул вниз. Несмотря на апатию, в тот момент меня обуревали сильные чувства, но я не мог определить, какие именно: то ли злость на этих четырех немцев, оскверняющих ледник, на котором лежит тело Жан-Клода, то ли радость, что они заплатили за свои преступления. Смысл избавления от тел я понял гораздо позже. В 1925 году никто из нас пятерых не сомневался, что вскоре последуют новые английские экспедиции на Эверест — возможно, даже в следующем. Мы и подумать не могли, что следующая экспедиция состоится только в 1933-м и что она не продвинется дальше первой ступени. (Они найдут ледоруб Ирвина, но не догадаются спуститься ниже, куда он указывал, к самому Ирвину.) Скромная экспедиция 1938 года станет последней попыткой англичан подняться на Эверест с севера. Но мы этого не знали. Находка за грибовидным камнем тел четверых немцев, застреленных из английской снайперской винтовки, могла вызвать серьезные дипломатические трения между Берлином и Лондоном. Столкнуть трупы с Северо-Восточного гребня на Северную стену было бы неразумно: на этой стене мы случайно наткнулись на тела Мэллори и Ирвина. А немцы должны были исчезнуть бесследно. Наблюдая, как Пасанг избавляется от последнего тела, я понял одну важную вещь. Мучительное освобождение от этой замерзшей… штуковины из горла, а также страдания, которые мне причиняла обмороженная слизистая оболочка на протяжении нескольких дней, ослабили меня гораздо сильнее, чем я осмеливался признать. Даже самому себе. Стоя на кромке гребня и наблюдая, как Пасанг заметает следы, я чувствовал, что остатки адреналина, которые помогли мне подняться на вторую ступень, уходят из меня вместе с последними силами, словно вода в водосток. Доктор Пасанг был прав. Если бы я попытался подняться на вершину — а мне очень хотелось — или даже провел одну ночь на этой высоте, то распрощался бы с жизнью. Эта истина дошла до меня на Северо-Восточном гребне, так близко от вершины. Я стоял там, готовый спускаться, с одним-единственным желанием — выжить и исполнить свой долг перед Реджи и Диконом, перед кузеном Перси и Куртом Майером, а также перед убитыми шерпами. И перед Жан-Клодом. Особенно перед Жан-Клодом. Просто сойти вниз и выжить, передать фотографии британским властям, которые в них так нуждаются. Когда мы сошли с кромки гребня позади грибовидного камня, я был уверен, что у меня не хватит сил на «слепой» шаг через гладкий выступ. Но Пасанг без видимого труда преодолел препятствие — знание, что на той стороне есть опоры для ног и зацепки для рук, очень помогает, — а затем подстраховал меня, так что я без особых проблем присоединился к нему, хотя в самом конце поскользнулся, и он поднял меня в воздух, словно тюк с грязным бельем. Я слишком устал и измучился, чтобы расстраиваться. Я продолжал оглядываться на вершину, и один раз мне показалось, что две крошечные точки одна за другой движутся у самой вершины снежной пирамиды, прямо под пиком. Но у меня просто не было сил достать из брезентовой сумки бинокль и посмотреть в него. С тех пор мне не дает покоя вопрос, действительно ли я видел Реджи и Дикона, действительно ли на крутом склоне снежной пирамиды были они. Переключившись на новые баллоны с кислородом, которые немцы нашли в базовом лагере или к востоку от пятого лагеря, где мы устроили склад, мы с Пасангом продолжили спуск. Он не поддерживал меня, но мы шли рядом, и его рука придавала уверенности — мне становилось все хуже. Пасанг провел меня через остальную часть траверса вдоль гребня, вспомнил то место, где нужно через овраги спуститься на стену к нашему жалкому, состоящему из одной палатки (она была на месте, хоть и сильно накренилась) шестому лагерю. Очевидно, немцы ее не заметили, когда поднимались. В палатке осталось немного еды — шоколад, сардины и один термос с водой, который мы не взяли с собой на гребень, — и мы сложили все это в свои набитые до отказа брезентовые сумки. Именно здесь, в шестом лагере — перед тем как облака сомкнулись у нас над головой и снова пошел снег, — сидя на камне с верхней стороны палатки и уперев локти в колени, я направил полевой бинокль на вершину Эвереста, и за те несколько секунд, пока облака не заслонили ее, увидел, как там полощется что-то зеленое и золотое, на самом верху, где снежная пирамида должна заканчиваться остроконечным пиком. Зеленое и золотое? Как и здесь, в шестом лагере, на высоте 27 000 футов, погода там ухудшалась, а ветер усиливался, но Реджи и Дикон не стали бы устанавливать палатку прямо на вершине. Это было бы самоубийством. Если только они не хотели покончить с собой вместе, возможно в одном спальнике, тесно прижавшись друг к другу, чтобы их нашла следующая экспедиция. Может, они были любовниками на протяжении всего путешествия? Эта мысль отозвалась у меня болью в сердце и в животе. Может, они заключили некий безумный пакт, решив вместе умереть на вершине? Потом я вспомнил, что на «большой палатке Реджи» не было ничего золотистого. Зеленое с золотом — это флаг Бромли с фамильным гербом, грифоном и драконом, сражающимися за золотое копье или пику. Шелковый флаг, который Перси взял с собой в горы и который Реджи извлекла из кармана погибшего кузена. Флаг Персиваля и Реджи на вершине! Но развевающееся полотнище, которое я видел несколько кратких мгновений, находилось на высоте человеческого роста над заснеженным пиком. Как они смогли… Затем я вспомнил, что когда мы расставались, Реджи взяла ледоруб Жан-Клода и привязала к рюкзаку рядом с двумя короткими ледовыми молотками. Я улыбнулся и хриплым голосом описал доктору Пасангу картину, которая промелькнула у меня перед глазами. Он взял у меня бинокль и направил его на вершину, но облака уже сомкнулись, и у него не было шанса увидеть то, что видел я. Зеленое с золотом полотнище, развевающееся среди облачного шлейфа вершины, — эту картину я буду вспоминать всю жизнь. Теперь мне снова стало трудно дышать, и когда я снова надел металлическую раму с кислородными баллонами и сложил остальные вещи в сумки, то прислонился к камню, на котором примостилась палатка нашего шестого лагеря, и сложился пополам в приступе кашля. На черной поверхности камня остались ярко-красные пятна крови. — У меня в горле опять что-то замерзло? — прохрипел я Пасангу, когда закончился второй приступ кашля. Он заставил меня открыть рот, посветил мне в горло маленькой шахтерской лампой и сказал: — Нет, мистер Перри. Больше никаких обструкций. Но то, что осталось от вашей слизистой оболочки, воспалилось и распухло до такой степени, что может перекрыть доступ воздуха, если мы в самое ближайшее время не спустимся как можно ниже. — И тогда… я умру? — без особого интереса спросил я — видимо, сказывалась усталость. — Нет, мистер Перри. Если это случится, я выполню несложную трахеотомию… вот тут. — Его обтянутый перчаткой палец коснулся ямки под подбородком. — У нас есть много запасных стеклянных трубок и резиновых шлангов от кислородных аппаратов, — прибавил он. «Выполню несложную трахеотомию» — значение этих трех слов я осознал значительно позже. — А если это не поможет, доктор Пасанг? — Мой хриплый, жалобный голос подозрительно напоминал плач. — Тогда, чтобы предотвратить коллапс легкого, я проделаю маленькое входное отверстие вот тут, снова наполню воздухом спавшееся легкое, и вы сможете дышать. — Он ткнул пальцем в левую сторону груди. — В данном случае нам тоже прекрасно подойдут трубки и шланги. Единственная проблема — простерилизовать их в этих условиях, при низкой температуре кипения воды. Я посмотрел на свою грудь. Дырка с торчащим из нее резиновым шлангом от кислородного аппарата? Чтобы впускать через нее воздух? Надуть мое спавшееся легкое? Приподняв повыше кислородный аппарат у себя за спиной, я подтянул лямки, приготовил кислородную маску и сказал, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо: — У меня хватит сил, чтобы спуститься.Глава 24
Маршруты на Эвересте, подъем по которым занимает несколько дней — или даже недель, — при спуске можно преодолеть (по крайней мере, до лагерей на леднике, а во многих случаях даже до базового лагеря) за несколько часов. За полдня. Но это при наличии закрепленных веревок. Мы сняли большую часть перил, чтобы затруднить восхождение немцам. Кроме того, избавились от вешек и флажков, позволявших отличить проложенную наверх… или вниз тропу от опасных тупиков в снежном поле вертикального ущелья, оканчивающихся обрывом на ледник Ронгбук или Восточный Ронгбук. Пасанг, похоже, знал дорогу. Облака теперь плотно сомкнулись вокруг нас, и колючие снежинки врезались в крошечные открытые участки щек рядом с кислородной маской. Я поставил регулятор на максимум, 2,2 литра в минуту — Пасанг большую часть пути вообще обходился без кислорода, — но мое распухшее горло просто не пропускало достаточно воздуха в легкие. И каждый вдох сопровождался жуткой болью. В эти часы происходили поистине странные вещи. Когда мы пришли на место нашего пятого лагеря — немцы зачем-то сожгли оставшуюся палатку Уимпера, — Пасанг посадил меня на камень рядом с пепелищем и привязал мою страховочную веревку к камню, словно я был ребенком или тибетским пони, который может убежать. Сам он отправился на поиски кислородных аппаратов и запаса продуктов, которые мы спрятали среди камней к востоку от лагеря, ближе к Северной гряде. Если только Зигль и его друзья не нашли и не присвоили их. Пока я сидел там, время от времени снимая кислородную маску в отчаянных и бесплодных попытках втянуть в себя больше воздуха и кислорода из разреженной атмосферы, по снежному склону спустился Жан-Клод и сел на камень рядом со мной. — Я так рад тебя видеть, — прохрипел я. — И я рад тебя видеть, Джейк. — Он улыбнулся мне, наклонился вперед и опустил подбородок на рукавицы, обхватившие лопатку ледоруба. У него не было ни кислородного аппарата, ни маски. Я подумал, что они, наверное, слетели, пока он падал на ледник. — Погоди, — сказал я, пытаясь мыслить ясно. Я знал, что здесь что-то нелогично, но не мог сказать, что именно. — Откуда у тебя ледоруб? — наконец спросил я. — Я видел его привязанным к рюкзаку Реджи, когда они с Диконом пошли к вершине. Жан-Клод показал мне светлую деревянную рукоятку ледоруба. На ней были три зарубки на расстоянии примерно трети от головки. — Я взял ледоруб Сэнди Ирвина оттуда, где ты оставил его на камне, — ответил Же-Ка. — Сэнди сказал, что не возражает. Я кивнул. Это все объясняло. Наконец я набрался смелости и спросил: — Каково это, быть мертвым, друг мой? Же-Ка характерным галльским жестом, к которому я привык, пожал плечами и снова улыбнулся. — Être mort, c’est un peu comme être vivant, mais pas si lourd,[62] — тихо ответил он. — Я не понял. Можешь перевести, Же-Ка? — Конечно, — сказал Жан-Клод. Вонзив клюв ледоруба глубоко в снег, чтобы на него можно было опереться, он повернулся ко мне. — Это значит… — Джейк! — Голос Пасанга доносился из-за снежной пелены. — Я здесь! — прохрипел я, стараясь не закричать от боли в горле. — Я здесь с Жан-Клодом. Же-Ка достал часы из кармана пуховика Финча. — Мне нужно идти вперед и разметить маршрут для вас с Пасангом. Поговорим позже, мой дорогой друг. — Ладно, — согласился я. Из снежного вихря вынырнул Пасанг с двумя полными кислородными баллонами и еще одной брезентовой сумкой с едой и другими необходимыми вещами. — Я вас плохо слышал, мистер Перри. Что вы только что крикнули? Я улыбнулся и покачал головой. Боль в горле была слишком сильной, и испытывать ее еще раз совсем не хотелось. Пасанг вставил запасной баллон в раму у меня за спиной, снова установил регулятор расхода на максимум, убедился, что воздух идет по трубкам, и помог мне прикрепить ремешок кислородной маски к кожаному мотоциклетному шлему. — Становится холоднее, — сказал он. — Мы должны идти, пока не доберемся до четвертого лагеря на Северном седле. Вы не возражаете, если мы пойдем в связке… короткой… пятнадцать футов? Мне нужно вас видеть — или слышать, если понадобится помощь — даже при такой метели. — Конечно, — сказал я, не снимая маски с трубками и клапанами. Пасанг почти наверняка не мог ничего понять. Он привязал короткую веревку, и я встал, покачнулся, потом с помощью шерпы восстановил равновесие и двинулся в сторону крутой Северной стены, а не Северного гребня. Пасанг остановил меня, похлопав по плечу. — Наверное, мне лучше идти впереди, мистер Перри. Я пожал плечами, пытаясь в точности повторить типично французский жест Же-Ка, — но, конечно, не смог. Поэтому просто стоял, притопывая замерзшими ногами, и ждал, пока Пасанг передаст мне веревку, а потом пошел за ним, стараясь не отставать.Глава 25
Северный гребень состоял из наклонных плит, по большей части покрытых снегом. Я почти забыл об этом. Если Реджи и Дикон прошли траверсом к Южной вершине и ниже — спустились по веревке с большой скалы, которую я называл «ступенью К.Т. Овингса» (и улыбался почти тридцать лет спустя, когда ее переименовали в «ступень Хиллари»), — то теперь они идут по гораздо более удобным, задранным вверх, плитам Юго-Западного гребня Эвереста, спускаясь по этой каменной лестнице к Южному седлу и Западному гребню под ним. Но возможно ли это? Им нужно было пройти траверсом по заснеженному, острому, как лезвие ножа, гребню между вершинами — его мы видели с нескольких точек при подходе к горе и восхождении. Можно ли по нему спуститься, или это смертельная ловушка, которой стал карниз на Северо-Восточном гребне для Бромли, Курта Майера и Жан-Клода? Нет, только не для Жан-Клода, подумал я. Он знал о ненадежном карнизе и специально толкнул туда Зигля, понимая, что снег не выдержит веса двух человек, даже если один из них маленький и легкий француз. Но смогли ли Дикон с Реджи к этому времени уже спуститься на Юго-Западный гребень, туда, где Овингс обещал установить веревки? Я смутно помнил, что видел еще две ракеты в небе над вершиной Эвереста, прежде чем мы с Пасангом добрались до бывшего шестого лагеря. Зеленую и красную. Белая, затем зеленая и красная. О такой последовательности говорил Овингс. Неужели это сообщение от Дикона старому другу? Ставь «Боврил»[63] на примус — через несколько часов мы будем у тебя… Я сомневался. Дикон никогда не любил «Боврил». А может, Дикон и Реджи поднялись на вершину и прислушались к голосу разума: спустились тем же путем, которым пришли? Может, они уже добрались до единственной палатки шестого лагеря? Нет, погоди. Я смутно помнил, что Дикон тащил с собой «большую палатку Реджи» и печку «Унна». Они могли остановиться где угодно. Но остановились ли? Который теперь час? Сколько часов прошло с тех пор, как мы с Пасангом спустились со второй ступени?.. Покинули шестой лагерь?.. Пятый лагерь?.. Я шарил рукой под многочисленными слоями одежды, но никак не мог найти часы. Может, я отдал их Жан-Клоду, который не так давно ко мне приходил? Вряд ли. Скоро стемнеет — солнце скроется за вершиной Лхоцзе. Мы выйдем из густого облака в холодный, но относительно ясный вечер. Далеко внизу на Северном седле виднелись две зеленые палатки. Я посмотрел направо и заметил три странных объекта, плывущих в небе прямо над Северным гребнем. Странно. По форме они отдаленно напоминали кислородные баллоны, но не производили впечатление искусственных. Явно живые существа. Они плыли, как медузы, следуя за ничего не подозревающим Пасангом и за мной во время нашего спуска по гребню. Все три объекта были прозрачными, и я различал приглушенные цвета — красный, желтый, синий и белый, — которые пульсировали, словно бегущая по венам кровь. У одного из плывущих в воздухе объектов с двух сторон имелись прямоугольные обрубки, похожие на рудиментарные крылья. У другого в передней части был выступ, напоминающий птичий клюв, но тоже почти прозрачный. У третьего существа в центре виднелось завихрение из светящихся частиц, словно внутри у него бушевала освещенная ярким лучом метель. Все три движущихся объекта синхронно пульсировали. Хотя нет — я заметил, что их ритм подчинялся ударам моего усталого сердца. Пасанг вел меня вниз, не поворачивая головы вправо и не видя их, а три объекта плыли за нами над кромкой гребня — прозрачные и в то же время странно темные, особенно когда за ними проплывало облако. Я отвел взгляд. Объекты пропали из моего поля зрения. Чтобы проверить, не повлияли ли на мой мозг недомогание и высота, я посмотрел на вершины у нас под ногами и принялся перечислять их названия и высоту — за Северным седлом Чангзе высотой 24 878 футов, затем Кхартапу высотой 23 894 фута с другой стороны перевала к леднику Кхарта, далеко слева плечо и вершина Пумори, 23 507 футов, а правее ее, примыкающая к леднику Ронгбук вершина Лингтрен высотой всего 21 142 фута. Похоже, мозги и память у меня были в порядке. Я снова посмотрел направо. Три живых объекта по-прежнему плыли параллельно нашему маршруту, всегда оставаясь на одной высоте над кромкой Северного гребня, но меняясь местами: сначала позицию слева занял тот, у которого был тупой птичий клюв, потом его сменило существо с маленькими прямоугольными, как у пингвина, крыльями, и наконец, лидерство на спуске перешло к объекту с пульсирующей светящейся сердцевиной. Души? Разве души могут быть такими? Или это наш настоящий облик — после того, как мы освободимся от тел? Но почему три? Какие три души могут следовать за нами этим темным вечером? Жан-Клод. Реджи. Дикон. Я потянул кислородную маску вниз, стараясь не повредить клапаны, и попытался заговорить, но из моего горла вырвался только сдавленный кашель… или всхлип. Достаточно громкий, чтобы Пасанг, осторожно прокладывавший путь по каменным плитам в десяти футах впереди меня, остановился и оглянулся. Осознав, что на моих открытых щеках замерзают слезы, я смог лишь махнуть рукой в сторону трех висящих в небе объектов. Пасанг повернул голову и посмотрел. Несколько секунд спустя я проследил за его взглядом. На нас надвинулся новый клок снежного облака. Три плывших в воздухе живых существа исчезли. Другие маленькие облака и раньше проплывали между нами, заслоняя от меня странные объекты, но когда облако уходило, они всегда оказывались на месте. Но теперь я не сомневался, что они исчезли навсегда. И убедился в этом после того, как ветер погнал облако дальше. Не знаю, что хотели мне сказать эти… существа… но их сообщение явно предназначалось только мне одному. Я покачал головой, сигнализируя Пасангу, что волноваться не о чем и со мной все в порядке, опустил маску на место, и мы продолжили свой медленный и опасный спуск.На месте нашего четвертого лагеря на Северном седле стояли три палатки — две наших зеленых палатки Уимпера и одна поменьше, рыжая палатка немцев. Все три были пусты. Пасанг тщательно обыскал немецкую палатку, нашел лишь несколько документов и ударом ноги повалил ее. Потом он отвязался от соединяющей нас веревки, знаком приказал мне сесть на пустой ящик, а сам пошел проверить, на месте ли тайный склад — снаряжение, которое мы опустили в одну из расселин. Я ненадолго перекрыл кислород и сидел, хватая ртом воздух — каждый вдох словно обжигал горло, а на выдохе боль только усиливалась, — и пытался радоваться теплу примуса, который разжег Пасанг. Он вернулся уже в глубоких сумерках — с двумя новыми баллонами кислорода и едой, которую можно было кинуть в кипевшую в котелке воду. Теперь на все Северное седло и большую часть Северо-Восточного гребня, по которому мы спустились, сошла постепенно сгущавшаяся тень. Только самая кромка гребня, верхняя пятая часть Северной стены и сама вершина Эвереста по-прежнему светились красным, оранжевым и белым в густых лучах заходящего солнца. Снежный плюмаж протянулся от вершины на восток, гораздо дальше, чем когда-либо прежде. Вероятно, ветры там жуткие, жестокие — смертельные для любого живого существа. Реджи и Дикон должны уже спуститься на Юго-Западный гребень или лежат, обнявшись в двух соединенных спальниках в большой палатке на Южном седле, убеждал я себя. Но сам в это не верил. Я представлял их тела, замерзшие и негнущиеся, как тела Мэллори и Ирвина, лежащие где-то там, на этой стороне от вершины или на устрашающем снежном гребне за ней. Или висящими на веревке, как Майер и Персиваль. В ожидании воронов. Именно тогда я понял, что если останусь жив, переживу этот спуск, то я — даже если когда-либо пойду в горы — ни за что, ни при каких обстоятельствах не вернусь на Эверест.
Разумеется, наша лестница уже не свисала со 100-футовой вертикальной стены из льда на верхнем участке 1000-футового спуска с Северного седла — мы перерубили ее растяжки, сбросив вниз вместе с несколькими немцами, давным-давно, — но немцы заменили ее альпинистской веревкой толщиной три восьмых дюйма, привязанной к двум новым анкерам, которые они вбили в снег и лед ледовой полки у самого края седла. Мы с Пасангом добавили третий якорь — наполнили снегом пустой рюкзак, подобранный в четвертом лагере, закопали его как можно глубже и утрамбовали снег над ним, а затем я с помощью глухой петли и запасного немецкого карабина присоединил его к двум другим. Но мы по-прежнему не доверяли этой чертовой веревке, оставленной немцами. К счастью, у каждого из нас имелась бухта из 120 футов «волшебной веревки Дикона», извлеченная из тайника в четвертом лагере, и теперь мы прикрепили эту веревку к поясу обвязки при помощи узла «восьмерка», а затем я навязал отдельные фрикционные узлы для свободного спуска. У нас с собой больше не было жумаров Жан-Клода. Я пожалел, что не попросил у него пару штук, когда он приходил поболтать со мной в пятом лагере. Итак, в нашем распоряжении имелись две веревки, одной из которых мы доверяли, так что можно было одновременно спускаться по ледяной стене. Оставалось только достать из сумок валлийские головные лампы и перебрать запас батарей, чтобы найти среди них рабочие. Затем — на этот раз я сменил Пасанга в роли лидера — мы перелезли, спиной вперед, через край Северного седла и быстро спустились по веревкам с самой горы Эверест к 900-футовому снежному склону, который ждал нас внизу. Ниже третьего лагеря мы задумались, не остановиться ли на ночлег — у каждого был спальник, — но обоим хотелось продолжить спуск. Даже ночью, когда дорогу между расселинами на леднике будут освещать лишь тусклые головные лампы, мы к рассвету доберемся до базового лагеря — или еще дальше. Мы только что покинули пустой третий лагерь — Пасанг шел первым, связанный со мной 30-футовой веревкой, — когда я провалился в скрытую под снегом расселину. Услышав мой крик, Пасанг отреагировал мгновенно — и профессионально, как опытный альпинист, — глубоко вонзив ледоруб в снег у своих ног и приготовившись страховать, так что я пролетел не больше пятнадцати футов. Сам я тоже не выронил ледоруб из рук, и он застрял между стенками расселины над моей головой — надежная опора, пока я свободной рукой навязывал узлы Прусика для подъема. Но потом я совершил ошибку, когда посмотрел вниз и лампа на моей голове осветила расселину. В двадцати футах подо мной были мертвые синие лица, десятки лиц с раскрытыми ртами и застывшими, распахнутыми глазами. Мертвые руки с синими ладонями тянулись к моим ботинкам от присыпанных снегом тел. Я закричал. — Что случилось, Джейк? — крикнул Пасанг. — Вы ранены? — Нет, со мной все в порядке, — прохрипел я, напрягая распухшее горло и поврежденную гортань. — Просто тяните меня… тяните… — А может, вам использовать узел Прусика, а я буду страховать? — Нет… просто вытягивайте меня наверх… скорее! Пасанг так и сделал, не обращая внимания на то, что веревка врезается в острый край ледяной расселины. Он был очень сильным. Я освободил свой ледоруб и вырубал опоры для рук. И вот я уже на поверхности. Я подполз к тяжело дышавшему Пасангу — он вообще не пользовался кислородом, берег все баллоны для меня — и описал то, что видел внизу. — Понятно, — сказал доктор. — Мы случайно наткнулись на расселину, в которую герр Зигль и его друзья сбросили тела наших шерпов из третьего лагеря. Меня била дрожь, и я никак не мог ее унять. Пасанг достал из одной из своих набитых до отказа брезентовых сумок одеяло и накинул мне на плечи. — Вы не хотите… взглянуть? — спросил я. — Есть вероятность, что кто-то из них жив? — поинтересовался он. В темноте пятна света от головных ламп плясали на груди друг у друга. Я вспомнил о синих лицах, застывших глазах, окоченевших телах и руках, которые видел внизу. — Нет. — Тогда не хочу, — сказал доктор Пасанг. — Полагаю, я отклонился от тропы на несколько ярдов. Вы не могли бы какое-то время идти первым, мистер Перри, чтобы обойти следующие расселины? — Конечно, — ответил я, вернул на место кислородную маску и занял лидирующую позицию в нашей связке. Вешек почти не осталось, но немцы Зигля оставили вполне различимые следы в том месте, где между расселинами вилась наша безопасная тропа. Я опустил голову, направив луч лампы на дорогу впереди меня, и сосредоточился на том, чтобы не сбиться с пути, на какое-то время забыв обо всем. Я знал, что если потеряю дорогу, то Жан-Клод вернется и поможет мне.
Второй лагерь на высоте 19 800 футов и первый лагерь на высоте 17 800 футов просто исчезли. Не знаю, что сделали немцы с остатками палаток и грузов, но мы с Пасангом при свете своих ламп не могли найти от них даже следа. А поскольку спускались мы осторожно — хотя истинной причиной было то, что я просто не мог идти быстрее, — то последнюю милю от первого лагеря до базового лагеря на высоте 16 500 футов мы преодолевали при слабом свечении, которое обычно наблюдается перед восходом солнца. Если бы там нас ждали немцы, чего опасался Дикон, то наши шахтерские лампы были в буквальном смысле предательскими, но мы с Пасангом просто не могли остановиться — несмотря на жуткую усталость, — пока не покинем эту проклятую долину. Я снова и снова представлял Реджи и Дикона, одиноких, возможно больных или раненых, застрявших наверху, в шестом или пятом лагере — совсем в другом мире, не таком, как эта ледниковая долина, — ждущих помощи от нас с Пасангом. Помощь не придет. Дышать было так трудно, что я едва держался на ногах и все чаще спотыкался, спускаясь по длинному склону морены между нависающими пирамидами кальгаспор и ледяными стенами с обеих сторон. Я не смог бы вернуться и во второй лагерь, даже если бы от этого зависела моя жизнь, не говоря уже о том, чтобы пройти весь ледник. Мы осторожно вышли из-за гребней морен и ледяных пирамид к тому месту, где был базовый лагерь. Теперь от него ничего не осталось. Все тела убрали, палатки сняли и, скорее всего, сожгли. Словно экспедиции Дикона — Бромли никогда и не было. Небо начинало светлеть — чернота ночи сменялась серым предрассветным сумраком. Описав широкий полукруг и обойдя то место, где раньше стояли палатки и стены сангха базового лагеря, мы с Пасангом — зачем-то еще в связке — вышли на гравий перед крайними гребнями морены. Выключив лампы, спрятали их в брезентовые сумки, которые теперь закинули за спину, поверх кислородного аппарата. Там у меня были четыре тяжелых кислородных маски и еще куча вещей — от печки «Унна», которая нам так и не пригодилась, до котелков и сковородок, которые мы зачем-то таскали с собой. — Что теперь? — прошептал я, преодолевая боль. — Могу я наконец снять эти последние кислородные баллоны? — Пока нет, мистер Перри, — шепотом ответил мне доктор Пасанг. — Вам еще очень трудно дышать из-за воспаления и отека в горле. Мне совсем не хочется делать трахеотомию — только в случае крайней необходимости. — Да будет так. — Даже шепот получался у меня хриплым. — Куда теперь? До монастыря Ронгбук одиннадцать миль, и там мы можем попросить помощи, но я сомневаюсь, что у меня хватит сил идти дальше, в Чобук или Шекар-дзонг. — В монастыре герр Зигль мог оставить своих друзей, — заметил Пасанг. — Дерьмо. — Совершенно верно, — согласился шерпа. — Но можно попробовать дойти до окрестностей монастыря, а потом я переоденусь в наряд паломника, который захватил с собой, и произведу разведку в Ронгбуке, а вы будете ждать меня среди скал на подходе к нему. Если немцев там нет, мы попросим помощи и защиты у реинкарнации Падмасамбхавы, гуру Ринпоче, доброго Дзатрула Ринпоче, святейшего ламы монастыря. — Я иду с мечем судия…[64] — прохрипел я, но шутка не рассмешила даже меня самого. — Но сначала, мне кажется, мы должны… Я не слышал выстрелов, пока в нас не ударили пули. От первой голова Пасанга дернулась вперед, и мне на лицо и на опущенную кислородную маску брызнула кровь. Мгновение спустя я почувствовал, как вторая пуля пробивает мой рюкзак и кислородный аппарат и ударяет мне в спину, правее и выше левой лопатки. Пасанг уже упал, головой вперед, вероятно, бездыханный, на острые камни под нашими ногами. Не успев открыть рот, чтобы закричать, я почувствовал удар в спину и рухнул рядом с ним, потеряв сознание прежде, чем вытянул руку, чтобы смягчить падение. Боль в спине и горле и подступающая тьма; потом осталась только тьма.
Глава 26
Очнувшись, я услышал два громких мужских голоса. Мужчины стояли футах в десяти от нас, выше по склону и с наветренной стороны — вдоль долины ледника Ронгбук снова дул яростный ветер, — и разговаривали на немецком, достаточно громко, чтобы я различал слова даже сквозь вой ветра. Пасанг неподвижно лежал рядом со мной на животе, так близко, что наши лица разделяло несколько дюймов. Раньше он никогда не расчесывал свои черные волосы на пробор, но теперь кожаный шлем и шерстяная шапка под ним были сбиты, а жуткая белая полоса — я подумал, что это череп или мозг — тянулась от макушки вниз. Лицо его было залито кровью. Я хотел поднять руку, чтобы дотронуться до него, тряхнуть,убедиться, что он действительно мертв, но Пасанг прошептал, почти не шевеля окровавленными губами: — Не шевелитесь, Джейк. Его шепот был почти не слышен даже мне, с расстояния шести дюймов, не говоря уже о немцах, стоявших в шести футах от нас с подветренной стороны. — Я переведу, — прошептал Пасанг. — Ваша голова… — Раны на коже головы сильно кровоточат, — еле слышно ответил он. — У меня будет болеть голова — если мы останемся в живых, — но не более того. Они нас не обыскали. Я буду переводить, Джейк, чтобы мы знали, когда доставать из-под курток пистолеты. Я почти забыл о револьвере «уэбли», который сунул в карман пуховика Финча, и о полностью заряженном «люгере» в кармане куртки Пасанга. Как это ни удивительно, я узнал голоса, которые слышал в Мюнхене. Грубый, низкий голос принадлежал телохранителю того крайне правого политика… как же его звали, того телохранителя? Ульрих Граф. Обладатель второго голоса тоже сидел за нашим столом в тот вечер — он говорил мало, но я узнал его шепелявый выговор. Артур Фольценбрехт. — SS[65] Sturmbannführer Sigl… hat gesagt, dass ich sie anhalten soil, und ich habe sie angehalten, — почти жалобно говорил Ульрих Граф. Перед моими глазами предстала сюрреалистическая картина: кровавая маска, в которую превратилось лицо Пасанга, с закрытыми глазами и губами, движение которых почти скрывала засохшая кровь, начала синхронно переводить. Если я и знал, что доктор говорит по-немецки, то напрочь забыл. — Штурмбаннфюрер СС Зигль сказал остановить их, и я их остановил. Мне потребовалась целая секунда, чтобы вообразить, что Пасанг переводит слова Графа, а еще через секунду до меня дошло, что «они», которых нужно остановить, — это мы с Пасангом. — Idiot! — рявкнул Фольценбрехт. — Sturmbannführer Sigl hat gesagt, dass Du sie anhalten sollst bevor sie das Tal verlassen können. Aber nicht, sie zürschiessen. — Идиот! Штурмбаннфюрер Зигль сказал, чтобы мы не дали им выйти из долины. Но не стрелять в них! — шепотом перевел Пасанг. Ветер принес нам голос Ульриха Графа, с интонациями глупого, капризного ребенка: — Na ja, mein Schiessen hat sie dock angehalten, oder? — Да, но разве мои выстрелы их не остановили? — прошептали окровавленные губы Пасанга. Я услышал, как вздохнул Фольценбрехт. — Sturmbannführer Sigl befahl uns, sie zu verhören, und sie dann nach Fotos abzusuchen. Aber keiner von ihnen sieht so aus, als ob wir sie noch verhören können. — Штурмбаннфюрер Зигль приказал допросить их, потом обыскать на предмет фотографий. Но оба не выглядят достаточно живыми, чтобы их можно было допросить. Я почувствовал, как во мне пробуждается надежда. Я упал так, что правая рука оказалась внизу, и теперь эта рука медленно двигалась, миллиметр за миллиметром, сначала под анорак, потом к правому карману пуховика Финча, где лежал револьвер «уэбли», больно впившийся мне в ребро. — Was sollen wir nun machen? — сказал Граф. — Warten bis einer von ihnen wieder zu sich kommt? Я уловил слабое движение со стороны Пасанга и понял, что он тоже перемещает руку к «люгеру» в кармане пуховика. Я с трудом расслышал его перевод: — И что мы будем делать? Ждать, когда один из них очнется? Ответ Фольценбрехта показался мне грубой имитацией немецкой пастушьей песни. — Nein, vergiss das Verhör. Töte sie erst, und dann suchen wir sie ab. Aber nur einen Kopfschuss, nicht in ihre Körper. — Нет. Забудь о допросе, — быстрым шепотом переводил Пасанг. — Сначала убьем их, потом обыщем. Только стреляй в голову, а не в туловище. Эти слова убедили меня рискнуть и вытащить «уэбли» из кармана. Мой указательный палец нащупал скобу, затем спусковой крючок. Большой палец лег на курок. Я вспомнил: Дикон говорил мне, что у револьвера нет предохранителя. Пасанг опять слегка пошевелился, вытаскивая «люгер». — Warum denn? — спросил Граф. — Почему? — перевел Пасанг, и я понял, что этого тупого телохранителя интересует не причина, по которой нужно застрелить меня и доктора Пасанга, а почему нужно стрелять в голову, а не в туловище. — So dass wir keine Fotos beschädigen, im Falle sie welche bei sich haben, Du Scheisskopf, — гаркнул Фольценбрехт. — Sturmbannführer Sigl sollte bald aus den Bergen zurückkommen. Stell Deine Schmeisser auf einen Schuss. Los, los! Послышался хруст гравия под их ботинками, и еще до того, как Пасанг успел прошептать перевод, я догадался, что имеет в виду Фольценбрехт. — Чтобы не повредить фотографии, если снимки спрятаны где-то на них. Штурмбаннфюрер Зигль скоро спустится с горы, так что переключай свой «шмайссер» на одиночный огонь и пойдем… «Шмайссер»! Этот проклятый пистолет-пулемет! Нацистские ублюдки собирались выстрелить нам в голову, чтобы не продырявить непристойные фотографии, которые были у каждого из нас — у меня в брезентовой сумке, а у Пасанга в большом кармане шерстяной куртки. Через несколько секунд они пристрелят нас, а потом обыщут наши трупы. Время вышло. Мы с шерпой одновременно откатились в разные стороны и поднялись на колени, вскинув пистолеты. Я до сих пор не знаю, что произошло потом. Двое немцев шли к нам, и вдруг вокруг них замелькали какие-то серые тени. Массивные фигуры. Проблески серого меха среди снежного вихря. Что-то волосатое. Я увидел летящую голову Ульриха Графа, которая внезапно отделилась от тела. И успел услышать пронзительный визг Артура Фольценбрехта, когда из метели возникло и нависло над ним что-то серое и очень большое. Затем что-то ударило меня по голове, я выстрелил, но никуда не попал, потому что рука дернулась вверх; успел лишь увидеть, как Пасанг падает вперед — «люгер» уже выпал из его руки, глаза на залитом кровью лице снова закрыты, — а потом сам повалился ничком на камни, и меня окутала тьма.Глава 27
Очнулся я в пахнущей новым шелком палатке, уткнувшись лицом в не очень свежие, судя по запаху, подушки. Мои запястья были привязаны к колышкам, вбитым в землю между красивыми персидскими коврами, покрывавшими почти все дно палатки. Голова у меня буквально раскалывалась от боли. Спина тоже болела, но в одном месте — там, куда попала немецкая пуля, когда в нас с Пасангом стреляли. Я покрутил головой, пытаясь оглядеться — еще ковры, высокие шесты, брезент, еще подушки, но Пасанга не было. Может, он мертв. А может, и я тоже. Но для мертвого боль была слишком сильной. Я заметил, что лежу на холоде без рубашки — пошевелившись, я случайно сбросил одеяла, — но на моей спине было что-то большое и липкое. У меня мелькнула мысль, что пуля застряла у меня в позвоночнике, в легком или в районе сердца. Но голова болела так сильно, что думать я не мог — необходимое для этого умственное усилие было для меня недоступно. Услышав какой-то шум у себя за спиной, я повернул голову — так резко, что едва не лишился чувств от пронзившей череп боли, — но сумел разглядеть тибетца азиатской наружности, или похожего на тибетца монгола, который вошел в палатку с дымящейся миской в руках. Заметив, что я пришел в себя, он поспешно скрылся. Бандиты, сообразил я. Оставалось лишь надеяться, что это та самая банда, с которой дружила леди Бромли-Монфор и которую уже подкупила шоколадом и пистолетами. Как звали их предводителя?.. Джимми-хан. Разве такое имя можно забыть? Маленький азиат в меховой одежде с дымящейся миской в руках вернулся вместе с доктором Пасангом. Следом вошел Джимми-хан. Пасанг перевязал себе голову и смыл кровь с лица. Он больше не был похож на мертвого. Я видел начало следа от пули — белый шарам на темной коже левого виска доктора. Бандит Джимми-хан что-то сказал на тибетском, и Пасанг перевел. — Джимми-хан говорит: хорошо, что вы очнулись. Судя по нашей предыдущей встрече месяц назад, Джимми-хан понимал английский и немного говорил на нем. — Почему я привязан, Пасанг? Я пленник? — Нет, — ответил высокий шерпа. — Вы бредили, Джейк. Я решил удалить пулю, пока вы находились без сознания, а веревки были единственным способом удержать вас, чтобы вы не сбили повязку. — Он достал из кармана изогнутый нож и перерезал стягивающую мои запястья веревку. — Я получил пулю в спину, но остался жив? — Голова у меня болела и кружилась. — В нас обоих, по всей видимости, стрелял мистер Ульрих Граф — на его теле нашли документы, — сказал Пасанг. — Попавшая в меня пуля пропорола кожу головы и оставила бороздку на черепе. Я ненадолго потерял сознание. Пуля, застрявшая у вас в верхней части спины, пробила, насколько я могу судить, оба кислородных баллона, стальную арматуру регулятора подачи кислорода, а также печку «Унна» и два котелка, которые вы несли в противогазной сумке за плечом. Да, а еще пуля прошла через алюминиевую раму кислородного аппарата, прежде чем попасть в вас. И потеряла большую часть кинетической энергии к тому времени, как вонзилась в ваше тело, Джейк. Я извлек ее из-под дюйма кожи и тонкого слоя плечевой мышцы. Я удивленно заморгал. Голова у меня болела сильнее спины. Меня подстрелили! — Откуда вы знаете, что в нас стрелял именно Граф? — Я нашел расплющенную пулю, оцарапавшую меня, под камнем, около которого мы стояли, — объяснил Пасанг. — Но окончательный ответ дала та пуля, которую я извлек из вашей спины. Обе девятимиллиметровые пули из патрона «парабеллум»… Вам повезло, что стреляли с большого расстояния, — иначе вы были бы мертвы. — У Артура Фольценбрехта тоже в руке был «люгер», когда он приближался к нам в те последние секунды, — пробормотал я. «Какая разница, кто из этих нацистов в нас стрелял?» — мелькнуло у меня в голове. — Совершенно верно. — Пасанг протянул мне сплющенный кусочек свинца. — По всей видимости, кончики девятимиллиметровых пуль для «шмайссера» маркируются черной краской. Обе наши пули имеют черные кончики. Такими же было заряжено оружие Графа. Я сел на подушках и покачнулся — кружилась голова. — А что случилось с Графом и Фольценбрехтом? — Я пытался вспомнить, продираясь сквозь боль и туман в голове, но помнил только, как начал поднимать «уэбли», потом мелькание чего-то серого, темные фигуры среди кружащегося снега, крики. — Хороший вопрос, — ответил Пасанг. В его голосе слышалось что-то вроде предупреждения, но я был слишком поглощен своей болью и не обратил на это внимания. — Если вы можете встать, Джейк, — сказал Пасанг, — помогу вам выйти, чтобы вы кое-что увидели, пока не налетели стервятники. — Ты объяснишь, — сказал Джимми-хан Пасангу и похлопал меня по спине, прямо по повязке на ране. Я с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть. На широком, плоском камне, около которого мы стояли, когда в нас стреляли из засады — очевидно, два немца прятались ярдах в двадцати от камня, за мемориальной пирамидой, насыпанной в память Мэллори, Ирвина и семерых пропавших в 1922 году шерпов, — на коротких кольях торчали головы Ульриха Графа и Артура Фольценбрехта, вплотную друг к другу. Широко раскрытые глаза — они только начинали подергиваться мутной пленкой смерти — как будто в изумлении смотрели на нас. Рядом с головами лежали четыре отрубленные руки — две правые слева от Графа, две левые справа от Фольценбрехта. — Боже всемогущий, — прошептал я Пасангу и оглянулся на Джимми-хана, который с сияющим видом стоял в нескольких ярдах от нас. — Хан и его парни здорово обработали этих бедняг. Доктор Пасанг пристально, не мигая, смотрел на меня. Потом заговорил, как мне показалось, слишком громко. — Мистер Хан объяснил мне, что он и пятьдесят пять его людей прибыли примерно через полчаса после происшествия. Он и его люди находятся под сильным впечатлением от того, как четверо или пятеро йети, разгневанные присутствием немцев, позаботились о наших врагах. — Это смешно… — начал я. Но потом до меня дошел смысл предупреждающих ноток в голосе Пасанга и его пристального взгляда, и я заткнулся. По какой-то причине бандиты хотели, чтобы мы поверили, что в вихре метели немцев убили йети, а не закутанные в меха бандиты верхом на лошадях. Я понятия не имел, зачем им это нужно, но уже пришел в себя и понял, что следует держать рот на замке. Эти бандиты один раз уже стукнули меня по голове. Ветер, дувший от Эвереста вдоль длинного «корыта», свистел среди камней и шевелил короткие волосы на отрубленных головах, торчавших на кольях. Уже появились стервятники, число которых все увеличивалось. Свое пиршество они начали с глаз мертвецов, и я отвернулся. — Сколько я был без сознания, Пасанг? — Около пяти часов. Я посмотрел на свои часы — они по-прежнему тикали. (Отец никогда не делал дешевых подарков.) Было чуть больше полудня. Джимми-хан и двое его подручных подошли ближе, скрестили руки на груди и довольно хмыкнули, глядя на отделенные от тел головы, четыре отрубленные руки и странно сморщенные ладони. Впервые за все время я заметил, ярдах в пятнадцати позади большого плоского камня, высокую груду того, что могло быть только внутренностями двух человек. Других останков тел не было. — Метох-кангми, — сказал Джимми-хан, и два его подручных что-то пробурчали и согласно кивнули. — Йети. — Хорошо. — Спотыкаясь, я отошел подальше от жутких трофеев на кольях и отрубленных частей тела, нашел маленький камень и сел. — Как скажете, мистер Джимми-хан. — Я не обнаружил пулевых ран в черепах и других частях тела, — сообщил доктор Пасанг, словно это обеспечивало научную поддержку дурацкой версии бандитов о йети. Хан улыбнулся, а я посмотрел на Пасанга взглядом, который мог бы его испепелить, но почему-то не испепелил. Вероятно, мои способности испепелять были ослаблены ужасной головной болью, которая не ослабевала ни на секунду. — Что дальше? — спросил я. — Мистер Хан и его товарищи позволили мне поставить одну палатку, чтобы я мог вырезать у вас пулю, а вы могли бы отдохнуть несколько часов, — тихо сказал Пасанг, — однако они не станут разбивать свой лагерь поблизости от этого места. Очевидно, они полагают, что Гуру Дзатрул Ринпоче в монастыре Ронгбук будет недоволен, если узнает о насилии, которое здесь имело место сегодня. — Мне казалось, Гуру Ринпоче нравилось распространять рассказы о том, что в долине Ронгбук водятся йети, — сказал я. — Помните относительно новую фреску в монастыре? Она помогла держать его людей и монахов подальше от этих гор. — Мистер Хан и его друзья настаивают, чтобы мы пустились в путь на восток немедленно — сегодня днем. У них есть монгольские лошади для нас обоих. — Мы не можем отсюда уехать. — Я был шокирован. — Реджи и Дикон… — Не спустятся… по крайней мере, этим путем, — сказал Пасанг. — В этом я уверен. Поэтому мы должны поехать с Джимми-ханом и его дружелюбными бандитами, Джейк. Они предложили сопроводить нас на восток отсюда, а затем на юг, через перевал Серпо Ла. Этот путь приведет нас прямо в Индию. А поскольку мы путешествуем налегке, то если на перевалах сохранится хорошая погода, весь обратный путь займет три недели или даже меньше, а не пять недель, которые мы потратили, чтобы добраться сюда. Джимми-хан и его банда поедут с нами и будут охранять нас до самого Дарджилинга и предоставят вам паланкин, если рана и головная боль будут вас беспокоить. — Должно быть, он что-то потребует за такую дружескую помощь, — растерянно пробормотал я. Даже его давней приятельнице Реджи пришлось заплатить, чтобы проехать по территории, контролируемой его бандой. — Я предложил ему тысячу фунтов стерлингов, если мы целыми и невредимыми будем доставлены на плантацию леди Бромли-Монфор. — Что? — вскрикнул я. — У нас нет тысячи фунтов стерлингов на уплату этим бандитам! На двоих у нас не наберется и сотни. — Вы забыли, мистер Перри. — Голос Пасанга был печален. — Леди Бромли-Монфор передала плантацию в мои руки, в полное владение, если она не вернется — хотя я искренне молю Спасителя, чтобы она вернулась. И как можно скорее. Единственное ее условие заключалось в том, чтобы я отправлял одну треть доходов леди Бромли в Линкольншир, до тех пор, пока жива ее тетя. Внезапно — и даст Бог, временно — я оказался не стесненным в средствах. В любом случае, учитывая, насколько важным мистер Дикон и леди Бромли-Монфор считают то, что вы должны доставить в Лондон, я решил, что тысяча фунтов будет приемлемой суммой для того, чтобы на обратном пути Хан предоставил нам охрану и пони. Люди Хана редко углубляются в Индию до окрестностей Дарджилинга, так что мистер Хан проявил чрезвычайную любезность. Он даже оставит на две недели двух своих людей у базового лагеря, на тот случай, если наши друзья будут возвращаться этим путем. На это мне было нечего возразить. Я посмотрел вверх, на Эверест — по большей части скрытый тяжелыми от снега тучами, которые яростный ветер гнал от Северного гребня и Северного седла, — а затем перевел взгляд на головы двух немцев на камне. Пир у стервятников был в самом разгаре. — Если мы не собираемся сами сидеть тут несколько дней или недель и ждать, не вернутся ли этим путем Дикон и Реджи, — медленно произнес я, пытаясь разогнать туман в голове, — то чем раньше мы двинемся в сторону Дарджилинга, тем лучше. Пойдемте взглянем, что за лохматых пони они нам выбрали.Глава 28
В середине августа в Лондоне редко бывает жарко, но разливавшийся в воздухе холод напомнил мне о нашем посещении Королевского географического общества десять месяцев назад. Разумеется, в августе деревья еще не сбрасывают листья, но в воздухе уже чувствовался какой-то привкус… наверное, дыма от каминов, которые топят дровами и углем. На мне был старый скромный костюм — из толстой шерсти, с жилетом, поскольку другой, сшитый на заказ, пропал за время моего отсутствия, — и я надеялся, что холодный фронт сделает мой вынужденный выбор не столь заметным. Здание было бурым от времени и копоти, а вестибюль — очень внушительным. Звук шагов эхом отражался от изразцов и мрамора. Первому встреченному охраннику я сообщил, что у меня назначена встреча с канцлером казначейства, и тот провел меня к секретарю, который отвел меня к клерку, передавшему меня помощнику важной персоны, а тот, в свою очередь, усадил на потрепанный кожаный диван в оклеенной обоями приемной, где я подождал всего две или три минуты, прежде чем попасть в кабинет канцлера казначейства. Канцлер казначейства. Теперь я оценил изящество шифра, который придумали Реджи и Дикон, когда говорили о «нашем общем друге, который теперь любит выписывать чеки» или «нашем общем друге, который предпочитает золото». Последняя фраза, как я узнал из газет и разговоров с другими пассажирами во время долгого плавания из Индии в Англию, относилась к решению канцлера казначейства в правительстве Болдуина вернуть британскую экономику к золотому стандарту. Это произошло в мае, когда мы с друзьями штурмовали Эверест, и я не знаю, дошли ли до Дикона и Реджи слухи о возвращении золотого стандарта, или они просто знали о том, что этот человек отдает предпочтение экономике, основой которой служит золото. Во время морского путешествия в Англию я прочел все, что только мог, о возвращении золотого стандарта — а также о поднявшемся шуме и о неодобрении многими экономистами и этого шага, и самого канцлера казначейства. Секретарь вышел, оставив нас вдвоем. В противоположном конце просторной комнаты с довольно потертым ковром, большим письменным столом и креслом — в данный момент пустым — спиной ко мне стоял очень полный человек. Он стоял молча, смотрел в закопченное окно и курил сигару; ноги у него были расставлены, почти как у боксера в стойке, пухлые руки сцеплены за спиной. Примерно через минуту после того, как секретарь — или адъютант, или как он там еще называется — представил меня, хозяин кабинета повернулся, смерил меня взглядом с головы до ног, слегка нахмурился, вероятно, из-за моего шерстяного костюма, и сказал: — Перри, правильно? — Да, сэр. — Хорошо, что вы пришли, мистер Перри. — Он указал мне на неудобный, судя по виду, стул, а сам уселся в большое мягкое кресло за письменным столом. Я слышал имя Уинстона Черчилля, когда жил в Лондоне перед началом экспедиции, но, кажется, не видел его фотографии. Я смутно припоминал, что о нем много писали в прессе в 1924 году, когда он вернулся в консервативную партию после того, как несколькими годами раньше перешел на сторону либералов. Как-то раз мы разбирали снаряжения в номере лондонского отеля, и Дикон смеялся над редакционной статьей в «Таймс» и цитировал Черчилля нам с Жан-Клодом (тогда юмор до меня не дошел): «Переметнуться может каждый, но для того, чтобы переметнуться назад, требуется особое искусство». Очевидно, тактика сработала: теперь Черчилль — избранный член парламента от Эппинга и занимает высокий пост в консервативном правительстве Болдуина. Единственное, что я знал о должности канцлера казначейства, — это то, что она давала Черчиллю право называться «достопочтенным», а также бесплатно пользоваться квартирой в доме № 11 по Даунинг-стрит, вероятно, по соседству с резиденцией премьер-министра. — Вы американец, мистер Перри? Это вопрос или утверждение? — Да, сэр, — ответил я. Признаюсь, что если этот человек действительно был главой разведки, отправившим на смерть лорда Персиваля Бромли — и по всей вероятности, также бывшего капитана Ричарда Дэвиса Дикона и леди Кэтрин Кристину Реджину Бромли-Монфор, — то он никак не походил на шпиона. Он напоминал мне большого ребенка в костюме в тонкую полоску и с сигарой во рту. — Вы, американцы, ставите меня — и правительство Ее Величества — в крайне неудобное положение, — прогудел он с противоположного края широкого стола. Потом открыл коробку сигар и подтолкнул ее ко мне. — Сигару, мистер Перри? Или сигарету? — Нет, спасибо, сэр. — Я понятия не имел, что он имел в виду, когда говорил о «неудобном положении». Вне всякого сомнения, это не могло иметь отношения к предстоящей передаче конверта с семью проклятыми фотографиями и негативами, который я сунул в карман своего слишком широкого пиджака. Больше всего на свете мне хотелось покончить с делом и убраться из этого кабинета — и из Лондона. — Речь идет о военном долге, — сказал этот Черчилль. — Великобритания задолжала вам, янки, невероятную сумму в четыре миллиарда девятьсот тридцать три миллиона семьсот одну тысячу и шестьсот сорок два фунта. Одни ежегодные выплаты превышают тридцать пять миллионов фунтов. И ваш президент, государственный секретарь и министр финансов настаивают на своевременной выплате. Я спрашиваю вас, мистер Перри, как это возможно, пока французы не вернут правительству Его Величества их военный долг? Господь свидетель, Франция получает свою долю репараций и часть немецких доходов от продажи стали из Рурской долины, но платить французы не торопятся — как арендатор, который тратит ежемесячный доход на лотерею вместо того, чтобы платить землевладельцу. Я неопределенно кивнул. За те несколько недель, что я провел в Индии, и за время морского путешествия с горлом у меня стало лучше, и я уже не квакал, как лягушка, а нормально говорил, хотя голос оставался еще хриплым, но в данном случае я просто не знал, что сказать. Фотографии словно хотели прожечь дыру в моей груди, и я чувствовал, что если этот толстый коротышка не заткнется и не перестанет пускать облака сигарного дыма в мою сторону, я брошусь на этого странного сукиного сына через широкий письменный стол, и пусть англо-американские отношения катятся ко всем чертям. — Но это не ваша вина, не ваша вина, — произнес канцлер казначейства Черчилль. — Вы принесли? — Вы имеете в виду фотографии и негативы от лорда Персиваля, сэр? — спросил я, вероятно, нарушив не менее пятидесяти заповедей шпиона. — Да, да. — Он погасил сигару и скрестил на груди пухлые пальцы. Я извлек из кармана конверт и положил на стол — настолько далеко, насколько это было возможно, не вставая со стула. К моему величайшему удивлению, Черчилль даже не взглянул на конверт — пухлые руки просто смахнули его со стола и сунули в красный портфель, стоящий у его ног. — Хорошо, — сказал он. Я воспринял это как разрешение уйти и встал. — Сегодня пятница, — произнес Черчилль, продолжая сидеть. Он даже не поднялся, чтобы на прощание пожать мне руку. И я знал, какой сегодня день, черт возьми, — договаривался с его лизоблюдами о встрече именно на этот день. — Думаю, нам нужно обсудить обстоятельства, касающиеся получения этих предметов, — сказал Черчилль. — Что у вас на завтра? На завтра? Что, черт возьми, это должно означать? Я никогда не чувствовал себя таким одиноким и ненужным, как в эти несколько дней в Лондоне, без Дикона и Жан-Клода. Эти англичане так странно разговаривают — загадками. Вероятно, Черчилль заметил мой растерянный взгляд. — Я имею в виду ужин. — Нет, сэр. — Сердце у меня упало. Я совсем не хотел общаться с этим… просто человеком… которого винил в смерти своих лучших друзей, а также кузена моего друга. — В таком случае будем планировать ваш приезд в Чартвелл на послеобеденное время, — сказал он, как будто я уже согласился. — Клемми в эти выходные отсутствует, но на ужин приедут несколько интересных гостей, и разумеется, дети тоже будут. Поужинаете, мистер Перри, переночуете, и мы подробно поговорим, когда нам никто не будет мешать. У нас принято одеваться к ужину, — продолжал канцлер казначейства. Я где-то читал, что ему около пятидесяти, но выглядел он гораздо моложе — коротышка с розовыми и пухлыми, как у ребенка, щеками и неуемной энергией. — Вы, случайно, не захватили в Лондон белый галстук-бабочку, фрак и все такое? — Нет, сэр. — Мне уже до смерти надоело называть этого ничтожного Черчилля «сэром». — Только тот костюм, который на мне. Черчилль глубокомысленно кивнул и нажал на кнопку какого-то устройства у себя на столе. В кабинете, как по волшебству, появился уже знакомый мне секретарь. — Полковник Тейлор, — сказал Черчилль, — пожалуйста, проводите этого парня к моему портному на Сэвил-роу и закажите приличный вечерний костюм, а также летний и один или два осенних, а еще пижаму, несколько рубашек с галстуками… Все должно быть готово к завтрашнему полудню. И скажите ему, что счет будет оплачен Казначейством Его Величества. Я не знал, что и подумать, не говоря уже о том, что сказать — хотя мне очень хотелось выпалить: «Не нужны мне белый галстук-бабочка, фрак и вся ваша благотворительность», — и поэтому просто кивнул Черчиллю, который закурил новую сигару и углубился в бумаги, даже не дожидаясь моего ухода. — Подождите. — Я остановился и обернулся. — Еще кое-что. Из противоположного конца комнаты на меня смотрело круглое лицо с ангельской улыбкой на губах. Черчилль ждал. — Что такое Чартвелл и где это находится? — услышал я свой голос.Глава 29
Чартвелл оказался загородным домом Черчилля неподалеку от Уэстерхэма в графстве Кент, приблизительно в двадцати пяти милях от Лондона. В полдень я зашел к портному, примерил одежду, которую тот признал годной, остался в одной из белых рубашек, которые он для меня выбрал, и только что сшитом костюме рыжевато-коричневого цвета — к нему портной подобрал скромный галстук в бордовых и зеленых тонах — и с помощью автомобиля, присланного министерством (я понятия не имел, что это за «министерство»), успел на поезд в 13:15. Другой лимузин с шофером встретил меня на станции Уэстерхэм и за несколько минут доставил в сам Чартвелл. Я ожидал увидеть еще одно громадное поместье, как у леди Бромли, которое я посетил, или как у Ричарда Дэвиса Дикона, о котором я слышал и от которого он отказался после войны, однако Чартвелл больше напоминал уютный деревенский дом где-нибудь в Массачусетсе. Гораздо позже я узнал, что здесь — в обыкновенном кирпичном доме, который в XIX веке испортили пристройки и неудачная ландшафтная архитектура, — не жили несколько десятков поколений предков Черчилля. Дом был куплен сравнительно недавно и в той или иной степени перестроен нанятыми Черчиллем рабочими. И самим Черчиллем. Слуга показал мне комнату и удалился, чтобы я мог немного «освежиться», и через некоторое время появился другой слуга, постарше, и сказал, что мистер Черчилль хотел бы повидаться со мной, если мне удобно. Я ответил, что удобно. Я ожидал, что меня проводят в громадную библиотеку, но высокий седовласый слуга — на вопрос, как его зовут, ответивший «Мейсон, сэр» — повел меня вокруг дома, где Уинстон Черчилль в белой фетровой шляпе и темном, заляпанном раствором комбинезоне клал кирпичи. — А, добро пожаловать, мистер Перри, — воскликнул он и мастерком выровнял раствор, прежде чем положить следующий кирпич. Это была длинная стена. — Десять часов в день я провожу в своем кабинете в Лондоне, но вот это — моя настоящая работа, — продолжал Черчилль. Я уже понял, что любимой формой разговора у него был монолог. — Это — и писать рассказы. Я обратился в профсоюз каменщиков, прежде чем сложить свою первую стену. Они сделали меня почетным членом, но я по-прежнему плачу взносы. Настоящая работа, которую я должен сделать за эту неделю, — написать две тысячи слов и положить двести кирпичей. Он отложил мастерок и, внезапно подхватив меня под локоть, повел за дом. — «Теплый поросенок»,[66] как я его называю, — сказал Черчилль. — Что называете, сэр? — не понял я. — Дом, конечно. Картвелл. И если уж вы мистер Перри, то я мистер Черчилль. Больше никаких «сэров». — Хорошо, — согласился я, едва удержавшись, чтобы не прибавить: «сэр». Мы остановились в небольшом дворике посреди регулярного сада, но канцлер казначейства привел меня сюда вовсе не затем, чтобы похвастаться садом. — Вот почему я купил это место три года назад, — сказал он. Я понял, что он имел в виду вид, открывающийся с вершины холма. Тогда это был — и остается таковым и теперь — самый красивый сельский пейзаж из всех, что мне приходилось видеть. Буковые, каштановые и дубовые леса вдали, бесчисленные зеленые луга и такие травянистые склоны, каких я еще не встречал. — «Теплый поросенок» занимает восемьдесят акров всего этого, — сказал Черчилль, — но именно вид на долину и весь Кельтский Уилд убедил меня купить этот дом, хотя Клементина сказала, что он — и его перестройка — обойдется мне слишком дорого. Нам. Полагаю, так оно и было. — Красиво. — Я сам понимал, что одним словом этого не описать. — Смею предположить, не так красиво, как Эверест, — заметил маленький грузный человечек. Его яркие глаза пристально смотрели на меня. — Это другая красота, сэ… мистер Черчилль, — сказал я. — Там скалы, лед, резкий свет, воздух. Почти все, включая воздух, обжигающе холодное. Выше базового лагеря нет никакой растительности, даже лишайников. Ни одного живого существа, кроме альпинистов и воронов. Ни деревьев, ни листьев, ни травы… почти ничего мягкого, мистер Черчилль. Только скалы, лед, снег и небо. Здесь несравненно… мягче. Человечнее… Черчилль внимательно слушал, потом кивнул. — Мне нужно возвращаться к работе. Когда я закончу эту стену для будущей террасы, примыкающей к спальне Клементины, то примусь за еще одну плотину. — Он взмахнул своей короткой пухлой рукой. — Эти пруды я тоже выкопал сам. Всегда любил смотреть на воду и на существ, которые в ней живут. Пруды были очень красивыми и выглядели естественно. Но на этот раз я промолчал. — Чувствуйте себя как дома, как говорят у вас в Америке, — сказал Черчилль. — Если проголодаетесь, скажите Мейсону или Мэтью, и они попросят на кухне приготовить для вас сэндвич. Спиртное в гостиной, а у вас в комнате есть хороший виски — кажется, по ту сторону Атлантики вы называете его скотчем. В вашей комнате есть книги, но можете брать и из библиотеки. Если какая-то книга окажется недоступна, это значит, что так и предполагалось. В остальном все по-честному. В шесть подадут херес или виски, ужин в семь тридцать — сегодня рано, поскольку один из гостей привез с собой кинопроектор, чтобы потом показать нам фильм. Вернее, детям. Полагаю, все наши сегодняшние гости покажутся вам интересными, но особенно — трое из них. До вечера, мистер Перри.Первым гостем, с которым я познакомился, был Т.Э. Лоуренс — «Лоуренс Аравийский», как называл его американский репортер Лоуэлл Томас во время и после войны. Мы одновременно спустились по лестнице, когда подали напитки. На нем был наряд аравийского принца с украшенным драгоценными камнями кинжалом за поясом. — Знаю, выглядит глупо, — сказал он, когда мы познакомились и пожали друг другу руки, — но детям нравится. Вскоре к нам присоединился пожилой мужчина, которого Черчилль называл «Проф». Это был профессор Линдеманн, и позже Лоуренс шепотом поведал мне, что в 1916 году, когда огромное число пилотов Королевских ВВС погибали из-за того, что не могли вывести свои хлипкие деревянные аэропланы из плоского штопора, Проф Линдеманн при помощи сложных математических расчетов придумал маневр, который должен был вывести машину из самого глубокого штопора. Когда руководство и пилоты Королевских ВВС заявили, что этот маневр не поможет, то — по словам Лоуренса, на котором по-прежнему был довольно-таки женственный белый головной убор, когда он мне это рассказывал, — профессор научился летать, поднялся в воздух на аэроплане, без парашюта, специально перевел машину в самый крутой плоский штопор и, используя математически рассчитанный маневр, вывел из штопора в нескольких сотнях футов от земли. Секрет состоял в том, чтобы убрать руки и ноги с рычагов управления; по словам профессора Линдеманна, аэроплан сам стремился выровняться и лететь прямо, и нужно только ему не мешать. Именно корректирующие действия органов управления переводят вращение в смертельно опасный штопор. А затем, прибавил Лоуренс, профессор поднял в воздух другой, более старый биплан, перевел его в штопор и снова позволил машине выровняться самой. После этого, заверил меня Т.Э. Лоуренс, всем пилотам Королевских ВВС предписали научиться маневру профессора Линдеманна. В тот вечер за ужином — за столом собрались больше десяти человек, включая детей, шестнадцатилетнюю дочь Диану, сына Рэндольфа, на вид лет четырнадцати, и одиннадцатилетнюю девочку по имени Сара, а также двух кузенов, мальчика и девочку (их имен я не помню) примерно того же возраста, что Диана и Рэндольф, — Черчилль предложил профессору «односложными словами не больше чем на пять минут рассказать нам, что это за штука — квантовая теория». Он засек время по часам, извлеченным из кармана жилета, но профессор закончил на двадцать секунд раньше. Все сидевшие за столом бурно зааплодировали. Я действительно все понял. Другой «особый гость» неприятно поразил меня, когда я впервые увидел его в гостиной с большим бокалом охлажденного шампанского. Мне показалось, что это Адольф Гитлер. Это имя я часто вспоминал за месяц своего выздоровления — на самом деле я ждал и надеялся, что Дикон и Реджи однажды объявятся — на чайной плантации под наблюдением доктора Пасанга. Я прочел о герре Гитлере все, что только смог найти на плантации, а затем на протяжении нескольких недель на корабле, возвращаясь из Индии. Увидев перед собой Гитлера, я на мгновение растерялся (я знал, что сделаю, что должен сделать, но не понимал, как сделать это здесь и сейчас), но потом заметил волнистые волосы, приятное лицо, с более тонкими чертами, и понял, что сходство обусловлено только накладными усами — которые гость снял, развеселив детей, еще до начала ужина. Этого человека Черчилль представил нам как Чарльза Чаплина, который родился в Англии, но теперь живет в США. Именно из-за него ужин в тот вечер начался так рано, и за столом вместе с нами сидели дети — Чаплин привез копию своего последнего фильма (вместе с проекционным аппаратом), чтобы показать после ужина, пока дети еще не легли спать. Однако милый и улыбчивый Чаплин сумел вызвать раздражение хозяина еще до того, как мы покончили с напитками и прошли в длинную столовую. Он, похоже, очень серьезно относился к политике и требовал от Черчилля объяснений, почему канцлер казначейства и правительство Болдуина настаивали на возвращении к золотому стандарту. — Понимаете, это повредит вашей экономике, — говорил Чаплин за аперитивом. — И больше всего пострадают бедняки, потому что цены на все вырастут. Черчилль явно не любил, когда ему противоречат, не говоря уже о том, что затевают подобный спор в его собственном доме, и поэтому к тому времени, когда мы расселись за столом, уже был молчалив и мрачен. Но затем Чаплин сломал лед, причем сделал это особенным образом. — Поскольку мне сегодня вечером нужно вернуться в Лондон, а у нас вряд ли будет время поговорить после того, как я покажу наш новый фильм, я устрою предварительный показ прямо здесь, за обеденным столом, — сказал он. Чаплин привез с собой копию «Золотой лихорадки», премьера которой состоялась в Соединенных Штатах в июне, но которая еще не дошла до Англии. Актер взял две вилки и воткнул в две булочки. — Мой маленький бродяга, — сказал он, — приехал на Аляску за золотом и пытается понравиться молодой женщине, с которой познакомился. То есть он воображает, что сидит рядом с ней и пытается произвести на нее впечатление. А поскольку говорить он не может, то общается с ней вот таким способом. После этих слов озабоченный политикой, серьезный Чаплин исчез, и вместо него появился улыбающийся, симпатичный «маленький бродяга», сгорбившийся над вилками и булочками, которые превратились в ноги. Эти ноги исполнили короткий танец с разнообразными коленцами и акробатическими трюками — под мелодию, которую негромко напевал актер, — а закончилось все «реверансом» вилок с булочками и самодовольной улыбкой «маленького бродяги». Все снова зааплодировали. Лед действительно был сломан. Черчилль, смеявшийся громче всех, снова превратился в радушного хозяина; все признаки раздражения исчезли. Во время этого в целом веселого и приятного обеда был еще один странный момент. Т.Э. Лоуренс наклонился над столом (так что длинные шелковые концы его головного убора едва не попали в шербет) к сидевшему напротив Чаплину и сказал, обращаясь к кинозвезде: — Чаплин, Чаплин… Это еврейская фамилия? Вы еврей, сэр? Улыбка Чаплина не дрогнула. Он поднял бокал белого вина — нам подавали фазана — и отсалютовал Лоуренсу. — Увы, при рождении я не был удостоен этой чести, мистер Лоуренс. Позже, когда дети и остальные гости устремились в продолговатую гостиную, где были расставлены стулья и установлен проектор, я извинился — сослался на усталость, что было правдой, — и обменялся рукопожатием с Чаплином, выразив надежду, что мы еще когда-нибудь встретимся. Он дружески пожал мне руку и ответил, что разделяет мою надежу. Затем я пошел к себе в комнату и уснул, не обращая внимания на взрывы смеха, доносившиеся из гостиной еще часа полтора.
Слуга по имени Мейсон разбудил меня — вежливо, но настойчиво — посреди ночи; по крайней мере, мне так показалось. Отцовские часы показывали почти четыре утра. — Если вас это не смущает, сэр, такой ранний час, — прошептал Мейсон, державший в руке свечу. — Мистер Черчилль у себя в кабинете, заканчивает работать, и он хотел бы с вами поговорить. Конечно, меня это смущало. И не только то, что меня бесцеремонно разбудили в такой ранний час, словно я был обязан по первому желанию Великого Человека являться к нему в кабинет. Меня смущало все. Обед минувшим вечером и разговор за столом были просто замечательными — о знакомстве с Чарли Чаплином я и мечтать не мог, — но никакое приятное общение не могло погасить гнев и отчаяние из-за того, что случилось на Эвересте, и причины, по которой моих друзей отправили туда. Мое сердце было наполнено тьмой, и я был не настроен на еще один остроумный разговор или развлечение. Я решил прямо и откровенно спросить канцлера казначейства, почему он считает себя вправе распоряжаться жизнями Персиваля Бромли, Жан-Клода Клэру, Ричарда Дэвиса Дикона, леди Бромли-Монфор или тридцати прекрасных шерпов и юного австрийца Курта Майера, который — мне хотелось догнать Т.Э. Лоуренса и крикнуть ему это в лицо — был евреем. И мужества у него было больше, чем у любого английского хлыща в белых арабских одеждах, которого я когда-либо встречал. Вероятно, я все еще хмурился, когда входил в кабинет Черчилля. Должен признать, несмотря на мое мрачное настроение, комната на верхнем этаже действительно впечатляла. Когда Мейсон провел меня через тюдоровскую дверь, украшенную, как я впоследствии узнал, лепным архитравом, а затем беззвучно выскользнул в коридор и так же беззвучно закрыл за собой дверь, я посмотрел по сторонам и вверх. И вверх. Потолок явно разобрали, открыв свод из балок и стропил, которые казались такими же старыми, как сама Англия. Пол громадной комнаты был устлан выцветшими коврами, почти весь центр оставался пустым. Высокие стены занимали встроенные шкафы, забитые книгами (внизу я уже видел библиотеку, способную удовлетворить нужды всего населения не самого маленького города на американском Среднем Западе). В комнате также были несколько стульев и два низких письменных стола, в том числе из красного дерева, украшенный великолепной резьбой, с удобным мягким стулом, однако Черчилль стоял и что-то писал за высоким наклонным столом из старого, нелакированного дерева. — Стол Дизраэли, — прорычал он. — Наши викторианские предшественники любили работать стоя. — Прикоснулся к испачканной чернилами наклонной крышке стола, словно лаская ее. — Разумеется, не настоящий стол Дизраэли. Его сделал для меня местный столяр. Стоя в этой комнате в халате и тапочках, я чувствовал себя глупо. Но тут я заметил, что мистер Черчилль одет точно так же, как я. Шелковый халат поражал буйством красок — зеленой, золотой и алой. Слишком большие шлепанцы при ходьбе — он налил в стаканы две приличные порции виски — издавали шаркающий звук. Я взял стакан, но пить не стал. Черчилль заметил, что я снова разглядываю высокие стропила и старинные картины на стенах. — Оказалось, что это самая старая часть Чартвелла, — пророкотал Черчилль. — Датируется тысяча восемьдесят шестым годом, всего двадцатью годами позже битвы при Гастингсе. Здесь я пишу. Вам известно, что я зарабатываю на жизнь ремеслом писателя? В основном на исторические темы. Обычно я диктую кому-либо из секретарей, который хорошо владеет стенографией и успевает за мной. Сегодня, поскольку я работаю одновременно над двумя книгами, пришлось диктовать двум юным леди. Кроме того, у меня есть два помощника, мужчины. Вы должны были встретить их всех на лестнице. Я кивнул, ноничего не сказал. Мы стояли лицом друг к другу. В отличие от меня, Черчилль прихлебывал виски. — Вы сердитесь, мистер Перри, — сказал он, глядя на меня поверх стакана. Его яркие глаза не упускали ни одной мелочи, двигаясь из стороны в сторону, словно проверяли, что никто не пытается к нему подкрасться. Я постарался как можно точнее повторить небрежное пожатие плечами, как это делал Жан-Клод. Черчилль улыбнулся. — Я не виню вас за то, что вы злитесь. Но на что, молодой человек? На непристойный характер фотографий, которые вы передали вчера, или на то, что ваши друзья и другие люди пожертвовали жизнью ради этой мерзости? Мы подошли к двум креслам у большого письменного стола из красного дерева — поверхность его была чистой и, по всей видимости, не использовалась хозяином, поскольку все книги и страницы рукописей громоздились на длинном и высоком столе Дизраэли, — но садиться не стали. — Мне бы хотелось знать, мистер Черчилль, — сказал я, — по какому праву политик-перебежчик, который даже не может определиться, к какой партии он принадлежит, и примыкает к тем, кто у власти, решает, что кто-то должен умереть ради чего-то. Черчилль вскинул голову и как будто впервые увидел меня. На несколько секунд во всем доме повисла тишина, а затем где-то внизу часы пробили четыре. Пока не стих этот звук, мы с Черчиллем даже не моргнули. Наконец низенький и толстый канцлер казначейства в ярком шелковом халате нарушил молчание: — Вам известно, мистер Перри, что моя мать была американкой? — Нет. — Бесстрастным голосом я старался передать, что мне это абсолютно безразлично. — Возможно, именно поэтому меня всегда интересовала не только британская политика, но и американская, не говоря уже о том, что называют политикой на континенте. Хотите знать главное отличие политики в вашей стране от политики в Соединенном Королевстве, мистер Перри? «Не особенно», — подумал я, но промолчал. — Я не знаю, кто занимает должности советников в кабинете президента Кулиджа, — сказал Черчилль, словно я проявил интерес. — Возможно, на первых порах он сохранил некоторых людей Гардинга после внезапной смерти в Калифорнии вашего предыдущего президента. Но я гарантирую, мистер Перри, что после того, как мистер Кулидж в прошлом году был избран на новый срок, победив слабого демократа Дэвиса и этого довольно любопытного парня из прогрессивной партии, Ла Фоллетта, Калвин Кулидж не только стал независимым, но и окружил себя своими людьми. Это вам о чем-то говорит, молодой человек? — Нет, — ответил я, вспоминая о том, как Жан-Клод боролся со штурмбаннфюрером Зиглем, а воздух с шипением выходил из пробитых кислородных баллонов Же-Ка, когда они оба сорвались со снежного карниза в пропасть глубиной 10 000 футов. Я вспоминал лица Реджи и Дикона в тот момент, когда они повернули на запад и стали подниматься по снежному полю перед пирамидальной вершиной. — Я имею в виду, Джейк… могу я называть вас Джейк? Я молчал, неприязненно глядя на этого грузного человека с детским лицом. — Я имею в виду, мистер Перри, что в Америке партии выбирают своих президентов, но советники и правительства этих президентов меняются от выборов к выборам. Президент Кулидж сменил даже нескольких нижних чинов после смерти Гардинга… еще до того, как избрался сам. — Что вы пытаетесь сказать? — Я говорю, что в Англии все устроено иначе, мистер Перри. На выборах побеждают разные партии, премьер-министры сменяют друг друга в зависимости от результатов выборов, но у власти на протяжении десятилетий остается одно и то же ядро политического класса — политики, как вы их называете. В ноябре мне исполнится только пятьдесят один, но за несколько десятилетий публичной карьеры я был уже министром торговли, министром внутренних дел, первым лордом адмиралтейства… до того фиаско при Галлиполи…[67] немного пробыл на фронте в действующей армии, затем вернулся в коридоры власти как министр вооружений, военный министр, министр авиации, а теперь занимаю должность канцлера казначейства. Я ждал. Наконец решил пригубить виски. Он был крепким и мягким, но не успокоил мои нервы и не погасил гнев. — Понимаете, британские политики вроде меня обязаны иметь целую сеть друзей — и даже врагов, — прочно связанных с ними, — продолжал Черчилль, — даже когда они не у власти. А те из нас, кто руководил разведывательными операциями армии, флота или был министром внутренних дел или военным министром — а я занимал все четыре должности, — сохраняют эти сети. Информация — это власть, мистер Перри, и разведывательные данные, независимо от способа их получения, могут решить судьбу страны и империи. — Весьма впечатляющее резюме. — Я старался, чтобы все три слова прозвучали как можно язвительнее. — Но как это связано с тем, что частное лицо вроде вас приказывает достойным людям подвергнуть себя опасности, чтобы выкрасть… непристойные фотографии? Черчилль вздохнул. — Я согласен, что все это — вся эта тайная операция по получению подобных снимков от герра Майера — было грязным делом, мистер Перри. Но сама разведка по большей части грязное дело. Однако иногда самые грязные стороны жизни становятся самыми эффективными инструментами войны и мира. Я хрипло рассмеялся. — Неужели вы хотите убедить меня, что несколько фотографий того немецкого… того усатого клоуна и безумца… как-то повлияют на будущую безопасность Британии или другой страны? Черчилль пожал плечами. У грузного человека в цветастом халате этот жест выглядел немного комично. — Эти фотографии могут сыграть огромную роль. — Его тон изменился; я понял, что теперь это голос публичного политика, каким произносят обращения по радио. Он взял книгу, которую читал перед моим приходом, а затем положил на письменный стол раскрытыми страницами вниз. — У меня есть сигнальный экземпляр книги, которую герр Адольф Гитлер написал за то время, что сидел в тюрьме, а пока вы были в Гималаях, переписывал и редактировал, подгоняя под вкусы своих немногочисленных, но фанатичных сторонников. Герр Гитлер хотел назвать эту чудовищную вещь — а она чудовищная, мистер Перри, можете мне поверить — «Vierinhalb Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit», что можно перевести как «Четыре с половиной года борьбы с ложью, глупостью и трусостью». Как писатель писателю, я мог бы сказать герру Гитлеру, что такое название не будет способствовать продажам. К счастью — для Гитлера, — немецкий издатель сократил название выпускаемой в печать книги до «Mein Kampf», или «Моя борьба». Я ждал эффектной концовки. Похоже, ее не было. Черчилль протянул мне книгу. — Возьмите, мистер Перри. Прочтите ее. Можете оставить себе. Через несколько лет она может появиться в продаже в Англии и в Америке. В Германии через несколько лет она может стать обязательной для чтения. Посмотрите, какие безумные планы герр Гитлер и его нацистские, — Черчилль произнес это слово нараспев, — гунны строят относительно Германии, Европы, евреев и всего мира. — Я не читаю и не говорю по-немецки. Мой голос звучал неприязненно. В одной руке я держал книгу, в другой стакан с виски. Меня так и подмывало вернуть книгу, повернуться и выйти из комнаты, собрать вещи и убраться к чертовой матери из этого дома, даже если посреди ночи в этой деревенской глуши невозможно найти такси. Пойду пешком. Но я колебался, не выпуская из рук тяжелую книгу и стакан. — В любом случае, — сказал я, — даже будучи писателем, вы должны понимать, что человеческие жизни важнее книг. Старые шлепанцы Черчилля издали шаркающий звук — он приблизился ко мне на шаг. — И еще кое-что, мистер Перри, прежде чем вы уедете. Я знал и уважал отца Ричарда Дэвиса Дикона, знал самого Ричарда до войны, во время войны и после нее. Он понимал, что я… что мы… делали. Ричард Дикон видел цену беспрепятственной агрессии. Я также хочу, чтобы вы знали, — в неторопливом рокоте его голоса уже не слышалось рева бури. — Я знал юную Реджи Бромли с тех пор, как ей исполнилось десять лет, и любил ее. И я не только знал и ценил ее кузена Перси — он был центральным звеном моей разведывательной сети во время и после войны. Он пожертвовал многим — в том числе репутацией — ради нашей страны, мистер Перри. И теперь я скорблю — я в буквальном смысле плакал, сэр, — что не могу даже рассказать о его героизме и его жертве… Но такова доля разведчика, мистер Перри. Я поставил пустой стакан из-под виски на инкрустированную кожу письменного стола из красного дерева — много лет спустя я прочел, что этот стол принадлежал отцу Черчилля, — но книгу по-прежнему держал в руке. Мне очень хотелось обрушить свой гнев на этого маленького толстяка, ранить его словами так же, как память о трех друзьях ранила мое сердце, но в то же время в глубине души я понимал, что должен уйти и обдумать все, что сказал мне Черчилль. В конце концов отвергнуть, но все равно сначала обдумать. — Вы хотите уехать утром — разумеется, когда рассветет и начнут ходить поезда, — или останетесь в Чартвелле до конца выходных, чтобы мы смогли еще поговорить? — Уехать, — ответил я. — Соберу вещи и буду готов к восьми часам. — Я распоряжусь накрыть для вас завтрак в семь, и мой шофер отвезет вас на станцию, — сказал Черчилль. — Боюсь, утром мы не увидимся, поскольку я сплю допоздна, а затем работаю в постели, прежде чем встать. Вы еще задержитесь в Лондоне, мистер Перри? — Нет. Хочу как можно быстрее покинуть Лондон и Англию. — Наверное, вернетесь в Альпы? — Розовощекое лицо Черчилля расплылось в детской улыбке. — Нет, — резко ответил я. — Домой. В Америку. Подальше от Европы. — В таком случае желаю вам благополучного путешествия и благодарю за ваши выдающиеся поступки и за принесенные жертвы, в числе которых наши общие любимые друзья. — Черчилль наконец протянул мне руку. Поколебавшись немного, я пожал ее. Ладонь у него была на удивление сильной, даже с мозолями — наверное, после всех этих занятий, кладки стен, копки прудов и устройства запруд.
Тем же утром машина почти беззвучно везла меня по длинной аллее прочь от Картвелла — от, как он его называл, «Теплого поросенка»?.. Господи, могут же эти британцы быть такими невыносимо остроумными, — мимо громадных старых дубов и вязов, кустов лавра и постриженных рододендронов, затем мимо последних густых елей у ворот, в сверкающих в утреннем свете капельках росы, и я боролся с желанием оглянуться назад.
Глава 30
Во второй неделе мая 1941 года — оставалось еще семь месяцев до Перл-Харбора и нашего вступления в войну, которая шла в Европе уже почти два года, — во время прогулки по горам Гранд-Титон со своим американским другом Чарли, врачом по профессии, и его молодой женой Доркас (наш общий лагерь на озере Дженни служил им номером для новобрачных) я прочел новости о том, что Рудольф Гесс, так называемый заместитель фюрера по партии и второй человек после Гитлера в новом немецком Третьем рейхе (тот молчаливый человек с кустистыми бровями, который сидел за нашим столом в пивном зале в Мюнхене рядом с штурмбаннфюрером СС Бруно Зиглем), угнал самолет немецких ВВС и приземлился в Англии, пролетев всю Шотландию. Факты, которые приводила газета, были отрывочными и на первый взгляд бессмысленными. «Мессершмитт Bf 110D» был специально оборудован дополнительными сбрасываемыми бензобаками для увеличения дальности полета, но Гесс летел один. Самолет был обнаружен британским радаром, и на его перехват полетели «спитфайеры» и другие истребители. Гесс летел очень низко — прячась от радаров и избегая столкновения с преследователями, — а его маршрут над Шотландией выглядел абсолютно нелогичным: над самым Килмарноком, потом вдоль Ферт-оф-Клайд, затем снова в глубь побережья и над Фенвик-Мур. Британский перехватывающий радар — в то время это было сверхсекретное устройство — затем зарегистрировал, что одинокий истребитель разбился к югу от Глазго, но Рудольф Гесс катапультировался и приземлился в деревне Иглшем, повредив при этом ногу. Гесса арестовали и поместили в какую-то английскую тюрьму — вот и все, что мы узнали о том странном полете в Англию весной 1941 года. После Перл-Харбора мой друг альпинист Чарли пошел в армию и служил врачом в военно-воздушных силах. Мне было 38 лет, и я не мог похвастаться никакими специальными навыками, кроме путешествий и восхождений, и поэтому после того, как мою кандидатуру отвергли несколько военных структур, я оказался в созданном наспех американском разведывательном ведомстве под названием УСС — Управлении стратегических служб. Там меня обучили греческому и в конечном счете выбросили с парашютом на греческие острова с такими красивыми названиями, как Кефалония, Тасос, Кос, Спеце и — мое любимое — Гидра. Там в мои скромные обязанности входили вооружение и организационная помощь партизанам, а также нанесение максимального ущерба немецким оккупантам. Мне стыдно признаваться, что «нанесение ущерба» состояло в основном из устройства засад на немецких генералов и других высших офицеров и их убийства. И я одновременно стыжусь и горжусь, что довольно хорошо выполнял эту работу. Таким образом, именно во время войны в УСС я наткнулся на дополнительную информацию, в то время секретную (и остающуюся секретной до сих пор), о безумном на первый взгляд полете Гесса в Англию. Когда офицеры службы наблюдателей за воздухом допрашивали пленника в Гиффонке после ареста в окрестностях Гилшеми, Гесс настаивал, что привез «секретное и чрезвычайно важное сообщение от фюрера, Адольфа Гитлера», но он — Гесс — будет разговаривать только с герцогом Гамильтоном. Гесса отправили в казармы Мэрихилл в Глазго, где ему действительно дали возможность поговорить с герцогом Гамильтоном с глазу на глаз. Сразу же после этого разговора герцог был доставлен самолетом Королевских ВВС в Кидлингтон рядом с Оксфордом, а затем перевезен в Лондон, где беседовал в Дичли-Парке с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Не забывайте, это были самые тяжелые дни битвы за Британию. Армия Соединенного Королевства потерпела сокрушительное поражение во время отступления к Дюнкерку и была буквально сброшена в море, оставив на побережье много убитых солдат и почти все тяжелое вооружение. К началу лета 1940 года Франция была окончательно разбита и оккупирована, и Германия сосредоточила более 2400 судов, предназначенных для переброски немецких солдат и танковых соединений через Ла-Манш. В соответствии с планом операции сотни тысяч немецких солдат должны были вторгнуться в Англию при поддержке Fallschirmjägern — парашютистов, — выброшенных в окрестностях Брайтона и Дувра за несколько часов до того, как транспортные суда под охраной эсминцев и авиации отплывут из Булони в Истборн, из Кале в Фолкстон, из Шербура в Лайм-Реджис, из Гавра в Вентнор и Брайтон, из Дюнкерка и Остенде в Рамсгейт. Но ходили слухи, что той весной Уинстон Черчилль предъявил Адольфу Гитлеру тайный ультиматум, переданный через бывшего короля Эдуарда VIII, который отрекся от престола ради женитьбы на разведенной американке, миссис Симпсон. В 1940 году бывший король носил титул герцога Виндзорского и вместе со своей вечно недовольной герцогиней жил на Багамах — от своих источников в УСС я узнал, что британская разведка и правительство Черчилля до такой степени не доверяли симпатизировавшей нацистам супружеской паре, что до начала войны им не разрешали жить во Франции или Испании. Все разведывательные службы (включая многочисленные американские) понимали, что возле герцога Виндзорского и его свиты, даже сосланных на Багамы, крутятся немецкие агенты из нескольких служб и ведомств. В 1943 году до меня дошли слухи — на острове Теспротия, где мы выслеживали и убивали итальянских, болгарских и немецких офицеров, а также ликвидировали албанцев и членов греческой национал-социалистической партии (Elliniko Ethniko Sosialistiko Komma), которые сотрудничали с оккупантами, — что Черчилль через герцога Виндзорского на Багамах дал понять Гитлеру, что у правительства Его Величества имеются компрометирующие фотографии молодого Адольфа, но правительство воздержится от их публикации в обмен на то, что фюрер отменит приближающееся и неизбежное вторжение в Англию. По словам моего источника в УСС — он только что вернулся из путешествия в Лондон, на Кубу и на Багамы и знал всех участников этой сложной операции (в том числе, утверждал он, американского писателя Эрнеста Хемингуэя, который жил на Кубе и, вообразив себя шпионом, наткнулся на следы кое-каких переговоров и поэтому сам находился под пристальным наблюдением ФБР, УСС и разведки ВМС США), — Гитлер настолько испугался этой угрозы, что тайно отправил своего заместителя по партии и верного слугу Рудольфа Гесса в Англию с секретным поручением, причем возвращение явно не предусматривалось. Предложение Гитлера, как утверждал мой начальник в УСС, было простым: не будет публикации фотографий (что бы на них ни было), не будет и вторжения в Англию. Точно никто не знал, как согласие Черчилля было передано в Берлин — единственное, что было известно моему другу и начальнику в УСС, на этот раз не через герцога или герцогиню Виндзорских на Багамах, — но его передали. В конце лета была отменена Unternehmen Seelöwe, операция «Морской лев» — несмотря на тщательно разработанные и уже начавшие претворяться в жизнь планы и логистику, а также новые вооружения, предназначенные для вторжения в Англию с моря. Официальное объяснение правительства Его Величества заключалось в том, что немцы отказались от своих планов после того, как люфтваффе Германа Геринга не удалось уничтожить противовоздушную оборону Британии, несмотря на то, что к моменту поступления приказа от Гитлера немцам почти удалось установить господство в воздухе над Ла-Маншем и разрушить аэродромы Королевских ВВС. Таким образом, спасение Британии от немецкого вторжения всегда приписывалось воздушной «Битве за Англию», а не существованию семи компрометирующих фотографий, которые были доставлены из Австрии через Китай, Тибет и Индию. В 1943 году в горной пещере маленького греческого острова я улыбался, плакал и поднимал кружку с «Басбанис Пломари Узо» — напитком с запахом аниса, который я терпеть не мог — в честь тридцати храбрых шерпов, не менее храброго и очень молодого австрийского еврея по имени Курт Майер, лорда Персиваля Бромли, леди Кэтрин Кристины Реджины Бромли-Монфор, доктора Сушанта Рабиндраната Пасанга, Ричарда Дэвиса Дикона и Жан-Клода Клэру, четверо из которых были моими лучшими друзьями, каких у меня уже никогда не будет.Эпилог
Апрель 1992, примечание для Дэна Симмонса. Я все еще довольно много читаю и знаю, что «эпилог», особенно когда это слово пишут по-французски, вышел из моды приблизительно в то же время, когда мужчины перестали носить короткие гетры. Тем не менее я хочу кое-что добавить к истории, произошедшей в 1925 году. В этом нескладном «эпилоге» я поделюсь с вами этими сведениями, и вы — если доберетесь до этого места в моей бесконечной стопке блокнотов — сами решите, включать их в окончательный вариант, если вы захотите поделиться с кем-нибудь моими записками или сочтете их лишними или не относящимися к делу. Или и то, и другое вместе.После возвращения в Америку осенью 1925 года я несколько лет даже думать не мог о горах. А когда снова вернулся к занятиям альпинизмом, то ограничивался Скалистыми горами в Колорадо — я два года занимался мелиорационными работами к западу от Колорадо-Спрингс, где самые высокие пики не превышали 14 000 футов, а затем переключился на Гранд-Титон, на мой взгляд, самую красивую в Америке цепочку острых пиков. С Чарли и его женой я познакомился именно там, в Джексон-Хоул, еще до того, как курорт стал популярен у богатых и знаменитых. Мы трое любили горные лыжи. Когда в конце 1920-х я снова стал подниматься в горы за пределами Соединенных Штатов, это были южноамериканские Анды. Там есть много вершин, которые еще никто не пробовал покорить. Чтобы попасть в нужную мне страну, я нанимался матросом на грузовое судно или на яхту какого-нибудь богача, и этот опыт помог мне получить работу, о которой я вам рассказывал при личной встрече, — место в экипаже антарктической экспедиции в середине 1930-х, когда я два года провел в Антарктиде с адмиралом Бэрдом. В 1929 году, примерно через четыре года после тех последних дней на Эвересте вместе с моими погибшими друзьями, я получил открытку из Непала. Но сначала я должен рассказать, что после 1928 года получить разрешение на проход через Тибет или организовать экспедицию на Эверест становилось все труднее, и первую после Ирвина и Мэллори попытку восхождения предприняла экспедиция Рутледжа в 1933 году. Они поднялись достаточно высоко и нашли ледоруб Ирвина, который я оставил на камне ниже первой ступени, но не поняли, что это указатель к телу Сэнди Ирвина, как я надеялся. А может, к тому времени длинный камень, на котором мы оставили труп Ирвина — замерзшие руки просунуты между сдвинутыми застывшими коленями, — соскользнул ниже или вообще свалился вниз. Как бы то ни было, четвертая британская экспедиция 1933 года под руководством Хью Рутледжа не достигла даже той высоты, на которую поднялся Тедди Нортон в 1924 году. И экспедиция Эрика Шиптона в 1935 году, которая шла маршрутом Рутледжа, хотя им удалось обнаружить и сфотографировать следы йети. Многие альпинисты, в том числе Эрик Шиптон и Билл Тилман, возвращались на Эверест в 36-м и 38-м годах. В 1936 году это была попытка покорить Эверест «альпийским стилем», как мы с Диконом планировали в 1925-м, но Шиптона, Тилмана и их товарищей остановила непогода. Далай-лама официально не изгонял чужаков из Тибета, пока в 1947 году гороскоп не предсказал, что его стране будут угрожать иностранцы. До 1950 года Тибет закрыли для всех иностранцев, и он превратился в «запретное королевство», каким был для нас Непал в 1920-х, но это не помешало китайской агрессии. Китайцы убили более пяти миллионов тибетцев и намеренно разрушили более тридцати тысяч буддийских храмов и монастырей — в том числе наш монастырь Ронгбук, — а за буддистскими священниками и монахами китайская армия охотилась, как за дикими животными. В то время, когда Тибет закрывался для иностранных альпинистов, Непал постепенно открывался. В октябре 1929 года — через неделю после краха на фондовой бирже — я получил открытку из Непала. На маленькой открытке были экзотические, не знакомые большинству британцев или американцев непальские печати, а поверх них — индийские и британские, поскольку ее переслали мне через официальных лиц в Нью-Дели и Королевское географическое общество в Лондоне. На обороте несколько рукописных строчек:
Джейк Надеемся, с тобой все хорошо. Ферма в долине Кхумбу довольно прибыльна, и мы оба очень счастливы. Маленькие Чарльз и Рут-Энн шлют тебе свою любовь. Твои друзья навекПодписей не было. Ферма в долине Кхумбу? Единственным из известных мне европейцев, которому удалось поселиться и основать ферму в Непале, был К.Т. Овингс, но в 1925 году, во время визита в наш лагерь в Сиккиме, он меня практически не замечал, и кроме того, он явно не стал бы заканчивать письмо фразой: «Твои друзья [68] навек». В таком случае, кто это мог быть, кроме Дикона и Реджи? Если «маленькие Чарльз и Рут-Энн» — это дети, родившиеся у моих друзей после их исчезновения на Эвересте в мае 1925 года, то я могу понять, почему они назвали мальчика Чарльзом — так звали кузена Реджи, старшего брата Перси и друга Дикона, получившего на войне такие ужасные раны, — но Рут-Энн? Год спустя мне пришлось немало порыться в лондонских архивах, чтобы выяснить: у Чарльза Дэвиса Дикона была младшая сестра Рут-Энн, умершая в 1899 году через месяц после рождения. Поэтому я предпочитаю верить, что Реджи и Дикон поженились — или по крайней мере жили вместе — и решили поселиться в Непале, вдали от нашего мира, где прожили все 20-е, 30-е и 40-е годы. Но неужели Дикон не участвовал во второй войне с Германией? Возможно, он посчитал, что с него хватит. Я много чем занимался в жизни, а среди моих восхождений были экспедиции на Аляску (вместе с еще одним выпускником Гарварда, Брэдом Уошберном), на гору Клильон в 33-м и гору Форейкер в 34-м. Во время третьей экспедиции на Аляску в конце 1940-х я вместе с четырьмя товарищами провел девять дней в крошечной снежной пещере на высоте 17 900 футов. Двое умерли от переохлаждения, но мне повезло — я всего лишь лишился двух обмороженных пальцев на левой руке. Первый раз — почти против своей воли — я вернулся в Гималаи после двух лет, проведенных в Антарктике с адмиралом Бэрдом. Это была разведывательная экспедиция 1936 года к Нанда Деви, красивейшей горе в окружении почти непреодолимых скал — незабываемое приключение с моим другом Чарли, а также с Биллом Тилманом, Эдом Картером и другими альпинистами. В 1938 году я участвовал, тоже вместе с бывшими членами Гарвардского клуба альпинистов, в попытке покорения К2 — второй из высочайших вершин мира и, на мой взгляд, более опасной, чем Эверест. (Кажется, я уже говорил, что в годы моей учебы в университете клуба еще не было.) В тот год никто не поднялся на вершину. Я также упоминал о моей службе в УСС во время войны и не буду утомлять вас подробностями; скажу лишь, что использовал все доступные мне секретные каналы в поисках каких-либо упоминаний о Реджи и Ричарде Дэвисе Диконе — или даже о лорде Персивале Бромли или Курте Майере и Бруно Зигле. Но ничего не нашел. В 1953 году, в возрасте 51 года, уже не такой молодой и сильный, я последний раз побывал в Гималаях — сопровождал моего друга Чарли в его второй попытке покорить К2. В том году никто не достиг вершины — К2 еще более негостеприимна, чем Эверест, и строго охраняет свои секреты, — но я получил уникальную возможность увидеть, как один человек, Питер Шонинг, страховал четверых товарищей (в том числе моего друга Чарли), которые сорвались с крутого и смертельно опасного ледяного склона. Насколько я знаю, страховки, спасшей жизни четырех человек на такой высоте, не было ни до, ни после. К несчастью, один из наших товарищей — Арт Гилкей — получил травму при спуске. Мы попытались спустить Гилкея вниз, и остальные члены «братства веревки», как потом назвал их Чарли, закрепили его — завернутого в спальник — на крутом склоне, а сами принялись вырубать ступени на опасном участке. Но либо лавина, которую мы не слышали, либо сам Гилкей (по неизвестной причине) вырвали надежные крепления, к которым он был привязан, и он соскользнул вниз и разбился. Я уже говорил о том, что такие падения в горах способны повергнуть в шок — они оставляют после себя кровавый след, истерзанную плоть, обрывки одежды, оторванные конечности, ошметки мозга, — и Чарли до конца жизни не мог забыть, как мы несколько часов спускались по склону мимо окровавленных останков его близкого друга. Много лет спустя его преследовали приступы депрессии и галлюцинации, когда на дороге перед его машиной вдруг появлялась кровь; теперь, в непредставимом будущем 1992 года, врачи назвали бы это «посттравматическим стрессом». После второй экспедиции на К2 и гибели Арта Гилкея я навсегда распрощался с Гималаями. Да, чуть не забыл самое важное, что случилось за эти десятилетия. Не умею я писать эпилоги. В 1948 году я был в Берлине в составе группы УСС, которая занималась допросом нацистов, и в одной из немецких газет — язык я выучил во время войны — наткнулся на статью, которая заставила меня отставить бокал с пивом и замереть на несколько минут. Четверо чокнутых немецких альпинистов пытались посреди зимы покорить гору Эйгер, повторив первый успешный маршрут Генриха Харрера по Эйгерванду — смертельно опасной, забравшей жизни многих альпинистов Северной стене Эйгера, — и наткнулись на замерзшее тело одинокого альпиниста на вершине так называемого Паука, над белой паутиной вертикальных снежных полей, прямо под трещинами, которые ведут к верхнему гребню горы-убийцы высотой 13 022 фута. Альпинист — он выглядел слишком старым для восхождения на Эйгер, лет пятидесяти с лишним — явно был остановлен на последнем участке маршрута сильнейшей бурей, которая пронеслась над северной стеной и заперла его в одиноком бивуаке на шестидюймовом карнизе, откуда он из-за плохой погоды не мог ни подняться, ни спуститься, и замерз насмерть. У мужчины с собой не было ни удостоверения, ни бумажника, ни чего-либо другого, что помогло бы установить его личность, а в соседней деревне и в гостинице «Кляйне Шайде» в долине у подножия Северной стены Эйгера никто не видел, как он проходил мимо. В статье также приводили слова альпинистов, что на немолодом лице мужчины застыла слабая улыбка. Зимой 1948 года Ричарду Дэвису Дикону было бы 59 лет — в таком возрасте только безумец мог штурмовать серьезную стену, тем более в одиночку, не говоря уже о Эйгерванде. Опознать мужчину не удалось (и даже увидеть второй раз, поскольку снежная лавина сбросила его вниз еще до того, как следующая группа поднялась на эту высоту в конце лета того же года), а у немецких альпинистов не было с собой фотоаппарата, когда они нашли тело, но я ясно представляю себе лицо Дикона. Я даже могу представить, о чем он думал, когда буря остановила его у самой вершины и появились первые признаки переохлаждения. Он не винил бы гору. Ричард всегда говорил, что ему суждено умереть на Северной стене Эйгера. Я не знаю, предпринял ли эту попытку Дикон — если это был Дикон (никаких доказательств у меня нет, только внутреннее убеждение), — после того, как Реджи умерла или вернулась в Индию, или она ждала его в Непале. Я не могу представить, чтобы она позволила ему в одиночку отправиться на Эйгер вскоре после окончания войны в Европе, но также не могу представить, что Дикона можно было остановить, если он что-то задумал. Немцы сообщили, что у мужчины были волосы с проседью, но замерзшее тело оказалось на удивление тренированным — тело профессионального альпиниста. И наконец, несколько десятков лет я поддерживал связь с доктором Пасангом после того, как мы расстались в 1925 году, и дважды приезжал к нему в Индию, в 1931-м и в конце 1948-го. Второе путешествие я предпринял в основном для того, чтобы показать газетную статью об одиноком альпинисте, замерзшем той зимой на Эйгерванде. Пасанг был одним из самых богатых людей Индии, не принадлежавших к числу махараджей, и он достойно распорядился своим богатством. Леди Бромли умерла в 1935 году, и все доходы от бывшей чайной плантации Бромли в Дарджилинге перешли к Пасангу и его семье — у него было семь детей, и все они добились успеха в жизни, а трое, в том числе одна дочь, стали членами индийского парламента. Пасанг делился своим богатством с индийским народом — жертвовал немалые суммы больницам, хосписам, клиникам, учреждал стипендии и гранты для молодых индийских студентов, мечтающих стать врачами. Исследовательский центр имени леди Бромли-Монфор — специализирующийся на лечении полученных на войне ран, в том числе от мин, которые покалечили столько детей в странах третьего мира, — пользуется широкой известностью и очень успешен. Пасанг умер в 1973 году. Его до сих пор помнят и почитают не только в Дарджилинге, но и во всей Индии. Наша переписка в эти десятилетия была нерегулярной, но насыщенной воспоминаниями и эмоциями, и я попросил, чтобы письма от него тоже переслали вам вместе с тетрадями и фотоаппаратом «Кодак». Ах да, фотоаппарат. Фотоаппарат Джорджа Мэллори. От экспедиции 1925 года на Эверест у меня остались две ценные вещи — принадлежавший Дикону револьвер «уэбли», которым я пользовался во время Второй мировой войны на греческих островах и не только, а также маленькая камера «Вест Покет Кодак», которую мы нашли на теле Сэнди Ирвина на высоте больше 27 000 футов в тот майский день 1925-го. Я так и не проявил пленку — даже не вытаскивал ее из фотоаппарата, — но уже довольно давно, году так в 1975-м, я разговаривал с исследователем из компании «Кодак», которого обучал основам альпинизма в окрестностях Аспена в штате Колорадо, и спросил его, можно ли проявить пленку из такой камеры, оставленной в Гималаях («на большой высоте», как выразился я)… и останутся ли на ней изображения. «Почти наверняка, — сказал эксперт. — Особенно если она провела большую часть этого времени в холодном, сухом воздухе Гималаев. — Затем он хитро сощурился и прибавил: — Готов поспорить, речь идет о камере „Вест Покет Кодак“, которая была у Джорджа Мэллори и которую так и не нашли, правда? Вы об этом не говорили, но я знаю, что вы один раз побывали в Гималаях — кажется, на К2? Вы хотите знать: если фотоаппарат когда-либо найдут, сможем ли мы извлечь из нее снимки Мэллори и Ирвина на вершине… давайте, Джейк, признавайтесь. Вы же имели в виду ту самую камеру, да?» Я смущенно признался, что так оно и есть. Но не сказал, что она была в моей скромной квартирке в Аспене, всего в одной или двух милях от того места, где мы в то время тренировались. Фотоаппарат Джорджа Мэллори я завещаю вам, Дэну Симмонсу, с извинениями, что не оставил его в более благоприятных для пленки условиях при минусовой температуре на высоте почти 28 000 футов. Признаюсь, что мне было бы любопытно узнать, что изображено на этих снимках, но не настолько любопытно, чтобы проявлять пленку, пока я жив. У меня есть собственное мнение относительно того, поднялись ли на вершину Мэллори и Ирвин, а также Дикон и леди Бромли-Монфор через год после попытки Мэллори и Ирвина. И я никогда не любил опровергать твердые убеждения обыкновенными фактами. Я приношу свои извинения за эту бесконечную рукопись — для чтения десятков блокнотов с рукописным текстом пришлось серьезно напрягать глаза, — но в последние шесть или восемь месяцев я обнаружил, что смертный приговор, от рака или по какой-то другой причине, помогает сосредоточиться и отделить главное от ерунды. Мне повезло — я многое повидал и был знаком со многими людьми. Часть моего жизненного опыта связана с ужасными страданиями, когда я терял друзей, но эти страдания тоже важны. Трое мужчин и одна женщина, о которых рассказывают эти исписанные каракулями страницы, очень важны для меня — как и храбрые шерпы, имена которых я помню до сих пор. Признаюсь, что у меня больше нет сил писать этот дилетантски сентиментальный «эпилог», предназначенное вам письмо, и поэтому заканчиваю… Ваш друг Джейкоб (Джейк) Перри 28 апреля 1992 г.
Послесловие Дэна Симмонса
В прошлом году, еще не дочитав последнюю рукописную страницу в блокнотах Джейка Перри, я бросился звонить мистеру Ричарду А. Дарбейджу-мл. в город Лютервилл-Тимониум, штат Мэриленд, — сыну той дамы, которой по ошибке отправили посылку с блокнотами и камерой почти двадцать лет назад, в 1992 году. Дарбейдж-младший был очень любезен и пытался помочь, хотя я чувствовал, что отрываю его от чего-то важного — видимо, от трансляции футбольного матча, судя по доносившимся до меня звукам. Знает ли мистер Дарбейдж о фотоаппарате в той посылке, который случайно отправили его матери Лидии, внучатой племяннице Джейка Перри? Мой голос дрожал от волнения. Фотоаппарат должен был быть вместе с блокнотами. Он тоже предназначался мне, почти жалобно прибавил я. Но не стал говорить джентльмену из Мэриленда, что присланный его матери фотоаппарат почти наверняка может дать ответ на вопрос, поднялись ли Мэллори и Ирвин на вершину Эвереста в июне 1924 года. Мистер Дарбейдж-младший помнил, что фотоаппарат действительно лежал в той коробке в подвале вместе с блокнотами мистера Перри — это была старинная вещь, похоже, еще XIX века, — однако он был уверен, что фотоаппарата у него нет. Он переехал в прошлом, 2011 году, и его дочь вместе с зятем выбросили много мусора, готовясь перевезти его в «дом поменьше». Однако мистер Дарбейдж был почти уверен, что его мать Лидия Дарбейдж продала старый фотоаппарат на одной из своих еженедельных гаражных распродаж вскоре после того, как получила весь этот мусор от мистера Перри, вероятно, в начале 1990-х. Он точно помнил, что в коробке также был старый тяжелый пистолет — слава Богу, не заряженный, — и мать лично отнесла его в отделение полиции, чтобы там избавились от этой страшной штуковины. Да, мистер Дарбейдж теперь точно вспомнил, что его мать продала древний фотоаппарат на распродаже у себя на заднем дворе в то же лето 1992 года, когда посылка пришла из дома престарелых в Колорадо. Он понятия не имел, кто его тогда купил, хотя припоминает, что за старинную вещь мать выручила два доллара. Может ли он еще чем-то помочь? — Нет, — ответил я. — Спасибо. — И положил трубку.Изучив информацию о восхождениях на вершины Аляски, Нанда Деви и К2, я довольно быстро выяснил, что партнер Джейка, которого он называл «Чарли», — это доктор Чарльз Хьюстон, знаменитый американский альпинист, который был на одиннадцать лет младше Джейка Перри и который умер в сентябре 2009 года. Хьюстон был одним из тех четверых, которых в 1953-м на склоне К2 спас своей легендарной страховкой Пит Шонинг. Этот эпизод превосходно описан в ставшей классикой книге Хьюстона «К2: безжалостная гора», написанной в соавторстве с другим участником той экспедиции, Робертом Х. Бейтсом. Большинство книг Хьюстона, которые он написал один, являются медицинскими трудами, посвященными воздействию гипоксии — высотной — на тело и мозг человека. Несмотря на то что я большой специалист по добыче сведений из правительственных источников с помощью Закона о свободе информации (большая часть информации о деятельности Эрнеста Хемингуэя на Кубе во время войны для моего романа «Колокол по Хэму» была секретной, пока я не рассекретил ее посредством запросов), за весь прошлый год мне не удалось перевернуть ни одной страницы отредактированного официального отчета о службе Джейка Перри в УСС во время Второй мировой войны. Однако у меня нет ни малейших сомнений — хотя представить этого старого джентльмена убийцей довольно трудно, — что он сказал правду о том, где был и чем занимался. И наконец, в конце осени 2012 года, когда я перепечатывал и снабжал примечаниями текст из многочисленных блокнотов — возможно, для публикации, хотя немногие издатели согласятся взглянуть на книгу такого объема (да еще написанную новичком), и я даже не уверен, что смогу убедить своего литературного агента прочесть ее, — у меня созрело решение поехать в Дельту на могилу Джейка. Джейкоб Перри просил похоронить его не на городском кладбище Дельты, а на маленьком отдаленном кладбище в сорока восьми милях по шоссе № 50 и 550 у маленького городка Риджуэй в штате Колорадо, в графстве Орей, где, согласно переписи 2010 года, проживали 924 человека. Приехав на это маленькое кладбище на вершине холма в холодный и ясный день в конце осени, я понял, почему он выбрал это место. В тот день с кладбища была видна гора Снеффелс и вся гряда Снеффелс, состоящая из высоких пиков; на фоне голубого неба белел пик Мерс, а за последними пожухшими листьями осины проступал величественный гребень Сан-Хуан. На западе виднелся Анкомпагре-пик и все плато Анкомпагре, а ближе — Оул-Крик с доломитовыми вертикальными плитами и гребнями, гора Тикетл с устрашающей отвесной северной стеной, впечатляющий утес Чимни-Рок на фоне других (кроме Анкомпагре и Снеффелс) «четырнадцатитысячников» — Уилсон, Эль-Денте, Эолус, Уиндом-пик, Санлайт-пик, Редклауд-пик… Потрясающе. Меня не назовешь религиозным человеком, но в тот день я привез с собой бутылку двадцатипятилетнего односолодового шотландского виски «Макаллан» и два небольших стакана. Я наполнил оба стакана, один поставил на маленькое надгробие с надписью «ДЖЕЙКОБ УИЛЬЯМ ПЕРРИ, 2 апреля 1902–28 мая 1992», а второй поднял. Давным-давно, просто ради забавы, я выучил несколько строк из английского перевода «Буколик» Вергилия. Теперь, подняв стакан с виски к высоким пикам гор Сан-Хуан, освещенных косыми лучами осеннего солнца, рядом с маленьким городком Риджуэй, я процитировал всплывшие в памяти строки:
Дэн Симмонс
 Утеха падали
Утеха падали
Посвящается Эду Брайанту
Пролог
Челмно, 1942 год Сол Ласки лежал среди обреченных на скорую гибель в лагере смерти и думал о жизни. Во тьме и холоде его пробрала дрожь, и он заставил себя вспомнить в подробностях весеннее утро — золотистый свет на тяжелых ветвях ивы у ручья, белые маргаритки в поле за каменными строениями дядиной фермы. В бараке было тихо, только иногда кто-нибудь с натугой кашлял, да тихонько копошились в холодной соломе живые трупы, тщетно пытаясь согреться. Где-то зашелся кашлем старик, забился в конвульсиях, и стало ясно, что вот еще один проиграл долгую и безнадежную схватку. К утру старик будет мертв, а если и переживет ночь, то не сможет выйти на утреннюю перекличку на снегу, а это значит, что все равно ему конец, и очень скорый. Сол отодвинулся подальше от слепящего света прожектора, который бил сквозь разрисованное морозом стекло, и прижался спиной к деревянной стойке нар. Сквозь свою жалкую одежду он ощутил, как в спину и в кожу на ребрах впились занозы; от холода и усталости задрожали ноги, и он ничего не мог с этим поделать. Сол обхватил свои худые ноги, сжал их и так держал, покуда дрожь не прекратилась. «Я выживу». Эта мысль была приказом, и он вбил его так глубоко в сознание, что даже его изможденное, покрытое язвами тело не могло одолеть его волю. Несколько лет назад, целую вечность назад, когда Сол был мальчишкой, а дядя Моше обещал взять его на рыбалку на ферму под Краковом, Сол выучился одному приему: прямо перед тем, как заснуть, он представлял себе гладкий овальный камень, на котором записывал тот час и ту минуту, когда ему надо было встать. Потом он мысленно бросал камень в прозрачную воду пруда и смотрел, как тот опускается на дно. И всякий раз на следующее утро он просыпался точно в назначенный час, бодрый и полный жизни; он дышал прохладным воздухом и наслаждался предрассветной тишиной все то короткое и хрупкое время,пока не проснутся брат и сестры и не нарушат почти совершенное блаженство. «Я буду жить». Сол крепко зажмурился и пристально смотрел, как камень падает в прозрачной воде. Его снова затрясло, и он еще крепче вжался в угол нар. В тысячный раз он попытался зарыться поглубже в этой соломенной ямке. Когда рядом сидели старый пан Шиструк и этот парень, Ибрагим, было получше, но Ибрагима застрелили на шахте, а пан Шиструк два дня назад упал в каменоломне и отказался встать, даже когда Глюк, командир эсэсовцев, спустил на него собаку. Старик почти весело, хоть и слабо, взмахнул тонкой рукой, прощаясь с оцепеневшими заключенными, и тут немецкая овчарка вцепилась ему в горло. «Я буду жить». В этой мысли ритм был сильнее самих слов, сильнее любого языка. Эта мысль шла контрапунктом всему, что Сол видел и испытал за пять месяцев в лагере. «Я буду жить». От этой мысли шел свет и тепло, пересиливавшие страх перед холодной, головокружительной пропастью, которая все грозила разверзнуться внутри и поглотить его. Пропасть вроде того рва. Сол видел его. Он и другие рядом с ним забрасывали комьями холодной земли еще теплые тела; некоторые из них продолжали шевелиться: ребенок слабо двигал рукой, как будто махал кому-то на станции или метался во сне — а они кидали лопатами эти комья и разбрасывали известь из неподъемно тяжелых мешков. Охранник-эсэсовец сидел на краю рва и болтал ногами, его белые мягкие руки лежали на черной стали автоматного ствола, на шершавой щеке белел кусочек пластыря, видно, порезался, когда брился, но порез уже заживал; а белые обнаженные тела слабо шевелились, и Сол засыпал ров комьями грязи, и глаза его были красными от облака извести, висевшего в зимнем воздухе, как меловой туман. «Я буду жить». Сол сосредоточился на мощи этого ритма и перестал обращать внимание на свои дрожащие руки и ноги. Двумя ярусами выше его нар кто-то зарыдал в ночи. Сол чувствовал, как вши ползут по его рукам, по ногам, разыскивая место, где его холодеющее тело было теплее всего. Он еще плотнее сжался в комок, хотя понимал, что заставляет этих паразитов двигаться — они подчинялись непреодолимому инстинкту, без мысли и логики: выжить. Камень опустился еще ниже, в лазурную глубь. Балансируя на грани сна, Сол рассматривал грубо нацарапанные буквы. «Я буду жить». Вдруг глаза Сола распахнулись; в голове мелькнула мысль, от которой стало холоднее, чем от ветра, свистевшего сквозь неплотно прилегающую раму. Третий четверг месяца. Он был почти уверен, что сегодня третий четверг месяца. Они приходили по четвергам, в третий четверг. Но не всегда. Может быть, в этот раз их не будет. Сол закрыл лицо согнутыми в локтях руками и свернулся в еще более плотный клубок, как зародыш. Он уже почти заснул, когда дверь барака распахнулась. Их было пятеро: два охранника из Ваффен-СС с автоматами, армейский унтер-офицер, лейтенант Шаффнер и молодой оберет, которого Сол никогда прежде не видел. У оберста было бледное арийское лицо; на лоб падала прядь светлых волос. Лучи фонариков побежали по рядам похожих на полки нар. Никто не пошевелился. Сол чувствовал, что это была за тишина: восемьдесят пять скелетов затаили дыхание в ночи. Сол тоже затаил дыхание. Немцы сделали шагов пять вперед; холодный воздух облаком двигался перед ними, их массивные фигуры проступали силуэтом на фоне открытой двери, а вокруг них ледяными клубами висел пар от дыхания. Сол еще глубже забился в хрупкую солому. «Du!» — раздался голос. Луч фонарика упал на человека в шапке и полосатой лагерной робе, сидевшего в углу нижних нар за шесть рядов до Сола. «Komm! Schnell!» Мужчина не шевелился; тогда один из эсэсовцев рывком вытащил его в проход. Сол услышал, как по полу царапают голые ноги. «Du, raus!» Еще раз. «Du!» И вот уже трое мусульман стоят невесомыми пугалами перед массивными фигурами немцев. Процессия остановилась за четыре ряда от нар Сола. Эсэсовцы обшарили фонариками средний ряд. В их свете блеснули красные глаза, как будто из полуоткрытых гробов уставились перепуганные крысы. «Я буду жить». В первый раз это звучало как молитва, а не как приказ. Они никогда еще не забирали больше четырех человек из одного барака. «Du». Эсэсовец повернулся и направил луч фонарика прямо в лицо Сола. Сол не пошевелился. Он перестал дышать. Во всей вселенной не было ничего, кроме его собственных пальцев в нескольких сантиметрах от лица. Кожа руки была белой, как у личинки, и местами шелушилась, волоски на тыльной стороне ладони казались очень черными. Сол смотрел на эти волоски с чувством глубокого, благоговейного страха. Его рука почти просвечивала в луче фонарика. Он различал слои мышц, изящный рисунок сухожилий и голубых вен, мягко пульсировавших в одном ритме с бешено колотящимся сердцем. «Du, raus». Время замедлилось и повернуло вспять. Вся жизнь Сола, каждая секунда его жизни, все минуты упоения и банальные, забытые вечера — все это вело к этому мгновению, к этому пересечению осей. Губы Сола шевельнулись в мрачной полуулыбке. Он уже давно решил, что его-то они никогда не заставят выйти в ночь. Им придется убить его здесь, перед всеми остальными. Он заставит их сделать это, когда сам того захочет: ничего другого диктовать им он не мог. Сол совершенно успокоился. «Schnell!» Один из эсэсовцев заорал на него, а потом оба шагнули вперед. Ослепленный светом фонаря, Сол почувствовал запах мокрого сукна и сладковатый запах шнапса, ощутил, как его лица коснулся холодный воздух. Тело его сжалось: вот-вот грубые, безжалостные руки схватят его. «Nein!» — резко бросил оберет. Сол видел только его силуэт в снопе яркого света. Оберет шагнул вперед, а эсэсовцы торопливо отступили. Казалось, время замерло. Сол широко раскрытыми глазами смотрел на темную фигуру. Никто не произнес ни слова. Клубы пара от их дыхания висели в воздухе. «Komm!» — тихо сказал оберет. Это прозвучало совсем не как команда — спокойно, почти нежно, как если бы кто-то звал любимую собаку или уговаривал младенца сделать первые неуверенные шаги. Сол стиснул зубы и закрыл глаза. Если они его тронут, он будет кусаться. Он вопьется им в глотку. Он будет грызть и рвать их вены и хрящи, и им придется стрелять, им придется стрелять, он заставит их... «Komm!» — Оберет слегка коснулся его колена. Сол оскалил зубы. «Ну давай, гад, посмотришь, как я порву твой сучий рот, паскуда, посмотришь, сука, как я тебе вырву кишки...» «Komm!» И тут Сол почувствовал это. Что-то ударило его. Никто из немцев не пошевелился, не сдвинулся ни на дюйм, и все же что-то ударило Сола со страшной силой в копчик. Он тонко вскрикнул. Что-то ударило, а потом вошло в него. Сол почувствовал это так же отчетливо, как если бы кто-то забил ему стальной штырь в задний проход. Но никто до него и не дотронулся. Никто даже не приблизился к нему. Он снова вскрикнул, и тут его челюсти сомкнулись, будто их сжала невидимая сила. «Komm her, du, Jude!» Сол чувствовал это. Что-то вошло в него, рывком выпрямило спину, отчего его руки и ноги беспорядочно задергались. Это было в нем. Он почувствовал, как нечто стиснуло мозг словно шипыами, и сжимало, сжимало... Сол попытался крикнуть, но это не позволило ему. Он дико заметался на соломе, мысли заработали вразнобой, моча потекла по штанине. Потом тело его неестественно выгнулось, и он шлепнулся на пол. Охранники сделали шаг назад. «Steh auf!» Тело Сола снова рывком выгнулось, его подкинуло, он поднялся на колени. Руки тряслись и метались сами по себе. Он чувствовал чье-то холодное присутствие в своем мозгу, нечто завернутое в сверкающий кокон боли. Какие-то образы плясали перед его взором. Сол встал. «Geh!» Он услышал, как один из охранников хрипло рассмеялся, почувствовал запах сукна и стали, уколы холодных заноз под ногами. Он метнулся в сторону открытой двери — прямоугольника белого слепящего света. Оберет спокойно пошел за ним, похлопывая себя перчаткой по ноге. Сол споткнулся на скользких ступеньках и чуть не упал, но невидимая рука, которая сжала его мозг и огненными иглами прожгла нервы, заставила его выпрямиться. Не чувствуя холода, он пошел босиком по снегу и смерзшейся грязи впереди остальных к ожидавшему грузовику. «Я буду жить», — подумал Сол Ласки, но магический этот ритм распался на куски и улетел, унесенный ураганом беззвучного ледяного смеха и воли, стократ сильнее, чем его собственная.Книга первая Гамбиты
О нет, утеха падали, не буду, Отчаиваться или упиваться Тобой — не буду Распускать на пряди Последние, хоть слабенькие, жилы, На чем держусь я — человек, Не крикну В последней устали «я больше не могу...»Джерард Мэнли. Хопкинс
Глава 1
Чарлстон Пятница, 12 декабря 1980 г. Я знала, что Нина отнесет смерть этого битла, Джона, на свой счет. Полагаю, что это — проявление очень дурного вкуса. Она аккуратно разложила свой альбом с вырезками из газет на моем журнальном столике красного дерева. Эти прозаические констатации смертей на самом деле представляли собой хронологию всех ее Подпиток. Улыбка Нины Дрейтон сияла, как обычно, но в ее бледно-голубых глазах не было и намека на теплоту. — Надо подождать Вилли, — сказала я. — Ну конечно, Мелани, ты, как всегда, права. Какая я глупенькая. Я ведь знаю наши правила. — Нина встала и начала расхаживать по комнате, иногда бесцельно касаясь чего-то из убранства или тихонько восторгаясь керамическими статуэтками или кружевами. Когда-то эта часть дома была оранжереей, но теперь я использую ее как комнату для шитья. Растениям здесь по-прежнему доставалось немного солнечного света по утрам. Днем комната выглядела теплой и уютной благодаря солнцу, но с приходом зимы ночью здесь было слишком прохладно. И потом, мне очень не нравилось впечатление темноты, подступающей к этим бесчисленным стеклам. — Обожаю этот дом. — Нина повернулась ко мне и улыбнулась. — Просто не могу передать, как я всегда жду возвращения в Чарлстон. Нам нужно проводить здесь все наши встречи. Но я-то знала, как Нина ненавидит и этот город, и этот дом. — Вилли может обидеться, — сказала я. — Ты же знаешь, как он любит похвастаться своим домом в Голливуде. И своими новыми девочками. — И мальчиками. — Нина засмеялась. Она здорово изменилась и потускнела, но ее смех остался прежним. Это был все тот же хрипловатый детский смех, который я услышала впервые много лет назад. Именно из-за этого смеха меня тогда потянуло к ней; тепло одной девчушки притягивает другую одинокую девочку-подростка, как пламя — мотылька. Теперь же смех этот лишь обжег меня холодом и заставил еще больше насторожиться. За прошедшие десятилетия слишком много мотыльков слеталось на пламя Нины. — Давай выпьем чаю, — предложила я. Мистер Торн принес чай в моих самых лучших фарфоровых чашках. Мы с Ниной сидели в медленно передвигающихся квадратах солнечного света и тихо разговаривали о всяких пустяках: об экономике, в которой мы обе ничего не понимали; о совершенно вульгарной публике, с которой приходится теперь сталкиваться, летая самолетами. Если бы кто-нибудь заглянул из сада в окно, то подумал бы, что видит стареющую, но все еще привлекательную племянницу, навещающую любимую тетушку. (Никто не мог бы принять нас за мать и дочь: тут я не уступлю.) Обычно меня считают хорошо одетой, если не совсем стильной женщиной. Господь свидетель, я довольно дорого плачу за шерстяные юбки и шелковые блузки, которые мне присылают из Шотландии и Франции. Но рядом с Ниной я всегда кажусь безвкусно одетой. В тот день на ней было элегантное светло-голубое платье, которое обошлось ей в несколько тысяч долларов, если я правильно угадала модельера. Этот цвет так оттенял ее лицо, что оно казалось еще более совершенным, чем обычно, и подчеркивал голубизну ее глаз. Волосы Нины поседели, как и мои, но она по-прежнему носила их длинными, закрепив бареткой, и это ее не портило; напротив, Нина выглядела шикарно и моложаво, а у меня было ощущение, что мои короткие искусственные локоны блестят от синьки. Вряд ли кто бы мог подумать, что я на четыре года моложе Нины. Время обошлось с ней не слишком сурово. К тому же она чаще искала и получала Подпитку. Она поставила чашку с блюдцем на столик и вновь беспокойно заходила по комнате. Это было совсем на нее не похоже — проявлять такую нервозность. Остановившись перед застекленным шкафчиком, она обвела взглядом вещицы из серебра и олова — и замерла в изумлении. — Господи, Мелани... Пистолет! Разве можно в таком месте хранить старый пистолет? — Это — антикварная вещь, — пояснила я. — И очень дорогая. Вообще ты права, глупо держать его тут. Но во всем доме нет больше ни одного шкафчика с замком, а миссис Ходжес часто берет с собой внуков, когда навещает меня... — Так он что, заряжен?! — Нет, конечно, нет, — солгала я. — Но детям вообще нельзя играть с такими вещами... — Я неловко замолчала. Нина кивнула, но в ее улыбке была изрядная доля снисходительности, которую она даже не пыталась скрыть. Она подошла к южному окну и выглянула в сад. Будь она проклята. Нина Дрейтон даже не узнала этого пистолета, и этим о ней все сказано. В тот день, когда его убили, Чарлз Эдгар Ларчмонт считался моим кавалером уже ровно пять месяцев и два дня. Об этом не было официально объявлено, но мы должны были пожениться. Эти пять месяцев представили, как в микрокосмосе, всю ту эпоху — наивную, игривую, подчиненную строгим правилам настолько, что она казалась манерной. И еще романтичной. Романтичной в первую очередь, и в самом худшем смысле этого слова — подчиненной слащавым либо глупым идеалам, к которым могли стремиться только подростки. Мы были как дети, играющие с заряженным оружием. У Нины — тогда она была Нина Хокинс — тоже был кавалер, высокий неуклюжий англичанин, исполненный самых благих намерений. Звали его Роджер Харрисон. Мистер Харрисон познакомился с Ниной в Лондоне за год до того, в самом начале поездки Хокинсов по Европе. Этот долговязый англичанин объявил всем, что он сражен — еще одна нелепость той ребяческой эпохи, — и стал ездить за Ниной из одной европейской столицы в другую, пока ее отец, скромный торговец галантереей, вечно готовый дать отпор всему свету из-за своего сомнительного положения в обществе, довольно сурово не отчитал его. Тогда Харрисон вернулся в Лондон (чтобы привести в порядок дела, как он сказал), а через несколько месяцев объявился в Нью-Йорке, как раз в тот момент, когда Нину собрались отправить к тетушке в Чарлстон, чтобы положить конец другому ее любовному приключению. Но это не могло остановить неуклюжего англичанина, и он отправился за ней на юг, строго соблюдая при этом все правила протокола и этикета тех дней. У нас была превеселая компания. На следующий день после того, как я познакомилась с Ниной на июньском балу у кузины Целии, мы наняли лодку и отправились вчетвером вверх по реке Купер к острову Даниэл на пикник. Роджер Харрисон обо всем судил серьезно и даже немного напыщенно и потому был отличной мишенью для Чарлза с его совершенно непочтительным чувством юмора. Роджер, похоже, совсем не обижался на добродушное подтрунивание; во всяком случае, он всегда присоединялся к общему смеху со своим непривычно британским «хо-хо-хо». Нина была без ума от всего этого. Оба джентльмена осыпали ее знаками внимания; правда, Чарлз всегда подчеркивал, что его сердце отдано мне, но все понимали: Нина Хокинс — одна из тех девушек, которые неизменно становятся центром притяжения мужской галантности и внимания в любой компании. Общество Чарлстона тоже вполне оценило шарм нашей четверки. В течение двух месяцев того, теперь уже такого далекого, лета ни одна вечеринка и ни один пикник не могли считаться удавшимися, если не приглашали нас, четверых шалунов, и если мы не соглашались участвовать в этом. Наше первенство в светской жизни было столь заметным и мы получали от него столько удовольствия, что кузина Целия и кузина Лорейн уговорили своих родителей отправиться в ежегодную августовскую поездку в штат Мэн на две недели раньше. Не могу припомнить, когда у меня с Ниной возникла эта идея насчет дуэли. Возможно, в одну из тех долгих жарких ночей, когда одна из нас забиралась в постель к другой и мы шептались и хихикали, задыхаясь от приглушенного смеха, едва послышится шорох накрахмаленной ливреи, выдававшей присутствие какой-нибудь горничной-негритянки, копошащейся в темных холлах. Во всяком случае, идея эта естественно возникла из романтических притязаний того времени. Эта картинка — Чарлз и Роджер дерутся на дуэли из-за какого-то абстрактного пункта в кодексе чести, касающегося нас, — наполняла нас прямо-таки физическим возбуждением; теперь я понимаю, что это была своего рода половая щекотка. Все это выглядело бы совершенно безобидным, если бы не наша Способность. Мы так успешно манипулировали поведением мужчин (а общество того времени и ожидало от нас такого поведения, и одобряло его), что ни я, ни Нина не подозревали о существовании чего-то необычного в нашей способности переводить свои капризы в действия других людей. Парапсихологии тогда не существовало; или, точнее говоря, она сводилась к стукам и столоверчению во время игр в гостиных. Как бы то ни было, мы несколько недель забавлялись, предаваясь фантазиям и шепотом их обсуждая, а потом кто-то из нас, или мы обе, воспользовались нашей Способностью, чтобы претворить фантазию в реальность. В некотором смысле то была наша первая Под-литка. Я уже не помню, что послужило предлогом для дуэли, — возможно, преднамеренное недоразумение, связанное с какой-то шуткой Чарлза. Не помню, кого Чарлз и Роджер уговорили быть секундантами во время той противозаконной прогулки. Я помню только обиженное и недоуменное выражение на лице Роджера Харрисона. Оно было просто карикатурой на тяжеловесную ограниченность и недоумение человека, попавшего в безвыходную ситуацию, созданную вовсе не им самим. Помню, как поминутно менялось настроение Чарлза — веселье и шутки внезапно переходили в депрессию и мрачный гнев; помню слезы и поцелуи в ночь накануне дуэли. То утро было прекрасным. С реки поднимался туман, смягчивший жаркие лучи восходящего солнца. Мы направлялись к месту дуэли. Помню, как Нина порывисто потянулась ко мне и пожала мою руку — это движение отдалось во мне электрическим шоком. Большая же часть происшедшего в то утро — провал, белое пятно. Возможно, из-за напряжения того первого, неосознанною случая Подпитки я буквально потеряла сознание; меня захлестнули волны страха, возбуждения, гордости... Я поняла, что все это происходит наяву, и в то же время ощущала, как сапоги шуршат по траве. Кто-то громко считал шаги. Смутно помню, как тяжел был пистолет в чьей-то руке... Наверно, то была рука Чарлза, но теперь я этого уже никогда не узнаю в точности... Помню миг холодной ярости, затем выстрел прервал нашу внутреннюю связь, а острый запах пороха привел меня в чувство. Убит был Чарлз. Никогда не изгладится из моей памяти вид невероятного количества крови, вылившейся из маленькой круглой дырочки в его груди. Когда я подбежала к нему, его белая рубашка уже была алой. В наших фантазиях не было никакой крови. Там не было и этой картины: голова Чарлза запрокинута назад, на окровавленную грудь изо рта потекла слюна, а глаза закатились так, что видны только белки, как два яйца в черепе. Роджер Харрисон рыдал на этом поле погибшей невинности, когда Чарлз сделал последний судорожный вздох. Что случилось в последующие несколько смятенных часов, я не помню. Только на следующее утро я открыла свою матерчатую сумку и нашла там среди своих вещей пистолет Чарлза. Зачем мне понадобилось его сохранить? Если я хотела взять что-то на память о своем погибшем возлюбленном, зачем было брать этот кусок металла? Зачем было вынимать из его мертвой руки символ нашего безрассудного греха? ...Нина даже не узнала этого пистолета. И этим о ней все сказано.* * *
— Прибыл Вилли. О приезде нашего друга объявил не мистер Торн, а «дуэнья» Нины, эта омерзительная мисс Баррет Крамер. По виду она была унисексуальна: коротко подстриженные черные волосы, мощные плечи и пустой агрессивный взгляд, который ассоциируется у меня с лесбиянками и уголовницами. По моему мнению, ей было лет тридцать пять. — Спасибо, милочка, — сказала Нина. Я вышла поприветствовать Вилли, но мистер Торн уже впустил его, и мы встретились в холле. — Мелани! Ты выглядишь просто великолепно! С каждой нашей встречей ты кажешься все моложе. Нина! — Когда он повернулся к Нине, голос его заметно изменился. Мужчины по-прежнему испытывали легкое потрясение, когда видели Нину после долгой разлуки. Далее пошли объятья и поцелуи. Сам же Вилли выглядел еще более ужасно, чем когда-либо. Спортивный пиджак на нем был от прекрасного портного, а ворот свитера успешно скрывал морщинистую кожу шеи с безобразными пятнами, но когда он сдернул с головы веселенькое кепи автомобилиста, длинные пряди седых волос, которые он зачесал вперед, чтобы скрыть разрастающуюся плешь, рассыпались, и картина стала неприглядной. Лицо Вилли раскраснелось от возбуждения, но на носу и щеках предательски проступали красные капилляры, выдавая чрезмерное пристрастие к алкоголю и наркотикам. — Милые леди, вы, кажется, уже знакомы с моими компаньонами — Томом Рэйнольдсом и Енсеном Лу-гаром? — Двое мужчин подошли ближе, и теперь в моем узком холле собралась, казалось, целая толпа. Мистер Рэйнольдс оказался худым блондином; он улыбался, обнажая зубы с прекрасными коронками. Мистер Лугар — огромного роста негр; его массивные плечи нависали над всеми нами, а на грубом лице застыло угрюмое, обиженное выражение. Я была абсолютно уверена, что ни я, ни Нина никогда прежде не видали этих приспешников Вилли. — Что ж, пройдемте в гостиную? — предложила я. Толпясь и суетясь, мы поднялись наверх и, в конце концов, втроем уселись в тяжелые мягкие кресла вокруг чайного столика георгианской эпохи, доставшегося мне от дедушки. — Принесите нам еще чаю, мистер Торн. — Мисс Крамер поняла намек и удалилась, но пешки Вилли по-прежнему неуверенно топтались у двери, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на выставленный хрусталь, как будто от одного их присутствия что-нибудь могло разбиться. Я бы не удивилась, если бы это действительно случилось. — Енсен! — Вилли щелкнул пальцами. Негр немного постоял в нерешительности, затем подал дорогой кожаный кейс. Вилли положил его на столик и открыл застежки своими короткими, толстыми пальцами. — Ступайте отсюда. Слуга мисс Фуллер даст вам чего-нибудь выпить. Когда они вышли, он покачал головой и улыбнулся Нине. — Извини меня, дорогая. Нина тронула Вилли за рукав и наклонилась с таким видом, словно предвкушала что-то. — Мелани не позволила мне начать Игру без тебя. Это так ужасно с моей стороны, что я хотела сделать это, правда, Вилли, дорогой? Вилли нахмурился. Пятьдесят лет прошло, а он все еще дергался, когда его называли Вилли. В Лос-Анджелесе он был Большой Билл Борден. А когда возвращался в свою родную Германию (не очень часто, из-за связанных с этим опасностей), то снова становился Вильгельмом фон Борхертом, владельцем мрачного замка, леса и охотничьего выезда. Нина назвала его Вилли в их самую первую встречу в Вене в 1925 году, и он так и остался для нее Вилли. — Начинай, Вилли, — сказала Нина. — Ты первый. Я еще хорошо помню, как раньше, встречаясь после долгой разлуки, мы по несколько дней проводили за разговорами, обсуждая все, что случилось с нами. Теперь у нас не было времени даже на такие салонные разговоры. Оскалив в улыбке зубы, Вилли вытащил из кейса газетные вырезки, записные книжки и стопку кассет. Он едва успел разложить свои материалы на столике, как вошел мистер Торн и принес чай, а также альбом Нины из оранжереи. Вилли резкими движениями расчистил на столе немного места. На первый взгляд, Вилли Борхерт и мистер Торн были в чем-то похожи, но только на первый, ошибочный взгляд. Оба — краснолицы, но если цвет лица Вилли свидетельствовал об излишествах и разгуле эмоций, то мистер Торн не знал ни того, ни другого уже много лет. Вилли стыдливо прятал свою лысину, проступающую тут и там, как у ласки, заболевшей лишаем, а обнаженная голова мистера Торна была гладкой, как колено, даже трудно представить, что у него когда-то были волосы. У них обоих — серые глаза (романист назвал бы их холодными), но у мистера Торна глаза были холодны от безразличия, во взгляде светилась ясность, порожденная абсолютным отсутствием беспокойных эмоций и мыслей. В глазах же Вилли таился холод порывистого зимнего ветра с Северного моря, их часто заволакивало переменчивым туманом обуревавших его чувств — гордости, ненависти, удовольствия причинять боль, страсти от разрушения. Вилли никогда не называл использование Способности «Подпиткой» — похоже, только я мысленно применяла это слово; но он иногда говорил об Охоте. Возможно, он вспоминал о темных лесах своей родины, когда выслеживал жертвы на стерильных улицах Лос-Анджелеса. Я подумала: интересно, а снится ли Вилли этот лес? Вспоминает ли он охотничьи куртки зеленого сукна, приветственные крики егерей, струи крови, хлещущие из туши умирающего кабана? Или Вилли вспоминает топот сапог по мостовым и стук кулаков в двери — кулаков его помощников? Возможно, у Вилли Охота все еще связана с тьмой европейской ночи, с горящими печами, за которыми присматривал и он сам. Я называла это Подпиткой, Вилли — Охотой. Однако я никогда не слышала, как это называла Нина. Пожалуй, что никак. — Где у тебя видео? — спросил Вилли. — Я все записал на пленку. — Ах, Вилли, — раздраженно сказала Нина. — Ты же знаешь Мелани. Она такая старомодная. У нее нет видео. — У меня даже нет телевизора, — призналась я. Нина рассмеялась. — Черт побери, — пробормотал Вилли. — Ладно. У меня тут есть и другие записи. — Он снял резиновые колечки с черных записных книжек малого формата. — Просто на пленке было бы гораздо лучше. Телекомпании Лос-Анджелеса уделили много внимания «голливудскому душителю», а я еще кое-что добавил... Ну, неважно. — Он кинул кассеты в кейс и с треском захлопнул крышку. — Двадцать три, — продолжал он. — Двадцать три, с нашей последней встречи год назад. Как время пролетело, а? — Покажи. — Нина снова наклонилась вперед. Ее голубые глаза блестели. — Я иногда думала об этом, с того дня, когда душителя показали в «Шестидесяти минутах». Значит, он был твой, да, Вилли? Он имел такой вид... — Ja, ja, он был мой. Вообще-то он никто. Так, пугливый человечек. Садовник одного моего соседа. Я оставил его в живых, чтобы полиция могла допросить его, снять любые сомнения. Он повесился в камере через месяц после того, как пресса потеряла к нему интерес. Но тут есть кое-что поинтереснее. Смотрите. — Вилли бросил на стол несколько глянцевых черно-белых фотографий. — Исполнительный директор Эн-би-си убил пятерых членов своей семьи и утопил в плавательном бассейне пришедшую в гости актрису из «мыльной оперы». Потом он несколько раз ударил себя ножом в грудь и кровью написал: «И еще 50» на стене строения, где был бассейн. — Вспоминаешь старые подвиги, да, Вилли? — спросила Нина. — «Смерть свиньям» и все такое прочее? — Да нет же, черт возьми. Я считаю: мне положены лишние очки за иронию. Девица все равно должна была утонуть в своем сериале. Так написано в сценарии. — Трудно было его использовать? — Этот вопрос задала я, поневоле испытывая какой-то интерес. Вилли поднял бровь. — Не очень. Он был алкоголиком, да к тому же прочно сидел на игле. От него мало что осталось. Семью свою он ненавидел, как и большинство людей. — Возможно, большинство людей в Калифорнии, но не везде. — Нина поджала губы. Довольно странная реплика в ее устах. Отец Нины совершил самоубийство — бросился под троллейбус. — Где ты установил контакт? — спросила я. — На какой-то вечеринке. Обычное дело. Он покупал наркотик у режиссера, который довел до ручки одного из моих... — Тебе пришлось повторить контакт? Вилли нахмурился, глядя на меня. Он пока сдерживал злость, но лицо его покраснело. — Ja, ja. Я видел его еще пару раз. Один раз я просто смотрел из окна автомобиля, как он играет в теннис. — Очки за иронию дать можно, — сказала Нина. — Но за повторный контакт очки надо снять. Если он — пустышка, как ты сам говоришь, ты должен был использовать его после первого же контакта. Что еще? Дальше шел обычный набор: жалкие убийства в трущобах, пара бытовых убийств в семье, столкновение на шоссе, закончившееся стрельбой и смертью. — Я был в толпе, — сказал Вилли. — Я сразу установил контакт. У него в бардачке был пистолет. — Два очка, — улыбнулась Нина. Один добротный случай Вилли оставил напоследок. Нечто странное приключилось с человеком, когда-то в молодости бывшим знаменитостью, кинозвездой. Он вышел из своей квартиры в Бел-Эйр, а пока его не было дома, она заполнилась газом, потом он вернулся и зажег спичку. Взрыв, пожар, кроме него погибло еще два человека. — Очки только за него, — сказала Нина. — Ja, ja. — А ты уверен, что все так и произошло? Это мог быть обычный несчастный случай... — Не смеши, — оборвал ее Вилли и повернулся ко мне. — Его было довольно трудно использовать. Очень сильная личность. Я стер в его памяти информацию о том, что он включил газ. Надо было заблокировать ее на целых два часа, а потом заставить войти его в комнату. Он бешено сопротивлялся, не хотел зажигать спичку. — Надо было заставить его чиркнуть зажигалкой. — Он не курил, — проворчал Вилли. — Бросил в прошлом году. — Да, — улыбнулась Нина. — Кажется, я помню; он говорил об этом Джонни Карсону. — Я не могла понять, шутит она или говорит серьезно. Потом мы втроем подсчитали очки, как бы исполняя ритуал. Больше всех говорила Нина. Вилли сначала хмурился, потом разошелся, потом снова стал угрюмым. Был момент, когда он потянулся ко мне и со смехом похлопал меня по колену, прося помощи. Я никак не отреагировала. В конце концов он сдался, подошел к бару и налил себе бокал виски из графина моего батюшки. Сквозь цветные стекла эркера пробивались последние, почти горизонтальные лучи вечернего солнца и падали красным пятном на Вилли, стоявшего рядом с буфетом мореного дуба. Глаза Вилли казались крохотными красными угольками, вставленными в кровавую маску. — Сорок одно очко, — подвела итог Нина. Она посмотрела на нас блестящими глазами и подняла калькулятор, как будто он мог подтвердить какой-то объективный факт. — Я насчитала сорок одно очко. А ты, Мелани? — Ja, — перебил ее Вилли. — Прекрасно. Теперь глянем на твою заявку, милая Нина. — Он говорил тусклым, бесцветным голосом. Даже Вилли начинал терять интерес к Игре. Не успела Нина начать, как вошел мистер Торн и объявил: кушать подано. Прежде чем мы перешли в столовую, Вилли налил себе еще из графина, а Нина взмахнула руками, изображая отчаяние из-за того, что пришлось прервать Игру. Когда мы сели за длинный стол красного дерева, я постаралась вести себя, как подобает настоящей хозяйке дома. По традиции, в течение реке нескольких десятков лет, разговоры об Игре за обеденным столом были запрещены. За супом мы обсудили последний фильм Вилли и Нинину покупку еще одной из ее модных лавок. Ежемесячная колонка Нины в «Вор», похоже, будет снята, но ею заинтересовался газетный синдикат, готовый продолжить это дело. Запеченный окорок был встречен восторженными похвалами, но мне показалось, что мистер Торн пересластил соус. Когда мы приканчивали шоколадный мусс, за окнами стало совсем темно. Отблески отраженного света люстры танцевали на локонах Нины, мои же волосы больше обычного отдавали синевой — во всяком случае, так мне казалось. Внезапно со стороны кухни послышался какой-то шум. В дверях появился гигант-негр. На его плече лежали чьи-то белые руки, от которых он пытался освободиться, а на лице застыло выражение обиженного ребенка. «... Какого черта мы тут сидим, как...» Но тут же руки уволокли его. — Извините меня, дорогие леди. — Вилли прижал салфетку к губам и встал. Несмотря на возраст, он все еще сохранял грацию движений. Нина ковыряла ложкой в шоколадном муссе. Мы услышали, как из кухни донеслась резкая, короткая команда, потом звук удара. Вероятно, бил мужчина: звук был жесткий и хлесткий, как выстрел из малокалиберной винтовки. Я подняла глаза. Мистер Торн убирал тарелки из-под десерта. — Пожалуйста, кофе, мистер Торн. Всем кофе. Он кивнул, мягко улыбаясь. Франц Антон Месмер знал об этом, хотя он и не понимал, что это такое. Я подозреваю, Месмер сам имел намек на Способность. Современная псевдонаука изучала это, нашла для этого новые названия, уничтожила большую часть этой мощи, перепутала ее источники и способы использования, но это остается лишь тенью того, что открыл Месмер. У них нет никакого представления о том, что значит — ощущать Подпитку. Я в отчаянии от разгула насилия в нынешние времена. Иногда я целиком отдаюсь этому отчаянию, падаю в глубокую пропасть без какого-либо будущего, пропасть отчаяния, названного Хопкинсом утехой падали. Я смотрю на эту всеамериканскую скотобойню, на все эти покушения на президентов, римских пап и бесчисленного количества других людей и иногда задумываюсь: может быть, в мире есть много таких, как мы, обладающих нашей Способностью? Или такая вот бойня стала теперь просто образом жизни? Все человеческие существа питаются насилием; они питаются властью над другими, но лишь немногие испытали то, что испытываем мы, — абсолютную власть. Без этой Способности очень немногим знакомо несравненное наслаждение при лишении человека жизни. Без этой Способности даже те, кто питается жизнью, не могут смаковать поток эмоций в охотнике и его жертве, абсолютный восторг нападающего, который ушел далеко за грань всех правил и наказаний, и то странное, почти сексуальное чувство покорности, охватывающее жертву в последнее мгновение истины, когда уже нет никакого выбора, когда всякое будущее уничтожено, все возможности стерты в акте подчинения другого своей абсолютной власти. Меня приводит в отчаяние нынешний разгул насилия, безличность и случайность, и то, что насилие стало доступным столь многим. У меня был телевизор, но потом я его продала, в самый разгар войны во Вьетнаме. Эти стерильные кусочки смерти, отнесенные вдаль линзой камеры, совершенно ничего мне не говорили. Но, наверное, они что-то значили для того скота, который меня окружает. Когда закончилась война, а вместе с ней и ежевечерние подсчеты трупов по телевидению, эти скоты потребовали: «Еще! Еще!» И тогда экраны и улицы этой милой умирающей нации выбросили массу посредственных убийств на потребу толпе. Я-то хорошо знаю эту наркотическую тягу. Все они упускают главное. Насильственная смерть, если ее просто наблюдать, — это всего лишь грустная и перепачканная картинка смятения и хаоса. Но для тех из нас, кто испытал Подпитку, смерть является таинством. — Теперь моя очередь! Моя! — Голос Нины все еще напоминает интонации красавицы, приехавшей в гости и только что заполнившей танцевальную карточку именами кавалеров на июньском балу кузины Целии. Мы вернулись в гостиную. Вилли допил свой кофе и попросил у мистера Торна коньяку. Мне стало стыдно за Вилли. Когда допускаешь даже намек на небрежность в поведении в присутствии самых близких людей, — это верный признак ослабевающей Способности, Нина, казалось, ничего не замечала. — Тут у меня все расположено по порядку. — Она раскрыла свой альбом с вырезками на чайном столике, который был уже прибран. Вилли аккуратно просмотрел все; иногда он задавал вопросы, но чаще бурчал что-то, выражая согласие. Время от времени я тоже давала понять, что согласна, хотя ни о чем из перечисленного не слышала. Разумеется, за исключением этого битла. Нина приберегла его под конец. — Боже мой, Нина, так это ты? — Вилли был чуть ли не в ярости. Нина кормилась в основном самоубийствами на Парк-Авеню и ссорами между мужем и женой, заканчивавшимися выстрелами из дорогих дамских пистолетов малого калибра. А случай с этим бит-лом был больше похож на топорный стиль Вилли. Возможно, он счел, что кто-то вторгается на его территорию. — Я хочу сказать... ты же сильно рисковала, ведь так? Черт побери... Такая огласка!.. Нина засмеялась и положила калькулятор. — Вилли, дорогой, но ведь в этом весь смысл Игры, не так ли? Вилли подошел к шкафчику с напитками и снова налил коньяк в свой бокал. Ветер трепал голые сучья перед окнами синеватого стекла в эркере. Я не люблю зиму. Даже на юге она угнетает дух. — Разве этот... как его... Разве он не купил пистолет на Гавайях или где-то там еще? — спросил Вилли, все еще стоя в противоположном углу. — По-моему, он сам проявил инициативу. Я хочу сказать, если он уже подбирался к этому... — Вилли, дорогой, — голос Нины стал таким же холодным, как ветер, что трепал голые сучья за окном, — никто не говорит, что он был уравновешенным человеком. А разве кто-нибудь из твоих был уравновешенным, Вилли? И все же именно я заставила его сделать это. Я выбрала место, выбрала время. Разве не ясно, насколько ироничен выбор места, Вилли? После той милой шалости с режиссером колдовского фильма несколько лет назад. Все прямо по сценарию... — Не знаю. — Вилли тяжело опустился на диван, пролив коньяк на свой дорогой спортивный пиджак. Он ничего не заметил. Свет лампы отражался на его лысеющем черепе. Возрастные пятна вечером проступали отчетливее, а шея — там, где ее не прикрывал ворот свитера, — казалось, вся состояла из жил и веревок. — Не знаю. — Он поднял на меня глаза и вдруг заговорщицки улыбнулся. — Тут все, как с тем писателем, правда, Мелани? Возможно, именно так. Нина опустила глаза и теперь смотрела на свои руки, сложенные на коленях. Кончики ее ухоженных пальцев побелели.* * *
«Вампиры мозга». Так этот писатель собирался назвать свою книгу. Иногда я думаю — а мог ли он вообще что-нибудь написать? Как его, бишь, звали? Что-то русское. Однажды мы оба, Вилли и я, получили телеграммы от Нины: «Приезжайте как можно скорее. Вы нужны мне». Этого было достаточно. На следующее утро я полетела в Нью-Йорк первым же рейсом. Самолет был очень шумный, винтовой, и я большую часть времени пыталась убедить сверхзаботливую стюардессу в том, что мне ничего не нужно и что я вообще чувствую себя прекрасно. Она явно решила, что я — чья-то бабушка, в первый раз путешествующая самолетом. Вилли ухитрился прилететь на двадцать минут раньше меня. Нина совершенно потеряла голову: я никогда не видела, чтобы она была так близка к истерическому припадку. Оказалось, что за два дня до того она гостила у кого-то в нижнем Манхэттене (она, конечно, потеряла голову, но не настолько, чтобы отказать себе в удовольствии упомянуть, какие важные лица присутствовали) и там, в углу гостиной, разделила блюдо фон-дю и обменялась заветными мыслями с молодым писателем. Точнее, это писатель поделился с нею кое-какими заветными мыслями. По словам Нины, это был довольно замызганный тип — жиденькая бороденка, очки с толстыми линзами, вельветовый спортивный пиджак, старая фланелевая рубашка в клетку, — в общем, один из тех, кто непременно попадается на удавшихся вечеринках, как утверждает Нина. Слово «битник» уже вышло из моды, и Нина это знала, поэтому она его и не называла так, а слова «хиппи» еще никто не употреблял, да оно и не подходило к нему. Он был из тех писателей, что едва-едва зарабатывают себе на хлеб, по крайней мере в наше время: сочинял вздор с трупами и кровью и писал романы по телесериалам. Александр... нет, фамилию не помню. У него была идея — сюжет для новой книги (он сообщил Нине, что работает над ней уже порядком), и идея заключалась в том, что многие из совершавшихся тогда убийств на самом деле задумывались небольшой группой убийц-экстрасенсов (он назвал их «вампирами мозга»), которые использовали других людей для исполнения этих кошмарных деяний. Он сказал, что одно издательство, специализирующееся на массовых карманных книжках, уже проявило интерес к его заявке и готово заключить с ним контракт хоть сейчас, если он заменит название на «фактор зомби» и добавит немного секса. — Ну и что? — спросил Вилли почти с отвращением. — И из-за этого ты заставила меня лететь через весь материк? Я бы и сам купил эту идею и сделал бы по ней фильм. Мы воспользовались этим предлогом, чтобы хорошенько допросить этого Александра, как его бишь, когда Нина устроила на другой день экспромтом небольшую вечеринку. Меня там не было. Вечер прошел не очень удачно, по словам Нины, но он дал Вилли шанс как следует побеседовать с этим молодым многообещающим романистом. Писателишка выказал просто-таки суетливую готовность угодить Биллу Бордену, продюсеру «Парижских воспоминаний», «Троих на качелях» и еще пары фильмов, которые память отказывалась удерживать, но которые тоже шли во всех открытых кинотеатрах тем летом. Оказалось, что «книга» представляет собой довольно затертую тетрадку с изложением идеи и десятком страниц заметок. Однако он был уверен, что за пять недель сумеет сделать развернутый конспект сценария, — может быть, даже за три недели, если его отправить в Голливуд, к источнику «истинного творческого вдохновения». Поздним вечером мы обсудили и такую возможность: Вилли просто покупает опцион на идею. Но у Вилли как раз было туго с наличностью, а Нина настаивала на решительных мерах. В конце концов молодой писатель вскрыл лезвием «Жиллет» бедренную артерию и выбежал с истошным воплем в узкий переулок Гринвич Виллидж, где и умер. Я уверена, что никто и не потрудился разобрать оставшиеся после него заметки и прочий хлам.* * *
— Может быть, все будет, как с тем писателем, ja, Мелани? — Вилли потрепал меня по колену. Я кивнула. — Он был мой, а Нина пыталась отнести его на свой счет. Помнишь? Я снова кивнула. На самом же деле ни Нина, ни Вилли не имели к этому никакого отношения. Я не пошла тогда к Нине, чтобы позднее установить контакт с молодым человеком, который и не заметил, что за ним кто-то идет. Все оказалось проще простого. Помню, как я сидела в слишком жарко натопленной маленькой кондитерской напротив жилого дома. Все закончилось так быстро, что я почти не ощутила Подпитки. Потом я вновь услышала звук шипящих радиаторов и почувствовала запах салями, а люди бросились к дверям посмотреть, кто кричит. Я помню, как медленно допила свой чай, чтобы не пришлось выходить раньше, чем уедет «скорая». — Вздор, — сказалаНина. Она снова занялась своим крохотным калькулятором. — Сколько очков? — Она посмотрела на меня. Я посмотрела на Вилли. — Шесть. — Он пожал плечами. Нина сделала вид, что складывает все очки. — Тридцать восемь. — Она артистически вздохнула. — Ты опять выиграл, Вилли. Точнее, ты обыграл меня. Мы еще послушаем Мелани. Ты сегодня что-то очень уж тихая, моя дорогая. У тебя, наверно, какой-то сюрприз для нас? — Да, — кивнул Вилли. — Твоя очередь выигрывать, Мелани. Ты ждала этого несколько лет. — У меня — ничего. — Я ожидала взрывного эффекта, потока вопросов, но тишину нарушало лишь тиканье часов на каминной полке. Нина смотрела в угол, словно пыталась увидеть что-то прячущееся в темноте. — Ничего? — переспросил Вилли. — Ну, был... один, — призналась я наконец. — Но это просто случай. Я увидела их, когда они грабили старика за... Просто случай. Вилли разволновался. Он встал, подошел к окну, повернул старый стул спинкой к нам и сел на него верхом, сложив руки. — Что это значит? — Ты отказываешься играть в Игру? — Нина в упор посмотрела на меня. Я промолчала — ответ был ясен. — Но почему? — резко спросил Вилли. От волнения у него снова прорезался немецкий акцент. Если бы я воспитывалась в эпоху, когда молодым леди было позволено пожимать плечами, я бы сейчас пожала плечами. А так — я просто провела пальцами по воображаемому шву своей юбки. Вопрос задал Вилли, но когда я в конце концов ответила, мои глаза смотрели прямо на Нину: — Я устала. Все это тянется так долго. Наверно, я старею. — Если не будешь Охотиться, еще не так постареешь, — констатировал Вилли. Его поза, голос, красная маска лица — все говорило о том, как он зол, он еле сдерживался. — Боже мой, Мелани, ты уже выглядишь старухой. Ты ужасно выглядишь, ужасно Мы ведь ради этого и Охотимся, разве не ясно? Посмотри на себя в зеркало! Ты что, хочешь умереть старухой, и все только потому, что устала мл" использовать? Acch! — Вилли встал и повернулся к нам спиной. — Вздор! — Голос Нины был твердым и уверенным. Она снова четко владела ситуацией. — Мелани устала, Вилли. Будь с ней поласковее. У всех бывают такие моменты. Я помню, как ты сам выглядел после войны. Как побитый щенок. Ты ведь даже не мог выйти из своей жалкой квартиры в Бадене. Даже когда мы помогли тебе перебраться в Нью-Джерси, ты просто сидел, хандрил и жалел себя. Мелани предложила Игру, лишь бы поднять твое настроение. Так что не шуми. И никогда не говори даме, если она немного подавлена, что она ужасно выглядит. Ну правда, Вилли, ты иногда такой Schwachsinniger. И к тому же жуткий хам. Я предвидела разные реакции на свое заявление, но вот этой боялась больше всего. Это означало, что Нине тоже наскучила Игра и она готова перейти на новый уровень поединка. Другого объяснения не было. — Спасибо, Нина, милая, — сказала я. — Я знала, что ты поймешь меня. Она потянулась ко мне и коснулась колена, словно желая подбодрить. Даже сквозь шерсть юбки я почувствовала, как холодны ее пальцы. Мои гости ни за что не хотели остаться заночевать у меня. Я умоляла их, упрекала, сказала, что их комнаты готовы, что мистер Тори уже разобрал постели. — В следующий раз, — сказал Вилли. — В следующий раз, Мелани, моя радость. Мы останемся на весь уикэнд, как когда-то. Или на целую неделю! — Настроение Вилли значительно улучшилось после того, как он получил по тысяче долларов от меня и Нины в качестве «приза». Сначала он отказывался, но я настаивала. А когда мистер Тори принес чек, оформленный на Уильяма Д. Бордена, видно было, что ему это пришлось по нутру. Я снова попросила его остаться, но он возразил, что у него уже заказан билет на самолет до Чикаго. Надо было встретиться с автором, который только что получил какую-то премию, и договориться насчет сценария. И вот он уже обнимал меня на прощанье, мы стояли в тесном холле, его компаньоны — у меня за спиной, и я на мгновение ощутила ужас. Но они ушли. Светловолосый молодой человек продемонстрировал свою белозубую улыбку, негр на мгновение втянул голову — это, наверно, была его манера прощаться. И вот мы остались одни. Мы с Ниной. Но не совсем одни. Мисс Крамер стояла рядом с Ниной в конце холла. Мистер Торн находился за дверью, ведущей в кухню. Его не было видно, и я оставила его там. Мисс Крамер сделала три шага вперед. На мгновение я перестала дышать. Мистер Торн поднял руку и коснулся двери. Но эта крепенькая брюнетка подошла к шкафу, сняла с вешалки пальто Нины и помогла ей одеться. — Может быть, все же останешься? — Нет, спасибо, Мелани. Я обещала Баррет, что мы поедем в отель. — Но уже поздно... — Мы заранее заказали номер. Спасибо. Я непременно свяжусь с тобой. — Да... — Правда, правда, милая Мелани. Нам обязательно надо поговорить. Я очень тебя понимаю, но ты должна помнить, что для Вилли Игра все еще очень важна. Нужно будет найти способ положить этому конец так, чтобы не обидеть его. Может быть, мы могли бы поехать к нему весной в Каринхалле или как там называется этот его старый мрачный замок в Баварии? Поездка на континент очень помогла бы тебе, дорогая Мелани. Очень. — Да. — Я обязательно свяжусь с тобой. Как только закончу это дело с покупкой магазина. Нам надо побыть немного вместе, Мелани... Ты и я, никого больше... как, в старину. — Она поцеловала воздух рядом с моей щекой и на несколько секунд крепко сжала мои локти. — До свидания, дорогая. — До свидания, Нина.* * *
Я отнесла коньячный бокал на кухню. Мистер Торн молча взял его. — Посмотрите, все ли в порядке, — велела я. Он кивнул и пошел проверять замки и сигнализацию. Было всего лишь без четверти десять, но я чувствовала себя очень усталой. «Возраст», — подумала я. Поднявшись по широкой лестнице — пожалуй, это было самое замечательное в этом доме, — я переоделась ко сну. За окном разразилась буря; в ударах ливневых струй по стеклу слышался нарастающий печальный ритм. Я расчесывала волосы, жалея, что они такие короткие, и тут в спальню заглянул мистер Торн. Я повернулась к нему. Он опустил руку в карман своего темного жилета. Когда он вытащил руку, сверкнуло тонкое лезвие. Я кивнула. Он сложил нож и закрыл за собой дверь. Было слышно, как его шаги удалялись вниз по лестнице, к стулу в передней, где ему предстояло провести ночь. Кажется, в ту ночь мне снились вампиры. А может, я просто думала о них перед тем как заснуть, и обрывок этих мыслей застрял в голове до утра. Из всех ужасов, которыми человечество пугает себя, из всех этих жалких крохотных чудищ только в мифе о вампирах есть какой-то намек на внутреннее достоинство. Как и человеческими существами, которыми он питается, вампиром движут его собственные темные влечения. Но, в отличие от своих жалких человеческих жертв, вампир ставит себе единственную цель, которая может оправдать грязные средства, — бессмертие, в буквальном смысле. Тут есть какое-то благородство. И какая-то печаль. Вилли прав — я действительно постарела. Этот последний год отнял у меня больше, чем предыдущее десятилетие. И все же я не прибегала к Подпитке. Несмотря на голод, несмотря на свое стареющее отражение в зеркале, несмотря на темное влечение, правившее нашей жизнью вот уже столько лет, я ни разу не прибегала к Подпитке. Я заснула, пытаясь вспомнить черты липа Чарлза. Я заснула голодной.Глава 2
Беверли-Хиллз Суббота, 13 декабря 1980 г. На лужайке перед домом Тони Хэрода был установлен большой круглый фонтан в виде сатира, который мочился в бассейн, глядя на Голливуд, что лежал внизу, в каньоне, с выражением то ли болезненного отвращения, то ли издевательского презрения. У знавших Тони Хэрода не возникало сомнений насчет того, какое именно выражение подходило больше. Его особняк когда-то принадлежал актеру немого кино; находясь на самом пике своей карьеры, после нечеловеческих усилий, актер преодолел этот барьер, перешел в звуковое кино, и все это лишь затем, чтобы умереть от рака горла через три месяца после выхода на экраны его первого звукового фильма. Его вдова отказалась покинуть эту огромную усадьбу и прожила там еще тридцать пять лет, по сути как смотрительница мавзолея, частенько одалживая (без отдачи) деньги у старых голливудских знакомых либо родственников, которых раньше не замечала, и все только для того, чтобы заплатить налоги. В 1959 году она умерла, и дом купил сценарист, написавший три из пяти романтических комедий с Дорис Дэй, вышедших к тому времени. Сценарист очень сетовал, что сад заброшен, а в кабинете на втором этаже держится дурной запах. В конце концов он крупно задолжал и пустил себе пулю в лоб в сарае; на следующий день его нашел садовник, но никому ничего не сказал, опасаясь, что его арестуют как незаконного иммигранта. Труп был обнаружен во второй раз юристом из Гильдии сценаристов, который как раз явился обсудить с писателем план защиты на предстоящем судебном разбирательстве по поводу плагиата. Далее домом поочередно владели: знаменитая актриса, жившая там месяца три в промежутке между своим пятым и шестым браком; техник — специалист по особым эффектам, который погиб в 1976 году во время пожара на складе; нефтяной шейх, выкрасивший сатира в розовый цвет и давший ему еврейское имя. В 1979 шейха пристрелил его собственный зять, когда в качестве пилигрима проезжал через Риад. Тони Хэрод купил особняк четыре года спустя. — Обалдеть можно, до чего красиво, — сказал Хэрод, стоя с агентом по недвижимости на мощенной плитами дорожке и глядя на сатира. — Покупаю. — Час спустя он передал задаток — чек на шестьсот тысяч долларов, даже не побывав внутри особняка. Шейла Беррингтон слышала множество историй про разные импульсивные поступки Тони Хэрода. Про то, как Тони Хэрод оскорбил Трумэна Капоте перед двумястами приглашенными гостями, и про скандал в 1978 году, когда Тони и одного из самых близких помощников президента Джимми Картера арестовали за то, что у них нашли наркотики. Никто не попал в тюрьму, ничего не было доказано, но ходили слухи, что Хэрод подставил несчастного парня из Джорджии ради хохмы. Шейла наклонилась, чтобы взглянуть на сатира, когда ее «Мерседес» с шофером проскользнул по извилистой дорожке к главному зданию. С ней не было ее матери, и она это очень остро чувствовала. Не было с ней и Лорен (ее агента), и Ричарда — агента ее матери, и Каулза — шофера и телохранителя, и Эстабан — ее парикмахера. Шейле было семнадцать лет, и девять из них она подвизалась как весьма удачливая фотомодель, а два последних — как «звезда» кино, но когда «Мерседес» остановился перед украшенной резьбой парадной дверью особняка Хэрода, она ощущала себя скорее принцессой из сказки, вынужденной навестить злого людоеда. «Нет, он не людоед, — подумала Шейла. — Как это Норман Мейлер назвал Тони после какого-то приема прошлой весной? Зловещий маленький тролль. Я должна пройти через пещеру злого маленького тролля, прежде чем найти сокровище». Шейла почувствовала, как напряглись мышцы ее спины, когда она позвонила. Она утешила себя тем, что там будет и мистер Борден. Ей нравился этот старый продюсер с его старосветской любезностью и легким приятным акцентом. Шейла вновь ощутила некое внутреннее напряжение, представив, что скажет ее мать, если обнаружит, что Шейла втайне решилась на такую встречу. Она уже собиралась повернуться и уйти, но тут дверь широко распахнулась. — А-а, ми(-: Беррингтон, я полагаю. — На пороге стоял Тони Хэрод в бархатном халате. Шейла испуганно глядела на него, а сама думала: «Есть ли на нем что-нибудь под этим халатом?» В плотной шерсти, покрывавшей грудь, виднелось несколько седых волосков. — Здравствуйте, — сказала Шейла и прошла за своим будущим продюсером в холл. На первый взгляд, ничего троллеподобного в Тони Хэроде не наблюдалось: мужчина ниже среднего роста — в Шейле было 178 сантиметров, многовато даже для модели, а рост Хэрода вряд ли превышал 162; длинные руки и несоразмерно большие кисти болтались по бокам щуплого, почти мальчишеского торса. Очень темные, коротко стриженые волосы свисали волнистой челкой на высокий белый лоб. Шейла подумала, что первым намеком на тролля, который, возможно скрывался в этой фигуре, мог быть тусклый цвет кожи, более естественный для жителя какого-нибудь прокопченного северо-восточного города, а не для человека, прожившего двенадцать лет в Лос-Анджелесе. Скулы были очерчены резко, даже слишком, и это впечатление вовсе не смягчал сардонический разрез рта, множество мелких острых зубов во рту (казалось, их было больше, чем нужно) и быстро мелькавший розовый язык, которым он постоянно облизывал нижнюю губу. Глубоко посаженные глаза окружены синевой, словно от недавно сошедших синяков, но не это заставило Шейлу резко вздохнуть и остановиться у выложенного плиткой входа, а нестерпимое напряжение этого затененного взгляда. Шейла была очень восприимчива к выражению глаз (ее собственные глаза в значительной мере сделали ее тем, чем она была), и ей еще никогда не доводилось видеть такого взгляда, как у Тони Хэрода. Потрясающий томный взгляд маленьких карих глаз с тяжелыми веками, слегка рассеянных, насмешливо безразличных, казалось, излучал власть и вызов, резко контрастирующие со всем его видом. — Проходи, детка. Черт, а где же твой антураж? Я думал, ты никогда не появляешься без толпы, по сравнению с которой Великая Армия Наполеона — просто остатки фэн-клуба Ричарда Никсона. — Простите?.. — Шейла сразу пожалела о том, что сказала. От этой встречи зависело слишком многое, чтобы вот так терять очки. — Ладно, забудь. — Хэрод отступил на шаг и принялся ее разглядывать. Прежде чем он успел засунуть руки в карманы халата, Шейла успела заметить его необычайно длинные, бледные пальцы. — Дьявол, ну ты прямо красавица, сука буду, — сказал коротышка. — Я слыхал, что ты эдакая секс-бомба, но в жизни ты впечатляешь покрепче, чем на экране. Пляжные мальчики, небось, писают кверху, когда ты появляешься. Шейла резко выпрямилась. Она готова была вынести немного хамства, но похабщина приводила ее в ужас — так уж ее воспитали. — Мистер Борден уже пришел? — холодно спросила она. Хэрод улыбнулся и покачал головой. — Боюсь, что нет. Вилли поехал навестить старых друзей где-то на юге... то ли в Болотвилле, то ли в Краснопупске, не помню. Шейла остановилась. Она приготовилась обсуждать важный для себя контракт с мистером Борденом и вторым продюсером, но мысль о том, что ей придется иметь дело только с Тони Хэродом, заставила ее содрогнуться. Она уже собралась уйти под каким-нибудь предлогом, но это оказалось невозможным, потому что в этот момент появилось новое лицо — женщина необыкновенной красоты. — Мисс Беррингтон, позвольте представить вам мою помощницу, Марию Чен, — сказал Хэрод. — Мария, это Шейла Беррингтон, очень талантливая молодая актриса и, возможно, звезда нашего нового фильма. — Здравствуйте, мисс Чен. — Шейла окинула женщину оценивающим взглядом. Лет тридцать с небольшим. Восточное происхождение сказывается только в скулах прекрасной лепки, волосах цвета воронова крыла да самую малость в разрезе глаз — Мария Чен сама могла бы стать моделью, стоит ей только захотеть. Возникло некоторое напряжение, неизбежное, когда знакомятся две потрясающе красивые женщины, но оно быстро рассеялось от теплой улыбки старшей из них. — Мисс Беррингтон, очень рада с вами познакомиться. — Рукопожатие Чен оказалось крепким и приятным. — Я уже давно восхищаюсь вашей работой в рекламе. У вас есть очень редкое качество. Мне кажется, что разворот в «Вог», который сделал Эвдон, просто великолепен. — Спасибо, мисс Чен. — Пожалуйста, зовите меня Мария. — Она улыбнулась, провела рукой по волосам и повернулась к Хэроду. — Вода в бассейне как раз нужной температуры. Я задержу все звонки на следующие сорок пять минут, Хэрод кивнул. — Прошлой весной я попал в аварию, и теперь мне каждый день приходится проводить некоторое время в джакузи. Это немного помогает. — Он слегка улыбнулся, заметив, что гостья стоит в нерешительности. — По правилам моего бассейна, купальный костюм обязателен. — Хэрод развязал пояс халата; под ним оказались красные плавки с золотой монограммой — его инициалами. — Ну, так как? Мария может провести вас сейчас в раздевалку — или вы хотите обсудить фильм позже, когда вернется Вилли? Шейла быстро прикинула. Она сомневалась, что сможет долго держать такую сделку в тайне от Лорен и своей матери. Вполне возможно, это единственный шанс заключить контракт на ее собственных условиях. — У меня с собой нет купальника, — улыбнулась она. Мария Чен успокоила ее: — С этим никаких проблем. У Тони есть купальные костюмы для гостей всех размеров и на любую фигуру. Тут даже есть несколько костюмов для пожилой тетушки, на случай, если она приедет его навестить. Шейла рассмеялась и пошла за Чен по длинному коридору, через комнату, уставленную удобной мебелью, среди которой самым заметным предметом был огромный телевизионный экран; мимо полок, уставленных электронной видеоаппаратурой, а потом еще вдоль одною коридора, покороче, в отделанную кедром раздевалку. Здесь в широких выдвижных ящиках лежали мужские и женские купальные костюмы разных стилей и расцветок. — Я оставлю вас. Переодевайтесь, — сказала Мария Чен. — А вы составите нам компанию? — Может быть, позже. Мне нужно закончить печатать кое-какие письма Тони. Вам понравится вода... И еще, мисс Беррингтон... Не обращайте внимания на манеры Тони. Он иногда грубоват, но всегда справедлив. Шейла кивнула. Мария Чен вышла, и девушка принялась рассматривать кипы купальных костюмов. Они были на любой вкус: крохотные французские бикини, купальники без лямок, строгие закрытые костюмы. На ярлыках значились имена модельеров — Готтекс, Кристиан Диор, Коль. Шейла выбрала оранжевый купальник — не совсем вызывающего покроя, но с достаточно высоким вырезом, чтобы ее бедра и длинные ноги выглядели наилучшим образом. Она по опыту знала, что ее маленькие крепкие груди будут смотреться чудесно, особенно там, где сосок слегка проступает сквозь тонкий материал. А цвет будет оттенять зеленоватый отблеск в ее карих глазах. Через другую дверь Шейла вышла в помещение, похожее на оранжерею, закрытое с трех сторон закругленными стеклянными стенами, сквозь которые на буйную тропическую зелень падали потоки солнечного света. В четвертую стену рядом с дверью был вмонтирован еще один огромный телеэкран. Из невидимых динамиков лилась приглушенная классическая музыка. Воздух был необычайно влажен. За стеной Шейла увидела еще один бассейн, гораздо больше внутреннего; голубая вода поблескивала в лучах утреннего солнца. Тони Хэрод возлежал в воде с мелкой стороны минеральной ванны и прихлебывал из высокого бокала. Шейла почувствовала, как горячий влажный воздух давит на нее, словно одеяло. — Где ты застряла, детка? Мне пришлось залезть в воду без тебя. Шейла улыбнулась и села на край небольшого бассейна, метрах в полутора от Хэрода: не так далеко, чтобы это можно было принять за оскорбление, но и не в интимной близости. Она лениво болтала ногами в пенящейся воде, оттягивая носок, чтобы показать, какие у нее красивые икры и мышцы бедра. — Ну что ж, поговорим? — Хэрод снова раздвинул губы в насмешливой полуулыбке и облизнул кончиком языка нижнюю губу. — Вообще-то мне не следовало быть здесь, — тихо сказала Шейла. — Такими делами занимается мой агент. И потом, я всегда советуюсь с мамой перед тем, как принять решение насчет нового контракта... даже если это работа моделью всего лишь на уикэнд. Сегодня я пришла только потому, что меня попросил об этом мистер Борден. Он к нам очень мило относится с того... — Знаю, знаю, он от тебя тоже без ума, — перебил Хэрод и поставил бокал на покрытый плиткой бортик. — Значит, дело обстоит так. Вилли купил права на бестселлер, который называется «Торговец рабынями». Это — кусок говна, написанный для неграмотных пацанов лет четырнадцати и безмозглых домохозяек, что каждый месяц давятся в очереди за последним романом про Арлекина. Чтиво, под которое дебилам хорошо заниматься онанизмом. Естественно, это дерьмо разошлось в трех миллионах экземпляров. Мы заполучили права до публикации. У Вилли кто-то есть в издательстве «Баллантайн» — тот, кто предупреждает его, когда вот такое вот пюре из бычьего говна имеет шанс прорваться в бестселлеры. — Все это, конечно, заманчиво... — тихо сказала Шейла. — Куда уж к черту заманчивее. В кино, конечно, от книги останутся ножки да рожки — только основная сюжетная линия да дешевый секс. Но у нас над этим поработают хорошие спецы. Майкл Мей-Дрейнен уже начал работать над сценарием, а Шуберт Уильяме согласился быть режиссером. — Шу Уильяме? — Шейла несколько опешила. Уильяме только что закончил нашумевший фильм для Эм-джи-эм. Она опустила взгляд на пузырящуюся поверхность бассейна. — Боюсь, материал такого рода вряд ли нас заинтересует, — затем продолжила: — Моя мама... я хочу сказать, мы очень осторожно подходим к материалу, с которым связано начало моей карьеры в кино. — Ага! — воскликнул Хэрод и допил все, что оставалось в бокале. — Два года назад ты была звездой в «Надежде Шэннерли». Умирающая девушка встречается с умирающим аферистом в мексиканской клинике, они отказываются от погони за очередной панацеей и находят настоящее счастье в оставшиеся последние недели своей жизни. Урезаться можно. Как писала критика: «От одних роликов этого сахаринного дерьма у диабетиков начинается приступ...» — Там была очень плохая реклама... — Этому надо радоваться, крошка. Затем, в прошлом году, твоя мамочка засунула тебя в «К востоку от счастья» Вайза. Из тебя хотели сделать еще одну Джули Эндрюс в этой дешевке, в говенном плагиате «Звука флегмы». Хотели, да не сумели. И еще. Шестидесятые годы, хиппи, всякие там дети-цветы уже в прошлом, теперь пришли злые восьмидесятые, и хотя я вам не агент и вообще никто, мисс Беррингтон, я вам вот что скажу: стараниями вашей мамочки и всей этой кодлы ваша карьера в кино сидит глубоко в жопе. Они пытаются сделать из вас нечто типа Мари Осмонд... знаю, знаю, вы принадлежите к Церкви Святых Последнего Дня, ну и что? На обложке «вор» и «17» ты выглядела роскошно, а теперь готова проорать все это. Они пытаются продать тебя как двенадцатилетнюю невинную девочку, но теперь такое дерьмо уже не проходит. Шейла сидела не шевелясь. Мысли ее метались, но она никак не могла придумать, что сказать. Ей ужасно хотелось послать этого коротышку-тролля к черту, но слова не шли с языка, и она так и сидела молча на краю бурлящего бассейна. Все ее будущее зависело от следующих нескольких минут, но в голове была полная путаница. Хэрод вылез из воды и прошлепал к бару, устроенному среди папоротников. Он налил себе высокий бокал грейпфрутового сока и оглянулся на Шейлу. — Хочешь чего-нибудь, детка? Тут у меня все есть. Даже гавайский пунш, если ты сегодня настроена на особо мормонский лад. Шейла покачала головой. Продюсер снова опустился в джакузи и поставил бокал себе на грудь. Взглянув на зеркало в стене, почти незаметно кивнул: — Ну ладно. Поговорим про «Торговца рабынями», или как там он будет называться в конце концов. — Я не думаю, что нас заинтересует... — Ты получишь четыреста тысяч сразу, — сказал Хэрод, — плюс процент дохода от картины, но от него ты вряд ли что увидишь, если учесть привычки нашей бухгалтерии. Самое главное, что ты на этом заработаешь, — это имя. С этим именем тебя возьмет любая студия в Голливуде. Фильм будет потрясный, поверь мне, детка. Я нюхом чую кассовый фильм, уже после первого черновика развернутого плана. Тут пахнет большими деньгами. — Боюсь, мне это не подойдет, мистер Хэрод. Мистер Борден сказал, что если меня не заинтересует первое предложение, мы могли бы... — Съемки начинаются в марте, — перебил Хэрод. Он сделал большой глоток и закрыл глаза. — Шуберт говорит, что они займут недель двенадцать, так что надо рассчитывать на двадцать. Натурные съемки будут в Алжире, Испании, несколько дней в Египте, потом еще недели три в студии Пайнвуд — дворцовые сцены и прочее. Шейла встала. Капельки воды блестели на ее икрах. Она уперла руки в бока и яростно уставилась на безобразного коротышку в бассейне. Хэрод лежал, не открывая глаз. — Вы меня не слушаете, мистер Хэрод, — резко бросила она. — Я сказала «нет». Я не стану играть в вашем фильме. Ведь я даже не видела сценария. Так что можете взять своего «Торговца рабынями», или как там его, и... и... — И засунуть себе в жопу? — Хэрод открыл глаза. Это было похоже на то, как если бы проснулась ящерица. Вода пузырилась на его покрытой шерстью груди. — До свидания, мистер Хэрод. — Шейла резко отвернулась и направилась к выходу. Она успела сделать три шага, когда Хэрод окликнул ее: — Боишься постельных сцен, детка? Она остановилась было, потом пошла дальше. — Боишься постельных сцен, — повторил Хэрод, только на сей раз уже без вопросительной интонации. Шейла дошла уже до двери, но остановилась и, крепко сжав кулаки, повернулась к нему. — Я еще не видела сценария! — Голос ее прервался, и, к собственному изумлению, она чуть не расплакалась. — Конечно, там есть постельные сцены, — продолжал Хэрод, как будто она не сказала ни слова. — Там есть эпизод, от которого все сопляки в зале уписаются. Можно, конечно, использовать дублершу... Можно, но не нужно. Ты сама с этим справишься, крошка. Шейла мотнула головой. В ней закипала ярость, которую невозможно было выразить словами. Она повернулась и, как слепая, потянулась к ручке двери. — Стой — Тони Хэрод сказал это тихим, еле слышным голосом, но он подействовал на нее сильнее, чем крик. Она остановилась как вкопанная. Казалось, ее шею стискивают холодные пальцы. — Подойди сюда. Шейла молча повиновалась. Хэрод лежал в воде, скрестив на груди руки с длиннющими пальцами-щупальцами. Глаза его, влажные, с тяжелыми веками, были почти закрыты — ленивый взгляд крокодила. Какая-то часть сознания Шейлы в панике дико сопротивлялась, а другая просто наблюдала за всем происходящим с возрастающим интересом. — Сядь. Она села на край бассейна в метре от него, опустив свои длинные ноги в воду. Белая пена покрыла ее загорелые бедра. Казалось, ее собственное тело было очень далеко от нее и она смотрела на себя как бы со стороны. — Так вот я и говорю, ты сама с этим справишься, детка. Все мы немного эксгибиционисты, а тут тебе еще заплатят целое состояние — за то, что тебе и без того хотелось бы делать. Словно преодолевая какой-то жуткий ступор, Шейла подняла голову и взглянула в упор на Тони Хэрода. В пятнистом свете оранжереи зрачки его глаз открылись так широко, что казались черными дырками на бледном лице. — Вот как сейчас, — тихо, очень тихо сказал Хэрод. Возможно, он вообще ничего не говорил. Слова будто сами проскользнули в мозг Шейлы, как холодные монеты, опускающиеся в темную воду. — Здесь ведь тепло. Зачем тебе этот купальник? Совершенно не нужен. Шейла смотрела на него широко раскрытыми глазами. Где-то далеко-далеко, в конце туннеля, она видела себя маленькой девочкой, готовой расплакаться. Она в изумлении наблюдала, как ее рука поднимается и скользит под купальник. Шейла слегка потянула материю книзу, и край купальника врезался в выпуклость ее груди. Она снова потянула, на этот раз справа. Ткань вдавилась в грудь над самым соском. На коже видна была тонкая красная полоска от резинки. Она взглянула на Тони Хэрода. Тот почти незаметно улыбнулся и кивнул. Как будто получив разрешение, Шейла резко сдернула купальник. Груди ее мягко колыхнулись, когда с них соскользнула оранжевая ткань. Нежная кожа была изумительно белой, только кое-где виднелись мелкие веснушки. Соски быстро набухли и выпрямились от прохладного воздуха. Их окружали очень большие и ярко-коричневые ореолы с несколькими черными волосками по краям; Шейла считала, что это очень красиво, и никогда не выдергивала их. Об этом никто не знал. Она никому не разрешала фотографировать свою грудь, даже Эдвону. Лицо Хэрода теперь виделось ей просто бледным пятном. Комната, казалось, накренилась и стала вращаться вокруг нее. Гул машины, вспенивающей воду бассейна, усилился и звоном отдавался в ушах, и тут Шейла почувствовала, как в ней что-то шевельнулось. Ее стала наполнять какая-то приятная теплота. Появилось ощущение, будто чья-то рука нежно ласкает ее между ног. Она резко вздохнула, почти вскрикнула; спина ее невольно выгнулась. — Тут правда очень тепло, — сказал Тони Хэрод. Шейла провела руками по лицу, коснулась век с чувством, похожим на изумление, потом погладила ладонями шею, ключицы и остановилась, когда пальцы прижались к груди, где начиналась белая полоска. Она чувствовала, как в артерии на шее бьется пульс, словно испуганная птица в клетке. Потом ее руки скользнули еще ниже, спина снова выгнулась, когда ладони коснулись сосков, ставших болезненно чувствительными; она подняла груди, как учил ее доктор Кеммерер, когда ей было четырнадцать, но сейчас она не осматривала их, а только сжала, сжала еще сильнее, и ей захотелось взвизгнуть от наслаждения. — Купальник вообще не нужен, — снова прошептал Хэрод. Шептал он или нет? Шейла была как в тумане. Она смотрела прямо на него, но губы его не шевелились. Они были растянуты в полуулыбке, открывая маленькие зубы, похожие на острые белые камешки. Но это было неважно. Гораздо важнее было освободиться от липнущего к телу купальника. Шейла еще ниже приспустила ткань, ниже легкой выпуклости живота, потом приподняла ягодицы и протащила под ними резинку. Теперь купальник был всего лишь куском ткани, болтавшейся на одной ноге, и она рывком скинула его. Она глянула вниз на свое тело, на внутренний изгиб бедра и на треугольник волос на лобке, поднимающихся к линии загара. На секунду у нее снова закружилась голова, на сей раз от приглушенного ощущения шока, но в этот миг она почувствовала мягкое касание внутри и откинулась назад, опершись на локти. Бурлящая вода покрывала ее бедра. Шейла подняла руку и медленно провела пальцами по голубой вене, пульсирующей на белой коже груди. Малейшее касание жгло ее плоть как огнем. Мягкие холмы грудей, казалось, сжимаются и в то же время тяжелеют. Вода в бассейне плескалась в такт резким ударам ее сердца, потом в этом ритме прорезалась синкопа. Шейла согнула правую ногу в колене и погладила промежность рукой. Затем ладонь ее двинулась выше, стирая капельки воды, блестевшие на тоненьких золотистых волосках. Теплота наполнила ее всю до краев. Наливавшаяся кровью вульва пульсировала сладостно, как в те интимные минуты перед сном, только сейчас не было стыда, а только горячее желание испытать это сейчас, и она со стоном раздвинула ноги. — Купальник не нужен. Мне тоже. Слишком жарко. — Хэрод допил сок, выбрался из бассейна и поставил стакан подальше от края. Шейла повернулась, чувствуя, как прохладные плиты касаются ее бедер. Ее длинные волосы почти скрывали лицо, она поползла вперед на локтях, слегка приоткрыв рот. Хэрод откинулся назад, лениво болтая ногами в воде. Шейла остановилась и подняла на него глаза. Ласковое поглаживание там, в глубине мозга, усилилось, невидимые пальцы нашли самую чувствительную эрогенную точку и стали медленно, как бы дразня, скользить вокруг нее. Она уже ничего не чувствовала, кроме легкого, как сквозь пленку вазелина, трения, — прилив, отлив, прилив, отлив... Шейла со стоном выдохнула и невольно стиснула бедра — внутри горячими волнами, одна за другой, прошел первый оргазм. Шепот внутри ее усилился; это был дразнящий шелест, казавшийся частью наслаждения. Груди Шейлы коснулись пола — она потянулась и стащила плавки Тони Хэрода одним быстрым и в то же время грациозным движением. Скомканные плавки скользнули по коленям тролля и упали в воду. Низ его живота тоже был покрыт черной шерстью. Его бледный вялый пенис медленно зашевелился в этом темном гнезде. Шейла подняла глаза и увидела, что улыбка исчезла с его лица. Глаза Хэрода были всего лишь отверстиями в бледной маске. Никакого возбуждения, только сосредоточенность хищника, пригвоздившего взглядом свою жертву. Но Шейле было уже все равно. Она не понимала, что происходит. Чувствовала только, как поглаживание где-то в глубине мозга усилилось и перешло за грань экстаза и боли. Чистое наслаждение, как от наркотика, потекло по всем ее жилам. Шейла прильнула щекой к бедру Хэрода и потянулась правой рукой к его пенису. Он лениво отбросил ее руку. Шейла закусила губу и застонала. В ней бушевал смерч ощущений, ее подстегивали только страсть и боль. Ноги ее беспорядочно дергались, как при спазмах, она корчилась на краю бассейна, ее губы скользнули по солоноватой поверхности бедра Хэрода. Она почувствовала привкус собственной крови во рту, рука невольно потянулась к мошонке Хэрода и сжала ее. Согнув правую ногу в колене, он мягко столкнул ее в бассейн. Ее тело все так же льнуло к его ногам; постанывая, она прижималась к нему, ее руки и рот искали его. Вошла Мария Чен, подключила телефон к розетке в стене и поставила его на пол рядом с Хэродом. — Вашингтон на проводе. — Она мимоходом взглянула на Шейлу и вышла. Тепло и возбуждение покинули мозг и тело Шейлы с такой холодной внезапностью, что она вскрикнула от боли. Она слепо смотрела перед собой несколько секунд, потом попятилась назад, в пенящийся бассейн Ее тут же начало сильно трясти; она прикрыла грудь руками. — Хэрод у телефона. — Продюсер встал, подошел к плетеному креслу и набросил на себя бархатный халат. Потрясенная, не веря своим глазам, Шейла тупо смотрела, как под тканью исчезли его бледные чресла. Ее затрясло еще сильнее, по телу побежали мурашки. Она впилась ногтями в свои волосы и опустила лицо к воде. — Да? — сказал Хэрод. — А-а, проклятье! Когда: Ты уверен, что он был на борту? Н-ну, блядь. Оба? А эта, как ее?.. Сука... Нет-нет, я сам разберусь с этим Нет. Я сказал — сам разберусь! Да. Нет, дня черед два. Да, приеду. — Хэрод с грохотом бросил трубку и рухнул в кресло. Шейла схватила купальник, лежавший на краю бассейна. Все еще дрожа и едва не теряя сознание от тошноты, она присела на корточки в пенящейся воде и натянула купальник. Она плакала навзрыд, сама того не замечая. «Это — кошмар»... То была единственная мысль, которая беспомощно билась в ее помутневшейся голове. Хэрод взял пульт дистанционного управления и махнул им в сторону огромного телеэкрана, вмонтированного в стену. Экран сразу ожил, и Шейла увидела себя сидящей на краю небольшого бассейна. Вот она посмотрела в сторону бессмысленным взглядом, улыбнулась, как будто ей привиделось что-то приятное, и потянула свой купальник вниз. Показались белые груди, торчащие соски, большие ореолы, отчетливо коричневые даже в плохом освещении... — Нет! — вскрикнула Шейла и стала молотить кулаками по воде. Хэрод повернул голову и посмотрел на нее; казалось, он увидел ее в первый раз. Тонкие губы сложились в подобие улыбки. — Боюсь, наши планы немного изменились, — тихо сказал он. — Мистер Борден не сможет заняться этим фильмом. Я буду твоим единственным продюсером. Шейла перестала колотить по воде как безумная. Ее мокрые волосы свисали на лицо, рот был открыт, с подбородка стекали слезы. Слышны были только ее безудержные рыдания да гудение джакузи. — Будем придерживаться первоначального расписания съемок, — бросил Хэрод почти безучастно. Он взглянул на экран. Там Шейла Беррингтон голая ползла по темным плиткам. Показалось обнаженное тело мужчины. Камера выхватила лицо девушки крупным планом: она терлась щекой о бледное волосатое бедро. Глаза ее остекленели от страсти, красный рот пульсировал, смыкаясь и размыкаясь, как у рыбы. — Я думаю, мистер Борден больше не будет делать с нами фильмов, — продолжил Хэрод. Он повернул к ней голову; глаза его медленно мигнули, как черные маяки. — С этого момента в деле остаемся только мы с тобой, детка. Губы Хэрода вздрогнули, и Шейла снова увидела его маленькие острые зубы. — Боюсь, мистер Борден вообще ни с кем больше не будет делать никаких фильмов. — Хэрод снова повернулся к экрану. — Вилли мертв, — тихо добавил он.Глава 3
Чарлстон Суббота, 13 декабря 1980 г. Когда я проснулась, сквозь ветви пробивались яркие лучи солнца. Был один из тех хрустальных зимних дней, из-за которых стоит жить на юге: совсем не то, что на севере, где эти янки просто с тоской пережидают зиму. Над крышами виднелись зеленые верхушки пальм. Когда мистер Торн принес мне завтрак на подносе, я велела ему слегка приоткрыть окно. Я пила кофе и слушала, как во дворе играют дети. Несколько лет назад мистер Торн принес бы вместе с подносом утреннюю газету, но я уже давно поняла, что читать о глупостях и скандалах мира — значит осквернять утро. По правде сказать, людские дела все меньше занимали меня. Уже двенадцать лет я обходилась без газет, телефона и телевизора и никак от этого не страдала, если только не назвать страданием растущее чувство самоудовлетворения. Я улыбнулась, вспомнив разочарование Вилли, когда он не смог показать нам свои видеокассеты. Вилли такой ребенок. — Сегодня суббота, не так ли, мистер Торн? — Он кивнул. Я показала жестом, что поднос можно убрать. — Сегодня мы выйдем из дому. На прогулку. Возможно, поедем к форту. Потом пообедаем «У Генри» — и домой. Мне надо сделать кое-какие приготовления. Мистер Торн слегка задержался и чуть не споткнулся, выходя из комнаты. Я завязывала пояс халата, но тут остановилась. Чтобы мистер Торн позволил себе неловкое движение — такого за ним раньше не водилось. До меня как-то сразу дошло, что он тоже стареет. Он поправил блюда на подносе, кивнул и вышел. В такое прекрасное утро я не собиралась огорчать себя мыслью о старости. Меня наполняла новая энергия и решимость. Вчерашняя встреча прошла не слишком удачно, но и не так плохо, как это могло бы быть. Я честно сказала Вилли и Нине о том, что намерена выйти из Игры. В следующие несколько недель или месяцев они, или по крайней мере Нина, начнут задумываться над возможными последствиями этого решения, но к тому моменту, когда они соберутся действовать вместе или поодиночке, я уже исчезну. Новые, да и старые, документы уже ожидали меня во Флориде, Мичигане, Лондоне, южной Франции и даже в Нью-Дели. Хотя Мичиган был пока исключен — я отвыкла от сурового климата. А Нью-Дели стал теперь не так гостеприимен к иностранцам, как перед войной, когда я недолго там жила. В одном Нина была права: возвращение в Европу пойдет мне на пользу. Я чувствовала, что уже тоскую по яркому солнечному свету в моем загородном доме вблизи Тулона, по сердечности тамошних крестьян и их умению жить. Воздух был потрясающе свежим. На мне было простое ситцевое платье и легкое пальто. Когда я спускалась по лестнице, артрит в правой ноге немного мешал мне, но я опиралась на старую трость, принадлежавшую когда-то моему отцу. Молодой слуга-негр вырезал ее для отца в то лето, когда мы переехали из Гринвилла в Чарлстон. Во дворе нас обдало теплым ветром, и я невольно улыбнулась. Из своего подъезда вышла миссис Ходжес. Это ее внуки играли со своими друзьями вокруг высохшего фонтана. Уже два столетия двор этот был общим для трех кирпичных зданий. Из них только мой дом не разделен на дорогие городские квартиры. — Доброе утро, миз Фуллер. — Доброе утро, миссис Ходжес. Прекрасный день сегодня. — Замечательный. Собираетесь пройтись по магазинам? — Нет, всего лишь на прогулку, миссис Ходжес. Странно, что мистера Ходжеса не видно. Мне казалось, по субботам он всегда работает во дворе. Миссис Ходжес нахмурилась. Мимо пробежала одна из ее маленьких внучек, а за ней с визгом промчалась ее подружка. — Джон сегодня на причале. — Днем? — Мне всегда было забавно лицезреть мистера Ходжеса, отправляющегося по вечерам на работу: форма охранника аккуратно выглажена, из-под фуражки торчат седые волосы, сверток с едой крепко зажат под мышкой. Мистер Ходжес был похож на пожилого ковбоя, с его дубленой кожей и кривыми ногами. Он был из тех людей, которые вечно собираются уйти на пенсию, но понимают, что образ жизни пенсионера — это нечто вроде смертного приговора. — Да. Один из этих цветных из дневной смены бросил работу в хранилище, и они попросили Джорди заменить его. Я сказала ему, что он не так уж молод, чтоб работать четыре ночи в неделю, а потом еще и в субботу, но вы же знаете, что это за человек... — Ну что ж, передайте ему привет от меня. — Мне уже становилось не по себе от этой беготни детворы вокруг фонтана. Миссис Ходжес проводила меня до нашей железной кованой калитки. — Вы куда-нибудь едете отдыхать, миз Фуллер? — Вероятно, миссис Ходжес. Вполне вероятно. — И вот уже мы с мистером Торном не торопясь идем по тротуару к Батарее. По узким улочкам медленно проехали несколько автомобилей с туристами, которые глазели на дома в нашем старом квартале, но в общем день обещал быть спокойным и безмятежным. Мы свернули на Брод-стрит, и оттуда уже можно было видеть мачты яхт и парусных лодок, хотя до воды было еще далеко. — Пожалуйста, купите билеты, мистер Торн, — сказала я. — Мне бы хотелось посмотреть форт. Как и большинство людей, живущих по соседству с известной достопримечательностью, я уже много лет просто не замечала ее. Сегодняшнее посещение форта — это для меня сентиментальный поступок. Я все больше примирялась с мыслью, что мне придется навсегда покинуть эти места. Одно дело планировать какой-то шаг, и совсем другое — столкнуться с его неизбежной реальностью. Туристов было мало. Паром отошел от причала и двинулся в путь по спокойной воде гавани. Солнечное тепло и мерный стук дизеля навевали сон, и я слегка задремала. Проснулась я, когда паром уже причаливал к острову у темной громадины форта. Некоторое время я двигалась вместе с группой туристов, наслаждаясь катакомбной тишиной нижних уровней и даже получая удовольствие от бессмысленно-певучего голоса девушки-экскурсовода. Но когда мы вернулись в музей с его пыльными диорамами и мишурным набором слайдов, я снова поднялась по лестнице на внешние стены. Жестом велев мистеру Торну оставаться у лестницы, вышла на бастион. У стены стояла только одна пара — молодые люди с ребенком в ужасно неудобном на вид рюкзачке и с дешевым фотоаппаратом. Момент был очень приятный. С запада надвигался полуденный шторм; он служил темным фоном длявсе еще освещенных солнцем шпилей церквей, кирпичных башен и голых ветвей города. Даже на расстоянии двух миль можно было видеть, как по тротуару Батареи прогуливаются люди. Опережая темные тучи, налетел ветер и стал швырять белые комья пены в борта покачивающегося парома и на деревянную пристань. В воздухе пахло рекой и предзакатной сыростью. Нетрудно было представить себе, как все происходило в тот давний день. Снаряды падали на форт и в конце концов превратили его верхние этажи в кучи щебня, которые все же давали какую-то защиту. С крыш за Батареей люди вопили «ура» при каждом выстреле. Яркие цвета разодетой толпы и солнечных зонтиков, наверно, приводили в ярость артиллеристов-северян, и в конце концов один из них выстрелил из орудия поверх крыш, усеянных толпами. Отсюда, должно быть, забавно было наблюдать за последовавшей затем паникой. Мое внимание привлекло какое-то движение в воде. Что-то темное скользило по серой поверхности, темное и молчаливое, как акула. Мысли о прошлом развеялись: я узнала силуэт подлодки-"Поларис", старой, но все еще действующей; она беззвучно скользила сквозь темные волны, которые пенились о корпус, зализанный, как тело дельфина. На башенке стояло несколько человек, закутанных в тяжелую одежду и в низко надвинутых фуражках. На шее одного из них висел необычайных размеров бинокль; наверно, это был капитан. Он ткнул пальцем куда-то за остров Салливана. Я пристально смотрела на него. Периферийное зрение понемногу исчезло, когда я вошла в контакт с ним через все это водное пространство. Звуки и ощущения доносились до меня, словно с большого расстояния. Напряжение. Удовольствие от соленых брызг, бриз с норд-норд-веста. Беспокойство по поводу запечатанного конверта с инструкциями внизу в каюте. Песчаные отмели по левому борту. Внезапно я вздрогнула: кто-то подошел ко мне сзади. Я повернулась, и контакт с лодкой тут же пропал. Рядом со мной стоял мистер Торн, хотя я его не звала. Я уже открыла было рот, чтобы отослать его назад к лестнице, когда поняла причину, по которой он приблизился. Молодой человек, до того снимавший свою бледную жену, шел ко мне. Мистер Торн сделал движение, чтобы остановить его. — Извините, мадам, можно вас попросить об одолжении? Вы не могли бы снять нас? Вы или ваш муж. Я кивнула, и мистер Торн взял протянутый фотоаппарат, который выглядел очень маленьким в его длинных пальцах. Два щелчка, и эта пара могла чувствовать себя удовлетворенной: их присутствие здесь останется увековеченным для потомства. Молодой человек заулыбался, как идиот, кивая головой. Младенец заплакал: подул холодный ветер. Я оглянулась на подводную лодку, но та ушла уже далеко; ее серая башенка виднелась, как тонкая полоска, соединяющая море и небо.* * *
Так получилось, что когда мы плыли обратно и паром уже поворачивал к причалу, совершенно незнакомый человек рассказал мне о смерти Вилли. — Ведь это ужасно, правда? — Эта болтливая старуха увязалась за мной, когда я пошла на палубу. Хотя ветер был довольно холодный и я дважды меняла место, чтобы уйти от ее идиотской болтовни, эта дура явно выбрала меня в качестве мишени своего словоизвержения на все оставшееся время поездки. Ее не останавливали ни моя сдержанность, ни нахмуренный вид мистера Торна. — Просто ужасно, — продолжала она. — И все ведь случилось в темноте, ночью. — О чем вы? — спросила я, движимая нехорошим предчувствием. — Ну как же, я про авиакатастрофу. Вы что, не слышали? Это, наверное, было просто ужасно, как они упали в болото, и все остальное. Я сказала своей дочери утром... — Какая катастрофа? Когда? Старуха немного опешила от резкости моего тона, но дурацкая улыбка так и осталась у нее на лице как приклеенная. — Ну как же, прошлой ночью. Или сегодня рано утром. Я сказала дочери... — Где? Что за самолет? — уловив тон моего голоса, мистер Торн придвинулся поближе. — Прошлой ночью, — продребезжала она. — Самолет из Чарлстона. Там, в кают-компании, есть газета, в ней все сказано. Ужасно, правда? Восемьдесят пять человек. Я сказала дочери... Я повернулась и пошла вниз, оставив ее у поручня. Около стойки буфета лежала скомканная газета, и в ней, под огромным заголовком из четырех слов, были напечатаны немногочисленные подробности смерти Вилли. Рейс 117 до Чикаго вылетел из Международного аэропорта Чарлстона в 12.18. Через двадцать минут самолет взорвался в воздухе недалеко от города Колумбия. Обломки фюзеляжа и тела пассажиров упали в болото Конгари, где и были обнаружены рыбаками. Спасшихся нет. ФБР и другие ведомства начали расследование. В ушах у меня громко зашумело, и мне пришлось сесть, чтобы не упасть в обморок. Влажными руками я ухватилась за виниловую обивку. Мимо меня к выходу потянулись люди. Вилли был мертв. Убит. Нина уничтожила его. Голова моя шла кругом; в первые несколько секунд я подумала, что, возможно, это заговор, хитрая ловушка, в которую Вилли и Нина хотят заманить меня, заставив думать, будто опасность угрожает мне теперь только с одной стороны. Хотя нет, на это не похоже. Если Нина вовлекла Вилли в свои планы, для таких нелепых махинаций просто не было бы резона. Вилли мертв. Его останки разбросаны по вонючему, никому не известному болоту. Очень легко вообразить себе его последние минуты. Он наверняка сидел в роскошном кресле салона первого класса со стаканом в руке, возможно, переговаривался с кем-нибудь из своих скотов-компаньонов. Потом — взрыв. Крики. Внезапная тьма. Жуткий крен и падение в небытие. Я вздрогнула и стиснула металлическую ручку кресла. Как Нине удалось сделать это? Она вряд ли прибегнула к помощи кого-то из свиты Вилли. Нине было вполне по силам использовать одного из его подручных, особенно если учесть ослабевшую Способность Вилли, но у нее не было причины делать это. Она могла использовать любого человека, летевшего тем рейсом. Конечно, это непросто. Нужно было проделать сложные приготовления — изготовить бомбу, потом стереть всякую память об этом, что требует мощного усилия; наконец, она должна была совершить невозможное — использовать кого-то как раз тогда, когда мы сидели у меня и пили кофе с коньяком. Но Нина сделала это. Да, сделала. И потом, выбор именно этого времени мог означать только одно. Последний турист поднялся на палубу. Я почувствовала легкий толчок и поняла, что мы причалили. Мистер Торн стоял у двери. Выбор момента означал, что Нина пыталась справиться с нами обоими сразу. Очевидно, она спланировала все это задолго до нашей встречи и моего робкого заявления о выходе из Игры. Как оно, должно быть, позабавило Нину! Неудивительно, что она так великодушно отреагировала. Но она все же сделала одну большую ошибку. Нина сначала принялась за Вилли, полагая, что я ничего не узнаю об этом, а она тем временем займется мною. Она знала, что я не слежу за ежедневными новостями и даже не имею такой возможности, к тому же теперь редко выхожу из дому. И все же это было не похоже на Нину — оставлять хоть что-то лишь на волю случая. А может, она думала, что я совершенно потеряла Способность, а Вилли представляет большую угрозу? Мы вышли из кают-компании на серый послеполуденный свет. Я тряхнула волосами. Ветер продувал мое тонкое платье насквозь. Трап я видела сквозь пелену и только тут поняла, что мои глаза застилают слезы. По ком я плакала? По Вилли? Вилли был напыщенный, слабый, старый дурак. Или из-за предательства Нины? Не знаю, может быть, просто от резкого ветра. На улицах старого города почти не было пешеходов. Под окнами роскошных домов голые ветви постукивали друг о друга. Мистер Торн держался рядом со мной. От холодного воздуха правую ногу до самого бедра пронизывала артритная боль. Я все тяжелее опиралась на трость. Каким будет ее следующий ход? Я остановилась. Кусок газеты, подброшенный ветром, обернулся вокруг моей щиколотки, потом полетел дальше. Как она попытается добраться до меня? Вряд ли с большого расстояния. Она где-то здесь, в городе. Я была в этом уверена. Вообще-то можно использовать человека и на большом расстоянии, но это требует тесного контакта, почти интимного знакомства с этим человеком, и если потерять этот контакт, то восстановить его на расстоянии очень трудно, почти невозможно. Никто из нас не знал, почему так происходит, но теперь это было неважно. Мысль о том, что Нина все еще где-то здесь, поблизости, заставила учащенней забиться мое сердце. Нет, большое расстояние исключено. Человек, которого она будет использовать, нападет на меня, и я увижу нападающего. Я была в этом уверена, иначе быть не могло, иначе это была бы не Нина. Конечно, гибель Вилли вовсе не являлась никакой Подпиткой, а была всего лишь простой технической операцией. Нина решила свести со мной старые счеты, и Вилли являл для нее препятствие, небольшую, но вполне отчетливую угрозу, которую следовало устранить, прежде чем продолжить выполнение главного плана. Мне было нетрудно представить, что сама Нина считала свой способ убрать Вилли чуть ли не актом сострадания. Со мной — другое дело. Я знала, Нина постарается дать мне понять, хотя бы на мгновение, что именно она стоит за нападающим. В каком-то смысле ее тщеславие само подаст мне сигнал тревоги. Во всяком случае, я на это надеялась. Огромным соблазном было уехать сейчас же, немедленно. Мистер Торн мог завести «Ауди», и через час мы были бы уже вне пределов ее досягаемости, а еще через несколько часов я могла бы начать новую жизнь. В доме, конечно, останутся ценные вещи, но при тех средствах, что я запасла в разных местах, их легко будет заменить, по крайней мере большую их часть. Возможно, стоило оставить все здесь вместе с отброшенной личиной, с которой эти вещи были связаны. Нет, я не могу уехать. Не сейчас. Стоя на противоположной стороне улицы, я смотрела на свой дом; он казался темным и зловещим. Я не могла вспомнить, сама ли я задернула занавески на втором этаже. Во дворе мелькнула тень — это внучка мисс Ходжес и ее подружка перебегали от одной двери к другой. Я в нерешительности стояла на краю тротуара и постукивала отцовской тростью по темной коре дерева. Я понимала, что медлить было глупо, но мне уже давно не приходилось принимать решения в напряженной обстановке. — Мистер Торн, идите и проверьте дом. Осмотрите все комнаты. Возвращайтесь быстрее. Я смотрела, как темное пальто мистера Торна сливается с мраком двора. Вновь подул холодный ветер. Оставшись в одиночестве, я чувствовала себя весьма уязвимой. Я поймала себя на том, что посматриваю по сторонам, в оба конца улицы: не мелькнут ли где темные волосы мисс Крамер? Но нигде не было никаких признаков движения, только молодая женщина далеко от меня шла по улице, толкая детскую коляску. Занавеска на втором этаже взлетела вверх, и с минуту там маячило бледное лицо мистера Торна, выглядывавшего наружу. Потом он отвернулся, а я продолжала напряженно смотреть на темный прямоугольник окна. Крик во дворе заставил меня вздрогнуть, но то была всего лишь маленькая девочка — забыла ее имя, — она звала свою подружку. Кэтлин, вот как ее зовут. Дети уселись на край фонтана и занялись пакетиком с печеньем. Я наблюдала за ними некоторое время, потом расслабилась и даже слегка улыбнулась: все-таки у меня определенно мания преследования. На секунду я подумала — а не использовать ли мистера Торна напрямую? Но мне вовсе не хотелось стоять здесь, на улице, совершенно беспомощной, и я отказалась от этой идеи. Когда находишься в полном контакте, органы чувств работают, но как бы на большом расстоянии. «Быстрее». Я послала эту мысль почти без волевого усилия. Двое бородатых мужчин шли по тротуару с моей стороны улицы. Я перешла проезжую часть и остановилась перед калиткой своего дома. Мужчины смеялись и, разговаривая, жестикулировали. «Быстрее». Мистер Торн вышел из дома, запер за собой дверь и пересек двор, направляясь ко мне. Одна из девочек что-то сказала ему и протянула печенье, но он не обратил на него внимания, быстро отдал мне большой ключ от парадной двери, я опустила его в карман пальто и испытующе глянула на мистера Торна. Он кивнул. Его безмятежная улыбка была невольной насмешкой над овладевшим мною ужасом. — Вы уверены? — спросила я. Он снова кивнул. — Вы проверили все комнаты? — Кивок. — Всю сигнализацию? — Кивок. — Вы осмотрели подпал? Есть какие-нибудь признаки посторонних? — Мистер Торн отрицательно покачал головой. Прикоснувшись рукой к металлической калитке, я остановилась. Беспокойство наполняло меня, как разлившаяся желчь. «Глупая уставшая старуха, дрожащая от холода!» Но я не могла заставить себя открыть эту калитку. — Пойдемте. — Я пересекла улицу и быстро зашагала прочь от дома. — Мы пообедаем «У Генри», потом вернемся. — Однако я шла вовсе не к старому ресторану; уходила подальше от дома, охваченная слепой, безрассудной паникой. Я стала понемногу успокаиваться, только когда мы добрались до гавани и пошли вдоль стены Батареи. По улице ехало несколько автомобилей, но тому, кто захочет приблизиться к нам, придется сначала пересечь широкое открытое пространство. Серые тучи опустились совсем низко, сливаясь с серыми вздымающимися волнами бухты. Свежий воздух и сгущающиеся сумерки придали мне бодрости, теперь я смогла отчетливее соображать. Каковы бы ни были планы Нины, мое отсутствие в течение всего дня почти наверняка расстроило их. Вряд ли Нина осталась бы здесь, если бы ей угрожала хоть малейшая опасность. Нет, она скорее всего уже возвращается самолетом в Нью-Йорк — именно сейчас, когда я стою здесь, на променаде у Батареи, дрожа от холода. Утром я получу телеграмму. Я могла даже в точности представить себе, что она там напишет: «Мелани. Как ужасно то, что случилось с Вилли. Скорблю. Могла бы ты полететь со мной на похороны? Целую. Нина». Я начала понимать, что, кроме всего прочего, причиной моей нерешительности было желание вернуться в тепло и комфорт собственною дома. Я просто боялась сбросить с себя этот старый кокон. Но теперь я могла это сделать. Подожду в каком-нибудь безопасном месте, а мистер Торн вернется в дом и возьмет там единственную вещь, которой я не должна оставлять. Потом он пригонит машину, и к тому времени, когда придет телеграмма Нины, я буду уже далеко. Тогда уже Нине придется шарахаться при виде всякой тени в последующие месяцы и годы. Я улыбнулась и стала продумывать необходимые команды. — Мелани. Я резко повернула голову. Мистер Торн молчал двадцать восемь лет. И вот он заговорил. — Мелани. — Лицо его было искажено улыбкой, похожей на гримасу трупа; видны были даже коренные зубы. В правой руке он держал нож. Как раз в тот момент, когда я повернулась, из рукоятки выскочило лезвие. Я глянула в его глаза — и поняла все. — Мелани. Длинное лезвие описало мощную дугу, и я ничего не могла сделать, чтобы остановить его. Оно прорезало тонкую ткань рукава пальто и ткнулось мне в бок, но, когда я поворачивалась, моя сумочка качнулась вместе со мной. Нож прорвал кожу, проскочил сквозь содержимое сумочки, пробил ткань пальто и до крови оцарапал тело у нижнего левого ребра. В общем, сумочка спасла мне жизнь. Я подняла тяжелую отцовскую трость и ударила мистера Торна прямо в левый глаз. Он пошатнулся, но не издал ни звука. Затем снова взмахнул ножом, рассекая воздух перед собой по широкой дуге, но я сделала два шага назад, а он теперь плохо видел. Ухватив трость обеими руками, я опять подняла ее, потом опустила неловким рубящим движением. Это было невероятно, но палка снова попала ему в глаз. Я сделала еще три шага назад. Кровь заливала левую сторону лица мистера Торна, его поврежденный глаз свисал на щеку. Он по-прежнему улыбался этой улыбкой мертвеца. Подняв голову, потянулся левой рукой к щеке, вырвал глаз — при этом какая-то серая жилка лопнула со щелкающим звуком — и выбросил его в бухту. Потом он двинулся ко мне. Я повернулась и побежала. Точнее сказать, я попыталась бежать. Через двадцать шагов боль в правой ноге заставила меня перейти на шаг. Еще через пятнадцать торопливых шагов легкие мои задохнулись без воздуха, а сердце готово было выскочить из груди. Я чувствовала, как что-то мокрое течет по моему левому бедру; там, где лезвие ножа коснулось тела, было немного щекотно, словно к коже прижали кубик льда. Один взгляд назад — и я увидела, что мистер Тори шагает за мной быстрее, чем я ухожу от него. При обычных обстоятельствах он нагнал бы меня в два счета. Когда используешь кого-то, трудно заставить его бежать, особенно если тело человека в это время реагирует на шок и травму. Я снова оглянулась, едва не поскользнувшись на гладком тротуаре. Мистер Торн криво ухмыльнулся. Кровь хлестала из его пустой глазницы, окрашивая зубы. Вокруг никого не было видно. Я побежала вниз по лестнице, цепляясь за поручни, чтобы не упасть. Вниз по извилистой тропинке, потом вверх по асфальтовой дорожке, к улице, фонари на столбах мерцали и вспыхивали, когда я проходила мимо. За моей спиной мистер Торн перескочил через ступени в два прыжка. Торопливо поднимаясь по дорожке, я подумала: «слава Богу, что я надела туфли на низком каблуке, когда собиралась на прогулку в форт». Интересно, что бы мог подумать случайный свидетель этой нелепой гонки двух старых людей, словно в замедленной съемке? Но свидетелей не было. Я свернула на боковую улицу. Закрытые магазины, пустые склады. Если пойти налево, я попаду на Брод-стрит. Но тут справа, где-то посередине квартала, из темного подъезда магазина появилась одинокая фигура, и я направилась в ту сторону, совсем уже медленно, почти теряя сознание. Артритные судороги в ноге причиняли мне страшную боль — я чувствовала, что вот-вот просто рухну на тротуар. Мистер Торн шел сзади, шагах в двадцати, и расстояние между нами быстро сокращалось. Человек, к которому я приближалась, оказался высоким худым негром в коричневой нейлоновой куртке. В руках у него была коробка с фотографиями в рамках. Когда я подошла ближе, он взглянул на меня, потом посмотрел через мое плечо на привидение шагах в десяти от нас. — Эй! — успел только выкрикнуть негр, и тут я стремительно установила с ним контакт и резко толкнула его. Он дернулся, как марионетка в неловких руках. Челюсть его отвисла, глаза подернулись пеленой, и, пошатываясь, он шагнул навстречу мистеру Торну, как раз когда тот уже протянул руку, чтобы схватить меня за воротник пальто. Коробка подпрыгнула в воздух, остекленные фото разбились на мелкие осколки от удара о кирпичный тротуар. Длинные коричневые пальцы негра потянулись к белому горлу мистера Торна, вцепились в него, и они оба закрутились, как неловкие партнеры в танце. Я дошла до поворота в переулок и прислонилась лицом к холодному кирпичу, чтобы прийти в себя. Я не могла позволить себе отдохнуть хотя бы секунду — нужно было огромное усилие, чтобы сосредоточиться на управлении этим незнакомцем. Глядя, как двое высоких мужчин неуклюже топчутся на тротуаре, я попыталась сдержать совершенно нелепое желание рассмеяться. Мистер Торн взмахнул ножом и дважды вонзил его в живот негра. Своими длинными пальцами негр старался выцарапать единственный глаз мистера Торна, а его крепкие зубы щелкали вблизи сонной артерии соперника. Я ясно ощутила, как холодная сталь вонзилась в плоть третий раз, но сердце незнакомца все еще билось и его все еще можно было использовать. Негр подскочил, зажав тело мистера Торна между ног, а его зубы вонзились в мускулистое горло. Ногти рвали белую кожу, оставляя кровавые полосы. Оба тут же упали на асфальт беспорядочной массой. Убей его. Пальцы негра почти нащупали здоровый глаз мистера Торна, но тот вытянул левую руку и переломил худое запястье. Безжизненные пальцы продолжали дергаться. Огромным усилием мистер Торн уперся локтем в грудь негра и поднял его тело над собой: так отец мог бы подбросить своего ребенка. Зубы вырвали кусок плоти, но серьезных повреждений не было. Мистер Торн поднял нож вверх, влево, потом резко вправо. Вторым движением он почти надвое перерезал горло негра, и их обоих залило кровью. Ноги незнакомца дважды дернулись, мистер Торн отбросил его тело в сторону, а я повернулась и быстро пошла по переулку. Я снова вышла на свет, на гаснущий вечерний свет, и поняла, что загнала себя в ловушку. Здесь вплотную к воде подступали задние стены складов и металлическая стена причала без единого окна. Налево уходила извилистая улица, но она была слишком темной, слишком пустынной и слишком длинной, чтобы пытаться уйти по ней. Я оглянулась и увидела, что в конце переулка уже появился темный силуэт. Я попробовала установить контакт, но там ничего не было. Ничего. Мистер Торн был просто дырой в пространстве. Позже мне долго не будет давать покоя мысль: как Нина добилась этого? Боковая дверь эллинга была заперта. До главного входа было метров сто, но я не сомневалась, что и она заперта тоже. Мистер Торн стоял, поворачивая голову то влево, то вправо — разыскивал меня. В тусклом свете его лицо с подтеками крови казалось почти черным. Шатаясь, он двинулся ко мне. Я подняла отцовскую трость, ударила ею по нижней части застекленной двери и протянула руку внутрь, стараясь не пораниться об острые торчащие осколки. Если там задвижки вверху и внизу, я погибла. Оказалось, на двери всего лишь простой засов рядом с дверной ручкой. Мои пальцы сначала только скользили по холодному металлу, но потом засов поддался и дверь открылась как раз когда мистер Торн шагнул на тротуар за моей спиной. В следующее мгновение я влетела внутрь и задвинула засов. Тут было очень темно. От цементного пола тянуло холодом; было слышно, как множество небольших суденышек, причаливших здесь, потихоньку колышутся на волнах. Метрах в пятидесяти из окон конторы лился свет. Я надеялась, что на эллинге есть сигнальная система, но здание, видно, было слишком старым, а суда — слишком дешевыми, чтобы устанавливать ее. Рука мистера Торна разнесла в куски оставшееся в двери стекло, и я пошла к свету. Рука исчезла. От страшного удара ногой панель около засова проломилась, дверь сорвалась с верхней петли. Я глянула в направлении конторы, но оттуда доносился только слабый звук радио — шла какая-то передача. Еще удар в дверь. Я повернула направо, прыжком преодолела расстояние около метра и оказалась на носу небольшого катера. Еще пять шагов, и я спряталась в небольшом закутке, который хозяева, наверное, называли носовой кабиной. Закрыв за собой тонюсенькую панель, я выглянула наружу сквозь мутный плексиглас. Третьим ударом мистер Торн вышиб дверь, которая повисла на длинных полосах расщепленного дерева. Его темная фигура заполнила собою весь проем. В свете далекого фонаря поблескивало опасное лезвие в его руке. Пожалуйста. Пожалуйста, услышьте шум. Но из конторы не доносилось ни звука, только металлические голоса радио. Мистер Торн сделал несколько шагов, остановился, потом прыгнул на первую из стоявших в ряд лодок. Это была открытая моторка, и через несколько секунд он снова стоял на цементном полу. На второй лодке имелась небольшая кабина. Послышался треск дерева — это мистер Торн ударом ноги проломил крохотный люк и тут же вернулся назад. Моя лодка стояла в ряду восьмой. Я не могла понять, почему он не может сразу найти меня по стуку бешено колотящегося сердца. Передвинувшись к левому борту, я снова выглянула. Плексиглас был очень мутный, свет просачивался сквозь него какими-то полосами и узорами. В окне мелькнули седые волосы; слышно было, как радио переключили на другую станцию, раздалась громкая музыка, отдававшаяся гулким эхом в длинном помещении. Я метнулась назад, к правому иллюминатору. Мистер Торн сходил с четвертой лодки на цемент. Закрыв глаза и задержав дыхание, я попыталась припомнить те бессчетные вечера, когда я видела, как эта фигура кривоногого старика удаляется по улице. Мистер Торн закончил осмотр пятой лодки, — это был катер подлиннее других, с кабиной и несколькими темными углами, — и вернулся на помост. Забудь кофе в термосе. Забудь кроссворд. Иди и смотри! Шестая лодка оказалась небольшой моторкой. Мистер Торн глянул на нее, но спускаться не стал. Седьмой стоял низко сидящий парусник с опущенной мачтой; ее кокпит был закрыт парусиной. Нож мистера Торна рассек толстую ткань. Перепачканные кровью руки отбросили парусину, словно саван, срываемый с тела. Он прыжком вскочил назад на помост. Забудь про кофе! Иди и смотри! Сейчас же! Мистер Торн ступил на нос моей лодки. Я почувствовала, как она качнулась под его весом. Спрятаться было решительно негде, тут стоял только крохотный сундучок под сиденьем для хранения всякого добра, но он был чересчур мал. Я развязала парусиновые тесемки, крепившие подушки к скамье. Мое свистящее дыхание, казалось, отдавалось эхом в этом малом пространстве. Я свернулась, как зародыш, загородившись подушкой, и в это время ноги мистера Торна мелькнули в иллюминаторе правого борта. Сейчас же! Внезапно его лицо закрыло всю плексигласовую полоску не далее как в тридцати сантиметрах от моего лица. Улыбка мертвеца, и так не правдоподобно широкая, стала еще шире. Сейчас же! Он ступил в кокпит. Сейчас же! Немедленно! Немедленно! Мистер Торн согнулся над дверью кабины. Я попыталась упереться в крошечную решетчатую дверь ногами, но правая нога не слушала меня. Кулак мистера Торна пробил тонкое дерево, его рука схватила меня за щиколотку. — Эй, эй! То был дрожащий голос мистера Ходжеса. Он повел своим фонариком в нашем направлении. Мистер Торн налег на дверь. Я согнула ногу и ощутила резкую боль. Левой рукой, просунутой сквозь переломанные планки, мистер Торн вцепился в мою лодыжку, а его правая рука с ножом появилась в открывшемся люке. — Эй! — крикнул мистер Ходжес, и в это мгновение я направила на него всю силу своих Способностей. Старик остановился. Он бросил фонарик и расстегнул ремешок над рукояткой своего револьвера. Мистер Торн снова и снова бил ножом. Он чуть было не выбил подушку из моих рук; обрывки поролона разлетелись по всей кабине. Лезвие ножа задело кончик моего мизинца, когда мистер Торн еще раз заносил нож. Стреляй. Сейчас же. Стреляй. Мистер Ходжес вскинул револьвер обеими руками и выстрелил. В темноте он промахнулся; звук выстрела эхом отдался по всему помещению, отражаясь от цемента и воды. Ближе, болван. Подойди ближе! Мистер Торн снова налег на дверь и протиснулся сквозь образовавшееся отверстие. Он отпустил мою щиколотку, освободил свою левую руку и тут же просунул ее в кабину, пытаясь схватить меня. Я потянулась к выключателю на крыше и зажгла свет. Из пустой глазницы на меня, казалось, смотрела сама тьма. Свет узкими полосками падал на изувеченное лицо мистера Торна сквозь поломанную решетчатую дверь. Я рванулась вправо, но его рука ухватила меня за пальто. Он опустился на колени, освобождая правую руку, чтобы ударить меня ножом. Давай! Вторым выстрелом мистер Ходжес попал в бедро мистера Торна. Тот немного осел, издав нечто среднее между стоном и рычанием. Пальто мое порвалось, на палубу со стуком посыпались пуговицы. Нож вонзился в переборку рядом с моим ухом, и рука снова тут же потянулась назад, для нового замаха. Мистер Ходжес нетвердо ступил на нос катера, чуть было не упал, потом начал медленно продвигаться по правому борту. Я ударила по руке мистера Торна крышкой люка, но он не отпускал мое пальто и продолжал тянуть меня к себе. Я упала на колени. Еще удар ножом. Лезвие пробило поролон и рассекло ткань пальто. Остаток подушки был выбит у меня из рук. Я остановила мистера Ходжеса в полутора метрах от нас и заставила упереть рукоятку револьвера в крышу кабины. Мистер Торн приготовился к удару, держа нож, как матадор держит шпагу. Всем существом я ощущала немые вопли триумфа, доносившиеся до меня, словно зловонный пар, из этого рта с испачканными кровью зубами. В единственном выпученном глазу горел огонь безумства Нины. Мистер Ходжес выстрелил. Пуля перебила позвоночник мистера Торна и ударилась в правый борт. Тело его выгнулось, раскинув руки, он шлепнулся на палубу, как огромная рыба, только что выброшенная на берег. Нож упал на пол кабины; белые, закостеневшие пальцы судорожно шарили по палубе. Я заставила мистера Ходжеса шагнуть вперед, приставить дуло револьвера к виску Торна над оставшимся глазом и нажать на спуск. Выстрел прозвучал приглушенно, как в пустоту.* * *
В туалете конторы нашлась аптечка. Я приказала старику сторожить у двери, пока я перевязывала мизинец. Еще я выпила три таблетки аспирина. Пальто было изодрано, ситцевое платье перепачкано кровью. В растрепанных волосах застряли маленькие влажные кусочки серого вещества. Я сполоснула лицо и, как могла, привела в порядок волосы. Невероятным образом моя сумочка все еще была при мне, хотя многое из ее содержимого просыпалось. Я переложила ключи, бумажник, очки для чтения и клинекс в большой карман пальто и бросила сумочку за унитаз. Отцовской трости со мной уже не было, и я не могла вспомнить, где я ее потеряла. Я осторожно высвободила тяжелый револьвер из руки мистера Ходжеса. Его рука так и осталась выпрямленной, а пальцы сжимали воздух. Повозившись несколько секунд, я ухитрилась открыть барабан. В нем оставалось два неиспользованных патрона. Этот старый дурак ходил с полностью заряженным барабаном! «Всегда оставляй патронник под бойком незаряженным». Так учил меня Чарлз в то далекое веселое лето, когда оружие было всего лишь предлогом поехать на остров, чтобы пострелять по мишени. Мы с Ниной много и нервно смеялись, а наши кавалеры направляли и поддерживали нашу руку при мощной отдаче от выстрелов, когда мы чуть не падали в крепкие объятья своим чрезвычайно серьезным учителям. «Всегда надо считать заряды», — поучал меня Чарлз, а я в полуобморочном состоянии прислонялась к нему, вдыхая сладкий мужской запах крема для бритья и табака, исходивший от него в тот теплый яркий день. Мистер Ходжес слегка пошевелился, как только мое внимание ослабло. Рот его широко раскрылся, вставная челюсть нелепо отвисла. Я взглянула на изношенный кожаный пояс, но запасных патронов там не было видно, и я понятия не имела, где он их хранит. Я прозондировала его мозг, но там мало что осталось, кроме путаницы мыслей, в которой бесконечной лентой проигрывалась одна и та же картинка: ствол, приставленный к виску мистера Торна, вспышка выстрела и... — Пошли. — Я поправила очки на его безучастном лице, вложила револьвер в кобуру и вышла вслед за ним из здания. Снаружи было очень темно. Мы двигались от фонаря к фонарю и прошли уже шесть кварталов, когда я заметила, как он дрожит, и вспомнила, что забыла приказать ему надеть пальто. Я крепче сжала мысленные тиски, и он перестал дрожать. Дом выглядел точно так же, как.. Бог мой... всего лишь сорок пять минут назад. Света в окнах не было Я открыла калитку во двор, потом пошарила в набитом всякой всячиной кармане, ища ключ. Пальто мое было распахнуто, холод ночи пробирал тело. Из освещенных окон на той стороне двора послышался смех девочек, и я поспешила, чтобы Кэтлин, не дай Бог, не увидела, как ее дедушка идет в мой дом. Мистер Ходжес вошел первым, с револьвером в вытянутой руке. Прежде чем войти, я заставила его включить свет. Гостиная была пуста, все стояло на своих местах. Свет люстры в столовой отражался на полированных поверхностях. На минутку я присела в старинное кресло в холле, чтобы сердце немного успокоилось. Мистер Ходжес по-прежнему держал револьвер в поднятой руке, и я даже не позволила ему опустить взведенный курок. Рука его начала трястись от напряжения. Наконец я встала, и мы пошли по коридору к оранжерее. Мисс Крамер смерчем вылетела из двери кухни; тяжелая железная кочерга в ее руке уже описывала дугу. Револьвер выстрелил, пуля ушла в полированный пол, не причинив никому вреда, а рука старика повисла, перебитая страшным ударом. Револьвер выпал из безжизненных пальцев, мисс Крамер замахнулась кочергой для нового удара. Я повернулась и побежала назад по коридору. За спиной я услыхала звук, словно раскололся арбуз — это кочерга опустилась на череп мистера Ходжеса. Вместо того чтобы выбежать во двор, я стала подниматься по лестнице. Это было ошибкой. Мисс Крамер взлетела по лестнице и была у двери спальни уже через несколько секунд после того, как я туда добралась. Мельком увидев ее широко раскрытые, сумасшедшие глаза и поднятую кочергу, я захлопнула тяжелую дверь перед самым носом мисс Крамер и заперлась. Брюнетка обрушила на дверь кочергу с другой стороны, но мощная дубовая дверь даже не дрогнула. Потом я услышала грохот ударов металла по дереву, снова и снова. Проклиная свою глупость, я оглядела знакомую комнату, но в ней не было ничего такого, что могло бы помочь мне, — ни телефона, ни чулана, в котором я могла бы спрятаться: тут стоял только старинный гардероб. Я быстро подошла к окну и подняла верхнюю створку. Если я закричу, кто-нибудь может обратить внимание, но это чудовище доберется до меня прежде, чем подоспеет помощь. Она уже пыталась поддеть край двери кочергой. Я выглянула наружу, увидела тени в окне через двор и сделала то, что должна была сделать. Две минуты спустя дерево вокруг замка начало поддаваться, но я едва отдавала себе в этом отчет. Будто во сне, слышала я скрежет кочерги, которой эта женщина выламывала неподдающуюся металлическую пластину. Затем дверь в спальню распахнулась. Искаженное лицо мисс Крамер было покрыто потом, нижняя челюсть отвисла, с подбородка капала слюна. В глазах ее не было ничего человеческого. Ни она, ни я не слышали, как за ее спиной раздались тихие шаги. Иди, иди. Подними его. Оттяни курок назад. Совсем назад. Обеими руками. Целься. Что-то предупредило мисс Крамер об опасности. Не мисс Крамер, конечно, — такого человека больше не существовало, — что-то предупредило Нину. Брюнетка повернулась — перед ней на верхней ступеньке лестницы стояла маленькая Кэтлин, в руках у нее был тяжелый револьвер ее дедушки со взведенным курком. Вторая девчушка осталась во дворе; она что-то кричала своей подруге. На этот раз Нина знала, что ей надо убрать эту угрозу. Мисс Крамер замахнулась кочергой, и в это мгновение револьвер выстрелил. Отдача отбросила Кэтлин назад, и она покатилась по лестнице, а над левой грудью мисс Крамер расцвела красная бутоньерка. Ухватившись за поручни левой рукой, она, шатаясь, кинулась вниз по лестнице за ребенком. Я оставила девочку как раз в тот момент, когда кочерга опустилась, затем поднялась и вновь опустилась. Я подошла к верхней ступени лестницы. Мне надо было видеть. Мисс Крамер оторвалась от своего жуткого занятия и подняла на меня глаза. На ее забрызганном кровью лице виднелись только белки глаз. Мужская рубашка на ней была залита ее собственной кровью, но брюнетка все еще двигалась, все еще могла действовать. Левой рукой она подняла револьвер. Рот ее широко раскрылся, оттуда раздался звук, похожий на шипение пара, вырывающегося из старого радиатора. — Мелани... Мелани... Эго существо принялось карабкаться по лестнице ко мне. Я закрыла глаза. Подружка Кэтлин влетела в открытую дверь, ее маленькие ноги так и мелькали. Она в несколько прыжков одолела лестницу и плотно стиснула шею мисс Крамер своими тонкими белыми ручками. Они обе покатились вниз по ступенькам, через тело Кэтлин, до самого низа широкой лестницы. Девочка, похоже, отделалась синяками. Я спустилась к ним и оттащила ее в сторону. На скуле у нее расплывалось синее пятно, на руках и лбу краснели царапины или порезы. Она бессмысленно мигала голубыми глазами. У мисс Крамер была сломана шея. Спускаясь, я подняла револьвер и ногой отбросила кочергу в сторону. Голова ее запрокинулась под совершенно неестественным углом, но она еще была жива. Тело явно парализовано, по полу растекалась моча, но глаза все еще мигали, а зубы омерзительно пощелкивали. Надо было торопиться. Из дома Ходжесов послышались голоса взрослых. Я повернулась к девочке. — Вставай. Она еще раз мигнула и, преодолевая боль, поднялась на ноги. Я закрыла дверь и сняла с вешалки коричневый плащ. Мне понадобилось не больше минуты, чтобы предложить содержимое карманов в плащ и снять безнадежно испорченное весеннее пальто. Голоса раздавались уже во дворе. Встав на колени рядом с мисс Крамер, я схватила ее голову и крепко стиснула руками, чтобы прекратить этот жуткий звук щелкающих зубов. Глаза ее снова закатились, но я резко встряхнула ее, пока не появились зрачки. Потом наклонилась так низко, что наши щеки соприкоснулись, и прошептала: — Я доберусь до тебя, Нина, — и этот шепот был громче вопля. Отпустив голову мисс Крамер так, что та стукнулась об пол, я быстро прошла в оранжерею — мою комнату для шитья. Времени на то, чтобы сходить наверх и взять ключ, не оставалось, поэтому я разбила стулом стеклянную дверцу шкафчика. То, что я оттуда взяла, еле поместилось в кармане плаща. Девочка осталась стоять в зале. Я отдала ей пистолет мистера Ходжеса. Ее левая рука висела плетью — вероятно, она все же была сломана. В дверь постучали; кто-то попытался повернуть ручку. — Сюда, — прошептала я и провела девочку в столовую. По дороге мы переступили через тело мисс Крамер, прошли через темную кухню; стук стал громче, но мы уже выходили из дома, в переулок, в ночь.* * *
В этой части Старого Города было три гостиницы. Одна из них — дорогой современный мотель кварталах в десяти, удобный, но совершенно коммерческого типа. Его я сразу же отвергла. Второй — маленький уютный пансион всего лишь в квартале от моего дома, приятное, но слишком общедоступное местечко, в точности такое, какое я сама выбрала бы, если бы приехала в другой город. Его я тоже отвергла. Третий находился в двух с половиной кварталах от пансиона — старый особняк на Брод стрит, переделанный в маленький отель, с дорогой антикварной мебелью во всех комнатах и нелепо высокими ценами. Туда я и поспешила. Девочка быстро шла рядом со мной. Револьвер она по-прежнему держала в руке, но я заставила ее снять свитер и накрыть им оружие. Нога у меня болела, и я часто опиралась на девочку, когда мы вот так торопливо шли вдоль улицы. Администратор «Мансарды» узнал меня. Брови его поползли вверх, когда он заметил мой непрезентабельный вид. Девочка осталась в фойе, метрах в трех-четырех, почти неразличимая в тени. — Я ищу свою подругу, — оживленно сказала я. — Мисс Дрейтон. Администратор открыл было рот, остановился, нахмурился — хотя не сознавал этого, и снова попытался заговорить: — Извините. У нас нет никого под такой фамилией. — Возможно, она зарегистрировалась под девичьей фамилией, — сказала я. — Нина Хокинс. Это пожилая женщина, но очень привлекательная. На несколько лет моложе меня, с длинными седыми волосами. Возможно, ее зарегистрировала ее подруга... Симпатичная молодая темноволосая леди по имени Баррет Крамер... — Извините, — проговорил администратор каким-то вялым, сонным голосом. — Никто под такой фамилией здесь не значится. Что передать, если ваша знакомая появится позже? — Ничего. Ничего не надо передавать, — сказала я. Я повела девочку в холл, и мы свернули в коридор, ведший к туалетам и боковым лестницам. — Извините, пожалуйста, — обратилась я к проходившему мимо коридорному. — Возможно, вы сможете мне помочь. — Да, мэм? — Он остановился, явно недовольный, и откинул назад свои длинные волосы. Задача у меня была непростая. Если я хотела удержать девочку, действовать надо было быстро. — Я ищу знакомую, — пояснила я. — Пожилая леди, но очень привлекательная. Голубые глаза. Длинные седые волосы. С ней должна быть молодая женщина с темными вьющимися волосами. — Нет, мэм. Я такой не знаю. Я вытянула руку и взяла его повыше локтя. Затем отпустила девочку и сосредоточилась на коридорном. — Ты уверен? — Мисс Харрисон, — сказал он. Глаза его смотрели мимо меня. — Номер 207. Северная сторона, с фасада. Я улыбнулась. Мисс Харрисон. Бог мой, до чего же она дура, эта Нина! Девочка вдруг слегка заскулила и привалилась к стене. Я быстро приняла решение. Мне нравится думать, что тут сыграло роль сострадание, но иногда я вспоминаю, что ее левая рука никуда не годилась. — Как тебя зовут? — спросила я, нежно поглаживая девочку по волосам. Глаза ее скользнули влево, потом вправо; она явно была в замешательстве. — Как твое имя? — снова задала я вопрос. — Алисия, — прошептала она наконец еле слышно. — Хорошо, Алисия. Теперь ты пойдешь домой. Иди быстро, но бежать не нужно. — У меня болит рука. — Она всхлипнула. Губы девочки дрожали. Я снова коснулась ее волос и толкнула. — Ты идешь домой, — приказала я. — Рука у тебя не болит. Ты ничего не будешь помнить. Все это сон, который ты забудешь. Иди домой. Торопись, но не беги. — Я взяла у нее револьвер, завернутый в свитер. — Пока, Алисия. Она мигнула и пошла через холл по направлению к двери. Я глянула в обе стороны и отдала револьвер мальчишке-коридорному. — Засунь его под жилет, — велела я.* * *
— Кто там? — послышался из номера беззаботный голос Нины. — Альберт, мэм. Коридорный. Ваш автомобиль у подъезда. Я мог бы сейчас отнести ваши чемоданы. Щелкнул замок, дверь приоткрылась, но цепочка осталась на месте. Альберт моргнул от хлынувшего света и застенчиво улыбнулся, откидывая волосы назад. Я вжалась в стену. — Хорошо. — Нина сняла цепочку и отступила назад. Она уже отвернулась и закрывала замок чемодана, когда я вошла в номер. — Привет, Нина, — тихо сказала я. Спина ее выпрямилась, но даже это движение было грациозным. На кровати осталась вмятина — там, где она только что лежала. Она медленно повернулась. На ней было розовое платье, которого я никогда раньше не видела. — Привет, Мелани. — Она улыбнулась. Глаза у нее были самого мягкого, самого чистого голубого цвета, который я когда-либо видела. Я мысленно отдала приказ мальчишке-коридорному вытащить револьвер и прицелиться. Рука его была тверда. Он взвел курок, пока тот не щелкнул. Нина сложила перед собой руки. Глаза ее неотрывно смотрели на меня. — Почему? — спросила я. Она слегка пожала плечами. Какое-то мгновение я думала, что Нина рассмеется. Я бы не вынесла, если бы она рассмеялась этим своим чуть хриплым детским смехом, который так часто трогал меня в прошлом. Вместо этого она закрыла глаза, по-прежнему улыбаясь. — Почему «мисс Харрисон»? — Ну как же, дорогая. У меня такое чувство, что я ему чем-то обязана. Я имею в виду бедного Роджера. Я тебе не рассказывала, как он умер? Конечно, нет. А ты ведь никогда и не спрашивала. —Глаза ее открылись. Я глянула на коридорного, но он все так же, не шелохнувшись, целился в нее. Оставалось только чуть сильнее нажать на гашетку. — Он утонул, моя дорогая, — продолжала Нина. — Бедный Роджер бросился в океан с того самого парохода, на котором он плыл назад в Англию. Так странно. А ведь он только что написал мне письмо, в котором обещал жениться. Ужасно печальная история, правда, Мелани? И почему он так поступил, как ты думаешь? Наверно, мы никогда так и не узнаем правды? — Наверно. — Я кивнула и молча отдала приказ коридорному нажать на спусковой крючок. Но... ничего не произошло. Я быстро глянула вправо. Молодой человек поворачивал голову ко мне. Я ему этого не велела. Напряженно вытянутая рука направлялась в мою сторону. Револьвер двигался гладко, равномерно, как кончик флюгера, подгоняемый ветром. Нет! Я напряглась так, что у меня на шее вздулись жилы. Движение замедлилось, но не остановилось, пока дуло не оказалось направленным прямо мне в лицо. Нина рассмеялась. Звук смеха показался очень громким в этой маленькой комнате. — Прощай, Мелани, дорогая моя. — Нина снова рассмеялась. Затем она кивнула молодому человеку. Я не отрываясь смотрела в черную дыру; щелкнул курок. Он щелкнул по пустому патроннику. Еще раз. И еще. — Прощай, Нина. — Я улыбнулась и вытащила из кармана плаща длинноствольный пистолет Чарлза. Отдача от выстрела ударила меня в грудь; комната наполнилась синим дымом. Точно посредине лба Нины появилась маленькая дырка, меньше десятицентовой монеты, но такая же аккуратная, круглая. Какую-то долю секунды она продолжала стоять, словно ничего не произошло, потом покачнулась, ударилась о высокую кровать и упала ничком на пол. Я повернулась к коридорному и заменила его бесполезное оружие своим древним, но ухоженным револьвером. Я только сейчас заметила, что мальчишка был немного моложе, чем когда-то Чарлз. И волосы у него были почти того же цвета. Я наклонилась и слегка коснулась губами его губ. — Альберт, — прошептала я, — в револьвере еще четыре патрона. Патроны всегда надо считать, понял? Иди в холл. Убей администратора. Потом застрели еще кого-нибудь — ближайшего, кто к тебе окажется. А после этого вложи ствол себе в рот и нажми на спуск. Если будет осечка, нажми еще раз. Револьвер спрячь, никому не показывай, пока не окажешься в холле. Мы вышли в коридор. Там царила паника. — Вызовите «скорую»! — крикнула я. — Произошел несчастный случай. Вызовите «скорую», кто-нибудь! — Несколько человек кинулись выполнять, это требование. Я покачнулась и прислонилась к какому-то седовласому джентльмену. Люди толпились вокруг, некоторые заглядывали в номер и что-то кричали. Вдруг в холле раздался выстрел, потом другой, третий. Паника и суматоха усилились, а я тем временем проскользнула к черной лестнице и через пожарный выход выбежала на улицу.Глава 4
Чарлстон Вторник, 16 декабря 1980 г. Шериф Бобби Джо Джентри откинулся назад в кресле и сделал еще глоток кока-колы. Ноги он водрузил на заваленный бумагами стол; кожаный пояс с кобурой заскрипел, когда он шевельнулся, устраивая поудобнее свое грузное тело. Кабинет его был маленький, стены — шлакоблочные, либо это были вовсе не стены, а древние деревянные перегородки, отделяющие его от шума и суеты в других частях здания, в котором размещались официальные учреждения графства. Краска с этих деревянных перегородок давно облупилась и уже не имела того оттенка официального зеленого цвета, что облетал с шероховатых шлакоблоков. Кабинет был забит под завязку: массивный письменный стол, три высоких шкафчика, заполненные делами, еще один длинный стол, уставленный стопками книг и папок. Была тут же и классная доска, беспорядочно заваленные полки на кронштейнах. Два черных деревянных стула были так же усеянны папками и бумагами, как и рабочие столы. — Пожалуй, мне тут больше нечего делать, — сказал агент Ричард Хейнс. Он расчистил себе небольшое пространство и уселся на краешек стола. Стрелка на его брюках была острой как бритва. — Ага, — согласился шериф Джентри. Он слегка икнул и поставил банку на колено. — Пожалуй, у вас действительно нет причин болтаться тут. Можно еще отправляться домой. У этих двух служителей правопорядка, казалось, не было ничего общего. Шерифу Джентри едва перевалило за тридцать пять, но его высокая фигура уже начала заплывать жиром. Серая форменная рубашка туго стягивала его живот, который уже карикатурно переваливался через ремень. Румяный, веснушчатый, с залысинами и двойным подбородком, шериф производил впечатление человека открытого, дружелюбного и слегка лукавого: сквозь черты взрослого мужчины все еще проглядывало лицо мальчишки. Говорил он тихо, слегка растягивая слова в манере «старого доброго парня», которая стала недавно популярна в Америке благодаря появлению тысяч коммерческих радиостанций, бесчисленных песен в стиле «кантри» и бесконечному числу фильмов с Бергом Рэйнольдсом. Расстегнутый ворот, выпирающий живот и ленивая манера говорить врастяжку как нельзя лучше гармонировали с общей атмосферой дружелюбной неряшливости, царившей в кабинете шерифа, но с этим образом как-то не вязались быстрота, легкость и почти грациозность движений его крупного тела. И внешний вид, и темперамент специального агента Ричарда Хейнса из Федерального бюро расследований больше подходили друг к другу. Хейнс был на целых десять лет старше Джентри, но выглядел моложе. На нем были светло-серый летний костюм-тройка и бежевая рубашка из дорогого магазина. Его фулярный шелковый галстук цвета бургундского числился за номером 280235 из каталога того же магазина. Пострижен он был умеренно коротко, хорошо причесан, и только на висках слегка серебрилась седина. Почти квадратное, с правильными чертами лицо как-то не гармонировало с поджарым телом. Четыре раза в неделю он тренировался, чтобы не потерять форму. Голос его низкий, но слабо модулированный — складывалось такое впечатление, будто покойный Эдгар Гувер сконструировал Хейнса как модель для всех своих агентов. Разница между этими двумя людьми не сводилась только к внешним различиям. До того как попасть в ФБР, Ричард Хейнс довольно посредственно проучился три года в Джорджтаунском университете. В ФБР он прошел спецподготовку, тем и завершив свое образование. Шериф Джентри закончил университет Дюка по двум специальностям — по искусству и истории, а после защитил диссертацию на степень магистра в Северо-западном университете. Полицейской работой он занялся благодаря своему дяде Ли, шерифу графства около Спартанбурга, который устроил его на полставки помощником шерифа летом 67-го. Год спустя Бобби Джо защитил диссертацию. Однажды он сидел в чикагском парке и наблюдал, как полицейские, взбеленившись, вышли из-под контроля и принялись дубинками и кулаками избивать демонстрантов, которые мирно расходились после митинга, устроенного в знак протеста против войны во Вьетнаме. Джентри вернулся домой, на юг, два года преподавал в Морхаус-колледже, в Атланте, а потом пошел работать агентом-охранником; в свободное время он трудился над книгой о Бюро Фридмана и его роли в период Реконструкции. Книгу он так и не закончил; ему все больше нравилась рутинная работа охранника, хотя из-за нее у него возникала вечная проблема поддержания своего веса в норме. В 1976 он переехал в Чарлстон и поступил на службу простым патрульным полицейским. Год спустя Джентри отказался от предложения поработать год доцентом на кафедре истории в Дьюке. Ему нравилась обычная полицейская работа, ежедневные стычки с пьяницами и чокнутыми и это чувство — что ни один рабочий день не похож на другой. Еще год спустя он, к собственному удивлению, выставил свою кандидатуру на пост шерифа Чарлстона. После этого Джентри удивил довольно многих, добившись избрания. Местный журналист по этому поводу написал, что Чарлстон вообще странный город, — город, влюбленный в свою историю, и что публике понравилась идея иметь историка в должности шерифа. Джентри не считал себя историком. Он считал себя полицейским. — ..если я тут не нужен, — сказал Хейнс. — Что? — переспросил Джентри. Мысли его несколько отвлеклись. Он скомкал пустую банку и кинул ее в переполненную мусорную корзину, где банка ударилась о несколько других таких же банок, отскочила и упала на пол. — Я говорю, что доложу Галлахеру, а потом вылечу назад в Вашингтон, если я вам больше не нужен. Мы будем держать связь через Терри и бригаду из Эф-эй-эй. — Конечно, конечно, — согласился Джентри. — Ну что ж, большое спасибо за помощь, Дик. Вы с Терри об этих делах знаете больше, чем все мы тут вместе взятые. Хейнс встал и совсем уже собрался уходить, когда секретарша шерифа просунула голову в дверь. У нее была прическа, вышедшая из моды лет двадцать назад, на шее сверкали бусы из поддельного изумруда. — Шериф, тут пришел этот психиатр из Нью-Йорка. — Черт, совсем забыл. — Джентри с усилием поднялся. — Спасибо, Линда Мей. Попроси его, пожалуйста. Хейнс направился к двери. — Ну что ж, шериф, у вас есть мой номер, на случай если... — Дик, вы не могли бы сделать мне одолжение и поприсутствовать при нашей беседе? Я забыл, что этот парень обещал прийти; он может нам кое-что сообщить по делу о Фуллер. Он вчера звонил. Он психиатр мисс Дрейтон, а в город приехал по делам. Не можете вы остаться еще на несколько минут? Потом Тони отвезет вас в мотель на патрульной машине, если будете опаздывать на самолет. Хейнс улыбнулся и вытянул руку ладонью вперед. — Да нет никакой спешки, шериф. С удовольствием послушаю, что там у этого психиатра. — Агент сбросил с одного из стульев пакет из «Макдоналдса» и сел. — Спасибо, Дик, ценю. — Джентри вытер лицо и подошел к двери как раз, когда в нее постучали. В кабинет вошел невысокий бородатый мужчина в вельветовом, спортивного покроя пиджаке. — Шериф Гентри?. — Психиатр произнес его фамилию на немецкий лад. — Да, я — Бобби Джо Гентри. — Рука, протянутая психиатром, исчезла в огромных ладонях шерифа. — А вы — доктор Ласки, не так ли? — Сол Ласки. — Обычного роста психиатр казался карликом рядом с грузной фигурой Джентри. Это был худой человек с высоким бледным лбом, спутанной бородой цвета «перец с солью» и печальными карими глазами, казавшимися старше, чем все остальное. Одна дужка очков еле держалась на полоске скотча. Джентри махнул рукой в сторону Хейнса: — Это — специальный агент Ричард Хейнс из ФБР. Надеюсь, вы не будете возражать — я попросил Дика присутствовать при нашем разговоре. Раз уж он здесь, то я подумал, что он, скорее всего, сможет задать более внятные вопросы, чем я сам. Психиатр кивнул Хейнсу и иронически заметил: — А я и не знал, что ФБР занимается местными убийствами. — Голос у него был тихий, в разговоре чувствовался только очень легкий акцент: видно было, что он внимательно следит за грамматикой и произношением. — Обычно мы и не занимаемся, — сказал Хейнс. — Но в этой... э-э... ситуации есть кое-какие факторы, которые... э-э... подпадают под юрисдикцию ФБР. — Да? Какие же? — удивился Ласки. Хейнс скрестил руки и слегка откашлялся. — Во-первых, похищение некоего лица, доктор Ласки. Во-вторых, нарушение некоторых гражданских прав жертв. К тому же, местным органам правопорядка мы предлагаем помощь наших криминальных экспертов. — Вообще-то Дик здесь из-за этого самолета, который разнесло на куски, — пояснил шериф. — Садитесь, доктор, садитесь. Дайте-ка я уберу этот хлам. — Он переложил кипу журналов, папок и несколько пластиковых кофейных чашек на стол, затем с трудом пробрался в свое кресло. — Значит, вы вчера сказали по телефону, что можете помочь с этим делом об убийстве нескольких человек?.. — Нью-йоркские газеты называют его делом об убийстве в «Мансарде», — сообщил Ласки. Рассеянным жестом он поправил очки. — Да? — сказал Джентри. — Ну что ж, это получше, чем «бойня в Чарлстоне», хотя и не совсем точно. Большинство из жертв даже не приближались к «Мансарде». И все же я думаю, что из-за убийства девяти человек делают слишком много шума. В особо «тихие» ночи в Нью-Йорке убивают гораздо больше. — Возможно, — согласился Ласки, — но круг жертв и подозреваемых в убийстве там не так... м-м-м... поражает воображение, как в данном случае. — Да, тут вы правы, — кивнул Джентри. — Мы были бы вам признательны, доктор, если бы вы могли пролить хоть какой-то свет на все это. — Я рад, но, к сожалению, могу предложить очень немногое. — Вы были психиатром мисс Дрейтон? — спросил Хейнс. — Да, в некотором роде. — Сол Ласки помолчал и подергал себя за бороду. Глаза у него были очень большие, а веки тяжелые, как будто он давно как следует не высыпался. — Я видел мисс Дрейтон всего лишь три раза, последний раз это было в сентябре. Впервые она подошла ко мне после лекции в Колумбийском университете. Это случилось в августе. Затем у нас были еще две... м-м-м... встречи. — Но она была-таки вашей пациенткой? — Голос Хейнса теперь звучал монотонно-настойчиво, как у прокурора, ведущего допрос. — В принципе, да, — сказал Ласки. — Но вообще-то я не практикую. Видите ли, я преподаю в Колумбийском университете и иногда консультирую в клинике при университете... В основном студентов, которым, по мнению Эллен Хайтауэр, университетского психолога, стоит обратиться к психиатру... Иногда случается, что и преподавателей университета... — Так что, мисс Дрейтон была студенткой? — Нет. Не думаю, — сказал Ласки. — Она иногда посещала курсы для аспирантов и вечерние семинары вроде моего. Она... м-м-м... проявила интерес к одной книге, которую я написал... — "Патология насилия", — подсказал шериф Джентри. Ласки моргнул и поправил очки. — Не помню, но, по-моему, я не упоминал названия своей книги во время нашего вчерашнего разговора, шериф Джентри. Джентри сложил руки на животе и ухмыльнулся. — Нет, не упоминали, профессор. Я прочитал ее прошлой весной. По правде говоря, прочитал дважды. Я только сейчас вспомнил ваше имя. И считаю, что это он великолепная книга, черт побери. Вам бы стоило почитать ее, Дик, — обратился он к Хейнсу. — Просто удивительно, как вам удалось найти экземпляр. — Психиатр пожал плечами и повернулся к агенту ФБР, поясняя: — Там довольно педантично рассмотрены несколько случаев из психиатрической практики. Всего-то и было отпечатано две тысячи экземпляров. В академической типографии. Большая часть тиража была продана студентам в Нью-Йорке и в Калифорнии. — Доктор Ласки полагает, что некоторые люди восприимчивы к... как вы это назвали, сэр? К климату насилия... Так? — спросил Джентри. — Да. — И что другие индивиды... или место проживания... или время... все это может вроде как бы программировать таких восприимчивых людей и заставляет их вести себя иначе, чем они вели бы себя в других условиях. Конечно, это всего лишь мое примитивное изложение содержания вашего труда... Ласки снова моргнул, глядя на шерифа. — Должен сказать, это весьма внятное изложение. Хейнс встал, подошел к шкафчику с картотекой и облокотился на него. Скрестив руки, он слегка нахмурился. — Погодите, я все же кое-чего не понимаю. Значит, мисс Дрейтон пришла к вам?.. Она заинтересовалась вашей книгой... А потом стала вашей пациенткой. Так? — Да. Я согласился проконсультировать ее как профессионал. — А не было ли у вас с нею личных отношений? — Нет, — ответил Ласки. — Я встречался с ней только три раза. Один раз это была короткая беседа, всего несколько минут, после моей лекции о насилии в «третьем рейхе», и еще дважды по часу во время приема в клинике. — Понятно, — протянул Хейнс, хотя по голосу было ясно, что ему мало что понятно. — И вы полагаете: во время этих приемов выяснилось нечто такое, что может помочь нам разобраться в нынешней ситуации? — Боюсь, что нет. Не нарушая врачебной тайны, я могу сказать, что мисс Дрейтон не давали покоя какие-то отношения с ее отцом, который умер много лет назад. Признаться, я не нахожу в наших беседах ничего такого, что могло бы пролить свет на подробности ее убийства. — А-а, — раздосадованный Хейнс вернулся туда, где сидел, и взглянул на часы. Джентри улыбнулся и открыл дверь. — Линда-Мей! Дорогая, ты не могла бы принести нам кофе? — Доктор Ласки, возможно, вы знаете: у нас есть данные о том, кто убил вашу пациентку, — сказал Хейнс. — Чего у нас нет, так это мотива убийства. — Да-да. — Ласки погладил бороду. — Это — молодой человек из местных, не так ли? — Альберт Лафоллет, — добавил Джентри. — Девятнадцатилетний коридорный, работающий в том отеле. — И у вас нет никаких сомнений в его виновности? — Какие к черту сомнения, — воскликнул Джентри. — У нас пять свидетелей, которые показывают, что Альберт вышел из лифта, подошел к конторке и прострелил сердце своего босса, Кайла Андерсона, администратора «Мансарды». Просто ткнул револьвером в грудь и выстрелил. Мы обнаружили остатки сгоревшего пороха у него на форме. У парня был «кольт» сорок пятого калибра, не автоматический. И не дешевая подделка, дорогой доктор, а самый настоящий «кольт» с завода мистера Кольта, с серийным номером. Антикварная вещь. Так вот, этот пацан, не говоря ни одного худого слова, если верить свидетелям, сует пушку мистеру Кайлу в грудь и жмет на спуск. Потом поворачивается и стреляет в лицо Леонарду Уитни. — А кто этот мистер Уитни? — спросил психиатр. Хейнс снова откашлялся и сам ответил на вопрос: — Леонард Уитни был бизнесменом из Атланты, приехавшим сюда по делам. Он только что вышел из ресторана отеля и тут же получил пулю в голову. Насколько мы можем судить, он никак не был связан ни с одной из жертв. — Точно, — подтвердил Джентри. — Потом юный Альберт засовывает револьвер себе в рот и жмет на спуск. Ни один из этих пяти свидетелей ни черта не сделал, чтобы помешать ему. Конечно, все это произошло в течение нескольких секунд. — И этим же оружием была убита мисс Дрейтон? — Угу. — А при ее убийстве свидетели были? — Не совсем, — сказал Джентри. — Но двое из тех, кто там находился, видели, как Альберт входил в лифт. Они запомнили его, потому что он шел от того номера, где был весь этот шум. Смешно, но никто из свидетелей не помнит, был ли у парня в руках револьвер или нет. Хотя это не так уж и необычно. Наверно, в толпе можно появиться и со свиной ногой, и никто ничего не заметит. — Кто же первым увидел тело мисс Дрейтон? — Нельзя сказать с уверенностью, — проговорил Джентри. — Там, наверху, была страшная суматоха, а потом в холле началось это представление... — Доктор Ласки, — перебил шерифа Хейнс, обращаясь к психиатру, — если у вас нет информации насчет мисс Дрейтон, я не уверен, что наш разговор вообще имеет смысл. — Агент явно готов был прекратить беседу, но ему помешала секретарша, принесшая кофе. Хейнс поставил свою пластиковую чашку на шкафчик с папками. Ласки благодарно улыбнулся и сделал глоток. Для Джентри кофе был подан в большой белой кружке с надписью по бокам: «Босс». — Спасибо, Линда-Мей. Ласки слегка пожал плечами. — Я всего лишь хотел предложить свою помощь, если она кому-нибудь нужна. Понимаю, что вы очень заняты, джентльмены. Не буду больше отнимать у вас время. — Он поставил чашку на стол и встал. — Погодите, погодите! — воскликнул Джентри. — Раз уж вы здесь, я хотел бы узнать, что вы думаете по поводу одной-двух вещей. — Он повернулся к Хейнсу: — Уважаемый профессор был консультантом нью-йоркской полиции пару лет назад, когда случился весь этот шум, связанный с «сыном Сэма». — Ну, я был всего лишь одним из многих консультантов, — уточнил Ласки. — Мы помогли составить словесный портрет убийцы. Правда, это им не пригодилось, убийцу поймали в результате обычной полицейской работы. — Верно, — кивнул Джентри. — Но вы написали книгу о таких вот множественных убийствах. Мы, Дик и я, хотели бы знать ваше мнение обо всем этом безобразии. — Он встал и подошел к длинной классной доске, прикрытой оберточной бумагой и склеенной скотчем. Джентри откинул бумагу; на доске мелом были начерчены диаграммы с именами действующих лиц и временем событий. — Вы, наверно, читали об остальных действующих лицах нашей милой пьесы? — О некоторых, — ответил Ласки. — В нью-йоркских газетах особое внимание уделялось Нине Дрейтон, погибшей маленькой девочке и ее дедушке. — Да, Кэти. — Джентри ткнул пальцем в точку на доске рядом с именем девочки. — Кэтлин Мари Элиот. Возраст десять лет. Вчера я видел фотокарточку, она закончила четвертый класс. Очень милая девочка. Там она гораздо приятнее, чем на фотографии с места преступления из наших досье. — Джентри помолчал, потер ладонями щеки. Ласки отхлебнул еще кофе, ожидая, что будет сказано дальше. — В общем, у нас тут четыре главных места преступления. — Шериф постукивал пальцами по доске, где был начерчен план района. — Одного гражданина убили вот здесь, средь бела дня, на Кольхайн-стрит. Еще один труп, в квартале от того места, на эллинге у Батареи. Три трупа в особняке Фуллер вот здесь... — Он указал на аккуратный небольшой квадратик, возле которого значилось три крестика. — А после — финальная сцена в «Мансарде», тут четыре убийства. — Есть какая-нибудь ниточка, связывающая все это? — спросил Ласки. — В том-то вся и беда, — вздохнул Джентри. — И есть и нет, если вы меня понимаете. — Он махнул рукой в сторону колонки имен. — Скажем, мистер Престон, темнокожий джентльмен, которого нашли зарезанным на Кольхаун-стрит, двадцать шесть лет работал местным фотографом и продавцом в Старом Городе. Мы исходим из предположения, что он — невинный прохожий, убитый следующим трупом, которого мы нашли вот здесь... — Карл Тори, — прочитал Ласки следующее в списке имя. — Слуга исчезнувшей женщины, — пояснил Хейнс. — Да, — сказал Джентри, — только фамилия его вовсе не Торн, хотя она значится на его водительских правах. И зовут его не Карл. Мы сегодня получили данные из Интерпола; судя по отпечаткам пальцев, он был известен в Швейцарии как Оскар Феликс Хаупт, мелкий гостиничный вор. Он исчез из Берна в 1953 году. — Боже мой, — пробормотал психиатр, — неужели они столько лет хранят отпечатки пальцев бывших гостиничных воров? — Хаупт был не только воришкой, — вставил Хейнс — Похоже, он фигурировал в качестве главного подозреваемого в довольно сенсационном деле об убийстве в 1953 году. Тогда погиб французский барон, приехавший на курорт. Хаупт исчез вскоре после этого. В швейцарской полиции полагали, что Хаупта убили люди из европейского синдиката. — Как видим, они ошиблись, — усмехнулся шериф Джентри. — Почему вы решили запросить Интерпол? — спросил Ласки. — Да так, внутренний голос подсказал — Джентри снова глянул на доску. — Ладно. Что мы имеем? Мы имеем труп Карла-Оскара-Феликса Торна-Хаупта вот здесь, на эллинге, и если бы сумасшествие на этом и закончилось, мы могли бы сочинить что-то похожее на мотив преступления... Ну, скажем, попытка украсть лодку... Хаупт получил пулю от ночного сторожа из револьвера тридцать восьмого калибра. Проблема, однако, в том, что в Хаупта не только дважды стреляли, он еще порядком изуродован. На его одежде оказались пятна крови двух сортов, — не считая, разумеется, его собственной; под ногтями у него нашли кусочки кожи и материи, откуда следует, что именно он убил мистера Престона. — Все это очень запутанно, — сказал Сол Ласки. — Ах, профессор, это все только цветочки. — Джентри постучал костяшками пальцев по доске рядом еще с тремя именами: Джордж Ходжес, Кэтлин Мари Эллиот, Баррет Крамер. — Знаете эту даму, профессор? — Баррет Крамер? — переспросил Ласки. — Нет. Я видел это имя в газете, только и всего. А так не припоминаю. — Она состояла при мисс Дрейтон. Компаньонка или «помощница по делам» — так ее, кажется, назвали эти люди из Нью-Йорка, которые забрали тело мисс Дрейтон. Женщина лет тридцати пяти. Брюнетка. Сложена немного по-мужски. Не припоминаете? — Нет, — ответил Ласки. — Я ее не помню. Она не сопровождала мисс Дрейтон, когда та приходила на прием. Возможно, она была у меня на лекции в тот вечер, когда я познакомился с мисс Дрейтон, но я ее не заметил. — Ладно. Значит, имеем теперь мисс Крамер, которую застрелили из «смит-вессона» мистера Ходжеса, тридцать восьмого калибра. Только вот коронер практически уверен, что она погибла не от пули. По-видимому, она сломала шею, когда летела с лестницы в доме Фуллер. «Скорая» приехала, когда она еще дышала, но в больнице констатировали смерть. Мозг практически был лишен активности или что-то в этом роде. Так вот, тут обнаруживается такое паскудство: по мнению криминалистов, бедняга мистер Ходжес вовсе не стрелял в эту даму. Его нашли вот здесь, — Джентри ткнул пальцем еще в одну диаграмму, — в коридоре дома Фуллер. А его револьвер подобрали вот здесь, на полу номера мисс Дрейтон в «Мансарде». И что же мы имеем? Восемь жертв, даже девять, если считать Альберта Лафоллета, и пять орудий убийства... — Пять? — переспросил Ласки. — Простите, шериф. Я вовсе не хотел перебивать вас. — Ну что вы, все в порядке. Да, тут пять орудий убийства, — по крайней мере, насколько нам известно. Тот старинный «кольт» сорок пятого калибра, которым орудовал Альберт, тридцать восьмой калибр мистера Ходжеса, нож, найденный рядом с телом Хаупта, и эта проклятая кочерга, которой мисс Крамер убила девчушку. — Так это сделала Крамер? — Да. По крайней мере, вся кочерга была покрыта отпечатками ее пальцев, а сама Крамер забрызгана кровью девочки. — И все равно, я насчитал лишь четыре орудия убийства. — М-м-м... Ах да, у задней двери эллинга мы нашли еще деревянную палку. Или трость. На ней тоже кровь. Сол Ласки покачал головой и глянул на Ричарда Хейнса. Сложив руки на груди, агент неподвижно уперся в классную доску. Он выглядел уставшим, на лице было отчетливо написано отвращение. — Просто ведро с помоями, правда, профессор? — закончил Джентри. Он прошел к своему креслу и рухнул в него с тяжелым вздохом. Потом откинулся назад и глотнул холодного кофе из большой кружки. — Есть ли у вас какие-нибудь версии? Ласки печально улыбнулся и покачал готовой. Некоторое время он смотрел на доску, как бы стараясь запомнить всю информацию, изложенную там, потом потеребил бородку и тихо сказал: — Нет, шериф, боюсь, никаких теорий у меня нет. Но мне хотелось бы задать вопрос, который напрашивается сам собой. — Какой именно? — Где сейчас мисс Фуллер? Та леди, которой принадлежит дом, где произошло все это побоище? — Миз Фуллер, — поправил его Джентри. — Судя по тому, что нам рассказали соседи, она была одной из самых именитых старых дев в Чарлстоне. Здесь, на юге, им положен титул «миз»; так уж тут лет двести повелось, профессор. А в ответ на ваш вопрос скажу: миз Мелани Фуллер исчезла бесследно. В одном из донесений говорится, что некая дама весьма пожилого возраста была замечена в коридоре гостиницы, наверху, сразу после убийства мисс Дрейтон, но никто не подтвердил, что это была именно миз Фуллер. Мы объявили розыск в трех штатах, но пока никаких данных нет. — Похоже, именно она-то и является ключом ко всей этой истории, — заключил Ласки почти застенчиво. — Очень может быть. Тут есть еще такой факт: ее изрезанная сумочка обнаружена за унитазом на эллинге. На ней — пятна крови, и эти пятна совпадают с пятнами на ноже Карла-Оскара Хаупта. Нож сделан в Париже. — Бог мой! — вздохнул психиатр. — Сплошная бессмыслица., Наступило минутное молчание, потом Хейнс встал, поправляя манжеты. — Возможно, все проще, чем кажется. Нина Дрейтон навещала мисс Фуллер... Прошу прощения, миз Фуллер. Как раз за день до этих убийств. Отпечатки пальцев подтверждают, что она была там; соседка видела, как она входила в дом в пятницу вечером. Вероятно, мисс Дрейтон плохо разбиралась в людях, если наняла эту Баррет Крамер в качестве компаньонки. Крамер разыскивают в Филадельфии и Балтиморе в связи с обвинениями, часть которых тянется за ней еще с 1968 года. — Какого сорта эти обвинения? — спросил Ласки. — Проституция и наркотики, — бросил агент. — Значит, мисс Крамер и помощник миз Фуллер, этот самый Торн, каким-то образом сговорились ограбить своих престарелых хозяек. В конце концов, после мисс Дрейтон осталось почти два миллиона долларов, а у миз Фуллер весьма солидный счет в банке здесь, в Чарлстоне. — Но как они могли... — начал было психиатр. — Одну минуту. Итак, Крамер и Торн — или Хаупт убивают миз Фуллер и избавляются от ее тела... Полиция гавани как раз сейчас тралит бухту. Но ее сосед, старик-охранник, расстраивает их планы. Он приканчивает Хаупта, возвращается в дом Фуллер и там сталкивается с Крамер. Внучка старика замечает, как он идет к дому, бросается к нему — и становится еще одной жертвой, как и он. Тем временем Альберт Лафоллет, тоже один из заговорщиков, впадает в панику, когда Крамер и Хаупт не появляются вовремя, убивает мисс Дрейтон и сходит с ума. Джентри слегка улыбнулся, покачиваясь в кресле." — А как насчет Джозефа Престона, фотографа? — Невинный прохожий, как вы сами и сказали, — ответил Хейнс. — Возможно, он видел, как Хаупт бросал в бухту тело старой леди. Нет сомнения в том, что этот фриц убил его. Кусочки кожи и материи из-под ногтей Престона идеально совпадают с царапинами на лице Хаупта. Иди на том, что оставалось от лица Хаупта. — Хорошо, а как насчет глаза? — спросил Джентри. — Глаза? Чьего глаза? — Психиатр переводил взгляд с шерифа на агента. — Хаупта, — ответил Джентри. — Его нет. Кто-то, обработал левую сторону лица Хаупта дубинкой. Хейнс пожал плечами. — Все равно это единственный сценарий, в котором есть хоть какой-то смысл. Итак, что мы имеем? Двое «помощников», оба бывшие преступники, и оба работают на старых богатых леди. Они задумывают похищение, или убийство, или еще что-то, но дело срывается и заканчивается цепью убийств. — Да, — кивнул Джентри. — Возможно. Наступила пауза, и Сол Ласки услышал чей-то смех в другой части здания. Где-то снаружи взвыла сирена, потом смолкла. — А вы что думаете, профессор? Есть ли у вас какие-нибудь другие идеи? — спросил Джентри. Сол Ласки потряс головой. — Все это ставит меня в тупик. — У вас в книге описывается «резонанс насилия». Как тут, не подходит? — М-м-м... Это не совсем та ситуация, которую я имел в виду, — сказал Ласки. — Конечно, тут есть цепь насилия, но я не вижу катализатора. — Катализатора? — переспросил Хейнс. — Это еще что за чертовщина? О чем мы тут говорим? Джентри пристроил ноги на своем рабочем столе и вытер вспотевшую шею большим красным платком. — В книге доктора Ласки говорится о ситуациях, которые программируют людей на убийство. — Не понимаю, — возмутился Хейнс. — Что значит «программируют»? Это связано со старым либеральным доводом про бедность и социальные условия, которые являются причиной преступности? — По тону голоса агента Хейнса было ясно, что он думает обо всем этом. — Нет, совсем нет, — сказал Ласки. — Согласно моей гипотезе, существуют ситуации, условия, даже отдельные индивиды, вызывающие стрессовую реакцию у других людей. Реакция может вылиться в насилие, даже в человекоубийство, при отсутствии видимых непосредственных причинных связей. Агент нахмурился. — И все же я не понимаю. — Да черт побери! — не выдержал шериф Джентри. — Вы видели нашу КПЗ, Дик? Нет? Обязательно загляните перед отъездом. В прошлом году, в августе, мы выкрасили стены камеры в розовый цвет. Мы зовем ее «Хилтон для бедных людей», но эта чертова штука работает. Случаи насилия снизились на, шестьдесят процентов после того, как мы помазали стены этой краской, но клиентура у нас все та же, ничуть не лучше. Понятное дело, это нечто обратное тому, о чем вы говорите, ведь так, профессор? Ласки поправил очки. Когда он поднял руку, Джентри успел заметить выцветшую голубую татуировку на запястье, чуть повыше кисти, — несколько цифр. — Да, но некоторые аспекты этой теории приемлемы и в данном случае, — возразил психиатр. — Исследование цветового окружения показало, что испытуемые проявляют некоторые сдвиги в жизненной позиции и поведении, которые можно объективно измерить. Причины уменьшения случаев насилия в таком окружении при самых благоприятных условиях весьма туманны, но эмпирические данные неопровержимы... Как вы сами могли убедиться, шериф, они, по-видимому, указывают на перемену психофизиологической реакции в связи с изменением цветовой гаммы. В своей работе я показываю, каким образом некоторые малопонятные случаи насильственных преступлений становятся результатом более сложных цепочек стимулирующих факторов. — Мда-а, — протянул Хейнс. Он глянул на часы, потом посмотрел на Джентри. Шериф сидел, удобно устроившись в кресле, водрузив ноги на стел. Хейнс с раздражением смахнул невидимую пылинку со своих безукоризненно отглаженных брюк. — Боюсь, я не совсем понимаю, как все это может нам помочь, доктор Ласки. Шериф Джентри имеет дело с серией нелепых убийств, а не с подопытными крысами, которых надо заставлять бегать по лабиринту. Ласки кивнул и слегка пожал плечами. — Я тут проездом... Просто решил рассказать шерифу о своем знакомстве с мисс Дрейтон и предложить свои услуги, если могу хоть чем-то помочь. Извините, что отнимаю у вас драгоценное время. Спасибо за кофе, шериф. Психиатр встал и направился к двери. — Спасибо за помощь, профессор. — Джентри снова вытащил платок и потер им лицо, как будто оно чесалось. — Да, у меня к вам еще один вопрос. Доктор Ласки, как вы полагаете, могли ли эти убийства быть результатом ссоры между двумя старыми леди, я хочу сказать — Ниной Дрейтон и Мелани Фуллер? Могла ли эта ссора дать толчок ко всей этой цепочке убийств? Печальное лицо Ласки ничего не выражало, он несколько раз моргнул. — Да, возможно. Но это никак не объясняет убийств в «Мансарде», не так ли? — Да. Вы правы. Конечно, не объясняет, — согласился Джентри и в последний раз мазнул платком по носу. — Спасибо, профессор. Очень признателен за то, что вы с нами связались. Если вспомните что-нибудь про мисс Дрейтон... если у вас появится хоть какой-то намек на причины и следствия всего этого свинства, пожалуйста, позвоните нам. Мы оплатим звонок. Договорились? — Разумеется, — кивнул психиатр. — Всего хорошего, джентльмены. Хейнс подождал, пока закроется дверь, и сказал: — Этого Ласки неплохо бы проверить. — Угу, — сказал Джентри, медленно поворачивая в руке свою пустую чашку. — Уже проверил. С ним все в порядке — он именно тот, за кого себя выдает. — Вы проверили его еще до того, как он пришел к нам? Джентри ухмыльнулся и поставил чашку. — Сразу после его вчерашнего звонка. У нас не так уж много подозреваемых, чтобы экономить на телефонном звонке в Нью-Йорк. — Я попрошу, чтобы в ФБР проверили, где он был начиная с... — Читал лекцию в Колумбийском университете, — перебил его Джентри. — В субботу вечером. Потом участвовал в дебатах по поводу насилия на улицах. После этого был на приеме, закончившемся где-то после одиннадцати. Я беседовал с деканом. — И все же я проверю его досье, — упрямо заявил Хейнс. — В том, что он тут мямлил о знакомстве с Ниной Дрейтон, было нечто странное... — Да, — согласился Джентри. — Буду очень обязан, если вы сделаете это, Дик. Агент Хейнс взял свой плащ и кейс, потом остановился и посмотрел на шерифа. Джентри так крепко стиснул руки, что побелели костяшки пальцев. В его обычно добродушно-веселых глазах застыл гнев, почти ярость. — Дик, я очень рассчитываю на вашу помощь в этом деле. По всем пунктам. — Разумеется. — Я серьезно. — Джентри взял в руки карандаш. — Какая-то сука убила девять человек в моем графстве. Это им даром не пройдет. Кто-то дал толчок всему этому дерьму, и я собираюсь выяснить — кто. — Да, — согласился Хейнс. — И я обязательно выясню это, — продолжал Джентри. Его взгляд стал холоден и безжалостен. Карандаш хрустнул в его пальцах, но он этого не заметил. — А потом я до них доберусь, Дик. Клянусь. Хейнс кивнул, попрощался и вышел. Джентри долго смотрел на закрытую дверь. Затем перевел взгляд на сломанный карандаш в руках. Он не улыбнулся, нет. Медленно и аккуратно он принялся ломать карандаш на кусочки.* * *
Хейнс взял такси, уложил вещи, заплатил по счету и на том же такси поехал в Международный аэропорт Чарлстона. До рейса еще было слишком долго. Сдав вещи, он походил по эспланаде, купил «Ньюсуик» и, миновав несколько телефонных будок, остановился у ряда таксофонов в боковом коридоре. Здесь он набрал номер с вашингтонским кодом. — Номер, который вы набрали, временно не обслуживается, — четко произнес автоматический женский голос. — Пожалуйста, попробуйте еще раз или свяжитесь с представителем компании Белл в данном районе. — Хейнс, Ричард, — сказал агент. Он оглянулся через плечо: женщина с ребенком прошла к туалетам. — Ковентри. Кабель. Я пытаюсь связаться с номером 779-491. Послышался щелчок, тихое гудение, затем шорох еще одного записывающего устройства, механический голос: — Учреждение закрыто на переучет. Если вы хотите оставить телефонограмму, дождитесь сигнала. Время записи не ограничено. — Полминуты молчания, затем мягкий аккорд. И агент тихо сообщил: — Говорит Хейнс. Через несколько минут вылетаю из Чарлстона. Сегодня появился психиатр по имени Соломон Ласки. Беседовал с Джентри. Ласки говорит, что работает в Колумбийском университете. Написал книгу под названием «Психология насилия». Издательство «Академия Пресс». Утверждает, будто трижды встречался с Ниной Дрейтон в Нью-Йорке. Отрицает, знал Баррет Крамер, возможно, это ложь. На руке у него татуировка концентрационного лагеря. Серийный номер 4490182. Далее: Джентри сделал запрос насчет Карла Торна; ему известно, что тот в действительности был швейцарским вором по имени Оскар-Феликс Хаупт. Джентри неряха, но неглуп. Похоже, у него в заднице сера горит из-за этого дела. И наконец, письменный рапорт я сдам завтра. Тем временем рекомендую начать слежку за Ласки и шерифом Джентри. В качестве меры предосторожности можно было бы временно отменить страховку обоих этих джентльменов. Вернусь домой около восьми вечера и буду ждать дальнейших инструкций. Хейнс. Кабель. Ковентри. Он повесил трубку, взял в руку кейс и быстрым шагом направился к толпе двигавшихся пассажиров, к выходу на вылет.* * *
Сол Ласки вышел из здания муниципалитета и свернул на боковую улицу, где стояла взятая напрокат «Тойота». Накрапывал мелкий дождь. Несмотря на изморось, было на удивление тепло: Сол к такому не привык. Температура около двадцати, не меньше. Позавчера, когда он уезжал из Нью-Йорка, шел снег, а температура уже несколько дней была ниже нуля. Сол сидел в машине и смотрел, как капли дождя стекают по ветровому стеклу. В машине пахло новой кожаной обивкой и дымом чьей-то сигары. Несмотря на теплый воздух, его колотила дрожь, все сильнее и сильнее. Он крепко сжал руками руль и сидел так до тех пор, пока не унялась дрожь, осталось лишь напряженное подрагивание в ногах. Стиснув пальцы, он стал думать о чем-то постороннем: о весне, о тихом озере, которое он нашел в Адирондакских горах прошлым летом, о покинутой долине в Синайских горах, где иссеченные песком римские колонны высились на фоне сланцевых утесов. Через несколько минут Сол завел машину и поехал без цели по вылизанным дождем улицам. Машин было мало. Он подумал, не поехать ли ему по 52-й дороге в свой мотель, но вместо этого развернулся на юг и двинулся по Ист-Бей к Старому Городу. Туго натянутый тент перед отелем «Мансарда» доставал до самого края тротуара. Сол быстро глянул на неосвещенный вход под тентом и поехал дальше. Через три квартала он свернул направо, на узкую улицу, вдоль которой ютились жилые дома. Дворы и внутренние дворики были огорожены витыми металлическими решетками. Сол сбавил скорость и стал считать про себя дома, стараясь рассмотреть их номера. Дом Мелани Фуллер был погружен в темноту. Двор пуст; дом, граничащий с особняком Фуллер с севера, похоже, был заперт и тоже пуст: окна закрыты тяжелыми жалюзи, на воротах, ведущих во двор, — цепь и большой замок, по виду недавно купленный. На следующем перекрестке Сол повернул налево, затем еще раз налево; он почти вернулся на Брод-стрит, прежде чем нашел место впритык к грузовику, где мог бы припарковаться. Дождь пошел сильнее. Сол взял с заднего сиденья белую теннисную шапочку, натянул ее на глаза и поднял воротник вельветовой спортивной куртки. Переулок пересекал середину квартала; по бокам его стояли крохотные гаражи, деревья с густой листвой и бесчисленными ящики для мусора. Сол снова начал считать дома, как тогда, когда ехал, но ему все равно пришлось разыскать две низкие высохшие на вид пальмы у южного углового окна, чтобы убедиться, что это — нужный ему дом. Он двигался медленно, засунув руки в карманы, зная, что очень бросается в глаза в этом узком переулке, но сделать по этому поводу ничего не мог. Дождь все не прекращался. Серый день потихоньку переходил во тьму зимних сумерек. Дневному свету оставалось не более получаса. Сол судорожно вздохнул и прошел три-четыре метра дорожки, отделяющей тротуар от небольшого строения — в прошлом, очевидно, каретного сарая. Окна его были закрашены черной краской, но помещение явно никогда не использовалось как гараж. Сарай был огорожен стальной сеткой, увитой виноградной лозой; сквозь ячейки сетки торчали острые шипы живой изгороди. Низкая калитка, когда-то представлявшая часть черного железного забора, тоже была заперта на цепь и висячий замок. На желтой пластиковой ленте вдоль цепи виднелась надпись: «Вход воспрещен. Распоряжение шерифа графства Чарлстон». Сол медлил. Было тихо. Слышались лишь барабанная дробь дождя по графитной крыше каретного сарая и шум капель, падающих с кустарника на землю. Он ухватился руками за высокий забор, поставил левую ногу на перекладину калитки, с секунду неуверенно балансировал над ржавыми острыми штырями, затем спрыгнул во двор. На секунду Сол замер, опершись руками о мокрые плиты, чувствуя, как судорогой сводит правую ногу; он слышал лихорадочный стук своего сердца; во дворе неподалеку вдруг залаяла собака, потом лай прекратился. Сол быстро прокрался мимо цветочной клумбыи перевернутой ванночки для птиц к деревянному крыльцу, которое явно было пристроено к кирпичному дому гораздо позже, чем был возведен сам дом. Дождь, сумерки и мерный стук капель, падающих с живой изгороди, казалось, приглушали отдаленные звуки и усиливали шум шагов и шорох, производимые Солом. Слева за стеклами он различил растения: там с садом сливалось помещение оранжереи; Ласки нажал на затянутую сеткой дверь, ведущую к крыльцу. Она открылась со ржавым скрипом, и Сол ступил в темноту. Крыльцо оказалось длинным и узким, оно пахло плесенью и землей, Сол различил темные силуэты пустых глиняных горшков, стоящих вдоль стеллажей у кирпичной стены дома. Внутренняя дверь, массивная, со вставленным в нее тонированным стеклом, с прекрасными резными краями панелей, была надежно заперта. Сол знал, что тут должно быть несколько замков. Он также не сомневался, что у старухи здесь установлена сигнальная система, но она почти наверняка внутренняя и не связана с полицейским участком. А что, если полиция все-таки подсоединила эту систему к участку? Сол тряхнул головой и подошел к узким окнам, видневшимся между стеллажами. Ему удалось разглядеть белую громадину холодильника. Вдруг послышался отдаленный раскат грома; дождь с удвоенной силой застучал по крышам и живым изгородям. Сол принялся переставлять горшки, выстраивая их в пустых промежутках на полках; потом он отряхнул с рук чернозем и снял с подставки опустевший метровый стеллаж. Окна над грубо сделанной подставкой были закрыты на задвижку изнутри. Сол на секунду замер, упершись пальцами в стекло, и, выбрав самый большой и самый тяжелый из глиняных горшков, ударил им по окну. Звон разбитого стекла показался Солу ужасно громким, громче, чем раскаты грома, последовавшие сразу за вращающимися отражениями молний, которые превратили неразбитые стекла окна в зеркала. Он замахнулся вновь и разнес бородатый силуэт собственного отражения, а заодно и вертикальную перегородку окна, осторожно вытащил торчащие осколки стекла и попытался во тьме нашарить задвижку. От внезапной детской мысли, что его могут схватить за руку, у него похолодела спина. Он нащупал цепочку и потянул. Окно раскрылось наружу. Протиснувшись в него, Сол ступил на пластик и осколки стекла, потом тяжело спрыгнул на пол кухни. В старом доме все время раздавались какие-то звуки. Сразу за окнами по водостоку струилась дождевая вода. В холодильнике тоже что-то гудело, причем с таким буханьем, что у Сола душа ушла в пятки. Он отметил про себя, что электричество не отключено. Откуда-то донесся слабый скребущий звук, словно по стеклу скребли ногтем. Из кухни в другие помещения вели три двери. Сол выбрал ту, что оказалась прямо перед ним, и вышел в длинный коридор. Даже в тусклом свете он различил то место в нескольких шагах от двери в кухню, где темный, натертый до блеска паркет был разбит в щепки. У подножия широкой лестницы он остановился, почти уверенный, что найдет там обведенные мелом силуэты тел на полу, как в американских детективах, которые он так любил смотреть. Но ничего подобного не было видно — только большое пятно на паркете возле нижней ступеньки. Сол заглянул в другой, более короткий коридор, ведущий в прихожую, а затем перешел в большую, но чересчур заставленную старинной мебелью комнату. Похоже, это была гостиная. Свет пробивался сюда сквозь панели цветного стекла в верхней части широкого эркера. Стрелки часов на каминной полке показывали застывшее время — 3.26. Тяжелая мебель в чехлах и высокие шкафы, набитые хрусталем и фарфором, казалось, вобрали в себя весь кислород. Нечем было дышать. Сол расстегнул ворот рубашки и быстро осмотрел гостиную. В помещении стоял затхлый запах: мастики, талька, и еще тут попросту воняло гниющим мясом. Сол содрогнулся, вспомнив свою древнюю тетушку Дануту и ее маленькую квартирку в Кракове. Дануте стукнуло сто три, когда она умерла. Рядом с гостиной находилась пустая столовая. Замысловатой формы подвески люстры слегка позвякивали в такт шагам Сола. Он вышел в прихожую, оглядел пустую вешалку для шляп, здесь стояли две трости, прислоненные к стене. Мимо медленно проехал грузовик, и дом задрожал. Оранжерея, расположенная сразу за столовой, была светлее, чем все другие помещения. Здесь Сол почувствовал себя совершенно беззащитным. Дождь прекратился. Среди мокрой зелени сада он мог различить розы. Через несколько минут будет совсем темно. Антикварный застекленный шкафчик был разбит. Полированные створки из красного дерева разломаны, на полу валялись осколки битого стекла. Сол осторожно подошел к шкафчику и присел на корточки. На средней полке лежали перевернутые статуэтки и оловянные тарелки. Он выпрямился и оглянулся. Без какой-либо видимой причины им вдруг овладел страх, даже паника. Запах мертвечины, казалось, преследовал его. Сол заметил, что его левая рука судорожно сжимается и разжимается. Он мог бы сейчас же уйти, стоило выйти в кухню — и через две минуты он был бы уже за калиткой. Сол повернулся и по темному коридору направился к лестнице. Перила были на ощупь гладкие и прохладные. Хотя в стене напротив лестницы имелось маленькое круглое окошко, темнота, казалось, поднималась, словно холодный воздух, и оседала на лестничной площадке. Наверху он остановился. Дверь справа была почти сорвана с петель. Сверху свисали белые щепки, словно порванные жилы. Сол заставил себя войти в спальню. Вонь тут стояла такая, как бывает в холодильнике, забитом мясом, через несколько дней после того, как отключили электричество. В одном углу высился гардероб, похожий на гроб, поставленный на попа. Окна, выходящие во двор, были занавешены тяжелыми шторами. На старом трюмо, в самом центре, лежали дорогая антикварная щетка для волос и гребень слоновой кости. Зеркало выцвело и было покрыто пятнами. Высокая кровать — аккуратно убрана. Сол уже повернулся, собираясь уходить, когда услышал звук шагов. Он замер; руки непроизвольно сжались в кулаки. Но ничего было не видно и не слышно. Только запах гнилого мяса. Сол уже хотел было идти дальше, решив, что звук шел из забитого водостока снаружи, когда вновь услышал шаги: тихо, осторожно, но неотвратимо и целенаправленно кто-то поднимался по лестнице. Сол резко повернулся и побежал к гардеробу. Дверцы бесшумно открылись, и он скользнул внутрь, облепившись шерстью старушечьей одежды. В ушах у него со страшной силой отдавались удары сердца. Дверцы от древности несколько перекосились и закрывались неплотно; сквозь щелку он видел тонкую вертикальную полоску серого цвета, пересеченную темной горизонталью кровати. Шаги добрались до верхних ступенек; последовала длинная пауза; затем, все так же тихо, кто-то вошел в спальню. Сол затаил дыхание. Запах шерсти и нафталина смешивался с вонью гнилого мяса и грозил удушить его. Тяжелые платья и шарфы липли к его телу, тянулись к плечам и горлу. Сол не мог понять, удалялись шаги или приближались, — так у него шумело в ушах. Он был весь во власти паники и никак не мог сосредоточиться на тонкой полоске света. Сол вспомнил, как земля падала на еще живые лица людей, как шевелилась белая рука в черной грязи, вспомнил серое сукно, казавшееся темным в зимнем свете, белый пластырь на поросшей щетиной щеке и небрежное движение ноги, свисавшей надо рвом, в котором белые руки и ноги пробивались сквозь черную грязь, как медлительные черви... Сол резко выдохнул, раздвинул липкую шерстяную одежду и потянулся к дверцам гардероба. Но он так и не успел дотянуться до них — они одним рывком распахнулись снаружи.Глава 5
Вашингтон, округ Колумбия Вторник, 16 декабря 1980 г. Тони Хэрод и Мария Чен прилетели в вашингтонский Национальный аэропорт, взяли напрокат машину и сразу поехали в Джорджтаун. Время было после полудня. Когда они пересекали мемориальный мост Мейсона, река Потомак показалась им серой и медлительной. Обнаженные деревья отбрасывали тонкие тени на Молл. Висконсин-авеню была свободнее обычного. — Сюда, — показал Хэрод. Мария повернула на Эм-стрит. Дорогие дома здесь, казалось, жались друг к другу в слабом зимнем свете. Дом, который они искали, походил на многие другие на этой улице. Перед бледно-желтой дверью гаража висел знак — «стоянка запрещена». Мимо прошла пара, одетая в тяжелые меха; дрожащий пудель тянул их за поводок. — Я подожду, — сказала Мария Чен. — Нет. Покатайся пока. Каждые десять минут возвращайся сюда. Когда Хэрод вылез из машины, она немного помедлила, затем отъехала, вывернув из ряда перед радиатором лимузина с шофером. Хэрод не пошел к парадной двери дома, а направился сразу к гаражу. В стене открылась небольшая металлическая панель, за которой обнаружилась тонкая щель и четыре пластиковые кнопки без каких-либо надписей. Вытащив из бумажника небольшого размера кредитную карточку, Хэрод вставил ее в щель. Раздался щелчок. Он подвинулся поближе к стене и нажал третью кнопку, потом три другие. Дверь гаража с лязгом поднялась. Хэрод вытащил свою карточку из щели и вошел. Дверь за ним закрылась. В пустынном помещении было очень темно. Не чувствовалось даже намека на запах масла или бензина, пахло лишь холодным цементом и смолистым ароматом сосновых брусков. Хэрод сделал несколько шагов к середине гаража и замер, не делая попыток найти дверь или выключатель. Послышался тихий гул электромотора; он понял, что установленная в стене видеокамера уже передала, его изображение, а теперь прощупывает помещение — не вошел ли кто за ним. Вероятно, камера была снабжена инфракрасными или светоувеличительными линзами. А вообще-то ему наплевать, чем она там оснащена. Раздался щелчок, дверь открылась, и Хэрод пошел на свет. Он ступил в пустую комнату; судя по электрическим панелям и трубам, первоначально ее планировали использовать как прачечную. Другая камера, установленная над следующей дверью, повернулась и взяла его на прицел, едва только он вошел. Хэрод расстегнул молнию своей кожаной куртки. — Пожалуйста, снимите темные очки, мистер Хэрод. — Голос доносился из стандартного домашнего переговорного устройства на стене. — А пошел ты в задницу, — приятным голосом сказал Хэрод и снял солнцезащитные очки, похожие на авиационные. Он уже успел надеть их, когда дверь отворилась и вошли двое в темных костюмах. Один из них был лысым и весьма массивным, — типичный вышибала или телохранитель. Второй, повыше, — сухощавый, темноволосый и гораздо более опасный, хотя трудно было сказать, почему. — Вы не могли бы поднять руки, сэр? — буркнул тот, что потяжелее. — А вы не могли бы дать в жопу за четвертак? — спросил Хэрод. Он терпеть не мог, когда до него дотрагивались мужчины. Ему ненавистна была мысль о том, чтобы дотронуться до них. Те двое терпеливо ждали. Хэрод поднял руки. Вышибала ощупал его с профессиональным безразличием и кивнул темноволосому. — Сюда, мистер Хэрод. — Сухощавый провел его через дверь, потом через пустую кухню, которой не пользовались, по ярко освещенному коридору мимо голых комнат без мебели и остановился у подножия лестницы. — Первая дверь налево, мистер Хэрод. — Он махнул рукой вверх. — Вас ждут. Ничего не сказав, Хэрод направился к ступенькам. Паркет из светлого дуба был отполирован до блеска. Его шаги на лестнице эхом отдавались по всему дому. Здание пахло свежей краской и пустотой. — Мистер Хэрод, мы очень рады, что вам удалось приехать. — На складных стульях сидели пять человек, образуя почти замкнутый круг. Комната предназначалась, очевидно, под главную спальню либо большой кабинет. Полы были голыми, жалюзи — белыми, а камин — без признаков огня. Хэрод знал этих людей — или, по крайней мере, их имена. Слева направо сидели Траск, Колбен, Саттер, Барент и Кеплер. Все были в дорогих, солидного покроя костюмах и сидели почти в одинаковых позах — спина прямая, нога на ногу, руки скрещены на груди. У троих рядом со стульями стояли кейсы. Трое были в очках. Все пятеро — белые. Возраст — от пятидесяти и выше; самый старший из них — Барент. У Колбена почти не осталось волос, но у остальных, похоже, был один и тот же парикмахер с Капитолийского холма. Обращался к Хэроду Траск. — Вы опаздываете, мистер Хэрод, — добавил он. — Ага, — сказал Тони Хэрод и подошел поближе. Стула ему не поставили. Он снял свою кожаную куртку и теперь держал ее через плечо на одном пальце. На нем была ярко-красная шелковая рубашка, расстегнутая так, чтоб виднелся медальон из акульего зуба на золотой цепочке. С брюками из темного вельвета контрастировала большая золотая ременная пряжка, подаренная Джорджем Лукасом, и тяжелые сапоги для игры в поло с массивными каблуками — Самолет опоздал. Траск кивнул. Колбен откашлялся, словно собирался заговорить, но довольствовался тем, что поправил свои очки в роговой оправе. — Так известно что-нибудь? — спросил Хэрод. Не ожидая ответа, он подошел к чулану, взял металлический складной стул и поставил его задом наперед в том месте, где сходились два полукруга. Затем сел верхом на стул и положил куртку на спинку. — Что-нибудь новое? Или я проделал этот путь за хрен собачий? — Этот же самый вопрос мы хотели задать вам, — бросил сквозь зубы Барент. У него были повадки отменно образованного человека. Во всяком случае, почти британские гласные напоминали о Новой Англии. Баренту явно никогда не приходилось повышать голос, чтобы его расслышали. Сейчас его тоже внимательно слушали. Хэрод пожал плечами. — Я сказал хвалебную речь, одну из нескольких, во время поминальной службы, — сообщил он. — Все это было очень печально. Сотни две голливудских знаменитостей явились выразить свою скорбь. Из них человек десять-пятнадцать были даже знакомы с ним. — Расскажите о доме, — терпеливо произнес Барент. — Вы обыскали его, как мы вас просили? — Да. — И? — И ничего. — Губы Хэрода сомкнулись в тонкую линию. Мышцы в углах рта, который так часто кривился в саркастической ухмылке и жестокой иронии, напряглись. — В моем распоряжении была всего пара часов, из них час я потратил на то, чтобы выставить старых любовников Вилли; у них есть ключи от дома, и они слетелись, как стервятники на падаль, ухватить свой кусок от наследства... — Их использовали? — спросил Колбен обеспокоенным голосом. — Нет, не думаю. Вы должны помнить, что Вилли терял силу. Возможно, он слегка их программировал. Немного поглаживал центры приятных ощущений. Но я даже в этом сомневаюсь. С его деньгами и влиянием в киностудиях ему не надо было ничего этого делать. — А что насчет обыска? — напомнил Барент. — Да-да. Значит, у меня было около часа. Том Макгайр, поверенный Вилли и мой старый друг, позволил мне покопаться в сейфе Вилли и на его рабочем столе. Ничего особенного. Права на некоторые фильмы и литературные произведения. Немного акций, но не скажешь, что это — контрольные пакеты. Вилли в основном вкладывал деньги в кино. Масса деловых писем, однако почти ничего личного. Вы знаете, завещание было прочитано вчера. Мне достался дом — если я смогу заплатить эти долбаные налоги. Остаток своего банковского счета он завещал Обществу защиты животных. — Обществу защиты?.. — переспросил Траск. — Клянусь задницей. Старина Вилли чокнулся на правах животных. Вечно жаловался, что с ними плохо обращаются во время съемок, лоббировал в пользу строгих законов и профессиональных правил насчет защиты животных во время исполнения трюков и прочей херни. — Продолжайте, — сказал Барент. — Там не было бумаг, которые пролили бы свет на прошлое Вилли? — Нет. — Ничего, что указывало бы на его Способность? — Ничего. — Ни одного упоминания о каком-нибудь из нас? — спросил Саттер. Хэрод выпрямился. — Разумеется, нет. Вы же знаете, что Вилли ничего не было известно о Клубе. Барент кивнул и сложил пальцы домиком. — Тут не может быть случайной ошибки? — Нет. Исключено. — А между тем он знал о вашей Способности? — Конечно. Но вы же сами решили много лет назад, что можно позволить ему знать об этом. Вы мне это сказали, когда велели познакомиться с ним. — Да. — Кроме того, Вилли всегда считал, что моя Способность слабее и не так надежна, как у него. Из-за того, что у меня не было необходимости использовать кого бы то ни было на полную мощь, и из-за того... из-за моих склонностей... — Не использовать мужчин, — подсказал Траск. — Из-за моих склонностей, — повторил Хэрод. — Какого хрена Вилли вообще знал? Он смотрел на меня сверху вниз, даже когда он потерял все, кроме способности удерживать в узде Рэйнольдса и Лугара, а они оба страх как любили, когда их возбуждают. Да и тут у него по большей части ни черта не получалось. Барент снова кивнул. — Значит, вы думаете, что он больше не мог использовать кого-то для ликвидации других людей, так? Хэрод усмехнулся. — Куда ему. Он мог бы использовать этих своих недоумков или одного из своих любовничков, но он был не такой дурак, чтобы делать это. — И вы позволили ему лететь в Чарлстон на эту... э-э... встречу с теми двумя женщинами? — спросил Крамер. Хэрод стиснул через куртку спинку стула. — Что вы хотите сказать этим «позволил ему»? Черт, конечно, я позволил ему! В мою задачу входило наблюдать за ним, а не держать его на привязи. Вилли летал по всему свету. — И что, по-вашему, он делал на этих встречах? — спросил Барент. Хэрод пожал плечами. — Толковал про старые времена. Трепался с этими двумя другими призраками из прошлого. Откуда я знаю, может, он продолжал трахать этих старых ведьм. Ну откуда мне знать? Да и потом, он отсутствовал-то всего дня два-три, как правило. Никаких проблем никогда не возникало. Барент повернулся к Колбену и кивнул. Тот открыл портфель, вытащил коричневую книжку на спирали, похожую на небольшой фотоальбом, и протянул ее Хэроду. — Это что за хреновина? — Посмотрите, — велел Барент. Хэрод перелистал альбом, сначала быстро, потом помедленнее. Некоторые из газетных вырезок он прочитал с начала до конца. Закончив читать, он снял свои темные очки. Никто не сказал ни слова. Где-то на Эм-стрит прогудела машина. — Эта штука не принадлежала Вилли, — наконец заявил Хэрод. — Верно, — подтвердил Барент. — Она принадлежала Нине Дрейтон. — Невероятно. В гробину мать, это же невероятно. Этого не может быть. Эта старая кляча выжила из ума, у нее просто была мания величия. Она мечтала, чтобы все было, как в старые добрые времена. — Нет, — отрезал Барент. — По нашим данным, она присутствовала при всех событиях. Весьма вероятно, что это — ее рук дело. — Ну и дерьмо! — воскликнул Хэрод. Он снова надел очки и потер щеки. — Как это к вам попало? Нашли в ее нью-йоркской квартире? — Нет, — ответил Колбен. — Наш человек был в Чарлстоне в связи с авиакатастрофой, в которой погиб Вилли. Ему удалось взять эту книжку, когда он осматривал вещи Нины Дрейтон в конторе коронера, до того как ее обнаружили местные власти. — Вы уверены? — спросил Хэрод. — Да. — Вопрос заключается в том, — сказал Барент, — продолжали ли эти трое играть в какой-то вариант своей старой Венской Игры? А если так, то были ли у вашего друга Вилли какие-то документы, похожие на эти? Хэрод молча покачал головой. Колбен вытащил из портфеля досье. — Среди обломков самолета ничего определенного найти не удалось. Конечно, надо принять во внимание, что там вообще практически не осталось чего-либо, что можно было бы распознать. Еще не найдены тела почти половины пассажиров, а те, что извлечены из болота, до того изуродованы, что быстро распознать их не представляется возможным. Взрыв был очень сильный. Местность болотистая, и это затрудняет поиски. Весьма сложная ситуация для следователей. — Которая же из этих старых сук сделала это? — спросил Хэрод. — Мы еще не уверены, — сказал Колбен. — Ясно, однако, что подруга Вилли, мисс Фуллер, не дожила до понедельника. Так что она — логический кандидат в диверсанты. — Какая дурацкая смерть выпала Вилли, — пробормотал Хэрод, ни к кому не обращаясь. — Если только он действительно погиб... — заметил Барент. — Что? — Хэрод откинулся назад. Ноги его выпрямились, каблуки прочертили черные полосы на дубовом паркете. — Вы думаете, что он не погиб? Что его не было на борту? — Сотрудник авиакомпании помнит, что Вилли и эти его друзья подымались по трапу, — сказал Колбен. — Они о чем-то спорили — Вилли и его черный коллега. — Енсен Лугар. Эта безмозглая черножопая паскуда, — пояснил Хэрод. — Но нет никаких гарантий, что они вошли в самолет, — сказал Барент. — Сотрудника кто-то окликнул, и он на несколько минут отошел от дверей незадолго до того, как отъехал трап. — Но ведь нет никаких данных и о том, что Вилли не было на борту самолета, — настаивал Хэрод. Колбен убрал досье. — Верно. Однако до тех пор, пока его тело не будет обнаружено, мы не можем с уверенностью полагать, что он... э-э... нейтрализован. — Нейтрализован... — эхом откликнулся Хэрод. Барент встал, подошел к окну, потянул за шнур, и шторы, висевшие над белыми жалюзи, раздвинулись. В отраженном свете кожа его казалась фарфорово-гладкой. — Мистер Хэрод, существует ли вероятность того, что Вилли фон Борхерт знал о Клубе Островитян? Хэрод резко запрокинул голову, словно кто-то дал ему пощечину. — Нет. Абсолютно исключено. — Вы уверены? — Абсолютно. — Вы никогда не упоминали об этом? Даже косвенно? — Ну на хрен мне это нужно было? Нет, нет, черт возьми! Вилли ничего не знал об этом. — Вы уверены? — Барент уперся взглядом в бледное лицо Хэрода. — Вилли был стариком, Барент. Древним стариком. Он уже чокнулся из-за того, что не может больше использовать людей, в особенности для убийства. Я имею в виду глагол «убивать», Колбен, а вовсе не «нейтрализовать», или «отменить страховку», или «положить конец с крайним предубеждением», или еще какой-нибудь мудацкий эвфемизм вашей конторы. Вилли убивал, чтобы оставаться молодым, а потом он уже не мог этого делать, и этот бедный старый пердун просто высох, как слива на солнце. Если бы он что-нибудь знал про ваш чертов Клуб Островитян, он бы давно ползал тут на коленях, умоляя впустить его. — Но это ведь и ваш клуб, Хэрод, — холодно бросил Барент. — Слышал, слышал. Только я еще не был на Острове, откуда же мне знать, мой он или нет. — Этим летом вас пригласят на вторую неделю, — сообщил Барент. — Первая неделя не совсем... необходима, не так ли? — Может, и нет. Но мне, в общем, хотелось бы поякшаться с богатыми и могущественными людьми. Не говоря о том, что я не прочь и приласкать кого-нибудь. Барент рассмеялся, его смех поддержал еще кое-кто. — Бог ты мой, Хэрод, — сказал Саттер, — вам что, не хватает этого добра в Мишурном Граде? — Да и потом, — вмешался Траск, — не думаете ли вы, что вам придется тяжело? Имея в виду список гостей, приглашенных на первую неделю... Я хочу сказать, в свете ваших склонностей... Хэрод повернулся и смерил говорившего убийственным взглядом. Глаза его превратились в узкие щели в бледной маске. Медленно, словно досылая с каждым словом патрон в патронник дробовика, он процедил: — Вы знаете, что я имел в виду. Не надо пудрить мне мозги. — Да. — Голос Барента прозвучал успокаивающе, британский акцент слышался явственнее. — Мы знаем, что вы имели в виду, мистер Хэрод. И в этом году вы, возможно, получите желаемое. Вы знаете, кто будет на Острове в июне? Хэрод пожал плечами и отвернулся. — Обычная толпа мальчишек, дорвавшихся до летних лагерей, я так думаю. Наверняка опять Генри Кисе. Возможно, еще какой-нибудь экс-президент. — Два экс-президента, — улыбнулся Барент. — Канцлер Западной Германии. Но все это неважно. Там будет и наш следующий президент. — Следующий?.. Черт возьми, вы же только что засунули в это кресло своего человека! — Да, но он же такой старый, — протянул Траск, и все расхохотались, как будто это была любимая шутка, понятная только им. — Серьезно, — продолжил Барент, — этот год — ваш год, мистер Хэрод. Как только вы поможете нам разобраться с безобразием в Чарлстоне, со всеми его деталями, не останется никаких препятствий на вашем пути к полноправному членству в Клубе. — Какие детали вы имеете в виду? — Во-первых, помогите нам убедиться в том, что Уильям Д. Борден, он же герр Вильгельм фон Борхерт, мертв. Мы же тем временем продолжим свое собственное расследование. Возможно, скоро будет найдено его тело. Вы поможете хотя бы тем, что снимете другие варианты, если они возникнут. — О'кей. Что еще? — Во-вторых, проведите тщательное обследование всего, что осталось от имущества мистера Бордена, пока до него не добрались другие... м-м-м... стервятники. Удостоверьтесь, что он не оставил абсолютно ничего, что могло бы поставить кого-нибудь в неловкое положение. — Я вылетаю в Голливуд сегодня вечером, — сообщил Хэрод. — Утром навещу особняк Вилли. — Отлично. В-третьих, мы ожидаем, что вы поможете нам относительно самой последней детали в Чарлстоне. — Какой детали? — Лицо, которое убило Нину Дрейтон и которое — можно сказать почти с полной уверенностью — ответственно за смерть вашего друга Вилли. Мелани Фуллер. — Вы думаете, что все еще жива? — Да. — И вы хотите, чтобы я помог вам найти ее? — Нет, — перебил Колбен. — Мы сами найдем ее. — А что, если она покинула страну? Я бы на ее месте так и поступил. — Мы найдем ее, — повторил Колбен. — Ну, если вы не хотите, чтобы я ее искал, что тогда я должен додать? — Мы хотим, чтобы вы присутствовали, когда мы ее возьмем, — поженил Колбен. — Хотим, чтобы вы отменили ее страховку. — Нейтрализовали ее, — вставил Траск с сухой улыбкой. — Положили ей конец с крайним предубеждением, — добавил Кеплер. Хэрод моргнул и посмотрел на Барента, все еще стоявшего у окна. Тот повернулся и улыбнулся. — Пора платить вступительный взнос, мистер Хэрод. Мы найдем эту леди. А вы должны будете убить эту настырную суку.* * *
Хэроду и Марии Чен пришлось вылететь из международного аэропорта Даллес, чтобы попасть на прямой самолет до Лос-Анджелеса. По техническим причинам рейс задержали на двадцать минут. Хэроду страшно хотелось выпить. Он терпеть не мог летать. Прежде всего он не любил оказываться в чьей-то власти — а летать самолетом означало для него именно это. Он знал все статистические данные о безопасности полетов, но как раз это для него ничего не значило. В его воображении постоянно возникали картины обломков самолета, разбросанных на несколько гектаров: искореженные куски металла, все еще раскаленные добела, розовые и красные куски тел, лежащие в траве, словно ломти семги, сохнувшие на солнце. «Бедный Вилли», — подумал он. — И почему они не подают эти сраные напитки перед взлетом — как раз когда надо выпить? — возмутился он. Мария Чен улыбнулась. Самолет наконец вырулил на старт, уже горели огни взлетной полосы, но едва они взлетели над толстым слоем облаков, как попали в последние лучи заходящего солнца — правда, всего на несколько минут. Хэрод открыл портфель и вытащил тяжелую стопку сценариев, из которых можно было что-то сделать. Два из них оказались слишком длинными, больше ста пятидесяти страниц, и он, не читая, бросил их назад в портфель. Первую страницу следующего творения было невозможно читать, и он тоже отложил его. Он уже прочитал восемь страниц четвертой рукописи, когда к ним подошла стюардесса узнать, что они будут пить. — Водку со льдом, — сказал Хэрод. Мария Чен от напитков отказалась. Хэрод поднял глаза на молоденькую стюардессу, которая принесла его заказ. Он считал, что когда авиакомпании отступили перед обвинениями в дискриминации по признаку пола и стали принимать мужчин в качестве стюардов, произошло одно из самых идиотских событий в истории корпорации. Даже стюардессы в нынешние времена казались Хэроду старше и неказистее, чем раньше. Но эта девушка явно была исключением: молоденькая, чистенькая, вовсе не тот манекен, на которых специализируются авиакомпании, и на вид приятно сексуальная — эдакая девочка-крестьянка. Похоже, скандинавка. Блондинка с голубыми глазами и слегка раскрасневшимися щеками, усыпанными веснушками. Полные груди, возможно, слишком полные для ее роста; приятно было смотреть, как они выпирают из синего с золотом блейзера. — Спасибо, дорогая, — сказал Хэрод, когда она поставила стакан на небольшой поднос перед ним. Она выпрямилась, а он в этот момент коснулся ее руки. — Как вас зовут? — Кристен. — Девушка улыбнулась, но впечатление от улыбки было испорчено торопливостью, с какой она отдернула руку. — Друзья зовут меня Крис. — Ну что ж, Крис, присядьте на минутку. — Хэрод похлопал по широкому подлокотнику. — Поболтаем немного. Кристен снова улыбнулась, но улыбка вышла беглой, почти механической. — Прошу прошения, сэр. Мы уже опаздываем, а мне еще надо приготовить к раздаче обед. — Я вот читаю киносценарий, — сказал Хэрод. — Скорее всего, я и буду его продюсером. Тут есть одна роль, она словно специально написана для красотки вроде вас. — Благодарю, сэр, но мне действительно надо помочь Лори и Курту приготовить все к обеду. Она собралась идти, но он схватил ее за руку. — Вас не доконает, если вы принесете мне еще водки со льдом, а уже потом займетесь своими играми с Лори и Куртом? Стюардесса медленно отняла руку, явно подавляя желание потереть то место, где он ее стиснул. Она уже не улыбалась. Обед — бифштекс и три омара ему принесла Лори, но второй порции водки он так и не дождался. Хэрод к обеду не притронулся. За окном было темно; на конце крыла помигивали красные бортовые огни. Хэрод включил лампочку для чтения у себя над головой, но затем отложил сценарий. Он наблюдал за Кристен, деловито расхаживающей по салону. Нетронутый обед Хэрода убрал Курт. — Не хотите еще кофе, сэр? Хэрод не ответил. Он смотрел, как блондинка-стюардесса зубоскалит с бизнесменом; потом она принесла подушку сонному ребенку лет пяти, что сидел с мамой за два ряда спереди от него. — Тони... — начала было Мария Чен. — Заткнись, — бросил Хэрод. Он дождался, когда Курт и Лори занялись чем-то в другой части салона, а Кристен осталась одна возле переднего туалета, и встал. Девушка повернулась боком, чтобы пропустить Хэрода, но в остальном, казалось, не замечала его. Туалет был не занят. Он вошел, потом снова открыл дверь и выглянул. — Прошу прощения, мисс... — Да? — Похоже, тут не идет вода. — Нет напора? — Вообще вода не идет. — Хэрод шагнул в сторону, пропуская девушку. Оглянулся. Пассажиры первого класса слушали музыку в наушниках, читали либо дремали. Только Мария Чен смотрела в их сторону. — А сейчас она вроде идет нормально, — сказала стюардесса. Хэрод вошел за ней и запер за собой дверь. Кристен выпрямилась и повернулась. Хэрод схватил ее выше локтя, прежде чем она смогла что-то вымолвить. Тихо. Он почти вплотную приблизился к ней. Помещение было крохотным; вибрация реактивных двигателей отдавалась в переборках и металлической стойке. Глаза девушки широко раскрылись, она пошевелила губами, хотела что-то сказать, но Хэрод толкнул, и она так ничего и не успела вымолвить. Он так яростно впился в ее глаза, что сила его взгляда была мощнее, чем рука, стиснувшая ее плоть. Хэрод почувствовал сопротивление и еще одним толчком подавил его. Он поймал поток ее мыслей и толкал все сильнее, преодолевая сопротивление, как человек, идущий вброд вверх по реке. Он почувствовал, как она мечется, сначала физически, а потом уже только мысленно, и придавил ее мечущееся сознание так же крепко, как когда-то, давным-давно, в детстве, придавил к земле свою кузину Элизабет, когда они боролись; Хэрод случайно оказался наверху и держал ее за кисти рук, прижимая их к земле, а нижняя часть его тела попала между ее бедер и удерживала ее бьющийся напряженный таз всем своим весом. Хэрод помнил свое смятение и возбуждение, вызванные внезапной эрекцией и тщетными, отчаянными попытками беспомощной пленницы освободиться. Прекрати. Сопротивление Кристен ослабло. Хэрод почувствовал при этом что-то вроде резкого, пронизывающего все тело тепла, охватывавшего его всякий раз, когда он физически проникал в женщину. Наступила внезапная тишина, спокойствие; его воля заполнила ее сознание. Оно слабело, как гаснущий свет. Хэрод не мешал этому. Он не пытался проскользнуть в извилины ее мыслей, к теплому центру удовольствия там, внутри ее существа. Он вовсе не хотел тратить время на то, чтобы приласкать, погладить этот центр. Ему не было дела до ее наслаждения; он хотел от нее лишь одного — повиновения. Не двигаться. Хэрод еще ближе прижался лицом к лицу девушки. На раскрасневшихся щеках Кристен золотился еле заметный пушок. Глаза ее раскрылись широко-широко, голубизна их стала ярче, зрачки неестественно расширились. Влажные губы тоже раскрылись. Хэрод провел ртом по ее губам, слегка укусил полную нижнюю губу, затем просунул язык в раскрывшийся рот стюардессы. Кристен не шевелилась, она только слегка выдохнула; если бы она была свободна, этот выдох мог быть вздохом, стоном или криком. Во рту у нее сохранился вкус мятной конфеты. Хэрод еще раз укусил ее губу, на этот раз сильнее, потом отодвинулся и улыбнулся. С губы скатилась крохотная капелька крови и повисла на подбородке. Глаза девушки были устремлены куда-то сквозь Хэрода, — неподвижный и бесстрастный взгляд, но где-то в глубине зрачков метался огонек страха, как у животного, запертого в клетке за холодными металлическими прутьями. Хэрод отпустил ее руку и провел ладонью по щеке. Он наслаждался беспомощными метаниями ее воли и своей уверенной, твердой властью над ней. Ее паническое состояние действовало на него, как сильный аромат духов. Не обращая внимания на потоки мольбы в ее корчащемся сознании, он прошел хорошо отработанными путями к двигательному центру. Он лепил ее сознание так же уверенно, как сильные руки месят тесто. Кристи снова вздохнула. Стой тихо. Хэрод стянул с нее блейзер и, скомкав, бросил на стойку умывальника. Крошечная кабинка, резонирующая от рокота двигателей, наполнилась шумом его дыхания. Самолет слегка накренился, и Хэрода качнуло к девушке; их бедра соприкоснулись. Возбуждение только усиливало его власть над ней. Молчи. На Кристи был шелковый шарф цветов авиалинии — красный и синий; концы его были спрятаны в бежевую блузку. Хэрод оставил шарф на месте и уверенными движениями расстегнул блузку. Когда он сорвал с нее блузку, девушка задрожала, но он крепче сжал тиски ее сознания, и дрожь прекратилась. Она носила простой белый бюстгальтер. Груди ее были тяжелые и бледные, округло выпирающие там, где кончалась ткань. Хэрод почувствовал, как в нем поднялась эта неизбежная волна нежности, любви и ощущения потери — всего того, что он чувствовал всегда в таких случаях. Но это никак не уменьшало его власти над женщиной. Ее рот слегка искривился. Не двигаться. Пальцы девушки пошевелились. Он расстегнул лифчик и сдвинул его вверх, потом распахнул полы своей куртки и расстегнул рубашку. Прижался грудью к ее груди. Груди у нее были еще больше, чем он думал, он чувствовал их тяжесть там, где они касались его; кожа была такая беззащитно белая, сосочки такие нежно-розовые и неразвитые, что Хэрод почувствовал, как его горло сжимается от невыносимой любви к ней. Заткнись, заткнись, заткнись. Стой смирно, сука. Самолет еще круче накренился влево. Хэрод налег на девушку всем весом, потерся о мягкую округлость ее живота. В коридоре послышался шум. Кто-то подергал ручку. Хэрод собрал юбку и потащил вверх, выше широких бедер, потом грубо рванул вниз колготки, наступил на них ногой, коленом отодвинул ее ноги в сторону, чтобы сдернуть их, — колготки порвались. Под ними были белые трусики-бикини. Бедра тоже покрывал нежный золотистый пушок. Ноги ее были просто невероятно гладкие и упругие. Хэрод благодарно закрыл глаза. — Кристен! Ты там? — Это был голос стюарда. Ручку снова потрясли. — Кристен! Это я, Курт. Хэрод стянул белые трусики вниз и расстегнул свои брюки. Эрекция была почти болезненной. Он коснулся членом ее живота, чуть выше линии лобковых волос — и задрожал от наслаждения. Самолет попал в какие-то завихрения, его бросило вверх, потом вниз. Где-то раздался мягкий, но тревожный звон. Хэрод сжал ее ягодицы, раздвинул ноги и вошел в нее — как раз в тот момент, когда самолет сильно затрясло. Его пальцы прижались к краю раковины, когда она перенесла вес тела назад, на его руки. Он почувствовал на секунду слабое сопротивление, но сразу за этим, во второй раз, невыносимо-острое ощущение отдающегося ему тепла. Хэрод грубо дернулся вперед, и медальон из акульего зуба ударился о ее стиснутую грудь. — Кристен! Что за чертовщина? Что происходит? У нас началась болтанка. Кристен! Самолет качнуло вправо. Раковина и крышка завибрировали. Хэрод сильно двинул тазом, поднял тело девушки, прижал к себе, снова двинул. — Вы ищете стюардессу? — Сквозь тонкую дверь послышался голос Марии Чен. — Она только что помогала старой леди — той было плохо, очень плохо. Потом разговор перешел в невнятное бормотание. На груди Кристен поблескивали капельки пота. Хэрод еще плотнее прижал ее к себе, с нарастающей силой стискивая ее там, внутри, клещами своей воли, чувствуя сквозь грубое отражение ее мыслей самого себя, — как он скользит в нее, потом уходит; чувствуя соленость ее плоти и такой же острый, соленый запах ее страха и паники, двигая ее в своем ритме, как большую, мягкую куклу, ощущая, как в ней нарастает оргазм, — нет, это было в нем, два потока каскадом слились в одну темную, бурлящую воронку страсти. — Конечно, конечно, я скажу ей, — проговорила Мария Чен. В нескольких сантиметрах от лица Хэрода послышался тихий стук. Хэрод напрягся — прямо-таки взорвался; он почувствовал, как медальон врезался в его и в ее плоть, и зарылся подбородком в ямочку у шеи. Голова девушки была запрокинута, рот распялся в немом крике, невидящие глаза устремлены в низкий потолок. Самолет тряхнуло, повело в сторону. Хэрод слизнул капельки пота на горле Кристен, наклонился и поднял белые трусики. Трясущимися руками он застегнул ее блузку. Колготки порвались в нескольких местах. Он засунул их в карман своей куртки и расправил складки на ее юбке. Ноги у Кристен хорошо загорели, и отсутствие чулок будет не так заметно. Хэрод постепенно ослабил давление. Мысли девушки путались, воспоминания смешивались со сновидениями. Хэрод позволил ей склониться над раковиной, а, сам отодвинул защелку. — Сигнал «пристегнуть ремни» уже горит, Тони. — Тоненькая фигурка Марии Чен загораживала дверь в туалет. — Ага. — Что? — спросила Кристен, бессмысленно глядя перед собой все еще невидящим взглядом. — Что? — Потом она наклонилась над стальной раковиной, и ее стошнило. Мария вошла в туалет и придержала девушку за плечи. Когда рвота кончилась, она вытерла ее лицо мокрым полотенцем. Хэрод стоял в коридоре, прислонившись к стене: самолет бросало, как небольшой кораблик в бурном море. — Что? — снова спросила Кристен и уперлась пустым взором в Марию Чен. — Я не... помню... почему... Поглаживая лоб девушки, Мария Чен глянула на Хэрода: — Вам лучше сесть, Тони. Могут быть неприятности, если вы не пристегнетесь ремнем. Хэрод вернулся на свое место и вытащил рукопись, которую читал. Через минуту пришла Мария Чен. Самолет стало меньше болтать. Несмотря на гул моторов, было слышно, как впереди Курт о чем-то с тревогой спрашивает стюардессу. — Не знаю, — бесцветным голосом отвечала Кристен. — Я не знаю. Хэрод уже не обращал на них внимания; он принялся делать пометки на полях рукописи. Через некоторое время он поднял глаза и увидел, что Мария Чен смотрит на него. Он улыбнулся, и углы его рта поползли вниз: — Терпеть не могу, когда заказываешь выпивку, а ее не приносят.... Мария Чен отвернулась и стала пристально глядеть в темноту, на мигающие красные огни на крыле самолета. На следующий день рано утром Тони Хэрод поехал к особняку Вилли. Охранник у ворот издали узнал машину Хэрода; и когда красный «Феррари» остановился, он уже открыл ворота. — Привет, Чак. — Доброе утро, мистер Хэрод. Не привык видеть вас здесь так рано. — Да я сам к такому не привык. Но надо просмотреть кое-какие деловые бумаги. Приходится разбираться с финансовыми проблемами нескольких новых проектов, в которые нас втянул Вилли. Особенно с этим чертовым «Торговцем рабынями». — Да, сэр, я читал. В газетах про это пишут. — Охрана пока остается? — Да, сэр. По крайней мере до аукциона, до следующего месяца. — Макгайр вам платит? — Да, сэр; из того, что оставлено по завещанию. — Ну ладно, увидимся, Чак. Держи ухо востро. — Вы тоже, мистер Хэрод. Мотор приятно взревел, «Ферари» тронулся с места и помчался по длинной дорожке, ведущей к дому. Аллея была обсажена тополями, и при движении лучи утреннего солнца, казалось, вращались, пробиваясь сквозь ветви. Хэрод объехал высохший фонтан перед главным входом и остановился возле западного крыла, где находился кабинет Вилли. Особняк Билли Бордена в Бел-Эйр был похож на дворец, перенесенный сюда, на север, из какой-нибудь банановой республики. Солнечный свет падал на бессчетные сотни квадратных метров алебастровых украшений, красной плитки и окна со множеством переплетов. Многочисленные ворота вели во внутренние дворы, по сторонам которых патио переходили в открытые, полные воздуха комнаты, связанные мощенными плиткой коридорами с другими дворами. Казалось, несколько поколений понемногу строили этот дом, тогда как на самом деле его воздвигли жарким летом 1938 года для не слишком известного киномагната, который умер три года спустя, просматривая отснятый за день материал. Своим ключом Хэрод открыл дверь в западное крыло. Сквозь жалюзи на ковер комнаты, где обычно сидели секретарши, падали желтые полосы. Комната была аккуратно прибрана, пишущие машинки закрыты чехлами, на столах — ничего лишнего. Хэрода неожиданно кольнуло воспоминание о том, какой здесь обычно царил хаос с непрерывными телефонными звонками и обычным канцелярским шумом. Кабинет Вилли был через две двери, за конференц-залом. Хэрод вытащил из кармана листок бумаги и открыл сейф. Потом он разложил подшивки разноцветных деловых бумаг — длякаждого типа бумаг свой цвет — и сложенных документов посреди большого белого стола Вилли, открыл шкафчики с папками и вздохнул. Предстояло долгое рабочее утро. Три часа спустя Хэрод потянулся, зевнул и отодвинул кресло от заваленного бумагами стола. Ничто в бумагах Вилли Бордена не могло доставить неприятности кому-либо, кроме нескольких любителей халявы в Голливуде и поклонников высоконравственного кино. Хэрод встал и немного побоксировал с тенью. В своих адидасовских кросовках он чувствовал себя быстрым и ловким. На нем был голубой спортивный костюм для бега трусцой, молнии на запястьях и щиколотках расстегнуты. Он ощутил голод. Легко, почти бесшумно двигаясь по выложенному плиткой полу, Хэрод прошел по коридору западного крыла, через двор с фонтаном, потом через крытую терассу, на которой вполне могла бы поместиться конференция Гильдии киноактеров, и вошел через южную дверь в кухню. В холодильнике все еще была еда. Он открыл большую бутылку шампанского и начал намазывать майонез на кусок французской булки, когда услышал какой-то шум. С бутылкой шампанского в руке он пересек огромную столовую и вошел в гостиную. — Эй, какого хрена ты тут делаешь? — заорал Хэрод. Метрах в десяти от него кто-то ковырялся в видеокассетах на полке, где Вилли держал видеоматериалы. Человек быстро выпрямился; тень его упала на четырехметровый экран в углу. — А-а, это ты, — успокоился Хэрод. Молодой человек был одним из любовников Вилли, которого Хэрод и Том Макгайр прогнали отсюда несколько дней назад. Парень был очень молод, белокур и мог похвастать загаром того сорта, который лишь немногие в мире люди имеют возможность поддерживать. Парень ростом под метр девяносто был одет только в тесные шорты из коротко обрезанных джинсов и легкие туфли. На обнаженном торсе волнами перекатывались мускулы. Грудные и дельтавидные мышцы свидетельствовали о многих часах, проведенных в борьбе со штангой и тренажером. Глядя на его живот, можно было подумать, что кто-то ежедневно крошит на нем камни. — Да, я. — Хэрод отметил, что голос у парня, как у морского пехотинца, а не педика с пляжа Малибу. — Тебе что-то не нравится? Хэрод устало вздохнул и глотнул из бутылки, потом вытер рот. — Иди-ка отсюда, малыш. Сюда вход воспрещен. Тебе, во всяком случае. Загорелый купидон надулся. — Кто это говорит? Билл был моим лучшим другом. Я имею право тут находиться. Нас связывало глубокое чувство. — Ну да, и у вас была одна баночка вазелина на двоих. А теперь катись отсюда на хрен, пока тебя не вышвырнули. — И кто же это сделает? — Я, — сказал Хэрод. — Ты? А еще кто? — Парень выпрямился во весь рост и поиграл мускулатурой. Хэрод даже не мог сказать, что это было — бицепсы или трицепсы; они как-то переливались друг в друга, вроде тушканчиков, трахающихся под туго натянутым брезентом. — Я и полиция. — Хэрод подошел к телефону, стоявшему на столике у дивана. — Ах, так? — Сопляк вышиб трубку из левой руки Хэрода и выдернул шнур из розетки. Не удовлетворясь этим, он крякнул и выдрал пятиметровый шнур из стены. Хэрод пожал плечами и поставил бутылку с шампанским. — успокойся, Брюсик. Есть ведь и другие телефоны. У Вилли было много-много телефонов. Мальчишка быстро шагнул вперед и стал перед Хэродом, загораживая ему дорогу. — Не так быстро, пидорванец. — Ой-ой-ой, я ведь такого не слышал с тех самых пор, как окончил школу. У тебя за пазухой нет еще чего-нибудь эдакого, а, Брюсик? — Не смей называть меня Брюсиком, засранец. — Ну, это я слышал. — Хэрод попытался обойти его, но парень уперся пальцами ему в грудь и толкнул. Хэрод ударился о боковую стенку дивана, а сосунок отскочил назад и принял боевую стойку, расставив руки под странным углом. — Карате, да? — спросил Хэрод. — Слушай, не стоит показывать тут свою силу. — В его голосе появился намек на дрожь. — Пидорванец, — повторил парень. — Ай-ай-ай, повторяешься. Признак надвигающейся старости, — крикнул Хэрод и повернулся, собираясь бежать. Парень прыгнул вперед. Хэрод закончил поворот, бутылка шампанского вдруг снова оказалась у него в руке. Очертив тяжелую дугу, она пришлась на левый висок мальчишки. Бутылка не разбилась. Раздался тупой шлепок, словно дохлой кошкой ударили по большому колоколу, и парень рухнул на одно колено, опустив голову. Хэрод шагнул вперед и представил себе, что бьет одиннадцатиметровый, причем мяч установлен ровно под выступом тяжелой челюсти соперника. — А-а-а! — заорал Тони Хэрод и, схватившись за свою адидасовскую кроссовку, заскакал на левой ноге. Парнишка отлетел назад, ударился о толстые подушки дивана, качнулся вперед и рухнул на колени перед Хэродом, как кающийся грешник. Хэрод схватил великолепную мексиканскую лампу с тумбочки и шарахнул ею по красивому лицу. Не в пример бутылке, лампа разлетелась на куски, весьма и весьма эффектно. Нос парня и другие не столь выдающиеся части его физиономии теперь тоже надо было собирать по кусочкам. Он свалился набок на толстый ковер, как ныряльщик с аквалангом, погружающийся с резиновой лодки. Хэрод перешагнул через него и прошел к телефону на кухне. — Чак? Говорит Тони Хэрод. Оставь Леонарда на воротах и подъезжай на своей машине к дому, ладно? Вилли тут оставил кое-какой мусор. Надо вывезти его на свалку. Они отвезли любовничка Вилли в травмопункт. Хэрод выпил еще шампанского, закусил бутербродом с паштетом и направился к видеотеке Вилли. На полках стояло сотни три видеокассет. Некоторые из них были копиями ранних триумфально-успешных фильмов Вилли — таких шедевров кино, как «Трое на качелях», «Пляжные утехи», «Воспоминания о Париже». Рядом стояли восемь фильмов, продюсерами которых они с Вилли были совместно, включая «Резню на променаде», «Погибли дети», и два фильма из сериала «Вальпургиева ночь». Здесь были также старые, любимые фильмы из ночного кино, фото и кинопроб, отрывки из разных лент и три эпизода из неудачной попытки Вилли поставить комедию положений для ТВ — «Его и Ее». Дальше шло полное собрание порнухи, отснятой Джерри Дамиано, новые ролики, сделанные на студийки стопки разрозненных кассет. Любовник Вилли успел снять с полки несколько пленок; Хэрод опустился на корточки и принялся их рассматривать. На первой были написаны буквы: «А и Б». Хэрод включил проекционное устройство и вставил кассету. В титрах, набранных на компьютере, стояло: «Александр и Байрон 4/23». Первые кадры изображали большой плавательный бассейн Вилли. Камера пошла вправо, мимо водопада, к открытой двери в спальню. Худенький молодой человек в красных бикини выскочил на свет. Он помахал камере, — жест в точности в духе домашнего кино, — и неловко остановился у края бассейна; вид у него, подумал Хэрод, как у анемичной безгрудой Венеры, выходящей из раковины. Вдруг из тени появился тот мускулистый любовник, Брюсик... Плавки на нем были еще короче; он сразу же принялся демонстрировать мускулы, принимая разные атлетические позы. Тоненький юноша — Александр? — пантомимой изображал восхищение. Хэрод знал, что у Вилли есть отличная система микрофонов для домашних видеосъемок, но этот образчик «синема веритэ» был немым, как ранние двухчастовки Чаплина. Любовник-культурист закончил свое представление каким-то особым изгибом торса. К этому моменту Александр стоял уже на коленях — поклонник у ног Адониса. Адонис все еще держал свою позу, когда почитатель потянулся и стащил узенькие плавки со своего божества. Загар у божества был действительно идеальный. Хэрод выключил аппарат. — Байрон? — пробормотал Хэрод. — Ни хрена себе. — Он вернулся к полкам. Ему пришлось искать минут пятнадцать, но в конце концов он нашел то, что искал. На наклейке стояло: «В случае моей смерти», кассета была задвинута между «В крови по локти» и «Во тьме горячей ночи». Хэрод опустился на диван и некоторое время сидел так, поигрывая кассетой. В животе появилась какая-то сосущая пустота; ему очень хотелось выйти и уехать подальше отсюда. Все же он вставил кассету в магнитофон, нажал нужную кнопку и подался вперед. «Здравствуй, Тони, — сказал Вилли. — Привет из могилы. — Изображение было более чем в натуральную величину. Вилли сидел в плетеном кресле на краю своего бассейна. Ветерок шевелил листья пальм за его спиной, но в кадре никого больше не было, даже слуг. В седых волосах Вилли, зачесанных вперед, виднелись загорелые залысины. Старик был в свободной гавайской рубашке в цветочек и мешковатых зеленых шортах. Колени у него были белые. Сердце Хэрода колотилось о ребра. — Если ты нашел эту пленку, — сказало изображение Вилли, — значит, надо полагать, случилось несчастье и меня с вами уже нет. Надеюсь, что ты, Тони, первым нашел это... м-м-м... последнее завещание и смотришь его один». Хэрод сжал кулаки. Трудно сказать, когда сделана запись, но, по всей видимости, недавно. «Надеюсь, ты уладил все остальные дела, — сказал Вилли с экрана. — Уверен, что компания будет в хороших руках, успокойся, дорогой друг, если мое завещание уже прочитано; тебе не о чем беспокоиться. На этой пленке нет каких-либо сюрпризов или дополнений. Дом принадлежит тебе. Это всего лишь дружеская встреча двух старых товарищей, ja?» — Блядь, — прошипел Хэрод. По рукам у него бежали мурашки. «...пользуйся домом, себе на радость, — говорил Вилли. — Я знаю, что он тебе никогда особо не нравился, но его легко превратить в капитал и вложить куда-нибудь, если понадобится. Возможно, ты используешь его, чтобы воплотить наш маленький проект с „Торговцем рабынями“, а?» Да, запись была очень и очень свежая. Сделана недавно. Хэрода пробрала дрожь, хотя было очень тепло. «Тони, мне не так уж много нужно сказать тебе. Ты ведь согласен, что я относился к тебе как к сыну, nicht wahr? Ну, если не как к сыну, то как к любимому племяннику. И это несмотря на то, что ты не всегда был со мной до конца честен. У тебя есть друзья, о которых ты мне не говорил... разве не так? Ну что ж, идеальной дружбы не бывает, Тони. Возможно, и я тебе не все говорил про своих друзей. Каждый живет своей жизнью, верно?» Хэрод сидел выпрямившись, очень тихо, почти не дыша. «Теперь это неважно, — Вилли слегка отвернулся от камеры; прищурившись, он смотрел на солнечных зайчиков, плясавших на поверхности воды. — Если ты смотришь эту пленку, значит меня уже нет. Никто из нас не вечен, Тони. Ты это поймешь, когда доживешь до моего возраста. — Он снова глянул в объектив камеры. — Это если ты доживешь до моего возраста. — Вилли улыбнулся. Вставные челюсти у него были идеальные. — Я хочу тебе сказать еще три вещи, Тони. Во-первых, я сожалею, что ты так и не научился играть в шахматы. Ты знаешь, как много для меня значили шахматы. Это — больше, чем игра, мой дорогой друг. Ja, гораздо больше. Ты однажды сказал, что у тебя нет времени для таких игр, — ведь тебе надо жить, заниматься жизнью. Ну что ж, никогда не поздно учиться, Тони. Даже мертвец может научить тебя чему-нибудь. Во-вторых, я должен сказать тебе, что я всегда терпеть не мог имя „Вилли“. Если мы встретимся в будущей жизни, Тони, я бы попросил тебя обращаться ко мне иначе. Например, герр фон Борхерт. Или Гроссмейстер. Тоже приемлемо. А ты веришь в загробную жизнь, Тони? Я верю. Уверен, что она существует. А как ты представляешь себе это место? Я всегда видел рай как прекрасный остров, где удовлетворяются все твои желания, где много интересных людей, с которыми можно разговаривать, и где можно Охотиться в свое удовольствие. Приятная картина, ведь правда?» Хэрод моргнул. Ему часто приходилось читать выражение «облиться холодным потом», но никогда не приходилось этого испытывать. А вот сейчас довелось. «И наконец, Тони, у меня к тебе вопрос. Что это за фамилия „Хэрод“? Ты утверждаешь, будто происходишь из христианской семьи Среднего Запада, и ты уж точно частенько поминаешь Христа и Бога мать, но у меня такое впечатление, что имя „Хэрод“ идет из какого-то другого источника, а? Скажем, Ирод. Очень может быть, что мой дорогой племянничек — еврей. Ну ладно, теперь это не имеет значения. Можем поговорить об этом, если встретимся в раю. А пока — на этом пленка не кончается, Тони. Я тут добавил кое-какие отрывки из новостей. Возможно, они покажутся тебе поучительными, хотя вообще у тебя, как правило, нет времени, чтобы заниматься такого рода вещами. Прощай, Тони. Или, точнее, Auf Wiedersehn». Вилли помахал камере рукой. На несколько секунд изображение на пленке исчезло, потом появилась запись передачи новостей, пятимесячной давности, о поимке Голливудского Душителя. За этим последовали еще отрывки новостей, все о бесцельных убийствах за тот год. Двадцать пять минут спустя пленка кончилась, и Хэрод выключил аппарат. Он долго сидел, сжав голову руками. Наконец встал, вытащил кассету, сунул ее в карман куртки и вышел. По дороге домой он гнал машину на большой скорости, терзая коробку передач; он выбрал дальний путь и въехал на голливудское скоростное шоссе на скорости больше восьмидесяти миль в час. Никто его не остановил. Когда он свернул к своему дому и остановился под желчным взглядом сатира, тренировочный костюм на нем был влажен от пота. Хэрод подошел к бару возле джакузи и налил себе большой стакан водки. Осушив его в четыре глотка, он вытащил кассету из кармана, потом, сорвав пленку с пластиковых валиков, выдернул ее из кассеты; она витками упала на пол. На то, чтобы сжечь пленку в старом мангале на трассе за бассейном, ушло несколько минут. Среди золы остался расплавленный сгусток. Хэрод несколько раз ударил пустой кассетой о каменный дымоход над мангалом, пока пластик не разлетелся на куски. Бросив разломанную кассету в мусорный ящик рядом с хижиной в саду, он вернулся в дом и налил себе еще стакан водки, на сей раз с лимонным соком. Хэрод разделся и залез в джакузи. Он уже почти заснул, когда вошла Мария Чен с дневной почтой и диктофоном. — Оставь все здесь, — приказал он и снова задремал. Через пятнадцать минут он открыл глаза и принялся сортировать пачку свежих писем, иногда диктуя заметки либо краткие ответы в свой «Сони». Пришли еще четыре сценария. Том Макгайр прислал массу бумаг, связанных с приобретением дома Вилли, подготовкой аукциона и уплатой налогов. Три приглашения в гости; Хэрод взял на заметку одно из них: подумать. Майкл Мей-Дрейнен, самоуверенный молодой писатель, прислал наспех нацарапанную записку, — жаловался, что Шуберт Уильяме, режиссер, уже начал переписывать сценарий Дрейнена, а ведь он еще не закончил это барахло! Большая просьба Хэроду вмешаться, иначе он, Дрейнен, отказывается от проекта. Хэрод отбросил записку в сторону, оставив ее без ответа. Последнее письмо пришло в небольшом розовом конверте со штампом «Пасифик Палисейдз». Хэрод вскрыл его. Бумага была другого цвета и слегка надушена. Почерк плотный, с сильным наклоном и детскими загогулинами. "Уважаемый мистер Хэрод! Я не знаю, что нашло на меня тогда, в субботу. Я вряд ли смогу это понять. Но я не виню Вас и прощаю Вас, хотя никогда не смогу простить себя. Сегодня Лорен Сейлз, мой агент, получила пакет бумаг, связанных с договором по Вашему предложению относительно фильма. Я сказала Лорен и своей матери, что тут какая-то ошибка. Я сообщила им, что беседовала с мистером Борденом об этом фильме незадолго до его смерти, но не давала никаких твердых обещаний. Мистер Хэрод, на данном этапе своей карьеры я не могу связывать свою судьбу с таким проектом. Уверена, Вы понимаете, в какой ситуации я нахожусь. Это вовсе не означает, что в дальнейшем мы не сможем работать вместе над каким-нибудь фильмом. Я надеюсь, Вы примете мое решение и устраните все препятствия или сомнительного свойства детали, которые могли бы повредить такому сотрудничеству в будущем. Я уверена, что могу положиться на Вас в данной ситуации, мистер Хэрод. В прошлую субботу Вы упомянули, что знаете о моей причастности к Церкви Иисуса Христа Святых Последнего Дня. Вы должны понять, что вера моя очень крепка и что моя преданность Господу Богу и Его Законам для меня превыше всяких других соображений. Я молю Бога, чтобы он помог Вам увидеть правильный путь в данной ситуации, и в глубине души уверена, что так и будет. Искренне Ваша, Шейла Беррингтон." Хэрод вложил письмо обратно в конверт. Шейла Беррингтон. Он совсем забыл про нее. Взяв в руку крохотный микрофон, он начал диктовать: — Мария, письмо Тому Макгайру. Дорогой Том. Я разберусь с этими бумагами в первую очередь, как только смогу. По поводу аукциона, действуй как договорились. Абзац. Счастлив слышать, что вам понравились порнушные ролики, которые я послал на день рождения Кэла. Я так и думал, что они придутся вам по вкусу. Высылаю еще одну кассету, она тоже должна вам понравиться. Не задавайте вопросов, а просто балдейте. Можешь сделать столько копий, сколько захочешь. Марв Сэндборн и парни из «Четырех Звездочек», возможно, тоже захотят посмеяться. Абзац. Перешлю тебе трансферт в самое ближайшее время. Моя бухгалтерия с тобой свяжется. Абзац. Привет Саре и ребятам. Кончаю. Всего наилучшего! Да, Мария, дай мне это сегодня на подпись, ладно? Вложи видеокассету № 165. И еще: пошли это дело с нарочным.Глава 6
Чарлстон Вторник, 16 декабря 1980 г. Молодая женщина стояла неподвижно, вытянув обе руки, в которых крепко сжимала рукоятку пистолета, направленного в грудь Сола Ласки. Сол знал, что если он попытается выйти из гардероба, она может выстрелить, но никакая сила на свете не могла удержать его в этом темном углу, воняющем Рвом. На подгибающихся ногах он выбрался из шкафа и стоял теперь в сумеречном свете спальни. Женщина сделала шаг назад, но пистолет держала по-прежнему очень ровно. Она не выстрелила. Сол сделал один глубокий вдох, второй; он увидел, что женщина молодая, чернокожая. На ее белом плаще и короткой прическе «афро» поблескивали капли влаги. Возможно, она была привлекательной, но Сол не мог сосредоточиться ни на чем кроме оружия, которое она направляла на него. Это был небольшой автоматический пистолет — на взгляд Сола, 32-го калибра, — но, несмотря на его небольшие размеры, темная дырка дула прочно приковала внимание Сола. — Поднимите руки, — приказала она. Голос звучал ровно, с чувственной ноткой и южным акцентом. Сол поднял руки и сомкнул пальцы за головой. — Кто вы? — спросила женщина. Она по-прежнему держала пистолет обеими руками, но вряд ли умела хорошо обращаться с оружием. Расстояние между ними было немногим больше метра, и Сол знал, что у него есть неплохие шансы отбить ствол в сторону, прежде чем негритянка спустит курок. Но он не стал этого делать. — Кто вы? — повторила она. — Меня зовут Соломон Ласки. — Что вы здесь делаете? — Я мог бы задать вам тот же вопрос. — Отвечайте! — Она чуть подняла пистолет, как будто это могло подсказать ему ответ. Сол понял, что имеет дело с непрофессионалом, — просто она насмотрелась детективных фильмов, где оружие действовало, как волшебная палочка, и заставляло людей делать то, что от них требуют. Он пригляделся к ней. Она была еще моложе, чем он подумал сначала, вероятно чуть больше двадцати. У нее было привлекательное овальное лицо с тонкими чертами, полные губы и большие глаза, казавшиеся совершенно черными в тусклом свете. Кожа напоминала по цвету кофе со сливками. — Я тут просто осматриваю помещение, — сказал Сол. Его голос звучал ровно, но он с интересом отметил, что его тело реагирует на направленное на него огнестрельное оружие точно так же, как и всегда: плоть его сжалась в комок, он испытывал непреодолимое желание спрятаться за кем-нибудь, за кем угодно, хоть за самим собой. — Полиция закрыла доступ в дом, — сказала женщина. Сол заметил, что она произносит слово «полиция» совсем не так, как многие черные американцы в Нью-Йорке. — Дом опечатан. — Да, я знаю. — Так что же вы здесь делаете? Сол медлил. Он посмотрел ей в глаза. Они выражали беспокойство, напряжение и четкую решимость. Эти чувства, такие человеческие, ободрили его и заставили сказать ей правду. — Я доктор, — сообщил он. — Психиатр. Меня интересуют убийства, которые произошли тут на прошлой неделе. — Психиатр? — В голосе молодой женщины слышалось сомнение. Пистолет не шелохнулся. В доме теперь стало совершенно темно; свет доходил сюда лишь от газового рожка во дворе. — А почему вы забрались сюда, как вор? — поинтересовалась она. Сол пожал плечами. У него затекли руки. — Можно мне опустить руки? — Нет. Он кивнул. — Я боялся, что власти не позволят мне осмотреть дом. Хотел найти здесь что-нибудь, что может пролить свет на эти события. Но здесь, похоже, ничего такого нет. — Я должна вызвать полицию, — сказала женщина. — Обязательно, — согласился Сол. — Внизу телефона я не заметил, но где-то он должен быть. Давайте позвоним в полицию, шерифу Гентри. Мне будет предъявлено обвинение в незаконном проникновении в помещение. Вас, я думаю, обвинят в том же самом, да еще в том, что вы мне угрожали, и в незаконном владении оружием. Полагаю, оно не зарегистрировано? Когда он упомянул фамилию шерифа, женщина подняла голову, не обратив внимания на его вопрос об оружии. — Что вам известно об убийствах... в прошлую субботу? — Ее голос едва не прервался на слове «убийствах» Сол прогнул спину, чтобы хоть как-то облегчить боль в шее и руках. — Я знаю только то, о чем прочел в газетах, — ответил он. — Хотя я и был знаком с одной из женщин, замеченных в этом деле, — с Ниной Дрейтон, я полагаю: здесь все гораздо сложнее, чем представляют себе полицейские, шериф Гентри и этот человек из ФБР, Хейнс. — Что вы хотите сказать? — Я хочу сказать, что в прошлую субботу в этом городе погибло девять человек, и никто ничего не может объяснить, — пояснил Сол. — И тем не менее я полагаю, что здесь есть общий связующий элемент, который власти совершенно упустили из виду. У меня болят руки, мисс. Я их сейчас опущу, но больше никаких движений делать не буду. — Он опустил руки, прежде чем она успела что-либо сказать. Женщина отступила на полшага. Атмосфера старого дома сгустилась вокруг них. Где-то на улице проревело радио в машине, но его сразу выключили. — Я думаю, вы лжете, — медленно проговорила незнакомка. — Скорее всего, вы обычный вор. Или чокнутый охотник за сувенирами. А может, вы сами как-то связаны с этими убийствами?.. Сол ничего не ответил. Он молча, сосредоточенно смотрел на нее в темноте. Маленький пистолет в ее руках был уже почти не виден. Он чувствовал, что она находится в нерешительности. Через несколько мгновений он заговорил: — Престон, Джозеф Престон, фотограф. Жена? Нет, вы не жена. Шериф Гентри сказал, что мистер Престон жил здесь в течение... двадцати шести лет, кажется. Так что, скорее всего, вы его дочь. Да, дочь. Негритянка отступила еще на один шаг назад. — Вашего отца убили на улице, — продолжил Сол. — Убили зверски и бессмысленно. Власти не могут сказать вам ничего определенного, а то, что они говорят, совершенно вас не удовлетворяет. И вот вы ждете и наблюдаете. Возможно, вы наблюдаете за этим домом уже несколько дней. И тут появляется какой-то еврей из Нью-Йорка в теннисной шапочке и лезет через забор. И тогда вы решаетесь: «А вдруг я что-нибудь узнаю». Так? Женщина по-прежнему молчала, но пистолет опустила. Сол увидел, как дрогнули ее плечи, и подумал — не плачет ли она. — Ну что ж. — Он слегка коснулся ее руки, — возможно, я и смогу вам помочь. Может, вдвоем нам удастся как-то разумно истолковать это безумие. Пойдемте отсюда, из этого дома. В нем пахнет смертью.* * *
Дождь прекратился. В саду пахло мокрыми листьями и землей. Девушка провела Сола к дальней стене каретного сарая, к дыре, прорезанной между старой чугунной решеткой и новой стальной сеткой. Он протиснулся в эту дыру вслед за ней. Сол заметил, что она сунула пистолет в карман своего белого плаща. Они пошли по переулку; гаревая дорожка тихонько похрустывала у них под ногами. Вечер был прохладный. — Откуда вы узнали? — спросила она. — Догадался. Они дошли до улицы и некоторое время стояли молча. — Моя машина там, у парадного входа. — Да? А как же вы меня увидели? — Я заметила вас, когда вы проезжали мимо. Вы очень пристально вглядывались и почти остановились перед домом. Когда вы завернули за угол, я пошла сюда, чтобы проверить. — Гмм... Из меня получился бы паршивый шпион. — Вы действительно психиатр? — Да. — Но вы не из здешних мест. — Нет, из Нью-Йорка. Я иногда работаю в клинике Колумбийского университета. — Вы — американский гражданин? — Да. — А ваш акцент, он что... немецкий? — Нет, не немецкий. Я родился в Польше. Как вас зовут? — Натали. Натали Престон. Мой отец был... Ну, вы все это знаете. — Нет, я очень мало знаю. Вот в данный момент я знаю только одно с полной уверенностью. — Что? — Лицо молодой женщины казалось очень напряженным. — Что я умираю с голоду. Ничего не ел с самого утра. Только выпил чашку жуткого кофе в кабинете , шерифа. Если вы согласитесь поужинать со мной где-нибудь, мы могли бы продолжить беседу. — Да. Но только при двух условиях, — кивнула Натали Престон. — Каких? — Во-первых, вы мне расскажете все, что знаете по поводу гибели моего отца. Все, что может ее как-то объяснить. — А еще? — А во-вторых, если вы снимете эту вашу промокшую шапочку, когда мы будем есть. — Согласен.* * *
Ресторан назывался «У Генри» и располагался совсем недалеко, возле старого рынка. Снаружи он выглядел не очень-то респектабельно: побеленные стены без окон и каких-либо украшений с единственной светящейся вывеской над узкой дверью. Внутри помещение было старым, темным и напоминало Солу гостиницу около Лодзи, где его семья иногда обедала, когда он был еще мальчиком. Между столами бесшумно сновали высокие негры в чистых белых куртках. В воздухе стоял терпкий возбуждающий запах вина, пива и даров моря. — Чудно, — обрадовался Сол. — Если тут еда такая же вкусная, как запахи, это будет что-то незабываемое. Их надежды вполне оправдались. Натали заказала салат с креветками, а Сол съел несколько кусков меч-рыбы, поджаренных на вертеле, с овощами и с картофелем. Оба пили холодное белое вино и разговаривали обо всем на свете, кроме того, зачем пришли сюда. Натали узнала, что Сол живет один, хотя и обременен экономкой, оказавшейся наполовину ведьмой, наполовину терапевтом. Он объяснил Натали, что ему никогда не придется обращаться за профессиональной помощью к своим коллегам, пока рядом есть Тима: она не переставала растолковывать ему его же неврозы и искать способы их излечения. — Значит, у вас нет семьи? — спросила Натали. — Только племянник — в Штатах. — Сол кивнул официанту, убиравшему тарелки с их стола. — В Израиле у меня кузина и множество более дальних родственников. Сол узнал, что мать Натали умерла несколько лет назад и что сама девушка сейчас учится в аспирантуре. — Так вы учитесь в университете на севере? — спросил он. — Ну, не совсем на севере. В Сент-Луисе. Вашингтонский университет. — А почему так далеко от дома? В Чарлстоне ведь есть колледж. Один мой приятель некоторое время преподавал в университете Южной Каролины в... кажется, в Колумбии? — Да. — Потом есть еще Уоффордский колледж. Это в Южной Каролине, так? — Правильно, — кивнула Натали. — Есть еще и Университет Боба Джонса в Гринвилле; но отец хотел, чтобы я уехала подальше от Зоны Бедных Белых Хулиганов, как он ее называл. В Вашингтонском университете в Сент-Луисе прекрасная аспирантура по педагогике. Пожалуй, это одно из лучших заведений для человека с дипломом по искусству. Во всяком случае, там мне даже удалось стать стипендиатом. — Вы — художница? — Фотограф. Немного занималась кино. Немного рисовала и писала маслом. Вторая специальность у меня — английский. Я училась в Оберлине, Огайо. Приходилось слышать? — Да. — В общем, одна моя подруга — она пишет акварелью, и очень хорошо, кстати, зовут ее Диана Гольд, — в прошлом году убедила меня, что мне понравится преподавать. А почему я вам все это рассказываю? Сол улыбнулся. Официант принес счет; Сол настоял на том, что оплатит его сам, и щедро дал на чай. — Вы мне так ничего и не скажете? — спросила Натали. В голосе ее прозвучала боль. — Напротив, — заверил Сол. — Возможно, расскажу вам больше, чем когда-либо кому-то рассказывал. Вопрос только — почему? — Что почему? — Почему мы доверяем друг другу? Вы видите, как незнакомый человек вламывается в чужой дом, а два часа спустя мы вот так мило болтаем, славно поужинав. Я встречаюсь с молодой женщиной, которая первым делом наставляет на меня пистолет, а через пару часов я готов поделиться с ней чем-то таким, что оставалось невысказанным много лет. Почему так, мисс Престон? — Зовите меня Натали. И я могу объяснить только то, что сама чувствую. — Объясните, пожалуйста. — У вас честное лицо, доктор Ласки. Возможно, «честное» — это не то слово. Неравнодушное лицо. В вашей жизни было много печали... — Натали остановилась. — У всех в жизни много печали, — тихо сказал Сол. Темнокожая девушка кивнула. — Но некоторых людей это ничему не учит. Вас, мне кажется, жизнь многому научила. Это... Это видно по вашим глазам. Я не знаю, как яснее выразиться. — Значит, на этом мы основываем свои суждения и само наше будущее? — спросил Сол. — Судим по глазам человека? Натали взглянула на него. — А почему нет? У вас есть лучший способ? — Это не был вызов, просто серьезный вопрос. Ласки медленно покачал головой. — Нет, Пожалуй, лучшего способа нет. По крайней мере, для начала.* * *
Они поехали из исторической части города на юго-запад; Сол катил в своей взятой напрокат «Тойоте» за зеленой «Новой» девушки. Они пересекли реку Эшли по Семнадцатому шоссе и через несколько минут остановились в районе, называющемся Сент-Эндрюс. Дома здесь были белые, обитые досками, район приличный, но населенный в основном рабочим классом. Сол остановился на подъезде к дому за машиной Натали Престон. Внутри дом был чистый и удобный — настоящий дом. Большую часть места в небольшой гостиной занимало тяжелое старинное кресло и такая же тяжелая софа. В камине все было готово, чтобы зажечь огонь; белая каминная доска уставлена горшками со шведским плющом и многочисленными семейными фотографиями в металлических рамах. На стенах тоже висели фотографии, но то были скорее произведения искусства, а не семейные сценки. Сол переходил от фотографии к фотографии, пока Натали включала везде свет и развешивала свое пальто. — Ансельм Адаме. — Сол пристально вгляделся в потрясающую черно-белую фотографию небольшой деревни в пустыне и кладбища, отсвечивающего при свете бледной луны. — Я про него слышал. На другой фотографии тяжелые волны тумана накатывали на город на холме. — Майнор Уайт, — подсказала Натали. — Отец был знаком с ним где-то в начале пятидесятых. Тут же висели фотографии Имоджин Каннингам, Себастьяна Милито, Джорджа Тайса, Андре Кертеша и Роберта Франка. Картина Франка заставила Сола остановиться. Человек в темном костюме и с тростью стоял на крыльце старинного дома или отеля. Лестничный пролет, ведущий на второй этаж, скрывал его лицо. Солу захотелось сделать два шага влево и посмотреть на это лицо. — Жаль, что я не знаю имен, — сказал он. — Они, наверно, известные фотографы? — Некоторые из них — да, — ответила Натали. — Эти литографии теперь, наверно, стоят в сто раз дороже, чем тогда, когда отец покупал их, но он их ни за что не продаст. — Она замолкла. Сол взял в руки снимок — негритянская семья на пикнике. У женщины была теплая улыбка и короткие черные волосы, завитые в стиле начала шестидесятых. — Ваша мать? — Да, — кивнула Натали. — Она погибла в глупой катастрофе в июне шестьдесят восьмого. Два дня спустя убили Роберта Кеннеди. Мне тогда было девять лет. На фотографии маленькая девочка стояла на складном столике и улыбалась, глядя на отца. Рядом Сол заметил портрет отца Натали, когда он был постарше, — серьезный и довольно красивый мужчина. «Тонкие усики и светящиеся глаза делают его похожим на Мартина Лютера Кинга, — подумал Сол, — только без этих свисающих щек». — Прекрасный портрет, — сказал он. — Благодарю вас. Я сделала его прошлым летом. Сол оглянулся. — А нет фотографий, сделанных вашим отцом? — Это здесь. — Натали провела его в столовую. — Папа не хотел, чтобы они висели рядом с другими. На длинной стене над кабинетным пианино, напротив стола, помещались четыре черно-белые фотографии. Две из них были этюды — игра света и тени на стенах старых кирпичных домов. Одна — очень широкая перспектива: необычно освещенный пляж и дальше — море, уходящее в бесконечность. На последней была изображена дорожка в лесу; все в целом представляло собой решение сложной задачи соотношения плоскостей, света, тени и композиции. — Потрясающе! — воскликнул Сол. — Только здесь нет людей. Натали тихо рассмеялась. — Верно. Папа делал портреты ради хлеба насущного, поэтому он говорил, что ни за что не согласится заниматься этим еще и как своим хобби. И потом, он был очень застенчивым человеком. Он не любил снимать откровенные фотографии, на которых были люди, и всегда настаивал, чтобы я заручалась письменным разрешением, когда делала такие снимки. Отец терпеть не мог вторгаться в чью-то личную жизнь. И вообще папа был... ну как вам сказать... слишком стеснительным. Если надо было заказать пиццу с доставкой, он всегда просил меня, чтобы я позвонила... — Голос Натали дрогнул, и она на секунду отвернулась. — Хотите кофе? — Да. Кофе — это хорошо. Рядом с кухней находилась фотолаборатория. Первоначально это, вероятно, была кладовка для провизии либо вторая ванная комната. — Это здесь вы с отцом проявляли фотографии? — спросил Сол. Натали кивнула и включила красную лампочку. В маленькой комнате царил образцовый порядок: увеличитель, склянки с химикалиями — все стояло на своих местах на полках, и на всем были надписи. Над раковиной на нейлоновой леске висело восемь или десять фотографий. Сол стал их рассматривать. Это все были фотографии дома Фуллер, сделанные при разном освещении, в разное время суток и с разных точек. — Ваши ? — Да. Я знаю, что это глупо, но все же лучше, чем просто сидеть в машине целый день и ждать, когда что-нибудь случится. — Она пожала плечами. — Я наведываюсь в полицию и в контору шерифа каждый день, но от них никакой помощи. Вам со сливками? С сахаром? Сол отрицательно покачал головой. Они перешли в гостиную и сели у камина — Натали в кресло, Сол на софу. Чашки для кофе были из такого тонкого фарфора, что казались прозрачными. Натали поправила поленья и растопку и зажгла огонь. Поленья загорелись сразу и горели хорошо и ровно. Некоторое время они сидели молча, глядя на пламя. — В прошлую субботу я с друзьями покупала в Клейтоне подарки к Рождеству, — сказала наконец Натали. — Это пригород Сент-Луиса. Потом мы пошли в кино... Смотрели «Пучеглазого», с Робином Уильямсом. В тот вечер я вернулась в свою квартиру в университетском городке около одиннадцати тридцати. Как только зазвонил телефон, я поняла: что-то случилось. Не знаю, почему. Мне часто звонят друзья, и довольно поздно. Фредерик, например, обычно освобождается в своем компьютерном центре после одиннадцати, и ему иногда приходит в голову пойти куда-нибудь, поесть пиццы или еще что-то. Но на этот раз звонок был междугородный, и я поняла, что новости дурные. Звонила мисс Калвер, наша соседка. Они с мамой были хорошими подругами. В общем, она все твердила, что произошел несчастный случай; все время повторяла это выражение, — «несчастный случай». Только через минуту-две я поняла, что папа мертв, что его убили. Я вылетела в воскресенье первым рейсом. Здесь все было закрыто. Я позвонила в морг еще из Сент. — Луиса, но когда сюда добралась, двери морга оказались заперты, и мне пришлось бегать вокруг здания и искать кого-нибудь, кто впустил бы меня. Они не были готовы к моему приходу. Хотя мисс Калвер встретила меня в аэропорту, она, не переставая, плакала и поэтому осталась в машине. То, что я увидела, не было похоже на папу. Еще меньше это было похоже на него во вторник, во время похорон, со всей этой косметикой. У меня в голове все перепуталось. В воскресенье никто в полиции не знал, что происходит. Они пообещали, что вечером мне позвонит детектив Холман, но он позвонил только в понедельник после обеда. Вместо этого шериф графства, мистер Джентри пришел в морг еще в воскресенье. Потом он подвез меня домой и попытался ответить на некоторые мои вопросы; все остальные задавали вопросы мне. В общем, в понедельник приехали тетя Лия и мои кузины, и мне некогда было подумать до самой среды. На похороны пришло множество народу. Я как-то забыла, что отца в городе очень любили. Собралось множество коммерсантов и просто людей из Старого Города. Пришел шериф Джентри. Тетя Лия хотела остаться со мной неделю-другую, но ее сыну, Флойду, нужно было возвращаться в Монтгомери. Я сказала ей, что со мной все будет в порядке. Пообещала приехать на Рождество... — Натали замолчала. Сол сидел, наклонившись вперед, сцепив руки. Девушка глубоко вздохнула и махнула куда-то в сторону окна, выходящего на улицу. — Мы с отцом всегда наряжали елку в это воскресенье. Получается довольно поздно, но папа говорил, что это доставляет больше удовольствия, чем когда елка торчит в комнате неделями. Мы обычно покупаем ее на улице Саванна. Знаете, в субботу я купила ему рубашку. Красную, в клетку. Не знаю, почему, но я привезла ее с собой. Просто не знаю, почему я это сделала. Мне придется отвезти ее назад. — Она замолчала и опустила лицо. — Извините меня, я сейчас... — Натали быстро встала и вышла на кухню. Сол посидел несколько минут, глядя на огонь, крепко стиснув руки. Потом пошел за ней. Натали стояла, прислонившись к кухонному столику; в левой руке у нее была зажата бумажная салфетка. Сол остановился рядом. — От всего этого можно сойти с ума. — Она все еще не смотрела на Сола. — Да. — Как будто он был ничем. Просто какой-то неважной мелочью. Вы понимаете, что я хочу сказать? — Да. — Когда я была маленькой, я часто смотрела ковбойские фильмы по телевизору, — продолжала Натали. — И когда там кого-нибудь убивали, даже не героя и не злодея, а так, просто какого-то постороннего человека, то получалось — вроде его никогда не было, понимаете? И вот это не давало мне покоя. Мне было всего шесть или семь, но это очень волновало меня. Я всегда думала об этом человеке, и что у него, наверно, были родители, и что он столько лет рос, и как он в то утро одевался, а потом бац! — и его больше нет, просто потому, что автор хотел показать, как ловко его герой-супермен обращается с оружием или еще что-нибудь. А-а, ч-черт, я никак не могу выразить, что хочу сказать... — Натали сильно ударила по столику ладонью. Сол шагнул вперед и коснулся ее руки. — Да нет, вы очень хорошо все выразили. — У меня просто все кипит внутри. — Она всхлипнула. — Мой отец был, он взаправду существовал. И он никогда никому не причинял боли. Вообще никогда. Он был самым добрым человеком, которого я когда-либо знала, и вот теперь его убили, и никто не может сказать, почему. Они просто не знают. О-о, будь все проклято... Извините меня. Сол обнял ее и так держал, пока она не успокоилась.. Натали разогрела кофе и теперь сидела а кресле. Сол стоял у камина, рассеянно проводя рукой по листьям шведского плюща. — Их было трое, — тихо сказал он. — Мелани Фуллер, Нина Дрейтон и человек из Калифорнии по фамилии Борден. И все трое были убийцы. — Убийцы? Но в полиции сказали, что миз Фуллер была довольно старой леди... очень старой.... а мисс Дрейтон тоже оказалась жертвой в тот вечер... — Да, — кивнул Сол, — и все же они трое и есть убийцы. — При мне никто не упоминал имени Бордена, — заметила Натали. — Он был там, — пояснил Сол. — И он был на борту самолета, который взорвался в пятницу ночью, или, точнее, рано утром в субботу. Скажем так: предполагалось, что он летел тем самолетом. — Я не понимаю. Все это произошло за несколько часов до того, как убили отца. Как мог этот Борден... или хотя бы эти пожилые леди... Как они могли быть связаны с убийством отца? — Они использовали людей, — сказал Сол. — Они... как бы это сказать, контролировали других людей. У них, у каждого, были свои подручные. Все это очень трудно объяснить. — Вы хотите сказать, они были связаны с мафией или что-то в этом роде? Сол улыбнулся. — Было бы хорошо, если бы все было так просто. Натали покачала головой. — Я не понимаю. Сол вздохнул. — Это очень долгая история... отчасти она совершенно фантастическая, можно сказать, невероятная. Лучше бы вам никогда не пришлось ее выслушивать. Вы либо сочтете меня сумасшедшим, либо окажетесь вовлеченной в нечто такое с ужасными последствиями. — Но я уже вовлечена, — твердо заявила Натали. — Да. — Сол помедлил. — Но нет необходимости впутываться в это еще глубже. — Нет, я буду впутываться, по крайней мере до тех пор, пока не найдут убийцу моего отца. Я этого добьюсь с вами и с вашей информацией или же обойдусь без вас, доктор Ласки. Клянусь вам. Сол долго смотрел на молодую женщину, потом снова тяжело вздохнул. — Да, похоже, вы сдержите клятву. Хотя, возможно, вы измените свое намерение, когда я расскажу вам то, что хочу рассказать. Боюсь, для того чтобы объяснить что-либо об этих троих пожилых людях, об этих трех убийцах, чьей жертвой пал ваш отец, мне придется рассказать вам мою собственную историю. — Рассказывайте. — Натали поглубже устроилась в кресле. — Времени у меня сколько угодно.* * *
— Я родился в 1925 году в Польше, — начал рассказывать Сол. — В городе Лодзи. Родители мои были довольно обеспеченные люди. Отец — врач. Семья еврейская, но не ортодоксально еврейская. В молодости моя мать подумывала о том, чтобы перейти в католичество. Отец считал себя врачом — во-первых, поляком — во-вторых, гражданином Европы — в-третьих и лишь в-четвертых — евреем. Возможно, еврейство стояло у него где-нибудь на еще более далеком месте. Когда я был мальчиком, евреям неплохо жилось в Лодзи, лучше, чем во многих других местах. Из шестисот тысяч населения примерно треть составляли евреи, Многие горожане — бизнесмены, ремесленники были евреями. Несколько друзей и подруг моей матери являлись деятелями искусства. Ее дядямного лет играл в городском симфоническом оркестре. К тому времени, когда мне минуло десять лет, многое в этом отношении изменилось. Вновь избранные в местное управление представители партий обещали убрать евреев из города. Страна, казалось, заразилась антисемитизмом, бушевавшим в соседней стране, в Германии, и становилась все более враждебной к нам. Отец говорил, что во всем виноваты тяжелые времена, через которые мы только что прошли. Он неустанно повторял, что европейские евреи привыкли к волнам погромов, за которыми следовали поколения прогресса. «Мы все — человеческие существа, — говорил он, — несмотря на временные различия, разделяющие нас». Я уверен, что отец встретил смерть, все еще веря в это. Сол замолчал, походил по комнате, потом остановился, положив руки на спинку софы. — Видите ли, Натали, я не привык рассказывать об этом. Я не знаю, что тут необходимо для понимания ситуации, а что нет. Возможно, нам следует подождать до следующего раза. — Нет, — твердо сказала Натали. — Сейчас. Не торопитесь. Вы сказали, что это поможет объяснить, почему был убит мой отец. — Да. — Тогда продолжайте. Расскажите все. Сол кивнул, обошел софу и сел, положив руки на колени. Руки у него были большие, и он иногда жестикулировал ими во время рассказа. — Когда немцы вошли в наш город, мне исполнилось четырнадцать. Это было в сентябре тридцать девятого. Поначалу все шло не так уж плохо. Было решено назначить Еврейский Совет для консультаций по управлению этим новым форпостом рейха. Отец объяснил мне, что с любыми людьми всегда можно договориться в цивилизованной форме. Он не верил в дьяволов. Несмотря на возражение матери, отец предложил свои услуги в качестве члена Совета. Но из этого ничего не вышло. Уже был назначен тридцать один человек из видных горожан-евреев. Спустя месяц, в начале ноября, немцы выслали всех членов Совета в концлагерь и сожгли синагогу. В семье стали поговаривать о том, что надо бы переехать на ферму нашего дяди Моше около Кракова. В Лодзи в это время уже было очень трудно с продуктами. Обычно мы проводили на ферме лето и думали, как будет здорово побывать там вместе со всей семьей. Через дядю Моше мы получили весточку от его дочери Ребекки, которая вышла замуж за американского еврея и собиралась выехать в Палестину, заниматься там фермерством. Уже несколько лет она пыталась уговорить молодежь нашей семьи присоединиться к ней. Сам я с удовольствием отправился бы на ферму. Вместе с другими евреями меня уже исключили из школы в Лодзи, а дядя Моше когда-то преподавал в Варшавском университете, и я знал, что он с удовольствием займется моим воспитанием. По новым законам, отец имел право лечить теперь только евреев, а большинство их жили в отдаленных и самых бедных кварталах города. Причин оставаться было не много — гораздо больше причин было уехать. Но мы остались. Решили, что поедем к дяде Моше в июне, как всегда, а потом подумаем, возвращаться в город или нет. Как мы были наивны! В марте 1940 гестапо выгнало нас из собственных домов и организовало в городе еврейское гетто. К моему дню рождения, к пятому апреля, гетто было полностью изолировано. Евреям строго запретили ездить куда бы то ни было. Немцы снова создали совет — его называли юденрат, и на этот раз отца в него включили. Один из членов совета, Хаим Румковский, часто приходил в нашу квартиру — это была одна-единственная комната, в который мы спали ввосьмером, — и они с отцом сидели всю ночь, обсуждая разные вопросы управления гетто. Это невероятно, но порядок сохранялся, несмотря на скученность и голод. Я снова ходил в школу. Когда отец не заседал в Совете, он работал по шестнадцать часов в день в одной из больниц, которую они с Румковским буквально создали из ничего. Так мы жили, точнее выживали, целый год. Я был для своего возраста очень мал ростом, но скоро научился искусству выживания в гетто, хотя для этого приходилось воровать, прятать продукты в укромные уголки и торговаться с немецкими солдатами, меняя вещи и сигареты на еду. Осенью сорок первого немцы стали свозить тысячи западных евреев в наше гетто. Некоторых привозили даже из Люксембурга. Многие из них были немецкими евреями; они смотрели на нас свысока. Я помню, как подрался с мальчишкой старше меня, евреем из Франкфурта. Он был гораздо выше меня — к тому времени мне исполнилось шестнадцать, но я легко мог сойти за тринадцатилетнего — и все равно я сшиб его с ног. Когда он попытался встать, я ударил его доской и разбил ему лоб. Он прибыл за неделю до того, в одном из этих пломбированных вагонов, и был все, еще очень слаб. Я уже не помню, из-за чего мы подрались. В ту зиму моя сестра Стефа умерла от тифа, а с ней и тысячи других людей. Мы все очень радовались, что наступила весна, несмотря на известия о возобновлении немецкого наступления на Восточном фронте. Отец считал скорое падение России хорошим признаком. Он думал, что война закончится к августу и многие евреи будут переселены в русские города. «Возможно, нам придется стать фермерами и кормить их новый рейх, — говорил он. — Но быть фермером не так уж плохо». Но в мае большинство немецких и иностранных евреев были вывезены на юг, в Освенцим. В Аушвиц. У нас мало кто слышал об Освенциме, пока туда не покатили поезда из нашего гетто. До той весны наше гетто использовалось как большой загон для скота. Теперь же четыре раза в день отсюда отправлялись поезда. В качестве члена юденрата отец был вынужден участвовать в сборе и отправке тысяч людей. Все делалось по порядку. Отцу это было ненавистно. Потом он по целым суткам не выходил из больницы, работал — будто искупал свою вину. Наш черед настал в конце июня, примерно в то время, когда мы обычно отправлялись на ферму дяди Моше. Всем семерым было приказано явиться на станцию. Мама и мой младший брат Йозеф плакали. Но мы пошли. Мне кажется, что мой отец даже почувствовал облегчение. Нас не послали в Аушвиц. Нас отправили на север, в Челмно — деревню километрах в семидесяти от Лодзи. У меня когда-то был товарищ, маленький провинциал по имени Мордухай, семья которого была родом из Челмно. Позже я узнал, что именно в Челмно немцы проводили свои первые эксперименты с газовыми камерами. Как раз в ту зиму, когда Стефа умерла от тифа. Мы много слышали о перевозке людей в пломбированных вагонах, но наша поездка была совсем не похожа на это и даже, можно сказать, приятна. Мы добрались до места за несколько часов. Вагоны были набиты битком, но это были обычные пассажирские вагоны, а не товарняки. День — двадцать четвертое июня — стоял великолепный. Когда мы прибыли на станцию, ощущение было такое, будто мы снова едем на ферму к дяде Моше. Станция Челмно оказалась крохотной, просто небольшой сельский разъезд, окруженный густым зеленым лесом. Немецкие солдаты повели нас к ожидавшим грузовикам, но они вели себя спокойно и даже, казалось, были шутливо настроены. Никто нас не толкал и не кричал на нас, как в Лодзи — там мы к этому уже привыкли. Нас отвезли в большую усадьбу за несколько километров, где был устроен лагерь. Там нас зарегистрировали — я отчетливо помню ряды столов, за которыми сидели чиновники. Столы были расставлены на гравиевых дорожках, было жарко, пели птицы... А потом нас разделили на мужскую и женскую группы для помывки и дезинфекции. Мне хотелось побыстрее догнать остальных мужчин, и поэтому я так и не увидел, как маму и четырех моих сестер увели. Они исчезли — уже навсегда — за забором, окружавшим лагерь для женщин. Нам велели раздеться и стать в очередь. Я очень стеснялся, потому что только прошлой зимой начал взрослеть. Не помню, боялся ли я чего-нибудь или нет. День был жаркий, после бани нас обещали накормить, а звуки леса и лагеря поблизости делали атмосферу дня праздничной, почти карнавальной. Впереди на поляне я увидел большой фургон с яркими картинками животных и деревьев на его стенках. Очередь уже двинулась в направлении поляны, когда появился эсэсовец, молодой лейтенант в очках с толстыми стеклами, с застенчивым лицом, и пошел вдоль очереди, отделяя больных, самых младших и стариков от тех, что покрепче. Подойдя ко мне, лейтенант замешкался. Я был все еще невысок для своего возраста, но в ту зиму я ел довольно сносно, а весной стал быстро расти. Он улыбнулся и махнул небольшим стеком, и меня отправили в короткую шеренгу здоровых мужчин. Отца тоже послали туда. Йозефу, которому минуло всего восемь, было велено оставаться с детьми и стариками. Он заплакал, и отец отказался оставить его. Я тоже вернулся в ту шеренгу и встал рядом с отцом и Йозефом. Молодой эсэсовец махнул охраннику. Отец приказал мне вернуться к остальным. Я отказался. И тогда, единственный раз в жизни, отец толкнул меня и крикнул: «Иди!» Я упрямо замотал головой и остался в шеренге. Охранник, толстый сержант, пыхтя, приближался к нам. «Иди!» — повторил отец и ударил меня по щеке. Потрясенный, обиженный, я прошел, спотыкаясь, эти несколько шагов к той короткой шеренге, прежде чем подошел охранник. Я злился на отца и не мог понять, почему бы нам не войти в эту баню вместе. Он унизил меня перед другими мужчинами. Сквозь злые слезы я смотрел, как он удалялся, смотрел на его согнутую обнаженную спину; отец нес Йозефа; брат перестал плакать и все оглядывался назад. Отец тоже обернулся, взглянул на меня, всего один раз, прежде чем исчезнуть из виду вместе с остальной шеренгой детей и стариков. Примерно пятую часть мужчин, прибывших в тот день, не дезинфицировали. Нас повели строем прямо в барак и выдали грубую тюремную одежду. Отец не появился ни после обеда, ни вечером; я помню, как плакал от одиночества в ту ночь, прежде чем заснуть в вонючем бараке. Я был уверен, что в тот момент, когда отец отослал меня из шеренги, он лишил меня возможности находиться в той части лагеря, где жили семьи. Утром нас накормили холодным картофельным супом и сформировали бригады. Мою бригаду повели в лес. Там был вырыт ров, примерно семьдесят метров в длину, больше десяти в ширину и по крайней мере пять метров в глубину. Судя по свежевскопанной земле, поблизости были еще рвы, уже заполненные. Я должен был сразу все понять по запаху, но я все еще отказывался осознать, догадаться, пока не прибыл первый из фургонов того дня. Это были те же самые фургоны, которые я видел в предыдущий день. Видите ли, Челмно служил чем-то вроде испытательного полигона. Как выяснилось позже, Гиммлер приказал установить там газовые камеры, работающие на синильной кислоте, но в то лето они все еще пользовались углекислым газом в запечатанных камерах и в тех ярко раскрашенных фургонах. В наши обязанности входило отделять тела друг от друга, можно сказать, отрывать их друг от друга, потом сбрасывать в ров и засыпать землей и известью, пока не прибудет следующий груз тел. Душегубки оказались неэффективным орудием убийства. Зачастую почти половина жертв выживала, и их, полуотравленных выхлопными газами, на краю рва пристреливали Totenkopfverbande части «Мертвая голова»: эти солдаты поджидали прибытия фургонов, покуривая и обмениваясь шутками друг с другом. И все равно некоторые люди были еще живы даже после душегубок и расстрела, и их засыпали землей, когда они еще шевелились. В тот вечер я вернулся в барак, покрытый кровью и экскрементами. Я подумал, не лучше ли мне умереть, но решил все же, что буду жить. Жить несмотря ни на что, жить только для того, чтобы жить! Я соврал им, сказав, что я — сын зубного врача и сам учился зубоврачебному делу. Капо смеялись — по их мнению, я был слишком молод для этого, но на следующей неделе меня включили в бригаду выдергивателей зубов. Вместе с тремя другими евреями я обшаривал обнаженные тела в поисках колец, золота и прочих ценностей. Стальными крюками мы тыкали мертвецам в задний проход и во влагалище. Потом я плоскогубцами вырывал у них золотые зубы и пломбы. Часто меня посылали работать в ров. Сержант-эсэсовец по фамилии Бауэр иногда, смеясь, швырял в меня куски земли, стараясь попасть в голову. У него у самого было два золотых зуба. Через неделю-другую евреев из похоронной команды расстреливали; а их место занимали вновь прибывшие. Я провел во Рву девять недель. Каждое утро я просыпался с уверенностью, что сегодня настанет мой черед. Каждую ночь, когда мужчины постарше читали в бараке каддиш, когда я слышал, как с темных нар возносились крики «Эли, Эли», я в отчаянии заключал сделку с Богом, в которого больше не верил. «Еще один день, — повторял я. — Всего один день». Но больше всего я верил в свою волю — выжить. Возможно, я страдал солипсизмом отрочества, но мне казалось, что если я буду достаточно сильно верить в свое собственное существование и в то, что оно будет длиться, все так и будет. В августе лагерь разросся, и меня по какой-то причине перевели в Waldkommando, в лесную бригаду. Мы валили лес, выкорчевывали пни и добывали камень для строительства дорог. Каждые несколько дней колонна рабочих, возвращающихся после смены, всем составом отправлялась в фургоны или прямо в Ров. Таким образом шел «естественный отбор». В ноябре выпал первый снег; к тому времени я был в Waldkommando дольше, чем кто бы то ни было, за исключением старого капо — Карского. — Что такое «капо»? — спросила Натали. — Капо — это надсмотрщик с плеткой. — И они помогали немцам? — Написаны целые ученые трактаты про капо и про то, как они отождествляли себя со своими хозяевами-нацистами, — пояснил Сол. — Стэнли Элкинс и другие авторы исследовали этот эффект повиновения, характерный для концлагерей; они сравнивают его с покорностью и самоотождествлением черных рабов в Америке. Недавно, в сентябре, я участвовал в обсуждении так называемого стокгольмского синдрома; в этих случаях заложники не только отождествляют себя со своими тюремщиками, но и активно помогают им. — А-а. Вроде этой, как ее, Патти Херст. — Да. И вот это... это господство, держащееся на силе воле, уже много лет не дает мне покоя. Я просто одержим этим. Но мы поговорим о нем после. Пока же я могу сказать одно: если это хоть как-то оправдывает меня, — за все время, проведенное в лагерях, я не сделался капо. В ноябре сорок второго, когда работы по усовершенствованию лагеря были закончены, меня перевели из временного барака назад, в основной лагерь. Меня включили в бригаду, работающую во Рву. К тому времени печи уже построили, но немцы не рассчитали количество евреев, прибывающих по железной дороге, поэтому и фургоны-душегубки, и Ров все еще работали. Мои услуги зубного врача для мертвых больше были не нужны, и я засыпал могилы гашеной известью, дрожал в холоде ранней зимы и ждал. Я знал, что еще несколько дней — и я стану одним из тех, кого хоронил каждый день. Потом, в ночь на четверг, девятнадцатого ноября тысяча девятьсот сорок второго года, произошло одно событие. — Сол замолчал. Через несколько секунд он встал и подошел к камину. Огонь почти прогорел. — Натали, у вас нет ничего выпить покрепче кофе? Немного хересу, скажем? — Конечно. Бренди подойдет? — Великолепно. Она скоро вернулась с большим бокалом, почти до краев наполненным бренди. Сол за это время помешал угли, добавил дров, и огонь снова ожил. — Спасибо, дорогая. — Он повертел бокал в пальцах и глубоко вдохнул аромат бренди, потом сделал глоток. Огонь трещал и шипел. — В четверг — я практически уверен, что все это случилось девятнадцатого ноября сорок второго года, — поздно ночью пятеро немцев вошли в наш барак. Они и раньше приходили. Каждый раз они уводили четверых, и тех потом никто уже никогда не видел. Заключенные из остальных семи бараков нашего лагеря рассказывали, что у них происходило то же самое. Мы не могли понять, зачем наци нужно было идти на такой способ ликвидации, когда ежедневно тысячи открыто отправлялись в Ров, но мы тогда многого не понимали. Люди шепотом говорили о медицинских экспериментах. В ту ночь с охранниками был молодой оберет, то есть полковник. И в ту ночь они выбрали меня. Я решил сопротивляться, если они придут за мной ночью. Понимаю, что это противоречит моему решению жить несмотря ни на что, но мысль о том, что меня уведут во тьму, почему-то внушала мне панический ужас, отнимала всякую надежду. Я готов был драться. Когда эсэсовцы приказали мне встать с нар, я понял, что мне осталось жить всего несколько секунд, и решил попытаться убить хотя бы одного из этих скотов, прежде чем они убьют меня. Но этого не случилось. Оберет велел мне встать — и я подчинился. Вернее, мое тело не подчинилось моей воле. Это не было трусостью или покорностью: оберет просто проник в мое сознание. Я не знаю, как это еще выразить. Я это чувствовал, точно так же, как готов был спиною ощутить выстрел — но пули так и не ударили в меня. Я чувствовал, как он движет моими мышцами, переставляет мои ноги по полу и выносит мое тело из барака. А эсэсовцы-охранники все это время хохотали. То, что я тогда ощутил, описать невозможно. Это можно назвать только изнасилованием сознания, но и это выражение не передает всего чувства насилия. Ни тогда, ни сейчас у меня нет и не было веры в одержимость бесами или какие-либо сверхъестественные проявления. То, что там случилось, было результатом вполне реальной психической либо психофизиологической способности контролировать сознание других человеческих существ. Всех посадили в грузовик, что само по себе было невероятно. Кроме той короткой обманной поездки со станции Челмно, евреям никогда не позволяли ездить на машинах. В ту зиму рабы в Польше были намного дешевле бензина. Нас отвезли в лес — шестнадцать человек, включая молодую еврейку из женского барака. То, что я назвал изнасилованием сознания, временно прекратилось, но от него осталось в голове нечто гораздо более грязное и постыдное, чем экскременты, которыми я пачкался каждый день, работая во Рву. Наблюдая, как себя вели и о чем шептались другие евреи, я понял, что они не испытали ничего подобного. Честно говоря, в тот момент я усомнился в твердости своего разума. Мы ехали меньше часа. В кузове грузовика с нами был один охранник с автоматом. Лагерные охранники почти никогда не носили автоматического оружия, опасаясь, что его могут захватить. Я еще не оправился от того ужаса, испытанного в бараке, иначе я попытался бы напасть на немца или по крайней мере спрыгнуть с машины. Но само невидимое присутствие полковника в кабине грузовика наполняло меня чувством неизбывного страха, который был глубже и сильнее всего мною пережитого за последние месяцы. Было уже за полночь, когда мы приехали в усадьбу, гораздо большую, чем тот особняк, вокруг которого построено Челмно. Она находилась в глубокой чаще. Американцы назвали бы это сооружение замком, но оно было и больше, и меньше, чем замок. То было поместье феодалов, иногда еще встречавшихся в самых отдаленных лесных угодьях моей страны: огромное скопление каменных стен, которые строились, перестраивались и расширялись бесчисленными поколениями семей отшельников, чья родословная восходила еще к дохристианским временам. Грузовики остановились, и нас загнали в подвал неподалеку от главного зала. Судя по военным автомобилям, стоявшим среди остатков английского парка, и разгульному шуму, доносившемуся из дворца, было похоже, что немцы реквизировали усадьбу под дом отдыха для своих привилегированных частей. В самом деле, когда нас заперли в подвале без окон и без света, я услышал, как литовский еврей из другого грузовика прошептал, что он узнал полковые эмблемы на машинах. То были эмблемы Einsatzgruppe — группы специального назначения, которая истребила целые еврейские деревни в окрестностях его родного Двинска. Даже эсэсовские Totenkopfverbande, уничтожавшие людей в лагерях, относились к Einsatzgruppe со страхом, граничившим с ужасом. Через некоторое время охранники вернулись с факелами. В подвале находилось тридцать два человека. Разделив людей на две равные группы, эсэсовцы повели их наверх, в разные комнаты. Группу, в которой был я, одели в грубые туники, выкрашенные в красный цвет, с белыми символами спереди. Мой символ — нечто вроде башни или фонарного столба в стиле барокко — ничего мне не говорил. У мужнины рядом со мной на груди был силуэт слона с поднятой правой ногой. Затем нас привели в главный зал, где мы застали картину времен Средневековья, написанную Иеронимом Босхом; сотни эсэсовцев и убийц из Einsatzgruppen отдыхали, играли в азартные игры и насиловали женщин где придется. Им прислуживали польские девушки-крестьянки; некоторые из них были еще совсем юные девочки. В кронштейны по стенам были вставлены факелы, зал освещался мерцающим светом, как в картине Страшного Суда. Куски брошенной еды валялись и гнили где ни попадя. Столетней давности гобелены были перепачканы и покрыты сажей, поднимавшейся из открытых каминов. Банкетный стол, некогда великолепное произведение искусства, был изуродован кинжалами: немцы вырезали на нем свои имена. На полу валялись и храпели те, кто напились до скотского состояния. Я видел, как двое солдат мочились на ковер, который хозяин замка, должно быть, привез когда-то из крестового похода. В центре огромного зала на полу был освобожден квадрат примерно метров одиннадцать на одиннадцать, выложенный черными и белыми плитами. По обе стороны этого квадрата, там, где начинались галереи, на каменных плитах друг против друга были установлены два тяжелых кресла. На одном из этих тронов восседал молодой оберет — бледный, светловолосый ариец с худыми и белыми руками. В другом кресле сидел старик; он выглядел таким же древним, как и каменные стены, окружавшие нас. На нем тоже была форма эсэсовского генерала, но он больше походил на сморщенную восковую куклу, одетую в мешковатый наряд злыми детьми. Из боковой двери вывели группу евреев, привезенных на другом грузовике. На них были светло-синие туники с черными символами, такими же, как у нас. Увидев на женщине светло-синее одеяние с короной на груди, я понял, что будет происходить. В том состоянии истощения и постоянного страха, в котором я пребывал, можно было поверить любому безумию. Каждому из нас приказали занять свой квадрат. Я исполнял роль слоновой пешки белого короля и стоял в трех метрах от трона оберста, чуть впереди и справа от него, лицом к лицу с перепуганным литовским евреем, — он был пешкой черного слона. Крики и пение смолкли. Немецкие солдаты собрались вокруг нас, стремясь занять места поближе к краю квадрата. Некоторые из них забрались на лестницы и столпились на галереях, чтоб лучше видеть. С полминуты ничего не было слышно, кроме потрескивания факелов и тяжелого дыхания толпы. Мы стояли на указанных квадратах, — тридцать два умирающих от голода еврея, с ледяными лицами, неподвижными глазами, ожидая, что же с нами будет. Старик слегка наклонился вперед и подал знак оберсту. Тот улыбнулся и кивнул. Началась игра в живые шахматы...* * *
Оберет снова кивнул, и пешка слева от меня — худой еврей с серой щетиной на щеках — сделала два шага вперед. Старик ответил тем, что продвинул вперед свою королевскую пешку. Глядя, как двигаются эти несчастные заключенные, которые не понимали, что с ними происходит, я был уверен, что они не в состоянии контролировать свои собственные тела. Я немного играл в шахматы со своим отцом и дядей и знал стандартные гамбиты. Оберет глянул вправо, и крупный поляк с эмблемой коня на тунике вышел на поле и встал передо мной. Старик двинул вперед коня со стороны королевы. Оберет вывел нашего слона, небольшого роста мужчину с перевязанной левой рукой, и поставил его в пятом ряду, на вертикали коня. Старик передвинул ферзевую пешку на одну клетку вперед. Я бы отдал все, чтобы иметь любую другую эмблему, лишь бы не пешки. Фигура низкорослого крестьянина передо мной, изображавшего коня, не давала практически никакой защиты. Справа от меня другая пешка обернулась и тут же сморщилась от боли: оберет заставил ее смотреть вперед. Я поворачиваться не стал. У меня начали дрожать ноги. Оберет передвинул нашу ферзевую пешку на два хода вперед и поставил ее рядом со старой пешкой на королевской вертикали. Ферзевой пешкой был мальчик-подросток, он украдкой посматривал по сторонам, не поворачивая головы. Только крестьянин-конь передо мной прикрывал мальчика от пешки старика. Старик слегка двинул левой рукой, и его «слон» встал перед женщиной-голландкой, изображавшей его королеву. Лицо «слона» было очень бледным. На пятом ходу оберет вывел вперед нашего второго «коня». Я не мог видеть лица этого человека. Эсэсовцы, сгрудившиеся вокруг, начали орать и хлопать в ладоши после каждого хода, словно зрители на футбольном матче. До меня доносились обрывки разговоров; в них противника оберста называли «Стариком» (Der Alte). А оберста «болельщики» подбадривали криками: «Der Meister!» Старик подался вперед, словно паук; его королевский конь встал перед ферзевой пешкой. В роли коня выступал молодой и сильный парень, вероятно, он в лагере отбыл всего несколько дней. На лице его застыла идиотская улыбка, словно ему нравилась эта кошмарная игра. Будто в ответ на улыбку мальчишки, оберет передвинул своего хрупкого «слона» на тот же квадрат. Теперь я узнал слона, — это был плотник из нашего барака, который поранился два дня тому назад, когда резал доски для постройки сауны охранников. Низкорослый плотник поднял здоровую руку и хлопнул черного «коня» по плечу, как он хлопнул бы своего друга, которого пришел сменить на посту. Я не видел, откуда мелькнула вспышка. Стреляли с галереи позади меня, но выстрел прозвучал так громко, что я вздрогнул и хотел обернуться. И в это мгновение оберет, как клещами, стиснул мою шею. Улыбка юноши, изображавшего коня, исчезла в красном облачке: от удара пули его череп просто взорвался. «Пешки», стоявшие за ним, в ужасе съежились, но боль заставила их сразу же выпрямиться. Тело «коня» отлетело назад, почти на то же место, откуда он сделал ход. На квадрат белой пешки уже натекла лужа крови. Два эсэсовца выскочили вперед и оттащили труп. Из размозженного черепа брызнули ошметки, запачкав несколько стоявших рядом черных фигур. По залу прокатились крики одобрения «болельщиков». Старик снова наклонился вперед; его «слон» шагнул по диагонали туда, где находился наш. Черный «слон» слегка дотронулся до перевязанной руки плотника. На этот раз перед выстрелом была небольшая заминка. Пуля ударила нашего «слона» под левую лопатку; коротышка споткнулся, сделав два шага вперед, с секунду постоял, рука его поднялась, словно он хотел почесаться, но тут колени его подломились, и он мешком свалился на плиты. Вперед вышел сержант, приставил к черепу плотника «люгер» и выстрелил один раз, потом оттащил все еще дергающийся труп с «шахматной доски». Игра возобновилась. Оберет подвинул нашу «королеву» на две клетки вперед. Теперь ее отделял от меня лишь один пустой квадрат; мне было видно, что ногти ее обгрызаны почти до мяса. Это напомнило мне о моей сестре Стефе, и я с изумлением обнаружил, что глаза мои застилают слезы. В первый раз я заплакал, вспомнив о Стефе. Под рев пьяной толпы Старик сделал свой следующий ход. Его королевская «пешка» быстро шагнула вперед и сразила нашу ферзевую пешку. Этой «пешкой» был бородатый поляк, явно правоверный еврей. Винтовка щелкнула дважды, почти без паузы. Черная королевская пешка оказалась залита кровью, когда она заняла место нашей ферзевой пешки. Теперь передо мной не было никого, только три пустые клетки, а дальше — черный конь. Свет факелов отбрасывал длинные тени. Пьяные эсэсовцы, стоявшие по краям «доски», что-то вопили, давая советы игрокам. Я не смел повернуться, но увидел, как Старик пошевелился на своем насесте. Должно быть, он осознал, что теряет контроль над центром шахматного поля. Старик повернул голову, и его «пешка», стоявшая перед «конем» со стороны «короля», передвинулась на одну клетку. Оберет вывел нашего уцелевшего «слона» на следующее поле, блокируя вражескую «пешку» и угрожая «слону» Старика. Толпа зашлась в восторженном крике. Игроки закончили гамбит и перешли к миттельшпилю. Обе стороны провели рокировку, обе ввели в игру свои «ладьи». Оберет передвинул «ферзя» на поле передо мной. Я смотрел на лопатки «королевы», резко выпирающие сквозь ткань ее одеяния, на завитки волос, рассыпанных по спине. Кулаки мои невольно то сжимались, то разжимались. С самого начала игры я не пошевелился. От страшной головной боли у меня в глазах плясали огненные точки; я мог потерять сознание, и мысль об этом внушала мне ужас. Что тогда случится? Позволит ли мне оберет упасть на пол или он будет удерживать мое бесчувственное тело на клетках, как ему надо? Судорожно вздохнув, я попробовал сосредоточиться на отсветах факелов на гобелене, висевшем на дальней стене. На четырнадцатом ходу Старик послал «слона» на ту клетку в центре доски, где стоял наш «конь», которого изображал крестьянин. На этот раз выстрела не было. Рослый, тяжелый сержант-эсэсовец ступил на доску и вручил свой парадный кортик черному «слону». В зале все смолкли. Свет факелов плясал на отточенной стали. Приземистый крестьянин извивался, метался, мышцы его рук дергались, — я видел, что он тщетно пытается вырваться из-под власти оберста, но ничего не может сделать. Одним ударом лезвия он перерезал себе горло. Сержант-эсэсовец поднял свой кортик и жестом велел двоим солдатам убрать труп. Игра возобновилась. Одна из наших «ладей» побила вырвавшегося вперед «слона». В ход снова пошел кортик. Стоя за молодой «королевой», я крепко закрыл глаза. Открыл я их через несколько ходов, после того как оберет передвинул мою «королеву» на одну клетку вперед. Когда она покинула меня, мне захотелось заорать. Старик немедленно перевел свою «королеву», молодую девушку-голландку, на пятую клетку ладейной вертикали, «ферзь» противника теперь находился от меня всего через одну пустую клетку по диагонали. Между нами никого не было. Я почувствовал, как у меня внутри все похолодело от страха. Оберет перешел в наступление. Первым делом он послал вперед пешку коня с левой стороны. Чтобы заблокировать ее, Старик выдвинул ладейную пешку — мужчину с красным лицом, которого я помнил по лесной бригаде. Оберет ответил на этот ход своей ладейной пешкой. Я с трудом разбирался, что происходит. Остальные пленники в основном были выше меня, я видел спины, плечи, лысые головы и потных, дрожащих от ужаса людей, а не шахматные фигуры. Я попытался представить себе шахматную доску и понял, что сзади остались лишь король да ладья. На одной горизонтали со мной стояла только пешка перед королем. Впереди и слегка влево от меня сгрудились королева, пешка, ладья и слон. Еще дальше влево в одиночестве стоял наш уцелевший конь. Слева от него блокировали друг друга две ладейные пешки. Черный ферзь по-прежнему угрожал мне справа. Наш «король» — высокий, худой еврей лет шестидесяти — передвинулся по диагонали на шаг вправо. Старик сосредоточил свои ладьи на королевской вертикали. Внезапно мой ферзь отошел назад на вторую клетку ладейной вертикали, и я остался один. Прямо передо мной, через четыре пустые клетки, стоял литовский еврей и смотрел на меня широко раскрытыми глазами, полными животной паники. Внезапно я шагнул вперед, волоча ноги по мраморному полу. В мой череп вошло нечто ужасное, чему невозможно было сопротивляться, и оно толкало меня вперед, сдерживало меня, стискивало мои челюсти и подавляло крик, рвавшийся откуда-то изнутри, из самой глубины моего существа. Я остановился там, где раньше стоял наш ферзь; по обе стороны от меня расположились белые пешки. Старик вывел вперед своего черного коня, и теперь он стоял напротив меня, через одну клетку. Толпа кричала еще громче, орава скандировала: «Meister! Meister!» Я снова шагнул и теперь оказался единственной белой фигурой, ушедшей за середину «доски». Где-то позади, справа от меня, находилась черная «королева». Я ощущал ее присутствие так же отчетливо, как и присутствие того неведомого стрелка за спиной. А в полуметре от себя видел потное лицо и запавшие глаза черного «коня» — литовского еврея. Черная «ладья» прошла слева от меня. Когда мужчина, изображавший ее, ступил на клетку белой пешки, завязалась драка. Сначала я подумал, что оберет или Старик потеряли контроль над фигурами, но потом понял, что все это входит в правила игры. «Болельщики» завопили — они жаждали крови. Черная ладья была сильнее, а возможно, ее не удерживали, и белая пешка стала отступать под ее натиском. «Ладья», добравшись до горла пешки, мощно сжал его. Послышался долгий сухой хрип, и «пешка» рухнула на пол. Не успели тело пешки оттащить с доски, как оберет двинул нашего уцелевшего «коня» на тот же квадрат, и драка возобновилась. На этот раз утащили черную «ладью»; босые ноги человека царапали плиты, вылезшие из орбит глаза неподвижно уставились в пустоту. Черный «конь», шаркая ногами, прошел мимо меня, и снова началась схватка. Эти двое сцепились, пытаясь выцарапать друг Другу глаза, нанося удары коленями, пока белого «коня» не вытолкали в пустую клетку за моей спиной. Винтовка снова выстрелила, я услышал, как пуля просвистела мимо уха. Человек, бывший конем, падая, ударился об меня. На мгновение его рука схватила меня за щиколотку, как бы ища помощи. Я не шелохнулся. Белый «ферзь» снова был за моей спиной. Черная «пешка» справа двинулась вперед, угрожая ему. Я бы схватился с ним, если бы мне было позволено, но этого не случилось, «ферзь» отступил на три клетки. Старик передвинул на шаг ферзевую пешку. Оберет послал вперед вторую ладейную пешку. Толпа скандировала: «Meister! Meister!» Старик переместил своего «ферзя» на две клетки назад. Меня снова подвинули. Теперь я стоял лицом к лицу с литовским евреем. Он замер, парализованный страхом. Неужели он не знал, что я не мог причинить ему вреда, пока мы стоим на одной вертикали? Возможно, и не знал, но я кожей чувствовал, что темноволосая «королева» в любую секунду может убрать меня. Только невидимое присутствие собственной «королевы» в пяти клетках позади давало мне какое-то ощущение защищенности. Но что, если Старик решится пойти на ферзевой обмен? Однако вместо этого он передвинул свою ладью назад, на королевскую клетку. Слева от меня началась свалка — вторая пешка слона убрала черную пешку, а ее, в свою очередь, побил уцелевший черный слон. На какое-то время я оказался один на территории противника, но тут оберет передвинул белого ферзя на клетку позади меня. Что бы ни случилось теперь, я был не один. Затаив дыхание, я стал ждать. Но ничего не случилось. Точнее, Старик сошел со своего трона, махнул рукой и удалился. Он сдался. Пьяная свора солдат Einsatzgruppen завопила от восторга. Несколько человек с эмблемой мертвой головы кинулись к оберсту и, подняв его на плечи, пронесли по кругу почета. Я остался, где стоял, напротив литовца; оба мы глупо моргали. Игра закончилась. Я знал, что каким-то образом помог оберсту выиграть, но был слишком оглушен всем случившимся, чтобы разобраться, как именно. Я видел всего лишь сбившихся в кучку усталых евреев, ничего не понимавших, но чувствовавших облегчение; тем временем зал гудел от криков и пения. Шестеро из нас, тех, что были с белыми фигурами, погибли. Шестеро черных также исчезли. Уцелевшие могли теперь двигаться, и мы так и толпились там, в центре. Я обернулся и обнял женщину, стоявшую позади меня. Она плакала. «Шалом», — сказал я и поцеловал ее руки. «Шалом». Литовский еврей на своей белой клетке упал на колени. Я помог ему подняться. Несколько рядовых с автоматами в руках провели нас через толпу в пустую прихожую. Здесь они заставили нас раздеться и побросали наши шахматные туники в кучу. Потом они вывели нас в ночь, чтобы расстрелять.* * *
Нам приказали вырыть могилы для себя. Метрах в сорока за усадьбой на полянке лежало полдюжины лопат, и этими лопатами мы выкопали широкий и неглубокий ров; солдаты тем временем, покуривая, светили нам факелами. Покрытая снегом земля была тверда как камень. Мы смогли прокопать на полметра вглубь, не больше. Между тупыми ударами лопат слышались взрывы хохота, доносившиеся из замка. В высоких окнах горели огни, отбрасывая желтые прямоугольники на шиферные крыши. Мы не замерзли лишь потому, что двигались, — и еще от страха. Пальцев посиневших ног я уже не чувствовал. Мы почти закончили копать, и я понимал: надо на что-то решаться. В такой темноте можно попытаться добежать до леса. Было бы лучше, если бы мы все одновременно кинулись врассыпную, но евреи постарше явно не могли двигаться — они слишком замерзли и были измотаны; к тому же нам не позволяли разговаривать друг с другом. Две женщины стояли в нескольких метрах от рва, тщетно пытаясь руками прикрыть наготу, а охранники отпускали скотские шутки, поднося факелы поближе к ним и освещая их обнаженные тела. Я не мог решить, бежать мне или все же попробовать проломить солдату голову своей лопатой с длинной ручкой и захватить его автомат. Конечно, это были Einsatzgruppen Totenkopfverbande, но сейчас они вдрызг пьяны и не ожидают нападения. Надо действовать скорее. Решив бить лопатой, я выбрал низкорослого молодого охранника; он стоял в нескольких шагах от меня и, казалось, дремал. Я сжал черенок лопаты. «Halt! Wo ist denn mein Bauer?» — молодой оберет, хрустя снегом, приближался к нам в распахнутой черной эсэсовской шинели и офицерской фуражке с высокой тульей. Войдя в круг света, отбрасываемого факелами, он оглянулся и спросил, где его пешка. Но которая? «Du! Komm her!» — подозвал он жестом меня. Я сжался, ожидая, что вот-вот повторится насилие над моим сознанием, но ничего такого не произошло. Я вылез из неглубокого рва, отдал лопату охраннику и, трясясь, подошел к оберсту, к тому, кого они называли Der Meister. — Кончайте скорее, — приказал он по-немецки сержанту, командовавшему отделением. — Schnell! Сержант велел евреям стать около рва. Женщины, скорчившись у дальнего края, обняли друг друга. Последовал приказ всем лечь в холодную землю. Трое мужчин отказались подчиниться; их застрелили там же, где они стояли. Тот, что был черным королем, корчась, упал всего метрах в двух от меня. Я опустил глаза, глядя на свои побелевшие бескровные ноги, и старался не шевелиться, но дрожь только усилилась. Другим евреям приказали скинуть тела расстрелянных в ров. Было тихо — и жутко. В свете факелов белели бледные спины и ягодицы моих товарищей по несчастью. Сержант отдал команду, и загремели выстрелы. Все закончилось меньше чем за минуту. Треск автоматов казался приглушенным, ничего не значащим, «тра-та-та» — и еще одна нагая белая фигура дергалась в яме, корежилась секунду и замирала навсегда. Обе женщины так и умерли, согревая друг друга объятьями. Литовский еврей выкрикнул что-то на иврите и упал на колени, протянув руки — то ли к конвоирам, то ли к небу, я до сих пор этого не знаю, — и тут его почти надвое перерезала автоматная очередь. Все это время я стоял, уставившись на свои дрожащие ноги, моля Бога, чтобы он сделал меня невидимым. Но стрельба еще не кончилась, когда сержант повернулся ко мне и спросил: — Ас этим что делать, mein Oberst? — Mein zuverlassiger Bauer? — улыбнулся оберет. — С моей верной пешкой? Сегодня будет охота. — Eine Jagd? — спросил сержант. — Heute nacht? — Wenn es Dammert. — Auch Der Alte? — Ja. — Jawohl, mein Oberst. Я видел, что сержанту это особой радости не доставило. Спать ему в эту ночь явно не придется. Конвоиры принялись забрасывать трупы комьями смерзшейся земли, а меня повели назад к замку и посадили на цепь в том же подвале, где нас держали несколько часов назад. Мои ступни кололо как иголками, а потом они начали гореть. Хотя это было очень больно, я все же задремал, но тут вернулся сержант, снял с меня цепи и приказал одеться. Мне выдали нижнее белье, синие шерстяные штаны, рубаху, толстый свитер, шерстяные носки и крепкие ботинки, которые были мне немного малы. После нескольких месяцев в тюремном тряпье добротная одежда казалась просто чудом. Сержант вывел меня наружу, там стояли четверо эсэсовцев с фонариками и карабинами. Один из них держал на поводке немецкую овчарку; он позволил собаке обнюхать меня. Замок погрузился в темноту, крики смолкли. Приближался рассвет, ночь становилась серо-прозрачной. Конвоиры погасили свои фонарики, когда из замка вышли оберет и старый генерал. Вместо формы на них были толстые зеленые охотничьи куртки и плащи. В руках они держали охотничьи карабины крупного калибра с оптическим прицелом. Тут я все понял. Я точно знал, что сейчас произойдет, но был до того измучен, что мне было все равно. Оберет махнул рукой, конвоиры отошли от меня и встали рядом с офицерами. Некоторое время я нерешительно топтался на месте, отказываясь делать то, что они мне приказывали, будто ничего не понимая. Тогда сержант на плохом польском заорал: «Бежать! Бежать, еврейская скотина. Бежать!» Но я все не двигался. Собака тянула поводок, рычала и бросалась в мою сторону. Сержант поднял карабин и выстрелил; снег вздыбился под моими ногами. Я все не двигался. И тут я ощутил осторожное вползание чужой воли в мой мозг. — Вперед, kleiner Bauer, вперед! — От этого мягкого шепота меня затошнило, я зашатался. Потом повернулся и побежал в лес. Я был слишком слаб, чтобы бежать долго. Через несколько минут я уже задыхался и начал спотыкаться. На снегу оставались четкие следы моих ботинок, но тут я ничего не мог поделать. Небо светлело; я все бежал, спотыкаясь, стараясь держаться южного направления. Позади я услышал яростный лай и понял, что охотники с собаками двинулись по моему следу. Пробежав немногим более километра, я уперся в открытое пространство. Просека шириной в сотню метров была расчищена — ни деревьев, ни пней. Посередине этой ничейной земли протянулась колючая проволока, но не это заставило меня остановиться. В центре просеки торчал белый знак с надписью на немецком и польском: СТОЙ! ЗАМИНИРОВАНО! Лай приближался. Я свернул влево и, задыхаясь от боли в боку, побежал трусцой. Я знал, что выхода нет. Это минное поле наверняка тянется по периметру всей усадьбы, отмечая границы их собственного охотничьего заказника. Я надеялся найти дорогу, по которой мы приехали вчера ночью, — казалось, целую вечность назад. Там обязательно должны быть ворота, на воротах, конечно, охрана, но все равно надо попытаться выйти на дорогу. Пусть уж лучше меня убьют охранники, чем эти паскуды, гнавшиеся за мной. Я решил, что кинусь на минное поле, лишь бы не подставлять себя под оптический прицел этих охотников на живого человека. Добежав до мелкого ручья, я снова почувствовал это подлое проникновение в свое сознание. Стоя неподвижно и глядя на полузамерзший ручей, я ощущал, как оберет входит в мое сердце, в тело, будто вода, заливающая рот,ноздри и легкие тонущего человека. Только это было еще хуже. Казалось, огромный ленточный червь проникает в мой череп и ввинчивается в мозг. Я закричал, но из горла не вырвалось ни звука. Я остановился, ноги были как ватные. — Komm her, mein kleiner Bauer! — Голос оберста беззвучно шептал эти слова. Мысли его смешались с моими и вытеснили мою волю в какую-то темную яму. Мельком видел я обрывки, как в рвущейся киноленте: мелькали чьи-то лица, мундиры, какие-то места, комнаты... Меня несли чужие волны ненависти и высокомерия. Чужая извращенная страсть к насилию наполнила мой рот медным привкусом крови. Этот шепот в мозгу был соблазнителен и тошнотворен, словно зов гомосексуалиста. Я будто со стороны наблюдал свое поведение: как я кинулся в ручей и повернул назад, на запад, навстречу охотникам; теперь я бежал быстро, резко, со свистом вдыхая и выдыхая холодный сырой воздух. Ледяная вода забрызгала мои ноги, шерстяные штаны отяжелели и липли к икрам. У меня носом пошла кровь, потекла по подбородку, стекала на шею. — Komm her! Я выбрался из ручья и, спотыкаясь, побежал по лесу к куче валунов. Тело мое дергалось и извивалось, словно марионетка; я вскарабкался на камни и забился между ними. И так я лежал, прижав щеку к валуну, а кровь из носа собиралась в небольшую лужицу на замерзшем мху. Послышались голоса. Охотники, были не далее чем в пятидесяти шагах, за полосой деревьев. Я решил, что они окружат мою кучу камней, а затем оберет заставит меня встать, чтобы удобнее было стрелять. Я напрягся, пытаясь пошевелить ногами, двинуть рукой, но казалось, будто кто-то перерезал нервы, соединяющие мой мозг с моим телом. Я был пригвожден к земле надежно, как если бы все эти валуны навалились на меня. Послышались обрывки разговоров; затем голоса стали удаляться в том же направлении, в котором я бежал десять минут назад. В это невозможно было поверить, но это было так. Я услышал, как залаяла собака, устремившись по моему следу. Почему оберет играл со мной? Напрягшись, я пытался прочесть его мысли, но мои слабые попытки прощупать что-либо были отброшены, словно кто-то щелчком сбил назойливое насекомое. Вдруг я выбрался из укрытия и снова побежал, пригнувшись, между деревьями, а потом пополз по снегу. Я еще никого не видел, но уже почувствовал запах табачного дыма. На полянке расположились Старик и сержант. Старик сидел на поваленном дереве, положив охотничий карабин на колени. Сержант стоял рядом, спиной ко мне, рассеянно постукивая пальцами по прикладу. Оба курили, наслаждаясь отдыхом. И тогда я поднялся во весь рост и помчался прямо на них. Сержант резко обернулся, как раз в ту секунду, когда я в прыжке ударил его плечом. Я был меньше и намного легче сержанта, но за счет невероятной скорости сбил его с ног. Мы покатились по снегу с беззвучным криком, и мне хотелось только одного — снова стать хозяином своего тела и убежать в лес, но я уже схватил карабин Старика и стал колотить сержанта по шее и по лицу изумительно отделанным прикладом, как дубиной. Сержант попытался встать, но я снова сбил его с ног ударами приклада. Увидев, что он тянется к своему оружию, я раздробил его руку ударом сапога, а потом принялся молотить тяжелым прикладом по лицу, пока не переломал ему все кости, пока и лица-то у него, собственно, не осталось. Тогда я бросил карабин и повернулся к Старику. Он сидел все так же на поваленном дереве, в руке у него был «люгер», который он успел выхватить из кобуры; в тонких губах по-прежнему торчала сигарета. Казалось, ему уже тысяча лет, но к морщинистому лицу — скорее карикатуре лица — была приклеена улыбка. — Sie! — сказал он, и я понял, что он обращается не ко мне. — Ja, Alte. — Я и сам изумился тому, что произносит мой язык. — Das Spiel 1st beendet. — Посмотрим. — Старик поднял пистолет, чтобы выстрелить. Я метнулся вперед; пуля пробила мой свитер и обожгла ребра. Я схватил его за кисть, прежде чем он успел выстрелить во второй раз, и мы проделали какой-то пируэт там, на снегу — Старик вскочил, шатаясь, и мы теперь танцевали какой-то безумный танец, — изможденный юноша-еврей, у которого носом шла кровь, и древний ариец-эсэсовец, охотник и убийца. Его «люгер» снова выстрелил, на этот раз просто в воздух, но я вырвал его пистолет из его рук и отскочил назад, наставив на него дуло. — Nein! — закричал Старик, и я почувствовал его присутствие в себе: это было как удар молотком по основанию черепа. На какую-то секунду меня не стало вообще: эти два мерзких паразита дрались за обладание моим телом. В следующее мгновение я уже смотрел на эту картину откуда-то сверху — я словно выскочил из собственной оболочки, видел, как Старик застыл на месте, а мое тело мечется вокруг него, как в жутком припадке. Глаза мои закатились, рот раскрылся, как у идиота, штаны были мокры от мочи, пар шел от них. Затем я вернулся в себя, и Старика в моем мозгу больше не было. Я видел своими глазами, как он сделал несколько шагов назад и тяжело опустился на поваленное дерево. — Вилли, — прошептал он. — Mein Freund... Я дважды выстрелил Старику в лицо, потом один раз в сердце. Он опрокинулся назад, а я стоял и смотрел на подбитые гвоздями подошвы его сапог. — Мы сейчас придем, пешка, — послышался у меня в ушах шепот оберста. — Подожди нас. Через какое-то время вблизи раздались лай овчарки и крики охотников. Пистолет был все еще у меня в руке. Я попытался расслабить мышцы, сосредоточив всю свою волю и энергию в одном-единственном пальце правой руки, даже не думая о том, что я собираюсь сделать. Группа охотников была уже почти в пределах видимости, когда власть оберста над моим телом слегка ослабла, — достаточно для того, чтобы попытаться сделать то, что я хотел сделать. То была самая решительная и самая трудная схватка в моей жизни. Мне и надо-то было только на несколько миллиметров подвинуть палец, но для этого понадобилась вся моя энергия и вся решимость, которые еще оставались в моем теле и душе. Мне это удалось. «Люгер» выстрелил; пуля прошла по касательной вдоль бедра и ударила в мизинец правой ноги. Боль пронзила мое тело, как очистительный огонь. Оберет был как бы застигнут врасплох, и я почувствовал, как его власть на несколько мгновений оставила мое тело и мой мозг. Я повернулся и побежал, оставляя на снегу кровавые следы. Сзади раздались крики, затрещал автомат, мимо жужжали пули в свинцовой оболочке, словно пчелы. Но оберет уже не властвовал надо мной. Я добежал до минного поля и кинулся туда, не останавливаясь ни на миг. Голыми руками растянул я колючую проволоку, ударами ног отбросил эти цепкие щупальца и побежал дальше. Это было невероятно, необъяснимо, но я пересек заминированную просеку и остался жив. И в этот момент оберет вновь впился в мой мозг. Стой! — приказал он мысленно. Я остановился, потом обернулся и увидел четверых охранников и оберста, стоявших на краю смертельной полосы. Возвращайся, моя маленькая пешка, прошептал голос этой твари. Игра окончена. Я попытался поднять «люгер», приставить его к своему виску, но не смог. Тело мое двинулось по направлению к ним, назад, на минное поле, к поднятым стволам автоматов. И в эту секунду овчарка вырвалась из рук державшего ее охранника и бросилась ко мне. Не успела она достичь края просеки, метрах в семи от оберста, как наскочила на мину и подорвалась. Мина была очень мощная, противотанковая, в воздух взлетела земля, куски металла и собачьего тела. Я видел, как все пятеро упали на землю, а потом что-то мягкое ударило меня в грудь и сшибло с ног. С трудом я поднялся; рядом лежала оторванная голова овчарки. Оглушенные взрывом оберет и двое эсэсовцев стояли на четвереньках, мотая головами. Двое других не шевелились. Оберста в моем мозгу не было. Я вскинул «люгер» и выпустил по офицеру всю обойму, но расстояние было слишком большим, к тому же меня всего трясло. Ни одна пуля не задела никого из немцев. Постояв с секунду, я повернулся и снова побежал. Я до сих пор не знаю, почему оберет позволил мне убежать. Возможно, его контузило взрывом. Или, может быть, он опасался в полную силу демонстрировать свою власть надо мной: это могло навести на мысль, что смерть Старика — дело тоже его рук. Но все же я подозреваю, что убежал тогда только потому, что это было на руку оберсту... Сол умолк. Огонь в камине погас; было далеко за полночь. Они сидели почти в полной темноте. В последние полчаса исповеди голос Сола охрип, он уже почти шептал. — Вы очень устали, — сказала Натали. Сол не стал этого отрицать. Он не спал две ночи — с того самого момента, когда в воскресенье утром увидел фотографию Уильяма Бордена в газетах. — Но ведь это еще не конец? — спросила Натали. — Это как-то связано с людьми, которые убили моего отца, так? Сол кивнул. Натали вышла из комнаты, затем вернулась через минуту с одеялом, простынями и высокой подушкой и принялась стелить постель на диване. — Ночуйте здесь, — предложила она. — Мы закончим утром. Я приготовлю завтрак. — У меня есть комната в мотеле, — хрипло произнес Сол. При мысли о том, что сейчас надо ехать куда-то далеко-далеко по шоссе № 52, ему захотелось закрыть глаза и уснуть прямо там, где он сидел. — Я прошу вас остаться, — сказала Натали. — Мне бы очень хотелось... Нет, я просто должна услышать конец вашего рассказа. — Она помолчала и добавила: — И потом, я не хочу сегодня оставаться одна в доме. Сол кивнул. — Вот и хорошо, — обрадовалась Натали. — В шкафчике в ванной есть новая зубная щетка. Если хотите, я могу достать чистую пижамную пару отца... — Спасибо, — сказал Сол. — Я обойдусь. — Ну хорошо. — Натали направилась к двери, но на пороге остановилась. — Сол... — Она помолчала, потирая руки выше локтя. — Все это... Все, что вы мне рассказали, правда? — Да. — И этот ваш оберет был здесь, в Чарлстоне, на прошлой неделе? Он один из тех, кто виноват в смерти моего отца? — Думаю, да. Натали кивнула, хотела еще что-то сказать, потом слегка закусила губу. — Спокойной ночи, Сол. — Спокойной ночи, Натали. Несмотря на страшную усталость, Сол Ласки некоторое время лежал без сна, глядя, как прямоугольники отраженного света автомобильных фар блуждают по фотографиям на стене. Он старался думать о приятных вещах — о золотистом свете, играющем на ветвях ив у ручья, или о белых маргаритках в поле на ферме дяди, где он бегал еще мальчиком. Но когда он наконец заснул, ему приснился прекрасный июньский день, братишка Йозеф, который идет за ним к шапито по чудной лужайке, откуда ярко раскрашенные цирковые фургоны увозят толпы смеющихся детей к ожидающему их Рву.Глава 7
Чарлстон Среда, 17 декабря 1980 г. Поначалу шерифу Джентри ужасно понравилось, что за ним следят. Насколько он мог помнить, за ним никто никогда не следил. Сам же он достаточно времени проводил за этим занятием. Только вчера он поехал за психиатром Ласки, понаблюдал, как тот забрался в дом Фуллер, потом терпеливо ждал в «Додже» Линды-Мей, пока Ласки и эта девушка, мисс Престон, пообедают, а потом провел большую часть ночи в районе Сент-Эндрюс, попивая кофе и наблюдая за домом Натали. Ночь была чертовски холодная и прошла совершенно впустую. Рано утром он снова проехал мимо того дома в собственной машине; взятая напрокат «Тойота» психиатра все еще стояла у крыльца. Какая между ними связь? Джентри догадывался, что Ласки в этом деле очень важная фигура; эта догадка родилась у него еще во время их первого телефонного разговора, а теперь она быстро перерастала в уверенность и не давала ему покоя, зудела между лопатками, там, где невозможно почесать спину. Джентри уже знал по опыту, что эта штука — одна из важнейших составляющих в репертуаре хорошего полицейского. Вот он и отправился вчера следить за Ласки. А теперь, оказывается, следят за ним самим — за Бобби Джо Джентри, шерифом графства Чарлстон. Поначалу он не мог в это поверить. Сегодня утром он встал, как всегда, в шесть часов, чувствуя усталость от недосыпа, от слишком сильных доз кофеина в предыдущий день, и проехал к дому Престон в Сент-Эндрюс, — проверить, там ли провел Сол Ласки остаток ночи. Потом он остановился у закусочной Сары Диксон на Риверс-авеню, съел пончик и отправился на Хэмптон-парк побеседовать с миссис Луэллин. Муж этой женщины уехал из города четыре дня назад, в ту ночь, когда произошли убийства в «Мансарде», и погиб в автомобильной катастрофе в Атланте, рано утром в воскресенье. Когда полицейский штата Джорджия телефонным звонком сообщил ей, что она вдова, что ее муж врезался в опору путепровода на скорости свыше восьмидесяти пяти миль в час на объездном пути 1-285 недалеко от Атланты, миссис Луэллин не нашла ничего лучшего, как спросить: «А что Артур делал там, в Атланте, скажите на милость? Ведь он только поехал купить сигару и воскресную газету». Джентри считал, что вопрос задан по делу. Но он так и не получил на него ответа, проведя полчаса со вдовой в ее кирпичном доме. И вот тогда Джентри заметил зеленый «Плимут», стоявший за полквартала от его машины, в тени высоких деревьев, нависающих над улицей. Первый раз он засек его, когда отъезжал от закусочной. Поначалу он обратил внимание на номерные знаки штата Мэриленд. Из своей многолетней практики Джентри уже усвоил, что полицейские становятся буквально одержимыми, обязательно замечая мелочные детали, которые оказываются абсолютно бесполезными. Шериф сел за руль своей патрульной машины, стоявшей перед домом Ауэллинов, поправил зеркальце заднего вида и внимательно посмотрел на «Плимут», припаркованный чуть дальше. Точно, машина была та же самая. На ветровом стекле играли отсветы, и он не мог увидеть, сидит ли кто-нибудь внутри. Джентри пожал плечами, включил мотор и поехал прямо, потом свернул налево у первого же знака «стоп». «Плимут» начал двигаться за какое-то мгновение до того, как машина Джентри исчезла из виду. Шериф еще раз свернул налево и покатил на юг, пытаясь решить: вернуться ли ему в муниципальное здание и заняться кое-какими бумагами либо снова поехать в Сент-Эндрюс. Зеленый «Плимут» по-прежнему держался за ним, пропустив вперед две машины. Джентри ехал медленно, постукивая по баранке своими большими красными пальцами и потихоньку насвистывая мелодию в стиле «кантри». Слушая вполуха хрипение полицейского радио, он перебирал в уме причины, почему кто-то мог его преследовать. За исключением нескольких воинственных типов, которых он засадил в тюрьму за последние два года, ни у кого, насколько он знал, не было повода сводить счеты с Бобби Джо Джентри, и уж тем более никакого резона тратить время, мотаясь за ним по улицам. Джентри подумал: уж не шарахается ли он от призраков? В Чарлстоне наверняка не один зеленый «Плимут». «С номерами Мэриленда?» — иронически усмехнулось его второе "я" — умудренный опытом полицейский. Джентри решил вернуться в контору окружным путем. Он повернул налево, на Кэннон-стрит, где было оживленное движение. «Плимут» не отставал. Если бы Джентри не знал, что «Плимут» там, он бы ни за что его сейчас не засек. Преследователь выдал себя лишь потому, что маленькая боковая улочка близ Хэмптонпарка была абсолютно пуста. Джентри выехал на шоссе 26, между двумя штатами, проехал больше мили на север, потом покатил по узким улочкам на восток, в сторону Митинг-стрит. «Плимут» по-прежнему маячил позади, прячась за другими машинами там, где это было возможно, и сильно отставая, когда шоссе пустело. — Ну и ну, — пробормотал шериф Джентри. Он продолжал двигаться по направлению к району Чарлстон-Хайтс, оставляя справа военно-морскую базу. Сквозь паутину подъемных кранов видны были серые громады кораблей. Джентри повернул налево, на Дорчестер-Роуд, а потом снова выехал на 1-26, на сей раз направляясь на юг. «Плимут» вроде исчез. Джентри собрался съехать с шоссе у центра города и списать всю эту историю на счет детективов, которых он насмотрелся по кабельному телевидению, когда позади, в полумиле от него, огромный трейлер перешел с одного ряда в другой и Джентри вновь на мгновение увидел капот зеленого цвета. С шоссе он вернулся к узеньким улочкам вблизи здания муниципалитета. Потихоньку начал накрапывать дождь. Водитель «Плимута» включил дворники одновременно с шерифом. Джентри прикинул, какие же законы здесь нарушены, но вот так, сразу, не мог ничего придумать. «Ну ладно, — подумал он, — самое главное теперь: как избавиться от „хвоста“ ?» Ему живо представились все эти погони с визжащими тормозами на бешеной скорости, которые он видел в кино. Нет уж, спасибо. Затем он попытался вспомнить детали шпионского искусства из бесчисленных детективов, которыми он когда-то увлекался, но в голову не приходило ничего, кроме каких-то кадров с человеком, перебегающим из поезда в поезд в московском метро. Дело еще осложнялось тем, что Джентри ехал в своей коричневой патрульной машине, на которой по обеим сторонам крупными буквами было написано: ШЕРИФ ГРАФСТВА ЧАРЛСТОН. Он понимал, что ему достаточно сказать несколько слов по радио, объехать пару раз квартал, и восемь полицейских машин графства плюс половина патрульных с шоссе встретят этого красавчика на следующем же перекрестке. Ну, а дальше что? Джентри представил себе, как его вызывают к судье Трэтору по обвинению в незаконном задержании приезжего из другого штата, который пытался найти паром к форту Самтер и решил просто следовать за местным констеблем. Самое разумное в данной ситуации — и Джентри это хорошо знал — было переждать. Пусть этот олух ездит за ним сколько угодно — дни, недели, месяцы, — пока Джентри не сообразит, в какую игру тот играет. Этот парень в «Плимуте» — если это был парень — мог оказаться судебным исполнителем, репортером, закоренелым «свидетелем Иеговы» или членом новой губернаторской команды по борьбе с коррупцией. Джентри был абсолютно уверен: самое разумное, что он мог сейчас сделать, — это вернуться в контору и заняться своими делами, и пусть все образуется само по себе. — А-а, ч-черт, — выругался Джентри. Он никогда не отличался особым терпением. Круто развернув машину на мокром асфальте и одновременно включив мигалку и сирену, он рванул назад по узкой улице с односторонним движением прямо в лоб приближающемуся «Плимуту». Правой рукой он отстегнул ремешок, удерживающий в кобуре его собственный, не казенный пистолет. Затем оглянулся назад, дабы убедиться, что его резиновая дубинка лежит на сиденье, там, где он ее обычно держал. Потом он еще поддал газу и надавил на клаксон, чтобы было совсем уж весело. Даже радиатор приближающегося «Плимута», казалось, изумился такому обороту. Джентри различил теперь, что в машине всего один человек. Преследователь метнулся вправо, но Джентри попытался отсечь ему путь. Тогда «Плимут» сделал финт, притворившись, что хочет протиснуться по дальней стороне улицы слева, а сам зарулил на тротуар и попробовал с ускорением проскочить мимо машины шерифа. Джентри крутанул руль влево, удар тряхнул машину о бордюр; он был готов к столкновению лоб в лоб. «Плимут» пошел юзом, сшиб правым крылом несколько мусорных ящиков и врезался боком в телеграфный столб. Шериф резко тормознул перед радиатором «Плимута», из которого поднимался пар, и удостоверился, что стоит правильно: в таком положении «Плимуту» отсюда не выбраться. Затем он вылез из машины, быстрым движением расстегнул кобуру под мышкой и сжал в левой руке резиновую дубинку. — Позвольте взглянуть на ваши водительские права, сэр, — обратился Джентри к мужчине с бледным и худым лицом. «Плимут» ударился о телеграфный столб довольно крепко: правую дверь заклинило, водителя тоже тряхануло как следует. Он опустил на руль голову с залысинами. На вид ему было лет сорок пять. Одет в темный костюм, белую рубашку и узкий галстук времен Кеннеди — так, во всяком случае, показалось Джентри. Шериф внимательно следил, как водитель «Плимута» вытаскивает бумажник. — Теперь пожалуйста, достаньте ваши права из бумажника, сэр. Тот помедлил, моргнул и отвернулся, чтобы выполнить просьбу. Джентри быстро шагнул вперед и левой рукой открыл дверцу; дубинка теперь висела у него на кисти, а правую руку он снова положил на рукоятку своего «люгера». — Сэр, пожалуйста, выйдите из... А-а, ч-черт! Водитель резко повернулся; пистолет в его руке уже поднимался к лицу шерифа. Джентри обрушил в открытую дверь все свои сто двадцать килограммов, пытаясь в броске дотянуться до кисти противника. Раздались два выстрела, первая пуля просвистела мимо уха Джентри и пробила крышу «Плимута», вторая попала в ветровое стекло, превратив его в припудренную паутину. Джентри наконец удалось ухватить стрелка за кисть обеими руками, и некоторое время они барахтались на переднем сиденье, как пара сопливых влюбленных, тискающихся в укромном месте. Оба они задыхались, хрипло дышали. Дубинка Джентри застряла в рулевом колесе, и «Плимут» взревел, как животное, раненное в брюхо. Водитель потянулся к лицу шерифа и попытался выцарапать ему глаза, но Джентри, набычив свою массивную голову, ударил его раз, и два; на третьем ударе он почувствовал, что противник обмяк. Пистолет выпал из его руки, ударился о руль, потом о ногу Джентри и скатился на тротуар. У Джентри, с его врожденной реакцией охотника, мелькнуло опасение, что от удара пистолет выстрелит и разрядит пол-обоймы ему в спину, но ничего такого не случилось. Подавшись назад, Джентри вытащил водителя следом за собой из машины. Схватив его за шиворот, он глянул, где пистолет, — тот лежал поблизости, под машиной, — и отшвырнул водителя метра на три, шмякнув его об асфальт. Когда тот вскочил, шериф уже прочно держал в руке тяжелый «люгер», который подарил ему дядя, выйдя на пенсию. — А ну, не двигаться! Не шевелиться, тебе сказано! — приказал Джентри. Из магазинов и лавок выскочила дюжина зевак. Джентри удостоверился, что никто из них не находится на линии огня — за водителем не было ничего, кроме кирпичной стены. С какой-то тошнотворной ясностью до него внезапно дошло, что он готовится застрелить этого бедного сукина сына. Джентри никогда еще не приходилось стрелять в человека. Вместо того чтобы взять пистолет в обе руки и широко расставить ноги, как его учили, он стоял выпрямившись, согнув руку в локте и подняв ствол вверх. Капли дождя мягко падали на его раскрасневшееся лицо. — Бой закончен, — тяжело дыша, выговорил он. — Расслабься, парень. Давай-ка обсудим это дело. Но тут этот, с залысинами, выхватил из кармана нож. Щелкнув, лезвие выскочило из рукоятки. Слегка пригнувшись, преступник распределил вес тела на обе ноги и широко растопырил пальцы левой руки. Шериф с сожалением отметил, что противник держит нож как профессионал, очень опасно; большой палец упирался в рукоятку над лезвием. Нож в его руке короткими, плавными движениями заходил из стороны в сторону. Джентри ногой отбросил пистолет еще дальше под «Плимут» и сделал шага три назад. — Кончай, парень, — спокойно предложил он. — Убери нож. — Джентри понимал, что пять метров, разделяющие их, можно преодолеть очень и очень быстро. Он также отдавал себе отчет в том, что если метнуть нож с такого расстояния, он может быть так же опасен, как и пуля. Но он также помнил, какие дыры оставляет «люгер» в мишени на расстоянии сорока метров. Ему и думать не хотелось, что могут сделать пули калибра 0.357 с пяти метров. — Убери, — повторил Джентри. Он говорил теперь монотонным голосом, в котором не было угрозы, но который не допускал каких-либо возражений. — Давай-ка расслабимся на минутку и обсудим все. — Водитель не сказал ни слова, не издал ни одного звука с того момента, когда Джентри подошел к «Плимуту» — если не считать стонов и кряхтения. Но теперь сквозь стиснутые челюсти послышался какой-то странный свист, словно пар из чайника. Противник снова стал поднимать нож. — Замри! — Джентри вскинул пистолет, по-прежнему одной рукой, целясь в середину узкого галстука. Если он замахнется, чтобы метнуть нож, Джентри придется стрелять. Палец его уже нажал на спусковой крючок, еще немного — и курок будет взведен. В это мгновение Джентри увидел нечто такое, от чего его сильно бьющееся от напряжения сердце замерло, будто парализованное. Лицо водителя «Плимута» мелко задрожало, даже не задрожало, а поплыло, как неплотно прилегающая резиновая маска, натянутая на более твердую основу. Зрачки расширились, словно от удивления или страха, и заметались в панике, как какие-то крохотные животные. На какое-то мгновение шерифу показалось, что сквозь это худое лицо проступил образ другого человека, в загнанных глазах мелькнуло выражение абсолютного ужаса и смятения, но затем мускулы лица и шеи застыли, словно маску натянули плотнее. Лезвие все поднималось, дойдя до подбородка, — достаточно высоко, чтобы точно метнуть нож. — Эй! — крикнул Джентри и снял палец с крючка. И тут водитель «Плимута» погрузил лезвие в собственное горло. Он не вонзил, не ткнул, не полоснул себя по горлу, а именно погрузил пятнадцать сантиметров стали в собственную плоть, как хирург, который делает на операции первый надрез, или как кто-то втыкает нож в арбуз, прежде чем начать резать его на куски. Затем он провел лезвием слева направо во всю ширину шеи, медленно, уверенно и с большой силой. «Харакири» по горлу... — Бог ты мой! — прошептал Джентри. Кто-то в толпе завизжал. Кровь заструилась по белой рубашке мужчины, будто лопнул шар, наполненный красной краской. Самоубийца еще успел вытащить окровавленное лезвие и — это было просто невероятно — продолжал стоять еще несколько мгновений, расставив ноги, без всякого выражения на лице, покуда кровь заливала его торс, а потом с отчетливо слышным звуком начала капать на мокрый асфальт. Затем он рухнул навзничь; его ноги конвульсивно дернулись и замерли. — Не подходить! — рявкнул Джентри зевакам и кинулся вперед. Тяжелым ботинком он придавил правую кисть водителя, а дубинкой откинул нож. Голова самоубийцы запрокинулась назад; края красного разреза на горле разошлись, и это походило на непотребную ухмылку акулы. Джентри увидел разорванные хрящи и иззубренные концы серых нитей, но потом кровь хлынула снова. Грудь человека заходила ходуном в агонии: вверх, вниз; легкие наполнились. Джентри подбежал к своей машине и вызвал «скорую». Потом он снова крикнул толпе, чтобы они не подходили, и пошарил дубинкой под «Плимутом», доставая пистолет. Это был девятимиллиметровый «браунинг» с каким-то особым магазином, в два ряда, отчего он казался чертовски тяжелым. Шериф нашел предохранитель, щелкнул им, сунул пистолет себе за пояс и, подойдя к мужчине, опустился рядом с ним на колени. Водитель перекатился на правый бок, подтянул колени к животу; руки его были плотно прижаты к телу, кулаки сжаты. Кровь уже образовала лужу больше метра шириной, и с каждым медленным ударом сердца ее выливалось все больше и больше. Джентри стоял на коленях в крови и пытался закрыть рану голыми руками, но разрез был слишком широк, а края рваные. Через несколько секунд рубаха его пропиталась кровью. Глаза мужчины приняли тот остекленевший, неподвижный вид, который Джентри слишком часто видел у трупов. Рваное дыхание и клокотание прекратились как раз в тот момент, когда вдалеке послышалась сирена приближающейся «скорой помощи». Джентри отошел назад и вытер руки о штаны. Во время стычки бумажник водителя каким-то образом оказался на тротуаре; Джентри наклонился и поднял его. Послав к чертям правила обращения с вещественными доказательствами, он открыл бумажник и быстро обшарил все отделения. В бумажнике было девятьсот долларов наличными, небольшая фотография шерифа Бобби Джо Джентри — и ничего больше. Ни водительских прав, ни кредитных карточек, ни семейных фотографий, ни карточки социального обеспечения, ни визиток, ни старых квитанций — ничего. — Эй, кто-нибудь! Скажите, что здесь происходит? — прошептал Джентри. Дождь прекратился. Тело водителя неподвижно лежало рядом. Худое лицо его стало таким белым, словно из воска. Джентри потряс головой и обвел невидящим взглядом толпу зевак, вытягивающих шеи, направляющихся к нему полицейских и санитаров. — Кто-нибудь мне скажет, что здесь происходит? — закричал он. Ему никто не ответил.Глава 8
Байриш-Айзенштейн Четверг, 18 декабря 1980 г. Тони Хэрод и Мария Чен выехали из Мюнхена и направились на северо-восток, мимо Деггендорфа и Ре-гена, в глубь лесистой и гористой местности Западной Германии поблизости от чешской границы. Хэрод гнал взятый напрокат «БМВ», проходя на высоких оборотах скользкие от дождя повороты; машина шла юзом, но он ее контролировал, быстро увеличивая скорость до ста двадцати километров на прямых отрезках дороги. Даже эта работа и сосредоточенность не могли пересилить того напряжения от долгого перелета, которое не покидало его тело. Во время этого бесконечного полета он много раз пытался заснуть, но ни на секунду не мог забыть, что запечатан в хрупкой герметичной трубе, висящей высоко, в тысячах метров, над холодной Атлантикой. Хэрод вздрогнул, включил радиатор и обошел еще два автомобиля. Они поднялись в более гористую местность, здесь на полях белым ковром лежал снег; снежные сугробы высились по обочинам дороги. Двумя часами раньше, когда они только выбрались из Мюнхена и помчались по забитой транспортом автостраде, Мария, рассматривая дорожную карту, сказала: — А тут недалеко Дахау. Всего в нескольких милях. — Ну и что? — буркнул Хэрод. — Это место, где располагался один из тех лагерей, — ответила она. — Куда ссылали евреев во время войны. — Все это древняя история, ну ее на хрен. — Не такая уж древняя, — заметила Мария. На повороте, помеченном номером 92, Хэрод съехал с автострады и попал на другую, такую же загруженную. Маневрируя, он пробился на левую полосу, на спидометре стрелка показывала около ста километров. — Ты когда родилась? — спросил он. — В сорок восьмом. — Если что-то происходило до твоего рождения, не стоит об этом переживать, — сказал Хэрод. Мария Чен умолкла, неотрывно глядя на холодную ленту реки Изар. Предвечерний свет потихоньку гаснул в сером небе. Хэрод бросил взгляд на свою секретаршу и вспомнил, как он познакомился с ней. Это случилось четыре года назад, летом 1976; Хэрод полетел в Гонконг на встречу с братьями Фой по просьбе Вилли — поговорить насчет финансирования очередной киночуши про кунфу. Он рад был выбраться из Штатов в момент, когда истерия по поводу двухсотлетия Независимости достигла пика. Младший из братьев Фой решил сопровождать Хэрода во время ночных развлечений. Хэрод не сразу сообразил, что дорогой бар в ночном клубе на восьмом этаже высотного здания в Коулуне на самом деле был борделем, а прекрасные, даже шикарные женщины, чье общество доставляло им такое удовольствие — просто проститутками. Как только он понял это, то сразу же потерял интерес и тотчас ушел бы, если бы не необыкновенно красивая девушка, явно смешанной — европейской и азиатской — крови, одиноко сидевшая за стойкой; глаза ее выражали такое безразличие, что его трудно было бы подделать. Когда он спросил Фоя «Две Глотки», кто она такая, толстяк азиат расплылся в улыбке и сказал: — А-а, очень интересно. Очень печальная история. Ее мать была американская миссионерка, отец — учитель в Китае. Мать умереть вскоре после того, как они приехали в Гонконг. Отец тоже умирает. Мария Чен остаться здесь, очень знаменитая модель, очень дорогая модель. — Модель? А что она тогда делает тут? Фой пожал плечами и ухмыльнулся; блеснул золотой зуб. — Она делает многие деньги, но ей надо больше, очень больше. Очень дорогие вкусы. Она хочет ехать в Америку — она американский гражданин, — но не может вернуться из-за дорогих вкусов. Хэрод кивнул. — Кокаин? — Героин, — улыбнулся Фой. — Хотите знакомиться? Хэрод хотел знакомиться. После того как их представили друг другу и они сидели вдвоем у стойки бара, Мария Чен сказала: — Я знаю про вас. Вы сделали себе карьеру на плохих фильмах и еще более дурных манерах. Соглашаясь, Хэрод кивнул. — А я знаю все про вас, — сказал он. — Вы — наркоманка и гонконгская блядь. Он видел, как она размахнулась, чтобы дать ему пощечину, и потянулся щупальцами мозга, пытаясь остановить ее, — но у него ничего не вышло. Удар прозвучал громко, публика в баре замолкла на полуслове и уставилась на них. Когда бар снова загудел, как обычно, Хэрод вытащил платок и приложил ко рту. Кольцо на руке девушки рассекло ему губу. Хэроду и раньше приходилось сталкиваться с нейтралами — людьми, на которых его Способность совершенно не действовала. Но это случалось редко. Крайне редко. И никогда не случалось так, что он не знал об этом заранее: у него всегда было время приготовиться и избежать болезненных последствий. — Ну ладно, — сказал он. — Будем считать, что мы познакомились. А теперь у меня к вам деловое предложение. — Что бы вы мне ни предложили, мне это не интересно. Говорила Мария Чен вполне искренне, в этом не было сомнения, и все же она осталась сидеть у стойки. Хэрод кивнул, быстро обмозговав ситуацию. Уже несколько месяцев он испытывал некое беспокойство, работая с Вилли. Старик редко пользовался своей Способностью, но когда он делал это, становилось ясно, что он был гораздо сильнее Хэрода. Хэрод мог потратить месяцы и даже годы, тщательно программируя помощника, но он не сомневался, что Вилли сделает это за несколько секунд. Хэрод испытывал постоянную и всевозрастающую тревогу с тех пор, как этот чертов Клуб Островитян заставил его сблизиться с этим кровожадным стариком. Если Вилли что-нибудь узнает, он воспользуется любым способом, чтобы... — Я предлагаю вам работу в Штатах, — сказал Хэрод. — Вы будете моим личным секретарем и исполнительным секретарем кинокомпании, которую я представляю. Мария Чен холодно посмотрела на него. В прекрасных карих глазах — никакого интереса. — Пятьдесят тысяч долларов в год, — продолжил Хэрод, — плюс разные льготы. Она и глазом не моргнула. — Я зарабатываю здесь, в Гонконге, гораздо больше. Зачем мне менять карьеру модели на секретарскую работу, с меньшей оплатой? — Слово «секретарскую» она произнесла с ударением и было ясно, что это предложение не вызывает у нее ничего, кроме презрения. — Я упомянул льготы, — сказал Хэрод. Мария Чен ничего не ответила, и он тихо добавил: — Постоянный источник того... что вам нужно. И вам никогда больше не придется самой заниматься покупкой. В этот момент Мария Чен моргнула-таки. Самоуверенность слетела с нее, как сорванное покрывало. Она опустила глаза и смотрела теперь на свои руки. — Подумайте об этом, — бросил на ходу Хэрод. — Я буду в отеле «Виктория и Альберт» до утра вторника. Она не подняла глаза, когда Хэрод вышел из ночного клуба. Во вторник утром он приготовился к отлету, носильщик уже снес в холл отеля его чемоданы; в последний раз он глянул в зеркало, застегивая свою куртку, когда Мария Чен появилась в дверях. — Каковы будут мои обязанности, помимо секретарских? — спросила она. Хэрод медленно повернулся, подавил желание улыбнуться и пожал плечами. — Все, что я прикажу, — сказал он. Потом все же улыбнулся. — Но не то, о чем вы думаете. Я не нуждаюсь в проститутках. — У меня есть одно условие. Хэрод молча смотрел на нее. — В будущем году я хочу... избавиться от этого. — На гладкой коже ее лба выступил пот. — Я хочу... как это говорится? Завязать. Когда я назначу время, вам придется... устроить все, что нужно. Хэрод подумал несколько секунд. Он не был уверен, что ему будет выгодно, если Мария Чен избавится от своей зависимости от наркотика, но он также сомневался, что она действительно когда-либо попросит его об этом. Ну, а если попросит, тогда он и разберется. А пока у него будет помощником красавица и умница, которую вдобавок Вилли не сможет использовать. — Согласен, — кивнул он. — Пойдемте решим вопрос с вашей визой. — В этом нет необходимости. — Мария Чен шагнула в сторону, пропуская его; они пошли к лифту. — Я уже уладила все необходимые формальности.* * *
Проехав после Деггендорфа километров тридцать, они направились к Регену, средневековому городку в тени скалистых утесов. Когда они спускались по серпантину горной дороги к его окраине, Мария Чен указала пальцем куда-то в сторону деревьев у дороги; фары выхватили из темноты овальную доску, установленную вертикально. — Ты заметил эти доски? — спросила она. — Да, — ответил Хэрод, переключая скорость перед крутым поворотом. — В путеводителе сказано, что на них местных селян носили на кладбище. — На каждой доске написано имя умершего и просьба помолиться за него. — Мило, — откликнулся Хэрод. Дорога шла через городок. По сторонам мелькали уличные фонари, тусклые в зимнем мраке, мокрая брусчатка на мостовых боковых улицах. Высоко, на покрытом лесом кряже, показалась темная громада какого-то строения, нависающего над Регеном. — Этот замок когда-то принадлежал графу Хунду, — прочитала надпись Мария Чен. — Он велел закопать свою жену живьем, когда она утопила их ребенка в реке Реген. Хэрод промолчал. — Интересная история, правда? — спросила Мария. Хэрод повернул влево, на шоссе 11, ведущее в лесистую горную страну. В свете фар поблескивал снег. Протянув руку, Хэрод взял у Марии Чен путеводитель и выключил свет. — Сделай милость, — устало бросил он. — Заткнись.* * *
Хотя они добрались до маленькой гостиницы Байриш-Айзенштейна в десятом часу вечера, комнаты уже ждали их, а в столовой, где едва помещалось пять столиков, все еще подавали ужин. Помещение согревал огромный камин, он же, собственно, и освещал помещение. Они молча поужинали. Хэроду Байриш-Айзенштейн показался маленьким и заброшенным, насколько он смог его разглядеть, пока они разыскивали гостиницу. Единственная дорога, несколько старых фахверковых домиков в узкой долине между темными горами. Это место напоминало ему какую-то затерянную колонию в горах Катскилл. Знак на окраине городка гласил, что чешская граница — всего в нескольких километрах. Когда они поднялись в свои смежные номера на третьем этаже, Хэрод сказал: — Пойду вниз, посмотрю, что у них тут за сауна. Приготовь все на завтра. Гостиница состояла всего из двадцати номеров, большинство из которых занимали лыжники, приехавшие побродить в окрестностях Большого Арбера — горы высотой тысяча четыреста метров в нескольких милях к северу. Пары три-четыре сидели в небольшой гостиной на первом этаже, потягивая пиво или горячий шоколад и хохоча на добродушный немецкий манер; этот смех всегда казался Хэроду натянутым. Сауна находилась в подвале; она оказалась всего лишь небольшим чуланом из белого кедра с полками. Хэрод установил нужную температуру, снял одежду в крохотной раздевалке и вошел в раскаленное нутро; на нем было только полотенце. Он улыбнулся, увидав небольшой плакатик на двери — на немецком и английском: ВНИМАНИЮ ГОСТЕЙ: ОДЕЖДА В САУНЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНА. Очевидно, тут бывали американские туристы, которых удивило безразличие немцев к наготе в таких ситуациях. Он почти заснул, когда в сауне появились две девушки, молодые немки, не старше девятнадцати лет. Войдя, они захихикали и продолжали хихикать, пока не увидели Хэрода. «Guten Abend», — сказала та, что повыше; обе были блондинками, тела прикрывали повязанные вокруг торса полотенца. На Хэроде тоже было полотенце; не говоря ни слова, он посматривал на девиц из-под тяжелых полуприкрытых век. Хэрод вспомнил, как почти три года назад Мария Чен объявила, что пришло время помочь ей завязать с героином. — Почему это я должен помогать тебе? — спросил он тогда. — Потому что ты обещал, — ответила она. Хэрод молча посмотрел на нее, вспоминая все предыдущие месяцы своего сексуального напряжения, холодность, с которой она отталкивала любые попытки сближения, ту ночь, когда он тихо подошел к ее двери и открыл ее. Был уже третий час, но она все еще сидела в постели и читала. Увидев его, она спокойно положила книгу, вытащила револьвер тридцать восьмого калибра из ящика ночного столика и, удобно устроив его у себя на коленях, спросила: — Тебе что-то нужно, Тони? Он покачал головой и вышел... — Что ж, обещал так обещал, — сказал Хэрод. — Чего ты от меня хочешь? Три последующие недели она не выходила из запертой комнаты в подвале. Поначалу она царапала длинными ногтями обивку, которой с его помощью были покрыты стены и дверь. Она визжала, стучала, рвала зубами матрас и подушки, составлявшие единственное убранство комнаты, потом снова кричала. Никто не слышал ее воплей, кроме Хэрода, находившегося в соседнем помещении. Она не ела ничего из того, что он просовывал ей в небольшое отверстие, прорезанное в двери. Через два дня она уже не вставала с матраса, лежала свернувшись и попеременно то дрожала, то покрывалась потом, то слабо постанывала, то выла нечеловеческим голосом. Хэрод пробыл с ней три дня и три ночи, помогая ей добраться до туалета, когда она могла подняться, а когда же у нее не было сил — он убирал за ней. Спустя две недели Мария проспала сутки; Хэрод вымыл ее, обработал царапины, которые она нанесла себе. Проводя губкой по ее бледным щекам, грудям идеальной формы и бедрам, покрытым пленкой пота, он вспоминал, как смотрел в своем кабинете на ее тело, обтянутое шелком, и жалел, что она — нейтрал. Он вытер ее, одел в мягкую пижаму, заменил чистым бельем перепачканные тряпки и оставил одну — отсыпаться. На третью неделю Мария Чен вышла из подвала. Ее поза и несколько холодноватая манера были все те же — такое же совершенство, как ее прическа, одежда и косметика. Ни он, ни она никогда не упоминали о тех трех неделях.* * *
Молоденькая немочка хихикнула и подняла руки над головой, что-то говоря подружке. Хэрод поглядывал в их сторону сквозь облака пара. Глаза его превратились в темные щелочки под тяжелыми веками. Та что постарше несколько раз моргнула и развязала полотенце. Ее груди были тяжелыми и упругими. Молоденькая удивленно замерла, руки ее все еще были подняты над головой. Хэрод видел пушистые волоски под мышками — интересно, почему немки не бреют чти места? Другая тоже сбросила полотенце. Пальцы ее двигались с трудом, словно она засыпала либо никогда раньше этого не делала. Девушка постарше подняла руки и положила их на грудь подруги. "Сестры, — сообразил Хэрод, прищурясь, чтобы отчетливее смаковать их ощущения. — «Кристен и Габи». Работать с двумя было непросто. Надо было быстро переходить отодной к другой, не позволяя ускользнуть первой, когда он занимался со второй. Это походило на игру в теннис с самим собой; долго в такую игру не поиграешь. Но долго забавляться было и незачем. Хэрод закрыл глаза и улыбнулся. Когда Хэрод вернулся из сауны, с мокрыми волосами, в золотистом халате и шелковой пижаме, Мария Чен стояла у окна и смотрела на небольшую толпу, распевающую рождественский гимн вокруг запряженных лошадьми саней. В холодном воздухе эхом разносились смех и мелодия «Рождественской елки». Мария отвернулась от окна. — Где?.. — быстро спросил Хэрод. Мария открыла свой чемодан, вытащила пистолет сорок пятого калибра и положила его на журнальный столик. Хэрод взял оружие, щелкнул курком и кивнул. — Я так и думал, что тебя не будут трясти на таможне. Где обойма? Мария снова полезла в чемодан, достала три магазина и положила рядом на стеклянную поверхность столика. — Ладно, — одобрил Хэрод. — Давай теперь посмотрим, где это долбаное место. — Он разложил бело-зеленую топографическую карту на столе, прижав один конец пистолетом, а другие — обоймой. Коротким пальцем он ткнул в скопление точек по обеим сторонам красной линии. — Тут Байриш-Айзенштайн. А тут мы. — Палец передвинулся на два-три сантиметра к северо-западу. — Поместье Вилли за вот этой горой... — Большой Арбер, — подсказала Мария Чен. — Пусть Большой. Прямо посреди вот этого леса... — Баварского Леса, — уточнила она. Хэрод на несколько мгновений тупо уставился на нее, потом снова перевел взгляд на карту. — Поместье — часть Национального парка или вроде того... Но все равно это частная собственность. Вот и поди разберись в этом говне. — В американских национальных парках тоже есть частные владения, — пояснила Мария Чен. — И потом, предполагается, что в усадьбе никто не живет. — Ну да. — Хэрод свернул карту и вышел в свой номер через смежную дверь. Через минуту он вернулся со стаканом виски, купленным беспошлинно в аэропорту Хитроу. — Ладно. Ты все поняла насчет завтрашнего дня? — Да, — кивнула Мария. — Если его там нет, все будет в ажуре. А если он там один и захочет разговаривать со мной, тоже никаких проблем. — А вдруг проблема возникнет? Хэрод сел, поставил виски на стол и с треском вогнал обойму в рукоятку пистолета. Потом протянул оружие Марии. — Если проблема возникнет, ты его застрелишь. Его или любого, кто там будет с ним. Стреляй в голову. Дважды, если позволит время. — Он направился к двери, затем остановился. — Есть еще вопросы? — Нет. — Мария отрицательно покачала головой. Хэрод вошел в свою комнату и закрыл дверь. Мария Чен услышала, как щелкнул замок. Некоторое время она сидела, держа пистолет в руке, прислушиваясь к доносившимся с улицы звукам уютного празднества и глядя на тонкую полоску желтого света под дверью комнаты Тони Хэрода.Глава 9
Вашингтон, округ Колумбия Четверг, 18 декабря 1980 г. Арнольд Барент попрощался с только что избранным президентом, вышел из отеля «Мэйфлауэр» и, заехав в ФБР, отправился в Национальный аэропорт. Перед его лимузином двигался серый «Мерседес», позади — синий; обе машины принадлежали одной из его компаний; люди, сидевшие в них, были вышколены не хуже, чем агенты секретной службы, которыми был набит отель «Мэйфлауэр». — Мне показалось, что разговор сложился удачно, — сказал Чарлз Колбен, второй пассажир лимузина; кроме шофера больше там никого не было. Барент кивнул. — Президент с пониманием отнесся к вашим предложениям, — продолжил Колбен. — Возможно, он даже посетит собрание Клуба Островитян в июне. Это будет очень интересно. К нам никогда еще не приезжал правящий президент. — Избранный президент, — поправил Барент и добавил: — Вы сказали, что президент с пониманием отнесся к моим предложениям. Вы имели в виду — избранный президент. До января нашим президентом еще является мистер Картер. Колбен презрительно фыркнул. — Что говорят ваши разведчики насчет заложников? — тихо спросил Барент. — О чем вы? — Когда их отпустят? В последние часы пребывания Картера у власти? Или в правление следующей администрации ? Колбен пожал плечами. — Мы же ФБР, мы не Си-ай-эй. Нам положено работать внутри страны, а не за рубежом. Барент кивнул и слегка улыбнулся. — И одна из ваших задач внутри страны — это шпионить за Си-ай-эй. Так что я повторяю свой вопрос: когда заложники вернутся домой? Колбен нахмурился и, посмотрев в окно, на голые деревья у аркады, протянул: — За сутки до или в течение суток после церемонии инаугурации. Точнее узнать не удалось. Но аятолла целых полтора года имел Джимми в задницу; непонятно, с какой стати он кинет ему эту кость. — Я с ним однажды встречался, — заметил Барент. — Интересная личность. — Что? Кто интересная личность? — Колбен слегка смешался. Картер с женой несколько раз за последние четыре года гостил у Барента в его поместье в Палм-Спрингс и в замке Тысячи Островов. — Аятолла Хомейни, — терпеливо объяснил Барент. — Когда он находился в ссылке во Франции, я ездил к нему из Парижа. Один друг подсказал мне, что имам может показаться мне забавным. — Забавным? Этот фанатичный мудак — забавный? Барент слегка нахмурился — Колбен выразился слишком грубо. Он не любил сквернословия. Во время встречи с Тони Хэродом он употребил слово «сука» лишь потому, что считал это слово вульгарным: так проще втолковать суть вульгарному человеку. — Да, это было забавно. — Барент уже сожалел, что затеял этот разговор. — Мы пообщались с ним минут пятнадцать, через переводчика, хотя мне сообщили, что аятолла понимает по-французски; вам никогда не догадаться, что этот фанатик попытался сделать во время беседы. — Попросил вас субсидировать его революцию? — произнес Колбен таким тоном, что было ясно: ему это совершенно неинтересно. — Он попытался использовать меня. — Барент снова улыбнулся; ему действительно было забавно вспоминать этот эпизод. — Я чувствовал, как он слепо, инстинктивно пытался пролезть в мой мозг. У меня создалось такое впечатление, что он уверен, будто он — единственный человек, обладающий Способностью. И еще мне показалось, что он считает себя Богом, Аллахом во плоти. Колбен снова пожал плечами. — Если бы у Картера хватило соплей послать несколько В-52 сразу же после того, как они захватили наших людей, от Хомейни осталось бы мало божеского. Барент переменил тему и поинтересовался: — А где сегодня наш друг мистер Хэрод? Колбен вытащил ингалятор, приложил его поочередно к обеим ноздрям и поморщился. — Он со своей секретаршей, или кем она там ему приходится, прошлой ночью вылетел в Западную Германию. — Я полагаю, для того чтобы проверить информацию о своем друге — возможно, Вилли жив-здоров и вернулся в своей фатерлянд, — сказал Барент. — Ну да? — А вы послали кого-нибудь с ними? Колбен мотнул головой. — Незачем. Траск наблюдает за замком через своих людей во Франкфурте и Мюнхене. Он знает их еще с тех времен, когда работал на Си-ай-эй. Хэрод в любом случае направится туда. Мы просто будем следить за переговорами по каналам Си-ай-эй. — И как вы думаете, найдет он что-нибудь? Чарлз Колбен пожал плечами. — Вы не верите, что наш мистер Борден жив, не так ли? — Да, мне как-то он не кажется таким уж чертовски умным и ловким, — сказал Колбен. — Это ведь была наша идея: поговорить с той женщиной, мисс Дрейтон, насчет того, чтобы убрать его... Мы все единодушно решили, что его действия становятся слишком заметными, ведь так? — Да, — кивнул Барент. — А потом вдруг мы узнаем, что Нина Дрейтон позволила себе кое-какие неосмотрительные шаги. Жаль, конечно. — Чего жаль? Барент взглянул на лысого чиновника. — Жаль, что они не являлись членами Клуба Островитян, — сказал он. — Они были очень крупными личностями. — Херня все это, — выругался Колбен. — фанатики они были сраные, вот и все. Лимузин остановился. Замки на дверце рядом с Колбеном щелкнули. Барент глянул в окно на уродливый боковой вход нового здания ФБР. — Вам выходить, — сказал он, а потом, когда Колбен уже стоял на тротуаре и шофер готовился захлопнуть дверцу, добавил: — Чарлз, что-то надо делать с вашей манерой выражаться. — Колбен так и остался стоять с удивленно раскрытым ртом на тротуаре, глядя вслед удаляющемуся лимузину. Поездка к Национальному аэропорту заняла всего несколько минут. Специально отделанный «Боинг-747» ждал Барента у его собственною ангара. Двигатели гудели, кондиционеры работали, а рядом с любимым креслом Барента стоял стакан охлажденной минеральной воды. Дон Митчелл, пилот, вошел в пассажирский салон и козырнул. — Все готово, мистер Барент, — доложил он. — Мне надо передать диспетчеру, какой маршрут мы выбрали. Куда мы направляемся, сэр? — Я бы хотел полететь на свой остров. — Барент отхлебнул из стакана. Митчелл слегка улыбнулся. То была старая шутка. К. Арнольд Барент владел более чем четырьмястами островов по всему свету, и на двадцати из них у него были особняки и дворцы. — Да, сэр, — козырнул пилот, продолжая ждать. — Передайте диспетчеру, что мы выбираем план полета "Е". — Барент встал, держа в руке стакан, и направился к двери своей спальни. — Я дам знать, когда буду готов. — Да, сэр. — Митчелл снова козырнул. — У нас разрешение взлетать в любое время в течение ближайших пятнадцати минут. Барент кивнул, отпуская его, и подождал, пока пилот уйдет. Спецагент Ричард Хейнс сидел на огромной, королевских размеров, кровати. Когда Барент вошел в спальню, он поднялся, но Барент махнул рукой, и он снова сел. Допив воду, Барент снял пиджак, галстук и рубашку, бросил скомканную рубашку в корзину для белья и вытащил свежую из ящика, встроенного в кормовую переборку. — Ну, что нового, Ричард? — спросил он, застегивая рубашку. Хейнс моргнул и заговорил: — Куратор Колбен и мистер Траск опять встречались сегодня утром, перед вашей беседой с избранным президентом. Траск — член переходной команды... — Да, да, — кивнул Барент. — А что там насчет ситуации в Чарлстоне? — ФБР контролирует работу по этому делу, — сообщил Хейнс. — Бригада, расследующая авиакатастрофу, пришла к определенному заключению, что самолет был уничтожен миной замедленного действия. Один из пассажиров — в списке он фигурирует как Джордж Хам-мел — воспользовался кредитной карточкой, украденной, как показала проверка, в Бар-Харборе, штат Мэн. — Мэн, — повторил Барент. Ниман Траск был «помощником» сенатора от штата Мэн. — Неряшливая работа. — Да, сэр, — согласился Хейнс. — Во всяком случае, мистер Колбен был очень обеспокоен вашей директивой не мешать шерифу Джентри и расследованию. Вчера он встречался с мистером Траском и мистером Кеплером в отеле «Мэйфлауэр»; я уверен, что тем же вечером они послали людей в Чарлстон. — Кого-нибудь из «чистильщиков» Траска? — Да, сэр. — Ладно. Продолжайте, Ричард. — Сегодня, примерно в девять двадцать утра по восточному времени, шериф Джентри перехватил человека, который следил за ним из «Плимута» 76-го года выпуска. Джентри попытался арестовать его. Водитель «Плимута» сначала сопротивлялся, затем перерезал себе горло ножом с выбрасывающимся лезвием, изготовленным во Франции. В городской больнице Чарлстона он был зарегистрирован — «мертв по прибытии». Анализ отпечатков пальцев и регистрационных данных автомобиля ничего не дал. Сейчас делаются попытки идентифицировать труп по состоянию зубов, но на это потребуется несколько дней. — Если это один из «чистильщиков» Траска, они ничего не найдут, — задумчиво проговорил Барент. — Шериф не пострадал? — Нет, сэр, судя по сообщению нашего наружного наблюдения, не пострадал. Барент кивнул, снял с вешалки шелковый галстук и принялся его завязывать. Щупальца его мозга потянулись к сознанию спецагента Ричарда Хейнса. Он наткнулся на щит, делавший Хейнса нейтралом, — щит из крепкой скорлупы, окружавшей волнующееся море мыслей, амбиций и темных желаний, — всего, что составляло личность агента Хейнса. Как и многие другие, обладавшие Способностью, как сам Барент, Колбен выбрал себе в ближайшие помощники нейтрала. Хейнса нельзя было запрограммировать, но, с другой стороны, его не мог перевербовать кто-либо с более мощной Способностью. Так, во всяком случае, полагал Колбен. Барент скользил по поверхности щита сознания, пока не нашел в нем трещину, — а трещину всегда можно найти; он проник глубже, сломил жалкую защиту Хейнса и внедрил свою волю в саму основу сознания агента. Он коснулся центра удовольствия Хейнса, и тот закрыл глаза, словно его пронизывали токи наслаждения. — Где эта женщина — Мелани Фуллер? — спросил Барент. Хейнс открыл глаза. — После заварухи в аэропорту Атланты в понедельник вечером никаких известий. — Удалось засечь, откуда был телефонный звонок? — Нет, сэр. Оператор в аэропорту считает, что это был местный звонок. — Как вы думаете, есть ли у Колбена, Кеплера или Траска какая-либо другая информация о том, где находится Фуллер? Или Вилли? Хейнс секунду помедлил и покачал головой. — Нет, сэр. Когда найдут его либо ее, информация поступит через ФБР, я полагаю, по обычным каналам. Я буду знать об этом одновременно с мистером Колбеном. — Лучше, если раньше, — улыбнулся Барент. — Благодарю вас, Ричард. Как всегда, ваше общество меня приободрило. Вы сможете найти Лестера на его обычном месте, если захотите связаться со мной. Как только у вас будет какая-то информация о местонахождении Мелани Фуллер либо нашего друга из Германии, немедленно передайте ее мне. — Да, сэр. — Хейнс повернулся к выходу. — Ричард. — Барент натягивал синий кашемировый блейзер. — Вы все еще считаете, что шериф Джентри и этот психиатр... — Ласки, — подсказал Хейнс. — Да. — Барент улыбнулся. — Вы все еще считаете, что контракты этих джентльменов следует официально порвать? — Считаю. — Хейнс нахмурился и продолжил, осторожно выбирая слова: — Джентри очень сообразительный малый. Слишком сообразительный. Сначала я решил: он расстроен из-за убийств в «Мансарде» потому, что они подорвали его репутацию в графстве, но потом убедился, что он воспринял их как нечто задевающее его лично. Тупой, толстый деревенский полисмен, вот и все. — Но сообразительный. — Да. — Хейнс снова нахмурился. — Я не уверен насчет Ласки, но, по-моему, он слишком... слишком глубоко в это вовлечен. Он знал мисс Дрейтон и... — Хорошо, — кивнул Барент. — Насчет Ласки у нас могут быть и другие планы. — Он посмотрел на агента долгим взглядом. — Ричард... — Да, сэр? Барент соединил кончики пальцев. — Я давно хочу вас спросить, Ричард. До того, как мистер Колбен вступил в Клуб, вы уже несколько лет работали на него. Ведь так? — Да, сэр. Барент коснулся нижней губы сложенными домиком пальцами. — Вопрос, который я хочу задать, Ричард... Почему? Агент нахмурился: он не понял, о чем идет речь. — Я имею в виду, — продолжал Барент, — зачем делать все эти вещи, о которых Чарлз вас просил?.. И теперь еще просит... Ведь у вас есть выбор. Лицо Хейнса прояснилось. Он улыбнулся, демонстрируя идеальные зубы. — Ну, наверно, мне нравится моя работа... Это все на сегодня, мистер Барент? Барент с секунду внимательно смотрел на него, потом кивнул. Через пять минут после того как Хейнс ушел он вызвал пилота по внутренней связи: — Дональд, взлетайте. Я бы хотел полететь к себе на остров.Глава 10
Чарлстон Среда, 17 декабря 1980 г. Сола разбудили голоса детей, игравших на улице, и несколько секунд он не мог сообразить, где он находится. Не в своей квартире, это точно. Он лежал на складной кровати под окном с желтыми занавесками. На секунду эти желтые занавески напомнили ему их дом в Лодзи, крики детей вызвали в памяти образы Стефы и Йозефа... Нет, дети кричали слишком громко по-английски. Чарлстон. Натали Престон. Он вспомнил, как рассказывал ей вчера свою историю, и почувствовал смущение, словно эта молодая черная женщина видела его нагим. И зачем только он рассказал ей обо всем этом? После стольких лет... Почему? — Доброе утро. — Натали заглянула в дверь с кухни. На ней был красный шерстяной балахон и узкие джинсы. Сол сел в постели и потер глаза. Его рубашка и брюки, аккуратно сложенные, висели на боковой спинке дивана. — Доброе утро. — На завтрак яичница с ветчиной и тосты. Сойдет? — В комнате запахло свежемолотыми кофейными зернами. — Великолепно, — сказал Сол, — только ветчина — это не мое. Натали сжала руку в кулак и сделала вид, что лупит себя по лбу. — Ну конечно, — воскликнула она. — По религиозным мотивам? — Нет, из-за холестерина. За завтраком они говорили о пустяках — о жизни в Нью-Йорке, об учебе в Сент-Луисе, о том, что это значило — вырасти на юге. — Это трудно объяснить, — сказала Натали, — но почему-то жить здесь проще, чем на севере. Расизм тут еще жив, но... Я не уверена, что смогу правильно выразиться... Он меняется. Возможно, люди на юге так давно играют каждый свою роль, и в то же время им теперь приходится меняться... Может, поэтому они ведут себя более честно. На севере все принимает гораздо более грубые и подлые формы. — Я не думал, что Сент-Луис — северный город, — улыбнулся Сол. Он доел тосты и теперь попивал кофе. Натали рассмеялась. — Нет, конечно, но он и не южный город. Наверно, это просто нечто среднее. Я больше имела в виду Чикаго. — Вы жили в Чикаго? — Я провела там часть лета. Папа устроил меня туда на работу через старого друга из «Чикаго Трибьюн». — Она замолчала, неподвижно глядя в чашку. — Я понимаю, вам трудно, — тихо сказал Сол. — На время забываешься, потом случайно упоминаешь имя, и все наплывает снова... Натали кивнула. Сол посмотрел в окно на длинные листья низкорослой пальмы. Окно было приоткрыто, и сквозь сетку дул теплый ветерок. Трудно даже поверить, что сейчас середина декабря. — Вы собираетесь стать учителем, но ваша первая любовь, похоже, — фотография. Натали кивнула, встала и еще раз наполнила кофейные чашки. — Мы заключили с папой нечто вроде соглашения, — сказала она, на сей раз заставив себя улыбнуться. — Он обещал помочь мне научиться фотографировать, если я соглашусь получить образование по какой-нибудь «настоящей профессии», как он это называл. — Вы собираетесь преподавать? — Возможно. Она вновь улыбнулась, уже через силу, и Сол отметил про себя, что у нее прекрасные зубы, а улыбка делает лицо славным и застенчивым. Сол помог ей вымыть и вытереть посуду, а потом они налили себе еще кофе и вышли на небольшое крыльцо. Машин на улице было мало, детские голоса смолкли. Сол вспомнил, что сегодня среда; детишки, наверное, ушли в школу. Они уселись в белые плетеные кресла, друг напротив друга; Натали накинула на плечи легкий свитер, а Сол был в своей удобной, хотя и немного помятой вельветовой спортивной куртке. — Вы обещали рассказать вторую часть вашей истории, — напомнила Натали. Сол кивнул. — А вам не показалось, что первая часть чересчур фантастична? — спросил он. — Что это бред сумасшедшего? — Вы же психиатр. Вы не можете быть сумасшедшим. Сол громко рассмеялся. — О-о, я мог бы тут такого порассказать... Натали улыбнулась. — Ладно, но это потом. Сначала вторую часть. Он помолчал, долго глядя на черную поверхность кофе. — Итак, вам удалось убежать от этого негодяя оберста... — подсказала Натали. На минуту Сол закрыл глаза, затем вздохнул и слегка откашлялся. Когда он заговорил, в его голосе почти не слышалось никаких эмоций, — лишь слабый намек на грусть. Через некоторое время Натали тоже закрыла глаза, чтобы лучше представить себе те картины, которые воспроизводил ее гость своим тихим, проникновенным и чуточку печальным голосом.* * *
— В ту зиму сорок второго еврею в Польше действительно некуда было податься. Я неделями бродил по лесам к северу и западу от Лодзи. В конце концов кровь из ноги перестала идти, но заражение казалось неизбежным Я обернул ногу мхом, обмотал ее тряпками и продолжал брести, спотыкаясь. След, оставленный пулей на боку и в правом бедре, пульсировал и кровоточил много дней, но в конце концов затянулся. Я воровал еду на фермах, держался подальше от дорог и старался не попадаться на глаза группам польских партизан, действовавшим в этих лесах. Партизаны пристрелили бы еврея так же охотно, как и немцы. Не знаю, как я выжил той зимой. Помню две крестьянские семьи — они были христиане, позволяли мне прятаться в кучах соломы у них в сараях и давали еду, хотя у самих ее почти не было. Весной я отправился на юг в надежде найти ферму дяди Моше возле Кракова. Документов у меня не было, но мне удалось пристать к группе рабочих, возвращавшихся со строительства немецких оборонительных сооружений на востоке. К весне сорок третьего уже не оставалось сомнений, что Красная Армия скоро будет на польской земле. До фермы дяди Моше оставалось восемь километров, когда один из рабочих выдал меня. Меня арестовала польская «синяя полиция», они допрашивали меня три дня, хотя ответы мои их, по-моему, не интересовали, им был нужен лишь предлог для избиений. Затем они передали меня немцам. Гестапо тоже не проявило особого интереса ко мне, полагая, очевидно, что я — один из множества евреев, покинувших город либо сбежавших во время перевозки по железной дороге. В немецкой сети для евреев было множество дыр. Как и во многих других оккупированных странах, только готовность поляков сотрудничать с немцами сделала почти невозможной любую попытку евреев избежать лагерей смерти. Неизвестно по какой причине меня отправили на восток. Меня не оставили ни в Аушвице, ни в Челмно, ни в Бельзеце, ни в Треблинке — все они были ближе, — а провезли через всю Польшу. Мы провели четыре дня в запечатанном вагоне; за это время погибла треть находившихся там людей. Потом двери с грохотом распахнулись, и мы, шатаясь, выбрались наружу, вытирая слезившиеся от непривычного света глаза. Оказалось, что мы в Собибуре. И там-то я снова увидел оберста. Собибур был лагерем смерти. Там не было заводов, как в Аушвице либо Бельсене, никаких попыток ввести в заблуждение, как в Терезенштадте или Челмно, не было издевательского лозунга «Arbeit Macht Frei» над воротами, который висел над столькими нацистскими дверьми в ад. В сорок втором и сорок третьем немцы задействовали шестнадцать огромных концентрационных лагерей, таких как Аушвиц, более пятидесяти лагерей поменьше, сотни трудовых лагерей, и лишь три Vernichtungslager — лагерей смерти, предназначенных для уничтожения: Бельзец, Треблинка и Собибур. Они просуществовали всего двадцать месяцев, но там умерло больше двух миллионов евреев. Собибур был небольшой лагерь, меньше Челмно, он располагался на реке Буг. Эта река до войны служила восточной границей Польши; летом сорок третьего года Красная Армия снова отбрасывала вермахт назад, к этой границе. К западу от Собибура простирался девственный Парчев лес, Лес Сов. Весь комплекс лагеря занимал не больше трех-четырех полей для игры в американский футбол, но он очень эффективно выполнял свою функцию, а функцией этой было скорейшее достижение «окончательного решения» еврейского вопроса, предложенного Гиммлером. Я не сомневался, что скоро погибну. Нас высадили из вагонов и загнали за высокую живую изгородь по коридору из колючей проволоки. Проволока была покрыта пучками соломы, так что мы ничего не видели, кроме высокой караульной вышки, верхушек деревьев и двух кирпичных труб впереди. К лагерю вели три указателя: СТОЛОВАЯ — ДУШЕВАЯ — ДОРОГА В НЕБО. Кто-то в Собибуре продемонстрировал, очевидно, эсэсовское чувство юмора. Нас отправили в душевые. Евреи, привезенные из Франции и Дании, в тот день шли довольно покорно, но я помню, что польских евреев немцам приходилось с проклятиями подталкивать прикладами. Рядом со мной старик выкрикивал ругательства и грозил кулаком эсэсовцам, которые заставляли нас раздеваться. Не могу точно описать, что я чувствовал, когда вошел в душевую. Во мне не было ненависти, лишь немного страха. Возможно, из всех чувств преобладало облегчение. Почти четыре года мною владело одно мощное желание — выжить; подчиняясь этому желанию, я просто наблюдал, как евреев, таких же, как я, всю мою семью затолкали в непотребную пасть немецкой машины убийств. И не только наблюдал. Иногда я сам помогал этой адской машине. Теперь же я мог отдохнуть. Я сделал все, чтобы выжить, но теперь этому пришел конец. Единственное, о чем я сожалел, — это о том, что мне пришлось убить Старика, а не проклятого оберста. В тот момент оберет олицетворял для меня все зло мира. Когда в тот день в июне сорок третьего года за нами захлопнулись тяжелые двери в душевую, перед глазами у меня стояло именно лицо оберста. Душевая была набита битком. Все толкали друг друга, кричали, стонали. Сначала ничего не происходило, потом трубы задрожали и заурчали и, когда вместо газа полились потоки воды, люди прямо-таки шарахнулись от нее. Я стоял как раз под душем. Подняв лицо, я подставил его под струи, вспоминая о своей семье, сожалея, что не попрощался с матерью и сестрами. И тут на меня вместе с водой нахлынула волна ненависти. Я вызвал в памяти этого арийца-убийцу, гнев пламенем горел во мне, а люди вокруг меня кричали, трубы тряслись и стучали, выплевывая на нас потоки воды. Господи, те самые душевые, в которых каждый день погибали многие тысячи людей, использовались и по своему прямому назначению. Какое это было наслаждение — просто смыть с себя грязь и остаться в живых. Наконец нас вывели наружу и подвергли дезинфекции, затем обрили головы. Мне выдали тюремный комбинезон и вытатуировали на руке номер. Боли я, пожалуй, и не испытывал. В Собибуре, где так эффективно «обрабатывали» столько тысяч людей в день, каждый месяц отбирали заключенных для работы по лагерю и прочих дел. В тот раз выбрали наш эшелон. Именно в этот момент, все еще оглушенный, отказываясь верить, что меня снова выпустили на свет, резавший глаза, я понял, что избран для какой-то миссии. Я по-прежнему отказывался верить в Бога — любой Бог, предавший свой народ, не заслуживал моей веры... Но с того момента я поверил, что есть какая-то причина, ради которой я должен жить. Причину эту можно было представить себе в виде оберста, явившегося мне, когда я готов был умереть. Никто — и меньше всего семнадцатилетний паренек — не мог осознать всей безмерности того зла, которое поглотило мой народ. Но я вполне мог понять непотребство существования таких, как оберет. Я сказал себе: я буду жить. Я буду жить, даже несмотря на то, что внутри меня уже не осталось этого страстного желания. Я буду жить для того, чтобы свершилось то, что уготовано мне. Я вынесу все, лишь бы настал день, когда я уничтожу это непотребство. В течение следующих трех месяцев я находился в лагере I в Собибуре. Лагерь II был промежуточной инстанцией, из лагеря же III никто никогда не возвращался. Я ел, что давали, спал, когда позволяли спать, испражнялся, когда мне приказывали, и исполнял свои обязанности в качестве Bahnhofkommando. На мне была синяя фуражка и синий комбинезон с нашитыми на них желтыми буквами ВК. Несколько раз в день мы выходили встречать прибывающие эшелоны. И до сих пор, когда я не могу заснуть ночью, я вижу надписи мелом на этих запечатанных вагонах — места, откуда эти эшелоны прибыли: Туробин, Горзков, Влодава, Сьедице, Избица, Маргузов, Каморов, Замочь. Мы собирали багаж евреев, ошеломленных тем, что случилось с ними, и раздавали им багажные бирки. Из-за сопротивления польских евреев — что сильно замедляло обработку — немцы снова взяли за правило сообщать людям, выжившим в эшелонах, что Собибур — это всего лишь перевалочный пункт, место отдыха на пути к центрам переселения. Одно время на станции даже висели указатели с обозначением расстояний в километрах до этих мифических центров. Польские евреи не очень верили этим указателям, но в конце концов они тоже шли в душевые вместе со всеми. А эшелоны все прибывали: Баранов, Дубьенка, Вяла-Польска, Иханье, Демблин, Рейовец. По крайней мере раз в день мы раздавали евреям из гетто открытки, на которых уже был текст: «Мы прибыли в центры переселения. Работа на ферме тяжелая, но много солнца, а также много отличной еды. Ждем вашего скорого приезда». Евреи надписывали адреса на этих открытках и ставили свои подписи, а потом их уводили и травили газом. К концу лета, когда гетто опустели, эта уловка уже была не нужна. Консковола, Йозефов, Грабовиц, Люблин, Лодзь. В некоторых эшелонах живых не было. Тогда мы из Bahnhofkommando откладывали свои багажные квитанции в сторону и вытаскивали обнаженные трупы из вонючих вагонов. Здесь все было, как в душегубках в Челмно, только тела эти лежали в тисках смерти дни и недели, пока вагоны стояли где-нибудь на запасном пути, на полустанке в сельской местности, под палящим летним солнцем. Однажды я потащил труп молодой женщины, обнявшей ребенка и женщину постарше, и рука ее оторвалась. Я проклинал Бога; при этом мне мерещилась издевательская улыбка оберста. Но я знал, что буду жить. В июле Собибур посетил Генрих Гиммлер. На этот день было назначено прибытие специальных эшелонов западноевропейских евреев, и он хотел лично понаблюдать за их «обработкой». От прибытия эшелона до последней струйки дыма, поднимавшейся из шести печей, вся процедура занимала менее двух часов. За это время все пожитки евреев были конфискованы, рассортированы, пронумерованы, сложены в контейнеры и занесены в гроссбухи. Даже волосы женщин в лагере II обрезали и потом использовали для изготовления войлока или подкладки для сапог, которые носили подводники. У немцев-педантов никогда ничего не пропадало зря. Я как раз сортировал багаж в зоне прибытия, когда мимо, в сопровождении коменданта и многочисленной свиты, прошел шеф гестапо. Я почти не запомнил Гиммлера — невзрачный коротышка в очках, с усиками бюрократа, — но за ним я увидел молодого светловолосого офицера, «белокурую бестию». Это был оберет. Он как раз наклонился и что-то сказал на ухо Гиммлеру; рейхсфюрер СС запрокинул голову и рассмеялся странным, почти женским смехом. Они прошли метрах в пяти от меня. Я постарался нагнуться пониже, но когда все же поднял глаза, то сразу увидел, что оберет смотрит в мою сторону. Не думаю, что он узнал меня. Прошло всего восемь месяцев после событий в Челмно и в замке, но для оберста я, скорее всего, был теперь лишь одним из многих евреев-заключенных, сортирующих багаж мертвых. Я раздумывал всего несколько секунд. Тут был мой шанс, но я промедлил, и шанс был упущен. Возможно, в тот момент я смог бы добраться до оберста. Я мог бы схватить его за горло до того, как раздадутся выстрелы. Возможно, мне даже удалось бы выхватить пистолет у одного из офицеров, окружавших Гиммлера, и выстрелить прежде чем оберет поймет, что ему грозит опасность. С тех пор я много раз думал — не было ли там чего-то еще, кроме неожиданности и нерешительности, что остановило меня. Страх мой умер вместе со всем, что оставалось от моего духа, за несколько недель до этой встречи, в той герметически закупоренной душевой. Как бы то ни было, я колебался несколько секунд, а может, и минуту, и время было потеряно навсегда. Гиммлер со свитой двинулись дальше и прошли через ворота в штаб комендатуры — место, известное под названием Веселая Блоха. Я все стоял и смотрел на ворота, за которыми они скрылись, и в это время сержант Вагнер заорал на меня: я должен либо работать, либо отправляться в «больницу». Никто никогда не возвращался из этой «больницы». Опустив голову, я вновь принялся за работу. Я был наготове весь день, не спал ночь и весь следующий день ждал, не появится ли оберет, — но он не появился. Гиммлер со свитой исчезли ночью. Четырнадцатого октября евреи Собибура подняли восстание. Я слышал разговоры о его подготовке, но они казались мне до того не правдоподобными, что я не обращал на них внимания. В конце концов все тщательно отработанные планы привели к уничтожению нескольких охранников и безумному рывку примерно тысячи евреев к главным воротам. В первую же минуту большинство их скосил пулеметный огонь. Некоторые в наступившей суматохе прорвались сквозь проволочную ограду позади лагеря. Бригада, в которой был я, как раз возвращалась со станции, когда вспыхнуло это безумие. Конвоировавшего нас капрала забила насмерть хлынувшая в эту сторону толпа, и у меня не было другого выбора, как бежать со всеми остальными. Я был уверен, что украинцы на вышке будут стрелять прежде всего по людям в синих комбинезонах вроде меня. Но я добежал до первых деревьев как раз в тот момент, когда двух женщин, бежавших рядом, скосило огнем с вышек. В лесу я переоделся в серую тюремную робу старика, который добрался сюда, под защиту деревьев, и уже здесь его достала шальная пуля. По моей прикидке, в тот день из лагеря убежало сотни две заключенных, поодиночке или небольшими группами, большинство из которых не имели руководителей. Та группа людей, что спланировала побег, не предусмотрела, как действовать, чтобы выжить на свободе. Многие беглые евреи и русские военнопленные впоследствии были пойманы немцами либо выловлены и перебиты польскими партизанами. Другие пытались укрыться на ближайших фермах, но там их быстро выдали немцам. Лишь единицы выжили в лесу, да еще некоторые перебрались через Бут навстречу наступающей Красной Армии. Мне повезло. На третий день блуждания по лесу меня обнаружили члены еврейской партизанской группы, называвшейся «Хиль». Командиром у них был храбрый, совершенно не знавший страха человек по имени Ехиль Гриншпан. Он принял меня в отряд и приказал врачу подлечить и подкормить меня. Наконец-то мою рану правильно обработали. В течение пяти месяцев я скитался с этим отрядом по Лесу Сов. Стал помощником хирурга, доктора Ячика, и спасал жизни людей, когда мог, даже если это были жизни немцев. Вскоре после того побега немцы закрыли лагерь в Собибуре. Они уничтожили бараки, убрали печи и посадили картофель в полях, где во Рвах лежали тысячи трупов, которые не сгорели в крематории. К тому времени, когда наши партизаны отпраздновали еврейскую Хануку, большая часть Польши уже находилась в состоянии хаоса: вермахт отступал на запад и на юг. В марте ту местность, в которой мы действовали, освободили войска Красной Армии, и война для меня закончилась. В течение нескольких месяцев советские военные власти держали меня в заключении и допрашивали. Некоторые бойцы «Хиля» попали в советские лагеря «для перемещенных лиц», но меня в мае отпустили, и я вернулся в Лодзь. Еврейское гетто было не просто опустошено — его уничтожили. Во время наступления был разрушен и наш старый дом в западном районе города. В августе сорок пятого я перебрался в Краков, а оттуда поехал на велосипеде на ферму дяди Моше. Там уже жила другая семья; они были христиане. Во время войны они купили ферму у гражданских властей. Они сказали, что ничего не знают о местонахождении прошлых владельцев. В эту же поездку я посетил Челмно. Советские власти объявили его запретной зоной, и меня даже не подпустили к лагерю. Я прожил неподалеку от него пять дней и каждый день ездил на велосипеде по всем проселкам и тропинкам. В конце концов я нашел тот замок, вернее, его руины. Замок был сожжен то ли артиллерийским огнем, то ли отступавшими немцами, и там не осталось практически ничего кроме разбросанных камней, обгорелых бревен да обожженного дымохода. От того «шахматного» пола главного зала тоже ничего не сохранилось. На поляне, где когда-то смертниками была вырыта неглубокая могила, я обнаружил следы недавних раскопок. Вокруг валялось множество окурков русских папирос. Я пробовал расспрашивать в местной гостинице, но крестьяне утверждали, что о раскопках братских могил ничего не знают. Они также настаивали, причем довольно агрессивно, будто никто вокруг и не подозревал, чем на самом деле являлся лагерь в Челмно. Я уже притомился спать, как бродяга, на открытом воздухе и хотел было переночевать в гостинице, перед тем как отправиться на велосипеде на юг, но сделать это мне не удалось. Евреев в гостиницу не допускали. На следующий день я отправился в Краков на поезде. Искать работу. Зима 1945-1946 года была почти такой же трудной, как зима 1941-1942. Формировалось новое правительство, но в окружавшей действительности случились намного более серьезные вещи: отсутствие продовольствия, горючего, черный рынок, беженцы, тысячами возвращавшиеся домой, чтобы начать жизнь сначала, и советская оккупация. В особенности вот эта оккупация. В течение сотен лет мы сражались с русскими, покоряли их, в свою очередь сопротивлялись вторжению, жили под угрозой с их стороны, а затем приветствовали как освободителей. Мы только что очнулись от кошмара немецкой оккупации, и наступило холодное утро русского освобождения. Как и вся Польша, я был истощен, пребывал в состоянии оцепенения и несколько удивлялся тому, что все еще жив; единственным сильным желанием было пережить хотя бы еще одну зиму. Весной сорок шестого пришло письмо от моей кузины Ребекки. Она со своим мужем-американцем жила в Тель-Авиве. Ей пришлось потратить несколько месяцев, посылая письма, устанавливая контакты с чиновниками, рассылая телеграммы агентствам и разным учреждениям, — в надежде разыскать хотя бы следы кого-нибудь из семьи. Она нашла меня через своих друзей из Международного Красного Креста. В ответ я написал ей письмо; а вскоре пришла телеграмма, в которой она настойчиво приглашала меня приехать к ней в Палестину. Они с Давидом предлагали прислать мне деньги на билеты телеграфом. Я вовсе не был сионистом; более того, наша семья никогда не признавала существования Палестины как возможного еврейского государства, но когда я сошел с битком набитого турецкого сухогруза в июне сорок шестого на землю, которой суждено было стать нашей «землей обетованной», с плеч моих, казалось, упало тяжелое ярмо, и я впервые вздохнул свободно — впервые с того рокового восьмого сентября тридцать девятого года. Признаюсь, в тот день я упал на колени, и глаза мои наполнились слезами. Возможно, моя радость по поводу обретения свободы оказалась преждевременной. Через несколько дней после моего приезда в Палестину в отеле «Царь Давид» в Иерусалиме, где располагалось британское командование, произошел взрыв. Оказалось, что Ребекка и ее муж Давид участвуют в движении «Хагана». Полтора года спустя я вместе с ними включился в борьбу за независимость, однако, несмотря на свою партизанскую подготовку и опыт, я принимал участие в военных действиях только в качестве санитара. Я чувствовал ненависть, но вовсе не по отношению к арабам. Ребекка настояла, чтобы я продолжил учебу. В то время Давид был уже представителем в Израиле очень приличной американской компании, так что с деньгами проблем не было. Так и случилось, что довольно посредственный школьник из Лодзи, чье образование было прервано на пять лет, вернулся за парту, — уже мужчиной, покрытым шрамами и в двадцать три года чувствовавшим себя стариком. Совершенно неожиданно вышло так, что на этом поприще я сделал успехи. Поступил в университет в пятидесятом году, а три года спустя уже учился на медицинском факультете. Два года я проучился в Тель-Авиве, год и три месяца в Лондоне, год в Риме и одну очень дождливую весну — в Цюрихе. Когда мог, я возвращался в Израиль, работал в кибуце около фермы, на которой проводили каждое лето Давид и Ребекка, и общался со своими старыми друзьями. Мой долг по отношению к кузине и ее мужу был так велик, что я уже ничем не мог расплатиться с ними, но Ребекка постоянно твердила, что единственный оставшийся в живых член семьи Ласки, из племени Эшколов, должен чего-то добиться в жизни. Я выбрал психиатрию. Занимаясь медициной, я уже знал, что все это — не более чем подготовительный этап: необходимо изучить тело, прежде чем проникать в сознание человека. Вскоре я был уже одержим всякими теориями насилия, случаями вампиризма в человеческих отношениях. Я с изумлением обнаружил, что в этой области практически еще нет сколько-нибудь надежных исследований. Было множество данных, в точности объясняющих механизмы господства внутри стаи львов; проводились обширные исследования в иерархических отношениях среди всех видов птиц; много информации поступало от приматологов — относительно роли господства и агрессивности в социальных группах наших дальних родственников — обезьян. Но как же мало было известно о механизме насилия над личностью, о господстве людей над людьми и о зомбировании, скорее я сам стал развивать свои собственные теории и предложения. Во время учебы я не переставал разыскивать оберста. Я знал, что он был полковником в Einsatzgruppe 3, я видел его с Гиммлером и хорошо помнил последние слова Старика: «Вилли, мой друг...» Я запрашивал союзнические комиссии по делам военных преступников в различных оккупационных зонах, обращался в Красный Крест, советский трибунал по военным преступлениям фашистов, Еврейский комитет, в бесчисленные иные министерства и прочие бюрократические учреждения. Результата никакого. Пять лет спустя я обратился в Моссад — разведывательное агентство Израиля. Эти, по крайней мере, заинтересовались моим рассказом, но в те годы Моссад вовсе не был такой эффективной организацией, какой он, по слухам, является теперь. К тому же у них были иные приоритеты — они охотились за такими знаменитостями, как Эйхман, Мюрер и Менгеле, и их мало волновал какой-то неведомый оберет, о котором заявил один-единственный человек, переживший холокост. В пятьдесят пятом году я поехал в Австрию, чтобы посоветоваться с охотником за нацистами — Симоном Визенталем. «Центр документации» Визенталя находился в ветхом здании, в бедном квартале на окраине Вены. По виду дома можно было предположить, что его построили во время войны как временное прибежище. Занимал три комнаты, две из которых под завязку были заполнены шкафами с папками; третья комната с голым цементным полом служила кабинетом. Сам Визенталь — нервный, взвинченный, от него исходило напряжение, внушавшее беспокойство тем, кто с ним общался. В его взгляде было что-то очень знакомое. Поначалу я подумал, что у Симона Визенталя — вид фанатика, но потом понял: этот напряженный взгляд я сам наблюдал в зеркале по утрам, когдабрился. Я рассказал Визенталю сокращенный вариант своей биографии, сообщив лишь, что оберет совершал зверства по отношению к заключенным Челмно ради развлечения солдат. Визенталь очень внимательно слушал меня, когда я упомянул, что встречал этого негодяя в Собибуре в компании Генриха Гиммлера. «Вы уверены?» — переспросил он. «Абсолютно уверен», — ответил я. Хотя Визенталь был очень занят, он потратил два дня, помогая мне разыскать след оберста. В своем «центре», больше похожем на могилу, он собрал сотни досье, десятки указателей и перекрестных указателей, а также фамилии более двадцати двух тысяч эсэсовцев. Мы изучали фотографии личного состава Einsatzgruppe и выпускников военных академий, вырезки из газет и фото из официального журнала СС «Черный Корпус». К концу первого дня я уже не мог сосредоточиться, глаза отказывались служить. В ту ночь мне снились лица офицеров-нацистов, которым ухмыляющиеся главари «третьего рейха» вручали ордена. Следов оберста нигде не было. Лишь на следующий день, уже вечером, мне удалось отыскать фото в газете за 23 ноября 1942 года: то был барон фон Бюлер, прусский аристократ, герой первой мировой войны, вернувшийся в строй в чине генерала. Подпись под снимком гласила, что генерал фон Бюлер погиб в бою, когда повел свои войска в героическую контратаку против русской танковой дивизии на Восточном фронте. Я долго смотрел на морщинистое лицо с крупными чертами, запечатленное на пожелтевшей бумаге: Старик. Der Alte. Убрав газетную вырезку назад в папку, я продолжил поиски. — Если бы у нас была его фамилия, — сказал Визенталь в тот вечер, когда мы ужинали в небольшом ресторанчике близ собора Святого Стефана. — Уверен, мы смогли бы его разыскать, если бы знали фамилию. СС и гестапо имели точные списки своих офицеров. Я пожал плечами и сообщил, что утром намерен вернуться в Тель-Авив. Мы перебрали почти все материалы Визенталя по Einsatzgruppe и Восточному фронту, а мои занятия вскоре могли потребовать всего моего времени. — Но как можно?! — воскликнул Визенталь. — Вы уцелели в гетто Лодзи, в Челмно, в Собибуре. У вас должна быть масса информации об офицерах, о других военных преступниках. Вы должны провести здесь по крайней мере еще неделю. Мы с вами побеседуем, а потом запись этого интервью будет внесена в мои архивы. Вы не представляете даже, какие бесценные факты хранятся в вашей памяти! — Нет, — отрезал я. — Меня не интересуют другие. Меня интересует только оберет. Визенталь долго смотрел в свою чашку, потом поднял на меня глаза — в них блеснул странный огонек. — Значит, вас интересует только месть? — Да. Так же как и вас. Он печально покачал головой. — Возможно, мы оба одержимы, мой друг. Но я добиваюсь справедливости, а не отмщения. — А разве в данном случае это не одно и то же? Визенталь снова покачал головой. — Справедливый суд необходим. Его требуют миллионы голосов из безымянных могил, из ржавеющих печей, из пустых домов в тысячах городов. Чувство же мести — недостойно, оно мелко... — Недостойно чего? — спросил я резче, чем хотел. — Нас. Их. Их смерти. Нашей дальнейшей жизни. Я тогда ничего не ответил, отбрасывая все это, но с тех пор часто думал об этой нашей беседе. Хотя Визенталь был разочарован, он согласился продолжить поиски любой информации, связанной с моим описанием оберста. Через год и три месяца, спустя несколько дней после того как я получил степень, от Симона Визенталя пришло письмо. В конверте были фотокопии платежных ведомостей четвертого отдела зондеркоманды подотдела IV-B Einsatzgruppen: «специальные советники». Визенталь обвел имя оберста Вильгельма фон Борхерта, офицера из штаба Рейнхарда Гейдриха, прикомандированного к Einsatzgruppen. К этим фотокопиям был приколот газетный снимок, извлеченный Визенталем из своих архивов. Семь молодых улыбающихся офицеров позировали перед фотографом на концерте берлинского филармонического оркестра в пользу вермахта. Газетная вырезка была датирована 23 июня 1941 года... Исполнялся Вагнер. Ниже перечислялись имена улыбающихся офицеров. Пятым слева, едва видный из-за плеч своих товарищей, стоял оберет, низко надвинув фуражку на свой бледный лоб. В подписи под снимком фамилия старшего лейтенанта Вильгельма фон Борхерта тоже была обведена кружочком. Через два дня я уже был в Вене. Визенталь распорядился, чтобы его корреспонденты разузнали все, что можно, о фон Борхерте, но результаты обескуражили. Борхерты были хорошо известной аристократической семьей, имевшей поместья в Пруссии и Баварии. Источником богатства семьи служили земли, интересы в горнорудной промышленности и экспорт предметов искусства. Агенты Визенталя не смогли найти никаких записей о рождении или крещении Вильгельма фон Борхерта в архивах, просмотренных до 1880 года, но они обнаружили извещение о смерти. Согласно объявлению в «Реген Цайтунр» за 19 июня 1945 года, оберет Вильгельм фон Борхерт, единственный наследник графа Клауса фон Борхерта, погиб в бою, геройски защищая Берлин от советских захватчиков. Это известие дошло до престарелого графа и его жены во время их пребывания в летней резиденции — Вальдхайме, в Баварском лесу близ Байриш-Айзенштейна. Члены семьи спрашивали разрешения союзных властей закрыть поместье и вернуться в свой особняк около Бремена, где должны состояться похороны. В заметке далее говорилось, что Вильгельм фон Борхерт получил столь желанный железный крест за доблесть, а перед смертью был рекомендован к повышению в чине до обергруппенфюрера СС. Визенталь дал своим людям задание искать какие-либо другие следы, но так ничего нового не обнаружилось. В пятьдесят шестом году семья фон Борхерта состояла всего лишь из престарелой тетушки в Бремене и двух племянников, пустивших по ветру большую часть семейного состояния из-за неразумного вложения капитала после войны. Огромное поместье в Восточной Баварии пустовало уже много лет, охотничий заказник был продан для уплаты налогов. По весьма ограниченным источникам в странах Восточного блока выяснилось: ни Советы, ни восточные немцы не владели никакой информацией о жизни и смерти Вильгельма фон Борхерта. Я вылетел в Бремен, чтобы побеседовать с тетушкой оберста, но она была уже в одной из последних стадий старческого маразма и не могла припомнить никого из членов семьи по имени Вилли. Полагала, что меня послал ее брат — пригласить ее на летний праздник в Вальдхайме. Один из племянников отказался встретиться со мной. Другой, молодой фат, которого я настиг в Брюсселе, откуда тот направлялся на курорт во Франции, заявил, что видел дядю Вильгельма всего один раз, в тридцать седьмом году. Племяннику тогда было девять лет. Он ничего не помнил, кроме великолепного шелкового костюма и канотье, которое дядя носил лихо, немного набекрень. И еще считал своего родственника героем, который погиб, сражаясь с коммунистами. Я вернулся в Тель-Авив ни с чем. Несколько лет я практиковал как психиатр в Израиле; за это время я узнал, как и все психиатры, что ученая степень в этой области всего лишь готовит профессионала к тому, чтобы начать серьезно изучать человеческую личность во всей ее сложности, со всеми ее достоинствами и недостатками. В шестидесятом году умерла от рака моя кузина Ребекка. Давид настоял на том, чтобы я поехал в Америку и продолжил там свои исследования. Когда я возражал, что у меня достаточно материала и в Тель-Авиве, Давид шутил, что нигде в мире спектр насилия не является таким разнообразным, как в Соединенных Штатах. В Нью-Йорк я прибыл в январе шестьдесят четвертого года. Американская нация в это время едва опомнилась после убийства 35-го президента и готовилась утопить свою печаль в подростковой истерии по поводу приезда британской рок-группы, которая называлась «Битлз». Колумбийский университет предложил мне должность профессора-консультанта сроком на один год, но потом получилось так, что я продолжил работать там, пока не закончил свою книгу о патологии насилия... В ноябре шестьдесят четвертого года я принял решение остаться в Штатах. Я тогда гостил у своих друзей в Принстоне, в Нью-Джерси; после обеда они, извинившись, спросили, не хочу ли я немного посмотреть телевизор вместе с ними. У меня своего телевизора не было, и я заверил их, что это развлечет меня. Как оказалось, программа, которую они хотели смотреть, представляла собой документальный фильм, посвященный первой годовщине со дня гибели Джона Кеннеди. Это было мне интересно. Даже в Израиле, несмотря на нашу одержимость своими собственными проблемами, смерть американского президента потрясла всех нас. Я видел фотографии президентского кортежа в Далласе; меня очень тронул снимок, столь часто перепечатываемый, где младший сын Кеннеди отдает честь гробу своего отца. Читал я о том, как некий Джек Руби «убрал» предполагаемого убийцу президента, но мне ни разу еще не приходилось видеть видеозаписи этого момента. В том документальном фильме по TV я наблюдал воочию: вот в наручниках появился самодовольно ухмыляющийся худой парень в темном свитере, окруженный далласскими полицейскими в штатском, с их стетсонами и типичными американскими физиономиями. Откуда-то сбоку выныривает из толпы журналистов грузный мужчина, вмиг приставляет дуло пистолета к животу Ли Харви Освальда, слышится сухой резкий звук... Этот звук заставил меня вздрогнуть — я вспомнил про белые обнаженные тела, падающие в Ров... На глазах у всех Руби стреляет в Освальда, крупным планом — прижатые к животу руки, перекошенное лицо парня. Полицейские хватают Руби. В наступившей неразберихе телекамеру кто-то толкнул, и она оказалась направленной на толпу. — Матка Бозка! — почему-то заорал я по-польски и вскочил со стула. В толпе я увидел оберста. Так и не объяснив своего волнения друзьям, в тот же вечер я покинул Принстон и вылетел в Нью-Йорк. Рано утром следующего дня я уже был в манхэттенском офисе той телекомпании, которая демонстрировала документальный фильм памяти Кеннеди. Я использовал все свои связи в университете и в издательском мире, чтобы получить доступ к фильмам, видеозаписям и роликам компании. Лицо в толпе, которое я видел в той программе, появилось всего на несколько секунд и только на той пленке. Один мой аспирант любезно согласился сфотографировать эти кадры в монтажной телекомпании и увеличить их, насколько это было возможно. В таком виде узнать лицо было еще труднее, чем в те две с половиной секунды, когда оно появилось на экране: это было всего лишь белое пятно, мелькнувшее между широкими полями шляпы, как у техасских ковбоев, смутное впечатление легкой улыбки и глазницы — темные, будто дыры в черепе. Как вещественное доказательство этот снимок не годился — его не принял бы во внимание ни один суд в мире, но я знал, что это оберет. Я вылетел в Даллас. Власти Далласа все еще относились ко всем настороженно, из-за критики, которой они были подвергнуты в прессе и во всем мире. Мало кто соглашался разговаривать со мной, еще меньшее число людей было готово обсуждать то, что случилось год назад в подземном гараже. Никто не узнал человека ни на снимке, сделанном с видеозаписи, ни на старом фото из берлинской газеты. Я беседовал со свидетелями. Я попытался добиться свидания с Джеком Руби, находившимся в «камере смертников», но так и не получил разрешения. След оберста за год остыл — он был так же холоден, как труп Ли Харви Освальда. Вернувшись в Нью-Йорк, я связался кое с кем из знакомых в израильском посольстве. Они заявили, правда, что израильские разведывательные службы не имеют права действовать на территории США, но все же согласились навести кое-какие справки. В Далласе я нанял частного детектива. Его услуги обошлись мне в семь тысяч долларов, но его отчет можно было свести к одному слову: ни-че-го. В посольстве Израиля точно такой же результат мне выдали бесплатно. Вероятно, мои знакомые сочли меня сумасшедшим: только безумец мог искать след нацистского военного преступника в деле убийства президента и всех, кто был причастен к этой трагедии, — ведь бывшие эсэсовцы стремились лишь к одному — к анонимности. Я сам стал сомневаться, не сошел ли я с ума. Лицо «белокурой бестии», которое уже столько лет не давало мне покоя во сие, явно сделалось главной целью моей жизни. Как психиатр я мог понять всю двусмысленность этой одержимости: запечатленная в моем мозгу в камере смерти в Собибуре, закаленная в самую холодную зиму моего духа, одержимая решимость разыскать оберста была для меня смыслом жизни; исчезни одержимость — этот смысл исчезнет. Признать, что оберет мертв, значило для меня признать и свою собственную смерть. Как психиатр я все это понимал. Понимал, но не верил. И если бы даже поверил, то не стал бы работать над тем, чтобы «излечиться». Оберет существует взаправду. Шахматная партия была. Оберет не тот человек, который умрет где-нибудь в наскоро построенных оборонительных сооружениях под Берлином. Он монстр. А монстры не умирают сами. Их следует убивать. Летом шестьдесят пятого я наконец добился встречи с Джеком Руби. Но из разговора с ним ничего не вышло. К тому времени мафиози превратился в тень с печальным лицом. В тюрьме он похудел, кожа на лице и руках обвисла, как складки грязной марли. Взгляд у Руби был отсутствующим, рассеянным, голос — хриплый. Я пытался расспросить подробнее о его психическом состоянии в тот ноябрьский день, но он только пожимал плечами и повторял то, что уже столько раз говорил на допросах. Нет, он не собирался стрелять в убийцу — это пришло ему в голову только за несколько секунд перед самим действием. Пустили его в тот гараж случайно. Что-то нашло на него, когда он увидел Освальда, какой-то порыв, которого он не смог удержать — ведь этот человек убил его любимого президента. Я показал ему фотографии оберста. Он устало покачал головой. Он знал нескольких далласских детективов и многих репортеров, которые были там, в гараже, но этого немца он никогда прежде не видел. «Не ощутили ли вы чего-то странного непосредственно перед тем, как выстрелить в Освальда?» Когда я задал этот вопрос, Руби на секунду поднял свое усталое лицо, похожее на морду таксы, и я увидел в его взгляде вспышку смятения, но затем вспышка погасла, и он отвечал тем же монотонным голосом, что и прежде. Нет, ничего странного, только ярость по поводу того, что Освальд все еще жив, а президент Кеннеди мертв и бедная миссис Кеннеди с детишками остались совсем одни. Я не удивился, когда год спустя, в декабре 1966 года, Руби поместили в больницу с диагнозом «рак». Он показался мне смертельно больным человеком уже во время нашей беседы. Не многие горевали о нем — умер он в январе шестьдесят седьмого года. Нация уже очистилась через свое горе, и Джек Руби был всего лишь напоминанием о тех временах, которые лучше забыть. В конце шестидесятых я все больше погружался в свою исследовательскую и преподавательскую работу. Я пытался убедить себя, что мои теоретические разработки — всего лишь попытки найти средство изгнания демона, символом которого служило лицо оберста, но в душе я был уверен совсем в обратном. В те годы, когда процветало насилие, я изучал его. Почему некоторые люди с такой легкостью добиваются господства над другими? В своей экспериментальной работе я сводил вместе небольшие группы людей, незнакомых друг с другом, для выполнения какой-либо посторонней задачи, и неизменно уже минут через тридцать после начала возникала какая-то иерархия. Порою участники группы даже не осознавали этого, но когда их спрашивали, они почти всегда могли указать, кто из группы был «самый главный» или «самый динамичный». Вместе с аспирантами мы проводили беседы, анализировали их письменные записи и долгими часами просматривали видеопленки. Мы моделировали ситуации конфликтов между испытуемыми и лицами, обладающими властью: деканами университета, полицейскими, преподавателями, чиновниками налоговой службы, тюремными надзирателями и священниками. И во всех случаях проблема иерархии и господства оказывалась более сложной, чем можно было предположить, зная только социальное положение вовлеченных в эксперимент лиц. В это время я начал сотрудничать с нью-йоркской полицией — составлял личностные характеристики субъектов, склонных к убийству. Фактические данные были невероятно интересны, беседы с убийцами — весьма тягостны, результаты же — неопределенны. Где находится источник человеческой агрессивности? Какую роль играют насилие и угроза насилия в наших ежедневных взаимоотношениях друг с другом? Получив ответы на эти вопросы, я наивно надеялся когда-нибудь объяснить, как случилось, что очень способный, но маниакальный психопат вроде Адольфа Гитлера смог превратить одну из величайших культур мира в тупую и аморальную машину убийства. Я начал с того факта, что половина видов сложных животных на земле обладает каким-то механизмом для установления господства и социальной иерархии. Обычно эта иерархия возникает без нанесения серьезного ущерба. Даже такие свирепые хищники, как волки и тигры, используют вполне определенные сигналы подчинения, для того чтобы прекратить самые яростные схватки, так что дело не доходит до смерти или серьезного увечья. Ну, а что же человек? Неужели правы те (и их довольно много), кто утверждают, что у нас отсутствует инстинктивный, четко распознаваемый сигнал покорности и потому мы обречены на вечную войну, на некоего рода внутривидовое сумасшествие, предопределенное нашими генами? В этом я сомневался. Год за годом я собирал данные и развивал различные положения и все это время втайне выстраивал теорию, которая была настолько странной и ненаучной, что она подорвала бы мою профессиональную репутацию, если бы я хотя бы шепотом намекнул о ней своим коллегам. Что, если человечество в своем развитии установило некий психический тип отношений господства и подчинения — то, что некоторые из моих нерационалистически настроенных коллег называют парапсихологическими явлениями? Ведь ясно, что привлекательность некоторых политиков (то, что средства массовой информации называют харизмой просто за неимением лучшего термина) не может быть объяснена с помощью размеров индивида, его способности к размножению или к угрожающему поведению. Моя версия такова: а что, если в какой-то доле либо каком-то полушарии мозга существует зона, ответственная исключительно за проецирование этого чувства личного верховенства, лидерства? Я был хорошо знаком с нейрологическими исследованиями, указывающими, что мы унаследовали наши инстинкты господства и подчинения от так называемого рептильного мозга — самой примитивной мозговой области. Ну, а что если были прорывы в эволюции, связанные с мутацией, придавшие некоторым человеческим существам способность, родственную эмпатии либо телепатии, но бесконечно более мощную и более полезную с точки зрения выживания? И что если эта способность, подпитываемая собственной жаждой господства, находит свое высшее выражение в насилии? Являются ли человеческие существа, обладающие такой способностью, воистину человеческими? В конечном счете я мог всего лишь без конца теоретизировать по поводу того, что я чувствовал, когда власть воли оберста проникла в мой мозг, сознание, тело, полностью завладела мною. Проходили десятилетия, отдельные детали тех ужасных дней стирались, но боль того насилия над моим сознанием и связанные с этим отвращение и ужас все еще заставляли меня просыпаться по ночам в холодном поту. Я продолжал преподавать, занимался исследовательской работой, справлялся с мелкими проблемами своего бесцветного быта. Прошлой весной я однажды проснулся и понял, что старею. Минуло почти шестнадцать лет с того дня, когда я увидел то лицо в видеозаписи. Если оберет действительно существовал, если он все еще живет где-то на этой Земле, сейчас он — уже глубокий старик. Я вспомнил тех беззубых, дрожащих стариков, которых все еще разоблачали как военных преступников. Нет, скорее всего, оберет мертв. Но я позабыл, что монстры, как и вампиры, не умирают. Что их надо убивать. И вот, четыре с лишним месяца назад, я столкнулся с оберстом на нью-йоркской улице. Был душный июльский вечер. Я шел куда-то мимо Центрального парка, кажется, о чем-то думал, сочиняя статью о тюремной реформе, когда мой вожделенный объект вдруг вышел из ресторана метрах в двадцати от меня и позвал такси. С ним была дама, не молодая, но все еще очень красивая, в шелковом вечернем платье, длинные седые волосы ниспадали на плечи... Сам оберет был в темном костюме. Загорелое лицо, выправка — все говорило о том, что он находится в отличной форме. Правда, он облысел, поседел, но его лицо, отяжелевшее с возрастом, каждой своей чертой по-прежнему выражало властность и жестокость. На мгновенье я задохнулся и застыл как столб, глядя на него во все глаза, потом ринулся за их такси, которое сразу же влилось в поток автомобилей. Я как одержимый заметался между машинами, пытаясь бегом догнать такси. Пассажиры на заднем сиденье даже не оглянулись. Такси прибавило скорость, и я, пошатываясь, отошел к тротуару, едва не потеряв сознание. Метрдотель ресторана ничем не мог мне помочь. Да, действительно в тот вечер у него обедала очень респектабельная пожилая пара, но имен их он не знал. Столик они заранее не заказывали. Несколько недель я бродил близ Центрального парка, прочесывая весь этот район, разглядывая все проходящие такси в надежде вновь увидеть лицо оберста. Я нанял молодого нью-йоркского детектива и снова заплатил за нулевой результат. Именно в это время я заболел; как я теперь понимаю, это был тяжелый случай нервного истощения. Я не спал. Не мог работать. Мои лекции в университете либо отменялись, либо проводились страшно волновавшимися ассистентами. По несколько дней я не переодевался, не спал, возвращался к себе в квартиру, только чтобы перекусить и нервно расхаживать по комнатам. По ночам я тоже бродил по улицам; несколько раз меня останавливали полицейские. Меня не отправили в психиатрическую лечебницу на освидетельствование только благодаря моему положению в Колумбийском университете и магическому титулу «доктор». И вот однажды ночью, лежа на полу своей квартиры, я вдруг сообразил, что все это время не обращал внимания на одну деталь. Лицо седовласой леди было мне знакомо. Почти всю ночь и весь следующий день я мучительно пытался вспомнить, где я видел это лицо. Я точно знал, что встречал леди не в жизни, а на каком-то снимке. Ее лицо у меня почему-то вызывало ассоциации со скукой, беспокойством и успокаивающей музыкой. В пятнадцать минут шестого я поймал такси и ринулся к центру города, к своему зубному врачу. Он только что ушел, кабинет закрывался, но я придумал какую-то историю и попросил его помощницу позволить мне просмотреть кипы старых журналов в приемной. Там были экземпляры «Севентин», «Мадемуазель», «Ю. С. Ньюс Энд Уорлд Рипот», «Тайм», «Ньюсуик», «Вог», «Консьюмер Рипотс» и «Теннис уолд». Когда я с маниакальной настойчивостью принялся листать журналы во второй раз, помощница запаниковала. Только моя одержимость и уверенность, что ни один зубной врач не меняет свой запас журналов чаще чем четыре раза в год, давали мне силы продолжать поиск, хотя эта женщина уже пронзительно кричала, что сейчас вызовет полицию. И я-таки нашел ту леди. Фотография оказалась маленькой черно-белой врезкой где-то в начале «Вог», этой толстенной кипы глянцевых рекламных фото и восторженных эпитетов. Снимок седовласой дамы помещался над статьей о каких-то модных аксессуарах. Автор статьи — Нина Дрейтон. После этого понадобилось всего несколько часов, чтобы найти Нину Дрейтон. Мой нью-йоркский частный детектив был очень рад работать с чем-то более доступным, чем этот неуловимый призрак. Через сутки Харрингтон уже принес мне приличных размеров досье на эту женщину. Информация была почерпнута по большей части из общедоступных источников. Миссис Дрейтон, — сообщали источники, — богатая и довольно известная в мире так называемой высокой моды, владела целым рядом магазинов и была вдовой. В августе сорокового года она вышла замуж за Паркера Алана Дрейтона, одною из основателей компании «Американские Авиалинии». Спустя десять месяцев после свадьбы он скоропостижно скончался, и его вдова продолжила дело, с умом вкладывая капиталы и проникая в такие советы директоров, куда до нее не удавалось попасть ни одной женщине. Позднее миссис Дрейтон перестала заниматься бизнесом так же активно, как раньше, оставив за собой только свои магазины модной одежды и обуви. Она являлась членом попечительских советов нескольких престижных благотворительных организаций, близко знала множество политиков, людей искусства, писателей, содержала большую квартиру на шестнадцатом этаже престижного дома на Парк-Авеню, а также имела несколько летних ломов и загородных вилл. Познакомиться с ней оказалось не так уж трудно. Поразмыслив, я просмотрел списки своих пациентов и вскоре нашел имя одной богатой матроны, страдавшей маниакально-депрессивным психозом, которая жила в том же доме, что и миссис Дрейтон, и общалась с людьми примерно того же круга. Я познакомился с Ниной Дрейтон во второй уикэнд августа на приеме в саду, который давала моя бывшая пациентка. Гостей было немного. Большинство благоразумных людей уехали из города в свои коттеджи на Мысу либо в летние шале в Скалистых горах. Но миссис Дрейтон почему-то осталась в городе. Еще до того как я пожал ее руку, до того как посмотрел в ее ясные голубые глаза, я уже знал совершенно твердо, без тени сомнения, что она — одна из тех. Она была такой же, как и оберет. Ее присутствие наполняло собой весь сад; благодаря ей даже японские фонарики горели ярче. Эта моя уверенность в том, что я не ошибался, прямо-таки взяла меня холодной рукой за горло. Возможно, Нина Дрейтон уловила мою реакцию или ей просто доставляло удовольствие издеваться над психиатром, но в тот вечер она как бы фехтовалась со мной, проявляя некую смесь самодовольного презрения и злонамеренного вызова, столь же тонкую, как, скажем, опасные когти кошки в их бархатных ножнах. Я пригласил миссис Дрейтон посетить публичную лекцию, которую я собирался читать на той неделе в университете. К моему удивлению, она приехала в сопровождении злобного вида женщины небольшого роста по имени Баррет Крамер. Темой своей лекции я как раз избрал политику преднамеренного насилия в «третьем рейхе» и ее связь с некоторыми режимами в странах «третьего мира» в наши дни. Я несколько изменил план своей лекции, с тем чтобы сформулировать тезис, противоречащий общепринятому в настоящее время, а именно: необъяснимая жестокость миллионов немцев была вызвана, по крайней мере частично, действиями небольшой тайной группы властных личностей. В течение всей лекции я видел, как улыбается миссис Дрейтон, сидя в пятом ряду. Улыбка ее была примерно такой же хищной, какую, вероятно, видит мышь на морде кошки, перед тем как быть съеденной. После лекции миссис Дрейтон изъявила желание поговорить со мной наедине. Она спросила, по-прежнему ли я принимаю пациентов, и попросила проконсультировать ее в профессиональном плане. Некоторое время я колебался, но мы оба знали, каким будет мой ответ. Еще дважды я видел ее, оба раза в сентябре. Мы делали вид, что всерьез начинаем курс психоанализа. Нина Дрейтон была уверена, что ее бессонница напрямую связана со смертью отца, случившейся несколько десятков лет тому назад. Она сообщила мне, что часто видит один и тот же кошмарный сон — будто она толкает своего отца под троллейбус в Бостоне, хотя на самом деле она находилась за несколько миль от того места, где он погиб. «Правда ли, доктор Ласки, — спросила она во время нашей второй встречи, — что мы всегда убиваем тех, кого любим?» Я сказал, что, по моему мнению, верно как раз обратное: мы убиваем, по крайней мере в своем воображении, тех, кого любим притворно, а на самом деле презираем. Нина Дрейтон только улыбнулась. Я предложил ей попробовать гипноз в следующую нашу встречу, чтобы попытаться облегчить ее воспоминания о смерти отца, она согласилась, но я вовсе не удивился, когда в начале октября мне позвонила ее секретарь и отменила все намеченные посещения. К тому времени я уже нанял частного детектива и поручил ему круглосуточно следить за миссис Дрейтон. Кстати, о том детективе: он не был циничным экс-полисменом, как можно было бы вообразить; по совету друзей я нанял Френсиса Ксавье Харрингтона. Ему было двадцать четыре года, он оставил учебу в Принстонском университете и в свободное время писал стихи. Уже два года он занимался частным сыском. Ему пришлось купить новый костюм, чтобы посещать те рестораны, в которых миссис Дрейтон проводила дивное время. Когда я распорядился следить за ней двадцать четыре часа в сутки, Харрингтону понадобилось нанять еще двух своих университетских друзей для пополнения агентства. Но парень был вовсе не дурак; он работал быстро и толково; каждый понедельник и пятницу у меня на столе лежал письменный отчет. Некоторые его достижения были не совсем легальными, включая его способность раздобывать копии телефонных счетов Нины Дрейтон. Она звонила очень много и разным людям. По этим счетам Харрингтон составил список телефонных номеров, а затем установил фамилии и адреса тех, кому она звонила. Некоторые из этих имен были довольно известны, другие могли заинтриговать кого угодно, но ни одно из них не указывало на моего оберста. Шли недели. Я уже потратил большую часть своих сбережений на то, чтобы иметь представление о ежедневных заботах Нины Дрейтон, о ее привычных блюдах, деловых встречах и телефонных звонках. Юный Харрингтон понимал, что мои ресурсы ограничены, и любезно предложил перехватывать письма миссис Дрейтон и прослушивать ее телефонные разговоры, но я отказался. Я не хотел делать ничего такого, что могло бы выдать нас. И вот, две недели назад, миссис Дрейтон сама позвонила мне и пригласила на большой рождественский гала-прием, который она должна была устроить семнадцатого декабря в своей квартире на Парк-Авеню. Она сказала, что звонит лично, чтобы у меня не было предлога увернуться от приглашения. Ей хотелось познакомить меня со своим очень дорогим другом из Голливуда, продюсером, который очень жаждал встретиться со мной. Она только что послала ему экземпляр моей книги «Патология насилия», и он от нее в невероятном восторге. «Как его зовут?» — спросил я. «Это неважно, — заявила она. — Возможно, вы узнаете его при встрече». Меня так колотило, когда я положил трубку, что мне пришлось подождать целую минуту, прежде чем я смог набрать номер Харрингтона. В тот вечер мы с ребятами собрались, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. Мы снова перебрали телефонные счета и на сей раз обзвонили все номера в Лос-Анджелесе, не включенные в городской телефонный справочник. На шестом звонке голос молодого человека ответил: «Особняк мистера Бордена». «Это домашний телефон Томаса Бордена?» — спросил Фрэнсис. «Вы не туда звоните, — отрезал голос. — Это особняк мистера Уильяма Бордена». Я выписал имена на доске в своем кабинете. Вильгельм фон Борхерт. Уильям Борден. Человеческая природа, ничего не поделаешь! Мужчина приезжает с любовницей в отель и вписывает в регистрационную книгу имя, весьма похожее на его собственное. Или разыскиваемый преступник скрывается под шестью чужими именами и фамилиями, и в пяти случаях из шести использует свое собственное имя. Что-то такое есть в наших именах, из-за чего нам трудно отказаться от них насовсем, сколь бы необходимым это не было. В тот понедельник, за четыре дня до событий здесь, в Чарлстоне, Харрингтон вылетел в Лос-Анджелес. Первоначально я планировал лететь сам, но Фрэнсис убедил меня, что лучше будет, если он сначала проверит этого Бордена, сфотографирует его и выяснит, действительно ли он и Борхерт — одно и то же лицо. Я вынужден был согласиться с его доводами — у меня не было плана действий. Даже после стольких лет я все еще не обдумал все детали: как должен буду поступить, когда найду оберста. В понедельник вечером Харрингтон позвонил и стал рассказывать мне, что фильм, который показывали во время полета, оказался посредственным, что отель, в котором он остановился, явно уступает «Беверли Вилширу» и что полицейские в Бел-Эйр имеют манеру останавливать и допрашивать людей, если тем случится дважды проехать в одном районе или если они имеют наглость припарковаться где-нибудь на этих извивающихся улицах, чтобы поглазеть на дом какой-нибудь кинозвезды. Во вторник он попросил узнать, нет ли чего-либо нового относительно миссис Дрейтон. Я сказал, что двое его друзей, Денис и Селби, спят немного похуже, чем он, а миссис Дрейтон живет помаленьку, и у нее все без изменений. Затем Фрэнсис сообщил мне, что он посетил студию, с которой мистер Борден имел наиболее тесные связи (экскурсия, кстати, оказалась весьма посредственной), и хотя у него в студии есть свой кабинет, никто не знает, когда он бывает там. Последний раз его видели за работой в семьдесят девятом году, и Фрэнсис надеялся раздобыть фото продюсера, но это оказалось невозможным. Он уже хотел показать секретарше этой студии берлинскую фотографию Борхерта, но потом решил, говоря его собственными словами, что «это было бы не совсем в тон». На следующий день он собирался взять свой фотоаппарат с длиннофокусным объективом и отправиться к усадьбе Бордена в Бел-Эйр. В среду Харрингтон не позвонил мне в назначенное время. Тогда я сам связался с отелем, и мне сказали, что он еще не выписался, хотя и ключа вечером не забирал. В четверг утром я позвонил в полицию Лос-Анджелеса. Они пообещали заняться этим делом, но я дал им не так уж много информации, и они решили, что нет причин подозревать какое-то преступление. «У нас в городе народ занятный, — сказал сержант, с которым я разговаривал. — Молодой парень вполне мог увлечься кем-то и забыть позвонить». Весь день я пытался связаться с Денисом или Селби, но не смог. Даже записывающее устройство в агентстве Фрэнсиса было отключено. Я пошел в здание на Парк-Авеню, где находилась квартира Нины Дрейтон. Охранник внизу сказал мне, что миссис Дрейтон уехала отдыхать. Выше первого этажа меня не пустили. Весь день я сидел, запершись в своей квартире, и ждал. В одиннадцать тридцать позвонили из лос-анджелесской полиции. Они открыли номер мистера Харрингтона в отеле «Беверли-Хиллз». Там не было ни его одежды, ни багажа, но не было и никаких намеков на преступление. «Не можете ли вы сказать, кто заплатит за номер в отеле?» — спросили меня. По счету надо уплатить триста двадцать девять долларов сорок восемь центов. В тот вечер я заставил себя пойти к друзьям, пригласившим меня на обед еще несколько дней назад. От автобусной остановки до их дома в Гринвич Виллидж было всего два квартала, но расстояние это показалось мне бесконечным. В субботу-, когда ваш отец был убит здесь, в Чарлстоне, я участвовал в обсуждении проблемы насилия в городе вместе с группой ученых в университете. Там было несколько политиков и сотни две народу. На протяжении всей дискуссии я часто посматривал в аудиторию, ожидая увидеть улыбку Нины Дрейтон, так похожую на улыбку хищной кошки, или холодные глаза оберста. Я снова почувствовал себя пешкой — только в чьей игре? В воскресенье в утренней газете я в первый раз прочитал об убийствах в Чарлстоне. В той же газете была короткая заметка о том, что голливудский продюсер Уильям Д. Борден находился на борту того злосчастного самолета, который потерпел катастрофу рано утром в субботу над Южной Каролиной. И рядом с заметкой — одна из редких фотографий этого неуловимого отшельника-продюсера. Снимок был сделан в шестидесятые годы. На нем улыбался оберет.* * *
Сол замолчал. На перилах крыльца стояли чашки с остывшим кофе, они совсем забыли про него. Пока Сол говорил, тени планок, которыми было обито крыльцо, постепенно переползали по его ногам. В наступившей тишине стали слышны доносившиеся с улицы звуки. — Кто же из них убил моего отца? — спросила Натали. Она поплотнее закуталась в свитер и зябко обхватила руками тело, словно ей было холодно. — Не знаю, — ответил Сол. — А эта Мелани Фуллер... Она тоже была одной из них? — Наверняка. — И это могла сделать она? — Да. — А вы уверены, что Нины Дрейтон нет в живых? — Я был в морге. Видел фотографии с места убийства, читал отчет о вскрытии. — Но она могла убить отца до того, как погибла сама? Сол с минуту подумал и кивнул. — Вполне возможно. — А этот Борден... или оберет... Предполагается, что он погиб в авиакатастрофе в прошлую пятницу. Сол снова кивнул. — Вы уверены, что он погиб? — спросила Натали. — Нет, — твердо ответил он. Натали встала и принялась расхаживать взад-вперед по маленькому крыльцу. — А у вас есть доказательства, что он жив? — Нет, — вздохнул Сол. — Но вы полагаете, что он жив? И что либо он, либо Фуллер могли убить моего отца? — Да. — И вы все еще хотите разыскать его? Этого Бордена, или фон Борхерта, или как его там зовут? — Да. — Господи, Госпо-оди-и... — Натали встала, прошла в дом и вернулась с двумя стаканами бренди. Один она подала Солу, другой выпила сама, залпом. Нащупав в кармане свитера пачку сигарет, она вытащила ее, нашла спички и дрожащими руками прикурила. — Вам вредно курить, — тихо заметил Сол. Натали только хмыкнула в ответ. — Эти люди — вампиры, ведь так? — спросила она. — Вампиры? — Сол тряхнул головой, не совсем понимая, что она имеет в виду. — Они используют людей, а потом выбрасывают их, словно пластиковую упаковку, — сказала она. — Они вроде тех дурацких вампиров, которых показывают по ночному каналу, только эти существуют на самом деле, так? — Вампиры, — повторил Сол почему-то по-польски. — Да. — Он снова перешел на английский, — аналогия неплохая. — Ну хорошо, — сказала Натали. — И что мы теперь будем делать? — Мы? — Слово это, казалось, удивило его. Он потер руками колени. — Мы, — повторила Натали, и голос ее задрожал от гнева. — Вы и я. Мы с вами. Вы ведь рассказали мне все это не просто, чтобы провести время. Вам нужен союзник. Ну хорошо. Что нам делать дальше? Сол почесал бороду и покачал головой. — Я не совсем понимаю, зачем рассказал все это, но... — Но что? — Это очень опасно, Фрэнсис, да и другие... Натали подошла к нему, наклонилась и слегка дотронулась до его руки. — Моего отца звали Джозеф Леонард Престон, — тихо сказала она. — Ему было сорок восемь... Шестого февраля ему исполнилось бы сорок девять. Он был очень хороший человек, хороший отец, хороший фотограф и очень неудачливый бизнесмен. Когда он смеялся... — Натали перевела дыхание. — Когда он смеялся, трудно было не смеяться вместе с ним. Несколько секунд она стояла так, слегка наклонившись, ее пальцы лежали на его запястье, рядом с выцветшими синими цифрами, напоминавшими о трагическом прошлом. Помолчав, она спросила: — Что вы намерены делать дальше? Сол вздохнул. — Пока не знаю. Мне нужно лететь в субботу в Вашингтон, кое-кого повидать, получить информацию... Выяснить, остался ли жив оберет. Возможно, человек, с которым я хочу встретиться, у него может быть эта информация. — А потом? — настаивала Натали. — А потом буду ждать. Ждать и наблюдать. Читать газеты. Искать. — Искать что? — Новости... о других убийствах, — ответил Сол. Натали вздрогнула и выпрямилась. Сигарета, которую она держала в руке, почти потухла. Она раздавила ее о половицу. — Вы это серьезно? Ведь эта Фуллер и ваш оберет постараются уехать из страны, спрятаться где-нибудь... Почему вы думаете, что они вновь займутся такими вещами? И так скоро? Сол пожал плечами. Он вдруг ощутил невероятную усталость. — Потому что такова их природа, — сказал он. — Вампирам надо кормиться кровью. Натали отошла и села в свое кресло. — А когда вы... когда мы найдем их, что мы будем делать? — спросила она. — Тогда и решим. Сначала их надо найти. — Чтобы убить вампира, нужно проткнуть его сердце колом, — прошептала Натали. Она вытащила еще одну сигарету, но прикуривать не стала. — Сол, а что, если они узнают, что вы за ними охотитесь? Что, если они начнут гоняться за вами? — Тогда все стало бы проще, — вздохнул Сол. Натали хотела еще что-то сказать, но тут напротив их крыльца остановился коричневый автомобиль с эмблемой графства. Грузный мужчина с раскрасневшимся лицом, в стетсоновской шляпе тяжело выбрался с водительского сиденья. — Шериф Джентри, — удивилась Натали. Они смотрели на рослого, тяжелого шерифа, а тот, в свою очередь, смотрел на них. Потом он медленно, как-то нерешительно начал приближаться к дому. Остановившись у крыльца, Джентри снял шляпу. На его загорелом лице застыло выражение мальчишки, который только что видел нечто ужасное. — Доброе утро, мисс Престон, Профессор Ласки, — поздоровался Джентри. — Доброе утро, шериф, — сказала Натали. Сол смотрел на Джентри, эту карикатуру на полисмена с юга, за неуклюжей внешностью — острый ум и способность тонко чувствовать — это он ощутил и во время вчерашней встречи. Взгляд шерифа выдавал его переживания. — Мне нужна помощь, — произнес Джентри. В голосе его отчетливо слышалась нотка боли. — Какая? — спросила Натали. Сол различил в этом вопросе нечто большее, чем просто любезность. Шериф Джентри посмотрел на свою шляпу, провел по тулье мощной загорелой рукой, и это движение показалось Солу почти грациозным. Потом он поднял на них глаза. — Убито девять граждан моего графства... Как на это ни посмотри, понять ничего невозможно. Почему они умерли? Пару часов назад я остановил на улице парня, у которого в карманах не оказалось ничего, кроме моей фотографии. Но он предпочел перерезать себе горло, вместо того чтобы ответить хоть на один мой вопрос. — Джентри глянул на Натали, потом на Сола. — Это так же бессмысленно, как и все остальное в этом жутком бардаке. Я как-то нутром чую, что вы оба могли бы мне помочь. Сол и Натали все еще молча смотрели на него. — Вы можете мне помочь? — повторил Джентри. — Вы согласны? Натали повернулась к Солу. Тот снял очки, протер их, затем снова надел, обменялся взглядом с девушкой, слегка кивнул. — Заходите, шериф, — пригласила Натали, открывая дверь коттеджа. — Я приготовлю что-нибудь поесть. Разговор может получиться долгим.Глава 11
Байриш-Айзенштейн Пятница, 19 декабря 1980 г. Тони Хэрод и Мария Чен решили позавтракать в маленьком ресторане гостиницы. Хотяони спустились вниз в семь утра, первая волна туристов уже отправилась на лыжню. В камине потрескивал огонь; сквозь небольшое окно в южной стене виднелись белые снега и чистое голубое небо. — Как ты думаешь, он будет там? — тихо спросила Мария Чен, когда они допивали кофе. Хэрод пожал плечами. — Ну откуда мне знать, будет или не будет? Вчера он был уверен, что Вилли в его родовом поместье нет, что старый продюсер все-таки погиб в авиакатастрофе. Он вспомнил, как пять лет назад Вилли упомянул в разговоре про свое родовое гнездо. Хэрод был тогда порядком пьян; Вилли только что вернулся из трехнедельной поездки по Европе — и вдруг со слезами на глазах сказал: «Почему это люди говорят, что нельзя вернуться домой, а, Тони? Почему?» А потом он описал дом своей матери на юге Германии. Он назвал близлежащий городок, и это было ошибкой. До сих пор Хэрод смотрел на эту поездку лишь как на способ устранить одну докучливую вероятность, не более того. Но теперь, в ярком утреннем свете, сидя напротив Марии Чен с ее девятимиллиметровым браунингом в сумочке, он понял, что этот маловероятный вариант вполне возможен. — Как насчет Тома и Енсена? — спросила Мария Чен. На ней были стильные синие вельветовые брюки чуть ниже колен, длинные носки, розовый пуловер и плотный лыжный свитер, голубой с розовым, который обошелся ей в шестьсот долларов. Темные волосы были собраны сзади в «конский хвост»; она выглядела свежей и только что умытой, несмотря на косметику. Хэрод подумал, что она похожа на девчушку-скаута евразийского происхождения, собравшуюся на лыжную прогулку с друзьями своего отца. — Если придется их убрать, стреляй сначала в Тома, — сказал он. — Вилли легче использовать Рэйнольдса, чем негритоса, но Лугар силен. Очень силен. Постарайся уложить его наверняка, чтобы не встал. Если все пойдет по наихудшему варианту, первым делом надо убирать Вилли. Целься в голову, только в голову. Стоит уничтожить его, и Рэйнольдс и Лугар совершенно не опасны. Они до того запрограммированы, что не могут даже поссать без одобрения Вилли. Мария Чен оглядела помещение. Остальные четыре столика были заняты смеющимися и болтающими немецкими парами. Было похоже, что до них никому нет дела. Хэрод жестом велел официантке принести еще кофе, потом откинулся на спинку стула и нахмурился. Он вовсе не был уверен, что Мария Чен выполнит его приказания, когда надо будет стрелять в людей. Но все же надеялся, что выполнит: не было случая, чтобы она его ослушалась. И все же на секунду он пожалел, что она — нейтрал. Но, с другой стороны, нет опасности, что Вилли использует ее для своих собственных целей. У Хэрода не было никаких иллюзий насчет Способности старого фрица — один только факт, что Вилли держал при себе двух холуев, показывал мощь этого старого сукина сына. Хэрод считал, что Способность Вилли ослабла, подточенная возрастом, наркотиками и десятилетиями разложения, но в свете последних событий было бы глупо и опасно продолжать действовать исходя из этого. Хэрод тряхнул головой. Провались оно все. Этот сучий Клуб Островитян крепко держал его за яйца. Хэроду вовсе не хотелось оказаться впутанным в эту историю с каргой из Чарлстона. И тем более не хотелось сталкиваться с человеком, который пятьдесят лет играл в эту паскудную игру с Вилли Борденом, или фон Борхертом, или как там его на хер... А что сделают Барент и его друзья, эти говнюки, когда узнают, что Вилли жив? Конечно, если он жив. Хэрод вспомнил свою собственную реакцию шесть дней назад, когда ему позвонили и сообщили о смерти Вилли. Сначала — волна тревоги: что будет со всеми проектами Вилли? Как там ситуация с финансами? А потом — чувство облегчения: наконец-то старый сукин сын подох! Хэрод несколько лет жил в постоянном тайном страхе из-за того, что старик может узнать про Клуб Островитян и про то, что Тони шпионит за ним... «Я всегда представлял себе рай как Остров, где можно охотиться в свое удовольствие, а, Тони?» Действительно ли Вилли сказал это на видеокассете? Хэрод вспомнил ощущение, охватившее его, — словно его окунули в ледяную воду, когда Вилли произнес эти слова с экрана. Но Вилли не мог об этом знать. И потом, видеозапись была сделана до авиакатастрофы. Вилли мертв. «А если он не погиб тогда, — подумал Хэрод, — он погибнет сейчас. Скоро». — Готова? — спросил он. Мария Чен вытерла рот полотняной салфеткой и кивнула. — Пошли, — сказал Тони Хэрод.* * *
— Значит, это Чехословакия? — произнес Хэрод. Они выехали из города на северо-запад, и тут он мельком увидел за железнодорожной станцией пограничный шлагбаум — а рядом небольшое белое здание и несколько охранников в зеленой форме и странного вида шлемах. На дорожном указателе было написано: Ubergangsstelle. — Похоже, — подтвердила Мария Чен. — Дерьма-то, — выругался Хэрод. Он поехал по извилистой дороге вдоль долины, мимо указателей поворотов на Большой Арбер и Малое Арберзее. На дальнем склоне горы виднелся белый шрам лыжной трассы и движущиеся разноцветные точки кресел канатной дороги. Маленькие кабинки, с цепями на колесах и креплениями для лыж на крышах, карабкались по дорогам или, скорее, тоннелям, пробитым в снегу и ледяном крошеве. Хэрода пробрала дрожь от ветра, врывавшегося в заднее окно машины, но он не мог закрыть его — оттуда торчали концы двух пар беговых лыж, которые Мария Чен взяла сегодня утром в отеле напрокат. — Ты думаешь, нам понадобятся эти сволочные штуки? — Он мотнул головой в сторону заднего сиденья. Мария Чен улыбнулась и развела руками, сверкнув десятью покрытыми лаком ногтями. — Возможно, — кивнула она, затем посмотрела на дорожную карту, сверила ее с топографической. — Следующий поворот налево, — сообщила она. — Оттуда шесть километров до частной дороги к усадьбе. Последние полтора километра вверх по подъездной дороге «БМВ» в основном скользил боком: вся дорога состояла из проложенной в снегу колеи между деревьями. — Тут кто-то недавно был, — заметил Хэрод. — Далеко до усадьбы? — За мостом еще с километр, — сказала Мария Чен. Дорога повернула, они въехали в густую рощицу голых деревьев и увидели мост — небольшой деревянный пролет за полосатым шлагбаумом, выглядевшим покрепче, чем на чешской границе. Метрах в двадцати ниже по течению стояла небольшая хижина, похожая на все альпийские шале. Оттуда вышли двое мужчин и медленно приблизились к машине. Хэроду казалось почему-то, что селяне в этих местах должны одеваться во что-то местное, какой-нибудь зимний вариант тирольских кожаных штанов до колен и войлочных шляп, но эти двое были в коричневых брюках, шерстяных и ярких пуховых куртках. Хэрод подумал, что они, скорее всего, отец и сын; более молодому было около тридцати, он нес на согнутом локте охотничью винтовку! — Guten Morgen, haben Sie sich verfaren? — спросил тот, что постарше. — Das hier ist ein Privatgrundstuck. Мария Чен перевела. — Он желает нам доброго утра и спрашивает, не заблудились ли мы. Говорит, здесь частное владение. Хэрод улыбнулся этим двоим. Пожилой улыбнулся в ответ, блеснув золотыми коронками; лицо сына ничего не выразило. — Мы не заблудились, — сказал Хэрод. — Мы приехали повидать Вилли. Герра фон Борхерта. Он нас пригласил. Мы приехали издалека, из самой Калифорнии. Пожилой нахмурился, не понимая, что ему говорят, и тогда Мария Чен скороговоркой перевела на немецкий. — Herr von Borchert lebt hier nicht mehr, — сказал пожилой. — Schon seit vielen Jahren nicht mehr. Das Gut ist schon seit sehr langer Zeit geschlossen. Niemand geht mehr dorthin. — Он говорит, что repp фон Борхерт здесь не живет, — объяснила Мария Чен. — Уже много лет. Поместье закрыто. Оно уже давно закрыто. Сюда никто не ходит. Хэрод ухмыльнулся и покачал головой. — Что же вы здесь тогда караулите, а, парни? — Warum lassen Sie es noch bewachen? — спросила Мария Чен. Пожилой улыбнулся. — Wir werden von der Familie bezahit, so da dort kein Vandahsmus entsteht. Baid wird all das ein Teil des Nationalwaldes werden. Die alten Hauser werden abgerissen. Bis dahin schickt der Nefie uns Schecks aus Bonn, und wir halten alle Wilddiebe und Unbefugte fern, so wie es mein Vater vor mir getan hatte. Mein Sohn wird sich andere Arbeit suchen mussen. — Семья Борхертов платит нам, чтобы тут не было никакого хулиганства, — перевела Мария Чен. — М-м... Скоро все это будет часть Национального парка. Старый дом снесут. А до тех пор племянник... это, наверно, племянник фон Борхерта, Тони... племянник присылает нам из Бонна чеки, а мы стережем поместье от браконьеров и бродяг. Как и мой отец до меня. А вот моему сыну придется искать работу... Они не пустят нас, Тони, — добавила она. Хэрод протянул старику небольшую, странички на три, разработку сценария «Торговца рабынями», последнего проекта Вилли. Между страницами была вложена купюра в сотню марок; кончик ее виднелся довольно отчетливо. — Скажи ему, что мы приехали из Голливуда осматривать места для съемок кинофильма, — попросил Хэрод. — Скажи, из старой усадьбы получится прекрасный замок с привидениями. Мария Чен все перевела. Старик посмотрел на листки, на деньги и небрежно протянул их назад. — Что он говорит? — разозлился Хэрод. — Он согласен, что усадьба — хорошая декорация для фильма ужасов, — пояснила Мария Чен. — Он говорит, что тут и вправду есть призраки и что других призраков им не нужно. Советует нам разворачиваться, иначе мы можем застрять здесь надолго. И желает нам счастливого пути. — Скажи, пусть он засунет свое поместье себе в жопу, — взбешенный Хэрод постарался любезно улыбнуться немцам. — Vielen Dank rur Ihre Hilfe, — улыбнулась и Мария Чен. — Bitte sehr, — ответил пожилой. — Всегда рады помочь, — сказал по-английски молодой парень с ружьем.* * *
Хэрод вывел «БМВ» назад, на проселок, затем повернул на запад, проехал с полмили и остановил машину в неглубоком снегу, метрах в пяти от ограды из колючей проволоки. Он вытащил из багажника плоскогубцы и перерезал проволоку в четырех местах, потом откинул ногами упавшие на снег концы. С дороги проход за деревьями не будет виден, к тому же машины тут ходят нечасто. Хэрод вернулся к автомобилю, переобулся в лыжные ботинки с этими забавными нашлепками на носках; Мария Чен помогла ему надеть лыжи. Хэрод всего дважды в своей жизни стоял на лыжах, оба раза в Солнечной Долине, — одна из этих прогулок была с племянницей Дино де Лаурентиса и с Анной-Маргаритой; он терпеть не мог вспоминать об этих мучениях. Мария Чен оставила свою сумочку в машине, сунула браунинг за пояс коротких штанов, под свитер, положила запасную обойму в карман пуховика-безрукавки и, повесив на шею небольшой бинокль, первой прошла в проделанный в заграждении проход. За ней, неуклюже отталкиваясь палками, двинулся и Хэрод. На первой же миле он дважды упал, оба раза грязно ругаясь про себя, пока барахтался в снегу и вставал, а Мария Чен смотрела на него с легкой улыбкой. Тишину нарушали лишь шорох скользящих по мягкому снегу лыж, редкое верещание белок да тяжелое, прерывистое дыхание Хэрода. Когда они прошли мили две, Мария Чен остановилась и поглядела на компас, потом на топографическую карту. — Вот он, ручей, — сообщила она. — Можно перебраться на ту сторону вон по тому бревну. Усадьба должна быть на поляне, примерно в километре вот в этом направлении. — Она махнула рукой в сторону густого леса. «Еще три футбольных поля пересечь», — прикинул Хэрод, судорожно ловя ртом воздух. Он вспомнил охотничий карабин в руках того молодого парня и подумал, что в случае стычки браунинг практически окажется бесполезным. Да и потом, откуда ему знать, — может быть, в том лесу их ждут Енсен, Лугар и с десяток других рабов Вилли со своими «узи» и «мак-10». Хэрод еще разок глотнул воздуха и понял, что все внутренности у него похолодели от страха. «Пошло оно все к черту», — подумал он. Раз уж он добрался сюда, пусть у него хоть яйца отвалятся, он все равно не повернет назад, пока не узнает, здесь Вилли или нет. — Давай, пошли, — сказал он. Мария Чен кивнула, сунула карту в карман и грациозно заскользила дальше.* * *
Перед домом валялись два трупа. Спрятавшись за тонкой завесой хвои, Хэрод и Мария Чен по очереди смотрели в бинокль на тела. На расстоянии пятидесяти метров эти темные бугорки на снегу могли быть чем угодно — скажем, узлами брошенного белья, — но бинокль отчетливо выхватывал то белый изгиб щеки, то разбросанные в стороны и странно изломанные руки и ноги — они лежали под таким углом, что спящий человек непременно проснулся бы от невероятной боли. Но эти двое не спали, Хэрод снова глянул в бинокль. Двое мужчин. Темные пальто. Кожаные перчатки. На одном из них раньше была коричневая шляпа; теперь она лежала метрах в двух на снегу. Рядом со следами, ведущими к застекленной двери старого особняка, тянулась кровавая полоса. Метрах в тридцати в снегу виднелись глубокие параллельные борозды, еще одна цепочка следов вела к дому либо от него. На пушистом снегу — огромные круги, словно тут работал огромный вентилятор лопастями вниз. «Вертолет», — догадался Хэрод. Больше никаких следов не было — ни автомобильных, ни от снегохода, ни лыжных. Аллея, ведущая к подъездной дороге, где их с Марией остановили некоторое время назад, была всего лишь заснеженной полосой между деревьями. Отсюда не было видно ни альпийской хижины, ни моста. Главный дом усадьбы представлял собой нечто среднее между особняком и замком: огромное строение из темного камня с высокими окнами, флигелями разной высоты, так что создавалось впечатление, будто начиналось оно как внушительная центральная башня, к которой последующие поколения добавляли разные пристройки. Цвет камня и размеры окон повсюду были разные, но общее впечатление угрюмости от того не менялось: витражные стекла, узкие двери, тяжелые стены, на которых темнели пятнами тени голых деревьев. Хэрод подумал, что этот дом больше подходит Вилли, чем вилла в Бел-Эйр родом из какой-то банановой республики. — А что теперь? — шепотом спросила Мария Чен. — Заткнись, — приказал Хэрод и снова поднял бинокль, чтобы еще раз взглянуть на трупы. Они лежали близко друг от друга. Голова одного из них была повернута в сторону и почти зарылась в глубокий снег, так что Хэрод мог видеть только пятно темных, коротко стриженых волос, шевелившихся, когда налетал ветерок; но другой, тот, что лежал на спине, был больше на виду — можно было различить бледную щеку и открытый глаз, неподвижно глядящий в сторону их укрытия за хвоей, будто ожидая прихода Хэрода. Он подумал, что эти тела лежат в снегу не так уж долго: не похоже, чтобы их трогали птицы или животные. — Давай пройдем туда, Тони. — Заткнись, кому сказано. — Хэрод опустил бинокль и немного поразмыслил. Отсюда другой стороны особняка не видно. Разумнее всего было бы обойти на лыжах по большому кругу, чтобы осмотреть дом со всех сторон, оставаясь под прикрытием леса. Хэрод, прищурившись, еще раз глянул на большую поляну. И в ту, и в другую сторону шли полосы леса; им понадобится больше часа, чтобы вернуться в лес и подобраться к дому со всеми предосторожностями. Солнце уже затянули тучи; поднялся холодный ветер. Пошел снег. Джинсы Хэрода промокли, а ноги болели от непривычной нагрузки. Из-за темных туч создавалось впечатление, что уже наступили сумерки, хотя еще не было и двенадцати. — Давай подойдем, Тони, — Мария Чен не упрашивала его, испуга в ее голосе не было, она просто спокойно настаивала. — Дай мне пистолет, — потребовал он. Она вытащила браунинг из-за пояса и протянула Хэроду; тот взял его и ткнул стволом в сторону серого дома и темных распростертых тел. — Двигай туда. На лыжах. Я прикрою тебя отсюда. Похоже, этот сучий дом пуст. Мария Чен повернулась, грациозным движением палки раздвинула скрывавшие их хвойные ветви и заскользила к дому. Хэрод пригнулся и отошел от того места, где они стояли, потом устроился под развесистой елью, окруженной молодыми сосенками, и поднял бинокль. Мария уже добралась до лежащих тел. Вот она остановилась, воткнула в снег палки и посмотрела в сторону дома. Затем обернулась в сторону Хэрода и поехала дальше. Притормозив перед широкими стеклянными дверями, она повернула направо и двинулась вдоль фасада здания. Девушка исчезла за углом, тем, что был ближе всего к подъездной дороге; Хэрод сбросил лыжи и замер, согнувшись под деревом, где было более или менее сухо. Прошло невероятно много времени, прежде чем она появилась из-за противоположного угла дома. Мария Чен добралась на лыжах до главного входа и помахала туда, где, как она думала, стоял Хэрод. Тони подождал еще минуты две и, пригнувшись, побежал к дому. Ему показалось, что без лыж он будет двигаться свободнее, но это оказалось ошибкой. Снег доходил ему до колен и не давал возможности бежать, и он все время спотыкался и проваливался на каждом шагу. Трижды он упал, один раз при этом выронив браунинг в снег. Проверив, не забит ли ствол, он стер снег с рукоятки и двинулся дальше. Возле убитых мужчин он остановился. Тони Хэрод являлся продюсером двадцати восьми фильмов, из них только три он сделал без Вилли. Во всех двадцати восьми было полно секса и насилия, чаше в крутой смеси. Пять фильмов из серии «Вальпургиева ночь» — самые удачные из тех, что он сделал, — были не более чем демонстрацией длинной цепи убийств: как правило, привлекательные молодые люди погибали до, во время или после половых сношений. Убийства в основном представлялись методом субъективной камеры, то есть глазами убийцы. Хэрод частенько заходил на съемки и видел, как людей режут, пристреливают, сажают на кол, жгут, потрошат и обезглавливают. Он имел достаточно дела со спецэффектами, чтобы узнать все секреты — мешков с кровью, с газом, выбитых глаз и гидравлики. Он лично написал сцену в «Вальпургиевой ночи V: Кошмар продолжается», где голова девушки-няни взрывается, разлетается на тысячу осколков, когда она проглатывает взрывную капсулу, подложенную тайным убийцей Голоном. Несмотря на все это, Тони Хэрод никогда еще не видел воочию настоящую жертву убийства. Единственные трупы, рядом с которыми ему когда-либо доводилось находиться, были тела матери и тетушки Мирры, в косметически обработанных гробах, при том, что его окружало аморализирующее пространство похоронного бюро, а также другие скорбящие. Он потерял свою мать, когда ему было девять лет, а тетю Мирру — в тринадцать. Никто никогда не говорил ему о смерти отца. И вот теперь Хэрод застыл как вкопанный возле этих незнакомых убитых. В одного из лежащих перед фамильным гнездом Вилли стреляли раз пять или шесть; у другого было вырвано горло. Из обоих вылилась масса крови. Хэроду такое количество крови показалось нелепым, словно чересчур усердный режиссер залил всю съемочную площадку ведрами красной краски. Глядя на окровавленные тела и на отпечатки в снегу, Хэрод попытался представить, что же тут случилось. В тридцати метрах от дома приземлился вертолет. Эти двое вышли из него, в своих черных, до блеска начищенных туфлях, пригодных разве что для прогулок по асфальту, и подошли к дверям. Там, на плитах перед домом, они начали драться. Наверное, тот что поменьше ростом, лежавший теперь уткнувшись лицом в снег, вдруг повернулся и кинулся на своего партнера, пустив в ход зубы и ногти. Второй отступил — Хэрод видел следы каблуков на снегу, — затем поднял свой «люгер» и несколько раз выстрелил. Коротышка продолжал наседать, возможно, даже после того, как получил пулю в лицо: — на правой щеке видны были две рваные опаленные дыры, а между оскаленными зубами застряли куски человеческого мяса. Тот что повыше еще отступил, шатаясь, на несколько шагов, когда первый уже лежал; потом, словно до него только дошло, что у него вырвана половина горла, перегрызена артерия и из нее на холодный снег брызжет кровь, он рухнул; перекатился на спину и умер, неподвижно глядя на полоску хвойного перелеска, в котором несколько часов спустя появятся Хэрод и Мария Чен. Рука человека без горла приподнялась, да так и застыла в трупном окоченении. Хэрод знал, что Ригор Мортис начинается и заканчивается через определенное количество часов после смерти, но он не мог вспомнить, через сколько именно. Но это было и неважно. Он представил себе картину, в которой эти двое, бывшие сообщниками, вместе вышли из вертолета и вместе погибли. Следы на снегу не могли доказать этого абсолютно точно, но Хэроду было все равно. Еще один ряд следов указывал, что из дома вышли несколько человек и улетели на вертолете. Откуда прилетел вертолет, кто им управлял, кто вышел из особняка и куда они отправились, было неясно... — Тони... — тихо проговорила Мария Чен. — Секунду. — Хэрод повернулся, шатаясь, отошел от забрызганной кровью площадки, и его стошнило на снег. Во рту снова возник вкус кофе и толстой немецкой колбасы, съеденной за завтраком. Он зачерпнул чистого снега, прополоскал им рот, выпрямился и, далеко обходя трупы, подошел к Марии Чен, стоявшей на ступенях террасы. — Дверь не заперта, — прошептала она. Сквозь стекло видны были только портьеры. Снег валил уже валом, хлопья даже скрыли деревья, стоявшие всего метрах в шестидесяти. Хэрод кивнул и глубоко вдохнул. — Пойди возьми пистолет того парня, — сказал он. — И проверь, нет ли у них документов. Мария Чен глянула на Хэрода и двинулась к трупам. Ей пришлось силой высвободить пистолет из руки, буквально мертвой хваткой вцепившейся в рукоятку. Водительские права одного валялись в бумажнике; паспорт и кошелек второго убитого оказались в кармане его пальто. Марии Чен пришлось перевернуть оба трупа, прежде чем она нашла то, что интересовало Хэрода. Когда она вернулась на террасу, ее голубой свитер и пуховик были порядком перепачканы чужой кровью, которую она стала оттирать снегом. Хэрод быстро просмотрел бумажники и документы. Имя того, что покрупнее, было Фрэнк Ли; его международные водительские права были выданы три года назад в Майами. Второго звали Эллис Роберт Слоун, возраст тридцать два года, житель Нью-Йорка, визы и штемпеля в паспорте были действительны для Западной Германии, Бельгии и Австрии. Кроме документов, при них оказалось восемьсот американских долларов и шестьсот немецких марок. Хэрод покачал головой и отшвырнул бумажники. Он не узнал ничего существенного — но понимал, что всего лишь тянет время, откладывает момент, когда придется войти в дом. — Иди за мной, — позвал он Марию и открыл дверь.* * *
Особняк был огромный, холодный, темный и пустой — во всяком случае, Хэрод горячо на это надеялся. Ему больше не хотелось разговаривать с Вилли. Он знал, что если ему доведется встретиться со своим старым голливудским наставником, то первым его желанием будет разрядить всю обойму браунинга в голову Бордена. Если, конечно, Вилли ему позволит. Тони Хэрод не питал никаких иллюзий на этот счет. Он мог рассказывать Баренту и остальным про то, как иссякает Способность Вилли, он мог даже сам частично верить в это, но глубоко в душе он знал, что Вилли Борден, если понадобится, сломит его за десять секунд. Этот старый подонок был просто монстром. Хэрод пожалел, что приехал в Германию; не надо было рыпаться сюда, не надо было идти на поводу у членов Клуба, заставивших его связываться с Вилли. — Приготовься, — прошептал он, почему-то волнуясь как идиот, и пошел впереди Марии Чен дальше, в глубь этого огромного дома. Они двигались из комнаты в комнату, и везде мебель была аккуратно укрыта белыми чехлами. Хэрод уже видел все это, как и те трупы у дома, бессчетно во всяких фильмам, но в действительности это порядком действовало на нервы. Он скоро заметил, что тычет пистолетом в каждое зачехленное кресло и торшер, ожидая, что они вот-вот поднимутся и зашагают к нему наподобие той фигуры в простынях из первого фильма Карпентера. Холл с выложенным черно-белыми плитами полом был огромен и пуст. Хэрод и Мария Чен шли тихо, и все равно их шаги отдавались легким эхом. Хэрод чувствовал себя полным болваном в этих дурацких лыжных ботинках с квадратными носками. Мария Чен спокойно следовала за ним, держа окровавленный «люгер» у бедра. На ее лице не было и намека на волнение, словно она бродила по голливудскому дому Хэрода в поисках запропастившегося куда-то журнала. Им понадобилось минут пятнадцать, дабы убедиться, что на первом этаже и в огромном гулком подвале никого нет. Чувствовалось, что громадный дом покинут; если бы не трупы снаружи, Хэрод мог бы поклясться, что здесь уже много лет никого не было. — Наверх. — Он все еще держал пистолет на уровне груди; костяшки пальцев у него побелели. В западном крыле было темно и холодно, здесь вообще не было никакой мебели, но когда они вошли в коридор, ведущий в восточное крыло, оба замерли. Поначалу им показалось, что коридор прегражден огромной пластиной волнистого льда; Хэрод вспомнил сцену возвращения доктора Живаго и Лары на дачу, искореженную зимой; но потом он осторожно двинулся вперед и понял, что слабый свет проникал сквозь завесу из тонкого, полупрозрачного полиэтилена, свисающую с потолка и прикрепленную с одной стороны к стене. Метра через два они натолкнулись еще на один, такой же барьер и догадались, что полиэтилен просто служил для теплоизоляции восточного крыла. В коридоре было темно, но из нескольких распахнутых дверей по его сторонам проникал бледный свет. Хэрод кивнул Марии Чен и, крадучись, двинулся вперед, широко расставляя ноги и держа пистолет в обеих руках. Он круто сворачивал в дверные проемы, готовый немедленно выстрелить, настороженный как кошка. В голове у него проносились образы знаменитых кинодетективов. Мария Чен стояла у пластикового занавеса и наблюдала. — З-зараза, — выругался Хэрод после этого почти десятиминутного представления. Он сделал вид, что разочарован, а может вследствие притока адреналина был действительно разочарован. Если только в доме не было потайных помещений, он стоял совершенно пустой. В четырех комнатах вдоль этого коридора имелись признаки недавнего пребывания здесь людей — неубранные постели, забитые едой холодильники, электрические печки, столы, на которых еще лежали разбросанные бумаги. Хэрод обратил особое внимание на большой кабинет с книжными шкафами, старым кожаным диваном и камином с еще теплой золой. Тут-то он понял, что разминулся с Вилли всего на несколько часов. Возможно, тот исчез так внезапно из-за нежданных гостей, прибывших на вертолете. Однако не осталось ни одежды, ни каких-либо личных вещей — кто бы тут ни жил, он готов был сорваться в любую минуту. Возле узкого проема окна кабинета размещался тяжелый стол с огромными резными шахматными фигурами, явно из очень дорогого набора, они стояли в позиции из миттельшпиля. Хэрод подошел к письменному столу и потыкал стволом пистолета, в кипу лежавших там бумаг. Повышение адреналина в крови прекратилось, оставив за собой лишь одышку, усиливающуюся дрожь и острое желание убраться отсюда в другое место. Все бумаги были на немецком. И хотя Хэрод и не говорил по-немецки, он уловил, что они касались вещей тривиальных — налогов на собственность, отчетов об использовании земель, дебета-кредита. Он смахнул листы со стола, заглянул в пустые ящики и решил, что пора убираться. — Тони! В голосе Марии Чен было нечто такое, что заставило его резко обернуться и вскинуть браунинг. Она стояла у шахматного стола. Хэрод подошел ближе, думая, что Мария увидела что-то за высоким узким окном, но она уставилась на шахматные фигуры. Поглядев на них, он опустил дуло, встал на колени и прошептал: «Твою Господа Бога мать...». Хэрод мало что понимал в шахматах, просто сыграл несколько партий в детстве, но он сообразил, что игра на этой доске только начинается. Были съедены всего две фигуры — одна черная, другая белая; они лежали рядом с доской. Хэрод, все еще на коленях, подвинулся поближе, теперь глаза его были всего в нескольких сантиметрах от края поля. Фигуры шахматного набора, выточенные вручную из слоновой кости и эбенового дерева, были высотой в пятнадцать сантиметров и, должно быть, стоили Вилли целого состояния. Как ни мало Хэрод соображал в шахматах, что-то подсказывало ему, что это — весьма неординарная, необычная партия. Мальчишка, который лет тридцать назад побил Тони, когда тот играл во второй — ив последний — раз в своей жизни, рассмеялся, видя, как Тони выдвигает свою королеву в начале игры. С издевкой пацан сказал тогда, что только любители торопятся использовать ферзя. Но здесь обе королевы уже явно вступили в игру. Белая королева стояла в центре доски, прямо перед белой пешкой. Черная же, выведенная из игры, лежала рядом с доской. Хэрод наклонился поближе. Лицо королевы, вырезанной из черного дерева, выглядело элегантно и аристократично и казалось все еще красивым, несмотря на старательно воспроизведенные признаки старости. Хэрод видел это лицо пять дней назад, в Вашингтоне, когда Арнольд Барент показал ему фотографию престарелой леди, застреленной в Чарлстоне. Она была настолько неосторожна, что оставила свой жуткий альбомчик в номере гостиницы. Ее звали Нина Дрейтон. Хэрод впился глазами в лица на доске, переводя взгляд с одного на другое. Большинства из них он не знал, но некоторые узнавал мгновенно. Эффект был столь же потрясающий, как от приема резкого наведения на фокус, который Хэрод иногда применял в своих фильмах. Белым королем был Вилли, в этом не было сомнения, хотя лицо выглядело моложе, черты его — отчетливее, шевелюра погуще, а форма эсэсовца давно объявлена в мире вне закона. Черного короля представлял Арнольд Барент — в деловом костюме, при всем параде. Хэрод узнал и черного слона — то был Чарлз Колбен. Относительно белого слона сомнений быть не могло — преподобный Джимми Уэйн Саттер. У Кеплера была безопасная позиция в первом ряду черных пешек, но черный конь перескочил через ряд статичных пешек и ввязался в битву. Хэрод слегка повернул фигуру и узнал худое, ханжеское лицо Нимана Траска. Хэрод не узнал унылого старушечьего лица белой королевы, но нетрудно было догадаться, кто она. «Мы ее найдем, — заявил Барент. — А от вас мы ждем одного — чтобы вы убили эту настырную суку». Белая королева и две белые пешки пробились далеко на черную сторону доски. Хэрод не узнал первую пешку, окруженную грозящими ей черными фигурами, похоже, то был мужчина около шестидесяти, а возможно, и старше, с бородкой и в очках. Что-то в его лице заставило Хэрода подумать: «Еврей». Но другая белая пешка, скромная маленькая пешка через четыре клетки от коня Вилли, явно испытывавшая угрозу со стороны сразу нескольких черных фигур, была определенно знакома ему. Тони Хэрод медленно повернул пешку и уставился, как в зеркало, в собственное лицо. — Блядь! — Крик его, казалось, отдался эхом по всему огромному дому. Он пронзительно крикнул еще раз, потом взмахнул браунингом, сметая со стола фигуры, раз, второй, третий; фигурки из слоновой кости и черного дерева полетели на пол. Мария Чен шагнула назад и повернулась к окну. Там, снаружи, гаснущий свет дня, казалось, отлетел совсем, тучи опустились ниже, темная линия деревьев растворилась в сером тумане, а густой снег уже накрыл белым покровом трупы, лежавшие на лужайке перед особняком, как поваленные чьей-то властной рукой шахматные фигуры.Глава 12
Чарлстон Четверг, 18 декабря 1980 г. — Вообще-то, по идее, должен идти снег, а не дождь, — сказал Сол Ласки. Они сидели втроем в машине шерифа: Сол и Джентри впереди, Натали — на заднем сиденье. Дождь тихо стучал по крыше, было градусов десять тепла. Натали и Джентри были в куртках, Сол натянул толстый синий свитер, а сверху старое короткое пальто из твида. Он поправил очки и, прищурившись, посмотрел через залитое дождем ветровое стекло. — Шесть дней до Рождества, — усмехнулся он, — а снега все нет. Не знаю, как вы, южане, можете к этому привыкнуть. — Мне было семь лет, когда я впервые увидел снег, — сказал Джентри. — Уроки в школе отменили. Снега нападало не больше двух сантиметров, но мы все побежали домой, будто наступил конец света. Я швырнул снежок — первый снежок, который я слепил в своей жизни... И разбил окно в гостиной старой миз Макгилври. Тут и вправду пришел конец света, для меня по крайней мере. Я прождал почти три часа, пока отец вернется домой, пропустил ужин и даже был рад, когда меня отлупили и все на том кончилось. — Шериф нажал кнопку, дворники метнулись раз-другой, потом со щелчком встали на место. Ветровое стекло сразу же стало покрываться свежими каплями дождя. — Да, сэр, — протянул Джентри густым, приятным басом, к которому Ласки постепенно привыкал. — Теперь, когда я вижу снег, я всегда вспоминаю, как меня лупили и как старался не расплакаться. Мне кажется, зимы становятся все холоднее и снег идет чаще. — Не приехал еще доктор? — спросила Натали. — Нет, — ответил Джентри. — До четырех часов почти три минуты. Кольхаун стареет, бегает не так быстро, насколько я знаю, но все еще пунктуален, как древние часы моей бабушки. Все у него по методе. Если он сказал, что будет здесь в четыре, он будет в четыре. И словно в подтверждение его слов, длинный темный «Кадиллак», ехавший по улице, остановился, потом задом припарковался через пять машин от патрульного автомобиля Джентри. Сол глянул в окно. Они были в нескольких милях от шикарного Старого Города; этот новый район приятным образом сочетал элегантность старины с соблазнами современных удобств. Старая консервная фабрика ныне превратилась в район коттеджей и офисов: добавили окон, построили гаражи, пескоструйкой очистили старый кирпич, подновили, покрасили либо изготовили заново деревянные части. На взгляд Сола, реставрация и перепланировка были проделаны с большой тщательностью и старанием. — А вы уверены, что родители Алисии согласны на это? — спросил Ласки. Джентри снял шляпу, провел платком по кожаной подкладке и кивнул. — Очень даже согласны. Миссис Кайзер страшно переживает из-за этой девочки. Она говорит, — что Алисия не ест, вскакивает с постели с воплями, когда пытается заснуть, а очень часто просто сидит, уставившись в никуда. — Конечно, ведь прошло всего шесть дней, как она стала свидетельницей убийства своей лучшей подружки, — вздохнула Натали. — Бедное дитя. — И еще и дедушки подружки, — добавил Джентри. — А может, и еще кого-нибудь, — откуда мы знаем? — Вы думаете, она была в «Мансарде» ? — спросил Сол. — Ее никто там не помнит, — сказал шериф, — но это ничего не значит. Если люди не подготовлены специально, большинство из них вообще не замечают, что происходит вокруг. Конечно, некоторые замечают, причем все подряд. Только их почему-то никогда не бывает на месте преступления. — Алисию нашли недалеко оттуда, ведь так? — спросил Сол. — Как раз посередине между двумя главными местами преступления, — ответил Джентри. — Соседка увидела, что она стоит на углу улицы в каком-то полуобморочном состоянии, примерно на полпути между домом Фуллер и «Мансардой». — Как ее рука, заживает? — поинтересовалась Натали. Джентри обернулся и улыбнулся девушке. Его маленькие голубые глаза, казалось, светились ярче, чем слабый зимний свет снаружи автомобиля. — Конечно, мэм. Простой перелом. — Еще раз назовете меня «мэм», шериф, и я вам самому руку сломаю, — шутливо предупредила Натали. — Слушаюсь, мэм, — сказал Джентри с самым простодушным видом. Он снова глянул сквозь ветровое стекло. — Это точно наш старикан доктор. Он купил сей чертов черный автобус, когда ездил в Англию, еще перед второй мировой. Читал лекции в летней школе при лондонской Городской больнице, насколько я знаю. Он являлся членом предвоенной антикризисной команды по планированию. Я помню, он говорил моему дяде Ли, давным-давно, что британские врачи были готовы справиться с количеством раненых, в сто раз большим, чем то, с чем они столкнулись, когда немцы принялись их бомбить. То есть я хочу сказать, что они ожидали в сто раз больше, — а вот к чему они были подготовлены — это другое дело. — Ваш доктор Кольхаун, наверно, имел хорошую практику в качестве экстрасенса, — заметил Сол. — Это уж точно, — протянул Джентри. — В тридцать девятом он консультировал британцев именно в этой области. Похоже, некоторые эксперты в Англии считали, что бомбардировки будут сильно травмировать психику и гражданские окажутся в состоянии шока. Они рассчитывали на то, что Джек поможет им с постгипнотическим внушением и прочими такими вещами. — Шериф открыл дверцу машины. — Вы идете со мной, миз Престон? — Обязательно. — Натали выбралась под дождь. Джентри тоже вылез из машины. Дождь мягко стучал по полям его шляпы. — А вы точно не хотите присутствовать, профессор? — спросил он у Ласки. — Точно, — ответил Сол. — Я хочу полностью исключить возможность своего влияния. Но мне будет очень интересно узнать, что скажет девочка. — Мне тоже, — заверил Джентри. — В любом случае я постараюсь подойти к этому без предубеждений. — Он хлопнул дверцей и побежал догонять Натали Престон. Для такого грузного мужчины бег его был почти элегантен. «Без предубеждения», — подумал Сол. — Уверен, все так и будет. Без предубеждения".* * *
— Я вам верю, — сказал вчера шериф Бобби Джо Джентри, когда Сол закончил свой рассказ. Сол сократил его как только мог, сведя к сорока пяти минутам повествование, которое прежде заняло большую часть утра и предыдущей ночи. Несколько раз Натали перебивала его и просила включить эпизод, который он пропустил. Джентри задал несколько коротких вопросов. Пока Сол говорил, они пообедали. За один час рассказ был закончен, обед съеден, и шериф Джентри кивнул Солу со словами: «Я вам верю». — Так вот запросто? — удивился Сол. — Да. — Шериф повернулся к Натали. — А вы поверили ему, миз Престон? Молодая негритянка не колебалась ни секунды. — Поверила, — твердо сказала она и посмотрела на Сола. — Я все еще ему верю. Джентри больше ничего не сказал. Сол подергал себя за бородку, снял очки, протер их снова нацепил. — Вы не находите мой рассказ... фантастичным? — Это конечно, — не стал увиливать Джентри. — Но я также считаю сплошной фантастикой то, что девять человек убиты в моем родном городе и нет никакого объяснения тому, как все это было связано. — Шериф наклонился вперед. — Вы никому об этом не говорили? Я имею в виду всю эту историю. — Я рассказал своей кузине Ребекке. Незадолго до ее смерти в шестидесятом году. — И как она отреагировала? — спросил Джентри. Сол посмотрел прямо в глаза шерифа. — Она меня любила. Она видела меня сразу после войны, ухаживала за мной, пока я снова не стал нормальным человеком. Во всяком случае, кузина сказала, что верит мне, а я решил верить ей. Но с какой стати вам-то верить всему этому? Джентри откинулся назад, пока спинка стула не затрещала. — Я скажу за себя, профессор, — проговорил он. — Должен признаться в двух слабостях. Первое: я сужу о людях по тому, что я чувствую во время разговора с ними, как их воспринимаю. Ну, взять хотя бы того парня из ФБР, что вы видели вчера у меня в кабинете. Дики Хейнс. Все, что он говорит, правильно, логично и чистосердечно. И выглядит он правильным. Черт, у него запах, и тот правильный. Но в нем есть что-то такое, из-за чего я доверяю ему примерно на столько, на сколько бы петух доверился голодной ласке. Наш дорогой мистер Хейнс не совсем весь с нами, понимаете? Ну, вроде как и фонарь над крыльцом у него горит, и все такое, но дома никого нет. Таких людей много. Когда мне попадается человек, которому я поверил, я делаю это просто, без всяких объяснений, вот и все. Из-за этого у меня масса неприятностей. А вторая моя слабость — я очень много читаю, поскольку не женат, и не имею другого хобби, кроме своей работы. Когда-то я думал, что хочу быть историком. Потом — популярным историческим писателем, вроде Каттона или Тачмана. Потом романистом... Возможно. И слишком ленив, чтобы стать первым, вторым или третьим, но я все еще читаю тонны книг. Обожаю макулатуру. Я заключил с собой пакт: на каждые три серьезные книги я позволяю себе прочитать одну какую-нибудь беллетристику. Люблю, когда она хорошо написана, хотя все равно это макулатура. Читаю детективы — Джона Макдональда, Паркера, Уэстлейка; потом триллеры — Ладлум, Тревеньян, Ле Карре, Дейтон; даже ужастнки — Стивен Кинг, Стив Разник Тем и прочее. — Он улыбнулся Солу. — Ваша история не такая уж и странная. Сол нахмурился. — Мистер Джентри, должен ли я так понимать это: вы не находите мой рассказ фантастическим только потому, что вы читаете много фантастики и детективов? Джентри покачал головой. — Нет, сэр. Я просто говорю, что рассказанная вами история сходится с фактами, и это пока единственное объяснение, связывающее все эти убийства вместе, в единое целое. — У Хейнса была теория насчет Торна, — сказал Сол. — Помните, слуги той старой дамы? Он и эта женщина, Крамер, будто бы сговорились обчистить своих хозяев. — Этот мудак Хейнс порол чушь собачью — прошу прощения, мэм, — извинился Джентри. — А главное — этот парнишка, Альберт Лафоллет, коридорный из «Мансарды», который потом чокнулся, никак и ни при каких обстоятельствах не мог ни с кем сговориться. Я знал его отца. Ума у этого парня хватало лишь чтобы научиться завязывать шнурки на своих ботинках, но в общем он был славный малый. В старших классах школы он не играл в футбол, и знаете почему? Он заявил отцу, что не хочет никому причинять боль. — Но моя история выходит за пределы логики... Это нечто. Она уводит в сверхъестественное, — не унимался Сол. Он чувствовал, что с его стороны глупо спорить с шерифом, но ему трудно было принять готовность южанина вот так, запросто, поверить ему. Джентри пожал плечами. — Знаете, когда я смотрю фильмы про вампиров, в которых навалены кучи трупов с маленькими дырочками на шее, я терпеть не могу, когда главному герою приходится полтора часа из двухчасовой ленты убеждать других хороших людей, что вампиры на самом деле существуют. Слушайте, — продолжал шериф, — я не знаю, какие у вас были на то причины, но вы все же рассказали свою историю. Теперь у меня на выбор есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете как-то быть причастны ко всему этому. Ну, я знаю, что вы не убивали никого из этих людей лично. В субботу после обеда и до вечера вы все время находились в университете — принимали участие в дискуссии. Но вы могли, к примеру, загипнотизировать миссис Дрейтон или делать еще что-нибудь в этом роде. Знаю, знаю, что гипноз действует совсем не так — но ведь люди также не овладевают сознанием других людей в обычной жизни, верно? Во-вторых, может быть, вы псих. Всем психам псих, один из техпридурков, которые каждый раз выползают на белый свет и сознаются в убийстве, хотя их и близко там не было. И в-третьих — возможно, вы говорите правду. Пока я решил выбрать третий вариант. Помимо всего прочего, есть и другие странные вещи, которые сходятся с вашей историей и больше ни с чем. — Какие «странные вещи»? — переспросил Сол. — Ну, например, тот парень, который следил за мной утром, а потом прикончил себя, не желая со мной разговаривать, — сказал Джентри. — И еще альбомчик старой леди. — Альбомчик? — удивился Сол. — Какой альбомчик? — спросила и Натали. Джентри снял шляпу и, хмуро поглядев на нее, смял тулью. — Когда застрелили миссис Дрейтон, я был первым представителем закона, оказавшимся на месте преступления, — пояснил он. — Санитары убирали тело, ребята из городского отдела по делам убийств считали трупы внизу, так что я немного пошарил в номере той леди. Конечно, этого нельзя было делать. Явное нарушение закона. Но какого черта! Я ведь всего лишь деревенский полисмен. В общем, как бы там ни было, я увидел этот толстенький альбомчик в одном из ее чемоданов и полистал его. Там была масса газетных вырезок про разные убийства, включая убийство Джона Леннона и множество других. Большинство из них совершались в Нью-Йорке, начиная с января прошлого года. На следующий день за расследование взялась настоящая полиция, не какой-то там шериф, ФБР полезло во все щели, хотя это дело вовсе не из тех, что требуют их участия... А когда я добрался в воскресенье вечером до морга, альбомчика уже нигде не было, никто его не видел, в отчетах ребят из горотдела с места преступления о нем ни слова, нет и квитанции из морга, ничего — ну просто нуль. — Вы спрашивали о нем? — поинтересовался Сол. — Да уж поспрашивал. Всех, от санитаров до парней из отдела убийств. Никто его не видел. Все остальное было доставлено в морг и описано в воскресенье утром, все подряд: нижнее белье этой дамы, одежда, пилюли от давления — все, за исключением альбома с вырезками из газет про убийства, числом около двадцати. — Кто составлял список вещей? — спросил Сол. — Горотдел по делам убийств и ФБР, — ответил шериф. — Но вот Тоб Хартнер, клерк из морга, утверждает, что мистер Хейнс просматривал арестованные вещи за час до прибытия команды из горотдела. Наш Дики прямо из аэропорта двинул в морг. Сол слегка откашлялся. — Вы полагаете, что ФБР имеет какое-то отношение к сокрытию вещественных доказательств? Шериф Джентри наивно распахнул глаза. — Ну как может ФБР делать что-то такое нехорошее? Последовала долгая пауза. Наконец Натали Престон спросила: — Шериф, если одно из этих... этих существ убило моего отца, что же нам делать дальше? Джентри сложил руки на животе и посмотрел на Сола. Глаза его были очень-очень голубыми. — Это хороший вопрос, миз Престон. Что скажете, доктор Ласки? Допустим, мы поймали вашего оберста или миз Фуллер, или их обоих. Вы не думаете, что суду присяжных будет трудно вынести им обвинительный приговор? Сол развел руками. — Это звучит безумно, я согласен. Если поверить в это, то всякая логика оказывается подозрительной. Осуждение любого убийцы ставится под сомнение. Никаких вещественных доказательств не будет достаточно, чтобы отделить невиновных от виноватых. Я понимаю, о чем вы говорите, шериф. — Да нет, не так уж все безнадежно, — усмехнулся Джентри. — Ведь большинство дел об убийстве — это все равно дела об убийстве, так? Или вы считаете, что их сотни тысяч, этих вампиров мозга, и все бегают и суетятся? Сол закрыл глаза, уходя от этой мысли. — Молю Бога, чтобы это было не так. Джентри кивнул. — Значит, у нас здесь что-то вроде особого случая, верно? Но это возвращает нас к вопросу миз Престон: что нам теперь делать? Сол глубоко вздохнул. — Мне нужна ваша помощь — для наблюдения. Есть шанс, хотя и небольшой, что из этих двоих кто-то вернется в Чарлстон. Возможно, у Мелани Фуллер не было времени, чтобы взять из дома какие-то очень важные для нее вещи. Возможно, Уильям Борден, если он жив, вернется за ней. — А что потом? — спросила Натали. — Наказать же их невозможно. Во всяком случае, не через суд. Что произойдет, если мы найдем-таки их? Что вы сможете сделать? Сол опустил голову, поправил очки и провел дрожащей рукой по лбу. — Я думал об этом сорок лет, — очень тихо сказал он. — И все равно не знаю. Но у меня такое чувство, что оберсту и мне суждено встретиться. — Они смертны? — спросил Джентри. — Что? Да, конечно; конечно, смертны. — Тогда кто-то может подойти к кому-либо из них сзади и вышибить мозги, верно? — предположил шериф. — Они ведь не восстанут из мертвых в следующее полнолуние или еще что-нибудь такое. Сол несколько мгновений смотрел ему в глаза. — Что вы хотите этим сказать, шериф"? — Я хочу сказать... Понимаете, если принять вашу посылку, если поверить, что эти люди могут делать все то, о чем вы нам рассказали... Тогда они самые богомерзкие твари на белом свете. Охотиться за кем-то из них — все равно что шарить по болоту в темноте голыми руками в поисках мокасиновых змей. Но стоит их опознать, и они становятся просто мишенями, так же как я, или вы, или Джон Кеннеди, или Джон Леннон. Любой человек из винтовки с оптическим прицелом вполне может убрать любого из них, профессор. Сол глянул в безмятежные глаза шерифа и улыбнулся. — Но у меня нет винтовки с оптическим прицелом. Джентри кивнул. — Вы захватили с собой какое-нибудь оружие, когда летели из Нью-Йорка? Сол отрицательно качнул головой. — У вас вообще нет оружия, профессор? — Вообще нет. Джентри повернулся к Натали. — Но у вас оно есть, мэм. Вы упомянули, что пошли за ним в дом Фуллер и даже были готовы арестовать мистера Ласки, даже если пришлось бы применить оружие. Натали покраснела. Сол удивился, увидав, как темнеет ее кожа, обычно цвета кофе с молоком. — Это не мой пистолет, — призналась она. — Моего отца. Он держал его в своей студии. У него было разрешение, поскольку там произошло несколько краж со взломом. Я зашла туда в понедельник и взяла его. — Можно мне посмотреть? — тихо попросил Джентри. Натали пошла в прихожую, достала из шкафа плащ и вытащила из кармана пистолет. Она положила его на стол рядом с шерифом. Указательным пальцем Джентри легонько повернул его, пока дуло не оказалось направленным в пустую стену. — Вы знакомы с пистолетами, профессор? — спросил Джентри. — С этим — нет. — А вы, миз Престон? Вы умеете обращаться с огнестрельным оружием? Натали передернула плечами. — У меня в Сент-Луисе есть друг, который показал мне, как стрелять. Надо прицелиться и нажать на спуск. Ничего сложного. — А именно с этим пистолетом вы умеете обращаться? Натали мотнула головой. — Папа купил его уже после того, как я уехала учиться. Не думаю, чтобы он когда-либо пользовался им. Не могу себе представить, чтобы он выстрелил в человека. Джентри поднял брови и взял в руку пистолет, осторожно держа его за предохранительную скобу. — Он заряжен? — Нет, — сказала Натали. — Я извлекла все патроны вчера, перед тем как выйти из дому. Теперь настала очередь Сола Ласки изумленно поднять брови. Джентри кивнул и нажал рычажок; из черной пластиковой рукоятки выскользнула обойма. Он протянул ее Солу, показывая, что она пуста. — Тридцать второй калибр, да? — спросил Сол. — Тридцать второй, — «лама» с уменьшенной рукояткой, — подтвердил шериф. — Милый пистолетик. Мистер Престон заплатил за него долларов триста, если покупал новым. Миз Престон, никто не любит, когда лезут с советами, но мне все же хотелось бы дать вам один совет, можно? Натали коротко кивнула. — Во-первых, никогда не цельтесь в человека из огнестрельного оружия, если вы не готовы им воспользоваться. Во-вторых, никогда не цельтесь из незаряженного пистолета. И в-третьих, если вам нужен незаряженный пистолет, убедитесь, что он действительно не заряжен. — Джентри ткнул пальцем в сторону оружия. — Видите вот этот маленький индикатор, мэм? Вот тут, где красная точка? Это называется индикатором зарядов, и красный огонек здесь не просто так. — Джентри оттянул затвор, из патронника вылетел патрон и со стуком упал на стол. Натали побледнела. Теперь ее кожа приняла цвет мертвой золы. — Это невозможно, — слабым голосом сказала она. — Я сосчитала патроны, когда вытащила их. Их было семь. — Ваш папа, должно быть, вогнал еще один патрон в патронник, а потом опустил курок, — пояснил Джентри. — Некоторые носят оружие именно в таком виде. Так можно иметь в пистолете восемь зарядов вместо обычных семи. — Шериф снова вогнал в рукоятку обойму и щелкнул курком. Натали слегка вздрогнула, услыхав сухой щелчок. Она глянула на то, что шериф назвал «индикатором зарядов»: красной точки больше не было видно. Она вспомнила, как вчера направила пистолет на Сола, будучи уверенной, что он не заряжен, и ей стало нехорошо. — А что вы хотите сказать на этот раз, шериф? — спросил Сол. Джентри пожал плечами и положил пистолет на стол. — Я думаю, если мы решили охотиться за этими убийцами, тогда хоть кому-то надо знать, как обращаться с оружием. — Но поймите наконец что оружие против этих людей бесполезно. Они могут заставить вас повернуть его к себе. Они могут превратить вас в оружие. Если мы станем охотиться за оберстом или за Фуллер, как одна команда, мы никогда не будем уверены друг в друге. — Я все это понимаю, — сказал Джентри. — Но я понимаю и то, что если мы найдем их, они окажутся уязвимыми. Они опасны главным образом потому, что никто не знает об их существовании. И об их вампиризме. А мы знаем. — Но нам неизвестно, где они скрываются сейчас, — возразил Сол. — Я думал, что подобрался к ним так близко. Я действительно был близок... — У Бордена есть какой-то фон, окружение, — сказал Джентри. — У него есть легенда, есть кинофирма, друзья, коллеги. С этого можно и начать. Сол печально покачал головой. — Я считал, что Фрэнсису Харрингтону ничто не угрожает. Ему требовалось навести лишь несколько справок. Если это был оберет, он мог бы узнать меня. Я полагал, Фрэнсис будет в безопасности, а теперь он наверняка мертв. Нет, я не хочу, чтобы еще кто-нибудь оказался напрямую связан со всем этим. — Но мы уже ввязались, — отрезал Джентри. — Мы уже по уши влезли во все это. — Он прав, — заметила Натали. Мужчины повернулись к ней. В ее голосе уже не было слабости. — Если вы не сумасшедший, Сол, — сказала она, — эти выродки убили моего отца ни за что ни про что. С вами или без вас, но я разыщу этих поганых убийц и найду способ воздать им по справедливости. — Давайте прикинемся, что мы тут разумные люди, — вмешался Джентри. — Доктор, а эта Нина Дрейтон поведала вам что-нибудь во время ваших консультаций... нечто такое, что могло бы нам помочь? — Нет, практически ничего. — Сол покачал головой. — Она все время упоминала лишь о своих снах и о смерти своего отца. Из этих разговоров я заключил, что она использовала свою Способность, чтобы убить его. — А о Бордене или Мелани Фуллер? — Не так прямо, но она упоминала своих друзей в Вене в начале тридцатых. Судя по ее описанию, это вполне могли быть оберет и Фуллер. — Есть что-нибудь полезное для нас в этих рассказах? — Нет. Лишь намеки на ревность и соперничество. И все. — Сол, оберет ведь использовал вас? — сказал шериф. — Да. — И однако вы помните все до мельчайших подробностей. А разве вы не говорили, что Джек Руби и другие страдали чем-то вроде амнезии, после того как их использовали? — Говорил, — подтвердил Сол. — Я думаю, что эти люди помнят свои действия как нечто, случившееся во сне, — если они вообще их помнят. — Примерно так же, как психически ненормальные помнят насильственные эпизоды? — Иногда, — кивнул Сол. — В других случаях обычная жизнь страдающего психозом — всего лишь сон, а по-настоящему он живет, только когда причиняет боль другому либо убивает. Но люди, которых использовали оберет и остальные, не обязательно страдают психозом — они могут быть просто жертвами. — Но ведь вы помните в точности, что испытывали, когда оберет... владел вашим сознанием, — сказал Джентри. — Почему? Сол привычным жестом снял очки и протер их. — Это особый случай. Тогда шла война. Я был всего лишь евреем из лагеря, и он был уверен, что я не выживу в этой мясорубке. Ему не было никакой надобности тратить свою энергию и стирать что-либо в моей памяти. И потом, мне удалось бежать от оберста по собственной воле, когда я выстрелил себе в ногу и застал его врасплох... — Я хотел вас еще расспросить об этом эпизоде, — произнес Джентри. — Вы сказали, что боль заставила оберста выпустить вас из-под его власти на пару минут... — На несколько секунд, — поправил Сол. — О'кей, на несколько секунд. Но все эти люди, которых они использовали в Чарлстоне, испытывали боль, страшную боль. Хаупт — он же Торн, бывший вор, которого Мелани Фуллер держала при себе в качестве слуги, потерял глаз и все равно продолжал действовать. Девочку Кэтлин забили до смерти. Баррет Крамер скатилась по лестнице, к тому же в нее стреляли. Мистера Престона... Ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать... — Да, — кивнул Сол. — Я много думал об этом. Так получилось, что когда оберет был... когда он был в моем мозгу — иначе это не передашь — я мельком ловил кое-какие его мысли... — Нечто вроде телепатии? — спросила Натали. — Не совсем. Во всяком случае, это не то, что обычно описывается в художественной литературе. Это больше похоже на попытку вспомнить утром обрывки сна. Но я уловил кое-что из мыслей оберста, когда он использовал меня для убийства того der Alte... старого эсэсовца... Достаточно, чтобы понять, что в его слиянии со мной в тот момент было нечто необычное. Он хотел прочувствовать все, что происходит, садистски просмаковать каждый оттенок чувственного восприятия. У меня сложилось впечатление, что обычно он использовал людей так, чтобы между ним и той болью, какую испытывала жертва, была какая-то прокладка, какой-то барьер. — Вроде как люди смотрят телевизор с выключенным звуком? — уточнил Джентри. — Возможно, и так. Только в этом случае сохраняется вся информация, убирается лишь болевой шок. Я чувствовал, как оберет наслаждается болью не только тех, кого он убивал, но и тех, кого он использовал для убийства... — Как вы считаете, такие воспоминания можно стереть, уничтожить? — В мозгу тех, кого он использовал? — спросил Сол. Джентри кивнул. — Нет. Скорее всего, они тонут — примерно так же, как жертва какой-нибудь ужасной психической травмы топит свои переживания глубоко в подсознании. Широко улыбаясь, шериф встал и хлопнул Сола по плечу. — Профессор, — сказал он, — вы нам только что дали ключ — как проверить, что верно и что нет, кто спятил, а кто нормальный. — Неужели? — удивился Сол, но он понял, о чем идет речь, прежде чем Джентри, улыбаясь, ответил на вопросительный взгляд Натали Престон. — Именно так, — сказал шериф. — Завтра мы сможем провести этот тест — и узнаем все, раз и навсегда!* * *
Сол сидел в машине шерифа Джентри и слушал, как стучит дождь. Прошел почти час с того момента, как Джентри и Натали вошли со старым доктором в клинику. Через несколько минут на другой стороне улицы остановилась синяя «Тойота», и Сол мельком увидел молодую пару, безукоризненно одетую, как и подобает всем молодым людям интеллигентных профессий. Они провели в дом светловолосую девочку с темными усталыми глазами. Левая рука ее была на перевязи. Сол ждал. Он умел ждать; этому искусству он научился еще юношей в лагерях смерти. В двадцатый раз он принялся обдумывать причины, которыми объяснял самому себе, почему надо было вовлечь в это дело Натали Престон и шерифа Джентри. Объяснение было слабенькое: чувство, что он постоянно попадает в тупик, внезапное доверие к этим двоим неожиданным союзникам после стольких лет одиночества и подозрений и, наконец, простое желание рассказать о своей судьбе. Сол тряхнул головой. Разумом он понимал, что сделал ошибку, но в душе испытывал невероятное облегчение от того, что рассказал, а потом и пересказал свою историю. Теперь у него были партнеры, они действовали, и это внушало Солу уверенность — он почти безмятежно сидел в машине Джентри, довольствуясь своей ролью — ждать. Сол чувствовал, что устал. Он знал, что усталость эта была нечто большее, чем результат бессонных ночей и жизни на сплошном адреналине; это было болезненное изнеможение, острое, как боль в поврежденной кости, и застарелое — еще с Челмно. Утомление постоянное и никуда не исчезающее, как татуировка на запястье. Это болезненное утомление уйдет с ним в могилу, как и татуировка, — а дальше будет еще вечность такой же усталости. Сол тряхнул головой, снял очки и потер переносицу. «Кончай, старик, — подумал он. — Мировая скорбь — это скучно. Другие страдают от нее еще больше, чем страдаешь сам». Он вспомнил ферму Давида в Израиле, свои собственные четыре гектара, далеко от садов и от полей, пикник, который они устроили там с Давидом и Ребеккой незадолго до того, как Сол уехал в Америку. Дети Давида и Ребекки, близняшки Арон и Исаак, — в то лето им было не больше семи, — играли в ковбоев и индейцев в каменистых оврагах, где когда-то римские легионеры гонялись за израильскими партизанами. «Арон», — вспомнил Сол. У них по-прежнему была назначена встреча в субботу, после обеда, в Вашингтоне. Сол почувствовал, как все у него внутри сжалось: еще одного человека он вовлек в этот кошмар, и совершенно напрасно. Да еще родственника. «Что ему удалось разузнать?» Молодые родители и девочка вышли из клиники; следом за ними появился доктор. Он пожал руку главе семейства, и они уехали. Сол только сейчас заметил, что дождь прекратился. Из двери вышли Джентри и Натали Престон, обменялись несколькими фразами со старым доктором и быстро пошли к машине. — Ну? — спросил Сол, когда шериф уселся за руль, а Натали устроилась на заднем сиденье. — Что там? Джентри снял шляпу и вытер платком лоб. Он опустил окно со своей стороны до упора, и до Сола донесся запах мокрой травы и мимозы. Джентри глянул назад, на Натали. — Расскажите ему, ладно? Натали глубоко вздохнула и кивнула. Видно было, что она потрясена и обескуражена, но голос ее звучал твердо. — В кабинете доктора Кольхауна есть небольшая комната для наблюдения, с зеркальным окном, сквозь которое видно только с одной стороны. Родители Алисии и мы могли наблюдать за всем, ничему не мешая. Шериф Джентри представил меня как своего помощника. — В рамках данного расследования это именно так, если вдаваться в технические детали, — тут же вмешался Джентри. — Я мог бы сделать вас представителем шерифа, но это разрешено лишь тогда, когда в графстве объявлено чрезвычайное положение. Тогда бы вы были Престон, представитель шерифа. Престон. Натали улыбнулась. — Родители Алисии не возражали против нашего присутствия. Доктор Кольхаун применил небольшой аппарат, чтобы загипнотизировать девочку, — нечто вроде метронома с лампочкой... — Да-да. — Сол пытался подавить в себе нетерпение. — Так что сказала девочка? Взгляд Натали, казалось, был обращен внутрь, когда она вновь представила эту сцену. — Доктор заставил ее вспомнить тот день, прошлую субботу, во всех деталях. До гипноза, когда девочка только вошла в комнату, лицо ее было застывшим, бесчувственным, почти вялым, а тут она загорелась, стала оживленной. Она разговаривала со своей подружкой Кэтлин — с той девочкой, которую убили — .. Они с Кэтлин играли в гостиной миссис Ходжес. Сестра Кэтлин, Дебора, сидела в другой комнате, смотрела телевизор. Вдруг Кэтлин бросила куклу Барби, с которой она играла, выбежала из дома, пересекла двор и заскочила в дом миз Фуллер. Алисия кричала ей что-то, стоя во дворе... — Тело Натали пронзила волна крупной дрожи. — А потом она замолчала. Лицо ее снова стало вялым. Она сказала, что больше ей не ведено рассказывать. — Она была по-прежнему под гипнозом? — спросил Сол. Ответил Джентри: — Да, но она не могла описать, что случилось потом. Доктор Кольхаун пытался разными способами помочь ей, но она просто смотрела перед собой пустым взглядом и только отвечала, что ей не ведено больше ничего рассказывать. — И все? — спросил Сол. — Не совсем, — сказала Натали. Она посмотрела в окно на умытую дождем улицу, затем снова взглянула на Сола. Ее полные губы были теперь напряженно сжаты. — Потом доктор Кольхаун сказал: «Ты входишь в дом, который стоит через двор от вашего. Скажи нам, кто ты». И тут Алисия, не медля ни секунды, произнесла совершенно не своим, старушечьим, надтреснутым голосом: «Я — Мелани Фуллер». Сол выпрямился. По коже у него пробежали мурашки, словно кто-то дотронулся до спины ледяными пальцами. — Тогда доктор Кольхаун спросил ее, может ли она, Мелани Фуллер, сказать нам что-нибудь, — продолжала Натали. — Лицо маленькой Алисии вдруг постарело: на нем появились морщины и складки, которых не было несколько секунд назад... И она сказала, тем же мерзким, слабым старушечьим голосом: «Я доберусь до тебя, Нина». А потом она повторяла эту фразу, с каждым разом все громче: «Я доберусь до тебя, Нина». Под конец она уже кричала. — Бог мой! — простонал Сол. — Доктор Кольхаун был тоже потрясен, — продолжала Натали. — Он успокоил девочку и вывел ее из состояния гипноза; он сказал ей, что она будет чувствовать себя довольной, счастливой и отдохнувшей, когда проснется. Только она вовсе не чувствовала себя счастливой. Выйдя из транса, она стала плакать, пожаловалась, что у нее болит рука. Ее мать признала, что это был первый случай, когда девочка пожаловалась на боль в сломанной руке — с тех самых пор, как ее нашли на улице в ту ночь. — А что сказали ее родители про этот сеанс с доктором Кольхауном? — спросил Сол. — Они очень расстроились, — ответила Натали. — Когда девочка стала кричать, мать Алисии с трудом удержала себя, чтобы не броситься к ней. Но когда все кончилось, похоже, они испытали огромное облегчение. Отец Алисии сказал доктору Кольхауну, что даже боль в руке и слезы — это лучше, чем совершенно пустые глаза и отсутствующий вид всю прошлую неделю. — А доктор Кольхаун? — спросил Сол. Джентри положил руку на спинку сиденья. — Док говорит, что это похоже на личностный перенос, индуцированный травмой. Он порекомендовал обратиться к психиатру, своему знакомому из Саванны, который специализируется на детских болезнях такого рода. Потом они подробно обсудили, хватит ли на это денег, полученных Кайзерами по страховке. Сол кивнул, и все трое немного посидели в полном молчании. Лучи вечернего солнца прорвались наконец сквозь тучи и осветили деревья и листву, покрытую каплями дождя, похожими на драгоценности. Сол вдохнул запах свежескошенной травы, и ему трудно было поверить, что сейчас декабрь. Он чувствовал себя подвешенным в пространстве и времени, во власти течений, которые несли его все дальше и дальше от знакомого берега. — Предлагаю пообедать где-нибудь, а заодно обсудить это дело, — сказал вдруг Джентри. — Профессор, вы вылетаете завтра в Вашингтон утренним рейсом, верно? — Да, — подтвердил Сол. — Что ж, тогда поехали, — улыбнулся Джентри. — Обед за счет графства.* * *
Они пообедали в отличном ресторане на Брол-стрит в Старом Городе, где подавали блюда из даров моря. У дверей стояла очередь, но когда метрдотель увидел Джентри, он моментально провел их к боковому входу, где как по волшебству появился незанятый столик. Зал был битком набит, так что они говорили на нейтральные темы — о погоде в Нью-Йорке, о погоде в Чарлстоне, о фотографии, о кризисе с захватом иранцами заложников, о политике в графстве Чарлстон, о недавних событиях в Нью-Йорке и в Америке вообще. Только что прошедшие президентские выборы никого из них особенно не порадовали. Покончив с кофе, они вернулись к машине Джентри за своими плащами и свитерами, а потом пошли вдоль стены Батареи. Ночь была прохладная и ясная. Остатки облаков развеялись, и на зимнем небе стали видны созвездия. К востоку, за гаванью, сияли фонари Маунт-Плезанта. Небольшое судно с зелеными и красными навигационными огнями прошло мимо мыса вдоль дорожки, отмеченной буйками. Сзади светились желтые и оранжевые окна десятка великолепных домов. Они остановились на набережной. Внизу, метрах в трех, о камни плескалась вода. Джентри оглянулся, — вокруг никого не было, и он тихо спросил: — Ну, что дальше, профессор? — Отличный вопрос. У вас есть какие-нибудь предложения? — Ваша беседа в Вашингтоне в субботу имеет какое-нибудь отношение к тому... что мы обсуждаем? — поинтересовалась Натали. — Возможно, — уклончиво ответил Сол. — Но я буду знать об этом только после беседы. Прошу прощения, что не могу сказать ничего более конкретного. Тут затронуты... родственные отношения. — А как насчет того парня, который за мной гонялся? — спросил Джентри. — Да-да, — вспомнил Сол. — Вам что-нибудь сообщили о нем из ФБР? — Нет, абсолютно ничего. — Шериф покачал головой. — Автомобиль был украден в Роквилле, штат Мэриленд, пять месяцев назад. А с мертвецом еще хуже — никаких следов, по которым его можно было бы опознать. Ни отпечатков пальцев, ни зубоврачебных карт челюстей — ничего. — Так часто бывает? — спросила Натали. — Почти никогда. — Джентри поднял камешек и бросил его в воду. — В теперешнем обществе все люди попадают в какие-то списки, архивы и прочее. — Возможно, ФБР не очень старается, — заметил Сол. — Вы это предполагаете? Джентри кинул еще один камешек и пожал плечами. В ресторане он был в коричневых брюках и старой клетчатой рубашке, но перед тем как им отправиться на прогулку, вытащил из багажника свой мешковатый китель и ковбойскую шляпу с пятнами пота на тулье и теперь снова выглядел типичным шерифом-южанином. — Не думаю, что ФБР может прибегнуть к услугам какого-нибудь полуголодного уличного придурка вроде этого, — пробурчал он. — А если он не работал на них, то кто все-таки его использовал? И зачем ему было убивать себя? Почему он так боялся ареста, что предпочел смерть? — Примерно так действовал бы оберет, если бы он использовал кого-нибудь, — сказал Сол. — Или мадам Фуллер — это было бы более вероятно. Джентри кинул еще камешек и, прищурившись, посмотрел на огни форта Самтер милях в двух от них. — Да, — согласился он, — но все равно тут какая-то бессмыслица получается. Ваш оберет никак не может интересоваться мной... Дьявол, ведь я даже ничего не слыхал о нем до того, как вы рассказали свою историю, Сол. А если миз Фуллер беспокоят те, кто за ней гоняется, ей бы лучше заняться патрулями автоинспекции штата, горотделом по делам убийств и ФБР. Ведь у этого придурка в бумажнике ничего не было, кроме моего фото. — У вас оно с собой? — спросил Сол. Джентри кивнул, вытащил из кармана фотографию и отдал психиатру. Сол отошел к ближайшему фонарю, чтобы получше рассмотреть. — Интересно, — сказал он. — Тут на заднем плане виден фасад муниципалитета графства! — Ага. — На этом снимке есть что-нибудь, что может подсказать, когда его сделали? — Да. Видите вон тот кусочек пластыря у меня на подбородке? Я бреюсь опасной бритвой своего отца — она когда-то принадлежала его отцу, — но я не очень часто ею режусь. Однако в прошлое воскресенье все же порезался — Лестер, один из моих помощников, позвонил мне рано, очень рано в то утро. И я почти весь день ходил с этой нашлепкой. — То есть в воскресенье? — уточнила Натали. — Да, мэм. — Значит, тот кто интересуется вами, сделал этот снимок в воскресенье, а потом некто стал преследовать вас в четверг, — сказал Сол. — Похоже на тридцатипятимиллиметровый объектив? — Точно, — кивнул Джентри. — Можно мне взглянуть на фотографию? — Натали взяла снимок и с минуту разглядывала его при свете фонаря. — Тот, кто его делал, пользовался встроенным экспонометром... Видите, экспозиция вот здесь, где солнце отражается на двери, больше, чем на вашем лице. Скорее всего, у него была двухсотмиллиметровая линза. Это довольно большой размер. Проявляли снимок в частной, а не в коммерческой фотолаборатории. — Откуда вы знаете? — удивился Джентри. — Видите, как обрезана бумага? Слишком небрежно для коммерческой лаборатории. Не думаю, что ее вообще обрезали... Потому я и полагаю, что объектив длиннофокусный. Но печатали второпях. Домашние лаборатории, в которых можно работать с цветными фото, сейчас — вполне обычное дело, но если у вашего оберста или миз Фуллер нет знакомых с такой лабораторией, они сами не могли бы обработать ее. Вы недавно видели кого-нибудь с автоматическим фотоаппаратом, имеющим такой вот объектив, шериф? Джентри улыбнулся. — У Дика Хейнса в точности такая штуковина! Крохотная «Коника» и большой бушнеловский объектив. Натали вернула ему фотографию и, нахмурившись, повернулась к Солу. — Может ли так быть, что есть еще и... другие? Такие же твари? Сол сложил на груди руки и устремил взгляд куда-то назад, на город. — Я не знаю, — медленно проговорил он. — Много лет я думал, что оберет — единственный в своем роде. Жуткий уродец, порождение «третьего рейха», — если такое вообще возможно. Но потом исследования показали, что способность воздействовать на психику других людей не так уж редко встречается. Читаешь историю и поневоле задумываешься — а может быть, такие индивиды, очень разные сами по себе, как Гитлер, Распутин и Ганди, — все они обладали такой способностью? Возможно, мы имеем здесь дело с континуумом, и оберет, Фуллер, Нина Дрейтон и бог знает кто еще просто представляют собой крайние точки этого континуума... — Значит, могут быть и другие? — Да, — сказал Сол. — И они, непонятно по какой причине, интересуются мной? — заключил Джентри. — Да. — Ладно. Значит, мы пришли снова туда, откуда начали. — Шериф тяжело вздохнул. — Не совсем, — возразил Сол. — Завтра я разузнаю, что смогу, в Вашингтоне. А вы, шериф, можете продолжить поиски этой Фуллер. И еще следите за тем, как идет расследование той авиакатастрофы... — А мне что делать? — спросила Натали. Сол немного смутился. — Вам было бы разумней вернуться в Сент-Луис... — Только не в том случае, если я могу чем-то помочь здесь. Что я должна делать? — У меня есть кое-какие соображения, — сказал Джентри. — Мы их можем обсудить завтра утром, когда отвезем профессора в аэропорт. — Хорошо, — согласилась Натали. — Я здесь останусь по крайней мере до первого января или чуть позже. — Я дам вам свой домашний и рабочий телефоны в Нью-Йорке, — сказал Сол. — Нам надо связываться по крайней мере через день. И вот еще что, шериф. Даже если все наши попытки разузнать что-то ни к чему не приведут, есть способ сделать это через газеты и ТВ... — Каким образом? — Метафора мисс Престон насчет того, что они вампиры, не так уж далека от истины, — сказал Сол. — Так же, как и вампиров, их съедают собственные темные инстинкты. Когда эти инстинкты удовлетворяются, не заметить этого невозможно. — Вы имеете в виду сообщения о других возможных убийствах? — Вот именно. — Но в этой стране происходит больше убийств за один день, чем в Англии за весь год. — Джентри развел руками. — Верно, но оберет и остальные... у них страсть к особым убийствам, — тихо сказал Сол. — Не думаю, чтобы они могли совершенно изменить свои привычки, какой-то след болезненности или извращенности все равно будет заметен. — О'кей, — вздохнул Джентри. — Значит, в худшем случае будем ждать, пока эти... эти вампиры не начнут убивать снова. Будем разыскивать их по этим следам. Ну, допустим, мы их найдем... И что тогда? Сол вытащил из кармана платок, снял очки и принялся их протирать, близоруко щурясь на огни гавани. Огни виднелись ему, как несфокусированные призмы, ночь, казалось, надвигалась на них со всех сторон. — Тогда вот что. Мы их выследим и поймаем. А потом мы сделаем то, что делают со всеми вампирами. — Он снова надел очки и едва заметно улыбнулся Натали и шерифу. Улыбка получилась безрадостной. — Мы проткнем их сердив кольями. Отрубим им головы. И набьем рот чесноком. А если и это не подействует... — Улыбка Сола стала еще холоднее. — Тогда придумаем нечто такое, что подействует.Глава 13
Чарлстон Среда, 24 декабря 1980 г. Для Натали Престон это был самый одинокий сочельник за всю ее жизнь, и она решила что-нибудь предпринять по этому поводу. Она взяла сумочку, «Никон» со 135-миллиметровым объективом, вышла из дому и медленно поехала в Старый Город. Не было еще четырех часов, но уже начало темнеть. Она ехала мимо старых домов и дорогих магазинов, слушала рождественскую музыку и понемногу думала обо всем. Ей очень не хватало отца. В последние годы она все реже видела его, но теперь сама мысль, что его больше нет, что он больше не думает о ней и не ждет ее, была невыносима, словно что-то внутри нее рушилось, сворачивалось и разрывало ей сердце. Ей хотелось плакать. Когда ей сообщили о смерти отца по телефону, она не плакала. Не плакала и тогда, когда Фред отвез ее в аэропорт Сент-Луиса. Вообще-то он хотел полететь вместе с ней, но она возражала, и он не стал настаивать. Она не плакала на похоронах и после похорон, все эти часы и дни смятения и встреч с родственниками и друзьями. Через пять дней после убийства отца и четыре — после возвращения в Чарлстон Натали как-то ночью не смогла заснуть и принялась искать, что бы почитать, наткнулась на сборник юмористических рассказов Джин Шеппард. Книга открылась на странице, где на полях размашистым почерком отца было написано: «Почитать с Натой этим Рождеством». Она прочитала страницу, где описывался смешной и в то же время страшный-престрашный случай, как мальчик отправился в гости к Санта-Клаусу прямо из универмага. Это было ужасно похоже на то, как перед Рождеством родители повезли ее в центр города, — ей тогда было года четыре, и ждали целый час в очереди, а она в панике убежала в самый ответственный момент. Когда она кончила читать, Натали смеялась так, что смех постепенно перешел в слезы, а затем в рыдания; она проплакала почти всю ночь и заснула всего на часок перед рассветом, но встала, когда поднялось зимнее солнце, чувствуя себя совершенно опустошенной. И все же ей стало легче. Самое худшее было позади. Натали свернула влево и поехала мимо особняков Рейнбоу-роуд с их лепниной; красочные фасады выглядели сейчас скромнее — зажглись газовые фонари. Она сделала ошибку, оставшись в Чарлстоне. Ее соседка, миссис Кальвер, приходила чуть ли не каждый день, и эти неловкие беседы с престарелой вдовой причиняли Натали боль. Она начала подозревать, что миссис Кальвер, видимо, питала надежды стать второй миссис Престон, и от этого девушке хотелось каждый раз спрятаться в спальне, едва она слышала робкий знакомый стук. По вечерам, ровно в восемь, звонил из Сент-Луиса Фредерик. Натали представляла себе строгое выражение лица ее друга и в прошлом любовника, когда он говорил: «Детка, возвращайся. От того, что ты сидишь там, не будет никакого проку. Я скучаю по тебе. Возвращайся домой, к старине Фредерику». Но ее маленькая квартирка в университетском городке больше не казалась ей домом. А захламленная комната Фредерика на Аламо-стрит была всего лишь местом, где он спал между сменами, длившимися по четырнадцать часов: он работал в компьютерном центре, ломая голову над математическими проблемами распределения масс в галактических скоплениях. Фредерик был очень способным парнем, но ему не повезло с образованием. Их общие знакомые когда-то рассказали ей, что он вернулся из Вьетнама, где отбыл два срока, с совершенно изломанной психикой в сочетании с яростным стремлением защитить свое достоинство и революционным духом. Этот свой дух он направил на то, чтобы стать выдающимся исследователем-математиком. Еще в прошлом году, несмотря на это, Натали любила Фредерика. Или думала, что любила. «Возвращайся домой, детка», — говорил он каждый вечер, и Натали, невероятно одинокая сейчас, потрясенная и убитая горем, всякий раз отвечала: «Еще несколько дней, Фредерик. Всего несколько дней». «Несколько дней — для чего?» — подумала она. Огни в окнах больших старых домов на Саунт-Бэттери освещали крыльцо за крыльцом, низкорослые пальмы, купола и балюстрады. Она всегда любила эту часть города. Когда она была маленькой девочкой, они с отцом приходили сюда гулять по Батарее. Ей было уже около двенадцати лет, когда она вдруг обратила внимание на то, что черные тут не живут, что эти замечательные старинные дома и прекрасные магазины предназначены только для белых. Позже она сама удивлялась, как могло случиться, что черная девочка, выросшая на юге в шестидесятых годах, поняла это так поздно. Столь многое было издавна привычным, так много старых привычек и обычаев надо было подавлять каждый день, что казалось невероятным: как она могла не заметить, что места ее вечерних прогулок, большие старые дома ее детских мечтаний были для нее и для других «нигеров» так же запретны, как и плавательные бассейны, кинотеатры и церкви, в которые она и не подумала бы зайти. К тому времени, когда Натали стала достаточно взрослой, чтобы в одиночку ходить по улицам Чарлстона, оскорбительные знаки были убраны, общественные фонтаны стали действительно общественными, но привычки оставались, и границы, установленные двумя столетиями традиций, стереть было не так просто. Натали все еще помнила тот сырой и холодный день в ноябре семьдесят второго, когда она стояла, потрясенная, неподалеку вот от этого самого места на Саунт-Бэттери, смотрела на большие дома и вдруг поняла, что никто из ее родственников никогда не жил и не будет жить здесь. Но эта вторая мысль была изгнана едва ли не раньше, чем появилась. Натали унаследовала глаза своей матери и гордость отца. Джозеф Престон был первым темнокожим бизнесменом, который владел фотомагазином в престижном районе рядом с гаванью. А она была дочерью Джозефа Престона. Натали проехала мимо реставрированного театра на Док-стрит; решетка кованого железа на балконе второго этажа отсюда казалась пышной порослью металлического плюща. Она пробыла дома всего десять дней — но все, что было с нею раньше, казалось какой-то другой, теперь уже нереальной жизнью. Джентри сейчас уходит с работы, желает счастливого Рождества своим помощникам и секретарям и всем другим белым, работающим в огромном старом здании муниципалитета графства. Вот сейчас он как раз собирается ей звонить. Она остановила машину у епископальной церкви св. Михаила и стала думать про Джентри. Про шерифа Роберта Джозефа Джентри. В пятницу, после того как они проводили Сола Ласки в аэропорт, они провели вместе почти целый день, а затем и всю субботу. В первый день они говорили в основном о рассказанной психиатром истории, о самой идее психического использования одних людей другими. «Если у профессора сдвиг по фазе, скорее всего, это никому не повредит, — сказал Джентри. — А если он нормальный, его история все объясняет, и я понимаю теперь, почему пострадало столько людей». Натали поведала шерифу о том, как она чисто случайно выглянула из своей комнаты и в тот момент увидела идущего из ванной босого Ласки: на его правой ноге в самом деле не было мизинца, только застарелый шрам на фаланге. — Это еще ничего не доказывает, — возразил Джентри. В воскресенье они говорили совсем о других вещах. Джентри приготовил для них обед у себя дома. Натали просто влюбилась в его дом — стареющее викторианское строение в десяти минутах ходьбы от Старого Города. Район явно переживал переходный период — некоторые дома, никем не ремонтируемые, потихоньку разваливались, другие же были отреставрированы и сейчас стояли во всей красе. Квартал, где жил Джентри, населяли молодые семьи, белые и черные; на подъездных дорожках часто можно было видеть трехколесные велосипеды, на крохотных лужайках валялись брошенные скакалки, а из двориков за домами слышался смех. Три комнаты на первом этаже были забиты книгами: чудные встроенные шкафы в библиотеке-кабинете, куда дверь вела прямо из прихожей, самодельные деревянные полки по обе стороны окон-" фонарей" в столовой и недорогие металлические стеллажи вдоль нештукатуренной кирпичной стены на кухне. Пока Джентри готовил салат, Натали, с благословения шерифа, бродила из комнаты в комнату, восхищаясь старинными томами в кожаных переплетах, рассматривая полки с солидными книгами в твердых обложках — по истории, социологии, психологии, криминалистике; она улыбнулась, когда ей на глаза попалась масса книжек карманного формата в бумажных обложках — шпионские страсти, детективы, триллеры... Натали невольно сравнила свою спартанскую рабочую комнату в Сент-Луисе со всей этой обстановкой — огромным письменным столом типа шведского бюро, с убирающейся крышкой, заваленным бумагами и документами; большим мягким кожаным креслом и таким же диваном; с этими массивными шкафами и стеллажами, битком набитыми книгами. В кабинете шерифа Бобби Джо Джентри витал жилой дух, чувствовалось, что он для хозяина — центр всего, всей жизни. Точно такое же чувство уважения вызывала у нее рабочая фотолаборатория отца. Когда салат был готов, а лазанья стояла на плите, они устроились в кабинете, с удовольствием потягивая чистое шотландское виски, и снова разговаривали. Беседа по кругу вернулась к одной теме — о том, надежен ли Сол Ласки и как они сами относятся к его фантастической истории. — От всего этого так и веет классической паранойей, — сказал Джентри, — но, с другой стороны, если бы европейский еврей предсказал в подробностях холокост лет за десять до того, как он был запущен в действие, любой порядочный психиатр любой национальности, даже еврей, поставил бы тому диагноз «возможная параноидальная шизофрения». Они любовались закатом, неторопливо поглощая еду. Еще раньше Джентри спустился в подвал, где стояли ряды винных бутылок, и откопал там две бутылки великолепного «каберне совиньон»; он слегка покраснел от смущения, когда она назвала его владельцем винного погреба. Натали поблагодарила шерифа за отменный обед и сделала ему комплимент, назвав его шеф-гурманом, на что Джентри заметил, что женщины, умеющие готовить, называются просто хорошими хозяйками;но вот коли мужчина может что-то сотворить на кухне, он уже становится шеф-гурманом. Она рассмеялась и сказала, что обязательно вычеркнет это клише из своего словаря. Клише. Совсем одна в этот вечер сочельника, сидя в быстро остывающей машине возле епископальной церкви св. Михаила, Натали думала о клише и стереотипах. Сол Ласки казался Натали прекрасным примером стереотипного образа: иммигрант, польский еврей из Нью-Йорка, с бородкой, с печальными семитскими глазами; казалось, они глядели на нее из такой европейской тьмы, которую Натали трудно было даже вообразить, не то чтобы понять. Профессор-психиатр с мягким иностранным акцентом, который мог служить и эхом венского диалекта Зигмунда Фрейда для неподготовленного слуха. Очки у него держались на скотче, Господи Боже, прямо как у тетушки Эллен, страдавшей старческим маразмом — теперь это называлось болезнью Альцхаймера — целых одиннадцать лет, покуда она в конце концов не умерла. Сол Ласки разительно отличался от большинства людей, белых или черных, которых Натали когда-либо знала: он не так выглядел, не так говорил, не так поступал. Хотя стереотипные представления Натали о евреях были весьма отрывочны и неясны: темная одежда, странные обычаи, этническое сходство друг с другом, близость к деньгам и власти, достигнутая за счет собственных стараний — Сол Ласки и его странная сущность могли бы без проблем уложиться в эти стереотипные представления. Могли, но не укладывались. Натали не питала особых иллюзий на тот счет, что ей, с ее интеллектом, не грозит опасная привычка сводить людей к стереотипам; ей шел всего двадцать первый год, но она уже заметила, как люди, и даже очень умные, такие как ее отец или Фредерик, просто меняют разные стереотипы, прикладывая их к живым людям. Ее отец, тонко чувствующая натура и щедрый человек, с его свирепой гордостью за свою расу и за все, что ею унаследовано, тем не менее смотрел на становление так называемого «нового юга» как на опасный эксперимент, видел в этом махинации радикалов, черных и белых, направленных на изменение системы, которая сама по себе уже достаточно изменилась и теперь в ней якобы трудолюбивые цветные вроде него могут добиться успеха, не теряя достоинства. Для Фредерика же люди были либо куклами в руках системы, либо хозяевами этой системы, либо ее жертвами. Сама система не представляла для Фредерика никакой загадки: она состояла из политической структуры, сделавшей войну во Вьетнаме неизбежной; из силовой структуры, сохранявшей политическую власть; и из структуры социальной, которая скормила его раскрытой пасти войны. Фредерик ответил на вызов этой системы двояко: он сбежал от нее в нечто совершенно невидимое и мало связанное с жизнью — в математические формулы и добился в этой области таких успехов, что мог теперь совершенно спокойно игнорировать ее. И жил он только для того, чтобы подсоединяться к своим компьютерам, избегая всяких человеческих осложнений, любить Натали так же яростно и умело, как и драться с любым, кто, как ему казалось, мог его обидеть. Он научил Натали стрелять из револьвера тридцать восьмого калибра, который держал в своей захламленной квартире... Натали стало холодно, она включила мотор, чтобы согреться. Проехав мимо церкви, где люди собирались на утреннюю рождественскую службу, она повернула в сторону Брод-стрит. Ей вспомнились заутрени, к которым она с отцом ходила столько лет, — в баптистской церкви в трех кварталах от их дома. В этом году она решила туда больше не ходить — хватит лицемерить. Она знала, что ее отказ обидит отца и даже разозлит, но на сей раз решила настоять на своем. Натали почувствовала, как пустота внутри нее разрослась от болезненного толчка печали прямо в сердце. Сейчас она отдала бы все на свете, лишь бы не огорчать его. Лишь бы он был жив... О, если бы! Ее мать погибла, когда Натали исполнилось девять лет. «Это был несчастный случай, просто несчастный случай», — сказал ей тогда отец, стоя на коленях у постели дочки и держа ее руки в своих. Как-то летом мама возвращалась с работы через небольшой сквер метрах в тридцати от улицы и машина, в которой сидело пятеро белых юнцов из колледжа, все пьяные, резко свернула на лужайку — они так забавлялись. Машина крутанулась вокруг фонтана, потом пошла юзом по рыхлой почве и налетела на тридцатидвухлетнюю женщину, которая торопилась домой к мужу и дочери, — была пятница, и они собирались во второй половине дня отправиться на пикник. Она не видела машины до последней секунды, как утверждали свидетели: один из них сказал, что когда автомобиль налетел на нее, у негритянки было на лице лишь удивление, а вовсе не ужас. В первый день занятий в четвертом классе учительница велела ученицам написать о том, что случилось во время летних каникул. Натали долго смотрела на чистый тетрадный лист, а потом написала, очень аккуратно, самым лучшим своим почерком: «Этим летом я была на похоронах моей мамы. Моя мама была очень добрая и милая. Она меня очень любила. Она была молодая, и ей нельзя было умирать этим летом. Люди, которым нельзя было садиться в машину, задавили ее, и она умерла. Они не попали в тюрьму, им ничего не сделали. После похорон мамы папа и я поехали на три дня к моей тете Ли. Но потом мы вернулись. Я очень скучаю по маме». Натали закончила свое сочинение, затем попросила разрешения выйти, быстро прошла по коридорам, таким знакомым и незнакомым, вошла в уборную для девочек, и там ее несколько раз стошнило. Клише, клише. Натали свернула с Брод-стрит к дому Мелани Фуллер. Каждый день проезжала девушка мимо, и в ней подымалась все та же боль и глухая ярость. Всякий раз, глядя на этот дом, — теперь он был таким же темным, как и соседний, потому что миссис Ходжес уехала, — она вспоминала прошлый вторник и свою встречу с бородатым человеком в этом доме. Сол Ласки. По идее, его легко было подвести под определенный стереотип, а вот не получалось. Натали мысленно представила его печальные глаза и тихий голос. Где он сейчас может быть? Что произошло? Они решили звонить друг другу через день, но он так ни разу и не позвонил ни ей, ни Джентри. Шериф попробовал позвонить сам по обоим номерам — домашнему и университетскому. Дома никто не ответил, а секретарь психологического факультета университета сказала, что доктор Ласки до шестого января в отпуске. «Нет, доктор Ласки не звонил в деканат после шестнадцатого декабря, когда он уехал в Чарлстон, но он определенно вернется к шестому января. В этот день у него начинаются лекции». В воскресенье они с Джентри сидели в его кабинете и разговаривали; она показала шерифу газетную заметку про взрыв в вашингтонском офисе одного сенатора за день до того. Погибло четыре человека. Может быть, это имело какое-то отношение к таинственному свиданию, на которое Сол должен был отправиться в тот день? Джентри улыбнулся и напомнил ей, что при взрыве погиб охранник этого здания, а вашингтонская полиция и ФБР утверждают, что это обычный террористический акт, что ни одного из погибших не опознали как Сола Ласки и что по крайней мере некоторая часть бессмысленного насилия, творящегося в мире ежедневно, никак не связана с тем кошмаром, о котором им поведал Сол. Натали тогда лишь улыбнулась, соглашаясь с ним. Три дня спустя от Ласки по-прежнему не было никаких известий.* * *
В понедельник утром Джентри позвонил ей с работы. — Вы хотели бы нам помочь в официальном расследовании убийств в «Мансарде» ? — спросил он. — Конечно, — ответила Натали. — А как я могу помочь? — Мы пытаемся найти фотографию миз Мелани Фуллер, — пояснил Джентри. — Ребята из горотдела по делам убийств, да и местное отделение ФБР утверждают, что фотографии этой леди вообще не существует. Они не смогли найти ни одного ее родственника, у соседей тоже нет ее фотографий, обыск дома результатов не дал. Мы разослали ориентировку, но там только словесный портрет. Мне кажется, было бы очень полезно иметь ее фотографию. Вы согласны? — Что я могу сделать? — Давайте встретимся перед домом Фуллер через пятнадцать минут, — сказал Джентри. — Вы меня узнаете по розе в петлице. Шериф действительно приехал на встречу с розой в петлице своей форменной рубашки. Он торжественно вручил ей цветок, когда они направились к запертой калитке перед домом Фуллер. — Чем я это заслужила? — улыбнулась Натали, поднося дивно пахнущую розу к лицу, и невольно покраснела. — Наверняка это будет вашей единственной наградой за долгие, выматывающие и, скорее всего, бесполезные поиски. — Джентри тут же вытащил огромную связку ключей, отыскал среди них тяжеленный старомодный ключ и отворил калитку. — Мы что, будем снова обыскивать дом Фуллер? — спросила Натали. Ей очень не хотелось опять входить туда. Она вспомнила, как пять дней назад увидела тут Сола. По телу ее пробежала дрожь, хотя день был теплый. — Не-а. — Джентри провел ее через небольшой двор к другому кирпичному зданию, стоявшему рядом. Поискав еще один ключ в связке, он отпер резную деревянную дверь. — После гибели мужа и внучки Рут Ходжес перебралась к своей дочери в западную часть города, в новый район Шервуд Форест. Я получил ее разрешение забрать здесь что мне нужно. Внутри дома было темно, пахло натертыми мастикой полами и старой мебелью, но тут не было затхлого, нежилого запаха, как в доме Фуллер. Они поднялись на второй этаж и вошли в небольшую комнату с рабочим столом, диваном и литографиями скаковых лошадей, в рамках, на стенах. — Это был кабинет Джорджа Ходжеса, — пояснил Джентри, включив настольную лампу. Он взял альбом с марками, осторожно перевернул несколько страниц и повертел в руке увеличительное стекло. — Бедняга никогда и мухи не обидел. Тридцать лет служил на почте, а последние девять работал ночным сторожем на пирсе. И надо же такому приключиться... Джентри покачал головой. — Ну так вот, миссис Ходжес говорит, что у Джорджа был фотоаппарат, он только года три как с ним расстался, а до того снимал регулярно. Она уверена, что миз Фуллер никогда не позволяла ему фотографировать ее — старая леди напрочь отказывалась сниматься... Но Джордж сделал множество слайдов, и миссис Ходжес не может поручиться, что среди них не найдется моментального снимка Мелани Фуллер... — Понимаю. Вы хотите, чтобы я просмотрела все слайды и выяснила, нет ли ее там, — сказала Натали. — Только я ведь никогда не видела, какая она, эта Мелани Фуллер. — Я дам вам ее словесный портрет — тот самый, что мы разослали. Но в любом случае откладывайте в сторонку все фото дам лет семидесяти или около того. — Он помолчал. — У вас или у вашего отца есть стол с подсветкой? Или какой-нибудь аппарат для сортировки слайдов? — Есть в студии. Большой стол, метра полтора в длину. А почему бы мне не воспользоваться проектором? — Да, так будет быстрее, — согласился Джентри и открыл дверь в чулан. — Бог ты мой!.. — ахнула Натали. Чулан был большой и весь забит самодельными полками. На полках слева стояли альбомы и коробки с надписью «марки», но стенки — задняя и правая были доверху уставлены длинными открытыми коробками с желтыми кодаковскими подставками для слайдов. Натали отшатнулась и глянула на Джентри. — Но тут их тысячи! — воскликнула она. — Возможно, десятки тысяч. Джентри развел руками, по-мальчишески ухмыльнулся. — Я же сказал, что это работа для добровольца, — промолвил он. — Я мог бы поручить это помощнику, но единственный, кто сейчас более или менее свободен, это Лестер, а он, прямо скажем, недоумок... Очень славный парень, но тупее кабана с тупого конца... Так что, боюсь, ему эта работа будет не под силу. — Ну и ну, — вздохнула Натали. — Хорошенькая рекомендация для храбрых защитников Чарлстона. Джентри смотрел на нее, все так же улыбаясь. Натали махнула рукой. — А-а, какого дьявола. Мне сейчас делать особенно нечего, да и студия свободна, пока Дорн Джессап — поверенный моего отца — закончит дела по продаже студии и всего здания. Ладно, я согласна. — Я помогу отнести ящики в машину, — предложил шериф. — Ну, и на том спасибо, — улыбнулась Натали и снова понюхала розу.* * *
Слайдов были тысячи, и все без исключения по качеству — на уровне любительских снимков. Натали знала, как трудно сделать по-настоящему хороший снимок: на протяжении многих лет она изо всех сил старалась научиться делать снимки, которые понравились бы ее отцу, после того как он подарил ей, девятилетней, на день рождения ее первый фотоаппарат — недорогую неавтоматическую «Яшику». Но Боже мой, если человек делает тысячи снимков в течение по крайней мере двух или трех десятков лет, должен же он выдать хотя бы один-два интересных слайда, У Джорджа Ходжеса этого не получилось. Снимки были разные: семейные, на отдыхе, виды домов и лодок, плавучих дач, фото по случаю разных торжественных событий и праздников — Натали пришлось просмотреть все рождественские елки Ходжесов с сорок восьмого по семьдесят седьмой год... Была также запечатлена каждодневная жизнь детей и внуков, но все они до единого были очень низкого качества. За восемнадцать лет занятий фотографией Джордж Ходжес так и не научился ни снимать против солнца, ни просить фотографируемых не щуриться от света, ни ставить их перед деревьями, столбами и другими предметами (все они, казалось, как бы вырастали у людей из ушей или из старомодных причесок и завивок), ни перекашивать горизонт, ни придавать тем, кого он щелкал, неестественных поз, ни фотографировать неодушевленные предметы на расстоянии нескольких миль (так это, по крайней мере, выглядело на снимках), ни надеяться на вспышку, когда предметы или люди либо слишком близко, либо слишком далеко от объектива, ни засовывать обязательно всю фигуру в объектив. Именно из-за этой его любительской привычки Натали и удалось обнаружить изображение Мелани Фуллер. Был уже восьмой час, когда Джентри заехал в мастерскую с пластиковыми коробками из китайского ресторана, и они ели, стоя рядом со столом с подсветкой. Натали показала ему небольшую стопку снимков, где могла быть дама, похожая на Мелани Фуллер. — Не думаю, что она — среди этих старушек. Все они позируют вполне охотно, большинство из них или слишком молоды, или слишком стары. Хорошо хоть, что мистер Ходжес пометил ящики и написал на них даты. — Да, — согласился Джентри, быстро просматривая слайды над столом с подсветкой снизу. — Ни один снимок не подходит под словесный портрет. Волосы не те. Миссис Ходжес говорит, что миз Фуллер носила одну и ту же прическу, начиная по крайней мере с шестидесятых. Волосы короткие, слегка завитые на концах, подкрашены в голубоватый цвет. Немного похоже на то, как вы сейчас выглядите. — Спасибо, — улыбнулась Натали. Она поставила лоток с кисло-сладкой свининой и сняла резиновое кольцо с еще одной желтой коробки, потом начала выстраивать слайды по порядку. — Самое трудное тут — удержаться, чтобы не смахнуть всю эту дребедень на пол, когда ничего не найдешь, — призналась она. — Как вы думаете, миссис Ходжес будет когда-нибудь просматривать эти слайды? — Скорее всего, нет. Она говорит — Джордж в конце концов перестал заниматься фотографией из-за того, что она никогда не интересовалась его снимками. — Любопытно, почему. — Натали разложила трехсотую пачку слайдов, на которых был запечатлен их сын Лоренс и невестка Надин (об этом свидетельствовали наклейки с надписями). Они стояли во дворе, щурясь от яркого солнца, с младенцем Лорелом на руках — он тоже щурился, а трехлетняя Кэтлин цеплялась за слишком короткую юбку своей матери. На Лоренсе были черные туфли и белые носки. — Погодите-ка. — Натали вдруг напряглась. Джентри почувствовал волнение в ее голосе и склонился вместе с ней над столом. — Что тут? Натали ткнула пальцем в десятый слайд из этой серии. — Вот. Видите? Эти двое. Высокий лысый мужчина, это не тот... как его? — Мистер Торн. Он же Оскар-Феликс Хаупт. Да-да-да. А вот эта леди в мешковатом платье, с короткими синими кудрями... Ну, наконец-то, миз Фуллер. — Они оба наклонились еще ниже и принялись рассматривать изображение сквозь большое увеличительное стекло. — Она не заметила, что их снимают, — пояснила Натали. — Да, — согласился Джентри. — Интересно, почему? — Принимая во внимание число снимков этой семьи, сделанных из одного положения, можно предположить, что мистер Ходжес заставлял их позировать дней двести в году. Миз Фуллер, скорее всего, приняла своих соседей за групповую статую во дворе. — Наверно. — Джентри ухмыльнулся шире обычного. — Если снимок перепечатать, он хорошо получится? Я имею в виду только ее. — Должен получиться, — сказала Натали совсем другим тоном. — Похоже, он использовал здесь кода-хром-64, а с этим можно увеличивать довольно сильно, и качество будет хорошее. Чтобы не портить снимок, лучше обрезать интернегатив вот тут, тут и тут, и у вас получится прекрасный профиль в три четверти. — Замечательно! Отличная работа. А теперь мы... Что? Что случилось? Натали взглянула на него, крепче обняла себя за плечи, пытаясь унять дрожь, но она не унималась. — Не похоже, чтобы ей было семьдесят или восемьдесят, — прошептала она. Джентри взглянул на слайд. — Снимок сделали, дайте-ка глянуть... пять лет назад. Но вы правы. На вид ей лет шестьдесят или около того. Хотя в нотариальной конторе есть записи о том, что дом принадлежал ей еще в двадцатых годах. В конце двадцатых. Но вас ведь не это так взволновало, верно? — Нет. Просто я видела столько снимков маленькой Кэтлин и как-то позабыла, что девочки больше нет в живых. И ее дедушка... который сделал снимки... Он ведь тоже мертв... Джентри кивнул, пристально взглянул на Натали, но она по-прежнему смотрела на слайды. Его левая рука поднялась, потянулась к ее плечу, чтобы погладить, успокоить — но он тут же опустил ее. Натали ничего не заметила. — А вот это чудовище, что убило их. Смотрите, шериф, какая безобидная старушка... Безобидная — как большая самка каракурта, которая убивает все, что попадает в ее логово. А когда она выбирается из логова, погибают другие люди... Как мой отец... — Натали выключила лампу под столом и отдала слайд Джентри. — Утром я просмотрю остальные, поищу, может, найду еще что-нибудь. А пока отпечатайте вот это, передайте всем, кому нужно — эти ваши ориентировки, или оповещения, или как это у вас называется. Джентри кивнул, осторожно держа слайд на расстоянии вытянутой руки, словно то был паук, живой и смертельно опасный.* * *
Натали остановила машину напротив дома Фуллер, взглянула на старое здание — это все уже стало для нее частью ритуала, — потом переключила скорость, собираясь поехать куда-нибудь позвонить Джентри насчет обеда — и вдруг замерла. Она снова переключила скорость на нейтральную и выключила зажигание. Трясущимися руками девушка взяла «Никон» и посмотрела в видоискатель, установив 130-миллиметровый объектив на приоткрытое окно со своей стороны, чтобы он не прыгал. В доме Фуллер горел свет. На втором этаже. Он горел не в тех комнатах, что выходили на улицу, но достаточно близко: свет пробивался в коридор второго этажа и даже сквозь жалюзи. В предыдущие три дня Натали каждый раз проезжала мимо дома после наступления темноты — света нигде не было. Она опустила фотоаппарат и глубоко вздохнула. Сердце ее билось просто оглушительно. Нет, это нелепо. Тут должно быть какое-то разумное объяснение. Старуха не могла вот так запросто вернуться домой и заняться домашними хлопотами, когда ее ищут полицейские полдюжины штатов, не говоря о ФБР. «А почему бы и нет?» — подумала Натали и тут же отбросила эту мысль. Наверняка в доме Джентри или кто-нибудь из следователей. Или, может быть, люди из муниципалитета, — Джентри говорил ей, что они хотели перевезти вещи на хранение до завершения расследования. Да тут могла быть еще сотня других объяснений. И тут свет погас. Натали вздрогнула, будто кто-то дотронулся до нее сзади. Она нащупала фотоаппарат, подняла его и направила видоискатель на окно второго этажа. Свет между белыми жалюзи исчез. Натали осторожно положила фотоаппарат на сиденье рядышком, откинулась на спинку, несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, затем вытащила из бардачка свою сумочку. Не сводя глаз с темного фасада здания, она нащупала в сумочке «ламу» тридцать второго калибра и достала оружие. Посидев немного, положила пистолет на нижний изгиб руля, потом сжала рукоятку и тем автоматически сняла его с одного предохранителя. Был еще второй, но чтобы снять с него, нужно меньше секунды. Во вторник Джентри повел ее в частный тир и показал, как заряжать пистолет и стрелять из него. Сейчас он был заряжен всеми семью патронами, плотно уложенными в обойму, как яйца в гнездо. Индикатор зарядов был красен, как кровь. Мысли Натали метались, словно лабораторные мыши, в поисках входа в лабиринт. Что делать, черт?.. А почему надо что-то делать? Сюда и раньше забредали разные... Сол забрел, например. А где он теперь, черт побери? Может, это опять он? Натали отбросила эту мысль до того, как она успела сформироваться. Она вспомнила изображение Мелани Фуллер и мистера Торна на слайде. Да нет, Торн мертв. Да и Мелани Фуллер, вполне возможно, мертва. Но кто тогда? Натали стиснула рукоятку пистолета, старательно держа указательный палец подальше от спускового крючка, и посмотрела на темный дом. Дышала она часто, но держала себя в руках. Надо убираться отсюда. Надо позвонить Джентри. А куда звонить? На работу или домой? Или туда, или туда. Если надо, поговорю с помощником. Семь часов вечера. Канун Рождества. Сколько потребуется помощникам шерифа или городским полицейским, чтобы явиться по вызову? А где ближайший телефон? Натали попробовала вспомнить, но перед глазами стояли только картинки закрытых, темных магазинов и ресторанов, мимо которых она проезжала недавно. Значит, надо двигаться к муниципальному зданию или домой к Джентри. Тут всего-то десять минут езды. Тот, кто в доме, через десять минут исчезнет. Ну хорошо. Одну вещь Натали знала твердо: она ни за что не войдет в дом одна. В первый раз она сделала глупость, но тогда ею двигали ярость, горе и храбрость, рожденная невежеством. Идти туда сейчас было бы преступной глупостью — с пистолетом или без оного. Когда Натали была маленькой, она обожала допоздна смотреть фильмы ужасов по пятницам или субботам. Отец позволял ей расправлять кроватку пораньше, чтобы она могла заснуть сразу после кино, а чаще даже она засыпала, когда еще мелькали кадры. Иногда он смотрел фильм вместе с ней, сидел в своей сине-белой пижаме, она — во фланелевом ночном костюмчике, оба ели воздушную кукурузу и ужасались всем этим невообразимым событиям на экране. В одном они соглашались безоговорочно: никогда нельзя жалеть героиню, если она совершает глупые поступки. Молодая дама в ночной кружевной рубашке не раз и не два получала предупреждение: НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЗАПЕР-ТУЮ ДВЕРЬ В КОНЦЕ ТЕМНОГО КОРИДОРА. И что же она делает, когда ее никто не видит? Стоило женщине открыть запертую дверь, как Натали и ее отец тотчас начинали болеть за чудовище, ожидавшее ее там, за дверью. У отца Натали даже была поговорка: у глупости есть своя цена, и эту цену всегда приходится платить. Натали открыла дверцу и вылезла из машины. В правой руке она держала пистолет — вес его был непривычен. Она с секунду постояла так, глядя на два темных дома и примыкающий двор. Метрах в десяти фонарь освещал кирпичные стены и тени деревьев. «Только до калитки», — решила Натали. Если кто-нибудь выйдет, она всегда сможет убежать. Она пересекла тихую улицу и подошла к калитке: та оказалась незаперта и даже чуть приоткрыта. Натали коснулась рукой холодного металла и широко раскрытыми глазами посмотрела на темные окна дома. Из-за адреналина в крови она чувствовала, как сердце колотится о ребра, но он же сделал ее сильной, легкой и быстрой. В руке у нее был настоящий пистолет. Она щелкнула предохранителем, как учил ее Джентри. Она выстрелит, только если на нее нападут — любым способом. Но стрелять она будет непременно. Она понимала, что пора вернуться в машину, отъехать от дома и позвонить Джентри. Но поступила с точностью до наоборот — толкнула калитку и шагнула во двор. Большой старый фонтан отбрасывал тень, скрывавшую ее. С минуту Натали стояла в этом укрытии, глядя на окна и парадную дверь дома Фуллер. Она чувствовала себя десятилетней девочкой, вызвавшейся дотронуться до двери местного дома с привидениями. Но ведь горел же свет. Если там кто-то был, он мог выйти через заднюю дверь, как поступили тогда они с Солом. Он не станет пользоваться парадной дверью, где его можно заметить с тротуара. В любом случае она подошла достаточно близко. Пора убираться в машину и катить отсюда ко всем чертям. И все же Натали медленно подошла к невысокому крыльцу, слегка подняв руку с пистолетом. Теперь она увидела, что парадная дверь приоткрыта. Натали почти задыхалась, ее легким не хватало воздуха. Она снова дважды глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Пульс немного выровнялся. Девушка протянула руку с пистолетом и слегка толкнула дверь. Та бесшумно открылась внутрь, словно на хорошо смазанных петлях. Натали увидела пол прихожей и несколько первых ступеней лестницы. Ей показалось, что она видит пятна — там, где лежали тела Кэтлин Ходжес и Баррет Крамер. Сейчас кто-то начнет спускаться по лестнице, покажутся сначала ботинки, потом ноги... «К черту все», — подумала Натали, повернулась и побежала. Каблук зацепился за камень, она чуть не упала, еще не добежав до калитки, но все же удержалась на ногах. Бросив испуганный взгляд через плечо на открытую дверь, на темный фонтан, на тени на стенах и окнах, она пулей вылетела из калитки, перебежала улицу, нащупала ручку дверцы, открыла ее и без сил упала на сиденье. Она защелкнула замок и не забыла поставить пистолет на предохранитель, прежде чем швырнуть его на сиденье. Затем потянулась к ключу зажигания, моля Бога, чтобы ключ оказался там, где надо. Он оказался там. Мотор завелся сразу. Только Натали потянулась к переключателю скоростей, — и тут с заднего сиденья ее крепко ухватили чьи-то руки: одна рука зажала ей рот, другая сильно и профессионально стиснула горло. Девушка успела крикнуть, но мощная рука зажала ей рот. Натали попробовала втянуть воздух сдавленным горлом, ухватилась за эти чужие руки в перчатках, сжавшие ей рот и шею. Она отчаянно попыталась выпрямиться, опираясь на сиденье, чтобы добраться ногтями до напавшего на нее. Пистолет. Натали попробовала дотянуться до него, но не смогла. На секунду рука ее задержалась у рычага скорости, потом она снова попыталась пустить в ход ногти. Тело ее как парализовало, она повисла над сиденьем, колени приходились выше руля. Чье-то тяжелое влажное лицо приблизилось к ней вплотную. Но ее пальцы, скользнув, наткнулись лишь на шапку или кепи. Та рука, сжимавшая ей рот, ослабла, нападавший перегнулся к переднему сиденью, и Натали услышала, как пистолет с тяжелым стуком упал на резиновый коврик. Она снова вцепилась в толстые перчатки — но тут рука вновь сдавила ее горло. Ей хотелось впиться ногтями в лицо, прижавшееся к ее шее, но ее руку легко откинули в сторону. Рот был свободен, но кричать было нечем — она задыхалась, она могла только шептать... В глазах прыгали яркие точки, в ушах шумела кровь. «Значит, вот как бывает, когда тебя душат», — подумала она, царапая ногтями ткань; ноги ее бились о панель — она попробовала поднять колени, чтобы надавить на клаксон на руле. В зеркальце заднего вида Натали на мгновенье увидела красные, как кровь, глаза возле своей шеи, чью-то красную щеку, но тут же сообразила, что это ее собственная кожа казалась красной, свет был красный, она уже ничего не видела, кроме красных точек. Ее щеку царапнула небритая щетина, на лице она ощутила чье-то несвежее дыхание, и хриплый голос прошептал ей в ухо: — Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне. Натали, как кошка, выгнулась изо всех сил, потом резко откинулась назад и чуть в сторону, так резко, как только могла, и почувствовала — с мимолетным удовлетворением — боль от удара головой о чью-то плоть и кость. Эти немилосердные руки на миг отпустили ее, и девушка повалилась вперед, с болью вбирая воздух горлом и легкими, потом еще глотнула и метнулась вправо, пытаясь нащупать пистолет там, за рычагом скорости, рядом с сиденьем. Но тут железные пальцы снова стиснули ее горло, на сей раз еще больнее; они явно нащупывали какую-то жизненную точку. Тело ее снова подтянули на сиденье. Снова увидела Натали множество красных точек, ощутила жгучую боль в шее. А потом — пустота. Ничто.Книга вторая Миттельшпиль
О, разум... В разуме есть горы; пропасти, чтоб падать, отвесно-страшные, никем не мерянные до сихДжеральд Мэнли Хопкинс
Глава 1
Мелани Время для меня теперь — сплошная мешанина. Я так ясно помню те последние часы в Чарлстоне и совсем плохо — дни и недели, последовавшие затем. Другие воспоминания выбиваются на передний план. Я помню стеклянные глаза и проплешины выпавших волос на голове мальчика в населенной призраками детской в Грамблторпе. Странно, что я вспоминаю именно это; я провела там так мало времени. Помню, как дети играли, а маленькая девочка пела в свете зимнего дня на склоне холма над лесом в то утро, когда вертолет врезался в мост. Разумеется, я помню ту кровать — завораживающие белые холмы этой тюремной площадки, где покоилась моя настоящая тюрьма — собственное тело. Помню, как Нина очнулась от своего смертельного сна — синие губы растянулись, обнажив желтые зубы, голубые глаза вернулись в глазницы на гребне поднимающейся волны личинок, кровь снова хлынула из дырки с небольшую монетку в бледном лбу. Но это не настоящее воспоминание. По крайней мере, я так думаю. Когда я пытаюсь вспомнить те часы и дни после нашей последней встречи в Чарлстоне, первое, что я ощущаю, — это чувство восторга, бодрости вернувшейся молодости. Я думала тогда, что самое худшее уже позади. Как глупо. Глупо было так думать. Я — свободна! Свободна от Вилли, от Нины, свободна от Игры и от всех тех кошмаров, связанных с ней. Я выбралась из «Мансарды» при шуме и смятении и медленно пошла сквозь тишину ночи. Несмотря на всю боль, причиненную мне в тот день, я чувствовала себя моложе, чем когда-либо за многие-многие годы. Свободна! Я шла легко, наслаждаясь темнотой и ночной прохладой. Где-то неподалеку выли сирены, но я не обращала на них внимания. Я — свободна! Я подошла к «зебре» у перекрестка с интенсивным движением. Загорелся красный свет; рядом со мной остановилась длинная машина синего цвета, «Крайслер», насколько я понимаю в машинах. Шагнув с тротуара, я постучала в окно автомобиля. Водитель, грузный пожилой человек с остатками волос вокруг лысины, наклонился и подозрительно глянул на меня. Потом он улыбнулся и нажал какую-то кнопку; окно опустилось. — Что-нибудь случилось, мэм? Я кивнула и села в машину. Сиденье, крытое каким-то искусственным бархатом, было очень мягким. — Поехали, — велела я. Через несколько минут мы уже выезжали из города по шоссе, ведущему в соседний штат. Я говорила лишь тогда, когда нужно было отдать приказания. Держать водителя в своей власти было легко, мне почти не требовалось прилагать усилия. Бодрое чувство вернувшейся молодости принесло с собой уверенность в своих силах, которой я уже давно не ощущала. Откинувшись на спинку сиденья, я смотрела, как мимо проплыли и исчезли огни Чарлстона. Мы уже отъехали от города на несколько миль, и тут водитель закурил сигару. Терпеть не могу сигарного дыма. Он опустил окно и выбросил ее. Я мысленно приказала ему включить кондиционер, и мы поехали дальше на северо-запад — все так же молча. Незадолго до полуночи мы миновали темную полосу болот, в которые упал самолет Вилли. Я закрыла глаза и вызвала воспоминания тех ранних дней в Вене: веселье в Biergartens, освещенных цепочками желтых лампочек, прогулки поздней ночью вдоль Дуная, возбуждение, которое испытывали тогда мы трое в обществе друг друга, восторг первых осознанных Подпиток. В те далекие годы, когда мы встречались с Вилли в разных столицах, на разных курортах, мне иногда казалось, что я вот-вот влюблюсь в него. Только моя преданность памяти дорогого Чарлза мешала мне предаться каким-то чувствам по отношению к нашему молодому, блестящему спутнику в ночи. Открыв глаза, я взглянула на темную стену деревьев и кустарника справа от дороги. Представила себе, как изуродованное тело Вилли валяется где-то там, в грязи, среди насекомых и гадов. И ничего не почувствовала. В Колумбии мы остановились на заправке. Когда водитель платил за бензин, я взяла его бумажник с сиденья. Там оставалось долларов тридцать, все остальное обычный хлам — визитные карточки и фото. Мне было все равно, как его зовут, я лишь взглянула на водительские права, но не стала запоминать фамилию. Вести машину — действие почти рефлекторное, мне не приходилось особо напрягаться, чтобы заставлять его делать все, что нужно. Я даже слегка задремала, пока мы ехали по шоссе 1-20 мимо Огасты в штат Джорджию. Когда я проснулась, он начал уже что-то бормотать, рассеянно тряся головой, но я сжала тиски, и он вновь устремил взгляд на дорогу, прямо перед собой. Я опять закрыла глаза, и передо мной замелькали отраженные огни фар и рефлекторов. Мы въехали в Атланту в четвертом часу утра. Мне никогда не нравился этот город — в нем не было очарования и элегантности культуры юга, а ныне он расползался во все стороны, превратившись в бесконечную череду промышленных парков и бесформенных новых районов. Мы свернули с шоссе у большого стадиона, улицы в центре Атланты были пустынны. Я велела водителю отвезти меня к банку, который и был целью моего путешествия, но стеклянный фасад банка не был освещен. Я почувствовала неприятное разочарование и раздражение. Когда-то мне понравилась идея держать запасные документы для своей новой легенды в ячейке сейфа — откуда мне было знать, что они понадобятся мне в три тридцать утра в воскресенье? Я пожалела, что во время всех этих бурных событий потеряла свою сумочку. Карманы моего светло-коричневого плаща были набиты вещами, которые я переложила из своего изодранного и испачканного кровью пальто. В бумажнике по-прежнему лежали: ключ от сейфа и кредитная карточка. Я велела водителю несколько раз объехать центр города, но это было явно бесполезно. На большей части перекрестков горели желтые фонари; иногда мимо проезжал полицейский автомобиль; выхлопные газы поднимались вверх, клубясь как пар. В центре города, неподалеку от банка, располагалось несколько приличных отелей, но мой непрезентабельный вид, да еще без багажа, не давал возможности искать там пристанища. Я мысленно приказала водителю направиться по одному из скоростных шоссе к пригороду. Минут через сорок мы нашли мотель с вывеской: «Есть свободные места». Подкатили к одному из этих ужасных заведений с названием вроде «Супер-6», «Мотель-8» или тому подобный вздор, словно люди — такие кретины, что не могут запомнить название, если к нему не добавить номер. Я подумала, не надо ли послать водителя зарегистрироваться, но это было рискованно: он мог вступить в разговор, а я слишком устала, чтобы использовать его как надо. Жаль, конечно, что у меня было недостаточно времени запрограммировать его как следует. В конце концов я причесалась как смогла, заглядывая в зеркальце заднего вида, затем вошла в мотель. За стойкой сидела заспанная женщина в шортах и заляпанной тенниске Мерсерского университета. Я придумала все: как нас зовут, откуда мы, придумала номер машины, но женщина даже не потрудилась выглянуть наружу, где стоял «Крайслер» с незаглушенным мотором. Как и всегда в этих глупых заведениях, она лишь попросила заплатить вперед. — На одну ночь? — спросила она. — На две, — ответила я. — Мой муж завтра будет целый день отсутствовать. Он — коммивояжер, продает кока-колу и поедет на завод. А я хочу... — Шестьдесят три доллара восемьдесят пять центов, — бросила женщина. Она дала мне ключ, привязанный к пластиковой бомбочке. — Номер двадцать один шестнадцать. Объедете кругом и поставите машину возле мусорных ящиков. Мы сделали, как она велела. Это было нелепо, но на стоянке теснилось множество машин; а у заднего забора стояло даже несколько полутрейлеров. Я отперла номер ключом и вернулась к машине. Водитель сгорбившись сидел за рулем и дрожал. Лоб его был покрыт потом, щеки тряслись — он пытался выскочить из того малого пространства, что я оставила его свободной воле. Я здорово устала, но по-прежнему уверенно контролировала его. Да, признаться, мне ощутимо не хватало мистера Торна. Уже много лет мне даже не приходилось вслух высказывать свои пожелания — он и так выполнял все беспрекословно. Используя же этого незнакомого грузного человека в «Крайслере», можно было дойти до отчаяния: все равно что работать с окалиной, когда привык иметь дело с благородными металлами. Я пребывала в нерешительности. Конечно, были определенные преимущества в том, чтобы держать его при себе до понедельника. Самое главное — автомобиль. Но риск перевешивал эти преимущества. Его отсутствие уже могли заметить. Полицейские, возможно, ищут его машину. Все это очень осложняло ситуацию, но главное, из-за чего я решилась избавиться от него, была та ужасная усталость, которая навалилась на меня после прежних восторгов. Мне необходимо было поспать, оправиться от потрясений, вчерашнего кошмара. Этого глупого водителя нельзя было оставлять без присмотра: он может выйти из пассивного состояния, пока я буду отдыхать в мотеле. Наклонившись к нему поближе, я легко коснулась рукой его шеи. — Ты вернешься на шоссе, — прошептала я. — Поедешь вокруг города. Каждый раз, когда будешь проезжать съезд с шоссе, увеличивай скорость на десять миль в час. Когда проедешь четвертый съезд, закрой глаза и не открывай их, пока я тебе не велю. Кивни, если все понял. Он кивнул. Глаза его остекленели; он смотрел прямо перед собой. С этим хорошей Подпитки не получится, даже если бы я этого захотела. — Поезжай, — приказала я. Я наблюдала, как «Крайслер» выехал со стоянки и повернул влево, к скоростному шоссе. Закрыв глаза, я воочию видела длинный капот, слепящий свет приближающихся фар, рефлекторы, мелькающие мимо машины, набирающей скорость. Я слышала тихий гул кондиционера и чувствовала, как голые руки царапают шерстяной свитер. Во рту был противный привкус недокуренной сигары. Я вздрогнула от отвращения и немного отстранилась. Миновав первый съезд, водитель плавно переключил скорость до шестидесяти пяти миль в час. Он отъехал уже довольно далеко, и мое восприятие немного ослабло, смешиваясь со звуками на стоянке и прикосновением ветерка к лицу. Я едва ощутила тот момент, когда машина разогналась до скорости девяносто пять миль в час и водитель закрыл глаза... Номер мотеля был именно такой, каким я себе его представляла: пустой и тоскливый, ничего, кроме самого необходимого. Порез на правом боку оказался тонюсенькой царапиной, но платье и комбинация были безнадежно испорчены. Рана на мизинце пульсировала намного болезненнее, чем бок. На некоторое время я отогнала сон — ровно настолько, чтобы принять горячую ванну и вымыть голову. Затем, завернувшись в два полотенца, я села и заплакала. У меня не было с собой ни ночной рубашки, ни смены нижнего белья. Боже мой, не было даже зубной щетки! Банк будет закрыт до утра понедельника — значит, ждать еще больше суток. Я сидела и плакала, чувствуя себя старой, забытой и никому ненужной. Мне хотелось вернуться домой, забраться в свою кровать и чтобы утром мистер Торн, как всегда, принес кофе с бриошами. Но возвращаться было некуда. Мои рыдания скорее походили на плач покинутого ребенка. Потом, все еще закутанная в полотенца, я улеглась набок, укрылась одеялом и заснула.* * *
Проснулась я лишь после полудня, когда в номер пыталась войти горничная. Потом прошла в ванную, попила воды, стараясь не смотреть на себя в зеркало, и вернулась в кровать. Толстые занавески не пропускали дневной свет в комнату, вентилятор тихонько урчал, и я снова прибегнула к спасительной силе сна, как раненое животное возвращается в свое убежище. Никаких сновидений не было. Вечером я встала, все еще пошатываясь и чувствуя боль во всем теле еще сильнее, чем до этого, и попыталась привести себя в порядок. Платье никуда не годилось, придется не снимать плащ. Волосы тоже требовали ухода. Но при всем при этом, моя кожа ожила, плоть под подбородком сделалась более упругой, а морщинки, наложенные резцом времени, разгладились. Я ощущала себя гораздо моложе, чем прежде. Несмотря на весь ужас вчерашнего дня, Подпитка сослужила мне хорошую службу. За бесконечно тянувшейся автостоянкой находился ресторан. Совершенно бесчеловечное место — освещение, как в операционной, на столике клеенка в красную клетку, все еще влажная после того, как помощник официанта провел по ней своей невообразимо грязной губкой, и огромные, завернутые в пластик меню с цветными фотографиями «специальных блюд» этого заведения. Я подумала, что фотографии, наверно, предназначены для неграмотных посетителей, неспособных расшифровать цветистые описания «восхитительной, хрустящей домашней поджарки» или «самого любимого блюда южан на все времена — мамалыги с овсянкой, как его делала бабушка». Меню было невозможно читать из-за этих бесчисленных отступлений и восторженных восклицаний, снабженных неграмотными комментариями. Как странно: одно поколение пробавляется паршивой, всем надоевшей пищей — только потому, что люди эти слишком бедны или слишком невежественны, чтобы вкусно питаться; для следующего же поколения эти блюда становятся традиционной едой «для души». Я заказала чай с горячей английской булочкой и ждала целых полчаса, когда мне ее принесут, все это время страдая от ругани и чавканья за соседним столом, где сидела огромная семья этих скотов северян. Не в первый раз я подумала, что нация была бы гораздо более здравомыслящей, если бы закон запрещал детям и взрослым питаться в одних и тех же заведениях. Когда я вернулась в мотель, было уже темно. От нечего делать я включила телевизор. За десять лет, что я не смотрела его, почти ничего не изменилось. На одном канале — безмозглые футбольные баталии. По «образовательному» каналурассказывали об эстетике борьбы сумо — гораздо подробнее, чем мне хотелось бы об этом знать. С третьей попытки я попала на телефильм, часто прерываемый рекламой, про компанию несовершеннолетних проституток и молодого общественника, который посвятил свою жизнь спасению героини, погрязшей во грехе. Эта идиотская картина напомнила мне скандальные бульварные газетки, популярные в дни моей молодости; и те и другие обличали возмутительные стороны порочного поведения, — но если тогда это была «свободная любовь», то теперь в средствах массовой информации это называли «детской порнухой», не стесняясь демонстрировать нам весь набор щекочущих нервы деталей. На последнем канале шли местные новости. Молодая цветная женщина, все время улыбаясь, рассказывала про «убийства в Чарлстоне», как это было названо: полиция занята поисками подозреваемых и мотивов преступления; свидетели описывают массовую сцену резни в хорошо известном отеле «Мансарда»; полиция штата и ФБР интересуются местонахождением мисс Фуллер, много лет проживавшей в Чарлстоне. Один из убитых являлся ее слугой. Фотографий этой леди нет. Весь рассказ длился меньше сорока пяти секунд. Я выключила телевизор, погасила свет и лежала, дрожа в темноте. «успокойся, — приказала я себе, через сорок восемь часов ты будешь на своей вилле на юге Франции, в тепле и безопасности». Закрыв глаза, попыталась представить себе маленькие белые цветы, растущие там между плитами дорожки, ведущей к колодцу. На секунду мне показалось, что я улавливаю соленый запах моря, который всегда усиливался после каждого налетевшего с юга шторма. Представила черепичные крыши близлежащей деревни, красные и оранжевые, возвышающиеся над зелеными прямоугольниками плодовых садов, разбитых в долине. Но на эти приятные образы вдруг наложилось воспоминание о Нине: голубые глаза, широко распахнутые в изумлении, приоткрытый рот, дырочка во лбу — ничего ужасного, просто пятно, которое она вот-вот сотрет движением своих длинных пальцев с прекрасным маникюром. Потом, когда я уже совсем засыпала, я увидела кровь — она хлестала не только из раны, но и изо рта Нины, из ее носа и из широко раскрытых, укоряющих глаз. Я подтянула одеяло к самому подбородку и постаралась ни о чем не думать. Мне обязательно нужна была сумочка. Если я поеду в банк на такси, у меня не останется денег на сумочку. Но и в банк приехать без сумки я не могла. Снова пересчитала наличность в бумажнике — даже вместе с мелочью денег было явно недостаточно. В нерешительности стояла я там, в номере мотеля, а на стоянке уже нетерпеливо гудело вызванное мною такси. Проблему мне пришлось решить так: я велела таксисту остановиться по дороге у магазина уцененных товаров и купила за семь долларов совершенно ужасную соломенную корзинку. Поездка на такси, включая остановку для покупки этого сокровища, обошлась мне в тринадцать долларов. Я дала доллар водителю на чай и оставила себе последний доллар — вроде как на счастье. Вероятно, вид у меня был ужасный, когда я вот так стояла и ждала часа открытия банка. Прическе моей уже ничто не могло помочь. На лице не было никакой косметики. Наглухо застегнула я свой светло-коричневый плащ, все еще припахивающий порохом. Правая рука крепко сжимала новую соломенную сумку. Оставалось лишь натянуть кроссовки, и я превратилась бы в вылитую «даму с кошелкой» — так их, кажется, теперь называют. Тут я вспомнила, что на мне все еще прогулочные туфли на низком каблуке, а они и впрямь похожи на кроссовки. Это было невероятно, но помощник управляющего банком узнал меня и, казалось, пришел в восторг, увидев меня снова. — А-а, миссис Строн, — приветствовал он, когда я робко приблизилась к его столу. — Рад снова вас видеть. Я была изумлена. Прошло почти два года после моего последнего посещения этого банка. Денег у меня на счету было не столь много, чтобы со мной так любезно беседовал сам помощник управляющего. На несколько секунд я ударилась в панику, будучи уверенной, что полиция меня вычислила и устроила мне здесь ловушку. Я поглядела на редких посетителей и служащих, пытаясь определить, кто из них полицейские в штатском, но этот помощник был спокоен, со своей любезной улыбкой, и я облегченно вздохнула. Просто мне попался человек, гордящийся своей способностью запоминать имена клиентов, ничего больше. — Давно вас не было видно, — приветливо сказал он, бросив быстрый взгляд на мой костюм, если его можно было так назвать. — Два года, — уточнила я. — Как ваш муж? Здоров? Мой муж? Я отчаянно пыталась вспомнить, что я им тут рассказывала во время предыдущих посещений. Но я ведь никогда ничего не говорила!.. Вдруг поняла, что он имеет в виду того высокого лысого джентльмена, который всегда молча сопровождал меня во время этих визитов. — А-а, — потянула я, — вы, наверное, говорите про мистера Торна, моего секретаря. Боюсь, он у меня уже не служит. А мистер Строн, тот умер еще в пятьдесят шестом году. От рака. — Весьма сожалею. — Цветущее лицо помощника управляющего еще больше раскраснелось. Я кивнула, и мы несколько секунд помолчали — наверно, в память о мифическом мистере Строне. — Так что я смогу сегодня для вас сделать, миссис Строн? Надеюсь, вы хотите увеличить сумму вклада. — Боюсь, нет. Мне нужны деньги, — сказала я. — Но сначала мне необходимо взглянуть на свою ячейку в сейфе. Я подала ему нужную карточку, стараясь не перепутать ее с карточками из полудюжины других банков, которые я так долго носила в бумажнике. Мы торжественно проделали церемонию с двумя ключами. Затем я осталась одна в небольшой комнате, похожей на исповедальню, и подняла крышку, под которой хранилась моя новая жизнь. Паспорт, выписанный четыре года назад, был все еще действителен. Это был паспорт особого выпуска, по поводу двухсотлетия Дня Независимости, с красно-голубым фоном; джентльмен на почте в Атланте тогда еще сказал мне, как сейчас помню, что когда-нибудь они будут много стоить. Наличные деньги, двенадцать тысяч долларов купюрами разного достоинства, тоже имели право на существование. Пачки были тяжелые. Я затолкала их в раздувшуюся кошелку, моля Бога, чтобы дешевая солома выдержала. Облигации и сертификаты акций на имя миссис Строи мне не требовались, но они хорошо прикрывали тяжелые пачки денег. Я не стала брать ключи от своего «форда». Мне вовсе не хотелось заниматься этими скучными делами — забирать автомобиль из гаража, где он находился, и прочее; к тому же могут возникнуть проблемы, если его найдут на стоянке аэропорта. Последнее, что там хранилось, — крошечная «беретта», пистолет для мистера Торна, если бы обстоятельства потребовали, чтобы он им пользовался, но там, куда я отправлялась, он мне вряд ли понадобится. Я вернула ящик в ячейку с той же похоронной торжественностью, что и в предыдущем ритуале, затем стала в очередь к кассиру. — Вы хотите забрать все десять тысяч? — спросила девушка за перегородкой, жуя резинку. — Да. Я ведь там написала. — Значит, вы закрываете свой счет? — Именно это и значит. — Можно было только диву даваться, как годы обучения уходят на то, чтобы в конце концов выдать вот такой образчик компетентности. Девушка глянула в ту сторону, где стоял помощник управляющего. Сложил руки на животе, словно платный плакальщик на похоронах. Тот коротко кивнул, и девушка быстрее задвигала челюстями, гоняя жевательную резинку. — Хорошо, мэм. Как вы хотите их получить? У меня был соблазн сказать: «Перуанскими копейками» — Дорожными чеками, пожалуйста, — улыбнулась я. — Тысячу долларов чеками по пятьдесят долларов. Тысячу, — по сто долларов. Остальные по пятьсот. — За это надо платить. — Девица слегка нахмурилась, словно эта перспектива могла заставить меня передумать. — Прекрасно, милочка, — согласилась я. Утро раннее, я тоже чувствовала себя ранней пташкой, совсем юной. На юге Франции будет прохладно, зато воздух густой, как топленое масло. — Можешь не торопиться, детка. Мне торопиться некуда. Отель «Атланта Шератон» размещался в двух кварталах от банка. Я сняла там номер, воспользовавшись вместо кредитной карточки пятисотдолларовым дорожным чеком, а сдачу положила в бумажник. Номер был не такой плебейский, как в том мотеле с цифрой в названии, но такой же стерильный. Из номера я позвонила в туристическое агентство в центре города. Молодая особа несколько минут лазила по компьютеру, потом сообщила, что у меня есть выбор: вылететь сегодня в шесть из Атланты рейсом ТВА, сорок минут подождать в Хитроу и дальше лететь в Париж либо лететь прямо в Париж десятичасовым рейсом Пан Америкэн. В обоих случаях я успевала на вечерний рейс из Парижа в Марсель. Она посоветовала лететь более поздним рейсом, ибо так дешевле. Но я предпочла более ранний рейс — и первым классом. Недалеко от отеля располагались три респектабельных универсальных магазина. Я позвонила во все три и выбрала тот, где их меньше всего шокировала мысль доставить покупки в отель клиента. Затем вызвала такси и поехала в магазин. Там я купила восемь платьев от Альберта Нипона; четыре юбки — одна из них оказалась восхитительной шерстяной юбкой от Кардена; полный набор чемоданов и сумок от Гуччи; два костюма от Эван-Пикон, один из которых всего несколько дней назад показался бы мне неподходящим для моего возраста; достаточное количество нижнего белья, две сумочки, три ночные рубашки, удобный синий халат, пять пар обуви, включая пару черных туфель-лодочек на высоком каблуке от Балли, полдюжины шерстяных свитеров, две шляпы — одна из них соломенная, с широкими полями, довольно хорошо подошла к моей семидолларовой корзине; дюжину блузок, принадлежности туалета, флакон духов от Жана Патона — с претензией на то, чтобы быть «самыми дорогими духами в мире», что вполне могло оказаться правдой; цифровой будильник и калькулятор всего за девятнадцать долларов; косметику, капроновые чулки (не эти ужасно неудобные колготки, а настоящие капроновые чулки), полдюжины бестселлеров в мягких обложках в книжном отделе, путеводитель по Франции, вместительный бумажник, несколько разных шоколадок, английских бисквитов и небольшой металлический сундучок. Потом, пока продавец побежал искать кого-нибудь, чтобы доставить покупки в отель, я зашла в соседний салон красоты — надо было привести себя в полный порядок. Позже, посвежевшая, даже немного расслабленная, одетая в удобную юбку и белую блузку, чувствуя, как кожу, особенно на голове, все еще покалывает, словно иголочками, я вернулась в «Шератон». Заказала в номер кофе, сэндвич с холодным ростбифом и с дижонской горчицей, картофельный салат, ванильное мороженое и дала юноше-коридорному, который принес все это, пять долларов на чай. В полдень по телевизору передавали программу новостей, но больше ничего о событиях в Чарлстоне сказано не было. Я пошла в ванную и долго нежилась в горячей воде. Лететь я решила в темно-синем костюме. Потом, все еще в комбинации, я принялась упаковывать вещи. В небольшую сумку, которую можно брать с собой в самолет, я уложила смену одежды, ночную рубашку, принадлежности туалета, кое-что из еды, две книжки и большую часть наличных денег. Мне пришлось послать коридорного за ножницами, чтобы срезать ярлыки и перерезать шпагат. К двум часам все было за кончено, хотя небольшой сундучок оказался заполненным лишь наполовину. Пришлось затолкать туда одеяло, которое я нашла в шкафу, чтобы в сундучке ничего не болталось. Я прилегла на кровать — еще оставалось время поспать. В четыре пятнадцать лимузин должен был отвезти меня в аэропорт. Мне нравилось смотреть на бегущие черные цифры на серой поверхности экрана моего нового дорожного будильника. Я представления не имела, как работает эта штуковина. Мне вообще многое было непонятно в этой последней четверти двадцатого века, но это не имело значения. Заснула я с улыбкой на устах.* * *
Аэропорт Атланты походил на все крупные аэропорты, в которых я бывала, — а бывала я почти во всех. Мне очень не хватало великолепных железнодорожных вокзалов прошлых лет: мраморного благородства Большого Центрального в его лучшие годы; открытого небу великолепия довоенного вокзала в Берлине и даже безвкусно-пышной архитектуры и крестьянского хаоса Виктории-стейшн в Бомбее. Аэропорт в Атланте был воплощением современных средств передвижения, где понятие класса отсутствует: бесконечные вымощенные променады, сиденья из пластика, ряды видеомониторов, немо отмечающие прибытие и отправление рейсов. По коридорам бегали бизнесмены и семейные толпы в пастельных тряпках, потные, громко кричащие. Все это не имело значения. Через двадцать минут я буду свободна. Я сдала все вещи в багаж, кроме ридикюля и сумки с самым необходимым. Служащий авиалинии провез меня через весь зал на небольшом электрокаре. Сказать по правде, артрит действительно беспокоил меня, а ноги страшно болели после перенесенной нагрузки. Меня снова зарегистрировали у стойки отправления, предупредив, что в моем отделении первого класса курить запрещается. Я села, пережидая эти последние минуты до посадки. — Мисс Фуллер. Мисс Мелани Фуллер! Пожалуйста, возьмите ближайший белый телефон. Я вздрогнула всем телом и застыла, напряженно вслушиваясь. Громкоговоритель все это время беспрерывно болтал, прося кого-то позвонить по телефону, угрожая, что такие-то автомобили, оставленные в зоне посадки, будут оштрафованы и отбуксированы, отказывался нести ответственность за религиозных фанатиков, бродящих по аэровокзалу, как стая шакалов, вооруженных брошюрами. Конечно, это ошибка! Если бы мое имя действительно называли, я бы услышала его раньше. Выпрямившись, еле дыша, я слушала, как бесполый голос читает, словно молитву, имена людей, которых просят куда-то позвонить. Я немного успокоилась, когда услышала, что вызывают некую мисс Рене Фаулер. Естественная ошибка. Мои нервы были напряжены уже несколько дней и даже недель. С ранней осени я все думала о нашей Встрече. — Мисс Фуллер. Мисс Мелани Фуллер! Пожалуйста, возьмите ближайший белый телефон, — повторил голос. Сердце мое на секунду остановилось. Я чувствовала, как болезненно сжались мышцы в груди. «Это ошибка. Такое распространенное имя. Конечно, я что-то не так поняла...» — Мисс Строи. Мисс Беатриса Строн! Пожалуйста, возьмите ближайший белый телефон... Мистер Бергстром. Харольд Бергстром... Я почувствовала, с тошнотворной уверенностью, что вот сейчас упаду в обморок, прямо здесь, в зале ожидания пассажиров, отлетающих за океан рейсом TWA. Перед глазами заплясали мириады крошечных точек, поплыли красно-голубые стены зала. Шатаясь, я поднялась с сиденья и пошла, крепко прижимая к себе ридикюль, соломенную кошелку и сумку. Мимо пронесся мужчина в синем блейзере, с пластиковой биркой с именем. Я схватила его за руку. — Где это? Он тупо уставился на меня. — Белый телефон, — прошипела я. — Где он? Он ткнул пальцем в сторону ближайшей стены. Я подошла к аппарату и с минуту — или целую вечность — не могла заставить себя поднять руку и взять трубку, словно это была гадюка. Затем все же подняла ее и хрипло прошептала свое новое имя. Незнакомый голос в трубке сказал: — Мисс Строн? Одну минуту. Тут вас спрашивают. Я не шевелилась, пока в трубке раздавались какие-то щелчки: соединяли с нужным номером. Когда наконец я услышала голос, он звучал, как глухое эхо в пустоте, словно говорили из тоннеля или из голой комнаты. Или из могилы. Я очень хорошо знала этот голос. — Мелани? Мелани, дорогая, это Нина... Мелани? Мелани, дорогая, это Нина... Я уронила трубку и шагнула назад. Шум и суета вокруг меня отдалились, остался только какой-то еле слышный, ничего не значащий гул. Казалось, я смотрела сквозь длинный тоннель на крохотные фигурки, мелькающие туда-сюда. Охваченная внезапной паникой, я повернулась и побежала по залу, забыв свою сумку, забыв про деньги в сумке, про рейс и вообще про все, кроме этого голоса из преисподней, который все еще звучал у меня в ушах, словно крик в ночи. Я уже приближалась к выходу из аэровокзала, когда ко мне бросился служащий в красном головном уборе. Не думая ни о чем, я просто взглянула на торопящегося ко мне негра, и он рухнул на пол. Вряд ли я когда-либо раньше использовала кого-то так быстро и так свирепо. Негр забился в тяжелом припадке, голова его снова и снова билась о плитки пола. Люди бросились к нему, а я выскользнула через автоматически открывающиеся двери. Стоя у края тротуара, я тщетно пыталась унять охватившую меня панику. Казалось, каждое из проходивших мимо лиц вот-вот обернется бледной, улыбающейся маской смерти — я ждала этого ежесекундно. Оглядываясь по сторонам, я прижимала к груди ридикюль и соломенную кошелку, — жалкая старая женщина на грани истерики. «Мелани? Дорогая, это Нина...» — Такси, мадам? Я повернулась и увидела, что рядом со мной остановилось зеленое с белым такси, а я даже не заметила. За ним стояли еще несколько, на специальной полосе для такси. Водитель был белый, лет тридцати с небольшим, гладко выбритый, но с прозрачной кожей, — того типа, сквозь которую видна щетина завтрашнего дня. — Такси? Я кивнула и схватилась за ручку дверцы. Водитель потянулся и открыл ее. Внутри пахло табачным дымом, потом и винилом. Мы двинулись вниз по дуге выезда, а я повернулась и выглянула в заднее окно. Сказать, преследует ли нас кто-нибудь, было невозможно из-за слишком плотного потока машин. — Я говорю, куда едем? — крикнул водитель. Я моргнула. В голове было пусто. — В центр? — спросил он. — К отелю? — Да. — Было такое впечатление, что я не говорю на этом языке. — К какому отелю? За левым глазом у меня вдруг вспыхнула слепящая боль. Я почувствовала, как она перетекает из мозга к шее, а потом заполняет все тело, словно жидкое пламя. С секунду я не могла дышать. Просто сидела, сжимая ридикюль и соломенную корзинку, и ждала, пока боль утихнет. — ..или как? — спросил водитель. — Извините? — Голос мой звучал, словно шелест мертвых стеблей кукурузы на сухом ветру. — Мне как, выбираться на скоростное шоссе? — "Шератон". — Слово прозвучало для меня полной бессмыслицей. Боль начала уходить, но к горлу подступила тошнота. — В центре или в аэропорту? — В центре. — Я совершенно не понимала, о чем идет речь. — Понял. Я откинулась на холодный винил. Полосы света пересекали зловонную внутренность такси через равные промежутки времени, создавая гипнотический эффект. Я сосредоточилась на том, чтобы выровнять дыхание. Шорох шин, катящихся по мокрому асфальту, медленно пробивался сквозь гул в ушах. «Мелани, дорогая...» — Как тебя зовут? — прошептала я. — А? — Как тебя зовут? — резко повторила я. — Стив Лентон. Вот тут написано. А что? — Где ты живешь? — А зачем? Мне это надоело. Я нажала. Несмотря на головную боль и подступающую тошноту, нажала крепко — от толчка он на несколько секунд скорчился за рулем, затем я велела ему выпрямиться и снова смотреть на дорогу. — Где ты живешь? Картинки, образы, женщина со светлыми редкими волосами перед гаражом. Говори. — Бьюла-Хайтс. — Голос водителя звучал глухо, монотонно. — Далеко отсюда? — Пятнадцать минут. — Ты живешь один? Печаль. Чувство потери. Ревность. Исполненный болью образ блондинки с сопливым ребенком на руках, громкий злой голос, красное платье удаляется по тротуару. В последний раз мелькает ее машина. Жалость к себе. Слова из песни в стиле «кантри», соответствующие ситуации. — Едем туда, — сказала я. Наверно, я действительно сказала это. Закрыв глаза, я слушала, как шуршат шины по мокрому асфальту. Дом таксиста был погружен в темноту. Он походил на все остальные жалкие маленькие домишки в этом районе, которые мы проехали: оштукатуренные стены, одно большое окно, выходящее на крохотный прямоугольник сада, гараж размером с весь остальной дом. Никто на нас не смотрел, когда мы подъезжали. Водитель открыл двери гаража, и мы въехали внутрь. Там стоял «Бьюик» новой модели, темно-синий или черный, трудно было сказать при таком плохом освещении. Я заставила его выкатить «Бьюик» на дорожку перед гаражом, а потом вернуться. Мотор такси по-прежнему работал. Водитель закрыл дверь гаража. — Покажи мне дом, — тихо попросила я. В доме было все так, как я и предполагала, и оттого еще тоскливее. В раковине лежали грязные тарелки, по полу в спальне разбросаны носки и белье, везде валялись газеты, а со стен на это безобразие смотрели дешевые фотографии детей с глазами лани. — Где твой пистолет? — спросила я. Мне не было нужды прощупывать его мозг, чтобы выяснить, есть ли у него оружие. В конце концов, это юг. Таксист повел меня вниз по лестнице, в плохо освещенную мастерскую. На голых шлакоблочных стенах висели старые календари с фотографиями обнаженных женщин. Мужчина мотнул головой в сторону дешевого металлического шкафчика, где у него хранились дробовик, охотничий карабин и два пистолета. Пистолеты были завернуты в промасленные тряпки. Один из них оказался длинноствольным тренировочным пистолетом небольшого калибра и притом неавтоматическим. Другой — более знакомое мне оружие: револьвер тридцать восьмого калибра со стволом сантиметров восемнадцать длиной, немного похожий на антикварный револьвер Чарлза, Я уложила в кошелку револьвер, три пачки патронов, и мы вернулись на кухню. Он принес ключи от «Бьюика», и мы присели вдвоем за стол, пока я сочиняла записку, которую он должен был оставить. Записка получилась не очень оригинальная. Одиночество. Угрызения совести. Невозможность жить дальше так. Власти могли заметить исчезновение револьвера, и уж конечно, они будут искать машину, но убедительность записки и выбор способа должны снять подозрения, что здесь что-то не так. Во всяком случае, я на это надеялась. Водитель вернулся в свое такси. Дверь из кухни в гараж осталась открытой всего на несколько секунд, но и этого хватило, чтобы глаза мои заслезились от выхлопных газов. Когда я в последний раз мельком глянула на таксиста, он сидел в машине, выпрямившись, руки его крепко держали руль, а глаза смотрели прямо перед собой, за горизонт невидимого шоссе. Я закрыла дверь. Надо было сразу уходить, но мне пришлось на секунду присесть. Руки мои дрожали, в правой ноге что-то пульсировало, уколы артритной боли доставали до бедра. Я судорожно схватилась за пластиковую крышку стола и закрыла глаза. «Мелани? Дорогая, это Нина...» Спутать этот голос с чьим-то другим было невозможно. Одно из двух: либо Нина все еще преследует меня, либо я лишилась рассудка. Дырочка у нее во лбу была величиной с десятицентовую монету, идеально круглая. И не было никакой крови. Я порылась в кухонных шкафчиках — нет ли там вина или бренди. Нашла только полбутылки виски — «Джек Дэниэлс». Взяла чистый стакан и выпила немного. Виски обожгло горло и желудок, но руки мои почти не дрожали, когда я аккуратно вымыла стакан и поставила его на место. Секунду я размышляла — не вернуться ли мне в аэропорт, но тут же отбросила эту идею. Мой багаж уже летел в Париж. Я могла его догнать, если бы села на более поздний рейс «Пан Америкэн», но сама мысль о том, что придется лететь в самолете, заставила меня содрогнуться. Я живо представила себе все это: Вилли спокойно сидит, разговаривает с кем-то из своих спутников. И вдруг — взрыв, вопли и долгое падение сквозь тьму в забвение. Нет, после этого я больше решительно не собираюсь летать. Сквозь дверь из гаража доносился звук работающего мотора — глухое безостановочное биение. Я здесь не более получаса; пора уходить. Убедившись, что вокруг никого нет, я закрыла за собой входную дверь. Замок щелкнул, и в этом звуке было нечто законченное. Я села за руль «Бьюика»; отсюда работающего мотора такси было почти не слышно. Я пережила несколько панических секунд, когда мне показалось, что ни один из ключей не подходит, но потом я попробовала снова, на этот раз без спешки, и мотор сразу завелся. Еще с минуту повозившись, я подвинула сиденье вперед, поправила зеркальце заднего вида, нашла выключатель освещения. Мне уже много лет не приходилось самой водить машину. Сдав чуть назад по подъездной дорожке, я медленно поехала по извилистым улицам жилого района. Только сейчас мне пришло в голову, что у меня нет пункта назначения, нет никаких альтернативных планов. Я была нацелена лишь на виллу близ Тулона и на свое новое воплощение, ожидавшее меня там. Личность Беатрис Строн являлась вещью временной, так, инкогнито на время путешествия. Я вздрогнула, вспомнив, что двенадцать тысяч долларов наличными остались в той сумке, брошенной в аэропорту у телефона. У меня все еще было больше девяти тысяч долларов туристскими чеками в ридикюле и соломенной кошелке, вместе с паспортом и разными карточками, но синий костюм, что на мне, — это все, что осталось у меня из одежды. Горло мое сжалось при воспоминании о чудных покупках, сделанных утром. Все это улетело с багажом... Глаза мои чуть не обожгло слезами, но я встряхнула головой и поехала — загорелся зеленый, и какой-то кретин позади нетерпеливо загудел. Мне как-то удалось разыскать кольцо, которое делала здесь федеральная дорога, и я поехала по ней на север. Увидев зеленый знак поворота на аэропорт, я немного притормозила. Моя сумка, вполне вероятно, все еще стоит там, рядом с телефоном. Я легко могла улететь другим рейсом. Но я проехала знак, не останавливаясь. Ничто на свете не смогло бы теперь заставить меня ступить в тот хорошо освещенный мавзолей, где меня ждал голос Нины. Меня пробрала дрожь, когда перед глазами возникло непрошеное видение: картина зала ожидания для отлетающих пассажиров, где я была всего два часа назад — или вечность? Там в чопорной позе сидела Нина, все еще в своем элегантном розовом платье, в котором я видела ее в последний раз; руки сложены на сумочке, лежавшей на коленях, во лбу — дырочка с десятицентовую монету и все увеличивающийся синяк; она широко улыбалась, показывая белые зубы, сточенные до игольной остроты. Нина собиралась сесть в самолет. Она ждала меня. Я все время поглядывала в зеркальце, переходила с полосы на полосу, дважды съезжала с шоссе и тут же возвращалась обратно с противоположной стороны. Невозможно было сказать с уверенностью, преследует меня кто-нибудь или нет, но я решила: скорее всего, нет, фары встречных машин слепили глаза. Руки снова стали дрожать. Я слегка приоткрыла окно, и холодный ветер царапнул меня по щеке. Я пожалела, что не взяла ту бутылку виски. На дорожном знаке мелькнула надпись: 1-85, Север, Шарлотт, Северная Каролина. Я терпеть не могла север, отрывистую речь янки, блеклые города, резкий холод и дни без солнца. Человек, хорошо знавший меня, знает также, что я ненавижу северные штаты, особенно зимой, и постараюсь игнорировать их, если только это будет возможно. Вместе с потоком автомобилей я въехала на «клеверный лист» на выезде из города. На знаке поперек дороги виднелась люминесцентная надпись: ШАРЛОТТ, Северная Каролина, 240 миль; ДАРЕМ, Северная Каролина, 337 миль; РИЧМОНД, Виргиния, 540 миль; ВАШИНГТОН, Округ Колумбия, 650 миль. Изо всех сил вцепившись в руль, пытаясь не отставать от остальных машин, летящих с сумасшедшей скоростью, я помчалась в ночь, на север.* * *
— Эй, миссис! Мгновенно проснувшись, я непонимающе уставилась в некое видение всего в нескольких дюймах от своего лица. Яркий солнечный свет падал на длинные жидкие волосы, наполовину закрывавшие лицо, больше похожее на морду какого-то грызуна. У видения были крохотные бегающие глазки, длинный нос, грязная кожа и тонкие обветренные губы. Оно выдавило улыбку, и я на мгновение увидела острые желтые зубы. Один передний зуб был сломан. Мальчишке лет семнадцать, не больше. — Эй, миссис, вы не в мою сторону едете? Я выпрямилась на сиденье и тряхнула головой. От солнечного света позднего утра в машине было тепло. Я оглянулась вокруг, поначалу не понимая, почему это я сплю в машине, а не дома, в своей кровати. Потом вспомнила эту бесконечную ночь, проведенную за рулем, и жуткий груз усталости, которая в конце концов заставила меня свернуть на площадку для отдыха. Сколько я проехала? Смутно вспомнилось, что незадолго до того, как остановиться, я проехала знак поворота на Гринсборо, штат Северная Каролина. — Миссис? — Это существо постучало в окно машины костяшками пальцев с грязными ногтями. Я нажала на кнопку, чтобы опустить окно, но ничего не произошло. На секунду меня охватило острое чувство клаустрофобии, но тут я догадалась включить зажигание, Все в этом нелепом автомобиле, оказывается, работало на электричестве. Судя по индикатору, бак был почти полон. Я вспомнила, что несколько раз за ночь останавливалась, потом ехала дальше, прежде чем нашла заправочную станцию, где не было сплошного самообслуживания. Что бы ни случилось, я не собиралась опускаться до того, чтобы самой качать бензин. Окно с тихим гудением опустилось. — Подвезете меня, миссис? — Голос мальчишки, эдакое гнусавое нытье, был таким же отвратительным, как и весь его вид. На нем была грязная военная куртка, а из багажа — небольшой рюкзачок и скатка одеял. За его спиной по федеральному шоссе катили автомобили, на ветровых стеклах поблескивали солнечные лучи. Я вдруг снова почувствовала себя свободной, словно удрала из школы с уроков. Парень шмыгнул носом и утерся рукавом. — Далеко вы направляетесь? — спросила я. — На север... — Мальчишка пожал плечами. Я не в первый раз изумилась тому, как можно было вырастить целое поколение людей, неспособных ответить на самый простой вопрос. — Ваши родители знают, что вы путешествуете по дорогам? Он снова пожал плечами, точнее, одним плечом, словно на большее у него не хватило энергии. Я сразу поняла, что мальчишка определенно убежал из дому, он, скорее всего, воришка и, очень возможно, опасен для любого, кто сделает глупость и возьмет его к себе в машину. — Садитесь. — Я нажала кнопку, отпирающую дверь справа от водителя.* * *
В Дареме мы остановились, чтобы позавтракать. Мальчишка некоторое время хмуро рассматривал картинки в меню, напечатанном на пластике, потом искоса глянул на меня. — Я не могу... То есть у меня нет денег, чтобы заплатить. У дяди много, он мне даст, а пока вот... — Ничего, — усмехнулась я. — Я угощаю. Он ехал к своему дяде в Вашингтон; так, по крайней мере, мы оба предположительно считали. Я еще раз попыталась уточнить, куда же он направляется, он бросил на меня свой косой взгляд, так похожий на взгляд грызуна, и спросил: — А вы куда едете? Я ответила, что мой пункт назначения — Вашингтон, и тогда он подарил мне еще одну свою мимолетную улыбку, точнее, коротко показал желтые от никотина зубы: — Вот-вот, там мой дядька живет. Туда я и еду. К дяде. В Вашингтон. Вот... Теперь этот молодой человек пробурчал свой заказ официантке и, поигрывая вилкой, сгорбился над столом. Как и в случае со многими другими молодыми людьми в эти дни, мне трудно было предположить — то ли он действительно умственно отсталый, то ли просто до жалости плохо воспитан и образован. Мне кажется, люди моложе тридцати сейчас неизбежно попадают либо в одну, либо в другую из этих категорий. Я сделала глоток кофе и спросила: — Вы говорите, вас зовут Винсент? — Ага. Мальчишка опустил физиономию к чашке, как лошадь на водопое. При этом издаваемый им звук напоминал то же самое. — Приятное имя Винсент. А дальше как? — А? — Как ваша фамилия, Винсент? Мальчишка снова нагнулся над чашкой, чтобы выиграть время и подумать. Быстро, как зверек, он глянул на меня. — М-м... Винсент Пирс. Я кивнула. Он чуть было не сказал Винсент Прайс. В конце шестидесятых я как-то познакомилась с Прайсом на аукционе предметов искусства в Мадриде. Он был очень мягким и по-настоящему интеллигентным человеком; его большие ухоженные руки постоянно находились в движении. Мы говорили об искусстве, кулинарии, испанской культуре. В то время Прайс покупал предметы оригинального искусства для какой-то чудовищной американской компании. Мне он показался восхитительным. И только много лет спустя я узнала о его ролях в этих мерзких фильмах ужасов. Возможно, они с Вилли какое-то время работали вместе. — И вы предполагаете добраться к своему дяде в Вашингтон автостопом? — Ну... — У вас сейчас, конечно, рождественские каникулы. Занятий в школе нет. — Ну... — В каком же районе Вашингтона живет ваш дядя? Винсент сгорбился над чашкой. Его волосы свисали, как засаленная гирлянда. Каждые несколько секунд он лениво поднимал руку и отбрасывал прядь волос с лица. Жест повторялся бесконечно, как тик, и просто бесил меня. Я наблюдала этого бродягу меньше часа, а его манеры уже выводили меня из себя. — Возможно, в пригороде? — подсказала я — Ага. — В каком именно, Винсент? Вокруг Вашингтона довольно много пригородов. Возможно, мы будем проезжать то место, где живет дядя, и я подвезу вас к дому. Он, наверно, живет в дорогом районе? — Ну. Мой дядя... у него полно бабок. У нас вся семья такая. Ага... Я невольно взглянула на его вонючую армейскую куртку — под ней виднелась драная футболка. Перепачканные джинсы в нескольких местах протерлись до дыр. Понимаю, конечно, что в наши дни одежда ничего не значит. Винсент с его гардеробом вполне мог оказаться внуком миллиардера вроде Дж. Пола Гетти. Я вспомнила великолепно отутюженные шелковые костюмы, которые носил мой Чарлз. Вспомнила, как тщательно подбирал подходящую к случаю одежду Роджер Харрисон: плащ и дорожный костюм даже для самых коротких поездок, бриджи для верховой езды, черный галстук и фрак вечером. В том, что касается одежды, Америка определенно достигла вершины равенства всех со всеми. Для всей нации выбор в одежде ныне был сведен к наименьшему знаменателю — рваным грязным джинсам. — Чеви-Чейс? — спросила я. — А? — Винсент покосился на меня. — Я имею в виду пригород. Возможно, это Чеви-Чейс? Он мотнул головой. — Бетесда? Силвер-Спринг? Такома-Парк? Парень усиленно наморщил лоб, словно перебирая в уме все эти названия. Он уже хотел что-то сказать, когда я его перебила: — А-а, знаю. Если ваш дядя богат, он скорее всего живет в Бел-Эйр. Так? — Ага. Вот-вот. — Винсент облегченно вздохнул. — В этом... самом, Я кивнула. Мне принесли чай с тостами. Перед Винсентом поставили яичницу с колбасой, рубленое мясо, ветчину и вафли. Ели мы молча; тишину нарушали лишь чавканье и сопенье хиппи.* * *
За Даремом шоссе 1-85 снова повернуло прямо на север. Через час с небольшим мы пересекли границу Виргинии. Когда я была маленькой, наша семья часто ездила в Виргинию навестить друзей и родственников. Обычно мы путешествовали по железной дороге, но больше всего я любила плавать на небольшом, но комфортабельном пакетботе, который шел всю ночь, а утром причаливал в Ньюпорт-Ньюс. А теперь я вела «Бьюик», огромный, но со слабеньким мотором, и ехала на север по шоссе с четырехрядным движением, слушая по радио классическую музыку и слегка опустив стекло, чтобы как-то выгнать запах пота и засохшей мочи, исходивший от моего спящего пассажира. Мы проехали Ричмонд; Винсент проснулся далеко за полдень. Я спросила, не хочет ли он немного повести машину. От напряжения у меня болели руки и ноги, я пыталась не отставать от других машин, так как никто не соблюдал ограничения скорости — пятьдесят пять миль в час. Глаза мои тоже устали. — Что, в самом деле? Я кивнула. — Надеюсь, вы будете ехать осторожно. — Ага. Ну да... Я остановилась на площадке для отдыха, где мы смогли поменяться местами. Винсент ехал с постоянной скоростью — шестьдесят восемь миль в час, придерживая руль одной рукой. Глаза его были полуприкрыты, так что на секунду я испугалась — не заснул ли он. Но тут же напомнила себе, что современные автомобили настолько просты в управлении, что их могут водить даже шимпанзе. Я откинула сиденье назад, насколько было возможно, и закрыла глаза. — Разбудите меня, когда мы приедем в Арлингтон, хорошо, Винсент? Он что-то буркнул. Я положила сумочку между передними сиденьями, зная, что Винсент на нее посматривал. Когда я вытащила толстую пачку денег, расплачиваясь за завтрак, ему не удалось достаточно быстро отвести глаза. Конечно, я рисковала, собираясь подремать, но я очень устала. Какая-то вашингтонская радиостанция передавала концерт Баха. Ровный гул мотора, звуки органа и мягкий шорох пролетающих мимо машин усыпили меня меньше чем за минуту.* * *
Проснулась я от тишины. Машина стояла. Мотор не работал. Я проснулась мгновенно, словно вовсе не спала, готовая ко всему, — так просыпается хищник при приближении жертвы. «Бьюик» остановился на недостроенной площадке для отдыха. Судя по косым лучам зимнего солнца, я проспала около часа. Движение на шоссе стало интенсивнее, вероятно, мы были недалеко от Вашингтона. А вот нож в руке Винсента предвещал несколько более мрачные вещи. Он отвлекся от пересчитывания моих дорожных чеков и поднял глаза. Я безмятежно встретила его взгляд. — Ты сейчас подпишешь эти... — прошептал он. Я продолжала смотреть на него. — Ты перепишешь эти сучьи бумажки на меня, — прошипел мой пассажир. Волосы снова упали ему на глаза, и он резким движением откинул их. — Подпишешь. Сейчас. — Нет. От удивления его глаза широко раскрылись. Пена выступила на его тонких губах. Я думаю, он убил бы меня прямо тут, средь бела дня, хотя в двадцати метрах катил сплошной поток автомобилей, а спрятать тело старой дамы было совершенно негде, разве что в Потомаке, — но даже милый тупой Винсент соображал, что ему сначала нужна была моя подпись на чеках. — Послушай, ты, старая сука. — Он схватил меня за плечи и потряс, — ты сейчас подпишешь эти блядские чеки или я отрежу твой свинячий нос. Тебе ясно, ты, старуха? — Он поднес стальное лезвие прямо к моему лицу. Я глянула на эту немощную руку с грязными ногтями, вцепившуюся в мое платье, и вздохнула. На какую-то секунду я вспомнила, как когда-то вошла в свой гостиничный номер из нескольких комнат лет тридцать назад, в другой стране, в другом мире даже, и застала лысого, но статного джентльмена приятной наружности, во фраке, копошившегося в моем ларце с драгоценностями. Тот вор всего лишь иронично улыбнулся и коротко поклонился мне, когда я его застукала. Мне всегда будет не хватать этого изящества, легкости использования людей и неброской эффективности, которую невозможно заменить никаким воспитанием. — Давай, — прошипел этот грязный мальчишка, все еще держа меня за плечи и прижимая лезвие к моей щеке. — Ты, падла, сама просишь. — В глазах его появился наркотический блеск, и блеск этот был вовсе не от алчности — Да, — сказала я. Рука его замерла на полпути Несколько секунд он что-то пытался сделать — у него аж вены вздулись на лбу. Но тут лицо исказилось гримасой, глаза расширились, а рука с лезвием потянулась теперь к его собственному горлу и лицу. — Пора начинать, — тихо приказала я. Острое, как бритва, лезвие прошло между его тонкими губами. — Время пришло, — прошептала я. Лезвие скользнуло дальше, разрезая десны и язык, затем коснулось мягкого неба и обагрилось кровью. — Пора учиться. — Я улыбнулась, и мы начали первый урок.Глава 2
Вашингтон, округ Колумбия Суббота, 20 декабря 1980 г. Сол Ласки простоял без движения минут двадцать, глядя на девочку. Она тоже смотрела на него не мигая, так же неподвижно, словно время застыло. На ней была соломенная шляпка, слегка сдвинутая на затылок, и серый фартук поверх простого белого платья без пояса. Волосы у нее были светлые, глаза голубые. Руки она сложила перед собой, слегка вытянув их с неловкой детской грацией. Кто-то прошел между ним и картиной, и Сол отступил назад, потом подвинулся вбок, чтобы лучше видеть. Девочка в соломенной шляпке продолжала смотреть на пустое место, где он только что стоял. Сол не мог сказать, почему эта картина так трогала его; работы Мэри Кассат с размытыми пастельными контурами казались ему, в общем, слишком сентиментальными, но вот эта картина взволновала его до слез еще лет двадцать назад, когда он впервые пришел в Национальную галерею, и теперь он почти никогда не уезжал из Вашингтона, не совершив паломничества к «Девочке в соломенной шляпке». Иногда он думал, что пухлое лицо и задумчивый взгляд чем-то напоминали ему сестру Стефу, умершую от тифа во время войны, хотя волосы у Стефы были гораздо темнее, а глаза — вовсе не голубыми. Сол отвернулся от картины. Когда он приходил в музей, он обещал себе, что походит по другим новым отделам, проведет больше времени среди еще невиденных работ, но всякий раз слишком долго задерживался возле этой «Девочки». «Ну, в следующий раз», — подумал он. Был уже второй час, и к тому времени, когда Сол добрался до входа в ресторан галереи и остановился у двери, оглядывая зал, народ почти схлынул. Он сразу увидел Арона за небольшим столиком в углу, рядом с каким-то высоким растением в кадке. Сол помахал ему рукой и прошел через зал. — Здравствуй, дядя Сол. — Здравствуй, Арон. Племянник встал, и они обнялись. Широко улыбаясь, Сол взял молодого человека за плечи и оглядел его. Да, это был уже не мальчик. В марте Арону исполнится двадцать шесть. Но он оставался все таким же худым, и еще Сол отметил, что улыбается он, как и Давид, — утолки губ так же слегка загибались вверх. Темные же вьющиеся волосы и большие глаза за стеклами очков — это от Ребекки. Но было в нем что-то и от самого Арона — возможно, более темная кожа и высокие скулы, доставшиеся ему в наследство из-за того, что он — сабра, человек, родившийся в Израиле. Арону и его братишке-близнецу было тринадцать, а на вид и того меньше, когда началась Шестидневная война. Сол тогда прилетел в Тель-Авив, но опоздал на пять часов — уже незачем было идти на фронт, даже в качестве санитара, но он вдоволь наслушался от ребят, Арона и Исаака, историй о подвигах их старшего брата Авнера, капитана ВВС. И еще они в подробностях рассказывали о храбрости их двоюродного брата Хаима, который командовал батальоном на Голанских высотах. Два года спустя Авнер погиб, сбитый египетской ракетой во время войны на истощение, а потом, через год, в августе, погиб и Хаим — подорвался на израильской мине во время йом-киппурской войны. Арону было уже восемнадцать в то лето, но он имел слабое здоровье, мучился астмой с раннего детства. Его отец Давид одну за другой разрушал те хитрости, к которым Арон прибегал,чтобы попасть на войну. Арон решил, что любыми путями станет коммандос или десантником, как его братишка Исаак, но во все виды войск его забраковали из-за астмы и плохого зрения. Тогда он закончил колледж и поставил все на свою последнюю карту. Он пошел к отцу и попросил его использовать свои старые связи с секретной службой и найти ему в ней применение. В июне семьдесят четвертого он стал работником Моссада. Из него не стали готовить полевого агента, в распоряжении Моссада было слишком много бывших коммандос и других героев для этой трудной работы, чтобы взваливать ее на плечи хлипкого интеллектуала, который мог заболеть в любую минуту. Правда, Арон получил обычную подготовку по самозащите и обращению с оружием и даже научился неплохо стрелять из «беретты» двадцать второго калибра, популярной в то время в Моссаде, но по-настоящему он нашел себя в криптографии. Он проработал три года в Тель-Авиве в спецсвязи, еще год — в полевых условиях где-то на Синае, а затем его послали в Вашингтон, в группу, прикомандированную к израильскому посольству. Назначение было шикарное, и то, что он являлся сыном Давида Эшколя, наверное, сыграло свою роль. — Ну как ты, дядя Сол? — спросил Арон на иврите. — Неплохо, — ответил Сол и попросил: — Говори по-английски, пожалуйста. — Ладно. — В его английском не было и намека на акцент. — Как твой отец? Брат? — Лучше, чем в последнюю нашу встречу, — сказал Арон. — Врачи считают, что этим летом отцу удастся провести какое-то время на ферме. А Исаака уже произвели в полковники. — Прекрасно, прекрасно. — Сол глянул на три досье, которые его племянник положил на стол. Он все пытался найти способ вернуть события назад, сделать так, чтобы мальчик не оказался вовлеченным во все это, и в то же время получить информацию, которую удалось собрать Арону. Словно прочитав его мысли, Арон наклонился вперед и прошептал: — Дядя Сол, во что ты тут впутался? Сол удивленно заморгал. Шесть дней назад он позвонил Арону и попросил его раздобыть какую-либо информацию о Уильяме Бордене или разузнать, где находится Френсис Харрингтон. Конечно, он сделал глупость. Уже много лет Сол избегал обращаться за помощью к родственникам либо к их связям, но на этот раз исчезновение юного Харрингтона просто повергло его в смятение, он был просто в отчаянии: если он поедет в Чарлстон, он может пропустить что-то существенно важное, какую-то новую информацию о Бордене. Арон позвонил ему тогда по телефону, который не могли прослушивать, и спросил: «Дядя Сол, это насчет твоего немецкого полковника, да?» Ласки не стал отрицать этого. Все родственники знали о том, что Сол помешан на таинственном нацистском оберете, с которым сталкивался в лагерях во время войны. «Ты же знаешь, что Моссад ни за что не станет действовать в Соединенных Штатах, ведь так?» — добавил тогда Арон. Сол ничего не сказал, но его молчание было красноречивее слов. Он работал вместе с отцом Арона, когда «Иргун Звай Луми» и «Хаганах» были вне закона и очень активно скупали американское вооружение и целые оружейные заводы, по частям перевозили в Палестину, там собирали и пускали в действие, готовясь к тому моменту, когда арабские армии неизбежно перейдут границу нового сионистского государства. «Ладно, — вздохнул тогда Арон. — Я сделаю, что смогу». — О чем ты? — спросил он. — Просто я хотел разузнать побольше об этом Бордене. Френсис — мой бывший студент. Он полетел в Лос-Анджелес, чтобы выяснить кое-что о нем. Возможно, он собирал материал для развода, кто его знает? Френсис вовремя не вернулся, а мистер Борден, по-видимому, погиб в авиакатастрофе; и вот один мой знакомый спросил, не могу ли я помочь. Я вспомнил о тебе, Арон. — Ну да. — Арон некоторое время молча смотрел на своего дядю, наконец кивнул, вздыхая печально. Оглянувшись, нет ли кого-либо поблизости, кто мог бы их подслушать, он открыл первую папку. — В понедельник я полетел в Лос-Анджелес, — сообщил он тихо. — Куда? — Сол был потрясен. Он всего лишь хотел, чтобы его племянник позвонил кое-кому в Вашингтоне, воспользовался весьма совершенными компьютерами в израильском посольстве, особенно банками данных в офисе, где работали шесть агентов Моссада. Ну, может, смог бы заглянуть в секретное досье израильтян или американцев. Но он вовсе не думал, что Арон на следующий же день полетит на западное побережье. Арон улыбнулся. — Да, чепуха, нет проблем! У меня накопилось несколько недель неиспользованного отпуска. Ты же никогда ничего не просил у нас, дядя Сол. С самого моего детства ты всегда нам что-то давал, ничего не прося взамен. Я учился в университете Хайфы на твои деньги, хотя мы вполне могли заплатить за обучение сами. И вот ты просишь о таком пустячке — и что же, разве я не могу сделать этого для тебя? Сол потер лоб. — Но ты же не Джеймс Бонд, Модди, — сказал он, назвав Арона его детской кличкой. — И потом, Моссад не проводит операций в Штатах. Арон никак не отреагировал на это замечание. — Я просто был в краткосрочном отпуске, дядя Сол, — повторил он. — Так ты хочешь послушать, что я делал в свободное время? Сол кивнул. — Твой мистер Харрингтон остановился вот здесь. — Арон подвинул к нему черно-белую фотографию отеля «Беверли-Хиллз». Сол не стал брать ее в руки, посмотрел и отодвинул назад. — Я узнал очень немногое, — продолжал Арон. — Мистер Харрингтон зарегистрировался в отеле восьмого декабря. Официантка вспомнила, что молодой рыжеволосый мужчина, описание которого совпадает с внешностью Харрингтона, позавтракал в кафе отеля утром девятого числа. Один из швейцаров видел, как какой-то молодой человек уехал со стоянки отеля около трех часов во вторник — на желтом «Датсане», точно таком, что твой Харрингтон взял напрокат. Но он не уверен. — Арон подвинул Солу еще пару листков. — А вот фотокопии заметки в газете — всего один абзац — из полицейского рапорта. Желтый «Датсан» найден на стоянке возле офиса «Хертца» в аэропорту в среду, десятого числа. Люди из офиса в конце концов послали счет за прокат машины матери Харрингтона. Анонимныи перевод на триста двадцать девять долларов сорок восемь центов в уплату за номер в отеле пришел по почте в понедельник пятнадцатого. В тот день, когда я туда прилетел. На конверте стоял штемпель Нью-Йорка. Ты разве ничего не знал об этом, дядя Сол? Сол тупо смотрел на него. — Я так и думал. — Арон закрыл досье. — Тут есть один очень странный момент. Два временных помощника мистера Харрингтона по его любительскому детективному агентству, Денис Леланд и Селби Уайт, в ту же неделю погибли в автомобильной катастрофе. В пятницу, двенадцатого декабря, они ехали из Нью-Йорка в Бостон на автомобиле после того, как им кто-то позвонил... В чем дело, дядя Сол? — забеспокоился Арон. — Да нет, ничего... — Ласки снял очки и стал машинально протирать их. — Мне показалось, что вам плохо. Вы знали этих двух парней? Уайт учился вместе с Харрингтоном в Принстоне... Он из команды Хайнис Порт Уайте. — Я их видел всего один раз, — сказал Сол. — Продолжай. Арон глядел на него, слегка прищурившись. Сол вспомнил, что у племянника бывало такое же выражение лица в детстве, когда он начинал сомневаться в правдивости фантастических историй, которые дядя рассказывал им на ночь. — Итак... Если там действительно что-то произошло, сделано это было весьма профессионально, — жестко проговорил Арон. — Примерно так действовали бы уголовные «семьи» в Америке, их новая мафия. Три убийства, и все чисто. Двое погибают в автомобильной катастрофе; грузовик, который налетел на них, до сих пор не найден. А третий вообще исчез. Но вопрос вот в чем: что такое делал Френсис Харрингтон в Калифорнии, если он так расстроил профессионалов, что они занялись этим делом в своем старом стиле? И почему убрали всех троих? У Леланда и Уайта была настоящая работа, они выполняли отдельные поручения этого детективного агентства лишь по субботам и воскресеньям, для забавы. За весь прошлый год у Харрингтона было всего три дела, и два из них — услуги друзьям, которые хотели получить развод. В третьем случае он просто тратил время, пытаясь найти биологических родителей какого-то бедного старого придурка — через сорок восемь лет после того, как они его бросили. — Откуда ты все это узнал? — тихо спросил Сол. — Я поговорил с секретаршей Френсиса — она тоже работает у него время от времени. Потом как-то вечером я навестил его офис. — Беру свои слова назад, Модди. В тебе действительно есть нечто от Джеймса Бонда. — Ага, — согласился Арон. Обеденное время в ресторане закончилось, за столами почти никого не осталось, кроме нескольких человек, не торопившихся с едой. Сол и Арон не сильно бросались в глаза, но метрах в пяти от них уже никого не было. Где-то в подвальном помещении за дверью ресторана заплакал ребенок — голос у него был, как у автомобильного клаксона. — Но эт-то еще далеко не все, дядя Сол, — протянул Арон, совсем как киношный ковбой. — Ну, продолжай. — Секретарша сказала, что Харрингтону часто звонил человек, который никогда не называл своей фамилии, — сообщил Арон. — Полиция интересовалась, кто бы это мог быть, но она сказала, что не знает... Харрингтон же не вел никаких записей по этому делу, кроме заметок насчет расходов на дорогу и прочего. Как бы там ни было, этот новый клиент настолько загрузил Френсиса работой, что тот попросил своих старых товарищей по колледжу помочь ему. — Понятно, — кивнул Сол. Арон глотнул кофе из чашки. — Ты сказал, что Харрингтон был твоим студентом, дядя Сол. Но в Колумбии на этот счет нет никаких записей. — Он прослушал у меня два курса, — пояснил Сол. — «Война и человеческое поведение» и «Психология агрессии». Френсис ушел из Принстона не потому, что плохо учился. Наоборот, он был блестящим студентом, но ему было скучно. Правда, на моих лекциях ему скучать не приходилось... Продолжай, Модди. Арон сжал губы, и это немного напомнило Солу, какое упрямое выражение лица было у Давида Эшколя, когда они на ферме неподалеку от Тель-Авива до рассвета спорили о моральной стороне партизанской войны. — Секретарша сказала полицейским, что клиент Харрингтона говорил с еврейским акцентом. Она заверила меня, что всегда может отличить еврея по манере говорить. У этого был иностранный акцент. Возможно, немецкий или венгерский. — Ну и?.. — Так ты наконец скажешь, в чем тут дело, дядя Сол? — Не сейчас, Модди. Я сам толком ничего не знаю. Рот Арона был все так же упрямо сжат. Он постучал пальцем по двум другим папкам. Они выглядели потолще, чем первая. — У меня тут еще кое-что есть. Кое-что похлеще, чем тупик с Харрингтоном. Мне кажется, обмен может получиться равноценным. Сол слегка поднял брови. — Значит, речь идет уже об обмене, а не о доброй услуге? Арон вздохнул и открыл вторую папку. — Борден, Уильям Д. Предположительно родился восьмого августа тысяча девятьсот шестого года в Хаббарде, штат Огайо, но в деле нет совершенно никаких документов между свидетельством о рождении в девятьсот шестом году и внезапным изобилием разных бумаг: карточек программ соцобеспечения, водительских прав и так далее — в сорок шестом. Обычно компьютеры ФБР обращают внимание на такие вещи, но в данном случае, похоже, всем было наплевать. Я так думаю, что если поискать на кладбищах вокруг Хаббарда, штат Огайо, или как там эта дыра называется, мы найдем ма-аленький надгробный камень над могилой малютки Билла Бордена, упокой Господи его невинную душу. А вот взрослый мистер Борден, похоже, выскочил на свет Божий в Ньюарке, штат Нью-Джерси, где-то в начале сорок шестого года. В следующем году он уже переехал в Нью-Йорк. Кем бы он ни был, деньги у него имелись. В сорок восьмом и сорок девятом он был среди невидимых спонсоров пьес на Бродвее. Он купил свою долю у заправил шоу-бизнеса, но, похоже, не очень-то общался с ними. Во всяком случае, я не могу найти каких-либо следов в светской хронике тех лет, и никто из стариков, работавших тогда на продюсеров и агентов, ничего о нем не помнит. Как бы там ни было, в пятидесятом Борден перебрался в Лос-Анджелес, в том же году вложил деньги в какой-то фильм и с тех пор стал там крупной и заметной фигурой, особенно в шестидесятых. Те, кто знают всю подноготную жизни в Голливуде, звали его Фриц, или Большой Билл Борден. Иногда он закатывал вечеринки, но никогда ничего по-крупному, всегда обходилось без участия полиции. Этот парень был просто святой — не нарушал правил дорожного движения, не болтался по улицам пьяным, в общем, ничего такого... А если и случалось, то у него имелось достаточно денег и связей, чтобы от его прегрешений и правонарушений в официальных бумагах не оставалось ни следа. Что ты на это скажешь, дядя Сол? — Что еще у тебя есть? — Ничего. Ничего, кроме кое-каких сплетен с киностудии, фото входа в поместье герра Бордена в Бел-Эйр — самого дома не видно — и вырезок из "Лос-Анджелес Таимо и «Вэрайети» о его гибели в авиакатастрофе в прошлую субботу. — Можно мне взглянуть на все это? Когда Сол кончил читать заметки, Арон тихо спросил: — Это он, дядя Сол? Твой оберет? — Возможно, — кивнул Сол. — Я хотел выяснить. — И ты послал Френсиса Харрингтона выяснять это в ту самую неделю, когда Борден погиб в авиакатастрофе. — Да. — А твой бывший студент и оба его помощника погибли в те же самые три дня. — Я не знал про Дениса и Селби, пока ты мне не сказал, — промолвил Сол. — Мне и в голову не приходило, что им может угрожать реальная опасность. — Опасность со стороны кого? — настаивал Арон. — Честно, не знаю. Пока, — сказал Сол. — Расскажи мне все, что знаешь, дядя Сол. Возможно, мы сможем тебе помочь. — Мы? — Леви. Дэн. Джек Коуэн и мистер Бергман. — Они из посольства? — Джек — мой начальник, но он еще и друг, — заверил Арон. — Расскажи нам, в чем тут дело, и мы поможем тебе. — Нет. — Что «нет»? Не можешь мне рассказать или не хочешь? Сол оглянулся через плечо. — Ресторан через несколько минут закроется. Пойдем куда-нибудь в другое место. Мышцы в уголках рта Арона напряглись. — Трое из этих людей — вон та пара около входа и молодой парень поблизости от тебя — это наши. Они будут сидеть, пока нам нужно присутствие других людей. — Значит, ты им уже все сказал? — Нет, только Леви. Да он в любом случае был нужен — делать снимки. — Какие снимки? Арон достал фото из последней, самой толстой папки. На нем был изображен небольшого роста человек с темными волосами, в рубашке с открытым воротом и кожаной куртке. Глаза чуть полуприкрыты набрякшими веками, жесткий рот. Он пересекал узкую улицу; куртка расстегнута, полы разлетались. — Кто это? — спросил Сол. — Хэрод, — ответил Арон. — Тони Хэрод. — Компаньон Уильяма Бордена. Ею имя упоминается в заметке в «Вэрайети». Арон вытащил еще пару фотографий из папки. На снимке Хэрод стоял перед дверью гаража, держа в руке кредитную карточку, явно готовясь вставить ее в небольшое приспособление в кирпичной стене. Сол уже как-то видел такие замки. — Где это было снято? — спросил он. — В Джорджтауне. Четыре дня назад. — Здесь, в Вашингтоне? — удивился Сол. — Что он тут делал? И зачем ты его фотографировал? — Это не я, а Леви, — улыбнулся Арон. — В понедельник я присутствовал на панихиде по мистеру Бордену в Форест-Лоун. Тони Хэрод держал там речь. У меня было мало времени, но я немного покопался и обнаружил, что мистер Хэрод и мистер Борден были очень близки. Когда Хэрод во вторник вылетел в Вашингтон, я отправился следом. Мне все равно пора было возвращаться. Сол потряс головой. — А потом ты поехал за ним в Джорджтаун. — Да нет, в этом не было нужды, дядя Сол. Я позвонил Леви, и тот следил за ним от самого аэропорта. А я присоединился к нему позже. Вот тогда мы и сделали снимки. Я хотел поговорить с тобой — до того как показать это Дэну или мистеру Бергману. Нахмурившись, Сол еще раз глянул на снимки. — Я не вижу в них ничего особенного. Тут что, важно, где это происходит? — Нет. Этот дом снимает «Бехтроникс», филиал «Ейч-Ар-Эл Индастриз». Сол пожал плечами. — Ну и что? — А вот это важно. — Он подвинул Солу еще пять фотографий. — Леви был на этот раз на своем фургоне из «Белл Телефон», — сказал Арон с некоторым удовлетворением. — Он делал эти снимки, сидя наверху десятиметровой вышки, когда они выходили из дома. Со всех других точек этот переулок идеально защищен. Эти ребята проходят по крытому тротуару вот здесь, открывают калитку, тут же садятся в лимузин и отъезжают. Соседи видеть их не могут. Из переулка их тоже не видно. Идеально. Все черно-белые снимки были сделаны как раз в тот момент, когда изображенный на них человек делал шаг от калитки к лимузину; снимки были сильно увеличены, поэтому изображение получилось несколько зернистым. Сол тщательно рассматривал один за другим, потом сказал: — Мне это ничего не говорит, Модди. Арон схватился руками за голову. — Сколько ты уже живешь в этой стране, дядя Сол? — Сол ничего не ответил, и племянник ткнул пальцем в фото человека с маленькими глазками, жирными висящими щеками и густой, вьющейся сединой. — Вот это — Джеймс Уэйн Саттер, более известный среди почитателей как преподобный Джимми Уэйн. Это тебе что-нибудь говорит? — Нет, — вздохнул Сол. — Телевизионный евангелист. Начинал в церкви на открытом воздухе, куда въезжали на автомобиле — в Дотане, штат Алабама, в шестьдесят четвертом году. Сейчас он — владелец спутниковых и кабельных каналов, его доходы, не облагаемые налогом, составляют примерно семьдесят восемь миллионов долларов в год. В политическом плане он несколько правее Аттилы, предводителя гуннов. Если преподобный Джимми Уэйн заявляет, что Советский Союз — инструмент Сатаны (а он делает это ежедневно, когда появляется в ящике), примерно двенадцать миллионов человек говорят «Аллилуйя». Даже премьер-министр Бегин делает реверансы этому придурку. Часть даров в духе любви доходит до Израиля в виде покупок оружия.. Ради спасения Святой Земли можно пойти на что угодно. — Тут нет ничего нового. Давно известно, что Израиль связан с фундаменталистами правого толка, — возразил Сол. — Значит, вы с твоим другом Леви из-за этого переполошились? А может, мистер Хэрод — верующий? Арон заметно нервничал. Он положил снимки Хэрода и Саттера назад в папку и улыбнулся официантке, которая подошла, чтобы подлить кофе в чашки. Ресторан был уже почти пуст. Когда она отошла, Арон взволнованно сказал: — Джимми Уэйн Саттер беспокоит нас здесь меньше всего, дядя Сол. А вот этого человека ты узнаешь? — Он тронул пальцем снимок мужчины с худым лицом, темными волосами и глубоко посаженными глазами. — Нет. — Ниман Траск. Близкий советник сенатора Келлога от штата Мэн. Помнишь? Келлог чуть было не попал в кандидаты в вице-президенты от партии, прошлым летом. — Правда? От какой партии? Арон покачал головой. — Дядя Сол, чем ты, интересно, занимаешься, если совершенно не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг тебя? Сол улыбнулся. — Да так, всякой всячиной. Читаю три курса лекций, каждую неделю. Все еще числюсь научным руководителем, хотя мне уже можно этого не делать. Работаю по полной исследовательской программе в клинике. Шестого января должен сдать издателю свою вторую книгу... — Ну хорошо... Не спорю, — перебил его Арон. — Прошлая неделя была для меня необычной, я всего лишь председательствовал на одном обсуждении в университете. И потом, комиссия при мэре и Комитет советников штата отнимают как минимум два вечера в неделю. Скажи, Модди, почему этот мистер Траск — такая важная шишка? Потому что он — один из советников сенатора Келлога? — Не «один из». Он — единственный и неповторимый. Ходят слухи, что Келлог не смеет в туалет сходить, не посоветовавшись с Траском. И еще. Во время последней кампании Траск собрал массу денег в поддержку партии. О нем говорят так: где проходит Траск, текут деньги. — Очень мило, — усмехнулся Сол. — А это что за джентльмен? — Он постучал по снимку, где был изображен человек, слегка напоминающий актера Чарльтона Хестона. — Джозеф Филлип Кеплер. Бывший номер три в ЦРУ при Линдоне Джонсоне, бывший госдеповский «пожарник», а сейчас советник по делам прессы и комментатор на Пи-би-эс. — Мне кажется, я его видел. У него, по-моему, вечерняя программа в воскресенье? — "Беглый огонь". Он приглашает бюрократов из правительства, а потом размазывает их по стенке. А вот это, — Арон постучал пальцем по фотографии приземистого лысого индивида с хмурой физиономией, — Чарлз Колбен, специальный помощник заместителя директора ФБР. — Очень интересный титул. Он может ничего не значить или, наоборот, играть большую роль. — В данном случае он играет чертовски большую роль. Колбен, пожалуй, единственный из подозреваемых среднего уровня в уотергейтском скандале, кто не сел за решетку. Он был связным между Белым домом и ФБР. Некоторые утверждают, что с его подачи Гордон Лидди выкидывал свои фортели. Вместо того чтобы пойти под суд, он стал еще более важной птицей, когда полетели все остальные головы. — Что же все это значит, Модди? — Погоди, дядя Сол, мы тут напоследок приберегли самое интересное. — Арон убрал все фото, кроме снимка худощавого человека лет шестидесяти, в изумительно сшитом костюме. Седые волосы придавали ему импозантный вид, прическа была безукоризненной. Даже на черно-белой фотографии такого паршивого качества Сол различил то сочетание загорелой внешности, отменной одежды и подсознательного ощущения собственной власти, которое приходит только с очень большим богатством. — К. Арнольд Барент. — Арон секунду помолчал и продолжил: — "Друг президентов". Начиная с Эйзенхауэра, все президенты с семьей проводили по крайней мере один отпуск на каком-нибудь из уютных уголков мира, принадлежавших Баренту. Отец Барента занимался сталью и железными дорогами. Обычный миллионер. Но по сравнению с Барентом-младшим и его миллиардами — просто нищий. Попробуй полететь над Манхэттеном, в любом месте, выбери небоскреб, тоже любой, и можно держать пари, что на верхнем этаже этого небоскреба будет офис корпорации — филиала компании, которая сама является филиалом конгломерата, а конгломерат управляется консорциумом, где главный владелец — К. Арнольд Барент. Возьми что угодно — средства массовой информации, компьютеры, микрочипы, нефть, предметы искусства, детское питание — и везде Баренту принадлежит хороший кусок. — А что стоит за инициалом К.? — Никто не имеет понятия. К. Арнольд старший так и не открыл секрета, и сын тоже не собирается этого делать. Как бы там ни было, служба безопасности обожает, когда президент с семьей отправляется к нему в гости. Дворцы Барента по большей части находятся на островах — он владеет островами по всему свету, дядя Сол, — и там, уверяю, все устроено получше, чем в Белом доме — обстановка, средства охраны, вертолетные площадки, спутниковая связь и все такое прочее. Один раз в год, обычно в июне, «Фонд наследия Запада», принадлежащий Баренту, устраивает «летние лагеря» — развлечение на полную катушку, примерно на неделю, для самых крутых ребят в западном полушарии. Туда попадают только по приглашению, а чтобы получить приглашение, нужно по крайней мере быть членом кабинета министров с блестящим будущим или живой легендой, человеком с блестящим прошлым. За последние несколько лет ходили разные слухи — про бывших немецких канцлеров, танцующих вокруг костра и распевающих похабные песни вместе со старыми госсекретарями США и парой экс-президентов. В общем, место, где все могут по-настоящему «оттянуться» — так, кажется, говорят американцы, а, дядя Сол? — Да. — Сол смотрел, как Арон убирает последний снимок. — А теперь ответь, что все это значит, Арон? Почему Тони Хэрод отправился из Голливуда на тайное собрание этих пятерых — которых, видит Бог, я должен бы знать, но не знал? Арон убрал папки в портфель и скрестил руки на груди, уголки его рта были плотно сжаты. — Нет, это ты мне ответь, дядя Сол. Продюсер и бывший нацист, тот самый, за которым ты охотишься, погибает в авиакатастрофе — вероятнее всего, в результате диверсии. Ты посылаешь богатого юнца с университетским образованием в Голливуд поиграть в детектива, разузнать что можно о прошлом продюсера — и его крадут, а затем наверняка убивают. Как и его коллег-любителей. А неделю спустя компаньон твоего бывшего эсэсовца — человек, который, по всем отзывам, сочетает шарм шарлатана и уголовника, насилующего детей, — летит в Вашингтон на встречу с компанией темных дельцов из коридоров власти, похлеще первого Исполкома ООП Ясира Арафата. Что происходит, дядя Сол? Сол по привычке снял очки и протер стекла. Он молчал чуть ли не целую минуту. Арон ждал. — Модди, — наконец сказал Сол, — я не знаю, что происходит. Меня интересовал только оберет — человек, которого звали Вилли фон Борхерт — он же Уильям Д. Борден. Я не знал, кто такой Борден, пока не увидел его фото в воскресном номере «Нью-Йорк Тайме»... Я узнал того негодяя — оберста Вильгельма фон Борхерта из войск СС... — Сол замолчал, снова надел очки и приложил трясущиеся пальцы ко лбу. Он понимал, что, на взгляд Арона, выглядит сломленным, потрясенным стариком... — Дядя Сол, ты можешь все рассказать мне, — доверительно проговорил Арон на иврите и положил руку на плечо Ласки. — Позволь мне помочь тебе, дядя. Сол кивнул. Он вдруг почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы, и быстро отвернулся. — Если это в каком-то смысле важно для Израиля... Если это представляет угрозу, — продолжал настаивать Арон, — нам надо работать вместе, поверь же! Сол выпрямился. «Если это представляет угрозу...» Он вдруг воочию увидел, как отец, неся на руках маленького Йозефа, уходит вместе с цепочкой бледных, нагих мужчин и мальчиков там, в Челмно... Как ушли мама и сестры — в никуда, в небытие... Он вновь ощутил боль пощечины и стыд унижения и вдруг ясно понял — как когда-то его отец, — что спасение семьи иногда становится самым главным и даже единственным приоритетом. Сол благодарно сжал руку Арона. — Модди, тебе придется довериться мне во всем. Мне кажется, тут происходит много такого, что совершенно не связано друг с другом. Человек, про которого я подумал, что это тот оберет из лагерей, возможно, не имеет к нему никакого отношения. Френсис Харрингтон был блестящим студентом, но с довольно неустойчивой психикой. Все, за что он брался, он почему-то всегда бросал, — как бросил Принстон три года назад. Я дал ему до нелепости большой аванс под его расходы на то, чтобы покопаться в прошлом Вилли Бордена. Я уверен, скоро мать Фрэнсиса, или его секретарша, или подружка, — кто-нибудь да получит от него открытку с почтовым штемпелем Бора-Бора или еще какого-нибудь такого местечка. Не сегодня, так завтра. — Дядя Сол... — Пожалуйста, выслушай меня, Модди. Друзья Френсиса — они просто погибли в автокатастрофе. У тебя что, нет знакомых, погибших в автокатастрофе? Вспомни своего двоюродного брата Хаима, как он поехал с Голанских высот на своем джипе навестить девицу... — Дядя Сол... — Не перебивай, Модди. Ты сейчас играешь в Джеймса Бонда, как когда-то играл в Супермена. Помнишь, в то лето, когда я приехал к вам в гости? Тебе было девять, а в этом возрасте уже не стоило прыгать с балкона, обвязав полотенцем шею. Ты потом все лето не мог играть со своим любимым дядей из-за того, что нога у тебя была в гипсе. Арон покраснел и опустил глаза. — Эти снимки — это все интересно, Модди. Но что они значат? Заговор против Иерусалима? Ячейку «Фатаха» Арафата, готовую начать отправку бомб к границе? Модди, ты всего лишь видел, как богатые и влиятельные люди имели встречу с порнушником в этом городе, полном богатых и влиятельных людей. Ты думаешь, что это — тайная встреча? Ты же сам сказал, что К. Арнольд Барент владеет островами и дворцами, в которых даже президент находится в большей безопасности, чем у себя дома. Это была всего лишь встреча, на которую не допустили публику, вот и все. Кто знает, какие делишки с порнографическими фильмами обделывают эти люди, на какие порнофильмы дает деньги твой Дважды Рожденный преподобный Уэйн Джим — Джимми Уэйн, — уточнил Арон — Какая разница. Ты что, думаешь, нам стоит беспокоить твое начальство в посольстве? Чтобы они отрядили настоящих агентов заниматься этим делом? Ведь это может дойти до Давида, а он так болен... И все из-за какого-то дурацкого сборища, где обсуждались порнофильмы или не знаю что еще? Арон густо покраснел. На какую-то секунду Сол испугался, что он заплачет. — О'кей, дядя Сол. Значит, ты мне ничего не скажешь? Сол снова коснулся руки племянника. — Клянусь могилой твоей матери, Модди, я рассказал тебе все, в чем сам смог разобраться. Я пробуду в Вашингтоне еще пару дней. Возможно, смогу выбраться к тебе, повидаюсь с Деборой, и мы снова потолкуем. Это за рекой, да? — В Александрии, — ответил Арон. — Ладно. Сегодня не сможешь? — Мне нужно еще кое-кого навестить. А вот завтра... Я соскучился по домашней еде. — Сол глянул через плечо на трех израильтян — кроме них, в ресторане уже никого не осталось. — Что мы им скажем? Арон поправил очки. — Только Леви знает, почему мы здесь. Мы так или иначе собирались пойти пообедать. — Арон посмотрел в глаза Солу. — Ты сам точно знаешь, что ты делаешь, дядя Сол? — Да. Знаю. Пока что мне хотелось бы делать как можно меньше, немного отдохнуть до конца отпуска, подготовиться к январским лекциям. Модди, надеюсь, ты не станешь посылать кого-нибудь из них следить за мной, — Сол мотнул головой в сторону израильтян, или еще что-нибудь такое, а? Это было бы неудобно по отношению к одной моей... коллеге, с которой я собираюсь пойти сегодня в ресторан. Арон усмехнулся. — В любом случае у нас для этого нет людей. Здесь только Леви — в каком-то смысле полевой агент. Гарри и Барбара работают со мной в шифровальном отделе. — Они поднялись из-за столика. — Значит, завтра, дядя Сол? Мне заехать за тобой? — Нет, я взял машину напрокат. Около шести? — Раньше, если сможешь. Чтобы у тебя было время поиграть с близнецами до обеда. — Тогда в четыре тридцать. — И мы потолкуем? — Обещаю, — кивнул Сол. Они дружески обнялись и разошлись. Сол постоял у входа в магазин подарков, пока Гарри, Барбара и смуглый парень, которого звали Леви, не ушли. Затем он медленно поднялся наверх, в отдел импрессионистов. «Девочка в соломенной шляпке» все еще ждала его, глядя немного вверх, со своим немного испуганным, немного озадаченным, немного обиженным выражением, которое так задевало какую-то струнку в душе Сола. Он долго стоял у картины, думая о таких вещах, как семья, месть и страх. Он втянул двух гоев в схватку, которая ни при каких обстоятельствах не должна была стать их делом, и это заставляло его усомниться в собственной этике, хотя сомнений в разумности сделанного не было. Он решил вернуться в отель, как следует пропариться в ванной и почитать книгу Мортимера Адлера, Потом, когда настанет время льготного тарифа, он позвонит в Чарлстон и поговорит с ними обоими — с шерифом и с Натали. Он скажет им, что разговор вышел удачным, что продюсер, погибший в авиакатастрофе, определенно не тот немецкий оберет, который привиделся ему в кошмарных снах. Он пожалуется, что в последнее время находился в состоянии стресса, и пусть они сами сделают нужные выводы из его истолкования роли Нины Дрейтон в чарлстонских событиях. Сол все еще стоял там погруженный в свои мысли, когда тихий голос за его спиной произнес: — Очень милая картина, не правда ли? Какая жалость, что девочка, которая позировала для нее, должно быть, уже давно умерла, а тело ее сгнило. Сол резко обернулся. Перед ним стоял Френсис Харрингтон собственной персоной, но ужасно похожий на фашиста. Глаза его странно светились, бледное веснушчатое лицо выглядело посмертной маской. Вялые, безвольные губы марионетки дернулись, будто кто-то потянул их за веревочки, и сложились в трупную гримасу, обнажив зубы в страшном подобии улыбки. — Guten Tag, mein alte Freund, — сказало это подобие Френсиса Харрингтона. — Wie geht's, mein kleiner Bauer? Моя любимая пешечка?Глава 3
Чарлстон Четверг, 25 декабря 1980 г. В вестибюле больницы, в самом центре, где обычно толклись посетители, стояла украшенная серебряная елка. Пять подарочных пакетов, пустых, но очень ярких, лежали у ее основания, а с ветвей свисали бумажные игрушки, сделанные детьми. На вымощенные плитки пола белыми и желтыми прямоугольниками падал солнечный свет. Шериф Бобби Джо Джентри кивнул дежурной у столика, пересек вестибюль и направился к лифтам. — Доброе утро и счастливого Рождества, миз Хауэлл, — крикнул он, нажал кнопку лифта и стал ждать, обеими руками придерживая огромный белый бумажный пакет. — Счастливого Рождества, шериф! — откликнулась семидесятилетняя старушка, дежурившая сегодня добровольно. — Можно вас на секунду? — Конечно, мэм. — Джентри повернулся спиной к открывшейся двери лифта и подошел к столику дежурной. На ней был пастельно-зеленый халат, цвет которого совсем не гармонировал с темной зеленью пластиковых сосновых ветвей на ее столе. Там же лежали два прочитанных и отложенных слащавых романа. — Чем могу служить, миз Хауэлл? Старушка наклонилась вперед и сняла очки, которые повисли на цепочке с нанизанными на нее бусами. — Я насчет этой цветной женщины на четвертом, которую привезли прошлой ночью, — начала она взволнованным, почти заговорщицким шепотом. — Да, мэм? — Сестра Олеандер сказала, что вы сидели там всю ночь, вроде как охраняли ее... и что ваш помощник сменил вас утром, когда вам надо было уходить... — Это Лестер, — пояснил Джентри, переложив пакет из одной руки в другую. — Мы с Лестером единственные в нашей конторе холостяки, поэтому обычно работаем по праздникам. — Ну да. — Миссис Хауэлл была немного сбита с толку, — но мы с сестрой Олеандер просто подумали... сейчас рождественское утро и все такое... Ну, за что эту девушку арестовали? Я, конечно, понимаю, тут официальные дела, но правду говорят, что ее подозревают в связи с убийствами в «Мансарде»? И что ее пришлось доставить сюда силой? Джентри улыбнулся и подался вперед. — Миз Хауэлл, вы можете хранить тайну? — шепотом спросил он. Дежурная снова нацепила очки на нос, сжала губы, выпрямилась и кивнула. — Конечно, шериф. Что бы вы ни сказали, это останется при мне. Джентри кивнул, придвинулся к ней и зашептал на ухо: — Мисс Престон — моя невеста. Ей это не очень нравится, поэтому мне приходится держать ее взаперти в подвале. Вчера я немного погулял с ребятами, а она попыталась в это время выбраться и убежать, так что мне пришлось всыпать ей разок. Вот Лестер держит ее наверху под дулом пистолета, пока я не вернусь. Входя в лифт, Джентри обернулся и подмигнул мисс Хауэлл. Она сидела, все так же выпрямившись, с раскрытым от изумления ртом.* * *
Джентри вошел в бокс из двух комнат, который занимала Натали. Девушка подняла глаза. — Доброе утро и счастливого Рождества! — Он подтянул поближе столик на колесиках и положил на него белый пакет. — Счастливого Рождества, — ответила Натали шепотом. Шепот был хриплый и напряженный. Она поморщилась и поднесла левую руку к горлу. — Видели свои синяки? — спросил Джентри, наклоняясь, чтобы еще раз получше рассмотреть их. — Да, — прошептала Натали. — У того, кто это сделал, пальцы длинные, как у Вана Клиберна. Только не для игры на рояле предназначены. Как голова? — поинтересовался шериф. Натали дотронулась до широкой бинтовой повязки. — Что же все-таки произошло? — хрипло спросила она. — Я помню, как меня душили, а как ударилась головой, не помню... Джентри принялся извлекать из пакета белые пластиковые коробки с едой. — Доктор еще не заходил? — С тех пор как я проснулась, нет. — Он говорит, что вы, наверно, ударились головой о дверцу, когда дрались с этим мерзавцем. — Джентри достал большие пластиковые чашки с дымящимся кофе и апельсиновым соком. — Просто ушиб и немного крови. А сознание вы потеряли от того, что он душил вас. Натали снова потрогала горло и поморщилась, вспомнив, как все было. — Теперь я знаю, что чувствуешь, когда тебя душат, — прошептала она, слабо улыбаясь. Эта мысль не давала ей покоя. Джентри покачал головой. — Это не совсем так. Он применил особый захват, вы потеряли сознание оттого, что он перекрыл доступ крови к мозгу, а не воздуха к легким. Он знал, что делает. Еще немного, и у вас был бы поврежден мозг — это в лучшем случае. Хотите горячую английскую булочку к яичнице? Натали, широко раскрыв глаза, смотрела на завтрак из множества блюд, разложенный перед ней: кофе, поджаренные булочки, яичница, ветчина, колбаса, апельсиновый сок, фрукты. — Где вы все это достали? — удивленно спросила она. — Мне уже приносили завтрак, только я не смогла его съесть — резиновое яйцо-пашот и слабенький чай. Разве в рождественское утро работает хоть один ресторан? Джентри снял шляпу и приложил ее к груди с самым обиженным видом. — Ресторан? Вы сказали «ресторан» ? Мадам, здесь у нас богобоязненный христианский город. Сегодня не работает ни одно заведение, кроме, пожалуй, забегаловки Тома Делфина на федеральном шоссе. Том — агностик. Нет, мэм, этот завтрак приехал прямо из кухни вашего покорного слуги. Ну-ка, налетайте, пока все не остыло. — Спасибо... шериф, — поблагодарила Натали. — Но я же не в силах все это проглотить... — И не надо. Я помогу вам. Мне тоже не вредно позавтракать. Вот перец. — А как же мое горло?.. — Док говорит, что оно немного поболит, но кушать вам можно. Ешьте. Натали открыла было рот, но ничего не сказала и взялась за вилку. Джентри вытащил из пакета небольшой приемник и поставил на стол. Большинство радиостанций передавали рождественскую музыку. Он нашел станцию, которая обычно транслировала классическую музыку, сейчас исполнялась «Мессия» Генделя. Прекрасная музыка наполнила палату. Яичница, похоже, Натали понравилась. Она отпила глоток кофе и сказала: — Все это прекрасно, шериф. А как же Лестер? — — Ну, про Лестера не скажешь, что он — прекрасен. — Нет, я имею в виду... Он еще здесь? — Он отправился назад, в участок. До двенадцати. А потом его сменит Стьюарт. Не беспокойтесь, Лестер уже позавтракал. — Отменный кофе, — похвалила Натали. Она взглянула на Джентри, склонившегося над множеством пластиковых коробок и чашек. — Лестер сказал, что вы провели здесь ночь. Джентри с набитым ртом ухитрился ухмыльнуться. — Эти чертовы яйца остывают еще до того, как их уложишь в эти дурацкие пластиковые штуковины. — Вы думаете, что он... кто бы это ни был... Что он вернется? — спросила Натали. — Не обязательно. Но нам не дали поговорить вчера — вам сразу сделали усыпительный укол. Я подумал, что вовсе не помешает, если тут будет кто-нибудь, с кем можно потолковать, едва вы проснетесь. — Значит, вы провели канун Рождества на больничном стуле? — заключила Натали. Джентри широко улыбнулся. — А что тут такого? Все веселее, чем смотреть двадцатый год подряд, как мистер Магу играет роль богатого дядюшки Скруджа. — Как вам удалось так быстро разыскать меня вчера? — шепот Натали был все еще хриплым, но уже не таким напряженным. — Ну, мы ведь все-таки договорились встретиться. Вас нигде не было, у меня на автоответчике не оказалось никаких сообщений, так что я вроде как нечаянно завернул к дому Фуллер по дороге к себе. Я-то знал — у вас вошло в привычку проверять, как там и что. — Но вы не видели того, кто на меня напал? — Нет. В машине сидели только вы, эдак скрючившись, с окровавленным фотоаппаратом в руке. Натали покачала головой. — Я все еще не могу вспомнить, как я ударила его фотоаппаратом... Все пыталась дотянуться до папиного пистолета. — Да-а, кстати, про пистолет, — вспомнил Джентри. Он подошел к стулу, на который повесил свою зеленую куртку, вытащил «ламу» тридцать второго калибра из кармана и положил его на столик, рядом с апельсиновым соком. — Я поставил его на предохранитель. Он все еще заряжен. Натали взяла в руку тост, но есть не стала. — Так кто же все-таки это был? Джентри качнул головой. — Вы говорите, что он был белый? — Да. Я видела только его лицо... Ну, немного щеки... Потом глаза. Но я уверена, что он белый. — Возраст? — Я не знаю. У меня такое ощущение, что ему примерно столько же, сколько вам... Тридцать с небольшим. — И вы больше ничего не вспомнили из того, что не успели сказать мне вчера? — спросил Джентри. — Нет. Пожалуй, нет. Он был уже в машине, когда я вернулась. Скорее всего, спрятался на заднем сиденье... — Натали положила тост, ее передернуло от страшного воспоминанья. — Он разбил лампочку в машине, — сказал Джентри, уплетая яичницу. — Поэтому она и не зажглась, когда вы открыли дверь. Значит, вы говорите, что видели свет на втором этаже дома Фуллер? — Да, сквозь жалюзи, но не в холле и не в спальне, — скорее, в гостиной наверху. — Ладно. Доедайте. — Джентри пододвинул к ней небольшую тарелку с ветчиной. — А вы знали, что электричество в этом доме было отключено? Брови Натали изумленно поднялись. — Не-нет... — Наверно, кто-то светил там фонарем. Скорее всего, большим, батареек на шесть. — Значит, вы мне верите? Джентри перестал складывать пластиковые коробки и чашки, которые собирался выкинуть в корзину для мусора, и удивленно посмотрел на нее. — А почему это я должен вам не верить? Интересно, как бы вы сами наставили себе этих синяков на шее. — Но зачем кому-то понадобилось убивать меня? — спросила Натали слабым голосом — слабым не только из-за поврежденного горла. Джентри закончил убирать со стола. — Этот человек, кто бы он ни был, вовсе не пытался вас убить. Он просто хотел причинить вам боль.... — О, в этом он преуспел. — Натали осторожно потрогала забинтованную голову. — И еще припугнуть. — Это ему тоже удалось. — Натали повела взглядом по стенам палаты. — Бог мой, как я ненавижу больницы! — Повторите-ка, что он вам сказал. Натали закрыла глаза. — "Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джерман-тауне". — Еще раз, — попросил Джентри. — Попробуйте сказать это темже тоном, с той же интонацией, как вы это слышали. Натали повторила фразу — глухим голосом, без всякой эмоциональной окраски. — Вот так? — спросил Джентри. — Без акцента, без намека на диалект? — Совершенно. Очень монотонно. Вроде диктора, читающего сводку погоды по радио. — Не южанин, — определил Джентри. — Нет. — Может, какой-нибудь северный диалект? — Джентри повторил фразу с нью-йоркским акцентом, настолько точно, что Натали рассмеялась, несмотря на свое больное горло. — Нет, — сказала она. — Он мог быть из Новой Англии? Или немец? Или американский еврей из Нью-Джерси? — Джентри несколько раз безукоризненно имитировал диалекты. — Нет. — Натали рассмеялась. — У вас здорово получается. Но голос был просто... ровный, бесцветный. — А по высоте? — Низкий, но не такой низкий, как у вас. Нечто вроде мягкого баритона. — Это могла быть женщина? — спросил Джентри. Натали заморгала. Она пыталась вспомнить то, что мельком увидела в зеркальце, когда красный цвет уже застилал ей глаза: худое лицо, изгиб щеки, кажется, небритой... Но, возможно, лицо было замотано колючим шарфом. Какая-то шапка не то кепи. Но руки в перчатках? Они были ужасно сильные, пальцы — длинные. — Нет. — Натали покачала головой. — Это всего лишь мое ощущение, но мне показалось, что это был все-таки мужчина, — если вы понимаете, о чем я говорю. Хотя, конечно, до этою мужчины не нападали на меня. И тут не было ничего сексуального... — Она запнулась. — Понимаю, о чем вы говорите, — сказал шериф. — Как бы то ни было, это еще одно доказательство, что он, кто бы это ни был, не пытался убить вас. Люди обычно не передают какие-то сообщения тем, кого они убивают. — Сообщения? Кому? — Возможно, вернее было бы сказать: «предупреждение», — выразил свою догадку Джентри. — В общем, мы записали это как случайное нападение и возможную попытку к изнасилованию. Трудно было бы зарегистрировать это как попытку ограбления, раз он не взял ни вашу сумочку, ни что-либо еще. — Он вытащил небольшой термос из изрядно похудевшего пакета. — Хотите еще кофе? Натали немного подумала, потом кивнула. — Выпью. От кофе у меня обычно расходятся нервишки, но сейчас он, похоже, сглаживает действие укола, который мне сделали вчера. — А кроме того, сегодня Рождество. — Джентри снова разлил ароматный кофе по чашкам. Некоторое время они сидели, слушая триумфальную концовку генделевской «Мессии». Когда музыка кончилась и ведущий принялся обсуждать программу, Натали сказала: — Мне ведь не обязательно оставаться здесь, правда? — Вы перенесли довольно тяжелую психическую травму, — констатировал Джентри. — Почти десять минут были без сознания. На голову пришлось наложить восемь швов — вы сильно ушиблись... — Но я все равно могла бы поехать домой, ведь так? — Возможно, — признал Джентри. — Но я бы не хотел, чтобы вы это делали. Оставаться одной вам сейчас небезопасно, а если бы я предложил вам поехать ко мне, вы вряд ли меня правильно бы поняли. Кроме того, мне самому не очень хотелось сидеть в рождественскую ночь в машине у вашего дома. Да и док сказал, что вам следует провести ночь в больнице под наблюдением. — Знаете, я бы поехала к вам, — тихо произнесла Натали. В голосе ее не было и намека на кокетство. — Мне страшно, — добавила она просто. Джентри кивнул. — Ну да. — Он допил кофе. — Мне и самому страшно. Не знаю почему, но мне кажется, что мы по уши увязли в вещах, которые недоступны пониманию. — Значит, вы все еще верите в историю, рассказанную Ласки? — Я бы больше верил, если бы от него пришла хоть какая-нибудь весточка. Шесть дней прошло, как он уехал, а от него ни слуху ни духу... Но вовсе не обязательно безоговорочно верить всему, что он рассказал, и так ясно: вокруг нас происходит какая-то чертовщина, это ясно... — Вы думаете, вам удастся поймать того, кто напал на меня вчера ночью? — Натали внезапно почувствовала усталость. Она откинулась на подушки, шериф помог приподнять изголовье кровати. — Вряд ли, если мы будем полагаться на отпечатки пальцев и лабораторные исследования, — сказал Джентри. — Мы проверяем кровь на «Никоне», но от этого проку мало. Единственный способ что-то узнать — это продолжать расследование, так или иначе. — Или подождать, пока он снова на меня нападет... — Нет-нет, этого вряд ли можно ожидать. Я думаю, они уже передали нам то, что хотели. — "Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джерман-тауне", — снова повторила Натали. — А женщина — это Мелани Фуллер? — А вы можете назвать кого-нибудь другого? — Нет. А где этот Джермантаун? Это место действительно существует? Как, по-вашему, это не связано с оберстом Сола — вроде какого-нибудь кода? — По крайней мере, я знаю два Джермантауна. Кварталы в северных городах. Кажется, в Филадельфии есть историческая часть города с таким названием. В моем маленьком атласе их не оказалось, но я собираюсь пойти в библиотеку, покопаться в справочниках. На код не похоже. Просто название местности. — Но зачем кому-то сообщать нам, где она находится? — спросила Натали. — И кто это может знать? И почему именно нам? — Замечательные вопросы. Только ответов у меня пока нет. Если то, что рассказал Сол, правда, тогда здесь замешано нечто гораздо большее, чем он сам понимает. — А не мог этот вчерашний мерзавец быть... ну, чем-то вроде агента самой Мелани Фуллер? Кто-то, кого она использовала — наподобие того, как оберет использовал Сола? Может, она все еще в Чарлстоне и пытается навести нас на ложный след? — Может быть, только все эти сценарии, когда начинаешь их продумывать, рассыпаются в прах. Если Мелани Фуллер жива и по-прежнему в Чарлстоне, зачем ей вообще понадобилось давать знать о себе? Особенно нам. Кто мы такие, в конце концов? Этим делом занимаются две городские организации, три отдела органов правопорядка штата плюс это чертово ФБР. Все три телекомпании на прошлой неделе показали программы на эту тему, в понедельник на той неделе окружной прокурор провел пресс-конференцию, на которую сбежалось полсотни репортеров, кое-кто из них все еще пытается что-то разнюхать... Кстати, я именно поэтому не записал в журнале происшествий, что ваша машина вчера стояла прямо напротив дома Фуллер. Представляю, какие были бы заголовки, скажем, в бульварных газетенках: ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА ЧАРЛСТОНСКОГО УБИЙЦЫ! — Так какой же сценарий кажется вам наиболее правдоподобным? — спросила Натали. Джентри отодвинул столик на колесиках в сторону и присел на край кровати. Несмотря на свою массивную фигуру, он двигался легко и почти грациозно: создавалось ощущение, что под этой массой скрывается пластичный и хорошо тренированный атлет. — Допустим, Сол рассказал нам чистую правду, — тихо проговорил Джентри. — Значит, мы столкнулись с ситуацией, когда несколько этих вампиров мозга сражаются друг с другом. Нина Дрейтон мертва. Я видел ее тело до и после морга. Чем бы она ни являлась при жизни, сейчас она просто прах. Люди, забравшие ее тело, кремировали его. — А кто забирал тело Нины Дрейтон? — Не родственники. И даже не друзья. Нью-йоркский адвокат, который был ее душеприказчиком, и два члена корпорации, где она была одним из директоров. — Значит, Нины Дрейтон нет. Кто же остается? Джентри поднял три пальца. — Мелани Фуллер, Уильям Борден — этот оберет Сола... — Значит, только двое. — Натали пристально глядела на оставшийся палец. — А кто же третий? — Множество из миллионов неизвестных, — вздохнул Джентри, пошевелил всеми десятью пальцами и перевел разговор на другую тему. — Знаете, у меня для вас рождественский подарок. — Он вытащил из кармана куртки конверт. Там оказалась рождественская открытка и билет на самолет. — Рейс в Сент-Луис, — прочла Натали. — На завтра. — Ага. На сегодня билетов не было. — Вы меня выгоняете, шериф? Хотите избавиться? — Можно и так сказать. — Джентри широко улыбнулся. — Я знаю, что позволяю себе вольности, миз Престон, но я буду чувствовать себя гораздо лучше, если вы уедете к себе — пока не развеется весь этот вздор. — Просто не знаю, что думать... Почему я буду в большей безопасности в Сент-Луисе? Если за мной кто-то охотится, он найдет меня и там. Джентри сложил руки на груди. — Это вы хорошо подметили, но я не думаю, что за вами кто-то охотится, ведь правда? — Натали молчала, и он продолжил. — В любом случае вы мне сказали недавно, что у вас там друзья. Фредерик мог бы пожить у вас... — Мне не нужны ни телохранитель, ни нянька, — холодно бросила Натали. — Возможно. Но там вы будете заняты чем-то, окружены друзьями, а главное, вы выйдете из этой чертовой игры, в которую тут играют, убивая людей, заставляя их убивать других, нападая на девушек... — А как же быть с поисками убийцы моего отца? Кто будет следить за домом Фуллер до того, как Сол даст о себе знать? — Один из моих помощников присмотрит за домом. Я получил разрешение миссис Ходжес, чтобы кто-то пока пожил у нее — наверху, в кабинете мистера Ходжеса. Окна его как раз выходят в общий с Фуллер двор. — А вы что будете делать? Джентри взял шляпу с кровати, смял тулью и нахлобучил ее на свой вспотевший лоб. — Я решил взять что-то вроде отпуска, — вздохнул он и почему-то покраснел. — Отпуск? — изумилась Натали. — В разгар всей этой истории? Когда ничего еще не ясно? Джентри улыбнулся. — Примерно так же отреагировало мое начальство. Но дело в том, что я не был в отпуске два года, графство мне должно недель пять по крайней мере. Наверняка я могу себе позволить уехать на пару недель, если мне так уж захочется. — И когда же вы уезжаете? — Завтра. — Куда? — В голосе Натали было не только любопытство. Джентри потер щеку. — Ну, я думаю, что можно смотаться на север, посетить, скажем, Нью-Йорк. Давненько я там не был. А потом я мог бы провести пару дней в Вашингтоне. — Будете разыскивать Сола? — догадалась Натали. — Да, возможно, загляну и к нему. — Джентри глянул на часы. — О-о, уже поздно. Часов в девять к вам должен зайти док. А потом вы можете сразу уезжать. — Он помолчал. — Давайте вернемся к тому моменту, когда вы сказали, что могли бы пожить немного у меня... Натали приподнялась на подушке. — Это что, предложение? — Да, мэм. Мне было бы спокойнее, если бы вы до отъезда поменьше находилась одна в своем доме. Конечно, вы можете снять номер в отеле на сегодня, а я попрошу Лестера или Стюарта подежурить по очереди со мной... — Шериф, нам надо уладить один вопрос, прежде чем я скажу «да». Джентри посерьезнел. — Слушаю вас, мэм. — Мне надоело называть вас «шерифом», и еще больше надоело слушать, как вы говорите мне «мэм». Или будем звать друг друга по имени, или вообще никак. — Отлично, мэм. — Джентри ухмыльнулся во весь рот. — Но тут есть маленькая проблема. Я никогда не смогу заставить себя называть вас «Бобби Джо». — Родители тоже меня так не называли. Эта кличка прилипла ко мне, когда я работал тут помощником шерифа. А когда пришла пора баллотироваться в шерифы, я так ее за собой и оставил. — А как вас звали друзья и ваши близкие? — Друзья в основном обращались ко мне «Жирный». А мама звала меня Роб, — и Джентри вновь покраснел как мальчишка. — Хорошо. Спасибо за приглашение, Роб. Я принимаю его.* * *
Они ненадолго заехали домой к Натали, она быстро уложила свои пожитки, потом позвонила поверенному отца и некоторым друзьям. Дело с вступлением ее в наследство и продажей фотомагазина затягивалось как минимум на месяц. У Натали не было причин задерживаться в городе. Рождественский день выдался теплым и солнечным. Джентри неторопливо вернулся в город кружным путем. Хотя был четверг, но создавалось ощущение, что сегодня воскресенье. Они пообедали рано. Джентри приготовил запеченный окорок, картофельное пюре, брокколи с соусом из сыра и шоколадный мусс. Круглый обеденный стол был придвинут к большим окнам-"фонарям"; они сидели, неторопливо попивая кофе и глядя, как ранние сумерки окутывают в серый цвет дома и деревья вокруг. Питом, когда на небе зажглись первые звезды, они оделись и отправились гулять по улицам. Детей звали домой, а они не могли оторваться от своих новых игрушек. В затемненных окнах вспыхивали разноцветные огоньки телевизоров. — Как вы думаете, с Солом все в порядке? — спросила Натали. Они впервые после утреннего разговора вернулись к серьезным вещам. Джентри зябко засунул руки глубоко в карманы куртки. — Я не уверен. У меня такое чувство, что с ним что-то случилось. — Мне совсем не хочется прятаться в Сент-Луисе. Что бы тут ни происходило, я должна разобраться с этим — это мой долг перед памятью отца. Джентри не стал спорить. — Давайте сделаем так. Я выясню, куда запропастился профессор, а потом мы свяжемся и спланируем наш следующий шаг. Мне кажется, одному человеку с этим делом проще будет справиться. — Но ведь Мелани Фуллер может находиться и здесь, в Чарлстоне. Мы ведь даже не знаем, что хотел сказать тот вчерашний бандит. — Нет, не думаю, что старуха здесь. — Джентри рассказал Натали про то, как Артур Луэллин в ночь убийства поехал на минутку купить сигары, кончилось же тем, что он налетел на опору моста в окрестностях Атланты на скорости девяносто семь миль в час. — Кстати, тот табачный киоск, куда направлялся мистер Луэллин, находился неподалеку от «Мансарды». — Значит, Мелани Фуллер вполне способна сделать то, о чем говорил Сол?.. — Да... Чистейший вздор, а между тем это — единственное объяснение. — Значит, вы думаете, что она прячется в Атланте? — Нет, не думаю. Это слишком близко отсюда. Скорее всего, она улетела или уехала оттуда при первой возможности. Поэтому я и сидел на телефоне почти всю неделю. В прошлый понедельник, через два дня после здешних событий, случилось недоразумение в Хатсфилдском международном аэропорту. Какая-то леди оставила двенадцать тысяч долларов наличными в сумке — и никто не смог ее описать. Местный носильщик, сорокалетний мужчина, до этого вполне здоровый, забился в припадке и умер. Я проверил все происшествия той ночи. На шоссе 1-285 в дорожной катастрофе погибла семья из шести человек — их протаранил сзади полуприцеп, шофер грузовика заснул за рулем. Мужчина в Рокдейле застрелил своего зятя после ссоры из-за лодки, которая уже много лет принадлежала всей семье. Найден труп бродяги у стадиона в Атланте. Люди шерифа утверждают, что труп пролежал там почти неделю. И наконец, таксист по имени Стивен Лентон покончил жизнь самоубийством у себя дома. По данным полиции, его друзья утверждают, что он находился в состоянии депрессии с тех пор, как от него ушла жена. — А как это все связано с Мелани Фуллер? — спросила Натали. — Можно только догадываться. Строить догадки — самое интересное в этом деле. — Они добрались до небольшого сквера, Натали присела на качели и стала потихоньку раскачиваться. Джентри, держась за цепь качелей, стоял рядом. — Самое забавное в случае с мистером Лентоном то, что он покончил с собой на дежурстве. У таких людей вообще не принято тратить рабочее время на самоубийство. Вы ни за что не догадаетесь, где он находился, когда передавал в диспетчерскую данные о своей последней поездке... Натали перестала раскачиваться. — Я не... В аэропорту? — Да. Она тряхнула головой. — Нет, здесь что-то не стыкуется. Если Мелани Фуллер улетала куда-то из аэропорта Атланты, зачем ей было оставлять там деньги или убивать носильщика, а потом таксиста? — Давайте представим себе: ее что-то спугнуло. Или, скажем, она вдруг передумала. Автомобиль, принадлежавший таксисту, исчез — его бывшая жена надоедала полиции почти неделю, пока его наконец не нашли. — Где? — В Вашингтоне. Прямо в центре. — Ничего не понимаю. Разве не естественно предположить, что этот человек просто совершил самоубийство, а кто-то угнал его машину и бросил в Вашингтоне? — Конечно, конечно. Но у истории, рассказанной Солом Ласки, есть одно несомненное достоинство: она заменяет длинную цепь случайностей одним-единственным объяснением. Я вообще большой сторонник бритвы Оккама. Натали улыбнулась и снова принялась раскачиваться. — Только ею надо осторожно пользоваться. А то она затупится, и можно порезать собственное горло. — Верно. — У Джентри было прекрасное настроение. Вечерний воздух, скрип ржавых качелей, напоминающий о детстве, и присутствие этой чудесной девушки, — от всего этого он чувствовал себя счастливым. — И все равно я не хотела бы выходить из игры, — упрямо заявила Натали. — Может быть, мне стоит отправиться в Атланту и заняться этим делом там, пока вы будете действовать в Вашингтоне? — Но это всего на несколько дней, — заверил Джентри. — Отправляйтесь на свою базу в Сент-Луисе, и через некоторое время я с вами свяжусь. — Сол Ласки говорил то же самое. — Послушайте, у меня есть автоответчик и еще аппарат, с помощью которого я могу прослушать по телефону все, что записано на автоответчике. Я всегда все теряю, поэтому у меня две эти штучки... ну, которые дают сигнал определенной высоты тона. Я дам вам одну из них. Обещаю звонить по своему телефону в одиннадцать, каждое утро и каждый вечер. Если у вас будет, что мне сообщить, просто наговорите это на автоответчик. Вы можете связываться со мной точно таким же образом. Натали моргнула. — А не проще вам просто позвонить мне? — Да, проще, но вдруг возникнут какие-нибудь трудности ? — Но... У вас же там могут быть ваши личные записи... Джентри усмехнулся в темноте. — От вас у меня секретов нет, мэм... мисс... Нат... — поправился он. — Или, скажем так, не будет — как только я передам вам эту электронную чертовщину. — Я прямо сгораю от нетерпения. — Натали плотнее запахнула пальто и, сойдя с качелей, взяла шерифа под руку.* * *
Когда они вернулись к дому Джентри, их кто-то поджидал там. В глубокой тени длинного крыльца мерцал огонек сигареты. Они остановились на мощенном каменными плитами тротуаре, шериф медленно расстегнул «молнию» своей куртки, и Натали увидела рукоятку револьвера, засунутого за пояс. — Кто тут? — тихо спросил Джентри. Огонек сигареты вспыхнул ярче, потом исчез, с крыльца спустилась темная фигура. Натали схватила Джентри за руку, когда высокая тень двинулась к ним. — Привет, Роб, — сказал кто-то низким, немного охрипшим голосом, — хорошая ночка для полетов. Я заглянул спросить, не хочешь ли ты полететь вверх вдоль побережья? — Привет, Дэрил, — произнес Джентри, и Натали даже через руку почувствовала, как расслабился после напряжения шериф. Глаза Натали привыкли к темноте, и теперь она различила высокого худого мужчину с длинными, седеющими на висках волосами. Он был одет вовсе не по погоде: в коротко обрезанных джинсах, сандалиях и футболке с выцветшей надписью: КЛЕМСОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Грубоватое лицо и задумчивый вид... — Знакомьтесь, Натали: это Дэрил Микс, — представил незнакомца Джентри. — У Дэрила чартерная контора там, за гаванью. Воздушный извозчик. Несколько месяцев в году он летает с рок-группой, а заодно и сам играет на ударных. Он считает себя наполовину Чаком Нигером, наполовину Фрэнком Заппой. Мы с ним вместе бегали в школу. Дэрил, а это миз Натали Престон. — Рад познакомиться, — кивнул Микс. Рукопожатие было твердым, дружеским, и Натали оно понравилось. — Усаживайтесь. Я пойду раздобуду пива, — сказал Джентри. Натали села в плетеное кресло на крыльце. Микс потушил сигарету о перила веранды, кинул окурок в кусты и устроился в шезлонге, положив ногу на ногу, одна из сандалет повисла на ремешке. — В каком колледже вы учились с шерифом? — поинтересовалась Натали. Ей показалось, что Микс старше Джентри. — В Северо-западном, — дружелюбно пояснил Микс, — но Роб закончил с отличием, а меня выперли и забрили в армию. Пару лет мы жили в одной комнате. Так, двое перепуганных ребят с юга в большом городе. — Вот-вот, — подхватил Джентри, вернувшись с тремя охлажденными банками «Микеланджело». — Дэрил и вправду вырос на юге, точнее, на южной окраине Чикаго. Он никогда не бывал южнее линии Мейсон — Диксон, за одним-единственным исключением, когда однажды провел у меня летние каникулы. Но потом хороший вкус в нем победил, и он переехал сюда — после возвращения из Вьетнама. И вовсе его не выперли из колледжа — он сам ушел и записался добровольцем, хотя еще раньше отслужил в морской пехоте, в самом же колледже был активным пацифистом. Микс сделал большой глоток пива, глянул на банку в тусклом свете и сморщился. — Черт, Роб, и как ты пьешь эти помои? Пей «Пабст» — настоящее пиво. Сколько раз тебе говорить... — Значит, вы были во Вьетнаме? — спросила Натали. Она вспомнила Фредерика и его упорное нежелание говорить об этом, его ярость при одном упоминании той войны. Микс улыбнулся и кивнул. — Да, мэм. Я был воздушным наблюдателем, целых два года. Просто летал кругами в своем малюсеньком «Пайпер-кабе» и сообщал настоящим пилотам в больших истребителях-бомбардировщиках, куда бросать груз. За все время моего пребывания там я ни разу не выстрелил в кого-то по злобе. Самая непыльная работенка, какую только можно себе представить. — Дэрила дважды сбивали, — добавил Джентри. — Он — единственный сорокалетний хиппи из всех, кого я знаю, у которого целый ящик стола забит орденами и медалями. — Все куплено в военторге, — пошутил Микс. Он прикончил пиво, икнул и сказал: — Я так понимаю, что сегодня не самое удачное время для воздушной прогулки, а, Роб? — В следующий раз, амиго, — улыбнулся Джентри. Микс кивнул, встал и поклонился Натали. — Очень рад был познакомиться, мисс. Если вам нужно опылить с воздуха поля, или зафрахтовать рейс, или вдруг понадобится хороший барабанщик, заглядывайте ко мне, в аэропорт на Маунт-Плезант. — Обязательно, — улыбнулась Натали. Микс хлопнул Джентри по плечу, легко сбежал по ступенькам крыльца и исчез в темноте.* * *
Весь вечер они слушали музыку, рассказывали друг другу каждый о своем детстве, играли в шахматы, толковали о том, каково расти на юге, а учиться в колледже на севере, потом вымыли посуду и выпили немного бренди. Натали вдруг заметила, что между ними почти нет никакого напряжения: как будто они знают друг друга уже много лет. Она пришла в восторг, когда Джентри провел ее в комнату для гостей, чистую и тщательно прибранную. Пол без ковра, мебели, кроме простенькой кровати с веревочной сеткой, почти не было, но ее спартанскую суровость скрашивали цветастое покрывало на кровати и украшенные похожим на ананасы орнаментом стены. Джентри показал Натали чистые полотенца в ванной, пожелал ей доброй ночи, в последний раз проверил дверные замки и свет во дворе и вернулся в свою спальню. Переоделся в чистые, удобные тренировочные брюки и футболку. За последние восемь лет Джентри четыре раза попадал в больницу с приступами почечно-каменной болезни, и каждый раз приступ случался ночью. Избавиться от камней было совсем невозможно, хотя он старался придерживаться диеты с низким содержанием кальция, но каждый раз невероятная боль в начале приступа лишала его сил — их хватало только на то, чтобы набрать номер и вызвать «скорую», которая затем везла его в приемный покой. Джентри всегда было неприятно сознавать, что из-за этого он иногда оказывался совершенно беспомощным, и от этой беспомощности никак нельзя было избавиться или предотвратить ее, сколько ни планируй и ни готовься, поэтому он давно уже отказался от пижамы в пользу тренировочного костюма: если уж ему суждено попадать в больницу в среднем раз в два года, его повезут туда все-таки одетым, а не в пижаме. Джентри повесил кобуру с «ругером» на спинку стула рядом с кроватью. Он всегда вешал ее там, даже в самую темную ночь стоило ему потянуться — и пистолет оказывался у него в руке. Джентри долго не мог заснуть, сознание, что через две комнаты от него спит привлекательная молодая женщина, лишало его покоя, но он знал также, что сегодня он не встанет и не пойдет в эту комнату. Он понимал, что это напряжение между ними вовсе не неприятное, и на основе своего собственного влечения к ней мог вычислить, насколько ему отвечают взаимностью, Джентри смотрел, как по потолку движутся отражения автомобильных огней, и слегка хмурился. Нет, только не сегодня. Какие бы возможности ни таили в себе их отношения, время было решительно неподходящее. Инстинкт подсказывал ему, что Натали надо немедленно убрать из Чарлстона, подальше от всего этого безумия, что разыгрывается вокруг них. А инстинкты Джентри никогда не подводили, они не раз спасали ему жизнь, и он им верил. Он пошел на огромный риск, позволив ей провести ночь у себя, но он не знал, как еще можно обеспечить безопасность девушки до утреннего рейса. Кто-то за ним следил — и кто-то не один, а несколько людей. Он не был в этом уверен до вчерашнего дня — среды, сочельника, кануна Рождества. Утром он провел в машине почти полтора часа, разъезжая по городу, чтобы убедиться в этом и вычислить все автомобили, задействованные в слежке. Теперь это сделали не так грубо, как на прошлой неделе, наоборот, слежка была настолько профессиональной, что Джентри догадался о ней только благодаря своей интуиции. Задействовано было по крайней мере пять машин; одно такси, четыре же других абсолютно не так бросались в глаза — самый ходовой ширпотреб, какой только выпускают автозаводы в Детройте. Но три из них оказались похожими на тот «Бьюик», с которым он недавно играл в кошки-мышки. Одна из машин следовала за ним далеко позади, не приближаясь, а когда он резко менял направление, за ним увязывалась другая. Лишь через пару дней Джентри догадался, что вторая машина иногда не шла сзади, а обгоняла его. Чтобы организовать такую слежку, нужна была — он это знал точно — по крайней мере дюжина автомобилей, вдвое больше людей и радиосвязь. Джентри прикинул, способен ли чарлстонский отдел внутренних дел организовать такое, но сразу же отбросил эту мысль: во-первых, его прошлое, его образ жизни, те дела, которыми он сейчас занимался, никак не могли вызвать такого внимания; во-вторых, бюджет полиции Чарлстона просто не выдержал бы подобной нагрузки; а в-третьих, те полицейские, которых он знал, не смогли следить за подозреваемым с такой ювелирной точностью, даже если бы от этого зависела их жизнь. Кто же тогда оставался? ФБР? Джентри терпеть не мог Ричарда Хейнса и не доверял ему, но он не мог назвать какие-либо причины, по которым ФБР может подозревать чарлстонского шерифа в связи с авиакатастрофой или убийствами в «Мансарде». Может, это ЦРУ? Но с какой стати? Джентри сразу отмел эту мысль, не отрывая взгляда от потолка. Он только начал засыпать — ему даже успело присниться, что он в Чикаго, ищет какую-то аудиторию в университете и никак не может найти, — когда услышал крик Натали. Еще толком не проснувшись, Джентри схватил «ругер» и кинулся в коридор. Раздался еще один крик, на сей раз приглушенный, затем рыдание. Джентри опустился на колено рядом с дверью, попробовал ручку — дверь была не заперта, — и рывком распахнул ее, отскочив назад, чтобы его не было видно из комнаты. Он выждал немного, потом, пригнувшись, бросился вперед, держа «ругер» в вытянутых руках и поводя дулом по все стороны. Кроме Натали, в комнате никого не было, она сидела на кровати и рыдала, сжав руками лицо. Джентри оглядел комнату, проверил, закрыто ли окно, тихонько положил «ругер» на тумбочку и присел рядом с ней на кровать. — Из... извините меня, — заикаясь, пробормотала девушка сквозь слезы. В голосе ее не было аффектации, только страх и смущение. — Ка-каждый раз, как я на-начинаю з-засыпать, эт... эти руки об-обхватывают меня сзади... — Усилием воли она заставила себя перестать плакать и потянулась к коробке с бумажными салфетками на тумбочке. Джентри обнял ее левой рукой. Она с секунду сидела неподвижно и вдруг прижалась к нему; ее волосы щекотали его щеку и подбородок. Еще несколько минут она продолжала мелко дрожать — страх, который разбудил ее, все еще не отпускал. — Все хорошо, — пробормотал Джентри, поглаживая ее плечи. — Все будет хорошо. — Он чувствовал себя так, будто гладит котенка, — рука касалась чего то мягкого и неземного. Немного спустя, когда Джентри уже подумал, что она уснула, Натали подняла голову, обхватила его шею теплыми руками и поцеловала. Поцелуй получился долгим и страстным, и у них обоих закружилась голова. Он чувствовал, как ее полная мягкая грудь прижимается к его груди. Когда Джентри наконец смог взглянуть на Натали, он увидел ее запрокинутое в экстазе нежное лицо, их пальцы были крепко сплетены, и ему передалась дрожь, пробегающая волной по ее телу, но то была не дрожь страха, нет, на сей раз не страх владел телом девушки...* * *
Самолет Натали вылетал в Сент-Луис на два часа раньше, чем самолет Джентри — в Нью-Йорк. На прощанье она поцеловала его. Они оба родились и выросли на юге, впитали в себя привычки и понятия юга, и оба знали, что поцелуй черной женщины и белого мужчины в общественном месте, даже в восьмидесятом году, вызовет молчаливые упреки — кое-кто обязательно фыркнет и удивленно поднимет брови. Но им было в высшей мере наплевать на это. — Подарки на память, — сказал Джентри и протянул ей номер «Ньюсуик», местную утреннюю газету и передатчик тоновою сигнала для автоответчика. — Я сегодня проверю, что там будет. Натали кивнула, решила ничего не говорить и быстро пошла к выходу на посадку. Через час, в небе где-то над штатом Кентукки, она отложила «Ньюсуик», взяла газету и наткнулась на заметку, которая навсегда изменила ее жизнь. "ФИЛАДЕЛЬФИЯ (Ассошиэйтед Пресс) (АП). Полиция Филадельфии еще не обнаружила каких-либо улик или подозреваемых по делу об убийстве в Джермантауне четырех членов молодежной банды, которое лейтенант Лео Хартвелл из городского отдела по убийствам назвал «одним из самых диких преступлений, виденных им за десять лет службы в полиции». В рождественское утро, — сообщалось далее, — четверо членов молодежной уличной банды «Душевный Двор» были найдены мертвыми неподалеку от Рыночной площади Джермантауна. Имена жертв и конкретные детали преступления не сообщаются, однако известно, что жертвам было от четырнадцати до семнадцати лет и что тела их были обезображены. Лейтенант Хартвелл, возглавляющий расследование, отказывается подтвердить или опровергнуть сообщение с места преступления, о том что все четверо юношей были обезглавлены. «Мы приступили к тщательному и непрерывному расследованию, — сказал капитан Томас Морано, начальник отдела по делам убийств. — Сейчас разрабатываем все возможные версии». Район Филадельфии, под названием Джермантаун, всегда отличался высоким уровнем преступности, связанной с молодежными бандами: в 1980 году в разборках между бандами здесь погибло два человека, а в 1979 — шестеро. Преподобный Уильям Вудс, директор Благотворительного дома в Джермантауне, сказал: «В последние десять месяцев разборки между уличными группировками утихли, каких-либо данных о распрях или вендеттах сейчас нет». Группировка «Душевный Двор» — одна из дюжины молодежных банд в районе Джермантауна; по некоторым данным, в ней около сорока постоянных членов и примерно вдвое больше приставших к банде. Как и большинство других уличных группировок в Филадельфии, она издавна конфликтует с органами правопорядка, хотя в последние годы были предприняты попытки улучшить имидж таких группировок посредством выдвинутых городскими властями программ типа «Дом Завета» и «Доступ к Обществу». Все четверо погибших юношей — члены банды «Душевный Двор».* * *
Натали инстинктивно, в одно мгновение и без всяких сомнений, поняла, что это как-то связано с Мелани Фуллер. Она понятия не имела, как эта старуха из Чарлстона может быть вовлечена в разборки между уличными бандами в Филадельфии, но снова как бы ощутила пальцы, сдавившие ей горло, и услышала горячий шепот прямо над ухом: «Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне». В Международном аэропорту Сент-Луиса, который старожилы все еще называли Поле Ламберта, Натали приняла решение прежде чем успела испугаться последствий. Она знала, что стоит ей позвонить Фредерику и встретиться с друзьями — и она никогда уже не уедет из Сент-Луиса. Натали закрыла глаза и вспомнила своего отца: как он лежал в пустой комнате бюро похоронных услуг, один, его лицо еще не было приведено в порядок, и раздраженный работник морга снова и снова повторял: «Но мы не ждали никого из родственников до завтрашнего дня». Она купила себе билет до Филадельфии на следующий рейс TWA, воспользовавшись кредитной карточкой. В бумажнике у нее оставалось долларов двести наличными и шестьсот пятьдесят — дорожными чеками. Она проверила, сохранилось ли у нее удостоверение представителя прессы с прошлого лета, когда она работала на «Чикаго Сан-Тайме», и затем позвонила Бену Йейтсу, редактору фотоотдела этой газеты. — Ната! — донесся до нее голос сквозь треск в трубке и шум аэропорта. — Я думал, ты в колледже до самого мая. — Так и есть, Бен, — подтвердила Натали, — но сейчас я на несколько дней отправляюсь в филадельфию, и я подумала — может, тебе нужны будут фотографии по этому делу об убийстве членов уличной банды. — Конечно, нужны, — неуверенно сказал Йейтс. — А что это за дело? Она вкратце передала смысл заметки. — Какого черта! Не будет там никаких фото! — воскликнул Йейтс. — А если и будет, так их передадут по фототелеграфу. — Ну а если я раздобуду что-нибудь интересное, тебе это может понадобиться, Бен? — Конечно, конечно. А что происходит, Ната? У вас все в порядке? Как отец? Натали чуть согнулась и охнула, будто ее ударили в живот. Очевидно, Бен еще не знал о гибели ее отца. Она подождала, пока дыхание немного успокоится, потом сказала: — Я тебе все расскажу, Бен. Как-нибудь позже. А пока — если тебе позвонят из филадельфийской полиции или еще откуда-нибудь, ты сможешь подтвердить, что я выполняю работу для «Сан-Тайме» ? Короткое молчание. — Да, конечно, Ната. Определенно скажу. Но ты дашь мне знать, в чем там дело, ладно? — Конечно, Бен, конечно. Как только смогу. Честно. Перед отлетом Натали связалась с университетским компьютерным центром и попросила передать Фредерику, что скоро позвонит. Потом она набрала номер Джентри в Чарлстоне, услышала его голос на автоответчике и после сигнала продиктовала в трубку: «Роб, это я, Натали», рассказав о том, что у нее поменялись планы и почему. Немного поколебавшись, она добавила: «Будь осторожен, Роб». В салоне самолета, летевшего прямым рейсом до Филадельфии, было много народу. Мужчина, сидевший рядом с ней, черный, очень хорошо одетый, привлекательный, если не обращать внимания на толстую шею и крупную челюсть, — не отрываясь, читал «Уолл-стрит Джорнел». Натали сначала смотрела в окно, затем немного подремала. Проснулась она минут через сорок пять, чувствуя себя одиноко и дискомфортно. И сразу пожалела, что отправилась в эту погоню за привидениями. Она вытащила из своей сумки фоторепортера чарлстонскую газету и в десятый раз перечитала заметку. У нее было впечатление, будто она уже давно уехала из Чарлстона, что все случившееся с ней — и Роб тоже — это сон. — Я вижу, вы читаете про это безобразие, которое случилось недалеко от моего дома. Натали повернула голову. Ее сосед в прекрасно сшитом костюме отложил «Уолл-стрит Джорнел» и теперь улыбался ей, держа в руке стакан виски. — Вы спали, когда стюардесса разносила напитки, — сказал он. — Хотите, я ее позову? — Нет, спасибо. — Что-то не понравилось Натали в манерах этого человека, хотя трудно было сказать, что именно: все в нем — улыбка, негромкий голос, непринужденная поза — выражало открытое дружелюбие. — А что вы имели в виду, когда сказали про безобразие недалеко от вашего дома? Он указал рукой со стаканом виски в сторону газеты. — А вот эти разборки между бандами. Я как раз живу в Джермантауне. Эта мерзость происходит там постоянно. — Вы можете мне рассказать про все это? Про банды и про... убийства? — Про банды могу, — кивнул сосед. Его голос напоминал Натали раскатистый бас актера Джеймса Эрла. — А вот про убийства — нет. В последние несколько дней меня не было в городе. — Тут он широко улыбнулся. — И потом, мисс, я из другого района города, несколько повыше классом, чем эти бедные ребята. Вы собираетесь посетить Джермантаун, пока будете в Филадельфии ? — Не знаю. А что? — Он улыбнулся еще шире, хотя в его темно-карих глазах трудно было что-нибудь прочесть. — Просто я подумал, что это будет хорошо, — непринужденно сказал он. — Джермантаун — историческое место, очень интересное для туристов. Там есть богатство и красота, а не только трущобы и банды. Мне бы хотелось, чтобы вы знали про обе эти стороны — если вы просто навещаете кого-то в Филадельфии. Но, может быть, вы там живете? Может, я делаю какие-то поспешные выводы? Усилием воли Натали заставила себя расслабиться. Нельзя ведь всю жизнь проводить в состоянии параноидального беспокойства и тревоги. — Нет, я просто еду в гости, — улыбнулась она. — И мне хотелось бы услышать как можно больше про Джермантаун. И плохое, и хорошее. — Вот это правильно, — одобрил негр. — Знаете, мне хочется попросить еще виски. — Он поманил стюардессу. — Вы действительно ничего не хотели бы выпить? — Пожалуй, стакан кока-колы. Он заказал напитки, потом снова повернулся к ней, все так же улыбаясь. — Ну что ж, если я буду вашим официальным гидом по Филадельфии, нам, по крайней мере, следует познакомиться... — Меня зовут Натали Престон, — сказала Натали — Рад познакомиться, мисс Престон, — произнес мужчина с вежливым полупоклоном. — А я — Енсен Лугар. К вашим услугам. «Боинг-727» плавно скользил в облаках, без усилий приближаясь к быстро надвигавшейся зимней ночи.Глава 4
Александрия, штат Виргиния Четверг, 25 декабря 1980 г. За Ароном и его семьей пришли в третьем часу рождественского утра. Арон спал плохо. После полуночи он встал, спустился вниз и стал уничтожать вкусное домашнее печенье — подарок от соседей, Уэнтвортов. Они провели приятный вечер. Третий год подряд они собирались за рождественским столом вместе с Уэнтвортами и Доном и Тиной Сиграм. Жена Арона, Дебора, была еврейкой, но ни он, ни она не принимали свою религию всерьез; Дебора не совсем понимала Арона, когда он называл себя сионистом. Арон часто думал о том, что жена здорово вписалась в американский образ жизни. Она готова была пропускать через себя любые проблемы, даже такие, которых нет в природе. Арону всегда было неудобно на приемах и вечеринках в посольстве, когда Дебора вдруг начинала защищать точку зрения ООП. Нет, не ООП, поправил себя Арон, доедая третье печенье, а палестинцев. «Сделаем такое допущение...» — предлагала Дебора и затем лихо развивала эту тему. У нее это здорово получалось, гораздо лучше, чем у Арона. Ему иногда казалось, что он вообще мало в чем разбирается, кроме кодов и шифров. А дядя Сол ( удовольствием вступал в спор с Деборой. Кстати, о дяде Соле. Арон потратил четыре дня, обдумывая, не сообщить ли о его исчезновении Джеку Коуэну, своему начальнику и главе отделения Моссада в вашингтонском посольстве. Джек был тихий мужчина невысокого роста, от него исходило ощущение слегка небрежного дружелюбия. И еще он служил капитаном-десантником, когда участвовал в налете на Энтеббе четыре года назад. Кроме того, о нем говорили, что это он разработал план захвата египетской ракетной установки САМ во время йом-киппурской войны. Джек никак не мог решить, стоит ли придавать серьезное значение факту исчезновения Сола или нет. Но Леви настаивал на осторожности. Леви Коул, друг Арона, работавший вместе с ним в шифровальном отделе, сделал снимки и помог выяснить, кто есть кто. Он был полон энтузиазма, считая, что дядя Арона наткнулся на нечто очень важное, но не хотел обращаться к Джеку Коуэну или мистеру Бергману, атташе посольства, не имея более подробной информации. Именно Леви помог Арону без шума проверить в воскресенье все местные отели, но поиски Сола Ласки оказались безрезультатными. Было десять минут второго, когда Арон выключил свет на кухне, проверил сигнализацию в коридоре внизу, поднялся в спальню и лег, уставившись в потолок. Сна не было... Близнецы были ужасно разочарованы. Арон сказал Бекки и Рии, что в субботу вечерком приедет дядя Сол. Он приезжал в Вашингтон всего раза три или четыре в год, и близняшки, четырехлетние девочки, обожал, когда дедушка (они приходились Солу внучатыми племянницами) навещал их. Арон мог это понять; он помнил, как сам всегда ждал визитов Сола, когда был мальчишкой и жил в Тель-Авиве. В каждой семье дол жен быть дядя или дедушка, который не подлаживается к детям, но обращает на них внимание, когда они говорят что-то важное, приносит именно тот подарок, какой нужен (не обязательно большой, но всегда интересный ребенку), который рассказывает истории и шутит ироничным, спокойным тоном, и это получает ся гораздо веселее, чем натужное веселье некоторых взрослых. И это было совсем не похоже на Сола когда он обещал, он непременно выполнял обещание... Леви сказал, что Сол, возможно, как-то связан со взрывом в офисе сенатора Келлога в ту субботу. Связь с Ниманом Траском была слишком очевидной, чтобы ее можно было отбросить, но Арон знал, что его дядя ни за что не станет прибегать к акту террора в любой форме: у Сола был шанс заняться этим делом в сороковых, когда все, от отца Арона до Менахема Бегина, занимались такого рода деятельностью, — теперь же эти бывшие партизаны осуждали ее как терроризм. Арон знал, что Сол участвовал в трех войнах, всегда был на передовой линии, но всегда в качестве санитара, а не бойца. Он вспомнил, как засыпал в квартире в Тель-Авиве или на ферме летними ночами, слушая голоса своего отца и дяди Сола, споривших о безнравственности бомбардировок; Сол при этом громко напирал на то, что от актов возмездия «Скайхоков» грудные дети погибали точно так же, как от налетчиков из ООП с их «Калашниковыми». Леви и Арон потратили четыре дня, пытаясь расследовать взрыв в здании Сената, но так ничего и не добились. Обычные источники Леви в Министерстве юстиции и ФБР не сообщали ничего. Арон несколько раз звонил в Нью-Йорк, нослед Сола потерялся. "Да ничего с ним не случилось, — успокоил себя Арон и вслух проговорил, имитируя голос дяди Сола: — Не надо играть в Джеймса Бонда, Модди". Сон пришел внезапно, в усталом мозгу уже мелькали картинки: близнецы прыгают у елки Уэнтвортов... И тут вдруг он услышал какие-то звуки в коридоре. Мгновенно стряхнув сон, Арон откинул одеяло и, схватив с тумбочки очки, вытащил из ящика заряженную «беретту». — Что?.. — спросонья начала было Дебора. — Тихо, — прошипел Арон. По идее никто не мог проникнуть в дом так, чтобы не сработала сигнализация. В прошлом посольство использовало дом в Александрии как конспиративную квартиру. Он стоял в тихом тупичке, довольно далеко от проездной дороги. Двор хорошо освещался, в воротах и стенах были вмонтированы сенсоры, приводившие в действие сигналы тревоги на панели в главной спальне и внизу в холле. Войти в дом можно было только через укрепленные стальными плитами двери, снабженные системой запоров, перед которой у самого профессионального взломщика опустились бы руки: сенсоры на дверях и окнах также соединялись с системой сигнализации. Дебору раздражали многочисленные ложные тревоги на внешнем периметре, и она даже отключила часть системы вскоре после того, как они переехали сюда. То был один из редких случаев, когда Арон накричал на нее. Дебора постепенно смирилась с системой безопасности, как и с той ценой, которую приходилось платить за то, что они жили так далеко в пригороде. Арону тоже не нравилась удаленность от работы, от товарищей по посольству, но он не возражал, поскольку близнецам хотелось жить за городом, и Дебора в конце концов тоже была довольна. Преодолеть оба уровня системы безопасности невозможно: обязательно должна сработать сигнализация, — так полагал Арон. Из коридора донесся еще один звук, откуда-то со стороны черной лестницы и детской. Арону показалось, что он слышит тихий шепот. Он махнул Деборе, жестом велев ей лечь на пол с другой стороны кровати. Она так и сделала, стащив вместе с собой и телефон. Арон подошел к открытой двери спальни. Он глубоко вдохнул, левой рукой плотнее надвинул очки, вогнал патрон в патронник и выскочил в коридор. Трое парней, а может, и больше, стояли не далее чем в пяти метрах от него. На них были плотные полевые куртки, перчатки и лыжные маски. То, что увидел Арон, было ужасно: два террориста держали в руках пистолеты, приставив длинные стволы к головам Ребекки и Рии. Руками в перчатках они зажимали рот близняшкам, на фоне темных курток виднелись только расширенные от ужаса глаза да белели ножки в пижамах. Не раздумывая ни секунды, Арон принял стойку для стрельбы, как его учили на бесчисленных тренировках: широко расставил ноги и вскинул «беретту». В ушах у него зазвучал неторопливый и строгий голос Элиаху, его старого инструктора: «Если они не готовы, стреляй. Если они готовы, стреляй. Если у них заложники, стреляй. Если целей больше одной, стреляй. Два выстрела в каждого. Два. Не думай — стреляй» Но это же не заложники, это его дочери — Ребекка и Рия Арон видел картинки с Микки Маусом на их пижамках. Он навел маленькую «беретту» на первую маску. В тире, даже при плохом освещении, он мог бы держать пари на кучу долларов, что может всадить две пули в любую мишень величиной с человеческую голову, повернуться всем телом, все так же выпрямив руки, и послать еще две пули во второе лицо. На расстоянии пяти шагов Арон всаживал полную обойму из десяти пуль двадцать второго калибра в кружок размером с кулак. Но ведь здесь — его дочери!.. — Брось оружие, — прозвучал голос человека, приглушенный лыжной маской. Его пистолет — длинноствольный «люгер» с черной трубкой глушителя — не был даже направлен точно в голову Бекки. Арон знал, что мог уложить обоих, прежде чем они выстрелят. Деревянный пол словно горел под его босыми ступнями — не прошло двух секунд, как он выскочил в коридор. «Никогда не отдавай своего оружия, — внушал им Элиаху в то жаркое лето в Тель-Авиве. — Никогда. Всегда стреляй на поражение. Лучше убить противника, даже если придется самому или заложнику погибнуть или быть раненым, чем сдать оружие». — Брось, тебе говорят. Не выходя из стойки, Арон осторожно положил заряженную «беретту» на пол и широко развел руки. — Пожалуйста. Пожалуйста... Не трогайте детей. Их оказалось не трое, в восьмеро. Они связали Арону руки за спиной лейкопластырем, у них его был целый моток, вытащили Дебору из-за кровати и отвели всех четверых вниз, в гостиную. Двое мужчин в масках отправились на кухню. — Модди, телефон не работал, — успела выдохнуть Дебора, до того как тащивший ее захватчик заклеил ей рот. Арон кивнул. Он не решался заговорить. Его посадили на пуфик около пианино, а Дебору с девочками на пол, спиной к белой стене. Они не залепили рты детям и не связали их, обе девочки рыдали в голос, обнимая маму. Справа и слева от них присели на корточках двое — в камуфляжных куртках, джинсах и лыжных масках. Главарь кивнул, и все шестеро стянули маски. «О Боже, значит, они собираются нас убить», — подумал Арон. В эту секунду он отдал бы все, что когда-то имел или надеялся иметь, лишь бы повернуть время вспять на три минуты. Он бы выстрелил дважды, повернулся, еще выстрелил дважды, еще повернулся бы... Все шестеро — белые, загорелые, хорошо ухоженные — совсем не походили на палестинских агентов или коммандос из организации Бадер-Майнхоф. Они выглядели скорее как обычные люди, которых Арон видел каждый день на улицах Вашингтона. Тот, что стоял перед ним, наклонился, его лицо было теперь совсем близко от лица Арона. У него были голубые глаза и идеальные зубы. Легкий акцент выдавал в нем уроженца Среднего Запада. — Мы хотим поговорить с тобой, Арон. Арон кивнул. Его руки были связаны за спиной так туго, что он уже не чувствовал их. Если упасть на спину, еще можно дать хорошего пинка в рожу этому красавчику, склонившемуся над ним. Остальные пятеро были вооружены и стояли слишком далеко — он не смог бы дотянуться до них ни при каких условиях. Арон почувствовал желчный привкус во рту; усилием воли он попробовал замедлить сумасшедшее биение сердца. — Где фотографии? — спросил этот человек приятной наружности, что стоял перед ним. — Какие фотографии? — Арон не верил своим ушам: он не только смог заговорить — его голос звучал твердо, не выдавая никаких эмоций. — Да ну, Модди, не надо играть с нами в прятки. — Главарь кивнул худощавому парню, стоявшему у стены. Все с тем же безучастным выражением тот ударил четырехлетнюю Бекки по лицу. Девочка закричала. Дебора попыталась освободиться, она тоже кричала, хотя ее голоса не было слышно. Арон встал. «Сучий сын!» — крикнул он на иврите. Главарь свалил его на пол ударом ноги. Арон упал на бок, сильно ударившись носом и скулой о полированный пол. Теперь уже закричали обе девочки. Арон слышал, как они с треском отмотали пластырь, и крики прекратились. Худощавый подошел, поднял Арона и с силой снова посадил на пуфик. — Фотографии в доме? — тихо спросил главарь. — Нет. — Арон покачал головой. Кровь из носа потекла на верхнюю губу. Он запрокинул голову и почувствовал, как кровоподтек на щеке наливается кровью. Правая рука онемела. — Они в сейфе в посольстве, — сказал он, слизывая кровь с губы. Главарь кивнул и слегка улыбнулся. — Кто их видел, кроме твоего дяди Сола? — Леви Коул. — Начальник отдела связи, — сказал тот тихо, подбадривающе. — Исполняющий обязанности начальника, — уточнил Арон. Возможно, какой-то шанс все же есть. Сердце его снова бешено забилось. — Ури Давиди в отпуске. — Кто еще? — Больше никто, — еле выдавил из себя Арон. Главарь покачал головой, словно Арон его разочаровал. Он кивнул одному из своих подручных. Дебора вскрикнула — нога в тяжелом ботинке с силой пнула ее в бок. — Никто! — закричал Арон. — Клянусь! Леви не хотел обращаться к Джеку Коуэну, пока мы не получим больше информации. Клянусь... Я могу раздобыть фотографии. А негативы у Леви в сейфе. Можете забрать... — Тихо, тихо. — Вожак повернулся к тем двоим, что вошли из кухни. Один из них кивнул. Человек рядом с Ароном приказал: — Наверх. Четверо стали подниматься по лестнице. Арон вдруг ощутил запах газа. «Они открыли газ на кухне, — подумал он. — Открыли вентили. Зачем, о Боже, зачем?» Трое оставшихся внизу связали детям руки и ноги, потом скрутили ноги Деборы. В отчаянии Арон пытался что-то придумать, о чем можно было поторговаться, предложить им хоть что-то... — Я могу вас повести сейчас прямо туда, — сказал он. — Там в это время никого нет. Почти никого. Вы можете послать кого-нибудь со мной. Я достану фотографии — какие угодно документы. Скажите, что вам нужно? Я поеду с вами, клянусь... — Тс-с-с... — прошипел главарь. — Хейни Адам видел их? — Нет, — выдохнул Арон. Он смотрел, как они укладывали Деб и близнецов на пол, укладывали осторожно, чтобы их головы не ударились о дерево. Дебора была очень бледна, глаза ее закатились — Арон подумал, что она, наверно, потеряла сознание. — Барбара Грин? — Нет. — Моше Герцог? — Нет. — Пол Бен-Бриндси? — Нет. — Хаим Тсолков? — Нет. — Зви Хофи? — Нет. Этот допрос мог продолжаться бесконечно, главарь называл имя за именем, перебирая всех сотрудников израильского посольства, вплоть до помощников посла. Арон понял, что с самого начала это была всего лишь игра, просто безобидный способ убить время, пока идет обыск наверху и у него в кабинете. Он был согласен играть в эту игру, выдать любой секрет, лишь бы они не причиняли боль Деборе и близнецам. Одна из девочек застонала, попыталась перекатиться набок. Худощавый похлопал ее по крохотному плечику. Четверка вернулась. Тот, что был выше всех, отрицательно мотнул головой. Красавец вздохнул и сказал: — Что ж, приступим. Один из тех четверых, что вернулись, держал в руке белую детскую простынку. Он прилепил ее лейкопластырем к стене. Потом к стене прислонили Дебору и детей. — Приведите-ка ее в чувство. Худощавый достал из кармана ампулу с нюхательной солью и разломил ее у Деборы под носом. Она сразу пришла в себя и вскинула голову. Два человека схватили Арона за плечи и за волосы, подтащили к стене и поставили на колени. Худощавый отступил назад, вытащил небольшой «Полароид» и сфотографировал Арона. Подождав, пока они проявятся, он показал снимки главарю. Еще один из налетчиков вытащил небольшой магнитофон «Сони» и поставил его рядом с Ароном. — Пожалуйста, прочитай вот это, — сказал вожак, разворачивая листок с напечатанным на машинке текстом и поднося его к глазам Арона. — Нет. — Арон напрягся, ожидая удара. Он хотел любым способом поломать им сценарий, хоть как-то выиграть время. Главарь задумчиво кивнул и отвернулся. — Убейте одну из девочек, — тихо приказал он. — На выбор. — Нет! Постойте! Прошу вас! — пронзительно закричал Арон. Худощавый приставил глушитель к виску Ребекки, взвел курок пистолета и глянул на своего предводителя. — Одну секунду, пожалуйста, Дональд, — тот снова поднес листок бумаги к лицу Арона и включил магнитофон. — Дядя Сол. Деб, детишки и я, мы все в порядке, но я прошу вас — сделайте все, что они вам скажут... — начал Арон. Он медленно прочитал те несколько абзацев, что были напечатаны на бумажке. Это заняло меньше минуты. — Прекрасно, Арон, — похвалил главарь. Два человека снова схватили Арона за волосы и с силой запрокинули его голову назад. Арон едва мог дышать — так напряглось его горло; скосив глаза, он пытался хоть что-то увидеть. Простынку сняли со стены и унесли. Один из банды вытащил из кармана куртки кусок черного полиэтилена и расстелил его на полу перед Деборой. От него несло запахом дешевой клеенки. — Тащите-ка его сюда, — приказал главный, и Арона снова поволокли к пуфику. В ту секунду, когда они отпустили его волосы, Арон распрямился, как пружина, ударил головой вожака в подбородок, повернулся, боднул еще одного в живот, уворачиваясь от множества потянувшихся к нему рук, ногой нацелился противнику между ног, но промахнулся, и тут его свалили — один потянул на себя, двое навалились сверху, он снова сильно ударился лицом, но ему уже было не до этого... — Что ж, начнем сначала, — спокойно сказал красавец, ощупывая разбитый подбородок. Позевывая, он пытался натянуть мышцы челюсти. Синяк, скорее всего, окажется ниже подбородка. — Кто вы? — выдохнул Арон, когда они снова рывком усадили его на пуфик. Один из них стянул его щиколотки липкой лентой. Ему никто не ответил. Худощавый подтащил Дебору и поставил ее на колени на черный полиэтилен. У двоих в руках были тонкие проволочки сантиметров по пятнадцать, заостренные с одного конца, а с другого заделанные в деревянные конусовидные рукоятки. В комнате страшно воняло газом. Арон чувствовал, что его вот-вот стошнит от запаха. — Что вы хотите делать? — Горло Арона так пересохло, слова звучали хрипло. Главарь что-то отвечал ему, но мысли Арона, казалось, пошли юзом, словно автомобиль на черном льду, мозг его переключился в какое-то другое измерение, и Арон стал смотреть откуда-то сверху на все происходящее, отказываясь принять, осознать то, что должно случиться, и все же зная, что это непременно случится, чувствуя, что нет никакой возможности изменить что-либо хотя бы на один миг — ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем... Сердце сдавило от невероятной, неумолимой безнадежности, той самой безнадежности, что ощущали до него сотни поколений евреев — у дверей крематориев или смертельных «душегубок», или перед стихией огня, пожирающего их храмы, города, гетто, или под ударами бичей свирепых гоев. «Дядя Сол знал», — подумал Арон, крепко зажмурившись и отказываясь понимать разумом происходящее. — Сейчас произойдет взрыв газа, — звучал будто где-то далеко ненавистный спокойный голос главаря. — Потом пожар. Обгоревшие тела будут обнаружены в постелях. Опытный коронер или врач может установить, что люди умерли незадолго до пожара, в котором обуглились тела, но он этого не обнаружит. Проволочка вводится в угол глаза — и идет прямо в мозг. Остается очень маленькая дырочка, даже если тело не обгорело. — Он повернулся к остальным. — Я думаю, миссис Эшколь найдут в коридоре наверху — она будет обнимать руками своих детей. Им почти удастся ускользнуть от пламени. Женщину — первой. Потом близнецов. Арон пытался вырваться, кричал, сучил ногами, бился головой, но его держали крепко. — Кто вы?! — кричал он. — Кто мы? — переспросил красивый мужчина. — Да никто. Абсолютно никто. — Он отошел в сторону, чтобы Арон мог лучше видеть то, что будут делать остальные. Когда к нему подошли с проволочкой, Арон больше не сопротивлялся...Глава 5
Мелани Направляясь к северу и наблюдая из окна автобуса бесконечную вереницу трущоб Балтимора и промышленной клоаки Вилмингтона, я вспомнила строчку из Блаженного Августина: «На севере дьявол обоснует свои города». Я всегда испытывала ненависть к большим северным городам — к их смраду неперсонифицированного безумия, мрачным, давящим столбам угольного дыма, ощущению безнадежности, которое словно окутывало грязные улицы и их не более чистых обитателей. Всегда считала, что самое очевидное проявление предательства Нины Дрейтон — это то, что она променяла юг на холодные каньоны Нью-Йорка. Однако я не собиралась углубляться на север так далеко. Внезапно обрушившийся снегопад скрыл унылые удручающие картины, мелькавшие за окном, и я вновь переключила внимание на то, что происходит в салоне автобуса. Женщина, сидевшая по другую сторону прохода, оторвалась от книги и лукаво улыбнулась мне, уже в третий раз с тех пор, как мы выехали из пригородов Вашингтона. Я кивнула ей и продолжала вязать. Я уже начала подумывать, что эта робкая дама, сидевшая неподалеку, вероятно, лет пятидесяти с небольшим, но отмеченная печатью дряхлости старой девы, может мне помочь разрешить кое-какие проблемы. По крайней мере, одну из них. Когда мы выехали из Вашингтона, я ощутила облегчение. В молодости мне еще нравился этот сонный, южного типа город; вплоть до самой второй мировой войны в нем царил дух свободной раскованной неразберихи. Но теперь этот мраморный муравейник казался мне претенциозным мавзолеем, кишащим суетящимися насекомыми, стремящимися к власти. Я взглянула в окно на снежные завихрения и какое-то мгновение не могла даже вспомнить число и месяц. Первым в памяти всплыл день недели — четверг. Две ночи — со вторника на среду и со среды на четверг — мы провели в каком-то жутком мотеле в нескольких милях от центра Вашингтона. В среду я приказала Винсенту отвезти «Бьюик» к окрестностям Капитолия, оставить его там и вернуться в мотель пешком. Это заняло у него три часа, но он не жаловался. В будущем он тоже не станет жаловаться. Во вторник ночью я заставила его позаботиться о некоторых необходимых частностях, снабдив его обычной ниткой и иголкой, которую накалила на пламени свечи. Покупки, сделанные мною в среду утром, — несколько платьев, халат, нижнее белье — удручающе контрастировали с теми изысканными вещами, оставленными в аэропорту, в Атланте. Однако в моей дурацкой соломенной сумке все еще оставалось почти девять тысяч долларов. Конечно, можно было получить деньги из сейфов и сберегательных счетов в Чарлстоне, Миннеаполисе, Нью-Дели и Тулоне, но пока у меня не было намерения воспользоваться этими суммами. Раз Нине было известно о моем счете в Атланте, она может знать и об остальных. «Нина мертва», — в который раз твердила я себе. Но из нас всех она обладала самой сильной Способностью. Она использовала одну из пешек Вилли, чтобы уничтожить его самолет, в тот самый момент, когда сидела и болтала со мной. Возможно, она могла добраться до меня и из могилы, ее Способность не умирала, пока астральное тело Нины Дрейтон разлагалось в гробу. Сердце мое стало учащенно колотиться, и я искоса взглянула на лица, едва различимые в автобусном полумраке... «Нина мертва». Сегодня 18 декабря, четверг, значит — до Рождества остается ровно неделя. Мы встречались двенадцатого. С тех пор, казалось, миновала целая вечность. За последние двадцать лет в моей жизни происходило не так уж много видимых перемен, если не считать вынужденных поблажек, которые я делала себе. Теперь псе переменилось. — Извините меня, — не выдержала та дама, что сидела по другую сторону прохода, — но я не могу удержаться, чтобы не выразить свое восхищение вашим вязанием. Это свитерок для внука? Я одарила женщину своей самой лучезарной улыбкой. Когда я была совсем маленькой и еще не знала о существовании вещей, которых не положено делать барышне, я ездила с отцом на рыбалку. И больше всего ему нравились первые подергивания лески, робкие подрагивания и рывки поплавка. Именно в тот момент, когда рыбка готова была проглотить наживку, рыболов должен был проявить все свое умение. — О да! — ласково ответила я. От одной мысли о хнычущем внуке меня чуть не стошнило, но я давно уже открыла для себя целительное влияние вязания и психологический камуфляж, обеспечиваемый им в общественных местах, — Мальчик? — Девочка, — ответила я и проникла в сознание женщины. Это оказалось так же просто, как войти в открытую дверь. Я не встретила ни малейшего сопротивления. Как можно осторожнее и незаметнее я скользила по мозговым коридорам и переходам, минуя все новые и новые распахнутые двери, не оказывая насилия, пока не добралась до центра удовольствия. Представив себе, что ласкаю персидскую кошку, хотя терпеть не могу котов, я принялась поглаживать ее, ощущая, поток удовольствия, вытекающий из нее неожиданной струей теплой мочи. — Ax! — воскликнула она и залилась краской, сама не понимая, отчего. — Внучка, как чудесно. Я стала поглаживать ее медленнее, меняя ритм, соотнося его с каждым робким взглядом, который она бросала на меня, и увеличивая давление, когда до нее доносились звуки моего голоса. Некоторые люди поражают этой своей способностью при первой же встрече. Среди молодежи это называется влюбленностью. У политиков это носит название плодотворной притягательности. Когда подобный талант проявляется у оратора, обладающего хотя бы намеком на Способность, это приводит к массовой истерии толпы. Например, современники и соратники Адольфа Гитлера часто упоминали, как хорошо они ощущали себя в его присутствии, однако почему-то этому факту — психологического воздействия личности на толпу — уделяется мало внимания. Несколько недель подобной обработки, начатой мною сейчас, — и у этой женщины разовьется потребность в этом состоянии, гораздо большая, чем потребность в героине. Нам нравится быть влюбленными, потому что это единственное чувство, позволяющее людям максимально приблизиться к психологической наркомании. По прошествии нескольких минут малосодержательного, ни к чему не обязывающего диалога эта одинокая женщина, выглядевшая настолько же старше своего возраста, насколько я — моложе, похлопала рукой по свободному сиденью рядом и предложила, снова залившись краской: — Здесь достаточно места. Может, вы присоединитесь ко мне, чтобы мы могли продолжить беседу, не повышая голоса? — С радостью, — откликнулась я и засунула вязанье и спицы в сумку — они уже сделали свое дело. Ее звали Энн Бишоп, она возвращалась домой в Филадельфию после длительного и неприятного пребывания в Вашингтоне в доме своей младшей сестры. Через десять минут я уже знала о ней все необходимое. В уюзговом поглаживании не было никакой надобности — эта женщина изнемогала от жажды общения. Энн происходила из благопристойной и благополучной филадельфийской семьи. Трастовый фонд, основанный ее отцом, оставался главным источником ее дохода. Она никогда не была замужем. В течение тридцати двух лет этот усохший призрак женщины опекал брата Пола, страдавшего параличом нижних конечностей, который медленно переходил в полный паралич под воздействием какого-то нервного заболевания. В мае Пол умер, и Энн Бишоп еще не привыкла к состоянию, когда не нужно постоянно думать о нем. Ее визит к сестре Элейн — впервые за восемь лет — оказался неудачным: Энн раздражали неотесанный муж Элейн и ее плохо воспитанные дети — короче говоря, тетя Энн, в силу своих привычек старой девы, испытывала к этой семье лишь отвращение. Я была хорошо знакома с этим типом женщин, поскольку за время своей долгой спячки не раз прибегала к образу несчастной женщины-неудачницы с целью маскировки. Она была спутником в поисках планеты, вокруг которой можно было бы совершать свои обороты. Ее устраивал любой, лишь бы он не требовал холодного и одинокого эллипса независимости. Парализованные братья были даром Божьим для таких женщин, их могла бы заменить бесконечная и безраздельная преданность мужу или ребенку, но именно уход за умирающим братом представлял массу оправданий для пренебрежения другими обязанностями, проблемами и утомительными подробностями бытия. Неослабевающая забота и беззаветность этих женщин всегда превращают их в эгоистичных монстров. В ее робких, скромных и нежных упоминаниях о дорогом усопшем брате я ощущала извращенный фетишизм судна и кресла-каталки, тридцатилетнее мазохистское отрицание юности, женственности, зрелости, материнства, принесенных в жертву смердящим потребностям полутрупа. Я прекрасно поняла Энн Бишоп — она испытывала наслаждение из-за того процесса медленного самоубийства. При мысли об этом меня охватил стыд, что мы с ней принадлежим к одному полу. Зачастую, встречая таких несчастных, я с трудом преодолеваю искушение помочь им затолкать собственные руки в глотку, пока они не захлебнутся блевотиной и уже окончательно не распрощаются с этим миром. — Ну-ну. Я понимаю. — Я похлопала Энн Бишоп по руке, пока она, заливаясь слезами, рассказывала о своих страданиях. — Я понимаю, что это такое. — Вы понимаете, — восторженно прошептала она. — Так редко можно встретить другого человека, который понимает чужое горе. Я чувствую, что между нами много общего. Я кивнула и посмотрела на Энн Бишоп. Ей пятьдесят два, ей вполне можно было дать все семьдесят. Она была хорошо одета, но из-за ее сутулости дорогой костюм на ней сидел мешковато, казался просто безвкусной домашней одеждой. Темно-русые крашеные волосы были расчесаны на прямой пробор, не менявший своего направления в течение сорока пяти лет, грудь безвольно свисала, в глазах, обведенных темными кругами, всегда стояли непролитые слезы. Тонкий поджатый рот явно не был приспособлен для смеха. Все морщины на лице шли сверху вниз, глубоко запечатлев в себе непреодолимый закон земного притяжения. Мысли скакали беспорядочно, были отрывочны, как у перепуганной белки. Она подходила идеально. Я рассказала ей свою историю, назвавшись Беатрисой Строн, поскольку при мне все еще оставались документы на это имя. Мой муж был преуспевающим банкиром в Саванне. После его смерти, восемь лет назад, дело перешло к сыну моей сестры... Тодд — так звали моего выдуманного племянника, — похоже, собирался спустить не только все свои деньги, но и мои, пока осенью этого года не погиб вместе со своей развратной женой в страшной автомобильной катастрофе, оставив меня оплачивать расходы на похороны, огромные долги и своего сына Винсента. Мой родной сын со своей беременной женой жили на Окинаве, они преподавали там в миссионерской школе. Я как будто бы только что продала дом в Саванне, расплатилась с последними долгами погибшего олуха Тодда и теперь направлялась на север в поисках новой жизни для себя и своего внучатого племянника. Это была полная ахинея, но я помогала Энн Бишоп поверить в себя, сопровождая каждое откровение легкими поглаживаниями ее центра удовольствия. — У вас очень красивый племянник, — промолвила Энн. Я улыбнулась и взглянула через проход, туда, где сидел Винсент, На нем была дешевая белая рубашка, темный галстук, синяя ветровка, отглаженные брюки и черные ботинки, купленные для него в Вашингтоне. Я хотела постричь ему волосы, но потом по какому-то наитию решила оставить их длинными — они теперь были чистыми и аккуратно собраны назад в хвостик. Он безучастно смотрел в окно на снегопад и проносившиеся мимо пейзажи. Изменить его лицо, напоминавшее мордочку хорька из-за отсутствия подбородка, или уничтожить на нем прыщи оказалось мне не под силу. — Спасибо, — улыбнулась я. — Он пошел в мать... да упокоит Господь ее душу. — Он такой спокойный, — продолжила Энн. Я кивнула и позволила слезам увлажнить свои глаза. — Несчастный случай... — начала было я и умолкла, выдержав паузу. — Бедняжка почти лишился дара речи после той автомобильной катастрофы. Мне сказали, что он уже никогда не сможет говорить. — Боже мой, боже мой, — закудахтала Энн. — Нам не дано понять Божью волю, остается лишь терпеть. Так мы утешали друг друга, пока автобус с шипением проносился по виадуку над бесконечными трущобами южной Филадельфии. Энн Бишоп была в восторге, когда мы приняли ее приглашение погостить у нее несколько дней. Окраины Филадельфии были перенаселены, изобиловали шумом и грязью. Вместе с Винсентом, который нес наши сумки, мы добрались до метро, и Энн купила билеты до станции «Челтен-стрит». Пока мы еще ехали в автобусе, она успела рассказать мне о своем очаровательном домике в Джермантауне. И хоть она упомянула, что за последние десятилетия квартал сильно пришел в упадок в силу появления «нежелательных элементов», я все же представляла его себе как нечто обособленное от неуклюже расползшейся металло-кирпичной Филадельфии. Однако все оказалось иным. В тусклом дневном свете за окном поезда мелькали ряды одноквартирных домов, разваливающиеся кирпичные заводы, осевшие пристани, узкие улочки, запруженные металлическими каркасами брошенных автомобилей, пустые стоянки и негры. Казалось, город полностью населен черными, за исключением нескольких пассажиров и водителей машин, мчавшихся по шоссе параллельно рельсам поезда. Уставшая и отчаявшаяся, я взирала сквозь грязное окно поезда на негритят, носившихся по пустым стоянкам, на негров, бредущих с тупой угрозой на лице по пустым улицам, толстых негритянок, толкавших перед собой краденые тележки с продуктами, случайные черные лица, мелькавшие за темными окнами... Прижавшись лбом к холодному стеклу, я с трудом сдерживалась, чтобы не заплакать. Мой отец был прав, когда в те последние солнечные дни перед войной предсказывал гибель страны, если цветным будет предоставлено право голоса. Они превратили когда-то великую нацию в рассеянные обломки собственной отчаянной лени. Нина никогда не найдет меня здесь. Последние несколько дней я двигалась на ощупь, поступая наугад. Неделя или, возможно, несколько недель, проведенных у Энн, даже если они означали сосуществование с безработными неграми, еще больше усугубят непредсказуемость уже и так довольно сумбурного плана моих действий. Наконец мы вышли из поезда на станции под названием «Челтен-стрит». Рельсы здесь пролегали между голыми бетонными стенами, а сам город нависал сверху. Мне вдруг стало страшно, и, чувствуя, что слишком устала, чтобы подниматься на улицу, я опустилась на неудобную скамейку цвета желчи и несколько минут приходила в себя. Поезд с ревом промчался мимо, устремившись к центру города. По лестнице поднималась группа цветных подростков — они выкрикивали непристойности, толкая друг друга, а также всех попадавшихся им на пути. Издали доносился уличный шум. Дул нестерпимо холодный ветер. Неизвестно откуда пошел снег. Винсент, однако, даже не шелохнулся и не стал застегивать свою ветровку. — Давайте возьмем такси, — сказала Энн. Я кивнула, но продолжала сидеть, до тех пор пока не увидела, как из расщелины в бетонной стене напротив появились две крысы, размером с небольших кошек, и начали рыться в отбросах и пересохшей сточной канаве. Водитель такси оказался угрюмым негром. Он содрал с нас немыслимую плату за расстояние в восемь кварталов. Джермантаун представлял из себя смесь камня, кирпича, неоновых вывесок и рекламных стендов. Челтен и Джермантаун-стрит были запружены машинами, изобиловали дешевыми магазинами и барами и кишмя кишели человеческими отбросами, характерными для любого северного города. Однако далее по Джермантаун-стрит ездили настоящие троллейбусы, а между банками, барами и лавками старьевщиков кое-где виднелись прекрасные старые каменные дома, или вдруг попадался кирпичный магазинчик постройки прошлого века, или небольшой клочок парка с позеленевшими статуями за железной изгородью. Пару веков назад здесь, вероятно, находилось крохотное поселение с изысканными коттеджами и воспитанными фермерами или антикварами, предпочитавшими жить в десяти милях от Филадельфии. Еще сто лет назад это был тихий городок в нескольких минутах езды от Филадельфии, сохранявший свое очарование, с большими домами вдоль тенистых улиц и редкими тавернами, жавшимися к проезжей дороге. Сегодня Филадельфия поглотила Джермантаун, как какой-нибудь огромный донный карп заглатывает гораздо более прекрасную, но маленькую рыбку, оставив лишь обглоданные белые косточки прошлого, которым суждено перемешаться со свежим хламом в ужасающем пищеварительном процессе прогресса. Энн так гордилась своим домиком, что, показывая его нам, постоянно заливалась краской. Он представлял собою явный анахронизм — с белеными стенами (вероятно, когда-то здесь жили фермеры) располагался он в нескольких десятках ярдов от самого Джермантауна на узкой улочке под названием Квин-лейн. Высокий деревянный забор, почти скрывавший домик из виду, был жестоко исцарапан и расписан, несмотря на явные попытки поддерживать его в аккуратном состоянии; пятачок двора был еще меньше моего в Чарлстоне, перед входной дверью находилось крохотное крылечко, два мансардных окна намекали на наличие второго этажа, рядом с домом виднелось единственное чахлое персиковое дерево, которому, похоже, никогда уже не суждено расцвести. Сам домик был зажат между химчисткой, рекламирующей дохлых мух в витринах своих окон, и заброшенным трехэтажным зданием, которое можно было бы принять за пустующее, если бы не черные лица, маячившие за окнами. На противоположной стороне улицы высились разнообразные склады из осыпающегося кирпича, переделанные под жилье, а через полквартала, к югу, тянулась вереница вездесущих одноквартирных домов. — Не слишком шикарно, но зато свое, — промолвила Энн, ожидая, что я опровергну первую часть ее заявления. Я опровергла. Большая спальня Энн и комната поменьше — для гостей — располагались на втором этаже. Крохотная спальня за кухней принадлежала ее брату, там все еще пахло лекарствами и сигарами. Энн, вероятно, собиралась предложить нижнюю комнату Винсенту, а маленькую гостевую — мне. Я ненавязчиво продиктовала ей: уступить нам две верхние комнаты, а самой перебраться вниз. Пока она переносила свою одежду и личные вещи, я осмотрела остальной дом. Здесь была еще маленькая столовая, слишком официальная для своих размеров, крохотная гостиная, забитая мебелью и изобиловавшая большим количеством пятен на стенах, кухня, такая же холодная и неприютная, как и сама Энн, комната брата, ванная и миниатюрное заднее крыльцо, выходившее во дворик размером не больше собачьей конуры. Я открыла заднюю дверь, чтобы впустить немного свежего воздуха в затхлый дом, и мимо моих ног проскользнул толстый серый кот. — Ой, Пушок! — воскликнула Энн, застыв с целой охапкой одежды. — Это мой ребеночек. За ним присматривала миссис Пагнелли, но он почувствовал, что мамочка вернулась. Ты без меня не плакал? — обратилась она к коту. Я улыбнулась и сделала шаг назад. Считается, что женщины в моем возрасте должны любить котов, тащить их к себе в дом при каждой возможности и вообще прыгать как идиотки вокруг этих надменных и предательских животных. Когда я была девочкой лет шести-семи, не больше, моя тетка каждое лето привозила с собой толстого сиамца. Я всегда боялась, что как-нибудь ночью он уляжется на мое лицо и я задохнусь. Помню, как задушила этого кота в мешке, пока взрослые пили лимонад на заднем дворе. Потом запихала его в корыто с водой и оставила за соседским сараем, где часто собиралась свора рыжих собак. Когда обработка Энн будет закончена, я не удивлюсь, если с ее «ребеночком» произойдет подобный несчастный случай. Человеку, обладающему Способностью, весьма несложно использовать окружающих, гораздо сложнее подвергнуть их успешной обработке. Когда Нина, Вилли и я почти полвека тому назад начали в Вене Игру, мы забавлялись тем, что использовали посторонних людей и мало задумывались о необходимости последующей ликвидации этих одушевленных инструментов. Позднее, когда мы повзрослели и усовершенствовались в применении своей Способности, каждый из нас ощутил потребность в компаньоне — полуслуге-полутелохранителе, — который был бы так идеально настроен на восприятие наших нужд, что использование его не требовало бы от нас почти никаких усилий. До того как двадцать пять лет назад я нашла мистера Торна в Швейцарии, я путешествовала с мадам Тремон, а до нее — с молодым человеком, которого я называла Чарлзом, из дешевой юношеской сентиментальности дав ему имя своего последнего возлюбленного. Нина и Вилли сменили целую вереницу пешек, пока рядом с Вилли роковым образом не оказались два его последних компаньона, а рядом с Ниной — ненавистная Баррет Крамер. Такая обработка требует некоторого времени, хотя решающими становятся первые дни. Сложность заключается в необходимости сохранить пустую оболочку личности, но исключить для нее какую-либо возможность независимых действий. И хотя поступки становятся регулярными, они должны оставаться автономными в том смысле, что простые ежедневные обязанности и действия осуществляются самостоятельно без какого-либо прямого руководства. Чтобы появляться на людях с такими обработанными ассистентами, в них необходимо сохранять некое подобие неповторимой индивидуальности Преимущества такой обработки очевидны. Тогда как использовать одновременно двух людей трудно, даже почти невозможно, хотя Нина и была способна на это, управлять действиями двух обработанных пешек не представляет никакого труда. Вилли никогда никуда не отправлялся без двух своих «приятелей», а Нина, до того как впала в феминизм, разъезжала с пятью-шестью молодыми красивыми телами. Обрабатывать Энн Бишоп было просто — она сама стремилась к тому, чтобы подчиниться. За те три дня, что я отдыхала в ее доме, она была доведена до соответствующей кондиции. С Винсентом дело обстояло иначе. Хотя мое начальное «обучение» уничтожило в нем все проявления воли высшего порядка, его подсознание продолжало оставаться необузданным и плохо управляемым клубком страхов, предрассудков, желаний, похоти и взрывов ненависти. Я не хотела их вытравлять — ведь они были источниками той энергии, которая могла потребоваться мне позднее. В течение этих трех длинных дней перед Рождеством 1980 года я отдыхала в чуть спертой атмосфере дома Энн Бишоп и изучала темное подсознание эмоциональных джунглей Винсента, оставляя в нем пути и механизмы для дальнейшего использования. В воскресенье, 21 декабря, я завтракала тем, что приготовила Энн, и расспрашивала ее о друзьях, средствах к существованию и прочих житейских подробностях. Выяснилось, что друзей у нее нет, да и жизни как таковой тоже. Время от времени ее навещала миссис Пагнелли, соседка, она же иногда присматривала за Пушком. При упоминании о пропавшем коте глаза Энн наполнились слезами, и я почувствовала, как мысли ее заскользили в сторону, будто машина по черному льду. Я увеличила мозговое давление и вернула ее обратно к новой и главной страсти — желанию доставить мне удовольствие. На банковском счете Энн находилось 73 тысячи долларов. Как многие эгоистичные старухи, ощущающие приближение унылого конца своей унылой жизни, в течение многих десятилетий она жила на грани нищеты, копила деньги и акции, как сумасшедшая белка, складывающая желуди, которые ей никогда не понадобятся. Я предложила Энн перевести все ее ценные бумаги в наличные деньги на следующей неделе, и она сочла, что это прекрасная мысль. Мы как раз обсуждали источники ее доходов, когда она упомянула Ропщущую Обитель. — Общество платит мне небольшую стипендию за то, что я приглядываю за ней, вожу туда иногда частные экскурсии, проветриваю, когда она закрывается на долгое время, как, например, сейчас... — Что это за Общество? — поинтересовалась я. — Филадельфийское Общество сохранения достопримечательностей, — пояснила Энн. — А что это за достопримечательность — Ропщущая Обитель? — спросила я. — О, мне бы очень хотелось показать ее вам! — с энтузиазмом откликнулась Энн. — До нее отсюда всего один квартал ходьбы... Три дня отдыха и обработки этих двоих утомили меня, и я с готовностью кивнула. — После завтрака, — промолвила я. — Если у меня возникнет желание пройтись. Даже сейчас мне трудно передать все очарование и внешнюю несуразность Ропщущей Обители. Хотя она и была довольно несуразна. Располагалась Обитель непосредственно на вымощенной разбитым кирпичом Джермантаун-стрит — несколько прекрасных старых зданий в окружении баров, лавок старьевщиков, гастрономов и дешевых магазинчиков. Переулки, отходящие от главной улицы в этом месте, упирались в самые настоящие трущобы, ряды одноквартирных домов и пустующие стоянки. Но здесь, под табличкой «Джермантаун-стрит 5267», за рядом парковочных счетчиков и двумя почерневшими от копоти дубами, немилосердно изрезанными ножами, в десяти футах от оживленного движения, громыхающих троллейбусов и бесконечного шествия цветных пешеходов, высилось старинное каменное чудо, покрытое дранкой, с настоящими резными ставнями на окнах. Внутрь вели две парадные двери. Энн достала ключи на искореженном кольце и открыла восточный вход. Внутри было темно — сквозь окна с тяжелыми шторами и плотно подогнанными ставнями свет не проникал. Пахло стариной, вековым деревом и мебельным лаком. Мне показалось, что я вернулась домой. — Здание построил в 1744 году Джон Вистер, — начала Энн. Голос ее становился громче, постепенно приобретая интонации гида. — Он был филадельфийским купцом и пользовался этим домом в летнее время. Потом дом стал круглогодичной резиденцией семьи. Мы перешли из маленькой прихожей в гостиную. Пол, выложенный резным паркетом, был натерт до блеска. Лепнина потолка была выполнена в элегантном и скромном стиле «обручального кольца». У камина стояло кресло. Рядом, на столике XVIII столетия, высилась единственная свеча в старинном шандале. Ни электрических лампочек, ни штепсельных розеток не было видно. — Во время битвы при Джермантауне, — продолжала Энн, — в этой комнате скончался британский генерал Джеймс Энью. Здесь до сих пор видны следы его крови. — Она указала на пол. Я посмотрела на едва различимые пятна на дереве. — Но снаружи нет никакой вывески, — удивилась я. — Раньше в окне была маленькая табличка, — пояснила Энн. — Дом был открыт для посещения по вторникам и четвергам с двух до пяти. Кроме того, Общество организовывало частные экскурсии для тех, кого интересовала местная история. Но теперь дом закрыт и будет закрыт по меньшей мере еще месяц, пока не будут получены фонды для завершения реставрационных работ, начатых на кухне. — А кто здесь живет сейчас? — спросила я. Энн рассмеялась, и смех ее прозвучал, как слабый мышиный писк. — Никто здесь не живет. Здесь же нет электричества, нет отопления, за исключением каминов, отсутствует какая-либо канализация. Я регулярно слежу за домом, а раз в полтора-два месяца сюда с инспекцией приезжает миссис Вейверли из Общества. Я кивнула. — Вон потайная дверь влюбленных, — промолвила я. — Ах да, вы знакомы с обычаями! — улыбнулась Энн. — Она также использовалась при похоронах. — Покажите мне остальные помещения, — распорядилась я. В столовой стояли деревенский стол и кресла, своим видом напоминающие скромную красоту раннеко-лониального стиля. Здесь же находилась потрясающая деревянная скамья ручной работы. А Энн указала на кресло, выполненное Соломоном Фасселем, тем самым, что изготовлял кресла для Зала Независимости. Окна кухни выходили на задний двор, и, несмотря на темную замерзшую землю и следы снега, мне удалосьразличить намек на прекрасный старый цветник, который должен был благоухать здесь летом. Пол на кухне был каменный, а камин — настолько большой, что в него можно было войти не склоняясь. На стене висел странный набор древней утвари и инструментов — огромные ножницы, коса длиной в шесть футов, мотыга, старинные грабли, железные щипцы и другое, а рядом стоял огромный педальный точильный станок. Энн указала на развороченный угол — вынутая каменная кладка была сложена рядом, отверстие прикрывалось уродливым куском черного пластиката. — Здесь располагались незакрепленные плиты, — пояснила Энн. — Во время работ в ноябре рабочие обнаружили под камнем сгнивший деревянный пол и частично засыпанный коридор. — Подземный ход? — Возможно. — Энн кивнула. — Когда дом строился, индейцы еще продолжали свои вылазки. — И куда же он ведет? — Рабочие выяснили, что каменный выход из него должен находиться где-то за соседним гаражом. — Энн указала сквозь подернутые морозцем окна. — Но у Общества нет денег на то, чтобы продолжать раскопки, пока в начале февраля оно не получит пособие от филадельфийского Исторического комитета. — Винсенту, я вижу, ужасно хочется заглянуть в этот подземный ход, — попросила я. — Ну, разумеется, — согласилась Энн. В гостиной стояла свеча, но мне пришлось отослать тинэйджера обратно в дом Энн за спичками. Когда он отодвинул пластик и спустился по короткой лесенке в проход, я прикрыла глаза, чтобы лучше все рассмотреть. Грязь, камни, запах сырости и могилы. Проход выходил на поверхность не далее чем в десяти футах от заднего дворика. Влажные бревна подпирали потолок частично раскопанного хода. Я вернула Винсента обратно и открыла глаза. — Хотите посмотреть комнаты наверху? — спросила Энн. Не отвечая ей ни жестом, ни словом, я поднялась наверх. Как только я вошла в детскую, до меня донесся шепот. — Существует легенда, что эту комнату посещают призраки, — промолвила Энн. — Собаки миссис Вейверли никогда сюда не забегают. Я подумала, что Энн тоже слышит шепот, но когда прикоснулась к этому участку ее сознания, то обнаружила там пустоту, если не считать всевозрастающего желания угодить мне. Я двинулась к середине комнаты. Окно, выходившее на улицу и закрытое деревянными ставнями, почти не пропускало свет. В сумраке я различила устаревшую, уродливую низкую металлическую колыбель — эдакую позорную клеть для злобного младенца. Здесь же располагались две детские кроватки с сетками и стульчик, но что по-настоящему обращало на себя внимание, так это игрушки и куклы в натуральную величину. В углу стоял огромный кукольный дом. Вероятно, он был создан по меньшей мере век спустя после строительства самого дома, но поражало в нем то, что он сгнил и частично обрушился, прямо как настоящий покинутый дом. Я была почти готова увидеть крохотных крыс, снующих по маленьким коридорам. Рядом с кукольным домом на низкой кровати с сеткой лежало с полдюжины кукол. Лишь одна из них была довольно старой, чтобы относиться к XVIII веку, остальные же настолько походили на настоящих детей, что их вполне можно было принять за трупики младенцев. Над всем этим кукольным царством высился манекен ростом с семи-восьмилетнего мальчика. Он был одет в древнюю реконструкцию костюма эпохи Войны за Независимость, но за прошедшие десятилетия ткань поблекла, швы разошлись и комнату заполнил запах гниющего дерева. Розовое покрытие на руках, шее и лице во многих местах облупилось, из-под него выглядывала темная фарфоровая основа. Глянцевитый парик когда-то был изготовлен из настоящих человеческих волос, но теперь изрезанный трещинами череп покрывали лишь редкие шершавые заплатки. Глаза выглядели как настоящие, и я поняла, что для них были использованы стеклянные, искусственные, какие вставляют и людям. Лишь они сохраняли блеск и лучезарность на этом разваливающемся манекене — любопытные мальчишеские глаза на стоячем трупе. Почему-то я решила, что шепот исходит от манекена, но когда я приблизилась к нему, смутное бормотание сделалось тише, а не громче. Это говорили стены. Под безучастными взорами Энн и Винсента я прислонилась к оштукатуренной стене и прислушалась. Шепот слышался отчетливо, но слов разобрать было нельзя. Похоже, звучало несколько голосов, но у меня создалось впечатление, что они обращаются непосредственно ко мне. — Вы что-нибудь слышите? — поинтересовалась я у Энн. Она нахмурилась, пытаясь отгадать ответ, который доставит мне больше всего удовольствия. — Только шум уличного движения, — ответила она наконец. — Где-то на улице кричат мальчишки. Я покачала головой и снова приникла ухом к стене. Шепот продолжал звучать, и в нем не было ни настойчивости, ни угрозы. Мне показалось, что в тихих переливах звуков я различила отдельные слоги своего имени. В привидения я не верю. Не верю в сверхъестественные явления. В полтергейст. Но, становясь старше, я начала понимать, что точно так же, как радиоволны продолжают поступать в пространство даже тогда, когда передатчик уже выключен, некоторые индивидуумы продолжают излучать силу воли даже после своей смерти. Однажды Нина рассказывала мне об археологе, обнаружившем голос гончара, который был мертв уже несколько тысяч лет, — он был записан на ложбинках сделанного им горшка — металл, впечатанный в глину, и вибрации кончиков пальцев действовали, как граммофонная пластинка и игла. Не знаю, насколько это соответствовало действительности, но зато вполне согласовывалось с той мыслью, к которой я пришла самостоятельно. Люди — особенно те, немногие, обладающие Способностью подобно нам, — могут внедрять свою силу воли не только в одушевленные существа, но и в предметы. Я снова подумала о Нине и поспешно отстранилась от стены. Шепотки умолкли. — Нет, это не имеет никакого отношения к Нине, — произнесла я вслух, — Это дружелюбные голоса. Мои спутники молчали — Энн не знала, что сказать на это, а Винсент, даже если и знал, то не мог сказать. Я улыбнулась им, и Энн одарила меня ответной улыбкой. — Пошли, — сказала я. — Устроим второй завтрак и вернемся сюда позже. Мне очень понравилась Ропщущая Обитель, Энн. Вы правильно сделали, что привели меня сюда. Энн Бишоп расцвела от счастья. К полудню понедельника Энн и Винсент доставили в Ропщущую Обитель складную кровать и новые матрацы, купили свечей, подсвечников и три масляных обогревателя, заполнили кухонные полки банками и консервированной пищей, установили небольшую плиту, работавшую на бутане, посреди массивного кухонного стола, а также вымыли и пропылесосили все комнаты. Я распорядилась поставить свою кровать в детской. Энн принесла чистые простыни, одеяла и свое любимое амонитское покрывало. Винсент расставил вдоль кухонной стены ряд новых совков и ведер. Относительно отсутствующей канализации я пока ничего не могла сделать, к тому же большую часть времени я собралась по-прежнему проводить у Энн. Просто мне захотелось обустроить Ропщущую Обитель и сделать ее более удобной для своих неизбежных будущих визитов. В понедельник днем Энн сняла все свои деньги с текущих и сберегательных счетов — почти сорок две тысячи долларов — и начала переводить акции, бонды и страховки в наличные. В иных случаях ей приходилось платить пени, но никто из нас не возражал. Деньги я складывала в свой багаж. К четырем часам дня — когда за окном едва брезжил зимний свет — все помещения Ропщущей Обители ярко сияли от света десятков свечей; гостиную, кухню и детскую обогревали приятно мерцающие масляные батареи, а Винсент уже три часа как копался в подземном ходе, вынося землю в дальний угол двора и складывая ее под массивное гингко. Это была грязная, тяжелая и возможно опасная работа, но Винсенту было полезно выполнять такие задания, физический груд помогал ему избавляться от затаенной ярости. Я знала, что Винсент очень силен — гораздо сильнее, чем можно было предположить, глядя на его сухопарое сутулое тело, — но теперь мне удалось установить истинные размеры его жилистой мощи и чуть ли не демонической энергии. Я не осталась ночевать в Ропщущей Обители, по крайней мере в ту первую ночь, но пока задувались свечи и выключались обогреватели, я поднялась в детскую и остановилась там при свете одной-единственной свечи, пламя которой отражалось в пуговичных глазах тряпичных кукол и стеклянных очах мальчика-манекена. Шепот стал слышнее. Если я и не могла различить слов, то по крайней мере в их интонации ощущала благодарность. Они желали мне добра и просили вернуться.* * *
Накануне Рождества, во вторник, Винсент вытащил из подземного хода около полутонны земли. Расчистив следующие двенадцать футов, мы выяснили, что дальше тоннель сохранился почти полностью, если не считать осыпавшихся за последние два столетия камней и земли. В среду утром Винсент разобрал большую часть выхода, открывавшегося на поверхности невдалеке от аллеи, которая шла с тыльной стороны одноквартирных домов на расстоянии одного квартала от нас. Он заложил выход досками и вернулся в Ропщущую Обитель. На него стоило посмотреть — парень весь был покрыт грязью, старая рабочая одежда разорвана и испачкана землей, длинные волосы, свисающие жирными прядями, распущены, глаза горят. У меня с собой оказался лишь один большой термос с водой; я заставила Винсента раздеться и устроиться на кухне возле обогревателя, а сама отправилась в дом к Энн, чтобы выстирать и высушить его одежду. Энн весь день обслуживала праздничную рождественскую трапезу. На улице было темно и почти пусто. Мимо прошуршал одинокий троллейбус с уютно освещенным салоном. Начал падать снег. Я вдруг обнаружила, что совсем одна и полностью беззащитна. В обычной ситуации я бы и квартала не прошла без сопровождения хорошо обработанного спутника, но целый трудовой день в Ропщущей Обители и странные предупреждения шепотков в детской, поглотившие все мои мысли, заставили меня потерять бдительность. К тому же я размышляла о Рождестве. Я всегда относилась к Рождеству с особым чувством. Вспоминала большую елку и праздничный обед, которые устраивались, когда я была маленькой. Отец разделывал индейку, а в мои обязанности входило делить прислуге маленькие подарочки. Помню, что за несколько недель я начинала сочинять краткие слова благодарности персоналу, а основном состоявшему из пожилых негров и негритянок. По большей части я высказывала похвалу, а некоторых осторожно журила за недостаток усердия, опуская в поздравлении значимые фразы. Самые лучшие подарки и самые теплые слова неизменно приберегались для тетушки Гарриэт, толстой стареющей негритянки, которая вынянчила и вырастила меня. Гарриэт родилась рабыней. Интересно, что много лет спустя в Вене Нина, Вилли и я вспоминали похожие детали своего детства, и в частности доброту к прислуге. Да, в Вене Рождество для нас было изумительным праздником. Я помню зиму 1928 года с катанием на санках с крутого берега замерзшего Дуная и пышным банкетом в арендованной вилле к югу от города. Лишь в последние годы я перестала отмечать Рождество так, как мне того хотелось бы. Всего две недели назад, при нашей последней встрече, мы как раз обсуждали с Ниной прискорбное обнищание духа Рождества. Люди перестали понимать, что же на самом деле означает этот праздник. Мальчиков было восемь, и все цветные. Не знаю, какого они были возраста. Но все выше меня, у троих или четверых над пухлой верхней губой уже виднелся черный пушок. Они показались мне каким-то одним существом, состоящим из локтей и коленок и издающим крики и хриплые непристойности. Выкатились из-за угла на Джермантаун-стрит и оказались прямо передо мной. Один из них держал большой приемник, изрыгающий какофонию звуков. Вздрогнув, я остановилась и посмотрела на них, все еще погруженная в свои размышления о Рождестве и своих отсутствующих друзьях. Не обращая на них внимания, я ждала, когда они сойдут с тротуара и уступят мне дорогу. Возможно, было что-то такое в выражении моего лица или гордой осанке, отличающейся от обычного раболепствующего поведения белых в негритянских районах северных городов, что заставило одного из них обратить на меня внимание. — Ты на что уставилась, тетя? — осведомился высокий подросток в красной кепке. На лице — смесь тупости и презрения, выработавшаяся в его расе вследствие многовекового племенного невежества. — Жду, мальчики, когда вы уступите дорогу леди, — промолвила я тихо и вежливо. В обычной ситуации я бы промолчала, но голова моя была занята другими мыслями. — "Мальчики"! — воскликнул тот, что был в красной кепке. — Кого это ты называешь мальчиками? — Они образовали полукруг. Я уставилась в одну точку, чуть повыше их голов. — Эй, ты что это себе думаешь? — осведомился один из них — толстяк в грязной серой парке. Отвечать я не стала. — Пошли, — бросил другой, пониже, и с менее грубым выражением лица. У него были голубые глаза. — Пошли, старики. Они собрались уходить, но негр в красной кепке решил поставить последнюю точку. — В следующий раз смотри, с кем имеешь дело, старая шлюха! — заявил он и сделал жест, будто намереваясь толкнуть меня в грудь или плечо. Я поспешно сделала шаг назад, чтобы он не мог ко мне прикоснуться, зацепилась каблуком за бровку тротуара, потеряла равновесие и, взмахнув руками, рухнула на снег, усеянный собачьими экскрементами, между тротуаром и проезжей частью. Толпа подростков разразилась громовым хохотом. Низенький мальчик с голубыми глазами махнул рукой, призывая всех к спокойствию, и сделал шаг ко мне. — С вами все в порядке? — Он протянул руку, словно намереваясь помочь мне встать. Но я лишь смотрела на них, не обращая никакого внимания на его руку. Через мгновение он пожал плечами и двинулся дальше вместе с остальными. Их дикая музыка отдавалась эхом в безмолвных витринах магазинов. Я сидела до тех пор, пока они не скрылись из виду, затем попыталась встать, поняла безнадежность этого и поползла на четвереньках к парковочному счетчику, который можно было использовать вместо опоры. Некоторое время я стояла дрожа, опираясь на счетчик. То и дело мимо проносились машины — наверное, люди спешили домой к рождественскому столу, — обливая меня фонтанами грязи. Мимо прошли две полные молодые негритянки, переговариваясь базарными голосами. Никто не остановился, чтобы помочь мне. Когда я добралась до дома Энн, меня все еще колотила дрожь. Позднее я поняла, что с легкостью могла призвать ее на помощь, но в тот момент я была неспособна мыслить отчетливо. Навернувшиеся на глаза от порывов холодного ветра слезы так и застыли на моих щеках. Энн тут же налила мне горячую ванну, помогла выбраться из грязной одежды и приготовила чистую, пока я мылась. Когда я села за стол, было уже девять вечера — я ела одна, Энн сидела в соседней комнате. Покончив с вишневым пирогом, поданным на десерт, я уже точно знала, что мне делать. Достав ночную рубашку и остальные необходимые вещи, я заставила Энн принести постельное белье, смену одежды для Винсента, запас еды и напитков, а также пистолет, позаимствованный мною у таксиста в Атланте. Мы быстро и без приключений добрались до Ропщущей Обители. Снег уже валил вовсю. Проходя мимо того места, где я упала, я отвернулась. Винсент сидел там же, где я его оставила. Он оделся и начал с жадностью есть. Я не слишком беспокоилась о регулярном питании Винсента, но за последние два дня раскопок в нем сгорели тысячи калорий, и мне хотелось восстановить его силы. Он ел как животное. Его руки, лицо и волосы все еще были грязными и запекшимися от красной глины, а его вид и чавканье были просто звериными. Поев, Винсент принялся натачивать косу и одну из лопат, которую за два дня до этого Энн купила в хозяйственном магазине на улице Челтен. Было уже почти двенадцать, когда я поднялась в детскую, закрыла дверь, разделась и легла. В трепещущем пламени свечи за мной следили блестящие стеклянные глаза мальчика-манекена. Энн сидела внизу, в гостиной, сторожа входную дверь — она слегка улыбалась, держа на коленях, прикрытых фартуком, заряженный револьвер тридцать восьмого калибра. Винсент выбрался подземным ходом. Лицо его стало еще более грязным и мокрым, пока он волочил по темному проходу косу и лопату. Я закрыла глаза и отчетливо увидела, как в тусклом свете аллеи падает снег, как Винсент выбирается возле гаража, вытаскивает следом длинные инструменты и устремляется вниз по аллее. Морозный воздух благоухал чистотой. Я ощущала мерные сильные удары сердца Винсента, чувствовала, как гнутся и трепещут заросли его мыслей, словно от порывов ветра, по мере того как все больше адреналина вбрасывалось ему в кровь. Мышцы моих собственных губ непроизвольно напряглись, растягивая их в такую же широкую жестокую ухмылку, как у Винсента. Он быстро миновал аллею, немного задержался у поворота к ряду черных одноквартирных домов и бросился бегом по южной стороне улочки туда, где лежали самые темные тени. Здесь он остановился, но я мысленно заставила Винсента повернуть голову в том направлении, где исчезли те подростки. Ноздри у Винсента раздувались, когда он начал принюхиваться к ночному воздуху, пытаясь различить запах негров. Ночь была тихой, если не считать отдаленного звона колоколов, возвещавших о рождении нашего Спасителя. Винсент склонил голову, взвалил лопату и косу на плечо и углубился во мрак аллеи. Лежа наверху в Ропщущей Обители, я улыбнулась, повернулась лицом к стене и погрузилась в легкое шипение шепотков, накатывавших на меня, как волны во время прилива.Глава 6
Вашингтон, округ Колумбия Суббота, 20 декабря 1980 г. — Вы ничего не знаете об истинной природе насилия, — говорило Солу Ласки то, что когда-то было Френсисом Харрингтоном. Они шли по аллее в направлении к Капитолию. Холодные лучи вечернего солнца освещали белые гранитные здания, клубились белые завихрения автобусных и автомобильных выхлопов. Возле пустых скамеек осторожно прогуливалось несколько голубей. Сол чувствовал, как дрожат мышцы его живота и ног, и понимал, что это не является всего лишь простой реакцией на холод. Его охватило страшное возбуждение, как только они вышли из Национальной художественной галереи. «Наконец-то, после всех этих лет». — Вы считаете себя специалистом в области насилия, — продолжал Харрингтон на немецком, хотя Сол никогда не слышал, чтобы раньше тот пользовался этим языком, — но вы ничего о нем не знаете. — Что вы имеете в виду? — спросил Сол по-английски и засунул руки поглубже в карманы пальто. Его голова находилась в постоянном движении — он то смотрел на человека, выходящего из восточного крыла Национальной галереи, то, прищурившись, вглядывался в одинокую фигуру на дальней скамейке, то пытался различить что-нибудь за задымленными окнами медленно ехавшего лимузина. «Где вы, оберет?» При мысли о том, что нацистский прохвост может быть где-то поблизости, у Сола сжималась диафрагма. — Вы воспринимаете насилие как извращение, — тем временем говорил Харрингтон на безупречном немецком, — в то время как на самом деле это — норма. Оно составляет самую суть человеческого существа. Сол изо всех сил пытался следить за разговором. Нужно выманить оберста... каким-то образом высвободить Френсиса из-под его контроля... найти самого оберста.. Но как? — Глупости, — бросил Сол. — Это общее заблуждение, но на самом деле природа насилия столь же чужда человеку, как какая-нибудь болезнь. Мы справились с такими заболеваниями, как полиомиелит и черная оспа. Значит, мы можем справиться и с насилием в человеческом поведении. — Сол перешел на профессиональные интонации. «Оберет, где же вы?» Харрингтон рассмеялся. Это был старческий смех — прерывистый, перемежающийся влажными хрипами. Сол взглянул на молодого человека, шедшего рядом с ним, и вздрогнул. У него возникло страшное ощущение, что лицо Френсиса — короткие рыжие волосы, веснушки на скулах — словно маска, натянуто на череп другого человека. Тело Харрингтона под длинным плащом выглядело странно неуклюжим, будто тот внезапно растолстел или надел на себя несколько свитеров. — Вы не сможете справиться с насилием, как невозможно справиться с любовью, ненавистью или смехом, — произнес Френсис Харрингтон тоном Вилли фон Борхерта. — Страсть к насилию — одна из характерных черт человечества. Даже слабые хотят стать сильными в основном для того, чтобы взять кнут. — Чушь! — снова возразил Сол. — Чушь? — переспросил Харрингтон. Они перешли проезд Мэддисона и оказались на аллее за Капитолийским прудом. Харрингтон опустился на скамейку, обращенную к Третьей улице. Сол последовал его примеру, предварительно окинув взглядом всех, кто находился поблизости. Таковых было немного. И ни один из гуляющих не походил на его оберста. — Дорогой мой еврей, — презрительно промолвил Харрингтон, — возьми хотя бы Израиль. — Что?! — Сол резко повернулся и уставился на Френсиса, как будто видел этого человека в первый раз. — Что вы имеете в виду? — Твоя любимая страна прославилась своим жестоким обращением с врагами, — продолжил Харрингтон. — Ее ветхозаветный девиз «око за око, зуб за зуб», ее политика выражается в непреложном отмщении, она гордится мощью своей армии и военно-воздушных сил. — Израиль вынужден защищаться, — спокойно сказал Сол. От ощущения ирреальности этой полемики голова у него шла кругом. За их спинами последние лучи солнца освещали купол Капитолия. Харрингтон снова рассмеялся. — Ах да, моя верная пешка! Насилие во имя самозащиты всегда выглядит симпатичнее. Так было и с вермахтом. — Он подчеркнул первую часть слова, означающую «защита». — У Израиля есть враги, не так ли? Но они были и у «третьего рейха». И не последними из этих врагов являлись те самые бездельники, которые прикидывались беспомощными жертвами, когда они стремились уничтожить рейх. Теперь же они именуют себя героями, осуществляя насилие над палестинцами. На эту эскаладу Сол отвечать не стал. Антисемитизм Харрингтона был всего лишь подначкой. — Чего вы хотите? — тихо спросил он. Харрингтон поднял брови. — Просто побеседовать со старым знакомым, — произнес он вдруг по-английски. — Как вы меня нашли? Харрингтон пожал плечами. — Я бы сказал, что это ты нашел меня, — ответил Френсис Харрингтон странным хриплым голосом. — Представь себе мое удивление, когда в Чарлстон вдруг прибыла моя дорогая пешка. Мой Вечный Жид — ив такой дали от Челмно. «Как вы меня узнали?» — чуть было не спросил Сол, но удержался. Те несколько часов, когда они вдвоем пребывали в теле Сола сорок лет назад, создали между ними такую омерзительную близость, которую невозможно было передать никакими словами. Сол не сомневался, что сразу узнает оберста, несмотря на разрушительное влияние времени. Вместо этого он спросил: — Вы следили за мной от самого Чарлстона? Харрингтон улыбнулся. — Ты доставил бы мне огромное удовольствие, если бы позволил послушать одну из твоих лекций в Колумбии. Возможно, мы бы поспорили об этических принципах «третьего рейха». — Возможно, — кивнул Сол. — Возможно, мы могли обсудить относительную здравость бешеного пса. Однако пока при этом заболевании существует только один выход — пристрелить собаку. — Что ж, — прошипел Харрингтон. — Еще один способ окончательного решения. Вы, евреи, никогда не отличались утонченностью. Сол вздрогнул. За спокойным голосом марионетки скрывался человек, непосредственно отдававший приказы, в силу которых были расстреляны сотни, а может, и тысячи людей. Сол понял, что оберет мог разыскивать его и следовать за ним из Чарлстона только с одной целью — убить. Вильгельм фон Борхерт, он же Уильям Борден, сделал все возможное, чтобы убедить мир в том, что он мертв. Зачем ему было открываться единственному человеку в мире, знавшему его в лицо, если только это не было окончательной игрой кошки с мышкой? Сол еще глубже засунул руку в карман и сжал в кулаке пригоршню двадцатипятицентовиков — единственное оружие, которое он носил со времен польского гетто. Даже если ему удастся сбить Френсиса с ног — а Сол знал, что это гораздо труднее, чем представляется по фильмам и телевизионным передачам, — что дальше? Бежать. Но что может помешать оберсту вползти в его сознание? Сол содрогнулся, снова вспомнив об этом насилии над собственным мозгом. Он не хотел становиться жертвой еще одного преступления, цифрой в статистическом отчете, очередным рассеянным профессором, попавшим в сумерках под колеса оживленного вашингтонского движения... К тому же он не может оставить Френсиса. Сол сжал мелочь в кулаке и начал медленно вытаскивать руку. Он не знал, удастся ли ему вернуть парня — одного взгляда на маячившую перед ним маску лица было достаточно, чтобы ощутить всю бессмысленность этого предприятия, но Сол знал, что должен хотя бы попытаться. Как пронести бесчувственное тело по аллее, преодолеть полтора квартала и запихать его во взятую напрокат машину? Сол знал, что в Вашингтоне такое время от времени случалось. Он решил, что оставит парня на скамейке, помчится бегом за машиной, быстро подъедет к Третьей улице, остановится у поребрика и забросит тело молодого человека на заднее сиденье. Сол не мог придумать ни единого способа, как самому защититься от оберста. Да это уже и не играло никакой роли. С небрежным видом он вытащил из кармана кулак с двадцатипятицентовиками, прикрывая его от Харрингтона своим телом. — Я бы хотел тебя кое с кем познакомить, — промолвил Харрингтон. — Что? — сердце Сола, казалось, билось уже в горле, он едва мог говорить. — Я бы хотел тебя кое с кем познакомить, — повторил Вилли фон Борхерт, заставляя Харрингтона встать. — Думаю, тебе это будет интересно. Сол не двигался. Он сжимал кулак с такой силой, что рука его дрожала. — Ты идешь, юде? — интонация и немецкие слова были почти такими же, какими пользовался оберет в бараках Челмно 38 лет назад. — Да, — Сол встал, снова засунул руки в карманы пальто и последовал за Френсисом Харрингтоном во внезапно сгустившуюся зимнюю темноту. Это был самый короткий день в году. Немногочисленные закаленные туристы стояли в ожидании автобусов или спешили к своим машинам. Сол и Френсис спустились вниз по улице Конституции мимо Капитолия и остановились у входа в гараж здания Сената. Через несколько минут автоматические двери открылись и изнутри выехал лимузин. Харрингтон поспешным шагом двинулся вниз по пандусу, и Сол последовал за ним, поднырнув под опускающуюся створку металлической двери. Двое охранников в полном изумлении уставились на них. Один из них, краснолицый толстяк, двинулся им навстречу. — Черт побери, сюда вход воспрещен! — закричал он — Поворачивайтесь и уносите отсюда ноги, пока вас не арестовали — Простите! — произнес Харрингтон голосом Френсиса Харрингтона. — Дело в том, что у нас пропуска к сенатору Келлогу, но дверь, через которую он велел нам войти, заперта, и когда мы постучали, никто не ответил... — Главный вход, — рявкнул охранник, продолжая махать руками. Второй стоял у турникета — его правая рука лежала на рукояти револьвера, и он пристально всматривался в Сола и Харрингтона. — Все посещения после пяти запрещены. А теперь убирайтесь отсюда или будете арестованы. Пошевеливайтесь. — Конечно, — дружелюбно откликнулся Харрингтон и вытащил из-под плаща короткий автомат-обрез. Он застрелил толстяка, попав ему в правый глаз. Второй охранник просто остолбенел. Сол отскочил в сторону при первом же выстреле и теперь обратил внимание на то, что неподвижность охранника не является естественной реакцией страха. Тот изо всех сил пытался шевельнуть правой рукой, но она дрожала, как парализованная. Лоб и верхняя губа охранника покрылись потом, глаза выпучились и, казалось, вот-вот выскочат из орбит. — Слишком поздно, — сказал Харрингтон и прошил автоматной очередью грудь и шею охранника До Сола донеслось лишь «пфт-пфт-пфт-пфт», и он догадался, что к дулу приставлен глушитель. Он чуть пошевелился и тут же замер, когда Харрингтон направил автомат в его сторону. — Затащи их внутрь. Сол беспрекословно повиновался, сосредоточив внимание на клубах пара, со свистом вырывавшихся у него изо рта, пока он тащил толстяка по пандусу и запихивал его в будку. Харрингтон вынул пустую обойму и, шлепнув ладонью, загнал в магазин новую. Затем опустился на корточки и собрал пять гильз. — Пошли наверх, — распорядился он. — У них есть видеокамеры, — задыхаясь, проговорил Сол. — Да, в самом здании, — снова переходя на немецкий, ответил Харрингтон. — В подвальном помещении только телефон. — Но охранников хватятся, — более уверенно возразил Сол. — Несомненно, — кивнул Харрингтон. — Поэтому я советую тебе поторапливаться. Они поднялись на первый этаж и двинулись по коридору. Еще один охранник, читавший газету, с изумлением поднял голову. — Простите, сэр, но это крыло закрыто после... — Договорить ему не удалось — Харрингтон дважды прострелил его грудь и выбросил тело на лестничную клетку. Сол бессильно привалился к обитому деревом дверному проему. Ноги у него стали ватными, он прикидывал, сможет ли убежать или закричать, но так и остался стоять, вцепившись в дубовый дверной косяк. — Лифт, — повелительно сказал Харрингтон. Коридор третьего этажа был пуст, хотя из-за угла доносились звуки голосов и смех. Френсис распахнул какую-то дверь справа. Молодая женщина в приемной как раз закрывала чехлом клавиатуру компьютера. — Прошу прощения, — промолвила она, — но после... Харрингтон вновь вскинул автомат, выстрел пришелся секретарше точно в левый висок. Она упала на пол почти бесшумно. Френсис поднял полиэтиленовый чехол и аккуратно накрыл компьютер, затем схватил Сола за полу пальто и потащил его сквозь пустую приемную в более просторный темный кабинет. Между шторами Сол успел заметить освещенный купол Капитолия. Харрингтон открыл обитую кожей дверь и вошел внутрь. — Привет, Траск, — поздоровался он на английском. Сухопарый мужчина, сидевший за столом, с легким удивлением поднял голову, и тут же на них бросился огромный парень в коричневом костюме, отдыхавший на кожаном диване. Френсис дважды выстрелил в телохранителя, наклонился, чтобы рассмотреть маленький автомат, выроненный парнем, и, поднеся дуло к его левому уху, выстрелил в третий раз. Огромное тело еще раз дернулось на плотном ковре и замерло. Ниман Траск не шевелился. Он продолжал держать в левой руке скрепленный тремя колечками блокнот, а в правой — ручку с золотым пером. — Садись. — Харрингтон указал Солу на кожаный диван. — Кто вы? — спросил Траск с легким любопытством. — Вопросы и ответы позднее, — ответил Харрингтон. — А сначала, пожалуйста, уразумейте, что моего друга, — он указал на Сола, — трогать нельзя. Если он сдвинется с этого дивана, я разожму свой левый кулак. — Разожмете кулак? — переспросил Траск. Когда Френсис входил в кабинет, в левой руке у него ничего не было, но теперь он сжимал пластиковое кольцо, с небольшой выпуклостью посредине. — А, понимаю, — устало промолвил Траск. Он положил блокнот и стиснул обеими руками ручку с золотым пером. — Взрывчатка? — Си-4. — Харрингтон, не выпуская из правой руки автомат, начал расстегивать плащ. Под ним оказалась мешковатая рыболовная куртка, каждый карман которой был забит до отказа. Сол разглядел маленькие петли проводков. — Двенадцать фунтов пластиковых бомб, — добавил он. Траск кивнул. Вид у него был невозмутимый, но костяшки пальцев, которыми он сжимал авторучку, побелели. — Более чем достаточно, — промолвил он. — Так чего же вы хотите? — Я бы хотел поговорить. — Френсис опустился в кресло, стоявшее в трех футах от стола. — Конечно, — кивнул Траск и откинулся на спинку своего кресла. Взгляд его метнулся к Солу и обратно. — Прошу вас, приступайте. — Свяжитесь с мистером Колбеном и мистером Барентом по многосторонней связи, — приказал Харрингтон. — Прошу прощения. — Траск положил ручку на стол, после чего разжал и растопырил пальцы. — Колбен в данный момент направляется в Чеви-Чейс, а мистера Барента, насколько мне известно, сейчас нет в стране. — Считаю до шести, — предупредил Харрингтон. — Если вы не позвоните, я отпускаю большой палец. Раз... два... Траск снял трубку на счет «четыре», но для того чтобы связаться со всеми, потребовалось еще несколько минут. Колбена он поймал в его лимузине на скоростном шоссе Горный ручей, а Барента выловил в самолете где-то над штатом Мэн. — Включите микрофон, — распорядился Харрингтон. — В чем дело, Ниман? — раздался ровный голос с легким кембриджским акцентом. — Ричард, вы тоже здесь? Да, — пророкотал Колбен. — Ни черта не понимаю, что все это значит. Что происходит, Траск? Вы держите меня уже две минуты. — У меня здесь небольшая проблема, — прошептал Траск. — Ниман, это линия небезопасна, — донесся тихий голос, принадлежавший Баренту, как догадался Сол. — Вы один? Траск замешкался и бросил взгляд на Френсиса. Но поскольку тот лишь улыбнулся, он ответил: — Нет, сэр. Тут со мной двое джентльменов в кабинете сенатора Келлога. — Какого черта, что у вас там творится, Траск? — заорал Колбен так, что микрофон завибрировал. — Что все это значит? — Спокойно, Ричард, — донесся голос Барента. — Продолжайте, Ниман. Траск протянул руку ладонью вверх к Харрингтону, предлагая ему ответить. — Мистер Барент, мы бы хотели вступить в один из ваших клубов, — заговорил, цинично усмехаясь, Френсис. — Прошу прощения, сэр, но вы пользуетесь своим преимуществом, — ответил Барент. — Меня зовут Френсис Харрингтон. А мой работодатель, присутствующий здесь, доктор Сол Ласки из Колумбийского университета. — Траск! — донесся голос Колбена. — Что происходит? — Тихо! — сказал Барент. — Мистер Харрингтон, доктор Ласки, рад познакомиться. Чем я могу вам помочь? Сол Ласки устало выдохнул. До того как Френсис назвал его имя, у него еще оставалась слабая надежда выбраться живым из этого кошмара. Теперь, хоть он и не имел ни малейшего представления, в какую игру играл Уильям Борден с этими людьми и какое они имели отношение к трио Вилли — Нина — леди Фуллер, он не сомневался, что оберет вознамерился принести его в жертву. — Вы упомянули какой-то клуб, — напомнил Барент. — Может, вы уточните? Харрингтон жутко осклабился. Он так и держал левую руку поднятой, не убирая большого пальца со спуска детонатора. — Я бы хотел вступить в ваш клуб, — повторил он. В голосе Барента появилась веселая нотка. — Но я являюсь членом многих клубов, мистер Харрингтон. Не можете ли вы выражаться поконкретнее? — Меня интересует клуб для самых избранных, — сказал Френсис. — К тому же я всегда питал слабость к островам. Из микрофона донесся сдавленный смех. — Как и я, мистер Харрингтон. Но несмотря на то, что мистер Траск является замечательным спонсором, боюсь, для вступления в клубы, к которым я принадлежу, потребуются дополнительные рекомендации. Вы упомянули, что с вами присутствует ваш работодатель, доктор Ласки. Вы что, тоже хотите вступить, док? Сол не мог придумать ничего, что помогло бы ему улучшить свое положение, поэтому он решил промолчать. — Может быть, вы... э-э... представляете кого-нибудь? — спросил Барент. Харрингтон лишь рассмеялся. — У него двенадцать фунтов намертво закороченной пластиковой взрывчатки, — ровным голосом произнес Траск. — По-моему, это вполне впечатляющая рекомендация. Почему бы нам всем не договориться где-нибудь встретиться и обсудить это? — Мои люди уже в пути, — донесся четкий голос Колбена. — Держитесь, Траск. Ниман Траск вздохнул, потер лоб и склонился ближе к трубке. — Колбен, сукин сын, если кто-нибудь из ваших людей окажется ближе чем в десяти кварталах от этого здания, я собственными руками вырву у вас сердце. Не суйтесь в это дело. Барент, вы здесь? К. Арнольд Барент продолжил так, словно и не слышал предшествовавшего диалога. — Мне очень жаль, мистер Харрингтон, но я взял за правило никогда не входить в выборные комитеты клубов, завсегдатаем которых являюсь. Однако иногда мне нравится спонсировать новых членов. Возможно, вы могли бы дать мне какие-нибудь рекомендации относительно перспективных членов, с которыми я мог бы связаться? — Пошел к черту, — разозлился Харрингтон. Именно в этот момент Сол Ласки почувствовал, как Траск проскользнул в его сознание. Это было невыносимо больно — словно кто-то воткнул длинную острую проволоку в его ухо. Он вздрогнул, но закричать ему не дали. Взгляд его механически замер, остановившись на ковре в футе от вытянутой руки мертвого телохранителя. Сол ощущал, как Траск холодно рассчитывает время и необходимые действия: две секунды на то, чтобы вскочить, секунда — чтобы выстрелить в голову Харрингтона, одновременно схватив его за руку и оттянув вниз спусковой механизм. Сол почувствовал, как его кулаки самопроизвольно сжимаются и разжимаются, а ноги вытягиваются, словно у бегуна перед забегом. Заталкиваемый все дальше и дальше на чердак собственного сознания, он ощущал полную беспомощность, хотел закричать, но голоса не было. Неужели именно это происходило с Френсисом на протяжении нескольких недель? — Уильям Борден... — тихо проговорил Барент. Сол уже забыл, о чем шла речь. Траск чуть подвинул правую ногу Сола, сместил его центр тяжести и напряг правую руку. — Я не знаком с этим джентльменом, — невозмутимо откликнулся Харрингтон. — Следующий? Сол чувствовал, как напрягаются все мышцы его тела, по мере того как Траск подготавливал его к броску. Он уловил легкое изменение плана. Траск заставит его налететь на Харрингтона, толкнуть его, одновременно сжав его левую руку, и втащить в главный кабинет сенатора, после чего Сол должен прикрыть своим телом взрывную волну, а сам Траск в это время укроется за массивным дубовым столом. Сол прикладывал все силы, чтобы предупредить полковника. — Мелани Фуллер? — спросил Барент. — О да, — откликнулся Харрингтон. — Кажется, с ней можно связаться в Джермантауне. — Что это за Джермантаун? — осведомился Траск, продолжая готовить Сола к нападению. Не обращать внимания на автомат. Схватить руку. Вытеснить на зад. Держаться между Харрингтоном и письменным столом Траска. — Это квартал близ Филадельфии, — дружелюбно пояснил Френсис. — Точный адрес я припомнить не могу, но если вы проверите списки жителей по Квинлейн, то сможете связаться с этой дамой. — О'кей, — послышался в трубке смешок Барента. — Еще одно. Не могли бы вы?.. — Прошу прощения. — Харрингтон тоже рассмеялся — но не своим, а старческим смехом Вилли Бордена. — Боже милостивый, Траск, неужто вы считаете, что я ничего не замечаю? Вам и за месяц не удастся его обработать... Mein Gott, вы же ходите вокруг да около, как подросток, тискающий соседку в темном зале кинотеатра. И оставьте в покое моего бедного еврея. Как только он шевельнется, я нажму на спуск. Этот стол разлетится на тысячи щепок. О, вот так уже лучше... Сол повалился на диван. Все его тело, освободившееся от плотных тисков чужой воли, охватила судорога. — Так на чем мы остановились, мистер Барент? — продолжал Харрингтон. В течение нескольких секунд из микрофона доносились лишь звуковые помехи, после чего вновь раздался спокойный голос Барента. — Прошу прощения, мистер Харрингтон, я разговариваю с вами из своего личного самолета и боюсь, мне уже пора. Я благодарен вам за звонок и надеюсь вскоре услышать вас снова. — Барент! — заорал Траск. — Черт побери, не вешайте... — До свидания, — бросил Барент. Раздался щелчок, и шумовой фон оповестил о том, что связь прервана. — Колбен! — завопил Траск. — Скажите же что-нибудь! — Конечно, — донесся мрачный голос. — Пошел ты к такой-то матери, Ниман. — Еще один щелчок, и следующая шумовая волна накрыла связь. С видом загнанного зверя Траск поднял голову. — Ничего страшного, — успокоил его Харрингтон. — Я могу оставить свою информацию у вас. Мы можем продолжить наши дела, мистер Траск. Но я бы предпочел сделать это с глазу на глаз. Доктор Ласки, вы не будете возражать? Сол поправил очки, моргнул и встал. Траск смотрел на него широко раскрытыми глазами. Френсис садистски улыбался. Сол повернулся, быстро вышел из кабинета сенатора и уже бегом добрался до приемной. Он вспомнил о секретарше, немного помедлил, но затем без колебаний бросился во всю прыть по коридору. Из-за угла появились четверо. Сол обернулся и увидел, что с противоположного конца коридора бегут еще пятеро в темных костюмах — двое из них свернули в кабинет Траска. Он оглянулся как раз в тот миг, когда оставшееся трио охранников в едином движении подняло свои револьверы, образовав ровный ряд рук — даже на таком расстоянии черные отверстия дул казались огромными. И вдруг Сол словно куда-то перелетел. В безмолвии его сознания раздался вопль Френсиса Харрингтона. И Френсис смутно ощутил в окружающем его мраке внезапное появление Сола. Теперь глазами Харрингтона они вместе смотрели, как Ниман Траск, приподнявшись в своем кресле, что-то кричал и вздымал в мольбе руки. — Auf Wiedersehn, — промолвил Френсис Харрингтон голосом нацистского оберста и разжал кулак. Южные двери и стена коридора взметнулись вместе с огромным шаром оранжевого пламени. Сол вдруг осознал, что летит по воздуху навстречу тем троим в темных костюмах. Их поднятые руки отбросило назад, один из револьверов разрядился, но звук выстрела заглушил пронесшийся по коридору грохот, а затем охранники тоже полетели, кувыркаясь, назад и врезались в стену за секунду до Сола. Но даже врезавшись в стену и ощущая, как над ним смыкается тьма, Сол успел расслышать отголосок — нет, не взрыва, а старческого голоса, произносящего «Auf Wiedersehn».Глава 7
Нью-Йорк Пятница, 26 декабря 1980 г. Шерифу Джентри нравилось лететь в самолете, хотя он совершенно не думал о цели своего путешествия. Это состояние подвешенности в герметизированном салоне на высоте нескольких тысяч футов над облаками определенно способствовало размышлениям. Место его назначения — Нью-Йорк — всегда представлялось шерифу конгломератом поводов длябезумия, выражающихся в массовом сознании, уличной преступности, паранойе, переизбытке информации и тихом сумасшествии. Джентри давно уже понял, что большие города не для него. Он знал дорогу через Манхэттен. Когда сто лет назад он учился в колледже в разгар Вьетнамской кампании, они с друзьями провели в этом городе не один уикэнд — однажды они взяли напрокат машину в Чикаго у его знакомой девушки, работавшей в автосервисе неподалеку от университета, и накатали две тысячи миль. После четырех бессонных ночей они вшестером закончили тем, что в течение двух часов объезжали пригороды Чикаго ранним утром, чтобы цифра реального километража оказалась ниже зарегистрированной в бланке. Джентри сел в автобус, курсировавший до порта Оторити, а там поймал такси, чтобы добраться до гостиницы «Эдисон». Отель был старый и уже начинал утрачивать свою славу — теперь его основными постояльцами были проститутки и нищие туристы, хотя он сохранял атмосферу былой степенности. В кафетерии заправляла горластая, неотесанная, но очень умелая пуэрториканка, а номер стоил треть того, во что обычно обходились манхэттенские гостиницы. В последний раз он был в Нью-Йорке, когда сопровождал восемнадцатилетнего юнца-иностранца, убившего в Чарлстоне четырех продавцов в универсаме — тогда округ оплатил расходы шерифа и стоимость гостиничного номера. Джентри залез под душ, чтобы смыть дорожную пыль, надел удобные синие вельветовые брюки, старый свитер с высоким горлом, коричневую вельветовую куртку, мягкую кепку и пальто, которое вполне годилось для Чарлстона, но вряд ли могло противостоять напору зимнего нью-йоркского ветра. Он с минуту подумал, затем вынул из чемодана «рутер» 357 калибра и переложил его в карман пальто. Карман сразу оттопырился, слишком явственно обозначив его содержимое. Джентри вынул револьвер из кармана и засунул его за ремень брюк. Так тоже никуда не годилось. Кобуры для «ругера» у него не было — ремень и кобуру он носил лишь вместе с формой, а когда не был на службе, то держал при себе специальный полицейский револьвер 38 калибра. Какого черта он потащил с собой этот «рутер» вместо более компактного оружия? Дело кончилось тем, что он затолкал револьвер в карман куртки. Придется не застегивать пальто, невзирая на непогоду, и не снимать его в помещении, чтобы не обнаруживать оружие. «Ладно, — думал Джентри, — не можем же мы все быть Стивами Мак-Квинами!» Перед тем как выйти из гостиницы, он позвонил домой, в Чарлстон, и включил свой автоответчик. Он не ожидал обнаружить послания от Натали, но думал о ней всю дорогу и мечтал услышать ее голос. Первая запись была оставлена ею. «Роб, это Натали. Сейчас два часа дня по сент-луисскому времени. Я только что добралась сюда и вылетаю следующим рейсом в Филадельфию. Кажется, я нашла ниточку и знаю, где найти Мелани Фуллер. Взгляни на третью страницу сегодняшней чарлстонской газеты... думаю, в одной из нью-йоркских это тоже будет опубликовано. Массовые убийства в Джермантауне. Не знаю, зачем старой женщине понадобилось связываться с уличной бандой, но все произошло в Джермантауне. Сол говорил, что лучший способ искать этих людей — идти по следам бессмысленного насилия вроде этого. Обещаю не высовываться... просто осмотрюсь и проверю, не сможем ли мы здесь за что-нибудь уцепиться. Вечером позвоню и оставлю сообщение, когда буду знать, где я остановилась. Надо бежать. Будь осторожен, Роб». — Черт, — тихо выругался Джентри, опуская телефонную трубку. Он снова набрал свой номер, выдохнул, когда его собственный голос попросил его оставить сообщение, и после гудка произнес: — Натали, не смей останавливаться в Филадельфии, или в Джермантауне, или куда ты там еще отправилась. Кто-то видел тебя в канун Рождества. Если не хочешь оставаться в Сент-Луисе, приезжай ко мне в Нью-Йорк. Глупо бегать по отдельности и изображать Джо Харди и Нэнси Дру. Позвони мне сюда, как только получишь это сообщение, — он назвал гостиничный номер телефона, номер комнаты, подождал и повесил трубку. — Черт, — повторил он и с такой силой грохнул кулаком по столу, что дешевая столешница задрожала.* * *
Джентри доехал на метро до Гринвич-Виллидж и вышел около Сен-Винсента. В дороге он перелистал свою записную книжку, просмотрев все сделанные им записи — адрес Сола, замечание Натали, что Сол упоминал домохозяйку по имени Тима, добавочный номер Сола в Колумбии, телефон декана, которому Джентри звонил почти две недели назад, телефон покойной Нины Дрейтон. «Не так уж много», — подумал он. Позвонив в Колумбию, шериф убедился, что до следующего понедельника на факультете психологии никого не будет. Местожительство Сола плохо согласовывалось с представлениями Джентри об образе жизни нью-йоркского психиатра. Шериф напомнил себе, что Сол был скорее профессором, чем психиатром, и окрестности показались ему более соответствующими. Дома были в основном четырех-пятиэтажными, на углах улочек располагались рестораны и гастрономы, а общая скученность и компактность застройки создавали атмосферу маленького провинциального городка. Мимо прошло несколько пар — одну из них составляли двое мужчин, державшихся за руки, — но Джентри знал, что большинство местных обитателей сейчас находятся в центре — издательствах, брокерских конторах, книжных магазинах, агентствах и других железобетонных клетках. Все они колеблются между должностью секретаря и вице-президента, зарабатывая необходимые тысячи для содержания двух-трехкомнатных квартир в Гринвич-Виллидж и мечтая о большом переломе, прорыве, неизбежном продвижении на более высокую ступень, перемещении в более просторный кабинет с эркерами и возвращении на такси в новый дом в районе Центрального парка. Подул ветер. Джентри поплотнее запахнул пальто и поспешил вперед. Доктора Сола Ласки дома не оказалось. Джентри это не удивило. Он постучал еще раз и замер на узкой лестничной площадке, вслушиваясь в приглушенную болтовню телевизоров и детские крики, вдыхая запахи жареной говядины и капусты. Затем он вытащил из бумажника кредитную карточку и, просунув ее в замочную скважину, вошел в жилище, сокрушенно качая головой: Сол Ласки являлся национально признанным экспертом по вопросам насилия, человеком, выжившим в лагере смерти, но безопасность его дома оставляла желать лучшего. По меркам Гринвич-Виллидж, у Сола была большая квартира — удобная гостиная, маленькая кухня, еще более крохотная спальня и просторный кабинет. Всюду — даже в ванной — полно книг. Кабинет был завален блокнотами, папками, на многочисленных полках лежали тщательно надписанные вырезки из статей и сотни книг — многие на немецком и польском языках. Джентри обошел все комнаты, на мгновение задержался рядом с рукописью, лежавшей около компьютера, и собрался уходить. Сам себе он казался взломщиком. Квартира выглядела так, словно в ней никто не жил много недель: кухня была безупречно чистой, холодильник — почти пустой, но отсутствие пыли и накопившейся почты свидетельствовало о том, что сюда кто-то приходит. Джентри удостоверился, что рядом с телефоном нет никаких записок, еще раз быстро осмотрел все комнаты, проверяя, не упустил ли он намека на то, где мог находиться Сол, и тихо вышел из квартиры. Спустившись на один лестничный пролет, шериф столкнулся с пожилой женщиной — седые волосы были собраны в узел на затылке. Джентри пропустил ее, а потом прикоснулся к своей кепке и спросил: — Простите, мадам. Вы случайно не Тима? Женщина остановилась и, подозрительно прищурившись, уставилась на шерифа. Она говорила с сильным восточноевропейским акцентом: — Я вас не знаю. — Нет, мэм, — откликнулся Джентри, снимая кепку. — И прошу прощения, что называю вас по имени, но Сол не упомянул вашей фамилии. — Миссис Валижельски, — ответила женщина. — А вы кто? — Шериф Бобби Джентри. Я — друг Сола и пытаюсь разыскать его. — Доктор Ласки никогда не упоминал никакого шерифа Джентри, — она произнесла его имя, сильно подчеркнув "ж". — Да, думаю, вряд ли, мэм. Мы познакомились всего лишь пару недель назад, когда он был в Чарлстоне. Это в Южной Каролине. Может, он говорил вам, что отправляется туда? — Доктор Ласки просто сказал, что у него дела, — оборвала шерифа женщина и запыхтела. — Можно подумать, я слепая и не вижу, что написано на авиабилете! Он обещал — два дня. Ну, может, три. Миссис Валижельски, — сказал он, — не будете ли вы так добры поливать мои цветы? Они засохли бы уже дней десять назад, если бы я не приходила... — Миссис Валижельски, а вы видели доктора Ласки в течение последней недели? — Джентри прервал ее излияния. Женщина одернула свитер и не проронила ни слова. — Мы с ним договорились, — продолжал шериф, — что он позвонит, когда вернется... то есть в прошлую субботу. Но я не получал от него никаких вестей. — Он лишен чувства времени, — проронила женщина. — На прошлой неделе мне звонил из Вашингтона его родной племянник. «С дядей Солом все в порядке? — спросил он. — Он должен был приехать на обед в субботу». Но, зная доктора Ласки, я уверена: он просто забыл, отправился куда-нибудь на семинар. И что мне было отвечать его племяннику? Его единственной родне в Америке? — Это тот самый племянник, который работает в Вашингтоне? — переспросил Джентри. — А какой же еще? Джентри кивнул, поняв по позе и тону женщины, что она не расположена разговаривать и собирается идти по своим делам. — Сол говорил, что я могу связаться с ним через его племянника, но я потерял номер телефона. Он живет в самом Вашингтоне? — Нет-нет, — откликнулась миссис Валижельски. — Это посольство. Доктор Ласки рассказывал, что сейчас они живут в пригороде. — А Сол может быть в польском посольстве? — Зачем это доктору Ласки идти в польское посольство? — прищурившись, осведомилась женщина. — Арон работает в израильском посольстве, но живет он не там. Значит, вы шериф? Интересно, какие могут быть общие дела у доктора с шерифом? — Я — поклонник его книг, — пояснил Джентри. Щелкнув шариковой ручкой, он нацарапал на обороте своей блеклой визитной карточки адрес: — Я остановился здесь. А это — номер моего домашнего телефона в Чарлстоне. Как только Сол появится, попросите его позвонить мне. Это очень важно, — и он двинулся вниз по лестнице. — О, кстати, — окликнул он женщину еще раз, — если я дозвонюсь до посольства — фамилия племянника Сола пишется с одним "е" или с двумя? — Как может быть два "е" в фамилии Эшколь? — Миссис Валижельски пожала плечами. — Действительно, как? — хмыкнул Джентри и вприпрыжку побежал вниз.* * *
Натали не объявилась. Джентри прождал до начала одиннадцатого, потом позвонил в Чарлстон и был вознагражден лишь ее прежним посланием и своей собственной тирадой. В десять минут двенадцатого он еще раз набрал свой номер. И снова — ничего нового! В четверть второго ночи он сдался и попробовал заснуть. Но из-за тонкой стенки доносился такой шум, словно там ссорилось с полдюжины иранцев. В три ночи Джентри снова позвонил в Чарлстон. Там по-прежнему не было ничего нового. Он произнес еще один текст, извиняясь за предыдущую грубость и умоляя девушку не болтаться одной по Филадельфии. Рано утром Джентри еще раз связался со своим автоответчиком, оставил название вашингтонской гостиницы, где он заказал себе номер, и успел на рейс 8.15, Перелет был слишком коротким, чтобы как следует все обдумать, но зато у него было время изучить свои записи в блокноте и папке. Натали прочитала о взрывах в здании Сената 20 декабря и опасалась, что это могло иметь отношение к Солу. Джентри настаивал, что не каждое убийство, несчастный случай и террористический акт в Америке надо приписывать стареющему оберсту, — злому гению доктора Ласки. Он напомнил Натали о телевизионных новостях, в которых высказывалось предположение, что за этими взрывами, в результате которых погибло шесть человек, стояли пуэрто-риканские националисты. Джентри обратил ее внимание на то, что нападение на здание Сената было совершено всего несколько часов спустя после того, как Сол прибыл в город, что имя его в списке погибших не упоминалось и что хотя личность самого террориста не была установлена, не следует впадать в панику. Но Натали это вряд ли убедило. Да и у него оставались некоторые сомнения. Джентри добрался до здания ФБР в начале двенадцатого. Он не знал, работает ли там кто-нибудь в субботу. Секретарь в приемной подтвердила, что агент по особым поручениям Ричард Хейнс на месте, и продержала Джентри несколько минут, дозваниваясь до этого делового человека, после чего объявила, что агент Хейнс примет его. Джентри попытался сдержать свою радость. Молодой человек в дорогом костюме и с тоненькими усиками проводил шерифа в отдел безопасности, где его сфотографировали, записали основные данные, пропустили через металлический детектор и выдали пластиковый пропуск посетителя. Джентри похвалил себя за то, что оставил «ругер» в номере. Молодой человек, не говоря ни слова, провел его по коридору, посадил в лифт, потом они протопали еще по одному коридору с трехстенными отсеками. Наконец провожатый постучал в дверь, на которой блестела табличка "Агент по особым поручениям Ричард Хейно. Когда изнутри раздалось: «Войдите», юнец кивнул и развернулся на каблуках. Джентри с трудом удержался, чтобы не окликнуть и не сунуть ему чаевые. Кабинет Ричарда Хейнса, просторный и искусно обставленный, резко контрастировал с кабинетом Джентри в Чарлстоне, маленьким и захламленным. На стенах висели фотографии. Джентри обратил внимание на мужчину с крупной челюстью и свинячьими глазками, который вполне мог быть Эдгаром Гувером — на снимке он пожимал руку кому-то похожему на Ричарда Хейнса, только с меньшим количеством седых волос. Натуральный Хейнс не поднялся с места и даже не протянул руки, а просто указал жестом на кресло, предлагая шерифу присесть. — Что вас привело в Вашингтон, шериф? — осведомился Хейнс ровным баритоном. Джентри поерзал в тесном креслице, пытаясь устроиться поудобнее, потом понял, что его конструкция исключает эту возможность, и откашлялся. — Просто приехал на праздники, Дик, и решил заскочить, чтоб поздороваться. Хейнс удивленно поднял бровь, продолжая перебирать бумаги. — Очень мило с вашей стороны, шериф, хотя у нас тут довольно сумасшедшие выходные. Если вы по поводу убийств в «Мансарде», то ведь я уже все отослал вам через Терри и наше отделение в Атланте, больше у меня нет ничего нового. Джентри положил ногу на ногу и передернул плечами. — Я просто оказался поблизости и решил заскочить. У вас тут впечатляющая обстановочка, Дик. Хейнс хмыкнул. — А что это у вас с подбородком? Похоже, кто-то хорошенько вам вмазал. Неприятности во время ареста? — спросил шериф. Хейнс прикоснулся к своему подбородку — на фоне крупного желтоватого синяка виднелся пластырь. Его не скрывал даже грим телесного цвета. — Ничего особенного, шериф, — с печальным видом промолвил Хейнс. — Поскользнулся, вылезая из ванны на Рождество, и стукнулся подбородком о вешалку для полотенец. Хорошо еще, что не убился насмерть. — Да, говорят, что большинство несчастных случаев происходит дома, — проворковал Джентри. Хейнс незаметно поглядел на часы. — Послушайте, а вы получили фотографию, которую мы вам послали? — спросил Джентри деловито. — Фотографию? Ах ту, пропавшей женщины. Мисс Фуллер. Да, спасибо, шериф. Она роздана всем нашим полевым агентам. — Это хорошо. — Джентри кивнул. — Ничего не слышно, где она может находиться? — Фуллер? Нет. Я продолжаю считать, что она мертва. Думаю, ее тело нам никогда не удастся найти. — Возможно, и так, — согласился Джентри. — Дик, я только что проезжал мимо Капитолия на автобусе, и сразу через улицу там такое большое здание с полицейскими кордонами вокруг. Это то самое, как оно называется... — Здание Сената, — договорил Хейнс. — Да, это там, где неделю назад террористы взорвали сенатора? — Террорист, — поправил Хейнс. — Всего один. А сенатор от штата Мэн в это время отсутствовал. Был убит его политический советник — довольно известное лицо в партии республиканцев по фамилии Траск. Больше никто из важных лиц не пострадал. — Полагаю, вы участвуете в расследовании этого дела, а? Хейнс вздохнул и отложил бумаги. — У нас здесь довольно большое учреждение, шериф. А агентов не так много. — Да, — согласился Джентри. — Конечно. Говорят, террорист был пуэрториканец. Это так? — Прошу прощения, шериф. Мы не имеем права рассказывать о текущих расследованиях. — Конечно, конечно... Скажите, а вы помните этого нью-йоркского психиатра — доктора Ласки? — Сол Ласки... — протянул Хейнс. — Преподает в Колумбии. Да, мы выясняли, где он находился в уикэнд, тринадцатого. В Чарлстон он, вероятно, приезжал, чтобы организовать презентацию своей будущей книги. — Вполне возможно. Дело в том, что он должен был прислать мне кое-какие сведения об этих массовых убийствах, а теперь я не могу с ним связаться. Вы не следили за ним, нет? — поинтересовался шериф как бы между прочим. — Нет, — ответил Хейнс и снова посмотрел на часы. — С чего бы вдруг? — Да, действительно, нет никаких оснований. Но мне казалось, что Ласки собирается сюда, в Вашингтон. По крайней мере, я думаю, он был здесь в прошлую субботу. В тот самый день, когда у вас произошла эта история с террористом в здании Сената. — Ну и что? — Хейнс равнодушно пожал плечами. — Просто у меня такое ощущение, что этот парень пытается кое-что расследовать самостоятельно. Я думал, он здесь появлялся. — Нет-нет, — быстро ответил Хейнс и вздохнул. — Шериф, я бы с радостью еще поболтал с вами, но через несколько минут у меня назначена встреча. — — Конечно, конечно. — Джентри поднялся, комкая кепку в руках. — Вам надо обратиться к кому-нибудь. — К кому? — не понял Хейнс. — По поводу вашего синяка, — пояснил Джентри. — Могут быть осложнения... Джентри спустился вниз по Девятой улице, пересек Пенсильвания-стрит и миновал здание Министерства юстиции. Затем свернул по улице Конституции, прошел по Десятой мимо здания Службы внутренних доходов, снова свернул на Пенсильвания-стрит и взбежал по ступенькам старой почты. Похоже, за ним никто не следил. Он дошел до Першинг-парк и посмотрел на крышу Белого дома. Интересно, там ли сейчас находится Джимми Картер и чем он занимается? Может, размышляет о заложниках и винит иранцев в своем поражении ? Джентри сел на скамейку и вынул из кармана свой блокнот, перелистав страницы, плотно заполненные его почерком, закрыл блокнот и вздохнул. "Тупик. А что, если Сол был не в своем уме? Является ли он параноидальным психом? Нет. Почему нет? Просто нет. О'кей, тогда куда он провалился? Надо пойти в библиотеку Конгресса, просмотреть газеты за прошлую неделю, сообщения о смертях и несчастных случаях. Обзвонить больницы. А что, если он находится в морге под именем пуэрториканца Джона Доу? Глупо. Какое дело оберсту до советника сенатора? Какое он имеет отношение к Кеннеди и Руби?" Джентри потер глаза. В Чарлстоне, когда он сидел на кухне Натали Престон и слушал рассказ Сола, все выглядело очень правдоподобно. Все вставало на свои места — разрозненные, на первый взгляд, убийства выстраивались в цепь финтов и выпадов, которыми обменивались три маньяка, обладающих действительно невероятными возможностями. Но теперь все казалось глупостью. Если только... «Если только их не было больше». Джентри выпрямился. Сол должен был с кем-то встретиться здесь, в Вашингтоне. Но, несмотря на всю свою откровенность, он не сказал с кем. «С членами семьи?» Зачем? Джентри вспомнил, с какой болью Сол рассказывал об исчезновении нанятого им детектива. Френсиса Харрингтона. Может быть, Сол обратился к кому-нибудь за помощью? К племяннику из израильского посольства? Может, кто-то еще вмешался в это дело? «Кто?» Правительство? Но вряд ли Сол мог подумать, что у правительства есть какая-то причина оберстать бывшего эсэсовца. А что, если таких, как Уильям Борден, Фуллер и Дрейтон, было больше? Шериф вздрогнул и поплотнее запахнул пальто. День был ясным, солнечным, температура воздуха — где-то градусов тридцать по Фаренгейту. Слабое зимнее солнце золотило колючую поблекшую траву. Джентри нашел платный таксофон на углу рядом с гостиницей «Вашингтон» и воспользовался кредитной карточкой, чтобы позвонить в Чарлстон. От Натали по-прежнему не было никаких известий. Тогда Джентри набрал номер израильского посольства, который он переписал из телефонного справочника в гостинице. Интересно, работает ли кто-нибудь там в субботу? Ему ответил женский голос. — Алле, — промолвил Джентри, с трудом справляясь с внезапно возникшим желанием сказать «Шалом». — Могу я попросить Арона Эшколя? На другом конце провода возникла небольшая пауза, затем женщина спросила: — Будьте любезны, кто его просит? — Это шериф Роберт Джентри. — Секундочку. Секундочка превратилась в две минуты. Джентри стоял, сжимая двумя руками телефонную трубку, и взирал на здание казначейства на противоположной стороне улицы. Если таких людей, как, оберет, мозговых вампиров... было много, то это объясняло все. Тогда понятно, зачем Бордену потребовалось инсценировать собственную смерть. Понятно, почему за шерифом графства Чарлстон в течение полутора недель велась слежка. И почему, беседуя с известным агентом ФБР, Джентри поймал себя на остром желании врезать ему по зубам. И что случилось с замусоленными газетными вырезками, которые в последний раз видели на месте убийства... — Да, — послышался в трубке мужской голос. — О, привет, мистер Эшколь, это шериф Бобби Джентри... — Это не мистер Эшколь, меня зовут Джек Коуэн. — А, мистер Коуэн... Я бы хотел поговорить с Ароном Эшколем. — Я возглавляю отдел мистера Эшколя. Вы можете сообщить мне свое дело, шериф. — Вообще-то, мистер Коуэн, у меня к нему дело личного характера. — Вы друг Арона, шериф Джентри? — в голосе на другом конце провода явно звучала тревога. Джентри понимал, что творится нечто странное, но не мог определить, что именно. — Нет, сэр, — отозвался он. — Скорее, я друг дяди Арона, Соломона Ласки. Но мне непременно нужно поговорить с Ароном. Повисло напряженное молчание. Наконец, вздохнув, Коуэн сказал: — Лучше, если бы вы могли прибыть сюда лично, шериф. Джентри взглянул на часы. — Боюсь, у меня нет на это времени, мистер Коуэн. Если вы соедините меня с Ароном, я смогу выяснить, насколько это необходимо. — Очень хорошо. Откуда вы звоните, шериф? Вы здесь, в Вашингтоне? — Да, — ответил Джентри. — Из таксофона. — Вы в самом городе? Вам объяснят, как добраться до посольства. Джентри с трудом сдержал закипающую ярость. — Я нахожусь рядом с гостиницей «Вашингтон». Свяжите меня с Ароном Эшколем или дайте мне ею домашний телефон. Если мне понадобится встретиться с ним в посольстве, я просто возьму такси. — Очень хорошо, шериф. Пожалуйста, перезвоните через десять минут. — И Коуэн повесил трубку, прежде чем Джентри успел возразить. Разъяренный, он ходил взад-вперед перед входом в отель, с трудом сдерживая желание собрать вещи и тут же вылететь в Филадельфию. Все это было чрезвычайно странно. Он знал, как сложно найти исчезнувшего человека в Чарлстоне, но там под рукой шерифа все же было шесть полицейских и в десять раз больше возможных источников информации. Но все это представлялось ему каким-то законченным абсурдом. Он перезвонил через восемь минут. Ему снова ответил женский голос: — Да, шериф. Подождите секундочку, пожалуйста. Джентри вздохнул и прислонился к металлическому каркасу телефонной будки. И тут что-то острое воткнулось ему в бок. Шериф обернулся и увидел рядом двух мужчин, стоявших как-то подозрительно близко. Тот что был повыше широко улыбался. Затем Джентри чуть опустил глаза и различил дуло автомата. — Мы сейчас пойдем к той машине и сядем в нее, — сказал высокий и сердечно улыбнулся. Затем он похлопал Джентри по плечу, словно они были старыми друзьями, встретившимися после долгой разлуки. Дуло автомата еще глубже впилось под ребра. «Слишком уж этот здоровяк ко мне прижимается», — подумал Джентри. Он допускал, что ему удастся отбить оружие прежде, чем мужчина сможет выстрелить, но его напарник отошел на пять футов, продолжая держать правую руку в кармане плаща. Поэтому, что бы Джентри ни предпринял, у второго оставалась возможность выстрелить беспрепятственно. — Ну, пошли, — велел высокий. И Джентри пошел... Они неплохо прокатились — сначала на запад к мемориалу Линкольна, объехали приливной бассейн, затем по дороге Джефферсона к Капитолию, мимо здания Пентагона и обратно. Хотя о достопримечательностях столицы США никто не говорил. Широкий лимузин с обитыми плюшем сиденьями двигался бесшумно. Стекла были затемнены, дверцы запирались автоматически, переднюю и заднюю части автомобиля перегораживал звуконепроницаемый плексиглас. Джентри усадили назад так, что он оказался зажатым между двумя неизвестными. Рядом, на откидном сиденье, сидел взъерошенный человек с седыми волосами, грустными глазами и мешковатым, изъеденным оспинами лицом, которое тем не менее казалось красивым. — Ребята, я хочу вам кое-что сказать, — заметил Джентри. — Похищение людей в этой стране запрещено законом. Тем более шерифов... — Не предъявите ли вы мне какое-нибудь удостоверение личности, мистер Джентри? — тихо спросил седовласый человек. Джентри подумал, не произнести ли возмущенную обличительную речь, но потом просто пожал плечами и полез за своим бумажником. Никто не стал на него набрасываться, когда он сунул руку в карман — перед тем как сесть в машину его обыскали. — Похоже, вы — Джек Коуэн, — отметил Джентри. — Да, я — Джек Коуэн, — подтвердил собеседник, копаясь в бумажнике Джентри, — а у вас полный порядок с удостоверениями, кредитными карточками и прочими документами, выданными на имя шерифа Роберта Джозефа Джентри. — Друзья и коллеги зовут меня Бобби Джо, — заметил Джентри. — Но нет на Земле другого такого места, как Америка, где бы удостоверение личности значило меньше, — усмехнулся Коуэн. Джентри пожал плечами. Его подмывало объяснить им, насколько мало его это заботит, но вместо этого он спросил: — А могу я взглянуть на ваше удостоверение личности? — Я — Джек Коуэн. — Ага. Вы действительно начальник Арона Эшколя? — Я возглавляю отдел переводов и внешних связей в посольстве, — пояснил Коуэн. — Это отдел, в котором работает Арон? — Да, — кивнул Коуэн, — а вы не знали этого? — Насколько я понимаю, один из вас троих — Арон Эшколь, — улыбнулся Джентри. — Я никогда его не видел и, судя по тому, как складывается ситуация, никогда не увижу. — Почему вы так говорите, мистер Джентри? — Коуэн произнес это ровным ледяным тоном. — Считайте, что я догадался, — хмыкнул Джентри. — Я прошу к телефону Арона, и все посольство пытается удержать меня на связи, пока вы, ребята, впрыгиваете в ближайший лимузин и рвете когти к моему отелю, чтобы под дулом автомата свозить меня на экскурсию. И если вы те, за кого себя выдаете... хотя сейчас уже один черт может это разобрать... ваше поведение не слишком соответствует тому, как должны вести себя посланники наших верных и зависящих от нас союзников на Ближнем Востоке. Подозреваю, Арон Эшколь убит или пропал без вести, и вы настолько расстроены этим обстоятельством, что втыкаете дуло автомата под ребра законно избранным представителям власти. — Продолжайте, — попросил Коуэн. — А пошли вы знаете куда! — выругался Джентри. — Я уже все сказал. Объясните мне, что происходит, и я скажу, зачем я звонил Арону Эшколю. — Мы можем поспособствовать тому, чтобы вы продолжили свое участие в этой беседе, другими средствами, — произнес Коуэн, и отсутствие угрозы в его голосе сработало лучше, чем любое запугивание. — Сомневаюсь, — ответил Джентри. — Если только вы те, за кого себя выдаете. Как бы там ни было, я не скажу ничего, пока вы не сообщите мне что-нибудь ценное. Коуэн бросил взгляд на мелькавшие за окном нагромождения мрамора и снова посмотрел на шерифа. — Арон Эшколь мертв, — проронил он. — убит. Он, его жена и две четырехлетние дочурки. — Когда? — спросил Джентри. — Два дня назад. — В Рождество... — ахнул шериф. — Ну и праздничек выдался! Как же его убили? — Кто-то проткнул им головы проволокой, — безучастно произнес Коуэн. Можно было подумать, что он описывает новый способ укрепления автомобильного двигателя. — О Господи, — выдохнул Джентри. — Почему я ничего не читал об этом? — Там произошел взрыв с последующим пожаром, — пояснил Коуэн. — Прокурор Вирджинии классифицировал это как смерть вследствие несчастного случая... утечка газа. Связь Арона с посольством не была установлена агентствами властей. — А ваши врачи нашли истинную причину их гибели? — Да, — печально подтвердил Коуэн. — Вчера. — Но зачем было поднимать весь этот кавардак, когда я позвонил? — осведомился Джентри. — У Арона могло быть... нет, постойте... Я упомянул Сола Ласки. Вы думаете, что смерть... гибель Арона и его семьи каким-то образом связана с... его дядей? — Да. Именно так, — ответил Коуэн. — Так кто убил Арона Эшколя? Коуэн пристально взглянул на Джентри. — Теперь ваша очередь, шериф. Джентри помолчал, собираясь с мыслями. — Вы должны отдавать себе отчет, — продолжил Коуэн, — что если Израиль сейчас оскорбит американских налогоплательщиков в этот чрезвычайно важный период отношений между нашими странами, последствия могут оказаться для него губительными. Мы готовы поступиться собственными желаниями, но освободим вас только в том случае, если вы докажете нам свою непричастность ко всем этим горестным событиям. Если вам не удастся убедить нас, то для всех заинтересованных сторон будет гораздо проще, если вы исчезнете. — Заткнитесь! — оборвал его Джентри. — Я думаю. — Они в третий раз проехали мимо мемориала Джефферсона и свернули на мост. Впереди замаячил памятник Вашингтону. — Десять дней назад Сол Ласки приехал в Чарлстон, чтобы заняться расследованием убийств в «Мансарде»... ЦРУ просто назвало их «чарлстонским избиением»... вы, наверное, слышали об этих наших небольших неприятностях? — Да, — кивнул Коуэн. — Несколько стариков было убито из-за денег, а заодно ликвидировано несколько невинных свидетелей, так? — Приблизительно так, — усмехнулся Джентри. — Только одним из стариков оказался бывший нацист, эсэсовец, скрывающийся под именем Уильяма Бордена. — Кинопродюсер, — пояснил высокий израильтянин, сидевший слева от Джентри. Джентри подпрыгнул — он почти забыл, что телохранители владеют даром речи. — Да. Так вот, — продолжал он. — И Сол Ласки охотился конкретно за этим нацистом в течение сорока лет — со времен Челмно и Собибура. — Это что? — осведомился молодой человек, сидевший справа от Джентри. Джентри удивленно повернулся к нему, но тут Коуэн что-то резко сказал ему на иврите, и молодой человек залился краской. — Этот немец... Борден... он погиб, не так ли? — осведомился Коуэн. — Во время авиакатастрофы... Якобы погиб... Но Сол держался другого мнения. — Значит, доктор Ласки считал, что его старый мучитель все еще жив? — задумчиво произнес Коуэн. — Но какое отношение имеет Борден ко всем этим убийствам в Чарлстоне? Джентри снял свою кепку и почесал в затылке. — Сводит старые счеты... Сол и сам не мог сказать наверняка. Он просто чувствовал, что оберет — так он называл Бордена... каким-то образом имел отношение ко всему этому. — Зачем Ласки встречался с Ароном? — Признаться, я и не знал, что они встречались, — Джентри покачал головой. — До вчерашнего дня я вообще не знал о существовании Арона Эшколя. Сол вылетел из Чарлстона в Вашингтон, где он должен был с кем-то встретиться двадцатого декабря, однако с кем — он не сказал. Он должен был держать со мной связь, но с тех пор как он покинул Чарлстон, от него никаких вестей... Вчера я был в квартире Сола в Нью-Йорке и разговаривал с его домохозяйкой... — Тимой, — вставил высокий телохранитель и тут же умолк, так как Коуэн бросил на него свирепый взгляд. — Да, — подтвердил Джентри. — Она упомянула его племянника... Арона, вот почему я приехал сюда... — О чем же доктор Ласки хотел поговорить с Ароном? — спросил Коуэн. Джентри положил кепку на колени и развел руками. — Если б я знал. У меня сложилось впечатление, что Сол хотел получить какие-то сведения о жизни этого Бордена в Калифорнии. Арон мог ему в этом помочь? Прежде чем ответить, Коуэн довольно долго сидел, закусив губу. — Перед встречей с дядей Арон взял отпуск за свой счет на четыре дня, — наконец ответил он. — Большую часть этого времени он провел в Калифорнии. — И ему удалось что-либо узнать? — спросил Джентри. — Этого мы не знаем, — вздохнул Коуэн, — А откуда вам известно о его встрече с Солом? Сол приходил в ваше посольство? Высокий произнес что-то предостерегающее на иврите, но Коуэн не обратил на него никакого внимания. — Нет, — ответил он. — Доктор Ласки встречался с Ароном неделю назад в Национальной галерее. Арон и Леви Коул, его коллега по внешним связям, сочли эту встречу чрезвычайно важной. Судя по словам их друзей и коллег по отделу, Арон и Леви в течение той недели хранили в шифровальном сейфе какие-то папки, которым придавали огромное значение. — Что было в этих папках? — не слишком надеясь на ответ, спросил Джентри. — Это нам неизвестно. — Коуэн пожал плечами. — Через несколько часов после того как была убита семья Арона, Леви Коул ворвался в посольство и изъял все материалы. С тех пор его никто не видел. — Коуэн устало потер переносицу. — И все это абсолютно необъяснимо. Леви — холостяк. У него нет семьи ни в Израиле, ни здесь, в Штатах. Он преданный сионист, бывший военный. Я не могу себе представить, чем его можно подкупить. С точки зрения логики, они должны были уничтожить именно его, а Арона Эшколя — только шантажировать. Вопрос только в том, конечно же: кто такие эти они? Что мог сказать на это Джентри? Он только вздыхал тяжело, со стоном... — Ладно, шериф, — сказал Коуэн, — расскажите нам, пожалуйста, что-нибудь, что могло бы нам помочь. — Больше мне нечего добавить, — сказал Джентри. — Разве что могу рассказать вам историю Сола Ласки. — «Но как я смогу рассказать ее, не вдаваясь в подробности о Способностях этих... вампиров, — подумал Джентри. — Они же не поверят мне. А если они мне не поверят, я погиб». — Нам нужно все, — жестко сказал Коуэн. — Все с самого начала. Лимузин пронесся мимо мемориала Линкольна и снова направился к приливному бассейну.Глава 8
Джермантаун Суббота, 27 декабря 1980 г. С помощью своего «Никона» со 135-миллиметровыми линзами Натали Престон пыталась запечатлеть противоречия умирающего города: кирпичные одноквартирные и каменные дома, банк, зажатый с двух сторон постройками XVIII столетия, антикварные магазины, забитые сломанной рухлядью, лавки Армии Спасения с поношенными вещами, пустые стоянки, заваленные мусором, грязные улочки и аллеи. Натали зарядила свой «Никон» черно-белой пленкой «+Х», не заботясь о ее зернистости, и ставила длинные неторопливые экспозиции, чтобы было видно все до малейшей трещинки в стене. Но никаких следов Мелани Фуллер нигде не было. Тогда она набралась мужества и зарядила свою «ламу» тридцать второго калибра. Теперь револьвер лежал на дне ее большой сумки под вторым картонным дном, заваленным ворохами пленки и крышечками от линз. Днем квартал выглядел не столь отталкивающе. Накануне вечером, после того как самолет приземлился в темноте, Натали, ощущая полную растерянность, позволила своему соседу, назвавшемуся Енсеном Лугаром, отвезти ее в Джермантаун. Тот сказал, что это ему по пути. Его серый «Мерседес» стоял на долгосрочной стоянке. Сначала Натали обрадовалась, что приняла это приглашение: путь был долгим — по оживленному шоссе, через двухуровневый мост, в самый центр Филадельфии и за ее пределы, снова через автомобильную развязку, по скоростной автостраде и еще раз через реку (а может, это была уже другая река) и наконец по улице Джермантаун, широкому, вымощенному кирпичом проспекту, петлявшему между темных лачуг и пустых магазинов. К тому времени, когда они добрались до центра города и уже приближались к гостинице, в которой Лугар посоветовал ей остановиться, Натали не сомневалась, что вот-вот последует предложение: «Что, если я поднимусь к вам на минутку?» или «Я бы хотел показать вам свой дом. Он чуть дальше». Но скорее всего первое; у него не было обручального кольца, однако это ничего не значило. Единственное, что понимала Натали, так это то, что сейчас последует неизбежное предложение и ее неловкий отказ. Она ошиблась. Он высадил ее перед старой гостиницей, помог с сумками, пожелал удачи и отбыл. У нее мелькнуло подозрение, что он голубой. Без нескольких минут одиннадцать Натали позвонила в Чарлстон и оставила свой номер телефона и номер комнаты на автоответчике Роба. Она надеялась, что он позвонит в начале двенадцатого, возможно, настаивая на том, чтобы она вернулась в Сент-Луис, но он не позвонил. Разочарованная, ощущая какую-то странную обиду и изо всех сил сопротивляясь желанию лечь и заснуть, она еще раз позвонила в Чарлстон в половине двенадцатого, используя устройство, которое ей одолжил Роб, но на пленке ничего не было, кроме двух ее звонков. Недоумевая и подсознательно испытывая некоторый страх, она легла спать. При дневном свете все казалось более обнадеживающим. Хотя от Джентри так и не поступило никаких сообщений, она позвонила в «Филадельфийский обозреватель» и, упомянув имя своего чикагского издателя, смогла получить некоторые сведения от редактора газеты. Подробности преступления все еще оставались покрыты мраком, очевидным было лишь одно — четверо членов банды были обезглавлены. Штаб Братства Кирпичного завода располагался в городской расчетной палате на улице Брингхерст, всего в миле с небольшим от гостиницы Натали на улице Челтен. Натали нашла телефон расчетной палаты, позвонила и назвалась репортером из «Сан-Тайме». Священник по имени Билл Вудз назначил ей встречу на три часа и пообещал уделить пятнадцать минут. Весь день Натали занималась осмотром Джермантауна, все дальше и дальше углубляясь по унылым улицам и запечатлевая их на пленку. Это место, как ни удивительно, обладало странной притягательностью. К северу и западу от Челтон-стрит высились большие старые дома, хотя и заселенные несколькими семьями, но все же сохранявшие намек на зажиточность их обитателей, к востоку же от Брингхерст-стрит тянулись ряды полусгоревших двухквартирных домов, заброшенных машин. Повсюду царила атмосфера безнадежности. Солнца не было, однако за Натали следовала целая толпа хихикающих ребятишек, канючивших, чтобы она их сфотографировала. Натали не возражала. Над головой прогремел поезд, из раскрытой двери за полквартала от них раздался женский крик, и ребятишки рассеялись, как листья, унесенные ветром. Посланий от Роба не было ни в десять, ни в двенадцать, ни в два. Натали решила, что надо дождаться одиннадцати вечера. В три часа дня она постучала в дверь большого дома в стиле 1920 годов, высившегося среди груд булыжника, закопченных многоквартирных домов и фабричных складов. Перила на крыльце были выломаны, окна на третьем этаже забиты досками, но кто-то потрудился недавно покрасить дом дешевой желтой краской, отчего он выглядел так, будто болен желтухой. Преподобный Билл Вудз, неуклюжий белый человек, усадил ее на стул в захламленном кабинете на первом этаже и стал жаловаться на недостаток финансирования, бюрократические препоны для осуществления такого проекта, как создание общинного дома, и слабую помощь со стороны молодежи и общины в целом. Слово «банда» он не употреблял. Краем глаза Натали видела, как по коридорам ходят молодые негры, со второго этажа и из подвала доносились выкрики и раскаты смеха. — Могу я побеседовать с кем-нибудь из Братства Кирпичного завода? — поинтересовалась она. — О нет! — воскликнул Вудз. — Ребята ни с кем не хотят говорить, кроме телевизионщиков. Им нравится сниматься. — Они живут здесь? — спросила Натали. — О Господи, конечно, нет. Они просто часто собираются тут для отдыха и дружеских бесед. — Мне надо переговорить с ними, — решительно сказала девушка и встала. — Боюсь, это... эй, постойте, подождите! Натали вышла в коридор, открыла дверь и поднялась по узкой лестнице. На втором этаже около дюжины негров толпились вокруг бильярдного стола или валялись на матрацах, раскиданных на полу, покрытом линолеумом. Окна были закрыты стальными ставнями, Натали насчитала четыре пневматические винтовки, которые стояли у подоконников. Когда она вошла, все замерли. — Чего тебе надо, сука? — выпалил высокий, невероятно худой парень лет двадцати с небольшим, опиравшийся на бильярдный кий. — Я хочу поговорить с тобой. — Бля-я-я, — протянул бородатый юнец, лежавший на одном из матрацев. — Ты только послушай! «Я хочу поговорить с тобой», — передразнил он. — Ты откуда свалилась, стерва? Из какого-нибудь долбаного южного штата ? — Я хочу взять интервью. — Натали сама удивлялась тому, что у нее не подгибаются колени и не дрожит голос. — 06 убийствах. Повисло молчание, с каждой секундой оно становилось все более угрожающим. Высокий парень, первым обратившийся к Натали, поднял свой кий и стал медленно приближаться к ней. В четырех футах от нее он остановился, вытянул руку и провел белым от мела концом кия сверху вниз — между расстегнутыми полами ее пуховки по блузке до застежки ремня на джинсах. — Я дам тебе интервью, сука. Я с тобой пообщаюсь на полную катушку — ты меня поняла. Натали заставила себя стоять не двигаясь. Затем сдвинула «Никон» набок, засунула руку в карман и достала цветную фотографию, сделанную со слайда мистера Ходжеса. — Кто-нибудь из вас видел эту женщину? Парень с кием взглянул на снимок и подозвал мальчика, которому было не больше четырнадцати. Тот посмотрел, кивнул и вернулся на свое место у окна. — Позовите сюдаМарвина! — рявкнул тот, что был с кием. — Пошевеливайте своими задницами. Марвин Гейл — девятнадцатилетний темнокожий парень, голубоглазый, с длинными ресницами, поражал своей красотой. Он был прирожденным лидером. Натали поняла это сразу, как только он вошел в помещение. Все каким-то неуловимым образом переменилось, и Марвин сделался всеобщим центром внимания. В течение десяти минут он требовал, чтобы Натали объяснила, кто эта женщина с фотографии. Еще десять минут Натали убеждала его сначала рассказать ей об убийствах, после чего пообещала ответить на все вопросы. Наконец Марвин расплылся в широкой улыбке, обнажив восхитительные зубы. — Ты уверена, что хочешь знать это, малышка? — Да, — откликнулась Натали. «Малышкой» ее называл Фредерик. И ей резануло слух, когда она услышала это слово здесь. Марвин хлопнул в ладоши. — Лерой, Кельвин, Монк, Луис, Джордж, — произнес он. — Остальные остаются здесь. Послышался хор недовольных голосов. — Цыц! — рявкнул Марвин. — Мы находимся в состоянии войны, вам ясно? За нами продолжают охотиться. Если мы выясним, кто эта старая сука и какое она имеет к этому отношение, мы будем знать, кто нам нужен. Усекли? Так уясните себе это. И заткнитесь. Все разошлись обратно по своим матрацам, некоторые вернулись к бильярдному столу. Было уже четыре часа, на улице начинало темнеть. Натали застегнула молнию на куртке, пытаясь приписать свои внезапные приступы дрожи порывам ветра. Они шли на север по Брингхерст-стрит, затем свернули на запад в узенькую аллею. Фонари еще не горели. Время от времени пролетали редкие снежинки. Вечерний воздух был наполнен миазмами помоек и запахом прогоревшей сажи. Остановились у поворота, и Марвин указал пальцем на четырнадцатилетнего парнишку. — Монк, старик, расскажи, что тогда произошло. Мальчик заложил руки в карманы и сплюнул на заиндевевшую траву. — Мухаммед и остальные трое... они пришли сюда, понимаешь? Я шел за ними, но еще не подошел, понимаешь? Темно было как в преисподней. Мухаммед и Тоби пошли без меня трахаться к брату Зигу, а я так накачался, что не заметил, как они ушли, и побежал их догонять, понимаешь ? — Расскажи о белом ублюдке. — Сраный ублюдок, он вышел из этой аллеи и показал Мухаммеду, чтобы тот шел на х... Вот прямо здесь. Я был в полквартале отсюда и слышал, как Мухаммед сказал: «Бля, ты не шутишь?» И белый ублюдок тут же набросился на Мухаммеда и трех братишек. — Как он выглядел? — спросила Натали. — Заткнись! — рявкнул Марвин. — Вопросы задаю я Расскажи ей, как он выглядел. — Он выглядел, как сука, — сказал Монк и еще раз сплюнул. Не вынимая рук из карманов, он повернул голову и утер подбородок о собственное плечо — Этот долбаный ублюдок выглядел так, словно его окунули в дерьмо, понимаешь? Так, как будто он целый год питался одними отбросами, понимаешь? Волосы такими сосульками. Хиппи грязный... А лицо как будто завешено травой... И весь грязный — в глине или в кропи, я не понял. — Монка передернуло. — Ты уверен, что тот парень — белый? — спросила Натали. Марвин бросил на нее негодующий взгляд, но Монк разорился: — О да, он был белый. Он был белый! Ублюдочный, долбаный гад! Это истинная правда. — Расскажи ей про косу. — Ага. — Глаза у Монка расширились так, что, казалось, они вот-вот вылезут из орбит. — Я услышал шум и подошел, чтобы посмотреть. Не бежал, ничего такого не делал, понимаешь? Я не думал, бля, со всеми этими делами об убийстве, понимаешь? Я просто решил посмотреть, что у них там происходит. Но этот белый ублюдок, он достал такую косу... ну как в мультиках, знаешь? — Каких мультиках? — спросила Натали. — Черт, ну ты знаешь. Старуха с черепом и с косой. Смерть, в общем. Ну, там еще песочные часы, знаешь? Приходит, чтобы забирать мертвецов. Черт?.. — С косой ? — удивленно переспросила Натали. — Которой косят траву? — Да, черт, — откликнулся Монк и повернулся к ней. — Только этот белый ублюдок скосил Мухаммеда и братишек. И быстро. О черт, как быстро. Но я видел, я прятался там... — Он указал пальцем на большую мусорную кучу. — Я дождался, пока он ушел, а потом еще очень долго там сидел, мне такое дерьмо ни к чему... А потом, когда рассвело, я пошел рассказать Марвину, понимаешь? Марвин сложил на груди руки и посмотрел на Натали. — Ну что, с тебя достаточно, малышка? Уже совсем стемнело. Далеко, в самом конце, аллеи виднелись огни Джермантаун-стрит. — Почти, — откликнулась Натали. — И он... этот белый ублюдок, он убил всех? Монк обхватил себя за плечи, его снова передернуло. — Ты же сама знаешь... И не спешил к тому же. Ему, знаешь, это нравилось. — Они были обезглавлены? — Чего? — Она спрашивает: он отрезал им головы? — пояснил Марвин. — Расскажи ей, Монк. — Да, они были обезглавлены. Он... скосил им головы своей косой и потом добил лопатой. А потом насадил их на стояночные счетчики, знаешь? — О Господи, — выдохнула Натали. Снежинки падали ей на лицо и замерзали на щеках и ресницах. — Это еще не все, — продолжал Монк. Смех его стал таким хриплым и прерывистым, что больше походил на сдерживаемые с трудом рыдания. — Он еще вырезал им сердца. По-моему, он съел их. Натали начала пятиться в ужасе, повернулась, чтобы бежать, но, увидев, что вокруг ничего нет, кроме кромешной тьмы и горы кирпичей, замерла. Марвин взял ее за руку. — Пошли, малышка. Ты пойдешь с нами. Теперь твоя очередь рассказывать. Настало время поговорить серьезно...Глава 9
Беверли-Хиллз Суббота, 27 декабря 1980 г. Тони Хэрод «занимался любовью» со стареющей «старлеткой», когда раздался звонок из Вашингтона. Тари Истен исполнилось сорок два, она была по меньшей мере на двадцать лет старше той роли, которую хотела получить в «Торговце рабынями», зато грудь у нее была в порядке... Хэрод поглядывал на нее снизу, пока Тари трудилась над ним, и ему казалось, что он различает бледно-розоватые линии на ее накачанных силиконом грудях. Они выглядели настолько противоестественно упругими, что почти не колыхались, пока Тари подпрыгивала вверх и вниз, откинув плечи назад и открыв рот, восхитительно разыгрывая страсть. Хэрод не использовал ее, он просто пользовался ею. — Давай, малыш, давай. Давай. Дай мне, дай, — задыхаясь, шептала стареющая инженю, которую «Калейдоскоп» в 1963 году называл «новой Элизабет Тейлор». Но она стала всего лишь новой Стеллой Стивене. — Дай мне, дай, — повторяла она с каждым выдохом. — Дай мне все, малыш. Давай, давай. Тони Хэрод старался. За последние пятнадцать минут их страсть окончательно превратилась в тяжелый труд. Тари знала все нужные движения и выполняла их не хуже любой другой порнозвезды, с которой когда-либо работал Хэрод. Ее переполняла фантазия, она предвосхищала любое его желание, пытаясь доставить ему удовольствие каждым своим прикосновением и стараясь сосредоточить весь акт на самоотверженном поклонении пенису, которое, как она знала, нравилось любому мужчине. Она была самим совершенством. Но, несмотря на все ее старания, Хэроду казалось, что с равным успехом он мог бы трахаться с дуплом в дереве. — Давай, малыш. Сейчас, дай мне все сейчас, — задыхалась Тари, продолжая оставаться в образе и подпрыгивая на нем, как ковбойская красотка на механическом быке. — Заткнись, — сказал Хэрод и попытался сосредоточиться на том, чтобы достичь оргазма. Он закрыл глаза и вспомнил стюардессу, летевшую с ним из Вашингтона две недели назад. Неужели она была последней? Ах да, еще две немки, развлекавшие друг друга в сауне... Но нет, о Германии он вспоминать не хотел. Чем больше они старались, тем слабее становилась эрекция у Хэрода. Пот с сосков Тари падал на его грудь. Хэрод вспомнил бесчувственную Марию Чен три года назад, ее смуглое обнаженное тело, покрытое потом, маленькую грудь, сжимающуюся от холодной воды, когда Хэрод обтирал ее губкой, и капли влаги, поблескивающие на черном треугольнике лона. — Давай, малыш, — шептала Тари, чувствуя приближение победного конца и энергично труся, как пони, завидевшая впереди долгожданную конюшню. — Отдай мне, малыш, отдай мне все. И Хэрод отдал. Тари застонала, дернулась и застыла в наигранном экстазе, который явно тянул на премию за лучшее достижение, если бы «Оскаров» давали за оргазмы. — О малыш, как ты хорош, — проворковала она, запуская пальцы в его волосы, приникая лицом к плечу Хэрода и елозя по нему своими грудями. Хэрод открыл глаза и увидел, что на телефоне мигает лампочка. — Проваливай, — буркнул он. Пока он сообщал Марии Чен, что возьмет трубку, Тари свернулась рядом клубочком. — Хэрод, это Чарлз Колбен! — проревел знакомый грубый голос. — Да? — Ты сегодня же вылетаешь в Филадельфию. Мы встретим тебя в аэропорту. Хэрод оттолкнул руку Тари, тянувшуюся к его промежности, и посмотрел на потолок. — Хэрод, ты здесь? — Да. А зачем в Филадельфию? — Просто тебе надо быть там. — А что, если я не хочу? Теперь настала очередь Колбена промолчать. — Ребята, я же вам сказал еще на прошлой неделе, что выхожу из этого, — продолжил Хэрод и посмотрел на Тари Истен. Она курила сигарету с ментолом. Глаза у нее были синими и пустыми, — как вода в бассейне Хэрода. — Ниоткуда ты не выходишь, — заорал Колбен. — Ты знаешь, что случилось с Траском? — Да. — А это значит, что в Клубе Островитян открывается вакансия. — Не уверен, что это меня интересует... Колбен в трубке рассмеялся. — Хэрод, несчастный тупица, ты бы лучше продолжал уповать на то, чтобы мы не потеряли интерес к тебе. Как только мы его потеряем, твоим недоношенным друзьям из Голливуда придется отправиться на очередные похороны. Вылетай немедленно, двухчасовым рейсом. Хэрод осторожно положил трубку, выкатился из кровати и влез в свой оранжевый халат с монограммами. Тари, потушив сигарету, смотрела на него сквозь длинные ресницы. Ее распластанная поза напоминала Хэроду дешевый итальянский нудистский фильм, в котором снялась Джейн Мэнсфилд незадолго до того, как лишилась головы в автомобильной катастрофе. — Малыш, — выдохнула Тари, явно преисполненная удовлетворения, — поговорим об этом? — О чем? — Конечно же, о проекте, глупый, — захихикала она. — О'кей. — Хэрод подошел к бару и налил себе стакан апельсинового сока. — Он называется «Торговец рабынями» и основан на этой книжонке, которая прошлой осенью валялась на каждом прилавке. Режиссером будет Шу Уильяме. Мы заложили в бюджет двенадцать миллионов, но Алан считает, что мы превысим его еще на миллион до окончательного монтажа. Хэрод чувствовал, что теперь Тари уже приближается к настоящему оргазму. — Рони сказал, что я идеально подхожу на эту роль, — прошептала она. — Ты ему за это и платишь. — Хэрод жадно отпил ледяного сока. Рони Брюс был у Тари агентом и мальчиком для постели. — Рони утверждал, что это твои слова. — Она слегка надулась. — Да мои, — сказал Хэрод. — Ты подходишь. — И он улыбнулся своей крокодильской улыбкой. — Но, естественно, не на главную роль. Во-первых, ты на двадцать пять лет старше, у тебя толстая жопа, а сиськи выглядят так, словно это надутые воздушные шары, которые того и гляди лопнут. Тари издала такой звук, словно кто-то внезапно ударил ее в солнечное сплетение. Губы ее шевелились, но она не могла произнести ни слова. Хэрод допил сок и почувствовал, как у него тяжелеют веки. — У нас имеется эпизодическая роль для тетушки героини, которая отправляется на ее поиски. Диалогов не много, но у нее есть хорошая сцена, когда арабы насилуют ее на базаре в Маракеше. Из Тари начали вылетать отдельные слова. — Какого же черта ты, паршивый кобель?.. Хэрод расцвел в улыбке. — Я говорю, может быть. Подумай об этом, малышка. Пусть Рони позвонит мне, и я приглашу его на ленч. — Он поставил стакан и направился к джакузи. — Почему потребовалось лететь в разгар ночи? — осведомилась Мария Чен, когда они пролетали где-то над Канзасом. Хэрод выглянул в темный иллюминатор. — По-моему, они просто хотят поиграть у меня на нервах. — Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на Марию Чен. После Германии что-то изменилось в их отношениях. Хэрод закрыл глаза, снова воочию представил себе шахматную фигурку, на которой было вырезано его собственное лицо, и вздрогнул. — А почему в Филадельфию? — спросила Мария Чен. Хэрод начал сочинять какое-то умное высказывание о Филдсе, но потом решил, что слишком устал для легкомысленных ответов. — Не знаю, — сказал он. — Там или Вилли, или эта Фуллер. — А что ты будешь делать, если это Вилли? — Буду уносить ноги. Надеюсь, ты мне поможешь. — Он огляделся. — Ты упаковала браунинг так, как я сказал? — Да. — Мария отложила в сторону калькулятор, на котором подсчитывала расходы, необходимые на гардероб. — А что, если это Фуллер? За три ряда от них не было ни одного человека. Несколько пассажиров в салоне первого класса спали. — Если это всего лишь она, то я ее убью, — сказал Хэрод. — Ты или мы? — поинтересовалась Мария Чен. — Я, — рявкнул Хрод. — Ты уверен, что сможешь? Хэрод свирепо посмотрел на Марию и отчетливо ощутил, как его кулак врезается в ее идеальные зубы. Ему даже показалось, что игра стоит свеч — арест, суд и все остальное — лишь бы пробиться через ее чертово восточное самообладание. Хотя бы раз. Избить ее и оттрахать прямо здесь, в первом классе самолета, летящего из О'Хары в Филадельфию. — Уверен, — проронил он. — Она всего лишь несчастная старуха. — Вилли ведь тоже был... старик. — Ты видела, на что способен Вилли. Он спокойно перелетает из Мюнхена в Вашингтон, только чтобы отправить Траска на тот свет. Он сумасшедший. — Ты еще ничего не знаешь о Фуллер. Хэрод покачал головой. — Она — женщина. А ни одна женщина на свете не может быть так опасна, как Вилли Борден.* * *
Они приземлились в Филадельфии за час до рассвета. Хэрод так и не смог заснуть. Начиная от Чикаго салон первого класса так продувало сквозняком от вентиляторов, что теперь Хэроду казалось, будто под веки ему залили смесь клея с песком. Настроение у него еще больше испортилось, когда он увидел, что Мария Чен как ни в чем не бывало выглядит свежей и бодрой. Их встретили три омерзительно чистеньких фэбээровца. — Мистер Хэрод? — осведомился представительный мужчина с поблекшим синяком на подбородке, заклеенном пластырем. — Мы отвезем вас к мистеру Колбену. Хэрод протянул ему свою сумку. — Да, хорошо бы пошевеливаться. Я смертельно хочу спать. Красивый агент передал сумку одному из своих помощников и повел их вниз по эскалаторам, через двери с табличками «Вход запрещен» и наружу, на бетонированную полосу между основным зданием аэропорта и комплексом частных ангаров. Грязная красно-желтая полоса на востоке намекала на восход солнца, но огни на взлетных полосах еще продолжали гореть. — О черт, — с чувством выругался Хэрод. Перед ним стоял готовый к взлету дорогой вертолет на шесть пассажиров, выкрашенный в оранжевые и белые цвета, его бортовые огни посверкивали, а двигатели уже слабо вращались. Один из агентов придержал дверцу, пока второй закидывал внутрь багаж Хэрода и Марии Чен. Сквозь стекла салона виднелась фигура Чарлза Колбена. — Черт, — повторил Хэрод, обращаясь к Марии Чен. Та кивнула. Хэрод вообще терпеть не мог летать, но вертолеты он ненавидел больше всего. В то время как самый распоследний голливудский режиссер тратил треть своего бюджета, арендуя эти опасные безумные машины, и с ревом кружил и нырял над каждой съемочной площадкой, как маньяк с комплексом Иеговы, Тони Хэрод категорически отказывался подниматься над землей. — Неужели у вас нет какого-нибудь гребаного наземного транспорта? — проорал он сквозь шум лопастей. — Залезайте, — скомандовал Колбен. Хэрод произнес еще несколько внушительных ругательств, но все-таки последовал в салон за Марией Чен. Он знал, что двигатели расположены над землей по меньшей мере в восьми футах, но ни один здравомыслящий человек не мог пройти под их невидимыми лопастями не сгибаясь. Хэрод и Мария еще возились с пристежными ремнями на мягком заднем сиденье, когда Колбен уже развернулся в своем кресле и, подняв вверх большие пальцы, дал пилоту знак взлетать. Хэрод решил, что тот вполне тянет на главную роль — потертая кожаная куртка, худое лицо с резкими чертами под козырьком красной кепки и глаза, взгляд которых говорил, что им привычен вид смертельного боя, а все остальное, менее волнующее, просто не представляет никакого интереса. Пилот произнес что-то в микрофон, закрепленный у него на голове, выжал вперед ручку управления, затем притянул ее чуть на себя. Вертолет взревел, поднялся, нырнул носом вниз и полетел, стабильно держась в шести футах над землей. — О черт, — пробормотал Хэрод. Ощущение было такое, будто он катил на доске с тысячью шарикоподшипников. Они вышли из зоны, прилегавшей к ангарам и аэропорту, обменялись какими-то репликами с диспетчером и взмыли вверх. Прежде чем закрыть глаза, Хэрод успел различить внизу нефтеочистители, реку и огромную тушу нефтяного танкера. — Старуха здесь, в городе, — сказал Колбен. — Мелани Фуллер? — переспросил Хэрод. — А ты думаешь, я о ком? — рявкнул Колбен. — Об Элен Хейес? — Где она? — увидишь. — Как вы ее нашли? — Это наше дело. — И что вы собираетесь делать? — В свое время расскажем. Хэрод открыл глаза. — Люблю я с тобой разговаривать, Чак. Все равно что беседовать с собственными подмышками. Лысый прищурился и улыбнулся Хэроду. — Тони, малыш, лично я считаю, что ты кусок собачьего дерьма, но мистер Барент почему-то полагает, что ты мог бы вступить в наш клуб. Тебе предоставился счастливый случай, ублюдок, смотри, не просри его. Хэрод рассмеялся и снова закрыл глаза. Мария Чен смотрела в иллюминатор на вьющуюся лентой серую реку. Окраины Филадельфии высились справа. Там тянулись ряды двухквартирных домов, покрывавшие все пространство кирпично-коричневой сеткой, прошитой автострадами, слева же раскинулся казавшийся бесконечным парк с низкими холмами, которые топорщились обнаженными деревьями и кое-где были припорошены заплатами снега. Поднялось солнце, повиснув золотым прожектором между горизонтом и низкими облаками, и сотни окон домов на склонах холмов отразили его свет солнечными зайчиками. Колбен положил руку на колено Марии. — Мой пилот — вьетнамский ветеран, — доверительно сообщил он. — Он как вы. — Я никогда не была во Вьетнаме, — тихо ответила Мария Чен. — Нет, — поправился Колбен, и его рука скользнула вверх по ее бедру. Хэрод, казалось, спал. — Я имел в виду, что он — нейтрал. На него никто не влияет. Мария Чен сжала колени и пресекла рукой дальнейшие поползновения. Три остальных агента наблюдали за происходящим, а тот, у которого был травмирован подбородок, даже слегка улыбался. — Чак, — проронил Хэрод, не открывая глаз, — ты левша или правша? — А в чем дело? — ухмыльнулся Колбен. — Я просто хотел узнать, сможешь ли ты заниматься мастурбацией, если я сломаю тебе правую руку, — пояснил Хэрод и открыл глаза. Колбен смотрел на него не мигая. Трое агентов поставленным хореографическим движением расстегнули плащи. — Подлетаем, — сообщил пилот. Колбен убрал руку с колена Марии и наклонился вперед. — Посади нас рядом с центром связи, — распорядился он, хотя в этом не было никакой необходимости. Внизу виднелся небольшой квартал, окруженный ветхими одноквартирными домами и заброшенными фабриками, который был обнесен высоким деревянным строительным забором. Посреди стоянки находились четыре трейлера, а с южной стороны от них расположились машины и фургоны. На крышах одного из фургонов и двух трейлеров высились коротковолновые антенны. Посадочная площадка была помечена оранжевыми пластмассовыми панелями. Выйдя из вертолета, все пригнулись, проходя под вращающимися лопастями, за исключением Марии Чен. Ассистентка Хэрода шла выпрямившись, осторожно минуя на своих высоких каблуках лужи и грязь, во всей ее манере поведения не было и намека на какую-либо напряженность. Пилот остался в вертолете. Лопасти продолжали вращаться. — Небольшая остановка, — пояснил Колбен, направляясь к одному из трейлеров. — А потом тебя ждет работа. — Единственная работа, которой я хотел бы заняться — это поиски постели, — откликнулся Хэрод. Два центральных трейлера, развернутых на север и на юг, соединялись широкой дверью. Западная стена была полностью заставлена телевизионными мониторами и пультами связи. За мониторами сидело человек восемь в белых рубашках и темных галстуках, время от времени они что-то шептали в микрофоны. — Прямо Центр управления космическими полетами, — заметил Хэрод. Колбен важно кивнул. — Это наш центр связи. Сидевший за первым пультом «белый воротничок» поднял голову, и Колбен обратился к нему: — Ларри, это мистер Хэрод и мисс Чен. Директор пригласил их сюда взглянуть на нашу операцию. — Ларри кивнул, посчитав прибывших за высоких гостей, и Хэрод понял, что эти рядовые сотрудники ФБР ничего не знают об истинных целях операции. — Что это такое на экране? — осведомился Хэрод. Колбен указал на первый монитор. — Это фасад дома на Квин-лейн, где находится наша подозреваемая и неизвестный парень-хиппи вместе с некоей Энн Мари Бишоп — 53 года, не замужем, после смерти брата в мае этого года живет одна. Группа «Альфа» установила пункт наблюдения на втором этаже склада, находящегося напротив. На втором мониторе — тыльная сторона того же дома — снимается с третьего этажа одноквартирного дома, стоящего на другой стороне аллеи. Номер три — аллея с передвижного фургона, прослушивающего телефонные переговоры. — Она сейчас там? — Хэрод кивнул на черно-белые изображения маленького домика. Колбен покачал головой и провел их вдоль ряда мониторов к тому, на экране которого виднелся старый каменный дом. Камера была явно установлена на уровне земли, на противоположной стороне оживленной улицы, где время от времени изображение перекрывалось проходящим транспортом. — В данный момент она находится в Ропщущей Обители, — пояснил Колбен. — Где? — опешил Хэрод. — В Ропщущей Обители. — Колбен указал на две увеличенные фотокопии архитектурных планов, приколотые к стене над монитором. — Это историческая достопримечательность. Большую часть времени закрыта для посещения публики. Фуллер проводит там довольно много времени. — Объясните-ка мне подробнее, — промямлил Хэрод устало. — Интересующая нас дама скрывается в национальном памятнике? — Это не национальный памятник, — отрезал Колбен, — а всего лишь местная историческая достопримечательность. Но она действительно проводит там большую часть времени. Утром... по крайней мере в течение тех двух дней, что мы за ней наблюдаем, Фуллер, вторая пожилая дама и парень ходят в дом на Квин-лейн, вероятно, для того чтобы помыться и поесть чего-нибудь горяченького. — Господи Иисусе, — произнес Хэрод и снова оглядел агентов и оборудование. — И сколько людей у вас занимается этой работенкой, Чак? — Шестьдесят четыре человека. Местные власти знают о нашем присутствии, но им велено не вмешиваться. Когда же дело дойдет до развязки, нам может потребоваться их помощь с регулировкой движения. Хэрод ухмыльнулся и посмотрел на Марию Чен. — Шестьдесят четыре, чертов вертолет и миллион долларов, потраченных на «Звездные войны», и все для того, чтобы поймать восьмидесятилетнюю шлюху — Ларри и еще несколько агентов недоумевающе посмотрели на него. — Как следует работайте, ребята, — подбодрил их Хэрод с издевкой в голосе, — ваша страна гордится вами. — Пройдем в мой кабинет, — холодно заметил Колбен. Кабинеты находились в трейлерах, расположенных к востоку и западу на южной окраине центра. Кабинет Колбена был чуть больше обычной клетки и чуть меньше комнаты. — А что находится в другом конце этой конструкции? — осведомился Хэрод, когда он, Мария Чен и помощник директора ФБР расположились вокруг небольшого столика. Колбен замялся. — Камеры заключения и оборудование для проведения допросов, — ответил он наконец. — Вы собираетесь допрашивать эту Фуллер? — Нет, — произнес Колбен. — Она слишком опасна. Мы намереваемся уничтожить ее. — У вас уже есть задержанные, которых вы допрашиваете? — Возможно, — уклонился Колбен. — Тебе это знать не обязательно. Хэрод вздохнул. — О'кей, Чак, а что мне нужно знать обязательно? Колбен бросил взгляд на Марию Чен. — Это конфиденциально. Ты не сможешь здесь обойтись без своей Конни Чанг, Тони? — Нет, — сказал Хэрод. — И только попробуй еще раз прикоснуться к ней, и тогда, малыш, Баренту придется заполнять еще одну вакансию в Клубе Островитян. Колбен слегка улыбнулся. — Нам с тобой предстоит решить кое-какие вопросы. Но это позднее. А пока мы должны завершить эту операцию, и тебе ради разнообразия придется поработать. — Он достал фотографию и подтолкнул ее к Хэроду. Хэрод уставился на снимок, сделанный «Полароидом», — на нем была изображена симпатичная молодая негритянка лет двадцати двух, стоящая на углу улицы в ожидании смены сигнала светофора. Кудрявые волосы, короткая стрижка, на изящном овале лица выделяются выразительные глаза и полные губы. Взгляд Хэрода скользнул ниже на ее груди, но слишком мешковатое верблюжье пальто не давало возможности различить их. — Миленькая цыпочка, — заметил он. — На звезду, конечно, не тянет, но я мог бы устроить ей прослушивание или дать какую-нибудь эпизодическую роль. Кто она такая? — Натали Престон, — пояснил Колбен. Хэроду это имя ничего не говорило. — Ее отец оказался на пути конфликта между Ниной Дрейтон и Мелани Фуллер несколько недель назад в Чарлстоне. — И что же? — А то, что он мертв, а юная мисс Престон вдруг объявляется здесь, в Филадельфии. — Сейчас? — Да! — Вы думаете, она идет по следу шлюхи Фуллер? — Нет, Тони, мы думаем, что безутешная дочь оставляет могилу своего папочки, бросает дипломную работу в Сент-Луисе и прилетает в Джермантаун из внезапно проснувшегося интереса к ранней истории Америки, — Колбен иронизировал над непонятливостью партнера. — Естественно, она идет по следу старухи, тупица. — А как же она ее нашла? — Хэрод не сводил глаз с фотографии. — По банде, — сказал Колбен и, видя непонимание на лице Хэрода, добавил: — О Господи, у вас что, в Голливуде, нет газет и телевидения? — Я был занят запуском фильма с бюджетом в двенадцать миллионов, — важно заявил Хэрод. — Какие убийства? Колбен рассказал ему о рождественских убийствах на Джермантаун-стрит. — Ас тех пор еще два, — добавил он. — Грязное дело. — А каким образом эта сладкая шоколадка связала потасовку между местными ублюдками с Мелани Фуллер? — спросил Хэрод. — И как вы вообще отыскали здесь ее и известную пожилую даму? — У нас есть свои источники, — усмехнулся Колбен. — Что касается этой черной суки, мы прослушивали ее телефон и телефон этого чокнутого шерифа, с которым она якшалась. Они оставляли презабавные послания друг другу на его автоответчике. Мы послали в Чарлстон парня, который оставил нужные нам сообщения, а остальное стер. Хэрод покачал головой. — Не понял. Какое отношение ко всему этому дерьму имею я лично? Колбен поигрывал костяным ножом для распечатывания писем. — Мистер Барент решил, что это по твоей части, Тони. — Что именно? — Хэрод вернул ему фотографию Натали. — Позаботиться о мисс Престон. — Ага, — откликнулся Хэрод. — Мы договаривались только о Фуллер. Только о ней. Колбен приподнял бровь. — В чем дело, Тони? Эта малышка пугает тебя так же, как и перелеты? Чего ты еще боишься? Хэрод потер глаза и зевнул. — Займись этим, и, возможно, тебе не придется беспокоиться о Мелани Фуллер, — добавил Колбен — Это кто сказал? — Мистер Барент сказал. Господи, Хэрод, ты получаешь бесплатный билет в самый элитарный клуб, какие только знала история. Я подозревал, что ты недоумок, но такой глупости я от тебя даже не ожидал Хэрод еще раз зевнул. — А кому-нибудь из вас, интеллектуальных паралитиков, не приходило в голову, что я не обязан выполнять вашу грязную работу? — поинтересовался он. — Ты сам сказал, что вы по несколько раз в день снимаете старуху своими камерами. Замените одну из них на дуло 36 калибра, и вопрос решен. А что за возня с малышкой Натали, как ее там? Она тоже обладает Способностью или чем-нибудь еще? — Нет, — откликнулся Колбен. — Натали Престон имеет звание бакалавра искусств, полученное в Овер-лине, и на две трети ею сдан курс на право преподавания. Очень спокойная девушка. — Тогда почему я? — Взнос, — ответил Колбен. — Мы все платим взносы. — И чего вы хотите? Арест и допрос? — Нет необходимости, — бросил Колбен. — Все сведения, которые она могла бы нам предоставить... мы уже... э-э... получили из другого источника. Мы просто хотим, чтобы она была выведена из игры. — Окончательно? Колбен издал смешок. — А вы как думали, мистер Хэрод? — Я подумал, может, ее отвезти в Беверли-Хиллз на небольшие принудительные каникулы, — сказал Хэрод. Веки у него совсем отяжелели, и он быстро облизнулся. Колбен снова засмеялся. — Как хочешь. Но что касается этой... как ты ее назвал?., сладкой шоколадки — вопрос должен быть решен окончательно. Что ты предпримешь, это твое дело, Тони, малыш. Только чтобы без всяких промашек. — Промашек не будет, — пообещал Хэрод и бросил взгляд на Марию Чен. — Вам известно, где она сейчас? — Да. — Колбен поднял пюпитр и взглянул на компьютерную распечатку. — Она все еще в отеле «Челтен», в двенадцати кварталах отсюда. Хейнс может отвезти вас туда прямо сейчас. — Прежде всего я хотел бы, чтобы нам с Марией предоставили номера «люкс» в хорошем отеле. А затем — семь или восемь часов сна. — Но мистер Барент... — Имел я мистера Барента, — промолвил Хэрод с улыбкой. — Если ему не нравится, пусть сам охотится за этой цыпкой. А теперь распорядись, чтобы Хейнс или кто там отвез нас в приличный отель. — Так как же насчет Натали Престон? — настаивал Колбен. Хэрод остановился возле двери. — Полагаю, она тоже находится под наблюдением? — Конечно. — Ну так попроси своих мальчиков, чтобы они еще часов восемь-девять повисели у нее на хвосте, Чак. — Он снова повернулся к двери, но вдруг замер и пристально посмотрел на Колбена. — Ты так и не ответил на мой вопрос. По крайней мере последние несколько дней Мелани Фуллер находится у вас под колпаком. Чего вы тянете? Почему не покончите с ней и не уберетесь отсюда? Колбен снова поиграл ножом. — Мы просто хотим выяснить, осталась ли какая-нибудь связь между этой Фуллер и твоим старым начальником мистером Борденом. Мы ждем, когда Вилли сделает промашку и высунет нос. — И что же будет тогда? Колбен улыбнулся и провел тупой стороной ножа себе по горлу. — Тогда... тогда твой дружок Вилли пожалеет, что его не было рядом с Траском, когда взорвалась бомба.* * *
Хэрод и Мария Чен получили комнаты в отеле «Каштановый холм» в семи милях от Джермантаун-стрит, в районе тенистых улиц и огороженных парков. Колбен тоже был зарегистрирован в этом отеле. Агент с травмированным подбородком распорядился, чтобы на улице в машине их дожидался белокурый фэбээровец. Хэрод проспал часов шесть и проснулся разбитым, долго не мог взять в толк, где он находится. Мария Чен смешала ему водку с апельсиновым соком и, пока Хэрод пил, присела на край его кровати. — Что ты собираешься делать с девушкой ? — осведомилась она. Хэрод поставил стакан и потер лицо. — Какая тебе разница? — Разница есть. — Тебя это не касается. — Мне поехать с тобой? Хэрод уже думал об этом. Он чувствовал себя неуютно, когда его никто не прикрывал, но в данном случае необходимости в этом не было. Чем больше он думал, тем менее необходимым это ему казалось. — Нет, — ответил он. — Оставайся здесь и займись корреспонденцией «Парамаунта». Это не потребует много времени. Не говоря ни слова, Мария Чен вышла из комнаты. Хэрод принял душ, надел шелковую рубашку, дорогие шерстяные брюки и черный пиджак с ворсом. Затем он набрал номер телефона, который ему дал Колбен. — Натали, как ее там, все еще на месте? — спросил он. — Она болтается в трущобах, но к обеду вернется к себе в отель, — рассмеялся довольный Колбен. — Она проводит много времени с этой черной бандой. — Той самой, которая лишилась своих членов? Колбен снова расхохотался. — Что в этом смешного? — раздраженно рявкнул Хэрод. — Выбор слов, — продолжал хохотать Колбен. — Которая лишилась своих членов. Это полностью соответствует действительности. Два последних трупа были изрублены на куски, и у них были оттяпаны члены. — О Господи! — выдохнул Хэрод. — И ты думаешь, этим занимается Мелани Фуллер? — Мы не знаем, — ответил Колбен. — Мы не видели, чтобы ее парень выходил из Ропщущей Обители в то время, когда происходили убийства, но она могла использовать кого-нибудь другого. — А вы хорошо следите за Ропщущей Обителью? — Можно было бы и получше. Но мы не можем в каждой улочке поставить по телефонизированной машине — старуха может что-нибудь заподозрить. Однако у нас хорошее прикрытие спереди, камера, целиком охватывающая задний двор, и весь квартал оцеплен агентами. Как только старая ведьма высунется, мы тут же ее схватим. — Ну что ж, хорошо, — сказал Хэрод. — Слушай, если я сегодня закончу с этим вторым делом, я бы хотел утром убраться отсюда. — Надо будет связаться с Барентом. — К черту Барента! — вскипел Хэрод. — Я не собираюсь дожидаться, когда здесь появится Вилли Борден. На это уйдет слишком много времени. Вилли мертв. — Не так уж много, — возразил Колбен. — Нам дан зеленый свет заняться старухой. — Сегодня? — Нет, но довольно скоро. — Когда? — Мы тебе скажем, если тебе надо будет это знать. — Люблю беседовать с тобой. — Хэрод положил трубку. Молодой белокурый агент отвез Хэрода в город, указал ему гостиницу «Челтен» и припарковал машину в квартале от нее. Хэрод дал ему на чай двадцать пять центов. Это была старая гостиница, старавшаяся сохранить свое достоинство, несмотря на стесненные обстоятельства. Холл поражал своей пустотой, зато бар был недавно отремонтирован, там царил приятный полумрак. Хэрод решил, что основные доходы гостиница получает от ленчей, на которые сюда заходят немногие оставшиеся в этом районе белые бизнесмены. Нужную ему негритянку он отыскал в баре — она сидела в углу, ела салат и читала книжку в мягкой обложке. Она была ничуть не хуже, чем на фотоснимке — даже лучше, решил Хэрод, когда увидел ее полную грудь под терракотовой водолазкой. С минуту Хэрод постоял у стойки бара, пытаясь определить среди присутствующих агентов ФБР. Явным агентом был одинокий парень у бара со слуховым аппаратом и в излишне дорогом для такого захолустья костюме-тройке. Через некоторое время Хэрод обратил внимание на толстого негра, который поедал густую похлебку из моллюсков и не сводил глаз с Натали. «Неужели они стали теперь нанимать в ФБР негров? — подумал Хэрод. — Тоже, наверное, своя квота». По меньшей мере еще один агент должен был сидеть с холле гостиницы с газетой. Хэрод взял свой джин с тоником и направился к столику Натали Престон. — Вы не возражаете, если я ненадолго составлю вам компанию? Молодая женщина оторвалась от книги, и Хэрод прочитал заглавие «Преподавание как деятельность по сохранению ценностей». — Нет, — жестко сказала она, — возражаю. — О'кей. — Хэрод нагло повесил пиджак на спинку кресла. — Зато я не возражаю, — сказал он и сел. Натали Престон открыла было рот, но Хэрод выпустил щупальца своего сознания и, проникнув в ее мозг, чуть сжал его... совсем слегка. Натали онемела. Она попыталась встать и замерла на полпути. Зрачки ее страшно сверкнули как у кошки. Хэрод улыбнулся и откинулся на спинку кресла. Вокруг них в пределах слышимости не было ни одного посетителя. — Тебя зовут Натали, — проговорил Хэрод, складывая руки на животе. — Меня — Тони. Как ты насчет того, чтобы разговаривать шепотом, но ни в коем случае не переходить на полный голос и не кричать! Натали опустила голову и судорожно глотнула воздуха. Хэрод покачал головой. — Ты не правильно играешь в эту игру, Натали. Я спросил: как ты смотришь на то, чтобы немножко поразвлечься? Все еще с трудом переводя дыхание, словно после пробежки на длинную дистанцию, девушка подняла глаза. Они блестели. Затем она откашлялась, поняла, что к ней вернулся голос, и прошептала: — Пошел к черту... Сукин сын... Хэрод выпрямился. — Ага, — произнес он. — Не правильный ответ. И с интересом стал наблюдать, как Натали внезапно согнулась, охваченная нестерпимой головной болью. В детстве Хэрод страдал страшными мигренями и знал, как делиться своей болью с мнительными особами. — С вами все в порядке, мисс? — поинтересовался проходивший мимо официант. Натали медленно выпрямилась, как механическая кукла, у которой кончается завод, и хрипло прошептала: — Да, со мной все в порядке, просто месячные спазмы. Официант в смущении удалился. Хэрод расплылся в улыбке. «Господи Иисусе, — подумал он, — каким бы я мог стать замечательным чревовещателем». Он наклонился вперед и погладил руку девушки. Та попыталась отдернуть ее, и Хэроду пришлось приложить немало сил, чтобы не дать ей преуспеть в этом. Во взгляде Натали появилось выражение загнанного зверька, которое Хэроду всегда нравилось. — Давай начнем снова, — прошептал он. — Чем бы ты хотела заняться сегодня вечером, Натали? — Я... хочу... сделать... тебе... минет... — каждый слог из нее приходилось вытаскивать чуть ли не клешами, но Хэрода это вполне устраивало. Огромные карие глаза Натали заполнились слезами. — А что еще? — проворковал Хэрод, от прилагаемых им усилий лоб его покрылся морщинами. Эта шоколадка требовала от него гораздо больше трудов, чем обычно. — Чем бы ты еще хотела заняться? — Я... бы... хотела... чтобы... ты... меня... трахнул... — Конечно, малышка. В ближайшие два часа лучшего занятия я себе не придумаю. Пойдем в твой номер. Они вместе поднялись из-за столика. — Лучше оставь какие-нибудь деньги, — прошептал Хэрод. Натали уронила на стол десятидолларовую купюру. Проходя мимо двух агентов у бара, Хэрод подмигнул им. В холле, пока они ждали лифта, мужчина в темном костюме опустил газету и пристально посмотрел на них. Хэрод улыбнулся, соединил на левой руке указательный палец с большим и несколько раз энергично продел в получившееся кольцо указательный палец правой руки. Агент залился краской и снова поднял газету. Ни в лифте, ни в коридоре третьего этажа они больше никого не встретили. Хэрод взял у Натали ключи и открыл дверь. Пока он осматривал комнату, девушка стояла посередине, безучастно глядя перед собой. Чистенькая, но маленькая кровать, бюро, черно-белый телевизор на вращающейся подставке и открытый чемодан вместо вешалки. Хэрод достал из чемодана трусики девушки, провел ими по своему лицу, заглянул в ванную и подошел к окну, мимо которого спускалась пожарная лестница. — О'кей, — весело промолвил Хэрод, отбросил в сторону нижнее белье и отодвинул от стены низкое зеленое кресло. — Сначала небольшое шоу, — заявил он, усаживаясь. Натали стояла между ним и кроватью. Руки ее безвольно свисали по бокам, лицо ничего не выражало, но Хэрод видел по легким судорогам, пробегавшим по ее плечам, какие неимоверные усилия она прилагает. Он улыбнулся и усилил свою хватку. — Всегда приятно посмотреть небольшой стриптиз, перед тем как лечь в постель, не правда ли? Натали Престон медленно подняла руки и стянула водолазку через голову. Ее большая грудь в старомодном белом лифчике напомнила Хэроду кого-то, только вот кого? Он внезапно вспомнил стюардессу в авиалайнере, две недели назад. Ее кожа была настолько бледной, насколько темными были щечки у этой малышки. Зачем они носят эти простые, совершенно не возбуждающие лифчики? Хэрод кивнул, и Натали завела руки за спину, чтобы расстегнуть застежку. Бретельки лифчика скользнули вниз, и он упал на пол. Хэрод посмотрел на светло-коричневые соски и облизнулся. Но пусть она немножко поиграет сама с собой, прежде чем займется им. — О'кей, — прошептал он, — теперь, я думаю, самое время... Но тут раздался оглушительный грохот, и Хэрод обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как рухнула внутрь выбитая дверь и в проеме возникла огромная туша, закрывшая собой свет, лившийся из коридора. Он еще успел вспомнить, что как идиот оставил свой браунинг в багаже Марии Чен... Хэрод начал вставать, попробовал поднять руки, но что-то с тяжестью наковальни опустилось ему на голову, вжав в подушки кресла, а затем швырнуло на пол в теплый, затаившийся внизу мрак.Глава 10
Мелани Винсента было трудно содержать в чистоте. Есть такие мальчишки, которые, кажется, источают грязь из всех своих пор. Не успевала я вычистить ему ногти, как через час под ними уже снова виднелась траурная кайма. Мне приходилось постоянно бороться за то, чтобы он выглядел опрятным. В Рождество мы отдыхали. Энн готовила еду, меняла на проигрывателе праздничные пластинки и занималась стиркой, пока я читала Писание и размышляла над ним. День выдался тихим и спокойным. Несколько раз у Энн возникал позыв включить телевизор — до встречи со мной она смотрела его по шесть-восемь часов в день, — но моя обработка давала себя знать, и она тут же находила какое-нибудь другое занятие. В первую неделю своего пребывания у Энн я и сама безумно проводила время у экрана, пока однажды вечером, в одиннадцатичасовых новостях, не показали коротенький сюжет о так называемых чарлстонских убийствах. «Полиция штата до сих пор разыскивает пропавшую женщину», — сообщила молодая дикторша. И тогда я решила, что больше в доме Энн Бишоп никто не будет смотреть телевизор. В субботу, через два дня после Рождества, мы отправились с Энн по магазинам. В гараже у нее хранился «Де Сото». 1953 года — это была отвратительнаязеленая машина с решеткой на радиаторе, отчего она напоминала испуганную рыбу. Энн вела машину так осторожно и неуверенно, что пока мы не выехали из Джермантауна, я была вынуждена убрать ее из-за руля и посадить на ее место Винсента. Энн указала нам путь, по которому мы выбрались из Филадельфии и направились к самому фешенебельному торговому центру «Прусский король» — более глупого названия пригорода я еще не встречала. Мы ходили по магазинам в течение четырех часов, и я сделала несколько симпатичных приобретений, хотя, опять же, ни одно из них не могло сравниться с той восхитительной одеждой, которую я оставила в аэропорту Атланты. Я купила красивое пальто за триста долларов — темно-синее, с пуговицами цвета слоновой кости, — и решила, что оно сможет защитить меня от пронизывающего холода северной зимы. Энн было приятно покупать мне разные вещи, и я не хотела препятствовать ее счастью. Вечером я вернулась в Ропщущую Обитель. Так приятно было переходить из комнаты в комнату в свете колеблющегося пламени свечей в сопровождении лишь теней да еле слышимого шепота. Да, забыла упомянуть, что в магазине спортивных товаров Энн приобрела две винтовки. Молодой продавец с грязными светлыми волосами и в таких же грязных кроссовках был потрясен наивностью пожилой женщины, покупавшей оружие для своего взрослого сына. Он предложил две дорогие пневматические винтовки — двенадцати— и шестнадцатизарядную, в зависимости от тою, на какую дичь собирался охотиться ее мальчик. Энн купила обе и еще по шесть коробок патронов для каждой. И теперь, пока я переходила с канделябром из комнаты в комнату, Винсент в каменной прохладе кухни отлаживал и смазывал винтовки. Раньше я никого не использовала так, как Винсента. Если раньше я сравнивала его сознание с джунглями, то теперь я все больше убеждалась, что эта метафора прекрасно отражала действительность. Образы, мелькавшие в сохранившихся участках его мозга, неизменно были связаны с насилием, убийством и разрушением. Я улавливала картины убийства членов его семьи — матери на кухне, отца в кровати, старшей сестры на кафельном полу ванной, но я не знала, были ли то воспоминания о реальных событиях или просто фантазии. Сомневаюсь, что и сам Винсент отдавал себе в этом отчет. Никогда не спрашивала его об этом, но даже если бы и спросила, он не смог бы ответить. Вообще, использование Винсента напоминало мне езду верхом на норовистой лошади — стоило только отпустить вожжи и предоставить ей делать все что заблагорассудится. Он был невероятно силен для своего роста и телосложения, просто необъяснимо силен. Казалось, в самые неожиданные моменты всю его систему захлестывали огромные волны адреналина, и тогда его мощь становилась поистине сверхчеловеческой. Мне очень нравилось разделять с ним это состояние, хотя я и была всего лишь пассивной участницей. С каждым днем я чувствовала себя все моложе. Я знала, что когда доберусь до своего дома в Южной Франции, возможно в будущем месяце, я настолько помолодею, что даже Нине не удастся узнать меня, Рождественские праздники портили только ночные кошмары, связанные с Ниной. Они повторялись из ночи в ночь: Нина открывает глаза; мертвенно-бледная маска ее лица с дыркой во лбу; Нина поднимается из своего гроба — я вижу ее пожелтевшие острые зубы и синие глаза, которые вдруг открываются в пустых глазницах черепа, в окружении полчища белесых червей. Мне не нравились эти сны. В субботу вечером я оставила Энн на первом этаже Ропщущей Обители охранять дверь, а сама свернулась клубком в детской кровати и отдалась шепоткам, погрузившим меня в полудрему. Винсент вновь вышел подземным ходом. Он был своеобразным символом появления на свет: длинный узкий коридор с наползающими друг на друга шероховатыми стенами, резкий запах земли, напоминающий медный привкус крови, узкий лаз в конце и, как взрыв света и звука, — первый глоток свежего ночного воздуха. Винсент пересек темную аллею, перепрыгнул через изгородь, миновал пустую стоянку и нырнул во тьму следующей улицы. Винтовки он оставил на кухне в Ропщущей Обители; с собой он захватил лишь косу, укоротив ее длинную деревянную рукоять на четырнадцать дюймов, и нож. Я не сомневалась, что летом эти улицы кишмя кишат неграми: жирные негритянки сидят на ступеньках и мелют языками, как бабуины, или тупо смотрят на своих грязных, оборванных ребятишек, а расхлябанные особи мужского пола, без работы, без идеалов, без каких-либо видимых средств к существованию, околачиваются в барах или подпирают стены на углах. В тот же вечер, в разгар суровой зимы, на улицах было темно и тихо, узкие оконца занавешены, заперты двери одноквартирных домов. Винсент не просто двигался, как безмолвная тень, он поистине превратился в нее, перемещаясь с аллеи на улицу, с улицы на пустую стоянку, со стоянки во двор, нарушая при этом покой не больше, чем дуновение ветра. Две ночи назад он выследил членов банды, которые собирались в большом старом здании, расположенном посреди заброшенных стоянок, неподалеку от высокой железнодорожной платформы, врезавшейся в эту часть гетто, как Великая Стена, в бесплодной попытке некоторых более цивилизованных горожан оградиться от варваров. Лежа на промерзшей траве возле заброшенной машины, Винсент наблюдал. Черные фигуры двигались перед освещенными окнами, словно карикатурные изображения негров на экране «волшебного фонаря». Наконец пятеро из них вышли из дому. Мне не удалось узнать их в тусклом свете, но это не имело значения. Винсент подождал, пока они скроются в узкой аллее у железнодорожной платформы, а затем двинулся за ними. Как меня возбуждало безмолвное преследование, это скольжение в ночи, казалось, не требовавшее от него никаких усилий. Почти в кромешной тьме Винсент видел не хуже, чем большинство людей при дневном свете. Я словно разделяла мысли и чувства сильной и гибкой охотничьей кошки. Голодной кошки. В компании было две девушки. Винсент замедлил шаг, когда группка остановилась. Он принюхался, вбирая в ноздри сильный, чуть ли не звериный запах негров. Негры так же легко возбуждаются и так же быстро забывают о происходящем вокруг, как кобели, учуявшие суку в период течки. Эти две негритянки были явно разгорячены. Вместе с третьим парнем, дожидавшимся своей очереди, Винсент смотрел, как две пары совокуплялись на темной платформе — обнаженные черные ноги девиц то разъезжались в стороны, то смыкались на дергающихся задах мужских особей. Все тело Винсента напряглось, не в силах превозмочь желания вступить в дело тут же, но я заставила его отвернуться и дождаться, пока парни удовлетворят свою похоть. Девицы с невинным и простодушным видом, как довольные помойные кошки, направились по своим домам, смеясь и переговариваясь. И тогда я спустила Винсента с цепи. Он дождался, когда негры свернули за угол Брингхерст-стрит возле заброшенной обувной фабрики. Первый удар косы пришелся парню в живот, и, разрезав его пополам, лезвие вышло в районе позвоночника. Винсент не стал вытаскивать косу и бросился на второго с ножом. Третий негр бросился наутек. Раньше, когда я ходила в кино, еще до второй мировой войны, пока фильмы не превратились в бездумную непристойную дешевку, мне всегда нравились сцены с испуганными цветными рабами. Помню, как смотрела в детстве «Рождение нации» и смеялась от души, когда цветные дети пугались кого-то, завернутого в простыню. Помню, как сидела в пятипфеннинговом кинотеатре вместе с Ниной и Вилли на старом фильме Гарольда Ллойда, не требовавшем субтитров, и заливалась смехом — вместе со всем залом — над туповатым ужасом Степина Принесика. Припоминаю, как смотрела по телевизору старый фильм Боба Хоупа, еще до того как вульгарность 60-х заставила меня навсегда распрощаться с телеэкраном, и хохотала над побелевшим от ужаса цветным помощником Боба, когда он оказался в каком-то доме с привидениями. Так вот, вторая жертва Винсента выглядела точно как эти кинокомики — огромное лицо побелело, глаза вылезли на лоб, ладонью зажат распяленный от ужаса рот, колени сведены, ноги трясутся. Тишина детской в Ропщущей Обители была нарушена моим громким хохотом, и я не могла остановиться даже тогда, когда Винсент пустил в ход нож и сделал то, что нужно. Третьему мальчику удалось бежать. Винсент хотел последовать за ним, он рвался, как собака на поводке, но я заставила его повернуть обратно. Негр был лучше знаком с расположением улиц, действенность же Винсента заключалась в быстроте и неожиданности нападения. Я понимала, насколько рискованна эта игра, и не хотела потерять мальчика после стольких трудов, вложенных в него. Однако прежде чем заставить его вернуться, я позволила ему окончательно разделаться с теми двумя. Его маленькие забавы не требовали много времени и удовлетворяли какое-то садистское начало в джунглях его сознания. И вот когда он снял куртку со второго, тут-то из нее и выпала фотография. Винсент был слишком поглощен своим занятием, чтобы обратить на это внимание, но я заставила его отложить косу и поднять снимок. На нем была изображена я и мистер Торн. Я резко вскочила у себя в детской. Винсент сразу же направился домой. Встретив его на кухне, я вынула из его грязной окровавленной руки снимок. Никаких сомнений не оставалось — на расплывчатом изображении (вероятно, оно являлось увеличенным фрагментом более крупной фотографии) я была видна совершенно отчетливо, и мистер Торн тоже. Я сразу поняла, что это дело рук мистера Ходжеса. В течение многих лет мне довелось наблюдать, как этот жалкий человечек со своей жалкой камерой делал любительские снимки своей несчастной семейки. Мне казалось, я принимала все меры предосторожности, чтобы не оказаться сфотографированной, но, очевидно, он все-таки однажды щелкнул нас... При свете свечей сидела я в холодной каменной кухне Ропщущей Обители и размышляла. Как этот снимок оказался у негритоса? Значит, кто-то меня разыскивал, вот только кто? Полиция? Но откуда они могли узнать, что я в Джермантауне? Нина? Однако все мои догадки были лишены какого-либо смысла. Я заставила Винсента вымыться в большой гальванизированной ванне, купленной Энн. Она принесла керосиновый обогреватель, но ночь выдалась холодной, и от тела Винсента, пока он купался, валил пар. Некоторое время спустя я помогла вымыть ему волосы. Ну и зрелище же мы представляли втроем: две благородные тетушки, купающие отважного юношу, только что вернувшегося с войны, — обнаженное тело в клубах пара и наши огромные тени, суетящиеся при свете старинных свечей на грубо отесанных стенах. — Винсент, дорогой мой, — шептала я, втирая шампунь в его длинные волосы, — мы непременно должны узнать, откуда взялась эта фотография. Не сегодня, мой дорогой, сегодня на улицах будет слишком много народу, когда обнаружится твое «рукоделие». Но в самом скором времени. И когда ты узнаешь, кто дал негру этот снимок, ты приведешь этого человека сюда... ко мне.Глава 11
Вашингтон, округ Колумбия Суббота, 27 декабря 1980 г. Сол Ласки лежал в стальном саркофаге и размышлял о жизни. Он вздрогнул от холодного потока воздуха, исходившего из кондиционера, подтянул колени к груди и в подробностях попытался вспомнить весеннее утро на ферме своего дядюшки — золотистый солнечный свет, игравший на тяжелых ветвях ив и поле белых маргариток за каменной крепостной стеной амбара. Его левое плечо и рука болели непрестанно, в висках пульсировала кровь, пальцы покалывало, вены на правой руке саднило от бесконечных уколов. Но Солу почему-то была приятна эта боль, он не сопротивлялся ей. Боль стала для него единственным маяком, на который он мог положиться в густом тумане медикаментозного дурмана и полной дезориентации. Сол перестал ощущать время. Он отдавал себе в этом отчет, но ничего не мог поделать. Он помнил все подробности, по крайней мере до момента взрыва в здании Сената, но они никак не хотели располагаться в нужной последовательности. То он лежал на своей узкой койке в холодной стальной камере — с решеткой кондиционера, скамьей из нержавеющей стали, уборной и металлической дверью, уходящей в стену; то пытался зарыться в холодную солому, ощущая морозный ночной воздух, втекающий через разбитое окно, и чувствовал, что скоро за ним придут оберет и немецкие охранники с овчарками. Боль была маяком. Несколько минут отчетливого сознания за эти первые дни после взрыва были отмечены болью. Нестерпимая боль, когда ему вправляли сломанную ключицу: хирургические зеленые халаты в окружении антисептических средств явно могли относиться к любому лечебному заведению. Но далее последовал ледяной шок белых коридоров и обитой сталью камеры, люди в строгих костюмах с яркими персональными значками, приколотыми к карманам и лацканам, и болезненные уколы, вызывающие галлюцинации и дискретность сознания. Первые допросы также сопровождались болью. Их проводили двое — лысый коротышка и блондин с военной стрижкой. Лысый ударил Сола по плечу металлической дубинкой. Сол закричал, от боли из глаз невольно брызнули слезы, но внутренне он обрадовался — обрадовался тому, что сознание очистилось от тумана и мутных испарений. — Вам известно мое имя? — осведомился лысый. — Нет. — Что вам говорил ваш племянник? — Ничего. — Кому еще вы рассказывали об Уильяме Бордене и других? — Никому. Может, до этого разговора, а может, позже — Сол точно не знал — боль растворилась в приятной дымке транквилизаторов. — Вы знаете, как меня зовут? — Чарлз Колбен, помощник по особым поручениям директора ФБР. — Кто вам это сказал? — Арон. — Что еще вам рассказывал Арон? Сол повторил весь разговор до малейших подробностей, которые мог припомнить. — Кому еще известно о Вилли Бордене? — Шерифу. Девушке. — И Сол рассказал все о Джентри и Натали. — Что вы еще знаете? И Сол выложил все, что ему было известно. Туман и видения наступали и отступали. Зачастую, когда Сол открывал глаза, он видел перед собой все ту же стальную камеру. Койка была напрочь прикреплена к стене. Уборная — крохотная и без ручки спуска — вода сливалась автоматически через нерегулярные отрезки времени. Пища на стальных подносах появлялась, пока Сол спал. Он перебирался на металлическую скамью, съедал все принесенное и отставлял поднос. Когда он снова засыпал, поднос исчезал. Время от времени металлическая дверь открывалась и в камеру входили санитары в белой униформе — они делали уколы или вели его по голым коридорам в маленькие помещения с зеркалами на стене. Его ставили лицом к зеркалу, и Колбен или еще один тип в сером костюме задавал ему бесконечные вопросы. Если он отказывался отвечать, ему снова вводили инъекцию, и тогда его охватывали тревожные видения, в которых он очень хотел подружиться со всеми этими людьми и рассказывал им все, чего они от него хотели. Несколько раз он ощущал, как кто-то — Колбен? — проскальзывал в его сознание, и тогда у него всплывали воспоминания сорокалетней давности о подобном насилии. Но такое случалось редко, уколы же делали постоянно. Сол перемещался во времени взад и вперед: то он окликал свою сестру Стефу на ферме дяди Мойши, то пытался догнать отца в гетто в Лодзи, то засыпал гашеной известью трупы в Рву, то пил лимонад и беседовал с Джентри и Натали или играл с десятилетними племянниками Ароном и Исааком на ферме Давида и Ребекки возле Тель-Авива. Вызванная наркотиками дискретность сознания уменьшалась. Разрозненные временные отрезки увязывались воедино. Свернувшись на голом матраце — одеяла не было, а из-за стальной решетки немилосердно дуло, — Сол размышлял о себе и своей лжи. Оказывается, он лгал себе многие годы. Поиски оберста были ложью, оправдывавшей его бездействие. Его деятельность психиатра тоже была ложью — способом отодвинуть свои страхи на безопасное академическое расстояние. Его служба в качестве санитара во время трех израильских войн также представляла собою самообман, позволявший избегать конкретных действий. Пребывая в сером мареве между наркотической нирваной и болезненной действительностью, Сол угадывал в истинном свете свою многолетнюю ложь. Он оправдывал себя вымышленными причинами, когда в Чарлстоне рассказывал шерифу и Натали о Нине и Вилли. Втайне он надеялся, что это подвигнет их к какому-либо действию. С себя же он груз ответственности за необходимость отомстить снимал и перекладывал на плечи других... Он обратился к Арону с просьбой найти Френсиса Харрингтона не потому, что был слишком занят, а потому, что подсознательно желал, чтобы все за него сделали Арон и Моссад. Теперь он понимал, зачем двадцать лет назад рассказал Ребекке об оберете — не признаваясь себе в этом, он тайно надеялся, что она сообщит Давиду, а Давид в своей энергичной американо-израильской манере займется этим... Сол содрогнулся, подтянул колени к груди и замер, обозревая вереницу лжи, которая прошла через всю жизнь. За исключением редких минут, как, например, в Челмно, когда он скорее готов был убить, чем оказаться в числе уведенных в ночь, вся его жизнь являлась гимном бездействию и компромиссу. И казалось, властьимущие ощущали это. Теперь он понимал, что его назначение на работу в Ров в Челмно и на сортировочный узел в Собибуре было не просто случайностью или удачей: те негодяи, что распоряжались его жизнью, каким-то образом чувствовали, что Сол Ласки по натуре — прирожденный капо, союзник, человек, которого можно спокойно использовать. Он не мог взбунтоваться, броситься на колючую проволоку, отдать свою жизнь за других даже для спасения хотя бы собственного достоинства. Его бегство из Собибура и за пределы охотничьих угодий оберста было не закономерным, а чисто случайным — он просто поддался течению не зависевших от него событий. Сол выкатился из кровати и замер, покачиваясь посреди своей крохотной стальной камеры. На нем был надет серый комбинезон. Очки у него забрали, поэтому металлическая стена, хоть и находившаяся в нескольких футах от него, расплывалась в глазах, казалась нематериальной. Левая рука Сола была на перевязи, но сейчас он вынул ее, и она свободно свисала сбоку. Он осторожно пошевелил пальцами, и через плечо и шею его пронзила острая боль, ошарашивающая и отрезвляющая. Он еще раз пошевелил рукой. И еще раз. Затем, спотыкаясь, он добрел до стальной скамейки и тяжело рухнул на нее. Джентри, Натали, Арон и его семья — над всеми ними теперь нависла ужасная опасность. Но со стороны кого? Он почувствовал сильное головокружение и, склонив голову, застонал. Почему, почему он был настолько глуп, что приписал эти страшные способности лишь Вилли и тем пожилым дамам?! А сколько еще было таких, кто разделял с оберстом его пристрастия и таланты? Из груди Сола вырвался хриплый смех. Он посвятил в свою историю Джентри, Натали и Арона, не имея ни малейшего представления, как бороться даже с одним оберстом! Он и не предполагал, что все они, его друзья, его близкие, могут попасть в какую-либо ловушку — Вилли Борден ни о чем не догадывается, а непричастность этих людей служила как бы гарантией их безопасности. Но что же он надеялся сделать дальше? На что рассчитывал? На выстрел из моссадовской «беретты» 22 калибра? Сол откинулся назад на металлическую стену и приник щекой к холодной стали. Скольких же людей он погубил из-за собственной трусости и бездействия? Стефу. Джозефа. Своих родителей. А теперь почти наверняка шерифа и Натали. Френсиса Харрингтона. Сол снова застонал, вспомнив утробное «Auf Wiedersehn» в кабинете Траска и последовавший затем взрыв. За мгновение до этого негодяй оберет каким-то образом дал возможность Солу взглянуть на происходящее глазами Френсиса, и Сол уловил это загнанное в угол перепуганное сознание Харрингтона, оказавшегося пленником в своем собственном теле и безвольно ожидающего неизбежного конца. Сол посылал его в Калифорнию. С ним были его друзья Селби Уайт и Деннис Леланд. Значит, еще две жертвы на алтаре трусости Сола Ласки... Сол не понимал, почему на сей раз в действии одурманивающих транквилизаторов сделан перерыв. Возможно, он, доктор Ласки, больше не нужен им, они выпотрошили его, и в следующий раз, когда за ним придут, его отведут на казнь. Но ему уже было все равно. Он чувствовал, что его, словно электрическим током, пронзает ярость. Перед тем как неизбежная, давно ожидаемая пуля разнесет ему голову, он должен совершить поступок. Он нанесет кому-нибудь ответный удар. В это мгновение Сол Ласки с радостью отдал бы свою жизнь, только чтобы предупредить Арона, Джентри и Натали, но с еще большей готовностью он отдал бы все их жизни, чтобы отомстить оберсту или любому из этих надменных подонков, управлявших миром и посмеивавшихся над страданиями людей, которых они использовали как пешек. Дверь с лязгом поползла в сторону, и в камеру вошли трое высоких мужчин в белых комбинезонах. Сол поднялся и, подойдя к ним на заплетающихся ногах, вмазал первому по физиономии. Удар не достиг цели. Мужчина рассмеялся, легко перехватил руку Сола и завел ее за спину. — Смотри-ка, этот старый еврей хочет поиграть. Сол попробовал сопротивляться, но здоровяк справлялся с ним, как с ребенком. Второй закатал ему рукав и достал шприц. Сол стиснул зубы, стараясь не заплакать. — Сейчас будем бай-бай, — сказал третий и ввел иглу в исхудавшую, исколотую руку. — Приятного путешествия, старина. Они выждали с полминуты, потом отпустили его и повернулись к двери. Сжав кулаки, Сол сделал несколько неуверенных шагов следом за ними, но потерял сознание еще до того, как захлопнулась дверь. Ему снилось, что его куда-то ведут и он послушно бредет. До него донесся звук работающих авиадвигателей, он ощутил застоявшийся запах табачного дыма. Потом его снова куда-то вели, поддерживая сильными руками. Нестерпимо ярко горел свет. А когда он закрыл глаза, то услышал перестук колес поезда, увозившего его в Челмно. Очнулся Сол в удобном кресле какого-то транспортного средства. До него донесся ровный ритмичный гул, но прошло несколько минут, прежде чем он сообразил, что находится в вертолете. Глаза его были закрыты. Под головой покоилась подушка, но щекой он ощущал поверхность не то стекла, не то плексигласа. Сол почувствовал, что одет, а на носу снова были очки. До его слуха долетали приглушенные мужские голоса и звуки радиосвязи. Он не стал открывать глаза, надеясь собраться с мыслями и уповая на то, что захватившие его люди не обратят внимания на окончание срока действия наркотика. — Нам известно, что вы проснулись, — послышался мужской голос совсем рядом. Солу почему-то был знаком этот голос. Он открыл глаза, превозмогая боль, повернул голову и поправил очки. Было темно. Он и еще трое мужчин занимали пассажирские места в вертолете. В красном свете приборной доски виднелись фигуры пилота и его помощника. За иллюминатором справа не было видно ничего. На сиденье слева расположился агент по особым поручениям Ричард Хейнс — он перелистывал какие-то бумаги при свете крохотной лампочки над головой. Сол откашлялся и облизал сухие губы, но Хейнс опередил его: — Мы садимся через минуту. Приготовьтесь. — На подбородке агента все еще виднелись следы синяка. Сол вспомнил о вопросах, которые хотел задать, но решил не делать этого. Он опустил глаза и только теперь заметил, что его левая рука была скована наручниками вместе с правой рукой Хейнса. — Сколько времени? — спросил он, и голос его прозвучал, как воронье карканье. — Около десяти. Сол вгляделся во тьму за иллюминатором и понял: десять вечера, а не утра. — Какой сегодня день? — Суббота, — с легкой улыбкой ответил Хейнс. — Число? Фэбээровец замешкался и слегка передернул плечами. — Двадцать седьмое декабря. Сол закрыл глаза от внезапно накатившего на него приступа головокружения. Значит, потеряна неделя. Но ему казалось, что прошла вечность. Нестерпимая боль пронзила левую руку и плечо. Оглядев себя, он увидел, что одет в чужой темный костюм, белую рубашку и галстук. Сол снял очки. Стекла были подобраны правильно, однако оправа новая. Он внимательно осмотрел пассажиров вертолета. Из них он знал только Хейнса. — Вы работаете на Колбена, — медленно проговорил Сол. Агент не ответил, и Сол продолжал: — Вы ездили в Чарлстон убедиться, что местная полиция так и не догадалась, что же произошло на самом деле. И вы забрали из морга записную книжку Нины Дрейтон. — Пристегните ремень, — откликнулся Хейнс. — Сейчас мы будем садиться. Ничего прекраснее Сол еще не видел в своей жизни. Сначала он решил, что это коммерческий океанский лайнер, расцвеченный огнями и сияющий белизной на фоне темно-зеленых вод, но по мере того как вертолет приближался к высвеченному оранжевым кресту на палубе, он понял, что это частная яхта, элегантная, изящная, длиной чуть ли не с футбольное поле. Члены экипажа махали светящимися регулировочными приборами, и вертолет в свете прожекторов мягко опустился на палубу. Четверо пассажиров спустились вниз по трапу, не дожидаясь, пока утихнут двигатели. Когда они отошли от вертолета и смогли выпрямиться, Хейнс отстегнул наручники и засунул их в карман своего пальто. Сол потер запястье чуть ниже вытатуированных синих цифр. К ним тут же подошли несколько членов экипажа в белых униформах. — Сюда. — И процессия двинулась вверх по направлению к широкому проходу. Ноги у Сола подгибались, хотя судно стояло неподвижно. Дважды Хейнсу приходилось поддерживать его. Сол вдыхал теплый, влажный тропический воздух, насыщенный приглушенными ароматами джунглей, и заглядывал через открытые двери в элегантную полутьму кают, кабинетов и баров, мимо которых они проходили. Полы везде были устланы коврами, стены — обиты деревом, искусно выполненные интерьеры украшены медью и золотом. Яхта выглядела как плавучий пятизвездочный отель. Когда они проходили мимо капитанского мостика, в зеленоватых отсветах электронного оборудования Сол заметил вахтенных. На лифте они поднялись в отдельную каюту с балконом, который скорее представлял из себя крыло ходового мостика. В каюте сидел мужчина в белоснежном пиджаке, держа в холеной руке высокий бокал. За его спиной, возможно в миле от яхты, виднелся остров. Пальмы и другую разнообразную тропическую растительность освещали сотни японских фонариков, дорожки высвечивались белыми огнями, а длинный пляж был выхвачен светом десятков прожекторов, и над всем этим в вертикальных лучах подсветки высился деревянный с красным изразцом замок, — будто декорация из какого-то исторического фильма. — Вы меня знаете? — осведомился мужчина, сидевший в шезлонге. Сол прищурился. — Ведущий рекламного канала телевидения? Хейнс подсек Сола сзади под колени, и тот повалился на пол. — Можете оставить нас, Ричард. Хейнс с сопровождающими лицами вышел, и Сол, преодолевая боль, поднялся на ноги. — Вы знаете, кто я такой? — Вы — К. Арнольд Барент, — ответил Сол и зажал внутреннюю часть щеки зубами. Он ощутил вкус собственной крови, соединившийся с ароматами тропической растительности. — Как расшифровывается К., кажется, никто не знает. — Кристиан, — улыбнулся Барент. — Мой отец был очень верующим человеком. Но в то же время он не лишен был чувства юмора. — Барент указал на соседнее кресло. — Садитесь, пожалуйста, доктор Ласки. — Нет. — Сол отошел к перилам балкона, или мостика, или как это называлось. Тридцатью футами ниже плескалась вода. Крепко сжав руками перила, он посмотрел на Барента. — А вы не рискуете, оставаясь со мной наедине? — Нет, доктор Ласки, ничем не рискую, — произнес Барент. — Я никогда не рискую. Сол кивком указал на замок, сиявший во тьме. — Ваш? — Нашей организации, — кивнул Барент, отхлебнув из бокала. — Вы догадываетесь, почему вы здесь, доктор Ласки? Сол поправил очки. — Мистер Барент, я даже не знаю, что вы имеете в виду под словом «здесь». Я вообще не понимаю, почему я до сих пор жив. — Ваше второе замечание весьма уместно, — признал он. — Полагаю, ваш организм уже в достаточной степени освободился от... э-э... транквилизаторов, чтобы вы оказались в состоянии прийти к каким бы то ни было выводам на этот счет. Сол поджал губу. Он ощущал, насколько в действительности он ослаб от недоедания и обезвоживания. Вероятно, потребуются недели, чтобы окончательно избавиться от последствий наркотического воздействия. — Наверно, вы полагаете, что я укажу вам путь к оберсту? — спросил он. Барент рассмеялся. — К оберсту! Как забавно. Вероятно, вы думаете о нем именно в таких терминах, учитывая ваши... э-э... странные взаимоотношения. Скажите мне, доктор Ласки, неужто лагеря были так страшны, как об этом рассказывают средства массовой информации? Я всегда подозревал, что они пытаются, может, бессознательно, слегка усугубить реальную картину. Может, таким образом происходит избавление от подсознательного чувства вины? Сол пристально посмотрел на собеседника, вбирая в себя все подробности его облика — безупречный загар, шелковый спортивный пиджак, мягкие туфли от Гуччи, аметистовое кольцо на мизинце... Ему не хотелось отвечать. — Ну, неважно, — продолжал Барент. — Конечно, вы правы. Вы до сих пор живы только потому, что являетесь посланником мистера Бордена, а нам бы очень хотелось побеседовать с этим джентльменом. — Я не посланник, — пробубнил Сол. Барент махнул рукой с ухоженными ногтями. — Ну, тогда само послание, — поправился он. — Разница небольшая. Раздались звуки гонгов, яхта начала разворачиваться и набирать обороты, словно намереваясь обойти остров. Сол увидел, как пристань на острове озарилась ртутными лампами. — Мы бы хотели, чтобы вы кое-что передали мистеру Бордену, — продолжил Барент. — Боюсь, у меня не будет возможности сделать это, пока вы накачиваете меня наркотиками и держите в стальной камере. — Впервые с момента взрыва у Сола забрезжила какая-то надежда. — Очень справедливое замечание, — согласился Барент. — Мы проследим за тем, чтобы у вас появилась возможность встретиться с ним там, где... э-э... он сам того захочет. — Вам известно, где находится Уильям Борден? — удивился Сол. — Мы знаем, где... э-э... он решил действовать. — Если я встречусь с ним, я убью его, — сказал Сол. Барент тихо рассмеялся. У него были идеальные зубы. — Очень сомневаюсь в этом, доктор Ласки. И тем не менее мы были бы вам весьма благодарны, если бы вы передали ему наше послание. Сол глубоко вдохнул морской воздух. Он не понимал, зачем он нужен Баренту и его группе в качестве посыльного, не понимал, почему ему позволяют руководствоваться собственной волей, не мог даже представить себе, чем может оказаться выгодной им его жизнь после того, как это поручение будет выполнено. Голова у него кружилась, он чувствовал себя как пьяный. — Что же надо ему передать? — Скажите Вилли Бордену, что Клуб будет очень рад, если он согласится занять вакантное место в его комитете по выбору членов. — Это все? — Да, — ответил Барент. — Не хотите ли закусить или выпить перед тем, как мы расстанемся? Сол на минуту закрыл глаза. Ногами и ягодицами он ощущал качку. Он еще крепче сжал перила и открыл глаза. — Вы ничем не отличаетесь от них, — произнес он. — От кого? — От бюрократов, начальников и гражданских служащих, которые по воле Гитлера превратились в членов Einsatzgruppen, в эсэсовцев, железнодорожных инженеров, военных промышленников и смердящих пивом сержантов, которые болтали своими толстыми ногами надо Рвом, полным трупов... Барент на мгновение задумался. — Да, — наконец промолвил он, — думаю, в конечном итоге, все мы одинаковы. Ричард! Будьте любезны, проводите доктора Ласки к месту его назначения. Они долетели на вертолете до широкой посадочной полосы на острове и, пересев в частный самолет, взяли курс на северо-запад. В течение часа до приземления Солу удалось поспать. Это был его первый здоровый сон за неделю, не спровоцированный наркотиками. Его разбудил Хейнс. — Взгляните. — Он тряс Сола за плечо. Ласки уставился на фотографию. Арон, Дебора и девочки были крепко связаны, но еще, видимо, живы. Сняты они были на белом фоне, который не давал возможности определить, где они находились. Вспышка «Полароида» выхватила перепуганные лица и расширенные от ужаса глаза. Хейнс включил маленький кассетный магнитофон. «Дядя Сол, — раздался голос Арона, — пожалуйста, делай все, что они скажут. До тех пор пока ты будешь это делать, они не причинят нам вреда. Следуй их указаниям, и нас освободят. Пожалуйста, дядя Сол...» — дальше запись резко обрывалась. — Если вы попробуете связаться с ними или с посольством, мы убьем их, — прошептал Хейнс. Двое других агентов спали. — Если будете делать то, что вам приказано, с ними ничего не случится. Понятно? — Понятно. — Сол крепко прижался лицом к холодному пластику иллюминатора. Внизу виднелись окрестности какого-то большого американского города. В свете уличных фонарей Сол различил кирпичные здания и белые шпили муниципальных строений. Именно в это мгновение он понял, что ни для кого из них уже не остается никакой надежды.Глава 12
Вашингтон, округ Колумбия Воскресенье, 28 декабря 1980 г. Шериф Бобби Джо Джентри был в ярости. У взятого напрокат «Форда Пинто» имелась автоматическая коробка передач, но Джентри рванул ручку с такой силой, словно вел гоночный автомобиль с шестью передачами. Выехав с окружной дороги на магистраль 1-95, он выжал из сопротивлявшегося «Форда» 72 мили в час и рванул вперед, не обращая внимания на зеленый «Крайслер», пытавшийся сесть ему на хвост, и патрульных штата Мэриленд, старавшихся его задержать. Он перетащил чемодан на переднее сиденье, порылся с минуту в его боковом кармане, затем положил заряженный «ругер» на консоль с приборами и снова зашвырнул чемодан назад. Шерифа переполняла ярость. Израильтяне продержали его до рассвета, сначала допрашивая в своем лимузине, затем в охраняемой резиденции неподалеку от Роквилла и снова в их распроклятой машине. Он до конца придерживался своей первоначальной версии, пытаясь связать все с чарлстонскими убийствами, рассказал и о Соле Ласки, который охотился за нацистским военным преступником, чтобы свести с ним старые счеты. К насилию израильтяне не прибегали и даже не угрожали ему после единственного замечания Коуэна, но они изматывали Джентри бесконечными перекрестными допросами. Что ж, на то они и израильтяне. Шериф не сомневался в этом... как не сомневался в том, что Джек Коуэн именно тот человек, за которого себя выдает... что Арон Эшколь и вся его семья убиты, хотя никаких доказательств у него не было. Он понимал лишь одно: эти люди ведут большую и опасную игру, и он, чарлстонский шериф, является лишь незначительной помехой в этой игре. Джентри выжал из «Форда» 75 миль, потом перевел взгляд на «ругер» и сбавил скорость до стабильных шестидесяти двух. Зеленый «Крайслер» отставал от него на две машины. Больше всего после этой изматывающей ночи Джентри хотелось забраться в свою широкую гостиничную кровать и проспать до самого Нового года. Но вместо этого он позвонил из холла отеля в Чарлстон. На автоответчике больше не было никаких сообщений. Он позвонил в свой рабочий кабинет. Лестер заверил его, что для него ничего не оставляли, и поинтересовался, хорошо ли шериф отдыхает. Он ответил, что великолепно и уже успел осмотреть все достопримечательности. Затем Джентри набрал номер телефона Натали в Сент-Луисе. Ему ответил мужской голос. Он попросил Натали. — Кто ее спрашивает? — проскрежетал голос. — Шериф Джентри. А я с кем говорю? — Черт побери, она рассказывала мне о вас на прошлой неделе! Похоже, вы и есть тот самый тупой южанин-полицейский. Какого черта вам надо от Натали? — Мне необходимо поговорить с ней. Она дома? — Нет, черт побери, ее нет. И у меня нет времени болтать с тобой, легавый. — Фредерик, — усмехнулся Джентри. — Что? — Тебя зовут Фредерик. Натали рассказывала мне о тебе. — Хватит молоть чушь. — В течение двух лет после возвращения из Вьетнама ты не носил галстуков, — продолжал Джентри. — Ты считаешь, что математика ближе всего подошла к понятию абсолютной истины. Ты работаешь в компьютерном центре каждый день с восьми вечера до трех ночи, кроме субботы. На другом конце провода повисло молчание. — Где Натали? — повторил Джентри. — Это связано с полицейским расследованием. С убийством ее отца. Ей может грозить опасность. — Что вы имеете в виду... — Где она? — рявкнул Джентри. — В Джермантауне, — раздраженно ответил голос. — В Филадельфии. — Она звонила тебе после своего приезда туда? — Да. В пятницу вечером. Меня не было дома, но Стэн передал мне, что она остановилась в отеле «Челтен». Я звонил ей шесть раз и ни разу ее не застал. И она мне так и не перезвонила. — Дайте мне номер. — Джентри записал его в маленькой записной книжке, которую постоянно носил при себе. — Во что это она ввязалась? — Послушайте, мистер Чистоплюй, — вне себя проговорил Джентри, — мисс Престон разыскивает лицо или лиц, убивших ее отца. Я не хочу, чтобы она нашла этих людей или чтобы эти люди нашли ее. Когда она вернется в Сент-Луис, вы должны проследить, чтобы она, во-первых, больше никуда не уезжала, а во-вторых, чтобы не оставалась одна в течение последующих нескольких недель. Понятно? — Да. — Джентри расслышал такую несомненную ярость в голосе Фредерика, которая отбила у него всякую охоту очутиться вдруг в Сент-Луисе рядом с тем типом. Он собирался поспать и со свежей головой отправиться в путь вечером. Но вместо этого позвонил в гостиницу «Челтен», оставил послание для отсутствующей мисс Престон, договорился о прокате машины — непростая задача в воскресное утро, заплатил по счету, собрал чемодан и выехал в северном направлении. Сорок миль пути зеленый «Крайслер» держался на расстоянии двух машин позади. Выехав из Балтимора, Джентри свернул на Сноуден-ривер, проехал с милю до шоссе 1 и притормозил у первой же встречной закусочной. «Крайслер» остановился на противоположной стороне шоссе, в дальнем конце большой стоянки. Джентри заказал кофе с пончиками и подозвал мальчика-разносчика, когда тот проходил мимо с подносом грязной посуды. — Сынок, не хочешь ли заработать двадцать долларов? Мальчик прищурился, с подозрением глядя на Джентри. — Там стоит машина, о которой мне хотелось бы знать побольше, — продолжил Джентри, указывая на «Крайслер». — Если бы ты смог прогуляться до нее и сообщить мне лицензионный номер и все остальное, что тебе удастся заметить, а? Джентри еще не успел допить кофе, когда мальчик вернулся. На одном дыхании он выпалил свой отчет, завершив его словами: — Господи, думаю, они меня не заметили. Я просто вытаскивал мусор из урны — я всегда это делаю около полудня. А кто они такие? Джентри заплатил мальчику и направился в комнату отдыха, где из дальнего коридора позвонил в администрацию Балтиморского портового тоннеля. Руководство в воскресное утро не работало, но автоответчик назвал ряд телефонов на случай неотложных дел. Джентри ответил усталый женский голос. — Черт, я зря вам звоню, потому что они пришьют меня, если просекут, — затараторил Джентри, — но Ник, Луис и Делберт только что поехали устраивать революцию, а начнут они ее с подрыва портового тоннеля. Усталость с женщины как рукой сняло, и уже совсем другим голосом она потребовала, чтобы Джентри назвал свое имя. Шериф расслышал гудок, когда она включила записывающее устройство. — На это нет времени, нет времени! — возбужденно выпалил он. — У Делберта, у него дула с собой, а у Луиса тридцать шесть брусков динамита со стройки — они запихали все это в потайное отделение багажника. Ник сказал, что революция начнется сегодня. Он достал им поддельные удостоверения и все остальное. Женщина было заикнулась, хотела что-то спросить, но Джентри перебил ее: — Мне надо сматываться. Они меня пристукнут, если узнают, что я их выдал. Они в машине Делберта... зеленый «Ле Барон» 76 года выпуска. Лицензия штата Мэриленд номер ДВ 7269. Ведет машину Делберт. Он такой с усами, в синем костюме. О Господи, они все с пушками, и вся машина напичкана взрывчаткой. — Джентри повесил трубку, заказал еще кофе, расплатился и двинулся обратно к своей машине. Он находился всего в нескольких милях от тоннеля, и особенно спешить ему было незачем, поэтому он доехал до университета Мэриленда, объехал Луденское кладбище и медленно прокатился вдоль берега. Из-за немногочисленных машин в воскресный день «Крайслер» был вынужден сильно отстать, но за рулем явно сидел опытный водитель, который не лез на глаза, но и не выпускал «Форд» Джентри из виду. Следуя указателям, шериф добрался до портового тоннеля, оплатил проезд и, медленно въехав в освещенный тоннель, посмотрел в зеркальце заднего обзора. «Крайслер» даже не добрался до будки транзитной пошлины. За пятьдесят ярдов от въезда в тоннель он был окружен тремя патрульными машинами, черным фургоном без опознавательных знаков и синим пикапом. Еще четыре полицейские машины перекрыли движение сзади. Джентри увидел полицейских с нацеленными винтовками и пистолетами, заметил, как трое пассажиров «Крайслера» энергично машут из окон руками, а потом выжал из своего «Форда» все что можно, чтобы поскорее выбраться из тоннеля. Если его преследовали люди из ФБР, то им потребуется несколько минут на то, чтобы выпутаться из этой ситуации. Но помогай им Бог, если это были израильтяне, да еще вооруженные. Джентри свернул с главной автомагистрали, едва вынырнул из тоннеля, в течение нескольких минут петлял по окрестностям города, но потом сориентировался, увидев клинику Джона Хопкинса, и выехал на шоссе 1, которое вело за пределы города. Машин было мало. Через несколько миль ему встретился указатель поворота на Джермантаун, штат Мэриленд, и он улыбнулся самому себе. Сколько Джермантаунов в Соединенных Штатах? Оставалось уповать лишь на то, что Натали выбрала не тот. Джентри добрался до юго-западных окрестностей Филадельфии в половине одиннадцатого, а в одиннадцать выехал в Джермантаун. Зеленого «Крайслера» нигде не было видно, если только слежку не подхватил кто-либо другой, более осторожный. Гостиница «Челтен» выглядела так, словно она знавала лучшие дни, но пока не отчаивалась, уповая на их возвращение. Джентри припарковал «форд» вполквартале от гостиницы, засунул «ругер» в карман своего спортивного пиджака и двинулся ко входу. В дверях стояло пять пьянчуг — двое белых и трое черных. Мисс Престон не ответила на звонок администратора. Назойливый юркий клерк с тремя прядями волос, прикрывавшими лысину, огромным носом закудахтал и отрицательно покачал головой, когда Джентри попросил у него ключ. Шериф показал свою звезду. Администратор снова закудахтал. — Чарлстон? Он значит тут столько же, сколько любой десятицентовик. Полицейские из Джорджии не обладают здесь никакой властью. Джентри кивнул, вздохнул, окинул взглядом пустой холл и, резко развернувшись, схватил администратора за грязный галстук на четыре дюйма ниже узла. Он дернул лишь раз, но этого оказалось достаточно, чтобы подбородок и нос портье едва не уткнулись в регистрационную стойку. — Послушай, дружок, — сквозь зубы тихо проговорил Джентри. — Я сотрудничаю здесь с шефом детективного отдела капитаном Дональдом Романо, район Франклин-стрит, дела, связанные с убийствами. У этой женщины могут быть сведения о человеке, который хладнокровно убил шестерых. Я не спал двое суток, чтобы добраться сюда. Так что, мне звонить капитану Романо после того, как я размажу твою морду по стойке, или мы просто решим этот вопрос? Портье протянул руку назад, нащупал за спиной ключ и отдал его Джентри. Тот отпустил его галстук, и портье от неожиданности подскочил, как чертик в табакерке, потом робко сглотнул, потирая кадык. Джентри сделал три шага по направлению к лифту, повернулся на каблуках, двумя скачками вернулся к стойке и снова схватил администратора за галстук, прежде чем тот успел увернуться. Подтянув его к себе поближе, он улыбнулся. — К тому же, сынок, графство Чарлстон находится в Южной Каролине, а вовсе не в Джорджии. Запомни это как следует! Я потом проверю.* * *
Трупа Натали в номере не было. Не было и кровавых пятен, если не считать нескольких раздавленных клопов под потолком. Никаких записок с требованием выкупа он не нашел. Ее открытый чемодан лежал внизу, в нише под вешалкой, одежда была аккуратно сложена, на полу стояла пара туфель. Платье, в котором два дня назад она вылетала из Чарлстона, висело на плечиках. На полочке в ванной какие-либо туалетные принадлежности отсутствовали, душ был сухим, хотя рядом лежал развернутый и уже использованный кусочек мыла. Сумки с фотопринадлежностями и камеры не было. По аккуратно застеленной кровати трудно было сказать, спала ли Натали накануне ночью. Но, прикинув, насколько исполнительным может оказаться здешний персонал, Джентри пришел к выводу, что, скорее всего, ночью кроватью не пользовались. Он опустился на край постели и потер лицо — ничего умного в голову не приходило. Единственное, что оставалось, это обойти Джермантаун, уповая на случайную встречу и каждый час звоня в гостиницу в надежде, что портье не обратился в филадельфийскую полицию. Ну что ж, пара часов на свежем воздухе не повредит. Джентри снял пальто и куртку, лег, положил «ругер» справа от себя. Через две минуты шериф уже спал. Проснулся он в темноте, не понимая, где находится, с ощущением, что случилось что-то ужасное. Его «Ролекс», подарок отца, показывал 4:35. Снаружи в окно лился тусклый серый свет, но в самой комнате было темно. Джентри пошел в ванную, умылся и позвонил ночному портье. Нет, мисс Престон не появлялась и не звонила. Джентри спустился вниз, дошел до своей машины, переложил чемодан в багажник и отправился бродите по городу. Он шел на юго-запад по Джермантаун-стрит мимо огороженного изгородью парка. Ему не помешало бы сейчас выпить пива, но бары были закрыты. Серый безрадостный день совсем не походил на воскресенье, но на какой день недели он походил, Джентри тоже сказать не мог. Когда он вернулся к гостинице за чемоданом, пошел легкий снежок. За стойкой стоял уже новый портье — гораздо моложе и вежливее предыдущего. Джентри оформил документы, заплатил вперед тридцать два доллара и уже собрался проследовать за портье в свой номер, когда ему пришло в голову спросить о Натали. Ключ от ее комнаты все еще лежал у него в кармане — может, тот «картофельный нос» не стал никому сообщать об этом, уходя с работы? — Да, сэр, — откликнулся молодой портье. — Мисс Престон справлялась о звонках минут пятнадцать назад. Джентри заморгал от неожиданности. — Она все еще здесь? — Она поднялась в свою комнату, сэр, но, кажется, я недавно видел, как она входила в ресторан. Джентри поблагодарил портье, дал ему три доллара, чтобы тот отнес его багаж наверх, и направился к дверям ресторана. Сердце у него подпрыгнуло, когда он увидел Натали, сидевшую за маленьким столиком в противоположном конце зала. Он двинулся было к ней, но на полдороге остановился. Рядом с ней сидел невысокий темноволосый мужчина в дорогом кожаном пиджаке. Натали смотрела на него со странным выражением. Джентри помедлил с секунду и пошел к салатной стойке. В следующий раз он посмотрел в сторону Натали, уже сев за столик. Проходившая мимо официантка приняла заказ на кофе. Джентри начал медленно есть салат, искоса поглядывая на Натали. Там происходило что-то очень странное. Джентри был знаком с Натали Престон меньше двух недель, но ему было известно, какой это живой, импульсивный и подвижный человек. Он научился распознавать все оттенки выражений ее лица, в которых проявлялись особенности ее неповторимой личности. Теперь же он увидел маску, помертвевшую, сомнамбулическую. Девушка смотрела на сидевшего напротив мужчину так, будто была под гипнозом или приняла сильную дозу героина. Время от времени она что-то говорила, и резкие, какие-то неестественные движения ее губ напоминали Джентри его мать, после того как ее парализовало. Шерифу хотелось рассмотреть лицо мужчины, но он видел лишь черные волосы, пиджак и бледные руки, сложенные на скатерти. Когда мужчина наконец повернулся, он заметил набрякшие веки, желтоватый цвет лица и узкий тонкогубый рот. «Что ему нужно, этому подонку, от Натали?» Джентри взял газету с соседнего стола и стал изображать из себя одинокого грузного коммивояжера, поглощенного поеданием салата. Когда он снова посмотрел на Натали, то убедился, что на нее и ее собеседника обратили внимание по меньшей мере еще двое присутствующих. «Легавые? Фэбээровцы? Израильтяне?» Джентри доел салат, оставил не желавший накалываться на вилку помидор и в сотый раз за день подумал: «Во что же это мы с Натали ввязались?» Что делать дальше? Предположим наихудший вариант — мужчина со скользкими глазами был одним из них, мозговых вампиров, и испытывал он к Натали отнюдь не сексуальное влечение. Соглядатаи же в ресторане гарантировали ему безопасность. Возможно, кроме них в холле есть кто-то еще. Если они останутся сидеть, а Джентри пойдет за Натали, он тут же засветится. Значит, надо уйти раньше, чтобы увязаться за ними потом — но куда? Джентри заплатил по счету и вышел за своим пальто в тот самый момент, когда Натали и мужчина поднялись со своих мест. Натали посмотрела на Джентри с расстояния в двадцать футов, и в ее глазах ничего не отразилось — взгляд был пустой, остекленелый. Джентри быстро пересек холл и замешкался у входной двери, делая вид, что он натягивает пальто. Мужчина подвел Натали к лифту и сделал непристойный жест сидевшему на обшарпанном диване какому-то парню. Джентри решил рискнуть. У Натали был номер 312. Он попросил 310-й. Номера в этой гостинице занимали лишь три этажа. Если человек с мертвыми глазами и набрякшими веками собирался вести ее не в номер, то Джентри потеряет их след. Шериф поспешно направился к лестнице и, перепрыгивая через две-три ступеньки, понесся наверх. Ему потребовалось десять секунд на то, чтобы перевести дыхание на площадке третьего этажа. Дверь в свой номер он распахнул как раз в тот момент, когда мужчина вводил Натали в 312. Выждав еще с минуту и убедившись, что следом никто не идет, Джентри бесшумно двинулся по коридору. Правой рукой он нащупал рукоятку «ругера», но передумал. Если этот человек был такой же, как оберет Сола Ласки, он ведь мог заставить Джентри выстрелить в самого себя. Если же это обычный человек, Джентри решил, что обойдется без оружия. «О Господи, — подумал он, — что, если этот человек окажется добрым приятелем Натали и она сама его пригласила?» Но тут он вспомнил выражение ее лица и отсутствующий взгляд — и бесшумно вставил ключ в замочную скважину. Джентри ворвался в номер, заполнив собой крохотную прихожую, и увидел, что сидящий в кресле мужчина как раз повернулся и открыл рот, намереваясь что-то сказать. Еще он увидел полураздетую Натали и ужас в ее глазах и тут же со всего размаху опустил кулак на голову незнакомца, словно пытаясь вогнать в него огромный гвоздь. Тот попытался встать, но тут же глубоко погрузился в осевшее мягкое сиденье, дважды подпрыгнул и в беспамятстве перевалился через левый подлокотник кресла. Джентри повернулся к Натали. Блузка ее была расстегнута, лифчик снят, но она не сделала ни единого движения, чтобы хоть как-то прикрыть наготу. И тут же девушку начала колотить жуткая дрожь. Джентри стащил пальто, накинул ей на плечи, и тут Натали рухнула ему в объятия, мотая головой из стороны в сторону, словно хотела стряхнуть с себя наваждение. Когда она попыталась что-то сказать, зубы у нее стучали так сильно, что Джентри едва понимал ее: — О... Роб... а... а... он... хотел... я... н-н-не... с-с-сделать что... нибудь. Обхватив девушку за плечи, Джентри стал гладить ее по голове, как испуганного ребенка, одновременно лихорадочно соображая, что же делать дальше. — О Г-г-господи, меня... с-с-сейчас... в-в-вытош-нит. — И Натали опрометью бросилась в ванную. Ее действительно рвало. Джентри меж тем склонился над мужчиной, переложил его на пол, быстро обыскал и раскрыл бумажник: «Энтони Хэрод, Беверли-Хиллз». У мистера Хэрода было около тридцати кредитных карточек, билет клуба «Плейбой», удостоверение члена Писательской гильдии Америки и другие документы, указывающие на его связь с Голливудом. В кармане пиджака лежал ключ от гостиничного номера в «Каштановых Холмах». Когда Натали, приведя себя в порядок, со все еще влажным лицом, вышла из ванной, Хэрод начал шевелиться. Затем он застонал и перевернулся на бок. — Чтоб ты провалился! — вырвалось у Натали, и она что есть силы пнула Тони между ног. На ней были плотные туфли на низком каблуке, и удар был такой силы, будто она намеревалась забить гол в ворота противника. Хэрод дернулся и врезался головой в деревянную спинку кровати. — Спокойно, спокойно, — удержал ее Джентри и опустился на колени, чтобы проверить пульс и дыхание лежавшего. Энтони Хэрод из Беверли-Хиллз, Калифорния, был все еще жив, но снова вырубился. Джентри взглянул на дверь. Ни задвижки, ни цепочки на ней не было. Он повернул ключ и подошел к Натали. — Роб, — задыхаясь, произнесла она, — он владел моим сознанием. Он заставлял меня делать и говорить... — Все о'кей, — успокаивал ее Джентри. — Нат, нам нужно скорее уходить отсюда. — Он застегнул ее чемодан, помог девушке надеть куртку и перебросил через свое плечо сумку с камерой. — Тут есть пожарная лестница. Ты в состоянии спуститься по ней? — Да, но почему нам надо?.. — хотела спросить Натали, но он ее перебил: — Поговорим, когда выберемся отсюда. Моя машина рядом с отелем. Пошли. Железные перекладины пожарной лестницы обледенели и прогибались под их весом. Когда Джентри преодолевал последние восемь футов, в ночной тишине поднялся такой скрип и лязг, который вполне мог бы привлечь внимание гостиничного персонала, но ни в дверях черного хода, ни в окнах никто не появился. Шериф помог Натали спрыгнуть на землю, и они быстро двинулись по темной аллее. До Джентри донесся запах снега и гниющих отбросов. Они вышли на Джермантаун-стрит, прошли по ней ярдов тридцать и, свернув за угол, увидели неподалеку «форд» Джентри. Вокруг не было ни души. Пока Джентри включал зажигание и переключал скорость, никто так и не появился из отеля «Челтен». Витрины магазинчиков были темны. — Куда мы едем? — спросила Натали. — Не знаю. Главное — убраться отсюда подальше... После мы все обсудим. Джентри повернул на восток по Джермантаун-стрит и был вынужден притормозить, чтобы пропустить троллейбус, который двигался в том же направлении. — Черт! — выругался он. — Что? — Да ничего, просто я как идиот оставил свой чемодан!.. — В нем было что-нибудь важное? Джентри подумал о смене рубашек и брюк и рассмеялся. — Да нет... Но уж обратно я ни за что не вернусь. — Роб, что происходит? Джентри покачал головой. — Я думал, может, ты мне расскажешь. Натали всю передернуло. — Со мной такого никогда в жизни не случалось. Я ничего не могла поделать. Как будто мое тело перестало слушаться меня. И сознание — тоже... — Теперь мы убедились, что они существуют на самом деле, — хрипло проговорил Джентри. Натали как-то неестественно засмеялась. — Роб, знаешь. Старуха... Мелани Фуллер... она здесь. Где-то в Джермантауне. Ее видели Марвин и его ребята. Прошлой ночью она убила еще двоих из их банды. Я была... — Подожди-ка, — прервал ее Джентри, объезжая троллейбус и муниципальный автобус. Впереди простиралась пустая улица, вымощенная кирпичом. — Кто такой Марвин? — Марвин — главарь Братства Кирпичного завода... Он... И тут страшный удар потряс машину. Девушку швырнуло вперед, она вытянула руки, чтобы не удариться лбом о ветровое стекло. Джентри, выругавшись, оглянулся. К ним стремительно приближался огромный радиатор автобуса. Дав задний ход, автобус теперь разгонялся для нового удара. — Держись! — прокричал Джентри и выжал акселератор до упора. Но автобус оказался шустрее, и прежде чем их «Форд» рванулся вперед, они получили еще один мощный удар сзади. Джентри довел скорость до 55 миль, и они, трясясь и подпрыгивая, понеслись по неровным снежным ухабам. Даже сквозь плотно закрытые окна до них доносился рев дизеля. Автобус мчался за ними по пятам. — О черт! — еще раз выругался Джентри. Дорогу им перегородил разворачивающийся трейлер. Джентри прикинул, не выехать ли на тротуар, но заметил старика, роющегося в урне, и круто свернул влево, на узенькую улочку, скользнув бампером по поребрику. Раздался отвратительный скрежещущий звук, и шериф догадался, что бампер оторвался и теперь волочился следом. По обеим сторонам улочки стояли ряды одноквартирных домов. Вдоль правого тротуара выстроилось кладбище машин без колес, относящихся еще к доисторическим временам. — Он снова нагоняет! — закричала Натали. Джентри взглянул в зеркальце заднего вида как раз в тот момент, когда огромный автобус, въехав на тротуар, снес два запретительных знака парковки вместе с почтовым ящиком и в облаке дизельных выхлопов рванул за ними по узкой улочке. — Я просто не могу поверить в это, — сквозь зубы бросил он. Улица упиралась в заснеженную железнодорожную платформу у подножия холма, дальше, к востоку и западу, тянулись пустые стоянки и складские помещения. Джентри круто свернул влево, услышал, что задний бампер оторвался и надрывно взревел четырехцилиндровый двигатель. — Они могут догнать нас? — выдохнула Натали как раз в тот момент, когда автобус с разгону въехал на насыпь платформы и в повороте откатился. Джентри удалось увидеть водителя в хаки, круто выворачивавшего огромный руль, и темные фигуры пассажиров автобуса, столпившихся позади, в проходе. — Они нас не догонят, пока мы не совершим какую-нибудь глупость, — пояснил он, хотя и сам не очень-то верил в это. Тупик... Хотя дорожного знака нигде не было. — Например, как эта? — тревожно спросила Натали. — Да, — ответил Джентри и затормозил. Он знал, что «Форду» не преодолеть тридцати футов склона, усеянного мусором. Слева виднелись высокие ворота и ограда, которой была обнесена грязная стоянка. Джентри прикинул, не проломиться ли через ворота, но решил, что это мало чем улучшит их положение. Справа тянулся ряд пустых двухэтажных домов с заколоченными окнами. Стены и двери, как во многих негритянских кварталах, были разукрашены граффити и разными непотребными словами, К востоку тянулась узкая аллея. Автобус за их спинами развернулся и снова стал догонять их. Водитель выжал ручку скоростей до упора, и махина взревела, как смертельно раненый зверь. — Бежим! — крикнул Джентри. Он успел взять чемодан Натали, она схватила сумку с камерой, и они со всех ног бросились в аллею. Автобус на полной скорости врезался в левое крыло «Форда». Машина перевернулась вверх тормашками, заднее стекло раскололось, автобус отлетел влево, накренился и въехал правыми колесами на насыпь платформы. Тормозные огни вспыхнули, когда автобус смял ограду и вкатился на замерзшую грязь стоянки. Затем колеса снова заработали, автобус подмял под себя расплющенную ограду, врезался прямо в дверцу «Форда» — и таранил его до тех пор, пока машина не вмялась в поребрик футах в двадцати от той аллеи, где стояли Натали и Джентри, «форд» задел пожарный кран и с оглушительным скрежетом перевернулся. В ночном воздухе остро запахло разлившимся бензином. — Боже мой, — прошептала Натали. Джентри почти автоматически вытащил свой «ругер» и крепко сжал его в правой руке. Затем покачал головой и снова опустил оружие в карман. Автобус дал задний ход и выехал на середину улочки, волоча за собой в дизельных выхлопах обрывки искореженного металла. Джентри схватил Натали и потащил ее дальше в темную аллею. — Кто это? — только и спросила девушка. — Не знаю. — Впервые Джентри не столько умом, сколько нутром сообразил: эти люди способны на то, что уже испытали на себе Сол и Натали. Он вспомнил, как несколько лет назад читал «Экзорсиста», и теперь понял агностический восторг священника, наблюдавшего за дьявольской силой, которая мучила и уродовала тело и мозг того, кем завладела. Священник доказывал, что раз существует дьявол — значит есть и Бог. Но что же следует из этой невероятной цепи событий? Извращенность человеческой природы? Или то, что какие-то парапсихологические способности, свойственные всем, могут быть доведены до такой степени совершенства? — Он останавливается, — сказала Натали. Автобус въехал на насыпь и сделал резкий левый поворот. — Может, уже все, — предположил Джентри и обнял дрожащую девушку. — Что бы там ни было, здесь ему нас не достать. Дверцы автобуса находились с противоположной стороны, но оба услышали, когда зашипел сжатый воздух Выло видно, как в бледном свете салона автобуса силуэты пассажиров расходятся к выходам спереди и сзади Что они должны были думать после этой безумной гонки? Чего добивался этот безумный водитель? Кто владел его сознанием? Джентри различал лишь массивную тень, склонившуюся над рулем. Семеро пассажиров вышли из дверей автобуса. Двигались они неуверенно, как больные полиомиелитом или марионетки в неумелых руках. Один делал шаг вперед — и все замирали, затем движение повторял кто-нибудь другой. Возглавлявший группу пожилой человек опустился на четвереньки и таким манером двинулся по направлению к аллейке, как собака, принюхиваясь к земле. — О Господи, — ахнула Натали. Они бросились бежать вглубь, перепрыгивая через мусорные кучи, обдирая руки и плечи о кирпичные стены. Джентри понял, что продолжает тащить чемодан Натали. Аллея заканчивалась плотной ржавой проволочной сеткой. Позади Джентри услышал тяжелое звериное дыхание. Отпустив руку Натали, шериф с помощью чемодана и собственного веса — как стенобитной машиной — прорвал сетку, и они очутились на какой-то улице, спускавшейся вниз, под темный железнодорожный мост. Дальше она уходила к северу в окружении освещенных одноквартирных домов. Джентри свернул налево и побежал, Натали догнала его еще до того, как они достигли разбитого тротуара. У них за спиной кто-то сражался с проволочным заграждением. Джентри оглянулся и увидел, как через крошащиеся бетонные плиты с видом обезумевшего добермана лезет какой-то человек. Джентри вытащил «ругер» и побежал дальше. Под железнодорожным мостом было темно и скользко. Натали первой добежала до него. Джентри увидел, как взлетели вверх ее ноги, и услышал звук тяжелого удара по мостовой. У него было время притормозить на льду, но он тоже грохнулся на колени. — Натали! — Со мной все в порядке, — отозвалась она. Джентри протянул руку во тьму и помог девушке подняться. — Знаешь, я оставлю здесь твой чемодан, а? — сказал он. Из горла Натали вырвался хриплый смех. — Идем. Вынырнув из-под моста, они побежали по неосвещенной улице, которую припаркованные с обеих сторон машины делали еще уже, чем она была на самом деле. Позади раздался топот бегущих ног, который гулко отдавался под железнодорожным мостом, затем — треск льда и кирпича, кто-то упал, однако ни криков, ни ругательств не последовало. — Туда! — крикнул Джентри и подтолкнул Натали к первому освещенному дому, футах в ста впереди. Когда они добрались до бетонной лесенки в три ступени, Джентри уже едва переводил дух. Пока Натали колотила в дверь и кричала «Помогите!», он стоял спиной к ней, готовясь встретить преследователей огнем из «ругера». В окне на мгновение отдернулась разорванная занавеска, появилось чье-то лицо, но дверь никто не открыл. — Пожалуйста! — кричала Натали. — Натали! — окликнул ее Джентри. Грузная фигура преследователя появилась из-под моста, их разделяло всего футов тридцать. В свете единственного окошка Джентри различил широко раскрытые глаза, отвисшую нижнюю челюсть и струйку слюны, стекавшую по подбородку на воротник. Джентри прицелился и взвел курок. — А, к черту! — бросил он и опустил дуло револьвера, намереваясь дать отпор этому идиоту с отключенным сознанием. Нападавший на полной скорости врезался в плечо Джентри, его подбросило, и он рухнул на спину, ударившись об обледенелую ступеньку. Послышался страшный звук раскалывающегося черепа, Джентри склонился к упавшему, но тот снова вскочил, заливаясь кровью, которая хлынула из-под спутанных седых волос, и, по-звериному клацнув зубами, попытался вцепиться шерифу в горло. Джентри приподнял его за лацканы пиджака и отшвырнул на проезжую часть улицы, уже ни о чем не заботясь. Человек-марионетка перевернулся, вновь издал нечеловеческий рык и — невероятно! — опять вскочил на ноги. Тогда Джентри нанес ему удар рукояткой «ругера», и наконец тот рухнул ничком. Джентри тяжело опустился на нижнюю ступеньку крыльца. Натали продолжала стучать и пинать ногами дверь. — Пожалуйста, впустите! — Я — офицер полиции! — из последних сил заорал шериф. — Откройте же! — Но дверь оставалась все так же запертой. Из-под моста донесся топот уже многих ног. — О Господи, — выдохнул в отчаянии Джентри. — Помнишь, Сол говорил... что оберет мог... контролировать лишь одного человека... за раз?.. А эти... кто же, кто так умело руководит ими? Из мрака появилась фигура высокой женщины. Она бежала босиком, в правой руке держала что-то острое. — Вперед! — крикнул Джентри. Они пробежали тридцать футов, когда из-за поворота послышался рев автобуса. Мощные фары выхватили кирпичные дома по левую сторону улицы. Джентри стал судорожно оглядываться в поисках прохода, пустой стоянки, чего бы то ни было, где можно спрятаться, но до самого железнодорожного моста тянулся лишь сплошной фасад слепленных воедино одноквартирных домов. — Назад! — закричал Джентри. — На платформу, к рельсам! — он повернулся как раз в тот момент, когда та ненормальная, преодолев последние десять футов, с разбегу врезалась в него. Они упали и покатились по мокрой мостовой. Пытаясь ухватить ее за горло и увернуться от лязгающих челюстей. Джентри выронил оружие. Женщина оказалась очень сильной. Изловчившись, она впилась зубами в левую руку шерифа. Сжав кулак, он попытался ударить ее в челюсть, но она успела вовремя наклонить голову, так что удар в основном пришелся по ее черепу. Джентри оттолкнул женщину, прикидывая, как бы вырубить ее, но не наносить при этом существенных увечий. И тут она резко вытянула правую руку, и что-то впилось ему в бок. Ему показалось, что его окатили ледяной водой, он ничего не успел предпринять, когда ножницы вторично, сквозь куртку и пальто проткнули его тело. Женщина занесла руку в третий раз, и Джентри попытался ударить ее наотмашь с такой силой, что наверняка сломал бы ей шею, если бы попал. Но он не попал. Женщина отпрыгнула назад, подняла ножницы на уровень глаз, готовясь к новому броску, и в этот момент Натали обрушила ей на голову всю тяжесть своей фотосумки. Та безвольно повалилась на землю в тот самый миг, когда Джентри смог приподняться на одно колено. Левый бок и рука у него горели. Они оба замерли в луче фар приближавшегося с ревом автобуса. Джентри протянул руку за «ругером», он должен был валяться где-то поблизости. Автобус находился от них футах в пятидесяти и уже ревел, набирая скорость. Натали подняла револьвер. Она отбросила сумку с камерой, широко расставила ноги и, взяв револьвер двумя руками, выстрелила четыре раза, как ее учил Джентри. — Нет! — закричал Джентри, когда первая пуля разбила стекло фары. Вторая врезалась в ветровое стекло слева от шофера. Из-за отдачи следующие две пули попали еще выше. Джентри схватил сумку с камерой и потащил Натали к ступенькам домов. Автобус сворачивал влево по направлению к ним. Его махина проехалась бортом по поребрику, разрезав тьму целым снопом искр, а потом и бездыханное тело женщины с ножницами. Когда автобус въехал на лед и его юзом повело влево на девяносто градусов, Натали и Джентри прижались друг к другу. Металлические борта автобуса с лязгом и скрежетом вгрызлись в деревянные опоры железнодорожного моста. — Давай! — выдохнул Джентри, и они опрометью бросились к платформе. Джентри бежал полусогнувшись, зажимая рукой порезанный бок. Скользя и буксуя, автобус вертелся на месте, двигатель ревел, визжали тормоза, а луч единственной передней фары метался, как безумный, из стороны в сторону, вырываясь из темного тоннеля. Наконец деревянная опора с треском поддалась, и задняя часть автобуса появилась, как раз в тот момент, когда Джентри и Натали достигли платформы и стали карабкаться вверх по замерзшему, усеянному мусором склону. Джентри зацепился за виток ржавой проволоки и тяжело упал. На мгновение он оказался в свете автобусной фары и, оглядев себя, увидел разорванное в клочья пальто, сочившуюся кровь и искалеченную руку. Натали схватила его за другую руку и помогла подняться. — Дай мне «ругер», — хрипло попросил он, оборачиваясь. Автобус пятился задом, намереваясь с разгону въехать на склон. — Оружие! Натали протянула Джентри револьвер в тот момент, когда водитель автобуса переключил коробку передач на первую скорость. Оба трупа, лежавшие на улице, теперь были расплющены тяжелыми колесами. — уходи ! — велел Джентри. Натали на четвереньках стала карабкаться наверх. Он последовал за ней. Преодолев с полпути, они наткнулись на забор. Меняя передачи, с оглушительным ревом, который гулким эхом отдавался от пустых кирпичных домов, автобус набирал скорость, не выпуская из луча своей фары Джентри и Натали. Забора снизу не было видно. Он осел и кое-где представлял собою лишь витки проволочного заграждения. Натали запуталась, пытаясь преодолеть второй ряд искореженного металла. Джентри дернул проволоку на себя, услышал треск рвущейся ткани и подтолкнул девушку вверх. Она сделала четыре шага и снова упала, запутавшись в проволоке. Шериф развернулся, покрепче укрепился на скользком склоне и поднял «ругер». Высота платформы и длина автобуса были почти одинаковы. Тяжелое пальто мешало. Джентри сбросил его и снова поднял «ругер», ощущая, как слабеет рука. Сволочной автобус подпрыгнул на невидимом поребрике и стал выезжать на обледеневший склон. Джентри опустил дуло чуть ниже, чтобы отдача от выстрела не подняла его вверх. Теперь, в отраженном от фар свете, шериф наконец разглядел лицо водителя. За рулем сидела женщина в камуфляже, глаза ее были неестественно расширены. «Они... он... те, кто используют этих идиотов, они... все равно не оставят ее в живых», — трезво размышляя так, Джентри разрядил последние два патрона. Ветровое стекло пошло трещинами и осыпалось мелкой пылью, Джентри развернулся и бросился бежать. Его отделяло от Натали десять футов, когда автобус нагнал его, поддал решеткой радиатора, и он взлетел вверх, как младенец, небрежно подброшенный к потолку. Сильно ударившись, он рухнул на левый бок, ощупью нашел Натали и, перевесившись через ледяной рельс, посмотрел вниз. Автобус въехал на пять футов выше платформы, потерял управление и теперь с безумной скоростью летел назад, вихляя из стороны в сторону, луч фары тоже метался как обезумевший. В конце концов его правое крыло намертво врезалось в мостовую, чуть не поставив весь длинный корпус на попа, затем он повалился набок и замер. Колеса все еще вертелись, как заведенные. — Не шевелись, — прошептала Натали, но Джентри уже поднялся. Он осмотрел себя и чуть не зашелся смехом, когда увидел «ругер», зажатый в своей уже помертвевшей руке. Механическим движением он принялся запихивать его в карман пальто, обнаружил, что ни пальто, ни куртки на нем нет, и засунул пистолет за ремень брюк. — Что мы будем делать? — тихо спросила Натали, поддерживая его. Джентри напрягся, пытаясь думать отчетливо. — Будем ждать полицию, пожарных... «Скорую помощь». — Он понимал, что эти предложения здесь почему-то не годятся, но он слишком устал, чтобы придумывать что-нибудь более оригинальное. В окнах домов один за другим загорались огни, но на улице так никто и не появился. Прошло несколько долгих леденящих минут, но «скорой» так и не было. Джентри стоял, опершись на Натали. Ему было холодно. К тому же снова повалил снег. Снизу вдруг раздался звон — это выбитое боковое стекло автобуса вывалилось на лед. На металлический труп автобуса вскарабкались три темные фигуры, переползавшие по нему, как огромные пауки. Не говоря ни слова, Джентри и Натали повернулись и помчались по железнодорожным путям. Зацепившись за шпалу, Джентри упал и услышал мерный топот ног — их все еще преследовали. И вновь Натали подняла его, и вновь они побежали, хотя сил у шерифа не было. — Туда! — вдруг выдохнула Натали. — Туда, Я знаю, где мы находимся. Джентри повернул голову и увидел трехэтажное здание, зажатое между пустыми стоянками. В нем светилась дюжина окон. Но тут шериф споткнулся и полетел вниз по крутому склону. Что-то острое впилось ему в правую ногу. Едва он поднялся, как услышал грохот — позади промчался пригородный поезд. На крыльце трехэтажного дома с освещенными окнами стояло несколько человек. Они выкрикивали угрозы, Джентри различил у двоих винтовки. Он полез в карман за «ругером», но замерзшие пальцы сжиматься отказывались. Откуда-то издалека звучал настойчивый голос Натали. Джентри решил на пару секунд закрыть глаза, чтобы собраться с силами. Теряя сознание, он почувствовал, как чьи-то сильные руки подхватили его.Глава 13
Джермантаун Понедельник, 29 декабря 1980 г. Весь понедельник Натали то и дело заглядывала к Робу. Его лихорадило, он не отдавал себе отчета в том, где находится, и время от времени бормотал что-то в забытьи. Ночь она провела рядом с ним, тихонько поглаживая его и стараясь не задеть заклеенную пластырем грудную клетку и перебинтованную левую руку. Когда Марвин Гейл увидел, как они с Джентри приближаются к Общинному дому, его это не слишком обрадовало. — Что это за толстяк с тобою, малышка? — окликнул он Натали, стоя на верхней ступеньке. Справа и слева от него стояли Лерой и Кельвин с обрезами в руках. — Это — шериф Роб Джентри, — произнесла Натали и тут же пожалела, что упомянула о его связи с властью. — Он тяжело ранен. — Это я вижу, малышка. А почему бы тебе не отвезти его в больницу для белых? — За нами кто-то гонится, Марвин. Впусти нас. — Натали понимала, что если ей удастся достучаться до юного главаря банды, он выслушает ее. Почти весь конец недели Натали провела в Общинном доме. Она была здесь и в субботу вечером, когда стало известно, что убиты Монк и Лайонел. По просьбе Марвина она отправилась на место происшествия и сфотографировала их расчлененные трупы. После чего, спотыкаясь, отошла за угол, где ее вывернуло наизнанку. Уже позднее Марвин рассказал ей, что у Монка был снимок Мелани" Фуллер, который он показывал безынициативным члена Братства, пытаясь определить, где находится эта подлая старуха. Но на трупе Монка фотографии не оказалось. Когда Натали услышала об этом, она буквально похолодела. Как это было ни странно, но ни полиция, ни средства массовой информации никак не откликнулись на убийства. За исключением Джорджа, перепуганного пятнадцатилетнего подростка, свидетелей не было, а Джордж никому, кроме членов Братства Кирпичного завода, ничего не рассказывал. Банду это вполне устраивало. Искалеченные трупы завернули в полиэтилен и спрятали в холодильнике в подвале у Луиса Тейлора. Монк жил один в доме, предназначавшемся на слом. Лайонел жил с матерью на Брингхерст-стрит, но та большую часть времени пребывала в алкогольном ступоре и не скоро могла вспомнить о сыне. — Сначала мы пришьем сукиного сына, который это сделал, а потом уже сообщим легавым и телевизионщикам, — рассуждал Марвин в ту субботнюю ночь. — Если мы расскажем им сейчас, у нас останется слишком мало пространства для того, чтобы действовать. Все подчинились. Натали провела с ними все воскресенье, снова и снова рассказывая о Способности Мелани Фуллер и выслушивая их стратегические планы. Планы блистали оригинальностью — они хотели только найти Фуллер с ее белым монстром и пришить обоих. И вот теперь, в воскресную ночь, она стояла под тяжелыми хлопьями снега, поддерживая полубессознательную тушу Роба Джентри, и умоляла: — За нами гонятся. Помогите же нам! Марвин сделал жест рукой, и тут же Луис, Лерой и еще какой-то парень, которого Натали не узнала, спрыгнули с крыльца и исчезли во тьме. — Кто за вами гонится, малышка? — Я не знаю. Какие-то люди. — Такие же умалишенные, как тот белый монстр старухи? — Да. — Это она управляет ими? — Возможно. Не знаю. Но Роб ранен. За нами гонятся. Впустите нас. Пожалуйста. Марвин посмотрел на нее своими прекрасными холодными синими глазами, отошел в сторону и пропустил их. Джентри пришлось отнести в подвал и там положить на матрац. Натали требовала, чтобы вызвали врача или «скорую помощь», но Марвин лишь качал головой. — Ага, малышка. У нас уже есть два трупа, о которых мы ничего не сообщаем, пока не найдем ту мадам Вуду. Нам не нужны неприятности из-за твоего раненого дружка. Мы позовем Джексона. Джексон, сводный брат Джорджа, когда-то служил врачом во Вьетнаме и успел закончить даже два с половиной курса медицинской школы. Он появился с синим рюкзаком, забитым бинтами, шприцами и таблетками. — Два ребра сломаны, — тихо сообщил он, осмотрев Джентри. — Имеется также глубокая резаная рана... Еще бы на полдюйма ниже и на полтора глубже — и он бы уже скончался от проникающего ранения. Еще кто-то здорово прокусил ему руку. Возможно сотрясение мозга. 06 остальном без рентгена судить трудно. Посмотрите, пожалуйста, чтобы нам никто не мешал, тогда я смогу заняться им. — И он принялся накладывать швы, промывать и перебинтовывать глубокие порезы и царапины, затем наложил плотную повязку на сломанные ребра и ввел Джентри противостолбнячную сыворотку. Наконец, он сломал какую-то ампулу под носом шерифа и почти мгновенно привел его в чувство. — Сколько пальцев? — Джексон показал три пальца. — Три, — ответил Джентри. — Какого черта, где я? Они побеседовали несколько минут, врач-недоучка удостоверился, что сотрясение мозга не слишком серьезное, после чего сделал Джентри еще один укол и позволил тому спокойно погрузиться в сон. — С ним будет все в порядке. Я загляну к вам завтра. — Почему ты ушел из медицинской школы? — Натали покраснела, стыдясь собственного любопытства. Джексон пожал плечами. — Слишком много фуфла. Решил вернуться сюда. Прошу вас будить его каждые пару часов. В отгороженном занавесками углу, где Марвин разрешил им спать, Натали будила Джентри каждые полтора часа. Последний раз это было в 4:38, и он, очнувшись окончательно, нежно прикоснулся к ее волосам. Около дюжины парней сидели вокруг стола, болтали ногами, водрузившись на стойку, или стояли прислонившись к стенам и шкафам. Джентри проспал до двух часов дня и проснулся голодным как волк. На четыре был назначен военный совет, а шериф все еще ел какую-то китайскую дрянь, которую по его просьбе принес один из членов банды. За исключением Кары, молчаливой подруги Марвина, Натали была единственной женщиной в помещении.* * *
— У нас по соседству какая-то пачка странных придурков, — сообщил Лерой. — Что за придурки? — осведомился Джентри с полным ртом, набитым консервами «My Шу». Лерой бросил взгляд на Марвина. Тот разрешающе кивнул, и тогда Лерой ответил: — Странные белые легавые. Свиньи. Как ты, старик. — В форме? — спросил Джентри. Он расположился у стойки — из-за перевязанной грудной клетки он казался еще толще, чем был на самом деле. — Нет. В обычной одежде. Аккуратненькие сукины дети. Черные брюки, ветровки, ботинки с узкими носами. Просочились повсюду. Ха!.. — Где они? — Повсюду, старик, — ухмыльнулся Марвин. — Пара фургонов без опознавательных знаков с обеих концов Брингхерст-стрит. Уже два дня как между Квин-Лейн и Грин-стрит маячит грузовик с локатором. Двенадцать ублюдков в четырех немаркированных машинах мотаются между церковью и нами. И целые толпы их сгрудились на вторых этажах дома на Квин-Лейн и Джермантаун-стрит. — Сколько же всего? — спросил Джентри. — Думаю, человек сорок. Может, пятьдесят. — Работают командами по восемь часов? — Да. Ублюдки считают, что их никто не замечает, и спокойно сидят себе у прачечной. Все белые. Так и шныряют туда-сюда. А один вообще ничего не делает, только бегает для них за пончиками. — Филадельфийская полиция? Высокий худой парень по имени Кельвин рассмеялся. — Черт, да нет же, старик! Местные свиньи носят банлоновые костюмы, белые носки и ортопедическую обувь... когда выходят на дело. — Кроме того, их слишком много, — добавил Марвин. — Даже если сложить всю полицию нравов, отделы убийств, наркотиков и инспекторов по несовершеннолетним, все равно пятьдесят человек не получится. Или это федеральный отдел по борьбе с наркобизнесом, или еще что-нибудь. — Или ФБР, — добавил Джентри и с отсутствующим видом потер левый висок. Натали заметила, что лицо его чуть заметно исказилось от боли. — Да. — Марвин погрузился в размышления, и на мгновение взгляд его стал рассеянным. — Возможно. Хотя я этого не понимаю. Зачем их так много? Я думал, может, они ловят убийц Зига, Мухаммеда и остальных, но им, похоже, плевать на то, что кто-то замочил нескольких негров. Если только все это не ради той старой суки и ее белого ублюдка. Да, малышка? — Очень может быть, — кивнула Натали. — Только все гораздо сложнее... — То есть? Джентри, стараясь не шевелить верхней частью тела, подошел к столу и положил на его поверхность свою перебинтованную руку. — Есть такие подонки... которые обладают Способностью. Они мысленно приказывают: убей! Человек, обычный, спокойный, становится по их велению маньяком, убийцей. А те, кто ими руководит, садистски радуются. Это их омолаживает, понимаешь? Еще есть мужчина, который, вероятно, прячется где-то здесь, в городе. Способностью обладают и несколько представителей власти. И между ними идет нечто вроде войны, — объяснил Джентри негромко. — Старик, мне нравится, как ты говоришь, — фыркнул Лерой и передразнил неторопливую тихую речь Джентри, подчеркивая южный акцент. — Твой говор тоже ничего, — добродушно проворковал шериф. Лерой полупривстал, и лицо его исказилось от ярости. — Что ты сказал? — Он сказал, чтобы ты заткнулся, Лерой, — спокойно заметил Марвин. — И сделай-ка это побыстрее. — Он снова перевел взгляд на Джентри. — О'кей, мистер шериф, скажи-ка мне вот что... этот мужчина, который прячется здесь, он белый? — Да. — И ублюдки, которые его преследуют, тоже белые? — Да. — И все остальные, кто в этом может быть замешан, тоже белые? — Ага. — И все они такие же низкие твари, как эта Фуллер со своим ублюдком? — Да. Марвин вздохнул. — Интересно получается. — Он сунул руку в оторванный карман своей рабочей куртки, достал оттуда «ругер» Джентри и со стуком положил его на стол. — Здоровый кусок железа ты таскаешь с собой, мистер шериф. Никогда не собирался зарядить его? — Запасные патроны у меня в чемодане, — не прикасаясь к пистолету, ответил Джентри. — А где твой чемодан, старик? Если он был в расплющенном «Форде», то его сперли. — Марвин ходил за моей сумкой, — пояснила Натали. — Она исчезла. Вместе с останками твоей взятой напрокат машины. И с автобусом. — Автобусом? — Брови у Джентри поползли вверх, так что все лицо его покрылось морщинами. — Автобус исчез? Через сколько времени после нашего появления вы ходили туда? — Через шесть часов, — ответил Лерой. — Так что придется нам поверить на слово малышке, что за вами гнался большой нехороший автобус, — проронил Марвин. — Она говорит, что вы стреляли в него и попали. Может, он уполз умирать в кусты, мистер шериф? — Шесть часов, — повторил Джентри и прислонился к холодильнику. — Что-нибудь есть в новостях? Об этом уже должно быть известно всем. — Ничего, — ответила Натали. — Телевидение безмолвствует. В «Филадельфийском обозревателе» нет даже крохотной заметки. — О Господи, — произнес Джентри. — Какие же у них должны быть связи, чтобы все так быстро убрать и замять! Ведь по меньшей мере четверо были убиты. — А уж до чего, наверно, разозлилась фирма, которой принадлежал автобус, а? — заметил Кельвин. — Советую тебе, старик, не пользоваться здесь муниципальным транспортом. А то глядишь, какой-нибудь автобус отомстит тебе за убийство своего собрата, — и Кельвин так расхохотался, что чуть не упал со стула. — Так где же твой чемодан? — повторил Марвин. Джентри передернул плечами, выходя из задумчивости. — Яоставил его в гостинице «Челтен». Но я заплатил всего за одну ночь. Так что, возможно, его уже забрали. Марвин развернулся в своем кресле. — Тейлор, ты работаешь в этой старой развалине. Можешь пробраться в их камеру хранения, а? — Конечно. — Худое лицо восемнадцатилетнего Тейлора покрывали темные шрамы, оставшиеся после прыщей и фурункулов. — Это опасно, — предупредил Джентри. — Чемодана может уже и не оказаться там, а если он еще там, за парнем будут следить. — Какие-нибудь накачанные свиньи? — осведомился Марвин. — В том числе и они. — Тейлор, — произнес Марвин. Это был приказ. Парень осклабился, спрыгнул со стойки и исчез. — Нам надо еще кое-что обсудить, — заметил Марвин. — Бледнолицые могут отдыхать. Натали и Джентри стояли на заднем крыльце Общинного дома и смотрели, как растворяются последние остатки тусклого зимнего дня. Перед домом тянулся длинный пустырь, усеянный грудами разбитых, покрытых снегом кирпичей, который упирался в два заброшенных здания. Свет керосиновых ламп в нескольких окнах указывал на то, что там еще кто-то живет. Было очень холодно. В свете единственного уцелевшего фонаря плясали снежинки. — Значит, мы остаемся здесь? — спросила Натали. Джентри посмотрел на нее. Из-под армейского одеяла, которое он набросил на себя вместо куртки, торчала лишь его голова. — На сегодня, пожалуй, лучшего ничего не придумаешь, — промолвил он. — Может, мы и не среди друзей, но по крайней мере у нас общий враг. — Марвин Гейл умен и хитер, — заметила Натали. — Как лиса, — добавил Джентри. — Почему ты считаешь, что он зря теряет время с бандой? Шериф прищурился, вглядываясь в грязные сумерки. — Когда я учился в Чикаго, я выполнял там кое-какую работенку для нескольких городских банд. В основном их главари были вполне толковыми ребятами, только один психопат попался. Помести альфа-личность г, замкнутую систему, и она достигнет в ней высших ступеней власти. Здесь местная банда представляет собой именно такое явление. — Что такое альфа-личность? Джентри рассмеялся было, но тут же умолк. Ему было больно смеяться. — Студенты, изучающие поведение животных, следят за порядком получения пищи в группе, особью, занимающей господствующее положение, и называют главного барана, воробья, волка или еще кого-нибудь там альфа-самцом. Мне бы не хотелось выглядеть сексистом, поэтому я рассматриваю это как личностную особенность. Иногда мне кажется, что дискриминация и другие глупые социальные барьеры приводят к возникновению неожиданно большого количества альфа-личностей. Возможно, этот процесс является чем-то вроде естественного отбора, с помощью которого разные этнические и культурные группы отвоевывают себе справедливые места в несправедливом обществе. Натали прикоснулась к его руке сквозь одеяло. — Знаешь, Роб, для старого доброго шерифа в твоей голове бродят слишком оригинальные мысли. — Не такие уж оригинальные. — Джентри ласково посмотрел на нее. — Сол Ласки уже высказывал подобные предположения в своей книге «Патология насилия». В ней говорится о том, как попранные, униженные люди, менее всего подходящие для этого общества, вдруг порождают невероятных борцов, когда от этого зависит выживание культуры и нации... что-то вроде супер-альфа-личностей. В несколько извращенном, болезненном виде в эту модель вписывается даже Гитлер. Снежинки падали на ресницы Натали. Она смахнула их. — Ты думаешь, Сол еще жив? — По идее — вроде бы не должен. — Джентри уже рассказал Натали, как провел последние несколько дней, перед тем как он отыскал девушку в Джермантауне. Теперь он еще плотнее обмотал вокруг себя одеяло и положил перевязанную руку на выщербленные перила крыльца. — И все же, — продолжал он, — почему-то я думаю, что он жив. — Он находится в чьих-то руках? — Да. Иначе он не исчез бы так бесследно. Он бы смог предупредить нас каким-нибудь образом. — Каким? — спросила Натали. — И ты, и я оставляли свои послания на автоответчике, но их кто-то стирал. Если мы не могли связаться друг с другом, как бы это удалось Солу? Особенно если за ним следят? — Серьезный довод, — согласился Джентри. Натали вздрогнула. Он подвинулся ближе и прикрыл ее полой своего одеяла. — Вспоминаешь вчерашний вечер? — спросил он. Натали кивнула. Всякий раз, как она начинала обретать хоть какую-нибудь уверенность, она снова переживала то ощущение, когда сознание Энтони Хэрода захватило ее мозг, и все тело ее охватывало дрожью, как при воспоминании о каком-то зверском насилии. Впрочем, это ведь и было зверским насилием. — Все позади, — промолвил Джентри. — Больше они не доберутся до тебя. — Но они все еще там, — прошептала Натали. — Да. И это еще одна причина, по которой нам следует попытаться выбраться из Филадельфии сегодня... — Ты продолжаешь считать, что не Хэрод послал за нами автобус? — Не представляю, как он мог это сделать, — ответил Джентри. — Он был действительно без сознания, когда мы уходили. Если ему и удалось прийти в себя минут через десять, заниматься умственной гимнастикой он был явно не способен. Кроме того, разве у тебя не сложилось впечатление, что он мог использовать свои способности только с женщинами? — Да, но мне просто так показалось, когда он... когда он... — Доверься своему чувству, — посоветовал Джентри. — Кто бы на нас ни натравил вчера этих ребят, среди наших преследователей явно были лица мужского пола. — Но если это не Энтони Хэрод, тогда кто? Уже совсем стемнело. Откуда-то издалека послышался вой сирены. Разбитые фонари, тускло освещенные окна, снег, мрачные, нависшие над пустырем тучи — все это казалось нереальным Натали, словно свету не было места в каньонах грязных кирпичей, ржавого металла и мрака. — Не знаю, — вздохнул Джентри. — Зато я знаю, что наша задача сейчас — нырнуть, затаиться и выжить. Единственная здравая мысль, которую я вынес из размышлений о вчерашних событиях, заключается в том, что кто бы нас ни преследовал, он хотел загнать нас сюда и вовсе не стремился убить... по крайней мере тебя. Натали открыла рот от изумления. — С чего ты взял? Ты посмотри, что они натворили! Автобус... эти люди... посмотри, что они сделали с тобой! — Да, — согласился Джентри, — но подумай, насколько проще они могли бы справиться с нами. — Как?.. — но еще не договорив своего вопроса, до Натали дошло, что собирался сказать Джентри. — Если они видели нас, когда преследовали, значит, они были в состоянии физически нас контролировать, понимаешь? Все это время при мне был пистолет. Они могли заставить меня выстрелить из него в тебя, а потом в себя. Натали вздрогнула под одеялом, и Джентри обнял ее правой рукой. — Значит, ты думаешь, что они не пытались уничтожить нас взаправду? — спросила она. — Это один из вариантов, — сказал Джентри и замолчал. Натали почувствовала, что он не хочет доводить свою мысль до конца. — А другой? — настоятельно спросила она. — Другой вариант вполне согласуется с обстоятельствами: они были уверены в том, что нам некуда деться, и просто решили поразвлечься. Немного поиграть с нами. Дверь за их спинами с шумом распахнулась, и Натали даже подпрыгнула от неожиданности. Это был Лерой. — Эй, вы! Марвин велел вас позвать. Тейлор вернулся и принес твой чемодан, старик. Луис тоже вернулся с хорошими вестями. Они с Джорджем выследили, где живет эта старая сука, дождались, когда она заснет, и взяли ее. И ее белого ублюдка. Сердце у Натали забилось как сумасшедшее, казалось, оно вот-вот вырвется из ее грудной клетки. — Что значит «взяли ее» ? — прошептала она. Лерой осклабился. — Пришили. Луис перерезал старухе горло, пока она спала. А Джордж с Сетчем зарезали ублюдка ножами. Проткнули его насквозь не то десять, не то двенадцать раз. Искромсали на мелкие кусочки. Больше эта сука не будет охотиться на братьев Кирпичного двора. Натали и Джентри обменялись взглядами и последовали за Лероем в дом, из которого доносились звуки празднества. Луис Соларц был плотный светлокожий парень с выразительными глазами. Он восседал во главе кухонного стола, а Кара и еще одна молодая женщина промывали и забинтовывали ему рану на горле. Его желтая рубашка была вся забрызгана кровью. — А что с твоим горлом, старик? — осведомился Марвин. Главарь банды только что спустился. — Ты вроде сказал, что вы перерезали горло старухе. Луис возбужденно кивнул, попытался заговорить, издал хриплое карканье и перешел на шепот: — Ага. Сказал. Белый ублюдок полоснул меня, когда мы разделывались с ним. — Кара шлепнула Луиса по рукам, чтобы он не тянулся к порезу, и поправила повязку. Марвин облокотился на стол. — Что-то я не понимаю, старик. Ты говоришь, вы пришили Фуллер, пока она спала, но этот сукин сын все же успел порезать тебя. И где, черт побери, Джордж и Сетч? — Они все еще там. — С ними все о'кей? — Да, все о'кей. Джордж хотел отрезать голову белому ублюдку, но Сетч велел ему подождать. — Чего? — осведомился Марвин. — Тебя подождать. Натали и Джентри подошли ближе. Натали вопросительно посмотрела на Роба. Тот пожал плечами, все еще не скидывая одеяла. Марвин сложил на груди руки и вздохнул. — Расскажи все сначала, Луис. Все с самого начала. Луис прикоснулся к своему перебинтованному горлу. — Больно. — Рассказывай! — рявкнул Марвин. — Хорошо, хорошо. Мы с Джорджем и Сетчем разговаривали с местным народом, как ты велел, но никто ничего не видел, и мы решили, что с нас довольно, понимаешь? Мы стояли на Джермантаун-стрит, а она вдруг выходит из магазина на улице Вистер. — Магазин Сэма Дели? — переспросил Кельвин. — Вот именно, — ухмыльнулся Луис. — Мадам Буду собственной персоной. — Вы узнали ее по моей фотографии? — спросила Натали. Все обернулись к ней, а Луис бросил на нее странный взгляд. Натали подумала, что, вероятно, женщины должны молчать на военных советах. Но она откашлялась и снова спросила: — Вам помогла моя фотография? — Да, она тоже, — хрипло прошептал Луис. — Но с ней к тому же был белый ублюдок. — Ты уверен, что это был он? — вырвалось у Лероя. — Да, уверен, — откликнулся Луис. — И Джордж его уже видел раньше. Тощий такой. Длинные грязные патлы. Дикие глаза. Много таких хиппарей разгуливает со старухами, чтобы можно было ошибиться? Все двадцать пять присутствующих разразились хохотом. Натали подумала, что это — разрядка после нервного напряжения. — Продолжай, — сказал Марвин. — Мы двинули за ними, пока они не вошли в старый дом. Сетч говорит: «валяйте», а я говорю: «нет, давайте сначала оглядимся». Джордж залез на дерево сбоку и увидел, что мадам Вуду спит. Тогда я говорю: «ну, валяйте». Сетч говорит «о'кей», открывает замок, и мы входим. — Где находится тот дом? — спросил Марвин. — Я покажу тебе, старик. — Нет, ты расскажи мне! — рявкнул Марвин и сгреб Луиса за воротник. Тот заскулил и схватился за горло. — На Квин-Лейн, старик. Недалеко от Джермантаун-стрит. Я покажу тебе, старик. Сетч и Джордж ждут там. — Рассказывай дальше, — приказал Марвин. — Мы тихо вошли, — продолжил Луис. — Понимаешь, было всего четыре часа. Но старуха спала наверху в комнате, битком набитой куклами... — Куклами? — Да, знаешь, что-то вроде детской. Только она не совсем спала, а вроде как была под наркотой, понимаешь? — В трансе, — подсказала Натали. — Да. Вроде того... — Луис снова бросил на нее быстрый взгляд. — Что было дальше? — спросил Джентри. Луис одарил всех широкой улыбкой. — Дальше я перерезал ей горло. — Она точно мертва? — спросил Лерой. Улыбка расплылась еще шире. — О да. Она мертва. — А белый ублюдок? — допытывался Марвин. — Мы с Сетчем и Джорджем нашли его на кухне. Он натачивал это свое кривое лезвие. — Косу? — уточнила Натали. — Да, — кивнул Луис. — Нож у него тоже был. Им он и полоснул меня, когда мы захотели его отнять. А потом Сетч и Джордж прикончили его. Хорошо его отделали. Распороли ему глотку, старик. — Он мертв? — Ага. — Ты уверен? — Чертовски уверен. Ты считаешь, мы не умеем отличать мертвого от живого? Марвин уставился на Луиса. В синих глазах главаря замерцал какой-то странный отсвет. — Луис, этот белый ублюдок убил пятерых наших добрых братьев. Он справился с Мухаммедом, в котором было шесть футов два дюйма росту. Как же тебе, Сетчу и малышу Джорджу удалось так просто справиться с ним? Луис пожал плечами. — Не знаю, старик. Когда мадам Вуду отбросила копыта, белый ублюдок оказался не таким уж чудовищем. Обычный тощий парень. Он даже плакал, когда Сетч резал ему горло. Марвин покачал головой. — Что-то не верится... уж слишком все просто. А что свиньи? Луис молчал. — Послушай, старик, — наконец изрек он. — Сетч сказал, чтоб я сразу привел тебя. Ты хочешь посмотреть на них или нет? — Да! — рявкнул Марвин. — Да, хочу! — Ты не пойдешь туда, — сказал Джентри. — Что значит — не пойду? — возмутилась Натали. — Марвин хочет, чтобы их сфотографировали. — Мне наплевать, чего там хочет Марвин! Ты останешься здесь. Они стояли в занавешенном алькове на втором этаже. Все члены банды уже собрались внизу. Джентри поднял наверх свой чемодан и теперь переодевался в вельветовые брюки и свитер. Натали заметила, что бинты на его груди пропитаны кровью. — Ты же ранен, — сказала она. — Тебе тоже не следует ходить. — Я должен убедиться в том, что Фуллер мертва. — Но я... я тоже хочу убедиться... Она... она убила моего отца... — Нет. — Джентри натянул на свитер пуховик и повернулся к ней. — Натали... — он поднял свою огромную ладонь и нежно прикоснулся к ее щеке. — Пожалуйста... Ты мне так... нужна. Натали осторожно прильнула к нему, стараясь не касаться раненого бока, и запрокинула голову для поцелуя. — Ты тоже очень нужен мне, Роб, — прошептала она, уткнувшись ему в пуховик. — Ладно. Я вернусь, как только мы взглянем на то, что там творится. — А фотографии? — Я возьму твой «Никон», не возражаешь? — Да, но все-таки нехорошо, что я... — Послушай, этот Марвин не дурак, — заметил Джентри, понизив голос до густого баса. — Он не склонен рисковать. — Тогда и ты не рискуй. — Нет, мэм. Мне придется это сделать. — Он притянул ее к себе и так надолго и страстно прильнул к ее губам, что она, позабыв о его сломанных ребрах, крепко обняла его и прижалась к нему всем телом. Из окна второго этажа Натали наблюдала за тем, как процессия тронулась в путь. Вместе с Луисом отправились Марвин, Лерой, высокий парень по имени Кельвин, старый член банды с угрюмым лицом по прозвищу форель, двое близняшек, с которыми Натали не была знакома, и Джексон — экс-медик, появившийся в последний момент. Все были вооружены, за исключением Луиса, Джентри и Джексона. Кельвин и Лерой прятали обрезы под свободными куртками, Форель нес длинноствольный пистолет 22-го калибра, близнецы имели при себе маленькие, дешевые на вид пистолеты, которые Джентри назвал «на-случай-неожиданности-в-субботний-вечер». Джентри попросил Марвина вернуть ему «ругер», на что тот лишь рассмеялся и, зарядив револьвер, запихнул его в карман собственной армейской куртки. Отойдя от дома, Джентри повернулся и помахал Натали «Никоном». Натали устроилась в углу на матраце и вся сжалась, пытаясь справиться с подступающими слезами. Она обдумывала всевозможные повороты и варианты событий. «Если Мелани Фуллер мертва, они смогут уехать. Смогут ли? А как же представители власти, о которых говорил Роб? И оберет? И Энтони Хэрод?» Натали ощутила во рту привкус желчи, едва подумала об этом сукином сыне с глазами рептилии. К горлу снова подкатила тошнота при воспоминании о его паническом страхе перед женщинами и его ненависти к ним, которые она ощутила за те несколько минут, пока находилась в его власти. Как бы ей хотелось растоптать его омерзительное лицо! Шум в коридоре заставил ее вскочить. В тусклом свете лестничной площадки возникла чья-то фигура. Ответственным за дом оставили Тейлора, несколько членов банды отправились оповестить остальных, снизу слышался смех, но на втором этаже Натали была одна, фигура неуверенно двинулась к свету, и она увидела белую руку и бледное лицо. Натали поспешно огляделась. Наверху не осталось никакого оружия. Она подбежала к бильярдному столу, ярко освещенному единственной свисавшей с потолка лампой, и схватила кий, слегка балансируя им и пытаясь отыскать в нем его центр тяжести. — Кто там? — спросила она, сжимая кий обеими руками. — Всего лишь я, — откликнулся преподобный Билл Вудз, якобы управлявший Общинным домом, и вошел в полосу света. — Простите, что напугал вас. Натали чуть расслабилась, но кий не положила. — Я думала, что вы ушли. Хрупкий Вудз облокотился на стол и принялся катать белый бильярдный шарик. — О, я весь день хожу то туда, то обратно. Вы не знаете, куда отправились Марвин с ребятами? — Нет. Священник покачал головой и поправил очки с толстыми стеклами. — Ужасно, как они страдают от дискриминации и эксплуатации. Вы слышали, что уровень безработицы здесь среди черных подростков превышает 90 процентов ? — Нет. — Натали обошла стол, чтобы держаться подальше от этого худого навязчивого человека, но кроме жгучего желания общаться он вроде ничего не излучал. — Да-да, — настойчиво закивал Вудз. — Магазин и лавки в Джермантауне принадлежат исключительно белым. В основном евреям. Многие из них уже не живут здесь, но продолжают контролировать остатки своего бизнеса. В общем, ничего не меняется. — Что вы имеете в виду? — спросила Натали. «Интересно, добрался ли Роб с остальными до места, — подумала она. — Если убитая не Мелани Фуллер, что он будет делать?» — Я имею в виду евреев, — пояснил Вудз. Он вдруг вспрыгнул на край бильярдного стола и одернул вниз брючину, после чего прикоснулся к узенькой черной полоске усов, походивших на нервную гусеницу. — Эксплуатация евреями непривилегированных классов в американских городах имеет долгую историю. Вы негритянка, мисс Престон. Вы должны понимать это особенно хорошо. — Я не понимаю, о чем вы говорите, — промолвила Натали, и в тот же миг дом содрогнулся от раздавшегося снизу взрыва. — Боже милостивый! — воскликнул Вудз, а Натали бросилась к одному из окон, узнать, что происходит. У поребрика жарко пылали два брошенных автомобиля. Языки пламени взлетали футов на тридцать в высоту, освещая пустые стоянки, брошенные дома на противоположной стороне улицы и железнодорожную платформу на севере. С дюжину членов банды высыпали на тротуар, крича и потрясая обрезами и другим оружием. — Вернусь-ка я лучше в Молодежный центр и вызову пожарных, — заметил Вудз. — Здесь телефон не работает... Натали обернулась, недоумевая, почему умолк священник. Широко раскрыв глаза, Вудз смотрел на лестничную площадку. Там стоял какой-то парень, он был худой, мертвенно-бледный, в разодранной и выпачканной кровью армейской куртке. Длинные спутанные волосы свисали на глаза, посаженные так глубоко, что, казалось, они выступают из пустых глазниц черепа. В его широко распяленном рту Натали заметила обрубок языка, который двигался в темном провале мерзкой розовой изуродованной тварью. В руках парень держал косу, ручка ее была выше его на целую голову, и когда он сделал шаг вперед, по ободранной оштукатуренной стене взметнулась его громадная тень. — Вам здесь не место, — начал преподобный Билл Вудз. И тут коса со свистом описала дугу. Голова Вудза оказалась срезанной и повисла на ошметках шеи. Священник рухнул на бильярдный стол, кровь брызнула на зеленое сукно, стекая в ближайший кармашек. Безмолвная длинноволосая фигура с косой — настоящая смерть — повернулась к Натали. Натали попыталась кием раскрыть окно. Но все окна были забраны металлической решеткой. Она изо всех сил закричала, и истерические нотки, прозвучавшие в ее голосе, удивили ее саму и заставили мыслить здраво. Треск пламени и шум на улице заглушили ее вопль. Те, кто метались перед домом, даже не подняли головы. Натали перевернула кий заостренным концом к себе и кинулась к столу. Тварь с косой метнулась вправо, Натали тоже подалась вправо, поглядывая на лестничную площадку и следя за тем, чтобы между ними оставался стол. Она поняла, что ни при каких обстоятельствах ей не удастся пробраться к лестнице. Ноги у нее подкосились, и она почувствовала, что вот-вот упадет. Натали завизжала еще раз, призывая на помощь, и отшвырнула тяжелый кий. Длинноволосое чудище снова метнулось вправо. Натали тоже сдвинулась в сторону, чуть приблизившись к площадке. Тварь подняла косу, разбив стеклянный колпак лампы, и принялась размахивать ею. Звук стекающих капель, словно из неплотно закрытого крана, привлек ее внимание: из горла того, кто недавно был священником, вытекала кровь. Пока Натали смотрела, поток начал иссякать. Свет качающейся лампы отбрасывал на стены немыслимые тени, изменяя цвет крови и зеленого сукна от красного к зеленому, от черного к серому... В это время смерть с косой подпрыгнула, словно намереваясь перелететь через стол, и Натали закричала что было сил. Пригнувшись, в прыжке она увернулась от острия косы и, схватив подвернувшийся кий, вогнала его, как кол, в грудь вампира в тот самый момент, когда он сверху обрушился на нее. Основание кия уперлось в пол, и чудище как бы повисло над стоявшей на коленях Натали. Парень с грохотом рухнул на спину и тут же попытался косой срезать ее ноги, но лезвие лишь скользнуло по доскам пола. Натали снова пружинисто подпрыгнула и бросилась на лестницу, однако тень в армейской куртке позади нее уже поднималась на ноги. Она швырнула в него другим кием, по звуку поняла, что попала, и, не оглядываясь, понеслась вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. За ней грохотали тяжелые шаги. Вылетев в коридор, она столкнулась с Карой у дверей кухни, но не остановилась. — Эй, ты куда? — окликнула ее Кара. — Беги! Древко косы взметнулось в дверном проеме кухни и врезалось Каре точно между глаз. Прекрасная девушка упала без единого звука, ударившись головой об основание плиты. Натали выбежала черным ходом, перемахнула через перила крыльца, упала на замерзшую землю, перекувырнулась и успела вскочить, прежде чем дверь распахнулась снова. Она мчалась, рассекая холодный ночной воздух, по покрытому рухлядью пустырю за Общинным домом, ныряла в кромешно черные проходы, пересекала улицы. Шаги за ее спиной становились все тяжелее и громче. Она слышала позади свистящее дыхание, звон косы о лед, но все бежала и бежала, опустив голову, не разбирая дороги...Глава 14
Джермантаун Воскресенье, 28 декабря 1980 г. Тони Хэрод лишь частично понимал, о чем говорили Колбен и Кеплер, когда в воскресенье вечером они везли его обратно в мотель «Каштановые Холмы». Он сидел, откинувшись на заднем сиденье машины, прижимая к голове пакет со льдом. Сознание его то фокусировалось, то снова расплывалось вместе с приливами боли, которая пульсировала и перетекала из головы в шею. Он плохо понимал, откуда взялся Джозеф Кеплер и что он здесь делал. — Чертовски глупо, если вас интересует мое мнение, — сказал Кеплер. — Да, — откликнулся Колбен, — только не рассказывайте мне, что вам это не понравилось. Вы видели выражения лиц пассажиров, когда водитель начал выжимать газ? — Колбен разразился каким-то детским смехом. — Теперь вам придется объясняться за три трупа, пятерых искалеченных и разбитый автобус. — Этим занимается Хейнс, — ответил Колбен. — Волноваться не о чем. Мы прикрыты со всех сторон. — Не думаю, что Баренту это понравится, когда он узнает. — Пошел этот Барент... Хэрод застонал и открыл глаза. Кругом было темно, на улицах — ни души. Каждый раз, когда машина подпрыгивала на выщербленной мостовой или на троллейбусных колеях, его пронзала острая боль в затылке. Он попробовал что-нибудь произнести, но собственный язык показался ему слишком толстым и неповоротливым, чтобы им можно было шевелить. Он снова закрыл глаза. — ..важно удерживать их в безопасной зоне, — говорил Колбен. — А если бы нас здесь не было в качестве запасного варианта? — Но мы ведь здесь. Неужели вы думаете, я положусь в чем-нибудь основательном на этого идиота на заднем сиденье? Хэрод сидел с закрытыми глазами и гадал, о ком они говорят. — Вы уверены, что тех двоих использует старик? — снова раздался голос Кеплера. — Вилли Борден? — переспросил Колбен. — Нет, зато мы не сомневаемся в том, что его орудием является еврей. И мы знаем наверняка, что те двое были связаны с евреем. Барент считает: он замышляет нечто большее, чем урок, преподанный Траску. — А зачем Бордену понадобился Траск? — Старичок Ниман послал своих слесарей в Германию, чтобы покончить с Борденом, — со смешком ответил Колбен. — Посланцы завершили свои дни в полиэтиленовых мешках, а что случилось с Траском, вы знаете. — Но зачем Борден явился сюда? Чтобы разделаться со старухой? — Кто его знает. Эти старые пердуны непредсказуемы, как тараканы. — Вам известно, где он находится? — Неужели вы думаете, мы стали бы тут ковыряться, если бы нам было это известно? Барент считаeт, что эта шлюха Фуллер — наша лучшая приманка, но мне уже осточертела эта выжидательная позиция. Приходится прикладывать недюжинные усилия, чтобы не подпускать ко всему этому местных легавых и представителей власти. — Особенно когда вы используете муниципальные автобусы таким оригинальным образом, — съехидничал Кеплер. — И не говорите, — откликнулся Колбен, и оба рассмеялись.* * *
Мария Чен застыла в изумлении, когда Колбен и еще один неизвестный ей мужчина втащили в гостиную номера Тони Хэрода. — Твой шеф откусил сегодня слишком большой кусок и не смог его проглотить, — заметил Колбен, отпуская руку Хэрода и позволяя тому рухнуть на диван. Хэрод попытался подняться, но голова так закружилась, что он снова повалился на подушки. — Что случилось? — спросила Мария Чен. — Некий ревнивый мальчик малыша Тони застукал в спальне у дамы, — рассмеялся Колбен. — Врач в штабе операции уже осмотрел его, — сообщил второй, который немного походил на Чарлтона Хестона. — Он считает, что возможно небольшое сотрясение мозга, но не более. — Ну, нам пора, — промолвил Колбен. — После того как твой мистер Хэрод просрал свою часть операции, все в этом поганом городе того и гляди взлетит на воздух. Проследи, чтобы в десять утра он был в главном трейлере. — Колбен погрозил девушке указательным пальцем. — Поняла? Мария Чен промолчала, ни единая жилка не дрогнула на ее лице. Колбен удовлетворенно крякнул, и оба вышли из номера. Хэрод помнил лишь отдельные фрагменты того вечера: свою безудержную рвоту в маленькой кафельной ванной, нежные руки Марии Чен, снимающей с него одежду, прохладное прикосновение простыней к коже. Всю ночь кто-то менял у него на лбу холодные полотенца. Раз проснувшись, он обнаружил рядом в постели Марию Чен — белый лифчик и трусики подчеркивали смуглость ее кожи. Он протянул к ней руку, снова ощутил головокружение и закрыл глаза. Хэрод проснулся в семь утра в состоянии самого страшного похмелья, которое когда-либо переживал. Он ощупал постель и, не найдя Марии Чен, со стоном сел. Хэрод постарался припомнить, в каком из порномотелей находится, пока у него в голове не всплыло все происшедшее. — О Господи, — снова застонал он. Ему потребовалось около часу, чтобы принять душ и побриться. Он ни на минуту не сомневался, что от любого резкого движения его голова скатится с плеч, и его совершенно не прельщало ползать в темноте на четвереньках и пытаться потом отыскать ее. Мария Чен вошла в тот момент, когда Хэрод, шаркая ногами, направился в своем оранжевом халате в гостиную. — Доброе утро, — промолвила она. — К черту! — Сегодня прекрасное утро. — Имел я его! — Я принесла завтрак из кофейни. Почему бы нам не съесть что-нибудь? — Почему бы тебе не заткнуться? Мария Чен улыбнулась, порылась в сумочке и достала оттуда «браунинг». — Тони, послушай. Я снова предлагаю тебе позавтракать вместе. Если я услышу от тебя еще одну непристойность или увижу какой-либо намек на мрачную угрюмость, я разряжу всю обойму в этот холодильник. Не думаю, что произведенный грохот будет полезен шаткому состоянию твоего здоровья. — Ты не посмеешь! — Хэрод выпучил глаза. Мария Чен сняла предохранитель, прицелилась в холодильник и отвернулась, полуприкрыв глаза. — Стой! — воскликнул Хэрод. — Так ты будешь завтракать со мной? Хэрод принялся растирать виски обеими руками. — Сочту за счастье, — наконец процедил он. Мария купила четыре чашки с герметичными крышками, и когда они покончили с яичницей и ветчиной, каждый из них смог выпить по две порции кофе. — Я бы заплатил десять тысяч долларов, чтобы узнать, кто меня так отделал, — произнес Хэрод. Мария Чен протянула ему чековую книжку и ручку, которой он пользовался для подписания контрактов. — Его зовут Бобби Джо Джентри. Шериф графства Чарлстон. Барент считает, что он приехал сюда за девушкой, которая ищет Мелани Фуллер, и все они каким-то образом связаны с Вилли. Хэрод поставил чашку и рукавом халата промокнул пролитый кофе. — Черт побери, откуда ты это знаешь? — Мне сказал Джозеф. — А что за жопа этот Джозеф? — Ай-ай-ай. — Мария Чен покачала головой и указала пальцем на холодильник. — Кто такой Джозеф? — Дзожеф Кеплер. — Кеплер? Я думал, мне приснилось, что он здесь. Какого черта ему тут нужно? — Вчера его послал сюда мистер Барент, — пояснила Мария Чен. — Они с мистером Колбеном были вчера у гостиницы, когда люди Хейнса сообщили по радио, что шериф с девушкой уходят. Мистер Барент не хотел, чтобы они улизнули. А первым начал использовать автобус мистер Колбен. — Начал использовать... что? Мария Чен пояснила. — Чтоб я сдох, — выругался Хэрод, закрыл глаза и принялся неторопливо массировать череп. — Этот сраный легавый поставил мне такую шишку! Чем он меня ударил? — Кулаком. — Без дураков? — Без дураков, — подтвердила Мария Чен. Хэрод открыл глаза. — И ты узнала все это от этого бабника и пердуна Кеплера? Ты что, переспала с ним? — Нет, мы с Джозефом вместе разминались сегодня утром. — Он тоже остановился здесь? — Номер 1010. Рядом с Хейнсом и мистером Колбеном, Хэрод встал, восстановил равновесие и направился в ванную. — Мистер Колбен просил, чтобы ты к десяти был у командного трейлера. Хэрод поднял револьвер, улыбнулся и процедил: — Пусть воткнет это себе в задницу.* * *
Телефонные звонки начались в 10:13. В 10:15 Тони Хэрод не выдержал, сел и взял телефонную трубку. — Да? — А ну-ка, Хэрод, быстро пили сюда. — Это ты, Чак? — Да. — Пошел ты куда подальше, Чак. Вечером телефон зазвонил во второй раз, и Мария Чен сняла трубку. Хэрод только что закончил одеваться к обеду. — Думаю, тебе лучше ответить, Тони, — сказала она. Хэрод схватил трубку. — Да, в чем дело? — Полагаю, тебе было бы интересно посмотреть на это, — медленно процедил Кеплер. — На что? — Шериф, с которым ты вальсировал вчера, вышел из укрытия. — Где? — Подъезжай к командному трейлеру, мы тебе покажем его. — А вы можете прислать машину? — Один из агентов у мотеля подвезет тебя. — Ладно, — бросил Хэрод. — Смотрите, не дайте этому болвану улизнуть. Мне надо с ним расквитаться. — Тогда лучше поторапливайся, — ответил Кеплер. К тому времени, когда Хэрод вошел в тесный центр управления, уже совсем стемнело, снег валил вовсю. Кеплер оторвался от одного из видеоэкранов и поднял голову. — Добрый вечер, Тони. Добрый вечер, мисс Чен. — Где этот чокнутый легавый? — гаркнул Хэрод. Кеплер указал на монитор, на котором были изображены дом Энн Бишоп и пустая улица. — Минут двадцать назад они прошли пост наблюдения Синей бригады и двинулись дальше по Квин-Лейн. — И где он сейчас? — Не знаем. Людям Колбена не удалось проследить. — Не удалось проследить?! — заорал Хэрод. — Господи Иисусе! У Колбена здесь порядка сорока агентов... — Почти сотня, — поправил Кеплер. — Сегодня утром Вашингтон прислал подкрепление. — Сотня долбаных агентов не может выследить толстого белого легавого в гетто черномазых? Несколько человек с неодобрительным видом оторвались от пультов управления. Кеплер жестом указал Хэроду и Марии Чен, чтобы они прошли в кабинет Колбена. Когда дверь за ними закрылась, Колбен сказал: — Золотой бригаде было приказано следовать за шерифом и черными парнями. Но она не смогла выполнить распоряжение, поскольку их передвижное средство временно выведено из строя. — Что это означает, черт побери? — Кто-то пропорол шины грузовика, в котором они находились, — пояснил Кеплер. Хэрод рассмеялся. — Почему же они не последовали за ними пешком? Кеплер откинулся на спинку кресла и сложил руки на плоском животе: — Во-первых, потому что Золотая бригада целиком состоит из белых, и они решили, что привлекут к себе слишком много внимания. Во-вторых, им было приказано не покидать грузовик. — Почему? Кеплер едва заметно улыбнулся. — Неблагоприятные районы. Колбен и остальные опасаются, что машина может быть разграблена. Хэрод разразился громовым хохотом, потом, немного успокоившись, спросил: — Кстати, а где малыш Чак? Кеплер кивнул на радиоприемник, стоявший у северной стены кабинета. Из него доносились фоновый шум и обрывки разговоров. — Он наверху, в вертолете. — Понятно. — Хэрод тоже сложил руки и осклабился. — Хотел бы я посмотреть, как выглядит этот шериф. Кеплер включил переговорное устройство и что-то прошептал в него. Через тридцать секунд на консоли загорелся экран видеомонитора, там появился Джентри с компанией. Осветительные линзы окрашивали картинку в зеленовато-белый цвет, но Хэрод различил грузного человека в окружении молодых негров. Внизу экрана мерцали цифры, коды и время записи. — Я с ними еще встречусь, — прошептал Хэрод. — Одна из бригад уже отправилась на поиски пешком, — заметил Кеплер. — И мы почти уверены, что все они вернутся в Общинный центр, где обычно собирается банда. Внезапно радиомонитор разразился позывными, и Кеплер включил связь. Чарлз Колбен чуть ли не дрожал от возбуждения: «Красный Лидер Замку. Красный Лидер Замку. У нас пожар на улице возле ОД-1. Повторяю, у нас... нет... два источника загорания на улице возле ОД-1». — Что такое ОД-1? — спросила Мария Чен. — Общинный дом. — Кеплер переключал каналы на мониторе. — Большой старый дом, о котором я только что говорил, там находится штаб банды. Чарлз называет его Осиной Дырой 1. — На экране показалось пламя, полыхавшее на расстоянии полуквартала. Камера, вероятно, находилась в машине, припаркованной неподалеку. Осветительное оборудование превратило две горящие машины в столбы пламени, которые скрывали все остальное, пока кто-то не догадался сменить линзы. После чего стали видны темные фигуры, высыпавшие из дома и потрясавшие оружием. Кеплер включил радио. «...Прием, Красный Лидер. Говорит Зеленая бригада от ОД-1. Признаков вторжения не наблюдается». — Черт побери, — раздался голос Колбена, — возьмите Желтых и Серых и окружите район. Багряный, у вас с севера никого не видно? — Нет, Красный Лидер. — Замок, вы записываете происходящее? — Есть, Красный Лидер, — послышался усталый голос агента из контрольного помещения трейлера. — Возьмите фургон СП, которым мы пользовались вчера, и потушите пожар, пока в это дело не вмешались городские власти. — Есть, Красный Лидер. — Что такое фургон СП? — поинтересовался Хэрод. — Фургон «скорой помощи». Колбен переправил его из Нью-Йорка. Это одна из причин, по которой операция обошлась в двести тысяч долларов в день. Хэрод покачал головой. — Сотня федеральных легавых. Вертолет. Фургоны «скорой помощи». И все ради того, чтобы загнать двух стариков, у которых и зубов-то не осталось. — Может, и не осталось, — откликнулся Кеплер, кладя ноги на стол Колбена и устраиваясь поудобнее, — но, по крайней мере, один из них все еще здорово кусается. Хэрод и Мария Чен откинулись на спинки кресел, приготовившись смотреть представление.* * *
Во вторник утром на девять часов Колбен назначил конференцию, которая должна была состояться на высоте пять тысяч футов над землей. Хэрод не преминул продемонстрировать все свое отвращение к этому мероприятию, но в вертолет все же залез. Кеплер и Мария Чен, все еще разгоряченные после своей шестимильной пробежки вокруг «Каштановых Холмов», обменялись улыбками. Ричард Хейнс устроился в кресле второго пилота, а нейтрал Колбена был абсолютно непроницаем за толстыми авиаочками. Когда вертолет взмыл вверх, взяв курс на юг к реке и парку Фермонт, Колбен развернул свое откидное сиденье и обратился к троице, сидевшей сзади. — Нам до сих пор неизвестно, из-за чего вчера разгорелась драка и почему они начали стрелять друг в друга. Возможно, каким-то образом в этом замешаны Вилли и эта старая шлюха. Но решать — дело Барента. Пока нам дан зеленый свет. Операция продолжается. — Отлично, — ухмыльнулся Хэрод, — что до меня — я сваливаю отсюда сегодня вечером. — Исключено, — сказал Колбен. — У нас осталось сорок восемь часов, чтобы отыскать твоего друга Вилли. А затем мы переключимся на эту суку Фуллер. — Вы даже не знаете, здесь ли Вилли, — заметил Хэрод. — Лично я продолжаю считать, что он мертв. Колбен покачал головой и погрозил Хэроду пальцем. — Ты так не считаешь. Тебе известно не хуже чем нам, что этот старый сукин сын где-то здесь и что он что-то затевает. Мы не уверены, работает Фуллер с ним или нет, но к утру четверга это уже не будет иметь никакого значения. — А к чему ждать так долго? — осведомился Кеплер. — Хэрод здесь. Ваши люди на месте. Колбен пожал плечами. — Барент хочет использовать еврея. Если Вилли заглотнет наживку, мы тут же начнем действовать. Если нет, мы ликвидируем еврея, прикончим старуху и тогда поглядим, что из этого получится. — Какого еврея? — спросил Тони Хэрод. — Одна из старых пешек твоего дружка Вилли, — ответил Колбен. — Барент провел с ним одну из своих дешевых обработок, а теперь хочет натравить его на этого фрица. — Хватит называть его моим дружком! — рявкнул Хэрод. — Конечно-конечно, — откликнулся Колбен. — «Твой шеф»... Это тебя больше устроит? — Эй вы, заткнитесь вы оба! — посоветовал Кеплер. — Объясни Хэроду план действий. Колбен наклонился и что-то сказал пилоту. Вертолет завис на высоте пяти тысяч футов над серо-коричневым геометрическим рисунком Джермантауна. — В четверг утром мы заблокируем весь город, — произнес Колбен. — Чтоб ни одна душа не прошла и не вышла. Более точно определим местонахождение Фуллер. В основном ночи она проводит в этой Ропщущей обители на Джермантаун-стрит. Хейнс возглавит тактическую бригаду и возьмет дом штурмом. Агенты позаботятся о Бишоп и парне, которого она использует. Так что остается одна Мелани Фуллер. Она полностью в твоем распоряжении, Тони. Хэрод сложил на груди руки и посмотрел вниз на пустынные улицы. — И что? — Ты ликвидируешь ее. — Всего-то ? — Да, всего-то, Хэрод. Барент говорит, что ты можешь использовать кого угодно. Но ею придется заняться тебе. — Почему мне? — Твой вклад, Хэрод. Это твой вклад. — Мне казалось, вы захотите допросить ее. — Мы обдумаем эту возможность, — заметил Кеплер, — но мистер Барент считает, что гораздо важнее ее нейтрализовать. Наша главная цель — выманить из укрытия старика. Хэрод погрыз ноготь и снова взглянул вниз на крыши домов. — А что, если мне не удастся... ликвидировать ее? Колбен улыбнулся. — Тогда мы ее заберем, а в клубе по-прежнему останется вакантное место. Это не разобьет никому сердца, Хэрод. — Но пока мы еще можем испытать еврея, — добавил Кеплер. — Мы не знаем, к чему это приведет. — Когда приземлится эта штука? — спросил Хэрод. Колбен посмотрел на часы. — Операция уже началась. — Он сделал знак пилоту, чтобы тот спустился пониже. — Хотите взглянуть?Глава 15
Мелани Уик-энд прошел тихо. В воскресенье Энн приготовила для нас очень вкусный обед. Фаршированные свиные отбивные удались на славу, но овощи она немного перетушила. Пока мы с Энн попивали чай из ее лучших фарфоровых чашек, Винсент убрал со стола. Я вспомнила о своем «Веджвуде», который пылился в Чарлстоне, и меня охватило острое чувство ностальгии по дому. В тот вечер я слишком устала, чтобы отправлять куда-нибудь Винсента, хотя меня и мучило любопытство насчет той фотографии. Но нет дел, которые не могли бы подождать. Гораздо важнее были голоса в детской. С каждым днем они становились все отчетливее, уже почти достигнув той границы, когда можно различить слова. Накануне вечером, искупав Винсента, перед тем как лечь спать, я смогла выделить в общем шепоте голоса детей. По меньшей мере их было трое — мальчик и две девочки. Я не видела ничего удивительного в том, что в детской старинного дома звучали детские голоса. Поздно вечером в воскресенье, уже после девяти, Энн и Винсент вернулись вместе со мной в Ропщущую Обитель. Где-то поблизости завывали сирены. Проверив запоры на дверях и ставнях, я оставила Энн в гостиной, а Винсента — на кухне и поднялась наверх. Было очень холодно. Забравшись под одеяла, я стала смотреть на мерцающие во тьме нити нагревателя. Свет отражался в глазах мальчика-манекена и окрашивал в оранжевый цвет оставшиеся пучки его волос. Голоса были слышны очень отчетливо.* * *
В понедельник я отправила Винсента на поиски. Мне не хотелось отправлять его днем — тот квартал был слишком неблагоприятным, но нужно было все-таки разузнать хоть что-то о фотографии. Винсент взял с собой нож и револьвер, «позаимствованный» мною у таксиста из Атланты. Он несколько часов просидел на корточках в задней части брошенноймашины, наблюдая за проходящими мимо цветными подростками. Раз в боковое окно сунулся заросший щетиной алкоголик, но Винсент открыл рот и зашипел на него. Тот сразу же слинял. Наконец Винсент заметил знакомое лицо. Это был тот самый третий мальчик, который сбежал субботней ночью. Он шел с кряжистым подростком и еще одним парнем постарше. Винсент пропустил их вперед на один квартал и тронулся следом. Они миновали дом Энн и двинулись дальше на юг, где линия пригородных поездов образовывала искусственный каньон. Мальчики дошли до перекрестка и вошли в заброшенный дом. Строение являло собой странную пародию на особняк довоенной постройки — четыре непропорциональные колонны поддерживали плоский навес, переплеты узких высоких окон сгнили, а остатки металлической ограды были завалены ржавыми консервными банками и тонули в зарослях замерзшей травы. Окна на первом этаже были заколочены досками, дверь заперта, но подростки подошли к подвальному окошку с разогнутыми прутьями, и выбитой рамой и проскользнули внутрь. Винсент быстро миновал четыре квартала и вернулся к дому Бишоп. Я заставила его взять большую перьевую подушку с кровати Энн, запихать ее в огромный рюкзак и бегом вернуться обратно. День был серым и сумрачным. То и дело из низких туч начинал валить снег. В сыром воздухе воняло выхлопными газами и сигарным дымом. Машин было мало. Когда Винсент начал просовывать в окошко рюкзак, мимо прогрохотал поезд. Подростки-негры устроились на третьем этаже — они сидели на корточках тесным кружком среди обвалившейся штукатурки и покрытых льдом луж. Сквозь разбитые окна и обвалившийся потолок кое-где виднелось серое небо. Все стены были исписаны. Стоя на коленях, подростки словно молились белому порошку, который пузырился у них в ложках. Обнаженная левая рука у каждого была перетянута резиновым шнуром. На грязных тряпках перед ними лежали шприцы. Я посмотрела на все это глазами Винсента и поняла, что здесь воистину совершается священнодействие — величайшее священнодействие в современной церкви Отчаяния городских негров. Двое мальчиков подняли головы и увидели Винсента как раз в тот момент, когда он вышел из укрытия, держа перед собой подушку как щит. Младший — тот самый, которому мы позволили улизнуть в субботу ночью, начал что-то кричать, и Винсент выстрелил ему прямо в открытый рот. Перья разлетелись, как снег, и потянуло запахом обгоревшей наволочки. Парень постарше развернулся и попробовал отползти на коленях. Винсент выстрелил еще два раза — первая пуля попала в живот, вторая пролетела мимо. Юноша заметался, схватившись за живот и извиваясь, как какое-то морское существо, выброшенное на негостеприимный берег. Винсент крепко прижал подушку к перепуганному лицу негра и, вжав в нее револьвер, выстрелил еще раз. Парень дернулся, и всякое движение прекратилось. Подняв револьвер, Винсент повернулся к третьему. Этот был самый грузный. Он продолжал стоять на коленях со шприцем в руке и с невероятно расширившимися глазами. Его толстое черное лицо выражало чуть ли не религиозный трепет и благоговение. Винсент опустил револьвер в карман куртки и раскрыл свой длинный нож. Парень повернулся очень медленно, каждое движение казалось настолько подчеркнутым, будто он находился под водой. Винсент ударил его ногой по лбу, и когда тот повалился назад, встал коленом ему на грудь. Шприц выпал из руки и покатился по грязному полу. Винсент вонзил острие ножа в горло негра, чуть правее кадыка. Тут-то я и столкнулась со сложностями. Большую часть своих сил мне пришлось бросить на то, чтобы сдерживать Винсента. Этот мальчик нужен был мне живым, чтобы он рассказал мне о фотографии — каким образом она оказалась в Филадельфии, откуда взялась у этой цветной банды и что они с ней делали. Но Винсент не мог задавать вопросов. У меня мелькнула мысль непосредственно использовать мальчика, но это оказалось не так-то просто. Использовать человека, которого ты никогда не видел, — очень сложно, но возможно. Я несколько раз проделывала это с уже обработанной пешкой для установления контакта. Но это было трудновато: ведь нужно одновременно и использовать, и допрашивать. Во-первых, в этот момент поверхностные мысли объекта ощущаются отчетливо, но дальнейшее подавление воли, необходимое для использования, подчас вовсе уничтожает процессы рационального мышления. Все тонкости сознания этого толстяка оказались бы мне доступными не более, чем ему — мои. Использовать его — все равно что сесть за руль омерзительной, но единственно возможной машины: она могла доставить меня к цели, но не могла ответить на мои вопросы. Во-вторых, если бы я полностью переключила внимание на этого негра и заставила его, предположим, вернуться в дом Энн, возможно, мне тогда не удалось бы удержать Винсента от его собственных порывов и он бы просто перерезал негру горло. В конце концов я заставила Винсента держать негра, пока к ним не подоспеет посланная мною Энн. Мне не очень хотелось оставаться одной, даже в Ропщущей Обители, но у меня не было выбора. Я не хотела тащить негра ни сюда, ни к Энн, чтобы их с Винсентом никто не увидел. Энн доехала до здания на своей машине, припарковала ее чуть дальше и закрыла дверцу на ключ. Ей было трудно пролезть сквозь подвальное окошко, поэтому я заставила Винсента стащить толстяка вниз и сломать замок на боковой двери. В комнате первого этажа было абсолютно темно. Энн приступила к допросу: — Откуда взялась фотография? Глаза у негра расширились еще больше, и он облизнулся. — Какая фотография? Винсент изо всей силы ударил его в низ живота. У парня перехватило дыхание, и он согнулся пополам. Винсент поднес нож к его окровавленному горлу. — Фотография пожилой женщины. Она была у одного из ваших, из тех, что умерли в субботу, — сквозь зубы пояснила Энн. Учитывая проведенную обработку, мне несложно было управлять ею и в то же время сдерживать Винсента. — Вы говорите о мадам Буду? — переведя дыхание, спросил парень. — Но ведь вы — не она. Энн повторила мою улыбку. — Кто такая мадам Буду? Парень попытался сглотнуть. Вид у него был смехотворный. — Это женщина, которая заставляет белого ублюд... которая заставляет эту паскуду делать то, что он делает. Так сказала та малютка. — Какая малютка? — Ну, которая еще говорит так странно. — Что значит «странно»? — Ну знаете... — Парень часто задышал, словно после пробежки, — как и ее толстая белая свинья. Как будто они откуда-то с юга. — И это она дала вам фотографию? Или тот... грузный полицейский? — Она. Позавчера. Она ищет мадам Буду. Мар-вин как увидел фото, сразу вспомнил. Теперь мы все ее ищем. — Женщину на фотографии? Мадам... Буду? — Ага. — Мальчишка попытался отползти в сторону, и Винсенту пришлось ударить его в висок ребром ладони, а потом, подняв за ворот разорванной рубахи, пару раз стукнуть о стену. Затем он поднес острие ножа к глазу негра. — Скоро мы еще с тобой побеседуем, — тихо промолвила Энн. — И ты расскажешь мне все, что я захочу узнать. Парень выполнил все, как ему было ведено. Перед тем как использовать негра, я отослала Винсента прочь. Это было несложно. Я не могла воспроизвести расхлябанную, с преувеличенно резкими движениями походку этого юнца, но в этом и не было особой необходимости. Гораздо большего внимания требовала его манера речи — тональность, словарный запас, синтаксис. В течение часа я заставила его разговаривать с Энн, прежде чем перешла к его непосредственному использованию. Я даже не встретила сколько-нибудь серьезного сопротивления. Сначала мне с трудом давались его голосовой тембр и построение фраз, но затем я расслабилась и отчасти позволила проявиться его подсознательным диалектизмам, а тогда мне удалось говорить его устами во вполне правдоподобной манере. Энн отвезла обоих парней к Ропщущей Обители и высадила из машины на углу. Винсент на некоторое время исчез, после чего вернулся с патронами для револьвера и вошел в дом через подземный ход. Луиса я отправила в Общинный дом, а Энн отвела машину в свой гараж на Квин-Лейн. Моя уловка удалась. Пару раз я ощущала, что мой контроль над Луисом слабеет, но мне удавалось скрыть это, заставляя негра изображать муки боли. Марвина, главаря, я узнала сразу. Это его синие глаза безжалостно взирали на меня, когда в канун Рождества я лежала в собачьих фекалиях. Мне еще предстояло свести с ним счеты. В разгар обсуждения, когда я уже начала ощущать себя уверенно, чернокожая девица, стоявшая поодаль, вдруг спросила: «Вы узнали ее по моей фотографии?», — и я едва не утратила контроль над Луисом. Ее манера говорить совсем не походила на этот отвратительный плоский северный говор. Он напомнил мне о доме. Рядом с ней, закутавшись в дурацкое одеяло, стоял белый мужчина, чье лицо показалось мне странно знакомым. Мне потребовалась целая минута, чтобы сообразить, что он тоже из Чарлстона. Я вспомнила, что видела его фотографию в одной из газет миссис Ходжес много лет назад... Кажется, там было что-то про выборы. «...Как-то слишком просто все получается, — недоверчиво говорил Марвин. — А как там свиньи?» Он имел в виду полицию. Из разговора с Луисом я поняла, что окрестности наводнены полицейскими в штатском. Мне не удалось узнать от него о причине их появления, но я предположила, что ликвидация пятерых человек, даже столь бесполезных, как эти хулиганы, должна была вызвать какую-то реакцию со стороны властей. И когда Марвин вульгарно упомянул «свиней», у меня все связалось. Краснолицый белый был полицейским из Чарлстона — шерифом, если я не ошибалась. Несколько лет назад я даже читала о нем статью. «Послушай, старик, — заставила я произнести Луиса, — Сетч сказал, чтоб я привел тебя. Ты хочешь на них посмотреть или нет?» И хотя присутствие двух людей из Чарлстона и многочисленных представителей властей в штатском посеяло во мне чувство глубокой тревоги, поднявшуюся волну беспокойства приглушило нарастающее возбуждение, переходящее чуть ли не в подлинный экстаз. Меня действительно захватило это. С каждым часом подобной игры я становилась все моложе. Нельзя было терять ни минуты. Как только Луис вывел Марвина, шерифа, имя которого я не могла вспомнить, и еще шестерых членов банды из дома, Винсент подложил газолиновые бомбы в два брошенных автомобиля. Я не покидала Винсента, пока он обегал дом, ликвидировал негра, оставшегося сторожить черный ход, и поднимался наверх со своей неуклюжей косой. Я надеялась, что чернокожая девица отправится вместе с Луисом и остальными. Это было бы очень удобно, но я давно уже научилась воспринимать реальность такой, какая она есть, и не ждать от нее подарков. Однако девица мне нужна была живой. На втором этаже Общинного дома произошла небольшая возня. И как раз тогда, когда в моем внимании нуждался, Луис, мне пришлось сдерживать Винсента от излишней грубости. Из-за этой краткой заминки девице удалось сбежать на улицу. Я отправила Винсента догонять ее, а сама вернулась к Луису, который, покачиваясь, стоял на поребрике у многоквартирного дома. — В чем дело, старик? — осведомился главарь по имени Марвин. — Ничего, — заставила я ответить Луиса. — Просто горло болит. — Ты уверен, что они там? — спросил парень по имени Лерой. — Я ничего не слышу. — Они в задней части дома, — сказал Луис. Рядом с ним в свете единственного фонаря стоял белый шериф. Насколько я могла судить, он был безоружен, если не считать камеры, очень похожей на ту, что при каждой возможности таскал с собой мистер Ходжес. В цементном каньоне прогрохотали две невидимые встречные электрички. — Боковая дверь открыта, — сказал Луис. — Пошли, я покажу. Куртку он расстегнул чуть раньше. Под свитером и грубошерстной рубахой я отчетливо ощущала холодок револьвера. Винсент уже перезарядил его в темном проулке. — Нет, — заявил Марвин, явно колеблясь. — Пойдут Лерой, Джексон, я и он, — он указал большим пальцем на шерифа. — А ты, Луис, останешься здесь с Кельвином, Форелью и братьями Г. Р, и Г. Б. Я заставила Луиса пожать плечами. Прежде чем последовать за Марвином и двумя другими парнями, шериф наградил его долгим взглядом. — Они на третьем этаже, старик! — заставила я Луиса крикнуть им вслед. — В самой глубине! Четверка исчезла за утлом в снежном мраке. Времени у меня было мало. Часть моего сознания пребывала в атмосфере теплого мерцания нагревателя, отражавшегося в глазах манекена в детской, часть — бежала с Винсентом по темным переулкам, вслушиваясь в затрудненное дыхание своей выбивающейся из сил жертвы, а часть — оставалась с Луисом. Тот, которого звали Кельвин, переступил с ноги на ногу и поежился. — Черт, холодно. Старик, у тебя ничего нет покурить? — Есть, — ответил Луис. — И кое-что недурное. — Он запустил руку под рубашку, вытащил револьвер и выстрелил Кельвину в живот с расстояния в два фута. — Вот тебе, говнюк. Близнецам хватило одного взгляда, и они бросились со всех ног в сторону Квин-Лейн. Двадцатилетний парень по имени форель вытащил из-под куртки длинноствольный револьвер. Луис развернулся, прицелился и выстрелил тому в левый глаз. Приглушить звук выстрела было нечем. Кельвин с озверевшим выражением на лице стоял на коленях, обеими руками держась за живот, и когда я попробовала провести Луиса мимо, он вцепился ему в ногу. — Тварь, сука, ты что это себе позволяешь? С той стороны, куда убежали близнецы, послышались три резких глухих звука, и что-то впилось Луису в левое предплечье. Я заблокировала боль для нас обоих и ощутила в этом месте немоту. Луис поднял револьвер и разрядил его в том направлении, откуда раздались выстрелы. Кто-то закричал, и раздался еще один выстрел. У Луиса кончились патроны. Я заставила его отбросить револьвер, разорвать куртку Кельвина и вытащить новое оружие. Пока он пытался высвободить револьвер из зажатого кулака Форели, со стороны Квин-Лейн послышалось еще три выстрела и что-то с глухим звуком врезалось в Кельвина. Как ни странно, он все еще продолжал держать Луиса за ногу. — О черт, зачем, старик? — тихо повторял он. Луис отшвырнул его в сторону, положил прицельный револьвер в карман куртки и, сжав в руке другой, с удлиненным стволом, побежал ко входу в здание. Выстрелы со стороны Квин-Лейн прекратились. Винсент загнал девицу в брошенный дом неподалеку от Джермантаун-стрит. Он стоял в дверях и прислушивался к тому, как она мечется среди обуглившихся бревен в глубине дома. Окна были заколочены досками. Другого выхода, кроме этой единственной двери, не существовало. Мне пришлось приложить всю силу воли, чтобы заставить Винсента просто устроиться на корточках в темноте и ждать. Он сидел, прислушиваясь и жадно втягивая воздух, источавший сладкий аромат женского адреналина. Луис быстро вошел в боковую дверь здания, стараясь, чтобы его силуэт не был виден в проеме. Четверка, находившаяся внутри, вероятно, слышала звуки выстрелов. А возможно, уже нашла трупы на третьем этаже. Луис осторожно заглянул в первую комнату — там было пусто. Что-то метнулось по коридору в направлении главной лестницы, Луис выстрелил, и от отдачи его правая рука взлетела вверх. Он уставил короткое дуло в свое бедро, чтобы загнать в ствол еще один патрон, потом присел на корточки и принялся вглядываться в темноту. На мгновение оба парня, Винсент и Луис наложились у меня друг на друга — они сидели почти в одинаковых позах, примерно в миле один от другого, и вслушивались, пытаясь уловить малейшее движение. Затем все озарилось ярким всполохом, раздался оглушительный грохот — штукатурка посыпалась на голову Луиса, и мы с Винсентом рефлекторно дернулись, несмотря на то что я тут же заставила Луиса встать и броситься по направлению к вспышке. Он выстрелил, остановился, чтобы перезарядить револьвер, и снова бросился бежать. На заваленной мусором лестнице раздались звуки шагов. Кто-то кричал на втором этаже. Пока я обдумывала положение, Луис спрятался у подножия лестницы. Он уже начал сильно сдавать. Пуля в левом предплечье в значительной мере ослабила его рефлексы. Я бы с радостью использовала кого-нибудь другого из находившихся в здании, но это было бы уже слишком большой роскошью — я и так держала начеку Энн на первом этаже Ропщущей Обители, следила за Винсентом в заброшенном доме и продолжала заставлять Луиса действовать. Мне страшно хотелось добраться до синеглазого негра. А еще мне хотелось как следует рассмотреть шерифа, но для этого надо было переместиться к нему поближе. Если удастся порасспросить его кое о чем, возможно, и ему найдется применение. С ближайшей площадки раздался выстрел, и пуля расщепила перила. Луис пригнулся еще ниже. Их было четверо: Марвин, который в Общинном доме заряжал тяжелый револьвер и лишь рассмеялся в ответ на просьбу шерифа отдать его; бородатый Лерой с обрезом, очень напоминавшим тот, что был сейчас в руке у Луиса; шериф, казавшийся безоружным, и Джексон, негр постарше, с синим рюкзаком. К тому же в любой момент могли вернуться близнецы Г. Б, и Г. Р, со своими дешевыми револьверчиками. Луис бросился вверх по лестнице, споткнулся, перескочил через ступеньку и рухнул на площадке второго этажа. Снова раздался выстрел из обреза, на этот раз произведенный с расстояния в пятнадцать футов, Что-то обожгло висок и щеку Луиса. Я заблокировала боль, но заставила его левой рукой прикоснуться к обожженному месту. Левого уха не было. Луис вытянул руку и выстрелил в направлении световой вспышки. — Черт побери, — раздался голос с негритянским акцентом; думаю, это был Лерой. Следующий выстрел прогремел с противоположной стороны, и пуля, пройдя навылет через икру Луиса, врезалась в металлическое пересечение перил. Я заставила его кинуться по направлению к новой вспышке, на ходу перезаряжая обрез. Впереди по темному коридору кто-то бежал, потом что-то заскользило, чье-то тело, дернувшись, упало. Луис остановился, отыскал взглядом более светлый контур на темном фоне и поднял обрез. Как раз когда он нажимал на курок, тело перекатилось к черному дверному проему. Вспышка высветила скрывающегося из виду Марвина и брызги щепок от дверного косяка. Луис перезарядил обрез, вытянул руку из-за угла и выстрелил. Безрезультатно. Он вогнал в ствол еще одну пулю и снова выстрелил. Опять никакого результата. Я заставила его отбросить бесполезное оружие в тот самый момент, когда раздался выстрел, что-то сильно ударило Луиса в левую ключицу и отшвырнуло назад. Он врезался в стену и съехал по ней на пол, одновременно вытаскивая длинноствольный револьвер. Следующая пуля попала в стену фута на три выше головы Луиса. Я помогла ему прицелиться как можно тщательнее именно в ту точку, где только что вспыхнул выстрел. Револьвер не сработал. Луис нащупал предохранитель, затем дважды выстрелил в угол. Перекатившись влево через омертвевшую руку, он попытался встать и налетел на кого-то. По росту и общему облику фигуры я догадалась, что это был шериф. Я заставила Луиса поднять револьвер, пока дуло не уперлось противнику в грудь. Яркая вспышка ослепила нас. Луис отпрыгнул, и перед моими глазами застыло изображение шерифа, наводящего сбоку фотокамеру. Затем еще раз и еще раз свет ослепил Луиса. Он, пытаясь справиться с временной слепотой, развернулся лицом к реальной угрозе — вытянутому револьверу, но было слишком поздно. Пока мы, моргая, пытались что-либо различить сквозь синеватую пелену, главарь банды, Марвин, держа обеими руками тяжелый револьвер, выстрелил в Луиса. Я ощутила не боль, а лишь толчок, когда первая пуля впилась Луису в нижнюю часть живота, а вторая врезалась в грудь, расщепляя ребра. Я бы могла еще использовать его, если бы третья пуля не попала ему в лицо. Что-то хлынуло с грохотом, и контакт прервался. Сколько бы раз я ни переживала гибель своих пешек, меня продолжает это волновать — чем-то напоминает обрыв связи во время оживленного телефонного разговора. На мгновение я расслабилась, ощущая лишь шипение обогревателя, вглядываясь в изъеденное временем лицо куклы-манекена и прислушиваясь к ставшему уже отчетливым шепоту. «Мелани, — шептали стены детской, — Мелани, тебе грозит опасность. Поверь нам». Лаже возвращаясь к Винсенту, я продолжала слушать эти голоса. Из глубины пропахшего гарью дома не доносилось никаких звуков. Но девице было некуда деться. Мощное тело Винсента поднялось, и он бесшумно и уверенно двинулся к ней во тьме, держа наперевес свою смертоносную косу.Глава 16
Джермантаун Понедельник, 29 декабря 1980 г. Солом Ласки они занялись в понедельник днем. В течение двадцати минут он находился без сознания, а потом еще целый час ощущал головокружение. Когда он начал воспринимать окружавшее его пространство — все ту же крохотную камеру, в которой находился с воскресного утра, — первое, что он сделал, это стащил повязку и принялся рассматривать порез. Он находился с тыльной стороны левой руки на три дюйма выше вытатуированного лагерного номера. Операция была проведена профессионально, швы наложены аккуратно. Несмотря на послеоперационную припухлость, Сол отчетливо различал бугорок, которого раньше не было. В большую мышцу руки было вживлено что-то, размером с двадцатипятицентовую монету. Он снова перевязал руку и лег, чтобы подумать. Времени на размышления у него было много. Сол удивился, когда в воскресенье его не освободили и не стали использовать. Он не сомневался, что его в Филадельфию доставили не случайно. Вертолет приземлился в отдаленной части огромного аэропорта, Солу завязали глаза и пересадили его в лимузин. Судя по частым остановкам и приглушенным уличным звукам, он догадался, что машина ехала через оживленную часть города. Потом под колесами раздался гул металлического покрытия моста. Перед тем как окончательно остановиться, машина в течение нескольких минут подпрыгивала и тряслась по бездорожью. Если бы не отдаленный городской вой сирен, звуки пригородных электричек, можно было бы подумать, что они уже выехали в сельскую местность. Но это оказался всего лишь грязный, захламленный пустырь в центре города. Заброшенная стоянка? Место будущего строительства? Парковая зона? Сол сделал три шага, после чего его втолкнули в дверь, затем провели направо по узкому коридору и еще раз направо. Дважды он натыкался на стены и по гулкости звуков и еще каким-то неуловимым ощущениям определил, что находится в трейлере или передвижном доме. Камера оказалась менее просторной и внушительной, чем в Вашингтоне. В ней тоже находилась койка, химическая уборная и маленькая вентиляционная решетка, сквозь которую доносились приглушенные голоса и смех. Сол мечтал о возможности почитать. Странно, как человеческий организм приспосабливается к любым условиям, но не может прожить и нескольких дней без книг. Он вспомнил, как в гетто в Лодзи его отец взял на себя труд составить список доступных книг и организовал нечто вроде библиотеки. Зачастую люди, которых отправляли в лагеря, забирали книги с собой, и отец Сола со вздохом вычеркивал из списка очередное название, но чаще усталые мужчины и женщины с грустными глазами почтительно возвращали их, иногда даже не вынимая закладок. И тогда отец говорил им: «Дочитаете, когда вернетесь», и люди согласно кивали ему. Раза два или три заходил Колбен, для того чтобы провести поверхностный допрос, но Сол ощущал, что тот не испытывает к нему никакого интереса. Как и Сол, Колбен чего-то ждал. Все в этом комплексе трейлеров чего-то ждали. Он чувствовал это. Только вот чего именно? Свободное время Сол тратил на размышления. Он размышлял об оберете, о Мелани Фуллер, Колбене, Баренте и других, еще неизвестных ему лицах. Много лет он находился в плену глобального и рокового заблуждения. Он полагал, что стоит лишь понять психологическую основу этого порока — и он сможет излечить его. Охотясь за оберстом, движимый не только личными туманными соображениями, но подгоняемый столь жадной научной любознательностью, которая заставляет бактериолога в Центре контроля за заболеваемостью выслеживать и выделять еще неизвестный смертельно опасный вирус, Сол невольно заражался этим вирусом, этим азартом. Это будило и провоцировало мысль. Найти, понять, излечить... Но для этой чумной бациллы не существовало антител. Уже много лет Сол был знаком с исследованиями и теориями Лоренса Колберга. Колберг посвятил всю свою жизнь изучению стадий этического и морального развития. Для психиатра, пропитанного послевоенной теорией психотерапии, размышления Колберга порой казались упрощенными до наивности, но сейчас, лежа в своей камере и прислушиваясь к шуршанию лопастей вентиляции, Сол понял, насколько уместной в его ситуации являлась теория Колберга. Колберг установил семь стадий морального развития, соответствующих разным культурам, эпохам и странам. Первая стадия характеризовалась младенческим уровнем сознания — отсутствие представлений о добре и зле, все поступки регулируются исключительно инстинктами и потребностями, их реализация подавляется лишь отрицательными стимулами. Этические суждения основаны исключительно на классической модели: боль — удовольствие. На второй стадии люди начинают различать добро и зло, руководствуясь авторитетом власти. «Большим людям, мол, виднее». Представители третьей стадии жестко зависят от законов и правил. «Я следовал указаниям». Этика представителей четвертой стадии целиком определялась мнением большинства, «стадным чувством». На пятой стадии человек посвящает свою жизнь созданию и защите законов, которые в самом широком смысле служат идее общего блага, но в то же время не ущемляют права тех, чьи взгляды для людей пятой стадии неприемлемы. Эти люди становятся прекрасными адвокатами. Сол был знаком с носителями подобных представлений в Нью-Йорке. Люди шестого уровня способны были подняться над узкоправовым сознанием пятого уровня и сосредоточить свое внимание на более высокой идее блага и этических принципах, не зависящих от национальных, культурных или общественных границ. Седьмая стадия руководствуется исключительно общечеловеческими моральными принципами. Подобные индивиды — редкое явление на Земле: Иисус Христос, Гаутама, наконец — Махатма Ганди... Колберг не был идеологом — Сол встречался с ним несколько раз и получал искреннее удовольствие от его чувства юмора — самому исследователю нравилось указывать на парадоксы, порождаемые его собственной иерархией морального развития. На одном из коктейлей, которые устраивались в колледже Хантер, Колберг сказал, что Америка является нацией пятой стадии — основана она самыми немыслимыми представителями практического шестого уровня, а населена в основном людьми третьего и четвертого. Колберг утверждал, что в принятии ежедневных решений люди зачастую руководствуются соображениями более низкого уровня морального развития, но никогда не могут подняться выше. Вследствие чего, печально констатировал он, происходит неизбежное уничтожение всех учений представителей высшей, седьмой стадии. Христос передает свое наследие Петру и Павлу, находящимся на третьем уровне; Будду представляют поколения священнослужителей, не способных подняться выше пятого уровня. И лишь над своими последними исследованиями Колберг никогда не подшучивал. Сначала с изумлением и сомнениями, которые затем перешли в шок и пассивное приятие, он обнаружил, что существует еще и нулевая стадия. У людей, характеризующихся зародышевой стадией сознания, вообще нет никаких моральных обязательств; даже стимул боль — удовольствие не являлся устойчивым руководством для такого человека, если вообще к ним применимо понятие «человек». Представитель нулевого уровня мог ни с того ни с сего напасть на прохожего на улице, убить его из прихоти и отправиться дальше по своим делам без малейшего намека на чувство вины или раскаяние. Эти люди, конечно, не хотели бы быть пойманными и наказанными, но они не основывали свои действия на стремлении избежать наказания. Дело заключалось и не в том, что удовольствие от свершения запретного преступления перевешивало у них страх наказания. Представители нулевого уровня просто не отличали преступления от других ежедневных поступков — они были морально слепы. Сотни исследователей бросились проверять гипотезу Колберга, но данные оказывались неопровержимыми, а выводы — более чем убедительными. В каждый отдельно взятый момент в любой культуре, в любой нации оказывалось один-два процента «особей» с нулевым уровнем морального развития. В понедельник днем к Солу пришли. Колбен и Хейнс держали его за руки, покуда третий делал укол. Через три минуты Сол потерял сознание. Проснулся он с тяжелой головой и болью в левой руке — в его тело явно что-то вживили. Он осмотрел рану, пожал плечами и снова лег. Освободили его в четверг. Пока Колбен произносил речь, Хейнс завязывал ему глаза. — Мы собираемся отпустить вас. Вам запрещается удаляться более чем на шесть кварталов в любом направлении от того места, где вас высадят. Вам запрещается звонить по телефону. Позднее с вами свяжутся и сообщат, что делать дальше. Вы не должны ни к кому обращаться первым. Если вы нарушите хотя бы одно из этих правил, вашему племяннику Арону, его жене Деборе и детям не поздоровится. Вы хорошо поняли? — Да. Сола отвели к лимузину. Поездка заняла не более пяти минут. Колбен снял с глаз Сола повязку и вытолкнул его из открытой дверцы на улицу. Сол остался стоять на тротуаре, глупо моргая в сумрачном предвечернем свете. Он опомнился слишком поздно, чтобы рассмотреть номер отъезжавшего лимузина. Сделав шаг назад, Сол наткнулся на негритянку с продуктовой сумкой и извинился, но со своей глупой улыбкой так ничего и не смог поделать. Он двинулся по узкому тротуару, вбирая в себя все подробности мощеной кирпичом улицы — обшарпанные магазины, низкие серые тучи, обрывок бумаги, трепещущей на медно-зеленом уличном фонаре. Сол шел быстрым шагом, не обращая внимания на саднящую боль в левой руке, пересекал улицу на красный свет, глупо махал рукой чертыхающимся водителям и чувствовал лишь одно — он свободен. Сол понимал, что это — всего лишь иллюзия. Вероятно, кто-то из обычных прохожих, которых он встречал на пути, наблюдал за ним. Он не сомневался, что в проезжавших машинах и фургонах сидели неулыбчивые мужчины в темных костюмах, нашептывая свои сведения в радиопередатчики. Деталь, вживленная ему в руку, тоже, вероятно, содержала радиопередатчик или взрывное устройство, или и то и другое. Хотя это уже не имело никакого значения. Поскольку в карманах у Сола было пусто, он подошел к первому встречному — огромному негру в поношенном красном макинтоше — и попросил у него двадцать пять центов. Негр уставился на странное бородатое явление, поднял здоровенную руку, словно намереваясь стереть его в порошок, потом покачал головой и достал пятидолларовую купюру. — Глядишь, поможет, братишка, — пророкотал он. Сол вошел в угловой кафетерий, разменял банкноту на двадцатипятицентовики и набрал номер израильского посольства в Вашингтоне. Его отказались соединить с Ароном Эшколем или Леви Коулом. Тогда он назвал свое имя. У секретарши не то чтобы явственно перехватило дыхание, но голос ее заметно изменился. — Да, доктор Ласки. Если вы можете подождать минутку, я уверена, с вами поговорит мистер Коуэн. — Я звоню из платного телефона из Филадельфии, штат Пенсильвания, — ответил Сол и назвал свой номер. — У меня мало монет, не могли бы вы мне перезвонить? — Конечно, — откликнулась секретарша. Через некоторое время раздался звонок, но едва Сол поднял трубку, связь прервалась. Он перешел к другому аппарату, чтобы самому связаться с посольством, но после первого же гудка в аппарате раздался статический шум. Сол вышел из кафетерия и бесцельно побрел по улице. Модди и его семья убиты — он чувствовал это сердцем. Теперь они уже ничем не могли его запугать. Он остановился и огляделся, пытаясь распознать агентов, следующих за ним. Белых было немного, но это ничего не значило — в ФБР работали и цветные. С противоположного тротуара на проезжую часть вышел красивый негр в дорогом верблюжьем пальто и двинулся навстречу Солу. У него были крупные волевые черты лица, широкая улыбка, зеркальные стекла очков скрывали глаза. В руках он держал дорогой кожаный портфель. Приблизившись к Солу, мужчина остановился, улыбнулся ему, как старому знакомому, и, сняв кожаную перчатку, протянул руку. Сол пожал ее. — Добро пожаловать, моя маленькая пешка, — произнес негр на безупречном польском языке. — Пора тебе вступить в игру. — Оберет... — Сол ощутил странное волнение, словно глубоко внутри что-то завибрировало, но он потряс головой, и это чувство растаяло. Негр улыбнулся и перешел на немецкий. — Оберет. Почетное звание, давненько я его не слышал. — Он остановился перед рестораном Хорна и Хардарта и сделал жест рукой. — Хочешь есть? — Вы убили Френсиса. Негр рассеянно потер щеку. — Френсиса? Боюсь, я не... Ах да! Юного детектива. Ну... — Он улыбнулся и покачал головой. — Пойдем, я угощаю. — Вы же знаете, что за нами следят, — сказал Сол. — Естественно. А мы следим за ними. Не самое продуктивное занятие. — Он распахнул дверь и добавил по-английски, пропуская Сола вперед: — Только после вас. — Меня зовут Дженсен Лугар, — представился негр, когда они устроились за столиком в почти пустом ресторане. Лугар заказал чизбургеры, лук, запеченный в тесте, и ванильный эль. Сол сидел, не отрывая взгляда от чашки с кофе. — Вас зовут Вильгельм фон Борхерт, — произнес он. — Если когда-либо и существовал человек по имени Дженсен Лугар, его давным-давно уже нет. Негр сделал резкое движение рукой и снял очки. — Вопрос чистой семантики. Тебе нравится игра? — Нет. Арон Эшколь мертв? — Твой племянник? Да, боюсь, что так. — А члены его семьи? — Тоже. Сол глубоко вздохнул. — Как это случилось? — Насколько мне известно, мистер Колбен отправил своего любимчика Хейнса с коллегами к твоему племяннику. Там вроде бы взорвался газ, но я почему-то уверен, что несчастные были мертвы задолго до того, как появились первые языки пламени. — Хейнс! Дженсен Лугар потягивал напиток через длинную соломинку. Затем он откусил большой кусок чизбургера, изящно приоткрыл рот и улыбнулся. — Вы играете в шахматы, доктор. — Это не было вопросом. Мужчина протянул Солу колечко лука. Тот ответил ему изумленным взглядом. Проглотив то, что было у него во рту, Лугар продолжил: — Если вы хоть немного знаете эту игру, то должны правильно оценить происходящее в настоящий момент. — Вы воспринимаете это как игру? — Конечно. Любой другой взгляд означал бы слишком серьезное отношение к жизни и самому себе. — Я найду и убью вас, — тихо произнес Сол. Дженсен Лугар кивнул и еще раз откусил от своего чизбургера. — Если бы мы встретились лично, я не сомневаюсь, что ты попытался бы это сделать. Но сейчас у тебя нет выбора. — Что вы имеете в виду? — А то, что прославленный президент клуба, эвфемистически называемого Клубом Островитян, некий мистер К. Арнольд Барент запрограммировал тебя с единственной целью — убить кинопродюсера, которого и так все уже считают мертвым. Чтобы скрыть свое смущение, Сол отхлебнул холодного кофе. — Барент не делал этого. — Конечно же, сделал, — заверил Лугар. — У него не было других причин лично встречаться с тобой. Как ты думаешь, сколько времени длился ваш разговор? — Несколько минут, — ответил Сол. — Скорее, несколько часов. Обработка преследовала две цели — убить меня и обезопасить мистера Барента от твоих последующих возможных действий. — То есть? Лугар доел последнее колечко лука. — Попробуй сыграть в простейшую игру. Представь себе мистера Барента, а потом представь, как ты набрасываешься на него. Сол нахмурился, но попытался представить. Это оказалось очень сложным. Когда он вспомнил Барента, спокойного, загорелого, безмятежно глядящего на море с мостика корабля, то, к собственному изумлению, испытал вдруг симпатию и расположение к нему. Усилием воли Сол заставил себя представить, как причиняет боль Баренту, бьет его кулаком по гладкому красивому лицу... и вдруг согнулся от внезапного приступа боли и тошноты. Он чувствовал, что его вот-вот вырвет. На лбу выступила испарина. Сол протянул дрожащую руку к стакану с водой и принялся судорожно пить, стараясь отвлечься. Комок боли и спазмы медленно рассасывались в животе. — Интересно, да? — осведомился Лугар. — В этом и заключается основная сила мистера Барента. Ни один человек, лично встречавшийся с ним, не может потом пожелать ему зла. Служить мистеру Баренту — это настоящее удовольствие для очень многих людей. Сол допил воду и вытер салфеткой пот со лба. — Зачем же вы с ним боретесь? — Борюсь с ним? О нет, моя дорогая пешка. Я не борюсь с ним, я с ним играю. — Лугар огляделся. — Пока они еще не установили микрофонов достаточно близко, чтобы прослушивать наш разговор, но через минуту к ресторану подъедет фургон, и интимность нашей беседы будет нарушена. Нам пора прогуляться. — А если я откажусь? Дженсен Лугар пожал плечами. — Через несколько часов игра станет действительно очень интересной. Там-то тебе и уготована роль. Если ты хочешь «отблагодарить» людей, которые уничтожили твоего племянника и его семью, тебе лучше последовать за мной. Я предлагаю тебе свободу... по крайней мере от них. — Но не от вас? — От себя — нет, моя дорогая пешка. Ну давай, пора решаться. — Когда-нибудь я убью вас, — процедил Сол. Лугар ухмыльнулся, натянул перчатки и надел зеркальные очки. — Ja, ja. Так ты идешь? Сол встал и посмотрел в окно. У входа в ресторан притормозил зеленый фургон. Он повернулся и вышел на улицу вслед за Дженсеном Лугаром. За Джермантаун-стрит тянулись узкие кривые переулки. Когда-то высокие обшарпанные здания, обрамлявшие их, вероятно, выглядели довольно симпатично — некоторые из них напомнили Солу узкие фахверковые дома Амстердама. Теперь же они превратились в перенаселенные трущобы. Крохотные магазинчики и деловые конторы, наверное, когда-то были центром общественной жизни — гастрономчики, бакалейные лавки, семейные обувные мастерские. Теперь в их витринах рекламировались дохлые мухи. В некоторых разместились дешевые квартирки; в одной такой витрине стоял чумазый мальчик лет трех, прижавшись лицом и грязными руками к стеклу. — Что вы имели в виду, когда говорили, что «играете» с Барентом? — Сол оглянулся, но зеленого фургона не заметил. Хотя это ничего не значило — Сол не сомневался, что они находятся под наблюдением. Ему же нужно было лишь одно — найти оберста. — Мы играем в шахматы. — Лугар повернулся к нему лицом, и Сол увидел собственное отражение в зеркальных стеклах его очков. — А ставки — наши жизни, — добавил Сол. Он мучительно пытался придумать способ, как заставить оберста выдать свое местонахождение. Лугар рассмеялся, обнажив крупные белые зубы. — Нет-нет, моя маленькая пешка, — возразил он на немецком. — Ваши жизни ничего не значат. Ставки определяет тот, кто устанавливает правила игры. — Игры, — автоматически повторил Сол. Они перешли на другую сторону улицы. Она была пустынна, если не считать двух толстых негритянок, выходивших из прачечной за несколько кварталов от них. — Наверняка тебе известно о Клубе Островитян и его ежегодных играх, — голосом оберста проговорил Лугар. — Герр Барент и эти остальные трусы испугались принять меня в игру. Они знают, что я потребую вести ее с большим размахом. Который соответствовал бы Игре... Ubermenschen. Суперменов по-вашему. — Вам не хватило этого во время войны? Лугар снова осклабился. — Ты все время норовишь спровоцировать меня. Глупое занятие. — Они остановились перед шлакобетонным зданием неопределенного назначения рядом с прачечной. — Мой ответ — «нет»! Мне не хватило того, что было во время войны. Клуб Островитян считает, что может претендовать на власть лишь в силу того, что оказывает влияние на государственных деятелей, народы, экономику. Влияние! — Лугар сплюнул на тротуар. — Когда я буду диктовать условия игры, они узнают, чего можно достичь с помощью настоящей власти. Мир — это шмат гнилого, изъеденного червями мяса, пешка. Мы очистим его огнем. Я покажу им, что значит играть армиями, а не жалкими суррогатами. Я покажу им, как с потерей одной фигуры разрушаются целые города, как по прихоти Игрока уничтожаются или становятся рабами целые народы. И я покажу им, что значит вести эту Игру в масштабах земного шара. Мы все умрем, пешка, но вот чего герр Барент не понимает, так это то, что миру вовсе незачем существовать после нас. После нас — хоть потоп! Сол замер с широко раскрытыми глазами. Холодный ветер продувал его до костей, он весь продрог и от него, и от этих слов. — Ну, вот мы и пришли, — произнес Лугар и достал связку ключей, чтобы открыть дверь какого-то неказистого дома, возле которого они остановились. Он вошел в темную, затхлую прихожую и жестом пригласил за собой Сола. — Ты идешь, пешка? Сол нервно сглотнул. — Вы еще более безумны, чем я думал, — прошептал он. Лугар кивнул. — Возможно. Но если ты пойдешь со мной, ты сможешь продолжить игру, увы, не ту, которая будет вестись-с большим размахом. В ней тебе места не найдется. Но твоя неизбежная жертва даст ей возможность состояться. Если ты сейчас пойдешь со мной... по собственной воле... мы удалим эти штучки, которыми снабдил тебя герр Барент, и ты сможешь продолжать служить мне как верная пешка. Сол некоторое время стоял на холоде, сжимая кулаки и чувствуя пульсирующую боль в левой руке, там, где было вживлено устройство, затем собрался с силами и шагнул во тьму. Лугар улыбнулся и запер дверь на задвижку. В тусклом свете первого этажа был виден пол, усеянный опилками, и несколько погрузочных подставок. Наверх вела широкая деревянная лестница. Лугар указал на нее, и они двинулись к ступенькам. — О Господи, — вырвалось у Сола. Сквозь мутное стекло в потолке просачивался слабый дневной свет. В комнате стояли стол и четыре стула. Два из них были заняты обнаженными трупами. Сол подошел ближе и осмотрел тела, которые окоченели и застыли в тисках Ригор Мортис. Один был негром, приблизительно такого же роста и телосложения, как Лугар. Его открытые глаза былиподернуты пленкой смерти. Другой — белый, на несколько лет старше Сола, подбородок скрывала бородка, волосы уже значительно поредели. Нижняя челюсть у него отвисла. Под кожей щек и носа просвечивали разорвавшиеся капилляры, что указывало на развитую стадию алкоголизма. Лугар снял с себя пальто. — Наши doppelgangers? Двойники? — осведомился Сол. — Естественно, — ответил оберет устами Лугара. — Я удалил уже почти все или по крайней мере большинство маниакальных механизмов, внедренных в твой мозг герром Барентом. Ты готов продолжить, пешка? — Да, — ответил Сол. «Продолжить искать способы разделаться с тобой», — подумал он про себя. — Очень хорошо, — откликнулся Лугар и посмотрел на часы. — Прежде чем мистер Колбен решит присоединиться к нам, у нас есть полчаса. Этого должно хватить. — Он поставил портфель на стол рядом с трупом черного и щелкнул замками. Сол увидел, что портфель заполнен той же пластиковой взрывчаткой, которая была и у Харрингтона. — Хватит на что? — поинтересовался Сол. — На приготовления. Из этого здания в подвал соседнего дома ведет никому не известный подземный ход. А из подвала есть выход в старую городскую канализационную систему. Мы сможем уйти по ней лишь на квартал отсюда, но это находится уже за пределами непосредственного круга их наблюдения. Там меня будет ждать машина. Ты можешь присоединиться ко мне, и я отвезу тебя куда угодно. — Вы такой умный, что становится тошно, — признался Сол. — Ничего не получится. — Да ну? — тяжелые брови Лугара поползли вверх. Сол снял пальто и закатал рукав рубашки. Бинт слегка пожелтел от мази. — Они что-то вживили в меня вчера. Я думаю, это радиопередатчик. — Конечно, — кивнул Лугар и достал из портфеля сверток из зеленой ткани. Когда он его развернул, в тусклом свете замерцали хирургические инструменты и бутылка йода. — Процедура займет не больше двадцати минут, не правда ли? Сол взял в руки скальпель в стерильной упаковке. — Я так понимаю, вы это возьмете на себя? — Если ты настаиваешь, — сказал Лугар, — но предупреждаю, я никогда не занимался медициной. — Значит, я получу массу удовольствия. — Сол осмотрел содержимое портфеля и поднял взгляд на Лугара. — Ни шприцев? Ни местной анестезии? В зеркальных очках негра отразилось пустое помещение склада. Его тяжелое лицо не выражало ровным счетом ничего. — К несчастью, нет. Во сколько вы оцениваете свою свободу, доктор Ласки? — Вы сумасшедший, герр оберет. — Сол уселся за стол, разложил инструменты и подвинул к себе поближе бутылку с йодом. Лугар вытащил из-под стола спортивную сумку. — Сначала мы должны переодеться, — сказал он. — На случай, если тебе позднее этого не захочется. Когда трупы были одеты в их одежду, а Сол натянул на себя мешковатые джинсы, черный свитер с высоким горлом и тяжелые ботинки, которые были ему малы на полразмера, Лугар сообщил: — Осталось восемнадцать минут, доктор. — Садитесь, — распорядился Сол. — Сейчас я подробно объясню, что вы должны делать, если я потеряю сознание. — Он вытащил из сумки упаковку бинта. — Вам нужно будет закрыть рану — Как скажете, доктор. Сол покачал головой, взглянул на окошко в потолке, потом посмотрел на руку и одним уверенным движением скальпеля сделал первый надрез. Сознание он не потерял. Несколько раз он вскрикнул, но сразу же после того, как детали передатчика были отделены от мышечной ткани, он склонился, и его стошнило. Лугар наложил на рану грубые швы, перебинтовал ее и заклеил пластырем, а затем накинул на полубесчувственного психиатра мешковатое пальто. — Мы уже опаздываем на пять минут, — прошипел Лугар. — Поторапливайся. Цементный пол казался монолитным, но, оказывается, в дальнем углу был люк, скрытый погрузочными подъемниками. Когда Лугар открывал крышку, послышался вой вертолета и отдаленный стук. — Пошевеливайся! — приказал негр в сгустившейся тьме. Сол попытался спуститься, вскрикнул от пронзившей его боли в руке и кубарем полетел вниз. Оглушительный взрыв, раздавшийся наверху, засыпал его голову и лицо штукатуркой и паутиной. — Давай! — бросил негр и подтолкнул Сола. Они наткнулись на цементные плиты, Лугар с легкостью отодвинул их в сторону, поднял Сола на ноги в темном подвале, пропахшем плесенью и старыми газетами, и заставил его двигаться дальше. Они пролезли в щель и поползли — руки и ноги Сола погрузились в ледяную воду, он то и дело натыкался в темноте на что-то скользкое и липкое. Дважды он поскользнулся и ударился левым плечом, намочив при этом пальто. Лугар лишь смеялся и продолжал подталкивать его сзади. Сол закрыл глаза и стал думать о Собибуре — о людях, кричавших от ужаса, о Рве, о тишине леса. Совиный лес... Собибур... Наконец проход расширился, и они смогли подняться на ноги. Под руководством Лугара они сделали еще сотню шагов, свернули направо в более узкий проход и остановились под решеткой. Лугар своими огромными ручищами принялся сдвигать ее в сторону. Сол щурился в слабом свете, пытаясь унять головокружение, потом запустил руку в карман пальто и нащупал холодную рукоять скальпеля, который он прихватил с собой, пока Лугар устанавливал часовой механизм в своем портфеле. — Ну вот, — выдохнул негр и наконец-то сдвинул решетку в сторону. Обе его руки все еще были подняты. Какое удобное положение — одежда вздернута, черный живот обнажен. Сол изловчился и хотел проткнуть его одним ударом скальпеля. Но реакция оберста в обличье Дженсена Лугара оказалась мгновенной — схватив лапищей Сола за предплечье, негр остановил лезвие в трех дюймах от своего живота. Мало того, цыкнув сквозь зубы, он с такой силой сжал в кулаке кровоточащую левую руку Сола, что у того от жуткой боли перехватило дыхание, он упал на колени, перед глазами поплыли красные круги. Лугар спокойно вынул скальпель из его обессилевшей руки. — Нехороший, нехороший Mein Kleine Jude, — прошептал он. — Auf Wiedersehen. На секунду огромное тело Лугара заслонило свет, и он исчез. Сол остался стоять на коленях, склонив голову к воде и холодному камню и изо всех сил цепляясь за уплывающее сознание. «Зачем? — думал он. — Зачем за него цепляться? Отдохни, ты устал». «Заткнись!» — рявкнул он сам себе. Прошла целая вечность, прежде чем он встал, дотянулся до решетки здоровой рукой и попытался вылезти. От частых падений джинсы у него промокли насквозь. С пятой попытки ему наконец удалось выбраться на свет божий. Дренажный люк оказался за металлическим мусорным баком, стоявшим в узком проулке. Сол не мог сориентироваться. Наверх по склону тянулись ряды одноквартирных домов. Он прошел примерно с полквартала, когда снова почувствовал головокружение и остановился. Рана на руке открылась, кровь, просочившись через плотный рукав пальто, уже запачкала всю левую полу. Сол оглянулся и непроизвольно рассмеялся, увидев за собой отчетливый алый след. Он зажал руку и прислонился к стеклянной витрине заброшенного магазина. Тротуар под его ногами ходил ходуном, как палуба крохотного суденышка в бушующем море. Темнело. В свете отдаленного фонаря светлячками бились в воздухе снежинки. По тротуару к Солу приближалась крупная темная фигура. Он прижался к дверному проему магазинчика, съехал спиной по грубой стене на тротуар, обхватил колени и изо всех сил постарался стать невидимкой, вжавшись в стену, словно обычный алкоголик, прибегающий к подобного рода укрытиям. Как раз в тот момент, когда прохожий не спеша миновал дверной проем, Сол снова ощутил нестерпимую боль в левой руке и заскрипел зубами. Прохожий прошел мимо, сжимая в руке какой-то тяжелый металлический предмет. Сол чувствовал, как проваливается во тьму, откуда его не в силах были вытащить ни эти тяжелые шаги, ни опасность, которая могла исходить от этого незнакомца. Уже ничто не страшило его — оберет и такие как он все равно будут жить и править миром. И он... он уже не в силах предотвратить этот ужас... Они сильнее. Они... Боль все еще не давала Солу забыться в приятном беспамятстве. Луч фонарика ослепил его. Заслонив улицу и весь мир, над ним нависло огромное тело прохожего. Сол сжал правый кулак, пытаясь выбраться из увлекающей его воронки небытия. Тяжелая рука опустилась на его правое плечо. — Боже милостивый, — услышал он спокойный знакомый голос. — Доктор Ласки, это вы? Сол кивнул, чувствуя, как голова его валится на обледенелый асфальт. Глаза его закрылись, он уже не понимал, что говорит ему этот тихий голос, когда сильные руки шерифа Бобби Джентри подхватили его, как младенца, и понесли.Глава 17
Джермантаун Вторник, 30 декабря 1980 г. Джентри казалось, что он сошел с ума. Пока он бежал к Общинному дому, он жалел лишь об одном — что не может убедиться в этом, пока Сол без сознания. Мир для Джентри превратился в какую-то кошмарную паранойю, где были окончательно разрушены какие-либо причинно-следственные связи. Близнец по имени Г. Б, остановил шерифа, когда тот был в полуквартале от дома. Джентри глянул на направленное в его сторону дуло грубого револьвера и рявкнул: — Пропусти! Марвин знает, что я должен вернуться. — Да, но он не знает, что ты тащишь с собой какого-то дохлого ублюдка. — Он жив, он сможет помочь нам. Если он умрет, то, не сомневайся, тебе придется отвечать перед Марвином. А теперь дай мне пройти. Г. Б, медлил. — Пошел ты к черту, свинья, — произнес он наконец и отошел в сторону. Прежде чем добраться до дома, Джентри миновал еще трех караульных. Марвин расставил охрану ярдов на сто во всех направлениях. Любая неопознанная машина в пределах квартала должна была подвергнуться обстрелу, если отказывалась добровольно уехать. Зеленый фургон, наполненный черт знает каким количеством белых, потратил всего полминуты на рассмотрение ультиматума Лероя, прежде чем удалиться на полной скорости. Возможно, их убедила литровая бутылка «Шелла», которую Лерой держал откупоренной в правой руке. Вечер же понедельника стал прелюдией к кошмару. Марвин и остальные возвращались в Общинный дом проходными дворами и глухими переулками, Лерой истекал кровью от десятка мелких пулевых ранений. За исключением Марвина, все находились на грани истерики после перестрелки в Ропщущей Обители. Марвин собирался послать Джексона или Тейлора с грузовиком обратно, чтобы забрать трупы Кельвина и форели, но паника, с которой те столкнулись в Общинном доме, заставила их забыть об этом на много часов. Когда же наконец перед самым рассветом грузовик все же поехал к старинному зданию, пятерых трупов на месте уже не оказалось, а на втором и третьем этажах остались лишь запекшиеся пятна крови. Представители власти, конечно же, отсутствовали. Когда они вернулись, в Общинном доме царил жуткий бедлам. Обитатели палили без разбору в любую тень. Кто-то потушил горевшие автомобили, но весь квартал был окутан клубами дыма, словно на него опустилось облако смерти. — Он был здесь, старик, этот белый ублюдок с косой... здесь, прямо в доме, проник как привидение и действительно сильно ранил Кару, старик... А Раджи видел, как он бежал за той малюткой, ну... той, с камерой, через двор, старик, и... — брызгал слюной Тейлор, едва они вошли в дом. — Где Кара?! — заорал Марвин. За все это время Джентри впервые услышал его крик. Тейлор сказал, что Кара наверху, на матраце за занавеской, и что она действительно сильно ранена. Джентри поспешил за Марвином наверх. Большинство членов банды молча взирали на обезглавленное тело пастора Вудса, лежавшее на бильярдном столе, но Марвин и Джексон прямиком прошли туда, где без сознания лежала Кара. Над ней хлопотали четыре девушки-негритянки. — Похоже, дела плохи, — сказал Джексон, осмотрев Кару. Прекрасное лицо девушки изменилось почти до неузнаваемости — лоб немыслимо раздулся, глаза остекленели. — Надо ехать в больницу. Пульс и давление падают. — Эй, старик, — попробовал возразить Лерой, демонстрируя правую руку и ногу, покрытые окровавленными ранами. — Я тоже ранен. Давай я поеду с тобой, чтобы меня вылечили и... — Заткнись! — рявкнул Марвин. — Собери этих идиотов. И чтоб никто сюда не подобрался ближе чем на полквартала, усек? Скажи Шерману и Эдуарде, чтобы отправлялись в «Собачий город» — пусть разыщут Мэнни. Нам нужно подкрепление, которое он обещал нам еще прошлой зимой, когда мы помогли ему с Пасториусом. Они нужны нам прямо сейчас. Скажи Вымогателю, пусть соберет все малолитражки и вспомогательные средства, которые он может предоставить. Я хочу знать, где находится эта долбаная мадам Буду! Пока Марвин отдавал распоряжения, а Джексон осторожно спускал Кару вниз, Джентри отвел Тейлора в сторону и спросил с искаженным от страдания лицом: — Где Натали? Парень покачал головой, а потом резко выдохнул, когда шериф сжал его бицепс: — Черт, старик. За ней гонится вонючий ублюдок. Раджи видел, как они бежали через двор, а потом скрылись между брошенными домами, старик. Темно было, ни хрена не видно... Мы бросились за ним, они оба как в воду канули, честно... — Когда это произошло? — Джентри еще крепче сжал руку парня. — Черт! Больно же!.. Минут двадцать назад. Может, двадцать пять. Джентри быстро спустился вниз и успел перед уходом перехватить Марвина. — Мне нужен мой «ругер»!! — повелительным тоном сказал он. Главарь банды посмотрел на него ледяными посветлевшими глазами. — Этот сукин сын с косой гонится за Натали, и я иду туда. Отдай мне «ругер». — Он протянул руку. В правой руке Лероя тут же оказался обрез. Глядя на Марвина, он поднял дуло и направил его на шерифа, ожидая от главаря лишь кивка. Марвин спокойно вытащил тяжелый «ругер» из кармана и подал Джентри. — Убей его, старик. — О'кей. — Джентри поднялся наверх, вытащил дополнительную коробку патронов и перезарядил оружие. Гладкие тяжелые пули «магнум» легко проскальзывали от прикосновений его пальцев. Он заметил, что рука у него дрожит. Наклонившись вперед, он начал глубоко дышать, пока не утихла дрожь, после чего спустился вниз за фонариком и вышел из Общинного дома в сгущавшуюся ночь. Сол Ласки пришел в себя, когда Джексон принялся осматривать его рану. — Похоже, кто-то поработал над тобой консервным ножом, — заметил бывший медик. — Дай мне другую руку. Я вколю тебе ампулу морфина, а потом уж займусь этим. Сол откинулся на матрац. Темные усы подчеркивали меловую бледность его лица. — Спасибо, — прошептал он через силу. — Спасибо мало чего стоит, — усмехнулся врач-недоучка. — Оплатишь мне по счету. Тут есть братишки, которые готовы убить любого за такую ампулу. — И он быстрым и уверенным движением ввел иглу в вену. — Вы, белые парни, не умеете заботиться о собственных телах. Джентри старался говорить быстро, чтобы успеть до того, как психиатр уплывет в заоблачные дали вследствие действия наркотика. — Какого черта вы оказались в Филадельфии, а, док? Сол только покачал головой. — Это длинная история. Во всем этом участвуют гораздо больше людей, чем я думал, шериф... — Мы это как раз сейчас выясняем, — ответил Джентри. — Вам удалось узнать, где находится этот чертов оберет? Джексон закончил промывать рану и принялся накладывать новые швы. Сол глянул на руку и отвернулся. Говорить ему было невыносимо трудно, губы едва шевелились: — Не совсем... Но он где-то здесь... Поблизости. Я только что встретил негра по имени Дженсен Лугар... Он долгие годы был агентом оберста. Он и говорит по-немецки, как Борхерт... И делает все, что тот ему приказывает... А те... Колбен и Хейнс... отпустили меня, чтобы я вывел их на фон Борхерта... Вилли Бордена... Они тоже охотятся за ними... — Хейнс! — в ярости повторил Джентри. — Черт, я сразу понял, что не нравится мне этот сукин сын! Сол облизнул пересохшие губы. Голос его становился все более замедленным и тягучим. — А Натали?.. Она тоже здесь? Джентри отвернулся. — Была здесь. Ее кто-то выманил отсюда... двадцать четыре часа назад... Куда-то загнали... Сол попытался сесть. Джексон выругался и толкнул его на матрац. — Она... она ж-жива? — выдавил из себя Сол. — Не знаю. Я обшарил всю округу. — Джентри потер глаза. Он не спал уже почти двое суток. — Вряд ли Мелани Фуллер, убив столь многих людей, сохранит жизнь Натали, — промолвил он. — Но что-то заставляет меня продолжать поиски. Просто у меня есть какое-то ощущение... Если ты расскажешь все, что тебе известно, тогда, может, мы вместе... — Джентри умолк. Он увидел, что Сол Ласки погрузился в глубокий сон. — Как Кара? — спросил шериф, входя на кухню. Марвин поднял голову от стола, на котором была расстелена дешевая карта города, придавленная пивными банками и пакетами с чипсами. Рядом с ним сидел Лерой — сквозь его разорванную одежду белели бинты. То и дело входили и выходили разные посланцы, но в доме царила тихая деловая атмосфера, ничем не напоминавшая неразбериху вчерашнего дня. — Плохо, — ответил Марвин. — Врачи говорят, что она ранена тяжело. Сейчас у нее Кассандра и Шелли. Если будут какие-нибудь перемены, они сообщат. Джентри кивнул и сел. Он чувствовал, что им овладевает усталость, накладывая на все тусклый глянец. Он потер лицо. — Тот человек, что наверху... Он поможет тебе найти твою малышку? — Не знаю. — Джентри качнул отяжелевшей головой. — А нам он может помочь найти эту суку... мадам Буду? — Возможно. Джексон говорит, что он придет в себя через пару часов. У вас есть что-нибудь новое? — Это дело времени, старик, — ответил Марвин. — Всего лишь дело времени. Наши девочки и помощники обходят сейчас каждый дом. Белой старухе не удастся остаться незамеченной. А как только мы найдем ее, сразу начнем действовать. Джентри постарался сосредоточиться на том, что он собирался сказать. Говорить становилось все труднее — слова разбегались, язык заплетался. — Ты знаешь об остальных... федеральных войсках? Марвин рассмеялся резким, каким-то истеричным смехом. — Да, конечно, они тут рыщут повсюду. Но зато они не пускают сюда местных свиней и телевизионщиков, так? — Наверное, — согласился Джентри. — Но я хотел сказать, что они не менее опасны, чем эта Мелани Фуллер. Некоторые из них обладают такими же... такими же способностями, как она. И охотятся они за человеком, который еще более опасен. — Ты считаешь, они тоже приложили свою руку к Братству Кирпичного завода, старик? — спросил Марвин. — Нет. — Они имеют какое-нибудь отношение к белому ублюдку? — Нет. — Тогда они могут немного подождать. А если сунутся, то и им перепадет от нас. — Речь идет о сорока-пятидесяти федеральных полицейских в штатском, — усмехнулся Джентри. — Обычно они вооружены до зубов. Марвин пожал плечами. В комнату вбежал какой-то парень и что-то зашептал на ухо. Главарь выпрямился и спокойным голосом быстро отдавал четкие распоряжения. Джентри поднял банку и, обнаружив, что в ней осталось теплое пиво, сделал глоток. — Ты не думал, что, может быть, лучше уйти, пока это еще возможно? — спросил он. — Я имею в виду — оставить их всех, и пусть эти маньяки перегрызут горло друг другу, а? Марвин посмотрел шерифу в глаза. — Старик, — произнес он почти шепотом, — ты ничего не понял. Нас уже давно преследуют белые, правительство, все эти свиньи и грязные местные политики. Так было всегда... И то, что этот белый ублюдок творит с черными, не ново... Но он творит это на нашей территории, понял, старик? Вы с Натали утверждаете, что на самом деле это дело рук мадам Вуду, и я думаю, что так оно и есть. Похоже, по крайней мере. Но не одна мадам Вуду. За ней стоят другие, которые тоже с радостью обосрут нас. Они и так занимаются этим постоянно. Но здесь — Братство Кирпичного завода. Они убивают наших людей, старик — Мухаммеда, Джорджа, Кельвина... может, и Кара умрет... За это они должны заплатить! Мы все равно убьем белого ублюдка и эту старую суку. — Марвин сжал кулаки. — Мы ни от кого не ждем помощи. Но если ты хочешь быть с нами, старик, оставайся. — Да, я хочу быть с вами, — хрипло сказал Джентри. И его собственный голос показался ему таким же тягучим и замедленным, как у Сола Ласки, уплывающего на волнах морфия. Марвин кивнул и встал. Подойдя к шерифу, он крепко взял его за руку, поднял на ноги и подтолкнул к лестнице. — А что тебе надо сейчас, старик, так это поспать. Если что-нибудь начнется, мы тебя разбудим.* * *
Джексон разбудил его в половине шестого утра. — Твой друг проснулся, — сообщил шерифу бывший медик. Джентри поблагодарил его и несколько минут просидел на краю матраца, обхватив голову руками и пытаясь хоть что-то соображать. Перед тем как пойти к Солу, он проковылял вниз, приготовил кофе в древней кофеварке и вернулся обратно с двумя дымящимися чашками. В различных помещениях похрапывали человек двенадцать. Ни Марвина, ни Лероя видно не было. Сол взял чашку и поблагодарил Джентри. — Я проснулся и решил, что мне все приснилось, — признался он. — Мне казалось, я сплю в своей квартире и меня уже ждут студенты в университете. А потом я почувствовал это... — Он приподнял свою перебинтованную левую руку. — Как же все произошло? — спросил Джентри. — Знаете, что я скажу вам, шериф, — промолвил Сол, отхлебнув кофе. — Мы заключим сделку. Я начну с самых важных сведений. Потом то же самое сделаете вы. Если наши истории каким-то образом совпадут, мы продолжим. Согласны? — О'кей. — Джентри кивнул. Они проговорили часа полтора и еще полчаса задавали друг другу вопросы. Когда с этой «пресс-конференцией» было покончено, Джентри помог Солу встать. Они подошли к зарешеченному окну и выглянули наружу — на улице едва брезжил рассвет. — Канун Нового года, — заметил Джентри. Сол поднял руку, чтобы по привычке поправить очки, и вдруг осознал, что их нет. — Все это слишком невероятно, не правда ли? — Да, — согласился Джентри. — Но Натали Престон где-то здесь, и я не уеду из этого города, пока не найду ее. — Они отыскали очки Сола, а затем спустились вниз, чтобы раздобыть что-нибудь из еды. Марвин и Лерой вернулись в десять утра, оживленно беседуя с двумя латиноамериканцами. У тротуара стояло три автомобиля, до отказа забитых «чикано», которые пытливо рассматривали негров, столпившихся на крыльце Общинного дома. Члены черной банды также обменивались с прибывшими любопытными взглядами. Кухня превратилась в боевой штаб, и входить в нее было можно лишь по особому приглашению. Сола и Джентри позвали минут через двадцать после того как отбыли латиноамериканцы. Марвин, Лерой, один из близнецов и еще с полдюжины парней встретили их молчаливыми взглядами. — Как Кара? — спросил Джентри. — Она умерла. — Марвин с горечью посмотрел на Сола. — Ты сказал Джексону, что хотел бы поговорить со мной. — Да, — кивнул Сол. — Мне кажется, вы можете помочь мне найти то место, где меня держали. Оно не должно быть слишком далеко отсюда. — Зачем нам это надо? — Там находится Центр управления ФБР, оккупировавшего округу. — Ну и что? Пошли они куда подальше!.. Сол пощипал бороду. — Я думаю, что им известно, где находится Мелани Фуллер. Марвин поднял голову. — Ты уверен? — Нет, — ответил Сол, — но, судя по тому, что я видел и слышал, очень похоже. Мне кажется, оберет по каким-то своим причинам навел их на ее след. — Этот оберет — твой мистер Буду? — Да. — На улицах масса правительственных свиней. И всем им известно, где находится мадам Буду? — Возможно, — ответил Сол, — но если бы мы могли попасть в Центр управления... и с кем-нибудь поговорить там... нам удалось бы подробнее все выяснить. — Расскажи мне об этом Центре, старик, — по просил Марвин. — Он находится на открытой местности в восьми минутах езды отсюда, — начал Сол. — Кажется, там постоянно курсирует вертолет. Строения временные. , возможно, передвижные дома или что-то вроде трейлеров, которые используют строители.* * *
В шлеме и перчатках Сол, вместе с Джентри и еще с пятерыми парнями, вышел из дому. Шериф полагал, что если Колбен и Хейнс считают Сола погибшим, они вряд ли смогут узнать его в таком виде. Забравшись в грузовик Вудса, они доехали на нем до Джермантаун-стрит, потом свернули к югу на Челтен и еще раз на запад на улицу без названия, ведущую к складам. — За нами следует синий «форд», — предупредил Лерой, который вел машину. — Давай, — распорядился Марвин. Трясясь и подпрыгивая, грузовик пересек захламленную стоянку и притормозил у осевшего ржавого сарая, в котором смогли поместиться лишь Марвин, Сол, Джентри и один из близнецов, да и тому пришлось затаиться в тени открытой двери. Грузовик быстро набрал скорость и свернул на восток, в узкую улочку. Через мгновение мимо проревел синий «форд» с тремя белыми пассажирами. — Сюда, — скомандовал Марвин и направился через пустырь, заваленный канистрами и хламом, к свалке, на которой высились горы расплющенных автомашин. Марвин и один из близнецов быстро взобрались на верхотуру, у Джентри же и Сола на это ушло гораздо больше времени. — Это здесь? — спросил Марвин, когда Сол, преодолев последние шесть футов, наконец замер на шаткой вершине, опираясь на плечо шерифа, чтобы не упасть. Марвин протянул психиатру маленький бинокль. Впереди виднелся высокий деревянный забор, ограждавший чуть ли не полквартала. К югу располагался вырытый котлован, залитый бетоном. Рядом в бездействии покоились два бульдозера, экскаватор и еще какое-то более мелкое оборудование. В центре буквой П высилось несколько трейлеров, неподалеку от которых стояли семь машин и спецфургон. Над центральным трейлером болталась микроволновая антенна. Далее, на открытом пространстве, виднелся круг, выложенный красными фонарями, с металлического шеста безвольно свисал ветровой конус. — Похоже, — кивнул Сол Ласки. Пока они наблюдали, из центрального трейлера вышел мужчина в рубашке и поспешно направился к туалетам, расположенным ярдах в двадцати от машин. — Это один из ублюдков, с которыми ты бы хотел поговорить? — спросил Марвин. — Вероятно, — откликнулся Сол. Заметить их среди гор ржавого металла почти наверняка было невозможно, и тем не менее Джентри поймал себя на том, что все они вдруг присели, укрывшись за колесами и расплющенными кабинами машин. — Темнеть начнет только часов через пять. — Марвин взглянул на часы. — Тогда и займемся этим. — Черт побери! — прорычал Джентри. — Неужели нужно так долго ждать? Словно в ответ на его слова в облаках появилось узкое тело вертолета, который, описав дугу над полем, приземлился в световом круге. Из дверцы вертолета выскочил человек в толстом пуховике и бегом бросился к командному трейлеру. Сол снова взял у Марвина бинокль и различил круглую физиономию Чарлза Колбена. — Вот с этим человеком встречаться не следует, — объяснил он. — Надо дождаться, пока он снова отчалит. Марвин пожал плечами. — Давайте выбираться отсюда, — сказал Джентри. — Я пойду искать Натали. — Я с тобой, — приглушенным голосом добавил Сол.* * *
— Вы ищете ее труп? — спросил Сол Ласки, когда они заглянули в развалины еще одного полуразрушенного дома. Джентри прислонился к обвалившейся кирпичной стене. Сквозь проваленный потолок над их головами виднелись последние проблески тусклого дневного света. — Да, наверное, — вздохнул он. — Полагаете, та пешка Мелани Фуллер убила ее и оставила труп в каком-нибудь таком месте? Джентри заряженный до отказа «ругер». Предохранитель был снят. Утром он дважды смазал все части, механизм работал безупречно. — По крайней мере, тогда не останется никаких сомнений. Зачем старухе сохранять ей жизнь, Сол? — Одна из проблем с психически ненормальными людьми заключается в том, что их мыслительные процессы непредсказуемы, — ответил Сол, устроившись рядом на обломках кирпичной кладки. — Полагаю, это к лучшему. Если бы мы полностью осознавали деяния маньяков, мы бы несомненно сами приблизились к состоянию безумия. — Вы уверены, что Фуллер психически ненормальна ? Сол растопырил пальцы на правой руке и натянул на лоб шлем, так что тот стал походить на бугристую кепку. — Все имеющиеся у нас данные подтверждают, что она — маньяк, одержима дьявольской силой. Сложность заключается не в том, что она пребывает в замкнутом мирке искаженных представлений о действительности, а в том, что ее способности дают ей возможность поддерживать и подкреплять эти представления. — Он поправил очки. — По сути, та же проблема возникла с нацистской Германией. Психоз подобен вирусу. Он может размножаться и распространяться самопроизвольно, когда организм носителя предрасположен к его восприятию. — Вы хотите сказать, то, что натворила в мире нацистская Германия, делалось в основном благодаря таким маньякам, как ваш оберет и Мелани Фуллер? — Вовсе нет. — Сол решительно покачал головой. — Я даже не уверен, можно ли этих людей называть настоящими людьми. Считаю их мутантами — жертвами эволюции, которая в течение миллиона лет поощряла развитие межличностного господства наряду с другими особенностями. Но ориентированные на насилие фашистские общества создаются не оберстами и психопатками типа Мелани Фуллер, и даже не Барентами и Колбенами. — Тогда кем же? Сол махнул рукой по направлению к улице, которая виднелась за разбитыми оконными рамами. — Ребята считают, что в операции участвуют несколько десятков федеральных агентов. Но я думаю, только один из них — Колбен обладает этой странной мутантской способностью. Остальные лишь позволяют разрастаться этому вирусу насилия, выполняя распоряжения и являя собою часть социального механизма. Немцы были большими специалистами по организации и созданию таких механизмов. Лагеря смерти являлись только частью более крупного механизма убийства. И он не был полностью уничтожен, а всего-навсего перестроен, модернизирован, ну и не так откровенен, что ли, в массовом психозе насилия... Джентри встал и подошел к пролому в дальней стене. — Пойдем. Мы еще успеем осмотреть этот квартал, перед тем как стемнеет. Среди обгоревших опор обуглившегося, но так и не снесенного дома они нашли обрывок ткани. — Я уверен, что это от рубашки, которая была на ней в понедельник, — сказал Джентри. Он ощупал ткань и в свете фонарика принялся осматривать пол, усыпанный углем. — Смотрите, здесь масса следов. Похоже, они боролись тут, в углу. Она могла зацепиться за этот гвоздь и порвать рукав рубашки, когда ее отшвырнули к стене. — Или если ее тащили на плече, — добавил Сол. Он прижимал к себе саднящую левую руку. Лицо его было очень бледным. — Давай посмотрим, нет ли следов крови или... еще чего-нибудь. В угасающем свете дня они внимательно осмотрели помещение, но больше ничего не нашли. Они вышли на улицу и стояли, размышляя, куда же мог направиться похититель Натали в этом лабиринте проулков и полуразрушенных зданий, когда показался Тейлор, который бежал к ним навстречу и махал руками. Джентри взвел курок «ругера». Парень заорал издалека: — Эй вы! Марвин хочет, чтобы вы оба возвращались. Лерой поймал одного из ублюдков из трейлера! И тот сообщил Марвину, где найти мадам Буду!* * *
— Ропщущая Обитель, — процедил Марвин. — Она в Ропщущей Обители. — Что такое Ропщущая Обитель? — осведомился Сол. Джентри и Сол стояли в битком набитой людьми кухне. В коридорах и нижних помещениях тоже толпились члены Братства. Марвин сидел во главе стола и смеялся. — Ага, вот и я тоже спросил: что такое Ропщущая Обитель? Тогда этот ублюдок объяснил мне. Я знаю, где это место. — Это старый дом на Джермантаун, — добавил Лерой. — Действительно очень старый. Он был построен, когда белые еще носили треугольные шляпы. — Кого вы допрашивали? — спросил Сол. Марвин осклабился. — Лерой, Г. Б, и я — мы вернулись обратно, когда стемнело. Вертолета уже не было. Поэтому мы стали ждать у туалетов, когда выйдет кто-нибудь из тех типов. Он просунул свой член в эту дурацкую дырочку на штанах. Но мы с Г. Б, подождали, пока он окончательно не спустил с себя штаны, а потом сказали «привет». Лерой подогнал грузовик сбоку. Мы дали ублюдку сделать свои дела, а потом забрали его с собой. — И где он сейчас? — спросил Джентри. — Все еще в грузовике Вудса. А что? — Я хочу поговорить с ним. — Ага, — усмехнулся Марвин. — Он спит, ублюдок сказал, что он специальный агент, видеотехник, и ничего не знает. Заявил, что не станет разговаривать с нами и что нам здорово влетит за оскорбление федеральной свиньи, и все такое. Лерой и Д. Б, помогли ему разговориться. Джексон считает — с ним все будет в порядке, но сейчас он спит. — А Фуллер, значит, в доме, который называется Ропщущая Обитель на Джермантаун-стрит, — повторил Джентри. — Он уверен в этом? — Да, — ответил Марвин. — Старуха живет с другой белой шлюхой на Квин-Лейн. Я должен был догадаться. Старые шлюхи всегда липнут друг к другу. — Тогда что же она делает в Ропщущей Обители? Марвин пожал плечами. — Федеральная свинья говорит, что последнюю неделю она проводит там все больше и больше времени. Мы рассудили, что белый ублюдок с косой является тоже оттуда. Джентри протолкался вперед сквозь толпу негров и остановился перед Марвином. — О'кей. Мы знаем, где она. Пошли. — Еще рано. — Марвин повернулся к Лерою, намереваясь что-то сказать, но Джентри схватил его за плечо и дернул к себе. — К чертям твое «рано»! Может, Натали Престон все еще жива. Пошли. Марвин поднял на него свои холодные синие глаза. — Отвали, старик. Если уж мы беремся за дело, то беремся как следует. Тейлор сейчас договаривается с Эдуарде и его парнями. Г. Р, и Г. Б, проверяют все вокруг Ропщущей Обители. Лейла с девочками устанавливает места скопления федеральных свиней. — Тогда я пойду один, — упрямо рявкнул Джентри. — Нет, — остановил его Марвин. — Если ты только подойдешь к дому, федеральные свиньи узнают тебя и всякий эффект неожиданности полетит к чертям. Ты будешь ждать нас, или мы вообще оставим тебя здесь, старик. Джентри остановился, и его огромная фигура угрожающе нависла над Марвином. Главарь встал. — Только убив меня, ты сможешь помешать мне, — произнес шериф. — Совершенно верно, — спокойно бросил Марвин. Напряжение на кухне достигло такой стадии, что нависло над всеми и стало физически ощутимым. Кто-то в глубине дома включил радио, на несколько секунд тишину заполнили звуки «Моутауна». — Через несколько часов, старик, — тихо сказал Марвин. — Я знаю, откуда ты. Несколько часов. И мы сделаем это вместе. Огромное тело Джентри начало медленно обмякать. Он протянул свою лапищу главарю, и Марвин крепко пожал ее. — Несколько часов, — повторил Джентри. — Точно так, братишка, — улыбнулся Марвин.* * *
Джентри сидел на матраце на втором этаже и в третий раз за день прочищал и смазывал свой «ругер». Единственным источником света была лампа с разорванным шелковым абажуром. Сукно на бильярдном столе покрывали темные пятна и подтеки. Сол Ласки вошел в освещенный круг, неуверенно огляделся и подошел к Джентри. — Привет, Сол, — произнес Джентри, не поднимая головы. — Добрый вечер, шериф. — Учитывая, сколько всего мы пережили вместе, Сол, я бы предпочел, чтобы ты называл меня Робом. — О'кей, Роб. — Сол впервые улыбнулся. Джентри защелкнул барабан и покрутил его. Осторожно и сосредоточенно, один за другим он начал вставлять патроны. — Марвин уже начал высылать группы, — заметил Сол. — По двое, по трое. — Хорошо. — Я решил, что пойду с группой Тейлора... в командный центр, — сказал Сол. — Я сам вызвался. Чтобы отвлечься. Джентри бросил на него быстрый взгляд, и Сол пояснил: — Это не потому, что я не хочу присутствовать, когда будут брать Фуллер, просто я думаю, они недооценивают, насколько опасным может быть Колбен... — Понимаю, — кивнул Джентри. — Они не сказали, когда все начнется? — Сразу после полуночи. Джентри отложил в сторону револьвер и, свернув матрац, облокотился на него, как на подушку. Заложив руки за голову, откинулся назад. — Новый год, — промолвил он. — Счастливого Нового года... Сол снял очки и протер стекла салфеткой. — Ты ведь довольно близко познакомился с Натали Престон, да? — После твоего отъезда она пробыла в Чарлстоне всего несколько дней, — ответил Джентри. — Но мы... мы прекрасно поняли друг друга... — Замечательная девушка, — подтвердил Сол. — При общении с ней создается впечатление, будто знаешь ее тысячу лет. Очень интеллигентная и тонкая натура. — Да, — согласился Джентри и глубоко вздохнул. — Я все-таки надеюсь, что она жива, — промолвил Сол. Джентри поднял голову к потолку. Тени на нем были как кровоподтеки и напомнили ему разводы на бильярдном столе. — Сол, — прошептал он, — если она жива, я очень хочу вытащить ее из этого кошмара. — Да, надеюсь, ты сделаешь это. Извини, но я хочу пару часов поспать перед началом нашего праздника. — И он направился к матрацу у окна. Некоторое время Джентри упорно разглядывал потолок. Он ждал. Когда наконец его позвали, он уже был готов.Глава 18
Джермантаун Среда, 31 декабря 1980 г. Комната промерзла насквозь, окон в ней не было. Скорее, это была даже не комната, а кладовка — шесть футов в длину, четыре в ширину; с трех сторон пространство было ограничено каменными стенами, с четвертой — мощной деревянной дверью. Натали стучала в нее руками и ногами, покуда они не покрылись синяками и ссадинами, но дверь даже не дрогнула. Она поняла, что массивная дубовая дверь заперта снаружи на болты и засовы. От холода заснуть она не могла. Сначала ее то и дело захлестывали волны ужаса — они накатывали, как приступы рвоты, и причиняли еще большую боль, чем порезы и ссадины на лбу. Она вспомнила, как, сжавшись, сидела за обуглившимися опорами дома и смотрела на приближавшуюся сутулую фигуру с косой. Потом вскочила, запустила в эту тварь кирпичом, который сжимала в руке, и попыталась проскользнуть мимо быстро мотнувшейся тени. Но тут ее схватили за руки. Она закричала и стала лягать парня ногами. Затем последовал сокрушительный удар по голове, потом еще один — в висок, кровь залила ей левый глаз. А потом — ощущение, что ее поднимают и куда-то несут. Клочок неба, снег, раскачивающийся фонарь — тьма, тьма... Очнулась Натали в таком холоде и кромешном мраке, что в течение нескольких минут думала, что ей выкололи глаза. Она выползла из кипы одеял, наваленных на каменном полу, и принялась ощупывать грубо отесанные стены своей камеры. Дотянуться до потолка ей не удалось. На одной из стен она нащупала холодные металлические стержни — вероятно, когда-то на них крепились полки. Через несколько минут она смогла различить более светлые полосы в дверных щелях — не то чтобы оттуда мог просачиваться свет, но просто всепоглощающая тьма обретала хоть какие-то очертания. Натали укуталась в два одеяла и, содрогаясь от холода, вжалась в угол. Голова болела нестерпимо, и она с трудом сдерживала приступы тошноты, которые усиливались от нарастающего чувства страха. Всю жизнь Натали восхищалась своей способностью сохранять спокойствие и мужество в критических ситуациях, мечтая стать такой же, как отец — спокойной, рассудительной в моменты, когда окружающие бессмысленно суетятся, — и вот теперь она беспомощно тряслась от страха, моля неведомого Бога, чтобы тот подонок с косой не вернулся. В камере было сыро и холодно, вдобавок откуда-то немилосердно дуло — ледяной поток воздуха чем-то напоминал влажную затхлость пещеры. Натали не имела ни малейшего представления о том, где находится. Прошло несколько часов; несмотря на дрожь, она задремала, когда вдруг явственно различила свет в щелях двери. Послышался скрежет многочисленных отодвигаемых засовов, и на пороге возникла Мелани Фуллер. Натали не сомневалась, что это была именно она, хотя пляшущий язычок свечи освещал лицо старухи лишь снизу, придавая ему карикатурный вид: щеки и скулы изборождены морщинами, двойной подбородок, нависавший над шеей, остекленевшие глаза, заплывшие дряблые веки, иссиня-седые редкие волосы на покрытом старческими пятнами черепе стояли чуть ли не дыбом, образуя своеобразный нимб. За спиной маньячки Натали отчетливо различила худое лицо того негодяя — его длинные волосы, выпачканные грязью и кровью, свисали на плечи. Сломанные зубы желтовато поблескивали в свете единственной свечи, которую держала старуха. В руках у него ничего не было, ею длинные белые пальцы время от времени подрагивали, будто под воздействием каких-то токов, пробегавших по его телу. — Добрый вечер, моя дорогая, — скрипучим голосом промолвила Мелани Фуллер. На ней была длинная ночная рубашка и толстый дешевый халат. Ноги тонули в розовых пушистых тапочках. Натали натянула одеяло до шеи и ничего не ответила. — Здесь холодно, дорогая? — ласково осведомилась старуха. — Прости меня. В этом доме всюду холод, если тебя утешит такое сообщение... Не представляю, как это люди жили на севере до изобретения центрального отопления. — Она улыбнулась, и в огоньке свечи блеснула ее идеально белая вставная челюсть. — Не пришло ли время поговорить нам с тобою, дорогая? Натали обдумывала: не броситься ли ей на старуху, пока у нее есть такая возможность, и не попробовать ли прорваться наружу? Она заметила за дверью длинный деревянный стол — несомненно старинный, а еще дальше — каменные стены. Но путь ей преграждал парень с дьявольскими глазами. — Это ты привезла мою фотографию из Чарлстона в этот город, милочка? Натали молчала. Мелани Фуллер горестно покачала головой. — У меня нет желания причинять тебе вред, милая мисс, но если ты добровольно не согласишься беседовать ,со мной, мне придется попросить Винсента уговорить тебя. Сердце у Натали учащенно забилось у самого горла, когда она увидела, как эта длинноволосая тварь собирается шагнуть к ней. — Откуда же ты взяла фотографию, моя милая? Во рту у Натали пересохло, но она выдавила через силу: — Мистер Ходжес... — Тебе дал ее мистер Ходжес? — насмешливо осведомилась Мелани Фуллер. — Нет. Миссис Ходжес позволила нам посмотреть его слайды. — Кому это «нам», дорогая? — старухаслегка улыбнулась. Свеча осветила острые скулы под натянувшейся пергаментной кожей. Натали молчала. — Тогда я предположу, что «нам» — это тебе и шерифу, — тихо сказала Мелани Фуллер. — Зачем же ты и полицейский из Чарлстона проделали такой путь и преследуете старуху, которая не сделала вам ничего дурного? Натали почувствовала, как в ней закипает ярость, наполняя силой тело и разгоняя страх. — Вы убили моего отца! — крикнула она и попыталась вскочить, больно ударившись плечом о грубую каменную кладку. — Твоего отца? — недоуменно переспросила старуха. — Тут какая-то ошибка, милочка. Натали покачала головой, пытаясь справиться с подступившими слезами. — Вы использовали свою чертову прислугу, чтобы тот убил его. Без всяких оснований. — Мою прислугу? Мистера Торна? Боюсь, ты что-то путаешь. Натали готова была плюнуть в рожу этому синевласому монстру, но во рту было сухо, как в пустыне. — Кто еще ищет меня? — спросила старуха. — Только ты и шериф? Как вам удалось отыскать меня здесь? Натали натужно рассмеялась — смех ее эхом раскатился под каменными сводами. — Все знают, что вы здесь. Нам все известно и о вас, и о старом нацисте, и о другой вашей подруге — Нине Дрейтон... Больше вам не удастся убивать людей. Что бы вы со мной ни сделали, вам не... — Она сделала глубокий вдох, потому что сердце ее колотилось с такой силой, что готово было выскочить из груди. Впервые за все это время лицо старухи выразило явное беспокойство. — Нина?! — воскликнула она. — Так тебя послала Нина Дрейтон? В расширенных глазах Мелани Фуллер Натали увидела проблеск безумия. — Да, — твердо ответила Натали, понимая, что, возможно, обрекает себя на гибель, но желая во что бы то ни стало нанести ответный удар, — меня послала Нина Дрейтон. Она знает, где вы находитесь! Старуха отшатнулась, будто ее ударили по лицу. Нижняя челюсть отвисла. Она схватилась за дверной косяк, чтобы не упасть, оглянулась на существо, которое называла Винсентом, поняла, что от него поддержки не будет, и, задыхаясь, прошептала: — Я устала... Мы поговорим позже. Позже... милочка. — Дверь с силой захлопнулась, и раздался скрежет задвигаемых засовов. Дрожа всем телом, Натали сжалась в темноте. Наступивший день оповестил о себе серыми полосами света у двери. Преодолевая дрожь и головную боль, Натали дремала. Проснувшись, ощутила острую потребность оправиться. Но вокруг не было ничего, даже горшка. Она стала стучать в дверь, кричала, пока не охрипла, но никто не отозвался. Наконец она нащупала в темноте, в дальнем углу своей камеры, качаю камень, ногтями вытащила его и приспособила образовавшуюся выемку под уборную. Затем она подтащила одеяла ближе к двери и снова легла, содрогаясь от холода и рыданий. Когда она пробудилась в следующий раз, уже снова стемнело. Засовы с лязгом отодвинулись, мощная дверь со скрипом распахнулась. На пороге стоял один Винсент. Натали попятилась, пытаясь нащупать вытащенный ею камень, но юнец в одно мгновение схватил ее за волосы и приподнял. Левой рукой он сдавил ей горло, лишая воздуха и всякой воли к сопротивлению. Натали сдалась. Винсент грубо вытащил ее из темницы и поволок к крутой узкой лестнице. Натали успела увидеть темную кухню колониальных времен и маленькую гостиную с керосиновым обогревателем, который мерцал в крохотном камине. Лестница вела в короткий темный коридорчик, из которого Винсент втолкнул ее в комнату, освещенную свечами. Натали замерла на пороге с широко раскрытыми глазами. Мелани Фуллер лежала, свернувшись в позе зародыша, под целой кипой одеял и покрывал, на походной кровати. В комнате с высоким потолком было единственное окно, завешенное шторами и закрытое ставнями. На полу, столах, подоконнике, каминной полочке и на полу вокруг кровати горело по меньшей мере три дюжины свечей. Повсюду виднелись полуистлевшие воспоминания о когда-то живших здесь детях — сломанный кукольный дом, колыбель с металлическими прутьями, похожая на клетку для какого-нибудь маленького зверька, древние тряпичные куклы и неприятный манекен мальчика, который, казалось, подвергался длительному воздействию радиации: покрытый пятнами череп лишь кое-где был скрыт редкими пучками волос, а отслоившаяся на лице краска походила на внутренние кровоизлияния. Мелани Фуллер повернулась и взглянула на девушку, стоявшую в дверях. — Ты слышишь их? — прошептала она. Но в комнате, если не считать тяжелого дыхания Винсента да учащенных биений сердца Натали, царила полная тишина. Девушка ничего не ответила. — Они говорят, что уже пора, — прошипела старуха. — Я послала Энн домой на случай, если нам понадобится машина. Натали бросила взгляд в сторону лестницы. Но путь ей снова преградил Винсент. Она оглядела комнату в поисках возможного оружия. Металлическая колыбелька была слишком громоздкой. Манекен тоже наверняка не годился. Если бы у нее был нож или еще что-нибудь острое, она могла бы попытаться воткнуть его старухе в горло. Интересно, как поведет себя этот живой длинноволосый манекен, если погибнет его властительница? Мелани Фуллер тоже казалась живым трупом — в трепещущем свете кожа ее отливала такой я синевой, как и волосы, левый глаз почти полностью закрылся. — Скажи мне, чего хочет Нина, — прошептала она. Взгляд ее блуждал по лицу Натали. — Нина, скажи мне, чего ты хочешь. Я не хотела убивать тебя, дорогая. Ты тоже слышишь голоса, моя милая? Они предупредили меня о том, что ты придешь. Они сказали мне о пожаре и о реке. — Она прерывисто задышала. — Мне надо одеться, но моя чистая одежда у Энн, а туда слишком далеко идти. Мне необходимо немного отдохнуть. Энн принесет ее. Нина, тебе понравится Энн. Если ты захочешь, сможешь взять ее... Натали стояла ни жива ни мертва, чувствуя, как в ней поднимается странный животный ужас. Возможно, это был ее последний шанс. Может, попытаться проскочить мимо Винсента, скатиться вниз по лестнице и найти выход? Или наброситься на старуху? Она снова пристально посмотрела на Мелани Фуллер. От нее пахло неухоженным дряхлым телом, детской присыпкой и застарелым потом. Теперь Натали совершенно не сомневалась в том, что именно эта тварь была повинна в смерти ее отца. Она вспомнила, как видела его в последний раз — они обнимались на прощание в аэропорту через два дня после дня Благодарения, он благоухал свежим мылом и хорошим табаком, но глаза его были почему-то грустны. Может быть, он чувствовал тогда, что это их прощание — навсегда? И Натали решила, что Мелани Фуллер должна умереть. Все мышцы ее напряглись, готовясь к броску. — Мне надоела твоя дерзость, девчонка! — вдруг заверещала старуха. — Что ты здесь делаешь? Ступай и займись своими обязанностями. Ты знаешь, как папа поступает с непослушными черномазыми? — и она закрыла глаза. Тут-то и случилось непоправимое: будто острием топора девушке вскрыли череп и кто-то насильно проник в ее мозг. Голову словно охватило огнем. Натали повернулась, начала падать вперед, но с трудом сохранила равновесие. Она ощутила нутром, просто физически чувствовала, как обрываются связи, пока она ковыляла в полубезумном танце. Натыкаясь, как слепая, на стены, Натали повалилась назад на Винсента. Тот схватил ее своими грязными руками за грудь. От него тоже несло мертвечиной. Резким движением Винсент разорвал рубашку Натали. — Нет-нет-нет, — бормотала старуха в забытьи, как сомнамбула. — Сделай это внизу. А труп отнеси обратно в дом, когда закончишь. — Старая карга приподнялась на локте и уставилась на Натали одним глазом, из-под тяжелого века другого виднелся лишь белок. — Ты солгала мне, милочка. У тебя нет никакого сообщения от Нины. Натали открыла было рот, чтобы ответить или закричать, но Винсент схватил ее за волосы, а другой рукой зажал ей лицо. Вытащив ее из комнаты, он поволок девушку вниз по лестнице. Она пыталась отбиваться, цеплялась за шероховатые перила. Но Винсент не торопился. Он отрывал ее пальцы от перил, затем зверски пинал ее ногами. Натали откатилась к стене, пытаясь свернуться в тугой невидимый комок, но эта мразь снова вцепилась ей в волосы и сильно дернула на себя. Девушка с криком вскочила и изо всех сил ударила его в пах. Он без труда поймал ее ногу и резко вывернул ее. Натали успела повернуться, но недостаточно быстро — она услышала, что ее лодыжка хрустнула, как сухая ветка, и тяжело рухнула на пол. Боль синим пламенем охватила ее вывихнутую ногу. Оглянулась девушка как раз в тот момент, когда Винсент вытаскивал нож из кармана своей армейской куртки и открывал длинное лезвие. Она попыталась отползти, но он ухватил ее за рубашку и почти приподнял над полом. Джинсовая ткань начала рваться, и Винсент содрал с девушки остатки рубашки. Натали продолжала ползти вперед по темному коридору, пытаясь нащупать хоть что-то, что можно было бы использовать вместо оружия. Но, кроме холодных досок, которыми был устлан пол, она не могла ничего отыскать. Услышав тяжелую поступь Винсента над своей головой, Натали перекатилась на спину и, развернувшись, впилась зубами в его ногу. Винсент не дернулся и не издал ни единого звука. Мимо ее уха всполохом метнулось лезвие ножа, рассекая лифчик и оставляя на спине полосу жгучей боли. Натали резко выдохнула, снова перевернулась на спину и подняла руки в бесполезной попытке защититься от нового удара. И тут на улице загрохотали взрывы.Глава 19
Джермантаун Среда, 31 декабря 1980 г. — Проблема заключается в том, что я никогда никого не убивал, — произнес Тони Хэрод. — Никого? — переспросила Мария Чен. — Никого, — подтвердил Хэрод. — И никогда. Мария Чен кивнула и долила шампанского в фужеры. Обнаженные, они лежали лицом друг к другу в длинной ванной номера 2010 в отеле «Каштановые Холмы». В зеркалах отражалась единственная горящая ароматическая свечка. Хэрод откинулся назад и посмотрел на Марию Чен из-под тяжелых век. Ее смуглые ноги вздымались между двумя пиками его колен, лодыжки под пенящейся водой касались его ребер. Пена скрывала все, кроме выпуклости ее правой груди, но он различал сосок — тяжелый и сладкий, как спелая клубника. Любовался изгибом ее шеи, тяжестью черных волос, когда она запрокидывала голову, чтобы глотнуть шампанского. — Двенадцать часов, — заметила Мария Чен, бросив взгляд на золотой "Ролеко на полочке. — С Новым годом! — С Новым годом, — ухмыльнулся Хэрод, и они чокнулись полными фужерами. Они пили с девяти вечера. Это Марии Чен пришло в голову принять совместную ванну. — Никогда никого не убивал, — снова забормотал Хэрод. — Никогда не испытывал в этом необходимости — Похоже, теперь тебе придется это сделать, — сказала Мария Чен. — Джозеф, когда уходил сегодня, напомнил между прочим, что мистер Барент настаивает на твоей кандидатуре. — Да. — Хэрод вылез из ванны и поставил фужер на полку. Насухо вытершись махровым полотенцем, он протянул руку Марии. Она не спеша, как Афродита из моря, восстала из пенящихся мыльных пузырей. Хэрод принялся нежно обтирать ее тело, потом обхватил сзади обеими руками, чтобы провести мягким полотенцем по груди. Когда он коснулся нижней части ее живота, она слегка раздвинула ноги. И тут Хэрод выронил полотенце, подхватил Марию Чен на руки и понес ее в спальню. Хэроду казалось, что такое с ним творится впервые. С пятнадцати лет он не спал с женщиной, которая бы отдавалась ему по доброй воле. Всегда лишь грубо брал их. Кожа Марии Чен пахла лавандой и ароматическим мылом. У нее перехватило дыхание, когда он проник в нее, и они покатились по необъятному пространству мягких простыней. Когда они замерли, Мария Чен оказалась сверху — все еще слитые воедино, они продолжали двигаться, скользя губами и пальцами по телам друг друга. Оргазм у Марии Чен наступил внезапно и мощно, исторгнув из нее стон. Хэрод кончил несколькими секундами позже, закрыв глаза и прильнув к ней с такой силой, с какой падающий в бездну человек цепляется за последнюю веточку в надежде удержаться. Зазвонил телефон. И дальше продолжал звонить не переставая. Хэрод потряс головой. Мария Чен поцеловала его, сняла трубку и передала ее Хэроду. — Хэрод, моментально приезжай сюда! — донесся возбужденный голос Колбена. — Все вышло из-под контроля!* * *
Колбен вернулся в комнату управления. Исполнительные агенты по-прежнему сидели за мониторами, делали записи, нашептывали что-то в закрепленные на голове микрофоны. — Черт побери, где Галлахер? — рявкнул Колбен. — До сих пор никаких сведений, сэр, — откликнулся техник из-за второго пульта. — Тогда фиг с ним, — отрезал Колбен. — Скажи Зеленой бригаде, чтобы она прекратила поиски. Пусть прикроют Вторую Синюю возле рынка. — Есть, сэр. Колбен прошелся вдоль узкого прохода и остановился у последнего пульта. — Наркоманы все еще в крепости? — Да, сэр, — ответила молодая женщина, сидевшая за монитором. Она переключила тумблер, и на экране вместо изображения фасада дома Энн Бишоп появился проулок, тянувшийся за ним. Даже несмотря на использование подсвечивающих линз, фигуры возле гаража напоминали привидения. Колбен насчитал двенадцать теней. — Свяжите меня с Золотой! — рявкнул он. — Есть, сэр. — Техник протянул ему дополнительный комплект наушников с микрофоном. — Петерсон, я насчитал целую дюжину. Какого черта, что там происходит? — Не знаю, сэр. Хотите, чтобы мы вмешались? — Нет, — ответил Колбен. — Оставайтесь поблизости. — На Эшмед еще восемь неизвестных, — сообщил агент от пятого пульта. — Только что миновали Белую бригаду. Колбен стащил наушники. — Какого черта, где Хейнс? — Только что забрал Хэрода и его секретаршу, — откликнулся сидевший за первым пультом. — Будут через пять минут. Колбен закурил сигарету и похлопал по плечу женщину, сидящую за монитором. — Свяжись с Хаджеком, чтобы вертолет был здесь. — Есть, сэр. Из кабинета Колбена появился агент Джеймс Леонард и поманил его рукой. — Мистер Барент на третьей линии. Колбен вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. — Колбен слушает. — С Новым годом, Чарлз! — послышался голос Барента. Он звучал гулко и сопровождался шумовым фоном, словно осуществлялся по спутниковой связи. — Да, — отозвался Колбен. — В чем дело? — Я уже разговаривал с Джозефом, — сказал Барент. — Его тревожит ход развития операции. — Ну и что? — осведомился Колбен. — Кеплер всегда паникует. Что же он не остался здесь, если его это так тревожит? — Джозеф сказал, что ему есть чем заняться в Нью-Йорке, — откликнулся Барент и помолчал. — Наши друзья не появлялись? — Вы имеете в виду старого фрица? — переспросил Колбен. — Нет. После вчерашнего взрыва на складе ни слуху ни духу, — У вас есть какие-нибудь идеи насчет того, зачем Вилли понадобилось приносить в жертву одного из своих функционеров для ликвидации доктора Ласки? И к чему столько разрушений? Джозеф сказал, что пришлось вызывать городскую пожарную команду. — Откуда мне знать? — огрызнулся Колбен. — Послушайте, мы даже не уверены, действительно ли Лугар и этот еврей были там. — Мне казалось, что этим как раз занимаются ваши судебно-медицинские эксперты, Чарлз. — Занимаются. Но завтра праздник. Кроме того, насколько нам известно, Лугар и Ласки сидели на тридцати фунтах взрывчатки Си-4. Так что для экспертов там мало что осталось. — Понимаю, Чарлз. — Послушайте, мне надо идти, — нетерпеливо прервал Барента Колбен. — У нас здесь развиваются события. — Что за события? — Ничего серьезного. Несколько детишек из этой несчастной банды крутятся вокруг охраняемой зоны. — Но это ведь не осложнит утреннюю задачу, не так ли? — осведомился Барент. — Нет! — рявкнул Колбен. — Я уже вызвал Хэрода, он на пути сюда. Если потребуется, мы сможем в течение десяти минут оцепить пространство и позаботиться о Фуллер с опережением графика. — Вы думаете, мистер Хэрод справится с заданием, Чарлз? Колбен загасил сигарету и закурил следующую. — Я думаю, Хэрод не может справиться даже с тем, чтобы подтереть свою собственную задницу... Вопрос заключается в том, что нам делать, когда он все просрет. — Полагаю, вы уже рассмотрели варианты? — поинтересовался Барент. — Да. Хейнс готов вмешаться и позаботиться о старухе. Но когда Хэрод все провалит, я бы хотел сам заняться этим голливудским соблазнителем. — Полагаю, вы будете настаивать на его ликвидации. — Я буду настаивать на том, чтобы заткнуть ему рот полицейской взрывчаткой, чтобы его долбаные мозги разлетелись по всей Филадельфии. — Колбен не на шутку разозлился. Повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием в трубке. — Что ж... Как вы сочтете нужным, — наконец произнес Барент. — Его секретарше тоже придется исчезнуть, — добавил Колбен. — Разумеется, — согласился Барент. — Единственное, Чарлз... Но тут в дверь просунул голову агент Леонард. — Только что появился Хейнс с мистером Хэродом и его секретаршей. Они уже в вертолете. Колбен кивнул и поинтересовался у Барента: — Да, так что? — Завтрашний день очень важен для всех нас, — медленно проговорил тот на другом конце провода. — Но, пожалуйста, не забывайте, что после того как старуха будет выведена из игры, нашей главной целью останется мистер Борден. Если окажется возможным, свяжитесь с ним, вступите в переговоры и ликвидируйте, если того потребуют обстоятельства. Клуб Островитян целиком полагается на ваше мнение, Чарлз. — Да, — кивнул Колбен. — Я буду помнить об этом. Поговорим позже, не возражаете? — Удачи, Чарлз, — произнес Барент, в трубке что-то зашипело, и связь оборвалась. Колбен быстро натянул бронежилет и бейсбольную кепку, запихал револьвер 38-го калибра в пристежную кобуру и застегнул свой пуховик. Лопасти винта уже начали набирать обороты, когда он подбежал, согнувшись, к открытой дверце вертолета.* * *
Сол Ласки, Тейлор, Джексон и шестеро более молодых членов Братства Кирпичного завода наблюдали за тем, как вертолет поднялся и начал удаляться к северо-востоку. Грузовик они оставили за высоким деревянным забором в полуквартале от входа в Центр управления ФБР. — Что ты об этом думаешь? — спросил Тейлор Сола. — Это он — твой мистер Буду? — Возможно, — откликнулся Сол. — Мы находимся недалеко от стройки? — Недалеко, насколько я могу судить. — Ты уверен, что сможешь завести механизмы без ключей ? — Спокойно, старик, — отозвался Джексон. — Я три месяца оттрубил механиком в строительном батальоне во Вьетнаме. Заведу без ключа даже твою маму. — С меня хватит и бульдозера. — Сол не хуже Джексона знал, что одним коротким замыканием проводов бульдозер не заведешь. — А если я его заведу, ты справишься с ним? — осведомился Джексон. — Я четыре года занимался строительством в кибуце, так что справлюсь не только с бульдозером, но и с твоей мамой, — в тон ему пошутил Сол. — Спокойно, старик. — Джексон широко улыбнулся. — Не старайся переплюнуть меня, малыш. У белых парней нет слуха на хорошие приколы. — Мой народ имеет обычай обмениваться приколами с самим Господом. — Лучшей школы не придумаешь. Джексон рассмеялся и хлопнул Сола по плечу. — Кончайте трепаться, — одернул их Тейлор. — Мы уже на две минуты опаздываем. — Ты уверен, что твои часы идут правильно? — спросил Сол. Тейлор бросил на него негодующий взгляд и вытянул вперед руку, демонстрируя элегантные дамские часы «Леди Элджин» в золотой оправе, выложенной бриллиантами. — Эти даже за год не отстанут на пять секунд. Пора двигаться. — Отлично, — сказал Сол. — Как мы проберемся? — Зубатка! — окликнул Тейлор, и из задней дверцы грузовика выскочил парень. Впрыгнув на крышу кабины, он перескочил на забор высотой в десять футов и исчез за ним. Остальные пятеро последовали за ним. За плечами у них были тяжелые рюкзаки, оттуда слышалось звяканье бутылок. — Пошли, — приказал Тейлор, вылезая из кабины. Сол взглянул на свою перебинтованную левую руку. — Рука будет еще болеть, — предупредил его Джексон. — Хочешь какой-нибудь укол? — Нет. — Сол покачал головой и последовал за остальными.* * *
— Это противозаконно, — произнес Тони Хэрод. Он глядел на проплывающие внизу фонари, мосты и автострады с высоты всего в триста футов. — Полицейский вертолет, — буркнул Колбен. — Специальное разрешение. Колбен развернулся в своем сиденье так, что смог даже высунуться из окна, открытого с правого борта. Холодный воздух с шумом врывался в салон, обжигая невидимыми клинками лица Хэрода и Марии Чен. На специальной подставке в открытом окне Колбен держал снайперскую винтовку 30-го калибра. Оружие с громоздким прибором ночного видения, лазерным видоискателем и огромным курком казалось несуразным и неуклюжим. Колбен ухмыльнулся и что-то прошептал в микрофон, нахлобучив капюшон на глаза. Пилот круто свернул вправо, сделав вираж над Джермантаун-стрит. Хэрод обеими руками вцепился в скамью и закрыл глаза. Он не сомневался, что только благодаря пристежному ремню не вывалился из окна и не полетел, кувыркаясь, на мощенную кирпичом улицу с высоты тридцатиэтажного здания. — Красный Лидер — Центру управления, — произнес Колбен. — Проверка связи. — Центр управления на связи, — послышался голос агента Леонарда. — Вторая Синяя бригада сообщает о вторжении четырех машин с латиноамериканцами в охраняемую зону на Челтен-стрит и в районе рынка. В проулках за Крепостью 1 и Крепостью 2 наблюдается скопление новых неопознанных группировок. Группа из пятнадцати неизвестных негров захватила Белую бригаду 1. Связь окончена. Колбен повернулся и ухмыльнулся Хэроду. — Думаю, обычная междоусобица. Традиционная новогодняя стычка. — Но ведь Новый год уже наступил, — возразила Мария Чен. — Какая разница? — хмыкнул Колбен. — Нам-то что? Пусть истребляют друг друга, лишь бы не мешали нашей операции. Верно, Хэрод? Тони Хэрод ничего не ответил, продолжая изо всех сил держаться за сиденье.* * *
Задыхаясь, шериф Джентри бежал, стараясь не отставать от подростков. Марвин и Лерой во главе десятка негров, рассыпавшихся цепочкой, вели их сквозь темный лабиринт переулков, дворов, заваленных хламом стоянок и нежилых зданий. Наконец они достигли поворота в очередной переулок, и Марвин сделал знак рукой остановиться. Ядрах в шестидесяти от них, за мусорными баками и осевшими гаражами, виднелся зеленый фургон. — федеральные свиньи, — прошептал Лерой, посмотрел на часы и ухмыльнулся. — Мы опережаем график на минуту. Джентри присел, опершись на колени, стараясь справиться с одышкой. Ребра у него болели. Ему было холодно. Больше всего сейчас хотелось оказаться дома в Чарлстоне — слушать квартет Дейва Брубека и читать Брюса Кэттона. Джентри прислонился затылком к холодному кирпичу и задумался о том, что же произошло, когда они покидали Общинный дом, о том, что переменило его взгляд на Джермантаун и Братство Кирпичного завода, Когда последняя команда готовилась к выходу, в дом ворвался пацан не старше семи-восьми лет. Он сразу бросился к Марвину. — Стиви, — сквозь зубы сказал главарь банды, — я же велел тебе не приходить сюда. Пацан захныкал, рукавом растирая по лицу слезы. — Мама сказала, чтобы ты сразу шел домой, Марвин. Мама сказала, что ты нужен ей и Марите дома... чтобы ты шел домой. Марвин обхватил мальчугана за плечи и повел в соседнюю комнату, откуда до Джентри донеслось: «...скажи маме, что первым делом утром я зайду домой. А Марита пусть остается дома и занимается делами. Так и скажи им, о'кей, Стиви?» Этот разговор почему-то странно взволновал Джентри. — Пока он относился к банде лишь как к части кошмара, который окружал его в течение последних пяти дней. Джермантаун и его обитатели ассоциировались в его сознании с болью, мраком и, казалось бы, разрозненными событиями, происходящими вокруг. Джентри знал, что члены банды молоды — исключением был Джексон, но он был потерянной душой, гостем, бывшим питомцем. Просто вынужден был вернуться к своим прежним пристрастиям, ибо жизнь вытолкнула его отовсюду. Джентри встречал еще нескольких взрослых на холодных улицах — то были тихие, болезненного вида женщины, спешившие по делам; бесцельно шатающиеся старики и неизбежные алкоголики, валявшиеся перед магазинами. Джентри понимал, что они не являются истинным лицом общины, что летом улицы заполнят гуляющие семейства, во дворах будут прыгать дети, подростки станут играть в баскетбол; что появятся новые лоснящиеся автомобили, опираясь на которые молодежь будет перебрасываться шутками. Он понимал, что кошмарная пустота была порождена холодом, взрывом насилия на улицах и присутствием чужих, потусторонних сил, которые продолжали считать себя невидимыми, но это понимание с приходом Стиви превратилось в осознанную реальность. Джентри почувствовал, что заброшен в чужое холодное пространство, где ему предстоит в компании детей бороться со взрослыми противниками, обладающими полнотой власти и вооруженными до зубов по последнему слову техники. — Они здесь, старик, — прошептал между тем Лерой. Мимо пронеслись три низкие машины и, резко затормозив, остановились в дальнем конце переулка. Смеясь и распевая песни, оттуда вывалилась целая толпа молодых людей, выкрикивавших что-то на испанском языке. Несколько человек подошли к фургону и стали колотить по его бокам бейсбольными битами и обломками труб. Фары на фургоне вспыхнули, изнутри раздался чей-то крик. Трое мужчин выскочили из боковой дверцы, один из них выстрелил в воздух. — Пошли, — бросил негромко Марвин. И члены банды цепочкой побежали по переулку, держась в тени гаражей и заборов. Миновав ярдов двадцать и достигнув пустого пространства за сараем, они остановились, прислонившись к низкой металлической изгороди. Со стороны фургона раздалось еще несколько выстрелов. Джентри расслышал гул заводящихся моторов, машины, набирая скорость, начали удаляться в сторону Джермантаун-стрит. — Вот она, Ропщущая Обитель, — сказал Лерой, и Джентри, прильнув к изгороди, начал вглядываться в маленький задний дворик с огромным голым деревом посередине и тыльную сторону старого дома. Марвин подполз поближе. — Окна первого этажа зарешечены. Одна дверь сзади. Две — спереди. Входим с двух сторон. Аида! — Марвин, Лерой, Г. Б., Г. Р, и еще двое легко перемахнули через изгородь. Джентри попробовал последовать их примеру, зацепился за проволоку и тяжело рухнул на замерзшую землю. Вытащив из кармана «ругер», он бросился догонять остальных. Марвин и Г. Б, жестами указывали ему, чтобы он двигался к торцу дома. У обоих в руках были пневматические винтовки. Лоб Марвина был стянут красным платком. — Мы войдем с улицы. От соседнего магазина Ропщущую Обитель отделял деревянный забор, высотой фута в четыре. Они обождали, пока мимо проедет пустой троллейбус. Лерой ногой распахнул ворота, и они вдвоем с Г. Б, хладнокровно вошли во двор, с равнодушным видом двигаясь вдоль закрытых ставнями окон к дверям. По бокам обеих входных дверей виднелись резные крылечки. Почти от самой дорожки шел спуск к погребу, запертому на замок. Джентри чуть отошел назад и окинул взглядом старинное здание. Ни в одном из девяти окон не было видно света. На улице тоже было пусто, если не считать удалявшегося на запад троллейбуса. Яркое, «противопреступное» уличное освещение отбрасывало желтый отсвет на витрины магазинов и вымощенную кирпичом мостовую. — Давай, — велел Марвин. Г. Б, подошел к западной двери и изо всех сил ударил в нее ногой. Толстая дубовая дверь не шелохнулась. Марвин и Лерой взвели курки своих винтовок, отступили и выстрелили в замок. Полетели щепки, Джентри шарахнулся в сторону, инстинктивно прикрывая глаза. Раздался еще один выстрел, и Джентри оглянулся как раз в тот момент, когда западная дверь распахнулась. Г, Б, улыбнулся Марвину и поднял кулак в победном салюте, и тут же заплясавшая на его груди красная точка метнулась вверх к виску. Г. Б, поднял голову, дотронулся рукой до лба, так что кружочек света оказался на его запястье, и посмотрел на Марвина с выражением веселого удивления. Звук выстрела был слабым и донесся словно издали. Тело Г. Б, швырнуло к дверям и обратно на дорожку. Джентри только успел заметить, что большая часть головы юноши была снесена, а потом он уже бежал, падал на четвереньки и полз к воротам, что вели в боковой дворик. Он едва понял, что Марвин перепрыгнул через ступеньки крыльца и нырнул в открытую дверь. Красные точки плясали по камням над головой Джентри, от двух выстрелов ему в лицо полетели осколки камня. Он миновал ворота, перекатился вправо и обо что-то сильно стукнулся, в то время как несколько сделанных подряд выстрелов взрыли замерзшую землю слева от него. Ничего не видя перед собой, Джентри пополз в глубь двора. Со стороны улицы раздалось еще несколько выстрелов, но ни один из них не попал в цель. — Какого черта? — задыхаясь, спросил подбежавший Лерой. — Стреляют с противоположной стороны улицы, — еле переводя дыхание, ответил Джентри, с удивлением обнаружив, что он все еще продолжает сжимать «ругер». — Со второго этажа или с крыши. Используют какое-то лазерное приспособление. — А где Марвин? — Кажется, внутри. Г. Б, убит. Лерой встал, махнул рукой и исчез из виду. С полдюжины теней метнулось к дому. Джентри подбежал к торцу здания и заглянул на задний двор. Черный ход был открыт, изнутри лился слабый свет. В переулке затормозил фургон, дверца его открылась, в проеме возникла фигура водителя; в это время из темноты со стороны сарая раздалось с полдюжины выстрелов. Водитель ввалился внутрь фургона, и дверца захлопнулась. У сарая послышался чей-то крик, и Джентри увидел, как к большому дереву метнулось сразу несколько теней. Сверху раздался рев вертолета, и двор вдруг осветил яркий луч прожектора. Мальчик, имени которого Джентри не знал, замер, как олень, в луче света и, прищурившись, уставился вверх. Лишь на мгновение красная точка появилась на его груди, и тут же его грудная клетка была изрешечена разрывной пулей. Звука выстрела Джентри не слышал. Джентри сжал «ругер» обеими руками и трижды выстрелил в сторону прожектора. Луч его дико заметался, освещая ветви, крыши, фургон — вертолет разворачивался и поднимался выше, к темному небу. Со стороны фасада раздалась автоматическая очередь. Джентри услышал, как кто-то закричал высоким тонким голосом. Звуки и вспышки выстрелов доносились и со стороны фургона, кроме того, ночь пронизал рев моторов — к Ропщущей Обители подъезжали все новые и новые машины. Джентри посмотрел на «ругер», решил, что нет времени перезаряжать его, и опрометью бросился к черному ходу этой сволочной обители.* * *
Сол Ласки много лет не водил бульдозер, но как только Джексон пробудил двигатель к жизни, Сол уселся в водительское кресло и в его памяти механически всплыли навыки, которыми он не пользовался с тех пор, как двадцать лет назад помогал расчищать кибуц. К счастью, это оказался американский гусеничный бульдозер Д-7 — прямой потомок тех машин из кибуца. Сол освободил рукоять маховика, перевел регулятор скорости в нейтральное положение, выжал ручку зажигания к теплозащитному кожуху двигателя, поставил ногу на правый тормоз и закрепил его зажимом, убедился, что все основные механизмы управления находятся в состоянии готовности, и принялся искать кнопку стартера. Обнаружив ее, он облегченно вздохнул, перевел рукоять передачи в рабочее положение, как он надеялся, выжал зажигание, открыл топливный клапан, включил дроссель и отпустил заглушку. Ничего не последовало. — Эй! — закричал худой парень по кличке Зубатка, сидевший на корточках рядом с Солом. — Старик, ты хоть знаешь, что делаешь? — Знаю-знаю! — прокричал ему в ответ Сол, дотянулся до рукоятки, решив, что все дело в зажиме, потом схватился за другую и рванул на себя. Стартер взвыл, двигатель заработал. Сол нашел дроссельный клапан, высвободил его и так нажал на правое сцепление, что чуть не задавил Джексона, который, склонившись, как раз заводил слева второй бульдозер. Сол выровнял машину, чуть было не заглушив двигатель, и умудрился развернуть ее к комплексу трейлеров, которые виднелись ярдах в шестидесяти. Черный дым и дизельные выхлопы летели им в лицо. Сол посмотрел направо и увидел, что по разрытой земле рядом с бульдозером бегут трое членов банды. — А побыстрее эта штуковина двигаться не может? — прокричал Зубатка. Сол услышал скрежет и понял, что он до сих пор не поднял скрепер. Он исправил свою оплошность, и машина двинулась вперед с гораздо большим энтузиазмом. У них за спиной послышался рев — это бульдозер Джексона двинулся со стройки следом. — А что ты будешь делать, когда мы до них доберемся? — прокричал Зубатка. — Увидишь! — откликнулся Сол и надел очки. У него не было ни малейшего представления о том, что он будет делать. Он понимал только одно, что в любую секунду из трейлеров могут выскочить фэбээровцы и открыть огонь. Медленно передвигающиеся бульдозеры стали бы для них легкой добычей. Вероятность же того, что им удастся добраться до трейлеров, представлялась весьма сомнительной. Уже много лет Сол не испытывал такого душевного подъема. Малькольм Дюпри с восемью членами Братства подходил к дому Энн Бишоп. Марвин практически не сомневался, что мадам Буду находилась в другом месте — в старом доме на Джермантаун, — но команде Малькольма было предписано проверить дом на Квин Лейн. Радиосвязи у них не было; в каждую группу Mapвин назначил по меньшей мере по два связных — членов вспомогательной банды, пацанов лет по восемь-одиннадцать, которые должны были бегом доставлять сведения. Сведений от группы Марвина не поступало, но едва Малькольм услышал перестрелку со стороны Джермантаун, он взял половину своей группы и двинулся по переулку на задний двор Энн Бишоп. Остальные шестеро остались наблюдать за фургоном, который продолжал безмолвно стоять в конце переулка с незажженными фарами. Малькольм, Донни Коулс и маленький толстяк Джем-ми, младший брат Луиса Соларца, вошли в дом первыми, выбив дверь на кухню. Малькольм вытащил блестящий смазанный девятимиллиметровый револьвер, купленный им у Мухаммеда за семьдесят пять долларов. Он был снабжен барабаном с четырнадцатью патронами. У Донни был грубый револьверчик с единственным патроном 22-го калибра. Джемми при себе имел только нож. Старухи, которой принадлежал дом, не было, они не нашли никаких следов пребывания здесь и мадам Буду с ее белым ублюдком. Им потребовалось три минуты на то, чтобы обыскать домик, после чего Малькольм вернулся на кухню, а Донни выглянул на улицу. — На кровати наверху тьма барахла, — заметил Джемми, — похоже, кто-то укладывался в спешке. — Да, — откликнулся Малькольм. Он помахал рукой группе, оставшейся на заднем дворе, и к нему тут же подбежал десятилетний связной Джефферсон. — Беги к старому дому на Джермантаун и узнай, что Марвин собирается... Послышался звук открывающегося гаража и шум мотора. Малькольм выскочил через задние ворота и кинулся по переулку в тот самый момент, когда из гаража выехала смешная старая машина со странной решеткой на радиаторе. Фары у нее были погашены, на водительском месте, вцепившись в руль, сидела старуха. Малькольм узнал в ней мисс Бишоп: всю жизнь она была его соседкой, в детстве он даже подстригал ее крохотный газончик. Пятеро членов банды перегородили дорогу, Малькольм подошел к машине. Женщина с испуганным видом оглянулась и опустила стекло на окошке. — Мальчики, вам надо отойти, — произнесла она ненатуральным, сомнамбулическим голосом. — Мне нужно проехать. Малькольм заглянул в машину, чтобы убедиться в том, что больше в ней никого нет, опустил револьвер и склонился ближе к мисс Бишоп. — Простите, но вы никуда не поедете, пока... И тут Энн Бишоп вытянула руки с изогнутыми, как когти, пальцами, и Малькольм лишился бы своих обоих глаз, если бы инстинктивно не отпрянул. Однако длинные ногти старухи успели оставить на его щеках и веках несколько кровавых полосок. Парень вскрикнул, а машина с ревом рванулась вперед, подбросив в воздух маленького Джефферсона и переехав Джемми левым колесом. Малькольм выругался, нагнулся и стал ощупью искать на земле свой револьвер, затем опустился на одно колено и трижды выстрелил вслед удалявшейся машине. Но тут кто-то закричал, предупреждая его о надвигающейся опасности. Не поднимаясь с колена, Малькольм резко обернулся. Прямо на него с ревом несся фургон, до этого стоявший в конце переулка. Малькольм прицелился в него, но сразу же понял, что потерял на это бесцельное движение несколько драгоценных секунд. Он хотел закричать, но было уже поздно. На бешеной скорости бампер фургона врезался прямо в лицо Малькольму. — Давайте убираться отсюда к черту! — прокричал Тони Хэрод, когда что-то врезалось в левый борт вертолета, рассыпая целый фонтан искр. Они висели в шестидесяти футах над плоской крышей здания, пока Колбен, не переставая глупо ухмыляться, палил из своей дурацкой суперсовременной винтовки, изготовленной прямо-таки для «Звездных войн». Пилот Хаджек, вероятно, был согласен с Хэродом, потому что он, не дожидаясь, когда Колбен отвернется от окна и отдаст распоряжение, резко взял вправо и стал набирать высоту. Ричард Хейнс со стоическим видом продолжал сидеть в кресле второго пилота, глядя из окна, будто они совершали ночную экскурсию, осматривая местные достопримечательности. Мария Чен, крепко зажмурившись, сидела справа от Хэрода. — Красный Лидер — Центру управления, — произнес Колбен в микрофон. На Хэроде и Марии Чен тоже были надеты наушники и микрофоны, чтобы они могли переговариваться, невзирая на рев ветра, двигателей и лопастей. — Красный Лидер — Центру управления! — Центр управления слушает, — донесся женский голос. — Говорите, Красный Лидер. — Какого черта, что происходит? Крепость Два наводнена людьми. — Точно так, Красный Лидер. Зеленая бригада подтверждает контакт с неизвестным количеством вооруженных чернокожих, прорывающихся в Б и Е в Крепости Два. Золотая бригада преследует Цель два, движущуюся на север параллельно Квин-Лейн в «Де Сото» выпуска 1953 года. Белая, Синяя, Серая, Серебряная и Желтая бригады — все сообщают о контактах с воинственно настроенными неизвестными лицами. Дважды звонил мэр города. Связь окончена. — Мэр, — повторил Колбен. — Господи Иисусе! Где же Леонард? — Агент Леонард расследует беспорядки в районе стройки. Я свяжу его с вами, как только он вернется, Красный Лидер. Прием. — Черт побери! — выругался Колбен. — О'кей, слушайте. Я собираюсь спустить Хейнса, чтобы он занялся делами в Крепости Два. Пусть Синяя и Белая бригады оцепят район от рынка до Эшмед. Передайте Зеленой и Желтой бригадам, чтобы они никого не впускали в Крепость Два и ничего не выпускали. Понятно? — Есть, Красный Лидер. У нас тут... — тут послышался громкий скрежет, и связь прервалась. — Черт! — снова выругался Колбен. — Центр? Центр? Хейнс, переключитесь на тактическую связь два-пять. Золотая бригада? Золотая бригада, это Красный Лидер. Петерсон, вы меня слышите? — Есть, Красный Лидер, — донесся приглушенный мужской голос. — Какого черта, где вы? — Преследуем Цель два к западу по Джермантаун. Прием. — Бишоп? Где она... — Мы нуждаемся в подкреплении, Красный Лидер, — перебил его тот же голос. — Две машины с латиноамериканцами... Мы свяжемся с вами позднее, Красный Лидер. Связь окончена. — Спускайся! — закричал Колбен, наклоняясь к пилоту. Тот продолжал хладнокровно жевать резинку. — Нет открытого пространства, сэр. — К чертям! — выпалил Колбен. — Если надо, садись на Джермантаун-стрит. Моментально. Пилот взглянул направо, развернул вертолет и кивнул. Тони Хэрод чуть не закричал, когда они начали падать вниз, словно бестросовый лифт в фильме-катастрофе. Уличные фонари буквально взлетели к ним навстречу, в квартале слева полыхнуло пламя какого-то горящего объекта, и вертолет мягко приземлился на кирпично-асфальтовое покрытие в центре улицы. Мгновенно выскочивший Хейнс изящными перебежками бросился к тротуару. — Взлетай! — закричал Колбен, указывая вверх большим пальцем. — Нет! — завопил Хэрод и кивнул Марии Чен — оба начали судорожно развязывать свои пристежные ремни. — Мы тоже выходим. — Черта с два! — передал Колбен по интеркому. Хэрод стащил наушники как раз в тот момент, когда Мария Чен вынула из своей сумочки браунинг и нацелила его в грудь Колбена. — Мы выходим! — прокричал еще раз Хэрод. — Ты покойник, Хэрод, — тихо произнес Колбен. Тони Хэрод покачал головой. — Я не слышу тебя, Чак! — прокричал он. — Чао! — Хэрод выпрыгнул из левой дверцы и бросился бегом в сторону, противоположную от той, куда побежал Хейнс. Мария Чен выждала еще полминуты и тоже скользнула вниз. — Оба можете считать себя покойниками, — улыбнулся им вслед Колбен, бросил взгляд на винтовку, закрепленную с правого борта, и расслабился. Мария Чен кивнула и опрометью бросилась прочь. — Высота сто футов, — произнес Колбен в микрофон. Вертолет поднялся над проводами и крышами домов, свернул влево и снова завис над Джермантаун-стрит. Колбен установил 30-калиберную винтовку в рабочее положение и с помощью видоискателя стал осматривать переулки. Ничего движущегося заметно не было. — Слишком много помех, — пробормотал Колбен. В наушниках настойчивой скороговоркой взорвалась тактическая связь. Донесся голос Хейнса, который требовал ответить снайперам из Зеленой бригады. Колбен покачал головой. — Назад к Крепости Два, — отрезал он. — С этим дерьмом разберемся позднее. Вертолет развернулся и взмыл вверх, набирая высоту и направляясь к востоку.Глава 20
Джермантаун Четверг, 1 января 1981 г. Натали Престон лежала на спине, пытаясь защититься от ножа Винсента, когда послышался взрыв. Щепки фонтаном брызнули в коридор. Грохнул второй взрыв. Через дверной проем маленькой гостиной Натали увидела, что мощная входная дверь дрогнула и распахнулась. Во внезапно наступившей тишине Винсент поднял голову, запрокинулее, завертел из стороны в сторону, как плохо запрограммированный робот. Лезвие ножа все еще блестело в его руке. Натали затаилась, боясь даже дышать. Послышалась еще целая серия взрывов, на этот раз уже более отдаленных. И вдруг в гостиную метнулась темная фигура — она нырнула вперед и перекатилась к креслу, стоявшему у камина. Выпавший револьвер прогрохотал по голым доскам и врезался в ножку стола. Винсент переступил через Натали и двинулся туда. Натали успела увидеть расширенные от ужаса ярко-синие глаза Марвина Гейла, когда его поднял Винсент, и на четвереньках ринулся в глубь дома. Боль в вывихнутой лодыжке была нестерпимой, но девушка закусила губу до крови, чтобы не закричать. На улице грохотали выстрелы, а из гостиной слышался шум — это Марвин боролся с Винсентом. Подтянувшись на косяке, Натали поднялась и похромала на одной ноге в длинную комнату — вероятно, кухню. При свете двух свечей, горевших на столе, она заметила у стены пневматическую винтовку. Натали уже почти добралась до оружия, когда снаружи в дверь выстрелили трижды. Металлический замок и деревянный засов разлетелись. Натали успела отскочить в сторону, перенесла вес на больную ногу и врезалась в стол. Тот опрокинулся, и она, упав, больно ударилась о каменный пол. В дверь выстрелили еще дважды, и она ощутимо подалась внутрь. В шести футах перед Натали оказалась дверь кладовки, в которой она была заточена, — это была возможность какого-то укрытия. Спотыкаясь в темноте, она поползла к открытой двери, и в это время кто-то пинком снаружи распахнул входную дверь. В кухню ворвался один из близняшек из банды Марвина, которого Натали тут же узнала, за ним еще один парень. У обоих в руках были винтовки. Оба тут же спрятались за перевернутый стол. — Не стреляйте! — закричала Натали. — Это я! — Кто это "я" ? — окликнул ее близнец и поднялся, поводя дулом винтовки. Натали нырнула в кладовку, когда в кухню, спотыкаясь, вошел Марвин Гейл. Его руки и грудь были залиты кровью, винтовку он волочил по полу, словно у него не было сил поднять ее. — Марвин! Черт, старик, как ты сюда попал? — опустив дуло винтовки, воскликнул близнец. Второй парень высунул голову из-за стола. Марвин вскинул винтовку и дважды выстрелил. Близнец полетел назад в холодный камин. Второй парень перекатился в угол, что-то прокричал и попытался встать. Марвин развернулся и выстрелил от бедра. Парень врезался в стену, по инерции его отшвырнуло назад, и он просто исчез в дыре, которую скрывали тени. Натали осознала, что сидит на корточках, продолжая стягивать на груди свой разорванный лифчик. Она выглянула в щель и увидела, как Марвин деревянной походкой направляется к камину, чтобы осмотреть труп близнеца. Затем он повернулся и подошел к отверстию подземного хода. Заглянув внутрь, он опустил туда дуло винтовки и еще раз выстрелил. Натали ползком бросилась в коридор, забыв о своем лифчике, который свалился на пол. Тело ее покрылось гусиной кожей. С улицы доносились оглушительные звуки выстрелов. «Все это какой-то кошмарный сон, — подумала Натали, — надо проснуться — и все кончится». Но страшная боль в вывернутой лодыжке твердила ей, что все это происходит наяву. В коридор, расставив по-ковбойски ноги, с длинным ножом в руке вышел Винсент. Натали остановилась, ухватившись за обшивку стены, чтобы не упасть. Слева от нее крутая лестница вела на второй этаж. Винсент сделал шаг по направлению к ней. Натали отскочила влево и закричала, ударившись ногой о ступеньку. Захлебываясь слезами, она помчалась вверх по лестнице, уже слыша за спиной голос Роба Джентри, который доносился из кухни.* * *
Идея нападения на Центр управления принадлежала Солу Ласки — он предложил нанести стремительный внезапный удар, создав как можно больше паники, и отступить назад. В идеале все должно было обойтись без неожиданностей и даже выстрелов. В мыслях он надеялся захватить Колбена или Хейнса. Но теперь, когда бульдозер преодолевал последние двадцать ярдов, остававшиеся до трейлеров, он начал сомневаться, разумен ли его план. Слева внезапно раздался взрыв, и на высоту футов в двадцать взметнулись языки пламени — это Тейлор с ребятами принялись забрасывать припаркованные машины бутылками с зажигательной смесью. В ярком свете бушующего пламени Сол увидел мужчину в белой рубашке и темном галстуке, вышедшего из двери главного трейлера. Изумленно уставившись на свирепый огонь, человек перевел взгляд на два приближающихся бульдозера, крикнул что-то неразборчивое и вытащил револьвер из маленькой кобуры на поясе. Сол находился от трейлера ярдах в десяти. Он поднял скрепер, используя его вместо щита, и понял, что тот полностью заблокировал ему видимость. За грохотом мотора и еще одного взрыва «молотовского коктейля» Сол не слышал звуков выстрелов, пока что-то дважды не врезалось в скрепер, а потом загремело по решетке радиатора. Бульдозер не остановился. Сол на фут поднял лопасть и сквозь щель увидел, как мужчина метнулся обратно в трейлер. — Здесь я соскакиваю! — крикнул Зубатка и, перепрыгнув через правую гусеницу, покатился во тьму. Сол подумал было тоже спрыгнуть, потом отказался от этой идеи и поднял скрепер еще на фут. Он с ходу врезался в трейлер. От толчка Сола кинуло вперед, и он до боли прикусил язык. Когда он откинулся на спинку сиденья, гусеницы уже делали свое дело, опрокидывая длинную конструкцию передвижного дома. Весь комплекс задрожал и всколыхнулся еще раз, когда бульдозер Джексона врезался в него футах в двадцати от дверей. Тонкий алюминий корежился и расползался. Весь комплекс окон выдавило наружу, под гусеницами машины Сола стекла захрустели, как осколки под ногами. В течение нескольких секунд Солу казалось, что ножи бульдозеров прорежут трейлер насквозь, но затем стальной скрепер уперся в какой-то твердый металл, оба бульдозера поднатужились, и центральный трейлер, отделившись от двух других, с жутким скрежетом начал опрокидываться назад. Из распахнувшейся двери появился еще один человек с револьвером, он судорожно искал цель, но в это время трейлер обрел центр тяжести и рухнул. Рука мужчины взметнулась вверх, прогремели два выстрела в воздух, и все исчезло. Сол переключил управление в нейтральное положение и спрыгнул на землю. Джексон тоже уже отходил от своего бульдозера, и в гнетущей тишине оба они обменялись взглядами, присев на корточки за бампером одной из фэбээровских машин. — Что же дальше? — помолчав с минуту, спросил Джексон. Из обломков разбитого трейлера выползали люди. Сол увидел, как какой-то женщине помогали выбраться через пробоину в крыше. Большинство вели себя как оглушенные, спускались на холодную землю и передвигались, как марионетки, словно после автокатастрофы. Некоторые придурки все же вытаскивали оружие. Сол понимал, что оставаться здесь было глупо. Тейлор и остальные не показывались, и Сол предположил, что они уже вернулись к грузовику. — Мне нужен кое-кто. Подожди. — Сол дождался, когда из трейлера выползли все агенты, напоминавшие муравьев, спасавшихся из разрушенного муравейника. Однако ни Чарлза Колбена, ни Ричарда Хейнса не было видно. Разочарование с привкусом желчи во рту нахлынуло на Сола. — Пожалуй, нам пора убираться, — прошептал Джексон. — Они начинают приходить в себя. Сол кивнул и последовал в темноту за Джексоном.* * *
Лерой увидел труп Г. Б, на тротуаре и заметил вспышки выстрелов из окон третьего этажа здания напротив Ропщущей Обители еще до того, как ему пришлось упасть и откатиться вправо к воротам. Пули одна за другой со свистом вгрызались в забор слева от него. Ему казалось, что кое-кто из друзей отвечает встречным огнем с западной стороны дома и с улицы. Но, конечно, их разномастное оружие не может тягаться с пневматическими винтовками, которыми пользовались федеральные свиньи. Лерой прижался лицом к замерзшей земле. — Вот жуть-то, старик, — прошептал он. У каменной стены кто-то лежал. Он перевернул тяжелое тело. В рюкзаке звякнули разбитые бутылки с зажигательной смесью. Воздух наполнился острым запахом бензина. Это был Дитер Колман, ученик старшего класса Джермантаунской школы и недавний член Братства. Дитер несколько раз встречался с сестрой Лероя. Лерой знал, что его больше интересовали школьный драматический клуб и компьютерная лаборатория, чем дела улицы, но он уже не раз просил Марвина принять его в банду. Главарь предоставил ему такую возможность всего лишь неделю назад. Разрывной пулей парню почти снесло голову. Лерой потянул к себе ремни рюкзака, бормоча себе под нос: — Ты просто тупой, Лерой. Ты кретин, старик. Ты всегда занимаешься тупыми вещами. Он вскинул рюкзак себе на спину, но бензин из разбитой бутылки потек ему за шею. Засунув за пояс свой бесполезный револьвер 25-го калибра и не дав себе времени опомниться, Лерой распахнул ворота и помчался к дому. Позади прогремело два выстрела, что-то ударило его в подошву кроссовки, но Лероя это не остановило. Он прорвался сквозь ряд мусорных бачков, стоявших у входа в проулок, и запрыгнул на пожарную лестницу. — Какая чертовски дурацкая мысль, — бормотал он, карабкаясь вверх. — В проулок с третьего этажа не выходило ни одного окна. Лестница заканчивалась запертой металлической дверью без ручки. — Глупо, глупо, — шептал Лерой, карабкаясь по выступу стены. Он ощупал карманы брюк и куртки. У него не было ни спичек, ни зажигалки — ничего. Когда он увидел три фигуры, выбежавшие с тыльной стороны здания в проулок, то чуть не расхохотался в голос. Со своего выгодного места на высоте тридцать футов Лерой различал их побледневшие лица и руки, указывавшие вверх и вздымавшие оружие. — Дальше идти некуда, старик, — прошептал Лерой. Когда первая пуля просвистела мимо, осыпав Лероя брызгами искр, он плотно прильнул лицом и животом к кирпичной стене. Вторая снова врезалась в подошву его правой кроссовки, подбросив ногу вверх. Лерой вдруг ощутил какое-то онемение в ноге и уставился в черное отверстие, образовавшееся в его белой кроссовке. — Шутите со мной, да? — спросил он неизвестно кого. Стальная дверь открылась, и на площадку пожарной лестницы вышел мужчина в темном костюме. В руках у него была винтовка непонятного вида. Лерой выхватил винтовку и прикладом врезал свинье по горлу, так что тот перегнулся через перила. Свою правую занемевшую ногу Лерой быстро вставил в щель, чтобы дверь не успела закрыться. Выстрелов снизу пока не было, но Лерою было видно перемещение белых, выбиравших точку прицела. Прижатый мужчина брызгал слюной и сопротивлялся, одной рукой царапая лицо Лерою, а другой стараясь отпихнуть приклад винтовки, вжатый в горло. Лерой подналег плечом, пытаясь перевалить противника через перила. — Спички есть, старик? — прошептал он. Из помещения позади послышались шаги. Лерой запустил левую руку в карман пиджака агента и вытащил оттуда золотую зажигалку. — Слава тебе, Господи, — произнес он вслух и отпустил агента, который перевалился через перила и полетел вниз вместе с винтовкой. Лерой вошел в дом как раз в тот момент, когда снизу снова раздались выстрелы. — У тебя есть... — обратился к нему другой белый с револьвером, у окна стояло еще трое — рядом с диковинными винтовками и телескопами на тяжелых треногах. Лерой заметил складные стулья, карточные столы, заваленные едой и уставленные пивными банками, а также целую связку радионаушников на стене. — Не двигаться! — заорал белый и направил дуло револьвера в грудь Лероя. Лерой уже поднимал руки. Большим пальцем он нажал на рычаг зажигалки и ухом ощутил тепло от крохотного язычка пламени. — Повезло. Впервые за все это чертово время, — заметил Лерой и бросил зажигалку в открытый рюкзак с пропитавшимися бензином бутылками.* * *
Энн Бишоп была в полуквартале от Ропщущей Обители, когда раздался оглушительный взрыв. Она не затормозила и продолжала двигаться вперед с постоянной скоростью 15 миль в час, сжимая руль «Де Сото» и немигающим взглядом уставившись на дорогу. Все окна третьего этажа заброшенного здания напротив Ропщущей Обители вылетели, стекла разлетелись на тысячу осколков, которые, блистая и сияя, как снежинки, летели на мостовую и тротуар. Тридцатью секундами позднее весь этаж был охвачен пламенем. Энн Бишоп затормозила рядом с Ропщущей Обителью и перевела ручку передач в положение «стоп». Следуя рефлексам, выработанным треть столетия назад, она тщательно установила тормоз. Огонь тем временем разгорался все ярче и теперь отбрасывал оранжевое сияние на Ропщущую Обитель и прилегающий к ней участок улицы. Из дома донесся разрозненный треск выстрелов. В пятидесяти ярдах от машины с полдюжины длинноногих фигур бегом пересекли улицу. Рядом с правым колесом «Де Сото» ничком лежал парень. Возле его разбитой головы виднелась маленькая черная лужица. Кровь медленно стекала в канавку канализации. Из горевшего здания раздался мощный треск, словно кто-то одновременно сломал сотни толстых сучьев. Время от времени оттуда доносились хлопки взрывавшихся боеприпасов, чем-то напоминавшие треск поджаривающегося попкорна. Кто-то кричал. Выли сирены. Но Энн Бишоп продолжала сидеть в машине, вцепившись в руль и вперив взгляд в пустоту. Она ждала.* * *
Джентри быстро проскользнул в открытую заднюю дверь, держа «ругер» перед собой. Перевернутый стол служил хорошей защитой, и он воспользовался ею, тяжело опустившись на одно колено, чтобы оглядеться. Старая кухня была освещена двумя свечами — одна стояла на полочке, другая, продолжая гореть, валялась на полу. Близнец по имени Г. Р, лежал мертвый в огромном камине — его пуховик был разрезан от горла до пупа. Пух разлетелся и летал по кухне, покрывая лицо, торс и ноги убитого мальчика. Больше в кухне ничего не было. Узкая дверца, ведущая то ли в кладовку, то ли в какую-то маленькую комнату, была распахнута и скрывала из виду то, что делалось в коридоре. Расслышав в коридоре шум, Джентри прицелился в дверь кладовки. Он поймал себя на том, что судорожно дышит ртом, рискуя получить перенасыщение кислородом, и задержал дыхание секунд на десять. Стрельба на улице стихла, и во внезапно наступившей тишине Джентри различил слабое поскребывание в темном углу позади себя. Он поспешно развернулся, не вставая с колена, и увидел, что из какой-то норы вылезает Марвин Гейл. Даже несмотря на тусклый свет Джентри заметил, что лицо главаря банды выражает полную безучастность, глаза закатились, виднелся лишь самый край радужной оболочки. — Марвин? — окликнул его Джентри, не узнавая парня, и в то же мгновение Марвин (вернее, его оболочка) вскинул винтовку, скрывавшуюся до этого в норе, прицелился в голову Джентри и спустил курок. Раздался сухой щелчок. Осечка. Джентри поднял свой «ругер», но Марвин снова выстрелил. И снова ударник затвора встретил пустоту. Джентри взвел курок на «ругере», затем перехватил его большим пальцем и не спеша опустил. — Черт! — выругался он и прыгнул вперед. Марвин Гейл выронил винтовку и принялся вылезать из норы. То был подземный ход. Марвин был легче и ниже Роба Джентри, но он был вдвое моложе, стремительнее и к тому же наделен дьявольской энергией. Джентри хотел бороться с юношей по-честному, но тут либо пан, либо пропал. Задумываться над методами было некогда. Шериф оказался в углу прежде, чем Марвин успел встать на ноги, и нанес ему сильнейший удар в висок дулом «ругера». Марвин упал, перекатился на спину и замер. Джентри присел рядом, нащупал его пульс и поднял голову как раз в тот момент, когда в дверях кладовки появился тот негодяй — пешка Мелани Фуллер. Джентри выстрелил дважды — первая пуля попала в каменную стену, возле которой секундой назад стояла эта образина; вторая врезалась в дверь кладовки. По коридору послышались тяжелые шаги. Снаружи донесся приглушенный звук взрыва. — Натали! — крикнул Джентри, выждал секунду и позвал снова. — Я здесь. Роб! Будь осторожен, он... — голос Натали оборвался. Похоже, она была в конце коридора. Джентри вскочил, оттолкнул стол и побежал на голос девушки. Натали карабкалась по лестнице, пока хватало сил, уповая, что на худой коней сможет ударить Винсента ногой в лицо, и вдруг обнаружила, что она не одна. Девушка заставила себя поднять голову и посмотреть наверх. На лестничной площадке стояла Мелани Фуллер. Она улыбнулась, и Натали увидела, что у нее вывалилась вставная челюсть. В свете свечей, идущем из детской, язык ее казался черным, как запекшаяся кровь. — Постыдилась бы, милочка, — прошепелявила старуха. — Прикрой свою наготу. Натали вздрогнула и прижала к груди обрывки рубашки. Голос старухи дребезжал, ее зловонное дыхание наполняло лестницу запахом разложения. Натали попыталась подползти ближе, чтобы вцепиться в эту морщинистую шею. — Натали! — послышался голос Роба. Девушка вцепилась в сломанную деревянную ступеньку: «Где же Винсент?» Она попыталась было предупредить Роба, но в это время Мелани Фуллер спустилась на три ступеньки ниже и дотронулась до ее плеча ногой в розовом тапочке. — Тихо, дорогая! И тут Натали увидела Джентри. Он двигался по коридору с поднятым револьвером. — Натали! О Господи! — его глаза расширились от ужаса. — Роб! — закричала Натали, пользуясь последней секундой, пока ее сознание еще принадлежало ей. — Будь осторожен! Там белый ублюдок!.. — Тссс, дорогая, — повторила Мелани Фуллер. Повернув голову, старуха пристальным полубезумным взглядом уставилась на шерифа Джентри. — Я знаю, кто ты, — прошептала она, брызгая слюной при каждом слове. — Но я за тебя не голосовала. Джентри окинул взглядом коридор, ведущий в гостиную и прихожую. Затем поставил ногу на нижнюю ступеньку, прислонился к стене, поднимая, свой тяжелый «ругер», чтобы, выстрелить прямо в грудь Мелани Фуллер. Старуха медленно покачала головой. Дуло револьвера вдруг стало опускаться, словно под действием, мощной магнетической силы, дернулось, замерло и оказалось нацеленным в лицо Натали Престон. — Да, сейчас, — шепотом приказала Мелани Фуллер. По телу Джентри пробежала судорога, зрачки его расширились еще больше, лицо налилось кровью. Рука его стала дрожать с такой силой, будто все его нервные окончания сопротивлялись командам, поступавшим из агрессивного мозга. Джентри сжал пальцы на рукояти револьвера, оттянул курок. — Да-а, — протянула Мелани Фуллер. На лбу Джентри выступила испарина, рубашка взмокла от пота. Все в нем напряглось, вздулись жилы на шее, в висках пульсировала кровь. Лицо шерифа превратилось в мученическую маску, какая появляется у человека в моменты неимоверной концентрации сил, мысли, воли. Костяшка пальца на курке белела от напряжения. Джентри боролся с насилием над собой, не желая стать марионеткой, пешкой в руках безумной старухи. Натали не шевелилась. Она смотрела на эту мученическую гримасу и не видела ничего, кроме ярко-голубых глаз Роба Джентри. — Это тянется слишком долго, — прошептала Мелани Фуллер и устало потерла свой морщинистый лоб. Джентри отлетел назад, как если бы титаны, с которыми он соперничал в перетягивании каната, внезапно отпустили свой конец. Он вылетел в коридор, сполз по стене и выронил револьвер, хватая ртом воздух. На мгновение, когда их глаза встретились, Натали увидела на лице Роба выражение восторга. И тут из гостиной появился Винсент. Он дважды взмахнул ножом. Джентри охнул и прижал руки к горлу, будто желая склеить вместе расходящиеся края раны. Казалось, в течение каких-то секунд это ему удавалось, но затем кровь хлынула фонтаном, заливая его руки и грудь. Джентри повалился на бок, мягко уткнувшись головой и плечом в пол. Он продолжал смотреть на Натали, пока глаза его не закрылись — медленно и сонно, как они закрываются у ребенка, ложащегося днем вздремнуть. Мощное тело Джентри охватили судороги, и оно расслабилось в смертельном покое. — — Нет! — закричала Натали и вскочила. Она кубарем скатилась с лестницы, больно ударившись левой рукой о нижнюю ступеньку, так что в плече у нее что-то хрустнуло. Но она уже не обращала внимания ни на что — ни на боль, ни на щупальца, продолжавшие трепетать в ее сознании, как мотыльки, бьющиеся о стекло, ни на второй удар, когда она перекатывалась через ноги погибшего Роба. Думать было некогда. Ее тело действовало инстинктивно, исполняя то, что она приказала ему давным-давно, еще до того как вскочила. Над ней качалась фигура Винсента — размахивая руками, он пытался сохранить равновесие после столкновения с девушкой. Чтобы нанести удар ножом, ему нужно было развернуться. Не задумываясь, Натали перевернулась на спину, нащупала правой рукой тяжелый «ругер» как раз там, куда он должен был отскочить, и, подняв его, она выстрелила подонку прямо в открытый рот. От отдачи руку ее отбросило к полу, а Винсент от силы удара буквально взлетел в воздух. Врезавшись в стену на высоте семи футов от пола, парень сполз по ней. Широкая кровавая полоса сползла следом за ним. Мелани Фуллер стала медленно спускаться, старчески шаркая по деревянным скрипучим ступенькам. Натали попробовала подняться, опершись на левую руку, но повалилась на бок, на ноги Роба. Она опустила револьвер и села. Сквозь слезы, застилавшие глаза, девушка никак не могла прицелиться в Мелани Фуллер. Старуха была от нее на расстоянии футов пяти. Натали ждала, что мерзкие щупальца вот-вот проникнут в ее сознание, остановят ее, но ничего не происходило. Она нажала на курок — раз, два, три... увы, выстрела не было. — Всегда надо считать патроны, милочка, — прошамкала старуха. Она преодолела две последние ступеньки, перешагнула через ноги Натали и шаркающей походкой направилась к двери. Остановившись, Мелани оглянулась и зловеще сказала: — До свидания, Нина. Мы еще встретимся. Старуха отодвинула засов на расщепленной выстрелами входной двери, прямо в халате и тапочках вышла на улицу, освещенную пламенем пожара, и исчезла. И тогда Натали выронила револьвер и зарыдала. Подобравшись к Джентри, она освободила его тело из-под трупа Винсента и прижала окровавленную голову Роба к груди. Ее брюки, пол, все вокруг тут же пропитались кровью. «Господи, Господи! Но за что? Почему я всех теряю?» — ей хотелось выть, кричать от нестерпимой боли утраты, разрывавшей сердце. Когда Сол Ласки и Джексон вошли в дом минут через пять, подгоняемые пламенем пожара, ревом сирен и возобновившейся на улице перестрелкой, они увидели Натали сидящей все так же на полу. Голова шерифа Джентри покоилась у нее на коленях; девушка гладила волосы Роба и, словно баюкая любимого, напевала ему что-то...Глава 21
Мелани Мне очень не хотелось покидать Ропщущую Обитель, но выбора в этот момент практически не было. Все вокруг вышло из-под контроля; цветные избрали Новый год, чтобы устроить одну из своих бессмысленных потасовок, о которых я столько читала. Еще два-три десятилетия назад подобных вещей просто не могло произойти, но все круто изменилось после агитации за так называемые «гражданские права негров». Папа всегда говорил: стоит неграм уступить на дюйм, они потребуют ярд, а потом отхватят милю. Посланница Нины — цветная девица, которая выглядела бы вполне привлекательно, если бы не лохматые волосы, делавшие ее похожей на младенца, — почти убедила меня в том, что ее послала Нина, пока я не разгадала ее уловку. Об этом мне сказали голоса. В тот последний день они звучали очень громко. Признаюсь, я с трудом сосредотачивалась на менее важных вещах, ибо пыталась хорошенько расслышать то, что мне говорили голоса детей — несомненно мальчика и девочки, со странным, похоже, британским акцентом. Кое-что звучало вполне разумно. Они предупреждали меня о пожаре, мосте, реке и шахматной доске. Возможно, эти вещи имели отношение к их собственным жизням, каким-то роковым образом участвуя в их юных судьбах. Но предупреждения о Нине Дрейтон я слышала совершенно определенно. В конце концов эти двое так называемых Нининых посланцев, прибывших сюда из Чарлстона, оказались не более чем неприятным недоразумением. Я сожалела о потере Винсента, но, по правде говоря, он уже полностью выполнил свою задачу. Я плохо помню последние моменты в Ропщущей Обители. Помню, что в правой части головы у меня началась страшная боль. Когда Энн складывала вещи, еще до того как заехать за мной, я заставила ее взять бутылочку «дристона». Неудивительно, что мой полиартрит и застарелая мигрень повели себя таким образом в сыром, холодном и негостеприимном северном климате. Когда я вышла из Ропщущей Обители, Энн перегнулась через переднее сиденье и открыла мне дверцу своей старенькой машины. Здание на противоположной стороне улицы горело — несомненно, это было делом рук черномазых бездельников. В свое время, когда меня посещала миссис Ходжес и начинала квохтать о последних зверствах на севере, она неизменно указывала, что те, кто считались бедным, голодающим и подвергающимся дискриминации меньшинством, при первой же возможности крали дорогие телевизоры и модную одежду. Она считала, что цветные, когда еще были рабами, обкрадывали белых, продолжают делать это и теперь. То было одно из немногих здравых суждений пронырливой старухи, с которым я соглашалась. На заднем сиденье «Де Сото» стояли три чемодана. В самом большом была сложена моя одежда, в среднем — наличные деньги и собранные Энн ценные бумаги, в самом маленьком — одежда и личные вещи Энн. Моя соломенная сумка тоже была там. На полу лежала двенадцатизарядная винтовка, которую Энн держала у себя дома. — Поехали, дорогая, — промолвила я и устало откинулась на спинку. Энн Бишоп вела машину по-старушечьи. Мы оставили за спиной Ропщущую Обитель и горящее здание и двинулись на северо-запад по Джермантаун-стрит. Оглянувшись, я заметила, что там, где от Джермантаун отходит Квин-Лейн, происходит какая-то стычка. На перекрестке стояли фургон и два низких несимпатичных автомобиля. Полиции видно не было. Мы миновали Пенн-стрит и приближались к Церковной, когда два фургона торгового вида выехали на середину улицы и перегородили нам дорогу. Я заставила Энн выехать на левый тротуар и проскочить. Из фургонов выскочило несколько человек, потрясая оружием, но тут же их внимание отвлек парень, который, повинуясь моему приказу, развернулся и стал палить из револьвера в своих коллег. Все это была какая-то неразбериха. Если они приехали арестовывать цветных бездельников, пусть бы и занимались этим и оставили в покое двух белых пожилых леди. Мы добрались до Рыночной площади, где, несмотря на темень, я разглядела бронзового солдата-янки, высившегося на своем постаменте. Еще в первый наш выезд Энн сообщила мне, что гранитная глыба была привезена из Геттисберга. Я вспомнила: ведь генерал Ли отступал под дождем, он потерпел поражение, но не был повержен, с ним в целости и сохранности осталась честь и гордость конфедератов. И это воспоминание тоже наполнило меня гордостью и заставило более оптимистично взглянуть на ситуацию — поле боя я покидала временно, сдаваться я не собиралась. Нам навстречу, мигая огнями, с воем проносились пожарные машины, полицейские автомобили... А позади, набирая скорость, нас догонял один из фургонов и седан темного цвета. Я обернулась. На крышах машин крутились мигалки. — Поворачивай налево, — распорядилась я. Энн круто развернулась, и я достаточно близко увидела лицо шофера пожарной машины. Закрыв глаза, я нашла в себе силы и нажала. Пожарная машина заскрежетала, повернулась, прорезав площадь поперек, перескочила через троллейбусные колеи и врезалась в догонявший нас фургон, фургон опрокинулся и замер колесами вверх посредине Рыночной площади. Я успела заметить, как темный седан метнулся в сторону, чтобы объехать красную тушу пожарной машины, перегородившей площадь, но мы уже неслись прочь от этого «нечаянного» автодорожного происшествия. Труднее всего мне было заставить Энн ехать со скоростью тридцать миль в час. Пришлось собрать всю свою волю, чтобы она вела машину так, как было нужно мне. На самом же деле, именно ее глазами я видела проносившиеся мимо улицы, ее ушами слышала я шум моторов и замечала, как разъезжаются в разные стороны еще встречавшиеся время от времени машины. улицы Джермантауна не были приспособлены для езды на «Де Сото» выпуска 1953 года со скоростью 85 миль в час. Из проулка вслед за нами вынырнула зеленая машина. Над нами время от времени раздавался рев вертолета. Я заставила Энн круто повернуть и увеличить скорость. Внезапно по правому заднему стеклу пошли трещины, и оно с грохотом обрушилось внутрь машины. Оглянувшись, я успела заметить две дыры размером с мой кулак. Когда мы приближались к Горной улице, перед нами появился негр без пальто, который брел, качаясь из стороны в сторону. Перед самым носом зеленой машины он вдруг выскочил на проезжую часть и бросился под колеса. Я посмотрела в зеркальце заднего вида и увидела, как ту машину занесло вправо, она врезалась в поребрик, перевернулась в воздухе и въехала в стеклянную витрину «Макдоналдса». Я порылась в ящике для перчаток в надежде найти карту Филадельфии, ни на мгновение не выпуская из-под контроля Энн. Мне нужно было выбраться на скоростное шоссе, чтобы покинуть этот кошмарный город, но, хотя нам то и дело встречались зеленые знаки, стрелки и указатели виадуков, я понятия не имела, какую дорогу выбрать. Сквозь разбитое окно в машину врывался неимоверный шум, совсем низко навис огромный вертолет. Во вспышках проносящихся мимо фонарей я даже различила пилота в глубине и мужчину в бейсбольной, кепке, который высовывался из окна. На губах его играла маниакальная усмешка, он что-то держал в руках. Я заставила Энн свернуть вправо на поднимавшийся пандус виадука. Левое колесо «Де Сото» забуксовало на мягкой обочине, и в течение нескольких секунд я была полностью поглощена тем, чтобы пробудить к жизни заглохший мотор, нажимая на акселератор и пытаясь спасти нас от автокатастрофы, Пока мы совершали объезд бесконечной развязки, вертолет продолжал реветь над нами. На долю секунды на левой щеке Энн появилась красная точка. Я тут же заставила ее выжать акселератор до упора, и старая машина рванула вперед — точка исчезла, но что-то врезалось в левую часть заднего бампера машины. Нас вынесло на высокий мост, перекинутый через реку. Но мне совершенно не нужен был мост, мне нужна была скоростная автострада. Вертолет не отставал, он летел так низко, что мне казалось — вот-вот он сядет нам на крышу и раздавит нас своей махиной. На мгновенье красный свет ослепил меня, и я заставила Энн свернуть влево и прижаться к «Фольксвагену», используя его в качестве прикрытия от преследующего нас вертолета. Водитель «Фольксвагена» внезапно повалился вперед, и микроавтобус врезался в перила правого ограждения моста. Вертолет переместился еще ниже, умудряясь маневрировать на бешеной скорости. Мы съехали с моста. Энн резко свернула налево, и мы затряслись посреди автострады, едва не врезались в полутрейлер, который гудел нам во всю мощь. Огромный указатель сообщал, что мы въезжаем на президентскую территорию. Перед нами в разные стороны расходились четыре пустые дороги, освещенные ртутными лампами дневного света. Вертолет пронесся над нами, ослепив нас красными и зелеными огнями, сделал круг и завис ярдах в ста впереди. Пространство было слишком освещенным, слишком пустым, и мы превращались в слишком легкую добычу, как металлические утки в конце длинного тира. «Де Сото» с ужасающим визгом крутанулся, и мы вылетели на узкую, без всяких указателей, дорожку. Она вела на юго-восток под приподнятым виадуком, обозначенным на карте как скоростное шоссе. «Дорога» — это было слишком громко сказано. Скорее она напоминала посыпанную гравием тропу. Фары нашей машины выхватывали из тьмы железобетонные опоры виадука. Платье и свитер Энн пропитались потом, я обратила внимание на весьма странное выражение ее лица. Вертолет, увы, не покидал нас, он как фантом возник над железнодорожным полотном, идущим параллельно шоссе. Проносящиеся опоры виадука усиливали ощущение скорости. Наш древний спидометр заклинило на стрелке, показывающей 100 миль в час. Впереди наша гравиевая дорога обрывалась, а над головой раскидывалась целая сеть автомобильных развязок, поддерживаемая колоннами, опорами и пилястрами. Мы оказались в настоящем железобетонном лесу. Я следила за тем, чтобы Энн не нажимала на тормоза, и мы проскакали расстояние с половину футбольного поля, подняв облако пыли, которое скрыло нас из виду. Когда пыль осела, мы остановились менее чем в ярде от огромной опоры размером с небольшой домик. Осторожно объехав ее, мы вынырнули из-под одного виадука и тут же нырнули под укрытие другого. Развязка над нами состояла по меньшей мере из пятнадцати дорог, многие из которых вели к мосту, добавляя еще большее количество стальных опор к лесу колонн. Мы проехали еще ярдов пятьдесят, и я заставила Энн притормозить у бетонного островка, выключить двигатель и фары. Надо отдохнуть... Я открыла глаза. Мы были как мыши, загнанные в какой-то причудливый храм. Огромные колонны вздымались здесь на высоту пятьдесят футов, а дальше — на восемьдесят и еще выше у основания трех мостов, перекинутых через темные воды реки Шилкил. Вокруг царила полная тишина, если не считать отдаленного гула моторов над головой да свистков поезда. Я досчитала до трехсот, и только после этого у меня появилась надежда, что вертолет потерял нас из виду. Но я ошиблась в своих расчетах. Рев вертолета обрушился и оглушил нас. Адская машина зависла под самым высоким виадуком, прорезав пространство перед собой лучом прожектора. Вертолет летел очень медленно, чтобы лопасти винта не приближались к платформам и опорам, и фюзеляж его разворачивался то налево, то направо, как голова осторожного кота. Вот точное ощущение — за-, таившиеся мыши и кот-вертолет, загоняющий нас в ловушку... Да, луч прожектора обнаружил нас и безжалостно замер, пригвоздив нас к месту. Я мысленно приказала Энн выбраться из машины, и она как-то неуклюже примостила винтовку на крыше «Де Сото». Повелев ей выстрелить, я сразу поняла свою ошибку: вертолет находился пока на недоступном винтовке расстоянии. Отдача от выстрела отбросила Энн назад. Винтовка взлетела в воздух и обрушилась на нее сверху. Когда скоростная пуля, пущенная из вертолета, врезалась в ветровое стекло нашей машины и оно разлетелось на мельчайшие осколки, я уже лежала на полу «Де Сото», прикрыв голову руками. Энн удалось подняться, доковылять до машины и левой рукой включить зажигание. Правая рука у нее уже ни на что не годилась и висела, почти отделившись от плеча. Сквозь разорванную ткань белела обнаженная кость. Мы мчались прямо под брюхом вертолета, как доведенные до отчаяния мыши, шныряющие между лапами разъяренного кота, вверх по гравиевой дорожке, по перелеску к темному мосту, временно уклонившись от берега реки. Вертолет следовал за нами, но обнаженные деревья, обрамлявшие гравиевые дорожки, защищали нас. Мы взлетели на холм, справа от нас остались изгибающиеся к югу скоростные шоссе, слева оказались железная дорога и река. Я заметила, что наша дорога уходит влево, в стороны от двух темных мостов. Выбора у нас не было: вертолет висел прямо над нами, деревья здесь росли слишком редко, чтобы за ними можно было укрыться, а «Де Сото» не мог преодолеть крутой спуск вниз, где в сотне ярдов виднелась автострада. Мы свернули влево и ринулись к темному мосту. Машина резко затормозила. Это был железнодорожный мост, к тому же очень старый. С обеих его сторон тянулось низкое каменное и металлическое ограждение. Узкоколейка с прогнившими шпалами и ржавыми рельсами висела в темноте над водой. футах в тридцати перед нами путь преграждала мощная баррикада. Но даже и прорвись мы сквозь нее, это нам мало бы чем помогло — дорога была слишком узкой, слишком открытой, и, учитывая помехи, двигаться по ней можно было бы только на малой скорости. Мы простояли на месте не более двадцати секунд, но этого оказалось достаточно. Оглушительный рев сопровождался тучами поднимаемой пыли, и я пригнула голову, когда тяжелая масса, казалось, закрыла собой все небо. Просвистели пули, почти одновременно на пульте управления и на руле появилось пять дырок. Выстрелы продырявили тело Энн Бишоп, его несколько раз подбросило — взвыл клаксон, и все было кончено. Я открыла дверцу и бросилась вон из машины. Одна из тапочек соскочила с ноги и откатилась в заросли кустарника. Халат и ночная сорочка вздулись парусом от того урагана, который устроили лопасти вертолета. Махина пролетела почти над моей головой и исчезла за линией холмов. Я поковыляла по деревянным шпалам прочь от моста. За холмами, в отраженном свете скоростной автострады, я различила темный массив парка Феермаунт. Энн рассказывала мне, что это самый большой городской парк в мире, занимает более четырех тысяч акров леса, тянущегося вдоль реки. Если бы мне удалось до него добраться... Вертолет начал подниматься над макушками деревьев, как паук, карабкающийся вверх по своей паутине. Плавно спустившись, он начал приближаться ко мне. Я увидела, что из бокового окна потянулся тонкий красный лучик, рассекавший пыльный воздух. Повернувшись, я поплелась обратно к мосту, к брошенной машине Энн. Это было именно то, чего они хотели от меня. Сквозь кустарник вниз к берегу вела крутая тропа. Я свернула на нее, поскользнулась, потеряла вторую тапочку и тяжело рухнула на холодную сырую землю. Вертолет проревел у меня над головой, завис над рекой и прожектором принялся ощупывать берег. Спотыкаясь, я начала спускаться, потом полетела и футов двадцать катилась кубарем, чувствуя, как ветви деревьев и кустарник обдирают мне кожу. Прожектор вновь отыскал меня. Я поднялась, луч ослепил меня. Я зажмурилась. О, если бы мне удалось использовать пилота!.. И тут пуля вонзилась в подол моего халата. Я упала на четвереньки и поползла вдоль склона. Вертолет нырнул, не отставая от меня. Нет, там была не Нина. Тогда кто же? Я спряталась за трухлявым бревном и разрыдалась. Две пули подряд вонзились в дерево. Я свернулась в тугой комочек. Ужасно болела голова. Халат и ночная рубашка были в грязи. Вертолет висел надо мною, рядом с мостом. Он вращался вокруг собственной оси, играя со мной, как кот с пойманной мышью. Подняв голову, я сосредоточила все свое внимание на этой дьявольской машине и ее пассажирах. Преодолевая нестерпимую головную боль, направляла луч своей воли все сильнее и дальше с небывалой ранее решимостью. И — все безрезультатно. В вертолете находилось двое мужчин. Пилот был нейтралом... дырой в ткани сознания. Другой сам обладал Способностью... нет, это не Вилли... хотя такой же волевой и кровожадный. Но, не зная и не видя его, я не могла преодолеть его Способность настолько, чтобы использовать его. Он же — вполне мог меня убить. Я поползла дальше к каменной арке опоры, которая виднелась впереди. Пуля вгрызлась в землю в десяти дюймах от моей руки. Пятясь назад, я пыталась вернуться на узкую тропу среди кустарника. И следующая пуля едва не попала мне в пятку. Я припала к земле, прислонившись спиной к бревну, и закрыла глаза. Пуля прорезала трухлявое дерево в нескольких дюймах от моего позвоночника. Следующая, разбрызгивая грязь, угодила между ног. И все-таки я доползла до машины. Энн прострелили четырьмя пулями. Одна попала ей в желудок и прошла, чуть не задев позвоночник. Другая попала в третье ребро и, отрикошетив, ранила ее в левую руку. Третья пуля прошла сквозь правое легкое и засела под лопаткой. А четвертой был срезан язык, выбита большая часть зубов. Да, Энн была мертва, но она была мне еще нужна. Чтобы использовать ее, я должна была претерпеть всю боль, обрушившуюся на нее. Стоило поставить какой-нибудь заслон, и она бы ускользнула от меня. Но я не должна была позволить ей умереть. У меня оставалась последняя задача для нее. Зажигание было включено. Автоматическая система передач стояла на отметке «стоп». Для того чтобы привести машину в движение, Энн нужно было просунуть голову сквозь разбитый руль и остатками зубов повернуть металлическую рукоять. Тормоз она сняла, следуя многолетней привычке. С этой целью я использовала ее колено. Зрение ее поблекло и исчезло. Зажмурившись, силой собственной воли я заставила его вернуться. Обломки кости, торчавшие из правой скулы, заслоняли ей обзор. Но это не имело значения. Она положила свои исковерканные руки на обшитый пластиком руль. Я открыла свои глаза. Красная точка плясала на засохшей траве рядом со мной, вот она нашла мою руку и переместилась мне на лицо. Трухлявое бревно разлетелось в мелкие щепки. Моргнув, я постаралась отогнать надоедливое пятно. Даже сквозь рев вертолета было слышно, как заработал двигатель «Де Сото» и машина рванула вперед через ограждение. Я подняла глаза как раз в тот момент, когда две фары взметнулись вверх, а потом нырнули вниз. И «Де Сото» 1953 года выпуска почти вертикально начал падать вниз. Пилот был хорош, очень хорош. Вероятно, боковым зрением он успел что-то заметить и среагировал почти мгновенно. Мотор вертолета взревел, и фюзеляж круто нырнул вперед, разворачиваясь к открытому пространству реки. Падавшая машина Энн задела лишь край лопасти винта. Но этого было достаточно. Красная точка исчезла из моего глаза. Раздался чудовищный скрежет металла. Вся вращательная энергия винта вертолета словно передалась фюзеляжу, его развернуло раз, три, пять, и наконец машина врезалась в каменную арку железнодорожного моста. Он не загорелся. Он не взорвался. Груда искореженной стали, плексигласа и алюминия безмолвно рухнула в реку, с плеском исчезнув под водой не далее чем в десяти футах от того места, где прежде исчез «Де Сото». Течение было очень сильным. Еще несколько секунд прожектор вертолета продолжал гореть. Я следила, как погружается все глубже и глубже мертвая машина, относимая вниз по реке с такой скоростью, что даже трудно себе представить. Затем свет погас, и темные воды сомкнулись над вертолетом, как грязный саван. Силы мои были на исходе, и потребовалось по меньшей мере полчаса, прежде чем я попыталась встать. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь слабым плеском реки и отдаленным монотонным гуломневидимой автострады. Спустя некоторое время я отряхнула со своей сорочки приставшие ветки и пыль, потуже затянула пояс халата и стала медленно взбираться вверх по тропе.Глава 22
Филадельфия Четверг, 1 января 1981 г. За час до завтрака детям позволили выйти из дома поиграть. Утро было холодным, но ясным, отчетливая оранжевая сфера поднимавшегося солнца старательно стремилась отделиться от бесчисленных обнаженных ветвей деревьев, словно цеплявшихся за нее своими руками. Трое ребятишек смеялись, играли и бегали по длинному склону, который вел к лесу и дальше к реке. Старшей, Таре, всего лишь три недели назад исполнилось восемь. Эллисон было шесть. Рыжему Джастину должно было исполниться пять в апреле. Их смех и крики отдавались эхом от поросшего лесом холма. Когда из-за деревьев появилась старая леди и направилась к ним, все трое замерли. — Почему вы до сих пор в халате? — поинтересовалась Эллисон. Женщина остановилась и улыбнулась. — О, сегодня такое солнечное утро, что мне захотелось пройтись, прежде чем одеться, — проскрипела она странным голосом. Дети понимающе закивали. Им часто хотелось поиграть на улице в пижамах. — А почему у вас нет зубов? — осведомился Джастин. — Замолчи, — поспешно оборвала его Тара. Джастин опустил глаза, переминаясь с ноги на ногу. — Где вы живете? — спросила старуха. — Мы живем в замке. — Эллисон указала на высокое старинное здание из серого камня, стоявшее на холме. Вокруг него простирались сотни акров парковых угодий. Узкая полоска асфальта вилась вдоль склона, уходя в лес. — Наш папа — помощник лесничего, — пропела Тара. — Правда? — снова улыбнулась незнакомка. — Ваши родители сейчас дома? — Папа еще спит, — сказала Эллисон. — Они с мамой вчера поздно легли после новогоднего вечера. Мама проснулась, но у нее болит голова, и она отдыхает, перед тем как готовить завтрак. — У нас будут французские тосты, — сообщил Джастин. — И мы будем смотреть Парад Роз, — добавила Тара. Дама улыбнулась и посмотрела на дом. Десны у нее были бледно-розового цвета. — Хотите покажу, как я умею кувыркаться? — Джастин дернул ее за руку. — Умеешь кувыркаться? — переспросила дама. — Конечно же, хочу. Джастин расстегнул куртку, встал на колени и неуклюже перекувырнулся вперед, шмякнувшись на спину и подняв кроссовками грязные брызги. — Видела? — Браво! — Дама захлопала в ладоши. И снова пристально взглянула на дом. — Я — Тара, — сообщила старшая девочка. — Это — Эллисон. А Джастин еще ребенок. — Я не ребенок! — заявил Джастин. — Нет, ребенок, — непоколебимо возразила Тара. — Ты младше всех, поэтому ты — ребенок. Мама так говорит. Джастин свирепо нахмурился и снова взял за руку пожилую даму. — Вы хорошая, — сообщил он. Та небрежно погладила его по голове свободной рукой. — А у вас есть машина? — поинтересовалась дама. — Конечно, — ответила Эллисон. — У нас есть «Бронкс» и «Синий Овал?». — "Синий Овал" ? — Старуха удивленно подняла брови. — Она имеет в виду синий «Вольво», — пояснила Тара, качая головой. — Это Джастин его так называет, а теперь и папа с мамой. Они считают, что это смешно. — И она состроила гримасу. — А кто-нибудь есть еще в доме? — поинтересовалась дама. — Ага, — откликнулся Джастин. — Должна была приехать тетя Кэрол, но она вместо этого поехала в какое-то другое место. Но папа сказал, что слава Богу, от нее только одни хлопоты... — Тихо ты! — снова оборвала мальчика Тара и хлопнула его по руке. Джастин спрятался за спину дамы в халате. — Вам, наверно, скучно одним в замке? — предположила та. — А вы не боитесь грабителей или каких-нибудь нехороших людей? — Не-а. — Эллисон швырнула камнем в сторону отдаленных деревьев. — Папа говорит, что парк — это самое безопасное место для детей во всем городе. Джастин заглянул в лицо незнакомой старухи. — Эй, а что у вас с глазом? — спросил он. — У меня болела головка, дорогой, — пояснила дама и провела дрожащей рукой по лбу. — Как у мамы, — кивнула Тара. — Вы тоже вчера ходили на новогоднюю вечеринку? Дама обнажила десны и снова посмотрела на дом. — Помощник лесничего — это звучит очень важно, — промолвила она. — Да, — согласилась Тара. Ее брат и сестра уже утратили интерес к разговору и убежали играть в пятнашки. — У твоего отца есть что-нибудь, чтобы защищать парк от плохих людей? — спросила дама. — Что-нибудь вроде пистолета? — Конечно же, у него есть, — бодро отозвалась Тара. — Но нам не разрешают с ним играть. Он держит его на полке в шкафу. А в столе у него еще есть пули в синей и желтой коробках. Детишки снова обступили незнакомку, прервав свою беготню. — А хотите, я вам спою? — предложила Эллисон, отдышавшись. — Конечно, дорогая. Скрестив ноги, дети уселись на траву. За их спинами оранжевое солнце наконец выпуталось из обрывков утреннего тумана и, отделившись от ветвей, выплыло в холодное лазурное небо. Эллисон выпрямилась, сложила руки и пропела три куплета «Хей, Джуд» группы «Битлз» а капелла — каждая нотка, каждый звук звучали так же чисто и пронзительно, как иней на траве, сверкавший в щедром утреннем свете. Закончив, она улыбнулась, и дети замерли в тишине. На глазах старухи выступили слезы. — А теперь я бы очень хотела познакомиться с вашими родителями, — тихо промолвила она. Эллисон взяла ее за левую руку, Джастин — за правую, а Тара двинулась вперед, указывая дорогу. Когда они дошли до мощенной плитами дорожки, старуха вдруг поднесла руку к виску и отвернулась. — Вы не пойдете? — спросила Тара. — Возможно, попозже, — таким же странным голосом ответила дама. — У меня вдруг страшно разболелась голова. Возможно, завтра. Под взглядами детей она сделала несколько неуверенных шагов в сторону от дома, слабо вскрикнула и повалилась на замерзшую клумбу. Дети подбежали к ней, и Джастин потряс ее за плечо. Лицо старухи посерело и исказилось в страшной гримасе. Левый ее глаз полностью закрылся, а в правом виднелся лишь белок. Старуха тяжело дышала, высунув язык, как собака. С подбородка свисала длинная струйка слюны. — Она умерла? — с придыханьем, шепотом спросил Джастин. Тара закусила костяшки пальцев. — Нет. Не думаю. Не знаю. Пойду позову папу. — Она повернулась и бросилась бегом к дому. Эллисон с секунду поколебалась и тоже побежала вслед за старшей сестрой. Джастин опустился на колени. Приподнял ее руку — та была холодна как лед. Когда из дома на холме выбежали взрослые, они увидели, что их ребенок стоит на коленях на клумбе, гладит руку старухи в розовом халате и повторяет одно и то же: — Не умирай, добрая тетя, о'кей? Пожалуйста, не умирай, добрая тетя.Книга третья Эндшпиль
Очнувшись, наступленье мрака, А не рассвет я ощутил.Джерард Мэнли Хопкинс
Глава 1
Дотан, штат Алабама Среда, 1 апреля 1981 г. Всемирный Библейский центр в пяти милях к югу от Дотана состоял из двадцати трех белоснежных зданий, раскинувшихся более чем на 160 акрах. Молитвенный дворец находился в огромном здании из гранита и стекла. Полы повсюду были устланы коврами. Амфитеатр одновременно вмещал шесть тысяч правоверных, которые могли с полным комфортом предаваться духовному совершенствованию в помещениях, оснащенных кондиционерами. Каждый золотой кирпич на бульваре Вероисповедания олицетворял пожертвование в пять тысяч долларов, серебряный — в одну тысячу и белый — в пятьсот долларов. Прибывая по воздуху, иногда в одном из трех вертолетов Центра, гости взирали сверху на бульвар, напоминавший огромную белую челюсть, с вкраплениями золотых и серебряных коронок. С каждым годом оскал становился псе шире и приобретал все больше золотых зубов. Напротив Молитвенного дворца на бульваре находилось длинное низкое здание внешних связей Центра, которое можно было бы по ошибке принять за большую фабрику компьютеров или исследовательскую лабораторию, если бы не шесть огромных спутниковых тарелок на крыше. Круглосуточные телевизионные программы, транслируемые через один или более спутников кабельными компаниями, телестанциями и церковным телевидением, по утверждению Центра, смотрели сто миллионов зрителей более чем из девяноста стран. Здесь был также компьютеризованный печатный цех, студия звукозаписи, четыре компьютера, постоянно подключенных в общую сеть Всемирного центра информации евангелистов. Там, где заканчивался бело-серебряно-золотой оскал и бульвар Вероисповедания выходил из зоны повышенной охраны и превращался в окружную дорогу 251, располагались Библейский колледж Джимми Уэйна Саттера и его же школа христианского бизнеса. В этих неаккредитованных заведениях обучалось 800 студентов, из них 650 постоянно проживали в жестко разграниченных дормиториях: Западном — Роя Роджерса, Восточном — Дейла Эванса и Южном — Адама Смита. В других зданиях с бетонными колоннами и гранитными фасадами, напоминавшими нечто среднее между современной протестантской церковью и мавзолеем, трудились легионы служащих. Они занимались административной деятельностью, службой безопасности, транспортом, внешними связями и финансами. Всемирный Библейский центр суммы своих доходов и расходов хранил в тайне, но было известно, что его комплекс, завершенный в 1978 году, обошелся более чем в сорок пять миллионов долларов. Также ходили слухи, что в Центр еженедельно поступает в качестве пожертвований около полутора миллионов долларов. Предвидя быстрый финансовый рост в 1980 годах, Всемирный Библейский центр планировал открытие целой сети христианских магазинов, организацию мотелей и строительство Библейского увеселительного парка в Джорджии, который должен был обойтись в 165 миллионов долларов. Хотя Всемирный Библейский центр являлся некоммерческой религиозной организацией, христианские предприятия создавались с целью будущей коммерческой экспансии, чтобы прибрать к рукам и торговлю. Президентом Библейского центра, его председателем и единственным членом Совета директоров религиозных предприятий был преподобный Джимми Уэйн Саттер.* * *
Надев свои бифокальные очки в золотой оправе, Джимми Саттер улыбнулся в третью камеру. — Я всего лишь скромный сельский проповедник, — елейным голосом начал он, — все эти финансовые и правовые вопросы для меня ничего не значат... — Джимми, — тут же подхватил его приспешник — грузный мужчина в очках в роговой оправе, с отвисшими щеками, которые начинали дрожать, когда он возбуждался, как это случилось сейчас, — я уверен, что расследования Службы внутренних доходов, налоговых служб, все эти преследования Федерального совета церквей — бесспорно, дело рук Врага рода человеческого... — ..но я знаю, что такое преследования, — продолжил Саттер, возвышая голос и слегка улыбаясь, чувствуя, что камера продолжает держать его в объективе. Он заметил, как удлинились линзы, когда все три камеры переключились на представителя Европейского таможенного союза. Тим Макинтош, режиссер программы был хорошо знаком с Саттером — за восемь лет они вместе сделали десять тысяч программ. — И я распознаю зловоние дьявола, когда сталкиваюсь с ним. Конечно, это происки, козни дьявола. Ему ведь ничего не хотелось так, как поставить преграду слову Божию... это его мечта — использовать правительство, чтобы не дать слову Иисуса Христа проникнуть к тем, кто взывает к Нему о помощи, кто просит у Него прощения и ищет у Него спасения... — И эти... эти преследования настолько очевидно являются делом его рук... — подхватил второй приспешник. — Но Иисус не покидает свой народ в годину бедствий! — возопил Джимми Уэйн Саттер. Теперь он расхаживал взад и вперед, размахивая шнуром от микрофона, словно волочил за хвост самого сатану. — Иисус за нас... Иисус поддерживает нас и нашу игру и презирает Князя Тьмы и его аспидов... — Аминь! — воскликнула погрузневшая бывшая телезвезда, сидевшая в кресле. Год назад Иисус излечил ее от рака груди во время телевизионного сеанса в живом эфире. — Слава Иисусу! — добавил с дивана усатый тип. За последние шестнадцать лет он уже издал девять книг о скором конце света. — Иисус не замечает этих... правительственных бюрократов... — Саттер чуть ли не выплюнул эту фразу, — как благородный лев, не обращающий внимания на укус блохи! — С нами Бог! — пропел когда-то известный певец, выпустивший свой последний хит в 1957 году. Похоже, все трое пользовались одним и тем же лаком для волос и одевались в одном и том же магазине. Саттер остановился, подтянул шнур микрофона и повернулся к аудитории. Декорация, по телевизионным стандартам, была грандиозной, она выглядела даже шикарнее, чем большинство бродвейских постановок — зрители располагались на трех уровнях, покрытых красными и синими коврами и украшенных букетами свежих белых цветов. Верхняя площадка, используемая в основном для вокальных номеров, напоминала террасу, огражденную сзади тремя стрельчатыми окнами, за которыми сиял вечный восход или закат. На средней площадке потрескивал камин, который горел даже тогда, когда температура воздуха в Дотане поднималась до тридцати пяти градусов в тени, а вокруг него располагалась сцена для интервью и бесед с позолоченными диваном, — креслами и письменным столом эпохи Людовика XIV, за которым обычно восседал преподобный Джимми Уэйн Саттер на резном стуле с высокой спинкой, таком же величественном, как трон Цезаря Борджиа. Преподобный Саттер спустился на самую нижнюю площадку, представляющую собой полукружия сцен, покрытых коврами, что позволяло режиссеру давать общие планы дальними камерами, демонстрируя Главу Библейского центра на фоне шестисот человек аудитории. Эта студия обычно использовалась для съемок ежедневной программы «Библейское шоу в час завтрака». Сейчас же здесь шла запись более длинной передачи — «Библейская программа с Джимми Уэйном Саттером». Программы же, предполагавшие больший состав участников или большую аудиторию, записывались в Молитвенном дворце. — Я всего лишь скромный провинциальный проповедник, — снова произнес Саттер, переходя на доверительный тон, — но с Божьей помощью и с вашей помощью все испытания и беды останутся позади. С Божьей и вашей помощью мы переживем эти дни преследований и гонений, и слово Господа зазвучит еще громче, сильнее и яснее, чем прежде. — Он промокнул вспотевший лоб шелковым носовым платком. — Но чтобы мы выжили, дорогие друзья... чтобы мы могли и дальше доносить до вас послание Господа, выраженное в его евангелиях... нам нужна ваша помощь. Нам нужны ваши молитвы, ваши негодующие письма в адрес правительственных бюрократов, преследующих нас, ваши подношения любви... нам нужно все, что вы можете дать во имя Христа. Вы должны помочь нам доносить до людей слово Господа. Мы верим, что вы не подведете нас. А пока вы надписываете конверты, разосланные вам в этом месяце Крисом, Кеем и братом Лайлом, давайте послушаем Гейл и ансамбль «Евангелические гитары» с нашими библейскими певцами, которые напоминают вам — «Нет необходимости понимать, нужно просто держать Его за руку»... Помощник режиссера пальцами отсчитал Саттеру четыре секунды и зажег лампочку, когда нужно было снова вступить после музыкальной паузы. Преподобный опустился за письменный стол, кресло рядом с ним пустовало. На диване же оказалось слишком много людей. Саттер с вальяжным и даже несколько игривым видом улыбнулся в объектив второй камеры. — Друзья, говоря о силе Господней любви, силе вечного спасения и даре возвращения к жизни во имя Иисуса... мне особенно приятно представить нашего следующего гостя. Много лет он блуждал в паутине греха Западного побережья, о которой мы все слышали... много лет эта добрая душа, лишенная света Христова, бродила в темной чаще страха и блуда, которая уготована тем, кто не обрел Слова Господа... Но сегодня в доказательство бесконечной милости Иисуса и Его силы, Его вечной любви, не оставляющей ни одного страждущего... с нами знаменитый продюсер, голливудский кинорежиссер... Энтони Хэрод! Под громкие аплодисменты шестисот христиан, не имевших ни малейшего представления о том, кто такой Хэрод, тот пересек широкую площадку, протянул Саттеру руку, но преподобный вскочил, обнял продюсера и усадил его в гостевое кресло. Хэрод уселся и нервно закинул ногу на ногу. Трио на диване отреагировало на него по-разному — популярный когда-то певец осклабился, апокалиптический писатель наградил его холодным взглядом, а раздобревшая кинозвезда состроила хитрую физиономию и послала воздушный поцелуй. На Хэроде были джинсы, облегающие ногу ковбойские сапоги и подпоясанная широким кушаком красная шелковая рубашка. Джимми Уэйн Саттер склонился к нему и проговорил: — Ну что ж, Энтони, Энтони, Энтони... Хэрод неуверенно улыбнулся и подмигнул аудитории. Из-за яркого телевизионного освещения лиц он не различал, лишь кое-где отблескивали стекла очков. — Энтони, и сколько лет ты уже сотрудничаешь с ярмаркой мишуры и тщеславия? — Э-э... шестнадцать лет, — произнес Хэрод и откашлялся. — Я начал в 1964 году... когда мне было девятнадцать. Начал как сценарист. — И, Энтони... — Саттер склонился ближе, придав своему голосу одновременно оттенки веселости и таинственности, — правда ли то, что мы слышали... о греховности Голливуда?.. Конечно, не всего Голливуда... у нас с Кеем там есть несколько добрых друзей-христиан, включая тебя, Энтони... но вообще, неужто он так порочен, как говорят? — Довольно порочен, — кивнул Хэрод. — Это действительно клоака греховности. — Разводы? — осведомился Саттер. — Повсеместно. — Наркотики? — Ими пользуются все. — Алкоголь? — Ода. — Кокаин? — Запросто, как леденцы. — Героин? — Даже у звезд на венах есть следы, Джимми. — И люди упоминают имя Господа всуе? — Постоянно. — Богохульничают? — Само собой разумеется. — Поклоняются дьяволу? — Ходят такие слухи. — Молятся «золотому тельцу»? — Вне всяких сомнений. — А как же насчет седьмой заповеди, Энтони? — Э-э-э... — "Не пожелай жены ближнего"... — Я бы сказал, она полностью забыта. — Ты бывал на этих разнузданных голливудских приемах, Энтони? — Не раз участвовал в них... — Наркотики, блуд, неприкрытое прелюбодейство, погоня за всемогущим долларом, поклонение Врагу рода человеческого, пренебрежение законами Божьими... — Да, — согласился Хэрод, — и это только на самом скучном приеме. — Аудитория издала звук — напоминающий нечто среднее между кашлем и приглушенном вздохом. Преподобный Джимми Уэйн Саттер сложил пальцы домиком. — А теперь, Энтони, расскажи нам свою историю, свою собственную, о падении в эту бездну... и восшествии из нее. Хэрод едва заметно улыбнулся, уголки его губ поползли вверх. — Ну, Джимми, я был молод... впечатлителен... хотел, чтобы мною руководили. Признаюсь, что соблазн этого образа жизни довольно долго вел меня вниз по темному пути. Многие годы. — И ты получал за это мирское признание, — подсказал Саттер. Хэрод кивнул и отыскал глазами камеру с красной лампочкой, после чего на его лице появилось выражение искреннего раскаяния. — Как ты только что сказал, Джимми, у дьявола есть свои приманки. Деньги... столько денег, Джимми, что я не знал, что с ними делать. Скоростные машины. Большие дома. Женщины... красивые женщины... знаменитые звезды с прославленными лицами и прекрасными телами... мне только надо было снять телефонную трубку, Джимми. У меня возникло ложное чувство власти. Ложное чувство собственной высокопоставленности. Я пил и пользовался наркотиками. Дорога в ад может начаться даже с горячей ванны, Джимми. — Аминь! — воскликнула толстая телезвезда. Саттер напустил на себя встревоженный вид. — Но, Энтони, вот что действительно пугает... то, чего мы должны больше всего опасаться... ведь это люди, которые делают фильмы, так называемое кино для наших детей. Верно? — Именно так, Джимми. И фильмы, которые они делают, продиктованы лишь одним соображением... прибылью. Первая камера загудела, предупреждая о крупном плане, и Саттер повернулся к объективу. Всякое спокойствие исчезло с его лица, теперь он напоминал ветхозаветного пророка — сильные скулы, темные брови, длинные волнистые седые волосы. — И наши дети, дорогие друзья, получают грязь. Грязь и отбросы. Когда я был мальчиком... когда большинство из нас были детьми... мы собирали двадцатипятицентовики, чтобы сходить в кино... если нам разрешали сходить в кино... и мы шли на воскресный утренник и смотрели мультики... Что стало с мультиками, Энтони? А после мультика мы смотрели вестерн... помните Хута Гибсона? Помните Хопалонга Кассиди? Помните Роя Роджерса? Да благословит его Господь... Рой участвовал в нашей программе на прошлой неделе... прекрасный человек... великодушный человек... А потом, может, киноленту Джона Уэйна. Мы возвращались домой и знали, что побеждают хорошие ребята, что Америка — это особое место... благословенная страна. Помните Джона Уэйна в «Сражающихся ВМС»? И мы возвращались домой в свои семьи... помните Микки Руни в «Энди Харди»? Возвращались домой к своим семьям и знали, что семья — это самое главное... что мы любим нашу страну, что доброта, уважение к власти и любовь друг к Другу — это очень важно... что сдержанность, дисциплина и самоконтроль — самое главное... А самое главное — что Господь всегда с нами! Саттер снял очки. На лбу и верхней губе выступила испарина. — А что наши дети смотрят сейчас? Они смотрят порнографию, безбожную грязь, ужасы, насилие, убийства. Сегодня вы идете в кино... я имею в виду на фильм, разрешенный к показу детям, я не говорю о грязных фильмах для взрослых, которые показывают теперь везде, которые расползаются повсюду, как раковая опухоль, но любой ребенок может их увидеть... уже нет возрастных границ, хотя это тоже лицемерие... грязь есть грязь... то, что не годится для шестнадцатилетних, не годится и для богобоязненных взрослых... но дети идут на эти фильмы, и еще как идут! И они смотрят фильмы для взрослых, демонстрирующие обнаженное тело, богохульство, прелюбодеяния... ругательство следует за ругательством, богохульство за богохульством... Эти фильмы разрушают наши семьи, разрушают нашу страну, разрушают веру, законы Господа и потешаются над Словом Господним, предлагая вместо него секс, насилие, грязь и нездоровое возбуждение. А вы говорите — что я могу сделать? Что мы можем сделать? И я отвечаю вам: приблизьтесь к Господу, воспримите его Слово, следуйте примеру безгрешного Иисуса, чтобы эти отбросы, эта грязь потеряли для вас всякую привлекательность... И пусть ваши дети примут Христа, примут в свои сердца, примут как своего Спасителя, своего личного Спасителя, и тогда эта видеогрязь потеряет для них привлекательность, эта «Гоморра» Голливуда перестанет притягивать их... «Ибо Отец весь суд отдал Сыну... И дал ему власть производить суд... ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло... а делавшие зло... в воскресение осуждения» (Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 22-26-28). Толпа закричала: «Аллилуйя!» — Слава Иисусу! — воскликнул певец. Апокалиптический писатель закрыл глаза и кивнул. Толстая актриса рыдала. Энтони, — тихим низким голосом произнес Саттер, снова привлекая к себе всеобщее внимание, — принял ли ты Господа? — Принял, Джимми. Я обрел Господа... — И принял его как личного Спасителя? — Да, Джимми. Я принял Иисуса Христа в свою жизнь. — И позволил ему вывести тебя из бездны страха и блуда... из фальшивого блеска больного Голливуда к исцеляющему свету Слова Божия?.. — Да, Джимми. Христос вернул мне радость жизни, даровал мне цель жить и работать во имя Его... — Да славится имя Господне, — выдохнул Саттер и улыбнулся. Он потряс головой, словно избавляясь от охватившего его волнения, и повернулся к третьей камере. Помощник режиссера махал руками, показывая, что пора закругляться. — И в ближайшем будущем, в самом ближайшем будущем, я надеюсь... Энтони обратит свои навыки, таланты и опыт на осуществление совершенно особого библейского проекта... сейчас мы еще не можем говорить об этом, но не сомневайтесь, что мы используем все замечательные приемы Голливуда, чтобы донести слово Божье до миллионов добрых христиан, изголодавшихся по здоровым семейным развлечениям. Аудитория и гости ответили громом аплодисментов. Саттер склонился к микрофону и сообщил, перекрывая шум: — Завтра состоится особая библейская служба священной музыки... наши гости — Пэт Бун, Пэтси Диллон, группа «Благовест», наша Гейл и «Евангелические гитары»... Под электронными вспышками аплодисменты еще более усилились. Третья камера с наездом взяла максимально крупный план Саттера, и преподобный улыбнулся: — До следующей встречи, помните стих 16 из главы 3 Евангелия от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». До свидания! Да благословит вас всех Господь! Саттер и Хэрод покинули площадку еще до того, как погасли навесные софиты и утихли аплодисменты — быстрым шагом они двинулись по коридорам, устланным коврами и освежаемым кондиционерами. Мария Чен и жена преподобного — Кей ожидали их в кабинете Саттера. — Ну что ты думаешь, дорогая? — осведомился Саттер. Кей Эллен Саттер, высокая худая женщина, была обременена многочисленными слоями косметики и такой прической, что, казалось, ее вылепили много лет назад. — Замечательно, дорогой. Восхитительно. — Надо было отказаться от этого монолога идиота певца, когда он начал разглагольствовать о евреях, сующихся в шоу-бизнес, — заметил Саттер. — Хотя у нас есть еще двадцать минут, чтобы вырезать это, до того как все пойдет в эфир. — Он надел очки и посмотрел на жену. — Куда это вы обе собрались? — Я думала показать Марии детскую группу и ясли в общежитии женатых студентов, — ответила Кей Саттер. — Отлично, отлично! — откликнулся Саттер. — У нас с Энтони запланирована еще одна короткая встреча, а потом вам пора отправляться в Атланту. Мария Чен бросила на Хэрода вопросительный взгляд. Тот пожал плечами, и обе женщины вышли. Обширный кабинет преподобного Джимми Уэйна Саттера, в отличие от красно-сине-белых тонов, преобладавших в остальной части комплекса, был декорирован в основном в нежных тонах беж и землянистого цвета. Одну стену целиком занимало окно, выходившее на луг и небольшой клочок леса, оставленный строителями. Позади широкого письменного стола полстены было целиком покрыто фотографиями прославленных и власть предержащих лиц, почетными грамотами, удостоверениями о награждениях, афишами и другими документами, свидетельствовавшими о высоком и стабильном положении Джимми Уэйна Саттера. Хэрод рухнул в кресло и вытянул ноги, шумно выдохнул воздух. Саттер снял пиджак, повесил его на спинку кожаного кресла и сел, засучив рукава и обхватив голову руками. — Ну что, Энтони, позабавился? Хэрод запустил пальцы в свои завитые волосы. — Надеюсь, никто из моих сотрудников не увидит этого. Саттер улыбнулся. — Почему, Энтони? Неужели причастность к богоугодному делу может повредить кинобизнесу? — Повредить ему может мой идиотский вид. — Хэрод посмотрел в дальний конец кабинета, где находился бар. — Можно, я что-нибудь выпью? — Конечно, — ответил Саттер. — Сделаешь сам? Ты здесь все знаешь. Хэрод уже направлялся к бару. Он налил себе водки «Смирнофф», добавил льда и вытащил еще одну бутылку из потаенного шкафчика. — Бурбон? — Да, пожалуйста, — сказал Саттер. — Ты рад, что принял мое приглашение? — осведомился преподобный, когда Хэрод протянул ему бокал. Хэрод сделал большой глоток. — Ты думаешь, было разумно засвечиваться, показывая меня в этой программе? — Они и так знали, что ты здесь, — возразил Саттер. — Кеплер следит за тобой и одновременно вместе с братом К, не выпускает из виду и меня. Может, твои показания немного смутят их. — Не знаю, как их, меня-то они точно смутят. — Хэрод направился к бару за новой порцией водки. Саттер захихикал и принялся разбирать бумаги на своем столе. — Энтони, только не подумай, что я отношусь цинично к своему сану. Хэрод замер с кубиками льда в руке и посмотрел на Саттера. — Ты что, смеешься надо мной? — воскликнул он. — Ничего циничнее, чем это мероприятие, я еще в жизни не видел. — Вовсе нет, — тихо возразил Саттер. — Я отношусь к пастырству очень серьезно. Я действительно забочусь о людях, и благодарен Господу за дарованную мне способность. Хэрод покачал головой. — Джимми, уже два дня ты водишь меня по этому фундаменталистскому «Диснейленду», здесь все до последней мелочи, которую я видел, направлено на то, чтобы извлекать деньги из бумажников провинциальных идиотов. Твои автоматические линии отсортировывают конверты с чеками от пустых, компьютеры сканируют письма и пишут стандартные ответы, телефонный банк тоже компьютеризирован, ты проводишь направленные почтовые кампании, которые по своему размаху превосходят даже Дика Виггери, а телевизионные церковные службы низводят мистера Эда до уровня снобистских разглагольствований... — Энтони, Энтони, — покачал головой Саттер, — нельзя зацикливаться на внешней стороне дела, надо смотреть вглубь. Верующие моей электронной конгрегации — в своем большинстве... да, простаки, провинциалы и недоумки. Но это никак не дискредитирует мою проповедническую деятельность, Энтони. — Да ну? — Вовсе нет. Я люблю этих людей! — Саттер стукнул своим огромным кулаком по столу. — Пятьдесят лет назад, когда я был юным евангелистом... когда я семилетним мальчишкой, преисполненный благоговения к Слову Божию, обходил палатки с папой и тетей Эл, я знал, что Иисус наградил меня Способностью с какой-то целью... а не просто для того, чтобы делать деньги. — Саттер взял в руки листок бумаги и уставился на него сквозь свои бифокальные очки. — Энтони, как ты думаешь, кто написал эти слова: «Проповедники, бойтесь наступления науки, как ведьмы боялись наступления дня, и смейтесь над роковыми провозвестниками, желающими отказаться от обмана, на котором основана их жизнь» ? — Саттер поверх очков пытливо взглянул на Хэрода. — Как ты думаешь, кто это написал, Энтони? Хэрод пожал плечами. — X. Л. Менкен? Меделин Муррей О'Хеер? Саттер покачал головой. — Джефферсон, Энтони. Томас Джефферсон. — Ну и что? Саттер ткнул в сторону Хэрода своим мясистым пальцем. — Неужели ты не понимаешь, Энтони? Несмотря на всю евангелистскую болтовню о том, что эта страна основана на религиозных принципах... о том, что это христианская нация и всякое такое... все ее отцы-основоположники, подобно Джефферсону, были атеистами, остроголовыми интеллектуалами, унитариями... — Ну и что? — А то, что эта страна была образована пачкой секулярных гуманистов, Энтони. Вот почему в наших школах больше нет места Богу. Вот почему ежедневно в абортариях убивают миллион нерожденных младенцев. Вот почему, пока мы болтаем о разоружении, коммунисты набирают силу. Господь наградил меня Способностью пробуждать сердца и души простых людей, чтобы мы смогли превратить эту страну в христианское государство, Энтони. — И для этого тебе нужна моя помощь в обмен на твою поддержку и защиту от Клуба Островитян? — осклабился Хэрод. — Рука руку моет, мой мальчик, — миротворчески улыбнулся Саттер в ответ. — Похоже, в один прекрасный день ты собираешься стать президентом, — заметил Хэрод. — По-моему, вчера мы говорили лишь о том, чтобы слегка перетасовать иерархическую структуру Клуба Островитян. Саттер развел руками. — А что плохого в том, чтобы мыслить по-крупному, Энтони? Брат К., Кеплер, Траск и Колбен уже много десятилетий забавляются политикой. Я познакомился с братом К, сорок лет назад на политическом съезде консервативных проповедников в Батон-Руж. Поверь, не будет ничего дурного, если в Белом доме ради разнообразия вдруг появится добрый христианин. — Мне казалось, Джимми Картер считался добрым христианином, — ухмыльнулся Хэрод. — Джимми Картер обычный мещанин, — возразил Саттер. — Настоящий христианин знал бы, как поступить с аятоллой Хомейни, когда этот фанатик наложил свои лапы на американских граждан. В Библии сказано: «Око за око, зуб за зуб». Надо было оставить этих шиитских негодяев без зубов. — С точки зрения официального мнения, Рейгана тоже привели к власти христиане. — Хэрод отправился за новой порцией водки — политические дискуссии всегда наводили на него тоску. — Черта с два! — воскликнул Саттер. — Нашего дружка Рональда привели к власти брат К., Кеплер и этот осел, который стоит за спиной Траска. Страна поворачивает вправо, но еще предвидятся временные откаты. К 1988 или 92 году будет подготовлена почва для прихода настоящего христианского кандидата. — То есть тебя? — спросил Хэрод. — А перед тобой в очереди никто не стоит? — Кто, например? — осклабился Саттер. — Как же его зовут... — начал вспоминать Хэрод. — Парень от Нравственного Большинства... фелвел. Саттер рассмеялся. — Джерри — это креатура наших друзей из правого крыла в Вашингтоне. Он дутый пузырь. Когда его финансирование иссякнет, все увидят, что это куча дерьма в образе человека. И к тому же не слишком сообразительного. — А как насчет тех, кто постарше? — осведомился Хэрод, пытаясь вспомнить имена целителей и заклинателей змей, которых он видел по телевидению в Лос-Анджелесе. — Рекс Хобарт... — Хаббард, — поправил Саттер, — и кажется, Орал Роберте. Ты что, не в себе, Энтони? — То есть? Саттер извлек гаванскую сигару и закурил. — Мы говорим здесь о людях, у которых пастушеский кнут еще не отлип от сапог, — произнес преподобный Джимми Уэйн Саттер. — Мы обсуждаем добрых парней, которые идут на телевидение и говорят: «Друзья, приложите больную часть своего тела к экрану, и я ее вылечу!» Ты только представь себе, Энтони, все геморрои, нарывы, фурункулы и грибковые инфекции... и человек, который благословляет всю эту биологию, будет встречаться с представителями иностранных государств и спать в спальне Линкольна? — Да, это как-то пугает. — Хэрод между тем налил себе четвертый бокал водки. — А другие? Есть какие-нибудь альтернативы? Преподобный Саттер закинул руки за голову и улыбнулся. — Ну, есть Джим и Тэмми, но они большую часть времени якшаются с федеральным советом церквей... Кроме того, они по очереди страдают нервными срывами. Я не виню Джима. С такой женой, как у него, у меня бы тоже были нервные срывы. Потом есть Сваггарт в Луизиане. Он умный парень, Энтони. Но мне кажется, он больше хочет стать звездой рок-н-ролла, как его кузен... — Кузен? — переспросил Хэрод. — Джерри Ли Льюис, — пояснил Саттер. — Ну, кто там еще? Конечно же, Пэт Робертсон. Я думаю, Пэт будет баллотироваться в 84 или 88. Он основательный человек. На фоне его организационной структуры мой проект выглядит консервной банкой с проволочками, идущими в никуда. Но у Пэта есть свои обязательства. Окружающие иногда забывают, что он священник, и Пэт поддается этому... — Все это очень интересно, — заметил Хэрод, — но мы слишком далеко ушли от цели моего визита сюда... Саттер снял очки, вынул изо рта сигару и недоуменно посмотрел на Хэрода. — Энтони, ты приехал сюда, потому что влип в историю, и если тебе не удастся получить помощь, Клуб перестанет использовать тебя для своих послеобеденных развлечений на острове... — Эй-эй, теперь я полноправный член выборного комитета, — заметил Хэрод. — Да, — кивнул Саттер. — Но Траск мертв. Колоен мертв. Кеплер лег на дно, а брат К, расстроен из-за своего фиаско в Филадельфии. — К которому я не имею никакого отношения, — добавил Хэрод. — Из которого ты умудрился выпутаться, — поправил Саттер. — Боже милосердный, какая неразбериха! Убито пять агентов ФБР и шестеро из команды Колбена. Пожары, разрушение частной и общественной собственности... — Средства массовой информации продолжают придерживаться версии столкновения между двумя бандами, — сказал Хэрод. — Считается, что агенты ФБР находились там из-за группы черных террористов... — Да, отголоски событий звучат повсюду — от кабинета мэра до самого Вашингтона. Ты знаешь, что Ричард Хейнс теперь работает частным образом на брата К. ? — А мне-то что? — Хэрод пожал плечами. — Вот именно, — улыбнулся Саттер. — Но ты понимаешь, что твое вступление в выборный комитет происходит... в горячее время. — Ты уверен, что они хотят использовать меня лишь в качестве средства, чтобы добраться до Вилли? — спросил Хэрод. — Абсолютно. — А потом меня уберут? — Вот именно. — Но зачем? — возмутился Хэрод. — Зачем им нужен старый психопат Вилли? — У обитателей пустынь есть древняя поговорка — она никогда не включалась в Писание, но по времени своего создания вполне могла быть внесена в Ветхий Завет. — Какая же? — "Лучше держать верблюда в шатре, чтобы он писал на улицу, чем выставлять его из шатра, чтобы он писал внутрь", — пропел Саттер. — Спасибо, преподобный, — невесело усмехнулся Хэрод. — Всегда рад помочь, Энтони. — Саттер посмотрел на часы. — Надо поторапливаться, если вы хотите успеть в Атланту на свой рейс. Хэрод быстро протрезвел. — Ты не знаешь, почему Барент назначил собрание на субботу? Саттер сделал неопределенный жест рукой. — Я думаю, брат К, созывает всех в связи с событиями понедельника. — Выстрелы в Рейгана... — Да. — кивнул Саттер, — но знаешь, кто был с президентом... в трех шагах от него... когда раздались выстрелы ? Хэрод поднял брови. — Да, сам брат К., — подтвердил Саттер. — Думаю, нам будет о чем поговорить. — О Господи, — выдохнул Хэрод. Джимми Уэйн Саттер нахмурился. — Не смей здесь упоминать имя Господа всуе! — рявкнул он. — Не советую тебе делать это и в присутствии брата К. Хэрод подошел к двери и остановился. — Еще один вопрос, Джимми: почему ты называешь Барента братом К.? — Потому что К. Арнольд ничего не имеет против христианского имени, — ответил Саттер. — И ты его знаешь? — изумился Хэрод. — Конечно. Я знаком с братом К, с тридцатых годов, когда мы оба были еще детьми. — Как же его зовут? — Христианское имя К. Арнольда — Кристиан, — многозначительно протянул Саттер. — Как? — Кристиан, — повторил Саттер. — Кристиан Арнольд Барент. Даже если брат К, ни во что не верит, отец его был верующим человеком. — Чтоб я провалился! — изрек Хэрод и поспешил вон, прежде чем Саттер успел что-либо ответить.Глава 2
Кесария, Израиль Вторник, 2 апреля 1981 г. Самолет Натали Престон, совершавший рейс из Вены, приземлился в аэропорту Давид Бен-Гурион в половине одиннадцатого утра по местному времени. Израильские таможенники оказались деятельными и невозмутимыми людьми и даже несколько излишне обходительными. — Добро пожаловать в Израиль, мисс Хэпшоу, — промолвил мужчина, осматривавший две ее сумки за парапетом. Она уже в третий раз приезжала сюда по фальшивому паспорту, но у нее по-прежнему колотилось сердце в эти минуты ожидания. Уверенности ей придавало лишь то, что документы были изготовлены Моссадом, собственной разведывательной организацией Израиля. Пройдя таможню, Натали села в автобус до Тель-Авива, а дальше отправилась пешком по дороге Ияффе на улицу Гамасгер. Она внесла недельную плату и залог в четыреста долларов за зеленый «Опель» выпуска 1975 года — с такими тормозами, что его при каждой остановке заносило влево. Натали оставила за спиной безобразные пригороды Тель-Авива и двинулась к северу вдоль побережья по дороге на Хайфу. День стоял солнечный, температура воздуха достигала около 25 градусов, и Натали надела темные очки, спасаясь от нестерпимого сияния, отражавшегося от покрытия шоссе и глади Средиземноморья. Проехав двадцать миль, она миновала Натанью, небольшой курортный городок, высившийся на скалах над пляжем. Еще через несколько миль она увидела поворот на Ор Акиву и свернула с четырехполосного шоссе на более узкую асфальтовую дорогу, которая, извиваясь между песчаными дюнами, вела к пляжу. Натали бросила взгляд на римский акведук и массивные крепостные стены города крестоносцев, а затем выехала на старую прибрежную дорогу, идущую мимо гостиницы «Дан Кесария», с ее огромной площадкой для гольфа, обнесенной по периметру высокой оградой и колючей проволокой. Свернув к востоку по гравиевой дороге и следуя указателю на кибуц Ма'аган Микаэль, она наконец достигла перекрестка с другой, еще более узкой дорогой. Перед тем как остановиться перед запертыми воротами, «Опель» с полмили скачками продвигался вверх, объезжая рожковые деревья, фисташковые кусты и даже одну случайно выросшую здесь сосну. Натали вышла из машины, размяла ноги и помахала рукой в сторону белого дома, стоявшего на вершине холма. Сол Ласки спустился по подъездной дорожке, чтобы открыть ей ворота. За это время он похудел, сбрил бороду. Его худые ноги, торчавшие из мешковатых шортов цвета хаки, и впалая грудь под белой футболкой делали его похожим на заключенного из фильма «Мост через реку Квай», но, в отличие от заключенного, он сильно загорел, мышцы окрепли. Сол еще больше облысел, но оставшиеся на затылке волосы отросли и благодаря работе на открытом воздухе стали виться, ниспадая на шею и на уши. Свои разбитые очки в роговой оправе Сол заменил на «хамелеоны» в серебряной оправе. Оставшийся от операции шрам на запястье все еще полыхал ярко-красным цветом. Отперев ворота, Сол дружески обнял Натали. — Все прошло хорошо? — спросил он. — Очень хорошо, — кивнула девушка. — Саймон Визенталь просил передать тебе привет. — Он здоров? — Для его возраста он находится в прекрасной форме. — Он смог указать тебе необходимые источники? — Лучших было бы не придумать, — ответила Натали, — он сам провел поиски. То, чего не оказалось в его собственномофисе, он заставил своих служащих принести из различных венских библиотек и архивов. — Отлично, — улыбнулся Сол. — А остальное? Натали указала рукой на большой чемодан, лежавший на заднем сиденье машины. — Битком набит фотокопиями. Это страшные вещи, Сол. Ты по-прежнему дважды в неделю ходишь в Яд-Вашем? — Нет. — Он покачал головой. — Неподалеку отсюда есть одно место, которое строили поляки, — Лохам-Хагетаот. — Это то же, что и Яд-Вашем? — Только более мелкого масштаба, — пояснил Сол. — Но этого достаточно — там есть имена и биографии людей. Проезжай, я закрою ворота и сяду к тебе. Дом на вершине холма был очень большим. Натали миновала его, не съезжая с дороги, спустилась по южному склону и притормозила у небольшого бунгало у апельсиновой рощицы. Потрясающий вид открывался оттуда. К западу, за рощами и обработанными полями, раскинулись песчаные дюны, развалины древних зданий и зубчатые волнорезы синего Средиземного моря. К югу, мерцая в знойном мареве, вздымались покрытые лесом скалы Натаньи. На восток убегала целая череда холмов и благоухающая апельсинами долина Шарон. К северу, за крепостями, которые считались древними даже во времена Соломона, и зеленым гребнем горы Кармель лежала Хайфа с ее узкими улочками, вымощенными умытыми дождем булыжниками. Натали ощутила ни с чем не сравнимую радость от того, что вернулась сюда. Сол придержал дверь, пока она вносила сумки. В маленьком коттедже ничего не изменилось с тех пор, как она покинула его восемь дней назад: маленькая кухня, объединенная со столовой, образовывала одну длинную комнату с камином, вокруг скромного деревянного стола стояли три стула, еще один был придвинут к камину. Беленые стены утопали в жарком солнечном свете, лившемся через два окна; кроме этой гостиной, в доме имелись две спальни. Натали отнесла сумки к себе в комнату, швырнула их на широкую кровать и обратила внимание, что Сол загодя поставил свежие цветы в белую вазу на ее ночном столике. Когда она вернулась на кухню, он варил кофе. — Хорошо съездила? — спросил он. — Без проблем? — Без всяких. — Натали положила одну из папок на грубо отесанную поверхность стола. — Похоже, Сара Хэпшоу увидит все те места, где никогда не бывала Натали Престон, — рассмеялась она. Сол кивнул и поставил перед ней белую кружку с густым черным кофе. — Здесь тоже ничего непредвиденного? — поинтересовалась девушка. — Нет, — откликнулся Сол. — Ничего и не могло произойти. Натали взяла сахар из синей сахарницы. Только теперь она поняла, как сильно устала. Сол ободряюще погладил ее руку. Несмотря на то что его худое лицо было изборождено морщинами, Натали подумала, что теперь он выглядит гораздо моложе, чем тогда, когда он носил бороду. Всего три месяца назад. А кажется, словно прошли столетия. — Есть новые сведения от Джека, — промолвил он. — Не хочешь прогуляться? Натали бросила взгляд на недопитый кофе. — Да ты возьми кружку с собой, — предложил Сол. — Мы пойдем к ипподрому. — Он встал и на минуту удалился в свою спальню. Вернулся он в свободной рубашке хаки навыпуск, которая не смогла полностью скрыть выпирающую кобуру, засунутую за ремень, с револьвером сорок пятого калибра. Они двинулись по склону на запад, мимо изгородей и апельсиновых рощ, туда, где песчаные дюны подползали к обработанным полям и зеленым лужайкам частных вилл. С вершины дюны Сол перешел на акведук, который вздымался на двадцать футов над песком и простирался на многие мили, по направлению к груде развалин и новым строениям, видневшимся на побережье. Юноша в белой рубашке, крича и размахивая руками, бросился к ним, но Сол что-то тихо сказал ему на иврите, тот кивнул и отвернулся. Сол и Натали двинулись дальше по грубому покрытию акведука. — Что ты ему сказал? — поинтересовалась Натали. — Я упомянул, что знаком с троицей Фрова, Ави-Йона и Негев, — пояснил Сол. — Все трое занимались здесь раскопками начиная с пятидесятых годов. — И все? — Да. — Сол остановился и огляделся. Справа от них синело море, а впереди, на расстоянии мили, в солнечном свете купалось целое скопление белых новых домов. — Когда ты рассказывал мне о своем доме, я представляла себе хижину в пустыне, — сказала Натали. — Так оно и было, когда я приехал сюда сразу после войны. Сначала мы строили и расширяли кибуцы Гааш, Кфар Виткин и Ма'аган Микаэль. А после войны за независимость Давид и Ребекка обосновали здесь свою ферму... — Это же настоящее поместье! — воскликнула Натали. Сол улыбнулся и допил остатки кофе. — Поместье — это место обитания барона Ротшильда. Теперь там расположен пятизвездочный отель «Дан Кесария». — Мне нравятся эти развалины, — призналась Натали. — Акведук, театр, город крестоносцев — все это такое древнее. Сол кивнул. — Когда я жил в Америке, мне очень недоставало этих временных слоев разных эпох. Натали сняла с плеча красную сумку и положила в нее пустые кофейные чашки, предварительно аккуратно завернув их в полотенце. — Я скучаю по Америке, — вздохнула она и, обхватив руками колени, взглянула на море песка, расстилавшееся под желтыми камнями акведука. — Мне кажется, я скучаю по Америке, — поправилась она. — Эти последние дни были такими кошмарными... Сол ничего не ответил, и в течение нескольких минут оба сидели молча. Первой заговорила Натали: — Интересно, кто был на похоронах Роба? Сол искоса взглянул на нее, и солнечный свет отразился от стекол его очков. — Джек Коуэн написал, что шерифа Джентри похоронили на Чарлстонском кладбище в присутствии представителей местной полиции и нескольких местных агентств. — Нет, я имела в виду людей, близких ему. Присутствовали ли там члены семьи? Его приятель Дерил Микс? Кто-нибудь из тех... кто любил его? — Натали умолкла. Сол протянул ей свой носовой платок. — Это было бы безумием, если бы ты отправилась туда, — тихо промолвил он. — Они бы тебя узнали. Кроме того, ты все равно не смогла бы этого сделать. Врачи в Иерусалимской больнице сказали, что у тебя был очень тяжелый перелом. — Сол с улыбкой взял у нее из рук носовой платок. — А сегодня я что-то не замечаю, чтобы ты хромала. — Да. — Натали улыбнулась, — нога стала гораздо лучше. — И, переведя разговор на другую тему, тряхнула головой. — О'кей, так с чего начнем? — Мне кажется, у Джека довольно интересные новости, но сначала я бы хотел все узнать о Вене. Натали кивнула. — Регистрационные книги гостиницы подтвердили, что они были там... мисс Мелани Фуллер и Нина Хокинс... это девичья фамилия Дрейтон... гостиница «Империал»... в 1925, 1926 и 1927 годах. Гостиница «Метрополь» — 1933, 1934 и 1935. Они могли бывать там и еще несколько раз, останавливаясь в других гостиницах, которые просто утратили свои архивы во время войны и вследствие разных причин. Мистер Визенталь продолжает искать. — А фон Борхерт? — осведомился Сол. — Записей в регистрационных книгах нет, но Визенталь подтвердил, что Вильгельм фон Борхерт с 1922 по 1929 год арендовал небольшую виллу в Перхтольдсдорфе, неподалеку от города. Она была разрушена после войны. — А относительно... другого? — спросил Сол. — Преступлений ? — Убийства, — поправила Натали. — Обычный набор уличной преступности, политические убийства... преступления на почве ревности и так далее. Потом, летом 1925 года, три странных необъяснимых случая. Два важных человека и женщина — известная венская социалистка — ни с того ни с сего убиты своими знакомыми. Во всех трех случаях у убийц не было ни мотивов, ни алиби, ни объясняющих причин. Газеты назвали это «летним помешательством», так как убийцы — все трое — клялись, что не помнят, как совершили свои преступления. Все трое были признаны вменяемыми и виновными. Один казнен, второй покончил жизнь самоубийством, а женщина, убившая свою подругу, была отправлена в сумасшедший дом, где через неделю она утопилась в пруду. — Похоже, наши молодые мозговые вампиры именно тогда и начинали свою Игру, — заметил Сол, — обретали вкус к убийствам. — Мистер Визенталь не смог установить связи, — продолжала Натали, — но он будет заниматься расследованиями для нас. Семь необъяснимых убийств летом 1926 года. Одиннадцать — между июнем и августом 1927-го... но это было лето неудавшегося путча, когда на вышедшей из-под контроля демонстрации погибло восемьдесят рабочих, и венские власти были гораздо больше обеспокоены другими проблемами, чем смертью каких-то граждан из низшего сословия. — Значит, наша троица сменила свои мишени, — задумчиво произнес Сол. — Возможно, убийство представителей их собственного круга стало для них небезопасным. — За лето и зиму 1928 года нам не удалось обнаружить никаких отчетов о преступности, — сказала Натали, — зато в 1929 в австрийском курортном городке Бад-Ишль произошло семь таинственных исчезновений. Венская пресса писала о Заунерском оборотне, потому что всех исчезнувших — а среди них были очень влиятельные лица как в Вене, так и в Берлине — в последний раз видели на эспланаде шикарного кафе «Заунер». — Однако подтверждений того, что в это время там находился наш молодой немец со своими двумя американскими подружками, нет? — спросил Сол. — Пока нет, — ответила Натали. — Но мистер Визенталь сказал, что в округе имелось множество частных вилл и гостиниц, которых уже давно не существует. Сол удовлетворенно кивнул. Одновременно, как по команде оба подняли головы и проводили взглядом эскадру из пяти израильских Ф-16, которые с ревом низко летели над морем, направляясь к югу. — Это только начало, — сказал Сол. — Конечно, нам нужны подробности, гораздо больше подробностей, но начало положено. Несколько минут они сидели в тишине. Солнце спускалось к юго-западу, отбрасывая изощренные тени от акведука на песок дюн. Весь мир купался в красновато-золотистом сиянии. — Этот город в двадцать втором году до нашей эры начал строить Ирод Великий — доносчик и прихлебатель — в честь Цезаря Августа. К VI веку нашей эры он стал административным центром с сияющими белизной театром, ипподромом и акведуком, — наконец промолвил Сол. — В течение десяти лет здесь был прокуратором Понтий Пилат. — Ты уже рассказывал мне все это, когда мы приехали сюда в феврале, — хмурясь, напомнила Натали. — Да, — кивнул Сол. — Смотри. — Он указал на дюны, наползающие на каменные арки. — Большая часть всего этого была скрыта на протяжении последних пятнадцати столетий. Акведук, на котором мы сидим, раскопали лишь в начале шестидесятых годов. — Ну так что же? — Натали о чем-то напряженно думала, и ей было, видимо, не до исторических экскурсов. — Так что же осталось от власти Цезаря? Чем кончились политические замыслы Ирода? Что осталось от страхов и предчувствий апостола Павла, сидевшего здесь в заключении? — Сол помолчал несколько секунд. — Все погибло, — ответил он сам себе. — Погибло и занесено прахом времен. Погибла власть, исчезли и погребены ее символы. Ничего не осталось, кроме камней и воспоминаний. — О чем ты, Сол? — Оберсту и этой Фуллер, должно быть, сейчас по меньшей мере семьдесят. На фотографии, которую мне показывал Арон, изображен мужчина лет шестидесяти. Как однажды сказал Роб Джентри, все они смертны. И со следующим полнолунием уже не восстанут из мертвых. — Значит, ты предлагаешь, чтобы мы просто оставались здесь? Сидеть у моря и ждать погоды? — голос Натали задрожал от гнева. — Мы будем прятаться, пока эти... эти монстры не перемрут от старости или не угробят друг друга? — Здесь или в каком-нибудь другом безопасном месте, — ответил Сол. — Тебе же известна альтернатива — нам тоже придется лишать кого-то жизни. Натали вскочила и прошлась взад-вперед по узкой каменной стене. — Ты забываешь, Сол, что я уже убила одного человека. Я застрелила этого ужасного парня — Винсента, которого использовала старуха. — К тому времени он уже не был одушевленным существом, — возразил Сол. — Вовсе не ты, а Мелани Фуллер лишила его жизни. Ты просто высвободила его тело из-под ее контроля. — Тогда, насколько я понимаю, они все неодушевленные, — вздохнула Натали. — И все-таки мы должны вернуться. — Да, но... — начал Сол. — Я не могу поверить, что ты всерьез готов отказаться от преследования, — перебила Натали. — Подумай о том риске, на который ради нас пошел Джек Коуэн в Вашингтоне, используя свои компьютеры, чтобы получить все необходимые сведения? А долгие недели моих поисков в Торонто, Франции, в Вене? А сотни часов, проведенных тобой в Яд-Вашеме?.. — Это было просто предложение. — Сол поднялся. — По крайней мере совершенно не обязательно, чтобы мы оба... — Ах, вот оно в чем дело! — воскликнула Натали. — Ну так забудь об этом, Сол. Они убили моего отца, убили Роба, один из них посмел прикоснуться ко мне своими грязными мыслями, и пусть нас только двое и я все еще не знаю, что мы можем сделать, но лично я возвращаюсь в Америку. С тобой или без тебя, Сол, я возвращаюсь. — Ладно. — Сол протянул Натали ее сумку, и их руки соприкоснулись. — Мне просто нужно было убедиться. — Лично я ни в чем не сомневалась, — сказала Натали. — Расскажи мне о той информации, которую ты получил от Коуэна. — Потом, после обеда. — Он взял ее под руку, и они двинулись обратно по акведуку. Их тени сливались и изгибались в высоких волнах набегающего песка. Сол приготовил восхитительный обед: салат из свежих фруктов, домашний хлеб, который он называл багеле, запеченная в восточном стиле баранина и на десерт сладкий турецкий кофе. Когда они вернулись в его комнату, чтобы поработать, уже стемнело, и они включили шипящий и посвистывающий фонарь. Длинный стол был завален папками, кипами переснятых документов, грудами фотографий — на верхних были изображены жертвы концлагерей, с безучастным видом взиравшие в объектив, — повсюду валялись сотни желтоватых листков, исписанных убористым почерком Сола. На беленых стенах комнаты были пришпилены списки имен, дат и карты расположения концлагерей. Натали заметила старую фотокопию, на которой был изображен молодой полковник с несколькими офицерами СС, — все они улыбались со старой газетной вырезки. Рядом — цветной снимок Мелани Фуллер, на котором та стояла рядом с Торном во дворе своего чарлстонского дома. Они уселись в большие удобные кресла, и Сол достал толстую папку. — Джек считает, что они обнаружили местонахождение Мелани Фуллер... — начал он. Натали резко выпрямилась. — Где она? — В Чарлстоне. Снова там, в своем старом доме. Натали медленно покачала головой. — Это невозможно. Она не настолько глупа, чтобы вернуться туда. Сол открыл папку и взглянул на текст, отпечатанный на бланках израильского посольства. — Дом Фуллер был закрыт в ожидании окончательного правого постановления о статусе владелицы. Суд не мог сразу объявить ее мертвой, а чтобы продать ее дом, потребовалось бы еще больше времени. Похоже, живых родственников у нее не было. Тем временем появился некий Говард Варден, заявивший, что является внучатым племянником Мелани Фуллер. Он предоставил письма и документы, включая последнее завещание, датированное 8 января 1978 года, по которому дом и все его владения перешли к нему именно с этого числа... а не в случае ее смерти. Варден пояснил, что пожилую даму тревожило ее ухудшающееся здоровье и наступление старческого маразма. Он, мол, не сомневается в том, что его двоюродная бабушка доживет свою жизнь в этом доме, но в связи с ее исчезновением и предполагаемой смертью считает необходимым поддерживать дом и хозяйство. В настоящий момент он поселился там со своей семьей. — Может, это действительно давно не появлявшийся родственник? — спросила Натали. — Не похоже. Джеку удалось собрать кое-какую информацию о Вардене. Он вырос в штате Огайо, четырнадцать лет назад переехал в Филадельфию. Последние четыре года работал помощником старшего лесничего в городском парке, и три из них жил в парке фейермаунт... — Парк Фейермаунт!.. — вскрикнула Натали. — Это как раз неподалеку от того места, где исчезла Мелани Фуллер. — Вот именно, — подтвердил Сол. — Согласно филадельфийским источникам, Варден — сейчас ему тридцать семь лет — женат, у него трое детей: две девочки и мальчуган. Согласно сведениям из Чарлстона, его жена полностью соответствует полученному описанию, но ребенок при них почему-то всего один... пятилетний мальчик по имени Джастин. — Но... — начала было Натали. — Постой, это еще не все, — перебил Сол. — Дом Ходжесов по соседству был продан в марте. Его приобрел некий врач по имени Стивен Хартман, с ним живут его жена и двадцатитрехлетняя дочь. — Ну и что тут странного? Я вполне могу понять, почему миссис Ходжес не захотела возвращало! в этот дом. — Да, — согласился Сол, поправив очки, — но похоже, что доктор Хартман тоже из Филадельфии... преуспевающий нейрохирург, который внезапно прекращает свою практику, женится и в марте покидает город. И именно тогда же, когда Говард Варден со своим семейством ощутили потребность перебраться на юг. Новая жена доктора Хартмана, третья по счету (и его друзья были крайне изумлены этим браком), некая Сюзанна Олдсмит — бывшая старшая сестра отделения интенсивной терапии Филадельфийской больницы общего профиля... — А что необычного в том, что врач женится на медицинской сестре? — удивилась Натали. — Ничего, конечно. Но согласно справкам, которые навел Джек Коуэн, до того момента, как доктор Хартман и сестра Олдсмит уволились и вступили в брак, все считали их отношения отчужденно-профессиональными. И более того, ни у одного из счастливых новобрачных не было двадцатитрехлетней дочери. — Тогда кто же?.. — Юная особа, известная в Чарлстоне под именем Констанции Хартман, очень сильно напоминает некую Конни Сьюэлл — медсестру из отделения интенсивной терапии, которая уволилась на той же неделе, что и сестра Олдсмит. Джеку не удалось получить более определенных сведений, но мисс Сьюэлл бросила свою квартиру и друзей, не поставив их в известность — куда направляется. Натали мерила нервными шагами маленькую комнату, не обращая внимания на шипение лампы и мечущиеся по стенам тени. — Значит, мы предполагаем, что во время этого безумия в Филадельфии Мелани Фуллер была ранена или получила травму. Газеты писали о том, что в реке Шилькил была найдена машина с трупом возле того места, где потерпел крушение фэбээровский вертолет. Но тело принадлежало не Мелани. Я знала, что она жива. Я чувствовала это. Стало быть, она была лишь ранена и заставила этого лесничего препроводить ее в местную больницу. А Коуэн проверил больничные записи? — Конечно. — Сол кивнул. — Он выяснил, что перед ним там побывал кто-то из ФБР или под видом ФБР. Никаких упоминаний о Мелани Фуллер нет. Масса старух, но ни одна из них не подходит под ее описание. — Это не имеет значения, — возразила Натали. — Старое чудище каким-то образом замело следы. Нам, ведь известно, что она умеет это делать. — Натали вздрогнула и потерла руки. — Значит, когда наступило время выздоровления, у Мелани Фуллер уже была готова группа обработанных зомби, которые и отвезли ее обратно домой в Чарлстон. Постой-ка, я догадываюсь... мистер и миссис Варден привезли с собой больную бабушку... — Да, вроде бы матушку миссис Варден, — с легкой улыбкой ответил Сол. — Соседи ни разу ее не видели, но кто-то рассказал Джеку о том, как вносили в дом больничное оборудование. Это тем более странно, ибо, по сведениям, полученным из Филадельфии, мать Нэнси Варден скончалась еще в 1969 году. Натали снова заметалась по комнате. — А доктор, как его там?.. — Хартман. — Да... а он с сестрой Олдсмит находится в доме Ходжесов, чтобы оказывать Фуллер первоклассную медицинскую помощь. — Натали замерла с широко раскрытыми глазами. — Но, Господи, Сол, это же очень рискованно! Что, если власти... — она замолчала. — Какие власти? — усмехнулся Сол. — Чарлстонская полиция никогда не заподозрит, что больная мать миссис Варден и исчезнувшая Мелани Фуллер — одно и то же лицо. Это мог заподозрить шериф Джентри... у Роба была потрясающая интуиция... но он мертв. Натали бросила на него горестный взгляд и глубоко вздохнула. — А что насчет группы Барента? — поинтересовалась она. — Этих... из ФБР и всех остальных? — Возможно, они объявили перемирие. — Сол пожал плечами. — Вероятно, мистер Барент и его дружки, оставшиеся в живых, не хотят больше подвергаться такому же пристальному вниманию общественности, как в декабре. Натали, ну представь: если бы ты была Мелани Фуллер и бежала от таких же порождений мрака, не желающих афишировать свои кровавые деяния, куда бы ты направилась? Натали с секунду подумала, затем произнесла: — В дом, который и без того уже стал центром внимания всей страны из-за целой череды необъяснимых убийств. Невероятно! — Да, — согласился Сол. — Невероятно, но именно эта невероятность и стала для нас удачей. Джек Коуэн сделал все, что мог, при этом не навлекая на себя гнев своего начальства. Я отправил ему закодированное послание с благодарностью и с просьбой продолжать расследования. Он будет ждать известий от нас. — О, если бы только остальные могли нам поверить! — воскликнула Натали. Сол покачал головой. — Даже Джек Коуэн верит лишь в часть этой истории. Единственное, в чем он не сомневается, так это в том, что кто-то убил Арона Эшколя и всю его семью и что я говорил правду, когда утверждал, что в гибели моего племянника, его жены и детей каким-то непонятным ему образом замешаны оберет и агенты ФБР... Натали как подкошенная рухнула на стул. Она вдруг побледнела. — О Господи, Сол, а что же случилось с дочерьми Вардена? С теми двумя девочками, о которых сообщал Джек Коуэн? — Этого Джеку выяснить не удалось, — Сол захлопнул папку. — Никаких признаков траура, никаких сообщений о смерти ни в Филадельфии, ни в Чарлстоне. Возможно, их отослали к близким родственникам, но у Джека нет способа выяснить это, не засвечиваясь. Если они все обслуживают Мелани Фуллер, то вполне возможно, что старуха устала от такого количества детей и устранила двоих из них... У Натали даже губы побелели от ярости. — Эта сука должна умереть, — прошептала она. — Да, — согласился Сол. — Я уверен, что мы выяснили ее местонахождение. — Наверняка, хотя сама мысль о том, что у нее до сих пор развязаны руки... — Мы их остановим, — перебил ее Сол, — всех. Но для этого мы должны действовать по плану. Роб Джентри погиб по моей вине. По моей вине погиб Арон и его семья. Я считал, что если мы незаметно приблизимся к этим людям, это не будет грозить нам никакой опасностью. Но Джентри был прав, называя это ловлей ядовитых змей с закрытыми глазами. — Он придвинул к себе другую папку и провел по ней пальцами. — Если мы возвращаемся в эту трясину, Натали, мы должны стать охотниками и не дожидаться безучастно, когда эти страшные чудовища первыми нанесут удар. — Ты ее не видел, — прошептала Натали. — Она... она не человек. А главное — я упустила возможность, Сол. Она отвлеклась, и в течение нескольких секунд я держала в руках заряженный револьвер, но я выстрелила не в того, в кого нужно было. Роба убил не Винсент, а она. Я просто сразу это не сообразила. Сол крепко сжал ее руку повыше локтя. — Не нужно, Натали. В этом гнезде Мелани Фуллер — лишь одна из гадюк. Даже если бы ты ее уничтожила, остальные остались бы невредимы. И их количество осталось бы прежним, если мы предположим, что Чарлза Колбена убила именно Фуллер. — Но если бы я... — Хватит, — решительно оборвал Сол, погладив ее по голове, и ласково провел пальцами по щеке. — Ты очень устала, дружочек. Завтра, если захочешь, я возьму тебя с собой в Лохам-Хагетаот. — Да, — согласилась Натали, — я бы хотела поехать, — и она чуть склонила голову, когда Сол поцеловал ее в макушку. Чуть позже, когда Натали уже легла, Сол открыл тонкую папку, на которой было написано «Тони Хэрод», и в течение некоторого времени изучал досье. Затем он отложил в сторону и ее. Открыв дверь, Сол прислонился к косяку, глубоко вдыхая дивный ночной воздух. Высоко в небе плыла луна, заливая серебром склоны холмов и отдаленные дюны. Дом Давида Эшколя покоился во мраке на вершине холма. С запада долетал аромат апельсинов, слышался тихий шепот далекого моря. Постояв несколько минут, Сол закрыл дверь, задвинул засовы, проверил ставни и вернулся в свою комнату. Взял первую папку, которую ему прислал Визенталь. Поверх пачки обычных формуляров, заполненных на польском и четкими стенографическими значками вермахта, была прикреплена фотография еврейской девочки лет восемнадцати — маленький рот, впалые щеки, черные волосы, повязанные шарфом, и огромные темные глаза. Несколько минут Сол смотрел на фотографию, гадая, о чем думала эта девушка, когда глядела в объектив нацистской камеры. Как и где умерла она, кто оплакал ее? Сможет ли он найти в ее досье ответы на эти вопросы? По меньшей мере Солу были нужны скупые факты: когда она была арестована за величайшее преступление, против арийцев — ведь она была еврейкой; когда была переведена в лагерь, когда закончилась ее короткая юная жизнь, а с нею все надежды, мечты, симпатии... Неужто так и рассеялись, как горстка пепла на холодном ветру? Сол вздохнул и приступил к чтению...* * *
Поутру они встали рано, и Сол приготовил один из тех обильных завтраков, которые, по его словам, являлись традиционными для Израиля. Солнце едва поднялось над холмами, когда они забросили на заднее сиденье почтенного «Лендровера» рюкзак и направились по прибрежному шоссе к северу. Минут через сорок они достигли порта Хайфы. Город раскинулся у подножия горы Кармил. — "Голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур", — процитировал Сол, перекрывая шум ветра. — Красиво, — сказала Натали. — «Песнь Соломона» ? — "Песнь Песней", — поправил Сол. Ближе к северному берегу залива начали попадаться указатели с названием Акко, в двух вариантах переводов — «Поместье» и «Поместье Святого Иоанна». Натали посмотрела на запад, на обнесенный белыми стенами город, купавшийся в щедром утреннем свете. День снова обещал быть жарким. Из Акко вела узкая дорога к кибуцу, перед которым сонный охранник, взмахнув рукой, дал Солу знак проезжать. Они миновали зеленеющие поля, комплекс зданий кибуца и остановились у большого блочного дома с вывеской на иврите и английском: «Лохам-Хагетаот — гетто Дом борца», ниже были указаны часы работы. Навстречу им вышел невысокий мужчина, на его правой руке не хватало трех пальцев. Он вступил с Солом в оживленную беседу на иврите. Сол подал ему несколько монет, и тот двинулся вперед, указывая им дорогу, улыбаясь и повторяя Натали «шалом». — Тогда раба, — промолвила Натали, когда они вошли в тускло освещенную центральную комнату. — Бокертов. — Шалом, — улыбнулся коротышка. — Л'хитра'от. Натали посмотрела ему вслед и двинулась мимо застекленных витрин с журналами, рукописями и другими реликвиями обреченного на гибель восстания Варшавского гетто. Висевшие на стенах фотографии безмолвно и наглядно повествовали о жизни в гетто и тех нацистских зверствах, которые уничтожили эту жизнь. — Это не похоже на Яд-Вашем, — заметила Натали. — Здесь нет такого гнетущего ощущения. Может, из-за того, что здесь потолки выше. Сол пододвинул низкую скамеечку и уселся на нее, скрестив ноги. Слева от себя он положил целую кипу папок, а справа — стробоскоп на батарейках. — Лохам-Хагетаот скорее посвящен идее сопротивления, чем воспоминаниям о геноциде, — ответил он. Натали остановилась перед снимком с изображением большого семейства, выгружающегося из теплушки, — их пожитки были свалены на землю рядом. Она резко повернулась к Солу. — Ты можешь загипнотизировать меня? Сол поправил очки. — Могу. Но это займет много времени. А зачем? Натали пожала плечами. — Мне хочется узнать, какие ощущения у загипнотизированного... Ведь это не составит для тебя никакого труда. — Многолетняя практика, — откликнулся Сол. — В течение многих лет я использовал нечто вроде самогипноза, чтобы справляться с мигренями. Натали взяла папку и, открыв ее, взглянула на находившуюся внутри фотографию молодой женщины. — Неужели ты действительно сможешь вместить все это в свое подсознание? — Существуют разные уровни подсознания. — Сол потер щеку. — На одних я просто пытаюсь восстановить уже имеющиеся там воспоминания... путем, если можно так выразиться, разблокирования уже образовавшейся блокировки. А с другой стороны, я пытаюсь настолько раскрепоститься, чтобы ощутить происшедшее с людьми, которые имели подобный опыт. Натали оглянулась. — И все это помогает? — Да. Особенно если впитываешь, пропускаешь через себя биографические сведения. — Сколько у тебя времени на это? Сол посмотрел на часы. — Около двух часов, но Шмулик обещал не впускать сюда туристов, пока я не закончу. Натали поправила тяжелую сумку на плече. — Я пойду погуляю и начну усваивать и запоминать все венские сведения. — Шалом, — буркнул Сол. Оставшись один, он тщательно прочитал все имевшееся в первых трех папках. Затем отвернулся в сторону, включил маленький стробоскоп и установил таймер. Метроном начал отстукивать ритм в унисон со вспышками мигающего света. Сол полностью расслабился, стер из своего сознания все, за исключением ощущения пульсирующего света, и словно поплыл по волнам другой исторической эпохи и других географических мест. Сквозь дым, пламя и завесу времени на него со стен взирали бледные, изможденные лица.* * *
Выйдя из кубического здания, Натали уставилась на молодых обитателей кибуца, занимавшихся своими делами. Вдали виднелся грузовик, направлявшийся в поля с последней партией рабочих. Сол рассказывал ей, что этот кибуц был основан людьми, выжившими в Варшавском гетто и польских концлагерях, но взгляд Натали в основном останавливался на молодых лицах тех, кто родился уже здесь, в Израиле, — худые, загорелые, внешне они ничем не отличались от арабов. Она медленно брела по полю, наконец устала и устроилась в тени единственного эвкалипта, неподалеку от высокого обрызгивателя, который выплевывал на посевы струи воды с такой же завораживающей периодичностью, как метроном Сола. Натали достала со дна сумки бутылку пива и открыла ее своим новым швейцарским армейским ножом. Пиво успело нагреться, но было вкусное, его аромат прекрасно гармонировал с жарким не по сезону днем, шипением ирригационной системы и запахами влажной земли и растений. При мысли о возвращении в Америку желудок у Натали сжался, а сердце учащенно забилось. Господи, как все чудовищно! В памяти остались лишь обрывки: вспышки пламени, темнота, прожекторы, вой сирен — словно воспоминания о кошмарном сне. Она вспомнила, как проклинала Сола, как колотила его за то, что тот оставил тело Роба в Ропщущей Обители. Помнила, как Сол нес ее на руках в кромешной тьме, ощущала нестерпимую боль в ноге, от которой сознание то покидало ее, то возвращалось, будто пловец, ныряющий в волнах штормового моря. Порой вспоминала какого-то человека по имени Джексон, который бежал рядом, волоча на плече безжизненное тело Марвина Гейла. Позднее Сол сказал ей, что Марвин был еще жив, хотя и находился без сознания. Они тогда разбежались в разные стороны по темным проулкам, подгоняемые воем сирен. Еще помнила Натали, как лежала на скамейке в парке, а Сол звонил куда-то из открытого таксофона... Затем наступил серый промозглый рассвет, и она очнулась на заднем сиденье фургона, заполненного странными людьми, и Сол, сидевший впереди, разговаривал с каким-то человеком, который и был Джеком Коуэном, шефом Моссада из израильского посольства. События последующих двух суток Натали тоже помнила разрозненными урывками. Номер в мотеле. Обезболивающие уколы. Врач укладывает ее переломанную ногу в надувную лангету. И память о Джентри, дорогом ей человеке, ее крики во сне: «Роб!» Когда же она вспоминала, с каким звуком пуля прошила гортань Винсента, и красно-серую кашу мозгов на стене, безумный взгляд старухи, заглядывающей ей в душу: «До свидания, Нина. Мы еще встретимся», — с ней начиналась просто истерика. Потом Сол рассказывал, что никогда в своей жизни он не потратил столько сил, как на этот разговор с Джеком Коуэном, длившийся двое суток без передыху. Перепуганный седовласый агент был не в состоянии воспринять правду, и им приходилось лгать ему, кое-что сглаживать в информации. Наконец израильтяне вынуждены были удостовериться, что и Сол, и Натали, и Арон Эшколь, и исчезнувший шеф шифровального отдела Леви Коул — все они были втянуты в смертельно опасную широкомасштабную Игру, которую вели высшие должностные лица в Вашингтоне и ФБР с бывшим нацистским полковником. Коуэну не удалось получить почти никакой поддержки от своего посольства или начальства в Тель-Авиве, однако на рассвете, в воскресенье 4 января, фургон с Солом, Натали и двумя израильскими агентами, урожденными американцами, пересек границу с Канадой. Через пять часов они вылетели из Торонто в Тель-Авив с новыми документами. О последующих двух неделях своего пребывания в Израиле Натали почти ничего не помнила. На следующий день с ее переломанной лодыжкой стало твориться нечто невообразимое, боль была адской, резко подскочила температура, и она мало что помнила о полете на частном самолете в Иерусалим, где Солу, который воспользовался своими старыми медицинскими связями, удалось поместить ее в платную палату медицинского центра Хадассах. На той же неделе прооперировали и руку Сола. Натали пробыла в клинике пять дней, последние три из которых каждое утро и вечер с помощью костылей она добиралась до синагоги и рассматривала витражи, выполненные Марком Шагалом. Она пребывала в каком-то состоянии бесчувствия, словно весь ее организм получил мощную дозу новокаина. Но каждую ночь, закрывая глаза, она снова и снова видела перед собой лицо Роба Джентри. Видела его ярко-синие глаза в то страшное мгновение, когда в них вспыхнул восторг от одержанной над старухой победы, перед тем как мелькнуло лезвие, оборвавшее его жизнь... Натали допила пиво и опустила пустую бутылку обратно в сумку, испытывая легкое чувство вины от того, что она пьет так рано, когда все работают. Она вытащила из сумки стопку папок: здесь были переснятые фотографии, сведения о Вене двадцатых-тридцатых годов, полицейские отчеты, переведенные помощниками Визенталя, тоненькое досье Нины Дрейтон, перепечатанное покойным Френсисом Харринггоном и приложенное к трудночитаемой рукописи Сола. Натали вздохнула и принялась за работу. После полудня Сол и Натали отправились в Хайфу пообедать, прежде чем все закрылось в связи с наступлением субботы. Они купили фалафели у уличного торговца на улице Ханеви'им и, жуя по дороге, двинулись по направлению к оживленному порту. За ними увязалось несколько дельцов черного рынка, пытаясь всучить им зубную пасту, джинсы и «Ролексьв», но Сол что-то резко бросил им, и они отстали. Облокотившись на парапет, Натали уставилась на отчаливавший от причала грузовой корабль. — Когда мы поедем в Америку, Сол? — спросила она. — Я буду готов через три недели. Может, и раньше. А когда ты будешь готова? — Никогда, — ответила Натали. Сол усмехнулся. — Хорошо, значит, когда ты захочешь вернуться. — В любой момент... На самом деле чем раньше, тем лучше, — она шумно выдохнула. — О Господи, у меня снова начинаются спазмы, едва подумаю, что надо возвращаться. — Да, — согласился Сол. — Со мной то же самое. Давай еще раз переберем имеющиеся у нас факты и догадки и проверим, нет ли в нашем плане уязвимых мест. — Самое уязвимое место — это я, — тихо промолвила Натали. — Нет. — Сол сощурился, глядя на плещущуюся внизу пенистую воду. — Итак, мы допускаем, что сведения Арона соответствуют действительности и что главный штаб игроков составляют по меньшей мере пять человек: Барент, Траск, Колбен, Кеплер и евангелист по имени Саттер. Я собственными глазами видел, как Траск погиб от руки оберста. Мы допускаем, что мистер Колбен канул вместе с вертолетом в результате действий Мелани Фуллер. Следовательно, из этой группы осталось трое. — Четверо, если считать Хэрода, — поправила Натали. — Да, — согласился Сол, — нам известно, что он действовал заодно с людьми Колбена, значит четверо. Может быть, еще агент Хейнс, но я думаю, что он скорее орудие в их руках, нежели инициатор каких-либо действий. Вопрос вот в чем: почему оберет устранил Траска. — Месть? — предположила Натали. — Возможно, но у меня сложилось впечатление, что между ними идет какая-то дьявольская Игра. Давай предположим, что вся заварушка в Филадельфии была направлена не столько против Фуллер, сколько на то, чтобы фон Борхерта... Бордена. И Барент сохранил мне жизнь лишь потому, что мог использовать меня в качестве еще одного оружия против Вилли. Но почему оберет сохранил мне жизнь... и зачем ему понадобилось включать в эту Игру тебя и Роба? — Чтобы спутать карты? Нечто вроде развлечения? — Может быть, — согласился Сол, — но давай вернемся к нашему предыдущему предположению о том, что он косвенно использовал нас как орудия для каких-то своих целей. Нет никакого сомнения в том, что Дженсен Лугар был ассистентом Уильяма Бордена в Голливуде. Джек Коуэн подтвердил сведения, полученные Харрингтоном. В самолете Лугар тебе представился. Это могло быть сделано сознательно — оберет ставил нас в известность, что манипулирует нами обоими. Затем он прилагает массу усилий, чтобы убедить Барента и Колбена в том, что я погиб во время взрыва и пожара в Филадельфии. Зачем? — Он собирается использовать тебя в дальнейшем, — сказала Натали. — Вот именно. Но почему он не использует каждого из нас непосредственно? — Возможно, это для него слишком сложно, — предположила Натали. — Похоже, что для этих мозговых вампиров существенную роль играет близость расстояния. Может быть, его вообще не было в Филадельфии... — ..и действовали лишь его обработанные пешки, — продолжил Сол. — Лугар, бедный Френсис и его белый ассистент Том Рэйнольдс. Ведь именно Рэйнольдс напал на тебя у дома Фуллер в рождественскую ночь. У Натали перехватило дыхание. Такое она слышала впервые. — Откуда ты знаешь? Сол снял очки и протер их полой рубашки. — А тогда какой смысл был в этом нападении, кроме того, чтобы навести вас с Робом на правильный след? Оберет хотел, чтобы вы оба были в Филадельфии, когда разыграются финальные сцены с людьми Колбена. — Не понимаю, — промолвила Натали и покачала головой. — А в какой момент появляется Мелани Фуллер? — Давай будем придерживаться той точки зрения, что мисс Фуллер не сотрудничает ни с Вилли Борденом, ни с его противниками, — предложил Сол. — Скажи, сложилось ли у тебя впечатление, что ей известно о существовании этих группировок? — Нет, — откликнулась Натали. — Она упоминала только Нину... вероятно, Нину Дрейтон. — Да. «До свидания, Нина. Мы еще встретимся». Но если мы будем следовать логике Роба... а я не вижу причин от нее отказываться... Нину Дрейтон в Чарлстоне убила именно Мелани Фуллер. С чего бы ей считать, что ты являешься посланницей мертвеца, Натали? — Потому что она сумасшедшая! — отрезала Натали. — Ты бы видел ее, Сол. У нее взгляд безумного, больного человека, маньяка. — Будем считать, что так оно и есть, — согласился Сол. — И хотя, возможно, Мелани Фуллер является самой опасной гадюкой из всех, ее безумие может сыграть нам на руку. А что же наш мистер Хэрод? — Чтоб он сдох! — вырвалось у Натали, когда она вспомнила его бесцеремонное вторжение в ее сознание. Сол кивнул и надел очки. — Но контроль Хэрода над тобой был прерван, так же как оберста надо мной сорок лет назад. А в результате мы оба помним о своих переживаниях и сохранили воспоминание об их... как бы это сказать... мыслях? — Не совсем, — поправила Натали. — Скорее чувствах. Об их личности. — Да, — кивнул Сол, — но как бы это ни выражалось, у тебя создалось отчетливое впечатление, что Тони Хэрод не склонен пользоваться своей Способностью по отношению к лицам мужского пола? — В этом я не сомневаюсь, — ответила Натали. — Его отношение к женщинам невероятно порочно, но я почувствовала, что... насиловать таким образом он может только женщин. Мне показалось, что он видел во мне... ну как бы свою мать... с которой хотел вступить в половую связь, чтобы что-то доказать ей... — Это очень удобная фрейдистская позиция, — усмехнулся Сол, — : значит, мы будем придерживаться той точки зрения, что Хэрод может влиять только на женщин. Если это так, то по крайней мере в этом конкретном клубке змей есть два слабых места — обладающая мощными способностями женщина, выжившая из ума и не принадлежащая к той группе власть имущих, и мужчина, который, может быть, и входит в эту группу, но не хочет или не может использовать свою Способность с мужчинами. — О'кей, — сказала Натали. — Предположим, что это так. И что же это нам дает? — У нас остается тот же план, который мы впервые обсуждали в феврале... — ответил Сол. — ., и который, возможно, приведет нас к гибели, — вздохнув, добавила Натали. — Вполне возможно. Но если нам предстоит жить в трясине с этими ядовитыми существами, чего ты хочешь больше: всю оставшуюся жизнь страшиться их и ждать их нападения или, рискуя собственной жизнью, начать охоту на них? Натали рассмеялась. — Отличный выбор, Сол. — Пока нам ничего другого не остается. — Ну что ж, тогда давай вооружимся мешком и займемся отловом змей, — Натали посмотрела на золотой купол святилища Баха'и, сверкавший на горе Кармил, и снова перевела взгляд на исчезающее в морской дымке грузовое судно. — Знаешь, — доверительно сказала она, — наверное, это какая-то глупость, но мне почему-то кажется, что Робу бы это понравилось. Вот это составление планов. Внутреннее напряжение. Даже если все это безумие и обречено на провал, он бы сумел увидеть в этом привлекательную сторону. Сол дружелюбно прикоснулся к ее плечу. — Тогда давай продолжим составлять наши безумные планы и не станем разочаровывать Роба. И они вместе двинулись по направлению к дороге на Яффу, где их ожидал «Лендровер».Глава 3
Мелани Как приятно былоснова очутиться дома! Я так устала от больничной атмосферы, даже несмотря на то, что у меня была отдельная палата в отдельном крыле, специально отгороженном ото всех для моего удобства, и что весь персонал был занят исключительно обслуживанием меня. Но, как говорится, дома и стены помогают, и процесс выздоровления у человека идет с удвоенной скоростью. Много лет назад я читала о так называемых внетелесных переживаниях, которые якобы испытывают умирающие или безнадежные больные, у которых на операционном столе наступает клиническая смерть; я никогда не верила этим россказням, считая их глупой журналистской погоней за сенсациями, столь распространенной в наше время. Но когда в больнице ко мне возвращалось сознание, я переживала именно эти ощущения. Какое-то время мне даже казалось, будто я парю под потолком своей палаты, ничего не видя, но все ощущая. Я чувствовала как бы со стороны чужое старое скрюченное тело на кровати с подключенными к нему датчиками, катетерами и введенными в него иглами. Чувствовала суету и беготню сестер, врачей и вспомогательного персонала, когда они трудились, чтобы поддержать жизнь в этом чужеродном теле. А когда я наконец вернулась в мир красок и звуков, я поняла, что воспринимаю его глазами и ушами всех этих людей. И как их сразу оказалось много! Насколько мне известно, ни мне, ни Вилли, ни Нине никогда столь всепоглощающе не удавалось использовать более одного человека, чтобы получать такой поток разнообразных ощущений. Даже использование двух незнакомцев с помощью попеременного переключения внимания с одного на другого не давало возможности ощутить мир с, такой пронзительностью, с какой ощущала его я. Кроме того, наше использование других всегда ими ощущалось, что приводило или к уничтожению их личности, или к блокировке последующих воспоминаний у них об этом, — это достигалось довольно просто, создавая в чужом сознании обычный провал. Теперь же я взирала на мир по крайней мере с шести разных точек зрения и абсолютно точно знала, что никто и не догадывается о моем присутствии в своем сознании. Но могла ли я на самом деле использовать их? Я начала осторожно проверять возможность ненавязчивого контроля, то заставляя сестру без всякой необходимости взять стакан, то помогая ординатору закрыть дверь, то вынуждая врача говорить нечто иное, о чем он и не думал. Я не стала внедряться в них настолько глубоко, чтобы помешать их профессиональной компетентности. И ни один из них ни разу не ощутил в своем сознании моего присутствия. Шли дни. Я выяснила, что пока мое тело пребывало в совершенной коме и жизнь в нем поддерживалась лишь благодаря повышенному уходу и непрекращающейся работе аппаратов, в действительности же я могла перемещаться в пространстве и заниматься его исследованием с неведомой мне дотоле легкостью. Я выходила из палаты, укрывшись в сознании молодой сестры, ощущая ее животную силу и бодрость, вкус ее ментоловой жвачки, а в конце коридора я выпускала еще одно щупальце сознания — не теряя при этом контакта со своей молодой сестрой! — и оказывалась в лифте вместе с врачом, заводила его «Линкольн-Континенталь» и преодолевала шесть миль к дому в пригороде, где его ждала жена... И все это время я продолжала сохранять контакт со своей медсестрой, с сиделкой в коридоре, интерном-рентгенологом, работавшим этажом ниже, и вторым врачом, который теперь стоял и взирал на мое коматозное тело. Расстояние перестало быть преградой для моей Способности. Много лет нас с Ниной поражала способность Вилли использовать своих пешек на гораздо большем расстоянии, чем были способны на это мы, но теперь я обрела еще более мощные возможности. И силы мои все возрастали. На второй день, когда я занималась апробацией своих новых ощущений и возможностей, ко мне в палату явились члены моей «семьи». Я не узнала высокого рыжеволосого мужчину и его худую светленькую жену, что затем я переместилась в приемный покой и взглянула глазами регистраторши на троих детей — и тут же вспомнила их. То были дети из парка. Рыжеволосый мужчина, похоже, был встревожен моим видом. Я лежала в отделении интенсивной терапии, в котором палаты располагались, как куски пирога, расходившиеся от центрального сестринского поста. Лежала в переплетении трубок для внутривенных вливаний и сенсорных датчиков. Врач с листком бумаги, который сестра называла карточкой, отвел рыжеволосого от прозрачной перегородки. — Вы родственник? — поинтересовался врач. Он был ловкий педантичный человек с целой гривой седых волос. Звали его доктор Хартман, и мне передавались то удовольствие, настороженность и уважение, которые испытывали сестры в его присутствии. — О нет, — откликнулся рыжий великан. — Меня зовут Говард Варден. Мы нашли ее... то есть мои дети обнаружили ее вчера утром, когда она бродила у нас в э-э... в парке, близ дома. А потом она потеряла сознание, когда... — Да-да, — откликнулся доктор Хартман, — я читал записанные с ваших слов сведения. Вы не имеете ни малейшего представления, кто она такая? — Нет, на ней были только ночная рубашка и халат. Мои дети сказали, что она вышла из леса, когда они... — И никаких других идей, откуда она могла в мяться ? — Не-а, — ответил Варден. — Я... ну, я не стал звонить в полицию. Наверное, надо было это сделать. Мы с Нэнси прождали здесь несколько часов, а когда стало ясно, что эта пожилая дама... не собирается... я хочу сказать, что состояние ее стабильно... мы вернулись домой. Это был мой выходной день. Я собирался позвонить в полицию сегодня утром, но сначала решил узнать, как она... — Мы уже поставили полицию в известность, — солгал доктор Харман. Тут я использовала его впервые. Это оказалось не сложнее, чем натянуть на себя старое любимое пальто. — Они приезжали и составили рапорт. Похоже, они тоже не знают, откуда взялась миссис Доу. Никто не сообщал о пропавших родственниках. — Миссис Доу? — переспросил Говард Варден. — Вот как? Джейн Доу? Хорошо. Ну, для нас это такая же тайна, доктор. Мы живем на расстоянии двух миль от входа в парк, и, по словам детей, она появилась даже не со стороны входа. — Он снова посмотрел на мою кровать. — Как она, доктор? Вид у нее... ну... жуткий. — У нее произошел обширный удар, — ответил доктор Хартман. — Возможно даже целая серия ударов. — Он посмотрел на непонимающее выражение лица Говарда и продолжил: — У нее то, что мы называем мозговым кровоизлиянием. В ее мозг временно перестал поступать кислород. Насколько мы можем судить, кровоизлияние локализовано в правом полушарии мозга пациентки, это и привело к нарушению мозговых и нейрологических функций. Парализованной оказалась левая половина тела — запавшее веко, рука, нога, но в каком-то смысле это можно считать благо приятным признаком. Афазия — проблемы с речью — в основном вызываются кровоизлияниями в левом полушарии. Мы сделали ЭКГ и сканирование мозга, и, честно говоря, результаты несколько обескураживающие, Если мозговое исследование подтвердило инсульт и возможную закупорку центральной мозговой артерии, ЭКГ абсолютно не соответствует тому, чего можно было бы ожидать при обстоятельствах подобного рода... Я потеряла интерес к этой сугубо медицинской терминологии и сосредоточила свое внимание на регистраторше среднего возраста, которая сидела в вестибюле. Я велела ей встать и подойти к детям. — Привет, — заставила я ее сказать. — Я знаю, кого вы пришли навестить. — Нас не пропускают, — ответила шестилетняя девочка, которая на рассвете пела мне «Хей, Джуд», — мы слишком маленькие. — Но я знаю, кого бы вы хотели повидать, — продолжила регистраторша с улыбкой. — Я хочу увидеть добрую тетю, — сказал мальчик, в глазах его стояли слезы. — А я не хочу, — с вызовом заявила старшая девочка. — И я не хочу, — подхватила ее шестилетняя сестра. — Почему? — спросила регистраторша моим голосом. Мне было очень обидно. — Потому что она странная, — ответила старшая девочка. — Мне показалось, что она мне нравится, а когда я вчера дотронулась до ее руки, она была странной. — Что значит странной? — На носу регистраторши были очки с толстыми стеклами, поэтому изображение было искаженным. Я ведь надевала очки только для чтения. — Странной, — повторила девочка. — Смешной. У нее кожа жесткая и скользкая, как у змеи. Я сразу отпустила ее руку, еще до того как ей стало плохо, но я сразу поняла, что она противная. — Да-да, — поддакнула ее сестра. — Замолчи, Элли, — оборвала старшая девочка — на лице ее было написано, что она сожалела о том, что вступила в разговор. — А мне хорошая тетя понравилась, — возразил мальчик. Похоже, что он перед визитом в больницу плакал. Регистраторша — по-моему велению — отозвала девочек к стойке. — Пойдите сюда, девочки. У меня есть кое-что для вас. — Она порылась в ящике и достала две круглые мятные конфеты в обертках, а когда старшая из девочек протянула руку, та крепко схватила ее за запястье. — Сначала дай я предскажу тебе твое будущее, — заставила я прошептать регистраторшу. — Отпусти, — так же шепотом ответила девочка. — Молчать! — прошипела регистраторша. — Тебя зовут Тара Варден. А твою сестру Эллисон. Обе вы живете в большом каменном доме на холме, который вы называете замком. Однажды ночью в вашу спальню войдет огромный зеленый черномазый с острыми желтыми зубами, он разорвет вас на мелкие клочки — вас обеих — а потом съест! Девочки попятились — лица их побелели, глаза стали огромными, как блюдца. Челюсти у них отвисли от страха и изумления. — А если вы расскажете об этом — отцу, матери или кому-нибудь другому, — заставила я прошипеть регистраторшу им вслед, — то черномазый придет за вами уже сегодня ночью! Девочки рухнули на свои стулья, глядя на женщину с таким ужасом, словно она была змеей. Через несколько минут в приемную вошла пожилая пара, и я позволила регистраторше снова вести себя непритязательно, вежливо и несколько чопорно. Наверху доктор Хартман как раз заканчивал свои медицинские объяснения Говарду Вардену. В конце коридора старшая сестра Олдсмит проверяла назначения, особо обращая внимание на то, что было прописано миссис Доу. В моей палате молодая сестра Сьюэлл осторожно обертывала меня холодными компрессами, чуть ли не подобострастно массируя мне кожу. Я ощущала это очень слабо, но при мысли о том, что моей особе уделяется такое огромное внимание, настроение мое улучшилось. Приятно было вновь чувствовать себя в кругу семьи. На третий день, а именно на третью ночь, я отдыхала... в действительности я перестала спать, я просто позволяла парить своему сознанию, свободно, наугад перемещаясь от реципиента к реципиенту... и вдруг я ощутила физическое возбуждение, незнакомое мне уже много лет, — я ощутила присутствие мужчины, прикосновение его рук, тяжесть его чресел, вжимающихся в меня. Сердце мое заколотилось, когда я почувствовала, как прижимаются к его торсу мои юные груди, как набухают на них соски. Язык его проник в мой рот. Я чувствовала, как пальцы его возятся с пуговицами форменного сестринского платья, и мои собственные руки скользнули вниз, к его ремню, расстегнули молнию гульфика и обхватили его восставший твердый член. Это было отвратительно. Это было непристойно. Сестра Конни Сьюэлл в подсобном помещении развлекалась с каким-то интерном. Но поскольку спать я все равно не могла, я позволила своему сознанию вернуться к сестре Сьюэлл. Я утешалась мыслью, что не являюсь инициатором всего этого, но лишь принимаю пассивное участие в происходящем. Ночь прошла почти незаметно. Не могу сказать, когда у меня зародилась мысль о том, чтобы вернуться домой. В течение первых нескольких недель, даже месяца, мое пребывание в больнице было неизбежным, но к середине февраля я начала все чаще и чаще задумываться о Чарлстоне и о родном доме. Оставаться в больнице дольше, не привлекая к себе внимания, становилось невозможно. Через три недели доктор Хартман перевел меня в большую отдельную палату на седьмой этаж, и у большей части персонала сложилось впечатление, что я являюсь очень состоятельной пациенткой, требующей особого ухода. Вообще-то это соответствовало действительности. Однако оставался администратор доктор Маркхам, который продолжал интересоваться моим случаем. Он каждый день поднимался на седьмой этаж и старательно пытался что-нибудь разнюхать. Я была вынуждена заставить доктора Хартмана объясниться с ним. Старшая сестра Олдсмит также вступила с ним в переговоры. Наконец я пробралась в сознание этого ничтожества и применила собственные способы убеждения. Но Маркхам оказался на редкость упорным. Дня через четыре он вернулся и вновь принялся допрашивать сестер: кто оплачивает дополнительный уход за миссис Доу, откуда деньги на добавочные медикаменты, исследования, тесты, сканирования и консультации специалистов? Мол, администрация не располагает никакими сведениями о поступлении леди в больницу, нет компьютерных расчетов стоимости проведенных мероприятий, нет сведений о том, как будет производиться оплата. Сестра Олдсмит и доктор Хартман согласились встретиться на следующее утро с нашим инквизитором, заведующим больницей, шефом отдела делопроизводства и еще какими-то тремя чиновниками. В тот вечер я присоединилась к Маркхаму, когда он отправился домой. Автострада, шедшая через реку Шилькил, была перегружена, и я вспомнила вновь о новогодних событиях. Перед поворотом на скоростное шоссе Рузвельта я заставила нашего дружка съехать на узкое ответвление от дороги, включить фары и выйти на автостраду перед своим «Крайслером». Маркхам простоял там с минуту, почесывая лысину и гадая, что же случилось с машиной. И тут все пять полос заполнились несущимися автомобилями, а как раз на внутренней полосе, где остановился «Крайслер», появился огромный грузовик. Наш администратор сделал три больших скачка, я успела услышать рев автомобильного гудка, увидеть изумленное выражение на лице водителя приближавшегося грузовика, ощутить немыслимую беготню мыслей Маркхама, прежде чем удар оттолкнул меня назад, к другим точкам зрения. Тут я отыскала сестру Сьюэлл и разделила с ней нетерпеливое ожидание конца смены и прихода ее молодою интерна. Время для меня не имело никакого значения. Я перелетала в прошлое с такой же легкостью, с какой перемещалась от одного реципиента к другому. Особенно мне нравилось оживлять в памяти те летние месяцы, которые мы проводили в Европе с Ниной и нашим новым другом Вильгельмом. Я вспоминала прохладные летние вечера, когда мы втроем гуляли по фешенебельной Рингштрассе, где все, кто хоть что-то представлял собою, щеголяли в своих самых лучших нарядах. Вилли любил ходить в кинотеатр «Колосс» на Нюссдорферштрассе, где неизменно демонстрировались скучные пропагандистские немецкие картины. Однажды вечером я хохотала до слез, глядя, как Джимми Кегни изрыгает потоки отвратительной австро-немецкой речи в первом увиденном мною звуковом фильме. Затем мы шли выпить и посидеть в Рейсс-бар на Картнерштрассе, общались там с другими компаниями молодых весельчаков, отдыхали в шикарных кожаных креслах и любовались игрой света, отражавшегося от полированных поверхностей красного дерева, стекла, хрома, позолоты и мраморных столиков. Иногда с располагавшейся рядом Крюгерштрассе сюда заходили шикарные проститутки со своими клиентами, и их присутствие добавляло чувственности и куражу в атмосферу вечера. Иногда наши вечера заканчивались походом в «Симпл» — самое роскошное кабаре Вены. Его полное название было «Симплициссимус», и я отчетливо помню, что там выступали два еврея — Карл Фраке и Фриц Грюнбаум. Даже позднее, когда коричневорубашечники и штурмовики потопили улицы старого города в крови и беспорядках, у этих двух комиков еще оставались покровители, которые покатывались со смеху над их сатирическими скетчами. Странно, но объектом их пародий как раз являлись нацистские стереотипы. Вилли просто зашелся от хохота так, что по его покрасневшему лицу текли слезы. Однажды он досмеялся до того, что чуть не задохнулся, и нам с Ниной пришлось колотить его по спине и поочередно предлагать ему свои бокалы с шампанским. Уже после войны Вилли небрежно упомянул о том, что не то Фраке, не то Грюнбаум — не помню, кто именно — погиб в одном из лагерей, которые находились в ведении Вилли, перед тем как его перевели на Восточный фронт. Нина была очень красива. Светлые волосы, коротко подстриженные и завитые по последней моде, а яркий маникюр, ухоженная кожа, роскошные шелковые платья, доставленные из Парижа по заказу.... Особенно помню зеленое, с глубоким декольте, — ткань плотно облегала ее маленькую грудь, подчеркивая изящность бледного румянца щек и странным образом оттеняя голубизну глаз. Не помню, кто конкретно предложил сыграть в Игру в то первое лето, зато отчетливо помню наше возбуждение и азарт преследования. Мы по очереди стали использовать разных пешек — наших знакомых, друзей наших предполагаемых жертв — то была ошибка, которую мы никогда уже не повторяли. На следующее лето мы играли уже более откровенно, сидя в наших гостиничных номерах на Джозефштадтерштрассе и используя один и тот же инструмент — тупого рабочего из крестьян с толстой шеей, который так и не был пойман и которого Вилли ликвидировал позднее. Присутствие втроем в одном и том же сознании и соразделение одних и тех же острых ощущений создавало между нами такую близость, которая не возникла бы даже при самых смелых сексуальных экспериментах. Помню лето, проведенное нами в Бад Ишле. Помню Нинину шутку о станции, где мы пересаживались с венского поезда... маленькая деревушка под названием Аттнанг-Пухайм. Когда это название повторялось с ускоряющимся ритмом, оно начинало напоминать стук колес поезда. Мы смеялись до изнеможения и, едва отдохнув, начинали смеяться снова. Помню презрительные взгляды старой вдовы, сидевшей через проход от нас. Именно в Бад Ишле однажды днем я оказалась одна в кафе «Зайнер». С утра по обыкновению я пошла на урок по вокалу, но мой педагог заболел, и я вернулась в кафе, где меня обычно дожидались Вилли и Нина. Однако почему-то в тот раз моих друзей за столиком не оказалось. Признаться, я была несколько удивлена и спрашивала себя: куда это вдруг могли отправиться мои друзья и почему они не подождали меня? Я вернулась в гостиницу на эспланаде, где мы жили с Ниной. Открыв дверь в номер, я уже почти дошла до гостиной, когда из спальни Нины услышала какие-то звуки. Сначала я подумала, что она плачет, и бросилась туда, дабы оказать помощь. Разумеется, в спальне были Нина и Вилли. Господи, как же наивна я была! Помню белизну Нининых бедер и ритмично движущийся торс Вилли в тусклом свете, льющемся из-за задернутых бордовых штор. Я простояла целую минуту в дверях, глядя на них, потом повернулась и тихо вышла из спальни. В течение всей этой ужасно долгой минуты лицо Вилли оставалось скрытым от меня — оно было заслонено Нининым плечом и краем подушки, зато Нина обратила на меня свой чистый голубой взор почти сразу же, едва я показалась в дверях. Я убеждена в том, что она видела меня тогда. Однако это ее не остановило — она продолжала издавать страстные животные звуки, вырывавшиеся из ее полуоткрытых розовых губ идеальной формы... К середине марта я решила, что пора покинуть и эту больницу, и проклятую Филадельфию и вернуться на свой благословенный юг, домой, в Чарлстон. Я заставила Говарда Вардена заняться приготовлениями к переезду. Однако из всех своих скудных сбережений Говарду удалось наскрести всего две тысячи пятьсот долларов. Ему так и не удалось добиться в жизни чего-либо. Зато когда Нэнси закрыла текущий счет в банке, оставшийся ей после смерти матери, тот составил довольно приличную сумму в сорок восемь тысяч долларов. Вардены предполагали пустить эти деньги на оплату обучения детей в колледжах, но больше их это не должно было волновать. Доктору Хартману я приказала посетить замок. Говард и Нэнси спокойно сидели по своим комнатам, пока доктор ходил со своими шприцами к девочкам. Затем доктор позаботился о последствиях. Хорошо помню прелестную прогалину в парке в миле от железнодорожного моста. На следующее утро Говард и Нэнси покормили пятилетнего Джастина и благодаря моей обработке не заметили ничего необычного, если не считать случайных вспышек прозрения, очень напоминающих те, что происходят во сне, когда вдруг понимаешь, что забыл одеться и сидишь голым в школе или в каком-нибудь другом общественном месте. Но и эти вспышки прошли. Нэнси и Говард прекрасно свыклись с тем, что у них всего лишь один ребенок, и я была рада, что решила не использовать Говарда для столь необязательных действий. Проводить обработку всегда проще и результаты ее всегда более успешны, когда она не сопровождается травмами и последующим раскаянием. Бракосочетание доктора Хартмана и старшей сестры Олдсмит прошло тихо и было зарегистрировано Филадельфийским гражданским судом в присутствии сестры Сьюэлл, Говарда, Нэнси и Джастина. По-моему, они хорошо смотрелись вместе, хотя некоторые и утверждали, что у сестры Олдсмит грубое и невыразительное лицо. Когда это было осуществлено, доктор Хартман тоже внес свою лепту в общий фонд переезда. Ему потребовалось некоторое время на то, чтобы продать свои акции и ценные бумаги, а также избавиться от своего глупого нового «Порше», которым он так гордился, но после уплаты в трастовые фонды, обеспечивавшие его двух предыдущих жен, он все же смог внести в наше предприятие сто восемьдесят пять тысяч долларов. Учитывая, что доктору Хартману предстояло уволиться, этого на ближайшее будущее должно было хватить. Однако это не решало проблему ни с покупкой моего старого дома, ни с приобретением дома Ходжесов. Я более не собиралась позволять чужим людям жить рядом с собой. По своей глупости Вардены не додумались застраховать жизни своих детей. Говард получил десятитысячный полис за страховку собственной жизни, но эта сумма была смехотворна в свете цен на недвижимость в Чарлстоне. В конечном итоге проблема разрешилась благодаря восьмидесятидвухлетней матери доктора Хартмана, которая все еще пребывала в добром здравии и проживала в Палм-Спрингс. Это случилось в первый день Великого поста, когда во время какой-то операции доктор узнал о внезапной эмболии, происшедшей у его матери. В тот же день он вылетел на Западное побережье. Похороны состоялись в субботу, 7 марта, но некоторые юридические загвоздки заставили Хартмана задержаться до 11 числа, и он вернулся домой только в среду. Общая сумма сбережений матери составила четыреста тысяч долларов. Мы переехали в Чарлстон неделей позже, в день Святого Патрика. Перед тем как покинуть север, нужно было позаботиться о нескольких мелочах. Я чувствовала себя уютно в своей новой семье с Говардом, Нэнси и маленьким Джастином, а также со своими будущими соседями доктором Хартманом, сестрой Олдсмит и мисс Сьюэлл, однако ощущала недостаток определенных мер предосторожности. Доктор был низенький человек, не выше пяти футов пяти дюймов, к тому же худой, Говард же, хотя и производил мощное впечатление своим ростом, был чрезвычайно медлителен и тучен. Требовалось по меньшей мере еще двое-трое мужчин для того, чтобы я могла чувствовать себя защищенной. Так появился Калли, которого привел Варден ко мне в больницу непосредственно перед нашим отъездом. Тот оказался настоящим гигантом — около семи футов ростом и весом фунтов 280 — с мощными буграми мышц. Калли не отличался умом, речь его была почти бессвязной, зато двигался он быстро и упруго, как огромный хищник. Говард объяснил, что Калли, до того как его посадили за убийство семь лет назад, работал помощником лесничего. Год назад он вышел из заключения и был взят на самую тяжелую и грязную работу — корчевал пни, сносил старые строения, расчищал снег, асфальтировал дороги. Калли не жаловался, и полицейский надзор за ним уже был снят. Говард сообщил Калли, что того ждет уникальное деловое предложение, хотя это и было выражено в более простых словах. Мне же принадлежала мысль привести его в больницу. — Это твоя будущая хозяйка. — Говард указал на кровать, где лежали останки моего тела. — Ты будешь служить ей, защищать ее и отдашь за нее свою жизнь, если потребуется. Калли издал хриплый рык. — Эта старая перечница еще жива? — осведомился он. — На мой взгляд, она уже сдохла. И тогда я вошла в то, что якобы называлось извилинами его мозга. За исключением основополагающих инстинктов — голода, жажды, страха, гордости, ненависти и стремления доставлять удовольствие, основанного на смутном желании принадлежать кому-нибудь и быть любимым, — в его остроконечном черепе больше ничего не было. Последнее стремление я взяла за основу и расширила его. Последующие восемнадцать часов Калли просидел в моей палате. Когда он ушел помогать Говарду укладываться и готовиться к отъезду, в нем уже мало что осталось от прежнего громилы, если не считать роста, силы, быстроты и желания нравиться. Нравиться мне. Я так никогда и не узнала — Калли — имя или фамилия. Когда я была молодой, у меня была одна слабость, с которой я ничего не могла поделать, — любые путешествия сопровождались для меня приобретением сувениров. В Вене моя страсть к магазинам очень быстро стала поводом для бесконечных шуток Нины и Вилли. Уже много лет я никуда не ездила, но мое пристрастие к сувенирам так и не исчезло полностью. Вечером 16 марта я заставила Говарда и Калли отправиться в Джермантаун. Его удручающие улицы казались мне пейзажем какого-то полузабытого сна. Убеждена, что Говард, несмотря на обработку, чувствовал бы себя неуютно в этом негритянском районе, если бы не присутствие Калли. Я знала, что мне было нужно, — помнила лишь то, как его зовут и как он выглядел. Первые четыре подростка, к которым обратился Говард, либо вообще не отвечали ему, либо использовали слишком цветистые выражения, зато пятый, щуплый десятилетний парнишка в оборванной фуфайке несмотря на мороз, откликнулся: — Да, старик, ты имеешь в виду Марвина Гейла. Он только что вышел из тюрьмы, старик, за какие-то уличные беспорядки или еще за какое-то дерьмо. А чего тебе надо от Марвина? Говард и Калли узнали, как пройти к его дому, не ответив на его вопрос. Марвин Гейл жил на втором этаже полуразрушенного строения, зажатого между двумя многоквартирными домами. Дверь им открыл маленький мальчик, и Калли с Говардом вошли в гостиную с продавленным диваном, покрытым розовым покрывалом, древним телевизором, на зеленоватом экране которого ведущий ободрял своими выкриками участников какой-то телеигры, и с облезшими обоями, на которых висело несколько религиозных литографий и фотография Роберта Кеннеди. На диване лежала девушка. Она уставилась на гостей отсутствующим взглядом. Из кухни, вытирая руки о клетчатый передник, вышла толстая негритянка. — Чего вам надо? — Мы бы хотели поговорить с вашим сыном, мэм, — ответил Говард. — О чем? — осведомилась негритянка. — Вы не из полиции? Марвин ничего не сделал. Я не отдам вам своего мальчика. — Да что вы, мэм, дело совсем не в том, — вкрадчиво заверил ее Говард. — Мы просто хотим предложить Марвину работу. — Работу? — негритянка с подозрением посмотрела на Калли и снова перевела взгляд на Говарда. — Какую такую работу? — Все в порядке, ма, — оборвал ее Марвин Гейл, появившийся в дверях коридора в старых шортах и висящей мешком футболке. Лицо у него было помятым, а взгляд блуждал, будто он только что проснулся. — Марвин, ты не должен разговаривать с этими людьми, если... — Все в порядке, ма, — и он уставился на мать своим неподвижным взглядом, пока та не опустила глаз, и лишь после этого он посмотрел на Говарда. — В чем дело, старик? — Можем мы поговорить за дверью? — спросил Говард. Марвин пожал плечами и последовал за ними, несмотря на темноту и пронизывающий ветер. Он посмотрел на Калли и подошел к Говарду. Взгляд его слегка оживился, будто он уже начал догадываться о том, что его ждет, и даже был рад этому. — Мы предлагаем тебе новую жизнь, — прошептал Говард. — Совершенно новую жизнь. Марвин Гейл хотел было что-то сказать, и тут-то с расстояния десяти миль я вторглась в его сознание, углы рта негра опали, и он так и не успел договорить даже первого слова. С технической точки зрения, я уже использовала Марвина прежде, в те последние безумные мгновения, перед тем как попрощаться с Ропщущей Обителью, и, возможно, теперь это в какой-то мере облегчило мою задачу. Впрочем, теперь это не имело никакого значения. До своей болезни я никогда не смогла бы сделать того, что сделала в тот вечер. Действуя сквозь фильтр восприятий Говарда Вардена, одновременно контролируя Калли, своего доктора и еще с полдюжины обработанных пешек, находящихся в разных местах, я все же смогла свершить столь мощный выброс, что у негра перехватило дыхание, он попятился и замер с невидящими глазами, обращенными вовнутрь, в ожидании моего первого распоряжения. В его взгляде больше не было ни подавленности, ни признаков замутнения наркотиками; глаза его светились ярким прозрачным светом неизлечимого безумца. Весь печальный груз жизни, размышлений, воспоминаний и жалких надежд Марвина Гейла исчез навсегда. Никогда ранее не свершала я такой глобальной обработки в один присест, и в течение целой минуты почти позабытое мною тело мое пребывало в тисках едва ли не полного паралича, пока сестра Сьюэлл пыталась размассировать его. Пустая оболочка, которая была Марвином Гейлом, безмолвно застыла в ожидании на ледяном ветру. Наконец я обратилась к нему через Калли, не столько нуждаясь в словесном распоряжении, сколько желая услышать его ушами Говарда. — Пойди оденься, — велел он, — и отдай это своей матери. Скажи ей, что это аванс, — и Калли протянул негру стодолларовую бумажку. Марвин исчез в доме и вышел из него через три минуты. На нем были джинсы, свитер, кроссовки и черная кожаная куртка. Никаких вещей он с собой не взял. Так хотела я — после переезда мы могли сами обеспечить его необходимым гардеробом. За все то время, пока я росла, я не могу припомнить года, чтобы у нас не было цветной прислуги. И мне казалось правильным, чтобы у меня был слуга-негр и сейчас, когда я собиралась вернуться в Чарлстон. Кроме того, я не могла уехать из Филадельфии без «сувенира». Путешествие в процессии из двух грузовиков, двух седанов и арендованного фургона с моей кроватью и медицинской аппаратурой заняло у нас три дня. Говард выехал раньше в семейном «Вольво», которое Джастин называл «Голубым Овалом», чтобы приготовить все заранее к моему прибытию и проветрить дом. Мы приехали несколько часов спустя после наступления темноты. Калли взял меня на руки и под надзором доктора Хартмана и сестры Олдсмит, не отстававшей ни на шаг, с бутылкой для внутривенного вливания, поднял меня наверх. Моя спальня утопала в мягком свете лампы, мягкий шерстяной плед на кровати был откинут, простыни благоухали чистотой и свежестью, темное дерево мебели матово поблескивало, мои щетки и гребни в идеальном порядке лежали на туалетном столике. Мы все разрыдались. Слезы текли по щекам Калли, когда он нежно и чуть ли не подобострастно опускал меня на постель. Сквозь чуть приоткрытые окна долетал аромат пальмовых побегов и мимозы. Затем наверх подняли и установили медицинское оборудование. Странно было видеть зеленое сияние осциллоскопа в моей старой спальне. На мгновение все собрались вокруг меня: доктор Хартман со своей новой женой — сестрой Олдсмит, которая занималась последними медицинскими приготовлениями; Говард и Нэнси держали за руки Джастина, словно позировали для семейной фотографии; юная сестра Сьюэлл улыбалась мне от окна; в дверях, заслоняя собой проход, стоял Калли, а за ним в коридоре маячила фигура Марвина в галстуке и белых перчатках, которые были натянуты на его отдраенные руки. Говард столкнулся с небольшими сложностями: миссис Ходжес не желала продавать свой дом, а хотела всего лишь сдать его в аренду. Но это было для меня неприемлемо. Впрочем, этим я могла заняться утром. Пока же я снова была дома — дома, в окружении своей любящей «семьи». Впервые за много недель я поняла, что смогу спокойно заснуть. Мелкие проблемы, одной из которой была миссис Ходжес, были неизбежны, но я могла позволить себе заняться ими завтра. А завтра — это был уже следующий день...Глава 4
На высоте тридцать пять тысяч футов над штатом Невада Воскресенье, 4 апреля 1981 г. — Прокрути-ка это еще раз, Ричард, — попросил К. Арнольд Барент. В салоне «Боинга-747» стало темно, и на огромном видеоэкране вновь заплясало изображение: президент обернулся к кому-то, кто обратился к нему с вопросом, поднял для приветственного жеста левую руку, и лицо его вдруг исказилось в гримасе. Раздались крики, началась всеобщая паника. Агент службы безопасности бросился вперед, и его словно приподняло вверх, как марионетку на ниточках. Выстрелы прозвучали еле слышно, будто были произведены из игрушечного ружья. Как по волшебству, в руках другого агента возник автомат «узи». Несколько человек набросились на молодого парня и прижали его к земле. Камера дернулась и переместилась на упавшего человека, чья лысина обагрилась кровью. Полицейский лежал лицом вниз. Агент с «узи» присел, отрывистым голосом отдавая команды, как уличный регулировщик, в то время как остальные продолжали бороться с подозреваемым. Целая толпа неизвестно откуда возникших агентов, оградив президента, начала оттеснять его к «Кадиллаку», и наконец длинная черная машина, визжа тормозами, рванула с места, оставив всю эту неразбериху и толпу позади себя. — Ладно, остановись здесь, Ричард, — распорядился Барент. Вспыхнул свет в салоне, на экране видео осталось изображение удаляющегося лимузина. — Ну, что скажете, джентльмены? — осведомился Барент. Тони Хэрод моргнул и оглянулся. К. Арнольд Барент восседал за своим большим изогнутым столом, позади него поблескивали телефонные отводы и компьютерные приставки. За стеклами иллюминаторов было темно, шум моторов приглушался внутренней обшивкой салона. Напротив Барента сидел Джозеф Кеплер — его серый костюм выглядел свежеотглаженным, черные ботинки блестели. Хэрод посмотрел на грубовато-миловидное лицо Кеплера и решил, что тот похож на Чарлстона Хестона и такой же идиот. Сложив руки на своем плоском животе, в кресле рядом с Барентом сидел преподобный Джимми Уэйн Саттер. Его длинные седые волосы белели в лучах приглушенного верхнего освещения. Кроме них, в помещении находился лишь новый ассистент Барента Ричард Хейнс. Мария Чен вместе с остальными дожидалась их в носовом салоне. — Похоже, кто-то пытался убить нашего любимого президента, — произнес Саттер со свойственными его голосу елейными модуляциями. уголки рта Барента чуть дернулись. — Это более чем очевидно. Но зачем Вилли Бордену понадобилось так рисковать? И в кого он на самом деле метил — в Рейгана или в меня? — Вас я в этом клипе не заметил, — хмыкнул Хэрод. Барент кинул взгляд на продюсера. — Я стоял в пятнадцати футах за спиной президента, Тони. Когда раздались выстрелы, я только что вышел из отеля «Хилтона». Ричард и моя охрана успели затолкать меня обратно. — Нет, что хотите, но не могу поверить, что Вилли Борден может иметь к этому какое-то отношение, — заметил Кеплер. — Сейчас нам известно больше, чем на прошлой неделе. У Хинкли оказалась длинная история болезни, изобилующая подробностями душевною расстройства. Он вел дневник. Но все это было связано с тем, что он был одержим Джоди Фостер. Так что это абсолютно не относится к делу. Старик мог использовать одного из собственных агентов Рейгана или вашингтонского полицейского, того, которого застрелили. Ведь этот фриц — бывший офицер вермахта, не так ли? Думаю, он умеет пользоваться и более существенным оружием, чем пневматическая винтовка двадцать второго калибра. — Заряженная разрывными пулями к тому же, — напомнил Барент. — Они не взорвались чудом. — Чудо заключается в другом — одна из них отскочила рикошетом от дверцы машины и попала в Рейгана, — заметил Кеплер. — Если бы в этом был замешан Вилли, он бы дождался, пока вы не усядетесь с президентом, и тогда бы использовал агента с «узи» или с «мак-10», не опасаясь провала. — Утешительная мысль, — сухо заметил Барент. — А ты что думаешь, Джимми? Саттер промокнул лоб шелковым носовым платком и пожал плечами. — В том, что говорит Джозеф, есть резон, брат К. Доказано, что парень был не в себе. Зачем было тратить столько сил на сочинение всей этой истории, чтобы в результате промазать? — Он не промазал, — покачал головой Барент. — Он пробил президенту левое легкое. — Я имел в виду тебя, — широко улыбнулся Саттер. — В конце концов он впервые присутствовал в качестве полноправного члена на заседании Клуба Островитян. — Тони? — Барент повернулся к Хэроду. — Не знаю, — откликнулся тот. — Просто не знаю. Барент кивнул Ричарду Хейнсу. — Может, это сумеет помочь нам в наших рассуждениях. Свет опять погас, и на экране задергалось зернистое изображение, зафиксированное на восьмимиллиметровой пленке, которое позднее было переведено в видеозапись. Это были разрозненные массовые сцены. Перекрывая толпу, проносились полицейские машины, кавалькады лимузинов и передвижные средства тайной службы. Хэрод понял, что это приезд президента в отель «Хилтон» в Вашингтоне. — Мы отыскали и конфисковали всевозможные частные записи, сделанные в этот момент, — прокомментировал Барент. — А кто это «мы» ? — поинтересовался Кеплер. Барент приподнял одну бровь. — Несмотря на то что безвременная кончина Чарлза стала для нас большой потерей, Джозеф, мы продолжаем сохранять определенные контакты с известными кругами. Вот это место. На экране возникла почти пустая улица и чьи-то затылки. Хэрод догадался, что снималось это с расстояния тридцати-сорока ярдов от места выстрела, с противоположной стороны улицы. И снимал человек, страдавший нервной трясучкой. Попыток привести камеру в неподвижное состояние почти не предпринималось. Звука не было. О том, что были произведены выстрелы, можно было догадаться только по усилившемуся волнению толпы. Объектив камеры в это мгновение не был направлен на президента. — Вот! — воскликнул Барент. Кадр застыл на большом видеоэкране, угол зрения, под которым велась съемка, был неудобным, но между плечами двух зевак отчетливо виднелось лицо пожилого человека лет семидесяти. Из-под клетчатой спортивной кепки выбивались седые волосы. Он стоял на противоположной стороне улицы и внимательно наблюдал за происходящим. Взгляд его маленьких глаз был холоден и спокоен. — Это он? — спросил Саттер. — Ты уверен? — Но он не похож на человека с фотографии, которую я видел, — откликнулся Кеплер. — Тони? — вновь спокойно осведомился Барент. Хэрод почувствовал, как на его лбу и верхней губе выступили крупные капли пота. Застывший кадр был зернистым, искаженным из-за плохого объектива, снят под неудобным углом и на дешевой пленке. Нижний правый угол кадра был засвечен. Хэрод мог бы сказать, что изображение слишком туманно, что он не уверен. Он мог еще не впутываться во все это — и в то же время не мог. — Да, — кивнул он, — это Вилли. Барент опустил голову, Хейнс выключил экран, зажег в салоне свет и отбыл. В течение нескольких секунд стояла полная тишина, если не считать успокоительного гула реактивного двигателя. — Может, это всего лишь случайное совпадение, Джозеф? — осведомился К. Арнольд Барент, обойдя стол и усаживаясь в кресло. — Нет, — откликнулся Кеплер. — И все же я ничего не понимаю! Что он пытается доказать? — Возможно, всего лишь то, что он по-прежнему действует, — предположил Джимми Уэйн Саттер. — Что он ждет. Что он может захватить любого из нас, когда того пожелает. — Преподобный опустил голову, так что его щеки и подбородок прорезали глубокие складки, и улыбнулся Баренту сквозь свои бифокальные стекла. — Полагаю, ты на время воздержишься от появлений в общественных местах, брат К.? — спросил он. Барент скрестил руки на груди. — Это наше последнее собрание перед летним выездом в июне на остров. До этого времени... я уеду из страны... по делам. Прошу всех вас принять необходимые меры предосторожности. — Меры предосторожности против чего? — осведомился Кеплер. — Что ему надо? Мы уже предложили ему членство в клубе по всем возможным каналам. Мы даже послали к нему с этой информацией еврея-психиатра и убеждены в том, что он успел связаться с Лугаром, перед тем как оба погибли во время происшедшего взрыва... — Идентификация не была исчерпывающей, — оборвал его Барент. — У дантиста в Нью-Йорке не была обнаружена карточка Соломона Ласки. — Да, — согласился Кеплер, — ну и что? Наше сообщение почти наверняка было получено фрицем. И чего он еще хочет? — Тони? — спросил Барент, и все трое повернулись к Хэроду. — Откуда мне знать, чего он хочет? — Тони, Тони, — покачал головой Барент, — ты сотрудничал с ним в течение многих лет. Ты ел с ним, беседовал с ним, шутил с ним... Чего он хочет? — Играть. — Чего? — спросил Саттер. — Как играть? — наклонился вперед Кеплер. — Он хочет играть в летнем лагере на острове? Хэрод покачал головой. — Он знает о ваших играх на острове, но ему нравятся другие Игры. Думаю, ему это напоминает прежние времена. Как в Германии, когда он и эти две старые шлюхи были молодыми. Это как шахматы. Вилли становится сам не свой, когда дело доходит до шахмат. Он как-то рассказывал мне о своих снах: он считает, что все мы — фигуры в дьявольской шахматной партии. — Шахматы, — пробормотал Барент, сложив кончики пальцев. — Да, — подтвердил Хэрод, — Траск сделал ошибочный ход, позволил нескольким пешкам слишком далеко зайти на поле Вилли, и бац! — Траска с доски удаляют. То же самое с Колбеном. Дело не в личных отношениях... это просто такая Игра. — А старуха? — осведомился Барент. — Она была добровольным ферзем Вилли или одной из его многочисленных пешек? — Откуда мне знать! — рявкнул Хэрод. Он встал и заходил взад и вперед по салону, но толстое ковровое покрытие скрадывало звук его шагов. — Насколько я знаю Вилли, — продолжал он, — в такого рода вещах он не доверяет никому. Может, он еебоится? Одно я знаю наверняка — он навел нас на ее след, потому что знал, что мы недооценим ее Способности. — Это и произошло, — согласился Барент. — Эта женщина обладала исключительной Способностью. — Обладала? — переспросил Саттер. — У нас нет доказательств, что она жива, — пояснил Джозеф Кеплер. — А как насчет наблюдения за ее домом в Чарлстоне? — спросил преподобный. — Там кто-нибудь сменил Нимана и группу Чарлза? — Там сейчас мои люди, — ответил Кеплер. — Пока никаких сведений. — А как насчет авиарейсов? И прочих средств сообщения? — не унимался Саттер. — Колбен был уверен, что она пыталась выехать из страны, пока что-то не спугнуло ее в Атланте. — Речь идет не о Мелани Фуллер, — перебил их Барент. — Как правильно сказал Тони, она была отвлекающим маневром, ложным следом. Если она до сих пор жива, мы можем оставить ее в покое, и совершенно неважно, какую роль она играла. Вопрос заключается в том, как мы должны отвечать на этот последний... ход нашего немецкого друга. — Я предлагаю проигнорировать его, — сказал Кеплер. — Старик просто показал нам свои зубы, организовав события понедельника. Мы все согласились, что если бы он собирался покончить с мистером Барентом, он вполне мог бы преуспеть в этом. Пусть старый извращенец развлекается, а когда успокоится, мы с ним поговорим. Если он согласится с нашими правилами, мы сможем предложить ему место пятого члена в клубе. Если нет... я хочу сказать, черт побери, джентльмены... откровенно говоря между нами троими... прости, Тони — четверыми... в нашем распоряжении находятся сотни оплачиваемых охранников, а сколько их у Вилли, а, Тони? — Было двое, когда он уезжал из Лос-Анджелеса, — ответил Хэрод. — Дженсен Лугар и Том Рэйнольдс. Но он им не платил. Они были его личными любимчиками. — Вот видите, — продолжал Кеплер. — Подождем, пока ему не надоест играть в эту одностороннюю игру, а потом вступим в переговоры. А если он откажется, пошлем Хейнса или кого-нибудь из моих людей. — Нет! — вдруг заорал преподобный Саттер. — Слишком часто мы подставляли другую щеку. «Мститель Господь и страшен в гневе... Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь; скалы распадаются пред ним... и врагов Его постигнет мрак» (Пророк Наум, глава 1). Джозеф Кеплер с трудом подавил зевок. — Ну при чем тут Господь, Джимми? Мы говорим о том, как поступить с выжившим из ума нацистом, одержимым игрой в шахматы. Лицо Саттера побагровело, и он указал на Кеплера своим тупым мясистым пальцем. Большой рубин на его кольце вспыхнул и заиграл всеми своими гранями. — Не смейся! — басом проревел он. — Господь говорил со мной и через меня, и Он будет услышан. — Саттер огляделся. — «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему». (Соборное послание апостола Иакова, глава 1). — И что Господь говорит по этому поводу? — тихо поинтересовался Барент. — Что этот человек вполне может быть Антихристом. — Саттер своим громовым голосом заглушал слабый гул двигателей. — Господь велит нам найти его и истребить. Мы должны сокрушить его ребра и чресла. Мы должны найти и его, и его подручных, «...чтобы они испили чашу гнева Господня; чтобы он был подвергнут мукам геенны огненной в присутствии святых ангелов и Агнца; и чтобы смрад его мучений не прекращался во веки веков...» Барент слабо улыбнулся. — Насколько я понял, Джимми, ты против того, чтобы вести переговоры с Вилли и предлагать ему членство в клубе? Преподобный Джимми Уэйн Саттер сделал большой глоток из своего бокала с бурбоном и произнес неожиданно тихо, Хэроду даже пришлось наклониться, чтобы расслышать: — Да, я считаю, — мы должны убить его. Барент кивнул и развернулся в своем большом кожаном кресле. — Будем голосовать, — промолвил он. — Тони, ты как думаешь? — Я пас, — ответил Хэрод, — но думаю, что решать — это одно, а выслеживать Вилли и иметь с ним дело — совсем другое. Посмотрите, в какую кашу мы вляпались с этой Мелани Фуллер. — Там Чарлз допустил ошибку, и он заплатил за нее. — Барент перевел взгляд на остальных двоих. — Ну что ж, поскольку Тони воздерживается, похоже, мне принадлежит честь решающего голоса. Кеплер открыл было рот, но передумал. Саттер в молчании допивал остатки своего бурбона. — Какие бы цели наш друг Вилли ни преследовал в Вашингтоне, — промолвил Барент, — мне они не нравятся. Однако будем считать происшедшее вызовом и пока не станем отвечать на него. Возможно, мнение Тони о том, что Вилли одержим игрой в шахматы, является для нас в этом вопросе наилучшим руководством. У нас осталось два месяца до летнего лагеря на острове Долменн и наших... э-э... мероприятий там. Мы должны внятно заявить о своем приоритете. Если Вилли прекратит нас запугивать, возможно, в дальнейшем мы рассмотрим вопрос о том, чтобы начать с ним переговоры. Если же он продолжит чинить нам препятствия... если мы столкнемся хотя бы еще с одним эпизодом подобного рода... мы применим все средства, общественные и частные, чтобы найти и уничтожить его в соответствии со способом, процитированным Джимми из Откровения. Ведь это было Откровение, брат Дж.? — Именно так, брат К. — Прекрасно. — Барент кивнул. — А теперь, думаю, мне надо немного поспать. У меня завтра встреча в Лондоне. Спальные места для всех вас готовы, так что можете располагаться. Где бы вы хотели, чтобы вас высадили? — Лос-Анджелес, — ответил Хэрод, — Новый Орлеан, — сказал Саттер. — Нью-Йорк, — пробормотал Кеплер. — Будет сделано, — заверил их Барент, — несколько минут назад Дональд сообщил мне, что мы находимся где-то над Невадой, так что первым мы высадим Тони. Боюсь, Тони, ты де успеешь воспользоваться всеми удобствами, но немножко вздремнуть перед посадкой сможешь. Барент встал, и в дверях, ведущих в коридор, появился Хейнс. — А о встречи в летнем лагере Клуба Островитян, джентльмены, — промолвил Барент. — Чао! Всем удачи. Стюард в синем блейзере проводил Хэрода и Марию Чен в их купе. Задняя часть «Боинга» была превращена в огромный кабинет Барента, гостиную и спальню. Дальше слева по коридору, который напоминал Хэроду европейские поезда, располагались вместительные купе, декорированные в нежных оттенках зеленого и кораллового цветов. Здесь помещались ванная, королевских размеров кровать, диван и цветной телевизор. — А где же камин? — обратился Хэрод к стюарду. — Кажется, в частном самолете шейха Музада есть действующий камин, — без тени улыбки отозвался миловидный стюард. Хэрод положил в свой стакан лед, налил водки и только устроился рядом с Марией Чен на диване, когда в дверь постучали. В купе вошла молодая женщина точно в таком же блейзере, как у стюарда, и промолвила: — Мистер Барент спрашивал: не сможете ли вы с мисс Чен присоединиться к нему в гостиной Орион? — В гостиной Орион? — переспросил Хэрод. — Черт, конечно, можем. — И они последовали за женщиной по коридору, миновали дверь с кодовым замком, которая вела к винтовой лестнице. Хэрод знал, что на таких коммерческих рейсах 747-го образца подобные лестницы вели в гостиные первого класса. Поднявшись наверх по темной лестнице, Хэрод и Мария Чен замерли в благоговении. Сопровождавшая их женщина спустилась вниз и закрыла дверь, отрезав последний луч света, шедший из общего коридора. Помещение было такого же размера, как и гостиные в нормальном «Боинге», но казалось, кто-то снял здесь верхнюю часть самолета и теперь сквозь потолок можно было взирать на небо, открывавшееся на высоте тридцати пяти тысяч футов над землей. Над головой сияли мириады звезд, разливая вокруг ровный, немеркнущий свет. Слева и справа были видны темные конусы крыльев, на которых мигали красные и зеленые навигационные фонари. Внизу раскинулся полог облаков, освещенный звездным сиянием. Казалось, ничто не разделяет их с бесконечным пространством ночного неба. Лишь смутные контуры указывали на присутствие в гостиной низкой мебели, вдали с трудом угадывалась фигура сидящего человека. — Господи Иисусе, — прошептал Хэрод и услышал резкий вдох Марии Чен, когда она вспомнила о необходимости дышать. — Я рад, что вам нравится, — донесся из темноты голос Барента. — Проходите и садитесь. Хэрод и Мария Чен осторожно двинулись по направлению к скоплению низких кресел, стоявших возле круглого стола, стараясь свыкнуться со звездным светом. Оставшаяся за их спинами винтовая лестница была обозначена единственной предупреждающей полоской красного света, закрепленной на первой ступеньке. С запада черной полусферой звездное небо закрывало отделение для экипажа. Хэрод и Мария Чен погрузились в мягкие подушки кресел, не отрывая глаз от неба. — Это светопроницаемый пластиковый сплав, — пояснил Барент. — Более тридцати слоев. Но почти идеально прозрачен и гораздо крепче, чем плексиглас. Крепится на бесчисленном количестве дуг, но они толщиной с волос и потому не препятствуют целостному восприятию. Внешняя поверхность при дневном свете отражает лучи и выглядит, как обычный блестящий черный корпус. Мои инженеры работали над ее созданием целый год, а потом еще два года мне потребовалось на то, чтобы убедить Комитет гражданской авиации, что эта штука может летать. Инженерам дай только власть, они бы и иллюминаторы в самолетах убрали. — Как красиво! — восхищенно прошептала Мария Чен, и Хэрод увидел отражение звездного мерцания в ее темных глазах. — Тони, я пригласил вас сюда, потому что дело касается вас обоих, — сказал Барент. — Какое дело? — Ну... э-э... динамика нашей группы. Вы, наверное, уловили некоторое напряжение в атмосфере? — Я заметил, что все с трудом сдерживались, чтобы окончательно не съехать. — Вот именно, — кивнул Барент. — События нескольких последних месяцев были... э-э... довольно неприятными. — Не понимаю, почему, — откликнулся Хэрод. — По-моему, мало кого заботит, что их коллег разорвало на части или посбрасывало в реку Шилькил. — Дело в том, что мы слишком самоуспокоились, — промолвил К. Арнольд Барент. — Наш клуб действует уже много лет... на самом деле даже десятилетий... и возможно, затеянная Вилли вендетта даст нам возможность осуществить необходимое... э-э... сокращение. — Только в том случае, если речь не идет лично о нас, — ответил Хэрод. — Вот именно. — Барент налил вина в хрустальный кубок и поставил его перед Марией Чен. Глаза Хэрода уже достаточно привыкли к темноте, так что теперь он отчетливо видел лица, но от этого сияние звезд казалось ему лишь ярче, а верхушки облаков приобретали еще более переливчатые оттенки. — Меж тем, — продолжил Барент, — в нашей группе произошла определенная разбалансировка, и то, что было действенным при иных обстоятельствах, перестало работать. — Что вы имеете в виду? — осведомился Хэрод. — Я имею в виду, что образовался вакуум власти, — ответил Барент голосом столь же холодным, как сияние звезд, в котором они купались. — Или точнее — общее ощущение того, что образовался вакуум власти. Вилли Борден дал возможность ничтожествам счесть себя титанами, и за это ему придется заплатить жизнью. — Вилли заплатит жизнью? — переспросил Хэрод. — Так, значит, все разговоры о возможных переговорах и вступлении Вилли в клуб — не более чем блеф? — Да, — согласился Барент. — Если потребуется, я лично буду руководить клубом, но ни при каких обстоятельствах этот бывший нацист за нашим столом не появится. — Тогда зачем... — Хэрод умолк и задумался. — Вы думаете, что Кеплер и Саттер готовы сделать самостоятельные шаги? Барент улыбнулся. — Я знаком с Джимми много лет. Впервые я увидел его сорок лет назад, когда он читал проповедь в палатке в Техасе. Он обладал несфокусированной, но непреодолимой Способностью. Он мог заставить целую толпу потных агностиков делать то, чего он от них хотел, и делать это с восторгом во имя Господа. Но Джимми стареет и все меньше и меньше полагается на свою силу убеждения, вместо этого пользуясь аппаратом убеждения, который он создал. Я знаю, что на прошлой неделе ты посетил его маленькое фундаменталистское королевство... — резким движением руки Барент пресек объяснения Хэрода. — Ничего страшного. Джимми наверняка предупредил тебя, что мне станет об этом известно... и что я пойму это. Не думаю, чтобы Джимми хотел опрокинуть нашу тележку с яблоками, но он ощущает возможную перемену во властных взаимоотношениях и хочет оказаться на нужной стороне, когда эта смена произойдет. Вмешательство Вилли нарушило это шаткое равновесие, как может показаться со стороны. — А в действительности — нет? — поинтересовался Хэрод. — Нет, — отрезал Барент, и один этот короткий слог прозвучал так же непререкаемо, как выстрел из винтовки. — Они позабыли о существенных вещах. — Барент выдвинул ящик низкого стола, за которым они сидели, и достал полуавтоматический револьвер. — Возьми, Тони. — Зачем? — Хэрод почувствовал, как по коже у него поползли мурашки. — Револьвер настоящий и заряжен, — сказал Барент. — Возьми его, пожалуйста. Хэрод двумя руками поднял оружие. — О'кей, что дальше? — Прицелься в меня, Тони. Хэрод вздрогнул. Что бы Барент ни собирался продемонстрировать, он не хотел принимать в этом никакого участия. Он знал, что поблизости находится Хейнс и еще дюжина крепких парней. — Я не хочу в вас целиться, — сказал Хэрод. — Не люблю эти чертовы игры. — Целься в меня, Тони. — Пошли вы знаете куда! — рявкнул Хэрод и встал, чтобы уйти. Сделав прощальный жест рукой, он направился к красной световой полосе, обозначавшей верхнюю ступеньку лестницы. — Тони, — послышался из тьмы голос Барента, — поди сюда. Хэроду показалось, что он наткнулся на одну из пластиковых стен. Мышцы его сжались, превратившись в тугие узлы, он вспотел. Хэрод попытался кинуться вперед, прочь от Барента, но единственное, что ему удалось, так это упасть на колени. Однажды, лет пять назад, у них с Вилли была беседа, когда бывший нацист попытался продемонстрировать на нем свои Способности. Это была чисто дружеская забава в ответ на какой-то вопрос Хэрода о венских Играх, о которых рассказывал Вилли. И тогда, вместо того чтобы ощутить теплую волну овладения, которой пользовался сам Хэрод по отношению к женщинам, Тони ощутил необъяснимое, но жуткое вторжение в собственный мозг, который заполнился белым гулом и ощущением собственной обреченности. Однако тогда это не лишило Хэрода возможности саморегуляции. Он тут же понял, что Способность Вилли гораздо мощнее его собственной — гораздо кровожаднее, как подумал он тогда, — и хотя сам Хэрод вряд ли смог бы использовать кого-нибудь во время вторжения Вилли, он был убежден, что и Вилли не сможет по-настоящему использовать его. — Ja-ja, — сказал тогда Вилли, — так бывает всегда. Мы можем вторгаться друг в друга, но те, кто умеет использовать других, сами не могут быть использованы, не так ли? Мы испытываем свои силы на третьих лицах, да? А жаль. Но король не может брать короля, Тони, запомни это. Хэрод помнил об этом вплоть до настоящего момента. — Поди сюда, — повторил Барент. Голос его по-прежнему был тихим, с изысканными модуляциями, но, казалось, теперь он был подхвачен бесконечной реверберацией, пока ее гул не заполнил череп Хэрода, гостиную, а потом и всю Вселенную, так что сам недвижный небосвод вроде бы дрогнул. — Поди сюда, Тони. Как Хэрод ни напрягался, что-то швырнуло его, и он упал на спину, как, ковбой, сброшенный с лошади невидимой натянутой проволокой. Тело его охватили судороги, и ноги в ботинках задергались на ковре. Челюсти его сжались до боли, глаза чуть не вылезли из орбит. Хэрод почувствовал, как внутри него нарастает крик, но понял, что никогда не сможет его издать, что крик будет расти и шириться внутри его, пока не взорвется и не расшвыряет ошметки его плоти по всей гостиной. Лежа на спине с вытянутыми ногами, Хэрод чувствовал, как сжимаются и разжимаются мышцы ею рук, как вгрызаются в ковер локти, а пальцы искривляются, превращаясь в хищные птичьи лапы. — Поди сюда, Тони, — прозвучало в третий раз. И как десятимесячный младенец, Тони Хэрод послушно пополз вспять. Когда голова его стукнулась о ножку низкого кофейного столика, Хэрод почувствовал, как тиски разжались. По телу его прокатилась завершающая судорога, и все его члены мгновенно настолько обмякли, что он едва не обмочился. Он перевернулся, встал на колени и облокотился на черное стекло столешницы. — Прицелься же в меня, Тони, — повторил Барент в той же непринужденной манере, что и прежде. Хэрод почувствовал, как его затопила волна слепой ярости. Дрожащими руками он нащупал рукоятку и сжал ее... Он еще не успел поднять револьвер, когда на него накатила волна тошноты. Много лет назад, в свой первый год жизни в Голливуде, у Хэрода был приступ почечно-каменной болезни. Боль была невыносимой, невероятной. Позднее приятель Хэрода рассказывал, будто Тони убеждал всех, что ему в спину воткнули нож. Но это было гораздо больнее, потому что когда в детстве Тони был членом чикагской банды, ему действительно втыкали нож в спину. Тогда же, во время приступа, ему казалось, что его проткнули изнутри, протаскивают лезвия бритв сквозь внутренности и кровеносные сосуды, и эта невероятная, чудовищная боль сопровождалась тошнотой, рвотой, судорогами и лихорадкой. Но то, что происходило сейчас, было гораздо хуже. Не успев поднять револьвер, Хэрод свалился на пол, обрызгав блевотиной свою шелковую рубашку и стараясь сжаться в тугой клубок, но параллельно с болью, тошнотой и чувством унижения возникала всепоглощающая мысль о том, что он пытался причинить ущерб мистеру Баренту. Мысль об этом была непереносима. Она вызывала у Тони неведомое ему ранее отвращение. Он исторгал из себя рвотные массы, выл от боли и плакал. Револьвер выпал из его обмякших пальцев. — О, так ты не очень хорошо себя чувствуешь, — тихо промолвил Барент, — может, тогда в меня прицелится мисс Чен? — Нет, — еле выдохнул Хэрод, сворачиваясь в еще более плотный клубок. — Да, — возразил Барент. — Я так хочу. Скажи ей, чтобы она прицелилась в меня, Тони. — Целься, — попросил Хэрод. — Целься в него! Мария Чен медленно шевельнулась, словно двигалась под водой. Она подняла револьвер, поудобнее взяла его своими маленькими ручками и навела дуло на голову Тони Хэрода. — Нет! В него! — и Хэрода снова скрючило от накативших на него судорог. — В него! Барент садистски улыбнулся. — Ей совершенно не обязательно слышать мои распоряжения, чтобы подчиняться им. Тони. Большим пальцем Мария Чен отвела курок. Черное смертоносное дуло было направлено прямо в лицо Хэрода. Хэрод видел, как ее карие глаза наполняются горем и ужасом. Еще никто никогда не использовал Марию Чен. — Невероятно, — прошептал Хэрод, чувствуя, как отступают боль и тошнота, и понимая, что, возможно, ему осталось жить всего несколько секунд. Дрожа, он поднялся на колени и бессмысленно вытянул вперед руку, пытаясь заслониться от пули. — Это невероятно.;. Она же нейтралка! — последнее он почти выкрикнул. — Что такое нейтралы? — спокойно осведомился К. Арнольд Барент. — Никогда не встречался с такими, Тони. — Он повернул голову. — Нажми, пожалуйста, на спусковой крючок, Мария. Раздался сухой щелчок, Мария Чен еще раз отвела курок, и снова последовал звук холостого выстрела. — Как непредусмотрительно, — заметил Барент. — Мы забыли его зарядить. Мария, помоги, пожалуйста, Тони сесть на место. Не переставая дрожать, Хэрод сел, опустив руки на колени и свесив голову на рубашку, выпачканную блевотиной, пропитавшуюся потом. — Дебора проводит тебя вниз и поможет тебе привести себя в порядок, Тони, — заметил Барент, — а Ричард и Гордон приберут здесь. Если потом захочешь подняться и выпить что-нибудь до того, как мы приземлимся, — добро пожаловать. Это уникальное место, Тони. Но, пожалуйста, не забудь о появляющемся у некоторых искушении... э-э... пересмотреть естественное положение вещей. В какой-то степени в этом есть и моя вина, Тони. Большинство из них уже много лет не подвергались подобной... э-э... демонстрации. Воспоминания меркнут даже в тех случаях, когда жизненные интересы человека требуют помнить о них. — Барент наклонился вперед. — Когда Джозеф Кеплер обратится к тебе с предложением, ты примешь его. Понятно, Тони? Хэрод кивнул. Пот лил ручьем с его лица. — Скажи «да», Тони. — Да. — И ты тут же свяжешься со мной. — Да. — Хороший мальчик, — промолвил К. Арнольд Барент и похлопал Хэрода по спине. Затем он развернулся в своем высоком кресле, так что спинка полностью скрыла его из виду, образовав на его месте черный обелиск на фоне черного неба. Когда кресло крутанулось снова, Барента в нем уже не было. Через несколько минут в гостиную вошли служащие, чтобы вычистить и продезинфицировать ковер. Минутой позже появилась молодая женщина с фонариком. Подойдя к Хэроду, она попыталась взять его за локоть, но он отшвырнул ее руку. Повернувшись спиной к Марии Чен, он поковылял вниз по лестнице. Через двадцать минут они совершили посадку в Лос-Анджелесе. Их встречал лимузин с шофером. Не оглядываясь на отливавший эбонитом корпус «Боинга», Тони Хэрод почти без чувств повалился на сиденье машины.Глава 5
Тихуана. Мексика Понедельник, 20 апреля 1981 г. Перед самым закатом Сол и Натали выехали из Тихуаны на северо-восток во взятом напрокат «Фольксвагене». Стояла нестерпимая жара. Как только они свернули с шоссе 2, то сразу оказались в лабиринте грязных дорог, шедших мимо деревень с жалкими лачужками, разбросанными там и сям между заброшенными фабриками и маленькими ранчо. Сол сидел за рулем, Натали держала на коленях нарисованную рукой Джека Коуэна карту. Припарковав «фольксваген» у небольшой таверны, сквозь тучи пыли и кучу маленьких ребятишек они двинулись к северу. Когда начали угасать последние проблески кроваво-красного заката, склоны холма озарились огнями. Натали сверилась по карте и указала на тропу вдоль склона, усеянную мусором, где возле костров группами сидели мужчины и женщины. В полумиле к северу через долину, на фоне черного склона холма, белел высокий забор. — Давай дождемся здесь наступления темноты. — Сол поставил на землю чемодан и тяжелый рюкзак. — Говорят, сейчас с обеих сторон границы орудуют бандиты. Глупо будет проделать такой путь и погибнуть от руки приграничного бандита. — С радостью передохну, — сказала Натали. Они прошли меньше мили, но ее синяя хлопчатобумажная юбка уже прилипала к ногам, а кроссовки словно съежились от жары и пыли. В ушах звенел непрекращающийся писк комаров. Единственный электрический фонарь, горевший возле бара за их спинами, привлек такое количество мотыльков, что казалось, там начался настоящий снегопад. Около получаса они сидели молча, изможденные тридцатишестичасовым перелетом сначала через океан, а потом по местной авиалинии и постоянным напряжением, — ведь у них были поддельные паспорта. Хуже всего оказалось в Хитроу — там рейс задерживался на три часа, которые они провели под неусыпным оком местных полицейских. Несмотря на жару, на комаров и неудобное положение на корточках, Натали задремала. Чуть позже Сол, нежно прикоснувшись к плечу, разбудил ее. — Они собираются, — прошептал он. — Пойдем. По меньшей мере сотня нелегальных беженцев мелкими группами направлялась к отдаленному забору. Еще большее количество костров озарило склон за их спинами. Вдали, на северо-западе, мелькали огни американского города. Впереди меж холмов расстилались темные каньоны. На востоке мелькнула и исчезла единственная пара фар, преодолев невидимый пограничный пост и скрывшись уже по другую сторону забора на американской территории. — Пограничный патруль, — тихо сказал Сол и двинулся вниз по узкой тропе, а затем снова вверх, на следующий холм. Уже через несколько минут у обоих появилась одышка. Они истекали потом под рюкзаками и с трудом волочили свои большие чемоданы, набитые документами. Несмотря на то что Сол и Натали пытались держаться в стороне, им все же пришлось присоединиться к длинной веренице людей, одни из которых тихо переговаривались и ругались по-испански, другие угрюмо ползли вперед в мрачной тишине. Впереди них шел высокий худой мужчина, он нес на спине семилетнего мальчика, а рядом с ним грузная женщина волочила огромный картонный чемодан. Ярдах в двадцати от ручейка, вытекавшего из-под забора, люди остановились у пересохшего русла реки. Группами по трое и по четверо люди стали перебираться через русло и исчезать в черном отверстии водопропускной трубы, откуда вытекал ручей. Время от времени с другой стороны забора доносились крики. Откуда-то со стороны дороги Натали услышала истошный вопль. Сердце подскочило к горлу, казалось, оно вот-вот выскочит. Натали вцепилась в ручку чемодана и заставила себя успокоиться. Когда появилась патрульная машина, вся толпа, состоявшая к тому моменту человек из шестидесяти, кинулась врассыпную за камни и в кусты. Прожектор скользнул по сухому руслу реки на расстоянии десяти футов от жалкого терновника, за которым пытались спрятаться Натали и Сол. Крики и звук выстрела, раздавшиеся с северо-востока, заставили машину двинуться дальше. Окрестности огласились командами по радиосвязи на английском языке, и беженцы снова стали скапливаться у отверстия водопропускной трубы. Уже через несколько минут Натали ползла на четвереньках вслед за Солом, толкая перед собой тяжелый чемодан и чувствуя, что рюкзак задевает заржавленную обшивку тоннеля. Тьма стояла кромешная. Внутри пахло мочой и экскрементами, руки девушки то и дело погружались во влажную грязь, перемешанную с битым стеклом и обрезками металла. Где-то за ее спиной раздался не то женский, не то детский плач, а потом резкий мужской голос, и вновь наступила тишина. Натали казалось, что это движение в никуда, что труба становится все уже и уже, пока они не будут вдавлены в грязь и экскременты и вода не затопит их. — Почти добрались, — прошептал Сол. — Я вижу лунный свет. У Натали заболело в груди от безумно колотящегося сердца и попыток сдерживать дыхание. Она выдохнула в тот самый момент, когда Сол покатился вниз на каменистую отмель и протянул руку, чтобы помочь выбраться ей из зловонной трубы. — Добро пожаловать в Америку, — прошептал Сол, когда они собрали свое имущество и приготовились спрятаться в укрытии темных берегов пересохшей реки, чтобы спастись от убийц и грабителей, которые регулярно дожидались здесь ночных перебежчиков, преисполненных радужных надежд. — Спасибо, — так же шепотом ответила Натали. — В следующий раз, чего бы это ни стоило, я полечу прямым рейсом. Джек Коуэн дожидался их на вершине третьего холма. Каждые две минуты он мигал фарами своего старого синего фургона, указывая путь Натали и Солу. — Поехали, надо спешить, — заметил он, когда они наконец поднялись и обменялись рукопожатиями. — Это не лучшее место для стоянки. Я привез то, о чем вы просили в письме, и не имею ни малейшего желания объясняться по этому поводу с пограничниками или полицией Сан-Диего. Поторапливайтесь. Задняя часть фургона была наполовину забита ящиками. Сол и Натали побросали туда и свой багаж, и Джек Коуэн сел за руль. С полмили им пришлось ехать по рытвинам и ухабам, затем они свернули на восток по гравиевой дороге и наконец отыскали асфальтовое окружное шоссе, которое вело к северу. Через десять минут они уже спускались по пандусу на скоростную автостраду, и Натали ощутила, что все здесь ей чуждо и незнакомо, будто за ее трехмесячное отсутствие облик Соединенных Штатов неузнаваемо изменился. «Нет, скорее всего, я просто никогда здесь не жила», — подумала она, глядя на пригороды и магазинчики, мелькавшие за окном машины. У нее не укладывалось в голове, что тысячи людей ехали по своим делам как ни в чем не бывало. Будто и не было никогда ползущих по зловонной трубе детей, мужчин и женщин всего в десяти милях от этих комфортабельных буржуазных домов. Будто в это самое мгновение юные израильтяне не объезжали с оружием границы своих кибуцев, а бойцы за освобождение Палестины, сами еще мальчишки, не смазывали свои «Калашниковы» в ожидании темноты. Будто не был убит Роб Джентри, убит и похоронен, и не стал столь же недосягаемым, как и ее отец, который приходил по вечерам как следует укутать ее одеялом и рассказывал ей истории о Максе, любопытной таксе, которая всегда... — Вы достали оружие в Мехико, где я вам сказал? — осведомился Коуэн. Натали вздрогнула и проснулась — оказывается, она спала с открытыми глазами. У нее от усталости кружилась голова. В ушах продолжал звучать приглушенный шум авиамоторов. Она сосредоточилась и начала вслушиваться в разговор своих спутников. — Да, — говорил Сол. — Никаких проблем, хотя я очень волновался: что будет, если власти обнаружат его при мне. Натали сфокусировала взгляд, чтобы получше рассмотреть агента Моссада. Джеку Коуэну было пятьдесят с небольшим, но выглядел он старше, даже старше Сола, особенно теперь, когда Сол сбрил бороду и отпустил длинные волосы. У Коуэна было худое лицо, изъеденное оспинами, большие глаза и, видимо, не раз переломанный нос. Тонкие седые волосы были подстрижены неаккуратно, словно он это делал сам и, не доведя дело до конца, бросал. Коуэн свободно и абсолютно грамотно говорил на английском, но речь его портил сильный акцент, источник которого Натали не могла определить. Как будто западный немец выучил английский от уэльсца, а тот, в свою очередь, почерпнул свои знания у бруклинского кабинетного ученого. Натали нравилось слушать голос Джека Коуэна, да и сам он ей понравился. — Дайте мне посмотреть оружие, — попросил Коуэн. Сол достал из-за ремня небольшой револьвер. Натали и не знала, что у Сола есть оружие. Выглядел он как модель дешевого образца. Они ехали через мост по крайней левой полосе. На расстоянии уже по меньшей мере мили позади не было видно ни одной машины. Коуэн взял в руки револьвер и зашвырнул его в открытое окошко в темный овраг, видневшийся внизу. — При первом же выстреле он бы взорвался у вас в руках, — заметил он. — Прошу прощения за дурной совет, но телеграфировать вам было слишком поздно. А насчет властей вы не ошиблись — есть документы или нет, стоило бы им найти это у вас, они бы засадили вас за решетку и через каждые два-три года удостоверялись бы, что вы исправно мучаетесь. Неприятные люди, Сол. Я подумал, что имеет смысл рисковать только из-за денег. Сколько вы привезли в конечном итоге? — Около тридцати тысяч, — ответил Сол. — И еще шестьдесят переведены в банк в Лос-Анджелес адвокатом Давида. — Эти деньги ваши или Давида? — спросил Коуэн. — Мои, — кивнул Сол. — Я продал ферму в девять акров возле Натаньи, она принадлежала мне со времен войны за независимость. Я решил, что глупо будет переводить эти деньги на мой собственный нью-йоркский счет. — Вы правильно решили, — одобрил Коуэн. Они уже въехали в город. Мелькавшие теперь мимо ртутные фонари отбрасывали пятна света на ветровое стекло, некрасивое и в то же время привлекательное лицо Коуэна от этого приняло желтоватый оттенок. — О Господи, Сол, — вздохнул Коуэн, — если б вы знали, как трудно было достать некоторые вещи из вашего списка. Сто фунтов пластиковой взрывчатки Ф4! Пневматическая винтовка. Пули с транквилизаторами. Боже милостивый, знаете ли вы, что в Соединенных Штатах существует всего лишь шесть поставщиков пуль с транквилизаторами, и для того чтобы получить хоть самое смутное представление о том, где их разыскать, нужно быть дипломированным зоологом. Сол улыбнулся. — Прошу прощения, но вам грех жаловаться, Джек. Вы наш deus ex machina[1]. — Не знаю, как насчет богов, но сквозь мясорубку мне пришлось пройти, это точно. — Коуэн печально улыбнулся. — Мне пришлось потратить на ваши мелкие поручения все отпускное время, накопленное мною за два с половиной года работы. — Я постараюсь когда-нибудь хоть чем-то отблагодарить вас, — пообещал Сол. — У вас продолжают оставаться проблемы с начальством? — Нет. Звонок из офиса Давида Эшколя разрешил большую часть проблем. Хотел бы я сохранять такую же энергию, как у него через двадцать лет после его ухода на пенсию. Как он себя чувствует? — Давид? После двух сердечных приступов не очень хорошо, но он деятелен, как всегда. Мы с Натали видели его в Иерусалиме пять дней назад. Он просил передать вам наилучшие пожелания. — Я лишь однажды сотрудничал с ним, — признался Коуэн. — Четырнадцать лет назад. Он вернулся на работу, чтобы возглавить операцию, когда мы захватили русскую базу ракет «земля — воздух» прямо под носом у египтян. Это спасло массу жизней во время шестидневной войны. Давид Эшколь — блестящий тактик. Теперь они ехали по Сан-Диего, и Натали со странным чувством отчужденности наблюдала за тем, как они свернули на автостраду 5 и двинулись к северу. — Какие у вас планы на ближайшие несколько дней? — поинтересовался Сол. — Прежде всего — устроить вас, — ответил Коуэн. — Я должен вернуться в Вашингтон не позднее среды. — Без проблем. С вами можно будет связаться, если нам потребуется ваш совет? — поинтересовался Сол. — В любое время. Если сначала вы ответите мне на один вопрос. — Какой? — Что в действительности происходит здесь, Сол? Что на самом деле связывает вашего старого нациста, группу в Вашингтоне и старуху из Чарлстона? Как я ни кручу, у меня ничего не получается. Почему правительство Соединенных Штатов покрывает эту преступную войну? — Оно не покрывает, — вздохнул Сол. — В том-то и дело... Правительственные группы пытаются разыскать оберста ничуть не меньше, чем мы, но они преследуют свои цели. Поверьте, Джек, я мог бы рассказать вам больше, но это мало чем прояснит для вас ситуацию. Многое в этой истории находится за пределами логики. — Замечательно! — саркастически заметил Коуэн. — Если вы мне не можете рассказать больше, я не смогу подключить агентство, какое бы уважение ни испытывали его сотрудники к Давиду Эшколю. — Возможно, это и к лучшему, — улыбнулся Сол. — Вы видели, что стало с Ароном и вашим другом Леви Коулом, когда они ввязались в это дело? Я наконец понял, что в ближайшее время нас не ждут ни фанфары, ни головокружительный успех. Долгие десятилетия я бездеятельно ожидал появления союзников, теперь понимаю, что все здесь зависит только от меня... и Натали чувствует то же самое. — Ерунда! — воскликнул Коуэн. — Возможно, — согласился Сол, — но все мы в той или иной степени руководствуемся верой в ерунду. Еще век назад идея сионизма казалась полной ерундой, а сегодня наша граница — граница Израиля — единственный чисто политический рубеж, который виден с орбиты спутника: там, где кончаются деревья и начинается пустыня, заканчивается Израиль. — Это другая тема, — равнодушным голосом произнес Коуэн. — Я делал все это, потому что любил вашего племянника и как сына любил Леви Коула. Надеюсь, что вы преследуете их убийц. Это так? — Да. — И та женщина, которая вернулась в Чарлстон, — она, с вашей точки зрения, тоже участвовала в этом? — Да, участвовала, — кивнул Сол. — А ваш полковник по-прежнему продолжает уничтожать евреев? Сол выдержал паузу. Утверждать это он бы не стал. — Да, он по-прежнему продолжает убивать невинных людей, — тихо сказал он. — И этот выродок, продюсер из Голливуда, тоже имеет к этому отношение? — Да. — Ладно. — Коуэн тряхнул седыми волосами. — Я по-прежнему буду вам помогать, но в один прекрасный день вам придется за все отчитаться. — Если это поможет вам, — промолвил Сол, — мы с Натали оставили запечатанное письмо у Давида Эшколя. Давид не знает всех подробностей этого кошмара. Если мы с Натали погибнем или исчезнем, Давид или его доверенные лица вскроют письмо. Там содержатся указания, чтобы они поставили вас в известность о его содержании. — Замечательно. С нетерпением буду ждать, когда вы оба погибнете или исчезнете, — невесело усмехнулся Коуэн. Разговор был исчерпан. В полном молчании они направлялись по скоростной дороге к Лос-Анджелесу. Натали снилось, как они с отцом и Робом гуляют по старому району Чарлстона. Был прекрасный весенний вечер. В паутине пальмовых ветвей и новых побегов горели звезды. Воздух был наполнен ароматами мимозы и гиацинтов. И вдруг из тьмы выскочила черная собака с белой головой и зарычала на них. Натали испугалась, но отец сказал ей, что собака просто хочет познакомиться. Он опустился на колени и протянул ей правую руку, чтобы та обнюхала ее, но собака зарычала и вдруг вцепилась в нее, стала рвать, отгрызать синее целые куски, и рука отца исчезла в пасти черно-белой собаки, а затем не стало и отца. Собака увеличилась в размерах, разрослась, и Натали поняла, что это просто она сама уменьшилась, стала совсем маленькой девочкой. Собака повернулась к ней, и Натали обуял такой ужас, что она была не в силах ни побежать, ни закричать. Но в тот самый момент, когда собака кинулась на нее, вперед выступил Роб и заслонил девочку своим телом. Собака кинулась ему на грудь, повалила на землю. Завязалась ожесточенная схватка, и Натали увидела, как огромная голова собаки начинает уменьшаться и исчезать. Но, оказывается, чудовищная псина вгрызлась в грудь Роба, погрузившись в глубину его грудной клетки. Слышалось отвратительное чавканье. Девочка тяжело опустилась на тротуар. На ногах у нее были роликовые коньки, а сама она была в синем платье, подаренном ей любимой тетей, когда Натали исполнилось шесть лет. Перед ней, словно огромная серая стена, высилась спина Роба. Она взглянула на кобуру на его бедре, но та была застегнута кожаным ремнем, и Натали не могла дотянуться до пряжки. Все тело шерифа содрогалось, собака вгрызалась в него все глубже. Несколько раз Натали попыталась подняться, но ролики разъезжались, и она падала на тротуар. Натали грохнулась на колени и уже почти дотянулась до огромной серой спины Роба, когда кожа на спине вдруг треснула и оттуда высунулась окровавленная морда собаки. Поднатужившись, собака рванула вперед, глаза ее сверкали безумно, челюсти щелкали, как у акулы из знаменитого фильма Стивена Спилберга. Натали отползла фута на два и застыла. Она не могла оторвать взгляд от собаки, которая рвалась, стремясь добраться до девочки. Шерсть топорщилась и вздымалась на передних лапах твари, пытавшейся выбраться из пещеры человеческой плоти. Это напоминало какой-то кошмарный процесс родов, когда рождение сулило гибель самому наблюдателю. Но именно вид ее морды парализовал Натали. Он лишал ее способности двигаться и вызывал приступы тошноты, поднимавшейся к горлу. И вдруг над темной шерстью мощных напрягшихся лап, над выпачканной кровью шерстью собачьей шеи показалась бледная смертельная маска Мелани Фуллер, маска, искаженная безумной усмешкой. Выпиравшие гигантские вставные челюсти старухи защелкали всего лишь в нескольких дюймах от Натали. Тварь издала истошный вопль, сжалась в последнем кровавом рывке и вырвалась наружу. Из прогрызенного насквозь тела Роба... Роба Джентри... Боль утраты пронзила — вновь и вновь — мозг и сердце забывшейся в кошмарном сне девушки. Натали судорожно вздохнула и проснулась. Она протянула руку, вцепилась в приборную доску машины и выпрямилась. Ветер, влетавший в открытое окошко, приносил запахи отбросов и дизельного дыма. На автостраде мелькали фары несущихся им навстречу машин. — Я нуждаюсь в совете, — тихим голосом произнес Сол, — в совете — как убивать людей. Коуэн искоса посмотрел на него. — Я не убийца, Сол. — Нет, конечно, как и я, но мы много раз видели, как убивают людей. Я видел, как хладнокровно и целенаправленно это делается в лагерях, быстро и незаметно — в лесах, с кровожадным патриотизмом — в пустыне, подло и походя на улицах. Возможно, настало время научиться делать это профессионально. — Вы хотите, чтобы я провел с вами семинар по практической методологии убийства? — осведомился Коуэн. — Да. Коуэн вытащил сигарету из кармана рубашки и зажигалку, прикурил и с наслаждением затянулся. — С помощью этих вещей вы сможете совершить убийство, — заметил он, выдыхая дым и указывая в глубь фургона. Мимо них проревел трейлер, мчавшийся на бешеной скорости. — Я размышлял о чем-нибудь более быстром и менее опасном для тех людей, которые нечаянно могут оказаться поблизости, — промолвил Сол. — Самый целесообразный способ убийства — это нанять профессионала-киллера. — Он бросил взгляд на Сола. — Я не шучу. Так поступают все — КГБ, ЦРУ и прочие... Американцы очень расстроились, узнав несколько лет назад, что ЦРУ нанимает киллеров из мафии, для того чтобы разделаться с Кастро. Но если вдуматься, это разумно. Неужели было бы более нравственно обучать убийству в управлении демократического правительства? А все истории про Джеймса Бонда — чистая чушь. Профессиональные убийцы — это психопаты, которых держат под жестким контролем. Они, конечно, не вызывают симпатии, так же как и маньяк Чарлз Мэнсон. Использование мафии — всего лишь гарантия, что дело будет сделано профессионально и что эти конкретные психопаты в течение нескольких недель не будут убивать обыкновенных американцев. — Коуэн помолчал, попыхивая сигаретой. — Когда дело доходит до предумышленного убийства, все мы пользуемся посредниками, — продолжал он, стряхивая пепел за окно. — Когда я работал в Израиле, в мои обязанности входило обучение юных новобранцев Организации освобождения Палестины. Они должны были расстреливать других палестинских лидеров. Думаю, что по меньшей мере одна треть междоусобных разборок среди террористов — это результат нашей деятельности. Иногда для того, чтобы ликвидировать А, мы доводили до сведения D, что В заплатил С за убийство D по приказу А, а дальше садились и ждали результатов. — Но предположим, что нанять кого бы то ни было невозможно, — сказал Сол. По тихим голосам мужчин Натали поняла, что они не заметили, как она проснулась. Глаза у нее непроизвольно закрывались, и сквозь опущенные ресницы просачивался лишь свет встречных фар и редких фонарей. Она вспомнила, как в детстве засыпала на заднем сиденье машины, прислушиваясь к тихой монотонной беседе родителей. Но об убийствах они никогда не говорили. — Ладно, — согласилсяКоуэн, — предположим, по политическим, практическим или личным причинам вы не можете нанять никого, тогда дело усложняется. Прежде всего надо решить, готовы ли вы заплатить своей жизнью во имя достижения цели. Если готовы, то у вас есть огромное преимущество. Тогда традиционные меры безопасности становятся несущественными. Большинство великих убийц, известных истории, были готовы отдать свою жизнь, чтобы выполнить предназначенную им миссию. — Ну а если бы в данном случае убийца предпочел остаться в живых по завершении своего дела? — спросил Сол. — Тогда и без того трудное дело становится еще более трудным, — ответил Коуэн. — Возможные варианты: организованная военная операция... Налеты наших Ф16 на Ливан представляли из себя не что иное, как попытки покушения на убийство, тщательно выверенное применение взрывчатки, дальнобойные винтовки, использование револьверов на близком расстоянии с заранее подготовленным путем отступления, яды, ножи, рукопашная борьба. — Коуэн выбросил в окно окурок и закурил следующую сигарету. — В наши дни в моду вошла взрывчатка, но это капризная штука, Сол. — Почему? — Ну, возьмем, например, С4 — сзади у вас ее запас лет на десять. Она столь же безопасна, как обычная замазка, — вы можете ее бросать, комкать, пинать, садиться на нее, и она не взорвется. Огнеопасна лишь азотная кислота, само взрывное устройство. В смертельно опасных крохотных детонаторах, в пластиковых трубках, которые тщательно упакованы в другую коробку. Вы когда-нибудь пользовались пластиковой взрывчаткой, Сол? — Нет. — Помоги нам Господь, — промолвил Коуэн. — Хорошо, завтра в безопасном месте мы проведем семинар по использованию пластиковой взрывчатки. Ну вот предположим: вы установили взрывчатку в нужном месте. Каким образом вы приведете ее в действие? — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, что возможности неограниченны — механический способ, электрический, химический, электронный, — но все они небезопасны. Большинство экспертов в этой области заканчивают свою жизнь, экспериментируя со своими бомбочками. Взрывчатка — наилучший способ борьбы с террористами. Но, предположим, вам удалось установить вашу пластиковую взрывчатку, присоединить детонатор и подключить к нему электрическую кнопку, которая приводится в действие радиосигналом передатчика, — все готово. Вы сидите в машине на безопасном расстоянии от передвижного средства вашей жертвы. Дожидаетесь, когда он выезжает за пределы города, подальше от свидетелей и невинных зевак, и тут, несмотря на то что ваш передатчик выключен, его машина взлетает на воздух, проезжая мимо школьного автобуса, полного детей-калек. — Почему? Натали различила усталость в голосе Сола и поняла, что он вымотан ничуть не меньше, чем она. — Автоматические механизмы открывания гаражей, авиасвязь, детские игрушки, радиоприемники гражданского населения, — пропел Коуэн, — даже дистанционный пульт управления телевизором — все это могло включить механизм запуска реакции, поэтому на пластиковой взрывчатке приходится работать как минимум двумя включениями — ручным, чтобы привести ее в боевое положение, и электронным, чтобы запустить реакцию.. И тем не менее шансы на успех не столь велики, как хотелось бы. — А другие способы? — спросил Сол. — Винтовка с оптическим прицелом, — пояснил Коуэн. Вторая сигарета догорала почти у самых его губ. — Дальность расстояния обеспечивает безопасность, дает время, необходимое для отступления, предоставляет возможность избирательности и при правильном применении всегда эффективна. Именно это оружие предпочли Ли Харви Освальд, Джеймс Эрл Рей и бесчисленное множество других «профи». Хотя и с этой винтовкой бывают сложности. — Какие? — Прежде всего выкиньте из головы все эти телевизионные сказки о снайпере, который приносит с собой винтовку в дипломате, а потом собирает ее, пока жертва послушно стоит на месте и дожидается выстрела. Оптический прицел должен быть подогнан к винтовке с учетом расстояния, угла выстрела, скорости ветра и свойств самого оружия. Стрелок должен обладать опытом и знать соотношения расстояния и скорости ветра. Военный снайпер работает на таких расстояниях, что между выстрелом и попаданием пули в цель его жертва успевает сделать три шага. У вас есть опыт стрельбы из винтовок, Сол? — Только во время второй мировой войны, — ответил Сол. — Да и то, я ведь ни разу не убил человека. — Там, сзади, полно всякой всячины, добытой по вашему списку, — сказал Коуэн. — Ваши восемнадцать тысяч долларов потрачены на самое бредовое собрание вещей, которое я когда-либо покупал... но винтовки с оптическим прицелом там, увы, нет. — А как насчет охраны? — спросил Сол. — Вашей или их? — Их. — А что вас интересует? — Как с ней управляться? Прищурившись, Коуэн невидяще смотрел в световой коридор, образованный габаритными огнями машин. — Если кто-то собирается вас убить, то охрана — это в лучшем случае обреченная попытка отсрочить неизбежное. Если ваша жертва ведет общественную жизнь и часто появляется на людях, то самая лучшая охрана разве что может затруднить вам путь к отступлению. Последствия можно было наблюдать месяц назад, когда необученный балбес решил, что ему хочется выстрелить в американского президента из пневматического ружья двадцать второго калибра. — Арон говорил мне, что вы обучаете своих агентов пользоваться «береттами» двадцать второго калибра, — заметил Сол. — В последние годы — да, — кивнул Коуэн, — но они применяют их на близких расстояниях, там, где скорее надо было бы пользоваться ножами, и в ситуациях, которые требуют тишины и быстроты действий. Когда мы посылаем отряд с целью убийства, этому предшествуют недели слежки, репетиций операции и апробирования путей отступления. Этот парень, который стрелял месяц назад в вашего президента, готовился не больше, чем вы или я, перед тем как пойти на угол купить газету. — И что это доказывает? — Это доказывает, что такой вещи, как охрана, не существует, когда поведение и поступки предсказуемы, — ответил Коуэн. — Хороший шеф службы безопасности запретил бы своему клиенту подчиняться расписанию, следовать распорядку дня и назначать встречи, которые могут стать достоянием публики. Более полдюжины раз именно непредсказуемость спасала жизнь Гитлеру. Именно из-за нее нам не удалось ликвидировать верхушку Организации Освобождения Палестины. Но какую охрану обсуждаем мы в этой гипотетической дискуссии? — Гипотетической? — переспросил Сол и улыбнулся. — Ну, давайте для начала гипотетически обсудим охрану мистера К. Арнольда Барента. Коуэн резко обернулся. — Так вот зачем вы просили узнать сведения о летнем лагере Барента!.. — Мы же говорим гипотетически. — Сол продолжал улыбаться. Коуэн нервным движением провел рукой по лицу. — О Господи, вы сошли с ума! — Вы сказали, что это безнадежная попытка отсрочить неизбежное. Разве мистер Барент является исключением? — Послушайте, — промолвил Джек Коуэн, — когда президент Соединенных Штатов отправляется куда-нибудь... куда угодно, даже с визитом к лидерам зарубежных стран, и встречается с ними в уединенных охраняемых зонах... служба безопасности писает кипятком. Дай им волю, они бы не выпускали президента из бункера Белого дома, да и его они считают не вполне безопасным. Единственное место... единственное место, где служба безопасности вздыхает с облегчением, — это когда президент проводит время с К. Арнольдом Барентом... Этим разные президенты занимаются вот уже тридцать с лишним последних лет. В июне Фонд западного наследия Барента устраивает ежегодный летний лагерь, и сорок-пятьдесят самых влиятельных людей мира, сняв свои смокинги, отдыхают на одном из бесчисленных островов. Это что-нибудь говорит вам о службе охраны этого человека? — Значит, хорошая? — спросил Сол. — Лучшая в мире, — ответил Коуэн. — Если завтра Тель-Авив сообщит, что будущее государства Израиль зависит от внезапной смерти К. Арнольда Барента, я вызову оттуда наших лучших людей, соберу группы коммандос, рядом с которыми Энтеббе покажется шуткой, подтяну группы мстителей из Европы — и тогда у нас будет лишь один шанс из десяти подобраться к нему. — Как именно вы бы попытались это сделать? — спросил Сол. Несколько минут Коуэн молчал. — Гипотетически, — наконец промолвил он, — я бы дождался того момента, когда бы он оказался в зависимости от чьей-то чужой охраны, например президента... и тогда бы попытался. О Господи, Сол, это все болтовня. Где вы были 30 марта? — В Кесарии, — ответил Сол. — И тому есть масса свидетелей. Что бы вы еще попробовали? Коуэн покусал губы. — Барент постоянно совершает перелеты. А это всегда увеличивает уязвимость. Охрана на земле, естественно, не даст установить взрывчатку на борту, но остается перехват или ракеты системы «земля — воздух». Если вы заранее сможете узнать, куда направляется авиалайнер, когда он отправляется и как его определить в момент полета. — Вы можете это сделать? — спросил Сол. — Да, — съязвил Коуэн, — если все ресурсы Военно-воздушных сил Израиля объединить с электронным обеспечением разведок, воспользоваться американским спутником и системами противоядерной защиты, а также если мистер Барент окажет нам любезность и будет совершать полет над Средиземным морем или крайними южными районами Европы по заранее утвержденному расписанию. — У него есть яхта, — упрямо напомнил Сол. — С длиной корпуса в 216 футов, «Антуанетта». Она куплена им двенадцать лет назад за 69 миллионов долларов у одного покойного греческого магната судостроения, больше известного в качестве второго мужа одной американской вдовы, чей первый супруг оказался на слишком близком расстоянии от хорошо настроенной оптической винтовки, которую держал в руках бывший морской пехотинец, — Коуэн перевел дух. — На борту яхты Барента находится такое же количество охраны, как и на любом из его островов. Никто никогда не знает, куда она направляется и в какой именно момент Барент будет на борту. На яхте имеются две посадочные площадки для вертолетов, снабжена она катерами, которые занимаются разведывательной деятельностью, если поблизости оказываются какие-нибудь суда. Возможно, судно можно торпедировать, хотя я сомневаюсь в этом. Оно маневренно, оснащено радарами и системами контроля, более совершенными, чем современные эсминцы. — Итак, наша гипотетическая дискуссия подошла к своему концу, — произнес Сол, и по его тону Натали поняла, что все сообщенное Коуэном уже было ему известно. — Здесь мы остановимся. — Коуэн свернул на боковой виадук. На указателе значилось — «Сан Хуан Капистрано». Они остановились у автозаправочной станции, и Коуэн, заправившись, расплатился с помощью своей кредитной карточки. Натали, продолжая бороться со сном, вылезла из фургона и потянулась. Стало прохладнее, ей почудилось, что где-то неподалеку плещутся волны, пахнет морем. Когда она подошла к автозаправочной станции, Коуэн наливал себе кофе из автомата. — Вы проснулись, — улыбнулся он девушке. — Добро пожаловать обратно в нашу реальность. — Я и в машине не спала... почти, — откликнулась Натали. Коуэн сделал глоток и сморщился — кофе был отвратителен. — Странный разговор. Вы в курсе планов Сола? — Да, мы составляли их вместе. — И вы знаете, что находится в фургоне? — Если это то, что было в нашем списке, то да. — Натали кивнула и вместе с Коуэном направилась обратно к машине. — Ну что ж, надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что делаете, — промолвил шеф Моссада. — Нет, — улыбнулась ему Натали, — но мы очень благодарны вам за вашу помощь, Джек. — Ага, — откликнулся Коуэн, открывая для Натали дверцу машины, — если только благодаря моей помощи вы не ускорите собственный конец. Они проехали еще восемь миль по автостраде 74, удаляясь от побережья, свернули к северу через низкорослый лес и наконец остановились у фермерского дома. — Это ранчо наши люди с Западного побережья использовали как укрытие, — пояснил Коуэн. — Последний Год в нем не было никакой необходимости, но здесь поддерживался порядок. Местные власти считают, что это летний дом, принадлежащий чете молодых профессоров с Анахеймских холмов. Дом был двухэтажным, на втором этаже располагались спальни, заставленные дешевыми кроватями. В трех спальнях могло ночевать по меньшей мере с дюжину человек. Застекленная дверь внизу вела в небольшую гостиную с диванами и низким кофейным столиком. — Это было устроено как-то летом, когда тут велись долгие допросы одного члена организации «Черный Сентябрь», который принимал нас за ЦРУ. Мы помогали ему скрыться от страшного ужасного Моссада, пока он не рассказал нам все, что знал. Думаю, эта комната вполне подходит для ваших надобностей. — Идеально, — одобрил Сол. — Мы сэкономим здесь несколько недель на подготовку. — Хотел бы я остаться здесь ради интереса, — усмехнулся Коуэн. — Если это окажется интересным, — Сол пытался справиться с охватившей его зевотой, — мы как-нибудь сядем вместе и все вам расскажем. — Договорились, — кивнул Джек Коуэн. — А как насчет того, чтобы выбрать себе по комнате и немного поспать? У меня завтра рейс в половине двенадцатого из Лос-Анджелеса.* * *
В начале девятого Натали проснулась от грохота взрыва. Она огляделась, не понимая, где находится, а потом отыскала свои джинсы и быстро натянула их. Она окликнула Сола, но из соседней комнаты никто не отозвался. Джека Коуэна в его спальне тоже не оказалось. Натали сбежала вниз и вышла на крыльцо. Небо было ослепительно синим, стояла теплынь. К дороге, по которой они приехали, тянулся луг, заросший высохшими травами. Она обошла дом и за старой дверью, прислоненной к изгороди, обнаружила Сола и Коуэна. В центральной панели двери зияла дыра диаметром в десять дюймов. — Семинар по пластиковой взрывчатке, — пояснил Коуэн, когда Натали подошла ближе, и повернулся к Солу. — Это было меньше половины унции. Можно представить, чего можно достичь с вашими сорока фунтами. — Он встал с колен и отряхнул брюки. — Завтрак. Холодильник в доме был пуст и перевернут набок, но Коуэн принес из фургона большую морозильную сумку, и в течение двадцати минут все трое сосредоточенно вытаскивали сковородки и кофейники, поворачивали в разные стороны ручки плиты — одним словом, здорово мешали друг другу. Когда наконец порядок был восстановлен, кухня наполнилась ароматами кофе и яичницы. Все трое уселись за стол в эркере. В середине необязательного утреннего разговора Натали вдруг снова ощутила прилив глубокой печали и поняла, что эта комната напоминает ей дом Роба. Сейчас ей казалось, что до Чарлстона десятки сотен миль, и она даже не могла вспомнить, сколько времени прошло с ее последнего посещения этого города. После завтрака они занялись разгрузкой фургона. Втроем им удалось втащить огромную подставку с электроэнцефалографом. Все электронное оборудование они перенесли в помещение для наблюдений, отгороженное зеркальной дверью. Коробки с С4 и контейнер с детонаторами перетащили в подвал. Когда со всем было покончено, Коуэн поставил на обеденный стол две небольшие коробки. — А это подарок от меня, — пояснил он. Внутри коробок лежали два полуавтоматических револьвера. На синих этикетках значилось: «Кольт МК. IV модель. Образец 380. Автомат». — Я бы предпочел подарить вам такие же сорок пятого калибра, как у меня. То, что действительно способно остановить агрессора. Но эти почти на полфунта легче моего, дуло у них на два дюйма короче, и вмещают они семь патронов, а не шесть. К тому же для начинающих у них сравнительно небольшая отдача, и их легче скрыть. Они вполне годятся на небольшом расстоянии. — Он выложил на стол три коробки патронов. — Место приобретения снаряжения установить не удалось. Знаю, что оно входило в состав перехваченного груза ирландской освободительной армии и в процессе транспортировки было каким-то образом утеряно. — Коробку, ту что побольше, он поставил на стол и вытащил оттуда длинное тяжелое оружие, напоминавшее игрушечную карикатуру на ружье. Длинная прямоугольная призма ствола казалась непропорционально большой по сравнению с рукоятью. Возможно, это была разновидность какого-то автомата. Если не считать, что отверстие дула было слишком маленьким, а на самом оружии отсутствовало крепление для амуниции. — Я чуть было не позвонил Марлину Перкинсу, чтобы отыскать такое с радиусом действия более десяти футов, — пояснил Коуэн. — Большинство пользуются винтовками, сделанными специально на заказ. — Он отогнул ствол, вынул из коробки пулю и вставил ее в пулеприемник. — Патрона СО2 хватает на 20 выстрелов, — пояснил Коуэн. — Хотите посмотреть его в действии? Натали спустилась с крыльца, взглянула на фургон и расхохоталась. Желтым по синему на нем было написано: «Сварочные ванны Джека и Нат. Установка и ремонт. Наша специализация — горячие ванны и душевые» — Так и было или это вы украсили? — спросила Натали Коуэна. — Я. — А это не будет выглядеть подозрительно? — Возможно, хотя, честно говоря, я надеялся на противоположный эффект. — Почему? — Вы направляетесь в достаточно фешенебельный район. Он охраняется одной из самых эффективных полиций в этой стране. К тому же население там страдает паранойей. Стоит вам остановиться где-нибудь на полчаса, и на вас обратят внимание, а эта надпись может помочь. Хихикая, Натали отправилась за мужчинами за сарай. Навстречу им из загона вышла небольшая свинка. — Я думала, ферма не используется по назначению, — промолвила Натали. — Не используется, — улыбнулся Коуэн. — Но я приобрел этого приятеля вчера утром. Это была идея Сола. Натали одобрительно посмотрела на Сола. — Он весит сто сорок фунтов. — Сол покраснел. — Ты же помнишь проблемы, которые мы обсуждали с Ицеком в тель-авивском зоопарке? — Ах да! — воскликнула Натали. Коуэн поднял духовое ружье. — Оно несколько неуклюже, но целиться надо так же, как из любого револьвера. Просто представьте себе, что ствол — это ваш указательный палец. Цельтесь и стреляйте. — Коуэн поднял громоздкое оружие, раздался громкий щелчок. В дверях сарая, футах в пятнадцати от них, возникло маленькое отверстие с синим оперением. Коуэн отогнул ствол и открыл коробку с патронами. — Вот эти с синим кружком наверху — пустые. Приготовьте собственный раствор. С красными кружками — ампулы на пятьдесят кубиков, с зелеными — на сорок, с желтыми — на тридцать, а с оранжевыми — на двадцать. Если вам потребуется делать собственные смеси, у Сола есть дополнительные пробирки. — Он вынул красную ампулу и вставил ее в ствол. — Хотите попробовать, Натали? — Конечно, — она вернула ствол в прежнее положение и прицелилась в дверь сарая. — Нет-нет, — остановил ее Сол, — давай испытаем это на нашем дружке. Натали повернулась и с жалостью посмотрела на свинью. Та стояла, принюхиваясь, обратив к ней свой пятачок. — В основе состава лежит кураре, — пояснил Коуэн. — Вещь очень дорогая и не так безопасна, как утверждают специалисты-зоологи. Вам придется точно рассчитывать необходимое количество на вес тела. На самом деле это не лишает их сознания... по сути, это не транквилизатор... скорее, это специфический нервный токсин, парализующий деятельность нервной системы. Стоит немножко недобрать, и ваша мишень, хотя и почувствует некоторую немоту в членах, все же сможет благополучно ускакать. Небольшой перебор — и вместе со способностью совершать произвольные поступки будет подавлен процесс дыхания и сердцебиения. — А это правильная концентрация? — Натали бросила взгляд на ружье. — Выяснить это можно только одним способом. Этот кусок ветчины весит приблизительно столько, сколько просил Сол, пятидесятикубиковый заряд рекомендован для животных именно такого размера. Давайте попробуем. Натали обошла загон, чтобы лучше прицелиться. Свинья пропихнула пятачок сквозь решетку, будто ждала от Сола и Джека Коуэна угощения. — Надо целиться в какое-то специальное место? — уточнила Натали. — Старайтесь не попадать ей в морду и в глаза, — ответил Коуэн. — Могут возникнуть проблемы с попаданием в шею, зато любое место на ее туше вполне годится. Натали подняла духовое ружье и выстрелила свинье в бедро. Свинья подпрыгнула, взвизгнула и бросила на Натали укоризненный взгляд. Через восемь секунд задние ноги у нее подогнулись, она пробежала еще полкруга, волоча свой окорок по земле, а потом повалилась на бок, тяжело дыша. Все трое тут же вошли в загон. Сол приложил ладонь к боку свиньи. — Сердце колотится как сумасшедшее. Может, раствор слишком концентрирован? — Вы же хотели быстродействующий, — ответил Коуэн. — Это самое быстродействующее, чтобы поймать животное, при этом не убивая его. Сол заглянул в открытые, подернутые пленкой глаза свиньи. — Она нас видит? — Да, — кивнул Коуэн. — Время от времени животное может терять сознание, но в основном органы чувств у него работают нормально. Оно не может двигаться и издавать звуков, но будьте уверены, что эта ветчина как следует рассматривает нас и запоминает, чтобы потом расплатиться с нами... Натали похлопала по боку парализованную свинью. — Его зовут не ветчина, — тихо промолвила она. — Да ну? — улыбнулся Коуэн. — А как же? — Хэрод, — ответила Натали, — Энтони Хэрод.Глава 6
Вашингтон, округ Колумбия Вторник, 21 апреля 1981 г. Все время своего полета Джек Коуэн думал о Соле и Натали. Он тревожился о них, не зная, что именно они собираются сделать и насколько они способны на это. За тридцать лет своей работы в разведке он знал, что любители в конце операции неизбежно оказываются в списке погибших. Он попытался утешить себя тем, что это не будет операцией в точном смысле этого слова, и задумался: «чем же тогда это будет»? Коуэн чувствовал, что Сол очень обеспокоен и глубоко поглощен предстоящей задачей, что для него очень много значила полученная информация о Баренте и об остальных членах Клуба Островитян. Коуэн гадал, все ли меры предосторожности были приняты им во время компьютерных розысков. Был ли он достаточно предусмотрителен, когда ездил в Чарлстон и в Лос-Анджелес? Конечно, Коуэн напомнил психиатру, что занимается этой работой с сороковых годов, но по мере приближения к Вашингтону Коуэн начал ощущать все большее беспокойство и разраставшееся в нем чувство вины, которые у него всегда были связаны с участием гражданских лиц в военных операциях. В сотый раз он принялся уговаривать себя, что инициатива этой операции принадлежала не ему. «Может, это не я пользуюсь ими, а они — мной?» — вопрошал себя Коуэн. Коуэн был абсолютно уверен, что племянника Сола "Ласки и Леви Коула убила команда из контрразведки ФБР. Однако убийство всей семьи Арона Эшколя продолжало оставаться для него немыслимым и необъяснимым. Коуэн знал, что иногда ЦРУ может влипнуть в подобную ситуацию вследствие потери контроля за своими контрактными исполнителями, — однажды Коуэн сам участвовал в такой операции в Иордане, которая обошлась им ценой жизни трех гражданских лиц, — но он никогда не слышал, чтобы так опрометчиво действовало ФБР. Однако когда Ласки указал ему на связи между Чарлзом Колбеном и миллионером Барентом, это стало для него совершенно очевидным. Сам Коуэн занимался сбором мельчайших улик, относящихся к убийству Леви Коула. Леви был протеже Коуэна, блестящим молодым оперативником, временно назначенным в отдел связей и шифровок для овладения необходимым опытом, но готовили его для гораздо более крупных задач. Леви обладал редчайшими и необходимыми качествами для агента. Успех сопутствовал ему. Он был наделен интуитивной осторожностью и в то же время обожал азарт чистой игры, когда противники, которым, возможно, никогда не суждено будет встретиться и узнать истинные имена или звания друг друга, вступают в изощренное состязание интересов. У Коуэна была собственная теория насчет того, почему ФБР так быстро деградировало. Он полагал, что, возможно, ненамеренное вмешательство Арона и Леви каким-то образом расстроило операцию Колбена по внедрению американских контрразведчиков в зарубежные агентства. В триумфальной эйфории, последовавшей за шестидневной войной, в Тель-Авиве созрел план по прослушиванию основных каналов американской разведки путем внедрения «кротов» и платных информаторов на ключевые позиции. Внедрение в ЦРУ и другие агентства не представлялось столь необходимым. С помощью конкурирующих групп Моссад проанализировал и выяснил, в какие именно информационные участки ФБР надо внедряться. Кроме этого, приводились доводы о необходимости захватить основные источники сведений ФБР по внутренним делам Соединенных Штатов — особенно досье на крупнейшие политические фигуры, которые Бюро собирало в собственных интересах начиная с эпохи Дж. Эдгара Гувера, — эти досье могли бы оказаться бесценным рычагом в ситуациях будущих кризисов, когда Израилю потребовалась бы помощь Конгресса США. Тогда эту операцию сочли слишком рискованной, но так продолжалось лишь до ужаснувшего всех сюрприза войны Судного Дня, которая показала перестраховщикам в Тель-Авиве, что сохранение Израиля возможно лишь при получении доступа к такой совершенной и всеобъемлющей разведке, какой владеет только Америка. Операция по внедрению своих агентов началась одновременно с назначением Джека Коуэна на пост главы Моссада в Вашингтоне в 1974 году. Теперь эта операция под кодовым названием «Иона» оказалась тем самым китом, который поглотил Моссад. На этот проект было потрачено неимоверное количество денег и времени — сначала для того, чтобы расширить операцию, а затем чтобы обеспечить ее необходимым камуфляжем. Тель-авивские политики жили в постоянном страхе, что американцы раскроют «Иону» в тот самый момент, когда поддержка Соединенных Штатов окажется для Израиля решающей. Большая часть сведений, поступавших из Вашингтона, не могла быть использована уже по одной той причине, что это обнаружило бы существование подобной операции Коуэну казалось, что Моссад начинал действовать, как классический любовник: страшится того дня, когда его связь будет раскрыта, и испытывает такое чувство вины и усталости от него, которое заставляет его страстно желать разоблачения. Коуэн задумался о возможных вариантах: он мог либо продолжать свое сотрудничество с Солом и Натали, сохраняя формальную дистанцию между Моссадом и их непонятной любительской затеей, и посмотреть, что из этого выйдет, либо же мог вмешаться на настоящем этапе. По крайней мере, заставить группу Западного побережья занять более активную позицию. Он не стал сообщать Солу, что фермерский дом начинен подслушивающими устройствами. Коуэн мог распорядиться, чтобы тройка из его лос-анджелесской команды установила фургон со связью под прикрытием леса в миле от дома, и поддерживать с ними связь по совершенно безопасным каналам. Это означало бы активно задействовать в операции по меньшей мере с полдюжины агентов Моссада, но другого пути Коуэн не видел. Сол Ласки говорил, что больше не станет дожидаться поддержки кавалерийской атаки, но в этом случае, подумал Коуэн, она подключится без его ведома. Коуэн пока не видел связи между операцией «Иона» и контактами Барент — Колбен, между отсутствующим и, возможно, мифическим оберстом Сола и всем тем безумием, которое творилось в Вашингтоне и Филадельфии. Но что-то явно происходило. И Коуэн выяснил — что именно. А если он столкнется с возражениями начальства, что ж, пусть будет так. У Коуэна была с собой единственная небольшая сумка, но он сдал ее в багаж, поскольку в ней был револьвер. Стоя у багажной карусели в Далласе, он решил, что связываться с авиатаможней — это лишняя головная боль. И он подумал, что решил правильно, когда, получив свою сумку, вышел из здания аэропорта и направился к долгосрочной стоянке, где он оставил свой старый синий «Шевроле». «Надо будет позвонить Джону или Эфраиму в Лос-Анджелес, предупредить их о ферме и распорядиться о том, чтобы они прикрывали Сола и Натали», — подумал Коуэн. По крайней мере, у них будет поддержка, что бы они там ни затевали. Коуэн протиснулся между своей и стоявшей рядом машиной, открыл дверцу и швырнул сумку на пассажирское место. В тот самый момент, когда за его спиной в узком проходе появился кто-то еще, он раздраженно оглянулся. Могли бы подождать, пока он даст задний ход... Джеку Коуэну потребовалась секунда, прежде чем в нем возобладали древние инстинкты. И еще секунда ушла на то, чтобы рассмотреть в тусклом свете лицо приблизившегося человека. Это был Леви Коул. Уже вспомнив, что его револьвер запрятан под носками и трусами, Коуэн продолжал бесцельно шарить рукой в кармане своей спортивной куртки. Потом он выкинул руки вперед в защитном жесте, хотя тот факт, что перед ним стоял Леви, и вызвал в нем некоторое смятение. — Леви? — Джек! — то был крик о помощи. Молодой агент исхудал и был очень бледен, словно провел несколько недель в подвале без воздуха. Зрачки расширены, взгляд пустой. Он приподнял руки, словно желая обнять Коуэна. Коуэн вышел из оборонительной стойки, но протянул руку вперед и, упершись ладонью в грудь агента, остановил его. — Что происходит, Леви? — спросил он. — Где ты был? Леви Коул был левша. Коуэн забыл об этом. Короткое выкидное лезвие вдруг блеснуло в руке Коула. Движение было таким же быстрым и незаметным, как мгновенно прокатившаяся судорога. Лезвие, пройдя под ребрами, вонзилось Коуэну в сердце, и та судорога теперь передалась обмякшему телу шефа Моссада. Леви усадил тело Коуэна на водительское место и оглянулся. Сзади к «Шевроле» подъехал лимузин, закрывая обзор. Леви вынул бумажник Коуэна, достал из него деньги и кредитные карточки, обыскал карманы куртки и сумку, вышвырнув одежду на заднее сиденье. Из машины он вышел с револьвером, авиабилетом, деньгами и кредитными карточками, а также с конвертом, в котором Коуэн хранил рецепты. Скинув мертвое тело на пол, Леви захлопнул дверцу «Шевроле» и направился к ожидавшему его лимузину. Машина выехала со стоянки и по автостраде направилась к Арлингтону. — Здесь не много, — сообщил Ричард Хейнс по радиотелефону. — Разве что два счета за бензин на заправочной станции в Сан-Хуан Капистрано. Гостиничные счета из Лонг-Бич. Это вам что-нибудь говорит? — Отправьте туда своих людей, — раздался голос Барента. — Начните с гостиниц и заправочных станций. Кстати, ласточки уже вернулись в Капистрано? — Боюсь, мы пропустили это событие. — Хейнс бросил взгляд на Леви Коула, сидевшего рядом и безучастно смотревшего вперед. — Что будем делать с вашим приятелем? — Мне он больше не нужен, — ответил Барент. — На сегодня или вообще? — Думаю, вообще. — О'кей, — откликнулся Хейнс. — Мы позаботимся об этом. — Ричард... — Да? — Пожалуйста, начните свои розыски немедленно. То, что привлекло любопытного мистера Коуэна, непременно окажется небезынтересным и для меня. Я ожидаю от вас сообщений не позже пятницы. — Вы их получите. — Ричард Хейнс положил трубку и уставился на пейзажи штата Виргиния, мелькавшие за окном. Над головой, мигая огнями, поднимался реактивный самолет, и Хейнс невольно подумал: не мистер ли Барент направляется куда-нибудь? Сквозь тонированное стекло чистое голубое небо приобретало цвет бренди. Салон машины заливало болезненным коричневатым светом, который создавал ощущение надвигавшейся бури.Глава 7
В окрестностях Меридена, штат Вайоминг Среда, 22 апреля 1981 г. К северо-востоку от Чейены расстилался тот самый тип западного пейзажа, который у одних вызывал поэтическое настроение, других же мгновенно погружал в состояние агрофобии. Стоило свернуть с автострады и проехать сорок миль, как вокруг раскидывались бесконечные пустоши, занесенные снегом изгороди, крошечные, забытые богом на фоне бескрайних прерий. На расстоянии многих миль от дороги временами попадались случайные ранчо, а еще дальше к востоку бастионами вздымались холмы, кое-где мелькали ручьи, обрамленные кустарником и порослями тополей, между которыми бродили пугливые стайки антилоп и стадо коров, сбившихся в кучу, хотя им были предоставлены миллионы акров пастбища. И взлетных площадок ракет. На фоне этого привольного пейзажа взлетные площадки выглядели столь же непривлекательно, как все, что является плодом человеческих рук: небольшие прямоугольные участки, покрытые обожженными сгустками гравия, располагались в основном в ярдах пятидесяти-ста от дороги. От естественных газовых скважин или пустующих стоянок их отличало металлическое ограждение. По углам его виднелись трубы с отражающими зеркалами и низкая массивная бетонная крыша, установленная на ржавых опорах. Последние можно было рассмотреть лишь приблизившись на такое расстояние, с которого была видна надпись: «Вход воспрещен. Собственность правительства Соединенных Штатов. При обнаружении посторонних лиц на данной территории охрана стреляет без предупреждения». За исключением этого не было ничего. Лишь ветер свистел в прерии, да время от времени с полей доносилось мычание коров. Синий фургон Военно-воздушных сил выехал с базы Воррен в 6.05 утра и должен был вернуться с остатками отряда в 8.27, в промежутке доставив персонал смены на различные командные пункты. В то утро в фургоне находилось шесть молодых лейтенантов, двое из которых направлялись на юго-восток от Меридена, на пост по контролю за ракетами стратегического авиационного командования ВВС США, а остальные — на тридцать восемь миль дальше, в бункер, расположенный неподалеку от Чагвотера. Оба лейтенанта на заднем сиденье без всякого интереса взирали на мелькавший мимо безрадостный пейзаж. Они были знакомы с фотографиями, сделанными с советского спутника. На снимках был изображен этот участок земли в шесть тысяч квадратных миль — десять колец взлетных площадок, представляющих собою окружности по восемь миль в диаметре. Каждая из шестнадцати площадок в каждом круге была заряжена ракетой с боеголовками без индивидуального наведения. В последние месяцы шли разговоры об уязвимости этих устаревших площадок, обсуждалась противоударная стратегия Советов, которые могут заставить взрываться ядерные боеголовки прямо над этими прериями со скоростью раз в минуту. Ходили слухи о необходимости укрепления площадок и о снабжении их более совершенным новым оружием. Но эти политические проблемы отнюдь не волновали лейтенантов Дэниэла Била и Тома Волтерса. Это были просто двое молодых людей, промозглым весенним утром отправлявшихся на работу. — Ты как, Том? — спросил Бил. — Так себе, — ответил Волтерс, не отводя взгляда от отдаленного горизонта. — Сидел с этими туристами допоздна, старик? — Нет, — покачал головой Волтерс, — вернулся около восьми. Бил поправил сползавшие темные очки и ухмыльнулся. — Как же, как же... Рассказывай... фургон притормозил и свернул налево, на две покрытые гравием колеи, ведущие вверх, на северо-запад от шоссе. Они проехали три указателя, требующие остановиться тем, кто не имел разрешения въезда на засекреченную территорию, и развернулись. Через четверть мили от пропускного пункта они остановились у первых ворот. Все по очереди предъявили охранникам свои удостоверения, и те по радио передали сведения о фургоне впереди стоящим постам. Процедура повторилась и у въезда в центральный корпус. Лейтенанты Бил и Волтерс вышли из фургона и направились по огороженной дорожке к проходной. Тем временем машина развернулась по направлению к спуску и остановилась. Выхлопной дым повис в холодном утреннем воздухе. — Так ты сделал ставку у Смитти? — поинтересовался лейтенант, когда они вошли в кабину лифта. Скучающий охранник с М-16 с трудом подавил зевок. — Нет, — ответил Волтерс. — Ты серьезно? Мне казалось, ты хотел сделать ставку. Лейтенант Волтерс покачал головой. Они перешли в другую, маленькую кабину лифта и спустились на три этажа в центр управления запусков. Прежде чем войти в центр управления ракетами, они миновали еще два пункта проверки и отсалютовали дежурному офицеру в приемной. Часы показывали 7.00. — Лейтенант Бил заступил на дежурство, сэр. — Лейтенант Волтерс заступил на дежурство, сэр. — Ваши удостоверения, джентльмены, — обратился к ним капитан Хеншоу. Он тщательно сверил фотографии на удостоверениях с лицами стоявших перед ним молодых людей, хотя знал их уже более года. Затем капитан Хеншоу кивнул, сержант вставил кодированную охранную карточку в прорезь замка, и первая пневматическая дверь с шипением отворилась. Через двадцать секунд такой же поворот свершила вторая дверь, и оба лейтенанта ВВС вошли внутрь. Они отсалютовали предшествующей смене и улыбнулись. — Сержант, зарегистрируйте, что лейтенанты Бил и Волтерс сменили лейтенантов Лопеза и Миллера в... 7.01.30, — заметил капитан Хеншоу. — Слушаюсь, сэр. Два усталых человека покинули свои обитые дерматином кресла и передали новым дежурным толстые журналы, скрепленные тремя кольцами. — Что-нибудь есть? — поинтересовался Бил. — В 3.50 было зафиксировано какое-то нарушение связи с Землей, — ответил лейтенант Лопез. — Гас уже занимается этим. Обрыв наступил в 4.20, и все заработало на полную катушку в 5.10. Терри передал сигнал тревоги на Шестую Южную в 5.35. — Опять кролик? — поинтересовался Бил. — Нарушение пневматического сенсора. Вот и все. Ты не заснул, Том? — Нет, — откликнулся Волтерс и улыбнулся. — Не трогайте деревянные ручки программированного контроля, — напоследок предупредил лейтенант Лопез, и оба дежурных вышли. Бил и Волтерс закрыли за ними пневматические двери и вошли в длинное узкое помещение контроля за ракетами. Оба уселись в синие объемные кресла на колесиках, передвигавшиеся по проложенным колеям вдоль северной и западной стен, у которых стояли приборные пульты. Целеустремленно взявшись за дело и время от времени переговариваясь в закрепленные на головах микрофоны с дежурными на других участках командного центра, они проверили свои первые пять объектов. В 7.43 последовала контрольная связь с Омахой через Воррен, и лейтенант Бил передал сведения по двенадцати каналам. Вернув телефон обратно в синий ящик, он оглянулся на лейтенанта Волтерса. — Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь, Том? — Голова болит, — пожаловался Волтерс. — Возьми в аптечке аспирин. — Потом, — отмахнулся Волтерс. В 11.56, как раз в тот момент, когда Бил открывал термосы и коричневые пакеты, с военно-воздушной базы Воррен последовала команда о полной боевой готовности. В 11.58 Бил и Волтерс отперли красный сейф под вторым консолем, достали свои ключи и привели в действие последовательный механизм запуска ракеты. В 12.10.30 последовательные операции запуска были завершены, если не считать фактической зарядки и выпуска шестнадцати ракет с их ста двадцатью боеголовками. Они получили «добро» из Воррена, и Бил включил двухминутную систему готовности, когда Волтерс вдруг расстегнул свои пристежные ремни, встал и двинулся прочь от консоля. — Том, что ты делаешь? Нам надо передать это Эль Кону Два до завтрака, — заволновался Бил. — Голова болит, — снова сказал Волтерс. Лицо у него вдруг покрылось мертвенной бледностью, зрачки расширились и как-то неестественно заблестели. Бил достал с полки аптечку. — По-моему, здесь есть сильнодействующий анацин... И тут лейтенант Волтерс вынул свой автоматический револьвер 45-го калибра и выстрелил лейтенанту Билу в затылок, предварительно удостоверившись, что траектория полета пули пойдет вниз и не заденет пульта управления. Но пуля из черепа его напарника не вышла. Бил дернулся и упал вперед, повиснув на своих пристежных ремнях. Из-за гидростатического давления кровь хлынула из его глаз, ушей, носа, рта. Через несколько секунд после выстрела замигали два желтых огонька интеркома, а сигнализатор повреждений сообщил о том, что открывается внешняя пневматическая дверь. Волтерс неторопливо подошел к внутренней двери и включил кнопку, которая наполнила отсек самоуправления ракеты стопроцентным кислородом. Затем лейтенант вернулся в свое кресло и в течение нескольких минут изучал свой журнал. Безумный стук едва доносился из-за толстой стальной двери. Волтерс встал, подошел к пульту, вынул из кармана Била длинный ключ зажигания и вставил его в пусковую панель. Он повернул пять рычагов и включил энергоподпитку ядерных ракет, затем проделал то же самое на своем пульте и вставил свой ключ. Лейтенант Волтерс включил интерком. — ..черт побери, что вы делаете, лейтенант? — раздался голос полковника Андерсона из командного центра в Воррене. — Одному вам все равно не удастся ничего запустить. Немедленно откройте дверь! Волтерс выключил интерком и уставился на стрелку часов, продолжающую отсчитывать секунды. В соответствии с установленной последовательностью операций в это время под огромными бетонированными взлетными площадками должна была осуществляться зарядка взрывчатки, для того чтобы снести 110-тонные заслонки, расположенные на расстоянии в четверть мили, и обнажить гладкие стальные шахты и носы трехступенчатых межконтинентальных баллистических ракет. За шестьдесят секунд до зажигания завоют сирены, предупреждая о состоянии боевой готовности всех находящихся поблизости — инсекционные и ремонтные команды. В действительности их вой вспугнет разве что кроликов да пасущихся поблизости коров или случайного владельца ранчо, проезжающего мимо на своем пикапе. Ракеты работали на твердом топливе, ожидавшем лишь электронного включения, чтобы вспыхнуть. Запуск программ траектории, ведения, включения гироскопов и электронных механизмов уже был осуществлен в процессе подготовительной серии процедур. За тридцать секунд до зажигания компьютеры выдержат паузу, дожидаясь, когда сигнал запуска будет дан вторым ключом. Задержка может растянуться на неопределенное время, пока оба ключа не будут повернуты. Волтерс окинул взглядом консоль Била. Оба ключа находились на расстоянии шестнадцати футов друг от друга. Их надобыло повернуть в течение одной секунды. Военно-воздушные силы потрудились всерьез, чтобы гарантировать невозможность осуществить поворот обоих ключей одним человеком за необходимый отрезок времени. уголки рта Томи Волтерса задергались. Он подошел к консолю Била, оттолкнул кресло с трупом, так что оно отъехало в дальний конец пульта, и вытащил из кармана ложку и два мотка проволоки. Ложка была заблаговременно вынесена из офицерской столовой в Воррене. Волтерс привязал основание ложки к выступу ключа, приведя его в нужное положение, а более длинный кусок проволоки закрепил на ее черенке. Затем он вернулся к собственному пульту, натянул проволоку, дождался тридцатисекундной готовности и, повернув собственный ключ, сильно дернул за проволоку. Ложка оказалась достаточно подходящим рычагом, чтобы повернуть ключ Била. Компьютер воспринял сигнал запуска, подтвердил код активации, запрограммированной Волтерсом и Видом во время испытаний, и перешел к окончательной полуминутной последовательности операций перед запуском. Волтерс перекинул лист журнала и написал короткую записку, после чего поглядел на дверь. Там, где находился замок, сталь засветилась вишнево-красным светом. С противоположной стороны орудовали ацетиленовым паяльником. Оставалось минуты две до момента, когда металл наконец поддастся и дверь будет прожжена насквозь. Лейтенант Том Волтерс улыбнулся, сел в кресло, пристегнул ремни, запихал в рот дуло своего револьвера 45-го калибра, так что оно уткнулось в небо, и большим пальцем спустил курок.* * *
Через три часа генерал ВВС США Берн Кетчем вместе со своим помощником полковником Стивеном Андерсоном вышли из центра запуска, чтобы глотнуть свежего воздуха и выяснить причиненный ущерб. Стоянка и склон холма за зоной внутренней охраны были усеяны военными транспортными грузовиками и машинами «скорой помощи». На поле стояли пять вертолетов и еще два виднелись в небе. Полковник Андерсон посмотрел на безоблачный небосклон. — Интересно, что обо всем этом подумают русские. — К черту русских! — разозлился Кетчем". — Мне сегодня здорово достанется от всех, вплоть до вице-президента. Я не успею вернуться, как меня тут же с ним свяжут. И каждый будет интересоваться, каким образом могло такое произойти. И что мне им говорить, Стив? — Мы и раньше иногда сталкивались со сложностями, — задумчиво сказал Андерсон. — Но такого еще не было. Вы видели результаты последнего психиатрического обследования Волтерса, Всего два месяца назад. Нормален, умен, не женат, хорошо адаптируется к стрессовым ситуациям, честолюбив лишь в пределах служебных обязанностей, пунктуален в выполнении приказов, прошлой осенью входил в состав команды-победительницы на соревнованиях по запуску ракет в Вандербурге. Воображения не больше, чем вон у того мешка с углем. В общем, идеальный персонаж для службы на ракетной базе. Кетчем закурил сигару и выпустил облако дыма. — Так что же тогда произошло? Андерсон покачал головой и уставился на опускавшийся вертолет. — Ничего не понимаю. Волтерс знал, что завершающая процедура активации механизма запуска ракеты может быть осуществлена лишь в тандеме еще с двумя операторами, находящимися в отдельном контрольном центре. Он знал, что компьютеры будут выдерживать пятисекундную паузу, пока не получат оттуда подтверждения. Но ни за что ни про что убил Била и застрелился сам. — Эта записка у вас? — прорычал Кетчем, не вынимая сигары изо рта. — Так точно, сэр. — Отдайте ее мне. Предсмертная записка Волтерса была вставлена в пластиковую планшетку, хотя Кетчем не видел в этом никакого смысла, уж конечно, никто не станет снимать с нее отпечатков пальцев. Сквозь пластик была отчетливо видна запись: «В. Б. — К. А. Б. Королевская пешка на В6. Следите за своими ходами, Кристиан». — Какой-то шифр, да, Стив? — спросил Кетчем. — Этот шахматный бред что-нибудь говорит вам? — Нет, сэр. — Как вы думаете, может быть, К. А. Б. — это Комитет Авиационной Безопасности? — Не вижу в этом особого смысла, сэр. — А что это за бред про Кристиана? Волтерс что, верил в реинкарнацию или нечто похожее? — Нет, сэр. Согласно показаниям капеллана базы, лейтенант был унитарном, но службы в церкви никогда не посещал. — Буквы В, и Б, могут означать Волтерс и Бил, — предположил Кетчем, — но какой в этом смысл? Андерсон покачал головой. — Ни малейшего представления, сэр. Может, разведка или ФБР что-нибудь выяснят. По-моему, вот в том зеленом вертолете прилетел фэбээровец из Денвера. — Как мне не нравится, что они суют в это свой нос! — проворчал Кетчем, вынул сигару изо рта и сплюнул. — Таков закон, сэр, — откликнулся Андерсон, — они обязаны заниматься этим. Генерал Кетчем бросил на полковника такой взгляд, что тот вынужден был опустить глаза и со страшной заинтересованностью начать рассматривать складку на своих брюках. — Ладно, — наконец промолвил Кетчем, отбрасывая в сторону сигару, — пошли к этим гражданским попугаям. Хуже не будет. — Кетчем развернулся на каблуках и четким военным шагом направился к стоявшей в отдалении группе людей. Полковник Андерсон наклонился к брошенной генералом сигаре, удостоверился, что она погасла, и вприпрыжку бросился догонять командующего.Глава 8
Мелани Жизнь каким-то образом стала казаться более безопасной. Сквозь шторы и ставни просачивался мягкий свет, бросая отблески на знакомые предметы — темную спинку моей кровати, высокий шкаф, сделанный по заказу моих родителей в год наступления нового века, мои гребни на туалетном столике, лежащие в том же порядке, в котором они лежали много лет назад, стеганое одеяло бабушки, которым были покрыты мои ноги. Приятно было просто лежать и прислушиваться к деловитой суете людей, заполнявших дом. Говард и Нэнси расположились в гостевой комнате, по соседству с моей спальней, которая когда-то принадлежала родителям. Сестра Олдсмит спала на раскладушке рядом с дверью в моей комнате. Мисс Сьюэлл большую часть времени проводила на кухне, готовя для всех еду. Доктор Хартман жил через двор, но, как и остальные, в основном находился в доме, следя за состоянием моего здоровья. Калли спал в маленькой комнатке за кухней, которая когда-то принадлежала мистеру Торну, но спать ему приходилось не так уж много. По ночам он сидел в кресле у входной двери. Черномазый юноша спал на лежанке, которую мы соорудили для него на заднем крыльце. По ночам все еще было прохладно, но он не возражал. Мальчик Джастин проводил много времени со мной. Он расчесывал мне волосы, отыскивал книги для чтения и всегда находился под боком, когда мне нужно было послать кого-то с поручением. Иногда я просто отправляла его в свою комнату для шитья, и он сидел там в плетеном шезлонге, наслаждаясь лучами солнца, видом неба за сучьями деревьев и ароматом новых растений, которые покупал и рассаживал Калли. Мои фарфоровые статуэтки снова красовались в застекленной этажерке, которую я заставила негра починить. Было что-то приятное и волнующее в том, чтобы наблюдать за миром глазами Джастина. Его чувства и восприятие были настолько обострены, настолько незамутнены какими-либо корыстными соображениями, что иногда казались чуть ли не болезненными, и уж конечно, они завораживали. С каждым разом мне становилось все сложнее сосредотачивать свое внимание в пределах собственного тела. Сестра Олдсмит и мисс Сьюэлл с оптимизмом наблюдали за процессом моего выздоровления и настойчиво продолжали проводить все терапевтические мероприятия. Я позволяла им это и даже отчасти поощряла, ибо не испытывала ни малейшего желания снова начинать ходить, говорить, что означало бы возвращение в этот мир. Однако в какой-то мере обещанное ими улучшение пугало меня, ибо я понимала, что оно неизбежно повлечет за собой ослабление моей Способности. Каждый день доктор Хартман осматривал меня, ободрял и проводил необходимые исследования. Сестры купали меня, каждые два часа переворачивали с боку на бок и двигали мои конечности, чтобы суставы и мышцы не костенели. Вскоре после нашего возвращения в Чарлстон они приступили к процедурам, которые требовали активного участия с моей стороны. Я уже могла двигать левой рукой и ногой, но когда я совершала это, контролировать мое маленькое семейство становилось очень тяжело, поэтому вскоре мы ввели обычай, чтобы в течение часа моих оздоровительных процедур все, за исключением сестер, замирали и требовали бы от меня внимания не больше, чем лошади в стойле. К концу апреля я снова стала видеть левым глазом и смогла двигать своими конечностями. Я странно ощущала левую половину своего тела, словно лицо, рука, бок, бедро и нога постоянно находились под новокаиновой блокадой, однако неудобств мне это не доставляло. Доктор Хартман гордился мною. Он говорил, что я представляю собой редкий случай, так как в первые недели после кровоизлияния в мозг функции моих органов чувств были полностью заблокированы. И хотя наблюдалась картина явного левостороннего паралича, признаков пароксизма или нарушений зрения не было. Тот факт, что я молчала в течение трех месяцев, вовсе не означал, будто доктор заблуждался, полагая, что я не страдаю дисфункцией речи, столь часто встречающейся после удара. Я говорила каждый день — но устами Говарда, Нэнси, мисс Сьюэлл или еще кого-нибудь. После длительных разговоров с доктором Хартманом я пришла к собственному выводу, почему эта способность не была у меня нарушена. Инсульт поразил лишь правое полушарие мозга, речевые же центры, как у большинства людей, более активно пользующихся правой рукой, у меня были расположены в левом, неповрежденном полушарии. Но доктор Хартман объяснял, что зачастую больные со столь обширными кровоизлияниями временно перестают говорить, пока функции речевых центров не перемещаются в новые, неповрежденные участки мозга. Я поняла, что из-за моей Способности подобные перемещения происходили со мной постоянно. Теперь же, когда она возросла, я не сомневалась в том, что смогу восстановить все функции своего организма даже в том случае, если будут повреждены оба полушария. В моем распоряжении находился неограниченный запас здоровой мозговой ткани! Каждый, с кем я вступала в контакт, становился моим донором — нейронов, синапсов, речевых ассоциаций и запаса воспоминаний. Воистину я стала бессмертной! Именно в это время я осознала пользу для здоровья нашей Игры и механизмы наркотической зависимости от нее. Применяя Способность, особенно постоянно используя кого-либо, чего требовала Игра, мы делались моложе. Точно так же, как в наше время удлиняются жизни больных с помощью трансплантации органов и тканей, наши жизни обновлялись путем использования чужих сознаний, энергии, заемных РНК, нейронов и всех остальных изотерических составляющих, до которых низводит сознание современная наука. Когда я смотрела на себя — Мелани Фуллер чистыми глазами малыша Джастина, я видела скорчившуюся угасающую старуху, с введенными в болезненную руку иглами капельниц, с выпирающими костями, обтянутыми бледной кожей, но я знала, что это впечатление ошибочно — никогда еще не чувствовала себя такой молодой, как сейчас. Я впитывала энергию окружающих, как подсолнух накапливает солнечный свет, и знала, что вскоре смогу подняться со своего ложа, воскрешенная лучистой энергией, которая втекала в меня день за днем. Ночью меня пробудила ужасная мысль: «Боже милосердный, может, таким образом и Нине удалось ожить после смерти?» Если, претерпев кислородную смерть небольшого участка собственною мозга, мне удалось увеличить свою Способность, расширив ее до невиданных размеров, то разве не могла Нина, с ее гораздо большими ресурсами, за ту долю секунды, которая последовала за моим выстрелом, воскреснуть из мертвых? Чем отличалась ее дырочка во лбу от моего собственного инсульта? По прошествии часов и даже дней после нашей стычки Нянино сознание могло перескочить в сознание других мозгов. За последние годы я достаточно много читала о том, как жизнь в людях поддерживается с помощью разнообразной аппаратуры, которая заменяет, стимулирует или воспроизводит функции сердца, почек и еще бог знает чего. Поэтому я не видела никакого противоречия в том, что мощная Нинина Способность могла продолжать свое существование в чьих-нибудь чужих мозгах. "Нина разлагается в своем гробу, тогда как ее Способность дает возможность ее сознанию скользить во тьме бесформенным зловещим духом. Голубые Нинины глаза выпирают из глазниц под напором белых личинок, сжирающих ее мозг, но он все равно восстанавливается. Энергия всех использованных ею возвращается обратно в ее тело, и скоро Нина подымется в том же лучезарном блеске юности, силу которой я ощущаю теперь в себе, только труп Нины будет двигаться во сне." Явится ли она сюда, ко мне снова? Боже... В ту ночь никто из моей «семьи» не спал — одни сидели со мной, другие заслоняли меня от страшной тьмы за окном, и все же уснуть я не могла. Миссис Ходжес никак не хотела продавать свой дом, до тех пор пока доктор Хартман не предложил ей совершенно несусветную сумму денег. Я могла вмешаться в их переговоры, но, поглядев на миссис Ходжес, этого предпочла не делать. Прошло всего пять месяцев с того дня, как «в результате несчастного случая» погиб ее муж Джордж, она же за этот короткий срок постарела не меньше чем на двадцать лет. Прежде миссис Ходжес всегда тщательно следила за своими волосами и подкрашивала их искусственной вызывающей рыжей краской, теперь же ее волосы висели неубранными седыми прядями. Взгляд ее стал беспокойным. Она всегда была некрасива, но теперь она даже не пыталась скрыть свои морщины, бородавки и складки замазкой косметики. Мы уплатили запрошенную ею цену. Вскоре деньги должны были перестать быть для нас проблемой, к тому же, еще раз пристально взглянув на миссис Ходжес, я подумала о том, что в будущем смогу найти ей другое применение. Весна наступила незаметно, как это всегда бывает на моем любимом юге. Иногда я позволяла Калли выносить меня на руках в комнату для шитья, а раз — всего один раз — он вынес меня во двор, чтобы я отдохнула в шезлонге и посмотрела, как черномазый юноша вскапывает сад. Калли, Говард и доктор Хартман обнесли весь двор высоким забором высотой десять футов, так что я не боялась посторонних глаз, мне просто вредно было принимать солнечные ванны. Гораздо приятнее было мне разделять чувства с Джастином, когда он играл на траве или присоединялся к мисс Сьюэлл, которая загорала на патио. Дни становились все длиннее и теплее. Ко мне в открытые окна долетал ароматный воздух. Иногда мне казалось, что я слышу визг и смех внучки миссис Ходжес и ее подруги, но потом я поняла, что, скорее всего, это играют совсем другие дети, живущие в нашем квартале. Днем пахло свежескошенной травой, а ночью — медом. Благословенный мой юг... Я чувствовала себя в безопасности.Глава 9
Беверли-Хиллз Четверг, 23 апреля 1981 г. В четверг после полудня Тони Хэрод лежал на королевской постели в гостинице «Беверли-Хилтон» и размышлял о любви. Эта тема его никогда особенно не интересовала. Хэрод полагал, что любовь — это фарс, чреватый тысячью банальностей. Она оправдывала ту ложь, самообман и лицемерие, которыми полны были отношения между полами. Тони Хэрод гордился тем, что спал с сотнями, а может, и тысячью женщин и никогда не делал вид, что влюблен в них, хотя, возможно, в те последние секунды, когда они ему отдавались, в момент оргазма он и испытывал нечто напоминавшее любовь. Теперь же Тони Хэрод был влюблен, кажется, по-настоящему. Он поймал себя на том, что постоянно думает о Марии Чен. Его пальцы и ладони хранили подробную память о ее теле, повсюду ему чудился ее сладкий, неповторимый запах. Ее темные волосы, карие глаза и нежная улыбка постоянно витали в его сознании, как некий бестелесный образ, скользящий на периферии реальности, — образ был непрочным и ускользающим, растворялся при едином повороте головы. Одно ее имя, произнесенное вслух, вызывало в нем странные и необъяснимые чувства. Хэрод запрокинул руки за голову и уставился в потолок. Скомканные простыни еще хранили острый аромат секса, из ванной доносился плеск воды. Днем Хэрод и Мария Чен по-прежнему продолжали заниматься своими делами. Каждое утро, когда он возлежал в джакузи, она приносила ему почту, отвечала на телефонные звонки, писала письма под его диктовку, затем ездила на студию на съемки «Торговца рабынями» или на отсмотр эпизодов, снятых накануне. В связи с профсоюзными проблемами съемки были перенесены со студий Пайнхерста в Парамаунт, и Хэрод был рад, что мог наблюдать за работой, не покидая дом на долгое время. Накануне он смотрел пробы с Джанет Делакурт — двадцативосьмилетней коровой, взятой на роль семнадцатилетней нимфетки, и вдруг представил в главной роли Марию Чен, неуловимую смену ее настроений вместо грубых эмоциональных всплесков Делакурт, ее чувственную и соблазнительную смуглую наготу вместо бледного тяжелого тела снимавшейся старлетки. После Филадельфии Хэрод и Мария Чен лишь трижды занимались любовью — совершенно необъяснимое для Хэрода воздержание, возбуждавшее в нем такую страсть, что она уже переходила из сферы физической в психологическую. Большую же часть дня он думал о Марии. Ему доставляло удовольствие даже просто то, как она движется по комнате. Плеск воды в ванной прекратился, до Хэрода донеслись приглушенные шорохи и гуденье фена. Хэрод попробовал себе представить жизнь с Марией Чен. У них было достаточно денег, так что они могли спокойно собраться и уехать куда-нибудь и прожить без каких-либо проблем в течение двух-трех лет. Они могли уехать куда угодно. Хэроду всегда хотелось все бросить, найти небольшой островок на Багамах или где-нибудь еще и посмотреть, удастся ли ему написать что-то стоящее, кроме дешевых киношных эпизодов. Он представлял себе, как пишет Баренту и Кеплеру записку с советом убираться ко всем чертям собачьим и исчезает. Воображал, как Мария Чен идет по берегу в своем синем купальном костюме и как они вдвоем завтракают кофе с круассанами, любуясь восходящим над лагуной солнцем. Тони Хэроду нравилось быть влюбленным. Джанет Делакурт вышла из ванной обнаженная и тряхнула головой, ее длинные белокурые волосы рассыпались по плечам. — Тони, малыш, у тебя нет сигареты? — Нет. — Хэрод открыл глаза и посмотрел на Джанет — потасканное лицо пятнадцатилетней девочки и потрясная грудь, по сравнению с которой любая другая выглядела бы жалким подобием. Она снялась в трех фильмах, но ее актерские способности так и остались милостиво нераскрытыми. Кинодива была замужем за шестидесятитрехлетним техасским миллионером, который купил ей чистопородного скакуна, роль оперной примадонны, над которой в течение нескольких месяцев потешался весь Хьюстон. Теперь же миллионер скупал для нее Голливуд. Режиссер «Торговца рабынями» Шу Уильяме неделю назад заявил Хэроду, что Делакурт не может изображать падение с чертовой скалы, предлагаемое по сценарию. Хэрод напомнил ему, из каких источников был получен бюджет в девять миллионов долларов, и предложил в пятый раз переписать сценарий, чтобы избавиться от тех сцен, в которых Джанет должна была делать нечто выходящее за пределы ее возможностей, — ничего же не стоит добавить ей еще пару гаремных сцен в купальнях. — О'кей, у меня есть в сумочке. — Джанет принялась копаться в холщовой сумке, превышавшей по своим размерам ту, которую Хэрод обычно брал с собой в путешествия. — У тебя разве нет на сегодня второго вызова? — спросил Хэрод. — Еще одной пробы сцены в сериале с Дергком? — Ага. — Она затолкала в рот жевательную резинку и принялась жевать ее, не вынимая сигареты изо рта. — Шу сказал, что наша проба во вторник — это, наверно, лучшее, на что мы способны. — Она легла на живот, опершись на локти и положив на бедро Хэрода груди, как тяжелые дыни на прилавок фруктовой лавки. Хэрод закрыл глаза. — Тони, малыш, это правда, что оригинал пленки хранится у тебя? — Какой пленки? — Ну, ты знаешь. Той, где маленькая Шейла Беррингтон трудится над членом какого-то педераста. — Ах, эта?.. — О Господи, за последние несколько месяцев я видела эту десятиминутную запись уже по меньшей мере в шестидесяти домах. Такое ощущение, что людям не надоедает смотреть на нее. Но ведь у нее же вообще нет сисек! Хэрод промычал нечто невразумительное. — Я видела ее на этом благотворительном вечере. Ну, знаешь, тот, который устраивался для больных детей, как это там называется... Она сидела за столом с Дрейфусом, Клинтом и Мерил. По-моему, она такая надутая, наверно, считает, что ее пуканье не пахнет, понимаешь, о чем я? Так ей и надо, что все стали над ней смеяться и что она выглядела глупо. — Над ней действительно стали смеяться? — Конечно. Дон такой смешной. Знаешь, он так смешно умеет говорить. Он подошел к Шейле и сказал нечто вроде: «Мы удостоены присутствия одной из прелестнейших русалок со времен Эстер Уильяме, которая трахалась в купальной шапочке», может, еще смешнее... Так у тебя есть? — Что есть? — Ну, оригинал этой записи? — Какая разница, у кого оригинал, если копии разошлись по всему городу? — Тони, малыш, мне просто интересно, вот и все. Я считаю, это хорошая месть за то, что Шейла дала тебе от ворот поворот с «Торговцем гусынями» и вообще. — "Торговец гусынями"? — Ну, Шу так называет этот фильм. Вроде как Крис Пламмер всегда называет «Звуки музыки» «Звуками мускуса», знаешь? Мы все так называем эту работу. — Забавно, — пробормотал Хэрод. — А кто сказал, что Беррингтон вообще предлагали там роль? — Ну, малыш, всем известно, что ей первой предложили. Я думаю, если бы наша мисс Лучезарная подписала бы контракт, фильм получился гораздо хуже, — Джанет Делакурт загасила сигарету. — А теперь она вообще ничего не может получить. Я слышала, что Диснеевская группа отказалась от большого мюзикла с ее участием, а Мари вышвырнула ее из этой специальной программы, которую они делали на Гавайях. Ее старая мормонская мамаша подергалась-подергалась и получила инфаркт или еще что-то. Плохо. — Джанет принялась перебирать пальцы на ногах Хэрода, ерзая грудями взад и вперед по его ногам. Тони Хэрод подтянул ноги к животу и сел на край кровати. — Пойду приму душ. Ты еще не уйдешь? Джанет Делакурт выдула пузырь из своей резинки, перекатилась на спину и наградила Хэрода улыбкой. — А ты очень хочешь, чтобы я осталась? — Не особенно, — признался Хэрод. — Ну и пошел к черту, — без какой-либо враждебности в голосе произнесла Джанет. — Пойду прошвырнусь по магазинам.* * *
Через сорок минут Хэрод вышел из «Беверли-Хилтон» и протянул ключи парню в красном пиджаке и белых брюках. — Которую сегодня, мистер Хэрод? — поинтересовался тот. — «Мерседес» или «феррари»? — Серую фрицевскую тачку, Джонни, — ответил Хэрод. — Будет сделано, сэр. Хэрод прищурился и принялся рассматривать сквозь свои зеркальные очки пальмы и синее небо. На его взгляд, пейзажа скучнее, чем в Лос-Анджелесе, не было нигде в мире. Разве что в Чикаго, где он вырос. К Хэроду подкатил «Мерседес», и Тони уже протянул руку с пятидолларовой банкнотой, когда увидел в машине улыбающееся лицо Джозефа Кеплера. — Садись, Тони, — промолвил Кеплер. — Надо кое о чем поговорить. Кеплер направился к каньону Холодная Вода. Хэрод не спускал с него глаз. — Охрана в «Хилтоне» действительно становится дерьмовой, — заметил он. — Нынче в твоей машине может оказаться любой уличный бродяга. Губы Кеплера дернулись в улыбке. — Джонни меня знает, — пояснил он. — Я сказал ему, что это розыгрыш. Хэрод невесело хохотнул. — Мне надо поговорить с тобой, Тони. — Ты уже это сказал. — Ты такой сообразительный, да, Тони? — Хватит молоть языком! — оборвал его Хэрод. — Если тебе есть что сказать, говори. Кеплер на огромной скорости вел «Мерседес» по дороге, петлявшей вдоль каньона, одной правой рукой, положив кисть левой на середину руля. — Твой дружок Вилли сделал еще один ход, — высокомерно бросил он сквозь зубы. — Тормозни-ка, — заявил Хэрод, — побеседуем здесь, но если ты еще раз назовешь его моим дружком, мне придется вогнать тебе зубы в глотку. Понял, Джозеф, старина? Кеплер искоса взглянул на Хэрода и усмехнулся краешками губ. — Вилли сделал следующий ход, и теперь на него надо отвечать. — Что он натворил на сей раз? Трахнул жену президента или еще что-нибудь? — Нет, нечто более серьезное и драматичное. — Мы что, так и будем играть в вопросы и ответы? — В конце концов, неважно, что он сделал, в газетах ты об этом не прочтешь, но это представляет собою нечто такое, чего Барент не может оставить без внимания. Это означает, что твой... что этот Вилли намерен делать высокие ставки, и нам придется отвечать ему тем же. — Переходим к тактике выжженной земли? — поинтересовался Хэрод. — Будем убивать каждого американского немца старше пятидесяти пяти лет от роду? — Нет, мистер Барент намерен вступить в переговоры. — А как вы собираетесь это сделать, если вы даже не можете найти старого негодяя? — Хэрод глядел на проносящиеся мимо склоны, подернутые дымкой тумана. — Или вы по-прежнему считаете, что я поддерживаю с ним связь? — Нет, — Кеплер покачал головой, — зато я поддерживаю. Хэрод вздрогнул от неожиданности и выпрямился. — С Вилли? — воскликнул он. — А мы о ком говорим? — " Где... как ты отыскал его? — Я его не искал. Я написал ему. Он ответил. Мы поддерживаем весьма приятную деловую переписку. — А куда же ты отправил свое письмо? — Я послал заказное письмо в его домик в лесах Баварии. — В Вальдхайм? Старое поместье возле чешской границы? Но там же нет ни души! Люди Барента следят за ним с декабря, когда я еще был там. — Верно, — откликнулся Кеплер, — но сторожа продолжают присматривать за домом. Немцы, отец и сын по фамилии Мейер. Мое письмо не вернулось, а через несколько недель я получил ответ от Вилли. Проштамповано во Франции. Второе письмо было из Нью-Йорка. — И что он пишет? — спросил Хэрод. Почему-то эти сведения его так взбесили, что сердце подпрыгнуло и заколотилось в горле. — Вилли пишет, что единственное, чего он хочет, — это вступить в клуб и отдохнуть этим летом на каком-нибудь острове. — Ха! — только и смог воскликнуть Хэрод. — И, знаешь, я ему верю, — продолжал Кеплер. — Думаю, его обидело то, что мы не пригласили его раньше. — К тому же его могло вывести из себя то, что вы подстроили ему авиакатастрофу и подзуживали против него его старую подружку Нину, — предположил Хэрод. — Возможно, это тоже, — кивнул Кеплер. — Но мне кажется, он готов забыть старые обиды. — А что говорит Барент? — Мистер Барент не знает, что я нахожусь в контакте с Вилли. — О Господи! — выдохнул Хэрод. — А не слишком ли ты рискуешь? Кеплер ухмыльнулся. — Он действительно обработал тебя, Тони? Нет, я не слишком рискую. Барент не сделает ничего страшного, даже если узнает об этом. После исчезновения Чарлза и Нимана коалиция К. Арнольда потеряла былую силу и прочность. Не думаю, что Барент хочет один развлекаться на острове. — Ты собираешься сказать ему? — Да, — ответил Кеплер. — Я думаю, после того что произошло вчера, Барент будет только благодарен, что мне удалось связаться с Вилли. Барент согласится на включение старика в летние забавы, если удостоверится в том, что это безопасно. — А разве это может быть безопасным? — удивился Хэрод. — Неужели ты не понимаешь, на что способен Вилли? Этот старый сукин сын не остановится ни перед чем. — Вот именно, — согласился Кеплер, — но думаю, мне удалось убедить нашего бесстрашного вождя, что гораздо безопаснее иметь Вилли при себе, где за ним можно наблюдать, чем где-то в тени, откуда он, как царь пауков, будет выхватывать нас поодиночке. К тому же Барент продолжает тешить себя надеждой, что ни один человек, с которым он вступил в... э-э... личный контакт, не представляет угрозу для него. — Ты думаешь, он сможет нейтрализовать Вилли? — А ты как думаешь? — с искренней заинтересованностью переспросил Кеплер. — Не знаю. — Хэрод пожал плечами. — Способность Барента представляется мне уникальной. Что же касается Вилли... я не уверен в том, что он обычный человек. — Это не имеет никакого значения, Тони. — Что ты имеешь в виду? — Я имею в виду, что, возможно, Клуб Островитян нуждается в смене исполнительного руководства. — Ты говоришь о свержении Барента? Как же это можно сделать? — Нам ничего не надо будет делать, Тони. Единственное, что мы должны, — это продолжать поддерживать связь с нашим корреспондентом Вильгельмом фон Борхертом и постараться убедить его в том, что мы займем нейтральную позицию в случае каких-либо... неприятностей на острове. — Вилли будет участвовать в проведении летнего лагеря? — В последний вечер общих мероприятий, — кивнул Кеплер. — А затем пробудет с нами всю следующую неделю, чтобы поучаствовать в охоте. — Сомневаюсь, чтобы Вилли вот так просто отдался во власть Баренту, — заметил Хэрод. — У Барента... сколько там... сотня охранников? — Скорее, две сотни, — поправил его Кеплер. — С такой армией даже со Способностью Вилли не справиться. С чего бы ему идти на такое? — Барент даст слово чести, что Вилли будет обеспечен безопасный проход. Хэрод рассмеялся. — Ну, тогда, я думаю, все в порядке. Если Барент даст свое слово, тогда уж Вилли наверняка положит голову на плаху, — съязвил он. Кеплер свернул вниз по дороге на Малхолланд. Еще ниже виднелось шоссе. — Но ты же представляешь себе альтернативу, Тони. Если Барент уничтожит старика, мы просто вернемся к своим делам, имея тебя в качестве полноправного члена. Если у Вилли в кармане есть какой-нибудь сюрприз, мы с распростертыми объятиями примем его к себе. — Ты уверен, что сможешь сосуществовать с Вилли? — поинтересовался Хэрод. Кеплер свернул на стоянку неподалеку от Голливудской Чаши, на которой стоял серый лимузин с тонированными стеклами. — Когда ты проживешь с гадюками столько, сколько прожил я, Тони, — заметил Кеплер, — то поймешь: не так уж важно, каким ядом обладает новая, главное, чтобы она не кусала своих соседей. — А как насчет Саттера? Кеплер выключил мотор «Мерседеса». — Перед приездом сюда у меня был долгий разговор с преподобным. Несмотря на то что он с нежностью относится к своей долгой дружбе с Кристианом, он не сомневается в том, что надо отдать кесарю кесарево... — То есть? — То есть надо заверить Вилли в том, что Джимми Уэйн Саттер не будет возражать, если портфель мистера Барента перейдет в другие руки. — Знаешь что, Кеплер, — сказал Тони Хэрод. — Ты не умеешь выразить ни одной простой мысли, даже когда от этого зависит твоя жизнь. Кеплер улыбнулся и открыл дверцу машины. — Так ты с нами или нет, Тони? — громко спросил он, голосом перекрывая вой сигнализации. — Если быть с вами означает тихо сидеть и не влезать в это дерьмо, то да, — с вами, — ответил Хэрод. — Мысль выражена достаточно просто и ясно, — парировал Кеплер. — Твой дружок Вилли хочет знать, на чьей ты стороне: с нами или нет? Хэрод окинул взглядом залитую солнцем стоянку, повернулся к Кеплеру и произнес устало: — Я с вами.* * *
Было уже почти одиннадцать вечера, когда Хэрод решил съесть парочку хот-догов с горчицей и луком. Он отложил в сторону сценарий, переписыванием которого занимался, и отправился в западное крыло дома. В щель под дверью комнаты Марии Чен все еще виднелся свет. Он дважды постучался. — Я собираюсь в "Пинко. Хочешь со мной? Голос Марии прозвучал приглушенно, словно она говорила из ванной. — Нет, спасибо. — Ты уверена? — Да, спасибо. Хэрод натянул свой кожаный пиджак и вывел из гаража «Феррари». Он получал удовольствие от езды, от резкого переключения скоростей, проскакивания на, желтый свет и гонки с двумя соперниками, которые имели наглость соревноваться с ним на бесконечном бульваре. «Пинке» был переполнен. Там всегда были толпы народу. Хэрод съел два хот-дога за стойкой, а третий взял с собой. Между темным фургоном и его машиной стояли подростки. Один из них даже облокотился на его «Феррари», беседуя с двумя девушками. Хэрод подошел к нему. — Проваливай, пацан, а то тебе не поздоровится, — прорычал он. Парень был на шесть дюймов выше Тони, но отскочил от «Феррари» так, будто случайно прикоснулся к раскаленной плите. Вся четверка медленно двинулась прочь, время от времени оглядываясь на Хэрода и дожидаясь того момента, когда расстояние станет достаточно безопасным, чтобы можно было облить его потоками ругани. Хэрод оценивающим взглядом посмотрел вслед двум девицам. Та что пониже была шикарной чикано — черноволосая, смуглая, в дорогих шортах и обтягивающей майке, которая, казалось, сдавливала ее полную грудь. Хэрод представил себе, как удивятся мальчики, если эта шоколадка усядется к нему в «Феррари» и он слегка облегчит то давление, в эластике которого задыхались ее пышные формы. «А, к черту, — вздохнул Хэрод. — Я слишком устал». Сев за руль, он доел третий хот-дог, запил его остатками кока-колы и уже включил зажигание, когда вдруг послышался тихий голос: — Мистер Хэрод. Открылась дверь стоящего рядом фургона. Впереди, рядом с местом водителя, свесив длинные ноги, сидела чернокожая цыпочка. Хэрод различил что-то знакомое в ее чертах и механически улыбнулся, еще не отдавая себе отчета в том, где и при каких обстоятельствах он ее видел. Она держала на коленях какой-то предмет, обхватив его руками. Хэрод захлопнул дверцу и уже дотронулся до переключателя скоростей, когда раздался легкий хлопок, какой издавали глушители в его бесчисленных шпионских фильмах, и в его левое плечо впилось какое-то жало. — Черт! — воскликнул Хэрод, поднял правую руку, чтобы стряхнуть насекомое, успел сообразить, что это не оса... Но тут перед его глазами все поплыло, и пульт управления врезался ему в лицо. Сознание окончательно Хэрод так и не потерял, но ощущения, испытываемые им, весьма напоминали беспамятство. Казалось, кто-то запер его в подвале его собственного тела. Звук и изображение смутно доносились до него, будто он смотрел передачу отдаленной дециметровой станции по дешевому черно-белому телевизору, а радио из соседней комнаты передавало искаженную помехами волну. Затем кто-то накрыл капюшоном его голову. Он ощутил легкую качку, словно находился на борту маленькой шлюпки, но это ощущение было каким-то обманчивым, расплывчатым и недостоверным. Потом его куда-то понесли, по крайней мере, так ему казалось, возможно, он сам схватил себя руками за ноги, хотя, впрочем, нет, руки его были крепко связаны за кисти сзади каким-то ремнем. Прошло еще сколько-то времени. Хэрод пребывал в нигде, плавая где-то внутри себя в приятном первозданном супе обманчивых ощущений и сбивчивых воспоминаний. Откуда-то издалека до него доносились два голоса. Один из них явно принадлежал ему, но разговор — если это был разговор — вскоре надоел ему, и он снова погрузился во внутреннюю тьму с той же пассивной безучастностью, с какой тонущий ныряльщик позволяет унести себя грузам и течению в пурпурную тьму. Тони Хэрод осознавал — с ним происходит что-то очень плохое, но почему-то ему было на это глубоко наплевать. Его разбудил свет. Свет и боль в запястьях. Свет, боль в запястьях и еще одна нестерпимая боль, которая заставила его вспомнить о «чужих» Ридли Скотта, когда тварь вылезает там из груди бедного сукина сына. Кто его исполнял? А, Джон Херт. Что это за свет режет ему глаза? Почему так болят запястья? Что такое он пил накануне, если в голове у него все так перевернулось?.. Хэрод попытался сесть — и вскрикнул от боли. Этот крик, казалось, разодрал пленку, продолжавшую отделять его от окружающего мира, и он начал обращать внимание на то, что еще недавно казалось неважным. Он был в наручниках. Лежал в постели в наручниках. Его правая рука лежала на подушке, кольцо же наручника, больно обхватившее запястье, было присоединено к мощному металлическому изголовью кровати. Левая рука лежала вдоль тела, и ее наручник был прикреплен к какой-то неподвижной части, находящейся под матрасом. Хэрод попытался поднять левую руку и услышал металлический скрежет. Значит, к остову. Или к трубе. Или еще к чему-нибудь. Он не был еще в состоянии повернуть голову, чтобы убедиться в этом. Возможно, он сможет сделать это позднее. «Черт, с кем я провел ночь?» У Хэрода было несколько подружек с садо-мазохистскими наклонностями, но он никогда не позволял себе оказываться в роли жертвы. «Слишком много выпил? И Вита наконец завлекла меня в свою комнату наслаждений?» Он открыл глаза и, невзирая на боль, доставляемую режущим светом, заставил себя не закрывать их больше. Белая комната, белая кровать, простыни, медные спинки, тоже зачем-то выкрашенные в белый свет, белые стены, на противоположной стене небольшое зеркало в белой крашеной раме, дверь. Белая дверь с белой ручкой. С потолка на белом шнуре свисает единственная голая лампочка — ватт эдак сотен в десять, насколько мог судить Хэрод по излучаемому ею резкому свету. Сам он лежал почему-то в белой больничной рубашке. Он ощутил разрез на спине и почувствовал, что кроме рубашки на нем ничего нет. Слава Богу, это не Вита. Ее комната наслаждений была отделана камнем и бархатом. У кого из его знакомых был эдакий медицинский задвиг? Ни у кого. Хэрод подвигал кистями и ощутил под наручниками свежие ссадины. Он чуть наклонился влево и посмотрел вниз. Белый пол. Левое запястье приковано к белому металлическому остову кровати. Больше двигаться было незачем. Разве что накатит приступ рвоты, тогда он заблюет весь этот чистенький белый пол. Это надо было обдумать. На какое-то время Хэрод погрузился в забытье. Когда позднее он пришел в себя, горел все тот же режущий глаза свет, он находился все в той же белой комнате, разве что голова стала болеть чуть меньше. Тогда он вспомнил о психиатрических клиниках. Неужели кто-то умудрился затолкать его в подобное местечко? Но в психушках больным не надевают наручники. Или надевают? Его охватил такой ужас, что он начал брыкаться и дергаться, скрежеща металлом о металл, пока полностью не обессилел. Барент, Кеплер, Саттер — эти низкопробные сукины дети куда-то запрятали его, и теперь остаток жизни он проведет, глядя на белые стены и писая под себя?! Нет, эта компания не стала бы так поступать. Они бы просто убили его. А потом Хэрод вспомнил «Пинко, подростков, фургон и черную цыпочку. Она была той самой. Что о ней говорил Колбен в Филадельфии? Они считали, что ее и шерифа использует Вилли. Но шериф погиб..» Хэрод присутствовал при этом, когда Кеплер и Хейнс подкинули его труп на автобусную станцию в Балтиморе, чтобы его не связали с их фиаско в Филадельфии. А кто теперь использовал ее? Вилли? Возможно. Возможно, он не удовлетворился посланием, которое отправил Кеплер. Но к чему все это? Хэрод решил на время перестать думать. Этот процесс был слишком болезненным. Лучше подождать, пока не появится кто-нибудь. Если придет чернокожая цыпочка и окажется, что Вилли или кто-нибудь другой держит ее не слишком крепко, можно будет устроить для них небольшой сюрприз. Хэроду нестерпимо хотелось писать, и он уже кричал в течение некоторого времени, когда дверь наконец открылась. В комнату вошел мужчина. На нем был зеленый хирургический костюм, на голове — черный капюшон с зеркальными очками вместо глаз. Хэрод вспомнил о солнечных очках Кеплера, а потом об убийце в сериале «Вальпургиева ночь», который они снимали вместе с Вилли, и тут же чуть было не описался. Но это был не Вилли. Хэрод сразу это понял. Не был он и Томом Рэйнольдсом — пешкой Вилли с пальцами душителя. Впрочем, это не имело значения. У Вилли было время набрать легионы новых пешек. Хэрод попытался проникнуть в него. Он действительно попытался, но в последнюю секунду его охватило уже известное ему отвращение, оказавшееся еще более сильным, чем предшествующая тошнота и головная боль, и он отстранился прежде, чем его волевой импульс сумел проникнуть в чужое сознание. Хэрод готов был скорее вылизать чужую задницу или взять в рот чужой пенис, чем вторгнуться в чужое сознание — даже это казалось ему более простой и менее интимной процедурой. Одна мысль о вторжении в чужое сознание заставила его вздрогнуть. Тело его покрылось холодным потом. — Кто вы? Где я? — слова звучали неразборчиво, он едва ворочал одеревеневшим языком. Мужчина подошел к кровати и посмотрел на Хэрода. Затем он залез под свою хирургическую куртку и вытащил револьвер. — Тони, — произнес он с мягким акцентом, целясь Хэроду в лоб, — я досчитаю до пяти, а потом выстрелю, так что если ты хочешь что-нибудь сделать — делай это сейчас. Хэрод напряг руки так, что кровать затрещала. — Раз... два... три... Мысли Хэрода заскакали как сумасшедшие, но тридцать лет самообработки не давали ему возможности вступить в контакт с мужчиной. — ..четыре... Хэрод закрыл глаза. — ..пять. — Щелкнул взведенный курок, но выстрела не последовало. Когда Хэрод открыл глаза, мужчина уже стоял около двери, револьвера в его руках не было. — Вам что-нибудь надо? — спросил он тихо, с небольшим акцентом. — Судно, — умоляюще прошептал Хэрод. Капюшон благосклонно качнулся. — Сестра сейчас принесет. Хэрод дождался, когда закроется дверь, и крепко зажмурился, пытаясь сосредоточиться. «Сестра, — думал он. — Боже милостивый. Пусть это будет старомодная клуша с торчащими сиськами и прорезью между ног». Он принялся ждать. Сестра оказалась чернокожей. Той самой, из Филадельфии. Той самой, которая стреляла в него и доставила его сюда. Он вспомнил, как ее звали. Натали. У него к ней накопился большой счет. На ней не было капюшона, зато к вискам белым пластырем были прикреплены какие-то тонкие провода, датчики, убегавшие назад и переплетенные с ее кудрявыми волосами. В руках у нее было судно, которое она профессионально установила под тело Хэрода и отошла в сторону. Еще облегчаясь, Хэрод слегказаскользил по ее сознанию. Нет, девушку никто не использовал. Он даже не мог поверить себе, что они оказались настолько глупыми, кем бы они ни были. А может, их всего двое? Эта глупая черная сучка и ее сообщник? Колбен, помнится, что-то говорил: они охотятся за Мелани Фуллер. Вероятно, они не догадывались о том, на что он сам был способен. Хэрод подождал, пока она вынимала судно и направлялась обратно к двери. Ему надо было удостовериться, что дверь не заперта. Это было бы в стиле шуток Вилли — оставить их взаперти, предоставить Хэроду возможность использовать кого-то и лишить его какого-либо способа использования. И что это за датчики были на ее волосах? Хэрод видел их в каких-то фильмах о больницах, но их закрепляли на пациентах, а не на сестрах. Девушка тем временем открыла дверь. Он вторгся в нее с такой скоростью и такой силой, что она выронила судно и моча полилась по ее белой юбке. «Ну-ка, девочка, — велел Хэрод, протолкнул ее сквозь дверной проем и осмотрелся ее глазами. — Достань мне ключи, — распорядился он. — Любым способом убей этого педераста, достань ключи и вытащи меня отсюда». За дверью виднелся небольшой коридорчик, упиравшийся в следующую дверь. Эта дверь была заперта. Он заставил Натали кидаться на дверь, пока не почувствовал, что у нее вывихнуто плечо, и тогда она стала царапать дверь. Дверь не поддавалась. «К черту!» Он заставил ее вернуться обратно в комнату. Вокруг не было ничего, что можно было бы использовать как оружие. Она подошла к кровати и стала дергать за наручники. Если бы она могла разбить кровать, расчленить ее основу. Но достаточно быстро это было сделать невозможно, пока Хэрод оставался прикованным к изголовью и раме одновременно. Он взглянул на себя ее глазами и увидел небритую щетину на бледных щеках, свои расширенные глаза и свалявшиеся курчавые волосы. Зеркало. Хэрод посмотрел в него и понял, что это тонированное стекло, обладающее односторонней прозрачностью. Если понадобится, он заставит Натали разбить его голыми руками. А если и оттуда не будет выхода, он заставит ее воспользоваться осколками стекла, чтобы убить того типа в капюшоне, когда он войдет. Если зеркало не разобьется, он заставит ее биться физиономией о стекло до тех пор, пока от ее лица не останется ничего, кроме черепа с обвисшими ошметками черной кожи. Что-что, а уж он устроит шоу для тех, кто наблюдает за ним с противоположной стороны. Когда же они войдут, она вцепится им в глотки и будет рвать их зубами и ногтями, вырвет у них оружие и раздобудет ключи... Но тут дверь распахнулась, и в комнату снова вошел человек в капюшоне. Натали повернулась и присела, готовясь к прыжку. На ее лице появился оскал, который можно увидеть только в зоопарке на звериной морде, когда время кормежки слишком долго откладывается. Человек в капюшоне выстрелил из ружья, которое держал в руках, и попал ей в бедро. Натали прыгнула вперед, вытянув руки. Мужчина схватил ее и осторожно опустил на пол. Затем он встал рядом с нею на колени, взял ее за запястье, чтобы посчитать пульс, и, приподняв веко, заглянул в зрачок. Поднявшись, врач подошел к кровати Хэрода. — Сукин сын! — произнес он дрожащим голосом, затем повернулся и вышел из комнаты. Через некоторое время он вернулся, набирая в шприц какую-то жидкость из ампулы. Выпустив из шприца несколько капель, мужчина обратился к Хэроду тихим сдавленным голосом: — Это будет немножко больно, мистер Хэрод. Хэрод попытался отдернуть левую руку, но мужчина воткнул иглу прямо ему в бедро через рубашку. В течение секунды Тони ощущал лишь немоту, а потом ему показалось, что кто-то внутривенно ввел ему шотландский виски. Пламя охватило его от бедер до груди. У Хэрода перехватило дыхание, когда жар подобрался к самому сердцу. — Что... что это? — прошептал он, осознавая, что человек в капюшоне убил его. Летальная инъекция, как называла это бульварная пресса. Хэрод всегда был сторонником смертной казни. — Что это? — Заткнись, — рявкнул мужчина и повернулся спиной, а тьма уже поглотила и кружила сознание Тони Хэрода, унося его прочь, как щепку в бушующем море.Глава 10
Неподалеку от Сан-Хуан Капистрано Пятница, 24 апреля 1981 г. Натали выбралась из тумана анестезии и ощутила нежное прикосновение Сола, утиравшего ей лоб влажным полотенцем. Она бросила взгляд вниз, увидела, что ее руки и ноги привязаны ремнями, и разрыдалась. — Ну-ну, — успокоил ее Сол, склонился ниже и поцеловал в голову. — Все в порядке. — Как... — начала было Натали, умолкла и облизнула губы — они казались резиновыми и чужими. — Сколько? — Около получаса, — ответил Сол. — Возможно, мы слишком поскромничали с раствором. Натали покачала головой. Она вспомнила весь ужас, испытанный ею, когда снова насиловали ее мозг. Вспомнила, как готовилась прыгнуть на Сола. Она понимала, что в тот момент могла бы убить его голыми руками. — Быстро... — прошептала она. — А Хэрод? — она с трудом заставила себя произнести это имя. Сол кивнул. — Первый допрос прошел очень удачно. Электроэнцефалограмма замечательная. Скоро он начнет выходить из этого состояния. Поэтому-то... — Он указал на ремни. — Я понимаю, — кивнула Натали. Она сама помогала оснастить кровать этими ремнями. Сердце у нее все еще колотилось от невероятного адреналинового выброса, происшедшего в то время, пока ее сознанием владел Хэрод, и от страха, который она испытывала, прежде чем войти к нему в комнату. Войти оказалось сложнее всего. — По-моему, картина весьма примечательная, — сказал Сол. — Согласно электроэнцефалограмме, он не пытался использовать ни тебя, ни меня, пока находился под воздействием пентотала натрия. Уже минут пятнадцать как он выходит из этого состояния... показатели выглядят почти так же, как установленные сегодня утром... больше он не пытался восстановить контакт с тобой. Я почти уверен, что для установления первоначального контакта или восстановления прерванного необходимо визуальное общение. Конечно, с обработанными субъектами картина будет выглядеть иначе, но не думаю, что он сможет использовать тебя не напрямую. Ему нужен непосредственный контакт, он должен тебя видеть... Натали изо всех сил старалась не расплакаться. Не то чтобы ремни ее очень обременяли, но они вызывали в ней неприятное чувство клаустрофобии. От электродов, закрепленных на голове, к телеметрической установке на ее груди сбегали маленькие проводки. Сол знал об этой аппаратуре от своих коллег, занимавшихся изучением сна, и поэтому смог точно указать Коуэну, где ее приобрести. — Мы просто не знаем... — вздохнула Натали. — Мы знаем гораздо больше, чем двадцать четыре часа назад, — возразил Сол и вытянул две длинные бумажные ленты с записью ЭЭГ. Самописец компьютера дикими каракулями отметил пики и впадины. — Посмотри на это. Видишь, сначала появляются эти периодические провалы в гипокампусе. Амплитуда волн альфа постепенно уменьшается, практически сходит на нет, а затем переходит в состояние, которое можно квалифицировать как быстрый сон. А вот через три секунды... смотри... — Сол вытащил вторую ленту, на которой пики и ровные участки почти идеально соответствовали тем, что были изображены на первой. — Полное совпадение. Ты лишилась всех функций высшей нервной деятельности, потеряла контроль над произвольными рефлексами, даже периферическая нервная система оказалась в полном подчинении Хэрода. Потребовалось четыре секунды на то, чтобы ты подключилась к его искаженному состоянию быстрого сна или чем там оно является. Но, возможно, самая интересная аномалия — это то, что Хэрод начинает генерировать здесь ритм Тета. Это совершенно неоспоримо. И твой гипокампус начинает реагировать идентичным Тетаритмом, а неокортикальная кривая начинает приобретать тенденцию к выравниванию. Этот Тета-ритм, Натали, хорошо исследован у кроликов, крыс и подобных млекопитающих во время их специфически видовой деятельности — состояния агрессии, процесса завоевания лидирующего положения, но он никогда не наблюдался у приматов! — Ты хочешь сказать, что у меня мозг, как у крысы? — спросила Натали. Это была неудачная шутка, и ей снова захотелось плакать. — Каким-то образом Хэрод... и, вероятно, все остальные генерируют в собственном гипокампусе и в гипокампусе своей жертвы этот редчайший Тета-ритм, — объяснил Сол, в основном обращаясь к самому себе. Он даже не обратил внимания на попытку Натали пошутить. — Значит, это процесс с одновременной генерацией искусственного состояния быстрого сна. Ты получаешь чувственные сигналы, но не можешь действовать в зависимости от них, а Хэрод может. Невероятно! Это... — Сол указал на резкое распрямление кривой на энцефалограмме Натали — ..тот самый момент, когда нервные токсины начали действовать из ампулы с транквилизатором. Обрати внимание на отсутствие взаимовлияния: все его желания совершенно очевидно передаются твоему организму с помощью нейрохимических команд, твои же ощущения лишь частично воспринимаются Хэродом. Твоя боль или ощущения парализованности воспринимаются им не более как во сне. А вот через сорок восемь секунд, когда я ввел ему аметил с пентоталом... — Сол показал Натали место, где судорожные рывки линий трансформируются в мягкие волны. — Господи, чего бы я только не дал, чтобы поработать с ним в течение месяца на приборах, определяющих познавательные способности. — Сол, а что, если я... что, если ему удастся восстановить свой контроль надо мной? Сол поправил очки. — Я сразу зарегистрирую этот момент, даже не глядя на записи приборов. Я запрограммировал компьютер на сигнал тревоги при появлении первых же признаков этой лихорадочной деятельности его гипокампуса, внезапного провала твоих альфа-ритмов или проявления Тета-ритма у него. — Да, — вздохнула Натали, — но что ты тогда станешь делать? — Мы продолжим наши исследования, как и планировали, — ответил Сол. — С помощью купленных Джеком датчиков мы можем передавать сигнал на расстояние до двадцати пяти миль. — А что, если он способен влиять на сотню миль, на тысячу? — Натали старалась сохранять спокойствие, хотя изнутри ее рвался крик: «А что, если он никогда не отпустит меня?» Ей казалось, что она согласилась на какой-то медицинский эксперимент, позволив внедрить в свое тело какого-то отвратительного паразита. Сол взял ее за руку. — Пока мы должны апробировать диапазон в двадцать пять миль. Если потребуется, мы вернемся, и я снова введу ему пентотал. Нам уже известно, что он не может контролировать свое поведение, когда находится без сознания. — Он никогда не сможет этого делать, если умрет! — сквозь зубы зло бросила Натали. Сол кивнул и сжал ее руку. — Сейчас он очнулся. Подождем минут сорок пять, и если он не предпримет попытки завладеть тобой, ты сможешь встать. Что касается меня, то я не верю, что наш мистер Хэрод сможет это сделать. Что бы ни являлось источником способностей этих монстров, все предварительные данные свидетельствуют о том, что Энтони Хэрод — самый безопасный из них. — Сол подошел к раковине, налил в чашку воды и напоил Натали, приподняв ее голову. — Сол... а после того, как ты освободишь меня, ты не станешь отключать сигнал тревоги у компьютера? — Нет. — Сол покачал головой. — До тех пор пока у нас в доме эта гадюка, будем держать ее в клетке.* * *
«Второй допрос Энтони Хэрода. Пятница, 24 апреля 1981 года... 7 часов 23 минуты. Субъект временно находится под воздействием пентотала натрия и мелиритина С. Данные так же регистрируются с помощью видеозаписи, ЭЭГ на многоканальном осциллографе и по каналам биодатчиков». — Тони, ты меня слышишь? — Да. — Как ты себя чувствуешь? — О'кей. Смешно. — Тони, когда ты родился? — А? — Когда ты родился? — Семнадцатого октября. — В каком году, Тони? — Э-э... в сорок четвертом. — Значит, сколько тебе сейчас лет? — Тридцать шесть. — Где ты вырос, Тони? — В Чикаго. — Когда ты впервые осознал, что владеешь Способностью, Тони? — Какой Способностью? — Способностью диктовать свою волю другим людям? — Ах, этой... — Когда это произошло впервые, Тони? — А-а-а... когда тетя велела мне ложиться в постель, а я не хотел этого, и тогда я заставил ее позволить мне не ложиться. — Сколько тебе тогда было? — Не знаю. — Ну, как ты думаешь, Тони? — Лет шесть. — А где были твои родители? — Отец к тому времени уже умер — он покончил с собой, когда мне было четыре. — А где была твоя мать? — Она не любила меня. Она сердилась на меня и отдала меня тете. — А почему она не любила тебя? — Она считала, что это я виноват. — В чем виноват? — В смерти отца. — Почему она так считала? — Потому что перед тем как выпрыгнуть отец ударил меня... сделал мне больно. — Выпрыгнул? Он выбросился из окна? — Да. Мы жили на высоком третьем этаже, и отец упал на изгородь, ну, такую, с пиками. — Отец часто бил тебя, Тони? — Да. — Ты помнишь это? — Сейчас помню. — Ты помнишь, за что он избил тебя в тот вечер, когда выбросился из окна? — Да. — Расскажи мне об этом, Тони. — Мне было страшно. Я спал в передней комнате, где стоял большой шкаф. Я проснулся и испугался. Как всегда, пошел в мамину комнату. Только там оказался папа. Обычно его там не было, потому что он занимался продажей вещей и в основном отсутствовал, а в тот раз он оказался там, и он делал маме больно. — Как именно? — Он лежал на ней голым и делал ей больно. — И что же ты сделал, Тони? — Я закричал, чтобы он перестал. — А больше ты ничего не сделал? — Не-а. — Что произошло дальше. Тони? — Папа... прекратил. Вид у него был страшный. Он вытащил меня в гостиную и ударил ремнем. Он действительно больно ударил меня. Мама сказала ему, чтобы он перестал, но он продолжал меня бить. Мне было очень больно. — И ты заставил его остановиться? — Нет! — Что произошло дальше, Тони? — Внезапно папа перестал меня бить. Он поднял голову и пошел какой-то странной походкой. Посмотрел на маму. Она уже не плакала. На ней была папина фланелевая рубашка. Она часто ее надевала, когда его не было, потому что она была теплее, чем ее. А потом подошел к окну и шагнул из него. — Окно было закрыто? — Да. На улице было очень холодно. А изгородь была новой. Домовладелец установил ее перед самым Днем Благодарения. — И через сколько времени после этого ты перебрался жить к тете, Тони? — Через две недели. — Почему ты решил, что твоя мать сердится на тебя? — Она сама сказала мне. — Что она сердится? — Что я причинил боль папе. — Что ты заставил выпрыгнуть его? — Да. — А ты заставлял его выпрыгивать, Тони? — Нет! — Ты уверен? — Да! — Тогда откуда же твоя мать знала, что ты можешь заставлять людей делать разные вещи? — Не знаю! — Нет, ты знаешь, Тони. Подумай. Ты уверен, что впервые использовал свою Способность, когда заставил свою тетю позволить тебе не ложиться в кровать? — Да! — Ты уверен, Тони? — Да! — Тогда почему твоя мать считала, что ты способен на такие вещи, Тони? — Потому что она сама умела это делать! — Твоя мать умела управлять людьми? — Да. Она всегда это делала. Она заставляла меня садиться на горшок, когда я был маленьким, она заставляла меня молчать, когда я хотел плакать, она заставляла отца делать для себя разные вещи, когда он был дома, поэтому он все время уходил. Это она, она сделала! — Она заставила его выпрыгнуть из окна в тот вечер ? — Нет, она заставила меня заставить его выпрыгнуть. «Третий допрос Энтони Хэрода. Восемь часов семь минут. Пятница, 24 апреля». — Тони, кто убил Арона Эшколя и его семью? — Кого? — Израильтянина. — Израильтянина? — Тебе должен был об этом рассказать мистер Колбен. — Колбен? Нет, мне об этом говорил Кеплер. Да, точно. Парень из посольства. — Да, парень из посольства. Кто его убил? — С ним ездила говорить команда Хейнса. — Ричарда Хейнса? — Да. — Хейнса, агента ФБР? — Ага. — Хейнс собственными руками убил семью Эшколя ? — Думаю, да. Кеплер сказал, что он возглавлял команду. — А по чьему распоряжению была проведена эта операция? — Э-э-э... Колбена... Барента. — Так кого имени", Тони? — Какая разница? Колбен — просто марионетка Барента. Можно, я закрою глаза? Я очень устал. — Да, Тони, закрой глаза. Поспи, а потом мы еще побеседуем. «Четвертый допрос Энтони Хэрода. Пятница, 24 апреля 1981 года. Десять часов шестнадцать минут. Внутривенно введен пентотал натрия. В 10.04 повтор но введен амобарбитал натрия. Данные зарегистрированы в видеозаписи на многоканальном осциллографе, энцефалографе и с помощью биодатчиков». — Тони. — Да. — Ты знаешь, где оберет? — Кто?! — Уильям Борден. Вилли фон Борхерт... — Ах, Вилли. — Где он? — Я не знаю. — У тебя есть какие-нибудь представления, где он может быть? — Нет. — Ты можешь как-нибудь узнать, где он? — М-м-м. Возможно. Я не знаю. — Почему ты не знаешь? Может, кто-нибудь другой знает? — Может быть. Кеплер. — Джозеф Кеплер? — Да. — Кеплер знает, где находится Вилли Борден? — Кеплер говорит, что получает письма от Вилли. — Как давно было прислано последнее письмо? — Не знаю. Несколько недель назад. — Ты веришь Кеплеру? — Да. — Откуда приходили письма? — Из Франции, из Нью-Йорка... Кеплер не все мне рассказывал. — Переписка начата по инициативе Вилли? — Я не понимаю, что вы имеете в виду. — Кто написал первым: Вилли или Кеплер? — Кеплер. — Как он связался с Вилли? — Послал письмо ребятам, которые охраняют его дом в Германии. — В Вальдхайме? — Да. — Кеплер послал письмо сторожам Вальдхайма? И Вилли ответил ему? — Да. — Зачем Кеплер писал ему и что Вилли ответил? — Кеплер играет не в одни ворота. Он хочет заручиться расположением Вилли, если тот войдет в Клуб Островитян. — Клуб Островитян. — Да. В то, что от него осталось. Траск мертв. Колбен мертв. Наверно, Кеплер считает, что Барент будет вынужден вступить в переговоры с Вилли, если тот не ослабит своего давления. — Расскажи мне об этом клубе, Тони...* * *
Было уже начало третьего, когда Сол пришел к Натали на кухню. Вид у него был уставший, лицо — страшно бледное. Натали налила ему свежего кофе, и они уселись, глядя на огромный дорожный атлас. — Это максимум того, что мне удалось сделать, — сказала Натали. — Я отыскала его на круглосуточной грузовой стоянке. — Нам нужен настоящий атлас или что-нибудь вроде спутниковых данных. Возможно, нам сможет помочь Джек Коуэн. — Сол провел пальцем вниз по побережью Южной Каролины. — Здесь он даже не отмечен. — Да, — согласилась Натали, — но, как говорит Хэрод, он всего лишь в двадцати трех милях от берега, и на этой карте его просто не может быть. Думаю, он где-то здесь, к востоку от Кедровых островов и островов Мерфи... но не южнее, чем мыс Ромен. Сол снял очки и устало потер переносицу. — Это не отмель и не наносной песчаный остров, — заметил он. — Согласно словам Хэрода, остров Долменн — почти семь миль в длину и три в ширину. Ты почти всю жизнь прожила в Чарлстоне. Неужели ты никогда не слышала о нем? — Нет, — ответила Натали. — Ты уверен, что он спит? — Да, — кивнул Сол. — Даже если бы я очень захотел, ближайшие шесть часов я бы не смог его добудиться. — Сол достал карту, нарисованную со слов Хэрода, и сравнил ее с географическим атласом, приложенным Коуэном к досье на Барента. — Ты не слишком устала, чтобы снова повторить это? — Давай попробуем, — сказала Натали. — Давай. Барент и его группа... оставшиеся в живых ее члены... соберутся на острове Долменн в летний лагерь седьмого июня, с тем чтобы пробыть там неделю. Это формальная часть. Хэрод сказал, что там будет тот самый набор знаменитых людей определенного ранга, о которых нам рассказывал Джек Коуэн. Исключительно мужчины. Женщины не допускаются. Даже Маргарет Тэтчер не удалось бы туда попасть, если бы она очень захотела. Весь обслуживающий персонал — тоже исключительно мужчины. Судя по словам Джека, там будут толпы охранников. Официальные развлечения заканчиваются в субботу, тринадцатого июня. В воскресенье, четырнадцатого июня, согласно информации Хэрода, туда прибудет наш оберет, чтобы присоединиться к четырем членам Клуба Островитян, включая Хэрода, и за этим следует еще пять дней совсем других развлечений. — Развлечений! — выдохнула Натали. — Я бы назвала это иначе. — Кровавых развлечений, — поправился Сол. — Выглядит вполне логично. Эти люди обладают теми же способностями, что и полковник, Мелани Фуллер и Нина Дрейтон. Они страдают наркотической зависимостью и не могут прожить без насилия, но они — общественные деятели. Они не могут позволить себе даже косвенно участвовать в уличных преступлениях, которыми начала развлекаться наша троица еще молодыми, в Вене, до войны... — ..и поэтому они отводят для этого одну жуткую неделю в году, — договорила Натали. — Да. Которая также дает им возможно безболезненно... безболезненно для них... каждый год регламентировать свою иерархическую структуру. Остров является частной собственностью Барента. С формальной точки зрения, он даже не находится под юрисдикцией Соединенных Штатов. Когда Барент приезжает туда, он и его гости располагаются вот здесь... на южной оконечности. Здесь — его поместье, а также так называемые средства обслуживания летних лагерей. Далее минными полями обнесены три мили джунглей и мангровых лесов. Именно там они разыгрывают свою версию старой Игры оберста и тех двух девиц... — Не удивительно, что он прилагает столько усилий, чтобы оказаться в числе приглашенных, — заметила Натали. — И сколько невинных людей приносится в жертву в течение этой безумной недели? — Хэрод говорит, что каждый член Клуба Островитян получает пять суррогатов, — ответил Сол. — То есть по одному на день. — Откуда они берут этих людей? — Раньше всех их поставлял Чарлз Колбен, — пояснил Сол. — Цель заключается в том, чтобы они вытягивали своих... как бы это сказать, свои фигуры наугад каждое утро. Сама же забава, или охота, начинается вечером. Хэрод говорит, что Игра не может начинаться раньше чем наступят сумерки. Они испытывают свою Способность с некоторой долей риска. Они не хотят терять... фигуры... на обработку которых было потрачено длительное время. — А где же они будут раздобывать своих жертв в этом году? — Натали подошла к буфету и вернулась с бутылкой "Джек Дэниэло, влив себе в чашку добрую порцию бренди. Сол улыбнулся ей. — В том-то все и дело. В качестве младшего партнера, или начинающего вампира, или кем они там считают нашего мистера Хэрода, он обязан в этом году поставить пятнадцать суррогатов. Это должны быть относительно здоровые люди, но такие, которых не станут искать. — Это абсурд, — возразила Натали, — почти любого человека будут искать. — Не совсем так, — вздохнул Сол. — В этой стране каждый год из домов сбегают десятки тысяч подростков. Большинство из них так никогда и не возвращаются домой. В больницах многих крупных городов есть психиатрические отделения, которые наполовину заполнены людьми без биографий, без семейных связей, фактически без памяти. Полиция завалена рапортами о пропавших мужьях и сбежавших женах. — Значит, они просто хватают пару дюжин людей, переправляют их на этот чертов остров и заставляют их там убивать друг друга? — Натали говорила хриплым шепотом, ужас воображаемой ею картины сдавил горло. — Да, — кивнул Сол. — Ты веришь Хэроду? — Он может передавать ошибочные сведения, но введенные вещества лишают его возможности лгать умышленно. — Ты собираешься оставить его в живых, да, Сол? — Да. Лучший способ отыскать оберста — дать возможность этой группе продолжать свои безумные забавы. Уничтожение Хэрода... или даже его дальнейшее заточение... скорее всего, все испортит. — А ты думаешь, ничего не будет испорчено, когда этот... когда эта свинья побежит доносить о нас Баренту и всем остальным? — Я думаю, скорее всего, он не станет этого делать. — О Господи, Сол, как ты можешь быть уверенным в этом? — В этом я не уверен, зато я уверен в том, что Хэрод полностью дезориентирован. Он считает нас агентами Вилли, потом думает, что мы подосланы Кеплером или Барентом. Он не в состоянии поверить в то, что мы — независимые актеры в этой мелодраме... — Мелодрама — это слишком слабо сказано, — печально улыбнулась Натали. — Папа обычно позволял мне остаться посмотреть эту чушь, которую показывали по пятницам вечером. «Самая опасная игра». Это же бред, Сол! Сол Ласки с такой силой ударил ладонью по кухонному столу, что звук отозвался в кухне, как винтовочный выстрел. Чашка Натали подпрыгнула, и кофе с бренди растекся по деревянной столешнице. — Не смей говорить, что это бред! — закричал Сол. Впервые за пять месяцев Натали слышала, как он повышает голос. — Не говори мне, что все это плохая мелодрама. Лучше скажи об этом своему отцу и Робу Джентри с перерезанным горлом! Скажи это моему племяннику Арону, его жене и его девочкам! Расскажи это всем тем... тем тысячам, которых Вилли отправил в печи! Скажи это моему отцу и брату Иосифу... Сол так резко вскочил, что его кресло опрокинулось. Он уперся руками в стол, и Натали заметила, как заиграли мускулы под его загорелой кожей, увидела страшный шрам на левом предплечье и выцветшую татуировку, успокоившись, он стал говорить тише — но едва сдерживая свою ярость. — Все это столетие, Натали, походит на жалкую мелодраму, написанную посредственными драматургами ценой жизней других людей. Мы не можем положить этому конец. Даже если нам удастся покончить с этими... помрачениями, софиты просто высветят какого-нибудь другого актера-людоеда, принимающего участие в этом жестоком фарсе. Подобные вещи совершаются каждый день людьми, не обладающими и малейшей долей этой Способности... они проявляют свою власть в форме насилия по праву занимаемого ими положения или должности, осуществляя ее с помощью пули, ножа или права голоса... но Господи, Натали, эти сукины дети уничтожают наши семьи, наших друзей, и мы должны остановить их! — Сол умолк и опустил голову. Пот капал с его лба. Натали прикоснулась к его руке. — Сол, — тихо произнесла она. — Я знаю. Прости меня. Мы очень устали. Нам надо поспать. Он кивнул, похлопал ее по руке и потер себе щеку. — Поспи несколько часов. Я лягу на раскладушке рядом с приборами. Я установил датчики, чтобы они просигнализировали, когда проснется Хэрод. При удачном стечении обстоятельств нам обоим удастся проспать часов семь. Натали выключила свет на кухне и вышла вслед за Солом. — Это значит, что мы можем приступать к следующей части, да? — спросила она перед уходом. — В Чарлстоне? Сол устало кивнул. — Думаю, да. Другого пути я не вижу. Прости. — Все нормально, — прошептала Натали, хотя от одной мысли о том, что ей предстоит, у нее поползли мурашки по коже. — Я же знала, что будет дальше. — Все можно изменить. — Нет. — Натали стала медленно подниматься по лестнице, окончание предложения она прошептала уже только для себя: — Ничего изменить нельзя.Глава 11
Лос-Анджелес Пятница, 24 апреля 1981 г. Специальный агент Ричард Хейнс позвонил в центр связи мистера Барента в Палм-Спрингс по зашифрованному телефону ФБР. Он не имел ни малейшего представления, где находится Барент, и был очень удивлен, когда тот лично ответил ему. — О чем вы можете сообщить, Ричард? — Мало о чем, сэр, — ответил Хейнс. — Бюро ведет наблюдение над местным израильским консульством — это обычное дело, но у них нет никаких сведений о том, что Коуэн посещал консульство или отдел импорта, под прикрытием которого работает окружная группа Моссада. У нас есть там свой человек, и он клянется, что Коуэн ни с какими делами у них не появлялся. — И это все, что у вас есть? — Не совсем. Мы проверили мотель в Лонг Бич и удостоверились в том, что Коуэн останавливался там. Дневной портье сообщил, что он приехал на взятой напрокат машине — это было утром в четверг, шестнадцатого. Этот же клерк абсолютно уверен, что когда Коуэн уезжал в понедельник утром, у него был уже фордовский фургон. Одна из горничных вспомнила, что еще у него были большие коробки — говорит, размером чуть ли не с упаковочные клети. Утверждает, что одна из них была с наклейкой «Хитачи». — Электроника? — осведомился Барент. — Оборудование для ведения слежки? — Возможно, — согласился Хейнс, — но обычно Моссад получает аппаратуру такого рода, не приобретая ее в магазинах. — Может, Коуэн действует в одиночку... или работает на кого-то еще? — В данный момент именно это мы и проверяем, — ответил Хейнс. — Не удалось ли вам выяснить, не находился ли там одновременно с ним Вилли Борден? — Нет, сэр. Мы снова проверили его дом... он еще не продан... но никаких признаков присутствия ни его самого, ни Рэйнольдса, ни Лугара не обнаружено. — А как насчет Хэрода? — Нам до сих пор не удалось с ним связаться. — Что это значит, Ричард? — Последние несколько недель мы не следили за Хэродом, а когда звонили ему вчера и сегодня, его секретарша сообщила, что его нет и она не знает, где он находится. Мы уже отправили туда своих людей, но пока он не выходил из дома и не появлялся на Парамаунте. — Вы меня несколько разочаровываете, Ричард. Хейнса охватила легкая дрожь. Он облокотился на стол и крепко сжал трубку обеими руками. — Прошу прощения, сэр. Довольно трудно было проводить расследования в Вайоминге и одновременно руководить специальной командой здесь, в Калифорнии. — А какие есть новости из Вайоминга? — Ничего конкретного, сэр. Мы убеждены, что Уолтере, офицер Военно-воздушных сил, который... — Да-да. — Так вот Уолтере был в баре «Чейены» во вторник вечером. Бармен абсолютно уверен, что в этот вечер в баре была группа мужчин, и один из них соответствовал описанию Вилли... — Абсолютно уверен? — Бар был переполнен в тот вечер, мистер Барент. Мы предполагаем, что это был Вилли. Мы проверили все гостиницы и мотели вплоть до Денвера, но ни его, ни его двух компаньонов никто не видел. — Просто какая-то череда бесплодных попыток, Ричард. У вас есть какие-нибудь идеи, где сейчас может находиться Вилли? — Сэр, мы следим за всеми авиалиниями и автобусными станциями на случай, если кто-нибудь из коллег Вилли использует кредитную карточку или приобретет билеты на собственное имя. Сфера поисков расширена, компьютеры также запрограммированы на появление еврея-психиатра, который, скорее всего, погиб в Филадельфии, и девицы по фамилии Престон. Мы охватили все таможни; в списке текущих дел ФБР это занимает первое место. Слежка осуществляется во всех наших региональных отделениях и их местных представительствах.. — Все это я знаю, Ричард, — тихо, но властно оборвал его Барент. — Я спросил, есть ли что-нибудь новое. — Ничего, после того как мы засекли вторжение в нашу сеть компьютера Джека Коуэна в прошлый вторник. — Вы по-прежнему считаете, что Коуэна использовал Вилли? — Я не знаю никого другого, кому потребовалось заниматься выяснением связей между преподобным Саттером, мистером Кеплером и вами, сэр. — Может, мы поспешили, организовав мистеру Коуэну такую... э-э... встречу? Хейнс ничего не ответил. Дрожь у него прекратилась, зато на лбу и над верхней губой выступила испарина. — А что со счетом автозаправочной станции, Ричард? — Ах это... да, сэр. Мы проверили. Владелец говорит, что движение у них очень оживленное и он не может упомнить всех, кто у него останавливается. Но с помощью кредитной карточки мы удостоверились в том, что это был Коуэн. Мальчик, получавший кредитную карточку, ушел на неделю в отпуск и сейчас бродит с рюкзаком где-то в горах Санта-Ана. Впрочем, с ним шансов тоже немного... — Ричард, мне кажется, кончилось то время, когда вы могли бы пренебречь этим. Я хочу, чтобы Вилли Борден был найден и связи Джека Коуэна раскрыты. Вам ясно? — Да, сэр. — Мне бы очень не хотелось настолько разочароваться в вас, Ричард, что потребовалось бы налагать на вас дисциплинарные взыскания. Хейнс рукавом вытер пот с лица. — Да, сэр. — Вы, кажется, упоминали, что у израильтян неподалеку от Лос-Анджелеса есть убежище... и даже не одно. Ваше Бюро до сих пор не обнаружило их? — Э-э... я говорил, что вполне допускаю, что они могут существовать, мистер Барент. Доказательств этому пока нет. — Но это возможно? — Да, сэр. Видите ли, пару лет назад была одна история с палестинцем, который участвовал в операции «Черный сентябрь». Он дал согласие на сотрудничество с Соединенными Штатами, но люди, которых он принял за агентов ЦРУ, на самом деле оказались представителями Моссада. Так вот, они привезли его в Штаты, дали ему убедиться в том, что он находится в Лос-Анджелесе, а затем куда-то запрятали его, так что ни ЦРУ, ни ФБР не смогли его отыскать... — Это не имеет отношения к нашему делу, Ричард. Значит, у вас есть основания полагать, что где-то рядом с Лос-Анджелесом может существовать убежище? — Да, сэр. — И оно может располагаться неподалеку от заправочной станции Сан Хуан Капистрано? — Да, сэр, но оно может находиться и в другом месте. — О'кей, Ричард. Вот чем вы займетесь: прежде всего немедленно отправляйтесь в дом к мистеру Хэроду и тщательно допросите... я подчеркиваю, тщательно, мисс Чен. Если Хэрод окажется там, допросите и его. Если нет — вы разыщете его. Во-вторых, вы бросите все силы вашего Лос-Анджелесского отделения, а также любые другие необходимые силы местных организаций, чтобы отыскать того служащего с заправочной станции и любых других свидетелей, которых вам нужно опросить. Я хочу знать, на какой именно машине приехал мистер Коуэн, кто был с ним и в каком направлении они выехали со станции. В-третьих, начинайте опрос магазинов, торгующих электроникой в районе Лонг Бич и прилегающих районах. В-четвертых, повторно допросите служащих и горничных мотеля в Лонг Бич, чтобы выцедить из них все до малейшей капли. Можете использовать любые формы убеждения, которые сочтете нужными. И, наконец, я окажу вам некоторую помощь. К вам будет отправлена дюжина людей Джозефа для оказания помощи в ваших... э-э... частных расследованиях. Кроме того, мы постараемся получить дополнительную информацию об этом убежище. Эти сведения я передам вам в течение ближайших суток. Хейнс потер пальцами бровь. — Но каким образом?.. — и он заткнулся. Смешок К. Арнольда Барента прозвучал в трубке, как внезапно возникшая помеха. — Ричард, неужели вы наивно полагаете, что вы с Чарлзом были для меня единственными источниками информации? Если все остальное провалится, я позвоню известным... э-э... лицам в правительстве Израиля. Из-за временной разницы, возможно, я смогу это сделать лишь завтра утром, перед тем как связаться с вами. Но вы, не дожидаясь связи со мной, начинаете обыскивать округу Сан Хуан Капистрано сегодня же днем. Проверьте документы продаж земельных участков, дома, которые не посещаются большую часть года... просто поездите в округе и поищите темный фургон, если вам больше ничего не придет в голову. И помните: вы ищете частный дом в охраняемой зоне, скорее всего, находящийся вдали от жилых районов. — Есть, сэр, — отрапортовал Хейнс. — Я свяжусь с вами как только смогу, — холодно, сказал К. Арнольд Барент. — И еще, Ричард... — Да, сэр? — Постарайтесь на сей раз не разочаровывать меня. — Ни в коем случае, сэр, — откликнулся Ричард Хейнс.Глава 12
Лос-Анджелес Суббота, 25 апреля 1981 г. Перед тем как выбросить Хэрода в квартале от Диснейленда, его накачали наркотиками и завязали ему глаза. Когда он окончательно пришел в себя, то обнаружил, что сидит за рулем своего «Феррари» одетый, руки свободны, наручников нет, лишь глаза его прикрыты обычной черной маской для сна. Машина была припаркована между мусорным баком и кирпичной стеной на задворках магазинчика, торгующего коврами по сниженным ценам. Хэрод вылез из машины и облокотился на капот в ожидании, когда пройдут окончательно тошнота и головокружение. Прошло по меньшей мере полчаса, пока он наконец не почувствовал, что в состоянии вести машину. Стараясь избегать оживленных магистралей, Хэрод направился на запад, а затем свернул на бульвар Лонг Бич, пытаясь осознать, что же с ним произошло. Воспоминания о предшествующих сорока часах в основном были смазанными, расплывчатыми — он помнил лишь обрывки каких-то бесконечных разговоров, похожих на допросы; зато следы от внутривенных уколов и дающее себя знать головокружение от последнего транквилизатора не оставляли сомнений, что его накачали наркотиками, похитили и проволокли сквозь ад. Да, вполне вероятно, это дело рук Вилли. Последняя беседа — единственная, которую он запомнил целиком — окончательно убедила его в том. Человек в капюшоне вошел к нему в комнату и сел на кровать. Хэрод хотел увидеть его глаза, но в зеркальных стеклах отражалось лишь его собственное бледное, покрытое щетиной лицо. — Тони, — тихо произнес мужчина с раздражающе знакомым немецким акцентом, — мы собираемся тебя отпустить. Хэрод вздрогнул всем телом: его собираются убить! — Прежде чем расстаться, я хочу задать тебе один вопрос, Тони, — продолжал мужчина, на лице которого были видны лишь шевелившиеся губы. — Каким образом ты собираешься поставить большую часть суррогатов для пятидневного состязания в Клубе Островитян в этом году? Хэрод попытался облизнуть губы, но во рту у него все пересохло, язык жгло. — Я ничего об этом не знаю. Черный капюшон качнулся взад и вперед, и в зеркальных очках отразились белые стены. — Тони, так говорить уже слишком поздно. Нам известно, что ты будешь поставлять тела, но каким образом? С учетом твоего предпочтительного отношения к женщинам? Неужели они действительно в этом году готовы удовлетвориться одними женщинами? Хэрод энергично затряс головой. — Я должен это узнать, прежде чем мы попрощаемся, Тони. — Вилли! — прохрипел Хэрод. — Вилли, ради Бога, зачем ты так со мной? Поговори со мной нормально! Пара зеркальных стекол зафиксировалась на лице Хэрода. — Вилли? По-моему, я не знаю никого, кого бы звали Вилли... Так каким же образом ты собираешься поставлять суррогатов обоих полов, когда нам известно, что ты не можешь этого сделать? Хэрод напрягся и выгнул спину, чтобы сшибить с головы капюшон и увидеть лицо палача. Мужчина не спеша встал и подошел к изголовью, оказавшись вне досягаемости ног Хэрода. Он схватил Хэрода за волосы и приподнял его голову над подушкой. — Тони, мы все равно получим от тебя ответ. Ты уже должен был убедиться в этом. Возможно, нам это и так известно. Нам просто нужно, чтобы ты подтвердил это, находясь в здравом уме и твердой памяти. Если нам снова потребуется накачивать тебя, это просто оттянет срок твоего освобождения. Последнее выражение Хэрод воспринял как эвфемизм, означающий «нам просто придется отложить твое убийство», а это его вполне устраивало. Если молчание, даже сопровождающееся болью и насилием, могло отсрочить неизбежную пулю в лоб, Хэрод готов был молчать как чертов сфинкс. Только он этому не верил. По обрывкам своих воспоминаний он понимал: он сказал все, что только мог, выложил им все под воздействием каких-то химических веществ. Если это был Вилли, что казалось весьма вероятным, он это выяснит. Возможно, это было даже в интересах Хэрода, чтобы Вилли узнал об этом. Хэрод продолжал лелеять надежду, что еще может понадобиться Вилли. Он вспомнил лицо пешки на шахматной доске в Вальдхайме. Если этими двумя управляли Барент, Кеплер или Саттер, или вся троица вместе, они хотели от него подтверждения того, что они уже знали или легко могли выяснить. Как бы там ни было, больше всего Хэрод нуждался сейчас в диалоге. — Я плачу Хейнсу за то, что он отыскивает для меня суррогатов, — ответил он. — Беглецы, бывшие заключенные, осведомители с новыми удостоверениями личности. Он все устроит. Они будут работать за деньги, считая, что участвуют в каком-то правительственном проекте. К тому моменту, когда они сообразят, что единственное, что их ждет, — это могила, они уже будут на острове в одном из загонов. Человек в капюшоне рассмеялся. — Платишь агенту Хейнсу? А как на это смотрит его настоящее начальство? Хэрод собрался было пожать плечами, понял, что это со скованными руками сделать невозможно, и покачал головой. — Мне наплевать на это, думаю, что Баренту тоже. Это Кеплеру пришло в голову дать мне это вшивое поручение. На самом же деле это — тест, проверка моей Способности... Зеркальные стекла незряче и в то же время зорко уставились на него. — Расскажи мне еще об острове, Тони. Планировка. Загоны. Место для лагеря. Охрана. Все. А потом мы попросим тебя об одной услуге. И вот в этот момент Хэрод окончательно убедился в том, что этот тип — не кто иной, как Вилли. Дальше он рассказывал в течение часа, что остался в живых. Когда Хэрод добрался до Беверли-Хиллз, он принял решение — рассказать обо всем Баренту и Кеплеру. Не мог же он постоянно прятаться: если за этим похищением стоял Вилли, возможно, старику именно это и было нужно. Чтоб Барент был в курсе. Это вполне могло входить в замысел Вилли. Если же это была проверка на верность, устроенная Барентом и Кеплером, утаивание похищения могло возыметь роковые последствия. Когда Хэрод закончил свой рассказ об острове Долменн и проводившихся там клубных «забавах», мужчина в капюшоне проговорил: — Хорошо, Тони. Мы ценим твою помощь. Теперь нам остается попросить лишь об одной услуге, которая и станет условием твоего освобождения. — О какой? — устало спросил Хэрод. — Ты говоришь, что получишь... так называемых волонтеров... от Ричарда Хейнса в субботу, тринадцатого июня. Мы свяжемся с тобой в пятницу, двенадцатого. У нас будет несколько других человек, ими ты заменишь волонтеров Хейнса. «Ну точно! — подумал Хэрод. —Вилли хочет играть краплеными картами. — Мысль об этом действительно потрясла его. — Значит, Вилли на самом деле собирается прибыть на остров!» — Решено? — осведомился мужчина в капюшоне. — О'кей. — Хэрод все еще не мог поверить в то, что его отпустят. Он готов был согласиться на что угодно. Все равно он тоже будет играть краплеными картами... — И ты, надеюсь, промолчишь об этой замене? — Да. — Ты понимаешь, что твоя жизнь зависит от этого? Ныне и в будущем. Наказание за измену не будет иметь границ, Тони. — Да, я понял. — Хэрод изумился: «Неужели Вилли считает его настолько глупым? И насколько же поглупел сам Вилли?» «Волонтеры», как назвал их этот тип, были наперечет и обнаженными дожидались в загоне того момента, пока непредсказуемая жеребьевка не определяла, кто и когда будет бороться. Хэрод не представлял себе, что здесь Вилли сможет придумать, а если он надеялся таким образом пронести оружие через охранные экраны Барента, значит он действительно превратился в умственно отсталого придурка, за которого Хэрод ошибочно принимал его раньше. — Да, — повторил Хэрод, — я понял. Я согласен. — Sehr gut, — по-немецки одобрил его человек в капюшоне.* * *
Вот так они отпустили его. Хэрод решил, что позвонит Баренту, как только примет ванну, что-нибудь выпьет и обсудит всю эту заварушку с Марией Чен. Он гадал, тревожилась ли она о нем, скучала ли. Как часто в течение этих лет он исчезал на несколько дней, даже недель, не ставя ее в известность, куда он направляется... Улыбка Хэрода увяла, когда он понял, насколько уязвимым сделал его этот образ жизни. Плавно остановив «Феррари» под мрачным взглядом своего сатира над фронтом, он направился к дому. Возможно, он позвонит Баренту после ванны, выпивки, массажа и... Парадная дверь стояла нараспашку... Хэрод застыл и лишь по прошествии некоторого времени вошел в дом, чувствуя, как у него снова начинает сильно кружиться голова. Не переставая звать Марию Чен, он окинул взглядом стены, мебель, даже не замечая, что она опрокинута, пока не попытался перепрыгнуть через валявшееся кресло и не рухнул на ковер. Он вскочил на ноги и, не переставая кричать, принялся бегать из комнаты в комнату. Марию Чен он нашел в кабинете на полу. Она лежала возле своего стола. Ее черные волосы запеклись от крови, лицо распухло так, что его трудно было узнать. Рот тоже был в крови, она тяжело дышала... Хэрод перелез через стол, опустился на колени и взял ее голову дрожащими руками. Едва он прикоснулся к ней, она застонала. — Тони. Хэрод с изумлением обнаружил, что сейчас, когда он пребывал в чистейшем пламени самого неистового гнева, который когда-либо он испытывал, ему на ум не приходили никакие ругательства. Из груди не вырвалось ни единого крика. Когда к нему вернулся дар речи, он мог лишь хрипло прошептать: — Кто это сделал с тобой? Когда? Мария Чен сначала не смогла ничего произнести изуродованными губами. Хэроду пришлось наклониться к ее лицу, чтобы расслышать слова: — Прошлой ночью... Трое... Искали тебя... Они не сказали, кто их послал... Но я видела Ричарда Хейнса... в машине... прежде чем они позвонили. Хэрод жестом заставил ее замолчать и с бесконечной нежностью поднял на руки. Он понес ее к себе в комнату, по дороге осознавая со всевозрастающим изумлением, что ее просто жестоко избили, что она будет жива, с ней все будет в порядке, и еще больше изумился этот растленный тип, что по его щекам текут слезы. Это повергло его просто в шок. Если прошлой ночью его искали здесь люди Барента, значит, уже не оставалось никаких сомнений в том, что похитил его Вилли. Больше всего ему хотелось снять трубку и позвонить Вилли сейчас. Он хотел сказать ему, что больше нет причин для изощренных игр и глупых предосторожностей. Что бы там Вилли ни хотел сделать с Барентом, теперь Хэрод готов был во всем ему помогать.Глава 13
В окрестностях Сан-Хуан Капистрано Суббота, 25 апреля 1981 г. Сол и Натали возвращались в субботу днем к своему убежищу. Натали явно испытывала чувство облегчения, а вот чувства Сола были двойственными. — Потенциал этих исследований вызывает благоговейный трепет, — заметил он. — Если бы я мог исследовать Хэрода хотя бы в течение недели, я бы собрал бессчетное количество данных. — Да, — кивнула Натали, — а он бы за это время, в свою очередь, нашел пути, как достать нас. — Сомневаюсь, — возразил Сол. — Выяснилось, что уже одни только барбитураты подавляют его Способность вырабатывать ритмы, необходимые для контакта и управления чужими нервными системами. — Но если бы мы продержали его целую неделю, его бы хватились, стали искать, — сказала Натали. — Сколько бы тебе ни удалось узнать, мы бы лишились возможности перейти к следующей части программы. — Это да, — согласился Сол, но в его голосе по-прежнему звучало сожаление. — Ты действительно веришь в то, что Хэрод сдержит свое обещание переправить нужных нам людей на остров? — спросила Натали. — Не исключаю такой возможности. В настоящий момент мистер Хэрод придерживается того, чтобы получить как можно меньше неприятностей. Существуют определенные причины, вынуждающие его действовать в соответствии с нашим планом. Но даже если он откажется от сотрудничества с нами, нам хуже не будет. — А что, если он перевезет одного из нас на остров, а потом передаст свой улов Баренту и остальным? Будь я на его месте, я бы поступила именно так. Сол вздрогнул. — Это будет не лучшим поворотом событий, но прежде чем рассматривать эту возможность, мы должны заняться другими делами.* * *
На ферме все было так же, как и перед их отъездом. Натали остановилась позади Сола и стала смотреть, как тот вновь и вновь прокручивает отдельные фрагменты видеозаписи. От одного вида этой свиньи Хэрода на экране ей становилось плохо. — Что дальше? — спросила она. Сол огляделся. — Ну, нам еще кое-что надо сделать: переписать и обдумать результаты допросов, просмотреть и подписать энцефалограммы и данные медицинских датчиков. Приступить к компьютерному анализу и интерпретации всех этих данных. Затем мы сможем приступить к биоэксперименту на основании собранных нами сведений. Ты должна заняться техниками гипноза, к которым мы приступили, и как следует изучить материалы об их венском периоде и Нине Дрейтон. Нам нужно тщательно проанализировать наши планы в свете новых сведений об острове Долменн и, возможно, обдумать роль, которую мог бы сыграть в этом Джек Коуэн. Натали вздохнула и улыбнулась. — Здорово! И с чего ты хочешь, чтобы я начала? — Ни с чего, — улыбнулся в ответ Сол. — Напоминаю тебе, на случай если ты не успела заметить этого в Израиле, что сегодня у моего народа суббота. Сегодня мы отдыхаем. Поднимайся наверх, а я пока приготовлю настоящий американский обед — мясо, тушеный картофель, яблочный пирог и бодвайзерское пиво. — Сол, но у нас ничего этого нет! — воскликнула Натали. — Джек запасся только консервированными продуктами и замороженными полуфабрикатами. — Знаю. Именно поэтому, пока ты будешь спать, я съезжу ниже по каньону, там есть один магазинчик... — Но... — попыталась остеречь его Натали. — Но — ничего, моя дорогая. — Сол развернул Натали за плечи и легонько шлепнул ее по спине. — Я позову тебя, когда мясо будет готово, и тогда мы устроим празднество с бутылкой «Джек Дэниэлс». — Я хочу помочь приготовить пирог, — сонным голосом пробормотала Натали. — Договорились, — кивнул Сол. — Будем пить "Джек Дэниэло и готовить яблочный пирог.* * *
Сол не спеша выбирал продукты, толкая вперед тележку по ярко освещенным проходам супермаркета, прислушиваясь к невыразительной музыке и размышляя о Тета-ритмах и агрессии. Он уже давно обнаружил, что американские супермаркеты предоставляют наилучшие возможности для занятия самогипнозом, а он давно уже усвоил привычку погружаться в легкий гипнотический транс, когда ему предстояло решить сложные проблемы. Передвигаясь с тележкой вдоль стендов с продуктами, Сол осознавал, что в течение последних двадцати пяти лет он шел ошибочными путями, пытаясь обнаружить механизм доминирования у людей. Как и большинство исследователей, Сол считал, что он основан на сложном взаимодействии социальных предпосылок, тонкостей физиологического строения и поведенческих моделей высшего порядка. Даже будучи знаком с примитивной природой воздействия на себя оберста, Сол продолжал искать пусковой механизм в неизведанных структурах коры головного мозга и мозжечка. Теперь же данные энцефалограмм свидетельствовали, что эта сволочная Способность возникает в примитивном стволе головного мозга и каким-то образом передается с помощью гипокампуса, взаимодействующего с гипоталамусом. Сол часто размышлял о нацисте и ему подобных как о своего рода мутантах, эволюционном эксперименте или статистическом исключении, которые иллюстрировали, как патологические извращения и агрессия изменяют нормальных людей. Сорок часов, проведенных с Хэродом, изменили этот взгляд навсегда. Если источником необъяснимой Способности являлся ствол головного мозга и зачаточная система млекопитающих, тогда мозговой вампиризм должен был предшествовать появлению вида Homo sapiens. Хэрод и остальные были выродками, оказавшимися на более ранней эволюционной ступени. Сол все еще размышлял о Тета-ритмах и стадии быстрого сна, когда вдруг понял, что уже расплатился за покупки и ему вручили два доверху наполненных мешка. По какому-то наитию он попросил, чтобы ему разменяли двадцатипятицентовиками четыре доллара, и, еще таща мешки к фургону, Сол размышлял, звонить Джеку Коуэну или нет. Логика протестовала против этого. Сол по-прежнему не желал впутывать представителя израильского посольства более, чем было нужно, а потому он совершенно не должен был делиться с ним подробностями прошедших дней. Не собирался он и обращаться с просьбами. По крайней мере пока. Звонок Коуэну казался Солу чистым потаканием собственным желаниям. И все-таки, вопреки логике, Сол, закинув покупки в фургон, подошел к длинному ряду таксофонов, стоявших у входа в супермаркет. А может, пора уже было дать себе небольшую поблажку? Сол ощущал себя победителем и хотел поделиться с кем-нибудь своим состоянием. Он будет действовать осмотрительно, но зато Джек поймет, что не зря потратил на них свое время и силы. Набрав домашний номер Джека, который помнил наизусть, Сол слушал длинные гудки. Дома у Коуэна никого не было. Он вынул мелочь и набрал телефон израильского посольства, попросив секретаршу связать его с Джеком. Когда другая секретарша осведомилась, кто звонит, Сол назвался Сэмом Тэрнером, как ему советовал Коуэн. Джек должен был поставить своих людей в известность, чтобы его без всяких промедлений связывали с Сэмом Тэрнером. Сол ожидал более минуты, борясь с болезненным ощущением тошноты, нараставшим внутри. Затем в трубке послышался мужской голос: — Алло, простите, кто это говорит? — Сэм Тэрнер, — повторил Сол, чувствуя, как тошнота поднимается все выше. Он осознавал, что надо повесить трубку. — Ас кем вы хотите говорить? — С Джеком Коуэном. — Не скажете ли вы, по какому делу вы звоните мистеру Коуэну? — По личному. — Вы родственник или друг мистера Коуэна? Сол повесил трубку. Он знал, что проследить, откуда был сделан телефонный звонок, гораздо труднее, чем это делается в фильмах и телепрограммах, но он был на связи достаточно долго. Набрав номер справочного бюро, получил телефон "Лос-Анджелес Таимо и использовал остатки своей мелочи, позвонив в редакцию. — "Лос-Анджелес Тайме" слушает. — Да, — откликнулся Сол, — меня зовут Хаим Херцог, я занимаю должность помощника начальника отдела информации израильского консульства в вашем городе и хочу исправить опечатку, допущенную в статье, опубликованной вами на этой неделе. — Да, мистер Херцог. Вам нужно обратиться в архивный отдел. Секундочку, я соединю вас. Сол уставился на длинные тени, ползшие по склону холма через шоссе напротив, и так глубоко задумался, что даже подпрыгнул, когда женский голос ответил ему: — Некрологи, архив. Сол повторил ей свою вымышленную историю. — За какое число вышла эта статья, сэр? — Простите, — извинился Сол, — у меня под рукой нет вырезки, я запамятовал. — А как звали джентльмена, о котором вы говорите? — Коуэн, — ответил Сол. — Джек Коуэн. — Он прислонился к стенке таксофона и принялся смотреть, как большие черные дрозды клюют что-то на кустах. В это время над головой, на высоте футов пятисот к западу, проревел вертолет. Сол представил себе, как женщина в отделе некрологов и архива нажимает клавиши компьютера. — Есть, — откликнулась она. — Это было в среду. Газета за 22 апреля, на четвертой странице. «Чиновник израильского посольства убит и ограблен в аэропорту». Вы эту статью имели в виду, сэр? — Да. — Мы получили ее по каналам Ассошиэйтед пресс, мистер Херцог. Если там и были допущены какие-либо ошибки, в них повинен телеграф в Вашингтоне. — Не могли бы вы прочитать мне эту статью? — попросил Сол. — Просто чтобы я убедился, действительно ли там присутствовала ошибка... — Конечно. — И женщина зачитала ему четыре параграфа, которые начинались: «Сегодня днем на стоянке международного аэропорта Даллес был обнаружен труп пятидесятивосьмилетнего Джека Коуэна, старшего советника по сельскому хозяйству израильского посольства, ставшего жертвой ограбления» и заканчивались: «Несмотря на отсутствие свидетелей, полиция продолжает вести расследование». — Благодарю вас, — ватной рукой Сол повесил трубку. Черные дрозды на ветках кустарника покончили со своей невидимой трапезой и расширяющейся спиралью взлетели в небо. Сол помчался вверх по каньону со скоростью семьдесят миль в час, выжимая из фургона всю возможную мощность и маневренность. Он почти минуту простоял у таксофона, пытаясь выстроить логическую и обнадеживающую версию, что Джек Коуэн действительно погиб вследствие случайного ограбления. В реальной жизни такие совпадения происходили регулярно, но даже если это было не так, со дня его смерти прошло уже четверо суток, и если бы убийцы Коуэна связали бы его с убежищем Сола и Натали, они бы уже были здесь. Но Сола это не успокаивало. В клубах пыли он свернул на дорожку, ведущую к ферме, и, не сбавляя скорости, понесся мимо деревьев и изгородей. «Кольт» он с собой не взял. Револьвер остался в его спальне наверху, рядом с комнатой Натали. Машин перед домом видно не было. Передняя дверь была заперта. Сол открыл ее и вошел в дом. — Натали! Сверху ему никто не ответил. Сол быстро огляделся, не заметил ничего подозрительного, прошел сквозь столовую и кухню в комнату наблюдений и обнаружил винтовку с капсулами на том самом месте, где он ее оставил. Он убедился, что в дуло вставлена красная капсула, прихватил коробку с остальными капсулами и бегом вернулся в гостиную. — Натали! Он уже поднялся на три ступени, держа перед собой винтовку наготове, когда на верхней площадке появилась Натали. — Что случилось? — с сонным видом, протирая глаза, спросила она. — Собирайся. Просто хватай все и забрасывай в машину. Мы должны немедленно уезжать. Не задавая никаких вопросов, она повернулась и бросилась в свою комнату. Сол поднялся к себе, взял револьвер, лежавший на чемодане, проверил предохранитель и вставил новую обойму. Убедившись, что предохранитель в нужном положении, он запихал револьвер в карман спортивной куртки. Когда Сол спустился со своим рюкзаком и сумкой, Натали уже бросила чемодан в заднюю часть фургона. — Что мне делать? — спросила она. Ее «кольт» выпирал большим бугром из кармана крестьянской юбки. — Помнишь две канистры бензина, которые мы с Джеком нашли в сарае? Принеси их к крыльцу, а потом стой здесь и смотри, не свернет ли по дороге машина, не появится ли вертолет. Постой, вот ключ — включишь зажигание, хорошо? — Хорошо. Сол вошел в дом и начал рассоединять провода на электронном оборудовании, вытаскивать адаптеры и заталкивать аппаратуру в ящики, не разбираясь, что к чему. Видеомагнитофон и камеру он мог оставить, но он не мог обойтись без энцефалографа, многоканального осциллографа, лент компьютера, принтера, бумаги и радиопередатчика. Сол начал перетаскивать ящики в фургон. Два дня потребовалось Солу и Натали, чтобы установить и отрегулировать оборудование и подготовить комнату для допросов. На то, чтобы все разъединить и перенести обратно в фургон, ушло всего десять минут. — Что-нибудь появилось? — спросил он с крыльца. — Пока ничего, — отозвалась Натали. Сол колебался лишь мгновение, а затем внес канистры с бензином в дом и начал поливать комнату для допросов, пункт наблюдения, кухню и гостиную. Он не мог избавиться от ощущения, что занимается варварской и неблагодарной деятельностью, но он не мог предвидеть, какие выводы смогут извлечь Хейнс или люди Барента из оставшихся здесь следов. Отшвырнув пустые канистры в сторону, Сол удостоверился, что на втором этаже ничего не осталось, и вынес из кухни последние вещи. Затем достал зажигалку и замер на пороге. — Я ничего не забыл, Натали? — Пластиковая взрывчатка и детонаторы в подвале! — Боже милостивый! — воскликнул Сол и бросился вниз по лестнице. Натали приготовила мягкое углубление между ящиками в задней части фургона для обернутой клети с детонаторами, и когда Сол принес ее, осторожно установила ее в машине. Сол завершил обход дома, вытащил бутылку «Джек Дэниэло» из буфета и чиркнул зажигалкой. Вспышка бензина была мгновенной и ошеломляющей. Сол прикрыл лицо и пробормотал про себя: «Прости меня, Джек». Когда он вышел из дома, Натали уже сидела за рулем, она не стала дожидаться, когда он закроет за собой дверцу, фургон рванулся вперед, из-под колес в разные стороны брызнул гравий. — Куда? — спросила Натали, когда они добрались до шоссе. — На восток. Натали крутанула руль, и они помчались по каньону.Глава 14
В окрестностях Сан-Хуан Капистрано Суббота, 25 апреля 1981 г. Ричард Хейнс прибыл как раз в тот момент, когда над израильским ранчо уже поднимался дым пожарища. Во главе трех машин он свернул на подъездную дорожку к дому и ринулся к нему на полной скорости. Хейнс остановил правительственный «Понтиак» и бросился к крыльцу, но в окнах первого этажа уже вовсю плясало пламя. Прикрыв рукой лицо, он заглянул в окна гостиной, попытался войти внутрь, однако был отброшен дохнувшим на него жаром. — Черт! — заорал он. Троих он направил в обход, четверых — обыскать сарай, остальных — в другие прилегавшие строения. Хейнс сошел с крыльца и вернулся к машине, уже весь дом был объят пламенем. — Поставить в известность? — осведомился агент, державший в руках радиопередатчик. — Да, можешь оповестить всех, — кивнул Хейнс. — Но пока сюда кто-нибудь доберется, здесь уже ничего не останется. — Хейнс отошел в сторону и уставился на языки пламени, лизавшие окна второго этажа. Из-за угла появился агент в темном летнем костюме. Он бежал, зажав в руке револьвер. — Ни в амбаре, ни в сарае, ни в курятнике ничего нет, сэр, — доложил он, переводя дыхание. — Лишь одна свинья бродит на заднем дворе. — На заднем дворе? — переспросил Хейнс. — Ты имеешь в виду в загоне? — Нет, сэр. Просто свободно бродит вокруг. Ворота в загон распахнуты настежь. Хейнс снова чертыхнулся, глядя, как огонь пожирает крышу здания. Машинам пришлось податься назад, подальше от огня. Агенты, не зная, что предпринять, переминались с ноги на ногу в ожидании дальнейших приказаний. Хейнс подошел к первой машине и обратился к агенту с радиопередатчиком: — Питер, как зовут того окружного полицейского, который возглавляет поиски парня с автозаправочной станции? — Несбитт, сэр. Шериф Несбитт из Эль Торо. — Они находятся к востоку отсюда, не так ли? — Да, сэр. Они считают, что парень со своим приятелем отправились вверх по каньону Травуко. Они уже привлекли к поискам людей из лесничества и... — Они все еще пользуются вертолетом? — Да, сэр. Я слушал, как они связывались с ним не так давно. Хотя он не только занимается поисками. В Национальном заповеднике Кливленд разгорелся пожар и... — Найди нужную частоту и свяжи меня с шерифом Несбиттом, — распорядился Хейнс. — И заодно разузнай, где находится ближайший штаб полиции и пожарная станция. Когда агент передавал Хейнсу радиомикрофон, на ранчо уже въезжала первая пожарная машина. — Шериф Несбитт? — спросил Хейнс. — Так точно. Кто говорит? — Специальный агент Ричард Хейнс, Федеральное Бюро Расследований. По моему распоряжению осуществляются возглавляемые вами поиски Гомеса. Но у нас произошло тут нечто более важное, и мы нуждаемся в вашей помощи. Прием. — Валяйте. Я слушаю. Прием. — Я даю сообщения всем постам следить за появлением темного фургона «форд» выпуска 1976 или 1978 года, — сообщил Хейнс. — Водитель и возможные пассажиры разыскиваются в связи с поджогом и убийством. Вероятно, они только что выехали отсюда... э-э-э... это двенадцать и две десятых мили вверх по каньону Сан Хуан. Мы не знаем, куда они направились — на восток или на запад, но предполагаем, что на восток. Вы можете выставить заграждения на шоссе 74 к востоку от нашего местонахождения? Прием. — А кто за все это будет отвечать? Прием. Хейнс сжал в руке микрофон. За его спиной раздался грохот — это рухнула часть крыши, языки пламени взметнулись к самому небу. С воем подъехала еще одна пожарная машина, и пожарники начали разворачивать тяжелые брандспойты. — Это дело крайней важности, касающееся национальной безопасности, — прокричал Хейнс. — Федеральное Бюро Расследований официально просит местные власти оказать помощь в решении этого дела. Так можете вы установить заграждения? Прием. Последовала длительная пауза, нарушаемая лишь скрежетом помех. Наконец раздался голос Несбитта: — Агент Хейнс? К востоку от вас на 74-м шоссе у меня стоят две полицейские машины. Мы проверяли там лагерь Синей Сойки и несколько туристических троп. Я распоряжусь, чтобы полицейский Байере установил заграждение на главной дороге к западу от озера Эльсинор. Прием. — Хорошо. А до этого места есть какие-нибудь ответвления от шоссе? Прием. — Хейнс был вне себя, этот спокойный голос шерифа доводил его до бешенства. — Нет, — ответил Несбитт. — Только въезды в Национальный заповедник. Я попрошу Дасти взять вторую группу и перекрыть места ответвлений. Нам потребуется более подробное описание пассажиров, если вы не хотите, чтобы мы ограничились остановкой машины. Прием. Хейнс прищурился. Передняя стена дома обвалилась внутрь. Четыре тонкие струйки из брандспойтов не могли усмирить бушующий огонь. Хейнс приблизил к себе микрофон. — Нам неизвестно количество и внешний вид подозреваемых, — медленно, едва сдерживая себя, произнес он. — Возможно, белый мужчина, лет семидесяти, седовласый, говорит с немецким акцентом, с ним негр, лет тридцати двух, рост шесть футов один дюйм, вес двести фунтов. Возможно, с ними еще один... белый... двадцати восьми лет, волосы светлые, рост — пять футов одиннадцать дюймов. Они вооружены и крайне опасны. Хотя сейчас в фургоне могут находиться и другие лица. Обнаружьте и остановите машину. Прежде чем приближаться к пассажирам, примите все возможные меры предосторожности. Прием. — Вы на связи, Байере? — Понял вас! — Дасти? — Есть, Карл. — О'кей, специальный агент Хейнс. Будут заграждения. Что-нибудь еще? Прием. — Да, шериф. Ваш поисковый вертолет все еще в воздухе? Прием. — А... да, Стив как раз заканчивает облет пика Сантьяго. Стив, ты слышишь нас? Прием. — Да, Карл, я все слышал. Прием. — Хейнс, наш вертолет вам тоже нужен? У него сейчас особый контракт с лесничеством и с нами. Прием. — Стив, — произнес Хейнс, — с этого момента вы находитесь на контракте с правительством Соединенных Штатов в решении вопроса национальной безопасности. Вы меня поняли? Прием. — Да, — донесся лаконичный ответ, — я полагал, что служба лесничества является правительственной организацией. Куда мне отправляться? Я только что заправился, так что могу держаться на этой высоте около трех часов. Прием. — Где вы находитесь в настоящий момент? Прием. — Двигаюсь к югу между пиками Сантьяго и Трабуки. Приблизительно в восьми милях от вас. Нужны координаты по карте? Прием. — Нет, — ответил Хейнс. — Я хочу, чтобы вы захватили меня отсюда. Ранчо на северной стороне каньона Сан-Хуан. Вы сможете найти это место? Прием. — Вы шутите? — откликнулся пилот вертолета. — Я даже отсюда вижу дым. Хорошенькую посадочную площадку вы для меня приготовили. Буду через две минуты. Связь окончена. Хейнс отпер багажник «Понтиака». Проходивший мимо пожарник кинул взгляд на целую груду М-16, винтовок, снайперских ружей, бронежилетов, боеприпасов. — Вот это да! — присвистнул он, ни к кому конкретно не обращаясь. Хейнс вытащил М-16, уперев магазин в край багажника, начал вставлять патроны. Затем он снял пиджак, аккуратно сложил его, положил в багажник и натянул бронежилет, загрузив его огромные карманы дополнительными снарядами. Стащив с запасного колеса синюю бейсбольную кепочку, водрузил ее на голову. — Я связался с командующим, сэр, — окликнул его агент, занимавшийся радиосвязью. — Передайте ему тот же сигнал всем постам, — распорядился Хейнс. — Узнайте: сможет ли он передать его от нашего округа всем постовым полицейским вдоль шоссе? — Заграждения, сэр? Хейнс пристально посмотрел на молодого агента. — Заграждения на скоростной автомагистрали, Тайлер? Вы глупы или настолько небрежны? Скажите, что нам надо распространить сообщения об этом «Форде». Полиция должна записать номера, вести слежку и связаться со мной через центр связи Лос-Анджелесского отделения ФБР. К Хейнсу подошел агент Барри Меткалф из Лос-Анджелесского отделения. — Дик, должен признаться, что я ничего не понимаю. Зачем ливийским террористам потребовалось захватывать израильское убежище и поджигать его? — А кто тебе сказал, что это ливийские террористы, Барри? — Ну... ты заявил на брифинге, что это террористы с Ближнего Востока... — А об израильских террористах ты никогда не слышал? Меткалф моргнул и промолчал. За его спиной обрушилась еще одна стена дома, выбросив вверх целый фонтан искр. Пожарники удовлетворились тем, что стали поливать подсобные строения. С северо-востока появился маленький вертолет с плексигласовой кабиной — он сделал круг и опустился на поле к югу от ранчо. — Хочешь, чтобы я полетел с тобой? — поинтересовался Меткалф. — Похоже, в этой старой развалине найдется место лишь для одного пассажира, Барри. — Хейнс поглядел на вертолет. — Да, это что-то допотопное. — Оставайся здесь. Когда огонь погасят, надо будет просеять пепел сквозь сито. Возможно, нам удастся обнаружить даже трупы. — О Господи, — без всякого энтузиазма откликнулся Меткалф и направился к своим людям. Когда Хейнс вприпрыжку побежал к вертолету, его остановил человек по имени Свенсон, самый старший из той шестерки Кеплера, которую Хейнс захватил с собой. Он кинул на фэбээровца саркастический взгляд, но ничего не спросил. — Это все только догадки! — прокричал Хейнс, пытаясь перекрыть рев мотора вертолета. — Но у меня есть предчувствие, что это дело рук Вилли! Может, не он сам, а Лугар или Рэйнольдс. Если я их поймаю, то убью. — А как насчет канцелярской работы? — осведомился Свенсон, указывая головой на Меткалфа и его группу. — Я позабочусь об этом, — ответил Хейнс. — Занимайтесь своим делом. Свенсон не спеша пошел во двор. Вертолет едва поднялся в воздух, пробираясь вверх сквозь дым от горящего дома, как поступило первое радиосообщение. — Э-э, это полицейский Байере из Третьей бригады. Агенту Хейнсу: заграждение на шоссе 74 поставлено. Прием. — Продолжайте, Байере. — Под вертолетом все шире расстилалась горная местность, дорога сверху казалась бледно-серой лентой. Машин на ней было мало. — Э-э, мистер Хейнс, может, это совсем не то, но, по-моему, несколько минут назад я видел темный фургон... возможно, «форд»... развернулся в двухстах ярдах от моего местонахождения. Прием. — Куда он направляется в данный момент? Прием. — В вашу сторону, сэр, обратно по 74 шоссе. Если только он не свернет на одну из лесных дорог. Прием. — Он может объехать вас по этим дорогам? Прием. — Нет, мистер Хейнс. Они все кончаются тупиком или переходят в козлиные тропы, кроме пожарной дороги лесничества, на которой стоит Дасти. Прием. Хейнс повернулся к пилоту, плотному коротышке в ветровке и бейсбольной кепке команды «Индейцы Кливленда» — Стив, вы можете связаться с Дасти? — Он то появляется, то исчезает, — ответил пилот по интеркому. — В зависимости от того, на каком склоне находится. — Мне нужно связаться с ним, — произнес Хейнс и стал глядеть вниз. Кустарники и сосняки то освещались, то погружались в тень. В низинах и вдоль пересохших ручьев возвышались пирамидальные тополя и сосны. На взгляд Хейнса, оставалось около полутора часов светового времени. Они достигли вершины перевала, вертолет набрал высоту и сделал круг. На западе, в синей дымке, лежал Тихий океан, к северо-западу над Лос-Анджелесом висел коричнево-оранжевый смог. — Заграждение находится сразу за этим холмом, — заметил пилот. — Я не вижу никаких темных фургонов на шоссе. Хотите лететь к югу, к Дасти? — Да, — откликнулся Хейнс. — Вы еще не связались с ним? — Он пока не отвечал... о-о-о, так вот он. — И пилот перебросил тумблер на консоле. — На 2-5, мистер Хейнс. — Полицейский? Это специальный агент Хейнс. Вы слышите меня? Прием. — А, да, сэр. У меня здесь есть кое-что, на что, возможно, вы захотите взглянуть, мистер Хейнс. Прием. — Что там? — Темно-синий фургон «форд» выпуска 1978 года... Я выбирался на мощеную дорогу и обнаружил его здесь. Прием. Хейнс прикоснулся к закрепленному на голове микрофону и улыбнулся. — Кто-нибудь в нем есть? Прием. — Э-э... нет. Правда, в задней части масса всяких вещей. Прием. — Черт побери, говорите конкретнее. Каких вещей? — Электронное оборудование, сэр. Не знаю. Лучше приезжайте и посмотрите сами. Э-э... я собираюсь заняться прочесыванием леса... — Нет! — выпалил Хейнс. — Стерегите фургон и не двигайтесь с места. Ваши координаты? Прием. — Координаты? Э-э... скажите Стиву, что я в полумиле от главной пожарной дороги, которая идет к озеру Лысуха. Прием. Хейнс посмотрел на пилота, и тот кивнул. — Есть, — откликнулся Хейнс. — Оставайтесь на месте. Держите револьвер наготове и не спите. Мы имеем дело с террористами международного класса. — Вертолет резко свернул вправо и нырнул по направлению к заросшим лесом склонам. — Тейлор, Меткалф, вы слышали? — Принято, Дик, — донесся голос Меткалфа. — Мы готовы сворачиваться. — Нет, — ответил Хейнс. — Оставайтесь на ранчо. Повторяю, оставайтесь на ранчо. Пусть у фургона меня встретят Свенсон и его люди. Ясно? — Свенсон? — озадаченным голосом переспросил Меткалф. — Дик, это дело находится в нашей юрисдикции. — Мне нужен Свенсон, — рявкнул Хейнс. — И не заставляй меня повторять это еще раз. Прием. — Ричард, мы слышали и уже тронулись в путь, — раздался голос Свенсона. Хейнс высунулся из открытой дверцы — они летели в шестистах футах над озером, а затем спустились в небольшую лощину. Хейнс держал на коленях М-16 и улыбался. Ему было приятно, что он доставит удовольствие мистеру Баренту, и он с нетерпением ожидал, что произойдет дальше. Теперь он знал почти наверняка, что это был не сам Вилли... старик не стал бы бросать фургон, он скорее использовал бы полицейского и прорвался бы сквозь заграждение... но кто бы там ни был, ситуация была ими проиграна. Вокруг расстилались сотни квадратных миль Национального заповедника, но так как люди Вилли лишились средства передвижения, теперь все это лишь вопрос времени. В распоряжении Хейнса имелись почти неограниченные возможности, а лес в основном был низкорослым. Но Хейнс не хотел использовать свои неограниченные возможности и дожидаться утра для продолжения поисков. Ему необходимо было покончить с этой частью игры до наступления темноты. "Нет, это не Лугар и не Рэйнольдс, — размышлял Хейнс. Слишком сомнительно. Вероятно, это та негритянка, которую Вилли использовал в Джермантауне. Она абсолютно выпала из поля зрения. А может быть, даже и Тони Хэрод. Хейнс вспомнил допрос Марии Чен накануне вечером и улыбнулся. Чем больше он думал, тем логичнее ему представлялось участие Хэрода в этой акции. Ну что ж, довольно они поцацкались с этим голливудским прощелыгой! Больше трети жизни Ричард Хейнс работал на Чарлза Колбена и К. Арнольда Барента. Будучи нейтралом, он не мог быть обработан Колбеном, но получал хорошее вознаграждение — и деньгами, и реальной властью. Да и сама работа нравилась Ричарду Хейнсу. Он даже любил ее. Со скоростью 70 миль в час на высоте двухсот футов вертолет летел над вырубкой. Темный фургон стоял прямо на открытом пространстве, задние дверцы его были открыты. Рядом покоилась брошенная полицейская машина шерифа. — Какого черта, куда же подевался шериф? — рявкнул Хейнс. Пилот покачал головой и попытался вызвать по радиосвязи Дасти. Ему никто не ответил. Они сделали широкий круг над вырубкой. Хейнс поднял М-16 и принялся вглядываться в деревья, пытаясь различить какой-либо признак движения. Ничего. — Сделайте еще круг, — распорядился Хейнс. — Послушайте, капитан! — откликнулся пилот. — Я не полицейский, не федеральный агент и не герой, я уже заплатил свой долг во Вьетнаме. Я живу за счет этой машины, дружище. Если ее или меня продырявят, вам придется искать другую вертушку с водителем. — Заткнитесь и делайте еще круг! — заорал Хейнс. — Это вопрос национальной безопасности. — Это я уже слышал, — усмехнулся пилот. — Как и Уотергейт. Но меня это не волнует. Хейнс развернулся и, направив дуло винтовки, лежавшей у него на коленях, в сторону пилота, хладнокровно отчеканил: — Стив, обращаюсь к вам в последний раз. Делайте круг. Если мы ничего не обнаружим, вы посадите машину на южной стороне вырубки. Понятно? — Да, понятно, — откликнулся пилот. — И вовсе не потому, что вы так держите свою долбаную М-16. Даже федеральные скоты не могут пристрелить пилота, если только сами не умеют управлять вертолетом или если у них нет под рукой другого. — Садитесь, — сказал Хейнс. Они сделали уже четыре круга над вырубкой, но не заметили ни следов шерифа, ни чьих-либо других. Пилот начал резко снижаться и, едва не задев макушки деревьев, уверенно посадил вертолет именно там, где указал Хейнс. — Выходите, — распорядился агент ФБР и сделал пилоту знак своей винтовкой. — Вы что, шутите? — Стив, зло прищурясь, смотрел на Хейнса. — Если нам придется ретироваться, я хочу быть уверенным, что мы это сделаем вместе, — ответил Хейнс. — А теперь быстро выметайтесь из своей керосинки, пока я вас не продырявил. — Капитан, да вы рехнулись. — Пилот сдвинул на затылок свою кепку. — Я этого так не оставлю, я подниму такую вонь, что мистер Гувер подымется из могилы. — Вон! — заорал Хейнс, снял предохранитель и установил винтовку на автоматический режим. Пилот отрегулировал ручки на центральном пульте управления, замедлил вращение винта, отстегнул ремень и вылез. Хейнс дождался, пока пилот не отошел на тридцать футов к краю вырубки, затем отстегнул собственные ремни и, полупригнувшись, бегом помчался к полицейской машине, виляя из стороны в сторону и приподняв дуло винтовки. Присев за левым задним крылом «Бронко», он оглядывал склоны холмов, пытаясь различить хоть какое-либо движение или солнечный зайчик, отразившийся от металлической или стеклянной поверхности. Ничего. Хейнс осторожно высунул голову. Заглянув на заднее сиденье, а затем на переднее, он убедился, что машина пуста. Между сиденьями располагалась стойка с углублениями для двух винтовок. Оба были пусты. Хейнс дернул переднюю дверцу машины — она была заперта. Он опустился на одно колено и снова стал оглядывать цепким взглядом склоны холмов. Если этот глупый шериф отправился в лес, невзирая на приказ, то он вполне мог взять с собой винтовку и запереть дверцу машины. Если... Если в машине была только одна винтовка... Если у него вообще была винтовка... Если шериф еще был жив... Хейнс принялся рассматривать фургон, стоявший на расстоянии футов двадцать, и вдруг пожалел, что не остался в воздухе до прибытия Свенсона и его команды. Сколько им потребуется времени, чтобы добраться сюда? Десять минут? Пятнадцать? Может, даже меньше, если только озеро не находилось дальше от шоссе, чем это казалось с воздуха. Хейнс вдруг вообразил себе голову Тони Хэрода на подносе. Этот образ заставил его улыбнуться, и он бросился бегом к фургону. Задние дверцы фургона были распахнуты настежь. Прижавшись к раскаленному металлу машины, Хейнс скользнул вдоль фургона и заглянул внутрь. Он знал, что представляет собой идеальную мишень для любого человека с винтовкой на южной стороне вырубки, но поделать ничего не мог. Он выбрал это место посадки, так как с этой стороны склон был в основном покрыт травой и камнями. Здесь укрыться практически было негде, если не считать мелкой древесной поросли, возле которой по-прежнему стоял пилот. За четыре совершенных ими облета Хейнсу ничего не удалось рассмотреть. Он прижал к бедру М-16 и вышел из-за фургона. Ящики, мотки проводов и электронное оборудование. Хейнс различил радиопередатчик и компьютер «Эпсон». Для того чтобы спрятаться, здесь не было места. Хейнс залез внутрь и принялся копаться в ящиках и в оборудовании. В центральном ящике оказалось шестьдесят или семьдесят фунтов какой-то массы, напоминающей гипс для лепки, — он был разделен на отдельные куски, тщательно завернутые в отдельные пластиковые пакеты. — О черт, — прошептал Хейнс. Больше ему не хотелось тут оставаться. — Эй, капитан, может, мы уже полетим? — окликнул его пилот с расстояния в тридцать ярдов. — Да, разогревайте мотор! — приказал Хейнс и дал пилоту время вернуться к вертолету, прежде чем броситься, пригнувшись, к открытой дверце с правой стороны плексигласовой кабины. Он уже был на полпути, когда с северного склона прогремел голос, слишком громкий для того, чтобы быть естественным: — Хейнс! Первые выстрелы раздались несколькими секундами позже.Глава 15
В окрестностях Сан-Хуан Капистрано Суббота, 25 апреля 1981 г. Сол и Натали не проехали и пятнадцати минут, как увидели впереди первое дорожное заграждение. Полицейская машина стояла поперек шоссе, мигая сигнальными огнями и оставив с обеих сторон лишь узкие проезды. Еще четыре машины выстроились с восточной стороны от нее и три с западной на встречной полосе. Натали остановила фургон у обочины, на вершине холма, не доезжая четверти мили до заграждения. — Дорожное происшествие? — спросила она. — Не думаю. — Сол покачал головой. — Быстро разворачивайся. Они снова проехали перевал, который только что миновали. — Вниз по каньону, откуда мы приехали? — спросила Натали. — Нет. В двух милях отсюда есть гравиевая дорога. — Там, где стоял знак лагерной стоянки? — Не знаю, — откликнулся Сол, вытащил картонную коробку из-за пассажирского сиденья, достал оттуда «кольт» и удостоверился, что он заряжен. Натали отыскала гравиевую дорогу, они свернули влево и двинулись сквозь густой сосняк и редкие лужайки, заросшие травой. Раз им пришлось съехать на обочину и пропустить пикап с небольшим прицепом. То и дело в разные стороны ответвлялись разные тропинки, но они выглядели слишком узкими и ими явно давно не пользовались, поэтому Натали продолжала двигаться вперед — сначала к югу, потом на восток и снова к югу, по мере того как гравий переходил в просто утрамбованную землю. Они заметили полицейскую машину на вырубке в двухстах ярдах от себя, когда спускались по крутому, заросшему лесом склону. Натали остановила фургон, едва убедилась в том, что их не видят. — Проклятье! — вырвалось у нее. — Он нас не видел, — успокоил ее Сол. — Я успел заметить шерифа или кто он там, он стоял у машины и смотрел в бинокль в противоположную сторону. — Он заметит нас, когда мы будем пересекать открытое пространство по пути назад, — возразила Натали. — Здесь так мало места, что мне придется дать задний ход и ехать так, пока мы не доберемся до более широкого участка, который мы миновали два поворота назад. Проклятье... Сол задумался. — Не надо возвращаться, — сказал он. — Спускайся вниз, посмотрим, остановит ли он тебя. — Но он нас арестует, — выдохнула девушка. Сол покопался у себя за спиной и извлек капюшон и винтовку с ампулами, которой они пользовались в «работе» с Хэродом. — Я сейчас выйду, — заметил он. — Если они охотятся не на нас, я присоединюсь к тебе на противоположной стороне вырубки, там, где дорога сворачивает на восток и уходит через седловину. — А что, если они ищут все-таки нас? — Тогда я присоединюсь к тебе гораздо раньше. Я почти уверен, что кроме этого парня там внизу никого нет. Может, нам удастся выяснить, что происходит. — Сол, а что, если он захочет осмотреть фургон? — Дай ему это сделать. Я постараюсь подобраться как можно ближе. Но когда мне надо будет пересечь открытый участок вырубки, постарайся отвлечь его. Я буду двигаться с южной стороны под прикрытием фургона, если мне это удастся. — Сол, а он не может быть одним из этих? — Не знаю, как он может им оказаться. Думаю, они просто привлекли местные власти. — То есть он просто невинный посторонний? Сол кивнул. — Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не причинить ему вреда, но чтобы и нам его никто не причинил. — Сол бросил взгляд на заросший лесом склон. — Дай мне минут пять, чтобы добраться до нужного места. — Будь осторожен, Сол. — Натали прикоснулась к его руке. — Теперь у нас никого нет, за исключением друг друга. Он похлопал ладонью по еепрохладным тонким пальцам, кивнул, взял свое снаряжение и бесшумно исчез за деревьями. Натали выждала минут шесть, завела мотор и начала медленно спускаться вниз. Когда она выехала на вырубку, шериф, стоявший возле «Бронко» с окружными опознавательными знаками, выразил явное изумление. Резким движением он вытащил револьвер из кобуры и прицелился, положив правую руку на капот машины. Когда фургон отделяло от него всего футов двадцать, он закричал в мегафон, который держал в левой руке: — Немедленно остановиться! Натали нажала на тормоз и подняла над рулем руки, чтобы было видно, что они пусты. — Выключите мотор, выходите из машины, руки вверх! — скомандовал шериф. У Натали похолодели руки, сердце забилось как сумасшедшее, когда она выключала двигатель и открывала дверцу фургона. Казалось, этот шериф очень нервничает. Пока она стояла у фургона, подняв руки, он взглянул внутрь своего «Бронкс», словно намереваясь воспользоваться радиосвязью, но потом передумал, не желая расставаться ни с револьвером, ни с мегафоном. — В чем дело, шериф? — нежным голосом спросила Натали. Ей казалось странным вновь использовать это слово. Этот человек ни в малейшей степени не походил на Роба. Ему было пятьдесят с небольшим, он был высокий, худой, с лицом, изъеденным морщинами, будто всю свою жизнь провел щурясь на солнце. — Молчать! Отойдите от машины. Вот так. Руки за голову. Лечь лицом вниз. Не приближаться. Лечь на живот. — В чем дело? Что я такого сделала? — опускаясь на коричневую траву, воскликнула Натали. — Молчать! Всем выходить из фургона! Немедленно! Натали попыталась улыбнуться. — Кроме меня, там никого нет. Послушайте, шериф, это какая-то ошибка. Я никогда даже не останавливалась в недозволенных местах. — Молчать! — полицейский мгновение колебался и положил мегафон на капот. Натали показалось, что вид у него несколько растерянный. Он снова бросил взгляд на рацию, затем решительно обошел машину, держа девушку на прицеле, и испуганно осмотрел фургон. — Не шевелить ни единым пальцем! — прокричал он, подходя к открытой дверце «форда». — Если внутри кто-нибудь есть, быстро скажи, чтоб выметались оттуда немедленно. — Но я действительно одна, — повторила Натали. — Что происходит? Я ничего не сделала... — Заткнись! — рявкнул шериф, резко и неуклюже нырнул на водительское место, развернул дуло револьвера внутрь фургона и совершенно очевидно расслабился. Не выходя из машины, он снова прицелился в Натали. — Одно движение, мисс, и я раскрою ваш череп, как арбуз. Натали лежала в неудобной позе, упершись локтями в землю и заведя руки за голову, пытаясь через плечо рассмотреть поджарого полицейского. Револьвер, из которого он в нее целился, казался ей невероятно огромным. От напряжения у нее заломило между лопатками, она физически ощущала, что вот-вот туда вонзится пуля. Что, если он — один из них? — Руки за спину. Быстро! Как только кисти Натали прикоснулись к пояснице, он тут же сделал рывок вперед и защелкнул наручники. Натали уткнулась лицом в землю и почувствовала на зубах песок. — А вы не хотите сообщить мне о моих правах? — осведомилась она, чувствуя, как волны адреналина и гнева смывают охвативший ее паралич ужаса. — Пошла ты к черту со своими правами, мисс! — огрызнулся шериф, выпрямляясь и явно расслабляясь. — Вставай, — он запихал в кобуру длинноствольный револьвер. — Сейчас сюда прибудет ФБР, и тогда мы узнаем, что происходит. — Отличная мысль, — раздался приглушенный голос за их спинами. Натали развернулась и увидела, как из-за фургона выходит Сол в капюшоне и зеркальных очках. В правой руке он держал «кольт», а через левое плечо у него висело громоздкое духовое ружье. — Даже и не думай! — рявкнул Сол, и шериф замер, так и не вынув револьвер из кобуры. Натали окинула взглядом взведенный курок револьвера, черную маску, серебристые зеркальные очки, и даже ей самой стало страшно. — Лицом вниз. Быстро! — распорядился Сол. Шериф явно колебался, и Натали поняла, что чувство достоинства в нем борется с инстинктом самосохранения. Сол щелкнул затвором и взвел курок. Шериф опустился на колени и упал на живот. Натали откатилась в сторону и стала наблюдать за происходящим. Момент был решающим: у полицейского в кобуре по-прежнему оставался револьвер. Солу надо было сначала заставить его отбросить оружие и лишь потом укладывать шерифа на землю. Теперь Солу придется подойти на достаточно близкое расстояние, чтобы вытащить у него револьвер. «Мы абсолютные дилетанты во всем этом», — подумала Натали. Больше всего ей захотелось, чтобы Сол просто выстрелил ампулой с транквилизатором в зад этому полицейскому и покончил бы со всем этим. Вместо этого Сол быстрыми шагами подошел к шерифу, встал на его худую спину одним коленом. Полицейский резко выдохнул и вжался лицом в землю под дулом «кольта» человека в капюшоне. Затем Сол вынул револьвер из кобуры, отбросил его в сторону и кинул Натали связку ключей. — Один из них должен быть от наручников, — крикнул он ей. — Спасибо. — Натали попыталась шагнуть из кольца скованных рук. — Пора побеседовать. — Сол еще сильнее вжал голову шерифа в землю, теперь уже рукояткой «кольта». — Кто устроил дорожные заграждения? — Пошел к черту! — буркнул полицейский. Сол поспешно встал, отступил шага на четыре и выстрелил. Пуля врезалась в землю в четырех дюймах от лица шерифа. От оглушительного грохота Натали выронила ключи. — Не правильный ответ. Я же не прошу вас, чтобы вы открыли мне государственную тайну. Просто спрашиваю: кто распорядился поставить дорожные заграждения? Если в течение ближайших пяти секунд я не получу ответа, я всажу вам пулю в левую лодыжку и буду продвигаться вверх по ноге, пока не услышу правильного ответа. Раз... Два... — Сукин сын, — выдавил из себя шериф. — Три... Четыре... — ФБР! — ответил полицейский. — Кто именно из ФБР? — Не знаю. — Раз... Два... Три... — Хейнс! — выкрикнул полицейский. — Какой-то агент по фамилии Хейнс из Вашингтона. Минут двадцать назад он вышел со мной на радиосвязь. — А где сейчас Хейнс? — Не знаю... Клянусь, не знаю. Вторая пуля взметнула фонтан пыли у длинных ног полицейского. Натали наконец отыскала самый маленький ключ, и наручники открылись. Она потерла запястья и на четвереньках добралась до револьвера шерифа. — Он в вертолете Стива Гормана совершает облет шоссе, — признался полицейский. — Хейнс дал вам описание людей или только фургона? — осведомился Сол. Полицейский приподнял лицо и, сощурясь, посмотрел на Сола. — Людей, — ответил он. — Негритянка лет двадцати с небольшим и белый мужчина. — Вы лжете! — Сол покачал головой. — Вы бы никогда не подошли к фургону, если бы знали, что преступников только двое. Что, по словам Хейнса, мы сделали? Полицейский что-то пробормотал. — Громче! — рявкнул Сол. — Террористы, — мрачно повторил полицейский. — Международный терроризм. Под черной тканью капюшона раздался злорадный смех. — Как он прав! Руки за спину, шериф. — Зеркальные линзы развернулись в сторону Натали. — Надень на него наручники. Дай мне револьвер. Оставайся здесь. Если он сделает малейшее движение в твою сторону, я убью его. Натали защелкнула наручники и попятилась. Сол передал ей револьвер шерифа. — Шериф, — промолвил он, — сейчас мы подойдем к радиопередатчику и выйдем на связь. Я объясню вам, что вы должны сказать. Вы можете выбрать — умереть прямо сейчас или вызвать моторизованные войска, и тогда у вас есть шанс спастись. Разыграв шараду по радиосвязи, Натали и Сол отвели шерифа на склон холма и закрепили его наручники вокруг ствола поваленной сосны. В этом месте два дерева наваливались друг на друга, и ствол того, что было больше, опирался о валун высотой в четыре фута. Сам камень был скрыт кустом с переплетением ветвей, что создавало прекрасное укрытие. Отсюда открывался хороший обзор раскинувшейся внизу вырубки. — Оставайтесь здесь, — распорядился Сол. — Я вернусь к фургону за шприцами и пентобарбиталом. А потом принесу его винтовку из «Бронко». — Но, Сол, они же вот-вот будут здесь! — воскликнула Натали. — Сейчас здесь будет Хейнс. Лучше используй ружье с транквилизаторами! — Мне не нравится это вещество, — отозвался Сол. — У тебя слишком увеличилось сердцебиение в прошлый раз, когда нам пришлось использовать его. Если у этого парня какие-нибудь нелады с сердцем, он может не выдержать этого. Оставайся здесь. Я сейчас вернусь. Натали присела за камень, а Сол побежал сначала к «Бронко», затем нырнул в фургон. — Мисс, — прошипел шериф, — вы здорово влипли Расстегните мне наручники и отдайте револьвер, тогда у вас будет шанс выбраться живой из этого. — Заткнитесь! — прошипела в ответ Натали. Сол уже бегом поднимался по склону с маленьким синим рюкзаком и полицейской винтовкой в руках. До Натали донесся приглушенный рокот вертолета. С каждой секундой он приближался, становился все громче. Девушке не было страшно, она испытывала лишь возбуждение. Револьвер полицейского Натали положила на землю рядом и сняла предохранитель на «кольте», который ей передал Сол. Затем она оперлась руками о камень и стала целиться в фургон, задние дверцы которого теперь были распахнуты, хотя и понимала, что машина находится вне пределов револьверного выстрела. Сол проскочил за укрытие кустов как раз в тот момент, когда из-за гряды холмов появился вертолет. Еле переводя дыхание, он опустился на корточки и принялся наполнять шприц. Изрыгая ругательства, полицейский попробовал было оказать сопротивление, но Сол решительно ввел иглу, и через несколько мгновений шериф погрузился в забытье. Сол стащил с себя капюшон и очки. Вертолет сделал заход на новый круг, на сей раз спустившись ниже, и Сол с Натали пригнулись, пытаясь укрыться под кустом. Сол вытряхнул содержимое рюкзака, отложил в сторону красно-белую коробку с запаянными медью патронами и один за другим начал вставлять их в винтовку полицейского. — Извини, Натали, что я с тобой не посоветовался. Но я не могу упустить эту возможность. — Все нормально, — кивнула Натали. Она была настолько возбуждена, что ни секунды не могла просидеть спокойно и то опускалась на колени, то садилась на корточки, то снова вставала на колени. — Сол, это очень захватывающе, — выдохнула она. Сол внимательно посмотрел на нее. — То есть я понимаю, что это ужасно и все такое, но это так интересно. Сейчас мы разберемся с этим типом, выберемся отсюда и... ух! Сол схватил ее за плечо и крепко сжал. Потом он прислонил винтовку к камню и обнял ее за плечи обеими руками. — Натали, — очень серьезно произнес он, — в настоящий момент наши организмы перенасыщены адреналином и все кажется чрезвычайно захватывающим, но это не телевизионный спектакль. После того как стрельба будет закончена, исполнители не встанут и не пойдут пить кофе. Через несколько минут кто-нибудь из нас будет ранен, и все окажется не менее трагическим, чем последствия автодорожной катастрофы. Сосредоточься. Хорошо бы, чтобы эта катастрофа произошла не с нами. Натали немного успокоилась. Вертолет сделал заход на последний круг, ненадолго исчез за гребнем холмов и начал снижаться, поднимая клубы пыли и сосновых игл. Натали легла на живот и прижалась плечом к валуну, Сол поудобнее взял винтовку и лег рядом. Вдыхая запах пропеченной солнцем почвы и сосновой хвои, он думал о другом времени и других местах. После бегства из Собибура в октябре 1944 года он вошел в состав еврейской партизанской группы, действовавшей в Лесу Сов. В декабре, еще до того как он стал помощником хирурга, Солу была выдана винтовка, и его посылали в караул. Однажды холодной чистой ночью Сол лежал в засаде. Освещенный луной снег казался подкрашенным синькой. И вдруг на просеку вышел немецкий солдат. Он был без каски и без оружия, на вид казался совсем юным. Руки и уши у него были замотаны тряпьем, щеки побелели от мороза. По нашивкам Сол сразу определил, что юноша был дезертиром. Неделей раньше в этом районе Красной Армией было предпринято крупномасштабное наступление, и хотя до окончательного падения вермахта оставалось еще много времени, этот юноша присоединился к сотням других, пустившихся в стремительное бегство. Командир партизанского отряда Йехиль Гриншпан дал отчетливые указания, как поступать с такими одиночками, немецкими дезертирами, — их следовало расстреливать, а тела сбрасывать в реку или оставлять разлагаться. Никакие допросы не предполагались. Единственное исключение допускалось в тех случаях, когда звук выстрела мог выдать присутствие партизанского отряда нередким здесь немецким патрулям. В этом случае дезертира можно было пропустить или попытаться прикончить его ножом. Сол пребывал в нерешительности. У него была возможность выстрелить. Отряд находился в пещере в нескольких сотнях метров от этого места, фашистов поблизости не было, но, вместо того чтобы стрелять, он вдруг вышел навстречу тому немцу. Парень упал на колени в снег и начал плакать, с мольбой обращаясь к Солу на немецком языке. Сол обошел его сзади, так что дуло допотопного маузера оказалось менее чем в трех футах от покрытого светлыми волосами затылка. Сол вспомнил о Рве — карабкающиеся белые тела и лейкопластырь на щеке сержанта вермахта, когда он сел, свесив ноги в этот кишащий трупами кошмар, чтобы устроить себе перекур. Юноша продолжал плакать. Изморозь поблескивала на его длинных ресницах. Сол поднял маузер, а потом отступил на шаг и сказал по-польски: «Иди». Не веря своим ушам, молодой немец оглянулся, пополз вперед, а потом поднялся и заковылял по просеке прочь. На следующий день, когда партизанская группа переместилась к югу, они наткнулись на его окоченевший труп, лежавший в ручье лицом вниз. В тот же день Сол пошел к Гриншпану и попросил перевести его в помощники к доктору Яцеку. Командир отряда долго смотрел на Сола, прежде чем что-то ответить. Отряд не мог позволить себе роскошь содержать евреев, которые не хотели или не могли убивать немцев, но Гриншпан знал, что Сол прошел Челмно и Собибур. И дал свое согласие. Сол снова участвовал в военных действиях в 1948, 1956, 1967 и в течение нескольких часов в 1973 году, и каждый раз он исполнял лишь обязанности медика. И кроме тех нескольких жутких часов, когда оберет заставлял его преследовать старика-генерала, Сол никогда в своей жизни не сталкивался с ситуацией, в которой ему нужно было убить другого человека... Сол лежал на животе в мягкой ложбине, усыпанной нагретой солнцем хвоей, и смотрел на часы. Вертолет опускался все ниже и ниже. Он совершал посадку в неудобном месте, на дальнем участке вырубки, так что обзор был частично скрыт полицейской машиной. Винтовка полицейского оказалась старой — с деревянным ложем, со щелевым прицелом. Сол пожалел, что у него нет оптического прицела. Все не соответствовало совету, данному Джеком Коуэном, — в руках у него было чужое оружие, из которого он никогда не стрелял, поле обзора заслоняли помехи, пути к отступлению не было. Но тут Сол вспомнил об Ароне, Деборе и близняшках и загнал патрон в ствол. Первым из вертолета вышел пилот и неторопливым шагом направился к краю вырубки. Это оказалось для Сола неожиданностью и встревожило его. Человек, оставшийся в кабине справа, держал в руках автоматическую винтовку, на нем были темные очки, кепка с длинным козырьком и громоздкий бронежилет. С расстояния ярдов в шестьдесят и при отблесках заходящего солнца на плексигласе Сол не мог с уверенностью сказать, что это Ричард Хейнс. Сол не стрелял. Внезапный приступ тошноты вместе с чувством твердой уверенности, что он делает что-то дурное, вновь накатил на него. Когда он забирал из полицейской машины винтовку, то слышал по радиосвязи голос Хейнса, тот обращался к какому-то Свенсону. Нет, конечно, это должен был быть Хейнс. Значит, единственное, что оставалось фэбээровцу, — это сидеть и ждать подкрепления. Сол переложил мегафон слева от себя и снова посмотрел в прицел винтовки. Человек в надутом жилете выскочил из вертолета и, полупригнувшись, бросился под прикрытие «Бронко». Сол не слишком отчетливо различал его, но успел заметить мощную челюсть и аккуратно подстриженные волосы, выглядывавшие из-под кепки. Да, точно, так и есть — Ричард Хейнс собственной персоной. — Где он? — прошептала Натали. — Тес, — так же шепотом ответил Сол. — Сейчас за фургоном. У него винтовка. Не высовывайся. — Он придвинул к себе мегафон, удостоверился, что тот включен, и обхватил винтовку обеими руками. Пилот что-то прокричал, и Хейнс ответил ему, прячась за фургоном. Пилот неторопливо двинулся в сторону вертолета, а пятью секундами позже и агент направился туда же маленькими перебежками. — Хейнс! — прокричал Сол в мегафон, и от грохота усиленного голоса Натали вздрогнула всем телом. Крик отразился эхом от противоположного склона горы. Пилот бросился в укрытие деревьев, а человек в жилете развернулся, опустился на правое колено и начал поливать склон автоматным огнем. Сол подумал, что хлопки выстрелов казались игрушечными и несерьезными. Что-то просвистело сквозь ветви футах в восьми-девяти над их головами. Сол прижал к щеке смазанное дуло, прицелился и выстрелил. Отдача с неожиданной силой отбросила приклад, ударив Сола по плечу. Хейнс продолжал стрелять, поводя дулом М-16. Две пули отскочили от валуна перед Солом, а еще одна вгрызлась в поваленное дерево с таким звуком, который обычно издает топор, когда им рубят полено. Сол пожалел, что не закрепил наручники шерифа ниже. Сол увидел, как сосновая хвоя взвилась фонтаном чуть левее от Хейнса. Он поднял прицел и передвинул винтовку вправо, одновременно заметив боковым зрением, что пилот бежит в сторону деревьев. Сол видел вспышки выстрелов. Последняя череда пуль пришлась в валун, за которым, скрючившись, лежала Натали, и тут стрельба резко оборвалась. Стоявший на коленях человек отбросил в сторону прямоугольную обойму и начал доставать из кармана жилета следующую. Сол прицелился и выстрелил. Хейнс отшатнулся, словно его дернули за невидимый поводок. Очки и кепка слетели, и он рухнул на спину, раскинув ноги, его винтовка отлетела. Наступившая тишина была оглушающей. Натали высунулась из-за валуна, хватая ртом воздух. — О Господи, — прошептала она. — С тобой все в порядке? — спросил Сол. — Да. — Оставайся на месте. — Даже не думай об этом, — ответила она и встала рядом с Солом, когда тот решил спуститься вниз. Они спустились уже на сорок футов по склону, когда Хейнс перекатился на живот, поднялся на колени, схватив винтовку, и бросился на противоположную сторону вырубки. Сол опустился на колено, выстрелил, но промахнулся. — Черт! Вот сюда. — И он толкнул Натали влево, в густые заросли кустарника. — Сейчас же подойдут остальные, — задыхаясь, прошептала Натали. — Да, — кивнул Сол. — Ни малейшего звука. — Они продолжали двигаться влево, перебегая от дерева к дереву. Склон на противоположной стороне вырубки был слишком обнаженным, чтобы Хейнс мог их обогнать. Он мог или стоять на месте, или двигаться навстречу им. Сол гадал, вооружен ли пилот. Сол и Натали двигались с максимальной скоростью, постоянно оставаясь под прикрытием деревьев и стараясь держаться подальше от края просеки. Когда они добрались до того места, где Хейнс скрылся в лесу, Сол жестом показал Натали, чтобы она остановилась в густом подлеске, а сам, глядя влево и вправо, полуприсев, двинулся дальше. В карманах его спортивной куртки позвякивали патроны. Под деревьями уже становилось темно. Тучи комаров облепили потное лицо Сола. Ему казалось, что прошло уже много часов с тех пор, как приземлился вертолет, но оказалось — всего лишь шесть минут. Горизонтальный солнечный луч высветил что-то яркое на темной хвое. Сол упал на колени и пополз вперед. Затем остановился, перекинул винтовку в левую руку и, вытянув правую, нащупал кровь. Сосновые иглы и земля были политы кровью. Кровавые капли вели туда, где деревья росли чаще. Сол попятился, и тут слева от него раздался грохот автоматной очереди. Теперь он вовсе не казался игрушечным. Это была безумная беспорядочная стрельба. Он вжался щекой в землю и попытался слиться с грунтом, в то время как пули срезали ветви над его головой, впивались в стволы деревьев и со свистом улетали обратно, на просеку. По крайней мере дважды до него донеслись металлические звуки, но он не стал поднимать голову и смотреть, которая из машин была подбита. И тут Сол услышал дикий крик и стон, начавшийся с низких нот, а затем перешедший чуть ли не в ультразвук. Сол вскочил и бросился влево, подхватывая на бегу сбитые веткой очки, пока чуть не перелетел через Натали, которая сидела, прижавшись к гнилому пню. Он упал на землю рядом с ней и прошептал: — С тобой все в порядке? — Да. — Она указала револьвером по направлению к густым зарослям молодых сосен и елей, где склон холма переходил в овраг. — Шум доносился оттуда. Он стрелял не в нас. Сол осмотрел свои очки. Дужки погнулись. Затем он ощупал карманы своей спортивной куртки — зазвенели патроны. Револьвер по-прежнему был в его левом кармане. Локти были измазаны грязью. — Пошли. Они поползли вперед на расстоянии трех ярдов друг от друга. Вскоре они приблизились к ручейку, выбегавшему из оврага. Подлесок здесь был гуще и состоял из молодых побегов елей, низкорослых берез и пучков папоротника. Здесь-то Натали и обнаружила пилота. Его тело было разрезано почти пополам очередью из М-16. Пальцами пилот судорожно обхватывал серовато-белые кишки, вылезшие из живота, будто он пытался заправить их обратно. Голова человека запрокинулась, рот был широко распялен в оборвавшемся крике, затянутые смертной пленкой глаза устремлены в клочок синего неба, видневшегося меж ветвей. Натали отвернулась, и ее вырвало в папоротник. — Пойдем, — прошептал Сол. Шум воды в ручье был достаточно громким, чтобы заглушать более тихие звуки. За стеной еловых побегов на поваленном дереве виднелись крохотные капли крови. Вероятно, Хейнс побывал здесь за несколько минут до того, как услышал приближение пилота, пытавшегося укрыться в кустах. Сол посмотрел сквозь еловые побеги. В какую же сторону мог двинуться агент ФБР? Слева за прогалиной снова начинался лес, заполнявший долину и поднимавшийся вверх, в низкую седловину, видневшуюся к юго-востоку. Справа тянулся заросший молодыми деревцами овраг, заканчивавшийся узкой расщелиной, покрытой можжевеловыми кустами. Надо было решать. Куда бы Сол ни двинулся, он оказывался на виду у человека, который направился в противоположную сторону. Психологический барьер, создаваемый прогалиной слева, заставил Сола прийти к выводу, что Хейнс пошел направо. Сол скользнул назад, передал винтовку Натали и, почти прижавшись губами к ее уху, прошептал: — Пойду туда. Держись за стволом. Предоставь мне ровно четыре минуты, а затем выстрели в воздух. Не высовывайся. Если ничего не услышишь, выжди еще минуту и выстрели еще раз. Если я не вернусь через десять минут, возвращайся в фургон и гони прочь отсюда. Отсюда он не может видеть дорогу. Поняла? — Да. — У тебя есть паспорт, — прошептал Сол. — Если дела примут дурной оборот, улетай в Израиль. Натали молча кивнула. Лицо ее напряглось, она крепко сжала губы, так что они превратились в тонкую полоску. Сол пополз через мягкую поросль елей, стараясь не удаляться от ручья. Он чувствовал запах крови. По мере того как он углублялся в заросли низкого можжевельника, ее становилось все больше. Он двигался слишком медленно — прошло уже три минуты. Правая ладонь у него вспотела — так он сжимал рукоять «кольта», очки то и дело соскальзывали с переносицы. Рукава на локтях и джинсы на коленях были разодраны, дыхание со свистом вырвалось из груди. Целая туча мух, которая вилась над очередной лужицей свежей крови, врезалась ему в лицо. У него оставалось только полминуты. Если Хейнс не удрал, он не мог уйти далеко. Но он мог передвигаться и бегом. Возможно, их отделяло расстояние не более десяти ярдов. Заряд М-16 в двадцать раз превосходил количество выстрелов, которые Сол мог сделать из своего револьвера, включая дополнительную пулю, вставленную им в ствол. У Сола было восемь зарядов. Карманы его были забиты тяжелыми патронами для полицейской винтовки, три же обоймы для револьвера он аккуратно сложил и оставил возле шерифа. Теперь это не имело значения. До выстрела Натали оставалось двадцать секунд. Уже ничего не имело значения, если ему не удастся подобраться достаточно близко. Сол на четвереньках рванулся вперед, с шумом вдыхая и выдыхая и осознавая при этом, что издает слишком громкие звуки. Он упал под нависающую можжевеловую ветвь и сделал глубокий вдох, пытаясь отрегулировать дыхание. В овраге прогремел выстрел Натали. Сол перекатился на спину и зажал рот рукой, чтобы его дыхание было не настолько слышно. Ничего. Сверху не донеслось ни выстрелов, ни шелеста ветвей. Сол лежал на спине, держа револьвер рядом с лицом, — он знал, что надо двигаться дальше, вверх по склону, но не мог пошевелиться. Небо темнело. Последние лучи заходящего солнца окрашивали в, розовый цвет перистые облака, и над краем оврага уже замерцала первая звездочка. Сол приподнял левую руку и взглянул на часы. С момента приземления вертолета прошло двенадцать минут. Сол вдохнул остывающий воздух и снова ощутил запах крови. Прошло слишком много времени с момента первого выстрела Натали. Сол уже поднял руку, чтобы еще раз свериться с часами, когда прогремел второй выстрел, на этот раз уже ближе, и выпущенная пуля отрикошетила от камня на высоте футов тридцать от дна оврага. И тут Ричард Хейнс поднялся из кустов, на расстоянии восьми футов от Сола, и стал поливать очередью дно оврага. Сол различал вспышки над своей головой, доносился запах кордита. Пули прорезали кустарник, который он только что миновал. Молодые деревца падали как подкошенные, словно их срезали невидимым серпом. Пули врезались в восточный склон оврага, отлетали к западному и зарывались в землю вновь у восточного склона. В воздухе запахло кордитом и сосновой смолой. Казалось, стрельбе не будет конца. Когда наконец наступила тишина, Сол был настолько оглушен, что пару секунд не мог даже пошевелиться. Потом он расслышал металлический щелчок. Это Хейнс перезаряжал свою смертельную винтовку. Хрустнула ветка. Сол встал во весь рост и увидел воочию Ричарда Хейнса, подонка и предателя, работавшего на два фронта, лакея Барента. И рука его не дрогнула, когда он выпустил в этого негодяя шесть пуль. Хейнс выронил винтовку, застонал и сполз на землю. Он уставился на Сола с таким изумленным видом, словно они были детьми, игравшими в какую-то игру, и вдруг выяснилось, что Сол «жилит». Волосы Хейнса свалялись и взмокли от пота, бронежилет свисал с одного плеча, лицо было покрыто грязью. Левая штанина была пропитана кровью. Первые три выстрела Сола, вероятно, попали в жилет и просто отшвырнули агента назад, зато еще один повредил Хейнсу левую руку и как минимум еще один попал в шею. Сол перешагнул через низкий можжевеловый куст, присел в трех футах от Хейнса и увидел обнаженную белую кость раздробленной ключицы. Левой рукой Сол отодвинул в сторону М-16. Хейнс сидел, выпрямив ноги, так что носки черных ботинок были направлены перпендикулярно вверх. Поврежденная рука была тошнотворно вывернута, зато другая, правая, безвольно лежала на колене в расслабленной, чуть ли не вальяжной позе. Красавец несколько раз открыл и закрыл рот, и Сол заметил на его языке алую кровь. — Больно, — слабым голосом произнес Ричард Хейнс. Сол кивнул. Он присел на корточки и по старой привычке, а также из профессионального инстинкта принялся рассматривать и анализировать ранения. Левую руку наверняка придется ампутировать, но при наличии плазмы и оказании ему помощи в течение ближайших двадцати-тридцати минут жизнь агента будет спасена. Сол вспомнил о том, как в последний раз видел Арона, Дебору и близняшек. В Йом-Киппур. Он сидел на диване и беседовал с Ароном, а девочки, утомившись, заснули между ними. — Помоги мне, — прошептал Хейнс. — Пожалуйста. — Нет, — Сол покачал головой и до боли сжал челюсти. — Нет, Хейнс, я не стану это делать для тебя, — и он дважды выстрелил в голову агента ФБР. Когда Сол спустился в овраг, Натали с винтовкой в руках уже поднималась вверх по склону. Она посмотрела на М-16 в его руках и дополнительные патроны в карманах и вопросительно подняла брови. — Мертв, — ответил Сол. — Надо спешить. С момента приземления вертолета до того мгновения, когда Натали вновь завела мотор фургона, прошло всего семнадцать минут. — Постой, — сказал Сол, — после первой череды выстрелов ты заглядывала к шерифу? — Да, — ответила Натали. — Он спал, с ним все было в порядке. — Еще минуту, — остановил ее Сол. Он выскочил из фургона с М-16 в руках и посмотрел на вертолет, стоявший на расстоянии футов сорока. Под кабиной виднелись две выпуклости резервуаров для горючего. Сол установил селектор на единичный выстрел и выстрелил. Раздался гулкий звук, будто ломом ударили по котлу, но взрыва не последовало. Сол выстрелил еще раз, и все вокруг вдруг наполнилось острым запахом авиационного топлива. После третьего выстрела вертолет загорелся и взлетел на воздух. — Поехали, — крикнул Сол, запрыгивая в фургон. Трясясь на кочках, они миновали машину шерифа. Едва они успели добраться до деревьев на юго-восточной стороне вырубки, как взорвался второй бак, покрытие кабины отлетело за деревья и опалило левую сторону «Бронко». Позади, в просвете между деревьями, промелькнули две темные машины. — Быстрее, — скомандовал Сол, когда они въехали под темный полог леса. — У нас маловато шансов? — спросила Натали. — Да. — Сол кивнул. — Сейчас они поднимут всех полицейских в округе Орандж и Риверсайде. Они закупорят шоссе, перекроют все подъезды к 1-15 и вышлют вертолеты и машины в холмы еще до наступления рассвета. Фургон пересек ручей и с ревом взлетел на седловину со скоростью 70 миль в час, разбрасывая вокруг себя снопы гравия. Натали ловко развернула машину, так что ее даже не занесло, и спросила: — Это стоило того, Сол? Сол сосредоточенно разгибал погнутые дужки очков. — Да, — твердо сказал он, подняв голову. — Стоило. Натали кивнула и направила машину вниз по длинному пологому склону к видневшейся впереди еще более темной полосе леса.Глава 16
Дотан, штат Алабама Воскресенье, 26 апреля 1981 г. Утром в воскресенье, перед тем как выступить перед восьмитысячной аудиторией с прямой трансляцией не менее чем на два с половиной миллиона телезрителей, преподобный Джимми Уэйн Саттер настолько потряс слушателей в Молитвенном дворце своей проповедью о грядущем конце света, что те повскакивали на ноги и заголосили. Телезрители тут же бросились звонить по телефону сборщикам пожертвований и сообщать им номера своих кредитных карточек. Передача длилась полтора часа, семьдесят две минуты из которых преподобный Саттер читал свою проповедь. Сначала он зачитывал отрывки из Послания апостола Павла к коринфянам, после чего разразился гораздо более длинной речью, в которой сам стал воображать себя Павлом, пишущим коринфянам в наши дни и сообщающим о нравственности и перспективах духовного развития в Соединенных Штатах. Говоря от лица апостола Павла, преподобный Джимми Саттер обрисовал нравственный климат в Соединенных Штатах как разгул безбожия, порнографии, вседозволенности, разврата, демонической одержимости, поощряемой видеозаписями, компьютерными играми и состоянием всеобщего и всепроникающего разложения, наиболее ощутимо проявляющегося в отказе людей принимать Христа как своего личного Спасителя. Когда ансамбль «Евангелические гитары» допел последние триумфальные такты и на всех девяти камерах погасли красные лампочки, преподобный Джимми Уэйн в сопровождении лишь трех телохранителей, личного консультанта и бухгалтера двинулся к своему кабинету по пустым коридорам, куда никого не допускали. Саттер оставил всех пятерых в приемной, на ходу снимая пасторские одежды, двинулся по ковровому покрытию своей святая святых, оставляя на полу след от пропитанных потом одеяний, пока не застыл обнаженным у стойки бара. Он наливал себе бурбон в высокий фужер, когда кожаное кресло за его рабочим столом вдруг развернулось и в нем Саттер увидел пожилого человека с румяным лицом и выцветшими глазами. — Весьма впечатляющая проповедь, Джеймс, — иронически проговорил тот с едва заметным немецким акцентом. От неожиданности Саттер подпрыгнул, проливая бурбон себе на руки. — Черт побери, Вилли! Я думал, ты приедешь позже... — А я решил приехать раньше, — улыбнулся Вильгельм фон Борхерт, оглядывая обнаженный торс преподобного. — Ты прошел через мой индивидуальный вход? — Естественно, — кивнул Вилли. — А ты что, думал, я войду вместе с толпами туристов и поприветствую приспешников Барента и Кеплера? Джимми Уэйн Саттер что-то пробурчал, допил свой бурбон и направился в ванную принять душ. — Сегодня утром мне звонил брат Кристиан! Как раз по поводу тебя! — крикнул он из ванной, перекрывая шум льющейся воды. — Неужели? — ехидно осведомился Вилли все с той же легкой улыбкой. — И чего же хотел наш старый милый друг? — Просто поставил меня в известность, что ты трудишься не покладая рук, — отозвался Саттер. — Да? Неужели? — повторил гость. — Хейнс, — однозначно пояснил Саттер, и голос его отразился эхом от изразцовых стен, когда он вступил под струи душа. Вилли подошел к двери ванной. На нем был белый льняной костюм и открытая рубашка цвета лаванды. — Хейнс — это агент ФБР? — осведомился он. — И что же с ним случилось? — Можно подумать, ты не знаешь, — откликнулся Саттер, усиленно растирая свой широкий живот и намыливая гениталии. Тело у него было очень розовым, гладким и безволосым, — чем-то оно напоминало огромную новорожденную крысу. — Предположим, не знаю, так что расскажи мне, — ответил Вилли, снял пиджак и повесил его на крючок. — После гибели Траска Барент отслеживал израильские связи. Выяснилось, что в израильском посольстве кто-то занимается компьютерными расследованиями, используя файлы ограниченного допуска. Расследования связаны с братом К, и всеми нами остальными. Но ведь для тебя это не новость, не так ли? — Продолжай, я весь внимание. — Вилли стащил рубашку и повесил ее на крючок рядом со своим спортивным пиджаком. Затем он не торопясь снял свои модные итальянские туфли стоимостью триста долларов за пару. — Барент ликвидировал назойливого субъекта, а Хейнс взялся отслеживать его связи на Западном побережье, где ты играл в какую-то непонятную игру. Вчера вечером Хейнс чуть было не поймал твоих людей, но в результате пострадал сам. Кто-то заманил его в лес и пристрелил. Кого ты использовал? Лугара? — спросил Саттер, шумно отфыркиваясь под струями воды. — И нарушители спокойствия так и не были пойманы? — осведомился Вилли. Он тщательно сложил брюки и, повесив их на спинку биде, остался лишь в свежеотглаженных синих боксерских шортах. — Нет, — ответил преподобный Джимми Уэйн. — Они наводнили лес полицией, но так пока никого и не нашли. Как тебе удалось провернуть это дело, а, Вилли? — Профессиональная тайна, — усмехнулся Вилли. — Послушай, Джеймс, если я скажу тебе, что не имею к этому никакого отношения, ты мне поверишь? Саттер рассмеялся. — А как же! Ровно настолько же, насколько поверишь мне ты, если я скажу тебе, что все пожертвования идут на приобретение новых Библий. Вилли снял с запястья золотые часы. — Это может как-то помешать нашим планам, Джеймс? — Пока не вижу, каким образом, — ответил Саттер, ополаскивая от шампуня свои длинные седые волосы. — Думаю, брат Кристиан с еще большей готовностью будет ждать тебя на острове, — Саттер открыл створки раздвижной дверцы и посмотрел на обнаженного Вилли. У немца была мощная эрекция — головка члена почти багровая. — Но ведь мы не дрогнем, не так ли, Джеймс? — промолвил Вилли, входя под душ и становясь рядом с проповедником. — Нет, — откликнулся Джимми Уэйн Саттер. — Чем же мы станем руководствоваться? — осведомился Вилли напевным голосом. — Откровением Иоанна. — Саттер блаженно застонал, когда Вилли нежно взял в руки его мошонку. — Какова же наша цель, mein Liebchen? — прошептал Вилли, поглаживая тяжелый пенис преподобного. — Второе пришествие, — простонал Саттер, закрывая глаза. — И чью волю мы исполняем? — Вилли провел губами по гладкой щеке Саттера. — Волю Господню, — ответил преподобный Джимми Уэйн, двигая чреслами в унисон с движениями руки Вилли. — И что является нашим божественным орудием? — прошептал Вилли в ухо Саттеру. — Армагеддон, Армагеддон! — воскликнул Саттер. — Да свершится воля Его! — возопил Вилли, быстрыми энергичными движениями растирая пенис проповедника. — Аминь! — заорал Саттер. — Аминь! — Он разинул рот, впуская внутрь трепещущий язык Вилли, и кончил — белесые нити семени заструились на дно душевой, вращаясь в струях воды, пока навсегда не исчезли в отверстии канализации.Глава 17
Мелани Меня обуревали романтические мысли о Вилли. Возможно, это было следствием влияния мисс Сьюэлл. Это была живая и чувственная молодая женщина с совершенно определенными потребностями и способностью их удовлетворять. Время от времени, когда эти потребности начинали отвлекать ее от обязанностей — обслуживания меня, я позволяла ей на несколько минут уединиться с Калли. Иногда я подсматривала за этими краткими и зверскими вспышками плотских восторгов ее глазами. Порою взирала на это с точки зрения Калли, а однажды я испытала даже оргазм, пребывая одновременно в телах обоих. Но всякий раз, когда до меня доносились волны чужой страсти, я думала о Вилли. Как он был красив в те тихие довоенные дни! Его аристократическое лицо с тонкими чертами и светлые волосы свидетельствовали о благородном арийском происхождении. Нам с Ниной нравилось находиться в его обществе. Думаю, и он гордился тем, что его видели с двумя привлекательными игривыми американками — ошеломляющей блондинкой с васильковыми глазами и более тихой и застенчивой, но тем не менее обворожительной юной красавицей с каштановыми кудрями и длинными ресницами. Помню, как мы гуляли в Бад Ишле — еще перед тем как наступили плохие времена — Вилли над чем-то пошутил, и пока я смеялась, он взял меня за руку. Это было как удар электрическим током — мой смех тут же оборвался. Мы склонились друг к другу, взгляд его прекрасных синих глаз был полностью поглощен мною. Нас разделяло столь малое расстояние, что мы ощущали жар друг друга, но мы не поцеловались, по крайней мере тогда. Отказ был составной частью изощренного ритуала ухаживаний в те дни. Он являлся чем-то вроде поста, обостряющего аппетит перед наслаждением гурманской трапезой. Нынешние юные обжоры даже не подозревают о подобных тонкостях и воздержании, они стремятся тут же удовлетворить любую возникающую у них потребность, и нет ничего удивительного, что все удовольствия для них имеют привкус застоявшегося шампанского. Такие победы всегда чреваты бесплодной горечью разочарования. Я думаю, в то лето Вилли влюбился бы в меня, если бы Нина не предприняла вульгарную попытку соблазнить его. После этого страшного дня в Бад Ишле я больше года отказывалась играть в нашу венскую Игру, а когда возобновила общение с ними, то наши отношения приобрели уже новый, более официальный оттенок. Сейчас я понимаю, что к тому моменту у Вилли давно уже закончился его краткий роман с Ниной. Нинина страсть вспыхивала ярко, но быстро иссякала. В течение последнего лета в Вене Вилли был полностью поглощен своими партийными обязанностями и долгом перед фюрером. Я помню его в коричневой рубашке, подпоясанной безобразным армейским ремнем, на премьере «Песни о Земле» в 1943 году, когда оркестром дирижировал Бруно Вальтер. То лето было невыносимо жарким, и мы жили в мрачном старом особняке, который Вилли арендовал в Гоге Варге, как раз неподалеку от того места, где проживала надменная гусыня Альма Малер. Эта претенциозная особа никогда не приглашала нас на свои вечеринки, и мы отвечали ей такой же холодностью. Я не раз испытывала искушение сосредоточиться на ней во время Игры, но в те дни мы очень мало играли из-за идиотской одержимости Вилли политикой. Теперь, когда я лежу в своей постели в своем родном доме в Чарлстоне, я часто вспоминаю те дни, думаю о Вилли и гадаю, как иначе могла бы сложиться моя жизнь, если бы я опередила разрушительное кокетство Нины и вздохом, улыбкой или случайным взглядом вдохновила бы Вилли. Возможно, эти размышления подсознательно готовили меня к тому, что должно было вскоре последовать. За время болезни представления о времени потеряли для меня всякий смысл, так что, возможно, я стала передвигаться вперед, предвидя события будущего с такой же легкостью, с какой моя память возвращала меня в прошлое. Трудно сказать наверняка. К маю я настолько привыкла к уходу доктора Хартмана и сестры Олдсмит, заботливым процедурам мисс Сьюэлл, услугам Говарда, Нэнси, Калли и негра Марвина, непрерывной и нежной заботе маленького Джастина, что могла бы пребывать в этом удобном состоянии еще долго, если бы в один теплый весенний вечер в железные ворота моего дома не постучали. Я уже встречалась с этой посланницей. Звали ее Натали. И прислала ее, конечно же, Нина...Глава 18
Чарлстон Понедельник, 4 мая 1981 г. Позднее Натали вспоминала о происшедшем, и оно казалось ей сплошным сном, который растянулся на три тысячи миль. Все началось с чудесного появления грузовика. Всю ночь они колесили по Национальному Кливлендскому заповеднику, держась в стороне от главной дороги, после того как увидели с вершины холма горящие фары, и пробираясь к югу по дорожкам, ширина которых едва превосходила ширину троп. Затем кончились и тропы, перед ними расстилалось лишь открытое пространство долины, по которому они двинулись дальше — сначала на протяжении четырех миль по высохшему руслу ручья, так что фургон подскакивал и дребезжал, затемвверх через невысокий гребень. То и дело они натыкались в полной темноте на невидимые в высокой траве поваленные деревья и камни. Шли часы, приближая неизбежное. Сол пересел за руль, а Натали, несмотря на скрежет и тряску, погрузилась в усталую дремоту. Преодолевая крутой склон на второй скорости, они врезались в невидимый валун. Передний мост машины каким-то образом преодолел его, но дальше камень раскроил поддон картера, вырвал рулевую колодку и расплющил крестовину кардана. Сол с фонариком залез под машину и вынырнул оттуда секунд через тридцать. — Все, — промолвил он. — Дальше придется идти пешком. Натали слишком устала, чтобы плакать. — Что мы возьмем с собой? — только и спросила она. Сол осветил фонариком содержимое фургона. — Деньги, — ответил он. — Рюкзак. Карту, какую-нибудь пищу, наверное, револьверы. — Он посмотрел на две винтовки. — Есть смысл брать их? — Мы что, собираемся стрелять в невинных полицейских? — Нет. — Тогда незачем брать и револьверы. — Она посмотрела на усеянное звездами небо, на темную стену холмов и деревьев, возвышавшуюся над ними. — Сол, ты знаешь, где мы находимся? — Мы двигались по направлению к Муриэтте. Но мы столько раз сворачивали в разные стороны, что теперь я совсем запутался. — Нас могут выследить? — Только не в темноте. — Сол посмотрел на часы. Стрелки на светящемся циферблате показывали четыре утра. — Когда рассветет, они отыщут тропу, с которой мы съехали. Прежде всего прочешут все лесные дороги, и рано или поздно вертолет установит местонахождение фургона. — Может, имеет смысл закамуфлировать его? Сол посмотрел на вершину холма. До ближайших деревьев было по меньшей мере ярдов сто. Остаток ночи уйдет на то, чтобы наломать необходимое количество сосновых лап, перетащить их к машине и укрыть ее. — Нет, — решительно сказал он, — давай просто возьмем то что нужно и пойдем. Через двадцать минут они уже, пыхтя, преодолевали склон — Натали с рюкзаком, а Сол с тяжелым чемоданом, битком набитым деньгами и документами, которые он отказался оставить в фургоне. — Постой, — промолвила Натали, когда они достигли деревьев. — В чем дело? — Мне нужно отойти на минутку. — Она вытащила пачку салфеток, взяла фонарик и двинулась за деревья. Сол вздохнул и сел на чемодан. Каждый раз, закрывая глаза, он моментально погружался в сон, и тут же из глубины его сознания на поверхность всплывало одно и то же видение — побелевшее лицо Ричарда Хейнса, его изумленный взгляд, шевелящиеся губы и слова, идущие с небольшим запозданием, как в плохо дублированном фильме: «Помоги мне, пожалуйста». — Сол! Вздрогнув, он тут же очнулся, выхватил из кармана «кольт» и бегом бросился за деревья. Через тридцать футов он наткнулся на Натали — луч ее фонарика скользил по блестящей красной «Тойоте», модель которой напоминала британский «Лендровер». — Я сплю, мне это снится? — спросила она. — Если ты спишь, то нам снится одно и то же, — усмехнулся Сол. Машина была такой новой, будто ее только что вывели из автосалона. Сол посветил фонариком на землю — дороги здесь не было, но он отчетливо различил следы, оставленные машиной под деревьями. Он потрогал дверцы и крышку багажника — все оказалось заперто. — Смотри. — Натали показала на ветровое стекло. — Там под дворниками — записка. — Она прочла: — "Дорогие Алан и Сюзанна! Добраться сюда несложно. Мы остановились в двух с половиной милях от «Маленькой Маргариты». Захватите пиво. С любовью Хетер и Карл". — Натали направила луч фонарика на заднее окно. На подставке для багажа высился целый ящик пива. — Здорово! — воскликнула она. — Ну что, заведем ее и будем выбираться отсюда? — А ты умеешь заводить машины без ключа? — осведомился Сол, снова опускаясь на чемодан. — Нет, но по телевизору это всегда выглядит так просто. — По телевизору все просто. Прежде чем мы начнем возиться с системой зажигания, которая наверняка основана здесь на электронике, а следовательно, выше моего разумения, давай немножко подумаем. Каким образом Алану и Сюзанне предлагается доставить пиво, если дверцы заперты? — Второй набор ключей? — предположила Натали. — Возможно, — согласился Сол. — Но наверняка есть условленное место, где спрятаны единственные ключи. Натали обнаружила их со второй попытки — в выхлопной трубе. Кольцо с ключами было таким же новеньким, как и сама машина, и на нем значилось имя фирмы по продаже «Тойот» в Сан-Диего. Когда они открыли дверцу, запах свежей обивки почему-то вызвал слезы у Натали. — Надо посмотреть, смогу ли я съехать на ней по склону, — сказал Сол. — Зачем? — Я хочу перенести сюда из фургона все необходимое — взрывчатку, детонаторы, электронное оборудование. — Ты думаешь, они нам снова понадобятся? — Они будут нужны мне для установления обратной биосвязи. — Сол открыл дверцу для Натали, но она шагнула назад. — Что-нибудь не так? — спросил он. — Нет, захватишь меня на обратном пути. — Ты что-то забыла? Натали поежилась. — Вроде того. Я забыла сходить в ванную.* * *
Они столкнулись лишь с одним дорожным заграждением. «Тойота» спокойно преодолевала даже пересеченную местность, которая через полторы мили сменилась чередой грубых рытвин, а затем постепенно перешла в лесную дорожку, выведшую их на гравиевую окружную дорогу. Где-то перед самым наступлением рассвета они заметили, что едут вдоль высокой проволочной изгороди, и Натали, попросив Сола остановиться, прочитала на доске, закрепленной в шести футах над землей: "Собственность правительства Соединенных Штатов. Проход запрещен по распоряжению командующего, лагерь Пендлтон, ракетная база типа «земля — вода». — Мы сбились с пути в гораздо большей мере, чем предполагали, — заметил Сол. — Аминь, — весело сказала Натали. — Хочешь еще пива? — Пока нет, — ответил Сол. Как только они выбрались на мощеную дорогу, Натали свернулась между сиденьями и багажной частью, натянула на себя морское одеяло и попыталась поудобнее устроиться на возвышении с коробкой передач. — Тебе не придется так долго мучаться, — сказал Сол, прикрывая ее сверху багажом и ящиком с пивом, оставив лишь место для дыхания. — Они ищут молодую негритянку и ее неизвестного сообщника в темном фургоне. Надеюсь, что добропорядочный старичок в новенькой «Тойоте» не обратит на себя их внимание. Как ты думаешь? В ответ ему донеслось лишь сопение спящей. Сол разбудил Натали через пять минут, когда впереди, сразу за небольшой деревенькой под названием фолбрук, замаячило полицейское заграждение. Поперек дороги стояла единственная патрульная машина, два сонного вида полицейских, прислонясь к багажнику, пили кофе из металлического термоса. Сол подъехал к ним и остановился. Один полицейский остался на месте, а другой переложил чашку из правой руки в левую и не спеша двинулся к Солу. — Доброе утро. — Доброе утро, — поздоровался Сол. — Что случилось? Патрульный наклонился и заглянул внутрь машины, уставившись на целый склад вещей в задней ее части. — Едете из Национального заповедника? — Да, — кивнул Сол. Он знал, что человек, чувствующий себя виноватым, неосознанно начинает тараторить, пытаясь многословно дать всему объяснения. Когда Сол недолгое время работал в качестве консультанта в нью-йоркском отделении полиции, эксперт по ведению допросов объяснил ему, что он всегда устанавливает виновных по тому, как они слишком быстро предлагают связные и достоверные объяснения. Лейтенант утверждал, что невиновные скорее проявляют тенденцию к непоследовательности. — Провели там одну ночь? — осведомился полицейский, чуть отодвинувшись и вглядываясь туда, где под одеялом, рюкзаком и ящиком с пивом лежала Натали. — Две. — Сол посмотрел на второго полицейского, который подошел к своему коллеге. — А что такого? — Отдыхали? — осведомился первый, глотнув кофе. — Да, — ответил Сол, — и испытывал новую машину. — Красавица, — заметил тот. — Совсем новенькая? Сол кивнул. — Где вы ее купили? Он назвал фирму, выбитую на кольце с ключами. — Где вы живете? — спросил полицейский. Сол на мгновение замешкался — в фальшивом паспорте и водительском удостоверении, сделанных для него Джеком Коуэном, значился нью-йоркский адрес. — В Сан-Диего, — ответил он. — Переехал туда два месяца назад. — Где именно в Сан-Диего? — полицейский вел себя вполне дружелюбно, но Сол заметил, что его правая рука лежит на деревянной рукояти револьвера, а кожаный ремешок на кобуре расстегнут. Сол был в Сан-Диего лишь однажды, а именно шесть дней назад, когда они проезжали этот город вместе с Джеком Коуэном. Однако его напряжение и усталость были настолько велики, что каждое впечатление того вечера неизгладимо отпечаталось в его сознании. Он вспомнил по меньшей мере три указателя. — В Шервуде, — сказал он. — Еловая аллея 1990, рядом с дорогой Линда Виста. — Да-да, — кивнул полицейский. — Дантист моего шурина жил на Линда Виста. Это рядом с университетом? — Не совсем, — ответил Сол. — Я так понимаю, вы не хотите мне рассказывать, что случилось? Полицейский еще раз заглянул в заднюю часть «Тойоты», словно пытаясь определить, что же находится в ящиках. — Неприятности в районе озера Эльсинор, — пояснил он. — Где вы ночевали? — На «Маленькой Маргарите», — ответил Сол. — И если я в ближайшее время не попаду домой, моя жена пропустит службу в церкви, и тогда крупные неприятности будут уже у меня. Полицейский кивнул. — Вы случайно не встречали по дороге синий или черный фургон? — Нет. — Я так и думал. Между этим местом и озером Лысухой нет никаких дорог. А каких-нибудь пеших путников? Негритянку? Лет двадцати с небольшим? Или парня постарше, палестинского вида? — Палестинского вида? — переспросил Сол. — Нет, я никого не встречал, кроме молодой пары — белой девушки Хетер и ее приятеля Карла. Они там наверху проводят медовый месяц. Я старался не мешать. А что, какие-то террористы с Ближнего Востока? — Похоже на то, — признал полицейский. — Разыскивается негритянка и палестинец, а при них целый арсенал боеприпасов. Ничего не могу поделать, но вы говорите с акцентом, мистер... — Гроцман, — подсказал Сол. — Сол Гроцман. — Венгр? — Поляк. Но я стал американским гражданином сразу же после войны. — Да, сэр. А эти цифры означают именно то, что я думаю? Сол взглянул на свое запястье — рукава рубашки были закатаны. — Татуировка нацистского концлагеря, — подтвердил он. Патрульный медленно опустил голову. — Никогда в жизни не видел этого. Мне очень не хотелось бы вас задерживать, мистер Гроцман, но я должен задать вам еще один важный вопрос. — Да? Патрульный сделал шаг назад, снова положил руку на кобуру и еще раз заглянул в салон «Тойоты». — В какую сумму обходятся эти японские джипы? Сол рассмеялся. — Моя жена считает, что в очень большую. Даже слишком. — Он кивнул и тронулся с места. Они миновали Сан-Диего, свернули на восток к Юме, где припарковали «Тойоту» и перекусили в «Макдоналдсе». — Пора добывать новую машину, — заметил Сол, потягивая молочный коктейль. Иногда ему приходила в голову мысль о том, что бы сказала его кошерная бабушка, если бы увидела его. — Уже? — удивилась Натали. — И мы будем учиться включать зажигание без ключа? — Можешь попробовать, если хочешь, — улыбнулся Сол. — Но я бы предпочел более простой способ. — И он кивком головы указал на автомобильную стоянку на противоположной стороне улицы. — Мы можем позволить себе потратить тысяч тридцать долларов, которые уже прожигают дыру в моем чемодане. — Ладно, — согласилась Натали, — только давай раздобудем что-нибудь с кондиционером. В ближайшую пару дней нам придется пробираться через пустыню. Они выехали из Юмы в фургоне «Шевроле», который был снабжен кондиционером, рулевым управлением с усилителем, механическим тормозом и пневматически открывающимися окнами. Сол дважды обескуражил продавца: сначала когда осведомился, пневматическим ли способом выдвигаются пепельницы, а во второй раз — когда без всякой торговли выложил наличными запрошенную цену. Хорошо, что они не стали торговаться. Когда они вернулись к тому месту, где оставили «Тойоту», группа смуглокожих ребятишек пыталась камнем разбить боковое стекло. Они со смехом кинулись врассыпную, показывая Солу и Натали непристойные жесты. — Вот это было бы здорово, — заметил Сол. — Интересно, что бы они сделали с пластиковой взрывчаткой и М-16. Натали укоризненно посмотрела на него. — Ты не сказал мне, что захватил с собой М-16. Сол поправил очки и оглянулся. — Мы нуждаемся в большей безопасности, чем нам может предоставить этот район. Пойдем. На «Тойоте» они добрались до ближайшего торгового центра. Затем Сол вытащил из машины все имущество, ввернул ключи в приборную панель и опустил стекла окон. — Я не хочу, чтобы ее изуродовали, — пояснил он. — Достаточно того, что мы ее украли.* * *
После первого дневного переезда они стали путешествовать по ночам, и Натали, всегда мечтавшая увидеть юго-запад Соединенных Штатов, могла любоваться лишь усеянным звездами небом над монотонными и одинаковыми шоссе, немыслимыми пустынными рассветами, окрашивавшими серый мир в розовые, оранжевые и пронзительно синие тона, да слушать гудение кондиционеров, перегонявших воздух в номерах крошечных мотелей, пропахших застоявшимся сигарным дымом и дезинфекцией. Сол погрузился в себя, предоставив Натали вести машину. С каждым днем они останавливались все раньше, чтобы у него оставалось время на изучение досье и работу с аппаратурой. Ночь, предшествовавшую въезду в Восточный Техас, Сол провел в глубине фургона — он сидел, скрестив ноги, перед монитором компьютера и энцефалографом, подсоединенным к электроаккумулятору, который они приобрели в магазине радиотоваров в форте Ворте. Натали не решилась даже включить радио, чтобы не помешать ему. — Видишь, самое главное — это Тета-ритм, — временами замечал Сол. — Это — неопровержимый индикатор, точный указатель. Я не могу его генерировать в себе, но могу воспроизвести по петле обратной биологической связи, потому что мне известны его признаки. Приучив свой организм реагировать на этот первоначальный Альфа-пик, я смогу запускать в себе механизм постгипнотической суггестии. — И таким образом мы можем противодействовать их... Способности? — спросила Натали. Сол поправил очки и насупился. — Нет, не совсем. Вряд ли это вообще возможно, если человек не обладает такими же способностями. Интересно было бы исследовать группу разных индивидуумов в контролируемом... — Тогда какой в этом смысл? — в отчаянии воскликнула Натали, перебив его измышления. — Это дает возможность... возможность, — повторил Сол, — создать своеобразную оповестительную систему в коре головного мозга. При соответствующей обработке и наличии обратной биосвязи, думаю, я смогу использовать феномен Тета-ритма для запуска постгипнотической суггестии, чтобы воспроизвести все заученные мною сведения. — Сведения? — переспросила Натали. — Ты имеешь в виду все это время, проведенное тобой в Яд-Вашеме и Доме сопротивления узников гетто?.. — Лохаме-Хагетаоте, — поправил Сол. — Да. Досье, переданные тебе Визенталем, фотографии, биографии, записи, которые я заучивал самопроизвольно в легком трансе... — Но какой смысл разделять страдания всех этих людей, если против мозговых вампиров не существует никакой защиты? — вновь и вновь спрашивала Натали. — Представь себе проектор, действующий по принципу карусели. Оберет и остальные обладают способностью произвольно запускать эту нервную карусель, вставляя в нее собственные слайды, накладывая на смесь воспоминаний, страхов и предрасположенностей, которую мы называем личностью, собственно и организующую волю и суперэго. Я просто пытаюсь вставить в обойму большее количество слайдов. — Но ты не уверен, окажется ли это действенным? — Нет. — И ты не думаешь, что это сработает в моем случае? — Нечто подобное может произойти и с тобой, Натали, но эти сведения должны быть идеально подогнаны к твоей биографии, травматическому опыту, механизмам сочувствия. Я не могу с помощью гипноза генерировать в тебе необходимые... э-э... слайды. — Но если это действует на тебя, тогда это сможет воздействовать только на твоего оберста и больше ни на кого. — Вероятно, да. Только он может иметь общий опыт с личностью, которую я создаю... пытаюсь создать... во время этих сеансов сочувствия. — И по-настоящему это его не остановит, разве что смутит на несколько секунд, если вообще этот многомесячный труд и игры с энцефалографом что-либо значат? — Верно. Натали печально вздохнула и уставилась на два пучка света от фар, которые освещали бесконечную полосу дороги. — Зачем же ты потратил на это столько времени, Сол? Сол открыл досье. На снимке молодая девушка с бледным лицом, испуганными глазами, в темном пальто и платке. В верхнем левом углу фотографии едва виднелись черные брюки и высокие сапоги солдата СС. Девушка резко обернулась в сторону камеры, поэтому изображение получилось смазанным. В правой руке она держала маленький чемоданчик, левой она прижимала к груди потрепанную куклу домашнего изготовления. К снимку было приложено полстраницы печатного текста на немецком языке. — Даже если ничего не получится, это стоило потраченного нами времени, — тихо промолвил Сол Ласки. — Власть имущие получили свою долю внимания, хотя порой их власть и являлась чистым злом. Жертвы остались безликой массой, исчисляемой лишь бездушными цифрами. Эти чудовища унавозили наше столетие братскими могилами своих жертв, но настало время, чтобы бессильные обрели имена и лица... а также голоса. — Сол выключил фонарик и откинулся назад. Прости, — промолвил он, — моя логика начинает страдать от собственной одержимости. — Теперь я начинаю понимать, что это такое — одержимость, — вздохнула Натали. Сол посмотрел на ее лицо, слабо освещенное приборной панелью. — Ты все еще намерена поступать в соответствии со своей? У Натали вырвался нервный смешок. — Ничего другого мне не остается. Впрочем, чем ближе мы подъезжаем, тем страшнее мне становится. — Мы можем сейчас свернуть к аэропорту в Шрив-порте и улететь в Израиль или Южную Америку. — Нет, не можем, — возразила Натали. — Да, ты права, — после небольшой паузы сказал он. Они поменялись местами, и в течение нескольких часов машину вел Сол. Натали дремала. Ей снились глаза Роба Джентри, его испуганный изумленный взгляд, когда лезвие раскроило ему горло. Ей снилось, что отец убеждает ее по телефону: все это ошибка, на самом деле все в порядке и даже ее мать дома — жива и здорова. Но вот дочь приезжает — а дом оказывается пустым, комнаты опутывает липкая паутина, в раковине плавают какие-то темные сгустки. Потом Натали вдруг снова становилась маленькой, бежала в слезах в комнату родителей, но отца там не было, а вместо мамы из затянутой паутиной постели поднималась совсем чужая женщина — вернее, то был разлагающийся труп с глазами Мелани Фуллер. И этот труп начинал дико хохотать... От этого хохота Натали стало совсем плохо, сердце заколотилось как бешеное — она проснулась. Фургон мчался по скоростной автомагистрали. Казалось, уже светало. — Скоро утро? — спросила Натали. — Нет, — ответил Сол усталым голосом, — еще нет. Когда они подъехали к Старому Югу, города превратились в созвездия пригородов, гнездящихся вдоль автомагистрали, — Джэксон, Меридиан, Бирмингем, Атланта. В Августе они съехали со скоростной автомагистрали на шоссе 78, которое пересекало южную часть Южной Каролины. Несмотря на темноту, Натали уже узнавала привычные пейзажи — Сен-Джордж, где она отдыхала в летнем лагере, когда ей исполнилось девять лет, — это было бесконечное печальное лето в год, когда умерла ее мать; Дорчестер, где они жили у сестры отца, пока та не скончалась от рака в 1976 году; Саммервилл, куда она ездила по воскресеньям снимать старые особняки; Чарлстон... Чарлстон. Они въехали в город на четвертую ночь своего путешествия, перед восходом солнца, в тот мертвый час, когда дух человеческий воистину пребывает в самом незащищенном состоянии. Знакомые места, где прошло детство Натали, казались ей чужими и изменившимися, бедные чистенькие кварталы выглядели призрачными, как размытые изображения на тусклом экране. Дом Натали стоял с темными окнами. На нем не висело объявления «Продается», у подъезда не было никаких машин. Натали не имела ни малейшего представления, кто распоряжался имуществом и собственностью после ее внезапного исчезновения. Она взглянула на этот странно знакомый дом с маленьким крылечком, на котором пять месяцев назад она с Солом и Робом обсуждала за лимонадом глупые выдумки о мозговых вампирах, и у нее не возникло ни малейшего желания войти внутрь. Натали вспомнила, что не знает, к кому перешли фотографии отца, и с удивлением обнаружила, что глаза ей обожгли непрошеные слезы. Не сбавляя скорости, она проехала мимо. — Мы можем не заглядывать сегодня в старые кварталы, — заметил Сол. — Нет, поедем, — упрямо сказала Натали и свернула на восток, через мост в Старый Город. В доме Мелани Фуллер светилось одно-единственное окно — на втором этаже, там, где была ее спальня. Свет был не электрический, то не было и мягким сиянием свечи, а какая-то болезненная пульсация слабого зеленого огня, напоминающая отвратительно фосфоресцирующие гнилушки в темной трясине. Натали крепко вцепилась в руль, чтобы сдержать охватившую ее дрожь. — Изгородь заменена на высокую стену с двойными воротами. — Сол присвистнул. — Настоящая цитадель. Не хватает только башен с бойницами... Не отрывая взгляда, смотрела Натали на просачивающийся сквозь шторы и ставни зеленоватый свет. — Но мы еще не знаем точно, она ли это, — промолвил Сол. — Джек собрал свои сведения на основании косвенных источников, к тому же этой информации уже несколько недель. — Это она, — уверенно сказала Натали. — Поехали. Мы устали. Надо найти место, где переночевать, а завтра необходимо пристроить куда-нибудь наше оборудование, чтобы оно было там в полной безопасности. Натали включила двигатель и медленно тронулась вниз по темной улице. Они отыскали дешевый мотель на северной окраине города и семь часов проспали как убитые. Проснулась Натали в полдень, испуганно вскочила, не осознавая, где находится, с одним лишь желанием ускользнуть из липкой паутины преследующих ее кошмаров, в которых к ней сквозь разбитые окна тянулись чьи-то руки. Оба чувствовали себя уставшими и раздраженными — почти не разговаривая друг с другом, они купили копченую курицу и съели ее в парке у реки. День был жаркий — градусов под тридцать, солнце светило так же безжалостно, как лампы в операционной. — Думаю, тебе не надо показываться днем, — предупредил Сол. — Тебя могут узнать. — Они — вампиры, и мы скоро превратимся в обитателей тьмы. — Натали пожала плечами. — По-моему, не очень справедливо. Прищурившись, Сол глядел на противоположную сторону реки. — Я много думал о том шерифе и пилоте. — Да? — Если бы я не заставил полицейского выйти на связь с Хейнсом, пилот остался бы жив. Натали кивнула. — Да. Как и сам Хейнс. — Понимаешь, тогда мне казалось, что если потребуется принести в жертву обоих — и шерифа, и пилота, я все равно сделал бы это. Только чтобы добраться до этого человека. До Ричарда Хейнса... — Он убил твоих родных. И хотел уничтожить тебя, пойми! — напомнила Натали. Сол покачал головой. — И все равно... Шериф и пилот не имели к этому никакого отношения. Неужели ты не понимаешь, к чему это ведет? В течение двадцати пяти лет я ненавидел, презирал палестинских террористов, которые слепо уничтожали невинных людей лишь потому, что у них не хватало сил на открытую борьбу. А теперь мы пользуемся той же самой тактикой, поскольку неспособны иным способом противостоять этим чудовищам. — Ерунда! — Натали махнула рукой, глядя на семейство из пяти человек, устроившее пикник у самой воды, — мать уговаривала малыша не подходить к берегу. — Ты же не подкладываешь динамит в самолет и не обстреливаешь автобусы из автоматов. К тому же это не мы убили пилота, а Хейнс. — Но мы явились причиной его гибели, — возразил Сол. — Представь себе, что все они — Барент, Хэрод, Фуллер, оберет — очутились на борту одного самолета, в котором летят еще сотни невинных граждан. Тогда бы у тебя возникло желание покончить со всеми ними одним взрывом? — Нет. — Натали энергично тряхнула волосами. — Ну, подумай, — тихо продолжал Сол. — Эти чудовища повинны в гибели тысяч людей. И можно положить конец этому ценой еще пары сотен жизней. И прекратить все и навсегда. Неужели такое не стоит того? — Нет, — твердо повторила Натали. — Так не годится. Сол кивнул. — Да, ты права, так действительно не годится. Если мы начнем размышлять подобным образом, мы превратимся в таких же, как они. Но лишив жизни пилота, мы уже встали на этот путь. — Что ты пытаешься доказать, Сол? — гневно воскликнула девушка. — Мы обсуждали это в Иерусалиме, Тель-Авиве, Кесарии. Мы знали, на что идем. Ведь мой отец тоже был абсолютно невинной жертвой. Как и Роб, как твой Арон, Дебора и их девочки, как Джек, как... — она оборвала себя, сложила руки на груди и посмотрела на спокойную воду. Голос ее дрогнул, когда она переспросила чуть слышно: — Что ты пытаешься доказать? Сол встал. — Я решил, что ты не будешь участвовать в следующей части нашего плана. Натали резко повернулась и посмотрела на него как на ненормального. — Ты сошел с ума! Это наша единственная возможность добраться до них! — Ерунда! — теперь уже воскликнул Сол. — Просто мы не смогли придумать ничего лучшего. Но мы придумаем. Мы слишком спешим. — Слишком спешим! — громко повторила Натали. Семейство у воды обернулось на звук ее голоса, и она перешла на настойчивый шепот. — Слишком спешим! Нас разыскивает ФБР и половина полиции страны. Нам известен только один момент — только один, когда все эти сукины дети соберутся вместе. С каждым днем они становятся все более осмотрительными и все больше набираются сил, мы же слабеем и поддаемся страху. Нас осталось всего двое, и я доведена до такого состояния, что через неделю вообще ни на что не буду способна... а ты говоришь: мы слишком спешим! — Она снова перешла на крик. Ей было так горько — почему он хочет уберечь ее? — Согласен, — признал Сол, — но я решил, что этим человеком не обязательно должна быть ты. — Что ты говоришь? Разумеется, это должна быть только я! Мы ведь решили это еще на ферме Давида. — Тогда мы заблуждались, — продолжал упрямо твердить Сол. — Она вспомнит меня! — Ну и что? Мы убедим ее, что к ней послан второй посланец. — То есть ты? — Что вполне логично... — Нет, не логично! — Натали чуть не плакала. — А как насчет всей этой кучи фактов, цифр, дат, смертей, географических названий, которую я заучивала начиная с дня Святого Валентина? — Это не имеет никакого значения, — не уступал Сол. — Если она так безумна, как мы предполагаем, логика будет играть весьма незначительную роль. Если же она способна мыслить трезво, наших фактов все равно окажется недостаточно и эта версия будет выглядеть слишком шаткой. — Ну здорово, черт побери! — воскликнула Ната ли. — Я пять месяцев подготавливала себя, а теперь ты говоришь, что в этом нет никакой необходимости и все равно ничего не получится. — Я не говорю этого, — мягко сказал Сол. — Я говорю только, что нужно рассмотреть все возможные варианты и что в любом случае ты не тот человек, который должен заниматься этим. Натали вздохнула. — Ладно. Ты не возражаешь, если мы отложим этот разговор до завтрашнего дня? Мы еще не пришли в себя после путешествия. Мне надо как следует выспаться. — Годится, — согласился Сол и, легонько сжав ее руку, повел ее обратно к машине. Они решили оплатить номера в мотеле за две недели вперед. Сол занес к себе аппаратуру и работал до девяти вечера, пока Натали не пригласила его на обед, который она тем временем приготовила. — Работает? — поинтересовалась она. Он покачал головой. — Даже в самых простых случаях обратная биосвязь не всегда удается. У нас же случай не из простых. Я уверен, то, что я запомнил, может быть вызвано способом постгипнотической суггестии, но мне не удается установить механизм запуска. Воссоздать Тета-ритм невозможно, и генерировать альфа-пик я тоже не могу. — Неужели весь твой труд пошел насмарку? — ахнула Натали. — Пока да, — кивнул Сол. — Может, ты отдохнешь? — Попозже. Попробую поработать еще несколько часов. — Тогда я сварю тебе кофе. — Прекрасно, — улыбнулся Сол. Натали вышла на маленькую кухоньку, вскипятила воду на электроплитке, положила в каждую чашку по две ложки кофе, чтобы сделать его покрепче, и осторожно добавила необходимую дозу фентиацина, который Сол показал ей в Калифорнии на случаи, если потребуется усыплять Тони Хэрода. Сделав первый глоток, Сол слегка поморщился. — Ну как? — спросила Натали, отхлебывая из своей чашки. — Крепкий. Как раз такой я люблю, — заверил он. — Ты лучше ложись. Я могу припоздниться с этим. Натали согласно кивнула, поцеловала Сола в щеку и вышла в соседнюю комнату. Через полчаса она бесшумно вернулась, уже переодевшись в длинную юбку, темную блузку и свитер. Сидя в зеленом виниловом кресле с целой кипой досье на коленях, Сол сладко спал — снотворное сработало. Натали выключила компьютер и энцефалограф, перенесла папки на стол, положив на них коротенькую записку. Сняла с носа Сола очки и, накрыв его ноги легким одеялом, нежно погладила его по плечу. Он даже не шевельнулся. Натали проверила, не осталось ли в машине чего-нибудь ценного. Взрывчатка была уже сложена в шкафу ее комнаты, детонаторы хранились у Сола. Она вспомнила о ключе от номера, выданном им в мотеле, и тоже отнесла его к себе в комнату. Не стала брать с собой ни сумочки, ни паспорта, ничего из того, что могло бы дать о ней какие-либо сведения. Тщательно следуя указаниям светофора и не превышая лимита скорости, Натали направилась к Старому Городу. Она оставила машину у ресторана «Генри», о котором сообщала Солу в записке, и пешком прошла несколько кварталов до дома Мелани Фуллер. Ночь была темной и влажной, тяжелая листва, казалось, смыкалась над головой, скрывая звезды и высасывая кислород. Подойдя к дому Фуллер, Натали уже не колебалась. Высокие ворота были заперты, но на них висел украшенный орнаментом молоток. Она постучала в ворота и замерла в ожидании. Кроме зеленого сияния, лившегося из спальни Мелани Фуллер, в доме не светилось ни единого окна. Когда Натали постучала, свет все равно нигде не зажегся, только вскоре из темноты возникли две мужские фигуры. Тот что был повыше подошел к воротам — эдакая безволосая глыба плоти с маленькими глазками, рассеянным взглядом и микроцефалообразным черепом умственно отсталого. — Что вы хотите? — произнес он, выделяя каждое слово, как неисправный речевой синтезатор. — Я хочу поговорить с Мелани, — громко сказала Натали. — Передайте ей, что к ней пришла Нина. Целую минуту оба мужчины не шевелились. Было слышно, как в траве стрекочут кузнечики, с пальмы, укрывавшей своими лапами эркер старинного дома, слетела ночная птица, громко хлопая крыльями. Где-то, на расстоянии нескольких кварталов, взвыла сирена и заглохла. Усилием воли Натали заставляла себя стоять прямо, хотя коленки у нее подгибались от ужаса. Наконец огромный мужчина заговорил: — Проходите. — Повернув ключ, он открыл ворота и втащил Натали за руку во двор. В доме отворилась парадная дверь. Но в темноте Натали ничего и никого различить не могла. В сопровождении двух мужчин, один из которых продолжал крепко держать ее за руку, она вошла в дом.Глава 19
Мелани Она сказала, что ее прислала Нина. На минуту я так испугалась, что полностью погрузилась в себя и даже попыталась сползти с кровати, волоча за собой омертвевшую часть тела, которая превратилась в ненужный кусок мяса и костей. Закачались капельницы, иглы вылетели из вен. На мгновение я потеряла контроль надо всеми — Говардом, Нэнси, Калли, доктором, сестрами и негром, по-прежнему стоявшим в темноте с мясницким тесаком в руках, — но затем расслабилась, позволила своему телу снова свернуться и замереть. Ко мне вернулось самообладание. Сначала я решила, что Калли, Говард и цветной парень должны прикончить ее во дворе. А потом они водой из фонтана смоют с кирпичей все следы. Говард отнесет ее за гараж, завернет останки в душевую занавеску, чтобы не запачкать обивку «Кадиллака» доктора Хартмана, а у Калли не займет и пяти минут, чтобы отвезти ее на свалку. Но мне еще не все было известно. Еще не все. Если ее прислала Нина, мне нужно узнать у нее кое-что. Если же это не Нина, то прежде чем что-либо делать с ней, необходимо выяснить, кто же ее прислал ко мне. Калли и Говард провели девушку в дом. Доктор Хартман, сестра Олдсмит, Нэнси и мисс Сьюэлл сгрудились вокруг меня, а Марвин остался стоять в дозоре. Джастин тоже был при мне. Негритянка, заявившая, что она от Нины, окинула взглядом мое «семейство». — Здесь темно, — произнесла она странным тонким голосом. В последнее время я редко пользовалась электрическим светом. Я настолько хорошо знала дом, что могла передвигаться по нему с завязанными глазами, члены же моей «семьи» тоже не нуждались в электричестве, кроме тех случаев, когда ухаживали за мной, да и тогда им хватало приятного мягкого сияния, исходившего от медицинской аппаратуры. Если эта цветная девица говорила от лица Нины, то мне казалось странным, что Нина все еще не привыкла к темноте. Несомненно, в гробу у нее было достаточно темно. Но если девица лгала, вскоре ей тоже придется свыкнуться с тьмой. С вечной тьмой... — Что вам угодно, барышня? — от меня обратился к ней доктор Хартман. Негритянка облизала пересохшие губы. Калли усадил ее на диван. Члены моей «семьи» остались стоять. Слабые лучи света там и сям выхватывали лицо или руку, но в основном мы должны были казаться девице одной сплошной темной массой. — Я пришла поговорить с тобой, Мелани, — ответила девица. Голос ее дрогнул, чего я прежде у Нины не замечала. — Здесь нет никого с таким именем, — произнес доктор Хартман из темноты. Негритянка рассмеялась. Может, мне только послышался в ее хихиканье хрипловатый смешок Нины? От этой мысли по моему телу пробежал озноб. — Я знала, что ты здесь, — сказала она. — Точно так же, как я знала, где отыскать тебя в Филадельфии. Как она меня нашла? Я заставила Калли положить свои огромные руки на спинку дивана позади негритянки. — Мы не понимаем, о чем вы говорите, мисс, — произнес Говард. Девица покачала головой. «Зачем Нине понадобилось использовать негритянку?» Я не могла этого понять. — Мелани, я знаю, что ты здесь. Я знаю, что ты больна. И пришла предупредить тебя, — замогильным голосом медленно проговорила негритянка. Предупредить меня? О чем? Шепотки в Ропщущей Обители предупреждали меня, но она не была частью этих шепотков. Она появилась позже, когда все пошло из рук вон плохо. Постой-ка, это ведь не она нашла меня, а я ее! Винсент поймал ее и привел ко мне. А она убила Винсента. Даже если она была посланницей Нины, лучше всего ее убить. Тогда Нина, возможно, поймет, что со мной шутки плохи, что я не позволю безнаказанно уничтожать моих пешек. Марвин продолжал стоять в темном дворе с длинным ножом, который мисс Сьюэлл оставила на колоде для разделки мяса. Лучше это сделать за пределами дома. Не надо будет потом тревожиться о пятнах на ковре и паркете. — Барышня, — заставила я произнести доктора Хартмана, — боюсь, никто из нас не понимает, о чем вы говорите. Здесь нет никого по имени Мелани. Сейчас Калли вас проводит. — Постойте! — вскричала девица, когда Калли взял ее под руку и развернул в сторону двери. — Подождите минутку! Голос ее даже отдаленно не напоминал неторопливую воркотню Нины. — До свидания, — хором произнесли все пятеро. Цветной парень стоял сразу за фонтаном. Я уже много недель не получала подпитки. Негритянка пыталась вырваться из рук Калли, покуда он волок ее к двери. — Вилли жив! — крикнула вдруг она. Я заставила Калли остановиться. Все замерли. Еще через мгновение доктор Хартман спросил: — Что такое? Негритянка бросила на всех высокомерный, пренебрежительный взгляд. — Вилли жив, — спокойно повторила она. — Объяснитесь, — попросил Говард. Девица покачала головой. — Мелани, я буду разговаривать только с тобой. Если же ты убьешь эту посланницу, ты больше не услышишь меня. Пусть те, кто пытался убрать Вилли, а теперь собираются прикончить тебя, делают свое дело. — Она отвернулась и уставилась в угол, потеряв всякий интерес и не обращая внимания на огромную лапу Калли, крепко сжимавшую ее руку. Она напоминала какой-то механизм, который внезапно выключили. Оставшись наверху одна, если не считать общества маленького молчаливого Джастина, я в нерешительности заерзала. У меня болела голова. Все это казалось каким-то дурным сном. Я хотела, чтобы она ушла и оставила меня в покое. Нина мертва. Вилли тоже мертв. Калли снова проводил ее к дивану и усадил. Мы все не спускали с нее глаз. Я подумывала о том, не использовать ли мне ее? Бывает — и довольно часто, — что в момент перемещения в чужое сознание, в мгновение овладения им, соразделяются не только чувственные ощущения, но и поток поверхностных мыслей. Если девицу использовала Нина, мне не удастся уничтожить ее обработку, но я смогу ощутить присутствие самой Нины. Если же за ней стоит не Нина, я сумела бы уловить истинную мотивировку ее поступков. — Мелани сейчас спустится, — произнес Говард, и в то мгновение, когда она реагировала на сообщение — не знаю, со страхом или удовлетворением, — я проскользнула в ее сознание. Я не встретила никаких препятствий. Полнейшее отсутствие противодействия привело к тому, что я мысленно чуть не повалилась вперед, как человек, пытающийся в темноте опереться на спинку кресла или туалетный столик, которых вдруг не оказывается на месте. Контакт был кратким. Я уловила запах поднимающейся паники, чувство «только не это», часто встречающееся у людей, которых уже использовали, но которые не были как следует обработаны, и еще целый вихрь мыслей, с топотом разбегающихся в темноте, как мелкие животные. Никаких связных фраз в ее сознании не было. Мелькнул обрывок какого-то видения — старинный каменный мост, нагретый солнцем, переброшенный через море песчаных дюн и отбрасываемых опорами теней. Мне это ни о чем не говорило. Я никак не могла связать это с воспоминаниями Нины, хотя после войны мы так долго были в разлуке, что я не могла уже осознавать: где, когда и с кем проводила время моя бывшая подруга. Я оставила мозг негритянки. Мне было неинтересно пребывать в ее сознании. Там не было никакой информации... Непонятно... Девица дернулась и выпрямилась. Это Нина возобновляла свой контроль над ней или самозванка пыталась вернуть себе самообладание? — Больше не делай этого, Мелани, — произнесла негритянка властным тоном, который впервые чем-то напомнил мне Нину Дрейтон. Ее манеру приказывать. В гостиную со свечой вошел Джастин. Пламя осветило лицо шестилетнего ребенка снизу, и каким-то образом игра света сделала его глаза безумно старыми. Негритянка посмотрела на него, как норовистая лошадь, вдруг заприметившая змею. — Здравствуй, Нина, — сказал мальчик моим голосом, ставя свечу на чайный столик. Девица не дрогнула. — Здравствуй, Мелани. А ты разве не хочешь поздороваться со мной лично? — Я не расположена к этому в данный момент. Возможно, я спущусь, когда ты сама придешь ко мне. На губах негритянки мелькнула слабая улыбка. — Мне будет несколько сложновато сделать это. Все завертелось у меня перед глазами, в течение нескольких секунд я была способна лишь на то, чтобы сохранять контроль над своими людьми. «А что, если Нина не умерла? Что, если она была всего лишь ранена?» Но я же видела дыру у нее во лбу! Ее голубые глаза вылезли из глазниц. Может, патроны были старыми? Пуля врезалась в череп, но не вошла в него, вызвав в мозгу повреждений не больше, чем у меня мое кровоизлияние? Газеты сообщили, что она умерла. Я сама видела ее имя в списке жертв. Впрочем, ведь там присутствовало и мое имя. Рядом с постелью загудел один из медицинских мониторов, оповещая о критическом состоянии. Усилием воли я умерила одышку и сердцебиение. Гудки прекратились. Выражение лица Джастина за эти несколько секунд не изменилось и в трепещущем пламени свечи по-прежнему напоминало лик бесенка. Он уселся и, подняв ноги, скрестил их на сиденье кожаного кресла, которое так любил мой папа. — Расскажи мне о Вилли, — попросила я через Джастина. — Он жив, — ответила девица. — Этого не может быть. Его самолет разбился, и все пассажиры погибли. — Все, за исключением Вилли и двух его приспешников, — усмехнулась негритянка. — Они покинули самолет до того, как он взлетел. — Что же ты обрушилась на меня, если знала, что твой замысел с Вилли провалился? — вырвалось у меня. — Самолет уничтожала не я, — призналась она после паузы. У меня началась бешеная тахикардия, так что осциллограф начал выдавать зеленые вспышки, заливая комнату пульсирующим ярким светом. — А кто же это сделал? — Другие, — равнодушным тоном отозвалась она. — Кто эти другие? Девица глубоко вздохнула. — Есть группа лиц, обладающих нашей силой. Тайная группировка... — Нашей силой? — перебила ее я. — Ты имеешь в виду Способность? — Да. — Глупости. Мы никогда не встречали кого-либо, даже с намеком на Способность. — Я заставила Калли поднять руки в темноте. Ее худенькая прямая шейка торчала из ворота темного свитера. Калли мог переломить ее запросто, как сухую веточку. — А эти обладают ею, —уверенно произнесла цветная девица. — Они пытались убить Вилли. Они пытались убить тебя. Неужели ты не задумалась, кто это был в Джермантауне? Стрельба? Свалившийся в реку вертолет ? «Откуда Нина может знать об этом? Откуда вообще кто-либо может знать об этом?» — Ты вполне могла быть одной из них, — уклончиво ответила я. Девица невозмутимо кивнула. — Да, но в таком случае разве я стала бы предупреждать тебя? Я попыталась сделать это в Джермантауне, но ты не захотела слушать. Я попробовала вспомнить. Предупреждала ли негритянка меня о чем-нибудь? Шепотки тогда уже звучали очень громко, и сосредоточиться было трудно. — Ты и шериф приходили, чтобы убить меня, — возразила я. — Нет, — голова девицы медленно шевельнулась, как у заржавевшей марионетки. Нинина компаньонка Баррет Крамер двигалась именно так. — Шерифа прислал Вилли. Он тоже хотел предупредить тебя. — А кто эти другие? — осведомилась я. — Известные люди, — ответила она. — Очень могущественные. Барент, Кеплер, Саттер, Хэрод... — Мне эти имена ничего не говорят, — сказала я и вдруг поймала себя на том, что визжу голосом шестилетнего Джастина. — Ты лжешь! Ты не Нина! Ты умерла! Откуда ты знаешь про этих людей? Девица помедлила, словно прикидывая, говорить или нет. — Я познакомилась кое с кем из них в Нью-Йорке, — наконец ответила она. — И они уговорили меня сделать то, что я сделала. Наступила такая мертвая и продолжительная тишина, что через все свои восемь источников я могла слышать, как на карнизе эркера воркуют голуби. Мисс Сьюэлл бесшумно удалилась на кухню и теперь стояла в тени дверного проема, держа тесак в складках бежевой юбки. Калли переступил с ноги на ногу, и я ощутила отголосок обостренной готовности Винсента в его кровожадном нетерпении. — Они убедили тебя уничтожить меня, — сказала я, — и пообещали расправиться с Вилли, пока ты занимаешься мною. — Да, — ответила она. — Но им так же ничего не удалось, как и тебе. — Да. — Зачем ты рассказываешь мне это, Нина? — поинтересовалась я. — Ведь этим ты только вызываешь еще большую ненависть к себе. — Они обманули меня, — хрипло прошептала девица. — Когда ты явилась, они бросили меня. И я хочу покончить с ними. Я заставила Джастина чуть склониться вперед. — Поговори со мной, Нина, — попросила я тихо. — Расскажи мне о нашей юности. Она покачала головой. — На это нет времени, Мелани. Я улыбнулась, чувствуя, как слюна увлажнила детские зубы Джастина. — Где мы познакомились, Нина? На чьем балу мы впервые сравнили свои карточки с ангажементами? Негритянка слегка задрожала и поднесла ко лбу руку. — Моя память, Мелани... после ранения... образовались провалы. — По-моему, несколько секунд назад они тебя не тревожили, — ехидно заметила я. — Кто ездил с нами на пикники на остров Дэниел, Нина, милая? Неужели ты не помнишь его? Наших ухажеров в то далекое-далекое лето? Девица качнулась, не отводя руки от виска. — Мелани, прошу тебя, я вспоминаю, а потом забываю... боль... К ней сзади подошла мисс Сьюэлл. Ее сестринские туфли на резиновых подошвах не издавали ни малейшего шума. — Кого мы выбрали первым для нашей Игры в то лето в Бад Ишле? — осведомилась я лишь для того, чтобы дать возможность мисс Сьюэлл сделать два последних бесшумных шага. Я знала, что цветная самозванка не сможет ответить на эти вопросы. Посмотрим, сможет ли она изображать Нину, когда голова ее скатится на пол. Может, Джастину будет интересно поиграть с таким «футбольным мячом» ? — Первой была танцовщица из Берлина, — вдруг сказала негритянка, — по фамилии Майер, кажется. Подробностей я не помню, но мы, как всегда, обратили на нее внимание, когда сидели в кафе «Зайнер». — Что? — ошарашенно воскликнула я. — А на следующий день... нет, это было через два дня, в среду... такой смешной мороженщик. Мы оставили его труп в морозильной камере... висеть на железном крюке... Мелани, мне больно. Я то вспоминаю, то забываю! — девица начала плакать. Джастин сполз с кресла, обошел чайный столик и похлопал ее по плечу. — Нина, — прошептала я. — Прости меня. Прости меня. Мисс Сьюэлл приготовила чай и подала его в моем лучшем веджвудском фарфоре. Калли принес свечи. Доктор Хартман и сестра Олдсмит поднялись наверх проведать меня, в то время как Говард, Нэнси и остальные устраивались в гостиной. Негр остался стоять у парадной двери. — А где же Вилли? — спросила я через Джастина. — Как он? — С ним все в порядке, — ответила Нина, — но я не знаю точно, где он. Ему, бедняге, приходится скрываться. — От этих людей, которых ты упомянула? — Да. — Почему они желают нам зла, Нина, милая? — Они боятся нас, Мелани. — Почему? Мы же не сделали им ничего дурного. — Они боятся этой нашей... нашей Способности. И еще того, что могут быть разоблачены из-за... эксцессов Вилли. Маленький Джастин кивнул. — Вилли тоже знал о них? — Думаю, да, — ответила Нина. — Сначала он хотел вступить в их... в их клуб. Теперь он просто хочет остаться в живых. — Клуб? — переспросила я. — У них есть что-то вроде тайной организации, — пояснила Нина. — Место, где они встречаются каждый год и охотятся на заранее выбранных жертв... — Я понимаю, почему Вилли хотел присоединиться к ним... А сейчас мы можем ему доверять? — Думаю, да, — ответила негритянка после паузы. — Как бы там ни было, нам троим, из соображений самозащиты, лучше держаться вместе, пока эта угроза не миновала. — Расскажи мне побольше об этих людях, — попросила я. — В следующий раз, Мелани. Я... быстро устаю... Джастин расплылся в своей самой ангельской улыбке. — Нина, милая, скажи мне, где ты сейчас. Позволь, я приду к тебе, помогу. Девица улыбнулась, но промолчала. — Ну ладно. Не хочешь — не говори. Скажи, я еще увижусь с Вилли? — Возможно, — ответила Нина, — но даже если не увидишься, мы должны действовать с ним заодно до назначенного времени. — Назначенного времени? — Через месяц. На острове. — Девица снова провела рукой по лбу, и я увидела, что рука ее дрожит. Да, она была измождена. Наверное, Нине приходилось тратить много сил на то, чтобы заставлять ее двигаться и говорить. Я вдруг представила себе Нинин труп, гниющий во мраке могилы, и Джастин вздрогнул. — Расскажи же мне об этой встрече. Об острове, — попросила я. — Потом, — ответила Нина. — Мы еще встретимся и обсудим с тобой, что нужно сделать... как ты можешь помочь нам всем. А теперь мне пора идти. — Хорошо, — но мой детский голосок не смог скрыть чисто детского разочарования, которое я ощущала. Нина — негритянка — встала, медленно подошла к креслу, где сидел Джастин, и поцеловала его, то есть меня, в щеку. Как часто Нина награждала меня этим иудиным поцелуем, прежде чем предать! Я вспомнила нашу последнюю встречу. — До свидания, Мелани, — прошептала она. — Чао, Нина, дорогая, — улыбнулась я ей. Глядя по сторонам, словно опасаясь, что Калли или мисс Сьюэлл остановит ее, она пошла к двери. Мы все сидели, ангельски улыбаясь, при свете свечей, держа чайные чашки на коленях. — Нина! — окликнула я ее, когда она приблизилась к двери. Она медленно обернулась, и я почему-то вспомнила кота Энн Бишоп, его загнанный вид, когда Винсент наконец настиг его в углу спальни. — Да, дорогая? — Все-таки зачем ты прислала ко мне эту черномазую? Девица загадочно улыбнулась. — Мелани, а разве ты никогда не использовала цветных для разных поручений? Я кивнула, и девица вышла. Марвин с мясницким тесаком еще глубже вжался в куст за дверью и проводил девушку пытливым взглядом. Калли пришлось выйти, чтобы открыть ворота. Она свернула налево и медленно двинулась по темной улице. Я отправила негра за ней. А еще через минуту Калли тоже последовал за ними.Глава 20
Чарлстон Вторник, 5 мая 1981 г. Натали заставила себя пройти один квартал спокойным шагом. Свернув за угол и потеряв из виду дом Фуллер, она поняла, что стоит перед выбором: либо дать своим коленям согнуться, либо бежать. Она побежала. Миновав первый квартал со спринтерской скоростью, она обернулась и в свете фар поворачивавшей машины увидела метнувшуюся темную фигуру. Юноша показался ей странно знакомым, но на таком расстоянии рассмотреть лицо было невозможно. Зато блеснувший в его руке нож она увидела. Из-за угла показалась еще одна, более крупная фигура. Натали пробежала еще квартал к югу и снова свернула на восток — она уже задыхалась, под ребрами кололо и жгло, но она не обращала внимания на боль. Улица, где она оставила машину, была освещена ярче, хотя рестораны и магазины уже закрылись, а пешеходы исчезли. Натали остановилась, рванула на себя дверцу и рухнула на водительское сиденье. На мгновение ее охватила еще большая паника, когда она обнаружила, что ключи в зажигании отсутствуют, а при ней нет сумочки. Но почти сразу же она вспомнила, что положила их под сиденье, чтобы их мог найти Сол, когда придет за машиной. Едва она наклонилась, чтобы достать их, противоположная дверца распахнулась и в машину ввалился мужчина. Натали, пытаясь сдержать крик, резко выпрямилась и поднесла сжатые кулаки к лицу в жесте рефлекторной самозащиты. — Это я, — сказал Сол и поправил очки. — С тобой все в порядке? — О Господи, — выдохнула Натали. Она нащупала ключи, и машина с ревом тронулась с места. За их спинами от кустарника отделилась тень и бросилась им вдогонку. — Держись! — крикнула Натали и, выехав на середину улицы, помчалась на бешеной скорости. Луч фар на несколько мгновений выхватил фигуру негра, прежде чем тот отскочил в сторону. — Черт, — пробормотала Натали, — ты видел, кто это? — Марвин Гейл. — Сол ухватился за приборную доску, — сверни-ка здесь. — Что он тут делает? — воскликнула Натали. — Не знаю, — ответил Сол. — Сбавь скорость. Нас никто не преследует. Натали переключила скорость и выехала на шоссе, ведущее к северу. Она поймала себя на том, что плачет и смеется одновременно, и затрясла головой, пытаясь успокоиться. — О Господи, получилось, Сол! Получилось. А я даже никогда не играла в самодеятельности. Просто не могу поверить! — Она попробовала рассмеяться, но вместо этого из глаз у нее хлынули слезы. Сол сжал ее плечо, и она впервые посмотрела ему в глаза. На какое-то ужасное мгновение ей показалось, что Мелани Фуллер все же удалось перехитрить ее, что старая ведьма каким-то образом обнаружила их, разузнала об их планах и завладела Солом... От его прикосновения Натали вся сжалась, Сол бросил на девушку недоуменный взгляд и покачал головой. — Все в порядке, Натали. Я проснулся, обнаружил твою записку и добрался на такси до «Генри»... — Фенотиацин, — прошептала она, не зная, куда смотреть — на Сола или на дорогу. — Я не допил кофе, — ответил Сол. — Оказался слишком горьким. К тому же ты взяла дозу, нужную для Энтони Хэрода. А он маленький мужчина. Натали посмотрела на Сола. Какая-то часть ее сознания убеждала ее в том, что она сошла с ума. — Ладно, — усмехнулся он. — Мы согласились, что эти... штуки... влияют на память. Я собирался расспросить тебя, но можем начать и с меня. Описать ферму Давида в Кесарии? Рестораны, в которых мы бывали в Иерусалиме? Наставления Джека Коуэна? — Да нет же, — отмахнулась Натали. — Все нормально, раз ты не допил кофе... — Ты в порядке? Она вытерла слезы рукавом и рассмеялась. — О Господи, Сол, это было ужасно. Какое-то умственно отсталое чудовище и другой зомби отвели меня в гостиную, где стояло еще с полдюжины таких же в полной темноте. Они выглядели как трупы — у одной женщины белое платье было застегнуто не на те пуговицы, а рот не закрывался. Я просто не могла думать, мне казалось, что мой голос вот-вот перестанет слушаться меня, а потом, когда вошло это маленькое... маленькое существо со свечой, стало еще хуже, чем в Ропщущей Обители, такого я даже представить себе не могла. Взгляд у малыша был — ее взгляд, безумный, неотрывный. Господи, я никогда не верила ни в бесов, ни в сатану, ни в ад, но это существо было прямо из Данте или какого-нибудь кошмара Иеронима Босха, и она продолжала задавать мне вопросы через него, а я не могла ответить ни на один. Я знала, что эта сестра, тварь, одетая в сестринскую форму, собирается что-то сделать за моей спиной, но тут Мелани, то есть этот бесенок, упомянула Бад Ишль, и у меня что-то щелкнуло в мозгу, Сол. Я вспомнила те материалы, собранные Визенталем, вспомнила танцовщицу из Берлина, Берту Майер, а потом все пошло легко, только я боялась, что она снова спросит о более ранних годах, но она не спросила. Сол, по-моему, мы убедили ее, по-моему, она попалась, но мне было так страшно... — Натали умолкла, еле переводя дыхание. — Притормози здесь, — сказал Сол, указав на пустую стоянку. Натали остановила машину и откинулась назад, пытаясь успокоиться. Сол наклонился, взял ее лицо в ладони и поцеловал — сначала в левую щеку, потом — в правую. — Милая моя, более отважного человека я еще в своей жизни не встречал. Если бы у меня была дочь, я бы хотел, чтобы она была похожа на тебя. Натали всхлипнула. — Сол, нам надо спешить обратно в мотель и включить энцефалограф, как мы планировали. Ты должен обо всем меня спросить. Она прикасалась ко мне... я это чувствовала... это было хуже, чем тогда с Хэродом... такое ледяное прикосновение, Сол, холодное и скользкое, как... не знаю... будто из могилы. Сол кивнул. — Нет, она уверена, что это ты — из могилы. И нам остается только надеяться, что она побоится еще одного столкновения с Ниной и не будет пытаться отнять тебя у своей предполагаемой соперницы. Если бы она собиралась применить к тебе свою силу, то, следуя логике, она скорее сделала бы это, пока вы общались. — Способность, — поправила Натали, — она называет это «наша Способность», и я даже различаю заглавную букву "О, когда она произносит это. — Она испуганно оглянулась. — Сол, надо вернуться и провести суточный карантин, как мы и планировали. Ты должен расспросить меня обо всем и убедиться... что я помню. Сол слабо рассмеялся. — Хорошо, мы включим энцефалограф, пока ты будешь спать — а ты будешь спать, но задавать тебе вопросы нет никакой необходимости. Твой маленький монолог здесь, в машине, вполне убеждает меня в том, что ты именно та, кем была всегда... то есть очень отважная и красивая девушка. Пересаживайся на мое место, а я сяду за руль. Пока они ехали к мотелю, Натали думала о своем отце — вспоминала тихие вечера в лаборатории или за обедом с ним; вспоминала, как однажды она раскроила колено ржавой железякой за домом Тома Пайпера и прибежала домой, а отец, бросив машинку для стрижки газонов, кинулся ей навстречу, с ужасом глядя на ногу и пропитанный кровью носок. Но она не плакала, и он, подняв ее на руки и неся в дом, все время повторял: «моя отважная девочка, моя отважная девочка». И она становилась отважной. Натали закрыла глаза. Она стала отважной. — Это начало, — произнес Сол. — Несомненное начало их конца. Не открывая глаз и чувствуя, как успокаивается ее сердцебиение, Натали задремала, продолжая думать об отце.Глава 21
Мелани При свете дня поверить в то, что со мной связывалась Нина, оказалось труднее. Моей первой реакцией были тревога и чувство незащищенности, вызванные тем, что я обнаружена. Но эти ощущения скоро прошли, сменившись уверенностью и возрожденной энергией. Кого бы ни представляла эта девица, она заставила меня снова думать о будущем. В среду, кажется, это было 5 мая, негритянка не пришла, поэтому я предприняла самостоятельные действия. Доктор Хартман обошел больницы под предлогом поисков места, куда я могла быть госпитализирована, на самом же деле он проверял, не находятся ли там больные, похожие на Нину. Помня о моем пребывании в больнице Филадельфии, доктор Хартман не обращался к медицинскому персоналу или администраторам, а под видом проверки больничного оборудования сам работал с компьютерами, медицинскими картами и историями болезней в хирургических отделениях. Поиски продолжались до пятницы, и за это время никаких сведений ни о Нине, ни о негритянке не по ступало. К выходным доктор Хартман обошел все больницы, дома престарелых и медицинские центры, оборудованные для длительного содержания больных. Он также заглянул в окружной морг, где его заверили, что тело мисс Дрейтон было выдано и кремировано наследниками, — но это лишь подтверждало возможность того, что она жива... или что ее тело похищено... потому что когда я бегло прошлась по сознаниям служителей морга, я обнаружила одного — глуповатого человека среднего возраста по фамилии Тоуб, с безошибочными признаками того, что его использовали, о чем после ему велено было забыть. Калли начал обходить чарлстонские кладбища в поисках могилы годичной давности, в которой могло бы находиться тело Нины. Семья Нины происходила из Бостона, поэтому, когда обследование чарлстонских кладбищ ничего не дало, я отправила Нэнси на север — мне не хотелось, чтобы Калли покидал дом на столь долгое время, — и она отыскала семейную усыпальницу в пятницу после полуночи с заступом и ломом, купленными в Кембридже, и произвела тщательные расследования. Хокинсов было в изобилии — всего одиннадцать штук, из них девять взрослых, но все они выглядели так, будто пролежали здесь уже по меньшей мере полстолетия. Глазами мисс Сьюэлл я осмотрела проломленный череп, принадлежавший, очевидно, Нининому отцу, — я разглядела золотые зубы, по поводу которых он любил шутить, и в сотый раз задумалась: неужто это Нина толкнула его под колеса троллейбуса в 1921 году за то, что он не позволил ей купить синий автомобиль, на который она в то лето положила глаз. Обнаруженные в ту ночь Хокинсы представляли собой кости, прах и давно сгнившие останки похоронных убранств, и все же, чтобы быть абсолютно уверенной, я заставила мисс Сьюэлл вскрыть все черепа и заглянуть внутрь. Кроме серой пыли и насекомых, там мы ничего не обнаружили. Нина в склепе не пряталась. Какими бы бесплодными ни были эти поиски, я радовалась тому, что размышляю вполне здраво. Долгие месяцы болезни расслабили меня, притупили обычную остроту восприятия, но теперь я чувствовала возвращение былой интеллектуальной мощи. Мне следовало догадаться, что Нина не захочет быть похороненной вместе со своей семьей. Она не любила своих родителей и ненавидела единственную сестру, которая умерла в юности. Нет, если Нина действительно мертва, ее, скорее, можно найти в каком-нибудь недавно купленном особняке, может быть, даже здесь, в Чарлстоне, возлежащей на роскошных носилках, прелестно одетой и каждый день заново подкрашенной в окружении целого некрополя прислужников у мертвых. Признаюсь, я заставила сестру Олдсмит надеть лучшее шелковое платье и отправила ее завтракать в «Мансарду» — но никаких признаков Нининого присутствия там тоже не оказалось, ведь хотя чувство юмора у нее было таким же изящным, как у меня, она была не настолько глупа, чтобы вернуться туда. Мне бы не хотелось, чтобы складывалось впечатление, будто моя неделя была целиком занята бесплодными поисками, возможно, несуществовавшей Нины. Я предпринимала и чисто практические меры предосторожности. Говард улетел в среду во Францию и начал подготавливать мой будущий переезд туда, ферма находилась в том же состоянии, в каком я оставила ее восемнадцать лет назад. В сейфе в Тулоне хранился мой французский паспорт, положенный туда мистером Торном лишь тремя годами раньше. То, что я могла воспринимать впечатления Говарда, находящегося на расстоянии более двух тысяч миль, свидетельствовало о моей несоизмеримо возросшей Способности. Раньше на такие далекие расстояния я отправляла только идеально обработанных пешек, таких как мистер Торн, и то они действовали по заранее запрограммированному плану, который не нуждался в моем непосредственном руководстве. Разглядывая глазами Говарда поросшие лесом холмы Южной Франции, сады и рыжие прямоугольники крыш в долине, неподалеку от моей фермы, я недоумевала, почему отъезд из Америки казался мне таким сложным. Он вернулся в субботу вечером. Все было готово к тому, чтобы Говард, Нэнси, Джастин и мать Нэнси — инвалид в течение часа могли покинуть страну. Калли и остальные должны были выехать позднее, в том случае если не возникнет необходимости прикрытия. Я не собиралась лишаться своего личного медицинского персонала, но если бы дело дошло до этого, во Франции тоже имелись превосходные врачи и сестры. Однако когда путь к отступлению был подготовлен, я засомневалась, хочу ли я этого. Мысль о встрече с Вилли и Ниной не была лишена приятности. Эти месяцы блужданий, боли и одиночества становились еще более тягостными от ощущения незавершенности дел. Полгода назад Нинин звонок в аэропорту Атланты поверг меня в бегство, зато реальное появление посланницы Нины — если она была тем, за кого себя выдавала, — оказалось не таким уж пугающим. Я решила, что так или иначе добьюсь правды. Во вторник сестра Олдсмит пошла в публичную библиотеку и отыскала все упоминания имен, названных негритянкой. Она нашла несколько журнальных публикаций и недавно вышедшую книгу о таинственном миллионере К. Арнольде Баренте, заметки о Чарлзе Колбене в статьях, посвященных политике Вашингтона, несколько книг об астрономе по имени Кеплер — но, вероятно, это был не тот человек, так как он уже несколько веков находился в могиле — ссылок же на другие имена не было. Эти книги и статьи ни в чем меня не убедили. Если девица была прислана не Ниной, то она почти наверняка лгала. Если же все-таки Ниной — я тоже допускала, что она могла лгать. Нина не нуждалась в провокации со стороны других, обладающих Способностью, чтобы провоцировать меня. «Могла ли смерть сделать Нину безумной?» — размышляла я. В субботу я позаботилась о последней детали. Доктор Хартман договорился с миссис Ходжес и ее зятем о покупке соседнего дома. Я знала, где она живет. Я также знала, что в субботу утром она ездит одна на рынок в Старый Город за свежими овощами, которые были для нее своеобразным фетишем. Калли остановился рядом с машиной дочери миссис Ходжес и дождался, когда старуха выйдет с рынка. Как только она появилась с полными сумками в руках, он подошел и сказал: — Позвольте я помогу вам. — Спасибо, я сама... — начала было миссис Ходжес, но Калли забрал у нее одну сумку, крепко взял за руку и повел к «Кадиллаку» доктора Хартмана. Подойдя к машине, он открыл дверцу и швырнул ее на переднее сиденье, как выведенный из себя родитель швыряет двухлетнего младенца. Миссис Ходжес сделала попытку открыть запертую дверцу и выбраться, но Калли проскользнул на водительское место и своей огромной рукой, в которой помещалась вся головка глупой старухи, сжал ее физиономию. Она тяжело привалилась к дверце. Калли, удостоверившись, что она дышит, повез ее домой, включив пленку с записью Моцарта и глупо стараясь подпевать. В воскресенье 10 мая, вскоре после полудня, в ворота вновь постучала посланница Нины. Я послала Говарда и Калли впустить ее. На сей раз я была готова к ее приходу.Глава 22
Остров Долменн Суббота, 9 мая 1981 г. Натали и Сол вылетели из Чарлстона в половине восьмого утра. Впервые за четыре дня Натали впервые сняла с себя телеметрическое оборудование энцефалографа и почувствовала себя странно обнаженной и в то же время свободной, словно она действительно вышла из карантина. Маленькая «Сессна-180», поднявшись в воздух, пересекла порт, повернула навстречу восходящему солнцу и еще раз вправо. Внизу показались голубовато-зеленые волны океана. Под правым крылом раскинулся остров Каприз. Натали сверху различала фарватер, уходящий к югу сквозь безумное переплетение заливов, морских рукавов и прибрежных болот. — Как ты думаешь, сколько уйдет времени на это? — окликнул Сол пилота. Сол сидел на правом переднем сиденье, Натали — за ним. В ногах у нее лежала большая пластиковая сумка. Лерил Микс посмотрел на Сола, а потом бросил взгляд через плечо на Натали. — Около полутора часов, — прокричал он, перекрывая шум двигателя. — Может, немного больше, если налетит юго-восточный ветер. Пилот выглядел так же, как семь месяцев назад, когда Натали познакомилась с ним на крыльце дома Роба Джентри, — на нем были дешевые пластмассовые темные очки, морские ботинки, обрезанные джинсы и свитер с выцветшими буквами «Колледж Вобаш». Натали по-прежнему казалось, что Микс напоминает помолодевшего длинноволосого Морриса Адолла. Натали вспомнила имя Микса и то, что старый приятель Роба Джентри был чартерным пилотом, дальше оставалось только перелистать желтые страницы, чтобы отыскать его офис в маленьком аэропорту к северу от горы Красотка. Микс вспомнил ее и после нескольких минут болтовни, в основном посвященной забавным воспоминаниям о Робе, согласился взять ее и Сола, чтобы совершить облет острова Долменн. Пилот поверил их версии, что Натали с Солом пишут рассказ о миллионере-отшельнике К. Арнольде Баренте, и Натали не сомневалась, что он запросил с них гораздо меньшую сумму, чем обычно. День был теплый и безоблачный. Натали смотрела, как светлые прибрежные воды смешиваются с сине-пурпурными глубинами истинной Атлантики, растянувшейся на сотни миль вдоль извилистого берега; на юго-запад, к раскаленному горизонту, уходил зеленовато-коричневый пейзаж Южной Каролины. Во время полета Сол и Натали разговаривали мало — сидели, погрузившись в собственные мысли. Микс был занят периодическими переговорами по радиосвязи, а в остальное время явно наслаждался полетом в такой прекрасный день. Когда они углубились дальше, он указал своим пассажирам на два пятна в океане, к западу от них. — Тот, что больше, Голова Хилтона, — лаконично сообщил он. — Излюбленное место отдыха представителей высшего света. Никогда там не был. А второй остров Париса, морская база. Однажды мне там устроили оплачиваемый отпуск. Там знают, как превращать мальчиков в мужчин, а мужчин в роботов меньше чем за десять недель. Насколько мне известно, там этим занимаются до сих пор. К югу от Саванны они снова свернули к берегу, и перед ними открылась длинная вереница песчаных отмелей и зеленых островов — Микс называл их по очереди: Святой Катерины, Черная Борода и, наконец, острова Сапело. Он свернул влево, выровнял курс и указал еще на одно туманное пятно в нескольких десятках миль от того места, где они находились. — А вот и этот остров Долменн, — насмешливо, по-пиратски прорычал Микс. Натали приготовила камеру — новенький «Никон» с трехмиллиметровым объективом — и, прислонив ее к боковому окошку, закрепила на треноге. Она использовала очень скоростную пленку. Сол положил на колени блокнот и подставку с укрепленными на ней картами и диаграммами, которые были изъяты им из досье Джека Коуэна. — Мы подлетим к нему с севера! — прокричал Микс. — Пролетим над океаном, как я и говорил, потом сделаем круг и взглянем на старый особняк. Сол кивнул. — А как близко ты можешь подлететь? Микс ухмыльнулся. — Вообще-то там все охраняется, формально северная часть острова — это дикий заповедник, основной пролетный путь над побережьем, поэтому воздушное пространство там закрыто. Все это принадлежит якобы Фонду Западного Наследия, и остров охраняют так, словно на нем расположена ракетная база русских. Стоит пролететь там, и едва приземлишься, Комитет гражданской авиации тут же отнимет у тебя лицензию, еще и предварительно проверят регистрационные номера. — А ты когда-нибудь менял номера? — осведомился Сол. — Ага, — кивнул Микс. — Не знаю, обратил ли ты внимание, но большинство цифр сделано просто из красной клейкой ленты. Лента отклеивается, и мы получаем другой номер. Ладно, посмотри вон туда, — он указал на серую шлюпку с высокой мачтой, которая медленно двигалась в северном направлении примерно в миле от острова. — Это одна из их сторожевых шлюпок. С радарным устройством. Кроме того, у них есть быстроходные патрульные катера, курсирующие туда и обратно, и если какому-нибудь дурачку вздумается устроить пикник на Долменн или высадиться, чтобы посмотреть на птичек, его ждет страшное потрясение. — А что происходит здесь в июне, когда они собираются лагерем? — спросил Сол. Микс рассмеялся. — Ну, тогда уже подключаются береговая охрана и военно-морской флот. Без специального приглашения ни одно судно не сможет приблизиться к Долменну. Ходят слухи, что охрана хорошо вооружена, а с взлетной полосы на юго-западе, которую я вам покажу, то и дело поднимаются в воздух вертолеты. Приятели мне рассказывали, что они не подпускают никого и по воздуху ближе чем на три мили. А вот это — северный пляж. — Микс показал вниз. — Здесь идет единственная полоса песка, если не считать пляжа возле особняка и летнего лагеря. — Микс повернулся и бросил взгляд на Натали. — Надеюсь, вы готовы, мэм? С этой стороны мы больше не окажемся. — Готова! — откликнулась Натали, и как только они оказались в четверти мили от пляжа, на высоте четырехсот футов, она принялась щелкать фотоаппаратом. Девушка была довольна, что взяла пленку большого формата с автоматической перемоткой, в которой при обычной съемке не испытывала никакой потребности. Вместе с Солом она хорошо изучила когеновские карты острова, но увидеть остров воочию было гораздо интереснее, хотя картинки и мелькали внизу очень быстро, представляя собою чехарду пальмовых зарослей, отмелей и других едва заметных подробностей. Остров Долменн ничем не отличался от других барьерных островов, в основном располагавшихся ближе к побережью, — он был вытянут в форме буквы Г с севера на юг, длиною семь миль и шириной — около трех миль. К северной оконечности остров сужался, мысом уходя в океан. За длинной белесой полосой пляжа виднелись топи, болота и субтропические заросли, покрывавшие всю северную часть острова. С пальм и кипарисов взлетали большие белые птицы, суматошно хлопая крыльями. Натали отщелкивала пленку с такой скоростью, с какой только позволяла автоматическая перемотка. Вскоре она увидела какие-то почерневшие развалины. — Это руины бывшей лечебницы рабов, — прокричал Сол, делая отметку на своей карте. — За ней — плантация Дюбоза, уже полностью заросшая джунглями. Где-то там кладбище рабов... а там охранная зона! Натали оторвалась от видоискателя. Северную часть острова занимали холмы, поросшие густой непроходимой растительностью, кое-где появлялись дубы, кипарисы, сосны. Впереди виднелись низкие, наполовину утопленные в земле бетонные строения, между пальмами вилась черная гладкая лента асфальтовой дороги, переходившая в площадку, огороженную заборами и абсолютно лишенную какой-либо растительности. Казалось, земля здесь вымощена остроконечным ракушечником. Натали выдвинула объектив и снова принялась делать снимки. Микс снял наушники. — Господи, вы бы только послушали, что орет этот парень с радарной сторожевой лодки! Жаль, у меня не работает приемник, — и он подмигнул Солу. Они приблизились к западной части острова. Микс круто повернул, чтобы не пролетать непосредственно над ней. — Давай выше! — крикнул Сол. Когда они набрали высоту, Натали получила превосходную панораму для обзора. Она сменила камеры и взяла «Рико» с широкоугольным объективом и ручной перемоткой. Перейдя к левому иллюминатору, она начала с бешеной скоростью отщелкивать крупные планы длинного пляжа. Северная часть острова выглядела совсем иначе — за охранной зоной тянулись сосновые и дубовые рощи, вдали высились поросшие лесом холмы, все несло на себе следы тщательного и вдумчивого ухода. Асфальтовая дорога продолжала виться вдоль берега параллельно пляжу, и лишь пальмы и древние дубы скрывали из виду ее идеально гладкую поверхность. С высоты в пятьсот футов между кронами деревьев замелькали зеленые крыши строений и кольцо скамеек на травянистой поляне ближе к центру острова. — Дормитории и амфитеатр летнего лагеря! — крикнул Сол. — Держитесь, — предупредил Микс и снова круто свернул влево, к пурпурного цвета рифу, чтобы миновать искусственную гавань и длинный бетонный причал на юго-восточной оконечности острова. — Не думаю, что они станут обстреливать нас, — осклабился он, — но черт их знает. За гаванью они круто свернули вправо и полетели вдоль каменистого восточного побережья. Микс кивком головы указал на крышу, видневшуюся к югу над колышущимися под ветром древними дубами и цветущими магнолиями. — Вот этот особняк! — пояснил он, — Бывшая плантация Вандерхуфа. Старый священник женился на деньгах. Построен около 1770 года. На третьем этаже располагается более двадцати спален... а во всем доме, наверное, около ста двадцати комнат. А там, за деревьями, на прогалине — взлетная площадка. «Сессна» снова свернула вправо и начала кружить над макушками белых скал, спускавшихся с высоты футов в двести к ревущему внизу прибою. Натали сделала пять снимков с выдвинутым объективом и два — широкоугольником. Особняк виднелся в конце длинной дубовой аллеи — огромное обветренное здание, окруженное идеально подстриженным газоном, который уходил к острым, круто обрывавшимся вниз скалам. Сол сверился с картой и, прищурясь, еще раз посмотрел на крышу особняка, исчезавшего за высокими дубами. — Считается, что здесь должна быть дорога... уходящая от особняка на север... — Дубовая аллея, — подтвердил Микс. — Тянется почти с милю от гавани до подножия холма с противоположной стороны особняка, где начинаются сады. А дороги никакой нет. Лишь травянистая аллея, ярдов тридцать в ширину, она как раз идет между двух столетних дубов. Ветви деревьев увешаны японскими фонариками... Свет от них ночью виден за десять миль... именно по этой освещенной аллее они и направляются к особняку в первый день лагеря. А вот там — взлетная полоса! Они пролетели еще две мили к западу вдоль основания буквы Г, скалы начали постепенно снижаться в полосу прибрежных камней, которые переходили в белый песчаный пляж. За ним виднелась авиаплощадка — длинная темная просека, уходящая в лес на северо-восток. — Даже те, кто прилетают, совершают объезд по Дубовой аллее, — пояснил Микс. Они круто нырнули вправо, облетая юго-западную оконечность острова, и пляж остался позади. Впереди прямая линия Г разрушалась неровной заводью. Здесь была огороженная охранная зона, которая уходила через перешеек в глубь острова. Среди пышной тропической растительности сотни ярдов пустой, ничем не заполненной территории выглядели внушительно. Будто рай, отсеченный от всего мира Берлинской стеной. К северу от охранной зоны вдоль всего западного побережья — никаких признаков человеческого жилья, даже присутствия человека — все пространство до самого берега занимали заросли пальм, сосен и магнолий. — А как они объясняют необходимость охранных зон? — осведомился Сол. — Вероятно, они отделяют дикий заповедник от частных владений, — предположил Микс. — На самом деле весь остров — частная собственность. Во время своих летних лагерей — идиотское название, правда? — у них здесь кишмя кишат всякие премьер-министры и бывшие президенты. Их держат к югу от охраняемой полосы, чтобы проще было обеспечивать их безопасность. И дело не в том, что им на острове что-то угрожает. А вон пикетирующая шлюпка западной оконечности острова, — он кивнул влево. — Через три недели здесь будет твориться черт-те что — десятки кораблей, яхты, катера береговой охраны. Даже если кому-нибудь удастся высадиться на остров, далеко ему не уйти. Повсюду будут расставлены тайные агенты и силы безопасности. Если вы пишете о К. Арнольде Баренте, то, наверное, уже знаете, что этот человек здорово умеет охранять свою частную жизнь. Вертолет приближался к северной оконечности острова. — Я бы хотел приземлиться там. — Сол указал вперед. — Послушай, приятель, — усмехнулся Микс, качая головой. — Можно нарушить схему планов вылетов. Можно даже вторгнуться в воздушное пространство Барента. Но если мои шасси коснутся этой взлетной полосы, я больше никогда не увижу свой самолет. — Я же не имею в виду взлетную полосу, — воз разил Сол. — Пляж на северной оконечности выглядит ровным. Там песок достаточно хорошо утрамбован, чтобы можно было приземлиться. — Ты сошел с ума! — Микс нахмурился и начал возиться с управлением. За северной оконечностью острова раскинулся океан. Сол вынул из кармана рубашки четыре пятисотенные купюры и положил их на консоль перед Миксом. Микс покачал головой. — На это ни нового вертолета не купишь, ни оплатишь больничные расходы, если мы врежемся в какой-нибудь камень. Натали склонилась вперед и сжала плечо пилота. — Ну, пожалуйста, мистер Микс, — перекрывая шум двигателя, попросила она, — для нас это очень важно. Микс повернулся и посмотрел на Натали. — Значит, это не просто статья для журнала, да? Натали быстро взглянула на Сола, потом на Микса и покачала головой. — Нет. — Это имеет какое-то отношение к смерти Роба? — спросил Микс. — Да, — кивнула Натали. — Я так и думал. — Микс вздохнул. — Я же сразу не поверил всем этим чертовым объяснениям, чем Роб занимался в Филадельфии и как со всем этим было связано ФБР. Значит, каким-то образом в деле замешан миллионер Барент? — Да, мы так считаем, — ответила Натали. — И нам нужны дополнительные сведения. Микс указал на проносившийся под ними пляж. — И если мы приземлимся там на несколько минут, вам это поможет сделать какие-то выводы? — Возможно, — сказал Сол. — Тьфу ты, черт, — пробормотал Микс, — похоже, вы оба террористы или еще что-нибудь в этом роде, правда, от террористов я никогда не видел никакого зла, а вот негодяи типа Барента мне всю жизнь отравили. Держитесь, — «Сессна» резко свернула вправо. Северо-западную оконечность пляжа прорезали несколько ручьев и заливчиков. — Не больше ста двадцати ярдов! — крикнул Микс. — Придется садиться у самой воды, и молитесь, чтоб мы не попали в яму и не наскочили на камень. — Он сверил показания приборов и посмотрел вниз, на белые пенистые барашки прибоя и качающиеся макушки деревьев. — Ветер с запада, — и еще раз предупредил: — Ну, держитесь. «Сессна» еще раз круто свернула вправо и начала терять высоту. Сол покрепче затянул пристежные ремни и ухватился руками за консоль. Натали убрала фотоаппаратуру, сунула «кольт» под блузку, проверила ремень и обхватила себя за плечи руками. Микс резко сбросил скорость, и «Сессна» стала снижаться так медленно, что, казалось, она висела над волнами целую минуту. Сол не сомневался, что траектория их падения неизбежно закончится в полосе прибоя, но в последний момент Микс прибавил скорость, пронесся над камнями, которые выросли до размеров устрашающих валунов, и уверенно направил свой самолет на мокрый песок. Нос «Сессны» нырнул вниз, на ветровое стекло упали брызги соленой воды, и Сол почувствовал, как заносит левое шасси, но уже через мгновение Микс заработал как умалишенный, одновременно дергая за все ручки управления. Самолет выровнялся и начал останавливаться, но недостаточно быстро — бухточки, которые казались такими далекими с северо-западного конца пляжа, с неудержимой скоростью неслись навстречу, размываемые вращающимся диском пропеллера. За пять секунд до того как перемахнуть через овраг Микс накренил самолетик вправо, так что брызги полетели в окно Сола, нажал на дроссель и тормоза и, сделав крутой вираж, посадил машину в нескольких дюймах от бухты и дюн. — Три минуты, — сказал Микс, оттягивая дроссель. — Я буду на восточном конце пляжа, и если ветер начнет стихать или я увижу их лодку, выруливающую из-за мыса Рабов, — адью. Дама останется в самолете, чтобы помочь мне развернуть хвост. Сол кивнул, отстегнул ремни и выскочил из хрупкой дверцы — ветер тут же подхватил его длинные волосы. Натали подала ему длинную тяжелую сумку, обмотанную брезентом. — Эй! — окликнул его Микс. — Ты ничего не сказал... — Езжай, — прокричал Сол и бегом бросился к зарослям, туда, где бухточка скрывалась в пальмовых побегах и тропических цветах. Не пройдя и десяти ярдов, Сол оказался по колени в болотной трясине в окружении магнолий, пальм, кипарисов и дубов, заросших испанским мхом. Из большого гнезда прямо над его головой с шумом вылетела скопа, в воду метнулось какое-то земноводное, оставив за собой расходящиеся волны. Сол вспомнил слова Джентри о ловле змей в темноте. Три минуты почти истекли, когда он догадался вытащить компас и решил, что ушел достаточно далеко. Тяжелую сумку он тащил на правом плече и теперь, оглянувшись, заметил древний кипарис, обезображенный пожаром, — две нижние ветки раскинулись над темной водой, как обугленные руки человека. Сол двинулся к дереву, но, еще не дойдя до ствола, по пояс погрузился в воду. Оказывается, ствол расщепило молнией, сквозь зазубренные края выемки виднелась полусгнившая сердцевина кипариса. Сол почувствовал, как в вязкую тину погружается его левая нога, пока он заталкивал свою сумку в эту щель ствола, — сначала вверх, а потом вглубь, стараясь скрыть ее из виду. Заделав отверстие, Сол отошел на десять шагов назад, удостоверился, что сумку не видно. Быстрым цепким взглядом окинул форму и расположение старого кипариса относительно бухты, других деревьев и участка неба, который виднелся сквозь свисающий мох и искривленные сучья. Повернувшись, Сол поспешил к берегу. Трясина угрожающе затягивала его, пытаясь содрать с него ботинки и мертвой хваткой вцепиться в щиколотки. Солоноватый налет покрыл его рубашку, от стоячей воды несло водорослями и разложением. Огромные листья папоротников хлестали Сола по липу, его плотным кольцом облепили кровососущие комары и мелкие москиты. Чем дальше он продвигался, тем непроходимее казались заросли. Наконец Сол преодолел последний барьер из ветвей и, спотыкаясь, вышел к песчаной мелкой бухточке, выбрался по крутому откосу на пляж и понял, что, несмотря на компас, вышел ярдов на тридцать западнее. «Сессны» не было. Не веря своим глазам, Сол замер, затем бросился вперед, заметив вдали солнечных зайчиков, отражавшихся от металла и стекла, — за изгибом низких дюн самолет казался невероятно далеким. Он услышал, как нарастает грохот двигателя, изаметил со свойственной ему наблюдательностью начинавшийся прилив — вода уже скрыла следы от ближайшего шасси и быстро сокращала возможное пространство для взлета. Пробежав две трети пути, Сол уже не слышал ничего, кроме собственного дыхания. Не слышал он и низкого гула моторной лодки. Ее он заметил, лишь когда обернулся, — расшвыривая белые брызги, она неслась по крутой дуге из-за северо-восточной оконечности острова. На ее борту виднелось по меньшей мере пять темных фигур с винтовками в руках. Сол рванул еще быстрее и, поднимая брызги, подбежал к самому краю прибоя, прямо перед самым носом «Сессньр». Если бы самолет начал взлетать, у Сола осталось бы два пути: либо нырять в воду, либо оказаться разрезанным пропеллером. От самолета его отделяло ярдов десять, когда из-под левого крыла поднялись три фонтанчика песка, — ощущение было странное, будто ему навстречу выскочила огромная песчаная блоха. Отрывистое бабаханье он услышал секундой позднее. Моторный катер был от них на расстоянии винтовочного выстрела. Сол понял, что снайпер промазал лишь из-за сильных волн прибоя и большой скорости. Задыхаясь, он запрыгнул в открытую левую дверцу кабины и привалился к спинке сиденья, обливаясь потом. Не дожидаясь, когда Натали справится с хлопающей дверцей, самолетик рванул вперед, подпрыгивая и виляя на узкой полоске мокрого песка. Пуля врезалась в металл позади них. Микс выругался и дернул за верхнюю рукоять, борясь с вибрирующим штурвалом. Сол сидел прямо и смотрел вперед. «Сессна» достигла конца пляжа и, так и не взлетев, с ревом ринулась через песчаные ухабы бухты и узкие протоки. Сол выпрямился и посмотрел вперед. С западной стороны подступали острые скалы и полоса деревьев. Подпрыгнув в очередной раз, переднее шасси подняло фонтан брызг и оторвалось от земли — они миновали скалы, едва не задев их острые макушки, и свернули вправо, навстречу волнам, набирая высоту, — сначала двадцать, потом тридцать футов. Внизу Сол увидел все так же скачущий по волнам на бешеной скорости моторный катер — казалось, стволы винтовок нацелены прямо ему в лицо. Микс со всей силы давил на педали, оттягивал ручку штурвала то вперед, то назад, заставляя «Сессну» двигаться по невероятной дуге, чтобы западный мыс, с его зарослями и стеной деревьев, мог скорее скрыть их от патрульной лодки. Так и не успев пристегнуться, Сол врезался головой в потолок кабины, его отшвырнуло к незапертой дверце. Обеими руками он вцепился в сиденье и консоль, чтобы не упасть на пилота и штурвал. Микс бросил на него мрачный взгляд. Сол пристегнул ремни и оглянулся. Под ними мелькали макушки деревьев. Впереди же, рассекая волны, с задранными кверху носами, к ним неслось еще три моторных катера. Микс вздохнул и так круто свернул вправо, что Сол различил черную тушу манты, лежавшей футах в десяти под водой прямо под ними. Край крыла от гребня волны отделяло расстояние не больше фута. Микс выровнял самолет и двинулся к западу, оставляя остров и моторки позади, но продолжал пока держаться над самой водой, так что нарастание скорости ощущалось весьма явственно. Сол пожалел, что у «Сессны» не убираются шасси, и поймал себя на желании поджать ноги. Микс зажал штурвал коленями, достал из кармана красный носовой платок и высморкался. — Нам придется лететь на частный аэропорт моего приятеля в Монк Корнер, а потом позвонить Альберту и попросить его внести изменения в план вылетов, — заметил Микс, — на случай, если они станут проверять прибрежные аэропорты. Ну и заварушка. — Он покачал головой, но лицо его расплылось в широкой улыбке. — Я знаю, мы договорились на триста долларов, — сказал Сол, — но думаю, назначенная сумма не соответствует стоимости этой увеселительной прогулки. — Да ну? — удивился Микс. Сол кивнул Натали, и та вытащила из своей сумки с фотоаппаратурой четыре тысячи долларов пачками по пятьдесят и двадцать. Сол положил их на край пилотского сиденья. Микс присвистнул. — Послушайте, если это помогло вам получить сведения о том, кто убил Роба Джентри, одного этого уже достаточно. Не надо никакого вознаграждения. — Да, помогло, — наклонившись вперед, подтвердила Натали. — Но оставь это себе. — Может, лучше вы мне расскажете, какое отношение этот негодяй Барент имел к Робу Джентри? — Обязательно. Но когда узнаем чуть побольше, — ответила Натали. — К тому же, может, нам снова понадобится твоя помощь. Микс через свитер почесал грудь и ухмыльнулся. — Конечно, мэм. Главное — не начинайте революцию без меня, о'кей? Микс повертел ручку транзистора, который висел на одном из тумблеров пульта управления, и дальше, к материку, они летели под грохот металлического рока.Глава 23
Мелани В воскресенье Нинина пешка взяла Джастина на прогулку. Она постучала в ворота, когда еще не было одиннадцати, — приличные люди в это время находятся в церкви. Она отклонила приглашение Калли пройти в дом и спросила: не хочет ли Джастин — она сказала «мальчик» — покататься? Я задумалась. Меня тревожило, что малыш должен покинуть дом, — из всех членов своей «семьи» его я любила больше всего. Но, с другой стороны, в том, что цветная девица не будет входить в дом, явно были свои преимущества. К тому же такая поездка могла пролить какой-нибудь свет на местонахождение Нины. Так что в конце концов девица осталась ждать у фонтана, а сестра Олдсмит надела на Джастина самый нарядный костюмчик — синие шорты и матроску, — и он отправился с негритянкой на прогулку. Я мысленно обследовала ее машину, но ее вид не сказал мне ничего — почти новенький «Датсан», выглядевший так, будто взят напрокат. Никаких особых примет, никакого запаха. На девице была коричневая юбка, высокие сапоги и бежевая блузка — ни сумочки, ни портмоне, ничего такого, где могло бы находиться ее удостоверение личности. Естественно, если она представляла собой обработанное орудие Нины, у нее уже не было личности. Мы медленно поехали по восточной прибрежной дороге, а потом свернули к северу по шоссе к Чарлстонским высотам. Здесь, на небольшой площадке, выходившей на морские верфи, девица затормозила, взяла бинокль с заднего сиденья, на котором больше ничего не было, и подвела Джастина к черной металлической ограде. Она разглядывала темные сигнальные мостики и корабли, затем повернулась ко мне: — Мелани, хочешь ли ты помочь спасти жизнь Вилли и защитить себя? — Конечно, — ответила я детским контральто Джастина. Следила я вовсе не за ее словами, а за фургоном, который подъехал к стоянке и притормозил на дальнем ее конце. За рулем сидел один-единственный человек — но из-за расстояния, темных очков и отбрасываемых теней я не могла рассмотреть его лицо. Зато я была уверена, что это та самая машина, которая следовала за нами по восточной прибрежной дороге. Любопытные взгляды Джастина легко было скрыть под маской детской непосредственности. — Хорошо, — откликнулась негритянка и повторила свою заготовленную историю о власть имущих, обладавших нашей Способностью. Они якобы каждое лето разыгрывали странную версию нашей Игры на каком-то острове. — Чем я могу помочь? — осведомилась я, придавая лицу Джастина выражение пристрастной озабоченности. Трудно испытывать недоверие к ребенку. Пока негритянка объясняла мне, чем я могу помочь, я прикидывала, какие у меня есть варианты. Сначала мне казалось, что использование девицы мало бы мне дало. Мое экспериментальное зондирование выявило то, что или Нина уже использовала ее, но не проявляла никакого настойчивого желания удержать, попытайся я узурпировать контроль над ней, или девица являлась идеально обработанной пешкой и не нуждалась в надзоре со стороны Нины или кто ее там обрабатывал, или же ее не использовали вовсе. Теперь положение изменилось. Если мужчина в фургоне каким-то образом был связан с цветной девицей, ее использование могло оказаться наилучшим способом, чтобы я могла получить необходимые мне сведения. — Вот, посмотри в бинокль. — Она протянула его Джастину. — Третий корабль справа. Я взяла бинокль и проскользнула в ее сознание. Я ощутила ее испуг и увидела странную картинку на приборе, называемом осциллограф, — я была знакома с ним по той аппаратуре, которая была расставлена в моей спальне доктором Хартманом. А потом я овладела ею. Как я и ожидала, перемещение оказалось несложным, учитывая мою усилившуюся Способность. Негритянка была молодая, сильная — я чувствовала, как в ней бурлит жизненная энергия, и решила, что в ближайшие минуты найду применение ей. Я оставила Джастина стоять с глупым биноклем и быстрым шагом направилась к фургону. Жаль, что у девицы нет ничего такого, что можно было бы использовать вместо оружия. Машина стояла в дальнем конце стоянки. Только подойдя ближе, я увидела: фургон пуст, дверца со стороны водительского места распахнута. Я заставила девицу остановиться и оглядеться. На стоянке виднелось несколько человек — вдоль заграждения прогуливалась цветная пара, под деревом бесстыдно разлеглась молодая женщина в вызывающем наряде: сквозь тонкую ткань отчетливо проступали соски; возле фонтанчика для питья два бизнесмена были заняты каким-то серьезным разговором; у одной из машин стоял пожилой человек с короткой бородкой; за столиком для пикников устроилось целое семейство. На мгновение я ощутила прилив старой паники, словно пыталась различить среди окружающих Нинино лицо. Был яркий весенний полдень, но я чувствовала, что в любое мгновение могу увидеть разлагающийся труп. Сидит себе на садовой скамейке или глазеет на меня через ветровое стекло машины пустыми глазницами... Джастин в небрежной манере игривого ребенка поднял веточку и, помахивая ею, двинулся к цветной девице, которую я заставила подойти к фургону. Заглянув в окошко с водительской стороны, я увидела целую гору электронной аппаратуры. Провода тянулись через сиденье в глубь фургона. Джастин повернулся, чтобы следить за людьми на стоянке. Заставив девицу заглянуть на заднее сиденье, я вдруг ощутила внезапный укол легкой боли и почувствовала, что теряю контроль над ней. Я подумала, что это Нина пытается восстановить свое господство, но тут увидела, что девица повалилась на землю. Я вовремя переместила все свое внимание на Джастина. Негритянка же скользнула головой по металлической дверце машины и замерла. В нее кто-то выстрелил. На коротеньких ножках Джастина я попятилась, продолжая сжимать веточку, которая на взгляд малыша казалась такой прочной, а на самом деле была лишь хрупким побегом. Бинокль продолжал висеть на моей шее. Я продолжала пятиться к пустому столику для пикников, поворачивая голову то вправо, то влево, не зная, кто мой враг и откуда мне ждать нападения. Похоже, никто не заметил, как девица упала. Никто не обратил внимания на ее тело, лежавшее между фургоном и синей спортивной машиной. Я не имела ни малейшего представления о том, кто ее убил и каким способом. Джастин заметил красное пятнышко на ее бежевой юбке, но оно казалось недостаточно большим для пулевого отверстия. Я подумала о глушителях и других экзотических устройствах, которые видела в фильмах, до того как заставила мистера Торна окончательно избавиться от телевизора. Да, напрасно я решила использовать цветную. Теперь она была мертва — или, по крайней мере, так мне казалось, и я не хотела, чтобы Джастин приближался к ее трупу, — а сам Джастин оказался в ловушке на этой стоянке, вдали от надежного дома. Я отошла еще дальше, к ограде. Один из бизнесменов повернулся и направился ко мне. Я подняла ветку и ощерилась, как дикое животное. Мужчина бросил на меня странный взгляд и прошел мимо к павильону для пикников, где располагались комнаты отдыха. Я заставила Джастина развернуться и броситься бегом вдоль ограды — в дальнем конце стоянки он остановился и прижался спиной к холодному металлу. Отсюда трупа цветной девицы не было видно. Огромные мотоциклы преградили мне дорогу.* * *
Калли и Говард бросились в гараж заводить «Кадиллак». Говарду пришлось вылезти из машины, чтобы открыть дверь гаража. Внутри было темно. Сестра Олдсмит сделала мне укол, чтобы умерить бешеное сердцебиение. Свет был какой-то странный — он падал на мамино стеганое одеяло в моих ногах, отражался в глазах Джастина игрой воды в реке Купер и просачивался сквозь замусоленное окошко гаража, где Говард возился с замком. Мисс Сьюэлл споткнулась на лестнице, Марвин на кухне застонал и ни с того ни с сего схватился за голову, взгляд Джастина померк, потом снова прояснился — людей стало больше... Как тяжело было управлять сразу таким количеством людей! Голова у меня болела, я села на кровати, глядя на себя глазами сестры Олдсмит... Куда же подевался доктор Хартман? «Черт бы тебя побрал, Нина!» Я закрыла глаза. Все свои глаза, кроме глаз мальчика. Никаких причин для паники не было. Джастин был слишком маленьким, чтобы вести машину, даже если бы ему удалось найти ключи, но через него я могла использовать кого угодно и заставить отвезти его домой. Но я слишком устала. У меня болела голова. Калли дал задний ход, и «Кадиллак» снес ворота гаража, едва не задавив Говарда. С остатками сгнившего дерева на багажнике и на заднем стекле машина рванула вперед. «Я еду, Джастин. Волноваться не о чем. И даже если тебя заберут другие, они останутся здесь, со мной». А что, если все это лишь отвлекающий маневр? Калли уехал. Говард ползает в гараже, пытаясь подняться на ноги. Что, если в этот момент в ворота входят Нинины агенты? Переползают через ограду? Я заставила цветного парня по имени Марвин взять топор на, заднем крыльце и выйти на улицу. Он попробовал оказать мне сопротивление. Это длилось секунду, меньше секунды, но он боролся. Моя обработка оказалась слишком слабой. В нем оставалось слишком много индивидуальности. Я заставила его выйти во двор и миновать фонтан. Вокруг никого не было видно. К нему присоединилась мисс Сьюэлл, и они оба встали на страже. Я разбудила доктора Хартмана, отдыхавшего в гостиной Ходжесов, и заставила его прибежать ко мне. Сестра Олдсмит достала из шкафа винтовку и пододвинула кресло ближе к кровати. Калли был уже на улице Митингов и приближался к верфям. Говард стоял на страже на заднем дворе. Я почувствовала себя лучше. Контроль восстановлен. Это было всего лишь прежнее ощущение паники, которое умела вызывать только Нина Дрейтон. Но теперь оно прошло. Если кто-нибудь попробует угрожать Джастину, я заставлю этого человека самого себя посадить на острие пики в ограде. Я бы с радостью заставила его выцарапать собственные глаза и... Но Джастин исчез. Пока мое внимание было поглощено другим, я оставила его. Оставила стоящего спиной к реке и ограде шестилетнего мальчика, от мановения веточки которого зависел весь мир. Он исчез. Я не воспринимала ничего. Не почувствовала ни удара, ни пули, ни ножа. Может, их затмила боль Говарда? Или проблеск сознания негра? Или неловкость мисс Сьюэлл? Не знаю. Джастин исчез. Кто теперь будет расчесывать мои волосы по вечерам? Может, Нина не убила его, а только забрала? Но зачем? В отместку за то, что я спровоцировала убийство ее глупой пешки? Неужто Нина может быть настолько мелкой? Да, может. Приехавший на стоянку Калли бродил по ней до тех пор, пока на него не стали пристально посматривать. Посматривать на меня. Взятая напрокат машина по-прежнему стояла на месте пустой. Фургон же исчез. Труп цветной девицы тоже исчез. И Джастин исчез. Я положила массивные руки Калли на металлическую ограду и уставилась на реку, плескавшуюся внизу на расстоянии сорока футов. Вода была покрыта рябью. Калли заплакал. Я заплакала. Мы все заплакали. «Черт бы тебя побрал, Нина!» Поздно вечером, когда я уже полудремала под воздействием лекарств, в ворота забарабанили. Едва соображая, что я делаю, я отправила Калли, Говарда и Марвина на улицу. Когда я увидела, кто это, — я оцепенела. Это была Нинина цветная девица — лицо ее побледнело, одежда была испачкана и разорвана, глаза широко раскрыты. На руках она держала обмякшее тело Джастина. Сестра Олдсмит раздвинула шторы и выглянула сквозь ставни, чтобы предоставить мне еще один угол зрения. Цветная девица подняла свой длинный палец и указала прямо на окна моей спальни, прямо на меня. — Ты, Мелани! — прокричала она так громко, чтобы слышно было во всем Старом Городе. — Открывай ворота, Мелани, моментально! Я хочу говорить с тобой. Палец она не опускала. Казалось, прошло уже много времени. Зеленые вспышки на мониторе пульсировали с дикой скоростью. Мы все закрыли глаза и снова открыли их. Цветная девица по-прежнему стояла на месте, воздев палец, и вид ее был так же надменен и властен, как у Нины Дрейтон, когда я в последний раз расстроила ее планы. Медленно и неуверенно я заставила Калли открыть ворота и тут же отступить, пока его не коснулась тварь, посланная Ниной. Она вошла, быстрым шагом направилась к дому. Мы все расступились и отпрянули, когда она вошла в гостиную, положив тело малыша на диван. Я не знала, что предпринять. Мы ждали.Глава 24
Чарлстон Воскресенье, 10 мая 1981 г. Сол наблюдал за Натали и Джастином на стоянке и слушал их беседу. Микрофон девушка прикрепила к воротничку блузки. Компьютер вдруг издал пронзительный звук. Сол бросил взгляд на экран, еще уповая на то, что это какая-то ошибка телеметрии, датчиков или блока питания на заднем сиденье, а не то, чего они оба с Натали боялись. Но одного взгляда ему было достаточно, чтобы убедиться — это не ошибка. Рисунок Тета-ритма был выявлен безошибочно, и альфа-кривая уже приобретала пики и ровные участки фазы быстрого сна. В это мгновение Сол нашел ответ на вопрос, который мучил его несколько месяцев, и одновременно понял, что его жизнь находится в серьезной опасности. Сол выглянул из машины, увидел, что Натали движется в его направлении, схватил капсульное ружье и выкатился вон, стараясь держаться так, чтобы между ним, Натали и мальчиком находились другие машины. «Нет, это не Натали», — подумал он, останавливаясь за последней машиной на стоянке, футах в двадцати пяти от фургона. Почему старуха решила использовать Натали именно сейчас? Сол гадал: не виноват ли в этом он сам? Нельзя было так нерасчетливо и явно ехать следом за ними. Но у него не было другого выбора — микрофон и радиопередатчик, встроенный в пояс приборов Натали, имели радиус действия менее полумили, а машин было мало. Да, они перестали чувствовать себя в опасности после достигнутых успехов на прошлой неделе и поездки на остров накануне. Сол тихо выругался и присел на корточки за белым «Фордом» — Натали уже подходила к фургону. Мальчик шел шагах в пятнадцати следом, держа в руках веточку, поднятую с травы. В это мгновение Сол ощутил непреодолимое желание убить этого ребенка, выпустить всю обойму в это худенькое тельце и изгнать из него бесов силой смерти. Сол сделал глубокий вдох. Он читал курс лекций в Колумбии и других университетах о специфической извращенной тенденции насилия в современном мире. Что откровенно использовали писатели и особенно Голливуд — в «Экзорсисте», «Предзнаменовании» и бесчисленном количестве версий, восходящих к «Ребенку Розмари». Сол считал, что изобилие одержимых бесами детей — это симптом глубинных подсознательных страхов и ненавистей; оно свидетельствует о неспособности взрослых взять на себя ответственность. Родители не хотят забывать собственное нескончаемое детство и нести на себе груз вины за развод. Ребенок же воспринимается ими не как ребенок, но как взрослое злобное существо, заслуживающее любых оскорблений эгоистичными поступками взрослых. В этом выражается раздражение общества, культура которого в течение двух десятилетий определялась юношеским мировоззрением, подростковыми вкусами в музыке, кинопродукции и телевизионных постановках, подкармливавших идею о том, что взрослый ребенок неизмеримо мудрее, спокойнее и разумнее, чем великовозрастное инфантильное существо. Поэтому Сол учил, что страх перед детьми и ненависть к детям, проявляющиеся в популярных шоу и книгах, уходят своими корнями в глубокие подсознательные слои общего чувства вины, опасений и возрастной зависти. Он предупреждал, что захватившая нацию волна пренебрежения к детям и насилия над ними уже имела исторические прецеденты и что процесс этот будет развиваться своим чередом. Однако необходимо сделать все возможное, чтобы уничтожить этот вид насилия, пока он не захлестнул всю Америку. Присев на корточки, Сол вгляделся через стекло заднего обзора в отвратительную маленькую тварь, которая когда-то была Джастином Варденом, и решил, что не станет убивать его, по крайней мере пока. Кроме того, убийство шестилетнего ребенка в воскресный полдень на стоянке было чревато нежелательными последствиями для их анонимного пребывания в Чарлстоне. Натали обошла фургон и, повернувшись спиной к Солу, заглянула внутрь, слегка склонившись к заднему сиденью. Мальчик в это время посмотрел на людей, сидящих за соседним столиком. Сол поднялся, положил капсульное ружье на крышу машины, выстрелил и снова исчез из виду. В течение нескольких секунд он был уверен, что промахнулся, что расстояние было слишком большим для крохотной капсулы, движущейся под воздействием газа, но в последнее мгновение перед падением Натали он успел заметить красное оперение капсулы на ее блузке. Первым его порывом было броситься к ней, чтобы удостовериться, что ни введенное вещество, ни падение на асфальт не причинили ей вреда, но в этот момент Джастин повернулся в его сторону, и Сол снова скрылся за «Фордом», судорожно копаясь в коробочке с капсулами и выбирая следующую, чтобы перезарядить ружье. Перед лицом Сола остановились обнаженные ножки. Он поднял голову и увидел мальчика лет восьми-девяти с синим мячом в руках. Широко раскрыв глаза, тот смотрел на Сола и его духовое ружье. — Эй, мистер! — окликнул он Сола. — Вы собираетесь кого-то убивать? — уходи, — прошипел Сол. — Вы легавый, да? — с заинтересованным видом осведомился мальчик. Сол покачал головой. — А это «узи» или что? — спросил мальчик, пряча мяч под мышку. — Вроде похоже на «узи» с глушителем. — Проваливай, — прошептал Сол, пользуясь любимым выражением английских солдат в оккупированной Палестине, когда их окружали уличные оборванцы. Мальчик пожал плечами и убежал. Сол поднял голову и увидел, что Джастин тоже убегает, размахивая своей палочкой. Решение созрело мгновенно. Сол встал и быстрым шагом направился к месту для пикников. Он видел темно-коричневую ткань юбки Натали, распластавшейся на земле. Он шел быстрым шагом, следя, чтобы постоянно находиться под прикрытием деревьев. Похоже, еще никто на стоянке не заметил Натали. С ревом и грохотом подъехали и затормозили два мотоциклиста. Сол ускорил шаг и еще футов на сорок сократил расстояние между собой и Джастином, который стоял, прислонившись спиной к ограждению набережной. Взгляд мальчика был рассредоточен и неподвижен, рот открыт, по подбородку тоненькой струйкой стекала слюна. Сол прислонился к дереву, глубоко вздохнул и проверил заряд СО. — Эй, — окликнул его стоявший неподалеку мужчина в сером летнем костюме фирмы «Братья Брукс», — какое симпатичное у вас ружье! Для его ношения нужна лицензия? — Нет. — Сол покачал головой и выглянул из-за стола, чтобы убедиться, что Джастин продолжает стоять на месте. Мальчик был от него футах в пятидесяти-шестидесяти — слишком далеко. — Симпатичное, — повторил молодой человек в сером костюме. — Стреляет двадцать вторым калибром? Или чем? — А где они продаются, приятель? — подхватил разговор усатый молодой блондин в синем летнем костюме. — Простите, — отмахнулся от них Сол, обошел дерево и, не скрываясь, направился к набережной. Джастин стоял не шелохнувшись. Неподвижный взгляд мальчика был устремлен в какую-то точку над крышами машин, стоявших на стоянке. Сол продолжал идти вдоль набережной к застывшей фигуре шестилетнего ребенка, держа ружье за спиной. Когда их разделяло двадцать шагов, Сол остановился. Джастин продолжал стоять неподвижно. Ощущая себя котом, охотящимся на игрушечную мышь, Сол сделал еще шагов пятнадцать, достал ружье и выстрелил в обнаженную ногу мальчика капсулой с синим оперением. Когда Джастин начал падать вперед, Сол даже успел подхватить его на руки. Казалось, происшедшего никто вокруг не заметил. Сол справился с искушением бегом пересечь стоянку и продолжал двигаться быстрым шагом. У обмякшего тела Натали на тротуаре стояли два длинноволосых мотоциклиста. Они не двигались и не предпринимали попыток помочь ей — просто смотрели. — Извините, — пробормотал Сол, пробираясь между ними. Переступив через Натали, он открыл заднюю дверцу фургона и осторожно усадил Джастина рядом с блоком питания и радиопередатчиком. — Эй, парень! — окликнул его тот что был потолще. — Она мертва или что? — Нет-нет, — натянуто засмеялся Сол и, кряхтя, поднял тело Натали на переднее сиденье, заталкивая его как можно глубже. Сапог свалился у нее с ноги и с легким шлепком упал на землю. Сол поднял его и улыбнулся мотоциклистам. — Я — врач. У нее просто бывают небольшие припадки, вызываемые сердечно-легочными отеками. — Он снова залез в фургон и, не переставая улыбаться, положил на сиденье капсульное ружье. — И у мальчика то же самое. Наследственное. — Сол включил зажигание и дал задний ход, почти ожидая, что вот-вот будет перехвачен машиной, набитой пешками Мелани Фуллер. Но он благополучно выехал на улицу, а ее машина так и не появилась. Сол кружил по городу, пока не убедился, что их никто не преследует, и только после этого вернулся в мотель. Их павильон был практически не виден со стороны дороги, тем не менее он сначала убедился, что машины отсутствуют, прежде чем внести Натали, а потом мальчика внутрь. Датчики энцефалографа Натали по-прежнему были спрятаны в ее волосах и функционировали. Микрофон и телеметрическая аппаратура также работали. Сол помедлил, потом отключил компьютер и тоже занес его в дом. Тета-ритм отсутствовал, не наблюдались и всплески фазы гипноза. Энцефалограмма свидетельствовала о глубоком медикаментозном сне. Перенеся все оборудование, Сол поудобнее устроил Натали и мальчика и проверил функции их жизненно важных органов. Включив второй набор телеметрических датчиков, закрепил электроды на голове Джастина и набрал шифр программы, которая должна была показывать на экране компьютера обе энцефалограммы сразу. Энцефалограмма Натали продолжала свидетельствовать о нормальном глубоком сне. Энцефалограмма же мальчика представляла собой классическую прямую клинической смерти мозга. Сол сосчитал его пульс, выслушал сердце, проверил реакцию сетчатки глаз, измерил кровяное давление, произвел звуковую, болевую и обонятельную стимуляции, однако компьютер продолжал указывать на отсутствие какой-либо высшей нервной деятельности. Переведя компьютер в режим работы одиночного дисплея, Сол добавил электролитной пасты и подключил новые электроды, но картина осталась прежней. Шестилетнего Джастина Вардена, с правовой точки зрения, можно было считать мертвым — мозг его бездействовал, если не считать примитивных стволовых функций, поддерживавших сердцебиение, работу почек и легких, перегонявших кислород по бессознательной плоти. Сол обхватил голову руками и долго сидел так. Было от чего прийти в отчаяние.* * *
— Что мы будем делать? — спросила Натали. Она пила вторую чашку кофе. Вследствие воздействия транквилизатора она пробыла без сознания чуть меньше часа и еще минут пятнадцать ей понадобилось на то, чтобы начать мыслить отчетливо. — Думаю, будем держать его под воздействием седативных средств, — ответил Сол. — Если мы дадим ему выйти из состояния глубокого сна, Мелани Фуллер может восстановить свой контроль над ним. Маленький мальчик, которого звали Джастин Варден, с его воспоминаниями, привязанностями, опасениями и всем тем, что составляет человеческую личность, исчез навсегда. — Ты в этом уверен? Сол вздохнул, поставил чашку и добавил в кофе немного виски. — Нет, — признался он, — без более совершенной аппаратуры, сложных исследований и наблюдения при разных обстоятельствах утверждать это невозможно. Но даже имея те данные, которыми я располагаю, я бы сказал, что все говорит о том, что он никогда не вернется к нормальному человеческому сознанию и с еще меньшей вероятностью когда-либо сможет восстановить память и личностные свойства. — Сол сделал большой глоток. — Значит, все эти мечты об освобождении их?.. — начала Натали глухим голосом. — Да, — Сол со злостью стукнул пустой чашкой. — Когда размышляешь об этом, все кажется реальным, но чем больше усилий прикладывает старуха для их обработки, тем меньше шансов остается на сохранение их личности. Возможно, что взрослые еще продолжают сохранять остатки своих индивидуальных особенностей... личностей. Какой смысл был бы похищать медицинский персонал, если бы он лишился своих прежних навыков? Но даже в их случае массированный мозговой контроль... этот мозговой вампиризм должен с течением времени уничтожать их первоначальную личность. Это как болезнь, рак мозга, который постоянно разрастается и злокачественные клетки уничтожают доброкачественные. У Натали от боли разламывалась голова. — А может такое быть, что одни из ее... людей... контролируются в большей степени, чем другие? Что среди них есть более и менее зараженные? Сол вздохнул. — Возможно ли? Думаю, да. Но думаю, если они обработаны ею в достаточной мере, чтобы вызывать у нее доверие, их личности и функции высшей нервной деятельности достаточно серьезно повреждены. — Но тебя ведь использовал оберет, — без всякой эмоциональной окраски заметила Натали. — И меня дважды использовал Хэрод и по меньшей мере столько же — эта старая ведьма. — Ну и что? — Сол снял очки и потер переносицу. — Ну, они причинили нам вред? В данный момент в нас тоже разрастаются раковые клетки? Мы изменились, Сол? Да? — Не знаю. — Сол сидел неподвижно, пока Натали не отвела взгляд. — Прости, — промолвила она. — Просто это так... ужасно... когда эта скользкая старуха проникает в твое сознание. Я никогда еще не ощущала себя такой беспомощной... Наверное, это хуже, чем быть изнасилованной. По крайней мере, когда совершают насилие над твоим телом, сознание ведь продолжает тебе принадлежать. И хуже всего то... хуже всего то... что после пары раз... начинаешь... — и Натали умолкла, не в силах продолжать далее. — Я знаю. — Сол нежно взял ее руку. — Какая-то часть тебя даже начинает желать этого. Это как жуткий наркотик со страшными болевыми побочными эффектами. Но к нему тоже привыкаешь. Его даже хочется. Я это знаю. Испытал. — Ты никогда не говорил о... — Об этом не очень-то хочется говорить. Натали вздрогнула. — Но это не та раковая опухоль, которую мы обсуждали, — заметил Сол. — Я почти уверен, что привыкание происходит лишь при интенсивной обработке, которую эти твари проводят с немногими избранными. И вот это-то подводит нас к другой нравственной дилемме. — Какой? — Если мы будем следовать нашему плану, нам потребуется несколько недель на то, чтобы обработать по меньшей мере одного невинного человека, а то и больше. — Это разные вещи... это будет временно, для конкретного дела. — Для нашего конкретного дела это будет временным, — согласился Сол. — Но, как мы теперь знаем, последствия могут сказываться всю жизнь. — Черт побери! — выпалила Натали. — Какая разница? Это наш план. У тебя есть другой? — Нет. — Значит, мы будем продолжать. Мы будем продолжать даже ценой своей души и сознания. Мы будем продолжать, даже если придется пострадать невинным людям. Мы будем продолжать, потому что мы обязаны это делать, потому что это наш долг перед погибшими близкими. Наши семьи, люди, которых мы любили, заплатили слишком дорогую цену, и теперь мы... заставим расплатиться их убийц... О какой справедливости можно говорить, если мы остановимся сейчас? И неважно, во что нам это обойдется. — Конечно же, ты права, — печально заметил Сол. — Но именно эта логика заставляет разъяренного палестинца устанавливать бомбу в автобус, а баскского сепаратиста — стрелять по толпе. У них нет выбора. Чем же тогда они отличаются от немецких солдат, выполнявших приказы? Действовавших в соответствии с императивом, не неся никакой личной ответственности? Цель оправдывает средства, да? — Нет. — Натали покачала головой. — Но сейчас я слишком раздражена, чтобы меня волновали все эти этические тонкости. Я просто хочу знать, что надо делать, и идти делать это. Сол встал. — Эрик Хоффер утверждал, что для фрустрированных, раздраженных людей свобода от ответственности оказывается более привлекательной, чем свобода от ограничений. Натали энергично затрясла головой, и вместе с нею задрожали тонкие черные проволочки датчиков энцефалографа, уходящие под воротник ее блузки. — Я не стремлюсь к свободе от ответственности, — твердо сказала она. — Я беру ответственность на себя, но сейчас я хочу понять, надо ли возвращать мальчика этой старой гадине — Мелани Фуллер? На лице Сола появилось выражение изумления. — Возвращать его? А как мы можем это сделать? Он... — Его мозг мертв, — перебила Натали. — Она уже убила его. Точно так же, как его сестер. А мне он может пригодиться, когда я пойду к ней сегодня вечером. — Ты не можешь идти туда сегодня. — Сол посмотрел на нее так, будто видел ее впервые. — Прошло слишком мало времени, ее состояние нестабильно... — Именно поэтому я и должна идти, — решительно заявила Натали. — Пока она колеблется и находится в нерешительности. Половина винтиков у старухи разболталась, но она отнюдь не глупа, Сол. Мы должны удостовериться в том, что убедили ее. И мы больше не можем говорить экивоками. Я должна прекратить ходить вокруг да около. Я должна стать... Ниной Дрейтон для этого старого чудовища. Сол покачал головой. — Мы работаем, основываясь на весьма шатких предположениях, исходя из имеющихся у нас скудных сведений. — Но ничего другого у нас и не будет! И придется действовать на их основании. Мы решились, а значит, нечего ограничиваться полумерами. Нам надо с тобой начать разговаривать и говорить до тех пор, пока не удастся нащупать то, что могла знать только Нина Дрейтон, то, чем я смогу изумить Мелани Фуллер. — Досье Визенталя. — Сол с отсутствующим видом потер лоб. — Нет, — ответила Натали, — нужно что-то более мощное, что-нибудь из твоих разговоров с Ниной Дрейтон, когда она приходила к тебе в Нью-Йорке. Она играла с тобой, но ты все равно выполнял роль психотерапевта, а в таких случаях люди раскрываются больше, чем подозревают. Сол сложил пальцы домиком и уставился в пустоту. — Да, кое-что было. Но ты страшно рискуешь. — И он устремил на Натали свой печальный взгляд. — Чтобы перейти к следующей фазе нашего плана, где придется рисковать так, что мне даже страшно подумать об этом, давай сейчас займемся этим, — промолвила она. Они проговорили пять часов, вновь и вновь обсуждая подробности, к которым они уже обращались бесчисленное количество раз, но которые теперь должны были выглядеть отточенными до совершенства, как меч перед битвой. К восьми вечера они закончили, однако Сол предложил подождать еще несколько часов. — Ты думаешь, она спит? — спросила Натали. — Возможно, и нет, но даже злодеи подвержены воздействию токсинов усталости. Если не она, так ее пешки. К тому же мы имеем дело с поистине параноидальной личностью и вторгаемся в ее пространство, на ее территорию, а существуют все доказательства того, что эти мозговые вампиры являются такими же собственниками, как и их примитивные предшественники, с которыми их роднит упрощенная функция гипоталамуса. Да, в таком случае ночное вторжение может оказаться наиболее эффективным. Гестапо ввело ночные «визиты» в свою обычную тактику. Натали посмотрела целую стопку листов, на которых делала записи. — Значит, мы имеем дело с паранойей? Предположим, она следует классической симптоматике параноидального шизофреника. — Не совсем так, — ответил Сол. — Не надо забывать, что здесь мы имеем дело с нулевым уровнем Колберга. В целом ряде сфер Мелани Фуллер не вышла из инфантильной стадии развития. Ее парапсихологическая способность является для нее проклятьем — она не дает ей возможности выйти за пределы желания и ожидания его мгновенного удовлетворения. Для них неприемлемо все, что препятствует их воле, отсюда неизбежная паранойя и страсть к насилию. Возможно, Тони Хэрод из всех них является наиболее продвинутой личностью — вероятно, его психические способности стали развиваться позднее и при менее благоприятных условиях. Поэтому он пользуется своими ограниченными способностями лишь с целью удовлетворения эротических фантазий ранней юности. Если мы сравним это с инфантильным эго Мелани Фуллер и проанализируем развитую стадию ее паранойи, мы получим целый винегрет из девической ревности и скрытых гомосексуальных влечений, сопутствовавших ее долгому соперничеству с Ниной. — Отлично! — воскликнула Натали. — С эволюционной точки зрения, они супермены, с точки зрения психологического развития — умственно отсталые. Если же подходить к ним с нравственными мерками, они просто нелюди. — Нет, — улыбнулся Сол, — их просто не существует. Они долго сидели в тишине. Осциллограф на экране компьютера вычерчивал резкие пики и провалы мечущихся мыслей Натали. Сол наконец встряхнулся. — Я решил проблему запуска постгипнотического механизма. Натали выпрямилась. — Как тебе удалось, Сол? — Моя ошибка заключалась в том, что я пытался вызвать реакцию в ответ на запуск Тета-ритма или искусственно продуцируемых пиков альфа-ритма. Первое мне не удавалось, второе представлялось недостаточно достоверным, а механизмом запуска должна быть фаза быстрого сна. — А разве в состоянии бодрствования ты сможешь ее воспроизвести? — поинтересовалась Натали. — Возможно, — ответил Сол, — хотя я и не уверен. Вместо этого я могу включить промежуточный стимул, что-то вроде тихого колокольчика, и использовать естественную фазу быстрого сна для запуска постгипнотического механизма. — Сны, — догадалась Натали. — А у тебя хватит времени ? — Почти месяц. Если мы можем заставить Мелани обработать необходимых нам людей, то уж как-нибудь я заставлю собственный мозг заняться обработкой своего сознания. — Но ты только представь себе эти сны, которые тебе придется смотреть, — промолвила Натали. — Умирающие люди... безнадежность лагерей смерти... Сол слабо улыбнулся. — Мне и так это снится.* * *
Вскоре после полуночи Сол отвез Натали в Старый Город и остановил машину, не доезжая полквартала до дома Фуллер. Оборудования в фургоне не было. На Натали тоже — ни микрофонов, ни датчиков. Проезжая часть и тротуар были пусты. Натали вытащила с заднего сиденья находящегося в коме Джастина, нежно откинула назад локон, упавший на его лоб, и сказала Солу через открытое окошко: — Если я не вернусь, дальше действуй по плану. Сол головой указал на заднее сидение, где в отдельных пакетах лежали оставшиеся двадцать фунтов пластиковой взрывчатки Си-4. — Если ты не вернешься, я проникну внутрь, чтобы вытащить тебя. А если она причинит тебе зло, я убью их всех и дальше буду действовать по плану. — О'кей, — помедлив, ответила Натали, затем повернулась и, держа Джастина на руках, направилась к дому, в котором, как всегда, лишь одно окно на втором этаже светилось зеленоватым сиянием. Натали положила мальчика на старинный диван. В доме стоял затхлый запах пыли и плесени. Вокруг мальчика собралась вся «семья» Мелани Фуллер, напоминавшая сборище амбулаторных трупов: умственно отсталый великан, которого старуха называла Калли; мужчина пониже и потемнее, который, хотя и был отцом Джастина, но даже не взглянул на мальчика; две женщины в грязных сестринских униформах. Лицо одной из них было покрыто густым слоем небрежно наложенной косметики, так что она напоминала слепую клоунессу. И еще одна женщина в разорванной полосатой блузке и не правильно застегнутой набивной юбке. Гостиная была освещена единственной шипящей свечой, которую внес Марвин. В правой руке бывший главарь банды держал нож. Но Натали Престон это не заботило. Кровь ее была полна адреналина, сердце колотилось с бешеной скоростью, она ощущала себя другим человеком, индивидуальность которого она впитывала в течение последних недель и месяцев, и рвалась в бой. Все-таки это было лучше, чем постоянное ожидание, страх и бегство. — Мелани, — проговорила она, старательно подражая тягучей интонации южной красотки, — вот твоя игрушка. И не вздумай еще когда-нибудь сделать это. Огромная туша под названием Калли подалась вперед и уставилась на Джастина. — Он мертв? — "Он мертв?" — передразнила Натали. — Нет, мой дорогой, он жив. А мог бы быть мертв, как и ты. О чем ты вообще думаешь? Калли пробормотал что-то, будто сомневался, действительно ли цветная девица — посланница Нины. Натали рассмеялась. — Тебя смущает то, что я использую эту чернокожую? Или ты ревнуешь? Насколько я помню, Баррет Крамер тебя тоже не очень-то привлекала. А кто из моих помощников тебе вообще нравился, моя дорогая? — Докажи, что это ты! — раскрыла рот сестра с клоунской косметикой. Натали резко развернулась на каблуках. — Пошла ты к черту, Мелани! — закричала она. Сестра отступила на шаг. — Выбери, через кого ты будешь говорить, и хватит прыгать. Я устала от всего этого. Похоже, ты окончательно забыла, что такое гостеприимство. Если ты попытаешься еще раз овладеть моей посланницей, я убью кого бы ты там ни послала, а потом явлюсь за тобой. Мои силы неизмеримо возросли с тех пор, как ты убила меня, моя дорогая. Ты никогда не могла сравниться со мной в своей Способности, а теперь можешь и не пытаться соперничать. Ты поняла? — последнее Натали выкрикнула прямо в лицо сестре, на щеке которой виднелся аккуратный след от помады. Сестра снова попятилась. Натали обернулась, обвела взглядом по очереди все восковые лица и опустилась в кресло, стоявшее рядом с чайным столиком. — Мелани, Мелани, почему все должно быть так? Я простила тебя, дорогая, за то, что ты убила меня. Знаешь ли ты, как больно умирать? Можешь ли ты себе представить, как тяжело сосредоточиться с этим куском свинца, который ты запустила мне в мозг из своего идиотского древнего револьвера? уж если я тебе это прощаю, как ты можешь быть настолько глупой, чтобы из-за старых счетов подвергать опасности Вилли, себя и всех нас? Забудем прошлое, моя милая, или — клянусь Господом — я сожгу дотла твою крысоловку и продолжу Игру без тебя. Не считая Джастина, в комнате было пятеро человек. Натали догадывалась, что наверху со старухой может быть кто-то еще, не говоря уж о людях в доме Ходжесов. Когда Натали умолкла, все пятеро явственно подались назад. Марвин наткнулся на высокий деревянный буфет с хрустальными витражами, на полках зазвенели тарелки и изящные статуэтки. Натали встала, сделала три шага и заглянула в глаза сестры-клоунессы. — Мелани, — промолвила она, — посмотри на меня. — Это звучало как приказ. — Ты узнаешь меня? Измазанные губы сестры зашевелились. — Я... я... мне... трудно... Натали неторопливо кивнула. — После всех этих лет тебе все еще трудно узнать меня? Неужто ты настолько поглощена собой, Мелани, что не понимаешь — узнай кто-нибудь другой про тебя... про нас.... он не преминул бы уничтожить тебя как потенциальную опасность? — Вилли... — выдавила из себя сестра-клоунесса. — Ах, Вилли! — откликнулась Натали. — Наш дорогой друг Вильгельм. Неужто ты думаешь, у Вилли хватит ума на это, Мелани? Или изощренности? Или ты думаешь, он поступил бы с тобой так же, как с тем художником в отеле «Империал» в Вене? Сестра затрясла головой. С ресниц ее потекла тушь; тени на веки были наложены так густо, что в свете свечи это придавало ее лицу вид черепа. Натали склонилась еще ближе и зашептала в ее нарумяненную щеку: — Мелани, если я убила своего собственного отца, неужто ты думаешь, что-нибудь помешает мне убить тебя, если ты еще раз встанешь на моем пути? Казалось, время в темном доме остановилось. Натали словно стояла в окружении небрежно одетых, сломанных манекенов. Сестра-клоунесса моргнула, и накладные ресницы, отклеившись, повисли на веках. — Нина, ты никогда не говорила мне, что... Натали сделала шаг назад и с изумлением ощутила, что ее собственные щеки мокры от слез. — Я никогда никому не говорила, — прошептала она, понимая, что рискует жизнью, если Нина Дрейтон все же рассказала своей подружке Мелани о том же, что доверила доктору Солу Ласки. — Я разозлилась на него. Он ждал троллейбуса. И я толкнула... — Она подняла глаза и посмотрела на ничего не выражавшее лицо сестры. — Мелани, я хочу видеть тебя. Разрисованное лицо задвигалось. — Это невозможно, Нина, мне не по себе. Я... — Нет, возможно! — рявкнула Натали. — Если мы собираемся продолжать это дело вместе... если мы хотим восстановить доверие между нами... я должна убедиться в том, что ты здесь, живая. Все присутствующие, кроме Натали и мальчика, продолжавшего лежать без сознания, в унисон закачали головами. — Нет, невозможно... мне не по себе... — произнесли одновременно пять уст. — До свидания, Мелани. — Натали повернулась к выходу. Сестра догнала и схватила ее за руку, прежде чем она достигла двора. — Нина... дорогая... пожалуйста, не уходи. Мне здесь так одиноко. Здесь совсем не с кем поиграть. Натали замерла, чувствуя мурашки на коже. — Хорошо, — произнесла сестра с лицом, напоминающим череп, — вот сюда. Но сначала... никакого оружия... ничего. — Калли подошел ближе и начал обыскивать Натали, сжимая своими огромными лапами ее груди, скользя вдоль ног, тыкая пальцами повсюду. Натали не смотрела на него. Она сжала зубы, чтобы сдержать рвавшийся из нее истерический вопль. — Пойдем, — наконец промолвила сестра, и целая процессия, во главе с Калли, вышла из гостиной в прихожую, из прихожей к широкой лестнице на площадку, где по стенам при их приближении заметались огромные тени, и наконец к темному, как подземный ход, коридору. Дверь в спальню Мелани Фуллер была закрыта. Натали вспомнила, как входила в эту комнату полгода назад с отцовским револьвером в кармане пальто, потом услышала слабый шорох в шкафу и обнаружила в нем Сола Ласки. Тогда никаких чудовищ здесь не было. Дверь открыл доктор Хартман. Внезапный сквозняк задул свечу в руках Капли, оставив лишь слабое зеленоватое мерцание медицинских мониторов с обеих сторон высокой кровати. Из-под балдахина свисали тонкие кружевные занавеси, похожие на марлю, отчего кровать напоминала гнездо черного паука-крестовика. Натали вошла в комнату, сделала три шага и была остановлена быстрым движением черной от сажи руки доктора. Она уже и так была достаточно близко. То, что лежало в кровати, когда-то было женщиной. Волосы на голове практически выпали, а оставшиеся были тщательно расчесаны и разложены на огромной подушке, напоминая ореол ядовито-синих язычков пламени. Левая сторона лица, покрытого пигментными пятнами и изрезанного глубокими морщинами, обвисла, как посмертная восковая маска, поднесенная слишком близко к огню. Беззубый рот открывался и закрывался, как пасть столетней черепахи. Взгляд правого глаза бесцельно и беспокойно метался, то устремляясь к потолку, то закатываясь еще дальше, так что видимым оставался лишь белок, глазное же яблоко проваливалось в череп, а потом медленно затягивалось вялым лоскутом коричневого пергаментного века. Это лицо за серым кружевом медленно повернулось в сторону Натали, и черепаший рот что-то слюняво прошамкал. — Я молодею, не правда ли, Нина? — прошептала сестра-клоунесса за спиной Натали. — Да, — сказала Натали. — Скоро я стану такой же молодой, как до войны, когда мы ездили к Симплсу. Помнишь, Нина? — Симплс, — повторила Натали. — Да. В Вене. Доктор оттеснил всех назад и закрыл дверь. Вес пятеро оказались на лестничной площадке. Калли внезапно протянул руку и осторожно взял маленькую кисть Натали в свою огромную лапу. — Нина, дорогая, — произнес он девичьим, чуть ли не кокетливым фальцетом. — Все, что ты захочешь, будет сделано. Скажи мне, что надо делать. Натали покосилась на свою руку в лапах Калли и слегка пожала его ладонь. — Завтра, Мелани, я заеду за тобой, чтобы отправиться еще на одну прогулку. Утром Джастин проснется здоровым, если ты захочешь использовать его. — А куда мы поедем, Нина, дорогая? — Нужно готовиться, — ответила Натали и в последний раз пожала заскорузлую ладонь великана. Она заставила себя спуститься как можно медленнее по казавшейся бесконечной лестнице. Марвин с длинным ножом в руке стоял в коридоре, — в глазах его не отразилось ничего, когда он открыл ей дверь. Натали остановилась, собрала последние остатки сил и посмотрела вверх на безумное сборище, столпившееся в темноте на лестнице. — До завтра, Мелани, — улыбнулась она. — Больше не разочаровывай меня, — Нет, — хором ответила пятерка. — Спокойной ночи, Нина. Девушка повернулась и вышла из дома. Она позволила Марвину отпереть ворота и, не оглядываясь, двинулась по улице, не остановившись даже возле фурюна, в котором ждал ее Сол, — она шла вперед, делая все более глубокие вдохи и лишь усилием воли не давая им превратиться во всхлипы.Глава 25
Остров Долменн Суббота, 13 июня 1981 г. К концу недели Тони Хэрода уже тошнило от общения с власть предержащими богачами. Он пришел к выводу, что власть и деньги явно ведут людей к идиотизму. Они с Марией Чен прибыли частным самолетом в Меридиан, штат Джорджия (самый душный круг ада, в котором когда-либо приходилось бывать Хэроду), вечером в воскресенье, только для того чтобы им сообщили, что другой частный самолет доставит их на остров. Если они, конечно, не хотят воспользоваться катером. Хэроду не надо было долго думать, чтобы сделать выбор. Поездка на катере по бурному морю заняла почти час, но даже свешиваясь через борт в ожидании, когда желудок опорожнится от водки с тоником и подававшихся в самолете закусок, Хэрод не сожалел, что предпочел эти прыжки с гребня на гребень восьмиминутному перелету. Хэрод никогда не видел ничего более впечатляющего, чем яхта Барента. Высотой в три этажа, с внутренними стенами, отделанными кипарисом, величественные кают-компании и салоны своим великолепием и цветными витражами, окрашивавшими воду во все цвета радуги, напоминали соборы — пожалуй, он никогда не встречал подобной причудливой изысканности. Женщин во время недели летнего лагеря на остров Долменн не допускали. Хэрод знал это, но по-прежнему мучился при мысли о том, что через пятнадцать минут ему придется оставить Марию Чен на яхте, на этом сияющем белоснежном судне длиной с футбольное поле, с белыми куполами радаров и прочим немыслимым оборудованием. В который раз Хэрод приходил к мысли о том, что К. Арнольду Баренту нравится быть в гуще событий. На корме высился вертолет, выглядевший так, словно он был пришельцем из XXI века, — лопасти его не вращались, но и не были закреплены. По первому зову хозяина вертолет готов был сорваться с места и лететь на остров. Повсюду виднелось множество лодок и кораблей: обтекаемые катера с охраной, вооруженной М-16, громоздкие катера с радарами и вращающимися антеннами, разнообразные частные яхты в окружении сторожевых судов из полудюжины разных стран мира, а на расстоянии мили — даже миноносец. Зрелище было захватывающим: серое гладкое акулье тело, разрезая воду, неслось на огромной скорости, хлопали флаги, вращались тарелки радаров, что вызывало ощущение голодной гончей, гнавшейся за беспомощным зайцем. — А это еще что за чертовщина? — прокричал Хэрод, обращаясь к рулевому их катера. Рулевой в полосатой рубашке осклабился, обнажив зубы, белизну которых подчеркивал его загар. — А это «Ричард С. Эдварде», сэр, — ответил он. — Первоклассный эскадренный миноносец. Он каждый год находится здесь в пикете во время летнего лагеря фонда Западного Наследия, отдавая честь зарубежным гостям и отечественным высокопоставленным лицам. — Одно и то же судно? — переспросил Хэрод. — Один и тот же корабль, да, сэр, — ответил рулевой. — Официально он каждое лето проводит здесь свои маневры. Миноносец прошел на таком расстоянии, что Хэрод различил выведенные белым цифры 950. — А что это там за ящик сзади? — осведомился Хэрод. — Рядом с кормовой пушкой или что это там у них? — Противолодочное оружие, сэр. — Рулевой развернул катер к пристани, — пятидюймовки 42 образца и пара трехдюймовок 33-го. — Ах, вот оно что, — Хэрод крепко прижался к поручню — брызги от волн на его бледном лице смешивались с потом. — Мы уже почти добрались? Карт для гольфа, снабженный дополнительным двигателем, которым управлял шофер в голубом блейзере и серых брюках, доставил Хэрода к особняку. Дубовая аллея впечатляла. Все пространство между мощными вековыми стволами было покрыто блестящей, коротко подстриженной травой, напоминавшей мраморный пол. Огромные сучья переплетались в сотнях футов над головой, образуя подвижный лиственный шатер, сквозь который проглядывало вечернее небо и облака, создававшие изумительный пастельный фон. Пока карт бесшумно скользил по длинному тоннелю из деревьев, которые были старше Соединенных Штатов Америки, фотоэлементы, уловив наступление сумерек, включили тысячи японских фонариков, запрятанных в высоких ветвях, свисающем плюще и массивных корнях. Хэрод словно попал в волшебный лес, дышащий светом и музыкой, — спрятанные усилители заполнили пространство чистыми звуками классической сонаты для флейты. — Здоровые, черти, — сказал Хэрод, показав на деревья. Они преодолевали последнюю четверть мили, и впереди уже виднелись роскошные террасы сада, обрамлявшие особняк с северной стороны. — Да, сэр, — не останавливаясь, согласился водитель. К. Арнольда Барента не было, зато Хэрода встретил преподобный Джимми Уэйн Саттер с длинным фужером бурбона в руке и раскрасневшимся лицом. Евангелист двинулся навстречу Тони по огромному пустому залу, пол которого был выложен белыми и черными изразцами, что напомнило Хэроду собор в Шартре, хотя он там никогда и не бывал. — Энтони, мальчик мой, — прогудел Саттер, — добро пожаловать в летний лагерь. — Голос его отдался гулким эхом. Хэрод запрокинул голову и начал оглядываться, как турист, — необъятное пространство, обрамленное мезонинами и балконами, уходило вверх на высоту пяти этажей и заканчивалось куполом. Его подпирали изысканные резные колонны и хитро переплетающиеся блестящие опоры. Сам купол был выложен кипарисом и красным деревом, перемежавшимися цветными витражами. Сейчас он был темным и окрашивал темное дерево в глубокие кровавые тона. С массивной цепи свисала люстра довольно внушительных размеров. — Ни хрена себе! — воскликнул Хэрод. — Если это вход для прислуги, покажите мне парадную дверь. Саттер поморщился от лексики Хэрода, в то время как вошедший слуга, все в том же синем блейзере и серых брюках, подошел к затасканной сумке Хэрода и замер в позе почтительного ожидания. — Ты предпочитаешь поселиться здесь или в одном из бунгало? — осведомился Саттер. — Бунгало? — переспросил Хэрод. — Ты имеешь в виду коттеджи? — Да, — усмехнулся Саттер, — если коттеджем можно назвать домики с удобствами пятизвездочного отеля. Большинство гостей предпочитают бунгало. В конце концов это ведь летний лагерь. — Да брось ты, — сказал Хэрод. — Я хочу получить здесь самую шикарную комнату. Я уже наигрался в бойскаутов. Саттер кивнул прислуге. — Апартаменты «Бьюкенен», Максвелл. Энтони, я провожу тебя через минуту, а пока пойдем в бар. Они прошли в небольшое помещение с обитыми красным деревом стенами, и Хэрод заказал себе большой фужер водки. — Только не рассказывай мне, что это было построено в XVIII веке, — произнес он. — У ж слишком все огромное. — Первоначальный дом пастора Вандерхуфа был достаточно внушительным для своего времени, — пояснил Саттер. — Последующие владельцы несколько расширили особняк. — А где же все? — поинтересовался Хэрод. — Сейчас собираются менее значительные гости. Принцы крови, монархи, бывшие премьер-министры и нефтяные шейхи прибудут завтра в одиннадцать утра на традиционное торжественное открытие. А экс-президента мы увидим в среду. — Ну и ну. — Хэрод присвистнул. — А где Барент и Кеплер? — Джозеф присоединится к нам позже, вечером, — ответил евангелист. — А наш гостеприимный хозяин прибудет завтра. Хэрод вспомнил Марию Чен, оставшуюся на борту яхты. Кеплер еще раньше рассказывал ему, что все помощницы, секретарши, референтки, любовницы и жены скучали на борту «Антуанетты», пока господа развлекались на острове Долменн. — Барент на яхте? — спросил он у Саттера. Проповедник развел руками. — Где он, знают лишь Господь да христианские авиапилоты. Лишь в последующие двенадцать дней друг или враг может точно знать, где он находится. Хэрод фыркнул и взял в руки фужер. — Не знаю, чем это сможет помочь врагу. Ты видел этот чертов миноносец, бога его в душу мать. — Энтони, — укоризненно заметил Саттер, — я уже просил тебя не упоминать имя Господа всуе. Хэрод не унимался; — И чего они боятся? Высадки русского морского десанта? Саттер налил себе еще бурбона. — Не так уж далеко от истины, Энтони. Несколько лет назад в миле от берега начал курсировать русский траулер. Приплыл с обычной базы, с мыса Канаверал. Не мне тебе рассказывать, что, как и большинство русских траулеров у американских берегов, этот был разведывательным судном, набитым таким количеством подслушивающей аппаратуры, на какое способны только коммунисты. — И что же они могли услышать за милю от берега? — поинтересовался Хэрод. Саттер рассмеялся. — Это осталось между русскими и их антихристом. Но это встревожило наших гостей и брата Кристиана, отсюда этот сторожевой пес, которого ты видел по дороге сюда. — Сторожевой пес, — повторил Хэрод. — А в течение второй недели вся охрана тоже остается? — О нет, то, что имеет отношение к Охоте, предназначено лишь для наших глаз. Хэрод пристально посмотрел на краснощекого священника. — Джимми, как ты думаешь, Вилли появится на следующий уикэнд? Преподобный Джимми Уэйн Саттер поспешно вскинул голову, его маленькие глазки живо блеснули. — Конечно, Энтони. Я не сомневаюсь, что мистер Борден прибудет в условленное время. — А откуда ты это знаешь? Саттер покровительственно улыбнулся, поднял фужер и тихо произнес: — Об этом говорится в Откровении от Иоанна, Энтони. Все это было предсказано тысячи лет назад. Все что мы делаем давно уже начертано в коридорах времен Великим Ваятелем, который видит жилу в камне гораздо отчетливее, чем на это способны мы. — Неужто? — съязвил Хэрод. — Да, Энтони, это так, — подтвердил Саттер. — Можешь не сомневаться. Губы Хэрода дернулись в улыбке. — Кажется, я уже и не сомневаюсь, Джимми. Но боюсь, я не готов провести здесь эту неделю. — Эта неделя — ничто. — Саттер закрыл глаза и прижал холодный фужер к щеке. — Это всего лишь прелюдия, Энтони. Всего лишь прелюдия.* * *
Эта неделя так называемой прелюдии показалась Хэроду бесконечной. Он вращался среди людей, чьи фотографии всю свою жизнь видел в «Тайм» и «Ньюс уик», и выяснил, что если не считать ауры власти, исходившей от них, так же как вездесущий запах пота исходит от жокеев мирового класса, ничто человеческое было им не чуждо, они нередко ошибались и слишком часто вели себя глупо в своих судорожных попытках избежать конференций и брифингов, которые служили клетками с железными решетками для их пышного и роскошного существования. В среду вечером, 10 июня, Хэрод обнаружил, что сидит в пятом ряду амфитеатра и наблюдает, как вице-президент всемирного банка, кронпринц одной из богатейших стран — экспортеров нефти на планете, бывший президент Соединенных Штатов и бывший государственный секретарь исполняют танец дикарей, нацепив на головы метелки, вместо грудей привязав половинки кокосовых орехов и обмотав бедра пальмовыми побегами, в то время как другие наиболее влиятельные восемьдесят пять человек в Западном полушарии свистят, орут и ведут себя, как первокурсники на первой общей попойке. Хэрод смотрел на костер и думал о черновом варианте «Торговца рабынями», который остался у него в кабинете и который уже три недели назад нужно было отправить на озвучивание. Композитор ежедневно получал три тысячи долларов и ничего не делал в ожидании, когда в его распоряжение будет предоставлен оркестр в таком составе, который сможет гарантировать звучание, не уступающее записям в его предшествующих шести фильмах. Во вторник и четверг Хэрод совершил поездки на «Антуанетту», чтобы повидаться с Марией Чен, и занимался с ней любовью в шелковом безмолвии ее каюты. Перед тем как вернуться к вечерним праздничным мероприятиям, он побеседовал с ней. — Чем ты здесь занимаешься? — Читаю, — сказала Мария Чен. — Отвечаю на корреспонденцию. Иногда загораю. — Видела Барента? — Ни разу. Разве он не на острове вместе с тобой? — Да, я видел его. Он занимает все западное крыло особняка — он и очередной человек дня. Мне просто интересно, приезжает ли он сюда? — Волнуешься? — поинтересовалась Мария Чен, перекатилась на спину и откинула со щеки прядь темных волос. — Или ревнуешь? — Пошла ты к черту! — Хэрод вылез из кровати и голым направился к шкафчику со спиртными напитками. — Лучше бы он трахал тебя. Тогда по крайней мере можно было бы понять, что происходит. Мария Чен подошла к Хэроду и обхватила его руками сзади. Ее маленькие, идеальной формы груди прижались к его спине. — Тони, — промолвила она, — ты лгун. Хэрод раздраженно обернулся. Она прижалась к нему еще крепче и нежно провела рукой по его гениталиям. — Ты ведь не хочешь, чтобы я была с кем-нибудь другим. Совсем этого не хочешь. — Чушь! — огрызнулся Хэрод. — Законченная чушь. — Нет, — прошептала Мария Чен и скользнула губами по его шее. — Это любовь. Ты любишь меня, так же как я люблю тебя. — Меня никто не любит. — Хэрод собирался сказать это со смехом, но из него вырвался сдавленный шепот. — Я люблю тебя, — промолвила Мария Чен, — а ты любишь меня, Тони. Он оттолкнул ее и закричал: — Как ты можешь говорить это? — Могу, потому что это правда. — Ну зачем мы любим Друг друга? — Потому что так нам суждено, — и Мария Чен снова потянула его к мягкой широкой постели. Позднее Хэрод лежал, обняв Марию и положив ладонь на ее грудь, слушал плеск воды и другие непонятные корабельные звуки и чувствовал, что впервые за всю свою сознательную жизнь ничего не боится.* * *
Бывший президент Соединенных Штатов отбыл в субботу после полуденного пиршества на открытом воздухе, и к семи вечера остались лишь приспешники средней руки, прожорливые и тощие Кассии и Яго в обтягивающих блестящих костюмах и джинсах от Ральфа Лорена. Хэрод решил, что самое время возвращаться на материк. — Охота начинается завтра, — заметил Саттер. — Неужто ты хочешь пропустить это развлечение? — Я не хочу пропустить приезд Вилли. Барент по-прежнему уверен, что он приедет? — До захода солнца, — кивнул Саттер. — Такова была последняя договоренность. Джозеф слишком скромничал относительно того, как он связывается с мистером Борденом. Чересчур скромничал. По-моему, брата Кристиана это начало раздражать. — Это проблемы Кеплера. — Хэрод вышел на палубу катера. — Ты уверен, что надо привезти этих дополнительных суррогатов? — осведомился преподобный Саттер. — У нас их предостаточно в общем загоне. Все молодые, сильные, здоровые. Большинство — из моего центра реабилитации для беженцев. Там даже женщин хватает для тебя, Энтони. — Я хочу иметь парочку своих собственных, — ответил Хэрод. — Вернусь сегодня поздно вечером. Самое позднее — завтра. Рано утром. — Ладно, — глаза Саттера странно блеснули. — Я бы не хотел, чтобы ты что-нибудь пропустил. Возможно, этот год будет особенным. Хэрод кивнул, мотор катера заработал, и суденышко, мягко отплыв от причала, начало набирать скорость, как только оказалось за пределами волнорезов. Яхта Барента оставалась единственным крупным судном, если не считать пикетировавших остров катеров и удалявшегося миноносца. Как обычно, им навстречу выехала лодка с вооруженной охраной, которая, визуально опознав Хэрода, последовала за ними к яхте. Мария Чен с сумкой в руках уже ждала на трапе. Ночная поездка на берег оказалась гораздо спокойнее, чем предшествующее плаванье. Хэрод заранее заказал машину, и за верфью Барента его ждал небольшой «Мерседес» — любезность со стороны Фонда Западного Наследия. Хэрод свернул на шоссе 17 к Южному Нью-Порту, а последние тридцать миль до Саванны проделал по 1-95. — Почему в Саванне? — поинтересовалась Мария Чен. — Они не сказали. Парень по телефону просто объяснил мне, где остановиться — у канала на окраине города. — И ты думаешь, это был тот самый человек, который тебя похитил? — Да, — кивнул Хэрод. — Я уверен в этом. Тот же самый акцент. — Ты продолжаешь считать, что это дело рук Вилли? — спросила Мария Чен. Хэрод с минуту ехал молча. Затем тихо сказал: — Да. И я могу найти этому только одно объяснение. Барент и остальные уже имеют возможность поставлять в загон обработанных людей, если им это требуется. А Вилли нужен помощник. — И ты готов участвовать в этом? Ты по-прежнему лоялен к Вилли Бордену? — К черту лояльность! — огрызнулся Хэрод. — Барент отправил Хейнса ко мне в дом... избил тебя... просто чтобы покрепче натянуть мой поводок. Со мной еще никто так не поступал. Если у Вилли есть дальний прицел, какая разница? Пусть делает что хочет. — А это не может оказаться опасным? — Ты имеешь в виду суррогатов? — спросил Хэрод. — Не вижу, каким образом. Мы удостоверимся, что они безоружны, а когда они окажутся на острове, с ними вообще не будет никаких проблем. Даже победитель этих пятидневных олимпийских игр заканчивает свою жизнь под корнями мангровых деревьев на старом рабском кладбище где-то на острове. — Так что же Вилли пытается сделать? — спросила Мария. — Проучить меня. — Хэрод выехал на дорожную развязку. — Единственное, что мы можем, это смотреть и пытаться выжить. Да, кстати, ты захватила браунинг? Мария Чен достала из сумочки револьвер и передала его Хэроду. Ведя машину одной рукой, Хэрод снял предохранитель, проверил оружие и снова защелкнул рычаг о бедро. Затем он засунул револьвер под ремень, прикрыв его свободной гавайской рубашкой. — Ненавижу оружие, — бесцветным голосом произнесла Мария Чен. — Я тоже, — сказал Хэрод. — Но есть люди, которых я ненавижу еще больше, и один из них — этот негодяй в лыжной маске и с польским акцентом. Если он окажется тем самым суррогатом, которого Вилли хочет отправить на остров, мне придется очень постараться, чтобы не вышибить ему мозги по дороге. — Вилли это не понравится, — заметила Мария Чен. Хэрод кивнул и свернул на шоссе, идущее вдоль заросшего берега канала Саванна-Огичи к заброшенной пристани. Машина уже ждала их. Хэрод остановился, не доезжая до нее шестидесяти футов, как было условлено, и помигал фарами. Из машины вышли мужчина и женщина и медленно направились к ним. — Мне надоело думать, что понравится Вилли, Баренту или еще кому-нибудь, — сжав зубы, прорычал Хэрод. Он вышел из машины и вытащил револьвер. Мария Чен открыла сумку и достала из нее цепи и наручники. Когда мужчина и женщина были от них футах в двадцати, Хэрод наклонился к Марии Чен и осклабился. — Пусть теперь они думают, что понравится Тони Хэроду, — промолвил он, поднял револьвер и прицелился точно в голову мужчины с короткой бородкой и длинными седыми волосами. Тот остановился, посмотрел на дуло револьвера и указательным пальцем поправил очки.Глава 26
Остров Долменн Воскресенье, 14 июня 1981 г. Солу Ласки казалось, что все это уже однажды было с ним. Шел первый час ночи, когда катер пришвартовался к бетонной пристани и Тони Хэрод вывел Сола и мисс Сьюэлл на берег. Они стояли на причале, и Хэрод уже больше не вытаскивал браунинг, ведь считалось, что они — его обработанные пешки. К ним подкатили два карта для гольфа, и Хэрод сказал водителю в блейзере. — Этих двоих отвези в загон для суррогатов. Сол и мисс Сьюэлл безучастно уселись на среднее сиденье, позади встал человек с пневматической винтовкой. Сол повернул голову и посмотрел на женщину рядом с ним — лицо ее не выражало ни любопытства, ни других чувств. Косметики на ней не было, волосы зачесаны назад, дешевое набивное платье висело, как на вешалке. Они остановились у проверочного пункта на южном конце охранной зоны и покатили дальше по ничейной земле, вымощенной хрустящим ракушечником. «Интересно, — думал Сол, — что передает шестилетний бесенок Мелани Фуллер Натали, если вообще передает что-нибудь?» Бетонные сооружения за оградой охранной зоны купались в ярком свете. Только что прибыли еще десять суррогатов, и Сол с мисс Сьюэлл присоединились к ним на бетонированном дворике, размером с баскетбольную площадку. Двор был обнесен колючей проволокой. С этой стороны охранной зоны не было видно ни синих блейзеров, ни серых брюк. Повсюду стояли вооруженные автоматами парни в зеленых комбинезонах и черных нейлоновых бейсбольных кепочках. Из записей Коуэна Сол знал, что это представители личной охраны Барента, а из допросов Хэрода двумя месяцами раньше он усвоил, что все они были в той или иной мере обработаны своим хозяином. — Раздевайтесь! — скомандовал высокий человек с пистолетом на портупее. Около дюжины пленников, в основном молодые мужчины, хотя Сол заметил и двух женщин, практически еще девочек, тупо посмотрели друг на друга. Они все пребывали либо в состоянии шока, либо под воздействием наркотиков. Солу был известен этот взгляд. Он видел его, когда люди приближались ко Рву в Челмно, с таким же отрешенным видом они выходили из поездов в Собибуре. Он и мисс Сьюэлл начали раздеваться, в то время как остальные продолжали апатично стоять на своих местах. — Я сказал — раздеваться! — повторил охранник. Вперед вышел еще один с винтовкой. Он ударил прикладом ближайшего пленника — юношу лет восемнадцати-девятнадцати в очках с толстыми стеклами и не правильным прикусом. Юноша, так и не поняв, чего от него хотят, рухнул лицом на бетон. Сол отчетливо услышал хруст сломанных зубов. Пленники начали раздеваться. Мисс Сьюэлл была готова первой. Сол обратил внимание, что ее тело выглядело моложе и нежнее, чем лицо, если не считать страшного шрама после операции. Не отделяя мужчин от женщин, пленников выстроили в ряд и повели вниз по длинному бетонированному спуску. Краем глаза Сол замечал двери, которые вели в отделанные плиткой коридоры, разбегавшиеся в разные стороны от этого подземного проспекта. К дверям подходили охранники в комбинезонах, чтобы посмотреть на проходящих мимо суррогатов, а один раз всем пришлось прижаться к стенам: навстречу выехала процессия из четырех джипов, заполнивших тоннель шумом и выхлопными газами. Сол начал гадать, не прорезан ли весь остров такими подземными тоннелями. Их отвели в пустое, ярко освещенное помещение, где мужчины в белых куртках и хирургических перчатках осмотрели всем рты, задние проходы и влагалища у женщин. Одна из девушек зарыдала, но ее тут же заставили замолчать ударом приклада. Сол ощущал странное спокойствие, размышляя о том, откуда взялись эти остальные суррогаты, использовали ли их раньше, и если да, то насколько отличается его собственное поведение. После смотровой их отвели в длинный узкий коридор, который, похоже, был вырублен прямо в камне. По выкрашенным в белый цвет стенам стекала вода, вдоль стен тянулись полукружия ниш, в которых виднелись обнаженные безмолвные фигуры. Когда очередь дошла до мисс Сьюэлл, Сол понял, что надобности в камерах в человеческий рост не было, так как никто из узников не содержался здесь более недели. А потом наступила очередь Сола. Ниши располагались на разных уровнях, представляя собой ряды крестообразных трещин, забранных стальными решетками. Ниша Сола оказалась в четырех футах над землей. Он заполз внутрь. Камень был холодным, зато ниша оказалась достаточно глубокой и позволяла растянуться в полный рост. Выдолбленная канавка и вонючее отверстие подсказали Солу, где ему предстоит справлять нужду. Решетка опускалась гидравлическим способом сверху и упиралась остриями в глубокие отверстия в полу, оставляя лишь двухдюймовый просвет, куда должны были подаваться подносы с едой. Сол лег на спину и уставился в каменную поверхность потолка, находившегося в пятнадцати дюймах от его липа. Где-то дальше по коридору раздался хриплый мужской крик. Послышались шаги, звуки ударов, лязг железа, и вновь наступила тишина. Сол ощущал полное спокойствие. Он исполнял свой Долг. Каким-то странным образом он чувствовал себя сейчас гораздо ближе к своим родным — родителям, Иосифу, Стефе, чем когда бы то ни было. Чтобы не заснуть, Сол потер глаза и надел очки. Странно, что они их оставили. Он попытался вспомнить, оставляли ли очки обнаженным заключенным во Рве в Челмно. Нет, не оставляли. Он вспомнил, как работал в бригаде, собиравшей десятки тысяч очков, горы очков, — их перекладывали на грубый конвейер, другие заключенные отделяли стекла от металлических оправ, а затем сортировали оправы, выбирая из них золотые и серебряные. В рейхе ничто не пропадало даром. Лишь человеческие жизни ничего не стоили. Сол принялся щипать себя за щеки, чтобы не дать закрыться глазам. Камень был холодный, но он понимал, что уснет без всяких усилий. По-настоящему он не спал уже три недели — каждую ночь наступление фазы сна включало механизм постгипнотической суггестии, которая теперь и составляла его видения. Вот уже восемь ночей, как для запуска этого механизма он не нуждался в звуке колокольчика, фаза быстрого сна сама по себе вызывала появление видений. Были ли эти видения просто сном или он находился во власти воспоминаний? Сол уже не мог понять этого. Сон-воспоминание стал реальностью. Бесплотными видениями стали часы бодрствования, когда он готовился, планировал и обсуждал их с Натали дальнейшие действия. Поэтому он был так спокоен. Темный холодный коридор, обнаженные заключенные, камера — все это было гораздо ближе к реальности, к тем беспощадным воспоминаниям о нацистских гетто и концлагерях, чем жаркие летние дни в Чарлстоне с Натали и Джастином. Натали — и мертвецом в оболочке ребенка... Сол попробовал представить себе девушку. Он крепко сжал веки, глаза его наполнились слезами. Затем он широко раскрыл их и начал думать о Натали.* * *
Прошло два — нет, три дня с тех пор, как Натали приняла решение. — Сол! — воскликнула она, отложив карту и обернувшись к нему за маленьким столиком на кухне мотеля. — Нам незачем делать это в одиночку. Мы можем найти того, кто заинтересован в этом. Стена кухоньки за спиной Натали была усеяна мозаикой увеличенных снимков, сделанных ею на острове Долменн. Сол покачал головой — он слишком отупел от усталости, чтобы реагировать на ее энтузиазм. — А с кем? Никого нет, Натали. Все погибли. Роб, Арон, Коуэн. Микс будет вести самолет. — Нет, есть кто-то еще! — воскликнула она, ударив себя ладонью по лбу. — Я думала об этом все последние недели. Кто-то, кто имеет к этому непосредственный интерес. И я могу привезти их завтра. До субботней встречи на стоянке мне не надо навещать Мелани. И тут она ему все рассказала, а уже через восемнадцать часов он видел, как она спускается по трапу самолета из Филадельфии в окружении двух негров. Джексон выглядел старше, чем полгода тому назад, его лысеющая голова поблескивала в ярком освещении аэропорта, лицо было испещрено морщинами, что свидетельствовало об окончательном заключении негласного нейтралитета с окружающим миром. Юноша справа от Натали казался полной противоположностью Джексону: высокий, тощий, расхлябанный, с таким подвижным и выразительным лицом, что оттенки настроений перетекали на нем, словно крупинки ртути. Его высокий громкий смех эхом отдавался в коридорах, заставляя окружающих оборачиваться. Сол вспомнил, что парня этого называли Зубаткой. — Ласки, а ты уверен, что это Марвин? — спросил Джексон позднее, когда они уже ехали в Чарлстон. — Это — Марвин, — подтвердил Сол, — Но он... стал другим. — Мадам Буду здорово поработала над ним? — осведомился Зубатка. Он как раз крутил приемник, встроенный в панель управления, пытаясь найти подходящую волну. — Да, — ответил Сол, не переставая удивляться тому, что может говорить об этом еще с кем-то, кроме Натали. — Но есть шанс, что нам удастся вылечить его... спасти его. — Старик, это-то мы и собираемся сделать. — Зубатка ухмыльнулся. — Стоит сказать одно слово, и все Братство Кирпичного завода наводнит этот долбаный город, понимаешь? — Нет-нет, из этого ничего не получится, — сказал Сол. — Натали, наверное, уже объяснила вам — почему. — Она-то объяснила. Но как ты думаешь, Ласки, сколько нам еще ждать? — спросил Джексон. — Две недели, — ответил Сол. — Так или иначе, через две недели все будет закончено. — О'кей, даем вам две недели, — согласился Джексон. — А потом мы сделаем все что надо, чтобы вытащить Марвина, будете вы участвовать в этом или нет, закончите вы со своими делами или нет. — Мы закончим. — Сол посмотрел на огромного негра на заднем сиденье. — Джексон, я не знаю, это твое имя или фамилия? — Фамилия. Я отказался от имени, когда вернулся из Вьетнама. Больше оно мне не нужно. — Да и меня зовут не Зубатка, Ласки, — решил присоединиться его приятель. — Я — Кларенс Артур Теодор Варш, — и он пожал протянутую Солом руку. — Да ладно, старик, — осклабился он, — учитывая, что ты друг Натали и вообще, так и быть, зови меня просто мистер Варш.* * *
Хуже всего был последний день перед отъездом. Сол был уверен, что ничего не получится, что старуха не выполнит свою часть сделки или не сумеет осуществить необходимую обработку, на которую, как она утверждала, ей понадобится три недели, пока Джастин и Натали будут ходить на пристань и смотреть в бинокль. Или информация Коуэна окажется ошибочной, а если и верной, то за прошедшие месяцы планы могли измениться. Или Тони Хэрод не откликнется на телефонный звонок, или расскажет обо всем на острове, а если не расскажет, то убьет Сола и того, кого пошлет Мелани Фуллер, едва берег исчезнет из виду. Или же когда Сол будет на острове, Мелани Фуллер набросится на Натали и покончит с ней, пока он будет связан по рукам и ногам в ожидании собственной кончины. Затем наступил полдень той субботы, они ехали на юг к Саванне и припарковали машину у канала еще до того, как сгустились сумерки. Натали и Джексон спрятались в кустах ярдах в шестидесяти к северу. Натали держала винтовку, которую они изъяли у шерифа в Калифорнии. Зубатка, Сол и тварь, которую Джастин называл мисс Сьюэлл, остались ждать в машине — время от времени мужчины попивали кофе из металлического термоса. Один раз женщина повернула голову, как кукла чревовещателя, пристально взглянула на Сола и изрекла: — Я вас не знаю. Сол ничего не ответил, лишь посмотрел на нее без всякого выражения и попробовал представить себе ее мозг после столь долгого периода насилия. Мисс Сьюэлл закрыла глаза с механической резкостью кукушки из часового механизма. До приезда Тони Хэрода больше никто не проронил ни слова. На мгновение Солу показалось, что продюсер собирается пристрелить его, когда он увидел, как тщательно тот целится ему в лицо. На шее Хэрода напряглись жилы, палец на спусковом крючке побелел. Сол испугался, но это был чистый, контролируемый страх, не имевший ничего общего с волнениями последней недели или обессиливающим кошмаром Рва и безнадежностью его ночных видений. Что бы ни случилось, Сол сознательно выбрал этот путь. В конце концов Хэрод удовлетворился тем, что выругался и дважды ударил Сола по лицу, вторым ударом слегка поцарапав ему скулу. Сол даже не сопротивлялся, мисс Сьюэлл так же безучастно взирала на происходящее. У Натали был приказ стрелять из укрытия лишь в том случае, если Хэрод попытается убить Сола или заставит кого-нибудь другого напасть на него с целью убийства. Сола и мисс Сьюэлл посадили на заднее сиденье «Мерседеса», несколько раз обмотав им запястья и лодыжки тонкой цепью. Азиатская секретарша Хэрода — по сообщениям Харрингтона и Коуэна Сол знал, что ее звали Мария Чен — сделала это тщательно, но аккуратно, чтобы не пережать кровеносные сосуды, потом она затянула цепочки и защелкнула на них замки. Тем временем Сол как психиатр заинтересованно изучал ее лицо, размышляя: что привело ее сюда и что ею движет? Он догадывался, что это было прирожденным недостатком его народа: вечное еврейское желание понять, осознать мотивировку, докопаться до причин — так они продолжали свои вечные споры, толкуя подробности Талмуда, в то время как их энергичные и не шибко размышляющие враги сковывали их цепями и заталкивали в печи; их убийц никогда не волновали ни средства и способы достижения целей, ни проблемы нравственности, до тех пор пока поезда прибывали точно по расписанию и канцелярия исправно заполняла отчетные бланки.* * *
За мгновение до того, как фаза быстрого сна запустила механизм его видений, Сол Ласки очнулся. Он вобрал в себя сотни биографий, собранных Симоном Визенталем, — целый каталог гипнотически впитанных личностей, но в сновидениях, на которые он себя обрек, регулярно повторялась лишь дюжина. Он не видел их лиц, хотя провел многие часы в Яд-Вашеме и Лохам-Хагетаоте, глядя на их фотографии. Просто он смотрел их глазами, обозревая картины их жизни, и для него вновь становились реальностью бараки, колючая проволока и изможденные лица. И сейчас, лежа в каменной нише на скале острова Долменн, Сол Ласки понял, что на самом деле он никогда и не покидал эти лагеря смерти. Более того, они оказались единственным местом на Земле, где он чувствовал себя абсолютно естественно. Балансируя на грани сна и бодрствования, он знал, чьи сны привидятся ему этой ночью, — Шалома Кржацека, человека, чью внешность и биографию он выучил наизусть, хотя теперь некоторые даты и подробности утонули в тумане истинных воспоминаний. Сол никогда не был в Варшавском гетто, но теперь же он видел его каждую ночь — толпы людей, бегущих под автоматным огнем к канализационным трубам, ползущих в потоках экскрементов по черным сужающимся проходам, одновременно посылая проклятья и молясь, чтобы впереди никто не умер и не закупорил путь... Сотни перепуганных мужчин и женщин, проталкивающихся в арийскую канализационную систему, проходящую под стенами и колючей проволокой. Кржацек выводил своего девятилетнего внука Леона, а сверху на них лились экскременты немцев и плавали вокруг, в то время как уровень воды все поднимался, грозя задушить и затопить их... Наконец впереди показался просвет, но позади Кржацека уже никого не было — он выполз один под лучи арийского солнца и, развернувшись, заставил себя вновь вернуться в трубу, по которой полз две недели. Вернуться, чтобы отыскать Леона. Зная, что это приснится ему с самого начала, Сол смирился и заснул.Глава 27
Остров Долменн Воскресенье, 14 июня 1981 г. Тони Хэрод наблюдал за прибытием Вилли. За час до захода солнца реактивный самолет мягко опустился на взлетную дорожку, расчерченную тенями высоких дубов. В конце взлетной полосы, в маленьком терминале с кондиционерами собрались Барент, Саттер и Кеплер. Хэрод почему-то засомневался, что Вилли окажется в самолете, и чуть не раскрыл от изумления рот, когда в терминале возникли фигуры Тома Рэйнольдса, Дженсена Лугара и самого Вилли Бордена. Остальные, похоже, отнеслись к этому совершенно спокойно. Джозеф Кеплер принялся знакомить всех, словно сам был старым другом Вилли. Джимми Уэйн Саттер поклонился и загадочно улыбнулся, пожимая ему руку. Лишь Хэрод продолжал стоять, выпучив глаза, пока Вилли, обратившись к нему, не усмехнулся: — Вот видишь, друг мой Тони, остров — это и естьрай... Барент более чем любезно поздоровался с Вилли и дипломатично взял продюсера под локоток. На Вилли был вечерний костюм — фрак и черный галстук. — Как же долго ждали мы этого удовольствия! — улыбнулся Барент, не выпуская руки Вилли из своих ладоней. — Да, воистину, — улыбнулся в ответ тот. Вся процессия двинулась к особняку в сопровождении картов для гольфа, подбиравших по дороге прислугу и телохранителей. Мария Чен, просияв, встретила Вилли в Главном зале и расцеловала его в обе щеки. — Билл, как мы рады, что вы вернулись. Мы так скучали. — Я тоже скучал по твоей красоте и проницательности, дорогая. — Вилли галантно поцеловал ей руку. — Если ты когда-нибудь устанешь от дурных манер Тони, пожалуйста, поразмысли над тем, чтобы стать моей сотрудницей, — и его выцветшие глаза озорно блеснули. Мария Чен рассмеялась и сжала его руку. — Надеюсь, скоро мы все снова начнем работать вместе, — сказала она. — Возможно, даже очень скоро, — кивнул Вилли и, взяв ее под локоть, последовал за Барентом и остальными в столовую. Обед превратился в настоящий банкет, длившийся до начала десятого. За столом присутствовало более двадцати человек — лишь Тони Хэрод взял с собой секретаршу, но затем, когда Барент встал из-за стола и направился в Игровую комнату в западном пустом крыле особняка, к нему присоединилось только четверо. — Мы ведь не сейчас начинаем? — осведомился Хэрод с некоторой тревогой. Он не имел ни малейшего представления, сможет ли использовать ту женщину, привезенную из Саванны, остальных же суррогатов он и вовсе не видел. — Нет, пока нет, — ответил Барент. — Мы по традиции обсуждаем в Игровой комнате дела клуба и лишь после этого выбираем объектов для вечерней Игры. Хэрод огляделся. Помещение выглядело впечатляюще — напоминало одновременно библиотеку, английский викторианский клуб и кабинет: две стены с балконами и лестницами были заставлены стеллажами с книгами, вокруг — мягкие кожаные кресла с настольными лампами, посередине бильярдный стол, у дальней стены — массивный круглый зеленый стол, освещенный единственным светильником. Пять кожаных кресел, окружавших его, утопали в тени. Барент дотронулся до кнопки на скрытой панели, и тяжелые шторы бесшумно поползли вверх, открывая тридцатифутовое окно, выходящее в залитый светом сад, и длинный, мерцающий японскими фонариками коридор Дубовой аллеи, Хэрод не сомневался, что стекло было непроницаемым с внешней стороны и, уж конечно, пуленепробиваемым. Барент поднял руку ладонью вверх, словно демонстрируя помещение и открывающийся из окна вид Вилли Бордену. Продюсер равнодушно кивнул и опустился в ближайшее кресло. Верхний свет превратил его лицо в морщинистую маску, оставляя глаза в тени. — Очень мило, — произнес он. — Чье это кресло? — Э-э... было... мистера Траска, — ответил Барент. — Но вполне логично, что теперь оно станет вашим. Саттер указал Хэроду на его место, и все расселись вокруг стола. Хэрод опустился в старое роскошное кресло, сложил руки на зеленом сукне столешницы и подумал о трупе Чарлза Колбена, которым три дня питались рыбы, прежде чем они обнаружили его в темных водах реки Шилькилл. — Неплохой клуб, — заметил он. — А что мы будем делать сейчас — заучивать наизусть тайную клятву или петь песни? Барент снисходительно усмехнулся и оглядел присутствующих. — 27-я ежегодная сессия Клуба Островитян считается открытой, — объявил он. — Остались ли у нас старые нерешенные дела? — Молчание было ему ответом. — Тогда перейдем к тому, чем нам предстоит заняться сегодня. — А будут ли еще пленарные заседания, на которых можно обсуждать насущные вопросы? — осведомился Вилли. — Конечно, — ответил Кеплер. — В течение этой недели любой человек в любое время может созвать сессию, естественно, за исключением тех моментов, когда будет идти Игра. — Тогда я приберегу свои вопросы до следующей сессии. — Вилли улыбнулся Баренту, и его зубы блеснули в резком верхнем свете. — Я должен не забывать, что я тут новенький, и вести себя соответственно своему положению, не так ли? — Вовсе нет, — возразил Барент. — Здесь, за столом, мы все равны. — Он впервые пристально посмотрел на Хэрода. — Если на сегодня новых дел нет, готовы ли вы совершить экскурсию к суррогатам и сделать свой выбор? Хэрод кивнул. — Я бы хотел использовать одного из своих людей, — сказал Вилли. Кеплер слегка нахмурился. — Билл, я не знаю... то есть ты, конечно, можешь, если хочешь, но мы стараемся не пользоваться нашими... э-э... постоянными людьми. Шансов выиграть пять вечеров подряд э-э... очень мало, и нам не хотелось бы кого-нибудь обижать или уезжать отсюда с неприятными чувствами из-за того, что кто-то лишен ценного источника. — Да, я понимаю, — кивнул Вилли, — и все же я бы предпочел использовать одного из своих. Это ведь разрешено? — Конечно, — подтвердил Саттер, — но если он останется в живых сегодня, он должен быть осмотрен и отправлен в загон к остальным. — Согласен. — Вилли снова улыбнулся, отчего еще больше усугубилось впечатление, будто говорит безглазый череп. — Как мило, что вы идете на уступки старику. Ну что ж, осмотрим загоны и выберем фигуры на сегодня?* * *
Хэрод впервые оказался к северу от охранной зоны. Подземный комплекс поразил его, хотя он и догадывался, что где-то на острове должен находиться штаб охраны. Несмотря на то что на сторожевых постах и в контрольных помещениях всегда толклось человек тридцать в камуфляже, это было ничто по сравнению со столпотворением телохранителей в неделю проведения летнего лагеря. Хэрод догадался, что основные силы Барента сосредоточены в море — на яхте и патрульных катерах — и внимание их направлено на то, чтобы не подпускать никого к острову. Интересно, что думают эти охранники о загоне суррогатов и Играх? Хэрод два десятилетия работал в Голливуде и знал, что есть люди, готовые за деньги совершить с себе подобными все что угодно. Он был уверен, что Барент, даже не прибегая к своим способностям, с легкостью мог обеспечить себя необходимым контингентом службы безопасности. Загоны для суррогатов были вырублены в природной скале и находились в коридоре, гораздо более древнем и узком, чем остальная часть комплекса. Хэрод следовал за остальными вдоль ниш, где, скорчившись, лежали обнаженные тела, и в который раз подумал: вот отличный сюжет для фильма. Но если бы какой-нибудь сценарист принес Хэроду нечто подобное, он задушил бы его, а потом посмертно исключил из Гильдии. — Эти загоны были построены еще во времена плантатора Вандерхуфа, а некоторые существовали уже при Дюбуа, — рассказывал Барент. — Нанятый мной археолог высказал предположение, что именно эти камеры использовались испанцами для размещения мятежных элементов индейского населения острова, хотя испанцы редко имели базы так далеко к северу. Как бы там ни было, эти камеры высечены в скале еще до 1600 года нашей эры. Интересно отметить, что первым рабовладельцем этого полушария был Христофор Колумб. Он переправил на кораблях в Европу несколько тысяч индейцев, еще несколько тысяч было порабощено им и убито на островах. Он истребил бы все коренное население, если бы не вмешался папа римский, пригрозивший ему отлучением от церкви. — Вероятно, папа был недоволен своей долей, — иронично заметил преподобный Джимми Уэйн Саттер и спросил: — Из этих можно выбирать? — Любых, кроме тех двоих, которых вчера вечером привез мистер Хэрод, — ответил Барент. — Я так понимаю, ты бережешь их для себя, Тони? — Да, — подтвердил Хэрод. Кеплер подошел ближе и дружески взял Хэрода за локоть. — Джимми сказал мне, что один из них мужчина, Тони. У тебя меняются вкусы или это кто-то из твоих друзей? Хэрод окинул взглядом идеальную стрижку Джозефа Кеплера, его превосходные зубы, ровный загар, и у него возникло искушение каким-нибудь образом нарушить эту гармонию. Но он промолчал. — Суррогат мужчина, Тони? — удивился и Вилли. — Стоит тебя оставить на несколько недель, как ты начинаешь меня удивлять. И где же этот мужчина, которого ты собираешься использовать? Хэрод пристально посмотрел на старого продюсера, но лицо Бордена было непроницаемым. — Где-то там, — бросил он, сделав неопределенный жест рукой в глубь коридора. Группа рассеялась по коридору, продолжая разглядывать и оценивать тела, как судьи на собачьей выставке. Вероятно, кто-то приказал узникам вести себя тихо, а может, присутствие этой пятерки так подействовало на них, но в загоне царила мертвая тишина, нарушаемая лишь звуками шагов и бульканьем падающих капель в темной, никем не используемой части древнего подземного хода. Хэрод нервно переходил от ниши к нише в поисках тех двоих, которых он привез из Саванны. Неужели Вилли снова играл с ним или Хэрод заблуждался насчет того, что происходит? Нет, черт побери, никто другой не мог заставить его привезти на остров специально обработанных суррогатов. Если только Кеплер и Саттер не замышляли чего-то. Или Барент не вел особо изощренную игру. Может, его просто пытаются заманить в ловушку, чтобы дискредитировать? Хэроду стало не по себе. Поспешным шагом он шел по коридору, вглядываясь сквозь прутья решетки в побелевшие испуганные лица, подозревая, что сам выглядит точно так же. — Тони! — окликнул его Вилли, находившийся шагах в двадцати впереди. В голосе его послышались командные нотки. — Это и есть твой избранник? Хэрод быстро подошел и уставился на мужчину, лежавшего в нише на уровне его груди. Тени обострили резкие черты его лица, так что щеки казались совсем впалыми, но Хэрод был уверен, что это тот самый человек, которого он привез из Саванны. Какого черта замыслил Вилли? Вилли склонился ближе к решетке. Мужчина отпрянул, глаза его были красны ото сна. Словно какая-то искра проскочила между обоими. — Добро пожаловать в ад, моя пешка, — тихо сказал старик по-немецки. — Пошел к дьяволу, оберет, — сквозь зубы, тоже на немецком, бросил узник. Вилли рассмеялся, и его смех гулко прокатился по коридору. Хэрод вдруг понял, что его крупно надули. Если только Вилли не обвел его вокруг пальца. К ним подошел Барент, его седые волосы мягко поблескивали в свете неяркой лампочки. — Вас что-то рассмешило, джентльмены? Вилли хлопнул Тони по плечу и улыбнулся. — Мой протеже рассказал мне анекдот, К. Арнольд. Ничего более. Барент перевел взгляд с одного на другого, кивнул и двинулся дальше по коридору. Не отпуская плечо Хэрода, Вилли сжал его так, что лицо Тони исказила гримаса боли. — Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь, Тони? — прошипел Вилли, лицо его побагровело. — Ну ладно, об этом поговорим позже. — Он повернулся и двинулся за Барентом и остальными к выходу. Хэрод с изумлением уставился на человека, которого считал пешкой Вилли. Обнаженный, он лежал, свернувшись, на холодном камне за стальной решеткой, бледное лицо почти полностью скрадывали тени. Он выглядел старым, изможденным под бременем прошедших лет. На запястье левой руки явственно вырисовывался недавний шрам, сквозь «гусиную» кожу проступали ребра. Этот человек казался Хэроду абсолютно безопасным, единственная угроза исходила из надменного блеска его огромных печальных глаз. — Тони, — окликнул преподобный Джимми Уэйн Саттер, — поторапливайся. Мы возвращаемся в особняк и начинаем Игру. Хэрод кивнул, бросил последний взгляд на человека за решеткой и пошел прочь, напряженно вглядываясь в лица и пытаясь отыскать достаточно молодую и сильную женщину, которой он мог бы легко овладеть, для своих ночных развлечений.Глава 28
Мелани Вилли жив! Глядя глазами мисс Сьюэлл сквозь прутья решетки, я сразу же узнала его, несмотря на то что неяркая лампочка позади создавала вокруг его седых прядей некий ореол, оставляя лицо в тени. Значит, Вилли жив. Хотя бы в этом Нина не солгала мне. Я уже ничего не понимала: мы с Ниной приносили на алтарь этого кровавого пира свои жертвы, а Вилли, жизнь которого, как утверждала Нина, находилась под угрозой, смеялся и спокойно разгуливал среди своих номинальных врагов. За полгода Вилли почти не изменился, разве что злоупотребления излишествами наложили на него свою печать. Когда он подошел ближе и лицо его отчетливо проступило на фоне глубокого мрака коридора, я заставила мисс Сьюэлл отвернуться и вжаться в глубь камеры, хотя это просто глупо. Он обратился по-немецки к мужчине, которого Нинина негритянка называла Сол, и пригласил его в ад. Мужчина послал Вилли к черту, тот расхохотался и повернулся к своему более молодому спутнику с глазами рептилии. Затем к ним подошел очень приятный джентльмен. Вилли назвал его К. Арнольд, и я поняла, что это и есть тот самый легендарный мистер Барент, сведения о котором мисс Сьюэлл нашла в библиотеке. Даже при грубом освещении этого убогого тоннеля я сразу определила: Барент — утонченный человек благородного происхождения. Он говорил с кембриджским акцентом, как и мой возлюбленный Чарлз, его темный блейзер был скроен идеально, и если верить изысканиям мисс Сьюэлл, он являлся одним из богатейших людей в мире. Я решила, что он — именно тот самый человек, который сможет оценить мою зрелость и изысканное воспитание и в целом будет способен понять меня. Я заставила мисс Сьюэлл подойти ближе к решетке и кокетливо прикрыть ресницами глаза. Однако на мистера Барента, похоже, это не произвело впечатления. Он двинулся дальше, не дожидаясь Вилли и его молодого друга. — Что там происходит? — осведомилась Нинина негритянка, называвшая себя Натали. — Посмотри сама, — раздраженно бросил Джастин. — Я не могу сейчас, — ответила цветная девица. — Как я уже объясняла, на таком расстоянии контакт все время нарушается. — Глаза девицы сверкали в пламени свечи. Я не могла различить васильковой голубизны Нининых глаз в ее грязно-коричневых радужных оболочках. — Тогда как же ты можешь осуществлять контроль, моя дорогая? — спросила я, стараясь придать голосу Джастина надлежащую нежность. — С помощью предшествующей обработки, — ответила Нинина пешка. — Так что происходит? Я вздохнула. — Мы все еще находимся в маленьких камерах, только что здесь был Вилли... — Вилли! — вскричала девица. — А что ты так удивляешься, Нина? Ты же сама мне сказала, что Вилли было приказано туда явиться. Значит, ты лгала, когда говорила, что поддерживаешь с ним связь? — Конечно же, нет. — Девица быстро и уверенно вернула себе самообладание, и это вновь напомнило мне Нину. — Но мы уже некоторое время не виделись. Он хорошо выглядит? — Нет, — отрезала я. Потом, подумав, решила испытать ее: — Там был мистер Барент. — Да? — У него очень... впечатляющая внешность. — Да, действительно. Не нотка ли игривости послышалась мне? — Теперь понимаю, как ему удалось уговорить тебя, чтобы ты предала меня, Нина. Ты... спала с ним? — Я терпеть не могла эту пошлую формулировку, но ничего менее грубого в голову не приходило. Негритянка ответила мне лишь многозначительным взглядом, и я в сотый раз обругала про себя Нину за то, что она подсунула мне эту... рабыню... вместо человека, с которым я могла бы обращаться как с равным. Даже ненавистная мисс Баррет Крамер была бы лучше в качестве посредника. Некоторое время мы молчали — негритянка погрузилась в грезы, которыми Нина заполнила ей голову. Мое внимание было рассредоточено между членами «семьи», узким кругом впечатлений мисс Сьюэлл, ограничивающихся холодом камня и пустым коридором, тщательным наблюдением Джастина за Нининой пешкой и, наконец, наилегчайшим прикосновением к сознанию нашего нового друга в океане. Последнее было осуществить особенно сложно — не столько из-за расстояния (после болезни расстояние перестало представлять для меня препятствие), сколько из-за того, что эта связь должна была оставаться еле ощутимой и полностью незаметной, до тех пор пока Нина не изменит своих намерений. Я решилась на это, потому что чувствовала необходимость Играть наравне с Ниной, а еще из-за ее детского намека, будто я не смогу установить и поддерживать контакт с человеком, которого видела лишь в бинокль. Но теперь, когда я добилась своего, мне совершенно незачем было следовать остальной части ее плана. Особенно учитывая те жесткие ограничения, которые смерть наложила на Способность Нины. Не уверена, что уже полгода назад, при нашей последней встрече, она смогла бы использовать кого-нибудь на расстоянии двухсот миль, однако я не сомневалась и в том, что она никогда не обнаружит свою слабость и не окажется в положении, чтобы в какой бы то ни было мере зависеть от меня. Теперь же она зависела. Негритянка в свободном мешковатом свитере, надетом поверх коричневого платья, сидела в моей гостиной, и Нина оказалась слепа и глуха. Происходящее на острове может стать ей известным — ив этом я убеждалась все больше и больше — лишь в том случае, если ей сообщу об этом я. Я ни на секунду не поверила ей, когда она заявила, что поддерживает непрерывную связь с пешкой по имени Сол. Прикоснувшись к его сознанию во время поездки на катере, я хотя и ощутила следы того, что он был использован, и довольно основательно, когда-то в прошлом, а также почувствовала в нем затаившиеся, латентные, потенциально опасные силы, словно Нина каким-то необъяснимым образом превратила его мозг в ловушку, я также поняла, что в данный момент он не находится под ее контролем. Я знала, как ограничена возможность использования даже идеально обработанной пешки при смене условий или возникновении не предвиденных обстоятельств. Из всей нашей веселой троицы именно мне принадлежала самая сильная Способность, когда дело касалось обработки пешек. Нина всегда подшучивала надо мной и объясняла это тем, что я боюсь новых видов соревнований; а Вилли с презрением относился к любым долгосрочным контактам и менял пешек с такой же живостью, с какой перемещался из постели одного партнера к другому. Нет, если Нина надеялась действовать на острове только с помощью обработанного орудия, ее ждало разочарование. И тут я поняла, что равновесие между нами сместилось — после всех этих лет! — так что следующий ход будет моим, и я сделаю его тогда и там, когда и где это будет удобно мне. Но как же мне хотелось знать, где Нина! Негритянка в моей гостиной — в гостиной! (папа бы умер!) — попивает чай, не ведая, что едва я найду другой способ выяснить местонахождение Нины, этот цветной объект моего замешательства будет уничтожен, да так, что даже на Нину произведет впечатление моя оригинальность. Но я могла подождать. С каждым часом мое положение становилось все прочнее, Нинино же, наоборот, слабело. Дедушкины часы в холле пробили одиннадцать, и Джастин уже начал дремать, когда охранники в своих коричневых комбинезонах распахнули древнюю металлическую дверь в конце коридора и с помощью гидравлики подняли решетки на пяти клетках. Камеры мисс Сьюэлл и Сола — Нининой пешки оставались закрытыми. Я смотрела, как из ниш выходят четверо мужчин и одна женщина, вероятно, уже используемые, и вдруг с изумлением узнала среди них высокого мускулистого негра, с которым Вилли плохо справлялся при нашей последней встрече, — по-моему, его звали Дженсен. Меня охватило любопытство. Используя всю свою возросшую Способность, приглушив восприятие Джастина, «семейства», мужчины, спящего в своей маленькой, мягко покачивающейся каюте, всех — даже свое собственное, — я сумела проникнуть в одного из охранников и начать получать через него смутные впечатления. Правда, это напоминало тусклое изображение плохо настроенного телевизора — группа миновала коридор, прошла сквозь железные двери, подъемную решетку, преодолела тот же подземный проспект, по которому мы входили, и начала подниматься по длинному темному пандусу навстречу запахам гниющей растительности и тропической ночи.Глава 29
Остров Долменн Понедельник, 15 июня 1981 г. На следующий вечер Хэроду не оставалось ничего другого, как попробовать использовать мужчину, которого он привез из Саванны. Первая ночь превратилась для него в кошмар. Управлять выбранной женщиной оказалось очень сложно — это была высокая, крепкая амазонка с крупными челюстями, маленькой грудью и непривлекательно подстриженными волосами — одна из бродяг Саттера, которых он изолировал и откармливал в Библейском институте, пока Клубу Островитян не требовались суррогаты. Но она оказалась плохим суррогатом — Хэроду пришлось приложить все силы, чтобы просто заставить ее выйти на площадку в пятидесяти ярдах от северной ограды охранной зоны. Земля там была выжжена в форме большой пентаграммы, а концы всех лучей обведены мелом. Остальные четверо заняли положенные места — Дженсен Лугар уверенным, крепким шагом достиг своего круга и остановился в ожидании, когда женщина Хэрода добредет до своего пьяной походкой. Хэрод знал, что у него есть масса оправданий: он привык управлять женщинами с более близких расстояний, к тому же эта, на его вкус, была слишком мужеподобной и вдобавок — что играло не последнюю роль — ему было страшно. В то время как Хэрод крутился и ерзал, стараясь не утратить контакт с женщиной и доставить ее в нужное место, остальные сидели, свободно раскинувшись в своих креслах за огромным круглым столом Игровой комнаты. Заставив ее остановиться приблизительно в центре круга, он вытер пот со лба и скул, кивнул и переключил внимание на происходящее в комнате. — Очень хорошо, — снисходительно прокомментировал К. Арнольд Барент, — похоже, мы готовы. Правила всем вам известны. Если кому-то удастся дожить до рассвета, но он никого не убьет при этом, игрок получает пятнадцать очков, а суррогат ликвидируется. Если ваш суррогат набирает сто очков путем ликвидации остальных до рассвета, он... или она могут быть использованы по вашему выбору в следующей игре. Надеюсь, нашим новым игрокам это понятно? Вилли улыбнулся. Хэрод коротко кивнул. — На всякий случай напомню. — Кеплер положил руку на стол и повернулся к Хэроду. — Если ваш суррогат ликвидируется на ранних этапах, остальную часть Игры можно наблюдать по монитору из соседней комнаты. В северной части острова расположено более семидесяти камер. Так что обзор достаточно хороший. — Однако он все же меньше, чем для тех, кто продолжает Игру, — промолвил Саттер. Лоб и верхняя губа священника покрылись капельками пота. — Джентльмены, если мы готовы, — сказал Барент, — через тридцать секунд взлетит ракета. Мы начинаем по ее сигналу. Все, кроме Хэрода, тут же закрыли глаза и мгновенно установили контроль, в то время как он большую часть тридцатисекундной готовности потратил на восстановление контакта. Когда же он очутился в сознании амазонки, ощутил дуновение ветерка на ее обнаженной коже, почувствовал, как твердеют ее соски от прохлады ночного воздуха, то увидел, что к ней склонился Дженсен Лугар. Он посмотрел на нее со злобной ухмылкой и голосом Вилли Бордена произнес: — Ты будешь последним, Тони. Я приберегу тебя напоследок. Затем в трехстах футах над покрывалом пальмовых ветвей взвилась красная ракета, четверо человек пришли в движение, и Хэрод, развернув свою женщину, заставил ее стремглав броситься в джунгли на север. Часы проходили в лихорадочном мелькании ветвей, жужжании насекомых и наплывах страха — его собственного и его суррогатки. Это был бесконечный бег без разбору сквозь заросли и трясину. Несколько раз Хэроду казалось, что он уже достиг северной оконечности острова, но всякий раз, выходя из-под деревьев, он обнаруживал перед собой колючую проволоку охранной зоны. Он попробовал было разработать какую-нибудь стратегию, чтобы черпать энтузиазм в определенной последовательности действий, но, по мере того как ночь двигалась к рассвету, понял, что способен лишь блокировать боль в окровавленных ногах и исцарапанном теле своей суррогатки и заставлять ее бежать дальше, сжимая в руках тяжелую бесполезную палку. Игра шла не более получаса, но тут до Хэрода донесся первый крик — всего футах в пятидесяти от зарослей сахарного тростника, где он спрятал свою женщину. Минут через десять он заставил ее выползти оттуда на четвереньках и наткнулся на труп полного блондина, которого использовал Саттер, — голова его была повернута на 180 градусов, а красивое лицо вдавлено в землю. Несколько минут спустя, выбравшись из болота, кишевшего змеями, женщина Хэрода издала истошный крик, когда на нее набросился высокий худой пуэрториканец Кеплера и принялся колотить ее тяжелым бревном. Хэрод почувствовал, что она падает, постарался увернуться, но сделал это недостаточно проворно, и очередной удар пришелся ей по спине. Хэрод заблокировал боль, но ощутил, как по всему ее телу разливается странная немота. Пуэрториканец безумно захохотал и поднял свое бревно, чтобы нанести последний удар. Из темноты вылетел дротик — очищенная от коры и заостренная ветка — и проткнул пуэрториканцу горло. Там, где только что виднелся его кадык, торчало четырнадцатидюймовое острие. Суррогат Кеплера схватился за горло, повалился набок в густые заросли папоротника, дважды дернулся и замер. Хэрод заставил свою женщину подняться на четвереньки, затем встать на одно колено, когда из зарослей вышел Дженсен Лугар. Он выдернул окровавленный дротик из горла пуэрториканца и направил острие прямо в глаз женщине. — Остался еще один, Тони, — произнес черный великан, и его обнажившиеся в улыбке зубы блеснули в лунном свете, — а потом будет твоя очередь. Наслаждайся пока охотой, друг мой. — Лугар похлопал суррогатку Хэрода по плечу и исчез, растворившись во тьме. Хэрод заставил женщину подняться и пуститься бегом по узкой полоске пляжа — его уже не заботило, что ее могут увидеть. Спотыкаясь о камни, корни, то и дело падая в воду, она неслась, не разбирая дороги, подальше от того места, где, по мнению Хэрода, должен был скрываться Лугар, то есть Вилли. Человека Барента с армейской стрижкой и телосложением борца он не видел с самого начала Игры, но инстинктивно ощущал, что в схватке с Лугаром шансов у того мало. Отыскав прекрасное укрытие в заросших виноградником руинах старой плантации, Хэрод уложил искромсанное и израненное тело своей марионетки на подстилку из листьев и папоротников у обгоревшей стены, в самом дальнем углу развалин. Пусть он не получит очки за убийство, но пятнадцать очков за то, что он выживет до рассвета — его, а когда охранный патруль Барента ликвидирует амазонку, ему уже не надо будет находиться с ней. Уже почти рассвело, и Хэрод вместе со своей суррогаткой начал дремать, мутным взором глядя в просвет между листьями на то, как меркнущие звезды сменяются утренними облачками, когда перед ним возникло улыбающееся людоедское лицо Дженсена Лугара. Огромной лапищей он схватил женщину за волосы и швырнул ее на груду остроконечного булыжника. Хэрод закричал. — Игра окончена, Тони, — промолвил Лугар-Вилли, и его черное тело, блестящее от пота и крови, затмило просвет. Перед тем как свернуть женщине шею, Лугар избил ее и изнасиловал. Изнасилование было разрешено, но очков не приносило. Игровые часы показали, что амазонка скончалась за две минуты и десять секунд до наступления рассвета, таким образом Хэрод лишился положенных пятнадцати очков.* * *
В понедельник игроки встали поздно. Хэрод проснулся последним — в каком-то полузабытьи побрился, принял душ и перед самым полуднем спустился в изысканный буфет, откуда доносились голоса остальных четверых игроков, — все поздравляли Вилли. Кеплер смеялся, клянясь отомстить в следующей партии; Саттер утверждал, что это новичкам всегда везет; Барент с открытой улыбкой заверял Вилли в том, насколько приятно видеть его снова в этом обществе. Хэрод попросил бармена налить ему две порции «Кровавой Мэри» и задумчиво устроился в дальнем углу. Когда он приканчивал третий бокал, по черно-белым клеткам изразцового пола к нему направился Джимми Уэйн Саттер. — Энтони, мальчик мой, — ласково проговорил Саттер, когда они остались одни у широких дверей, выходивших на террасу, за которой виднелись прибрежные скалы, — сегодня тебе надо постараться и показать себя с наилучшей стороны. Брат Кристиан и остальные заинтересованы в проявлении энергии и чувства стиля, а не только в наборе очков. Используй сегодня мужчину, Энтони, и покажи всем, что они не ошиблись, приняв тебя в клуб. Хэрод пристально посмотрел на Саттера, но ничего не сказал. После завтрака все отправились осматривать территорию летнего лагеря. Вилли безучастным взглядом обводил постройки. Кеплер, преодолев последние десять ступенек амфитеатра, подошел к Хэроду и одарил его своей улыбкой Чарльтона Хестона. — Недурно, Хэрод, — заметил он, — ты почти продержался до рассвета. Но позволь мне дать тебе один совет, малыш. Мистер Барент и остальные хотят видеть немножко инициативы. Ты привез с собой пешку мужского пола. Используй его сегодня вечером... если сможешь. Барент поймал Хэрода на обратном пути к особняку. — Тони, — промолвил миллионер с мягкой улыбкой, глядя на его угрюмое лицо, — мы очень рады, что ты присоединился к нам в этом году. Полагаю, мы обрадуемся еще больше, если ты как можно скорее начнешь использовать своего суррогата. Но, конечно же, все зависит от твоего желания. Никакой спешки нет. Остальной путь до особняка они проделали молча. Последним с Хэродом говорил Вилли. Старик поймал его за час до обеда, когда он решил присоединиться к Марии Чен на пляже. Хэрод выскользнул из дома через боковую дверь и бродил по переплетающимся садовым дорожкам, скрытым среди клумб с высокими папоротниками и цветами, когда вдруг наткнулся на Вилли, сидевшего на длинной белой скамье и напоминавшего бледного паука в железной паутине. За его спиной стоял Том Рэйнольдс — глядя на его пустые глаза, белокурые волосы и длинные пальцы, Хэрод в который раз подумал, что вторая излюбленная пешка Вилли очень похожа на эстрадную звезду, превратившуюся в палача. — Тони, — хрипло произнес Вилли, — нам пора поговорить. — Не сейчас, — бросил Хэрод, пытаясь пройти мимо, но Рэйнольдс обошел скамейку и преградил ему путь. — Отдаешь ли ты себе отчет, что ты делаешь, Тони? — негромким голосом осведомился Вилли. — А ты? — огрызнулся Хэрод, тут же поняв, насколько беспомощно это прозвучало, но им владело лишь одно желание — поскорее уйти отсюда. — Да, — важно кивнул Вилли, — я отдаю. И если ты сейчас начнешь соваться не в свое дело, ты уничтожишь годы моих усилий и планов. Хэрод огляделся и понял, что их в этом заросшем цветами тупике никто не увидит даже с помощью телекамер. Отступать он не хотел, да и Рэйнольдс продолжал загораживать дорогу. — Послушай, — сказал Хэрод, чувствуя, как от напряжения у него срывается голос, — в гробу я все это видал, и мне плевать, о чем ты там говоришь. Я просто не хочу в этом участвовать, понятно? Вилли улыбнулся. Маленькие глазки его сузились и теперь почти не походили на человеческие. — О'кей, Тони. Но нам всем остается сделать несколько последних ходов, и я не позволю, чтобы мне мешали. В голосе бывшего партнера прозвучало что-то такое, что напугало Хэрода, как никогда в жизни. Он даже онемел на мгновение. Вилли сменил тон, голос его стал более доверительным. — Полагаю, это ты отыскал моего еврея, которого я бросил в Филадельфии, — продолжал он. — Ты или Барент. Но это неважно, даже если они тебе приказали разыграть этот гамбит. Хэрод открыл было рот, но Вилли жестом остановил его. — Возьми сегодня еврея, Тони. Мне он больше не нужен, а вот на тебя я сделаю ставку в конце этой недели... если ты больше не будешь создавать сложностей, понятно? Тебе понятно, Тони? Безжалостный холодный взгляд палача проник в сознание Хэрода. — Понятно. На мгновение Хэрод отчетливо представил себе, что Вилли Борден, Вильгельм фон Борхерт мертв, а перед ним сидит его труп. Однако скалился в ухмылке не просто череп из обычных костей, но некое вместилище миллионов других черепов, из акульей пасти которого доносилась вонь склепов и безымянных могил. — Очень хорошо, что ты понял, — одобрительно сказал Вилли. — увидимся позже, Тони, в Игровой комнате. Рэйнольдс отошел в сторону с тем же подобием улыбки Вилли, которую на рассвете Хэрод видел на лице Дженсена Лугара за мгновение до того, как тот свернул шею его суррогатке. Хэрод отправился на пляж к Марии Чен. Даже опустившись на раскаленный песок под лучами жаркого солнца, он не мог унять дрожь. — Тони? — прикоснулась к его руке Мария Чен. — К черту! — прорычал он. — К черту! Пусть получат еврея. Кто бы за ним ни стоял, что бы они ни имели в виду, пусть получат его сегодня. К черту. Пошли они все к черту. В этот вечер банкет закончился раньше, словно все торопились в предвкушении начала Игры. Кроме Хэрода и Вилли, остальные уже посетили загон для суррогатов и отобрали себе фаворитов, тщательно их осмотрев, как обычно осматривают скаковых лошадей. За обедом Барент сообщил, что будет использовать глухонемого с Ямайки — человека, бежавшего со своего родного острова после того, как он из кровной мести убил четверых. Кеплер довольно долго выбирал себе суррогата — он дважды миновал клетку Сола, не обращая на него никакого внимания, приглядываясь к более молодым. Наконец он становился на одном из уличных сирот Саттера — высоком худом парне с сильными ногами и длинными волосами. — Гончая, — удовлетворенно заметил Кеплер за обедом. — Гончая с клыками. Саттер в этот вечер решил положиться на обработанную пешку, заявив, что будет использовать человека по имени Амос, который в течение двух лет был его личным телохранителем в Библейском центре, низкорослого мужчину с бандитским лицом и телом полузащитника. Вилли снова намеревался пустить в ход Дженсена Лугара. Хэрод сообщил лишь, что будет использовать польского еврея, и больше не захотел принимать участие в разговоре. В предыдущий вечер Барент и Кеплер сделали ставки почти в десять тысяч долларов, теперь они удвоили их. Все сошлись во мнении, что для второго вечера ставки невероятно высоки и соперничество обещает быть жестоким. Солнце зашло за тучи, Барент сообщил, что барометр быстро падает, с юго-востока приближался шторм. В половине одиннадцатого все поднялись из-за стола и направились в Игровую комнату, оставив телохранителей и обслуживающий персонал за дверью. Игроки расселись по своим местам, лица их снова стали походить на неподвижные маски. Это впечатление еще больше усугублялось из-за света единственной люстры, висевшей над столом. Время от времени темное небо за окном освещалось вспышками молний. Барент распорядился отключить иллюминацию в Дубовой аллее, дабы наслаждаться величавым зрелищем надвигавшейся грозы. — До начала Игры осталось тридцать секунд, — объявил он. Четверо игроков закрыли глаза и напряглись в ожидании. Хэрод отвернулся и принялся смотреть, как яркие вспышки освещают силуэты деревьев вдоль Дубовой аллеи и иссиня-черные грозовые тучи. Он не имел ни малейшего представления, что случится, когда поднимется решетка камеры с евреем по имени Сол. Хэрод не собирался вторгаться в его сознание, а без этого он не будет знать, что происходит. Однако именно такое положение вещей вполне устраивало Хэрода. Что бы там ни замышлялось, кто бы ни пытался смешать карты, введя в колоду этого еврея, какие бы цели они ни преследовали, его это не волновало. Он знал, что не будет иметь никакого отношения к событиям последующих шести часов и что в этой партии он не участвует. В этом он не сомневался. Никогда еще Хэрод не заблуждался так жестоко.Глава 30
Остров Долменн Понедельник, 15 июня 1981 г. Сол просидел в своей крохотной нише более суток, когда вдруг механизмы, скрытые в каменных стенах, завыли и стальные прутья решетки поползли вверх. На мгновение он растерялся. Его заключение вызывало в нем странное чувство спокойствия, словно все сорок предшествовавших лет исчезли и он вернулся к самому важному в своей жизни. Двадцать часов он пролежал в холодной каменной нише, размышляя о жизни и подробно вспоминая вечерние прогулки с Натали возле фермы в Кесарии, залитый солнцем песок и мощенный кирпичом виадук, томные зеленые волны Средиземного моря. Он вспоминал их беседы и смех, откровения и опасения, а когда засыпал, его тут же охватывали видения, уносившие его туда, где жизнь утверждалась иначе перед лицом жестокого самоотречения. Дважды в день охрана пропихивала в щель пищу, и Сол ел. Низкие пластиковые подносы были наполнены макаронами с консервированным мясом. Пища для космонавтов. Но Сола не удивляла эта ирония судьбы: космический паек подавался в загоне для рабов! Он съедал все, пил воду и возвращался к упражнениям, чтобы не затекали мышцы и не замерзало тело. Больше всего он тревожился о Натали. Они предвидели многое из того, что им предстояло сделать, до мельчайших подробностей изучали план действий по-одиночке, но когда подошло время расставания, оба почувствовали горький привкус трагического конца. Сол вспомнил освещенную солнцем спину уходящего в небытие отца и руку Иосифа на его плече. Лежа в темноте, пропахшей четырехвековым страхом, он размышлял о мужестве. Об африканцах и коренных жителях Америки — индейцах, лежавших в этих же каменных клетках, вдыхавших тот же запах безнадежности и не знавших тогда, что они победят, что их потомки обретут свет, свободу и достоинство, в которых было отказано тем, кто дожидался здесь своей смерти. Он закрыл глаза и тут же увидел скотовозы, въезжавшие в Собибур; исхудавшие, холодные, смешанные в кучу трупы, жмущиеся друг к другу тела в поисках тепла, которому неоткуда было взяться. Но за этими закоченевшими телами и укоризненными взглядами он различал молодого сабру, который шел из кибуца на работу в садах или вооружался для ночного патрулирования, — в его лице сквозила твердость и уверенность, возможно, даже излишняя самоуверенность, и он был полон жизни. Собственно, сам факт его существования был ответом на вопрошающие взгляды мертвецов в Собибуре, которых машина за машиной сваливали в Ров в 1944 году... Сол тревожился за Натали и боялся за себя, как боятся лезвия опасной бритвы, приближающегося к глазам, вкуса холодной стали во рту. Однако ему был знаком этот страх, и он приветствовал его возвращение, позволял ему проникать в себя. Но не желал покоряться. Тысячу раз Сол мысленно повторял все пункты плана, которые ему предстояло выполнить. Анализируя возможные препятствия, он прикидывал различные варианты их устранения. Он размышлял над тем, как поступит Натали, если старуха согласится следовать их плану, и что ей придется делать в более вероятном случае, если Мелани Фуллер начнет вести себя с непредсказуемостью, обусловленной ее безумием. И решил, что все равно будет продолжать, даже если Натали погибнет. И даже если все их планы пойдут прахом, он тоже будет продолжать. Он будет действовать и в том случае, если не останется никакой надежды. Сол лежал в темной расщелине на холодном камне и размышлял о жизни и смерти — своей собственной и других людей. Он анализировал все непредвиденные повороты событий, а затем начинал изобретать новые. И все же в тот момент, когда прутья решетки со скрежетом поползли вверх и остальные четверо заключенных зашевелились и начали выбираться из своих укрытий, Сол Ласки в течение целой минуты, которая, казалось, длилась бесконечно, не знал, что ему делать. Он вылез из своей ниши и замер. Каменный пол обжег холодом его босые ноги. Тварь, именуемая Констанцией Сьюэлл, смотрела на него сквозь стальные прутья и спутанные волосы.* * *
Сол последовал за остальными к дверному проему, ведущему во тьму. Тони Хэрод сидел в Игровой комнате и из-под опущенных век посматривал на лица четверки, ожидающей начала ночного состязания. Лицо Барента выражало спокойствие и удовлетворенность, уголки его рта подрагивали в легкой улыбке. Кеплер, запрокинув голову, хмурился от напряжения. Джимми Уэйн Саттер сидел, наклонившись вперед и положив руки на стол, — его морщинистый лоб и верхняя губа были покрыты капельками пота. Вилли так глубоко зарылся в кресло, "то свет падал лишь на его лоб, острые скулы и нос. И нее же Хэроду казалось, что глаза у Вилли открыты и он не сводит с него своего пристального взгляда. Сам Хэрод ощущал внутри нарастание паники, по мере того как осознавал всю абсурдность своего положения — он был лишен возможности видеть происходящее. Он даже не пытался прикоснуться к сознанию еврея, поскольку знал — кто бы им ни руководил, ему не дадут в него войти. Хэрод в последний раз окинул взглядом лица присутствующих. Кто в состоянии управлять двумя суррогатами одновременно? Логика подсказывала, что это под силу только Вилли, — в пользу этого говорили и способности старика, и цели, которыми он руководствовался, — но к чему тогда эта перепалка в саду? Хэрод чувствовал растерянность и страх. И его мало утешала мысль, что Мария Чен осталась внизу и спрятала револьвер в катере, ожидающем их у пристани на случай, если возникнет необходимость бегства. — Черт побери! — вскричал Джозеф Кеплер. Все четверо открыли глаза и уставились на Хэрода. Вилли подался вперед, его лицо побагровело от ярости. — Что ты делаешь, Тони? — Затем он окинул ледяным взглядом остальных. — Или это не Тони? Так вот что, по-вашему, честная Игра? — Постойте! Постойте! — воскликнул Саттер, снова закрывая глаза. — Смотрите! Он убегает. Мы можем... все вместе...* * *
Глаза Барента широко распахнулись, как у хищника, поджидающего в темноте свою жертву. — Ну, конечно, — тихо промолвил он, сложив пальцы под подбородком, — это Ласки, психиатр. Я должен был догадаться об этом. Меня ввело в заблуждение отсутствие бороды. Кто бы там ни додумался до этого, у него скверное чувство юмора. — Какие, к черту, шутки! — рявкнул Кеплер, снова зажмуривая глаза. — Ловите его. Барент покачал головой. — Джентльмены, по причине непредвиденных обстоятельств сегодняшняя партия откладывается. Я прикажу охране вернуть его. — Нет! — взревел Вилли. — Он мой! Барент с улыбкой повернулся к нему. — Да, он может быть и вашим. Посмотрим. А пока яуже нажал кнопку, оповещающую силы безопасности. Они видели на мониторе начало Игры и знают, кого искать. Вы можете помочь им в этом, герр Борден, только проследите, чтобы психиатр не погиб до допроса. Вилли издал звук, поразительно похожий на рычание, и закрыл глаза. Барент посмотрел на Хэрода с убийственным спокойствием.* * *
Сол вместе с остальными четырьмя суррогатами поднялся по пандусу и очутился в тропической мгле — в ожидании приближающейся грозы воздух был влажный, какой-то давящий. Звезд видно не было, лишь вспышки молний освещали деревья и пустое пространство к северу от зоны безопасности. Один раз Сол споткнулся и упал на колени, но тут же поспешно поднялся и пошел дальше. На площадке была выложена огромная пентаграмма, остальные суррогаты уже заняли свои места на концах лучей. Сол подумывал, не побежать ли сразу, но при каждой вспышке молнии за пределами зоны безопасности вырисовывались фигуры двух охранников, вооруженных М-16 и приборами ночного видения. Нет, лучше подождать. Солу пришлось занять пустое место между Дженсеном Лутаром и высоким худым юношей с длинными волосами. То, что все они были голыми, казалось само собой разумеющимся. Из всей пятерки лишь физическое состояние Сола вызывало сомнения. Голова Дженсена Лугара повернулась как на шарнирах. — Если ты меня слышишь, моя маленькая пешка, я хочу попрощаться с тобой, — произнес он по-немецки голосом Вильгельма фон Борхерта. — Но убью я тебя не во гневе. Это произойдет быстро. — И Лугар задрал голову вверх, к небу, как и остальные, словно в ожидании какого-то сигнала. Всполохи молний омывали серебром мощный профиль негра. Сол развернулся, поднял руку и швырнул камень размером с кулак, который он подобрал минуту назад, во время своего умышленного падения. Удар пришелся Лугару в висок, и великан тут же грохнулся наземь. Сол пустился бежать. Пока остальные суррогаты удивленно смотрели ему вслед, он миновал кустарник и скрылся под покровом тропического леса. Выстрелов не было. Первые пять минут Сол бежал, не разбирая дороги, — сосновые иглы и обвалившиеся пальмовые побеги впивались в его голые ступни, ветви раздирали бока, дыхание с хрипом вырывалось из горла. Затем он все же постарался справиться с собой, остановился и прислушался, присев у зарослей сахарного тростника. Слева плескались волны, вдоль берега ревели мощные сторожевые моторные лодки. Еще до его слуха донесся странный скрежет, который мог быть искаженным звуком мегафонов, но слов ему различить не удалось. Сол закрыл глаза и попытался представить карты и фотографии острова, которые он так долго запоминал, сидя с Натали на кухоньке в мотеле. До северной оконечности острова было почти пять миль. Он знал, что лес скоро превратится в настоящие джунгли, которые за милю до побережья уступят место болоту и трясине, а затем снова начнутся густые заросли. Единственными строениями у него на пути будут развалины рабского госпиталя, заросший фундамент плантации Дюбуа у скал восточного побережья и поваленные надгробия кладбища. Во время очередной вспышки молнии Сол оглядел тростник и ощутил непреодолимое желание просто спрятаться в нем, заползти внутрь, свернуться клубком и стать невидимым. Но он знал, что это будет означать лишь более скорую смерть. Чудовища в особняке — по крайней мере трое из них — в течение многих лет преследовали друг друга по этим джунглям. Во время допросов Хэрод рассказал Солу о «Пасхальной охоте», когда в последнюю ночь выпускались все неиспользованные суррогаты — дюжина, а то и более обнаженных беспомощных мужчин и женщин, и члены клуба начинали охотиться на них с помощью своих фаворитов, вооруженных ножами и ружьями. Баренту, Кеплеру и Саттеру известны здесь все укрытия, к тому же Сол не мог избавиться от чувства, что Вилли догадывается, где он находится. В любую секунду он ожидал отвратительного прикосновения старика к своему сознанию, понимая, что если им овладеют на таком расстоянии, это будет полный провал всех его планов и намерений, весь их многомесячный труд окажется напрасным, и все, о чем он мечтал целую жизнь, все сорок лет, пойдет прахом... Сол знал, что его единственный шанс — бежать на север. Он выбрался из тростника и помчался вперед под грохот приближающейся грозы.* * *
— Вот он. — Барент указал на бледную обнаженную фигуру, бегущую по экрану одного из мониторов в пятом ряду. — Нет никаких сомнений, это — психиатр Ласки. Саттер глотнул бурбона из высокого фужера и перекинул ногу на ногу, поудобнее устроившись на одном из мягких диванов комнаты, оборудованной мониторами. — А никто и не сомневается, — заметил он. — Вопрос в том, кто ввел его в Игру и зачем? Все уставились на Вилли, но старик смотрел на экран того монитора, где было видно, как охранники уносят «с поля боя» бесчувственное тело Дженсена Лугара. Троих суррогатов отправили в джунгли преследовать Сола Ласки. Вилли повернулся к присутствующим со слабой улыбкой на губах. — Глупо было бы с моей стороны вводить в Игру еврея, — сказал он. — А я, джентльмены, никогда не делаю глупостей. К. Арнольд Барент отошел от мониторов и сложил руки на груди. — Почему глупо, Уильям? Старик почесал щеку. — Все вы связываете этого еврея со мной, хотя именно вы, герр Барент, уже давно занимаетесь его обработкой и лишь вам поэтому ничего не грозит. Барент моргнул, но промолчал. — Если бы мне нужно было незаконно задействовать кого-то в Игре, я не стал бы останавливать свой выбор на человеке, которого вы знаете. К тому же я наверняка предпочел бы более здорового. — Вилли улыбнулся и покачал головой. — Нет, стоит задуматься, и тогда вы поймете, что с моей стороны это было бы глупо. А я, повторяю, не делаю глупостей. Барент искоса взглянул на Хэрода. — Тони, ты собираешься придерживаться своей версии о похищении и шантаже? Хэрод сидел, утонув в низком диване, и грыз зубами костяшки пальцев. Да, он рассказал им правду, поскольку почувствовал, что они готовы все ополчиться против него, и ему надо было развеять их подозрения. Теперь его считали лжецом, и единственное, что ему удалось, так это немного уменьшить их страх перед Вилли. — Я не знаю, кто должен отвечать за это, — сказал Хэрод, — но кто-то из присутствующих играет с этой сукой. Мне-то какая выгода от этого? — Действительно, какая? — дружелюбно повторил Барент. — Думаю, это своего рода диверсия, — выдавил из себя Кеплер, бросив напряженный взгляд на Вилли. Преподобный Джимми Уэйн Саттер рассмеялся. — Какая диверсия? — хихикая, осведомился он. — Остров отрезан от внешнего мира. Сюда никто не может проникнуть, кроме личных сил безопасности брата К., а они все — нейтралы. Не сомневаюсь, что при первом же сигнале тревоги все наши помощники были бы... э-э... препровождены в свои комнаты. Хэрод испуганно посмотрел на Барента, но тот продолжал улыбаться. Он понял, каким был дураком, полагая, что в критический момент Мария Чен сможет хоть чем-то помочь ему. — Какая диверсия? — продолжал Саттер. — На мой взгляд бедного провинциального священника, это не похоже на диверсию. — Хорошо, но кто-то же контролирует его, — выпалил Кеплер. — А может, и нет, — тихо заметил Вилли. Все головы повернулись к нему. — Мой маленький еврей уже в течение многих лет проявляет поразительную настойчивость, — пояснил Вилли. — Представьте мое удивление, когда семь месяцев назад я обнаружил его в Чарлстоне. Барент перестал улыбаться. — Вильгельм, вы хотите сказать, что этот... человек... явился сюда по собственной воле? — Да, — кивнул Вилли. — С давних времен моя пешка как тень следует за мной. Кеплер побагровел. — Значит, вы признаете, что он здесь по вашей вине, даже если он явился с целью найти вас? — Не совсем, — ехидно улыбнулся Вилли. — Ведь это по вашему «гениальному» указанию в Вирджинии были истреблены его родные. Барент задумчиво постукивал согнутым пальцем по нижней губе. — Предположим, ему стало известно, кто несет за это ответственность, но откуда он узнал все подробности о Клубе Островитян? — Он пристально посмотрел на Хэрода. — Откуда мне было знать, что он действует сам по себе? — огрызнулся Хэрод. — Ведь эти сволочи накачали меня наркотиками. Саттер встал и подошел к монитору, на экране которого было видно, как обнаженная мужская фигура продирается сквозь заросли виноградника и поваленные надгробия. — И кто же работает с ним сейчас? — спросил он так тихо, будто обращался лишь к себе. — Негритянка, — ответил Вилли. — Чернокожая. Которая была с шерифом в Джермантауне. — Он рассмеялся и запрокинул голову так, что стали видны пломбы в коренных зубах, стершихся от возраста. — Как фюрер и опасался, поверженные поднимутся. Саттер отвернулся от экрана как раз в тот момент, когда на нем появился суррогат Барента с Ямайки — быстро и уверенно тот продвигался по кладбищу, откуда только что, спотыкаясь, вышел Ласки. — Ну, и где же тогда эта девица? — осведомился Саттер. Вилли пожал плечами. — Это не имеет значения. Среди ваших суррогатов черных сук нет? — Нет, — ответил Барент. — Значит, она где-то в другом месте, — предположил Вилли. — Возможно, вынашивает планы мести тем, кто убил ее отца. — Мы же не убивали ее отца, — задумчиво сказал Барент. — Это сделала Мелани Фуллер или Нина Дрейтон. — Вот именно! — рассмеялся Вилли. — Еще одна ирония судьбы. Но еврей здесь, и я почти не сомневаюсь, что попасть сюда ему помогла та негритянка. Все снова уставились на мониторы. На экранах сквозь высокую траву на юг от старой плантации Дюбуа пробирался лишь один суррогат Саттера по имени Амос. Закрыв глаза, Саттер сосредоточенно управлял своей пешкой. — Нам необходимо допросить Ласки! — взвился Кеплер. — Мы должны выяснить, где находится девица. — Нет. — Вилли покачал головой, не сводя глаз с Барента. — Надо просто как можно скорее убить еврея. Даже если он безумен, он может причинить вред всем нам. Барент опустил руки и снова улыбнулся. — Беспокоишься, Уильям? Старик передернул плечами. — Просто это самый разумный выход. Если мы объединим наши усилия для того, чтобы убить еврея, это докажет, что он не был доставлен сюда кем-либо из нас с определенной целью. А девицу найти будет нетрудно. Предполагаю, она снова вернулась в Чарлстон. — Предположений здесь недостаточно, — оборвал его Кеплер. — Считаю, что еврея надо допросить. — Джеймс? — Барент обратился к преподобному. Саттер открыл глаза. — Убить его и вернуться к Игре, — буркнул тот и снова смежил веки. — Тони? Вздрогнув, Хэрод посмотрел на Барента. — Вы хотите сказать, что у меня есть право голоса? — Остальные проблемы мы обсудим позже, — ответил Барент. — Пока ты являешься членом Клуба Островитян и пользуешься всеми правами. Хэрод обнажил свои маленькие острые зубки. — Тогда я воздерживаюсь. Оставьте меня в покое и делайте с этим парнем все, что хотите. Барент задумчиво уставился на пустой монитор. Вспышка молнии на мгновение перекрыла чувствительность изображения, экран затопило ослепительной белизной. — Уильям, — произнес Барент, — я не очень понимаю, чем для нас может быть опасен этот человек, но я готов согласиться с тем, что будучи мертвым он станет представлять меньшую угрозу. А девицу и прочих мстителей мы отыщем без проблем. Вилли наклонился вперед. — Вы можете подождать, пока мой суррогат Дженсен не придет в себя? Барент покачал головой. — Это лишь оттянет начало Игры. — Он взял микрофон с консоля. — Мистер Свенсон? — Затем надел наушники, дождался ответа и продолжил: — Вы следите за суррогатом, убежавшим на север? Хорошо. Да, я тоже видел его в секторе два-семь-шесть. Пришло время ликвидировать его. Подключите береговой патруль и снимите с дежурства вертолет номер три. При возможности воспользуйтесь инфракрасным излучением и тут же передавайте наземные сведения поисковым бригадам. Да, я не сомневаюсь, что вы это сделаете, но, пожалуйста, побыстрее. Благодарю. Связь окончена.* * *
Натали Престон сидела в темном доме Мелани Фуллер в Чарлстоне и вспоминала Роба Джентри. Все прошедшие после той трагедии в Джермантауне месяцы она часто думала о нем, почти каждый вечер, перед тем как погрузиться в сон. Правда, после отъезда из Израиля старалась поглубже запрятать чувство горя и раскаяния, чтобы оставить место для суровой решимости, которая, по ее мнению, должна была сейчас целиком завладеть ею. Но у нее это плохо получалось. Вернувшись в Чарлстон, она каждый день проезжала мимо дома Роба, в основном по вечерам. Расставшись с Солом на несколько часов, бродила по тихим улицам, где гуляли они с Робом, вспоминала не только какие-то подробности их бесед, но и те глубокие чувства, которые зарождались и крепли между ними, несмотря на то, что оба понимали, насколько неуместна и чревата осложнениями возникшая между ними связь. Трижды она ходила на могилу Роба, и всякий раз ее охватывала такая горечь, которую не в состоянии приглушить или компенсировать никакая месть. И тогда она давала себе клятву, что больше не придет сюда. Теперь, когда наступала вторая ночь в доме ужасов Мелани Фуллер, Натали не сомневалась в том, что если ей удастся здесь выжить, то это произойдет лишь благодаря воспоминаниям о светлых чувствах, а вовсе не решимости отомстить. Она находилась наедине с лишенным сознания «семейством» Мелани Фуллер немногим более суток, но ей казалось, что прошла уже целая вечность. Ночь с воскресенья на понедельник выдалась очень тяжелой. Натали пробыла в доме Фуллер до четырех утра и ушла лишь когда уже не оставалось сомнений, что до следующего вечера Солу ничего не грозит. Если, конечно, он был еще жив. Натали знала лишь то, что говорила ей Мелани устами мальчика, который когда-то был Джастином Варденом. По мере того как ползло время, версия, что Нина не может контролировать Сола на таком расстоянии и нуждается в помощи Мелани для спасения Вилли и их самих, казалась все менее достоверной. В первую ночь случались периоды, когда Джастин умолкал и долго сидел, уставясь во тьму невидящими глазами, да и остальные члены «семейства» Мелани становились такими же безжизненными, как манекены. Натали предполагала, что старуха в это время была занята мисс Сьюэлл или мужчиной, за которым в течение многих часов они вместе с Джастином следили в бинокль. Нет, для этого еще не пришло время. Джастин сказал, что за кровопролитием первой ночи Мелани наблюдала глазами одного из охранников. Натали сосредоточила в себе все свойства Нининой личности, чтобы убедить Мелани не вмешиваться и не обнаруживать свое присутствие слишком рано. Джастин бросил на нее ненавидящий взгляд и умолк на час, оставив Натали в полной беспомощности. Она должна была ждать новых сведений. Ждать, когда старуха проникнет в ее сознание и покончит с ней, убьет их обоих. Натали сидела в доме, провонявшем отбросами и гниющей пищей, и старалась думать о Робе, о том, что бы он сказал в подобной ситуации, какую отпустил бы шутку. После полуночи она потребовала Нининым высокомерным тоном зажечь свет. Великан по имени Калли включил сорокаваттную настольную лампу с ободранным абажуром. Но ее тусклый свет оказался еще хуже, чем кромешная тьма. Все предметы в гостиной были покрыты густым слоем пыли, повсюду валялась чья-то одежда, из-под продавленной софы выглядывал почерневший, полуобгрызенный початок кукурузы, пол под чайным столиком был усеян кружочками апельсинов. Кто-то, скорее всего Джастин, беззастенчиво размазал по подлокотникам кресел и дивана малиновое .или клубничное варенье, и теперь его следы напоминали Натали кровавые подтеки. Между стенами слышалась возня крыс, а возможно, они бегали и по коридору — попасть в дом для них не составляло труда. Порою какие-то звуки доносились и со второго этажа, но они были слишком громкими для крыс. Натали думала об умирающей наверху твари, этой сморщенной старухе с перекошенным от паралича лицом, напоминавшим морду древней черепахи, изъятой из своего панциря; старухе, чья жизнь поддерживалась лишь внутривенными вливаниями физиологического раствора и мощной медицинской аппаратурой. Иногда, во время долгих периодов затишья, когда никто из членов «семейства» не только не двигался, но даже, казалось, переставал дышать, Натали представляла себе, что Мелани Фуллер уже умерла, а эти автоматы из плоти и крови продолжают действовать, подчиняясь последним безумным фантазиям угасающего мозга, как марионетки, приводимые в движение агонией кукловода. — Они забрали твоего еврея, — внезапно прошептал Джастин. Натали вздрогнула и очнулась. Позади кресла, в котором сидел мальчик, стоял Калли — его опухшее лицо освещалось единственной лампочкой. Марвин, Говард и сестра Олдсмит прятались где-то в тени за спиной Натали. — Кто его взял? — еле дыша спросила она. В лучах тусклого электрического света лицо мальчика казалось ненастоящим, словно он был резиновой куклой. Натали вспомнила куклу размером с ребенка в Ропщущей Обители и содрогнулась — да, Мелани каким-то образом превратила этого несчастного ребенка в такой же распадающийся манекен. — Никто его не брал, — злобно прошипел Джастин. — Час назад они открыли решетку и выпустили его для своих ночных забав. Нина, ты что, не поддерживаешь с ним контакта? Натали стиснула зубы и оглянулась. Джексон сидел в машине в квартале от дома Мелани Фуллер, Зубатка вел наблюдение из переулка напротив. С таким же успехом они могли находиться на другой планете. — Мелани, не спеши, — резко бросила Натали. — Расскажи мне, что происходит. — Не скажу, Нина, — снова прошипел Джастин голосом Мелани. — Настала пора признаться, где ты. Калли обошел кресло. Из кухни вышел Марвин с длинным ножом, поблескивавшим в неярком свете. За спиной Натали завозилась сестра Олдсмит. — Прекрати, Мелани, — тихо сказала Натали. В последнюю секунду горло ее сжалось от страха, и то, что должно было прозвучать властным распоряжением Нины, было больше похоже на сдавленную мольбу. — Нет-нет-нет. — Джастин соскользнул с кресла. Пригнувшись, касаясь пальцами грязного восточного ковра, как муха, ползущая по стене, он двинулся к девушке. — Пора все нам рассказать, Нина, или распрощаться с этой черномазой. Покажи мне, Нина. Покажи, что у тебя осталось из Способности. Если ты действительно Нина, — Детское личико Джастина исказилось в зверином оскале, словно его кукольная резиновая голова плавилась в языках невидимого пламени. — Нет! — Натали вскочила, но Калли загородил ей путь к двери. Марвин обошел софу и провел рукой по острому лезвию, которое тут же обагрилось его кровью. — Пора все рассказать нам, Нина, — повторил Джастин. Со второго этажа донесся стук и звук скольжения. — Или она умрет.* * *
Дождя пока не было. Шквальный ветер мотал взад и вперед пальмы, срывая с них ветви. Они ливнем осыпались на землю, образуя непроходимые завалы с торчащими во все стороны остриями побегов. Сол упал на колени и прикрыл голову руками, чувствуя, как заостренные листья впиваются в его тело тысячами иголок. Вспышки молний выхватывали, как стробоскоп, картину хаоса, оглушительные раскаты грома следовали один за другим. Сол понял, что заблудился. Он свернулся под массивным папоротником, когда на него обрушился первый фронт дождя, и попытался сориентироваться в этой ночной неразберихе. Он достиг соляных топей, но затем, вместо того чтобы выйти к последнему участку джунглей, вдруг снова оказался на кладбище. Где-то невысоко послышался рев вертолета, и луч света от его прожектора прорезал тьму так же ярко, как и вспышки молний. Сол еще глубже зарылся в папоротник, не имея ни малейшего представления, на какой стороне болот находится. Когда он несколько часов назад еще раз выбрался на рабское кладбище, на него набросился высокий длинноволосый суррогат. Измученный и изнемогающий от усталости и страха, Сол схватил первое, что попалось ему под руку — ржавый металлический прут, когда-то, вероятно, служивший оградой чьей-то могилы, — и попытался защититься от нападавшего. Острие прута раскроило парню череп. Тот упал, потеряв сознание. Сол опустился на колени, нащупал у него пульс и стремглав бросился в джунгли. Над головой опять появился вертолет. Ветер ревел с такой силой, что заглушал даже шум двигателей, хотя машина висела всего в двадцати футах над макушками кипарисов, под которыми укрылся Сол. Он не особенно опасался вертолета: при таком ураганном ветре вести прицельную стрельбу было крайне сложно, к тому же его могли засечь, лишь поймав в луч прожектора на открытом пространстве. Сол не мог понять, почему все еще длится ночь. Ему казалось, что прошло уже много часов с того момента, как началось это мучение, что он находится в бегах уже целую вечность. Скрючившись под старым стволом кипариса, он попытался отдышаться, делая глубокие вдохи и выдохи. Ноги безумно болели. На них было страшно смотреть — будто их вдоль и поперек исполосовали бритвами. Он даже попытался утешить себя иллюзией, что, как в детстве, на нем полосатые красно-белые гольфы и алые тапочки. Перед тем как хлынуть ливню, в природе наступило секундное затишье. Сол поднял голову кверху и закричал на иврите: «Эй! Много у тебя еще шуток осталось?» И тут из-за ствола кипариса в него вонзился яркий горизонтальный луч. В первое мгновение он решил, что это молния, потом начал гадать, как это вертолету удалось приземлиться. Наконец Сол понял: это ни то ни другое. За стеной кипарисов виднелась узкая полоска песка, а дальше шумел океан. Это сторожевые катера прощупывали берег своими прожекторами. Не обращая внимания на луч, Сол пополз к океану. С этой стороны зоны безопасности единственный пляж находился на северной оконечности острова. Значит, он достиг ее! Интересно, сколько раз он уже подползал сюда, в нескольких ярдах от берега разворачивался и снова углублялся в джунгли и топь? Полоса песка здесь была на удивление узкой — не более десяти-двенадцати футов в ширину, а дальше огромные валы океана натыкались уже на скалы. Вой ветра и раскаты грома заглушали грохот прибоя. Стоя на четвереньках на песке, Сол посмотрел вперед. За линией прибоя виднелось по меньшей мере две лодки, их мощные прожекторы продолжали обшаривать берег. Молния на мгновение осветила оба суденышка, и Сол понял, что их отделяет от берега не более ста ярдов. На борту отчетливо виднелись темные фигуры людей с винтовками в руках. Один из прожекторов скользнул по песку к Солу, и он опрометью кинулся в джунгли, упав в траву за мгновение до того, как пространство над его головой снова прорезал луч света. Спрятавшись за низкой дюной, Сол принялся обдумывать свое положение. Вертолет и патрульные катера свидетельствовали о том, что Барент и компания оставили свою Игру с суррогатами и начали преследовать его. Сол мог уповать на то, что его присутствие посеяло смятение, если не раздор в их рядах, но рассчитывать на это было нельзя. Недооценка проницательности и сил противника никому и никогда еще не приносила пользы. Вернувшись домой в самые критические дни йом-киппурской войны, он отлично знал, к каким фатальным последствиям иногда может привести самоуспокоение. Он двинулся вдоль песчаного побережья, продираясь сквозь густые заросли, спотыкаясь об огромные корни мангровых деревьев, сомневаясь даже в том, верное ли направление он выбрал. Каждые две минуты ему приходилось падать на землю, когда мимо скользил луч прожектора или над головой снова ревел вертолет. Каким-то образом он догадывался, что диапазон его поисков сужен до этого участка острова. За долгие часы своего лихорадочного бегства он не видел ни камер, ни сенсоров, но не сомневался, что Барент и остальные используют все достижения техники, чтобы зафиксировать каждый момент своих извращенных забав и свести к минимуму возможность того, что какой-то хитрый суррогат ускользнет от них и сможет незамеченным провести на острове несколько недель. Сол споткнулся о невидимый корень и рухнул, больно ударившись головой о мощный сук, — в шести дюймах от него вновь начиналась трясина. Сознание он не потерял и перекатился на бок, ухватившись за пучок осоки. Из его щеки хлестала кровь, попадая в рот, — на вкус она ничем не отличалась от солоноватой болотной жижи. Полоса пляжа здесь была шире, но не настолько, как в том месте, где они приземлялись на «Сессне». Сол понял, что если будет оставаться под деревьями, то никогда не найдет той бухточки и ручьев. Он вполне мог их уже проскочить, не заметив в чащобе джунглей и переплетении ветвей. Если же до заветного места еще далеко, то при такой скорости могут уйти часы, прежде чем он доберется туда. Единственной надеждой Сола оставалась песчаная полоса пляжа За полосой прибоя скапливалось все больше и больше лодок. Из своего укрытия под низкими ветвями кипариса Сол насчитал уже четыре, а одна из них направлялась к берегу и теперь высоко взлетала на гребне каждой штормовой волны не далее чем в тридцати ярдах. По листьям забарабанили струи дождя, и Сол молился, чтобы тот перешел в тропический ливень, который снизит видимость до нуля и потопит его врагов, как воинов фараона. Но дождь пока продолжал мерно накрапывать и с равным успехом мог перейти как в ливень, так и в туманный рассвет, который ре шит его судьбу. Прижавшись к валявшемуся бревну, Сол выждал минут пять. Больше всего ему хотелось сейчас расхохотаться, вскочить и начать швырять в них камни, осыпая проклятьями, — воспользоваться теми несколькими благословенными секундами, прежде чем в его обнаженное измученное тело вопьются первые пули. Мимо, вздымая фонтаны брызг, пронеслась еще одна моторная лодка. В джунглях, позади Сола, прогремели выстрелы. На мгновение ему показалось, что это просто гроза переместилась ближе, но затем он услышал рев мотора я понял, что поисковая группа сбрасывает с вертолета взрывчатку: Сол ощущал, как вибрирует песок под его ногами и сотрясаются ветви кипарисов. Звуки взрывов становились все громче, колебания почвы — все отчетливее. Сол догадался, что они таким образом прочесывают прибрежную полосу, двигаясь вдоль берега и сбрасывая заряды через каждые шестьдесят-восемьдесят метров. Несмотря на моросящий дождь справа до Сола донесся запах дыма. Направление, в котором распространялся дым, подтверждало, что он находится на северной оконечности острова, если, конечно, гроза продолжала двигаться с юго-востока, но что он еще не достиг северо-восточного мыса, за которым «Сессна» произвела тогда свой взлет, а оттуда было еще с четверть мили до приливной бухты. Если добираться до бухты по прибрежным джунглям, может уйти слишком много времени, любая же попытка срезать угол грозит тем, что он снова потеряется в болоте. Очередной взрыв разорвал темноту не далее чем в двухстах метрах к югу от Сола. Поднялся невообразимый гвалт, тысячи цапель, громко хлопая крыльями, взмыли вверх и исчезли в темном небе. Затем раздался более ужасный и протяжный вопль человеческого существа, изнемогавшего от боли. Сол задумался, способен ли на такой вопль суррогат или же за ним двигался наземный патруль и кто-то случайно стал жертвой бомбардировки. Он уже отчетливо слышал с юга рокот мотора, с каждой минутой тот становился все ближе и ближе. Послышался треск автоматной очереди, словно кто-то наугад начал стрелять из лодки, двигавшейся вдоль полосы прибоя. Сол мечтал лишь об одном — чтобы на нем была хоть какая-нибудь одежда. Холодные капли дождя падали на тело сквозь лиственный покров, ноги дрожали, и всякий раз, когда он оглядывал себя, зрелище своего сморщенного исхудалого живота, костлявых исцарапанных коленок и сжавшихся от холода и страха половых органов лишало его последней уверенности в своих силах, подталкивая к тому, чтобы плюнуть на все и вступить в схватку. Но больше всего на свете он мечтал принять горячую ванну, потеплее укутаться и лечь в мягкую постель. Холод, безысходность и одиночество владели его душою и телом, от него осталась только оболочка, лишенная каких-либо чувств и целей, кроме одного упрямого атавистического желания выжить, а зачем — он уже забыл. В общем, Сол Ласки превратился именно в того человека, каким он был сорок лет назад, когда работал во Рву, разве что стойкости и выносливости у него поубавилось. Но он знал, что есть и еще одно отличие. Подняв голову навстречу разбушевавшемуся урагану, он прокричал по-польски, обращаясь к небесам и не заботясь о том, услышат его преследователи или нет: «Я сам захотел быть здесь!». Сол сейчас не смог бы сказать, что означал его воздетый кверху кулак — утверждение, победу, вызов или смирение. Он прорвался сквозь кипарисовую изгородь, свернул налево вдоль зарослей осоки и выскочил на открытое пространство пляжа.* * *
— Хэрод, поди сюда, — позвал Джимми Уэйн Саттер. — Сейчас, — бросил Хэрод. Он остался один в комнате, освещенной лишь экранами мониторов. Поскольку наземные камеры больше не показывали ничего существенного, включенными остались две — черно-белая на борту одного из патрульных катеров у северной оконечности острова и цветная на вертолете, который сбрасывал на землю канистры с напалмом. С точки зрения Хэрода, операторы работали дерьмово — для воз душных съемок надо было пользоваться «Стедикамом», а от всех этих рывков и дерганий на обоих экранах ею просто тошнило, но он вынужден был признать, что пиротехника превосходила все когда-либо сделанное Вилли в Голливуде и приближалась по своему оргазмическому воздействию к «Апокалипсису» Фрэнка Коп полы. Хэрод всегда считал, что Коппола выжил из ума, когда взял да и вырезал кадры с напалмом в одном из последних монтажных вариантов фильма. Он жалел, что у него нет парочки «Стедикамов» и заранее установленной системы панавидения — уж он бы нашел применение такому материалу, даже если бы пришлось писать весь сценарий среди этого фейерверка. — Пойдем, Тони, мы ждем, — повторил Саттер. — Сейчас, — снова откликнулся Хэрод, забрасывая в рот еще пригоршню арахиса и запивая ее водкой. — Судя по радиоболтовне, они загнали этого несчастного идиота на северную оконечность острова и теперь сжигают джунгли... — Ты слышишь меня? — рявкнул Саттер. Хэрод поднял глаза на евангелиста. Остальная четверка уже час назад удалилась в Игровую комнату и о чем-то беседовала там, но теперь, судя по выражению лица Саттера, произошло нечто из ряда вон выходящее. Прежде чем покинуть помещение, Хэрод оглянулся и увидел на экранах обоих мониторов голого человека, несущегося по берегу. Атмосфера в Игровой комнате достигла такого же накала, как и кровавая погоня в джунглях при разбушевавшейся стихии. Вилли сидел напротив Барента, Саттер подошел и встал рядом со старым немцем. Скрестив на груди руки, Барент хмуро разглядывал всех, лицо его выражало крайнее недовольство. Джозеф Кеплер метался по комнате взад и вперед. Шторы были подняты, на стекле блестели капли дождя, и каждая вспышка молнии освещала силуэты деревьев Дубовой аллеи. Раскаты грома доносились даже сквозь многослойное стекло и толстые стены особняка. Хэрод взглянул на часы — они показывали без четверти час. Он устало подумал, освободили ли Марию Чен или все еще держат под стражей. Больше всего он сожалел, что вообще покинул Беверли-Хиллз. — У нас возникла проблема, Тони, — обратился к нему К. Арнольд Барент. — Присаживайся. Хэрод опустился в кресло. Он ждал, что Барент, а скорее всего Кеплер сейчас объявят о том, что его членство в клубе прекращено, а сам будет ликвидирован. Хэрод знал, что своей Способностью он не может тягаться ни с Барентом, ни с Кеплером, ни с Саттером. Он не сомневался, что Вилли и пальцем не шевельнет, чтобы защитить его. «А может, — подумал Хэрод с внезапной отчетливостью обреченного, — Вилли специально подставил меня с этим евреем, чтобы дискредитировать и ликвидировать? Но зачем? — недоумевал он. — Каким образом я могу помешать планам Вилли? Для чего ему устранять меня?» Кроме Марии Чен на острове не было ни одной женщины, которую он мог бы использовать. Охранники Барента — человек тридцать или около того, оставшиеся в южной части острова, все были нейтралами. Барент не станет тратить свою Способность для ликвидации Хэрода, он просто нажмет на кнопку. — Да? — устало спросил он. — В чем дело? — Твой старый друг герр Борден приготовил для нас сюрприз, — холодно сообщил Барент. Хэрод бросил тревожный взгляд на Вилли. Он сразу же решил, что этот «сюрприз» будет осуществляться за его счет, но пока не знал, каким образом. — Мы просто предложили внести дополнение в повестку дня, — усмехнулся Вилли. — А К. Арнольд и мистер Кеплер — против. — Потому что это безумие! — воскликнул Кеплер, вышагивая вдоль огромного окна. — Молчать! — распорядился Вилли, и Кеплер умолк. — Мы? — тупо переспросил Хэрод. — А кто это «мы» ? — Преподобный Саттер и я, — пояснил Вилли. — Оказалось, мой старый друг Джеймс уже несколько лет дружит с герром Борденом, — заметил Барент все тем же ледяным тоном. — Интересный поворот событий. — А вы, ребята, знаете, что сейчас творится в северной части этого долбаного острова? — с ухмылкой спросил Хэрод. — Да. — Барент вынул из уха телесного цвета наушник размером меньше слухового аппарата, а затем постучал по крошечному микрофону, присоединенному к нему тончайшей проволокой. — Я знаю. Но это чепуха по сравнению с нашей дискуссией. Как ни смешно, но в первую же неделю твоего пребывания в нашем клубе, Тони, в твоих руках оказывается его судьба. — Черт, я даже не врубаюсь, о чем вы говорите! — изумился Хэрод. — Мы говорим о предложении расширить деятельность Клуба Островитян до... э-э... более соответствующих масштабов. — Весь мир, — добавил Саттер. Лицо евангелиста раскраснелось и покрылось потом. — Что — весь мир? На губах Барента заиграла сардоническая улыбка. — Они хотят вместо индивидуальных игроков использовать целые нации суррогатов, — пояснил он. — Нации? — переспросил Хэрод. Где-то за Дубовой аллеей ударила молния, и поляризованное стекло окна потемнело. — Черт побери, Хэрод! — вспылил Кеплер. — Ты способен на что-нибудь другое, кроме как стоять здесь и повторять за всеми, как попугай?! Эти два идиота хотят все взорвать. Они требуют, чтобы мы играли не людьми, а ракетами и подводными лодками. Они хотят сжечь дотла целые страны. Хэрод вытаращил глаза Вилли и Саттера. — Тони, — спросил Барент, — признайся, ты впервые слышишь об этом предложении? Хэрод кивнул. — И мистер Борден никогда не поднимал эту тему в разговорах с тобой? Хэрод покачал головой. — Теперь ты понимаешь всю важность своего голоса, — тихо произнес Барент. — Это решение вскоре может изменить характер наших ежегодных развлечений. Кеплер надтреснуто рассмеялся. — Оно может взорвать весь этот сучий мир. — Да, — согласился Вилли, — возможно. А возможно, и нет. Но это будет невероятно захватывающее зрелище. — Вы обманываете меня, — произнес Хэрод срывающимся фальцетом. — Вовсе нет, — спокойно сказал Вилли. — Я уже продемонстрировал, с какой легкостью могут быть обойдены самые высокие уровни военной безопасности. Мистер Барент и остальные давно знают, как просто оказывать влияние на глав государств. Нам остается только отказаться от временных ограничений и расширить масштаб наших состязаний, что придаст им несравнимо большую увлекательность! Конечно, это будет связано с некоторыми поездками, необходимостью обеспечить безопасное место для переговоров, когда состязание... э-э... станет слишком горячим, но мы не сомневаемся, что К. Арнольд в состоянии позаботиться об этих мелочах. Не правда ли, герр Барент? Барент потер щеку. — Конечно. Но дело в том, что мои возражения обусловлены не затратами средств и даже не огромным количеством времени, которого потребуют подобные состязания, а потерей ресурсов — как человеческих, так и технических, накопленных за столь долгий период времени. Джимми Уэйн Саттер засмеялся — этот глубокий грудной смех был так хорошо знаком миллионам телезрителей. — Брат Кристиан, неужто ты думаешь, что сможешь забрать все это с собой? — Нет, — тихо ответил Барент, — но я не вижу смысла уничтожать все лишь потому, что сам не смогу наслаждаться этим. — А вот я вижу! — решительно возразил Вилли. — Вы являетесь основателем этой Игры. Предлагаю провести голосование. Джимми Уэйн и я голосуем «за». Вы и этот трус Кеплер — «против». Тони, твое решение? Хэрод вздрогнул. Тон Вилли не допускал никаких возражений. — Я воздерживаюсь, — заявил он. — И пошли вы все к такой-то матери! Старик стукнул кулаком по столу. — Хэрод, кусок дерьма, черт бы тебя побрал, педофил! Голосуй! Словно огромные тиски впились стальными когтями в череп Хэрода. Он схватился за голову, раскрыв рот в беззвучном крике. — Прекрати! — рявкнул Барент, и тиски разжались. Хэрод снова чуть не закричал, теперь уже от облегчения. — Он сделал свой выбор, — уже спокойно произнес Барент. — Он имеет право воздержаться. А при отсутствии большинства голосов решение не принимается. В глубине холодных серых глаз Вилли словно вспыхнуло синее пламя. — Нет. При отсутствии большинства возникает патовая ситуация. — Он повернулся к Саттеру: — Как ты думаешь, Джимми Уэйн, можем мы оставить этот вопрос в подвешенном состоянии? Лицо Саттера лоснилось от пота. Он уставился в какую-то точку чуть выше и правее головы Барента и забубнил: — И семь Ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Первый Ангел вострубил, и град и огонь, смешанные с кровью, пали на землю; и третья часть дерева сгорела... Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью... Третий Ангел вострубил, и большая звезда, горящая подобно светильнику, упала с неба на третью часть рек и на источники вод. Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд... И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить! Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ему ключ от кладезя бездны... — Саттер умолк, допил остатки бурбона и повалился в кресло. — И что это означает, Джеймс? — спросил Барент. Саттер словно очнулся и промокнул лицо благоухающим лавандой шелковым платком. — Это означает, что патовая ситуация исключается, — прошептал он хрипло. — Антихрист уже здесь. Час его наконец настал. Единственное, что нам остается, — это выполнить предписанное и засвидетельствовать бедствия, которые обрушатся на нас. У нас нет выбора. Барент снова скрестил руки на груди и сардонически улыбнулся. — И кто же из нас Антихрист, Джеймс? Саттер безумным взглядом обвел лица присутствующих. — Помоги мне. Господи, — взмолился он. — Не знаю. Я отдал ему на служение свою душу, но я не знаю. Тони Хэрод резко отстранился от стола. — Ну, это уже слишком! Я выхожу из Игры. — Оставайся на месте, — приказал Кеплер. — Никто не выйдет отсюда, пока мы не примем решение. Вилли откинулся на спинку кресла. — У меня есть предложение, — проронил он. — Мы слушаем. — Барент спокойно встретил взгляд немца. — Предлагаю завершить нашу шахматную партию, герр Барент. Кеплер остановился и посмотрел сначала на Вилли, а затем на Барента. — Шахматную партию? — переспросил он. — Что это за шахматная партия? — Да, — подхватил Тони Хэрод. — Что за шахматная партия? — Он прикрыл глаза и отчетливо вспомнил свое собственное лицо, вырезанное на фигурке из слоновой кости. Барент улыбнулся. — Мы с мистером Борденом уже несколько месяцев ведем шахматную партию, обмениваясь ходами по почте... Совершенно безобидное развлечение. — Боже милостивый! — выдохнул Кеплер. — Аминь, — сказал Саттер, поглядев на всех мутными глазами — Несколько месяцев? — повторил Хэрод. — Вы хотите сказать, что все происходящее... Траск, Хейнс, Колбен . А вы, значит, все это время просто играли в шахматы ? Джимми Уэйн Саттер издал какой-то странный звук — нечто среднее между отрыжкой и смешком. — И если кто поклоняется зверю или его образу и имеет его знак на своем челе, тот изопьет чашу гнева Господня, — пробормотал он. — И будет мучим огнем и серой в присутствии святых ангелов и Агнца, — Саттер снова издал странный звук. — И он сделает так, что всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет иметь знак на правой руке или на челе... и число его будет шестьсот шестьдесят шесть. — Заткнись, — спокойно отрезал Вилли. — Герр Барент, вы согласны? Партия почти завершена, осталось лишь доиграть ее. Если я выиграю, мы расширим... состязание... до более крупных масштабов. Если победа будет за вами, я смирюсь с настоящим положением вещей. — Мы остановились на 35-м ходу, — напомнил Барент. — И ваше положение было не слишком... э-э... завидным. — Да, — ухмыльнулся Вилли. — Но я готов продолжить. Мы не будем разыгрывать новую партию. — А если игра завершится вничью? — спросил Барент. Вилли пожал плечами. — Тогда победа будет присуждена вам. Я выигрываю лишь вчистую. Барент кинул взгляд в окно на всполох молнии. — Не обращайте внимания на этот бред! — вскричал Кеплер. — Он же просто сумасшедший. — Заткнитесь, Джозеф. — Барент повернулся к Вилли. — О'кей. Мы закончим партию. Будем играть теми фигурами, что имеются в наличии? — Я более чем приветствую это. — Вилли широко улыбнулся, продемонстрировав идеальную работу стоматолога. — Спустимся вниз? — Да, — кивнул Барент. — Через минуту. — Он взял наушники, прислушался, затем произнес в маленький микрофон: — Барент на связи. Выведите одну из бригад на берег и моментально покончите с евреем. Понятно? Хорошо. — Он положил наушники на стол. — Все готово. Хэрод ватными ногами последовал за всеми к лифту. Саттер, шедший впереди него, внезапно споткнулся, повернулся и схватил Тони за руку. — Ив эти дни люди станут искать смерти, и не найдут ее, — страстно прошептал преподобный ему прямо в лицо. — Они будут искатьсмерти, но та будет бежать от них. — Отвали, — бросил Хэрод, высвобождая руку. Все пятеро молча спустились вниз.Глава 31
Мелани Я помню пикники, которые мы устраивали в окрестностях Вены, — эти заросшие соснами холмы, луга с полевыми цветами и открытый «Пежо», Вилли возле какого-нибудь ручья или в другом живописном месте. Когда Вилли снимал свою дурацкую коричневую рубашку и портупею, он являл собой образец изысканности в этих шелковых летних костюмах и широкополой белой шляпе, подаренной ему одним из актеров кабаре. До Бад Ишля, до предательства Нины, я испытывала наслаждение только от того, что нахожусь в обществе двух таких красивых людей. Нинина красота в те предвоенные годы достигла своего расцвета, и хотя мы обе были уже в том возрасте, когда нас нельзя считать девушками, а по сегодняшним меркам — даже молодыми женщинами, один вид голубоглазой восторженной Нины заставлял меня чувствовать себя молодой и вести себя, как юное существо. Теперь я понимаю, что их измена в Бад Ишле даже в большей мере, чем измена Нины с моим Чарлзом стала поворотным пунктом, после которого я начала стареть, в то время как Нина продолжала оставаться молодой. В каком-то смысле все эти годы Нина и Вилли питались моей энергией, кровью, Способностью. Теперь настала пора все это прекратить. Во вторую ночь моего странного бдения с Нининой негритянкой я решила положить конец ожиданию. Я не сомневалась в том, что даже если я удалю цветную со сцены, Вилли сможет подсказать мне, где находится Нина. Признаюсь, внимание мое было рассеяно. Несмотря на то что я ощущала, как ко мне возвращаются юность и бодрость, пока паралич продолжал медленно ослаблять свою хватку, моя способность контролировать членов «семейства» и остальных явно снижалась. Глядя глазами мисс Сьюэлл на то, как удаляются Дженсен Лугар, мужчина по имени Сол и еще трое, я сообщила негритянке: «Они забрали твоего еврея». По тому смятению, которое охватило Нинину пешку, я ощутила недостаток ее контроля. Собрав своих людей в тесный кружок, я потребовала, чтобы Нина призналась, где она находится. Она отказалась и начала перемещать свою страстную приверженку к двери. Я не сомневалась, что Нина потеряла всякую связь со своим человеком на острове, а следовательно, и с Вилли. Девица в буквальном смысле была у меня в руках. Я заставила Калли подойти к ней ближе, чтобы она оказалась в пределах его досягаемости, и ввела в гостиную негра из Филадельфии. Он держал в руке нож. — Пора рассказать нам все, — язвительно заметила я, — или эта цветная умрет. Я предполагала, что Нина отдаст девицу. Ни одна даже идеально обработанная пешка не стоила того, чтобы выйти из укрытия. Я подготовила Калли к двум быстрым шагам и резкому движению руками, которое оставило бы девицу бездыханной на ковре с немыслимо вывернутой шеей, как у цыплят, которых убивала мамаша Бут на заднем дворе перед обедом. Мама отбирала птиц, а мамаша Бут хватала их, отворачивала голову и швыряла пушистые трупики на крыльцо, так что глупые цыплята не успевали сообразить, что уже мертвы. Негритянка же выкинула нечто странное. Я полагала, что Нина заставит ее или бежать, или бороться, на худой конец я ожидала моментальной схватки, если Нина попытается овладеть кем-нибудь из моих людей, однако девица осталась стоять на месте и задрала свой огромный свитер — под ним оказался какой-то глупый пояс, что-то вроде бандерильеро мексиканских бандитов, набитый целлофановыми мешочками с содержимым, напоминающим гипс. От приспособления, похожего на транзистор, к этим пакетам с гипсом тянулись какие-то проводки. — Остановись, Мелани! — крикнула она. Я послушалась. Руки Калли повисли в воздухе и замерли на полпути к тощему горлу девицы. Меня мало что беспокоило в этот момент, я испытывала лишь чувство легкого любопытства при этом проявлении Нининого безумия. — Это — взрывчатка, — задыхаясь, произнесла негритянка. Рука ее двинулась по направлению к тумблеру на радиопередатчике. — Если ты дотронешься до меня, я все взорву. Если ты прикоснешься к моему мозгу, монитор автоматически включит зажигание и взрыв сровняет с землей твой вонючий мавзолей. — Нина, Нина, — заставила я сказать Джастина, — ты слишком горячишься. Присядь на минутку. Я попрошу мистера Торна принести нам чаю. Это была совершенно естественная обмолвка, но негритянка обнажила зубы в гримасе, даже отдаленно не напоминающей улыбку. — Мистера Торна здесь нет, Мелани. Похоже, у тебя в голове что-то перепуталось. Мистер Торн... или как его там звали... убил моего отца, а потом его прикончил кто-то из твоих поганых дружков. Но за ними всегда стояла ты, ты, старая рухлядь. Ты была паучихой, сидящей в центре этой паутины... И даже не пробуй! Калли едва шевельнулся. Я заставила его медленно опустить руки и сделать шаг назад. Я подумала о том, чтобы завладеть вегетативной нервной системой девицы. Это заняло бы секунды — их хватило бы как раз на то, чтобы кто-нибудь и моих людей успел ее прикончить, прежде чем она нажмет маленькую красную кнопочку. Не очень-то я поверила ее глупым угрозам. — А что это за взрывчатка, дорогая? — поинтересовалась я через Джастина. — Она называется Си-4, — ответила девица ровным и спокойным голосом, но я слышала, как часто она дышит. — Это военная пластиковая взрывчатка... и здесь ее двенадцать фунтов, вполне достаточно, чтобы взорвать тебя, твой дом и снести еще половину дома Ходжесов. Это мало походило на изысканную речь Нины. Наверху доктор Хартман неуклюже вынул иглу капельницы из моей правой руки и начал поворачивать меня набок. Я отстранила его здоровой рукой. — Как же ты включишь эту взрывчатку, если я отниму у тебя твою маленькую негритянку? — заставила я спросить Джастина. Говард взял с моего ночного столика тяжелый револьвер 45-го калибра, снял обувь и стал бесшумно спускаться по лестнице. Я продолжала поддерживать слабый контакт через мисс Сьюэлл и охранника с тем, что происходило на острове, когда они подняли бесчувственное тело Дженсена Лугара и понесли его в тоннель службы безопасности, в то время как остальные кинулись преследовать человека, которого негритянка называла Солом. Позывные тревоги доносились даже до мисс Сьюэлл. К острову приближалась гроза; офицер на борту яхты сообщил о том, что высота волн достигла шести футов и продолжает нарастать. Девица сделала шаг по направлению к Джастину. — Видишь эти провода? — Она наклонилась, чтобы он мог посмотреть на тонкие проводочки, сползавшие из-под ее волос и уходившие за ворот блузки. — Это сенсоры, передающие электрические сигналы моих мозговых волн на монитор. Ты в состоянии это понять? — Да, — прошептал Джастин. Я не имела ни малейшего понятия, о чем она там болтает. — Мозговые волны могут иметь разный рисунок, — продолжала Натали. — Они так же неповторимы, как отпечатки пальцев. Как только ты прикоснешься к моему сознанию своими грязными безумными мыслями, ты вызовешь то, что называется Тета-ритм, — он встречается у крыс, ящериц и других низших представителей жизни, как ты сама — маленький компьютер в этом мониторе зарегистрирует его и включит Си-4. И это произойдет в считанные доли секунды, запомни, Мелани. — Ты лжешь, — сказала я. — Можешь попробовать. — Негритянка сделала еще шаг вперед и сильно толкнула Джастина, так что бедняжка полетел назад, наткнулся на любимое папино кресло и рухнул на пол. — Попробуй, — повторила она, повышая голос, дрожавший от ярости, — попробуй, старая ведьма, и ты отправишься в ад! — Кто ты? — спросила я. — Никто, — ответила девица. — Дочь убитого тобой человека. Ты даже не помнишь о такой мелочи. — Так ты не Нина? Говард уже спустился вниз. Он поднял револьвер, приготовившись выскочить в дверной проем и выстрелить. Негритянка повернула голову. Зеленоватое сияние, лившееся со второго этажа, отбрасывало фантастические тени в том месте, где стоял Говард. — Если ты убьешь меня, — твердо сказала Натали, — монитор зафиксирует замирание мозговых волн и включит детонатор. Тогда в этом доме будут уничтожены все. — В ее голосе не было страха, лишь какая-то восторженность. Конечно же, она лгала. А скорее всего, лгала Нина. Ни одна цветная с улицы не могла знать таких подробностей о Нининой жизни, о смерти ее отца, о деталях нашей венской Игры. Но эта девица уже говорила мне что-то об убийстве своего отца, когда мы впервые встретились с ней в Ропщущей Обители. Или не говорила? Все страшно перепуталось. Может, Нина действительно обезумела после смерти и теперь считает, что это я толкнула ее отца под троллейбус в Бостоне? Может, в последние секунды жизни ее сознание укрылось в низменном мозгу этой девицы — не работала ли она горничной в «Мансарде»? И теперь Нинины воспоминания смешались с пустыми мыслями этой цветной прислуги? Подумав об этом, Джастин чуть не рассмеялся: какая насмешка над Ниной! Однако в чем бы ни заключалась истина, я не боялась ее взрывчатки. Мне доводилось слышать сочетание «пластиковая взрывчатка», но я не сомневалась, что она ничем не напоминала эти кусочки гипса. Они даже на пластик-то не походили. К тому же я помнила, как папа подкладывал динамит под бобровую запруду в нашем поместье в Джорджии перед войной, — на озеро тогда поехали только он и десятник, и с какими предосторожностями они обращались с предательским динамитом и подрывными капсюлями! Носить взрывчатку на каком-то идиотском поясе было крайне непредусмотрительно. Что же касается остального — всех этих мозговых волн и компьютеров, — это вообще казалось полной бессмыслицей. Чем-то из области научной фантастики. Помню, Вилли зачитывался этой чушью, печатавшейся в дешевых цветных немецких журналах. Но даже если такое было возможно — чему я не верила, — подобные представления не могли прийти в голову черномазой. Даже для меня осознание этого представляло определенную сложность. И тем не менее давить на Нину дальше казалось мне бессмысленным. Нельзя было исключать тот минимальный шанс, что в аппарате ее пешки действительно находится динамит. Но все же я не могла удержаться от соблазна поиграть с Ниной еще немного, хотя сумасшествие не делало ее менее опасной. — Чего ты хочешь? — спросила я. Девица облизнула пересохшие губы и оглянулась. — Выведи отсюда своих людей. Всех, кроме Джастина. Он пусть останется в кресле. Один. — Конечно, дорогая, — промурлыкала я. Негр, сестра Олдсмит и Калли вышли в разные двери. Когда Калли проходил мимо, Говард шагнул назад, но револьвер не опустил. — Рассказывай мне, что происходит, — злобно приказала девица. Она продолжала стоять, не отводя пальца от красной кнопки на поясе. — Что ты имеешь в виду, дорогая? — Что происходит на острове? Что случилось с Солом? Джастин пожал плечами. — Знаешь, я потерял к этому интерес. Девица сделала три шага вперед, и мне показалось, что она собирается ударить беспомощного ребенка. — Черт бы тебя побрал! — выругалась она. — Рассказывай мне то, что я хочу знать, или я нажму на кнопку сию же минуту. Это стоит того, чтобы прикончить тебя... приятно будет осознавать, что ты поджариваешься в своей кровати, как старая лысая крыса. Ну, решай же, сука. Мне всегда была отвратительна грубость. И это отвращение не могло быть смягчено образностью ее выражений. Моя мать необъяснимым образом боялась потопа и наводнений. Моим же кошмаром всегда был пожар. — Твой еврей запустил камнем в человека Вилли и скрылся в лесу еще до того, как началась Игра, — сказала я. — За ним послали несколько человек. Двое охранников понесли Дженсена Лугара в санитарную часть этого их дурацкого подземного комплекса. Он уже несколько часов без сознания. — Где Сол? Джастин скорчил гримасу. В его голосе прозвучало больше жалобных ноток, чем я намеревалась ему придать. — Откуда мне знать? Я не могу быть везде. — Мне не хотелось сообщать ей, что в этот момент я заглянула глазами охранника, с которым установила контакт через мисс Сьюэлл, в медицинскую часть и увидела, как негр Вилли поднялся со стола и задушил двух людей, принесших его. Это зрелище вызвало у меня странно знакомое ощущение, пока я не вспомнила Вену, лето 1932 года, когда мы смотрели с Ниной и Вилли «Франкенштейна» в кинотеатре «Крюгер». Я помню, что вскрикнула, увидев, как дернулась на столе рука чудовища и он поднялся, чтобы задушить склонившегося над ним и ничего не подозревавшего врача. Сейчас кричать мне не хотелось. Я заставила своего охранника пройти мимо, обойти помещение, в котором его коллеги смотрели на экраны мониторов, и остановиться у кабинета администрации. Я не видела никаких оснований сообщать Нининой негритянке об этом развитии событий. — Куда побежал Сол? — осведомилась девица. Джастин сложил руки на груди. — А почему бы тебе не сообщить мне об этом, если ты такая умная? — поинтересовалась я. — Ладно, — согласилась негритянка. Она смежила веки, пока не остались лишь щелочки, в которых едва проглядывал белок. Говард продолжал стоять в тени прихожей. — Он бежит на север, через густые джунгли. Там какие-то... развалины. Надгробия. Это кладбище. — Она открыла глаза. Я застонала и заметалась наверху в своей постели. Я была так уверена, что Нина не может поддерживать контакт со своей пешкой. Но именно эта картина была на экранах мониторов охранников минуту назад. Я потеряла след негра Вилли в переплетениях коридоров. Мог ли Вилли использовать девицу? Кажется, ему нравилось использовать цветных и представителей других неполноценных рас. Но если это был Вилли, где же тогда Нина? Я чувствовала, что у меня снова начинает болеть голова. — Чего ты хочешь? — вновь спросила я. — Чтобы ты следовала нашему плану. — Девица не отходила от Джастина — Так, как мы договорились. — Она бросила взгляд на часы. Рука ее отодвинулась от красной кнопки, но продолжала оставаться проблема мозговых волн и компьютеров. — Мне кажется, нет больше смысла продолжать все это, — заметила я. — Неспортивное поведение твоего еврея расстроило всю вечернюю программу, и я не сомневаюсь, что остальные... — Заткнись! — оборвала меня негритянка, и хотя лексика была чуть вульгарной, интонация явно принадлежала Нине. — Ты будешь продолжать, как мы договорились. Если же нет, посмотрим, удастся ли Си-4 сразу сровнять этот дом с землей. — Ты никогда не любила мой дом, — сказал Джастин, выпятив нижнюю губу. — Приступай, Мелани, — скомандовала девица. — А если ты попробуешь уклоняться, я все равно узнаю это. Если не сразу, то очень скоро. И не стану предупреждать тебя, когда включу детонатор. Пошевеливайся. В это мгновение я чуть было не заставила Говарда пристрелить ее. Еще никто не разговаривал со мной таким тоном в моем собственном доме, не говоря уже о черномазых девках, которым вообще было не место в моей гостиной. Но я сдержалась и приказала Говарду осторожно опустить револьвер. Необходимо учитывать и другие вещи. Это было вполне в Нинином духе, впрочем, и в духе Вилли— провоцировать меня таким способом. Если я убью ее сейчас, в гостиной начнется страшная каша, которую придется убирать, и я ни на йоту не приближусь к тому, чтобы узнать, где находится Нина. В то же время сохранялась вероятность того, что часть ее истории соответствовала истине. Ведь странный Клуб Островитян, о котором она мне рассказывала, реально существовал, хотя мистер Барент на самом деле оказался гораздо больше джентльменом, чем можно было заключить из ее слов. К тому же имелись довольно явные доказательства, что этот клуб представлял для меня угрозу, хотя я не понимала, почему опасность может грозить и Вилли. И если бы я упустила эту возможность, то не только лишилась бы мисс Сьюэлл, но и осталась бы в состоянии тревоги и неуверенности, гадая, что эти люди могут предпринять в будущем против меня. Поэтому, несмотря на мелодраматические события предшествовавшего получаса, я вернулась к тому же состоянию неприятного сотрудничества с Нининой негритянкой, в котором пребывала в течение последних нескольких недель. — Очень хорошо, — вздохнула я. — Давай, — велела девица. — Сейчас-сейчас, — пробормотала я. Джастин замер. Все члены моего «семейства» застыли как статуи в разных комнатах. Я сжала челюсти, и тело мое напряглось от усилия.* * *
Мисс Сьюэлл подняла голову, когда в конце коридора хлопнула тяжелая дверь. Охранник, сидевший в кабинке на табуретке, вскочил при виде негра и вскинул свой автомат. Лугар отнял у него оружие и наотмашь ударил того по лицу, сломав при этом нос и загнав осколки кости охраннику в мозг. Затем он вошел в кабинку и нажал на рычаг. Прутья решетки поползли вверх, и пока остальные пленники продолжали прятаться по углам в своих нишах, мисс Сьюэлл вылезла наружу, потянулась, чтобы восстановить кровообращение, и повернулась лицом к негру. — Привет, Мелани, — сказал он голосом Вилли. — Добрый вечер, Вилли, — ответила мисс Сьюэлл. — Я знал, что это ты, — тихо промолвил он. — Невероятно, как мы узнаем друг друга, несмотря на все наши маски. Не правда ли? — Да, — кивнула я. — Не найдется ли что-нибудь прикрыть эту? Нехорошо, что она обнажена. Негр Вилли ухмыльнулся, сорвал с мертвого охранника рубашку и накинул ее на плечи мисс Сьюэлл. Я сосредоточилась на том, чтобы застегнуть две оставшиеся пуговицы. — Ты отведешь меня в дом? — спросила я. — Да. — Нина там, Вилли? Лоб негра наморщился, одна бровь приподнялась. — А ты ожидала встретить ее? — поинтересовался он. — Нет. — Там будут другие. — Его крупные зубы обнажились в улыбке. — Мистер Барент, — промолвила я. — Саттер... и остальные члены Клуба Островитян, да? Пешка Вилли от души рассмеялся. — Мелани, любовь моя, ты не устаешь меня удивлять. Ты ничего не знаешь, но всегда в курсе событий. Я придала чертам мисс Сьюэлл слегка надутый вид. — Не груби, Вилли. Это тебе не идет. Он снова рассмеялся. — Да-да. Сегодня никаких грубостей. Это наша последняя встреча, любимая. Пошли, все уже ждут. Я последовала за ним по коридорам, поднялась наверх и вдохнула ночной прохладный воздух. Никаких охранников я не заметила, хотя продолжала поддерживать легкий контакт с тем, что остался стоять возле административного помещения. Мы прошли мимо высокой ограды, где все еще пузырилось и дымилось распластанное на проволоке тело охранника. Потом я различила в темноте бледные фигуры остальных суррогатов, выползавших на свежий воздух. По небу с бешеной скоростью неслись тучи. Надвигалась гроза. — Люди, причинившие мне боль, поплатятся за это сегодня, да, Вилли? — спросила я. — О да, — прорычал он, не разжимая своих белоснежных зубов. — Да, Мелани, любовь моя. Мы шли к огромному дому, купавшемуся в ярком белом свете. И тут я заставила Джастина ткнуть пальцем в Нинину негритянку. — Ты этого хотела! — завизжала я пронзительным голосом шестилетнего ребенка. — Ты этого хотела! А теперь смотри!Глава 32
Остров Долменн Вторник, 16 июня 1981 г. Сол еще никогда в жизни не оказывался под таким проливным дождем. Он мчался по берегу, а потоки воды грозили вдавить его в песок, как вдавливает тяжелый занавес незадачливого актера, вышедшего не в той мизансцене. Прожектора, бившие горизонтально с катеров и вертикально с вертолета, освещали лишь плотные завесы воды, сверкавшие во тьме, как трассирующие пули. Сол бежал, увязая в песке, постепенно превращавшемся в жижу, и думал лишь о том, чтобы не поскользнуться и не упасть, — почему-то ему казалось, что если он упадет, то уже никогда не сможет подняться. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Только что струи барабанили по его голове и обнаженным плечам, раскаты грома и шум обрушивающейся на деревья воды заглушали все остальные звуки, и вдруг потоки перешли в капли, видимость увеличилась до десяти метров, и Сол разглядел фигуры орущих людей. В нескольких шагах от него песок взвился вверх целой серией мелких фонтанчиков. И прежде чем сообразить, что в него стреляют, Сол успел подумать, не является ли это странной реакцией на грозу закопавшихся в песок крабов и других моллюсков. Прямо над его головой взвыл мотор, перекрывший все остальные звуки, и прожектор, ударивший из темного корпуса машины, надвое разрезал лучом полосу берега. Вертолет круто развернулся и, преодолевая сопротивление густого, насыщенного влагой воздуха, закрутился на одном месте футах в двадцати над песком. Два катера, с ревом прорвавшись сквозь полосу прибоя, двинулись к берегу. Сол споткнулся, с трудом восстановил равновесие и помчался дальше. Он не знал, где находится, но отчетливо помнил, что северный пляж был короче этого и джунгли отступали от песка на большее расстояние. На какое-то мгновение, когда вертолет перестал крутиться и прожектора своими лучами заскользили по Солу, ему показалось, что он уже оставил бухточку позади, не разглядев ее под тропическим ливнем. Ночью, в грозу и шторм, все вокруг выглядело иначе. Чувствуя, как каждый вдох раздирает горло и грудь, он продолжал свой бег, а с обеих сторон выстрелы то и дело вздымали фонтанчики песка. Вертолет, казалось, летел прямо на Сола. Бортовые огни сверкали чуть ли не на уровне его головы. Он плашмя бросился на песок, обдирая свое обнаженное тело о гальку, острую, как наждачная бумага. Порывом воздуха от лопастей вертолета его еще сильнее вжало в песок. Не то автоматный огонь, направленный на Сола, каким-то образом задел механизм вертолета, не то в нем просто что-то сломалось, но в тот самый момент, когда он пролетал над распростертым телом Сола, раздался какой-то гулкий рокочущий звук, словно в катящуюся пустую железную бочку попал камешек, и вся машина задрожала. Ярдов через пятьдесят вертолета попытался снова набрать высоту, но его отнесло влево, а потом круто развернуло вправо. Лопасти винта самопроизвольно начали вращаться в противоположном направлении. Теперь его несло прямо на стену деревьев. В течение нескольких минут казалось, что вертолет собирается косить верхушки деревьев собственным винтом, — ветви кипарисов и пальм взвивались вихрем вверх и разлетались в разные стороны, как дорожные рабочие, спасающиеся от взбесившегося мотоцикла в кинокомедии Мака Сеннетта. Наконец вертолет совершил немыслимую петлю, блеснула залитая дождем плексигласовая кабина, отражая луч собственного прожектора, который бил теперь вертикально в небо из перевернутого брюха. Затем раздался оглушительный скрежет и обломки вертолета посыпались на пляж. Отделившаяся кабина рухнула у самой кромки воды, трижды подпрыгнула в волнах, как умело брошенный камешек, и погрузилась на дно. Через секунду что-то детонировало взрывчатку, находившуюся в кабине, и море вскипело, как столб пламени, наблюдаемый сквозь толстое зеленое стекло. Вверх взвился гейзер белых брызг, они осыпали вжавшегося в песок Сола с головы до ног. Мелкие обломки еще в течение полминуты продолжали издать на песок. Сол поднялся и глупо пялился на все это, пока в него не вонзилась первая пуля. Почувствовав жгучую боль в левом бедре, он понял, что стоит в маленьком ручейке, протекающем по дну широкого углубления в песке. В это мгновение что-то уже более сильно ударило его под правую лопатку, и он полетел лицом вниз в мутный поток. Два катера на полной скорости преодолели волны прибоя, а третий продолжал курсировать футах в ста от берега. Сол застонал, перекатился на бок и посмотрел на ногу. Пуля проделала кровавый желобок чуть ниже кости с внешней стороны. Он попробовал нащупать левой рукой рану на спине, но у него занемела лопатка. Измазанная кровью рука мало что говорила ему. Сол поднял правую руку и пошевелил пальцами. Рука продолжала действовать, и этого было достаточно. «Наплевать», — подумал Сол по-английски и пополз к джунглям. Ярдах в двадцати от берега днище первого катера заскрежетало по дну, и в воду спрыгнули четверо человек, вооруженных винтовками. Не вставая с четверенек, Сол поднял голову. По небу неслись лохматые обрывки черных туч. В просветах появились звезды. Затем разошлись и эти последние клочки туч и, словно перед началом третьего, заключительного акта, поднялся огромный занавес.* * *
Хэрод понял, что ему безумно страшно. Впятером они спустились в главный зал, где люди Барента уже поставили сиденьями друг к другу два огромных кресла, разделенных широченным пространством пола, выложенного черно-белыми клетками. Нейтралы в синих блейзерах и серых брюках с автоматами в руках встали возле каждого окна и двери. Целая группа охранников окружила Марию Чен, помощника Кеплера по имени Тайлер и пешку Вилли — Тома Рэйнольдса. Через открытые панорамные двери Хэрод увидел, что ярдах в тридцати от особняка стоит вертолет Барента, а рядом целый эскадрон нейтралов, щурившихся от яркого света прожекторов. Похоже, лишь Барент и Вилли до конца понимали, что происходит. Кеплер продолжал ходить взад-вперед, заламывая руки, как осужденный на казнь. Джимми Уэйн Саттер пребывал в отрешенном состоянии человека, накачанного ЛСД. — Ну и где ваша долбаная шахматная доска? — осведомился Хэрод. Барент улыбнулся и направился к длинному столу эпохи Людовика XIV, заставленному бутылками, фужерами и разнообразными закусками. На другом столе находился целый набор электронной аппаратуры, а рядом стоял усатый фэбээровец по фамилии Свенсон в наушниках и с микрофоном. — Для этой игры вовсе шахматная доска не требуется, Тони, — улыбнулся Барент. — В конце концов, это всего лишь упражнение для ума. — И вы говорите, что играете уже несколько месяцев по почте? — спросил Джозеф Кеплер сдавленным голосом. — С тех пор как мы выпустили в Чарлстон Нину Дрейтон в прошлом декабре? — Нет. — Барент кивком головы подозвал слугу в синем блейзере, и тот налил шампанского в его бокал. Барент сделал глоток и снова улыбнулся. — На самом деле мистер Борден прислал мне первый ход за несколько недель до Чарлстона. Кеплер хрипло рассмеялся. — Значит, в то время, как вы и Саттер постоянно поддерживали с ним связь, вы продолжали внушать мне, что я один нахожусь с ним в контакте? Барент бросил взгляд на священника. Тот тупо смотрел на панорамные двери. — На самом деле, преподобный Саттер общался с мистером Борденом гораздо дольше, — ответил Барент. Кеплер подошел к столу и налил себе виски в высокий стакан. — Вы использовали меня точно так же, как Колбена и Траска, — и он осушил стакан одним глотком. — Точно так же, как Колбена и Траска, — повторил он обреченно. — Джозеф, — примирительным тоном произнес Барент, — Чарлз и Ниман просто оказались не в то время и не в том месте, Дрожащей рукой Кеплер вновь наполнил свой стакан. — Убитые фигуры убираются с доски? — прошептал он. — Да! — с чувством подхватил Вилли. — Но я тоже проиграл несколько фигур. — Он посолил очищенное крутое яйцо и откусил от него большой кусок. — Мы с герром Барентом слишком беззаботно поступили со своими ферзями в самом начале игры. Хэрод подошел к Марии Чен и взял ее за руку. Пальцы ее были холодными как лед. Охранники Барента стояли в нескольких ярдах от них. — Они обыскали меня, Тони, — прошептала Мария Чен. — Им все известно об оружии в катере. У нас отрезаны все пути с острова. Хэрод отрешенно кивнул. — Тони. — Она сжала его руку, — мне страшно. Хэрод окинул взглядом зал. Люди Барента зажгли несколько софитов, осветивших лишь часть черно-белых клеток пола. На вид каждая клетка была размером в четыре квадратных фута. Хэрод насчитал восемь рядов по восемь клеток в каждом. До него наконец дошло, что это и есть шахматная доска. — Не волнуйся, — произнес он. — Клянусь, я вытащу тебя отсюда. — Я люблю тебя, Тони, — прошептала прекрасная азиатка. Хэрод с минуту смотрел на нее, затем отпустил ее руку и направился к столу. — Единственное, чего я не понимаю, герр Борден, — говорил Барент, — как вам удалось помешать Фуллер выехать из страны. Люди Ричарда Хейнса так и не установили, что произошло в аэропорту Атланты. Вилли рассмеялся, стряхнув с губ остатки яичного белка. — Телефонный звонок, — ответил он. — Обычный телефонный звонок. На протяжении многих лет я аккуратно записывал телефонные разговоры между моей дорогой Ниной и Мелани, а потом мне это пригодилось. — Голос Вилли взвился фальцетом. — Мелани, дорогая, это ты, Мелани? Это Нина. — Вилли взял со (.тола второе яйцо. — И вы заранее выбрали Филадельфию как место розыгрыша миттельшпиля? — поинтересовался Барент. — Нет. Я был готов играть в любом месте, куда бы ни направилась Мелани Фуллер. Впрочем, Филадельфия меня вполне устраивала, поскольку она давала моему помощнику Дженсену Лугару возможность свободно передвигаться в негритянских кварталах. Барент горестно покачал головой. — Там мы оба потеряли много ценных игроков. Вот результат небрежных ходов как с той, так и с другой стороны. — Да, мой ферзь в обмен на коня и несколько пешек. — Вилли нахмурился. — Надо было избежать слишком ранней ничьей, но в целом это не похоже на мою обычную игру в турнирах. К Баренту подошел Свенсон и что-то прошептал ему на ухо. — Прошу меня извинить, — промолвил миллионер и направился к столу с аппаратурой. Через несколько минут он вернулся, явно взволнованный. — Что это вы задумали, мистер Борден? — осведомился он сердито. Вилли облизал пальцы и, широко раскрыв глаза, с невинным видом посмотрел на Барента. — В чем дело? — вмешался Кеплер, переводя взгляд с Вилли на Барента. — Что происходит? — Несколько суррогатов вырвались из загона, — пояснил Барент. — По меньшей мере двое из охранников убиты к северу от зоны безопасности. Только что мои люди засекли чернокожего коллегу мистера Бордена с женщиной... суррогаткой, привезенной на остров мистером Хэродом... они в четверти мили отсюда, уже на Дубовой аллее. Что это вы задумали, сэр? Вилли пожал плечами. — Дженсен — мой старый и очень ценный помощник. Просто я возвращаю его сюда для эндшпиля, герр Барент. — А женщина? — Признаюсь, я намеревался использовать и ее. — Вилли окинул взглядом зал, в котором собралось по меньшей мере дюжины две нейтралов Барента с автоматическими винтовками и «узи». На балконах тоже было полно охранников. — И уж конечно, два обнаженных безоружных суррогата не могут представлять угрозу для вас, — со смешком добавил он. Преподобный Джимми Уэйн Саттер оторвался от окна. — А если Господь сотворит необычайное, — изрек он, — и земля разверзнет уста свои и поглотит их, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа, — и он снова повернулся к за оконной тьме. — Книга Чисел, глава 16. — Премного благодарен, — буркнул Хэрод. Отвинтив колпачок от квартовой бутыли с дорогой водкой, он начал пить прямо из горлышка. — Замолчи, Тони! — прикрикнул на него Вилли. — Ну что, герр Барент, впустите вы моих бедных пешек, чтобы мы могли начать игру? Кеплер с расширенными от ужаса или ярости глазами дернул К. Арнольда Барента за рукав. — Убей их, — настойчиво произнес он, затем указал дрожащим пальцем на Вилли. — Убей и его. Он сумасшедший. Он хочет уничтожить весь мир только потому, что чувствует приближение собственной смерти. Убей его, пока он не... — Замолчи, Джозеф, — оборвал его Барент и кивнул Свенсону: — Приведите их сюда, мы начинаем. — Постойте, — сказал Вилли и на полминуты смежил веки. — Вот еще один. — Он открыл глаза и расплылся в широченной улыбке. — Прибыла еще одна фигура. Игра окажется гораздо более захватывающей, чем я предполагал, герр Барент.* * *
Сол Ласки был застрелен сержантом СС с пластырем на подбородке и сброшен в Ров вместе с сотнями других убитых евреев. Но Сол не умер. В темноте он выбрался из мокрого Рва по гладким остывающим трупам мужчин, женщин и детей, привезенных из Лодзи и сотни других польских городов. Немота в правом плече и левой ноге уступила место раздирающей боли. Он был дважды застрелен и сброшен в Ров, но был все еще жив. Жив! И доведен до ярости. Ярость, клокотавшая в нем, была сильнее боли, сильнее усталости, страха и потрясений. Ему казалось, что он снова и снова полз по обнаженным телам, лежащим на дне сырого Рва, и он позволял ярости подогревать свою несгибаемую решимость остаться в живых. В кромешной тьме он все полз и полз вперед. В некоторой степени Сол отдавал себе отчет в том, что галлюцинирует, и профессиональная часть его сознания металась в догадках — не ранения ли запустили механизм видений? Он с изумлением взирал на наложение друг на друга реальных событий, разделенных между собой сорока годами. Но другая часть сознания воспринимала происходящее как абсолютную реальность, как решимость бороться с самой беспросветной частью его жизни, с чувством вины и одержимости, обескровившими его существование на целых сорок лет, лишившими его любви и семейного счастья, с мыслями о будущем на протяжении всех этих сорока лет, занятых попытками понять, почему он до сих пор жив. Почему не остался со всеми во Рву. Но сейчас он был с ними. За его спиной четверо преследователей вышли на берег и теперь перекрикивались и махали друг другу руками, растянувшись по пляжу на тридцать ярдов. То и дело короткие очереди рассекали листву. Сол сосредоточенно полз вперед в полной темноте, ощупывая почву руками и чувствуя, как песок сменяется землей, заваленной деревьями, и более вязкой трясиной. Он опустил лицо в воду и, задохнувшись, резко выпрямил спину, стряхивая с волос капли и приставшие веточки. Он где-то потерял свои очки, но в темноте толку от них было мало — с равным успехом он мог находиться в десяти футах и в десяти милях от нужного ему дерева. Свет далеких звезд не проникал сквозь густую листву, и лишь еле различимая белизна собственных пальцев в нескольких дюймах от лица убеждали Сола в том, что он не ослеп из-за какого-либо странного воздействия попавшей в него пули. Будучи врачом, Сол не мог отделаться от вопросов: как велика потеря крови, где именно засела пуля (ему не удалось найти выходного отверстия) и как долго он может обходиться без медицинской помощи, чтобы иметь шансы на выживание? Но когда через секунду выстрелы винтовок разрезали листву в двух футах у него над головой, эти вопросы показались ему чисто академическими. С легкими шлепающими звуками в болото посыпались ветки. — Туда! — послышался мужской голос футах в тридцати от Сола. — Он пошел туда! Кельти, Саге, идемте со мной. Оверхольт, двигайся вдоль берега, чтобы он не вышел из зарослей! Сол полз вперед, пока вода не достигла пояса, затем встал. Мощные фонарики снопами желтого света освещали джунгли за его спиной. Сол прошел вперед футов десять-пятнадцать и упал, споткнувшись о невидимое под водой бревно, — лицо его погрузилось в воду, и он непроизвольно глотнул ее. Пока он пытался подняться на колени, прямо в глаза ему ударил свет. — Вот он! — Луч метнулся в сторону, и Сол прижался к гнилому бревну, когда снова со всех сторон засвистели пули. Одна срезала кусок мягкой древесины в десяти дюймах от его щеки и поскакала по поверхности болота со звуком обезумевшего насекомого. Сол инстинктивно дернулся в сторону, и в это мгновение лучи фонариков скользнули по стволу высохшего дерева, расколотого молнией. — Назад, налево! — закричал охранник. Автоматические винтовки поднимали немыслимый грохот, а плотный покров листвы лишь усугублял его, создавая впечатление, что трое стреляют в закрытом тире. Сол встал и направился к дереву в двадцати футах от него. Луч одного из фонариков метнулся к нему, остановился и снова его потерял, пока охранник вскидывал винтовку. Пули с жужжанием проносились мимо, как рассерженные пчелы, а те что врезались в воду осыпали Сола брызгами. Следующая очередь гулко забарабанила по дереву, тому самому, к которому он направлялся. Сол наконец достиг цели и запустил руку в дупло, и тут лучи фонариков снова обнаружили его. Сумка, которую он оставил в дупле, исчезла. Сол нырнул в воду в тот момент, когда пули вонзились в изуродованное молнией дерево. Пока он продвигался по дну, цепляясь за корни, пучки водорослей и все, что попадалось под руку, все новые и новые пули со зловещим пением врезались в воду. Спрятавшись за деревом, он высунул голову, чтобы набрать воздуха, и принялся молить Бога послать ему палку, камень, любой увесистый предмет, которым он мог бы швырнуть в своих врагов в последние мгновения жизни. Ярость его стала всеобъемлющей, она заглушила даже боль от ран. Солу казалось, что ярость превратилась в сияние над его головой, словно у Моисея, с которым тот, по преданию, спустился с горы, или в яркие пучки света, бьющие сейчас через те места, где пули оставили сквозные дыры. И вдруг Сол заметил, что в трещине у самой воды что-то поблескивает. — Выходи! — крикнул тот же охранник, стрельба прекратилась, и он вместе с напарником, громко шлепая по воде, начал смещаться влево, чтобы лучше прицелиться. Третий, не опуская фонарика, двинулся вправо. Сол сжал кулак и ударил по плотной древесине в том месте, где сквозь кору просачивался свет. Раз. Два. В третий раз его кулак прошел внутрь, и пальцы сомкнулись на мокром пластике. — Видишь его? — крикнул охранник слева. Свисавшие с низких ветвей клубки испанского мха частично затемняли лучи фонариков. — Черт, подойди ближе! — заорал тот что был справа. Его фигура виднелась за изгибом ствола. Сол вцепился в скользкий пластик и попытался вытащить сумку сквозь проделанное им узкое отверстие. Но сумка была слишком большая. Тогда он отпустил сумку и стал сдирать кору ногтями. Обугленная гнилая древесина отрывалась целыми клочьями, но сердцевина была твердой как сталь. — Я вижу его! — закричал второй охранник слева, и очередь снова заставила Сола нырнуть под воду, но и там он продолжал свое занятие, не обращая внимания на фонтаны брызг. Через две-три секунды грохот прекратился, и Сол вынырнул, хватая воздух ртом и отряхивая воду. — ..Барри, законченный ты идиот! — орал слева один из охранников. — Я прямо на твоей линии огня, сукин ты сын! Сол засунул руку в дупло и обнаружил там лишь воду. Сумка погрузилась еще глубже. Он обошел ствол и запустил левую руку в отверстие так глубоко, как только мог. Пальцы его сомкнулись вокруг ручки. — Я вижу его! — снова закричал охранник справа. Сол подался назад, ощущая простреленной лопаткой присутствие двоих охранников у себя за спиной, и потянул ручку изо всех сил. Сумка приподнялась и застряла — отверстие по-прежнему было слишком узким для нее. Охранник справа установил фонарик и выстрелил одиночным патроном. Еще один луч высветил новое отверстие в стволе в нескольких дюймах над головой Сола. Он присел, поменял руки и снова дернул. Ничего не изменилось. Вторая пуля прошла между его правой рукой и боком. Сол понял, что охранники позади не стреляли лишь потому, что их коллега теперь находился прямо напротив них — он подбирался ближе, чтобы сделать третий выстрел, ни на мгновение не выпуская Сола из луча света. Сол ухватился за ручку обеими руками, уперся ногами в ствол и оттолкнулся от него изо всех сил. Он не сомневался, что ручка оторвется, и она все-таки оторвалась, но уже после того, как громоздкий мешок вылез наружу. Сол подхватил сумку, едва не уронил ее, прижал покрепче к груди, повернулся и бросился бежать. Охранник справа выстрелил и перевел винтовку на автоматический режим, когда Сол выскользнул из луча фонарика. В Сола уперся другой луч — слева и тут же потерял его, а охранник вдруг взвыл и разразился ругательствами. Справа снова последовала очередь, на сей раз охранник уже сместился в сторону футов на пятнадцать. Сол бежал не останавливаясь, жалел лишь о том, что потерял очки. Воды было уже по щиколотку, когда он споткнулся о поваленное дерево и вылетел на островок, поросший низким кустарником и болотной травой. По хлюпанью воды он догадался, что его преследуют как минимум двое. Он бросил тяжелую сумку на землю, нащупал молнию, быстро открыл ее и разорвал внутренний водонепроницаемый мешок. — У него там что-то есть! — крикнул один охранник другому. — Быстрей! — И они с чавканьем и плеском бросились пересекать полосу мелководья. Сол вытащил связку Си-4, отшвырнул ее в сторону и схватил М-16, полученную им по наследству от Хейнса. Винтовка не была заряжена. Стараясь не уронить сумку в воду, Сол нащупал обойму, удостоверился, что она перевернута, и вставил ее в щель магазина. Сколько часов в Чарлстоне он потратил на то, чтобы преломить ствол, зарядить и выстрелить — только теперь он начал понимать, что имел в виду Коуэн, когда говорил, что оружие надо уметь заряжать даже с завязанными глазами. Лучи фонариков заплясали по стволу, за которым прятался Сол, и по звукам он догадался, что шедший впереди охранник находится не более чем в десяти футах от него и продолжает приближаться. Сол перекатился на живот, снял автомат с предохранителя движением, которое уже вошло у него в привычку, прижал к плечу пластиковый приклад и выпустил целую очередь в грудь и живот охранника. Тот рванулся вперед, затем его словно подбросило в воздух и он вместе с фонариком плюхнулся в болото. Второй преследователь остановился в двадцати футах справа от Сола и прокричал что-то неразборчивое. Сол выстрелил прямо в луч фонарика. Раздался звон стекла и скрежет металла, потом крик — и полная тишина. Сол различил в футе от себя призрачное зеленоватое мерцание и догадался, что это все еще светит под водой фонарик первого убитого им охранника. — Барри? — донесся тихий голос слева, оттуда, где двое охранников пытались обойти дерево. — Кип? Какого черта, что происходит? Я ранен. Хватит шататься вокруг. Сол вытащил из сумки еще одну обойму, зашвырнул обратно взрывчатку и, стараясь придерживаться мелководья, быстро двинулся влево. — Барри? — снова раздался голос, уже с расстояния футов в двадцать. — Я выбираюсь отсюда. Я ранен. Кретин, ты попал мне в ногу. Сол продвигался вперед, делая движения лишь тогда, когда охранник издавал какие-нибудь звуки. — Эй! Кто там? — донеслось из темноты. Сол отчетливо расслышал, как щелкнул затвор. Прижавшись спиной к дереву, он прошептал: — Это я. Оверхольд. Посвети-ка нам. — Черт, — выругался охранник, включая фонарик. Солвыглянул из-за дерева и увидел человека в серой форме службы безопасности. Левая брючина его была вся в крови. В руках он держал «узи», одновременно возясь с фонариком. Сол убил его одним выстрелом в голову. Форма службы безопасности представляла собой единый комбинезон с молнией спереди. Сол выключил фонарик, стащил с трупа одежду и натянул ее на себя. С берега доносились отдаленные крики. Комбинезон был слишком велик, сапоги жали даже без носков, но никогда еще в своей жизни Сол Ласки не испытывал такого восторга от одежды. Он нащупал в воде кепку с длинным козырьком и напялил ее на голову. Сунув под мышку М-16, а в правую руку «узи», для которого он нашел три дополнительные обоймы в глубоких карманах комбинезона, Сол, прицепив фонарик к ремню, двинулся обратно, туда, где оставил сумку. Пакеты со взрывчаткой, дополнительные обоймы и «кольт» не промокли и были вполне боеспособны. Он закинул «узи» в сумку, застегнул ее, перебросил через плечо и начал выбираться из болота. Вторая лодка стояла ярдах в двадцати от берега, и четвертый охранник, остававшийся на пляже, теперь присоединился к пяти вновь прибывшим. Когда Сол появился с западной стороны бухты, он окликнул его: — Кип, это ты? Сол потряс головой. — Барри, — сказал он, прикрыв рот рукой. — Что там была за стрельба? Вы взяли его? — На восток! — загадочно ответил Сол, махнув рукой вдоль берега. Трое охранников, вскинув винтовки, потрусили в указанном направлении. Один из них поднял радиопередатчик и что-то быстро затараторил. Два катера, курсировавших за волнорезами, развернулись к востоку и направили свои прожектора на стену деревьев. Сол подошел к тому катеру, который причалил первым. Он вытащил из песка маленький якорь, бросил его на корму, влез в лодку и осторожно положил сумку на пассажирское место. Ремень сумки был испачкан его кровью, сочившейся из раны под лопаткой. Катер имел два огромных мотора, но для того чтобы включить зажигание, нужен был ключ. Слава Богу, он оказался вставленным в отверстие приборного щитка. Сол завел двигатели, дал задний ход, подняв целый фонтан песка и пены, миновал полосу прибоя и рванул в открытый океан. Затем он развернул катер на восток, на полной скорости обошел северо-восточный выступ острова и с ревом устремился на юг, делая сорок пять узлов в час. Сол нутром ощущал, как сотрясается суденышко, борясь с волнами. Радиопередатчик что-то шипел и хрипел, и он выключил ею. Направлявшийся к северу катер посигналил ему огнями, но Сол не обратил на это никакого внимания. Он опустил М-16 пониже, чтобы на винтовку не попадали соленые брызги. Капли воды поблескивали на его заросшем щетиной лице и освежали, как холодный душ. Сол знал, что потерял много крови и продолжает терять ее — нога по-прежнему кровоточила, а комбинезон просто прилип к спине... Но даже несмотря на это решимости у него не убавилось. На расстоянии мили уже показался зеленый огонь в конце длинного пирса, того самого, который вел к Дубовой аллее и дальше, к особняку и Вильгельму фон Борхерту.Глава 33
Чарлстон Вторник, 16 июня 1981 г. Полночь уже миновала, но Натали Престон все еще казалось, что она завязла в ночном кошмаре, который преследовал ее в детстве. Случай, происшедший после похорон матери, довел ее до такого состояния, что все то лето и осень она по меньшей мере раз в неделю просыпалась с криком и бежала искать защиты у отца. Похоронная процедура осуществлялась по старомодному образцу, и на протяжении многих часов в морг шли и шли посетители, желавшие попрощаться. Собравшиеся друзья и родственники сидели у открытого гроба уже целую вечность, как казалось Натали. Все последние два дня она проплакала, и слез у нее больше не осталось — она сидела в скорбной тишине, держа отца за руку. Через какое-то время ей захотелось в туалет, и она сообщила об этом отцу. Он встал, собираясь отвести ее, но тут прибыла очередная группа пожилых родственников и проводить Натали вызвалась тетушка. Пожилая дама взяла девочку за руку, и они пошли по длинным коридорам, миновали несколько дверей и лестничный пролет, прежде чем добрались до белой двери туалета. Когда Натали вышла, оправляя юбку своего жестко накрахмаленного темно-синего платья, тетушки почему-то не было. Девочка уверенно свернула налево, вместо того чтобы идти направо, прошла сквозь двери, миновала коридоры и лестничные площадки — и заблудилась. Однако это не испугало ее. Она знала, что большую часть первого этажа занимали часовня и притворы, и решила, что если будет открывать подряд все двери, то рано или поздно найдет отца. Не знала она лишь того, что черная лестница вела прямо в подвал. Через два дверных проема Натали заглянула в большую пустую комнату, затем распахнула третью дверь, и свет, лившийся из коридора, упал на стальные столы, подставки с огромными бутылями, в которых колыхалась темная жидкость и длинные иглы с тонкими резиновыми шнурами. Девочка в ужасе прикрыла рот руками и попятилась обратно в коридор, потом повернулась и побежала через широкие двойные двери. Когда глаза ее привыкли к полутьме — занавешенные окна едва пропускали свет, она уже почти пересекла огромное помещение, заполненное большими ящиками, но остановилась. Ничто не нарушало смрадный покой, а ящики вокруг нее оказались вовсе не ящиками, а гробами. Тяжелое темное дерево словно поглощало слабый свет. У нескольких гробов створки крышек были открыты, как у гроба матери Натали. Не далее чем в пяти футах стоял маленький гробик, размером с нее саму, с серебряным распятием на крышке. Много лет спустя Натали поняла, что попала тогда просто на склад гробов, но в тот момент она была уверена, что осталась одна в окружении мертвецов. Она ожидала, что вот-вот из гробов начнут подниматься синеватые трупы, резко поворачиваясь к ней и открывая глаза, как в фильмах ужасов, которые они с отцом смотрели по пятницам. Впереди виднелась еще одна дверь, но казалось, что до нее — тысячи миль, а главное, чтобы туда попасть, девочке нужно было пройти в непосредственной близости от нескольких гробов. Она двинулась вперед медленным шагом, не спуская глаз с двери, ожидая, что в нее вот-вот вцепятся бледные руки. Натали все же не позволила себе ни закричать, ни побежать, день был слишком важным для нее — похороны любимой мамы. Она все-таки прошла через комнату, поднялась по освещенной лестнице и оказалась в коридоре неподалеку от входной двери. «Вот ты где, дорогуша!» — воскликнула пожилая тетя и повела девочку к отцу в соседнее помещение, по дороге успокаивая ее и убеждая больше не убегать. Уже много лет Натали не вспоминала тот кошмар, но вот теперь, сидя в гостиной Мелани Фуллер напротив Джастина, глядевшего на нее своими безумными старческими глазами, утопленными в бледном пухлом личике, она пережила то же самое ощущение ужаса: будто и в самом деле крышки гробов открывались, сотни мертвецов принимали сидячее положение, потом вцеплялись в нее и тащили к маленькому гробику, предназначенному для нее. — Плачу пенни за твои мысли, моя милая, — раздался старушечий голос из уст сидевшего напротив ребенка. Натали вздрогнула и очнулась. После бессмысленного визга двадцать минут назад это были первые слова, произнесенные нормальным тоном. — Что происходит? — спросила Натали. Джастин пожал плечами и широко улыбнулся. Его молочные зубы казались остро заточенными. — Где Сол? — Пальцы девушки скользнули к монитору на поясе. — Говори! — прикрикнула она. Сол подсоединил телеметрическое устройство к взрывчатке, но запретил ей самостоятельно пользоваться этим оружием. Они нашли компромисс, что монитор передаст сигнал тревоги на второй приемник, находящийся в машине Джексона. Однако после того, как Сол отбыл на остров, Натали самостоятельно перепаяла провода напрямую к Си-4. В течение последних двадцати семи часов она несколько раз ловила себя на том, что почти хочет, чтобы старая гадина внедрилась в ее сознание и тем самым запустила действие взрывного механизма. Пребывание в постоянном страхе настолько утомило ее, что временами ей хотелось только одного — чтобы все это побыстрее кончилось. Она не знала, уничтожит ли взрывчатка Мелани Фуллер на таком расстоянии, но не сомневалась, что зомби Мелани не дадут ей подобраться ближе. — Где Сол? — повторила она. — О, его забрали, — небрежно ответил мальчик, Натали вскочила. Тени в соседних комнатах зашевелились. — Ты лжешь! — крикнула она. — Да ну? — улыбнулся Джастин. — Зачем мне это надо? — Что случилось? Джастин снова пожал плечами и демонстративно зевнул. — Нина, мне пора спать. Почему бы нам не продолжить этот разговор утром? — Говори! — закричала Натали, нащупывая пальцем кнопку на мониторе. — Хорошо-хорошо, — надулся мальчик. — Твой еврейский друг убежал от охранников, но человек Вилли поймал его и отвел в особняк. — В особняк? — выдохнула Натали. — Да, в особняк — передразнил ее мальчик и ударил каблуками ботинок по ножке кресла. — Вилли и мистер Барент хотят поговорить с ним. Они собираются играть. Натали оглянулась и заметила, как в коридоре что-то шевельнулось. — Сол ранен? Джастин пожал плечами. — Он еще жив? Мальчик скорчил гримаску. — Я же сказала, Нина: они хотят поговорить с ним. А разве можно разговаривать с мертвецом? Натали поднесла ко рту свободную руку и закусила палец, обдумывая ситуацию. — Пора приступать к тому, о чем мы договаривались. — Нет, не пора, — заскулил ребенок. — Ситуация совсем не похожа на то, что ты мне обещала Они просто играют. — Ты лжешь, — сказала Натали. — Они не могут играть, если человек Вилли отсутствует, а Сол в особняке. — Это другая игра, — пояснил мальчик, неодобрительно качая головой от ее недогадливости. Натали то и дело забывала, что он всего лишь плоть, манипулируемая старой каргой, лежащей наверху. — Они играют в шахматы, — пояснил он. — В шахматы? — переспросила Натали. — Да. И тот, кто победит, будет определять следующую партию. Вилли хочет играть на большие ставки — Джастин старчески покачал головой. — Он всегда питал вагнерианские пристрастия к Армагеддону. Думаю, в нем говорит немецкая кровь. — Сол ранен и отправлен в особняк, где они играют в шахматы, — монотонным голосом повторила Натали. Она вспомнила полдень более полугода назад, когда они с Робом слушали историю Сола Ласки о лагерях и полуразрушенном замке в польском лесу, где молодой оберет бросил вызов старику генералу в финальной игре. — Да-да, — со счастливым видом закивал Джастин. — Мисс Сьюэлл тоже будет участвовать в игре. В команде мистера Барента. Он очень симпатичный. Они с Солом обсуждали, что ей надо будет делать, если их план сорвется. Он советовал Натали бросить сумку со взрывчаткой, поставив таймер на сорок секунд, и бежать, даже если это означало, что Баренту и его команде удастся спастись. Второй вариант: надо было продолжать блефовать, надавливая на Мелани с целью заполучить Барента и остальных членов Клуба Островитян. Теперь Натали увидела третью возможность. До рассвета у нее еще по меньшей мере есть шесть часов. Она вдруг осознала, что тревога за Сола гораздо сильнее ее стремления к справедливости и желания отомстить за отца. К тому же она знала, что все обсуждавшиеся планы отступления для Сола были пустыми разговорами — на самом деле он не собирался отступать. Справедливость требовала, чтобы она осталась и следовала намеченному плану, но сердце ее разрывалось от страстного желания спасти Сола, если это еще было возможно сделать. — Я выйду на несколько минут, — решительно заявила Натали. — Если Барент попытается исчезнуть или возникнут другие непредвиденные обстоятельства, делай именно то, о чем мы договаривались. Я не шучу, Мелани и не потерплю здесь промашек. Твоя собственная жизнь зависит от этого. Если ты не сделаешь того, что должна, можешь не сомневаться: члены Клуба Островитян прикончат тебя, впрочем, я опережу их. Ты поняла меня, Мелани? Джастин смотрел на нее с легкой улыбкой. Натали круто повернулась и направилась в прихожую. В темноте перед ней кто-то метнулся в сторону и исчез в столовой. Джастин двинулся следом. На площадке лестницы слышался шорох, из кухни тоже доносились неясные звуки. Натали остановилась в прихожей, не убирая пальца с красной кнопки. Кожа головы болела от клейкой ленты, которой были закреплены электроды. — Я вернусь до рассвета, — пообещала она. Джастин улыбнулся, лицо его сияло в слабом зеленом свечении, лившемся со второго этажа. Зубатка ждал уже более шести часов, когда из дома Фуллер наконец появилась Натали. Это не входило в заранее проработанный план. Он дважды нажал кнопку передатчика, который Джексон назвал «сломанной рухлядью», и присел в кустах, чтобы посмотреть, что происходит. Он еще не видел Мартина, но знал, что когда увидит, сделает все для спасения своего старого главаря от мадам Буду, что бы там ни случилось. Быстрым шагом Натали пересекла двор и остановилась у ворот, пока неизвестный Зубатке ублюдок открывал их. Не оглядываясь, она перешла улицу и повернула направо, к переулку, где находился Зубатка, вместо того чтобы идти туда, где стояла машина Джексона. Это был условный сигнал, что за ней могут следить. Зубатка еще три раза нажал на кнопку передатчика, сообщив Джексону, что надо объехать квартал к условленному месту встречи, потом присел еще ниже и стал ждать. Как только Натали скрылась из виду, из ворот дома Фуллер выскочил человек и, пригнувшись, бросился на противоположную сторону улицы. В свете фонаря Зубатка заметил, как блеснула сталь ствола. По виду это был большой автомат. — Черт, — прошипел Зубатка, выждал еще минуту, убедился, что больше никого нет и, прячась за припаркованными машинами, проскользнул на восточную сторону улицы. Зубатка не знал этого человека со стволом — он был слишком мал для того ублюдка, которого он видел во дворе, и слишком белым — для Марвина. Бесшумно добежав до угла, Зубатка прополз под кустами и высунул голову. Девушка уже прошла полквартала и собиралась переходить на другую сторону улицы. Тень с автоматом медленно скользила за нею. Зубатка четыре раза нажал на кнопку передатчика и двинулся следом. Черные брюки и ветровка делали его практически невидимым. Он надеялся, что Натали отсоединила детонатор от этой чертовой Си-4. От взрывчатки Зубатке становилось не по себе. Он видел клочки, оставшиеся от его лучшего друга Лероя, когда этот безумный малый подорвал шашку, которую таскал при себе. Зубатка не боялся смерти — он не надеялся дожить и до тридцати, — но он хотел лежать улыбающимся в здоровом гробу в своем лучшем семисотдолларовом костюме и чтобы Марси, Шейла и Белинда плакали над ним. Предупрежденный четырехкратным сигналом, Джексон рванул по улице и прижался к левому поребрику, чтобы прикрыть Натали, пока она открывала дверцу машины. Тот, с автоматом, обеими руками схватил ствол, установил его на крыше припаркованного «Вольво» и начал целиться в отблеск фонаря на ветровом стекле машины прямо перед лицом Джексона. «Похоже, вечером у мадам Буду был не один чай со сливками, — подумал Зубатка. — Видать, здорово достали старую шлюху». Он бесшумно подбежал в своих пятидесятидолларовых адидасовских кроссовках к белому ублюдку и сделал подсечку. Тот ударился подбородком о крышу «Вольво», и Зубатка вдобавок шмякнул его лицом о стекло, после чего выхватил автомат и на всякий случай положил указательный палец на спусковой крючок. В фильмах они швыряются стволами, как игрушками, но Зубатка видел братишек, убитых из упавших револьверов. «Людей убивают не люди, — рассуждал он, оттаскивая тело подальше от тротуара, — а поганые стволы». Джексон дважды нажал на кнопку своего передатчика и завел мотор. Зубатка оглянулся, убедился, что белый ублюдок без сознания, но дышит, и только тогда спросил: — Эй, братишка, что происходит? — С дамой все в порядке, старик. Что у тебя? — Дешевый микрофон и слабая мощность исказили голос Джексона. — Ублюдок с большим армейским револьвером 45 калибра, ему не понравилось твое лицо, старик. Сейчас он отдыхает. — Как отдыхает? — проскрежетал голос Джексона. — Дремлет. Что с ним делать? — У Зубатки был нож, но они решили, что если в таком фешенебельном районе будут обнаружены трупы, это может повредить делу. — Тихо оттащи его куда-нибудь, — сказал Джексон. — О'кей. — Зубатка поднял бесчувственное тело и бросил в кусты. Отряхнувшись, он снова нажал кнопку передатчика: — Вы вернетесь или совсем сваливаете? Из-за увеличившегося расстояния голос Джексона был едва слышен. Зубатка начал гадать, куда это они направляются. — Позднее, старик, — ответил Джексон. — Не горячись. Мы вернемся. Не высовывайся. — Черт, — выругался Зубатка, — вы, значит, едете кататься, а я сиди себе здесь? — Право старшинства, старик. — Голос Джексона был уже еле слышен. — Я вступил в Братство Кирпичного завода, когда ты еще сидел в штанах своего папаши. Не высовывайся, братишка. — Пошел к черту. — Зубатка помолчал, но ответа не последовало, и он понял, что они выехали за пределы слышимости. Он положил передатчик в карман и бесшумно двинулся обратно к своему укромному месту, вглядываясь в каждую тень, дабы удостовериться, что больше никаких военных сил мадам Буду не выслала. Зубатка просидел между мусорным бачком и старым забором меньше десяти минут, вспоминая в подробностях и проигрывая одну из своих любимых сцен с Белиндой в постели гостиницы «Челтен», когда за его спиной что-то хрустнуло. Он мгновенно вскочил, на ходу раскрывая лезвие стилета. Стоявший сзади человек казался ненастоящим — слишком огромным и без единого волоса на голове. Одним взмахом своей мощной ладони Калли выбил нож из руки Зубатки. Затем правой рукой схватил худого негра за горло и поднял его в воздух. Зубатка задыхался, перед глазами у него все расплывалось, но, даже находясь в тисках этой массивной туши, оторвавшей его от земли, он умудрился дважды лягнуть Калли в пах и так ударить по ушам лысого ублюдка, что у того могли разорваться барабанные перепонки. Однако чудовище даже не поморщилось. Зубатка потянулся пальцами к его глазам, но огромные руки на его горле сомкнулись еще плотнее, туже, а потом раздался громкий хруст ломающихся позвонков. Калли бросил бьющегося в агонии негра на гаревую дорожку и с безучастным видом стал наблюдать за ним. Агония длилась почти три минуты, сломанная шея перекрыла доступ воздуха в легкие. Калли пришлось наступить своим массивным сапогом на сотрясающееся и мечущееся тело. Когда все было кончено, он достал нож и произвел несколько экспериментов. Убедившись, что чернокожий действительно мертв, Калли зашел за угол, поднял бесчувственное тело Говарда и без всяких усилий перенес обоих через улицу в дом, где со второго этажа продолжал струиться слабый зеленоватый свет.* * *
Когда Джексон и Натали были на полпути к мысу Плезант, дождь начался снова. Джексон попытался вызвать Зубатку по радиосвязи, но гроза и расстояние в десять миль, похоже, мешали этому. — Как ты думаешь, с ним будет все в порядке? — спросила Натали. Сев в машину, она тут же сняла с себя пояс со взрывчаткой, но монитор энцефалограммы, который должен был дать сигнал тревоги при первом же появлении Тета-ритма, оставила. Однако Натали возлагала на это мало надежды. В основном она уповала на то, что Мелани не захочет в такой момент бросать вызов Нининому контролю. Натали гадала, не подписала ли она сама себе смертный приговор, признавшись в том, что не является Нининой пешкой. — С Зубаткой? — переспросил Джексон. — Да, он побывал не в одной передряге. К тому же он не дурак. Кто-то же должен наблюдать, чтобы мадам Вуду за это время не удрала. — Он внимательно посмотрел на Натали. Дворники монотонно шуршали по залитому дождем ветровому стеклу. — У нас что, изменились планы ? Девушка кивнула. Джексон пожевал зубочистку. — Ты собираешься на остров, да? — Откуда ты знаешь? — выдохнула Натали. — Сегодня днем ты звонила одному пилоту и просила его не уходить, так как для него может найтись дело. — Да, — призналась Натали, — но тогда я думала о завтрашнем дне, когда все будет уже позади. — А ты уверена, что завтра все будет позади, Натали? Девушка смотрела вперед. Потоки дождя заливали стекло. — Да, я уверена! — решительно ответила она.* * *
Дерил Микс стоял в кухне своего трейлера, закутавшись в синий халат, и, прищурясь, смотрел на двух своих вымокших гостей. — А откуда мне знать, что вы не какие-нибудь черномазые террористы, пытающиеся вовлечь меня в свою безумную затею? — осведомился он. — Тебе незачем это знать, — ответила Натали. — Поверь мне на слово. Главные негодяи — это Барент и его группа. Они захватили моего друга Сола, и я хочу вызволить его. Микс почесал седую щетину. — Кстати, по дороге сюда никто из вас двоих не заметил, что там льет как из ведра и условия просто штормовые? — Да, — кивнул Джексон, — мы заметили. — И вы по-прежнему хотите оплатить полет на самолете? — Хотим, — сказала Натали. — Не знаю, каковы расценки для такой экскурсии, — бросил Микс, открывая банку с пивом. Натали достала из-под свитера толстый конверт и положила его на кухонный стол. Микс заглянул внутрь, кивнул и отхлебнул пива. — Здесь двадцать одна тысяча триста семьдесят пять долларов и девятнадцать центов, — сообщила она. Микс почесал в затылке. — Обобрали банк для такого дела, а? — ухмыльнулся он и сделал еще один большой глоток из банки. — Хотя какого черта! Отличная ночка для полета. Подождите здесь, пока я переоденусь. Наливайте себе пиво, если у вас в КГБ это не запрещено.* * *
Дождь лил не переставая, скрывая из виду маленький ангар, освещенный прожекторами. — Я тоже полечу, — сказал Джексон. — Нет. — Натали, поглощенная своими мыслями, покачала головой. — Черта с два! — прорычал Джексон и поднял тяжелую черную сумку, захваченную им из машины. — У меня плазма, морфий, бинты... полная аптечка. Что будет, если ты вылезешь из этого пылесоса, а человеку нужен врач? Ты подумала об этом, Нат? Предположим, ты вытащишь его и он умрет от потери крови на обратном пути — ты этого хочешь? — Ладно, — согласилась Натали. — Готов! — крикнул Микс из ангара. На нем была синяя бейсбольная кепочка с вышитой белыми нитками надписью «Киты Иокогамы», древняя кожаная куртка, джинсы и зеленые кроссовки. На ремне висела кобура, из которой выглядывала инкрустированная рукоять «смита-и-вессона» 38-го калибра. — Только два требования! — заявил он. — Первое: если я говорю, что сесть невозможно, значит это действительно так. Тогда я оставляю себе треть ваших денег. И второе: больше не вытаскивайте свой злосчастный «кольт», если не собираетесь им пользоваться. Советую вообще не решать со мной вопросы таким образом, не то придется вам плыть всю дорогу назад, понятно? Джексон и Натали согласно кивнули.* * *
Натали однажды каталась с отцом на «американских горках», и у нее хватило ума больше никогда этого не делать. Но их полет оказался в тысячу раз хуже. Маленькая кабина «Сессны» запотела, по ветровому стеклу стекал настоящий водопад. Натали не могла даже точно сказать, когда они взлетели, разве что скачки и прыжки стали резче, а заносы — круче. Лицо Микса, освещенное снизу красноватыми огоньками приборного щитка, приобрело одновременно какие-то оттенки дьявольщины и слабоумия. Натали не сомневалась, что и ее лицо также выражает идиотизм со смесью откровенного ужаса. «Черт, старик», — иногда произносил Джексон, когда его подбрасывало вверх, а потом опять наступала тишина, если не считать воя ветра, грохота дождя, скрежета измученных механизмов, раскатов грома и жалостного тарахтения двигателя. — Пока неплохо, — заметил Микс. — Подняться над этой заварушкой нам не удастся, но мы оставим ее позади, когда доберемся до Сапело. Все идет как надо. — Он повернулся к Джексону и осведомился: — Вьетнам? — Да. — Морская пехота? — Врач из сто первого. — Когда демобилизовался? — Не демобилизовывался. Нас с двумя братишками выперли, когда малыш Кит Карсон из ракетных войск подорвался на собственной мине, после того как мы накурились. — А те двое? — Прибыли домой в полиэтиленовых мешках. А мне дали еще одну ленточку, как раз вовремя, чтобы я успел проголосовать за Никсона. — И ты проголосовал? — Черта с два, — засмеялся Джексон. — Да, я тоже не припомню, чтобы получал что-нибудь стоящее от политиков, — отозвался Микс. Натали переводила взгляд с одного на другого. Салон «Сессны» внезапно осветило вспышкой молнии, словно прорезавшей крыло самолета. В то же мгновение порыв шквального ветра попытался перевернуть их вверх тормашками, и они начали падать, пролетев едва ли не вертикально вниз двести футов, как сорвавшийся с троса лифт. Микс поправил что-то у себя над головой и постучал по прибору, в котором метался черно-белый шарик. — Еще час двадцать, — зевнул он. — Мистер Джексон, там где-то у ваших ног стоит большой термос. И кажется, есть кое-что закусить. Почему бы вам не выпить кофе и не налить мне? Не хочу выглядеть негостеприимным. Мисс Престон, что я могу вам предложить? Полет в первом классе предполагает высокий уровень обслуживания на борту самолета. — Нет, спасибо. — Натали отвернулась к иллюминатору. Внизу блеснула молния, осветив обрывки черных туч, похожих на лохмотья одеяния какой-нибудь ведьмы. — Пока ничего не хочется, — добавила она и попыталась закрыть глаза.Глава 34
Остров Долменн Вторник, 16 июня 1981 г. Сол сбросил скорость, и катер, проплыв еще немного, мягко коснулся пристани. В конце пирса мигнул зеленый огонь, посылая незаметный сигнал в пустую Атлантику. Сол закрепил катер, выкинул на пристань пластиковую сумку и вылез сам, встав сначала на одно колено и держа наготове М-16. Пирс и пляж были пусты. На асфальтовой дорожке, уходившей к югу, вдоль берега стояли неприкрытые карты для гольфа. Никаких других катеров у причала не было. Сол перекинул сумку через плечо и осторожно двинулся к Дубовой аллее. Даже если Барент отправил большинство охранников на его поиски, он не мог поверить, что тот оставил незащищенными подходы к особняку. В любой момент ожидая выстрелов, Сол углубился в темноту под навес деревьев. Вокруг было тихо, если не считать слабого шелеста листьев при порывах легкого бриза с океана. Вдали виднелись огни особняка. Главной задачей Сола сейчас было попасть туда живым. Сол вспомнил рассказ пилота Микса о том, как освещалась Дубовая аллея, когда на остров приезжали главы государств и высокопоставленные лица. Сегодня ночью здесь царила тьма. Прошло примерно полчаса, пока он, осторожно передвигаясь от дерева к дереву, преодолел половину пути к особняку, а охранников все не было видно. Внезапно Сола пронзила мысль, от которой его охватил еще более леденящий ужас, чем даже страх перед смертью: что, если Барент и Вилли уже отбыли? Это было вполне возможно. Барент не из тех, кто готов рисковать собой. Сол рассчитывал использовать в качестве оружия самоуверенность миллионера — каждый, кто встречался с ним, включая Сола, обрабатывался таким образом, что лишался возможности причинить ему какой-либо вред. Но что, если вмешательство Вилли в Филадельфии или неожиданный побег Сола все изменили? Забыв об опасности, он сунул винтовку под мышку и помчался по Дубовой аллее. Он пробежал всего двести ярдов, затем резко остановился, опустился на колено и поднял ствол винтовки. Пытаясь восстановить дыхание, Сол прищурился и в который раз пожалел, что лишился очков. В тени невысокого дубка лицом вниз лежало чье-то обнаженное тело. Сол огляделся, снял с плеча сумку и подошел ближе. Это была женщина, к тому же частично одетая. Ее спину прикрывала разорванная окровавленная рубашка, спутанные волосы падали на повернутое в сторону лицо, пальцами разведенных рук она будто царапала землю, правая нога была согнута. Вероятно, она бежала в тот момент, когда подверглась нападению. Осторожно оглядевшись и держа наготове М-16, Сол прикоснулся к ее шее, чтобы прощупать пульс. И тут женщина резко повернула голову. Прежде чем она успела вцепиться зубами в левую руку Сола, он увидел разинутый рот и безумные, широко раскрытые глаза мисс Сьюэлл. Она издала звериный рык. Лицо Сола исказилось судорогой, но когда он поднял М-16, чтобы ударить женщину прикладом, с дуба на него спрыгнул Дженсен Лугар. Сол закричал и выпустил автоматную очередь, пытаясь направить огонь на огромного негра, но пули лишь прошили ветви и листву у него над головой. Лугар рассмеялся и выбил винтовку из руки Сола таким сильным ударом, что та отлетела футов на двадцать. Сол прижал подбородок к груди, сопротивляясь мощному напору руки Лутара, одновременно стараясь высвободить свою кисть из бульдожьей хватки женщины. Правую руку он завел назад, надеясь нащупать лицо и глаза негра. Лугар снова рассмеялся и приподнял психиатра. Сол услышал, как трещит на левой руке сдираемая кожа. Затем негр развернулся и швырнул его тело в сторону. Сол больно ударился раненой ногой, перекатился на плечо, которое уже горело как в огне, и пополз к сумке, в которой остались «кольт» и «узи». Глянув через плечо, он увидел Дженсена Лугара, стоявшего в борцовской стойке, — его обнаженное тело поблескивало от пота и крови Сола. Мисс Сьюэлл поднялась на четвереньки, словно готовясь к прыжку, — спутанные волосы закрывали ей глаза. В зубах у нее болтался кусок вырванного из руки Сола мяса, по подбородку стекала кровь. До сумки уже оставалось фута три, когда Лугар бесшумно подскочил и сильно ударил Сола босой ногой под ребра. Сол четырежды перекувырнулся, чувствуя, как из него выходит воздух, а вместе с ним и силы, и еще раз попытался подняться на колени, но в глазах уже начало темнеть. Все слилось в бесконечный коридор с плавающим посреди потным лицом Дженсена Лугара. Негр еще раз пнул Сола ногой, отшвырнул подальше его сумку и схватил психиатра за волосы. Приблизившись вплотную, он встряхнул обмякшее тело Ласки и произнес по-немецки: — Очнись, моя пешечка. Пора нам поиграть.* * *
Прожектора большого зала освещали восемь рядов черно-белых квадратов. Тони Хэрод взирал на эту немыслимую шахматную доску, идущую в обоих направлениях на тридцать два фута. В тени переговаривались охранники Барента, от стола с электронной аппаратурой доносились какие-то приглушенные звуки, но на освещенном участке находились лишь члены Клуба Островитян и их помощники. — Пока эта партия очень интересная, — усмехнулся Барент. — Хотя было несколько моментов, когда я не сомневался, что ее исходом может стать только ничья. — Да, — согласился Вилли, выходя на свет. Под белым пиджаком у него была белая шелковая водолазка, что придавало немцу вид пастора, только на пленке в негативе. Его редеющие волосы блестели в свете софитов, подчеркивавшем румянец на щеках и скулах. — Я всегда предпочитал испанскую защиту. Сейчас она вышла из моды, но я по-прежнему считаю ее эффективной, если использовать правильные вариации. — До двадцать девятого хода игра носила чисто позиционный характер, — заметил Барент. — Мистер Борден предложил мне свою королевскую пешку, и я взял ее. — Пешка с секретом. — Вилли, нахмурившись, смотрел на «доску». — Возможно, для менее профессионального игрока этот ход оказался бы фатальным. Но когда обмен закончился, я сохранил пять пешек против трех мистера Бордена, — пояснил Барент всем присутствующим. — И слона, — добавил Вилли, бросив взгляд на Джимми Уэйна Саттера, стоявшего у стойки бара. — И слона, — кивнул Барент. — Но в эндшпиле две пешки зачастую побеждают одинокого слона. — И кто же выигрывает? — заплетающимся языком спросил Кеплер. Он уже был пьян. Барент потер щеку. — Все не так просто, Джозеф. В настоящий момент черные — а я играю ими — обладают явно выраженным преимуществом. Но в эндшпиле все меняется очень быстро. Вилли шагнул на доску. — Может, вы хотите поменяться сторонами, герр Барент? — Нет. — Миллионер негромко рассмеялся. — Тогда давайте продолжим. — Вилли победоносно оглядел стоящих на границе света и тени. Фэбээровец Свенсон подошел к Баренту и снова что-то прошептал ему на ухо. — Секундочку. — Хозяин повернулся к Вилли: — А теперь что вы намереваетесь делать? — Впустите их, — велел Вилли. — С чего бы это? — рассердился Барент. — Это — ваши люди. — Вот именно, — подтвердил Вилли. — Совершенно очевидно, что мой негр безоружен, а еврея я вернул обратно, чтобы он выполнил здесь свое предназначение. — Час назад вы утверждали, что мы должны убить его, — возразил Барент. Вилли пожал плечами. — Вы по-прежнему можете это сделать, если хотите, герр Барент. Он и так уже почти труп. Но меня тешит мысль о том, что он проделал такой сложный путь для исполнения своего долга, — глаза Бордена злобно сверкнули. — Вы продолжаете утверждать, что он прибыл на остров самостоятельно? — ухмыльнулся Кеплер. — Я ничего не утверждаю, — ответил Вилли. — Просто прошу разрешения использовать его в игре. Мне это будет приятно. — И он, осклабившись, взглянул на Барента. — К тому же, герр Барент, вы прекрасно знаете, что еврей был хорошо обработан вами. Вы можете не опасаться его, даже если у него окажется оружие. — Тогда зачем он сюда явился? — не унимался Барент. Вилли рассмеялся. — Чтобы убить меня. Ну давайте. Решайтесь. Я хочу продолжать игру. — А как насчет женщины? — Она была моей ферзевой пешкой, — ответил Вилли. — И я готов отдать ее вам. — Ферзевой пешкой, — повторил Барент. — А разве ваша королева все еще в игре? — Нет, моя королева уже покинула поле, — сказал Вилли. — Впрочем, вы сами можете спросить об этом пешку, когда она прибудет. Барент щелкнул пальцами, и вперед вышло с полдюжины охранников с оружием в руках. — Приведите их сюда, — распорядился он. — Если они сделают хоть одно подозрительное движение, стреляйте без предупреждения. Скажите Дональду, что, возможно, я отправлюсь на «Антуанетту» раньше, чем собирался. Верните патруль и удвойте охрану к югу от зоны безопасности.* * *
Тони Хэрода мало волновало, что происходит. Насколько он понимал, у него нет способа выбраться с этого чертовою острова. Вертолет Барента, готовый к взлету, ожидал за панорамными дверьми, у Вилли на посадочной полосе стоял «Лир», даже у Саттера был свой самолет; они же с Марией Чен не имели никаких шансов. В сопровождении охранников в зал вошли Дженсен Лугар и двое суррогатов, которых Хэрод получил в Саванне. Черное мускулистое тело негра предстало во всей красе. На женщине была разорванная рубашка, видимо, снятая с одного из охранников. Перепачканное грязью и кровью лицо производило жуткое впечатление, но больше всего Хэрода поразили ее глаза — невероятно расширенные зрачки и окруженная со всех сторон радужная оболочка. Она дико озиралась по сторонам из-под нависших спутанных волос. Но если вид женщины путал, то человек по имени Сол, которого Хэрод привез на остров, был попросту ужасен. Лугар поддерживал еврея в стоячем положении, когда они остановились в десяти шагах от Барента. Бывший суррогат Хэрода истекал кровью — она сочилась по его лицу, насквозь пропитала левую штанину комбинезона, лилась по спине. Одна рука выглядела так, словно ее пропустили сквозь мясорубку, и кровь с нее капала на белый квадрат под ногами. Но что-то в его взгляде свидетельствовало о дерзости и отваге. Хэрод ничего не мог понять. Совершенно очевидно, что оба суррогата — мужчина и женщина были знакомы Вилли, он даже признал, что один из них когда-то являлся его пешкой, однако Барент, похоже, продолжал считать, что оба несчастных пленника явились на остров по собственной воле. Вилли упомянул, что еврей подвергся обработке со стороны Барента, но миллионер явно не имел никакого отношения к его проникновению на остров. Похоже, он продолжал относиться к нему как к независимому лицу. А диалог с женщиной выглядел еще более загадочной. Хэрод пребывал в полной растерянности. — Добрый вечер, доктор Ласки, — мягко обратился Барент к истекающему кровью человеку. — Сожалею, что не узнал вас сразу. Ласки ничего не ответил. Взгляд его метнулся к тому креслу, где восседал Вилли, и больше уже не отрывался от немца, даже когда Лугар с силой повернул его голову к мистеру Баренту. — Это ваш самолет приземлился на северном берегу несколько недель назад?. — осведомился Барент. — Да, — ответил психиатр, не сводя глаз с Вилли. — Умелая организация, — одобрил Барент. — Мне жаль, что ваша операция сорвалась. Вы признаете, что явились сюда с целью убить нас? — Не всех вас, — заявил Ласки, — только его. — Он не стал указывать на Бордена, да в этом и не было никакой необходимости. — Ясно. — Барент кивнул, потер щеку и посмотрел на Вилли. — Ну что ж, доктор Ласки, вы по-прежнему намереваетесь убить нашего гостя? — Да. — Вас это не волнует, герр Борден? — осведомился миллионер. Вилли ощерился в ехидной улыбке. И тогда Барент сделал нечто невероятное. Он встал с кресла, в котором сидел с момента появления трех суррогатов, подошел к женщине, взял ее грязную руку и нежно поцеловал. — Герр Борден поставил меня в известность, что я имею честь обращаться к мисс Фуллер, — промолвил он медовым голосом. — Это так? Женщина откинула волосы со лба и жеманно улыбнулась. — Да, — ответила она с тягучим южным выговором. На ее зубах тоже виднелись следы засохшей крови. — Это огромное удовольствие для меня, мисс Фуллер, — промолвил Барент, продолжая держать ее за руку. — Невозможность встретиться с вами раньше очень огорчала меня. Но не скажете ли вы, что привело вас на мой островок? — Чистое любопытство, — ответило привидение с расширенными зрачками. Она переступила с ноги на ногу, и Хэрод заметил в разрезе рубашки треугольник темных волос на лобке. Барент, все еще улыбаясь, продолжал перебирать пальцы женщины. — Понимаю, — ответил он. — Но вам совершенно незачем было являться инкогнито, мисс Фуллер. Ваше личное присутствие на острове всегда желанно для нас... и я уверен, что... э-э... в гостевом крыле особняка вы будете чувствовать себя удобно. — Благодарю вас, сэр, — улыбнулась суррогатка. — Я временно не могу воспользоваться вашим приглашением, но когда состояние моего здоровья улучшится, я непременно сделаю это. — Отлично. — Барент поклонился, отпустил ее руку и уселся в свое кресло. Охранники слегка расслабились и опустили стволы «узи». — Мы как раз собирались закончить нашу шахматную партию, — продолжил Барент. — Новые гости должны присоединиться к нам. Мисс Фуллер, не окажете ли мне честь и не позволите ли вашей суррогатке играть на моей стороне? Заверяю вас, что она не будет подвергаться никакой угрозе. Женщина одернула подол рубашки и попыталась кое-как пригладить волосы. — Это вы мне окажете честь, сэр, — ответила она. — Замечательно! — воскликнул Барент. — Герр Борден, как я понимаю, вы собираетесь воспользоваться двумя своими фигурами? — Да, — подтвердил Вилли. — Моя старая пешка принесет мне удачу. — Итак, вернемся к тридцать шестому ходу? Вилли кивнул. — Предыдущим ходом я взял вашего слона, — напомнил он. — Вы передвинули короля к центру. — Ах, как прозрачна моя стратегия для такого блестящего гроссмейстера! — притворно вздохнул Барент. — Да, это так. — Вилли горделиво кивнул. — Ну что ж, начнем.* * *
Когда самолет вырвался из грозовых туч где-то к востоку от острова Сапело, Натали вздохнула с облегчением. Штормовой ветер продолжал крутить «Сессну», океан внизу по-прежнему вскипал белыми барашками волн, но взлеты и провалы стали более плавными. — Осталось минут сорок пять. — Микс вытер рукой мокрое лицо. — Из-за встречного ветра время полета увеличилось почти на полчаса. — Ты действительно считаешь, что они дадут нам приземлиться? — наклонившись к Натали, тихо спросил Джексон. Натали прижалась щекой к иллюминатору. — Если старуха сделает то, что обещала, возможно, и дадут. У Джексона вырвался смешок. — А ты полагаешь, она сделает? — Не знаю. Главное — вытащить оттуда Сола. По-моему, мы сделали все возможное, чтобы убедить Мелани: действовать по плану — в ее же интересах. — Да, но она ведь сумасшедшая, — возразил Джексон. — А сумасшедшие не всегда действуют в собственных интересах, малыш. Натали улыбнулась. — Думаю, это отчасти объясняет, почему мы здесь находимся ? Джексон ласково тронул ее за плечо. — А ты подумала, что будешь делать, если они убьют Сола? Лицо Натали задрожало, она стиснула зубы. — Мы заберем его тело... А потом я вернусь и убью эту тварь в Чарлстоне. Джексон откинулся на спинку, свернулся на своем сиденье, и уже через минуту послышалось его сонное дыхание. Натали смотрела на океан, пока не стало больно глазам, потом повернулась к пилоту. На лице Микса застыло странное выражение. Встретившись с ней взглядом, он поправил свою бейсбольную кепочку и вновь вернулся к панели управления.* * *
Раненый, истекающий кровью, с трудом держась на ногах и усилием воли сохраняя уплывающее сознание, Сол был несказанно рад, что очутился здесь. Он неотрывно смотрел на оберста. После сорока лет поисков он, Сол Ласки, наконец оказался в одном помещении с Вильгельмом фон Борхертом. Положение было не из лучших. Сол разыграл все как по нотам, он даже позволил Лугару справиться с собой, когда реально имел возможность вовремя добраться до оружия, позволил лишь потому, что лелеял слабую надежду быть доставленным к оберсту. Именно этот сценарий он обсуждал с Натали несколько месяцев назад, когда они пили кофе в благоухавших апельсинами израильских сумерках, но обстоятельства сложились иначе. Он мог оказать сопротивление нацистскому убийце только в том случае, если Вилли попробует воздействовать на его психику. Сейчас здесь присутствовали все выродки-мутанты — Барент, Саттер, некто по имени Кеплер, даже Хэрод и суррогатка Мелани Фуллер, и Сол опасался, что кто-нибудь из них попробует завладеть егосознанием, лишив его единственной возможности удивить оберста. К тому же в сценарии, который он рисовал Натали, встреча со стариком всегда проходила один на один, и Сол оказывался физически сильнее. Теперь же он прилагал все усилия для того, чтобы только не упасть, его кровоточащая левая рука безвольно повисла, под лопаткой засела пуля, оберет же выглядел бодрым и отдохнувшим в окружении по меньшей мере двух идеально обработанных пешек и еще полудюжины охранников, которых он мог призвать одним усилием воли. К тому же Сол не сомневался, что люди Барента не дадут ему сделать и трех шагов. И тем не менее Сол был счастлив. Не было на свете такого места, где бы он хотел оказаться больше, чем здесь. Он тряхнул головой, чтобы сосредоточиться на происходящем. Барент и оберет занимались расстановкой одушевленных фигур. Второй раз в течение этой бесконечной ночи у Сола начались галлюцинации. Все поплыло у него перед глазами, будто отражаясь в покрытой рябью водной глади, и Ласки отчетливо увидел лес и камни польской крепости, где солдаты зондеркоманды в серых униформах развлекались под вековыми шпалерами, а в кресле сидел старик с генеральскими погонами, похожий на высохшую куколку какого-то насекомого. Тени, отбрасываемые факелами, плясали по камням и изразцам, падая на бритые головы тридцати двух еврейских заключенных, устало стоявших между двумя немецкими офицерами. Юный оберет убрал со лба прядь белокурых волос, оперся локтем на колено и улыбнулся Солу. — Добро пожаловать, юде, — произнес он. — Давайте, давайте, — говорил Барент, — будем начинать. Джозеф, встаньте на третью клетку королевского слона. Кеплер отшатнулся с выражением ужаса на лице. — Вы, наверное, шутите? — Он сделал несколько шагов назад, налетел на стол и опрокинул стоявшие на нем фужеры. — Отнюдь, — ответил Барент. — И поскорей, пожалуйста, Джозеф. Мы с герром Борденом хотим уладить все, прежде чем станет слишком поздно. — Пошли вы к черту! — заорал Кеплер и с такой силой сжал кулаки, что у него на шее выступили жилы. — Я не позволю вам использовать себя, как какого-нибудь долбаного суррогата, пока вы там... — голос Кеплера оборвался, словно иголка проигрывателя съехала с испорченной пластинки. Он еще секунду шевелил губами, но не мог издать ни единого звука. Лицо его побагровело, затем стало синим — за несколько секунд до того, как он повалился на пол. Руки изогнулись назад, словно их зверски заломил кто-то невидимый, щиколотки прижались друг к другу, будто связанные, и он задергался, как в припадке эпилепсии, скачками продвигаясь вперед, — карикатура на способ перемещения червяка, с точки зрения ребенка. При очередном рывке его грудь и подбородок с размаху ударялись о пол. Таким образом Джозеф Кеплер, оставляя на белых квадратах кровавые следы от разбитого подбородка, проделал весь путь до указанных позиций. Барент ослабил контроль. По телу Кеплера пробежала судорога облегчения, раздалось слабое бульканье, и моча, пропитав его брючину, вылилась на черную плитку. — Встаньте, пожалуйста, Джозеф, — тихо произнес Барент. — Мы хотим начать игру. Кеплер в ужасе посмотрел на миллионера и, не говоря ни слова, встал. Его дорогие итальянские брюки пропитались спереди мочой и кровью. — Вы собираетесь всех нас использовать подобным образом, брат Кристиан? — осведомился Джимми Уэйн Саттер. Евангелист топтался на краю импровизированной шахматной доски, его густые седые волосы поблескивали в лучах прожекторов. — Я не вижу в этом никакой необходимости, Джеймс, — улыбнулся Барент. — Если, конечно, никто не будет препятствовать завершению этой партии. А вы, герр Борден? — И я, — согласился Вилли. — Поди сюда, Саттер. Ты как мой слон и единственная оставшаяся у меня фигура, не считая короля и пешек, займешь свое место рядом с пустой клеткой ферзя. Саттер поднял голову. Пот пятнами проступил на его шелковом спортивном пиджаке. — А у меня есть выбор? — прошептал он. Его театральный голос звучал хрипло и надтреснуто. — Нет, — жестко сказал Вилли. — Ты должен играть. Саттер повернулся к Баренту. — Я имею в виду: на чьей стороне играть? — пояснил он. Миллионер поднял бровь. — Ты хорошо и долго служил Вилли Бордену. Неужто ты теперь переметнешься на другую сторону, Джеймс? — Верующий в Сына да имеет жизнь вечную, — пробормотал Саттер. — А не верующий в Сына не увидит жизни. Иоанн, глава 3, стих 36. Барент усмехнулся и потер подбородок. — Герр Борден, похоже, ваш слон собирается дезертировать. Вы не возражаете, если он закончит игру на стороне черных? На лице Вилли появилось обиженное выражение. — Забирайте его, и пошел он к черту! Не нужны мне жирные педерасты. — Иди сюда, — обратился Барент к вспотевшему евангелисту. — Джеймс, ты будешь левой рукой короля, — и он указал на белую клетку около черной королевской пешки, которой предстояло начать игру. Саттер занял место на доске рядом с Кеплером. У Сола появилась надежда, что во время игры мозговые вампиры не будут вторгаться в сознания своих пешек. Это оттягивало тот момент, когда оберет мог проникнуть в его мозг. Вилли наклонился вперед в своем массивном кресле и тихо рассмеялся. — Ну, если мне отказано в моем фундаменталистском союзнике, — проронил он, — тогда я с удовольствием повышу в звании свою старую пешку и произведу ее в слоны. Пешка, ты понимаешь? Иди сюда, еврей, и получи свою митру и посох. Сол поспешно, пока его не подтолкнули, пересек освещенное пространство пола и встал на черный квадрат в первом ряду. Теперь его отделяло от оберста всего восемь футов, но между ними находились Лугар и Рэйнольдс; охранники Барента следили за каждым его шагом. Сол уже по-настоящему начал страдать от боли — левая нога занемела и ныла, плечо горело, но он старался не показывать этого. — Как в старые добрые времена, да, пешка? — спросил оберет по-немецки. — Прошу прощения. Я имел в виду, герр слон, — и он осклабился. — Теперь быстро, у меня осталось три пешки. Дженсен, пожалуйста, на К3. Тони, — на QR3. Том будет ферзевой пешкой на D5. Сол смотрел, как Лугар и Рэйнольдс занимают свои места. Хэрод продолжал стоять не шевелясь. — Я не знаю, что такое QR3, — произнес он. Вилли нетерпеливо оглянулся. — Вторая клетка перед моей ферзевой ладьей! — прорычал он. — Быстро! Хэрод заморгал и направился к черной клетке г, левой части доски. — Теперь расставляйте на места свои три оставшиеся пешки, — обратился Борден к Баренту. Миллионер кивнул. — Мистер Свенсон, если вы не возражаете, встаньте рядом с мистером Кеплером, пожалуйста. — Усатый охранник оглянулся, положил на пол свой автомат и занял место левее и чуть позади Кеплера. Сол понял, что он стал пешкой королевского коня, которая еще не совершала ходов и стояла в своей исходной позиции. — Мисс Фуллер, — продолжал Барент, — не позволите ли вы вашей восхитительной суррогатке проследовать на место пешки ферзевой ладьи? Да, абсолютно верно. — Женщина, которую когда-то звали Констанция Сьюэлл, с готовностью вышла вперед и встала через четыре пустые клетки перед Хэродом. — Мисс Чен, — обратился Барент, — пожалуйста, рядом с мисс Сьюэлл. — Нет! — закричал Хэрод, когда Мария Чен сделала шаг вперед. — Она не играет! — Нет, играет, — возразил Вилли. — Она внесет определенное изящество в игру, не правда ли? — Нет! — снова крикнул Хэрод, поворачиваясь к старику. — Она не имеет к этому никакого отношения! Вилли улыбнулся и посмотрел на Барента. — Как трогательно. Предлагаю позволить Тони поменяться местами с его секретаршей, если положение ее пешки станет... э-э... угрожающим. Вас это устроит, герр Барент? — Вполне, — подтвердил тот. — Они могут поменяться местами в любой момент, когда пожелает Хэрод, главное, чтобы это не нарушало течения игры Давайте же приступим. Нам все еще надо расставить своих королей. — И Барент окинул взглядом оставшуюся группу помощников и охранников. — Нет! — Вилли встал и вышел на поле доски. — Королями будем мы, герр Барент. — Что вы такое говорите, Вилли? — устало спросил миллионер. Борден развел руками и улыбнулся. — Это очень важная партия, — пояснил он. — Мы должны показать своим друзьям и коллегам, что поддерживаем их. — И он занял место справа через клетку от Дженсена Лугара. — Кроме того, герр Барент, — добавил он, — короля нельзя съесть. Барент покачал головой, но встал и прошел к клетке Q3, рядом с преподобным Джимми Уэйном Саттером. Саттер посмотрел на Барента пустыми глазами и произнес: — И сказал Бог Ною: конец пришел всякой плоти, ибо она наполнила землю злодеяниями. И теперь Я сотру их с земли... — Да заткнись ты, старый педик! — крикнул Тони Хэрод. — Тихо! — приказал Барент. В краткое мгновение последовавшей тишины Сол попытался представить себе ту позицию на доске, как она выглядела после 35-го хода. Солу, обладавшему довольно скромными познаниями в этой игре, предсказать ход развития эндшпиля было слишком сложно. Он знал, что предстоит схватка между гроссмейстерами высокого класса, что Барент имеет значительное преимущество в сложившейся ситуации и почти не сомневается в победе. Сол не понимал, как белые фигуры могут претендовать на нечто большее, чем ничья, даже при самом удачном раскладе, но он слышал слова оберста, что ничья будет означать победу Барента. Одно Сол знал наверняка — оставшись единственной значительной фигурой среди трех пешек, слон будет использоваться весьма активно, даже невзирая на риск. Он закрыл глаза и попытался справиться с внезапно накатившей волной боли и слабости, — Итак, герр Борден, — произнес Барент. — Ваш ход.Глава 35
Мелани В этот безумный вечер мы с Вилли предались воспоминаниям о нашей любви. После стольких лет. Конечно, сделали мы это с помощью наших пешек, до того как прибыть в особняк. Предложи он подобное или даже намекни, я дала бы ему пощечину, но его суррогат в образе негра-великана решил обойтись без предварительных вступлений. Дженсен Лугар схватил мисс Сьюэлл за плечи, швырнул ее на мягкую траву под дубы и по-зверски сделал свое дело. С нами. Со мной. Тяжелое тело негра еще лежало на мисс Сьюэлл, а я непроизвольно вспоминала наши перешептывания с Ниной, когда мы забирались с ней в одну постель и умудренная Нина, затаив дыхание, рассказывала мне, вероятно, подслушанные истории об огромных анатомических размерах и невероятной потенции цветных. Соблазненная Вилли и все еще прижатая к холодной земле тяжелым телом Дженсена Лугара, я решила переключить внимание с мисс Сьюэлл на Джастина и тут вспомнила, пока я пребывала в легком тумане: Минина цветная заявила, что она вовсе не от Нины. Но я-то понимала, что она врет сейчас. Мне очень хотелось сообщить Нине, как она оказалась права. Для меня это было отнюдь не обыденностью. Если не считать моего неожиданного и довольно призрачного знакомства с физической стороной любви в филадельфийском госпитале с помощью мисс Сьюэлл, я об этом не знала ровным счетом ничего. Хотя буйное проявление страсти пешки Вилли с трудом можно было назвать любовью. Скорее, это напоминало лихорадочные судороги сиамца моей тети, когда он вцеплялся в несчастную кошку, страдавшую течкой вовсе не по своей вине. А у мисс Сьюэлл, похоже, была постоянная течка, ибо она отвечала на грубые мимолетные приставания негра с такой похотливостью, какую ни одна юная особа в мое время не могла бы себе позволить. Но, как бы там ни было, дальнейшее переживание этого опыта было грубо прервано негром, который вдруг выпрямился и уставился в темноту, раздувая ноздри. — Приближается моя пешка, — произнес он по-немецки и вжал мое лицо в землю. — Не двигайся. — С этими словами он вскарабкался на нижние сучья дуба, как какая-то огромная черная обезьяна. Последовавшая глупая потасовка, абсолютно бессмысленная, на мой взгляд, закончилась тем, что Дженсен Лугар поднял предполагаемого суррогата Нины по имени Сол и потащил его в особняк. После того как Нинин бедняга был сломлен, но нас еще не окружили охранники, наступило несколько чарующих мгновений, когда все фонари, прожектора и подсветки в деревьях вдруг вспыхнули, словно мы вошли в сказочное царство или приближались к Диснейленду по какому-то тайному заколдованному тоннелю. уход Нининой негритянки из моего дома в Чарлстоне и последовавшие за этим глупости отвлекли меня ненадолго, но к тому времени, когда Калли внес в дом бесчувственное тело Говарда и труп цветного самозванца, я уже была готова целиком отдаться своей встрече с К. Арнольдом Барентом. Мистер Барент до кончиков ногтей был настоящим джентльменом и приветствовал мисс Сьюэлл со всем уважением, которого она заслуживала как моя представительница. Я сразу поняла, что за жалкой внешностью моей пешки он видит облик моей зрелой красоты. Лежа в своей постели в Чарлстоне в зеленом свечении аппаратуры доктора Хартмана, я знала, что обаяние моей женственности в точности передается через грубый облик мисс Сьюэлл и достигает утонченных чувств К. Арнольда Барента. Он пригласил меня играть ,в шахматы, и я приняла это приглашение. Признаюсь, что до сего момента я никогда не испытывала к шахматам ни малейшего интереса. Мне всегда было скучно наблюдать за этой игрой, хотя мой Чарлз и Роджер Харрисон играли в нее постоянно. Но я так и не удосужилась выучить названия фигур или запомнить, как они ходят. Гораздо больше мне нравились оживленные игры в шашки, когда мы с мамашей Бут проводили за ними дождливые дни моего детства. Между началом этой глупой игры и последовавшим затем разочарованием в мистере Баренте прошло некоторое время. Мне поневоле приходилось отвлекаться, чтобы послать Калли и остальных наверх и заставить их заняться приготовлениями к возможному возвращению Нининой негритянки. Несмотря на препятствия, я решила, что настало время осуществить свой план, который я составила несколькими неделями ранее. Я все же продолжала поддерживать контакт с человеком, за которым наблюдала много недель во время прогулок Джастина и Нининой девицы по побережью. К этому моменту я уже решила не использовать его так, как было задумано, но поддержание с ним связи стало для меня своего рода вызовом, ведь он занимал важную позицию и пользовался сложной технической лексикой. Позже я была более чем довольна тем, что потрудилась поддерживать эту связь. Правда, сейчас это казалось мне лишь ненужной помехой. Тем временем глупая шахматная партия между Вилли и хозяином особняка продолжалась, представляя собой какую-то сюрреалистическую картину, изъятую из оригинала «Алисы в Стране чудес». Вилли метался взад и вперед, как Сумасшедший Шляпник. Я позволила передвигать мисс Сьюэлл, полагаясь на обещание мистера Барента, что он не поставит ее в положение, когда ей будет угрожать что-либо. Остальные жалкие пешки и фигуры ходили туда и сюда, съедали друг друга, погибали своими смертями и убирались с доски. Пока мистер Барент не разочаровал меня, я обращала мало внимания на их мальчишеские игры. Мне нужно было завершить свое состязание с Ниной. Я знала, что ее негритянка вернется до наступления рассвета, и, несмотря на усталость, спешила все подготовить к ее возвращению.Глава 36
Остров Долменн Вторник, 16 июня 1981 г. Хэрод отчаянно пытался что-нибудь придумать. Неприятные ситуации сами по себе были довольно отвратительны; они ставили его в глупое положение, раз он не мог найти какого-нибудь выхода. Но пока Хэроду это не удавалось. В данный момент, насколько он это понимал, Вилли и Барент вполне серьезно разыгрывали шахматную партию, ставки на выигрыш в которой были очень велики. В случае победы Вилли — а Хэрод никогда не видел, чтобы старый негодяй проигрывал, — они с Барентом продолжат свое состязание на более высоком уровне, когда ставкой будет уничтожение городов и ядерные пожарища в целых странах. Победа Барента предполагала сохранение статус-кво, но Хэрод не слишком надеялся на это, ведь он только что видел, как Барент пренебрег правилами Клуба Островитян лишь для того, чтобы разыграть эту чертову партию. Хэрод стоял на своей черной клетке, на расстоянии двух клеток от края доски и трех — от безумной шлюхи Сьюэлл и пытался изобрести хоть что-нибудь. Он готов был стоять здесь до тех пор, пока не найдет выхода из этой дурацкой ситуации, но Вилли сделал первый ход и сказал: — Пешка — на R4, прошу. Хэрод начал озираться. Остальные смотрели на него во все глаза. Двадцать или тридцать охранников, стоявших в тени, производили жуткое впечатление, никто из них не издавал ни звука. — Это относится к тебе, Тони, — мягко проронил Барент. Миллионер в своем черном костюме стоял от него в десяти футах по диагонали. Сердце у Хэрода бешено заколотилось. Он испугался, что Вилли или Барент снова попытаются использовать его. — Эй! — крикнул он. — Я в этом ни черта не понимаю! Объясните мне, куда идти, Христа ради. Вилли скрестил руки на груди. — Я уже объяснил, — проворчал он. — Ты стоишь на клетке R3, Тони. Перейди на одну вперед. Хэрод поспешно шагнул на белую плитку перед собой. Теперь его отделяла одна клетка по диагонали от белокурого зомби Тома Рэйнольдса и всего две пустые — от Сьюэлл. Мария Чен безмолвно стояла на белом квадрате рядом с суррогаткой Мелани Фуллер. — Послушай, у тебя три пешки! — крикнул Хэрод. — Откуда мне знать, что ты имеешь в виду меня? Для того чтобы увидеть Вилли, Хэроду пришлось изогнуться и заглянуть за черную тушу Дженсена Лугара. — Сколько у меня ладейных пешек, Тони? — задал риторический вопрос Вилли. — А теперь заткнись, пока я не пошел тобой. Хэрод отвернулся и плюнул в тень, пытаясь остановить внезапную дрожь в правой ноге. Барент ответил тут же, полностью изменив представления Хэрода о долгих минутах или даже часах размышлений игроков над очередным ходом. — Король на ферзь-4, — промолвил он с иронической улыбкой и сделал шаг вперед. Этот ход показался Хэроду глупым. Теперь миллионер стоял впереди всех своих фигур и лишь через клетку по диагонали от Дженсена Лугара. Хэрод с трудом сдержал истерическое хихиканье, когда вспомнил, что черный великан олицетворял собой белую пешку. Он закусил губу и с тоской подумал, что больше всего ему хочется быть сейчас дома, в своей джакузи. Вилли кивнул, словно ожидал этого хода — Хэрод вспомнил, что ранее он уже говорил что-то о выдвижении Барентом короля в центр, — и сделал нетерпеливый жест рукой в сторону истекавшего кровью еврея. — Слон — ладья-3. Бывший суррогат по имени Сол прохромал три клетки по диагонали и остановился на том месте, где только что стоял Хэрод. Вблизи он выглядел еще страшнее. Мешковатый комбинезон был пропитан кровью и потом. Близоруко прищурившись, еврей кинул на Хэрода измученный настороженный взгляд. Хэрод не сомневался, что именно он накачал его наркотиками и допрашивал в Калифорнии. Ему было глубоко наплевать, что с ним будет дальше, он надеялся лишь на то, что еврей уничтожит нескольких черных фигур, перед тем как его принесут в жертву. «Боже милосердный, — думал Хэрод, — ну и дела». Барент положил руки в карманы, сделал шаг вправо по диагонали и остановился в белом квадрате прямо перед Лутаром. — Король на К5, — прокомментировал он. Хэрод ничего не понимал в этой идиотской игре. В детстве он несколько раз играл в шахматы, — ровно столько, чтобы знать названия фигур и понимать, что игра ему не нравится. Прежде всего он избавлялся от всех пешек, а затем приступал к размену более крупных фигур. Его горячие противники никогда не ходили своими королями, кроме разве что случаев рокировки — Хэрод уже не помнил, что это за штука, — или когда их начинали преследовать. И вот два гроссмейстера мирового уровня остаются почти ни с чем, кроме пешек, и болтают своих королей взад-вперед, как свои члены какие-нибудь извращенцы. «А пошли они...» — подумал Хэрод и прекратил пытаться что-либо понять. Вилли и Барента разделяло всего шесть футов. Старик нахмурился, постучал пальцем по нижней губе и произнес: — Bauer... endschuldigen... Bischric zum Bischof Funf. — Потом он посмотрел на Джимми Уэйна Саттера, стоявшего от него в десяти футах по диагонали, и перевел: — Слон на слон-5. Тощий еврей отер лицо и похромал по черным клеткам к Рэйнольдсу. Хэрод сосчитал клетки от края доски и удостоверился, что это действительно пятая по полю слона, или ряду слона, или как они там это называли. Хэроду потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что еврей теперь защищал позицию пешки Лугара, а по черной диагонали угрожал Сьюэлл. Но похоже, женщина не осознавала, что ей грозит опасность. Хэроду доводилось видеть и более наполненные жизнью трупы. Он снова посмотрел на нее, пытаясь разглядеть ее гениталии в разрывах рубашки. Теперь, когда он восстановил в памяти основные шахматные правила, Хэрод ощущал меньшее напряжение. Пока он оставался на этом месте, ему ничего не грозило. При прямом столкновении пешки не могли есть пешек. Справа от него, на клетку впереди, напротив Марии Чен стоял Рэйнольдс, защищая, так сказать, фланг Хэрода. Он снова посмотрел на Сьюэлл и решил, что если ее как следует вымыть, она будет не так уж и дурна. — Пешка — ладья-3, — промолвил Барент и сделал учтивый жест рукой. На какое-то мгновение Хэрод с ужасом подумал, что ему опять надо передвигаться, но потом вспомнил, что Барент был черным королем. Мисс Сьюэлл среагировала на жест миллионера и изящно переступила на белую клетку. — Благодарю вас, дорогая, — сказал Барент. Хэрод почувствовал, как у него снова начинает колотиться сердце. Еврей слон больше не угрожал пешке Сьюэлл, но она находилась в одном диагональном шаге от Тома Рэйнольдса. Если Вилли не съест ее Рэйнольдсом, она уничтожит его следующим же ходом. И тогда она окажется по диагонали от Хэрода. «Черт», — подумал Тони. — Пешка на конь-6, — без промедления среагировал Вилли. Хэрод повернул голову, пытаясь сообразить, как он может попасть туда со своего места, но Рэйнольдс пришел в движение. Белокурая пешка шагнула в черную клетку рядом с мисс Сьюэлл, оказавшись лицом к лицу с Марией Чен. Хэрод облизнул внезапно пересохшие губы. Марии Чен пока ничего не грозило, Рэйнольдс не мог ее съесть. «О Господи, — подумал он, — а что же станет с нами, пешками, когда нас будут съедать?» — Пешка на слон-4, — бесстрастно ответил Барент. Свенсон вежливо подтолкнул Кеплера, член Клуба Островитян заморгал и сделал шаг вперед. Барент перестал выглядеть на доске таким одиноким. — Кажется, это сороковой ход? — заметил Вилли и сделал шаг по диагонали на черную клетку. — Король на ладья-4. — Пешка — слон-5. — Барент передвинул Кеплера еще на одну клетку. Кеплер в своем перепачканном костюме двигался осторожно, словно в квадрате, расположенном рядом с Барентом, могла находиться западня. Заняв новую позицию, он остался стоять у самого края клетки, не сводя глаз с обнаженного негра, расположившегося в шести футах от него, на соседней черной диагонали. Лугар смотрел на Барента. — Пешка бьет пешку, — пробормотал Вилли. Лугар сделал шаг вперед и направо. Джозеф Кеплер закричал и повернулся, чтобы бежать. — Нет-нет-нет, — нахмурился Барент, Кеплер замер в полупрыжке, мышцы его напряглись, ноги выпрямились. Не шевелясь, он смотрел на приближающегося негра. Лугар остановился рядом с ним на черной клетке. В глазах Кеплера застыл уж;";. — Спасибо, Джозеф, — сказал Барент. — Ты дослужил хорошую службу, — и он кивнул Вилли. Дженсен Лугар обеими ладонями взял угловатое лицо Кеплера, стиснул его и резким движением вывернул голову. Хруст сломанной шеи эхом отдался под сводами зала. Кеплер один раз дернулся и скончался, снова обмочившись при падении. По жесту Барента вперед выскочили охранники и, схватив обмякшее тело, поволокли его прочь. Лугар остался в черной клетке один — теперь глаза его были устремлены в пустоту. Барент внимательно посмотрел на него. Хэрод не мог поверить в то, что Вилли отдаст Баренту Лугара. Уже четыре года негр был любимчиком старого продюсера и по меньшей мере дважды в неделю делил с ним постель. Вероятно, Барент тоже сомневался в этом — он поднял палец, и из темноты выступило с полдюжины охранников, нацелив свои «узи» на Вилли и его пешку. — Герр Борден? — спросил Барент, поднимая бровь. — Мы можем сойтись на ничьей и вернуться к установленным состязаниям. На следующий год... кто знает? Лицо Вилли превратилось в бесстрастную маску. — Меня зовут герр генерал Вильгельм фон Борхерт, — ровным голосом произнес он. — Ходите. Барент помедлил, затем кивнул своим охранникам. Хэрод ожидал шквала огня, но они лишь удостоверились, что траектории выстрелов свободны, и замерли в готовности. — Что ж, пусть будет так. — Барент положил на плечо Лугара свою бледную руку. Уже позже Хэрод думал, что смог бы воспроизвести на экране то, что последовало дальше, при неограниченном бюджете, дюжине техников по гидравлике и работе с кровяными резервуарами, но ему никогда бы не удалось добиться такого звука и такого выражения на лицах окружающих. Через мгновение тело Лугара начало корчиться и искривляться — органы грудной клетки выперли наружу, грозя сломать ребра, бугры мускулов на его плоском животе надулись, как крыша тента от порыва ветра, голова начала подниматься, как на невидимом стальном перископе, натягивая и напрягая жилы, пока они с отчетливым треском не полопались. Затем все тело негра содрогнулось, будто охваченное каким-то жутким спазмом, и у Хэрода мелькнул образ сжимаемой и расплющиваемой глины в руках выведенного из себя скульптора. Но страшнее всего были глаза: они закатились в глазницы, так что остались видны лишь белки, которые увеличивались и увеличивались — сначала до размеров шариков для гольфа, потом — бейсбольного мяча, потом — надувных шаров, которые вот-вот грозили лопнуть. Лугар открыл рот, но вместо ожидаемого крика оттуда хлынула кровь. Хэрод слышал звуки, доносившиеся из утробы Лугара, — мышцы внутри рвались с таким же надрывным дребезжанием, как лопаются струны рояля, слишком туго натянутые на колки. Барент отступил на шаг назад, чтобы не запачкать свой парадный костюм, белую рубашку и лакированные ботинки. — Король берет пешку, — промолвил он, поправив свой шелковый галстук. Вышедшие на поле охранники вынесли тело Лугара. Теперь Барента и Вилли разделяла лишь одна белая клетка. Шахматные правила запрещали кому-либо из них вставать на нее. Короли не могли вступать в противостояние. — По-моему, мой ход, — промолвил Вилли. — Да, герр Бор... герр генерал фон Борхерт, — ответил Барент. Вилли кивнул, щелкнул каблуками и объявил следующий ход.* * *
— Разве мы не должны уже прилететь? — спросила Натали Престон и, наклонившись вперед, посмотрела в залитое дождем ветровое стекло. Дерил Микс жевал незажженную сигару, перегоняя ее из одного угла рта в другой. — Встречный ветер сильнее, чем я думал, — ответил он. — успокойся. Уже скоро. Высматривай огни с правой стороны. Натали откинулась назад и с трудом справилась с желанием в тридцатый раз заглянуть в сумочку и проверить «кольт». С заднего сиденья к ней склонился Джексон. — Я до сих пор не могу понять, что здесь делает такая малышка, как ты. Он хотел пошутить, но Натали резко обернулась и выпалила: — Послушай, я знаю, что я здесь делаю. А вот что ты делаешь здесь? Словно уловив ее напряженное состояние, Джексон ухмыльнулся и невозмутимо ответил: — Братство Кирпичного завода не смиряется с тем, когда являются такие люди и начинают расправляться с братишками и сестренками на нашей собственной территории. Когда-то ведь надо же рассчитаться. Натали сжала кулак. — Дело не только в этом, — промолвила она. — Это подлые, страшные люди? Джексон обхватил ее кулак своей ладонью и тихонько сжал его. — Послушай, малышка, на этой земле есть всего три сорта людей: подлые ублюдки, подлые черные ублюдки и подлые белые ублюдки. Подлые белые ублюдки хуже всего, потому что они дольше всех занимаются этим делом, — он бросил взгляд на пилота, — старик, я не хотел тебя обидеть. — А я и не обиделся, — сказал Микс, перекинул сигару в другой угол рта и ткнул пальцем в ветровое стекло. — Вон там, на горизонте, возможно, уже наш огонь. — Он сверился с указателем скорости и добавил: — Через двадцать минут... Может, через двадцать пять. Натали высвободила руку и нащупала в сумочке «кольт» 32-го калибра. Всякий раз, как она прикасалась к нему, оружие казалось ей все меньше и незначительней. Микс дернул дроссель, и «Сессна» понемногу начала терять высоту.* * *
Сквозь пелену боли и усталости Сол заставлял себя следить за игрой. Больше всего он боялся потерять сознание или по собственной невнимательности вынудить Вилли преждевременно применить свои силы. И то и другое запустило бы механизм фазы сна, а фаза быстрого сна повлекла бы за собой многое другое. Больше всего на свете ему хотелось сейчас лечь и уснуть долгим сном без всяких сновидений. Уже полгода он видел во сне одни и те же запрограммированные видения, и теперь ему казалось, что если смерть — единственный вид глубокого сна, лишенный сновидений, то он готов приветствовать ее, как друга. Но не сейчас. После смерти Лугара и потери единственной дружелюбной фигуры оберет — Сол отказывался производить его в генералы — воспользовался своим сорок вторым ходом и перешел на следующую клетку, передвинув белого короля на ладью-5. Похоже, его не волновало, что он стал единственной белой фигурой на правой половине доски: две клетки отделяли его от Свенсона, три — от Саттера и две — от самого Барента. Только слон мог прийти сейчас на помощь старому немцу, и Сол заставил себя сосредоточиться. Если следующий ход Барента будет направлен на слона, он не выдержит и тут же бросится на нациста. До оберста было почти двадцать футов. Сол уповал лишь на то, что присутствие Барента помешает охранникам сразу открыть огонь. К тому же оставался еще Том Рэйнольдс, белая пешка, стоявшая на черной клетке в трех футах от Сола. Даже если никто из охранников Барента не среагирует, оберет непременно использует Рэйнольдса, чтобы схватить его. Сорок вторым ходом Барент перевел своего короля в квадрат королевского слона-4 и встал рядом с Саттером — теперь от оберста его отделяла всего одна пустая клетка. — Слон на король-3, — объявил Вилли, и Сол, встряхнувшись, поспешно двинулся вперед, пока его не подогнали. Но даже с новой позиции ему было трудно представить это скопление уставших тел со стратегической точки зрения. Он закрыл глаза и как бы воочию увидел шахматную доску, пока Барент делал ход король-5 и перемещался на соседнюю с ним клетку. Сол понимал, что если оберет сейчас не передвинет его, то следующим ходом Барент его съест. Сол заставил себя стоять на месте, вспоминая ту ночь в бараках Челмно, когда он решил, что лучше бороться и умереть, чем позволить увести себя в темноту. — Слон на слон-2, — скомандовал старик. Сол шагнул назад и вправо и оказался на расстоянии хода коня от Барента. Миллионер задумался над следующим ходом, потом кинул взгляд на старика и улыбнулся. — Это правда, герр генерал, что вы присутствовали при кончине Гитлера? — спросил он. Сол широко раскрыл глаза. Это было невероятным нарушением шахматного этикета — обращаться к сопернику в ходе игры. Но, похоже, Вилли не возражал. — Да, я был в бункере фюрера в его последние часы, герр Барент. И что из этого? — Ничего, — задумчиво протянул Барент. — Просто я подумал, не оттуда ли идет ваше пристрастие к «Сумеркам богов»? Вилли захихикал. — Фюрер был дешевым позером. 22 апреля... помню, это было через два дня после дня его рождения... он решил отправиться на юг и возглавить военные группировки Шернера и Кессельринга, прежде чем падет Берлин. Я убедил его остаться. На следующее утро я вылетел из города на частном самолетике, вместо взлетной полосы используя аллею разрушенного зоопарка. Ваш ход, герр Барент. Миллионер выждал еще секунд сорок пять и отступил назад по диагонали на клетку слон-4. И вновь оказался рядом с Саттером. — Слон на ладья-4, — прорычал Вилли. Сол миновал по диагонали две черные клетки и встал позади оберста. Пока он хромал, рана на левой ноге открылась, и теперь он стоял, зажимая ее тканью комбинезона. Он находился так близко от немца, что даже ощущал его запах — такой же острый и приторно-сладкий, каким он представлял себе запах газа «Циклон-Б». — Джеймс? — окликнул Барент Джимми Уэйна Саттера, и тот, выйдя из своего транса, сделал шаг вперед и остановился рядом с хозяином на четвертой клетке королевской линии. Вилли бросил взгляд на Сола и резким движением указал ему на пустой квадрат между Барентом и собой. Сол повиновался. — Слон на конь-5, — в гробовой тишине объявил Вилли Сол стоял лицом вперед и глядел на бесстрастного агента по имени Свенсон, находившегося в двух клетках от него, ощущая присутствие Барента в двух футах слева от себя и оберста на таком же расстоянии справа. Он подумал, что, наверное, то же самое чувство испытывает человек, очутившийся между двумя огромными кобрами. Близость оберста подталкивала Сола к тому, чтобы действовать прямо сейчас. Ему надо было всего лишь повернуться и... Нет. Время еще не подошло. Сол украдкой посмотрел налево. Барент едва ли не с апатичным видом взирал на группу из четырех забытых пешек в дальней левой части доски. Затем он похлопал Саттера по широкой спине и пробормотал: — Пешка на король-5. И телепроповедник перешел на белую клетку. Сол мгновенно понял, какую угрозу несет Саттер оберсту. Проходная пешка, достигшая последнего ряда, могла быть превращена в любую фигуру. Но пока Саттер стоял всего лишь в пятом ряду. В качестве слона Сол контролировал диагональ, на которой находилась шестая клетка. Однако теперь появилась вероятность, что Солу придется «съесть» Саттера. Какое бы презрение ни испытывал Сол к отвратительному лицемеру, в это мгновение он твердо решил, что никогда не позволит оберсту использовать себя таким образом. Если последует распоряжение убить Саттера — значит, Сол должен будет наброситься на оберста, наплевать, что при этом шансы на успех могут равняться нулю. Сол закрыл глаза и чуть было не провалился в сон. Сжав левой рукой раненую ногу, он заставил, чтобы немыслимая боль вернула его в бодрствующее состояние. Теперь у него болела правая рука, пальцы едва-едва реагировали, когда он пытался пошевелить ими. Сол подумал о том, где сейчас Натали. Почему она не может заставить старуху действовать? Мисс Сьюэлл стояла далеко в третьем ряду на линии ферзевой ладьи, как брошенная статуэтка, устремив взгляд в тенистые своды зала. — Слон на король-3, — скомандовал оберет. Тяжело вздохнув, Сол вернулся на свою прежнюю позицию, заблокировав продвижение Саттера. Он не мог причинить тому никакого вреда, пока черная пешка оставалась на белой клетке. И Саттер не мог сделать Солу ничего плохого, пока они находились лицом друг к другу. — Король на слон-3, — произнес Барент и отступил назад на одну клетку. Теперь Свенсон оказался слева от него. — Белый король на конь-4, — протянул Вилли и передвинулся на шаг ближе к Саттеру и Солу. — И черный король не отстает, — чуть ли не игриво откликнулся Барент. — Король на К4. — Он сделал шаг вперед по диагонали и остановился за Саттером. Фигуры сходились к бою. С расстояния двух футов Сол смотрел в зеленые глаза преподобного Джимми Уэйна Саттера. В них не было страха, лишь недоумение, всепоглощающее желание понять, что происходит. Сол понял, что игра вступает в заключительную фазу. — Король на конь-5, — объявил Вилли, перемещаясь на черную клетку в ряду Барента. Миллионер выдержал паузу, огляделся и отошел на клетку вправо, в сторону от оберста. — Герр генерал, не хотите ли прерваться и освежиться? Сейчас почти три ночи. Мы могли бы перекусить и возобновить игру через полчаса. — Нет! — упрямо сказал Вилли. — Кажется, пятидесятый ход? — Он сделал шаг по направлению к Баренту и перешел на белую клетку по диагонали от Саттера. Священник не пошевелился. — Король на слон-5, — громко сказал оберет. Барент отвел глаза в сторону. — Пешка — ладья-4, пожалуйста, — откликнулся он. — Мисс Фуллер, вы не возражаете? Дрожь пробежала по телу женщины, стоявшей на отдаленной линии ладьи, ее голова повернулась, как заржавевший флюгер. — Да? — Передвиньтесь, пожалуйста, вперед на одну клетку, — пояснил Барент. В его голосе прозвучала легкая нотка беспокойства. — Конечно, сэр. — Мисс Сьюэлл уже собралась сделать шаг, вдруг остановилась и спросила голосом Мелани Фуллер: — Мистер Барент, а это не ставит под угрозу мою юную даму? — Конечно же, нет, мэм, — улыбнулся Барент. Мисс Сьюэлл прошлепала своими босыми ногами и остановилась прямо перед Тони Хэродом. — Благодарю вас, мисс Фуллер, — поклонился Барент. Вилли ухмыльнулся. — Слон на слон-2. Сол перешел по диагонали вправо на клетку назад. Этого хода он не понял. — Пешка на конь-4, — тут же среагировал Барент. Свенсон бодро сделал два шага вперед — это был его первый ход — единственный раз, когда пешка может ходить через две клетки сразу. Теперь он оказался на одной линии с оберстом. Вилли тяжело вздохнул и осклабился. — Вы начинаете нервничать, герр Барент, — промолвил он и посмотрел на Свенсона. Агент не двигался и не предпринимал попыток ни бежать, ни защищаться. Чье-то психологическое давление — оберста или Барента — не оставляло ему ни малейшей возможности действовать по собственной воле. Убийство, совершенное немцем, выглядело не столь патетичным, — Свенсон мгновенно повалился замертво на линию, разделявшую черные и белые клетки. — Король берет пешку, — прокомментировал Вилли равнодушно. Барент сделал шаг по направлению к Хэроду. — Черный король на слон-5, — пояснил он. — О'кей. — Вилли перешел на черную клетку, прилегавшую к квадрату Джимми Уэйна Саттера. — Белый король на слон-6. — Сол понял, что пока Барент пытался решить судьбу Хэрода, оберет почему-то угрожал Саттеру. — Король на конь-5, — произнес Барент и переместился в квадрат рядом с Хэродом. Сол видел: до Тони Хэрода дошло, что следующей жертвой Барента будет он. Лицо продюсера побледнело, он облизнул пересохшие губы и оглянулся, словно намереваясь бежать. Охранники Барента придвинулись ближе. Сол снова повернулся к Джимми Уэйну Саттеру Евангелисту оставалось жить несколько секунд — совершенно очевидно, что следующим ходом Вилли захватит беспомощную пешку. — Король бьет пешку, — подтвердил фон Борхерт, переходя в белый квадрат Саттера. — Секундочку! — вскричал Саттер. — Одну секундочку. Мне надо кое-что сказать еврею! Вилли брезгливо тряхнул головой, но Барент вмешался: — Предоставьте ему секунду, герр генерал! — Ладно, побыстрее, — бросил тот, ему явно не терпелось завершить партию. Саттер полез в карман за носовым платком, не нашел его и вытер пот с верхней губы тыльной стороной руки. Он уставился прямо в глаза Солу и тихим и твердым голосом, совсем не похожим на хорошо модулированный баритон, которым он читал свои телевизионные проповеди, произнес: — Из Книги Премудрости царя Соломона. Глава третья «А души праведников в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас — уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздания им они воссияют как искры, бегущие по стеблю... Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его...» — Это все, брат Джеймс? — веселым голосом поинтересовался Вилли. — Да, — ответил Саттер. — Король бьет пешку, — повторил оберет. — Герр Барент, я устал. Пусть ваши люди позаботятся об этом. По кивку Барента из тени вышел охранник — он приставил «узи» к черепу Саттера и выстрелил. — Ваш ход, — напомнил Вилли Баренту, пока выносили труп преподобного. Сол и оберет остались в одиночестве в правой части доски. Барент медлил, глядя на Тони Хэрода, затем повернулся к Вилли и спросил: — Вы согласитесь на ничью, обычную ничью? Я вступлю с вами в переговоры о возможности расширить состязания позднее. — Нет! — Вилли покачал головой. — Ходите. К. Арнольд Барент сделал шаг и протянул руку к плечу Тони Хэрода. — Подождите минуточку! — заорал Хэрод и отшатнулся от Барента, не покидая своей белой клетки. Двое охранников обступили его с обеих сторон, чтобы иметь свободную траекторию огня. — Поздно, Тони, — сказал Барент. — Ну, будь же хорошим мальчиком. — До свидания, Тони, — добавил Вилли. — Постойте же! — закричал Хэрод. — Вы говорили, что я могу поменяться. Вы обещали! — голос его сорвался на капризный визг. — О чем ты говоришь? — раздраженно прервал его Барент. Хватая воздух, Хэрод указал на Вилли. — Ты обещал. Ты сказал, что я могу поменяться местами с ней... — Голова его дернулась по направлению к Марии Чен, а взгляд так и остался прикованным к протянутой руке Барента. — Мистер Барент слышал, что ты сказал. Он ведь согласился с тобой. Раздражение на лице Вилли сменилось легким изумлением. — Он прав, герр Барент. Мы договорились, что у него будет возможность поменяться. Но Барент вдруг побагровел от ярости. — Чушь. Он хотел поменяться с девушкой, если ей будет что-то угрожать. Это же глупо. — Вы обещали! — заныл Хэрод. Он молитвенно сложил руки и повернулся к немцу. — Вилли, скажи ему. Вы же оба обещали, что я смогу поменяться, если захочу. Скажи ему, Вилли. Пожалуйста. Скажи ему. Оберет пожал плечами. — Дело ваше, герр Барент. Миллионер вздохнул и глянул на часы. — Предоставим решать даме. Мисс Чен? Мария Чен не мигая смотрела на Тони Хэрода. Сол не мог понять, что выражают ее темные глаза. Хэрод заерзал,бросил косой взгляд в ее сторону и отвернулся. — Мисс Чен? — повторил Барент. — Да, — прошептала девушка. — Что? Я не слышу вас. — Да, — повторила она. Тело Хэрода обмякло. — Напрасно, — задумчиво произнес оберет. — У вас безопасная позиция, фрейлен. Чем бы ни кончилась партия, вашу пешку не тронут. Не понимаю, зачем меняться местами с этим никому не нужным куском дерьма. Мария Чен не ответила. Высоко подняв голову и не глядя на Хэрода, она направилась к его черной клетке. Ее высокие каблуки гулко простучали по плиткам. Дойдя до места, Мария Чен повернулась, улыбнулась мисс Сьюэлл и посмотрела на Хэрода. — Я готова, — сказала она. Хэрод так и не поднял глаз. К. Арнольд Барент нежно провел пальцами по ее черным волосам. — Вы прекрасны, — промолвил он и шагнул на ее квадрат. — Итак, король бьет пешку. Шея Марии Чен изогнулась назад, рот ее невероятно широко открылся. Она безуспешно попыталась вдохнуть, но из горла вырвались лишь какие-то жуткие скрежещущие звуки. Упав на спину, она начала раздирать острыми ногтями лицо и шею. Эти жуткие звуки продолжались почти целую минуту. Пока уносили тело Марии Чен, Сол пытался понять, что же именно делали оберет и Барент. Он решил, что это не было проявлением какой-то новой грани их Способности, просто они использовали присущую им силу, захватывая контроль над произвольной и автономной нервной системой человека и подавляя основы биологических функций организма. Совершенно очевидно, что от них это требовало определенных усилий, но процесс, вероятно, был тем же самым: внезапное появление Тета-ритма у жертвы сменялось наступлением искусственно вызванной фазы быстрого сна и потерей самоконтроля. Сол не сомневался, что это именно так, и даже готов был держать пари на что угодно. — Король на ферзь-5, — тем временем объявил Вилли и двинулся в сторону Барента. — Король на конь-5, — ответил Барент и перешел на черную клетку, расположенную по диагонали от него. Сол попытался понять, каким образом Барент намеревается спасти положение. На его взгляд, выхода не было. Мисс Сьюэлл — черная пешка Барента на ладейном поле — могла быть продвинута вперед, но не имела возможности достичь конца доски, пока у оберста сохранялся слон. Пешку Хэрода заблокировал Том Рэйнольдс, и толку от нее не было никакого. Близоруко прищурившись, Сол посмотрел на Хэрода, расположившегося в двадцати футах от него. Тот стоял, опустив голову, и, судя по всему, напрочь забыл об игре, быстро приближающейся к развязке. Оберет активно использовал Сола — своего слона — и в любой момент мог объявить шах белому королю. У Барента практически не осталось шансов. — Король на ферзь-6. — Оберет перешел на черную клетку в том же ряду, что и Рэйнольдс. Лишь одна черная клетка по диагонали отделяла его от Барента. Вилли явно играл с миллионером как кошка с мышкой. Барент улыбнулся и поднял три пальца, делая вид, что отдает честь. — Сдаюсь, герр генерал. — Я — гроссмейстер, — жестко усмехнулся Вилли. — Конечно, — согласился Барент. Он пересек разделявшие их шесть футов и пожал старику руку. — Уже поздно, — оглядев зал, заметил он. — Я утратил интерес к вечеринке. Свяжусь с вами завтра относительно деталей нашего будущего состязания. — Сегодня я улетаю домой, — сказал Вилли. — О'кей, — Барент облегченно вздохнул. — Не забывайте, что я оставил письменные распоряжения и инструкции у своих друзей в Европе относительно нашего будущего всемирного предприятия, — напомнил он. — Так сказать, гарантии моего безопасного возвращения в Мюнхен. — Да-да, я не забыл, — кивнул Барент. — Ваш самолет готов к отлету, и я свяжусь с вами по нашим обычным каналам. — Очень хорошо. Барент оглядел почти пустую доску. — Все произошло точно так, как вы предсказывали несколько месяцев назад, — улыбнулся он. — Весьма вдохновляющая игра. Миллионер повернулся и быстрым шагом направился к панорамным дверям, его поступь отдалась гулким эхом под сводами зала. Одни охранники двинулись сразу на улицу, другие окружили его плотным кольцом. — Не хотите, чтобы я позаботился о докторе Ласки? — осведомился Барент, остановившись в дверях. Вилли бросил взгляд на Сола, словно совсем позабыл о его существовании. — Оставьте его, — сказал он. — А как насчет нашего «героя дня»? — Барент указал на Хэрода, который опустился на пол и теперь сидел, обхватив голову руками. — Я займусь Тони, — ответил Вилли. — А женщина? — спросил Барент, кивая в сторону мисс Сьюэлл. Старик прочистил горло. — Первый пункт нашей завтрашней беседы как раз и будет посвящен тому, что делать с моей дорогой подругой Мелани Фуллер. Нам следует проявить должное уважение. — Он потер усталые глаза. — А эту убейте. Барент кивнул, и подошедший к доске охранник разрядил «узи» в грудь мисс Сьюэлл. Будто гигантской рукой, ее снесло с доски, она заскользила по гладким плиткам и замерла, широко раскинув ноги. Рубашка задралась, обнажив грязное тело. — Спасибо, — поблагодарил оберет. — Не за что, — улыбнулся Барент. — Спокойной ночи, герр чемпион. Двери за миллионером и его свитой закрылись. Через минуту раздался шум двигателей, и вертолет, развернувшись, взял курс в открытый океан к дожидавшейся хозяина яхте. В большом зале не осталось никого, кроме Рэйнольдса, обмякшей фигуры Тони Хэрода, трупов недавно убиенных, оберста и Сола. — Итак, — сказал оберет, засунув руки в карманы и чуть ли не с сожалением глядя на Сола, стоявшего футах в пятнадцати от него. — Настало время попрощаться, моя маленькая пешка.Глава 37
Мелани Оказалось, что мистер Барент вовсе не джентльмен, как я подумала вначале. Пока я занималась другими делами в Чарлстоне, он убил бедную мисс Сьюэлл. Для меня это явилось, мягко говоря, ударом. Всегда неприятно, когда пули врезаются в тело, каким бы чужим оно ни было, а из-за того что я временно отвлеклась от происходящего, чувство, пережитое мною, оказалось вдвойне неприятным и шокирующим. Мисс Сьюэлл была довольно вульгарной простолюдинкой перед тем как попала ко мне на службу, и ее манеры продолжали оставаться низменными, но она стала лояльным и полезным членом моего нового «семейства» и заслуживала более достойной кончины. Мисс Сьюэлл прекратила функционировать через несколько секунд после того, как была застрелена человеком Барента — вынуждена с прискорбием отметить — по предложению Вилли, — но этих нескольких секунд мне хватило, чтобы переключить свое внимание на охранника, оставленного мною у административного помещения в подземном комплексе. У охранника был при себе какой-то автоматический пистолет сложной конструкции. Я не имела ни малейшего представления, как им пользоваться, зато это знал он. Поэтому я позволила ему руководствоваться собственными рефлексами при выполнении моих распоряжений. Пятеро свободных от дежурства человек из службы безопасности сидели вокруг длинного стола и пили кофе. Мой охранник тремя короткими очередями выбил троих из кресел и ранил четвертого, когда тот метнулся к своему оружию, лежавшему на соседней койке. Пятому удалось бежать. Мой охранник обошел стол, переступая через трупы, подошел к раненому, который тщетно пытался заползти в угол, и дважды выстрелил в него. Где-то вдали завыла сирена, заполняя переплетения коридоров своими пронзительными звуками. Затем он направился к главному входу, завернул за угол и тут же был застрелен бородатым латиноамериканцом. Я перескочила в него и заставила его броситься бегом вверх по пандусу. Наверху затормозил джип, в котором сидело трое человек, и офицер на заднем сиденье принялся задавать вопросы моему человеку. Я выстрелила офицеру в левый глаз, перескочила в капрала за рулем, а затем принялась смотреть его глазами, как джип, увеличивая скорость, несется на ограду с проводами под высоким напряжением. Двое охранников с переднего сиденья перелетели через капот и повисли на проводах, в то время как джип, дважды перевернувшись и подняв фонтан искр, привел в действие наземную мину на территории зоны безопасности. Пока мой мексиканец торопливо пересекал по дорожке зону безопасности, я переключилась на молодого лейтенанта, который бежал к месту происшествия со своими девятью подчиненными. Обе мои новые пешки рассмеялись, когда увидели выражения лиц охранников, осознавших, что оружие их командира направлено на них. С севера приближалась еще одна группа с остатками суррогатов, взятых в плен после бегства Дженсена Лугара. Я заставила своего мексиканца швырнуть в них зажигательную гранату. Огонь высветил обнаженные фигуры, те с криками бросились врассыпную. Выстрелы звучали уже отовсюду, и обезумевшие охранники палили друг в друга. Два патрульных катера пристали к берегу, чтобы выяснить, что происходит, и я заставила молодого лейтенанта броситься им навстречу. Я бы с большим удовольствием наблюдала за событиями из особняка, но это можно было сделать только через мисс Сьюэлл. Нейтралы Барента оставались вне моей досягаемости, а единственным игроком в зале, которого я могла бы использовать, был еврей, но я ощутила в нем что-то неладное. Он принадлежал Нине, а с ней в данный момент мне не хотелось иметь никаких дел. Тогда я решила возобновить тот контакт, который не был связан с людьми на острове. Он находился гораздо ближе. Из-за последних оживленных событий в Чарлстоне я почти потеряла с ним связь и теперь смогла восстановить ее лишь благодаря длительному времени обработки на расстоянии. Я действительно считала Нину сумасшедшей, когда ее негритянка день за днем таскала Джастина в этот парк у реки и верфей и заставляла его смотреть в идиотский бинокль, чтобы разглядеть этого человека. Мне потребовалось четыре сеанса, прежде чем я попробовала установить первый робкий контакт Именно Нинина негритянка заставила меня сделать это с изысканной тонкостью , как будто Нина могла учить меня изысканности! Я испытывала невероятную гордость от того, что поддерживала эту связь в течение нескольких недель, в то время как ни сам субъект, ни его коллеги ничего не замечали и не видели никаких перемен. Поразительно, какие технические подробности и жаргон можно узнать, просто пассивно присутствуя в другом человеке. Пока мисс Сьюэлл продолжала действовать, я и не собиралась использовать этот источник, несмотря на все Нинины угрозы и махинации. Теперь же все изменилось. Я разбудила человека по имени Мэллори, подняла его с койки и отправила по короткому коридору вверх по лестнице в помещение, освещенное красными лампами. — Сэр, — произнес некто по имени Леланд. Я вспомнила, что его называли «Крестики-нолики». И еще я вспомнила, как сама в детстве проводила долгие одинокие часы за этой игрой. — Очень хорошо, мистер Леланд, — отчеканил Мэллори. — Оставайтесь на месте. Я буду в командном центре. Я заставила Мэллори выйти и спуститься по лестнице, пока никто не заметил, как изменилось выражение его лица. К счастью, в освещенном красными лампами коридоре Мэллори никто не встретился. Улыбка предвкушения так широко раздвинула его губы, что стали видны все зубы, вплоть до самых последних — это могло бы показаться его коллегам странным и даже подозрительным.Глава 38
Остров Долменн Вторник, 16 июня 1981 г. — Держитесь! — крикнул Микс. — Начинается развлекательная часть программы. Маленькая коробка на консоли «Сессны» загудела, и Микс направил самолет круто вниз, выровняв его всего в пяти футах над гребнями волн. Натали изо всех сил вцепилась в края своего сиденья, когда самолет помчался навстречу темному острову, видневшемуся в шести милях впереди. — Что это? — спросил Джексон, указывая на черное устройство, наконец прекратившее гудеть и давать позывные. — Станция радиолокационных помех, — ответил Микс. — За нами начал следить радар. Или мы слишком низко находимся сейчас, или стали недостижимы из-за оказавшегося между нами острова. — Но им известно, что мы приближаемся? — Натали с трудом сохраняла спокойствие, глядя на то, как вскипает странно фосфоресцирующая вода под проносящимся со скоростью сто миль в час самолетом. Она знала: стоит Миксу чуть ошибиться, и они врежутся в волны, от которых, казалось, их отделяло всего несколько дюймов. Натали еле сдерживала желание поднять повыше ноги. — Должны знать, — ответил Микс. — Но я взял сильно на восток, так что, по их расчетам, остров остался миль на пять-шесть к северу от нас. Мы вроде бы выпали из радиуса их обзора. В данный момент мы подлетаем с северо-востока, поскольку, я думаю, они более бдительно следят за западным направлением. — Смотрите! — воскликнула вдруг Натали. Впереди замаячили зеленые огни пирса, за которым явственно виднелись всполохи пожара. Она повернулась к Джексону. — Может, это Мелани? — возбужденно спросила она. — Может, она все-таки начала действовать! — Мне рассказывали, что они жгут огромные костры в амфитеатре, — пояснил Микс. — Возможно, там идет какое-нибудь представление. Натали посмотрела на часы. — В три часа ночи? Пилот пожал плечами. — А мы можем пролететь над островом? — спросила Натали. — Я хочу взглянуть на особняк, перед тем как мы сядем. — Слишком рискованно. — Микс покачал головой. — Я облечу с востока и вернусь обратно вдоль южного побережья, как в первый раз. Натали кивнула. Всполохи огня исчезли, не стало видно и пирса, остров вообще казался необитаемым, когда они свернули вдоль восточного побережья. Микс удалился от него еще ярдов на сто в открытый океан и набрал высоту, когда впереди показались скалы юго-восточного мыса. — Боже милостивый! — воскликнул Микс, и они втроем наклонились к левому стеклу кабины, чтобы лучше рассмотреть происходящее, пока «Сессна» круто выворачивала вправо, уходя в относительную безопасность океана. К югу от них океан озарился от гриба пламени, взметнувшегося чуть не до неба, — желтовато-зеленые периферийные всполохи огня долетали почти до «Сессны». Когда самолет снизился до шести футов над полосой прибоя, Натали увидела две яркие вспышки, высветившие силуэт корабля на фоне бушевавшего пламени, которое разгоралось все ярче и ближе к ним. Первая из этих вспышек, рассыпавшись, упала в воду и погасла, вторая реактивным зарядом пронеслась мимо и врезалась в скалу ярдах в ста за ними. Взрыв подбросил «Сессну» футов на шестьдесят, как хорошая волна подкидывает доску виндсерфинга, и самолет, вращаясь на месте, стал быстро приближаться к темной поверхности океана. Микс попытался справиться с управлением, потом вытравил до предела дроссель и резко отпустил его так, что тот издал нечто напоминающее индейский клич. Девушка, прижавшись щекой к стеклу, смотрела, как огненный шар разлетелся на сотню маленьких. Вершина скалы обрушилась в воду. Натали повернула голову влево как раз в тот момент, когда еще три вспышки на корабле обозначили взлет новых ракет. — Ну и ну! — выдохнул Джексон. — Держитесь, ребята! — крикнул Микс и так круто свернул вправо, что Натали всего футах в двадцати от себя увидела верхушки пальм. К. Арнольд Барент почувствовал облегчение, когда вышел из особняка и сел в вертолет. Турбина загудела, лопасти начали набирать скорость, и его пилот Дональд поднял машину над деревьями и затопленной огнями лужайкой. Слева взлетел более старый вертолет типа «Ирокез» с девятью охранниками Барента на борту — минус Свенсон, справа виднелось гладкое смертоносное тело единственной находящейся в частном владении «Кобры» Тяжеловооруженная «Кобра» обеспечивала прикрытие с воздуха и должна была дождаться, пока яхта «Антуанетта» выйдет в открытый океан. Барент откинулся на спинку глубокого кожаного кресла и облегченно вздохнул. Представление с Вилли казалось довольно безопасным предприятием — на балконах и в тени стояли снайперы Барента. И все же миллионер испытывал явное облегчение теперь, когда все было позади. Он поднял руку, чтобы поправить галстук, и с изумлением заметил, что она дрожит. — Подлетаем, сэр, — сказал Дональд. Они сделали круг над «Антуанеттой» и начали мягко опускаться на приподнятую взлетную площадку на корме. Барретт с удовлетворением отметил, что шторм утихает, трехфутовые волны не представляли сложности для стабилизаторов яхты. Он подумал было о том, чтобы не выпускать Вилли с острова, но обещанные стариком неприятности по линии европейских контактов могли оказаться слишком существенными. В каком-то смысле Барент был рад, что предварительная игра закончилась и прежние препятствия устранены, и стал размышлять о более крупных масштабах состязания со старым нацистом, которые тот предложил несколькими месяцами раньше. Он не сомневался, что сможет уговорить Вилли на вполне удовлетворяющий их обоих и не столь необъятный размах — возможно, на Ближнем Востоке или где-нибудь в Африке. Такие игры уже не впервые разыгрывались на международной арене. Однако старуха в Чарлстоне была не тем лицом, с которым можно вести переговоры. Барент решил утром посоветоваться со Свенсоном, как лучше ее ликвидировать, и тут же улыбнулся собственной забывчивости. Сказывалась усталость. Ну ладно, если не Свенсон, так новый ассистент директора Де Прист или любой другой из бесконечного ряда его помощников. — Садимся, сэр, — сообщил пилот. — Спасибо, Дональд. Пожалуйста, свяжись по радио с капитаном Шаерсом и скажи, что я загляну на мостик, прежде чем идти к себе. Мы должны сняться с якоря, как только будет закреплен вертолет. В сопровождении четырех охранников, доставленных первым вертолетом, Барент проделал пешую прогулку футов в двести до мостика. После его изготовленного на заказ самолета «Антуанетта» была вторым самым безопасным местом. Отборная команда состояла всего из двадцати трех идеально обработанных нейтралов плюс охрана; быстрая, хорошо вооруженная, окруженная скоростными патрульными катерами, находящаяся, как сейчас, неподалеку от берега, яхта была даже надежнее острова. Капитан и два офицера, стоявших на мостике, вежливо кивнули при появлении Барента. — Курс на Бермуды, сэр, — отрапортовал капитан. — Мы тронемся, как только сядет «Кобра» и мы укроем ее брезентом. — Очень хорошо, — откликнулся Барент. — Охрана с острова еще не сообщала об отбытии самолета мистера Бордена? — Нет, сэр. — Будьте добры, Джордан, дайте мне знать, как только это случится. — Да, сэр. Второй офицер откашлялся и обратился к капитану: — Сэр, радары сообщают о появлении какого-то большого судна из-за юго-восточного мыса. Расстояние — всего четыре мили и продолжает сокращаться. — Сокращаться? — переспросил капитан Шаерс. — Что сообщает Пикет Один? — Пикет Один не отвечает, сэр. Стенли говорит, что расстояние составляет три с половиной мили и судно делает двадцать пять узлов. — Двадцать пять узлов? — снова удивленно переспросил капитан. Он поднял большой бинокль с устройством ночного видения и присоединился к первому помощнику, стоявшему у правого борта. Мягкое красное свечение, исходящее от приборов компьютеризированной панели управления на мостике, не препятствовало действию приборов ночного видения. — Срочно установите, что это за судно, — распорядился Барент. — Уже, сэр, — откликнулся Шаерс. — Это «Эдварде». — В голосе его послышалось облегчение. — «Ричард С. Эдварде», эсминец класса «Шерман», пикетировавший остров Долменн во время прохождения недели летнего лагеря. Линдон Джонсон первым из президентов арендовал «Эдварде», и с тех пор эсминец следует этой традиции. — А почему судно вернулось? — спросил Барент. В отличие от капитана, он продолжал нервничать. — Эсминец должен был покинуть эти воды два дня назад. Сейчас же свяжитесь по радио с его капитаном. — Расстояние две и шесть десятых мили, — заметил второй офицер. — Профиль радара подтверждает, что это «Эдварде». На радиосвязь никто не выходит, сэр. Включить сигнальный огонь? Барент как во сне приблизился к стеклу. Снаружи была кромешная тьма. — На расстоянии двух миль они сбавили скорость, — отрапортовал второй офицер. — Разворачиваются к нам бортом. По-прежнему никаких ответов на наши обращения. — Может, капитан Мэллори решил, что у нас какие-нибудь проблемы? — предположил Шаерс. Барент тут же вышел из сонного состояния. — Моментально уходим! — закричал Барент. — Пусть «Кобра» атакует их. Нет, погодите! Скажите Дональду, пусть готовит вертолет — я улетаю. Шевелитесь, черт бы вас побрал, Шаерс! Пока трое офицеров не сводили с него изумленных взглядов, Барент выскочил за дверь и, растолкав охранников, скатился по лестнице на главную палубу. По дороге он потерял лакированный ботинок, но миллионер не стал возвращаться за ним. Подбежав к освещенной взлетной площадке, Барент споткнулся о свернутый канат, упал и разорвал свой блейзер. Охранники бросились ему на помощь, но он уже вскочил и помчался дальше. — Дональд, черт побери! — заорал Барент. Пилот и два, члена экипажа отцепили только что закрепленные канаты и теперь боролись с крепежом лопастей винта. «Кобра», вооруженная мини-пушками и двумя ракетами с тепловым наведением, прогрохотала в тридцати футах над «Антуанеттой», занимая положение посредине между яхтой и ее бывшим защитником. На волнах скакали отблески огней, тошнотворно напомнившие Баренту о светлячках его детства в Коннектикуте. Только теперь он разглядел в темноте абрис эсминца. Но уже в следующее мгновение «Кобра» взорвалась в воздухе. Одна из ее ракет вспыхнула и бесцельно прочертила зигзаг в ночном небе, прежде чем с безобидным плеском упасть в океан. Барент повернулся спиной к вертолету и, еле волоча ноги, направился к правому борту. Он увидел вспышку пятидюймовой пушки за мгновение до того, как услышал грохот выстрела и свист приближающегося снаряда. Первый снаряд упал в десяти ярдах от «Антуанетты», качнув судно и окатив его такой волной, что она сбила с ног Дональда и троих охранников на корме. Вода еще не успела схлынуть с палубы, как последовала новая вспышка. Барент широко расставил ноги и с такой силой вцепился в поручень, что стальные тросы впились ему в ладони. — Черт бы тебя побрал, Вилли! — прорычал он сквозь стиснутые от ярости зубы. Второй снаряд, скорректированный и управляемый радарным устройством, попал в корму «Антуанетты» футах в двадцати от того места, где стоял Барент, — он прошил обе палубы и взорвался в отделении, где располагался двигатель и обе главные цистерны с дизельным топливом. Пожар сразу охватил половину «Антуанетты», взметнувшись на восемьсот футов вверх, а затем постепенно начал спадать, сворачивая огненные языки.* * *
— Цель поражена, сэр, — донесся с мостика голос дежурного офицера Леланда. Капитан Джеймс Мэллори поднял в командном центре «Ричарда С. Эдвардса» переговорную трубку. — Отлично, «Крестики-нолики», — ответил он, — развернитесь, чтобы наши десятки были направлены на береговые цели. Артиллеристы и противолодочная бригада в полном изумлении взирали на своего капитана. Мэллори сказал им, что это дело государственной важности, абсолютно секретное. Теперь им только оставалось смотреть на его бледное безжизненное лицо и гадать, не произошло ли чего-нибудь ужасного. Одно они знали наверняка: если эта ночная операция была ошибкой, дело старика Мэллори — труба. — Остановиться и заняться поисками уцелевших, сэр? — донесся голос Леланда. — Отставить, — распорядился Мэллори. — Мы будем атаковать цели ВЗ и В4. — Сэр! — вскричал офицер противовоздушной обороны, склонившись над своим радарным экраном. Только что появился самолет. Расстояние две и семь десятых мили. Параллельное следование, сэр. Скорость восемь узлов. — Оставайтесь у «Терьеров», Скип, — распорядился Мэллори. Обычно с целью противовоздушной обороны «Эдварде» использовал лишь двадцатимиллиметровые пушки «Фаланга», но для этой пикетирующей операции он был снабжен четырьмя ракетами «земля — воздух» «Терьер» и громоздкими ракетными установками. Пять недель вся команда выражала недовольство, поскольку «Терьеры» заняли единственное ровное свободное место, использовавшееся обычно для турниров по фрисби. Одну из ракет, правда, применили три минуты назад для уничтожения вертолета. — Это гражданский самолет, сэр, — сообщил радарный офицер. — Одномоторный. Скорее всего, «Сессна». — Ракеты к запуску! — скомандовал капитан Мэллори. Офицеры, находившиеся в оперативно-тактическом центре, услышали, как были выпущены две ракеты, щелчок перезарядки, и звук запуска еще одной ракеты. — Черт! — выругался наводящий офицер. — Простите, капитан. Цель ушла за гребень скалы, и первая «птичка» ее потеряла. Вторая врезалась в скалу. Третья попала куда-то еще. — Цель видна на экране? — осведомился Мэллори. Глаза у него сделались, как у слепого. — Нет, сэр. — Очень хорошо, — произнес капитан. — Артиллерия? — Да, сэр? — Открывайте огонь из обоих орудий, как только получите подтверждение цели на взлетном поле. После пяти залпов перевести огонь на особняк. — Есть, сэр. — Я буду в своей каюте, — сказал Мэллори. Офицеры какое-то время стояли на месте, глядя на закрывшуюся за капитаном дверь, пока наводящий офицер не доложил: — Цель В3 взята. — И тогда члены команды отставили все вопросы и занялись каждый своим делом. Через десять минут, когда дежурный офицер Леланд собрался постучать в каюту капитана, оттуда донесся одиночный выстрел.* * *
Никогда еще не приходилось Натали летать между деревьями. Отсутствие луны не делало это занятие более приятным. Черная масса деревьев неслась им навстречу и исчезала внизу, когда Микс дергал «Сессну» вверх и снова нырял вниз, отыскивая какое-либо свободное пространство. Даже в темноте Натали различала бунгало, дорожки, бассейн и пустой амфитеатр, пролетавшие под брюхом и сбоку самолета. Каким бы собственным радарным устройством ни руководствовался Микс, оно явно было совершеннее механических сенсоров, установленных в третьей выпущенной ракете, — она врезалась в дуб и взорвалась, подняв немыслимый фонтан коры, ветвей и листьев. Микс свернул вправо к пустующей полосе зоны безопасности. Внизу что-то горело, дымились по меньшей мере две машины, а в лесу то и дело мелькали вспышки выстрелов. В миле к югу на единственную взлетную полосу ложились снаряды. — Ого! — воскликнул Джексон, когда рядом с ангаром взлетел на воздух топливный бак. Они обогнули северный причал и вновь углубились в океан. — Нам надо вернуться, — сказала Натали. Она держала руку в своей плетеной сумке, не спуская палец с предохранителя «кольта». — Приведите мне хотя бы один довод, — бросил Микс, поднимая самолет на пятнадцать футов над уровнем моря. Натали вынула руку из сумки. — Пожалуйста, — твердо попросила она. Микс посмотрел на нее, затем, подняв бровь, перевел взгляд на Джексона. — А, какого черта! — прорычал он. «Сессна» круто свернула вправо и изящно развернулась, пока прямо под ней не замигал зеленый огонь пирса.Глава 39
Остров Долменн Вторник, 16 июня 1981 г. После того как вертолет Барента пропал из виду и наступила тишина, оберет еще некоторое время стоял на месте, заложив руки в карманы. — Итак, — наконец повернулся он к Солу. — Настало время прощаться, моя маленькая пешка. — Мне казалось, что я уже стал слоном, — возразил Сол. Вилли рассмеялся и подошел к креслу с высокой спинкой, которое прежде занимал Барент. — Пешка всегда остается пешкой, — сказал он, усаживаясь с достоинством короля, всходящего на трон. Он бросил взгляд на Рэйнольдса, тот подошел и встал рядом. Сол не отрываясь смотрел на оберста, однако успел заметить краем глаза, как Тони Хэрод отполз в тень и, положив голову своей мертвой секретарши себе на колени, издал какое-то тошнотворное мяуканье. — Продуктивный день, не так ли? — спросил оберет. Сол ничего не ответил. — Герр Барент сказал, что ты сегодня убил по меньшей мере трех его людей, — слегка улыбнулся Вилли. — И как тебе нравится быть убийцей, еврей? Сол на глаз прикинул расстояние между ними. Шесть клеток и еще около шести футов. Двенадцать шагов. — Это были невинные люди, — продолжал оберет. — Оплачиваемая охрана. У них наверняка остались жены, дети. Тебя это не заботит, еврей? — Нет. — Сол покачал головой. — Вот как? — удивился Вилли. — Значит, ты осознал необходимость уничтожать невинные жизни, когда это требуется? Очень хорошо. Я боялся, что ты сойдешь в могилу с той же дешевой сентиментальностью, которую я уловил в тебе при первой нашей встрече. Это прогресс. Как и вся ваша убогая нация, ты понял, что невинных нужно убивать, если от этого зависит твоя собственная жизнь. Представь, как давила меня эта необходимость, моя маленькая пешка. Людей, обладающих моей Способностью, немного — может, один на несколько сот миллионов, не больше дюжины в каждом поколении. На протяжении всей истории таких как я боялись и преследовали. При первых же признаках проявления нашего превосходства нас клеймили, как ведьм и дьяволов, и безмозглая толпа уничтожала нас. Мы поломали зубы, пока не научились скрывать свой исключительный дар. Если нам удавалось спастись от пугливых скотов, мы становились жертвами других, обладавших такими же способностями. Когда рождаешься акулой среди тунцовых косяков, при встрече с другими акулами не остается ничего другого, как бороться за сферу обитания. Мне, как и тебе, удалось выжить. У нас с тобой гораздо больше общего, чем мы готовы признать, не так ли, пешка? — Нет, — ответил Сол. — Нет? — Нет, — повторил Сол. — Я — цивилизованное человеческое существо, а ты — акула, безмозглая, безнравственная машина убийства, питающаяся отбросами, ты — рудимент эволюции, способный лишь хватать и глотать. — Ты пытаешься спровоцировать меня, — ухмыльнулся оберет. — Ты боишься, что я оттяну твой конец. Не бойся, пешка. Это будет быстро. И скоро. Сол глубоко вздохнул, пытаясь справиться с физической слабостью. Только бы не упасть на колени. Раны его все еще кровоточили, но болезненные участки тела онемели и потеряли чувствительность, что было в тысячу раз ужаснее. Сол знал, что для решительных действий у него остаются считанные минуты. Но оберет еще не закончил своей тирады. — Как и весь Израиль, ты болтаешь о морали, а ведешь себя так же, как гестаповец. Любое насилие проистекает из одного и того же источника, пешка. Страсть к власти. Власть — вот единственная истинная мораль, еврей, единственный бессмертный бог, и страсть к насилию — это его заповедь. — Нет, — сказал Сол. — Ты безнадежное жалкое создание, которое никогда не поймет основ человеческой морали и того, что заложено в слове «любовь». Но я хочу, чтобы ты знал, оберет. Как и весь Израиль, я понял, что существует и другая мораль, которая требует жертвоприношений и власти над людьми, и что мы никогда больше не преклоним головы перед такими, как ты, и теми, кто вам служит. К этому взывают сотни поколений невинных жертв. И выбора здесь нет. Оберет печально покачал головой. — Ты так ничему и не научился, — прошипел он. — Ты так же сентиментально глуп, как и твои недоразвитые сородичи, которые послушно шли в печи, улыбаясь и дергая себя за пейсы, и уговаривали своих умственно отсталых детей следовать за собой. Вы — безнадежная нация, и единственное преступление фюрера — что он не достиг своей цели по полному вашему истреблению. И все же, когда я убью тебя, пешка, я сделаю это не из личных соображений. Ты хорошо послужил, но ты слишком непредсказуем. И эта непредсказуемость не согласуется с моими дальнейшими планами. — Когда я убью тебя, — сказал Сол, — я сделаю это исключительно из личных соображений. — И он шагнул к Вилли. Оберет устало вздохнул. — Ты умрешь сейчас. Прощай, еврей. Сол ощутил сильнейший мозговой удар, пронзивший его до основания позвоночника, — он был столь мощным и непреодолимым, словно Сола насадили на стальной прут. В то же мгновение он почувствовал, как его собственное сознание сдирается с него подобно тому, как срывают одежду с насилуемой жертвы, и как где-то у основания мозга пробуждается Тета-ритм, запуская в мозжечке фазу быстрого сна, превращая его в лунатика, в ходячий труп, неспособный контролировать собственные действия. Но даже несмотря на то, что его сознание было отброшено на темные задворки мозга, Сол продолжал ощущать внутри присутствие оберста — его зловоние, столь же острое и болезненное, как первый раздирающий легкие вдох ядовитого газа. И еще перед тем как произошло разделение его сознания он успел отметить изумление оберста, ибо включение фазы быстрого сна запустило поток воспоминаний и впечатлений, гипнотически внедренных в подсознание Сола и теперь взрывавшихся, как мины на поле озимой пшеницы. Проникнув в мозг Сола Ласки, Вилли фон Борхерт внезапно столкнулся с другой личностью — хрупкой, конечно же, созданной гипнозом и облекающей тонкие нервные центры в жалкую оболочку из фольги, претендующую на звание истинных доспехов. Оберет в своей практике встречался с чем-то подобным лишь однажды, когда в 1941 году с группой боевиков ликвидировал несколько сотен пациентов в литовской психиатрической больнице. От скуки, за несколько секунд до того как пуля солдата СС выбила мозг у безнадежного шизофреника, Вилли проскользнул в его мысли. Тогда оберста тоже удивила вторая личность, внедренная в сознание, но справиться с ней оказалось не сложнее, чем с первой. Он был уверен, что и в данном случае не возникнет никаких проблем. Вилли снисходительно улыбнулся этим жалким потугам еврея удивить его и, прежде чем уничтожить безнадежное творение Сола, несколько секунд помедлил, смакуя его. Двадцатитрехлетняя Мала Каган несет в печь крематория 6 Аушвице свою четырехмесячную дочь Эдек, сжимая в правом кулаке лезвие бритвы, которое она прятала все эти месяцы. Офицер СС врывается в толпу обнаженных, медленно передвигающихся женщин. «Что тому тебя, жидовка? Отдай мне». Сунув ребенка своей сестре. Мала поворачивается к эсэсовцу и открывает ладонь. «Получи!» — кричит она и разрезает ему лицо лезвием. Офицер вскрикивает и отскакивает назад, закрыв лицо руками, кровь сочится между пальцев. Дюжина эсэсовцев поднимают свои автоматы, когда Мала с бритвой в руке делает один шаг им навстречу. «Жизнь!» — кричит она, и все двенадцать автоматчиков стреляют одновременно. Сол уловил ухмылку оберста и непроизнесенный вопрос: «К чему запугивать меня призраками, пешка?» Тридцать часов потратил Сол, чтобы с помощью самогипноза воспроизвести эту последнюю минуту жизни Малы Каган. Но оберет в одну секунду разрушил эту личность, он смел ее с такой легкостью, как сметают паутину в кладовке. Сол сделал еще один шаг вперед. Вилли снова безжалостно вторгся в сознание Сола, достиг центров контроля и запустил желанный механизм фазы быстрого сна. Шестидесятидвухлетний Шалом Кржацек ползет на четвереньках по подземным канализационным трубам Варшавы. Вокруг кромешная тьма, на головы безмолвной очереди беглецов обрушиваются фекальные воды, когда наверху опорожняются «арийские туалеты». Шалом ползет уже четырнадцать дней, с 25 апреля 1943 года, когда они бежали после безнадежной шестидневной схватки с отборными нацистскими частями. Он ведет с собой девятилетнего внука Леона. Из всей огромной семьи Шалома в живых остался только этот мальчик.. Аве недели ползет постоянно редеющая очередь евреев по вонючему мраку узких труб, в то время как немцы стреляют, поливают их из огнеметов и забрасывают канистры с ядовитым газом во все уборные гетто. Шалом захватил с собой шесть кусочков хлеба, и он делит их с Леоном, пока они ползут во тьме и экскрементах. Четырнадцать дней они пытаются выбраться наружу, пьют воду из сочащихся по стенам ручейков, уповая на то, что она дождевая, пытаются выжить. Наконец над головой открывается крышка люка, и на них глядит грубое лицо борца польского Сопротивления. «Выходите! — говорит он. — Выходите! Здесь вы в безопасности». Собрав последние силы, ослепленный солнечным светом. Шалом вылезает и долго лежит на уличной мостовой. За ним появляются еще четверо. Леона среди них нет. Слезы бегут по лицу Шалома, он пытается вспомнить, когда последний раз в темноте разговаривал с мальчиком. Час назад? Вчера? Слабо оттолкнув руки своих спасителей. Шалом спускается в темную дыру и ползет назад, туда, откуда пришел, выкрикивая имя внука. Вилли фон Борхерт незамедлительно уничтожил плотную защитную мембрану, которой был Шалом Кржачек. Сол сделал еще один шаг вперед. Оберет поерзал в кресле, и будто тупой топор расколол сознание Сола. Семнадцатилетний Питер Гайн сидит и рисует в Аушвице движущуюся мимо него очередь мальчиков, направляющихся к душевой. Последние два года в Терезине Питер и его друзья выпускали газету «Ведем», в которой он и другие юные художники публиковали свою поэзию и рисунки. Перед отправкой Питер, отдал все восемьсот страниц юному Зденеку Тауссигу, чтобы тот спрятал их в старой кузнице за магдебургскими бараками. Питер не видел Зденека с момента приезда в Аушвиц. Теперь Питер тратит последний лист бумаги и кусок угля, чтобы зарисовать бесконечную очередь обнаженных мальчиков, проходящих перед ним, морозным ноябрем. Уверенными точными мазками Питер набрасывает выступающие сквозь кожу ребра и расширенные от ужаса глаза, трясущиеся худые ноги и руки, стыдливо прикрывающие сжавшиеся от холода гениталии. К нему подходит капо в теплой одежде и с деревянной дубинкой 6 руках. «Что это? — спрашивает он. — Вставай к остальным». Питер не поднимает головы от своего рисунка. «Минуточку, — отвечает он. — Я почти закончил». Разъяренный капо ударяет Питера дубинкой по лицу и каблуком сапога наступает ему на руку, ломая три пальца. Он хватает юношу за волосы, поднимает его на нош и швыряет в медленно движущуюся очередь. Обнимая сломанную руку, Питер оглядывается через плечо и видит, как холодный осенний ветер подхватывает его рисунок, тот ненадолго застревает в верхнем ряду колючей проволоки и, кувыркаясь, летит дальше, к линии деревьев на западе. Оберет сметает и эту личность. Сол сделал два шага вперед. Боль от непрекращающегося мозгового насилия оберста стальными шипами впивалась ему изнутри в глазницы. Ночью, перед тем как быть отправленными в газовые камеры Биркенау, поэт Ицхак Кацнельсон читает свое стихотворение восемнадцатилетнему сыну и еще дюжине свернувшихся на полу людей. До войны Ицхак прославился по всей Польше своими юмористическими стихами и песнями для детей. Это были добрые, радостные стихи. Младшие сыновья, Ицхака, Бенджамин и Бенсион, были убиты вместе со своей матерью в Треблинке полтора года назад. Теперь он читает на иврите, языке, которого никто, кроме его сына, не понимает, затем переводит на польский: Мне снился сон, Ужасный сон, Что мой народ исчез, Его не стало! Я проснулся в слезах. Мой сон стал явью: Все так и стало. Это стало со мной. В наступившей тишине сын Ицхака подползает к нему поближе, садится на, холодную солому. «Когда я вырасту, я тоже буду писать великие стихи», — шепчет мальчик. Иихак обнимает сына за худенькие плечики. «Конечно», — отвечает он и начинает петь медленную и нежную польскую колыбельную. Ее подхватывают другие, и вскоре все бараки заполняются звуками песни. Одним ударом своей железной воли оберет уничтожил Ицхака Кацнельсона. Сол сделал еще один шаг вперед.* * *
Тони Хэрод с изумлением, завороженно смотрел, как Сол приближался к Вилли. Психиатр походил на пловца, преодолевающего мощный прилив, или путешественника, двигающегося навстречу ураганному ветру. Схватка между ними была беззвучной и невидимой, но она была столь же ощутима, как и электромагнитная буря, и по завершении каждого взрыва противостояния еврей поднимал ногу, медленно подвигался вперед и ставил, как парализованный, вновь учащийся ходить. Таким образом израненный, окровавленный человек преодолел шесть клеток и уже достиг последнего ряда шахматной доски, когда Вилли словно стряхнул с себя сонное состояние и бросил взгляд на Тома Рэйнольдса. Вытянув свои длинные мощные пальцы, белокурый убийца прыгнул вперед... В трех милях от особняка раздался мощный взрыв, поднявший в воздух «Антуанетту». Сила его была столь велика, что вылетело несколько стекол из панорамных дверей. Ни Вилли, ни Ласки ничего не заметили. Хэрод смотрел, как трое мужчин сошлись, как Рэйнольдс начал душить Сола Ласки, и услышал новые взрывы со стороны аэропорта. Он осторожно опустил голову Марии Чен на холодную плитку, пригладил ее волосы и медленно стал обходить борющихся людей. Восемь футов отделяло Сола от оберста, когда насилие над его сознанием прекратилось. Казалось, кто-то выключил невыносимый, заглушающий все на свете рев. Сол споткнулся и едва не упал. Он восстановил контроль над собственным телом с таким ощущением, которое испытывает человек, возвращаясь в дом раннего детства, робко и с грустью осознавая, какое расстояние отделяет его от когда-то близкой и родной обстановки. В течение нескольких минут Сол и оберет являлись практически одним липом. В процессе страшной схватки ментальных энергий Сол точно так же пребывал в сознании оберста, как тот — в его собственном. Сол почувствовал, как всеобъемлющая гордыня этого монстра сменяется неуверенностью, а неуверенность — страхом, когда он понял, что ему противостоят не просто несколько человек, но армии, легионы мертвых, поднимающихся из своих братских могил, которые он помогал выкапывать, чтобы в последний раз бросить ему свой вызов. Да и самого Сола поразили и даже испугали тени, вставшие с ним рядом, поднявшиеся, чтобы защитить его, перед тем как они будут унесены обратно во тьму. Некоторых из них он даже не мог вспомнить — откуда они? Одни — с фотографий, другие — из досье... Зато Сол хорошо помнил других — молодого венгерского кантора, последнего раввина Варшавы, девочку из Трансильвании, покончившую с собой в день Искупления, дочь Теодора Херцля, умершую от голода в Терезиенштадте, шестилетнюю девочку, убитую женамиэсэсовцев в Равенсбруке... Какое-то страшное мгновение Сол метался в бесконечных коридорах собственного сознания, сомневаясь, не попал ли он в какое-то невероятное хранилище национальной памяти, которое не имеет никакого отношения к сотням часов его тщательного самогипноза и месяцам заранее сконструированных кошмаров. Последней личностью, уничтоженной оберстом, был он сам, четырнадцатилетний Сол Ласки, стоящий в Челмно и беспомощно глядящий вслед отцу и брату Иосифу, уходящим к душевым. Только на этот раз, за мгновение до того, как фон Борхерт рассеял этот образ, Сол вспомнил то, чего он не позволял себе раньше, — его отец обернулся, крепко прижимая к себе Иосифа, и воскликнул на иврите: «Услышь! О Израиль! Мой старший сын будет жить!» И Сол, сорок лет искавший покаяния в этом самом непростительном из грехов, наконец увидел его в лице единственного человека, который мог простить его — четырнадцатилетнего Сола Ласки. Сол снова споткнулся, восстановил равновесие и, собрав все силы, бросился к оберсту. Том Рэйнольдс кинулся ему наперерез, протягивая свои длинные пальцы к его горлу. Сол не обратил на него никакого внимания, оттолкнул в сторону со всей силой своих союзников, которые присоединились к нему, и преодолел последние пять футов, отделявшие его от Вилли фон Борхерта. На мгновение он увидел удивленное лицо оберста, его расширенные от недоумения выцветшие глаза и вцепился в его жилистую шею, опрокидывая кресло и увлекая за собой Рэйнольдса. Все трое рухнули на пол. Герр генерал Вильгельм фон Борхерт был старым человеком, но его руки все еще сохраняли силу, и он принялся колотить Сола, упираясь ему в грудь и лицо в отчаянной попытке освободиться. Сол не обращал внимания на удары, на колени оберста, молотившие его живот, на сокрушительные кулаки Тома Рэйнольдса, опускавшиеся ему на спину и голову. Используя свою комбинированную силу, Сол сомкнул пальцы на горле оберста и принялся душить его, понимая, что ослабит хватку, только когда эта тварь перестанет дышать. Вилли брыкался, извивался, царапал руки и лицо Сола, брызжа слюной во все стороны. Его румяное лицо сделалось сначала багрово-красным, потом посинело, он уже задыхался. Чем глубже впивались пальцы Сола в шею проклятого оборота, тем более сверхъестественный прилив сил он ощущал. Каблуками ботинок Вилли барабанил по ножке опрокинутого массивного кресла. Сол не заметил, как следующей взрывной волной снесло панорамные двери и выбило все окна, осыпав их осколками стекла. Он не заметил, как второй снаряд попал в верхние этажи особняка, тут же наполнив зал дымом, когда занялись старые кипарисовые стропила. Он не заметил, как Рэйнольдс удвоил и утроил свои усилия, царапая, тряся, колотя и пиная Сола, словно какая-то обезумевшая заводная игрушка. Он не заметил, как, хрустя битым стеклом, к ним подошел Тони Хэрод с двумя тяжелыми бутылками «Дом Периньона» и одной из них ударил Рэйнольдса по затылку. Пешка Вилли Бордена, потеряв сознание, отпустила Сола, но продолжала извиваться и вздрагивать от тех лихорадочных нервных импульсов, которые все еще посылал оберет. Хэрод сел на черную клетку, открыл бутылку и стал пить прямо из горлышка. Но Сол и этого не заметил. Он все крепче и крепче сжимал руки на горле фон Борхерта, не обращая внимания даже на кровь, хлещущую из его собственного разодранного горла и капающую на темнеющее лицо и выпученные глаза оберста. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем Сол осознал, что оберет мертв. Пальцы Сола так глубоко ушли в горло чудовища, что даже когда он заставил себя разжать их, на шее остались глубокие вмятины, словно отпечатки скульптора в мягкой глине. Голова Вилли была запрокинута, дыхательное горло сжато, как пластмассовая трубка, вылезшие из орбит глаза неподвижно уставились в потолок, распухшее лицо почернело. Том Рэйнольдс лежал мертвый на соседней клетке — его застывшее лицо представляло собой искаженную карикатуру на маску смерти своего хозяина. Сол почувствовал, что последние силы вытекают из него, как жидкость из разбитого сосуда. Он знал, что где-то здесь, в зале, находится и Хэрод и с ним тоже надо разобраться, но не сейчас. А может, в этом и не возникнет необходимости. С возвращением сознания вернулась и боль. Правое плечо Сола было сломано и кровоточило, ему казалось, что осколки костей трутся друг о друга. Грудь и шея оберста были залиты кровью Сола, вырисовывая бледные отпечатки его рук. Тем временем особняк содрогнулся еще от двух взрывов. Дым окутал зал, и десятки тысяч витражей отразили языки бушующего на втором этаже пламени позади Сола. Он уже ощущал жар спиной, понимал, что должен встать и идти, пока не поздно. Но не мог. Сол приложил щеку к груди оберста и позволил силе тяжести придавить себя. Снаружи снова раздался грохот, но Сол не обратил на него внимания. Испытывая острейшую потребность хотя бы в минутном отдыхе, он закрыл глаза, и теплый мрак объял его со всех сторон.Глава 40
Остров Долменн Вторник, 16 июня 1981 г. — Ну вот и все, — сказал Микс. Едва закончился обстрел, пилот начал опускать «Сессну» к посадочной полосе. Сам по себе обстрел оставил лишь несколько глубоких дыр, которые, при сопутствующей удаче и умелом управлении, можно было бы миновать, однако южная часть поля была перекрыта стволами двух поваленных деревьев, а северный конец полыхал от авиационного топлива. На главной взлетной полосе горел реактивный самолет; вдали, рядом с горами пепла и балками, которые еще недавно были ангаром, виднелось несколько дымящихся остовов вертолетов. — Вот и все, что нам остается, — прорычал Микс. — Видит Бог, мы старались. Стрелка топлива показывает, что пора поворачивать обратно. Нам и так придется добираться на «честном слове». — У меня есть идея, — сказала Натали. — Давайте приземлимся в каком-нибудь другом месте. — Нет. — Микс покачал головой. — Ты видела пляж на северной оконечности, над которым мы пролетали несколько минут назад? Прилив и шторм перевернули там все к черту. Ни малейшего шанса. — Он прав, Натали, — устало проговорил Джексон. — В этой ситуации мы вряд ли что-то сможем сделать. — Эсминец... — начал Микс. — Ты сам сказал, что сейчас он уже находится в пяти милях от юго-восточного мыса, — оборвала его Натали. — Но у него длинные руки, — возразил Микс. — Черт побери, что ты задумала, детка? Они уже в третий раз приближались к южной части взлетной полосы. — Поворачивай налево, — скомандовала Натали. — Я покажу тебе. — Ты, наверное, шутишь? — спросил Микс, когда они отлетели на несколько сот ярдов от скал. — Мне не до шуток, — отрезала Натали. — Давайте садиться, пока не вернулось это корыто. — Эсминец, — автоматически поправил ее Микс. — Ты сумасшедшая. Все еще горел кустарник. На скале, где двадцать минут назад самоуничтожилась ракета, все еще горел кустарник Западную часть неба освещали пожары, бушевавшие на взлетной полосе. В трех милях от берега на черном фоне воды догорали обломки роскошной «Антуанетты». Покончив со взлетной полосой, эсминец вернулся вдоль восточного берега назад и уложил по меньшей мере с полдюжины снарядов туда, где стоял особняк Крыша огромного строения полыхала, восточное крыло было полностью уничтожено, дым клубами поднимался вверх в свете все еще горевших прожекторов, а один из снарядов, вероятно, попал в южное патио, выбив окна и стену, которая выходила на длинную лужайку, тянувшуюся до самых скал. Однако сама лужайка выглядела неповрежденной, хотя частично тонула в темноте, там, где были разбиты прожектора. Пожар, бушевавший на скалах, высвечивал кустарник и карликовые деревья, которых не было бы видно, если бы не языки пламени. Освещенный участок лужайки, прилегавший к особняку, длиной ярдов в двадцать, казался довольно ровным, если не считать единственной воронки от снаряда и руин, оставшихся от патио. — Идеально подходит, — заявила Натали. — Чушь, — откликнулся Микс. — угол наклона к особняку достигает тридцати градусов. — Для посадки годится, — упрямо повторила девушка. — Тебе будет вполне достаточно этой полосы. Ведь на британских авианосцах они ничуть не больше, не так ли? — Похоже, она поймала тебя, старик, — усмехнулся Джексон. — С наклоном в тридцать градусов? — съязвил Микс. — Кроме того, даже если нам удастся приземлиться и не врезаться в это горящее здание, темные участки на лужайке... а она в основном погружена во тьму... там могут быть сучья, ямы, декоративные камни... Это безумие. — Я голосую «за», — сказала Натали. — Мы должны попытаться найти там Сола. — Да, — поддержал ее Джексон. — Какое, к черту, голосование? — не веря своим ушам, возмутился Микс. — С каких это пор самолетом управляют путем демократии? — Он натянул на лоб свою бейсбольную кепочку и бросил взгляд на эсминец, удалявшийся на восток. — Ну, признайтесь, — взмолился он, — это что, начало революции? Натали подмигнула Джексону и решила рискнуть. — Да, — кивнула она. — Ага! — воскликнул Микс. — Я так и знал. Ну что ж, мальчики и девочки, ставлю вас в известность, что вы совершаете полет с единственным заслуженным социалистом Дорчестерского округа. — Он достал сигару из кармана рубашки и пожевал ее. — А, какого черта! — сказал он наконец. — Все равно нам не хватит топлива на обратную дорогу.* * *
С приглушенным двигателем самолет начал плавно падать на скалу, белевшую внизу в свете звезд. Натали никогда еще не испытывала такого возбуждения. Затянув пристежной ремень так туго, что едва можно было дышать, Натали склонилась вперед и вцепилась в консоль, когда вершины скал устремились на них с захватывающей дух неожиданностью. Через сто футов она поняла, что «Сессна» просто неминуемо должна разбиться о скалы. — Встречный ветер нам здорово поможет, — проворчал Микс, вытравил дроссель и осторожно выжал ручку управления. Они миновали вершину скалы на высоте десяти футов и погрузились во мрак, царивший между высокими деревьями. — Мистер Джексон, сообщите мне, когда этот корабль повернет назад. Джексон со своего сиденья издал нечленораздельный звук. До первого освещенного участка оставалось ярдов тридцать, когда Микс выпустил шасси. Он посадил «Сессну» в самом начале освещенной полосы. Посадка оказалась жестче, чем могла представить себе Натали. Она ощутила вкус крови во рту и поняла, что прикусила язык. Через секунду они уже неслись в темноте, чередующейся с полосами света. Натали подумала о стволах рухнувших деревьев и декоративных камнях. — Пока неплохо, — заметил Микс. Самолетик проскакал по очередному освещенному участку и вновь нырнул во тьму. Натали казалось, что они карабкаются по вертикальной стене, выложенной булыжником. Тут в правом шасси что-то зазвенело и застучало, и «Сессну» занесло вбок, так что она чуть не перевернулась на скорости пятьдесят миль в час. Микс дергал за дроссель, тормоза и педали управления, как обезумевший органист. Наконец самолет выровнялся и выкатился на последний освещенный участок. Южная стена горящего дома летела им навстречу с угрожающей скоростью. Они пересекли участок рыхлой земли, подпрыгнув, повернули так, что правое крыло прошло над краем воронки, и увидели, что от патио их отделяет не более пятнадцати футов. Порывом поднятого «Сессной» ветра сорвало навесной зонтик над столом, и он кувырком полетел в сторону. Микс умудрился остановить самолет в наклонном положении. Натали казалось, что даже горнолыжные трассы, на которых ей приходилось бывать, были менее крутыми. Пилот вытащил изо рта сигару и недоуменно уставился на нее, словно только сейчас обнаружил, что она не зажжена. — Все свободны и могут отдохнуть, — объявил он. — Кто не вернется через пять минут или при первом появлении противника, пойдет домой пешком. — Из кобуры, лежавшей между сиденьями, Микс вытащил инкрустированный револьвер 38-го калибра и поднял дуло вверх, имитируя салют. — Да здравствует революция! — Пойдем. — Натали никак не могла расстегнуть свой ремень и открыть дверцу. В результате она просто выпала из самолета, увлекая за собой сумку и чуть не вывернув лодыжку. Она вытащила «кольт», остальное оставила лежать на земле и отошла, чтобы дать спрыгнуть Джексону. У него была с собой лишь черная медицинская сумка и фонарик, но он повязал на голову красный платок. — Куда? — прокричал он, перекрывая рев все еще вращавшегося пропеллера. — Думаю, наше прибытие заметили. Так что лучше поторопиться. Натали кивнула в направлении главного зала. Свет в этой части особняка не горел, но рыжие отблески пламени очерчивали неясные тени в дымном пространстве за развороченными панорамными дверями. Джексон пробрался по разбитым плитам патио, ногой толкнул главную дверь и включил свой армейский фонарик. Сквозь густой дым луч высветил огромный зал, выложенный черно-белыми плитками, усеянными бесчисленными осколками стекол и кирпичей. Натали с поднятым вверх «кольтом» двинулась вперед. Чтобы было легче дышать, она прижала к лицу носовой платок. Слева, в конце зала, виднелись два стола, заставленные едой, напитками и перевернутыми горами электронного оборудования. На полу между столами и дверью было что-то разбросано. Сначала Натали показалось, что это тюки с грязным бельем, но затем до нее дошло, что это трупы. Джексон, освещая себе дорогу фонариком, осторожно подошел к ближнему из тел. Это оказалась та прекрасная азиатка, которая была в машине с Тони Хэродом, когда три дня назад Сол встречался с ним в Саванне. — Не свети ей в глаза, — донесся из темноты знакомый голос. Натали присела и развернула дуло револьвера на звук голоса, а Джексон перевел в том же направлении луч фонарика. У перевернутого кресла на полу, скрестив ноги, сидел Хэрод, рядом с ним лежали еще какие-то тела. На коленях он держал наполовину опорожненную бутылку вина. Натали приблизилась к Джексону, передала ему «кольт» и взяла фонарик. — Он использует женщин, — сказала она, указывая на Хэрода. — Если он шевельнется или я начну вести себя странно, убей его. Хэрод мрачно покачал головой и сделал большой глоток из бутылки. — С этим покончено, — произнес он. — Навсегда. Натали посмотрела вверх. Сквозь разрушенную крышу виднелись звезды. Судя по звукам, где-то работала автоматическая противопожарная система, но на втором и третьем этажах продолжало бушевать пламя. Вдали слышался треск автоматных очередей. — Смотри! — крикнул Джексон. Луч фонарика осветил три тела рядом с массивным креслом. — Сол! — закричала Натали и бросилась вперед. — О Господи, Джексон! Он мертв? — Она оттащила Сола в сторону, с трудом отцепив его руки от рубашки лежавшего под ним мужчины. Натали сразу поняла, что это был оберет — Сол показывал ей газетные вырезки с фотографиями Уильяма Бордена из своего архива — но теперь его искаженное почерневшее лицо и вылезшие из орбит глаза, его покрытые старческими пятнами руки, скрюченные, как когти, казались нечеловеческими и абсолютно неузнаваемыми. Джексон опустился на колени рядом с Солом, нащупал его пульс, поднял веко и поднес фонарик поближе. Натали видела только кровь, кровь, покрывавшую лицо, плечи, руки, горло и одежду Сола. Она не сомневалась в том, что он мертв. — Он жив, — сказал Джексон. — Пульс слабый, но прощупывается. — Он расстегнул комбинезон Сола, осторожно перевернул психиатра и при свете фонарика осмотрел его. Затем открыл свою сумку, приготовил шприц, ввел иглу в левую руку Сола, снова перевернул его и стал накладывать повязку. — О Боже, — прошептал Джексон. — У него два пулевых ранения. С ногой ничего страшного, но надо как-то остановить кровотечение в плече. И кто-то здорово потрудился над его рукой и горлом. — Он глянул на приближавшиеся языки пламени. — Надо выбираться отсюда, Натали. В самолете у меня есть плазма. Поможешь мне? Сол застонал, когда они начали поднимать его. Джексон поднырнул под левую руку Сола и неуклюже поставил его на ноги. — Эй! — раздался из темноты голос Хэрода. — Можно, я с вами? Натали едва не выронила фонарик — с такой скоростью она бросилась к «кольту», оставленному Джексоном на полу. Она сунула револьвер в левую руку Джексона и подхватила Сола. — Он собирается использовать меня, — прошептала она. — Застрели его. — Нет. — Это был голос Сола. Ресницы его дрогнули. Губы посинели и так опухли, что ему пришлось облизать их, прежде чем он смог снова говорить. — Он помог мне, — прохрипел Сол и дернул головой в сторону Хэрода. Один глаз у него не открывался от запекшейся вокруг крови, другой был устремлен на Натали. — Эй, — тихо произнес он, — что тебя задержало? Попытка Сола улыбнуться вызвала у Натали слезы. Она хотела обнять его, но опустила руки, когда увидела, как он сморщился от боли. — Пошли, — сказал Джексон. Треск автоматных очередей стал громче. Натали кивнула и в последний раз обвела зал лучом фонарика. Пожар полыхал уже ближе, захватив прилегающие коридоры второго этажа. Усиливавшееся кроваво-красное сияние напоминало картину Страшного Суда Иеронима Босха, а сверкавшие на полу осколки казались глазами бессчетного числа демонов. Натали последний раз взглянула на труп Вильгельма фон Борхерта и судорожно вздохнула. — Пошли, — согласилась она.* * *
Все три горевших на склоне холма прожектора погасли. Натали с фонариком и «кольтом» шла впереди, Джексон поддерживал Сола. Еще до того, как они покинули особняк, психиатр вновь потерял сознание. «Сессна» стояла на месте, пропеллер все еще вращался, но пилот исчез. — О Господи, — выдохнула Натали, обводя лучом фонарика заднее сиденье и землю вокруг самолета. — Ты умеешь водить эту штуку? — спросил Джексон, затаскивая Сола в самолет и устраиваясь рядом с ним. Он принялся распаковывать стерильные бинты и готовить плазму. — Нет. — Натали покачала головой и посмотрела вниз. То, что можно было в грубом приближении назвать взлетным полем, погрузилось в кромешную тьму. После света фонарика она даже не могла различить, где же начинается Дубовая аллея. У подножия холма послышалось пыхтение и шорох. Натали направила туда луч фонарика и подняла «кольт». Дерил Микс заслонился рукой от света, с трудом восстанавливая дыхание. — Где ты был? — воскликнула Натали, опуская фонарик. Микс открыл было рот, сплюнул и еще раз попытался справиться с одышкой. — Свет погас, — ответил он. — Мы знаем. Где... — Залезай. — Микс вытер лицо своей бейсбольной кепочкой «Киты Иокогамы». Натали кивнула и побежала вокруг самолета к пассажирскому сиденью, чтобы не ползти через пульт управления, рискуя задеть тормоза или еще что-нибудь. С другой стороны под крылом стоял Тони Хэрод. — Пожалуйста, — заныл он. — Вы должны взять меня с собой. Я действительно спас ему жизнь, честное слово. Пожалуйста. Натали ощутила легкий намек на чье-то присутствие в своем сознании, словно чья-то робкая рука ощупью продвигалась в темноте. Она не стала ждать — едва Хэрод открыл рот, она подошла ближе и со всех сил нанесла ему удар в пах, радуясь, что на ней не тапочки, а плотные туристические ботинки. Хэрод выронил бутылку, которую все еще держал в руке, и упал на траву, корчась от боли. Натали поставила ногу на подножку и открыла дверцу. Она не знала, какая концентрация внимания требуется мозговому вампиру, чтобы выкинуть свой фокус, но не сомневалась, что гораздо большая, чем та, на которую сейчас был способен Тони Хэрод. — Поехали! — крикнула она, но это распоряжение было уже излишним — Микс тронул самолет с места еще до того, как она успела захлопнуть за собой дверцу. Натали попробовала нащупать пристежной ремень, не нашла его и удовлетворилась тем, что обеими руками вцепилась в консоль. Если их приземление было захватывающим, то взлет стал воплощением всех известных аттракционов одновременно. Натали сразу поняла, что задумал Микс. В конце длинного коридора темноты на расстоянии тридцати футов друг от друга ярко полыхали два огня. — Надо знать, где кончается земля и начинается откос! — прокричал Микс, перекрывая нарастающий грохот двигателя и дребезжание шасси. — Это неплохо срабатывало, когда мы с папой играли в «подковки» в темноте. А вместо ставок были сигареты. Продолжать беседу было уже невозможно. Тряска увеличилась еще больше, огни метнулись навстречу и вдруг остались позади, а на Натали нахлынуло обычное опасение, подстерегающее любителей «американских гор»: что, если въедешь на вершину горы и рельсы остановятся; а кабина будет продолжать лететь дальше? Натали только теперь оценила информацию, услышанную в более спокойное время, которая тогда не произвела на нее впечатления: высота скал за особняком составляет двести футов. «Сессна» пролетела уже половину этого расстояния без каких-либо признаков выравнивания курса, и тут Микс совершил нечто неожиданное: он опустил нос самолета и, прибавив обороты, еще стремительнее ринулся навстречу белой полосе прибоя, которая целиком заполняла обзор в ветровом стекле. Позже Натали не могла вспомнить ни о собственном крике, ни о выпущенной из «кольта» пуле, но Джексон уверял ее, что вопль был впечатляющим, а пулевое отверстие в крыше самолета говорило само за себя. Почти всю дорогу назад Микс дулся из-за этого. Едва они вышли из крутого виража, придавшего им необходимую скорость, и стали набирать высоту, Натали переключила свое внимание на другие проблемы. — Как Сол? — спросила она, разворачиваясь в кресле. — Без сознания. — Джексон продолжал стоять на коленях в тесном проходе, занимаясь правой рукой Сола. — Он будет жить? Джексон поднял голову — в тусклом свете приборной доски были видны лишь его глаза. — Если мне удастся стабилизировать его состояние... Вероятно. Про остальное — внутренние повреждения, переломы — сказать ничего не могу. Пулевое ранение плеча не так опасно, как я думал. Похоже, пуля пролетела довольно большое расстояние перед тем как попала в него или от чего-то отскочила. Я прощупываю ее здесь на глубине двух дюймов, чуть выше кости. Видимо, Сол наклонился в тот момент. Если бы он стоял прямо, она бы вышла у него через правое легкое. Он потерял много крови, но я накачал его плазмой. И еще осталось. Знаешь что, Натали? — Что? — Плазму изобрели негры. Парень по имени Чарлз Дру. Я читал где-то, что он умер от потери крови после автомобильной катастрофы в середине пятидесятых, потому что какой-то идиот в больнице Северной Каролины заявил, что у него в холодильнике нет негритянской крови, а «белую» кровь он отказался ему переливать. — Какое это сейчас имеет значение? — удивилась Натали. Джексон пожал плечами. — Солу бы это понравилось. У него с чувством юмора получше, чем у тебя. Вероятно, потому что он психиатр. Микс вынул изо рта сигару. — Мне очень не хочется прерывать вашу романтическую беседу, — заметил он, — но может вашего друга стоит доставить в ближайшую больницу? — Ты имеешь в виду нечто ближе, чем Чарлстон? — уточнил Джексон. — Да, — кивнул Микс. — До Саванны лететь на час меньше, чем до Чарлстона, Брансуика или Меридиана. Да и с горючим это отчасти решит проблему. Джексон бросил взгляд на Натали. — Дайте мне десять минут, — сказал он. — Я волью в него еще немного крови, проверю реакции, и тогда посмотрим. — Я бы предпочла вернуться в Чарлстон, если мы можем сделать это, не рискуя жизнью Сола, — промолвила Натали, сама себе удивляясь. — Мне очень надо в Чарлстон, — добавила она. — Дело ваше. — Микс пожал плечами. — Я могу лететь прямо, вместо того чтобы огибать побережье, но если я правильно оцениваю ситуацию с топливом, дотягивать нам придется на соплях. — Оценивай ее, пожалуйста, правильно, — попросила Натали. — Постараюсь. У тебя, кстати, нет жвачки или чего-нибудь такого?" Натали покачала головой: — Ну тогда заткни пальцем дыру, которую ты мне проделала в крыше, — посоветовал Микс. — Этот свист действует мне на нервы. В конечном счете именно Сол решил, что они полетят в Чарлстон. После трех пинт плазмы его состояние нормализовалось, пульс выровнялся, и он, открыв здоровый глаз, спросил: — Где мы? — Летим домой. — Натали опустилась рядом с ним на колени. Они с Джексоном поменялись местами, после того как медик проверил все жизненно важные функции Сола и объявил, что у него затекли ноги. Миксу это перемещение не очень понравилось, и он сказал, что люди, которые встают в несущихся аэропланах и каноэ, — просто сумасшедшие. — С тобой будет все в порядке. — Натали нежно погладила Сола по волосам. — Немного странное ощущение, — тихо сказал он. — Это морфий, — пояснил Джексон, нагнулся и взял руку Сола, чтобы еще раз проверить пульс. — Приятно. — Сол снова начал куда-то проваливаться. Но тут же открыл уже оба глаза и спросил решительным голосом: — Оберет... Он действительно мертв? — Да, — ответила Натали. — Я его видела. Вернее, то, что от него осталось... Сол сделал хриплый вдох. — А Барент? — Если он был на своей яхте, он тоже погиб. — Как мы и планировали? — Вроде этого, — улыбнулась Натали. — Все пошло наперекосяк, но в конце концов Мелани прорезалась. Не имею ни малейшего представления, с чего бы это вдруг. Если она не лгала, то, судя по ее последней информации, она с Борденом и Барентом отлично ладила. Сол раздвинул свои опухшие губы в болезненной улыбке и пояснил: — Барент уничтожил мисс Сьюэлл... Это могло разозлить Мелани... А вообще, что вы оба здесь делаете? Мы же ни разу не обсуждали вероятность твоего появления на острове. — Может, отвезти тебя обратно? — усмехнулась Натали. Сол закрыл глаза и произнес что-то по-польски. — Трудно сосредоточиться, — добавил он невнятно по-английски. — Натали, может, мы отложим последнюю часть? Может, займемся ею позже? Она хуже их всех, она обладает гораздо большей силой. Думаю, даже Барент под конец стал ее опасаться. Нам одним это не сделать. — Голос его становился все тише, по мере того как он погружался в сон. — Все кончено, Натали, — пробормотал он. — Мы победили. Девушка взяла его за руку, а когда почувствовала, что он уснул, тихонько возразила: — Нет, еще не кончено. Еще не совсем. Они летели на северо-запад, к неясно видневшемуся в предрассветной серой дымке берегу.Глава 41
Чарлстон Вторник, 16 июня 1981 г. При идеальной навигации и сильном попутном ветре они приземлились на крохотной посадочной полосе Микса к северу от Чарлстона за сорок пять минут до рассвета. На протяжении последних десяти миль, когда наконец они начали опускаться между двумя ряда ми маркерных огней, показатель топлива стоял на нуле. Сол не проснулся даже когда они перекладывал я его на брезентовые носилки, хранившиеся у Микса в ангаре. — Нам нужна еще одна машина, — сказала Натали, глядя, как мужчины выносят спящего психиатра из самолета. — Эта продается? — спросила она, кивком головы указав на «Фольксваген», стоящий рядом с пикапом Микса. — Мой наркотический экспресс? — воскликнул Микс. — Наверное. — Сколько? — спросила Натали. Древняя машина была покрыта рисунками психоделического содержания, которые просвечивали даже сквозь выцветшую зеленую краску, но Натали привлекло то, что на окнах имелись занавески, а на задних сиденьях, достаточно длинных и широких, вполне можно было разместить носилки. — Пятьсот? — Продано, — объявила Натали. Пока мужчины устанавливали носилки на длинной скамье за водительским местом, она отправилась копаться в чемоданах, лежавших сзади в фургоне, и вернулась с девятью сотнями долларов, которые были спрятаны в одном из ботинков Сола. Чемоданы и сумки она тоже перенесла в микроавтобус. Джексон измерял Солу давление, — А зачем тебе две машины? — спросил он, подняв глаза на Натали. — Я хочу как можно скорее доставить его в больницу, — ответила она. — Как ты считаешь, везти его в Вашингтон не слишком рискованно? — Зачем в Вашингтон? Натали вынула кожаную папку из портфеля Сола — Тут письмо от... родственника Сола. В нем содержатся объяснения, чтобы ему оказали помощь в израильском посольстве. Этот ход был у нас в запасе, так сказать. Если мы отправим его в чарлстонскую больницу, пулевые ранения неизбежно привлекут полицию. Зачем рисковать без надобности? Джексон кивнул, затем снова взял руку Сола, чтобы сосчитать пульс. — Да, думаю, Вашингтон годится, если они смогут быстро обеспечить его классной медицинской помощью. — В посольстве о нем позаботятся. — Он нуждается в хирургическом вмешательстве, Натали. — У них есть прямо в посольстве операционная. — Да? Ну и дела, — и он развел руки ладонями вверх. — А почему бы тебе тоже туда не поехать? — Я хочу забрать Зубатку, — ответила Натали. — Можем заскочить за ним перед выездом из города, — предложил Джексон. — К тому же мне надо избавиться от Си-4 и прочего электронного хлама, — добавила она. — Отправляйтесь, Джексон. Мы встретимся в посольстве сегодня вечером. Джексон долго смотрел на нее, затем кивнул. Когда они вышли из автобуса, к ним подошел Микс. — По радио что-то не слышно никаких сообщений о революции, — заметил он. — Разве подобные вещи не начинаются везде одновременно? — Продолжай слушать, — посоветовала Натали. Микс кивнул и забрал у нее пятьсот долларов. — Если революция и дальше будет так продолжаться, глядишь, я разживусь на ней. — Спасибо за прогулку, — улыбнулась Натали, и они пожали друг другу руки. — А вам троим надо сменить сферу деятельности, если хотите насладиться жизнью после революции, — сказал Микс. — Не нервничайте. — И, насвистывая какую-то неразборчивую мелодию, он направился обратно в свой трейлер. Натали остановилась у дверцы фургона и дотронулась до руки Джексона. — увидимся в Вашингтоне, — сказала она. Он взял ее за плечи, привлек к себе и крепко поцеловал в губы. — Будь осторожна, малышка. Мы все сделаем втроем, когда позаботимся о Соле. Натали лишь кивнула, боясь, что может проговориться. Быстро отъехав от посадочной полосы, она отыскала главную дорогу в Чарлстон.* * *
Продолжая вести машину на большой скорости, Натали должна была сделать еще слишком многое. На переднем сиденье она разложила пояс со взрывчаткой, монитор энцефалограммы с электродами, радиопередатчик, кольт с двумя дополнительными обоймами, ружье с транквилизаторами и коробку с ампулами. На заднем сиденье стояло дополнительное электронное оборудование и лежал купленный в последнюю пятницу топор, накрытый одеялом. Натали задумалась о том, как к этому отнесется полицейский, если ее остановят за превышение скорости. Мрак, рассеиваясь, переходил в мутный рассвет, который ее отец называл ложным, но гряда плотных туч на востоке не давала пробиться свету и фонари продолжали гореть. Сбросив скорость, девушка въехала в старый квартал Города, и сердце ее бешено заколотилось. Она остановилась за полквартала от дома Фуллер, нажала на кнопку передатчика и спросила: «Зубатка, ты здесь?» Никакого ответа. Подождав несколько минут, она проехала мимо дома, но в переулке напротив, где их должен был дожидаться Зубатка, тоже никого не увидела. Натали отложила передатчик, уповая лишь на то, что он где-нибудь заснул, или отправился разыскивать их, или, на худой конец, был арестован за бродяжничество. Дом и двор Фуллер под высокими деревьями, с которых все еще стекали капли дождя, тонули в темноте. Лишь сквозь ставни верхнего окна продолжал литься зеленоватый свет. Натали медленно объехала квартал. Сердце ее билось так, что она ощущала физическую боль. Ладони вспотели, а пальцы настолько ослабли, что она даже не могла сжать их в кулак. Голова кружилась от недосыпания. Продолжать действовать в одиночку не имело никакого смысла. Надо было дождаться, когда Солу станет лучше, дождаться Зубатку и Джексона, чтобы они помогли ей. Разумнее всего было развернуть фургон и двинуться в Вашингтон... прочь от этого темного дома, маячившего в сотне ярдов впереди, с его зеленоватым свечением, напоминающим какой-то фосфоресцирующий гриб в мрачных глубинах леса. Натали заглушила мотор и попыталась выровнять дыхание. Опустив голову на холодный руль, она заставила думать свой уставший мозг. Как же ей не хватало Роба Джентри! Роб знал бы, что делать дальше. По ее щекам потекли слезы — явный признак усталости. Натали тряхнула волосами, резко выпрямилась и ладонью вытерла слезы. «Каждый, кто принимал участие в этом кошмаре, сделал все возможное и невозможное, — подумала она, — кроме малышки мисс Натали. Роб выполнил свою задачу и заработал смерть. Сол отправился на остров один... один... зная, что там будет пять таких монстров. Джек Коуэн погиб, пытаясь оказать им помощь. Даже Микс, Джексон и Зубатка взвалили на свои плечи львиную долю ответственности, а маленькая мисс Натали хотела, чтобы все сделали за нее». В глубине души Натали понимала, что Мелани Фуллер исчезнет, если они появятся здесь через несколько часов. Ее уже могло не быть. Девушка так крепко вцепилась в руль, что у нее побелели костяшки пальцев. Она заставила шевелиться свои уставшие мысли, чтобы проанализировать все. Ее жажду отомстить за отца, за Роба затмили время и безумные события последних семи месяцев. Она была уже совсем не той девчонкой, которая беспомощно и одиноко стояла перед закрытым моргом, где находилось тело ее отца, и клялась отомстить неизвестному убийце. В отличие от Сола, ею больше не двигало стремление к возмездию и справедливости. Натали взглянула на дом Фуллер. Нет, сейчас ею руководило нечто похожее на то, что подвигло ее стать учительницей. Оставить Мелани Фуллер в живых — все равно что бежать из школы, в которой среди ничего не подозревающих детей ползает смертельно ядовитая змея. Руки Натали дрожали, когда она надевала пояс и вставляла в него тяжелые "пакеты с Си-4. В мониторе энцефалографа нужно было заменить батарейки, и она провела страшную минуту, вспомнив, что оставила дополнительное снаряжение в одном из мешков в микроавтобусе. Непослушными пальцами ей все же удалось открыть радиопередатчик и переставить батарейки. Два контакта никак не приклеивались, и Натали оставила их болтаться, присоединив пусковой механизм к детонаторам Си-4. Главный детонатор был электрическим, но присутствовал еще и механический таймер обратного отсчета, и катушка запала, которую они с Солом рассчитали на временной отрезок в тридцать секунд. Натали похлопала себя по карманам в поисках зажигалки, которую она так долго носила с собой, но та, вероятно, осталась на острове вместе с остальным содержимым ее сумки. В бар дачке, между картами штата она обнаружила единственный пакетик спичек, что они прихватили из ресторана, когда останавливались в Тульсе, и сунула в карман. Окинув взглядом вещи, разложенные на сиденье, девушка включила двигатель. Как-то, когда ей было лет семь, один приятель подбил ее прыгнуть с вышки в новом муниципальном бассейне. То была вышка для взрослых ныряльщиков, самая верхняя из шести, к тому же Натали плавать едва умела. Тем не менее она уверенно прошла мимо спасателя, оживленно болтавшего с девушкой и не обратившего внимания на семилетку, взобралась по лестнице, казавшейся бесконечной, подошла к краю узкой доски и прыгнула в бассейн, который находился где-то далеко внизу. Тогда Натали понимала, точно так же, как и теперь, что стоит задуматься — и все будет кончено. Единственный способ осуществить какое-то действие — это не допускать ни единой мысли о последствиях. Она тронула машину и поехала по тихой улице, наверняка зная, как и в бассейне, что обратного пути у нее нет: «Неужели это я?» После возвращения старухи территория дома была обнесена кирпичной стеной в шесть футов с четырехфутовой железной решеткой поверх кирпичной кладки. Однако первоначальные узорные ворота с металлическими решетками сохранились. Они были заперты, но боковые зацементированные крепления выглядели не слишком надежными, фургон Натали резко свернул вправо, подпрыгнул на поребрике, так что лязгнули зубы, и въехал в ворота. Верхушка ворот рухнула вниз, превратив ветровое стекло в паутину трещин, правое крыло машины задело декоративный фонтан и оторвалось, фургон пересек двор, подминая под себя кустарник и карликовые деревья, и врезался в фасад дома. Натали забыла пристегнуть ремень. От удара ее швырнуло вперед, а затем отбросило назад — на лбу набухла шишка, перед глазами поплыли красные круги, ей показалось, что ее сейчас стошнит. Во второй раз она так сильно прикусила язык, что снова почувствовала во рту привкус крови. Тщательно разложенное на сиденье оружие грохнулось на пол. «Отличное начало», — смутно подумала Натали. И наклонилась, чтобы поднять кольт и амлульное ружье. Коробка с ампулами вместе с дополнительными обоймами к «кольту» закатилась куда-то под сиденье. Она решила не возиться с ними — пока и то, и другое оружие у нее было заряжено. Открыв ногой дверь, Натали ступила в предрассветную тьму. До нее доносился лишь звук воды, вытекавшей из разбитого фонтана и капающей из сплющенного радиатора фургона, но она не сомневалась — ее вторжение было настолько шумным, что могло поднять на ноги полквартала. У нее оставались считанные минуты сделать то, что она должна была сделать. Натали намеревалась выбить входную дверь, обрушив на нее три тысячи фунтов автомобильного веса, но промахнулась. С «кольтом» за ремнем и ампульным ружьем в правой руке она толкнула дверь. Вдруг Мелани облегчит ей задачу? Но дверь оказалась заперта. Натали вспомнила, что видела раньше целый набор затейливых замков и цепочек. Она положила ампульное ружье на крышу фургона, достала с заднего сиденья топор и принялась за работу с той стороны, где находились петли. После шести мощных ударов пот уже стекал с нее ручьем, заливая глаза. После восьмого удара дерево возле петель подалось и стало расщепляться. После десятого удара дверь распахнулась, продолжая с левой стороны держаться на цепях и запорах. Натали перевела дыхание, сдержала накатившую снова волну тошноты и отшвырнула топор в кусты. По-прежнему ни воя сирен снаружи, ни каких-либо передвижений внутри дома слышно не было. Зеленое свечение со второго этажа продолжало проникать во двор, освещая траву болезненным светом. Натали вытащила «кольт» и загнала пулю в патронник, вспомнив, что осталось семь вместо восьми — после случайного выстрела в «Сессне». Взяв ампульное ружье, она помедлила. «Наверное, я выгляжу глупо со стволом в каждой руке», — подумала девушка. Отец сказал бы, что она похожа сейчас на его любимого ковбоя Хута Гибсона. Натали никогда не видела фильма с Хутом Гибсоном, но до сей поры тоже считала его своим любимым ковбоем. Открыв пошире дверь, она вошла в темный затхлый коридор, не задумываясь о том, что будет дальше. Ее поражало лишь, что сердце у человека может колотиться с такой силой, при этом не разрывая грудной клетки. Футах в шести от двери на стуле сидел Зубатка. Его мертвые глаза смотрели на Натали, сквозь отвисшую нижнюю челюсть была пропущена бечевка, на которой висел грубо выполненный плакат. В тусклом свете, лившемся со двора, Натали разобрала надпись, сделанную фломастером: «Убирайся!» «Может, ее уже нет, может, ее уже нет», — подумала Натали, обходя Зубатку и направляясь к лестнице. Из дверей столовой справа выскочил Марвин, а через долю секунды вход в гостиную перекрыл Калли. Натали выстрелила Марвину в грудь ампулой с транквилизатором и бросила на пол теперь уже ненужное ружье. Левой рукой ей пришлось стремительно перехватить запястье Марвина, когда он занес мясницкий нож в смертоносном ударе. Ей удалось притормозить его движение, но острие все же на полдюйма вошло в ее левое плечо, пока она пыталась воспрепятствовать его напору, выворачивая ему руку и вращая парня в каком-то безумном танце. Калли обхватил их обоих своими огромными обнаженными лапищами. Чувствуя, как его пальцы сжимают горло, и понимая, что великану потребуется несколько секунд на то, чтобы сломать ей шею, Натали просунула «кольт» под левой рукой Марвина, уперлась стволом в мягкий живот Калли и дважды выстрелила. Звуки выстрелов были еле слышны. На тупом лице Калли внезапно появилось выражение обиженного ребенка, пальцы его разжались, он попятился, по дороге ухватившись за дверной косяк, словно пол вдруг принял вертикальное положение. Невероятным физическим усилием, от которого буграми вздулись мышцы на его руках, он преодолел невидимую силу, увлекавшую его назад, и принялся карабкаться по этой воображаемой стене. Вытянув вперед правую руку, Калли старался найти Натали. Опершись на внезапно начавшее проседать плечо Марвина, Натали выстрелила еще два раза — первая пуля прошла навылет через ладонь Калли и попала ему в живот, вторая срезала мочку левого уха так ровно, словно это был какой-то волшебный фокус. Натали почувствовала, что ее душат рыдания, и закричала: «Падай же! Падай!» Но гигант не упал, он снова уцепился за дверной косяк и начал потихоньку оседать синхронно с Марвином, словно в замедленной съемке. Нож с грохотом упал. Натали успела подхватить голову негра, прежде чем он врезался лицом в отполированное дерево, уложив его у ног Зубатки, она повернулась обратно и начала поводить стволом из стороны в сторону, прикрывая дверь в столовую и короткий коридорчик в кухню. Никого. Все еще всхлипывая и хватая ртом воздух, Натали стала подниматься по длинной лестнице. По дороге она нажала на выключатель, но хрустальная люстра, нависавшая над прихожей и площадкой верхнего этажа, так и не зажглась. Еще пять ступеней — и Натали уже различала то зеленоватое свечение, сочившееся из-под двери спальни Мелани Фуллер. Заставив себя собраться и замолчать, она расстегнула пояс со взрывчаткой и перекинула его через левую руку так, чтобы механический таймер, установленный на тридцать секунд, был повернут кверху. Его можно будет привести в действие одним нажатием кнопки. Натали бросила взгляд на монитор энцефалографа. На нем по-прежнему мигала зеленая лампочка, пусковой механизм был все так же соединен с детонатором Си-4. Она выждала еще двадцать секунд, чтобы предоставить возможность старухе сделать ход, если она собиралась делатьего. Стояла мертвая тишина. Натали выглянула на площадку. Слева от входа в спальню Мелани стояло одинокое плетеное кресло — наверно именно в нем мистер Торн проводил свои ночные бдения. Заглянуть за угол, в темный коридор, уходивший налево в глубину дома, она не могла. Услышав шум внизу, Натали обернулась, но увидела лишь три тела, распластанные на полу прихожей. Калли теперь лежал, уткнувшись лбом в пол. Натали снова повернулась к двери, подняла ствол «кольта» и ступила на площадку. Она ожидала, что на нее набросятся из темного коридора, приготовилась к этому и чуть не выстрелила в мрачную пустоту, но оттуда никто не появился. Коридор был пуст, выходящие в него двери — закрыты. Натали подошла к дверям спальни Мелани. Откуда-то снизу вдруг послышалось громкое тиканье часов. Или какое-то движение, или легкий порыв воздуха коснулся ее щеки, но что-то заставило Натали в этот момент посмотреть вверх, на утопавший во мраке потолок и еще более темный квадрат — маленький люк, ведущий на чердак. Люк был открыт, и в его проеме застыло напряженное, готовое к прыжку тельце шестилетнего ребенка, — его недетское лицо искажала безумная улыбка, пальцы со стальными ногтями изогнулись, как когти. Натали попыталась отскочить в сторону и одновременно выстрелить вверх, но Джастин уже летел вниз с громким шипением, так что пуля врезалась в дерево. Его стальные когти разодрали правую руку Натали и выбили у нее «кольт». Она попятилась, подняв левую руку со взрывчаткой, как щит. Когда Натали была маленькой, каждый Хэллоуин она отправлялась на дешевую распродажу и покупала себе «ведьмины когти», приклеивала их на пальцы и щеголяла с трехдюймовыми наманикюренными ногтями. Однако накладные ногти Джастина были стальными и столь же острыми, как скальпель. Непроизвольно в мозгу Натали возникла картинка: Калли или какой-нибудь другой суррогат Мелани Фуллер изготавливает стальные тигли, заливает их расплавленным оловом и смотрит, как ребенок опускает в них пальцы, ждет, пока олово застынет и затвердеет. Джастин снова бросился на Натали. Девушка прислонилась спиной к стене и инстинктивно подняла руку. Когти Джастина глубоко вонзились в пояс, прорвали брезент, пластиковую обертку и само вещество взрывчатки. Когда по меньшей мере два из них прорезали ее руку, Натали стиснула зубы, чтобы не закричать от боли. С победным шипением Джастин сорвал пояс со взрывчаткой с Натали и швырнул его через перила. В коридоре послышался глухой удар, когда там приземлились двенадцать фунтов инертной взрывчатки. Натали опустила глаза и увидела свой «кольт», лежащий между двумя столбиками перил. Не успела она сделать и полшага к оружию, как к нему подлетел Джастин и, поддав его своей синей кроссовкой, отправил вниз. Натали попыталась обойти Джастина справа, но мальчишка прыгнул, перекрывая ей дорогу. И тут она заметила массивное тело Калли, с трудом ползущее по лестнице. Он уже преодолел треть пути, оставляя за собою кровавый след. Натали бросилась бегом в коридор и резко остановилась, понимая, что именно этого и хотела от нее старуха. Одному Богу известно, что ожидало ее в этих темных комнатах. Джастин поспешно двинулся к ней, делая резкие движения своими ужасными когтями. Натали быстро повернулась и, схватив правой окровавленной рукой плетеное кресло, подняла его вверх. Одна из ножек кресла попала Джастину в рот, но он продолжал приближаться, размахивая руками, как одержимый. Лезвия его когтей ободрали ножки кресла и вырвали плетеное сиденье. Изогнувшись, мальчик бросился на Натали, норовя попасть в бедренную артерию. Не выпуская кресла из рук, она попыталась сбить его с ног и пригвоздить к полу, но он делал ложный выпад вправо, влево, наносил удар, отскакивал и снова бросался. Подошвы его кроссовок мягко поскрипывали на полированном полу. Натали удавалось отражать атаки Джастина, но ее израненные руки уже начинали дрожать от усталости. Колотая рана на левой руке болела так, словно доходила до самой кости. С каждой атакой она отступала все дальше, пока не оказалась прижатой спиной к дверям спальни Мелани Фуллер. Несмотря на то что у нее не было времени на размышления, Натали живо представила себе, как дверь распахивается и она падает прямо в поджидающие ее старческие руки, навстречу клацающим челюстям... Но дверь не открывалась. Джастин, не обращая внимания на ножки кресла, впивавшиеся ему в грудь и горло, пытался дотянуться до Натали. Ему это никак не удавалось, и он, вцепившись своими когтями в деревянную основу сиденья, попробовал отнять у Натали ее единственное средство защиты или разломать его пополам. Летели щепки, но кресло продолжало держаться. И тут откуда-то из глубины сознания до Натали донесся сухой, педантичный голос Сола: «Она использует тело ребенка, Натали, и его возможности. Преимущество Мелани — в ее страхе и ярости. Твое преимущество — в росте, весе, концентрации и способности сохранять равновесие. Воспользуйся этим». Джастин зашипел, как закипающий переполненный чайник, и, пригнувшись, снова прыгнул на Натали. Над краем площадки уже показалась лысая голова Калли. Натали встретила наскок Джастина, обеими руками выставив кресло перед собой и нажав на него всем своим весом, так, что мальчишка оказался между расщепленными ножками кресла. Он отлетел назад к полированным перилам. Старое дерево затрещало, но не сломалось. Юркий как ласка и быстрый как кот Джастин вскочил на перила шириной в пять дюймов, мгновенно восстановил равновесие и приготовился прыгнуть на Натали сверху. Не медля ни секунды, девушка шагнула вперед, перехватила кресло, как бейсбольную биту, и, размахнувшись, нанесла такой удар, что Джастин полетел с перил как мячик. Единый вопль вырвался из глоток Джастина, Калли и еще бесчисленного количества суррогатов за закрытой дверью Мелани Фуллер, но с ребенком, увы, еще не было покончено. Он успел уцепиться своими крючковатыми пальцами за массивную люстру, свисавшую чуть ниже уровня площадки, и принялся карабкаться вверх, балансируя на высоте пятнадцати футов над полом. Не веря своим глазам, Натали уронила кресло, Калли добрался уже до последней ступеньки и продолжал подтягиваться. С чудовищной усмешкой на лице Джастин начал раскачивать люстру взад и вперед. С каждым разом его вытянутая рука оказывалась все ближе и ближе к перилам. В свое время — по меньшей мере век назад — эта люстра могла бы выдержать вес, даже в десять раз превосходящий вес Джастина. Железная цепь и болты металлического якоря по-прежнему были крепкими. Но девятидюймовая деревянная балка, к которой крепилась арматура, уже более ста лет терпела влажность Южной Каролины, осаждавших ее насекомых и полное пренебрежение со стороны хозяйки. И вот балка не выдержала, и Джастин полетел вниз, увлекая за собой люстру, кусок штукатурки длиной футов в пять, электрические провода, болты и сгнившее дерево. Шум внизу был поистине впечатляющим. Осколки разбитого хрусталя брызнули во все стороны. Натали подумала про взрывчатку и «кольт», которые она там оставила, но они уже прочно были похоронены внизу под обвалом. «А где же полиция? Соседи?» И тут она вспомнила, что в предыдущие вечера большинство домов на этой улице стояли с темными окнами, вероятно, их хозяева отсутствовали или были весьма преклонного возраста. Ее вторжение казалось ей достаточно громким и вызывающим, но вполне возможно, что никто не обратил внимания на машину и не сообразил, откуда доносится такой шум. К тому же ее наверняка не было видно с улицы из-за высоких кирпичных стен, которыми Мелани отгородилась от всех, а густая тропическая растительность в этом квартале могла заглушать и искажать звуки выстрелов. Или соседи просто решили ни во что не вмешиваться. Натали посмотрела на свои залитые кровью часы. Прошло менее трех минут с тех пор, как она вошла в дом. Калли вылез на площадку и устремил на девушку свой идиотский взгляд. Беззвучно всхлипывая, Натали подняла кресло и трижды ударила им великана по голове. Одна из ножек, переломившись, отлетела к стене, а Калли, пересчитывая ступени, съехал вниз. Натали с ужасом смотрела, как его залитое кровью лицо снова приподнялось, руки и ноги дернулись и он опять, повинуясь приказу старухи, пополз вверх по лестнице. Тогда она развернулась и изо всех сил ударила креслом по тяжелой двери. — Будь ты проклята, Мелани Фуллер! — закричала она визгливым голосом. После четвертого удара кресло рассыпалось в ее руках. Дверь распахнулась. Она не была заперта. Серый утренний свет почти не проникал в спальню через занавешенные шторами и закрытые ставнями окна. Осциллографы и другая аппаратура жизнеобеспечения продолжали озарять присутствующих мертвенно-зеленым электронным свечением. Между дверью и кроватью стояли сестра Олдсмит, доктор Хартман и Нэнси Варден, мать Джастина. Все трое были в грязных белых халатах и с одинаковым выражением обреченности и безразличия на лицах. Такое Натали видела только в документальных фильмах о заключенных нацистских концлагерей, которые точно так же смотрели на освободителей сквозь колючую проволоку — расширенные, голодные и ни во что уже не верящие глаза, отвисшие челюсти. За этой последней оборонительной линией стояла огромная кровать со своей обитательницей. Сквозь тонкую кружевную ткань и прозрачный пластик кислородной палатки Натали отчетливо различала ссохшуюся фигуру, терявшуюся в одеялах и подушках, — сморщенное искривленное лицо с одним открытым глазом, лоб, покрытый старческими пятнами и оттененный редкими голубыми волосами, высохшую правую руку на одеяле, костлявые пальцы, судорожно сжимающие ткань. Старуха слабо поерзывала на постели, вновь напомнив Натали морское существо, с которого содрали кожу и выкинули из родной среды обитания. Натали быстро оглянулась — удостовериться, что за дверью в коридоре никого нет. Справа от нее находился туалетный столик с витражными стеклами. На пожелтевшей салфетке были разложены гребни и щетки с застрявшими между зубцами клочьями голубых волос. Слева стояла гора немытых подносов с чашками и грязными тарелками. В раскрытом шкафу валялось испачканное белье и одежда, здесь же в грязи лежали медицинские инструменты, а на двухколесных каталках высилось четыре кислородных баллона. Краны на двух из них были отвинчены, и именно оттуда в пластиковую палатку старухи и поступал кислород. Запах в спальне стоял невыносимый, ее, видно, никогда не проветривали. Услышав слева какой-то шорох, Натали вздрогнула. Две огромные крысы шмыгали по тарелкам и грязному белью, не обращая никакого внимания на людей, будто их здесь и не было. Натали подумала, что это не так уж далеко от истины. Три амбулаторных трупа синхронно, в унисон, разлепили губы. — уходи, — заныли они недовольными детскими голосами. — Я больше не хочу играть. — Искаженное, удлиненное морщинами кислородной маски лицо старухи задвигалось вверх и вниз, когда беззубый рот начал издавать мокрые чавкающие звуки. Три пешки одновременно подняли правые руки. В зеленоватом сиянии экрана осциллографа блеснули короткие лезвия скальпелей. «Всего трое?» — подумала Натали. Она чувствовала, что их должно быть больше, но усталость, страх и боль мешали ей думать. Сейчас нужно сосредоточиться и сказать что-то важное, хотя Натали еще не знала, что именно. Может, объяснить этим зомби и лежащему за их спинами монстру, что ее отец был хорошим человеком, очень нужным людям и ей, Натали, и его нельзя было вот так запросто вычеркнуть из жизни, как эпизодический персонаж в плохом фильме. Любой человек — все люди — заслуживают большего уважения. Что-то в этом духе. Но тут другая тварь, бывшая когда-то хирургом, засеменила навстречу Натали, а за ним двинулись и обе женщины. Натали метнулась влево, открыла кран кислородного баллона и изо всех сил швырнула его в доктора Хартмана. Но промахнулась. Баллон оказался невероятно тяжелым. Он с грохотом рухнул на пол, сбил с ног Нэнси Варден и покатился под кровать, распространяя по комнате чистый кислород. Хартман резко замахнулся скальпелем на девушку. Натали отскочила, но недостаточно быстро. Она толкнула тележку с пустым баллоном, так что та оказалась между ней и нейрохирургом. И с удивлением увидела, что тонкий разрез на ее блузке окрашивается кровью. В комнату на локтях вполз Калли. Натали почувствовала, что ее ярость достигла предела. Все они — она, Сол, Робен, Коуэн, Джексон и Зубатка — зашли уже слишком далеко, чтобы остановиться. Возможно, Сол и оценил бы парадоксальность всего происходящего, но Натали не любила парадоксов. Невероятным усилием она оторвала от пола семидесятифунтовый кислородный баллон и швырнула его прямо в лицо доктору Хартману. Когда баллон вместе с телом доктора рухнул на пол, пусковой клапан отскочил у него сам по себе. Но к Натали уже ползла Нэнси Варден и бежала сестра Олдсмит с зажатым в воздетой руке скальпелем. Натали набросила желтую от мочи простыню на голову сестре и нырнула вправо. Та, потеряв ориентацию, врезалась в шкаф. Через секунду лезвие скальпеля распороло тонкую ткань. Натали схватила серую наволочку, но тут Нэнси Варден удалось поймать девушку за щиколотку. Тяжело повалившись на вытертый ковер, Натали пыталась свободной ногой отбиться от женщины. Мать Джастина потеряла скальпель, она продолжала крепко держать Натали за ногу, вероятно, намереваясь затащить ее вместе с собой под кровать. На расстоянии футов трех от них полз Калли. От полученных ранений стенки брюшины у него просели, кишки волочились следом за ним. Взмахами скальпеля сестра Олдсмит срезала с себя остатки простыни и развернулась, как заржавленная марионетка. — Прекрати! — изо всех сил закричала Натали, судорожным движением вытаскивая из кармана упаковку спичек. Пока Нэнси Варден продолжала подтягивать ее к кровати, Натали отломила спичку и попробовала поджечь наволочку. Нет, ткань гореть не хотела. Спичка погасла. Тут девушка почувствовала, что агонизирующие, дрожащие пальцы Калли вцепились ей в волосы. Натали зажгла вторую спичку, дала огню разгореться, прикрывая его ладонью, и поднесла быстро гаснущее пламя к наволочке, не убирая руки, когда огонь начал подбираться ближе. Наволочка наконец загорелась. Натали локтем швырнула ее под кровать. Кружевные занавеси, белье и деревянная основа кровати, пропитавшиеся чистым кислородом снизу, взорвались гейзером синего пламени, которое менее чем за три секунды распространилось по всей комнате. Пытаясь задержать дыхание, Натали освободилась от хватки вспыхнувшей факелом женщины и вскочила, чтобы бежать отсюда, из этого ада. Калли выпустил ее волосы и поднялся на ноги одновременно с ней. Теперь он заслонял дверной проем, как какой-то полувыпотрошенный труп, в гневе восстающий с патологоанатомического стола, где производится вскрытие. Он схватил Натали своими длинными руками и развернул ее. Стараясь не вдыхать отравленный воздух, она увидела извивающееся и мечущееся в синих клубах концентрированного пламени тело старухи — ее чернеющее на глазах, будто состоящее из одних суставов тело ежесекундно меняло свою форму. И тут с кровати донесся истошный крик, который через секунду был подхвачен сестрой Олдсмит, Нэнси Варден, Калли, трупом доктора Хартмана и самой Натали. Из последних сил девушка вывернулась из рук Калли и бросилась к дверям как раз в тот момент, когда взорвался второй баллон с кислородом. Полную мощь взрыва принял на себя Калли, и через секунду весь дом заполнился запахом горелого мяса. Руки белого ублюдка разошлись в стороны, взрывной волной его отбросило к стене, а затем полыхающий факелом великан перевалился через перила и полетел вниз. Натали лежала ничком на лестнице. Она ощущала спиной жар, идущий от потолочных перекрытий, видела отблески пламени, отражавшиеся в целой горе хрустальных осколков внизу, но не могла сдвинуться с места. Она сделала все что могла.* * *
Чьи-то сильные руки подняли ее, она попыталась слабо сопротивляться, но кулаки ее были такими же беспомощными и мягкими, как ватные шарики. — Спокойно, Натали. Мне еще нужно захватить Марвина. — Джексон! Высокий негр тащил ее, обхватив левой рукой, а правой волочил за ворот рубашки бывшего главаря банды. Помраченное сознание то рисовало Натали зеркальную комнату с выбитой стеной, то ей казалось, что ее несут через сад и по темному тоннелю гаража. Микроавтобус дожидался их в переулке. Джексон осторожно перенес Натали на заднее сиденье, Марвина положил на пол. — О Господи, ну и денек, — пробормотал он, присаживаясь рядом с Натали и вытирая влажной салфеткой с ее лица кровь и сажу. — Да, девушка, над вами придется основательно потрудиться. Натали облизнула потрескавшиеся губы. — Дай мне посмотреть, — прошептала она. Джексон взял ее под мышки и помог приподняться. Весь дом Фуллер был объят пламенем, огонь уже перекинулся на дом Ходжесов. В просветах между домами Натали различала красные пожарные машины, перегородившие улицу. Мощные струи воды из двух брандспойтов безрезультатно били в бушевавший огонь, остальные были направлены на деревья и крыши соседних домов. Натали посмотрела налево и увидела Сола. Он сидел и, близоруко сощурясь, тоже глядел на огонь. За тем он повернулся к Натали, улыбнулся, в сонном недоумении покачал головой и снова погрузился в сон. Джексон свернул одеяло, положил его под голову Натали, а еще одним накрыл ее. Затем он спрыгнул, захлопнул дверцы и забрался на водительское место. Маленький двигатель завелся без малейших колебаний. — Господа туристы, если вы не возражаете, то нам лучше убраться отсюда, пока полиция или пожарники не обнаружили нас в этом переулке. Через три квартала они выбрались из скопления машин, хотя навстречу им продолжали попадаться машины полиции и «скорой помощи», спешившие к месту пожара. Джексон выехал на шоссе номер 52 и через парк двинулся на северо-запад. По Дорчестерской дороге он вернулся на скоростную автомагистраль номер 26, затем направился к выезду из города мимо главного аэропорта. Натали поняла, что едва она закрывает глаза, перед ее внутренним взором возникают картины, которых ей вовсе не хочется видеть. — Как Сол? — спросила она дрожащим голосом. — Отличный парень, — не отрывая взгляда от дороги, ответил Джексон. — Он проснулся как раз вовремя и сообщил мне, что ты собираешься натворить. Натали переменила тему разговора. — А как Марвин? — Дышит. 06 остальном позаботимся попозже. — Зубатка мертв, — сказала Натали, с трудом контролируя свой голос. — Да, знаю, — вздохнул Джексон. — Слушай, детка, по карте через несколько миль от Ладсона есть стоянка. Я приведу тебя в порядок. Наложу повязки на колотые раны, смажу ожоги и порезы. Наконец, сделаю укол, чтобы ты поспала. Натали кивнула: — О'кей. — Ты знаешь, что у тебя здоровенный синяк на голове и полностью отсутствуют брови ? — он поглядел на нее в зеркало заднего вида. Натали покачала головой. — Хочешь рассказать мне, что там произошло? — мягко спросил Джексон. — Нет! — Она начала тихо всхлипывать. От этого ей становилось гораздо легче. — Ну, хорошо. — Джексон начал что-то насвистывать. — Черт, больше всего я хочу выбраться из этого поганого города и вернуться в Филадельфию, но что-то это превращается в бегство Наполеона из сожженной Москвы. Пусть только кто-нибудь попробует сунуться к нам, пока мы не добрались до израильского посольства, и он сильно пожалеет об этом. — Он приподнял инкрустированный револьвер 38-го калибра и быстро засунул его обратно под сиденье. — Где ты это взял? — спросила Натали, утирая слезы. — Купил у Дерила, — ответил Джексон. — Не только ты одна рвешься финансировать революцию, детка. Натали устало смежила веки. Кошмарные видения мелькали, как в калейдоскопе, но желания кричать больше не было. Она поняла — по крайней мере в этот момент, — что не один Сол Ласки отказал себе в праве видеть те сны, которые ему снятся. — А вот и указатель, — донесся уверенный глубокий голос Джексона. — Остановка на отдых.Глава 42
Беверли-Хиллз Суббота, 21 июня 1981 г. Тони Хэрод поздравлял себя с тем, что ему удалось выжить. После ничем не спровоцированного нападения на него черной суки на острове Хэрод решил, что, вероятно, удача изменила ему. У него ушло полчаса на то, чтобы разогнуться, а остаток этой безумной ночи он провел, бегая от охранников, которые уже палили из автоматов во все движущиеся предметы. Хэрод двинулся к взлетному полю, надеясь на то, что сможет улететь на самолете Саттера или Вилли, но ему хватило одного взгляда на полыхавший там огонь, чтобы убраться обратно в лес. Несколько часов он прятался под кроватью в одном из бунгало летнего лагеря неподалеку от амфитеатра. Один раз туда забрела группа пьяных охранников — они обшарили кухню и главные помещения в поисках спиртного и ценностей, разыграли три банка в покер и отправились обратно искать свое подразделение. Именно из, их возбужденной болтовни Хэрод узнал, что Барент находился на борту «Антуанетты», когда яхта взлетела на воздух. На востоке уже светало, когда Хэрод выбрался из бунгало и направился к пристани. У причала стояли четыре катера, и ему удалось завести один из них — быстроходный, длиной в 12 футов, — пользуясь навыками, к которым он не прибегал со времен своей бродяжьей жизни в Чикаго. Пьяный охранник, спавший под дубами, дважды выстрелил в Хэрода, но тот уже на полмили углубился в океан. Других признаков преследования он не заметил. Хэрод знал, что остров Долменн находится всего в двадцати милях от берега, и решил, что даже со своими ограниченными навигационными навыками не промахнется мимо берега Северной Америки, если будет держать курс на запад. День был облачным, но водная гладь спокойной, будто компенсируя ночную грозу и сопутствовавшее ей безумие. Найдя веревку, Хэрод закрепил руль, натянул брезент над кормой и заснул. Проснулся он в двух милях от берега и обнаружил, что кончилось горючее. Пер вые восемнадцать миль его плавания заняли полтора часа, последние две — восемь, и, вероятно, ему никогда бы не удалось добраться до берега, если бы не заметившее его рыболовное судно, взявшее катер на буксир. Рыбаки из Джорджии дали ему воды, пищу, крем от загара и немного топлива. Он последовал за ними между островами и заросшими лесом мысами, выглядевшими, вероятно, так же как и три века назад, пока наконец не пристал к берегу в маленькой бухточке возле провинциального городка Санта-Мария. Хэрод выдал себя за новичка в морском деле, который нанял свою посудину возле мыса Хилтон и заблудился. Местные власти с трудом поверили в существование такого дурака, но проверять версию Хэрода не стали. Он сделал все что мог для укрепления дружеских отношений, сводил своих спасителей, владельцев судна и еще пятерых зевак в ближайший бар — сомнительно выглядевшее заведение на повороте к государственному парку Санта-Мария — и истратил на них 280 долларов. Добрые старые ребята все еще пили за его здоровье, когда он убедил дочь владельца бара по имени Стар отвезти его в Джексонвилл. Они добрались до места в половине восьмого вечера, и хотя оставался еще целый час летнего светового времени, Стар решила, что возвращаться в Санта-Марию слишком поздно и начала размышлять, возможно ли получить номер в мотеле в Джексонвилл-Бич или Понтеведра. Стар было около сорока, но она имела такие формы, о которых Хэрод и мечтать не смел. Он дал ей пятьдесят долларов, сказал, чтобы она заезжала, когда в следующий раз будет в Голливуде, и попросил высадить его у «Интернационаля». У Хэрода в бумажнике оставалось почти четыре тысячи долларов — он не любил путешествовать без карманной наличности и никто ему не сказал, что на острове будет нечего покупать, — но, заказывая билет первого класса до Лос-Анджелеса, он воспользовался одной из своих кредитных карточек. Во время краткого полета до Атланты он дремал, зато в течение более длинного — в Лос-Анджелес — Хэрод понял, что стюардессы, приносившие ему обед и напитки, явно сочли, что он забрел не в свое отделение. Он осмотрел себя, принюхался и понял, почему они могли прийти к такому выводу. На его светло-коричневый спортивный пиджак от Джордже Армани попало немного пятен чьей-то крови, пролитой накануне ночью, но зато он пропах дымом, моторным маслом и рыбой. Его черная шелковая рубашка вся пропиталась потом, а летние хлопчатобумажные брюки от Серджорджио и мокасины из крокодиловой кожи были погублены окончательно. И все же Хэрод не мог смириться с тем, что какая-то стюардесса ведет себя с ним подобным образом. Он ведь оплатил обслуживание первого класса, а Тони Хэрод всегда получал то, что оплачивал! Он бросил взгляд на туалетную комнату — она была пуста. Большая часть пассажиров первого класса уже дремали или читали. Хэрод поймал высокомерный взгляд белокурой стюардессы. — Мисс? — обратился он к ней. Когда она подошла ближе, он до мельчайших подробностей разглядел ее крашеные волосы, слой косметики на лице и слегка смазанную тушь. Ее белые зубы тоже были запачканы розовой помадой. — Да, сэр? — в ее голосе явно звучала снисходительность. Хэрод смотрел на нее еще несколько секунд. — Нет, ничего, — сказал он наконец. — Ничего.* * *
Хэрод прибыл в Лос-Анджелес рано утром в среду, но ему потребовалось еще три дня, чтобы добраться до дому. Став вдруг не в меру осторожным, он нанял машину и поехал на пляж Лагуна, где у Тары Истен был загородный дом. Он несколько раз ночевал у нее там в перерывах между ее любовниками. Хэрод знал, что Тара сейчас в Италии на съемках какого-то феминистского вестерна, но ключ по-прежнему на месте — в третьем горшке с рододендронами. Воздух в доме был застоявшийся, и его пришлось как следует проветрить, зато в холодильнике имелся импортный эль, а кровать с водяным матрацем была застлана свежими шелковыми простынями. Большую часть дня Хэрод проспал, вечером посмотрел старые ленты Тары по видео и около полуночи отправился на побережье в китайский ресторан. В четверг он надел темные очки и огромную широкополую шляпу банановой республики, принадлежавшую одному из дружков Тары, и поехал в город поглядеть на свой дом. Казалось, все было в порядке, и все же вечером он снова вернулся в Лагуну. В четверг газеты на шестой странице опубликовали небольшую заметку о внезапной смерти таинственного миллионера К. Арнольда Барента, скончавшегося от сердечного приступа в своем поместье в Палм-Спрингс. Тело его было кремировано, и европейская ветвь его семейства заказала мемориальную службу в его честь. Четыре ныне здравствующих американских президента выразили свои соболезнования по этому поводу. Далее в заметке бегло перечислялись заслуги Барента в его многолетней благотворительной деятельности и обсуждалось будущее его акционерной империи. Хэрод покачал головой. Ни слова о яхте, об острове, о Джозефе Кеплере, о преподобном Джимми Уэйне Саттере... Он не сомневался, что их некрологи появятся в ближайшие дни. Кто-то явно пытался все замазать. Огорченные политиканы? Многолетние приспешники этого трио? Какой-нибудь европейский филиал Клуба Островитян? На самом деле Хэроду вовсе не хотелось ничего знать, до тех пор пока это не касалось лично его. В пятницу он самым тщательным образом осмотрел собственный дом, настолько внимательно, насколько это можно было сделать, не прибегая к помощи полиции. Все вроде бы выглядело нормально, и Хэрод расслабился. Впервые за несколько лет он вдруг почувствовал, что может действовать, не опасаясь обрушить себе на голову горы дерьма в случае неверного шага. В субботу утром, в самом начале десятого, он подъехал к своему дому, кивнул сатиру, поцеловал испанскую горничную и сказал кухарке, что она может взять выходной сразу после того, как приготовит ему завтрак. Хэрод позвонил домой директору студии, потом Шу Уильямсу, чтобы выяснить, как идут дела с «Торговцем рабынями», — фильм находился на последних стадиях монтажа: из него вырезали двенадцать минут, когда публика на предварительном просмотре начала скучать. Затем он сделал еще семь-восемь звонков, поставив в известность своих абонентов о том, что он вернулся и работает, и связался со своим адвокатом Томом Мак-Гиром. Хэрод подтвердил, что определенно намерен переехать в старый дом Вилли Бордена, сохранив там службу безопасности. Еще он осведомился, не знает ли Том хороших секретарей. Мак-Гир не мог поверить, что после стольких лет Хэрод решился уволить Марию Чен. — Даже сообразительные цыпки становятся со временем слишком навязчивыми, — пояснил Хэрод, — Пришлось ее уволить, пока она не начала штопать мои носки и вышивать свои инициалы на моих трусах. — И куда же она отправилась? — спросил Мак-Гир. — Обратно в Гонконг? — Откуда мне знать, да и какое мне дело! — оборвал его Хэрод. — Сообщи, если услышишь о ком-нибудь с хорошей головой и навыками стенографии. Он положил трубку, несколько минут задумчиво посидел в полной тишине и отправился в джакузи. Хэрод стоял обнаженным под горячим душем и размышлял, не окунуться ли еще в бассейн, потом лег в ванну и чуть было не задремал. Ему казалось, что он слышит на изразцовых плитках шаги Марии Чен, идущей к нему с утренней почтой. Хэрод сел, вынул сигарету из пачки, лежавшей рядом с высоким фужером с водкой, закурил и откинулся к горячей струе воды, расслабляя все свои напряженные мышцы. «Не так уж плохо, когда можно позволить себе думать о другом», — решил он про себя. Он снова почти погрузился в сон — сигарета догорала уже у самых пальцев, — когда вдруг из холла донесся четкий стук каблуков. Хэрод резко открыл глаза, вытащил из воды руки и приготовился встать, если возникнет необходимость. Его оранжевый халат висел на расстоянии шести футов от него. В первое мгновение он не узнал привлекательную молодую женщину в простом белом платье, которая вошла к нему с почтой, но, вглядевшись в глаза нимфетки на миссионерском личике, пухлую нижнюю губку и походку фотомодели, воскликнул: — Шейла! Черт побери, как ты меня напугала! — Я принесла вашу почту, — без всякого выражения сказала Шейла Беррингтон. — Я не знала, что вы являетесь членом Национального Географического общества. — Господи, малышка, а я как раз собирался позвонить тебе, — торопливо забормотал Хэрод. — Объясниться и попросить прощения за тот неприятный эпизод прошлой зимой. — Продолжая ощущать неловкость, Хэрод невольно подумал: не использовать ли ее? Но нет. Это означало бы начать все заново. Некоторое время он вполне может обойтись и без этого. — Все в порядке, — ответила Шейла. Ее голос всегда был тихим и мечтательным, но сейчас она говорила и вовсе как сомнамбула. Хэрод задумался, не открыла ли для себя эта бедная мормонка наркотики в течение долгого периода вынужденной безработицы? — Я больше не сержусь, — с отсутствующим видом добавила Шейла. — Господь помог мне это пережить. — Ну и отлично. — Хэрод стряхнул пепел со своей груди. — Ты была абсолютно права — «Торговец» не для тебя. Все это ерунда, твой класс неизмеримо выше этого дерьма, но я разговаривал сегодня утром с Шу Уильямсом — он запускает проект для Ориона, мы с тобой идеально подходим. Шу говорит, что Боб Редфорд и еще какой-то парень по имени Том Круз согласились переснять старый... — Вот ваш «Нэшнл Джиографик», — перебила его Шейла, протягивая журнал и стопку писем. Хэрод сунул в рот сигарету, поднял руку и замер. Серебряный пистолетик, вдруг появившийся в руке Шейлы, был таким крошечным, что показался ему игрушкой, и у пяти произведенных им выстрелов звук тоже был абсолютно игрушечным. — Эй! — воскликнул Тони Хэрод, глядя на пять маленьких отверстий в своей груди и пытаясь смыть их водой. Он посмотрел на Шейлу Беррингтон, рот у него открылся, выпавшая сигарета завертелась в потоках воды. — О черт, — прошептал продюсер и медленно откинулся назад. Горячая вода поглотила сначала его тело, затем лицо. Шейла Беррингтон с безучастным видом смотрела на то, как бурлящая поверхность окрасилась в розовый цвет, потом постепенно стала очищаться вследствие поступления свежих потоков из кранов и работы фильтров. Круто повернувшись на высоких каблуках, девушка неторопливой походкой, с высоко поднятой головой, прошла в холл, предварительно погасив везде свет. В занавешенном шторами помещении стало темно, и лишь случайные солнечные блики, отражаясь от водной глади бассейна, отбрасывали на белую стену замысловатые тени. Будто фильм уже закончился, но проектор еще работает, высвечивая странные узоры на пустом целлулоиде киноэкрана...Глава 43
Кесария, Израиль Воскресенье, 13 декабря 1981 г. Натали Престон ехала на своем «Фиате» к северу по дороге на Хайфу, то и дело останавливаясь, чтобы насладиться прекрасными пейзажами и зимним солнцем. Она не знала, доведется ли ей еще раз когда-нибудь побывать здесь. Прежде чем повернуть к кибуцу Ма'аган Микаэль, ей пришлось задержаться из-за продвижения колонн с военной техникой, но когда она наконец добралась до подножия холма с разбросанными тут и там кущами рожковых деревьев, военных машин вокруг уже не было. Как всегда, Сол ожидал ее возле огромного валуна у нижних ворот и открыл их, чтобы впустить «Фиат». Натали выскочила из машины, крепко обняла его, затем отступила на шаг и принялась рассматривать своего друга. — Ты замечательно выглядишь! — воскликнула она, и это почти соответствовало истине. Сол выглядел гораздо лучше. Ему так и не удалось набрать потерянного веса, левая рука и запястье по-прежнему были перебинтованы после недавних операций, но борода его отросла, хоть и стала совсем седой, как у пророка. Темный загар сменил долго державшуюся бледность, а волосы уже доставали до плеч. Сол улыбнулся и знакомым жестом поправил очки в роговой оправе. Натали знала — он всегда так делает, когда смущается. — Ты тоже замечательно выглядишь, — ответил он и махнул рукой молодому сабре, который наблюдал за ними со своего поста у изгороди. — Пойдем в дом. Обед почти готов. Пока они ехали по подъездной дорожке к дому, Натали бросила взгляд на перебинтованную руку Сола. — Как она у тебя? — Что? — рассеянно переспросил он. — А, прекрасно. — Сол посмотрел на свои бинты так, будто видел их впервые. — Большой палец восстановить не удалось, но оказывается, без него гораздо удобнее. — Он улыбнулся. — По крайней мере до тех пор, пока остальные на месте. — Странно, — промолвила Натали. — Что? — Два пулевых ранения, пневмония, сотрясение мозга, три сломанных ребра, а порезов и ссадин столько, что хватило бы на целую футбольную команду... — Еврея убить трудно. — Нет, я имела в виду другое... — Натали завела «Фиат» под навес для автомобилей. — Я имею в виду — столько серьезных ранений, а в могилу тебя чуть не свел укус женщины, ведь из-за него ты едва не лишился руки. — Укусы человека весьма опасны, это широко известно, — усмехнулся Сол, открыв дверцу машины для Натали. — Но эта мисс Сьюэлл... она не была человеком. — Конечно, — согласился он, снова поправляя очки. — Думаю, к тому времени уже не была.* * *
Сол приготовил восхитительную трапезу с бараниной и свежевыпеченным хлебом. За столом они болтали о самых несущественных вещах — курсах лекций Сола в университете в Хайфе, последнем договоре Натали с «Иерусалим Пост» на фотоработы, о погоде и прочей ерунде. После фруктовою десерта и сыра Натали захотела еще раз побывать на акведуке, и Сол пошел наливать кофе в стальной термос, а она отправилась в свою комнату достать из чемодана толстый свитер. Декабрьские вечера на побережье были прохладными. Они медленно спустились с холма и миновали апельсиновые рощи, беседуя о насыщенных красках вечернего света и стараясь не обращать внимания на двух молодых израильтян, которые следовали за ними на почтительном расстоянии с перекинутыми за плечи «узи». — Я очень сожалею о смерти Давида, — грустно сказала Натали, когда они добрались до песчаных дюн. Средиземное море окрасилось в медные цвета. Сол пожал плечами. — Он прожил насыщенную жизнь. — Я так хотела попасть на его похороны, — продолжала Натали. — Целый день пыталась вылететь из Афин, но все рейсы были отложены. — Считай, что ты присутствовала на них... Я все время думал о тебе. — Он махнул рукой телохранителям, чтобы они оставались на месте, и первым ступил на акведук. На покрытых извилистыми линиями дюнах их тени от горизонтально падавшего света казались просто гигантскими. Добравшись до середины пролета, они остановились, и Натали обхватила плечи руками. Подул резкий ветер На небе появились три звездочки и узкий серп молодого месяца. — Ты все-таки улетаешь завтра? — тихо спросил Сол. — Возвращаешься обратно? — Да. — Натали кивнула. — Рейс одиннадцать тридцать из Бен-Гуриона. — Я провожу тебя, — сказал Сол. — Оставлю машину у Шейлы и попрошу, чтобы она или кто-нибудь из ее ребят подвез меня обратно. — Очень хорошо. — Натали улыбнулась. Сол открыл термос и протянул ей пластиковую чашку, наполненную горячим ароматным кофе. — Ты не боишься? — спросил он. — Возвращения в Штаты или того, что могут еще встретиться такие? — Просто возвращения, — пояснил Сол. — Боюсь, — сказала девушка. По прибрежной дороге двигалось несколько машин — свет их фар терялся в зареве заходящего солнца. К северу поблескивали руины города крестоносцев. Гора Кармел вдали была окутана дымкой такого насыщенного фиолетового цвета, что Натали сочла бы его ненастоящим, если бы увидела на фотографии. — То есть я не знаю, — продолжала Натали. — Попробую. Я хочу сказать, Америка и так довольно жуткая страна... Но это моя родина. Ты понимаешь, что я хочу сказать? — Да. — А ты сам не думал о том, чтобы вернуться в Штаты? Сол опустился на большой камень, в расщелинах которого виднелась изморозь, — ее так и не растопило дневное солнце. — Постоянно думаю об этом, — признался он. — Но здесь столько дел. — Я до сих пор удивляюсь, как быстро Моссад... поверил всему, — промолвила Натали. Сол улыбнулся. — У нашего народа — длинная, почтенная и параноидальная история... Полагаю, мы прекрасно поспособствовали укреплению их предрассудков, — он сделал глоток и налил себе еще кофе. — К тому же у них была масса разведывательных данных, с которыми они просто не знали, что делать. Теперь у них есть система... странная, конечно, но это все же лучше, чем ничего. Натали указала рукой на темневшее на севере море. — Как ты думаешь, они выяснят... когда-нибудь? — Таинственные связи оберста? — спросил Сол. — Может быть. Я подозреваю, что им уже известны эти люди. Глаза Натали подернулись печалью. — Я все думаю об этом человеке... в доме Мела ни... Его ведь там не было... — О Говарде? Рыжеволосый. Отец Джастина. — Да. — Натали вздрогнула, когда солнце коснулось линии горизонта. Ветер усилился. — Зубатка же передал вам обоим по радиосвязи, что он уложил Говарда отдохнуть. Если именно он последовал за тобой. Когда Мелани послала кого-то — скорее всего, великана — прикончить Зубатку, он, вероятно, забрал и Говарда. Возможно, тот все еще был без сознания, когда в доме начался пожар. Может, именно он и дожидался тебя в глубине дома. — Может быть. — Натали обхватила ладонями чашку, пытаясь таким образом согреть руки. — Или Мелани могла где-то похоронить его, решив, что он умер. Это объясняет несовпадение количества тел, названного в газетах. — Она подняла голову и взглянула на небо, где загорались, мерцая, все новые и новые звезды. — Ты знаешь, что сегодня годовщина? Год со дня... — Со дня смерти твоего отца, — продолжил Сол, помогая Натали подняться. В сумерках они двинулись обратно по акведуку. — Ты, кажется, говорила, что получила письмо от Джексона? Лицо девушки просияло. — И длинное к тому же. Он вернулся в Джермантаун. Стал новым директором Общинного дома, но от старой развалины избавился, попросил Братство Кирпичного завода подыскать себе другой клуб — думаю, он мог это сделать, поскольку продолжает оставаться его членом — и теперь открыл целую серию настоящих общинных магазинов на Джермантаун-стрит. У него там бесплатная клиника и масса других вещей. — А о Марвине он не упоминал? — А как же! Он более или менее привел его в норму. Говорит, что есть явные признаки выздоровления. Теперь Марвин находится на уровне развития четырехлетнего ребенка... но талантливою ребенка, как пишет Джексон. — Ты собираешься съездить к нему? — Наверное. Да. Они осторожно спустились вниз и посмотрели назад, туда, откуда пришли. Лишившись красок, дюны стали напоминать застывшие морские волны, омывающие римские руины. — Ты собираешься подписывать какие-нибудь договора на фотоработы перед возвращением в школу? — Да. «Иерусалим Пост» заказал материал об упадке крупных американских синагог, и я думаю, что начну с Филадельфии. Сол махнул рукой телохранителям, которые дожидались их под сводами колонн. Один из них закурил сигарету, и она загорелась красным глазом в сгущавшейся тьме. — Фоторепортаж, который ты сделала о рабочих-арабах в Тель-Авиве, был превосходен, — заметил Сол. — Ну, надо же смотреть правде в лицо, — немного надменно ответила Натали. — С ними обращаются, как с израильскими неграми. — Действительно. Они остановились на дороге у подножия холма и несколько минут стояли молча — несмотря на холод, им почему-то не хотелось возвращаться в освещенный дом, где их ожидали тепло, возможность вести непринужденную беседу и спокойный сон. Внезапно Натали бросилась к Солу, уткнулась лицом в его куртку, почувствовала прикосновение его бороды. — О Сол! — всхлипнула она. Он неуклюже похлопал ее по спине забинтованной рукой. О, как бы он был рад, если бы это мгновение застыло навечно, даже окрашивавшая его печаль казалась ему источником радости! Позади тихонько шуршал песок в своем постоянном стремлении засыпать все сотворенное человеком. Натали слегка отстранилась, вытащила из кармана салфетку и высморкалась. — Черт побери, — пробормотала она сквозь слезы. — Прости, Сол. Думаю, я хотела сказать «шалом», нопохоже, у меня не получается. Сол поправил очки. — Запомни, — произнес он, — «шалом» не означает «до свидания». «Шалом» не означает «здравствуй». «Шалом» — это мир. — Шалом, — прошептала Натали и вновь укрылась в его объятиях от холодного ветра. — Шалом и л'хаим. — Сол прижался щекой к волосам Натали, глядя, как ветер помогает песку засыпать узкую дорогу. — Во имя жизни.Эпилог
21 октября 1988 г. Прошло время. Я здесь счастлива. Теперь я живу на юге Франции, между Каннами и Тулоном, но, увы, не слишком близко от Сен-Тропеза. Я почти полностью оправилась после своей болезни и могу уже ходить без сопровождающих, но выхожу я редко. Покупки в деревне делают Анри и Клод. Иногда я позволяю им вывезти себя в Италию на Адриатику, к югу от Пескары, а иногда даже в домик в Шотландии, чтобы посмотреть на него, но и эти поездки становятся все реже и реже. В холмах за моим домом раскинулось брошенное аббатство, до него рукой подать, и я часто прихожу туда посидеть среди развалин и диких цветов. Я думаю об одиночестве и воздержании, а также о том, насколько все зависят друг от друга. Только теперь я начала ощущать свой возраст. Конечно, я понимаю: это вызвано моей долгой болезнью и приступами ревматизма, которые мучают меня вот такими же промозглыми октябрьскими днями, как нынешний, но чувствую, что на самом деле скучаю по знакомым улицам Чарлстона, по своему старому дому и тем последним дням, которые провела там, увы, это бесплодные мечты. Туда я никогда больше не вернусь. Когда в мае я посылала Калли похитить миссис Ходжес, я еще не знала, какое применение найду этой старухе. Временами мне казалось, что это лишняя трата сил — сохранять ей жизнь в подвале дома Ходжесов, пытаться перекрасить ее волосы в такой же как у меня цвет и экспериментировать с различными лекарствами, которые могли бы вызвать у нее симптомы, напоминающие мое заболевание. Но в конце концов усилия оправдали себя. Семейство Ходжесов хорошо послужило мне, и я поняла это, когда дожидалась Говарда во взятой напрокат машине «скорой помощи» в квартале от собственного дома. Большего и желать было нельзя. Учитывая состояние здоровья старухи, может, ее и не надо было привязывать к кровати, хотя сейчас я не сомневаюсь: если бы мы не приняли этих мер предосторожности, она бы спрыгнула со своего погребального костра, бросилась вон из горящего дома и расстроила бы весь тщательно подготовленный мною сценарий, ради которого было пожертвовано столь многим. Бедный мой дом. Мое дорогое семейство. У меня до сих пор наворачиваются слезы, когда я вспоминаю о том дне. В первое время Говард служил мне верой и правдой, но когда я прочно обосновалась в деревне и убедилась, что меня никто не преследует, я посчитала — будет гораздо лучше, если с ним произойдет несчастный случай где-нибудь подальше отсюда. Клод и Анри — уроженцы этой местности, происходят из семейства, которое хорошо служило мне много десятилетий. Я сижу здесь и жду Нину. Уверена, что она захватила контроль над всеми низшими расами — неграми, евреями, азиатами и прочими — и уже одно это не позволит мне вернуться в Америку. О, как же прав был Вилли — еще тогда, в первые месяцы нашего знакомства, когда мы сидели в венском кафе и вежливо слушали его разглагольствования о том, что Соединенные Штаты стали страной дворняжек, рассадником недочеловеков, которые только и ждут момента, чтобы уничтожить чистые расы. Теперь над всеми ними властвует Нина. В ту ночь на острове я довольно долго сохраняла контакт с одним из охранников и видела, что Нинины люди сделали с бедным Вилли. Даже мистер Барент оказался в ее власти. О, как прав был Вилли! Но я не собираюсь сидеть здесь сложа руки и ждать, когда Нина и ее дворняжки отыщут меня. По иронии судьбы, эту мысль подсказала мне именно Нина со своей негритянкой. Те недели, когда я в бинокль наблюдала за капитаном Мэллори, и благополучная развязка этой маленькой шарады напомнили мне о более раннем контакте, практически случайной встрече, произошедшей в тот далекий декабрь... В тот самый субботний день, когда я решила, что Вилли убили лишь для того, чтобы натравить на меня Нину — я вспомнила о своем прощальном визите в форт Самтер. Сначала я увидела быстро передвигавшееся темное акулье тело подводной лодки, а потом у меня возник удивительный контакт с капитаном, стоявшим на серой башне с биноклем на шее. С тех пор я выслеживала его шесть раз, соразделяя его ощущения. Наш контакт выглядит гораздо мягче, чем те случайные проникновения в мозг Мэллори, которыми мне приходилось довольствоваться в свое время. Рядом с моим домиком близ Абердина можно стоять в одиночестве на прибрежных скалах и наблюдать за тем, как подводная лодка скользит к порту. Они гордятся своими шифрами, ключами и прочими системами безопасности, но я-то знаю теперь, что давно известно и моему капитану: все это будет очень просто, очень просто. Именно его ночные кошмары стали моим руководством к действию. Но уж если браться, то это надо делать в ближайшее время. Ни капитан, ни его подводная лодка не становятся моложе. Старею и я. Возможно, вскоре его уже нельзя будет использовать. Или я стану такой старой, что ничего не смогу сделать. Нет, я не всегда думаю о грозящей мне опасности со стороны Нины, не всегда строю планы о грандиозной Подпитке для себя. Но теперь это случается все чаще и чаще. Иногда я просыпаюсь от звуков чьих-то голосов. Мимо моего домика на велосипедах проезжают девушки. Они направляются на молочную ферму. Утро тогда кажется мне особенно теплым. Я поднимаюсь, завтракаю и иду к развалинам аббатства, сижу на лугу, вдыхаю аромат белых цветов, и больше мне ничего не надо — лишь сидеть здесь и радоваться тишине и солнцу. Но в другие дни — холодные и пасмурные, как нынче, когда с севера наплывают тучи, — я вспоминаю безмолвное тело подводной лодки, рассекающей темные воды залива, и думаю: неужто мое добровольное воздержание было напрасным? В эти дни я представляю, как омолодит мой организм такая грандиозная последняя Подпитка. Как говаривал Вилли, предлагая свою очередную выходку: а что я, собственно, теряю? Похоже, завтра будет теплее, и мое настроение, возможно, улучшится. А сегодня меня что-то знобит, одолела меланхолия. Я совсем одна, мне не с кем поиграть. Близится зима. И я очень, очень проголодалась.
Дэн Симмонс
 Фазы гравитации
Фазы гравитации
© А. Петрушина, А. Круглов, перевод на русский язык, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
Роберту и Кэтрин Симмонсам
Часть первая Пуна
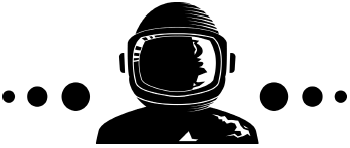
Лайнер рейса 001 авиакомпании «Пан Ам» оставил позади лунный свет и нырнул в облака, нащупывая путь к посадочной полосе аэропорта Нью-Дели. Бедекер смотрел в иллюминатор, ощущая навалившуюся тяжесть и неловкость от непривычной роли пассажира. Колеса шасси мягко, почти без стука коснулись покрытия, и он взглянул на часы: три сорок семь утра по местному времени. В усталых глазах мелькали пятна, вспышки навигационных огней выхватывали из тьмы очертания водонапорных башен и служебных зданий. Гигантский «Боинг-747» резко взял вправо и замер. Взревев напоследок, турбины умолкли, тишину нарушало лишь глухое биение пульса в висках. Бедекер не спал уже сутки. Пассажиры гурьбой посеменили к выходу. Бедекера сразу обдало волной духоты и влажности. Спускаясь по трапу к липкому асфальту, он всеми фибрами чувствовал колоссальную массу распростертой перед ним планеты, отягощенной сотнями миллионов несчастных бедняков, населявших Индостан. Плечи поникли под неумолимым бременем депрессии. «Надо было сняться в рекламе кредиток», – размышлял он, стоя с толпой пассажиров в ожидании бело-голубого автобуса. Освещенное здание терминала тускло мерцало на горизонте. В темных облаках отражалась цепочка посадочных огней. Благо съемки – дело непыльное. Всего-то сесть, улыбнуться в камеру и сказать: «Помните меня? Шестнадцать лет назад я высадился на Луну. Вот только это не помогает, когда нужно заказать билет на самолет или оплатить ужин в ресторане». Еще пара фраз в том же духе, а потом крупным планом пластиковая карта с его именем – РИЧАРД Э. БЕДЕКЕР. Таможня располагалась в огромном гулком помещении, похожем на склад. Висящие на стальных балках натриевые лампы придавали лицам сальный, восковой оттенок. От жары рубашка липла к телу. Очередь продвигалась медленно. Бедекер привык к назойливости таможенников, но эта парочка аборигенов в коричневой форме била все рекорды наглости. Наконец впереди остались только индианка в годах и две ее дочери, все трое в дешевых хлопчатобумажных сари. Не тратя времени на лишние расспросы, таможенник за обшарпанной стойкой бесцеремонно вытряхнул содержимое двух стареньких чемоданов. На полу выросла куча пестрых тряпок, бюстгальтеров, заношенных трусиков. Таможенник повернулся к напарнику, протараторил что-то на хинди, и оба заухмылялись. В полудреме Бедекер вдруг понял, что таможенник обращается к нему. – Простите, что? – Я спрашиваю, все задекларировали? Больше ничего нет? Тягучий индо-английский говор оказался неожиданно знакомым, его можно услышать от стажеров-администраторов в отелях по всему свету. Новым был лишь раздраженно-подозрительный тон. – Больше ничего, – Бедекер кивнул на розовый бланк, который пассажирам велели заполнить перед посадкой. – Хотите сказать, у вас только это? – Таможенник приподнял видавшую виды дорожную сумку так, словно в ней была контрабанда или динамит. – Именно. Таможенник злобно глянул на поклажу и презрительно швырнул коллеге, который поставил на ней размашистый крест, будто изгоняя притаившееся внутри зло. – Шевелитесь, шевелитесь, – торопил первый. – Спасибо. – Бедекер подхватил сумку и шагнул во мрак.
* * *
Кромешная тьма. Два черных треугольника – ни звезд, ничего. Из громоздких скафандров, намертво прикованных к сиденьям, астронавты видели лишь беспросветное темное небо. Перед снижением посадочный модуль развернулся, заслоняя поверхность Луны. Только в последнюю минуту Бедекеру удалось бросить взгляд на стремительно надвигающийся ослепительный лунный лик. «Совсем как на тренажере», – подумал он тогда. Уже при посадке ощутил разочарование. Машинально отвечал на сводки и запросы Хьюстона, послушно вносил данные в компьютер и диктовал цифры Дейву, а в голове билась кощунственная мысль: «Совсем как на тренажере»…* * *
– Мистер Бедекер! Он не сразу сообразил, что кто-то настойчиво зовет его по имени, и огляделся. В свете прожекторов кружила мошкара. На тротуаре между таможней и терминалом народ спал, завернувшись в белые накидки, некоторые сидели, привалившись спиной к стене. Темнокожие мужчины в пестрых рубахах стояли, облокотившись на капот желто-черных такси. Обернувшись, Бедекер увидел перед собой девушку. – Мистер Бедекер! Здрасьте… – Она грациозно замерла в полушаге, откинула голову и перевела дух. – Здравствуйте. – Бедекер понятия не имел, кто перед ним, но ощущал смутное дежавю. Кто, скажите на милость, стал бы встречать его в Нью-Дели в полпятого утра? Посольские? Исключено, там не в курсе о его приезде, да и какое им дело. «Бомбей Электроникс»? Вряд ли. По крайней мере, не здесь, в Нью-Дели. А эта блондиночка явно американка. Бедекер никогда не отличался хорошей памятью на лица и имена и сейчас испытывал привычное чувство вины. Он напрягся, пытаясь вспомнить незнакомку. Увы. – Мэгги Браун, – представилась девушка, протянув руку. Бедекер пожал на удивление прохладную ладонь. Сам он пылал как в лихорадке. Мэгги Браун? Она отбросила с лица непослушную прядь остриженных по плечи волос, и Бедекеру снова почудилось что-то знакомое. Наверное, какая-нибудь сотрудница НАСА. Правда, уж больно молодая… – Я подруга Скотта, – пояснила девушка и улыбнулась. У нее был крупный рот и щербинка между передними зубами, но все вместе смотрелось обворожительно. – Подруга Скотта! Ну конечно! Здравствуйте. – Бедекер снова пожал ей руку и обернулся. Их обступили таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Он отрицательно помотал головой, но таксисты не сдавались. Бедекер взял девушку за локоть и повел прочь от назойливой толпы. – Как вы очутились в Индии? Ну и здесь тоже. – Он кивнул на узкую улочку из здания аэропорта. Мэгги Браун, точно. Джоан показывала ее фотографию, когда он последний раз был в Бостоне. Зеленые глаза девушки тогда врезались ему в память. – Я здесь уже три месяца. Скотта вижу редко, ему сейчас не до меня, но на всякий случай торчу здесь, жду. В смысле, в Пуне. Устроилась гувернанткой… то есть скорее репетитором в семью милейшего доктора. Знаете? В старом британском квартале? Ладно, не важно. На той неделе мы как раз были со Скоттом, когда пришла ваша телеграмма. – А! – только и произнес Бедекер, не зная, что еще добавить. В небе набирал высоту крошечный реактивный самолет. – А Скотт сейчас тут? Мы могли бы встретиться в этой, как ее… Пуне. – Скотт отправился за наставлениями к Учителю. Вернется из деревни только во вторник. Просил вас предупредить. Я приехала навестить приятельницу из Американо-индийского фонда просвещения в Старом Дели, ну и заодно… – Что за Учитель? Тот его гуру? – Его все так называют. В общем, Скотт просил вам передать, но я боялась, что у вас мало времени. – Приехали ни свет ни заря, чтобы меня предупредить? – поразился Бедекер, пристально вглядываясь в девушку. Вдали от прожекторов ее кожа словно лучилась собственным светом. Небо на востоке уже алело. – Ничего страшного. – Девушка взяла его под руку. – Мой поезд прибыл пару часов назад, до открытия фонда делать все равно нечего. Они вышли из переулка и оказались у главного входа в аэропорт. Вдалеке поднимались высотки, но в окружающих запахах и звуках безошибочно угадывалась деревня. Извилистое подъездное шоссе выходило на широкую автостраду, но за скученными стволами баньянов виднелись разъезженные проселочные дороги. – Во сколько ваш рейс, мистер Бедекер? – На Бомбей? В восемь тридцать. И давай без «мистера», просто Ричард. – Не вопрос. Ричард, как насчет прогуляться и перекусить? – Почему бы и нет, – согласился он, втайне мечтая завалиться спать где-нибудь в гостинице. Интересно, который теперь час в Сент-Луисе? Но усталым мозгам было не до арифметики. Бедекер плелся за девушкой по мокрой от дождя трассе. Впереди вставало солнце.* * *
Когда они высадились, солнце вставало три дня подряд. Все детали рельефа были как на ладони. Как и задумано. Бедекер смутно помнил, как спустился по лесенке лунного модуля и ступил на поверхность. Долгие годы подготовки, тренировок и ожиданий сошлись наконец в одной точке пространства и времени, но в памяти осталось лишь смутное чувство тревоги и разочарования. Когда Дейв стал спускаться первым, они уже на двадцать три минуты отставали от графика. Экипировка, проверка готовности по пятидесяти одному пункту контрольного списка и разгерметизация вышли куда дольше, нежели на тренировках. Потом они двигались по каменистой равнине, следя за углом крена и собирая нештатные образцы, и все пытались наверстать упущенное время. Бедекер провел не один час, сочиняя фразу, которую произнесет, впервые ступив на лунную почву. «След в истории», как говорила Джоан. Но Дейв первым успел со своей шуткой, едва спрыгнув со ступеньки, а Хьюстон затребовал проверку связи. В итоге момент был упущен. Из дальнейшего Бедекер отчетливо запомнил две вещи. Во-первых, проклятый контрольный список на запястье. Они никак не укладывались в график, даже пропустив третью пробу грунта и повторную проверку навигационной системы лунохода. Как он ненавидел этот регламент! Второе воспоминание являлось даже во сне. Гравитация. Сила тяготения на Луне в шесть раз меньше земной. Чуть оттолкнешься – и мячиком скачешь по изрытой кратерами сияющей поверхности. Поразительное ощущение, пробуждавшее воспоминания из далекого детства. Вот Бедекер, совсем мальчишка, учится плавать на озере Мичиган. Отец держит его под мышки, а он барахтается, отталкиваясь от песчаного дна. Во всем теле чувствуется потрясающая легкость, сильные руки отца поддерживают его, а вокруг мягко плещутся волны. Гармония тяжести и подъемной силы рождает ощущение равновесия, которое поднимается от самых пальцев ног. Гравитация снилась ему до сих пор.* * *
Солнце вставало огромным оранжевым диском, расширяясь по мере того, как свет пробивался сквозь нагретый воздух. Пейзаж походил на глянцевые фотографии из «Нэшнл географик». Индия! Насекомые, птицы, козы, куры и коровы добавляли свои нестройные ноты к нарастающему гулу невидимой автострады. Даже петляющую проселочную дорогу уже наводнили велосипедисты, телеги и грузовики с маркировкой «Общественный транспорт». В этой гуще изредка мелькали черно-желтые такси, гудя как рассерженные пчелы. Бедекер со спутницей остановились возле небольшого зеленого домика, то ли фермы, то ли храма. А может, это было и то, и другое. Из дверей доносилось звякание колокольчиков, из внутреннего дворика тянуло ладаном и навозом. Надрывались петухи, какой-то мужчина напевал дрожащим фальцетом. Другой, в деловом костюме из синего полиэстера, подогнал велосипед к обочине, слез и помочился аккурат во двор храма. Мимо со скрежетом прогромыхала телега, запряженная волом. Бедекер с любопытством обернулся. Сидящая в повозке женщина быстро прикрыла лицо краем черного сари, зато трое ее ребятишек таращились на незнакомца во все глаза. Возница осыпал вола бранью и охаживал хворостиной по свежим струпьям. Внезапно все звуки заглушил рев «Боинга-747» авиакомпании «Эйр Индия». Лайнер взмыл вверх, окунувшись в золото солнечных лучей. – Чем так пахнет? – не выдержал Бедекер. Обычную смесь запахов влажной земли, канализации, выхлопных газов, компостных куч и смога невидимого города заглушал сладкий аромат, который, казалось, намертво впитался в кожу и одежду. – Местные готовят завтрак, – пояснила Мэгги, – на открытом огне, а в качестве топлива используют сухой коровий навоз. Представь, восемьсот миллионов человек сейчас готовят завтрак. Ганди как-то сказал, что это и есть запах Индии. Бедекер кивнул. Небо уже заволакивали влажные муссонные облака, но трава и деревья еще сверкали на солнце ослепительной зеленью, невыносимо яркой для усталых глаз. Головная боль, не отступавшая с самого Франкфурта, сместилась к затылку. Каждый шаг болезненно отдавался в голове. Впрочем, общая усталость и смена часовых поясов отодвинули боль на второй план. Все вокруг казалось нереальным – новые запахи, странная какофония сельских и городских звуков, красивая молодая женщина рядом. Солнечный свет играл на ее скулах, сиял в изумрудных глазах. Интересно, кем она приходится сыну? Насколько у них все серьезно? Надо было порасспросить Джоан, но их встреча прошла не очень гладко, и он поспешил уйти. Бедекер покосился на Мэгги Браун и неожиданно понял, что шовинизм сыграл с ним злую шутку, и его спутница – далеко не зеленая девчонка. Перед ним была молодая женщина, обладающая хладнокровием и проницательностью – качествами, которые приходят с мудростью, а не с возрастом. Приглядевшись, он решил, что Мэгги как минимум лет двадцать пять. И Джоан вроде говорила, что подруга сына – аспирантка и ассистент кафедры. – Ты приехал в Индию только из-за Скотта? – спросила девушка, когда они вновь свернули по шоссе к аэропорту. – И да, и нет. Устроил себе деловую командировку, совмещаю приятное с полезным. – А как же работа на правительство? – удивилась Мэгги. – Разве ты больше не астронавт? Бедекер улыбнулся. – Уже двенадцать лет, – ответил он и рассказал про фирму аэрокосмического оборудования в Сент-Луисе, где теперь трудился. – И к космическим челнокам не имеешь отношения? – Не совсем. Когда-то на шаттлах стояли наши подсистемы, ну и арендовать грузовой отсек случалось. Бедекер осознавал, что говорит в прошедшем времени, точно о покойнике. Мэгги остановилась полюбоваться, как солнечные лучи щедро раззолотили диспетчерскую вышку и здания аэропорта. Потом убрала выбившуюся прядь за ухо и нервно сжала руки. – Поверить не могу, что со взрыва «Челленджера» прошло уже полтора года. Ужасная трагедия. – Да, – согласился Бедекер. По иронии судьбы, он оказался в тот день на мысе Канаверал. До этого ему лишь раз довелось присутствовать при запуске шаттла – за пять лет до того, на пробных испытаниях одного из первых кораблей «Колумбия». На месте катастрофы «Челленджера» в январе 1986 года он очутился стараниями Коула Прескотта, вице-президента своей фирмы, который отправил Бедекера сопровождать клиента, финансировавшего часть оборудования спутника «Спартан-Галлей» в грузовом отсеке челнока. На запуске полета 51-L ничто не предвещало беды. Прикрывая ладонью глаза от солнца, Бедекер с клиентом наблюдали за стартом из вип-зоны всего в трех милях от стартовой площадки 39-В. Бедекер отчетливо помнил, как продрог в легком пиджаке. Утро выдалось на редкость холодным для мыса Канаверал. Если приглядеться, в бинокль было видно, как блестит лед на пусковых башнях. Он уже подумывал уйти пораньше, чтобы не попасть в общую толчею, когда из громкоговорителя раздался голос офицера пресс-службы НАСА: – Высота четыре и три десятых морских мили, горизонтальная дальность три морские мили. Двигатели набирают обороты. Три двигателя работают на сто четыре процента. Как наяву припомнился запуск пятнадцатилетней давности, когда Бедекер транслировал данные, а Дейв Малдроф «рулил» махиной «Сатурна-5»… К реальности его вернул зазвучавший в громкоговорителе голос командира корабля Дика Скоби: – Вас понял, начинаем разгон. Бедекер покосился на парковку, прикидывая, будут ли пробки, и тут услышал возглас клиента: – Ну и дымят эти твердотопливные ускорители, когда отделяются! Бедекер поднял глаза на разрастающийся, точно гриб, инверсионный след, никак не связанный с отделением. Мгновение – и облако озарилось жутким оранжево-красным светом: взорвались топливные баки. Затем в стороны, кувыркаясь, полетели ускорители. Подавив тошноту, Бедекер повернулся к Такеру Уилсону, знакомому пилоту, летавшему еще на «Аполлоне», и, не питая особых иллюзий, спросил: – Аварийное возвращение? Такер молча покачал головой. Никакого аварийного прекращения полета не было. Случилось то, чего они так боялись во время каждого своего старта. Когда Бедекер снова глянул вверх, обломки корабля уже начали долгое страшное падение в разверстую водную могилу. Потом Бедекер не переставал удивляться, как вообще удавалось до этого так часто и без накладок летать в космос. Затяжной перерыв в полетах казался в порядке вещей, смешавшись в сознании с ощущением непреодолимой тяжести, триумфа гравитации и энтропии, давивших на плечи с тех пор, как распались его мир и семья.* * *
– Мой приятель Брюс рассказывал, что после крушения «Челленджера» Скотт два дня не выходил из своей комнаты в общежитии, – протянула Мэгги, когда они снова очутились у терминала аэропорта. – Серьезно? – усомнился Бедекер. – Вроде бы он тогда уже не интересовался космосом. Восходящее солнце скрылось за облаками. Краски стекли с пейзажа, словно вода из раковины. – Заявил, что ему все равно, – пожала плечами Мэгги. – Якобы Чернобыль и «Челленджер» возвестили конец технологической эры. А спустя пару недель засобирался в Индию. Ричард, есть хочешь? Было едва половина седьмого, но в терминале толпился народ. Некоторые еще спали на дырявом линолеуме – то ли потенциальные пассажиры, то ли бедолаги без крыши над головой. На черном клеенчатом кресле в одиночестве рыдал малыш. По стенам сновали ящерицы. Мэгги отвела его в кофейню на втором этаже, где их встретили сонные официанты с перекинутыми через руку грязными полотенцами. Мэгги предостерегла Бедекера заказывать бекон, а себе взяла омлет, тосты с джемом и чай. Поразмыслив, Бедекер решил не завтракать. Скотч – вот чего ему и впрямь хотелось. Пришлось ограничиться крепким кофе. Кроме них в кофейне сидела шумная компания русских пилотов – лайнер «Аэрофлота» был виден из окна. Русские щелкали пальцами, подзывая измученных официантов-индусов. Бедекер скользнул взглядом по капитану и задумался. Крупный мужчина казался знакомым, и Бедекер напомнил себе, что волевой подбородок и густые брови – не бог весть какая редкость у советских летчиков. Может, они встречались, когда Бедекер на три дня приезжал в Москву, в Звездный городок по программе «Союз – Аполлон»? Впрочем, какая разница. – Как дела у Скотта? – поинтересовался он. Взгляд Мэгги слегка напрягся. – Прекрасно. Говорит, что в отличной форме. Вот только похудел, по-моему. Бедекер мысленно представил сына: коренастый, с короткой стрижкой, в футболке. Скотт мечтал играть между второй и третьей базами, но из-за медлительности годился лишь в правые филдеры. – Как его астма? Не обострилась в этой влажности? – Астма прошла, – сухо ответила Мэгги. – Говорит, Учитель излечил его. Бедекер удивленно моргнул. Даже в последние годы, сидя в пустой квартире, он ловил себя на том, что по привычке вслушивается, пытаясь услышать кашель, прерывистое дыхание. Вспоминал ночи, когда держал сына на руках, укачивал как ребенка, оба до смерти напуганные бульканьем в легких. – А ты тоже последовательница этого… хм… Учителя? Мэгги рассмеялась, тень сбежала с ее лица. – Нет, иначе не сидела бы тут с тобой. Ученикам запрещено покидать ашрам больше чем на пару часов. – Ясно, – пробормотал Бедекер и глянул на часы. Полтора часа до вылета в Бомбей. – Он задержится. – Кто? – непонимающе нахмурился Бедекер. – Твой рейс, – пояснила Мэгги. – Какие у тебя планы до вторника? Бедекер растерялся. Сегодня четверг. К обеду он рассчитывал быть в Бомбее. В пятницу побеседовать с электронщиками, осмотреть их наземную станцию. Потом – поездом до Пуны, там провести выходные со Скоттом, а в понедельник днем вылететь из Бомбея домой. – Если честно, не знаю, – ответил он. – Может, задержусь на пару лишних деньков в Бомбее. Чем таким особенным занят Скотт, что никак не может вырваться? – Да ничем, – Мэгги допила чай и сердито звякнула чашкой о блюдечко. – Все как обычно. Лекции Учителя, сеансы уединения, танцы. – Танцы? – Ну, не совсем. Там играют музыку, ритм ускоряется, а они кружатся. Быстрее и быстрее, пока не валятся от усталости. Это элемент тантра-йоги, очищает душу. Мэгги явно недоговаривала, но Бедекер и сам читал про бывшего преподавателя философии, заделавшегося новоявленным гуру для богатой молодежи из развитых стран. В «Тайм» приводили слова возмущенных индусов об оргиях, которые регулярно устраивались в его ашрамах. Бедекер ужаснулся, когда услышал от Джоан, что Скотт бросил аспирантуру в Бостоне и отправился на другой конец света. Что там можно найти? – Похоже, ты не в восторге, – заметил он, поворачиваясь к Мэгги. Та передернула плечами и вдруг резко подалась вперед. – У меня отличная идея! – возбужденно затараторила она. – Почему бы нам вместе не отправиться на экскурсию? Я с марта, как приехала, пытаюсь вытащить Скотта куда-нибудь, а то сидит безвылазно в своей Пуне. Айда со мной! Будет весело. В «Эйр Индия» внутренние перелеты почти даром. Терзаемый мыслями об оргиях, Бедекер на мгновение опешил, но потом взглянул в горящие глаза девушки и мысленно упрекнул себя за грязные мысли. Бедняжка так одинока. – Каков маршрут? – спросил он, чтобы выиграть время и придумать повод для вежливого отказа. – Завтра вылетаю из Дели в Варанаси, потом Кхаджурахо, остановка в Калькутте, затем Агра, ну и обратно в Пуну. – И что там в Агре? – Всего-навсего Тадж-Махал. – В ее глазах зажегся лукавый огонек. – Нельзя побывать в Индии и не видеть Тадж-Махал. Это просто недопустимо. – Придется допустить, – отшутился Бедекер. – У меня завтра деловая встреча в Бомбее, а Скотт появится лишь во вторник. Мне нужно вернуться не позднее пятницы. И так затягиваю поездку дальше некуда. Не скрывая разочарования, она молча кивнула. – И потом, турист из меня так себе, – добавил он.* * *
Американский флаг выглядел нелепо. Бедекер ожидал совсем другого. Однажды в Джакарте, проведя каких-то девять месяцев вдали от родины, он растрогался до слез при виде американского флага, развевающегося на мачте старенького сухогруза в бухте. Но здесь, на Луне, в четверти миллиона миль от дома флаг казался нелепицей, особенно с натянутой проволокой, призванной заменить ветер в глубоком вакууме. Они с Дейвом отдали честь. Встали лицом к солнцу перед телекамерой, выпрямились и отсалютовали. При низкой гравитации привыкаешь сгибаться в три погибели – та самая «поза усталой обезьяны», о которой предупреждал Олдрин на инструктаже. Удобно, но на пленке выглядит не очень. Покончив с церемониями, они собрались двигаться дальше, но тут на связь с астронавтами вышел президент Никсон. Этот нежданный звонок добавил к зыбкому ощущению реальности приставку «сюр». Президент явно не подготовился, и монолог его звучал на редкость невнятно. Когда Никсон вроде бы заканчивал мысль, они открывали рот, чтобы ответить, но тут же вновь слышали его голос. Задержка сигнала усугубляла ситуацию. Говорил в основном Дейв, Бедекер лишь вставлял: «Огромное спасибо, господин президент». Ни с того, ни с сего Никсон решил сообщить им результаты последнего футбольного матча. Бедекер ненавидел футбол, но президент, похоже, именно так представлял серьезный мужской разговор. – Огромное спасибо, господин президент, – отчеканил он, глядя в камеру. Впереди на фоне темного неба застыло полотнище флага. Слушая сквозь треск помех болтовню верховного главнокомандующего, Бедекер думал о несанкционированном предмете, который лежал у него в кармашке для нештатных образцов над правым коленом.* * *
Рейс Дели – Бомбей задерживался на три часа. Сидящий рядом с Бедекером английский торговец вертолетами доверительно сообщил, что пилот и бортовой инженер «Эйр Индии» люто враждуют уже которую неделю, и вылеты задерживаются то из-за одного, то из-за другого. Очутившись наконец в самолете, Бедекер попытался уснуть, но мешало настойчивое пиканье кнопок вызова. Едва лайнер оторвался от земли, пассажиры, как сговорившись, принялись звать облаченных в сари стюардесс. Трое мужчин, сидевших перед Бедекером, громогласно требовали принести сначала подушки, затем спиртное, при этом щелкая пальцами во властной манере, страшно раздражавшей выходца с демократичного Среднего Запада. Мэгги Браун ушла вскоре после завтрака, напоследок сунув ему в карман салфетку с нацарапанным маршрутом своего грандиозного тура. – На всякий случай, – сказала она. – Вдруг передумаешь. Бедекер еще немного поспрашивал про Скотта, пока Мэгги не отбыла на желто-черном такси. Складывалось впечатление, что девушка сдуру бросилась за возлюбленным в чужую страну, а теперь даже не уверена в его чувствах. Сидя во французском «аэробусе», Бедекер профессиональным взором отметил несвойственную «Боингам» гибкость крыльев. Поражал и выбранный индийским пилотом высокий угол атаки. Американские авиалинии категорически запрещали пугать пассажиров подобными фокусами, но здесь никто и ухом не повел. Стремительное снижение напомнило Бедекеру, как в Плейку во Вьетнаме пилоту «С-130» пришлось почти вертикально идти на посадку, чтобы не попасть под артобстрел. Бомбей, казалось, весь состоял из халуп с жестяными крышами и ветхих фабричных зданий. Лишь в самом конце на горизонте мелькнули высотки и краешек Аравийского моря. Самолет накренился на пятьдесят градусов, из скопления сараев выглянула посадочная полоса, и приземление состоялось. Бедекер мысленно похвалил пилота. В гостиницу он приехал еле живой. Сразу за воротами аэропорта Санта-Круз начинались трущобы. По обе стороны шоссе на многие мили простирались крытые жестью лачуги и обвисшие брезентовые палатки, разделенные грязными закоулками. Водопроводная труба диаметром двадцать футов рассекала скопление хибар, точно садовый шланг – муравейник. Дочерна загорелая ребятня облепила проржавевшие бока, с визгом носилась по верху. От бесчисленных мельтешащих тел кружилась голова. Вдобавок стояла невыносимая жара. Окна в такси были открыты, и струи влажного воздуха раскаленными пара́ми били Бедекеру в лицо. Справа мелькала гладь Аравийского моря. На подъезде к городу огромный щит обещал «0 ДНЕЙ ДО СЕЗОНА ДОЖДЕЙ», но низко стелющиеся серые тучи не проронили ни капли вожделенной влаги, усугубляя духоту и гнетущее ощущение тяжести. В городе оказалось еще хуже. Из каждой боковой улочки нескончаемым потоком текли люди в белых рубашках, смешиваясь с кишащей человеческой массой. Тысячи лавочек предлагали яркие товары миллионам снующих пешеходов. Какофония автомобильных гудков, рев двигателей и позвякивание велосипедных звонков окутывали плотной непроницаемой пеленой. Гигантские переливающиеся щиты с кинорекламой изображали смуглолицых актеров с невозможно румяными щеками и актрис с чрезмерно пухлыми губами и иссиня-черными волосами. Дорога лежала через Марин-драйв, знаменитое «Королевское ожерелье». Справа катило серые волны Аравийское море. По левую сторону виднелись крикетные поля, участки для погребальных костров, храмы и высотки офисных зданий. Над «Башней тишины» Бедекеру померещилась стайка стервятников, охочих до праведной плоти парсов. Но и отвернувшись, он боковым зрением видел кружащиеся темные крапинки. Кондиционер в «Оберой-Шератоне» работал вовсю, и Бедекер моментально замерз. Он смутно помнил, как зарегистрировался и вслед за носильщиком в красной курточке добрался до своего номера на тридцатом этаже. От ковров исходил запах карболки и дезинфекции, в лифте кучка шумных арабов «благоухала» мускусом. Бедекера едва не стошнило. В номере носильщик получил бумажку в пять рупий и удалился. Наконец портьеры на широком окне были задернуты, дверь закрыта, звуки затихли. Бедекер швырнул на кресло легкий пиджак, рухнул на кровать и почти мгновенно уснул.* * *
Луноход преодолел рекордное расстояние почти в три мили. Седоков подбрасывало на ухабах. Бедекер завороженно следил за причудливой настильной траекторией лунной пыли, летевшей из-под колес. Мир был светел и пуст. Их тени мчались впереди. За потрескиванием передатчика и шуршанием скафандров Бедекер различал холод абсолютной тишины. Экспериментальный участок находился далеко от посадочной площадки, на равнине возле метеоритного кратера, обозначенного на карте как «Кейт». Луноход медленно полз вверх, крохотный компьютер фиксировал каждый поворот. Позади серебристо-золотой точкой блестел посадочный модуль. Пока Бедекер распаковывал громоздкую сейсмическую аппаратуру, Дейв делал панорамные снимки «Хассельбладом», вмонтированным в торс скафандра. Бедекер со всей осторожностью размотал десятиметровые золотые провода. После каждого снимка Дейв слегка поворачивался, будто воздушный шар над пляжем. Крикнув что-то Хьюстону, он крутнулся на юг, заснять обнажение горных пород. В черном небе бело-голубой эмблемой сияла Земля. Пора, решил Бедекер. Он неуклюже опустился в громоздком скафандре сперва на одно, потом на оба колена и зафиксировал последний сейсмический кабель. Убедившись, что Дейв уже далеко, быстро расстегнул кармашек над правым коленом и вытащил два контрабандных предмета. Пальцы в толстых перчатках долго не могли открыть пластиковый пакетик, но наконец содержимое оказалось на пыльной ладони. Маленькую цветную фотокарточку Бедекер прислонил к булыжнику в метре от сенсорного кабеля, рассудив, что в таком полумраке Дейв не заметит, если не станет присматриваться. Теперь в руке осталась только медаль святого Христофора. Поразмыслив, он окунул металлический кругляшок в лунную пыль, вернул в пакет и воровато сунул обратно в кармашек. От нелепой коленопреклоненной фигуры астронавта саваном стелилась по земле черная тень. С фотоснимка три на пять улыбалась Джоан в алой блузке и голубых слаксах. Голова чуть повернута, руки покоятся на плечах у семилетнего Скотта, одетого по такому случаю в парадно-выходную рубашку, но в открытом вороте виднеется фирменная голубая футболка Космического центра Кеннеди, с которой сын практически не расставался с прошлого лета. Покосившись на фигуру Дейва вдалеке, Бедекер стал выпрямляться и вдруг всеми фибрами ощутил чье-то присутствие за спиной. Похолодев, он встал и медленно повернулся. «Ровер» стоял позади в пяти метрах. На подвеске у правого руля крепилась телекамера, управляемая Хьюстоном. Сейчас она смотрела прямо на него. Корпус слегка подался назад, фиксируя каждое его движение. Бедекер устремил взгляд сквозь свет и пространство на крошечную коробку с торчащими проводами. В мертвой тишине черные полукружия линз, не отрываясь, следили за ним.* * *
Широкая антенна острой параболой рассекала небо, затянутое муссонными облаками. – Впечатляет, правда? – спросил Сирсикар. Бедекер кивнул, глядя с холма вниз. По обе стороны узкого шоссе пестрели крохотные, едва ли в два акра, квадратики фермерских угодий. Вместо домов – шалаши с ворохом соломы на крыше. Всю дорогу от Бомбея до приемной подстанции Сирсикар и Шах знакомили его с местными достопримечательностями. – Вот великолепное хозяйство, – Шах указал на каменную постройку по виду меньше гаража в хьюстонском доме Бедекера. – У них, к вашему сведению, есть даже конвертор метана. Замученные быки волокли плоские деревянные плуги, на которых стояло по фермеру. Один взял с собой двоих сыновей, чтобы зубцы глубже пропахивали потрескавшуюся землю. – У нас их теперь три, – продолжал Сирсикар. – Синхронная только «Натараджа». «Сарасвати» и «Лакшми» стоят над горизонтом тридцать минут, ровно треть транзитного времени, а станция в Бомбее передает их трансляцию в режиме реального времени. Бедекер покосился на низкорослого ученого. – Вы называете спутники в честь богов? Шах замялся, но Сирсикар и не думал смущаться. – Ну конечно! – просиял он. Завербованный в эпоху полетов «Меркуриев», обученный на серии кораблей «Джемини» и прошедший боевое крещение в эру «Аполлонов», Бедекер снова взглянул на стальную симметрию гигантской антенны. – Мы тоже, – пробормотал он.* * *
ПАПА, ПРОБУДУ В ОБЩИНЕ ДО СУББОТЫ, 27 ИЮНЯ. СРАЗУ В ПУНУ. ЕСЛИ ЧТО, УВИДИМСЯ. СКОТТ.Бедекер перечитал телеграмму, скомкал и швырнул в корзину для бумаг в углу номера. Потом подошел к окну и смотрел, как огни «Королевского ожерелья» отражаются на чуть подернутой рябью водной глади бухты. Наконец он повернулся, вышел из номера и, спустившись вниз, отбил телеграмму в Сент-Луис, уведомить начальство, что берет отпуск. – Я знала, что ты передумаешь, – сказала Мэгги Браун. Они сошли на берег с туристического катера. Бедекер поморщился при виде кишащей массы бродяг и уличных торговцев и в сотый раз пожалел, что не согласился на рекламу кредиток. Деньги сейчас были бы очень кстати. – Почему? – удивился он. – Знала, что Скотт задержится в своей общине? – Не знала, но не особо удивилась. Просто чувствовала, что снова тебя увижу. Они стояли на берегу Ганга, а в небе снова занимался рассвет. На широких каменных ступенях, ведущих к кофейным водам реки, уже толпился народ. Женщины в мокрых, облепивших тело платьях из хлопка несли глиняные горшки цвета своей кожи. Мраморный фасад храма украшали свастики. Выше по течению прачки с громкими шлепками били белье о плоские камни. Во влажном утреннем воздухе смешивались запахи погребальных костров и фимиама. – На указателе значится Бенарес, а на билете – Варанаси. Как правильно? – спросил Бедекер. – Вообще, город назывался Варанаси, но англичане на свой лад переиначили в Бенарес. Название прижилось, а местные потом не чаяли от него избавиться. Мол, рабское имя. Как Малькольм Икс, или Мухаммед Али. – Мэгги замолчала и трусцой поспешила за гидом, прикрикнувшим на них, чтобы не отставали. Улочка сузилась так, что, раскинув руки, можно было коснуться противоположных стен. Пешеходы толкались, бранились, сплевывали и жались к обочине, уступая дорогу домашней скотине, свободно расхаживающей по городу. Назойливый мальчуган-разносчик следовал по пятам за туристами несколько кварталов и оглушительно дудел в самодельную дудку. Подмигнув Мэгги, Бедекер дал мальчишке десять рупий и спрятал дудку в задний карман брюк. Гид привел группу в заброшенное здание. Вдоль полуразрушенной лестницы томились индусы со свечами. При виде туристов мужчины красноречиво протягивали руки. С балкончика на третьем этаже открывался вид на стену храма и крохотный кусочек позолоченного шпиля. – Перед нами священнейшее место в мире, – рассказывал гид, чья кожа по цвету и текстуре походила на промасленную перчатку кетчера. – Этот храм священнее Мекки, Иерусалима, Вифлеема и Сарнатха вместе взятых. Сюда стремятся попасть перед смертью все индусы… после омовения в священных водах Ганга. Туристы тут же заохали, зашептались. Перед вспотевшими лицами роились тучи мошкары. Обратный путь преградили «лестничные» индусы, требовательно потрясая руками и выкрикивая что-то на грубом наречии. По дороге в гостиницу, в моторикше, Мэгги повернулась к Бедекеру. – А ты веришь в места силы? – Какие, например? – Не официальные святыни, а особые места, свои – где сильная энергетика. – Здесь таких нет. – Бедекер кивнул на грустную картину всепоглощающей нищеты и упадка за окном. – Нет, – согласилась Мэгги, – но мне повезло найти парочку. – Расскажи, – попросил Бедекер. Говорить приходилось громко, чтобы перекричать уличный шум и треньканье велосипедных звонков. Мэгги потупилась и уже знакомым жестом заправила прядь волос за ухо. – Недалеко от дома моего деда, на западе Южной Дакоты, чуть севернее Блэк-Хиллс, есть вулканический конус. Называется Медвежья гора. Девчонкой я забиралась на самый верх, а дедушка и Мемо ждали внизу.Позже оказалось, что холм считался святыней индейцев сиу. Но еще ребенком, стоя на краю и глядя на прерию, я знала, что это место особенное. – На высоте всегда так, – понимающе кивнул Бедекер. – Мне бы тоже очень хотелось съездить кое-куда. В захолустье Иллинойса, неподалеку от Сент-Луиса, есть маленький колледж Христианской науки. Он стоит на обрыве, на берегу Миссисипи, а у самого обрыва стоит часовенка. Если смотреть оттуда, увидишь почти весь штат Миссури. – Ты последователь Христианской науки? – Тон и выражение лица Мэгги были настолько серьезные, что Бедекер не выдержал и расхохотался. – Нет, я не верю в бога… вообще ни во что не верю… – Он вдруг вспомнил, как стоял на коленях в лунной пыли, благословляемый потоком солнечного света. Моторикша застрял в пробке позади грузовиков и теперь с ревом пытался вырулить вправо. Последнюю фразу Мэгги буквально прокричала: – Думаю, дело не только в панораме. Просто у некоторых мест особая энергия. – Может, ты и права, – улыбнулся Бедекер. Зеленые глаза Мэгги засияли ответной улыбкой. – Может, права, а может, и ошибаюсь. Хрен поймешь. Индия вообще располагает к мистике. Временами мне кажется, что мы всю жизнь странствуем в поиске таких вот мест. Бедекер молчал, глядя в окно.
* * *
Луна была одной большой солнечной песочницей, а он – единственным, кто оказался в ней. Отъехав на сотню метров от посадочной площадки, Бедекер припарковал луноход, чтобы тот потом мог транслировать запись старта. Расстегнув ремень безопасности, он выпрыгнул наружу с акробатической ловкостью, уже привычной в условиях малой гравитации. Повсюду в лунной пыли отпечатались их следы. Рифленые отпечатки колес кружили, пересекая друг дружку, и терялись по направлению к северу, где мерцали белые возвышенности. Вокруг корабля пыль была примята, точно снег возле лесной хижины. Луноходик весь запылился и в целом выглядел неважно. Два крыла отвалились напрочь, и Дэйв, недолго думая, кое-как приспособил вместо них пластиковые топографические карты, чтобы хоть как-то уберечься от летящей из-под колес грязи. Вдобавок кабель видеонаблюдения перекрутился добрый десяток раз. Бедекер одним прыжком перескочил туда, распутал кольца провода и протер линзы от пыли. Обернулся. Так, Дэйв, похоже, уже внутри лунного модуля. – Хьюстон, все в норме. Сейчас отойду, проверите. Ну как? – Отлично, Дик. Видим «Дискавери» и… постой, надо проверить, хватит ли обзора. Бедекер придирчиво наблюдал, как камера поворачивается из стороны в сторону, нацеливается ему в пояс и фокусируется. Ну и картину сейчас лицезреют в Хьюстоне: пыльный скафандр точно сплошное белое пятно, усеянное ремешками и клапанами, вместо лица – темное забрало шлема. – Пойдет, – огласил свой вердикт Хьюстон. – Отлично, а от меня… хм… еще что-то требуется? – … три… – Хьюстон, повторите. – Ответ отрицательный, Дик. Мы и так отстаем от графика. Возвращайтесь на борт. – Вас понял. – Бедекер обернулся и бросил прощальный взгляд на лунный ландшафт. Яркий солнечный свет заливал поверхность, стирая все черты. Даже сквозь темный экран шлема Луна казалась сияющей белой пустыней. Такая же пустыня царила и в голове, куда назойливо лезло черт знает что: мысли о предстартовом регламенте, о процедурах хранения, о чуть не лопавшемся мочевом пузыре. Все это мешало сосредоточиться и как следует подумать. Бедекер перевел дух и попытался напоследок понять, какие чувства испытывает. «Я здесь. Все взаправду». До чего нелепо стоять столбом и дышать в микрофон, когда команда не укладывается в сроки. Изоляционная пленка модуля сияла золотом на солнце. Неуклюже передернув плечами в громоздком скафандре, Бедекер мячиком заскакал по неровному ухабистому грунту к ожидавшему кораблю.* * *
Над джунглями поднимался сияющий полумесяц. Настал черед Мэгги бить. Она наклонилась, сдвинула ноги, сосредоточилась… От легкого удара мячик скатился с бетонной площадки и перепрыгнул через невысокий бордюрчик. – Невероятно, – ахнул Бедекер. В Кхаджурахо не было ничего, кроме взлетно-посадочной полосы, знаменитого храмового комплекса, крошечной деревушки и двух неказистых гостиниц на опушке леса. А еще – миниатюрное поле для гольфа. Храмы закрывались в пять. Из иных развлечений в туристический сезон предлагались прогулки на слонах в джунгли. Но сейчас был не сезон. Прогуливаясь, Мэгги и Бедекер обнаружили позади гостиницы поле для мини-гольфа. – Невероятно, – ахнула Мэгги. – Наверняка творение какого-нибудь архитектора из Индианаполиса, страдающего от тоски по дому, – заметил Бедекер. Гостиничный клерк неохотно выдал три клюшки, две из них погнутые до невозможности. Бедекер галантно уступил Мэгги самую прямую, и в полной экипировке они отправились на поле. После неудачного удара мячик Мэгги укатился в траву. Оттуда выползла зеленая змейка и устремилась к зарослям погуще. Мэгги подавила крик. Бедекер перехватил клюшку наподобие меча. Во влажных сумерках вырисовывались очертания обшарпанных ветряных мельниц и голые, без покрытия, поля вокруг лунок. В чашах и цементных ловушках стояла теплая дождевая вода, натекшая за день. Неподалеку от крайней лунки виднелся индийский храм, словно нарочно построенный на поле. – Скотту бы понравилось, – хохотнул Бедекер. – Неужели? – Мэгги оперлась на клюшку. В тусклом свете лицо девушки выделялось белым овалом. – Ну да. Раньше он обожал мини-гольф. Мы постоянно брали абонемент на игры в Коко-Бич. Мэгги наклонилась и послала мяч на десять футов точно в лунку. Свет над головой внезапно померк. Девушка подняла глаза и охнула. Высоко в небе парила вылетевшая из чащи летучая мышь, затмевая луну гигантским размахом крыльев. На четырнадцатой лунке озверевшие комары загнали игроков обратно в гостиницу.* * *
Вудленд-Хайтс, «лесистая возвышенность». Семь миль от Космического центра имени Джонсона. Местность плоская, как дно высохшего соленого озера Бонневилль, и столь же голая, если не считать чахлых саженцев во дворах. Ряды типовых домов Вудленд-Хайтс выстроились кругами под безжалостным техасским солнцем. Как-то раз, возвращаясь с мыса после недельной подготовки к полету на «Джемини», которому не суждено было состояться, Бедекер совершал бесчисленные виражи на своем «Т-38», пытаясь разыскать среди геометрических узоров собственный дом. Узнать его удалось лишь по старому «рамблеру» Джоан, недавно перекрашенному в зеленый. Поддавшись внезапному порыву, он пустил малютку-самолет в штопор и выровнялся только в двухстах футах от крыш. Противозаконно, конечно, но очень захватывающе. Горизонт качнулся, солнечный свет блеснул радугой в оргстекле кабины. Бедекер развернул малютку для нового маневра. Потянув штурвал на себя, прибавил тяги. «Т-38» устремился вверх под максимальным углом, сделал крутую петлю… и тут Бедекер заметил, как из белого домика вышли Джоан и Скотт. Это был один из немногих моментов, когда Бедекер чувствовал себя по-настоящему счастливым. Полоска лунного света медленно ползла по стене гостиничного номера в Кхаджурахо. Лежа без сна, Бедекер от нечего делать гадал, продала Джоан дом или сдала в аренду. Наконец он встал и подошел к окну, заслонив единственную полоску света. Комната погрузилась во мрак.* * *
Калькуттские басти и чоулы на деле оказались обычными трущобами. Вдоль железнодорожного полотна раскинулся лабиринт крытых жестью лачуг и палаток из мешковины. Убогие постройки разделялись извилистыми проулками, служившими по совместительству и сточными канавами. Количество народа казалось просто неправдоподобным. Толпы босоногих детей носились по улицам, испражнялись на порогах и вприпрыжку следовали за Бедекером. При виде его женщины отворачивались или поспешно прикрывали лица своими сари. Мужчины, наоборот, таращились с нескрываемым любопытством, граничащим с враждебностью. Другие – откровенно игнорировали туриста. Сидя на корточках, матери вычесывали вшей у детишек. Девочки постарше вместе со старухами мяли руками коровий навоз и делили на равные кучки для топлива. Какой-то старик задумчиво тужился посреди пустыря, смачно харкая себе в кулак. – Баба́! – Ребятня семенила за Бедекером, дергая за пиджак и наперебой протягивая грязные ладошки. На этих попрошаек денег уже не хватило. – Баба́! Баба́! С Мэгги они условились встретиться в два часа возле Калькуттского университета, но Бедекер ухитрился заблудиться, сойдя с переполненного автобуса не на той остановке. Время близилось к пяти. Запутавшись в переплетении тропинок и грязных улочек, он очутился где-то между железной дорогой и рекой Хугли. Впереди то и дело мелькали очертания моста Ховрах, но добраться до него никак не получалось. Исходящая от реки вонь соперничала с тошнотворными ароматами трущоб и придорожной грязи. – Баба́! – Толпа вокруг все разрасталась, к малолетним попрошайкам примкнули и взрослые. Несколько мужчин обступили его, хрипло ругаясь, и угрожающе выбрасывали руки вперед, имитируя удары. «Сам виноват, – мысленно выругался Бедекер. – Попался, подлый янки!» Темные лачуги были без дверей, и цыплята свободно носились туда-сюда. Дети помогали родителям купать сонного вола в луже помоев. Где-то в лабиринте хибар надрывался транзистор. Мелодия вдруг разразилась яростным звоном струн, лишь усугубив ощущение тревоги. Попрошаек уже набралось человек тридцать-сорок. Взрослые злобно отталкивали малышей. Индиец в красной бандане выкрикнул что-то на хинди или бенгали. Бедекер покачал головой в знак того, что не понимает, но тот решительно преградил ему дорогу и завопил громче. Толпа подхватила непонятные слова. Еще раньше Бедекер подобрал небольшой, но увесистый булыжник, и теперь как бы невзначай сунул руку в карман рубашки «сафари». Пальцы нащупали камень. Время словно застыло. Вдруг где-то в стороне раздался крик, дети и взрослые бросились туда, и вскоре вся толпа скрылась в боковой улочке. Красная бандана негодующе завопила на прощание, но последовала примеру остальных. Выждав с минуту, Бедекер двинулся следом, спускаясь по грязному склону к реке. На берегу люди рассматривали какую-то грязную кучу, издалека походившую на выбеленное водой бревно. Подойдя ближе, Бедекер различил кошмарные пропорции человеческого тела. Труп был совершенно белым – белее альбиноса, белее рыбьего брюшка – и раздутым вдвое против нормальных размеров. На белой распухшей массе, бывшей когда-то лицом, выделялись черные провалы глаз. Ребятишки, преследовавшие Бедекера, присели на корточки и, хихикая, тыкали пальцами в труп. Кожа утопленника напоминала древесную губку, гигантский гниющий на солнце гриб. От прикосновений хихикающей детворы плоть кусками проваливалась внутрь. Несколько мужчин проткнули набрякшее тело заостренными палками. Из отверстий с шипением выходили газы. Все засмеялись. Матери с младенцами в тряпичных «кенгурушках» подались вперед. Бедекер попятился и быстро зашагал прочь. Бездумно свернул на перекрестке и очутился на мощеной дороге. Мимо прогромыхал трамвайчик, покачиваясь под тяжестью пассажиров. Два рикши везли солидного толстяка домой обедать. Завидев проезжающее такси, Бедекер махнул рукой.* * *
– Ричард, ну как ты? – Отлично, милая. Отдыхаем пока. Том Гэвин почти все взял на себя, заботится о нас как о родных. Через пару часиков отправляем его за контейнерами для пленки. Как дела дома? – Замечательно. Вчера в центре управления смотрели запуск с Луны. Не думала, что это так быстро. – Да, быстро мы управились. – … хочет… пару… – Милая, повтори. Не расслышал. – Говорю, Скотт хочет сказать тебе пару слов. – Давай… жду. – Даю. Счастливо, дорогой. Увидимся во вторник. Пока. – Привет, пап! – Привет, сынок. – По телеку ты был супер. Правда, что вы установили скоростной рекорд? – В смысле, рекорд скорости на Луне?.. Да, было дело. Но рулил Дэйв, так что это его рекорд. – А, ясно. – Ладно, Тигр, мне надо работать. Рад был тебя слышать. – Пап, стой! – Да, Скотт? – Вас тут всех троих по здоровому экрану показывают. А кто будет управлять командным модулем? – Хороший вопрос, согласись, Том? Модулем, сынок, ближайшие пару дней будет управлять… лично Исаак Ньютон. Прямая линия с семьями астронавтов задумывалась НАСА в качестве рекламной акции для вечерних новостей. В следующем рейсе такой роскоши уже не было.* * *
– …знаменитая усыпальница падишаха Шах Джахана, правителя империи Великих Моголов, чей благословенный дух обитает ныне на небесах. Он покинул бренный мир и отправился в царство вечности двадцать восьмого дня месяца раджаба в тысяча семьдесят шестом году хиджры. Мэгги Браун захлопнула путеводитель и вместе с Бедекером отвернулась от сверкающего великолепия Тадж-Махала. У обоих не было настроения любоваться красотами архитектуры и драгоценной инкрустацией на гладком, без единой трещинки мраморе. За воротами толпились попрошайки. Мэгги и Бедекер двинулись по шахматному узору каменных плит к широкому парапету, откуда открывался вид на реку. Ливень разогнал почти всех туристов, кроме самых стойких. Температура упала до восьмидесяти градусов по Фаренгейту – в первый раз за все это время. Солнце скрылось за черно-фиолетовыми облаками, сквозь которые едва пробивался тусклый свет. Широкая, но мелкая река катила свои воды с абсолютной безмятежностью, свойственной всем рекам. – Мэгги, а почему ты поехала за Скоттом в Индию? Покосившись на собеседника, девушка явно хотела пожать плечами, но вместо этого ссутулилась и заправила выбившуюся прядь волос за ухо. Потом, прищурившись, долго смотрела на реку, будто искала кого-то на дальнем берегу. – Даже не знаю, – помедлив, ответила она. – Мы были знакомы всего пять месяцев, когда он вдруг сорвался и поехал сюда. Я любила Скотта… и сейчас люблю… просто временами он бывает сущим ребенком, а иногда, наоборот, ведет себя как дряхлый старик, который разучился радоваться жизни. – Но ради него ты поехала за десять тысяч миль… На сей раз она пожала плечами. – Он был в поиске. Мы оба верили… – В места силы? – подсказал Бедекер. – Вроде того. Только Скотт думал, что если не найдет сейчас, то не найдет никогда. Говорил, что не хочет профукать жизнь, как… – Как его старик? – Как большинство людей. В общем, он прислал мне письмо, и я решила съездить, посмотреть. Только с меня хватит! На следующий год получаю степень, и точка! – А Скотт… он нашел, что искал? – срывающимся голосом спросил Бедекер. Мэгги запрокинула голову и перевела дух. – По-моему, ничего он не нашел. Еще немного, и я поверю, что он такой же мудак, как и остальные мужики. Пардон за грубость, конечно. Бедекер улыбнулся. – Мэгги, мне в ноябре исполнится пятьдесят три. Я на двадцать один фунт тяжелее, чем когда был молодым, высокооплачиваемым пилотом. У меня дерьмовая работа, а в офисе стоит допотопная мебель а-ля пятидесятые. Жена развелась со мной после двадцати восьми лет брака и теперь живет с главбухом, который красит волосы и в свободное время разводит шиншилл. Два года я убил на то, чтобы написать книгу, пока не понял, что сказать мне совершенно нечего. Который день я провожу в компании очаровательной девушки, которая не носит лифчик, и даже не попытался к ней подкатить. Теперь… нет-нет, постой, теперь, если ты хочешь сказать, что мой сын, мой единственный обожаемый сын – полный мудак, не стесняйся! Смелее. Смех Мэгги звонким эхом отразился от высоких стен усыпальницы. Пожилая пара англичан покосилась на девушку с явным неодобрением. – Твоя взяла, – успокоившись, заявила Мэгги. – Ты знаешь, почему я здесь. А зачем ты приехал? – Я его отец, – просто ответил Бедекер. Она продолжала буравить его взглядом. – Ладно, – сдался Бедекер. – Дело не только в этом. – Порывшись в кармане, он достал медаль святого Христофора. – Отец подарил ее мне, когда я пошел во флот. Мы с отцом не особо ладили… – Твой отец был католиком? Бедекер засмеялся. – Нет, не католиком. Он из нидерландских реформатов, но его дед был католиком. Эта медаль много чего повидала… – Бедекер вкратце поведал о полете на Луну. – С ума сойти! – ахнула Мэгги. – А сейчас Христофор вроде больше не считается святым, да? – Ага. – Но это роли не играет, так? – Именно. Мэгги устремила взгляд вдаль. Сгущались сумерки. Под деревьями зажглись фонари, мелькали отблески костров. Воздух наполнился сладким ароматом дыма. – Знаешь, какую самую печальную книгу я прочла? – Нет. И какую же? – «Парни из лета». Не попадалась? – Нет, но слышал. Там вроде про спорт? – Да. Автор, Роджер Кан, посетил множество матчей «Бруклин Доджерс» в пятьдесят втором и третьем годах и написал про парней, которые там играли. – Я помню тот состав, – вставил Бедекер. – Дьюк Снайдер, Кампанелла, Билли Кокс. Ну и в чем трагедия? Серию они не выиграли, конечно, но сезон провели отлично. – В том-то и ужас! – авторитетно объявила Мэгги. – Много лет спустя Кан снова встретился с этими парнями, и выяснилось, что тот сезон был лучшим в их карьере. Да чего там в карьере! Во всей их гребаной жизни! Вот только они напрочь отказывались в это верить. Старые пердуны раздавали автографы, втайне мечтая сдохнуть, но притворялись, будто лучшее еще впереди. Бедекер молча кивнул. Смутившись, Мэгги зашелестела путеводителем. – Смотри, какая интересная штука! – воскликнула она, помолчав. – Весь внимание. – Оказывается, Тадж-Махал строили на пробу. Старый Шах Джахан собирался возвести себе усыпальницу побольше, на противоположном берегу. Черного цвета, а между ними поставить ажурный мост. – Что же помешало? – Сейчас… когда Шах Джахан умер, его сын… Аурангзеб… велел перенести гроб с телом отца в могилу матери, Мумтаз-Махал, а деньги спустил на свои нужды… Они двинулись обратно под крики муэдзина, призывавшие мусульман к молитве. У главных ворот Бедекер обернулся, но смотрел не на Тадж-Махал и его смутные очертания на темной глади воды. Его взгляд был прикован к высокой черной гробнице и тянущемуся от нее к другому берегу ажурному мосту.* * *
Над раскидистыми баньянами в бледном предутреннем небе светила луна. Бедекер стоял на пороге гостиницы, сунув руки в карманы, и наблюдал, как улицу наводняют пешеходы и транспорт. При виде Скотта он прищурился, дабы убедиться, что не ошибся. Оранжевое одеяние и сандалии вполне сочетались с длинными волосами и бородой, но никак не подходили к образу сына. Борода, которую Скотт тщетно пытался отрастить два года назад, теперь была вполне солидная и с рыжиной. В двух шагах от отца Скотт замер. Какое-то время они молча рассматривали друг друга. Ситуация становилась нелепой. Наконец, сверкнув ослепительной на фоне густой бороды улыбкой, Скотт протянул руку. – Привет, пап! – Здравствуй, Скотт. Рукопожатие было крепким, но каким-то неправильным. У Бедекера мелькнуло чувство утраты. Где тот семилетний мальчуган с короткой стрижкой и в синей футболке, мчавшийся со всех ног в объятия к отцу? – Как дела, пап? – Хорошо. Просто замечательно. Как сам? Похудел, смотрю. – Скинул жирок, теперь я в отличной форме. И физически, и морально. Бедекер промолчал. – Как мама? – спросил Скотт. – Несколько месяцев уже не видел, но мы созванивались перед отъездом. Вроде все отлично. Просила обнять тебя, а заодно сломать тебе руку, если не пообещаешь писать почаще. Скотт пожал плечами и сделал движение правой – словно выбивал мяч в матче юношеской лиги. Поддавшись порыву, Бедекер перехватил руку сына – тонкую, но жилистую. – Ладно, Скотт. Давай лучше позавтракаем, заодно и поговорим нормально. – Извини, пап, я тороплюсь. Первое занятие начинается в восемь, мне нужно быть там. Боюсь, я буду занят пару дней. Мы сейчас на очень важной стадии. Мироощущение – вещь хрупкая. Нарушу созерцание, деградирую. Тогда труды последних двух месяцев насмарку. Бедекер вовремя прикусил язык и сдержанно кивнул. – Хорошо, но хоть кофе мы выпить успеем? – Конечно, – ответил Скотт с ноткой сомнения в голосе. – Куда пойдем? Может, в гостиничный кафетерий? Здесь вроде больше и некуда. Скотт снисходительно улыбнулся. – Да, конечно. Летний кафетерий располагался в тени сада, почти вплотную к бассейну. Бедекер заказал рогалики и кофе и краем глаза заметил женщину из «особых меньшинств», серпом косившую лужайку. Да, в современной Индии неприкасаемые остались неприкасаемыми, хотя и называются теперь иначе. Бассейн оккупировала семейка индийцев. Отец и маленький сын, оба невообразимо тучные, без конца ныряли «бомбочкой» с низкого бортика, заливая водой дорожку. Мать с дочерьми устроились за столиком и громко хихикали. Взгляд Скотта стал глубже и еще серьезнее, чем прежде. Даже в детстве он всегда был угрюмым, а теперь превратился в усталого на вид юношу с прерывистым, астматическим дыханием. Вскоре им принесли заказ. – М-м-м… – Бедекер блаженно зажмурился. – От местной пищи я не в восторге, но кофе здесь отменный. Скотт с сомнением покосился на кофе и две булочки. – Слишком много чужой кармы, – объявил он. – Неизвестно, кто все это готовил. Кто прикасался. Вдруг у них плохая карма? Бедекер сделал глоток из чашки. – Рассказывай, Скотт, где живешь? – По большей части в ашраме или в деревне у Учителя. Для недель уединения снимаю номер неподалеку. Там, правда, пустые окна и сетчатая кровать, зато дешево. А физические удобства для меня больше ничего не значат. – Правда? – удивленно протянул Бедекер. – Если там так дешево, куда деваются деньги? С января, как ты переехал сюда, мы с матерью выслали тебе почти четыре тысячи долларов. Скотт глянул на бассейн, где резвилось шумное семейство. – Расходы, пап. Сам понимаешь. – Извини, не понимаю, – мягко проговорил Бедекер. – Что за расходы? Скотт насупился. Длинные волосы юноши были разделены посередине пробором. С бородой сын напоминал чудаковатого механика, с которым Бедекер познакомился на испытательных полетах для НАСА в шестидесятые. – Обычные расходы, – повторил Скотт. – Пока доехал, пока устроился… А бóльшую часть денег пожертвовал Учителю. Бедекер понял, что вот-вот сорвется, хотя поклялся не давать воли гневу. – В смысле, ты пожертвовал деньги Учителю? На что, позволь спросить? На строительство нового лектория? На триумфальное возвращение в Голливуд? Или на покупку очередного городка в Орегоне? Скотт вздохнул и, забыв про карму, впился зубами в булочку. Потом стряхнул с бороды крошки. – Проехали, пап, – буркнул он неловко. – Что проехали? Что ты бросил аспирантуру ради этого шарлатана? – Я же сказал, проехали. – Черта с два! Давай хотя бы обсудим. – Нечего тут обсуждать! – повысил голос Скотт. На них стали оглядываться. Длинноволосый старик в оранжевой хламиде и сандалиях отложил «Таймс» и, потушив сигарету, навострил уши. – Что ты вообще понимаешь? – бушевал Скотт. – Вы у себя в Америке чокнулись на материальных благах. Свались тебе на голову истина, хрен ведь заметишь. – Чокнулись на благах, – повторил Бедекер, чувствуя, как гнев улетучивается. – По-твоему, тантра-йога и пребывание в этой жопе мира явят тебе истину? – Много ты понимаешь! – снова огрызнулся Скотт. – Я много понимаю в технике, – парировал Бедекер, – а еще понимаю, что только в отсталой стране не могут наладить элементарную телефонную сеть и построить канализацию. А голод и нищету наблюдаю собственными глазами. – Чушь, – нарочито-презрительно фыркнул Скотт. – Если мы тут не едим стейки, это не значит, что мы голодаем… – Речь не о тебе и не о тебе подобных. Ты можешь вернуться домой, когда пожелаешь. Это просто забава для мажоров. Речь о… – Мажор? Я? – Скотт от души расхохотался. – Вот уж не думал, не гадал… Помнится, ты жадничал дать мне лишние пятьдесят центов, боялся разбаловать. – Скотт, прекрати. – Езжай домой, пап. Смотри там свой цветной телевизор, скачи на тренажерах в подвале, любуйся своими долбаными фотками на стене и не мешай мне… забавляться. Бедекер на мгновение прикрыл глаза. Вот бы день начался заново, чтобы можно было все переиграть. – Скотт, ты нужен нам дома. – Дома? – удивленно поднял брови Скотт. – И где же мой дом? В Бостоне с мамой и проказником Чарли? Или твоя холостяцкая берлога в Сент-Луисе? Нет уж, увольте. Мужчины уставились друг на друга, точно виделись впервые. Бедекер подался вперед и вновь ухватил сына за плечо, чувствуя, как напряглись мышцы под тонкой тканью. – Послушай, Скотт, здесь тебе ловить нечего. – Ловить нечего там! – отрезал Скотт. – Тебе ли не знать. Хотя, что я говорю! Бедекер откинулся на спинку стула. Устроившийся до неприличия близко официант бесцельно перебирал посуду и столовые приборы. На соседнем столике резвились воробьи, поклевывая из грязных тарелок и сахарниц. Тучный мальчуган у бассейна пронзительно взвизгнул и плашмя приземлился на воду. Папаша издал одобрительный возглас, женская аудитория дружно захихикала. – Мне пора, – произнес Скотт. Бедекер кивнул. – Я провожу. Ашрам был всего в паре кварталов от гостиницы. Ученики семенили вдоль цветущих газонов, приезжали на моторикшах по двое-трое. Деревянные ворота и высокий забор надежно скрывали общину от посторонних взглядов. Сразу за воротами помещалась сувенирная лавчонка, где желающие могли приобрести книги, фотографии и футболки с автографом гуру. Отец и сын остановились на входе. – Сможешь вырваться сегодня вечером поужинать? – Да, пап. Хорошо. – Куда пойдем? В гостиницу? – Нет, здесь в городе есть отличный вегетарианский ресторанчик. Дешевый. – Ладно, договорились. Если вдруг освободишься пораньше, заходи. – Не вопрос. В понедельник я возвращаюсь в деревню, пусть Мэгги устроит тебе экскурсию по Пуне. Посмотришь мемориал «Кастурба Самадхи», храм Парвати, ну и прочую хрень… – Скотт повторил свой коронный жест правой. Бедекер едва сдержался, чтобы не пожать ему руку как партнеру на деловой встрече. Солнце палило нещадно. Судя по влажности, вот-вот польет дождь. Хорошо бы купить где-нибудь зонт… – До встречи, Скотт. Тот молча тряхнул блестящей шевелюрой и, расправив тощие плечи, вместе с толпой учеников в оранжевых хламидах двинулся в ашрам.* * *
В понедельник экспресс «Королева Деккана» доставил Бедекера за сотню миль из Пуны в Бомбей. Лондонский рейс задерживался на три часа, стояла невыносимая жара. В аэропорту пожилые охранники, вооруженные допотопными винтовками с ручным затвором, расхаживали в сандалиях поверх заштопанных носков. С утра он исходил вдоль и поперек старые английские кварталы Пуны, разыскивая дом доктора, где Мэгги служила гувернанткой. Оказалось, что мисс Браун нет на месте, но если господин желает оставить записку… Вместо записки Бедекер оставил сверток, в котором лежала купленная у попрошайки дудка, а еще – медаль святого Христофора на потускневшей цепочке. В самолете он очутился только ближе к шести и сразу вздохнул с облегчением. На взлете произошла очередная заминка, но ожидание сгладили напитки и включенный кондиционер. Бедекер лениво пролистал «Сайентифик америкэн», предусмотрительно купленный на вокзале Виктория. После взлета его сморил сон, в котором он снова учился плавать, легко отталкиваясь от белого песчаного дна озера. Отца он не видел, но чувствовал, как держат его сильные руки, оберегая от опасных течений. Он очнулся, едва самолет оторвался от земли. Спустя десять минут они поднялись над Аравийским морем, протаранив гущу облаков. Первый раз за всю неделю Бедекер увидел кристально-голубое небо. В лучах заходящего солнца облака внизу пламенели огнем. Набрав крейсерскую высоту, самолет выровнялся, и на вершине подъема Бедекер почувствовал, как слегка ослабли узы земного притяжения. Тщетно пытаясь разглядеть луну сквозь обшарпанный иллюминатор, он на мгновение воспрянул духом. Здесь, в разреженном воздухе, настойчивая сила тяготения гигантской планеты чуть-чуть – почти незаметно, – но отступила.
Часть вторая Глен-Оук
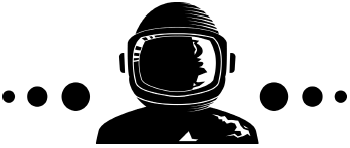
Спустя сорок два года с момента его отъезда, тридцать лет со дня последнего визита и шестнадцать – после триумфального шествия по Луне, Бедекера пригласили на родину в качестве почетного гостя поучаствовать в празднике города и параде первых поселенцев. Восьмое августа в Глен-Оук, штат Иллинойс, было официально объявлено днем Ричарда М. Бедекера. Его второе имя начиналось не на «М», а на «Э», Эдгар. И он никогда не считал это захолустье в Иллинойсе родным. В его мимолетных воспоминаниях о детстве всегда присутствовала квартирка на Килдер-стрит в Чикаго, где семья Бедекеров жила до и после войны. В Глен-Оук он провел меньше трех лет, с конца сорок второго по май сорок пятого. Родня матери уже давно владела здесь землей, и когда отец снова подался в морскую пехоту, чтобы отработать три года инструктором на базе Кэмп-Пендлтон, семилетний Ричард Бедекер с двумя сестренками и охнуть не успели, как очутились вместо теплой уютной квартирки в холодном старом коттедже в Глен-Оук. Воспоминания о тех временах носили разрозненный, бессмысленный характер и прочно ассоциировались с лихорадочным сбором макулатуры и металлолома, которым юный Ричард занимался три года подряд, каждые выходные и каникулы. Хотя его родители были похоронены на местном кладбище неподалеку, он много лет не приезжал и даже не думал о Глен-Оук. Приглашение Бедекер получил в конце мая, незадолго до месячной командировки по трем континентам. Письмо благополучно перекочевало в ящик стола, и на том дело и кончилось бы, не проболтайся он Коулу Прескотту, своему непосредственному начальнику и по совместительству вице-президенту компании – производителя аэрокосмического оборудования. – Дик, даже не вздумай отказаться! Подумай, какая отличная реклама для нашей фирмы. – Издеваешься? – удивился Бедекер. Они сидели в баре на бульваре Линдберга неподалеку от своей конторы на окраине Сент-Луиса. – Когда я жил в этой глуши, там был знак на въезде для водителей: «Население 850 человек. Электрический контроль скорости». Вряд ли там что-то изменилось, разве что народу поубавилось. Сомневаюсь, что там найдутся покупатели авиационной электроники. – А инвестициями там интересуются? – спросил Прескотт, отправив в рот пригоршню соленого арахиса. – Только в крупный рогатый скот. – Где вообще этот твой Глен-Оук? Бедекер настолько отвык от самого слова «Глен-Оук», что даже забыл, как оно звучит. – Захолустье в ста восьмидесяти милях отсюда, – пробормотал он. – Где-то между Пеорией и Молином. – Слушай, это же почти рядом! Грех отказываться, Дик. – Слишком муторно. – Бедекер взял у бармена третий по счету скотч. – С этим Франкфуртом и Бомбеем ничего не успеваю. – Постой-ка! – Прескотт оторвался от созерцания официантки, наклонившейся, чтобы принять заказ у соседнего столика. – Разве ты девятого не едешь на конференцию в чикагский «Хаятт»? Тернер вроде тебя записал. – Не Тернер, а Уолли. Там будет Серетти из «Роквелла», мы с ним собирались обсудить сделку с Борманом по модификациям аэробуса. – Вот! – торжествующе воскликнул Прескотт. – Что вот? – Как раз по пути! Давай, приятель, исполни свой патриотический долг. Велю Терезе предупредить их, что ты едешь. – Посмотрим, – неопределенно ответил Бедекер.
* * *
В Пеорию он вылетел седьмого августа, в пятницу. «Озарк DC-9» едва успел набрать высоту и выйти на извилистую траекторию реки Иллинойс, как пришло время снижаться. Аэропорт был маленький и пустынный, асфальт – раскаленный, и Бедекеру невольно вспомнилась взлетная полоса на окраине джунглей в Кхаджурахо. На выходе его окликнул совершенно незнакомый толстяк с багровой физиономией. Бедекер мысленно застонал. Он-то рассчитывал переночевать в Пеории, а с утра выехать в Глен-Оук и по пути заскочить на кладбище, но теперь… – Мистер Бедекер! Господи, мы так счастливы вас видеть! – тараторил толстяк, стиснув ему локоть и ладонь в двойном рукопожатии. Старую верную дорожную сумку пришлось опустить на землю. – Вы уж простите, что встречаем так, по-простому. Мардж только сегодня узнала, что вы прилетаете. – Ничего страшного. – Бедекер высвободил руку и безо всякой необходимости добавил: – Ричард Бедекер, очень приятно. – Господи, как же это я… Меня зовут Билл Экройд. Мэр Ситон тоже хотела поехать, но у нее сегодня рыбный пикник для Молодых лидеров по случаю Дня города. – Мэр Глен-Оук – женщина? – удивился Бедекер. Он забросил сумку на плечо и смахнул со щеки капельку пота. Зной усиливался. Живая изгородь и парковка миражом подрагивали в зыбком мареве. По влажности Глен-Оук не уступал Сент-Луису. Бедекер покосился на своего спутника. Биллу Экройду было за пятьдесят. Тучный, обрюзгший, он сильно потел. На дешевой рубашке сзади красовалось мокрое пятно. Волосы толстяк зачесывал вперед, пытаясь скрыть намечающуюся лысину. «А мы похожи», – подумал Бедекер, чувствуя, как в душе закипает раздражение. Экройд улыбнулся, пришлось выдавить ответную улыбку. Они вышли из тесного здания аэропорта и направились к машине, припаркованной на стоянке для инвалидов. Толстяк трещал без умолку. От его приветливой болтовни в придачу с жарой слегка кружилась голова. Экройд водил «Бонневиль», в котором предусмотрительно не выключал кондиционер. Сейчас в салоне было до безобразия холодно. Бедекер со вздохом опустился на груду бархатных подушек, пока его спутник укладывал чемодан в багажник. – Вы не представляете, какая это для нас честь, – заявил Экройд, усаживаясь на водительское кресло. – Весь город стоит на ушах. Самая громкая новость с тех пор, как банда Джесси Джеймса обосновалась на местных прудах. – Он со смехом включил зажигание. В огромных лапищах толстяка руль и рычаг передач казались игрушечными. Такими руками хорошо вешать преступников – здесь, на Среднем Западе, такое умение у предков Экройда было бы не лишним. – Не знал, что банда Джеймса побывала в Глен-Оуке, – заметил Бедекер. – Может, и нет, – легко согласился толстяк и снова залился громким непринужденным смехом. – Тогда получается, что ваш приезд – самая громкая новость!* * *
Пеория напоминала город после массовой эвакуации или бомбежки. Или после обеих сразу. В витринах лежали пыль и дохлые мухи. Сквозь трещины в асфальте пробивалась трава, газон на разделительных полосах зарос сорняками. Ветхие дома заваливались друг на дружку, а малочисленные новые постройки торчали подобием гигантских друидских алтарей на фоне россыпи булыжников. – Ужас, – пробормотал Бедекер. – Я помню этот город совсем не таким. По правде говоря, Пеорию он не помнил никакой. Раз в год мать брала его туда на парад в честь Дня благодарения, чтобы мальчик мог помахать Санта-Клаусу. Бедекер уже вырос из детских сказок, но вместе с младшими сестренками послушно сидел на каменных львах у здания суда и махал. Однажды Санта прикатил на джипе в компании четырех эльфов, одетых в форму экстренных служб. Лужайка на ратушной площади плавно спускалась к нарядным пряничным стенам суда. Маленький Ричард притворялся убитым и кубарем скатывался с травянистого склона под грозные окрики матери. Теперь на площади разбили безвкусный аляповатый парк, а рядом торчала стеклянная коробка муниципалитета. – Гребаная рецессия, что при Картере, что при Рейгане, – говорил тем временем Экройд, – а все эти русские! – А русские тут при чем? – удивился Бедекер, готовый услышать шквал пропаганды в духе Джона Берча. Помнится, Джордж Уоллес уложил здесь одной левой всех конкурентов на первичных выборах 1968 года. Сам Бедекер в шестьдесят восьмом торчал в барокамере тренажера по шестьдесят часов в неделю, дублируя экипаж «Аполлона-8». Бессмысленный год, все события которого свелись к соблюдению сроков программы. Вылупившись из своего кокона в январе шестьдесят девятого, Бедекер узнал, что Бобби Кеннеди и Мартин Лютер убиты, Линдон Джонсон ушел в историю, а президентское кресло занял Ричард Никсон. В нынешнем кабинете Бедекера в Сент-Луисе над мини-баром между двумя почетными дипломами колледжей, где он отродясь не был, висела фотография с церемонии в «Розовом саду» Белого дома. Трое астронавтов стоят бледные и напряженные, президент Никсон, сверкая белыми верхними зубами, жмет Бедекеру руку, придерживая за локоть – точь-в-точь как сегодняшний толстяк в аэропорту. – Допустим, мы сами виноваты, – проворчал Экройд. – «Катерпиллар» слишком понадеялись на свои поставки в СССР. А после этой байды с Афганистаном или чего-то там, Картер взял и запретил экспорт тяжелой техники. Ох, и туго им всем пришлось! Чуть не разорились. «Катерпиллар», «Дженерал Электрик» и даже эти пивовары «Пабст». Сейчас вроде дела получше. – М-м-м… – невнятно промычал Бедекер. У него разболелась голова. В небе послышался гул самолета. Сесть бы сейчас если не за штурвал, то хотя бы за руль, размять ноющие руки и ноги, жаждущие поуправлять хоть чем-нибудь… Он устало прикрыл глаза. – Поедем по короткой или по длинной дороге? – осведомился толстяк. – По длинной, – не открывая глаз, пробормотал Бедекер. – Всегда по ней. Экройд послушно свернул с 74-й федеральной трассы и углубился в эвклидову геометрию кукурузных полей и проселочных дорог.* * *
Бедекер ненадолго задремал и очнулся, когда машина затормозила на перекрестке. Зеленые стрелки сообщали расстояние до Принсвилля, Гейлсберга, Элмвуда, Кевани… Указателя на Глен-Оук не было. Экройд свернул налево и покатил меж высоких стен кукурузы, подпрыгивая на темных швах битума и асфальта, добавлявших ритма гудению кондиционера. Легкая вибрация гипнотизировала, создавая ощущение верховой езды. – «В сердце сердца страны», – процитировал Бедекер. – Чего? Бедекер встрепенулся, сообразив, что нечаянно сказал строчку вслух. – Это из книжки – Уильяма Гэсса, кажется, он так описывал эту часть страны. Сразу вспоминаю, когда думаю про Глен-Оук. – А, ясно… – Экройд заерзал на сиденье. Толстяк явно нервничал. Еще бы, едут два серьезных, крутых мужика, и вдруг – какие-то книжки! Несолидно как-то. Бедекер улыбнулся, вспомнив о семинарах, на которых летчиков-испытателей готовили к собеседованиям НАСА по программе «Меркурий». «Если кладете руки на пояс, следите, чтобы большие пальцы смотрели назад…» Кто ему рассказывал про это? Дики? Или он сам прочел у Тома Вулфа? Экройд разглагольствовал о своей риелторской конторе, когда его так бесцеремонно прервали. Откашлявшись в кулак, он заговорил снова: – Много больших людей повидали, а, мистер Бедекер? – Просто Ричард, – отмахнулся тот. – А вы – Билл, верно? – Ага, Билл. Не родственник тому, что ведет «Субботний вечер». На всякий случай, а то народ постоянно спрашивает. – Ясно, – кивнул Бедекер, сроду не видевший «Субботнего вечера». – Ну а самый-самый был кто? – В смысле? – Бедекер понял, что темы не избежать. – Ну, из «шишек», которых встречали? Бедекер попытался придать энтузиазма голосу. Внезапно на него навалилась усталость. Надо было брать свою машину и ехать прямиком из Сент-Луиса! Глен-Оук все равно по пути, и свинтить можно когда угодно. В последние годы он ездил только на работу и домой, командировки состояли сплошь из серии перелетов. А ведь его бывшая жена Джоан ни разу не была ни в Сент-Луисе, ни в Чикаго, ни вообще на Среднем Западе. Вся их совместная жизнь, будь то Форт-Лодердейл, Сан-Диего, Хьюстон, Коко-Бич или те кошмарные пять месяцев в Бостоне, протекала на побережье на разных концах континента. Интересно, как Джоан отреагировала бы на бескрайние поля, фермы и знойное марево? – Самый-самый, наверное, иранский шах, – произнес он наконец. – По крайней мере, он самый колоритный, начиная с приемов и светского протокола. От шаха и его свиты буквально веяло властью, куда там Белому дому и Букингемскому дворцу. Только не спасло это его… – Ясно… – протянул Экройд. – А я раз встречался с Джо Нейметом, когда ездил на конференцию «Амвэй» в Цинциннати. С тех пор, кстати, там больше и не был, времени нет. Все силы уходят на «Пайн-Медоус». Дело нудное, но выгодное. В месяц по тринадцать сотен, особо не напрягаясь… Джо оказался в Цинциннати по своим делам, но знал парня, который близко дружит с Мерлом Уивером. Короче, Джо – он сам просил, чтобы его так называли, – оба дня провел с нами. Экскурсии по местам боевой славы и все такое прочее. Нет, он отлучался, конечно, но по возможности сидел с нами в баре, выпивал, как водится… Потрясающий человек, одним словом! Пейзаж за окном вдруг показался знакомым. Бедекер точно знал, что за следующим поворотом будет молочная ферма и цветочные часы посередине трассы. Ферма и впрямь была на месте, а вот часы вытеснила недавно заасфальтированная парковка. Слева виднелся дом под багряной черепицей – по словам матери, тут когда-то была остановка почтовых карет. Вот и хлипкий балкончик на втором этаже… Да, точно. Забытые воспоминания бесцеремонно вторгались в настоящее, рождая стойкое ощущение дежавю. Остался последний поворот, и через милю Глен-Оук заявит о себе узкой рощицей и единственной во всей округе зеленой водонапорной башней, одиноко торчащей среди кукурузных полей. – А вы с Нейметом встречались? – спросил Экройд. – Не приходилось. В ясный погожий день с высоты тридцати пяти тысяч футов Иллинойс выглядел лоскутным одеялом из зеленых прямоугольников. На Среднем Западе господствовали прямые углы, а на Юго-Западе, который Бедекер излетал вдоль и поперек, – беспорядочно изломанные дуги эрозии. С высоты двухсот миль весь Средний Запад был скоплением зеленых и коричневых пятен под толщей белых облаков. С Луны не было видно и этого. За сорок шесть часов пребывания на ее поверхности Бедекеру и в голову не пришло высматривать оттуда Соединенные Штаты. – Отличный парень, правда! – продолжал восхищаться толстяк. – И кстати, совсем не пафосный, какмногие «звезды». Бедолага, не повезло ему с коленом. Водонапорная башня изменилась. Вместо старой зеленой конструкции в лучах заходящего августовского солнца сверкал белый стальной корпус. От странного ощущения у Бедекера сжалось сердце и перехватило дыхание. Ощущение это не имело ничего общего с ностальгией или тоской по родине. То было благоговение перед неожиданной красотой. Похожее томление Бедекер испытал одним промозглым дождливым днем, когда ребенком был в чикагском музее Института искусств и любовался балериной с апельсинами кисти Дега. Такое же щемящее чувство нахлынуло на него при виде новорожденного Скотта – маленького, натужно кричащего сизого комочка. И сейчас вдруг невидимые пальцы вновь сдавили горло, в глазах защипало. – Спорим, город вы не узнаете! – заявил Экройд. – Давно здесь не были, Дик? Узкую полоску деревьев сменили белые домики и вскоре заполонили весь обзор. За поворотом после заправки «Суноко» стоял старый кирпичный дом. Мать рассказывала, что раньше здесь был перевалочный пункт «подпольной железной дороги» аболиционистов. На белом щите значилось: «Глен-Оук. Население – 1275 человек. Электрический контроль скорости». – Последний раз в пятьдесят шестом, – ответил Бедекер. – Нет, в пятьдесят седьмом. Приезжал на похороны матери. Она умерла через год после отца. – Они оба лежат на кладбище Голгофы, – выдал Экройд таким тоном, словно сообщал новость. – Верно. – Не хотите заехать, пока не стемнело? Я подожду, мне не трудно. – Нет-нет, – поспешно отказался Бедекер. В дрожь бросало от перспективы стоять над могилой родителей, пока Экройд весело посвистывает в своем «Бонневиле». – Спасибо, я как-нибудь потом. Сейчас с ног валюсь, лучше сразу в гостиницу. «Привал путника», кажется? Экройд хохотнул и с размаху шлепнул по рулю. – Вы про старый придорожный мотель? Да его снесли еще в шестьдесят втором. Мы с Джеки как раз в тот год переехали сюда из Лафайета. Ближайший вариант – «Мотель 6», на съезде с 74-й федеральной у Элмвуда. – Значит, туда, – кивнул Бедекер. – Тут вот какая штука, Дик… – Экройд обратил багровое лицо к пассажиру. – Мы вообще-то рассчитывали, что вы переночуете у нас. А что, места в доме полно. С Мардж Ситон и администрацией я уже договорился. Мотель ведь у черта на куличках, двадцать минут по каменке. Каменкой в Глен-Оук испокон веков называли мощеную дорогу, служившую главной улицей. Бедекер уже лет сорок не слышал этого слова. Он покачал головой и стал смотреть в окно. Машина медленно катила через центр города. Деловая часть Глен-Оук занимала два с половиной квартала. Вдоль дороги тянулись приподнятые бетонные тротуары. В витринах было темно, парковочные места пустовали. Лишь у таверны возле парка стояло несколько пикапов. Бедекер тщетно пытался сопоставить унылые фасады с образами, что хранились в памяти, но они оставляли лишь смутное ощущение чего-то недостающего, словно провалы в когда-то знакомой улыбке. – Джеки приготовила ужин, но если хотите, заедем на рыбный пикник к молодежи. – Боюсь, мне сейчас не до того. – Вот и славно, – обрадовался Экройд. – Все формальности уладим завтра. У Мардж все равно куча дел сегодня, праздничная лотерея и так далее. Терри жуть как мечтает с вами познакомиться. Терри, мой сын. Он ваш кумир… Тьфу ты, наоборот. Ну вы поняли. Просто бредит космосом. В прошлом году делал о вас доклад в школе. Гордится, что вы тут жили. Честно говоря, он и подкинул мне мысль пригласить вас как почетного гостя на праздник. Терри в восторге, что вы – наш, местный. Все в администрации, включая Мардж, мою задумку оценили, но знаете, для Терри будет такое счастье, если вы поживете у нас эти два дня! Даже при черепашьей скорости центра хватило ненадолго. Экройд повернул направо и затормозил у старой католической церкви. Ребенком Бедекер избегал этой части города, потому что здесь жил школьный хулиган Чак Комптон. Зато когда возвращался на похороны родителей, бывал только здесь. – Не думайте, вы нас не стесните, – уговаривал Экройд. – Для нас это, наоборот, большая честь. Тем более «Мотель 6» сейчас наверняка забит дальнобойщиками. Пятница как-никак. Бедекер разглядывал бурое здание церкви. Раньше оно казалось куда больше. Его вдруг одолела странная апатия. Изнуряющая жара, бесконечные перелеты и проблемы Скотта с сектантами ввергли его в состояние унылого безразличия. Такое бывало в первые месяцы службы на флоте летом пятьдесят первого и в первые недели после развода с Джоан. – Ну, если я вас не стесню… – пробормотал он. Экройд торжествующе улыбнулся и сжал его плечо. – Забейте, никаких проблем! Джеки спит и видит познакомиться с вами, а о Терри и говорить нечего! Пообщаться с настоящим астронавтом – это дорогого стоит. Автомобиль медленно катил вперед сквозь кремовые лучи вечернего света и тонкие полосы тени от деревьев. Час спустя, когда Бедекер отправился на прогулку, вокруг уже парили стаи летучих мышей, лихорадочно кромсая крыльями мрачный купол неба. Солнце скрылось за горизонтом, но день отчаянно цеплялся за свет, как маленький Ричард в августе – за последние недели каникул. Через несколько минут он уже был в старой части города, наслаждаясь прогулкой и одиночеством. Экройды жили в северо-восточном районе, где раньше были только кукурузные поля и ручей, в котором водились ондатры. Теперь здесь выстроили штук двадцать коттеджей. Дом Экройда был построен в псевдоиспанском стиле, в гараже стояли катер и прицеп, а на подъездной дорожке – семейный трейлер. Комнаты заставлены громоздкой вычурной мебелью сомнительного качества. У Джеки Экройд оказался мелкий перманент, «гусиные лапки» вокруг глаз и чуть выступающие вперед верхние зубы, из-за чего она как будто постоянно улыбалась. Миссис Экройд была несколько моложе супруга. Их единственный сын Терри, бледный худенький мальчик лет тринадцати-четырнадцати на вид, был полной противоположностью тучного громогласного отца. – Терри, поздоровайся с мистером Бедекером! Давай, смелее! Расскажи, как ты мечтал с ним встретиться. – Экройд огромной лапищей подтолкнул сына, и тот буквально вылетел на середину комнаты. Бедекер наклонился, но мальчик настойчиво избегал его взгляда и лишь слегка коснулся вспотевшей ладошкой руки гостя, невнятно бормоча слова приветствия. Длинная русая челка падала Терри на глаза, точно козырек. – Очень приятно, – произнес Бедекер. – Терри, – позвала миссис Экройд, – покажи мистеру Бедекеру его комнату, а после непременно покажи свою. Уверена, нашему гостю будет очень интересно. – Она улыбнулась, напомнив Бедекеру ранние фото Элеонор Рузвельт. Мальчик развернулся и двинулся вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Бедекеру отвели комнату в цокольном этаже с удобной кроватью и ванной. Комната Терри располагалась сразу за пустым, покрытым ковром помещением, явно предназначенным под спортзал. – Думаю, мама хотела, чтобы вы увидели это, – пробормотал Терри и щелкнул выключателем. Под потолком вспыхнула тусклая лампочка, осветив узкую, аккуратно застеленную кровать, письменный столик, стереосистему и три темных стены, увешанные книжными полками, плакатами, моделями – словом, типичной атрибутикой подростка. Четвертая стена оказалась необычной. На ней висела знаменитая фотография восхода Земли из серии снимков, сделанных внешней камерой «Аполлона-8» в режиме ускоренной съемки во время первого и третьего прохождений лунной орбиты. Снимок когда-то прогремел на весь мир, но потом его затаскали до такой степени, что Бедекер обычно не обращал на него внимания. На сей раз все было иначе. Фотографию увеличили на манер фотообоев, и она покрывала стену от пола до потолка. В чернильном небе всходила яркая бело-голубая Земля, а впереди виднелся участок серого грунта. Казалось, будто стоишь не в комнате, а на Луне. Темные стены и тусклый свет лишь усиливали иллюзию. – Мамина идея, – выдавил Терри, нервно барабаня пальцами по стопке кассет на столе. – Фотку, наверное, купила на распродаже. – Модели сам делал? – Бедекер кивнул на полки, уставленные серыми дредноутами из «Звездных войн», «Стар трека» и «Звездного крейсера “Галактика”». С потолка на черных нитках свисали два здоровых шаттла. Мальчик повел плечами и рукой точь-в-точь как Скотт, когда выбивал мяч в матче юношеской лиги. – Папа помогал. – Увлекаешься космосом, Терри? – Ага… – помявшись, подросток поднял взгляд, лихорадочно собираясь с духом. – В смысле, раньше типа увлекался. Когда был еще мелким. Нет, в смысле, мне до сих пор интересно и все такое, но это же для малышни. По правде, я хочу стать гитаристом в рок-группе, типа «Твистед систер». – Он замолчал и посмотрел на гостя. Бедекер не сдержал улыбки и на секунду крепко сжал мальчишеское предплечье. – Впечатляет, впечатляет. Ну что, идем наверх?* * *
Мрак улицы нарушали лишь редкие фонари и голубоватые отблески телевизоров в окнах. Бедекер вдыхал аромат свежескошенной травы и невидимых полей. Звезды в небе загораться не спешили. По каменке кварталом западнее проехала машина, но уже через мгновение единственным звуком вновь стала приглушенная трескотня телевизоров. Много лет назад из тех же самых дверей доносилось рокотание приемников. Бедекеру подумалось, что радиоголоса куда глубже и проникновеннее тех, что звучали из телевизора. В «долине дубов» Глен-Оук самих дубов было раз-два и обчелся. Зато в сороковые даже самые отдаленные улочки города утопали в гигантских вязах. Раскидистые ветви сплетались в замысловатый узор, под сводами которого творилась неописуемая игра света и тени. Вязы, и только они, олицетворяли Глен-Оук. Эту простую истину понимал даже десятилетний парнишка, когда стрелой мчал на велосипеде навстречу оазису деревьев и субботнему ужину. Тех вязов практически не осталось. Должно быть, их скосил какой-нибудь древесный недуг. Теперь дома стояли под открытым небом. Впрочем, повсюду во множестве росли деревья поменьше. От малейшего дуновения ветерка листья колыхались в свете фонарей, отбрасывая на мостовую тени. Верхние этажи старых зданий, стоящих поодаль от обочины, по-прежнему утопали в густой, тихо шелестящей листве, но гигантские вязы из детства исчезли. Наверное, такую же потерю – горькую, как запах жженых листьев в сентябре, – переживают все, кто возвращается после долгого отсутствия в родное захолустье. «По крайней мере, мое поколение», – думал Бедекер. В лиловом небе носились летучие мыши. Бедекер свернул на школьный двор, занимавший целый квартал. Высокое ветхое здание начальной школы, чья крыша служила надежным приютом предкам нынешней своры, уступило место коробкам из кирпича и стекла, сгрудившимся вокруг одной побольше, занимавшей центр двора. Она явно отводилась под спортзал. Бедекер вспомнил, что в его пору спортзала в начальной школе не было вовсе. Те, кто хотел позаниматься, ходили в среднюю школу, за два квартала. Старая школа стояла посреди огромной заросшей травой территории, где было полдюжины бейсбольных и две игровые площадки – одна для детей помладше, другая, с крутой тройной горкой, – для старшеклассников. По периметру вместо забора росли высокие деревья. Теперь же все пространство занимали приземистые корпуса и гигантский спортзал. Деревья пропали. Игровые площадки сократились до узенькой полоски асфальта и песочницы с подобием деревянной сторожевой башни посередине, наводившей на мысль о недоделанной виселице. Устроившись на нижней ступеньке странной конструкции, Бедекер устремил взгляд через дорогу, где стоял его бывший дом. Даже в сгущающихся сумерках было видно, как мало он изменился. Из оконных ниш на обоих этажах лился свет. Старую деревянную обшивку сменил сайдинг, на месте гравийной дорожки, ведущей на задний двор, возникли асфальт и гараж. Бедекер не сомневался, что сарая за домом больше нет. У крыльца выросла высокая береза. Бедекер тщетно рылся в памяти в поисках образа молодого саженца и наконец решил, что дерево посадили уже после его отъезда. Все равно березе никак не меньше сорока. Бедекер не испытывал и тени ностальгии, лишь легкое недоумение при мысли, что в этом совершенно чужом городе, в этой раковине из камня и фанеры когда-то жил мальчик, мнивший себя центром мироздания. В комнате на втором этаже загорелся свет. Бедекеру как наяву представились старые обои с бесконечной сетью канатов, завязанных немыслимыми морскими узлами, с парусниками в каждом квадрате. Он помнил бессонные ночи, когда лежал в лихорадке и мысленно пытался распутать эти узлы. Еще вспомнилась свисающая с потолка голая лампочка на шнуре, похожий на гроб шкаф в углу, а у двери карта мира издательства «Рэнд МакНелли». Каждый вечер ответственный мальчуган перетыкал разноцветные булавки с одного непроизносимого острова в Тихом океане на другой. Покачав головой, Бедекер встал и зашагал на север, подальше от школы и старого дома. Ночь уже вступила в свои права, но звезды не могли пробиться сквозь толщу низких облаков. Бедекер шел, не поднимая глаз. Чета Экройдов сидела на застекленной веранде между домом и гаражом. При виде Бедекера глава семейства встрепенулся: – Дик, ну как оно? Повидали родные места? – Да. Грех сидеть дома в такую погоду. – Знакомых не встретили? – Не встретил вообще ни души, – признался Бедекер. – Видел только костры, к юго-востоку от средней школы. Судя по всему, рыбный пикник. Похоже, весь город там. В детстве городской праздник Первых поселенцев означал для него самый разгар лета, а вместе с тем – последние веселые деньки, за которыми следовал томительный обратный отчет до следующего учебного года. Иными словами, День города знаменовал энтропию. – Это точно, – весело заметил Экройд. – Народ гуляет по полной программе. Кстати, можем рвануть туда. В палатке «Американского легиона» пиво продают до одиннадцати. Успеваем. – Спасибо, Билл, но я спать. Пожелайте Терри за меня спокойной ночи. Экройд провел гостя в дом и включил свет на лестнице. – Вообще-то Терри ночует сегодня у Донни Петерсона. Они друзья с пеленок и «поселенцев» всегда отмечают вместе. Миссис Экройд суетилась, принесла зачем-то лишние одеяла, хотя ночь выдалась теплая. В гостевой комнате чувствовался знакомый, умиротворяющий запах мотеля. Улыбнувшись напоследок, хозяйка тихонько прикрыла дверь, и Бедекер остался один. В чернильном мраке горел электронный циферблат походного будильника. Бедекер вытянулся на постели и уставился в темноту. Когда на табло высветилось 2:32, он встал и прошел в пустое помещение, застеленное ковром. Сверху не доносилось ни звука. На лестнице горел свет, на случай если гостю понадобится на кухню. Однако Бедекер направился прямиком к комнате мальчика и, помедлив, шагнул в приоткрытую дверь. Свет с лестницы тускло освещал неровную поверхность Луны и бело-голубой полумесяц земного шара. Бедекер уже собрался уходить, как вдруг что-то привлекло его внимание. Он плотно притворил дверь и в кромешной тьме опустился на кровать. Вскоре на стенах и потолке засияли мягким светом сотни крошечных точек. Ночной небосклон озарился наконец звездами. Терри – а Бедекер не сомневался, что это он – разукрасил помещение фосфоресцирующей краской. Полусфера Земли испускала туманное сияние, освещая неровную, испещренную кратерами лунную поверхность. Равно как и прочие астронавты с «Аполлона», Бедекер прежде не видел лунной ночи, но сейчас, сидя на аккуратно застеленной кровати и глядя на горящие звезды, он лихорадочно думал: «Да, да!» Позже он встал, пробрался на цыпочках к себе и крепко заснул.* * *
«День Ричарда М. Бедекера» в Глен-Оук выдался теплым и ясным. Проезжая часть перед домом Экройдов потихоньку оживала. Небо было пронзительно голубым, а неподалеку от новых застроек кукурузные стебли на полях светились золотом. Бедекер позавтракал дважды. Вначале с Экройдами на их огромной кухне, потом – с мэром и представителями администрации за длинным столом в кафе «Парксайд». Марджори Ситон казалась уменьшенной провинциальной копией Джейн Бирн, бывшего мэра Чикаго. Правда, Бедекер никак не мог уловить природу этого сходства, ибо широкая загорелая физиономия Мардж Ситон никак не походила на узкую бледную мордашку Бирн. Мардж смеялась громко и заливисто, а Бирн – сухо, деликатно, почти не разжимая губ. Пожалуй, их роднило выражение глаз – с таким же, наверное, скво апачей жаждали казни бледнолицых пленников, чтобы лишний раз позабавиться. – Весь город ликует, Дик, – улыбалась мэр Ситон. – Да что там город, весь округ! Даже из Гейлсберга обещали приехать. – Я польщен, – кивнул Бедекер, бесцельно гоняя по тарелке картофельные оладьи. Сидящий рядом Экройд собирал мякишем потекший желток. Минни, худенькая официантка с невыразительным лицом, ежеминутно подходила к столу, чтобы подлить гостям кофе – этим, похоже, исчерпывалось ее представление о роли распорядительницы. – У вас есть повестка… расписание? – поинтересовался Бедекер. – В смысле, что и когда? – Да, конечно, – отозвался субтильный мужчина в зеленом полиэстеровом костюме. Кажется, его звали Кайл Гиббонс… или Гибсон. – Вот, пожалуйста. – Он вытащил сложенный листок бумаги и развернул его перед гостем. – Спасибо, – поблагодарил Бедекер и углубился в чтение.9.00 – СОБРАНИЕ АДМИН. (Астронавт?) 10.00 – ГАНДБ. (КОМАНДА АМЕР. ЛЕГ.) 11.30 – ОРГАН. ПАРАДА (Д. 5) 12.00 – НАЧАЛО ПАРАДА 13.00 – БАРБЕКЮ В СТРЕЛК. КЛУБЕ ОКР. ДЖУБ. И СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ В ТИРЕ (Ш. Михан) 13.30 – СОФТБОЛ 14.30 – «ВОДН. БИТВА» ПОЖАРН. КОМАНДЫ 17.00 – БАРБЕКЮ МОЛОД. КЛУБА «ОПТИМИСТЫ» 18.00 – КОНЦЕРТ 19.00 – РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ (М. Ситон, спортзал) 19.30 – ЗВЕЗДЫ БУДУЩЕГО (спортзал) 20.00 – РЕЧЬ АСТРОНАВТА (спортзал) 22.00 – ФЕЙЕРВЕРК В СТРЕЛК. КЛУБЕ ОКР. ДЖУБ.
– Речь? – удивленно вскинулся Бедекер. Мэр Ситон отхлебнула кофе и с улыбкой пояснила: – Что угодно, на ваше усмотрение, Дик. Никакого регламента. Расскажете про космос, пребывание на Луне… Все, что хотите. Главное, уложитесь минут в двадцать, хорошо? Бедекер кивнул, слушая, как за окном шелестит листва, колыхаемая легким ветерком. Компания ребятишек влетела в кафе и теперь шумно требовала газировки. Не обращая на них внимания, Минни снова наполнила чашки кофе. Разговор за столом перекинулся на административные вопросы, и Бедекер поспешил откланяться. Полуденный зной поднимался от тротуара, грозя в скором времени расплавить дорожный асфальт. Бедекер, щурясь, достал из нагрудного кармана солнечные очки. На нем была белая льняная рубашка «сафари», коричневые слаксы и армейские ботинки, в которых он совсем недавно бродил по Калькутте. В голове не укладывалось, как все это – кристально-голубое небо, беленькие аккуратные витрины и пустое шоссе – может сосуществовать с непролазной грязью, трущобами и безумной толчеей в Индии. Городской парк стал куда меньше, чем в детстве. На месте изысканной викторианской эстрадной беседки торчала плоская бетонная плита на шлакоблоках. Или беседка была лишь плодом его воображения? Оба лета, что Бедекер провел здесь, какой-то толстосум из местных – уже не вспомнить, кто – каждую субботу устраивал в парке бесплатные киносеансы, для чего к наружной стене кафе «Парксайд» прибивали три белых полотнища. Вечерами под открытым небом показывали кинохронику «Мувитон», мультфильмы, где Багз Банни и Дональд Дак рекламировали облигации военного займа, ну и, конечно, старую добрую классику – «Ночной полет», «Болваны в море», «Бродвей лимитед» и «Однажды в медовый месяц». Перед глазами точно наяву вставала дрожащая картинка на самодельном экране, восседающие на скамьях целыми семействами фермеры-арендаторы, одеяла, свежескошенная лужайка. Малышня с гиканьем носилась по кустам вдоль эстрады и карабкалась на деревья. Однажды темноту бесшумно прорезали вспышки молнии, рассекая мрак над деревьями и близлежащими зданиями. Тяжелые ветви вязов колыхались на ветру, предвещая скорую грозу. В воздухе на много миль вокруг разливалась сладкая прохлада, смешиваясь с запахом цветущих полей. И потом – оглушительный удар, сопровождаемый яркой вспышкой. Зрители бросились врассыпную, но прежде, на жуткую долю секунды, все вдруг застыло: люди, машины, скамьи, трава… В ослепительной вспышке мир на мгновение превратился в застывший кадр из недосмотренного фильма. Бедекер откашлялся, сплюнул и двинулся к валуну на каменном постаменте. Три медные дощечки пестрели именами жителей Глен-Оук, принимавших участие в военных действиях, начиная с мексиканской войны и вплоть до Вьетнама. Рядом с именами погибших стояли звездочки. Восемь пали в Гражданской войне, трое – во Второй мировой, и никого – во Вьетнаме. Под Кореей значилось четырнадцать фамилий, но своей среди них Бедекер не обнаружил, как, впрочем, и ни одной знакомой, хотя с некоторыми будущими солдатами он наверняка учился в школе. Вьетнамская табличка сильно выцвела и была заполнена лишь на треть, оставляя место для последующих войн. К универсальному магазину Хеллмана напротив подкатил пикап, откуда в полном составе выгрузилось арендаторское семейство. Когда-то на месте нынешнего магазина помещалась галантерея Дженсена – длинное мрачное здание с пыльными дощатыми полами и медленно вращающимися вентиляторами под низким потолком. Семейство столпилось перед витриной, смеясь и тыча в стекло пальцами. Улица потихоньку оживала. За спиной грянул невидимый оркестр. Потом музыка резко оборвалась и заиграла снова, прерываясь время от времени звоном литавр. Бедекер присел на скамью, чувствуя, как окружающее невыносимым грузом давит на него. Зажмурившись, он тщетно пытался воскресить в памяти спасительное ощущение легкости, когда скачешь по зияющей кратерами равнине, глядя на ореол света вокруг скафандра и рюкзака Дейва; когда враждебная гравитация почти не тяготит, а каждое движение дается без труда, словно шагаешь на цыпочках по дну залитой солнцем лагуны. Легкость не наступала. Бедекер открыл глаза и, прищурившись, встретил врага лицом к лицу.
* * *
Парад Первых поселенцев начался с опозданием на четверть часа. Впереди маршировал сводный оркестр средней школы, за ним в несколько рядов ехали разномастные всадники, следом катились пять самодельных платформ с «Будущими фермерами Америки», участниками молодежной организации «4-Н», бойскаутами из Крив-Кура, делегатами окружного исторического общества и стрелкового клуба округа Джубили. За платформами шествовали девять юнцов из оркестра начальной школы и члены «Американского легиона». Торжественную колонну замыкал древний «Мустанг»-кабриолет белого цвета. На багажнике автомобиля восседал Бедекер в компании с мэром Ситон и Гиббонсом… или Гибсоном. Идея насчет багажника целиком и полностью принадлежала Биллу Экройду, устроившемуся сейчас впереди, рядом с юнцом-водителем. Полотнища по бокам «Мустанга» гласили: РИЧАРД М. БЕДЕКЕР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЛЕН-ОУК НА ЛУНЕ. Ниже яркими фломастерами старательно намалевали полетную нашивку астронавтов: над символическими парусами командного модуля светило солнце, похожее на яичный желток, который Экройд с таким рвением вымакивал сегодня утром. С Пятой улицы, миновав парк, парад переместился в центр. Зелено-белый «Плимут» шерифа Михана расчищал дорогу. Горожане выстроились вдоль высоких тротуаров, как будто специально спроектированных для просмотра парадов. Повсюду мелькали миниатюрные американские флаги. Наверху, между двух фонарных столбов висел баннер «СУББОТА, 8 АВГУСТА. ГЛЕН-ОУК ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ РИЧАРДА М. БЕДЕКЕРА – ПАРАД ПЕРВЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ – СОРЕВНОВАНИЯ В СТРЕЛКОВОМ КЛУБЕ». На перекрестке Второй улицы отряд старшеклассников повернул налево, и через квартал – еще раз, к школьному двору. С деревянного подобия виселицы праздничную колонну бурно приветствовала малышня. Какой-то мальчуган сложил пальцы наподобие пистолета и открыл огонь. Бедекер тут же наставил на «снайпера» палец и выстрелил. Мальчишка схватился за сердце, закатил глаза и, кувыркнувшись с двухметровой платформы, приземлился спиной в песочницу. Свернув на Пятой улице, всего в квартале от места старта, колонна двинулась на восток. По правую сторону Бедекер различил приземистое белое здание, бывшее когда-то библиотекой. Ему сразу вспомнился чердачный аромат небольшой комнатки жарким летним днем и хмурый взгляд библиотекарши в ответ на его десятую или пятнадцатую по счету просьбу выдать «Джона Картера на Марсе». Пятая улица была так широка, что в придачу к колонне на ней свободно умещались два потока машин. Под палящим зноем Бедекер особенно тосковал по вязам. Их мелколистные собратья, росшие вдоль дренажных траншей, казались пигмеями на фоне слишком широкой дороги, бескрайних лужаек и высоких домов. С веранд и шезлонгов парад приветствовали местные жители. Дети и собаки бежали вровень с наездниками и поминутно путались под ногами у знаменщика, шагающего во главе оркестра. За «Мустангом» на добрых пятьдесят футов выстроилась несанкционированная колонна из велосипедистов, малышей, волочащих за собой игрушечные тележки, и даже парочки разукрашенных газонокосилок. На Каттон-стрит шериф свернул направо, снова увлекая процессию на школьный двор. Во дворе бывшего дома Бедекера какой-то толстяк с нависающим над шортами голым пузом подстригал лужайку. При виде колонны толстяк двумя пальцами отсалютовал «Мустангу». Трое стариков сидели на крытой веранде, где Бедекер когда-то играл в пиратов и отражал одну за другой атаки японских захватчиков. Еще через два квартала процессия миновала здание средней школы и уперлась в стену кукурузы. Оркестр сделал вираж влево, к проселочной дороге, и колонна, обогнув школу, очутилась в открытом поле, переоборудованном под ярмарочную площадь. Сразу за парковкой возвышались полдюжины шатров, многочисленные палатки и застывшие под полуденным солнцем карусели. Высокая жухлая трава хранила следы и мусор вчерашнего рыбного пикника. Чуть севернее виднелись бейсбольные площадки, уже оккупированные игроками в яркой форме и болельщиками. Еще севернее, там, где задний двор бывшего дома Бедекера граничил с кукурузными полями, на зеленом фоне выделялись красные прямоугольники пожарных машин. Оркестр умолк, и колонна рассредоточилась. Музыканты и всадники рассеялись по пустовавшей в этот час праздничной площади. Бедекер медлил выходить из машины. – Ну как? – повернулась к нему мэр Ситон. – Правда, весело? Бедекер кивнул и поднял глаза. Багажник и обивка салона раскалились от зноя. Солнце стояло почти в зените. В безоблачном небе у самого горизонта проступал бледный диск ущербной луны.* * *
– Дикки! Бедекер едва не поперхнулся пивом. Перед ним стояла незнакомая тучная блондинка средних лет с очень короткой стрижкой. На женщине были пестрая блузка и лосины, исчерпавшие все резервы возможного растяжения. Тусклый свет в шатре «Американского легиона» придавал всему желто-коричневый оттенок, пахло нагретым брезентом. Бедекер поднялся из-за стола, который делил с компанией мужчин. – Дикки! – повторила блондинка, обхватив ладонями его свободную руку. – Ну, как ты поживаешь? – Спасибо, хорошо. А ты? – Ой, да все замечательно! Слушай, выглядишь супер! А что с волосами? Где твоя шевелюра, рыжик? Бедекер улыбнулся и машинально провел рукой по затылку. Его собеседники тем временем снова занялись пивом. Блондинка вдруг захихикала. – Мама дорогая, да ты меня не помнишь! – У меня плохо с именами, – признался Бедекер. – Ай-ай-ай, как не стыдно забыть Сэнди! – Она игриво шлепнула его по запястью. – Сэнди Сиррел. Четвертый, пятый класс, помнишь? Мы еще с Донной Лу Хьюфорд дружили с тобой, Микки Фаррелом, Кевином Гордоном и Джимми Хайнсом. – Ну конечно! – По-прежнему пребывая в неведении, Бедекер крепко пожал Сэнди руку. – Рад тебя видеть. – Дикки, познакомься с моим мужем. Артур, это мой старинный приятель, который летал на Луну. Бедекер обменялся рукопожатием с тощим как щепка мужчиной в софтбольной униформе похоронного бюро Тейлора. Сквозь толстый слой пыли на лице, шее и запястьях мужчины проступали красные морщины. – Не ожидал, что я выйду замуж? – допытывалась Сиррел. – Тем более не за тебя! – она расхохоталась, продемонстрировав отколотый передний зуб. Бедекер ухмыльнулся в ответ. – Пошли, – потянул ее супруг. – Игра начинается. Толстуха вцепилась в Бедекера двумя руками. – Дикки, нам пора. Безумно, просто безумно была рада повидаться. Забегай вечерком, полюбуешься на Ширли и близнецов. И запомни, я всю дорогу молилась за тебя. Все мы молились. Если бы не наши молитвы Господу, фиг бы вы вернулись с Луны. – Буду знать, – кивнул Бедекер. Сиррел порывисто поцеловала его в щеку и удалилась на пару с супругом. Бедекера еще долго преследовал зуд в щеке и запах кухонных полотенец. Он сел за стол и заказал очередную порцию пива. – Артур у нас подрабатывает, на кладбище, – сообщил Фил Диксон, член администрации. – У Вонючки Сиррел он третий по счету муж, – добавил Экройд, – и, похоже, не последний. И тут Бедекера осенило. – Вонючка Сиррел! С ума сойти! Не считая того, что Сиррел вечно ходила за их компанией по пятам, он помнил, как однажды в пятом классе она прижала его на детской площадке, когда мимо проезжал кто-то на пони. – Вот скажи, как у парней так получается? – Она ткнула пальцем в жеребца. – Что получается? Она наклонилась к самому его уху: – Ходить с хером между ног. Он тогда отшатнулся, покраснел и тут же разозлился на себя за слабину. – Вонючка Сиррел, – пробормотал Бедекер. – Боже мой! – Он допил свой бокал и сделал знак волонтеру в фирменной кепке «Легиона», чтобы повторил.* * *
Цветов не было, но за могилами явно ухаживали. Бедекер снял солнечные очки. Два серых гранитных надгробия различались только надписью:ЧАРЛЬЗ С. БЕДЕКЕР 1893–1956 КЭТЛИН Э. БЕДЕКЕР 1900–1957На кладбище, окруженном с трех сторон лесом, а с севера – кукурузными полями, стояла тишина. На востоке и западе овраги обрывались к невидимым ручьям. Как-то во время отпуска дождливой весной сорок третьего или сорок четвертого отец повел Бедекера к южным холмам на охоту. Мальчик покорно тащил заряженную двустволку и мелкашку 22-го калибра, но стрелять белку отказался, пребывая тогда на скоротечной стадии пацифизма. Отец, конечно, разозлился, но виду не подал, просто всучил сыну пропитанный кровью холщовый мешок с мертвыми тушками. Опустившись на колено, Бедекер выдергивал молодую поросль, обрамлявшую могилу матери. Прикрыв глаза очками, размышлял о теле, погребенном в жирный чернозем Иллинойса, о материнских руках, обнимавших его, плачущего, в синяках после очередной драки в садике; эти руки убаюкивали, когда он просыпался по ночам от кошмара и, всхлипывая, лежал в темноте. Сперва раздавалось легкое шуршание маминых тапочек по полу, за ним следовало мягкое, спасительное прикосновение, дарующее чистоту и покой. Выпрямившись, он резко повернулся и зашагал прочь. Фил Диксон из администрации как раз собирался домой поужинать и с радостью вызвался подбросить уважаемого гостя до кладбища. Решив не злоупотреблять любезностью, Бедекер сказал, что в город намерен возвратиться пешком. Закрыв калитку на засов, он напоследок оглядел кладбище. В траве стрекотали кузнечики. Где-то за деревьями жалобно мычала корова. Даже с дороги Бедекер различал три места, пустовавших подле могилы родителей, – для него и сестер. Рядом затормозил пикап. С водительского сиденья высунулся мужчина с красным обветренным лицом и песочной шевелюрой. – Ричард Бедекер, да? Рядом с водителем сидел молодой парнишка. Сзади на стеллаже стояли две винтовки. – Верно, – подтвердил Бедекер. – Я так и подумал. Читал в принсвилльском «Кроникл», что ты собираешься в наши края. Мы вот с Галеном решили смотаться в Глен-Оук, на барбекю к «оптимистам». По пути еще тормознем у «Одинокого дерева», бахнем холодненького. Ты, смотрю, без машины. Подбросить? – Да, – Бедекер снял очки, аккуратно сложил и спрятал в нагрудный карман. – Спасибо огромное.
* * *
Водитель успел поведать, что раньше «Одинокое дерево» располагалось в четверти мили на юго-запад, аккурат на пересечении шоссе и проселочной дороги. Одинокое дерево, высокий дуб, по-прежнему там. Когда в тридцатые в Пеории ударила засуха, хозяева заведения взяли руки в ноги и перебрались в округ Джубили. Вот уже сорок пять лет «Одинокое дерево» стоит у кромки леса, на вершине второго холма к западу от кладбища Голгофы. Холмы крутые, дорога узкая. Бедекер припомнил, как еще мать рассказывала, будто не один завсегдатай «Дерева» отправился прямиком на кладбище, столкнувшись лоб в лоб с другой машиной на очередном бугре. Во время войны число жертв сократилось в связи с экономией бензина и отправкой призывников на фронт. Приезжая в увольнение, отец захаживал в «Дерево». Бедекер помнил, как пил лимонад «Орандж-Несбит» под теми же темными сводами, где сейчас заказывал ирландский виски и пиво. Он покосился на потрескавшийся кафельный пол, словно ожидал увидеть там окровавленный мешок с тушками. – Не вспомнил меня? – спросил вдруг водитель, представившийся Карлом Фостером. Бедекер отхлебнул виски, вглядываясь в красное, обветренное лицо и прозрачные голубые глаза. – Нет, – признался он наконец. – Неудивительно, – ухмыльнулся фермер. – Мы вместе учились в четвертом классе, только меня оставили на второй год, а вас с Джимми перевели в пятый. – Карл Фостер… – повторил Бедекер и, подавшись вперед, схватил мужчину за руку. – Карл Фостер! Точно! Ты же сидел перед Кевином, за этой… как ее… девчонкой с челкой и… – Он замялся. – Здоровыми сиськами, – подсказал Фостер. – По крайней мере, для четвертого класса. За ней самой. Донна Лу Бейлор. Она потом вышла замуж за Тома Хьюфорда. Кстати, познакомься, это мой зять Гален. – Очень приятно, – Бедекер обменялся с парнем рукопожатием. – Слушай, Карл, мы же вместе были в бойскаутах, да? – Ага, – подхватил Карл. – А старик Михан был начальником отряда. Он все повторял, что из хорошего скаута получится хороший солдат. Еще вручил мне дебильный значок за опознавание самолетов. Я как дурак сидел до двух ночи на сеновале с карточками силуэтов и бдел. А покажись и впрямь в небе вражеский самолет, хрен его знает, что стал бы делать. В нашу глухомань и телефон-то провели только в сорок восьмом! – Карл Фостер… – покачал головой Бедекер и знаком попросил бармена повторить. Позже, когда по земле уже стелились длинные тени, приятели засобирались отлить и пострелять крыс. – Гален, тащи мелкашку, – велел Фостер. Стоя на краю оврага, мужчины облегчались на кучи мусора, скопившиеся за пятьдесят лет. Внизу валялись ржавые сетки от кроватей, старые стиральные машины, бесчисленные консервные банки. На самом дне виднелся изъеденный ржавчиной кузов «Хадсона» тридцать восьмого года… Экземпляры посвежее образовали кучу высотой в добрую сотню футов, смешиваясь с уже утратившим облик хламом. Фостер застегнул брюки и забрал у зятя ружье. – Ну и где твои крысы? – Бедекер отшвырнул пустой стаканчик и открыл банку пива. – Сейчас шуганем паразитов, – Фостер прицелился и выстрелил в уже изрешеченное пулями корыто шестью десятками футов ниже. Тут же в разные стороны метнулись серые тени. Фостер перезарядил и выстрелил снова. Раздался пронзительный визг. Фостер передал ружье Бедекеру. – Спасибо, – буркнул Бедекер, целясь в смутный силуэт возле допотопной радиолы «Филко». Грянул выстрел, но тень не шелохнулась. Фостер заговорил, не вынимая изо рта тлеющей сигареты. – Писали, ты вроде служил на флоте? – Метко пущенная пуля пробила коробку из-под хлопьев. Серые тени с визгом заметались по помойке. – Давным-давно, – ответил Бедекер, забирая ружье. – Полетал немного в Корее. – Выстрел был почти без отдачи. – А я не служил. – От каждого слова у Фостера подпрыгивала на губе сигарета. – Грыжа. А в людей стрелял? Бедекер замер, не донеся пиво до рта. Потом отставил банку и вскинул ружье. – Ладно, можешь не отвечать, – отмахнулся Фостер. – Не мое собачье дело. Прищурившись, Бедекер спустил курок. Раздался гулкий хлопок, и старая стиральная доска с грохотом опрокинулась. – Из кабины старых «Пантер» особо не насмотришься, – медленно начал Бедекер. – Прикажут – сбрасываешь груз, и обратно на базу. Правда, я еще сбил три самолета, но мало что видел. Из двух пилоты катапультировались, точно. На третий раз не видел вообще ничего – стекло в щитке треснуло, и вдобавок все было маслом забрызгано. Если верить снимкам, не выбрался никто. Но это одно, а стрелять в человека – совсем другое. – Он перезарядил ружье и вернул его Фостеру. – Согласен, другое. – Фостер, почти не целясь, пальнул в темноту. Крыса подпрыгнула и в конвульсиях рухнула на землю. Бедекер швырнул в овраг пустую банку, взял ружье на изготовку и монотонно продолжал: – Правда, я чуть не подстрелил одного здесь, в Глен-Оук. – Охренеть! Кого? – Чака Комптона. Помнишь такого? – Этого ублюдка разве забудешь! В пятнадцать лет он еще торчал в шестом классе, а на переменах курил в сортире «Пэлл-Мэлл». Редкостный урод. – Ага. До шестого класса он меня не трогал, а потом повадился лупить каждый день смертным боем. Поджидал после уроков, ну и сам понимаешь. Я пробовал от него откупиться, отдавал четвертаки, делился обедом – шоколадками «Херши», если были, помогал на контрольных… И без толку. Брать он все брал, но лупил как обычно. Нравилось ему издеваться над людьми. – А дальше? – Дальше мать сказала, что я должен дать ему отпор. Мол, все хулиганы – трусы, и если им дают отпор, успокаиваются. Спасибо, Гален. – Бедекер взял протянутую банку пива и сделал большой глоток. – Короче, как-то в пятницу я вызвал его на бой… Он сломал мне нос в двух местах, выбил зуб и чуть не раскрошил ребра. На глазах у всего класса. – Комптон в своем репертуаре, – хмыкнул Фостер. – Неделю я все это переваривал, а в субботу говнюк объявился на площадке напротив моего дома. Тогда я поднялся наверх, достал из маминого шкафа свою двустволку-комбинашку… – Откуда она у тебя вообще взялась? – Отец подарил на восемь лет. Снизу дробовик четыреста десятого калибра, а сверху однозарядный двадцать второй. – «Сэвидж», – кивнул Фостер. – У брата был такой. – Он выплюнул окурок. – Продолжай. – Я ждал, пока Комптон подойдет поближе. Открыл ставни, а сам спрятался за занавеской. Потом зарядил оба ствола, но решил, что стрелять лучше из четыреста десятого. Прикинул, что все равно с десяти шагов не промахнусь. – С такого расстояния хватит, чтобы снести полбашки, – заметил Фостер. – Я заряжал «шестеркой» на дичь, – добавил Бедекер. – Ни фига себе! – Да, я хотел, чтобы у него кишки брызнули во все стороны, как у кролика, которого отец подстрелил «шестеркой» пару месяцев назад. Спокойно все рассчитал, навел ствол на пояс потому, что обычно прицел у меня сбивался вверх и левее. А по ходу все думал, есть ли хоть одна причина оставить эту тварь в живых. Когда понял, что нет, я надавил на курок – в точности как учил отец – слегка затаив дыхание, плавно, не дергаясь. И ведь нажал! Гребаный предохранитель… Пока снял его, пока заново прицелился, Комптон успел подвалить к соседской девчонке и болтал с ней. Тогда я прицелился ниже, в задницу. Ну, к тому времени он отошел еще на семь-восемь футов, но я не промахнулся бы. Фостер закурил новую сигарету. – И что потом? – Потом мать позвала меня обедать, – вздохнул Бедекер. – Я разрядил оба ствола, спрятал ружье обратно в шкаф и следующие две недели старался не попадаться Комптону на глаза, да и ему, наверное, уже надоело меня лупить. А в мае мы переехали. – Понятно. – Фостер глотнул пива. – Чак Комптон всегда был уродом. – Кстати, что с ним сталось? – Бедекер аккуратно поставил банку на траву, вскинул ружье и прицелился. – Женился на Шерон Кэхил из Принсвилля. И знаешь, как подменили человека. В религию ударился, правда ненадолго. Работал в дорожной службе, а в шестьдесят шестом свалился с сенокосилки, прямо под нож. После этого протянул с неделю, но пневмония его уходила. – Ясно… – Бедекер спустил курок. Крыса забилась в агонии, дико вереща. Бедекер поднял ствол вверх, трижды передернул затвор, чтобы полностью разрядить, и вернул ружье хозяину. – Мне пора, в восемь выступаю. – Есть, командир, – козырнул Фостер, передавая оружие зятю.* * *
– Точно не хотите кофе? – суетился Билл Экройд. – Точно. – Стоя перед зеркалом в прихожей Экройдов, Бедекер по второму кругу пытался завязать галстук. – Тогда, может, перекусите? – Я уже позавтракал, причем дважды. – Давайте, Джеки подогреет мясо. – Некогда, – отказался Бедекер. – Уже почти восемь. Они вышли на улицу. В сумерках кукурузные поля и фургон Экройдов играли яркими красками, точно на полотнах Максфилда Пэриша. Экройд выкатил из гаража «Бонневиль», и автомобиль на всех парах помчался в город. Ярмарочная площадь сияла и переливалась. Свет струился из больших шатров, между игровыми палатками горели гирлянды желтых лампочек. Бейсбольное поле тонуло в лучах дугового фонаря, цветной иллюминацией переливались карусели. Бедекеру вспомнилась ночь накануне Дня города, когда он ночевал с Джимми Хайнсом. Среди ночи мальчики проснулись, словно повинуясь тайному зову, тихо оделись и, перемахнув через проволочный забор, уходили все дальше в поле позади средней школы, пока не услышали приглушенную ругань и крики рабочих, устанавливавших аттракционы. Внезапно вспыхнули лампочки на колесе обозрения и карусели, гигантскими созвездиями вырисовываясь на фоне темного неба. Бедекер с приятелем замерли, ослепленные этим великолепием. Еще вспомнилось, как, стоя на Луне и прикрывая рукой от солнца солнцезащитный экран шлема, он искал взглядом звезды, но не находил ни одной. В золотистом экране отражалось лишь белое сияние изрытой кратерами поверхности и свет, исходящий от тонкого полумесяца, за которым виделась Земля. Экройд припарковался за патрульной машиной, и мужчины прошли в спортзал. Бедекер с порога уловил знакомый запах лака и дерева. В зале, где они с ребятами гоняли мяч, ровнымирядами стояли раскладные стулья. На платформе, бывшей когда-то сценой, шестиклассник Ричард Бедекер играл в школьном спектакле. Ему досталась роль Сиротки Билли, который в последнем акте оказывается Сыном Божьим, явившимся испытать человеческое милосердие. Отец потом писал с базы, что худшего выбора актера не было за всю историю театра. Они с Экройдом устроились на металлических стульях, пока мэр Ситон призывала собравшихся к тишине. В зале набралось три-четыре сотни человек. Кому не хватило места, толпой стояли в дверях. Вместе с потоками влажного воздуха в помещение врывалась мелодия каруселей. – …программы «Аполлон». Наш посланец на Луну, истинный герой Америки, гордость Глен-Оук… Ричард М. Бедекер! Толпа взорвалась аплодисментами, которые тут же заглушила музыка с площади. Бедекер поднялся и едва не упал, получив от Экройда дружеский тычок в спину. Обретя равновесие, пожал руку мэру и повернулся к залу. – В первую очередь хочу поблагодарить мэра Ситон и администрацию за теплый прием. Я счастлив быть сегодня в Глен-Оук… Снова раздались аплодисменты. Бедекер вдруг понял, что выпил лишнего и понятия не имеет, о чем говорить. Чтобы побороть страх перед публикой, достаточно лишь рассредоточить взгляд, и толпа расплывается морем зыбких лиц. На сей раз Бедекер отказался от проверенного средства и смотрел прямиком в зал. Со второго ряда ему махала Вонючка Сиррел, стараясь делать это незаметно. На соседнем стуле дремал ее тощий супруг, все в той же форме игрока. Еще через три ряда сидел Фил Диксон с семейством. Джеки Экройд устроилась в первом ряду у прохода. Рядом с ней, забравшись с ногами на сиденье, Терри Экройд болтал с каким-то парнем, повернувшись к платформе спиной. Бедекер не нашел Карла Фостера и Галена, но нутром ощущал их присутствие. Когда аплодисменты стихли, он вдруг воспылал самыми теплыми чувствами к собравшимся. – Освоение космоса подарило ученым новые знания, а инженерам – новые возможности, – услышал Бедекер свой голос. – Но мало кто догадывается, насколько рядовые американцы обязаны своим высоким уровнем жизни непосредственно космической программе, ее попутным плодам. Волнение как рукой сняло. Когда НАСА организовали пятимесячную выездную кампанию в рамках успешного завершения полета на Луну, Бедекер вызубрил штук пять шаблонных речей, которыми при случае пользовался. Нынешняя была видоизмененной версией «Оды тефлону». – …не только уникальные материалы и сплавы. Программы субсидирования НАСА способствовали прорыву в электронике, подарившему нам карманные калькуляторы, домашние компьютеры и сравнительно недорогие видеопроигрыватели. «Боже всемогущий, – подумал Бедекер, – сколько сил и надежд вложено – мы переплюнули даже фараонов с их пирамидами! – и только ради того, чтобы сидя дома смотреть порнуху по видику». Откашлявшись, он продолжал: – Спутники связи, запущенные с шаттлов, объединили мир в одну гигантскую телекоммуникационную сеть. Шестнадцать лет назад мы с Дейвом пользовались на Луне новейшей видеокамерой – прототипом той, что сейчас есть в каждой семье. Проехав шесть миль на луноходе, мы заглянули в каньон, куда не ступала нога человека, и камера транслировала эти уникальные кадры на расстояние двести сорок тысяч миль! «А каналы отказались ради них прерывать программу дневного вещания! Куда нам тягаться с мыльными операми. Программа «Аполлон» почила в бозе из-за низких рейтингов и заурядного сюжета. Зачем показывать, что уже было? Всем хватило Армстронга и «Аполлона-11». – Тогда мы и не подозревали, какие грандиозные попутные плоды это принесет. Нашей целью было изучить Вселенную, расширить горизонты познания. Техническая революция стала следствием, попутно изменившим к лучшему жизнь наших соотечественников. «Попутно Джоан покончила с нашей многолетней пародией на брак. Попутно Скотт подался в Индию искать истину в стране, где до сих пор не научились строить нормальные санузлы». – Когда наша команда отправлялась на Луну, среднестатистический компьютер стоил двенадцать тысяч долларов. Сейчас домашние компьютеры ценой всего двенадцать сотен долларов способны выполнять те же задачи, но гораздо эффективнее. «Попутно Дейв Малдорф стал конгрессменом от Орегона». Бедекеру вспомнился белый силуэт, бредущий в ореоле солнечного света по сверкающей лунной равнине, оставляя в пыли след, который не сотрется, даже когда обратятся в пыль сами астронавты, и Америка исчезнет с лица Земли вместе с человечеством. «Устраивает митинги по сбору средств. Дейв, чья карьера в НАСА оборвалась из-за того, что он посмел взять на Луну тарелку-фрисби и ни на минуту не раскаялся в содеянном». – …в современных больницах новейшие приборы способны выявить основные признаки… «Попутно Том Гэвин проповедует по ящику святые истины. Том, если Господь говорил с тобой в командном модуле, чего ж ты молчал на обратном пути? Почему не поделился со мной и Дейвом? Хоть бы намекнул на разборе полета! Ждал все эти годы, чтобы потом выступить на канале “Слово Божие”?» – …разработанные для шаттлов теплозащитные плитки нашли множественное, незаметное обычному глазу применение в повседневной и коммерческой деятельности. Прочие возможности… «Попутно “Челленджер” взрывается в небе, обломки устремляются в зев океана. Адские отблески самовоспламеняющегося топлива. Обломки падают, падают…» – …преимущества включают… «Жена и сын Бедекера попутно устремляются к новой жизни, новым истинам». – …включают такие вещи… «Попутно Ричард Э. Бедекер устремляется…» – …вещи как… «Устремляется…» – …вещи как… «Устремляется куда?»* * *
Он замолчал. Компания фермеров, обменивающаяся шуточками в задних рядах, умолкла и обернулась к сцене. Терри Экройд, по-прежнему сидя верхом на стуле, перестал болтать с товарищем и в упор смотрел на Бедекера. Тот крепче вцепился в трибуну, чтобы не упасть. Огромное помещение, расплываясь, скакало перед глазами, на лбу и спине у оратора выступил холодный пот. На шее бешено пульсировала жилка. – Все вы наблюдали взрыв шаттла, – гулко произнес Бедекер. – Снова и снова прокручивали запись. Похоже на навязчивый сон, согласитесь? На кошмар, от которого невозможно избавиться… – говорил он, толком не понимая, куда его несет. – Я был в составе НАСА на момент разработки ТКС… системы шаттла. Весь процесс от начала до конца напоминал один сплошной компромисс… Причины? Да что угодно. Деньги, политика, бюрократия… или общая непроходимая тупость. Мы убили астронавтов, как если бы выстрелили им в голову. Обращенные к нему лица казались прозрачными, как вода, и подрагивали, точно пламя свечей. – Но в этом и суть эволюции! – оглушительно выпалил он, склонившись к микрофону. – Орбитальный блок, топливный бак, бортовой ускоритель – все так здорово, по последнему слову техники… Казалось бы, идеал, но нет! На деле, как и с людьми, это всего лишь эволюционный компромисс. Где-то подле уникального механизма сердца, искусной системы зрительных нервов притаился артефакт тупости – словно аппендикс, лишний придаток слепой кишки, который только и ждет, чтобы прикончить нас… – Качнувшись, Бедекер оглядел растерянную толпу, лихорадочно ища способ донести до их сознания свою мысль… Тишина нарастала. Отголоски праздника стихли. Кто-то у входа кашлянул, и звук пушечным эхо прокатился по залу. Лица слились в одно. Бедекер зажмурился и крепче вцепился в трибуну. «Что сталось с рыбами?» Он широко распахнул глаза. – Что сталось с рыбами? – настойчиво повторил Бедекер уже вслух. – С двоякодышащими рыбами, теми, что первыми выбрались из моря на сушу. Что сталось с ними? Растерянность публики сменилась напряжением. Где-то на карусели девочка притворно вскрикнула от страха. Потом крики смолкли, и толпа внутри, затаив дыхание, ждала. – Они оставили след на берегу, а дальше? – Бедекер не узнавал собственный голос. Откашлявшись, он продолжал: – Первооткрыватели, они трепыхались на берегу, жадно ловя ртом воздух, чтобы снова возвратиться в океан. А когда умерли, их кости смешались с другими костями в тине. Впрочем, это понятно, я не о том. Он обернулся к Экройду, словно прося поддержки, и опять взглянул на толпу. Опустив на мгновение глаза, вскинул их снова, пристально всматриваясь в лица и не находя ни одного знакомого. По щекам струились слезы, но остановить этот поток было невозможно. – Снились ли им сны? – вопрошал Бедекер, но ответа не дождался. – Поймите, они видели звезды! Лежа на песке, судорожно глотая воздух и мечтая вернуться в родную стихию, они видели звезды! – Он снова откашлялся. – Вопрос в другом. Перед смертью, прежде, чем их прах соединился с прахом предков, снилось ли им что-то? Нет, снилось безусловно, но изменились ли они? В смысле, сны? Вот к чему я веду… – Бедекер осекся. – Мне кажется… – начал он и снова умолк. Потом резко дернулся, задев микрофон. – Спасибо, что пришли сегодня. Из-за свернутого микрофона фразу никто не услышал.* * *
Около трех часов ночи Бедекера основательно вырвало. Радовало, что в комнате была отдельная ванная, и никто не услышал. Почистив зубы и выполоскав рот, он на цыпочках прокрался в пустую спальню мальчика. Экройды давным-давно спали. В доме стояла мертвая тишина. Бедекер плотно прикрыл дверь, не пропуская ни малейшей полоски света, и ждал, когда появятся звезды. Вскоре одна за другой на темном небе засияли сотни сверкающих точек. Залитая солнцем полусфера Земли над лунными скалами тоже была покрыта люминесцентной краской. В мягких отблесках земного света серебрилась поверхность Луны. Звезды ослепительно горели, кратеры отбрасывали замысловатую тень, а вокруг царило безмолвие. Бедекер вытянулся на кровати, стараясь не смять покрывало, и думал о завтрашнем дне. В Чикаго, после регистрации, надо встретиться с Борманом и Серетти. Если удастся, по-дружески посидеть вечерком и в неформальной обстановке обсудить сделку по «аэробусам». После ужина он позвонит Коулу Прескотту прямо домой в Сент-Луис, скажет, что увольняется, и пусть уладят там все побыстрее. К сентябрю, желательно к Дню труда, ноги его не будет в Сент-Луисе. «А что потом?» – подумал Бедекер и уставился на залитую звездным светом Землю, сияющие облачные массы. Потом он обменяет свой четырехлетний «Крайслер Ле Барон» на спортивный автомобиль. «Корвет», к примеру. Нет, на что-нибудь столь же элегантное и мощное, как «Корвет», но с нормальной коробкой передач. Гоночный вариант. Бедекер ухмыльнулся. Поистине все гениальное просто. «А потом?» Пообвыкнув, он различал во мраке все новые звезды. «Мальчишка наверняка угрохал уйму времени на такую красоту». На потолке сверкающими спиралями разгорались сонмы далеких галактик. Потом он двинет на запад, сто лет уже не ездил по стране. Навестит Дейва в Салеме и Тома Гэвина в Колорадо. «А дальше?» Бедекер положил руку на лоб. В ушах звучали голоса, неразличимые в электрическом шуме помех. Перед глазами стояли серые надгробия на фоне зеленой травы и мельтешащие силуэты вокруг ржавого остова «Хадсона». Бедекер думал о сияющей на солнце водонапорной башне Глен-Оук, о чарующей красоте новорожденного сына. Думал о тьме и о тысячах огоньков медленно вращающегося во мраке колеса обозрения. Позже он уснул, а звезды продолжали гореть.
Часть третья Анкомпагре
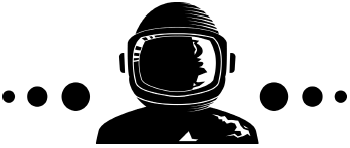
– К восхождению готовы? По команде Тома Гэвина Ричард Бедекер и еще трое туристов остановились поправить напоследок рюкзаки и поясные крепления. Гэвин был длиннолицым коротышкой с черным ежиком волос и пронизывающим взглядом. Даже самый будничный вопрос, казалось, вырывался из его тщедушного тела с напряженными командирскими интонациями. Кивнув, Бедекер наклонился поправить рюкзак и тайком снова попытался застегнуть поясное крепление, но тщетно. Мешало солидное брюшко и несолидная длина ремня, металлические зубцы пряжки никак не хотели цепляться. – Зараза, – буркнул Бедекер, затыкая концы ремня с глаз долой. Придется обойтись плечевыми лямками. Правда, без дополнительной подпруги тяжеленный рюкзак болезненно давил на спину, защемляя какой-то нерв. – Диди? – спросил Гэвин тоном, напомнившим Бедекеру о бесконечных полетных регламентах, которые они отрабатывали на тренировках. – Да, милый, – откликнулась Диди Гэвин. Ровесница мужа, в свои сорок пять она пребывала на безвозрастной стадии, как многие женщины между двадцатью пятью и пятьюдесятью. Стройная блондинка и болтушка – ни капли того сдержанного напряжения, что отличало поведение супруга. Если Том все время хмурился, точно решая какой-то неведомый ребус, то лицо миссис Гэвин всегда оставалось безмятежным. Из всех жен астронавтов, которых знал Бедекер, Диди наименее подходила на эту роль. Его бывшая жена Джоан предрекала чете Гэвинов неминуемый развод еще лет двадцать назад, когда пары впервые встретились на базе ВВС в Эдвине весной 1965 года. – Томми? – продолжал Гэвин. Том Гэвин-младший сухо кивнул, глядя куда-то в сторону. На нем были старые шорты и бело-голубая футболка студенческого движения «За Христа». Мальчик уже вымахал под метр девяносто и продолжал расти. Раздражение так и выпирало из него, давя на плечи будто второй рюкзак. – Дик? – Есть, сэр! Всегда готов. – В оранжевом рюкзаке Бедекер тащил палатку с дождевым пологом, продовольствие и воду, сменную одежду, горелку с топливом, столовые принадлежности, походную аптечку, трос, фонарик, фумигатор, спальный мешок, туристский коврик и разные необходимые мелочи. Если верить весам в ванной у Гэвинов, утром поклажа тянула на двадцать восемь фунтов, но, похоже, потом кто-то втихаря сунул в рюкзак пару-тройку шаров для боулинга и добротную коллекцию минералов. Защемленный нерв был как натянутая гитарная струна. Интересно, с каким звуком он лопнет? – Мисс Браун? Мэгги потуже затянула лямку на плече и улыбнулась – казалось, солнце вышло из-за туч, пусть и на безоблачном небе Колорадо. – Я готова. И зовите меня Мэгги, Том. – Волосы теперь острижены короче, чем три месяца назад, в Индии. На девушке были хлопчатобумажные шорты и мягкая клетчатая ковбойка поверх короткого зеленого топа. Стройные крепкие ноги покрывал ровный загар. Ей досталась самая легкая ноша, даже не рюкзак, а голубой полотняный ранец с привязанным к нему спальным мешком на гусином пуху. В отличие от остальной компании, нацепившей массивные альпинистские ботинки, Мэгги щеголяла в обычных кроссовках «Найк». Бедекеру казалось, что она вот-вот взлетит ввысь, как оторвавшийся воздушный шарик, пока другие будут барахтаться, точно глубоководные ныряльщики. – Отлично, тогда идем! – Гэвин развернулся и бодрым шагом двинулся прочь от припаркованного автомобиля. За лугом наезженная дорога сужалась, петляя между желтых сосен, калифорнийских пихт и редких тополевых рощиц. Диди шагала нога в ногу с мужем, за ними легкой походкой семенила Мэгги. Бедекер пытался идти наравне со всеми, но уже через первые три сотни шагов начал спотыкаться. Его лицо покраснело от напряжения, легкие требовали больше кислорода, чем было в разреженном воздухе на высоте девять тысяч футов. Уступал ему только Том-младший, который плелся в самом хвосте, периодически швыряя камни в деревья или вырезая что-то финкой на стволах тополей. – Эй, не отставать! – велел Гэвин на очередном витке серпантина. – Мы еще даже не вышли на маршрут. Бедекер кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Мэгги развернулась и поспешила к нему. Бедекер вытер пот со лба и поправил на взмокшей спине рюкзак, поражаясь такому безрассудству – ведь на следующем повороте предстоит новый подъем! – Привет, – шепнула Мэгги. – Привет, – выдавил он. – Не переживай, скоро привал, – успокоила она. – Через час солнце скроется за горой. И при любом раскладе мы заночуем внизу каньона, дальше слишком круто. – Откуда ты знаешь? – прохрипел Бедекер. Мэгги улыбнулась и знакомым еще по Индии жестом заправила прядь за ухо. Радовало, что ее новая короткая стрижка оставляла пространство для этого маневра. – Заглянула в карту, которую Том показывал тебе вчера в Боулдер-Сити. – О! – Ошарашенный внезапным появлением Мэгги у Гэвинов, Бедекер толком и не рассмотрел карту. Поправив ремни рюкзака, он поплелся вверх. Сердце тут же заколотилось, легкие сжались от нехватки кислорода. – Что это с ним? – спросила вдруг Мэгги. – С кем? – буркнул Бедекер, еле волоча ноги. Покупая ботинки неделю назад, он вроде не просил освинцованные подошвы, ан нет – судя по всему, их и подсунули. – С ним. – Мэгги кивнула вниз, на унылую фигуру Тома-младшего. Мальчик стоял, обернувшись назад и сунув руки в карманы. – Проблемы на любовном фронте. – Бедняжка, – вздохнула Мэгги. – Бросила его, да? Бедекер остановился, жадно ловя ртом воздух. Не помогло. В ушах по-прежнему звучала дробь крошечных барабанов. – Не бросила. Том и Диди сочли, что все зашло слишком далеко, и запретили им встречаться. – Слишком далеко – это как? – не поняла Мэгги. – На горизонте возникла коварная гидра добрачного секса. – Можно только посочувствовать парню. – Мэгги покосилась на Тома-младшего. – Ему сколько? Семнадцать? – Восемнадцать не хочешь? – Бедекер снова двинулся в путь в надежде, что второе дыхание наконец откроется. – Вы почти ровесники. В ответ Мэгги скорчила гримасу. – Юморист… Ты ведь в курсе, что мне двадцать шесть. Бедекер молча кивнул, стараясь идти в ногу с девушкой, чтобы той не пришлось тормозить. – Эй, – воскликнула она. – А где поясное крепление? С ним ведь легче, не давит на плечи. – Сломалось, – буркнул Бедекер, глядя вверх на мелькающие среди деревьев силуэты Тома и Диди, которые, успев преодолеть два витка дороги, стремительно далеко ушли вперед. – Все еще злишься? – спросила Мэгги совсем другим, ниже на регистр тоном, от чего израненное сердце Бедекера забилось быстрее. – Злюсь? На что? – На меня, что явилась без приглашения к твоим друзьям. – Глупости, – отмахнулся Бедекер. – Друзья Скотта – мои друзья. – Обсуждали уже тысячу раз, – нахмурилась Мэгги. – Я прилетела сюда из Бостона вовсе не в качестве бывшей подружки Скотта. Просто занятия начались. Бедекер кивнул. В нынешнем году Скотт получил бы диплом, не взбреди ему в голову бросить все и уехать к этому проклятому гуру. Мэгги была четырьмя годами старше Скотта, но после колледжа проработала два года в «Корпусе мира» и теперь получала степень по социологии. Они оказались на открытом участке серпантина. Бедекер остановился, делая вид, будто рассматривает каньон и окружающие горные вершины. – Видел бы ты свое лицо, когда я нагрянула вчера вечером, – развеселилась Мэгги. – Думала, у тебя челюсть выскочит. – У меня свои зубы. – Бедекер вскинул рюкзак повыше и подтянул лямку. – По большей части. Отсмеявшись, Мэгги потрепала его по плечу прохладными пальцами и бойко устремилась вверх, притормаживая на поворотах и маня его за собой, и снова вприпрыжку поднималась. «Надо же, бежит в гору!» – подумал Бедекер и на секунду зажмурился. – Ричард, давай в темпе, – подгоняла Мэгги. – Быстрее доберемся, быстрее поужинаем. Он открыл глаза. Солнце позади девушки окружало ее сверкающим ореолом, озарявшим даже волоски на руках. – Иди, я догоню – где-то через недельку. Звонко засмеявшись, она побежала дальше, явно неподвластная той гравитации, что так тяготила его самого. Понаблюдав с минуту, он двинулся следом, ступая куда легче прежнего. Чем ближе становился прозрачный купол колорадского неба, тем меньше давил на плечи рюкзак.
* * *
Бедекер ничему так не радовался за всю свою жизнь в Сент-Луисе, как предстоящему отъезду. Увольняясь из компании аэрокосмического оборудования, где прослужил последние восемь лет, он окончательно уверился в собственной никчемности, когда его босс, Коул Прескотт, хоть и сетовал от души, не попросил его задержаться и подготовить преемника. Бедекер продал свой дом обратно тому же застройщику, а также всю мебель, оставив лишь книги, бумаги и бюро, полученное от Джоан в подарок на сорокалетие. Он попрощался за рюмкой с немногими друзьями и знакомыми – по большей части, коллегами – и погожим днем отправился на запад, отобедав напоследок в ресторанчике «Три флага» в Сент-Чарльзе, на другом берегу реки Миссури. Чтобы покончить с прежней жизнью в Сент-Луисе, Ричарду Бедекеру не понадобилось и трех дней. В Канзас-Сити он въехал в самый час пик. Сидя в кожаном салоне автомобиля, Бедекер безмятежно наблюдал под звуки радио за бешеным уличным движением. Изначально он планировал сменить свой «Крайслер Ле Барон» на более компактный, скоростной вариант вроде «Корвета» или «Мазды RX-7» – из тех, что водил лет двадцать назад, когда летал испытателем и готовился к космическому полету. Однако в последний момент передумал и оставил «Крайслер», не желая выглядеть очередным старым козлом, пытающимся восполнить утраченную молодость спортивной тачкой. В прохладе и комфорте «Ле Барона», под «Музыку на воде» Генделя он миновал Канзас-Сити с его зернохранилищами и уверенно двинулся на запад, навстречу заходящему солнцу и бескрайним полям. Переночевал в Расселе, маленьком канзасском городке, куда заехал в поисках дешевого мотеля подальше от автострады. Вывеска на гостинице гласила «КАБЕЛЬНОЕ ТВ, КОФЕ БЕСПЛАТНО». Старые домики оказались без кондиционера, но чистые и тихие, надежно укрытые сенью гигантских деревьев, отбрасывающих в сумерках глубокие прохладные тени. После душа Бедекер переоделся и отправился на прогулку. Устроившись на стадионе в городском парке, наскоро перекусил двумя хот-догами и кофе, купленными тут же, у открытых трибун. На середине второй игры в небе загорелся оранжевый месяц. По привычке Бедекер глянул вверх, пытаясь разыскать Холмы Мариуса на западе Океана Бурь, но они тонули во мраке. Вечер был проникнут тоскливым ощущением грядущей осени. День труда миновал, а вместе с ним и лето. Несмотря на еще жаркие деньки и турнир по софтболу, дети уже пошли в школу, городской бассейн закрылся, а раскинувшиеся за городом кукурузные поля желтели в преддверии сбора урожая. После шестой подачи на второй игре Бедекер вернулся в гостиницу. «КАБЕЛЬНОЕ ТВ» на поверку оказалось маленьким черно-белым телевизором, транслировавшим два канзасских канала, два из Атланты и Чикаго да еще три религиозных. На втором из них Бедекер и увидел Тома Гэвина, своего старого товарища по «Аполлону».* * *
В полутора милях выше луга, где они припарковали машину, ухабистая проселочная дорога превращалась в тропу, петляющую средь густого леса. Выбрав нужный темп, Бедекер шагал намного легче, наслаждаясь дивным вечером и причудливой игрой теней. Воздух стал прохладнее, едва тень утеса накрыла каньон. На повороте Бедекера дожидалась Мэгги, и остаток пути они проделали молча. У следующего витка хлопотали Том и Диди, разбивая лагерь на опушке у ручья, бегущего вдоль тропы. Бедекер скинул рюкзак и потянулся, потирая затекшую шею. – А где Томми? – встрепенулась Диди. – Ниже, в сотне метров, – ответила Мэгги, – скоро подойдет. Бедекер расстелил мат и привязал к кольям двухместную оранжевую палатку, которую тащил на спине. Оставалось приладить дуги и подпорки. Им с Мэгги пришлось немало потрудиться и посмеяться, прежде чем удалось поставить каркас и натянуть сверху тент. В результате их усилий неподалеку от голубого шатра Тома и Диди вырос покатый оранжевый купол. Гэвин подошел к Мэгги и присел рядом, протягивая нейлоновый сверток. – Старая палатка Томми, одноместная. Маловата, правда. Скорее тянет на бивачный мешок, но на пару ночей сойдет. – Конечно, – кивнула Мэгги и пошла обустраиваться чуть ниже по склону. Томми уже явился в лагерь и теперь оживленно болтал с матерью, собиравшей хворост на дальнем конце опушки. – Вы тогда с Томми в двухместной, ладно? – спросил Гэвин, глядя, как Мэгги вбивает колышки камнем. – Без проблем. – Бедекер снял ботинки и шевелил пальцами в насквозь сырых носках, испытывая при этом наслаждение сродни райскому. – Давно ее знаешь? – поинтересовался Гэвин. – Мэгги? Познакомился этим летом в Индии. Я же вчера говорил, она – подруга Скотта. – Ясно, – протянул Гэвин, явно желая добавить что-то еще, но вместо этого встал и отряхнул джинсы. – Пора разжигать костер и ужинать. Поможешь? – Конечно. – Бедекер поднялся и осторожно зашагал по траве, чувствуя голыми ногами каждую веточку и камешек. – Только сперва помогу Мэгги с палаткой. Стараясь ступать полегче, он спустился к девушке.* * *
По религиозному каналу шел один из многочисленных клонов «Хвалы Иисусу». Декорации в духе дешевой готики, благородная седина ведущего в тон к серому костюму из полиэстера. На экране постоянно висел десятизначный телефонный номер на случай, если зритель захочет вдруг сделать пожертвование и забудет адрес, хотя супруга ведущего, дама в белом парике, демонстрировала его каждые две минуты. У дамы явно наблюдалось нервное расстройство: она рыдала, зачитывая письма от зрителей, раскаявшихся и уверовавших во время эфира, рыдала, когда бывший исполнитель кантри, а ныне паралитик, исполнял «Благословен Спаситель», рыдала, когда очередная гостья рассказывала про чудесное исчезновение восьмифунтовой опухоли с шеи. И так все десять минут, пока в студии не появился Том Гэвин. Самое поразительное, что тушь неврастенички, наложенная не иначе как лопатой, даже не потекла. Бедекер успел переодеться в пижаму и потянулся выключить телевизор, как вдруг на экране возник его старый товарищ. – Наш следующий гость узрел величие творений Господа так, как дано узреть лишь единицам, – проговорил ведущий профессионально-внушительным тоном, характерным для успешных дельцов и чиновников средней руки. – Хвала Иисусу! – мгновенно откликнулась неврастеничка. – У нас в студии Томас Милбурн Гэвин, майор ВВС, герой войны во Вьетнаме… «Том перегонял самолеты из Калифорнии на базы в Окинаве, – подумал Бедекер. – Да уж…» – …удостоенный президентом «Медали Свободы» за участие в полете «Аполлона» на Луну в 1971 году, – продолжал ведущий. «Нам всем тогда вручили медали. Будь на корабле кот, вручили бы и ему». – …летчик-испытатель, инженер, астронавт, известный ученый… «Никакой он не ученый, ни одного не было вплоть до Шмидта. А степень Том получил в Калифорнийском технологическом позже нас всех, да и то лишь чтобы не вылететь из программы подготовки на базе Эдвардс». – …и самое главное – первый истинный христианин, ступивший на Луну, – возвестил ведущий. «Не ходил он по Луне!» – Друзья, встречайте – майор Томас Гэвин! Гэвин обменялся рукопожатием с ведущим, подставил щеку для поцелуя его супруге и, кивнув парализованному певцу и женщине, избавившейся от опухоли, присел на краешек длинного дивана. Чета ведущих тем временем устроилась в мягких креслах, с виду – по крайней мере, на маленьком экране – напоминавших обитые велюром троны. – Том, расскажите, как вы впервые, будучи на Луне, услышали глас Божий. Гэвин с готовностью кивнул и повернулся в камеру. На взгляд Бедекера, приятель ни капли не постарел с тех пор, как они втроем с Дейвом Малдорфом проводили бесчисленные часы в барокамере в семидесятом и семьдесят первом. На Томе была форма ВВС с нашивками различных полетов НАСА. Выглядел он стройным и подтянутым. Бедекер с тех пор набрал двадцать фунтов и не влезал ни в одну старую форму. – С удовольствием расскажу. – Гэвин растянул губы в сдержанную улыбку, хорошо знакомую Бедекеру. – Но прежде, Пол, хочу уточнить – по сути, я не был на Луне. Согласно программе полета, двое членов команды спускались на поверхность в лунном модуле, а третий оставался на лунной орбите, чтобы управлять системами в командном отсеке и сообщать сводку из Хьюстона. Меня и оставили в командном отсеке. – Да-да, разумеется, – поспешно согласился ведущий, – но все же, проделав такой путь, вы почти побывали на Луне! – Двести сорок тысяч миль минус где-то шестьдесят тысяч футов. – Гэвин снова сдержанно улыбнулся. – Если остальная команда привезла пыльные булыжники, то вы привезли Откровение Господне. Верно, Том? – спросил ведущий. – Совершенно верно, Пол, – согласился Гэвин и поведал, как провел пятьдесят два часа в командном отсеке, совершенно один, как остался без радиосвязи на другой стороне Луны и как Господь заговорил с ним в районе кратера Циолковского. – И это был глас из истинного Центра управления, не так ли? – уточнил ведущий. Его супруга, взвизгнув, молитвенно сцепила руки. Аудитория взорвалась аплодисментами. – Том, – с удвоенной серьезностью в голосе ведущий подался вперед, доверительно дотронувшись до колена астронавта, – все, что вы видели в ходе этого… необычайного паломничества… похода к далеким звездам… все, о чем вы рассказывали молодежи… Можно ли назвать это доказательством истины Слова Божьего, изложенного в Библии? Доказательством славы нашего Спасителя, Иисуса Христа? – Безусловно, – ответил Гэвин, глядя в камеру с яростной решимостью в глазах, которая всегда проявлялась у него во время соревнований по гандболу среди экипажей «Аполлона». – И еще… полет на Луну, при всей своей уникальности, не идет ни в какое сравнение с днем, когда я обрел Христа, своего Господа и Спасителя! Ведущий повернулся в камеру и победно кивнул. Аудитория ответила овациями. Супруга ведущего пустила слезу. – И вы, Том, решили явить свидетельство Божье другим и приобщить их к Христу, так? – Совершенно верно, Пол. Например, в прошлом месяце мне выпала честь побывать в Китайской Народной Республике и там посетить одну из немногих оставшихся семинарий… Бедекер откинулся на кровати, прикрыв рукой глаза. Том ни словом не обмолвился об откровении за все три дня обратного полета, и потом, на итоговом совещании во время недельного карантина. По сути, Том молчал целых пять лет и впервые выступил со своим сенсационным заявлением по радио аккурат после того, как лопнул его бизнес в Сакраменто. Сразу после ток-шоу на радио они с Диди переехали в Колорадо, где основали общество евангелистов. Бедекера не удивляло, что Том не поделился ни с ним, ни с Дейвом; командой они были отличной, но вот близкие отношения так и не сложились, несмотря на двухлетние тренировки бок о бок. Бедекер снова сел и уставился на экран. – …гостем нашей прошлой передачи был выдающийся ученый, – продолжал ведущий, – христианин и борец за введение креационизма в школьную программу… вы, Том, знаете, что сейчас детей потчуют необоснованной, кощунственной теорией о происхождении человека от обезьяны и прочих низменных форм жизни… И этот выдающийся, признанный ученый заявил, что ежегодно наша планета сталкивается с множеством метеоров… Том, вы наверняка видели их в космосе? – Микрометеориты всегда вызывали опасения инженеров-конструкторов, – заметил Гэвин. – Словом, миллионы маленьких… как бы поточнее сказать… маленьких камешков, да, Том? Миллионы камешков ежегодно попадают в атмосферу Земли, которой, если верить обезьяньей теории, уже сколько? Три миллиарда лет? «Четыре с половиной, кретин!» – Более четырех миллиардов, – поправил Гэвин. – Именно, – улыбнулся ведущий. – Так вот, наш выдающийся гость заявил, и даже доказал математически, что при таком раскладе наша планета давно скрылась бы под огромным слоем метеоритной пыли! Аудитория бешено зааплодировала. Неврастеничка сложила руки и сквозь шум восславляла Христа, раскачиваясь взад-вперед на кресле. Гэвин улыбнулся и тактично сделал вид, что смущен. Бедекеру вспомнился обломок «оранжевой руды», который они с Дейвом взяли у Холмов Мариуса. Согласно пробам аргона-39 и 40, обломок троктолитовой брекчии имел возраст 3,95 миллиарда лет. – Извечная проблема теории эволюции в том, что она идет вразрез с научными методами, – начал Гэвин. – Человеческая жизнь скоротечна, а посему ученые лишены возможности лично наблюдать пресловутые механизмы эволюции, которые так рьяно постулируют. Геологические данные тоже вещь спорная. Вот почему научные теории обречены на противоречия, в то время как все без исключения библейские трактовки оправдывали себя не единожды. – Да-да, – с энтузиазмом закивал ведущий. – Восславим Христа! – поддакнула его супруга. – Наука не в состоянии ответить на наши вопросы, – продолжал Гэвин, – человеческий интеллект, увы, несовершенен. – Как точно подмечено! – умилился ведущий. – Восславим Христа! – откликнулась его супруга. – Да явит Он истину! – Аминь! – заключил Бедекер и вырубил телевизор.* * *
После ужина, за несколько минут до наступления темноты, на опушке появились гости. Сперва двое парней, сгибающиеся под тяжестью рюкзаков с привязанными сверху алюминиевыми треногами. Не обращая ни на кого внимания, парни скинули ношу и установили треноги. Из рюкзаков извлекли поролоновые прокладки и две шестнадцатимиллиметровые кинокамеры. – Только бы успеть засветло, – пробормотал толстяк в шортах. – Успеем, – заверил его приятель, высокий рыжеволосый детина с реденькой бородкой. – Если только кое-кто поторопится, а уж «Tri-X» свое дело знает. Парни прилаживали камеры к треногам, выжидающе посматривая на дорогу, откуда только что пришли. Высоко в небе, паря в не остывших еще воздушных потоках, ястреб издал ленивый крик. Последний луч солнца на миг позолотил распахнутые крылья, и на землю опустились сумерки. – Интересно, в чем дело… – Гэвин доел тушенку и начисто облизал ложку. – Я специально выбрал старый маршрут со стороны Симаррон-Крик, по которому почти никто не ходит. – Им бы поторопиться со съемкой, – заметила Мэгги. – Скоро стемнеет. – Кто будет печь зефирки на костре? – спросила Диди. В сумраке елей послышалось шуршание – к опушке медленно, но верно приближался третий гость, на сей раз с ношей посерьезнее. Тоже молодой, он выглядел старше парочки с камерами. Рваные шорты цвета хаки и массивные ботинки, голубая хлопковая рубашка промокла от пота. На спине он тащил огромный синий рюкзак с привязанным к нему длинным свертком в красно-желтом парусиновом чехле. Какие-то палки длиной не меньше четырнадцати футов выпирали футов на шесть из-за согнутых плеч «носильщика» и еще на столько же волочились в пыли. Длинные темные волосы парня разделял посередине пробор, взмокшие пряди завивались, обрамляя высокие скулы. Когда тот подошел ближе, Бедекер разглядел глубоко посаженные глаза, острый нос и короткую бородку. Ни дать, ни взять, актер в роли Христа, восходящего на Голгофу. – Отлично, Люд, мы успеваем! – завопил рыжеволосый. – Мария, шевелись, пока светло! В полумраке тропы показалась коротко стриженная узколицая брюнетка в шортах и открытом топе на пару размеров больше. Брюнетка тоже несла рюкзак. Когда бородач устало опустился на одно колено, она быстро подскочила к нему, отстегнула лямки и скинула длинные чехлы на землю. Послышался характерный лязг металла. Бородач, казалось, был не в силах шелохнуться и продолжал стоять, опустив голову и упираясь рукой в колено. Брюнетка по имени Мария подошла и ласково погладила его по затылку. – Супер, мы молодцы! – радовался толстяк. – Теперь займемся этими долбаными палатками. Пока троица разбивала лагерь, бородач так и не двинулся с места. – Чудны́е какие-то, – шепнула Мэгги. – Наверное, снимают документалку, – предположил Гэвин. – О чем, интересно… – задумалась Мэгги. – А как же зефирки? – всполошилась Диди. – Надо настругать веточек для жарки, пока не совсем темно. Том-младший затравленно оглянулся на лесную чащу. – Я помогу, – вызвался Бедекер, вставая и потягиваясь. Над восточным хребтом зажглись первые звезды, быстро холодало. На другом конце лужайки троица гостей поставила две маленькие палатки и в сумерках собирала хворост. Один только Люд, как все звали бородача, сидел молча, по-турецки поджав ноги, едва различимый во мраке.* * *
В Денвер Бедекер добрался к вечеру среды. Там у Гэвина была контора, а жил он в Боулдер-Сити, на двадцать миль ближе к горам. С ближайшей заправки Бедекер позвонил приятелю домой. Трубку взяла Диди. После бурных восторгов и категоричного «Никаких гостиниц, Дик! Остановишься у нас» она предложила ему заехать к Тому на работу, сообщив телефон и адрес конторы. Евангелистское общество Гэвина под названием «Апогей» размещалось на втором этаже трехэтажного здания банка на Ист-Колфакс-авеню, в паре миль от центра города. Припарковавшись, Бедекер отправился по указательным знакам «ТУДА» с нарисованным пальцем и постерам, гласящим «В ИИСУСЕ ОБРЕТЕШЬ ОТВЕТ» и «ГДЕ БУДЕШЬ ТЫ, КОГДА АНГЕЛ ВОСТРУБИТ?» В просторном офисе обреталось несколько молодых людей в строгих костюмах и с манерами, консервативность которых поразила даже старомодного Бедекера. – Чем могу помочь, сэр? – обратился к нему юноша в белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, и черном галстуке. И это несмотря на страшную духоту – кондиционер в офисе то ли не работал, то ли просто отсутствовал. – Я к Тому Гэвину, – начал Бедекер. – Мы договаривались… – Дик! – воскликнул Гэвин, появляясь из-за перегородки. Бедекер успел оценить прекрасную физическую форму приятеля и уже протянул руку, как тот вдруг стиснул его в объятиях. Бедекер опешил. Кто-кто, а Том Гэвин никогда не был поклонником лобызаний. Помнится, он ни разу не обнял жену на людях. – Отлично выглядишь, Дик! – заметил Гэвин, стиснув его предплечье. – Господи, как я рад тебя видеть! – Я тоже, – улыбнулся Бедекер, немало польщенный, но чувствуя себя несколько скованно. После повторных объятий Гэвин провел его в свою «конторку», огороженную четырьмя ширмами. Теплый воздух наполняли офисные звуки. Откуда-то раздавался женский смех. Одну из стен украшали фотографии в рамках: ракета «Сатурн V» в ночи на мобильной стартовой платформе, командный модуль «Перегрин» над сияющим краем лунного диска, групповой снимок команды в скафандрах, луноход «Дискавери» на орбитальном спуске и наконец снимок с автографом Ричарда Никсона, где президент пожимает Тому руку на церемонии в Розовом саду Белого дома. Точно такие же или почти такие же фотографии висели у Бедекера в офисе и в холостяцкой берлоге без малого двенадцать лет. Словом, стандартные рекламные снимки НАСА. В подборке Гэвина не хватало лишь кадра, сделанного с лунохода, где Бедекер и Дейв Малдорф, неотличимые друг от друга в громоздких скафандрах, отдают честь американскому флагу на фоне белых холмов кратера Мариуса. – Ну, рассказывай, Дик! – потребовал Гэвин. – Как жизнь? За минуту Бедекер поведал о бывшей работе в Сент-Луисе и поспешном отъезде. Причин, правда, не объяснил, ибо сам их толком не понимал. – Значит, ищешь работу? – спросил Гэвин. – Пока нет, просто путешествую. Благо могу позволить себе пару месяцев повалять дурака. Потом, конечно, буду искать. Тем более что предложения уже есть, – сообщил Бедекер, не став добавлять, что ни один вариант его не устраивал. – Рад за тебя, – улыбнулся Гэвин. Над его столом в рамке видел плакат: «СДАТЬСЯ НА МИЛОСТЬ ИИСУСА – ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В ЖИЗНИ». – Как Джоан? Общаетесь? – Виделись в Бостоне, в марте. По-моему, у нее все прекрасно. – Ну и хорошо, – кивнул Гэвин. – А Скотт? Он же у тебя вроде в этом… Бостонском университете? – Временно в свободном полете. – Бедекер замялся, думая, стоит ли говорить, что сын бросил учебу ради секты под предводительством «гуру». – Подался на семестр в Индию. – Индия, ух ты! – восхитился Гэвин, по-прежнему улыбаясь самой приветливой улыбкой, но в недрах глубоко посаженных темных глаз таилась ледяная сдержанность, поразившая Бедекера еще в их первую встречу на базе Эдвардс двадцать лет назад. Тогда они с Гэвином были соперниками, а кем стали теперь? – Твой черед, Том. Давай, расскажи про «Апогей». Просияв, Гэвин заговорил тихим уверенным тоном, больше подходящим для общественных выступлений. Его манера говорить разительно отличалась от той, что запомнилась Бедекеру в период их совместной работы. В НАСА еще шутили, что Гэвин обычно отвечает односложно или короче. Дейва Малдорфа окрестили тогда Рокфордом за привычку молоть языком, как детектив, которого играл Джеймс Гарнер, а Гэвина, с его вечными «ага» и «не-а», стали звать Купером, как молчаливого бывшего юриста из того же телесериала. Том юмор не оценил, и прозвище не прижилось. Гэвин тем временем вещал о том, что случилось после триумфального завершения полета на Луну, как он уволился из НАСА вслед за Бедекером, а потом мыкался с аптечным бизнесом в Калифорнии. – Я зашибал большие деньги. У нас был домина в Сакраменто и пляжный домик к северу от Сан-Франциско. Диди могла позволить себе любую роскошь, но счастлив я не был… Понимаешь, Дик? Не был я счастлив. Бедекер кивнул. – Да и с Диди отношения разладились, – продолжал Гэвин. – С виду наш брак казался образцовым, но что-то… главное из него исчезло. Причем мы оба это понимали. И вот осенью семьдесят шестого один приятель пригласил нас на христианский уикенд, организованный его церковью. Там все и началось. Впервые в жизни… это при всем моем религиозном воспитании – впервые я по-настоящему услышал Слово Божье и принял Его. Потом мы с Диди пошли в церковь, получили наставление по вопросам брака, и дела стали налаживаться. С тех пор я много думал о… послании, которое получил, точнее, узрел, там, на орбите. Так продолжалось вплоть до весны. Пятого апреля семьдесят седьмого года я проснулся с мыслью, что остаток жизни должен прожить во Христе. Истинно уверовав! Тогда я встал на колени и принял Его своим Господом и Спасителем. И ни разу не пожалел о своем решении. Ни разу, Дик. Ни на секунду! Бедекер понимающе кивнул. – А это итог? – Он многозначительно обвел глазами офис. – Угадал, – засмеялся Гэвин, но немигающий взгляд оставался напряженным. – Конечно, получилось все не сразу, но как видишь. Ладно, пойдем, познакомлю тебя с ребятами. На полный рабочий день у нас шестеро сотрудников и еще с десятокволонтеров. – И чем они тут занимаются целый день? – осведомился Бедекер. Гэвин поднялся. – В основном отвечают на звонки. «Апогей» – организация некоммерческая. Ребята организуют мои выездные лекции, проводят совместные акции с местным духовенством и обществом «За Христа», готовят ежемесячные публикации, наставляют страждущих на путь истинный, специалисты ведут программу реабилитации наркозависимых… Если в двух словах, выполняют волю Божью, когда Он благоволит ее явить. – Напряженный график, – заметил Бедекер. – Почти как в старые времена, перед полетом, – добавил он и смутился – настолько неуместно это прозвучало. – Верно, – согласился Гэвин, приобнимая его за плечи, – почти. И график напряженный, и ответственность большая, и дисциплина строгая. Только наша задача в миллиард раз важнее полета на Луну. Бедекер молча кивнул и последовал за Гэвином, как тот вдруг резко обернулся и посмотрел товарищу в глаза. – Дик, ты ведь не христианин? Минутная растерянность тут же сменилась гневом. Бедекер становился сам не свой всякий раз, стоило ему услышать этот вопрос, в котором неизменно чудилась агрессия пополам с провинциальной узколобостью. И всякий раз он не знал, что ответить. Его отец одно время причислял себя к Нидерландской реформаторской церкви, а мать вообще мало интересовалась религией. Джоан была католичкой и воспитывала Скотта в тех же традициях, поэтому долгие годы Бедекер не пропускал ни единой воскресной службы. А вот в последние десять лет он стал… стал кем? – Нет, – ответил Бедекер, сдерживая гнев и смело глядя на Гэвина. – Я не христианин. – Так я и думал. – Гэвин снова стиснул его плечо. – Тогда скажу прямо: я буду молиться, чтобы ты стал христианином. Пойми, это из лучших побуждений, Дик. Из самых лучших. Бедекер кивнул, но промолчал. – Ладно, идем, – воодушевился Гэвин. – Познакомлю тебя с нашими славными ребятами.* * *
Вымыв посуду подогретой на костре водой, Бедекер вместе с Гэвином, Мэгги и Томми пошли пообщаться с «новенькими». – Всем привет! – поздоровался Гэвин. – Здрасьте, – кивнул рыжий. Девушка и толстяк молча уставились на незнакомцев. Бородач по имени Люд не отрывал взгляд от костра, бросавшего отблески на лица. – Идете через перевал к плато и на Хенсон-Крик? – полюбопытствовал Гэвин. – Нет, мы хотим взобраться на Анкомпагре, – заявил блондинистый толстяк в шортах. Гэвин присел на корточки у костра. Остальные последовали его примеру. Мэгги сунула в рот травинку и стала жевать. – Какое совпадение, и мы туда же, – сообщила она. – Судя по карте, до южного хребта миль девять, да? – Верно, – подтвердил рыжий. Бедекер указал на металлические трубки в чехлах. – Не тяжело тащить такое в гору? – Это «Рогалло», – пояснила брюнетка Мария. – Вау! – ахнул Томми. – И как я сразу не допер. Круто! – «Рогалло», – задумчиво повторил Гэвин. – Теперь ясно. – Что за «Рогалло»? – удивилась Мэгги. – Кайт, – ответил блондин. – Дельтаплан, короче. – А серия? – спросил Бедекер. – «Феникс-шесть», – сообщил рыжий. – Слыхали? – Нет, – покачал головой Бедекер. – Будете запускать с южного хребта? – прищурился Гэвин. – Нет, с самой вершины. – Мария покосилась на бородача, молча сидевшего поодаль. – Наша с Людом задумка. – С вершины! – благоговейно выдохнул Томми. – Вот это да! – А то! – Рыжий пошевелил угли. – Запустим и сделаем короткометражку для универа. Рассчитываем в общей сложности минут на сорок пять, это после монтажа и обработки. Ну и это… на фестивали разные пошлем. Вдруг какая спортивная компания заинтересуется для рекламы. – Занятно, – кивнул Гэвин. – Только зачем идти таким сложным путем? – В смысле? – встрепенулась Мария. – В смысле, что по этой тропе получится вдвое длиннее, чем если доехать от Лейк-Сити до Хенсон-Крик и дальше на север пешком. – У нас только один путь, – ожил бородач. От звука его хриплого гортанного голоса все смолкли, но он даже не обернулся, продолжая глядеть на огонь. Языки пламени плясали в глубине его запавших глаз. – Удачи, – пожелал Гэвин, вставая. – И хорошей погоды. Бедекер и Мэгги поднялись следом, один Томми остался сидеть у костра. – Я задержусь на пару минут, – сказал он. – Хочу послушать про дельтаплан. – Только недолго, – предупредил Гэвин, помедлив. Вернувшись в лагерь, он вкратце пересказал разговор Диди. – А это не слишком рискованно? – встревожилась она. – Это идиотизм, – отрезал Гэвин. – Дельтапланы – штука красивая, – вставил Бедекер. – И опасная, – добавил Гэвин. – Мой приятель, пилот «Истерн эйрлайнз», погиб из-за такой штуковины, и двадцать восемь лет летного стажа не помогли. Его дельтаплан потерял высоту, и он пошел на снижение, чтобы набрать скорость… Лично я сделал бы то же самое. Как и ты, Дик, согласись. Это уже рефлекс, но на таких игрушках все работает по-другому. Короче, рухнул с высоты пятьдесят футов и сломал себе шею. – А тут гора… – содрогнулась Диди. – Сейчас вовсю летают с гор, – попытался разрядить обстановку Бедекер. – К югу от Сент-Луиса есть высоченный карьерный отвал. Сам не раз наблюдал, как оттуда летают, и ничего. – Одно дело высокий холм или береговой утес, и совсем другое – Анкомпагре, – хмыкнул Гэвин. – Вот завтра поднимемся повыше, сам увидишь. Анкомпагре как многоярусный торт, куда ни глянь – сплошные склоны и хребты. – Значит, с теплыми восходящими потоками там напряг, – протянул Бедекер. – Не то слово! Вдобавок, ветрище на высоте четырнадцать тысяч футов. Правда, плато на три тысячи ниже, но все равно выходит больше десятки. И вдобавок, плато все в булыжниках и валунах. Говорю же, самоубийство чистой воды. – Зачем они тогда это затеяли? – нахмурилась Мэгги, сверкнув изумрудами глаз в свете костра. – Видели, какие руки у бородатого… у Люда? – спросил Гэвин. Переглянувшись, Бедекер и Мэгги покачали головами. – Они все исколотые, – пояснил Гэвин. – Парень на игле. В лагере киношников раздался оглушительный смех, потом заиграла музыка. – Хоть бы Томми поскорее вернулся, – беспокоилась Диди. – Давайте рассказывать страшилки у костра! – предложила Мэгги. – Нет, – решительно осадил ее Гэвин. – Никакой мистики и чертовщины. Как насчет походных песен? – Идет, – согласилась Мэгги, с улыбкой косясь на Бедекера. Гэвин с Диди затянули «Кумбая» под аккомпанемент хохота и «Глаз без лица» Билли Айдола, доносящихся с дальнего конца опушки.* * *
В четверг вечером Бедекер сидел в гостиной Гэвинов и обсуждал будущий совместный поход в горы, как в дверь позвонили. Том пошел открывать. Бедекер вполуха слушал сетования Диди по поводу Томми и его подружки, когда за спиной раздалось: – Привет, Ричард! Бедекер повернулся и обмер. Нет, ошибки никакой – посреди гостиной Гэвинов стояла Мэгги Браун, одетая в то самое белое платье, что и на экскурсии в Тадж-Махал. Правда, ее волосы стали намного короче и сильно выгорели, но загорелое веснушчатое лицо и зеленые глаза были все те же. Да и чарующая щербинка между зубами лишний раз подтверждала, что перед ним Мэгги Браун собственной персоной. Бедекер буквально потерял дар речи. – Дама интересовалась, в этом ли доме остановился знаменитый астронавт Ричард Э. Бедекер, – ухмыльнулся Гэвин. – А я ей и говорю: «Вы по адресу, мисс». Позже Том и Диди устроились смотреть телевизор, а Бедекер с Мэгги отправились прогуляться по пассажу на Перл-стрит. Прежде Бедекер бывал в Боулдер-Сити лишь раз – приезжал с пятидневным визитом в шестьдесят девятом, когда восьмерка начинающих астронавтов еще изучала геологию и занималась астронавигацией в знаменитом планетарии Фиске. В ту пору торгового пассажа не было и в помине, а Перл-стрит, лежащая в сердце старого города, ничем не отличалась от обычных пыльных улочек Запада, битком забитых транспортом, с аптеками, дешевыми лавками и закусочными. Теперь тут расцвел торговый рай в четыре квартала с тенистыми деревьями, живописными горками и нарядными клумбами. По сторонам пешеходной зоны выстроились дорогие магазинчики, где шарик мороженого «Хаген-даз» тянул на целых полтора доллара. Пройдя два квартала, Мэгги и Бедекер встретили пятерых уличных музыкантов, группку фанатиков, распевающих «Харе Кришна», четырех жонглеров, канатоходца, натягивающего проволоку между киосками, и блаженного юношу в хламиде из мешковины на голое тело и золотой пирамидой на голове. – Зачем ты приехала? – спросил Бедекер. Мэгги взглянула на него в упор – ощущение, точно ледяные пальцы сжали шею. – Из-за твоего звонка, – ответила она. Бедекер встал как вкопанный. Неподалеку скрипач выводил какую-то мелодию, компенсируя недостаток таланта избытком рвения. В скрипичном футляре валялись две долларовые бумажки и три четвертака. – Я звонил спросить, как ты, как Скотт… Заодно хотел убедиться, что ты благополучно долетела. Когда твоя соседка по общежитию сказала, что ты у родителей, я решил не оставлять сообщения. Как ты вообще догадалась, кто звонил? Как нашла меня здесь? Мэгги улыбнулась, в зеленых глазах вспыхнул лукавый огонек. – Элементарно, Ричард. Я знала, что ты позвонишь. Это раз. Два – я связалась с твоей фирмой в Сент-Луисе. Там мне сказали, что ты уволился и убыл в неизвестном направлении, но Тереза из офиса мистера Прескотта любезно сообщила адрес, который ты оставил на крайний случай. Я взяла отгул и приехала сюда. Все. Бедекер растерянно моргнул. – Зачем? Мэгги опустилась на низкую сосновую скамью. Бедекер устроился рядом. Листва над головой колыхалась от легкого ветерка, отбрасывая пятнистую тень на их лица. За полквартала раздались бурные аплодисменты, воздававшие должное канатоходцу. – Я приехала посмотреть, чем увенчались твои поиски, – призналась Мэгги. – Какие поиски? – оторопел Бедекер. Вместо ответа девушка расстегнула верхние пуговки белого платья и вытащила цепочку. В тусклом свете Бедекер различил медаль святого Христофора – ту самую, что получил от отца в пятьдесят втором, когда отправился служить в морскую пехоту; ту самую, что брал с собой на Луну. Бедекер покачал головой. – Ты не понимаешь. – Понимаю, – заверила Мэгги. – Нет, – отрезал Бедекер. – Ты сама сказала, что совершила ошибку, отправившись вслед за Скоттом в Индию, а теперь совершаешь еще бо́льшую. – Я отправилась туда не за ним. Мне казалось, он жаждет задать те же вопросы, что и я, но ошиблась. Как выяснилось, его больше влекут ответы. – А в чем разница? – фыркнул Бедекер, чувствуя, что теряет контроль над беседой, словно над самолетом, сваливающимся на крыло. – Разница в том, что Скотт избрал позицию наименьшего сопротивления. Как и многие, он побоялся очутиться один в поле, без прикрытия надежного авторитета; и поэтому, когда вопросы стали слишком трудными, предпочел легкие ответы. Бедекер снова помотал головой. – Полная белиберда. Ты сама запуталась, девочка, и меня явно с кем-то путаешь. Я – обычный немолодой мужик, которому опостылела работа, и он может позволить себе пару месяцев блаженного безделья. – Чушь! – возмутилась Мэгги. – Помнишь наш разговор в Варанаси? Про места силы? – Ах, это! – усмехнулся он, потом кивнул на двух пареньков в потрепанных шортах, пробирающихся сквозь толпу на скейтбордах. Дальше трусил бегун в обтягивающих «велосипедках»: самодовольство проступало на его лице столь же отчетливо, как и пот на загорелой коже. Перед ним расступалась стайка угрюмых подростков с пунцовыми ирокезами. – Ну как, я уже на подходе? – веселился Бедекер. Мэгги спокойно пожала плечами. – Может, в эти выходные и дойдешь. Горы и есть самые места силы. – Ладно, но если я спущусь с этого… как его… Анкомпагре без каменных скрижалей, ты немедленно возвращаешься в Бостон, к учебе, – потребовал Бедекер. – Там поглядим, – неопределенно отмахнулась Мэгги. – Слушай, милая, пора наконец… – начал Бедекер, но она тут же перебила: – Ой, смотри! Тот парень сидит на стуле прямо на проволоке! Ой, он фокусы показывает! Идем поближе. – Мэгги потянула спутника за рукав. – Не будешь вредничать, куплю мороженку. – Значит, ты любишь канатоходцев и фокусы? – осведомился Бедекер. – Я люблю волшебство, – пояснила Мэгги, увлекая его за собой.* * *
– Три шестерки – это число зверя, – заявила Диди. – Вот как у меня на кредитке. – Что? – не понял Бедекер. Костер догорел до углей. Было очень холодно. Бедекер натянул шерстяной свитер и старую летную куртку поверх. Мэгги устроилась рядом, кутаясь в толстый пуховик. Костер на дальнем конце опушки прогорел еще раньше. Молодежь разбрелась по палаткам. Томми, пошатываясь, вернулся в лагерь и без лишних слов полез в «шатер», который делил с Бедекером. – Откровение, глава тринадцатая, стих шестнадцать и семнадцать: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их; И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя Зверя, или число имени его… Это число человеческое: число его шестьсот шестьдесят шесть», – процитировала Диди. – Оно у вас на кредитке? – ахнула Мэгги. – И на кредитке, и в каждой ежемесячной выписке, – подтвердила Диди серьезно. – Ну, кредитка – это не страшно. Главное, не на лбу, – хмыкнул Бедекер. Гэвин наклонился и подбросил веточек в костер. Россыпь сверкающих искр взметнулась в небо, смешавшись со звездами. – Ничего смешного, Дик, – заметил он. – Откровение Святого Иоанна на удивление точно предсказало события, знаменующие начало эпохи бедствий. Код «шесть-шесть-шесть» постоянно мелькает в компьютерах… а также на картах «Виза» и «МастерКард». В Библии сказано, что Антихрист станет во главе европейской конфедерации из десяти наций. Может, оно и совпадение, но гигантский компьютер в здании управления Общего рынка в Брюсселе многие программисты так и зовут – «зверь». Он занимает три этажа. – Тоже мне, аргумент, – фыркнул Бедекер. – Вспомни компьютеры НАСА в Ханствилле и Хьюстоне образца семьдесят первого года. Вот где бандуры! И означало это лишь несовершенство технологий, но не пришествие Антихриста. – Да, но тогда еще не изобрели УТК, – парировал Гэвин. – УТК? – Мэгги зябко поежилась под шквалистым ветром и придвинулась поближе к Бедекеру. – Универсальный товарный код, – пояснил Гэвин. – Черно-белые полосочки на товарах. Как в супермаркете… лазер сканирует полосковый код и сообщает компьютеру цену предмета. – Я отовариваюсь на рынке в Бостоне, – улыбнулась Мэгги. – Там и кассовых аппаратов нормальных нет. – Скоро будут, – заверил ее Гэвин, растянув губы в подобие улыбки. – К девяносто четвертому году сканеры УТК будут повсюду… по крайней мере, в нашей стране. Бедекер потер глаза и закашлялся от едкого дыма. – Ладно, Том, допустим. Только сканер будет считывать код с консервированного супа или чипсов, а не с моего лба. – Слыхал про лазерные татуировки? – тут же откликнулся Гэвин. – Пару лет назад Кит Фарелл, профессор Вашингтонского университета, изобрел лазерное ружье, чтобы метить рыб. Процесс занимает долю секунды, совершенно безболезненный и не оставляет видимых следов. Клеймо можно увидеть только в инфракрасных лучах. Государственные пособия уже выплачивают с литерами «Ч» или «Р», читай «чело» или «рука». Поверь, скоро правительство начнет метить самих граждан, дабы упростить процедуру. – Зато на рок-концерты удобно станет проходить, – пошутила Мэгги. Подставив лицо отблескам затухающего костра, Диди мягко продекламировала: – Кто поклоняется Зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей; и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью преклоняющиеся Зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Откровение, глава четырнадцать, стих с девятого по одиннадцатый, – пояснила она. – Ничего себе! – ахнула Мэгги с благоговейным восторгом в голосе. – Вы помните всю Библию наизусть? Я в старших классах не смогла выучить и двух строф из «Танатопсиса» Брайанта! Гэвин потянулся и взял жену за руку. – Легче всего запомнить из Иоанна, глава третья, стих шестнадцать, семнадцать: «Не хочу смерти грешника. Уверуй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него»[1]. Несколько капель дождя упали в костер, и угли отозвались шипением. Небосвод померк, сделавшись черным, как стены каньона. – Черт! – выругался Бедекер. – Плакала моя ночевка под открытым небом.* * *
Лежа в тесной палатке, он думал про развод, чего в принципе старался не делать – слишком расплывчатыми и болезненными были воспоминания, как те два месяца в госпитале после крушения «F-104» в шестьдесят втором. Бедекер повернулся на другой бок, жесткая земля нестерпимо колола даже через мешок и подстилку. Рядом храпел Томми-младший, распространяя амбре «травки» и перегара. Снаружи по полотнищу забарабанил дождь. Неподалеку бурлила узкая, не больше ручья, речка Симаррон. Официально развод состоялся в августе восемьдесят шестого, за две недели до двадцативосьмилетнего юбилея их свадьбы. Бедекер прилетел в Бостон на день раньше, вознамерившись погостить у Карла Бамбри, но забыл, что его с Карлом дружба уступает дружбе их жен. Пришлось ночевать в гостинице «Холидей инн» в Кембридже. За два часа до суда Бедекер нарядился в свой лучший летний костюм-тройку, который Джоан обожала и два года назад самолично помогала выбирать. Внезапно Бедекера осенило, в чем явится Джоан. Едва ли она купит новое платье по такому случаю – куда его потом носить. Любимое белое платье и строгий зеленый костюм отметаются. Значит, остается сиреневое – достаточно легкое, но официальное, а Бедекер ненавидел сиреневый. Он быстро переоделся в шорты, синюю футболку и теннисные туфли. Нацепил напульсник с застарелыми пятнами пота и швырнул на заднее сиденье ракетку и упаковку теннисных мячей. Усевшись за руль, позвонил Карлу и договорился на игру в его клубе в половине пятого, сразу после заседания суда. Джоан пришла в сиреневом платье. Бедекер перекинулся с ней парой слов до и после довольно короткого процесса, но разговор мгновенно выветрился из памяти. Чего не скажешь об игре – Карл выиграл все три сета со счетом 6–0, 6–3, 6–4. Причем каждая партия запомнилась в подробностях. После матча Бедекер принял душ, переоделся, побросал пожитки в старую летную сумку и отправился на север, в Мэн. В полном одиночестве побывал на острове Монхиган, куда поехал – как сам потом догадался – лишь потому, что об этом всегда мечтала Джоан. Задолго до переезда в Бостон, даже еще раньше, в хьюстонской жаре, Джоан лелеяла мысль пожить на уединенном островке у побережья Мэна. Так они туда и не выбрались. Особенно Бедекеру запомнилось возвращение с часовой лодочной прогулки на «Лауре Б». В двух милях от берега суденышко вошло в полосу тумана, вода оседала каплями на обводах и тросах. Все разговоры на борту стихли; даже малышня на корме забросила игры. Последние десять минут пути проделали в полной тишине. Проплыли мимо потрескавшихся бетонных плит-волнорезов и завернули в гавань. Крытые серой черепицей дома и мокрый причал то появлялись, то исчезали в капризном тумане. Над головой парили чайки, ныряя в кильватер и разрывая тишину пронзительными криками. Одиноко стоя у левого борта, Бедекер заметил на пристани людей, которых поначалу принял за изваяния – настолько застывшей была их поза. Лишь когда туман рассеялся, глаз различил яркие спортивные рубашки, панамы и даже марки фотоаппаратов, висевших на шее у «статуй». Зрелище оставило странное чувство. Позже, правда, выяснилось, что толпа собирается встречать лодку дважды в день: туристы, что возвращаются на большую землю, островитяне, приветствующие гостей, наконец, отдыхающие, которые не знают, чем себя занять в отсутствие электричества и приходят просто поглазеть. Бедекер провел на острове три дня: читал, спал, исследовал тропинки и друидские леса, но не запомнил ровным счетом ничего, кроме пристани, тумана и молчаливых фигур, застывших изваяниями, точно древние призраки у врат Аида в ожидании новых душ усопших. Временами, когда тянуло воскресить в памяти развод и мучительный год, ему предшествовавший, Бедекер сразу представлял, как стоит на пристани в тумане и ждет… Дождь перестал. Закрыв глаза, Бедекер прислушивался к журчанию реки на каменистых порогах. В лесу заухала сова, но в ушах по-прежнему звенели крики чаек над морем.* * *
С утра Томми-младшего рвало. Высунувшись по пояс из палатки, он сучил ногами, содрогаясь от спазмов. Натянув рубашку и джинсы, Бедекер откинул «свою» полу и выбрался наружу. Время подходило к семи, но в каньоне было еще темно и холодно. Чуть оклемавшись, Томми уронил голову на руки. Бедекер присел рядом, намереваясь помочь, но Диди уже хлопотала вокруг сына, протирая платком мокрый лоб и бормоча слова утешения. Несколько минут спустя Мэгги присоединилась к Бедекеру и Гэвину у костра. Лицо девушки порозовело от умывания ледяной проточной водой, короткие волосы аккуратно причесаны. На ней были шорты цвета хаки и ярко-красная рубашка. – Что с Томми? – Мэгги налила в походную кружку кипяток и стала размешивать растворимый кофе. – Может, высота подействовала? – предположил Бедекер. – Высота тут ни при чем, – фыркнул Гэвин. – Похоже, панки угостили его от души. – Он кивнул на дальний конец опушки, где кострище и примятая трава напоминали о соседях. – Во сколько же они ушли? – ахнула Мэгги. – Еще до рассвета. Когда и мы должны были тронуться, – съехидничал Гэвин. – Таким темпами опять сегодня не доберемся до вершины. – И что теперь? – вклинился Бедекер. – Сворачиваемся и едем обратно? – Ни в коем случае! – запротестовал Гэвин. – Глядишь, так даже лучше. Вот… – Он расстелил на валуне карту и ткнул в белую точку над каньоном. – Ночевать планировалось тут, но мы слишком поздно выехали и долго шли, поэтому лагерь разбили здесь. – Он указал на зеленый участок в нескольких милях севернее. – Значит, сегодня можно не спешить. Доберемся до плато и там заночуем. – Палец скользнул к юго-западу от пика Анкомпагре. – А в воскресенье утречком рванем обратно. Жаль, конечно, что мы с Диди пропускаем утреннюю службу, но ничего, поспеем на вечернюю. – Где ты поставил вторую машину? – спросил Бедекер. – Тут. – Гэвин ткнул в зеленое пятнышко на карте. – Чуть южнее перевала и плато. Сразу после восхождения идем туда и едем на север, домой. – Высоковато для лагеря, – заметила Мэгги, изучая карту. – Больше одиннадцати тысяч футов. Плюс местность голая. Если погода подкачает, промокнем до нитки. Гэвин покачал головой. – Я смотрел вчера метеопрогноз. До понедельника вероятность дождей – пятнадцать процентов. Вдобавок, ближе к южному хребту куча укромных мест. Мэгги кивнула, но не успокоилась. – Интересно, как там ребята с дельтапланом? – сменил тему Бедекер, разглядывая каньон. Тропа терялась среди деревьев, но в редких прогалинах не было видно ни души. В лучах восходящего солнца западная скала окрасилась розовым, точно плоть, вскрытая скальпелем хирурга. – Будем надеяться, им хватило мозгов повернуть обратно на север. Ладно, давайте собираться, – велел Гэвин. – А как же Томми? – удивилась Мэгги. – Они с Диди нас догонят, – заверил Гэвин. – Думаешь, парнишка потянет? – усомнился Бедекер. – Десять миль тащиться в гору. – Потянет, – ответил Гэвин без тени сомнения в голосе.* * *
Первый час пути был кромешным адом, потом дело пошло на лад. Хотя еды в рюкзаке убавилось, в весе он не потерял, скорее наоборот. Каньон все сужался, как и тропа, петлявшая над обрывом. Из-за поваленных деревьев и оползней приходилось следить за каждым шагом, ступая по камням или траве в шестидесяти футах над бурлящей рекой. Поначалу Бедекер решил, что соседи выбрали другую дорогу, но потом заметил отпечатки ног в грязи и полосы там, где волочили груз. К девяти утра солнце светило вовсю, воздух наполнился ароматом хвои. Изнемогая от жары, Бедекер мечтал остановиться и переодеться в шорты, но так и не решился, боясь не догнать потом остальных. Диди и Том-младший все не появлялись. Впрочем, Диди была в самом благостном расположении духа, когда они прощались у костра. Том Гэвин рвался вперед. Задерживаясь лишь на мгновение, чтобы взглянуть на теряющуюся в лесу тропу, он бросал: «Готовы?» и быстро шагал дальше, не давая Бедекеру с Мэгги опомниться. Через час идти стало легче. Под конец второго часа стали привычными даже боль и одышка. К полудню на горизонте выросли два высоких пика под шапками снега, не растаявшего за минувшее лето. Многоярусная гора с плоской вершиной оказалась Анкомпагре, вторая, с заостренной верхушкой, – Веттерхорн. Дальше над хребтом едва виднелась третья, Маттерхорн. – Анкомпагре с виду как свадебный торт, Веттерхорн напоминает настоящую Маттерхорн, которая в Альпах, зато наша Маттерхорн совсем на нее не похожа, – сообщил Гэвин. – Ясно, – кивнул Бедекер. Дорога становилась все хуже и теперь пролегала вдоль красных скал и редких водопадов. Калифорнийские пихты тянулись вверх на восемьдесят футов. В чаще желтых сосен Мэгги заставила спутников понюхать деревья, уверяя, что сосновый сок пахнет в точности как ириски. Приложив нос к свежему надрезу в коре, Бедекер заявил, что пахнет шоколадом. Мэгги в ответ назвала его извращенцем, а Гэвин буркнул, что неплохо бы поторопиться. Привал устроили там, где Силвер-Крик впадал в Симаррон. За полчаса путникам наконец удалось преодолеть несколько сот ярдов щебня до дна каньона. Томми и Диди по-прежнему не появлялись. Южная тропа начиналась на другом берегу, а ширина реки только усложняла задачу. Но, похоже, Люд и прочие с этим успешно справились. Вопрос, как. Побродив вдоль ручья, Мэгги отвела Бедекера к замшелому бревну, у которого росли фиалки. Голубые ели кольцом обрамляли поросшую травой и папоротником полянку, где бежал тоненький ручеек и совсем не по погоде распускались беловато-сиреневые цветочки. Неподалеку дятел выбивал буйную морзянку. – Вот где место для лагеря! – восхитился Бедекер. – Угу, – согласилась Мэгги. – И не для лагеря тоже. – Она разломила батончик «Херши» и отдала Бедекеру половинку с миндалем. На полянке появился Гэвин, уже навьюченный рюкзаком и с биноклем на шее. – Попробую вброд, возле устья ручья. Натяну для вас веревку через реку, а заодно разведаю, что там на западном берегу. Через полмили должен начаться последний серпантин. Встречаемся на верхней границе леса, договорились? – Заметано, – кивнул Бедекер. – Судя по карте, тут неподалеку старый серебряный рудник, – вклинилась Мэгги. – Ничего, если мы завернем туда ненадолго? Как раз Томми с Диди подтянутся… Улыбнувшись, Гэвин пожал плечами. – Ради бога. Поднимусь пока на плато, подыщу место для стоянки, иначе не успеем разведать южный хребет до темноты. Бедекер проводил приятеля к реке – убедиться, что тот благополучно одолеет бурный поток. Очутившись на другой стороне, Гэвин помахал рукой и закрепил конец троса на ближайшем дереве. Бедекер помахал в ответ и поспешил обратно на полянку. Мэгги расстелила на траве свою красную рубашку и загорала топлес. На фоне смуглого живота и плеч белели бугорки грудей с аппетитными розовыми сосками. – О! – выдавил Бедекер, усаживаясь на бревно. Мэгги покосилась на него, заслонив ладонью глаза от солнца. – Стесняешься, Ричард? – Не дождавшись ответа, села и накинула рубашку. – Ну вот, все опять пристойно. По крайней мере, с виду. Бедекер выдернул две травинки, очистил и протянул одну Мэгги. – Спасибо. – Она посмотрела на западную стену каньона. – Занятные у тебя друзья. – Том и Диди? Что они за люди, по-твоему? Мэгги взглянула на него в упор. – По-моему, они твои друзья, а я – их гостья. Бедекер пожевал травинку и кивнул. – Хорошо сказано, – заметил он, помолчав. – И все-таки? Мэгги улыбнулась и подставила лицо солнечным лучам. – Ладно, после вчерашней проповеди с числами мне показалось, у них не все дома, – она задумчиво пожевала зеленый стебелек. – Впрочем, это свинство с моей стороны. Просто они из категории людей, к которым я питаю стойкое предубеждение. – Из категории новообращенных христиан? – хмыкнул Бедекер. Мэгги покачала головой. – Нет, из тех, кто продает душу ради святых истин, которые в итоге сводятся к слоганам на плакатах. – Похоже, мы снова обсуждаем Скотта, – заметил Бедекер. Мэгги не стала отрицать. – А что ты сам скажешь о Томе? – спросила она. Бедекер на минуту задумался. – Мне на днях вспомнилась история из нашей молодости в тему… – Класс! – обрадовалась Мэгги. – Обожаю истории. – Это длинная история, – предупредил Бедекер. – Обожаю длинные истории. – Мы проходили двухнедельный курс на выживание. Под конец нас поделили на команды, то есть на группы по трое, и высадили посреди пустыни в Нью-Мексико, к северо-западу от базы Уайт-Сэндс, дав три дня, чтобы добраться до цивилизации. С собой у нас были армейские ножи, брошюрки о съедобных растениях и один компас на группу. – Весело, – усмехнулась Мэгги. – В НАСА тоже так думали, поэтому в случае нашей неявки через пять дней начали бы поисковую операцию – жалко терять астронавтов второго поколения. Собственно, нашей группой мы потом и полетели на Луну: я, Дейв Малдорф и Том. Еще в те времена Том отличался завидным усердием… Даже пройдя отборочный тур, попав в списки астронавтов и дальше, в команду, он пахал вдвое больше положенного, словно боялся отсева. Нет, в нас тоже просыпалась сознательность, но урывками. Тома она не отпускала никогда. Третьего, Дейва Малдорфа, мы в шутку звали Рокфорд, как детектива из телесериала, так вот он был Тому полной противоположностью. Дейв как-то сказал мне, что исповедует закон Ома – выбирать путь наименьшего сопротивления и двигаться по нему… Они с Нилом Армстронгом два сапога пара – если надо, горы свернут, добьются своего, но пока жареный петух не клюнет, не пошевелятся. Собственно, Дейва от Армстронга отличало только весьма специфическое чувство юмора. Бедекер улыбнулся и продолжил: – Первые сутки мы еще справлялись: нашли колодец и даже умудрились затариться водой впрок. К ночи Том отловил ящерицу и хотел сожрать ее живьем, но мы с Дейвом убедили его повременить. Выбрали путь так, чтобы выйти на дорогу, ведущую в горы, – рано или поздно она должна была нам попасться. На второй день Том собрался съесть ящерицу на обед, но Дейв настоял, чтобы мы потерпели, перебились травами, а ящерицу оставили на ужин. Ближе к полудню Дейв повел себя очень странно: нюхал землю и повторял, что отыщет дорогу к людям по запаху. Мы с Томом грешили на солнечный удар и жутко перепугались, пытались повязать бедолаге футболку на голову, но тут он завыл, как волк на луну, и кинулся бежать. Мы, разумеется, следом. Через четверть мили, за каменистой грядой, обнаружилось пересохшее речное русло, где сидел Дейв Малдорф – в шезлонге под пляжным зонтиком, потягивая холодное пиво. Рядом на полную орал транзистор, стояла сумка-холодильник с пивом и бассейн – такой, знаешь, детский, с надувным матрасом и уточками. И это посреди пустыни, в шестидесяти милях от ближайшей дороги! Отсмеявшись, Дейв все рассказал. Его приятельница из офиса командования авиабазы раздобыла сведения о всех точках высадки НАСА, а он рассчитал примерный маршрут и договорился со знакомым вертолетчиком из Уайт-Сэндс, чтобы тот доставил «декорации». Дейв хотел пошутить, но Тому шутка не понравилась. Он так взбесился, что чуть ли не бегом бросился подальше от Дейва с его пляжным зонтиком и орущим транзистором. Было с чего, если честно. За такие шуточки в НАСА оторвали бы башку. Чувство юмора у тамошних ребят хромало на обе ноги. По сути, Дейв подставил всю группу. Но после пары банок пива Дейв загнал все хозяйство куда-то под валун и снова приступил к учебному курсу на выживание. Том не разговаривал с ним сутки. Хуже того – два года, что мы потом работали вместе, он не забыл и не простил розыгрыша. Поначалу я думал, он злится за подготовку команды и свой образцовый послужной список, который Дейв чуть не испортил, но потом сообразил, что причина в другом: Дейв осмелился нарушить правила – непростительное преступление. И вдобавок… – Бедекер замолчал. – Вдобавок что? Бедекер наклонился к уху девушки и прошептал: – Мне кажется, Том и впрямь хотел сожрать чертову ящерицу, а Дейв его обломал.* * *
Диди с Томми-младшим появились, когда Бедекер и Мэгги уже собрались на ту сторону. В итоге пошли все вместе. Томми, бледный и подавленный, глядел все так же угрюмо, зато Диди щебетала за двоих. Река оказалась мелкой, едва по колено, но течение было сильным, а вода ледяной. Бедекер пропустил товарищей вперед, отвязал веревку и забрал с собой. Спустя три четверти часа компания миновала водопад, снова перешла через реку – на сей раз выручило поваленное дерево – и начала подъем по серпантину. Над головой нависала вершина Маттерхорна, на каждом привале открывались все новые пики Анкомпагре. Лишь в нескольких милях от горного массива Бедекер в полной мере оценил его масштабы. Размерами гора не уступала мезам и останцам в Нью-Мексико и Аризоне, но была куда острее, круче, поднимаясь не над пустыней, а над плато высотой десять тысяч футов. К концу дня лесной серпантин остался позади, дальше начиналась альпийская тундра. Контраст был разительный! Вместо густой сосновой чащи каньона – редкие побитые ветром ели с лысыми искривленными стволами и отдельные кусты можжевельника. За ними простиралась каменистая равнина, покрытая травой и красно-бурым утесником. Бедекеру чудилось, что он шагнул с последней ступеньки лестницы прямиком на крышу небоскреба. С вершины тропы открывалась панорама бесчисленных пиков, перевалов, альпийских лугов и волнистых просторов тундры. Над зубчатой линией горизонта плыли пушистые облака. Пятна снега на буром ландшафте становились все гуще, и в вышине их белизна сливалась с бело-голубыми красками неба. Бедекер остановился, тяжело дыша и обливаясь потом. Легкие настойчиво требовали кислорода. – Потрясающе! – выдохнул он. Улыбаясь во весь рот, Мэгги сняла алый платок-бандану и вытерла взмокшее лицо. Тронув Бедекера за плечо, показала на северо-восток, где на высоком холмистом лугу мирно паслись овцы. В глазах рябило от движущихся серых точек на фоне белых облаков и снежных полей. – Потрясающе, – повторил Бедекер, чувствуя, как бешено колотится сердце. Казалось, все невзгоды остались во тьме каньона, далеко внизу. Мэгги протянула бутылку с водой, он пил и чувствовал руку девушки на плече. Томми, сгорбившись, сидел на валуне и ворошил палкой заросли приземистых горных цветов. Диди с улыбкой огляделась по сторонам. – А вот и Том! – воскликнула она, указав на маленькую фигурку вдали на перевале. – Даже палатку успел поставить. – Это прекрасно, – с умилением прошептал Бедекер, пьянея от разреженного воздуха. Мэгги взяла у него бутылку и, запрокинув голову, сделала несколько больших глотков. Солнце золотило короткие белокурые локоны. Она протянула бутылку Диди, но та крепко схватила ее за руку, второй рукой стиснув пальцы Бедекера, чтобы получился круг. – Благодарим тебя, Боже, – начала Диди, – за то, что дал узреть величие Своего творения и разделить этот момент с преданными друзьями, которые милостью Святого Духа познают истину слова Твоего. Во имя Иисуса Христа, аминь! – Диди ласково погладила руку Бедекера. – Да, Ричард, это действительно прекрасно… – В глазах женщины блестели слезы. – Признай, ты жалеешь, что Джоан сейчас нет рядом.* * *
Три палатки раскинулись вокруг высокого плоского валуна, одиноко стоящего посреди тундры. Прутья низкого кустарника, пробивающегося между камней, для костра не годились. Водрузив на широкий камень у валуна две переносные горелки, компания любовалась голубыми язычками газового пламени в мерцающем свете звезд. Перед ужином изучали маршрут. Тени Веттерхорна и Маттерхорна наползали на плато, поднимаясь по скалистым уступам Анкомпагре. – Гляди… – Гэвин протянул Бедекеру бинокль. – Вон там, у основания южного хребта. В тени дальних скал виднелся низкий купол красной палатки. Рядом у огня что-то перетаскивали две крохотные фигурки. Бедекер опустил бинокль. – Там только двое. Интересно, где другие – девчонка и парень с дельтапланом? – Берите выше. – Мэгги показала на край высокой гряды, еще горевший в лучах заходящего солнца. Гэвин поднес бинокль к глазам. – Точно. А этот придурок все тащит кайт. – Надеюсь, он не собирается лететь прямо сегодня? – забеспокоилась Мэгги. Гэвин помотал головой. – Нет. До вершины еще топать и топать. Просто стараются забраться повыше, пока светло. – Он отдал Мэгги бинокль. – Лучше всего лететь на рассвете, – заметил Бедекер, забирая бинокль. – Плотные термические потоки, и ветра почти нет. Разглядеть два силуэта на изломанном хребте удалось лишь со второго раза. Солнце золотило красно-оранжевый чехол, мужская фигурка сгибалась под тяжестью ноши. Женщина плелась следом, волоча огромный рюкзак и два спальных мешка. Последний луч угас на глазах, и путники слились с зубцами скал. – Ого! – присвистнула Мэгги, оглянувшись на запад. Солнце еще не село, но на горизонте скопились свинцовые тучи, затмевая свет. – Может, обойдет стороной, – отмахнулся Гэвин. – Ветер отнесет к югу. – Будем надеяться, – с сомнением протянула Мэгги. Бедекер снова вгляделся в горную гряду, но два крошечных силуэта не могли соперничать с грядущей грозой и сумерками. Над головой по-прежнему сияли звезды, а на западе царила чернильная мгла. Четверо взрослых сгрудились у горелки и попивали обжигающий чай. Томми-младший устроился поодаль на камне, спиной к остальным. Было очень холодно, хотя и без единого дуновения ветерка. – Мэгги, вы знакомы с супругой Дика, Джоан? – выспрашивала Диди. – Нет, не довелось, – коротко ответила девушка. – Замечательный человек, – гнула свое Диди. – Терпение как у святой. Воплощенное спокойствие, как раз для таких вот походов. Гэвин повернулся к Бедекеру. – Куда собираешься после Колорадо? – В Орегон, хочу повидать Рокфорда. – Рокфорда? – непонимающе нахмурился Гэвин. – А, Малдорфа… Да, болячка у него – не позавидуешь. – Что за болячка? – насторожился Бедекер. – Джоан была самой терпеливой из нас, – вещала меж тем Диди. – Когда мужья пропадают на работе сутками… неделями!.. Все срывались… даже я, что греха таить, но Джоан никогда не роптала. За все годы нашего знакомства хоть бы раз пожаловалась. – Его же оперировали год назад, в июне. Не слыхал? – удивился Гэвин. – Я почему-то думал, там обычный аппендицит, – пробормотал Бедекер. – Сейчас он, надеюсь, в порядке? – Джоан всегда была христианкой, но тогда еще не отдала всю себя Иисусу, – рассказывала Диди, – зато теперь они с Филиппом… он бухгалтер, кажется? В общем, теперь они активисты евангелистской церкви в Бостоне. – Нет, у него не аппендицит, – медленно произнес Гэвин. – Я говорил с Джимом Босвортом, вашингтонским лоббистом, он рассказывал со слов знакомых Малдорфа в Конгрессе, что у Дейва лимфома Ходжкина, а в больнице ему удаляли селезенку. – А вы, милочка, ходите в церковь там, в Бостоне? – допытывалась Диди. – Нет, – помотала головой Мэгги. – Ах, вот как. Уверена, там бы вы пересеклись с Джоан. Воистину, тесен мир. – Разве? – подняла брови Мэгги. – Прогноз неблагоприятный, но будем уповать на чудо, – заключил Гэвин. – А как же иначе! – всплеснула руками Диди. – Помню, когда мужья готовились к космическому полету, Джоан позвонила и попросила посидеть с малышом Скоттом, пока она сходит за подарком ко дню рождения Ричарда. У меня тогда гостила подруга из Далласа, но я все равно сказала: «Конечно, мы придем». Скотти тогда было семь, а Томми – года три-четыре… Бедекер резко встал и направился в палатку, свернулся там калачиком и уже ничего не слышал. Лет в семь-восемь, когда война только-только началась, отец впервые взял его с собой в Иллинойс на ночную рыбалку. Заночевали в домике у озера, вместе на одной кровати, и проснулись с первыми лучами солнца. Последние летние деньки выдались особенно жаркими. Бескрайний водный простор, казалось, одновременно приглушал и резонировал окружающие звуки. Вдоль проселочной дороги, ведущей к пристани, тянулись густые непроходимые заросли, покрытые изрядным слоем пыли уже в половине седьмого утра. Дальше был волнующий ритуал спуска лодки на воду – еще один этап большого путешествия. Громоздкий, пропахший рыбой спасательный жилет вселял чувство надежности. Лодочка медленно бороздила тихое водохранилище, оставляя радужные разводы от подтекающего бензина… Гудение маломощного мотора в десять лошадиных сил в придачу с запахом солярки и рыбной чешуи – все это запечатлелось в еще не окрепшем сознании Бедекера ярким ощущением времени и пространства. Старый дорожный мост разобрали, еще когда реку перегородили дамбой. Лишь два куска разбитого пролета белели, точно обглоданные кости, на фоне голубого неба и темной воды. Внезапно юный Ричард осознал, что всю жизнь мечтал гулять по мостам, возвышаясь над озерными просторами, и рыбачить именно оттуда. Отец всегда ловил на блесну с лодки и мог часами сидеть, следя за леской, тихонько дрейфуя, а то и вовсе выключив мотор. Мальчик не обладал отцовским терпением, лодка казалась ему слишком тесной, а скорость – убийственно медленной. После долгих уговоров отец согласился высадить сына на мосту, а самому разведать ближайшие заводи. Правда, пришлось пообещать: с пролета ни шагу. Оставшись в блаженном уединении, Бедекер, упакованный в неудобный спасательный жилет, смотрел, как отцовская лодка исчезает за поворотом, растворяясь вместе сгулом мотора. Солнце палило немилосердно, качающийся поплавок гипнотизировал. Волны мерно бились о замшелые стойки, создавая иллюзию движения. Спустя полчаса от жары и мнимого качания закружилась голова, стало подташнивать. Мальчик вытащил удочку, прислонил к потрескавшемуся парапету и уселся на горячий бетон. Снял жилет и вздохнул с облегчением, подставив солнцу взмокшую спину. Бедекер точно не помнил, в какой момент решил прыгнуть на другую часть пролета, отделенную всего какими-то восемью футами. Возвышаясь футов на шесть над водой, она была ниже на добрый фут, отчего прыжок казался вполне возможным. Желание быстро переросло в наваждение, распирало изнутри. Отмерив дистанцию, Бедекер порепетировал прыжок, отмерив шаги до края обрыва. Вот отец удивится, даже обрадуется, когда увидит его совсем в другом месте! Несколько раз прыгнуть не хватило духу. В горле вставал ком, ноги сами собой тормозили, скрипя кроссовками по бетону. Стоя на краю, Бедекер тяжело дышал, обожженное солнцем лицо горело от смущения. Развернувшись, он отступил на пять шагов, разбежался и прыгнул. Вернее, попытался. В последнюю секунду передумал, но правая нога соскользнула с моста, и он полетел вниз. Чудом извернувшись в воздухе, ударился грудью о бетон и повис над водяной пропастью, упираясь руками и локтями в гладкое дорожное полотно. Было дико больно. Пораненные ладони саднили, во рту ощущался привкус крови, адски ныли ребра, живот. Вскарабкаться на мост не хватало сил. Колени болтались в воздухе, и Бедекер, как ни пытался, не мог нащупать опору. Озеро казалось огромной воронкой, угрожая поглотить его в любой момент. Он перестал трепыхаться и судорожно елозил локтями по бетону, чтобы не рухнуть вниз. Детское воображение рисовало темные глубины вод, затонувшие деревья и глинистое дно, которое вот-вот примет новую жертву. Целый подводный мир, с домами, улицами и кладбищем, притаился в жадном ожидании. Неподалеку из трещины в бетоне пробивался стебелек, но добраться до него не удалось. Да и смысл? Все равно не выдержит веса. Силы в дрожащих расцарапанных руках таяли. Еще минута, напряженные мышцы сдадутся, и тело с жутким скрежетом сползет вниз по раскаленному бетону. Бедекер рывком очнулся от забытья, словно ныряльщик, выбравшийся на поверхность. Снаружи дул шквалистый ветер, угрожая снести палатку, в воздухе пахло озоном, но в ушах по-прежнему отчетливо, как сорок пять лет назад, стоял приближающийся стук лодочного мотора. Потом тишина, прикосновение сильных рук, и спокойный голос отца: «Давай, Ричард, не бойся, прыгай. Я с тобой. Давай, не бойся».* * *
Раскатисто громыхнул гром. Полог раздвинулся, впуская ледяной холод, и в палатку скользнула Мэгги Браун, держа под мышкой спальный мешок и подстилку. – Ты почему здесь? – Бедекер приподнялся на локте, чувствуя, как саднят ладони. – Томми просил поменяться. Похоже, мальчик решил бухнуть в одиночку. А что, я не против. Ш-ш-ш… – Мэгги приложила палец к его губам. Темноту палатки прорезала вспышка молнии, потом грянул оглушительный грохот, словно по горному плато пронесся товарняк. Вторая вспышка вырвала из темноты Мэгги – уже без шорт, в крохотных белых трусиках. – Ну и гроза! – Бедекер зажмурился от новой молнии – Мэгги была уже без рубашки. В свете стробоскопических вспышек ее грудь казалась бледной и тяжелой. – Ш-ш-ш… – Мэгги прижалась к нему всем телом, расстегивая и срывая с него рубашку. Перекатившись на груду мягких спальников, Бедекер обнял девушку. Ее ладонь скользнула под резинку его трусов. – Ш-ш-ш, – шептала Мэгги, свободной рукой освобождая его от последнего предмета одежды. Они занимались любовью в застывшем свете молний. Раскаты грома заглушали все звуки, кроме стука сердец и страстных стонов. Бедекер повернулся на спину, увлекая Мэгги наверх, руки раскинуты, пальцы переплетены. Череда молний озаряла стены палатки, от чудовищных раскатов сотрясалось небо и земля. Мгновение спустя, сдерживая бешеный натиск оргазма, Бедекер отчетливо различил шепот Мэгги, перекрывающий внешние звуки: «Давай, Ричард! Я с тобой. Давай!» Не разжимая объятий, они лежали на груде спальников, слушая дикие завывания ветра. Палатка сотрясалась от штормовых порывов, молния и гром слились воедино. Любовники тесно прижались друг к другу, пережидая бурю. – ДАВАЙТЕ, БОГИ! ПОКАЖИТЕ, НА ЧТО ВЫ СПОСОБНЫ! НУ, СМЕЛЕЕ, ТРУСЫ ПРОКЛЯТЫЕ! – донесся снаружи крик, сопровождаемый яростным раскатом. – Господи, это еще что? – испугалась Мэгги. – НУ, ГДЕ НАШ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ? ЯВИ СВОЮ МОЩЬ! МОЩЬ, А НЕ ЭТУ ХРЕНЬ! – на сей раз вопль был по-звериному пронзительным, казалось, кричал не человек. Следом вспышка и оглушительный треск, будто чьи-то исполинские руки разорвали ткань неба. Бедекер натянул шорты, Мэгги – его рубашку, и оба, щурясь, выглянули наружу. Дождь еще не начался, но в воздухе стояла плотная завеса пыли и песка, поднятых ураганом. На валуне между палатками стоял Томми Гэвин-младший, абсолютно голый, ноги широко расставлены, голова запрокинута, руки воздеты вверх, одна сжимает почти пустую бутылку виски, другая – длинный алюминиевый шест от палатки. Метал отливал голубым. Молния бушевала в темных грозовых тучах, нависающих почти над самой головой. Горные пики озарялись яркими вспышками. – Томми! – заорал Гэвин, высовываясь вместе с Диди из палатки. – Слезай оттуда немедленно! – Последние слова потонули в завываниях ветра. – БОГИ, НУ ГДЕ ЖЕ ВЫ? ЯВИТЕСЬ! – надрывался Томми. – ДАВАЙ, ЗЕВС! ТВОЙ ЧЕРЕД! – Он высоко поднял шест. Бело-голубой зигзаг, казалось, вылетел из ближайшей вершины. Бедекер и Мэгги содрогнулись от артиллерийского раската. Палатка Гэвинов рухнула под напором шквала. – ШЕСТЬ И ВОСЕМЬ! – выкрикнул Томми, жестом показав воображаемую судейскую карточку. Бутылка из-под виски полетела на землю. Алюминиевый шест угрожающе рассекал воздух. Гэвин барахтался, пытаясь выбраться из рухнувшей палатки, обвивавшей его, точно оранжевый кокон. – САТАНА, ТВОЙ ВЫХОД! – заливался истерическим смехом Томми. – ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ И ВПРЯМЬ ТАК ГРОЗЕН, КАК ГОВОРИТ МОЙ ПАПОЧКА! – Сделав пируэт, он едва удержался на краю пятифутового валуна и теперь демонстрировал неслабую эрекцию. Мэгги крикнула что-то, ветер заглушил слова. Молнии сверкнули сразу по обе стороны лагеря. Бедекер на мгновение ослеп и почему-то вспомнил игрушечную железную дорогу. Наверное, из-за запаха озона. Когда пелена спала с глаз, Томми скакал на валуне, громко хохоча и скалясь. Длинные волосы хлестали его по плечам и лицу. – ДЕВЯТЬ И ПЯТЬ! НИ ХРЕНА СЕБЕ! – Слезай, придурок! – Гэвин освободился от нейлоновых пут и старался ухватить сына за ногу. Тот ловко отпрыгнул. – А ТЕПЕРЬ ИИСУС НАШ ХРИСТОС! ПОГЛЯДИМ, НА ЧТО ОН СПОСОБЕН! ЕСЛИ ОН ЕСТЬ ВООБЩЕ! Гэвин бросился к пологому краю валуна и стал карабкаться наверх. Молния вспорола черную тучу и обрушилась на восточный пик Анкомпагре. – ПЯТЬ И ПЯТЬ. ВОНЮЧИЙ СЛАБАК! Гэвин соскользнул вниз и снова начал взбираться. Томми отскочил к верхнему краю валуна. – ДАВАЙ ЕЩЕ! Дождь плотной стеной надвигался на плато. – НУ ЖЕ, ЯХВЕ! ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА ТВОЯ, СТАРЫЙ ПЕРДУН! ПОСЛЕДНИЙ ШАНС НА… Шест вдруг ярко вспыхнул неоновым светом, волосы мальчика встали дыбом, извиваясь словно змеи. Гэвин бросился на сына, увлекая вниз, и в тот же миг небеса разверзлись громом и молнией. Ослепшего и оглохшего Бедекера швырнуло на землю. Неизвестно, попала молния в валун или нет – утром никаких следов там не было. Придя в себя, Бедекер понял, что заслонил Мэгги своим телом в тот момент, когда она пыталась заслонить его. Поднявшись, они огляделись по сторонам. Дождь лил как из ведра. Их палатка единственная пережила стихию. Бледный как смерть, Том Гэвин стоял на четвереньках и тяжело дышал. Томми свернулся калачиком на сырой земле, сотрясаясь от рыданий. Диди склонилась над ним, придерживая за плечи, точно младенца, и закрывая от дождя. Футболка у нее на спине намокла, облепляя каждый позвонок. Лицо в затухающих вспышках молнии выражало ликование. И вызов. Мэгги прижалась к Бедекеру, коснувшись мокрыми волосами щеки. – Десять баллов, – шепнула она и поцеловала его в губы. Дождь лил всю ночь.* * *
К рассвету они уже были на южном хребте. – Странно все это, – заметила Мэгги. Бедекер согласно кивнул, продолжая карабкаться вверх, в десяти ярдах позади Гэвина. Задолго до рассвета, в кромешной темноте, Гэвин собрался, бросив лишь: «Я пришел покорить вершину, и покорю!» Мэгги и Бедекер толком ничего не поняли, но отправились следом. Внизу, в тени Анкомпагре, виднелись два купола палаток. Ночью, когда стихия миновала, палатку Гэвинов общими силами водрузили на место. Палатка Томми превратилась в кучу тряпья, обрывки нейлона разметало по плато. Когда Бедекер и Гэвин искали спальный мешок и вещи мальчика, то обнаружили еще две бутылки виски – как объяснила Диди, из домашних запасов, которые держали для гостей. Они нагнали Гэвина, когда тот встал передохнуть на высоте двенадцать тысяч футов. Взбирались по крутому восточному склону, предпочтя его пологому южному. У Бедекера стучало сердце, он устал, но в целом чувствовал себя неплохо. Раскрасневшаяся Мэгги тяжело дышала, но, почувствовав его прикосновение, улыбнулась. – Эй, глядите! – Гэвин указал на отдаленный хребет и крохотную фигурку, взбирающуюся по отвесной тропе. Бедекер присмотрелся. – Это Люд. Парень соскользнул вниз, упал, но быстро встал на ноги. – Дельтаплан так и не бросил, – покачал головой Гэвин. – Охота человеку гробиться из-за ерунды. – «О, дайте крылья мне, чтоб улететь с земли и мчаться вслед, в пути не уставая»[2], – процитировала по памяти Мэгги. Заметив вытаращенные глаза своих спутников, смущенно пояснила: – Гете. Гэвин кивнул, поправил рюкзак и зашагал дальше. – Говоришь, не могла запомнить первую строфу «Танатопсиса»? – хитро прищурился Бедекер. Мэгги пожала плечами и ухмыльнулась в ответ. Вдвоем они двинулись навстречу сияющему восходу.* * *
На высоте тринадцати тысяч футов валялись обрывки маленькой походной палатки. Чуть поодаль, приткнувшись к скале и зажав руки между коленями, сидела Мария. Солнце светило уже вовсю, озаряя золотом местность, но девушка дрожала как в лихорадке. И продолжала трястись, даже когда Мэгги укрыла ее пуховиком. – У… у… ураган с-сорвал палатку, – бормотала Мария, стуча зубами. – Все п-промокли к чертям. – Теперь все в порядке, – успокаивала ее Мэгги, прижимая к себе. – Мне н-надо… н-на… гору. – Девушка едва шевелила посеревшими губами. – Только не сегодня. – Гэвин быстро-быстро растирал ее руки с побелевшими кончиками пальцев. – Переохлаждение, – пояснил он, – тебя надо срочно переправить вниз. – Скажите Л-Люду… я не нарочно… – всхлипнула Мария, сотрясаясь от рыданий и холода. – Я провожу тебя в лагерь. У нас там горячий кофе и суп, – Мэгги помогла дрожащей девушке подняться. Бедекер вызвался с ними и остолбенел, услышав решительное «Нет!». – Ты должен идти до конца, – заявила Мэгги. – Вы оба. – Она посмотрела на Бедекера со значением, которого тот не понял. – Уверена? – переспросил он. – Абсолютно. Ты должен идти, Ричард. Кивнув, он повернулся, но его остановил вопль Марии: – Погодите! – Трясущимися руками она достала из рюкзака пластиковый контейнер и всучила его Бедекеру. – Люд забыл, что он у меня. Передайте обязательно. Бедекер вместе с подошедшим Гэвином заглянули в контейнер – внутри на поролоновой подкладке лежали два одноразовых шприца и две ампулы с прозрачной жидкостью. – Мы не будем ничего передавать, – огрызнулся Гэвин. Мария растерянно заморгала: – Но… Ему очень надо. Он забыл вчера. – Нет, – повторил Гэвин. – Не переживай, передадим. – Бедекер сунул контейнер в карман летной куртки, пресекая поток негодования товарища: – Это инсулин. – Коснувшись руки Мэгги, он двинулся впереди Гэвина по сужающейся тропе.* * *
Люд не дошел до вершины каких-то полторы тысячи футов и теперь, скорчившись, лежал на земле, не снимая огромного рюкзака с привязанными к нему ребрами кайта в ярких чехлах. Глаза широко открыты, но лицо бледное как у покойника, из груди вырывается сиплое дыхание. Бедекер с Гэвином освободили беднягу от ноши и привели в чувство. Потом все трое сидели на скале у самого края обрыва в две тысячи футов. Далеко внизу цвел альпийский луг. Тень Анкомпагре растянулась на милю, медленно наползая на крутые отвесы Маттерхорна. Впереди, насколько хватало глаз, простирались острые пики и каменистые плато с пятнами снега. Внизу, на южном склоне, Бедекер различил красную рубашку Мэгги. Девушки двигались не спеша, поодиночке. – Спасибо, чувак, – поблагодарил Люд, возвращая флягу Гэвину. – Очень кстати. Вода у нас кончилась еще до урагана. Бедекер протянул ему контейнер со шприцами. Парнишка смущенно запустил дрожащую пятерню в бороду. – Ну ничего себе… вот спасибо, – тихо добавил он. – Баран, совсем забыл, что он у Марии, а сам еще наелся вчера всякого. Во время инъекции Бедекер тактично отвернулся. Гэвин глянул на часы. – Почти без четверти восемь, мне пора двигать. Дик, поможешь нашему другу спуститься, я догоню. Бедекер промолчал. Люд громко расхохотался. – Забудь, приятель! Я не для того пехал пятнадцать миль, чтобы теперь тащиться назад. Усек? – Он с трудом поднялся, закинул на спину рюкзак, сделал пять шагов по песчаному склону и рухнул на колени. – Погоди. – Бедекер отвязал длинные чехлы и помог парнишке подняться. – Я несу их, а ты остальное. Ноша оказалась на удивление легкой. Вдвоем с Людом они побрели вверх. Гэвин хмыкнул и пошел на обгон. Подъем становился все круче, тропа – у́же, а от вида захватывало дух. Последняя сотня метров далась особенно тяжело. Легкие слипались от недостатка воздуха, в ушах звенело, пульс бешено стучал в висках, все вокруг сливалось в одно большое пятно. Под конец Бедекер двигался почти на автомате, механически переставляя ноги. Гравитация давила мертвым грузом, пригибая к неровной поверхности скал. Преодолев широкую равнину и едва не рухнув с каменистого обрыва, он сообразил, что цель достигнута, сбросил поклажу и устало опустился на землю. Люд плюхнулся рядом. Гэвин устроился на валуне неподалеку и, подтянув одно колено, закурил трубку. В чистом воздухе поплыл резкий, сладковатый запах табака. – Лучше тут не задерживаться, Дик, – предупредил Гэвин. – Передохнем и пойдем обратно, к Хенсон-Крик. Бедекер молча наблюдал за Людом. Бледный как полотно, с трясущимися руками, тот на четвереньках добрался до рюкзака и стал вынимать дюралевые крепления. Потом расстелил квадрат красного нейлона, вытащил холщовую сумку с инструментами и начал разбирать. – Трос со связным узлом – нержавейка, обжимка из комбинированного сплава, – пояснял он. Бедекер подсел ближе, глядя, как из рюкзака появляются все новые футляры и футлярчики. – Горизонтальная трапеция. Люлька внутри на липучках, цепляется вот этим карабином. Солнце согрело поверхность стального кругляшка, но внутри металл хранил холод. – Гайки, болты, – монотонно перечислял Люд, выкладывая пакетики на алое полотнище по заранее продуманной схеме. – Натяжители для тросов, зажимы, втулки, штифты, гаечные крышки. – Далее пошли крупные детали. – Стойки, латы, скобы, поперечина, боковые трубы. Ну и наконец парус. – Люд похлопал по массивному рулону дакрона. – Разворачиваемся, – велел Гэвин. – Успеем, – отмахнулся Бедекер. Люд состыковал боковые трубы в носовом узле под углом в сто градусов. В солнечном свете оранжево-белый дакрон сверкал, будто крылья бабочки. Через несколько минут конструкцию дополнили мачта и поперечина. Люд занялся мелкими деталями. – Поможешь, приятель? – обратился он к Бедекеру. Тот взял инструменты и под чутким руководством паренька закрепил болты, приладил ручку управления и затянул гайки. Люд накачал карманы на передней кромке, и Бедекер, пилот с тридцатью годами стажа, смог по достоинству оценить настройку кривизны крыла и простое изящество кайта. Конструкция из алюминия и стали под дакроновым парусом воплощала в себе всю сущность полета. Закончив с приготовлениями, Люд тщательно проверил все крепления. Дельтаплан стоял, будто гигантское насекомое, четырнадцать футов в длину и двадцать девять в ширину, готовое к прыжку в пропасть. Гэвин выбил трубку о камень. – А где твой шлем? – У Марии, – откликнулся Люд, потом перевел взгляд с Гэвина на Бедекера и расхохотался. – Вы, народ, не вкурили. Я только собираю эти штуки, настраиваю и объясняю, как и что. Полетит Мария, я не умею. Настал черед Гэвина смеяться. – Вынужден разочаровать. Твоя подружка на полпути к нашему лагерю. Она идти толком не может, не то что летать. – Гонишь, чувак. Мария уже на подходе. Бедекер покачал головой. – У нее гипотермия. Мэгги повела ее обратно. Люд вскочил и бросился к юго-западному обрыву. Разглядев далеко внизу две фигурки, с отчаянием схватился за голову. – Дьявол, ну как так?! – Он плюхнулся на землю, длинные волосы закрыли лицо, плечи вздрагивали. Бедекер поначалу решил, что парнишка плачет, но напротив, тот хохотал: – Я пятнадцать миль пер эту херь в гору, и такой облом! – всхлипывал он. – Обидно, что кино не получилось? – спросил Гэвин. – Хрен с ним, с кино! Суть была воздать хвалу всему этому! – Чему? – не понял Гэвин. – Идите сюда, – Люд встал и поманил их к западному обрыву. – Вот… – Он обвел рукой горные пики, плато и небеса. Гэвин кивнул. – Творения Господни прекрасны, но их не прославляют всякими глупостями. Люд окинул его долгим взглядом. – Нет, чувак, ты не прав. Этого никто не сотворял, оно есть само по себе, и мы – часть его. Это и нужно восславить. Гэвин посмотрел на него с откровенной жалостью, как на неразумного младенца. – Скалы, снег и воздух сами по себе – ничто. Люд не спускал глаз с бывшего астронавта, пока тот надевал рюкзак, потом усмехнулся. – Да, приятель, мозги тебе засрали основательно. Гэвин не удостоил его ответом. – Идем, Дик. Пора спускаться. Бедекер залез под дельтаплан и взялся за трапецию. – Люд, помоги. Парнишка бросился на зов. – Уверен, приятель? – Помоги, – повторил Бедекер. Люд уже застегивал крепления, проверял поясные и плечевые стропы. Паховые ремни и застежки напоминали о парашютах, которые Бедекер множество раз надевал в бытность летчиком. – Дик, кончай дурачиться, – нахмурился Гэвин. Тот лишь пожал плечами. Люд затянул липучки на ногах и показал, как принять горизонтальную позицию. Бедекер выпрямился, поднимая на плечах металлический треугольник каркаса. Люд держал килевую балку параллельно земле. – Ты рехнулся, Дик! Прекращай. У тебя даже шлема нет. Хочешь, чтобы тебя со скал отскребали? Бедекер шагнул к пропасти. С запада дул легкий ветерок, не больше десяти миль в час. Дельтаплан чуть качнулся и замер. Ветер и гравитация боролись под дакроновым куполом. – Дик, кому сказано, прекращай этот детский сад! – Нос держи поверху, туловище – поближе сюда, – наставлял Люд. Бедекера отделяло восемь футов от пропасти, обрывавшейся почти вертикально. Внизу в сотне футов виднелись скалистые зубцы, дальше – опять сплошная отвесная стена. Рубашка Мэгги алела ярким крошечным пятнышком на буром каменистом плато. – Дик! – рявкнул Гэвин. – Никаких крутых разворотов, когда опустишься до тысячи, – втолковывал Люд. – Все, удачи! – Чертов придурок, – вынес Гэвин окончательный вердикт. Бедекер покачал головой. – Славься! – выдохнул он, сделал пять шагов и прыгнул.
Часть четвертая Лоунрок
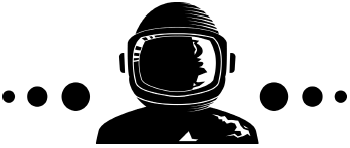
Канун Нового года, похороны. Небо затянуто низкими свинцовыми тучами, за четыре с половиной часа езды траурного кортежа от Салема до кладбища несколько раз принимался идти снег. Несмотря на раннее время, тусклый дневной свет теряется за деревьями и каменными оградами построек, превращая их в смутные серые очертания. Очень холодно. Катафалк останавливается, белое облако выхлопных газов от работающего вхолостую мотора окутывает мужчин. Они поднимают гроб и шагают по жухлой траве. Бронзовая ручка холодит даже сквозь перчатку. Тело покойного кажется почти невесомым, нести гроб вшестером на удивление легко. Бедекеру вспомнилась детская игра, когда один лежит навзничь, а другие скопом его поднимают, подсовывая строго по одному пальцу под напряженное тело, и так до тех пор, пока оно не поднимется над полом под аккомпанемент визга и хохота. Играя, Бедекер каждый раз ощущал внутренний трепет оттого, что так бесцеремонно попираются непреложные законы гравитации. Правда, под конец «левитирующего» опускали на землю – осторожно или резко, как получится, и гравитация вновь вступала в свои права. Проститься с покойным собралось двадцать восемь человек, хотя могло быть много больше. Вице-президент тоже хотел приехать, но этот его порыв настолько отдавал предвыборной кампанией, что Диана ответила решительным отказом. По левую сторону, в долине виднеется шпиль методистской церкви Лоунрока, время от времени теряющий реальность, когда слабый свет тонет в наползающих облаках. До сегодняшних похорон церковь простояла закрытой много лет. Складывая растопку в железную печь, Бедекер наткнулся на газету от двадцать первого октября семьдесят первого года. Интересно, где они с Дейвом были в тот день? Двадцать первое октября, за три месяца до знаменательного полета. Значит, либо в Хьюстоне, либо на мысе, наверняка не скажешь. Скромная церемония проходит быстро. Первым выступает полковник Терренс Пол, капеллан ВВС и друг семьи. Затем Бедекер вспоминает, как его покойный друг брел по Луне в ореоле звездного света. Зачитывают телеграмму от Тома Гэвина. Собравшиеся по очереди произносят краткие речи. Наконец слово берет Диана и тихо рассказывает о любви мужа к полетам и своим близким. Несколько раз ее голос срывается, но она находит в себе силы продолжать. В наступившей тишине почти слышно, как снежные хлопья опускаются на плечи, на траву, на гроб… И вдруг – пронзительный, сотрясающий землю рев. Все задирают головы – с северо-запада плотным строем несутся четыре реактивных «Т-38», держась на высоте пятисот футов, как раз под облаками. Пронзительный гул двигателей звоном отдается во всем теле. Внезапно один самолет взмывает почти вертикально, пропадая в серой толще. Остальные исчезают на юго-востоке. Вой турбин превращается в стон и вскоре затихает. От траурного действа в небесах у Бедекера наворачиваются слезы, он часто моргает. Генерал Лейтон, тоже друг семьи, делает знак почетному караулу ВВС: с гроба снимают американский флаг, торжественно складывают. Генерал вручает свернутый флаг Диане, та принимает его со спокойным достоинством. Собравшиеся приносят вдове соболезнования и, помедлив у гроба, направляются к урчащим автомобилям за оградой. Бедекер задерживается дольше других. От холодного воздуха стынет грудь. На бурых холмах за долиной сереют пятна снега. Проселочная дорога пересекает местность, будто шрам. Над сосновым лесом на западе возвышаются горные хребты, напоминая спинные пластины стегозавров. У сарайчика в дальнем углу кладбища неприметно стоит маленький оранжевый экскаватор. Двое мужчин в серых утепленных комбинезонах и голубых вязаных шапочках курят, поглядывая в сторону могилы. «Ждут, пока я уйду», – решает Бедекер. Он бросает последний взгляд на серый гроб над ямой, вырытой в мерзлой земле, и направляется к выходу. У распахнутой дверцы белого джипа «Чероки» стоит Диана и жестом подзывает его. Остальные уже расселись по своим машинам. – Ричард, проводишь меня? – Конечно. Хочешь, я поведу? – Нет, я сама. Диана выезжает с кладбища, не оглядываясь. Побелевшие пальцы крепко сжимают руль. Снегопад усиливается, приходится включить «дворники». Какое-то время в салоне слышится лишь скрежет резины по стеклу и мерное гудение печки. – Как считаешь, все прошло нормально? – Диана расстегивает пальто. Под ним виднеется темно-синее платье. За три дня до похорон невозможно найти траурный наряд для беременных. – Вполне, – отзывается Бедекер. Она удовлетворенно кивает. – Я тоже так думаю. По обе стороны тянется проволочная ограда пастбища. Впереди вспыхивают стоп-сигналы – чья-то машина чудом не напоролась на валун, торчащий посреди проселочной дороги. Они минуют фермерские угодья и сворачивают на щебенку, ведущую к долине. – Ты останешься? – спрашивает Диана. – Помянем, как положено, и обратно. – Разумеется, – отвечает Бедекер. – В обед я встречаюсь с Бобом Мунсеном, но часам к семи вернусь. – Такер тоже приедет, – поспешно добавляет Диана, точно уговаривая, – и Кэти. Надо хоть в последний раз посидеть вчетвером. – Не обязательно в последний, Ди, – возражает Бедекер. Она кивает, но молча. На бледном лице заметно проступают веснушки. Бедекеру вспоминается старая фарфоровая кукла с маминого бюро. Он разбил ее однажды в дождливый день, когда возился с Ботом, их здоровенным спрингер-спаниелем. Отец потом куклу склеил, но мраморно-бледные щеки и лоб ее словно покрылись сеточкой морщин. Теперь Бедекер вглядывается в Диану, ища на ее лице похожий узор. Снег валит все гуще.
* * *
В Салем Бедекер приехал в начале октября. Прихрамывая, сошел с поезда, поставил вещи на платформу и осмотрелся. Поодаль виднелся небольшой вокзал, чуть превосходящий размерами беседку для пикника. Казалось, построили его в двадцатые, а потом бросили на произвол судьбы, даже крыша успела обрасти мхом. – Ричард! Глядя поверх голов обнимающихся, он различил высокую фигуру Дейва Малдорфа. Махнув в ответ, Бедекер подхватил старую летную сумку и двинулся навстречу товарищу. – Дружище, как же я рад тебя видеть! – огромная рука Дейва стиснула его ладонь. – А уж как я рад! – Бедекер по-настоящему растрогался при виде старого друга. – Давненько мы не встречались, а? Года два точно. – Считай, три. Последний раз в Музее авиации. Майк Коллинс нас собирал. А что с ногой? Бедекер криво усмехнулся и шлепнул тростью по правой лодыжке. – Потянул связки, когда лазил с Гэвином по горам. Дейв забрал у него сумку и повел на парковку. – Как Том? – Прекрасно, – откликнулся Бедекер. – У них с Диди все хорошо. – Говорят, он в духовный бизнес подался? Бедекер покосился на приятеля. У них с Гэвином никогда не было особой дружбы. Интересно, изменились ли чувства Дейва спустя семнадцать лет после полета. – Возглавляет организацию евангелистов «Апогей». Дела там идут весьма успешно. – Вот и славно, – совершенно искренне ответил Дейв, закинув сумку и чемодан в багажник новенького джипа «Чероки». – Рад за него. В прогретом солнцем салоне пахло свежей кожей. Бедекер опустил стекло. День выдался теплым и безоблачным. От синевы неба захватывало дух. – Всегда думал, что в Орегоне осенью сплошные дожди, – заметил Бедекер. – Так и есть, но изредка выпадает пара-тройка таких вот деньков, чтобы жир растрясти. Зато копы, местное ТВ и база ВВС их просто ненавидят. – С чего бы? – Каждый раз, когда выходит солнце, им поступает по триста-четыреста сообщений об огромном желтом НЛО в небе. Бедекер хмыкнул. – Серьезно тебе говорю. А здешние вампиры в панике разбегаются по гробам. Это единственный в Америке штат, где они разгуливают днем без риска нарваться на свет. И вдруг – солнце! Представляешь, какой шок для наших Носферату? Бедекер откинулся на сиденье и закрыл глаза. Здесь он определенно задержится надолго. – Ричард, скажи, похоже, что я недавно занимался оральным сексом с курицей? Бедекер приоткрыл один глаз. Его бывший напарник по-прежнему напоминал угловатую копию Джеймса Гарнера. На лице, правда, добавилось морщин, скулы ярче обрисовывались под кожей, но в густой черной шевелюре не было и намека на седину. – Нет, не похоже. – Слава богу! – облегченно выдохнул Дейв и тут же кашлянул в кулак. Желтые обрывки «клинекса» ворохом взметнулись вверх. Бедекер снова закрыл глаза. – Молодец, Ричард, что выбрался, – похвалил Дейв. Не открывая глаз, Бедекер улыбнулся. – Сам на себя не нарадуюсь.* * *
В Денвере он продал машину и вместе с Мэгги поездом отправился на запад. Едва ли мудрое решение, но впервые в жизни он действовал без оглядки. Скорый поезд «Калифорнийский бриз» выехал из Денвера в девять утра. Завтракали в вагоне-ресторане, пока состав мчался под континентальным водоразделом сквозь первый из пятидесяти пяти туннелей Колорадо. При виде бумажных тарелок, салфеток и скатерти Бедекер поморщился. – Помнится, когда я в последний раз ехал на американском поезде, скатерти были льняные, а еда не из микроволновки. Мэгги улыбнулась. – И когда такое было? Во время Второй мировой? Фраза рассчитывалась как шутка, эдакий толстый намек на его вечные сетования о разнице в возрасте, но Бедекера точно молнией ударило – это и впрямь было в войну! Тогда они с матерью и сестренкой Энни ехали из Пеории в Чикаго навестить родню. Отчетливо вспомнились обращенные назад сиденья, приглушенные голоса проводников и официантов в вагоне-ресторане и его невероятный восторг при виде уличных огней, мелькавших за окном ослепительными созвездиями. Поезд мчался по эстакадам на южной стороне Чикаго, мимо ярко освещенных домов. Хотя Бедекер здесь родился, у него десятилетнего возникло странное, не лишенное приятности чувство отстраненности, превращения из участника в наблюдателя. Похожее он испытал двадцать восемь лет спустя, когда модуль «Аполлона» вышел из зоны радиосвязи, и обзорный экран заполнила щербатая поверхность Луны. Припав тогда к иллюминатору, Бедекер протер запотевшее стекло тем же жестом, что и четыре с половиной десятилетия назад, на пути в Чикаго. – Можно убирать? – В голосе официанта слышалось раздражение. – Можно, – кивнула Мэгги, допивая кофе. – Вот и славно. – Официант взял бумажную скатерть за уголки, вместе с бумажными тарелками, пластиковыми приборами и стаканчиками, и швырнул в стоящий рядом мусорный бак. – Прогресс, – заметил Бедекер по дороге в купе. – Ты о чем? – не поняла Мэгги. – Не важно. Ночью, когда Мэгги тихонько посапывала у него на плече, Бедекер смотрел в окно. Поезд остановился на дальних путях в Солт-Лейк-Сити перецепить локомотив. Под заброшенным мостом, заросшим жухлыми сорняками, грелись у костра бомжи… или как там их теперь называют? Проснулись они еще до рассвета. Поезд мчался через пустынный каньон, рыжие скалы были едва тронуты первыми неверными проблесками зари. Едва открыв глаза, Бедекер понял, что поездка обречена. Чувство, возникшее между ним и Мэгги в Индии, а после – в Колорадо, не выдержит проверку суровой реальностью. Рассвет встретили в молчании. «Бриз» мчался на запад, мимо скал и холмов с плоскими вершинами, а вокруг царила хрупкая и недолговечная тишина.* * *
Малдорфы жили в элитном поселке на юге Салема. Терраса их дома выходила на лесной ручей. Бедекер ел стейк с жареной картошкой и слушал, как бежит вода по невидимым камням. – Завтра отвезем тебя в Лоунрок, – сообщил Дейв. – После твоих рассказов жду не дождусь, – с энтузиазмом откликнулся Бедекер. – Дейв хотел сказать, он отвезет, – вмешалась Диана. – У меня завтра собрание в Доме малютки, а в воскресенье аукцион по сбору средств. Увидимся в понедельник. Бедекер кивнул, разглядывая Диану. Тридцать четыре года, на четырнадцать лет моложе супруга. Грива черных волос, бездонные голубые глаза, вздернутый носик и веснушки делали ее похожей на типичную соседскую девчонку. И все же в ней отчетливо проступала зрелость, ненавязчивая, но уверенная женственность, которую лишь подчеркивал шестимесячный живот. К ужину Диана переоделась в потертые джинсы и синюю линялую рубашку навыпуск. – Отлично выглядишь, Ди! – не удержался от комплимента Бедекер. – Беременность тебе к лицу. – Спасибо, Ричард. Ты тоже ничего, похудел после Вашингтона. Бедекер расхохотался. Тогда он жутко растолстел – тридцать шесть фунтов сверх нормы. С тех пор сбросить удалось лишь пятнадцать. – Все еще бегаешь по утрам? – спросил Дейв – единственный астронавт второго поколения, кто откровенно пренебрегал такими пробежками, тем самым вызывая гнев начальства. Сейчас, через десять лет после выхода из программы, Малдорф выглядел намного стройнее. Возможно, причиной стала болезнь. – От случая к случаю, – пожал плечами Бедекер. – Начал недавно, сразу как вернулся из Индии. Диана принесла запотевшие бутылки пива и снова села за стол. Предзакатные лучи падали ей на лицо. – Как тебе Индия? – с любопытством спросила она. – Увлекательно. Жаль, времени было мало. Дейв откинулся на стуле. – Со Скоттом виделся? – Да, но мельком, – признался Бедекер. – Славный парень, – протянул Дейв. – Помнишь, как в начале семидесятых мы ездили рыбачить в Гальвестон? Бедекер кивнул. Разве забудешь бесконечные солнечные дни и долгие теплые вечера? Они со Скоттом возвращались домой обгоревшие. Джоан в притворном ужасе вскрикивала: «Явились, красноперки! А ну живо в аптеку за мазью!» – Кстати, ты в курсе, что этот… как его там… учитель Скотта решил навсегда осесть в своем ашраме неподалеку от Лоунрока? – заметила Диана. – Навсегда? Нет, не в курсе, – покачал головой Бедекер. – Расскажи, что за ашрам в Пуне? – допытывалась Диана. – Не знаю, – растерялся Бедекер, запомнивший только магазин на входе в общину и футболки с изображением бородатой физиономии гуру. – Я там был всего два дня, толком ничего не разглядел. – По идее, Скотт тоже должен вернуться в Штаты, – резонно предположила Диана. Бедекер отхлебнул пива. – Наверное… Может, уже и вернулся. Мне, увы, никто не докладывает. – Как насчет сыграть партейку в билли-ад? – встрепенулся Дейв. – В билли-ад? – не понял Бедекер. – Брось, Ричард, – удивился Дейв. – Неужели не смотрел «Деревенщины из Беверли-Хиллз»? Классика как-никак. – Нет. Дейв закатил глаза. – Ди, у парня серьезная проблема – культурный вакуум. – Ты поможешь ему восполнить пробелы в образовании, – улыбнулась Диана. Малдорф налил пива в две кружки и направился к выходу. – Дружище, тебе повезло. У меня на кассетах двадцать серий. Сейчас быстренько уделаю тебя в старый добрый бильярд, и будем восполнять пробелы. Идем, mon cher. – Oui. – Бедекер составил тарелки и понес на кухню. – Один момент, или, как говорят наши друзья, einen Augenblik, por favor, mon ami.* * *
Бедекер паркуется неподалеку от места крушения, каких немало повидал на своем веку. Едва ли это отличается от других, думает он. И сильно ошибается. На вершине хребта дует ледяной ветер. Сент-Хеленс виден отсюда как на ладони. Вулкан возвышается над долиной и горами, точно айсберг. Над кратером висит дым или облака. Бедекер вдруг понимает, что идет по пепелищу. Под тонким слоем снега земля совсем серая. Вереница следов напоминает истоптанную площадку вокруг лунного модуля на вторые сутки, когда они с Дейвом возвращались с последнего выхода. Место крушения, вулкан и пепел наводят на мысли о неминуемой победе катастрофы и хаоса над порядком. Территория ограждена оранжево-желтой лентой. Удивительно, что обломки самолета еще не увезли. Сразу бросаются в глаза два участка в тридцати метрах друг от друга, где рухнул и развалился на части «Т-38». Основной удар пришелся на низкую гряду скал, клыками торчащих из горы. Выбросы снега и пепла расходятся от центра длинными лучами, ассоциируясь у Бедекера с вторичными кратерами на Холмах Мариуса, где в свое время совершил посадку модуль. От самолета мало что осталось. Хвостовая часть почти не тронута, можно запросто прочесть бортовой номер авиации Национальной гвардии. В черной головешке легко узнать турбодвигатель «Дженерал Электрик». Всюду куски горелой пластмассы и покореженного металла. Среди разбитых частей фюзеляжа белеют мотки изолированных проводов – точно внутренности расчлененного зверя. Косо торчит потемневший осколок кабины из оргстекла. Только по заградительной ленте и утоптанной земле можно догадаться, что отсюда извлекли тело погибшего. Бедекер делает два шага к кабине и наступает на что-то. Отпрыгивает с криком «Господи!» и лишь после соображает, что кусочек кости с обгоревшей плотью и паленым волосом принадлежит какой-то зверушке, по несчастью угодившей в пекло крушения. Он наклоняется, чтобы разглядеть. Размерами животное смахивает на крупного кролика, вот только уцелевшая шерсть подозрительно черная. Бедекер берет палку и тычет в трупик. – Эй, тут закрытая зона! – на холм торопливо взбегает патрульный из полиции штата Вашингтон. – Все в порядке. – Бедекер показывает пропуск, выданный базой ВВС Маккорд. – У меня встреча с дознавателями. Кивнув, полицейский тормозит в паре шагов от Бедекера. Закладывает большие пальцы за ремень и переводит дух. – Жуть, правда? Бедекер задирает голову – снова пошел снег. Вулкан затянули тучи. В нос бьет запах жженой резины, хотя помимо шасси ее на «Т-38» особо и нет. – Вы из следственной группы? – интересуется патрульный, переминаясь с ноги на ногу и посматривая вниз на дорогу. – Нет, я знал пилота. – Простите. – Странно, что не убрали обломки, – замечает Бедекер. – Обычно их стараются побыстрее перевезти в ангар. – Транспорта нет. Полковник Филдс и люди из администрации штата с обеда пытаются договориться насчет грузовиков. А перегонять надо из лагеря Уизайкомб в Портленде. Плюс проблемы с зоной юрисдикции. Лесохозяйственное управление и то задействовали. Бедекер кивает и снова склоняется над мертвым зверьком, но тут его внимание привлекает обрывок оранжевой ткани на ветке. Наверное, от рюкзака. Или от летного комбинезона. – Мы с Джейми прибыли чуть ли не раньше всех, – продолжает патрульный. – Выехали из Йеля, и тут сигнал. Только геолог нас и опередил, у него хижина где-то в горах. Бедекер выпрямляется. – Сильно полыхало? – К нашему приезду уже нет. Дождем залило, не иначе. Да и чему тут особо гореть, кроме самолета? – Значит, в момент крушения был дождь? – уточняет Бедекер. – Не то слово! Хлестало как из ведра, за двадцать шагов ничего не видно, и вдобавок ветрище. По мне, так настоящий ураган. Вы ураган видали? – Нет, – отвечает Бедекер и вдруг вспоминает ураган в Тихом океане, за которым они всей командой наблюдали с высоты двухсот миль перед включением третьей ступени. – Получается, было темно, и шел дождь? – Ну да, – кивает патрульный вяло. – Тут вот какая штука… Полковник Филдс… из ВВС… говорит, типа ваш друг знал, что самолет упадет, потому и летел над лесом. Бедекер смотрит на собеседника в упор. Тот откашливается, сплевывает. Снегопад кончился. В затухающем свете дня еще не запорошенная земля кажется еще серее. – Спрашивается, если он засек неисправность и нарочно залетел в эту глушь, почему не выпрыгнул? Зачем поперся в горы? Бедекер оборачивается: внизу по шоссе движется ряд военных грузовиков, два эвакуатора и небольшой кран. Колонна останавливается у взятой напрокат «Тойоты» Бедекера. На холм поднимается бронированный джип с водителем в синей форме ВВС. Бедекер идет навстречу. – Не знаю, – отвечает он больше сам себе, но слова заглушает ветер и рев мотора.* * *
– Сколько отсюда до Лоунрока? – спросил Бедекер. Они ехали по Двенадцатой улице в Салеме. Стрелки показывали три. – Часов пять, – отозвался Дейв. – Сперва по шоссе номер пять на север до Портленда, потом через речное ущелье, мимо Даллеса. Ну и там полтора часа через Васко и Кондон. – Только к ночи доберемся. – Не-а, – лукаво усмехнулся Дейв. Бедекер сложил карту и вопросительно поднял бровь. – Я знаю короткий путь, – пояснил Дейв. – Горами, через Каскады? – Можно и так сказать. Дейв свернул с Тернер-роуд на дорогу, ведущую в аэропорт. Возле двух громадных ангаров стояли реактивные самолеты бизнес-класса. Вдоль широкой автополосы замерли вертолет «Чинук», «Сессна А-37 Стрекоза» с маркировкой авиации Национальной гвардии и старенький «Локхид С-130». Дейв затормозил у военного ангара, выгрузил багаж и кинул Бедекеру стеганый пуховик. – Надевай, не то замерзнешь. Из ангара вышел сержант и двое механиков в спецовках. – Здравия желаю, полковник Малдорф! – Сержант вытянулся в струнку. – Все готово и проверено. – Спасибо, Чико. Кстати, познакомься с полковником Диком Бедекером. Обменявшись рукопожатиями, они зашагали по взлетной полосе к вертолету, припаркованному за массивным «Чинуком». Механики гостеприимно распахнули боковую дверцу. – Глазам не верю! – выдохнул Бедекер. – Это же «Хьюи». – «Белл Ирокез» к вашим услугам, – осклабился Дейв. – Спасибо, Чико. Дальше мы сами. Если что, план полета у Ната. – Удачи, полковник. Полковник Бедекер, рад знакомству. При виде вертолета у Бедекера засосало под ложечкой. На «Хьюи» он летал сто раз, даже отсидел за штурвалом часов тридцать пять в начале программы подготовки НАСА, но от души ненавидел каждое мгновение внутри коварной машины. Дейв, напротив, «железных стрекоз» обожал, провел на них почти все испытательные полеты. В шестьдесят пятом его временно направили в «Хьюз Эйркрафт», помочь с прототипом тренировочного «ТН-55А». Новый вертолет норовил ткнуться носом в землю по поводу и без. Чтобы разобраться, требовалось провести полевые исследования летных характеристик старой модели «Белл HU-1», эксплуатируемой во Вьетнаме. Дейв провел там полтора месяца, летая вместе с военными пилотами, после чего вернулся на родину. Спустя еще четыре с половиной месяца выяснилось, что его исследовательский вертолет каждый день выполнял военные задания в составе санитарно-транспортной эскадрильи. Проблему с «ТН-55А» Дейв решил ценой собственного повышения. Как объяснили, за участие в несанкционированных вылазках. Позже пришло уведомление, что ни ВВС, ни министерство обороны не намерены платить летчику за«боевые» часы. Дейв только посмеялся – за две недели до отправки из Вьетнама НАСА пригласило его в программу подготовки астронавтов второго поколения. – Неплохо заиметь «вертушку» в личное пользование! – заметил Бедекер уже в кабине. – Вот они, привилегии конгрессмена. Дейв расхохотался и бросил товарищу планшет с летным регламентом. – А что такого? Голдуотер на истребителе «Хорнет» раскатывал туда-сюда, и ничего. А у меня малыш «Хьюи». Вдобавок не забывай, я до сих пор числюсь в активном резерве – имею полное право. – Он протянул Бедекеру бейсболку с нашивкой «Борт номер полтора». Тот натянул ее на голову, сверху приладил радиогарнитуру. – К слову, Ричард, твоя совесть налогоплательщика может спать спокойно: эта развалина на славу потрудилась во Вьетнаме, десять лет перевозила бойцов в увольнение, и теперь официально списана. Чико с ребятами присматривают за ней на случай, если кто захочет смотаться в Портленд за сигаретами и так далее. – Очень удобно, – согласился Бедекер, пристегиваясь. Дейв взялся за ручку управления, левой включил зажигание. При взгляде на все эти рычаги, педали и прочее Бедекер содрогнулся, совсем как двадцать лет назад, когда летал на проклятых «вертушках». Рулить лунным модулем «Аполлона» было и то легче, чем военным вертолетом. Под рев турбин закрутились гигантские сорокавосьмифутовые лопасти. – Йо-хо! – завопил Дейв. Приборы на панели достигли нужной отметки, несущие винты раскрутились до максимума. Дейв вытянул рычаг, и допотопная трехтонная махина зависла в пяти футах над полосой. – Готов посмотреть короткий путь? – прозвучал в наушниках механический голос приятеля. – Валяй! – усмехнулся Бедекер. Хмыкнув, Дейв что-то проговорил в микрофон и уверенно взмыл на восток.* * *
Оба дня в Сан-Франциско было дождливо и холодно. По просьбе Мэгги остановились в отреставрированной старой гостинице неподалеку от Юнион-сквер. В тускло освещенных коридорах пахло краской, душ весьма неудобно помещался над громоздкой ванной с массивными подпорками в виде звериных лап, и вдобавок повсюду торчали ничем не прикрытые трубы противопожарной системы. Бедекер и Мэгги по очереди приняли душ – смыть ароматы двух суток в поезде, прилегли поспать, вместо этого занялись любовью, снова сбегали в душ и отправились изучать окрестности. – Никогда здесь раньше не была, – счастливо улыбалась Мэгги. – До чего красиво! По шумным тротуарам сновали театралы и влюбленные парочки – все больше однополые. Неоновая реклама над головой обещала всевозможные наслаждения разной степени порочности. Ветер пах морем и выхлопными газами. Канатные трамваи закрыли на ремонт, ближайшие такси оказались занятыми, других было не дождаться. Автобусом Бедекер и Мэгги добрались до Рыбацкой пристани и молча бродили, пока слякоть и травмированная лодыжка не загнали их в ресторан. – Дороговато, – заметила Мэгги, отложив вилку, – но устрицы чудо как хороши. – Ага, – поддакнул Бедекер. – Ричард, в чем дело? Он помотал головой. – Ни в чем. Мэгги терпеливо ждала. – Просто думаю, как затяжной уикенд отразится на твоей учебе. – Он разлил вино по бокалам. – Неправда. – В отблесках свечей глаза девушки казались бирюзовыми. Загар не скрывал обгоревших щек. – Скажи как есть. Бедекер окинул ее долгим взглядом. – Не могу забыть, как Томми отмочил эту штуку в горах, – признался наконец он. Мэгги усмехнулась. – Иначе говоря, скакал голым на камне в грозу с шестом в руках? Ты про это? Бедекер кивнул. – Мог ведь погибнуть. – Вполне, – согласилась Мэгги. – Не зря же он поминал всех богов всуе, только с последним переборщил… – Она осеклась, заметив серьезное выражение его лица. – Ну хватит, все же обошлось. Что без толку думать? – Меня беспокоит не его поведение, а мое, – пояснил Бедекер. – Твое? – удивилась Мэгги. – Ты же ничего не делал. – Вот именно! – Он залпом осушил бокал и плеснул новую порцию вина. – Ничего. – Отец Томми вмешался раньше, чем мы успели что-либо предпринять. Бедекер снова кивнул. Женщины за соседним столиком громко смеялись неведомой шутке. – Ясно, – протянула Мэгги. – Опять все сводится к Скотту. Бедекер вытер руки красной льняной салфеткой. – Не знаю… Просто Том Гэвин понял, что сын творит глупость, и помешал трагедии. – Угу, только малышу Томми сколько?.. Семнадцать, если не ошибаюсь, а Скотту стукнет двадцать три в марте. – Да, но… – И потом, Томми был в двух шагах, а Скотт в Пуне. – Тем не менее… – По-твоему, Скотту грозит опасность? Тогда чего ты молчал там, в Индии? Скотт большой мальчик, если ему нравится петь мантры и отдавать свои «обеденные» деньги бородатому козлу с комплексом Иеговы, то вправлять ему мозги надо было на месте. Проблема не в Скотте, а в том, что твоя сраная жизнь тебя устраивает, Ричард Бедекер! – Мэгги сделала большой глоток из бокала. – Господи, Ричард, иногда ты ведешь себя как полный… – Она вдруг икнула, не договорив. Бедекер протянул ей стакан с водой. Мэгги посидела с минуту, потом открыла рот и снова икнула. Они оба засмеялись. Дамы за соседним столиком укоризненно поджали губы. На следующий день в парке «Золотые ворота», стоя под купленным по случаю зонтиком, они смотрели, как высокие оранжевые колонны прячутся и снова возникают из низких облаков. – Ричард, пока вопрос со Скоттом открыт, нет смысла, наверное, говорить о нашем будущем? – спросила Мэгги. – Не знаю, пусть пока идет как идет. На неделе решим что-нибудь. Мэгги смахнула дождевую каплю с носа. – Я люблю тебя, Ричард, – впервые сказала она. Утром, когда Бедекер проснулся, солнце вовсю светило в окно, с улицы доносились звуки большого города. Мэгги в номере уже не было.* * *
Они летели на восток, потом на север, снова на восток, поднимаясь над взбирающимся в горы лесом. – Разве по регламенту здесь не полагаются кислородные маски? – спросил Бедекер, когда стрелка альтиметра замерла на отметке в восемь с половиной тысяч футов. – Еще как полагаются. Если давление в кабине резко падает, маски вываливаются из специального шкафчика прямо на голову. Натягиваешь на рыло и дышишь себе. А если у тебя на коленях ребенок, быстро расставляешь приоритеты, кому дышать, а кому нет. – Спасибо, успокоил. – Бедекер выглянул в иллюминатор. – Это Маунт-Худ? Вулкан давно маячил на горизонте и теперь громадным конусом нависал слева. Покрытая снегом вершина возвышалась над ними без малого на две тысячи футов. Тень вертолета быстро скользила по верхушкам деревьев внизу и впереди. – Ага, – подтвердил Дейв, – а вон Тимберлайн-Лодж, где снимали «Сияние». Бедекер промычал в ответ что-то невразумительное. – Ты не видел фильм? – раздался в наушниках недоверчивый голос Дейва. – Нет. – А книгу читал? – Тоже нет. – Вообще не читал Стивена Кинга? – Нет. – Господи, Ричард, с твоим-то багажом не знать современных классиков! Стенли Кубрика хоть помнишь? – Его забудешь! – фыркнул Бедекер. – Ты же в Хьюстоне пять раз таскал меня на «Космическую одиссею». Он ни грамма не преувеличил. Малдорф так впечатлился фильмом, что заставлял всю команду поочередно ходить с ним на сеансы. Перед самым полетом он всерьез вознамерился взять с собой сувенирный черный монолит только затем, чтобы якобы «откопать» его в лунной пыли. Монолиты, увы, оказались в дефиците, и Дейв утешался лишь тем, что центр управления будил астронавтов начальными аккордами «Так говорил Заратустра». Первое время Бедекеру даже нравилось. – «Одиссея» – это шедевр, – авторитетно заявил Дейв, беря вправо и сбрасывая высоту. Внизу у горного озерца сгрудились палатки и трейлеры, полуденное солнце отражалось от подернутых рябью вод. Потом все исчезло, показался сосновый бор в потускневшем осеннем уборе, на юге и востоке виднелись пологие коричневые холмы. «Хьюи» летел на стабильных пяти тысячах, через орошаемые поля к пустынному плоскогорью. Дейв обменялся парой слов с авиадиспетчером, пошутил с кем-то из частного аэропорта к югу от Мопина и переключился на внутреннюю связь. – Видишь реку? – Ага. – Это Джон-Дей. «Учитель» Скотта прикупил городишко к юго-западу отсюда. Тот самый, где пару лет назад отметился этот секс-гуру Раджниш. Бедекер глянул на карту и кивнул. Потом расстегнул пуховик, налил кофе из термоса и протянул стаканчик Дейву. – Спасибо. Кстати, порулить не желаешь? – Не особо. Дейв засмеялся. – Ох, не любишь ты, Ричард, вертолеты. – Не особо. – В толк не возьму, с чего. Ты же летал на всем, что летает, включая все эти «кузнечики» с вертикальным взлетом, которые угробили столько народу. Откуда такая нелюбовь к вертолетам? – В смысле, тебе мало того, что это самое опасное, ненадежное дерьмо, готовое в любой момент впечататься носом в землю? Назвать другую причину? – Именно! – хохотал Дейв. – Назови другую. Они снизились до трех тысяч футов, потом до двух. Впереди по высохшей равнине лениво брело стадо коров, сверкая на солнце золотистыми и шоколадными боками. – Слушай, – начал Дейв, – помнишь ту пресс-конференцию, перед «Аполлоном-11», когда выступали Нил, Базз Олдрин и Майк Коллинз? – Какую из них? – нахмурился Бедекер. – Перед самым запуском. – Смутно припоминаю. – Армстронг тогда взбесил меня до крайности. – Да, и почему? – Журналист, ныне покойный, как бишь его… Фрэнк Макги спросил что-то про сны, и Армстронг сказал, что с детства его преследует один и тот же. – Ну и? – Во сне Нил, задержав дыхание, мог воспарить над землей. Помнишь такое? – Нет. – Короче, суть в том, что он задерживал дыхание и парил, не летел, а зависал в воздухе. Бедекер допил кофе и отправил пластиковый стаканчик в мусорный пакет за сиденьем. – И что тебя так взбесило? Дейв обернулся, непроницаемые солнечные очки скрывали взгляд. – Это мой сон. «Хьюи» наклонился и стал снижаться. Вскоре до земли оставалось каких-то три сотни футов – куда меньше, чем разрешается по регламенту. Внизу мелькали заросли полыни и карликовые сосны, добавляя ощущения скорости. На отшибе стоял ветхий домик с ржавой жестяной крышей и покосившимся сараем. Единственной дорогой служили две проторенные борозды, тянущиеся от крыльца до самого горизонта. Рядом с развалюхой красовалась новенькая спутниковая «тарелка». Бедекер снова включил внутреннюю связь. На его сиденье нужной кнопки не было, приходилось каждый раз тянуться к ручке управления. – Том Гэвин рассказывал, ты приболел прошлой осенью. Покосившись влево, Дейв снова уставился на землю, проносившуюся со скоростью ста миль в час. Потом кивнул. – Было дело. Сперва грешил на простуду – температура, гланды воспалились, все как положено. Но врач из Вашингтона поставил лимфому Ходжкина. Я раньше и не знал, что такая болячка есть. – Это серьезно? – Всего четыре стадии. Первая – пьешь аспирин и шлешь по почте сорок баксов. Четвертая – уже ГБТ. Расшифровку можно было не спрашивать. За долгие часы тренировок Бедекер слыхал эту аббревиатуру от Дейва множество раз, когда на тренажере отрабатывалась очередная аварийная ситуация. ГБТ означало «готовьте белые тапочки». – У меня была третья, – продолжал Дейв. – Благо вовремя распознали. Выписали таблетки, назначили пару сеансов химиотерапии. Как рукой сняло. Сейчас все просто замечательно, даже прошел летную медкомиссию три недели назад. – Он криво усмехнулся и кивнул на едва заметный городок к северу. – Вот и Кондон. Следующая остановка – Лоунрок. Место будущего Западного Белого дома. Повернув вдоль проселочной дороги, они снизились до пятидесяти футов. Машин не было. По левую сторону торчали покосившиеся телеграфные столбы, поставленные бог знает когда. Ни деревца вокруг, одни изгороди из колючей проволоки, натянутой меж старых паровых котлов или водонагревателей. «Хьюи» миновал край каньона. Секунду назад вертолет висел над самой дорогой и вдруг оказался в восьмистах футах над затерянной в глубине долиной, где в тополиных рощах струился ручей, поля колосились озимыми и густой травой. В центре долины лежал город-призрак. Сквозь голые ветви и осеннюю листву виднелись кровли домов, мелькнула церковная колокольня. Выше на восточной стороне расположилось старое здание школы. Время близилось к пяти, но город уже давно погрузился в тень. Дейв круто развернулся, лопасти вертолета встали чуть ли не перпендикулярно земле. Потом медленно пролетел по главной улице, состоящей из пяти заброшенных домов и ржавой бензоколонки, затем взял влево и покружил над белой церковью, шпиль которой казался совсем крохотным на фоне гигантского зазубренного утеса. – Добро пожаловать в Лоунрок! – раздалось у Бедекера в наушниках.* * *
В дом Дианы и Дейва в Салеме Бедекер возвращается под конец поминок. С неба сыплется легкая морось, не чета снегопаду на Сент-Хеленс. У дверей встречает Такер Уилсон. Последний раз они виделись два года назад, на трагическом запуске «Челленджера». Летчик ВВС и член резервного экипажа «Аполлона», он в итоге возглавил программу орбитальной станции «Скайлэб» за год до увольнения Бедекера из НАСА. Такер – коротышка с телом борца, румяным лицом и обширной лысиной, за исключением жидких венчиков на висках. В отличие от многих пилотов, говорящих с южным или нейтральным акцентом, он аккуратно произносит гласные, в лучших традициях Новой Англии. – Ди наверху вместе с Кэти и своей сестрой. Пойдем, выпьем у Дейва в конуре. Комната с книжными стеллажами, кожаной мебелью и старым бюро больше похожа на кабинет, чем на конуру. Бедекер опускается в глубокое кресло и смотрит по сторонам, пока Такер наливает скотч. На полках вперемешку стоят дорогие букинистические издания, книги в твердых и мягких обложках, журналы. На стене у окна десяток фотографий. На одной Бедекер узнает себя рядом с Томом Гэвином и ухмыляющимся Дейвом, которому протягивает руку президент Никсон. – Воды, льда? – спрашивает Такер. – Не надо, так наливай. Такер вручает ему бокал и усаживается в старомодное вращающееся кресло у стола. Явно чувствуя себя не в своей тарелке, берет машинописный листок со столешницы, кладет обратно и делает добрый глоток скотча. – Полет прошел нормально? – интересуется Бедекер. Такер летел в составе траурной эскадрильи над кладбищем. – В целом да, но еще немного, и накрылось бы медным тазом. Большая облачность. Бедекер понимающе кивает и пробует скотч. – Ходят слухи, ты опять полетишь, когда возобновят программу шаттлов? – Если все наладится, уже в следующем ноябре. Повезем военный груз, поэтому никаких конференций, громких заявлений и прочей чепухи. Бедекер снова кивает. В бокале плещется «Гленливет», любимая марка Дейва. – Как по-твоему, Такер, эта новая штука надежная? Тот неопределенно пожимает плечами. – Два с половиной года затишья. Больше времени исправить ошибки, чем после пожара на «Аполлоне-1», когда погибли Гас, Уайт и Чаффи. Разумеется, твердотопливные двигатели доверили «Мортон-Тиокол» – тем же самым, что давали гарантию на уплотнительные кольца «Челленджера». Бедекер не улыбается, хорошо зная, как и большинство пилотов, о кровосмесительных игрищах государства с подрядчиками. – Говорят, они внедрили новую аварийно-спасательную систему? Такер хохочет. – О да, это что-то! Длиннющий такой шест в нижнем отсеке. Пилот держит корабль прямо и летит помедленнее, а остальные соскальзывают по шесту как форель с лески. – «Челленджеру» это не помогло бы, – замечает Бедекер. – Есть такой анекдот про наркомана, который не боялся подцепить ВИЧ через грязные иглы, потому что всегда носил презерватив. – Такер допивает скотч и наливает новую порцию. – Да, черт побери, в шаттле сотен семь одних только критических компонентов первого уровня, а нам заявляют, что по-настоящему надежны только эти гребаные кольца! Критические компоненты первого уровня не имели резервных дублирующих систем. Подведут они, провалится весь полет. – На мысе больше не планируете приземляться? – спрашивает Бедекер. Такер качает головой. Во время первого полета Уилсон посадил «Колумбию» на мысе Канаверал. Дело кончилось пробитой шиной и стертыми до основания тормозами. – Слишком рискованно. Пока будем перегонять из Эдвардса или Уайт-Сэндс. – Такер делает большой глоток и с ухмылкой добавляет: – Хотя… Кто не рискует, тот не пьет шампанского. – Ну а как оно в воздухе? – Впервые за несколько дней Бедекер может думать о чем-либо, кроме Дейва. Такер возбужденно подается вперед и бурно жестикулирует. – Дик, это нечто! Спускаешься как с выключенным двигателем на «макдоннел-дугласе», во весь опор. Правда, по ходу сражаешься с долбаными компьютерами, но черт, если уж летишь, то летишь! Работал когда-нибудь на современном симуляторе? – Приходилось, но на левой стороне посидеть не успел. – Обязательно попробуй. Приезжай осенью на Канаверал, я все устрою. – Заманчиво. – Бедекер допивает скотч и вертит бокал в руках, наблюдая за игрой света на стекле. – С Дейвом часто виделись на мысе? Такер качает головой. – Его дико возмущало, что сенаторов и конгрессменов то и дело катают просто так, а мы, ветераны, ждем полета годами. Он заседал в нужных комитетах, упорно работал над программой, но категорически не одобрял всех этих учителей и журналистов в космосе. Говорил, шаттл – не место для тех, кто сует ноги в штаны по очереди. Бедекер смеется, припоминая первый конфликт Дейва с НАСА. Во время испытательного полета на «Аполлоне» он вел телетрансляцию для земляков. Такер Уилсон был рядом, когда Дейв вдруг заявил: «Друзья мои, долгие годы мы, астронавты, уверяли вас, что ничуть не отличаемся от обычных людей. Мол, мы не герои, а самые простые ребята, которые суют ноги в штаны по очереди. Сегодня я докажу обратное». Выполнив изящный пируэт в невесомости в одних подштанниках и шлеме для переговоров, он грациозно облачился в летный комбинезон, натянув его на обе ноги одновременно. Бедекер идет к стеллажу и берет томик Йейтса. Между страниц торчит с полдюжины закладок. – Выяснил что-нибудь? – спрашивает Такер. Бедекер мотает головой и возвращает книгу на место. – Говорил сегодня с Мунсеном и Филдсом, они сейчас отправляют последние обломки на базу. Боб обещал дать мне завтра прослушать запись. У комиссии есть пара версий, но она взяла еще день. – Слушал я запись, – вздыхает Такер. – Никаких особых зацепок. Дейв сообщил о проблемах с гидравликой минут через пятнадцать после вылета из Портленда. Аэропорт был гражданский, потому что Мунсен прилетел на конференцию… – Знаю, – перебивает Бедекер, – и решил задержаться еще на день. – Точно, – кивает Такер. – Дейв вылетел на восток один, через пятнадцать минут доложил о неисправности и почти сразу повернул. Потом правый двигатель, будь он неладен, перегрелся и заглох. Думаю, минуте на восьмой обратного пути. Портлендский международный был ближе, решили туда. Небольшое обледенение, но это было бы не страшно, если бы он осилил эту проклятую гору. Дейв, кстати, и не говорил особо, да и диспетчер попался совсем молокосос. Дейв сообщил, что видит огни, и рухнул. Бедекер допивает скотч и ставит бокал на сервировочную тележку. – Он знал, что падает? Такер сосредоточенно морщит лоб. – Сложно сказать. Дейв все больше запрашивал высоту. Диспетчер напомнил, что в этом районе горы достигают пяти тысяч футов. Дейв принял к сведению, сказал, что выходит из облачности на шесть двести и видит огни, а после исчез с радара. – А голос был какой? – спрашивает Бедекер. – Гагарин, один в один. Бедекер кивает. Юрий Гагарин, первый человек на орбите, нелепо погиб во время тренировочного полета в марте шестьдесят восьмого. Тогда только и рассказывали о необычайном спокойствии пилота, когда объятый пламенем «МиГ» рухнул на пустыре между домами в густонаселенном пригороде. Много позже Бедекеру довелось побывать в СССР в рамках совместного проекта «Союз Аполлон» и переговорить кое с кем из советских летчиков. Как выяснилось, «МиГ» упал где-то в лесу, а официальной причиной значилась «ошибка пилота». Ходили слухи, что Гагарин полетел пьяным. Никакой записи голоса не было. Тем не менее среди испытателей поколения Бедекера и Такера определение «как Гагарин» по-прежнему означало высшую похвалу мужеству пилота в критических ситуациях. – В голове не укладывается, – со злостью добавляет Такер. – «Тэлон» – самая надежная машина в наших долбаных ВВС! Бедекер молчит. – На сто тысяч летных часов только две катастрофы, – негодует Такер. – Назови хоть один сверхзвуковой самолет с такими показателями! Бедекер идет к окну и смотрит на улицу. Дождь все льет. – Только какой от этого прок? – Такер снова берется за бутылку. – Никакого. – Никакого, – соглашается Бедекер. Стук в дверь, на пороге появляется Кэти Уилсон, супруга Такера, кудрявая блондинка с резкими чертами. С виду ее можно принять за стареющую официантку без особых претензий, но после двух минут общения замечаешь, какой незаурядный ум и душевная чуткость кроются за толстым слоем макияжа и южным акцентом. – Ричард, хорошо, что вернулся. – Прости, я припозднился. – Диана хочет с тобой поговорить, – продолжает Кэти. – Сейчас она наверху, отдыхает. Еле заставила угомониться, а то бы всю ночь ублажала гостей. Бедняжка не спит вторые сутки, а ей рожать через неделю. – Я ненадолго, – успокаивает Бедекер, направляясь к лестнице. Диана Малдорф, в пижаме, сидит на голубой кушетке и листает журнал. Увидев Бедекера, делает ему знак войти. – Спасибо, что приехал. – Прости за задержку. Ездил с Мунсеном и Филдсом на базу Маккорд. Диана кивает и откладывает журнал в сторону. – Ричард, закрой, пожалуйста, дверь. Тот повинуется и усаживается в низкое кресло у туалетного столика, глядя на Диану. Волосы аккуратно причесаны, щеки порозовели от недавнего умывания, но взгляд тусклый, уставший. Огромный живот так и бросается в глаза. – Ричард, сделай мне одолжение. – Все что угодно, – искренне отвечает Бедекер. – Полковник Филдс, Боб и прочие обещали держать меня в курсе расследования… – Ее голос срывается. Бедекер терпеливо ждет. – Ричард, займись этим сам. В смысле, отдельно от официальной стороны. Как выяснишь что-нибудь, сразу сообщи мне. Озадаченный, Бедекер молчит, потом берет Диану за руку. – Хорошо, Ди, как скажешь. Только вряд ли я окажусь компетентнее следствия. Диана кивает, при этом умоляюще стискивая его пальцы. – Попробуй, а? – Конечно. Диана задумчиво проводит рукой по щеке и отсутствующе смотрит в пол. – Столько всего странного, – бормочет она. – Ты о чем? – Просто кое-чего я не понимаю. Например, ты знал, что Дейв зачем-то летал на вертолете в Лоунрок? – Нет. – Потом погода испортилась, и обратно он ехал на машине. Спрашивается, зачем вообще было туда лететь? – Может, хотел поработать над книгой, – предположил Бедекер. – После конференции в Портленде он должен был вернуться в Салем, но вместо этого полетел в Лоунрок, хотя дом в полном запустении. Мы собирались перебраться туда лишь после появления малыша. Бедекер успокаивающе гладит ее по плечу. – Ричард, ты в курсе, что у Дейва начался рецидив? Он особо не распространялся, но вдруг… – Ди, я же был без телефона, забыла? Сама нашла меня только телеграммой. – Верно… – Ее голос дрожит от усталости. – Просто подумала… Дейв и мне ничего не сказал, но его врач – друг семьи… Он позвонил на следующий день после трагедии. Опухоль распространилась на печень и костный мозг. Хотели делать полный курс химиотерапии весной, плюс проколоть МОПП. Дейв отказался, чтобы в итоге не остаться бесплодным. Его уже облучали и делали лапаратомию. Об этом я знала, а вот об остальном… – В октябре он говорил, что лечение помогло, – замечает Бедекер. – Да, а к Рождеству все снова началось. Дейв скрыл от меня. На следующей неделе ему назначили медкомиссию. Ее бы он точно не прошел. – Ричард! – зовет снизу Кэти. – Телефон! – Иду! – Он снова берет Диану за руку. – Ди, что у тебя на уме? Она смотрит ему прямо в глаза. Красивая и решительная вопреки усталости и беременности. – Я хочу знать, зачем он вдруг ни с того, ни с сего отправился в Лоунрок. Почему в одиночку полетел на «Тэлоне», хотя мог дождаться коммерческого рейса. Почему не катапультировался, если видел, что самолет падает? – Диана переводит дух, поправляет пижаму и крепко, до боли сжимает запястье Бедекера. – Ричард, я хочу знать, почему он лежит в могиле вместо того, чтобы сидеть рядом со мной и нашим будущим ребенком! Бедекер поднимается с кресла. – Сделаю все, что в моих силах. Обещаю, Ди. – Он целует ее в лоб и помогает встать. – Ложись и постарайся поспать, тебе еще завтра заниматься гостями. Я уеду рано, как буду возвращаться, позвоню. Уже в дверях он слышит: – Спокойной ночи, Ричард. – Спокойной ночи, Ди. Кэти ждет внизу. – Межгород, – кивает она на телефон. – Я просила перезвонить, но там сказали, подождут. Бедекер идет на кухню взять трубку. – Спасибо, Кэти. Не в курсе, кто? – Какая-то Мэгги Браун. Говорит, дело срочное.* * *
Дейв посадил «Хьюи» на ранчо в полумиле за Лоунроком. На башенке покосившегося амбара развевались лохмотья ветроуказателя, между амбаром и домом притулился древний двухместный «Стирман». – Добро пожаловать в международный аэропорт Лоунрока! – Дейв заглушил мотор. – Просьба всем оставаться на местах до полной остановки транспортного средства. Лопасти медленно прокрутились и замерли. – И что, в каждом городе-призраке есть аэропорт? – Бедекер снял гарнитуру, бейсболку, пригладил редеющие волосы и тряхнул головой, пытаясь избавиться от рева турбин в ушах. – Только если там живут призраки пилотов, – усмехнулся Дейв. По короткой траве им навстречу брел мужчина. На вид куда моложе Бедекера и Малдорфа, но с темным, сморщенным от работы на солнце лицом. Ковбойские сапоги, линялые джинсы и черную шляпу дополнял ремень с бирюзовой пряжкой. Пустой левый рукав «ковбойки» был заколот булавкой. – Здорово, Дейв! Решил-таки заглянуть? – Привет, Кинк. Познакомься, Ричард Бедекер – мой старый боевой товарищ. – Очень приятно. – Бедекер протянул руку. Ему понравилось и крепкое рукопожатие нового знакомого, и глубокие «лучики» вокруг голубых глаз. – Кинк Уэлтнер служил командиром экипажа вертолетчиков во Вьетнаме, – сообщил Дейв. – Добрая душа и счастливый обладатель цистерны авиационного керосина. Фермер любовно погладил капот «Хьюи». – Жив, курилка. Кстати, Чико заменил датчик? – Ага, – кивнул Дейв, – но ты на всякий случай сам проверь. – Не боись, сейчас заправлю и в каждую щелку загляну. – Тогда до встречи. – Дейв направился к амбару. Было прохладно. В одной руке Бедекер нес пуховик, в другой – летную сумку. Холмы на востоке алели в последних лучах заката. Жухлые тополя резко выделялись на фоне прозрачной осенней синевы. Дейв забросил вещи в припаркованный у амбара джип и запрыгнул на водительское сиденье. Бедекер следом. – Как хорошо иметь под рукой личного командира экипажа, – заметил он, вцепившись в защитную дугу, когда внедорожник рванул вперед по гравию. – Во Вьетнаме познакомились? – Нет, в семьдесят шестом, когда купили здесь дом. – Руку он потерял на войне? Дейв покачал головой. – Нет, там ни царапинки, а здесь через три месяца напился в дым и перевернулся на пикапе. В Лоунроке они проехали под той самой зазубренной скалой, мимо запертой церкви. На горизонте, под сенью утеса, белой линией тянулась дорога, ведущая из Кондона, над которой еще недавно летел вертолет. Сидя в джипе, Бедекер различал заросшие бурьяном дома, ветхое здание школы в гуще ветвей. Дейв затормозил перед беленьким домиком с жестяной крышей и низким частоколом. Лужайка была аккуратно подстрижена, терраса вымощена каменными плитами. На кусте сирени у крыльца висела кормушка для колибри. – Вилла Малдорфов! – торжественно объявил Дейв. Комната для гостей помещалась на втором этаже под самой кровлей. Бедекер отчетливо представил стук дождевых капель по жестяному навесу. Малдорфы изрядно потрудились над интерьером: сломали перегородки, перестелили полы, в гостиную поставили камин, провели электричество, водопровод, заново отделали кухню и переделали мансарду в жилой этаж. – Все остальное сохранилось в первозданном виде, – любил повторять Дейв. Во времена, когда еще не успели поблекнуть воспоминания о знаменитой Орегонской тропе, дом служил пристанищем почте, конторе шерифа и даже моргу, пока не пришел в запустение вместе со всем городом. Теперь в гостевой спальне красовались свежеоштукатуренные стены, белые крахмальные занавески, высокая латунная кровать и старинный комод с белым умывальным тазиком и кувшином. В окне сквозь полуголые ветви виднелись крошечный палисадник и немощеная улочка, подходящая разве что для телег. В траве за забором догнивали остатки деревянного тротуара. – Идем, – позвал Дейв. – Покажу город, пока совсем не стемнело. Пешая экскурсия оказалась короткой. В сотне шагов от «виллы» улочка резко поворачивала на север, становясь главной улицей длиною в квартал. Дальше, за низким мостиком, начиналась проселочная дорога, которая шла вдоль полей, заросших пшеницей и люцерной, и упиралась в утес. Ручей, замеченный Бедекером еще с воздуха, огибал угодья Малдорфов, скрываясь за ветхим сараем, именуемым гаражом. Тишина стояла такая, что скрип шагов по гравию главной улицы неприятно резал слух. Правда, попалась пара-тройка обитаемых домов, и даже семейный трейлер позади наглухо заколоченного здания, но основная масса построек заросла густым бурьяном. На западной стороне выстроились три неработающих магазина. Рядом на заброшенной бензоколонке «предлагали» высокооктановый бензин: тридцать один цент за галлон. В окошечке кассы криво висела засиженная мухами рекламная табличка «КОЛА ОСВЕЖАЕТ» с огромным «ЗАКРЫТО» посередине. – Это официально город-призрак? – спросил Бедекер. – Официальнее некуда, – откликнулся Дейв. – Четыреста восемьдесят девять мертвых душ, ну и летом набегает максимум восемнадцать живых. – А постоянно здесь живет кто? Дейв неопределенно пожал плечами. – В основном, фермеры на покое. Солли из трейлера пару лет назад выиграл в лотерее штата Вашингтон и осел тут со своими двумя миллионами. Бедекер недоверчиво покосился на друга. – Шутишь? – Вот те крест! Идем, хочу тебя кое с кем познакомить. Они прошли полтора квартала на восток и стали взбираться на холм, где стояла школа – внушительное кирпичное строение в два этажа с громоздкой застекленной звонницей. Уже на подходе Бедекер заметил, что за зданием тщательно ухаживают. Часть школьного двора занимал аккуратный садик, стены чистые после пескоструйной обработки, вход украшала резная дверь, на высоких окнах – белые шторы. На подъеме Бедекер запыхался. – Бегать надо чаще, Дикки, – ухмыльнулся Дейв и постучал в дверь бронзовым молотком. – Кто там? – раздалось прямо над ухом. Бедекер вздрогнул. – Дейв Малдорф, миссис Каллахан, – прокричал Дейв в металлическую трубку, из которой доносился голос. – И со мной приятель. В трубке Бедекер узнал допотопный переговорный рупор, который видел в старых фильмах и доме-музее Марка Твена в Хартфорде. Послышалось невнятное «Заходите!», потом щелчок, и дверь распахнулась. Бедекер сразу вспомнил многоквартирный дом на Килдер-стрит в Чикаго, где жил с родителями еще до войны. Он шагнул внутрь, предчувствуя запах затхлых ковров, паркетной мастики и вареной капусты – в точности как в детстве, но не угадал: в школе пахло полиролью и вечерней прохладой с улицы. Убранство комнат завораживало. Большая аудитория на первом этаже превратилась в просторную гостиную. Сохранившуюся часть школьной доски обрамляли встроенные книжные шкафы с сотнями томов. Паркет, антикварная мебель, отдельно – уютный уголок с персидским ковром, кушеткой и креслами. Второй этаж находился на уровне обычного третьего. За раздвижными дверями виднелся кабинет с множеством книг и необъятная спальня с единственной огромной кроватью под балдахином в центре. Заслышав шаги, две кошки торопливо юркнули в тень. Вслед за Дейвом Бедекер поднялся по кованой винтовой лестнице, привнесенной в интерьер при реставрации бывшей школы. Они миновали чердачный люк и внезапно очутились на свету в помещении, больше напоминавшем застекленную рубку на теплоходе. Зрелище поразило Бедекера настолько, что поначалу он даже не заметил пожилой дамы, приветливо улыбающейся из плетеного кресла. Старая школьная звонница раздалась вширь, превратившись в стеклянный купол пятнадцать на пятнадцать футов. Свет шел даже сверху, через панели из поляризованного стекла, усиливавшие сочные краски заката и осенней листвы. С улицы стекло было непрозрачным. Снаружи, вдоль двух островерхих коньков тянулся узкий балкончик с узорчатыми коваными перилами. Внутри стояла плетеная мебель, стол, сервированный к чаю, раскрытые карты звездного неба и старинный медный телескоп на высокой треноге. Но окончательно покорил Бедекера потрясающий вид поверх домов и верхушек деревьев на стены каньона, подножия холмов и горный кряж, где рельефные останки древних пород пробивались сквозь землю, словно шипы через тонкую ткань. Темное бездонное небо напоминало о тех редких полетах на высоте семьдесят пять тысяч футов, когда даже днем можно было увидеть звезды, а кобальтовая синева небесного свода становилась угольно-черной… И вдруг на небе стали в самом деле загораться звезды, парами и группками, точно заядлые театралы, спешащие занять лучшие места. Сквозь оконную сетку проникал легкий ветерок, шурша страницами книги на подлокотнике кресла. Бедекер наконец обратил внимание на пожилую даму с ее приветливой улыбкой. – Миссис Каллахан, познакомьтесь, мой друг Ричард Бедекер. Ричард, это миссис Элизабет Стерлинг Каллахан, – представил их Дейв. – Приятно познакомиться, мистер Бедекер. – Элизабет Каллахан протянула руку ладонью вниз. Бедекер ответил рукопожатием, исподтишка разглядывая собеседницу. На первый взгляд ей было лет семьдесят, но при близком рассмотрении – все восемьдесят, если не больше. При этом удивительно красивая, несмотря на годы. Короткие седые волосы упругими кудельками обрамляли резко очерченное лицо. Скулы ярко вырисовывались под увядшей кожей, но в карих глазах светились жизнь и незаурядный ум, а улыбка не утратила шарма. – Мне тоже очень приятно, миссис Каллахан. – Друзья Дейва – мои друзья, – произнесла дама с приятной хрипотцой. – Прошу, присаживайтесь. Сейбл, поздоровайся с гостями. Только сейчас Бедекер заметил черного лабрадора, свернувшегося калачиком за креслом. Присев, Дейв поманил собаку, и та радостно завиляла хвостом. – Скоро уже? – спросил Дейв, поглаживая Сейбл. – Терпение, милый, терпение, – засмеялась миссис Каллахан. – Все хорошее требует времени. – Она взглянула на Бедекера. – Впервые в нашем городе? – Да, мэм, – выпалил Бедекер, робея, как мальчишка, и ни грамма не смущаясь по этому поводу. – Жизнь тут не бьет ключом, – продолжала она, – но вам, надеюсь, понравится. – Уже, – откликнулся Бедекер. – Особенно мне нравится ваш дом. Сразу видно, сколько труда вложено. – Благодарю, мистер Бедекер. – Лицо хозяйки осветилось улыбкой. – Мы с покойным мужем привели его в порядок сразу по приезде сюда, в конце пятидесятых. Школа тогда стояла заброшенной без малого тридцать лет. Можете представить, во что она превратилась. Крыша местами обвалилась, на втором этаже поселились голуби… Даже вспомнить страшно! Дэвид, не нальешь нам лимонаду? Графин на столе. Спасибо, дружок. Бедекер прихлебывал из хрустального бокала, глядя на сгущающиеся за окном сумерки. Кое-где в домах зажглись огни, вспыхнули два фонаря – один совсем рядом с «виллой» Малдорфов, но их свет не мог пробиться сквозь гущу ветвей и не мешал любоваться небом, где появлялись все новые звезды. – Вон Марс восходит, – показал Дейв. – Нет, дружок, это Бетельгейзе, – поправила миссис Каллахан. – Прямо напротив Ригеля, над поясом Ориона. – Интересуетесь астрономией? – спросил Бедекер, хитро поглядывая на смущенного Дейва, которого лично натаскивал по астронавигации. – Мой покойный супруг был астрономом, – пояснила старушка. – Профессор Университета Депоу в Гринкасле, Индиана. А я преподавала историю, так мы и познакомились. Бывали в Депоу, мистер Бедекер? – Нет, мэм. – Довольно милое заведение, хотя не экстра-класс, и находится у черта на куличках, посреди кукурузных полей. Еще лимонаду, мистер Бедекер? – Нет, спасибо. – Мистер Каллахан был ярым фанатом «Чикаго кабс», – продолжала она. – Каждый август мы ездили поездом в Чикаго, смотреть игру на стадионе «Ригли-Филд». Такой вот отпуск. Помню, в сорок пятом, когда «Кабс» провели отличный сезон, муж вознамерился задержаться еще на неделю. Впрочем, играми пришлось поступиться, когда мы вышли на пенсию и осенью пятьдесят девятого перебрались сюда. – Почему именно Лоунрок? – удивился Бедекер. – У вас тут родственники? – Нет, конечно, – фыркнула миссис Каллахан. – Ни один из нас прежде не бывал на Западе. Просто супруг мой высчитал по картам, что здесь сосредоточены основные магнитные силовые линии, поэтому мы погрузились в наш «Крайслер Де Сото» и пустились в путь. – Магнитные силовые линии? – Мистер Бедекер, вам нравится наблюдать за звездами? Дейв не дал ему ответить. – Миссис Каллахан, Ричард был со мной на Луне шестнадцать лет назад. – Дэвид, прошу, не начинай! – Она с притворным негодованием шлепнула Малдорфа по запястью. Тот повернулся к Бедекеру. – Миссис Каллахан не верит, что американцы ступали по Луне. – Серьезно? – удивился Бедекер. – По-моему, вся страна иного мнения. – Тоже решили пошутить над старухой? – насмешливо протянула миссис Каллахан. – Мало мне одного Дэвида. – Но ведь это транслировали по телевизору, – выпалил Бедекер и тут же осекся – настолько нелепо прозвучал аргумент. – Угу, – легко согласилась миссис Каллахан. – И это, и оправдательный монолог Никсона. Неужели вы верите всему, что вам показывают и говорят, мистер Бедекер? Телевизор я не смотрю с тех пор, как в нашей «Сильвании» сгорел кинескоп. В воскресенье, аккурат посередине очередного эпизода «Омнибуса». Правда, звук еще какое-то время работал, а экран потух. Услада для глаз, скажу я вам. – Но о высадках на Луну писали все газеты, – не сдавался Бедекер. – Помните лето шестьдесят девятого? Нил Армстронг? Его знаменитое «маленький шаг для человека, огромный скачок для человечества»? – Конечно, конечно, – со смешком откликнулась миссис Каллахан. – По-вашему, мистер Бедекер, такую фразу можно выдать спонтанно? Под влиянием момента? Разумеется, нет. Дешевая постановка, вот как это называется. Бедекер хотел было возразить, но, покосившись на Дейва, передумал. – Дэвид, расскажи, как дела у Дианы? – попросила старушка. – Чудесно. На днях делали УЗИ. – Пункцию тоже? – Нет, только УЗИ. – Мудрое решение, – кивнула миссис Каллахан. – Диана молода, лишний раз рисковать ни к чему. Когда ждете? – Врач обещает седьмого января. Ди думает, что позже, а у меня предчувствие, что раньше. – Первый ребенок обычно запаздывает. Бедекер откашлялся. – Простите, вы что-то говорили о магнитных силовых линиях? Она потрепала пса по загривку, встала и, осторожно ступая, направилась к столу. Взглянула на небо, потом на разложенные карты, удовлетворенно кивнула и засеменила обратно к креслу. – На самом деле они называются «электромагнитные линии». Никогда толком этого не понимала, но мистер Каллахан после первого контакта все методично записал. При желании можете посмотреть. Словом, мистер Каллахан окончательно уверился в своей теории, что лучшего места, чем Лоунрок, не сыскать во всех Штатах… даже во всей Северной Америке… вот мы и переехали. Мой супруг скончался в шестьдесят четвертом, со мной они напрямую, как с ним, не контактировали, так что приходится полагаться на его первоначальные вычисления. По-моему, вполне разумно. – Наверное, – согласился Бедекер. – Мистер Каллахан не ошибся насчет места, но со временем все оказалось сложнее. Тут они не могут ничего гарантировать. Сколько раз видела их над головой, но ведь до грешной земли еще лететь и лететь. Только лучше бы они поторопились. Моложе я не становлюсь, иной раз едва хватает сил поднять свои старые кости наверх. Сегодня ночью наблюдать будет неудобно, как раз взойдет полная луна… хотя… вон, глядите! – Она вскинула старческую руку, указывая на яркую точку высоко в небе, медленно движущуюся с запада на восток – то ли спутник, то ли сверхвысотный самолет. Трое в обсерватории молча наблюдали, как точка растворяется среди звезд. – Кому еще лимонада? – нарушил молчание Дейв.* * *
Осенью пятьдесят шестого мать Бедекера умерла от инсульта, и отец перебрался из Чикаго в свою «хибару» в Арканзасе. Землю родители выиграли в викторине «Геральд трибьюн» и пять лет потратили на ее благоустройство, по возможности проводя в Арканзасе все лето и даже рождественские праздники. В пятьдесят втором, когда Бедекер только начал летать на «F-86» в Корее, отец уволился из морской пехоты и устроился на полставки в магазин спортивных товаров «Уилсон», где проработал до самой смерти. Планировалось, что родители переедут на природу в июне пятьдесят седьмого, но вышло так, что отец отправился в одиночку на полгода раньше, в ноябре. Бедекеру хорошо запомнились две поездки туда: первая – в октябре пятьдесят седьмого, за два месяца до смерти отца от рака легких, и вторая – вместе со Скоттом, жарким летом семьдесят четвертого, когда разразился Уотергейтский скандал. Скотту едва минуло десять, но он уже начал активно вытягиваться, чтобы в конечном счете на пять сантиметров перерасти отца с его метром восьмьюдесятью.Вдобавок сын отпустил рыжие волосы до плеч. Бедекер прическу не одобрил: во-первых, мальчик выглядел женоподобным, а во-вторых, приобрел нервный тик от того, что постоянно смаргивал длинную челку с глаз. Но давить на ребенка не стал. Всю дорогу из Хьюстона отец и сын умирали от жары и скуки. Тем летом Джоан впервые начала проявлять признаки неудовольствия, и Бедекер с радостью предвкушал три недели вдали от дома. Джоан решила остаться из-за мероприятий в женских клубах. За месяц до того Бедекер уволился из НАСА, а на новой работе в Сент-Луисе его ждали только в сентябре. Это был его первый отпуск за десять лет. Скотту на лоне природы не понравилось. Первые дни, когда они вырубали кустарник, чинили рамы, перекрывали крышу и ремонтировали хибару по мелочам, Скотт откровенно скучал и был не в духе. По пути Бедекер купил транзистор и теперь слушал бесконечные комментарии про угрозу импичмента и спешную отставку Никсона. Джоан уже год пристально следила за развитием Уотергейтского скандала. Сначала дико злилась, что информационные блоки прерывают ее любимые сериалы, потом втянулась, даже начала смотреть вечерние повторы по Пи-би-эс, и вскоре больше ни о чем другом не могла говорить. Бедекер тогда готовился распрощаться с летной карьерой, которой посвятил всю жизнь. Отчаянные попытки Никсона удержаться он воспринимал как нечто недостойное, один из признаков разложения общества, давно его удручавших. Хибара на деле была бревенчатым двухэтажным домом, старомодным в сравнении с кирпичными ранчо и каркасными, обшитыми сайдингом постройками, обступившими берега нового водохранилища. Дом стоял на холме в окружении трех акров леса и лугов. У подножия холма был маленький причал, построенный отцом Бедекера в то лето, когда Эйзенхауэр избирался на второй срок. В свое время родители собирались привести в порядок второй этаж и пристроить веранду, но после смерти матери отец махнул на это рукой. Бедекер и Скотт выкорчевали полусгнившие останки веранды в тот день, когда Никсон сообщил по радио о своей отставке. Это было вечером в четверг, они сидели перед домом, ели гамбургеры, которые сами приготовили, и слушали последние слова речи, полной вызова и жалости к себе. В заключение Никсон произнес: «Будучи президентом, чувствуешь родственную связь со всеми и каждым гражданином в отдельности, и, прощаясь, я хочу сказать: храни вас Бог отныне и навсегда!» – Давай уже, сворачивай, брехло паршивое. Скучать не станем, – мгновенно отреагировал Скотт. – Скотт! – прикрикнул Бедекер. – Вплоть до завтрашнего дня этот человек остается президентом Соединенных Штатов. Не смей так о нем говорить! Сын открыл было рот, но спасовал перед повелительным тоном, выработанным за двадцать лет военной службы, поэтому отшвырнул тарелку и, красный как рак, выбежал на улицу. Бедекер остался сидеть один, наблюдая в предзакатных сумерках, как белая рубашка сына мелькает на пути к пристани. Он понимал, что инцидент только усугубит и без того мрачное настроение Скотта. Понимал, что тот, пусть и своими словами, выразил их общее мнение о Никсоне. Бедекер огляделся по сторонам и вдруг вспомнил, как впервые очутился здесь, как ехал в Арканзас из Юмы в Аризоне на новеньком «Тандерберде» мимо Чоктау, Лесли, Йельвилля и Сейлсвилля, так напоминающих Новую Англию, что почти ожидал увидеть океан, а не водохранилище, на котором располагался выигранный родителями участок. Вид отца тогда потряс его до глубины души: в свои шестьдесят четыре Бедекер-старший ухитрялся выглядеть на добрый десяток лет моложе, но за восемь месяцев с их последней встречи в Иллинойсе превратился в старика. Не изменились лишь черные как смоль волосы, но впалые щеки заросли щетиной, а шея стала дряблой и морщинистой. Впервые за двадцать четыре года Бедекер видел отца небритым. Приехал он вечером пятого октября пятьдесят седьмого, через день после запуска советского спутника. Вечером они с отцом отправились на причал половить рыбу и «посмотреть на спутник», хотя Бедекер и уверял, что невооруженным глазом его не различить – слишком маленький. Ночь была прохладной и безлунной, лес на другой стороне озера темной линией вырисовывался на фоне звездного неба. В сумерках ярко тлела отцовская сигарета, тихонько поскрипывала леска. Где-то плескалась невидимая рыба. – А вдруг эта штуковина везет атомные бомбы? – выдал вдруг отец. – Если только совсем крохотные, – парировал Бедекер. – Сам спутник размером с мяч. – Сумели запустить маленький, запустят и большой, уже с бомбами, – проворчал отец. – Логично, – согласился Бедекер. – Но если они смогут запустить такую махину на орбиту, нет смысла грузить ее бомбами. Ракетоносители сами будут с боеголовками. Отец промолчал, и Бедекер пожалел о сказанном. Потом отец закашлялся, вытащил поплавок и со свистом закинул обратно. – Я читал в «Трибьюн», сейчас проектируют новую ракету. Она должна облететь вокруг Земли и приземлиться как обычный самолет. Кто будет за штурвалом? Ты? – Мечтай, – вздохнул Бедекер. – Найдутся кандидаты и получше меня – хотя бы Джо Уокер и Айвен Кинчелоу. И потом, ее собирают в Эдвардсе, а моя епархия – Юма и Патаксент. Да, я надеялся быть в первых рядах, но пока даже универ не окончил. – Мы с твоей матерью надеялись обустроить тут все к зиме. – Огонек сигареты двигался в такт словам отца. – Но иногда наши планы и надежды ничего не стоят. Абсолютно ничего. Слушая, Бедекер провел рукой по гладким доскам причала. – Нельзя ждать и надеяться, что вот-вот тебе воздастся за труды, – продолжал отец с горечью. – Ты работаешь, ждешь, снова работаешь, убеждая всех вокруг и себя, что лучшее впереди, а потом в один момент все рушится, и впереди только смерть. Порыв ветра заставил Бедекера поежиться. – Вон он! – Отец ткнул пальцем куда-то вверх. Бедекер глянул на небо. Посреди холодных звезд, ярких точно кончик зажженной сигареты, с запада на восток двигалась крохотная точка – быстрее и выше, чем любой самолет: спутник, неразличимый невооруженным глазом.* * *
Вернувшись от миссис Каллахан, Дейв приготовил чили кон карне. Ужинали в просторной кухне, под аккомпанемент Баха, доносящегося из магнитофона. Заглянул Кинк Уэлтнер, от ужина отказался и сидел, прихлебывая пиво. Потом они с Дейвом заговорили о футболе. Бедекер на время отключился – футбол нагонял на него смертную тоску. Когда вышли провожать Кинка, в небе светила полная луна, озаряя изломанную линию скал и сосновый бор на востоке. – Идем, хочу тебе кое-что показать, – позвал Дейв. Маленькая комнатушка на первом этаже была завалена книгами. На импровизированном столе, состоящем из дверной створки и козел, стояла печатная машинка. Сотни исписанных листов лежали под пресс-папье, сделанном из аварийного рубильника корабля «Джемини». – Давно работаешь? – Бедекер пролистал стопку страниц. – Года два. Самое смешное, писать могу только здесь, в Лоунроке. Подготовительные материалы вожу туда-сюда. – В эти выходные тоже будешь писать? – Нет, хочу, чтобы ты взглянул. Потом выскажешься. Писатель как-никак. – Брось, – отмахнулся Бедекер. – Какой из меня писатель! Два года убил на дурацкую книгу, но дальше четвертой главы не продвинулся. Писать надо, если тебе и впрямь есть что сказать. Не мой случай. – Ты писатель, – упрямо повторил Дейв, вручая ему остаток рукописи. – Я хочу услышать твое мнение. Позже Бедекер улегся в постель и два часа читал без остановки. Книга была не закончена, отдельные главы в набросках, но написанное впечатляло. В заглавии стояло «Забытые фронтиры». Первые главы рассказывали о раннем освоении Антарктики и Луны. Проводились параллели, очевидные и не очень. Например, как желание водрузить флаг и тяга стать первым преобладали над серьезными, научными целями. Ледяные красоты Южного полюса тонко сопоставлялись с описанием лунного пейзажа глазами очевидца. Источниками информации служили дневники, путевые заметки и отчеты. Эти скупые свидетельства, значительно более красочные в случае Антарктики, рождали картину таинственного призрачного запустения, манящего своей неизведанной красотой, за которой скрывались безразличие и враждебность к человеческим слабостям и стремлениям. Помимо истории исследований, Дейв включил в книгу краткие биографии и психологические портреты десяти полярников и астронавтов. Первых представляли Руаль Амундсен, Ричард Берд, Джон Росс, Эрнест Шеклтон и Эпсли Черри-Гаррард. Из современных первопроходцев автор выбрал четверых малоизвестных астронавтов программы «Аполлон», трое из которых ступали по Луне, четвертый же, как и Том Гэвин, находился на орбите. В их компанию Дейв добавил одного русского, Павла Беляева. Бедекер встретил Беляева на Парижском авиасалоне в шестьдесят восьмом, вместе с Дейвом Малдорфом и Майклом Коллинсом слышал его «Скоро я первым увижу обратную сторону Луны». Теперь Бедекер с удивлением прочел, что Беляев и впрямь должен был первым облететь вокруг Луны на усовершенствованном «Зонде». Однако «Аполлон-8» успел раньше, под Рождество, и Советы быстренько прикрыли свою программу, сделав вид, что никто и не собирался никуда лететь. Спустя год Беляев скончался на операционном столе от перитонита, первым из героев космоса удостоившись сомнительной чести быть похороненным не в Кремлевской стене. Бедекеру вспомнилось отцовское: «…в один момент все рушится, и впереди только смерть». Биографические главы о четырех американских астронавтах тянули разве что на наброски, но авторский замысел четко прослеживался от начала до конца. Как и в случае полярников, портрет складывался из размышлений героя в последующие годы: о новых перспективах и утраченных старых, о невозможности вновь возвратиться к далекому фронтиру. Весьма заинтересованный, Бедекер мысленно одобрил выбор персонажей, понимая, что именно эти главы станут основой книги, хотя писать их, собирая нужный материал, будет очень непросто… Поглощенный этими мыслями, он стоял у окна, глядя, как лунный свет дрожит на листьях сирени. Раздался стук, и на пороге появился Дейв. – Что, так и не ложился? – хмыкнул он. – Не спится? – Не очень, – признался Бедекер. – Мне тоже. – Дейв бросил ему бейсболку. – Может, прокатимся?* * *
Двигаясь по шоссе номер пять в направлении Такомы, Бедекер вспоминал звонок Мэгги прошлой ночью. – Мэгги? – недоверчиво спросил он в трубку, гадая, как она разыскала его у Малдорфов. – Что-то случилось? Ты где? – В Бостоне. Номер мне дала Джоан. Прими мои соболезнования по поводу друга. – Джоан? – Бедекер не в силах был представить Мэгги Браун беседующей с его бывшей женой. – Я звоню насчет Скотта, – продолжала Мэгги. – Давно с ним не общался? – Давно. Пару месяцев точно. Посылал и письма, и телеграммы на старый адрес в Пуне, но ответа не получил. В ноябре даже звонил сюда, в Орегон, но в этом их центре сказали, что Скотт в списке учеников не значится. Ты случайно не знаешь, где он? – Думаю, все-таки там, в орегонском ашраме. Наш общий приятель Брюс недавно вернулся из Индии в университет. Говорит, Скотт приехал с ним первого декабря. В Индии он совсем разболелся, недели три пролежал в госпитале – точнее, в лазарете на ферме Учителя. – Что с ним? Астма? – заволновался Бедекер. – Да, плюс запущенная дизентерия. – А Джоан в курсе? – Нет, они не общались с ноября. Она и дала мне этот номер. Ричард, я не стала бы беспокоить в такой момент, просто по-другому не получилось. Вдобавок, Брюс говорит, что Скотту совсем плохо. В Лос-Анджелесе даже с самолета не мог сойти. Брюс уверен, что он в ашраме. – Спасибо, Мэгги, – с чувством поблагодарил Бедекер. – Сейчас туда позвоню. – Ричард, ты сам как? – Голос Мэгги внезапно потеплел. – Ничего. – Соболезную насчет Дейва. Мне так нравились истории, которые ты рассказывал про него в Колорадо. Жаль, мы так и не познакомились. – Жаль, – искренне согласился Бедекер. Мэгги наверняка оценила бы чувство юмора Малдорфа, а он – ее жизнерадостность. – Прости, что я пропал. – Я получила твою открытку из Айдахо. Куда ты поехал потом, когда нагостился у сестры? – В Арканзас. Приводил в порядок отцовскую хибару. А как твои дела? Мэгги замолчала. Какое-то время слышался только треск помех. – Все отлично, – ответила наконец она. – Брюс, приятель Скотта, сделал мне предложение. У Бедекера перехватило дыхание, почти как четыре дня назад, когда ему принесли страшную телеграмму от Дианы. – И ты согласилась? – выдавил он после короткой паузы. – Нет, я не готова на столь опрометчивый шаг. Во всяком случае, пока не получу диплом в мае, – откликнулась Мэгги. – Ладно, я пойду. Береги себя, очень прошу. – Непременно. – Бедекер повесил трубку.* * *
Останки рухнувшего «Т-38» занимают почти весь ангар. Стратегически важные части помельче лежат на верстаках. Бедекер поворачивается к Бобу Мунсену. – Что говорят в комиссии? Майор ВВС хмурится и прячет руки в карманы зеленой форменной куртки. – Пока ясно, что поломка на взлете спровоцировала утечку в гидросистеме. Через четырнадцать минут после вылета из Портленда сработала система тревоги, и Дейв сразу повернул назад. – Все равно не понимаю, почему вылет был из Портленда? – Да потому, что я оставил там эту дуру аккурат перед Рождеством! – в сердцах отвечает Мунсен. – Ее надо было переправить в Огден двадцать седьмого, и Дейв вызвался лететь, чтобы успеть на коммерческий рейс из Солт-Лейк-Сити. – А ты задержался на двое суток? – уточняет Бедекер. – На базе Маккорд? – Именно! – В голосе Мунсена звучит неприкрытая горечь, злость на самого себя, что не сел в проклятый самолет вместо Дейва. – Тогда почему Дейв, если ему так приспичило вернуться, не воспользовался своим статусом и не выбил себе место на прямом коммерческом рейсе? – допытывается Бедекер, понимая, что не получит ответа. Мунсен пожимает плечами. – Райан затребовал «Тэлон» на базу в Огдене до двадцать восьмого. Дейв получил от меня добро на вылет. Он позвонил и спросил, я ответил, валяй, сам тогда доберусь самолетом, как белый человек. Бедекер разглядывает покореженные обломки на верстаке. – Значит, поломка и утечка в гидросистеме. Насколько критичная? – В момент аварии двигатели отказали на шестьдесят процентов. Пленку слушал? – спрашивает Мунсен. – Еще нет, – качает головой Бедекер. – А что с правым двигателем? – Загорелся через минуту после сигнала утечки. Дейв вырубил его за восемь минут до катастрофы. – Какого хера! – вопит Бедекер, кулаком сметая обгорелые запчасти на пол. – Кто раньше водил эту хрень? – Сержант Китт Толивер, – фальцетом отвечает Мунсен. – Лучший командир лучшего экипажа. Китт летал со мной в Портленд на семинар. Из-за погоды я машиной вернулся на базу, но Китт оставался в городе. Он дважды проверял самолет перед вылетом. Прекращай, Дик. Тебе ли не знать, что и как. – Вот именно, мне ли не знать! – огрызается Бедекер. – Дейв проходил предполетную проверку? – Он очень спешил, но Толивер говорит, что все было как положено. – Боб, мне нужно переговорить с Филдсом и остальными. Организуешь? – просит Бедекер. – Сегодня их никак не собрать, если только завтра утром. Правда, сомневаюсь, что они будут в восторге. – Пожалуйста. – С Киттом Толивером можешь хоть сейчас. Он тут рядом, в сержантской столовой. – Позже, – отмахивает Бедекер. – Сперва запись. Спасибо, Боб. До завтра. – Он жмет майору руку и идет слушать последние слова друга.* * *
– Давай бухать и веселиться! – Зычный рев Дейва оглашал тихие улочки Лоунрока. – Твою же мать, какая ночь! Бедекер застегнул пуховик и запрыгнул в джип. – Полнолуние! – крикнул Дейв и завыл точно волк. Из низины донесся визгливый ответный лай койота. Дейв расхохотался и прибавил газу, проезжая заколоченную церковь, потом резко ударил по тормозам и схватил Бедекера за руку. – Мы бродили по ней! – триумфальным шепотом возвестил он. – Прямо по Луне, Ричард. Оставили свои ничтожные, жалкие следы в лунной пыли. И этого у нас никто не отнимет! – Он снова завел мотор, во все горло распевая знаменитую «Этого у нас не отнять». Проехав еще с милю, джип остановился перед участком Кинка Уэлтнера. Вооружившись перчатками и фонариком, Дейв тщательно обследовал «Хьюи», даже слазил пощупать топливопровод. Взобравшись на плоскую крышу вертолета, проверил втулку винта, сам несущий винт, тягу управления, затяжную гайку… – Мы что, серьезно полетим? – не выдержал Бедекер. – Почему нет? – Кинка разбудим, – брякнул Бедекер первое, что пришло в голову. Дейв захохотал. – Не боись, нашего Кинка пушкой не разбудишь. Вперед! Бедекер покорно забрался в кабину. Уселся в левое кресло, пристегнул плечевые ремни к широкому ремню безопасности, нахлобучил шлем Национальной гвардии, который забыл в прошлый раз, приладил наушники и уставился на алые датчики панели управления. Дейв наклонился проверить приборы, пока Бедекер озвучивал показания автомата защиты сети. Закончив, Дейв запихнул какой-то железный ящичек в держатели и подвел к нему радиопровода. – Это еще что за хрень? – удивился Бедекер. – Магнитофон. Ни один порядочный «Хьюи» без него не летает. Мотор загудел, лопасти набирали разгон, кашлянув, взревели турбины. – Следующая остановка Стоунхендж, – раздался в наушниках приглушенный голос Дейва. – В смысле? – растерялся Бедекер. – В прямом. Сиди и смотри, амиго. Кстати, глянь – у меня очки ровно сидят? Бедекер повернулся и обомлел: лицо под огромными инфракрасными очками и шлемом не принадлежало Дейву. В нем вообще не было ничего человеческого. В красных отблесках приборов выделялись гигантские пузыри глаз на толстых мясистых стебельках, широкий жабий рот и скошенный подбородок. Дряблая, в складку, шея напоминала престарелую индюшачью тушку. – Ровно, – сообщил наконец Бедекер. – Благодарю. Через три минуты они уже парили на двух с половиной тысячах футов над Лоунроком. Внизу сиротливо горели редкие огни. – Даже не оценил моего адмирала Акбара[3], – насупился Дейв. – Обижаешь, амиго! – хохотнул Бедекер. – По мне, так это лучшая маска адмирала из всех, что я видел за последний месяц. А это зачем? Дейв методично включал и выключал взлетно-посадочные фары, озаряя светом нижний иллюминатор. – Шлю внеземной привет и поздравления миссис Каллахан, – пояснил Дейв. – Пусть думает, что миссия выполнена, и спокойно ложится спать. – Он потушил фары и с креном развернулся на триста шестьдесят градусов. На высоте пять тысяч футов они миновали Кондон. Внизу Бедекер различил пустую, ярко освещенную эстраду в маленьком парке, главную улицу, застывшую в свете ртутных ламп, темные переулки с редкими проблесками фонарей сквозь кроны деревьев. Кругом не было ни души. Определенно, американские глубинки куда адекватнее больших городов – ночью здесь положено спать. – Поставь, будь другом, – Дейв протянул ему кассету с ярлычком «Жан-Мишель Жарр». Бедекер невольно вспомнил музыкальное сопровождение в командном модуле. Астронавты тогда взяли по три кассеты. Том Гэвин выбрал сборники кантри-песен и хиты Барри Манилоу, Бедекер – Баха, Брубека и джаз-банд «Презервейшн-холл». Дейв, как всегда, отличился, притащив просто невероятную хрень – «Звуки природы» с китовыми песнями, «Икара» в исполнении группы Пола Уинтера «Консорт», «Бич-Бойз», японскую флейту с индийским ситаром и ритуальные напевы масаев. – Что на сей раз? – спросил Бедекер, вставляя кассету. Дейв нажал кнопку и, поблескивая окулярами, радостно возвестил: – ГБТ! С первыми аккордами «Хьюи» пошел в штопор. На месте Бедекера удерживали только ремни. Похожие ощущения он испытывал на американских горках в чикагском луна-парке, когда вагонетка преодолевала крутой подъем и на бешеной скорости устремлялась вниз. Правда, сейчас высота была пять тысяч футов, и никаких рельсов впереди, обещающих спасительный подъем – только залитые лунным светом холмы далеко внизу, черные пятна леса, река и скалы. Бедекер отпустил свою ручку управления и рычаг «шаг-газ», убрал ногу с педалей, лишь усиливая иллюзию неконтролируемого полета. Холмы стремительно приближались. Не сбавляя скорости, «Хьюи» преодолел нулевой порог, но в последний момент выровнялся и полетел над холмами и скалами. В левом окне мелькал лунный свет. На стороне Дейва ложились длинные тени. Очутившись в каньоне, рычаг «шаг-газ», болтавшийся у Бедекера между ног, вдруг выпрямился. По бокам вырастали деревья, в пятнадцати футах внизу поблескивала река. На ста двадцати пяти узлах вертолет круто повернул на излучине, выпрямился и снова накренился, взметнув лопастями фонтанчик воды. Музыка сливалась с пейзажем, калейдоскопом мелькавшим перед глазами. Электронная, внеземная, она звучала с упрямым тяжелым ритмом, словно исходя из самих турбин. Этому ритму подчинялись и отголоски лазерного эхо, и порывы электронного ветра, и шум прибоя на каменистом берегу. Вертолет резко взял вправо, устремляясь в ущелье и снова едва не касаясь лопастями воды. Бедекера вдавило в кресло. Откажи сейчас двигатель, при такой высоте и тесноте у них нет шанса спастись. Вдобавок, попадись на пути высоковольтный кабель или труба, не будет времени на маневр. Бедекер покосился на Дейва. Тот спокойно сидел за штурвалом, почти небрежно переключая рычаг, и всем видом показывал, что никакие трубы и кабели им не грозят, что каждый сантиметр каньона излетан вдоль и поперек, при свете и в темноте. Бедекер расслабился и стал наслаждаться полетом, прислушиваясь к музыке. Ему вспомнился другой полет. Они летели вперед ногами, обратив лица вверх к полусфере Земли. Двигатели лунного модуля выбрасывали длинный, на двести шестьдесят миль, тормозной импульс. Намертво затянутые ремнями в своих громоздких скафандрах, правда, без перчаток и шлема, астронавты чувствовали подошвами сапог ритмичные удары, словно биение волн в борта лодки. Слева стоял Дейв, держа правую руку на рычаге системы управления, а левую – над преобразователем тяги. Бедекер следил за показаниями шестисот датчиков и индикаторов, сообщал данные в центр сквозь двести девятнадцать тысяч миль пустоты, наполненной треском помех, и пытался предупредить все капризы перегруженного навигационного компьютера. В восьми тысячах миль над Луной модуль перевернулся, вернув астронавтов в привычное вертикальное положение, и продолжил снижение, четко следуя траектории, как метко пущенная стрела. Поддавшись порыву, они с Дейвом на целых пять секунд забыли о приборах, глядя сквозь треугольные иллюминаторы на сверкающие вершины, мрачные каньоны и залитые земным светом подножия лунных гор. – Эй, амиго, – шепнул тогда Дейв. Зубчатые скалы надвигались, горы угрожающе вздымались, словно белые застывшие гребни волн. – Подсоби. Кассета кончилась. «Хьюи» вылетел из каньона и устремился через широкую реку, в которой Бедекер узнал Колумбию. Дул сильный встречный ветер. Дейв надавил на педаль, играючи справляясь со стихией. В сотне футах внизу промелькнула плотина, вспыхнула вереница огней, в лунном свете серебрились белые барашки. Вертолет взмыл на пятьсот футов и повернул вправо, по-прежнему набирая высоту. Теперь в иллюминаторе виднелись северный берег реки и крутой утес. Взлетев еще выше, «Хьюи» крутнулся и завис в воздухе. Они парили в полной тишине, напор ветра стих. Дейв кивнул в сторону, и Бедекер, сдвинув стекло, высунулся, чтобы получше рассмотреть пейзаж. В ста футах внизу на крутом холме белел каменный круг Стоунхенджа. – Эй, амиго, подсоби, – шепнул Дейв. Вертолет пошел на снижение, взметнув тучу пыли. Посадочные фары с трудом пробивались сквозь серую мглу. Бедекер различил покрытую гравием парковку, косо притулившуюся на пологой вершине, а через мгновение пыльное облако поглотило вертолет. По днищу застучала галька. – Говори со мной, – попросил Дейв. – Двадцать пять футов, идем на посадку, – начал Бедекер. – Пятнадцать футов, никаких помех. Десять футов. Погоди, обратно на десять, тут валун. Так, отлично. Ниже. Пять футов. Два. Нормально. Десять дюймов. Есть касание. Слегка качнувшись, «Хьюи» опустился на землю. Когда ветер наконец рассеял пыль, Дейв заглушил двигатель. Красные огоньки приборов погасли, вокруг снова царила гравитация. Бедекер снял шлем, отстегнул ремни и выбрался наружу. Обогнув вертолет, он подошел к Дейву, вспотевшему и счастливому. Порыв ледяного ветра взъерошил редеющую шевелюру Бедекера, заставив поежиться. Вдвоем с Дейвом они направились к каменному кругу. – Кто строил? – спросил Бедекер, помолчав. Из-за края самой высокой дуги светила полная луна, отбрасывая тень на гигантский валун в центре. Должно быть, так изначально выглядел Стоунхендж, пока время и туристы не внесли свою лепту. – Строил Сэм Хилл, дорожник, – пояснил Дейв. – Парень переехал сюда в начале столетия, основал город, насадил виноградники. Своего рода Утопия. Решил, что в этой части ущелья самые благодатные условия для выращивания винограда – дожди с запада, солнце с востока. Гармония, короче. – Ну и что, угадал? – поинтересовался Бедекер. – Нет, промахнулся миль на двадцать. Город теперь лежит в руинах по ту сторону холма, Сэм похоронен вон там. – Дейв кивнул на узкую тропу, ведущую к подножию. – Почему именно Стоунхендж? Дейв пожал плечами. – Каждый хочет оставить по себе память. Сэм позаимствовал идею. В Первую мировую в Англии он услыхал от кого-то, что Стоунхендж был жертвенным алтарем, и решил возвести свой, как дань погибшим на войне. Присмотревшись, Бедекер различил вырезанные имена, а сами камни на поверку оказались цементными блоками. Мужчины остановились на южной стороне круга, глядя на реку. В нескольких милях к западу поблескивали городские огни и мост. Шквалистый ветер клонил к земле жухлую траву, принося ледяное дыхание осени. – Там кончается Орегонская тропа. – Дейв указал на огни и, помолчав, добавил: – Удивительные люди! Ринуться в неизведанное, за тысячи миль от родного края, прекрасного во всех отношениях, ради одной только мечты! Ты задумывался об этом когда-нибудь? – Не припомню, – признался Бедекер. – Зато я – постоянно, с самого детства. Господи, Ричард, я объездил тут все вдоль и поперек. Как, скажи мне, как можно протащиться столько пешком или на воловьей упряжке?! Чем больше думаю, тем больше понимаю, что всякий, кто метит в президенты США, по гордыне переплюнет Сатану. Погоди минутку. – Он метнулся к вертолету. Бедекер стоял на краю обрыва, остывая на ветру и прислушиваясь к пению невидимой птицы. Дейв вернулся с тарелкой-фрисби под мышкой. Пластмассовый кругляшок поблескивал в темноте флуоресцентными полосками. – С ума сойти! – ахнул Бедекер. – Не может быть. – Она самая, – ухмыльнулся Дейв. На последней лунной вылазке, когда они позировали перед камерой лунохода, Дейв вытащил тарелку и на пару с Бедекером стал бросать ее туда-сюда, со смехом наблюдая за причудливой траекторией тарелки в условиях малой гравитации. Повеселились на славу, вот только обошлось удовольствие дорого. Четыре дня спустя, по возвращении, их обвинили во всех смертных грехах. НАСА возмутило появление в эфире бренда «Фрисби» – выходило, что посторонняя компания задарма получила рекламу, стоящую, по сути, миллионы долларов. Журналисты окрестили момент с тарелкой «редким проявлением человеческого в строгом научном задании», но тут же следом заявили, что целесообразнее отправлять на Луну вместо людей управляемые зонды, как это делают русские, экономя деньги и ресурсы. Сенатор из Коннектикута высказался об «игре в тарелочку ценой шесть миллиардов долларов», афроамериканские политики были вне себя, назвав инцидент издевательством над миллионами нуждающихся. «Двое белых сытых парней резвятся в космосе за счет налогоплательщиков, пока негритянские младенцы умирают от укусов крыс в гетто», – заявил один в ток-шоу «Тудей». Оператор связи с экипажем передал новостную подборку астронавтам за четыре часа до возвращения в плотные слои атмосферы. На вопрос, не желает кто-нибудь прокомментировать шквал критики, Дейв сперва уточнил у Хьюстона, надежен ли канал, а после выдал лаконичное: – Пусть идут в жопу! – став первым в истории астронавтом, отважившимся употребить в эфире этот специальный космический термин. В НАСА выходку не простили. Дейва временно отстранили от программы «Скайлэб» и продержали в резерве пять лет. Потом программа загнулась, напоследок выполнив показушную стыковку «Союз – Аполлон», и Дейв уволился. Он швырнул светящийся бело-зеленый кругляш Бедекеру. Тот отступил на несколько шагов и метнул тарелку обратно. – По воздуху совсем другое дело, – заметил Дейв. Пару минут они молча перебрасывали фрисби. От избытка чувств у Бедекера защемило в груди. – Знаешь, я тут подумал… – начал Дейв. – О чем? – Старый Сэм и прочие были правы. Ты оставляешь старое и идешь дальше, думая, что лучшее еще впереди. – Дейв ухватил тарелку. – Только мало кто понимает, что прекрасное дале́ко прекрасно лишь до тех пор, пока мы в это верим. – Он встал на краю утеса и поднял тарелку вверх, к звездам, точно принося дар. – Все рано или поздно кончается. – Фрисби полетела с обрыва, прочертив изящную дугу в лунном свете, и бесшумно исчезла во мраке над рекой.* * *
Бедекер вышел к причалу. Сын сидел на перилах и смотрел на озеро. По радио наперебой восторгались, с каким достоинством Никсон принял отставку, и обсуждали его преемника, Джеральда Форда. В особенности порадовало журналистов заявление самого Форда, что за долгие годы в Конгрессе он не нажил ни одного врага. Оно и понятно: после Никсона с его манией преследования перемена была явно к лучшему. Но Бедекер помнил слова отца, что выбор врагов говорит о человеке куда больше, чем выбор друзей. Может, Форд просто набирал очки перед избирателями? Скотт сидел на перилах в конце причала. Белая футболка ярким пятном выделялась в лунном свете. Доски в некоторых местах просели, кое-где не хватало перил. Бедекеру отчетливо вспомнился запах свежей древесины семнадцать лет назад, когда он сам разговаривал здесь с отцом. – Эй, – позвал он. – Привет, – вяло, но не злобно откликнулся Скотт. – Давай мириться. – Ага, давай. Бедекер облокотился на перила и тоже стал смотреть на озеро. Вдалеке закряхтел лодочный мотор, звук эхом пронесся над тихими водами, но самой лодки не было видно. На другом берегу носились светляки, мелькая, словно вспышки выстрелов. – Я был здесь с твоим дедушкой незадолго до его смерти. Озеро тогда было меньше, – заметил Бедекер. – Правда? – равнодушно бросил Скотт. Бабку с дедом по линии отца он не застал и мало ими интересовался. Зато родители матери были в добром здравии, жили в поселке для престарелых во Флориде и всячески баловали внука с пеленок. – Давай завтра с утра доразберем мебель и махнем на рыбалку? – предложил Бедекер. – Да ну… – протянул Скотт. Бедекер кивнул, еле сдерживая подступающее раздражение. – Ладно, тогда приведем в порядок дорожку. Скотт пожал плечами и вдруг спросил: – Вы с мамой разводитесь? Бедекер уставился на десятилетнего сына. – Нет, конечно. С чего ты взял? – Вы же не любите друг друга, – категорично, с дрожью в голосе заявил Скотт. – Неправда, очень любим, – отрезал Бедекер. – Что за мысли у тебя, Скотт! Откуда, главное? Тот по-особенному дернул плечом, как делал всякий раз, когда обижался на друзей или что-то не получалось. – Не знаю, – буркнул он. – Если говоришь, значит, должен знать, – парировал Бедекер. – Скажи, в чем дело? Скотт отвернулся и тряхнул головой, откидывая челку с глаз. – Тебя никогда не бывает дома, – жалобно произнес он. – Работа у меня такая, – стал оправдываться Бедекер. – Была. Теперь с этим покончено. – Ага, и что толку? Мамочке все равно не угодишь. Она же ненавидит Хьюстон, Центр, твоих друзей и моих тоже. Живет только своими сраными клубами. – Попридержи язык, Скотт! – нахмурился Бедекер. – Но так и есть. – Попридержи язык! Сын отвернулся и снова уставился на озеро. Бедекер перевел дух и попытался сосредоточиться на прелестях августовской ночи. Запах воды, рыбы и бензина настойчиво напоминал о детстве. Прикрыв глаза, он вспоминал, как после войны в тринадцать лет отправился вместе с отцом на озеро Биг-Пайн в Миннесоте, порыбачить и поохотиться. Он тогда вдоволь настрелялся по жестянкам из своего «Сэвиджа», а когда пришло время чистить ружье, выяснилось, что шомпол остался дома. Отец неодобрительно покачал головой, что для мальчика было хуже пощечины, потом отложил удочку, приладил леску к грузилу, продел его через дуло ружья, а к другому концу привязал тряпку. Бедекер потянулся к самодельному шомполу, но отец взялся за другой конец лески, и вдвоем они тянули ее туда-сюда, болтая о разной ерунде. Дуло уже сверкало чистотой, но они все тянули и тянули. Как наяву перед глазами стояла красная клетчатая «ковбойка» отца с закатанными по локоть рукавами, родинка на смуглой от загара левой руке, запах табака и мыла, звук голоса… Но особенно запомнилась тоска от глубокого осознания происходящего, неспособность даже тогда просто прожить и забыть. С удовольствием начищая ружье, Бедекер ощущал свое удовлетворение, знал, что отец рано или поздно умрет, а он сам навсегда запомнит этот момент и чувство осознания. – Знаешь, что я ненавижу? – спросил вдруг Скотт задумчиво. – Нет. Что? Мальчик ткнул пальцем вверх: – Гребаную луну! – Луну? – удивился Бедекер. – Почему? Сын обернулся, сев на перила верхом, и откинул челку со лба. – На уроке в первом классе я рассказал, что тебя включили в основной состав экипажа для полета на Луну. Мисс Тэритон, наша училка, была вся такая радостная, но Майкл Бизмут… мой одноклассник, короче… полный урод, с ним вообще никто не дружил… Короче, Майкл отловил меня на перемене и сказал: «Твой папаша там сдохнет, его закопают на Луне, а ты всю жизнь будешь смотреть на его могилу». Я дал ему в зубы и потом получил от мамы: лишился телека на две недели. Но весь год, пока вас готовили к полету, я каждую ночь молился за тебя. Стоял на коленях и молился по целому часу, хоть и больно было. – Мне ты не рассказывал, – выдавил Бедекер, не зная, что еще добавить. Но Скотт не слушал. В очередной раз откинул челку, сосредоточенно хмурясь. – Иногда я молился, чтобы ты не улетел, иногда – чтобы не умер там. – Он помолчал, глядя на отца. – Но знаешь, о чем я молился всегда? Чтобы, если ты погибнешь, тебя привезли обратно и похоронили в Хьюстоне или Вашингтоне, и мне не пришлось бы всю жизнь смотреть на твою могилу!* * *
– Ричард, ты когда-нибудь задумывался о самоубийстве? – спросил Дейв в воскресенье утром. Проснувшись чуть свет, они плотно позавтракали и, позаимствовав у Кинка пикап, отправились за дровами. – Да не особо, – признался Бедекер. – А я наоборот. В смысле, не о том, чтобы самому, а о самой сути. – И что там за суть? Пикап притормозил, переезжая вброд небольшой ручей. Щебеночная дорога сменилась проселочной, в ухабах и рытвинах, а в глубине каньона Саншайн и вовсе превратилась в две колеи между деревьев. – Суть разная, – отвечал Дейв. – Почему, где, когда, а главное – как. – По мне, «как» вообще не главное, – фыркнул Бедекер. – Ошибаешься! – воскликнул Дейв. – Мой чуть ли не единственный кумир знаешь кто? Сельтцер Шерман. Тот самый, ну ты понял. – Никогда не слышал, – покачал головой Бедекер. – Да слышал сто процентов, – заверил Дейв. – Он работал проктологом в Буффало, но в шестьдесят пятом глубоко разочаровался в жизни. Говорил, что больше не видит свет в конце тоннеля. С горя отправился в Аризону, купил телеграфный столб, заострил с одной стороны и спустил на муле в Гранд-Каньон. Неужели не помнишь? – Нет. – Странно, все газеты об этом писали. Короче, десять часов Шерман только спускал столб. Потом еще зарывал его – разумеется, острым концом вверх, четырнадцать часов лез обратно наверх, там прикинул разбег и сиганул с обрыва вниз. – И? – Вот на столечко промахнулся. – Дейв чуть расставил большой и указательный пальцы. – Наверняка до сих пор есть желающие попытать свои силы, – хмыкнул Бедекер. – В яблочко, – кивнул Дейв. – Шерман говорит, что и сам еще попробует. – Ясно. – В свое время Ди занималась подростками-суицидниками в соцслужбе Далласа. Так вот, мальчики в этом плане упорнее девочек, средства выбирают проверенные – выстрел в голову, удавка и прочее. А девочки, они как: позвонят приятелю, попрощаются и давай «колеса» глотать. Самое интересное, что счеты с жизнью часто сводят и одаренные ребята, и, как правило, успешно. – Логично, – кивнул Бедекер и попросил: – Эй, сбавь скорость, у меня от этой тряски голова скоро отлетит. – Два самых уважаемых мной человека застрелились, – продолжал Дейв. – Первый – Эрнест Хемингуэй. Почему – не мог больше писать, когда – в июле шестьдесят первого, где – в вестибюле собственного дома в Айдахо, как – взял двустволку, из которой обычно палил по голубям, и выстрелил себе в лоб. – Дейв, побойся бога! День ведь так хорошо начинался! С минуту в салоне было тихо. Пикап скакал по ухабам вдоль поросших лесом холмов. Впереди одна за другой попадались лощины. – А кто второй кумир? – прервал молчание Бедекер. – Мой отец. – Погоди, он разве застрелился? Ты же говорил, рак. – Нет, – поправил Дейв. – Я говорил, рак привел его к смерти. А еще пьянство и тоска. Хочешь, покажу его ранчо? – Это здесь? – Миль шесть к северу. С матерью они развелись, когда разводы еще не вошли в моду. Ребенком я садился на поезд и ехал из Талсы к нему на ранчо, жил там все каникулы. Похоронили его в паре миль от Лоунрока. – Поэтому ты и купил здесь дом, – догадался Бедекер. – Нет, поэтому я так хорошо знаю местность. Нам с Ди всегда нравились города-призраки в Техасе и Калифорнии. Потом, когда перебрались в Салем, съездили в Лоунрок и присмотрели дом. – Вот почему ты думаешь о самоубийстве, – протянул Бедекер. – Из-за Хемингуэя и отца? – Да нет, просто любопытно, – отмахнулся Дейв, – так же, как собирать модели и бродить по городам-призракам. – Надеюсь, последовать примеру кумиров не собираешься? – Ни сном, ни духом, – объявил Дейв. – Хотя постой… Помнишь, на последней вылазке у нас образовались восемь свободных минут эфира? Вот тогда я задумался… В свое время Дейв Скотт отмочил трюк Галилея, со скальным молотком и пером сокола, помнишь? Сложная штука, не всякий потянет, поэтому я придумал свое. Хотел сказать: «Народ, а давайте проверим, что случится с астронавтом при внезапной разгерметизации в вакууме!», а после открыл бы клапан коллектора мочи на своем скафандре и сдавил, как тюбик зубной пасты, со всеми вытекающими. И это в прямом эфире на всю страну! – Молодец, что сдержался, – хмыкнул Бедекер. – Ага, – задумчиво протянул Дейв и вдруг добавил: – Решил приберечь на крайний случай, а потом по схеме – только клапан был бы твой!* * *
– Скотт? – Пап, ты? – Да, – отвечает Бедекер. – Слушай, до тебя не дозвонишься. Пять раз пробовал, там просили подождать и клали трубку. Скотт, как ты? – Все нормально, пап. Ты сейчас где? – В данный момент на базе ВВС Маккорд в Такоме, а вообще задержусь на несколько дней в Салеме. Скотт, Дейв Малдорф погиб. – Дейв погиб? Боже мой! Соболезную, пап. А как? – Авиакатастрофа, – поясняет Бедекер. – Но я звоню не потому. Мне сказали, ты приболел, даже в больнице лежал. Сейчас как самочувствие? – В норме, – говорит Скотт, помявшись. – Правда, слабость не проходит. Погоди, а как ты узнал, где я? – От Мэгги Браун. – Мэгги? А, ясно. Ей, наверное, Брюс сказал. Пап, ты извини меня за Пуну. Трубка подозрительно щелкает. Пауза. – Скотт? – Да? – Что там с тобой такое? Астма обострилась? Сын молчит, потом раздается неохотное: – Ну да. Мне казалось, Учитель вылечил ее, но по ночам участились приступы. Вдобавок эта инфекция, которую я подхватил в Индии. Все в кучу. – Таблетки, ингалятор у тебя с собой? – Нет, оставил еще год назад в универе. – А к врачу ходил? – допытывается Бедекер. – Типа того… Пап, а ты приехал только из-за Дейва, или как? – Вообще-то, я уволился… – Пожалуйста, внесите семьдесят пять центов, если хотите продолжить разговор, – вклинивается автомат. Бедекер нашаривает горстку четвертаков и торопливо сует их в прорезь. – Скотт? – Да, пап. Повтори, я не расслышал. – Я сказал, что уволился этим летом. С тех пор путешествую. – Ничего себе! – ахает Скотт. – Ты бросил работу? Где побывал? – Да много где. День благодарения провел в Арканзасе, ремонтировал отцовскую хибару. Скотт, я завтра буду в ваших краях. Давай увидимся, поболтаем. Кто-то отзывает Скотта, раздается приглушенный шепот. – Скотт, в чем дело? – Пап, тут это… короче, завтра вряд ли. – Но почему? – У нас в ашраме кое-какие неприятности. – Что еще за неприятности? – Ты не так понял, – быстро заверяет Скотт. – В ашраме все в порядке, но местные всполошились. Не нравится им что-то. Даже стреляли, вот поэтому Учитель запретил пускать на территорию чужаков. Кто-то велит Скотту закругляться. – Ладно, пап, мне пора… – Погоди, – перебивает Бедекер, испытывая внезапный приступ паники. – Давай завтра встретимся. Скотт, мне очень нужна твоя помощь с хижиной, один не справлюсь. Хорошо бы закончить все к весне. Не подсобишь? Всего пару недель. – Пап, я не… – Не спеши отказываться, подумай, – просит Бедекер. – Завтра все обговорим. – Извини, пап, но… Звонок обрывается. Бедекер несколько раз набирает номер, но безуспешно. Потом идет в комнату, где ждет Китт Толивер – здоровенный детина хорошо за тридцать, с короткой стрижкой и пронзительным взглядом точь-в-точь как у астронавта Дональда Слейтона. – Спасибо, что подождали, сержант, – благодарит Бедекер. – Не за что, полковник. – Поймите, я – сторона неофициальная, но Дейв был моим другом, поэтому мне нужно понять, что произошло. – Так точно, сэр! Рад помочь. Спрашивайте. – Вы проводилипредполетную проверку самолета? – Так точно, сэр. Дважды. Первый раз утром, второй – по распоряжению майора Мунсена, когда узнал, что летит конгрессмен Малдорф. – Сам Дейв проверял машину? – Так точно, – рапортует Толивер. – Он, правда, торопился на коммерческий рейс в Солт-Лейк-Сити, но мой отчет успел посмотреть и даже лично перепроверил. Все как положено. – Самолет точно был в норме? – Да, сэр. – В голосе Толивера звучит сталь. – Загляните в мой отчет. Следственный комитет обнаружил поломку конструкции на взлете, в свете случившегося поспорить не могу, но по данным внешнего осмотра самолет был в полном порядке. Плюс двигатели совершенно новые – налет меньше двадцати часов. Бедекер кивает. – Китт, а Дейв не говорил ничего необычного? Толивер хмурится, вспоминая. – Во время проверки? Нет, сэр. Хотя… он пошутил насчет… м-м… орального секса с курицей. Вроде и все. Бедекер усмехается и задает новый вопрос: – У него был багаж? – Да, сэр. Летная сумка и здоровенная коробка. – Коробка? – Так точно, сэр! Я уже рассказывал полковнику Филдсу и остальным. – Расскажите теперь мне, – просит Бедекер. Толивер закуривает. – Особо и рассказывать нечего, сэр. Я ходил в дежурку за курткой, а когда вернулся, конгрессмен Малдорф выгружал коробку из машины. – Говорите, большая была коробка? Толивер показывает руками размер примерно два на два фута. – Дейв положил ее в грузовой отсек? – Нет, сэр. Привязал к заднему сиденью. – Как следует привязал? – уточняет Бедекер. – Не могла она слететь в пути? – Никак нет, сэр! – отчеканивает Толивер. – Привязано было на совесть. – У заднего сиденья были подлокотники? Толивер качает головой. – Откуда бы им взяться? – А у кресла Дейва? – Да, – отвечает Толивер, а в глазах читается неприкрытое «Конечно, тупица!» Бедекер делает пометку в блокноте. – Дейв говорил про содержимое коробки? – Так точно, сэр! – ухмыляется Толивер. – Сказал, что там подарок его сынишке на день рождения. Я еще спросил, сколько лет мальчугану, а конгрессмен улыбнулся, мол, через две недели исполнится минута. Его жене поставили срок седьмого января. – А что за подарок, он не уточнил? – Никак нет, сэр. Я его поздравил, и мы стали готовиться к вылету. Бедекер закрывает блокнот и протягивает руку: – Спасибо за помощь, Китт. Вспомните еще что-то, майор Мунсен знает, где меня найти. – Вас понял. – Толивер собирается уходить, но вдруг останавливается. – Полковник, было еще кое-что странное, я докладывал комитету. Может, вы уже слышали, но мало ли. – Что именно? – Ну, я убирал трап и, как всегда, пожелал конгрессмену Малдорфу удачного полета, а он ухмыльнулся и говорит: «Спасибо, сержант. Будем надеяться. Как-никак последний раз лечу». Тогда я значения не придал, а после задумался. Как вы считаете, к чему бы эта фраза? – Не знаю, – отвечает Бедекер. Толивер кивает, но уходить не спешит. – Вас понял, сэр! А вы хорошо его знали? Бедекер задумывается. – Теперь уже сомневаюсь. Дальше видно будет.* * *
– Ну я и нажрался, пардон за выражение, – объявил Дейв. – Так точно, – подтвердил Бедекер. Все утро они рубили дрова на холмах за Лоунроком. Бедекер с энтузиазмом махал топором, чувствуя, как испаряется пот на прохладном воздухе. Потом дрова загрузили в пикап, перекусили огромными сэндвичами с солониной и морем горчицы, запив их двумя банками пива из сумки-холодильника. По дороге до Лоунрока успели уговорить еще пару-тройку банок, потом сложили дрова в поленницу за домом, снова хлебнули пивка и отогнали пикап Кинку. Выпили с ним по баночке, а вернувшись, устроились на крыльце с пивом. Часа в четыре Дейв объявил, что нажрался. – С ума сойти. Наклюкаться с пива! Детский сад, скажи, Ричард? – Так точно. – Знаешь, что мы забыли? Мы забыли напомнить тебе, чтобы ты напомнил мне заехать на отцовское ранчо. – Угу. Напомни, чтобы я напомнил тебе завтра. – Чего тянуть! Двинем прямо сейчас. Бедекер потащился вслед за Дейвом, наблюдая, как тот швыряет вещи в джип, после забрался на переднее сиденье, стараясь не расплескать пиво. – Ты чего там набрал? Мы переезжаем? – Нет, едем на пикник. – Дейв уложил багаж и сел за руль. – Предстартовый отсчет начинай! – Есть, – отозвался Бедекер, поворачиваясь к нагромождению на заднем сиденье. – Сумка-холодильник? – Есть. – Пиво? – Есть. – Мангал? – Есть. – Гамбургеры? – Есть. – Булки? – Есть… нет, погоди. Красный свет по пункту… А, все в порядке, они под мешком с углем. – Мешок с углем? – Есть. – Жидкость для розжига? – Есть. – Фонарик? – Есть. – Винчестер? – Есть. А на фига? – Отстреливаться от гремучих змей, – пояснил Дейв. – Их в этом году море. Осень выдалась теплая, вот результат. Никак не угомонятся, твари. – Ясно. – Наполнение баков горючего и окислителя, система подачи топлива? – Есть. – Бедекер откупорил банку пива и передал ее Дейву. – Зажигание! – Джип дал задний ход, развернулся в облаке пыли и рванул на север по главной улице Лоунрока мимо ржавой брошенной бензоколонки. – Хьюстон, есть взлет! – доложил Дейв. – Принято. Дейв свернул по узкой дороге на северо-восток, в каньон. Проскакав по рытвинам с четверть мили, джип выехал на ровную дорогу. – Тангаж и рыскание в норме, – отрапортовал Дейв. – Ожидаем режим Один-Чарли. – Есть Один-Чарли. Колеса прогрохотали по решетке над ямой у ворот пастбища, кусок угля выскочил из мешка и исчез в туче пыли позади. – Внутренний двигатель отключился по расписанию. Переходим к отделению ступени. – Правое колесо подпрыгнуло на булыжнике, кепка с надписью «Борт номер полтора» слетела с головы Дейва и закатилась под мангал. – Отстрел произведен. – Принято. За крутым поворотом начинался подъем в гору. Дейв переключился на вторую скорость, затем на первую. – Готовность к отделению второй ступени. – Дорога превратилась в узкую полоску. С одной стороны были огромные валуны, с другой – отвесный обрыв. – Принято, – ответил Бедекер. – ГБТ. – ГБТ, – подтвердил Дейв. Миль шесть они катили вдоль голых каменистых гребней, спускались в каньон и снова взбирались на плоские горные плато. Через полчаса Дейв свернул с тропы на дорогу из гравия, впереди показалось ранчо. Проехав пустой выгон для скота, джип продрался через заросли кустарника и остановился перед заброшенным деревянным строением, за которым виднелись амбар и несколько хозяйственных построек поменьше. Бедекер вылез из машины и пошел вслед за Дейвом, осторожно ступая по хрустящей траве и высматривая змей. Выбитые окна, лестница без перил, обвалившаяся терраса – дом стоял необитаемым целую вечность, хотя строился с любовью и знанием дела. Террасу, уцелевшую по трем сторонам, украшала деревянная резьба, внутренняя отделка поражала тщательностью, а центральный камин был аккуратно сложен из больших камней. – Давно тут никого? – спросил Бедекер, переступая на кухне через кучу осыпавшейся штукатурки. – Папаша скончался в пятьдесят шестом, – ответил Дейв. – Потом тут еще раза два менялись хозяева, но ни у кого дело не пошло. Земли маловато… Отец так и не решил, кем ему быть – фермером или скотоводом. Для фермы не хватает воды, а для нормального ранчо – пастбищ. – А тебе сколько было, когда он умер? Дейв отхлебнул пива, глядя в кухонное окно. – Семнадцать. Это было первое лето, когда я не приехал, у меня уже была девушка и работа в Талсе, не до того стало. – Он швырнул пустую банку в раковину. – Пошли выйдем, покажу кое-что. Сарай тоже строился основательно. Бедекер разглядел на чугунных петлях дверей клеймо: «Лебанон, Пенсильвания, 1906 год». За амбаром и сарайчиками начиналось поле, и Бедекер снова вспомнил о змеях, но Дейв вскоре остановился и показал на обширную круглую впадину посреди пастбища. – Озеро Кут-Лейк, – усмехнулся он. Присмотревшись, Бедекер понял, что холмик, на который они поднялись, когда-то был частью восточного берега. Гнилые доски под ногами выстилали желоб оросительной канавы, а у высохшей промоины виднелись остатки запруды. Еще одно старое русло начиналось у западного конца впадины, где над бывшим берегом, заросшим сорняками, нависали ветви тополей. – Ричард, ты когда-нибудь задумывался, какую часть жизни мы тратим, чтобы оправдать ожидания умерших? Бедекер глотнул пива, глядя на друга. Тот присел на камень, сорвал стебелек подлиннее и сунул в рот. – Мы даже не представляем себе, сколько усилий тратим, чтобы их порадовать, – продолжал Дейв. – Не осознаем. – Он кивнул на заросли кустарника. – Вон там мы привязывали наш старый плот. Глубина в том месте была всего семь-восемь футов, но купаться на южной стороне мне не разрешалось, потому что там легко было запутаться в водорослях. Папаша расчищал дно каждый год, но к лету все зарастало снова. Еще до моего рождения там утонула одна из его охотничьих собак. И вот однажды, мне тогда было лет девять, мой пес прыгнул в воду, чтобы забраться на плот, и тоже запутался. Дейв помолчал, жуя травинку. Солнце почти село, тени тополей протянулись через мертвый пруд. – Блэки был почти лабрадор, отец подарил мне его, когда я родился, и это было для меня важно. Он оставался моим, даже когда родители разъехались, и я стал приезжать только на лето – в Талсе для собаки не было места. Блэки весь год ждал этих двух с половиной месяцев. Не знаю, но почему-то для меня было очень важно, что мы одного возраста, так уж вышло. Так вот, утром я закончил работу по дому и лежал на плоту, подремывая, как вдруг услышал, что Блэки плывет ко мне. Потом плеск затих, я поглядел, но на воде никого не было, одни круги. Мне сразу стало ясно, что случилось, и я, не раздумывая, прыгнул в воду. Вынырнул, услышал, как отец что-то кричит со двора, но тут же опять нырнул, и так несколько раз. Проталкивался через водоросли, застревал, выпутывался и снова нырял. Дно илистое, ноги вязнут в тине, в мутной воде ничего не видно, нос и рот забиты вонючей грязью. Отец орал с берега, но я все нырял – и наконец, когда почти потерял надежду, не увидел, а просто нащупал Блэки. Он лежал на самом дне и уже не двигался. Воздуха не хватало, но я не стал всплывать, обхватил пса и стал отчаянно расталкивать траву, потому что знал – если выпущу его хоть на секунду, то больше не найду. Выбился из сил, наглотался грязной воды, чуть не задохнулся, но не хотел возвращаться без Блэки. Каким-то чудом подтащил его к мелководью, и там отец выволок нас обоих на берег. Орал, матерился и одновременно причитал надо мной, а я ревел, откашливал воду и пытался заставить пса дышать. Он был такой неподвижный и тяжелый, я просто чувствовал, сколько в нем воды, и был уверен, что он мертвый, но все давил и давил ему на ребра – и вдруг он зашевелился, из него фонтаном пошла вода, наверное, с полведра… заскулил… задышал… Дейв вытащил изо рта изжеванную травинку и отбросил в сторону. – Думаю, никогда в жизни я не был счастливее, – продолжал он. – Папаша долго ругался, грозился исколотить до полусмерти, если еще раз полезу туда, но я знал, что он мной гордится. Когда мы потом однажды были в Кондоне, я слышал из машины, как он рассказывал обо мне своим друзьям – гордился. Только сам я радовался не столько из-за отца, сколько… Знаешь, Ричард, я много думал об этом, когда летал во Вьетнаме с санитарной службой, и понял, в чем дело. Война эта была не по мне, боялся я до чертиков и понимал, что когда мои дела выйдут наружу, с карьерой будет покончено. Я ненавидел тамошний климат, насекомых и прочее… но тем не менее был счастлив! И только потом понял, что мне нравилось – спасать людей. Казалось бы, все против этих несчастных, у них ни единого шанса спастись, и тут прилетаю я на своей гребаной вертушке и вытаскиваю прямиком из ада – просто потому, что так хочу… Вернувшись во двор заброшенной усадьбы, они установили мангал рядом с джипом и стали готовить ужин. Последний луч солнца угас, сразу потянуло ночным холодом. Свет озарял вершины двух вулканических пиков на севере и востоке. Переложив котлеты, поджаренные на раскаленных углях, толстыми слоями лука, друзья соорудили по гамбургеру и жадно принялись за еду, не забывая о пиве. – А тебе не приходило в голову выкупить землю и восстановить дом? – спросил Бедекер. Дейв печально покачал головой. – Слишком много призраков прошлого. – Тем не менее поселился ты почти рядом. – Угу. – Одна моя знакомая верит, что существуют «места силы» и на их поиски стоит потратить жизнь. Как тебе такое? – Места силы… – задумчиво повторил Дейв. – Вроде магнитных линий миссис Каллахан? Бедекер молча кивнул, жалея, что ляпнул чушь. – Что ж, пожалуй, твоя знакомая права. – Дейв вытянул еще банку пива из сумки-холодильника и сбил с нее ледышку. – Только все не так просто. Места такие, конечно, есть, кто спорит, но… Вчера мы о том же самом говорили – ты сам помогаешь им возникать. Надо лишь оказаться в нужное время в нужном месте – и знать об этом. – А как узнаешь? – Если будешь мечтать, не думая. Бедекер задрал ноги на приборную доску и открыл новую банку пива. Дом чернел силуэтом на фоне быстро темнеющего неба. – Мечтать, не думая… – повторил он, застегивая куртку. – Вот-вот, – кивнул Дейв. – С дзен-медитацией знаком? – Нет. – А я несколько лет занимался. Суть в том, чтобы избавиться от всех мыслей, потому что они мешают видеть. Видишь яснее, когда не смотришь. – И что, получалось? – Не-а. Во всяком случае, не у меня. Сидел там, бубнил мантры и все такое прочее, но мысли так и вертелись, обо всем на свете. И на баб постоянно тянуло… Но потом я нашел одну штуку, которая помогала. – И что же? – Предполетные тренировки, – усмехнулся Дейв. – Наши бесконечные репетиции на тренажере срабатывали лучше любой медитации. Бедекер покачал головой. – Не согласен. Наоборот, когда вся эта свистопляска наконец началась, все было настолько похоже на тренажер, что я толком ничего не почувствовал, работал как автомат по программе. – Ну да, – кивнул Дейв, дожевывая гамбургер, – точно так же и я думал… но потом понял, что не в этом дело. Фактически мы превратили два дня на Луне в некое священнодействие. – Как это, священнодействие? – недоуменно переспросил Бедекер и поглубже надвинул кепку. – Джоан ведь католичка? Помню, вы ходили с ней в Хьюстоне на мессы. – Да. – Ну, тогда ты должен понимать, что я имею в виду, хотя в наши дни они уже не те, что прежде, когда я ходил с матерью. Латынь сильно помогала. – Чему помогала? – Ритуалу, – пояснил Дейв. – Так же, как тренировки в нашем полете на Луну. Чем больше ритуала, тем меньше лишних мыслей. Помнишь, что Базз Олдрин устроил после посадки «Аполлона-11», как только представилась возможность? – Ну да, принял причастие, – кивнул Бедекер. – Захватил с личными вещами хлеб и вино. Он же этот, как его… пресвитерианин? – Да какая разница! Только и он не понимал, что наш полет – сам по себе ритуал, священнодействие. – Да ладно тебе… – Однако в глубине души Бедекер чувствовал, что Дейв прав. – Я видел фотографию, где вы с Джоан и Скоттом. Которую ты оставил возле сейсмической аппаратуры. Бедекер молчал, вспоминая, как стоял на коленях в лунной пыли под гнетом жесткого неуклюжего скафандра и впитывал благословение ослепительного солнечного света. – Я сам оставил на Луне старую отцовскую пряжку от ремня, – продолжал Дейв, – рядом с лазерными зеркалами. – Правда? – удивился Бедекер. – Когда же ты успел? – Во время первого выхода, пока ты готовил луноход к поездке в каньон… и вообще, я сильно удивлюсь, если хоть один из дюжины наших, побывавших там, не сделал ничего подобного. – Мне это не приходило в голову. – Все остальное – лишь подготовка, расчистка пути от помех. Даже места силы бесполезны, если ты не готов принести туда что-то. Я не имею в виду предметы, которые мы везли, сами по себе они имеют такое же отношение к настоящему священнодействию, как ломоть хлеба – к святым дарам причастия. Если ты ушел оттуда тем же человеком, что и был, значит, это не настоящее место силы. – В том-то и проблема, – кивнул Бедекер. – Ничего не изменилось. Дейв рассмеялся, сжав плечо друга под толстой курткой. – Ты серьезно, Ричард? – тихо произнес он. – Неужели не помнишь, кем ты был, и не чувствуешь, каким стал? Бедекер покачал головой. Дейв соскочил с сиденья, загасил последние угольки, тщательно забросал их песком и убрал мангал в машину. Потом обошел джип кругом. – Пересаживайся, ты поведешь, я что-то перебрал. Бедекер, который за весь вечер не отстал ни на банку, послушно перелез на водительское сиденье. Освещая фарами заросли кустарника и виргинской сосны, они медленно катили назад. Звезды исчезли за облаками, а полной луне предстояло взойти еще не скоро. – Тому Гэвину никогда этого не понять, – продолжал Дейв беседу. – Бедняга так зациклился на поисках священного смысла, что никогда его не найдет. Я слышал, как он вещал по телевизору, что заново родился на лунной орбите. Фигня. Талдычит и талдычит, хотя ни хрена не понимает, что значит родиться заново. Ты – другое дело, Ричард. Я сам это наблюдал. Бедекер снова задумчиво покачал головой. – Нет, – сказал он, – ничего я не почувствовал… Вообще не понимаю, о чем ты. – А ты думаешь, новорожденный что-то понимает? Он просто начинает жить, решает свои мелкие жизненные проблемы и ни о чем особенно не думает. Осознание приходит потом – если приходит вообще. Каньон закончился, узкая дорога пересекала каменистый гребень и дальше спускалась к серпантину. Бедекер включил первую передачу и старался ехать как можно медленнее. Опьянения он не чувствовал, но на границах освещенного фарами круга то и дело мерещились гремучие змеи. – Родиться заново – не значит чего-то достигнуть, – продолжал Дейв. – Tы просто готов к началу пути, паломничеству к новым местам силы, готов помогать тем, кого любишь, не завязнуть в тине и не уйти на дно… Притормози-ка тут… – Он перегнулся через борт, и его вытошнило. Вытер рот, прополоскал водой из старой фляги, потом устало откинулся на спинку сиденья, надвинув кепку на самые глаза. – На сем заканчивается евангелие от святого Дэвида. Поехали. На вершине гребня перед спуском по серпантину в последний каньон Бедекер снова притормозил, чтобы осмотреться. В двух милях внизу сквозь темные деревья проглядывали редкие огоньки Лоунрока. – Мигни фарами разок-другой, – попросил Дейв. – Ага, отлично. – Думаешь, миссис Каллахан поверит, что у летающих блюдец есть фары? Не поднимая кепки, Дейв пожал плечами. – Может, это у них вылазка на поверхность. – Бедекер молча ухмыльнулся в ответ, сражаясь с рычагом передач. – Потише, приятель… А что скажешь про мою книжку? – «Фронтиры»? Мне понравилось. – Думаешь, стоит продолжать? – Без вопросов. – Вот и славненько… Поможешь мне? – С какой это стати? У тебя и так отлично получается. – Ни фига подобного. Главы про людей никак не идут. Даже если в перерывах между заседаниями Конгресса и удастся выкроить время на поездки и беседы, что вряд ли, все равно самому не получится. – Про того русского, Беляева, написано здорово, – заметил Бедекер. – Это я собрал, когда был у них по программе «Союз – Аполлон», больше десяти лет прошло. Самое важное в книге – истории четырех американцев, что с ними стало. И мне не нужна блевотина в стиле «Ридерс дайджест»: «Выйдя в отставку, подполковник Брик Мастерсон сделал успешную карьеру, торгуя пивом в Остине и устраивая поединки лесбиянок в грязи…» Нет, Ричард, меня интересует, что чувствуют эти парни теперь. Мне надо знать то, что они не расскажут женам в постели, когда одолевает бессонница. Я хочу забраться к ним в самое нутро и понять… а ведь мы ребята по жизни молчаливые, из нас трудно слово вытянуть. Вот и поезжай к ним со своим эпистемологическим проктоскопом… черт, хорошо сказал – а говоришь, пьяный. Короче, побеседуй с ними и вытяни все, что нам надо знать о нас самих, ладно, Ричард? – Ну, мне кажется… – начал Бедекер. – Заткнись, пожалуйста… И подумай об этом серьезно, прошу. Дашь знать, когда… после того, как младенец родится. Мы тогда приедем в Лоунрок на пару недель, вот и подумай пока. Это приказ, Бедекер. – Есть, сэр. – Черт! Ты переехал змею, и это была даже не гремучка.* * *
Бедекер лежит на диване в кабинете Дейва и вспоминает. Угловатые пятна света от машин под окнами пробегают по книжным полкам. Дейв тогда сказал, что никогда в жизни не был счастливее. Был ли такой момент в жизни у него самого? Он перебирает воспоминания одно за другим: детские радости, первые годы с Джоан, рождение сына… но как бы важны они ни были, на роль самого-самого все-таки не годятся. Разве что одно, которое не отступает уже долгие годы и утешает в минуты одиночества и тоски, словно старая потертая фотография, которую всегда носишь в кармане. Совсем небольшой эпизод, несколько мгновений. Он летел домой в Хьюстон с мыса Канаверал, шли последние месяцы тренировок. Один в своем «Т-38», совсем как Дейв неделю назад, – и вдруг решил пролететь над районом, где жил. В памяти навсегда запечатлелся тот чудесный момент: жена с семилетним сыном вышли на улицу как раз вовремя, и Бедекер с высоты восьми сотен футов и на скорости пятьсот миль в час смог их ясно разглядеть. Солнечный свет ослепительно сверкнул на плексигласовом фонаре кабины «Т-38», когда Бедекер заставил самолет победно качнуть крыльями, восславляя небо, этот счастливый день, предстоящий полет на Луну и свою любовь к двум маленьким фигуркам далеко внизу. В глубине дома кто-то громко кашляет, и Бедекер вскидывается, привыкнув за долгие годы прислушиваться по ночам к астматическому дыханию сына. Глядит, как прямоугольник света движется по книжным корешкам, и старается успокоиться… Наконец засыпает. И видит сон. Снова тот же, один из двух-трех, которые, по существу, не сны, а воспоминание, преследующее Бедекера уже десятилетия. Проснувшись в холодном поту, задыхаясь и судорожно сжимая диванный подлокотник, Ричард осознает, что это был тот самый сон. Садится в постели, чувствуя, как пот медленно высыхает на лице и спине, и понимает, что на этот раз сон изменился. До сих пор было одно и то же. Август 1962-го, взлет с аэродрома Уайтинг-Филд поблизости от Пенсаколы, штат Флорида. Одуряющая жара, влажно и душно до невозможности, и лишь в кабине «Старфайтера» он с облегчением глотнул прохладного кислорода. Полет не испытательный, в этом «F-104» нечего больше испытывать, хромированную железяку просто надо переправить назад на резервную базу ВВС Хоумстед к югу от Майами. Бедекер две недели порхал по всей стране, катая по заданию НАСА больших шишек из армии и флота, интересующихся новой сверхзвуковой моделью. Последний, адмирал в отставке, едва влезший в летный комбинезон и с трудом поместившийся на заднем сиденье, после посадки в Пенсаколе отечески похлопал Бедекера по спине и провозгласил: «Абсолютно первоклассная машина!» Как и большинство пилотов, летавших на «F-104», Бедекер не мог искренне согласиться с адмиралом. Самолет впечатлял своей мощью и использовался на базе Эдвардс как тренажер для полетов на гиперзвуковом ракетоплане «X-15», который Бедекер осваивал тем же летом, но первоклассной летающей машиной называться никак не мог. Двигатель с катапультируемым сиденьем – теперь двумя, – да пара коротких крыльев, дающих не больше подъемной силы, чем оперение стрелы. Сидя в кабине в тот убийственно жаркий августовский день, Бедекер радуется, что турне окончено. Десятиминутный полет в одиночку до Хоумстеда, а потом назад в Калифорнию, на транспортном «C-130». Тем, кому выпадет пилотировать «F-104» регулярно, не позавидуешь. Раскаленный воздух поднимается волнами, искажая взлетную полосу и мангровые заросли на дальнем ее конце. Бедекер выруливает на старт, запрашивает разрешение на взлет и включает тормоза, пока двигатели набирают полную мощность. Он чувствует, что все в норме, еще даже не прочитав показания приборов. Машина рвется с механического поводка, словно бешеный скакун, напирающий на стартовые ворота ипподрома. Новый доклад диспетчеру, тормоза отпущены. Самолет резко подается вперед, пилота вдавливает в спинку кресла. Линии разметки впереди сливаются в сплошную полосу. Однако хромированный монстр слишком неуклюж и не сразу отрывается от земли. Наконец Бедекер поднимает нос самолета к невидимой отметке на двадцать градусов выше верхушек деревьев, убирает шасси и включает форсаж. После этого все происходит практически одновременно. Мощность падает почти до одной десятой, приборная доска мерцает красным, и Бедекер знает, даже не глядя, что фланцы форсажной камеры лопнули, и реактивная струя бесполезно выплескивается в стороны ослепительным фонтаном. Датчик срыва истошно верещит. Бедекер инстинктивно бросает нос вниз, тут же понимает, что высота недостаточна и дергает штурвал на себя – поздно! – и вот уже первые ветви трещат под брюхом обреченного монстра. Бедекер съеживается на сиденье, тянет за кольцо – крыша кабины взлетает вверх, бесшумно левитируя в воздухе… Готовится ждать долгие 1,75 секунды, пока сработает заряд катапульты и кресло с пилотом подскочит следом. Слишком поздно – кусок хвоста бьет в летящее кресло снизу, бьет подло, заставляя его кувыркаться, – и Бедекера выбрасывает вниз головой, с переломанными ногами. Затем открывается основной парашют – чудовищный рывок, переворот, ноги болтаются в небе, как у ребенка, слишком раскачавшегося на качелях. Левое плечо сломано от удара, правое от рывка. Перевернутый ярко-оранжевый зонтик хлопает в воздухе, пытаясь закрыться и сбросить пилота в огненный ад внизу, но чудом выдерживает, и Бедекер совершает еще один полный оборот на стропах, едва не задевая ногами обломанные концы ветвей и языки горящего авиационного топлива. Легкие чуть не лопаются от ядовитых раскаленных паров и дыма. Две бесконечные секунды он парит, словно турист на параплане за катером, только внизу не вода, а тысячи ям-ловушек с заостренными кольями, в которые мгновенно превратился лес, а языки пламени со всех сторон лижут комбинезон, стропы парашюта и беспомощно растопыренные ноги, онемевшие от невыносимой боли. Еще немного, и он свалится в это пылающее месиво, жаждущее переломать его оставшиеся кости, содрать лопающуюся от жара кожу и сожрать плоть… Бедекер просыпается. Все как всегда. Руки отчаянно цепляются за стропы парашюта, которые оказываются спинкой дивана. Холодный пот льет ручьями. Память перебирает все детали происшедшего – то, что он пытался и не мог вспомнить и в переполненные болью часы после крушения, и почти за три месяца лечения в госпиталях, и даже три года после того августовского дня… пока впервые не увидел этот сон и очнулся, как сейчас, в поту, задыхаясь, вспоминая то, что помнить не хотелось. Как всегда… но не совсем. Сон изменился. Бедекер спускает ноги на пол, подпирает голову дрожащими руками и пытается понять разницу. Вот оно. Приборная доска вспыхивает красным, датчик срыва двигателя панически верещит. Самолет валится пузом на верхушки деревьев, гравитация не дает сбоев, она тянет вниз, на самое дно. Бедекер дергает штурвал, упираясь себе в живот, корчится на сиденье и дергает за кольцо, зная, что времени уже не осталось: обломки ветвей взлетают вместе с отстреленным фонарем кабины. Однако привычная схема спасения действует. Неспешно, словно нехотя, как старинный лифт, кресло поднимается из гроба распадающегося фюзеляжа. Смотровой щиток гермошлема оказывается над приборами, на уровне зеркала, отражая и отражаясь. Еще выше… и тут Бедекер видит то, о чем забыл, что упустил из виду в гонке борьбы за выживание – всегда знал и помнил, но под влиянием инстинкта самосохранения забыл. На заднем сиденье он видит Скотта, которого взял покататься. Семилетний, c короткой стрижкой, в фирменной голубой футболке Космического центра, мальчик смотрит без страха, в глазах его вера и надежда, что отец справится. Еще выше, выше, Бедекер уже в воздухе, в безопасности, которая хуже любой смерти! В ужасе он выкрикивает имя сына и летит, летит, медленно опускаясь в бушующие волны пламени… Он встает с дивана, подходит к окну, прижимает разгоряченный лоб к прохладному стеклу с потеками дождя снаружи. С удивлением чувствует слезы на щеках. В этот предутренний час, стоя у окна, прижавшись лицом к стеклу, он точно знает, почему погиб Дейв. Бедекер выезжает до рассвета, чтобы успеть в Такому к 7.30 утра. Не все члены комиссии этому рады, но в 8.15 он сидит и слушает всех шестерых по очереди. Затем кратко говорит сам, а в 9.00 едет на юго-восток, въезжая в штат Орегон чуть выше Далласа. День выдался серый и холодный, в воздухе пахнет снегом, и, как Бедекер ни вглядывается в речные утесы на северном берегу, очертаний Стоунхенджа различить не удается. Чуть позже часа пополудни он смотрит на Лоунрок с вершины западного холма. На крутом склоне белеют пятна снега, и прокатную «Тойоту» приходится сдерживать на второй передаче. Город совсем опустел, на главной улице – никого. Трейлер Солли заперт на зиму, окна школы миссис Каллахан завешены плотными шторами, снег в переулках лежит нетронутым. Бедекер оставляет машину перед оградой из штакетника и отпирает дверь ключами, два дня назад полученными от Дианы. В комнатах опрятно, и все еще пахнет ветчиной, которую они разогревали после похорон. Он идет в маленький кабинет в задней части дома, собирает рукопись и заметки в коробку от конвертов и относит в машину. Затем взбирается на холм, где стоит школа. Ни на стук молотка, ни в рупор никто не отзывается. Бедекер отступает на несколько шагов и задирает голову к стеклянной звоннице, но в серых окнах видны лишь отражения низких туч. На огороде уныло торчат сломанные замерзшие стебли кукурузы и оборванное пугало во фраке. Он возвращается к машине и едет на ранчо Кинка Уэлтнера. Выйдя из «Тойоты», идет к дому и тут замечает «Хьюи» на поле за сараем. В первый момент ему становится не по себе, но потом он вспоминает, что Дейв в последний раз прилетал на вертолете. Бедекер подходит, проводит рукой по швартовочным тросам, заглядывает в кабину… Стекло покрыто изморозью, но на спинке сиденья можно разглядеть авиационный шлем Национальной гвардии. – Привет, Дик! Он оборачивается. Несмотря на мороз, Кинк Уэлтнер стоит без куртки, в одном темном костюме, левый рукав аккуратно подколот. – Привет, Кинк. Куда это ты так вырядился? – На денек-другой в Лас-Вегас, достало тут все, один да один. Погода опять же тошная. – Извини, что не смог с тобой поболтать после похорон. Хочу тебя спросить кое о чем. Кинк сморкается в красный носовой платок и убирает его в нагрудный карман. – А, тут столько дел всяких было… Да, жалко Дейва. – Еще бы… – Бедекер похлопывает вертолет по заиндевевшему боку. – Удивительно, что он так тут и стоит. Кинк кивает. – Два раза звонил им, все без толку. Никто не хочет брать на себя ответственность за машину, которой официально не существует. А может, ждут хорошей погоды, потому что неохота тащиться в такую даль, а потом еще лететь над горами. Если что, бак заправлен, все готово. Я бы и сам полетел, но управлять «Хьюи» одной рукой… – Я и двумя-то с ним не справляюсь, – кивнул Бедекер. – Кинк, ты ведь говорил с Дейвом тогда, в последний раз? – Только поздоровался. Удивился еще, как он оказался здесь сразу после Рождества. Они с Дианой собирались приехать только после родов, не раньше. – А как он уезжал, видел? – Нет, погода уже испортилась, когда он прилетел. Дейв сказал, у него тут джип припрятан. Вернется, мол, через пару недель, тогда и «Хьюи» заберет, если никому раньше не понадобится. – А не говорил он, зачем прилетел? Кинк качает головой, но потом застывает, припоминая. – Я спросил, как отметили Рождество, и он ответил, что супер, но забыл тут один подарок. Странно немного, потому что, насколько я знаю, до этого он появлялся только с тобой, перед Хэллоуином. – Спасибо, Кинк, – говорит Бедекер, шагая следом к дому. – Можно от тебя позвонить? – Валяй, только дверь захлопни посильнее, как будешь уходить. Запирать не надо. – Кинк забирается в свой пикап. – Счастливо, Дик! – Пока. Бедекер набирает номер Дианы, но ответа нет. На улице темень, будто поздним вечером, хотя еще только середина дня. Такое впечатление, что во всей вселенной настал энергетический кризис. На обратном пути он снова сворачивает к школе, но шторы на окнах все так же задернуты. Бедекер разворачивает «Тойоту» и едет по направлению к главной улице, но тут замечает, как из-за угла здания появляется тоненькая фигурка с копной седых волос. Он резко тормозит, выскакивает и бегом взбирается обратно по склону, думая о том, как похожа миссис Каллахан на пугало в ее собственном огороде. – Мистер Бедекер! – Старушка приветливо берет его за руку. – А я готовлю свой автомобиль к путешествию. Решила провести несколько недель у племянницы мистера Каллахана на побережье. – Я рад, что застал вас. – Так жалко Дейва, какой ужас! – восклицает она, горестно сжимая руки. – Да, – отвечает Бедекер, заглядывая ей через плечо. Из-за угла выбегает большая собака лабрадор по кличке Сейбл. А следом – они. Четверо, едва научившиеся ходить. Бедекер приседает, гладит их, чешет за ухом. Он уже все знает, даже без подтверждающих слов миссис Каллахан. – Какой ужас! – повторяет она. – А ведь он приехал в такую даль, чтобы выбрать самого лучшего для своего сынишки…* * *
Бедекер звонит из Кондона. Диана берет трубку после третьего гудка. – Извини, что не приехал сегодня к завтраку, – говорит он. – Решил сначала поговорить с Бобом и остальными и получить предварительное заключение. – Рассказывай, я слушаю. Бедекер медлит мгновение. – Мы можем поговорить вечером, Ди, когда будет больше времени. Не хочется по телефону… – Ричард, пожалуйста! – Она говорит тихо, но твердо. – Я хочу узнать главное прямо сейчас. – Хорошо, – вздохнул он. – Во-первых, правый двигатель заглох, как и предполагалось, но теперь они почти уверены, что за несколько секунд перед крушением Дейву удалось его запустить. Отказ гидравлики стал результатом структурной деформации… предвидеть это было невозможно… но даже там все работало процентов на тридцать пять. Не знаю, что было с шасси, но Дейв рассчитывал, когда придет время, и с этим справиться. Во-вторых, он ни черта не видел, Ди. Я прослушал запись… Он сказал, что видит огни, когда вышел из облачности на высоте шесть двести, но это продолжалось всего секунды две. Горный хребет, в который он врезался, находился в центре облачной массы… дождь, шквалистый ветер, нулевая видимость на протяжении по крайней мере восьми миль. И третье, Ди. Диспетчер в Портленде сказал Дейву, что горы там поднимаются до пяти тысяч футов. Тот гребень, куда врезался самолет, имеет высоту пять шестьсот и тянется на восток до самого вулкана Сент-Хелен. Я абсолютно уверен, что в конце Дейв просто не мог лететь выше пяти с половиной. Может, чуть выше, но ему перед этим пришлось справляться с кучей проблем: и гидравлика, и обледенение, и заглохший двигатель… а до Портленда оставалось меньше четырех минут. Он делал все, что мог, почти со всем справился, и вытянул бы… если б не этот злосчастный гребень… Бедекер делает паузу. Он словно видит своими глазами… нет, ощущает эти последние секунды. Штурвал стал тяжелее, чем лом в ящике с гравием, педали норовят выскользнуть из-под ног, некогда выглянуть в залитое дождем стекло кабины… Надо следить за альтиметром, за индикатором скорости, управлять подачей топлива, да еще выгадывать точный момент для попытки перезапуска двигателя… и при этом непрерывно слышать писк и возню за спиной, на заднем сиденье. У Бедекера не было никаких оснований подозревать друга в глупости и слюнтяйстве, и Дейв первым высмеял бы предположение, что пилот падающего самолета промедлил целых две секунды из-за собаки… но выражение, с которым он тогда сказал: «Никогда в жизни я не был счастливее», указывало на возможность такого промедления – в ситуации, когда оно смерти подобно. Эта последняя соломинка перевесила инстинкт самосохранения, добавившись к решимости профессионального летчика-испытателя спасти гибнущую машину… – …благодарна за то, что ты рассказал мне все, Ричард. Я никогда и не сомневалась, просто было столько вопросов без ответа… – Ди, – перебивает Бедекер, – я знаю, зачем Дейв летал в Лоунрок. Он хотел сделать особенный подарок тебе и ребенку, но… тогда подарок не был еще готов… Я привезу его сегодня вечером, если получится. – Он оглядывается на «Тойоту», где в ящике на заднем сиденье, рядом с коробкой, где лежит рукопись Дейва, пищит и скребется щенок. – Хорошо, – вздыхает Диана и, помолчав, добавляет: – Ричард, ты знаешь, ультразвук показал, что у нас будет мальчик. – Да, Дейв говорил мне. – А он сказал, какое имя мы выбрали? – Нет, кажется. – Мы оба решили назвать его Ричардом… если, конечно, ты не возражаешь. – Да, конечно.* * *
Бедекер едет на юг по местному шоссе номер 218 мимо Мейвилля и Фоссила, пересекая реку Джон-Дэй сразу за Кларно. От шоссе отходит на север широкая дорога из гравия, которая ведет к ранчо, где расположился ашрам. Мысли о Скотте не оставляют отца все три мили этой дороги. Он вспоминает возвращение в Хьюстон в то уотергейтское лето много лет назад. Так хотелось тогда что-то сказать, но не получалось, хотя он чувствовал, что и мальчик хочет поговорить, изменить что-то. Дорога сужается, зажатая двумя глубокими канавами, длинный голубой лимузин стоит поперек и вкось, загораживая путь. Слева небольшое бурое строение с покатой крышей и единственным окошком – по всей видимости, нечто вроде караульной будки, но Бедекеру больше напоминает крытую автобусную остановку. Он выходит из «Тойоты», оставив щенка спать на заднем сиденье. – Чем могу помочь, сэр? – подает голос один из троих парней, вышедших из будки. – Я хотел бы проехать, – отвечает Бедекер. – Извините, сэр, но дальше проезд запрещен. – Двое из охранников бородатые здоровяки, но этот самый рослый, под метр девяносто. Слегка за тридцать, в красной рубахе и пуховой безрукавке, на груди медальон с портретом гуру. – Эта дорога ведет к ашраму, правильно? – Да, но она закрыта, – отвечает другой здоровяк. На нем темная клетчатая рубашка с дешевой бляхой охранной службы. – И ашрам закрыт? – Нет, только дорога. – Судя по тону, «сэров» больше не будет. – Давайте, разворачивайтесь. – Мне надо увидеться с сыном, – объясняет Бедекер. – Мы разговаривали вчера по телефону. Он болен, и я хочу поговорить с ним. Если хотите, я оставлю машину здесь и поеду с вами. Первый охранник молча качает головой и с вызывающим видом надвигается на Бедекера. Пускать его не собираются, это очевидно. Людей такого типа можно встретить в барах от Сан-Диего до Джакарты, с некоторыми Бедекер был знаком, особенно в морской пехоте, а когда-то в молодости и сам был не прочь стать одним из них. Третий парень, совсем еще мальчик, тощий и прыщавый, молча дрожит в своей красной рубашке на пронизывающем северном ветру. – Не-а, – лениво тянет первый, подходя почти вплотную. – Вали давай отсюда, папаша. – Я должен увидеться с сыном, – повторяет Бедекер. – Если у вас есть телефон, позвоните кому-нибудь. Он пытается обойти здоровяка, но тот жестко тычет ему в грудь растопыренными пальцами, останавливая. – Я сказал, вали отсюда! Сдавай назад, туда, где пошире, и поворачивай. Бедекер чувствует знакомый прилив холодного бешенства, но сдерживается и отступает на пару шагов. У здоровяка впечатляющие плечи, бычья шея, заросшая бородой, и грудь колесом, но из-под куртки выпирает солидный пивной живот. – Давай попробуем еще раз. Это дорога общего пользования, я узнавал в Кондоне. Если у вас есть телефон или радио, давайте позвоним кому-нибудь, кто может думать и принимать взрослые решения. Если нет, поедем в ашрам вместе и спросим разрешения. – Ага, – скалится бородатый. Его товарищ подходит ближе, юнец отступает к двери караулки. – А ну-ка, живо отсюда! – Пальцы снова упираются в грудь, Бедекер делает еще шаг назад. Улыбка бородатого становится шире, он придвигается и выбрасывает руку, намереваясь толкнуть изо всей силы. Бедекер мгновенно перехватывает ее, заламывает противнику за спину, но не слишком резко, чтобы не сломать. Тем не менее в руке что-то хрустит, и здоровяк визжит от боли, пытаясь высвободиться. Следя краем глаза за вторым охранником, Бедекер кладет первого лицом на капот «Тойоты», придерживая правой рукой и готовясь орудовать левой. Охранник с бляхой кидается вперед, что-то выкрикивая, но натыкается на кулак. Два раза Бедекер бьет быстро и несильно, третий – мощно и с размаху, в основание шеи. Схватившись обеими руками за горло, охранник цепляется ковбойскими сапогами за камни обочины и опрокидывается в канаву. Пленник между тем продолжает пыхтеть и дергаться, елозя физиономией по капоту. Пытается даже лягаться, но Бедекер начеку, и левая рука теперь не занята. Он собирается было продолжить экзекуцию, но тут из караулки выскакивает прыщавый с дробовиком двенадцатого калибра. До юнца всего несколько шагов. Ружье он прижимает к груди и держит примерно как Скотт в детстве – теннисную ракетку, пока отец не научил его держать правильно. Патрон он не досылает, и едва ли сделал это в караулке. Бедекер медлит, но в то же время ощущает, как холодная ярость уходит, сменяясь злостью на самого себя. Он резко разворачивает пленного толстяка и пихает в сторону юнца. Бородатый спотыкается и, забыв, что рука больше не действует, шлепается с размаху лицом в грязный гравий. Юнец вопит, размахивая дробовиком, словно магическим жезлом, хотя Бедекер уже в машине. Он отъезжает задним ходом, разворачивается и едет назад.* * *
Пленку он прослушивал один, в маленькой комнате на базе Маккорд. Запись длилась недолго. Молодой голос авиадиспетчера звучал профессионально четко, но иногда в нем проскальзывали панические нотки. Дейв говорил не спеша, спокойно, как всегда за штурвалом, с тягучим оклахомским выговором. «Шесть минут докрушения». Диспетчер: – Вас понял. Дельта-Орел два-семь девять, отказ двигателя. Хотите объявить об аварийной ситуации? Прием. Малдорф: – Портленд-Центральный, ответ отрицательный. Следую к вам, на месте подумаем, чтобы не ломать весь график полетов. Прием. «Две минуты до крушения». Диспетчер: – Дельта-Орел два-семь девять, подтверждаю разрешение на посадку, полоса три-семь. Можете подтвердить рабочее состояние шасси? Прием. Малдорф: – Портленд-Центральный, ответ отрицательный. Нет зеленого, нет и красного. Прием. Диспетчер: – Дельта-Орел два-семь девять, вас понял. У вас есть вариант на случай отказа шасси? Прием. Малдорф: – Портленд-Центральный, ответ утвердительный. Диспетчер: – Дельта-Орел два-семь девять, вас понял, отлично. Что за вариант? Прием. Малдорф: – Портленд-Центральный, вариант следующий: ГБТ. Прием. Диспетчер: – Дельта-Орел два-семь девять, вас не понял, повторите. Прием. Малдорф: – Портленд-Центральный, ответ отрицательный. Очень занят. Прием. Диспетчер: – Дельта-Орел, принято. Примите во внимание… так… примите во внимание, что ваша высота в настоящий момент – семь-пять-два-ноль, и по вашему маршруту хребты высотой до пяти тысяч футов. Повторяю: горы высотой пять три нуля. Прием. Малдорф: – Вас понял. Снижаюсь, высота семь тысяч. Впереди горы пять три нуля. Спасибо, Портленд-Центральный. «Шестнадцать секунд до крушения». Малдорф: – Портленд-Центральный, выхожу из облаков, высота шесть двести. Вижу огни по правому борту. О’кей, теперь… «Тишина». Бедекер прослушал пленку трижды и на третий раз уловил в финальном «о’кей» нотки триумфа. В эти последние секунды у Дейва что-то стало получаться. Вспомнились другие времена, другой полет… Номер газеты, что попался Бедекеру в день похорон Дейва, был от 21 октября 1971 года. Да, наверное, это случилось как раз в конце октября, незадолго до полета на Луну. Летели они домой в Хьюстон с мыса Кеннеди, и тоже на тренировочном «Т-38». Бедекер сидел впереди. Летели над Мексиканским заливом, но видели в трех тысячах футов под собой лишь море облаков от горизонта до горизонта, молочно-белое в сиянии почти полной луны. Долго молчали, потом в наушниках раздался голос Дейва: – Через пару месяцев мы будем там, амиго. – Только если опять не перепутаешь последовательность импульсов на тренажере. – Мы полетим, – мечтательно произнес Дейв, – и все станет по-другому. – Почему? – спросил Бедекер, поглядев сквозь крышу кабины на искаженный лунный диск. – Потому, друг мой, – торжественно протянул Дейв, – что мы сами станем другими. Человек, ступивший на священное место, уходит изменившимся. – Священное? С какой это стати? – Можешь мне поверить. Бедекер помолчал, прислушиваясь к мерной пульсации двигателей и вдыхая кислородную смесь, потом кивнул. – Верю. – Хорошо… Дай-ка я поведу. – Давай. Самолет стал ускоряться и резко набирать высоту. Бедекер оказался в лежачем положении, глядя в сияющее лицо ночного светила. Там, на Луне, всходило солнце, ярко озаряя Холмы Мариуса в Океане Бурь. Поднявшись на двенадцать миль, на шесть тысяч футов выше официального потолка, Дейв, вместо того чтобы выровнять самолет, задрал его нос еще выше, так что «Т-38» завис вертикально между космосом и облачным морем внизу – не в силах подняться и не желая падать, не борясь с гравитацией и не чувствуя ее, в точке гармонии всех вселенских сил. Такой момент не мог длиться долго, но Дейв не дал машине сорваться в штопор – «Т-38» вздрогнул, слушаясь невидимого поводка, и повернул вниз, начав пологий сорокапятимильный спуск к Хьюстону.* * *
Бедекер возвращается на ранчо Кинка за полчаса до заката, но серый день уже перетек в сумерки. Ставит «Тойоту», несет в дом скулящего щенка и кормит молоком, пристроив ящик у еще не остывшей печи. Дождется его возвращения, не замерзнет. Отцепив швартовочные тросы, Бедекер достает из кабины планшет с регламентом и проверяет «Хьюи» со всех сторон, ежась на северном ветру. В одиночку получается втрое дольше, чем с Дейвом, и когда он стоит на коленях, нащупывая клапан слива топлива, застывшая левая рука пульсирует от боли. Три пальца на ней распухли почти вдвое. Кто знает, может, и перелом. Лет в двенадцать он как-то вернулся домой на Килдер-стрит после драки на школьном дворе, и отец, поглядев на его разбитую руку, покачал головой и сказал: «Если уж драться так необходимо, и ты бьешь в лицо, постарайся не бить голой рукой». Покончив с внешним осмотром, Бедекер поднимается было в кабину с левой стороны, но останавливается и переходит к правой двери. Встает на подножку, цепляется за противоположный край сиденья и забирается внутрь. В кабине очень холодно, но он не собирается включать отопление и антиобледенитель, чтобы не тратить заряд батарей, пока не заработала турбина. Только бы она заработала. Он пристегивается, отпуская немного инерционный зажим, чтобы наклоняться вперед, и проверяет по очереди все переключатели и датчики. Закончив, откидывается на спинку кресла, задевая головой летный шлем, надетый на крепление для плечевых ремней. Натягивает шлем, прилаживает наушники. Разговаривать не с кем, но так хотя бы теплее. Сидя в глубоком кресле, Бедекер пробует ручки управления и «шаг-газ». Левая рука не совсем сжимается, но как-нибудь сойдет. Ручку дросселя можно сжимать и двумя пальцами. Он долго собирается с духом. Сидеть в кресле пилота ему не приходилось больше трех лет, и хорошо, что телеметрия не передает частоту его пульса врачам, которые определили бы тахикардию с одного взгляда на монитор. Наконец он открывает дроссель ноющей левой рукой, жмет здоровым пальцем на переключатель. Раздается громкий вой, топливная смесь воспламеняется с шипением, словно включили гигантский кипятильник, датчик температуры выхлопных газов скачет на красную отметку. Несущие лопасти начинают вращаться, постепенно превращаясь в расплывчатый круг, и через пять минут гул турбины становится ровным. «Отлично, – бормочет Бедекер в мертвый микрофон, – что теперь?» Он включает вентилятор обогревателя и антиобледенитель, ждет, пока ветровое стекло очистится, и слегка вытягивает ручку «шаг-газ». Даже такое небольшое движение – это напоминает капризный парковочный тормоз на старом «Вольво» Джоан – достаточно меняет угол тангажа, чтобы «Хьюи» поднялся на шесть футов над землей. «Зависнуть будет в самый раз», – думает Бедекер. Морщась от боли в левой руке, которой приходится выполнять две операции сразу, он слегка прибавляет газу, чтобы компенсировать растущий наклон винта. На десяти футах немного сдает назад, рассчитывая на минуту удержать «Хьюи» на уровне крыши сарая, но крутящий момент тут же разворачивает вертолет. Бедекер жмет на правую педаль, противодействуя хвостовым винтом. Вращение удается остановить, но уменьшившийся тангаж приводит к потере высоты, и Бедекер тянет ручку управления, останавливая падение в трех дюймах от земли, а затем подпрыгивая на пятнадцать футов. Лихорадочно орудуя дросселем, ручкой управления, рычагом «шаг-газ» и педалями, он пытается зависнуть неподвижно на высоте десять футов и почти добивается успеха, но тут обнаруживает, что машину сносит вбок – прямиком к сараю Кинка. Панический удар по педали, неуклюжий разворот, рычаг вперед и сразу назад… Вертолет с адским скрежетом царапает землю, несколько раз подпрыгивает и плюхается на тормозные башмаки посреди двора в опасной близости от сарая. Бедекер вытирает рукавом лоб, чувствуя, как струйки холодного пота стекают по спине. Отпускает ручку и рычаг и откидывается в кресле, перетянутый ремнями. Винты продолжают бесцельное вращение. «О’кей, – тихо произносит он, – амиго, подсоби». «Расслабься, приятель», – звучит в ответ голос Дейва. Звучит в мертвых наушниках… или прямо в голове? Бедекер задерживает дыхание и старается отвлечься, позволяя телу самому вспомнить то, что вбивалось в него бесконечными тренировками семнадцать лет назад. Потом, по-прежнему думая о другом и почти не дыша, поднимает рычаг, слегка наклоняет ручку управления, регулирует дроссель и работает педалями, без всяких усилий зависая в десяти футах над землей. Осторожно переводит дух. «Хьюи» висит в воздухе неподвижно и послушно, словно лодка посреди тихого озера. Бедекер разворачивается, слегка наклоняет нос вниз, чтобы набрать скорость, и плавно поднимается, пролетая над Лоунроком на высоте две тысячи футов. Солнце еще не зашло и впервые за сегодняшний день выглядывает из-под низких туч, но Бедекер все же нащупывает кнопку на рычаге и мигает раз-другой посадочными огнями. Купол обсерватории на крыше школы остается темным. «Хьюи» набирает две с половиной тысячи футов и несется на юго-запад. При сотне миль в час весь путь должен занять не больше пятнадцати минут. Заходящее солнце бьет в глаза. Бедекер опускает щиток шлема, но так слишком темно – снова поднимает и щурится, глядя вдаль. Вершина Маунт-Худ на западе окрашена золотом, и даже тучи подкрашены снизу розовым и желтым, словно отдают обратно цвета, накопленные за всю неделю. Оставив позади реку Джон-Дей, Бедекер снижает машину до трехсот футов. Он улыбается, как будто слыша голос Дейва: «Стиль первых авиаторов, ЛВД – Лечу Вдоль Дорог». Чуть не проскакивает поворот на ашрам, наблюдая за бредущим стадом на юге, но на удивление легко разворачивается, ощущая себя с машиной одним целым и беспечно поглядывая в правое окно на заросли кустарника, присыпанные снегом, и карликовые сосны, протянувшие длинные тени через высохшее русло ручья. Пролетая в ста пятидесяти футах над дорожной заставой, он видит, как из караулки выходят двое, и едва удерживается, чтобы не спикировать, пролетев над самой их головой. Он здесь не для того. Еще через пару миль местность повышается, Бедекер видит ашрам и понимает свою ошибку. Черт возьми, это настоящий город! Дорога, теперь асфальтированная, идет по дну долины. С одной стороны выстроились рядами сотни стационарных палаток, с другой расположились дома и автостоянки. В центре, на пересечении двух улиц возвышается огромное сооружение – местный муниципалитет? – позади него ряды автобусов, вокруг десятки людей. Вертолет дважды низко проносится над главной улицей, и на шум винтов из домов и палаток появляются все новые люли, заполняя немощеные переулки, словно стаи муравьев в красных рубахах. Не начали бы стрелять… Бедекер зависает над главным строением – длинным, со стационарной крышей и палаточными стенами – и размышляет. Что делать? «Расслабься». Он разворачивает вертолет к западу. Солнце уже скрывается за холмами, нежные сумерки окутывают долину, скрашивая серый уходящий день. За скоплением палаток, вытянувшимся на милю, виднеется плоский холм рядом с недостроенным деревянным зданием. От поселка его отделяют несколько сотен метров. Бедекер делает еще один круг над ашрамом, зависает над холмом и начинает осторожно снижаться. Когда до земли остается футов тридцать, возле одинокого здания мелькает что-то красное. Оттуда выходят пятеро, но Бедекер смотрит только на одного из них. Он уже знает, что это Скотт – исхудавший, без бороды и коротко стриженный, но, несомненно, Скотт. Посадка проходит гладко, «Хьюи» опускается на тормозные башмаки почти беззвучно. На минуту Бедекер отвлекается на управление, оставляя винты вращаться потише, чтобы вертолет стоял наготове. Когда он снова выглядывает, четверо мужчин все так же стоят в тени здания, а Скотт бегом взбирается на холм, спотыкаясь на каменистом склоне. Бедекер распахивает дверцу, бросает шлем на сиденье и выскакивает, инстинктивно пригибаясь. Останавливается на краю склона, смотрит вниз и начинает спускаться навстречу сыну.
Часть пятая Медвежья гора
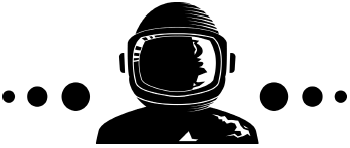
Бедекер бежит. Глаза слезятся от едкого пота, болит грудь, бешено колотится сердце. Он с трудом переводит дух, но продолжает бежать. Последняя миля из четырех должна даваться легче других, но получается как раз наоборот. Маршрут пробежки пролегает через дюны и обратно по пляжу, и как раз на последнем участке Скотт решил поднажать. Отец отстал уже на пять шагов, но больше решил не уступать. Когда впереди показался их мотель в Коко-Бич, Бедекер почувствовал, что теряет последние силы. Сердце и легкие настоятельно требовали передышки, но он сжал зубы и решительно устремился вперед, чтобы сократить разрыв с худощавым рыжим соперником. Увидев отца за правым плечом, Скотт ухмыльнулся и поддал еще, перейдя с твердого мокрого песка на сухой и рассыпчатый. Бедекер продержался шагов пятьдесят и сдался, проделав остаток пути до мотеля быстрым размашистым шагом. Когда он без сил осел на песок, прислонившись к бетонной стене и подперев голову руками, сын уже выполнял наклоны и растяжки. – Классно пробежались, – заметил Скотт. – Хррр, – едва смог прохрипеть Бедекер. – Просто супер, да? – Хррр… – Теперь поплаваю пойду, ты как? Бедекер покачал головой. – Иди сам, – выдохнул он, – я что-то сдох совсем. – Ну ладно, пока. Он довольно смотрел, как под жарким флоридским солнцем сын бежит к воде по ослепительно белому песку, похожему на лунную пыль в светлый полдень. Скотт уже совсем поправился. Восемь месяцев назад его хотели положить в больницу, но лекарство от астмы быстро помогло, а пара недель отдыха помогли справиться и с дизентерией. В Арканзасе, пока Бедекер худел, работая на отцовском участке и мучая себя диетой, сын, наоборот, стремительно набирал вес и вскоре уже не напоминал узника концлагеря. Бедекер прищурился, высматривая в волнах плывущего Скотта, потом, кряхтя, поднялся и побрел к берегу, чтобы тоже окунуться. Вечером они уже катили по шоссе номер один к Космическому центру Кеннеди. Бедекер поглядывал на новостройки и торговые центры вдоль дороги, вспоминая девственный пейзаж середины шестидесятых. Гигантский монтажно-испытательный комплекс показался вдали еще до поворота на дамбу НАСА. – Ну как, изменилось тут что-нибудь? – спросил Бедекер. В детстве Скотт не упускал ни одного случая побывать в Космическом центре. Лет в шесть-семь фирменную голубую футболку Центра мальчик вообще не соглашался снимать, и матери приходилось стирать ее по ночам. – Да вроде нет. Бедекер кивнул на громаду комплекса на северо-востоке. – А помнишь, я возил тебя сюда, когда его еще только строили? Сын нахмурился. – Это когда? – М-м… в шестьдесят пятом. Я тогда уже работал в НАСА, но тем летом как раз попал в Пятую группу астронавтов. Помнишь? Скотт взглянул на отца с усмешкой. – Да ведь мне тогда только год исполнился. Бедекер улыбнулся в ответ. – Надо же, и в самом деле… Ну да, ты же всю дорогу тогда сидел у меня на плечах. Перед въездом в промышленную зону их два раза останавливали на КПП. Обычно космодром был гостеприимно открыт для туристических групп и просто любопытствующих, но на этот раз ожидался запуск по программе Министерства обороны. Бедекеру пришлось предъявлять удостоверение личности и пропуск, выписанный Такером Уилсоном. Они медленно проехали вдоль длинного здания штаб-квартиры и свернули к Центру пилотируемых полетов. Обширный трехэтажный комплекс выглядел так же скучно и функционально, как в прежние времена тренировок «Аполлона». Широкие стеклянные панели на западной стене отражали последние лучи заката. – Да, – заметил Скотт, – обед в День благодарения у астронавтов – это не шутка. – Ну, не то чтобы обед… Все уже отметили у себя дома с семьями, а тут просто кофе с пирогами… скорее традиционная вечеринка накануне старта. – Наверное, нечасто НАСА устраивает запуск по праздникам? – Ну, почему же… – заметил Бедекер. За дверью они снова показали удостоверения охраннику, и служащий НАСА повел их вверх по узкой лестнице. – Вот «Аполлон-8» облетел Луну на самое Рождество, – продолжал он. – А эту дату выбирало Министерство обороны, учитывая благоприятные временны́е окна. – И потом, – кивнул Скотт, – День благодарения сегодня, а старт завтра. – Тоже верно. Преодолев еще два КПП, отец с сыном оказались в небольшой приемной перед столовой астронавтов. Зеленый диван, неудобные стулья, низкий кофейный столик с разбросанными журналами… Бедекер с удовольствием отметил, что помещения для отдыха и через двадцать лет сохранили хорошо знакомый дух шестидесятых. Из столовой вышел молодой майор ВВС, ведя за собой группу бизнесменов. Один из них, в темном костюме и с портфелем-дипломатом, остановился, увидев Бедекера. – Дик! – воскликнул он. – Говорят, тебя взяли в «Роквелл Интернэшнл»? Бедекер встал и пожал ему руку. – Нет, Коул, я тут с частным визитом… Ты знаком с моим сыном? Скотт, это Коул Прескотт, мой начальник в Сент-Луисе. – Мы когда-то уже виделись, – улыбнулся Прескотт, протягивая руку Скотту. – На корпоративном пикнике, когда Дик пришел к нам работать. Тебе было одиннадцать, кажется. – Помню бег парами на полянке, – улыбнулся в ответ Скотт. – Рад снова видеть вас, мистер Прескотт. Тот повернулся к Бедекеру. – Как дела, Дик? Ничего от тебя не слыхать уже… да с полгода, пожалуй. – Семь месяцев, – кивнул Бедекер. – Всю весну и лето чинили с сыном нашу старую хибару в Арканзасе. – В Арканзасе? – Прескотт подмигнул Скотту. – Что вы там забыли? – Да так, ничего особенного, – ответил Бедекер. – Слушай, тут ходили слухи, что ты говорил с кем-то из «Норт-америкэн»? Правда, что ли? – Только говорил. – Угу… Только знаешь, Дик, если ты еще ничего не подписал… – Прескотт настороженно огляделся. Группа уже вышла, из приоткрытых дверей столовой слышались смех и звяканье посуды. – Кавено в январе уходит на пенсию… – Да? – Угу. – Прескотт наклонился с таинственным видом, словно шептал на ухо. – И я заступлю на его место. А кандидатов на мой пост пока нет, Дик. Так что если подумываешь вернуться, то сейчас самое время. – Спасибо, Коул, но у меня сейчас есть работа. Ну, не то чтобы совсем работа… скорее, проект, который потребует нескольких месяцев. – Что за проект? – Я дописываю книгу Дейва, он начал ее пару лет назад. Придется немало поездить, побеседовать с людьми. Вот, в понедельник лечу в Остин для начала. – Хм… книга? – поднял брови Прескотт. – Аванс уже получил? – Небольшой, только на путевые издержки. Основной гонорар пойдет Диане, вдове Дейва, и их малышу. Прескотт кивнул и глянул на часы. – О’кей, но имей в виду… Рад был увидеться, Дик… Скотт… – Взаимно, – кивнул Бедекер. Прескотт задержался в дверях. – Черт, не повезло Малдорфу… – Да. Едва он вышел, как из столовой появился служащий НАСА без пиджака, в одной рубашке с галстуком. – Полковник Бедекер? – Так точно. – Команда готова к десерту, ждут вас с сыном.
* * *
За длинным банкетным столом сидели пятеро астронавтов и еще семь человек. Такер Уилсон представил гостей. Помимо Такера, Бедекер узнал Фреда Хагена, второго пилота, и Дональда Гилрота из нынешней администрации НАСА. Гилрот сильно располнел с последней встречи и продвинулся по службе. Остальные астронавты, два инженера-исследователя и специалист по оборудованию, все были из ВВС. Такер оказался единственным штатным пилотом НАСА в команде. Кроме того, несмотря на усиленное привлечение к космической программе женщин и представителей этнических меньшинств, в полет по заказу Министерства обороны отправлялись мужчины-англосаксы. Астронавты-исследователи Коннерс и Миллер были молчаливы и серьезны, но самый молодой член экипажа, блондин по фамилии Хольмквист, то и дело заразительно хихикал, чем сразу расположил к себе Бедекера. Как и положено, вечер за пирогами и кофе начался с воспоминаний о легендарных полетах «Аполлонов», потом Бедекер перевел разговор на предстоящий полет. – Фред, – обратился он к Хагену, – ты ведь долго ждал этого дня? Тот кивнул. Всего лишь несколькими годами младше Бедекера, но с совершенно седым ежиком на голове, он немного походил на Арчибальда Кокса. Бедекер с удивлением осознал, что большинство нынешних пилотов шаттлов по возрасту приближались к нему самому. Космический фронтир, прежде столь пугавший, что эксперты сомневались, выдержат ли даже самые молодые, сильные и смелые, теперь стал местом работы людей с дальнозоркостью и проблемами простаты. – Ждал с тех пор, как прикрыли проект ПОЛ. Если повезет, поучаствую в обкатке частей космической станции на новом этапе. – Что такое ПОЛ? – спросил Скотт. – Пилотируемая орбитальная лаборатория, – ответил Хольмквист. Светловолосый астронавт был всего на два-три года старше Скотта. – Любимый проект ВВС, почти как «Дайна-Сор», который тоже загнулся. Это еще до нас с тобой, Скотт. – Ага, – подтвердил Такер, бросив в юного коллегу скомканной салфеткой, – еще в дотранзисторные времена. – Пожалуй, шаттл и есть что-то вроде «Дайна-Сора», только побольше и получше, – заметил Бедекер. В голове всплыло слово «динозавр»… в шестидесятые он и сам испытывал те крылатые многоразовые ракетопланы в рамках участия НАСА в безвременно почившей программе военных. – Ну да, – кивнул Хаген, – а лаборатория «Спейслэб» не что иное, как обновленная международная версия ПОЛ… только через двадцать лет. Да и сама предназначена для тестирования компонентов будущей космической станции, которую мы начнем собирать на орбите через пару лет. – Но в этот раз вы ее с собой не везете? – спросил Скотт. Над столом повисло молчание, лишь некоторые покачали головой. Детали программы Министерства обороны выходили за рамки светской беседы, что гостям было известно. – Погода сильно мешает? – поинтересовался Бедекер. Утренние грозы над Мексиканским заливом последние дни вошли в привычку. – Есть немного, – ответил Такер. – Метеорологи дали добро, но как-то не слишком уверенно. Да ладно, хрен с ним. Окна короткие, но регулярные, уже несколько дней подряд… Дик, вы как, будете завтра смотреть старт из вип-зоны? – Еще бы. – А ты что обо всем этом думаешь, Скотт? – Хаген с дружелюбным интересом взглянул на рыжеволосого парня. Тот пожал было плечами, но покосился на отца и ответил, глядя Хагену в глаза: – Если честно, сэр, все очень интересно, но немного печально. – Почему же? – поднял брови Миллер, один из исследователей, темноволосый, с цепким взглядом. Бедекеру он напомнил Гаса Гриссома. – Почему печально? Скотт вздохнул и развел руками. – Телетрансляции старта не будет, верно? Репортеры на космодром не допущены? Никаких комментариев о ходе полета, кроме самых общих. Публика не узнает даже точное время старта… Так? – Верно, – подал голос капитан Коннерс. Слова его звучали четко и отрывисто, чувствовалась школа Академии ВВС. – Мы действуем в интересах национальной безопасности, задание секретное. Он переглянулся с коллегами и умолк, ожидая, пока официант соберет пустые тарелки и дольет кофе в чашки. Хольмквист и Такер с улыбкой смотрели на Скотта. Тот снова нервно пожал плечами, но улыбнулся в ответ. Бедекер отметил, что яростная, неумолимая бескомпромиссность, отличавшая сына в последние годы, понемногу смягчается. – Это понятно, – ответил Скотт. – Просто я вспомнил те времена, когда летал отец. Пресса тогда знала буквально про каждый чих астронавтов… да, именно так. Не говоря уже о родных… Помню, как все было выставлено напоказ, и как мы смеялись, сравнивая это с секретностью русских. Мы гордились своей открытостью всему миру. Я что хочу сказать… грустно, что теперь мы стали больше похожи на русских. Миллер собрался ответить, но его прервал смех Хольмквиста. – Прямо в точку, парень. Только до русских нам пока что далеко. Не видел, как клубились репортеры тут давеча в Мельбурнском аэропорту, когда стали прибывать контейнеры военных подрядчиков? Там достаточно было взглянуть, чтобы понять, с чем мы летим. Видел сегодняшнюю «Вашингтон пост»? А «Нью-Йорк таймс»? Скотт покачал головой. Молодой астронавт стал увлеченно пересказывать статьи и телесообщения, не подтверждая и не отрицая их, но с юмором описывая тщетные попытки пресс-службы ВВС заткнуть пальцем дыру в плотине. Один из сидевших за столом администраторов НАСА поддержал беседу, упомянув о лодках с репортерами, которые пришлось отгонять от берега, притом что разведывательные суда русских также ошивались неподалеку от закрытой зоны. Фред Хаген, в свою очередь, поведал историю из эпохи ракетопланов «X-15», когда один из репортеров, чтобы добыть эксклюзивное интервью, переоделся офицером бразильских ВВС. Бедекер тоже не остался в стороне и припомнил, как ездил в Советский Союз готовить программу «Союз – Аполлон». Тогда, зимним вечером, в Звездном городке Дейв Малдорф подошел в номере к абажуру настольной лампы и громко пожаловался, что сейчас самое время пропустить стаканчик на ночь, а все подаренное русскими коллегами спиртное закончилось. Десять минут спустя русский ординарец приволок и водку, и виски, и шампанское. Постепенно общий разговор распался, начальство стало расходиться. Хольмквист и Такер продолжали болтать со Скоттом, а Дон Гилрот обошел стол и тронул Бедекера за плечо. – Дик, у тебя есть минутка? Давай выйдем. В пустой приемной Гилрот закрыл дверь и кряхтя уселся, подтянув ремень на расползающемся животе. – Дик, я не знаю, удастся ли нам поговорить завтра, вот и решил прямо сейчас. – О чем поговорить? – О том, чтобы тебе вернуться в НАСА, – сказал Гилрот. Бедекер удивленно заморгал, такое ему в голову не приходило. – Я говорил с Прескоттом, Вейцелем и кое с кем еще и знаю, что у тебя другие планы, но хочу, чтоб ты знал: мы тоже заинтересованы. Конечно, условия у нас никогда не сравняются с частными компаниями, но времена настают интересные. Пытаемся перестроить всю программу. – Дон, мне скоро стукнет пятьдесят четыре. – А мне в августе – пятьдесят девять, – усмехнулся Гилрот. – Если ты еще не заметил, конторой теперь управляют далеко не юноши. Бедекер покачал головой. – Да, отстал я от жизни, видать. Гилрот пожал плечами. – И потом, мы ведь тебя не в пилоты зовем… хотя при такой куче дел, что нас ждет в ближайшие годы, всякое возможно. В любом случае человек с твоим опытом очень пригодился бы Гарри в Управлении астронавтов. Вместе со старичками и курсантами у нас тут сейчас человек семьдесят, не то что в прежние годы, когда Слейтон и Шепард приглядывали за вашим десятком дебоширов. – Дон, я только начал работать над книгой, которую так и не закончил Дейв… – Знаю, знаю. – Гилрот добродушно похлопал Бедекера по плечу. – Никакой спешки нет, Дик. Ты подумай как следует и заходи ко мне в любое время до конца года, поговорим… Да, кстати, Дик… Дейв Малдорф тоже хотел, чтобы ты вернулся. В прошлом ноябре он мне писал и как раз подтвердил мою идею привлечь старых профессионалов. Бедекер задумался. Из столовой вышли Такер со Скоттом. – Вот ты где, – сказал Такер, – а мы тут собрались проехаться до стартовой площадки. Хочешь с нами? – Да, – кивнул Бедекер. Он повернулся к Гилроту. – Дон, спасибо за предложение, я заеду как-нибудь. – Вот и отлично. – Отсалютовав компании двумя пальцами, толстяк удалился. В зеленом корпоративном «Плимуте» НАСА с Такером за рулем они проехали восемь миль по четырехполосному бульвару Кеннеди к стартовому комплексу 39-А. Монтажно-испытательный комплекс, подсвеченный прожекторами сверху и снизу, нависал колоссальной громадой. Один только американский флаг, изображенный в углу южного фасада, был размером с футбольное поле. По ту сторону здания вдали был виден космический корабль, окруженный защитной паутиной опорных ферм, труб и кабель-мачт в сверкании прожекторной иллюминации. Все вместе можно было принять за гигантскую нефтяную вышку, на которой заправляется межпланетный супертанкер. Миновав очередной КПП, Такер свернул на наклонный въезд к основанию башни обслуживания шаттла. Подошел охранник, узнал Такера, отсалютовал и отступил в тень. Бедекер и Скотт вышли из машины и задрали головы, рассматривая конструкцию. С точки зрения Бедекера, система шаттл, или космическая челночная транспортная система, как предпочитали называть инженеры этот комплекс, состоящий из орбитального блока, внешнего топливного бака и твердотопливных ракет-носителей, выглядела промежуточной эволюционной формой, плодом скрещивания самолета и ракеты. Глядя на неуклюжего космического утконоса, Бедекер с особенной силой ощутил, что хваленый символ торжества американских технологий давно представляет собой груду изношенного устаревшего оборудования. Подобно своим старым пилотам, шаттл сохранил в себе мечты шестидесятых и технические решения семидесятых, пытаясь выжить в неизведанном мире девяностых и восполняя нехватку юной энергии, нажитой на ошибках мудростью. Покрытый ржавчиной внешний топливный бак вызвал у Бедекера теплое чувство. Элементарный здравый смысл: зачем тратить драгоценное топливо, поднимая в космос тонны краски на поверхности одноразового компонента, который все равно сгорит через несколько секунд, но заодно шаттл выглядел более буднично, этаким честным трудягой вроде побитого грузовичка-пикапа, в отличие от сияющих вылизанных аппаратов ранних космических полетов. Бедекер подумал, что летай он до сих пор на этой странноватой машине, наверное, любил бы ее искренне и бездумно, как женщину. Словно читая его мысли, Такер произнес: – Хороша машинка, а? – Еще бы, – согласился Бедекер. Взгляд его, будто сам собой, упал на кормовые соединения правой ракеты-носителя, но если там и таились страшные демоны уплотнительных колец, готовые лизнуть огненным языком заряженный взрывчатым водородом внешний бак, сейчас они себя никак не проявляли. «Впрочем, – подумал Бедекер, – команда “Челленджера” их тоже не распознала». Вокруг с привычной муравьиной сноровкой сновали техники в белых комбинезонах. Такер достал с заднего сиденья «Плимута» три желтые защитные каски и бросил одну Бедекеру, другую Скотту. Они подошли поближе, снова задрав головы кверху. – Хороша! – повторил Такер. Бедекер кивнул. – Глаз не оторвать. – Застывшая энергия, – произнес Скотт. – В смысле? – не понял Такер. – Когда я был в Индии, – продолжал Скотт так тихо, что за шумом работ на площадке и стуком компрессора его было едва слышно, – то пытался думать об окружающих предметах как о сгустках энергии. И о людях, о растениях… обо всем. Например, смотреть на дерево и видеть не ветви и листья, а солнечный свет, из которого они слеплены… – Он смущенно замялся. – Так и здесь… огромный резервуар замороженной кинетической энергии, готовый оттаять и выплеснуться в движении. – Так и есть, – кивнул Такер. – Энергии тут полно… вернее, будет, когда завтра с утра баки зальют доверху. Семь миллионов фунтов тяги, стоит только поджечь эту пару римских свечей. – Он посмотрел на гостей. – Ну как, полезем? Я обещал тебе экскурсию, Дик. – А я подожду здесь, – сказал Скотт. – Пока, пап. Бедекер с Такером поднялись на лифте в «белую комнату». В ярко освещенном помещении суетились специалисты «Роквелл Интернэшнл» в белых комбинезонах, сапогах и касках. – Да, сюда подниматься полегче, чем на «Сатурн-5», – заметил Бедекер. – Там была подъемная стрела? – Угу, триста двадцать футов в высоту, а я балансирую на конце этого дурацкого манипулятора-переростка в скафандре и с крошечным переносным вентилятором под мышкой, который весит полтонны. Я был уверен, что заработаю боязнь высоты. – Здесь мы чуть пониже, – усмехнулся Такер. – Привет, Венделл! – бросил он технику в наушниках, подключавшему к корпусу шаттла какой-то кабель. – Добрый вечер, полковник. Собираетесь внутрь? – Всего на пару минут. Хочу показать этому ископаемому с «Аполлона», что такое настоящий космический корабль. – Хорошо, только подождите секундочку, в кабине сейчас Болтон, проверяет систему связи. Бедекер провел рукой по обшивке шаттла. Белые керамические плитки были прохладными на ощупь. Вблизи изношенность стала виднее: цвет кое-где выгорел, черная краска облупилась, крепления открытого люка поцарапаны. Старый пикапчик вымыт и отполирован, но остался подержанной машиной. Из круглого люка вылез коллега Венделла, и тот кивнул, разрешая войти. Бедекер шагнул внутрь следом за Такером, гадая, что стало с Гюнтером Вендтом, старым техником, который обслуживал еще команды «Меркурия» и «Джемини». Те настолько почитали своего «старт-фюрера», что заставили «Норт-Америкэн Роквелл» переманить его из «Макдонелла», когда началась программа «Аполлон». – Не стукнись головой, Дик, – предупредил Такер. Со средней палубы они поднялись к передним сиденьям кабины. По сравнению с «Аполлоном» здесь казалось необыкновенно просторно. Позади кресел первого и второго пилотов было еще два дополнительных, и еще одно на нижней палубе, куда вела лесенка. – И кто же там будет куковать один-одинешенек? – спросил Бедекер. – Хольмквист. Он страшно переживает по этому поводу. Уж так выпрашивал местечко у окна, только что деньги не предлагал. Бедекер осторожно забрался в правое кресло. У себя в командном модуле «Аполлона» он мог разве что застрять, а здесь, свалившись с места, рисковал приземлиться шестью футами ниже, в приборном отсеке в конце кабины. По привычке он затянул плечевые и поясные ремни, но остальные застегивать не собирался. На крюках над головой висело несколько ламп, ярко освещавших приборы. Такер выключил одну и щелкнул переключателями на приборной доске. Электронно-лучевой дисплей загорелся зеленым, по нему побежали строчки непонятных данных, напомнив Бедекеру пульт управления пассажирским челноком «Пан Ам» в «Космической одиссее 2001 года». Зимой 1968 года Дейв заставил их пересмотреть этот фильм десяток раз. Отсидев четырнадцатичасовую смену по поддержке полета «Аполлона-8», вечером они сломя голову мчались через весь Хьюстон смотреть, как Кир Дули, Гари Локвуд, разумный робот ЭАЛ-9000 и австралопитеки разыгрывают сюжет под музыку Баха, Штрауса и Лигети. Когда однажды Бедекер заснул в начале четвертой части, Дейв Малдорф был просто вне себя. – Нравится? – спросил Такер. Бедекер окинул взглядом приборную панель, положил руку на вращающийся рычаг управления. – Высший класс, – заявил он искренне. Такер набрал что-то на клавиатуре, и информация заполнила все три дисплея. Потом вздохнул. – Ты знаешь, он прав. – Кто? – Твой парень. – Такер провел рукой по лицу, словно снимая усталость. – Это и вправду печально. Бедекер молча смотрел на него. Сорок боевых вылетов во Вьетнаме, три сбитых «МИГа»… Такер Уилсон был кадровым пилотом ВВС, переведенным в НАСА. – Нет, не из-за роли военных, – продолжал он. – Черт побери, у русских на второй станции «Салют» вообще одни военные сидели… десять лет, не меньше. И все-таки грустно. – Почему же? – Все теперь по-другому, Дик. Когда ты летал, а я был в дублирующем экипаже, все было проще. Мы знали, куда стремимся. – К Луне. – Ну да, именно. Может быть, гонка была и не такой уж мирной, но как-то… черт, не знаю, как сказать… чище все было. А теперь даже размер дверей в грузовом отсеке определяет Министерство обороны. – Но у вас же там всего-навсего разведывательный спутник – не бомба. – Бедекеру вспомнился ночной разговор с отцом на причале в Арканзасе тридцать лет назад. Выискивая в небе спутник, отец тогда сказал: «Сумели запустить маленький, запустят и большой, уже с бомбами». – Не бомба, конечно, – согласился Такер, – а теперь, когда Рейган ушел в историю, может, и противоракетный щит строить не придется. Бедекер кивнул и глянул в стекло кабины, надеясь увидеть звезды, но оно было закрыто в ожидании старта. – Думаешь, она бы не сработала? – спросил он, имея в виду Стратегическую оборонную инициативу, которую пресса до сих пор иронически именовала «программой Звездных войн». – Да нет, почему же, – пожал плечами Такер. – Только если мы и можем себе это позволить – а мы не можем, – то все равно это слишком рискованно, и так считают многие. Если, скажем, русские выведут на орбиту рентгеновские лазеры или еще что-нибудь, на что мы не сможем ответить или защититься, то большие чины наверняка захотят нанести предупреждающий удар. – Противоспутниковыми ракетами с «Файтинг фалкон»? – Хотя бы. Ну а если не дотянемся, или они станут заменять их быстрее, чем мы сбивать? Что бы ты посоветовал тогда президенту, Дик? Бедекер бросил на собеседника осторожный взгляд. Новоизбранный президент, сменивший Рейгана на посту, был личным другом Такера. – Пригрозил бы точечными ударами по стартовым площадкам. Вся конструкция шаттла, казалось, покачивалась на вечернем ветру. Бедекер ощутил легкое головокружение. – Пригрозил? – криво усмехнулся Такер. По своему детству в Чикаго и годам службы в морской пехоте Бедекер и сам знал, как мало проку бывает от угроз. – Ну хорошо, нанес бы точечные удары по Байконуру и другим их космодромам, – вздохнул он. – Вот-вот, – кивнул Такер. Наступило долгое молчание, нарушаемое лишь поскрипыванием стапятидесятифутового топливного бака, подвешенного к брюху корабля. Такер щелкнул тумблером, отключая дисплеи. – Я люблю это место, Дик, – тихо произнес он, – и не хочу, чтобы его разнесли к чертям, выясняя, кто кого. Бедекер вдохнул запах кабины: озон, смазка и пластик, заменившие кожу и пот. – Ну что ж, переговоры все-таки идут, и последние два года – только начало. А спутник, который вы везете, неизмеримо повысит уровень контроля. Десять лет назад такое было бы просто невозможно. Уничтожать межконтинентальные ракеты с помощью договоров куда эффективнее, чем начинять космос лазерами на триллионы долларов без всякой гарантии. Такер положил руки на панель управления, словно впитывая спящие под ней данные и энергию. – Знаешь, мне кажется, что новый президент кое-что упустил в своей избирательной кампании. – Что именно? – Надо было договориться с американцами и русскими, что каждый доллар и рубль, сэкономленные на оружии, будут вкладываться в совместные космические проекты. Это десятки миллиардов, Дик. – Марс? Когда они с Такером участвовали в программе «Аполлон», вице-президент Спиро Агню заявил, что в 1990-е Америка отправит человека на Марс. Однако Никсон не проявлял интереса, НАСА вскоре оправилось от эйфории, и мечта осталась мечтой. – Это в конечном счете, – хмыкнул Такер. – Сначала нужна космическая станция, потом постоянная база на Луне. Бедекер поразился, насколько его самого тронули эти слова. Неужели еще при его жизни астронавты вновь ступят на Луну? «И астронавтки», – мысленно поправился он, а вслух спросил: – Ты согласишься делить ее с русскими? – На все соглашусь, лишь бы детей с ними не крестить, – фыркнул Такер, – и на их развалюхах не летать. Помнишь «Союз – Аполлон»? Бедекер помнил. Когда они с Дейвом первыми побывали в России, знакомясь с советской космической программой перед совместным полетом «Союз – Аполлон», Дейв выразился очень эмоционально: «Последнее слово техники! Ни хрена себе! Мы столько запугивали друг друга и Конгресс их грозными орбитальными крейсерами и невероятными супертехнологиями, и что теперь видим? Торчащие заклепки, электронные блоки размером с радиолу моей бабушки и корабль, неспособный состыковаться даже при большом желании!» В письменном отчете выражения были несколько смягчены, но в ходе совместного полета все операции по сближению и стыковке действительно выполняли американцы, а первоначальный план обмена кораблями для возвращения пришлось изменить. – Нет, в их лоханках я летать не желаю, – повторил Такер, – но если НАСА продолжит освоение космоса, готов терпеть и русских. – Он отстегнул ремни и стал спускаться, хватаясь за поручни. – Как верблюда в шатре? – усмехнулся Бедекер, выбираясь следом. – В смысле? – обернулся Такер, пригнувшись перед низким выходным люком. – Старая арабская поговорка. «Лучше взять верблюда в шатер, чтобы он ссал наружу, чем позволить ему ссать снаружи в шатер». Такер расхохотался, достал из кармана рубашки сигару и сунул в рот. – Лучше из шатра наружу, я это запомню. Бедекер пригнулся, уцепился за металлическую перекладину над люком и вылез следом в сияющую, словно операционная, «белую комнату».* * *
Рано утром в день старта он сидел в кофейне своего мотеля в Коко-Бич, любуясь океанским прибоем и перечитывая письмо, полученное от Мэгги три дня назад:17 ноября 1988 г. Дорогой Ричард! Очень порадовал твой ответ, спасибо. Пишешь ты редко, но каждое письмо так много для меня значит. Я знаю тебя достаточно хорошо и понимаю, как много ты думаешь, переживаешь… но держишь это внутри. Найдется ли когда-нибудь человек, перед которым ты раскроешься? Очень надеюсь, что да. Судя по твоим словам, Арканзас – просто райский уголок. Когда читала про зарю на озере, туман и мычание коров в зарослях на берегу, всей душой мечтала очутиться там, рядом с тобой. В Бостоне сейчас сплошная грязь, пробки и серость. Мне очень нравится преподавать, а доктор Терстон говорит, что в апреле надо браться за диссертацию. Ладно, поживем – увидим. Книга получается потрясающая – по крайней мере, отрывки, что ты прислал, выше всяких похвал. Уверена, Дейв оценил бы их по достоинству. Пилоты предстают живыми людьми, а исторические оценки даже чайника вроде меня заставляют иначе взглянуть на нашу эпоху и понять, что все мы стоим перед выбором между пугающим будущим новых открытий и проторенной тропой междоусобиц, застоя и упадка. Как у социолога, у меня осталось немало вопросов касательно персонажей. Например, почему почти все они родом со Среднего Запада и в основной массе либо единственные, либо старшие дети в семье? Относится ли это к нынешним космическим экипажам – к женщинам, в частности, – или исключительно к твоему поколению? Каковы долгосрочные психологические последствия при такой профессии, где доля смертности – один к шести? Не приводит ли это к сдержанности впроявлении чувств? Говоришь, Скотт идет на поправку? Очень рада это слышать. Передавай ему мои наилучшие пожелания. Похоже, у тебя наконец открылись глаза на многогранность и сложность натуры сына. А ведь я так и говорила! Из-за своего упрямства Скотт потерял целый год в этом проклятом ашраме, но его упрямство происходит из желания понять и познать все без остатка, ничего не упуская. Не знаешь, в кого он такой? Кстати, об упрямстве. Никак не стану комментировать твою арифметику, можешь не надеяться. Скажу только, что когда тебе стукнет сто восемьдесят, мне будет всего сто пятьдесят четыре. Проблема, согласна. Ты спрашиваешь про мои философские и религиозные воззрения по ряду вопросов. Как понимаю, это к теме о местах силы, которую мы обсуждали в Индии полтора года назад? Ричард, тебе прекрасно известна моя страсть к магии и секретам тайных уголков души. Да, я искренне верю в места силы, но ты и сам это знаешь. Что касается моей системы убеждений… Сначала я расписала ее страниц на двадцать, но после разорвала и выбросила. Если коротко, то я верю в богатство и тайну вселенной и не верю в сверхъестественное. Вот и все убеждения. Хотя нет, еще я искренне убеждена, что нам с тобой пора принять какое-то решение. Не стану утомлять тебя всякими клише и жалобами, что вот уже семь месяцев морочу голову бедняге Брюсу, не отвечая ни да, ни нет, но так или иначе, Ричард, мы должны наконец решить, есть ли у нас будущее. До недавних пор мне казалось, что есть. За те короткие часы и дни, что мы провели вместе за полтора года, вселенная стала для меня еще богаче и таинственнее, и это потому, что я была с тобой. Конечно, сейчас у нас у каждого свои дела и заботы. Только что бы мы ни решили, знай – с тобой и после тебя моя жизнь стала полнее и насыщеннее. Пожалуй, пойду прогуляюсь, посмотрю лодки на Чарльз-ривер.
К столику подсел сын. – Раненько ты сегодня. Когда поедем смотреть старт? – В восемь тридцать, – ответил Бедекер, убирая письмо. Скотт заказал кофе, апельсиновый сок, яичницу и тосты, не забыв и про овсянку. Когда официантка удалилась, он взглянул на отцовскую чашечку кофе. – Это все, что ты взял на завтрак? – Что-то я сегодня без аппетита, – пожаловался Бедекер. – Вчера тоже ничего не ел… в среду ужинать не стал, – припомнил Скотт, – а вчера к пирогам даже не притронулся. Что с тобой, пап? Ты не заболел? – Нет, я прекрасно себя чувствую, – возразил Бедекер, – честно. Просто не хочется пока. Зато пообедаю от души. Скотт нахмурился. – Знаешь, ты поосторожнее. Я в Индии когда постился, после нескольких дней вообще переставал вспоминать о еде. – Нет, все нормально, – повторил Бедекер. – Много лет так хорошо себя не чувствовал. – Да и выглядишь ты классно, – признал с улыбкой Скотт. – Фунтов двадцать, наверное, сбросил с тех пор, как мы начали бегать в январе. Такер Уилсон даже спросил меня вчера, какие ты пьешь витамины. Черт, и в самом деле, здорово выглядишь! – Спасибо. – Бедекер отхлебнул кофе. – Я тут перечитал письмо от Мэгги Браун и вспомнил, что она передавала тебе привет. Скотт кивнул, глядя на океан. Небо на востоке лучилось синевой, но восходящее солнце уже заволакивала легкая дымка. – Мы так и не поговорили о Мэгги. – Не поговорили, – кивнул Бедекер. – Ну так давай. Официантка принесла завтрак и наполнила чашки кофе. Скотт принялся за еду. – Прежде всего, мне кажется, у тебя сложилось неправильное впечатление о наших отношениях. Мы с Мэгги дружили несколько месяцев до Индии, но не слишком близко. Я даже удивился, когда она приехала летом. То есть я хочу сказать… хотя мне это пару раз и приходило в голову, ничего такого между нами не было. – Послушай, сынок… – начал Бедекер. – Нет, погоди… – Подождать и в самом деле пришлось, потому что яичница тут же потребовала полной сосредоточенности. В этом Скотт не изменился со времен первых завтраков на высоком младенческом стуле. – Я хочу объяснить, – наконец продолжил он. – Понимаю, что звучит это странно, но Мэгги с самой первой встречи в универе напоминала мне тебя. – Меня? – опешил Бедекер. – Чем же, интересно? – Ну, не то чтобы буквально… Просто было в ней нечто такое, что я все время вспоминал о тебе. Может быть, то, как она внимательно слушала… и как запоминала всякие мелочи, а потом долго обдумывала… а еще ей никогда не хватало объяснений, которые устраивали всех остальных. Короче, когда в Индии представилась возможность, я постарался устроить так, чтобы вы с ней узнали друг друга получше. Бедекер вытаращил глаза. – Так ты поэтому послал ее встречать меня в Нью-Дели? И заставил меня неделю ждать тебя в Пуне? Сын покончил с яичницей, утер рот льняной салфеткой и молча пожал плечами. – Ну ты даешь! – насупился Бедекер. Скотт ухмыльнулся и продолжал веселиться, пока отец не улыбнулся в ответ.Мэгги.
* * *
Запуск шаттла отменили за три минуты до старта. Бедекер и Скотт сидели на трибуне для почетных гостей возле монтажно-инженерного комплекса и наблюдали, как на смену перистым облакам наползали грозовые тучи. Старт был назначен на 9.54, но к половине десятого небо уже было плотно затянуто, а порывы ветра достигали двадцати пяти миль в час, приближаясь к предельному значению. В 9.49 на севере заполыхали молнии, упали первые капли дождя. Бедекер припомнил, как сидел здесь же, когда молния ударила во взлетающий «Аполлон-12», вырубив приборы в командном модуле. Командир экипажа Пит Конрад откомментировал это в прямом эфире весьма выразительно. В 9.51 пресс-служба НАСА объявила по трансляции, что полет отложен. Из-за очень узкого «окна», меньше часа, обратный отсчет будет повторен завтра между двумя и тремя часами дня. В 10.03 громкоговоритель объявил, что астронавты покинули кабину шаттла, но это уже слышали лишь пустые трибуны: под хлещущим ливнем зрители разбежались кто куда. Бедекер позволил сыну сесть за руль прокатной «Шевроле-Беретты», и сейчас они едва ползли по дамбе в автомобильной пробке. – Скотт, какие у тебя планы после завтрашнего запуска? – Как и собирался, съезжу в Дайтону навестить Терри и Саманту, а на следующей неделе полечу в Бостон к маме, когда они вернутся из Европы. А что? – Да так, просто интересуюсь. – Бедекер помолчал, глядя, как стеклоочистители безуспешно пытаются справиться с потоками воды. Впереди выстроилась длинная очередь машин, в сплошной завесе дождя мигали красные тормозные огни. – На самом деле я сам хотел сегодня махнуть в Бостон: если останусь до завтра, не успею в Остин на встречу в понедельник. – В Бостон? – удивился Скотт. – Ах, да… может, и правильно. – Может, и ты тогда в Дайтону сегодня? Скотт задумчиво побарабанил пальцами по рулевому колесу. – Нет, – решил он. – Я уже сказал Терри, что приеду завтра вечером или в воскресенье. Лучше останусь и посмотрю старт. – Не скучно будет? – Бедекер взглянул на сына. За последние месяцы, проведенные вместе, он научился лучше понимать его. – Нет, что ты, – усмехнулся Скотт. Улыбка на его лице была искренней. – Давай заедем в мотель, соберем твои вещи. Когда они повернули на юг по шоссе номер один, дождь почти перестал. – Надеюсь, такой День благодарения не очень тебя разочаровал? – спросил Бедекер. Праздничный обед они съели вдвоем, у себя в мотеле, перед вечеринкой у астронавтов. – Ты смеешься? Все было классно. – Скотт, а можно тебя спросить о твоих дальнейших планах? В смысле, на будущее. Сын помолчал, задумчиво провел ладонью по мокрому ежику волос. – Какое-то время проведу с мамой, наверное. Потом закончу последний семестр… – Точно закончишь? – Ну неужели брошу за пять месяцев до диплома? – А потом? – После диплома? Знаешь, пап, я много об этом думал. На прошлой неделе пришло письмо от Норма, он пишет, что взял бы меня в свою строительную бригаду до середины августа. Если поступать в аспирантуру в Чикаго, лишние деньги не помешают. – Собираешься поступать? – Ну, если программа по философии там так хороша, как уверяет Кент, то стоило бы попытаться… Даже если грант на обучение только частичный, лучшего варианта просто нет. Хотя… знаешь, я еще хотел бы год-другой послужить в армии. Заяви Скотт, что собирается лететь в Швецию на операцию по перемене пола, Бедекер и то был бы меньше удивлен. Он молча воззрился на сына, ожидая продолжения. – Так, просто подумалось, – потупился тот, но в голосе его звучали серьезные нотки. – Надеюсь, ты дашь мне время… хотя бы несколько часов… или недель, чтобы попытаться тебя отговорить? Хорошо? – Обещаю, – кивнул Скотт. – Мы ведь еще собираемся съездить на Рождество в нашу хибару, забыл? – Очень надеюсь. Они свернули на восток по дороге номер 520 через дамбу и снова на юг вдоль бесконечного ряда мотелей Коко-Бич. Интересно, сколько раз он гнал машину через эти места, спеша вернуться с базы ВВС Патрик обратно на мыс Канаверал в Космический центр? – В какие войска? – поинтересовался Бедекер. – М-м… – Сын вглядывался в пелену дождя, выискивая их мотель. С неба снова лило вовсю. – Где хочешь служить, говорю? Скотт въехал на стоянку и припарковался возле коттеджа. Дождь барабанил по крыше. – Ты еще спрашиваешь? Наша семья гордится тремя поколениями Бедекеров, прошедших через Корпус морской пехоты США! – Открыв дверцу, он выскочил из машины, бросив на ходу: – Я думал о Береговой охране, – и побежал к двери.* * *
Бостон встретил его снегопадом. В сгущающихся сумерках Бедекер вышел из здания аэропорта, взял такси и назвал адрес Мэгги. Обгоревший на солнце после трех дней во Флориде, он невольно поежился при взгляде на бурые ледяные воды Чарльз-ривер. Вдоль темных берегов зажигались фонари. Колеса такси разбрызгивали грязное месиво, в которое превращался снег. Вопреки ожиданиям, квартира Мэгги оказалась довольно далеко от университета, почти у самого стадиона «Фэнуэй-Парк». На тихой улочке выстроились дома с высокими крылечками в обрамлении голых деревьев. Похоже, квартал пережил упадок в шестидесятые, в семидесятые его спас от запустения приток молодых специалистов, а вскоре здесь начнут оседать зажиточные пары средних лет. Расплатившись с таксистом, Бедекер взбежал на крыльцо старого кирпичного особняка. Все попытки дозвониться до Мэгги из Флориды и Логана оканчивались неудачей. Мысленно он не раз представлял, что приедет как раз в момент, когда Мэгги будет возвращаться из бакалейной лавки, но при взгляде на темные окна засомневался. Вряд ли молодая девушка станет сидеть дома вечером пятницы, да еще после Дня благодарения. В теплом коридоре второго этажа горели тусклые лампочки. Сверившись с номером квартиры на конверте, Бедекер набрался духу и постучал. Тишина. Он постучал снова. Не дождавшись ответа, подошел к высокому окну в конце коридора и выглянул на улицу: в свете неоновой вывески закрытого магазина густо валил снег. – Эй, мистер, это вы стучали? – в проеме второй от Мэгги двери стояли девушка лет двадцати и парень в роговых очках. – Да, я ищу Мэгги Браун. – Ее нет, – ответила девушка, потом повернулась и крикнула в глубь квартиры: – Тара, Мэгги же укатила на Бермуды с этим… как его, Брюсом? – В ответ что-то пробубнили. – Да, уехала, – подтвердила она. – Не подскажете, когда вернется? – с надеждой спросил Бедекер. Соседка пожала плечами. – Праздники только начались. Думаю, через неделю, не раньше. – Спасибо, – коротко поблагодарил Бедекер и стал спускаться по лестнице. В вестибюле посторонился, пропуская русоволосую красотку, сошел с крыльца и уставился на снег. Где тут найти телефон или такси? Ветер задувал под плащ, холодя изнутри. Поразмыслив, Бедекер свернул направо и зашагал к Массачусетс-авеню. Через полтора квартала ноги промокли насквозь. Вдруг за спиной раздалось: – Мистер, постойте! Погодите! Его догоняла та самая красотка из вестибюля. – Вы, случайно, не Ричард? – на ходу спросила она. – Ричард Бедекер, все верно. – Уф, слава богу, что я решила поболтать с Бекки, иначе проворонила бы! – поравнявшись с ним, девушка остановилась перевести дух. – А я Шейла Гольдман, мы с вами раз говорили по телефону. – Неужели? Шейла кивнула, смахнув с ресниц снежинку. – Да, в сентябре, в самом начале учебного года. Мэгги в тот вечер была у родителей. – Точно, – пробормотал Бедекер, припоминая короткий разговор. Он тогда даже не представился. – Бекки вам сказала, что Мэгги уехала? – Да. Про каникулы я и не подумал. – И наверняка сказала про Брюса Кларена? – допытывалась Шейла, снова стряхивая снег с ресниц. – Слушайте ее больше! Брюс околачивался тут неделями, но чтобы Мэгги с ним куда-то поехала… бред! – А вы подруга Мэгги? – спросил Бедекер. – Да, близкая. Одно время мы даже жили в одной комнате. – Шейла вытерла нос варежкой. – Только она все равно голову мне оторвет, если узнает, что вы заходили, а я… Короче, Мэгги не на Бермудах с Брюсом. Мимо на бешеной скорости пронесся автомобиль, обдав их грязью. Бедекер взял Шейлу за локоть и увел подальше от обочины. – А где Мэгги сейчас? – Он знал, что ее родители живут в часе езды отсюда, в Нью-Гэмпшире. – В Южной Дакоте, – откликнулась Шейла. – Улетела вчера в обед. Южная Дакота? Бедекер на мгновение растерялся, но потом вспомнил давний разговор в Варанаси. – Ах да, там ее бабушка с дедом. – Только бабушка, Мемо. Дед умер в январе, – пояснила Шейла. – Надо же, не знал. – Вот, тут адрес и все такое. – Шейла протянула клочок желтой бумаги, исписанный почерком Мэгги. – Кстати, если хотите, можете вызвать от меня такси. – Нет, спасибо, – отказался Бедекер. – Если так не поймаю, вызову из телефона-автомата. – Поддавшись порыву, он крепко сжал девичью руку в варежке. – Огромное спасибо, Шейла! Та приподнялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. – Не за что, Ричард.* * *
В Чикаго он прилетел незадолго до полуночи и шесть бессонных часов провел в «Шератон-отеле» при аэропорте. Лежа в темной комнате в окружении гостиничных звуков и запахов, он вспоминал последний разговор со Скоттом. В Мельбурнском аэропорту, неподалеку от мыса Канаверал, коротая время до рейса на Майами, Скотт вдруг спросил: – Как думаешь, что напишут в твоей эпитафии? Бедекер опустил газету. – Оптимистичный вопрос перед полетом. Хмыкнув, Скотт почесал щеку. В отрастающей бороде ярко блеснула рыжинка. – На самом деле я думал о своей. Знаю, что напишут: «Пришел, увидел и просрал». К сожалению, как-то так. Бедекер покачал головой. – Пессимистичные эпитафии уместны только после двадцати пяти. – Он снова взялся за газету и снова ее отложил. – Хотя… запала мне в душу одна цитата. Боюсь, ее и высекут на моей могиле. – Что за цитата? Дождь за окном перестал. Над пальмами засияло чистое небо. – Читал «Музыкальную школу» Апдайка? – Нет. – Мой любимый рассказ, – помедлив, продолжал Бедекер. – Там главный герой говорит «Я не музыкален и не религиозен. В каждый момент жизни я должен соображать, как поставить пальцы, и нажав, еще сомневаюсь, исторгну ли аккорд». Скотт с минуту молчал. По системе оповещения то и дело вызывали кого-то и предупреждали насчет религиозных сектантов. – И чем закончилось? – поинтересовался Скотт. – Рассказ? Ну, герой вспоминает, как в детстве ходил в церковь, где учили, что прикасаться зубами к облатке – это святотатство… – Серьезно? – ухмыльнулся Скотт. – Нас в Святом Малахии учили наоборот. – Правильно, – кивнул Бедекер. – Нынешние облатки во рту не тают, их нужно жевать. В общем, в самом конце герой рассуждает о собственной жизни и говорит «Мир – это Святые Дары, чтобы вкусить, их надо разжевать». Скотт глянул на него в упор. – Пап, ты читал Веды? – Нет. – А я читал, и много, еще в Индии. Они имели мало отношения к взглядам Учителя, но в целом посильнее будут. Хочешь, скажу мою любимую строчку из «Тайттирия-упанишада»? «Я есть мир, я вкушаю мир. Кто знает, тот понимает». По громкоговорителю объявили нужный рейс. Бедекер встал, подхватил летную сумку и протянул руку сыну. – Удачи, Скотт. Свидимся на Рождество, а может, и раньше. – И тебе удачи, пап. – Не обращая внимания на протянутую руку, Скотт крепко стиснул его в объятиях. Бедекер обхватил мускулистую спину сына и закрыл глаза.* * *
В семь сорок пять утра он вылетел из аэропорта О’Хара рейсом на Сиэтл, с пересадкой в Рапид-Сити, Южная Дакота. От Стерджиса недалеко. По-другому к ранчо бабушки Мэгги было не подобраться, разве что прыгать с парашютом. Изнемогая от усталости, Бедекер все же отметил, что на рейс поставили новую модель «Боинг-767», на таких ему летать еще не приходилось. Где-то над югом Миннесоты подали завтрак: подогретый омлет с колбасой. Невзирая на отсутствие аппетита, Бедекер решил пересилить себя и поесть – вот уже три дня у него во рту не было ни крошки, – но не смог. Прихлебывая из чашки, смотрел на мелькающую сквозь толщу облаков землю, когда его окликнула стюардесса: – Мистер Бедекер! – Да? – Он вдруг испугался. Откуда узнали его имя? Что-то со Скоттом? – Капитан Холлистер приглашает вас в кабину пилотов. – С удовольствием! – Чувствуя, как отлегло от сердца, он поднялся и последовал за стюардессой через салон первого класса, лихорадочно пытаясь припомнить знакомого пилота по фамилии Холлистер, но безуспешно. Впрочем, память могла и подвести. – Сюда, сэр. – Стюардесса распахнула дверь, пропуская его вперед. – Спасибо, – поблагодарил Бедекер и шагнул в кабину. Из кресла ему приветливо улыбался пилот – цветущий мужчина лет за тридцать с густой копной волос, приятным лицом и мальчишеской ухмылкой, как у астронавта Уолли Ширра. – Добро пожаловать, мистер Бедекер. Меня зовут Чарли Холлистер, а это Дейл Кнутсен. Бедекер кивком поприветствовал новых знакомых. – Надеюсь, мы не оторвали вас от завтрака? – продолжал Холлистер. – Заметил ваше имя в списке пассажиров, ну и подумал, что вам наверняка будет интересно сравнить эту малышку с «Аполлоном». – Однако, – поразился Бедекер. – Ловко вы меня вычислили! Холлистер снова ухмыльнулся. Ни он, ни второй пилот с виду никак не контролировали лайнер. – Прошу. – Кнутсен отстегнул ремни и встал. – Садитесь сюда, я пока сбегаю на кухню. Бедекер с благодарностью устроился в правом кресле. Приборная панель отличалась от шаттловской разве что штурвалом вместо ручки управления. Видеотерминалы транслировали показания приборов, данные и цветные карты на три передних экрана. Посередине панели, аккурат между пилотами, была вмонтирована компьютерная клавиатура. Взглянув на синее небо, линию горизонта и облака, Бедекер повернулся к первому пилоту: – Поражаюсь, как вы меня приметили. Мы раньше не встречались? Тот помотал головой. – Нет, сэр. Я выучил наизусть имена участников различных полетов. Ну и по ящику вас показывали. Если честно, всю жизнь мечтал стать астронавтом, но не срослось… – Отставить «сэр», – шутливо приказал Бедекер, протягивая руку. – А то чувствую себя дряхлым стариком. Просто Ричард. – Отлично! Мужчины обменялись рукопожатиями. Бедекер покосился на экраны и плавающий штурвал. – Похоже, малышка прекрасно обходится без посторонней помощи. Хоть что-то делать здесь нужно? – Не особо, – засмеялся Холлистер. – Скажи, она – прелесть? Последнее слово техники! Запрограммируешь в О’Хара и балдеешь до самого Сиэтла. Единственно, шасси выпускать не умеет. – Неужели полностью на автопилоте? – нахмурился Бедекер. Холлистер вздохнул. – Мы настаиваем на самостоятельном управлении, профсоюз нас поддерживает, но в «Юнайтед эйрлайнс» артачатся, мол, «Боинги» закупались специально, чтобы рулил компьютер, экономя им топливо. Человеческий фактор увеличивает расход. Тут не поспоришь. – Здо́рово, наверное, на такой летать, – заметил Бедекер. – Машина, конечно, замечательная. Во всех смыслах. – Холлистер нажал кнопку, и картинка на экранах сменилась. – Безопасная, как крыша родного дома. Но насчет здо́рово… не сказал бы. – Он продемонстрировал автоматическую бортовую систему управления, системы контроля двигателей, оповещения экипажа и «слепой» посадки, компьютерные радары, сообщающие текущее положение судна по отношению к всенаправленным азимутальным маякам и точкам маршрута. Та же карта передавала местонахождение погодных фронтов, скорость ветра и направление полета. – Если вежливо попросить, расскажет, с кем спит моя жена, – заключил Холлистер. – Ну как в сравнении с вашим лунным модулем? – Впечатляет, – согласился Бедекер, умолчав, что работал в фирме по производству военного авиационного оборудования, на добрую сотню световых лет опережающего нынешнюю систему «Боинга». – К слову, ориентировались мы на датчики и стрелки с большой погрешностью, а навигационный компьютер модуля вмещал максимум тридцать девять тысяч слов… – С ума сойти! – ахнул Холлистер. – Вот именно, – кивнул Бедекер. – Ваша электронная система управления полетом неизмеримо круче нашей старой. А еще у нас был лимит: возникни неполадка, убейся, но уложись в тысячу слов. – При таком раскладе странно, что вообще долетели. – Холлистер включил ручное управление, высоко зафиксировал рычаг и взялся за штурвал. – Порулить не хотите? – А «Юнайтед» с вас шкуру не спустит? – засомневался Бедекер. – Спустит, к гадалке не ходи, но только если пронюхают, а это через черный ящик, не иначе. Боюсь, нам тогда уже будет все равно. Ну что, хотите? – А то! – откликнулся Бедекер. – Тогда прошу. Бедекер радостно ухватился за штурвал, думая о доброй сотне пассажиров, безмятежно попивающих кофеек в салоне. Облака чуть рассеялись, обнажив бурую линию горизонта. – А правда, что Дейв Малдорф хотел назвать модуль «Бигль»? – спросил вдруг Холлистер. – Ага, и почти убедил начальство. Мол, это историческое имя – Дарвин, путешествие на «Бигле» и все такое. Просто, когда астронавты дорвались до имен, появились все эти «Гамдропы», «Спайдеры» и «Снупи». Но после Армстронга с его «Орлом» названия стали посерьезнее… «Эндевор», «Орион», «Интрепид», «Одиссей». Короче, в последнюю минуту все переиграли, и Дейву досталось «Дискавери». – А что плохого в «Бигле»? – удивился Холлистер. – Да ничего, просто все хорошо знали Дейва. Он наверняка заготовил какую-нибудь издевательскую фразу на посадку, подбивал Тома Гэвина назвать командный модуль «Лэсси», а луноход именовал «Щенком». Нет, Чарли, отказали ему, и слава богу. Холлистер расхохотался. – Кстати, видел, как вы с ним бросали фрисби. Вот здорово, наверное, было! Второй пилот вернулся с тремя пластиковыми стаканчиками кофе. Бедекер уступил штурвал капитану и поднялся, освобождая место Кнутсена. Потом постоял, опираясь на спинку, наблюдая за движением облаков. – Да, – ответил он наконец, поднимая стаканчик в молчаливом тосте и отпивая крепкий черный кофе, – было здорово.* * *
Аэропорт Рапид-Сити выглядел одиноким обломком цивилизации посреди бесконечных пастбищ, пересохших русел и ранчо. Посадочная полоса сиротливо тянулась по заросшей травой равнине, упираясь в крохотный терминал и полупустую парковку. Усаживаясь во взятую напрокат «Хонду-Сивик», Бедекер решил: хватит с него рейсовых перелетов и арендованных машин. Остаток сбережений пойдет на «Корвет» шестидесятого года, и точка! В идеале бы самолетик, «Сессна-180», например… но тут никаких денег не хватит. На сороковой минуте по девяностому шоссе возник указатель на Стерджис. Дорога пролегала вдоль каменистой гряды, отделяющей мрачный массив Блэк-Хиллс на юге от прерий и пастбищ, простирающихся до самого горизонта. Разбросанные тут и там поселки и стоянки фургонов открытыми ранами зияли на теле равнины. В половине первого пополудни Бедекер уточнил маршрут на заправке у съезда с шоссе, а через полчаса свернул под деревянную арку на дорожку к ранчо Уилеров. Выйдя из машины и потянувшись, он заметил бредущую навстречу женщину, чем-то напоминавшую миссис Элизабет Стерлинг Каллахан из Лоунрока, штат Орегон. С виду хорошо за семьдесят, незнакомка двигалась с поразительной грацией, длинные седые волосы перехвачены шарфом, куртка-ковбойка поверх темно-синих джинсов. Покрытое морщинами лицо излучало приветливость. За женщиной рысцой семенила колли. – Добрый день, сэр. Чем могу помочь? – День добрый, мэм. Вы миссис Уилер? – Рут Уилер, верно, – кивнула та, подходя ближе. Морщинки-лучики окружали ее изумрудные, точь-в-точь как у Мэгги, глаза. – Меня зовут Ричард Бедекер. – Он протянул собаке руку, и та радостно ее обнюхала. – Я ищу Мэгги. – Ричард… Господи, ну конечно! Мэгги столько о вас рассказывала. Очень приятно познакомиться. – Мне тоже, миссис Уилер. – Просто Рут. Господи, Мэгги так обрадуется. Она уехала в город по делам. Пройдите в дом, выпьем пока по чашечке кофе. Бедекер растерялся. Им вдруг овладело жгучее нетерпение, не позволявшее отдохнуть, пока долгое путешествие не подойдет к концу. – Спасибо, Рут, но я лучше съезжу ее поищу. Только подскажите, куда. – Попробуйте универмаг «Сейфвэй» в торговом центре. Если нет, то хозяйственный магазин на Мейн-стрит. У Мэгги синий «Форд»-пикап с огромным красным генератором в кузове, на заднем бампере еще моя наклейка «Майка Дукакиса в президенты». Бедекер ухмыльнулся. – Спасибо, мэм. Если вдруг она вернется раньше, передайте, я скоро подъеду. Миссис Уилер наклонилась к открытому окну «Хонды». – Не найдете – загляните на Медвежью гору. Это старый вулканический конус сразу за городом. Мэгги любит там бывать. Свернете на север и дальше по указателям. Ни у «Сейфвэя», ни на Мейн-стрит синего пикапа не наблюдалось. Бедекер колесил по улицам городка в надежде встретить Мэгги, выходящую из какой-нибудь двери. По радио передавали о секретном запуске шаттла, который должен был состояться через два часа. Диктор ошибочно назвал мыс Канаверал мысом Кеннеди и сообщил, что на стартовой площадке сильная облачность, но запуску это не помешает. Развернувшись на парковке мясокомбината, Бедекер направился по зеленым указателям к парку «Медвежья гора». Припарковавшись на совершенно пустом пятачке у закрытого справочного киоска, вылез из машины и стал рассматривать гору. Размеры, конечно, впечатляли. Даже по самым скромным подсчетам, выветренный конус возвышался над прерией на добрые восемьсот футов, а то и больше. Стоя отдельно от южной гряды, гора почти отвесно поднималась над зелеными лугами. Бедекер напряг воображение, силясь представить в ней медведя – зверь получался припавшим к земле, с поднятым задом. Повинуясь инстинкту, Бедекер прихватил из салона старую летную куртку и зашагал по тропе вверх. Хотя в тени еще лежал снег, день выдался теплым, пахло оттаявшей землей. На первом подъеме серпантина слегка закружилась голова, но дышалось легко. От нечего делать Бедекер гадал, почему вот уже три дня не испытывает голода, но, вопреки недосыпу и недоеданию, пребывает в отличной форме. Вдоль восходящей гряды тропа выравнивалась. Бедекер секунду помедлил, любуясь панорамой на севере и востоке поверх карликовых горных сосен. Спустя треть пути показались заросли кустарника. На ветках под дуновениями ветерка трепыхались привязанные лоскутки ткани всех цветов и оттенков. Нагнувшись, Бедекер коснулся одного из них. – Салют! – раздалось за спиной. Бедекер круто повернулся. Под нависшим утесом, футах в пятнадцати от тропы, сидел человек. Место было словно создано для привала, надежно укрытое от северного и западного ветра скалами и деревьями. Отсюда открывался дивный вид на окрестности. – Салют! – отозвался Бедекер, подходя ближе. – Не знал, что тут кто-то есть. Незнакомец оказался стариком-индейцем. На медно-красном лице выделялись темные, словно лужицы дегтя, глаза, глубокие морщины лучами расходились от приплюснутого носа, длинные седеющие волосы заплетены в косы. На старике была голубая свободная рубаха, голову перехватывала алая бандана. Руку украшало единственное кольцо из темно-синего камня. В картину не вписывались лишь потрепанные парусиновые кроссовки зеленого цвета. – Простите, если помешал, – Бедекер покосился на брезентовую палатку чуть поодаль приземистой постройки из веток и валунов. «Парна́я», – каким-то чудом сообразил он. – Садись, – велел индеец. Сам он примостился на камне, как-то по-женски закинув ногу на ногу. – Я – Роберт Сладкое Снадобье. – Хриплый голос звучал насмешливо, будто старик радовался неведомой шутке. – Ричард Бедекер. Старик кивнул, явно сочтя информацию исчерпывающей. – Отличный день, чтобы подняться на гору, Бедекер. – Да, денек отличный, – согласился тот. – Правда, на самый верх я лезть не планировал. Старик пожал плечами. – Оно и не всегда обязательно. Я вот сколько лет прихожу сюда, но на вершине так и не побывал. – Он принялся строгать перочинным ножом прутик. На земле вперемешку лежали ветки, корешки, камни, покрытые яркой краской, и даже кости какого-то мелкого зверька. На севере раскинулась прерия. С высоты виднелись только кроны деревьев, насаженных вокруг ранчо. Бедекер вдруг ощутил безграничную свободу, сродни той, что испытывали индейцы Великих Равнин полтора века назад, когда вольготно кочевали по этим бескрайним землям. – Вы из племени сиу? – отбросив вежливость, с любопытством спросил Бедекер. Сладкое Снадобье покачал головой. – Нет, шайенн. – Хм, всегда думал, что в этой части Южной Дакоты обитают сиу. – Все верно, – кивнул старик. – Они изгнали нас отсюда много лет назад. Эта гора у них считается священной. У нас тоже, просто ехать теперь дольше. – Живете тут поблизости? – осведомился Бедекер. Старик срезал кусочек молодого кактуса, очистил от кожуры и положил на язык. – Нет, езжу издалека. Моя работа – учить нынешнее поколение, чтобы оно потом учило следующее. Но мой ученик немного запоздал. – Да? – Бедекер глянул на парковку, где одиноко стояла его «Хонда». – И давно вы ждете? – Пятую неделю. У tsistsistas нет чувства времени. – У кого? – не понял Бедекер. – У народа, – весело прохрипел старик. – Ясно. – Ты тоже прибыл издалека, – сообщил вдруг индеец. Поразмыслив, Бедекер кивнул. – Мои предки, включая Лекаря, тоже проделали долгий путь. Потом постились, очищались от скверны и взбирались на Священную гору, дабы узреть видения. Иногда Великий дух Майян говорил с ними, но чаще нет. – Что за видения? – Слыхал про Лекаря, пещеру и Дар четырех стрел? – Нет. – Ну и не надо тогда. – Говорите, сиу тоже считали гору священной? – сменил тему Бедекер. Роберт Сладкое Снадобье снова пожал плечами. – Арапахо гора подарила снадобье для сладкого дыма в ритуальных кострах, апачам – целебное снадобье для лошадей, киова – священную почку медведя. А сиу говорят, что получили трубку, но я им не верю. Врут от зависти. Сиу постоянно врут. Бедекер улыбнулся. Старик закончил стругать прутик и поднял взгляд. – Сиу клянутся, что видели на горе гигантскую птицу, настоящего Громовержца, с крыльями длиной в милю и голосом как из преисподней. Но тут много снадобья не требуется. Это все проделки вихио. Любой, кто мало-мальски силен в снадобьях, сумеет вызвать Громовержца. – И вы? – поддразнил Бедекер. В ответ старик щелкнул пальцами. В тот же миг земля задрожала, раздался чудовищный гул. Вскоре гигантская тень накрыла гору. Привстав на одно колено, Бедекер увидел «В-52Н», несущийся к северу на высоте не более пятисот футов, ниже уровня горы. Восемь двигателей оставляли в небе черный след. Бедекер опустился на место, чувствуя под собой вибрацию от реактивного лайнера. – Прости, Бедекер. – Индеец обнажил крепкие желтые зубы без одного в нижней челюсти. – Дешевый трюк вихио. Они каждый день в это время летают сюда с базы Эллсворт. Вроде по горе проверяют, правильно ли работает у них радар. – А что значит вихио? – Вихио по-нашему «жулик». – Старик отправил в рот очередной кусок кактуса. – Захоти он, может превратиться в индейца или в зверя, но ничего хорошего от него не жди. Шутки у вихио злые. Кстати, то же слово у нас значит «паук» и «бледнолицый». – Ясно. – Многие и вовсе считают его Творцом. Бедекер невольно задумался. – Когда Лекарь спустился с этой горы… – Старик помешкал, сплевывая остатки кактуса. – Так вот, спустившись, он принес Священные стрелы, научил наш народ Четырем Песням и предрек будущее – смерть быка и появление бледнолицых, а после раздал друзьям стрелы со словами: «Сие есть тело мое, на вечную память». Ну, Бедекер, что скажешь? – Где-то я это слышал, – заметил тот. – Правильно! – Старик бросил шинковать корешок и нахмурился. – Иногда мне кажется, что дед и прадед просто позаимствовали чужую байку. Да не важно. Вот, съешь, – он протянул очищенный кусок корня. Бедекер повертел угощение в руках. – Это что? – Кусок корня, – спокойно объяснил старик. Бедекер послушно сунул горьковатый корень в рот. – Только не жуй и не соси, – предупредил индеец, пристроив солидный ломоть за щеку, словно кусок жевательного табака. – Глотать тоже нельзя, – добавил старик. Бедекер с минуту молчал, подставив лицо и руки под жаркие лучи солнца. – Для чего это? – не выдержал он. Старик в очередной раз пожал плечами. – Утоляет жажду. Мои запасы воды иссякли, а путь до колонки неблизкий. – Можно задать вопрос? Индеец отрезал еще корня и кивнул. – У меня есть друг, – начал Бедекер, – которого я искренне люблю и считаю мудрым человеком. Так вот, мой друг верит в богатство и тайну вселенной, но не верит в сверхъестественное. Выждав, Сладкое Снадобье спросил: – И в чем вопрос? Бедекер почесал обгоревший лоб и вдруг вспомнил о Скотте. – Просто хочу знать ваше мнение. Индеец сунул за вторую щеку два куска корня и медленно, отчетливо проговорил: – Твой друг – мудрый человек. Бедекер прищурился. То ли от голода, то ли от недосыпа ему мерещилось, будто воздух между ним и старым шайенном светится и дрожит, точно знойное марево над автострадой. – Вы тоже не верите в сверхъестественное? Роберт Сладкое Снадобье посмотрел на восток: на краю равнины солнце ярко отражалось в окне или лобовом стекле автомобиля. – Ты ученее меня, Бедекер. Скажи, если природа есть вселенная, сколько мы знаем о ней? Один процент? – Даже меньше. – Процент от процента? – Примерно, – откликнулся Бедекер и сразу усомнился в своих словах. Во вселенной не все так бесконечно сложно. Одна десятитысячная бесконечного множества все так же составляет бесконечное множество. Но что-то глубоко внутри подсказывало: даже ограничившись фундаментальными законами физики, человечество не разглядело и одной десятитысячной всех перспектив и возможностей. – Хотя нет, еще меньше, – решил в итоге Бедекер. Сладкое Снадобье убрал нож и поднял руки, растопырив пальцы наподобие лепестков. – Твой друг – мудрый человек, – повторил он и попросил: – Бедекер, помоги встать. Тот поднялся, обхватил старика за плечи и резко рванул на себя, предвкушая солидный вес, но Роберт Сладкое Снадобье оказался легче перышка и без всяких усилий вскочил на ноги. От неожиданности Бедекер едва не упал. Индеец держал его мертвой хваткой, до боли в запястьях. Не вцепись мужчины друг в дружку, воспарили бы над прериями Южной Дакоты, точно наполненные гелием шарики. Напоследок стиснув ему руки, старик разжал пальцы. – Удачного восхождения, Бедекер. Я, пожалуй, спущусь за водой, а заодно наведаюсь в их вонючий клозет. Терпеть не могу корячиться в кустиках, да и неприлично это. Роберт Сладкое Снадобье прихватил пластиковую бутыль в три галлона и шаркающей клоунской походкой неспешно двинулся вниз, но напоследок обернулся и крикнул: – Найдешь глубокую, очень глубокую пещеру, непременно скажи мне на обратном пути. Бедекер кивнул, провожая старика взглядом, и только потом сообразил, что забыл попрощаться.* * *
Подъем на вершину занял ровно сорок пять минут. Бедекер ни капли не устал. Пещеру он не обнаружил. С высоты открывался поистине восхитительный вид. На юге вырастали холмы Блэк-Хиллс, кое-где над поросшими лесом возвышенностями возвышались снежные шапки гор. Над головой с запада на восток тянулись кучевые облака, похожие на стада овец, которых они с Мэгги наблюдали на плато Анкомпагре. На севере простирались зелено-бурые поля, сливаясь с дымкой на горизонте. Устроившись на импровизированной скамье из двух валунов с лежащим поперек бревном, Бедекер закрыл глаза, ощущая, как солнечные лучи ласкают веки. Приятное чувство легкости в желудке разлилось по телу. Сознание на миг погрузилось в вакуум: ни планов, ни мыслей, ни желаний – ничего. Даже пышущее жаром солнце словно отдалилось, а потом и вовсе погасло. Бедекер спал и видел сон. Отец снова учит его плавать, но не на озере Мичиган, а на вершине Медвежьей горы. С небес льется странный мягкий свет насыщенного оттенка, точь-в-точь как молния в знойную летнюю ночь, осветившая кинозрителей в парке Глен-Оук. Тогда время будто застыло в немой вспышке стробоскопического света. Озера на Медвежьей горе нет, но сам воздух обступает и колышется, как вода. Отец поддерживает его одной рукой под грудь, второй – под ноги и повторяет: – Главное расслабиться. Не бойся окунуть голову. Просто задержи дыхание и вперед. Если не получится, я рядом. Бедекер послушно опускает голову, но прежде успевает пристально взглянуть на отца, его родное, до боли знакомое лицо с морщинками вокруг рта, темными глазами и густой черной шевелюрой, что не передалась сыну по наследству, и легкой полуулыбкой, сыну доставшейся. Смотрит на мешковатые отцовские плавки, загорелые до плеч руки, намечающееся брюшко, бледную грудь, начавшую западать с возрастом. Бедекер послушно опускает голову, но прежде, как и в первый раз, успевает уткнуться в отцовскую шею, вдохнуть запах мыла и табака, ощутить пробивающуюся щетину, и вдруг делает то, чего не сделал тогда, – крепко обнимает отца, прижимаясь щека к щеке, и чувствует ответные объятия. Потом наконец опускает голову, задерживает дыхание, вытягивает ноги, расставляет руки… и плывет. – Скажи, как просто? – улыбается отец. – Продолжай. Если что, я на подхвате. Бедекер заплывает все выше, поднимаясь над поросшей соснами горой, потоки свободно несут его вверх, а когда оборачивается, отца уже нет. Бедекер набирает побольше воздуха и уверенными взмахами рассекает воздух. Чем выше, тем потоки теплее. Не мешкая, он проплывает между плоскобрюхих облаков, поднимаясь все выше, пока гора не превращается в темную точку, неразличимую на фоне бесконечных лесов, полей, рек и скалистых хребтов. Течение становится сильнее, потоки прохладнее, но Бедекер без усилий движется в плотном воздухе. Насыщенный свет озаряет все вокруг. С юга на восток тянется плавная линия горизонта, обзор чист и светел. На стартовой площадке виднеется шаттл. Пусковые башни уже убраны, впереди синеет Атлантический океан. Люди на скамьях у высокого белого здания разом встают и воздевают руки, из сопла ракеты вырывается ослепительное пламя, она медленно поднимается ввысь, а потом резко набирает скорость, точно гигантская белая стрела, пущенная из земного лука, оставляя за собой двойной след светлого дыма. Бедекер наблюдает, как корабль постепенно исчезает за кромкой моря, а после видит в толпе зевак Скотта – ладони сжаты в кулаки, губы в унисон тысячам других шепчут молитву, чтобы оберегала белый челнок на пути к звездам. В глазах стоят слезы радости. Бедекер плывет выше, не замечая пронизывающего холода, борясь с приливами и тяжестью, грозящими свергнуть его обратно в пучину. Внезапно пловца подхватывает неведомый поток и несет ввысь. Вот уже планета кажется бело-голубым мячиком в драпировке из черного бархата – бери не хочу. Совсем близко расстилается иной, бело-серый зубчатый мир. Буквально рукой подать. Но едва Бедекер решает подплыть, понимает, что путь ему заказан. Нет, однажды было позволено, но возвращаться нельзя. Взамен ему дают напоследок проплыть над знакомыми сияющими хребтами и утопающими в тени кратерами. Бедекер различает оставленные им и другом золотистые и серебристые устройства, ныне превратившиеся в груду бесполезного металла, чье тепло и бездумную энергию поглотили раскаленные дни и зябкие ночи. Различает и нечто более важное, но не мятый флаг и пыльное оборудование, а следы, глубокие и четкие, словно сделанные секунду назад, и переливающиеся в лучах солнца истинные сокровища: маленькую фотографию и пряжку от ремня, обращенные к полумесяцу Земли. Прежде чем вернуться, усталый и продрогший, он замечает еще кое-что: на границе между светом и тьмой, где острые тени вспарывают земное сияние, ярко горят огни. Гроздья, сферы огней. Огни городов и дорог, карьеров и поселков; одни светят робко, другие горделиво озаряют лунные моря и равнины, стойко держась в ожидании рассвета. Наконец Бедекер возвращается. Какое-то время еще парит напоследок, но не сопротивляется, когда махина Земли мягко и неумолимо притягивает его к себе. Перед самой посадкой, зависнув над вершиной горы, видит у подножия синий пикап и девушку, бегом карабкающуюся по узкой тропе… И только в этот момент разум окончательно принимает гравитацию, осознает, что дело не в бездумных и равнодушных законах взаимного притяжения. Вместе с этим осознанием поток энергии разливается по телу, бьет через край и изливается наружу, объединяя не только вещи, но и людей. Бедекер парит, но уже ощущает жаркое дыхание солнца, понимает, что спит, слышит знакомый голос вдалеке. Секунда – и он проснется, встанет и откликнется на зов Мэгги, но пока остались драгоценные мгновения, нужно парить, парить на границе между небом и землей, предвкушая и стремясь познать неизведанное. Коснувшись ногами вершины, Бедекер улыбается и открывает глаза.
Дэн Симмонс
loading='lazy' border=0 style='spacing 9px;' src="/i/75/489275/i_011.jpg">
Бритва Дарвина
При прочих равных простейшее решение обычно наиболее верное.Вильгельм Оккамский, XIV в.
При прочих равных простейшее решение обычно наиболее идиотское. Дарвин Минор,[1] XXI в.
Эта книга посвящается моему брату Уэйну Симмонсу, который каждый день расследует причины несчастных случаев и все же сохранил чувство юмора, и Стивену Кингу, который отмерил лезвием «Бритвы Дарвина» человеческую глупость. Спасибо, Стив, что ты не покидаешь нас и до сих пор рассказываешь у костра страшные истории.
Автор выражает признательность Уэйну Симмонсу и Труди Симмонс за помощь в написании этой книги. Он также благодарит клуб планеристов Уорнер-Спрингс за предоставленную возможность проверить на практике подробности описанного в романе воздушного боя с помощью одного из их высококлассных планеров; «Эксидент реконстракшен джорнэл»; снайперскую школу корпуса морской пехоты США в Куантико, штат Виргиния, и лагерь «Пендлтон», штат Калифорния. Автор благодарит Стивена Прессфилда за книгу по фобологии – науке о страхе и борьбе с ним – и Джима Ленда, который написал одно из лучших снайперских руководств. Талантливому мастеру из подразделения «Акура» корпорации «Хонда мотор», который вручную собирал двигатель моей «Акуры NSX», мой поклон и «Domo arigato gozaimasu – Shuri o dekimasu ka?».[2]
Все несчастные случаи и аварии, описанные в «Бритве Дарвина», основаны на отчетах, реконструировавших реальные события, но их расследовали, конечно, разные люди. Спасибо всем следователям и экспертам по расследованию несчастных случаев – их профессионализм, опыт и поразительное чувство юмора нашли отражение в этом романе. Правдоподобием и точностью описаний эта книга обязана именно им, а все ошибки – только на совести автора.
ГЛАВА 1 А – АБЗАЦ
Телефон зазвонил в начале пятого. – Тебе нравятся несчастные случаи, Дар. Приезжай и полюбуйся на один из них. – Не нравятся мне несчастные случаи, – ответил Дар. Он не стал спрашивать, кто звонит, потому что узнал голос Пола Камерона, хотя и не сталкивался с Камероном уже больше года. Пол был сержантом полиции в Палм-Спрингc. – Ладно, – согласился Камерон, – но загадки-то ты любишь. Дар сверился с наручными часами. – Не в восемь минут пятого утра. – Этот случай того стоит. Слышно его было плохо, словно он звонил по мобильнику или радиотелефону. – Где? – На дороге у Монтесума-Вэлли, – сообщил Камерон. – Примерно милю в глубь каньона. Там, где С-22 переваливает через холмы и выходит к пустыне Анзо-Боррего. – Господи… – пробормотал Дар. – Это же у Боррего-Спрингс! Мне туда полтора часа добираться! – Ну, если поедешь на своей черной машине – доберешься быстрее, – хихикнул Камерон. Его смешок потонул в треске и помехах слабой связи. – И что там произошло такого, что я должен лететь в Боррего-Спрингс, даже не позавтракав? – спросил Дар, поднимаясь с кровати. – Крупная авария? – Не знаю, – живо отозвался офицер Камерон. – Как это не знаешь? Ты что, никого еще не послал на место происшествия? – Я звоню с места происшествия, – донесся сквозь треск нечеткий голос Пола. – И что, не можешь подсчитать, сколько машин столкнулось? Дар поймал себя на желании отыскать на прикроватной тумбочке хотя бы одну сигарету. Он бросил курить десять лет назад, сразу после смерти жены, но в трудных случаях его до сих пор тянуло к куреву. – Нам не удалось достоверно установить, какое транспортное средство или средства пострадали в результате аварии. Камерон вдруг заговорил ненормальными, казенными оборотами. Голос его стал безликим и сухим, какой бывает только у профессиональных копов при исполнении. – Что ты имеешь в виду? – переспросил Дар. Он поскреб колючий подбородок и покачал головой. Ему много раз доводилось сталкиваться с ситуациями, когда опознать марку или модель каждой из столкнувшихся в крупной аварии на скоростном шоссе машин было трудновато. Особенно ночью. – А то и имею, что мы не знаем, была это одна машина или несколько, а может, самолет или какой-нибудь гребаный НЛО, – ответил Камерон. – Дарвин, если ты не увидишь этого собственными глазами, то будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. – Что ты… – начал Дарвин и запнулся. Камерон отключился. Дар спустил ноги с кровати, глянул на темноту за высокими окнами спальни, выругался и пошел принимать душ.На то, чтобы добраться из Сан-Диего до указанного места, у него ушел час без двух минут. Всю дорогу Дар гнал свою «Акуру NSX» по извилистой дороге на дне каньона, стрелой проносясь по длинным прямым участкам. Антирадар он оставил мирно лежать в «бардачке», справедливо рассудив, что все патрульные машины наверняка сейчас сгрудились на шоссе С-22, у места происшествия. Когда он начал спускаться по пологому склону горы высотой в 1200 метров, предрассветное небо уже светлело. Дорога, под уклоном примерно в шесть градусов, вела мимо Ранчиты к Боррего-Спрингс и пустыне Анзо-Боррего. Дар размышлял о своей профессии, на поворотах переключаясь на третью передачу, на что машина отзывалась легким горловым урчанием, и вновь набирая скорость на ровных участках. Одна из трудностей работы эксперта по дорожно-транспортным происшествиям заключается в том, что почти каждая миля каждого чертова шоссе памятна для тебя чьей-то роковой глупостью. «Акура» негромко взревела на небольшом подъеме, освещенном занимающейся зарей, и понеслась по длинному, извилистому спуску к каньону, который начинался в нескольких милях впереди. Вот здесь, вспомнил Дар, бросив взгляд на старые заградительные перила на деревянных столбиках, промелькнувшие на крутом повороте. Именно здесь. Лет пять назад Дар прибыл сюда всего через тридцать пять минут после того, как школьный автобус снес это старое заграждение, пролетел метров двадцать по каменистой насыпи, перевернулся три раза и замер на боку, застыв развороченной крышей прямо в узком ручье, протекающем у подножия склона. Автобус принадлежал окружной школе «Дезерт-Спрингс» и как раз вез детей домой после горного похода с ночевкой по программе «Эко-неделя». В нем ехали двое учителей и сорок один шестиклассник. Когда Дар прибыл на место происшествия, вертолеты Службы спасения уже забирали пострадавших детей, санитары перетаскивали носилки вверх по крутому склону, а у ручья лежали по меньшей мере три маленьких тела, накрытых желтым брезентом. Когда пересчитали потерпевших, оказалось, что шестеро детей и один учитель погибли, двадцать четыре школьника получили серьезные травмы, включая ребенка, который на всю жизнь останется паралитиком, а водитель автобуса отделалась ссадинами, царапинами и переломом левой руки. В то время Дар работал на Национальное управление по безопасности движения. Лишь год спустя он ушел из НУБД и стал независимым экспертом по дорожно-транспортным происшествиям. В тот раз Дарвина вызвали из его квартиры в Палм-Спрингс. Еще долго после аварии с автобусом Дар следил, как средства массовой информации освещали подробности ужасной трагедии. Телевидение и газеты Лос-Анджелеса сразу же объявили водителя автобуса настоящей героиней. Ее показания, а также свидетельства очевидцев, особенно учителя, который сидел позади одного из погибших детей, только подтверждали эту точку зрения. Все сходились на том, что тормоза вышли из строя примерно через милю после того, как автобус начал свой долгий, опасный спуск по склону. Водитель – женщина сорока одного года, разведенная, мать двоих детей – крикнула, чтобы все схватились за что-нибудь и крепко держались. Затем был бешеный полет вниз по дороге, длившийся еще целых шесть миль. Водитель изо всех сил пыталась удержать автобус на трассе. Тормоза дымились, но не могли замедлить скорость машины. На резких поворотах детей сбрасывало с сидений. Потом последовало роковое столкновение с заграждением, скольжение по склону, и под конец автобус закувыркался по насыпи вниз, к ручью. Все согласились, что водитель ничего не могла поделать. Чудо, что она еще сумела удерживать машину на дороге так долго. Судя по статьям на передних полосах газет, общественность сочла водителя автобуса героиней, достойной самой высшей награды. Две лос-анджелесские телестанции передали репортаж со школьного собрания, где родители выживших детей возносили водителю хвалу за то, что, спасая пассажиров, она «совершила невозможное». В «Вечерних новостях» Эн-би-си показали четырехминутный ролик об этой женщине и других водителях школьных автобусов, которые «получили травмы или погибли, исполняя свой долг», а Том Брокау назвал таких, как она, «невоспетыми американскими героями». Тем временем Дар собирал информацию. Модель этого школьного автобуса, ТС-2000, была разработана компанией «Блю берд боди» в 1989 году. Окружная школа «Дезерт-Спрингс» приобрела его совершенно новым. Автобус был оборудован рулем с гидроусилителем, дизельным двигателем и четырехскоростной автоматической коробкой передач АТ-545, от «Аллисон трансмишен дивиженс» – подразделения корпорации «Дженерал моторс», занимающегося производством трансмиссий, шасси и их компонентов. Тормоза машины соответствовали Федеральному стандарту безопасности для автомобилей. Сиденье водителя было снабжено ремнем безопасности, а вот места для пассажиров – нет. Дар знал, что именно так устроены все школьные автобусы. Родители, которые ни за что на свете не позволят своим детям кататься непристегнутыми в семейных автомобилях, по утрам спокойно машут ручкой отпрыскам, отъезжающим на школьных автобусах, каждый из которых рассчитан на пятьдесят человек и имеет один-единственный ремень. Общий вес того автобуса, что полетел с обрыва, его пассажиров и багажа был примерно 8 тонн 499 килограммов. Судя по газетным и телевизионным репортажам, у водителя был абсолютно чистый талон нарушений. Анализ крови, взятый у нее в больнице сразу после аварии, не выявил ни алкоголя, ни наркотиков. Дар побеседовал с ней через два дня после несчастного случая, и ее ответ практически слово в слово совпал с показаниями, которые водитель дала полиции вечером того рокового дня. Она сказала, что примерно через милю после того, как автобус отъехал от лагеря, на пологом спуске с холма тормоза «стали странными и податливыми, как студень». Она вдавила педаль тормоза. На панели засветился огонек, отмечая низкое давление в тормозной системе. Но тут автобус начал подъем по склону следующего холма, длиной в две мили, и скорость движения упала. Автоматическая коробка передач переключилась на более низкую скорость. Предупреждающий огонек погас, затем мигнул еще несколько раз. Водитель сделала вывод, что проблема разрешилась сама собой и можно продолжать движение. Вскоре после этого, рассказывала она, машина покатилась по спуску, и вот тут «тормоза отказали полностью». Автобус начал набирать скорость. Водитель не смогла остановить его ни обычным, ни ручным тормозом. Сильно воняло горелым. Задние колеса начали дымиться. Водитель вручную переключила рычаг коробки передач на вторую скорость, но это не помогло. Она схватилась за радио, чтобы сообщить своему диспетчеру о том, что происходит, но ей пришлось бросить микрофон и вращать рулевое колесо обеими руками, чтобы удержать машину на дороге. Шесть миль ей это удавалось, время от времени она кричала школьникам и учителям «Отклонитесь влево!» или «Отклонитесь вправо!». Наконец автобус врезался в заграждение, проломил его и полетел вниз по насыпи. «Не знаю, что еще можно было сделать», – закончила водитель свой рассказ. На этом месте она разрыдалась. Ее показания подтвердили выжившие дети и учитель, с которыми побеседовал Дар. Водитель – грузная женщина с бледным, рыхлым лицом и тонкими губами – показалась Дару глупой коровой. Но личное мнение пришлось оставить в стороне. Чем старше он становился и чем дольше работал экспертом, тем глупее казались ему люди. А с каждым годом после смерти жены окружающие женщины все больше походили на коров. Его подчиненные проверили все документы водителя. Телевидение и газеты трубили о том, что у нее «чистый талон нарушений», и это оказалось правдой. Но удалось выяснить, что она проработала в этом округе всего шесть месяцев. По сведениям, поступившим из Департамента дорожного движения штата Теннесси, в котором эта женщина жила, прежде чем переехала в Калифорнию, за пять предшествующих лет она успела получить одно предупреждение и дважды нарушить правила. В Калифорнии, за два дня до приема на работу в округ, водитель получила разрешение на вождение школьных автобусов (пассажирский транспорт) и в ее правах открыли действительную для всей Калифорнии категорию Б (водитель пассажирского транспорта), ограниченную обычными автобусами, и обязательно с автоматической коробкой передач. За десять дней до аварии Калифорнийский ДДД зарегистрировал у водителя два нарушения: она не смогла правильно оформить финансовую ответственность и неправильно установила номерные знаки. Вследствие этих нарушений ее на время лишили прав. И вернули за день до катастрофы, когда в ДДД она заполнила форму SR-22 (подтверждение финансовой ответственности). Так и вышло, что во время несчастного случая ее документы оказались в полном порядке. Продолжительность курса, который она закончила в Школе вождения пассажирского транспорта, составляла 54 часа. Из них 21 час занимали практические занятия по управлению автобусом, идентичным разбившемуся. Но это не были специализированные курсы по вождению на высокогорных участках дороги. Отчет Дара о механических повреждениях автобуса составил четыре страницы текста, напечатанного через один интервал. Вкратце: кузов автобуса оторвало от ходовой части, крыша смялась внутрь салона от кресла водителя до третьего ряда пассажирских сидений. Левый бок пострадал сильнее всего, оконные рамы были выбиты, и осколки стекла разлетелись по всему левому ряду сидений. Бамперы едва отыскали. Бак оказался поврежден в нескольких местах, один из бензопроводов оборвался, но крепления бензобака уцелели, и он удержался на месте. Дар проверил всю техническую документацию, касающуюся этого автобуса, и узнал, что машина каждый месяц проходила техосмотр, а исправность тормозов проверяли каждые полторы тысячи миль пробега. Также выяснилось, что последний раз осмотр проводился всего за два дня до аварии. Старший механик обнаружил, что тормоза нуждаются в текущем ремонте, и сделал запись, чтобы их отрегулировали. Но записи, которая свидетельствовала бы о проведенном ремонте, не оказалось. Эксперты Управления по безопасности установили, что в день аварии тормоза отрегулированы не были. Дальнейшее расследование показало, что ремонтная мастерская окружной школы недавно перешла с общекалифорнийской формы технических бланков дорожной полиции на бланки, установленные местным предприятием технического обслуживания транспорта (1040-008 Рем. 5/91). Старший механик сверял обе строки бланка – «Выполнено» и «Ремонт» – и при необходимости вносил свои распоряжения в колонку «Ремонт». Но в новом бланке его письменный приказ находился на обратной стороне листа. Пять механиков, работавших под его началом (по одному на каждые восемнадцать автобусов, которые обслуживали школу и предприятия), не заметили этого распоряжения. – Ну, пожалуй, все, – заключил глава округа Дезерт-Спрингс. – Не совсем, – возразил Дар. Через три недели после аварии Дарвин провел следственный эксперимент, чтобы выяснить обстоятельства аварии. Такой же школьный автобус, модели ТС-2000 образца 1989 года, загруженный двумя тоннами мешков с песком (чтобы сымитировать вес школьников, учителей и их багажа), перегнали к самой высшей точке дороги Монтесума-Вэлли, на границу лесопарка, откуда в тот день возвращались дети после ночевки в лесу по программе «Эко-неделя». Тормоза автобуса были подрегулированы до такой же степени неисправности, как и у разбившейся машины. Дар вызвался провести испытания в качестве водителя и взял с собой коллегу-добровольца, который должен был фиксировать все детали испытания на видеопленке. На время испытания калифорнийский дорожный патруль перекрыл движение на трассе. Представители школьного совета тоже прибыли понаблюдать за следственным экспериментом, но никто не выказал желания ехать в самом автобусе. Дар провел машину сперва по небольшому спуску, затем по двухмильному участку подъема, по длинной извилистой дороге на дне каньона – в самых опасных местах угол наклона составлял 10,5 процента – и, наконец, остановился примерно в десяти метрах за поврежденным заграждением, где автобус с детьми сошел с трассы. Он развернулся и подкатил обратно к началу своего пути. – Тормоза в порядке, – сообщил Дар собравшимся представителям школьного совета и полицейским. – На контрольной панели не было сигналов о неисправностях тормозов. Ни дыма, ни запаха гари. И объяснил, что произошло в день катастрофы. Водитель автобуса выехала из национального парка, не отключив стояночный тормоз, блокирующий обе пары колес. После первого участка дороги под уклон тормозные колодки начали гореть, и все почувствовали этот запах. Затем начался двухмильный подъем. – Сильная вонь, – пояснил Дар, – началась, когда тормозные колодки и шины нагрелись до температуры приблизительно 600 градусов по Фаренгейту.[3] Учителя, школьники и сама водитель почувствовали запах гари в первые две мили своего пути из парка. Но водитель оставила это без внимания. Сигнал датчика о неисправности тормозной системы быстро погас, а затем снова замигал, когда автобус поднялся на вершину горы, перед последним длинным спуском к Боррего-Спрингс. Уцелевший учитель, который сидел на переднем сиденье, видел, как на панели мигал огонек. – Есть только одно техническое объяснение тому, что датчик начал мигать, сигнализируя, что тормозная система перегрелась за такое короткое время пути, – сказал Дар. – Это значит, что от самого лагеря автобус ехал на стояночном тормозе. Дарвин напомнил, что выжившие пассажиры рассказывали о том, что автобус «шел неровно» и «слегка покачивался» во время первых двух миль дороги. Водитель же не обратила внимания на эти тревожные сигналы и повела машину вниз по извилистой горной дороге. Дар рассказал, что когда он оказался на месте катастрофы, то заметил одну любопытную деталь – передние колеса автобуса вращались свободно, а на задних стояла блокировка. Он объяснил слушателям, что у такого вида транспорта есть автоматические тормоза, которые включаются самостоятельно, без участия водителя, когда давление в системе падает ниже тридцати фунтов на квадратный дюйм. Заблокированные задние колеса свидетельствовали о том, что давление в системе упало и в действие вступили автоматические тормоза. Специалисты управления установили, что тормозная жидкость нигде не протекла и что воздушный компрессор тоже был исправен. Но эти тормоза не могли остановить автобус, поскольку перегрелись еще раньше. На этом месте рассказа Дар прервался и вернулся за руль испытательного автобуса. Он включил стояночный тормоз и вновь вырулил на трассу. За ним потянулся длинный конвой из патрульных и частных машин. Поднимаясь вверх по склону, автобус начал слегка раскачиваться. И Дар, и его коллега, ведущий видеосъемку, отметили сильный запах гари. Патрульные машины сообщили по рации, что задние колеса автобуса дымятся. Зажегся огонек датчика неисправности тормозной системы. Дар чуть притормозил в том месте, где это сделала водитель школьного автобуса, вдавил педаль тормозов и повел машину по длинному спуску с вершины холма. Тормоза отказали через 1,3 мили горной дороги. Включились автоматические тормоза, но тут же вышли из строя из-за перегрева. Автобус начал разгоняться. Когда скорость достигла 46 миль, Дар переключился с третьей на вторую передачу, тормозя двигателем. Затем передвинул рычаг на первую передачу. Автобус накренился, но явно замедлил ход. На скорости 11 миль Дарвин выбрал подходящий песчаный склон на внутренней части следующего витка дороги и воткнул машину в песок. Удар вышел несильным. Через минуту армада полицейских машин и автомобилей представителей школьного совета окружила несчастный автобус. Дар забрался в одну из патрульных машин, и все спустились по шоссе к месту катастрофы. – Водитель выехала из лагеря, не отключив стояночный тормоз. Поскольку все колеса были заблокированы, через две мили пути тормозная система перегрелась, и давление упало ниже тридцати фунтов на квадратный дюйм, – пояснял Дарвин сгрудившейся вокруг него толпе, стоя у покореженного заграждения. – Включились автоматические тормоза, но ситуацию не спасли из-за перегрева всей системы. И все-таки была возможность замедлить движение автобуса до двадцати восьми миль в час. Как это только что сделал я. – Но вы же ехали намного быстрее, – возразил начальник школ округа. – Я вручную переключился на вторую, третью и затем четвертую передачу, – кивнул Дар. – Но ведь водитель сказала, что она, наоборот, уменьшила скорость, – заметил председатель школьного совета. – Знаю, – согласился Дар. – Только она этого не сделала. Когда мы проверяли коробку передач после аварии, оказалось, что рычаг стоит на четвертой передаче. Автоматическая коробка передач фирмы «Аллисон» рассчитана на то, чтобы сбрасывать скорость при резком ускорении. Водитель переключила скорость на четвертую передачу вручную. Толпа молчала, не сводя с него глаз. – На асфальте отчетливо виден тормозной след длиной в пятьсот пятьдесят футов, – сказал Дарвин и показал на дорогу. След был виден до сих пор. Пораженная публика проследила взглядом за движением его руки. – Автоматические тормоза, невзирая на перегрев системы, все еще пытались остановить автобус, когда он врезался в это заграждение. Все взглянули на искореженные перила. – Скорость автобуса составляла около 64 миль в час, когда он врезался в ограждение, и была примерно 48 миль в час, когда машина слетела с дороги – вот здесь. Головы зрителей послушно повернулись. – Автобус врезался в заграждение, когда рычаг стоял на четвертой передаче, – продолжал Дар, – не из-за неисправности коробки передач, а потому, что водитель переключила ее вручную. Женщина не помнила себя от страха. Не отключив стояночный тормоз, она пренебрегла сильным запахом гари и раскачиванием машины на подъеме, а потом и сигналами датчика неисправности тормозной системы, и повела автобус вниз по опасному спуску – хотя и заметила, что тормоза стали «податливыми, как студень». И наконец, на скорости двадцать восемь миль в час она по ошибке вручную перевела рычаг на четвертую передачу.
Два месяца спустя Дар прочел на последней странице местной газетки о том, что водитель автобуса была признана виновной в неосторожной езде, что стало причиной гибели семи человек. Ей дали год условно и навсегда лишили права водить пассажирский транспорт. Лос-анджелесские газеты и телевизионные станции, которые недавно провозглашали ее «невоспетой героиней», лишь вскользь упомянули об этом факте. Вероятно, стыдясь своего прежнего взрыва восторга.
Уже рассвело, и, подъезжая к месту происшествия, Дар выключил фары. Камерон немного ошибся, сообщая координаты: не миля от того участка дороги, где каньон обрывается и начинается пустыня, а чуть меньше. Впереди показались характерные приметы современной смерти на высокогорной трассе: патрульные машины у обочины, мигающие полицейские маячки, расставленные бело-красные конусы и патрульные, руководящие снующим туда-сюда стадом проезжающих машин. Картину дополняли две машины «Скорой помощи» и зависший вверху вертолет. Все на месте – а где же следы самой аварии? Не обращая внимания на взмах патрульного жезла, приказывающий проезжать мимо, Дар свернул к широкой обочине, где в ряд стояли полицейские машины. Сине-красные блики мигалок подсвечивали отвесные стены каньона. К «Акуре» подтрусил постовой. – Эй! Здесь парковаться нельзя. Это место происшествия. – Меня вызвал сержант Камерон. – Камерон? – подозрительно переспросил полицейский, все еще дуясь на Дарвина из-за того, что тот не послушался его жезла. – Зачем? Вы из отдела дорожно-транспортных происшествий? Документы есть? Дар покачал головой. – Просто сообщите сержанту Камерону, что приехал Дар Минор. Постовой насупился, но все же снял с пояса рацию, отошел на пару шагов и заговорил в микрофон. Дарвин ждал. Затем он заметил, что все копы, стоящие у обочины, пялятся куда-то вверх, на стену каньона. Дар вышел из машины и, прищурившись, принялся разглядывать красную каменную стену. Там, в нескольких сотнях футов над дорогой, на широком уступе горели прожектора, суетились люди и сновали машины. К уступу не вела ни одна дорога или даже тропинка, забраться по такой отвесной стене не представлялось возможным. Из-за края площадки показался небольшой бело-зеленый вертолет и осторожно начал снижаться к шоссе. У Дарвина все внутри сжалось, пока он следил, как вертолет спускается на расчищенную от машин площадку у обочины. Легкий разведывательный вертолет – «Лера», как их когда-то называли солдаты во Вьетнаме. Дар припомнил, что на таких машинах любили носиться офицеры. Сейчас их используют в полиции и для наблюдения за ситуацией на дорогах. Интересно, на что пересели господа офицеры? Пожалуй, на «Хьюз-55». – Дарвин! Из вертолета выпрыгнули сержант Камерон и еще один полицейский и, пригнувшись, чтобы не попасть под вращающиеся лопасти винта, направились к нему. Полу Камерону, как и Дару, было под пятьдесят. Чернокожий сержант отличался крепким сложением, широкой грудью и аккуратными, ухоженными усами. Дарвин знал, что Камерон давно бы ушел в отставку, если бы не начал свою полицейскую карьеру так поздно. Он записался в корпус морской пехоты как раз тогда, когда Дар уволился со службы. Рядом с сержантом шагал молоденький коп – белый, с пухлым детским лицом и губами, которые живо напомнили Дару Элвиса Пресли. Юноше едва перевалило за двадцать. – Доктор Дарвин Минор, а это патрульный Микки Элрой. Мы как раз говорили о тебе, Дар. Юный патрульный покосился на Дарвина. – Вы и вправду доктор? – Не медицины. Доктор физических наук. Пока патрульный Элрой переваривал ответ, Камерон спросил: – Готов подняться туда и поглядеть на нашу головоломку, Дар? – Подняться? – без особого энтузиазма переспросил Дарвин. – А, ты же не любишь летать! Камерон умел разговаривать только в двух тональностях – задиристо-веселой и напористо-грубой. Сейчас он был весел. – Но ведь у тебя есть права на управление самолетом, верно? Или планером, точно не припомню… – Терпеть не могу, когда за штурвалом сидит кто-то другой, – ответил Дар, но покорно взял сумку со съемочной аппаратурой и пошел к вертолету следом за обоими полицейскими. Камерон устроился впереди, в кресле второго пилота, так что Элрою и Дарвину пришлось втискиваться на заднее сиденье, и это им как-то удалось. «В последний раз я летал на этих гробах, – вспомнил Дар, – когда на „Си Сталлионе“[4] сматывался с Далатского реактора». Пилот убедился, что все пристегнулись, затем повернул один рычаг и потянул на себя второй. Маленький вертолет поднялся в воздух, задрожал и, накренившись, взмыл вверх. Легкая машина поднималась все выше и выше между двумя красными отвесными стенами, на мгновение зависла над уступом и мягко опустилась на землю. Лопасти вращались всего в каких-то двадцати футах от вертикальной каменной стены. На ватных, подгибающихся ногах Дар выбрался из вертолета и подумал, не попросить ли ему у Камерона разрешения просто сигануть вниз с обрыва, когда настанет пора возвращаться на шоссе. – А это правда, что рассказывал сержант о космическом челноке? – спросил патрульный Элрой, слегка скривив элвисовские губы. – Что именно? – поинтересовался Дар, пригнув голову и закрыв ладонями уши, потому что вертолет как раз собрался снова подняться в воздух. – Ну, что это вы выяснили, почему он взорвался. Я имею в виду «Челленджер». Когда это случилось, мне было двенадцать. – Нет, я тогда ишачил на НУБД и просто входил в состав комиссии по расследованию. – Ишачок, которому НАСА дало пинка под зад, – выдал Камерон, для верности сдвигая ремешок фуражки под подбородок – чтобы не сдуло ветром. – А почему вас выгнали? – озадаченно спросил Элрой. – Потому что я говорил то, что им не хотелось слышать, – ответил Дар. Он уже заметил воронку – примерно тридцать футов в диаметре и три в глубину. То, что сюда рухнуло, разбилось о внутреннюю скальную стенку и сгорело, подпалив траву и полынь, которая росла на уступе. Вокруг воронки стояли и сидели на корточках с десяток полицейских и экспертов. – А что им не хотелось слышать? – не отставал Элрой. Дар подошел к краю воронки. – Что космонавты «Челленджера» не погибли в результате взрыва, – отстраненно ответил он, думая в это время совсем о другом. – Я сказал им, что человеческое тело обладает поразительным запасом живучести. И сообщил, что семеро космонавтов оставались в живых до тех пор, пока капсула не ударилась о поверхность океана. Две минуты и сорок пять секунд свободного падения. Парень замер. – Господи Иисусе, – выдохнул он. – Неужели правда? Я и не знал про это. В смысле… – В чем дело, Пол? – оборвал его Дарвин и повернулся к Камерону. – Ты же знаешь, я больше не расследую авиакатастрофы. – Ага, – оскалился Камерон в белозубой ухмылке. Затем нагнулся, пошарил среди выгоревшей травы и протянул Дару искореженный кусок железа. – Можешь определить, что это за штука? – Дверная ручка, – ответил Дар. – От «шеви». – Ребята считают, что это был «Шевроле Эль-Камино», модель 82-го года, – промолвил Камерон, кивая на экспертов, что рылись в дымящейся яме. Дар глянул на вертикальную каменную стену справа и перевел взгляд на шоссе, змеящееся в нескольких сотнях футов под ногами. – Неплохо, – кивнул он. – Едва ли на вершине горы остался тормозной след. – Пусто. Гора как гора, – согласился сержант. – Сбоку тоже ничего нет. – Когда это произошло? – Этой ночью. Местные жители заметили дым около двух часов ночи. – А вы, ребята, оперативно работаете. – На этот раз пришлось. Те, кто прибыл сюда первыми, решили, что взорвался военный самолет. Дар кивнул и подошел к желтой ленте, которой обнесли место происшествия. – Обломков многовато. Есть что-то не от «Эль-Камино»? – Мясо и кости, – ответил Камерон, продолжая ухмыляться. – Человек был один, в этом мы уверены на все сто. Эксперты думают, что мужчина. От удара о скалу и взрыва его разнесло на куски. Ах да, еще есть остатки алюминия и каких-то сплавов, которые явно не имеют ничего общего с «Эль-Камино». – Еще одна машина? – Едва ли. Скорее обломки того, что было в машине. – Любопытно, – заметил Дар. Патрульный Элрой продолжал с подозрением коситься на Дарвина. Видимо, он опасался, что сержант и Дар каким-то образом разыгрывают его. – А вы правда тот парень, именем которого назвали премию? – Нет, – ответил Дар. – Он не тот Дарвин, – пояснил Камерон. – Он Дарвин Минор, то есть Дарвин-младший. Дар обошел воронку, стараясь держаться подальше от края обрыва, потому что не любил высоты. Кое-кто из экспертов кивнул ему и поздоровался. Он достал из сумки камеру и принялся снимать место происшествия с разных ракурсов. Под лучами восходящего солнца ярко заблестели тысячи исковерканных металлических обломков. – Что это? – удивился Элрой. – Никогда не видел такой видеокамеры. – Цифровая, – кратко ответил Дар. Он закончил со снимками и видеозаписью и посмотрел вниз, на шоссе. Отсюда хорошо просматривался вход в каньон. От него на восток был прочерчен перпендикуляр дороги до Боррего-Спрингс. Дар глянул в видоискатель камеры и сделал несколько кадров пустыни и дороги, тянущейся через песчаные холмы. – Если Дарвиновская премия названа не из-за вас, – не унимался юный постовой, – то в честь кого? – Чарлза Дарвина, – ответил Дар. – Слыхал о том, что выживают самые приспособленные? Мальчишка непонимающе заморгал. Дар вздохнул. – Ежегодная премия Дарвина присуждается тому, кто окажет величайшее благодеяние человеческой расе, избавив генофонд человечества от своей ДНК. Парень медленно кивнул, явно недопонимая, в чем соль. Камерон хохотнул. – Кто гробанется самым дурацким образом, – перевел он и поглядел на Дара. – В прошлом году, кажется, получил парень из Сакраменто, который так тряс автомат с пепси, что тот рухнул и раздавил его. – Это в позапрошлом году, – уточнил Дар. – А в прошлом – фермер из Орегона, который побоялся ремонтировать крышу сарая без страховки. Он обвязался веревкой, перебросил второй конец через конек крыши и попросил своего взрослого сына привязать его к чему-нибудь тяжелому. Тому самым тяжелым показался задний бампер их пикапа. – Ага, а потом из дома вышла жена, – засмеялся Камерон, – села за руль и поехала в город. Интересно, вдове выдали страховку за несчастный случай, связанный с автотранспортом? – Пришлось, – ответил Дар. – Он же действительно был с ним связан. Патрульный Элрой выдавил элвисовскую улыбку, но, видимо, соль прикола до него так и не дошла. – Так ты возьмешься за это дело или как? – спросил Камерон. Дар потер лоб. – Уже есть какие-то теории по этому поводу? – Следователи считают, что это повздорили наркодельцы. – Ага, – радостно поддакнул Элрой. – Ну, вы понимаете. «Эль-Камино» был в грузовом отсеке одного из этих… больших военных самолетов… – «С-130»? – уточнил Дар. – Ага, – усмехнулся Элрой. – Эти подонки перессорились и выпихнули его… И вот результат! И эффектным жестом указал на воронку, как заправский метрдотель, приглашающий за столик важных персон. – Неплохая теория, – кивнул Дар. – Вот только откуда наркодельцы взяли «Локхид С-130» «Геркулес»? И зачем затащили в него «Эль-Камино»? И почему выбросили его оттуда? И почему машина взорвалась и сгорела? – А разве машины не взрываются, когда падают с высоты на камни? – удивился Элрой, и его торжествующая улыбка увяла. – Только в кино, Микки, – сказал Камерон и повернулся к Дару. – Ну что? Начнешь сейчас, пока солнце еще не припекает? – Только при двух условиях, – кивнул Дар. Камерон вздернул свои косматые брови. – Ты доставишь меня вниз, к моей машине, и дашь свою рацию.
Дар повел «Акуру» по дороге в пустыню, остановился и огляделся. Проехал еще немного, снова огляделся и наконец вернулся к месту первой остановки. Он поставил машину у небольшой насыпи, вышел и прогулялся, собирая в карман камешки и какую-то дребедень. После чего он сделал несколько снимков деревьев Джошуа и песчаных холмов, вернулся к машине и заснял асфальтовую дорогу. Стояло раннее утро, и движение на шоссе еще не было оживленным – мимо проехало лишь несколько грузовиков и трейлеров, – поэтому у входа в каньон, где одну полосу заняли патрульные машины, не поставили знака объезда. Но, несмотря на ранний час, в пустыне температура воздуха поднялась до 80 градусов по Фаренгейту.[5] Дарвин сбросил пиджак и, включив кондиционер, забрался на заднее сиденье своей черной «Акуры», которая продолжала работать на холостом ходу. Дарвин включил свой ноутбук IBM, загрузил на диск снимки с «Хитачи» и некоторое время пристально их изучал. Затем запустил короткие видеоролики, которые он успел снять. Он достал калькулятор и углубился в расчеты, оторвавшись от них всего раз, чтобы запустить диск с картами и устройство GPS – систему глобального позиционирования, которое он всегда держал при себе, на всякий случай. Перепроверив все расстояния, углы наклона и прочее, Дар покончил с арифметикой, захлопнул ноутбук и отложил его в сторону. Затем вызвал Камерона по его же рации. Прошло всего тридцать пять минут с того момента, как Дар спустился с уступа. Еще через пять минут к машине подлетел бело-зеленый вертолетик и приземлился неподалеку. Пилот остался в кабине, а Камерон спрыгнул на песок, нахлобучил фуражку и подошел к «Акуре NSX». – А где юный Элвис? – спросил Дар. – Элрой, – поправил сержант. – Какая разница? – Оставил его там. На сегодня ему хватит впечатлений. Кроме того, он вел себя непочтительно по отношению к старшим. – Правда? – Когда ты ушел, он сказал, что ты – полный абзац. – Абзац? – переспросил Дар. – Извини, Дарвин, – пожал плечами бывший морской пехотинец. – На большее его не хватило. Он же не бывал в армии. Пороху не нюхал, ума не нажил. К тому же он белый. Лингвистически не подкован. Я прошу за него прощения. – Абзац? – Что ты мне хотел сказать? – вернулся к главной теме Камерон. Он явно устал и растерял свое веселье, постепенно приближаясь к своей грубой ипостаси. – А что мне за это будет? – поинтересовался Дар. – Безграничная благодарность Калифорнийской патрульной службы, – проворчал Пол. Дар глянул в сторону вертолетика, силуэт которого слегка дрожал в потоках горячего воздуха, поднимающегося над трассой. – Ладно, деваться некуда. И хотя мне дико не хочется лезть в эту железку снова, нам придется подняться на пару миль вверх, и оттуда я все тебе покажу. – Место катастрофы, что ли? – Именно. В каньон я больше не полечу. Скажи пилоту, что он должен следовать моим указаниям и лететь на высоте не более пятисот футов.
Вертолет отлетел на восток от «Акуры», оставшейся стоять у обочины дороги, примерно на полмили. – Видишь вон те подпалины и рябь на асфальте возле той стоянки? – спросил Дар по переговорнику. – Да, сейчас вижу. А когда проезжал здесь ночью, то не заметил. И что? Это не самое лучшее шоссе, оно везде поганое. У дорожных рабочих, наверное, руки из задницы растут. – Возможно, – согласился Дар. – Но этот участок выглядит так, словно асфальт сперва расплавился, а потом снова остыл и затвердел. – Ну это же пустыня, парень, – пожал плечами Камерон и повернулся к пилоту, который нацепил солнцезащитные очки. – Сколько там уже? – Сто двадцать по Фаренгейту,[6] – ответил тот, даже не повернув головы в их сторону. Он полностью сосредоточился на приборах и линии горизонта. – Хорошо, – сказал Дар. – Давайте вернемся обратно к моей машине. – И это все? – возмутился Камерон. – Терпение! Они пролетели над шоссе триста футов. Внизу промчался «универсал», из боковых окон которого высунулись детские мордочки и уставились на вертолет. Сверху «Акура» казалась восковой кляксой от расплавившейся черной свечи. – Видел вон там отметины на асфальте? – спросил Дар. – Когда спустились ниже, заметил, – проворчал Камерон. – Тормозной след? Но оттуда до каньона полторы мили. И все две – до места аварии. Ты имеешь в виду, что кто-то не справился с управлением, попытался затормозить, пролетел две мили вперед и двести футов вверх и разгрохался о стену каньона? Шустрый, засранец! Сержант мрачно усмехнулся. – Длинный след горелой резины, – заметил Дар, показывая на две параллельные полосы, тянущиеся с востока. – Мальчишки шины попортили. Такие следы – на каждом километре трассы. Счастье, если завтра эти сопляки не врежутся куда-нибудь. – Я все подсчитал. Эти следы тянутся тысячу восемьсот тридцать восемь футов, причем не прерываясь. Если это был сопляк на машине, то колеса у него безразмерные. Причем большую часть покрышек он оставил на асфальте. Если это вообще тормозной след… – Что ты имеешь в виду? – насторожился Камерон. – Все дело в коэффициенте трения. Наш «Эль-Камино» пытался остановиться, но не смог. Тормоза сгорели. Дар выудил из кармана несколько крохотных шариков и кусочков, похожих на оплавившуюся резину, и протянул Полу. – Тормозные колодки? – спросил Камерон. – То, что от них осталось, – сказал Дар и передал сержанту несколько металлических горошин. – А это было тормозными цилиндрами. Вдоль этого участка трассы деревья запорошило искрошенной резиной. И оплавленными стальными частичками. – У «Эль-Камино» тормоза всегда были ни к черту, – пробормотал Камерон, пересыпая горелые кусочки в черной горсти. – Да, – согласился Дар. – Особенно если ты пытаешься остановиться на скорости триста миль в час. – Триста в час! – потрясенно ахнул сержант, уронив челюсть. – Скажи пилоту, чтобы посадил машину, – приказал Дар. – Я объясню все внизу.
– Наверное, это было ночью, – начал Дар. – Он же не хотел, чтобы кто-то заметил, как он устанавливает за этой насыпью стартовые ускорители. А потом… – Стартовые ускорители! – воскликнул сержант, снял фуражку и вытер вспотевший лоб. – Стартовые ускорители для пусковых ракетных установок, – подтвердил Дар. – Большие ракеты на твердом топливе, которые прежде использовались для подъема в воздух тяжелых грузовых самолетов, если взлетная полоса была слишком короткой или груз слишком… – Да знаю я, что это за хрень! – прорычал Камерон. – Я служил в армии, парень! Но как эти придурки со своим занюханным восемьдесят вторым «Эль-Камино» достали стартовые ускорители? – К северу отсюда у нас база военно-воздушных сил «Эндрюс». А туда дальше по дороге – база «Твелв-Палмс». В этом районе натыкано военных баз больше, чем по всем Соединенным Штатам, вместе взятым. Кто знает, что они там списывают и продают за сущие гроши? – Стартовые ускорители, – повторил Камерон, глядя на бесконечный четкий след на дороге. В одном месте черные полоски немного вильнули вбок, но затем снова выровнялись, улетая к каньону двумя черными стрелами. – А зачем им понадобились две штуки? – А одна тебе ничего не даст, разве что усесться сверху, – ответил Дар. – Если поджечь только одну и она окажется не строго по центру тяжести машины, то «Эль-Камино» начнет вертеться, как колесо с фейерверками, пока ракета не зароется в землю или не пробурит машиной яму в песке. – Хорошо, – кивнул Камерон. – Он привязал, прикрутил, прицепил… Короче, как-то присобачил к машине эти списанные реактивные хреновины. И что потом? Дар потер подбородок. Второпях собираясь в эту поездку, онне стал тратить время на бритье. – Потом он дождался, когда на шоссе будет пусто, и поджег их. Вероятно, обычным самодельным электродетонатором – две проволочки и батарейка. Если ты их поджег, то потушить уже не можешь. Это же просто уменьшенная копия ракетоносителей, которые выводят шаттлы на орбиту. Поджег – и полетел. Уже не остановишься. – Выходит, он превратился в шаттл, – с непонятным выражением на лице заключил Камерон. И перевел взгляд на далекие горы. – Пролетел всю дорогу отсюда до стены каньона. – Не всю, – возразил Дар, включая ноутбук и показывая сержанту свои расчеты. – Я могу только предполагать, с какой скоростью они толкали машину вперед, но именно ракеты поплавили асфальт на том отрезке дороги. На этом участке, через двенадцать секунд после возгорания, они разогнали машину до скорости двести восемьдесят пять миль в час. – Ну и гонка, – покачал головой Камерон. – Возможно, этот парень мечтал установить мировой рекорд, – заметил Дар. – А когда телефонные столбы слились в один частокол, освещенный заревом ракет, он передумал. И ударил по тормозам. – Толку-то? – хмыкнул Камерон. – Тормозные цилиндры оплавились, – согласился Дар. – Тормозные колодки сгорели. Шины начали стираться в порошок. Ты заметил, что последние сотни метров следы на асфальте стали прерывистыми? – Тормоза то срабатывали, то нет? – предположил Камерон. В голосе сержанта звенело предвкушение того, как он будет пересказывать этот случай своим сослуживцам. Копы обожают обсасывать разнообразные примеры аварий и автокатастроф. Дар покачал головой. – Что ты, от них уже ничего не осталось. «Эль-Камино» начал подпрыгивать на тридцать-сорок футов перед тем, как окончательно подняться в воздух. – Ничего себе! – почти восторженно выдохнул Камерон. – Да. Там, где горелые отметины заканчиваются, ракеты частично выгорели и опустились под углом тридцать шесть градусов. Со стороны взлет «Эль-Камино» должен был смотреться весьма впечатляюще. – Твою мать, – ухмыльнулся сержант. – Значит, эти свечки горели до самой стены каньона? Дарвин покачал головой. – Я считаю, что они полностью выгорели через пятнадцать секунд после взлета. Дальнейший полет – чистой воды баллистика. Он вывел на экран ноутбука карту GPS и расчеты траектории полета машины от дороги до самой скалы. – Там, где он бабахнулся, дорога делает поворот и поднимается вверх, – заметил Камерон. Дар слегка поморщился. Он не любил, когда восклицания вроде «бабах!» превращают в глаголы. – Да. Повернуть он не мог. В полете машина, по-видимому, вращалась вокруг своей горизонтальной оси, стабилизируя полет. – Как пуля из ружья? – Именно. – Как ты думаешь, какой у него был… слово не подберу… насколько высоко он взлетел? – В верхней точке? – спросил Дар, заглядывая в компьютер. – От двух тысяч и до двух тысяч восьмисот футов над землей. – Ничего себе! – снова ахнул Камерон. – Поездка была недолгой, но какой сногсшибательной! – Я подсчитал, – сказал Дар, потирая глаза, – что после первых пятнадцати секунд наш парень из участника гонки стал просто грузом. – То есть? – Даже при самом невысоком ускорении, которое могло донести его отсюда вон туда, от земли он оторвался при восемнадцати g. Если он весил около семидесяти пяти килограммов, то… – То сверху на него свалилось еще тысяча двести семьдесят кило. Ого! Запищала рация. – Извини, – сказал сержант. – Вызывают. Он отошел на несколько шагов и принялся вслушиваться в хрипение и треск из трубки. Дар выключил ноутбук и сунул его в машину. Мотор «Акуры» продолжал тихо урчать, поддерживая работу кондиционера. Подошел Камерон. Его лицо перекосила насмешливая гримаса. – Ребята только что откопали в воронке рулевое колесо от «Эль Камино», – сообщил он. Дарвин молча ждал продолжения. – Фаланги пальцев впечатались в пластик колеса, – закончил Камерон. – Глубоко впечатались. Дар пожал плечами. В это время зачирикал его мобильник. – За что я люблю Калифорнию, Пол, – сказал Дарвин, доставая телефон, – так это за то, что сотовая сеть покрывает ее полностью. Связь есть всегда. С минуту он слушал, потом сказал: – Буду через двадцать минут. И отключился. – Что, пора браться за работу по-настоящему? – снова усмехнулся Камерон, видимо, представляя, как в течение следующих дней он будет рассказывать и пересказывать сегодняшнюю байку всем знакомым. Дар кивнул. – Это мой шеф, Лоуренс Стюарт. Он нашел для меня кое-что посерьезней этой ерунды. – Semper Fi,[7] – бросил куда-то в пространство Камерон. – O seclum insipiens et inficetum.[8] Катулл, сорок три, восемь, – произнес Дар в том же тоне.
ГЛАВА 2 Б – БРАТИШКА
До индейской закусочной, стоящей на перекрестке нескольких дорог, куда Дарвина вызвал его начальник Лоуренс Стюарт, Минор долетел на своей «Акуре» за пятнадцать минут. Лоуренс попросил Дара «приехать как можно скорее». С антирадаром, прощупывавшим шоссе впереди, сзади и по бокам, «как можно скорее» на «Акуре NSX» означало 162 мили в час. Закусочная с казино, гаражом и заправкой располагалась к западу от Палм-Спрингс и резко отличалась от обычных индейских казино – глинобитных пылесосов в стиле пуэбло, которые высасывали последние денежки из карманов янки и вырастали вдоль дорог как грибы после дождя. Это было видавшее виды, запущенное строение, расцвет которого пришелся, видимо, на начало 1960-х – золотые годы весьма далекого отсюда 66-го шоссе. Так называемое «казино» представляло собой комнатенку чуть ли не на задворках закусочной, в которой стояло шесть игровых автоматов и стол для игры в очко, за которым чуть ли не круглосуточно работал все один и тот же крупье – одноглазый индеец. Дар сразу увидел Лоуренса. Его шефа трудно не заметить – это двухметровый здоровяк весом в 115 килограммов, с добродушной усатой физиономией. Правда, сейчас лицо Лоуренса как-то странно разрумянилось. Его «Исудзу Труппер» модели 86-го года стоял под палящими лучами солнца у стеклянной витрины закусочной, в стороне от бензозаправки и гаража. Дарвин поискал взглядом тенистое дерево, под которым можно было бы припарковать «Акуру», не нашел и загнал машину в тень от спортивного авто Лоуренса. С первого взгляда стало понятно, что у шефа не все благополучно. Лоуренс отвинтил фару и разложил стекло, ободок, рефлектор, лампочку и прочие детали на капоте, не забыв подстелить чистую тряпочку. В настоящий момент правая кисть шефа находилась внутри пустого гнезда, левой рукой он пытался выдернуть застрявшую кисть, а подбородком прижимал к плечу сотовый телефон. Лоуренс был одет в джинсы и рубашку-сафари с короткими рукавами, которая потемнела от пота на груди, на спине и под мышками. Приглядевшись, Дарвин заметил, что лицо шефа не просто разрумянилось, а приобрело нездоровый багровый оттенок. Еще чуть-чуть, и начальника хватит апоплексический удар. – Эй, Ларри! – окликнул его Дар, захлопывая за собой дверцу «Акуры». – Черт побери, не называй меня Ларри! – прорычал здоровяк. Все звали Лоуренса Ларри. Как-то Дарвин встретил его брата, Дэйла Стюарта, который рассказал, что Лоуренс-не-называй-меня-Ларри ведет безнадежную войну за свое имя еще с семилетнего возраста. – Хорошо, Ларри, – покорно согласился Дар, прислоняясь к правому крылу «Исудзу». Он осторожно облокотился о разложенную тряпочку, стараясь не коснуться раскаленного капота. – Что у тебя стряслось? Лоуренс выпрямился и огляделся. По его лбу и щекам катился пот и капал с подбородка на рубашку. Он повел глазами в сторону витрины закусочной. – Видишь того парня на третьем стуле? Да не верти ты головой, черт побери! Дар скосил глаза на широкую стеклянную витрину. – Такой невысокий человечек, в гавайской рубашке? Он как раз доедает… что? А, яичницу! – Он, – подтвердил Лоуренс. – Бромли. – А, выследили-таки. Лоуренс и Труди уже четыре месяца искали шайку угонщиков. Кто-то воровал новые машины из прокатной фирмы «Авис», которая была одним из корпоративных клиентов агентства Стюартов. Ворованные машины перекрашивали, перегоняли в соседний штат и продавали. Чарли Бромли по прозвищу Молчун уже несколько недель подозревался в причастности к этому делу. Но Дар не принимал участия в расследовании. – У него вон тот лиловый «Форд» с прокатными номерами, – сообщил Лоуренс, все еще прижимая подбородком трубку сотового телефона. Из трубки послышалось чириканье. – Минуту, солнышко, сюда приехал Дар, – произнес шеф. – Труди? – поинтересовался Дарвин. – А кого еще я называю солнышком? – вытаращился на него Лоуренс. – Ну, я не лезу в твою личную жизнь, Ларри, – развел руками Дар. И улыбнулся, поскольку на его памяти Лоуренс и Труди были единственной искренне любящей и преданной друг другу супружеской парой. Официально фирма принадлежала Труди. Их семья жила, дышала, разговаривала и трудилась в унисон по шестьдесят-восемьдесят часов в неделю, так что вряд ли у них хватало времени на что-то, кроме проблем страховых компаний и связанных с ними расследований. – Возьми трубку, – попросил Лоуренс. Дар извлек сотовый из-под мокрого от пота подбородка шефа. – Привет, Труди, – произнес он в трубку, а Лоуренсу заметил: – Не знал, что «Авис» выдает напрокат лиловые «Форды». Обычно Труди разговаривает спокойным, деловым тоном. На этот раз ее голос был не только деловым, но и крайне раздраженным. – Ты можешь освободить этого идиота? – Попытаюсь, – ответил Дар, начиная вникать в ситуацию. – Решите ампутировать руку – перезвони, – бросила Труди и отключилась. – Черт! – прорычал Лоуренс, не спуская глаз с закусочной, внутри которой официантка забирала у Бромли пустую тарелку. Человечек допивал кофе из чашки. – Он сейчас выйдет. – Как тебя угораздило? – спросил Дар, кивая на правую руку шефа, застрявшую в гнезде фары. – Я висел на хвосте Бромли с самого утра, когда еще не рассвело. А потом заметил, что у меня не горит одна фара. – Плохо, – согласился Дар. – Подозреваемый легко мог заметить в зеркальце заднего вида одноглазую машину. – Вот именно, – огрызнулся Ларри, безуспешно пытаясь извлечь руку из глазницы своей «Исудзу». – Я сразу понял, в чем дело. У этой модели проводка постоянно провисает и контакты легко отходят. Такая у них сборка. В прошлый раз Труди удалось подсоединить его обратно. – У Труди рука поменьше, – кивнул Дар. Лоуренс покосился на своего эксперта по дорожно-транспортным происшествиям. – Да!.. – произнес он, с трудом проглатывая более грубые варианты ответа. – Там отверстие в форме воронки. Туда рука пролезла нормально. Я даже подсоединил этот чертов провод. А вот… ну никак не получается… – Вырваться? – подсказал Дар, бросив взгляд на витрину. – Бромли уже расплачивается по счету. – Черт, черт, черт, – пробормотал Лоуренс. – Закусочная слишком маленькая, он сразу бы меня заметил. Я и так заправлялся, будто сонная улитка. А потом подумал, что, если начну ковыряться в машине, это будет смотреться нормально… – Смотрится, как будто ты сунул руку в гнездо фары и застрял. Лоуренс оскалился, показывая крепкие ровные зубы. – Края у этой проклятой воронки острые, как лезвия, – прошипел он. – Такое ощущение, что рука у меня еще больше распухла с того времени, как я ее последний раз пытался вытащить. – А ты не мог добраться туда через верх? – спросил Дар, изготовившись снять тряпку с деталями разобранной фары и открыть капот. – Они запломбированы, – скривился Лоуренс. – Если бы я мог добраться через верх, стал бы я совать руку в эту дырку? Дар знал, что его шеф – славный малый, готовый при случае пошутить и посмеяться. Но еще у Ларри было повышенное давление и буйный темперамент. Отметив его стремительно багровеющую физиономию, потоки пота, катящиеся по щекам и усам, и дрожащий от ярости голос, Дар решил, что сейчас не время препираться. – Чего ты от меня хочешь? Чтобы я взял у техников в гараже мыло или масло? – Я не хочу собирать вокруг себя толпу… – начал Лоуренс и осекся. – Нет, только не это! Из распахнутых ворот гаража вышли четверо механиков и девочка-подросток, и направились прямо к ним. Бромли расплатился и пропал из виду, направляясь то ли в туалет, то ли к входной двери. Лоуренс наклонился к Дару и прошептал: – Сегодня днем Молчун встречается с главарем шайки и остальными угонщиками где-то в пустыне. Если бы я это заснял, дело можно было бы считать закрытым. Он снова подергал правой рукой, но «Исудзу» и не думала отпускать свою жертву. – Хочешь, чтобы я поехал за ним? – спросил Дар. – Не дури, – скорчил гримасу Лоуренс. – По пустыне на этом? С твоим-то клиренсом? И кивнул в сторону черной «Акуры». – А я и не собирался сегодня ездить по бездорожью, – согласился Дар. – Может, я поеду на твоей? Лоуренс выпрямился, насколько позволяла застрявшая рука. Заляпанные маслом механики и девчонка подошли к машине и встали полукругом. – А я что, впереди побегу? – прошипел Лоуренс. Дарвин поскреб подбородок. – Может, посадить тебя на капот, как носовую фигуру? – предложил он. Молчун Бромли вышел из закусочной, окинул взглядом толпящийся вокруг Ларри народ и неторопливо забрался в свой лиловый «Форд». – Что, – подал голос один из механиков, вытирая грязные руки о не менее грязную тряпку, – застрял? Лоуренс одарил парня взглядом, которому позавидовал бы любой василиск. Механик отступил на шаг. – Можно смазать маслом, – задумчиво предположил второй работяга. – Незачем, – возразил старший механик, мужчина с выбитыми передними зубами. – Прыснуть туда немного WD-40, и все дела… И то кожу он уже ободрал. Может, еще и без большого пальца останется. – А мне кажется, что нужно разобрать всю эту чертову штуковину, – внес свою лепту третий механик. – Больше ничего не остается, если вы, мистер, хотите получить свою конечность обратно. У меня брат как-то застрял в своей «Исудзу»… Лоуренс тяжело вздохнул. Молчун Бромли вырулил со стоянки и поехал по шоссе на запад. – Дар, возьми на пассажирском сиденье папку. Мне нужно, чтобы ты разобрался сегодня с этим случаем. Дарвин обошел машину и достал папку. Заглянув внутрь, он сказал: – Нет, Ларри. Ты же знаешь, я терпеть не могу ничего подобного… Лоуренс кивнул. – Я собирался заняться этим сам после того, как сниму на пленку встречу в пустыне. Но тебе придется сделать это за меня. Я могу задержаться. И он тоскливо проводил глазами лиловый «Форд». – Еще одна просьба, Дар. Достань, пожалуйста, из моего правого кармана носовой платок. Когда Дар это сделал, Ларри приказал, обращаясь ко всем зевакам: – Отойдите! И дважды дернул застрявшую руку, пытаясь ее вытащить. Тщетно, капкан не разжал железных челюстей. Третья попытка была такой яростной, что «Исудзу» содрогнулась. – Йа-а-а! – закричал Лоуренс, словно каратист с черным поясом, разбивающий ладонью кирпичи. Он ухватился свободной рукой за правое запястье и рванулся всеми своими килограммами назад. На асфальт брызнула кровь, едва не запачкав кроссовки малолетней наблюдательницы. Та отпрыгнула назад и встала на цыпочки. – У-у-ух, – в едином порыве выдохнула толпа. В этом дружном возгласе неразрывно слились восторг и отвращение. – Спасибо, – сказал Лоуренс, принимая протянутый Дарвином платок. И принялся перевязывать окровавленную ладонь. Пока Ларри садился за руль машины и включал зажигание, Дар сунул сотовый телефон в верхний карман рубашки своего начальника. – Может, мне поехать с тобой? – предложил Дар. Он живо представил себе, как Лоуренс слабеет от потери крови, но снимает встречу угонщиков, как преступники замечают солнечный блик на объективе его камеры. Затем погоня по пескам пустыни. Стрельба. Лоуренс теряет сознание. Кошмарная развязка. – Нет, – отрезал Ларри. – Просто опроси свидетеля из этого дома престарелых, а завтра приезжай к нам. – Ладно, – устало согласился Дарвин. Он предпочел бы нестись по пустыне, отстреливаясь от бандитов, чем идти на этот проклятый опрос свидетеля. Обычно Лоуренс и Труди не поручали ему таких дел. «Исудзу» взревела и покатила к шоссе. «Форд» уже успел превратиться в маленькую лиловую точку на горизонте. Четверо механиков в черных робах уставились на кровавые пятна, испачкавшие белый бетон. – Бо-оже, – наконец произнес младший из них, – настоящий придурок! Дар забрался на черное кожаное сиденье нагревшейся под солнцем «Акуры» и пробормотал себе под нос: – До десятки самых выдающихся глупостей все-таки не дотягивает. – Потом включил зажигание, щелкнул регулятором кондиционера и покатил на запад.Парк-стоянка жилых фургонов – домов на колесах – находился в Риверсайде, неподалеку от пересечения 91-го и 10-го шоссе. Дарвин подъехал со стороны Баннинга. Он легко отыскал нужную улицу, заехал на территорию парка и остановил машину под раскидистым тополем, чтобы спокойно дочитать до конца бумаги в папке. – Черт, – прошипел Дар через минуту. Судя по предварительному заключению Лоуренса и документам страховой компании, этот парк домов на колесах приобрел статус сообщества престарелых сравнительно недавно. Здесь разрешалось постоянно проживать только лицам, достигшим пятидесяти пяти лет, хотя внуки и прочие молодые родственники могли навещать их и оставаться на ночь. Но в целом возраст обитателей этого заведения приближался к восьмидесяти. Из записей следовало, что большинство старейших жильцов проживало здесь еще до того, как пятнадцать лет назад парк превратился в дом престарелых. Владелец парка – и, соответственно, дома престарелых – нес высокую личную ответственность по обязательной страховке жильцов. Это был относительно редкий случай – страховой вклад владельца доходил до ста тысяч долларов. Дар отметил про себя, что у владельца, мистера Гиллея, имеется несколько парков-стоянок, причем во всех проживающие были застрахованы на тех же условиях. Судя по всему, здесь часто происходят несчастные случаи, потому эти заведения считаются зоной риска у страховых компаний, которые не желают выплачивать обычную полную страховую компенсацию. Либо хозяин отличается редкой небрежностью, либо ему просто не везет. Четыре дня назад Гиллей сообщил, что в этом доме произошел несчастный случай со смертельным исходом – погиб один из жильцов. Дом престарелых носил название «Отдых в тени», хотя большая часть старых деревьев высохла, а молодые деревца почти не давали тени. Хозяин парка сразу же позвонил своему адвокату, а тот – в агентство Стюартов, чтобы эксперты восстановили картину происшествия и определили, виновен его клиент или нет. Для Лоуренса и Труди это было довольно заурядное дело. Дар ненавидел такие задания – подстроенные падения, оплошности, халатность и тому подобное. Все то, что давало хлеб насущный толпам частных адвокатов. Именно поэтому Дарвин, подписывая контракт, изначально договорился со Стюартами, что будет расследовать преимущественно более сложные дела. В бумагах не было подробного описания этого несчастного случая, но адвокат Гиллея сообщил по телефону, что нашелся очевидец – старожил дома престарелых по имени Генри. И что этот Генри будет ждать следователя в местном клубе в 11 утра. Дар сверился с часами. Без десяти одиннадцать. Он пролистал расшифровку записи телефонного звонка адвоката. Выяснились некоторые подробности. Один из старожилов этого пансионата, мистер Вильям Дж. Трихорн, семидесяти восьми лет, переезжал на инвалидной коляске через бордюр тротуара у здания клуба, упал и ударился головой о мостовую, вследствие чего скончался на месте. Это случилось вечером, около одиннадцати часов, поэтому Дар сразу же поехал к клубу, чтобы осмотреть место происшествия, особенно степень его освещенности. Клуб оказался обветшалым одноэтажным зданием, настоятельно нуждающимся в ремонте. Однако вдоль дорожек, ведущих к клубу, была размещена подсветка, а поблизости высились на тридцатифутовых столбах три фонаря с натриевыми лампами низкого накала. Дарвин немного удивился, поскольку такие лампы чаще использовались в Сан-Диего, из-за Паломарской обсерватории, чтобы уменьшить световой фон города. Получалось, если, конечно, все это освещение работало, что место происшествия было освещено более чем достаточно. Один – ноль в пользу местного владельца. Дар не спеша подъехал к зданию клуба и отметил в своем желтом блокноте, что участок дороги перед ним обнесен желтой предупреждающей лентой и огорожен красно-белыми конусами. Судя по всему, здесь велись ремонтные работы – мостовая была взломана, вокруг лежали инструменты, а у обочины стоял асфальтовый каток. Дарвин подъехал к небольшой стоянке, припарковал машину у клуба и вошел внутрь. Видимо, кондиционеров здесь никогда не водилось, потому что в здании было душно и жарко. За столиком у окна группа стариков играла в карты. За окном виднелся неухоженный бассейн – его облицовочная плитка потрескалась и местами отвалилась, а вода покрылась зеленой ряской. Дар подошел к столику и остановился рядом, не спеша заводить разговор, хотя игроки больше внимания уделяли не игре, а вошедшему незнакомцу. – Прошу прощения, что прерываю игру, – промолвил Дарвин, – но нет ли среди вас, джентльмены, человека по имени Генри? Из-за стола поднялся пожилой мужчина, годков восьмидесяти. Он был низеньким, примерно метр шестьдесят, и худощавым. Костлявые тощие ноги торчали из широких, не по размеру, шортов, но рубашка и кроссовки были новыми и дорогими. Голову венчала бейсболка с рекламой казино Лас-Вегаса. На запястье поблескивал золотой «Ролекс». – Генри – это я, – сказал он, протягивая Дарвину веснушчатую руку. – Генри Голдсмит. А вы, наверное, из страховой компании. Пришли узнать про несчастный случай с Братишкой? Дар представился и спросил: – Братишка – это мистер Вильям Дж. Трихорн? – Братишка. Все называли его Братишкой. Никто не называл его Вильямом или Вилли. Братишка, и все, – промолвил один из стариков, не отрывая взгляда от карт. – Это правда, – тихо и печально сказал Генри Голдсмит. – Я знал Братишку… Господи… уже тридцать лет. И он всегда был Братишкой. – Вы видели, как с ним произошел этот несчастный случай, мистер Голдсмит? – Генри, – поправил старик. – Зовите меня Генри. Да, видел… Только я и видел. Черт, да из-за меня все и случилось. Голос Генри дрогнул, и последнюю фразу он промолвил едва слышно. – Давайте перейдем за свободный столик, и я все вам расскажу. Они сели за самый дальний стол. Дар снова представился и объяснил, кем он работает и для чего ему эти сведения. А затем спросил Генри, не возражает ли тот, чтобы их разговор записывался на магнитофон. – Вы можете ничего мне не рассказывать, если не хотите, – закончил Дар. – Я просто собираю информацию для клиента нашей фирмы, адвоката владельца этого дома. – Конечно, расскажу, – промолвил Генри, отмахиваясь от своих законных прав. – Расскажу, как это случилось. Дарвин кивнул и включил магнитофон. У данного аппарата был направленный высокочувствительный микрофон. Первые десять минут Генри рассказывал о себе. Они с женой жили по соседству с Братишкой и его супругой с того самого дня, как этот парк стал домом для престарелых. Они дружили семьями много лет, еще с той поры, когда проживали в Чикаго. Но вот дети повзрослели и разлетелись кто куда, и они решили переехать в Калифорнию. – Два года назад у Братишки случился удар, – сказал Генри. – Нет… нет, три года назад. Как раз когда «Смелые» из Атланты выиграли ежегодный чемпионат по бейсболу. – Когда Дэвид Джастис пропустил мяч? – машинально добавил Дар. Единственный вид спорта, который он признавал, был бейсбол. Если, конечно, не считать шахматы спортом. Дарвин вот не считал. – Одним словом, – продолжил Генри, – у Братишки был удар. Как раз тогда. – Поэтому мистер Трихорн приобрел коляску? – Пардик. – Прошу прощения? – Ну, его коляску сделала фирма «Пард», потому Братишка прозвал ее пардиком. Ну, как свою зверушку. Дар вспомнил, как выглядит такая инвалидная коляска. Небольшая, трехколесная, похожая на увеличенный детский велосипед. Аккумулятор питает маломощный мотор, который приводит в движение задние колеса. Такие коляски оснащаются либо педалями газа и тормоза, как тележки для гольфа, либо ручными переключателями – для инвалидов, у которых отказали ноги. – После удара у Братишки парализовало всю левую сторону, – продолжал Генри. – Левая нога не работала, просто волочилась по земле. Левая рука… ну, Братишка просто укладывал ее на колени. Левая половина лица вот так оплыла и не шевелилась, так что ему трудно было говорить. – Он мог общаться с другими людьми? – осторожно спросил Дар. – Мог высказать свои желания? – Ну конечно, – ответил Генри, улыбнувшись Дарвину так, словно рассказывал о своем любимом внуке. – С головой у него было все в порядке. А речь… ее понимали с трудом. Но Рози, Верна и я всегда разбирали, что он хочет сказать. – Рози – это жена мистера Трихорна… гм… Братишки, так? – Да, первая и единственная. Уже пятьдесят два года, – кивнул Генри. – А Верна – моя третья жена. В этом январе будет двадцать два года, как мы поженились. – Вечером, когда произошел несчастный случай… – начал Дар, мягко пытаясь вернуть разговор в нужное русло. Генри нахмурился, понимая, что его хотят подтолкнуть к основной теме. – Вы, молодой человек, спросили, мог ли он высказывать свои пожелания. Так вот, он мог… но в основном только Рози, Верна и я понимали, чего он хочет, и… как бы это… переводили его речь остальным. – Хорошо, сэр. – Дар терпеливо снес этот маленький взрыв протеста. – А несчастный случай произошел вечером… четыре дня назад… Мы с Братишкой, как всегда, отправились в клуб перекинуться в картишки. – Значит, в карты он мог играть, – отметил Дар. Паралич всегда оставался для него непонятным и пугающим явлением. – Ну да, еще как мог! – воскликнул Генри и снова улыбнулся. – И чаще всего выигрывал. Говорю же вам, паралич разбил левую половину его тела и… ну, затруднил речь. Но мозги у него остались прежние. Да уж, Братишка соображал получше некоторых! – Случилось ли что-то необычное в тот вечер? – спросил Дар. – С Братишкой? Ничего, – твердо ответил Генри. – Я зашел за ним без пятнадцати девять, как и каждую пятницу. Братишка проворчал что-то, но мы с Рози поняли, что к ночи он собирается вытряхнуть всех партнеров из штанов. Ну, выиграть. Так что с Братишкой в тот вечер все было в порядке. – Нет, – покачал головой Дар. – Я имел в виду сам клуб, или дорожку перед ним, или… – А-а, тогда да, – ответил Генри. – Потому все и случилось. Эти придурки, которые ремонтировали дорогу, оставили дорожный каток перед пандусом, по которому Братишка обычно заезжал на своем пардике. – Возле центрального входа, так? – Да, – согласился Генри. – Это единственный вход, который открыт после восьми вечера. А мы начинаем игру в девять и сидим до полуночи, а то и позже. Но Братишка всегда уезжал к одиннадцати, чтобы вернуться к Рози тогда, когда она будет укладываться спать. Она никогда не ложилась, если Братишки не было рядом и… Генри запнулся. Его ясные голубые глаза затуманились, словно он с головой ушел в воспоминания. – Но в ту пятницу единственный пандус загораживал асфальтовый каток, – заключил Дар. Генри очнулся, и его взгляд снова сосредоточился на собеседнике. – Что? А, да. Я об этом и толкую. Пойдемте, я все покажу. Они вышли на раскаленную улицу. Мостовая у ближайшего пандуса щеголяла новыми асфальтовыми нашлепками. – Этот проклятый каток, – начал Генри, – загородил подъем, так что Братишка не мог завести пардик на тротуар. Он повел Дара вдоль бордюра. Дарвин отметил, что бортик тротуара поднимался не отвесно, а под углом примерно восемьдесят градусов, для удобного подъезда машин. Но маленькая инвалидная коляска Братишки не могла преодолеть такой подъем. – Но с этим все было просто, – продолжил Генри. – Я кликнул Херба, Уолли, Дона и еще пару ребят, и мы подняли Братишку на пардике и перенесли на тротуар. И начали игру. – Вы играли до одиннадцати вечера, – уточнил Дар. Магнитофон он держал у пояса, но направлял микрофон в сторону рассказчика. – Так и было, – медленно произнес Генри, припоминая тот ужасный вечер. – Братишка заворчал. Остальные его не поняли, но я знал, что он хочет вернуться домой, потому что Рози не любит засыпать одна, без мужа. Поэтому он забрал выигрыш, и мы отправились на улицу. – Только вы вдвоем? – Да. Уолли, Херб и Дон остались играть дальше – в пятницу они засиживались допоздна, – а ребята постарше уже ушли домой. Потому мы с Братишкой были одни. – И каток все еще стоял у пандуса, – заметил Дар. – Стоял, куда же он мог деться? – запальчиво произнес Генри, раздраженный тупостью Дарвина. – Разве эти недоумки вернулись туда к одиннадцати вечера и отогнали его в сторону? Дудки! Потому Братишка подвел пардик к тому месту, где мы поднимали его на тротуар, но спуск оказался… ну, слишком крутым. – И что вы предприняли? – спросил Дар, уже понимая, что случилось потом. Генри потер подбородок. – Ну, я сказал ему: «Давай попробуем съехать на углу», – мне показалось, что бордюр там не такой высокий. И Братишка согласился. Он повел пардик мимо этого пандуса вон туда, футов тридцать в сторону… Идемте, я покажу. Они подошли к тому месту, где тротуар поворачивал под прямым углом. Дар отметил, что одна из натриевых ламп слабого накала стояла прямо у поворота. Генри сошел на мостовую и встал лицом к Дару. Звенящим от слез голосом он начал описывать события того вечера, неустанно размахивая пятнистыми руками. – Мы добрались вот сюда, но бордюр оказался не таким уж и низким. Ну, он был как и везде. Но в темноте мы решили, что он пониже. И я предложил Братишке съехать передним колесом на дорогу и дать газу. Нам казалось, что здесь не так высоко. Проклятая темнота! Генри замолчал. – Значит, Братишка съехал вниз передним колесом? – мягко уточнил Дар. Генри поглядел на бордюр мутным взглядом, словно впервые увидел это место. – Ах да. Сперва все было хорошо. Я взялся за коляску справа, и Братишка тронул пардик вперед, так что переднее колесо нависло над дорогой. Все шло так хорошо… Я придерживал коляску, чтобы она не сильно ударилась, когда задние колеса съедут с бордюра. Когда переднее колесо нависло над дорогой, Братишка посмотрел на меня, и я сказал: «Все в порядке, Братишка. Я держу. Я тебя держу». Генри показал, где он стоял и как держался за пардик обеими руками. – Братишка включил двигатель правой рукой, но газ не выжал. И я снова сказал: «Все в порядке, Братишка, сейчас мы спустимся на мостовую левым задним колесом, а я тебя придержу. Ты дашь газу, и правое колесо съедет само собой. И мы будем на дороге и поедем домой». Генри снова умолк. Дарвин стоял и ждал, когда старик вынырнет из воспоминаний. – И коляска поехала. Я держал ее обеими руками… Я всегда был очень сильным, мистер Минор, двадцать шесть лет работал грузчиком в чикагской транспортной фирме, пока два года назад эта проклятая лейкемия меня не подкосила… И вот левое колесо соскочило с бордюра, и коляска начала клониться влево. Братишка посмотрел на меня, он не мог ведь шевелить левой рукой или ногой, и я сказал: «Все хорошо, Братишка, я держу ее обеими руками». Но коляска продолжала крениться. Она ведь тяжелая. Очень тяжелая. Я думал сперва подхватить Братишку, но он был пристегнут ремнем, он всегда пристегивался. Я выбивался из сил, но держал коляску. Держал обеими руками, но она все равно заваливалась все сильнее… Это тяжелая штука, с аккумулятором, мотором и всяким таким прочим… у меня руки стали скользкими от пота. Потом уже я сообразил, что можно было позвать ребят, которые остались в клубе, но в тот момент… Мне это не пришло в голову. Вы знаете, как оно бывает. Дар кивнул. Глаза Генри налились слезами, он заново переживал горестные события того вечера. – Я чувствовал, что коляска падает, что мои руки соскальзывают, и ничего не мог поделать. Понимаете, она оказалась слишком тяжелой для меня. Тогда Братишка посмотрел на меня своим хорошим глазом и, мне кажется, понял, что происходит. Но я сказал: «Братишка, все хорошо, я держу. Крепко держу. Я удержу тебя». С минуту Генри молча глядел на угол тротуара. По щекам его катились слезы. Когда он снова заговорил, голос его звучал тускло и безжизненно: – Потом коляска наклонилась еще сильнее и упала, а Братишка ничего не мог сделать. У него же была парализована левая часть тела… Она упала, и… этот треск и хруст… это было так страшно… Генри поднял глаза на Дарвина. – А потом Братишка умер. Старик умолк. Он остался стоять в той же позе, в какой его застала смерть друга, – руки вытянуты и напряжены, словно пардик только что выскользнул у него из пальцев. – Я хотел помочь ему вовремя вернуться домой, чтобы он пожелал Рози спокойной ночи, – прошептал Генри. Позже, когда он ушел, Дар просчитал расстояние от головы Братишки, сидящего на пардике, до асфальта мостовой. Четыре фута шесть дюймов. Но в ту минуту он молча стоял рядом с несчастным стариком, который медленно разжал сведенные судорогой пальцы и выпрямился. Его руки дрожали. Генри снова посмотрел на мостовую. – А потом Братишка умер, – повторил он.
Дар свернул с 91-го шоссе на 15-е, направляясь к себе домой, в Сан-Диего. «Твою мать, – думал он. – Рабочий день начался в четыре утра. Пропади оно все пропадом!» Конечно, он распечатает записанный на магнитофон разговор и передаст его Лоуренсу и Труди, но черта с два согласится вести это дело. Сердце саднило, словно в нем сидела заноза. Компанию по производству инвалидных колясок привлекут к суду, в этом он не сомневался. Владельца дома для престарелых тоже привлекут к ответственности, это уж точно. Строительную компанию, рабочие которой оставили асфальтовый каток у пандуса, привлекут в любом случае. Но подаст ли Рози в суд на Генри? Наверняка. В этом Дар почти не сомневался. Тридцатилетняя дружба… Он хотел помочь своему другу Братишке вернуться домой вовремя, чтобы поцеловать жену перед сном. Но через пару месяцев… может быть, другой судья… «Твою мать! – подумал Дар. – Я не буду в это влезать. И пальцем не коснусь этого дела!» На 15-м шоссе в это время суток машин почти не было, потому Дар сразу же заметил «Мерседес Е-340», который летел по ближайшей полосе слева от «Акуры». Переднее и боковые стекла «Мерседеса» были тонированы, что в Калифорнии запрещено. Копам удалось пропихнуть это постановление – никому не хотелось и близко подходить к машине с непрозрачными стеклами. Кто его знает, что там внутри? Увязавшийся за Даром «Мерседес» был новым и скоростным, с восемнадцатидюймовыми шинами, приподнятым багажником и маленьким спойлером. Дарвин считал, что те, кто покупает шикарные автомобили – например, «Мерседесы» класса «люкс», – а потом переделывают их в скоростные спортивные машины, чтобы хвалиться ими перед другими водителями, – худшие из всех возможных идиотов. Идиоты с амбициями. Потому он поглядывал в зеркальце заднего вида на «Мерседес», который пошел на обгон по левой полосе. Этот участок магистрали был пятиполосным, три полосы пустовали, но «Мерседес» решил пройти впритирку с машиной Дарвина, словно они были на финишной прямой Дэйтоны-500. Дар только вздохнул. Это неизбежное зло, с которым приходится мириться, если ты водишь серьезную спортивную машину вроде «Акуры NSX». «Мерседес» начал обгон и, поравнявшись с «Акурой», внезапно сбросил скорость. Дар бросил взгляд налево и увидел собственную физиономию в солнцезащитных очках на носу, отраженную в тонированном окне большого немецкого автомобиля. Когда стекло начало опускаться, интуиция заставила Дара немедленно пригнуть голову. Из окна высунулось черное металлическое рыло то ли «узи», то ли «Мак-10» и изрыгнуло огонь. Левое боковое окно «Акуры» разлетелось брызгами осколков, осыпав голову Дарвина стеклянным дождем, и алюминиевый корпус «Акуры» прошила автоматная очередь.
ГЛАВА 3 В – ВЫДЕРЖКА
Пальба продолжалась не более пяти секунд, но Дарвину они показались вечностью. Дар распластался под приборной доской, уткнувшись носом в кожаную обивку пассажирского сиденья. Словно карнавальное конфетти, сверху на него сыпалось битое стекло. Левой рукой Дар до сих пор цеплялся за нижний полукруг рулевого колеса, а правым каблуком изо всех сил давил на тормоз. На дороге было пусто, не считая «Акуры» и этого чертова «Мерседеса». Левой ногой он выжал сцепление, а левой рукой, которая оказалась выше вжатой в сиденье головы, перевел рычаг переключения передач с четвертой скорости на третью. Пули грохотали о дверцу и капот машины, и Дарвину показалось, что теряющая скорость «Акура» – это огромная железная бочка, по которой кто-то изо всех сил лупит палкой. Машина остановилась, как Дар искренне надеялся, у обочины магистрали. Он не спешил поднимать голову и проверять, так ли это. Когда стрельба утихла, он еще некоторое время лежал на сиденье, не шевелясь. Затем Дар ужом переполз через пассажирское сиденье – осколки стекла посыпались с его спины и головы, – перевел рычаг коробки передач на нейтральную, потянул на себя стояночный тормоз и выпал на мостовую через пассажирскую дверцу. Прижавшись всем телом к асфальту, Дарвин оглядел дорогу из-под низкого брюха своей спортивной машины. Более всего он хотел знать, не остановился ли «Мерседес» рядом с ним. Если да, то пиши пропало, потому что до отгораживающего магистраль заборчика его отделяло добрых тридцать ярдов, а укрытия никакого. Но колес чужой машины не было видно. Затем Дар услышал рев двигателя и, приподнявшись на локте за передним колесом «Акуры», разглядел быстро удаляющийся серый «Мерседес». Пошатываясь, Дар поднялся. Адреналин еще бурлил в крови, желудок сводило. Только тут он сообразил поглядеть, не ранило ли его. Ощупав левое ухо, Дарвин испачкал пальцы кровью, но было ясно, что это не серьезное ранение, а простая царапина. Если не считать еще парочки порезов от разлетевшихся осколков стекла, Дар остался невредим. Мимо прокатила «Хонда Сивик» с круглолицым водителем, который уставился на Дара и изрешеченную пулями «Акуру» не менее круглыми глазами. Дарвин оглядел свою машину. Нападающие патронов не жалели, и дырок в корпусе было преизрядно. Все стекла – вдребезги. В основании рулевой колонки зияла дырка, в глубине пулевого отверстия поблескивал алюминий. В дверце со стороны водителя оказалось три дыры. Дарвин получил бы пулю в задницу, если бы не стальная противоударная распорка, от которой и срикошетила пуля, а еще две пули влепились возле самой дверной ручки. Когда «Акура» сбросила скорость, несколько пуль попали в переднюю часть машины, зато колеса не пострадали. Все выстрелы пришлись либо на покатый капот, либо на салон автомобиля, либо на бампер. Если бы в «Акуре» двигатель находился впереди, то все закончилось бы гораздо плачевней. Но в спортивных моделях его размещали сразу позади водительского кресла. Судя по ровному урчанию, мотор уцелел и работал исправно. К тому же колеса и все основные детали машины остались неповрежденными, и это решило дело. Дарвин стянул рубашку, вымел ею осколки с водительского сиденья, сел за руль и тронулся с места. Серый «Мерседес» только что скрылся из виду за пригорком в двух милях впереди. Когда он проезжал мимо других машин, то двигался со скоростью явно не семьдесят миль в час, как положено на автомагистрали между штатами, а на двадцать с хвостиком миль быстрее. Дар переключил на третью передачу и выжал сто миль в час. Вскоре он обогнал «Хонду», мимоходом отметив, что круглолицый водитель снова вытаращился на пробитую пулями «Акуру». «Я свихнулся», – подумал Дар и врубил четвертую передачу. Шестицилиндровый мотор бодро взревел на 7 800 оборотах в минуту, заключенные в железных тисках лошадиные силы вырвались на свободу, и спортивная машина ринулась вперед. Дара захлестнула злость. Холодная, всепоглощающая злость. Он давно уже не чувствовал себя таким разъяренным. Дарвин передвинул рычаг коробки передач на пятую скорость и вжал в пол педаль газа. Он обошел слева две машины и небольшой трейлер. Из-за доплеровского эффекта обгоняемые машины отзывались низким утробным гулом. Взлетев на пригорок, он увидел серый «Мерседес», поднимающийся на следующий холм в трех милях впереди. Он мчался по крайней левой полосе и удерживал скорость сто миль в час. Дарвин потянулся к карману рубашки за своим телефоном… и сообразил, что рубашку-то он снял, чтобы смести ею осколки с кресла, а потом швырнул на пассажирское сиденье. Он похлопал по рубашке, но мобильника не нащупал. Видимо, телефон вывалился на землю, когда он вылезал наружу, прятался за машиной или выметал осколки стекла. «Черт!» Дар убедил себя, что это уже неважно – рев ветра, задувающего в разбитые боковые окна, неизбежно заглушит любой разговор. Так что в полицию все равно не сообщишь. Хорошо хоть ветровое стекло цело, не считая двух трещинок-паутинок в верхнем левом углу. Не отрывая взгляда от дороги и «Мерседеса», Дарвин улучил минуту и скосил глаза на спидометр: 158. Поддал газу и одновременно подхватил сумку со съемочным оборудованием, которая лежала на полу перед пассажирским креслом. «Боже, – мысленно взмолился Дар, – хоть бы эти ублюдки не испортили мои камеры!» Быстро орудуя свободной рукой и время от времени отрывая взгляд от дороги, Дарвин открыл сумку и бесцеремонно вывалил ее содержимое на пассажирское сиденье. На этот раз он потянулся не за цифровой видеокамерой, а за «Никоном» и длиннофокусным объективом. Дар пристроил «Никон» между колен, поставил переключатель на длинный фокус и начал менять объектив, пока машина летела по склону холма на скорости 165 миль в час. Обычно для этой процедуры требовалось обе руки: одной нажимать кнопку, которая управляет зажимами, а второй снимать ненужный объектив и прикручивать другой. Но ему уже приходилось проводить эту операцию одной рукой. Правда, не на такой скорости. Краем глаза Дарвин заметил, как по боковойдороге на магистраль вырулила патрульная машина. Бросив взгляд в зеркальце заднего вида, он увидел, что черно-белый полицейский автомобиль ринулся за ним в погоню, сверкая разноцветной мигалкой. Возможно, патрульные запустили и сирену, но за гулом ветра в салоне Дар ничего не слышал. Ему повезло, что полицейская машина оказалась «Мустангом» – судя по виду, модели 94-года, – оснащенным типичным для них триста вторым восьмицилиндровым двигателем. Приглядевшись, Дар отметил, что водитель и его напарник молоды и, судя по скорости «Мустанга», они вошли в азарт и не собираются прекращать погоню. «Вот уж везет», – подумал Дар, снова переключая все внимание на серый «Мерседес». Каким-то чудом его солнцезащитные очки «Серенгети» не свалились с носа во время ползаний, прыжков и всей предыдущей катавасии. Они частично защищали глаза от неистового ветра, бушующего в салоне, так что без них нечего было и думать догнать проклятый «Мерседес». Снова повезло. Теперь его отделяло от «Мерседеса», который сбросил скорость до восьмидесяти пяти, примерно двадцать корпусов. Но в эту минуту водитель «мерса» заметил в зеркальце «Акуру» или сверкающую огнями патрульную машину, либо и то и другое вместе, потому что «Мерседес» резко увеличил скорость и начал петлять между машинами, перестраиваясь из ряда в ряд. Он выгадывал минуту, втискивался в свободное пространство, обгонял и срезал углы на поворотах, маневрируя по всем пяти полосам автомагистрали. Дарвин гнал за ним по пятам. Он знал, что в обычные «Мерседесы» встроен ограничитель скоростей, который не позволит превысить отметку 130 миль в час. Но этот вылезший из тюнинга серый сукин сын с тонированными стеклами уже перевалил за 155, легко шныряя туда-сюда в плотном потоке автомобилей. «Черт бы его побрал», – подумал Дар. В левой руке он сжимал «Никон» с двухсотмиллиметровым объективом, а правой выворачивал руль, бросая машину то вправо, то влево. Но «Мерседес» упорно держался в четверти мили впереди, так что четко снять его номер было невозможно. Притом Дарвин понятия не имел, сможет ли он удержать камеру ровно, даже если и сумеет подобраться к «Мерседесу» поближе. Плевать! Он выронил «Никон» на колени, вцепился в рулевое колесо обеими руками и бросил «Акуру» из крайнего правого ряда в крайний левый, чтобы не отстать от противника. На спидометре было уже 170, и стрелка приближалась к запретной красной черте. Дару отчаянно не хотелось сжечь двигатель своей «Акуры» – она была настоящим произведением искусства, собранным на японском заводе одним выдающимся мастером. Где-то на алюминиевой коробке двигателя иероглифами было выгравировано его имя. В эпоху суперсовременных двигателей с наддувом, с турбонаддувом и прочим «дувом» в его «Акуре» был обычный шестицилиндровый мотор, который развивал высокие обороты только благодаря высокому качеству сборки. Погубить такой двигатель было бы настоящим кощунством. Тем не менее Дарвин продолжал вжимать педаль газа в пол – или, если хотите, в шикарный коврик из черной резины, под которым было шикарное черное ковровое покрытие. Стрелка спидометра уползла за красную отметку. Двигатель «Акуры» пронзительно взвыл, и расстояние между преследователем и преследуемым начало сокращаться. Здравая часть дарвиновского рассудка задалась вопросом: «А что, если они притормозят и снова выстрелят в меня?» У него не было оружия в машине. Дома тоже не было. Дар в принципе ненавидел оружие. «А что, если я заторможу и меня пристрелят патрульные? – предположила часть его сознания, отравленная адреналином. – Нет, лучше я первым достану этих сволочей!» «Мерседес» перестроился из крайней левой полосы в крайнюю правую, оттирая по пути две автомашины. Одна из них, фургон «Форд Виндстар», затормозила слишком резко, так что четырежды повернулась вокруг своей оси, прежде чем остановилась носом в ту сторону, откуда ехала. Когда Дар проносился мимо нее на скорости 168 миль в час, то заметил белые как мел лица водителя и женщины-пассажира. «Вот так все и закончится, придурок! – надрывалась здравая часть его рассудка, обращаясь к затуманенному адреналином и яростью сознанию Дарвина. – В кино автомобильные погони всегда выглядят эффектно и волнующе. Смотришь – и визжишь от восторга. А на самом деле это погибшие семьи, невинные жертвы, а ты ведь даже не коп! У тебя нет никаких прав устраивать смертельную гонку». Обезумевший Дар в чем-то был согласен с Даром трезвомыслящим – теоретически. Глянув в зеркальце, он заметил, что полицейский «Мустанг» развил такую скорость, что слегка подлетел над верхушкой холма примерно в миле позади «Акуры». Но Дарвин был так зол, как никогда за много-много лет. А «Мерседес» находился всего в ста ярдах впереди, снова перестроившись в крайний левый ряд, да и движения на этом участке почти не было… Дар снял ногу с газа и пристроил «Никон» на край выбитого бокового окошка, объективом внутрь. Больше всего Дарвин боялся, что ветер может вырвать дорогую камеру из рук. «А что, даже забавно», – подумал он, прикидывая, что ему придется снимать через ветровое стекло, придерживая руль локтями, потому что для равновесия нужно держать «Никон» обеими руками. Рулить придется левым коленом. Остается переставить переключатель камеры на «авто» и молить бога, чтобы удался хотя бы один снимок. «Мерседес» затормозил и так быстро переметнулся через пять полос, что едва избежал столкновения с грузовиком. Чиркнув крылом по дорожному указателю, он едва вписался в поворот, свернул на боковую дорогу и пулей понесся в сторону города. «Твою мать!» – мысленно взвыл Дар и резко затормозил, чтобы не врезаться в автобус «Грейхаунд», нажал на тормоз и быстро преодолел три полосы, оставшиеся до выезда с магистрали. Задние колеса «Акуры» подпрыгнули на бордюре, и машина помчалась по боковому шоссе. Краем глаза Дар успел уловить надпись на указателе – «Улица Озерная». Отлично, он понял, где находится. Дорога, по которой он преследовал серый «Мерседес», тянулась до самого озера Эльсинор и не вела никуда, кроме спальных кварталов «Эльсинор». Когда-то она считалась старой альберхиллской трассой, но сам поселок они уже успели проскочить. Дар оглянулся и увидел, что следом увязались еще две машины шерифа этого округа – два «Шевроле», «Монте-Карло» и «Импала», которые выехали из города на перехват. И «Мерседес» и «Акура» пронеслись мимо развилки прежде, чем «Шевроле» выкатили на трассу, но Дарвин услышал пронзительный вой сирен за спиной. «Шеви» мчались всего в ста ярдах от «Акуры», «Мустанг» тоже не отставал, все норовя их обойти и встать во главе погони. «Как только я поравняюсь с „Мерседесом“, – отстраненно, словно мысленно проигрывая партию в шахматы, думал Дарвин, – эти ребята меня пристрелят». Он глянул в зеркальце заднего вида. «Если я остановлюсь, копы скорее всего стрелять в меня не станут. Но они так увлекутся арестом, что и не подумают преследовать „Мерседес“. В это время впереди вспыхнули тормозные огни „Мерседеса“. Дару ничего не оставалось, как тоже затормозить. Большие, семнадцатидюймовые тормозные колодки мгновенно снизили скорость маленькой спортивной машины, из-за чего Дарвина сплющило ускорением, но прочный ремень безопасности надежно удержал его в кресле. „Мерседес“ потерял управление, его мотнуло вправо-влево, он перемахнул через бордюр пустой автостоянки, подскочив так высоко, что Дар увидел трехфутовый просвет под его днищем. Затем серый автомобиль приземлился на дорогу, выровнялся без особого труда и, поддав газу, пронесся по боковой улице. Таблички с названием улицы видно не было, но, сворачивая в ту же сторону, Дарвин не беспокоился. Он бывал здесь не раз и прекрасно знал, как она называется – Риверсайд-роуд. Собственно, отсюда начиналось 74-е шоссе, узкая двухполосная дорога, которая шла через горы и Кливлендский национальный парк и примерно в тридцати двух милях западнее вливалась в магистраль номер I-5 возле Сан-Хуана. Дар постоянно срезал здесь угол, если хотел добраться до магистрали кратчайшим путем. «Шеви Импала» сворачивать не стала. Краем глаза Дар заметил, как она прошла юзом по заправочной станции, едва не зацепив «Ягуар», который заправлялся у крайней в ряду бензоколонки, и, вылетев на дорогу, скрылась в клубах пыли позади вереницы выставленных на продажу подержанных автомобилей. «Мустанг» и вторая машина шерифа свернули на Риверсайд-роуд следом за «Акурой». Они немного поотстали и теперь оказались примерно в четверти мили позади. «Сейчас самое время остановиться и сдаться властям», – думал Дар, понимая, что никакие протесты не спасут его от тюрьмы. Неожиданно прямо над крышей его машины протарахтел вертолет. Он пронесся над «Мерседесом» и начал описывать круг, чтобы сделать новый заход. «Полицейский», – решил Дар. Он знал, что у полиции округа Лос-Анджелес есть шестнадцать машин, в то время как в Нью-Йорке их всего шесть. А потом Дар заметил надпись на боку вертолета. Чудесно! Как раз успеют показать его в «Новостях» в шесть часов, по пятому каналу местного кабельного телевидения. А потом Дарвин сообразил, что скорее всего он уже в прямом эфире. В Южной Калифорнии так часто снимают дорожно-транспортные происшествия, что начали поговаривать об открытии отдельного канала, который только это и будет показывать. Стараясь не выпустить из виду крышу «Мерседеса», Дарвин прибавил газу, едва удерживая машину на узкой извилистой дороге, которая пошла на подъем. Дар уже давно не участвовал в гонках, но у него все получалось отлично: четко вписаться в поворот на спуске, прибавить скорость, ногой на тормоз, еще один поворот, крутой спуск, сбросить скорость, позволить, чтобы машину немного занесло на повороте, и снова – полный вперед! На всем белом свете найдется не много машин, которые могут потягаться с «Акурой NSX» в такой гонке. К тому времени, как он стал подниматься к вершине довольно крутой горки, патрульные машины скрылись из виду, а «Мерседес» находился всего в трех корпусах впереди.Позади остались две мили извилистой дороги, и ребята в «Е-340», видимо, решили, что пора избавляться от назойливого преследователя. На повороте под углом в 180 градусов они сбросили скорость. Окно со стороны пассажира опустилось. Оттуда высунулся черноволосый мужчина в черном костюме и выставил перед собой черный ствол «Мак-10». Заметив направленный на него автомат, Дар отщелкал «Никоном» пять или шесть кадров, держа камеру одной рукой. Оружие огрызнулось огнем. Что-то с металлическим скрежетом чиркнуло по правому крылу «Акуры», но машина осталась на ходу. Дар уронил камеру на колени и сбросил скорость. Заложив небольшой вираж, он подрулил к самому бамперу «Мерседеса». Он отметил, что номер невадский, и запомнил его. Стрелок снова высунулся из окна, но «Акура» была слишком близко. Дарвин передвинулся на левую полосу и поехал почти вровень с «Мерседесом». Тогда разъяренный убийца начал палить прямо через заднее боковое окно, которое тут же разлетелось во все стороны сверкающими зеркальными осколками. Но Дар уже прибавил газу и пошел бок о бок с их машиной. Окно со стороны водителя резко опустилось, и Дарвин увидел лица врагов. И запомнил. Обе машины приближались к последнему крутому повороту на скорости восемьдесят пять миль в час. Дарвин знал, что за поворотом ситуация сложится не в его пользу. До следующего извилистого участка дороги придется проехать вдоль обрыва по прямой, как стрела, трассе. Но прямо на последнем повороте стоял старый ресторан «Кругозор», который давно облюбовали для посиделок местные байкеры. Дар когда-то останавливался там перекусить, но окружение – два-три десятка ревущих монстров на стоянке и столько же внутри ресторана – пришлось ему не по душе. «Кругозор» стоял справа от дороги, а с южной стороны ресторана прилепилась открытая веранда со столиками. Эта веранда нависала над обрывом, у подножия которого плескалось озеро Эльсинор. Снизу ее поддерживали массивные деревянные балки. За столиками сидели, развалившись, с десяток байкеров. Их мотоциклы стояли прямо перед верандой. Дарвин вовремя глянул вправо, чтобы заметить, что стрелок привстал с пассажирского сиденья и нацелил автомат прямо ему в лицо, высунув оружие в окно со стороны водителя. Дар ударил по тормозам, пули просвистели над капотом. Он немедля бросил машину вправо, прибавил газу и ударил в левую дверцу «Мерседеса». Как Дарвин и планировал, подушка безопасности со стороны водителя тут же вздулась, прижав руку стрелка к оконной раме. Тот выронил «Мак-10», автомат ударился о капот «Акуры», отскочил и слетел на дорогу. Машина Дара была модели 92-го года, с подушкой безопасности только со стороны водителя, но за долгие годы расследования дорожных происшествий он собрал немало информации о случаях, когда причиной аварии становились раздувшиеся не вовремя эти самые подушки, потому свою он давно отцепил. Дарвин резко затормозил, пропуская вперед летящий на полной скорости «Мерседес». Шины взвизгнули и задымились, но тормоза не подвели. Педаль тормоза ударила Дарвина в стопу, когда машина пошла юзом. Он сбросил скорость до второй и почти сумел вписаться в крутой поворот. Машина вылетела на обочину, но в ресторан все-таки не врезалась. «Акура» пронеслась по камням, проредила низкие кусты и наконец остановилась в ста с чем-то футах от дороги. Когда сработала подушка безопасности, стрелок рухнул на водителя, который не ткнулся носом в рулевое колесо лишь потому, что его удерживал ремень. Но управлять машиной он уже не мог. Новый «Мерседес Е-340» пролетел по прямой мимо поворота и врезался в первый ряд припаркованных «Харлеев». Тут же сработала и вторая подушка безопасности, так что водитель, придавленный сверху товарищем, а спереди – мешком, дотянуться до руля уже не сумел. Стрелок, сиденье которого заполнил второй воздушный мешок, отчаянно пытался спасти ситуацию. Он ударил ногой по тормозам, но тяжелую разогнавшуюся машину остановить не так-то просто. «Мерседес» разметал вправо-влево оставшиеся мотоциклы и влетел на веранду. Вопящие байкеры прыснули во все стороны, спасая свою жизнь. Машина покрошила столики в щепы, пробила полусгнившие перила ограждения и, прыгнув с помоста веранды, как с трамплина, воспарила над обрывом. На мгновение серый «Мерседес» замер в наивысшей точке полета, и из боковых окон высунулись две уже знакомые Дарвину физиономии. Они что-то орали прямо в гиростабилизированные камеры телевизионщиков, которые снимали происходящее из парящего над пропастью вертолета. А через миг автомобиль, едва не ткнувшись в круглый нос стрекочущей машины, полетел вниз с высоты семисот футов. Левая дверца «Акуры» погнулась и не хотела открываться, а дверь со стороны пассажирского сиденья подпирал большой валун, так что Дар выбрался наружу через окно как раз вовремя, чтобы оказаться в поле зрения подоспевшего «Мустанга» и дымящегося «Шеви Монте-Карло» шерифа. Захлопали дверцы. Нацелились пистолеты. Загремели приказы. Дарвин встал лицом к собственной машине, расставил ноги, как было велено, сцепил руки на затылке, как было предложено срывающимся голосом, и попытался дышать ровно и глубоко, чтобы побороть приступ тошноты. Адреналиновый шторм в крови утих, оставив обломки и ошметки прежних неистовых чувств. Насколько Дар успел заметить, бросив взгляд через плечо, позади стояли незнакомые молодые патрульные с длинными номерами на бляхах. Из общей какофонии воплей он разобрал, что они прихлопнут его, на хрен, если он попытается, на хрен, шевельнуться. Дарвин не шевелился. Один из полицейских и шериф наставили на него пистолеты, а второй коп – умудренный опытом ветеран дорожных погонь лет эдак двадцати трех – подошел, наскоро обыскал Дара и долго дергал его за запястья, прежде чем защелкнул наручники. Подошли два байкера с банками пива в руках. Один, с длинной бородой, ощерил в ухмылке желтые зубы. – Эй, парень, ничего себе хренотень ты устроил! Почти грохнули пятый канал! Крутая заваруха, просто рехнуться можно! Помощник шерифа приказал им убираться обратно в «Кругозор». Подошли другие байкеры и принялись объяснять, что они сроду не были в этом гребаном ресторане, а сидели на гребаной веранде, и вообще, мы, парень, живем в гребаной свободной стране, и нечего тут орать. Только представь, где, как не в Америке, можно увидеть, как новенький «мерс» слетает с семисотфутового обрыва, едва не прихватив по пути вертолет, а? – Этому сопляку Эдди надо переименовать свой вонючий ресторан, – заметил байкер с татуировкой на бритом черепе. – Из «Кругозора» в «Трамплин»! Дар обрадовался, когда двое патрульных наконец толкнули его к своему «Мустангу». – Он ехал к Риверсайду, – сказал шериф, до сих пор не выпустивший из рук свой «кольт». – Знаем, знаем, – пробурчал старший из юных копов. – Почему бы вам или вашему помощнику не вызвать по рации еще людей сюда и экспертную группу – пока тут не началось столпотворение, а? Шериф глянул на байкеров, которые принялись изучать останки своих мотоциклов и громко выражать свои чувства. Затем кивнул, нахлобучил фуражку, вложил «кольт» в кобуру и направился обратно к «Монте-Карло». Его помощник прошелся по разбитому настилу опустошенной веранды, неуверенно остановился у сломанных перил и заглянул в провал, в котором несколько минут назад исчез «Мерседес». Откуда-то снизу раздался нарастающий шум вертолета телевизионщиков. Когда полицейские запихивали Дарвина на заднее сиденье «Мустанга», какая-то часть его сознания продолжала высчитывать, сколько времени понадобилось «Мерседесу», чтобы в свободном падении долететь до берега озера. Да, шикарная получилась телепередача. Последнее, что слышал Дар перед тем, как его увезли с места событий, как помощник шерифа безостановочно, словно декламируя только что придуманную мантру, бормотал себе под нос: «С ума сойти, с ума сойти, с ума сойти…»
ГЛАВА 4 Г – ГОВНЮК
Гонки по шоссе и арест Дарвина состоялись во вторник, во второй половине дня. Тем же вечером его отпустили под залог. В среду утром он явился в кабинет заместителя окружного прокурора, контора которого находилась в центре Сан-Диего. Во вторник, когда Дара сфотографировали, заводя на него дело, он был без рубашки, в одних сандалиях и грязных окровавленных джинсах. Собственно, в чем выехал из дома в четыре утра, в том и был. Исцарапанный осколками стекла, полуголый, со спутанными волосами и двухдневной щетиной, вкупе с «тяжелым взглядом профессионального убийцы», как подшучивали его соратники во Вьетнаме, Дар являл собой образец самого настоящего бандита с большой дороги. Дарвин мысленно представил себе этот снимок на стене, рядом с фотографией, на которой ему вручают мантию и свиток, символизирующие присвоение ему степени доктора физических наук. В среду, в девять утра, Дар сидел за длинным столом в компании десятка незнакомых ему людей, которые пока не спешили представляться. Он был чисто выбрит и свеж и блистал ослепительно белой рубашкой, красным галстуком в полоску, голубым льняным пиджаком, серыми легкими брюками и сверкающими черными туфлями от Болли, мягкими, как балетки. Дарвин не был до конца уверен в своей роли на этом собрании – то ли гость, то ли заключенный, – но в любом случае желал выглядеть прилично. Помощник заместителя окружного прокурора занимал присутствующих, предлагая всем кофе и печенье. Это был маленький нервный человек, который, казалось, воплощал в себе все приписываемые геям стереотипы поведения – от расслабленных запястий и возбужденного хихиканья до преувеличенно-театральных ужимок. На противоположной от Дара стороне стола сидели мужчины в шляпах медвежонка Дымняшки[9] и фуражках, то есть примерно восемь шерифов и капитанов полиции. С краю пристроились двое в гражданском, причем у одного из них была типичная стрижка агента ФБР. Все, кроме фэбээровца, взяли предложенное помощником заместителя окружного прокурора печенье. Рядом с Дарвином, не считая Лоуренса, Труди и их адвоката В.Д.Д. Дюбуа, сидела разношерстная свора бюрократов и адвокатов. Последние, как на подбор, оказались морщинистыми, сутулыми и какими-то измятыми, особенно по контрасту с подтянутыми молчаливыми копами, которые сурово выставляли вперед мужественные квадратные подбородки. Адвокаты и бюрократы согласились на кофе. Дар принял свой пластиковый стаканчик, поблагодарил, получил в ответ от помощника заместителя окружного прокурора «пожалуйста-пожалуйста» и ласковое похлопывание по плечу и сел на место – ждать, что будет дальше. В комнату вошел негр в форме судебного пристава и объявил: – Скоро начинаем. Говнюк уже вышел из своего кабинета, а Сид – из дамского туалета.Вчера Дарвин, все еще в наручниках, был препровожден в окружную тюрьму, которая находилась в деловой части Риверсайда. В машине самый старший по возрасту коп, согласно решению Верховного суда США по делу Миранды, зачитал ему с карточки размером примерно три на пять сантиметров его права. Дар имел право сохранять молчание, все, что он скажет, может быть использовано против него в суде, у него есть право на адвоката, и если у него нет своего адвоката, то таковой ему будет предоставлен. Понятно? – А почему вы это читаете с бумажки? – полюбопытствовал Дар. – Вы же, наверное, повторяли это тысячи раз и должны уже знать на память. – Заткнись, – посоветовал патрульный. Дарвин кивнул и предпочел хранить молчание. «Обмирандили»… В данном случае имя собственное неплохо смотрится в качестве глагола. Риверсайдская окружная тюрьма представляла собой приземистое омерзительное строение и находилась как раз напротив высокого и не менее омерзительного здания риверсайдской мэрии. Юные полицейские сняли с Дарвина наручники и торжественно передали его в руки местного шерифа. Тот, в свою очередь, поручил своему молодому заместителю завести на него дело. Дарвина никогда прежде не арестовывали. Но он хорошо представлял всю процедуру ареста – выворачивание карманов, снятие отпечатков пальцев и фотографирование – из фильмов и телевизионных репортажей. Потому ото всей этой возни у него возникло странное чувство дежа-вю, что только усилило ощущение нереальности происходящего. В камере Дар сидел один, не считая общества нескольких жирных тараканов. Примерно через пятнадцать минут вошел заместитель и сказал: – Вам позволено сделать один звонок. Хотите позвонить своему адвокату? – У меня нет адвоката, – честно сообщил Дар. – Можно, я позвоню своему врачу? Но заместитель шерифа не оценил его юмора. Дарвин позвонил Труди, которая собаку съела на судебных разбирательствах и, если бы захотела, в любой момент могла сдать экзамен на адвоката. Но вместо того, чтобы утрясать все проблемы с законом самолично, они с Лоуренсом нанимали одного из лучших адвокатов Калифорнии. Это было просто необходимо, учитывая, что агентство Стюартов постоянно вело расследование по поводу мошенничества в области страхования, а кто, как не мошенники, разбираются во всех юридических тонкостях лучше самих юристов и чувствуют себя на судебных заседаниях как рыба в воде. – Труди, я… – начал Дарвин. – Знаю, – оборвала его Труди. – Сама я не видела, но Линда записала передачу на кассету. Комментаторы вопили об «азарте водителя». – Какой еще азарт! – возмутился Дар. – Эти ублюдки хотели прикончить меня, и я… – Ты в Риверсайде? – снова перебила его Труди. – Да. – Я послала туда одного из помощников В.Д.Д. Ты дашь показания в его присутствии, и через часик он тебя оттуда выудит. Дарвин растерянно моргнул. – Труди, заклад вылетит в миллиард долларов! Два трупа. Да еще все это снимал пятый канал. Округ не выпустит меня отсюда… – Тут замешано кое-что покруче округа, – отрезала Труди. – Буду на связи. Я знаю, кто были эти двое и почему полиция и окружная мэрия не сообщили прессе твое имя. И почему В.Д.Д. будет… – Кто они? – снова закричал Дар, не в силах удержать себя в руках. – Об этом говорили по телевизору? – Нет, ни слова. Завтра утром мы будем в Сан-Диего, в конторе заместителя окружного прокурора. Там все и выясним. В девять утра. Тебя выпустят из тюрьмы – один из судей округа Сан-Диего уже согласился стать твоим поручителем и послал прошение на имя судьи Риверсайдского округа. Не волнуйся, пресса не будет тебя преследовать… Твое имя хранится в тайне до завтрашнего утра. – Но… – начал было Дар и тут сообразил, что понятия не имеет, о чем еще можно спросить. – Жди помощника В.Д.Д., – сказала Труди. – Возвращайся домой и прими горячий душ. Только что звонил Лоуренс, и я все ему рассказала. Вечером мы тебе позвоним, а потом ты хорошенько выспишься. Кстати, это всем нам не помешает. В.Д.Д. Дюбуа (произносится «Дю-бойс») был невысоким негром с усами, как у Мартина Лютера Кинга. Он отличался великолепными мозгами и характером Дени Де Вито. Лоуренс как-то обмолвился, что в зале суда В.Д.Д. настолько гениально выражает свои чувства движениями усов, что мог бы затмить любого актера немого кино. На самом деле прославленного адвоката звали не Дюбуа. Вернее, это имя он носил не с рождения. При крещении в городе Гринвилле, штат Алабама, он получил длинное имя Виллард Даррен Дирк. В.Д.Д. родился в середине сороковых годов, и с самого начала все было против него – его раса, бедная семья, родной штат, отношение белых жителей штата, необразованность родителей, плохие школы – все, кроме его IQ, который был намного выше среднего уровня. В девять лет юный Вилли Дирк придумал себе новое имя – В.Д.Д. Дюбуа (произносится «Дю-бойс»)[10] и к двадцати годам официально оформил перемену имени. К тому времени он вырвался из Алабамы, поступил в Южно-Калифорнийский университет, а потом выучился на адвоката в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он был третьим по счету негром – выпускником этого знаменитого учебного заведения и первым, кто основал в Лос-Анджелесе адвокатскую контору, в которой работали исключительно чернокожие адвокаты, помощники и прочие служащие. Как раз в то время вышел закон 1964 года о гражданских правах, и Линдон Джонсон[11] сделал в законодательстве первые шаги к «Великому обществу», провозгласив равноправие всех граждан США. Это помогло В.Д.Д. упрочить положение своей конторы, но никаких особенных преимуществ не дало. Его фирма в основном занималась гражданскими делами, но сам В.Д.Д. питал слабость к уголовному праву и время от времени выступал в суде по уголовным делам. Чем запутанней и сложней был случай, тем больше вероятности, что им займется сам Дюбуа. В адвокатских кругах был широко известен случай, когда адвокат Роберт Шапиро пытался привлечь Дюбуа к делу Оу-Джея Симпсона[12] (еще до вмешательства Джонни Кокрана), на что В.Д.Д. заявил: «Ты шутишь? Этот парень так же невиновен, как братец Авеля, Каин. Я защищаю только невинных убийц!» Агентство Стюартов сумело угодить Дюбуа, поручив ему несколько интересных и исключительно запутанных случаев, так что в последние годы знаменитый адвокат выказывал свою признательность тем, что защищал фирму Труди перед лицом закона в особо затруднительных ситуациях. Вот как сейчас, к примеру. В комнату вошел заместитель окружного прокурора и занял свое место во главе стола. Говард Аллан Ньюк пытался снискать известность на политическом поприще и очень страдал из-за своей фамилии, которую обычно произносили как Нюк. Его отец был известным судьей, потому Говард не мог за здорово живешь изменить свою фамилию. Он всегда просил всех знакомых не называть его Гов и настаивал на этом даже упорней, чем Лоуренс отбивался от Ларри. Вследствие чего вся контора окружного прокурора, Дворец правосудия Сан-Диего и все юристы Южной Калифорнии – по крайней мере за глаза – называли его не иначе как Гов, а чаще всего – Говнюк. А вот Сид – это был настоящий сюрприз. Сид оказалась привлекательной женщиной лет тридцати пяти, полноватой, но ей это шло. Одета она была с иголочки, а лицо светилось умом и неиссякающим интересом к жизни. Она напомнила Дарвину одну характерную актрису, которая ему очень нравилась, вот только имени ее он никак не мог запомнить. Полное имя Сид было, видимо, Сидни. И поскольку Сид заняла второе «место шефа» – стул в противоположном конце стола от Говнюка, – то скорее всего она считалась здесь влиятельным лицом. Заместитель окружного прокурора Ньюк призвал присутствующих к порядку. – Вы все знаете, почему мы здесь сегодня собрались. Те, кто был на дежурстве или пропустил программу новостей, могут ознакомиться с заявлением мистера Дарвина Минора. Вот оно, перед вами… А еще у нас есть видеозапись. «Черт!» – подумал Дар, когда помощник заместителя перенес видеомагнитофон и старенький телевизор, стоявшие в углу, на стол и поставил перед своим начальником. Помощник вставил кассету в магнитофон, и Гов Ньюк включил запись. Дарвин не видел вчерашних «Новостей». Теперь ему представилась возможность просмотреть прямой репортаж пятого канала с места событий. Они успели заснять большую часть погони: от съезда с магистрали, путь по извилистой дороге над озером Эльсинор и до самого конца, когда «Мерседес Е-340» протаранил веранду ресторана «Кругозор» и взмыл высоко в воздух, словно собирался приземлиться прямо на кабину вертолета с телевизионщиками. Заместитель окружного прокурора Ньюк милосердно отключил звук, и комментарии репортеров не были слышны. А вот сами репортеры с немилосердной скрупулезностью отсняли последний прыжок «Мерседеса». Двое мужчин высунулись из боковых окон по плечи, будто хотели в последний миг выпрыгнуть наружу, их рты беззвучно раскрывались. Дар отчетливо видел движение их губ, но слов разобрать так и не смог. Когда «Мерседес» выпал из поля зрения телевизионщиков, пилот вертолета тотчас же повел машину по спирали, чтобы гиростабилизированная камера могла заснять полет «Е-340». Затем «Мерседес» ударился о скалистый выступ, примерно в пятистах футах ниже ресторанной веранды, перевернулся вверх колесами и наконец рухнул на деревья, которые росли на берегу озера. Корпус машины, на удивление, остался целым, но все остальное брызнуло в разные стороны – колеса, бамперы, зеркала, оси, глушитель, ветровое стекло, подвески, колпаки и люди. Затем все это исчезло в клубах пыли, взметнувшихся выше крон основательно потрепанных деревьев. Заместитель окружного прокурора Ньюк перемотал сцену катастрофы на начало. Куски автомобиля склеились обратно, и машина взмыла в воздух. Ньюк остановил перемотку на кадре, где двое мужчин высунулись из окон «Мерседеса» и один из них что-то кричал – по-видимому, умолял о помощи. Дарвин заметил, что головы всех присутствующих в комнате дружно повернулись в его сторону. Даже Лоуренс и Труди посмотрели на него. Вынести тяжесть этих взглядов оказалось нелегко. Дар хотел спросить, не спасли ли их подушки безопасности, но передумал и промолчал. К тому же три подушки из четырех уже сработали и успели сдуться к тому времени, как машина взлетела над обрывом. На пленке салон «Мерседеса» являл собой жалкое зрелище, словно изнутри его выстилали огромные презервативы. «Я стал причиной смерти двоих человек», – подумал Дар. На душу снова легла тяжесть, а к горлу подкатил неприятный, тошнотворный ком. Но раскаяния Дарвин не испытывал. Слишком хорошо он помнил свист пуль над головой и звон разлетающихся боковых окон «Акуры». Злость улеглась, отошла в далекое прошлое, но Дар прекрасно помнил это чувство и понимал, что, если бы эти сволочи остались в живых, он спустился бы с горы и первой подвернувшейся палкой прикончил их на месте. Дарвин молчал, сохраняя спокойное выражение лица, и постепенно сидящие за столом отвели взгляды. – И напоследок, – сказал Ньюк, прерывая напряженное молчание, – я хочу заметить, что из местной школы для глухонемых приехали эксперты, которые умеют читать по губам. Они проанализировали эти кадры… Ньюк махнул рукой на экран, где усатый стрелок застыл с разинутым ртом, выкрикивая свои предсмертные слова, и закончил: – …и пришли к выводу, что по артикуляции это ближе всего к … э-э… «soon key». Все удивленно захлопали глазами, и только Сидни громко расхохоталась. – Суки, – произнесла она с непривычным акцентом и снова хихикнула. – Это bitch по-русски. Мне кажется, что этим словом он выражал свое мнение о пятом канале. – Ясно, – сказал заместитель окружного прокурора и выключил телевизор. – Это подтверждает предположение бюро о личностях этих людей, – подал голос мужчина с фэбээровской стрижкой. – «Мерседес» был угнан из Лас-Вегаса два дня назад. Погибшие, которые находились в угнанной машине, по национальности были русскими. Водитель, Василий Плавинский, находился в стране в течение трех месяцев по гостевой визе. Второй… – Который пытался застрелить моего клиента из автоматического оружия, – умело вклинился адвокат Дюбуа. Фэбээровец нахмурился, но продолжил: – …второй, тоже русский, прибыл в Нью-Йорк всего пять дней назад. Его имя – Климент Редько. – Это может быть прозвищем или псевдонимом, – заметил Дар. – Почему вы так считаете? – вскинулся агент ФБР. – По вашим показаниям, вы никогда не встречались с этими людьми прежде. А теперь высказываете предположения о личности одного из этих… гм, жертв. – Возможных убийц, – немедленно поправил Дюбуа. – Наемных убийц. – Я предположил, что это может быть не настоящим именем, – ответил Дар, – потому что был такой малоизвестный русский художник, Климент Редько. В 1924 году он написал картину «Восстание», предсказав сталинский террор. Он изобразил Ленина, Сталина, Троцкого и других большевистских вождей на кроваво-красном фоне, окруженных солдатами, которые стреляли в беззащитных людей. С полминуты все сконфуженно молчали, словно Дар не блеснул эрудицией и занудством, а вскочил на стол и сплясал джигу. Он мысленно дал себе зарок впредь держать язык за зубами, если только не придется отвечать на прямо поставленные вопросы. И тут Дарвин увидел, что Сидни, кем бы она ни была, одобрительно подмигнула ему. – Теперь позвольте мне представить всех присутствующих, – вскочил со своего места заместитель окружного прокурора, пытаясь снова направить разговор в нужное русло. – Многие из вас наверняка знакомы со специальным агентом Джеймсом Уорреном, представителем местного отдела ФБР. Капитан Билл Рейнхард из дорожно-постовой службы Лос-Анджелеса, их посредник в операции «Большая чистка». Капитан Фрэнк Фернандес, из нашего полицейского отделения. Рядом с капитаном Фернандесом… спасибо, что пришли к нам, Том, я знаю, что вы сегодня улетаете на конференцию в Вегас… капитан Том Саттон из Калифорнийской патрульной службы. За Томом – Пол Филдс, шериф округа Риверсайд, именно он так потрясающе держался во время этой операции. Все мы знаем База Мак-Кола, шерифа округа Сан-Диего. И в конце стола… привет, Марлена… Марлена Шульц, шериф округа Ориндж. Заместитель окружного прокурора Ньюк перевел дыхание и повернулся к левому ряду. – Некоторые из вас, несомненно, встречались с Робертом… Бобом, да? С Бобом Гауссом из отдела расследований мошенничеств со страховками. Здравствуйте, Боб. Следующий за Бобом – адвокат Жанетт Паульсен из Национального бюро расследования страховых преступлений, из Вашингтона. Слева от мисс Паульсен – Билл Уитни из Калифорнийского отдела страхования. За Биллом… э-э… Ньюк запнулся и полез в блокнот. Его плавная речь впервые дала сбой. – Лестер Гринспан, – сухо промолвил взъерошенный мужчина, по виду – закоренелый бюрократ. – Ведущий адвокат группы «Коалиция против страхового мошенничества». Я тоже был откомандирован из Вашингтона для официального посредничанья с вашей операцией «Большая чистка». Дар поморщился. «Посредничанье! Ну и грамотей…» – Следующий за мистером Гринспаном – тот, кого мы все знаем и любим, – продолжил заместитель окружного прокурора, решив, вероятно, слегка разнообразить скучную процедуру представления. – Наш прославленный и знаменитый адвокат В.Д.Д. Дюбуа. – Спасибо, Говнюк, – широко улыбнулся Дюбуа. Ньюк заморгал, сделав вид, что не расслышал последнего слова, и улыбнулся в ответ. – Э-э… следующий за В.Д.Д… кто же из нас не знает этих двоих… Труди и Ларри Стюарт из расследовательского агентства Стюартов, Эскондидо. – Лоуренс, – поправил Лоуренс. – А за Ларри, – продолжал заместитель окружного прокурора, – сидит человек, по поводу которого мы все здесь собрались, – мистер Дарвин Минор, один из лучших в стране экспертов по дорожно-транспортным происшествиям. Он был за рулем черной «Акуры», которую мы видели на видеокассете. В конце стола… – Минуточку, Гов, – прервал его Филдс, шериф округа Риверсайд. Это был пожилой мужчина с недобрым прищуром глаз опытного стрелка. Он посмотрел на Дарвина, как удав на кролика, видимо пытаясь загипнотизировать его на расстоянии. – Я никогда еще не видел такого хладнокровного убийства, как это. – Спасибо, – ответил Дар, возвращая шерифу его пронзительный взгляд. – Только хладнокровно пытались убить меня они. А моя кровь была очень, очень горячей, когда я столкнул их с дороги… – Одну минуту! – воскликнул заместитель окружного прокурора. – Дайте мне закончить. Я с большим удовольствием хочу представить вам мисс Сидни Олсон, главного следователя окружной прокуратуры и нынешнюю главу комиссии по вопросам организованной преступности, созданной для проведения операции «Большая чистка в Южной Калифорнии». Сид… вам слово. – Спасибо, Ричард, – улыбнулась главный следователь. «Стокард Ченнинг», – вспомнил Дар. – Как вы уже знаете, – начала она, – последние три месяца в нашем штате проводится важное расследование – операция «Большая чистка». Основная задача состоит в том, чтобы положить конец ширящимся случаям страхового мошенничества. Мы оцениваем общий убыток казне штата за этот год приблизительно в семь-восемь миллиардов долларов… Некоторые из шерифов уважительно присвистнули. – …и увеличение количества случаев страхового мошенничества по меньшей мере на двадцать пять процентов. – Скорее на сорок, – заметил Лестер Гринспан из «Коалиции против страхового мошенничества». – Согласна, – кивнула Сидни Олсон. – Полагаю, что эти данные не соответствуют реальным цифрам. Ситуация резко ухудшилась, особенно за последние полгода. Спецагент Джеймс Уоррен откашлялся и сказал: – Нужно отметить, что операция «Большая чистка в Южной Калифорнии» разработана на основе операции «Большая чистка» 1995 года, за время которой бюро арестовало более тысячи подозреваемых. «Из которых вину признали четверо, от силы пятеро», – подумал Дарвин. – Спасибо, Джим, – кивнула главный следователь Олсон. – Так и есть. Наша операция базируется и на опыте наших флоридских коллег, акции «Авария на заказ». Было арестовано сто семьдесят два подозреваемых, многие из которых, как выяснило следствие, состояли в группировках по организации автокатастроф с целью получения высоких страховых премий. – Столкновения без жертв? – спросила Труди Стюарт. – Или что похуже? – Большинство подозреваемых неоднократно подавали заявления о столкновениях, – ответила Сидни. – Но главными обвиняемыми стали адвокат из Майами и его сын, которые за деньги уговаривали небогатых автовладельцев врезаться друг в друга на флоридских магистралях. А потом через свою адвокатскую контору или сотрудничающих с ними частных адвокатов возбуждали иски против страховых компаний. Семейка успела подстроить таким образом более ста пятидесяти аварий. – Ничто не ново в Южной Калифорнии, – проворчал Филдс, шериф Риверсайдского округа, оглядывая присутствующих через прицел своих прищуренных глаз. – Где-то восемь из десяти аварий на шоссе I-5 подстроены. Старо как мир. Главный следователь Сидни Олсон согласно кивнула. – Если не считать того факта, что за последние месяцы кто-то пытается установить контроль над мошенничеством в страховом бизнесе. – Банды? – подозрительно прищурился шериф Филдс. Ему ответил заместитель окружного прокурора Ньюк: – Во Флориде страховым мошенничеством занимались бывшие колумбийские наркодилеры. А в Восточном Лос-Анджелесе и еще кое-где этим делом заведовали мексиканские и мексико-американские банды. – Крупные шишки, – хмыкнул шериф Филдс. – Большая часть инсценированных аварий, – покачал головой капитан Саттон, – организованы вовсе не латино-американскими группировками. Они пытались заняться этим здесь, но быстро получили пинка под зад, причем немало главарей банд от этого пинка очутились в морге. Шериф Шульц из округа Ориндж прокашлялась и тоже подала голос: – То же самое произошло и с вьетнамцами, когда они попытались взять контроль над всей организованной преступностью. Их быстро привели к общему знаменателю. – И кто бы ни занял лидирующую позицию в криминальных кругах, – продолжил спецагент Уоррен, – он привлек на свою сторону русских и чеченских боевиков. Их группировки действуют по всему Западному побережью, особенно в этом районе. Все головы повернулись к Дарвину. Лоуренс кашлянул, что всегда предшествовало у него относительно долгому словоизлиянию. – Наша компания наняла Дара… мистера Минора… доктора Минора… в качестве эксперта. Он расследовал несколько аварий и с полной уверенностью установил, что они были подстроены. Доктор Минор, как и я, выступал свидетелем-экспертом в десятках подобных случаев. Труди Стюарт покачала головой и добавила: – Но мы не заметили никаких свидетельств, что эти случаи были подстроены какой-то определенной группировкой. Обычные неудачники и мошенники во втором, третьем или четвертом поколении. Они жили с этих страховых выплат. Заместитель окружного прокурора посмотрел на Дарвина. – Без сомнения, эти двое русских боевиков в сером «Мерседесе» были озадачены убить именно вас, мистер Минор. Дарвин чуть скривился, услышав употребление существительного «задача» в качестве глагола. А вслух произнес: – Зачем же им понадобилось меня убивать? Сидни Олсон развернулась на своем стуле и посмотрела Дару прямо в глаза. – Мы полагали, что на этот вопрос услышим ответ от вас. Несколько месяцев расследования не продвинули следствие вперед так, как события вчерашнего дня! Дарвин только покачал головой. – Я даже не представляю, как они ухитрились найти меня. Это был такойбезумный день… И он вкратце рассказал о звонке в четыре часа утра, о твердотопливных ускорителях, встрече с Ларри и разговоре с Генри в доме престарелых. – Другими словами, я ничего не планировал заранее. Никто не мог знать, что в это время я буду находиться на шоссе I-5. – Среди обломков автомобиля, – подал голос капитан Саттон, – мы обнаружили частотный сканер сотовых телефонов. Они могли отслеживать ваши звонки. Дар снова покачал головой. – После встречи с Ларри я никуда не звонил. Мне тоже не звонили. – После того, как Лоуренс заснял встречу угонщиков, – сказала Труди, – он звонил мне и сказал, что отправил тебя в дом престарелых. – Ты думаешь, что эти дурацкие стартовые ускорители или старик семидесяти восьми лет, выпавший из своей инвалидной коляски, – цепи одного обширного заговора против страховых компаний? – спросил Дар. – И что кто-то специально вызвал из России боевиков лишь затем, чтобы прихлопнуть меня? И снова заговорил капитан Саттон. Для такого высокого мужчины – под два метра ростом – у него был удивительно тихий и мягкий голос. – С ускорителями все ясно. На месте взрыва нашли человеческие останки, а именно зубы. Они принадлежали девятнадцатилетнему Парвису Нельсону, который проживал в Боррего-Спрингс со своим дядей Лероем. Лерой покупал на базе списанный металлолом оптом. Случайно кто-то продал ему два исправных ускорителя. И Парвис решил их испробовать. Оставил дяде записку… – Самоубийца? – поинтересовался кто-то. – Нет, – покачал головой капитан дорожного патруля. – Просто записка, там даже было указано время – 11 часов вечера. Парвис написал, что хочет побить мировой рекорд скорости. И что вернется домой к завтраку. – Самоубийца и есть, – пробурчал Мак-Кол, шериф округа Сан-Диего, и посмотрел на Лоуренса. – Судя по показаниям, вы встретились с мистером Минором перед тем, как отправились снимать встречу шайки угонщиков автомобилей. Эта шайка выбрала «Авис» в качестве жертвы. Могло ли это стать причиной нападения на мистера Минора? – Простите, шериф, – засмеялся Лоуренс, – но угоном автомобилей «Ависа» занималась одна семейка, деревенщина на деревенщине. Ну, вроде тех старых добрых южных семей, у которых на генеалогическом древе нет ни единой веточки. Ни полиция, ни шерифы, ни фэбээровец даже не улыбнулись. Лоуренс кашлянул и продолжил: – Нет, эта шайка никаким образом не связана с русской мафией. Пожалуй, они даже не подозревают, что в России может быть мафия. Это местная работа. Братец Билли Джо работал в «Ависе» и, заполняя обычные документы, аккуратно узнавал, где остановился в данный момент очередной клиент. Затем братец Молчун брал запасные ключи, которые хранились в фирме, и той же ночью угонял автомобиль. Они предпочитали воровать спортивные машины. В пустыне они встречались с кузеном Флойдом, у которого была заправка и гараж, и благоразумно перекрашивали машину. Как только она высыхала, ее перегоняли в Орегон и продавали. Номера машины они меняли, а номера деталей и не думали перебивать. Идиоты! Я послал фотографии и отчет в «Авис» еще вчера, а оттуда уже сообщили и нашей полиции, и орегонской. Главный следователь Олсон слегка повысила голос, чтобы вернуть разговор к прежней теме: – Получается, что вчерашние инциденты, которые вы расследовали, не имели никакого отношения к покушению на вашу жизнь, мистер Минор. – Зовите меня просто Дар, – пробормотал Дарвин. – Дар, – повторила Сидни Олсон, снова посмотрев ему прямо в глаза. Дар вновь поразился, как она ухитрялась сочетать профессиональную серьезность с легким оттенком юмора и жизнерадостности. Может, дело в искорках в ее глазах или движениях ее губ? Дар замотал головой, чтобы прийти в себя. Этой ночью ему так и не удалось выспаться. – Вы совершили что-то такое, – продолжала Сидни, – из-за чего на вас ополчился «Альянс». – Альянс? – не понял Дар. – Так мы называем эту группировку мошенников, – кивнула главный следователь Олсон. – Она весьма многочисленна и хорошо скоординирована. Шериф Филдс откинулся на спинку стула и скривил рот так, словно собрался сплюнуть прямо на стол. – Многочисленная группировка! Операция «Большая чистка»! Девочка, у вас там обычная шайка придурков, которые сперва таранят чужие машины, а потом загребают лопатой страховку. Старо как мир. А все эти суперзадачи – одна трата денег налогоплательщиков. Щеки главного следователя Олсон слегка порозовели. Она метнула в Филдса убийственный взгляд, которому позавидовала бы и Медуза-горгона. – «Альянс» существует на самом деле, шериф. Эти двое русских в «Мерседесе», которые, по данным Интерпола, успели убить с десяток незадачливых банкиров и бизнесменов в Москве, тоже не выдумка. Дыры от «Мак-10» в машине мистера Минора – самые настоящие. Около десяти миллиардов долларов, которые выманили мошенники у страховых компаний Калифорнии… Все это существует на самом деле, шериф! Негодующий взгляд Филдса разбился о невозмутимое лицо Сидни Олсон. Его кадык дернулся, словно шериф передумал-таки плевать на стол и счел за благо проглотить накопившуюся слюну. – М-да, возражений нет. Но давайте поскорее, у всех полно своих дел. Где эта… «Большая чистка»… начнется? Заместитель окружного прокурора Ньюк улыбнулся доброй, утешительной и совершенно фальшивой улыбкой. Так улыбались и будут улыбаться политики всех времен и народов. – Из-за этого инцидента штаб-квартира нашей комиссии спешно переносится в Сан-Диего, – радостно сообщил он. – Пресса заходится криком, желая узнать имя водителя черной «Акуры». Пока мы держали это в тайне, но завтра… – Завтра, – оборвала его Сидни Олсон, снова взглянув на Дарвина, – мы собираемся предоставить им официальную версию. Кое-что мы оставим за кадром – например, что те двое погибших были боевиками русской мафии. Мы сообщим, что это было покушение на частного детектива. Настоящее имя и профессию Дара по очевидным причинам мы огласке предавать не будем. И добавим, что на жизнь детектива было совершено покушение из-за того, что он приблизился к раскрытию какого-то преступления. После этого официального заявления я некоторое время проведу в компании мистера Минора и агентства Стюартов. На этот раз Дарвин с подозрением уставился на Сидни Олсон. Она уже не казалась ему такой же занятной, как Стокард Ченнинг. – Вы подставляете меня, как козу из этого фильма про динозавров… «Парк Юрского периода»? – Именно, – ответила Сидни и широко улыбнулась. Лоуренс вскинул брови. – Больше всего на свете мне не хотелось бы найти у себя на крыше окровавленную ногу Дара, – сказал он. – Мы понимаем, – откликнулась Сидни Олсон. – Заверяю вас, что ничего подобного не случится. Она встала. – Как заметил шериф Филдс, каждого ждут свои дела. Леди и джентльмены, мы будем держать вас в курсе событий. Спасибо, что присутствовали на сегодняшней встрече. Собрание закончилось. Гов Ньюк казался обескураженным, что ему не удалось объявить об этом лично. – Вы собираетесь сейчас домой, на Мишен-Хиллз? – спросила у Дара Сидни Олсон. Дарвин не удивился, услышав, что ей известно, где он живет. Напротив, он был уверен, что главный следователь успела прочитать все его досье, от корки до корки. – Ага, хочу переодеться и посмотреть мыльные оперы. Ларри и Труди дали мне выходной, а других вызовов пока не поступало. – Могу я поехать вместе с вами? – спросила главный следователь Олсон. – Пустите меня в свою берлогу? Дар перебрал в уме тысячу разнообразных ответов с сексуальным подтекстом и отверг все до единого. – Вы будете меня охранять, да? – Совершенно верно, – кивнула Сидни. Она поправила пиджак, отчего на бедре отчетливо прорисовался контур девятимиллиметрового полуавтоматического пистолета. – По пути можно заскочить куда-нибудь и пообедать. Не волнуйтесь, мы еще успеем на «Все мои детишки». Дар только вздохнул.
ГЛАВА 5 Д – ДЕЦИБЕЛЫ
– Мы знакомы всего пару часов, – заметила Сидни, – а вы уже обманываете меня. Дарвин оторвался от кофемолки и посмотрел на гостью. Они заехали перекусить жареным мясом в ресторанчик «Канзас-Сити» – Сидни сказала, что приглядела его еще пару дней назад, но все никак не могла туда добраться, – а потом отправились на Мишен-Хиллз. Дар припарковал свой «Лендкруизер» в гараже на первом этаже – огромном, темном помещении с лабиринтом низких столбиков, которые обозначали места для парковки. Затем они поднялись в большом грузовом лифте – единственном на весь дом – в его квартиру на шестом этаже. Дарвин смотрел, как Сидни бродит по гостиной, оглядывая книжные полки. – Итак, что мы имеем? Около семи тысяч книг, – продолжала Сидни, – не менее пяти компьютеров, отличный музыкальный центр с восемью колонками, одиннадцать шахматных досок, но ни одного телевизора. И как же вы смотрите свои мыльные оперы? Дар улыбнулся, засыпая в кофеварку только что смолотый кофе. – Обычно эти оперы сами находят меня. Они называются «взятие показаний у свидетелей и потерпевших». Главный следователь Сидни Олсон понимающе кивнула. – Но у вас вообще есть хоть один телевизор? Может, в спальне? Пожалуйста, Дар, скажите, что он у вас есть! В противном случае мне останется предположить, что вы первый интеллектуал, которого я встречаю не за решеткой. Дарвин залил воду в кофеварку и включил ее. – Есть. В одном из отделений шкафа, у самой двери. – Ага, – промолвила Сидни, выгибая бровь дугой. – Дайте-ка я догадаюсь сама. Баскетбол? – Нет, бейсбол. По вечерам, когда бываю дома, иногда смотрю прямые трансляции с серии решающих встреч. Он положил две подставки под чашки на маленький круглый кухонный столик. Сквозь огромные восьмифутовые окна лился яркий солнечный свет. – Имсовский стул,[13] – заметила Сид, погладив изогнутую деревянную спинку и черную кожаную обивку стула в углу гостиной, где под прямым углом сходились два книжных шкафа. Гостья села на стул и поставила ноги на оттоманку, сделанную в том же стиле. – Довольно удобно. По-видимому, они настоящие… в смысле, это оригинал. – Верно, – согласился Дар. Он выставил на столик две большие белоснежные кофейные кружки и налил в них дымящийся ароматный напиток. – Сахар? Сливки? – Предпочитаю кофе в стиле Джеймса Брауна,[14] – покачала головой Сид. – Черный, крепкий и густой. – Надеюсь, этот придется вам по вкусу, – сказал Дарвин. Сид неохотно встала с имсовского стула, потянулась и присела за кухонный столик. Попробовав глоток кофе, она одобрительно приподняла брови. – Да, это то, что нужно. Мистер Браун был бы в восторге. – Могу сделать послабее, не такой крепкий. – Нет, мне нравится этот. Она оглядела гостиную и те комнаты, которые были видны с кухни. – Можно я на минутку притворюсь сыщиком? Дарвин кивнул. – Настоящий персидский ковер на всю гостиную. Настоящий имсовский стул. Обеденный стол и стулья с виду – настоящий Стикли,[15] как и испанские светильники. В каждой комнате – предметы ручной работы. Неужели вон та большая картина напротив окна кисти Рассела Чэтема?[16] Особенно известны его литографии. – Именно, – подтвердил Дарвин. – И это масло, а не литография… Такие работы Рассела Чэтема стоят сейчас немало. – Я приобрел эту картину в Монтане несколько лет назад, – ответил Дарвин, допивая кофе. – Еще до шумихи, которая вокруг него поднялась. – И все-таки, – покачала головой Сид, заканчивая инспекцию. – Сыщик сделал бы вывод, что у обитателя этой квартиры водятся хорошие деньги. Вчера разбил «Акуру», а сегодня приехал на «Лендкруизере»… – Разные дела требуют разных машин, – уклончиво ответил Дарвин, начиная слегка раздражаться. Видимо, Сидни почувствовала это, потому что принялась за свой кофе. Затем улыбнулась. – Хорошо, по-видимому, вам настолько же интересно делать деньги, как и мне. – Тот, кто пренебрегает деньгами, либо дурак, либо святой, – сказал Дарвин. – Но мне это занятие представляется неимоверно скучным, да и разговаривать об этом неинтересно. – Ладно. А вот одиннадцать шахматных досок поставили меня в тупик, – призналась Сид. – На каждой – своя партия. В шахматах я полный профан, с трудом отличаю коня от ладьи. Но у меня создалось впечатление, что эти партии не из легких. Неужели к вам часто заходит в гости компания друзей-гроссмейстеров, что приходится держать несколько досок сразу? – Е-мейл, – кратко ответил Дарвин. Сид кивнула и огляделась. – Хорошо, перейдем к книгам. Вот эта стена – вся в книжных полках. По каким критериям вы их расставляли? Не по алфавиту, это уж точно. И не по дате выпуска. Старые тома стоят вперемежку с новыми книгами в мягких обложках. Дарвин усмехнулся. Заядлые читатели всегда первым делом бросаются к книжным шкафам других читателей и пытаются найти в расстановке книг свою систему. – Наугад, – сказал он. – Покупаю книгу, читаю и сую на первое попавшееся место. – Возможно, – согласилась Сид. – Но вы не похожи на небрежного человека. Дарвин промолчал, размышляя о теории хаоса, которая вылилась в его докторскую диссертацию. Сидни внимательно изучала книжные полки. Наконец она забормотала себе под нос: – Стивен Кинг – правая верхняя полка. «Обыкновенное убийство» Трумена Капоте – на две полки ниже, тоже справа. «Убить пересмешника» на второй полке снизу. «Запад Эдема» слева от окна. Хемингуэевская ерунда… – Эй, полегче! – возмутился Дар. – Мне нравится Хемингуэй! – Хемингуэевская ерунда на нижней правой полке, – закончила Сид. – Я поняла! – Да ну? – засомневался Дарвин, мысленно ощетинившись. – Эти полки повторяют карту Соединенных Штатов, – сказала Сидни. – Вы расставляете книги в географическом порядке. Кинг подмораживает свою задницу под потолком, в Мэне. Хемингуэй устроился в тепле, в Ки-Уэсте… – Вообще-то на Кубе, – поправил Дар. – Впечатляюще. А как вы расставляете свои книги? – В соответствии с отношениями авторов друг к другу, – призналась она. – Ну, например, Трумен Капоте рядом с Харпер Ли… – Друзья детства, – согласился Дарвин. – Маленький, неуверенный в себе Трумен стал прототипом Дилла из «Убить пересмешника». Сидни Олсон кивнула. – С уже умершими писателями никаких проблем, – сказала она. – Ну, Фолкнера и Хемингуэя можно держать порознь, но вот с остальными постоянная морока. Я имею в виду, что Ами Тан сперва дружит с Табитой Кинг, но, когда я покупаю следующую книгу, они уже не разговаривают друг с другом. Я трачу больше времени на перестановку книг, чем на чтение, а потом дни напролет гадаю, остаются ли Джон Гришем и Майкл Крайтон друзьями-приятелями или уже поссорились… – Занимаетесь черт знает чем, – дружелюбно попрекнул ее Дар. – Ага, – согласилась Сидни и взялась за свою чашку с кофе. Дарвин вздохнул. Он находился в прекрасном расположении духа и был вынужден постоянно напоминать себе, что Сидни Олсон интересуется им потому, что это ее работа, а не потому, что без ума от его обаяния. – Моя очередь, – заявил он. Сидни Олсон кивнула и отхлебнула кофе. – Вам примерно тридцать шесть – тридцать семь лет, – начал он, понимая, что ступил на запретную территорию. Но не остановился, а поспешно продолжил наступление: – Высшее юридическое образование. Произношение почти лишено влияния восточных диалектов. Но в гласных слышится легкий акцент срединного Запада. Северо-Западный университет? – Чикагский, – уточнила она и добавила: – И должна заметить, что мне только тридцать шесть. Исполнилось в прошлом месяце. – Даже прокуроры округов обычно считают, что должность главного следователя занимают самые толковые стражи порядка в их краях, – тихо, словно разговаривая с самим собой, продолжил Дарвин. – Кого туда обычно назначают? Бывших помощников шерифа, бывших военных, бывших агентов ФБР… Он запнулся и покосился на Сид. – И сколько вы проработали в бюро? Лет семь? – Почти девять, – ответила она. Затем встала, подошла к кофеварке и разлила по чашкам густой ароматный напиток. – Хорошо. Причина увольнения… Дарвин осекся. Причины могли оказаться глубоко личными. – Ничего, продолжайте. Все в порядке. Дар отхлебнул кофе и осторожно предположил: – Извечный вопрос дискриминации женщин? Но мне казалось, что в бюро с этим получше. – Они стараются, – кивнула Сид. – Еще лет через десять я бы достигла потолка. Выше меня был бы только один человек – какой-нибудь политикан и крючкотворец, которого очередной президент назначил бы шефом ФБР. – Так почему вы ушли… – начал Дар и умолк. Он вспомнил о девятимиллиметровом пистолете на ее бедре. – А-а, вы предпочитаете лично проводить закон в жизнь, а не заниматься… – Расследованиями, – закончила Сид. – Именно. А бюро, как ни крути, на девяносто восемь процентов занимается расследованиями. Дарвин потер щеку. – Ясно. А в качестве главного следователя окружной прокуратуры вы ведете расследование, чтобы потом, когда настанет час, вышибить дверь ногой… – А потом как следует пнуть преступника, который прячется за этой дверью, – ослепительно улыбнулась Сид. – И часто? Улыбка Сидни потускнела, но не исчезла до конца. – Достаточно часто, чтобы не потерять форму. – А еще вам поручают проводить межведомственные операции типа «Большой чистки в Южной Калифорнии», – добавил Дар. Ее улыбка наконец пропала. – Да. И я готова побиться об заклад, что у нас с вами одинаковое отношение ко всевозможным заседаниям и комиссиям. – Пятый закон Дарвина, – кивнул он. Сид вопросительно вздернула бровь. – Сумма интеллекта обратно пропорциональна количеству голов, – объяснил Дарвин. Сидни допила кофе, осторожно поставила чашку на блюдце и спросила: – Это закон Чарлза Дарвина или доктора Дарвина Минора? – Не думаю, что Чарлзу часто приходилось заседать в советах и на собраниях, – заметил Дар. – Он просто плавал по морям на своем «Бигле» и загорал, наблюдая за своими любимыми зябликами и черепахами. – А что гласят остальные пункты вашего закона? – Возможно, вы ознакомитесь с ними во время нашего дальнейшего сотрудничества, – ответил Дарвин. – А мы собираемся сотрудничать? Дар развел руками. – Я всего лишь хочу докопаться до сути этого киношного плана. Пока все достаточно шаблонно. Вы выставляете меня в качестве приманки, надеясь, что «Альянс» бросит на меня еще одну парочку киллеров. Конечно, вам придется меня защищать. Поэтому вы будете находиться рядом со мной все двадцать четыре часа в сутки. Хороший план. Он окинул взглядом гостиную и кухню. – Правда, не представляю, где вы будете спать, но мы что-нибудь придумаем. Сидни потерла пальцем бровь. – И не мечтайте, Дарвин. Ночью полицейское управление Сан-Диего вышлет дополнительные патрули. Я же должна осмотреть вашу квартиру и составить… отчет – с точки зрения безопасности, для Говнюка. – И как? – поинтересовался Дар. Сид снова улыбнулась. – Я с радостью доложу ему, что вы проживаете в настоящем сарае, где только часть помещений выделена под квартиры и жилые помещения. На лестнице – никакой охраны… если не считать охраной ту старую сонную клячу. На первом этаже, где вы паркуете свой танк «Шерман», который притворяется спортивной машиной, низкая степень освещенности и нет никакой охраны. Входная дверь… Да, укрепленная, с тремя хорошими замками и цепочкой. Но эти окна – сущий кошмар. Вас запросто подстрелит слепой снайпер с проржавевшим «спрингфилдом» в безлунную ночь. Ни штор, ни жалюзи – голые окна. Может, вы эксгибиционист в душе, Дар? – Мне нравится вид из окна. Он встал и подошел к кухонному окну. – Отсюда хорошо виден залив, аэропорт, Пойнт-Лома, морской порт… Он умолк, осознав, насколько неубедительно звучат его слова. Сидни подошла к окну и встала рядом. Дарвин уловил легкий аромат ее волос и тела. Пахло приятно. Он всегда предпочитал наслаждаться естественным запахом тела, похожим на свежесть леса после дождя, чем крепкими духами. – Вид замечательный, – признала Сид. – Мне нужно вызвать такси, вернуться в «Хайат» и успеть еще сделать несколько звонков. – Я тебя отвезу… – Черта с два! – отрезала Сид. – Уж если наше кино превратилось в такой боевик, оставь свою галантность при себе. Она вызвала такси по телефону, который стоял на кухне. – Ну ты же не собираешься и вправду стеречь меня круглые сутки? – встревожился Дарвин. – И при чем тут боевик? Сидни Олсон утешительно похлопала его по плечу. – Если тебя не снимет снайпер, а русская мафия не перережет тебе глотку в том темном закоулке, который ты называешь гаражом, и если напоследок тебя не пристукнут в подворотне, позвони мне, когда Стюарты пошлют тебя на следующее задание. Официально мы будем вместе расследовать аварии и случаи мошенничества со страховками. – А неофициально? – поинтересовался Дар. – Гм, думаю, что никакого «неофициально» не будет, – ответила Сидни, подхватывая свою тяжелую сумку и направляясь к двери. – Говнюк предоставил мне комнату в здании суда. Я бы официально выразила свою радость, если бы завтра утром ты явился туда, чтобы помочь мне разобраться со случаями, которыми ты прежде занимался. Она написала на визитке свой номер телефона. – И, возможно, я отыщу причины, из-за которых твои давешние приятели в сером «Мерседесе» мечтали отправить тебя на тот свет. – Может быть, они спутали меня с каким-то водителем «Акуры», который проигрался в пух и прах в «Эм-Джи-Эм Гранд-Отеле» и улизнул, не заплатив? – предположил Дар. – Может быть, – бросила Сид, оглядывая комнату и ее хозяина перед тем, как переступить порог квартиры. – Так сколько у вас здесь книг, доктор Минор? – Я сбился со счета после шести тысяч, – пожал плечами Дарвин. – Когда-то у меня было столько же, – заметила Сид. – А потом, когда я стала главным следователем, я их раздала. «Иди налегке» – вот мой девиз. Она шагнула на лестничную площадку, повернулась и погрозила Дару пальцем. – Я не шучу относительно твоего визита в мой кабинет и звонка перед тем, как отправишься на какой-нибудь серьезный случай. Сидни дала ему карточку с номерами рабочего телефона в Сакраменто и пейджера. Поверху, карандашом, был записан номер кабинета в здании суда Сан-Диего. – Конечно, – согласился Дар, разглядывая ее карточку. Дорогая, но без номера домашнего телефона. – Смотри, ты сама этого хотела, – предупредил он. Сид уже шагала по коридору, направляясь к грузовому лифту, и вскоре скрылась за поворотом. Мягкие подошвы ее туфель позволяли ходить практически бесшумно. – Ты сама этого хотела, – повторил Дарвин и вернулся в квартиру.Ее сонный, невнятный голос прозвучал только после пятого звонка. – Олсон слушает. – Проснись и пой, госпожа главный следователь! – Кто это? Одурманенная сном Сид проглотила последнее слово, с трудом выговорив только «т». – Какая у нас короткая память! – злорадствовал Дарвин. – Сейчас без десяти два. Ночи. Ты просила позвонить, когда я в следующий раз поеду по вызову. Я уже одет и выезжаю. Даю тебе целых пять минут на сборы, пока я доберусь до «Хайата». Пауза. Дарвин отчетливо слышал ее тихое дыхание. – Дар… помнишь, я просила позвонить, когда бу-дет что-то серьезное. Если это какой-нибудь водитель трейлера, которого пырнули ножом на Пятом шоссе… – Знаете, главный следователь Олсон, – перебил ее Дар, – никогда заранее нельзя сказать, насколько случай серьезен, пока не приедешь и не взглянешь своими глазами. Но Ларри тоже едет, а он нечасто берет меня с собой. – Хорошо-хорошо, – пробормотала Сид. – Через пять минут я буду готова. – Уже через четыре минуты, – поправил Дар и повесил трубку.
Дорога была относительно пустынна, когда Дарвин свернул с шоссе номер 5 на север, минуя Ла-Джоллу. – Ты слышала про Ла-Джолла-Джойа? – спросил Дарвин, когда Сид уже сидела рядом и полосы света от натриевых фонарей проплывали по ветровому стеклу и их лицам. – Похоже на сценическое имя стриптизерши, – отметила Сид, растирая себе щеки, чтобы хоть немного проснуться. – Похоже, – согласился Дар, – но на самом деле это название новой открытой концертной площадки в Сан-Диего. Она находится в холмах, восточнее магистрали… Вообще-то она ближе к Дел-Мару, но Дел-Мар-Джойа звучало бы не так впечатляюще. – В нем и так нет ничего впечатляющего, – сказала Сид. В ее голосе слышалась усталость человека, работающего более восемнадцати часов в сутки. – Согласен. Мы направляемся именно туда. Скорее всего концерт уже закончился, но там остался по меньшей мере один труп. – Пырнули ножом? – спросила Сид. – Какие-нибудь бешеные мотоциклисты вроде «Ангелов ада»? Или кого-то покалечили, когда стадо поклонников поперло к сцене? Дар не смог сдержать улыбки. – В обоих случаях нас бы не вызывали. Видишь ли, городское управление всегда косо смотрит на несчастные случаи во время концертов на стадионах, особенно групп хеви-метал, и… – А чей концерт был сегодня? – перебила его Сид. – «Металлики», – ответил Дар. – О боже! – скривилась Сид. Судя по ее лицу, можно было подумать, что ей только что прописали клизму с бариевой взвесью. – Тем не менее, – продолжал Дар, – один преуспевающий теперь менеджер выкупил эти сто шестьдесят два акра каменистой местности и огородил. Это что-то вроде пересохшего русла ручья. Впереди – место для парковки машин, посредине – сцена на ровной площадке, а за ней – пологий склон холма, заросший наверху густым лесом, прореженным кое-где вздымающимися утесами. Менеджер установил на этом участке прожекторы, сцену, усилители и три тысячи сидений. Для любителей природы осталась куча места на чудном зеленом склоне холма, где все желающие спокойно могут разместиться на одеялах или просто на траве. Поначалу там было только одно заграждение – вокруг всего участка, но после первого концерта соорудили еще одно, отгораживающее места вокруг сцены от деревьев. Кое-кто из устроителей жаловался, что в темноте зрители занимаются непристойностями. – Видимо, жалобщики притащили с собой прибор ночного видения, если разглядели это в темноте, – заметила Сид. – Ага. Но менеджер тем не менее решил на всякий случай отгородить от зрителей и деревья, и скалы. Поэтому клиент Ларри и Труди нас и вызвал. – Клиент – это менеджер? – Нет. – Значит, страховая компания, которая подтверждала платежные обязательства концертной площадки? – Нет. – «Металлика»? – Нет. – Сдаюсь, – призналась Сид. – Чью же задницу мы едем спасать? – Строительной компании, которая ставила ограждение.
К тому времени как Дарвин, двигаясь навстречу потоку машин, подвел свой «Лендкруизер» по песчаной дороге к концертной площадке, большая часть концертного начальства разъехалась по домам. «Металлика» давным-давно укатила туда, куда обычно укатывала после концертов. Но несколько оглушенных, сонных и одурманенных фанатов еще бродили вокруг сцены. Дар заметил сверкание мигалок в дальнем конце русла давно пересохшего ручья, у обрыва, и повел машину туда. У калитки в низкой ограде, за которой начинались те самые непристойные кусты и деревья, их остановил полицейский калифорнийского дорожного патруля, при свете карманного фонарика проверил документы и махнул рукой – проезжайте, мол. Мигалки принадлежали нескольким полицейским автомобилям, двум каретам «Скорой помощи», машине шерифа, двум тягачам и пожарной машине. Весь этот транспорт сгрудился в узком конце V-образного высохшего русла. Пихты и ели возносились на высоту тридцать-сорок футов, скрывая кронами звезды и вершину обрыва. Фары освещали изломанные останки пикапа, старенького «Форда-250». Дар припарковал «Лендкруизер» и достал из багажника мощный фонарь, после чего они с Сидни направились к месту происшествия. По пути их дважды останавливали и проверяли удостоверения – группа копов и охранники у желтой ленты, которой было обнесено место происшествия. К ним подошел Лоуренс. – Черт, – вырвалось у Дарвина. – Как это ты умудрился поспеть сюда раньше меня? Усы Лоуренса довольно встопорщились. – Что, туго без своей «Акуры», а? – Сид, – повернулся к спутнице Дарвин, – ты наверняка помнишь Ларри Стюарта, вы встречались утром на заседании. – Лоуренса, – поправил Лоуренс. – Добрый вечер, мисс Олсон. – Привет, Лоуренс, – отозвалась Сид. – Что тут у нас? Лоуренс с минуту моргал, не в силах поверить своему счастью – ведь его назвали Лоуренсом! – затем спохватился и начал объяснять: – Как вы и сами можете видеть, имеется разбитый вдрызг «Форд Ф-250». Водитель мертв. Вылетел сквозь переднее стекло и приземлился примерно в восьмидесяти трех футах от машины. Я измерял расстояние шагами, потому мог ошибиться. – Он махнул фонариком в сторону группы людей у подножия дерева, которые стояли и сидели на корточках вокруг трупа мужчины. – Он в темноте врезался в скалу? – спросила Сид. Лоуренс отрицательно покачал головой. Откуда-то неожиданно вынырнул полицейский и подошел к ним. – Сержант Камерон! – удивился Дар. – Далековато вас сегодня занесло. – Кто бы говорил, гроза «Мерседесов»! – парировал Камерон, затем он повернулся к Сид и коснулся пальцами фуражки. – Как поживаете, мисс Олсон? Давненько вас не видал, с тех пор, как вы проводили у нас совещание в прошлом месяце. Сержант сунул руки за пояс, большими пальцами наружу, и оттянул его, так что кожаный ремень натужно затрещал. – Ну да, я тут с самого начала, в охранении был. А как только концерт закончился, нам и сообщили об этом безобразии. – Кто-нибудь слышал, как это случилось? – поинтересовался Дарвин. Камерон мотнул головой. – И немудрено. Когда выступает «Металлика», колонки и публика устраивают дикий рев. Если бы тут рванули ядерную бомбу, как над Хиросимой, все равно никто этого не заметил бы. – Водитель был пьян? – спросил Лоуренс. – На пассажирском сиденье вон того изжеванного пикапа нашли десять банок из-под пива, – ответил Камерон. – Еще восемь-девять штук вылетело из машины вслед за водителем. – Так он врезался в скалу? – переспросила Сид. Лоуренс и Камерон дружно покачали головами. – Видите, как расплющилась эта жестянка? – сказал Лоуренс. – Эта штука свалилась сверху. – Он упал с обрыва? – поразилась Сидни Олсон. – Оттуда? – Чтобы приземлиться таким образом, «Форд» должен был двигаться задним ходом, – заметил Дарвин. – Поэтому водителя выбросило в сторону сцены. Машина сперва ударилась задней частью – видите, как ее сплющило? – отчего водитель вылетел сквозь ветровое стекло, как пробка из бутылки. И только после этого смялся весь корпус. Сидни Олсон подошла поближе к обломкам «Форда», к которым бригада аварийщиков прилаживала два троса. – Отойдите! – крикнул один из полицейских. – Сейчас его поднимут. – Заснять успел? – спросил Дар у Лоуренса. Ларри кивнул и похлопал по чехлу своего «Никона». – А дельце-то интересней, чем казалось, – тихо промолвил он, не сводя взгляда с поднимающегося «Форда». – В каком смысле… – начала Сидни и осеклась. – Господи! Под останками машины обнаружился труп еще одного мужчины. Его голову, правую руку и плечо размозжило в кашу. Левая рука была сломана в нескольких местах, причем, судя по всему, она сломалась еще до того, как ее придавил «Форд». На несчастном была футболка, а штаны оказались спущены до колен. Вернее, они обмотались вокруг высоких ботинок. Все прожектора и фонари скрестили свои лучи на трупе, и Сидни снова выдавила: «Господи…» Ноги и обнаженный торс мужчины покрывали бессчетные раны и порезы. Из бедра торчала рукоятка складного ножа. И все было залито кровью. Вокруг пояса у него была обмотана бельевая веревка, а еще футов сто такой же веревки валялось вокруг тела. И, самое худшее, из заднего прохода мужчины торчал трехфутовый обломок большого сука. Все вздрогнули, разглядев, какой толщины был сук. – Да, – согласился Дарвин, – интересное дельце. Вскоре все было сфотографировано, проверено и измерено. Полицейские и спасатели ходили кругами и спорили, спорили и ходили кругами. Медэксперт и судебный следователь в один голос объявили, что пострадавший мертв. Некоторые из присутствующих испустили долгий вздох облегчения. И тут же разгорелись дебаты по поводу того, что здесь произошло. – И никаких улик, – шепотом посетовал сержант Камерон. – С ума сойти, – покачала головой Сид. – Может, это какая-то сатанинская секта? – Вряд ли, – бросил Дарвин. Он подошел к пятерым пожарникам и о чем-то с ними потолковал. Через несколько минут они подняли длинную пожарную лестницу на вершину обрыва, который снизу был почти неразличим за густыми кронами деревьев. Дарвин, Лоуренс и двое полицейских вскарабкались наверх, прихватив несколько мощных фонарей. Через пять минут они спустились – все, кроме Дара, который остался на верхней площадке лестницы, на высоте двадцать пять футов от земли, и замахал водителю пожарной машины. Лестница, с Дарвином на верхушке, придвинулась к деревьям и утонула в густой листве. Какое-то время он стоял там, светя фонариком во все стороны, пока наконец не закричал: «Нашел!» Сидни, сколько ни приглядывалась, так и не смогла разглядеть, что он там обнаружил и теперь фотографирует. Лоуренс достал из бокового кармана своей рубашки-сафари небольшой бинокль. – Что там? – нетерпеливо спросила Сид. – Трусы того парня, зацепились за ветку, – ответил Лоуренс, но тут же спохватился: – О, простите. Хотите взглянуть? И протянул ей свой бинокль. – Спасибо, нет. Спустя пятнадцать минут обсуждение закончилось, трупы упаковали в пластиковые мешки и утащили на носилках по разным машинам «Скорой помощи», и все угомонились. Лоуренс проводил Дарвина и Сид к «Лендкруизеру». Его «Исудзу Труппер» был припаркован неподалеку. – Так, – начала Сидни Олсон с раздраженной ноткой в голосе. – Я ничего не понимаю. Я не слышала, что ты там рассказывал полицейским. Что же тут, черт побери, произошло? Оба ее спутника остановились и одновременно принялись говорить. И так же дружно умолкли. – Давай, – предложил Дарвин Ларри, – ты расскажешь первую половину. Лоуренс кивнул. Оживленно жестикулируя, он принялся объяснять: – Все началось с того, что двое парней высосали восемнадцать или двадцать банок пива и решили прорваться на концерт. Билетов у них не было, но они знали о старой пожарной дороге, которая шла поверху, и посчитали, что в темноте незаметно смогут по ней проехать. Но на этой дороге наш клиент поставил заграждение – деревянный забор высотой в десять футов. Сид оглянулась и посмотрела на чернеющую в темноте вершину обрыва. Внизу аварийщики грузили обломки «Форда» на плоскую платформу. – Они что, проломились через забор? – тонким голоском спросила Сидни. – Не-а, – ответил Лоуренс, качая головой. – Они успели затормозить. И водитель – тот, который потощее, – развернул машину, помог приятелю перелезть через забор и отправил его поглядеть, далеко ли до концертной площадки. Приятель перелез через забор, но было слишком темно, и он сорвался вниз с обрыва. А внизу – пропасть в тридцать футов. Поэтому он рухнул на верхушки деревьев… – И погиб? Лоуренс снова покачал головой. – Нет, он зацепился за ветку. Видимо, тогда и сломал левую руку. Зацепился штанами и поясом. – Он так и не понял, как высоко он висит, – добавил Дарвин. – Глянув вниз, он принял верхушки более низких деревьев за кустарник и, видимо, решил, что до земли совсем недалеко. – Потому и распорол ножом свои штаны, – закончил Лоуренс. – И пролетел еще двадцать футов, – добавила Сид. – Ага, – сказал Ларри. – Но и тогда остался жив, – произнесла Сидни с полувопросительной интонацией. – Именно, – кивнул Лоуренс. – Только страшно ободрался, пока летел через кроны деревьев. Плюс ко всему всадил себе в бедро нож на целых три дюйма, а задницей напоролся на ту кошмарную ветку. Прошу прощения за прямоту. – И что было потом? – спросила Сид. – Дар, ты первым это обнаружил, – сказал Ларри. – Может, закончишь рассказ? Дар пожал плечами. – Да осталось уже немного. Водитель услышал, что его друг вопит от боли где-то внизу. И сообразил, что тот, вероятно, упал с обрыва. Отчасти крики его товарища заглушал грохот «Металлики», но водитель понимал, что должен что-то предпринять. – И он… – подтолкнула Сид. – И он нашел старую бельевую веревку, которая валялась в багажнике пикапа, и сбросил ее вниз, крикнув приятелю, чтобы тот обвязал конец вокруг пояса, – продолжал Дар. – Это мое предположение. На самом деле все было не так быстро и не так просто. Наверняка водитель долго и матерно ругался, пока его товарищ не обвязал веревку вокруг пояса и не затянул узлом. Водитель накрепко привязал свободный конец к заднему бамперу своего «Форда». – А потом… Дарвин дернул плечом, словно слушатели должны были и так догадаться о результате. Собственно, они уже догадались. – Ну, водитель был на взводе и слишком пьян. Потому по ошибке дал задний ход и проломил забор нашего клиента. Там остался четкий след протектора на земле и дыра в заборе. В результате чего он свалился вместе с машиной прямо на голову своему приятелю и катапультировался через ветровое стекло, пролетев вперед целых восемьдесят пять футов. – Отправь мне утром отчет по е-мейлу. Я составлю официальную версию и перешлю клиенту, – сказал Лоуренс. – К десяти утра я составлю полный анализ, – пообещал Дар. – И вот этим вы себе на жизнь зарабатываете? – покачала головой Сидни.
ГЛАВА 6 Е – ЕРАЛАШ
Первый телефонный звонок раздался в пять утра. – Черт, – проворчал Дар. Вообще-то утро для него начиналось где-то в полдесятого – в десять, когда он сидел за чашкой кофе, жевал булочку и читал свежую газету. Поэтому можно считать, что телефон зазвонил в пять. – Алло! – Мистер Минор, это Стив Капелли из «Ньюсуик мэгэзин». Мы хотели бы поговорить с вами о… Дарвин бросил трубку и перевернулся на другой бок, надеясь урвать еще кусочек сна. Второй звонок прозвучал через пару минут. – Доктор Минор, меня зовут Эвелин Саммерс… Может, вы видели меня на седьмом канале… и я надеюсь, что вы… Дар так никогда и не узнал, на что надеялась эта Эвелин, потому что повесил трубку, отключил звонок и подошел к окну. Кроме патрульной машины, еще вчера неприметно затаившейся за кустами, у обочины стояло три очень даже приметных фургончика телевизионщиков. Пока Дарвин наблюдал за улицей из окна, к ним присоединился еще один, со спутниковой антенной на крыше. Он подошел к телефону и надиктовал сообщение на автоответчик: «Эй, кому там спокойно не сидится? Дома никого, кроме меня и моих доберманчиков. Если тебе есть что сказать – валяй! Нету – проваливай!» Потом Дар отправился в ванную, принял душ и побрился. Десять минут спустя, уже одетый и с чашкой кофе в руке, он снова подошел к окну. Теперь перед домом стояли уже пять телевизионных фургонов и четыре машины, битком набитые журналистами. Так, подумал Дар, им понадобилось сорок восемь часов, чтобы узнать мое имя по номерам несчастной «Акуры». Пожалуй, у кого-то из них есть связи в Департаменте дорожного движения. Дарвин сомневался, что к фамилии и адресу присовокупили его фото с водительского удостоверения, но выглядывать наружу и спрашивать об этом он не собирался. Огонек на телефоне мигал не переставая. Дар начал складывать в спортивную сумку рубашки и брюки, насвистывая мелодию из «Крестного отца». Прибыв во Дворец правосудия, Дар обнаружил, что заместитель окружного прокурора Ньюк остался верен себе и проявил душевную щедрость даже в вопросе передачи одного из кабинетов во временное пользование заезжему главному следователю. «Кабинет» Сидни Олсон располагался в подвале старого крыла Дворца правосудия, рядом с тюремными камерами. Это была небольшая допросная комната. Стены ее, внизу тошнотворно-зеленые, вверху беленые, пожелтевшие от старости, были там и сям разукрашены щербинами и абстрактными узорами из мух, прихлопнутых еще в сороковом году. Из мебели в комнате находились складные столы и металлические стулья. Окон не было, но с одной стороны находилась зеркальная стеклянная стенка, за которой во время допросов скрывался наблюдатель. Зато складные столы ломились от всевозможной техники – начиная с ноутбука «Гейтвей» и заканчивая подсоединенными к нему принтерами, сканерами и прочей оргтехникой. Еще в комнате обнаружились два новых телефона. На дальней стене висела карта Южной Калифорнии, утыканная красными, синими, зелеными и желтыми флажками. Секретарь, бодро стучавший на втором компьютере, сообщил Дару, что следователя Олсон вызвали к окружному прокурору. Но она обещала вернуться через час и просила, если придет доктор Минор, чтобы он ее подождал. Секретарь предложил Дару налить себе кофе и кивнул на неизменную кофеварку на столике под зеркальным окошком. Кофе, который пили копы, на 180 процентов состоял из кофеина, а по вкусу, запаху и виду смахивал на расплавленный дорожный гудрон в жаркий летний день. Дарвин подозревал, что это секретное оружие американских правоохранительных органов против ненормированного рабочего дня, отвратительных условий работы, нищих клиентов и жалкой заработной платы. Дар отхлебнул из пластикового стаканчика и сразу же почувствовал себя уставшим и раздраженным на весь белый свет. – Я зайду попозже, – бросил он. Отыскав в коридоре пустую лавку, Дарвин включил свой ноутбук и допечатал аналитический отчет по случаю на концерте «Металлики». Подсоединил к сотовому телефону шнур для подключения к компьютеру и отправил отчет прямо на факс агентства Стюартов, чтобы они сразу получили распечатку. Укладывая ноутбук обратно в сумку, Дар призадумался о том, как убить следующие полчаса. Приняв решение, он прошел до конца коридора, мимо тюремных камер, в которых заключенные завывали на разные голоса, словно шавки в конуре, и поднялся по отполированным ступеням в старый готический зал суда. От деловой и мерзкой пристройки, в которой располагались кабинетыГовнюка и прочих судейских крыс, старое крыло отличалось отсутствием кондиционеров и поистине королевской роскошью отделки помещений. Два дня назад Дарвин заявил Сидни, что любит мыльные оперы. Поскольку телевизор он обычно не смотрел, то наверстывал упущенное, присутствуя на судебных разбирательствах, пока ожидал слушания тех дел, на которых выступал в качестве свидетеля-эксперта. Проскользнув в зал 7А, Дар присел в заднем ряду и кивнул нескольким знакомым, таким же заядлым слушателям. Ему понадобилась всего пара минут, чтобы вникнуть в суть происходящего. Разбиралось дело о сексуальном домогательстве. Служащая одной маленькой фирмы заявила, что начальник склонял ее к сожительству. В зале стояла одуряющая жара, и добрая половина присяжных задремывала под показания череды свидетелей, которые расцвечивали рассказ о сексуальных пристрастиях начальника все новыми подробностями. Двадцатилетняя девица-регистратор показала, что начальник в ее присутствии неоднократно заявлял, что истица – секретарша сорока с лишним лет – «еще ничего». Через десять минут настала очередь истицы давать показания. Эта женщина живо напомнила Дарвину его университетскую преподавательницу латыни. Громоздкие очки на цепочке, старомодный костюм, белая блузка с пышным жабо, простые туфли и тусклые светлые волосы, собранные в пучок. Она держалась скромно и застенчиво и, судя по выражению лица, уже много раз успела пожалеть, что начала это разбирательство. Ее адвокат умело провел несчастную через серию каверзных вопросов. Тем временем ответчик – маленький, сильно смахивающий на хорька человечек – извелся от жары в своем шерстяном костюме, отчего постоянно ерзал и елозил на стуле. Истица отвечала так тихо, что судье дважды приходилось просить ее повторить свой ответ погромче. Некоторые присяжные едва удерживались, чтобы не соскользнуть в послеобеденный сон. Дар был знаком с судьей. Его честь Уильям Райли Уильямс, шестидесяти восьми лет от роду, отличался таким количеством морщин и подбородков, что походил на восковую скульптуру киноактера Уолтера Метау, которую кто-то неосторожно поднес к открытому огню. Но Дарвин также знал, что за дремотной, скучающей внешностью судьи Уильямса скрывается острый и проницательный ум. Адвокат истицы наконец добрался до главного вопроса. – Мисс Максвелл, какое же проявление предосудительного поведения вашего непосредственного начальника послужило причиной того, что вы вынуждены были решить этот конфликт только путем судебного разбирательства? Последовала пауза, во время которой истица, судья и немногочисленные слушатели мысленно переводили этот пассаж с юридического языка на человеческий. – Вы спрашиваете, что сделал мистер Стаббинс такого, из-за чего я решила начать судебный процесс? – наконец выдавила мисс Максвелл. Говорила она так тихо, что все присутствующие в зале, кто еще не заснул, вытянули шеи, чтобы получше слышать. – Да, – ответил адвокат, не рискуя больше сбиваться с нормального английского языка. Мисс Максвелл покраснела. Румянец залил сперва ее шею, выглядывающую из белой пены жабо, перекинулся на щеки и, наконец, окрасил лоб в ярко-розовый цвет. Казалось, на нее плеснули красной краской. – Мистер Стаббинс сказал… он сделал мне нескромное предложение. Судья Уильямс облокотился о стол, подпер ладонью свои бесчисленные щеки и подбородки и попросил истицу повторить ответ погромче. Она повторила. – И вы сочли это нескромное предложение домогательством? – спросил адвокат. – О да, – кивнула мисс Максвелл и зарделась еще гуще. Она потупила взгляд и теперь смотрела на свои судорожно стиснутые руки. – Не могли бы вы сказать суду, какое непристойное предложение сделал вам начальник? – с нескрываемым триумфом в голосе попросил адвокат, поворачиваясь к присяжным. Мисс Максвелл с минуту глядела на свои руки, а затем едва слышно что-то прошептала. Дарвин и другие слушатели подались вперед. Все поморщились, изо всех сил пытаясь расслышать ответ истицы. – Вы не могли бы повторить это погромче, мисс Максвелл? – попросил судья. У него даже голос был похож на голос Уолтера Метау. – Я не могу, я стесняюсь, – призналась несчастная секретарша, быстро-быстро захлопав ресницами за стеклами своих огромных очков. Адвокат озадаченно обернулся к истице. Видимо, этот ответ выбивался из канвы его тщательно отрепетированной пьесы. Мистер Стаббинс ухмыльнулся и принялся что-то шептать своему адвокату, который с самого начала заседания хранил невозмутимое выражение лица. – Могу я посовещаться с адвокатом защиты? – спросил адвокат мисс Максвелл, не желая отказываться от успеха, достигнутого путем сложной юридической эквилибристики. Последовало краткое совещание, во время которого адвокат защиты что-то лопотал, адвокат истицы захлебывался шепотом и яростно жестикулировал, а судья молча слушал и хмурил брови. Через несколько минут адвокаты расселись по местам, а судья обратился к пылающей от смущения истице: – Мисс Максвелл, суд понимает ваше нежелание повторять вслух фразу, которую вы восприняли как непристойное предложение. Но, поскольку обстоятельства вашего дела требуют, чтобы суд и присяжные точно знали, что именно вам сказал мистер Стаббинс, не могли бы вы написать эту фразу на бумаге? Мисс Максвелл призадумалась, кивнула и побагровела еще больше. Наблюдатели с недовольным стоном опустились на скамейки. Судебный пристав принес ручку и блокнот стенографиста. Мисс Максвелл писала злосчастную фразу, казалось, целую вечность. Пристав вырвал листок из блокнота и протянул его судье. Судья прочел, выражение его лица нисколько не изменилось. Он поманил адвокатов и отдал им листок. Те молча прочли и от комментариев воздержались. Пристав, с листком в руке, подошел к скамье присяжных заседателей. Первой сидела женщина – очкастая, высокая, худощавая, но на удивление полногрудая. Она была одета в черный деловой костюм и белую блузку, и ее волосы тоже были собраны в пучок. – Передай листок господину старшине присяжных, – приказал приставу судья Уильямс. – Госпоже старшине! – заявила дама на переднем сиденье и возмущенно вскинула голову. – Прошу прощения? – переспросил судья, приподнимая с ладони многочисленные щеки и подбородки. – Госпоже старшине, ваша честь, – повторила женщина. Ее и без того тонкие губы сжались в едва заметную щелочку. – Ах да, – спохватился судья Уильямс, – конечно. Пристав, отдайте, пожалуйста, этот листок старшине присяжных. Госпожа старшина, когда прочтете надпись, передайте, пожалуйста, ее всем остальным присяжным. Взгляды всех присутствующих в зале впились в лицо госпожи старшины. Она внимательно изучила надпись на листке и брезгливо поморщилась. Покачав головой, дама протянула листок следующему присяжному, сидевшему слева. Дарвин успел заметить, что «присяжный номер два» – полный мужчина в полосатом пиджаке – давно клевал носом. Он сидел, прикрыв глаза и сложив руки на внушительном брюхе, и разве что не храпел. Дар прекрасно знал, что присяжные частенько задремывали во время судебных разбирательств, особенно в жаркий летний день. Ему приходилось наблюдать это воочию, даже когда он давал показания во время слушания дел о предумышленном убийстве. Госпожа старшина толкнула «присяжного номер два» локтем в бок. Тот вздрогнул и открыл глаза. Не замечая, что на него обращено внимание всего зала, толстяк взял листок из рук грудастой дамы и прочитал, что на нем было написано. Вытаращив глаза, он снова перечитал надпись. Затем медленно повернулся к госпоже старшине, подмигнул и кивнул головой. Блокнотный листок он сложил и сунул в карман. В зале воцарилась такая тишина, что ее можно было резать на части и продавать школьным учителям – оптом и в розницу. Все взгляды метнулись в сторону судьи и судебного пристава. Пристав шагнул к скамье присяжных, замер и повернулся к судье Уильямсу. Его честь открыл рот, закрыл и принялся тереть свои подбородки, пытаясь скрыть ухмылку. Истица от смущения была готова забраться под скамью. – Суд удаляется на совещание, – объявил судья Уильямс. Он ударил молоточком и удалился в вихре складок своей необъятной мантии. Слушатели поднялись с мест, подталкивая друг друга локтями и сдавленно хихикая. «Присяжный номер два» ухмылялся и многозначительно подмигивал госпоже старшине, которая косилась на него и закатывала глаза. А затем вышла из зала, распространяя вокруг себя волну арктического холода.Вернувшись в допросную комнату, которую Говнюк предоставил Сид в качестве кабинета, Дарвин обнаружил там главного следователя Олсон, с головой ушедшую в работу. Секретарь куда-то делся. Маленький вентилятор и открытая нараспашку дверь слегка разгоняли духоту, но за пятьдесят лет комната успела крепко провонять потом испуганных преступников и уставших полицейских. – Спасибо, что дождался, – сказала Сидни. – Окружной прокурор и Говнюк показали мне утренние газеты. Они уже не называют тебя дорожным убийцей. – Ага, – кивнул Дар, наливая себе чашечку гудрона. – Теперь я таинственный детектив. – Поглядим, какой из тебя детектив, – улыбнулась Сид и указала на карту, утыканную разноцветными флажками. – Можешь определить, что обозначает моя маленькая тактическая карта? Дарвин достал из кармана очки, в которых обычно читал, и, сдвинув их на кончик носа, пригляделся к карте. – Красные и синие флажки расположены на дорогах… не на улицах, а на магистралях. Думаю, это… столкновения по вине одного из водителей? Вернее, инсценированные столкновения? Сид кивнула с радостным удивлением. – По большей части. А в чем разница между красными и синими? – Понятия не имею. Красных больше… Постой-ка, я помню вот этот случай, на шоссе I-5. Летальный исход. Машина – допотопный «Вольво», голубого цвета. Водитель – безработный эмигрант. Столкнулись две машины, но водитель «Вольво» – кстати, пострадавшая сторона – погиб. – Красные флажки обозначают случаи с летальным исходом, – кивнула Сид. Дар присвистнул. – Так много? Не понимаю. Обычно столкновения по вине водителей случаются на городских дорогах, а не на шоссе. Там слишком опасно… да и должен же кто-то выжить, чтобы заплатить деньги! Сид кивнула. – А зеленые флажки? Дар изучил расположение многочисленных зеленых флажков. Два – в порту Сан-Диего. Еще три, все вместе, на опасном повороте в холмах к востоку от Дел-Мара. Остальные – вокруг Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Но не на шоссе. – Аварии из-за технических неполадок, – предположил Дар. – Тех двоих в порту сперва подозревали в том, что они инсценировали несчастный случай, из-за большой страховки. Но оба рухнули с парапета и разбились насмерть. Смотреть было не на что. – И все-таки это было инсценировано, – заметила Сид. Дар с сомнением посмотрел на нее. – Похожий случай я как-то расследовал. Один маляр, работавший на стройке, подозревался в инсценировке нескольких несчастных случаев. А потом сорвался с лесов и упал на сваленные в кучу стальные трубы. Его семья, конечно, нуждалась в деньгах, но не до такой же степени. Обычно семьи мошенников живут на страховку от инсценированных несчастных случаев. Сид усмехнулась и скрестила руки на груди. – А что ты скажешь о желтых флажках? – Он только один, – отметил Дар. – Остальные приколоты к краю карты и ждут своего часа. – Ну? – И этот единственный флажок – у озера Эльсинор, рядом с рестораном «Кругозор». Поэтому сдается мне, что это мой случай. – Правильно. Собственно, желтые флажки будут обозначать места покушений на твою жизнь. Дар вскинул бровь и посмотрел на остальные флажки на краю карты. Их было не меньше дюжины. – Мне нужно заехать к Лоуренсу и Труди, – бросила Сидни, собирая огромную спортивную сумку и укладывая свой ноутбук в кожаный чехол. – Я примерно знаю, где они живут, но рассчитываю, что ты меня довезешь. – Я не еду в Эскондидо, – покачал головой Дар. – Я собирался возвращаться домой. Пресса… – Ах да, – усмехнулась Сид. – Я посмотрела новости по местному каналу в семь утра. У них до сих пор нет твоей фотографии. Отчего эта братия просто исходит на дерьмо. – Исходит на дерьмо? – повторил Дар, потирая подбородок. – Как тебе удалось выбраться из дома незамеченным? – Дежурные полицейские удерживали эту толпу на главной улице, – ответил Дар. – Я просто вывел «Лендкруизер» на боковую улочку и добрался до шоссе в объезд. – Видимо, у них есть и номер твоей «Тойоты», – предположила Сид. Дарвин кивнул. – Но я припарковал машину черт знает где, на задворках, за площадкой с мусорными баками. Сид скорчила гримаску. – Да знаю, – отозвался Дар. – Завтра я помою машину. Но вряд ли пресса там ее отыщет. – Ладно, – вздохнула главный следователь Олсон, – но до конторы Стюартов ты меня можешь подбросить? – Могу, – ответил Дар. – Но обратно тебе придется добираться своим ходом. После работы я еду в свою хижину под горой. – Отлично, – согласилась Сид. – Заскочим ко мне в «Хайат»? Мне надо взять кое-какие вещи. Дар нахмурился. Главный следователь остановилась у двери. – Копам Сан-Диего приказано тебя охранять круглосуточно, – начала объяснять она. – Но если ты направишься в свою хижину в горах, то окажешься вне их юрисдикции. Мы, конечно, можем попросить местного шерифа выделить людей для твоей охраны… – Послушай, я ничего такого не хотел… – начал Дарвин. Сид вскинула руку. – Но я не только профессиональный телохранитель. Я собираюсь проверить все электронные и бумажные отчеты по тем делам, которые ты расследовал, и найти какую-нибудь ниточку к преступникам. Дарвин с минуту смотрел на нее, краем глаза изучая отражение всей комнаты в зеркальном окошке. «Интересно, – промелькнула у него мысль, – кто наблюдает сейчас за нами?» – А у меня есть выбор? – поинтересовался он. – Конечно, – заверила главный следователь, одарив Дара самой чарующей из своих улыбок. – Ты же свободный гражданин. – Хорошо, – начал Дар. – Конечно, ты же свободный гражданин, которому светит обвинение в непредумышленном убийстве и за которым установлено круглосуточное наблюдение. И выбор у тебя есть – вести машину самому или пустить за руль меня. Лоуренс и Труди оборудовали контору у себя на дому, неподалеку от Эскондидо. «Агентство расследований Стюартов, инк.» располагалось в большом двухэтажном коттедже на холме, густо заросшем деревьями и кустами. Неподалеку проходила дорога, которая вела к новому современному гольф-клубу. Ни Лоуренс, ни Труди не играли в гольф. На самом деле эта семейная пара редко уделяла внимание чему-то, что не относилось к их непосредственной работе, а в часы досуга они увлекались авторалли. Само здание занимало примерно четыре тысячи пятьсот квадратных футов, но большую часть дома Стюарты отвели под рабочие кабинеты. Первые три года, которые Дар был с ними знаком, их гостиная с высоким куполообразным потолком вообще пустовала. Он припарковал «Лендкруизер» на стоянке, запруженной другими машинами – старый «Исудзу» Лоуренса, «Форд Контур» Труди, взятый в аренду, «Форд Эконолин» с тонированными стеклами и два гоночных автомобиля. Один стоял на платформе прицепа, а второй – в гараже на три места, рядом с накрытым брезентом «шестьдесят седьмым» «Мустангом» и двумя мотоциклами «Голдвинг». – Это все принадлежит им? – поразилась Сид, озирая весь четырехколесный пантеон. – Конечно, – подтвердил Дар. – Еще была парочка «Мустангов» последней модели, но они их продали, когда приобрели гоночные автомобили. – Они участвуют в гонках? – Да, особый класс. На старых «Маздах RX-7», – сказал Дар. – Ларри участвует в гонках в Калифорнии, Аризоне, Мексике… везде, куда можно добраться за сутки. – И Труди ездит вместе с ним? – Лоуренс и Труди всегда все делают вместе. Дарвин нажал кнопку домофона. Пока они ждали, Сидни изучала дома по соседству. – И ни одной пешеходной дорожки… – Вы недавно в Калифорнии, госпожа следователь? – спросил Дар, приподняв бровь. – Три года, – ответила Сид. – Но так и не привыкла к тому, что здесь нет дорожек. Дарвин кивнул на гараж и стоянку, забитую транспортом. – Какого черта им может понадобиться пешеходная дорожка? – Входите, – раздался голос Труди. – Мы на кухне. Пропутешествовав через пустынные комнаты, забитые аппаратурой и компьютерами кабинеты и едва тронутую хозяйской рукой столовую, они обнаружили агентство Стюартов в полном составе за кухонным столом. У них был перерыв на обед. Лоуренс восседал на табуретке, упираясь локтями в подставку для чайника. Лицо его было багровым от напряжения. Труди стояла, навалившись на стол и подавшись всем телом в сторону своего массивного супруга. Казалось, что они ведут дружескую перепалку – Банка Мелкой Вместимости, – прорычала Труди. – БЬЮщееся Иностранное Корыто, – отчеканил Лоуренс. Он указал Дару и Сид на свободные стулья у стойки и махнул на кофеварку и батарею чистых чашек. Когда гости налили себе кофе, Лоуренс промолвил: – Дорожная Жаба… Ищет Приключений. – Дурака Обманули Дырявым Железом, – откликнулась Труди. И тут же воскликнула, словно отбивая невидимую подачу: – Фиговый Он Разгон Дает! Лоуренс замялся. – Форменное Извращение, А Тужится, – неожиданно выдала Сидни. – Вместе – «Фиат»! – О господи! – подпрыгнул на стуле Дарвин. – Тсс! – зашипела Труди. – Собьешь с мысли. Присоединяйтесь, главный следователь. Ваша подача. – А-а, та же буква, – усмехнулась Сид. И присоединилась: – Форы Ослу Редко Даст. – Фиг Обгонишь – Ремонт Дороже, – выдал Лоуренс и тут же добавил: – Абсолютно Убогая Дырявая Индюшка! – Автомобиль Устроит Другим Инфаркт! – выкрикнула Труди. – Американский Колесный Унитаз Раздает Авансы, – тоненько пропела Сид. – Очко в твою пользу. «Колесный унитаз» – это здорово! Загадывай букву. – Модель Азиатская, Зато Дорогая Адски, – сказала Сид. – Может, Азиатская, Зато Дырявит Асфальт! – рявкнул Лоуренс. – Машина И ЦУнами Бы ИСколесила Изрядно! – победоносно выкрикнула Труди. Она допила свой кофе и хмуро посмотрела на супруга. – А повторять загаданное другими нельзя, Ларри. «Может» и «зато» уже были, так что твоя «Мазда» гонку проиграла. – Лоуренс, – поправил Лоуренс. – Ну что, наигрались? – спросил Дар. – Вот уж нет, – отрезала Труди. – Теперь моя очередь. Она призадумалась и произнесла: – ПОганая Развалина Шевелится Едва. – «Порше» вовсе не поганая развалина, – заметил Дар. Никто не обратил на него внимания. Возможно, он просто не понял правил игры. – Починить ЛИмузин… МУчительно Тяжело, – сказал Лоуренс. – Это что, ты так «Плимут» разложил? – спросила Труди. – Ладно, тогда… ПО Нутру Такой Идиотский Автомобиль Кому-то. – Когда я был подростком, – сказал Дар, – у меня был старый «Крайслер». Так моя подружка прозвала машину «Беатрис». Все посмотрели на Дарвина так, словно он внезапно громко пукнул. – Какая там еще осталась буква? – спросил Лоуренс. – «Эн», «р» и «кью». Теперь загадывает Сид. – Новый Или Старый, Сразу Абсолютно Не разберешь, – сказала Сидни. – «Разберешь» лишнее, желательно тютелька в тютельку, – поправила Труди. – Тогда я загадываю. Разобьешь, Если Начнешь Обгон. – Редко Ездит НОрмально, – смущенно кашлянув на неожиданном переносе, сказал Лоуренс. – ЭРотический ЭКЗемпляр, – выпалила Сид. На мгновение все умолкли, а потом Лоуренс досадливо крякнул – сейчас он водил как раз «RX-7». – Эй! – возмутился Дар. – А почему я не загадываю? Давайте я начну, а кто перебьет – тот выиграл. – Идет, – согласились все трое. – Каюк! – воскликнул Дар. – Это что за машина? – удивилась Труди. – «Кью-45», – ухмыльнулся Дар. – Это новая модель, – проворчал Лоуренс. – Мягкий знак пропустил, – злорадно заметила Труди. – Не считается! – Считается, – твердо ответил Дар. – Я выиграл. – А тебя в судьи никто не выбирал, – беззлобно заметил Лоуренс. Дарвин усмехнулся. – Я не судья и не присяжный, – ответил он. – Я господин старшина! Потом многозначительно поглядел на стопки папок с документами, сложенных на столе в соседней комнате. – Может, поищем наконец, из-за чего русская мафия решила меня прикончить?
ГЛАВА 7 Ж – Ж-Ж-Ж
После трех часов и восьмидесяти папок с отчетами Лоуренс откинулся на спинку стула и сказал: – Сдаюсь! Я вообще не понимаю, что именно мы ищем. – Подстроенные случаи, – спокойно ответила Сид, указав на стопку папок, которая еще ждала впереди. – Так это шестьдесят с чем-то процентов от всех случаев, которыми мы занимались, – заметила Труди. – И ни один из тех, которые расследовал Дар, не стоят того, чтобы нанимать убийц. Главный следователь устало кивнула. Дарвин отметил, что во время чтения она надевала очки в тонкой оправе. – Ну, – сказал он, – по крайней мере нельзя пожаловаться, что читать было скучно. – Да, заявления пострадавших – настоящие шедевры, – кивнула Сид. – Вот, например: «Телеграфный столб быстро приближался. Я попытался свернуть с его пути, но он врезался в мою машину». Труди открыла свою папку. – А вот одно из моих любимых… «Я был за рулем уже сорок лет, а потом случайно заснул и попал в аварию». Дарвин вытащил еще один листок со старым заявлением. – А вот тут преступник никогда не слышал о Пятой поправке[17]… «Этот парень был повсюду. Мне пришлось несколько раз выкручивать руль, прежде чем я сбил его». Лоуренс фыркнул и зарылся в свою папку. – А мой истец слишком часто смотрел «Секретные материалы»… «Невидимая машина появилась ниоткуда, врезалась в мою машину и исчезла». – У меня тоже есть такой загадочный случай, – вспомнила Труди и пролистала свою папку. – Вот… «Авария произошла оттого, что передняя дверца чужой машины неожиданно выпрыгнула из-за поворота». – Я сам не люблю такие ситуации, – согласился Дарвин. – А вы заметили, как жертвы аварий любят сваливать вину на других? – спросила Труди. – Вот типичный пример: «Пешеход, которого я не заметил, врезался в меня, а потом упал под колеса». – Но они довольно честные ребята… по-своему, – заметил Лоуренс. – Я помню заявление одного типчика: «Возвращаясь с работы, я повернул к чужому дому и врезался в дерево, которого у меня нет». Заглянув в свои бумаги, Труди захихикала и прочитала: – «Я съехал с обочины, взглянул на свою тещу и проехал сквозь ограждение набережной». – Ну, этого парня я могу понять, – пробормотал Лоуренс. Труди перестала хихикать и сурово посмотрела на мужа. Сид внезапно громко рассмеялась. – А вот вам и преднамеренное убийство. «Пытаясь убить муху, я врезался в столб». – По-моему, мы тупеем, граждане, – заметил Дарвин, взглянув на часы. – Начинаем тупеть, – поправила Труди, оглядывая стопки папок со случаями мошенничества. – Ну что, есть здесь что-то подходящее? – Мне кажется, два случая подходят, – ответил Дар, вытягивая несколько папок из общей кучи. – Помните случай с арматурой на шоссе I-5, в мае? – И что это? – не поняла Сид. – Арматура – это стальные прутья, которыми армируют бетон… ну, укрепляют, – объяснил Лоуренс. – Я знаю, что такое арматура! – обиделась главный следователь. – Я спрашиваю, что за случай? – Двадцать третье мая, – сказал Дарвин, проглядывая отобранную папку. – Шоссе I-5, двадцать девятая миля к северу от Сан-Диего. – О господи, – вспомнил Лоуренс. – Ты просматривал видеозапись, а я приехал туда одним из первых. Кошмар! Сидни молчал ждала объяснений. – Парень-вьетнамец, три месяца назад приехавший в Штаты со своей семьей – восемь детей, – работал шофером у цветовода. Он водил один из фургончиков «Исудзу», у которых двигатель находится под сиденьем водителя, а впереди – только плексиглас в тонкой жестяной рамке, – начал рассказывать Лоуренс, морщась от вставшей в памяти картины. – Он ехал за грузовиком с открытым кузовом, который принадлежал одной из строительных компаний Ла-Джоллы – «Барнет конструкшен». Обычный семейный бизнес. Собственно, владелец фирмы, Билл Барнет, и был за рулем грузовика. – И эта арматура торчала из кузова? – поинтересовалась Сид. – На восемь футов, – ответил Лоуренс. – Конечно, на ней висели красные тряпочки, но… – Он умолк и тяжело вздохнул. – Этот бедолага вьетнамец ехал со скоростью пятьдесят пять миль в час, когда перед Барнетом неожиданно вынырнула машина, и он ударил по тормозам. Очень резко. – А вьетнамец не успел, – предположила Сидни. Дар покачал головой. – Успел, но тормоза отказали. Вытекла тормозная жидкость. Сид переглянулась с остальными – такой тип повреждений встречался редко. – Арматура пробила переднее стекло фургона и пронизала парня в четырех-пяти местах, – продолжил Лоуренс. – А потом вытащила его, нанизанного на прутья, из фургона через разбитое ветровое стекло. Грузовик Барнета не остановился, а просто притормозил. Во время инцидента скорость упала до тридцати миль в час, но потом он поехал дальше, а этот несчастный сукин сын продолжал болтаться на железных прутьях… Ему пробило лицо, горло, грудь, левую руку… – Но он был еще жив, – заметил Дар. – Некоторое время, – кивнул Лоуренс. – Барнет не знал, что делать, но ему хватило ума не жать на тормоз снова. Иначе этого беднягу, мистера Фонга, насадило бы на арматуру еще сильнее. Потому Барнет свернул на обочину и очень медленно сбросил скорость. Несчастный Фонг так и остался висеть. – Естественно, это не столкновение по вине водителя, – заключила Сидни. – Особенно если учесть, что пострадавший был позади грузовика. – Мы тоже так думали, – сказала Труди. – Но когда Дар восстановил картину происшествия, то вышло, что один водитель определенно виноват. Движения на дороге почти не было. И тут внезапно перед носом грузовика появляется белый пикап, резко тормозит, а потом набирает скорость и уносится по боковой дороге. – Ну и что? – удивилась Сид. – Понимаешь, – начала объяснять Труди, – эта боковая дорога была с правой стороны. Грузовик ехал по крайней левой из пяти полос. Движения почти не было, и жертва, мистер Фонг, совершенно легко могла ехать по другому ряду, а не впритык за грузовиком. Это слишком похоже на инсценировку… – Едва ли они рассчитывали на то, что «жертва» погибнет или покалечится, – сказала Сид. – Видимо, они полагали, что арматура повредит фургон, за что строительной фирме придется выложить денежки. Мистер Фонг вряд ли ожидал, что напорется на прутья и будет на них еще долго трепыхаться. Он умер? – Да, – кивнул Лоуренс. – Через три дня, не приходя в сознание. – Компенсацию выплатили? – спросила главный инспектор. – Два с половиной миллиона, – ответила Труди. – Фирма Барнета едва сводила концы с концами, – вздохнул Лоуренс, – и на общую сумму рисков по договору страхования он мог выделить совсем немного. Эта компенсация разорила его. Сидни заглянула во вторую папку. – Следующий случай у тебя тоже отмечен красным флажком, – напомнил Дар. – На шоссе I-5. Самое настоящее подстроенное столкновение. Виновник происшествия, мистер Фернандес, сидел за рулем большого старого «Бьюика». Он уже три раза получал страховку по временной нетрудоспособности, и восемь раз его иски не удовлетворяли. – Но этот тоже закончился трагически? – уточнила Сид. – Да. Сперва все шло как задумано. Перед «Бьюиком» неожиданно появился пикап и резко затормозил. Жертва мошенничества, новый «Кадиллак», как и положено, ткнулась «Бьюику» в зад. А потом машина Фернандеса взорвалась… – Я думала, такое случается только в кино, – заметила Сид. – Как правило, – согласился Дар. – Но в ходе расследования я обнаружил в бензобаке «Бьюика» остатки самодельного устройства, состряпанного из батарейки. Оно должно было выдать искру при любом резком ударе по заднему бамперу. – Убийство, – подвела итог Сид. Дар кивнул. – Но в обоих случая адвокат – а адвокат был один и тот же – возбудил дело против обоих водителей и фирмы-производителя. Так что уголовного расследования по преднамеренному убийству не было, а все скатилось в разбирательство с производителями. – Интересно, – сказала Сид, – по каким параметрам они отбирали жертву? – По нескольким факторам, – ответила Труди. – Во-первых, машина должна быть дорогой… – Особенно такой, у которой на бампере наклейка любой приличной страховой компании, – добавил Лоуренс. – Желательно с пожилым водителем за рулем, – продолжила Труди. – У которого уже не такая хорошая реакция и который предпочтет перестраховаться и нажать на тормоз. – Конечно, в их планы не входит убийство людей в намеченной машине, – вставил Дар. – Для сообщника в задней машине главное – получить какую-нибудь легкую травму. Например, повреждение шейных позвонков или нижнего отдела позвоночника, хотя страховые компании могут и придраться. – Но классический случай инсценированного столкновения закончился смертью водителя, Фернандеса, – заметила Сид. – Да и случай с мистером Фонгом трудно инсценировать… – Верно, – согласился Дар. – Едва ли найдется доброволец, желающий въехать в груду арматуры. – Разве что это было его первое столкновение, – добавила Сид. – Или его заставили. А мистер Фернандес… – Был найден в типичной для инсценировщика позе, – подхватила Труди. – Нырнул под рулевое колесо. Багажник «Бьюика» оказался забит мешками с песком. Обычно мошенники так делают, чтобы смягчить удар. Но все это сгорело, включая мистера Фернандеса, когда «Бьюик» взлетел на воздух. – Компенсация? – Шестьсот тысяч, – ответил Лоуренс. – Теперь мы вплотную подошли к адвокату, который вел оба дела, мистеру Джорджу Мерфи Эспозито, – промолвила Сид. – Он всегда приезжает на место происшествия раньше «Скорой помощи». – Труди засмеялась. – Эспозито даст форы любой машине «Скорой помощи», – сказала она. – Он нюхом чует, где будет авария, еще до того, как она произошла. Сидни кивнула. – Дарвин, как ты считаешь, мог Эспозито натравить русских на тебя? – Моя интуиция говорит, что нет, – вздохнул Дар. – Эспозито – мелкая пташка. Он обычно работает с простыми случаями мошенничества по страховкам. Я не припомню, чтобы он брался за более сложные дела или вращался в высоких кругах, через которые можно выйти на русскую мафию. – А это идея, – заметила Сид. – Кто из других юристов или докторов стоит на первом месте в вашем списке? – Списке по делам о страховом мошенничестве? – переспросила Труди. – Да. – Кроме Эспозито, это Роже Вильерс, Бобби Джеймс Такер, Николас ван Дерван, Абрахам Уиллис… – начала Труди. – Эй, – вмешался Лоуренс, – Уиллис умер. – Когда? – удивленно поднял брови Дар. – Я свидетельствовал в суде против его истца всего месяц назад. – В прошлый вторник, – сказал Лоуренс. – Под Кармелем. Его машина упала с обрыва. – Да, все мы смертны, – вздохнула Сид. – Эспозито начал судебный процесс от имени его семьи, – сказал Лоуренс. – Профессиональная любезность, – фыркнула Труди. Сид встала и потянулась. – Ну, мы пересмотрим отчеты Дарвина по этим случаям и попытаемся найти какую-нибудь зацепку. Труди перевела взгляд с Сидни на Дара. – Вы возвращаетесь в Сан-Диего? Дарвин только покачал головой. – На выходные, – сказала Сид, – мы будем скрываться от прессы в его хижине. Брови Лоуренс взлетели вверх, и он многозначительно глянул на Дара, только что не подмигнул. – Давненько ты туда никого не приводил, а, Дар? Ну, кроме нас. – А у меня, кроме вас, никого и не было, – мягко улыбнулся Дарвин. – Похоже, это будет что-то вроде домашнего ареста. Наступило молчание. Затем Труди спохватилась: – Ах да… прежде чем вы уйдете… следователь Олсон… – Сид, – попросила Сидни. – Сид, – кивнула Труди и продолжила: – Вы не могли бы дать нам консультацию по поводу одной видеозаписи? – Конечно, – согласилась Сид. – О нет, Труди! – простонал Лоуренс и залился краской. – Господи… – Нам нужно узнать мнение специалиста, – возразила Труди. – Только не это, – ответил Лоуренс, снял очки и протер их носовым платком, смущаясь и багровея все сильнее. – Запись длится около часа, – объяснила Труди, – но мы поставим на быструю перемотку. Дар, ты часто давал показания по таким делам. Меня интересует и твое мнение тоже. Труди повела Дара и Сид в гостиную, где стояли телевизор с диагональю 60 дюймов и видеомагнитофон.Запись началась с застывшего кадра, на котором была женщина средних лет, одетая в лайкровый спортивный купальник, шорты и теннисные туфли. Затем картинка ожила. Женщина отошла от небольшого, средней руки, коттеджа и села в старенькую помятую «Хонду Аккорд». Камера выхватила лицо женщины крупным планом, но на ней были черные очки, а вокруг головы обмотан шарф, так что различить черты лица было затруднительно. В нижнем углу экрана мигали цифры – дата, часы, минуты и секунды. – Снимал из своего фургона для слежки? – поинтересовался Дар у Лоуренса. Тот только промычал что-то нечленораздельное. Он стоял у дивана, но время от времени поглядывал на дверь, словно вот-вот был готов сорваться с места и убежать. Труди откашлялась и начала рассказ: – Женщину зовут Памела Диббс. Она одновременно начала три тяжбы, две из которых – с нашими клиентами, рестораном быстрого обслуживания и гипермаркетом. – Требует страховку? – спросила Сид. – Да. На экране «Хонда» тронулась с места. В следующем кадре она уже парковалась на стоянке перед большим зданием. Видимо, Лоуренс знал, куда она поедет, и успел туда раньше, благо его фургон мог развивать высокую скорость. Крупным планом камера запечатлела момент, когда мисс Памела Диббс заходила в здание. – Все три случая – из разряда «поскользнулся-упал», – сказала Труди. – Заявляет, что получила серьезную травму нижнего отдела позвоночника, из-за которой стала нетрудоспособной, чуть ли не инвалидом. У нее есть письменные показания двух врачей. Оба, кстати, работают с Эспозито. Сидни кивнула. Неожиданно видеоряд изменился. Изображение стало черно-белым и неровно скачущим, словно кто-то нес камеру по коридору объективом вниз. Картинка получалась четкой, но слегка выпуклой, словно снимали через анаморфотный объектив. Изображение метнулось вправо, к зеркальной стенке. В зеркалах отразился Лоуренс во всей красе своих ста пятнадцати килограммов. На нем были вылинявшая водолазка, спортивные трусы и потрепанные спортивные тапочки. Особенно бросались в глаза голые ноги с узловатыми коленками. Лоб охватывала повязка, как у Рэмбо, а глаза закрывали огромные солнцезащитные очки в массивной оправе, на поясе у него болталась небольшая сумочка. Лоуренс в зеркале пораженно замер, затем оглядел себя с ног до головы и повернулся к двери, которая вела в просторный спортзал. – Черт, – тихо выдохнул Лоуренс. – А где камера? – спросила Сид. – В очках? – В оправе, – ответила Труди. – Крохотный объектив, с виду как маленький кристаллик кварца. Волоконно-оптический кабель тянется к записывающему устройству – оно в сумке. – Что-то его не видно… – начала Сид и осеклась. – А-а… В зеркалах четко отразился «шнурок для очков», который тянулся от оправы и терялся под воротом водолазки. Затем Лоуренс присоединился ко всей группе и встал позади мисс Диббс. Звука не было, но, когда все поклонники аэробики принялись разогревать мышцы, зрители легко представили себе быструю ритмическую музыку. Мисс Диббс приседала, наклонялась и подпрыгивала необыкновенно энергично для инвалида. Она сняла очки и шарф, так что ее лицо было ясно видно в зеркалах на противоположной стене. Занятие вела женщина в спортивном купальнике из спандекса, с тесемочкой на мускулистой попке, которая тоже отражалась в зеркалах. Но пальма первенства по привлечению внимания определенно принадлежала Лоуренсу. Окруженный женщинами в черной лайкре, он прыгал, приседал, натужно пыхтел и размахивал руками, постоянно на секунду отставая от всей группы. Естественно, очки он не стал снимать. – Ты хочешь спросить моего совета относительно законности этой съемки? – спросила Сидни. – Да, – кивнула Труди, не выпуская из рук пульта, словно была готова выключить запись по первому требованию мужа. – Ну, можете считать, что вы получили улики против нее, – продолжала Сид, – но суд их не зачтет, если это частная оздоровительная группа. Это так же незаконно, как если бы вы засняли, как она прыгает на батуте в собственном дворе. Труди кивнула. – Это городская группа аэробики. Зал – государственный, и преподаватель получает зарплату. – Вы точно выяснили это у менеджера группы? – Ага. – И в этот класс принимают всех желающих? Труди посмотрела на экран, где мисс Диббс, вместе с остальными девицами, начала приседать, вытянув руки перед собой. Лоуренс попытался проделать то же упражнение, чуть не упал, беспомощно замахал руками, и, когда наконец исхитрился присесть, все уже вскочили и начали дрыгать ногами. Изображение было черно-белым, но лицо Лоуренса приобрело пугающий темный оттенок, а водолазка взмокла от пота. – Тогда я не вижу никаких затруднений, – сказала Сидни. – Вы спокойно можете показывать это в суде. Конечно, при условии, что не станете ничего вырезать или дописывать. – В этом и заключается затруднение, – вздохнула Труди и включила перемотку. Лоуренс сдавленно застонал. После следующей серии упражнений на экране появилось изображение коридора и небольшого фонтанчика для питья. Лоуренс жадно приник к воде, потом снял очки – на экране возникли его ноги, – водрузил их обратно и вытер платком пылающие щеки и взмокший лоб. Пот катил с него градом. – Тебе нужно было уйти в этот момент, – ровным голосом произнесла Труди. Лоуренс издал еще один душераздирающий стон. – Это было бы невежливо. И я заплатил за весь урок. Я хотел снять мисс Диббс, которая прыгает весь час без роздыху. – Ну, – пробормотала Труди, – тебе это удалось. Она снова перемотала запись вперед. Женщины на экране бешено заскакали, размахивая лайкровыми руками и ногами, тряся попками и очень эротично виляя бедрами. И в зеркалах, среди этой потной и румяной компании, отражался полный усатый мужчина, который судорожно хватал воздух ртом и пытался угнаться за энергичным бабским эскадроном. Его лицо уже почернело, и без цвета было ясно, что оно стало красным, как помидор. Труди перемотала еще три серии упражнений и три похода Лоуренса к фонтанчику. После четвертого захода занятия подошли к концу. Судя по электронному табло, группа отзанималась сорок восемь минут. Стройные ряды смешались. Некоторые женщины во время перерыва вместо отдыха предпочли бег на месте. Мисс Диббс тоже. Лоуренс снова вывалился в коридор и припал к фонтанчику. Зеркало напротив честно отразило его жалкое состояние – потный мужик с такой красной рожей, что, казалось, его вот-вот хватит удар. Водолазка полностью оправдала свое название – хоть выжимай. А затем камера скользнула мимо спортзала, вдоль по коридору, и на экране возникла дверь с надписью: «Мужской туалет»… Сидни засмеялась. – Хватит! – взвыл Лоуренс уже из столовой. – Выключи, Труди! Они и так все поняли. Труди вновь пустила быстрый просмотр. Камера едва не обрушилась в один из писсуаров, проследила, как сползли спортивные трусы, затем уставилась в кафель над писсуаром, снова опустилась, снова поднялась, снова опустилась… Финальное встряхивание, и трусы вернулись в исходную позицию. После чего в поле зрения возникла раковина умывальника, а в зеркале на стене – физиономия Лоуренса в очках а-ля Джек Николсон. В углу экрана продолжали сменяться электронные цифры. Затем Лоуренс вернулся в зал и отбарабанил последнюю серию упражнений. По окончании занятий он прошел на стоянку вслед за мисс Диббс. Бедная калека, которой дрыгоножества и рукомашества только пошли на пользу, птичкой впорхнула за руль своей «Хонды». Камера угрожающе накренилась, когда у Лоуренса подкосились ноги, и на экране возникла его дрожащая рука, хватающаяся за ограду. Сидни хохотала и никак не могла успокоиться. – Ничего… ничего личного, – пробулькала она, стараясь говорить погромче, чтобы услышал Лоуренс, который сдал позиции в столовой и успел отступить на кухню. – Видишь, в чем загвоздка, – пожаловалась Труди. Сид потерла щеки. – Вырезать куски из записи, которую предоставляешь суду в качестве доказательства, нельзя, – сказала она все еще дрожащим от сдерживаемого смеха голосом. – Либо все, либо ничего. – Я совсем забыл про нее, – заорал из кухни Лоуренс. – Можно записать все заново, – предложил Дарвин. – Мы считаем, что мисс Диббс запомнила Ларри, – сказала Труди. – Лоуренса! – донеслось с кухни. – Черт побери, Труди, ты сама могла бы туда пойти и записать заново! Труди покачала головой. – Я принимала заявление мисс Диббс. Меня она точно запомнила. – Ну… – начала Сид и умолкла. – А я бы оставил все как есть, – сказал Дар. – Считая с кадрами камеры из твоего фургона, запись длится больше часа… Ну, до того места… где только для взрослых. Не думаю, что присяжные или адвокат этой калеки досмотрят до конца. Они выключат сразу, как только все станет понятно. – Точно, – согласилась Сидни. – Просто отметьте в отчете, что запись длится более сорока минут. Мне кажется, что опасаться нечего. – Легко сказать, – простонал с кухни Лоуренс. Сид посмотрела Дарвину прямо в глаза. – Если мы собираемся попасть в твою хижину засветло, нужно отправляться сейчас. Дар кивнул. Проходя через кухню, он похлопал Лоуренса по плечу. – Тебе нечего стыдиться, амиго. – Ты это к чему? – буркнул несчастный здоровяк. – Ты потом вымыл руки, – ответил Дар. – Как учила мамочка. Присяжные будут гордиться тобой! Лоуренс промолчал и только бросил на Труди испепеляющий взгляд. Дар и Сид сели в «Лендкруизер» и покатили в сторону холмов.
ГЛАВА 8 З – ЗАБОТЫ
По 78-ймагистрали они выехали из Эскондидо, добрались до поросших лесом предгорий и остановились перекусить в небольшом городишке Джулиан. Когда-то это был небольшой шахтерский поселок, который со временем превратился в небольшой туристический городок. Дар выбрал ресторан, где отлично готовили, а цены были на удивление низкими. К тому же выбор спиртного здесь был невелик, так что даже в пятницу вечером местные горлопаны обходили этот ресторан стороной. Владелец заведения, располагавшегося в старинном викторианском особняке, был знаком с Дарвином и сразу проводил их к столику у эркера. А вина здесь подавали прекрасные. Сид, которая хорошо разбиралась в марочных винах, выбрала бутылочку великолепного мерло. Они ели, смаковали вино и разговаривали. Тема для разговора удивила Дара. За много лет он научился незаметно переводить беседу на личность собеседника. Поразительно, как легко люди поддавались на эту уловку и готовы были часами рассказывать о себе. Но с главным следователем Олсон этот номер не прошел. Она вкратце ответила на его вопросы касательно работы в ФБР и своего недолгого замужества: «Кевин тоже был спецагентом, но он терпеть не мог полевой работы, а мне это нравилось больше всего». А затем подала мяч на его половину поля. – Почему тебя исключили из комиссии НАСА, когда ты сказал, что некоторые космонавты на «Челленджере» не погибли в результате взрыва? – спросила она, поднимая бокал. Дар отметил, что ее ногти были коротко острижены и не накрашены. Он одарил Сид улыбкой, которую Труди называла «а-ля Клинт Иствуд». – Они не исключили меня. Просто быстро перевели в другой отдел, прежде чем я успел обнародовать эти результаты. В любом случае я был младшим членом группы, и мое мнение не слишком много значило для настоящих специалистов в этой комиссии. – Ладно, – кивнула Сидни. – Тогда расскажи, как ты узнал, что они не погибли после взрыва? Дар вздохнул. Он не знал, как избежать неприятного разговора. – Ты уверена, что хочешь услышать об этом за столом? – Ну, – пожала плечами Сид, – конечно, мы можем поговорить и о бедном проармированном мистере Фонге, нанизанном на прутья, как цыпленок на вертел, но мне больше хочется послушать о расследовании катастрофы с «Челленджером». Дар ничего не сказал по поводу причастия «проармированный» и вкратце рассказал о теме своей докторской диссертации. – Динамика плазменных волн? – переспросила Сид. – Как при взрывах? – Именно при взрывах, – подтвердил Дар. – В то время никто особо не разбирался в динамике плазменных волн, поскольку математика хаоса – сейчас ее называют «теория сложности» – только появилась на свет. – Значит, ты был экспертом по взрывным волнам? – спросила Сид. – И по другим процессам, происходящим при сверхвысоких температурах, – добавил Дарвин. – И что, эта профессия пользуется спросом на бирже труда? Дар вздохнул и отставил свой бокал. – Еще каким спросом, хотя об этом не кричат на всех перекрестках. Динамика взрывных волн и тогда имела прямое отношение к вооружению. Спроси иракцев в русских танках, что случается, когда американские снаряды пробивают восьмидюймовую броню и взрываются внутри. – Вряд ли после этого они смогут что-то рассказать, – заметила Сид. – Вот именно. – Итак, ты работал на Национальное управление по безопасности движения, – сказала Сид. – Учитывая докторскую степень, ты, видимо, считался ценным сотрудником. – К сожалению, в гражданской авиации взрывы случаются чаще, чем принято считать. И нужно иметь большой опыт, чтобы научиться правильно просчитывать динамику взрыва и его результаты. – Локерби. В 1988 году неподалеку от шотландского поселка Локерби взорвался американский лайнер компании «Пан-Америкэн», в результате погибло 259 пассажиров и одиннадцать местных жителей, – вспомнила Сид, – и «Трансуорд эрлайнз», рейс 800. – Верно. Подошел официант и забрал грязные тарелки. Когда принесли кофе, Сидни сказала: – Именно поэтому ты поднялся в высшие эшелоны НУБД и попал в комиссию по расследованию причин гибели «Челленджера». А как ты узнал, что они выжили после взрыва? – А я и не знал, – ответил Дар. – Сперва. Догадка основывалась исключительно на том, что человеческое тело очень устойчиво к взрывам. Собственно взрыв не обязательно уничтожает человека, тем более что космонавты находились в специальных креслах. Они были защищены лучше, чем пилоты гоночных болидов. Ты сама наверняка видела, из каких аварий эти ребята выходили без единой царапины. Сид кивнула. – Значит, ты считаешь, что бедная учительница и кто-то еще оставались в живых после того ужасного взрыва топливных баков? – Нет, не учительница, – ответил Дар, который и через столько лет не мог спокойно относиться к этой трагедии. – Те, кто был на нижней палубе, оказались непосредственно в районе взрыва. Они погибли быстро, если не мгновенно. – НАСА объявило, что все погибли сразу, не успев ничего осознать, – заметила Сидни. – Да. Вся страна была в шоке. Именно это все и хотели услышать. Но даже в первые часы после взрыва на видеоснимках и показаниях радара было заметно, что среди осколков главная кабина – или верхняя палуба – осталась неповрежденной. Оставалась две минуты сорок пять секунд, пока не ударилась о воду. – Целая вечность, – прошептала Сид, глядя перед собой затуманенным взором. – И ты говоришь, что знал… – ПКП, – сказал Дар. – П… что? – не поняла Сид. – Персональные кислородные подушки. Это такие маленькие кислородные баллоны, которыми пользуются космонавты при внезапной разгерметизации. Если помнишь, команда «Челленджера» была без скафандров… После этой трагедии НАСА приняло постановление об обязательном наличии скафандров. Поэтому Джон Гленн и прочие отправлялись в космос обряженные, как первые космонавты… – Так что там с этими ПКП? Голос Сид задрожал, в нем не было слышно ноток вуайеризма, присущего людям, которые любят смаковать истории о катастрофах. – Комиссия нашла обломки центральной кабины, – сказал Дарвин. – Собственно, они восстановили по кусочкам весь шаттл. Ну, скрепили части проволокой и деревянными брусками, как обычно делают после авиакатастроф… Гм, так вот. Пять ПКП использовались… в течение двух минут сорока пяти секунд. Как раз столько времени понадобилось челноку, чтобы упасть в океан. Сидни на мгновение зажмурилась. Открыв глаза, она спросила: – А не могли они сработать автоматически? – ПКП приводятся в действие вручную, – покачал головой Дар. – Тем более что первый пилот не мог надеть свою без посторонней помощи. Космонавт, сидевший за ним… вторая женщина в экипаже… ей пришлось отстегнуть ремни и потянуться к пилоту, чтобы помочь. Его подушка была использована. – Господи, – выдохнула Сид. Они допили кофе в молчании. – Дар… – начала она. Дарвин не припомнил, называла ли она его так раньше, но сейчас внезапно обратил на это внимание. И говорила она уже другим, более мягким тоном. – Дар, – продолжила главный следователь, – я хотела кое-что сказать по поводу того, что я буду тебя охранять. Я вспомнила, как тебе подмигивали Лоуренс и Труди. Ты должен знать, что я… – Я знаю, что нет, – раздраженно отрезал Дар. Сид жестом остановила его. – Пожалуйста, дай мне договорить. Я должна открыто предупредить тебя, что не ищу романтических приключений и не собираюсь валяться в стогу сена. Мне нравится подшучивать над тобой, потому что твой юмор еще суше, чем пустыня Анзо-Боррего. Но я не хочу играть в такие игры. – Я знаю… – снова начал Дарвин, но она опять подняла руку. – Я сейчас закончу, – сказала Сидни очень тихо, хотя ни официантов, ни посетителей рядом не было. – Говнюк серьезно был настроен пришить тебе непредумышленное убийство… – Быть не может, – поразился Дар. – Даже… даже после видеозаписи? – Именно из-за нее. С этой записью даже такая задница, как Говнюк, спокойно выиграет процесс. Типичный азарт водителя на дороге… – Азарт! – взвился Дарвин. – Это были русские боевики! Они же нашли автоматы в этом покореженном «Мерседесе». Да этот «водительский азарт» вообще полная ерунда, разве ты не знаешь, Олсон? В настоящее время процент преднамеренных убийств с использованием транспортных средств такой же, как и десять лет назад… Сид успокаивающе похлопала его по руке. – Да, да… Я знаю. «Водительский азарт» относится к любимым пропагандистским штучкам журналистов, которые обожают громкие фразы, но не любят копаться в фактах. Но Говнюк с легкостью может выиграть процесс только потому, что эта тема у всех на слуху. А пресса и телевидение его поддержат… – Азарт, – пробормотал Дарвин, приникая к чашке, чтобы удержать вертящиеся на языке эпитеты, которыми он собирался наградить заместителя окружного прокурора и его политические амбиции. – В любом случае, – продолжала Сид, – я взяла тебя под свое крыло, сделав подсадной уткой для банды мошенников, которая терроризирует страховые компании штата. Говнюк с его боссом решили, что шумиха поднимется почище, чем из-за какого-то водительского азарта. Но это значит, что либо за тобой устанавливают постоянное наблюдение… – Либо за мной присмотришь ты, – закончил Дар. – Да, – согласилась Сид и на минуту замолчала. – И еще я знаю о катастрофе под Форт-Коллинзом. Дар только смерил ее взглядом. Он не слишком удивился. Было очевидно, что главный следователь успела проштудировать его досье, да и наверняка все, что его касалось, – а значит, была в курсе. Но что-то в Даре заныло от одного лишь упоминания о том дне, который он никогда и ни с кем не обсуждал. – Я знаю, что это не мое дело, – тихо и мягко сказала Сид, – но в отчетах сказано, что тебя действительно вызвали на место крушения. Как это могло случиться? Как они могли? Дар дернул уголками рта, пытаясь выдавить хоть какое-то подобие улыбки. – Они не знали, что моя жена и ребенок летели этим рейсом. Бар… моя жена собиралась вернуться из Вашингтона на следующий день, но ее мать поправилась быстрее, чем ожидали. И она решила приехать домой пораньше. Наступила тишина, которую прервал громкий смех у стойки бара. Мимо, держась за руки, прошла молодая парочка. – Ты не должен мне ничего рассказывать, – заметила Сидни. – Знаю. Не буду. Я даже Ларри и Труди ничего не говорил, хотя они кое-что знают. Но я хочу ответить на твой вопрос… Сид кивнула. – Ну вот… я ждал, что жена с ребенком вернутся на следующий день… но они полетели этим рейсом… номер 737, который рухнул на окраине Форт-Коллинза. – И тебя вызвали на место крушения. – Управление размещалось в Денвере, – ровным голосом сказал Дар. – Мы расследовали любое крушение на территории шести штатов. А Форт-Коллинз всего в шестидесяти милях от Денвера. – Но… – начала Сид и замолчала, опустив глаза на свою кофейную чашку. Дарвин покачал головой. – Это была моя работа… глядеть на разбившиеся самолеты. Слава богу, кто-то в денверском офисе взглянул на список пассажиров и заметил имя моей жены. Меня отозвали через полчаса после того, как я прибыл на место катастрофы. Правда, смотреть там было особенно не на что. Самолет врезался в землю носом. Осталась только воронка, футов двадцать в глубину и шестьдесят в ширину. И обычная для крушения куча хлама – разлетевшаяся обувь… много обуви… полуобгоревший плюшевый мишка… зеленая сумка… А то, что осталось от людей, смогли бы восстановить разве что археологи. Сид посмотрела Дарвину в лицо. – Это был один из случаев, когда НУБД не смогло узнать… не смогло установить причину катастрофы. – Один из четырех, считая «ТЭЛ-800», – спокойно уточнил Дар. – Тот рейс «Трансуорд эрлайнз», вылетевший в Париж из аэропорта Кеннеди с 229 пассажирами на борту и грохнувшийся в Атлантический океан вскоре после взлета. Подозревали, что авария произошла в связи с резким изменением направления ветра… После этого Федеральное авиационное агентство решило усовершенствовать систему управления рулем высоты на «Боингах-737», но почему самолет внезапно потерял управление, так и осталось невыясненным. Он помолчал и продолжил: – Когда меня пришли отзывать, я как раз брал показания девочки-подростка, которая жила в доме напротив парка. Пролети самолет еще с сотню футов, и список погибших увеличился бы вдвое… И эта девочка сказала, что когда она выглянула из своего окна – а ее квартира на четвертом этаже, – то увидела лица людей в иллюминаторах… Вверх ногами, потому что самолет ушел в пике. Лица были видны очень четко – было уже темно, и над креслами горели лампочки для чтения… – Хватит, – взмолилась Сид. – Мне очень жаль. Извини, что я заговорила на эту тему. Дарвин замолчал. Воспоминания постепенно отпускали его. Он посмотрел на главного следователя и с ужасом увидел, что она плачет. – Все в порядке, – сказал Дар, еле сдерживаясь, чтобы не погладить ее по руке. – Все в порядке. Это было давно. – Десять лет – не так уж и давно, – прошептала Сидни. – Для такой потери – совсем недавно. Она отвернулась к окну и дважды с силой провела ладонью по щекам, вытирая слезы. – Да, – согласился Дарвин. Сид снова повернулась к нему. Ее голубые глаза потемнели и стали бездонно глубоки. – Могу я задать тебе один вопрос? Дарвин кивнул. – Ты еще два года проработал в НУБД и только потом переехал в Калифорнию. Как тебе хватило сил… остаться? Продолжать заниматься этим делом? – Это была моя работа, – просто ответил Дар. – Я был хорошим специалистом. Сидни Олсон слабо улыбнулась. – Я прочитала ваше полное досье, доктор Минор. Вы до сих пор являетесь лучшим экспертом по дорожно-транспортным происшествиям. Так почему вы предпочитаете работать в основном на агентство Стюартов? Я знаю, что вам хорошо платят и искать дополнительный заработок вам не нужно… но почему Лоуренс и Труди? – Мне они нравятся, – ответил Дарвин. – Ларри меня смешит.Они добрались до его хижины после захода солнца. Приглушенные сумерки затенили теплый летний вечер, словно небо завесили легким полупрозрачным гобеленом. Домик Дарвина стоял в полумиле от грунтовой дороги, к юго-востоку от Джулиана, на самой окраине Кливлендского национального парка. Из окон, которые выходили на юг, открывался вид на широкую долину, поросшую высокой зеленой травой. Домик окружали могучие величественные сосны и огромные дугласовы пихты. Далее начинался хвойный лес, который поднимался вверх по каменистому склону, окаймляя вершину горы острозубой зеленой короной. Сидни замерла в восхищении. – Ух ты, – выдохнула она. – Когда ты сказал «хижина», я представила себе кое-как слепленную будочку, по которой носятся мыши. Дар оглядел нарядный домик из дерева и камня, с длинным крыльцом, выходящим на юг. – Не-а, – сказал он. – Ему всего шесть лет. До того как приобрел эту недвижимость, я спал в пастушьем фургоне. – В фургоне? – недоверчиво переспросила Сид. – Сама увидишь, – кивнул Дар. – Бьюсь об заклад, что ты выстроил это своими руками! – Проиграла, – засмеялся Дарвин. – Я не умею обращаться ни с молотком, ни с рубанком. Большую часть работы сделал местный плотник Барт Мак-Намара, семидесяти лет от роду. – Боже мой! – произнесла Сидни, обходя здание и останавливаясь у крыльца. – И это ты называешь «хижиной»! – Здесь красивый вид. Холодными зимними вечерами можно сидеть у окна и разглядывать далекие огоньки индейской резервации, которая находится по ту сторону долины. Дарвин отпер дверь и отступил, пропуская Сид вперед. – Я теперь понимаю, почему ты не водишь сюда… гостей, – тихо сказала она. Света еще хватало, чтобы разглядеть одну-единственную большую комнату. Дар не стал делать внутри домика перегородки, кроме той, что отделяла ванную, и только предметы обстановки и коврики обозначали разные по назначению жилые пространства. На стенах по большей части висели книжные полки, но кое-где виднелись большие французские постеры. Один рекламировал какую-то особую удочку и изображал женщину в каноэ, вытягивающую из воды форель. Картинка была удачно стилизована под черно-белую фотографию двадцатых годов. В юго-восточном углу, под окнами размером двенадцать на двенадцать дюймов, стоял письменный стол в форме буквы L. Из окна открывался просто фантастический вид на долину. У западной стены громоздился огромный камин. Из окошка на той же стене сочился приглушенный вечерний свет. Перед камином стояли несколько удобных кожаных кресел и кушеток, за ними – односпальная кровать, накрытая пушистым индейским одеялом. – Мне нравится лежать на кровати и смотреть на огонь, – объяснил Дарвин. – А-а, – потрясенно отозвалась Сид. Дар поставил свои сумки. Снял с крюков на стене два фонаря. – Пошли, покажу тебе пастуший фургон. Он вывел Сидни на крыльцо и зашагал в сторону леса, по гладко мощенной дорожке. Примерно через каждые двадцать футов вдоль дорожки красовались каменные японские «снежные фонарики». Миновав небольшую березовую рощицу, они оказались на лугу и увидели самый настоящий фургон. Старый баскский пастуший фургон был полностью отреставрирован с применением аутентичных материалов. У него появилось небольшое крыльцо, застекленная дверь и парусиновый тент. Под тентом стояло несколько деревянных шезлонгов. Все вместе производило еще более причудливое впечатление, чем хижина. Дарвин приглашающе махнул рукой, и Сид поднялась по четырем ступенькам, распахнула незапертую дверь и шагнула внутрь. – Пожалуй, это самая уютная комната на свете, – тихо промолвила она. Фургон был всего восемнадцать футов в длину и семь в ширину, но хозяин использовал пространство с большой изобретательностью. Справа от выхода находилась крохотная ванная комната, под окном у северной стены стоял небольшой умывальник, а у южной располагалась маленькая огороженная кухонька. Всю дальнюю часть фургона занимала кровать. Над кроватью было полукруглое окно в старинной раме. Цилиндрический свод нависал довольно низко, но радовал глаз мягкими медовыми тонами старой древесины. В стены были вбиты разнообразные вешалки и крюки, и Сид повесила на них оба фонаря. Большая кровать так и манила прилечь. На ней раскинулся теплый плед ручной работы, а с двух сторон громоздились мягкие подушки. Под кроватью виднелись деревянные выдвижные ящики. – Электричества здесь нет, – сказал Дар, – но водопровод наличествует… Мы протянули сюда трубу из той же цистерны, которая снабжает водой хижину. Боюсь, что ни душа, ни ванну принять нельзя… если сюда установить душевую кабину, то места не останется ни на что другое. – Это тоже сделал твой мистер Мак-Намара? – поинтересовалась Сид, оглядывая кухоньку. В огороженной с трех сторон комнатке ей показалось, что она находится в трюме небольшой, но очень уютной яхты. – Мы, – покачал головой Дар. – Мы с женой построили это в лето перед катастрофой. В журнале «Аркитекчерал дайджест» мы прочитали о дизайнерах помещений, старом фермере и плотнике из Монтаны, которые реставрировали старые баскские фургоны и превращали их в… гм, в нечто подобное. Они построили этот фургон по нашему заказу, разобрали, доставили в Колорадо и собрали заново. Когда я переехал сюда, то просто повторил процедуру. – Вы когда-нибудь жили в нем всей семьей? – спросила Сидни. – Мы только купили под него землю в Скалистых горах, неподалеку от Денвера, а зимой родился Дэвид, а потом… Одним словом, не успели. – Но ты здесь жил. Один. Дар кивнул. – Мне все больше приходилось работать в выходные. В основном – сидеть за компьютером. Потому я предпочел просто построить хижину, а не проводить сюда электричество. – Разумно, – согласилась главный следователь. – В тех ящиках – чистые простыни и наволочки, – сказал Дарвин. – И свежие полотенца. Мышей нет. Я был здесь на прошлые выходные и проверял. – Даже если бы и были, мыши меня не беспокоят, – заверила его Сид. Дарвин выдвинул ящик, достал коробок спичек и зажег фонарики. Старые доски, особенно на потолке, затеплились мягким медовым светом. – Маленькая двухконфорочная плита – газовая, – сказал он. – Как в кемпингах. Холодильника нет, так что портящиеся продукты я держу в хижине. Когда уйдешь, можешь не гасить фонари, они безопасны в плане пожара. А вот этот прихвати, чтобы найти дорогу обратно. Из другого ящика он вытащил электрический фонарик. И направился к двери. – Располагайся здесь или, если хочешь, приходи в гости в хижину… например, попить чайку. – У нас еще много непрочитанных папок, – напомнила Сидни. Дарвин скорчил недовольную мину. – Можешь идти, – сказала она. – Я собираюсь сначала устроиться здесь, как ты и предложил. Тут слишком хорошо, чтобы уходить сразу. Дар взял несколько спичек. – Я зажгу фонари вдоль дорожки, чтобы ты не заблудилась. Сид только улыбнулась в ответ.
Через час Сидни вышла из фургона и направилась к домику. Деловой костюм она сменила на простые джинсы, фланелевую рубашку и кроссовки. Пистолет так и остался на боку. Наступила ночь, и прохладный горный воздух давал о себе знать. Дарвин разжег камин и включил старый, видавший виды кассетный магнитофон. Как обычно, когда он был один в доме, Дар сунул в магнитофон первую попавшуюся кассету с классической музыкой. Но подборка оказалась просто восхитительной: Малое адажио, четвертая часть Пятой симфонии Малера, вторая часть Второго фортепианного концерта Брамса, вторая часть Седьмой симфонии Бетховена, третья и четвертая части Итальянской симфонии Мендельсона, анданте из концерта для скрипки с оркестром Мендельсона, соч. 64, в исполнении Киоко Такезавы, «Kyrie Eleison» из мессы соль-минор Бетховена, еще одно «Kyrie Eleison» из моцартовского «Реквиема», несколько сольных номеров для фортепиано в исполнении Мицуко Ушиды и Горовица (включая любимую пьесу Дара, скрябинский «Этюд до-диез-минор», соч. 2, номер 1, с изумительного диска «Горовиц в Москве»), Йинь Хуань, исполняющая арии из опер в сопровождении Лондонского симфонического оркестра, а потом – несколько популярных пьес в исполнении гобоиста Ханца Холлигера с оркестром. Только под конец кассеты Дарвину пришло в голову, что Сид могла подумать, будто он специально решил создать романтическую атмосферу. Но, заметив выражение ее лица, понял, что она просто наслаждается хорошей музыкой. – Моцарт, – сказала Сидни, услышав потрясающий хор в «Реквиеме». Она прошла к огню и опустилась во второе кожаное клубное кресло, стоявшее напротив кресла Дара. – Не хотите ли чашечку горячего чая? – любезно предложил Дар. – Есть зеленый, есть с мятой, есть с бергамотом, классический «Липтон»… Сид оглядела старинный бар над кухонным столиком. – Это бутылка «Мак-Аллана»? – спросила она. – Угадала, чистое солодовое. – Она почти полная. – Я не люблю пить в одиночестве. – Я не отказалась бы от виски, – сказала Сид. Дарвин подошел к бару, достал из серванта два хрустальных бокала и разлил в них виски. – Со льдом? – спросил он. – В хорошее солодовое виски? Шутишь, – откликнулась главный следователь. – Только попробуй, и я вылью это тебе за шиворот. Дар кивнул. Он вернулся к камину, держа в руках бокалы с янтарным напитком. Несколько минут они молча наслаждались вкусом настоящего шотландского виски. Внезапно Дарвин с удивлением осознал, что ему невыразимо приятно находиться в обществе этой женщины. Мало того, он ощутил, как между ними возникает слабое, но быстро усиливающееся физическое напряжение. Вернее, осознание привлекательности друг для друга. Это поразило Дара, который всегда знал, что он не совсем обычный мужчина. Женская нагота возбуждала его и прежде и продолжала волновать во сне. Но, невзирая на физическое влечение, Дар всегда стремился к истинному, глубокому чувству и духовному родству. Еще до встречи со своей женой, Барбарой, он никак не мог понять, как можно желать близости с человеком незнакомым, непонятным, не… не единственным для тебя. А потом он полюбил Барбару. Он желал Барбару. Ее лицо, голос, рыжие кудри, маленькие груди с розовыми сосками, рыжие волосы на лобке и бледная матовая кожа – вот то, что породило его любовь, вожделение и нежную привязанность. За десять лет, прошедшие после ее смерти, Дарвин все больше отдалялся от других людей, все реже и неохотней подпускал их к себе и почти никогда не испытывал страсти к кому бы то ни было. Но сейчас Дар Минор осознал, что он сидит, потягивает скотч и смотрит на главного следователя Сидни Олсон, которая уютно устроилась в клубном кресле, подложив под голову красное индейское одеяло. Отблески огня в камине скользили по ее лицу. Дарвин отметил ее тяжелые груди под тонкой тканью рубашки и живой блеск глаз над сверкающим хрустальным бокалом, и… – …напоминает мне? Оказывается, Сид что-то говорила. Дарвин отрицательно покачал головой, в основном чтобы прийти в себя. – Прости, я не расслышал. Что ты сказала? Сидни окинула взглядом уютную комнату. Маленькие галогенные лампочки подсвечивали книжные полки и картины. Огонь в камине отражался во всех многочисленных окнах и окошках. Единственная настольная лампа отбрасывала на письменный стол в дальнем конце длинной комнаты желтый круг света. – Я говорю, знаешь, что все это напоминает мне? – Нет, – тихо сказал Дарвин. Он до сих пор находился под впечатлением своего открытия о чувственном оттенке возникшей между ними связи. И в нем крепла уверенность, что сейчас Сидни скажет что-то такое сокровенное, что сблизит их еще сильнее, резко изменит их жизнь, изменит навсегда, неотвратимо. Независимо от того, хочет он этого или нет. – И что тебе все это напоминает? – А напоминает один из тех дурацких фильмов, в которых коп должен охранять какого-нибудь важного свидетеля. Поэтому они вдвоем забиваются в самую глушь, подальше от людей. Останавливаются в загородном домике с огромными окнами во все стороны, чтобы снайперу было легче целиться. А потом коп страшно удивляется, когда кто-то стреляет в них из темноты. Видел «Телохранителя», с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон? – Нет, – сказал Дарвин. Сид покачала головой. – Ерунда. Сперва сценарий писался под Стива Макуина и Дайану Росс… с ними было бы лучше. По крайней мере, Макуин хоть с виду выглядит умнее. Дар отхлебнул виски и ничего не сказал. Она тоже молчала, витая мыслями где-то далеко-далеко. Затем пожала плечами. – У тебя в хижине есть какое-нибудь оружие? – Огнестрельное? – Да. – Нету, – ответил Дар, сказав и чистую правду, и откровенную ложь одновременно. – Насколько я успела понять из твоих предыдущих комментариев, ты не одобряешь огнестрельное оружие. – Я считаю его проклятием и позором для всей Америки, – ответил Дарвин. – Это наш самый тяжкий грех, после рабства. Сидни кивнула. – Но ты не возражал, чтобы я держала под рукой оружие. – Ты офицер при исполнении, – сказал Дар. – Тебе положено. Сид снова кивнула. – Так у тебя нет ни пистолета, ни охотничьего ружья? – В хижине нет, – покачал головой Дар. – В другом месте у меня припрятано кое-какое старье. – Знаешь, какое оружие лучше всего подходит для самозащиты и обороны дома? – спросила Сидни. Она отпила глоток виски и покатала бокал в ладонях. – Питбуль? – предположил Дар. – А вот и нет. Самозарядный дробовик. Неважно, какого калибра. – Ну, не нужно особо практиковаться, чтобы попасть в кого-то из дробовика, – усмехнулся Дарвин. – Более того, – продолжила Сид, – при выстреле самозарядный дробовик издает грохот, который ни с чем не перепутаешь. Ты бы видел, с какой скоростью улепетывают воры и всякие дармовщинники! – Дармовщинники, – причмокнул от удовольствия Дарвин, пробуя это слово на вкус. – Ну, если главное в шумовом эффекте, можно стрелять и холостыми. Оно все равно будет громыхать. Сид ничего не сказала, но нахмурилась, видимо, не понимая, зачем хранить оружие, если оно никого не может убить. – Вообще-то, – закончил Дарвин, – я просто заведу себе магнитофонную запись с грохотом самозарядного дробовика. А? Сидни отставила бокал, встала и направилась к его рабочему столу. Там почти не было бумаг, зато стояло множество разномастных пресс-папье: небольшой поршень, маленький череп карнозавтра, диснейлендовский сувенир – Гуфи в полосатом купальном костюме – и одинокий патрон зеленого цвета. Сид взяла его и повертела в руках. – Калибр 410… Это что-то означает? – У меня когда-то был 410-й «сэведж», – тихо ответил он, пожав плечами. – Отец подарил, незадолго до смерти. Антиквариат. Я оставил его в Колорадо. Сидни перевернула патрон и внимательно осмотрела латунный капсюль. – Он не выстрелил, но ударник бил по нему. – Это случилось в последний раз, когда я пробовал стрелять из ружья, – еще тише произнес Дарвин. – Единственный раз, когда оно дало осечку. С минуту Сид стояла с патроном в руках и пристально глядела на Дара, а потом поставила патрон на подоконник. – Он до сих пор опасен. Дарвин вскинул брови. – Я знаю, что ты был в корпусе морской пехоты… во Вьетнаме. Должно быть, ты был тогда совсем юным. – Не таким уж и юным, – возразил Дар. – К тому времени как я поступил на службу, я уже закончил колледж. А во Вьетнам попал в 1974 году. Кроме того, в последний год нам особо нечем было заняться. Разве что слушать по армейскому радио отголоски скандала в «Уотергейте»[18] и бродить по округе, подбирая «М-16» и прочее оружие, которое побросала армия Республики Вьетнам, когда драпала от северовьетнамских регулярных войск. – Ты закончил колледж, когда тебе исполнилось восемнадцать, – сказала Сид. – Ты что, был… вундеркиндом? – Просто успевающим учеником, – ответил Дар. – А почему морская пехота? – Ты не поверишь, но из-за родственных чувств, – сказал Дар. – Потому что отец служил в корпусе морской пехоты во время настоящей войны… Второй мировой. – Я верю, что он был в морской пехоте, – сказала Сид. – Но я не верю, что по этой причине ты записался в армию. «Правильно», – подумал Дарвин. А вслух сказал: – На самом деле отчасти из-за того, чтобы потом было легче поступить в аспирантуру, отчасти из-за дурацкой прихоти. – Это как? – удивилась Сидни. Она допила свой бокал. Дар налил ей виски еще на два пальца. Потом помолчал и понял, что ему хочется рассказать ей правду… часть правды. – В детстве я увлекался греками, – признался он. – Это увлечение продолжалось и во время учебы в колледже, и даже когда я защищал докторскую диссертацию по физике. На всех гуманитарных отделениях изучают культуру древних Афин… ну, скульптура, демократия, Сократ… А моей страстью была Спарта. – Война? – озадаченно спросила Сидни. – Нет, – покачал головой Дарвин, – хотя все помнят о спартанцах именно это. Они были единственным на моей памяти обществом, которое создало отдельную науку, изучающую страх. Она называлась фобология. Их обучение, начиная с самого нежного возраста, было направлено на распознание страхов и фобий и на борьбу с ними. Они даже выделяли определенные части тела, в которых зарождается страх… места, где он аккумулируется… И учили детей, молодых воинов, приводить свои тела и души в состояние афобии. – Бесстрашия, – перевела Сид. Дарвин нахмурился. – И да и нет, – сказал он. – Существует несколько видов бесстрашия. Берсерк или японский самурай проникались слепой яростью. Или, например, палестинский террорист, входящий в автобус с бомбой под мышкой. Все они были бесстрашны… то есть не боялись собственной смерти. Но спартанцы добивались другого. – Что же может быть лучше для воина, чем бесстрашие? – спросила Сидни. – Греки, спартанцы, называли такое бесстрашие каталепсией, вызванной злостью или гневом, – ответил Дарвин. – Буквально «одержимостью демонами»… полной потерей контроля над собой, своим разумом. Они же стремились к тому, чтобы афобия была полностью… сознательной, контролируемой… Нежелание стать одержимым даже в угаре битвы. – И ты научился афобии, когда был в морской пехоте… во Вьетнаме? – спросила Сид. – Увы. Все время, пока я там был, я боялся. До судорог. – Ты там много чего повидал? – спросила Сидни, пристально глядя на него. – Твое личное дело до сих пор засекречено. Наверное, не просто так? – Да ничего особенного, – солгал он. – Вот если бы я был секретарем-машинистом и перепечатал гору секретных документов, ты бы тоже ничего обо мне не узнала. – А ты был секретарем? Дар покатал свой бокал с виски в ладонях. – Не совсем. – Так ты видел бой своими глазами? – Видел достаточно, чтобы никогда больше такого не видеть, – честно признался Дарвин. – Но ты хорошо знаешь оружие, – продолжала она гнуть свое. Дар скорчил гримасу и отхлебнул из бокала. – Что у тебя было в армии? – спросила Сид. – Какая-то винтовка, – пожал плечами Дар. Он не любил обсуждать огнестрельное оружие. – Значит, «М-16», – заключила Сид. – Которая имеет свойство моментально ржаветь, если не драить ее до блеска каждый день, – покривил душой Дар. У него была не «М-16». У его наблюдателя была «М-14» – более старая винтовка, зато со стандартными патронами 7,62 миллиметра, как у «Ремингтона-700 М-40» с ручной перезарядкой, с которой Дарвин тренировался. А тренировался он по 120 подходов в день и шесть дней в неделю, пока не научился попадать в движущуюся мишень ростом с человека с пятисот ярдов и в неподвижную – с тысячи. Он допил свой скотч. – Если вы, главный следователь, хотите навесить мне какую-нибудь стрелялку, выбросьте это из головы. Я их терпеть не могу. – Даже если русская мафия пытается убить тебя? – Пыталась, – поправил Дар. – И я продолжаю считать, что меня попросту с кем-то спутали. Сидни кивнула. – Но у тебя было оружие, – не сдавалась она. – И тебя учили, что делать, если оно дает осечку… Дар посмотрел на нее и сказал: – Нужно повернуть ствол в ту сторону, где никого случайно не подстрелишь, и подождать. Рано или поздно оно выстрелит. Сид кивнула на патрон. – Может, тогда его стоит выбросить в окно? – Нет, – сказал Дарвин.
Они разлили остатки виски по бокалам и стали молча глядеть в огонь. В комнате приятно пахло дымком, смешанным с легким ароматом шотландского виски. Напряжение после предыдущего спора улеглось. Они начали болтать на профессиональные темы. – Ты слышал о директиве последнего шефа Национального управления по безопасности движения? – спросила Сид. Дарвин хихикнул. – А то! «Запрещается употреблять выражение „несчастный случай“ в любых официальных документах, корреспонденции и/или служебных директивах». – Тебе не кажется это несколько странным? – Отнюдь, – возразил Дар. Полено в камине треснуло и рассыпалось снопом янтарных искр. С минуту он смотрел на это чудо и только потом снова повернулся к гостье. При свете камина лицо Сид стало моложе и мягче, а глаза остались такими же живыми и проницательными, как и прежде. – Можно проследить их логическую цепочку, – продолжил Дарвин. – Любого несчастного случая можно избежать. Поэтому они не должны случаться. Поэтому управление не может использовать выражение «несчастный случай»… их просто нет. Поэтому в управлении предпочитают именовать их «крушением», «катастрофой» и тому подобным. – Ты тоже считаешь, что несчастного случая можно избежать? – спросила Сидни. Дарвин от души расхохотался. – Любой, кто хоть раз расследовал несчастный случай – неважно какой, от аварии с космическим челноком до придурка, который поехал на желтый и получил вмятину в бок… Так вот, несчастные случаи просто неизбежны! – Это как? – удивилась Сид. – Они случаются, – ответил Дарвин. – Процентная вероятность цепочки событий, которая привела к несчастному случаю, может быть разной – одна тысячная, одна миллионная… Но как только эти события соединяются в правильной последовательности, несчастный случай неизбежен. На все сто процентов. Сидни кивнула, но было видно, что это ее до конца не убедило. – Ладно, – сказал Дар, – возьмем случай с «Челленджером». НАСА оказалось в роли беспечного водителя, который рванул на желтый свет. Ты можешь проделать этот фокус один раз, пять, двадцать… и скоро решишь, что это безопасно и вообще в порядке вещей. Но если ты не остановишься, когда-нибудь отыщется такая же самоуверенная сволочь, исповедующая ту же философию безнаказанности, и столкновение станет неизбежным. – Значит, НАСА шло на неоправданный риск? Дар развел руками. – Вот это комиссия определила точно. Работники НАСА знали о том, что могут возникнуть проблемы с резиновыми уплотнительными кольцами между секциями ракет-носителей, но ничего не предприняли. И знали, что при пониженной температуре эта проблема становится еще серьезней, но все равно не отменили полет. Они не прислушались к по меньшей мере двум десяткам предупреждений собственных специалистов. На борту космического челнока была учительница, и политики напирали, желая побыстрее вывести ее на орбиту. Чтобы тем же вечером президент Рейган мог упомянуть об этом в своей речи. Обстоятельства были против них. – Значит, ты веришь в неблагоприятное стечение обстоятельств? А во что ты еще веришь? Дарвин бросил на нее лукавый взгляд. – Вызываете меня на философский спор, главный следователь? – Просто любопытно, – сказала Сидни, допивая виски. – Ты видел так много несчастных случаев и так много крови. Мне интересно, какую философскую базу ты подвел под это? Дар на мгновение задумался. – Стоики, пожалуй, – сказал он. – Эпиктет, Марк Аврелий и ему подобные. Он фыркнул. – Один раз политики допекли меня настолько, что я был готов ехать в Вашингтон и швырять камнями в Белый дом. Когда Билла Клинтона спросили, какую серьезную книгу он недавно прочел, он ответил: «Размышления» Марка Аврелия. Он снова фыркнул. – Эта сластолюбивая жирная задница – и цитирует Марка Аврелия! – Но во что ты все-таки веришь? – не унималась Сидни. – Кроме философии стоиков. Она помолчала и тихо процитировала: – «Разумному существу невыносимо лишь то, что разуму неподвластно. То же, что поддается пониманию, оно всегда в силах вынести. Невзгоды по природе своей не являются непереносимыми». – Ты читала Эпиктета! – воззрился на нее Дарвин. – Значит, ты разделяешь эту философскую позицию? – повторила свой вопрос Сид. Дар поставил свой пустой бокал на пол, сложил пальцы домиком и закусил нижнюю губу. Умирающий огонь выбросил еще один фонтан искр. – Старший брат Ларри, писатель, который жил в Монтане, пока не развелся, приезжал сюда несколько лет назад. Я успел немного познакомиться с ним. Позже по телевизору показывали интервью с ним, где спрашивали о его философии. Он написал роман о католической церкви. Ведущий пытался выбить из него признание, во что он верит. Сидни молча ждала продолжения. – Брат Ларри, его зовут Дэйл, ответил очень осторожно и своеобразно. Он процитировал Джона Апдайка. Что-то вроде «Я не религиозен и не музыкален; всякий раз я соединяю ладони без надежды услышать хор ангелов». – Печально, – наконец промолвила Сид. Дарвин улыбнулся. – Брат Ларри процитировал своего писателя… Я же не говорю, что это и есть моя вера. Я, в свою очередь, готов подписаться под «Бритвой Оккама». – Вильгельм Оккамский, – сказала Сидни. – Кажется… пятнадцатый век? – Четырнадцатый, – поправил Дар. – Известный афоризм, – продолжила Сид. – «Не следует преумножать сущности без необходимости». – Или же, – подхватил Дар, – «при прочих равных простейшее решение обычно наиболее верное». Хотя сам Оккам никогда так не формулировал это правило. – Простимся с теорией о том, что люди пропадают потому, что их похищают инопланетяне, – засмеялась Сидни. – «Зона 51» и «летающие тарелки», капут! – воскликнул Дар. – Тамплиеры… адью, – расплылась в улыбке Сид. – Заговор против Кеннеди, пока! – поддержал Дар. Сид помолчала. – Ты знаешь, что твоя «Бритва Дарвина» пользуется популярностью? – Что-что? – удивленно заморгал Дар. – Одно изречение, которое ты выдал несколько лет назад… Кажется, на собрании Национальной ассоциации по расследованию страховых преступлений. – О господи!.. – простонал Дарвин и прикрыл глаза рукой. – Ты перефразировал «Бритву Оккама», – продолжала Сидни. – Если я не ошибаюсь, оно звучало так: «При прочих равных простейшее решение обычно наиболее идиотское». – Это же и так очевидно, – пробормотал Дарвин. Сид медленно кивнула. – Нет, я знаю, о чем ты. Например, о тех парнях в пикапе, которые рухнули с обрыва на концерте… Дар неожиданно бросил взгляд на стопку папок и дискет, которые ждали своего часа на столе. – А может, мы просто не то ищем в этих отчетах, – задумчиво произнес он. Сидни склонила голову набок. – Может, они обратили на меня внимание не из-за моего расследования дурацких несчастных случаев, пусть даже с летальным исходом… Может, это из-за убийства? – Ты недавно расследовал какое-то убийство? – спросила Сид. – Я имею в виду, не инцидент с мистером Фонгом, а что-то другое? Дар кивнул. – Может, расскажешь? – попросила Сидни. Дарвин глянул на часы. – Ага. Завтра. – Паршивец, – улыбнувшись, сказала главный следователь Олсон. – Спасибо за виски. Дар проводил ее до двери. Сид остановилась на пороге. Дарвину внезапно пришла в голову дикая мысль, что она собирается его поцеловать. – Если на тебя нападут плохие ребята, пока я буду спать в этом пастушьем фургоне, как я узнаю, что ты попал в задницу? Дар сунул руку в карман осеннего пальто, висевшего на крюке, и вытащил ярко-оранжевый свисток. – Походный, на случай, если потеряешься в лесу. Его слышно за две мили. – Как свисток, который рекомендуют носить женщинам на случай нападения насильника? – Верно. – Ладно, если ночью заявятся убийцы, ты только свистни. Она на минуту умолкла, и Дарвин заметил, как в ее голубых глазах появилось озорное выражение. – «Ты ведь умеешь свистеть, правда, Стив?» – спросила она. Дар ухмыльнулся. Эту фразу произнесла девятнадцатилетняя Лорен Бакол,обращаясь к Хамфри Богарту в «Иметь или не иметь». Он обожал этот фильм. – Да, – ответил Дарвин. – «Просто складываешь губы в трубочку и дуешь». Сидни кивнула и пошла вниз по дорожке, задувая по пути все фонарики. Дар смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду.
ГЛАВА 9 И – ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Рано утром Сид постучала в дверь домика, но оказалось, что Дар уже успел проснуться, принять душ, побриться, приготовить завтрак и заварить кофе. Сидни с радостью принялась за бекон с яичницей, причем во время еды она дважды доливала себе кофе. Прежде чем садиться за работу, Дарвин повел гостью на экскурсию вокруг своих владений. На востоке – лощина с заброшенной золотой шахтой, речка, ниспадающая водопадом, поверх которого лежало поваленное дерево (слишком тонкое и ненадежное с виду, чтобы служить мостом на тот берег). На северном склоне горы – каменные плиты и огромные валуны, березовая роща и бесконечный сосновый лес, начинающийся сразу за хижиной, и к югу – бескрайняя равнина, зеленое море высокой травы. Во время прогулки Дарвина не отпускало приятное чувство, которое неожиданно нахлынуло на него прошлой ночью, – осознание привлекательности этой женщины, тепло ее улыбки, бархатистость ее голоса и смеха. «Прекрати, Дар!» – приструнил себя он. – Я знаю, что сейчас не принято задавать противоположному полу такие вопросы, – начала Сид, останавливаясь и глядя на него, – но о чем ты сейчас думаешь, Дар? Скрип шестеренок у тебя в голове слышно даже за два фута. «Нас разделяет всего два фута!» Дарвин остановился, с трудом удерживаясь, чтобы не обнять ее, прижать к груди, уткнуться лицом в ее шею – как раз у шелкового завитка волос – и самозабвенно вдыхать ее запах. – О Билли Джеймсе Лангли, – наконец ответил он, делая шаг назад. Сидни склонила голову набок. – Где-то год назад я расследовал несчастный случай в Национальном парке, – сказал Дар, махнув рукой куда-то на юг. – Хочешь послушать? И найти разгадку? – Конечно. Дарвин откашлялся. – Итак… Меня вызвали на место предполагаемого убийства, в лес, милях в пяти от… – Это не то самое убийство, про которое ты обещал рассказать мне вчера вечером? Дарвин покачал головой. – Так вот, некий мистер Билли Джеймс Лангли, застрахованный в Калифорнийской страховой компании, которая была клиентом Ларри и Труди, не вернулся домой с рыбалки. Заявили в полицию. Шериф отправился туда, где Билли Джим обычно ловил рыбу, и нашел его пикап – «Форд-250» 78-го года – в ручье, вверх колесами. Билли Джим был внутри. Он утонул. По-видимому, в темноте машина упала с небольшого мостика и перевернулась, а водитель не успел выбраться из кабины. Судмедэксперт установил время смерти. – А при чем тут подозрение в убийстве? – спросила Сид. – Когда судмедэксперт достал тело Билли Джима из машины, он заявил, что смерть наступила в результате утопления. Но оказалось, что в этого Билли еще и угодила пуля калибра 22… – Где? – спросила Сидни. – Когда он вел свою машину. – Да нет, куда она попала? Дар замялся. – В… э-э… паховую область. – Яички? – уточнила Сид. – Одно из них. – Правое или левое? – По-твоему, это важно? – спросил Дарвин. – А разве нет? – Да, конечно, но… – Правое или левое? – Правое, – ответил Дар. – Вот и вся история. Можешь задавать наводящие вопросы. Некоторое время они молча шагали вниз по склону горы. – Хорошо, – сказала Сид. – Что мы имеем? Некий мистер Билли Джеймс Лангли возвращался в темноте с рыбалки. Внезапно он получил пулю в правое яичко и… понятное дело… не справился с управлением, свалился в ручей и утонул. А скажи-ка мне вот что: не было ли в машине ружья или винтовки 22-го калибра? – Не было, – покачал головой Дар. – В машине не нашли входное или выходное пулевое отверстие? Вообще-то 22-й калибр может пробить разве что картонный пикап, а «Форд-250» – далеко не картонка. – Никаких входных-выходных отверстий, не считая дыры в самом Билли Джиме. – Окна были подняты? – Да. В ту ночь, когда Билли Джим возвращался с рыбалки, шел проливной дождь. – Он возвращался уже затемно? – спросила Сид. – Да, около одиннадцати вечера. – Я догадалась! – заявила Сидни. Дарвин остановился. – Правда? Ему самому понадобилось два часа поторчать на месте происшествия, чтобы найти разгадку. – Правда, – кивнула Сид. – Ружья или винтовки в машине не было, но я готова биться об заклад, что была коробка с патронами 22-го калибра! Точно? – В «бардачке», – кивнул Дар. – И у Билли Джима на обратном пути наверняка погасли фары. Дарвин вздохнул. – Да… Полагаю, где-то за полторы мили до моста. Сидни торжествующе кивнула. – Как раз столько потребуется патрону, чтобы нагреться и взорваться. Я знаю эти «Форды». Предохранитель находится как раз под рулевым колесом. Твой Билли Джим ехал один с рыбалки, фары погасли. Из-за дождя видимость была никакая, но он очень хотел попасть домой, потому он покопался и выяснил, что перегорел предохранитель… Билли Джим поискал что-нибудь подходящего размера… Патрон 22-го калибра подошел… Он поехал дальше, не сообразив, что патрон постепенно нагревается. А потом патрон рванул… – Ну, загадка оказалась не такой уж и трудной, – пробормотал Дарвин. Сид пожала плечами. – Эй, я проголодалась! Может, мы сперва перекусим, а уже потом возьмемся за нашу трудную загадку?На обед были бутерброды с мясом и пиво. Прихватив еду с собой, Дарвин и Сидни устроились на крыльце. Начало припекать, и свои теплые рубашки они оставили в доме. На Сид была длинная футболка навыпуск, прикрывающая кобуру на поясе. Дар натянул старую вылинявшую футболку когда-то черного цвета, потертые голубые джины и кроссовки. Крыльцо затеняли высокая раскидистая сосна и небольшая березка, зато вся долина, раскинувшаяся перед домом, купалась в ярком солнечном свете. Высокая трава и зеленые ветви ивняка шли волнами под легкими порывами теплого ветра. Над всей долиной поднимался дрожащий горячий воздух. Дар и Сид сидели на краешке высокого крыльца и болтали ногами. – Все эти смерти, боль, страдания, которые ты видел… – начала Сидни, – они не давят на тебя? Если бы она задала этот вопрос двадцать четыре часа назад, Дарвин не задумываясь ответил бы, что, по его мнению, это сравнимо с работой врачей. Вскоре ты становишься… не то чтобы бесчувственным, это неправильное слово… а просто видишь все под другим углом. Это ведь твоя работа, верно? И он сам верил бы тому, что сказал. Но теперь уверенность покинула Дара. Что-то изменилось в нем за последние десять лет. Все, в чем на настоящий момент он был уверен, – это в своем неожиданном и ненужном желании поцеловать главного следователя Сидни Олсон в полные губы, уложить ее на теплые доски красного дерева, почувствовать мягкость ее груди… – Не знаю, – буркнул Дарвин, жуя бутерброд. Он уже забыл, какой вопрос она задала.
Папка с нужным делом была толщиной в три дюйма, на обложке стоял большой штамп «Закрыто». Дарвин подкатил два кресла на колесиках к столу, на котором стояли большие CAD-мониторы. Сид устроилась в правом кресле и взяла документы, которые Дар извлек из папки. – Видишь, какая там стоит дата? – Семь недель назад, – ответила Сидни, просматривая рапорт патрульных из отдела расследования транспортных происшествий о случае наезда на пешехода. – Восточный Лос-Анджелес… далековато, не находишь? – Да нет, – сказал Дарвин. – Я, бывало, выезжал на место происшествия и в Сакраменто, и в Сан-Франциско… и вообще за пределы штата. – Патрульные сами вызвали тебя на место происшествия? Тут под рапортом подписи сержанта Роута и детектива Боба Вентуры, я знаю их обоих. Дар покачал головой. – Лоуренс тогда работал над одним случаем в Аризоне, поэтому Труди попросила меня взяться за это дело. Клиент – контора по прокату автофургонов. Сид взялась за рапорт с места происшествия. – GMC «Вандура»… цвет – красный. Такой маленький микроавтобус с тупой мордой? – Ага. Прочитай весь рапорт. Сид начала читать вслух. – «Место происшествия: 1200, Мальборо-авеню (участок дороги перед зданием). Рапорт патрульного. 19 мая я транспортировал заключенную в женскую тюрьму, расположенную в восточной части Лос-Анджелеса. В 2 часа 45 минут поступило сообщение о несчастном случае на пересечении Мальборо-авеню и бульвара Фонтейн. Я попросил диспетчера, чтобы в районе 109-й улицы меня встретил дежурный патруль и доставил заключенную в место назначения, чтобы я смог отправиться на место происшествия. Полицейский Джонс, личный номер 2485, немедленно откликнулся и сменил меня за рулем. Я прибыл на место происшествия примерно в 3 часа утра. Когда я прибыл, место происшествия было оцеплено дорожным патрулем. Сержант Мак-Кей, личный номер 2662 (дорожный инспектор), полицейский Берри, личный номер 3501, и полицейский Кланси, личный номер 4423, уже находились на месте происшествия. Мальборо-авеню была закрыта для движения от бульвара Фонтейн до Грамерси-стрит. Описание участка дороги. В 1200-м квартале Мальборо-авеню – улица с односторонним движением. К востоку от места происшествия ее пересекает бульвар Фонтейн, который проходит с севера на юг. К западу от места происшествия авеню пересекает Грамерси-стрит, которая тоже проходит с севера на юг. В 1200-м квартале Мальборо-авеню имеет уклон около 0,098 градуса с запада на восток. Ближайшее освещение – уличные фонари и светофоры на перекрестках. Разрешенная скорость движения на этом участке дороги – 25 миль/час. Погодные условия. Во время происшествия отмечалась густая облачность. Шел дождь, было холодно, ветер несильный. Было темное время суток, луна не пробивала облачный покров. Транспортное средство: GMC «Вандура», фургон. Большой автофургон, маркированный со всех четырех сторон логотипами фирмы по прокату автомобилей. На номерном знаке – никаких особых обозначений. Водитель: за рулем находилась мисс Дженни Смайли, что подтверждают ее собственные показания, показания мистера Дональда Бордена и водительское удостоверение. Повреждения транспортного средства: небольшая вмятина на решетке радиатора GMC «Вандура». Решетка на три дюйма отклонилась внутрь от прежнего положения, на ней обнаружены волокна ткани от свитера пострадавшего. Пострадавший. Ричард Кодайк, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Летальный исход. На месте происшествия пострадавшего осматривали Петерсон, личный номер 333, и Ройлс, личный номер 979 (машина «Скорой помощи» номер 272, больница Сэмсона). Они отвезли его в ближайшую больницу. Доктор Кавенот из Восточного госпиталя засвидетельствовал по радио, что Кодайк скончался на месте происшествия…»
Сидни перевернула несколько страниц. – Хорошо, – начала она. – У нас есть мужчина в возрасте тридцати одного года, Ричард Кодайк, погибший от черепно-мозговой травмы. Он со своим товарищем Дональдом Борденом собирался переезжать из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Их знакомая, Дженни Смайли, сбила его своим фургоном и каким-то образом ухитрилась переехать его передним правым колесом. Она перелистнула еще пару страниц. – Мистер Борден и мисс Смайли подали в суд на прокатную компанию, утверждая, что у машины были неисправны тормоза и фары… – Поэтому меня туда и вызвали, – вставил Дар. – …а также они предъявили иск владельцу меблированных комнат за то, что он не обеспечил достаточное освещение улицы перед принадлежащим ему зданием. Сид отлистала двадцать-тридцать страниц назад. – Ага… вот ее заявление… Мисс Смайли заявила, что из-за плохой освещенности улицы и слабого света фар она не заметила мистера Кодайка, когда тот шагнул с тротуара на дорогу. Они потребовали у прокатной фирмы шестьсот тысяч долларов. – И еще четыреста у владельца меблированных комнат, – добавил Дарвин. – Для ровного счета, – усмехнулась Сидни. – По крайней мере, они высоко оценили своего друга. Дар потер подбородок. – Мистер Борден и мистер Кодайк прожили в одной квартире два года и были известны соседям, торговцам, официантам и прочим как Дикки и Донни. – Геи? – уточнила Сид. Дарвин кивнул. – Тогда при чем тут Дженни? – Судя по всему, мистер Борден… Донни… бегал на сторону. Дженни Смайли была его тайной подружкой. Дикки узнал, что они встречаются… по свидетельствам соседей, ссора продолжалась три дня… а потом Дикки и Донни помирились и решили уехать в Сан-Франциско. – Без Дженни, – сказала Сидни. – Да, без Дженни, – кивнул Дар. – Но в качестве жеста доброй воли она решила помочь им перевезти вещи до станции. – В два сорок пять ночи, в дождь, – хмыкнула Сид. Дарвин пожал плечами. – Дикки и Донни задолжали за квартиру за два месяца. Видимо, они просто рвали когти. Он повернулся к компьютерному монитору с диагональю в двадцать один дюйм и ввел какой-то пароль. – Так, здесь несколько кадров, снятых сержантом Мак-Кеем на месте происшествия. На экране возникло электронное изображение черно-белого снимка. Еще одно. И еще одно. – Ого! – произнесла Сидни. – Ого, – согласился Дар. Первое фото изображало распростертое тело мистера Кодайка, лежащее ничком в тридцати футах от главного входа в здание. Он лежал головой к фургону, все вокруг было забрызгано его кровью и мозгами. На второй фотографии были осколки стекла, одна туфля, след трения подошвы об асфальт и след на дороге напротив здания – словно по ней волокли тело. На последнем снимке был виден длинный и непрерывный тормозной след, уходящий к востоку, в сторону бульвара Фонтейн, до которого от места происшествия было примерно 165 футов. На всех снимках автофургон находился восточнее места происшествия. Его тормозной след тянулся вперед еще по меньшей мере на тридцать футов. – Дженни сдала назад, когда услышала крик. Она подумала, что наскочила на что-то. – Угу, – кивнула Сид. – Донни был единственным свидетелем смерти Дикки, – продолжил Дарвин, кивая на толстую пачку документов. – Он сказал, что они ссорились, когда подъехала Дженни. Поэтому они попросили ее проехать вокруг квартала… – Зачем? – спросила Сидни. – Донни сказал, что они не хотели ссориться при ней, – объяснил Дар. – Поэтому она объехала квартал на скорости тридцать миль в час. Она не заметила, что Дикки сошел с тротуара, пока не стало слишком поздно. Дарвин пролистал на компьютере список фотографий и остановился на кадре с крупным планом. Повернувшись к другому монитору, он вызвал какую-то программу. Появилось трехмерное изображение той же сцены, но это была уже не фотография, а компьютерная реконструкция. – Ты реконструируешь случаи в объеме и движении! – восхитилась Сид. – А я не заметила у тебя в квартире CAD-мониторов… – Они есть, – сказал Дар, – только спрятаны за книжными полками. Большую часть заработка я получаю благодаря именно им. Сидни кивнула. – Итак, главный инспектор, – промолвил Дарвин, – что вы можете сказать об этом происшествии? Она посмотрела на папку, на фотографии на экране и на трехмерное изображение тех же самых снимков. – Что-то здесь не так. – Верно, – согласился Дар. – Сперва я проверил уровень освещенности этого участка в аналогичных условиях с помощью специального светоизмерителя. – В два сорок пять ночи, в дождливую облачную погоду? – поинтересовалась Сидни. – Конечно, – ответил Дарвин, удивленно приподняв брови. Он пощелкал по клавиатуре. Неожиданно на объемном изображении места происшествия появились какие-то цифры. Дар взялся за мышь и развернул изображение так, чтобы была видна вся улица с востока на запад, с припаркованным фургоном в самом низу экрана и распростертым телом по центру. Под этим углом зрения был виден практически весь квартал. По бокам экрана в небольших прямоугольниках были записаны цифры с обозначением «fc» – судя по всему, показатели освещенности. – Фут-свечи? – спросила Сид. Дарвин кивнул. – Вопреки заявлению Донни и Дженни, этот участок дороги освещен вполне прилично для такого бедного квартала… Видишь, на обоих перекрестках стоят фонари, которые освещают большую часть дороги. Освещенность там примерно в три фут-свечи. Перед домом уровень освещенности составляет примерно полторы фут-свечи, и даже посреди дороги, где был сбит Дикки, светоизмеритель показывает не меньше одной фут-свечи. – Значит, она должна была увидеть пострадавшего, даже если бы у нее совсем не горели фары, – сделала вывод Сидни. Дарвин коснулся экрана световым пером, и появилась красная полоса, которая тянулась от перекрестка до того места, где остановился фургон. – Дженни подъехала с той стороны, где освещенность была довольно приличной – где-то три фут-свечи. Прежде чем врезаться в Дикки, она проехала по длинному участку дороги, освещенному не так уж плохо – примерно в две фут-свечи. Все это время фары фургона были включены. Дар пробежался пальцами по клавиатуре, и изображение на экране сменилось анимационным роликом. Из центрального входа здания вышли двое мужчин – трехмерных, но безликих. Внезапно вся сцена предстала под другим углом зрения – на экране появился вид на место происшествия сверху. Из-за поворота с бульвара Фонтейн выкатил фургон, он ехал довольно быстро и все время набирал скорость. Один из мужчин шагнул на дорогу и оказался на пути приближающейся машины. Водитель фургона ударил по тормозам, и машина проскользила большую часть пути от перекрестка до места столкновения – но в конце концов фургон ударил человека и остановился только через тридцать футов. Безликая жертва – Дикки пролетел по воздуху и упал спиной на дорогу, ногами к машине. Дарвин щелкнул мышкой, и сверху на этот кадр наложилась предыдущая картинка. – А это реальное положение фургона и тела после происшествия. Внезапно фургон оказался по меньшей мере в сорока футах дальше к восточной стороне улицы. Тело тоже перепрыгнуло на другое место – футов на двадцать к востоку, и теперь оно лежало головой к машине. – Нестыковочка, – заметила Сид. – Это еще что, – усмехнулся Дарвин. Он достал из папки документ на шести листах и протянул ей. – Постовой Берри, личный номер 3501, принял заявление от свидетеля, который первым оказался на месте происшествия, некоего мистера Джеймса Вильяма Рибека. Сид пробежала глазами по отпечатанному на машинке тексту. – Рибек заявил, что он увидел уезжающий с места происшествия фургон, который едва не врезался в его машину. А потом заметил Дикки… мистера Кодайка… лежащего навзничь на дороге. Рибек остановил свою машину, «Форд Таурус», вышел и спросил Ричарда Кодайка, жив ли он. По его свидетельству, мистер Кодайк ответил: «Да, вызовите „Скорую“. Рибек оставил машину на проезжей части и побежал к знакомой, которая жила за углом – Грамерси-стрит, 3535, – разбудил ее и попросил вызвать Службу спасения. Потом схватил одеяло и бросился обратно… Там он обнаружил, что мистер Кодайк лежит уже в другом месте, повернут головой в другую сторону, и к тому же без сознания и в гораздо худшем состоянии. „Скорая“ приехала через семь минут. По свидетельству врачей, к тому времени Кодайк был уже мертв. Фургон стоял там, где он находился на фотографиях полиции. Сид посмотрела на Дарвина. – Выходит, эта сука объехала квартал и снова переехала Дикки Кодайка? Как ты это установил? – Подробности достаточно скучны и утомительны, – ответил Дар. – Меня никогда не утомляют подробности, доктор Минор, – холодно заметила главный следователь Олсон. – Не забывайте, что они суть моей работы. Дарвин только кивнул. – Хорошо, тогда сначала я вкратце изложу исходные данные и уравнения, а потом прокручу запись следственного эксперимента при условиях, полученных на основании моих вычислений, – сказал он. – Я предпочитаю делать расчеты такого рода в метрической системе, хотя потом всегда перевожу все в английские единицы измерения, для демонстраций. Дар пощелкал по клавиатуре, и на мониторе снова появилось изображение улицы без фургона, только с двумя мужчинами, которые выходили из дома, а потом один из них ступил на проезжую часть. Точка зрения снова сместилась – как будто наблюдатель смотрел на улицу, находясь за рулем фургона, который поворачивал с бульвара Фонтейн на запад, на Мальборо-авеню. Человек на проезжей части был прекрасно виден. – Исследования видимости в ночное время показывают, что даже на темной проселочной дороге и при тусклом свете фар пешеход, хотя бы и в темной одежде, будет виден с расстояния около ста семидесяти пяти футов – даже если у водителя плохое или не слишком хорошее зрение. От пересечения Мальборо-авеню с бульваром Фонтейн до места наезда фургона на мистера Кодайка – сто шестьдесят девять футов. – Значит, она увидела его, как только выехала из-за поворота, – задумчиво сказала Сидни. – Она должна была его увидеть, даже если бы он еще стоял на тротуаре, не то что на проезжей части, – подтвердил Дар. – При включенном дальнем свете фары фургона должны были высветить его с расстояния в триста сорок три фута. Черт, даже если бы у нее вообще не горели фары, она все равно увидела бы человека на дороге с расстояния в сто пятьдесят футов – для этого на улице хватало света фонарей и рассеянного света из окон ближайших домов. – Но она прибавила скорость, – сказала Сид. – Несомненно. Передние колеса фургона оставили тормозной след общей протяженностью сто тридцать два фута. Причем торможение продолжалось на расстоянии еще двадцати девяти футов после места столкновения, где мистер Кодайк потерял правую туфлю и где остался след от его левой туфли. – Она сказала, что переехала его в этом месте, – напомнила Сидни. – Это невозможно, – заявил Дарвин. – Когда у нас есть четкий тормозной след, все остальное становится только вопросом простой динамики. Мы легко можем вычислить скорости и расстояния перемещения фургона, пешехода и тела. Я полагаю, формулы тебя не интересуют? – Напротив, – возразила Сид. – Именно это я и имела в виду, когда говорила о подробностях. Дарвин вздохнул. – Хорошо. И я, и полицейское управление Лос-Анджелеса, независимо друг от друга, проводили тесты на торможение на той самой улице. В эксперименте использовались транспортные средства с метчиками… – Ты имеешь в виду устройства для разметки проезжей части? – переспросила Сидни. – Да. Скорость автомобиля в обоих экспериментах определялась с помощью радара. Оба теста определили одинаковый коэффициент сцепления, f равен 0,79. Отсюда мы можем определить начальную скорость движения пешехода в точке столкновения… Не забывай, все свидетели в своих показаниях утверждают, что мистер Кодайк в момент наезда стоял лицом к автомобилю. И его скорость никак не могла превышать скорость движения фургона. Я использовал такую формулу: Начальная скорость автомобиля равна квадратному корню из разницы между квадратом его конечной скорости и удвоенным ускорением, умноженным на дистанцию торможения. Подставить значения очень просто. Фургон тормозил до полной остановки, следовательно, его конечную скорость можно считать равной нулю. Показатель ускорения определяется так: коэффициент сцепления умножаем на ускорение свободного падения. Как я уже говорил, мы экспериментально определили, что коэффициент торможения f равен 0,79. Допустим, ускорение свободного падения g равно тридцати двум и двум десятым фута в секунду – в американской системе измерений. Что составляет девять и восемьдесят одну сотую метра в секунду, – спокойно подсказала Сид. Дарвин посмотрел на нее с неподдельным интересом. – Надо же, ты умеешь в уме пересчитывать все в метрическую систему! – восхитился он. – Тогда, может быть, оставим все эти уравнения и сразу перейдем к анимационному ролику? Ты наверняка и так понимаешь, как я все рассчитывал. Сидни покачала головой: – Нет. Я хочу узнать все в подробностях. Рассказывай дальше. – Хорошо, – согласился Дар. – Поскольку автомобиль тормозил, значит, он двигался с отрицательным ускорением. Всего Дженни проехала с отрицательным ускорением сто тридцать два фута. Следовательно, нам известны все показатели, которые нужно подставить в уравнение для вычисления начальной скорости: vi = 82 фут/сек = 55.7 миль/час Таким образом, мы получаем скорость фургона перед началом торможения – восемьдесят два фута в секунду, что равняется почти пятидесяти шести милям в час. Скорость автомобиля, который проехал до полной остановки еще двадцать девять футов, вычисляется по той же формуле. Единственный показатель, который меняется, – это расстояние d. vi = 38.4 фут/сек = 26 миль/час Мы получаем скорость автомобиля в момент столкновения – тридцать восемь и восемь десятых фута в секунду, или двадцать шесть миль в час. Точно такой же была скорость мистера Кодайка после того, как его ударило фургоном. Эта зависимость справедлива в тех случаях, когда наезд совершает машина с высоким моторным отсеком, но для большинства небольших машин она неприменима. Сидни кивнула. – Высокая решетка радиатора плашмя ударяет о тело пешехода, близко к его центру тяжести, – сказала она. – А обычный седан или маленькая легковая машина ударяют пешехода ниже центра тяжести, – поэтому пострадавшего, как правило, выбрасывает на капот или даже на крышу машины. – Верно, – согласился Дарвин. – Если его, конечно, не переламывает пополам. – Он снова посмотрел на уравнения, высвеченные на компьютерном мониторе. – Но поскольку Дженни ехала на арендованном фургоне и ударила стоявшего на дороге Дикки решеткой радиатора, вычисления получаются совсем простые. Нам нужно знать только среднестатистические значения коэффициента сцепления для пешехода на разных поверхностях. Он щелкнул по клавише. На экране появилась таблица: поверхность трава асфальт бетон значение 0,45 – 0,70 0,45 – 0,60 0,40 – 0,65
– И какая поверхность на Мальборо-авеню? – спросила Сид. – Там асфальт, – ответил Дар и обозначил величину коэффициента сцепления для пешехода f равной 0,45. – Высота центра тяжести – h – для этого конкретного пешехода равна 2,2 фута. Мы измерили расстояние от места первого столкновения – которое определили по оставленной правой туфле и по следу трения подошвы второй туфли об асфальт – до места падения тела, которое отмечено следами крови и следами трения тела о дорогу. Это расстояние равно семидесяти двум футам. Если подставить эти значения вот в это уравнение… dr = 15 фут – тогда скорость, при которой мистер Кодайк начал падать – после того, как отделился от тормозящего автомобиля, – высчитывается вот так: v = 40.6 фут/секс = 27.6 миль/час Мы получили скорость сорок и шесть десятых фута в секунду, или двадцать семь и шесть десятых мили в час – что соответствует данным, полученным при анализе торможения автомобиля, – заключил Дарвин. – Значит, на самом деле она сбила его на скорости около двадцати семи миль в час, а торможение начала при скорости почти пятьдесят шесть миль в час? – переспросила Сидни. – Пятьдесят пять и семь десятых, – уточнил Дар. – И после столкновения он пролетел спиной вперед семьдесят два фута, а потом упал на спину, головой – вперед, а ногами – к автомобилю? – В девяноста девяти случаях из ста с пешеходами, сбитыми подобными машинами, именно это и происходит, – сказал Дарвин. – Поэтому мы с Ларри с самого начала поняли, что дело здесь нечисто, – как только увидели фотографии из полицейских протоколов. Он пощелкал по клавиатуре, и вместо уравнений на мониторе снова появилось изображение улицы из анимационного ролика. Еще один щелчок убрал с экрана показатели освещенности, длины тормозного пути, высоты тротуара и всего остального. Двое мужчин вышли из здания. Из-за поворота с бульвара Фонтейн вырулил фургон и, быстро набирая скорость, помчался вдоль Мальборо-авеню. Один из мужчин толкнул другого, и тот вылетел на проезжую часть улицы. Он споткнулся и почти упал, но сумел устоять на ногах – и тут в него врезался притормозивший фургон. Тело взлетело в воздух, пролетело довольно большое расстояние, упало на спину и еще какое-то время скользило по асфальту, а потом замерло. Фургон проехал дальше, снова набирая скорость, и скрылся за поворотом на следующем перекрестке, едва не задев при этом «Форд Таурус», который как раз в это время припарковывался у обочины. Водитель «Форда» вышел, склонился над лежащим на дороге мужчиной, а потом побежал на запад и скрылся за поворотом дороги – он побежал к своей приятельнице, чтобы вызвать по телефону спасателей. – Мы обнаружили кровь, волосы и вещество мозга на правом колесе, на втулке правого колеса, на передней оси и на рессоре, – ровным голосом сообщил Дарвин. На мониторе фургон снова появился из-за поворота с бульвара Фонтейн, притормозил перед телом, лежащим навзничь на дороге, а потом переехал человека и начал сдавать назад, проволочив за собой тело почти до середины того расстояния, которое тело пролетело после первого столкновения с машиной. Наконец тело высвободилось из-под колес и осталось лежать – головой на восток, в сторону автомобиля. А фургон продолжал сдавать назад, пока не доехал до своего собственного тормозного следа, и там остановился. – Она решила закончить начатое, – сказала Сид. Дарвин кивнул. – И что сказали в суде, когда увидели эту реконструкцию событий? – спросила главный следователь. Дар улыбнулся. – Не было никакого суда. И расследования не было. Я показал этот ролик только детективу Вентуре и ребятам из отдела расследования транспортных происшествий, но никто из них особенно не заинтересовался. К тому времени Дональд и Дженни уже отказались от иска против домовладельца – полагаю, в основном из-за того, что я опроверг их обвинения результатами измерения освещенности. А с владельцами фирмы, которая сдавала напрокат фургон, они сговорились на откупном в пятнадцать тысяч долларов. Сидни поерзала в кресле и непонимающе уставилась на Дарвина. – Ты предоставил неопровержимые доказательства того, что эти двое убили Ричарда Кодайка, и в полицейском управлении не обратили на это внимания? – Они сказали, что это всего лишь еще одно обычное убийство. Или, как выразился многоуважаемый детектив Вентура, «типичный случай гомицида», – объяснил Дарвин. – Я всегда подозревала, что Вентура – редкостная задница, – поморщилась Сидни. – Теперь я знаю это наверняка. Дар кивнул, пожевал губу и посмотрел на анимационную реконструкцию происшествия, которая снова прокручивалась на экране. Машина сбила человека, он взлетел в воздух, упал, фургон проехал мимо, вернулся, снова переехал человека, раздавив ему голову, потом проволок тело обратно, ближе к выходу из здания, и остановился. Ролик начал повторяться с самого начала – двое безликих мужчин выходят из хорошо освещенной парадной двери дома… – Клиенты Ларри из прокатной конторы были просто счастливы отделаться пятнадцатью тысячами, – начал Дарвин. – Постой, – оборвала его Сид. – Погоди-ка. Она расстегнула свою огромную кожаную сумку, вытащила ноутбук «Эппл-Пауэр» и положила его рядом с дарвиновским IBM. Дар окинул Сидни подозрительным взглядом, каким обычно в семнадцатом веке ревностный католик одаривал протестанта. Пользователи «Эппла» и пользователи IBM редко находят общий язык. Сид включила свой компьютер. – Дженни Смайли, – пробормотала она. – Дональд Борден. Ричард Кодайк. Эти имена мне что-то отдаленно напоминают… По экрану ноутбука поплыли колонки директорий. Сидни включила «поиск». – Ага-а, – протянула она, снова пробежалась пальцами по клавиатуре, впилась взглядом в экран и повторила: – Ага! – Мне нравится это «Ага!», – улыбнулся Дар. – Что там? – Вы с Лоуренсом узнавали подноготную этих троих… любовников? – спросила Сид. – Естественно, – кивнул он. – Насколько смогли, не наступая на пятки детективу Вентуре. В конце концов, это было его расследование. Мы обнаружили, что у жертвы, мистера Ричарда Кодайка, имелось еще три адреса, не считая того, которой был указан в его водительском удостоверении. Все в Калифорнии. Один – в восточном Лос-Анджелесе, второй – в Энсинатас, третий – в Поуэе. Проверив номер его социального обеспечения, мы узнали, что он числится работником «Калифорнийской страховой медицины», адрес которой нигде не был обозначен. Проверив старую телефонную книгу, Труди нашла, что «Калифорнийская страховая медицина» находилась в Поуэе, но в данное время прекратила свое существование. Все сведения о ней были изъяты из городских архивов. Тогда мы связались с почтовым отделением Поуэя и обнаружили, что адрес Кодайка сходится с адресом этой клиники – абонентский ящик номер 616840. Мы посоветовали отделу расследования транспортных происшествий и детективу Вентуре проверить по спискам «Фиктивных компаний Лос-Анджелеса и Сан-Диего» все данные, связанные с именем потерпевшего и «Калифорнийской страховой медицины». Они отмахнулись от нашего предложения. Сидни усмехнулась, не отрываясь от экрана. – Помнишь красные флажки у меня на карте? – Случаи наезда со смертельным исходом? Да, и что? – «Калифорнийская страховая медицина» имела отношение к шести несчастным случаям. Доктор по имени Ричард Карнак выступал свидетелем на суде. – Ты полагаешь, что Ричард Карнак и Дикки Кодайк – одно и то же лицо? – А что тут гадать? – отозвалась Сидни. – У тебя есть его фото? Прижизненное, конечно. Дарвин просмотрел названия файлов и вывел на экран паспортную фотографию обычного образца, подписанную «Кодайк, Ричард Р.». Сид застучала по клавиатуре, и третью часть экрана ее ноутбука заполнило черно-белое фото. На снимках, без сомнения, был изображен один человек. – А Дональд Борден есть? – спросил Дар. – Он же Даррел Боргес, он же Дон Блейк, – сказала Сидни, вызывая на экран фотографию и паспортные данные второго мужчины. – За ним числится пять приводов в полицию за мошенничество и три за разбойное нападение и оскорбление действием. Она посмотрела на Дарвина сияющим взглядом. – До двадцати восьми лет мистер Боргес состоял членом бандитской группировки в восточной части Лос-Анджелеса, а потом стал работать на одного адвоката – некоего Джорджа Мерфи Эспозито! – Черт! – радостно выдохнул Дар. – А Дженни Смайли? Наверняка это не настоящее имя. – Имя-то настоящее, – кивнула Сидни, просматривая данные на экране. – А вот фамилия другая. Семь лет назад она вышла замуж и взяла фамилию мужа. – Дженни Боргес? – догадался Дар. – Si, – широко улыбнулась Сидни. – А Смайли – ее фамилия от первого брака… довольно недолгого. Мистер Кен Смайли скончался в результате несчастного случая семь лет назад. Знаешь, какая у нее девичья фамилия? Дарвин с минуту выжидающе смотрел на Сид. – Дженни Эспозито, – наконец сообщила главный следователь. – Она сестра нашего шустрого адвоката. Дар повернулся к своему монитору, на экране которого фургон продолжал сбивать пешехода, уноситься в темноту, возвращаться, переезжать голову несчастного… и снова, с самого начала. – Они знали, что я знаю, – пробормотал он. – И почему-то решили, что я представляю для них угрозу. – Это же убийство, – сказала Сид. Дар покачал головой: – Полицейское управление дело закрыло, прокатная контора откупилась, Донни и Дженни уехали в Сан-Франциско. Все остались при своем. Здесь что-то еще. – Что бы там ни было, – заметила Сидни, – все указывает на нашего адвоката Эспозито. Но тут есть кое-что поинтересней. Она снова защелкала по клавиатуре. Дарвин заметил, как на экране возник и пропал символ ФБР. Тут же высветилось «Введите пароль». Сид набрала что-то на клавишах, в рамке появилась цепочка звездочек, а потом замелькали директории и столбики файлов. – У тебя есть доступ к банку данных ФБР? – поразился Дар. Даже бывшие спецагенты не удостаивались такой привилегии. – Официально я работаю на Национальное бюро по расследованию страховых преступлений, – ответила Сидни. – Помнишь Жанетт на собрании у Говнюка? Это ее группа. В 1992 году оно отделилось от Агентства по предотвращению преступлений в области страхования. В качестве поддержки ФБР передало в его распоряжение свою базу данных. – Наверняка это не раз вас выручало, – заметил Дарвин. – Например, сейчас, – ответила Сид, указывая на фотографию Дикки Кодайка и его отпечатки пальцев. Ниже стояла подпись: «Ричард Карнак, настоящее паспортное имя – Ричард Трейс». – Ричард Трейс? – переспросил Дар. – Сын Далласа Трейса, – сказала Сидни, снова принимаясь стучать по клавиатуре. Дарвин растерянно заморгал. – Далласа Трейса? Знаменитого адвоката, рубахи-парня? У него еще был жилет из оленьей шкуры, галстук-боло и длинные патлы. И он вел это дурацкое шоу про юристов на CNN. Это тот же самый Трейс? – Тот самый, – кивнула Сид. – Самый известный и всеми любимый адвокат, второй после Джонни Кокрана. – Твою мать, – пробормотал Дарвин. – Даллас Трейс – самодовольный, напыщенный циник. Он выигрывает процессы с помощью тех же трюков, что и Кокран в деле Оу-Джея Симпсона. А еще он написал книгу – «Как убедить кого угодно в чем угодно»… Осталось только убедить меня прочитать эту гадость! – Тем не менее, – заметила Сидни, – в этом деле Кодайка – Бордена – Смайли именно его сына Ричарда сбили, а потом переехали… одним словом, убили. – С этого и следует начинать, – сказал Дарвин. – Мы уже начали, – возразила Сид. – Покушение на твою жизнь и мое расследование борьбы мошеннических группировок – две ниточки одного и того же дела. В понедельник займемся этим вплотную. – Только в понедельник? – изумился Дар. – Так сегодня только суббота! – У меня уже семь месяцев не было ни одного приличного выходного! – огрызнулась Сид, злобно сверкая глазами. – Я хочу отдохнуть хотя бы один день и нормально выспаться в этом пастушьем фургоне хотя бы одну ночь, прежде чем браться за дела! Дар поднял руки вверх. – Я уже не помню, когда мне давали отдохнуть хотя бы утром в воскресенье. – Значит, договорились? – спросила она. – Договорились, – согласился Дарвин, протягивая руку для пожатия. Сидни обхватила его голову руками, притянула к себе и поцеловала в губы – крепко, медленно и со вкусом. Затем встала и пошла к двери. – Я собираюсь вздремнуть, но, когда встану, к вечеру, непременно захочу жареного мяса. Дарвин проследил за ней взглядом, раздумывая, следует ли пойти за ней или дать себе пинка под зад. А потом встал и поехал в город, чтобы купить мяса и свежего пива.
ГЛАВА 10 К – КРАН
Усевшись в кабину «Соло L-33», Дарвин туго затянул ремень на поясе и подтянул ременные лямки на плечах. Он устроился поудобнее и подвигал туда-сюда педалями, проверяя управление рулем направления. Кен прокатил самолет-буксир немного вперед, а его брат Стив тем временем следил, чтобы двухсотфутовый буксировочный трос не запутался и не провис слишком сильно. Кен остановил самолет. Стив повернулся к Дару, сидевшему в кабине планера, и, выставив большой и указательный пальцы, сделал круговое движение рукой – этим знаком он велел Дарвину проверить приборы. Дар быстро проверил приборы и показал Стиву большой палец – мол, все готово. Стив повернулся к своему брату, сидевшему в кабине одноместной «Сессны», и провел рукой слева направо. Кен еще немного проехал вперед – буксировочный трос натянулся. Кен оглянулся назад, Стив снова посмотрел на Дарвина. Дар кивнул. Его правая рука удобно лежала на рукоятке, левая – на колене. Он был готов в любое мгновение нажать на рычаг отсоединения буксировочного крюка – если вдруг случится что-нибудь непредвиденное. Самолет-буксир начал разгон, и планер дернулся и покатился за ним – сначала по траве, потом по асфальтовой дорожке. Пока планер разгонялся до взлетной скорости, Дар еще раз проверил все по порядку: А,Р,Р,П,Т,Н – альтиметр, ремни, рычаги управления, парашют, трос, направление. Все в порядке. Дар немного поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Кроме поясного ремня и обычных ремней безопасности, на плечах у Дарвина были еще и лямки парашюта модели SPCC-305. Этот парашют в сложенном виде представляет собой цельную подушку, которая размещается в жестком сиденье кресла. Конструкция парашюта предусматривает и специальные надувные пузыри, которые образовывают мягкую прокладку между спиной пилота и узкой, неудобной спинкой сиденья. В общем, с таким парашютом утилитарное, жесткое сиденье планера превращается в довольно уютное кресло. Большинство знакомых Дарвину пилотов-любителей, летавших на планерах, не пользовались парашютами. Но двое из них уже погибли как раз из-за того, что у них не было парашюта. Один – при глупейшем столкновении в воздухе над горой Паломар, в нескольких милях к северу отсюда. A второй – при совершенно невероятной поломке высококлассного планера, во время исполнения фигур высшего пилотажа – у планера внезапно отвалилась левая плоскость крыла. Дар высоко ценил и удобство, которое обеспечивало кресло-парашют, и гарантию безопасности на случай аварии в воздухе. Планер, как обычно, оторвался от земли раньше, чем самолет-буксир. Дар твердо удерживал его на высоте шести футов от дорожки, пока Кен продолжал разгон. Проехав несколько сот футов, «Сессна» поднялась в воздух. Дар искусно перевел планер в позицию высокого буксирования – так, чтобы лететь примерно на одной высоте с маленькой «Сессной» и точно за ней. Формально Дар использовал обычный для полетов в горной местности прием – чтобы расположить планер в правильную позицию относительно самолета-буксира, пилот планера должен был видеть хвост буксира посредине колпака своей кабины, как раз над приборной панелью. Но на самом деле Дарвин, как опытный пилот, просто представлял себе, в каком положении относительно буксира должен идти планер, и придерживался этой позиции. Этот трюк мог выполнить только тот, кто обладал определенной интуицией и достаточным опытом пилотирования планеров. Совершив вместе с Кеном несколько сотен взлетов, Дарвин приобрел и то и другое. Этим утром погода была прекрасная – отличная видимость, легкий, не больше трех узлов, западный ветер.От подножия гор, окружавших долину с длинной лентой взлетно-посадочной полосы, красивыми струйками поднимались вверх потоки горячего воздуха. Но когда «Сессна» и планер поднялись на высоту в тысячу футов, Дар заметил далеко на западе надвигающийся штормовой фронт. Вскоре шторм достигнет побережья, и погода испортится – значит, сегодня удастся полетать всего несколько часов. Самолет и планер быстро набирали высоту. «Сессна» повернула к северу, потом к западу. Продолжая подниматься, они вновь вернулись на прежний курс – на северо-восток, к горе Паломар, носом к ветру. На заранее оговоренной высоте в две тысячи футов Дар туго натянул буксирный трос – чтобы Кен почувствовал, когда планер отцепится от буксира. Потом Дар дважды дернул за рычаг спускового механизма, увидел и почувствовал, как освободился буксирный трос, и заложил вираж вправо и вверх, а Кен круто пошел на снижение, выворачивая «Сессну» влево. Теперь «L-33» был предоставлен самому себе. Планер парил в потоках теплого воздуха, поднимавшихся над крутыми склонами горного кряжа на севере от летного поля. Дарвин сидел, откинувшись на спинку кресла-парашюта, и наслаждался тишиной, которую нарушал только монотонный, убаюкивающий свист ветра, обтекавшего металлические крылья и фюзеляж «L-33». В это воскресное утро Дар проснулся рано, приготовил кофе, выставил на стол хлопья, рогалики и написал записку для Сид. Он уже готовился выходить из дома, когда на пороге появилась Сидни собственной персоной. На ней были привычные джинсы, красная рубашка и жилетка цвета хаки с множеством кармашков. На поясе, под жилетом, угадывалась кобура с пистолетом. – Я гуляла, – сообщила она. – Собираешься удрать от меня? – Угадала, – кивнул Дарвин и объяснил, куда он отправляется. – Я с удовольствием поеду с тобой. Дарвин замялся. – Стоять на поле и следить за планером довольно скучно, – сказал он. – Лучше останься здесь, погуляй или почитай воскресную газету… Я могу съездить в город и купить. Возле почты есть газетный автомат… – A мне можно полетать с тобой? – спросила Сид. – Нет, – ответил Дар. Этот краткий отказ прозвучал резче, чем ему хотелось бы. – У меня одноместный планер. – И все равно я лучше посмотрю, как ты летаешь, – стояла на своем она. – Не забывай, я не просто приехала к тебе в гости на выходные, я твой телохранитель. Они наполнили термосы горячим кофе, прихватили с собой рогалики и покатили через городок Джулиан к 78-му шоссе. Дорога вилась по дну каньона. Свернув сперва на север, потом на запад, они наконец добрались до широкой долины у Уорнер-Спрингс. Сидни поразилась, увидев, каким маленьким был этот планер. – Здесь же ничего нет, кроме кабины, брюха, крыльев и хвоста, – сказала она Дарвину, который в это время распускал стояночные тросы. – A планеру больше ничего и не нужно, – ответил он. – Мне казалось, что такая штука называется глайдером, – заметила Сид. – Так тоже можно. Сидни придерживала одно крыло, пока он поднимал хвост планера, а потом они вместе вытолкали красно-белый аппарат из ангара на полевой аэродром, поросший невысокой зеленой травой. Кен на своей «Сессне» то взлетал вверх, буксируя очередной планер, то спускался вниз, чтобы помочь подняться следующему. – Легкий, – сказала Сид, покачав крыло машины вверх-вниз, – но он из металла. Я думала, что глайдеры делают из дерева или чего-то в этом роде, как старинные бипланы. – Это «Соло L-33», – сказал Дар. – Он спроектирован конструктором Марианом Мечиаром и построен на заводе «Лет» в Чешской республике. Планер сделан почти целиком из алюминия, только в хвостовой части, где руль, используется ткань. Без пилота и груза он весит всего четыреста семьдесят восемь фунтов. – Значит, чехи делают хорошие глайдеры… то есть планеры? – спросила Сидни, пока Дар открывал кабину и пристраивал на место кресло-парашют. – Этот они сделали хорошо, – сказал Дарвин. – Я открутил с него родные обтекатели – они только ухудшали летные качества. A еще в этой модели не предусмотрен сигнал, предупреждающий о снижении скорости. Но для достаточно опытного пилота это очень хорошая машинка. – A ты давно летаешь на планерах? – поинтересовалась Сидни. – Около одиннадцати лет, – ответил Дар. – Я начинал летать в Колорадо, а когда переехал сюда, купил вот этот планер, подержанный. Сид открыла рот, но заговорила не сразу – замялась на несколько секунд, потом спросила: – A сколько стоит такой вот планер… если, конечно, не секрет? Дарвин улыбнулся. – Стоит он примерно двадцать пять тысяч долларов. Но ты ведь хотела спросить о другом, верно? О чем? Сидни помолчала немного и сказала: – Я знаю, что ты не летаешь самолетами. И я думала, ты не любишь летать… Дар начал осматривать планер перед вылетом. Он вздохнул и сказал, не глядя на главного следователя: – Нет, летать я очень люблю. Скажем так, я не люблю быть пассажиром в самолетах.Дарвин развернулся против ветра и скользнул над склонами горы Паломар. На востоке виднелся пик Бьюти. Его вершина поднималась на высоту в пять с половиной тысяч футов. A дальше к юго-востоку возвышался одинокий пик Торо, он был на несколько сотен футов выше пика Бьюти. Но Дарвин не любовался красотами горного пейзажа – он выискивал поднимающиеся вверх потоки горячего воздуха. На «L-33», как и на большинстве других планеров, было очень мало приборов и механизмов управления полетом. В распоряжении пилота была ручка управления и педали, короткая рукоятка интерцептора, рычаг управления воздушными тормозами, еще одна рукоятка для того, чтобы выпускать и убирать шасси, большой шарообразный рычаг для освобождения буксировочного троса и маленькая приборная панель – с альтиметром, вариометром и индикатором скорости. В таких маленьких планерах не было радио и электронных навигационных приборов. Для определения воздушного потока Дарвин чаще всего использовал самодельный прибор – кусок цветного шнурка, приделанный к фюзеляжу прямо перед пилотской кабиной. Благодаря этому шнурку и привычке различать на слух свист ветра в крыльях и фюзеляже Дарвин определял скорость ветра точнее всяких приборов. По собственному опыту Дар знал, что датчик скорости ветра и самого планера, расположенный на носовой части фюзеляжа, дает более-менее правильные показания. Но два таких же датчика, расположенные в хвостовой части планера, показывали скорость примерно на шесть процентов выше настоящей. Поскольку Дарвин знал об этой неточности, она не грозила ему никакими неприятностями. Счет в уме никогда не вызывал у него особых затруднений. Кроме того, цветной шнурок еще ни разу не подвел Дара. Дарвин вертел головой, высматривая другие планеры и самолеты. Их было очень мало, и все – далеко на востоке. От обращенных к востоку горных склонов, от разогретых солнцем камней и даже от черепичных крыш нескольких домов поднимались потоки горячего воздуха. На высоте около двух тысяч футов, ближе к горе Паломар, на мощном восходящем потоке парил, неспешно описывая круги, большой ястреб. На востоке вдоль горного кряжа клубились легкие облака, а на западе, на склонах Паломара, облака лежали толстым сплошным ковром, частично скрывая вершину горы. Дальше к западу небо было совсем темным от массивного скопления кучевых облаков – к побережью приближался шторм. Надвигающийся шторм не слишком обеспокоил Дарвина. Он будет спокойно описывать круги на своем планере в теплых восходящих потоках, на безопасной высоте в восемь тысяч футов, то снижаясь, то вновь поднимаясь над горными склонами с подветренной стороны больших утесов. Такая техника полета называлась «скольжение по волнам» и требовала чуть больше опыта и практических навыков, чем простое парение в восходящих потоках. Дарвин пролетел над склонами, отыскал самый мощный восходящий поток, поднимавшийся над разогретыми солнцем камнями, и на нем взлетел повыше – а потом скользнул к востоку, на подветренную сторону горных склонов, чтобы пролететь между вершинами нижних утесов, а потом вернуться обратно и снова поймать восходящий поток. В восходящих потоках теплого воздуха на восточном склоне можно было подняться вверх с высоты в тысячу или две тысячи футов, а то и меньше. Всякий раз, когда Дарвин поворачивал «L-33» вправо и вверх, высокие дугласовы пихты и огромные кедры, которые росли на этих склонах, казалось, были совсем рядом. Вариометр показывал скорость подъема – примерно один фут в минуту. Проскользнув над одним из таких утесов, Дар оглянулся через плечо и увидел трех оленей, бесшумно убегавших в лес. Единственным звуком во вселенной был мягкий, убаюкивающий шелест ветра вокруг кабины и алюминиевого фюзеляжа. Утреннее солнце припекало все сильнее, в кабине стало жарко. Дарвин открыл маленькие панельки по бокам плексигласового фонаря кабины и почувствовал кожей те самые теплые потоки, на которых поднимался его планер. Одновременно он ощутил, как изменился из-за этого характер воздушных потоков, обтекавших кабину. Дар проскочил над последним из мелких обрывистых утесов – дальше начинались серьезные, большие горы. К ним нужно было подходить обязательно с подветренной стороны, на хорошей скорости и с порядочным запасом высоты. И все время надо быть готовым резко уйти в вираж, развернуться и уйти в сторону – если нисходящие потоки окажутся слишком сильными, чтобы с ними совладать. Но Дарвин каждый раз благополучно проскальзывал над очередным утесом – иногда на высоте всего в тридцать или сорок футов от гребня утеса или верхушек деревьев, – а потом сразу же начинал набирать высоту для захода на следующий утес. В конце концов он оказался на западном краю вереницы утесов, на высоте примерно шести тысяч футов над уровнем долины. Дар приближался к горе Паломар, борясь с сильным боковым ветром, который сносил «L-33» в сторону и подготавливал волнообразный заход на гору. Очень кстати пришлись «линзы» – небольшие облачка, напоминающие по форме «летающие тарелки» или увеличительные стекла. Маленькие «линзы» опускались или поднимались кверху вместе с потоками воздуха, и по расположению этих облаков можно было легко определить самое лучшее место для подъема – там «линз» было очень много, и в целом картинка напоминала стопку тарелок на посудной полке. Прежде чем начать очередной разворот на двести семьдесят градусов для набора высоты, Дар оглянулся через плечо и вздрогнул от неожиданности – справа и сверху к нему приближался еще один высокоскоростной планер. Планеры не летают группами, потому что столкновения в воздухе – это самая страшная опасность, подстерегающая пилота. Поэтому Дарвин очень удивился, увидев так близко второй планер, – в такую прекрасную погоду вокруг было полным-полно свободного места для полетов. Довольно странно, что другой планер подлетел к нему. Это очень невежливо со стороны того пилота. Бело-голубой планер подлетел поближе, и Дарвин узнал «Твин-Астир» Стива – прекрасный двухместный глайдер, на котором владелец аэродрома катал пассажиров и проводил учебные полеты. Потом Дар разглядел, что на пассажирском месте сидит Сидни. На несколько секунд Дарвина охватило раздражение, но потом он успокоился. День сегодня на редкость погожий. Если Сид захотелось немного полетать – почему она должна отказывать себе в этом удовольствии? Но «Твин-Астир» Стива подлетал все ближе, качая при этом крыльями. Когда самолет качал крыльями во время буксирования планера, это означало «Немедленно отцепляйся!» – но Дар не понимал, что Стив пытался сказать ему этим знаком сейчас. Два планера летели параллельно друг другу, расстояние между кончиками крыльев не превышало тридцати футов. Они оба быстро поднимались на волне восходящего воздуха, удаляясь все дальше от Паломара. Сид отчаянно жестикулировала, пытаясь донести до Дарвина какую-то весть. Она показала свой сотовый телефон, сделала вид, что говорит по нему, потом показала назад, на долину Уорнер-Спрингс. Дар кивнул. Стив свернул в сторону первым – он начал набирать высоту над предгорьем, держа курс прямо на аэродром. Дарвин последовал за ним с отрывом в несколько сот метров. Они миновали предгорье и оказались над широкой долиной. Дарвин летел за «Твин-Астиром» Стива, который, как обычно, заходил на посадку в южной части взлетного поля Уорнер-Спрингс. Когда оба планера достигли нисходящего потока воздуха к востоку от аэродрома, Дар отстал от Стива и совершил разворот на север на высоте около четырехсот футов. Он увидел, как глайдер Стива мягко опустился на траву справа от асфальтированной взлетной полосы, и наметил для себя точку посадки – примерно в ста пятидесяти футах позади «Твин-Астира». Ветер к этому времени стал порывистым, но Дарвин зашел на посадку плавно и гладко, выдерживая постоянную скорость. Тем временем он следил за указующим цветным шнурком и подсчитывал в уме – минимальная посадочная скорость плюс еще пятьдесят процентов, плюс половина скорости ветра, который сейчас достигал двадцати узлов. Стив заходил на посадку под довольно крутым углом. Точно так же поступил сейчас и Дарвин. Он умело удерживал планер на нужном курсе и в результате вывел на посадку так, что «L-33» летел параллельно земле, на высоте всего в один фут от посадочного поля. В последний миг подул боковой ветер, и Дару пришлось быстро выравнивать машину при помощи рулей. Он блестяще справился с этой задачей, и переднее шасси коснулось земли так плавно, что Дар этого даже не почувствовал. Он сосредоточил все внимание на управлении, ведя чешский планер вдоль поля, по коротко подстриженной траве, и остановился точно вровень с глайдером Стива, в шести футах слева. Дар открыл фонарь кабины и в считаные секунды освободился от ремней безопасности и парашютных лямок. Сид уже подбежала к нему. – Позвонил Говнюк, – сообщила она, не дав Дарвину даже рта раскрыть. – Джордж Мерфи Эспозито мертв. Если мы поспешим, то прибудем на место происшествия прежде, чем там затопчут все следы.
Когда Дар и Сидни приехали на стройку в южной части Сан-Диего, шел сильный дождь. Они решили прихватить с собой вещи, документы и видеозаписи, поэтому сперва вернулись в домик Дара и только потом поехали в город. Конечно, на это пришлось потратить какое-то время. Когда они прибыли на место, тело Эспозито уже убрали, а место происшествия обнесли желтой полицейской лентой. Но вокруг до сих пор было полно полицейских в форме и в гражданском. Капитан Фрэнк Фернандес, присутствовавший в среду в кабинете Говнюка, был самым старшим по чину среди полицейских, собравшихся на месте происшествия. Сейчас Фернандес был в гражданском – невысокий, но крепко сбитый мужчина. При своем росте он был немного тяжеловесен, зато весьма представителен. Его лицо казалось вырубленным из камня. Фернандес никогда не тратил слов и времени на глупости. Дар слышал от Лоуренса и других, что Фернандес – честный полицейский и прекрасный детектив. – А вы что здесь делаете? – спросил капитан, когда Дарвин и Сид под проливным дождем подошли к обвалившемуся строительному подъемнику, обозначенному желтой лентой. – Нам позвонили из окружной прокуратуры, – сказала Сидни. – Эспозито был потенциальным свидетелем по делу, которое мы расследуем. Фернандес хмыкнул и чуть улыбнулся при слове «свидетель». – Неудивительно, что вы интересуетесь мистером Эспозито, главный следователь, – сказал он. – Он был одним из боссов местного преступного мира. Сидни кивнула и посмотрела на обвалившийся подъемник. Если эта тяжелая платформа упала с высшей точки, значит, ей пришлось лететь до земли около тридцати пяти футов. Сейчас платформа была поднята с двух сторон домкратами. По всей стройке земля давно превратилась в сплошную жидкую грязь, а под платформой было сухо – если не считать пятен крови, мозгового вещества и какой-то еще темной жидкости. Брызги крови и мозга виднелись и на шлакоблочной стене у дальнего края платформы подъемника. – Вас вызвали сюда потому, что подозревается убийство? – спросила Сид у Фернандеса. Детектив пожал плечами. – У нас есть свидетель, который утверждает обратное, – он кивнул в сторону рабочего в спецовке, с папкой в руках, который разговаривал с полицейским в форме. Скорее всего, это был прораб со стройки. – Сегодня на стройке рабочих очень мало, всего несколько человек, – продолжал рассказывать Фернандес. – Варгас – он здешний прораб – не видел, как мистер Эспозито появился на стройке, но заметил, как он разговаривал с кем-то возле подъемника. – Он узнал того человека, с которым говорил Эспозито? – спросила Сидни. Фернандес снова кивнул. – Это Пол Уотчел. Работал на этой стройке, но сейчас временно не работает из-за травмы. Он подал в суд на строительную компанию… – Дайте-ка я догадаюсь, – сказала Сид. – Эспозито был его адвокатом? Фернандес улыбнулся, хотя взгляд его темных глаз остался серьезным. – Значит, этот Уотчел – подозреваемый? – спросила Сид. – Нет, – уверенно ответил капитан. – Мы ищем его, чтобы допросить, но только как свидетеля. Прораб Варгас видел, как Уотчел ушел со стройки, как только начался дождь. Эспозито спрятался от дождя под платформой подъемника. В последний раз, когда Варгас его видел, Эспозито был там один. Потом платформа неожиданно начала падать, и Эспозито отпрыгнул – но не в ту сторону. Он отпрыгнул к стене, и его голову защемило под платформой. Сидни посмотрела на серые брызги мозгового вещества на сухой шлакоблочной стене и спросила: – Варгас видел, как все это произошло? – Нет, – сказал Фернандес. – Но он повернулся на звук, когда платформа упала. По его словам, поблизости от подъемника никого не было. – Как получилось, что платформа подъемника вдруг упала вниз? – спросил Дарвин, который все это время снимал место происшествия цифровой видеокамерой. Фернандес смерил следователя агентства Стюартов долгим взглядом с головы до ног, словно пытаясь понять, чего тот стоит, потом сказал: – Варгас думает, что Эспозито непонятно зачем открутил вон ту хреновину на ближайшей опоре лифта. Этот кран перекрывает отверстие, через которое обычно заполняют маслом резервуары гидравлической системы. Сливают масло тоже через это отверстие. Когда вентиль отвернули, давление в гидравлической системе упало – это происходит почти мгновенно. Гидравлические противовесы отказали, и платформа сразу же рухнула на землю. – А зачем Эспозито это сделал? – спросила Сидни. Фернандес смахнул со лба мокрые пряди черных волос и сказал: – Эспозито вечно делал какие-нибудь дурацкие гадости. Дар подошел к подъемнику поближе и заглянул под платформу, не заходя под нее. – Здесь следы не только мистера Эспозито. – Ну да, – ответил Фернандес. – Там топтались медики из «Скорой помощи», которые извлекали тело, и патологоанатом, который дал заключение о смерти. Но когда я только приехал, там были только следы Эспозито. – Как вы это определили? – спросил Дар. Фернандес вздохнул. – Вы видели когда-нибудь строительного рабочего, который носил бы обувь фирмы «Флоршайм», с подковками на каблуках? Сид присела рядом с Дарвином, протянула руку к прямоугольнику сухой земли под платформой и окунула палец в разлитую там темную жидкость. Поднеся палец к носу, она сказала: – Значит, вот это – гидравлическая жидкость… – Да, – подтвердил капитан Фернандес. – А все остальное – Эспозито. – Но вы пока не закрывайте это дело, – попросила Сидни. – Еще остается возможность убийства. – Мы собираемся переговорить с Полом Уотчелом, – сказал Фернандес. – Нужно еще взять показания у всех рабочих, которые находились в это время на стройке. У таких людей, как Джордж Эспозито, всегда бывает много врагов и немало конкурентов. Но пока все указывает на то, что это был просто несчастный случай. – А что вы скажете о Варгасе? – поинтересовался Дарвин. Фернандес нахмурился. – Прораб… Он работает в этой компании уже одиннадцать лет. На его счету нет никаких правонарушений – его даже ни разу не оштрафовали за парковку в неположенном месте. – Мистер Эспозито возбудил судебное дело против строительной компании, – напомнила Сид. Детектив покачал головой. – Когда платформа упала, Варгас был в вагончике, разговаривал по телефону с одним из архитекторов. Мы можем проверить записи телефонных разговоров и расспросить архитектора. Но Варгас тут ни при чем. Я это чувствую. – Инстинкт? – с любопытством спросил Дарвин. Ему, как всегда, было очень интересно, как полицейские ведут расследование. Дар уже почти верил, что копы наделены особым шестым чувством. Фернандес прищурил глаза и с подозрением посмотрел на Дарвина, заподозрив в его словах скрытую издевку. Отвечать он не стал. Сид нарушила неловкую паузу, спросив: – А куда патологоанатом отправил тело? – В городской морг, – ответил Фернандес, не сводя с Дарвина холодного взгляда темных глаз. Наконец он повернулся к Сидни и спросил: – Вы собираетесь туда поехать? – Возможно. Фернандес пожал плечами. – Когда мы сюда приехали, Эспозито выглядел не слишком приятно. Не думаю, что в морге он будет смотреться лучше. Но с другой стороны… Это ваш выходной, езжайте куда хотите.
Дарвин заметил, что в последние годы в кино обычно показывают морги, битком набитые обнаженными телами прекрасных молодых женщин, а патологоанатомов изображают, как правило, толстыми, бесчувственными свиньями. Но патологоанатом городского морга Сан-Диего, доктор Абрахам Эпштейн, оказался невысоким хрупким старичком лет шестидесяти с небольшим. Доктор Эпштейн был одет в прекрасно сшитый костюм и разговаривал так серьезно и сочувственно, что напоминал скорее директора похоронного бюро – только искренности в нем было побольше. Дарвину и Сидни не пришлось ходить среди обнаженных трупов, чтобы увидеть тело Эспозито. Их усадили в маленькой, уютной комнатке и показали видеозапись с изображением тела покойного. Когда на мониторе появилось лицо Эспозито, Дарвин поежился. Он почувствовал, как вздрогнула Сидни, сидевшая рядом. – В медицинской терминологии это называется «маска ужаса», – тихим и спокойным голосом пояснил доктор Эпштейн. – Термин старинный, но тем не менее вполне подходящий. – Боже правый! – сказала Сид. – Я видела много покойников, и многие из них умерли страшной смертью, но никогда… – …не видели такого выражения на их лицах, – закончил за нее патологоанатом. – Да, такое явление встречается довольно редко. Обычно феномен смерти, даже очень жестокой смерти, устраняет большую часть, а то и все выражения лица – по крайней мере до тех пор, пока не наступило трупное окоченение. Но иногда, в редких случаях массивной и почти мгновенной травмы мозга – например, такое может случиться во время войны, на поле боя… – …Или когда на человека падает платформа строительного подъемника, – подсказал Дарвин. – Да, – согласился доктор Эпштейн. – Как вы можете видеть, верхняя часть черепа не только вскрыта и смещена назад, словно ему уже была сделана аутопсия – «шапочкой», как это называют заключенные, – но и весь череп довольно сильно сжат. Большую часть мозгового вещества при сдавливании черепной коробки вытолкнуло наружу, а то, что осталось, утратило связь с периферической нервной системой погибшего за очень короткое время – настолько короткое, что нервные импульсы не успели передаться от головного мозга на периферию. Все какое-то время сидели молча. Тишину нарушало только легкое пощелкивание клавиш – Дар что-то подсчитывал на маленьком карманном калькуляторе. А перекошенное лицо Джорджа Мерфи Эспозито таращилось на них с телемонитора. Его выпученные глаза словно видели падающую сверху площадку подъемника, рот был неестественно широко открыт в нескончаемом вопле ужаса, мышцы лица и шеи были настолько сильно напряжены, что напоминали картинку из жуткого мультфильма. Сверху, над этим перекошенным лицом, черепа практически не было – макушку свезло назад, остались только обломки костей и клочки волос по бокам, похожие на разодранный дешевый парик. – Доктор Эпштейн, – сказал Дарвин, – согласно моим подсчетам, если платформа находилась на максимально возможной высоте, что следует из показаний прораба и нескольких других рабочих, которые были сегодня на стройке, резкое падение давления в гидравлической системе привело бы к тому, что платформа почти мгновенно набрала бы скорость, близкую к конечной. Таким образом, получается, что платформа падала на мистера Эспозито менее двух секунд. Доктор Эпштейн медленно кивнул. – Это вполне согласуется с исследованиями феномена так называемой «маски ужаса». Мозг должен быть отделен от периферической нервной системы за одну и восемь десятых секунды или меньше, чтобы на лице погибшего сохранилось подобное выражение. Дарвин посмотрел на Сидни. – Как по-твоему, насколько далеко находилось тело Эспозито от той опорной стойки, на которой был отвинчен кран, из-за чего и вытекла гидравлическая жидкость? – Ширина платформы двенадцать с половиной футов, – сказала Сид. – Эспозито находился со стороны, противоположной опорной стойке с отвинченным вентилем крана. Его голова выступала на несколько дюймов из-под распорок подъемника – как будто он хотел выскочить из-под падающей платформы. – Как ты думаешь, мог он открутить вентиль крана, а потом перепрыгнуть через пространство под платформой… И все это меньше чем за две секунды? – спросил Дар. – Нет, – ответила Сид. – Кроме того, если Эспозито увидел падающую платформу – а это так, судя по его лицу, – он должен был инстинктивно прыгнуть вперед, из-под платформы, а не бежать в глубь шахты подъемника, пытаясь спрятаться у стены. Дар отложил калькулятор в сторону. – И это не единственная странность, – сказал старичок патологоанатом. Он провел Дарвина и Сидни в служебное помещение морга, которое располагалось между приемной и собственно хранилищем трупов. Здесь находился склад – на множестве полок лежали непрозрачные пластиковые пакеты, большинство из которых были помечены международной маркировкой «Токсичные биологические отходы». Эпштейн открыл ящик стола, вынул оттуда и надел одноразовые резиновые перчатки той модели, какую использовали патологоанатомы с тех пор, как началась эпидемия СПИДа, и протянул по паре перчаток Сидни и Дару. Потом доктор Эпштейн снял с полки один из пакетов с наклейкой, на которой были написаны имя – Эспозито, М. Джордж, – сегодняшняя дата, и регистрационный номер. – Полицейские, конечно, все это сфотографировали и сняли на видео, – сказал Эпштейн. – Но вам стоит посмотреть на сами вещи. Он открыл пакет и выложил одежду Эспозито на стол из нержавеющей стали, со специальными желобками для стока крови. Дар сразу определил, что полосатый костюм, который носил Эспозито, довольно дешевый. Брызги крови и мозгового вещества ничуть не добавляли костюму привлекательности. Белая рубашка почти вся стала красной от крови. Эспозито носил броский галстук желтого цвета, который теперь превратился в буро-малиновый. Патологоанатом поднял рукава пиджака Эспозито, потом показал на рукава рубашки. – Видите? Сидни тотчас же кивнула. – Кровь… Ткани мозга… И ни капли гидравлической жидкости. – Вот именно, – подтвердил ее догадку доктор Эпштейн. Он говорил все таким же хорошо поставленным, печальным голосом. – Гидравлической жидкости нет ни на руках покойного, ни на лице, ни на верхней части тела. Зато здесь… Он поднял брюки Эспозито. Дар взялся за них рукой в перчатке и повернул к свету, чтобы получше рассмотреть. Правая сторона брюк была черной и маслянистой от гидравлической жидкости. Эпштейн вынул со дна пакета поношенные черные ботинки фирмы «Флоршайм», с подковками на каблуках. На обоих ботинках была кровь, но только один, правый, вымок в гидравлической жидкости. – Судя по следу, который мы видели, струя гидравлической жидкости брызнула из трубы примерно на восемь футов к центру шахты подъемника, – сказала Сид. – По какой-то причине Эспозито в это время находился под платформой – примерно посредине шахты лифта или даже ближе к стене, – и поэтому не смог выбежать наружу, когда платформа начала падать. Он повернулся и прыгнул к стене через проем в опорной конструкции – и там его настигла падающая платформа. Гидравлическая жидкость забрызгала его брюки и правый ботинок, уже когда он прыгнул. – Что может помешать человеку бежать по кратчайшему пути к спасению, когда сверху на него падает две тонны железа? – спросил Дар. – Или – кто? – добавила Сид. Доктор Эпштейн сложил одежду Эспозито обратно в пластиковый пакет. Затем снял резиновые перчатки, бросил их в контейнер с надписью «Для токсичных биологических отходов» и тщательно вымыл руки в проточной воде. Дарвин и Сидни последовали его примеру. Вернувшись в приемную, они искренне поблагодарили патологоанатома. Видеомонитор был уже выключен. Доктор Эпштейн улыбнулся, но его глаза остались печальными. – Я знал адвоката Эспозито, – сказал доктор так тихо, что Дарвину пришлось наклониться, чтобы расслышать его слова. – Он приезжал на место происшествия раньше «Скорой помощи»… Да почти наверняка и сам подстраивал несчастные случаи… Но это была ужасная смерть. И хотя детектив Фернандес и другие не заинтересовались, это не была случайная смерть. – Да, не случайная смерть, – согласилась Сидни. – Убийство, – подтвердил Дарвин. Они попрощались с патологоанатомом и вышли на улицу, под проливной дождь.
ГЛАВА 11 Л – ЛОВУШКА
Был уже почти полдень, когда «Форд Таурус» Сидни Олсон свернул с авеню Звезд и покатил по крутому спуску в подземный гараж. – Ты собираешься наконец рассказать мне, что это все значит? – спросил Дарвин, допивая свой кофе и стараясь не пролить его, пока Сидни брала парковочную квитанцию и быстро съезжала вниз по изогнутому бетонному спуску, который, казалось, вел к парковочному месту в самой преисподней. – Пока еще нет, – сказала Сид. Она заметила свободное место возле поцарапанной бетонной колонны и мастерски загнала туда свой «Таурус». Дар только хмыкнул. Он терпеть не мог вставать рано утром и еще больше терпеть не мог поездки по Лос-Анджелесу в понедельник, в часы пик. Сегодня утром ему пришлось вытерпеть и то и другое. Сидни разбудила его в половине восьмого, чтобы он успел на встречу во время обеденного перерыва… Дар понятия не имел, с кем именно. На дорогах, как всегда в это время, были ужасные пробки, но Сидни вела машину очень спокойно. Когда плотный поток машин длиной в несколько миль совсем останавливался, она сидела, положив руки на руль, и думала о чем-то своем. За всю дорогу они почти не разговаривали.Репортеры наконец оставили Дарвина в покое. Вокруг его дома больше не дежурили телевизионщики со своими камерами, газетчики тоже убрались. Их не было, когда Дар вернулся домой в воскресенье вечером, не было и сегодня утром. «Зверское убийство на дороге», которое взбудоражило публику на прошлой неделе, как новость уже успело безнадежно устареть. Теперь репортеры всех каналов новостей раскапывали уже другую историю – сексуальный скандал с участием высокой персоны из администрации мэра и известной политической журналистки. Тот факт, что оба действующих лица – красивые женщины, нисколько не умерил бесцеремонную наглость прессы. Когда Сид и Дарвин поднимались в лифте из подземного гаража, Сидни спросила: – Ты точно не забыл видеокассету? Дар приподнял свой старый портфель. Они миновали этаж, на котором Роберт Шапиро снимал помещение для своего офиса во время судебного разбирательства с Оу-Джеем. Офис Далласа Трейса располагался в пентхаусе. Дарвин не ожидал, что офис окажется таким большим и что здесь будет кипеть такая бурная деятельность. Пройдя мимо секретаря в приемной и охранника, одетого в гражданское, они попали в большое помещение, в котором трудилось не меньше дюжины секретарей. Дарвин заметил еще пять кабинетов поменьше – это наверняка были кабинеты младших юридических помощников Трейса. Кабинет начальника всей этой конторы располагался в углу. Дверь была открыта. Даллас Трейс с улыбкой поднялся из дорогого кожаного кресла навстречу Дарвину и Сид и вообще вел себя так, будто они его лучшие друзья. Дарвина поразила роскошь этого офиса. Через окно во всю стену на севере были видны далекие холмы – вчерашний шторм разогнал завесу смога, и воздух на какое-то время стал прозрачным. Дар знал, что если посмотрит на запад, то увидит Банди-Драйв в Брентвуде, примерно в трех милях к западу отсюда. Там коварный убийца, ловко притворившийся Оу-Джеем Симпсоном, прикончил когда-то Николь Браун Симпсон и Рональда Голдмена. Дар так удивлялся размерам и богатству офиса Трейса в основном потому, что большинство его знакомых адвокатов – даже очень удачливых и знаменитых в своих кругах, – как правило, вели дела без размаха и зачастую оплачивали услуги своего единственного секретаря и одного-двух юридических партнеров собственными чеками, еженедельно. Писатель-юрист Джеффри Тубин как-то сказал, что адвокат всегда стоит перед дилеммой: как бы удачно ты ни провел одно дело, следующее все равно будет другим. Даллас Трейс, наоборот, был как будто совершенно уверен в экономической стабильности своего дела. Трейс был выше ростом, чем казалось по телевизору, – Дар прикинул, что в нем не меньше шести футов трех дюймов. У него было мужественное лицо с рублеными чертами – лицо человека из рекламы «Мальборо». Трейс часто улыбался – и тогда становились заметны смешливые морщинки вокруг глаз и складки по сторонам рта. Губы у него были тонкие. Длинные седые волосы он собирал в хвост, стягивая кожаным ремешком. На фоне необычно черных бровей и загорелой кожи светлые глаза Трейса казались особенно яркими, что только добавляло фотогеничности его мужественному лицу. Одет он был в фирменную джинсовую рубашку с галстуком-боло – хотя Дарвин заметил, что рубашка была на самом деле не хлопковая, а из синего шелка, – и в кожаный жилет в ковбойском стиле. Жилет выглядел так, будто его сшили из кожи стегозавра – причем очень старого стегозавра, – и стоил наверняка не одну тысячу долларов. Галстук-боло скреплялся у шеи серебряной пряжкой с жадеитовой вставкой – несомненно, ручной работы. А в левом ухе адвоката-ковбоя сверкал небольшой бриллиант. Дар всегда чувствовал себя старомодным, когда с неприязнью думал о мужчинах, которые носят ювелирные украшения. Однажды он даже заорал в телевизор, когда какого-то бейсболиста сразу же обогнали: «Этого бы не было, ты, поганец, если бы ты не таскал на себе десять фунтов золотых побрякушек!» Дарвин решил, что в такой его нетерпимости виноват возраст и, может быть, это первые проявления старческого маразма. Но все равно своего мнения не изменил. На руках у Далласа Трейса Дарвин насчитал шесть колец. Его замшевые ковбойские сапоги с виду казались мягкими, словно бархат. Трейс сперва пожал руку Сидни, потом – Дарвину. Как Дар и предполагал, высокий адвокат оказался очень сильным, несмотря на худощавое телосложение. – Следователь Олсон, доктор Минор… Присаживайтесь, пожалуйста. Трейс быстро вернулся к своему массивному кожаному креслу. Дар решил, что адвокату, должно быть, уже за шестьдесят – хотя мускулатура у него, как у двадцатипятилетнего атлета. Дарвин вспомнил, что видел по телевизору жену Трейса, которой было как раз двадцать пять… Да, у старичка были веские основания держать себя в форме. Дар осмотрелся по сторонам. Рабочий стол Далласа Трейса стоял в углу между двумя стенами-окнами, так что адвокат сидел спиной к улице – как будто у него не было лишнего времени на то, чтобы любоваться видами. А остальные стены кабинета были увешаны фотографиями самого Трейса на разных торжественных собраниях и в обществе облеченных большой властью людей – в том числе и четырех последних президентов Соединенных Штатов. Трейс вольготно откинулся в своем роскошном кресле, сложил пальцы домиком, положил ноги в мягчайших замшевых сапогах на край стола и спросил задушевным тенором: – Чему я обязан столь высокой честью, как ваш визит, главный следователь? Доктор? – Возможно, вы слышали о покушении на доктора Минора, которое произошло на прошлой неделе, – сказала Сид. Трейс улыбнулся, взял карандаш и постучал им по своим великолепным белым зубам. – Ах да, конечно – знаменитое «зверское убийство на дороге». Может быть, вам нужен совет квалифицированного адвоката, доктор Минор? – Нет, – ответил Дар. – Против доктора Минора не было выдвинуто никаких обвинений, – сказала Сидни. – И скорее всего не будет. Двое людей, которые стреляли в доктора Минора на дороге, были боевиками русской мафии. Несмотря на то что об этом вовсю кричали по телевидению, Даллас Трейс сумел изобразить на лице удивление. Он вскинул темную бровь и сказал: – Но если вы не по поводу защиты, то… – Он замолчал на середине фразы, так и не задав вопрос. – Когда я звонила вам и просила о встрече, вы как будто знали, кто мы такие, – напомнила Сидни. Даллас Трейс лучезарно улыбнулся и мастерски метнул карандаш в кожаный стаканчик. – Конечно же, я вас знаю, главный следователь Олсон. Меня очень заинтересовали попытки прокуратуры штата совместно с ФБР обуздать страховых мошенников. Ваша работа в Калифорнии примерно год назад тоже заслуживает всяческого восхищения, мисс Олсон. – Благодарю, – сказала Сидни. – А доктора Дарвина Минора знает любой, кто имеет отношение к экспертной реконструкции несчастных случаев и катастроф, – продолжал адвокат. Дар ничего не сказал. За окном, позади темного силуэта Трейса, бесконечным потоком двигались машины – через Голливуд, Беверли-Хиллз, Брентвуд. А еще дальше виднелась темная полоска моря. – У доктора Минора есть видеозапись, которую вам стоит просмотреть, мистер Трейс, – сказала Сид. – У вас есть здесь видеоаппаратура? Трейс нажал на кнопку на панели интеркома. Через минуту в кабинет вошел молодой человек с тележкой, на которой был тридцатишестидюймовый монитор и множество кассетных и DVD-плееров всевозможных систем. – Мисс Олсон, доктор Минор, хотите ли вы сообщить мне что-нибудь, прежде чем я увижу эту запись? Какое-нибудь обвинение в преступлении или то, что поставит нас в отношения адвокат – клиент? – спросил Трейс. Теперь он говорил совершенно серьезно. – Нет, – сказала Сид. Даллас Трейс вставил кассету в магнитофон, запер дверь кабинета, потом вернулся в свое кресло и включил просмотр миниатюрным, размером с кредитную карточку, дистанционным пультом. Запись они смотрели в молчании. Вообще-то Дар заметил, что запись смотрели только он и Даллас Трейс, а Сидни наблюдала за Далласом Трейсом. Это была видеозапись трехмерной анимационной реконструкции несчастного случая – двое мужчин выходят из дома, один толкает другого под несущийся по дороге фургон, фургон объезжает вокруг квартала и снова наезжает на лежащего на дороге человека. Во время просмотра Трейс сохранял полную невозмутимость. – Вы узнали происшествие, отображенное в этой реконструкции, советник? – спросила Сидни. – Да, конечно, узнал, – сказал Даллас Трейс. – Это компьютерная реконструкция транспортного происшествия, в котором погиб мой сын. – Ваш сын, Ричард Кодайк, – сказала Сид. Взгляд холодных серых глаз Трейса на несколько секунд остановился на Сидни, потом он сказал: – Да. – Скажите, советник, почему у вас и у вашего сына разные фамилии? – поинтересовалась Сидни самым невинным тоном. – Это допрос, главный следователь? – Конечно, нет, сэр. – Хорошо, – сказал Трейс. Он снова откинулся на спинку кресла и положил ноги на край стола. – А то мне показалось, что здесь может понадобиться присутствие моего адвоката. Сид молча выжидала. – Мой сын Ричард выбрал себе фамилию отчима – Кодайк, – наконец сказал Трейс. – Ричард – мой сын от первой жены, Элани. Мы развелись в 1981 году, а потом она снова вышла замуж. Сидни кивнула и подождала еще. Даллас Трейс изогнул тонкие губы в печальной улыбке. – Это не секрет, мисс Олсон, что мы с сыном несколько лет назад серьезно разругались. Он переменил фамилию – взял фамилию отчима, – как я догадываюсь, отчасти ради того, чтобы меня уязвить. – Эта ссора была как-то связана с… э-э-э… образом жизни вашего сына? – спросила Сид. Трейс поджал губы, не переставая улыбаться. – Это, конечно же, не ваше дело, следователь Олсон. Но из личного расположения к вам я все-таки отвечу на этот вопрос – несмотря на всю его бесцеремонность. Ответ такой – нет. Сексуальная ориентация Ричарда не имела никакого отношения к нашей размолвке. Если вы что-нибудь узнавали обо мне, мисс Олсон, вы должны знать, что я поддерживаю и признаю права геев и лесбиянок. Ричард… был своевольным и упрямым молодым человеком. Наверное, к нашему случаю подходит поговорка – в одном стаде хватит места только для одного быка. Сидни снова кивнула. – Какое впечатление произвел на вас фильм, мистер Трейс? – Я пришел бы в ярость, увидев это, – спокойно сказал адвокат. – Но я уже видел эту запись раньше. Несколько раз. Дар даже моргнул от неожиданности. – Уже видели? – переспросила Сид. – И где же? – Детектив Вентура несколько раз показывал мне эту запись во время расследования, – объяснил Трейс. – Лейтенант Роберт Вентура из отдела убийств полицейского управления Лос-Анджелеса, – уточнила Сидни. – Совершенно верно, – подтвердил Трейс. – Однако и лейтенант Вентура, и капитан Фэйрчайлд уверяли меня… Они заверили меня, мисс Олсон, что эта «видеореконструкция» основана на неверных исходных данных и не имеет никакого отношения к реальности. Дар прочистил горло и сказал: – Мистер Трейс, вы, похоже, совершенно уверены, что эта запись не является реконструкцией убийства вашего сына. Могу я спросить, почему вы так в этом уверены? Даллас Трейс вперился в Дарвина своим холодным взглядом. – Конечно, доктор Минор. Во-первых, я уважаю профессионализм вышеназванных детективов… – Вентуры и Фэйрчайлда из отдела убийств, – перебила его Сид. Трейс по-прежнему сверлил взглядом Дарвина. – Да. Детективов Вентуры и Фэйрчайлда. Они много часов изучали это дело и отмели все подозрения опредумышленном убийстве. – Вы разговаривали с кем-нибудь из отдела транспортных происшествий? – спросил Дар. – Например, с сержантом Роутом? Или с капитаном Капшоу? Адвокат пожал плечами. – Я говорил со многими полицейскими, имеющими отношение к этому делу. Может быть, и с этими тоже. Я беседовал с полицейским Лентилом – с тем, кто написал рапорт о происшествии, а также с полицейским Кленси, полицейским Берри, с сержантом Мак-Кеем и остальными. Со всеми, кто был на месте происшествия в ту ночь. – Трейси снова улыбнулся, но одними только губами. Его глаза остались серьезными. – Я и сам имею некоторое понятие о том, как вести перекрестный допрос. – Несомненно, – снова вмешалась Сидни. Адвокат перевел взгляд на нее. – Но беседовали ли вы с истцами – с теми людьми, которые были непосредственными участниками происшествия, – мистером Борденом и мисс Смайли? Трейс покачал головой. – Я читал их показания. Личные беседы с ними меня не интересовали. – Известно, что они переехали в Сан-Франциско, – сказала Сидни. – Но полиция Сан-Франциско не может определить, где они находятся в настоящее время. Трейс ничего не сказал. Он не стал демонстративно смотреть на часы, но и без того сумел дать понять Сидни и Дару, что они без толку занимают его драгоценное время. Дарвин посмотрел на Сид. И когда только она успела получить эти сведения? – Вам известно, что у вашего сына было вымышленное имя? Что у него были поддельные документы на имя доктора Ричарда Карнака, и под этим именем он работал в медицинской клинике «Калифорнийская страховая медицина»? – Да, я знал об этом, – ответил Трейс. – У вашего сына было высшее медицинское образование, мистер Трейс? – Нет, – сказал адвокат. Его голос звучал совершенно спокойно – не было заметно никаких признаков волнения или скрытого чувства вины. – Мой сын был вечным студентом… В свои тридцать лет он так и не закончил ни одного высшего учебного заведения, хотя несколько раз поступал в разные университеты. В медицинском он проучился всего год. – Мистер Трейс, откуда вам стало известно о вымышленном имени вашего сына и его работе в клинике страховой медицины? – спросила Сид. – Вам сообщили об этом детективы Вентура или Фэйрчайлд? Трейс медленно покачал головой: – Нет, не они. Я нанимал частного детектива. – Вам известно, что клиника «Калифорнийская страховая медицина» занимается травмами, полученными при несчастных случаях, и, следовательно, на основании их медицинской документации могут быть возбуждены иски против страховых компаний, в том числе и мошеннические? Вам известно, что ваш сын нарушал законы штата и федеральные законы тем, что выступал в качестве врача и давал фальшивые освидетельствования при травмах, полученных в результате несчастных случаев? – спросила Сид. – Теперь я это знаю, следователь Олсон, – ровным голосом сказал адвокат. – Вы намереваетесь выдвинуть обвинение против моего сына? Сидни спокойно выдержала пронзительный взгляд адвоката. Трейс вздохнул и опустил ноги на пол. Он провел рукой по зализанным назад седым волосам и потрогал кожаный шнурок, стягивавший волосы в хвост. – Следователь Олсон, боюсь, в этом я вас опередил. То, чего не выяснила полиция, раскопал мой частный детектив. Я узнал, и сообщаю вам сейчас, что мой сын участвовал в преступных махинациях с выдачей фальшивых медицинских свидетельств для получения страховки. Этими махинациями руководил главарь местной преступной группировки по имени Джордж Мерфи Эспозито. – Последние три слова Трейс произнес так, словно они были на вкус как чистая желчь. – Который скончался в это воскресенье, – добавила Сидни. – Да, – сказал Даллас Трейси и улыбнулся. – Вас интересует мое алиби на то время, когда это произошло, главный следователь? – Нет, благодарю вас, мистер Трейс, – сказала Сид. – Я знаю, что в воскресенье днем вы были на благотворительном аукционе в Беверли-Хиллз. Вы приобрели картину Пикассо за шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят долларов. Улыбка Трейса поблекла. – Господи, девушка, вы что, в самом деле подозреваете, что я имею какое-то отношение к этой куче дерьма? Сидни покачала головой. – Нет, на самом деле я только пытаюсь собрать все сведения о самой прибыльной фабрике преступных махинаций со страховками во всей Южной Калифорнии, – ответила Сидни. – Ваш сын, который был замешан в этих махинациях, погиб при чрезвычайно загадочных обстоятельствах… – Я протестую! – резко перебил ее Трейс. – Мой сын погиб при несчастном случае, когда тайком съезжал с квартиры, забыв расплатиться с хозяином, вместе с двумя приятелями, мелкими воришками, один из которых не умеет как следует водить какой-то дерьмовый фургон. Бессмысленный конец такой же бессмысленной и бесполезной жизни. – Реконструкция происшествия, сделанная доктором Минором… – начала Сидни. Адвокат перевел взгляд на Дарвина. Он больше не улыбался. – Доктор Минор, несколько лет назад я видел популярный фильм об огромном корабле, который затонул около девяноста лет назад… – «Титаник», – подсказал Дар. – Да, сэр, – продолжал адвокат. Его техасский акцент стал заметнее. – И в этом фильме показывали – я видел это своими глазами, – как корабль затонул – встал торчком, разломился на две половины… Люди падали с палубы, как лягушки из корзинки. Но знаете, что я вам скажу, доктор Минор? Дар подождал продолжения. – Все в этом фильме – фальшивка. Обычные спецэффекты. Это подделка! – Даллас Трейс выкрикнул последние слова, словно плюнул. Дарвин ничего не сказал. – Если бы вы давали свидетельские показания в суде, доктор Минор, и показали там вашу распрекрасную видеозапись – мне бы понадобилось всего тридцать секунд… нет, черт возьми, двадцать секунд… чтобы доказать судьям, что в наш век электронно-компьютерных спецэффектов уже больше нельзя доверять никаким видеозаписям! – Эспозито мертв, – перебила его Сидни. – Дональд Борден и Дженни Смайли – а на самом деле бывшая Дженни Эспозито, ваш детектив наверняка сообщил вам это – пропали. И это до сих пор не показалось вам подозрительным? Хищный взгляд адвоката обратился на Сидни. – Мне все здесь кажется подозрительным, мисс Олсон. Мне казалось подозрительным все, что делал Ричард, и все его приятели… И все неприятности, из которых он хотел выкарабкаться за мой счет! Что ж, наконец-то он попал в такую неприятность, из которой его уже никто не вытащит. Я уверен, что это был несчастный случай, мисс Олсон… Но точно так же я уверен, что для Ричарда все равно не было никакой разницы. Если бы он не погиб тогда на Мальборо-авеню, сейчас он бы наверняка сидел за решеткой. Мой сын был жалким, бестолковым, безвольным слабаком, мисс Олсон, и я нисколько не удивляюсь, что он под конец связался с подонками вроде Джорджа Эспозито, Дональда Бордена и Дженни Смайли – бывшей Эспозито. – А как быть с их внезапным исчезновением? – напомнила Сид. Даллас Трейс рассмеялся – на этот раз как будто совершенно искренне. – Эти людишки всю свою жизнь превратили в сплошные исчезновения, мисс Олсон. Вы прекрасно это знаете. Они так живут. И мой сын так жил. Но, к счастью, он уже умер, и что бы я ни сделал – и что бы вы еще ни раскопали, мисс Олсон, – ничто уже не сможет его вернуть. Даллас Трейс стремительно вскочил – Дар снова заметил, что адвокат двигался на удивление быстро для человека своих лет, – выхватил кассету из магнитофона, сунул ее в руки Сидни и распахнул дверь кабинета. – А теперь, если я больше ничем не могу вам сегодня помочь… Дарвин и Сидни встали и направились к двери. – Меня интересует еще только одно… – сказала Сид. – Ваше пожертвование в «Помощь беспомощным». Темные брови адвоката взметнулись вверх. – Что? Простите мою тупость, мисс Олсон, но я, черт возьми, не понимаю – какое отношение это имеет к чему бы то ни было? – В прошлом году вы пожертвовали в этот благотворительный фонд очень большую сумму, – сказала Сид. – Сколько именно? – Понятия не имею, – ответил Трейс. – Спросите лучше у моего бухгалтера. – Я полагаю, около четверти миллиона долларов, – сказала Сидни. – Вы наверняка правы, – сказал Трейс, открывая дверь пошире. – Вы прекрасный следователь, мисс Олсон. Но если вы даже это выяснили, то наверняка знаете, что мы с миссис Трейс принимаем живейшее участие – и вносим пожертвования – в десятке разных благотворительных фондов. Этот… как, вы сказали, называется этот фонд? – «Помощь беспомощным», – повторила Сидни. – Этот фонд, «Помощь беспомощным», обслуживает испанскую общину, – сказал Трейс. – Вы, наверное, удивитесь, когда узнаете, что я лично сделал немало добрых дел для испанской общины в этом штате… особенно для бедных иммигрантов, которых здесь постоянно преследуют – в том числе их не так уж редко преследует и прокуратура штата. – Я знаю, что вы и миссис Трейс поддерживаете очень широкую сеть благотворительных фондов, – сказала Сид. – Вы очень великодушный человек, советник Трейс. И вы проявили огромное великодушие, уделив нам часть своего драгоценного времени. – И Сидни протянула Трейсу руку. Адвокат на миг застыл от удивления, потом пожал руку и ей, и Дарвину. Когда Сидни и Дар спустились в подземный гараж, Дар сказал: – Любопытно. Куда теперь? – Еще в одно место, – ответила Сид.
Дарвин в последний раз был в окружном медицинском центре Лос-Анджелеса уже очень давно. Это была крупнейшая больница в округе, и она продолжала разрастаться. Когда Сидни нашла свободное место на шестом, верхнем уровне стоянки, рядом шумела стройка – возводили еще по меньшей мере два новых больничных корпуса. В больнице пахло так, как пахнет во всех больницах, и освещение здесь было такое же тусклое, как в любой другой больнице. Бледные люминесцентные лампы светились, как разлагающиеся растения. Этот свет, казалось, высвечивал всю кровь под кожей. Как во всех больницах, в коридоре слышались слабые голоса больных, кашель, смех медсестер, резкие телефонные звонки, призывы докторов и шорох подошв войлочных тапочек по линолеуму. Дарвин ненавидел больницы. Сид повела его через коридоры и холлы, словно на экскурсию. Ее полицейское удостоверение открыло доступ в отделение неотложной помощи, в центр интенсивной терапии, в родильное отделение, в палаты пациентов и даже в предоперационную – комнату, где хирурги мылись перед операциями. Дар быстро сообразил, что она хочет показать. Помимо докторов, медсестер, молодых практикантов, санитаров, девушек-сиделок, охранников, администраторов, пациентов и посетителей бросалось в глаза присутствие в больнице еще мужчин и женщин в одинаковых белых куртках с цветными нашивками. Нашивки были такие: красный крест, золотая чаша со змеей на голубом фоне, круглая нашивка на плече с орлом и оливковой ветвью – очень похожие нашивки были на скафандрах астронавтов НАСА, участвовавших в программе «Аполлон», – и американский флаг. Но самая заметная нашивка располагалась на левой половине груди – синий квадрат с большой красной буквой П в центре. Внутри буквы П был изображен маленький золотой крестик. Дар подумал, что этим крестиком как будто кто-то обозначил точку в футбольных воротах, чтобы поточнее забить гол. Они были в одном из залов ожидания возле отделения неотложной помощи, когда Дарвин обнаружил некоторую закономерность. Люди в куртках с нашивками развозили тележки, нагруженные журналами, пакетами с соком, мягкими игрушками. В одной из больничных часовен две женщины в таких же куртках с буквой П поддерживали, обнимали и успокаивали рыдающую женщину-мексиканку. Люди в куртках с буквой П были и в палатах интенсивной терапии – они шептали что-то, причем по-испански, некоторым из самых тяжелых больных. Здесь, в зале ожидания возле отделения неотложной помощи, молодая женщина в куртке с буквой П успокаивала целое семейство и разговаривала она с ними тоже по-испански. Дар разобрал из ее слов достаточно, чтобы понять, что это семья мексиканских иммигрантов и у них нет грин карты.[19] Их дочь – девочка лет восьми – сломала руку. Рука уже была в гипсовой повязке, но мать девочки билась в истерике, отец причитал и заламывал руки, ребенок орал благим матом, а младший братишка девочки тоже готов был вот-вот разрыдаться. Из разговора Дарвин понял, что мексиканское семейство боится, что теперь их выдворят из страны из-за того, что им пришлось обратиться в больницу. Но девушка в куртке с буквой П на правильном и беглом испанском убеждала их, что ничего подобного не случится, что это противозаконно, что никто не будет никуда о них сообщать, что они могут идти домой и не бояться, а назавтра пусть позвонят по горячей линии в «Помощь беспомощным». Там им дадут дополнительные рекомендации и помогут остаться здоровыми и в пределах страны. – «Помощь беспомощным»… – тихо сказал Дар, когда они вернулись на автостоянку. – Да, – кивнула Сид. – За время нашей небольшой прогулки я насчитала тридцать шесть человек в их форменных куртках. – И что? – А то, что их тысячи… В округе Лос-Анджелес – тысячи добровольцев от фонда «Помощь беспомощным». Они работают в каждой больнице. Среди кинозвезд и любительниц автогонок считается даже престижным какое-то время отработать бесплатно в «Помощи беспомощным» – правда, для этого надо неплохо знать испанский. Они уже не ограничиваются только испаноговорящими иммигрантами – теперь «Помощь» занимается и вьетнамцами, и камбоджийцами, и китайцами, и бог знает кем еще. – И что? – А то, что начиналось это как небольшое католическое благотворительное общество, – сказала Сидни. – А теперь «Помощь беспомощным» превратилась в гигантское бесприбыльное предприятие. Церковь нашла какого-то мексиканского адвоката, чтобы тот привел в порядок дела фонда, и теперь фонд не имеет с католической церковью ничего общего. «Помощников» можно найти во всех больницах и медицинских центрах Сан-Диего, в Сакраменто, в госпиталях по всему прибрежному району. А в последний год они появились и в Фениксе, и в Флагстаффе, и в Лас-Вегасе, и в Портленде, и в Сиэтле – и даже в Биллингсе, штат Монтана. Еще год – и этот фонд станет общенациональным. – И что? – Они – часть всего, Дар. Они – часть огромного преступного синдиката, который крутит со страховками. Они вербуют иммигрантов буквально отовсюду – и показывают им, как заработать денег на страховке от случаев типа «поскользнулся – упал», аварий без пострадавших, несчастных случаев на производстве. – И что? – снова спросил Дарвин, когда они сели в нагревшуюся на солнце машину, включили кондиционер и покатили к выезду со стоянки. – Это старо, как мир. С тех пор как появились крупные страховые компании и судебные тяжбы по страховым случаям превратились в отдельный бизнес, для иммигрантов в Америке это всегда было самым быстрым способом разбогатеть. До мексиканцев и азиатов были ирландцы, и немцы, и все остальные. Ничего нового не произошло. – Новое – масштабы. Размах, – сказала Сидни. – Дар, речь идет уже не о клиниках-однодневках и нескольких дюжинах исполнителей, которыми управляют один-два мошенника. Речь идет о преступной организации, сравнимой по размаху с колумбийскими торговцами наркотиками, учитывая их связи с Америкой. Когда они выехали на дорогу, Сид кивнула в сторону медицинского центра. – Доктора – настоящие доктора с дипломами и патентами – направляют пациентов к людям из «Помощи» – за помощью. А чертово мексиканское консульство с радостью выписывает направления туда же. – Таким образом, это облегчает вербовку желающих получить страховку по транспортным происшествиям, – сказал Дар, выглядывая в окно на нагромождения высотных домов вдоль улицы, плотно прилепившихся друг к другу. – Да, это большой бизнес. – Это бизнес с ежегодным доходом в несколько сотен миллиардов долларов, – сказала Сидни. – И я собираюсь выяснить, кто за этим стоит. Кто организовал этот чудовищный синдикат. Дар посмотрел на Сидни и только сейчас понял, как он разозлен. Теперь все это показалось ему какой-то дурацкой шуткой – то, что он позволял ей изображать своего телохранителя, позволял выставлять себя в качестве приманки, как козла в «Парке Юрского периода», показывал ей свои замечательные реконструкции происшествий и таскался за ней повсюду как привязанный, разыгрывая из себя доктора Ватсона при Сидни – Шерлоке Холмсе. – Ты думаешь, за этим стоит Даллас Трейс? – спросил Дарвин. – Едва ли не самый знаменитый адвокат Америки? Ведущий консультант Си-эн-эн? Этот выпендрежный техасский говнюк в шелковой ковбойской рубашке? Ты в самом деле думаешь, что такой известный тип может быть Доном Корлеоне Южной Калифорнии? Сидни закусила губу. – Я не знаю. Я не знаю, Дар. Он вроде бы никак не связан с этим делом… Но все оборванные концы почему-то, так или иначе, указывают в его сторону. – Ты думаешь, Даллас Трейс приказал убить своего собственного сына? – Нет, но… – Ты думаешь, это он убил Эспозито, Дональда Бордена и ту девицу, Дженни Смайли? – Я не знаю. Если… – Ты думаешь, что он глава Пяти семей, а, главный следователь? Несмотря на то, что ему приходится разрываться между адвокатской практикой, написанием книг, еженедельными ток-шоу на Си-эн-эн, публичными выступлениями, выступлениями в «Ночной линии» и в «Доброе утро, Америка!», благотворительностью и ночами с пылкой молоденькой девочкой – новой женой… – Не злись, – сказала Сидни. – Какого черта? Почему это я не должен злиться? Ты ведь знала, что он уже видел запись моей реконструкции? – Да. – Значит, ты притащила меня туда только для того, чтобы я посмотрел на него, а он – на меня. На тот маловероятный случай, если он действительно Большой Босс, ты дала ему как следует меня разглядеть, чтобы он точно знал, к кому в следующий раз присылать наемных убийц. – Все совсем не так, Дар… – К черту! Какое-то время они ехали молча. – Если его тайная организация настолько велика, как я думаю… – начала Сидни, но Дар перебил ее: – Я не верю в тайные организации. Сид посмотрела на него. – Я верю в преступные группировки, – сказал Дар. Он старался совладать со своим гневом, но ничего не получалось. – Я верю в Коза Ностру, в производителей дерьмовых машин, в злых людей вроде торговцев табаком или тех негодяев, которые продают в странах «третьего мира» детские молочные смеси, – и матери продолжают их покупать, даже если младенцы мрут от диареи из-за плохой воды… – Дар замолчал и перевел дыхание. – А тайные организации… Нет. Заговоры – как и церкви, и любые другие многоуровневые организации – чем больше разрастаются, тем тупее становятся. Таков закон инверсии IQ. – А если не считать тайных организаций, во что ты веришь, Дар? – Какая тебе разница? – Мне просто любопытно, – спокойно ответила Сид. – Ну, давай подумаем… – сказал Дарвин, глядя в окно на столпотворение всевозможных автомобилей впереди и по бокам от их машины. Все громадное скопление машин ползло вперед со скоростью десять миль в час. – Я верю в энтропию. Я верю в безграничность человеческого упрямства и глупости. Я верю в случайное сочетание трех факторов, из-за которого произошло несчастье в пятницу в Далласе, штат Техас, где один ублюдок по имени Ли Харви Освальд, который выучился хорошо стрелять в морской пехоте, получил открытое пространство для стрельбы всего на шесть секунд… Дар замолчал. «Что это я несу? Из-за чего я так разошелся? Может быть, из-за этого самодовольного хама, Далласа Трейса? Или на меня подействовал запах смерти в этой чертовой больнице? А может, я просто схожу с ума?» Через несколько минут Сидни нарушила молчание. – А в крестовые походы ты тоже не веришь? – спросила она. Дар посмотрел на нее. Сейчас она показалась ему чужой и незнакомой – это была совсем не та женщина, обществом и остроумием которой он так наслаждался последние несколько дней… – Крестовые походы всегда заканчиваются тем, что в жертву приносят невинных. Как древние крестовые походы за освобождение Святой земли, – резко сказал Дар. – Рано или поздно случится Детский крестовый поход, и дети лягут в первых рядах. Сид нахмурилась. – Почему ты такой злой, Дар? Из-за Вьетнама? Из-за работы в НУБД? Из-за «Челленджера»? Что мы… – Не обращай внимания, – сказал Дар. Он внезапно почувствовал себя очень усталым. – Знаешь, у солдат во Вьетнаме была поговорка на все случаи жизни… Сид смотрела на дорогу. – Не важно, что случилось, – сказал Дар. – Пехотинец должен научиться говорить себе: «Хрен с ним! Все без разницы. Иди дальше». Движение на дороге совсем застопорилось. «Таурус» остановился. Сид посмотрела на Дарвина. Во взгляде ее читалось нечто большее, чем гнев. – Нельзя строить на этом свою жизненную философию. Так жить нельзя! Дар тоже посмотрел на нее в упор, и только когда Сидни отвернулась, он понял, сколько злобы, наверное, было в его взгляде. – Ты не права, – сказал он. – Только с такой философией и можно жить. Они въехали в Сан-Диего в полном молчании. Когда «Таурус» был уже рядом с отелем «Хайат», в котором жила Сидни, она сказала: – Я подвезу тебя до дома. Дар покачал головой: – Не нужно. Отсюда я пойду во Дворец Правосудия. Сегодня днем мне должны вернуть «Акуру», и я договорился сразу же передать ее парню из ремонтной мастерской, которая будет ею заниматься. Сид остановила машину и кивнула. Дарвин вышел из машины на тротуар. Сидни спросила: – Ты больше не будешь помогать мне в этом расследовании? – Нет. Сидни кивнула. – Спасибо за… – начал Дар. – Спасибо за все. Он пошел по дорожке, ни разу не обернувшись.
ГЛАВА 12 М – МИШЕНЬ
Вторник оказался днем грандиозной стрельбы, кульминацией которого стала пуля из автоматической винтовки, нацеленная прямо в сердце Дарвина Минора. Начался этот день с унылой, удушающей жары и скопления тяжелых грозовых облаков в небе – что было, конечно же, не совсем обычно для Южной Калифорнии в это время года. Но погода в Южной Калифорнии почти всегда необычна, какой бы месяц ни стоял на дворе. У Дарвина с самого утра было препаршивое настроение. Он злился на себя за вчерашнее. У него было паршиво на душе оттого, что он не увидится больше с Сидни Олсон. А оттого, что это его беспокоило, ему было паршивее всего. Ремонт «Акуры», похоже, обойдется ему в целое состояние. Когда Дар вчера встретился с Гарри Мидоузом, знакомым из авторемонтной фирмы, тот только покачал головой. Гарри был одним из немногих людей в штате, которые могли нормально отремонтировать алюминиевый кузов «Акуры». Услышав результат окончательной оценки стоимости ремонта, Дарвин даже отступил на шаг. – Господи! – сказал Дарвин. – Да за такие деньги можно купить новый «Субару»! Гарри кивнул медленно и печально и сказал: – Это точно… Но тогда у тебя вместо «Акуры» будет какой-то задрипанный «Субару». Дар не мог с ним спорить – логика была железная. Гарри увез изрешеченную пулями «Акуру» на трейлере и поклялся, что будет заботиться о ней, как о родной матери. Дар как-то случайно узнал, что пожилая матушка Гарри живет в жуткой нищете, в трейлере без кондиционера посреди пустыни, в шестидесяти пяти милях от ближайшего города. Гарри исправно навещал ее два раза в год. Утром во вторник позвонил Лоуренс. Нужно было заснять на фотопленку несколько новых случаев. Лоуренс не знал, какие из них потребуют реконструкции – это зависело от того, по каким случаям будет подан судебный иск и назначено судебное расследование, – но он считал, что им с Дарвином нужно посетить все места происшествий. – Запросто! – сказал Дарвин. – Почему бы и нет? Я пока запаздываю с отчетами всего на месяц. Когда Лоуренс приехал, он сразу почувствовал, что с Даром что-то не так. Между ними давно протянулась некая связь, которая была глубже и значительнее, чем обычные разговоры. Мужчины, которые знают друг друга много лет и работают вместе – и их работа зачастую связана с большой опасностью, – со временем обретают некое шестое чувство и без слов понимают мысли и чувства друг друга. Благодаря этому их отношения иногда обретают такую глубину, какой женщинам просто не понять. Лоуренс и Дарвин взяли по чашечке кофе и бутерброду в какой-то забегаловке в северной части Сан-Диего, и Лоуренс спросил: – Что-то стряслось, Дар? – Нет, – кратко ответил Дарвин и больше ничего не сказал. Лоуренс не стал приставать с расспросами. Первое место происшествия находилось на полпути к Сан-Хосе. Лоуренс припарковал свою «Исудзу Труппер» на забитой стоянке в квартале дешевых многоквартирных домов, и они пошли пешком к обтянутому желтой полицейской лентой участку дороги вокруг красной машины. Это была «Хонда Прелюдия» девяносто четвертого года выпуска. Авария произошла ночью, но на месте происшествия по-прежнему дежурили двое полицейских в форме. Вокруг торчали зеваки – в основном расхлябанные подростки в мерзких шортах и трехсотдолларовых кроссовках. Лоуренс представил себя и Дара ближайшему полицейскому и вежливо попросил разрешения сделать снимки места происшествия, потом взял у полицейского копию официального отчета о случившемся. Пока Дар фотографировал место происшествия, молодой полицейский пытался рассказать ему о том, что здесь случилось, радостно показывая на разные вещественные доказательства – разбитые стекла машины, потрескавшееся ветровое стекло, вмятины на крыше «Прелюдии», маслянистую серую жидкость на машине и вокруг ее передней части. На покрытом трещинами ветровом стекле, на крыше и крыльях, на переднем бампере и на асфальте виднелась кровь. Судя по всему, ни ночью, ни утром здесь не было сильного дождя. – В общем, этот парень, Барри, он с ума сходит по своей девчонке – какой-то там Шейле… Она живет наверху, в 2306-м, а сейчас она у нас в участке, дает показания, – рассказывал молодой коп. – В общем, этот Барри – байкер, здоровый такой мужик с бородой, и Шейле он вроде как надоел, и она стала посматривать на других парней. Ну, по крайней мере на одного парня. А Барри – ясное дело, ему это не понравилось. Вот он прикатил сюда, как мы прикидывали – где-то в полтретьего ночи… Жалоба на нарушение тишины поступила в два сорок, а в три ноль два первый раз позвонили в Службу спасения и сообщили о выстрелах. Короче, поначалу Барри просто орал у Шейлы под окнами и всячески оскорблял ее. А она орала ему в ответ тоже всякие непристойности – ну, знаете, как оно всегда бывает. На передней двери стоит домофон, так что надо позвонить, чтобы хозяева открыли. Ну, Шейла его, понятно, впускать не хотела. Тогда у этого Барри совсем крыша поехала. Он сходил к своей тачке – вон она, на стоянке припаркована, «Форд»-фургон, – и вернулся с заряженной двустволкой. И начал прикладом бить стекла на «Прелюдии» Шейлы. Девчонка перепугалась и завопила еще громче. Соседи позвонили в полицию, но, пока наши приехали, Барри взбрело в голову залезть на крышу «Прелюдии» – а он весит, наверное, фунтов двести шестьдесят – смотрите, как крыша вся погнулась, а он там просто потоптался… Ну и потом он начал колотить прикладом по ветровому стеклу. Мы так предполагаем – наверное, чтобы лучше ухватиться, он как-то там просунул палец не туда и попал на спусковые крючки… – И выстрелил себе в живот? – спросил Лоуренс. – Из обоих стволов. Внутренности разлетелись по всей крыше, и по фарам, и по переднему бамперу… – Сегодня утром, когда я звонил в участок, он еще был жив и находился в отделении интенсивной терапии, – перебил его Лоуренс. – Вам сообщали о каких-нибудь изменениях в его состоянии? Коп пожал плечами. – Когда детективы приезжали забирать девчонку, говорили, как будто медики поставили на Барри крест. Так эта Шейла знаете что сказала? «Туда ему и дорога!» – Любовь… – сказал Лоуренс. – Любовь требует жертв, – согласился полицейский.Три следующих случая были состряпаны в обычном стиле «поскользнулся – упал». Два из них произошли в супермаркетах, и один – в гостинице «Холидей», где истец был известен тем, что очень часто поскальзывался возле подтекавших морозильников. Потом Лоуренс и Дарвин побывали на автостоянке, где произошло столкновение на низкой скорости, – там иски на возмещение убытка подали все пятеро членов семьи. Последнее место происшествия находилось в Сан-Хосе. По дороге туда Лоуренс и Дар остановились пообедать. В общем-то, на самом деле они просто заехали в «Бургер-бигги-авто», взяли пакет с едой и по пути в Сан-Хосе сжевали свои «бигги», запивая молочным коктейлем через трубочку. – Ну и как харакири из двустволки, которое устроил этот Барри, связано с твоими страхователями? – спросил Дар между двумя глотками. – Первое, что сделала Шейла сегодня утром, – это подала в страховую фирму иск за свою «Прелюдию», – сказал Ларри – крупный специалист по страховкам. – Она заявила, что ее машина полностью уничтожена и что страховая фирма должна выдать ей новую машину вместо прежней, причем чуть ли не последней модели. – Я что-то не заметил там особо страшных повреждений, – сказал Дар. – Разбитые стекла, несколько вмятин на крыше, а с остальным любая автомойка справится. Лоуренс покачал головой. – Она заявила, что никогда больше не сможет сесть за руль «Прелюдии», потому что это вызовет у нее сильную психотравму. Эта Шейла хочет полного возмещения стоимости машины… Причем такого, чтобы хватило на покупку новой модели. Девица положила глаз на «Навигатор». – Она выложила все это ребятам из страховой компании сегодня утром, перед тем, как копы забрали ее на допрос? – Вроде того, – подтвердил Лоуренс. – Она позвонила своему страховому агенту в четыре утра.
Последнее место происшествия находилось тоже в небогатом квартале многоквартирных домов, но на этот раз – в самом Сан-Хосе. На лестнице дома дежурили полицейские в форме, на третьем этаже возились явно скучающие детективы в штатском. В доме воняло смертью. – Боже! – сказал Лоуренс, вытащив из кармана чистый носовой платок красного цвета и прикрыв им нос и рот. – Когда этот парень умер? – Да прошлой ночью, – сказал лейтенант Рич из полицейского управления Сан-Хосе. – Все жильцы слышали выстрел около полуночи, но никто об этом не сообщил. В квартире нет кондиционера – ничего удивительного, что к десяти утра труп дозрел. – Вы хотите сказать, что тело все еще здесь? – недоверчиво спросил Лоуренс. Лейтенант Рич пожал плечами. – Медэксперт был здесь еще утром, когда тело только обнаружили. Он дал заключение о смерти. Мы весь день ждем труповозку, но машинами распоряжается следователь из полиции штата – и они у него весь день заняты. Сегодня утром на дорогах черт знает что творится. – Черт… – Лоуренс переглянулся с Дарвином и снова повернулся к лейтенанту. – Ну, нам все равно нужно все здесь заснять. И я должен сделать описание места происшествия. – Зачем? – спросил полицейский. – Каким боком сюда приплелась страховая компания? – Уже поступил довольно грозный иск от сестры погибшего, – сказал Лоуренс. – Но против кого? – спросил лейтенант Рич. – Вы хоть знаете, как погиб этот парень? – Это самоубийство, верно? Так вот, судебный иск подан против психиатра, у которого лечился потерпевший, мистер Хаттон. Его сестра утверждает, что мистер Хаттон страдал от депрессии и паранойи, а психиатр сделал недостаточно, чтобы предотвратить трагедию. Детектив рассмеялся. – Вряд ли у нее что-нибудь выгорит. Я сам засвидетельствую перед судом, что психиатр делала все возможное, чтобы ее бедный шизик был счастлив. Пойдем внутрь, я вам покажу. Можете фотографировать, только вряд ли вам захочется долго там торчать и рисовать схему того места. Дар пошел следом за полицейским в штатском и Лоуренсом в маленькую, душную квартирку. Кто-то уже открыл единственное окно, которое открывалось, – но оно было на кухне, а труп лежал в спальне. – Господи боже! – сказал Лоуренс, остановившись возле залитой кровью кровати и глядя на забрызганные багровым подушки, спинку кровати и стену. – Пистолет все еще в руке у этого несчастного придурка! И медэксперт сказал, что это не самоубийство? Лейтенант Рич, который старался одновременно зажать нос платком и сохранить достойный вид, кивнул. – У нас есть свидетельские показания о том, что мистер Хаттон действительно был шизофреником и страдал паранойей и депрессией. Его психиатр знала, что в последнее время мистер Хаттон всегда клал «смит-вессон» на ночной столик возле кровати, когда ложился спать. Он боялся, что африканцы планируют вторжение в Америку… ну, вы понимаете – черные вертолеты, шифрованные сообщения в виде дорожных знаков… Африканские боевики вроде бы должны были вот-вот добраться до всех, у кого есть дома оружие… Ну, короче, обычное дерьмо в таком духе, как у всех шизиков. А его лечащий врач – кстати, она женщина, и довольно симпатичная – сказала, что на данном этапе лечения сочла целесообразным позволить мистеру Хаттону держать дома пистолет – для самозащиты. – Выходит, это было не так уж и целесообразно, – сказал Лоуренс сквозь платок. – Психиатр сказала, что Хаттон был самым настоящим параноиком, но без каких-либо суицидальных наклонностей, – сказал детектив. – Она готова засвидетельствовать это. Но бедный шизик получал штук пять разных препаратов, в том числе доксепин и флуразепам для сна. Его вырубало сразу, и на всю ночь. Доктор говорит, Хаттон всегда старался лечь спать ровно в десять тридцать вечера. – Ну так что же случилось? – спросил Лоуренс, пока Дарвин снимал место происшествия на тридцатипятимиллиметровую пленку с быстрой сменой кадров. – Сестра Хаттона позвонила ему за три минуты до полуночи, – сказал лейтенант Рич. – Она говорит, что обычно старается не звонить ему так поздно, но ей приснился страшный сон – как будто он умер. – И что? – спросил Лоуренс. – Хаттон не поднял трубку. Сестра знала, что он принимает сильное снотворное, поэтому выждала до девяти утра и снова позвонила. А потом она вызвала полицию. – Ни черта не понимаю, – признался Лоуренс. Дарвин присел возле тела, внимательно рассмотрел угол изгиба руки в локте и запястье – из-за трупного окоченения тело застыло в той позе, в какой находилось в момент смерти, – потом изучил рану в виске мертвеца. После этого обошел кровать и зачем-то понюхал подушку с другой стороны. – А я понимаю, – сказал Дар. Лоуренс посмотрел на Дарвина, потом на тело, потом на лейтенанта Рича и снова – на тело. – Да нет… Ты меня разыгрываешь. – У меня есть заключение медэксперта, – сказал детектив. Лоуренс покачал головой. – Ты хочешь сказать, что он крепко спал, наглотавшись своих пилюль, тут позвонила его сестра, и этот парень, вместо того чтобы взять телефонную трубку, случайно схватил пистолет с ночного столика и стрельнул себе в висок? Но это невозможно доказать. – У нас есть свидетель, – сказал лейтенант Рич. Лоуренс посмотрел на свободную половину постели. Простыни были смяты – ночью там явно кто-то спал. – О-о… – сказал он, восстановив для себя картину произошедшего здесь… или, по крайней мере, часть картины. – «Джорджио из Беверли-Хиллз», – сказал Дарвин. Лоуренс медленно повернулся и посмотрел на друга: – Ты что, хочешь сказать, что ты только посмотрел на отпечаток тела на второй половине кровати, понюхал немного – посреди такой вони – и уже готов назвать мне имя парня из Беверли-Хиллз, с которым спал мистер Хаттон? Полицейский рассмеялся, потом снова зажал рот и нос платком. Дар покачал головой: – Это название духов. «Джорджио из Беверли-Хиллз». – Дарвин повернулся к полицейскому в штатском. – Можно я угадаю? Женщина, которая спала с мистером Хаттоном этой ночью, не стала сразу звонить в полицию – потому что она замужем или эта ситуация может ей как-то повредить по другой причине, – но потом дала показания, верно? Кто бы она ни была, вы нашли ее очень быстро… И вряд ли для этого вам пришлось проверять всех женщин в Южной Калифорнии, которые пользуются духами «Джорджио». Детектив Рич кивнул. – Через две минуты после того, как к ней приехал патруль, она раскололась и начала рыдать, а потом сама нам все рассказала. – О ком это вы говорите? – спросил Лоуренс. – О психиатре, – сказал Дар. Лоуренс снова посмотрел на труп. – Мистер Хаттон трахался со своей врачихой? – Во время несчастного случая – уже нет, – сказал лейтенант Рич. – Они закончили трахаться, мистер Хаттон принял свой флуразепам и доксепин, и оба заснули. Психиатр… Я пока не буду говорить вам ее имя, но вы и так его услышите – в одиннадцатичасовых «Новостях»… Она услышала, как зазвонил телефон, услышала, что мистер Хаттон завозился в постели, сказал «Алло?» – а потом вдруг раздался выстрел. – Очевидно, она решила, что лучше будет проявить благоразумие, – заметил Дар. – Ага, – сказал детектив. – Она унесла отсюда ноги раньше, чем кровь перестала течь. К несчастью – для врачихи – любопытный администратор, который живет здесь же, видел, как она уехала на своем «Порше» через пять минут после полуночи. – А сестра мистера Хаттона уже знает об этом? – спросил Лоуренс. – Пока нет, – сказал лейтенант. Дар и Лоуренс обменялись взглядами. – Из-за этого обстоятельства судебный иск становится еще более интересным. Детектив вышел из квартиры обратно на лестницу. Лоуренс и Дарвин охотно последовали за ним. Они постояли какое-то время на балконе, чтобы провонявшая одежда немного проветрилась на свежем воздухе. – Это похоже на старую историю о том, как Хелен Келли обожгла себе ухо. – И как? – спросил Лоуренс, быстро делая записи и наброски схем в своем ноутбуке. – Она ответила на телефонный звонок в утюг! – сказал лейтенант Рич и расхохотался. Лоуренс и Дар долго не разговаривали после того, как уехали из Сан-Хосе. Наконец Лоуренс пробормотал: – Служить и защищать… Ха!
Они уже подъезжали к Сан-Диего, когда Дарвин неожиданно сказал: – Ларри, помнишь, как несколько лет назад погибла принцесса Диана? – Лоуренс, – поправил его Лоуренс. – Конечно, помню. – О чем мы тогда говорили… ну, хоть приблизительно? Дородный инспектор страховой компании тяжко вздохнул. – Дай-ка вспомнить… Сначала сообщили, что «Мерседес», в котором были принцесса Диана и ее бойфренд, ехал на скорости сто двадцать миль в час. Мы с самого начала знали, что все это неправда. Мы тогда записали репортаж из «Новостей» и разложили его на кадры, помнишь? Потом мы переписали на видео более поздние репортажи с места катастрофы, тоже разложили их… – И мы еще обсуждали, что вмятина от удара не соответствует данным из репортажей, – сказал Дар. – Точно. «Мерседес» врезался в колонну – но мы видели, что его передняя часть вмялась недостаточно сильно для машины, которая ехала со скоростью больше сотни миль в час. Кроме того, по телеканалам новостей постоянно передавали, что машина перевернулась, но, когда мы просмотрели видеозапись, оказалось, что это не так. – Вы с Труди определили, что крышу с «Мерседеса» скорее всего сняли уже после аварии, во время спасательных работ – когда пытались извлечь из машины пострадавших, правильно? – сказал Дарвин. – Ну да. И ты сказал то же самое. А вмятины, которые были видны на крыше, появились не из-за того, что машина переворачивалась. Крыша прогнулась, когда пассажиры, которые были на заднем сиденье, врезались в нее головами изнутри – во время столкновения. – И какую мы определили примерную скорость машины – согласно видеозаписям, травмам, которые получили пассажиры, и прочим сведениям о месте происшествия? – Я говорил… Дай-ка подумать… Я говорил – шестьдесят три мили в час. Труди говорила, что шестьдесят семь. А у тебя, кажется, получилось меньше всего – шестьдесят две мили в час, что ли? – И когда поступило окончательное заключение, оказалось, что прав был ты, – задумчиво промолвил Дар. Лоуренс продолжал: – Никто из репортеров не захотел об этом говорить, но все мы знаем, что принцесса Диана скорее всего осталась бы в живых, если бы пристегнулась ремнем безопасности. И они все выжили бы в такой аварии, если бы дело происходило в Соединенных Штатах… – А почему? – спросил Дар. – Потому что и федеральные правила дорожного движения, и правила в каждом штате требуют, чтобы такие колонны в тоннелях под мостами были защищены ограждением, – сказал Лоуренс. – Ты же знаешь. Ты сам говорил об этом в тот вечер, когда только сообщили о катастрофе. Ты даже просчитал на нашем компьютере степень гашения кинетической энергии этим ограждением в зависимости от скорости автомобиля. Если бы там была не бетонная перегородка, а защитное ограждение, то «Мерседес» принцессы Дианы бросало бы из стороны в сторону по всему тоннелю – от стены к ограждению и обратно, и его скорость снижалась бы постепенно. И если бы все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности… – Но они не пристегнулись, – спокойно заметил Дарвин. – Вот именно… Труди назвала это «синдромом такси-лимузинов», – сказал Лоуренс. – Люди, которые никогда и не подумали бы ездить, не пристегнувшись, в своих собственных машинах, почему-то напрочь забывают пристегнуться, когда садятся в лимузин или такси. Почему-то люди совершенно забывают о мерах безопасности, если за рулем машины сидит наемный водитель. – Труди даже вспомнила какую-то запись с принцессой Дианой – она пристегивалась, когда сама сидела за рулем, – сказал Дар. – А что мы еще обсуждали? Лоуренс поскреб подбородок. – Не пойму, к чему ты клонишь, но давай посмотрим… Мы все соглашались, что папарацци не имеют никакого отношения к этой аварии. Во-первых, «Мерседес» мог легко обогнать те маленькие мотоциклы, на которых ехали папарацци. Во-вторых, «Мерседес» мог сбить такой мотоцикл, и пассажиры внутри даже не почувствовали бы толчка. Но мы заподозрили, что в этом был замешан какой-то второй автомобиль… вторая машина, да. Что водитель «Мерседеса» свернул в тоннель и не справился с управлением, пытаясь увернуться от другой машины. – И мы сочли это причиной катастрофы, – сказал Дар. – Ну да. А еще мы были уверены, что потом выяснится, что водитель «мерса» выпил спиртногоперед тем, как сел за руль. Дар кивнул. – А почему мы так решили? – Он был француз, – сказал Лоуренс. Лоуренс никогда не ездил в те страны, где все население не говорит по-английски. А французов он не любил просто из принципа. – А еще почему? – спросил Дар. – Ну… Кажется, это Труди заметила, что повернуть влево сразу после въезда в тоннель – так, чтобы машина потом врезалась прямо в колонну, – водитель «Мерседеса» мог только для того, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. И что любой опытный водитель – или трезвый водитель – на «Мерседесе» вполне мог бы выполнить такой маневр на скорости шестьдесят пять миль в час. На «мерсах» очень надежная система управления. В конце концов, автомобиль сам пытался помочь водителю удержать контроль над ситуацией. – Таким образом, мы трое оказались правы относительно всех подробностей этой аварии, вплоть до участия гипотетической второй машины, – сказал Дарвин. – А ты помнишь какую-нибудь еще нашу реакцию на случившееся? – Ну, я помню, мы еще какое-то время следили за сообщениями в Сети и в специализированных журналах, – ответил Лоуренс. – Факты просачивались тонкой струйкой – через комментарии следователей других страховых компаний – задолго до того, как эти факты раскопали журналисты из службы новостей. – А ты не помнишь, мы плакали? – спросил Дар. Лоуренс повернулся к Дарвину и смотрел на него довольно долго. Потом снова стал следить за дорогой. – Ты что, издеваешься надо мной? – Нет, я пытаюсь вспомнить нашу эмоциональную реакцию. – Все другие по всему миру как с ума посходили, – с явным отвращением сказал Лоуренс. – Помнишь, по телевизору показывали длинные вереницы рыдающих людей – взрослых людей, заметь, – возле британского консульства в Лос-Анджелесе? Во всех церквях справляли службы, а по телевизору показывали столько интервью с сопливыми и хныкающими прохожими, сколько я не припомню со времени убийства Кеннеди. Нет, сейчас соплей было даже больше, чем после Кеннеди. Такое впечатление, что у каждого умерла любимая тетя, жена, мать, сестра и подружка. Это был настоящий дурдом. У всех послетали крыши. – Да, – сказал Дар. – А как восприняли это мы трое? Лоуренс пожал плечами. – Ну, нам с Труди было жаль, что леди погибла. Всегда грустно, когда умирает кто-то молодой. Но господи, Дар, в этом не было ничего личного. Я имею в виду, мы ведь не были лично знакомы с этой женщиной. Кроме того, меня еще раздражала их беспечность – принцессы Дианы и ее приятеля, Доди. Они не пристегнулись, позволили пьяному водителю сесть за руль и потом превысить скорость – устроили эту дурацкую гонку только для того, чтобы избавиться от кучки надоедливых репортеров… Они думали, что законы физики над ними не властны и потому пристегиваться в машине им не обязательно. – Да, – сказал Дарвин. Он с минуту помолчал, а потом продолжил: – Ты помнишь, когда начали появляться теории о том, что к смерти принцессы Дианы имеют отношение какие-то заговоры и тайные организации? Лоуренс рассмеялся. – Ага… Минут через десять после того, как о ее смерти сообщили в программе новостей. Я помню, ты как раз рассчитывал кинетические уравнения, мы с Труди полезли в Интернет, надеясь выудить какие-нибудь еще факты, а народ уже вовсю вопил о том, что Диану и ее парня убили агенты не то ЦРУ, не то британской разведки, не то израильской. Кретины! – Да, – сказал Дарвин. – Но наша реакция не выходила за рамки… чего? Лоуренс нахмурил брови и снова пристально посмотрел на Дарвина. – Профессионального интереса. А что, с этим какие-то проблемы? Это был довольно интересный случай, и средства массовой информации, как всегда, переврали все факты. Было очень интересно разобраться, что же там произошло на самом деле. И мы оказались правы… Правы во всем, вплоть до неизвестной второй машины, и алкоголя, и скорости машины во время аварии. И мы не участвовали во всеобщей идиотической оргии публичной скорби, потому что все это – просто дерьмо на палке, раздутое репортерами всех мастей до сумасшедших размеров. Если мне хочется поплакать по умершим, я еду на кладбище в Иллинойс, где похоронены мои родители. Не пойму, Дар, в чем дело? Что тебе не так? Мы что, как-то неправильно реагировали? Ты это хочешь сказать? Дарвин покачал головой. – Нет, – сказал он, а потом еще раз повторил: – Нет, мы-то как раз реагировали совершенно нормально.
Вечером, у себя дома, Дарвин никак не мог сосредоточиться. Ни один из случаев, которые они с Лоуренсом сегодня проинспектировали, не требовал значительной реконструкции. Случай с пистолетом на ночном столике был чуть занятнее прочих – но не намного. Три недели назад Дар и Лоуренс расследовали обстоятельства по иску, где подросток сунул револьвер за пояс и отстрелил себе почти все гениталии. Семья подала иск против районной школы, хотя девятиклассник в тот день прогуливал уроки. Мать и ее сожитель потребовали у школы материальную компенсацию в размере двух миллионов долларов под тем предлогом, что администрация школы должна следить за тем, чтобы шестнадцатилетний подросток не прогуливал уроки. У Дара лежало еще штук двадцать дел, над которыми можно было поработать, но он бесцельно бродил по квартире, вынимал книжки с полок и ставил их обратно, потом проверил электронную почту и обратился к своим шахматным партиям по Интернету. Из двадцати трех партий лишь две потребовали какой-то сосредоточенности. Только студент-математик из Чапел-Хилл в Южной Каролине и финансовый плановик из Москвы – это надо же, в Москве есть финансовые плановики! – доставляли ему некоторые затруднения. Московский знакомый Дарвина, Дмитрий, дважды выиграл у него, и один раз игра закончилась вничью. Дар просмотрел электронную почту, подошел к настоящей шахматной доске, на которой у него были расставлены фигуры для игры с Дмитрием, передвинул белого коня соперника и задумался, недовольный результатом. Да, над этим стоило поразмыслить. Когда позвонила Сидни, Дар очень удивился. – Привет! Хорошо, что я застала тебя дома. Ты не будешь возражать против хорошей компании? Дар задумался только на долю секунды. – Нет… То есть, конечно, я буду рад тебя видеть. Ты где сейчас? – В холле возле твоей квартиры, – сказала Сид. – Твой полицейский охранник даже не заметил нас, потому что мы зашли с черного хода – с очень подозрительным свертком в руках! – Вы? – переспросил Дар. – Я не одна, с другом, – пояснила Сидни. – Так мне стучать? – Не нужно, я и так открою, – сказал Дарвин. Сидни принесла с собой действительно очень подозрительный сверток. Дар догадался, что это скорее всего ружье или винтовка, завернутая в кусок парусины. Приятель Сидни оказался потрясающе красивым латиноамериканцем, на несколько лет моложе Сид и Дара. Он был среднего роста, довольно стройный, но с очень развитой мускулатурой. Волнистые черные волосы парень зачесывал назад. Одет он был в брюки и плотную ветровку цвета хаки, серую рубашку-поло и ковбойские сапоги и чувствовал себя в этой одежде легко и непринужденно. Даже ковбойские сапоги выглядели на нем совершенно естественно – особенно по сравнению с тем впечатлением, которое производил маскарадный наряд Далласа Трейса. Парень представился как Том Сантана. Его крепкое рукопожатие тоже было полной противоположностью рукопожатию Далласа Трейса – Трейс стремился поразить своей сокрушительной силой, а этот парень был просто очень сильным и, как вежливый джентльмен, сдерживал свою силу. – Я слышал о вас, доктор Минор, – сказал Том. – Ваши реконструкторские работы очень ценятся. Удивительно, что мы раньше не встречались. – Можно просто Дар, – сказал Дарвин. – Я не слишком выставляю напоказ свою работу. Но ваше имя мне тоже кое о чем говорит. Том Сантана… Вы начинали работать в отделении инсценированных аварий, потом, в девяносто втором, перешли в отдел борьбы с мошенничеством… И работали тайно, под прикрытием. Это вы вывели на чистую воду камбоджийскую и вьетнамскую банды в девяносто пятом и посадили двух адвокатов за решетку. Сантана улыбнулся. У него была улыбка кинозвезды, только без свойственного кинозвездам самодовольства. – А перед этим – венгров, которые практически написали книгу об организации преступных банд в Калифорнии, – усмехнувшись, сказал он. – Пока венгры, камбоджийцы и вьетнамцы придерживаются только своей этнической группы, мы никак не можем до них добраться. А как только они начинают вербовать мексиканских парней – тогда я вполне мог внедриться в банду и работать под прикрытием. – Но больше вы так не работаете, – сказал Дарвин. Том покачал головой. – Я стал слишком известным. Последние пару лет я возглавляю СГРМ… А сейчас частенько работаю с Сидни. Дар знал, что СГРМ – это Специальная группа по расследованию мошенничеств. А то, как этот парень и Сидни держались вместе, стояли рядом, сидели на его кожаном диване – так удобно, не слишком далеко друг от друга и не слишком близко… Дар не знал, что все это должно означать, но сердился на себя за то, что его это беспокоит. Как бы то ни было, давно ли он знаком с главным следователем Олсон? Пять дней? И неужели он думал, что до этого у нее не было никакой жизни? И – до чего? – Выпьете чего-нибудь? – спросил Дарвин, подойдя к антикварному буфету, который он использовал вместо бара. Оба покачали головами. – Мы же на дежурстве, – сказал Том. Дар кивнул, налил себе немного скотча и сел на имсовский стул напротив Тома и Сидни. Последние лучи заходящего солнца проникли сквозь высокие окна и обрисовали на полу медленно движущуюся трапецию золотистого света. Дарвин отхлебнул немного виски, посмотрел на длинный предмет, завернутый в парусину, и спросил: – Это мне? – Да, – сказала Сидни. – И не говори «нет», пока не выслушаешь нас до конца. – Нет, – сказал Дарвин. – Черт! Какой ты упрямый, Дарвин Минор! – возмутилась Сидни. Дар отхлебнул еще немного скотча и ничего не сказал. – Но ты нас хотя бы выслушаешь? – спросила Сидни. – Конечно. Главный следователь вздохнула и сказала: – Я все-таки выпью, на дежурстве там или нет… Нет, Дар, не вставай. Я знаю, где у тебя виски. Рассказывай, Том. Том Сантана во время разговора выразительно жестикулировал. – Сид сказала мне, что у вас сложилось впечатление, будто вас используют, доктор Минор… – Дар. – Дар, – продолжал Том. – И в некотором смысле так и было. Мы оба приносим вам свои извинения за это. Но когда русские на вас напали – для нас это был самый большой прорыв в деле с «Альянсом». Сидни вернулась со стаканом виски и снова присела на диван. – Мы ведем наблюдение за дюжиной самых известных и преуспевающих юристов страны – я имею в виду лучших адвокатов, настоящих знаменитостей… Примерно половина из них находятся в Калифорнии, остальные – в таких местах, как Феникс, Майами, Бостон, Нью-Йорк. – И Даллас Трейс – один из таких адвокатов, – уточнил Дар. – Мы полагаем, да, – сказал Том. Дарвин снова отхлебнул немного скотча и только потом заговорил. В золотистом свете заходящего солнца янтарный напиток в его стакане словно светился изнутри. – Зачем этим адвокатам – если они настолько же или почти настолько же преуспевающие, как Даллас Трейс, – идти на какой-то риск, если они и так зарабатывают миллионы долларов законным путем? Том выставил ладони вперед, как бейсболист на внутренней площадке, который готовится отбить низ-ко летящий мяч. – Сначала мы сами не могли в это поверить. Наверное, в этом есть что-то личное… Как, например, участие Эспозито в убийстве сына Далласа Трейса, Ричарда… Но по большей части это просто бизнес. Вы знаете, сколько миллиардов долларов проходит каждый год по мошенническим судебным тяжбам из-за страховок. Этот «Альянс»… Крупные дельцы, адвокаты периодически убирают посредников, чьими услугами они пользовались. – В буквальном смысле убирают? – переспросил Дар. – То есть убивают? – Иногда и убивают, – сказала Сид. У нее был усталый вид. Последние лучики вечернего солнца высветили на ее лице морщинки, которых Дар раньше не замечал. – К примеру, Дженни Смайли и Дональд Борден… Мы не нашли их в Сан-Франциско и в Окленде. Их вообще нигде не нашли. Дарвин кивнул. – Можно поискать в самом заливе, – заметил он, непроизвольно взглянув на Сидни. – Значит, когда русские попытались меня расстрелять, вы втянули меня в это дело, надеясь, что я каким-то образом собью с толку Далласа Трейса, заставлю его сделать ошибку… так? Но почему? Потому что вы знали, что я делаю компьютерные видеореконструкции? Сидни быстро наклонилась вперед. На ее лице отражались боль и горечь. – Нет, Дар, клянусь тебе! Я знала, что Даллас Трейс уже видел реконструкцию с доказательствами, что его сын был убит, – мы допрашивали детективов Фэйрчайлда и Вентуру, потому что это редкий случай – когда дело передают из отдела дорожных происшествий в отдел убийств… Но я клянусь тебе, что не знала, что именно ты сделал эту реконструкцию, пока ты не показал мне ее в своей хижине! Том молча переводил взгляд с одного на другого, словно стараясь понять причину внезапной напряженности, возникшей в комнате. – Тогда зачем ты взяла меня с собой на эту встречу с Далласом Трейсом? – спросил Дарвин минуту спустя. Сидни поставила стакан с виски на кофейный столик. – Потому что запись была сделана просто великолепно, – сказала она. – Ни один человек в здравом уме не мог бы посмотреть ее – и не поверить, что его сына убили. Я хотела дать Далласу Трейсу возможность очиститься от подозрений, которые у нас возникли на его счет. Но он просмотрел видеореконструкцию и вышвырнул нас вон – и тогда я поняла, что он по уши увяз в этом деле. Дар вздохнул. – Ну так какого черта вам нужно от меня? – Нам нужна ваша помощь, – сказал Том Сантана. – Пожалуйста, продолжайте и дальше работать вместе с Сидни. Помогите нам добраться до дна этого чертова заговора – с вашим опытом реконструктора… Дарвин не ответил. Сид повернулась к Тому Сантане: – Дар не верит в тайные организации. – Этого я не говорил, – возразил Дарвин. – Я говорил, что не верю в успешно действующие тайные организации. Просуществовав какое-то время, они разрушаются изнутри – из-за глупости руководителей или из-за того, что причастные к этому люди не умеют держать язык за зубами. Эта чепуха с «Помощью беспомощным»… – Это не чепуха, – сказал Том. – Все меняется. Мошенничество переходит в убийство. На место невинных случаев типа «поскользнулся – упал» и поцарапанных машин при столкновениях без жертв приходят смертельные случаи на дорогах… – И несчастные случаи на строительных площадках, – добавила Сид. – Людей вербуют для обычных мелких дел – небольших дорожных происшествий и тому подобного, – а вместо этого они погибают, – сказал Том. – И парни вроде Эспозито и Далласа Трейса гребут за их счет еще больше денег, чем раньше. – Эспозито больше не заработает денег ни на чьей смерти, – пробормотал Дарвин. Сид подалась вперед и стиснула руки. – Ты присоединишься к нам, Дар? Ты поможешь? Дар посмотрел на этих двоих, уютно сидевших на его диване друг возле друга, и сказал: – Нет. – Но… – начал Том. – Если он сказал «нет», значит – «нет», – перебила его Сид. Она достала из кобуры, спрятанной под широкой жилеткой, полуавтоматический пистолет. С виду он был очень похож на ее собственный девятимиллиметровый пистолет, но несколько тяжелее. – Тебе знакома эта штука, Дар? – Пистолет? Я видел пистолет сегодня утром, в руке покойника. Сидни пропустила его ехидство мимо ушей. – Я имела в виду – эта модель, «ЗИГ-про». Дар посмотрел на маленький полуавтоматический пистолет с нескрываемым отвращением. – Я знаю, что ты знаком с пистолетами «ЗИГ-зауэр», – заметила Сидни. – Это новая модель «ЗИГ-армс», полимерная. Он очень маленький и очень легкий. – Сидни положила пистолет на стол. – Возьми, примерься к нему… Попробуй. – Я верю тебе на слово, – сказал Дарвин. – Послушай, Дар… – начала Сидни, потом замолчала, стараясь совладать со срывающимся голосом. – Дар, не мы втянули тебя в это дело. Когда эти детективы из отдела убийств – мы думаем, они оба у них на крючке – показали Далласу Трейсу видеореконструкцию, которую ты предоставил отделу транспортных происшествий… Вот тогда-то за тобой и послали русских киллеров. – Мы уверены, что в «Альянс» входят некоторые высшие руководители русской мафии – их пригласили для укрепления силовой части бандитской группировки, – медленно и спокойно сказал Том Сантана. – Мы знаем, что Даллас Трейс лично нанял в качестве главного исполнителя бывшего агента КГБ, а теперь члена «Организации», русского синдиката организованной преступности. Этот русский при необходимости способен привлечь к делу и других членов русской мафии. – И вы полагаете, что маленький полимерный «ЗИГ-про» сможет что-то изменить? – Он может изменить все! – Сидни разозлилась. – Ты видел, как легко мы с Томом проникли к твоей квартире. На улице возле дома стоит одна-единственная машина полицейского управления. Двое парней, которые в ней дежурят, работают сверхурочно, и сейчас оба уже наверняка засыпают от усталости. Сидни вынула из пистолета обойму, отложила в сторону, потом проверила, чтобы в стволе не осталось патрона. – Это мое личное оружие, Дар. К этой модели «ЗИГ-про» подходят патроны калибра 040, и это, наверное, самый лучший из современных полуавтоматических пистолетов. Ребята из Секретной службы США любят это оружие… Из «ЗИГ-про» легко целиться, и пули попадают именно туда, куда стреляешь. – В другого человека, – сухо заметил Дарвин. Сид снова не обратила внимания на его колкость. Она развернула парусиновый сверток. – Пистолет пригодится для самозащиты, когда ты один, – продолжала она. – Я получила для тебя разрешение, и тебя не арестуют за ношение оружия – все равно какого. А для дома и хижины… – Ружье? – спросил Дар. – Я знаю, что ты служил в морской пехоте, – сказала Сид. – Тебя научили обращаться с оружием… – Это было четверть века назад, – напомнил Дарвин. – Это все равно как ездить на мотоцикле, – без тени насмешки сказал Том Сантана. – У тебя был «сэведж» калибра 0.410 дюймов, – сказала Сид. – Так что эту модель ты наверняка узнал… Это классика. – «Ремингтон М-870», дробовик двенадцатого калибра, – равнодушно сказал Дар. – Да, я видел такие штуки. Сид вынула из своей большой сумки две коробки патронов и положила на кофейный столик. Дар узнал коробки – в одной были патроны 040, во второй, желтой – патроны для дробовика, заряженные картечью. Главный следователь кивком указала на входную дверь. – Когда кто-нибудь будет ломиться в дверь, Дар, ты только нажмешь на спусковой крючок – и из ствола со скоростью тысяча сто – тысяча триста футов в секунду вылетят девять картечин. Такой же эффект дадут восемь выстрелов из девятимиллиметрового полуавтоматического пистолета. – Оружие для ближнего боя, – сказал Том Сантана. – Именно поэтому полицейские предпочитают его для стрельбы в помещениях и на близком расстоянии. И, скажем… Скажем, с двадцати пяти ярдов из этой штуки просто невозможно промахнуться. Дар ничего не сказал. Несколько минут все трое молчали. Солнце тем временем совсем скрылось за горизонтом. – Дар! – наконец сказала Сидни, наклонившись к нему через стол и тронув его за колено. – Даже если ты не собираешься работать со мной и не хочешь, чтобы я была рядом, тебе все равно понадобится дополнительная защита. Дар покачал головой: – Только не пистолет. Это однозначно. Я возьму дробовик и буду держать его под кроватью. Главный следователь Олсон и инспектор Сантана переглянулись. Сидни взяла свой «ЗИГ-про» и патроны к нему и спрятала обратно в сумку. – Спасибо, что согласился взять хотя бы дробовик, Дар. В магазине пять патронов, а перезаряжать… – Мне приходилось раньше стрелять из «Ремингтона-870», – перебил ее Дарвин. – Это все равно что ездить на мотоцикле. – Он встал. – Что-нибудь еще? Сидни и Том пожали ему руки у двери, но никто ничего не говорил, пока Том не подал Дарвину свою карточку. – По последнему номеру со мной можно связаться в любое время дня и ночи, в любой день, – сказал следователь СГРМ. Дарвин сунул карточку в карман джинсов и сказал: – У меня где-то уже валяется карточка Сидни. Примерно около часа после того, как они ушли, Дарвин бесцельно бродил по квартире, даже не включив свет. Он спрятал дробовик и патроны под кровать и вернулся в гостиную, не находя себе места. Дар налил себе еще один стакан скотча и, подойдя к окну, стал смотреть на огни города внизу и медленно движущиеся по заливу лодки. На Линдберг-Филд взлетали и садились самолеты, наполненные энергией и целеустремленностью, которых так не хватало Дарвину. Допив скотч, Дар снова прошел в спальню, потом в ванную. Он включил душ и несколько минут постоял под струями горячей воды. Душ немного развеял дурман в голове. Дар вернулся в спальню, вытирая коротко остриженные волосы полотенцем, и включил свет. Его спальня представляла собой не отдельную комнату – она была частично отгорожена от остального помещения книжными шкафами. Большой платяной шкаф был полностью встроенным, с зеркальной дверцей. Дарвин не раз подумывал убрать это огромное, в полный рост, зеркало. При виде своего отражения в нем он только поморщился. «Что может быть печальнее зрелища голого мужика средних лет?» – подумал Дар и пошел к зеркальной дверце – чтобы открыть ее и тем самым убрать зеркало с глаз долой, а заодно и взять в шкафу свежую пижаму. И в это мгновение раздался выстрел. Зеркало разлетелось на осколки. Куски стекла полетели в Дарвина, раня грудь и лицо. Дар отпрыгнул назад и сбил лампу с ночного столика. Второй выстрел раздался уже в темноте.
ГЛАВА 13 Н – НОЧЬ
В квартиру Дарвина набилось так много полицейских, что в ней стало тесно, как в магазине венков перед Днем поминовения. Группа экспертов по баллистике вычисляла угол, под которым две пули пробили высокое окно с северной стороны здания и попали в зеркало. Все остальные окна наспех закрыли плотными шторами и кусками холста. По комнатам расхаживало с полдюжины полицейских в форме и примерно столько же – одетых в гражданское. Были представители и от ФБР – специальный агент Джон Уоррен и его помощница, миниатюрная впечатлительная девушка. Полицейское управление Сан-Диего представлял капитан Фернандес со своей обычной командой из шести-восьми полицейских. От дорожной патрульной службы был капитан Том Саттон. Сидни Олсон и Том Сантана тоже были здесь – они сидели на кожаном диване и смотрели на ружье, лежавшее на кофейном столике. – Никогда раньше не видел такого, – сказал один из офицеров дорожного патруля, отхлебывая кофе из белой кружки Дара. – Похожа на ту, какой, кажется, пользуются наши спецназовцы, – сказала Сидни. – Можно проследить страну-изготовитель? – спросил капитан Фернандес. – Я узнал ее, – сказал Том Сантана. – Эта модель впервые появилась на оружейной выставке в Сиэтле несколько лет назад. Это «Тикка-595 спортер» с оптическим прицелом «Уивер Т32». – На каком расстоянии находится крыша, с которой стреляли? – спросил капитан Саттон. – Почти семьсот ярдов к северу отсюда, – ответила Сидни. – Я заметила вспышку первого выстрела и бросилась туда, прежде чем выстрелили во второй раз. – Она кивнула на двух полицейских в форме, которые пили газировку на кухне. – Я находилась на холме возле дома, поэтому связалась по радио с патрульными в машине, чтобы они проверили, как тут доктор Минор, пока я буду преследовать стрелявшего. – Но вы не знали о пожарной лестнице, – заметил спецагент Уоррен. – Нет, – сказала Сид. – Я поднялась наверх по главной лестнице и со всех ног бросилась на крышу. Я увидела подозреваемого на пожарной лестнице, на уровне второго этажа. Он продолжал спускаться. Я дважды выстрелила, но промахнулась. – Надо полагать, первый выстрел был предупредительный? – сухо уточнил капитан Фернандес. – Когда Сидни стала стрелять, подозреваемый бросил тяжелую винтовку в мусорный бак под пожарной лестницей, – сказал Том Сантана. – Но потом он добрался до своей машины и уехал прежде, чем следователь Олсон успела спуститься вниз. – Ты не заметила его машину, Сид? – поинтересовался капитан Фернандес. – Номеров я не видела. Машина – американского производства. Небольшая. И она уехала задолго до того, как я спустилась по пожарной лестнице. – Вы промахнулись, стреляя в него сверху через три пролета лестницы, – заметил капитан Саттон из отдела дорожно-транспортных происшествий. – А он всадил две пули точно туда, куда целился, с расстояния в семьсот ярдов… при том, что шел небольшой дождь. Невероятно! – Ничего странного в этом нет, – сказала Сидни. – Стрелок был на крыше не один час, он ждал, когда доктор Минор включит свет. Он даже затащил наверх два мешка с песком, чтобы поудобней обустроить позицию для стрельбы и подогнать приклад. – И никаких отпечатков пальцев, – сказал один из судебных экспертов. Сидни и другие только посмотрели на него. – А вы как думали? – устало ответил капитан Фернандес. – Мы имеем дело с настоящими профессионалами. Один из баллистиков подошел к винтовке. – Отличный выстрел – с расстояния в шестьсот восемьдесят ярдов. Мы просчитали, что первая пуля должна была попасть точно в сердце. Пулю уже достали – она застряла в задней стенке шкафа. Он стрелял патронами «винчестер-748», ручной зарядки… – Мы это знаем, – сказала Сид. – Когда мы нашли винтовку, в магазине оставалось еще три патрона, а рассчитан он на пять. На месте стрельбы гильз не обнаружено. – Ручная перезарядка, – продолжал баллистик, нисколько не смутившись. – Стреляные гильзы от первых двух выстрелов он прятал в карман – и все равно успел выстрелить во второй раз меньше чем через две секунды после первого выстрела. И вторая пуля попала бы доктору Минору точно в голову после того, как он упал, – если бы он находился там, где предполагал снайпер. И… – Вы не могли бы прекратить говорить о докторе Миноре в третьем лице? – раздраженно сказал Дарвин. – Я, между прочим, еще не помер. Он сидел на своем имсовском стуле, закутавшись в зеленый купальный халат. Из-под халата выглядывали бинты и пластыри, налепленные медиками на многочисленные порезы от осколков стекла на груди и шее. – Помер бы, если бы снайпер целился в тебя самого, а не в твое отражение в зеркале, – заметила Сидни. – Значит, мне повезло, – пожал плечами Дар. – Это точно, черт возьми, тебе просто повезло! – разозлилась Сид. – Если бы в этот вечер не моросил дождь и с океана не принесло туманную дымку, с таким оптическим прицелом снайпер сумел бы отличить отражение в зеркале от живого человека из плоти и крови и знал бы, куда целиться. Даже с расстояния в полмили этот парень сумел бы всадить пулю точно тебе в сердце. – В зеркало, – уточнил Дар. – Парню не повезло. – Он отхлебнул горячего чая и задержал взгляд на руке, в которой держал чашку. Рука мелко дрожала. «Забавно…» – подумал Дар, а вслух сказал: – А почему это вы сидели в засаде возле моего дома, следователь Олсон? – Просто потому, что я не собиралась оставлять тебя без защиты, даже если ты и отказался помочь нам поймать этих ублюдков! – Не особенно надежная защита, вы не находите? – заметил Дар. – Этот парень успел выстрелить дважды… Кстати, вы уверены, что это был именно парень? – Он бежал, как мужчина, – сказала Сид. – Одет был в ветровку и бейсбольную кепку. Рост – средний для мужчины. Телосложения среднего, ближе к худощавому. Его лица я не видела, и было слишком темно, чтобы определить расу или национальность. Капитан Фернандес принес с кухни стул и поставил возле кофейного столика. Он сел, подпер подбородок кулаком и спросил: – Следователь Олсон, вы не скажете, у полицейских из прокуратуры штата принято преследовать убегающих снайперов в одиночку, не подождав, пока прибудет подкрепление? Сидни улыбнулась. – Нет, капитан. Конечно же, нет. Но у меня было подкрепление – Том. Мы собирались подежурить здесь несколько ночей – по очереди. Я не сомневаюсь, что начальство из Сакраменто напомнит нам о надлежащей процедуре для подобных случаев. – Хорошо, – сказал Фернандес. – Итак, на чем мы остановились? Джим Уоррен из ФБР тоже сидел возле кофейного столика. – Ну что ж… У нас нет отпечатков пальцев снайпера, нет его описания, мы не знаем номеров его машины – зато у нас есть его винтовка. Оптический прицел «уивер» – не такая уж редкая вещь, но вряд ли было продано много экземпляров самой «Тикка-595». Обычным способом на трех оставшихся в магазине патронах не было обнаружено никаких отпечатков, но есть шанс, что эксперты из лаборатории ФБР смогут что-нибудь найти. Обычно у них получается. И мы проследим, откуда взялись патроны ручной набивки – «винчестер-748 мэтч-кинг»… Это вам не обычные патроны для дробовика. Разговаривали еще долго. Дарвин допил свой чай и почувствовал, что засыпает. Его здорово лихорадило от противостолбнячной сыворотки, которую ему вкололи, беспокоила боль от многочисленных порезов, но спать хотелось все сильнее. Около двух ночи позвонили Лоуренс и Труди – они подключились к полицейской сети и узнали, что случилось. Дарвину стоило немалых трудов уговорить их не приезжать – здесь и так собралось слишком много народу. Последние полицейские в форме и ребята из отдела происшествий уехали только к рассвету. Возле дома Дарвина остались круглосуточно дежурить две полицейские машины без обозначений, вокруг квартала ездила машина с бригадой дорожного патруля, а на крыше дома, с которого стрелял снайпер, теперь стоял на часах вооруженный полицейский. Дарвин разглядел его – на крыше старого склада в двух кварталах к северу отсюда. Сам Дарвин не думал, что убийцы сегодня вернутся. Наконец у Дара остались только Сидни Олсон и Том Сантана. Оба выглядели совершенно измотанными. – Дар! – позвала Сидни, положив ладонь Дарвину на колено. Дар резко проснулся. Он внезапно очень остро ощутил тепло ладони Сидни Олсон на своем колене, присутствие другого мужчины и то, что до прибытия толпы полицейских он успел накинуть только купальный халат. – Что? – То, что случилось, ничего не меняет? – Когда в тебя стреляют – обязательно все меняется, – сказал Дар. – Если так будет продолжаться и дальше, я, наверное, обращусь в какую-нибудь религию. – Черт тебя побери, перестань играть словами! Ты не передумал? Ты по-прежнему не хочешь нам помогать? Это единственный способ обеспечить твою безопасность и уничтожить этих проклятых ублюдков. – Всех? – спросил Дарвин. – Вы думаете, что сможете поймать их всех? Том, сколько народу было в той вьетнамской банде, которую вы раскрыли несколько лет назад? Всего – и главарей, и их подручных, и работников клиники, и адвокатов? – Примерно сорок восемь человек, – сказал Том Сантана. – И сколько из них попало за решетку? – Семеро. – А скольких вы выслали? – Пятерых… Но среди этих пятерых – оба адвоката, единственный на всю банду настоящий врач и сам главарь. – И на сколько лет их выслали? На год? Два? Три? – Ненадолго, – согласился Том. – Но адвокаты лишились права вести частную практику, доктор переехал в Мехико, а главарь до сих пор освобожден на поруки. И они больше не занимаются преступными махинациями. – Да… Теперь этим занимается «Альянс» и «Организация». Игра осталась прежней… Сменились только игроки. Сантана пожал плечами и пошел к двери. – Не забудь закрыть дверь на цепочку, – напомнила Сидни и повернулась, чтобы идти за Томом Сантаной. Дарвин тронул ее за руку: – Сид… Спасибо тебе. – За что? – спросила она и заглянула ему в глаза. – За что? Сидни ушла, не дожидаясь ответа. В квартире было необычайно темно даже после восхода солнца – из-за того, что высокие окна были занавешены кусками холста. Дар взял это на заметку – необходимо в самом ближайшем времени позаботиться о ставнях или жалюзи. Он пошел в спальню, сбросил купальный халат и забрался под одеяло. Дар думал, что заснет сразу же, но еще долго лежал без сна, глядя на лучик света, ползущий по потолку. Со временем Дар все-таки уснул. Сны ему не снились.ГЛАВА 14 О – ОБСТРЕЛ ЦЫПЛЯТАМИ
В среду весь день прошел впустую. Дар спал всего несколько часов – после сна в дневное время он чувствовал себя усталым и разбитым. Проснувшись, Дар отыскал среди объявлений на желтых страницах телефон фирмы, которая в краткие сроки устанавливает на окна жалюзи и ставни. Ожидая, пока они приедут, Дарвин бесцельно бродил по квартире. Он не боялся выходить из дома – по крайней мере, ему казалось, что не боялся, – но лишний раз выходить на улицу без особой надобности ему не хотелось. Около полудня приехал Лоуренс – он жаждал лично убедиться, что Дарвин не прячет под одеждой страшные раны. Лоуренс привез горячий обед на двоих. Он сегодня «был в городе» – то есть работал в Сан-Диего и скорее всего давал показания во Дворце правосудия. Лоуренс сказал, что задержится допоздна, и спросил, можно ли будет переночевать у Дарвина на диване. Дар сразу заподозрил, что Лоуренс хочет за ним присмотреть, но отказать все равно не смог. Когда Лоуренс уехал, а рабочие установили венецианские жалюзи и тоже ушли, Дарвин немного поработал над неоконченными случаями, отправил по электронной почте свои шахматные ходы всем оппонентам, кроме Дмитрия из Москвы, а потом пошел в спальню. Он вытащил из-под кровати «Ремингтон-870» и коробку патронов, вставил пять толстых патронов в магазин и сел на кровать, положив дробовик на колени. На левой стороне ружья, повыше и немного впереди от предохранительной скобы над спусковым крючком, была выбита надпись: «Ремингтон-870 Экспресс Магнум». Эта надпись означала, что дробовик выпущен позже 1955 года, когда «Ремингтон-870» усовершенствовали – чтобы к нему подходили и современные трехдюймовые патроны «магнум» двенадцатого калибра, и старые, длиной два и три четверти дюйма. Дар снял блокировку с тяг, соединяющих затвор с цевьем, передернул затвор… Синеватая сталь ствола и запах ружейного масла вызвали в памяти картины из далекого детства – как он вместе с отцом и дядей охотился на уток и фазанов на юге Иллинойса… Прохладное осеннее утро, под ногами хрустят ломкие стебли кукурузы, позади легкой трусцой бегут послушные охотничьи собаки… Дарвин спрятал ружье обратно под кровать и закрыл глаза. Его преследовали яркие видения, но не то, что он видел недавно, не разлетающиеся осколки зеркала… Перед глазами у него стояла другая картина – туфли и ботинки, разбросанные по траве. Самые разные туфли и ботинки – и лаковые мужские туфли, и детские кроссовки, и женские босоножки. После каждой авиакатастрофы первое, на что обращают внимание следователи, – огромное количество самой разной обуви, разбросанной вокруг места катастрофы. Это замечают даже раньше, чем запах авиационного горючего, куски покореженного и обожженного металла, куски человеческих тел. Для Дарвина это всегда было показателем чудовищной кинетической энергии, которая выделяется при падении самолета, – она так велика, что обувь, даже надежно застегнутая, почти никогда не остается на телах погибших. Почему-то это казалось Дарвину очень унизительным. Дар вспомнил о туфлях в случае с гибелью Ричарда Кодайка – или Ричарда Трейса. Молодого человека буквально выбросило из правой туфли, но туфля оказалась на неправильном месте – Дженни Смайли сдала фургон назад слишком далеко, когда второй раз переехала Ричарда. «Парень не слишком крепко стоял на ногах…» Дар живо представил, как Даллас Трейс говорит эту фразу какому-нибудь приятелю из загородного клуба. Когда совсем стемнело, Дарвин подошел к книжному шкафу и взял с полки потрепанный том стоиков. Он начал с Эпиктета, но потом перелистал вперед, до Марка Аврелия – «Размышления», книга двенадцатая. За последние десять лет Дарвин так часто читал и перечитывал эту книгу, что некоторые страницы запомнил наизусть, и они звучали в его памяти как заклинание: «Три вещи, из которых ты состоишь: тело, дыханье, ум. Из них только третье собственно твое, остальные твои лишь в той мере, в какой надо тебе о них заботиться. Если отделишь это от себя, то есть от своего разумения, все прочее, что они говорят или делают, или все, что ты сам сделал или сказал, и все, что смущает тебя как грядущее, и все, что является без твоего выбора от облекающего тебя тела или прирожденного ему дыхания, и все, что извне приносит вокруг тебя крутящийся водоворот, так чтобы изъятая из-под власти судьбы умственная сила жила чисто и отрешенно сама собой, творя справедливость, желая того, что выпадает, и высказывая правду; если отделишь – говорю я – от ведущего то, что увязалось за ним по пристрастию, а в отношении времени то, что будет и что уже было, и сделаешь себя похожим на Эмпедоклов „сфер округленный, покоем своим и в движении гордый“ и будешь упражняться единственно в том, чтобы жить чем живешь, иначе говоря, настоящим, – тогда хоть оставшееся-то тебе до смерти можно прожить невозмутимо и смело, в мире со своим гением». Дар закрыл книгу. Эти строки – и множество других строк, похожих на эти, – помогли ему найти покой после того, как Барбара и маленький Дэвид погибли в авиакатастрофе в Колорадо, после того, как он сам чуть не сошел с ума и совершил попытку самоубийства. Дарвин отчетливо помнил короткий сухой щелчок, когда боек отцовского ружья ударил по капсюлю патрона – и он не выстрелил, не выстрелил… Это был единственный случай, когда отцовское ружье дало осечку. Дар потом много раз просыпался среди ночи, слыша сухой щелчок этой осечки, – и находил успокоение в благоразумии стоиков. Но в эту ночь и стоики не помогали. Дар убедился, что жалюзи закрыты, проверил, на месте ли дверная цепочка. Он очень устал за день – но спать не хотелось. Дарвин не доверял снотворным таблеткам – он видел слишком много несчастных случаев, связанных с приемом снотворного, похожих на случай мистера Хаттона, который спросонья схватил пистолет вместо трубки, когда зазвонил телефон. Зато Дар знал, как прекрасно усыпляет чтение творений Эммануила Канта, и он читал Канта до тех пор, пока не начал засыпать. В дверь постучали. Дар уже потянулся за спрятанным под кроватью дробовиком, но стук был очень знакомым – так обычно стучал Лоуренс. Пришел действительно Лоуренс – помятый, взъерошенный и пропотевший после целого дня в суде. Пока Ларри мылся в душе, Дар еще немного почитал Канта. Но вот Лоуренс вышел – в огромном банном халате, который Дарвин приберегал специально для таких случаев. Лоуренс разложил на диване постель, взбил попышнее подушку. А Дарвин все это время рассматривал кобуру с револьвером «кольт» 0.38, которую Ларри невозмутимо снял с плеча и повесил на спинку стула. – Вы с Труди собираетесь завтра на обед в Лос-Анджелес? – спросил Дар. – Ты о чем это? – не понял Лоуренс. Он уютно устроился на диване и рассматривал иллюстрированный журнал для автолюбителей. – Ты обычно вооружаешься только тогда, когда едешь в город. – Дар знал, что у его друга есть разрешение на скрытое ношение оружия, потому что инспектор страховой компании слишком часто получал угрозы от похитителей машин и страховых мошенников, которые оказались за решеткой благодаря его показаниям в суде. Лоуренс хмыкнул. – Я взял револьвер потому, что шел к тебе в гости, – сказал он. – Быть рядом с тобой сейчас так же опасно, как рядом с Шарлем де Голлем в «Дне Шакала». – Только в первой версии, – заметил Дар. – В ремейке враг подкрадывался к шефу ФБР, и это был не Эдвард Фокс, а Брюс Уиллис. – В ремейках всегда перегибают палку, – сказал Лоуренс. Он отложил журнал и выключил лампу возле дивана. – Это точно, – согласился Дар. Он пошел к двери и проверил, закрыт ли замок и на месте ли цепочка, потом посмотрел на отвратительные, но плотно закрытые жалюзи на высоких окнах. – Спокойной ночи, Ларри. Он ожидал, что Лоуренс, как обычно, поправит его, но Лоуренс уже спал, тихо похрапывая. Дарвин вернулся в спальню и спустя несколько минут тоже заснул.Утром в четверг Дарвин проснулся от телефонного звонка. Он схватил трубку, лежавшую возле кровати, но из трубки раздавался только длинный гудок. Дар вскочил с кровати и схватил мобильник, но тот вообще был выключен. Натягивая на ходу халат, Дарвин поспешил к факсу. Но и туда не поступило никаких сообщений. Телефон зазвонил снова. Это был сотовый Лоуренса. Спросонья Дар позабыл, что друг ночует у него. Он сел на высокий табурет у кухонного стола, а Лоуренс ответил на звонок – судя по всему, звонила Труди, если только Лоуренс не нашел себе кого-нибудь еще, кому мог говорить «моя лапочка». Дарвин включил кофеварку. Лоуренс сел на диване, зевнул, промычал что-то невразумительное, попытался прочистить горло, потер глаза, потер лицо, снова что-то промычал, а потом снова принялся откашливаться – звучало это так, как будто кто-то душил кота весом в центнер. «И как только Труди это терпит каждое утро?» – в который уже раз подумал Дарвин и спросил: – Кофе будет готов через пару минут. Хочешь тостов с беконом? Или хватит хлопьев? Лоуренс надел очки и улыбнулся. – Выключай свою кофеварку. Мы возьмем кофе и каких-нибудь гамбургеров по дороге. Мы едем смотреть новый случай – он тебе наверняка понравится. Дар посмотрел на часы. Уже полдевятого, но из-за плотно закрытых жалюзи в квартире до сих пор слишком темно. – У меня накопилась куча дел, с которыми надо разобраться… – сказал он. Лоуренс решительно покачал головой: – Ерунда! Это всего в нескольких милях отсюда… На полпути к моему дому… И ты возненавидишь себя, если пропустишь этот случай. – М-м-м… – Попытка монашкоубийства посредством цыплячьей пушки, – сказал Лоуренс. – Не понял… – Дарвин отключил кофеварку. – Попытка монашкоубийства путем цыплячьей пушки, – повторил Лоуренс и босиком пошлепал в ванную. Он спешил принять душ и привести себя в порядок раньше, чем удобства займет Дар. Дарвин вздохнул. Он повернулрычажок, который открывал жалюзи, а потом потянул за шнур, чтобы сдвинуть их с окна. В Сан-Диего был прекрасный солнечный день. В прозрачном воздухе над переливающимся солнечными бликами заливом то и дело взлетали или заходили на посадку самолеты. По улицам, как всегда, с шумом проносились машины. Мимо окон Дарвина с ревом пролетел пассажирский самолет, заходя на посадку на аэродром Линдберг-Филд. Некоторые пассажиры испуганно посматривали на высотные здания, не выпуская из рук утренние газеты. Самолет был так близко, что Дарвин почти различал заголовки в этих газетах. – Попытка монашкоубийства посредством цыплячьей пушки, – пробормотал он. – Боже правый… В гараже они с Лоуренсом поспорили по поводу того, кто сядет за руль. Лоуренс терпеть не мог ездить на пассажирском сиденье. Дару тоже надоело все время быть пассажиром. Лоуренс признал, что ему все равно придется вернуться в город – снова давать показания в суде. Дарвин указал, что логичнее было бы оставить «Труппер» в гараже и поехать на «Лендкруизере». Лоуренс надулся и предложил поехать на двух машинах, чтобы оба были за рулем. Дар развернулся и пошел к лифту. – Ты куда? – окликнул его Лоуренс. – Обратно в постель, – сказал Дарвин. – Только этой ерунды мне не хватало, особенно перед завтраком. В конце концов за руль сел Дар. Полицейская машина без обозначений, которая дежурила у дома Дарвина, проехала за ними до городской черты, а потом повернула обратно. Ехать было недалеко – место происшествия находилось на полпути к Эскондидо. Когда они выехали на трассу, Лоуренс назвал адрес фирмы по продаже автомобилей марки «Сатурн». Дар знал, где это. Лоуренс и Дарвин полностью разделяли глубокое презрение к «Сатурнам». Оба знали, что сами машины довольно приличные – но в рекламных целях фирмы по продаже автомобилей создали такой образ типичного владельца «Сатурна», что у страстных автолюбителей, вроде Дара и Лоуренса, сразу возникало стойкое отвращение ко всему, связанному с «Сатурнами». «У Дженнифер это первая машина», – говорил старший менеджер. Все остальные сотрудники фирмы по продаже «Сатурнов» стояли рядком и дружно хлопали в ладоши, а Дженнифер, порозовевшая от смущения, держала в руке ключи от машины. – «Сатурн» создан для людей, которые боятся покупать машины, – сказала как-то Труди. Лоуренс и Труди меняли машины через каждые полгода. Им нравился сам процесс. – Точно так же, как «Вольво» предназначен для людей, которые ненавидят автомобили и хотят, чтобы все это знали, – добавил тогда Лоуренс. – Профессора колледжей, профессиональные защитники природы, либеральные демократы… Им приходится водить машину, но они хотят показать всем вокруг, что, будь на то их воля – они предпочли бы ходить пешком. – А может, они покупают «Вольво» из соображений безопасности, – предположил Дарвин, прекрасно зная, что подобное заявление вызовет у обоих следователей бурю эмоций. – Ха! – воскликнула Труди. – Машина по определению должна ездить быстро, а безопасность – это уже вопрос спорный. Те, кто ездит на «Вольво», с радостью пересели бы на «Шерманы»,[20] если бы правительство пустило их на дороги. – А помните тот трогательный рекламный ролик «Сатурна» несколько лет назад? Где рабочие с завода «Сатурна» в Теннеси поднимаются в три часа ночи, чтобы посмотреть по телевизору прямой репортаж из Японии – как там выгружают первую партию экспортных «Сатурнов», – насмешливо сказал Лоуренс. – Я видел эти английские, негритянские, мексиканские лица… они улыбались как дураки, уставившись в свои телевизоры. Как же – такая гордость за Америку! А вот чего они не показывали – как девяносто пять процентов этих машин заново погрузили на транспортные суда и отправили обратно в Америку. Японцев не устроило такое барахло, как эти «Сатурны». – Японцы предпочитают джипы, – сказала Труди. Дар кивнул. Это действительно было так. – И огромные старые «Кадиллаки», – добавил он. – Только якудза, – поправил его Лоуренс.
На полпути к фирме по продаже «Сатурнов» Лоуренс сказал: – Значит, ты знаешь, что такое цыплячья пушка? – Конечно, – сказал Дарвин, ведя машину одной рукой. В другой руке у него был стаканчик с кофе из «Макдоналдса». Надпись на стаканчике предупреждала, что напиток внутри горячий и может вызвать ожог, если расплескать его на гениталии. Дар был глубоко убежден, что человек, неспособный догадаться об этом без предупреждения, все равно не умеет читать, а может, и пить из чашки. – Конечно, я знаю, что это такое. На лице Лоуренса отразилось разочарование. – Нет, правда? Ты в самом деле знаешь, что это? – Конечно, – подтвердил Дарвин. – Я же одно время работал в Национальном управлении безопасности движения, помнишь? Цыплячья пушка – это условное название устройства, с помощью которого в Федеральном авиационном агентстве проверяют прочность фонаря пилотской кабины на случаи столкновения с летящими птицами. На самом деле эта пушка – средних размеров труба, подсоединенная к мощному компрессору. Они выстреливают птицами в фонарь кабины на скорости до шестисот миль в час, но чаще – значительно меньшей. А стреляют обычно тушками цыплят, потому что цыпленок как раз подходит по размеру. Цыплята побольше чайки, но поменьше, чем фламинго или ястреб. – А-а-а… Черт, верно, – увял Лоуренс. – Ну и какая же связь между «Сатурном» и цыплячьей пушкой? – поинтересовался Дарвин, когда они уже въезжали во двор фирмы, продающей «Сатурны». Лоуренс вздохнул, явно разочарованный тем, что Дарвин знал самую интересную особенность случая. – Ну, «Сатурн» сейчас усиленно рекламирует новое, так называемое ударопрочное ветровое стекло… На самом деле в нем просто на тридцать процентов больше пластикового композита, чем в обычных автомобильных стеклах. И владелец фирмы-дилера решил привезти из Лос-Анджелеса, из штаб-квартиры ФАА, цыплячью пушку – для наглядных демонстраций. – А я и не знал, что ФАА дают напрокат свои цыплячьи пушки, – заметил Дарвин. – Обычно не дают, конечно, – сказал Лоуренс. – Но начальник лос-анджелесского отделения ФАА – брат жены владельца фирмы по продаже «Сатурнов». – А, вот в чем дело… Ну, надеюсь, они не стали швырять дохлую курицу в это новое ветровое стекло «Сатурна» со скоростью шестьсот миль в час. Лоуренс покачал головой и отпил глоток кофе. – Брось, скорость была всего лишь чуть больше двухсот миль в час. Но все равно они считали, что это круто. Сегодня утром они стреляли в один из этих новых «Сатурнов»… В представлении участвовали цыплячья пушка и сестра Марта. – Вот черт… – вырвалось у Дара. Сестра Марта была монашкой, но ушла из монастыря и занялась продажей «Сатурнов». Она блистала в большинстве коммерческих рекламных акций, которые устраивали фирмы-дилеры «Сатурна». Сестра Марта была ростом около пяти футов, ей недавно исполнился шестьдесят один год, и выглядела она как миленькая куколка – с розовыми щечками и пушистыми седыми волосами, отливающими голубизной. Любимым рекламным трюком сестры Марты были прыжки на снятой пластиковой дверце седана «Сатурн» – так она показывала, что дверцы «Сатурнов» не гнутся и не дребезжат. Но это было еще до того, как фирма, производящая «Сатурны», отказалась от пластиковых дверей и вернулась к металлическим. Оказалось, что пластиковые слишком хорошо горели, как любой вонючий нефтепродукт – из которого они, собственно, и были сделаны. Теперь сестра Марта только пинала колеса и мило улыбалась, расхваливая непомерно дорогие седаны «Сатурн» перед придирчивыми покупателями. Труди как-то сказала, глядя на сестру Марту, которая рекламировала «Сатурны»: – Этому божьему одуванчику палец в рот не клади…
Сотрудники фирмы по продаже «Сатурнов» в страшном волнении бегали по двору кругами. Парни из съемочной группы нового ролика тоже проявляли признаки крайнего возбуждения – они громко спорили между собой по портативным рациям, хотя находились всего в двадцати футах друг от друга. Коммерческий директор фирмы оказался девятнадцатилетним парнем в бейсболке, с длинными волосами, собранными в хвостик, и жиденькой козлиной бородкой. Он был бледен и, судя по лицу, перепуган до чертиков. Цыплячья пушка со стороны производила довольно внушительное впечатление. Тридцатифутовый ствол, установленный на платформе тракторного прицепа, с гидравлическим подъемником – с помощью этого механизма ствол поднимали на нужную высоту. При виде гидравлического подъемника Дар сразу вспомнил о бедняге Эспозито. С казенной части у пушки имелся зарядный люк, похожий на шлюз предназначенного для кур шаттла. Компрессор все еще пыхтел в отдалении, ствол цыплячьей пушки был направлен на ветровое стекло новенького седана «Сатурн», стоявшего в пятнадцати метрах. Дар протолкался через возбужденно гудящую толпу и осмотрел «Сатурн». Курица пулей пролетела сквозь ветровое стекло, снесла подголовник на водительском сиденье, пробила дыру в заднем стекле автомобиля и впечаталась в цементную стену дилерской конторы – примерно в пятидесяти футах позади машины. Дилер фирмы, тощий гуманитарий, парившийся в твидовом пиджаке от Харриса, понятия не имел, кто такие Лоуренс и Дарвин, но все равно лепетал что-то невразумительное, обращаясь к ним, как к своему приходскому священнику. – Мы и не знали… Я даже подумать не мог… Эксперты моего шурина из ФАА… Эксперты… Сказали, что ветровое стекло должно выдержать удар… со скоростью больше двухсот пятидесяти миль в час… Мы настроили пушку на двести миль в час… Я в этом совершенно уверен!.. Сестра Марта была на водительском сиденье… Мы можем прокрутить пленку с записью… А потом директор захотел, чтобы провели еще одно испытание… Я не хотел тратить время и деньги – но вы знаете, они уже зарядили во второй раз… И сестра Марта очень настаивала… Она вышла из машины… Мы думали, понадобится всего несколько минут – чтобы счистить пятно со стекла, – а потом можно будет стрельнуть снова… – А где сестра Марта? – перебил его Лоуренс. – В своем кабинете, в конторе, – едва не плача, ответил дилер. – Врачи со «Скорой» дают ей кислород. Лоуренс прошел в выставочный зал, с удовольствием принюхиваясь к приятному запаху новеньких машин. Дар подумал, что хорошо бы успеть убраться отсюда прежде, чем Ларри надумает прикупить себе еще одну игрушку. Сестра Марта, в полном монашеском одеянии, уже закончила принимать кислород и теперь безостановочно всхлипывала, совершенно не владея собой. Вокруг стояли две женщины из медицинской бригады, родственники Марты, несколько любопытных посетителей – и все старались успокоить напуганную старушку. – Эт-т-то п-п-просто п-по п-п-привы-ычке-е-е, – дрожащим голосом причитала сестра Марта. – Я н-н-ни-когда раньше не н-надевала это н-на п-презентации-и-и, никогда-а-а… Г-господь указал м-мне, что на эт-тот раз я п-преступила грань д-дозволенного… – С ней все в порядке, – заметил Лоуренс. Они с Даром вышли обратно на площадку и осмотрели гузку цыпленка, торчащую из небольшого мясного кратера на бетонной стене. Потом пошли к «Лендкруизеру» Дарвина. – Чьи страховые интересы привели тебя сюда на этот раз? – поинтересовался Дар, когда они проходили мимо съемочной группы. – Ничьи. Здесь никто не пострадал, – сказал Лоуренс. – Труди просто услышала по полицейскому каналу про этот случай, и я решил, что тебя это немного развлечет. Неожиданно к ним снова подошел владелец дилерской фирмы. Очевидно, ему кто-то сообщил, что они занимаются расследованием несчастных случаев. – Я поговорил со своим шурином, – сказал он. – Его инженеры утверждают, что спецификации ветрового стекла соответствуют заданной нагрузке… Они говорят, что цыпленка должно было просто отбросить от стекла. – Он указал на зияющую дыру в ветровом стекле новенького «Сатурна». – Матерь божья, что же мы сделали неправильно? Неужели «Сатурн» нас обманул? – Нет, – сказал Лоуренс. – При скорости в двести миль в час это ветровое стекло запросто могло бы выдержать страуса. – Тогда почему… Как же это так… Почему?.. Почему, бога ради?.. Дар ответил кратко: – В следующий раз разморозьте курицу.
Они проехали две трети пути до Сан-Диего, когда впереди обнаружилась гигантская дорожная пробка. Сверкали мигалки на полицейских машинах и машинах «Скорой помощи». В сторону города движение продолжалось только по одной полосе. Машины сдавали назад до ближайшего бокового съезда с магистрали или, нарушая правила, разворачивались прямо через непрерывную разделительную полосу и возвращались обратно, чтобы объехать пробку по другой дороге. Дар вырулил на своем «Лендкруизере» на аварийную полосу за обочиной и поехал дальше по траве, стараясь подобраться как можно ближе к месту происшествия. Сердитый полицейский из дорожно-транспортного отдела велел им остановиться примерно в пятидесяти ярдах от места аварии. Дар заметил не меньше трех «Скорых», пожарную машину и с полдюжины полицейских машин с мигалками, сложенный пополам трейлер с прицепом для перевозки автомобилей и целую груду машин на правой полосе дороги. Они с Лоуренсом предъявили полицейскому свои документы – у Ларри, кроме удостоверения страхового инспектора, были еще карточка профессионального пресс-фотографа и карточка почетного члена дорожно-транспортной службы. Несмотря на столпотворение машин вокруг места происшествия, Дарвин понял, что здесь случилось. Грузовик с платформой перевозил новые «Мерседесы» – «Е 500», судя по тем, которые остались на платформе и лежали в этой куче машин на дороге. Поперек всех трех полос магистрали тянулся полосатый тормозной след. Из-под груды перевернутых серебристых «Мерседесов» едва виднелась смятая крыша и ветровое стекло старой машины – это был «Понтиак Файрбёрд». Когда трейлер сложился пополам и в конце концов ударил «Понтиак», от сотрясения все новенькие машины с верхнего яруса попадали вниз. Не все они упали на старый «Понтиак» – Дар заметил один новый «Мерседес», лежащий на боку в кювете возле дороги, и еще один – слегка помятый, но на колесах, примерно в паре сотен футов дальше по дороге. Но по крайней мере четыре тяжелые машины упали сверху на «Файрбёрд». Небольшой автокран осторожно поднимал «Мерседесы», освобождая погребенный под ними «Понтиак». Пожарники и спасатели с помощью гидравлических кусачек разрезали передние стойки крыши сплющенного «Понтиака», а рядом стоял на четвереньках один из медиков и кричал что-то ободряющее тем, кто был внутри машины. Водителя и пассажиров из «Файрбёрда» явно еще не извлекли. Дар и Лоуренс подошли к кабине трейлера. Водитель – здоровенный бородатый мужик с пухлым пивным брюшком – пытался что-то объяснить полицейскому из дорожно-транспортного отдела. Водитель трясся, всхлипывал и заикался гораздо сильнее, чем сестра Марта. Патрульный собрался было оттеснить Дарвина и Лоуренса подальше, но сержант Пол Камерон заметил их и махнул рукой, приглашая подойти. Полицейский с мрачным видом наклонился к водителю трейлера и похлопал его по плечу, потом отодвинулся и стал ждать дальнейших объяснений. Дар осмотрел место происшествия и заметил молоденького патрульного Элроя, который стоял на коленях в траве, усыпанной сверкающими осколками битого стекла. Патрульного неудержимо тошнило. – …Богом вам клянусь, я сделал все, что мог, чтобы не врезаться в этот «Понтиак»! – говорил бородатый водитель, не замечая, что слезы градом катятся по его загорелым щекам и его всего трясет. – Я только попытался объехать несчастного ублюдка, но с другой стороны от меня тоже ехали машины. Меня зажали со всех сторон. И они не останавливались. Каждый раз, когда я переходил с одной полосы на другую, этот «Файрбёрд» тоже менял полосу… Когда я притормозил, он затормозил еще сильнее… Мы проехали так через все пять полос. Потом я зацепил его, и трейлер сложился пополам. Я не смог удержать машину… С полной загрузкой… Господи… – Как вы выбрались наружу? – спросил сержант Камерон, крепко сжав плечо дрожащего водителя могучей рукой. – От удара у меня вылетело ветровое стекло, – сказал бородач, показывая на свой трейлер. – Я выполз на кучу машин и кое-как спустился на землю… Тогда я и услышал, как они кричат… Господи, как они кричали!.. Камерон еще сильнее сжал его плечо. – Сынок, ты уверен, что за рулем «Понтиака» сидел взрослый мужчина? – Да, – сказал здоровяк водитель и опустил взгляд. Все его тело содрогалось. Дарвин и Лоуренс пошли обратно к сваленным грудой машинам, стараясь не мешать рабочим спасательной команды. Спасатели уже разобрали почти всю кучу – сверху расплющенного «Понтиака» оставался только один «Мерседес». Теперь спасатели перерезали передние стойки крыши «Понтиака», чтобы отогнуть крышу и вытащить из салона пострадавших. Когда салон «Понтиака» вскрыли, водитель был все еще жив, но весь залит собственной кровью. Медики из «Скорой» осторожно подняли его и уложили на носилки и сразу же принялись фиксировать ему шею. Водителем «Понтиака» оказался толстый мексиканец. Он громко стонал и непрестанно повторял: – Los ninos… Los ninos…[21] Его жена, сидевшая на переднем сиденье, погибла. Похоже, она не была пристегнута ремнем безопасности – женщина сидела, свернувшись клубком на переднем сиденье, в позе эмбриона. По мнению Дарвина, она погибла при сотрясении во время столкновения, еще до того, как сверху на «Понтиак» свалились тяжелые «Мерседесы» – крыша «Понтиака» прогнулась внутрь не слишком сильно, только до уровня подголовников переднего сиденья. Рабочие спасательной команды снова подогнали кран, подняли последний «Мерседес» и сдвинули его в сторону, а потом принялись обрезать задние стойки крыши «Понтиака». Но вообще-то никаких стоек там уже не было. Когда последний «Мерседес» подняли на цепях и бесцеремонно сбросили за обочину, стало ясно, что под весом нескольких наваленных сверху машин вся задняя часть «Понтиака» сплющилась до самого сиденья. Все колеса «Понтиака» лопнули. Один из медиков по-прежнему стоял на четвереньках возле измятой машины и подбадривал оставшихся на заднем сиденье пассажиров. А пожарные тем временем пытались отвернуть покореженную крышу «Понтиака» назад, как крышку на банке с сардинами. – В первые двадцать минут там все время громко плакали и стонали, – сказал Камерон Дарвину. – А теперь молчат – уже несколько минут. – Может, это кричала его жена? – предположил Лоуренс. Камерон покачал головой, потом снял шляпу и вытер пот со лба. – Она погибла при ударе. Водитель… отец… он мог только стонать. А кричали все время с заднего… – Камерон не договорил, потому что спасатели как раз отодрали крышу «Понтиака». На полу смятой машины, ниже уровня продавленной крыши, лежало двое детей. Оба были мертвы. И девочка постарше, и ее маленький брат были покрыты ссадинами и кровоподтеками, но ни одной серьезной раны не было. Когда медики аккуратно вытерли кровь, стало видно, что лица у детей сильно распухли и посинели. Глаза у девочки все еще были широко открыты. Дарвин сразу понял, что дети оставались в живых после столкновения, но задохнулись в тесном пространстве возле заднего сиденья «Понтиака», придавленного сверху весом нескольких машин. Маленький мальчик даже после смерти продолжал судорожно цепляться за правую руку сестренки. На левой руке у девочки была свежая гипсовая повязка. – Черт! – тихо выругался сержант Камерон. И его божба показалась почти что молитвой. «Скорая помощь» со включенной мигалкой и сиреной помчалась к городу, увозя отца несчастных детей. Рабочие спасательной команды начали медленно и аккуратно извлекать тела из обломков покореженной машины. – Там должен быть еще младенец, – ровно сказал Дарвин. Лоуренс и полицейские из дорожно-транспортной службы сразу повернулись к нему. – Я видел эту семью пару дней назад в лос-анджелесском медицинском центре, – объяснил Дар. – С ними был еще младенец. Камерон кивнул одному из полицейских, который сразу же начал что-то говорить по портативной рации. Лоуренс, Дар и Пол Камерон подошли к задней части искалеченного «Понтиака». – Черт бы их всех побрал, – сказал сержант. – Черт, черт, черт! В расплющенном «Понтиаке» Дар увидел три мешка с песком и две накачанные до предела запасные камеры. Амортизатор, обеспечивающий безопасность пассажирам заднего сиденья. Обычные меры предосторожности при преднамеренных столкновениях. Гарантия, которую мошенники дают завербованным водителям, в том, что никто не получит серьезных травм при умышленном столкновении, которое даст право на солидную страховку и богатство в los Estados Unidos.[22] Дарвин внезапно повернулся и пошел по траве, подальше от обочины. – Дар! – окликнул его Лоуренс. Дарвин шел не оборачиваясь. Наконец он остановился – спиной к месту трагедии – и вынул из кармана мобильник и визитную карточку. Она ответила после второго звонка: – Олсон слушает. – Я согласен, – сказал Дар и сразу же отключил телефон.
ГЛАВА 15 П – ПЛАН
Похоже, Сидни Олсон полностью завладела всем подвальным этажом Дворца правосудия. У нее появилось пять новых помощников, которые трудились за новейшими компьютерами. Подсоединили еще шесть телефонных линий. Вместо прежней единственной допросной в распоряжении главного следователя Олсон оказалась наблюдательная комната с односторонним стеклом, еще две допросные и даже часть коридора, где ее секретарь бдительно наблюдал за всеми посетителями. Дар подумал, что во всем подвале, наверное, только заключенные в дальних камерах и их угрюмые охранники не имеют отношения к разросшейся империи Сидни Олсон. Утром в пятницу совещание началось точно в восемь ноль-ноль. В главном кабинете Сидни поставили длинный раскладной стол. Почти вся стена, как и прежде, была завешена большой картой Южной Калифорнии. Но Дар заметил, что на карте появились новые обозначения. Добавился красный флажок на месте столкновения «Понтиака» с трейлером, сразу за городской чертой Сан-Диего, еще один зеленый флажок – на месте гибели Эспозито, на стройке, и еще один желтый флажок, который обозначал второе покушение на Дарвина, – прямо на холме в Сан-Диего. С полдюжины желтых флажков, воткнутых рядом с картой, еще ожидали своей очереди. Это было серьезное рабочее совещание. Ни Говнюка, ни местного окружного прокурора на совещание не пригласили. Дар удивился, увидев здесь Лоуренса и Труди. – А что? Неужели ты думал, что мы не будем в этом участвовать? – сказал Лоуренс в ответ на насмешливый взгляд Дарвина. – Кроме того, НБСП нам платит, – добавила Труди, подавая Лоуренсу большую чашку с кофе. Жанетт Паульсен – адвокат, представительница Национального бюро расследования страховых преступлений – посмотрела на Дарвина и кивнула, подтверждая слова Труди. Пока Сидни подсоединяла свой ноутбук к проектору, Дар рассматривал остальных людей, сидевших вокруг стола. Кроме Лоуренса, Труди и Паульсен, здесь были еще Том Сантана – он сидел справа от Сидни – и Боб Гаусс, начальник Тома из отдела по расследованию мошенничеств со страховками. Возле Гаусса сидел специальный агент ФБР Джим Уоррен, а напротив него – капитан Том Саттон из отдела дорожно-транспортных происшествий. Кроме Саттона, здесь было еще двое полицейских – Фрэнк Фернандес из следственного отдела и офицер, которого Дарвин видел впервые, – тихий, похожий на бухгалтера мужчина средних лет, которого Сидни представила как лейтенанта Байрона Барра из отдела внутренних дел полицейского управления Лос-Анджелеса. Капитан Фернандес и Саттон косились на лейтенанта Барра с подозрением и затаенным недовольством – все полицейские недолюбливают сотрудников отдела внутренних дел. Сидни кратко и недвусмысленно объяснила собравшимся, почему здесь присутствует лейтенант Барр – имеются неопровержимые доказательства, что некоторые служащие полицейского управления Лос-Анджелеса сотрудничают с преступной организацией. Дарвин заметил, как Фернандес и Саттон быстро переглянулись и кивнули друг другу. Дар понял это так: «А, значит, неприятности – в полицейском управлении Лос-Анджелеса? Ну да, конечно, тогда все понятно. Хрен с ними! У нас в Сан-Диего – полный порядок». – Хорошо… Давайте начнем, – сказала Сидни и выключила в комнате свет. Включенными остались только ее ноутбук и проектор. На белом экране в дальнем конце стола неожиданно появилась цветная фотография – сваленные в кучу «Мерседесы», а под ними – расплющенный «Понтиак Файрбёрд». – Почти все вы знаете об этом происшествии, которое случилось вчера утром на шоссе I-5, сразу за пределами городской черты, – спокойно начала Сид. За первой фотографией последовали другие. Машины подняты краном и убраны с «Понтиака». Водитель «Понтиака» извлечен из смятой кабины. Трупы. Дар понял, что эти снимки делал Лоуренс своим «Никоном», когда они осматривали место катастрофы. Лоуренс отпечатал снимки, отсканировал их и переслал Сидни по электронной почте. Снимки были четкие, все подробности были видны очень ясно. – Единственный, кто выжил в этой аварии, – водитель, Рубен Ангел Гомес, тридцатилетний мексиканец. У него была временная водительская лицензия, действительная на территории Соединенных Штатов. Его жена, Рубидия, и их дети – Милагро и Марита – погибли в результате столкновения «Понтиака» с трейлером, перевозившим «Мерседесы» в Сан-Диего по заказу торговой фирмы Кайла Бейкера. Следующий снимок – крупным планом показаны мертвые дети. Сидни вышла в луч света из проектора. – У них был еще младенец – семимесячная Мария Гомес. Мы нашли ее вчера, поздно вечером. За девочкой присматривала женщина из соседней квартиры в том доме, где проживали Гомесы. Теперь о ребенке заботятся службы социальной помощи. Сидни отступила назад. На следующем снимке был раздавленный остов «Понтиака». Никому не нужно было объяснять, что означают мешки с песком и накачанные запасные камеры в салоне. – Состояние мистера Гомеса критическое, но стабильное, – сказала Сид. – Вчера он перенес две операции и до сих пор не приходил в сознание на достаточно длительное время, чтобы ответить на вопросы следователя. По крайней мере, таково было последнее сообщение из клиники, которое я получила сегодня утром… – Он до сих пор не пришел в себя, – добавил капитан Фернандес. – Я звонил в больницу десять минут назад. По-прежнему зовет своих детей. Докторам пришлось снова ввести ему успокоительное. В больнице дежурит наш офицер, который свободно владеет испанским. Как только Гомес будет в сознании, его допросят. Но пока ничего нового. – Его охраняют? – спросил капитан Саттон из дорожно-транспортного отдела. Фернандес пожал плечами: – Конечно. Сидни продолжила доклад. На следующем кадре фотографий было несколько – они выстроились в пирамиду из нескольких рядов разной длины. В нижнем ряду было около дюжины фотографий – четверо Гомесов, попавших в автокатастрофу, Ричард Кодайк, мистер Фонг – человек, которого нанизало на арматуру, и другие жертвы автокатастроф. Лица на фотографиях и имена жертв были в основном мексиканскими. Во втором ряду пирамиды располагались фотографии Джорджа Мерфи Эспозито, Абрахама Уиллиса – адвоката и одновременно главаря преступной группировки, недавно погибшего в автокатастрофе при чрезвычайно подозрительных обстоятельствах, – и знаменитых главарей южнокалифорнийской банды страховых мошенников, Бобби Джеймса Такера из Лос-Анджелеса, Роже Вильерса из Сан-Диего и Николаса ван Дервана из округа Флорида. Над главарями преступных банд было несколько пустых прямоугольников, подписанных «Помощь беспомощным». Над ними – еще один длинный ряд с подписью «Врачи». Над рядом докторов – еще один ряд незанятых прямоугольников с подписью «Боевики». На самой вершине пирамиды было всего три прямоугольника – два свободных, а третий – с фотографией Далласа Трейса. Дар заметил, что капитан из полиции Сан-Диего и офицер дорожно-транспортного отдела откровенно изумились, увидев эту пирамиду снимков. Все остальные присутствующие, судя по всему, ее уже видели – в том числе инспектор Том Сантана, спецагент Уоррен, Боб Гаусс из отдела по расследованию страховых мошенничеств и авокат Паульсен из НБСП. А Лоуренс и Труди если и удивились, то не подали виду. – Господи!.. – сказал капитан Саттон из отдела дорожно-транспортных происшествий. – Вы, наверное, шутите, следователь Олсон? Даллас Трейс – один из самых известных адвокатов в этой проклятой стране! И один из самых богатых людей… – Именно из этого источника поступила часть начального капитала, необходимого для таких масштабных мошеннических операций, – сказала Сидни. В пульте дистанционного управления ее ноутбука была встроенная лазерная указка, и Сидни навела красное пятнышко точно на середину лба советника Трейса. Потом она нажала на какую-то кнопку – и в ряду «Боевики» появилась новая фотография, довольно плохого качества. Невыразительное лицо худощавого мужчины. – Это Павел Зуев, – сказала Сидни. – Бывший снайпер, служил в Советской армии. Бывший агент КГБ. Бывший русский мафиозо… Впрочем, наверное, последнее определение действительно и в настоящее время. Мы обнаружили его отпечатки на «Тикка-595 спортер», из которой снайпер стрелял в доктора Минора. Капитан Фернандес помрачнел. – Мои эксперты обследовали эту винтовку… И никаких отпечатков пальцев не нашли. Спецагент Уоррен сложил ладони домиком и спокойно пояснил: – Сотрудники лаборатории ФБР в Куантико полностью разобрали винтовку и обнаружили один-единственный отпечаток – на внутренней поверхности паза, в который входит рукоятка затвора. Отпечаток был полустертым, но его удалось восстановить при помощи специальной компьютерной программы. Мы выяснили, что он соответствует отпечатку пальца Павла Зуева – по картотеке ФБР. Сидни снова нажала на кнопку, и рядом с фотографией Павла Зуева появился еще один снимок. Это была не фотография, а рисунок по описанию внешности, выполненный полицейским художником, – бородатый мужчина. Под рисунком значилось имя бородача – Юрий Япончиков. – У ФБР есть основания полагать, что Япончиков проник на территорию страны в начале весны этого года, – сказала Сидни. – В то же самое время здесь появился и Зуев. – Откуда вам это известно? – поинтересовался капитан Саттон. – Таможня и Иммиграционное ведомство? Сидни замялась. Вместо нее ответил спецагент Уоррен: – Нам стало известно об этом из различных русских источников. Саттон кивнул, но всем своим видом он выражал сомнение – массивный капитан дорожно-транспортной полиции откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. – Япончиков и Зуев воевали в Афганистане, были командой снайперов, – сказала Сид. – Вероятно, они уже тогда работали на КГБ, но наши агентства заинтересовались ими только в конце восьмидесятых, незадолго до распада Советского Союза. После того как там все утряслось, оба стали работать в чеченских группировках русской мафии. – Киллеры? – спросил Лоуренс. – Скорее – боевики, силовые элементы, – сказала Сидни. – Но по сути – да, киллеры. И в ФБР, и в ЦРУ считают, что Япончиков и Зуев имеют отношение к делу Майлза Грэхема. Все присутствующие знали о том, что случилось с миллионером Майлзом Грэхемом. Майлз Грэхем был одним из самых известных и состоятельных предпринимателей, убитых в Москве за последние годы за то, что не платил требуемых взяток нужным людям. Дарвин откашлялся. Ему не хотелось вмешиваться в разговор, но нужно кое-что прояснить. – Вы говорите, Зуев и Япончиков воевали в Афганистане как снайперская команда? – спросил он. – В американской и британской армиях снайперские команды обычно состоят из двух человек… Если я правильно припоминаю, Советы далеко не сразу начали использовать в Афганистане снайперов, но, когда они наконец это сделали, у них в каждой снайперской команде было по три человека. Сидни посмотрела на спецагента Уоррена. Агент ФБР кивнул. Перед ним лежал ноутбук с тускло светящимся экраном, причем прочесть написанное на экране можно было только под тем углом зрения, под которым смотрел Уоррен. Пощелкав по клавиатуре, Уоррен сказал: – Да, вы правы. Обычно советские снайперские команды состояли из трех человек. Но у нас есть информация, что Япончиков и Зуев работали вдвоем, как американские снайперы. – Кто из них был стрелком, а кто – наблюдателем? – спросил Дарвин. Спецагент Уоррен снова пощелкал по клавишам и несколько секунд смотрел на экран. – Согласно донесениям полевых агентов ЦРУ, оба прошли обучение как снайперы. Но Япончиков был офицером – лейтенантом в армии, а потом еще продвинулся по службе в КГБ, – а Зуев – сержантом. – Значит, Япончиков – основной стрелок, – сказал Дарвин, а сам подумал: «Но убить меня поручили второму номеру, Зуеву». – У вас случайно не найдется характеристик оружия, которое эта команда использовала в Афганистане? – В сообщении, которое я получил, указано: «Предположительно, они использовали снайперские винтовки „СВД“ – в Афганистане и при обучении сербских снайперов под Сараево. Дарвин кивнул. – Старая, но надежная. «СВД» – снайперская винтовка Драгунова. Сидни быстро повернулась к нему и внимательно прислушалась к русским словам. – Я и не знала, Дар, что ты говоришь по-русски. – Я не говорю по-русски, – возразил Дарвин. – Извините, что прервал вас. Продолжайте, пожалуйста. Сидни сказала: – Нет, говорите дальше. Это очень важные подробности. Дар покачал головой. – Когда в Москве застрелили американского бизнесмена… Грэхема… Я, помнится, читал, что его убили двумя выстрелами в голову с расстояния шестьсот метров. В газетах писали, что извлеченные пули были калибра 7.62, от патронов длиной пятьдесят четыре миллиметра. «СВД» стреляет именно такими патронами и как раз на таком расстоянии. Вот и все. Сидни удивленно уставилась на него. – А я думала, ты не любишь оружие. – Я не люблю оружие, – сказал Дар. – Акул я тоже не люблю. Но я знаю разницу между белой акулой и рыбой-молотом. Сидни кратко, ровным и спокойным голосом подвела итоги совещания: – Господа, Жанетт, Труди, нам официально поручено продолжить и довести до конца это расследование. У нас есть веские причины полагать, что советник Даллас Трейс имеет отношение к отмеченному в последнее время в Южной Калифорнии резкому учащению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и что новая волна мошеннических исков по страховкам организована мистером Трейсом и другими выдающимися адвокатами – кто они, пока не установлено. Сидни показала еще одну фотографию. На ней был улыбающийся пожилой священник в белом пасторском воротничке. – Это отец Роберто Мартин. Отец Мартин в настоящее время удалился от дел, но он многие годы был духовным пастырем в церкви Святой Агнессы в Чавес-Равин – это мексиканский квартал неподалеку от стадиона «Доджерс». Отец Мартин очень жалостливый и сострадательный человек и известен благотворительной деятельностью в отношении своих прихожан – в основном мексиканского происхождения. Еще в начале семидесятых отец Мартин мечтал о создании благотворительного общества, которое помогало бы бедным мексиканским и другим латиноамериканским иммигрантам. Он собирал деньги – и через епархию, и у разных лос-анджелесских бизнесменов, которые соглашались выделить средства гипотетическому благотворительному обществу отца Мартина… Это общество – «Помощь беспомощным» – появилось уже довольно давно. Но для того, чтобы у общества появился собственный фонд, отцу Мартину пришлось обратиться вот к этому человеку… На экране появилась фотография полного мужчины, явно мексиканского происхождения, с такой же широкой улыбкой, как у отца Мартина, с безукоризненной прической и в очень дорогом костюме и галстуке. – Это юрист, который помог воплотить в жизнь мечты отца Мартина, – сказала Сидни. – Адвокат Уильям Роджерс. Вероятно, вы слышали это имя. Очень известный адвокат, у него несколько офисов в восточной части Лос-Анджелеса и безукоризненная репутация в политических кругах. Роджерс занимается сбором денег на благотворительность и способен выжать деньги из кого угодно. Он очень поддержал нынешнего мэра на последних выборах. Отец Мартин надеялся, что адвокат Роджерс возглавит организацию «Помощь беспомощным» и продолжит благое начинание, когда сам отец отойдет от дел. – И мистер Роджерс согласился? – полюбопытствовал Лоуренс. – Как сказать, – ответила Сид. – Вместе со своей женой Марией Роджерс учредил пост сопредседателя. Управлять организацией ему помогает активист общины и к тому же его собственный следователь Хуан Баррига. Следующим в пирамиде фотографий людей, имевших отношение к «Помощи беспомощным», появился снимок Барриги. Присутствующие дружно закивали. Все знали, что следователи, работающие на адвокатов, имеющих дело со случаями материальной ответственности, частенько оказываются просто не в состоянии не поддаться искушению. Следователи тратят жизнь и нервы на расследование бесконечных дел типа «поскользнулся – упал» и инсценированных столкновений на дорогах. Они большую часть времени проводят, беседуя с мошенниками, жуликами, главарями банд, аферистами разных мастей, недобросовестными врачами, профессиональными кляузниками и вымогателями. Более того, следователи видят, как большинство страховых компаний сдаются и предпочитают оплачивать иски мошенников, только чтобы не заводить долгий и дорогостоящий судебный процесс. – В последние три года Хуан Баррига принялся создавать сеть врачей и адвокатов, согласных работать на «Помощь беспомощным». Билл и Мария Роджерс лично отбирали желающих записаться в организацию. «Помощь беспомощным» приглашает на работу специалистов из Мексики, Колумбии, Сальвадора, Коста-Рики, Панамы, а также прихожан католической и протестантской церкви со всего штата. На стене появились снимки адвокатов и докторов. Некоторых, вроде Эспозито и покойного Абрахама Уиллиса, все знали. А вот при виде остальных у присутствующих вытянулись лица – Роберт Арманн, бывший заместитель окружного прокурора, ныне деятельный и всеми любимый член городского правления; Ганопа Симерджиани, уважаемый адвокат по гражданскому праву и спикер армянской общины Южной Калифорнии; Гарри Элмор, бывший герой американского футбола, который закончил медицинский колледж и открыл частные клиники в беднейших кварталах Сан-Диего и Лос-Анджелеса. – Вам не кажется, что вы преувеличиваете, следователь Олсон? – хмуро спросил капитан Том Саттон. – То, что вы продемонстрировали сейчас, больше смахивает на какое-нибудь журналистское расследование, чем на серьезное дело. Сид повернулась и спокойно встретила тяжелый взгляд капитана полиции. – Вы так считаете, Том? Но это достоверная информация. Присяжные уже три месяца решают вопрос о передаче дела в суд, и мы собираемся предъявить обвинения. Всем, включая самого мистера Далласа Трейса. – А почему вы рассказываете об этом сейчас? – спросил Фрэнк Фернандес. Сидни погасила проектор и включила верхний свет. Но садиться не стала. – Потому что наше расследование затрагивает высокие сферы. И мы, так сказать, выходим на финишную прямую, господа. Это конфиденциальная информация… – Параллельно проводятся несколько расследований, и не только инспекторами полиции, – заметил лейтенант Барр из отделения внутренних дел. – И любая утечка информации будет… э-э… настоящей катастрофой. Пока все офицеры разглядывали лейтенанта Барра, Сид добавила: – Этот «Альянс», который поддерживают Япончиков, Зуев и другие русские боевики из «Организации», действует с размахом, напоминающим наркобизнес колумбийцев двадцать лет назад – тщательная подготовка, огромные прибыли и крайне жестокие меры. – Так чего вы от нас хотите? – снова спросил Фернандес. – За вами – правительство штата, не говоря уже о ФБР и НБСП. Чем можем помочь мы, рядовые полицейские? – Связь, – ответила Сид. – Посредничество. Доступ в лаборатории судебной медицинской экспертизы и помощь ваших экспертов, если для получения немедленных результатов нам потребуется обратиться в местные отделения полиции. И координация, чтобы мы не работали друг против друга… и не перестреляли друг друга. Фернандес достал пачку сигарет из нагрудного кармана рубашки и вынул сигарету. Тут его взгляд наткнулся на плакат «Не курить», висевший над дверью. Он вздохнул и сунул в зубы незажженную сигарету. – Ладно, так что у вас за план? – Я собираюсь снова работать под прикрытием, – сказал Том Сантана. – Я придумаю легенду. Скажу, что я нелегал, проникну в один из медицинских центров и на месте проверю, чем занимается эта «Помощь беспомощным». – Это точно хорошая идея, Том? – вырвалось у Дарвина. – После того как ты проник в банду несколько лет назад, а пресса потом так тебя засветила… Сантана улыбнулся. – Я уже предупреждал его, доктор Минор, – сказал начальник Тома, Боб Гаусс. – Но Том считает, что у бандитов короткая память. А поскольку он является командиром СГРМ, то я не могу приказать ему оставить эту затею. Дарвин начал было говорить, но осекся и посмотрел на Сид. Она смотрела на Тома Сантану и казалась обеспокоенной, но тут же встряхнулась и подвела итог заседания: – Том проникнет в организацию «Помощь беспомощным». Мы попытаемся напасть на след русских боевиков, которые хотели убить доктора Минора. Доктор Минор и агентство Стюартов проведут расследование и постараются доказать, что эти несчастные случаи были подстроены и на самом деле являются предумышленными убийствами. Их отчеты, наблюдения и данные экспертизы будут переданы присяжным и НБСП. В углу, на подставке с колесиками, стоял телевизор и видеомагнитофон. Сидни включила их, взяв в руки пульт дистанционного управления. Но звук убрала. На экране появилась запись последней программы Далласа Трейса на Си-эн-эн «Протест принимается». – Иногда Трейс снимает свою программу в Нью-Йорке, – сказала Сидни Олсон, – но обычно он вещает из своего офиса в Лос-Анджелесе, так удобней. Я хочу, чтобы до конца этого года наши ребята прошли перед телекамерами и арестовали этусволочь… в прямом эфире. Я хочу, чтобы его шоу закончилось тем, как Трейса выводят из кабинета в наручниках. Она включила проектор. И на белом экране появились лица погибших детей Гомеса. А рядом, в телевизоре, беззвучно хохотал Даллас Трейс.После заседания Дарвин хотел поговорить с Сид, но у нее было запланировано совещание с Паульсен и Уорреном. Поэтому Дар, вместе с Лоуренсом и Труди, вышел в старый парк, раскинувшийся у здания суда. Лоуренсу еще предстояло давать показания на слушании дела об очередном страховом мошенничестве, которое должно было начаться через несколько минут, а Труди собиралась возвращаться в Эскондидо. Перед тем как расстаться с друзьями, Дар спросил: – Ребята, вы уверены, что хотите состоять в этой спецгруппе? – А мы уже состоим в ней, – ответил Лоуренс. – Мы все равно занимаемся расследованием по делам Ричарда Кодайка и Эспозито. Почему бы не заняться остальными? – К тому же НБСП уже выдала нам аванс, – добавила Труди. – И меня удивляет, что ты, Дар, передумал, – заметил Лоуренс. – Тебе же не раз приходилось видеть трупы детей после несчастных случаев. – Без счета, – огрызнулся Дарвин. – Но это был не несчастный случай. И я не могу все бросить и заниматься своим делом, зная, что за этим кроется самое настоящее убийство. – Я говорила с Томом Саттоном, – сказала Труди. – Сегодня вечером мы возьмем показания у водителя трейлера, хотя из него уже вытрясли все, что можно. В инциденте участвовали три машины, но водитель не успел заметить ни номеров, ни внешности других шоферов. Он пытался избежать столкновения с машиной Гомесов. – Три машины? – спросил Дар. Обычно в инсценированных столкновениях бывают замешаны не более двух автомобилей. – Да, – кивнула Труди. – Две из них блокировали проезд трейлеру, а третья затормозила перед машиной Гомесов. Водитель трейлера запомнил только, что это были автомобили американского производства. Ему показалось, что справа был «шеви» с белым водителем. И все машины выглядели изрядно потрепанными. – Наверняка их уже где-нибудь бросили или пустили под пресс, – предположил Дарвин. – Но если за рулем сидел белый парень, то это скорее всего был русский, а не бандит-мексиканец. – Мы позвоним тебе, – пообещал Лоуренс. И они разошлись.
Дарвина ждали дела, но он остался в старом здании суда и принялся бродить по коридорам, размышляя, не посмотреть ли очередную мыльную оперу. Сидни освободится не раньше 10.00. И тут он заметил Дюбуа. Адвокат агентства Стюартов явно направлялся к нему, Дару. Он опирался на трость, но шагал быстро и уверенно. – Доброе утро, сэр. – Доброе утро, доктор Минор, – кивнул Дюбуа. – Я как раз вас искал. Нам нужно поговорить, желательно с глазу на глаз. Адвокат провел Дарвина в пустую приемную и запер дверь. Дюбуа уселся в дальнем конце стола, после чего последовала небольшая церемония – он прислонил трость к стулу, положил на стол портфель, а сверху водрузил шляпу. Дарвин присел на стул, стоявший слева от чернокожего юриста. – У меня какие-то проблемы с законом? – спросил Дар. – Ну, не считая того, что Говнюк до сих пор мечтает упечь вас за решетку за преднамеренное убийство, никаких, – ответил В.Д.Д. Дюбуа. – Но вам угрожает опасность, мой друг. Дар молча ждал продолжения. – Прежде чем вы присоединитесь к спецгруппе следователя Олсон, – сказал Дюбуа, – я хотел бы дать вам консультацию, Дарвин. Не как адвокат, а как ваш друг. Так вот, это очень опасное дело. Очень опасное. Дарвин постарался, чтобы на его лице не отразилось удивление. Заседание закончилось минут двадцать назад… Неужели слухи разносятся так быстро? А лейтенант Барр еще стращал всех и каждого по поводу утечки информации! Вслух же Дарвин заметил: – Эти ублюдки дважды пытались меня убить. Что еще они могут предпринять? – Довести дело до конца, – парировал адвокат. Обычно его грубоватые черты лица светились весельем или, на худой конец, едкой иронией. Но сегодня на его лице застыло горькое и удрученное выражение. – Вам что-то известно об этом «Альянсе», что может помочь следствию? – поинтересовался Дар. Дюбуа медленно покачал головой. – Не забывайте, Дарвин, я ведь работник суда. Если бы я знал что-то наверняка, я немедленно известил бы об этом ФБР или мисс Олсон. Это сплетни, слухи… ничего больше. Но это пугающие и отвратительные слухи. – И о чем же болтают? Дюбуа бросил на Дарвина тревожный взгляд. – Говорят, что все очень и очень серьезно и новые главари банды – настоящие убийцы. Говорят, что возвращаются времена колумбийских наркодельцов. Говорят, что наступает новая эра в страховом мошенничестве и мелких жуликов просто вытеснят из дела. Похоже на новую сеть магазинов «Уол-Март», открывшихся в наших краях. Мелким лавочкам при них делать нечего. – Прихлопнут, как адвоката Эспозито? – переспросил Дар. Дюбуа только развел руками. – Старые правила больше не действуют, – сказал он. – По крайней мере, именно это я слышал на улице. – Еще одна причина все-таки прищучить этих подонков, – заметил Дарвин. Дюбуа вздохнул, взял трость и портфель, нахлобучил на лоб мягкую фетровую шляпу и похлопал Дара по плечу. – Будьте осторожны, Дарвин. Очень осторожны.
Дар вернулся к кабинету Сидни Олсон как раз вовремя – совещание подходило к концу. – О! – воскликнул спецагент ФБР. – А мы как раз собирались вас искать. Дарвин подозрительно нахмурился, услышав такое приветствие. – Мы поговорили с капитаном Фернандесом, – сказала Сидни. – Он жаловался, что полиция Сан-Диего только и занимается тем, что следит за вашей безопасностью сутки напролет, а нас, напротив, не устраивает качество их охраны. Дарвин ждал, когда она дойдет до сути. – Поэтому бюро решило взять на себя обязанность вас охранять, – мягко, но решительно сказал спец-агент Уоррен. – Десяток агентов будут следить за вами двадцать четыре часа в сутки, таким образом охрана будет более профессиональной и более эффективной. – Нет, – отрезал Дар. Сидни, Жанетт Паульсен и Джим Уоррен непонимающе уставились на него. – Я буду работать в вашей спецгруппе при единственном условии, – сказал Дарвин, обращаясь к Сид, – что вы снимете с меня этот круглосуточный надзор. И отзовете своих телохранителей. Договорились? – Вы не упоминали прежде, что будете ставить свои условия, – заметила Сид. – А теперь ставлю. Одно-единственное. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Уоррен покачал головой. – Доктор Минор, вы должны довериться нам. У нас есть опыт по защите свидетелей и… – Нет, – оборвал его Дарвин. – Я не шучу. Раз уж я работаю вместе с вами, мне необходима такая же степень свободы, как и вам. Кроме того, мы все знаем, что никакие телохранители не смогут защитить жертву от талантливого снайпера или того, кто жизнь готов положить ради этого убийства. Наступило молчание. Наконец Сид сказала: – Нам придется согласиться на ваш… ультиматум, Дарвин. Но лишь потому, что ваше объяснение разумно. Кто же это… Кажется, президент Кеннеди сказал: «Если двадцатый век чему-то нас и научил, так это тому, что можно убить кого угодно». – Не Кеннеди… – начал Джим Уоррен. – Майкл Корлеоне… – продолжил Дар. – В «Крестном отце два», – закончил агент ФБР. – Господи, вы смотрите «Крестного отца», – поморщилась Жанетт Паульсен. – Как там в фильме… забыла название… с Мег Райан и Томом Хенксом… Вы думаете, что все на свете можно объяснить цитатами из трех серий «Крестного отца». – Только из двух, – откликнулся Дарвин. – Третий – уже ерунда, – кивнул Уоррен. – Я его даже не считаю, – согласился Дарвин. – А я делаю вид, что его вообще и не было, – сказал Уоррен. – Вы закончили? – строго спросила Сидни. – Или хотите привести еще какой-нибудь диалог из «Крестного отца», подходящий к случаю? Дарвин взъерошил свою короткую стрижку, чтобы придать ей хотя бы видимость пышности, и произнес хрипловатым голосом Аль-Пачино: – Как раз когда я собираюсь выйти из дела, они загоняют меня обратно. – Эй! – возмутилась Паульсен. – Так не честно! Это из третьего фильма. – Ну, эта цитата – исключение, – снисходительно оправдал Дарвина Уоррен. – Пока, мальчики, – махнула рукой Сидни. – Ты слышал? – вскинулся Дар. – Они, значит, могут называть нас мальчиками, а назови мы их девочками, могли бы нарваться на судебное преследование. – Я давно уже поставил себе за правило, – вздохнул Уоррен, – никогда не называть женщину с пистолетом на поясе девочкой. Он посмотрел на часы. – Не хотите перекусить, доктор Минор? Я слышал, здесь неподалеку неплохое местечко, где подают хорошее жаркое, совсем как в «Канзас-Сити». – Есть, – согласился Дар, – с удовольствием присоединюсь к вам. Он махнул на прощание рукой двум женщинам, которые застыли у стены в укоризненных позах учительниц начальных классов – скрестив руки на груди. – Э-гей, – пропел спецагент Уоррен хорошо поставленным красивым голосом, удачно подражая толстяку Клеменца. – Оставь пистолет, принеси-ка канноли.[23]
ГЛАВА 16 Р – РАБОЧИЙ ДЕНЬ
К тому времени как Дарвин и агент Уоррен пообедали, деловой центр Сан-Диего начал пустеть, все служащие скопом ринулись за город, по домам. Еще сидя за столом, Уоррен сказал: – Бюро сделает все возможное, чтобы помочь вам, доктор Минор. – Мне нужны все сведения, касающиеся Павла Зуева и Юрия Япончикова, – поспешил воспользоваться его обещанием Дар. – Собранные не только ФБР, но и ЦРУ, Агентством национальной безопасности, Интерполом, Моссадом – короче, все, что есть. – Едва ли я добьюсь разрешения показать вам даже часть досье из ФБР, – неуверенно начал Уоррен. – И почему вы решили, что у нас есть доступ к израильской базе данных? Дарвин одарил его в ответ невозмутимым взглядом. – И для чего все эти сведения гражданскому лицу? – продолжил агент ФБР. – Потому что это гражданское лицо дважды пытались прихлопнуть эти русские джентльмены, – мягко сказал Дарвин. – И эти сведения помогут выжить этому вышеозначенному гражданскому лицу. Уоррен скривился так, словно глотнул уксуса, но потом кивнул: – Хорошо, я постараюсь добыть для вас эти документы. Но обещать ничего не могу. – Договорились, – сказал Дарвин. – Может, вам нужно что-нибудь еще? – улыбнулся Уоррен. – Вертолет, например… или связь со спутниками-шпионами? – Пойдет, – кивнул Дар. – Но вот что действительно необходимо – это «Мак-Миллан» М1987-Р. Спецагент добродушно засмеялся, но тут же оборвал смех, когда понял, что Дарвин и не думал шутить. – Это невозможно. – Возможно, но сложно. – По закону гражданское лицо не может владеть таким оружием, – отрезал Уоррен. – А я и не собираюсь им владеть, – терпеливо пояснил Дар. – Просто возьму на время, а потом верну. До самого окончания обеда Уоррен пораженно качал головой. – Я попробую достать вам документы, но что касается «Мак-Миллана»… – Или чего-то в этом роде, – подсказал Дар. – Без вариантов. Ни в каком роде. Дарвин пожал плечами. Он дал спецагенту свою визитку со всеми телефонными номерами, факсом и электронным адресом и даже написал на обороте номер телефона в хижине, который не открывал прежде никому, кроме Ларри и Труди. – Сообщите мне, пожалуйста, как только раздобудете документы, – попросил он. И позволил Уоррену оплатить счет.Отъезжая от закусочной, Дарвин позвонил Труди: – Что там слышно по делу Эспозито? – Благодаря тебе и патологоанатому его записали как предполагаемое убийство, – ответила она. – Я говорила с архитектором, который тогда беседовал с этим… как его, Варгасом. И он просто жаждет свидетельствовать в суде, что во время несчастного случая, читай – убийства, они были целиком заняты чертежами. – Получается, что в это время кто угодно мог удержать Эспозито на месте, прямо под подъемником, и открыть гидравлический кран. И остаться незамеченным. Занятно. – И полиция Лос-Анджелеса, и детективы Сан-Диего сбились с ног в поисках Пола Уотчела… у которого, предположительно, была на это время назначена встреча с Эспозито. – Ясно, – вздохнул Дарвин. – Надеюсь, полиция доберется до него прежде, чем он пополнит собой список жертв этой серии убийств. – Разве ты не считаешь, что Эспозито мог убить именно Уотчел? – Да что ты, – фыркнул Дарвин. Его машина угодила в пробку. Дар откинулся на спинку кресла и бросил взгляд в зеркало заднего вида. От самого Дворца правосудия за ним следовал какой-то автомобиль. Дарвин было встревожился, но тут же узнал «Таурус» Сидни. Приглядевшись, он различил ее лицо в облаке русых волос. И подумал, что работу главного следователя она, может, выполняет хорошо, а вот агент внешней охраны из нее никудышный. – Я знаю Пола, – сказал Дарвин в трубку. – Он мелкий вымогатель… ему подать на кого-нибудь в суд – как мне высморкаться. Никакой он не боевик. Так, мелкая сошка. – Ну, тебе виднее, – ответила Труди. – Я потом перезвоню. Ты будешь на связи? – Позже, – сказал Дар. – Сейчас я хочу пройтись по магазинам.
Дарвин прогулялся по магазинам с удовольствием и пользой для себя, чего нельзя было сказать про Сидни, которая следовала за ним по пятам. Он заехал в магазин «Сирс и Робак» и приобрел недорогую, но надежную швейную машинку. Заскочил на склад армейских товаров, где торговали снаряжением для охотников, и купил три поношенных камуфляжных костюма и широкополую шляпу. Еще отыскал противомоскитную сетку, которая прикрывала бы его голову и плечи. «От мошки, которая водится на Аляске, она, конечно, не поможет, – признал продавец, одноглазый ветеран вьетнамской войны, – но зато не пропустит этих поганых мух». Под конец Дарвину пришлось порыскать по магазинам, прежде чем он нашел подходящую сетку с крупными ячейками, а потом парусину и мешковину нужных цветов. После чего он попросил разрезать парусину на кусочки неправильной формы. Четверо помощников продавца полчаса щелкали ножницами, превращая ткань в гору лоскутков и обрезков. Продавщица посмотрела на Дарвина как на сумасшедшего, но деньги взяла и вопросов задавать не стала. Нагруженный огромными пакетами с купленными тканями, Дарвин остановился у своей машины и подождал, пока Сидни подойдет к нему. – Сдаюсь, – признала она. – Я ума не приложу, за каким чертом тебе понадобились все эти дурацкие покупки. – Еще бы, – кивнул Дар. – Ты скажешь, в чем дело? – Конечно, – откликнулся Дарвин, открывая багажник и запихивая туда пакеты. – Я сделаю костюм Гилли. – Что? – переспросила Сид. – Увидите, госпожа следователь. Вы собираетесь следить за мной и дальше? Сидни закусила нижнюю губу. – Дар, я знаю, что тебе это не нравится, но я ведь отвечаю за твою безопасность… – Наплюй, – тихо промолвил он. – Нас с тобой ждет работа. И мы ничего не сможем сделать, если ты будешь ходить за мной хвостом. Сидни замялась. Дарвин взял ее за руку. – Давай не будем друг другу мешать, – попросил он. – Я буду в безопасности, если вы поскорее посадите за решетку Далласа Трейса и русских боевиков. Вот давай этим и займемся. Сидни кивнула и спросила: – Ответишь на один мой вопрос? – Конечно, если ты обещаешь ответить на мой. – Согласна. Где ты собираешься ночевать сегодня… и на эти выходные? – Я поеду в хижину, – ответил Дарвин, – но на ночь там не останусь. Поздно вечером вернусь на квартиру. А что касается выходных… В субботу я собираюсь пойти в поход с ночевкой, до самого понедельника. – В поход? – недоверчиво переспросила Сидни. – Ну, в некотором роде, – подтвердил он. – Позвонишь мне, когда… будешь в походе? – Нет, – ответил Дар. – Но я обещаю вам, госпожа следователь, что буду находиться в таком месте, где ни Даллас Трейс, ни его свора меня никогда не найдут. – Свора, – хмыкнула Сидни. – Хорошо. Я больше не буду ходить за тобой хвостом. Пока. – Теперь моя очередь, – заметил Дарвин и огляделся по сторонам. Рядом никого не было. Стоял теплый летний вечер. – К чему было устраивать это утреннее совещание? – спросил он. – Что ты имеешь в виду? – Не притворяйся, ты прекрасно все понимаешь, – спокойно возразил Дарвин и, облокотившись о дверцу «Лендкруизера», выжидающе посмотрел на Сид. – У нас обнаружилась утечка информации, – ответила она. – Мы уверены, что Даллас Трейс и прочие из «Альянса» узнают о наших планах еще до того, как мы начинаем действовать. – Кто-то из присяжных? – предположил Дарвин. – Нет, – покачала головой Сидни. – Кто-то из группы расследования или тех, кто прекрасно осведомлен о наших делах. Потому я устроила это совещание, а еще мы посадили «жучки» на некоторые телефоны. – Фернандес или Саттон? – задумчиво промолвил Дарвин. – В противном случае под подозрением мы с Лоуренсом и Труди, и наши телефоны тоже с «жучками». – Нет, – возразила Сидни. – Это началось задолго до того, как ты и Стюарты включились в расследование. – А линия спецагента Уоррена тоже прослушивается? – Это бюро устанавливает «жучки», идиот, – поморщилась Сид. – Как всегда, – усмехнулся он и добавил уже серьезным голосом: – Поверить не могу, что твой друг Сантана отправляется в логово бандитов, а вы сообщаете это тем, кто может передать эти сведения «Альянсу». – Мой друг Сантана, – нахмурилась Сидни, делая ударение на слове «друг», – знает, что делает. Мы все уже обговорили. Все не так-то просто. Официально считается, что он внедряется в организацию один, но на самом деле его будут прикрывать трое агентов. – Из отдела по борьбе со страховым мошенничеством? – Из ФБР, – поправила Сидни. – Наше расследование переведено в разряд первостепенных. Том знает, что делает, и, конечно, мы постараемся прикрыть ему спину. Кстати, у тебя странно меняется голос, когда ты говоришь о Сантане. Почему? Дарвин ничего не ответил.
На Восьмой магистрали машины ползли медленно и плотно, Сан-Диего выплескивал уставших служащих и рабочих за город, отдохнуть в выходные на природе. Дарвин проверил, закрыты ли окна, включил кондиционер и поставил компакт-диск с берлинской записью Бернстайна «Оды к радости» из Девятой симфонии. На шоссе номер 97 оказалось посвободней, а когда он свернул на дорогу между штатами, за ним никто не последовал. «Тауруса» Сидни Олсон нигде не было видно, и, судя по всему, за Дарвином больше никто не следил. Когда он подъехал к хижине, легкие сумерки сгустились, стало прохладнее. Дар проверил, на месте ли маленький листочек над дверью – хитрость, к которой он всегда прибегал, чтобы узнать, не наведывался ли кто в дом за время отсутствия хозяина. Он вошел в хижину и запер за собой дверь. Никто бы не подумал, глядя на домик снаружи, что у него есть подвал, – не было ни подвальных окон, ни отдельного входа. Но подвал имелся. Дарвин отвернул край красного персидского ковра у кровати, нащупал и откинул небольшую плитку в деревянном полу и ключом отпер замок на крышке люка. Когда крышка поднималась, свет в подвале включался автоматически. Дарвин спустился вниз по крутой лестнице и невольно поежился от холода, который царил в этом узком коридорчике. Внизу не было ничего, кроме стальной двери в противоположном конце коридора. Дверь отпиралась двумя ключами, и со вторым Дарвин возился гораздо дольше, чем с первым. Помещение, которое открылось за дверью, по размерам было в три раза меньше верхней, жилой комнаты. Но Дарвину хватало и этого. Ему пришлось нажимать выключатель, чтобы зажечь свет, зато освещение было устроено так, что в подвале не осталось ни одного темного уголка. Аккуратными рядами стояли ящики и коробки, а стены увешаны полками. Здесь поддерживалась постоянная температура и стояли влагопоглотители. Стены из шлакоблоков были обшиты асбестом и тонкими алюминиевыми листами. Собственно, это помещение являлось гигантским сейфом, защищающим от пожара, торнадо или удаленного ядерного взрыва. Дарвин улыбнулся, припомнив, во сколько ему обошлось это редко посещаемое хранилище. В дальней стене виднелась решетка, закрытая на висячий замок. За решеткой начиналась вентиляционная шахта. Она тянулась сто двадцать два фута и выходила в ствол золотой шахты, заброшенной более века назад. Шахта же, через двести восемь футов, выводила к довольно глубокому оврагу. Вход в шахту находился примерно в ста футах от пастушьего фургона. Эта вентиляционная шахта – с решетками на обоих концах – стоила Дарвину почти столько же, сколько постройка всего этого дома. Он пошел по узкому проходу между ящиками. Первым делом заглянул в свою «дорожную сумку» – черный чемодан, который во время работы в НУБД держал упакованным и наготове – на случай неожиданных дальних поездок. Затем, как всегда, сам того не замечая, провел рукой по зеленому ящику, где были сложены одежда Барбары, их семейные фотографии и вещи маленького Дэвида. И, как всегда, не стал открывать его. В углу стоял обычный сейф. Дарвин быстро набрал код. Он понимал, что глупо в качестве кода использовать дату рождения сына. Но того, кто сумеет добраться сюда, уже не остановит обычный банковский сейф. Отделение сейфа было глубоким и просторным, перегороженным несколькими металлическими полками. На полочках лежали документы, дискеты и фотографии. Но Дарвин достал длинный футляр орехового дерева с ручкой. Внутри, на подкладке зеленого войлока, лежала разобранная и завернутая в пластик снайперская винтовка «М-40» – армейский вариант классической спортивной винтовки «Ремингтон-700». Дарвин погладил деревянный приклад оружия, затем достал из гнезда оптический прицел «редфилд». Посмотрев через него, он вернул прицел на место. Защелкивая замочки на футляре, Дар услышал громкий стук во входную дверь. Дар вышел из подвала, прихватив с собой футляр, запер стальную дверь и поднялся по лестнице. Кто-то изо всех сил барабанил в дверь хижины. Он закрыл люк и вернул ковер на место. Потом прикинул, не стоит ли собрать винтовку при такой яростной осаде, но сперва выглянул в окно. Вздохнув, Дарвин спрятал футляр с оружием под нижнюю книжную полку и пошел открывать. – Ты живой? – воскликнула Сидни. В правой руке она сжимала свой «ЗИГ-зауэр». Костяшки левой руки, которой она, видимо, и колотила в дверь, были в крови. – А что со мной могло случиться? – спросил Дарвин, пропуская ее в дом. – Почему ты не открыл мне сразу? – Я был в ванной. – Неправда, – возмутилась Сид. – Я обошла дом и заглянула в то окошко. Тебя нигде не было. Дарвин знал, что из окон нельзя увидеть вход в подвал, даже если крышка люка будет распахнута. – Два часа назад ты сказала, что не будешь следить за мной, – напомнил он. – А теперь ты заглядываешь в окна моей ванной! Сид вспыхнула. Краска залила ее лицо и шею, пока она засовывала пистолет в кобуру и застегивала пуговицы на пиджаке. – Я вовсе не следила за тобой. Я пыталась дозвониться на твой сотовый, но он был отключен. Я попробовала позвонить на номер твоей хижины, но ты не отвечал. – Да я всего несколько минут здесь, – удивился Дарвин. – Что стряслось? Что-то произошло? Сидни обвела взглядом комнату. – Можно мне стакан виски? – Мы же за рулем, – заметил Дар. – И мне еще возвращаться домой. Я скоро поеду обратно. – Я узнала, что такое костюм Гилли, – задыхаясь, как от быстрого бега, промолвила Сид. – И я узнала про Далат.
ГЛАВА 17 С – СНАЙПЕРЫ
«Я никогда не рассказывал Барбаре про Далат, – думал Дарвин, разливая напитки и занимаясь приготовлением спагетти. – Я ни о чем ей не рассказывал, хотя мы были так близки. Ни ей, ни Ларри. Никому». «Все изменилось, – возразил он сам себе. – Недавно тебя пытался убить русский снайпер. Ладно». В полной тишине они с Сид чокнулись бокалами, выпили. А потом Дар, обуреваемый невеселыми мыслями, принялся готовить еду.Далат был – и есть – вьетнамский город у подножия горы Ланг-Бианг, расположенный в пятидесяти милях от побережья. В 1962 году президент Кеннеди и правительство Соединенных Штатов, чтобы поддержать главу южновьетнамского правительства – Дарвин запамятовал его имя – предоставили стране плутоний и другие радиоактивные материалы и помогли запустить ядерный реактор в Далате. Первым направлением в области использования ядерной энергии этого реактора было производство радиоизотопов и развитие национальной сети отделений ядерной медицины. Но что самое главное, он стал символом дружбы и сотрудничества Южного Вьетнама и США. До марта 1975 года. Никсон и Киссинджер приняли решение о выводе войск из Вьетнама – шестьсот тысяч американских солдат, морских пехотинцев и летчиков должны были в сжатые сроки покинуть страну. Вьетконг и регулярные части северовьетнамской армии спешили занять опустевшие американские базы, укрепления и вьетнамские города. За десять дней Сайгон был под завязку набит военными, и дела в американском посольстве, где в охране оставалось всего несколько морских пехотинцев, шли, выражаясь по-солдатски, через задницу. Огромная армада, стоявшая у берегов Вьетнама, готовилась вывезти последних дипломатов, работников посольства и охрану. В разгар этой неразберихи – поспешного уничтожения документов, вывоза семей и договоров с вьетнамскими «помощниками», которые стремились унести ноги вместе с американцами, – в посольство заявились двое техников и робко напомнили, что далатский реактор продолжает работать и произвел очередную порцию плутония. Посол и военный советник отвлеклись на минуту от царящего вокруг бардака, наскоро посовещались и приказали вьетнамским техникам возвращаться в Далат и заглушить реактор. И, кроме того, привезти материалы для ядерного реактора, особенно плутоний, в Сайгон, чтобы его захватила с собой отплывающая армада. Техники признались, что они бы и не против, но напомнили, если генерал и посол об этом подзабыли, что Далат сейчас занят войсками Вьетконга и СВА, к тому же все автомобильные и железные дороги к Сайгону контролируются врагами, а крошечный аэропорт в Далате давно захвачен солдатами северовьетнамской армии. Весь персонал, обслуживавший реактор, разбежался, и в настоящее время там никого нет, а реактор работает сам по себе. Техники рассказали, что из города их вывез на маленьком самолете брат одного из них, который, по счастливой случайности, был капитаном южновьетнамских военно-воздушных сил. Он сел в поле у Национального шоссе, а сам полетел в Таиланд. Техники сказали, что они бы с радостью вернулись в Далат, чтобы помочь дорогим американским друзьям. Но загвоздка в том, что они состояли в персонале низшего обслуживающего эшелона и понятия не имеют, как остановить реактор. К тому же они, рискуя жизнью, прорвались в Сайгон, чтобы передать это важное известие, и, вероятно, уже заслужили себе место на отплывающем корабле и право на новую жизнь в Штатах. – У нас здесь есть ядерщики? – спросил посол. – Хоть кто-нибудь, кто знает, как отключить реактор и как обращаться с плутонием? Оказалось, были такие. На борту авианосца, стоявшего у пристани, находились двое членов американской Комиссии по ядерной энергии и МАГАТЭ – Уолли Хендерсон и Джон Халлоран. Оба – гражданские лица, вежливые и интеллигентные академики, которые слыхом не слыхивали о Далате и понятия не имели, что в Южном Вьетнаме есть ядерный реактор. Они оказались у берегов Вьетнама потому, что на некоторых кораблях армады было ядерное оружие, на других – атомные двигатели и кто-то из министерства обороны предусмотрительно постановил, чтобы в такой сложной ситуации под рукой всегда были специалисты-ядерщики, которые разбираются и в том, и в другом. На всякий случай. Уолли Хендерсона и Джона Халлорана тут же привезли на вертолете в разворошенный муравейник под названием Сайгон, объяснили ситуацию и отправили в Далат в сопровождении двенадцати морских пехотинцев. Инструкции, выданные и ученым и пехотинцам, были просты и незамысловаты: отключить реактор, не дать ему взорваться – ну или что там делают реакторы, попав в лапы врагов, – захватить с собой побольше радиоизотопов и по меньшей мере восемьдесят граммов плутония и вернуться в Сайгон. Если аэропорт окажется захвачен врагами, пройти пешком пятьдесят миль через джунгли и вызвать помощь по радио. И любой ценой сохранить плутоний. Из двенадцати морских пехотинцев четверо были снайперами. И среди них – девятнадцатилетний Дар Минор, не по годам образованный студент колледжа с научной степенью по физике, о чем военное и посольское начальство не знало или просто не обратило внимания, когда Дарвина направляло в Далат. Древний пассажирский «DC-3», на котором их доставили в Далат, сильно потерял в летных качествах из-за того, что его на скорую руку переоборудовали для перевозки радиоактивных веществ – разместив в грузовом отсеке тяжеленный ящик со свинцовыми стенками. Когда неуклюжий «DC-3» приземлился в Далате, восемь морских пехотинцев под командованием офицера – лейтенанта – остались охранять аэродром от наступающих с севера вьетнамцев, а Дар и трое остальных отправились вместе с Уолли и Джоном к реактору. Это было ровно в семь ноль-ноль, и утренний туман уже развеялся. Вокруг реактора не было ни души. Охранники из элитарных армейских подразделений разбежались кто куда, и ворота у главного входа были открыты настежь. Но враги еще не подошли. Молодому Дару Минору это сооружение чем-то напомнило Форт-Нокс из какого-то из фильмов про Джеймса Бонда, который он видел в восьмилетнем возрасте. Массивное, надежно укрепленное здание с толстыми бетонными стенами и сводом, возведенное на невысоком холме. Вокруг далатского реактора примерно на полтора километра с каждой стороны тянулись ровные, открытые склоны холма, поросшие травой. По периметру реактор был обнесен ограждением из колючей проволоки в три ряда с промежутками по сто метров. Морским пехотинцам хватило ума позакрывать все ворота в ограждениях, когда они вместе с двумя учеными подъехали на джипе к главному зданию – тому, где находился реактор. С трех сторон реактор окружали непроходимые джунгли, а с четвертой стороны была открытая местность, по которой проходила дорога на Далат. С возвышения, на котором располагался реактор, эта дорога простреливалась на расстояние до полутора километров. Для снайпера – даже такого неопытного снайпера, как девятнадцатилетний Дар Минор, – это была оптимальная зона прицельной стрельбы. Хотя Дар еще ни разу не побывал в настоящем бою, он тем не менее был назначен старшим в своей снайперской паре. Формально снайперы вошли в состав подразделений морской пехоты только с шестьдесят восьмого года, когда дивизионное начальство осознало их важную роль в ведении военных действий. С тех пор при штабе каждого полка, а также при штабе каждого разведывательного батальона обязательно должно было быть подразделение снайперов. Формально оно состояло из трех групп по пять снайперских пар в каждой, в него входили также командиры для каждой группы, один старший сержант, один оружейник и один офицер – в целом получалось тридцать пять человек под командованием одного офицера. В разведывательных батальонах снайперское подразделение состояло только из тридцати снайперов и одного офицера. Но это – формально. На самом же деле снайперы морской пехоты во время войны во Вьетнаме, в Корее и в обеих мировых войнах действовали отдельными командами по два человека. Оба снайпера в команде были меткими стрелками, но старший в паре обычно стрелял, а второй номер исполнял обязанности наблюдателя. Во время миссии в Далате Дар был старшим в паре, и потому у него была модифицированная спортивная винтовка «Ремингтон-700» калибра 7.62 миллиметра, переименованная в «М-40». А у второго номера была просто хорошо пристрелянная «М-14». В начале вьетнамской войны наблюдатели в снайперских парах были вооружены обычными «М-16» – для большей скорострельности. Но морские пехотинцы на тяжелом личном опыте выяснили, что «М-16» не хватает необходимой дальности прицельной стрельбы, поэтому вместо «М-16» наблюдателей вооружили более дальнобойными «М-14». На это задание две снайперские команды взяли в буквальном смысле больше оружия, чем могли унести. Дар решил, что раз уж война заканчивается и Соединенные Штаты и так бросают во Вьетнаме кучу оружия и оборудования на десятки миллиардов долларов, то почему бы не прихватить на это задание чуть больше оружия, чем полагается? Во второй джип они загрузили четыре запасные снайперские винтовки «М-40», две запасные «М-14», по одному сменному стволу к «М-40» для каждой снайперской команды и несколько ящиков с патронами. У каждого из четырех снайперов были собственный бинокль и личная рация для переговоров на небольших расстояниях. Кроме того, на две команды была одна большая рация «PRC-45» – для того, чтобы при необходимости можно было вызвать артиллерию или авиацию. В довесок к обычному биноклю у обоих корректировщиков было по двадцатикратному телескопу – такими обычно пользуются армейские разведчики. На втором джипе ехало и два тяжелых ПНВ – прибора ночного видения, – а еще четыре более легких и не настолько мощных ПНВ «AN/PVS2 Старлайт» были установлены на запасных «М-14». Один большой ПНВ был смонтирован на треноге, а второй – на гордости их снайперского арсенала, пулемете «Браунинг М-2» калибра 0.50, специально модифицированного для снайперских подразделений, с возможностью ведения прицельного огня одиночными выстрелами. В комплекте к пулемету «М-2» прилагался мощный телескопический прицел для использования в светлое время суток. Наблюдателем у Дарвина был двадцатидвухлетний чернокожий парень из Алабамы по имени Нед. Нед стрелял даже лучше, чем Дар, – хотя и не намного лучше, – но, по большому счету, Дарвин все-таки у него выигрывал. Ведь у Дара за плечами было двести пять часов инструктажа на снайперских курсах, шестьдесят два часа практических занятий по стрельбе, пятьдесят три часа полевых тренировок и восемьдесят пять часов тактических упражнений в поле. Самым главным в двух снайперских командах был сержант Карлос, довольно пожилой мужчина – ему было целых тридцать два года – и единственный из четырех морских пехотинцев, кто уже побывал в настоящем бою. Наблюдателем у Карлоса был девятнадцатилетний парень по имени Чак из Пало-Альто. Они припарковали джипы внутри просторного пустого строения во дворе, чтобы машины не были заметны снаружи. Морские пехотинцы ненадолго заглянули в жутковатый, обезлюдевший центр управления реактором – двое ученых-ядерщика сразу принялись за работу, – а потом поднялись на парапеты и заступили на дежурство, которое должно было продолжаться сорок восемь часов. Сержант Карлос порадовался, обнаружив над главным зданием с реактором две наблюдательные площадки с обзором на все триста шестьдесят градусов. Эти площадки представляли собой нечто вроде галереи с бетонными бортиками, одна – на уровне четвертого этажа, а вторая – под самым куполом, на высоте шестидесяти футов от земли. Бортики галерей были зубчатые – примерно через каждые двадцать шагов четырехфутовая бетонная стенка поднималась на добавочные три фута. По мнению сержанта Карлоса, такая зубчатая стена была очень удобна в качестве укрепленного укрытия. Чтобы укрепить ее еще больше, четверо морских пехотинцев подняли наверх более восьми десятков мешков с песком, которые они обнаружили внизу, на покинутых постах охраны. Получились очень удобные и прекрасно защищенные позиции для стрельбы. Бетонные стены массивного семиэтажного здания, в котором находился реактор, были двенадцати футов толщиной. Стены парапета достигали в толщину четырех футов. Хотя возле главного здания с реактором и стояло несколько невысоких, одноэтажных строений, парапеты были расположены достаточно высоко, и с них открывался прекрасный обзор во всех направлениях. Вся местность вокруг простреливалась без помех. На оба уровня галереи и в комнату управления реактором можно было попасть только по внутренним переходам и лестницам. Окон в здании не было. – Вот дерьмо-о-о… – сказал сержант Карлос, когда изнурительная работа по перетаскиванию наверх мешков с песком была окончена. – Будь у Дэйва Крокетта, Джима Боуи, полковника Тревиса и остальных парней такое укрепление и такое оружие, как у нас, вместо дерьмовой старой Аламо, мои предки-мексиканцы ни за что бы не перебили их и не захватили бы этот чертову крепость.[24] Уолли и Джону понадобилось сорок два часа на то, чтобы отключить реактор, найти и погрузить разнообразные изотопы и разыскать контейнер, который, судя по маркировке, содержал восемьдесят граммов плутония. А враги подошли к далатскому реактору через три часа после морских пехотинцев. Через час после того, как Дарвин вместе с остальными приехал к реактору, с ними связался по рации лейтенант Хейл, который оставался прикрывать аэродром. Восемь морских пехотинцев – тоже прекрасно вооруженных – вступили в бой с противником, которым оказался батальон мотопехоты. Через полчаса на связь вышел радист группы лейтенанта Хейла и сообщил, что четверо из восьми морских пехотинцев уже погибли, в том числе и лейтенант Хейл, а оставшиеся четверо пытаются сдержать натиск противника, на этот раз – механизированной роты регулярных войск Северного Вьетнама. «DC-3» улетел, оставив их здесь. Люди лейтенанта Хейла запрашивали прикрытие, но вертолеты не могут подойти к аэродрому из-за массивного противовоздушного огня из окружающих аэродром джунглей. В течение следующего часа Дар и остальные трое морских пехотинцев сидели на галереях реактора и прислушивались к отдаленным звукам перестрелки. Со стороны аэродрома доносилось характерное буханье «М-16» и «М-60» и еще более характерный стрекот автоматов Калашникова – «АК-47», грохот разрывов фугасных снарядов и выстрелы башенных орудий танков. Сержант Карлос сказал, что, хотя он уже третий раз во Вьетнаме, выстрелы вражеских танков слышит впервые. А потом стрельба прекратилась. Тишина ужасно действовала Дарвину на нервы, и он даже обрадовался, когда на дороге из Далата показались первые вьетконговцы – на трофейных джипах, нескольких легких бронетранспортерах и грузовиках. – Смотрите и учитесь, – сказал сержант Карлос. Пулемет «М-2» со специальным прицелом «юнертл» был установлен на широкой бетонной стене, между кипами мешков с песком. Чак и Нед корректировали наводку при помощи телескопов с двадцатикратным увеличением, а сержант Карлос открыл огонь по колонне вьетконговцев с расстояния двух тысяч двухсот ярдов – то есть больше мили. Первая пуля попала в голову водителю джипа. Голова вьетконговца лопнула, как гнилой помидор, во все стороны полетели красные брызги. Вторая пуля – разрывная – попала в топливный бак джипа. Машина взорвалась. Силой взрыва джип подбросило в воздух футов на пятнадцать. Третьим выстрелом Карлос пробил легкую броню транспортера, который ехал следом за джипом. Вероятно, он убил водителя, потому что потерявший управление бронетранспортер круто свернул вправо и зарылся носом в глубокую ирригационную канаву. Четвертым выстрелом сержант пробил моторный блок третьей машины в колонне – тяжелый грузовик с прицепом. Машина встала как вкопанная, а за ней остановилась и вся колонна. Солдаты повыпрыгивали из грузовиков и попрятались в джунглях по обе стороны от дороги. Сержант Карлос продолжал не спеша постреливать, а трое молодых парней наблюдали за происходящим через корректировочные телескопы. Каждый раз, когда Карлос стрелял, один из вьетконговцев падал мертвым. Потом все грузовики опустели – вьетнамские солдаты попрятались в джунглях и двинулись через заросли к зданию реактора. Они наверняка вызвали по радио подкрепления. Напоследок сержант Карлос взорвал еще три грузовика разрывными пулями. Над догорающими машинами бушевало пламя, в небо поднимались столбы черного дыма. – Запомните – когда враги убивают твоих товарищей с расстояния больше мили, боевой дух в войсках сильно падает, – сказал сержант Карлос. Он дал пулемету остыть и велел команде Дара отправляться на нижнюю галерею, а сам начал готовить к бою свою снайперскую «М-40» – для «ближнего боя» на расстоянии восьмисот ярдов и меньше. Дар слышал, что военные истории в воспоминаниях и при пересказе всегда разрастаются, становятся масштабнее и значительнее. Он никому еще не рассказывал о тех сорока восьми часах, которые провел в Далате. И воспоминания о них были настолько же тяжелы и неизменны, как и камень на его душе. Вьетконговские разведчики начали стрелять в ответ из джунглей примерно через двадцать минут после того, как сержант Карлос остановил колонну их грузовиков. Карлос и Дар стреляли из «М-40» и убивали любого вьетконговца, который выходил из-под прикрытия тенистых джунглей или выдавал свое местоположение вспышками выстрелов. В целом на позиции морских пехотинцев было довольно тихо. Пули из «АК-47» попадали в низкие вспомогательные строения вокруг главного здания или в гравийную насыпь под ним да изредка щербили бетонную стену самого главного здания с реактором. Дарвин слышал только неспешные, размеренные выстрелы «М-40» да тихий шепот своего наблюдателя Неда: – Попал… Попал… Упал, но еще двигается… Убил… Попал… Рано утром около сотни вьетконговцев выбежали из укрытия и попытались взять реакторный комплекс штурмом. Дар и Карлос сначала перестреляли вьетнамских снайперов, которые по мере сил прикрывали пехоту, – вьетконговцы стреляли из маломощных и не слишком метких винтовок «К-44». Покончив с вражескими снайперами – это еще одна привилегия первого номера в паре, – Дар и сержант Карлос перестреляли всех саперов, которые тащили взрывчатку, чтобы подорвать изгороди. Когда все саперы были уничтожены, Дар и Карлос начали высматривать офицеров и командиров северовьетнамской армии – любых, каких только могли различить. Они убивали любого вьетнамца в зеленой форме, который отдавал приказы другим солдатам или носил пистолет вместо обычного автомата Калашникова. Когда поредевшая цепочка наступающих подошла на расстояние восьмисот ярдов – они были все еще в двух сотнях ярдов от самой наружной изгороди, – Нед и Чак открыли частый огонь. Линия наступающих сломалась.Вьетконговцы побежали обратно, в джунгли. Добежать удалось очень немногим. Несколько минут спустя показались части регулярной армии Северного Вьетнама. Посмотрев на них в телескопический прицел, Дар изумился. Он никогда раньше не видел русские танки «Т-55», и его никогда не учили, как такой танк подбить. Два передних танка, судя по всему, намеревались проехать прямо по дороге, смять ворота заграждения и ворваться на территорию реакторного комплекса. Стомиллиметровые башенные орудия танков не стреляли. Четверо морских пехотинцев поняли, что коммунисты не собираются обстреливать их из пушек и гранатометов. Очевидно, кто-то из высшего командования северовьетнамской армии принял решение захватить далатский реактор целым, не нанося повреждений главному зданию. Дар понимал, что это было глупое решение, потому что артиллерийский огонь легко выбил бы четверых морских пехотинцев с позиции и не причинил бы существенного вреда реактору. Артиллерийские снаряды могли разве что слегка выщербить массивные бетонные стены здания с реактором. Уолли и Джон, которые работали в центре управления реактором, сообщали по рации, что даже не слышат выстрелов. К счастью для морских пехотинцев, командование армии Северного Вьетнама знало о реакторе, похоже, даже меньше, чем посол Соединенных Штатов. Когда первый танк приблизился на расстояние тысячи ярдов, сержант Карлос начал стрелять по его приборам наблюдения разрывными пулями. – Вы что, шутите? Разве можно подбить танк из снайперской винтовки? – заорал Нед, перекрикивая грохот выстрелов. – Там стоит пуленепробиваемое стекло, – сказал сержант Карлос. – Но оно тоже раскалывается и трескается. Трудно вести танк, если ни черта не видишь, что у тебя снаружи. Карлос расстрелял восемь разрывных патронов, но в конце концов танк остановился. Минуту спустя экипаж выбрался из танка. Танкисты побежали к джунглям, надеясь укрыться в зарослях. Дар и сержант Карлос всех их перебили. На второй танк потребовалось двенадцать разрывных патронов. В конце концов и он тоже вдруг резко свернул вправо и остановился. Экипаж оставался внутри до самой темноты. Когда танкисты наконец решились выбраться из подбитой машины и побежали под защиту деревьев – это было около полуночи, – Дар застрелил троих, поскольку к ночи сменил обычный телескопический прицел на портативный ПНВ. Третий танк развернулся и потарахтел обратно в джунгли, но перед тем, как отступить, танкисты один раз выстрелили из башенного орудия – судя по всему, чтобы хоть как-то дать выход досаде и злости. Снаряд проделал трехфутовую дыру во внешнем ограждении и разорвался на травянистом склоне холма. Водитель танка допустил ошибку – вместо того чтобы сдать в джунгли задом, он ради выигрыша в скорости развернул танк, подставив под удар слабо защищенную заднюю часть машины. Сержант Карлос не преминул воспользоваться этим, и очередной разрывной пулей пробил запасной бак с горючим на правом борту. Когда танк скрылся в джунглях, его задняя часть была охвачена пламенем и сзади тянулся шлейф дыма. До захода солнца вражеская пехота еще дважды попыталась захватить реакторный комплекс, обойдя с флангов. Морским пехотинцам пришлось перемещаться с одной площадки на другую и обратно, от укрытия к укрытию и стрелять во всех направлениях. На бетонном полу обеих галерей повсюду были разбросаны стреляные гильзы, и приходилось все время двигаться осторожно, чтобы на них не поскользнуться. Во время последней атаки, перед самым заходом солнца, вьетконговцы сумели добраться до внешней линии ограждения и подорвали ее. Десятка три прорвались в зону между наружной и средней линиями ограждения. – Ребята, которые охраняли реактор раньше, заминировали полосу отчуждения? – с надежной в голосе спросил Чак. – Нет, – сказал сержант Карлос. – Это, наверное, единственное на весь Южный Вьетнам место, где этих гребаных мин нет. Тридцать вьетнамских пехотинцев радостно проорали какой-то воинственный клич, водрузили возле пролома в ограждении флаг Северного Вьетнама и побежали ко второму ряду изгороди. Четверо морских пехотинцев их всех перестреляли. Было уже за полночь, когда вьетконговцы и солдаты регулярной армии Северного Вьетнама начали подбираться ползком к наружному ограждению. На снайперских курсах Дарвину рассказывали, что появление нового поколения приборов ночного видения во вьетнамской войне равнозначно появлению прицела для бомбометания во время Второй мировой войны – это было последнее слово инженерной науки, строго засекреченное технологическое новшество. И если в первые годы вьетнамского военного конфликта ходила поговорка «Ночью хозяева – чарли»,[25] то теперь настоящими хозяевами ночи стали морские пехотинцы. Дарвин только улыбался, двадцать пять лет спустя встречая в разных каталогах типа «Товары – почтой» приборы ночного видения, которые стоили всего шесть сотен долларов. Бесценное чудо техники, за которое можно отдать жизнь, только бы оно не попало в руки врагов, через четверть века значилось в каталоге под номером № NP14328 и стало доступно любому желающему – прибор ночного видения доставят вам на дом на следующий день после оплаты. Несколько лет назад Дарвин и в самом деле заказал себе бинокль ночного видения – прибор оказался намного лучше по качеству, чем его старый «старлайт» времен вьетнамской войны. Да и цена была вполне приемлемой. Нед выслеживал врагов на расстоянии полутора тысяч ярдов через большой ПНВ, установленный на треноге, и корректировал Дара и Чака, которые стреляли из «М-14» с прицелами «старлайт», когда вьетконговцы подползали на восемьсот ярдов и ближе. Сержант Карлос стрелял из пулемета «М-2», на котором был установлен второй мощный ПНВ. Карлос убивал вражеских солдат на расстоянии полутора тысяч ярдов, как только они выползали из-под прикрытия зарослей. В эту долгую ночь небо оставалось чистым – что необычно для Вьетнама в такое время года. Луны не было, но звезды светили необычайно ярко. На второй день, вскоре после рассвета, из джунглей со стороны Далата появились двенадцать танков, и целеустремленно направились к далатскому реакторному комплексу. Следом за танками наступала пехота. Снайперы северовьетнамской армии прикрывали наступление, стреляя из-за деревьев. – Вот уж не думал, что у этих говнюков наберется такая прорва танков во всей их сраной армии, – заметил сержант Карлос, подчеркивая особо ласковые слова плевками табачной жижи. В глубине бетонного здания Уолли и Джон работали не покладая рук. Каждый спал не больше часа. Отдыхали они по очереди – когда один спал, второй собирал и упаковывал для транспортировки радиоактивные материалы. Морские пехотинцы за эти сутки не спали ни минуты. Сержант Карлос смотрел, как танки приближаются к внешнему ограждению. Перед рассветом сержант был очень занят, разговаривал с командованием по рации «PRC-45», которую солдаты между собой называли «Перец-45». Как раз когда первые танки приближались к наружному ограждению, на высоте двести футов с ревом пронеслись пять «Фантомов» и сбросили на наступающих вьетнамцев фугасные бомбы. Дар с изумлением, притупленным усталостью, смотрел, как башня переднего «Т-55» от взрыва взлетела в воздух на три сотни футов – выше «Фантомов», – а из-под башни торчали дергающиеся ноги танкиста. Несколько танков все же уцелели после бомбежки с воздуха и, смешав ряды, развернулись и поехали сквозь огонь и дым обратно в спасительные джунгли, давя на ходу свою собственную пехоту. Через тридцать секунд после «Фантомов» прилетели три самолета морской авиации – это были «A4D Скайхоукс» с авианосца военно-морского флота США «Китти Хоук». Они сбросили напалм с трех сторон от реакторного комплекса. Из-за огня и дыма Дар и остальные снайперы не смогли перестрелять удирающих вьетконговцев, уцелевших после бомбежки, но таких было очень немного. Следующие двадцать четыре часа сохранились в памяти Дарвина менее ясно, но он знал, что никогда их не забудет. Со временем что-то произошло, и объяснить это физическими законами не представляется возможным. Время искривилось, невообразимо растянулось – Дарвину казалось, что почти до бесконечности, – и при этом словно собиралось в складки, одни события накладывались на другие и существовали одновременно, хотя их должны были разделять многие часы и минуты. Дарвин как будто провалился сквозь временной горизонт в одну из черных дыр, которые он впоследствии будет изучать во время работы над докторской диссертацией. Утром второго дня четверо морских пехотинцев отбили еще несколько атак вьетнамской пехоты. Во время одной из этих атак поддержка с воздуха запоздала на полчаса, и несколько сотен солдат северовьетнамской армии прорвались ко внутреннему кругу ограждения. Это были не тощие вьетконговцы в черных пижамах, а настоящие солдаты в камуфляжной форме, прекрасно вооруженные и обученные, – гордость армии Северного Вьетнама. В обычной ситуации четверо морских пехотинцев просто вызвали бы по рации артиллерийскую поддержку с какой-нибудь ближайшей базы. Но вся американская артиллерия уже была погружена на корабли и вывезена из Вьетнама, а артиллерия местной, южновьетнамской армии находилась слишком далеко от Далата. Единственное, что спасло их маленький Аламо, так это распоряжение командования северовьетнамской армии сохранить реактор целым и невредимым. Дар помнил – это было как раз в то утро второго дня, во время одной из бешеных атак вьетнамцев. Ствол его родной снайперской винтовки настолько разогрелся от частых выстрелов, что Дару пришлось на время отложить свою «М-40», чтобы остыла, и стрелять из запасной «М-14». Нед погиб от пули вьетнамского снайпера как раз перед окончанием самой страшной атаки, последней в то утро – или, может быть, сразу после нее. Дар не мог вспомнить наверняка, что было раньше, что – позже. Но он прекрасно помнил, кто погиб первым и кто – потом. Неда убили около полудня. Пуля попала в глаз, когда он корректировал стрельбу, глядя в двадцатикратный телескоп. Сержант Карлос получил две пули во время вечерней перестрелки. Пули попали в грудь и в горло, и Карлос умер, как раз когда солнце стало красным и скрылось за горой Ланг-Бианг. В Чака попало сразу несколько пуль, и он умер через несколько секунд после того, как они погрузились на борт «Си Сталлиона». Всю последнюю ночь Уолли и Джон все еще работали в недрах реактора, они демонтировали радиоактивные материалы с помощью «уолдо» – специальных дистанционных держателей. Этой ночью Чак и Дар обсудили между собой план «Б». План «Б» состоял в том, чтобы пройти пятьдесят миль до побережья пешком. Оба морских пехотинца понимали, что теперь сделать это уже невозможно. И дело было не только в том, что вокруг реакторного комплекса собралось по меньшей мере два батальона северовьетнамской мотопехоты, а в джунглях засело не меньше трех рот вьетконговских партизан. С этим морские пехотинцы еще смогли бы управиться. Но Нед и сержант Карлос погибли. Дар и Чак не смогли бы дойти до побережья, неся на себе тела двух погибших товарищей. А ведь еще пришлось бы помогать ученым тащить радиоактивные изотопы и плутоний в свинцовых контейнерах, которые весили не одну сотню фунтов. Морские пехотинцы не бросают погибших. Дар всегда считал этот обычай совершенно идиотским – рисковать жизнями солдат только ради того, чтобы спасти мертвые тела, – но он твердо знал, что не нарушит традицию и не оставит Карлоса и Неда врагам. Во время последней за этот долгий день атаки на вьетнамцев снова сбросили с воздуха напалм. Некоторые бомбы разорвались совсем рядом с реакторным комплексом. Одноэтажные служебные строения загорелись, вместе с ними сгорели и джипы. Огонь перекинулся даже на фундамент главного здания реакторного комплекса. Дар до конца своих дней не забудет запах поджаренной человеческой плоти, как и свой жгучий стыд оттого, что при этом запахе его рот наполнился слюной. Дарвин был страшно голоден. К тому времени он уже двадцать часов ничего не ел. Крики горящих вьетнамцев раздавались, казалось, всего в нескольких футах от позиции морских пехотинцев – хотя на самом деле до них было не меньше пятидесяти ярдов. Дарвин ясно помнил, как он съежился на бетонном полу галереи, прикрывая своим телом снайперскую винтовку, как мать защищает ребенка, а в это время вокруг здания с реактором на двести футов вверх взметнулось пламя и воздух стал слишком горячим, чтобы дышать. Всю следующую ночь Чак и Дар перебегали с одной позиции на другую, высматривали через ночные прицелы подбирающихся со всех сторон вьетнамских саперов и солдат и расстреливали их с максимального расстояния. – Настоящий Beau Geste,[26] – крикнул Дарвин Чаку во время очередного затишья между выстрелами. – Чего? – переспросил морской пехотинец с верхней галереи. – Да черт с ним! – крикнул в ответ Дар. На этот раз вьетнамцы пошли в атаку под прикрытием дымовой завесы – и это было умно, потому что даже через ночные прицелы за плотными клубами дыма ничего нельзя было разглядеть. Но в воздухе и без того было уже столько дыма, что вьетнамским снайперам тоже ничего не было видно, и они не могли прикрывать атакующих прицельным огнем. Обычно вьетнамцы не успевали подползти ближе чем на сто ярдов – либо Дар, либо Чак замечали фигуру в зеленом, движущуюся по склонам холма сквозь адские клубы дыма и пылающие белым огнем кляксы напалма – и тогда один из снайперов убивал вьетнамца единственным метким выстрелом. Если же оба морских пехотинца стреляли с одной и той же стороны здания, они, чтобы не тратить два патрона на одну цель, кричали друг другу, заметив врага: «Этот мой!» – совсем как детишки из бейсбольной команды Малой лиги. В два ноль-ноль второй ночи Уолли и Джон выбрались на галерею и сообщили, что все ценное уже упаковано в свинцовые контейнеры, можно загружать их в джипы и уезжать. Пока Дар объяснял, что планы несколько переменились, вьетнамцы непрерывно обстреливали реакторный комплекс. Тысячи пуль барабанили о бетонные стенки галереи. Мешки с песком были изрешечены пулями и изорваны в клочья. Пули ударяли в песок так часто, что казалось, будто это крупные капли дождя стучат по брезентовому тенту. Опаснее всего были рикошеты. Оба морских пехотинца были залиты кровью из множества ран от острых осколков бетона и срикошетивших пуль. Дар помнил, как Уолли протер свои очки – покрасневшие от усталости глаза ученого расширились при виде залитого кровью, израненного Дара – и спросил: – Здесь что, стреляли и тогда, когда мы работали? Рация «PRC-45» вышла из строя вскоре после того, как Уолли и Джон закончили работу, но Дар успел вызвать две группы поддержки с воздуха на четыре часа утра. Новый план отхода заключался в следующем: к далатскому реактору прибудут два маленьких вертолета и заберут двоих морских пехотинцев, два трупа, двух ученых и полтонны свинцовых контейнеров с радиоактивными веществами. Операция пройдет под прикрытием массированного налета авиации – пространство вокруг реакторного комплекса забросают напалмом. А потом боевые вертолеты «Хью» обстреляют прилегающий к реакторному комплексу участок джунглей ракетами. Но флотские засомневались, что легкие вертолеты смогут поднять такой груз. Кроме того, сажать бок о бок при таком сильном задымлении и под массивным обстрелом два вертолета значило бы играть со смертью. В конце концов флотские пообещали освободить для спасательной миссии большой вертолет «Си Сталлион», который сейчас занят переброской из Сайгона на морские транспорты важных вьетнамских политиков с их семьями и пожитками. В четыре ноль-ноль не было ни налета авиации, ни ракетного обстрела с «Хью», ни спасательного вертолета… Дар понял, что после восхода солнца ни о какой эвакуации по воздуху не может быть и речи, потому что вьетнамцы подтянули к далатскому реактору мощные противовоздушные орудия и стрелков с ручными гранатометами. В пять сорок Дар, еле держась на ногах от усталости, отложил «М-14» с ночным прицелом и снова взял свою снайперскую «М-40» с редфилдовским прицелом, рассчитанным на светлое время суток. Дар помнил, как протирал забрызганные кровью линзы прицела, хотя чья это была кровь, он не знал. Когда над далатским реактором во второй раз «вышла из мрака младая, с перстами пурпурными Эос» – эта строка из Гомера эхом отдавалась в сознании Дара, – он впервые почувствовал, что засыпает на ходу. Он почувствовал, что поддается нахлынувшему страху и жажде крови, почувствовал, что теряет самообладание, которое старался выработать в себе в течение всей своей короткой жизни. Шесть «Фантомов» F-4 прилетели в шесть сорок пять утра. Они разбросали вокруг столько напалма, что у Дара обгорели брови и почти все волосы. Не успел затихнуть оглушительный рев улетевших «Фантомов», как в бой вступили «Хью». Они расстреливали ракетами и поливали из пулеметов джунгли по всем четырем направлениям от реакторного комплекса. Из джунглей в небо взвились ракеты, выпущенные из ручных гранатометов. Ракеты оставляли за собой дымовые хвосты, словно фейерверки на День независимости. Но «Хью» скользили очень низко, всего в паре метров от земли и поваленных танками изгородей. Они пролетели насквозь стену огня и начали обстреливать джунгли из пулеметов, приняв на себя массированный огонь легкого оружия вьетнамцев, но не рисковали набирать высоту, чтобы не попасть под ракетный удар. А потом прилетел «Си Сталлион» и закрутил винтами дым в сложные спирали, загипнотизировавшие измотанного до полного отупения Дарвина Минора. Дар даже забыл, что нужно куда-то идти, – его зачаровали причудливые спирали и завихрения дыма, расходящиеся от мощных лопастей вертолетных винтов. Много лет спустя Дарвин исследовал фрактальные вариации этого феномена, применив к ним математическую теорию хаоса. Но из событий, происходивших в шесть сорок пять утра второго дня в Далате, Дарвин запомнил только, как Чак оттаскивал его с галереи, как он нес тело сержанта Карлоса в ожидающий вертолет, а Чак в это время нес обмякшее тело Неда, а потом вернулся обратно на галерею, чтобы помочь ученым погрузить в вертолет свинцовые контейнеры с изотопами и прочие трофеи. Самым главным трофеем был свинцовый контейнер, в котором содержалось восемьдесят граммов бесценного плутония, – точно так же, как случайный камень с поверхности Луны, который астронавты с «Аполлона» подобрали сразу после высадки из лунного модуля, несколько лет назад. Чак поднял этот контейнер и понес в вертолет, а Дар тем временем загружал последний ящик с радиактивными отходами. У Дарвина перед глазами до сих пор ясно стояла эта картина – в спину Чаку впивается сразу полтора десятка пуль. Дым немного развеялся, и вьетнамские снайперы начали стрелять из-за внутреннего круга поваленного ограждения. Дар замер на месте. Уолли и Джон уже забрались внутрь вертолета, а Дар все еще был снаружи, меньше чем в сотне ярдов от двух или трех десятков вьетнамских стрелков, которые только что разнесли Чака на окровавленные клочья. И хотя течение времени в то мгновение снова искривилось, Дар понимал, что все равно не успеет схватить винтовку или добежать до укрытия. Он уже видел, как стволы «АК-47» поворачиваются в его сторону. Все происходило словно в замедленном кино. А потом над головой у Дара пролетел вертолет «Хью» – тоже очень, очень медленно – и расстрелял вьетнамцев из пулемета. В абсолютной тишине – Дарвин не слышал ни единого звука – пустые гильзы из пулемета отлетали и падали, падали сотнями, тысячами, падали вниз, ослепительно сверкая в лучах восходящего солнца. Солнечный свет, отражавшийся от тысяч падающих стреляных гильз, создавал невиданное по красоте зрелище. Внезапно всех вьетнамских снайперов разом накрыло облаком пыли и отбросило вниз и назад, как будто их походя смела невидимая десница божия. Дар взвалил тело Чака на плечо, подхватил бесценный контейнер с плутонием и побежал к вертолету. В этот день Дар из всего полета к ожидающему кораблю запомнил только одно – последний взгляд на далатский реактор, окутанный клубами дыма. Все шестиэтажное здание было покрыто выбоинами от пуль. На бетонной стене снизу доверху негде было приложить ладонь так, чтобы не прикрыть один или два выщербленных пулями кратера. Мешков с песком больше не было – их изорвало пулями в клочья. Дар совсем не запомнил, как вертолет садился на корабль-авианосец. Он смутно помнил только о небольшом недоразумении, которое случилось, когда его принесли в переполненный госпиталь. Корабельный хирург спросил: – Насколько тяжело вы ранены? – Я не ранен, – сказал Дар. – Это просто ссадины от рикошетов и порезы от осколков бетона. С него сняли ботинки, срезали изорванные, пропитанные кровью рубашку и брюки и обмыли губкой залитое кровью тело. – Извини, сынок, – сказал пожилой хирург. – Дело плохо. В тебе сидят по меньшей мере три пули. Дар не особенно встревожился, даже когда ему начали давать наркоз. Он на себе отнес в вертолет сержанта Карлоса, а потом Чака. Он не может быть слишком уж сильно ранен. Скорее всего пули из «АК-47» потеряли большую часть кинетической энергии при ударе о бетонную стену или пролетели сквозь полупустой мешок с песком и только потом, уже на излете, попали в него. Дар даже не помнил, когда его ранило. Дар пришел в себя через четыре дня после операции, и узнал, что огромный авианосец настолько переполнен беженцами, что самолеты и вертолеты – в том числе и «Си Сталлион», который их спас, – пришлось столкнуть с палубы в море, чтобы освободить место для посадки других вертолетов, привозивших важных шишек из Сайгона. Дар снова заснул. Когда он проснулся в следующий раз, Сайгон уже перешел в руки коммунистов, которые сразу же переименовали город в Хошимин. Последние дипломаты и сотрудники ЦРУ собрались на крыше американского посольства – их забирали оттуда маленькие быстрые вертолеты, – а тем временем заградительный отряд морской пехоты сдерживал натиск тысяч обезумевших вьетнамских союзников. Потом морских пехотинцев тоже эвакуировали на вертолетах, под массированным огнем противника. Авианосец отправился домой, в Соединенные Штаты. Важные южновьетнамские политики заняли каюты экипажа, а сотням выселенных с законных мест моряков и морских пехотинцев приходилось спать прямо на палубе. Измученные, обессилевшие люди ютились под уцелевшими вертолетами, стараясь укрыться от дождя. А дождь теперь лил непрерывно, и днем и ночью.
Дарвин согласился рассказать Сидни о Далате, но предложил сперва пообедать. – Хорошие были макароны, – заметила Сид, доедая свою порцию спагетти. Дарвин кивнул. – А теперь расскажешь мне про Далат? – спросила она, держа в руках чашку с кофе. – Мне известны только голые факты. – Рассказывать особо и нечего, – ответил Дарвин. – Я пробыл там всего сорок восемь часов. Тогда, в семьдесят пятом. Но в девяносто седьмом я снова там побывал, в шестидневном туристическом туре, который начинался в Хошимине, а заканчивался в Далате. Американцев отговаривают от поездок по Вьетнаму, но это и не запрещено. Вылетаешь из Бангкока. Билет на самолет вьетнамской аэролинии стоит двести семьдесят долларов. Если хочешь лететь с большими удобствами, покупаешь билет на тайваньский траспорт, за триста двадцать долларов. В Далате можно остановиться в клоповнике под гордым названием отель «Далат», или в блошином рассаднике по имени «Минх-Там», или в шикарной, по представлениям вьетнамцев, курортной гостинице «Анх-Доа». Я останавливался в «Анх-Доа». Там даже был бассейн. – А я думала, что ты не любишь летать на самолетах в качестве пассажира, – заметила Сидни. – За редким исключением. В любом случае это была чудесная поездка. Туристический автобус выезжает из Хошимина по Двадцатому национальному шоссе, мимо Баолока, Ди-Линга и Дук-Тронга. Вокруг расстилаются зеленые плантации, преимущественно чайные и кофейные. Затем автобус поднимается на южную оконечность плато Ланг-Бианг и въезжает в город Далат. Сид молча слушала. – Далат знаменит своими озерами, – продолжал Дарвин. – Они называются Хуанг-Хуонг, Тха-Тхо, Да-Тхиен, Ван-Киеп, Ме-Линх… красивые названия и прекрасные озера, если не обращать внимания на некоторую загрязненность промышленными отходами. Сид продолжала хранить молчание. – Есть и джунгли, – тем временем рассказывал Дарвин, – но рядом с городом растут в основном хвойные леса. Даже леса и долины имеют волшебные названия – Ай-Ан, что значит Страстный лес, и Тинх-Еу, что переводится как долина Любви. Сидни отставила чашку. – Спасибо за увлекательную экскурсию, Дар, но мне глубоко плевать, как выглядел Далат в 1997 году. Расскажи, что случилось тогда, в семьдесят пятом? Эти сведения до сих пор засекречены, но я знаю, что ты вернулся из Далата с «Серебряной звездой» и «Пурпурным сердцем». – Тогда выдавали побрякушки всем, кто присутствовал на финале пьесы, – сказал Дар, отхлебывая свой кофе. – Эти типично для стран и армий, проигравших войну, они начинают раздавать медали направо и налево. Сид терпеливо ждала ответа. – Ну, хорошо, – сдался он. – Честно говоря, материалы далатской миссии до сих пор считаются засекреченными, хотя это уже давно не тайна. В январе 1997 года какая-то газетка под названием «Три-Сити геральд» опубликовала статью про эти события, которую перепечатали и разместили на последних страницах некоторые другие газеты. Сам я их не видел, но мне рассказал об этом служащий в туристическом агентстве, когда я пришел покупать путевку. Сидни взяла чашку с кофе и сделала глоток. – Рассказывать особо не о чем, – повторил Дарвин хрипловатым голосом и подумал, что, пожалуй, слегка простудился. – Во время большого исхода из Сайгона вьетнамцы напомнили, что мы когда-то помогли им построить реактор в Далате. Там оставались некоторые материалы для ядерного реактора, в том числе восемьдесят грамм плутония. Нашим не хотелось отдавать их в руки коммунистов за здорово живешь. Поэтому они направили туда героических ученых, Уолли и Джона, чтобы они забрали радиоактивные материалы, прежде чем до них доберутся ВК и СВА. И ученым это удалось. – Ты, как снайпер морской пехоты, был с ними, – уточнила Сид. – А потом? – Да вот, собственно, и все. Уолли с Джоном сами проделали всю работу – извлекли и упаковали необходимые материалы, – ответил Дарвин и даже нашел в себе силы улыбнуться. – Они смогли заглушить реактор и найти контейнеры для переноски радиоактивных материалов. Дольше всего они возились с подъемником. Мы взяли эти контейнеры и улетели. – Но там было сражение или нет? – не унималась Сидни. Дарвин встал, чтобы налить себе еще кофе, и обнаружил, что в кофеварке пусто. Сев на место, он с минуту помолчал, а потом сказал: – Ясное дело. На войне так и бывает. Даже на такой идиотской, как в семьдесят пятом. – И ты, в гневе, стрелял из своей винтовки? – подсказала Сидни с вопросительной интонацией в голосе. – Да нет, – ответил Дар. – Я стрелял, но без гнева. Это правда. А злился разве что на тех уродов, которые забыли про этот реактор. – Доктор Дар Минор, – вздохнула Сид, – девятнадцатилетний снайпер… Так не похоже на человека, которого я знаю… насколько я его знаю. Дар молча слушал. – Может, ты хотя бы расскажешь, почему пошел в морскую пехоту? – спросила Сид. – И стал снайпером? – Хорошо, – ответил Дарвин. Его сердце забилось чаще, когда он понял, что действительно хочет рассказать ей, как все было на самом деле. И расскажет. В любом случае в решении стать морским пехотинцем и снайпером было куда больше личного, чем в его действиях в Далате. Он посмотрел на часы. – Вообще-то уже поздно, госпожа следователь. Может, отложим мои откровения на следующий раз? У меня еще куча дел на сегодня. Сид закусила губу и огляделась. Перед тем как зажечь свет в доме, она задернула шторы и закрыла ставни, и теперь в комнате царил мрак, озаряемый одной-единственной настольной лампой. На мгновение Дарвину пришла в голову невероятная мысль, что сейчас Сид предложит заночевать здесь, вдвоем. Его сердце заколотилось еще сильнее. – Ладно, – наконец сказала она. – Я помогу тебе вымыть посуду, и поедем. Но обещай, что расскажешь, почему решил записаться в морскую пехоту. Идет? – Обещаю, – услышал Дарвин собственный голос. Они вышли в ночь и направились к машинам, и тогда Дар сказал: – Тот случай в Далате имел забавное продолжение, поэтому, как мне кажется, все материалы и засекретили. Рассказать? – Конечно. – Помнишь, я сказал, что цель этой миссии состояла в том, чтобы вывезти бесценные восемьдесят грамм плутония? – Да. Дар включил зажигание правой рукой, в левой он держал футляр с оружием. – Так вот, Уолли с Джоном нашли контейнер с надписью «плутоний», который мы и увезли. Мудрое начальство отправило его под охраной на склад в ядерном комплексе в Ханфорде, штат Айдахо, где уже хранились тысячи таких контейнеров. – Ну? – Вот и «ну»… В семьдесят девятом, через четыре года после всех событий, кому-то наконец пришло в голову заглянуть под крышку. Он помолчал, а Сидни не торопила его. Ночной воздух был напоен ароматом хвои. – Там оказался никакой не плутоний, – наконец сказал Дарвин. – Мы попали в эту переделку из-за восьмидесяти грамм полония. – А в чем разница? – не поняла Сид. – Плутоний используется для создания атомных и водородных бомб. А полоний не годится для этого. – Как же они… Уолли, Джон и прочие… Как они могли так ошибиться? – Уолли с Джоном ни при чем, – ответил Дар. – Кто-то из техников этого реактора прилепил на контейнер не ту этикетку. – А что случилось с плутонием? – В той самой «Три-Сити геральд» от 19 января 1997 года появилась еще одна статья, – ответил он. – Глава Социалистической Республики Вьетнам сообщил, что, я цитирую, «оставленный американцами плутоний используется по назначению в Центре ядерных исследований в Далате». Дарвин улыбнулся, но Сидни продолжала мрачно молчать. Наконец она спросила: – Значит, реактор не остановился, он продолжал работать? – Русские специалисты помогли Северному Вьетнаму запустить реактор через месяц после окончания войны.
ГЛАВА 18 Т – ТРЕЙС
Дар Минор, безжалостный снайпер морской пехоты, провел остаток пятницы и всю субботу за шитьем и разглядыванием журналов «Аркитекчерал дайджест». Несколько лет назад Лоуренс, копаясь в его книжных полках, наткнулся на стопки старых журналов по дизайну помещений и удивился: – А это кто сюда притащил? Дар сделал ошибку, когда попытался объяснить, для чего ему понадобилось хранить дома эти журналы; что мир без людей, который смотрит со страниц, такой статичный, такой совершенный, такой… правильный… Здесь поэзия навеки застывшего совершенства сочетается с прозой жизни, когда какая-нибудь пара, гомосексуальная или обычная, поселяется в безвременной, безмятежной и упорядоченной вселенной. Ничто, кажется, не нарушает вечной гармонии их жилища, все подушки аккуратно взбиты, все предметы обстановки всегда на своем месте. А на самом деле очередной номер «Аркитекчерал дайджест» выходит в свет всего за три месяца до того, как продюсер и кинозвезда, идеальный дом которых красуется на всех иллюстрациях, объявляют о разводе. Дарвина забавляла ирония ситуации – разница между совершенным дизайном великолепных интерьеров и хаосом настоящей жизни. К тому же эти журналы – подходящее чтиво перед сном или в ванной. – Ты псих, – сделал вывод Лоуренс.Дарвин листал журналы двухлетней давности в поисках одной статьи. Особняк Далласа Трейса, который стоил шесть миллионов, вознесся на месте старых домов у перекрестка Малхолланд-Драйв и Вэлли-Сайд. Прежние дома, как узнал Дар, хотя в журнале об этом не было и строчки, были сравнительно скромными коттеджами (каждый – около миллиона долларов) в стиле 60-х годов. Адвокат Трейс выкупил три из них, снес постройки бульдозером и нанял одного из знаменитых архитекторов-эмигрантов, который выстроил ему шикарное постмодернистское… нечто из бетона, ржавого железа и стекла. Особняк стоял на вершине холма и возвышался над всеми окрестными домами и строениями. Дарвин дважды перечитал статью, внимательно изучил три страницы с фотографиями и запомнил, какое окно смотрит из какой комнаты. К статье прилагался небольшой снимок тонко усмехающегося советника Трейса, который сидел в своем неудобном с виду барселонском кресле. «Юридическая звезда мировой величины» – гласила подпись. Его невеста Иможена, двадцатитрехлетняя «мисс Бразилия» с пышным бюстом (занявшая в том году второе место на конкурсе «Мисс Вселенная»), пристроилась рядом с супругом на еще более неудобном с виду железном подлокотнике. Даллас Трейс заставил ее официально сменить имя на Дестини,[27] поскольку судьба ее была такая – выйти замуж за знаменитого адвоката. У Дара этот дом вызывал неприязнь и даже отвращение. Его тошнило от всех этих постмодернистских приемов: ведущих в никуда стен, узких кинжальных карнизов, претенциозных потолков высотой в сорок футов, промышленных материалов, утыканных болтами, крюками и гайками, проржавевших металлических «кулис», которые не поднимались и были ни к чему не пригодны, и узких ручейков-бассейнов, которые легко можно было перешагнуть. Зато Дарвина порадовали строчки о замысле архитектора, который решил «…отказаться от таких мещанских предметов благоустройства, как шторы и ставни, чтобы высокие прекрасные окна, выходящие на простор лощины и сходящиеся во многих местах под острыми углами, помогали стирать грань между „снаружи“ и „внутри“ и впускали великолепные пейзажи в каждую светлую и просторную комнату». Дар сверился с путеводителем и рельефными картами и выяснил, что «великолепные пейзажи» находились на единственном участке, уцелевшем от бульдозеров. Он остался нетронутым по двум причинам: во-первых, там раскопали индейское захоронение, а во-вторых, за его спасение неустанно боролись самые упрямые соседи, в том числе актер Леонард Нимой и писатель-фантаст Харлан Эллисон.
Пошить костюм Гилли не так-то просто. Дарвину пришлось взять камуфляжную форму – рубашку и штаны – большого размера, сделать из сетки выкройку по ее форме, укрепить переднюю часть костюма плотным полотном – тоже раскрашенным под камуфляж – и пришить куски брезента на локти и колени. Затем Дар достал из тюков кучу нарезанных из мешковины и дерюги лоскутов и кусочков неправильной формы и «украсил» ими свой костюм. Семь часов кропотливого труда ушло на то, чтобы пришить проклятые клочки к каждой ячейке сети, а потом нашить получившееся безобразие на костюм. На передней части наряда лоскутов было не слишком много, зато на задней – на спине и на ногах – гораздо больше. В положении лежа эти лоскуты будут свисать до земли и делать фигуру притаившегося человека практически незаметной. Купленную накануне шляпу с широкими полями Дар тоже обшил кусочками мешковины и пристрочил к ней противомоскитную сетку, которую носят жители Аляски, спасаясь от комаров и мошки. Готовясь к службе во Вьетнаме, Дарвин никогда не надевал и не шил костюма Гилли. Морские пехотинцы прятались в джунглях и сражались в своей зеленой или камуфляжной форме, часто используя для маскировки зеленые ветки и траву, или же прикрывали камуфляжем так называемые поясные окопы, в которых поджидали врага. Костюм Гилли был слишком жарким и неуклюжим для сражения в джунглях. Но в середине семидесятых, в лагере «Пендлтон», неподалеку от Сан-Диего, Дар узнал историю костюма Гилли. Гилли называли шотландских егерей, которые примерно в 1800 году изобрели этот маскировочный наряд, чтобы незаметно подкрадываться к дичи или браконьерам. Немецкие снайперы во время Первой мировой войны отказались от предписанных им громоздких и неудобных шинелей с капюшоном и разработали современный вариант костюма Гилли, чтобы тайно перебираться через нейтральную полосу. Вскоре они открыли преимущества капюшона из камуфляжного материала, который скрывал лицо и оставлял открытыми только глаза. Еще снайперы узнали, что человеческий глаз мгновенно схватывает и необычное движение – например, перемещение куста с места на место – и промельк белого лица. Блеск ружейного ствола тоже привлекает внимание солдата или вражеского снайпера, причем очень быстро. Так и вышло, что старинные костюмы Гилли вырвались в этом столетии на первое место среди маскировочного снаряжения, пройдя долгий путь естественного отбора. В настоящее время в снайперских школах, таких, как Королевская морская академия в Лимпстоне, графство Девоншир, или Школа снайперов морской пехоты в Куантико, штат Виргиния, или лагерь «Пендлтон», часто устраивают показательный выход. Когда к ним на полевые занятия приезжают офицеры из других служб, им читают лекцию о пользе камуфляжа в снайперском искусстве. В конце лекции рядом с пораженными офицерами поднимаются от пяти до тридцати пяти снайперов, обряженных в костюмы Гилли. Причем все они ухитряются подбираться на двадцать шагов, а ближайшие – на расстояние вытянутой руки. Общее правило при изготовлении маскировочных костюмов таково – если человека замечают прежде, чем на него наступят, костюм идет на доработку. В противном случае его носитель может отправиться прямиком в могилу. Дарвин знал, что даже сейчас ученики снайперской школы обязаны научиться изготавливать такой костюм собственноручно в свободное от занятий время. Некоторые результаты их трудов, насколько узнал Дар из поездок в лагерь «Пендлтон», выглядели довольно оригинально. «Кстати», – подумал он, выругался и отложил шитье. Позвонив в лагерь «Пендлтон», Дарвин оставил сообщение капитану Батлеру, чтобы тот ждал его во вторник вечером. Вернувшись к своим трудам, Дарвин тихо порадовался, что ему не придется выставлять свой костюм Гилли на суд специалистов. Морские пехотинцы никогда не отличались тактичностью. Он закончил свой маскировочный костюм к середине дня и начал примерять обновку. Влез в рубашку, натянул штаны, застегнулся, нахлобучил широкополую шляпу с кусками мешковины и трехфутовой антикомариной сеткой. И повернулся к зеркалу, чтобы посмотреть, как он выглядит. Зеркало отсутствовало, осталась только рама и два пулевых отверстия в дверце шкафа. Дар направился в ванную комнату. Встав у края ванны, оглядел себя в маленьком зеркале над раковиной, в котором он отражался только до пояса. Вид у Дарвина оказался такой глупый, что ему нестерпимо захотелось просто лечь в ванну, заснуть и проснуться только тогда, когда все это – включая Далласа Трейса, его «Альянс» и его русских боевиков – закончится само собой. Дарвин решил, что в этом костюме он больше всего похож на монстра из низкобюджетного фильма ужасов годов этак шестидесятых: бесформенная куча из сотен коричневых, желтых и светло-зеленых кусочков неправильной формы. Сквозь антикомариную вуаль глаз не видать, руки скрыты длинными рукавами и лоскутьями из мешковины. Ничего человеческого в его облике не было – странная копна, больше похожая на огромное отрезанное ухо спаниеля. – У-у! – пугнул он свое отражение. Копна в зеркале никак не отреагировала.
Лоуренс согласился отвезти его, когда стемнеет, к тому месту, откуда Дар отправится в поход с ночевкой. Костюм Гилли и все, что по идее могло ему понадобиться, Дарвин сложил в свой самый большой рюкзак. Когда он позвонил Лоуренсу субботним вечером и изложил свою просьбу, Ларри сказал: – Ну конечно, я тебя отвезу. А что случилось с «Лендкруизером»? Сдается мне, что эта машина была бы для твоих целей в самый раз. – Я не хочу оставлять машину на дороге возле того места, откуда собираюсь отправиться, – честно признался Дар. – Я буду бояться за нее. Лоуренсу этого объяснения было более чем достаточно. Его забота о собственных машинах давно вошла в поговорку. Труди и Дарвин частенько посмеивались над тем, что Лоуренс пускался на любые уловки, чтобы припарковать машину в самом дальнем углу стоянки, причем так, чтобы ее с разных сторон защищал бордюр, дерево или кактус. Он делал все возможное, чтобы никто не поцарапал его машину. Если машина все-таки получала царапину или вмятину, Лоуренс немедленно ее продавал. – Естественно, я тебя подкину, – согласился Лоуренс. – На сегодня у меня нет никаких планов. Только кино хотел посмотреть. – Какое? – «Эрнест едет в лагерь», – ответил Лоуренс. – Ничего страшного, я его уже видел. «Двести тридцать шесть раз», – подумал Дарвин. А вслух сказал: – Я не забуду твоей жертвы, Ларри. – Лоуренс, – машинально поправил его Лоуренс. – Ты подъедешь к нам на своем «Лендкруизере» и оставишь его здесь или мне забрать тебя из дома? – Я подъеду к вам, – сказал Дар. Они выехали из Эскондидо, погрузив на заднее сиденье «Исудзу» туго набитый рюкзак Дара. – Куда едем? – поинтересовался Лоуренс. – В лес у пустыни Анзо-Боррего? Или в Кливлендский национальный парк? А может, ты решил забраться куда подальше? – На Малхолланд-Драйв, – ответил Дар. Лоуренс чуть не врезался в бордюр тротуара. – Мал… хол… ланд… Драйв? Которая в Лос-Анджелесе? – Да. – С ночевкой? – прищурившись, спросил Лоуренс. – Ага, – спокойно ответил Дарвин. – Дня на два. Сотовый у меня с собой, так что я потом позвоню, чтобы ты приехал и меня забрал. – Суббота, половина девятого вечера. Мы доберемся туда к полуночи, а ты еще собираешься в поход по Малхолланд-Драйв! – Так и есть, – кивнул Дар. – А точнее, по бульвару Беверли-Глен. Лучше подъехать не на Малхолланд, а на перекресток Беверли-Хиллз и Беверли-Глен, как раз у склона горы… со стороны долины. Лоуренс снова глянул на Дара прищурившись, потом ударил по тормозам и начал разворачиваться. – Ты решил меня не подвозить? – спросил Дарвин. – Не бойся, подвезу, – проворчал друг. – Но я не собираюсь переться в этот чертов Лос-Анджелес в субботнюю ночь, ехать через чертовы Беверли-Хиллз и останавливаться на этой чертовой Малхолланд, пока не заверну домой и не прихвачу свою пушку. Он подозрительно покосился на Дарвина. – Ты вооружен? – Нет, – честно ответил тот. – Псих, – сказал Лоуренс.
Дар попросил Лоуренса остановиться лишь один раз, напроспекте Вентура. За три минуты он отыскал в Интернете незарегистрированный телефонный номер Далласа Трейса и выскочил к автомату, чтобы позвонить. Ответил женский голос с латиноамериканским акцентом – не страстный бразильский выговор, но и не пресный говор американских домохозяек. – Мистер Джон Кокран желает поговорить с мистером Трейсом, – мягко, как типичный секретарь, промурлыкал в трубку Дар. – Минуточку, – сказала женщина. Через мгновение в трубке загремело фальшивое техасское рычание Далласа Трейса. – Джонни! Что случилось, амиго? Настала очередь Дарвина подделывать акцент. Он приложил к трубке свою красную бандану и зарычал с дикими обертонами обычного лос-анджелесского бандита с восточной окраины: – Поворочай мозгами, и поймешь, что случилось, ты, гребаный кусок дерьма! Ты что, ублюдок, думаешь, что убрал с дороги Эспозито и с нами покончено? Я говорю про твою гребаную русскую мафию, свинья! Мы знаем про Япончикова и Зуева и не собираемся подставлять свои задницы, понял? Эти красные сволочи нас не запугают, мы идем по твою вонючую душу, скотина! Дар повесил трубку и вернулся в машину. Лоуренс был достаточно близко, чтобы услышать большую часть его монолога. – Звонил своей подружке? – полюбопытствовал начальник. – Ага. Лоуренс высадил Дарвина ярдах в двухстах от перекрестка Беверли-Глен и Малхолланд-Драйв. Они подождали, пока проедут машины и дорога опустеет, после чего Дар подхватил свой рюкзак и быстро сбежал по склону холма в высокую придорожную траву. Больше всего ему не хотелось, чтобы полиция Шерман-Оукс арестовала его в первые пять минут операции. Лоуренс уехал. Дарвин полез в рюкзак и достал аккуратно упакованный прибор ночного видения и коробочку с маскировочным гримом. Костюм Гилли был довольно тяжелым, но большую часть веса составляли оптические приборы, предусмотрительно упакованные в мягкий пенопласт. Дарвин был одет в черные джинсы, черные ботинки от Мефисто и черную льняную куртку. Включив питание прибора ночного видения, он обнаружил, что стоит прямо перед ограждением из колючей проволоки. Огни Сан-Фернандо, прятавшегося в долине, были такими яркими, что стоило Дару поднять взгляд выше кромки холмов, как перед глазами вспыхивало слепящее сияние. «Советник с женой построили дом с тем расчетом, чтобы оказаться в ореоле огней ночного города, – гласила статья в журнале. – Тот же вид вдохновил их бывшего соседа Стивена на создание незабываемого инопланетного корабля-матки». Дару потребовалось целых двадцать минут на то, чтобы сообразить, о чем идет речь. Прежде неподалеку проживал Стивен Спилберг, который работал тогда над «Близкими контактами третьего рода». А сейчас цепочка огней в форме спилберговского корабля-матки или просто латинской буквы V стала для Дара занозой в пятке – а точнее, бельмом в глазу. Дарвин снял очки ночного видения и принялся разрисовывать лицо и руки гримом. Необходимо было высветлить те части лица, которые обычно оставались в тени – под скулами, подбородком и носом, – и затемнить выступающие части – нос, скулы, челюсти и лоб. Главное – превратить открытые участки тела – руки и лицо – в неравномерные черно-белые пятна, чтобы наблюдатель не сумел составить из них на расстоянии привычные очертания рук и лица. Он перешел свой Рубикон. Если сейчас патруль Шерман – Оукс случайно его засечет, то объяснить, почему он находится здесь с раскрашенной физиономией, будет чрезвычайно трудно. Да и прибор ночного видения вместе с костюмом Гилли в рюкзаке едва ли помогут найти общий язык с полицией. Правда, пока он не совершил ничего противозаконного. Все это пронеслось в голове у Дарвина, пока он перелезал через ограждение и шагал по направлению к гребню горы. Он прошел мимо нескольких деревьев, росших вдоль Малхолланд, пробрался через кусты и высокую траву и оказался на вершине. На обоих склонах горы – каждый примерно двести ярдов длиной – стояли дома, освещенные фонарями у входа. В придачу к фонарям луна светила ярко, так что Дар решил, что прибор ночного видения на данном этапе и не к чему. Через десять минут Дарвин оказался прямо напротив особняка Далласа Трейса. Из «Аркитекчерал дайджест» он знал, что фасад дома представляет собой глухую неприступную крепость: высокие стены без единого окна, подземный гараж с автоматическими воротами и никаких признаков центрального входа. Наверняка, подумалось Дару, для ФБР, следователей окружной прокуратуры и всех, кто пытается по долгу службы вести за Трейсом наблюдение, этот дом – настоящая морока. Зато внутренний двор особняка купался в море света. Казалось, что горели все лампы в каждой комнате. Дар опустился на одно колено, осторожно поставил рюкзак на землю и достал старый оптический прицел «редфилд». Он давал только трех-, девятикратное увеличение, зато был проще в обращении, чем бинокли, и одну пару линз во время дневного наблюдения можно было снять. Сомнений не оставалось, это тот самый особняк. Бассейн шириной в четыре фута, выложенный алой плиткой, ярко сверкал при электрическом освещении. За бассейном зеленел тщательно подстриженный газон. Дар различил забор, увенчанный колючей проволокой, в двадцати ярдах ниже по склону. В свете, льющемся из окон, Дарвин разглядел на ограждении и стенах прожектора с детекторами, реагирующими на движение. Он нисколько не сомневался, что и забор, и двери, и окна – все подключено к сигнализации. Так что частная охранная контора и полиция Шерман-Оукс мгновенно поднимется в ружье, даже если во внутренний двор особняка запрыгнет самая обыкновенная белка. Дом мистера Далласа Трейса был неприступен для ленивого или неосторожного грабителя. Залитые светом комнаты были безлюдны, никто не сидел на диванах и кушетках, даже кресло перед огромным включенным телевизором с диагональю в шестьдесят четыре дюйма пустовало. Журнал не преувеличивал, когда рассыпал восторги по поводу сорокафутовых потолков в комнатах на первом этаже. Две стены с высокими окнами сходились под острым углом и нависали над темным склоном холма, как сверкающий огнями нос большого корабля. Как всегда, сталкиваясь с подобной архитектурной гигантоманией, Дарвин подумал: «А кто, интересно, меняет перегоревшие лампочки и моет эти кошмарные окна?» И нашел успокоение в мысли, что в душе он был и остается практичным мещанином. В данную минуту его практичность напомнила, что пора подыскать подходящее местечко, где он просидит следующие двадцать четыре часа. Снайпер, облаченный в костюм Гилли, не должен шевелиться, разве что в самом крайнем случае. Он обязан лежать на месте целые сутки и наблюдать. По собственному опыту Дар знал, как это тяжело, если место выбрано неудачно – на муравейнике, на кактусе, на россыпи камней или у самой норы гремучей змеи. Дарвин надел прибор ночного видения и начал выбирать подходящее местечко к северо-востоку от дома Трейса, откуда хорошо просматривались все окна особняка. И вскоре нашел относительно ровную площадку чуть ниже кромки холма, между испанской юккой и большим квадратным валуном. Второй валун, за спиной, скроет его днем от глаз праздношатающихся личностей, если таковым вздумается прогуляться по гребню холма. А высокая трава впереди не позволит разглядеть его наблюдателям из дома. Но чтобы еще раз все проверить, Дар снял прибор ночного видения, повернулся спиной к особняку Трейса и изучил с помощью потайного фонарика каждый дюйм своего будущего наблюдательного пункта. Он убрал все камни крупнее ногтя, поскольку знал, что даже такие крохотные камешки способны превратить наблюдение в пытку еще до рассвета. Одновременно Дарвин проверял пригодность этого места по давно составленному списку: муравьи – нету; кактусы – нету; змеи – нету; норы сусликов – нету; собачье дерьмо – нету; лисьи норы – нету; звериные следы – нету (не хватало только устроиться на охотничьей тропе какого-нибудь животного). И, наконец, следы человека – окурки, шоколадная фольга или обертки, банки из-под пива, использованные презервативы – нету. Дар вздохнул, достал свой костюм Гилли и облачился, стараясь не шуметь. Затем он спрятал рюкзак под заготовленную заранее маскировочную сетку, растянулся на земле, ощущая локтями, коленями и животом мягкую прокладку полотнища, положил под бок камеру с мощными четырехсотмиллиметровыми линзами и приник к редфилдовскому оптическому прицелу. Так началась эта долгая ночь. Во время службы в Седьмом полку морской пехоты, почти четверть века назад, Дарвин Минор учился, как вести дневник наблюдений. У него не было с собой ни ручки, ни карандаша, но, если бы были, дневник получился бы примерно следующим:
Дата: 24/6 (суббота) Время: 23.00 Место: возвышенность-1, объект-1 (коорд. 767502) 23.10. Первое движение в доме. Горничная уходит. 23.45. Миссис Даллас Трейс (Дестини) входит в большой зал в сопровождении мужчины. Он блондин с ровным загаром, с накачанными, как у культуриста, мышцами. Не мистер Трейс. Видимо, не Япончиков и не Зуев. Похож на типичного для Беверли-Хиллз смотрителя бассейнов. 23.50. Миссис Трейс и культурист поднимаются в спальню на втором этаже. Включают одну лампу. Энергично занимаются сексом.
25/6 (воскресенье) 00.05. Культурист пытается заснуть. Миссис Трейс спать не хочет. Повторяются действия, означенные выше. 00.30. Миссис Трейс будит культуриста и выставляет его из комнаты. 00.38. Даллас Трейс заходит в зал минуту спустя после того, как мистер Мускул выходит через дверь на кухне. Трейса сопровождают четверо телохранителей. Снимаю каждого «Никоном» с четырехсотмиллиметровыми линзами на высокочувствительную пленку. Телохранители выглядят слишком молодо для Япончикова и Зуева. 00.45. Телохранители осматривают внутренний двор и прилегающую территорию с помощью прибора ночного видения. Испугался, что они применят тепловидение, но понадеялся, что нагретые за день валуны смажут изображение. Телохранители используют только оптические приборы. Все вооружены пистолетами-пулеметами «Мак-10». 00.50. Д.Т. поднимается в спальню миссис Трейс. Она спит. Трейс спускается вниз по лестнице и беседует с телохранителями. 01.15. Д.Т. делает несколько телефонных звонков. 02.05. Телохранители заходят в дом. Д.Т. возвращается в спальню. 02.10. В спальне гаснет свет. Охрана остается в зале и в бильярдной. Разбиваются на пары. 03.00. Левую ногу сводит судорога всего после четырех часов наблюдения. Староват я стал для этого дерьма. 04.50. Начинает светать. Проверил, чтобы костюм Гилли и маскировочная сетка все прикрывали. 05.21. Рассвет. Всю ночь продрожал от холода. Теперь становится слишком жарко. 06.40. Не двигаясь, помочился в маленькую трещинку рядом с валуном. Давно не тренировался, но, черт побери, я не собираюсь выдавать свое укрытие так рано! Радуюсь, что всю субботу постился и принимал слабительное. 07.15. В особняке тихо, только сменилась охрана. Поставил поляризаторы, чтобы видеть через отражение восходящего солнца в окнах. Частично получается. 07.35. В двадцати метрах выше меня по склону протрусил бегун женского пола. Слышу, как играет ее плеер. С нею доберман. Собака подходит ко мне, нюхает и мочится сверху. Пес отозван хозяйкой. 09.30. Через редфилдовский прицел видно, как Д.Т. сидит на кухне и поглощает обильный завтрак. Миссис Д.Т. еще спит. 10.39. Миссис Д.Т. присоединяется к мужу за завтраком. Д.Т. звонит по телефону. 11.15. Д.Т. одевается – джинсы, ковбойские сапоги, голубая шелковая рубашка, кожаный жилет. 11.38. Д.Т. выходит из дома. Трое телохранителей уходят с ним. 12.22. Горничная уходит. Четвертый телохранитель поднимается вместе с миссис Д.Т. в спальню. Энергично занимаются сексом. 12.50. Телохранитель возвращается в зал. 13.00. Возвращается горничная. 14.30. Жара усиливается. Расходую воду осторожно, но уже допил вторую бутылку. Осталась еще одна. 14.40. По правой ноге проползла гремучая змея и устроилась позагорать на булыжнике. В метре от меня. 16.30. Змея уползла. 16.45. Сильный ливень. Видимость пока приемлемая. 16.55. Возвращается вчерашний культурист. Он точно смотритель бассейна. Слоняется по внутреннему дворику, держась у стен, чтобы не попасть под дождь. 17.10. Миссис Д.Т. уезжает вместе с четвертым телохранителем. Горничная зазывает культуриста в дом. Энергично занимаются сексом в комнате с телевизором. 18.20. Дождь прекращается, но сверху продолжают течь ручьи, прямо через мой наблюдательный пункт. Горничная и смотритель уходят. В доме тихо. 21.20. Из-за облаков сумерки быстро сменяются темнотой. От постоянного наблюдения устали глаза. Глазные капли на исходе. 22.10. Д.Т. возвращается, с ним четыре телохранителя и пять неизвестных мужчин. Незнакомцы выглядят как иностранцы. Трое из них остаются в зале, вместе с телохранителями Д.Т. Остальные двое и Д.Т. поднимаются в его кабинет. 22.45. Долгий разговор. Д.Т. сидит спиной к окну, совсем как у себя в центральном офисе. Двое мужчин ведут разговор стоя. Снял три черно-белых ролика на высокочувствительную пленку, используя сошки, чтобы придать устойчивость четырехсотмиллиметровым линзам. Это команда снайперов: Юрий Япончиков и Павел Зуев. Зуев даже держится слева, в трех шагах позади Япончикова, как и положено стоять наблюдателю по отношению к стрелку. Плохо получается читать по губам русских, хотя я уверен, что они говорят на английском. Разобрал только два слова «латино» и «мексиканец», которые они повторили несколько раз. Полагаю, что они решают, был ли мой вчерашний звонок обманом или нет. 22.55. Д.Т. показывает русским фотографию Эспозито и… мою. Снимки со мной сделаны с большого расстояния. Два – я в своей квартире в Сан-Диего, и один – я на месте несчастного случая с Гомесом. На двух последних фотографиях – моя хижина. Черт! 23.00. Совещание заканчивается. Делаю четкие снимки Зуева и Япончикова. Корректировщик совсем не похож на того мужика с бородой на фэбээровских фотографиях. Он высокий, худощавый, чисто выбрит. У него коротко стриженные черные волосы и глубоко посаженные глаза. Во время разговора он курил сигарету. Д.Т. явно злился, что ему пришлось вставать и искать пепельницу. Япончиков постарше, ему года на два-три больше, чем мне. Он напоминает мне какого-то шведского актера… не помню имени… из фильмов Бергмана. Короткие светлые волосы, длинное морщинистое лицо, голубые глаза, точеные скулы и подбородок. Тонкие губы, кажется, вот-вот сложатся в ироническую усмешку. Одет в очень дорогой итальянский костюм. Больше похож не на русского, а на скандинава. 23.20. Все трое спускаются вниз и беседуют с семерыми телохранителями. Я уверен, что трое охранников, которые пришли с Я. и З., иностранцы, выходцы из Восточной Европы или России. Их предпочтения в одежде не успели измениться. А вот четверо местных телохранителей – явно киллеры американского разлива. 23.30. Снова начинается дождь. Сфотографировал всех десятерых мужчин. Подавил желание позвонить Далласу Трейсу по сотовому и попросить к телефону Япончикова. 23.40. Миссис Д.Т. возвращается домой и сразу ложится спать. 23.45. Япончиков, Зуев и трое русских уезжают.
26/6 (понедельник) 00.15. Д.Т. делает несколько звонков из своего кабинета. 00.42. Д.Т. отправляется в спальню. Миссис Д.Т. спит. Он пытается разбудить ее. Не получается. Д.Т. лежит в постели и смотрит телевизор. 01.50. Выключает телевизор. Свет в спальне гаснет. Охрана разбивается на пары и устанавливает очередность дежурства. 02.00. Вспомнил имя – Макс фон Зюдоф. Япончиков похож на Макса фон Зюдофа. 02.10. Двое охранников, которые отправились «спать» в боковую комнату на первом этаже, энергично занимаются однополым сексом. С предварительными ласками покончено, дальнейших подробностей разглядеть не могу. 02.35. Звоню, чтобы меня забрали. Лоуренс недоволен. 05.30. Покидаю пост с первыми лучами рассвета. 05.40. Лоуренс интересуется, не выжил ли я из ума окончательно.
Во вторник Дарвину удалось поспать всего пару часиков. Затем он проявил пленку в маленькой комнатке рядом с ванной. Некоторые кадры с крупным планом получились слишком зернистыми, но в целом лица были видны четко. После чего он открыл директорию с лос-анджелесскими телефонными номерами и поискал адреса людей, которым звонил Даллас Трейс за все время рекогносцировки – Дару удалось разглядеть всю последовательность цифр, кроме одного раза, когда Трейс заслонил телефонный диск спиной. Несколько номеров оказались незарегистрированными, но Дарвин быстро нашел их в интернетовском справочнике Лоуренса. Дар отметил расположение этих адресов в своем путеводителе по Лос-Анджелесу. Специальный агент Уоррен оставил два послания на автоответчике и, когда Дар позвонил ему по телефону, сообщил, что у него есть запрошенные доктором Минором документы. Дар попросил выслать их сегодня же. Сид Олсон тоже оставила несколько сообщений. Дар позвонил ей в Дворец правосудия, заверил, что хорошо отдохнул в походе, и договорился встретиться в ее кабинете завтра утром. Заказанные досье лично привез юный агент ФБР, попросил подписать пять формуляров и ушел с несчастным видом, оставив Дарвина в мучительной задумчивости – не следовало ли дать посыльному чаевые? Дар в третий раз принял душ, надел брюки из хлопчатобумажного твида, темно-синюю рубашку и постарался проснуться. Перед отъездом в лагерь «Пендлтон» он просмотрел документы. Досье на Япончикова оказалось гораздо толще, чем на Зуева, но большую его часть составляла информация, добытая из различных армейских источников. Материалы КГБ были изъяты. Дарвину всегда нравилось, как составители разнообразных досье интерпретируют пункт о свободе информации. Но оба досье сходились в следующем описании: русские снайперы, служившие в Афганистане, затем, в последние годы режима, в военизированных частях КГБ, в середине 90-х начали работать на русскую мафию, больше сведений нет. Еще прилагалась нечеткая фотография Зуева, изучив которую Дар пришел к выводу, что это совсем другой человек. К документам пришпилили еще один снимок, подписанный «Япончиков, Зуев и стрелковый взвод». Фото было сделано в Афганистане, с расстояния не меньше мили. Крупнозернистый снимок, где вместо лиц виднелись только белые пятна. Дар усмехнулся. Предыдущая страница заставила его пересмотреть свои цели и задачи. И теперь основной задачей Дарвина было одно: хватать ноги в руки и бежать в лагерь «Пендлтон», пока не поздно.
В прежние времена, если ехать по шоссе I-5 через Ошенсайд, можно было полюбоваться на шоу, которое устраивала морская пехота США. С тех пор ничего не изменилось. Легкие танки и бронетранспортеры, оглушительно взревывая, проехали рядом с лагерной оградой и, подняв клубы пыли, свернули на укатанную колею, уводящую в пустынные холмы. Следом за ними протарахтел вездеход. В полумиле от берега стояло десантное судно, и от него отплывали шлюпки, загруженные морскими пехотинцами. Десантники выпрыгивали в прибрежные волны, бежали по берегу в сторону песчаных дюн и под конец скрывались в небольшой рощице за холмами. У северной оконечности огромной военной базы не было приграничного пропускного пункта со стороны Ошенсайда и Сан-Клементе, так что Дарвину пришлось подъехать с юга, со стороны Хилл-стрит. Прежде чем он успел добраться до административного корпуса, его останавливали трижды: два раза у ворот со шлагбаумом, где проверяли, действительно ли ему назначена встреча в три часа пополудни с капитаном Батлером, и один раз его остановил постовой пехотинец, заставив съехать с дороги. Как только Дар освободил проезд, мимо него на скорости сорок миль в час прогрохотали три танка и скрылись среди дюн. У административного корпуса его документы проверяли еще три раза, но когда Дарвин наконец добрался до цели своего путешествия – неприметных кирпичных строений, – у него на груди красовался гостевой пропуск. Так что больше задержек не было. Нед Батлер, капитан морской пехоты США, не заставил себя долго ждать. Секретарь провел Дарвина в кабинет, где за столом сидел высокий худощавый негр в аккуратной и отглаженной камуфляжной форме. Капитан Батлер выпрыгнул из-за стола и сжал Дара в крепких медвежьих объятиях, хотя обычно десантники ведут себя гораздо сдержанней. – Черт, как я рад тебя видеть, Дарвин! – воскликнул капитан, широко улыбаясь. – Мы пропустили несколько наших обычных встреч в городе. – Да, и не мало, – согласился Дар. – Я тоже рад тебя видеть, Нед. Потакая своим маленьким слабостям, капитан Батлер всегда держал про запас термос с холодным чаем и корзину свежесобранных лимонов. И приятели принялись разливать чай, нарезать лимоны и провозглашать тосты. – За друзей, которых с нами нет, – поднял свою чашку Нед. Они выпили и сели. Дар устроился на кожаном диване, а капитан – в кожаном кресле. Улыбка не сходила с губ капитана Батлера. После Далата, когда Дара перевели в США, он потратил первую же увольнительную на то, чтобы навестить вдову своего корректировщика и его двухлетнего сына. Они жили тогда в Гринвилле, штат Алабама. Он встречался с Эдвиной и раньше, во время подготовки, когда они с Недом-старшим сражались за каждый балл по меткости и маскировке. На этот раз Дарвин просто показался и предложил свою помощь на случай, если им что-нибудь понадобится. Сначала Эдвина решила, что это не больше чем красивая фраза, но когда она как-то позвонила Дару и сообщила, что собирается переехать в Калифорнию, к своим родителям, именно он купил для них билет на самолет, не позволив ехать автобусом, и оплатил перевозку багажа. Когда Нед проявил незаурядные способности к математике, именно Дарвин похлопотал, чтобы мальчика записали в частную школу в Бейкерсфилде, где они тогда проживали. Когда Дар приехал в Калифорнию после смерти Барбары и своего маленького сына, он остановился именно у Эдвины и Неда, который в то время заканчивал школу, и прожил у них несколько недель, прежде чем начать новую жизнь. Результаты Неда по SAT[28] в выпускном классе были просто потрясающими, и Дар был готов – его желания соответствовали его возможностям – помочь парню поступить в любое высшее учебное заведение страны. Дарвин полагал, что это будет Принстон, а Нед мечтал о морской пехоте. Нед-младший заслужил три боевых нашивки во время войны в Персидском заливе. Он провел свой взвод по суше, в то время как иракцы ждали высадки десанта с моря – ждали и не дождались. Генералу Шварцкопфу блестяще удалось провести отвлекающий маневр, в то время как сотни тысяч пехотинцев и танковых подразделений проделали незабываемый двухсотмильный бросок, что было частью операции «Буря в пустыне», и смяли тылы иракской армии. В 1991 году, во время войны в Персидском заливе, Неду-младшему стукнуло двадцать два. Столько же было его отцу, когда он погиб в Далате. Когда пять лет назад молодой офицер получил назначение в лагерь «Пендлтон», они с Даром договорились встречаться в городе хотя бы раз в месяц и вместе обедать или ужинать. В последнее время им мешала не загруженность Дарвина работой, а частые отлучки Неда по службе, причину которых он не мог разглашать. Некоторое время они беседовали о семье и общих друзьях. Наконец Нед отставил чашку с холодным чаем и спросил: – Так чему я обязан честью вашего визита? Дарвин начал вкратце рассказывать капитану об «Альянсе», Далласе Трейсе и русских снайперах. А потом с удивлением понял, что не может остановиться. И хотя Нед не был снайпером, как его отец, он молча сидел и терпеливо ждал продолжения. – Если ты сделаешь то, что я попрошу, Нед, это может поставить под угрозу всю твою карьеру, – сказал Дар. – Я не только спокойно приму твой отказ, но и, признаться, готов к этому. Моя просьба не просто необычна, она противозаконна. Нед слегка улыбнулся. – Никаких отказов, капрал, – промолвил капитан. – У меня есть трое верных друзей, ты их всех знаешь, и немного свободного времени. Кого нужно убить и как долго его стоит помучить перед смертью? Дар вежливо посмеялся, а затем сообразил, что Нед и не думает шутить. – Нет-нет, – поспешно заверил его Дарвин, – я просто хотел неофициально позаимствовать у тебя тяжелое вооружение. Обещаю вернуть до того, как пропажу обнаружат. Капитан медленно кивнул. – Лишних танков «М1А1» у нас нет, – сказал он, – но, может, тебе хватит бронетранспортера? И плотоядно ухмыльнулся. – Я имел в виду винтовку, – вздохнул Дар. Нед снова кивнул. – Сдается мне, что, невзирая на запреты, ты не мог вернуться из Вьетнама без винтовки – подарка Седьмого полка морской пехоты. – «Ремингтон-700», – кивнул Дарвин. – Да, она до сих пор у меня. – Она еще в рабочем состоянии? – поинтересовался Нед. – Я не брал ее на стрельбища уже несколько месяцев, но она до сих пор делает пять дырочек в мишени размером пять с половиной квадратных дюймов с расстояния шестьсот пятьдесят ярдов. Капитан нахмурился. – Шестьсот пятьдесят? А почему не тысяча? – Старею, – вздохнул Дар. – И глаза у меня уже не те. Мне приходится надевать очки, если я долго читаю. – Твою мать, – огорчился Нед и добавил: – Сэр. Капитан провел пальцем по кинжальной стрелке на своих отглаженных брюках и сказал: – Ладно. Те снайперы, которые пытались подстрелить тебя дома… что у них было за оружие? Дар описал винтовку «Тикка-595». – Недорогое, но вполне неплохое оружие, – пожал плечами Нед. – Отечественные винтовки вроде этой тянут на две тысячи долларов. Европейские снайперские винтовки стоят от восьми тысяч и выше. А «тикка» – всего тысячу долларов. Никогда бы не подумал, что хороший снайпер остановит свой выбор на этом оружии. Дар кивнул, соглашаясь. – В меня стрелял наблюдатель. Подозреваю, что он взял эту винтовку с тем расчетом, чтобы ее после было не жалко выбросить. – Наблюдатель, говоришь? – снова осклабился Нед. – Похоже, они тебя недооценивают. – Наблюдатели бывают разные, – тихо промолвил Дарвин. – Я знал одного, который был самым лучшим стрелком и самым храбрым солдатом на свете. Нед с минуту смотрел на старого друга и молчал. Потом махнул рукой, приглашая его следовать за собой.
Этот склад был поистине огромным. Где-то вдалеке гудели автопогрузчики, но создавалось ощущение, что, кроме них с Недом, во всем помещении больше никого не было. Нед открыл первый ящик. – Если ты ищешь что-нибудь поновее своей старушки «М-40», Дарвин, то тебе подойдет эта штучка. Дар протянул руку и погладил оружие, компактно упакованное в формы из пенопласта. – H-S «Присижен» HSP762/300, – сказал Нед. – Идет со стволами и патронами обоих калибров: обычного натовского 7.62 или 300-го, «винчестер-магнум». Ложа сделана из кевлара и, конечно, фибергласа – так что пехотинцам больше не случается занозить себе щеки о деревяшки… Еще сошка и складной плечевой упор, как у наших усовершенствованных «М-24». Смотри, съемный ствол крепится стопорной защелкой и скобкой и по длине соответствует прикладу с ложем. В разобранном виде все укладывается в легкий футляр размером двадцать на семнадцать дюймов, и у тебя под рукой всегда будет два ствола на выбор. – Неплохо, – согласился Дар, – но, так сказать, на каждый день мне хватит старого «Ремингтона-700» с редфилдовским прицелом. – А почему бы тебе, Дарвин, не купить лук и пару стрел к нему? – спросил Нед, слегка сдвинув брови. На этот раз усмехнулся Дар: – Хорошая мысль. Говорят, они тише и гораздо дешевле огнестрельного. В мире нет по-настоящему устаревшего оружия. Капитан кивнул. – Главное – чтобы оно убивало, – согласился он. – Что возьмешь из холодного оружия? – Нож, – ответил Дар. Нед закрыл ящик и запер его. – Ладно, можешь взять свою допотопную «М-40», для твоего никчемного стариковского зрения… Кстати, насколько сильно, ты сказал, оно упало? – А я не говорил, – заметил Дарвин. – Но на десять ярдов его еще хватит. – Купи дробовик, – посоветовал Нед. – А еще лучше – большую, сильную собаку. – Моя подруга принесла мне дробовик «ремингтон», – сказал Дар. – Вернее, дала взаймы… Брови Неда подскочили вверх. Его удивил не факт передачи дробовика, а упоминание о подруге. Дар никогда прежде не рассказывал о знакомых женщинах. – Хорошо, – спокойно продолжил капитан, – так что ты собирался у меня попросить? Дырокол последней модели? – Многие хорошо отзываются о «МакМиллан» M1987-Р, – сказал Дарвин. – Я работал с ней, – заметил Нед, снова становясь серьезным. – Бьет очень точно. Весит двадцать пять фунтов, одна из самых легких среди винтовок калибра 0.50. Отдача у нее такая, что свалит и слона, но она гасится дульным тормозом и амортизующим затыльником. Мы даже снарядили «морских котиков» этими складными «Комбо-50». Но у нее стандартный магазин на пять патронов и ручная перезарядка. Тебе нужно оружие непрерывного огня в довесок к твоему «ремингтону»? Дар призадумался. Снайперы обучены рассчитывать только на один выстрел, первый и последний. Именно поэтому большинство современных кевларо-фибергласовых снайперских винтовок сделаны по образцу однозарядных винтовок, которыми пользовались снайперы еще во времена Первой мировой войны. Но у него уже есть малокалиберный «ремингтон» для стрельбы на большие расстояния… Что же выбрать из автоматического оружия? За сорок восемь часов пребывания в Далате отец Неда, переведя свою «М-14» на стрельбу очередями, неоднократно спасал Дарвину жизнь. Нед приобнял Дарвина за плечи и повел его дальше, вдоль длинных штабелей из ящиков. – Не хочешь взглянуть, чем сражался мой отряд во время войны в Персидском заливе? Весьма удобная штука. – Конечно, хочу. Нед открыл длинный ящик. – Там, в пустыне, мы называли ее «легкая пятидесятка». А официальное название – снайперская винтовка «Барет лайт 50», модель 82А-1… калибр 0.50 BMG (12.7 х 99мм), как у старых винтовок 0.50-го калибра… Механизм полуавтоматический, с коротким откатом. Ствол отъезжает назад на два дюйма при каждом выстреле, и у нее мощный дульный тормоз. Весит она двадцать девять с половиной фунтов, без прицела. Прицел – десятикратный «леопольд-стивенс ультра» М-3A. И – самое главное, Дар – сменный магазин на одиннадцать патронов. Это единственная на рынке полуавтоматическая снайперская винтовка 0.50-го калибра. – И во сколько она мне обойдется? – спросил Дарвин. – С налогами, гарантией, футляром и кожаным чехлом для всех деталей? Нед прищурился, окидывая Дарвина долгим, испытующим взглядом, как когда-то делал его отец. – Ты принесешь мне ее обратно… Сам. Я даже накину тебе легкий бронежилет, три тысячи патронов стандартного образца и пятьсот бронебойных. – Господи, – пораженно выдохнул Дар. – Три тысячи патронов… и бронебойные… Черт возьми, Нед, я же не собираюсь на войну! – Да ну? – хмыкнул Нед. Он закрыл длинный ящик, запер на ключ и подхватил его, отдав ключ Дарвину.
Лоуренс позвонил, когда Дар ехал по запруженному шоссе I-5 и размышлял, остановиться и съесть ли гамбургер или сразу возвращаться домой и завалиться спать. – Нашли Пола Уотчела! – Хорошо, – сказал Дарвин, – и кто его нашел? – Вообще-то копы, – ответил Лоуренс, – но сперва его обнаружили работники «Хэмптонской первичной обработки». – А это еще кто такие? – спросил Дар. – И вообще, это дело может подождать? Он чувствовал себя крайней неуютно, с «легкой пятидесяткой» и пачками патронов, которые были сложены в багажнике «Лендкруизера» и накрыты брезентом. По дороге из лагеря «Пендлтон» он успел трижды облиться холодным потом и до сих пор каждую минуту ждал, что вот-вот сзади появится охрана лагеря и арестует его как вора. – Нет, откладывать нельзя, – отрезал Лоуренс. – Встречаемся здесь. И он продиктовал адрес в одном из промышленных районов южной части города. – Буду через полчаса, – сказал Дарвин, – тут сплошные пробки. Если мне вообще необходимо там быть. Про этот район ходила дурная слава, и Дарвин успел представить, как его машину угоняют и местные грабители с восторгом пополняют свой арсенал полуавтоматической винтовкой. – Крайне необходимо, – ответил Лоуренс. – Кстати, если ты еще не обедал, то лучше не ешь.
ГЛАВА 19 У – УОТЧЕЛБУРГЕР
«Несчастный случай» произошел три часа назад, а тело Пола Уотчела до сих пор не извлекли. Только взглянув на место происшествия, Дар понял почему. Дарвин никогда не интересовался, откуда берутся гамбургеры. Он знал, что в закусочные они попадают замороженными и уже в готовом виде. И вот теперь он оказался в «Хэмптонской первичной обработке» – новой, большой и чистой фабрике, которая недавно выросла в старом квартале, между грязными промышленными зданиями. У входа Дарвина попросили предъявить документы. Лоуренс, который уже успел осмотреть место происшествия, встретил его и повел на экскурсию по фабричным помещениям. – Это платформа, куда грузят привезенную говядину, в этом зале ее разделывают и режут, здесь размалывают, здесь сырое прессованное мясо кладут на нержавеющий лист конвейера шириной пять футов, который через отверстие в стене убегает в ту комнату, в формовочный барабан. Именно в формовочном зале Пола Уотчела – одного из свидетелей последних минут жизни адвоката Джорджа Мерфи Эспозито – утянуло в механизм. Кроме медэкспертов, которые дописывали в уголке свое заключение, в помещении находились двое полицейских в штатском и пятеро – в белых халатах и с хирургическими масками на лицах. Одного из копов, Эрика Ван Ордена, Дарвин знал. Троих незнакомцев в халатах Лоуренс отрекомендовал как представителей центрального управления «Хэмптонской предварительной обработки», которое находится в Чикаго, а оставшихся двоих – как их страховых инспекторов. – Никогда ничего подобного не случалось на наших фабриках, нигде и никогда, – заявил один из представителей фирмы. – Никогда! Дар кивнул. Он, Лоуренс и детектив Ван Орден подошли к трупу поближе. Верхняя часть туловища Пола Уотчела была пропущена под барабан с формовочными отверстиями диаметром в три дюйма. Зрелище само по себе неаппетитное, а круглые гамбургерные кусочки и ленты сырого говяжьего мяса, растекшиеся вокруг изуродованного тела, создавал кошмарное впечатление кровавой бойни. – Он проработал здесь три месяца под именем Пол Дрейк, – сообщил детектив Ван Орден. – Главный следователь Перри Мейсона[29] из старого сериала, – вспомнил Дар. – Да, – кивнул коп. – Уотчел слегка свихнулся на телевизионных фильмах и всяких шоу, которые смотрел в промежутках между страховым мошенничеством. Он всегда нанимался на какую-нибудь мелкую работенку, пока ждал чеков от страховых компаний. Он проходил у нас под именами Джо Картрайта, Ричарда Кимбла, Мэтта Диллона, Роба Петри и Ваша Палладина. – Ваша Палладина? – изумленно переспросил Лоуренс. Ван Орден криво усмехнулся. – Да. Помните Ричарда Буна в старом сериале про Палладина? Эдакий ковбой, весь в черном? – Конечно, – кивнул Лоуренс и напел: – «Палладин, Палладин, куда ты держишь путь…» – Так вот, – продолжил Ван Орден, – этот ковбой оставлял визитку с надписью: «Ваш Палладин, Сан-Франциско». Пол никогда не отличался сообразительностью. Наверное, он решил, что Ваш – это имя Палладина. Лоуренс бросил укоризненный взгляд на безрукое и безголовое тело. – Все знают, что у Палладина не было имени, – сообщил он окровавленному трупу. Один из представителей страховой компании подошел ближе и принялся тараторить: – Мы слышали о вас, доктор Минор… слышали о вашей работе… Мы не знаем, кто вас сюда пригласил, но хотели бы проинформировать, что производство здесь является высокоавтоматизированным… Во время инцидента, кроме мистера Дрейка, в формовочном цехе никого не было… Кроме того, на механизме установлены восемь предохранителей, которые отключают систему, когда работник чистит отверстия формовочного барабана… Из-за маски его голос звучал глухо. – Он чистил барабан? – переспросил Дарвин. – Положено было по расписанию, – пояснил Ван Орден. – Восемь предохранителей, – повторил страховой инспектор. – Стоит поднять вон тот решетчатый кожух, как вся система мгновенно остановится. Ее программа так запрограммирована. Дар проигнорировал тавтологию и спросил: – А что с остальными семью… предохранителями? – Он не мог остановить конвейер, поднять кожух и влезть под барабан, не отключив предохранительные устройства, – ответил подошедший представитель центрального управления фабрик. – Мы были в шоке, когда обнаружили, что все встроенные предохранители или отключены, или вообще отвинчены от аппарата. Детектив вздохнул и указал на открытую панель управления прессом, где виднелась мешанина проводов и переключателей. – Такое уже бывало, – сказал он. – Полу не хватило бы ума, чтобы отключить предохранители, а убийце – времени, он просто не стал бы возиться с автоматикой, прежде чем сунуть голову Пола в барабан. Оба представителя – и фабрики, и страховой компании в ужасе отшатнулись, услышав слово «убийца». Видимо, детектив произнес его впервые. – Сколько раз мы уже с таким встречались, – заметил Лоуренс, кивая на панель. – Видимо, предохранители замедляли процесс, поэтому работники отвинтили все это дерьмо, а оператор, в данном случае Пол, просто выключал напряжение. Лоуренс указал на большую красную кнопку в дальнем конце конвейера. – Так он мог чистить барабан в пять раз быстрее. – Можно запустить конвейер и формовочный барабан из другого помещения? – спросил Дарвин. Пятеро работников компании дружно замотали головами в масках, да так энергично, что во все стороны полетели капли пота. – Пол должен был работать один? – уточнил Дар. – Сегодня он работал один, – подтвердил Ван Орден. – Заступил, как обычно, в час дня. Его смена должна была закончиться в девять вечера. – Вы уже опросили других рабочих? Ван Орден кивнул. – Линия остановилась по расписанию, когда Пол должен был чистить барабан. Во всем здании фабрики было только пятеро других рабочих… она действительно почти полностью автоматизирована… Четверо из них вышли покурить, когда и произошло… э-э-э… произошел этот несчастный случай. – А пятый? – спросил Дар. – Он работал в дальнем зале, и у него прекрасное алиби, – ответил Лоуренс. – И никто из них не видел, чтобы в здание входили посторонние, – утвердительно промолвил Дарвин. – Естественно, – хмыкнул Ван Орден. – Иначе наша задача стала бы несравненно легче. Но в этом здании есть три другие двери, через которые на фабрику мог попасть кто угодно со стороны аллеи или противоположной стороны улицы. Эти двери не были заперты. Дар повернулся и оглядел ленты заветренного мяса и большую красную кнопку в конце конвейера. – Значит, убийце потребовалось только нажать на эту копку. Лоуренс развел руками. – Но ты же видишь, что кнопка находится далеко от двери. Даже если Пол нагнулся над барабаном, он бы услышал и увидел, что в комнату кто-то вошел. А он почему-то все равно остался на месте. – Либо этот кто-то заставил его остаться на месте, – начал Ван Орден, – либо… – Либо он знал этого человека и доверял ему, – закончил Дарвин. Труп Пола до сих пор оставался на стальной линии конвейера, его плечи впечатались в ячейки барабана. С обратной стороны тянулись ряды ровных мясных кружочков. Все это напоминало грубоватый юмор мультфильмов. – Он умирал медленно, Дар, – сказал Лоуренс. – Барабан включили, когда под ним находились только пальцы Пола. А потом его начало затягивать внутрь. – То есть Пола затянуло не сразу? – спросил Дарвин, только сейчас проникаясь ужасом ситуации. – Техники сказали, его втягивало не меньше десяти минут… а потом его тело застопорило механизм, – сказал детектив Ван Орден. – Сперва пальцы, затем кисти, руки… – Вместе с мясом, которое тоже втягивалось в барабан и штамповалось с кусками его тела, – добавил Лоуренс. Уже не в первый раз Дарвин пожалел, что природа наградила его богатым воображением. – Пол должен был визжать все это время как резаный, – заметил он. Ван Орден кивнул. – Но в остальных помещениях фабрики продолжала работать автоматика… в разделочном зале стоит просто оглушительный грохот… тем более четверо из пяти работников вышли на улицу покурить. Пятый находился на складе. Мы уже опросили водителя, который был рядом с ним. Двигатель грузовика так тарахтел, что они ничего не слышали. – А когда затянуло голову Пола, – вставил Лоуренс, – то стало тихо. Все пятеро работников компании непроизвольно попятились от конвейера. Дару стало их жаль, и он рассказал, что у Пола Уотчела не было родных, так что выплачивать компенсацию не придется. Он был маленьким одиноким пронырой, актером на мелких ролях, сценой которого был зал суда. А теперь он стал… гамбургером. Вокруг начали кружиться тучи мух. – Давайте выйдем на улицу, – предложил детектив Ван Орден. – Подышим свежим воздухом.Когда они втроем вышли на улицу, Дарвин спросил: – На этот-то раз ни у кого нет сомнений, что это предумышленное убийство? – Нет, – едва не рассмеялся Эрик Ван Орден. – Я слышал про ваши расследования случаев со строительным подъемником и прочих, но здесь мы определенно имеем чистой воды убийство. – А почему сюда пришли из страховой компании? – спросил Дар. – Я понимаю, конечно, что у них был доступ, но… Ван Орден посмотрел на Лоуренса. – Вы еще не рассказали ему про проблемы с иском? Лоуренс отрицательно мотнул головой. – У Пола не было родных, не было семьи, – заметил Дарвин. – Едва ли кто-то подаст иск на компанию. Ван Орден иронично усмехнулся и покачал головой: – Нет-нет, речь идет о другом. Дар непонимающе перевел взгляд с детектива на Лоуренса. – Из формовочного зала конвейерная лента тянется в приемочный зал. Там пятый рабочий раскладывает кусочки мяса на подносы с вощеной бумагой, затем устанавливает подносы на стеллаж… – О черт! – вырвалось у Дара, когда он понял, к чему клонит детектив. – …а потом вкатывает стеллаж в морозильный ку-зов грузовика… получается один грузовик в два часа… мясо попадает в закусочные свежим. – Вы же опрашивали водителя, – сказал Дарвин. – Значит, его грузовик оставался на месте. А мясо погрузили уже потом… Господи, неужели он с ним и уехал? – Двадцать стеллажей почетыреста кусочков в каждом, – кивнул ван Орден. – В сумме восемь тысяч кусочков. – Они поставляют мясо в «Бургерные» возле метро, – мрачно произнес Лоуренс. Сеть закусочных «Бургерная» была клиентом агентства Стюартов. Обычно иски, которые поступали на компанию, не отличались от привычных «поскользнулся – упал». Если не считать одного неприятного случая, когда женщина подала на нее иск в полмиллиона долларов за то, что ее изнасиловали в собственном автомобиле, когда она ждала заказа возле окошка «Бургер-авто». – И сколько кусочков с… частями… э-э… Дар так и не закончил фразу. Лоуренс и детектив пожали плечами. – Именно это представители компании и пытаются выяснить, – ответил Ван Орден. – Их нужно изъять, – заметил Дарвин. – За ними уже поехали, – заверил его Лоуренс.
В этот день Дар ужинать не стал и лег спать рано. На следующее утро он был во Дворце правосудия ровно в семь часов, но оказалось, что Сид встала еще раньше и успела с головой погрузиться в работу. Что не слишком удивило Дарвина. – Как отдохнул? – спросила Сидни. – Жаль, что не позвал. Мне бы тоже хотелось пойти с тобой в поход. Дара охватило легкое сексуальное возбуждение, которое накатывало на него и прежде в присутствии главного следователя Олсон. И он напомнил себе о той непринужденности, даже интимности, с которой держались Сид и Том Сантана, и в корне заглушил свои дурацкие подростковые фантазии. – Тебе бы не понравилось, – ответил он. – Я попал под дождь. Дарвин положил на стол три папки с досье. – Я все прочитал. Ты не могла бы передать их потом, когда просмотришь, специальному агенту Уоррену? – Конечно, – пожала плечами Сид. – Извини, что там нет ничего интересного про Япончикова и Зуева. – Почему же, фотографии мне пригодились, – заметил Дар. Сид изумленно подняла брови. – Фотографии? Какие? Те никчемные полароидные снимки стрелкового взвода в Афганистане? Там же ничего не видно. – Нет, – ответил Дарвин, открывая папку с досье от ЦРУ. – Вот эти фотографии. И достал снимки, которые сам же недавно вкладывал в папку. Сид уставилась на фотографии с крупным планом. – Боже мой! Я не помню… Она осеклась и, прищурившись, посмотрела на Дарвина. – Постой-ка. Дар не играл в покер с тех пор, как уволился из армии, потому он одарил Сидни каменным выражением лица бывалого шахматиста. – Вы понимаете, доктор Минор, что любые незаконно сделанные фотографии, предъявленные в суде, будут не доказательством, а основанием для предъявления обвинения. Это был не вопрос, а утверждение. – Что вы имеете в виду? – спросил Дар, сделав удивленное лицо. – Неужели вы считаете, что ЦРУ фотографировало этих людей незаконно? Она снова взглянула на снимки Япончикова и Зуева. Каждую фотографию Дарвин снабдил подписью такого же типа, как и были на снимках ЦРУ, и отщелкал их несколько раз, чтобы сделать эти кадры похожими на смазанные фотографии из досье. С минуту Сид не сводила с него взгляда, затем, закусив губу, посмотрела на снимки и наконец сказала: – Что ж, возможно, я просто их не заметила, когда просматривала материалы в прошлый раз. Мы немедленно распространим эти фотографии. Они не очень качественные, но лица на них видны отчетливо. Эти ребята из ЦРУ хорошо знают свое дело. Дар молча ждал. – Япончиков, – задумчиво начала она, – тот, что постарше… он на кого-то похож… – На Макса фон Зюдофа? – подсказал Дарвин. – Нет, – покачала головой Сидни. – На Максимилиана Шелла. Мне всегда казалось, что Максимилиан Шелл похож на очень сексуального злодея. – Отлично! – фыркнул Дар. – Он пытался убить меня, а тебе он кажется похожим на очень сексуального злодея. Сид посмотрела Дару в глаза. – Это ты похож на очень сексуального злодея. Дарвин не нашелся что сказать. Через минуту он промолвил: – И как движется расследование? – Великолепно, – ответила Сид. – Ты, наверное, уже слышал о Поле Уотчеле? – Я видел Пола Уотчела, – отметил Дарвин. – И это… это называется «великолепно»? – На данный момент у нас уже есть четыре полноценных убийства, – радостно защебетала Сидни. – Наконец-то полиция и ФБР идут рука об руку. – Четыре? – переспросил Дар. – Эспозито, Уотчел… – Дональд Борден и Дженни Смайли, – закончила Сид. – Прошлой ночью оуклендская полиция сообщила, что на свалке возле залива мусорщик вырыл бульдозером два больших мешка. В них оказались… – Дональд и Дженни? – Бордена идентифицировали по зубам, а второй труп был женским. – Причина смерти? – спросил Дар. – Два выстрела в голову, каждому, – ответила Сидни. Зазвонил ее телефон. Перед тем как поднять трубку, она добавила: – Стреляли, видимо, из «Ругера-мини-14». С близкой дистанции. Очень профессиональные выстрелы. Подняв трубку, она произнесла: – Доброе утро, Олсон слушает. Дарвин сделал вид, что внимательнейшим образом изучает фотографии Япончикова и Зуева. – Хм-м-м, правда? А откуда послали? Ага. Вы уже проверили, нет ли там отпечатков пальцев? Да? И даже установили наблюдение? Ясно. Что ж, тебе крупно повезло. Собственно, нам с Даром тоже повезло, мы нашли кое-что полезное в старых материалах ЦРУ. Да, я захвачу их и покажу тебе через пару часиков. Да. Пока. Она положила трубку и бросила на Дарвина тяжелый, пристальный взгляд. Он сразу ощутил себя преступником, каких бывало-перебывало в этой прежней комнате для допросов. – Ты ни за что не отгадаешь, что получил по почте специальный агент Уоррен! Дар закрыл папку с досье и без особого интереса посмотрел на Сидни, ожидая продолжения. – Конверт… без обратного адреса… отправленный вчера из Ошенсайда… – И?.. – Там были фотографии, – сообщила Сид. – Восемь на десять. Очень хорошее разрешение. Семь человек. По меньшей мере четверо из них разговаривают с Далласом Трейсом. Пятерых тут же идентифицировали. Дар сделал заинтересованное лицо. – Двое русских мафиози, – сказала Сид. – Мы не знали, что они сейчас находятся в стране. Один из них – бывший гэбист, который работал вместе с Япончиковым в старые добрые советские времена… – А остальные? – полюбопытствовал Дарвин. – Трое – наемные телохранители и киллеры, – ответила Сидни. – Все трое успели наследить. У одного из них была безупречная репутация, пока он не убил друга своего шефа. Дар присвистнул. – Значит, отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией тоже займутся этим делом? Сид не стала отвечать на этот вопрос. – Большая удача, что мы нашли эти потерянные фотографии, – сказала она. – А потом кто-то прислал другие… Дар понимающе покивал. Сид откинулась на спинку стула и спросила: – Так на чем мы закончили? – На том, как продвигается расследование, – напомнил Дарвин. Сид показала на высокие стопки папок, отчетов, видео – и аудиокассет. – Том и трое ребят из ФБР связались с «Помощью беспомощным». Они внедрились в эту организацию разными путями, но сейчас находятся в одной и той же группе новобранцев. Работники «Помощи» устраивают что-то вроде занятий, где обучают правильно организовывать «несчастные случаи». Прошло всего несколько дней, а мы уже узнали больше десяти имен тех, кто участвует в этой афере. – Впечатляет, – откликнулся Дар. – Ты уже знаешь про ОРП? – ОРП? – с сомнением в голосе переспросил Дарвин. – Создана специальная комиссия, Отдел по расследованию происшествий, – совершенно серьезно ответила Сидни. – Ты тоже в нем состоишь. Собственно, ты его руководитель. – А-а, – протянул Дар. – Его штаб-квартира размещается в доме Лоуренса и Труди, – продолжила Сидни. – Я заскочу к вам попозже, когда разберусь с этими фотографиями. – Хотелось бы уточнить, что именно расследует этот ОРП, – заметил Дарвин. Сид вздохнула. – Серию несчастных случаев, которые слишком похожи на убийства, – ответила она. – Эспозито, Пол Уотчел и Абрахам Уиллис. – Уиллис? – нахмурился Дар. – А, тот бандитский адвокат, который погиб возле Кармеля. – Гомесы, – продолжила список Сидни, – мистер Фонг и Дикки Кодайк, он же Дикки Трейс. – Пожалуй, я отправлюсь в Эскондидо немедля, – заметил Дар. – Судя по всему, работы у нас невпроворот. – Вечером увидимся, – кивнула главный следователь.
Теперь каждый вечер Лоуренс и Труди занимались делами комиссии по расследованиям. Их гостиная превратилась в филиал кабинета Сидни Олсон – на стене висело белое полотнище, напротив стоял проектор, видеомагнитофон с маленьким телевизором и ноутбук «Гейтвей» с выделенной телефонной линией, чтобы была возможность оперативно получать информацию, касающуюся расследования. Дар, Лоуренс и Труди распределили все «несчастные случаи» между собой, в зависимости от того, кто занимался каждым из них в свое время. Лоуренсу достались дела Фонга, Уотчела и Гомеса, поскольку два из них касались его клиентов. Дарвин собирался заново изучить дело Ричарда Кодайка и продолжить расследование гибели Эспозито. Он рассказал Лоуренсу и Труди про всплывшие недавно фотографии. – Занятно, – согласился Лоуренс. – А у тебя, часом, нет копий с них? – Часом есть, – улыбнулся Дарвин. – А не живет ли Даллас Трейс на Кой-Драйв, рядом с Малхолланд и Беверли-Глен? – подозрительно спросил Лоуренс. – Понятия не имею, – пожал плечами Дар. – А я имею. Я специально узнавал, на следующий день после того, как забрал тебя из похода. Ладно, давай глянем на этих плохих парней. Некоторое время они молча изучали фотографии. Дарвин знал, что Лоуренс и Труди никогда не забывают лиц людей, дела которых они расследуют. Они решили начать с Абрахама Уиллиса, потому что никто из них не участвовал в расследовании его случая. Кармельская полиция и дорожный патруль прислали Сидни Олсон по е-мейлу и факсу свои полные отчеты, а она, перед тем как передать материалы ОРП, добавила к ним папку толщиной в четыре дюйма, с наработками комиссии по расследованию страховых преступлений. На несколько минут все трое – Дарвин, Лоуренс и Труди – углубились в чтение и разглядывание фотографий и схем-реконструкций. На первый взгляд это был типичный несчастный случай. Советник Абрахам Уиллис, адвокат из Сан-Диего, который по самые уши завяз в страховых махинациях, покинул свой кабинет в пятницу утром и отправился на выходные в Кармель. Свидетели заявили, что видели Уиллиса в Санта-Барбаре, когда он обедал и выпивал. Владелец кафе в Биг-Суре опознал Уиллиса по фотографии и сообщил, что этот человек заходил в его заведение поздно вечером и заказывал спиртное. И в ресторане Санта-Барбары, и в кафе в Биг-Суре Абрахам Уиллис был один. Незадолго до десяти вечера Уиллис, очевидно, направил свою «Камри» 1998 года выпуска на смотровую площадку, расположенную на вершине живописного утеса между Пойнт-Лобо и Кармелем. В то время на площадке никого больше не было. – Знаю я это место, – подал голос Лоуренс. – Оттуда открывается потрясающий вид на Кармель. – Какой там вид, в десять вечера, – заметила Труди. – Может, он просто захотел отлить, – предположил Лоуренс. – Или подышать свежим морским воздухом, чтобы выветрить алкоголь, – добавил Дарвин. – Ну, выветрить не получилось, – сказал Лоуренс. По реконструкции происшествия специалистами из дорожного патруля, Уиллис вернулся в машину, забыл переключить рычаг коробки передач на задний ход и поехал вперед. Он проломил невысокое деревянное ограждение и рухнул вниз. Машина пролетела шестьдесят футов и разбилась о камни у подножия горы. – А что, там не было железного заграждения? – спросил Дар. Труди набросала на салфетке примерный план местности. – Смотри, это заграждение по обе стороны площадки, это места для парковки, окруженные невысоким бордюром. От них до края обрыва – травянистый островок с протоптанной тропинкой, а потом низкий деревянный заборчик с рядом отражателей… Собственно, он поставлен скорее для того, чтобы пешеходы не подходили к обрыву слишком близко. – И сколько от этого забора до края обрыва? – спросил Дарвин. – Примерно тридцать футов до начала спуска, и только потом склон круто обрывается. Правда, там лежит пара больших валунов. Кстати, машина Уиллиса ударилась об один из них… Дверцу со стороны водителя нашли возле валуна, а не внизу, у подножия скалы. – Я это заметил, – сказал Дар, – и что с того? – Следователи из НУБД и патрульные пришли к выводу, что Уиллис не мог затормозить и потому пытался выпрыгнуть из машины, когда дверца ударилась о камень, – объяснил Лоуренс. – От удара Уиллиса отбросило на пассажирское сиденье, после чего машина упала вниз. – А почему Уиллис не мог затормозить? – поинтересовался Дар. – Даже если с самого начала он нажал на газ вместо тормоза, у него еще было шестьдесят футов, чтобы успеть остановиться. – Он был пьян, – заметила Труди. – Самопроизвольное ускорение при отказе тормозной системы, – сказал Лоуренс. Труди и Дар только посмотрели на него. Самопроизвольное ускорение встречалось только в телепередачах для автолюбителей, а полный отказ тормозной системы – явление настолько же редкое, как смерть от прямого попадания метеорита. Фотографии трупа, сделанные патрульными, выглядели просто ужасно. От удара о прибрежные камни Уиллиса выбросило из машины, причем, прежде чем окончательно остановиться, автомобиль успел перекувыркнуться через него. «Камри» тоже сильно пострадала. Около полуночи патрульным сообщили, что забор на утесе сломан. Полицейские прибыли на место происшествия и примерно в час ночи обнаружили тело и разбитую машину. Крабы успели добраться до советника Уиллиса, правда, поработали над ним недолго, так что секретарша смогла сразу же опознать погибшего. У знаменитого адвоката была жена, но они уже несколько лет состояли в разводе. Ближайших родственников, которые могли потребовать тело для захоронения, у него не было. – Ладно, – наконец сказала Труди, – давайте займемся ограничителем усилия на ремнях безопасности. Они просмотрели отчет дорожного патруля. Они просмотрели рапорты кармельский полиции и местного шерифа. Они просмотрели заключение следователя НУБД. Они изучили фотографии. Затем появилась Сидни. Главный следователь выглядела очень уставшей, но счастливой. Она сразу же заметила, что все по горло заняты делом, поэтому только поприветствовала присутствующих и не стала им мешать. Наконец Труди нашла черно-белое фото, изображающее салон «Камри-98» изнутри. Поскольку машина сперва ударилась крышей о камни, то салон представлял собой жалкое и пугающее зрелище: измочаленное рулевое колесо, приборная доска просто вбита в сиденья, ветрового стекла как не бывало, а крыша со стороны водителя вдавлена внутрь почти до самого сиденья. – Что не так на этой фотографии? – спросила Труди. – Сработала только одна подушка безопасности, – ответил Лоуренс. – Со стороны пассажира, – добавил Дарвин и усмехнулся. «Я их таки достал!» – А я и не заметила, – нахмурилась Сид. Лоуренс бросился к телефону и позвонил кармельскому шерифу. Поскольку следствие еще не закончилось, полиция бесцеремонно отволокла «Камри» Уиллиса на стоянку рядом с кузовной мастерской. – Кармель настолько неземной город, что в нем даже нет кладбища старых автомобилей, – заметила Труди, пока Лоуренс что-то наспех внушал шерифу. – Хорошо, тогда вышлите туда помощника или еще кого, – говорил Лоуренс, – нам срочно нужно знать ответ. Затем он молча слушал и кивал. – Пусть прихватит с собой сотовый и сразу же перезвонит нам. Что? А, ладно… Я буду на связи. Лоуренс прикрыл мембрану ладонью и сообщил: – У помощника нет сотового, но они решили держать связь по радиотелефону. Наверное, эта мастерская метрах в двухстах от конторы шерифа. – Не понимаю, – пожала плечами Сидни. – Что вы ищете? – Ограничитель усилия на ремне безопасности, – ответила Труди. Сидни покачала головой. – Там этого не было, – сказала она. – Я читала все рапорты. Они сходятся на том, что Уиллис не был пристегнут ремнем безопасности. Его выбросило через переднее стекло – вместе с самим стеклом или сразу после того, как оно разбилось. – Но взгляни на снимок, – попросил Дар, протягивая фотографию. – Сработала одна подушка безопасности. – Со стороны пассажира, – кивнула Сид, разглядывая фото. – И что это может значить… Вы думаете, неисправность датчиков системы безопасности? – Неисправность этих датчиков – настолько редкая поломка, что мы даже не будем принимать ее во внимание, – покачала головой Труди. Она помолчала, прислушиваясь к тому, что говорил в трубку Лоуренс. – Отлично… Да, день добрый, помощник Сомс… Это Лоуренс Стюарт из агентства Стюартов. Вы стоите возле «Камри» Уиллиса? Хорошо. Да, так оно и есть. Ага, хорошая была машина, – продолжал Лоуренс, заведя глаза под лоб. – Помощник, посмотрите, будьте добры, на водительское кресло и… Да, я понимаю, что там все всмятку да еще залито кровью, но я же не прошу вас залезать внутрь. Дверцы со стороны водителя нет… Нет? Великолепно, значит, это та самая машина. Дар разложил перед Сидни еще несколько фотографий. На одной из них был снят большой камень, у которого лежала смятая автомобильная дверца. Сид молча закусила губу. – А теперь загляните под сиденье. Да, туда, где крепится ремень безопасности. Там должен быть замок, ну, такая небольшая коробочка… нашли? Хорошо. А на ней – красная табличка. Есть? Несколько мгновений Лоуренс напряженно слушал. – Красная табличка, – повторил он. – Она просто бросается в глаза. На ней написано «Поменяйте ремни». Он снова прислушался. – Вы уверены? Большое спасибо, помощник. Лоуренс положил трубку и вернулся к столу. – Таблички нет. – Если бы мистер Уиллис был пристегнут, – начала объяснять Труди, – на ремни безопасности обрушилась бы перегрузка в одну целых семь десятых g. Мы видели результаты действия такого напряжения и на ремни, и замок. Кроме того, в «Тойоте» есть маленькая красная табличка, которая выскакивает в случае аварии. Во время ремонта она напоминает механикам о необходимости заменить ремни безопасности. – Но патрульные и мои люди были уверены, что Уиллис не пристегнулся, – сказала Сид, все еще не понимая, к чему ведет Труди. Дар помахал в воздухе одним из рапортов. – А его секретарша заявила, что Уиллис всегда пристегивался. Он говорил, что за свою жизнь навидался калек и покойников после дорожно-транспортных происшествий. – Но в ту ночь он был пьян, – заметила Сидни. – Не настолько, чтобы себя не помнить, – отозвалась Труди. – Даже в таком состоянии он не мог перепутать педали тормоза и газа. К тому же, даже в состоянии опьянения, люди способны совершать определенные действия последовательно, по привычке. И он обязательно пристегнулся бы, пусть даже не с первой попытки. Сид потерла подбородок. – И все равно я не понимаю, при чем тут подушка перед пассажирским сиденьем, – призналась она. – Чтобы сработала подушка безопасности, необходимо, чтобы на этом сиденье находился человек или какой-нибудь груз, – объяснил Лоуренс, разглядывая фотографию с развороченным салоном автомобиля и единственной сдувшейся подушкой безопасности. – Во время падения он мог перелететь на это сиденье, – начала Сидни и тут же запнулась, поняв несуразность этого предположения. – Нет… – Именно, – согласился Дарвин. – Когда машина упала с обрыва, мистер Уиллис, вместе со всей «Камри», ушел в свободное падение. Он не был пристегнут, а значит, воспарил над сиденьем, как космонавт на орбите. – Поскольку на сиденье не было никакого груза, датчики системы безопасности не сработали, – сказал Лоуренс. – Даже во время страшного удара о камни на берегу. – Но ведь одна подушка сработала, – заметила Сид. – Со стороны пассажира, – мрачно усмехнулась Труди. – И не от удара о камни, а… – О деревянный забор! – выпалила Сид, наконец поняв, в чем дело. – Но если мистер Уиллис находился на пассажирском сиденье, когда машина врезалась в забор на скорости тридцать пять миль в час, как установило следствие… – Почему не сработала подушка со стороны водителя? – закончил Дарвин. – Кто-то же сидел за рулем. Если только… – Если только водитель не выпрыгнул перед тем, как машина врезалась в забор, – задумчиво промолвила Сидни. – Кто-то дал Уиллису по голове, справедливо рассудив, что после падения на камни эта рана не будет выделяться среди остальных повреждений, направил «Камри» на деревянный забор, а сам выпрыгнул. Естественно, машина проломила забор и рухнула в пропасть. – Подушка со стороны водителя не сработала от удара о заграждение, поскольку датчики установили, что на водительском сиденье никого нет, – продолжил Лоуренс. – По той же причине подушка безопасности не включилась и от удара о прибрежные камни. Не потому, что Уиллис парил в свободном падении, как решили следователи, а потому, что он сидел со стороны пассажира. – Но его выбросило через переднее стекло, – заметила Сидни. Дар кивнул. – Мне еще нужно сделать графическую реконструкцию происшествия на компьютере, но баллистические расчеты согласуются с первичным ударом передней левой части «Камри» о валун. Судя по направлению вектора силы, пассажир – непристегнутый, при уже раздувшейся подушке безопасности – должен был вылететь по касательной, поперек и наружу, на сторону водителя. Если бы подушка со стороны пассажира сработала от удара о камни внизу… – Его бы сплющило внутри обломков машины, – закончила Сидни, охватив мысленным взором всю картину происшедшего. – Что объясняет, почему дверца со стороны водителя ударилась о валун наверху, – добавила Труди. – Это не Уиллис пытался выбраться наружу. Это убийца выпрыгнул из машины, не захлопнув за собой дверцу. Она осталась открытой и от удара о камень оторвалась. Сид снова посмотрела на кошмарные снимки. – Наглые ублюдки! Их самоуверенность граничит с тупостью. Зазвонил сотовый телефон Сидни. Прижав трубку к уху, она встала и отошла в сторону. Когда Сид вернулась к столу, на ней лица не было. Даже губы побелели. Нетвердой рукой Сидни ухватилась за край стола и буквально упала в кресло. У нее дрожали руки. Дар и Лоуренс бросились к ней, а Труди поспешила набрать в стакан воды. – Что? – спросил Дарвин. – Том Сантана и трое агентов ФБР, которые работали под прикрытием… – начала Сид, с трудом выговаривая слова. – Это звонил Уоррен… Полиция обнаружила… тела всех четверых… полчаса назад, в багажнике старого брошенного «Понтиака». Трясущейся рукой она взяла протянутый Труди стакан и, проливая воду на подбородок, выпила. – Как… – начал Дар. – По два выстрела из ружья, в каждого, – сказала Сидни более твердым голосом, хотя бледность так и не ушла с ее лица. – В голову и сердце… – Боже мой, – прошептал Лоуренс. – Кто же в здравом уме станет стрелять в агентов ФБР и следователя из государственной комиссии? – В здравом уме – никто, – отозвался Дарвин. – Мерзкие, наглые твари, – процедила Сид. У нее снова задрожали руки, расплескивая воду из стакана. Дар понял, что на этот раз Сидни трясет не от горя, а от злости. – Но теперь мы знаем, кто предупредил Трейса и его стрелков, – добавила она. – И кто? – спросила Труди. В глазах Сидни Олсон стояли слезы, но она все-таки попыталась улыбнуться. – Приходите завтра на совещание в восемь утра, – прошептала она. – Тогда и узнаете.
ГЛАВА 20 Ф – ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Совещание, которое собрала Сид на следующий день, во вторник утром, было самым конструктивным из всех подобных сборищ, какие довелось повидать Дарвину на своем веку. Прошлым вечером Сидни уехала сразу же после того трагического звонка. Дар остался на ужин. Но прежде чем сесть за стол, он обошел дом, чтобы убедиться, что нигде не притаился очередной снайпер. Наконец он сделал вывод, что все чисто. Приземистое жилище Стюартов стояло на вершине холма, окруженное широкими газонами с низкой травой и – с южной стороны – густым лесом. Но до деревьев было не меньше восьмисот ярдов и, кроме того, под таким углом стрелять было крайней неудобно. Обитатели дома могли бы стать неплохой мишенью, только если выйдут на веранду, нависающую над склоном холма. Но, посовещавшись, они решили, что подставляться никто не хочет и не будет. Домик Стюартов располагался ниже, чем улица на соседнем холме, но постройки там были слишком скученными, а движение на улице не прекращалось даже ночью. К тому же Ларри и Труди навесили ставни на окна с северной стороны дома, не оставив снайперам ни единого шанса. И тем не менее, прежде чем отправляться домой, Дарвин прокатился на машине по окрестностям, проверяя, все ли в порядке. Но в восемь утра, когда началось заседание, все было явно не в порядке. Сидни Олсон выглядела измотанной и уставшей, а все остальные были недовольны, что их собрали так рано. Проявлялось у всех это по-разному: кто был мрачен, кто нервничал, а кто и злился. Большая часть собравшихся присутствовала и в пятницу, на прошлом заседании – Сид, Паульсен, специальный агент Уоррен, еще один фэбээровец и Боб Гаусс, который был начальником покойного Сантаны. Рядом с Уорреном сидел лейтенант Барр из отдела внутренних дел полицейского отделения Лос-Анджелеса. Дарвин, Ларри и Труди устроились по другую сторону стола, в дальнем конце которого восседал окружной прокурор Вильям Рестанцо. Рестанцо казался с виду тем, кем и был на самом деле, – настоящим политиком. У него был тщательно подобранный и отглаженный костюм, строгая седая прическа и неподвижная нижняя челюсть. Сидни сразу же перешла к делу. – Вы все знаете, что четверо наших людей, работавшие на комиссию по расследованию, были вчера убиты, – сказала она. – Следователь Том Сантана, спецагент Дон Гарсиа, спецагент Билл Санчес и спецагент Рита Фоксуорт. Под видом подготовки к проведению инсценированного несчастного случая их заманили в отдаленный район округа и застрелили из винтовки. Сид умолкла, чтобы перевести дыхание. – Подробности убийства не относятся к вопросу сегодняшнего заседания. Скажу только, что специальный агент Уоррен продолжает вести расследование. Детектив Фернандес поднял голову и недоуменно взглянул на Сидни. – Если детали не имеют отношения к делу, следователь Олсон, то почему нас всех собрали? Сид спокойно выдержала его взгляд. – Чтобы арестовать ответственного за эти убийства, – ответила она. Наступила тишина. Дар заметил, что Лоуренс слегка поерзал, устраиваясь так, чтобы было сподручно выхватить пистолет из кобуры. Возможно, он сделал это машинально. – Мы знали, что в последние месяцы из высших кругов комиссии по расследованию происходит утечка информации, – продолжила Сид. – И отчасти поэтому Том решил внедриться под прикрытием в организацию преступников. Мы прослушивали ваши телефоны… Сид помедлила, ожидая вспышки протеста. Все стиснули кулаки, сжали губы и засверкали глазами, но промолчали. – И что дало прослушивание? – спросил Саттон хриплым утренним голосом заядлого курильщика. – Ничего, – ответила Сидни. – Человек, который брал взятки от преступников, подозревал, что за ним могут следить, поэтому держался настороже. Прослушивание телефонов не выявило ничего незаконного в переговорах. – Так какого… – начал Фернандес. – Также он не решался звонить из местных телефонов-автоматов, – продолжила Сид. – Разумный шаг с его стороны, поскольку ближайшие телефоны-автоматы в его районе тоже прослушивались. Подозреваемый пользовался сотовым телефоном, добытым агентами «Альянса» и зарегистрированным на несуществующего владельца. Мы полагаем, что таких телефонов было несколько, для срочной связи по важным вопросам. Сид расстегнула куртку, и Дарвин заметил у нее на поясе девятимиллиметровый «ЗИГ-зауэр». Потом она обратилась к Паульсен, адвокату НУБД: – Вы недоучли, Жанетт, что мы настолько серьезно занялись поисками, что следовали за всеми подозреваемыми со сканерами сотовых телефонов. И она нажала кнопку на магнитофоне, стоявшем на столе. Среди треска и шума раздался голос Паульсен – слабый, но вполне узнаваемый: – Сантана из комиссии по расследованию страховых преступлений и трое агентов ФБР собираются внедриться под прикрытием в вашу «Помощь беспомощным». Низкий мужской голос пробубнил что-то невнятное. – Нет, я не знаю имен этих агентов, – ответила Паульсен. – Двое мужчин и женщина, но они выйдут на связь с вами одновременно с Сантаной. Это все, что я могу пока сказать. Адвокат Паульсен сорвалась со своего места, словно ее ткнули иголкой. Ее лицо и шея пошли красными пятнами. – Я не собираюсь выслушивать эту гадость. Чушь! За шесть месяцев вы не смогли раздобыть мало-мальски ценной информации и решили свалить все на меня… Она начала протискиваться мимо Сидни, направляясь к двери. – Я буду говорить только в присутствии моего адвоката. Сид схватила женщину за руку, завернула ее за спину и припечатала Паульсен лицом о стол. Выхватив из-за пояса наручники, она проворно защелкнула их на запястьях адвоката прежде, чем та успела поднять голову. – Вы имеете право хранить молчание… – начала Сидни. – Сука! – завизжала Паульсен, но Сид вцепилась ей в волосы и со всего маху опять приложила о стол. – Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде, – продолжала главный следователь ровным, спокойным голосом. – Вы имеете право на услуги адвоката… Она рывком подняла скованные за спиной руки Паульсен, так что та захлебнулась криком и замолчала. – Мы займемся этим, главный следователь, – сказал Уоррен. Он и его коллега из ФБР взяли рыдающую Паульсен под руки и вывели из зала, на ходу продолжая излагать ее права. Когда за ними захлопнулась дверь, Сид брезгливо вытерла руки о собственные льняные брюки. – Мы проследили трансфер ста пятидесяти тысяч долларов на тайный счет, который адвокат Паульсен открыла восемь месяцев назад, – сообщила она. До этой минуты голос Сидни был твердым и спокойным, но сейчас она сделала паузу, чтобы отдышаться. – Следующее совещание комиссии по расследованию состоится через неделю. Окружной прокурор Рестанцо согласился принять участие в работе нашей группы и будет присутствовать на следующем заседании. Я надеюсь, что к тому времени мы значительно продвинемся в нашем расследовании. Сидни Олсон оглядела всех присутствующих. – Многие из нас знали следователя Сантану… Я была знакома с Томом, его женой Мэри и их двумя детьми в течение четырех лет. Тома будут отпевать завтра, в десять утра, в Лос-Анджелесе, в католической церкви Святой Троицы. Это за бульваром Резеда, рядом с университетским городком. Позже мы сообщим о похоронах спецагентов Гарсии, Санчеса и Фоксуорт.Только на похоронах Сантаны Дар осознал, что ни разу не бывал в католической церкви после похорон Дэвида и Барбары. После службы все вышли на залитый солнцем церковный дворик. Вскоре должна была последовать похоронная церемония у могилы, и Сид сказала Дарвину, что хочет поговорить с ним, когда все закончится. Дар кивнул. В темных стеклах ее солнцезащитных очков он видел свое отражение – высокий мужчина в черном костюме и черных очках. Сидни не плакала ни разу – ни когда слушала службу, ни когда успокаивала Мэри Сантана и двоих ребятишек. – Назови место и время, – предложил Дарвин. – Лоуренс и Труди ждут нас на месте гибели Эспозито к четырем часам, где будут проводить следственный эксперимент, – сказала Сид. – Давай после встречи. В твоей квартире? – Я тоже буду там. Когда Дарвин вместе с Лоуренсом возвращались в Сан-Диего на отремонтированной «Акуре», у Лоуренса зазвонил сотовый. – В точку! – обрадовался Лоуренс. – По поводу фотографий? – поинтересовался Дар. – Ага. Я показал их парням, которые работали на стройке в то воскресенье – не Варгасу, он не очень-то стремился помочь нам, – а другим… И двое опознали этого типа. Они видели, как он шатался по стройке в каске. Кто он такой, они не знают. Думали, что нанялся подработать на выходные. – Один из русских? – спросил Дарвин. – Нет. Бывший боевик из Нью-Джерси, Том Констанца. – Они согласны давать показания в суде? – Понятия не имею, – пожал плечами Лоуренс. – Я же не говорил им, что идет расследование по поводу убийства и что этот парень работает на мафию. Просто показал фотографии. Честно говоря, на их месте я бы не стал выступать в суде.
Окружной прокурор Рестанцо и три его помощника топтались на строительной площадке, и все четверо не выражали особого восторга по поводу царившей там грязи. Двое полицейских в штатском обнесли лентой место у подъемника и стояли на страже, отгоняя заинтригованных местных рабочих. Капитан Фернандес стоял, скрестив руки на груди. Труди возилась с видеокамерой, установленной на трехногом штативе. Лоуренс встал под строительным подъемником, на то самое место, где находился погибший Джордж Мерфи Эспозито. Как и во время несчастного случая, подъемник, висящий на высоте тридцати шести футов, был нагружен пиломатериалами весом в четверть тонны. Фернандес объяснял ситуацию всем присутствующим: – Возникли противоречия, следует ли отнести этот инцидент к несчастным случаям или это одно из цепочки предумышленных убийств неугодных «Альянсу» свидетелей. Мистер Стюарт взялся ответить на этот вопрос. Он указал на Лоуренса, который как раз кивал Труди. На видеокамере зажегся красный огонек. Лоуренс откашлялся и заговорил: – Итак. Мы все знаем, что результаты вскрытия и обстоятельства, сопутствовавшие смерти адвоката Эспозито, свидетельствуют, что он не мог открыть кран гидравлической системы и погибнуть через две секунды, не забрызгав грудь гидравлической жидкостью. На фотографиях патологоанатома явственно видно, что жидкость попала только на штанины его брюк и носки ботинок. Несколько рабочих с этой строительной площадки опознали по фотографии человека, которого видели здесь в то воскресенье, когда погиб мистер Эспозито. Этот человек – Том Констанца, бывший информатор мафии. Сейчас он работает на адвоката Далласа Трейса. – Мне не нравится термин «мафия», – поморщился окружной прокурор Рестанцо. – Мафия ассоциируется с Италией и Сицилией и бросает тень на определенную этническую группу. Всем известно, что так называемый «Синдикат» давно уже не является принадлежностью одной-единственной этнической группы. Мы предпочитаем термин «организованная преступность». – Хорошо, – согласился Лоуренс. – Повторю для записи. Мистер Том Констанца прежде был членом того ответвления многонациональной, многоэтнической и равной по возможностям для всех наций организованной преступности, которое даже сегодня состоит преимущественно из итальянцев и итало-американцев и обычно именуется «мафией». Он помолчал, затем продолжил, глядя на окружного прокурора: – Итак, если вы собираетесь продолжать расследование, значит, вам нужны доказательства, что это не несчастный случай, а убийство. Сейчас я представлю вам эти доказательства. В данную минуту я нахожусь на том самом месте, где стоял мистер Эспозито за две секунды до того, как давление в гидравлической системе подъемника упало и он обрушился на мистера Эспозито. Не желает ли кто-нибудь присоединиться ко мне, когда мы начнем следственный эксперимент? С минуту все стояли не двигаясь. Затем Дарвин вышел вперед и встал под платформой, рядом с Лоуренсом. Он не представлял, к чему клонит его друг, но полностью доверял его профессионализму. Дарвинские черные туфли от Болла и нижняя часть штанин его брюк от Армани забрызгались грязью, но Дар не обратил на это внимания. Он умел чистить ботинки и доводить их до зеркального блеска подручными материалами – тряпочкой и простым плевком. – Господин окружной прокурор, не могли бы вы открутить кран гидравлического подъемника? – попросил Лоуренс. Огромная платформа висела в тридцати футах над его головой… и головой Дарвина. – Там грязно, – нахмурился Рестанцо, который, судя по всему, был все еще недоволен упомянутой «мафией». – Я могу, – вызвался капитан Фернандес. Он прочавкал по грязи и встал рядом со стойкой подъемника, возле крана. Лоуренс помедлил, поджидая подбегавшую Сидни Олсон. – Простите за опоздание, – сказала она, слегка задыхаясь от быстрой ходьбы. – Мы как раз собираемся продемонстрировать, как это случилось, – объяснил Лоуренс. – Капитан, отверните, пожалуйста, гидравлический кран. Дар покосился на Лоуренса. Он стояли спокойно и недвижимо, скрестив руки, а массивная платформа нависала сверху, как дамоклов меч. Дар мысленно прикинул, успеет ли он схватить Лоуренса в охапку и выпрыгнуть из-под падающей громадины. Простейшее уравнение с простейшим ответом – «нет». Фернандес пожал плечами и принялся откручивать вентиль крана. Тот поддался, выпустив струю гидравлической жидкости, и платформа подъемника соскользнула вниз примерно на шесть дюймов. – О черт! – прошипел Фернандес, отпрыгивая в сторону. – Откройте его полностью, пожалуйста, – попросил Лоуренс. Капитан, явно чувствующий себя убийцей, вернулся к крану. Он подходил так настороженно и неохотно, словно его уговаривали взяться не за вентиль, а по меньшей мере за хвост гремучей змеи. Он повернул кран еще на пол-оборота. Платформа задрожала, но падать не собиралась. – Откройте полностью, – повторил Лоуренс. Но кран отказывался открываться. Фернандес приналег на вентиль, попробовал другой рукой, снова приналег. Наконец он взялся за вентиль обеими руками. – Вот паскудная хрень… простите, мистер Рестанцо… но эта хреновина не хочет поворачиваться! Лоуренс вышел из-под платформы. Дар с облегчением покинул опасную зону вслед за ним. Лоуренс подошел к крану и положил руку на массивный вентиль, став так, чтобы Труди было удобно снимать. – Господин окружной прокурор, главный следователь Олсон, капитан Фернандес, джентльмены… этот кран находится в обычном положении, каким он и был в тот день, когда погиб адвокат Джордж Мерфи Эспозито. Адвокат Эспозито не смог бы собственноручно отвернуть этот вентиль – ни случайно, ни специально. Как вы видите, он устроен таким образом, что имеет относительно свободный ход – настолько, что его можно повернуть вручную на два оборота. Чтобы открыть его полностью, необходим средних размеров гаечный ключ. Элементарная механика. Лоуренс повернулся к Сидни Олсон и окружному прокурору. – Тот, кто убил мистера Эспозито – а у нас есть свидетели, видевшие в тот день бывшего боевика мафии, Тома Констанцу, на строительной площадке… Так вот, убийца, должно быть, одной рукой наставил на мистера Эспозито пистолет, а второй открывал кран. Гаечным ключом. – Мы не нашли никакого гаечного ключа на месте происшествия, – заметил Фернандес. – Естественно, – кивнул Лоуренс. После чего он махнул Труди, чтобы она прекратила съемку, и отошел от подъемника. Дарвин последовал за ним.
Прежде чем вернуться в Эскондидо, Труди и Лоуренс заскочили к Дарвину, чтобы выпить и перекусить. Сид не спешила начинать разговор, о котором она упоминала на похоронах Тома Сантаны. – Ну, теперь в деле Эспозито появилась ниточка – Констанца, – сказала Труди. – Дело Уиллиса пересматривается, ФБР забрало его «Камри». Они осматривают каждую щелочку, надеясь отыскать хотя бы клочок бумаги или листок из записной книжки. – Уоррен из кожи вон лезет, – заметила Сидни. – Еще бы, – согласился Лоуренс, – погибли трое оперативных агентов. – Даллас Трейс сошел с ума, что ли? – возмутилась Труди. – Он же тридцать лет работал в суде… Неужели он не знает, что единственное преступление, которое не сойдет тебе с рук, – это убийство защитников правопорядка? – Не думаю, что сейчас делами заправляет именно Трейс, – сказал Дарвин, прокашлявшись. – Если он вообще ими когда-то заправлял. Все трое уставились на Дара. – То, что произошло, было выполнено в привычном для России стиле, – продолжал он. – Этой страной управляют преступные воротилы. И если правительственные чиновники или полиция становятся им поперек дороги, их просто убирают. Вот и все. – Это верно, – начала Сид. – У них нет законов по борьбе с коррупцией или чего-то в этом роде, которые позволяли бы федеральным или местным силовым структурам уничтожить ублюдков. Русские банды держат в руках и почти полностью контролируют производство угля, природного газа, алкоголя, половины продуктов питания и электроэнергии. – Другими словами, – вступила в разговор Труди, – «Альянс» втянул в это дело русских, а теперь «Организация» взяла все в свои руки? – Я уверен в этом, – ответил Дар. – Я считаю, что Даллас Трейс и другие, которые собирались поживиться за счет страховых компаний, оседлали тигра… или, скажем так, медведя. А теперь им остается только держаться изо всех сил, чтобы не свалиться и не быть съеденными. – Слишком поздно, – тихо промолвила Сид, глядя перед собой. – Они зашли слишком далеко. Их все равно съедят. Всех, даже русского медведя… Надеюсь, их смерть будет медленной и болезненной.
– Так о чем ты хотела со мной поговорить? – спросил Дарвин у Сид, когда Стюарты ушли. Сидни сидела на диване, напротив его кресла, и думала о чем-то своем. Она подняла голову, и их взгляды встретились. Ее голубые глаза светились умом и теплотой, что и привлекло Дарвина во время их первой встречи. – Собственно, я хотела не поговорить, – сказала Сид, – а предложить кое-что. – Да? – Я хотела бы поехать с тобой в хижину в эти выходные. Не в качестве телохранителя и не ради очередного совещания по поводу расследования. А чтобы остаться с тобой наедине. Ты и я, и больше никого. Эти слова поразили Дарвина в самое сердце. Он помедлил, прежде чем ответить. – Это может быть опасно… находиться рядом… – начал он и запнулся, собравшись договорить: «со мной», но сказал: – С хижиной. – Разве существует безопасное место, если они идут за нами по пятам, Дар? – улыбнулась Сидни. – Если не хочешь ехать со мной вместе, ничего страшного. Но в данную минуту ты вбезопасности. Дарвин сообразил, что последняя фраза – с подтекстом, но каким – он не понял. – Нужно еще заехать в гостиницу за твоими вещами? – спросил он. Сид пнула ногой небольшую сумку, которую принесла с собой. – Я уже собралась. Они выехали из города на «Лендкруизере», нагруженном старой винтовкой Дарвина, позаимствованным у капитана Батлера оружием и боезапасом, укрытыми брезентом, и кое-какими продуктами – бутербродами, зеленым салатом и бутылкой вина. Внезапно Дарвину пришла в голову одна мысль. Довольно нахальная, но если Сид подразумевала то, о чем он заподозрил, то она не собирается спать в пастушьем фургоне. «Черт, – подумал Дар, – надо было заскочить в аптеку на выезде из города!» И неожиданно залился румянцем. Все эти годы он хранил верность Барбаре, и после ее смерти у него больше никого не было. Сидни легонько коснулась его руки. Дар посмотрел на нее. – Ты веришь в телепатию? – снова улыбнувшись, спросила Сид. – Нет, – ответил Дарвин. – Я тоже, – сказала главный следователь. – Но можно я сделаю вид, что на минуточку поверила? – Конечно, – согласился Дар, впиваясь глазами в дорогу и надеясь, что его шея и щеки не настолько красные, как ему кажется. – Перед нами стоит, возможно, одна и та же дилемма, Дар, – начала Сидни. – Мы не настолько молоды и стеснительны, чтобы обмениваться намеками и ходить вокруг да около. Но ничего плохого в этом нет. Дар упорно не сводил взгляда с дороги. – До замужества у меня была довольно скучная жизнь, – призналась она. – И мы с Кевином хранили верность друг другу. Просто мы были слишком разные. С тех пор, по множеству причин, у меня никого не было. – У нас с Барбарой… было то же самое, – сказал Дарвин. – Я не… В смысле, я решил больше не… Она снова коснулась его руки. – Не нужно ничего объяснять, Дар. Я просто хотела сказать, что мы оба этого хотим. Мы не дети. И, возможно, наше дурацкое воздержание за все эти годы позволит нам лучше понять и принять друг друга. Дар бросил на нее быстрый взгляд. – Если ты и дальше будешь угадывать мои мысли, – признался он, – я поверю в телепатию.
Они подъехали к хижине на закате. Золотой свет заходящего солнца пробивался через неплотно прикрытые ставни единственной жилой комнаты. – Хочешь сперва перекусить или чего-нибудь выпить? – спросил Дар. – Нет, – ответила Сидни. Она сняла кобуру с пояса, отцепила три запасные обоймы, висевшие на изящном кожаном ремешке, и положила все это на кресло. Дарвин так давно не помогал женщине раздеваться, что успел подзабыть, что пуговицы на женской одежде находятся с другой стороны. Оставшись в простых трусиках и бюстгальтере, Сид предстала во всей красе – золото и белизна. Дар наконец припомнил, как расстегиваются все эти крючки и застежки, так что быстро помог ей избавиться от последних покровов. Груди Сид были полными и тяжелыми, а бедра крепкими и широкими. Перед ним стояла взрослая, зрелая женщина. – Твоя очередь, – сказала она, помогая ему стянуть через голову футболку. Затем она взялась за его пояс. – Мне с самого начала было интересно, какое белье ты носишь – в обтяжку или свободное, – прошептала она между поцелуями, прижимаясь полной грудью к его обнаженной груди. И расстегнула «молнию» на ширинке его хлопчатобумажных штанов. – Вот это да! – изумленно воскликнула Сид. – Привык за время службы во Вьетнаме, – признался Дарвин. – В джунглях никто не носит нижнее белье. – Как романтично, – промурлыкала Сид, улыбаясь. Она обняла его, потом ее рука скользнула ниже, еще ниже… Простыни были свежими и прохладными. Сид отбросила подушки в сторону. Дар целовал ее губы, пульсирующую жилку у основания шеи, ее груди и твердые соски. Их пальцы переплелись еще до того, как они начали заниматься любовью. Сидни целовала его долго и нежно. Она закинула руки за голову, их пальцы тесно сплелись. Дар прижимался к ней всем телом, стремясь ощутить, вжаться, проникнуться ею еще сильнее, глубже, полнее.
Они сели ужинать около одиннадцати вечера. Дарвин, в одном халате на голое тело, жарил на улице мясо на гриле, пока Сид резала салат и варила картошку. Оба дружно решили, что печь картошку – слишком долго, можно не дождаться и помереть с голоду. На столе ждала открытая бутылка каберне-совиньона. Когда они наконец сели за стол, Дар жадно набросился на еду. Сидни ела с неменьшим аппетитом. Дарвин успел позабыть, как это прекрасно. Нет, он, конечно, помнил удовольствие от секса – такое не забывается, – но не помнил тысячу мелких удовольствий от близости с женщиной. О том, как приятно лежать рядом обнаженными и болтать, пока снова не захлестнет новая, жаркая волна желания; принимать вместе душ и превращать обычное мытье головы в настоящее любовное представление; смеяться, гуляя по зеленой траве босиком, в банных халатах; проголодаться и готовить вместе ужин. И чувствовать себя счастливым. Сидни и Дар налили себе по стакану «Мак-Аллана» вместо десерта и сели у камина. Ночь была теплой, но они все равно разожгли в нем огонь и не стали закрывать ставни. В распахнутые окна вливались запахи хвои, шорох леса, одинокий щебет ночных птиц и далекий вой койота. Так и не допив виски, они вернулись в постель и занялись любовью. На этот раз их объятия были более страстными и неистовыми, чем в предыдущий. И они вскрикнули одновременно, сливаясь в единое целое. Потом они лежали на мокрых простынях, гладя друг друга и вдыхая смешавшиеся пряные ароматы собственных тел. – Итак, – мягко сказала Сидни, – самое время мне все рассказать. Дар приподнялся на локте. – Что рассказать? – спросил он. – Почему ты пошел в морскую пехоту и стал снайпером. В угасающем свете камина ее глаза загадочно мерцали. Дарвин рассмеялся. Он ожидал услышать что-то более… романтичное, что ли. Сид снова заговорила – таким же мягким, но серьезным голосом: – Я хочу понять, почему юный Дарвин Минор, такой интеллигентный и впечатлительный молодой человек, решился пойти в морскую пехоту и стать снайпером. Дар лег на спину и уставился в потолок. Странно, но ни сейчас, ни прежде он не был готов отвечать на этот вопрос. Он не рассказывал об этом никому, даже Барбаре. – Я уже говорил тебе, что увлекался спартанцами. Но так и не сказал почему, – начал он. Дарвин помолчал с минуту, прежде чем продолжить. – Мне было страшно, – наконец признался он. – Я был очень боязливым ребенком. В семь лет… Я помню этот день, помню, что сидел на бордюре у тротуара и вдруг так ясно осознал… В семь лет я понял, что когда-нибудь умру. Уже тогда я был атеистом. И знал, что загробной жизни не существует. И эта мысль испугала меня до чертиков. – Все мы рано или поздно это осознаем, – прошептала Сидни. – Правда, обычно в более позднем возрасте. Дар покачал головой. – Этот страх не ушел. Мне стали сниться кошмары. Я мочился в кровать. Я боялся оставаться один, без родителей, даже по дороге в школу. Потому что неожиданно понял, что умру не только я, но и они тоже. А вдруг они умрут, когда я буду сидеть в школе, в своем третьем классе, на занятиях мисс Хоул? Сид даже не улыбнулась. А через минуту сказала: – Значит, ты пошел в морскую пехоту, чтобы стать храбрым… избавиться от страха? – Нет, – ответил Дарвин. – Не совсем. Я рано закончил школу, за три года прошел колледж и получил степень по физике, но все это время меня больше всего занимали смерть, страх и контроль. Тогда я и начал интересоваться спартанцами и их идеями о контроле над страхом. Он повернулся на бок и посмотрел на Сид. – А потом началась война во Вьетнаме… Она положила прохладную ладонь ему на грудь. – И поэтому морская пехота США, – тихо промолвила она. – Ну да, – ответил Дар, слегка пожав плечами. – Ты думал, что морские пехотинцы до сих пор владеют тайнами контроля над страхом. – Что-то в этом роде, – неохотно признал Дарвин, понимая, как глупо это звучит. – И как? Дар задумчиво пожевал нижнюю губу. – Нет, – наконец ответил он. – Они много позаимствовали у спартанцев… пытались дотянуться до их уровня… Но растеряли суть учения и всю философию, на которых базировалось мировоззрение спартанцев. – Снайпер… – начала Сидни. – Я знакома с несколькими снайперами из оперативных групп ФБР, но они всегда держались особняком… – Это отдельная каста, – согласился Дар. – Видимо, именно поэтому меня тянуло к ним. Морских пехотинцев учат быть частью чего-то большего, армии, а снайперы работают в одиночку… или по двое. Учитываются малейшие факторы: местность, скорость ветра, расстояние, освещенность… все. Ничего нельзя упускать. – Я поняла, почему тебя к ним тянуло, – прошептала Сид. – Постоянная работа мысли. – Парня, который основал мою снайперскую школу, звали Джим Ленд, – сказал Дарвин. – Уже после войны я случайно узнал, что Ленд написал небольшое пособие для снайперов под названием «Один выстрел – смерть». Хочешь цитату оттуда? – Да, – шепнула Сид. – И дословно, если можно. Я так люблю слушать всякие нежные глупости в постели. Он улыбнулся. – Капитан Ленд писал: «Требуется определенное мужество, чтобы быть одному – наедине со своими страхами, наедине со своими сомнениями. Не у кого будет черпать силы, кроме себя самого. Это мужество – не обычная храбрость, возникающая из-за переизбытка адреналина. И не бравада, вытекающая из страха, что другие сочтут тебя трусом». – Каталепсия, – тихо сказала Сидни. – Ты рассказывал мне об этом. – Да, – кивнул Дар и продолжил: – «У снайпера нет ненависти к врагу, только уважение к нему или к ней как к противнику. Психологически единственное, что придает снайперу силы, – это знание, что он делает нужное дело, и уверенность, что он наилучшим образом подходит для этого дела. На поле битвы ненависть уничтожит любого, особенно снайпера. Убийство из мести неизбежно исказит его разум». Дарвин перевел дыхание и снова начал цитировать: – «Когда ты смотришь через прицел, первое, что ты видишь, это глаза. Есть большая разница между выстрелом в тень, очертания фигуры, и выстрелом прямо в глаза. Может показаться странным, но первое, что привлекает внимание при взгляде через прицел, это глаза. Из-за этого многие так и не смогли выстрелить…» – Но ты смог, – оборвала его Сидни. – В Далате. Ты смотрел в глаза другому человеку и все равно нажимал на спусковой крючок. Это и был твой секрет выживания все эти годы. – Что именно? – не понял Дарвин. – Контроль, – ответила Сидни. – Постоянное стремление к афобии, стремление любой ценой избежать подчинения демонам. – Возможно, – проворчал Дар. Ему стало крайне неуютно из-за этого психоанализа, и он уже жалел о том, что не сдержался и наболтал лишнего. – Мне не всегда удавалось сохранять контроль. – Невыстреливший патрон, – вспомнила Сид. – Осечка, – кивнул Дарвин. – Через одиннадцать месяцев после смерти Барбары и ребенка. Тогда это казалось… логичным. – А сейчас? – Уже не кажется. Он обнял ее. Они поцеловались. Затем Сид отстранилась, чтобы видеть его глаза. – Обещаешь завтра сделать кое-что для меня, Дар? Кое-что особенное… только для меня? – Да, – согласился он. – Возьмешь меня в полет? Дарвин снова пожевал нижнюю губу. – Ты уже летала, на планере Стива… Ты же знаешь, что мой одноместный и… – Ты возьмешь меня завтра в полет, Дар? – Да, – ответил он.
ГЛАВА 21 Х – ХОРОШО ЛЕТАЕТ ТОТ, КТО ХОРОШО САДИТСЯ
Первоклассный двухместный «Твин-Астир», словно краснохвостый ястреб, бесшумно парил в небесах, стремительно набирая высоту в невидимых воздушных потоках. Во-первых, здесь было поразительно тихо. Единственным звуком, нарушающим полное безмолвие, был легкий шелест ветра. Это воздух мягко обтекал планер. Поднявшись на высоту восемь тысяч футов, Дарвин надел кислородную маску, после чего дотянулся до Сидни и проверил, правильно ли она застегнула свою. С масками на лицах разговаривать затруднительно, поэтому они молчали. И к ласковому шороху воздуха за колпаком кабины начало примешиваться легкое шипение кислорода. Во-вторых, все вокруг было залито солнечным светом. День был чудесный – теплый и ясный. И только несколько легких облачков висели над подветренной стороной высоких гор. Видимость была прекрасная. Солнечные лучи пронизывали прозрачную пилотскую кабину, откуда, с высоты двенадцать тысяч футов, открывался отличный обзор на все 360 градусов. На западе, за горным хребтом, рассеченным глубокими ущельями, мерцал Тихий океан. На юге и востоке ярко блестело озеро Солтон-Си. На севере виднелись восточные окраины Лос-Анджелеса, окутанные облаком смога. А дальше, за Тихуаной и Энсенадой, катились красноватые воды Калифорнийского залива. В-третьих, они были невероятно близко друг от друга. Если бы не ремни безопасности, Дарвин легко мог бы перегнуться через приборную панель и обнять Сид. Дар чувствовал запах шампуня, которым этим утром собственноручно вымыл ей волосы. Он помнил, как теплая вода и пена струились по обнаженным плечам Сидни и в солнечном свете крохотные мыльные пузыри переливались всеми цветами радуги на ее груди и круглых сосках… Дарвин тряхнул головой, заставляя себя сосредоточиться на управлении планером. Когда они приехали в Уорнер-Спрингс, Стив с радостью и немалой толикой удивления предоставил Дару свой «Твин-Астир», причем деньги возмущенно отверг. А Кена просто сразил тот факт, что Дарвин Минор явился с женщиной. Дарвин долго и придирчиво осматривал перед вылетом двухместный планер, потом трижды проверил укладку обоих парашютов – и для себя, и для подруги. – А Стив не заставлял меня надевать парашют, – заметила Сид. – Знаю, – кивнул Дарвин. – Но поскольку ты летишь со мной, ты его наденешь. Дарвин заранее приготовил для Сидни свой старый парашют и теперь долго подгонял его под ее фигуру, затягивал ремни, проверял надежность креплений. Утро постепенно переходило в день, становилось жарко, а Дарвин все не мог успокоиться – он снова и снова рассказывал Сидни о том, как выпрыгивать из планера, как тянуть за красный шнур, как управлять стропами, выбирая направление полета, как сгибать колени при приземлении, и о множестве других подробностей и мер предосторожности. Наконец Сид не выдержала: – Ты сам-то когда-нибудь прыгал из планера с парашютом? – Нет, – ответил Дарвин. – А вообще прыгал с парашютом? – Один раз, лет десять назад, – сказал Дар. – Просто для того, чтоб знать, что в случае необходимости я смогу это сделать. – Ну и как? – Перепугался до чертиков, – признался Дарвин и снова начал проверять снаряжение. Затем они с Сидни поспорили, стоит ли брать ее пистолет с запасными обоймами. Дар заявил, что в полете огнестрельное, да и любое другое оружие совершенно лишнее, к тому же кобура и запасные обоймы только помешают как следует закрепить ремни безопасности и пояс парашюта. Сид ответила, что она – офицер и обязана всегда носить с собой оружие. После чего Дар сдался, предупредив, что уже через полчаса полета этот пистолет успеет намозолить ей зад. Дарвин прихватил с собой кислород, потому что Кен и Стив с восторгом сулили ему целый день прекрасных полетов в восходящих потоках, а значит, можно будет набрать хорошую высоту. Еще несколько минут ушло на обучение Сидни правилам пользования кислородной маской и условным жестам, если необходимо что-то сообщить, когда ты уже надел маску и не можешь ничего сказать вслух. – Да, вот еще что, – сказал Дар, когда Кен начал разгонять планер, буксируя его на своем самолетике. – Если придется надеть маску, постарайся в нее не наблевать. – А что же делать, если меня укачает? – Справа от сиденья лежит пакет. Снимаешь маску, блюешь в пакет и снова надеваешь. – Великолепно, – усмехнулась Сидни, когда «Твин-Астир» поднялся в воздух. – Ты так подробно и увлекательно все описал, что я жду не дождусь, когда же мы наконец полетим. В полете Сид чувствовала себя прекрасно. Более того, она с восторгом озиралась по сторонам, когда самолет-буксир начал поднимать планер в небо, к неспешной карусели потоков теплого воздуха над разогретыми горными склонами. Они пролетели между горами и стопками похожих на линзы облаков и отцепились от буксира над подветренными склонами горной гряды. Дарвин повел машину по кругу, с каждым витком все выше поднимаясь на восходящих воздушных течениях, как на невидимом лифте. Он заметил, что даже в такой прекрасный, погожий день вокруг воздушной карусели вовсе не так спокойно, как кажется, – восходящие потоки окружала зона турбулентных завихрений воздуха. – А с крыльями все в порядке? Они и должны так дергаться? – спросила Сидни, глядя, как вибрируют крылья планера – словно у домашнего гуся, который пытается взлететь. – Ничего страшного, – ответил Дар. – Если крылья не будут изгибаться, то сломаются. Пусть лучше гнутся. Определив, где проходит граница восходящих потоков, Дарвин повел планер сквозь турбулентные завихрения, в самый центр. И сразу же стало тихо, планер пошел легко и гладко, с захватывающей дух скоростью. – Господи! – воскликнула Сидни. – Прямо как в лифте! – Так и есть, – улыбнулся Дар. – Мне кажется, что мы совсем не движемся по отношению к земле, к горам, – сказала Сид. – А мы сейчас и в самом деле не движемся, – согласился Дар. – Ветер достаточно крепкий, чтобы поднимать нас вверх, но по отношению к земле наша скорость – нулевая. Потом мне придется сделать еще один разворот, иначе нас отнесет в сторону, к вон тем «линзам», и мы потеряем восходящий поток… но пока мы прекрасно удерживаем равновесие. В ответ Сидни протянула руку. Дар замешкался лишь на мгновение, а потом взял ее за руку и нежно пожал. На высоте восемь тысяч футов Дарвин решил, что пора надевать кислородные маски – на всякий случай. Они продолжали плавно подниматься ввысь, постоянно поворачивая вправо, потом зависли на месте, словно ястреб, парящий на невидимой колонне восходящего потока. По мере того как планер набирал высоту, небо становилось все более ярким, пронзительно-синим, а горизонт расступался в стороны. Дар постоянно держал в уме трехмерную карту контролируемого и неконтролируемого воздушного пространства этой части Калифорнии, от класса А до класса G, и знал, что сейчас «Твин-Астир» находится в зоне класса Е. Это означало, что они в контролируемом пространстве, но на большом отдалении от ближайшей контрольной вышки. Здесь следовало двигаться, полагаясь на визуальные ориентиры. В зоне Е разрешалось набирать высоту до восемнадцати тысяч футов над уровнем моря, а выше этого потолка проходили маршруты коммерческих авиалиний и реактивных самолетов. Дар вывел машину из восходящего потока на высоте четырнадцать с половиной тысяч футов, выровнял планер в горизонтальное положение и начал описывать широкие круги, постепенно набирая скорость, чтобы удержать высоту. Дар разрешил Сидни немного поуправлять планером с переднего сиденья. Он научил ее правильно выполнять медленные развороты, не снижая скорости и не слишком сильно теряя высоту. Сидни сдвинула кислородную маску и спросила: – А мы можем сделать какие-нибудь фигуры? Дарвин нахмурился, но тоже на время снял маску и переспросил: – Ты имеешь в виду фигуры высшего пилотажа? – Ну да, – кивнула Сидни. – Стив мне сказал, что ты умеешь делать на таких глайдерах и «петли», и «бочки», и всякие другие штуки – не знаю, как они называются. – Не думаю, что тебе понравится, – засомневался Дарвин. – Понравится, понравится! – закричала Сид. – Надень маску, – сказал Дар. – А то у тебя, кажется, начинается гипоксия. И ухватись покрепче… Но не за рули. Убери ноги подальше от педалей. Они все еще парили на восходящих потоках. Планер довольно сильно сносило в сторону. Но вот Дар развернул «Твин-Астир» носом к ветру и чуть опустил нос планера, чтобы машина набрала дополнительную скорость. Дарвин уже надел маску, поэтому не стал больше предупреждать Сидни. Используя элероны, он резко бросил «Твин-Астир» в двойной переворот через крыло, одновременно следя за рулями направления и высоты – так, чтобы нос машины все время был направлен в точку сразу над линией горизонта. Планер благополучно завершил маневр, выйдя из «бочки» именно так, как Дарвин и рассчитывал. – Вау! – воскликнула Сидни. – Давай еще раз! Дарвин покачал головой. Но потом не удержался от желания пустить пыль в глаза (девушка просит!) и заложил вираж вправо, опустил нос планера ниже линии горизонта – чтобы набрать скорость, – снова поймал мощный восходящий поток и стал набирать высоту… А сам тем временем переложил рули и пустил «Твин-Астир» по нисходящей спирали, заставив вращаться вокруг воображаемой горизонтальной оси. Небо и земля поменялись местами – один, два, три, четыре раза. Дар выровнял планер, проверил высоту, быстро глянул на приборную панель и покрутил кольцо скорости Мак-Криди на вариометре, чтобы определить оптимальное время для следующего захода в восходящий поток. – Еще! – закричала Сидни. Дарвин выжал руль на себя, глайдер задрал нос кверху под невообразимым углом и перестал подниматься. Впечатление было примерно такое, как у человека, внезапно шагнувшего в пустую шахту лифта. «Твин-Астир» кивнул носом, перевернулся и понесся к земле, которая виднелась где-то в десяти тысячах футов под ним. Как будто кто-то перерезал ниточку, которая удерживала планер в полете, и изящная машина вдруг превратилась в коробку мертвого металла, обернутую бесполезной, жалкой тканью, – планер падал, словно алюминиевый гроб, выброшенный из грузового самолета. Сидни завизжала, и Дару на мгновение стало стыдно, но он почти сразу понял, что Сидни вопит не от страха, а от искреннего восторга. Дар сдвинул маску в сторону и сказал: – Ты должна вывести нас из пике. – А как? – Толкни рукоятку вперед. – Вперед? – переспросила Сид сквозь маску. – Не назад? – Совершенно верно – не назад, а вперед, – сказал Дар. – Плавно, постепенно – давай, толкай ее вперед. Сид медленно подала рукоятку вперед, несущие поверхности крыльев поймали воздушную струю, и постепенно, под чутким руководством Дарвина, Сидни выровняла машину. Вариометр показывал, что они уже не теряют высоту. Он снова взял управление полетом на себя, велел Сидни держаться покрепче и задрал нос планера кверху под невозможным углом. Скорость резко упала. Прежде чем планер совсем потерял скорость, Дарвин резко повернул рули и заставил «Твин-Астир» развернуться на сто восемьдесят градусов, потом направил машину почти вертикально вниз, чтобы быстро набрать скорость, и в конце концов выровнял планер. Они снова плавно и неспешно заскользили в воздушных потоках. – Еще раз! – потребовала Сидни. – Нет, хватит, – сказал Дар. Он снял дыхательную маску и отключил подачу кислорода. – После всех этих выкрутасов мы опустились до восьми тысяч футов, так что можешь снять маску. И не забудь перекрыть кислород. Сидни сделала все, что нужно, и сказала: – Давай еще покружимся… Сделай «мертвую петлю». – «Мертвая петля» тебе не понравится, – возразил Дар, прекрасно сознавая, что ей понравится, и даже очень. – Ну пожалуйста! Дар не успел ответить, как вдруг послышался стрекот винтов, и всего в пятидесяти футах от них, справа, появился белый вертолет «Белл-Рейнджер». Вертолет снизился до той же высоты, на которой парил «Твин-Астир». – Идиот!.. – начал было Дарвин, но сразу же замолчал. Потому что увидел, что задняя дверца вертолета открыта, а в проеме расположился мужчина в темном костюме. В руках у него был автомат. Полыхнули вспышки выстрелов, и по обшивке планера, сразу за пилотской кабиной, застучали пули. Дар бесчисленное множество раз прослушивал записи бортовых диктофонов – пятнадцатиминутные записи, сделанные на замкнутой в петлю магнитной ленте, спрятанной в оранжевом корпусе, который почему-то называют «черным ящиком». И при подавляющем большинстве авиакатастроф последними словами пилотов были: «Черт!», «Твою мать!» – или что-нибудь еще в том же духе. Дарвин знал – по тону, каким летчики высказывали эти непристойности, – что так они выражали не протест перед лицом неминуемой гибели, нет. В этой предсмертной ругани звучала злость и досада профессионалов на свою собственную глупость – из-за того, что летчики не могли справиться с проблемами, которые зачастую сами же и создавали. И из-за их глупости погибали все, кто был на борту самолета. – Черт! – ругнулся Дарвин и резко развернул глайдер влево и вниз, в вираже снижая высоту. Он выровнял машину на несколько сот футов ниже вертолета. Но вертолет пролетел дальше, развернулся на сто восемьдесят градусов, с ревом полетел обратно и снова пристроился в пятидесяти футах от планера. Человек с автоматом снова начал стрелять. Дарвину пришлось резко сбросить скорость. «Твин-Астир» задрал нос, а потом пошел вниз – можно даже сказать, начал падать, – и пули просвистели над пилотской кабиной. Сидни ухитрилась вытащить из-под ремней безопасности и парашютной сбруи свой девятимиллиметровый «ЗИГ-зауэр» и попыталась просунуть ствол сквозь узкую форточку. – Твою мать! У этого парня сзади – «АК-47»! – крикнула она, когда вертолет, пролетев мимо них, снова развернулся и стал заходить сзади. Сидни открыла правую форточку. – Я не могу как следует прицелиться через эту дурацкую маленькую щелку! Надо отстегнуть эти чертовы ремни, они мне мешают! – Не вздумай отстегиваться! – закричал Дар. Он лихорадочно пытался сосредоточиться, придумать какой-нибудь выход… найти какие-нибудь преимущества. Какими преимуществами обладает высококлассный двухместный планер по сравнению с вертолетом, способным летать со скоростью двести миль в час? На глайдере можно выполнять фигуры высшего пилотажа, а на вертолете – нельзя… Ну и какая с этого польза? Никакой! Пока «Твин-Астир» будет плавно и красиво кружить в «полубочках» или делать «мертвую петлю», «Рейнджер» будет спокойно летать вокруг и расстреливать планер в упор. Что же еще? «Да, мы летаем чертовски медленно, во много раз медленнее, чем они, – думал Дар. – Зато они могут и зависнуть на месте…» «Рейнджер» снова приближался – слева и сзади. Дар видел сквозь стеклянный колпак кабины, что в вертолете только двое – пилот в правом переднем кресле и стрелок в темном костюме, с «АК-47» сзади. Обе боковые дверцы вертолета открыты. Стрелок, похоже, пристегнут каким-то ремнем безопасности, причем достаточно длинным – он свободно перемещался вдоль заднего сиденья вертолета от одной открытой дверцы к другой. Дар выждал до последней секунды, нырнул вниз, чтобы набрать скорость, и послал «Твин-Астир» в «петлю» – они как раз достигли турбулентных завихрений на границе теплого восходящего потока. «Слишком поздно», – подумал Дар, услышав, как еще две пули пробили обшивку планера где-то позади кабины. Планер пошел вверх, потом описал «мертвую петлю». Сидни сжимала обеими руками свой «ЗИГ-зауэр». А Дарвин прикидывал, насколько сильно поврежден планер. Ни одна из пуль пока не пробила колпак пилотской кабины. В планере не было ни мотора, который можно было бы повредить, ни бака с горючим, который мог бы взорваться, ни гидравлических систем, которые можно было бы пробить. Но даже при такой простой конструкции одно-единственное попадание в рулевой трос полностью выведет планер из строя. Одна-единственная пуля, попавшая в элерон, лишит планер управления. Даже те пули, которые вроде бы без особого вреда просвистели сквозь фюзеляж позади пилотской кабины, все же нарушили гладкую, обтекаемую поверхность планера, и маневренность легкой машины заметно снизилась. Дар завершил «петлю» и дважды проделал переворот через крыло. Вертолет тем временем завис в сотне метров к западу от них, выжидая, пока «Твин-Астир» перестанет кувыркаться и снова перейдет в горизонтальное положение. Но вместо того чтобы выйти из «петли», Дарвин направил планер вниз, прямо к земле. «Это я зря», – подумал он, следя за стрелкой альтиметра, которая крутилась с бешеной скоростью, показывая, как быстро планер теряет высоту. Дарвин инстинктивно направил планер вниз, в каньоны и ущелья, чтобы подняться потом на восходящих потоках от нагретых солнцем склонов. Он надеялся заслониться чем-нибудь от стрелка, неважно чем – скалой, утесом, деревьями… Но когда планер снизился до высоты в тысячу футов, Дар понял, что совершил ошибку – возможно, непоправимую. Эта чертова штуковина могла вертеться вокруг своей оси. Даже летя вперед на полной скорости, она могла закладывать крутые виражи ничуть не хуже легкого планера, могла парить на месте, пока планер набирал нужную скорость. Но Дарвин все-таки решил рискнуть. Он оглянулся через плечо. «Рейнджер» висел позади и чуть сверху, словно стервятник, выжидающий, пока жертва перестанет трепыхаться, чтобы потом без помех схватить ее в когти. Но Дарвин еще только начинал «трепыхаться». Он на малой высоте пролетел над широкой долиной, подыскивая место, куда можно было бы посадить «Твин-Астир». Дар понимал, что на земле у них будет больше шансов, чем в воздухе. Но внизу не было ни лугов, ни даже открытого горного склона. Никаких открытых пространств. Только деревья, каменные завалы, нагромождения валунов или каменные утесы. Вертолет резко нырнул вниз, идя на перехват. Лопасти винтов ослепительно сверкали на солнце. – Можно откинуть этот колпак? – крикнула Сидни. – Я должна попробовать его подстрелить! – Нет, – сказал Дар. Он направил глайдер прямо на каменную стену, отыскал волну разогретого воздуха, поднимающегося от склона горы меньше чем в пятидесяти футах от земли, и резко ушел в вираж влево, постепенно набирая высоту в восходящем потоке. Вертолет легко развернулся, пристроился к поднимающемуся планеру и полетел рядом с ним – как раз возле границы восходящего потока. Дарвин отчетливо видел, как человек на заднем сиденье улыбнулся и поднял свой «АК-47». – Тони Констанца! – сказала Сидни. Она немного ослабила ремни безопасности, наклонилась вперед и выставила ствол своего «ЗИГ-зауэра» наружу. Констанца выпустил очередь из автомата как раз в то мгновение, когда Дар снова направил планер вниз, держа курс на гребень утеса. Одна пуля прошила нос «Твин-Астира». Еще одна пробила плексигласовый фонарь кабины, свистнула у Дарвина и Сидни между головами и расколола плексиглас справа. – Ты как, нормально? – крикнул Дар. Сидни еще не успела ответить, когда Дарвин провел планер в нескольких дюймах над верхушками дугласовых пихт, сшибая иголки с верхних веток, а потом нырнул вниз, в узкую горную долину. Вертолет набрал высоту, перевалил через гребень утеса в нескольких ярдах, а не дюймах от верхушек деревьев и с ревом устремился вслед за планером к югу. Констанца непрерывно стрелял очередями. Дар летел ниже крон деревьев, держась вдоль русла небольшой горной речки, которая сбегала вниз по склону примерно посредине узкого ущелья. Вертолет развернулся, подался чуть в сторону и завис впереди, прямо на пути планера, повернувшись к нему открытой дверцей, в проеме которой хищно поблескивал ствол «АК-47». Дар заложил крутой вираж влево и почувствовал, как пули дважды ударили в правое крыло. Потом он направил планер к узкой расщелине в восточной стене горной гряды – эту расщелину он заприметил, еще когда парил на большой высоте. Здесь можно было поймать восходящий поток, но Дарвин не смог в полной мере воспользоваться этой возможностью – ему приходилось постоянно направлять планер вниз, в очередную узкую долину. На этот раз – еще более узкую, чем предыдущая. Между крыльями планера и стенами ущелья было не больше двух метров с каждой стороны. «Рейнджер» уже рокотал сзади. – Я должна в него выстрелить! – закричала Сидни, ерзая на своем сиденье. Она настолько ослабила пристежные ремни, что во время крутых виражей ее заметно бросало из стороны в сторону. – Нет, – отрезал Дар. – Машина и так уже плохо слушается рулей. Если мы откроем фонарь, наша аэродинамика не будет стоить и кучки дерьма. Вертолет летел сверху, в четыре раза быстрее планера. Констанца высунулся из открытой двери и непрерывно стрелял, но сейчас у него была неудобная позиция. Планер вылетел в более широкую горную долину, которая находилась у самой границы основных восходящих потоков. Они оказались почти позади скопления линзовидных облаков, и Дарвин круто повернул вверх и влево. Глайдер уклонился от восходящих потоков, пролетел над вершиной утеса – и вот они уже перевалили через горную гряду и заскользили в тысяче футов над широкой, полого снижающейся долиной. – Мы не сможем здесь опуститься, – сказал Дарвин. – Нужно набрать высоту. – Нужно набрать высоту, – повторила Сид, сжимая в обеих руках пистолет. – И тогда ты сможешь здесь сесть. – Знаю, – сказал Дар. – Лезу вверх. Он направил планер в мощный восходящий поток, ближе к горному склону, и как раз в это время «Рейнджер» снова развернулся к ним бортом. Констанца высунулся из вертолета, держась за страховочный ремень, и снова начал стрелять. Из ствола «АК-47» вырывалось пламя, блестящие гильзы сыпались вниз, сверкая на солнце. Пули прошили хвост планера, и Дар сразу почувствовал, что управлять машиной стало труднее. Еще одна пуля раздробила плексигласовый фонарь кабины прямо за головой Дарвина. Дар круто задрал нос планера – выигрывая скорость, необходимую для набора высоты, он слишком близко подошел к зоне турбулентных завихрений у границы восходящего потока, – и тут следующая пуля пронзила подушку на его сиденье. «А может, он продырявил мне парашют?» – подумал Дарвин, и внезапно его осенило. Теперь он знал, что нужно делать. – Ты как там, в порядке? – крикнул он Сидни, закладывая очередной вираж. Стрелки альтиметра и вариометра вертелись вправо – в мощном потоке теплого воздуха планер быстро набирал высоту. «Твин-Астир» почти не двигался относительно земли. Планер медленно сносило к западу боковым ветром, но он продолжал стремительно карабкаться вверх, все выше и выше, словно перепуганный воробей, а вертолет с ревом носился вокруг, по тщательно выверенной спирали. Дар не отрывал взгляда от приборной панели. Для того чтобы осуществить задуманный план – если, конечно, это можно было назвать планом, – ему нужно было подняться по меньшей мере на пять тысяч футов над уровнем моря. Только тогда появлялся шанс, что все получится. Но вертолет, конечно же, не собирался давать им необходимое время. «Рейнджер» подлетел поближе, стрелок высунулся из открытой двери – на этот раз слева. И планер, и вертолет медленно поднимались вверх по плавной спирали. Сидни еще больше ослабила свои ремни безопасности, наклонилась вперед так, чтобы прицелиться сквозь форточку, и пять раз выстрелила по вертолету. Дар увидел, как на передней части фюзеляжа вертолета сверкнули искры, и Тони Констанца сразу же спрятался в тень на заднем сиденье. Дар видел, как стрелок что-то кричит пилоту. «Рейнджер» накренился вправо и полетел вверх по спирали, против часовой стрелки. Они знали, что Дар не сможет долго подниматься вверх и скоро снова начнет опускаться. Тогда они смогут подойти к планеру сзади или сверху – под таким углом, что Сидни не сможет в них стрелять, ей будет мешать плексигласовый фонарь кабины планера. – Затяни ремни! – крикнул Дар и кратко объяснил Сидни, что надо делать дальше. Сид развернулась к нему лицом и даже разинула рот от удивления. – Ты что, шутишь?! Дар покачал головой. – Затягивай ремни! Планер рванулся вправо, к внешней границе зоны восходящих потоков. Здесь ветер был заметно сильнее, и полуденная жара явно прибавила мощи возносящимся над разогретыми склонами потокам горячего воздуха. Управлять планером стало труднее. Правда, Дар подозревал, что дело не только в усилившихся турбулентных завихрениях, но и в многочисленных дырах от пуль, повредивших обтекаемую поверхность фюзеляжа и систему управления. Но это уже не имело значения. Чудесной, высококлассной машине Стива оставалось продержаться в воздухе всего несколько минут. «Рейнджер» приблизился на удобное для стрельбы расстояние. Вертолет плавно скользил в сторону, словно катился по рельсам. Дар нырнул вниз, чтобы набрать скорость, и повел планер в «мертвую петлю». Когда они пролетали мимо вертолета, Констанца снова начал стрелять. Пули молотили по хвостовой части планера, словно крупные градины. Дар почувствовал, что правый руль вышел из строя, но он все еще мог управлять полетом. Вертолет остался на месте – пилот понимал, что Дарвину придется завершить «мертвую петлю». Дар так и сделал и сразу же начал следующую «петлю», более широкую, внутреннюю. Сидни дважды выстрелила по вертолету. Пули из «АК-47» вонзились в приборную панель планера и раздробили приборы. В плексигласовом колпаке над головами Дара и Сидни появилось еще четыре пробоины. Несколько пуль попало в носовую часть планера, и во время подъема для следующей «петли» машину заметно снесло влево. «Рейнджер» остался на месте. Пилот и стрелок ожидали, что Дарвин снова пролетит мимо вертолета. Как раз перед тем, как выйти в верхнюю точку «мертвой петли», примерно в пяти сотнях футов над вертолетом, Дарвин перевернул ставший неуклюжим «Твин-Астир» через крыло и из внутренней «петли» перешел в наружную. Дар чувствовал, как отрицательные перегрузки, созданные центробежной силой, стремятся вырвать его из кабины и выкинуть вверх. Плечевые лямки ремней безопасности больно вдавились в плечи. Сидни на переднем сиденье негромко вскрикнула. В глазах у Дарвина немного помутилось, на мгновение все вокруг застлала красная пелена. Но в следующий миг ему удалось выровнять непослушный планер в горизонтальное положение. А потом «Твин-Астир» встал на хвост и камнем рухнул вниз. Дарвин наклонил нос машины книзу, насколько это было возможно, чтобы хоть немного управлять падающим планером. Пилот вертолета наверняка наблюдал за безумной каруселью фигур высшего пилотажа, которые выделывал планер. Вертолет задрал хвост и устремился вверх вдоль долины. Слишком поздно. «Твин-Астир» уже развил максимальную скорость, на которую был способен. На несколько секунд скорость падающего планера сравнялась со скоростью вертолета. И хлипкий, изрешеченный пулями, разваливающийся «Твин-Астир» устремился на правую сторону хвостового винта белого, с голубыми и красными полосками вертолета, словно атакующий истребитель. Сидни, конечно, не могла стрелять прямо по курсу – ей мешал плексигласовый фонарь. И если бы они стали дожидаться, пока планер пролетит мимо вертолета, Констанца разнес бы их на куски из своего «АК-47». Ни в каком самолете или вертолете не могло быть устойчивой площадки для стрельбы. Но мафиозный киллер Далласа Трейса все равно обладал весомым преимуществом – по крайней мере он мог поливать пулями все вокруг, на все триста шестьдесят градусов. Но Дар не собирался снова предоставлять стрелку такую возможность. «Что у нас есть такого, чего у них нет?» – снова и снова спрашивал себя Дарвин – наверное, уже в двадцатый раз. И на двадцатый раз он нашел наконец ответ. Парашюты! Конечно, парашют Дарвина мог быть изрешечен в клочья пулей, попавшей в сиденье. Но это еще предстояло выяснить. Чего пилоты планеров боятся больше всего на свете? Столкновения в воздухе. И Дарвин решил сам устроить такое столкновение. Дар и Сид на своем несчастном, израненном «Твин-Астире» падали сверху прямо на вертолет – словно воробей, в отчаянии атакующий грозного ястреба. Если они не свернут с этого курса, то в конце концов врежутся в пятидесятифутовый сверкающий круг лопастей. После такого столкновения не выживет никто. В последнюю секунду Дар постарался выровнять скорости и бросил планер влево. Левое крыло планера ударилось о балку рядом с хвостовым винтом вертолета. Крыло треснуло и согнулось. Дар резко бросил машину вправо, изо всей силы налегая на рычаг управления и педали. Ему удалось выиграть еще две-три секунды управляемого полета. Планер снова качнулся влево. На этот раз изогнутое крыло попало в рокочущий вихрь лопастей хвостового винта, словно деревянная щепка – в жадную утробу циркулярной пилы. Лопасти винта соприкоснулись с крылом планера, прорезали его насквозь, размолотили обломки крыла на мелкие кусочки, а потом зацепились за оперение, разорвали его и, погнутые и изломанные, перестали вращаться. Силой инерции глайдер закрутило против часовой стрелки в горизонтальной плоскости и отшвырнуло в сторону. Дар знал, что ни один пилот в мире не смог бы вывести машину из такого горизонтального штопора. «Твин-Астир», всего несколько минут назад – совершенная машина с прекрасными аэродинамическими качествами, теперь представлял собой всего лишь жалкий, искореженный кусок металлолома, камнем падающий на землю. Дар потерял из виду вертолет и старался сосредоточиться на приборах. Но из-за пуль, разбивших приборную панель, и бешеного вращения планера он не мог ничего толком разобрать. Горизонт, горный хребет, утесы, пустыня – все вертелось вокруг с сумасшедшей скоростью. Но поскольку Сид и Дарвин по-прежнему находились в самом центре тяжести вращающегося планера, они пока не ощущали на себе действия центробежной силы. Дар понятия не имел, сколько еще осталось до земли – три тысячи футов или тридцать. Он ничего не слышал, кроме резкого хруста со стороны левого крыла, которое продолжало отламываться, – с таким же страшным треском ломается лед. Сидни возилась с замком, запиравшим плексигласовый фонарь, но его, похоже, заклинило. Дарвин отстегнул все пять пряжек ремней безопасности, сбросил лямки и выпрямился в кабине бешено крутящегося планера. Дар понимал, что у них остались считаные секунды, пока еще можно что-то предпринять, потому что из-за раздробленного левого крыла горизонтальное вращение планера постепенно переходило в беспорядочное кувыркание. Дар перегнулся через спинку сиденья к Сидни и всем своим весом надавил на второй запор плексигласового колпака. Потрескавшийся, пробитый в нескольких местах плексиглас внезапно отлетел назад, и Дарвину в лицо ударил резкий холодный ветер. Мощным порывом воздуха Дарвина едва не выбросило из маленькой пилотской кабины. Дар удержался. Он низко пригнулся и ухватился за узкую приборнуюпанель, потом снова придвинулся к Сидни, чтобы помочь ей освободиться от страховочных ремней. – Нет! Эти лямки не трогай! – заорал он, перекрикивая свист ветра. Сидни лихорадочно отстегивала все пряжки, какие попадались под руку. – Это твой парашют! Сидни перестала дергать за пряжки и встала. Дар заметил, что она нашла время, чтобы спрятать пистолет обратно в кобуру и застегнуть страховочный ремешок. Дарвин схватил ее за правую руку, которой Сидни цеплялась за край кабины. – Прыгай, когда я сосчитаю до двух! – крикнул он. – Оттолкнись от фюзеляжа как можно сильнее… Нужно отлететь подальше от машины, на открытое пространство! Раз… Два! Они оттолкнулись от обломков планера и полетели вниз. На мгновение Дарвин похолодел – он увидел, как Сидни раскинула руки в стороны, и испугался, что она забудет дернуть за красный шнурок с кольцом, который раскрывал парашют. Но Сидни специально распласталась в воздухе, чтобы ее отнесло подальше от обломков планера. «Твин-Астир» вертелся вокруг своей оси в тридцати футах под ними. В следующую секунду спортивный парашют Сидни благополучно раскрылся. Убедившись, что у Сид все в порядке, Дарвин тоже дернул за кольцо. Только после того, как над головой раздался короткий хлопок, стропы резко дернулись вверх и натянулись, Дар отважился посмотреть наверх. Купол парашюта раскрылся. В ткани не было заметно никаких дыр, все стропы тоже как будто были целы. Дарвин потянул за стропы, и парашют повернулся – и как раз в это время Дар услышал шум падающего вертолета. Дарвин понимал, что если «Рейнджер» пострадал не слишком сильно и пилот сумел справиться с управлением – тогда им с Сидни конец. Но вертолет был совершенно неуправляем. Он почти полностью лишился хвостового винта, а то, что уцелело, быстро перемалывало остатки оперения. Двигатель дымился – наверное, одна из пуль Сидни все-таки попала в цель, а может быть, в двигатель угодили разлетавшиеся, как шрапнель, обломки хвостового винта. Пилот отключил двигатель и пытался как-нибудь дотянуть до земли на одном главном винте. Очевидно, он надеялся, что подъемной силы свободно вращающегося главного винта хватит, чтобы обеспечить поврежденному вертолету более-менее мягкую аварийную посадку. Вертолет падал прямо на Сидни и Дарвина. Дар с первого взгляда понял, что это уже не преднамеренная попытка убийства. Он был уверен, что пилот вертолета не жаждет еще одного столкновения в воздухе – особенно с тканью и стропами парашютов, которые намотаются на единственный уцелевший винт. Но пилот вертолета уже ничего не мог с этим поделать. Он мог только вести вертолет со свободно крутящимся винтом на снижение, к земле, по смертельно опасной спирали. Дар услышал какой-то звук сзади и сверху и развернулся на стропах – посмотреть, что там такое. И сразу понял, что сколько бы ему ни осталось прожить – тридцать секунд или пятьдесят лет, – он никогда уже не забудет того, что увидел. Сидни отпустила стропы и держала обеими руками свой девятимиллиметровый пистолет. Она широко расставила ноги, приняв правильную стойку для стрельбы – правда, в тысяче футов от твердой земли – и расстреливала вторую, запасную обойму «ЗИГ-зауэра», целясь в остекление кабины вертолета. «Рейнджер» пролетел мимо Дарвина – совсем близко, так что Дар даже поджал ноги, чтобы их не обрубило лопастями вертолета. Тяжелая машина неслась к земле по спирали, все быстрее и быстрее. Пистолет Сидни затих. Дар видел, как Сид выбросила пустую обойму, достала из кармашка на поясе последнюю запасную и вставила ее на место. Неуправляемый бело-оранжевый парашют вертел Сидни из стороны в сторону, но она упорно продолжала стрелять. Правда, она была уже слишком далеко от цели, чтобы выстрелы оказались удачными. Дарвин ничем не мог ей в этом помочь, поэтому взялся за стропы и подтянул правую связку на себя, отчего парашют заскользил вправо – Дарвин присмотрел там место для посадки, небольшую ровную долину. Сидни кивнула, убрала оружие в кобуру и тоже принялась подтягивать стропы, стараясь повторить маневр Дарвина. Им обоим удалось, ценой некоторых усилий, направить парашюты к выбранному месту. Они еще спускались, когда «Рейнджер» врезался в землю в четырех сотнях футов под ними. Пилот вертолета был настоящим мастером, но и его умения было недостаточно. Вертолет, который снижается при свободном вращении винтов, представляет собой огромный мертвый груз, почти не управляемый в полете. Но пилот все-таки как-то ухитрялся направлять машину. Он по спирали облетел высокие деревья и более-менее выровнял вертолет перед аварийной посадкой. Но ему пришлось сажать поврежденный «Рейнджер» на довольно крутой склон – не меньше тридцати градусов. Если бы Дарвину пришлось сажать туда планер, он бы следовал правилам аварийной посадки и попытался перед приземлением развернуть планер носом вверх по склону. Посадка в таких условиях снижала вероятность опрокидывания машины и давала последний шанс снизить скорость. Но массивному вертолету посадка на крутой склон не давала никаких преимуществ. И у пилота не было иного выбора, кроме как посадить вертолет носом в сторону спуска – тогда машина могла бы стать на полозья и проскользнуть вниз по склону, как сани в бобслее. С высоты нескольких сотен футов долина казалась достаточно ровной и гладкой. Но Дарвин не обманывался этой кажущейся гладкостью. Он знал, что в долине наверняка полным-полно больших валунов и камней поменьше, разных ям и оврагов, плотных, как камень, кустарников и других препятствий. «Белл-Рейнджер» сильно ударился о землю. Он встал на полозья, но удар был слишком силен, и, проскользив немного, полозья зарылись в землю. Вертолет перевернулся через кабину. Лопасти главного винта взрыхлили землю, подняв на сотню футов в воздух целую тучу пыли. Сквозь облако пыли Дарвин разглядел, что «Рейнджер» несколько раз перевернулся, катясь вниз по склону, хвостовая часть отломилась, остекление пилотской кабины вдавилось внутрь и разбилось вдребезги. Ужасный звук, которым все это сопровождалось, был слышен даже на высоте двухсот футов от места катастрофы. Наконец туша изломанного вертолета остановилась, ударившись о пару крупных валунов примерно в сотне ярдов ниже по склону от того места, где «Рейнджер» вначале приземлился. Откуда-то с юга донесся более тихий шум и треск. Дарвин обернулся как раз вовремя и успел заметить, как покореженный «Твин-Астир» исчез среди крон высоких пихт в нескольких сотнях ярдов к югу. Дарвин сосредоточился на управлении парашютом. Он должен был плавно и мягко приземлиться, заодно показав Сидни, как это делается. Пример получился не слишком удачный. Дар врезался в развилку ветвей большой ивы и кувырком полетел в заросли высокой травы. Потом, когда он в конце концов упал на спину, парашют еще какое-то время тащил его по склону. Сидни приземлилась очень удачно, в пятидесяти футах от Дарвина, выше по склону горы. И сразу опустилась на ноги! Приземлившись, Сид только пару раз подпрыгнула, но не упала. Она явно была ошеломлена, но тем не менее после всего, что случилось, осталась живой и невредимой. Дарвин выпутался из лямок и строп парашюта и вскочил на ноги, спеша к Сидни, чтобы помочь ей освободиться от парашюта прежде, чем налетит порыв ветра и потащит ее по склону. Когда Дар вскочил, все вокруг снова начало кружиться. Он решил присесть на пару секунд и подождать, пока пройдет головокружение. Не успел он плюхнуться на землю, как Сидни уже была рядом – без парашюта. Она наклонилась и помогла Дарвину высвободиться из складок парашютного купола, который вздулся пузырем и обвился вокруг его ног. – Пошли! – сказала Сидни, и они поспешили вниз по склону, к месту падения «Рейнджера». Сид задержалась возле отломившейся хвостовой части и осмотрела искалеченный хвостовой винт. Между погнутыми лопастями до сих пор торчали обломки крыла планера. А Дарвин, не останавливаясь, медленно побрел дальше, еще на сотню футов вниз по склону. Он чувствовал резкий запах авиационного горючего и понимал, что стоит случайной искре попасть в пилотскую кабину, и люди, которые могли остаться в живых после катастрофы, неминуемо погибнут. Остекление кабины вертолета вдавилось внутрь и разбилось вдребезги. Пилот все еще сидел в кресле, пристегнутый страховочными ремнями. Он был определенно мертв. Покореженный пол и осколки разбитого плексигласа вспороли его тело в нескольких местах и почти оторвали голову. Заднего сиденья Дарвин сразу не разглядел. Из разорванного бака струей вытекал керосин. Дар взобрался на полозья перевернутого вертолета и заглянул на заднее сиденье. Констанцы там не оказалось. – Дар! – крикнула Сидни сверху и внезапно замолчала. Тони Костанца, пошатываясь, вышел из-за большого валуна. Он был весь покрыт ссадинами и залит кровью, от пиджака и рубашки остались жалкие клочья. Но в руках Констанца держал «АК-47», и ствол автомата был направлен на Дарвина. – Ни с места! – крикнула Сидни и, присев на одно колено, нацелила на Констанцу свой маленький «ЗИГ-зауэр». Констанца мельком взглянул на нее. Он стоял всего в каких-нибудь восьми футах от Дарвина, и ствол автомата Калашникова был направлен Дарвину в грудь. «Я могу прыгнуть на него», – пронеслась в голове у Дара смутная мысль. И сразу же последовал ясный ответ: «Нет, не можешь, дуралей». – Ты что, сучонка, собираешься пристрелить меня из этой пукалки, с такого расстояния? – крикнул Констанца. – Бросай свою игрушку, девка, а то я нафарширую этого ублюдка пулями по самое не балуйся! Услышав эти угрозы, Дарвин чуть не бросился на Констанцу. Но «АК-47» удержал его на месте. Сидни опустила оружие. – Нет! – крикнул Дар. – Я сказал, брось пушку, сука! – заорал Констанца, направляя ствол автомата Дарвину в лицо. Сидни снова прицелилась в Констанцу из своего «ЗИГ-зауэра» и трижды выстрелила. Выстрелы следовали один за другим так быстро, что почти слились в одну короткую очередь. Первая пуля разворотила левое колено Констанцы, превратив его в месиво из красного мяса и белых ошметков хряща. Вторая пуля попала в верхнюю часть левого бедра, третья – в левую ягодицу. Констанцу отбросило назад. Половина магазина «АК-47» была выпущена в землю. Дарвин прыгнул вниз и ударом ноги отшвырнул автомат в сторону. Сидни большими прыжками бежала вниз по склону горы, даже на бегу целясь в вопящего, извивающегося на земле человека. – Помогите мне, гады! – простонал Констанца, когда Сидни остановилась рядом с ним. – Ты мне яйца отстрелила, сука! – Это вряд ли, – сказала Сид. Она пинком заставила Констанцу перевернуться на живот и приставила ему пистолет к затылку. Сидни быстро обыскала раненого бандита, а потом завернула ему руки за спину и надела на него наручники. – Сид, – тихо сказал Дарвин. – Разве вас в Куантико не учили целиться в середину корпуса при стрельбе из пистолета на таком расстоянии? – Учили, конечно, – ответила главный следователь, убирая пистолет в кобуру. – Но этот парень нужен нам живым. А ты что, не знаешь другого способа разбираться с преступниками, кроме как устраивать им катастрофы? Дарвин пожал плечами. – В катастрофах я разбираюсь лучше всего. – Он присел возле раненого бандита и сказал: – Он умрет от потери крови из этой раны в бедре, если мы ничего не предпримем. – Да, – согласилась Сидни. На ее лице не отражалось никаких эмоций. Дар придерживал Констанцу, пока Сидни снимала с него ремень и перетягивала простреленное бедро импровизированным жгутом. Когда Сидни изо всех сил затянула ремень, Констанца вскрикнул, а потом потерял сознание. Дар тяжело опустился на сухую траву. – Он все равно истечет кровью и умрет, прежде чем нас кто-нибудь найдет. Кен и Стив начнут беспокоиться только через несколько часов. Сидни покачала головой. – Дарвин, дорогой мой… Ты как будто из средних веков вылез. – Она вынула из кармана жилетки мобильник и быстро набрала номер. – Уоррен! Джим… Это Сид Олсон. Да. Слушай. У нас здесь Тони Констанца, но он тяжело ранен. Если хочешь, чтобы он стал нашим коронным свидетелем, тебе лучше поторопиться… Скорее присылай медицинский вертолет… – Она опустила трубку и повернулась к Дарвину. – Дар, где мы сейчас находимся? – На восточном склоне горы Паломар, – сказал Дарвин. – На высоте около четырех тысяч футов над уровнем моря. В вертолете есть коробка с цветными сигнальными ракетами… Скажи Уоррену, что мы посигналим дымом, когда услышим, что подлетает вертолет. – Ты все слышал, Джим? – сказала Сидни в трубку. – Да. Да… Мы сидим на месте и ждем. – Она глянула на Дарвина и сказала: – Они пришлют медицинский вертолет военно-морского флота с базы «Твелв-Палмс». – Скажи им, что в этой местности много гремучих змей, – посоветовал Дарвин. – Мы сидим на месте, – сказала Сид в трубку. – Но Дар говорит, что здесь полно гремучих змей, так что поторопите морячков. Пусть прилетают скорее, если вы хотите увидеть нашего свидетеля живым – и нас, кстати, тоже. На этом Сидни отключилась. Они посмотрели друг на друга, посмотрели на лежащего без сознания Констанцу, потом снова друг на друга. Оба были покрыты синяками и мелкими ссадинами, вся одежда пропиталась потом и покрылась слоем пыли. Неожиданно оба улыбнулись. – Боже мой, какой ты красивый! – сказала Сидни. – Я как раз хотел сказать тебе то же самое, – признался Дар. Потом они крепко обнялись и стали целоваться так страстно, что случайно пнули лежащего без сознания Констанцу. Раненый застонал и почти пришел в себя. Почти, но не совсем.ГЛАВА 22 Ц – ЦЕЛЬ
Дара пригласили принять участие в арестах, но он отказался. И без того у него было полно дел. Позже Дарвину подробно пересказали, как все происходило. В Англии, как объяснила Сидни, полиция предпочитает подождать, пока подозреваемый войдет в свой дом, и только после этого проводит арест. Так меньше вероятность, что пострадают случайные прохожие. В Америке все наоборот. Чаще всего в Соединенных Штатах твой дом – твоя крепость в буквальном смысле слова, настоящий склад оружия и боеприпасов. Американские копы обычно проводят арест в сравнительно безлюдных и хорошо простреливаемых местах, где, на худой конец, можно свалить преступника, прежде чем он выхватит оружие. Исключение составляли загородные дома, в одном из которых, по последним сведениям, прятались Зуев и Япончиков. ФБР намеревалось захватить их врасплох и сломить сопротивление превосходящими силами. Бюро потребовало разрешения и ордеры на проведение серии арестов во вторник утром, и, поскольку трое агентов погибли в ходе расследования, возражений не последовало. Специальный агент ФБР в Лос-Анджелесе, Говард Фабер, лично возглавил опергруппу. Восемнадцать агентов – в шлемах, бронежилетах и с автоматами – ворвались в здание адвокатской конторы Трейса в шесть часов сорок восемь минут утра. Джеймс Уоррен хотел бы принять участие в этой операции, но в это время он руководил арестом пятерых русских боевиков, которые затаились в загородном доме, неподалеку от ипподрома Санта-Аниты. Главный следователь Сидни Олсон, в бронежилете с желтыми буквами «ФБР», была помощником командира Фабера при аресте адвоката Трейса. Вся оперативная группа была вооружена штурмовыми винтовками «хеклер и кох». Как всегда, ровно в десять утра по Си-эн-эн в прямом эфире началась передача «Протест принимается». У спецагента Фабера и его помощников были крохотные телевизионные экраны, по которым они следили за началом передачи. Вот проплыли титры, закончилось музыкальное вступление, и нью-йоркская ведущая – когда-то сама работавшая адвокатом – объявила тему передачи и представила зрителям ее друга и коллегу из Калифорнии, знаменитого адвоката защиты Далласа Трейса. Убеленный сединами адвокат в своем ковбойском жилете сидел, вольготно развалившись, в кожаном кресле. За окнами у него за спиной занималось серое лос-анджелесское утро. Десять агентов ФБР пробежались по кабинетам, сгоняя в просторную приемную ранних пташек – секретарш, молодых адвокатов, помощников и разных заместителей. Их заперли внутри, а у дверей встали на страже двое агентов в бронежилетах. Проверив все помещения, двое из опергруппы высадили дверь в конференц-зал, который во время съемок телевизионных передач служил «зеленой комнатой» – местом для неофициальных разговоров и встреч. Там сидели три американских телохранителя Трейса. Они попивали кофе, жевали булочки и смотрели по телевизору передачу с участием своего патрона. Телохранители, разинув рты, уставились на вбежавших агентов и тут же полетели на пол. Им завернули руки за голову и быстро обыскали. У каждого обнаружили огнестрельное оружие, а у самого мускулистого, видимо начальника охраны, второй пистолет на поясе и маленький револьвер в кобуре на лодыжке. У двоих изъяли длинные ножи, носить которые при себе было запрещено. Глянув на телевизионный экран и убедившись, что в кабинете Далласа Трейса никто не заметил их вторжения, Фабер, Олсон и три агента с винтовками «хеклер и кох» наперевес направились к двери в святая святых – офис Трейса. В это время Даллас Трейс как раз вещал: – …и если бы я был адвокатом защиты у этих бедных, загнанных и перепуганных родителей… которые определенно не виноваты в трагической смерти их дочурки, я бы подал иск на городское… От удара ногой дверь распахнулась, и в комнату вбежали Сидни и четверо агентов ФБР. Двое операторов и звукооператор растерянно посмотрели на продюсера, не зная, что предпринять. Продюсер колебался всего долю секунды, после чего подал знак: «Продолжаем съемку». Даллас Трейс остолбенело смотрел на ворвавшихся агентов, забыв закрыть рот. – Адвокат Даллас Трейс, вы арестованы по обвинению в предумышленном убийстве и в страховом мошенничестве, – объявил спецагент Фабер. – Встаньте. Трейс остался сидеть. Он попытался заговорить, видимо, с трудом переключаясь с предполагаемого иска со стороны бедных, загнанных и перепуганных родителей погибшей девочки на собственный арест, но не успел он вымолвить и слова, как двое агентов в черном подхватили адвоката и рывком поставили на ноги. И Сидни тотчас же защелкнула наручники на его запястьях. После, вероятно, самого продолжительного периода безмолвия в своей сознательной жизни Даллас Трейс наконец-то обрел дар речи. Он не заговорил, он буквально взревел: – Какого черта? Что вы себе позволяете? Вы хоть знаете, кто я такой? – Адвокат защиты Даллас Трейс, – ответил Фабер. – Вы под арестом. Вы имеете право хранить молчание… – В задницу молчание! – завопил Трейс, моментально меняя тягучее западное произношение на носовой, отрывистый говор Нью-Джерси. – Пусть эта сучка снимет с меня наручники! Как выяснилось позже, именно это последнее заявление враждебно настроило против него большую часть женщин-присяжных. – Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде, – продолжал Фабер, пока двое агентов снимали с задержанного микрофон, распутывали проводок, тянущийся к колонкам, и выводили его из-за стола. – Вы имеете право на адвоката… – Я сам адвокат, сволочь! – ревел Даллас Трейс, брызгая во все стороны слюной. – Я самый знаменитый адвокат во всех Соединенных Штатах… – Если у вас нет адвоката, он будет вам предоставлен, – спокойно, как ни в чем не бывало, продолжал Фабер. Они прошли мимо продюсера, который пораженно таращился на всю процессию. Оба оператора, широко ухмыляясь, навели камеры на проем двери, за которым стояли двое агентов, вооруженных винтовками, в позе «вольно».В это время шесть агентов ФБР и пять полицейских из Шерман-Оукс обыскали дом адвоката Трейса. Сопротивления они не встретили. Телохранитель, которого оставили охранять миссис Трейс, был найден в ее постели, когда опергруппа высадила дверь и ворвалась в спальню. Телохранитель отлепился от гостеприимно раскинутых ножек Дестини Трейс, откатился и бросил взгляд на кобуру с пистолетом, которая висела на спинке стула, в двадцати футах от кровати. Потом он покосился на дула четырех винтовок «хеклер и кох» с лазерными целеуказателями, красные точки которых плясали на его потном лбу, и поднял руки. Миссис Трейс села, даже не пытаясь прикрыть голую грудь. Один из агентов ФБР, видимо, на мгновение отвлекся, потому что красная точка скользнула по ее трясущимся грудям, после чего снова вернулась на лоб телохранителя. Дестини Трейс нахмурилась, поджала губы, посмотрела на обнаженного мускулистого парня рядом с собой, на столпившихся агентов ФБР в защитных шлемах и бронежилетах, на полицейских из Шерман Оукс и неожиданно закричала: – Спасите! Насилуют! Слава богу, что вы пришли… Этот человек напал на меня!
В понедельник, за день до серии арестов, Лоуренс провел целый день с Дарвином, помогая ему устанавливать новые следящие камеры. – Ты же выложил за это кучу деньжищ, учитывая срочную доставку и все прочее, – проворчал Лоуренс, когда они переносили из машины к деревьям у дороги первую камеру, батарею, кабели и водонепроницаемую маскировочную ткань. – Дай мне пару недель, и я бы сэкономил тебе тысячу баксов на этой аппаратуре. – Через пару недель мне это не понадобится, – ответил Дарвин. Они установили первую камеру на высокой березе у грунтовой дороги, в полукилометре от хижины. Это был новейший и сложный видеоблок размером с небольшую книгу, с объективом с переменным фокусным расстоянием. Съемный, дистанционно управляемый моторчик позволял вести камеру за движущимся объектом. Тонкие кабели тянулись к корням старой березы, где была спрятана литиевая батарея и крошечный телепередатчик. У камеры было два объектива: один для съемок при дневном освещении, второй – с электронным усилением световых импульсов – для темноты. Именно это приспособление и вылетело Дарвину в ту самую кучу деньжищ. Когда они установили видеоблок, Дар поехал к хижине и, сидя в «Лендкруизере», попрактиковался в дистанционном управлении – включал и выключал, поворачивал камеру, делал панорамные съемки и менял фокус. Одновременно он проверял качество передачи изображения на трехдюймовом черно-белом мониторе портативного телеприемника. Затем позвонил Лоуренсу по сотовому телефону: – Работает отлично, Ларри. – Лоуренс, – буркнут тот. – Давай ко мне, в хижину. Сперва попьем кофе, а потом примемся и за остальные камеры. А еще я хочу тебе кое-что показать.
Когда они выпили кофе, Дарвин не стал распаковывать остальное видеооборудование, а повел Лоуренса к лесу. Сперва они шли по тропинке к фургону, затем свернули к склону холма, нависающего над хижиной. Пробираясь между валунов и камней, они поднялись наверх, потом спустились вниз, продираясь сквозь густой кустарник, пока не добрались до старой дугласовой пихты, которая росла на обрыве, в тридцати футах над хижиной. Дарвин молча указал на выпуклый объектив видеокамеры, спрятанной под маскировочной сеткой на ветке дерева. Объектив смотрел прямо на его хижину. Лоуренс молча принялся разглядывать камеру, внимательно и настороженно, как опытный минер – обнаруженную мину. – Микрофона нет, – наконец сказал он. – Она стационарная, менять фокус и смещать угол съемки тоже не может. И снимать ночью. Но она направлена на стоянку у твоего дома и входную дверь. Плюс ко всему чертовски мощная батарея. Наверняка еще есть таймер и антенна на самой верхушке. Так что можно снимать несколько дней напролет, а потом перекручивать запись, чтобы узнать, кто находится в хижине и когда он туда приехал. – Да, – согласился Дарвин. – При таком мощном передатчике и антенне наверху сигнал может транслироваться на несколько миль, – продолжил Лоуренс. – Да, – повторил Дар. Лоуренс вскарабкался по смолистому стволу пихты и снова изучил камеру. – Это не фэбээровская технология, Дар. Иностранная… Думаю, чешская… простая, но надежная. Мне кажется, что она передает в системе «Pal». – Мне тоже так кажется, – улыбнулся Дарвин. – Русские? – предположил Лоуренс. – Почти наверняка. – Хочешь, чтобы я разладил ее? – Я хочу, чтобы они знали, где я, – сказал Дар. – И чтобы ты помнил об этой штуке, когда мы будем устанавливать собственные камеры. Нельзя, чтобы они заметили, чем мы занимаемся. – А еще есть? – спросил Лоуренс, с подозрением оглядывая зеленые деревья. – Я больше ничего не нашел. – Я сам все проверю. – Спасибо, Ларри. Дарвин высоко ценил опыт Лоуренса в установке и выявлении различной следящей аппаратуры. – Лоуренс, – поправил его друг, с сопением слезая вниз, как большой и шумный медведь. В прошлую субботу Тони Констанца, очнувшийся в больнице после анестезии, запел соловьем. Невзирая на то что с полдесятка вооруженных агентов ФБР охраняли его палату, он боялся, что боевики из «Организации» явятся сюда и убьют его, как только узнают, что он остался в живых. Констанца прекрасно понимал, что его единственный шанс выжить – это расколоться. И чем скорее, тем лучше, пока до него не добрались Зуев с Япончиковым. Он нисколько не сомневался, что они способны загнать в могилу кого угодно. К тому же Констанца был совсем не прочь очутиться под охраной программы по защите свидетелей и жить – на что он очень недвусмысленно указывал – в Боземане, штат Монтана. Тони не знал, где именно скрываются русские, только заметил, что живут они в доме «вроде загородной дачи, всей из себя… между бульваром Сьерра-Мадре и ипподромом Санта-Аниты… в холмах, где полно этих… ну, перекатиполя». ФБР уже получало по почте этот адрес в одном из анонимных писем (Дарвин нашел этот адрес по телефонному номеру, который набирал Даллас Трейс в ту достопамятную ночь). После чего агенты ФБР вычислили этот дом и установили, что там действительно проживают пятеро русских. Вечером в субботу спецагент Джеймс Уоррен отправил двадцать три агента ФБР установить постоянное наблюдение за объектом – загородным домом в средиземноморском стиле. От него до ближайшего жилья было не менее полумили. Уоррен признался Сидни Олсон, что хотел бы захватить их немедленно, но еще несколько дней уйдет на поиск и арест других преступников, названных Констанцей, и преждевременный арест русских может спугнуть всех остальных. А тем временем за каждым шагом русских боевиков пристально следили агенты ФБР, переодетые дорожными рабочими и служащими телефонной компании. Наблюдение и съемка велись и с вертолета. Телефонная линия, ведущая в дом, не просто прослушивалась, она была буквально обвешана «жучками». Уоррен держал в состоянии минутной готовности опергруппу из двадцати человек. Полиция Пасадены, Бербанка и Глендейла[30] и дорожно-патрульная служба города вызвались помочь, хотя и не были посвящены в детали операции. Первые аресты прошли в воскресенье утром. Детективов Фэйрчайлда и Вентуру вызвали в отделение внутренних дел, приказали сдать значки, оружие, запасные обоймы и удостоверения и объявили, что они обвиняются в соучастии в страховом мошенничестве и в предумышленном убийстве четверых агентов ФБР. Вентуре сообщили, что ОВД и ФБР известно о тайном переводе денег на его недавно открытый счет в иностранном банке, в размере 85 тысяч, 15 тысяч и 23 тысячи долларов. На имя детектива Фэйрчайлда не было обнаружено никаких денежных переводов, но ему напомнили, что следствие продолжается. После чего обоих преступников допросили. Детектив Вентура был нем как рыба, а Фэйрчайлд раскололся сразу. Он не только признался, что Вентура уговорил его замять дело об убийстве Ричарда Кодайка, но и выследил Дональда Бордена и Дженни Смайли где-то на побережье и показал их русским стрелкам Трейса, которые уложили ту парочку двумя выстрелами в голову. Фэйрчайлд припомнил, что Вентура сокрушался о том, что за двадцать тысяч зарыл бы эти чертовы трупы сам, да получше, чем те кретины! Еще детектив Фэйрчайлд сообщил, что Вентура называл Далласа Трейса курицей, несущей золотые яйца, и определенно собирался и дальше сотрудничать с «Альянсом». А еще угрожал убить его, Фэйрчайлда, если тот вздумает открыть пасть. Обоих полицейских посадили под арест. Фэйрчайлд начал торговаться с окружным прокурором о смягчении приговора в обмен на дачу показаний в суде. Ни ФБР, ни полиция не извещали об арестах средства массовой информации. Обоих детективов отправили в отделение ФБР в Малибу, где продолжили допросы. А всем, кто звонил в участок и спрашивал кого-нибудь из них, отвечали, что детективы находятся на задании. А в это время прослеживались телефонные номера, с которых интересовались задержанными полицейскими. Два звонка поступило от американских телохранителей Трейса и один – из домика в Санта-Аните, где сидели русские. В течение пяти дней, пока готовились аресты главных преступников, Сидни беспокоилась о безопасности Дарвина. Но тот лишь отмахнулся. – Чего бояться? ФБР ходит вокруг русских кругами, за американскими боевиками Трейса следят… Я в полной безопасности. Сид была слишком занята подготовкой к захвату преступников, поэтому больше не бывала в хижине Дарвина. Но его слова ее не убедили.
В понедельник Дарвин с Лоуренсом установили оптоволоконные камеры в самой хижине. Дар выбрал две позиции, обе на южной стене, чтобы два объектива давали полный обзор внутреннего помещения за исключением шкафов и ванной. Дарвин достал ключи и открыл потайной люк. Он повел Лоуренса вниз по крутым ступеням и, оказавшись внизу, отпер дверь в кладовую. – Твою мать, – пробомотал Лоуренс, – люки, секретные комнаты… Ты не шпион, Дар? – Нет, – немного смущенно ответил Дарвин. – Просто мне потребовалось надежное укрытие для некоторых вещей. Ну, ты понимаешь. – Не совсем, – сказал Лоуренс и огляделся. – Господи, похоже на последний кадр из первого фильма про Индиану Джонса… огромный склад, набитый ящиками. А у тебя есть здесь потерянный ковчег? – Нет, – спокойно ответил Дарвин. – Как-то зимой мне нечем было топить камин и я пустил его на дрова. Он повел Лоуренса по проходу между ящиками и показал ему в конце подвала вентиляционную решетку, запертую на висячий замок. – Если тебе когда-нибудь придется выбираться отсюда, просто открой эту решетку и ползи вперед. Этот ход тянется примерно двести футов и выводит в старую золотую шахту. Я рассказывал тебе о ней. Она находится на дне глубокого оврага, к востоку отсюда. – Вряд ли у меня получится, – покачал головой Лоуренс. – Запасные ключи наверху, – заверил его Дар. – Ключи от люка, от двери в подвал и от решетки… Они лежат в кожаном кошельке под подставкой для льда, в морозильной камере холодильника. Лоуренс снова покачал головой: – Да я не о том. Я просто не втиснусь в этот вентиляционный ход. Дар посмотрел на ход, потом на Лоуренса и кивнул. – Ну, скажем так. Если ты окажешься здесь в ловушке… м-м… если наверху будет опасно оставаться… просто спустись сюда и закрой стальную дверь. Подвал надежно защищен и от пуль, и от огня. Воздух поступает через этот ход. Так что, даже если хижина сгорит дотла, здесь можно будет спокойно отсидеться. – Ясно, – буркнул Лоуренс с сомнением в голосе. – Мы с Труди собираемся остаться в квартире в Палм-Спрингс до конца недели. Если, конечно, я не понадоблюсь тебе здесь. – Нет, – покачал головой Дарвин. – И будьте поосторожней. Пока мы не узнаем, что Трейс, русские и все остальные сидят за решеткой, лучше не расслабляться. Лоуренс только хмыкнул и похлопал ладонью по кобуре, висевшей у него на плече. Они подключили две оптоволоконные камеры и передатчик к энергосистеме домика и, на всякий случай, к аварийному генератору. Затем протянули по стене провода и вынесли антенну на крышу. После чего вышли из хижины и прошлись вниз по склону, стараясь, чтобы от чешской видеокамеры их все время заслонял дом. В развилке ствола огромной дугласовой пихты, стоявшей у кромки широкого зеленого луга, они установили еще одну наружную камеру. Лоуренс вернулся в хижину, а Дарвин сунул в рюкзак приемник с монитором и поднялся на несколько сот ярдов вверх по склону холма. – Есть изображение? – раздался голос Лоуренса в трубке мобильного телефона. – Да, – ответил Дар. Он несколько раз переключился с одной камеры на другую. Широкоугольные объективы несколько искажали комнату, но на крохотном мониторе были видны мельчайшие подробности интерьера хижины за исключением ванной. Эти объективы не могли менять фокусное расстояние, не могли двигаться и следить за движущимся объектом, зато они давали прекрасное изображение даже при слабом освещении. – А я знаю, что ты задумал, – похвастался Лоуренс по телефону. – Да ну? – Ага, – откликнулся начальник. – Ты собираешься устроить здесь грандиозную оргию и заснять ее, от начала до конца, на пленку. Дарвин проверил четвертую камеру, которая следила за подъездом к домику с южной стороны. Поскольку на ней стояли широкоугольные объективы, Дар легко мог просматривать едва ли не всю долину и приближать подозрительные объекты с расстояния в несколько сот ярдов.
Во вторник утром, когда арестовали Далласа Трейса, дорожный патруль остановил автомобиль адвоката Уильяма Роджерса – того самого адвоката, который помог отцу Мартину основать общество «Помощь беспомощным». Когда он вышел из машины и со смехом указал патрульному, что его затормозили под знаком «остановка запрещена», на него набросились агенты ФБР, помощники шерифа и полицейские. Роджеру надели наручники, зачитали его права и затолкали в патрульную машину. Агенты сообщили Сидни Олсон, что адвокат разрыдался и потребовал разрешения позвонить своей жене, Марии. Ему не сказали, что Марию только что арестовали в штаб-квартире общества «Помощь беспомощным», в ее собственном кабинете. Местная полиция и агенты ФБР прошлись по всем больницам Южной Калифорнии. Они задержали и допросили около тысячи сотрудников «Помощи», из которых более шестидесяти были арестованы. В тот же день все больницы и медицинские центры Калифорнии закрыли двери для работников благотворительного общества «Помощь беспомощным». В документах, найденных в кабинете Марии Роджерс – в штаб-квартире всей этой организации, – значились имена более сотни главарей банд, адвокатов, докторов и прочих, кто целенаправленно занимался страховым мошенничеством.
Во вторник Дарвин установил пятую видеокамеру. Несколько часов он мерил шагами собственный земельный участок, пока не нашел лучшее, по его мнению, место засады для снайпера. Это был небольшой ровный участок земли, заросший зеленой травой. С двух сторон его защищали небольшие камни, а сзади – огромный валун. Растянувшись в этом закутке со старой снайперской винтовкой «М-40» с редфилдовским прицелом, Дар обнаружил, что и расстояние до предполагаемой мишени, и видимость просто великолепны. Вход в домик, стоянка и дорожка к фургону – все простреливалось. Это потайное местечко сверху прикрывал нависающий выступ скалы, а снизу – обрывистый склон. Отличное место для засады, просто идеальное, лучше не придумаешь. Слишком идеальное. Дарвин спустился и принялся искать убежище попроще, но не такое явное. Оно нашлось в семидесяти ярдах к северо-западу от первого. Это оказался узкий просвет между обломками скалы, заросший колючим кустарником и защищенный с разных сторон камнями. Но места должно хватить и снайперу, и наблюдателю. Это укрытие находилось повыше, чем предыдущее, и подобраться к нему будет еще труднее. Лишние семьдесят ярдов никак не отразятся на меткости модернизированной снайперской винтовки Драгунова, из которой были убиты Том Сантана и трое агентов ФБР. Целых три часа у Дарвина ушло на то, чтобы выбраться из второго убежища, не оставив следов. Он прошел вдоль гребня горы, после чего поднялся по почти отвесной каменной стене на скальный выступ, который нависал над вторым местом возможной засады. Он обвязал вокруг большого валуна веревку и начал спускаться вниз. На полпути он остановился, выбрал удобную трещину в стене, установил в ней видеокамеру вместе с батареей и передатчиком и замаскировал камуфляжной непромокаемой тканью. А длинную антенну протянул по трещине вверх, направив ее верхушку в зенит. После чего Дар вернулся в дом и включил монитор. Изображение было не настолько четким, как с предыдущих четырех камер, зато второе место предполагаемой засады было видно хорошо, а при приближении просматривалось и первое, которое располагалось немного ниже. Еще полдня Дарвин бродил по каменистому гребню горы и лазил по крутым склонам оврагов, которые находились к северо-востоку от первых двух удачных снайперских укрытий. И только к середине дня он нашел то, что искал. Сидни сказала, что больше всего ФБР беспокоят русские стрелки. Они неоднократно доказали свою безжалостность и профессиональную меткость в стрельбе на большие расстояния. Несколько опергрупп и высококлассных снайперских команд прибыли из Куантико. Ночью, без шума и спешки, население окрестных восьми домов у бульвара Сьерра-Мадре было эвакуировано, а сами дома заняли наблюдатели и руководители операции. Куда бы русские ни направились, за ними неотступно следовали машины – впереди и сзади, причем они регулярно менялись – и вертолеты, летящие на высоте 8 тысяч футов и оснащенные мощной оптической аппаратурой. Когда в среду вечером русские загнали свои два «Мерседеса» в гараж и зашли в дом, группа захвата успела увеличиться до шестидесяти двух человек. К тому времени фэбээровские снайперы в костюмах Гилли окружили дом, ползком приблизившись к нему на расстояние в 150 ярдов. Стрелки были вооружены самыми лучшими, самыми современными снайперскими винтовками – 7.62-мм «Де Лизл Марк 5» со стандартными патронами и бесшумными. Прототипом этой винтовки был любимый дарвиновский «Ремингтон-700», но они отличались друг от друга, как пилот космического шаттла и первый австралопитек. Ствол такой снайперской винтовки оснащен тяжелым интегральным супрессором – непрофессионалы его называют глушителем, – и при применении специальных бесшумных патронов дистанция прицельной стрельбы для нее составляет более двухсот ярдов. «Де Лизл Марк 5» стреляет бесшумно, даже пуля переходит звуковой барьер без характерного хлопка. Каждая такая винтовка оснащена встроенным оптическим прицелом, который дополняется мощным телескопическим прицелом с прибором ночного видения, инфракрасным определителем расстояния и тепловизором. Снайперы ФБР могут стрелять без промаха в дождливую безлунную ночь, сквозь туман и дым. Экипировка штурмовой команды ФБР состояла из кевларовых шлемов, полных бронекостюмов, противогазов, инфракрасных очков, бесшумных автоматических винтовок с лазерными прицелами, автоматических пистолетов сорок пятого калибра и акустических гранат, которые в народе называются «хлопушками». Было решено, что операция начнется в четверг, в пять часов утра. Штурмовая группа забросит во все окна гранаты со слезоточивым газом и выбьет входную дверь ручным гидравлическим тараном. В гараже соседнего дома будет ждать резервная штурмовая группа с запасным тараном. В операции задействованы пять вертолетов, в кабине каждого будут находиться опытные снайперы. Два вертолета были приспособлены для быстрой высадки штурмовиков. Была среда, и стрелка часов только-только перевалила за полдень. Уоррен улыбнулся одними уголками губ. – Если здесь начнется драка, – сказал он, – пусть лучше меня застрелят сразу. Сид кивнула и позвонила Дарвину домой, в его квартиру, чтобы узнать, как у него идут дела. У Дарвина дела шли просто замечательно. Он все утро работал – приводил в порядок документы по трагически закончившемуся для семьи Гомес инсценированному столкновению и гибели адвоката Эспозито под строительным подъемником. Несколько минут он болтал с Сидни, а под конец заявил, что собирается этим вечером отправиться в хижину и как следует выспаться, пока она и ее коллеги завершат всю самую трудную работу. Дар попросил Сидни быть осторожной, пообещал встретиться с ней в четверг и пожелал ни пуха ни пера.
Весь вторник – с обеда до позднего вечера – Дарвин пристреливал свое новое оружие. Он забрался в овраг, тянувшийся к востоку от домика. Овраг достигал в длину шестидесяти футов там, где выходила наверх заброшенная золотая шахта, и сужался до двадцати футов у холма, параллельного тому, где Дар выявил подходящие места для засады. Дарвин истратил несколько сотен патронов, попеременно стреляя то из старой «М-40», то из «легкой пятидесятки». Еще в городе он сделал покупку, за которую выложил три тысячи двести девяносто пять долларов. Это был новый дальномерный бинокль «Лейка Геовид» BD II. С помощью встроенного лазерного дальномера Дарвин установил мишени на расстояния сто, триста, шестьсот пятьдесят и тысячу ярдов. Конечно, Дар без труда мог измерять расстояние в метрах, но, как большинство старых снайперов, он привык переводить все в ярды. Определив расстояние до мишеней «на глазок» и проверив после дальномером, Дарвин с радостью отметил, что погрешность составила не более пяти футов. Лазерный определитель расстояния давал погрешность в пределах трех футов на расстоянии тысячи ста ярдов. Хотя Дару, бывало, приходилось стрелять из «М-40», ему было необходимо заново к ней привыкнуть. В юности, когда Дарвин только записался в морскую пехоту, у него было, так сказать, двестипроцентное зрение. Он свободно различал последнюю строчку в таблице проверки зрения. Еще до того, как он решил стать профессиональным снайпером, в учебном лагере новобранцев на острове Паррис его квалифицировали как «мастер-стрелок». По старой армейской традиции стрелку могут присвоить три категории: стрелок, снайпер и – очень, очень редко – мастер-стрелок. Дар попал в категорию «мастер-стрелок» в день регистрации, когда выбил 317 очков из 330 возможных. Потом командир сказал ему, что такой отличный результат показали не больше десятка морских пехотинцев со времен Второй мировой войны. Первый пехотинец, выбивший 317 очков, впоследствии стал знаменитым писателем и биографом. Чтобы стать настоящим профессиональным снайпером, необходимо уметь контролировать дыхание, обладать невероятно острым зрением и безграничным терпением. Также нужно научиться стрелять из разных положений и учитывать расстояние, массу, скорость и направление ветра и отдачу оружия при каждом выстреле. Причем у каждого оружия отдача разная. Необходимо обладать еще одним качеством, которое обычно недооценивают, – талантом подгонять ремень винтовки под себя. Наставникам приходилось долго биться, прежде чем ученики не задумываясь подгоняли ремень так, что во время выстрела тяжесть винтовки равномерно распределялась на три упора: ладонь, плечо и натянутый ремень. Но Дарвин овладел этим талантом быстро и легко. И вот спустя тридцать лет зрение Дара упало до обычного, среднего уровня. Но ловкость в обращении с оружием, искусство подгонять ремень винтовки под себя, способность точно определять расстояние до мишени, меткая и хладнокровная стрельба с позиции стоя, сидя, лежа и с колен – все это осталось. Половину вторника Дарвин провел с «М-40» в руках, доводя прицельность стрельбы до идеала. Современный редфилдовский прицел был оснащен миллиметровой сеткой и движками вертикальной и горизонтальной наводки. Он устанавливал вертикальную наводку в зависимости от расстояния, на которое стрелял, а горизонтальную наводку использовал для нивелирования бокового сноса пули ветром. Винтовка пристреляна, если пуля попадает точно в центр мишени с заданного расстояния при отсутствии ветра. В данном случае овраг пришелся весьма кстати, потому что защищал от частых в этих местах западных ветров. И Дарвин мог пристрелять оружие на любое расстояние, пока стояла тихая безветренная погода. На специальных курсах для снайперов в Куантико, а потом во Вьетнаме Дарвин определил для себя условия точной стрельбы. Из хорошо пристрелянной снайперской винтовки – такой, какая у него была сейчас, – с расстояния сто ярдов Дарвин должен был попадать в мишень диаметром двадцать миллиметров, с расстояния шестьсот ярдов – в мишень диаметром сто двадцать пять миллиметров, а с тысячи ярдов – в мишень диаметром триста миллиметров. Правда, результаты стрельбы на дальние дистанции обычно получались не такими отменными – потому что пуля, выпущенная из «М-40», пролетает шестьсот ярдов приблизительно за одну секунду, а тысячу ярдов – за целых две секунды. В баллистике две секунды – это уже целая вечность. За такой большой отрезок времени ветер успеет перемениться несколько раз, а если еще и мишень сдвинется с места… какая там точность, забудьте! Во вторник Дарвин пять часов пристреливал свою «М-40» из всех позиций – лежа, сидя, с колена, стоя. Он должен был заново примериться к позиции стрельбы, прочувствовать правильное натяжение ремня на плече, ощутить щекой гладкую поверхность приклада, «слиться» с оружием, выверить точное расположение пальцев на ложе и спусковом крючке – так, чтобы указательный палец не касался боковой поверхности ложа, должен был снова приучиться дышать ровно и размеренно, чтобы дыхательные движения не влияли на точность стрельбы. Чтобы проверить правильность занятой позиции, Дар прицеливался, а потом на несколько секунд закрывал глаза и снова открывал. Если после этого перекрестье прицела по-прежнему оставалось наведенным на цель, то положение стрелка и оружия было правильным. Самой трудной задачей для Дара оказалось заново привыкнуть вовремя нажимать на спусковой крючок. Когда он служил в морской пехоте, это получалось у него само собой, но Дар давно не практиковался в стрельбе и понимал, что необходимый навык придется вырабатывать заново. Собственно, нужно было всего лишь приучиться выбирать свободный ход спускового крючка в определенной фазе дыхательного цикла – в той, когда винтовка нацелена точно на мишень. Потом оставалось только дожать спусковой крючок еще на миллиметр – в той же фазе дыхательного цикла, – чтобы перед выстрелом винтовка не сместилась в сторону. Это было не так уж трудно сделать, но требовалось сосредоточиться и тщательно контролировать ритм дыхания и напряжение мышц. Пристреляв «М-40», Дарвин перенес мишени на открытое пространство возле хижины и расстрелял несколько обойм при естественных погодных условиях, делая поправку на ветер. Во вторник было ветрено, скорость ветра достигала пятнадцати миль в час, так что на расстоянии в двести ярдов пулю 7.62 мм сносило в сторону на четыре с половиной дюйма. Это было еще ничего, но с расстояния в шестьсот ярдов смещение доходило уже до двадцати дюймов, а при стрельбе с тысячи ярдов результат получался просто смешным – пули попадали в сорока восьми дюймах от точки прицеливания. Ну и, конечно же, ветер все время дул порывами – скорость его постоянно менялась. Дар знал, что современное поколение снайперов не выходит на позицию без карманного калькулятора. Мало того – в самые совершенные прицелы для снайперских винтовок теперь встраивали мини-компьютеры и электронные определители скорости ветра. Дарвин считал, что использование таких суперсложных приспособлений притупляет естественные возможности человека, отучает снайпера полагаться на собственные мыслительные способности и органы чувств. Сам Дар прекрасно умел корректировать стрельбу при любом ветре. Он умел определять скорость ветра безо всяких электронных приборов. Когда скорость ветра меньше трех миль в час, ветер почти не ощущается, но столб дыма все равно сносит в сторону. При порывах ветра со скоростью от пяти до восьми миль в час листья на деревьях все время шевелятся. Кроме того, Дар давным-давно научился на слух определять скорость ветра по шуму дугласовых пихт и гигантских сосен, которые росли вокруг его хижины. Ветер со скоростью от восьми до двенадцати миль в час поднимает в воздух пыль и песок, образует небольшие песчаные смерчи. А при скорости ветра от двенадцати до пятнадцати миль в час отдельно растущие молодые березы постоянно раскачиваются из стороны в сторону. Дар инстинктивно понимал, даже когда только начинал учиться в снайперской школе, что скорость ветра – только один из множества факторов, которые влияют на прицельность стрельбы. Направление ветра тоже имело немаловажное значение, и его тоже снайперу нужно было уметь чувствовать и правильно учитывать. Ветер, который дул под прямым углом к направлению стрельбы – с позиции на восемь, девять, десять и два, три, четыре часа, – нужно было учитывать в полном соответствии с его скоростью. Ветер, дующий под косым углом – на один, пять, семь и одиннадцать часов, – следовало учитывать в половинной пропорции к его скорости. Так, ветер со скоростью семь миль в час, который дул с позиции на одиннадцать часов, требовал такой же поправки при стрельбе, как боковой ветер со скоростью три с половиной мили в час. Ну а если ветер дул спереди или сзади – на шесть или двенадцать часов, – на полет пули он оказывал минимальное влияние. При стрельбе против ветра скорость полета пули несколько снижалась – но незначительно, а при стрельбе по ветру, соответственно, скорость пули несколько увеличивалась. Постоянные полеты на планере отточили навыки Дарвина по определению скорости и направления ветра почти до совершенства. Как можно точнее определив расстояние стрельбы и скорость ветра – желательно сделать это за несколько микросекунд, – оставалось только применить старую снайперскую формулу, которую Дарвин выучил во время службы в морской пехоте. Расстояние в сотнях ярдов нужно умножить на скорость ветра в милях в час и разделить на пятнадцать. Несмотря на то что со времени службы в армии прошло уже много лет, Дарвин и сейчас мог проделать эти вычисления практически мгновенно и почти инстинктивно. Этим утром, во вторник, стреляя с разных позиций на большом, заросшем травой поле возле хижины, Дарвин постоянно носил с собой маленький видеомонитор. Этот монитор был подключен к камере, направленной на подъездную дорогу. Дарвин следил, чтобы никто не приехал к хижине, пока он тут практикуется в стрельбе. Дар стрелял то по обычным круглым мишеням, то по фигурным, пробовал стрелять в обычной одежде и в маскировочном костюме. Он добивался точного и кучного попадания в центр мишени. И когда у него стало наконец получаться, когда он восстановил прежние навыки меткой стрельбы в любых условиях, с любого расстояния, по любым мишеням, только тогда он напомнил себе, что сейчас это были всего лишь бумажки, а потом стрелять придется по живым людям. Это было очень важное напоминание.
В среду вечером, перед самым заходом солнца, все фэбээровцы, сидевшие в засаде вокруг резиденции русских, пришли в полную боевую готовность. К этому времени восемь снайперских команд в маскировочных костюмах, зайдя с трех сторон, успели подползти на расстояние ста пятидесяти ярдов от дома. Трое снайперов залегли в высокой траве в пяти ярдах от подстриженного газона. В 16.30 в доме раздался первый телефонный звонок за весь день. Его записали и сразу же прослушали. Голос: «Ваши вещи уже почистили, мистер Йейл». Ответ (предположительно Япончикова): «Хорошо». Специалисты ФБР тут же отследили, откуда поступил этот звонок – из химчистки в Пасадене. Уоррен приказал одному из агентов позвонить туда и спросить, готов ли заказ мистера Йейла. Управляющий ответил, что готов, и добавил, что он только что сообщил об этом самому мистеру Йейлу. Он также извинился за то, что вещи не смогут доставить на дом, поскольку этот район находится далеко от Пасадены и не входит в обычные маршруты развозчиков заказов. Агент заверил управляющего, что это не страшно и они заберут вещи сами. В 20.40 к дому подъехал белый фургон, из которого вышли трое мексиканцев в серых рубашках и рабочих комбинезонах. На боку машины была эмблема службы по уходу за приусадебным хозяйством. Спецагент Уоррен сразу же посадил своих людей на телефон, чтобы они проверили, действительно ли сюда вызывали рабочих из этой службы, потому что час был поздний. Оказалось, все верно. Секретарь службы заверил агентов, что их рабочие приезжают в этот дом каждую неделю, только сегодня подзадержались у предыдущего клиента. Потом Уоррен признался Сид, что первым его порывом было сообщить в эту службу, чтобы они отозвали этих рабочих к чертовой матери. Но рабочие уже принялись за дело. Они подстригали газоны, подравнивали кусты и спиливали мертвое, высохшее деревце. Наконец агенты ФБР решили, что лучше оставить все как есть и позволить рабочим завершить начатое, чтобы не возбуждать подозрений у преступников. Быстро темнело. Один из рабочих службы подошел к входной двери дачи. Агенты, засевшие в соседнем домике, расположенном в полумиле от этого загородного дома, смогли сделать четкую фотографию Павла Зуева. Зуев что-то втолковывал мексиканцу, который в ответ быстро-быстро кивал. Русский закрыл дверь, а через минуту приоткрылись ворота гаража. Наблюдателям удалось разглядеть большую кипу мешков с листвой и ветками, сложенных возле двух «Мерседесов». Рабочие спешили, поскольку становилось все темнее. Они скосили траву на газоне, едва не наступив на снайпера в маскировочном костюме, который лежал ничком и не шевелился. После чего один из рабочих остановил газонокосилку, пошарил по земле и поднял что-то вроде железной подковы. Осмотрев предмет, он зашвырнул его в высокую траву, в которой прятались снайперы, и чуть не раскроил голову одному из стрелков. Уборка территории завершилась уже в полной темноте. Трое мексиканцев зашли в гараж, возились там с минуту, после чего вышли, волоча объемные мешки с листвой. – Сколько их? – спросил Уоррен по рации. – Мешков? – уточнил один непонятливый агент. – Рабочих, идиот! Их должно быть трое, не больше. – Так и есть, – подтвердили наблюдатели. Рабочие суетились возле фургона, укладывая в мешки обломки деревца и скошенную траву и собирая оборудование по уборке территории. Над крыльцом дома зажглась лампочка, засветились и фонари у ворот. Когда фургон отъехал, в доме зажглось освещение. – Задержать их? – спросил агент из внешнего периметра наблюдения. – Отставить, – отозвался Уоррен. – Их начальник сказал, что они задержались на работе и поедут прямо домой. Пускай себе едут. Снайперы вокруг дома, наблюдатели в соседних домах и операторы на вертолетах включили приборы ночного видения. Первоначально арест планировался на 3.30 утра, когда русские уже не будут держаться на ногах, а еще лучше – уснут как сурки. Но поскольку в это время проходили аресты других подозреваемых, то решено было начать операцию не раньше 5.00 утра. Так меньше риска, что Даллас Трейс и прочие, чьи аресты запланированы на утро, ничего не узнают из утренних «Новостей».
Вечером в четверг Дарвин несколько часов практиковался в стрельбе из «легкой пятидесятки». Увлекательное занятие! К винтовке прилагались сошки, но управляться с ней на весу было непросто. Попробуй удержи эту зверюгу в двадцать девять с половиной фунтов весом и длиной в пять футов! Добавив к этому прицел М-3А «ультра» и несколько магазинов с патронами, Дарвин сразу же вспомнил, что слабоват в спине. В среду Дар поработал у себя на квартире, поболтал с Сидни по телефону, вытащил из-под кровати дробовик «ремингтон» модели 870, затолкал в карманы побольше патронов и перенес сумку с вещами и оружием в «Лендкруизер». Спустившись в гараж, Дар внимательно осмотрел помещение и только потом подошел к машине. Было бы крайне досадно так подготовиться и угодить под пулю русского стрелка в собственном гараже. Но все было спокойно. Он долго ехал по запруженному шоссе, но успел добраться к хижине до темноты, как и предполагал. Остановившись на обочине грунтовой дороги, Дарвин первым делом включил все видеокамеры и проверил, нет ли кого поблизости. Никого – ни на дороге впереди, ни возле хижины, ни в самом доме. Дарвин подъехал к дому, выгрузил оружие и продукты и приготовил ужин. Он решил было позвонить Сидни, но отказался от этой идеи – ведь она могла весь вечер просидеть на командном посту. «К черту, – подумал Дар. – Завтра я прочитаю обо всем в вечерних газетах или послушаю новости по радио. – Он задумчиво отхлебнул кофе из чашки. – Надеюсь». К полуночи Дарвин дважды проверил, надежно ли заперта входная дверь хижины и везде ли выключен свет. В камине догорал огонь, отбрасывая теплые мерцающие отблески на стены комнаты. Еще он оставил гореть настольную лампу на кухне и ночник у кровати. Но ложиться в постель он не стал. Прихватив дробовик и приемник с монитором, Дар приподнял край ковра, отомкнул крышку люка и спустился вниз по лестнице. В подвале автоматически зажегся свет. Прислонив оружие к стене, Дарвин отпер стальную дверь и направился к вентиляционной решетке в конце прохода. Отомкнув тяжелый висячий замок, он посветил в узкий ход фонариком, после чего пополз на четвереньках вперед. Ползти пришлось более двухсот футов, так что под конец путешествия Дарвин с неудовольствием заметил, что начал задыхаться. Наконец он добрался до второй решетки. Отперев ее, он выбрался в старую золотую шахту. Там он отыскал завернутую в полиэтилен «М-40» и тяжелый рюкзак, которые припрятал здесь накануне. Дарвин достал из рюкзака бронежилет, забросил за спину тяжелый рюкзак и повесил на правое плечо винтовку. Из ствола старой шахты сочилась вода. Повсюду стояли лужи, некоторые достигали в глубину шести дюймов. Дар пошел вперед, разбрызгивая лужи и освещая себе путь фонариком. На нем были водонепроницаемые туристские ботинки и широкие зеленые штаны. Поверх бронежилета он надел просторную камуфляжную рубашку. На поясе висели ножны с ножом из черненой стали. В нагрудном кармане рубашки лежал сотовый телефон, но сейчас он был отключен. Добравшись к выходу из шахты, он выключил фонарик, сунул его в карман рюкзака и достал инфракрасные очки. Луны не было, и овраг лежал в глубокой тени, но Дар нацепил очки, сдвинув их на лоб и дал глазам привыкнуть к темноте. Выбравшись из оврага, он поднялся по узкой тропинке вдоль восточного склона горы, потом свернул в сторону и начал взбираться вверх, до облюбованного накануне укрытия. Стояла чудесная ночь – почти безоблачная, немного прохладная для лета, но прекрасно подходящая для прогулок пешком.
Штурмовая группа ФБР высадила входную дверь загородного дома ровно в 5.00. Агенты забросили гранаты со слезоточивым газом во все окна дома. Опергруппа ворвалась в гостиную. В дыму замелькали красные лучи лазерных указателей цели. В гостиной – никого. Часть агентов поддерживала лестницы, пока остальные под прикрытием снайперов забирались по этим лестницам в спальню на втором этаже. В спальне – ни души. Специальный агент Уоррен повел штурмовую группу по комнатам на первом этаже, а потом они поднялись на второй этаж. Два вертолета опустились на лужайку перед домом, остальные два зависли над зданием, заливая все ярким светом и разгоняя предрассветный сумрак. Агенты, сидевшие в кабинах вертолетов, забросили еще одну порцию гранат со слезоточивым газом в окна второго этажа. На втором этаже – пусто, на кухне – пусто, в подвале – пусто. По рации подала голос последняя штурмовая группа, ворвавшаяся в дом. В гараже найдены трупы. Уоррен и остальные, неуклюже переваливаясь в полных бронекостюмах, добежали туда за двадцать секунд. На полу гаража лежали трое мексиканцев, раздетых до белья. Все были убиты выстрелом в голову. – Но в фургоне уехали всего трое… – начал молоденький агент. – Чертовы мешки с листьями! – прорычал Уоррен. – Расширить периметр? – спросил другой агент, в шлеме. Уоррен прислонился к дверному косяку и поставил свою «МP-10» на предохранитель. – Они могут быть уже в Мексике, – мрачно сказал он. Тем не менее Уоррен доложил обо всем в штаб-квартиру, поднял на ноги полицию и дорожный патруль и направил вертолеты и патрульные машины на поиски фургона службы по благоустройству приусадебного хозяйства. Началась облава. Из Малибу, где содержались детективы Вентура и Фэйрчайлд, пришло сообщение. Оказалось, что Фэйрчайлду, который выразил такую готовность помочь следствию, разрешили вчера выйти на прогулку вдоль берега. Агенты ФБР не знали, что неподалеку находился телефон-автомат. Фэйрчайлд попросился отойти в кустики, чтобы отлить. Ему позволили. А сегодня утром один из агентов гулял по берегу и увидел этот телефон. Он сразу же проверил, не было ли оттуда исходящих звонков. Оказалось, были. Вчера, в 16.40, продолжительностью 15 секунд. По номеру свояка детектива Фэйрчайлда, который держал химчистку в Пасадене. «Твою мать!» – сплюнул в сердцах один из агентов. «Его мать, – поправил другой. – И мать, и отца, и этого свояка». – А чтоб меня! – сокрушался спецагент Уоррен. – Бьюсь об заклад, что Фэйрчайлд получил больше денег, чем Вентура. Только спрятал их получше. – Стоит сообщать специальному агенту Фаберу и следователю Олсон о том, что русские сбежали? – спросил связист. Уоррен посмотрел на часы: 5.22 утра. Арест Далласа Трейса должен состояться примерно через девяносто минут. – Фабер и его люди приготовились к операции и отключили рации, – сказал он. – Я сообщу Кассио, командиру опергруппы, которая защищает здание офиса по периметру. И вышлю к нему на помощь еще десяток агентов. – Вы думаете, что русские попытаются спасти Далласа Трейса? – спросил молоденький агент. Уоррен мрачно рассмеялся. – Черта с два! Эти ребята уже поняли, что корабль дал течь. И не станут выбираться из одной засады, чтобы напороться на другую. Мы сообщим обо всем Фаберу, когда они закончат операцию. И Уоррен не подобающим фэбээровцу тоном добавил: – А этому патрульному… Фэйрчайлду… я яйца отрежу!
Сидни получила сообщение на пейджер через восемь минут после того, как Далласа Трейса и его троих телохранителей рассадили по разным машинам. Она стояла на улице, перед зданием адвокатской конторы, вытирая пот со лба и расстегивая пряжки бронежилета. Увидев номер, с которого пришло сообщение, она замерла. Уоррен в двух словах изложил ей ситуацию. – Дар! – закричала Сидни, бросив взгляд на часы. – Следователь Олсон, – сказал Уоррен, – эти русские – настоящие профессионалы. Они опережают нас на десять часов. И не станут тратить время на какую-то глупую месть. Сейчас они, вероятно, уже в Мексике. Но Сид уже не слушала его. – Вышлите два вертолета с опергруппами к хижине Дара… немедленно! – закричала она. Сидни отключила телефон, подхватила штурмовую винтовку и бросилась к стоянке, где находился ее «Таурус». Она не знала, что батарейки в ее сотовом сели и спецагент Уоррен не услышал ни единого слова.
ГЛАВА 23 Ч – ЧАСЫ ОЖИДАНИЯ
Ночь тянулась бесконечно. Неудивительно, говорил себе Дарвин. Просто ты не привык лежать всю ночь на холодных камнях и ждать, когда прикатит толпа незнакомцев и попытается тебя прикончить. Нет, тут же одергивал он себя, дело вовсе не в этом. Место для засады он нашел на скалистом выступе у восточного склона поросшего лесом оврага. Груда камней, за которой он лежал, находилась в двухстах шестидесяти ярдах над хижиной. Отсюда отлично просматривался подъезд с дороги и стоянка перед домом. И, самое главное, оба удобных для снайперской засады места, которые он приметил еще раньше. Каменная плита, которую Дарвин выбрал для засады (хотя слово «плита» ему не нравилось, слишком напоминало могильную плиту), располагалась на дне узкой щели в скале. Из нее вели две природные бойницы: одна смотрела на стоянку и на хижину, а вторая – на снайперские убежища. Плохо, что камни по бокам его площадки поднимались выше края скалы и были слегка наклонены вперед. И если по нему начнут палить из снайперских укрытий, то возникнет серьезная угроза попасть под рикошет. Дарвин надеялся, что до этого не дойдет. В прошлый свой визит сюда Дар положил «легкую пятидесятку» в выемку в скале и прикрыл брезентом. Теперь он лежал на этом брезенте, жалея, что не притащил с собой полиуретановый туристский коврик. Бронежилет, весивший двадцать пять фунтов, был надежнее обычных полицейских жилетов из кевлара. Он был сделан по заказу корпуса морской пехоты и защищен впереди нагрудной пластиной из прочной керамики, которую не брали 7.62-мм пули, но из-за этого он сделался громоздким и неудобным. «Старею», – подумал Дар. «Легкая пятидесятка» стояла на сошках на камне, чуть наклоненном вниз. Рядом лежали запасные магазины, бинокль «Лейка Геовид» и стоял приемник с монитором. Старая снайперская винтовка «М-40» лежала справа, накрытая камуфляжем и полиэтиленом – как раз под рукой, если ему придется вести огонь по снайперским укрытиям. Дарвин пришел к выводу, что, если русские не приедут этой ночью, они не приедут никогда. План был прост и не предполагал никакого героизма с его стороны. Если так случится, что русские явятся к хижине прежде, чем ФБР их схватит, он позвонит по сотовому Сидни и спецагенту Уоррену. Дар привык считать, что его домик стоит на краю света, но он попадал в зону действия сотовой сети, и связь здесь всегда была отличная. В конце концов, это же Южная Калифорния! Никто из тех богачей, которые выстраивают себе дорогущие дачи и хижины в лесу, не захочет быть отрезанным от мира даже на час. Дар искренне надеялся, что стрелять не понадобится. Он просто будет тихо-мирно лежать в засаде, а русские будут ждать, когда он выйдет из домика… пока не прилетят вертолеты ФБР с настоящими профессионалами. Но если его обнаружат, ему придется открыть ответный огонь, чтобы задержать русских, пока не подоспеет кавалерия. Его укрытие было таким же надежным и защищенным, как реактор в Далате. С одной стороны – овраг, с другой – отвесная стена, по которой просто так не залезешь. С запада и юга, со стороны дороги и хижины, подобраться незамеченным практически невозможно. Дар прихватил с собой костюм Гилли – на случай, если русские откроют по нему массированный ответный огонь. В том, что ответный огонь будет именно массированным, Дар даже не сомневался. В таком случае он наденет маскировочный костюм и уползет в лощину за теми деревьями. Когда русские доберутся до его укрытия, он уже будет тихо лежать в траве, и попробуй его найди. А там подоспеют ребята из ФБР. «Я настоящий параноик, – подумал Дарвин, когда его ночная вахта только началась. – Какого черта русским вообще понадобится снова ловить меня?» Но в глубине души он знал ответ. И Юрий Япончиков, и Павел Зуев – профессиональные, опытные снайперы. Изо всех солдат на свете только снайперы специально обучены сражаться с личностью. Морская пехота и армия могут разбиться на небольшие подразделения и сражаться против небольших подразделений или даже одного-единственного врага. Но только снайпер обучен устраивать засаду и пускаться на самые изощренные хитрости, чтобы убить намеченную личность. И снайперы всегда мечтают внести в свой послужной список самую опасную и заманчивую цель – вражеского снайпера. Дарвин не знал, раздобыли ли русские и их американские наниматели его личное дело, но он не хотел рисковать, полагаясь на их неведение, что когда-то он был снайпером. Более того, Япончиков и Зуев трижды пытались его убить и трижды терпели поражение. И если Дарвин разбирался в мировоззрении снайперов, а он разбирался, такой человек, как Япончиков, никогда не оставит работу незавершенной. Это не в его правилах. Дар припомнил один мультфильм про какого-то короля. Король сидел на троне и думал: «Я, конечно, подозрителен. Но достаточно ли я подозрителен?» Ночь тянулась медленно. Дарвин убедился, что свет монитора его не выдаст, и начал проверять показания видеокамер, переключив наружные камеры на инфракрасное изображение. На дороге – никого. В открытом поле перед хижиной – никакого движения. По крайней мере, камеры ничего не зафиксировали. Никого нет и в трехстах ярдах напротив, в снайперских укрытиях. В домике тоже пусто, никаких незваных гостей. Дар поймал себя на том, что его мысли потекли в совершенно ином направлении. И позволил себе думать о чем угодно, только бы не заснуть. Он вспомнил о философии стоиков, которую изучал на протяжении стольких лет. Дарвин знал, что о стоиках думает обычный человек – если вообще он о них думает. Средний человек считает их поборниками девиза «Выдерживай и воздерживайся!». Но средний человек понятия не имеет, что это значит. Они с Сид говорили об этом. Она понимает сложность философии стоиков – Эпиктета и Марка Аврелия. Она понимает, что жизнь делится на составляющие, которые никто не в состоянии контролировать (и здесь требуется все твое мужество), и составляющие, которые можно и нужно контролировать (и здесь требуется особая осмотрительность). Эта философия так долго была частью его жизни, что в эту ночь Дарвин впервые с изумлением перебирал привычные истины и подвергал их сомнению. «Больше вообще не рассуждать, каков он – достойный человек, но таким быть»,[31] – писал Марк Аврелий. Дар пытался жить, следуя этому правилу. Чему еще учит Марк Аврелий? Цепкая, почти фотографическая память Дарвина услужливо подсунула ему новое изречение. «Не забывай, что этот кусок земли таков же, как и любой другой; и что все здесь – такое же, как и на вершине горы, и на берегу моря, и где угодно. И ты увидишь, что все совершенно так, как сказал Платон, и что жизнь в стенах города такова же, как и в овечьем загоне на горе». Что ж, так и есть – он в прямом смысле устроил себе загон на горе. Но что касается чувства, которое выражают эти замечания Платона и Марка Аврелия, то в глубине души он не был с ними согласен. После смерти Барбары и ребенка Дарвин не мог больше жить в Колорадо. Как ни странно, но эта гора, этот город на побережье – они стали для него началом новой жизни. И вот все едва не закончилось. Неподалеку отсюда русские пытались убить их с Сидни и сфотографировали его во всех местах, где он бывал. Дарвин не чувствовал ни злости, ни приближающейся каталепсии – он похоронил эти чувства много лет назад. Лишь с иронией следил за неудачными попытками загнать его в могилу, гнев больше не имел над Дарвином власти, не мог овладеть им. Но теперь, лежа на склоне горы, он вынужден был признаться самому себе в тайной надежде, что русские все-таки приедут за ним. Вопреки логике и здравому смыслу, эта надежда продолжала гореть в его сердце. Каждый раз, когда Дарвин исследовал место очередной катастрофы, он вспоминал слова Эпиктета: «Скажи мне, где я могу избегнуть смерти: отыщи для меня край, куда я должен пойти, покажи людей, к которым не приходит смерть. Придумай заклинание от смерти. Если не сумеешь, чего ты хочешь от меня? Я не могу избегнуть смерти, но разве я умру, рыдая и дрожа?.. Поэтому, если в моих силах изменить обстоятельства, я изменю их; но если нет, я готов вырвать глаза тому, кто стоит у меня на пути».[32] Эпиктет наверняка написал это с тенью иронии, но Дарвин действительно был готов вырвать глаза у русских, если они снова явятся по его душу. Он потрогал нож, висевший на поясе. Прошлым вечером Дар целый час точил его, хотя от одной мысли о том, как холодная сталь входит в живое человеческое тело, ему становилось не по себе. «Но что же подобает делать настоящему человеку? – А на это, брат, ответить можешь только ты сам. Спрошу и я у тебя: как узнает бык, что он один так силен, что может защитить свое стадо от хищного зверя? И почему он бросается навстречу врагу, а не убегает прочь?»[33] Черт бы побрал этого Эпиктета! Дарвин вовсе не считал себя храбрецом… или быком. И у него нет своего стада, которое нужно защищать от хищного зверя. «Сид», – пришла внезапная мысль. Но он только усмехнулся. Пока он здесь лежит, прячась в темноте среди камней, в сорока милях от города и опасности, Сидни Олсон готовится брать штурмом плохих парней. Это она защищает стадо от хищных зверей. Шли часы. Дарвин ворочался, устраиваясь поудобнее, оглядывал местность через инфракрасные очки и проверял изображение видеокамер, слушал шум ветра в соснах (машинально прикидывая скорость ветра) и постепенно разбирал по косточкам философию, по которой строил всю свою предыдущую жизнь. «Человек – это душонка, обремененная трупом», – учил Эпиктет. Повидав в своей жизни достаточно свежих трупов, Дарвин не мог не согласиться с этим утверждением. Но за последние несколько недель – за время, проведенное с Сидни, – он не чувствовал себя трупом, оживленным слабой искрой души. Он вынужден был признать, что почувствовал себя живым. В 5.00, уставший и продрогший, сна ни в одном глазу, Дарвин заново пересмотрел онтологические и понятийные базисы своей философской системы и пришел к выводу, что был полным идиотом. «Будь утесом, о который постоянно бьются волны, – учил Эпиктет, – но он стоит несокрушимо и усмиряет ярость окружающих вод».[34] Черт возьми, думал Дар. Неужели Эпиктет никогда не бывал на берегу моря? Неужели он не знал, что рано или поздно волны стачивают и размывают любой утес? Видимо, в Эгейском море не бывает таких больших волн, какие Дарвин видит каждую неделю на побережье Тихого океана. Море всегда выходит победителем. Гравитация всегда побеждает. Дарвин столько лет старался быть утесом и наконец устал. Над горами начал заниматься рассвет. Дар снял инфракрасные очки, но продолжал проверять показания видеокамер. Дорога пуста, хижина пуста, на лугу никого нет, в снайперских укрытиях тоже никого. В 7.00 Дар вздохнул – облегченно и немного разочарованно. Операции, запланированные агентами ФБР, уже начались. Сид сказала ему о времени их проведения. Дар полагал, что первыми возьмут русских, а потом уже примутся за американских граждан. В 7.30 он собрался уже послать все к черту, спуститься с горы, приготовить обильный завтрак, позвонить Сид и хорошенько отоспаться. Но решил подождать еще чуть-чуть, поскольку Сидни пока еще была на операции. В 7.35 камера номер один зафиксировала движение на дороге. Прямо перед объективом проехал черный микроавтобус с тонированными окнами, затормозил и остановился у противоположной обочины. Из автобуса вышли пятеро русских. Они все были одеты в черные свитера и свободные штаны, но Дарвин сразу же узнал Япончикова и Зуева. Старший из снайперов – он до сих пор напоминал Дару Макса фон Зюдофа – роздал всем оружие, причем он казался чем-то расстроенным. Трое молодых телохранителей направились вниз по дороге, держа наперевес «АК-47». Даже на таком крохотном мониторе Дарвин сумел разглядеть, что они вооружены ножами и полуавтоматическими пистолетами. У Япончикова и Зуева тоже были пистолеты в кобуре на поясе, но они достали с заднего сиденья автобуса две «СВД», из которых были убиты Том Сантана и трое агентов ФБР. Дарвин не смог сдержать улыбку. С такими деньгами русские могли себе позволить любое, самое первоклассное оружие. Привычка, подумал он, поглаживая приклад собственной допотопной винтовки. Обе «СВД» имели сменные магазины на десять патронов, пламегаситель и дульный тормоз, чтобы при выстреле ствол не дергался. Автоматы Калашникова, которые были у трех остальных русских, были снабжены глушителями. По-видимому, они собирались заскочить к Дарвину Минору, тихонько пристрелить его и отправиться дальше по своим делам. Дар знал, что у снайперской винтовки Драгунова были свои недостатки. На расстоянии шестьсот метров она попадала точно в цель, но уже на восьмистах метрах точными были только половина попаданий. Теоретически у Дарвина с его «М-40» было некоторое преимущество. Но на самом деле между хижиной и двумя снайперскими укрытиями – его и русских стрелков – было не более трехсот ярдов. Дар принялся переключать изображение с камеры на камеру, чтобы проследить, куда направятся русские. Один из троих автоматчиков появился на южном склоне холма, передвигаясь ползком в высокой траве. Двое остальных скрылись в рощице рядом с домиком. Япончиков и Зуев возникли в поле зрения камеры на скале… помедлили… и выбрали менее очевидное укрытие из двух, которые осматривал Дарвин. На мониторе было отлично видно, как двое русских устраиваются среди камней, подготавливая оружие и прочее снайперское снаряжение. Сердце Дарвина отчаянно колотилось. Пора вызывать кавалерию, решил он. Дар достал из кармана сотовый телефон, проверил заряд батарейки – на всякий случай он прихватил и запасную – и уже поднес палец к «горячей клавише», на которую запрограммировал номер экстренного вызова спецагента Уоррена. И тут краем глаза уловил какое-то движение на мониторе. Дарвин быстро проверил изображения всех пяти камер. И увидел «Таурус» Сидни Олсон. Машина проехала мимо микроавтобуса, притормозила и снова набрала скорость, направляясь к хижине. Навстречу спрятавшимся в засаде русским.ГЛАВА 24 Э – ЭКЗЕКУЦИЯ
Дар поспешно набрал номер мобильника Сидни. Сид не отвечала. Дарвин поставил телефон на автодозвон, а сам прополз чуть вперед и осмотрел окрестности хижины в бинокль. Сидни он увидел сразу. Она выбралась из «Тауруса» и осторожно подкрадывалась к хижине, держа наготове винтовку «хеклер и кох». Сумку она перебросила через плечо. Дар понял, что Сидни отключила звуковой сигнал телефона, а может, и вообще выключила эту чертову штуковину. На Сидни до сих пор был надет кевларовый фэбээровский бронежилет, но он свободно болтался на теле – Сид не затянула боковые застежки. На таком расстоянии снайпер легко мог попасть ей прямо в сердце – сбоку. У Дарвина сердце забилось часто-часто, мысли спутались. Он не проследил, куда девались двое русских с автоматами – а они должны быть где-то в лесу, неподалеку от Сидни. И Дар никак не мог ее предупредить. «Сосредоточься, черт возьми!» – мысленно приказал себе Дарвин и усилием воли восстановил контроль над дыханием. Пульс тоже вскоре выровнялся. Сидни была в пятидесяти футах от хижины – она на мгновение показалась в прогалине между деревьями, а потом снова скрылась из виду. Русских стрелков Дарвин до сих пор не смог отыскать. Дарвин поднял голову достаточно высоко и смог рассмотреть в бинокль снайперскую позицию Япончикова и Зуева в трех сотнях ярдов к западу от того места, где расположился он сам. Дар увидел макушку Зуева и ствол снайперской винтовки Япончикова. Зуев смотрел в бинокль. Дарвин помнил зону обстрела, открывающуюся с обоих удобных мест, и знал, что стоит Сидни сделать еще несколько шагов – и Зуев ее увидит. Еще несколько шагов – и Сид попадет в зону, которая прекрасно простреливается с той позиции, на которой залег Япончиков. Перед тем как отползти обратно за уступ скалы с расщелиной, Дар увидел, как Зуев начал что-то говорить в рацию. Вот дерьмо! Русские могли переговариваться друг с другом, а у Дарвина связи не было. Сидни вышла на открытое место. Все ее внимание было обращено на хижину. Она растерялась – очевидно, рассчитывала застать здесь несколько иную обстановку. Сидни еще раз осторожно шагнула вперед, держа наготове «хеклер и кох» с диоптрическим прицелом. Она повела стволом влево, в сторону заросшего лесом склона горы, потом повернулась вправо – к двери хижины. «Дверь закрыта на замок, – подумал Дарвин, всеми силами души желая, чтобы Сидни услышала его мысли. – А ключей у тебя нет… Дверь закрыта, Сид!» Дар взял свою «М-40» и посмотрел сквозь оптический прицел, собираясь дать предупредительный выстрел в сторону Сидни. Но потом ему в голову пришла другая мысль. Он отложил винтовку и снова взял бинокль. Сидни пошла к двери хижины. Если бы он оставил дверь открытой, русские скорее всего подождали бы, пока Сидни войдет, а потом вломились бы в дом следом за ней, рассчитывая захватить их обоих. Но как только Сидни подергает за ручку двери и обнаружит, что дверь заперта, русские сразу же поймут, что Дарвина внутри нет, и не задумываясь изрешетят Сидни пулями. Дар положил «М-40» рядом с собой, посмотрел на монитор – камера показывала третьего русского на южном склоне, меньше чем в тридцати ярдах от крыльца дома, – а потом снова посмотрел в бинокль. В бинокле «Лейка» был первоклассный встроенный лазер, но этот прибор был рассчитан на короткие импульсы для определения расстояния, он не давал постоянного луча. Тем не менее Дар навел бинокль на Сидни и стал нажимать на красную кнопку на бинокле так часто, как только смог, направляя красное пятнышко Сидни под ноги. Сид в недоумении уставилась под ноги и на мгновение замерла, не понимая, что происходит. Дар очень надеялся, что никто из русских не заметит мелькающего у ног Сидни красного пятнышка. Как только Сид сообразила, на что она смотрит, Дарвин нацелил лазерный видоискатель ей на грудь и снова стал часто-часто нажимать на красную кнопку. Сбоку на электронном экране видоискателя вспыхивали цифры, показывающие расстояние: 264 ярда, 263, 262 – но Дар не обращал на них внимания и упорно продолжал давить на кнопку, нацелив красный лучик на черный бронежилет, прямо над левой грудью Сидни. Сид быстро упала на землю и откатилась в сторону, словно у нее под ногами внезапно открылся провал. Из лесу и со склона горы донесся негромкий шум, и пули взрыхлили ковер из опавшей хвои в том месте, где секунду назад стояла Сидни. Дар видел в бинокль, что Сид закатилась под лежащий на земле толстый ствол дугласовой пихты, и сразу же от ствола полетели отколотые пулями щепки – спрятавшиеся в лесу русские стреляли в нее из автоматов Калашникова с глушителями. Из-за того, что стрельба не сопровождалась почти никакими звуками, все происходящее казалось немного нереальным. В следующее мгновение реальности прибавилось – Сидни подняла «хеклер и кох» над лежащим деревом и несколько раз выстрелила наугад куда-то в лес. Звуки выстрелов были слышны вполне отчетливо. Правда, толку от этого было мало. «Двигайся! Двигайся! Не оставайся на месте. Япончиков запросто прострелит этот прогнивший ствол насквозь из своей „СВД“!» – молил Дар. На этот раз телепатия, похоже, сработала. Дарвин видел, как женщина откатилась в сторону – и очень вовремя. Винтовка русского снайпера могла стрелять очередями. И несколько пуль продырявили тридцатидюймовый ствол дугласовой пихты, словно он был слеплен из папье-маше. Дар решил, что пришло время и ему ввязаться в драку. Он перекатился к тому месту, где лежала его «легкая пятидесятка», прицелился в заросли пихт, сосен и берез выше по склону от того места, где пряталась Сидни, и открыл огонь. Грохот выстрелов едва не оглушил Дарвина. Он забыл, что первый из магазинов, которые он заранее приготовил, был заряжен бронебойными патронами – они способны пробить стальную пластину толщиной девятнадцать миллиметров с расстояния тысячи двухсот метров. Эффект получился весьма впечатляющий. Одну березу срезало пулей в двенадцати футах от земли, и дерево с треском рухнуло вниз. Гигантская дугласова пихта устояла, приняв в ствол бронебойный заряд, но огромное дерево добрых двухсот футов высотой вздрогнуло и закачалось, словно под напором ураганного ветра. Во все стороны полетели щепки, отломанные ветки и куски коры. Эти выстрелы, похоже, не попали в цель – хотя целиться там было особо не во что. «Я перестрелял кучу деревьев», – подумал Дар. Пустые гильзы, которые автоматически выбрасывались после каждого выстрела и со звяканьем падали на камни возле Дарвина, оскорбляли его достоинство как снайпера. Снайперы приучены не тратить зря ни единого патрона… Но сейчас была не та ситуация. Сейчас не время тешить свое уязвленное самолюбие. Дар перезарядил винтовку. На этот раз в магазине были обычные патроны калибра 12.7 на 99 миллиметров, со стандартными пулями весом 709 гран.[35] Он стал стрелять в заросли, стараясь уловить какое-нибудь движение или блеск ствола «АК-47», которыми были вооружены русские стрелки. Интенсивный огонь откуда-то сверху испугал русских, и они перестали стрелять. А у Сидни, похоже, закончились патроны. На мгновение наступила тишина. Не было слышно ни звука – только в ушах у Дарвина до сих пор звенело. «Черт, я все испортил! Все – коту под хвост!» – вдруг понял Дарвин – правда, слишком поздно. Он повернул винтовку так, что в прицеле оказалась дверь хижины. Вставил следующий магазин – снова с бронебойными патронами. Первым выстрелом Дар проделал пятидюймовую дыру в двери, как раз над дверной ручкой. Второй выстрел разнес на куски замок. Третий – распахнул дверь, едва не сорвав ее с петель. «Беги, беги, ну беги же!» – думал Дарвин, мысленно обращаясь к Сидни. А потом он сделал такое, что могло оказаться смертельной ошибкой: Дар поднялся на колени и, опираясь о камни, повернул «легкую пятидесятку» в сторону снайперской засады Зуева и Япончикова. Дар понимал, что, если русские снайперы его уже заметили, это мгновение будет для него последним. Он увидел голову Зуева – тот смотрел в бинокль куда-то правее Дарвина ярдов на двадцать. Зуев явно еще не нашел его. И Дар выпустил в русских все семь патронов, остававшихся в магазине. Бронебойные пулисловно взорвали валуны возле логова русских снайперов, из камней посыпались искры, мелкие осколки гранита разлетелись футов на пятьдесят вокруг. Одна из пуль попала слишком высоко и сорвала с места валун, нависавший над огневой позицией русских. Валун покатился вниз, увлекая за собой лавину более мелких камней. И все же Дар был совершенно уверен, что даже не ранил ни одного из русских снайперов. Дарвин снова спрятался за камнями, ограждавшими его площадку. Он больше не видел Сидни и поспешил переключить монитор на камеры, расположенные внутри хижины. Сидни благополучно пробралась в дом и теперь сидела, пригнувшись, возле окна спальни. Русские с «АК-47», засевшие в зарослях возле дома, поливали хижину автоматными очередями. Пули разбили окно, изрешетили диванные подушки и стены спальни. Во все стороны летели щепки и осколки стекла. Сидни пришлось отползти подальше в угол и прижаться к стене. Дверь хижины по-прежнему была распахнута настежь. Дар сразу сообразил, что у нее действительно закончились патроны, а запасные обоймы к «хеклеру и коху» скорее всего остались где-то снаружи – вместе с сумкой. «И телефон – там же», – мрачно подумал Дарвин. Сидни присела в углу, сжимая в обеих руках девятимиллиметровый «ЗИГ-про». Она целилась в дверной проем, поджидая, когда русские начнут врываться в дом. Дарвин достал свой мобильник и быстро набрал номер того телефона, который был у него в хижине. Видеомонитор не передавал звуков, но Дар видел, как Сидни вздрогнула и посмотрела на телефон. «Подойди, – мысленно уговаривал ее Дар. – Подойди, возьми трубку! Ну пожалуйста…» Русские на несколько секунд прекратили стрельбу, и Сидни метнулась к телефону. Она схватила телефон со стола и прыгнула с ним обратно в безопасный угол. Дар смотрел то на монитор, то в прицел винтовки, готовый перестрелять русских автоматчиков, если они попробуют прорваться к двери хижины. – Сид! – Дар? Ты где? – Наверху, на горе… Ты не ранена? – Нет. – Хорошо. Слушай. Там есть люк, он ведет в подвал… Люк находится прямо под краем длинного коврика с правой стороны кровати, примерно в четырех метрах от того места, где ты сидишь… Ключи от подвала – в холодильнике, под лотком для льда в морозилке… – Дар, сколько… – Двое русских в лесу возле хижины, у них автоматы Калашникова с глушителями, – сказал Дар. – Япончиков и Зуев со снайперскими винтовками залегли выше по склону. Один парень где-то к югу от хижины… – Дар переключился на камеру номер четыре, через которую просматривался весь южный склон. Русский прятался за крыльцом и осторожно двигался вдоль стены хижины, явно подкрадываясь к задней двери. – Он за крыльцом и собирается лезть внутрь, – сказал Дар в трубку. – Забирай ключи! Быстро! Дар стал прикрывать ее, открыв стрельбу по зарослям возле хижины. Краем глаза он видел крохотное изображение Сидни на мониторе – она метнулась через комнату, открыла холодильник, схватила маленький кожаный чехол с ключами и бросилась обратно в спальню, к кровати. Япончиков и Зуев начали стрелять. Дар слышал резкие, короткие хлопки – глушители на винтовках русских снайперов не совсем подходили для их «СВД». Но больше всего его впечатлили щепки, полетевшие из северной стены хижины, – пули калибра 7.62 мм продырявили тонкую стену как раз в том самом месте, где несколько секунд назад пряталась Сидни. Пули разбили любимую лампу Дарвина и вонзились в деревянный пол. Дар хотел прекратить заградительный огонь – поскольку прекрасно знал, что оба русских снайпера сейчас находятся вне его поля зрения, – но он должен был увидеть, как Сид проберется в подвал. Сидни повозилась с ключами, потом подтащила к себе телефон. – Я не могу подобрать ключ к чертову замку!.. – Самый узкий ключ, – подсказал Дар. – Правильно, этот. Сидни откинула крышку люка. Свет из подвала проник наружу. Сид быстро огляделась. Третий русский показался в дверном проеме и сразу же начал стрелять. Сидни пригнулась, спрятавшись за откинутой крышкой люка, но пули отбросили крышку обратно, и люк закрылся. Сидни свалилась вниз, в подвал. Дар видел, как ее пистолет скользнул по полу в сторону – Сидни выронила оружие, когда ее ударило крышкой люка. Дарвину оставалось только надеяться, что крышка, сделанная из твердого дерева и обитая металлом, остановила пули. Дар видел через камеры, расположенные внутри хижины, как еще двое русских с автоматами показались в проеме двери. Стрелки поворачивали автоматы из стороны в сторону, прикрывая друг друга, один русский присел на колено, второй стоял, целясь поверх головы напарника. Третий русский, который стоял теперь возле люка, знаком показал им, что «здесь чисто», и указал на пол. Потом русский, который стоял рядом с люком, отцепил что-то от пояса. «Черт! – ругнулся Дарвин. – У него граната!» Он не успел выстрелить. Тот русский, который первым проник в дом, быстро приподнял крышку люка, швырнул гранату вниз и сразу же отпрыгнул подальше. Взрывом крышку люка сорвало с петель и отбросило в сторону. Свет в подвале погас. Теперь люк в подвал был только черным квадратом на полированном деревянном полу. А потом все трое русских собрались вокруг люка и нацелили свои «АК-47» в эту темную дыру. Ориентируясь по изображению на видеомониторе, Дар прицелился из «легкой пятидесятки» и дважды выстрелил бронебойными патронами. Первая пуля пробила стену немного левее окна спальни и поразила того, что бросал гранату. Пуля попал ему в спину, разорвала позвоночник, грудную клетку и все внутренние органы и вылетела сквозь южную стену хижины, проделав в ней огромную дыру. Второй выстрел попал в падающее мертвое тело, прямо в голову – голова буквально взорвалась. Дар видел, как двое оставшихся упали на пол. Одному из них тоже досталось – осколки костей черепа убитого изранили ему ничем не защищенные руки и лицо. Дарвин прицелился в тот угол, где раньше пряталась Сидни. Теперь там лежал один из русских киллеров – тот, который еще не был ранен. Дар расстрелял в него три оставшихся в магазине бронебойных патрона, прямо сквозь стену. Две пули пролетели мимо, слишком высоко – киллер скорчился на полу в эмбриональной позе, – но третья попала ему в ногу повыше лодыжки. Бронебойная пуля оторвала стопу вместе с лодыжкой, полетели белые осколки раздробленной кости. Оторванная нога пролетела через всю комнату и почти угодила в последнего русского, который прижимался к полу в противоположном углу спальни. Дар вставил следующий магазин и только сейчас вдруг понял, что его самого обстреливают. Судя по всему, стреляли оба – и Япончиков, и Зуев. Тяжелые пули калибра 7.62 мм барабанили по камням к западу, востоку и северу от того места, где укрывался Дарвин. При наиболее удачных выстрелах пули пролетали через его юго-восточную «бойницу» и ударялись о скалу в нескольких дюймах от ботинок Дара, а потом рикошетили вверх и в сторону. Рикошеты от наклонных каменных плит, нависавших сверху, были гораздо опаснее – именно этого Дарвин и боялся. Пули отрикошетили в его рюкзак. Еще одна пуля попала в бинокль и отбросила его далеко вниз, в расщелину. Потом пуля ударила Дарвина в спину, в бронежилет, как раз между плечевыми пластинами. «Удар не слишком сильный, – подумал Дар. – Как будто стукнули по спине небольшой кувалдой». От этого удара он, наверное, целую минуту не мог нормально вдохнуть, а перед глазами поплыла багровая пелена. «Может, пуля пробила мне позвоночник?» – несколько отстраненно подумал Дар, прислушиваясь к ощущениям в спине. Он ощупал себя – в маскировочном костюме появилась здоровенная дыра, но тяжелый бронежилет, который он благоразумно надел, остался целым. Дар почти нащупал расплющенную пулю, застрявшую в нем. «Боже, и это всего лишь рикошет с расстояния двести восемьдесят ярдов! – с уважением подумал Дар. – А ведь большая часть ударной силы пули погасилась при первоначальном ударе о скалу…» Дарвину нужно было прийти в себя и снова сосредоточиться. Вокруг свистели пули. Дар проверил видеомонитор. Последний оставшийся в живых – по крайней мере, последний, сохранивший боеспособность – русский в хижине подполз на животе к подвальному люку и теперь стрелял в подвал из «АК-47». Дар понимал, что после взрыва гранаты Сидни могла уцелеть, только если успела спрятаться в комнатку за стальной огнеупорной дверью. Но он все равно решил убить этого русского. Этот план имел свои недостатки. Бронебойные пули могли продырявить пол и убить не только русского, но и Сидни, если она лежит, раненная, в коридоре подвала. Безопасное убежище в подвале – собственно склад – было обито со всех сторон стальными листами, но над коридором было только обычное деревянное перекрытие, которое не задержит бронебойную пулю. Дар вынул магазин с бронебойными патронами и взамен зарядил «легкую пятидесятку» обычными патронами калибра 0.50. Пули русских снайперов рикошетили от нависающей справа и сзади от Дарвина скалы. Не обращая внимания на снайперский обстрел, Дар скорректировал наводку по видеомонитору, выровнял дыхание, навел перекрестье оптического прицела на тот участок стены, за которым лежал русский автоматчик, и плавно нажал на спуск. Получилось не очень удачно. Первые три пули довольно легко пробили стену, но после этого немного отклонились в полете и ушли в пол рядом с тем местом, где лежал автоматчик. Хуже того, Дарвину показалось, что пол пробит насквозь. Надо было стрелять из «М-40» и целиться через разбитое окно. Русский автоматчик, конечно же, обратил внимание на крупнокалиберные пули, которые вонзались в пол рядом с ним. Он оглянулся через плечо и увидел простреленную насквозь стену. Дар видел на мониторе, как автоматчик позвал своего напарника, который только что остался без ноги, но тот лежал, скорчившись, в углу совершенно неподвижно и явно был без сознания. Возле его раненой ноги расплывалась темная лужа крови. Когда Дар доставал модифицированный «Ремингтон-700» из щели под камнем, пуля русского снайпера, дважды отрикошетив от скалы, ударила его по задней поверхности ног, чуть пониже ягодиц. Дар стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть, и посмотрел через плечо, чтобы оценить урон. Но ничего не увидел – обзор заслонял край массивного бронежилета и просторная маскировочная накидка. Но когда Дар потрогал раненые ноги рукой, ладонь окрасилась кровью. Дарвин решил, что будет считать рану легкой, – скорее всего пуля пробила только подкожный жир и мышцы и не повредила никаких важных артерий. Если это не так и на самом деле рана серьезная – он очень скоро об этом узнает. Дарвин приник к оптическому прицелу, а левым глазом поглядывал на видеомонитор, который до сих пор не попал под рикошет и оставался целым. Как ученые, которые часто пользуются в работе микроскопами или телескопами, так и снайперы приучены смотреть в окуляр оптического прицела одним глазом и не закрывать при этом второй глаз – для сохранения периферийного обзора. Русский в хижине был явно обеспокоен тем, что его обстреливают крупнокалиберными пулями. Он присел на одно колено и смотрел в черный провал люка, надеясь обнаружить внизу тело Сидни, чтобы доложить Япончикову и Зуеву обстановку, а потом поскорее покинуть опасное место. Русский наклонился вперед, всматриваясь в темноту внизу. Внезапно монитор мигнул, и вместо ровного белого овала лицо русского автоматчика превратилось в мозаику неровных серых и черных пятен. Тело повалилось навзничь, руки раскинулись в стороны, «АК-47» упал на пол. Дар перестал стрелять и оценил обстановку. Пули по-прежнему рикошетили от наклонной скалы и свистели вокруг него. Одна пролетела в нескольких миллиметрах от правого уха Дарвина. И все-таки Дар заметил, что русские снайперы стали стрелять реже. Очевидно, теперь на огневой позиции осталась только одна «СВД». А значит, один из них – либо Япончиков, либо Зуев, но скорее Зуев – пошел в обход, чтобы достать Дарвина с другой стороны. Но главное, что интересовало сейчас Дарвина, – это черный квадрат подвального люка в хижине. Из люка быстро появились голова и плечи Сидни, еще быстрее – дробовик «Ремингтон-870». Сидни перекатилась в сторону, держа оружие наготове. Она видела троих поверженных русских, но все равно проверила все доступные обзору уголки хижины. Дар не мог сдержать улыбку. Сидни нашла дробовик, который он оставил в коридоре подвала, открыла склад и успела спрятаться за бронированной дверью – наверное, в последнюю секунду перед тем, как в подвал швырнули гранату. Сид отсиделась в укрытии, пока в подвал стреляли из «АК-47», а потом выбралась наружу, чтобы разделаться с теми, кто в нее стрелял. Дарвин достал из кармашка на поясе свой мобильник и хотел позвонить Сидни. Мобильник был разбит пулей. Черт! Дар видел, как Сидни бросилась к трубке домашнего телефона, которая валялась на полу спальни. Потом он заметил, что тот телефон тоже разбит вдребезги. Сидни отшвырнула телефон и, пригнувшись, подползла к русскому, которому Дарвин отстрелил ногу. Сидни вытащила у него из-за пояса рацию и сняла микрофон с ремешка на плече. Дар видел, что она прислушивается к разговорам снайперов – а Сидни понимала по-русски. «Молодец, хорошая девочка!» – мысленно похвалил ее Дарвин, радуясь, что Сид не слышит этого сексистского замечания. Они сейчас никак не могли связаться друг с другом, но по крайней мере Сидни могла кое-что узнать о намерениях двух оставшихся в живых русских, засевших на склоне холма. Подумав об этом, Дарвин вспомнил о том, что придется покинуть это укрытие, прежде чем Зуев поднимется выше по склону и начнет обстреливать его сверху через расщелину в камнях. Пули «СВД» Япончикова по-прежнему щербили камни в нескольких дюймах над головой Дарвина. Русский снайпер целился так точно и удачно, что Дар инстинктивно чувствовал – на огневой позиции остался именно Япончиков, первый стрелок снайперской группы. А своего наблюдателя он послал обойти Дарвина сбоку. Дар заранее позаботился о выборе наиболее удобной позиции – такой, которую не так-то просто обстрелять с флангов. Его зона обстрела охватывала всю нижнюю часть склона горы к северу от хижины. Поэтому вряд ли Зуев отважится пересекать овраг в этом направлении. Зуев определенно не станет спускаться в овраг в надежде на то, что потом случайно найдется какой-нибудь способ взобраться наверх по почти отвесному восточному склону – туда, где Дарвин его не достанет. Значит, Зуев почти наверняка направился на северо-восток, держась поближе к гребню горы. Он явно продвигается вперед очень медленно из-за слишком частых зарослей и рассчитывает перебраться через овраг наверху, в самом узком и глубоком месте расщелины. Дар знал, что русские уже были раньше возле его хижины, а потому решил, что они наверняка обследовали все окрестности, – любой порядочный снайпер обязательно так бы и сделал. А значит, оба русских снайпера знают о бревне, которое лежит поперек расщелины неподалеку от водопада. Дар в шутку называл это место Рейхенбахским водопадом. Огромная дугласова пихта упала много лет назад. Ствол давно зарос мхом и был постоянно мокрым и скользким из-за брызг, долетавших от водопада. Края расщелины в том месте, где лежало бревно, были покрыты буйными зарослями колючего кустарника. Глубина расщелины там достигала примерно шестидесяти футов, края склонов нависали над обрывом, а внизу, на дне ущелья, были только нагромождения валунов. Дарвин засунул «легкую пятидесятку» в щель под большим плоским камнем, чтобы винтовка не пострадала от пуль Япончикова. Потом в последний раз посмотрел на монитор – Сидни засела у окна, держа наготове дробовик, и ожидала дальнейшего развития событий. Дар взял свою верную «М-40» и медленно пополз назад, к выходу из каменной ниши. Он проскользнул вниз, прячась за уступом скалы, и наконец-то оказался вне пределов досягаемости выстрелов Япончикова – впервые за все это время. Попав в относительно безопасное место, Дарвин потратил десять секунд на осмотр своих ран – нужно было определить, насколько они серьезны. Заднюю поверхность ног жгло, словно Дара только что заклеймили, как бычка. Но кровь уже запеклась, разорванные штаны взялись коркой – значит, рана действительно была не слишком серьезная. Дар ощупал ноги. Да, рана оказалась поверхностной. Пуля скользнула, задев правую ногу чуть сильнее, чем левую. При дальнейшем осмотре Дарвин с удивлением обнаружил, что та пуля, которая разбила мобильник, проникла глубже, пробив поясной ремень, и застряла под кожей как раз над головкой бедренной кости. Ранка почти не болела – не больше, чем обычный синяк, – но Дар понимал, что вместе с пулей под кожу попали частицы грязной ткани маскировочного костюма. Значит, пулю нужно будет обязательно извлечь, а рану – продезинфицировать, чтобы избежать нагноения. «С этим я разберусь позже», – решил Дарвин и начал пробираться на север, через заросли, держа наготове винтовку. Он быстро шел, когда мог – бежал и старался двигаться как можно тише. Дар все время следил за тем, чтобы его голова была ниже края оврага и вне поля зрения Япончикова. Раны на задней части ног саднили при ходьбе, и Дар чувствовал, что задеты не столько ноги, сколько ягодицы. «Как обидно…» – подумал он и прислушался к своему тяжелому дыханию и звяканью запасных магазинов к «М-40», которые лежали в карманах маскировочной куртки и штанов. Дарвин понимал, что его жизнь сейчас зависит от того, насколько быстро он будет бежать. Если Зуев сразу направился к бревну – мосту через ущелье, – он доберется туда первым, выберет удобную позицию для стрельбы и легко подстрелит Дара, когда тот будет ломиться через заросли вверх по склону горы. Но Дарвин помнил, что Япончиков стрелял один не так уж долго – Дар почти сразу заметил, что на огневой позиции остался только один русский снайпер. И что еще важнее, снайперов приучают двигаться тихо и осторожно, и только дурак побежит напролом через заросли – так, как бежал сейчас Дар. Дарвин понимал, что Зуев сейчас вовсе не в таком отчаянном положении, как он сам, и потому вряд ли русский будет двигаться так же быстро, пренебрегая мерами предосторожности. Дар добрался до неглубокого овражка – глубиной не больше полутора метров, – заросшего высокими папоротниками и ежевикой. Этот овражек, длиной около четырех метров, тянулся к концу пихтового ствола, лежащего поперек расщелины. Дар все еще был жив. Пока все хорошо. Но после быстрого бега он так шумно дышал, что не слышал, есть ли здесь кто-нибудь еще. Расстегнув предохранительный ремешок на чехле с ножом, он пополз вперед, к дереву, держа винтовку наготове. Здорово, что ножны с ножом не пострадали от пуль, как мобильный телефон. По эту сторону расщелины в овраге никого не было. Бревно показалось Дарвину более длинным и узким, чем он помнил, а расщелина – намного глубже. От камней внизу, под водопадом, разлетались тучи брызг. Дарвин знал, что это ущелье тянется еще на несколько сотен ярдов к северу, почти до самого гребня горы. Там расщелина уже не настолько глубокая, но все же не маленькая. Дар старался выровнять дыхание и всматривался в папоротниковые заросли в двадцати футах от пихтового ствола. Замшелая поверхность ствола была мокрой от водяных брызг. Вдоль всего ствола осталась только одна боковая ветка, за которую можно было бы ухватиться рукой, но Дар был почти уверен, что ветка прогнила изнутри и не выдержит его веса, если на нее опереться. Во время прогулок по окрестностям хижины Дар часто обращал внимание на это старое бревно, но ему ни разу не пришло в голову перебраться через ущелье в этом месте. И зачем бы это? Переходить через глубокую расщелину по узкому, скользкому и наверняка прогнившему бревну – на редкость глупое занятие. Дарвин встал на колени и высунул голову и плечи из папоротниковых зарослей, напрашиваясь на выстрел; если Зуев прячется где-то по ту сторону расщелины, он обязательно выстрелит. Дар и сам поступил бы точно так же, если бы был один: засел бы в укрытии и стал ждать, пока Зуев не начнет переходить по бревну на эту сторону. Но Дар был здесь не один. Внизу, в хижине, осталась Сидни, и Япончиков мог в любую минуту отправиться за ней. Прошло десять секунд, но в Дарвина никто не выстрелил. Дар закинул «М-40» за спину – так до нее трудно будет дотянуться, зато винтовка точно не упадет в ущелье, разве что вместе с ним самим, – а потом вспрыгнул на бревно и начал переходить на противоположную сторону ущелья. Павел Зуев, худощавый мужчина с мрачным выражением лица, выпрыгнул на бревно с другой стороны почти одновременно с Дарвином. Неизвестно, кто из них больше удивился такому совпадению. Зуев не видел Дара из своего укрытия на той стороне ущелья, и Дар тоже не заметил русского, пока тот не выпрыгнул на бревно. У обоих снайперов винтовки висели на ремне за спиной, и сейчас ни у кого из них не было ни времени, ни надежной опоры под ногами, чтобы тянуться за ними. Поэтому оба схватили то оружие, какое было у них на поясах. Дарвин выхватил нож. У Зуева оказался маленький полуавтоматический пистолет, и он сразу же нацелил его Дарвину в лицо. Они оба прошли уже слишком далеко от концов бревна и не могли повернуть назад. Их разделяло сейчас всего около девяти футов. Дарвин замер на месте. – Сразу ясно, что ты – тупой американец, – с сильным акцентом сказал Зуев. – С ножом – в перестрелку. «Твоя шутка устарела», – подумал Дарвин, приседая возле единственной уцелевшей боковой ветки. Крепко сжимая в правой руке нож, Дар изо всех сил пнул ветку в том месте, где она отходила от ствола. Как Дар и рассчитывал, ветка отломилась. Но при этом весь ствол провернулся градусов на двадцать вправо, а потом – обратно. Зуев дважды выстрелил. Вторая пуля просвистела всего в паре дюймов от головы Дарвина. Потом русский присел, обхватил пихтовый ствол ногами и оперся о него левой рукой, чтобы сохранить равновесие на качающемся бревне. Пистолет он не выронил и снова начал стрелять. Дарвин был готов к тому, что бревно качнется, и потому не только удержал равновесие, но и прыгнул к Зуеву, взмахнул ножом и схватил русского за правое запястье. Девятимиллиметровая пистолетная пуля ударила Дара в бок и скользнула по пластинам тяжелого бронежилета. Но из-за этого толчка Дарвин потерял равновесие. Чтобы не упасть, он тоже уселся на бревно и обхватил его ногами. Двое мужчин были теперь всего в нескольких дюймах друг от друга. Зуев схватил Дара за руку, в которой был нож, а Дар отчаянно цеплялся за правое запястье Зуева, стараясь отвести в сторону пистолет, который русский держал в правой руке. Зуев выстрелил снова. Пуля содрала кожу с кончика левого уха Дарвина. Пихтовый ствол трясся и раскачивался под ними. Дар слышал, как водопад плещется о камни в шестидесяти футах внизу, и чувствовал, как его намокшая от пота и водяных брызг ладонь соскальзывает с правой руки русского. Они сидели лицом к лицу. Дар кожей ощущал дыхание Зуева и прекрасно видел подогнанную по руке рукоятку пистолета «си-эй-си», равно как и флюоресцентную желтую метку на мушке и отвратительные оранжевые полоски на прорези. Они боролись молча. Отстраненная, аналитическая часть сознания Дарвина услужливо подсказала параметры пистолета русского снайпера – например, для нажатия на спусковой крючок «си-эй-си комбат» требовалось приложить усилие в шесть с половиной фунтов, – но чувственная, переполненная адреналином часть сознания велела бесполезной аналитической половине заткнуться ради всего святого. Дар понимал, что, хотя он был физически немного сильнее худощавого и жилистого русского, победа в этой схватке будет скорее всего на стороне Зуева. Русскому снайперу нужно было всего лишь повернуть кисть так, чтобы направить ствол пистолета Дарвину в голову. А Дар должен был высвободить руку с ножом и только потом ударить. И хотя Дарвин постарался пониже наклонить голову, он понял, что пришло время изменить тактику. В то мгновение, когда черное отверстие ствола повернулось прямо к его виску, Дар резко откинулся назад, вместо того чтобы наклоняться вперед, и рывком высвободил правую руку. Он едва не выронил нож, но все же смог удержать. Зуев выстрелил. Пуля пролетела так близко от головы Дарвина, что слегка обожгла ему волосы и кожу. А потом Дар быстро ударил русского ножом – сбоку и снизу, под левую руку, которую Зуев поднял, защищаясь. Удар получился очень сильным – Дарвин даже не подозревал, что его израненное тело еще способно на такое. Он ударил Зуева в живот, развернув лезвие ножа вертикально, а потом резко и сильно потянул нож кверху – так, как учили на базе «Паррис-Айленд» два с половиной десятилетия назад. Русский охнул, а потом вдруг широко улыбнулся, показав плохие зубы с отвратительными железными коронками. – На мне кевларовый жилет, американский говнюк, – сказал Павел Зуев, а потом, опираясь о руку Дарвина, снова повернул к нему ствол пистолета. Запястье русского провернулось в скользкой от пота ладони Дара, и желтая мушка «си-эй-си» нацелилась Дарвину в правый глаз. Внезапно улыбка русского померкла, на его лице появилось растерянное и задумчивое выражение. Такое же выражение бывает на лицах детей, которых матери зовут домой как раз в ту минуту, когда они только-только разыгрались. Зуев посмотрел вниз, на свой живот, и увидел, что по рукоятке ножа и по кулаку Дара струится кровь. Зуев совершенно растерялся. Дар выбил пистолет из внезапно обессилевшей руки русского и попытался схватить Зуева за жилет – но тот уже начал заваливаться набок, потом соскользнул с бревна и упал вниз. В последний миг Дар успел взглянуть в глаза русского снайпера – в них была тревога и невысказанный вопрос, хотя кровь уже перестала поступать в его мозг, – а потом Зуев исчез в фонтане брызг у подножия водопада. Дарвину пришлось потрудиться, чтобы сохранить равновесие, – он с такой силой вырвал нож из тела русского, что бревно-мост закачалось. Дар всадил нож в середину бревна и держался за рукоятку обеими руками, пока оно не перестало раскачиваться. Дарвин тяжело дышал, к горлу подкатывала тошнота. Он посмотрел на дно ущелья, где в шестидесяти футах под ним лежало тело мертвого русского снайпера. Вода, стекавшая вниз от тела, была густо окрашена кровью. Бледное лицо Зуева было повернуто кверху, рот приоткрыт, словно в немом вопросе. – Кевлар не защищает от удара ножом, – сказал Дарвин, отвечая на невысказанный вопрос. – Особенно если лезвие – с тефлоновым напылением. «Наверное, неплохо бы убраться с этого бревна», – робко предложила аналитическая часть сознания Дара. Оставшиеся до конца бревна десять футов Дар прополз на четвереньках. На краю расщелины он поднялся на ноги и прошел в неглубокий овражек, где прятался Зуев перед тем, как выпрыгнул на бревно. Здесь остались следы его ботинок – за небольшим выступом скалы. Только сейчас Дар почувствовал, насколько он устал. Измученное тело настойчиво требовало отдыха. Дарвин запретил себе даже думать об отдыхе и медленно пошел вверх по овражку. Он тщательно вытер лезвие ножа и спрятал нож в чехол, потом взял в руки свою винтовку. Существовало четыре варианта последующего развития событий. Дар был уверен, что к этому времени Япончиков уже покинул свою огневую позицию. Сейчас он наверняка уже спустился вниз с холма и намеревается либо прикончить Сидни, либо убраться отсюда подальше на своем «Шевроле», либо занял новую удобную для стрельбы позицию и дожидается Дара. А может быть, русский снайпер задумал осуществить все три пункта, один за другим. Дар начал медленно пробираться сквозь заросли на запад, держа винтовку наготове и старательно прогоняя сонливость, которая во что бы то ни стало стремилась его одолеть.ГЛАВА 25 Ю – ЮРИЙ ЯПОНЧИКОВ
Дарвин пробирался на запад осторожно и бесшумно, в полном соответствии с инструкциями для снайперов. Он полз, не поднимая головы, ясно представляя себе карту местности, все время помнил о расположении солнца, использовал для прикрытия любую неровность рельефа, держал винтовку под собой, передвигался, опираясь на локти, живот и колени… В Куантико продвижение таким способом на сто ярдов в час считалось прекрасным результатом. Но очень скоро Дар понял, что если он и дальше будет ползти так, как должен ползти профессиональный снайпер, то доберется до хижины только через три недели. А к тому времени Япончиков уже разделается с Сидни и спокойно уедет. Дарвин остановился, чтобы обдумать эту проблему, а тем временем стал осматривать сквозь прицел склоны горы справа и слева от себя. Внезапно со стороны хижины донеслись звуки выстрелов. Дар безошибочно определил, что стреляют из «СВД» и из автомата Калашникова с глушителем. Звуки стрельбы помогли ему встряхнуться. На мгновение Дарвин испугался, решив, что русских было не пятеро, а шестеро, и из автомата стреляет тот, кого он не заметил. Но потом Дар понял, что недооценил Сидни. Она могла, конечно, воспользоваться его дробовиком, но ведь в хижине у нее под рукой было целых три автомата Калашникова, и у мертвых русских стрелков наверняка было немало запасных магазинов к «АК-47». Сидни охотилась на матерого медведя, и ей наверняка удалось его вспугнуть. Япончиков снова выстрелил из своей «СВД» – три раза. По звуку выстрелов Дар сумел определить, где находится русский снайпер. Ниже по склону горы и примерно в восьмидесяти ярдах влево от него. Из «АК-47» стреляли со стороны хижины. Дар закрыл глаза, представляя себе события последних нескольких минут. Япончиков поступил совсем не так, как ожидал Дарвин. Русский спустился вниз – теперь Дар понимал, что это имело смысл. Опытный снайпер отступил с удобной позиции наверху, зато подошел поближе к своей машине и уже здесь решил найти место, с которого был бы виден спускающийся с горы Дарвин. Дар знал, что Япончиков не пошел бы там, где его могла увидеть Сидни, – через окна или открытую дверь хижины. Значит, Сид вышла из дома. Дар предположил, что она вышла через южную дверь, вниз по склону, а потом направилась к стоянке и скорее всего спряталась там среди валунов. Наверное, Сидни заметила Япончикова через оптический прицел на «АК-47». Дар подумал, что не стал бы жалеть, если бы Сидни прикончила этого сукина сына вместо него. Но, судя по звукам выстрелов, Япончиков был еще очень даже жив. Дар поднялся на ноги и побежал что было сил. Он бежал напролом через густой подлесок, несколько раз спотыкался и падал, но быстро поднимался и бежал дальше. Он ни разу не выпустил из рук винтовку и все время следил, чтобы не выпал нож. Он уже приметил себе подходящий валун, за которым собирался залечь, – чуть выше и примерно на пятьдесят ярдов восточнее того места, откуда стрелял Япончиков. Из-за того валуна Дар сможет стрелять в русского, не рискуя попасть в Сид, и сам не попадет в зону ее обстрела. Дарвин упал на живот, скрывшись за выбранным камнем как раз в ту секунду, когда три пули из «СВД» ударились о верхушку валуна. Юрий Япончиков скорее всего не видел Дара, но зато прекрасно слышал, как он бежал. Хорошо. Дар притаился за валуном и приготовился стрелять, когда Япончиков снова начнет обстреливать Сидни. Однако, хотя «АК-47» кашлянул еще пару раз, «СВД» русского снайпера почему-то молчала. «Черт! – подумал Дар. – Он снова меня обманул». Потом серия приглушенных супрессором выстрелов из «СВД» прозвучала где-то неподалеку от автостоянки, и Дар услышал, как Сидни кричит: – Дар, он прострелил колеса на наших машинах! После этого «СВД» выстрелила еще несколько раз, и наступила тишина. Дар снова пополз вниз по склону, стараясь держаться так, чтобы между ним и автостоянкой все время были толстые древесные стволы. Дар решил зайти к Япончикову с фланга. Он добрался до края зарослей и, глянув на площадку перед хижиной, сразу оценил обстановку. Все колеса, на его «Лендкруизере» и на «Таурусе» Сидни, были прострелены. Дар увидел Сидни – она притаилась за большим валуном к западу от хижины. Но Япончикова нигде не было видно. Дар негромко свистнул. Сидни заметила его и крикнула: – Он побежал вниз по дороге! Я боялась выходить, потому что не знала, на какое расстояние бьет его винтовка. – Оставайся там! – крикнул Дарвин. – Держись с западной стороны от валунов. Он поспешил к ней, двигаясь от укрытия к укрытию, прячась за камнями и деревьями, быстрыми перебежками проскакивая через открытые пространства. Дар надеялся, что Сидни сумеет пристрелить Япончикова, если русский снайпер снимет его на бегу. Дарвин добежал и нырнул за валун рядом с Сидни, и никто его не подстрелил. Дар заметил, что лицо и руки у Сидни все в ссадинах, из которых до сих пор сочилась кровь. – Ты ранена! – Ты ранен! Они сказали это одновременно. И одновременно ответили: – Нет, все нормально! – Ничего! Дарвин покачал головой и взял Сидни за правую руку, чтобы осмотреть царапины на кисти и предплечье. Он понял, что и руки, и лицо Сид больше измазаны кровью, чем изранены, – все ранки были маленькие и поверхностные. – Шрапнель? – спросил Дар. – Да. Я была за дверью, но когда тот парень бросил гранату, по всему подвалу полетели осколки… – тихо сказала Сид. Она по-прежнему сидела пригнувшись и старалась не высовываться из-за валуна. – Ты весь в крови, Дар. Дарвин посмотрел на залитый кровью бронежилет. – Это кровь Зуева. – Он мертв? Дар кивнул. – Но у тебя кровь и на боку, и на спине… – сказала Сид. – Повернись. Дар повернулся. В правом боку болело, раны на задней части ног жгло как огнем. – Здесь твоя кровь, а не Зуева. Похоже, тебе прострелили задницу? – Вот спасибо… – сказал Дар, внезапно застыдившись «неприличной» раны. Сидни приподняла лохмотья маскировочных штанов и осмотрела рану. – Извини. Здесь просто глубокая царапина. Кровь уже запеклась. Ухо у тебя в ужасном состоянии – какой-то окровавленный клочок. А откуда кровь на правом боку? – Рикошетом задело, – объяснил Дар. – Пуля прямо под кожей. Ничего страшного. Давай лучше подумаем о Япончикове. Они разом выглянули из-за противоположных сторон валуна и тотчас же спрятались обратно. Выстрелов не было. «Лендкруизер» и «Таурус» уныло присели на спущенных колесах. – Я думаю, он вышел из боя и собирается удрать, – сказал Дар. – Он побежал к «Шевроле». – Их машина стоит за полмили отсюда… – начала Сидни, но Дар ее перебил: – Я знаю. – Он потер щеку, понюхал ладонь. Пахло кровью. Дар посмотрел на ладонь, потом потер ее о штанину. Не помогло. – Если мы отправимся за ним… – снова заговорила Сид. – Тсс… Погоди минутку, – сказал Дар. Он закрыл глаза, стараясь как можно точнее вспомнить расположение подъездной дороги и расстояние до нее. Дар сомневался, что Япончиков побежит по дороге, – русский снайпер наверняка понимал, что «Таурус» или «Лендкруизер» могут догнать его, даже если будут ехать на ободах, со спущенными колесами. Нет, скорее всего он идет к машине осторожно, не спеша, заранее тщательно рассчитав свой отход с учетом тактических соображений. Япончиков наверняка передвигается от одной снайперской точки к другой, время от времени поджидая возможных преследователей. Дар прикинул, что русский будет идти к своему «Шевроле» еще несколько минут. После этого Япончиковым будет заниматься уже не он, а ФБР. Но… От хижины была видна часть подъездной дороги – крутой поворот с ограждением вдоль обрыва с северо-западной стороны. На повороте деревьев по эту сторону дороги не было. Поворот находился примерно в миле езды по дороге, и почти сразу после этого подъездная дорога выходила к трассе. Машина, проезжающая по этому участку, будет видна в течение нескольких секунд, а потом снова скроется за деревьями и выедет на трассу. Может быть, он успеет? Дар передал свою «М-40» Сидни. – Если он вернется, лучше стреляй из этого, а не из автомата, – сказал он. Потом сбросил тяжелый бронежилет и только сейчас заметил, что у Сидни на груди висит бинокль. – А это ты где взяла? – Забрала у русского, которому ты отстрелил ногу. – Он мертв? – Немного поразмыслив, Дар понял, что бинокль был у русского не зря – Япончиков позаботился о том, чтобы обеспечить себе как можно больше наблюдателей. Сидни покачала головой. – Он без сознания и в шоковом состоянии, но я перетянула ему ногу жгутом. Он потерял много крови и умрет, если хорошие парни вскоре не подоспеют нам на помощь. – Мы не можем позвонить… – начал было Дар, но сразу заткнулся, когда Сидни показала ему свой мобильник, целый и невредимый. Очевидно, она успела отыскать свою сумку в зарослях за хижиной. – Уоррен с командой уже едет сюда, – сказала Сид. Дарвин кивнул. Еще один довод в пользу того, чтобы успокоиться и предоставить разбираться с Япончиком фэбээровцам. Бросив бронежилет на землю, Дар сказал: – Не теряй бдительности. Если Япончиков вернется – стреляй из моей винтовки. Я приду через пару минут. Он бежал как сумасшедший. Это было чертовски больно – бежать, когда у тебя на заднице здоровенная царапина от пули калибра 7.62, тем более что всплеск адреналина уже прошел. Еще больнее было соскальзывать на заду по травянистому склону к хижине. Дар пробежал по тропинке за фургон и снова съехал вниз по склону, возле входа в золотую шахту – там начиналось ущелье. Он чувствовал, как кровь из открывшейся раны пропитывает разодранные маскировочные штаны, но не замедлял бега. Дар вскарабкался наверх по восточному склону ущелья и наконец выбрался к краю скального выступа – туда, где он устроил свою первую снайперскую засаду. Дар задержался на секунду – не потому, что хотел немного отдышаться, а потому, что поразился количеству пуль, срикошетивших на то место, где он лежал. Все камни в нише были выщерблены пулями, пончо и рюкзак Дара превратились в дырявые лохмотья. Два магазина от «легкой пятидесятки» пули русского снайпера продырявили, как консервные банки. Видеомонитор разбит вдребезги – следовательно, план «А» отменяется. Придется действовать иначе. Нужно увидеть, когда Япончиков доберется до своего «Шевроле» – если он туда доберется. Дар вытащил «легкую пятидесятку» из щели под плоским камнем. Винтовка от рикошетов не пострадала. Дарвин быстро набил карманы запасными магазинами с бронебойными и обычными патронами и вприпрыжку побежал вдоль гребня горы и вниз, на дно ущелья. Он забыл, какая тяжелая эта так называемая «легкая пятидесятка». К тому же к весу винтовки прибавился вес оптического прицела с десятикратным увеличением – отчего она вовсе не стала легче. Во время службы в морской пехоте Дарвин всегда сочувствовал радистам и гранатометчикам, которым приходилось таскать на своем горбу тяжеленное оборудование – чудовищные рации «PRC-77», которые на бегу отбивали всю задницу, или пулеметы «М-60», или громадные сорокамиллиметровые гранатометы. Дар не сомневался, что у каждого из этих парней – у тех из них, кого не убьют на войне, – до конца жизни будет болеть спина, сорванная такой непомерной тяжестью. К тому времени как Дарвин спустился к хижине и присоединился к Сидни, сидевшей за валуном, у него не только снова открылось кровотечение из обеих ран, он еще и насквозь промок от пота. Хорошо хоть хватило ума перед этим марш-броском снять бронежилет, который весил двадцать пять фунтов. – Все спокойно, никакого движения, – доложила Сидни. – Я наблюдала за местностью в бинокль, а не через прицел твоей винтовки. Дар кивнул. – Ни звука? – Я не слышала, чтобы «Шевроле» заводился… Но он стоит черт знает где отсюда – может, мы вообще не услышим, как он уедет. – Но он точно не проезжал еще через то открытое место? – спросил Дарвин. – Я же сказала – никакого движения, – немного раздраженно сказала Сид. Дарвин с «легкой пятидесяткой» отошел немного левее, вниз по склону, стараясь держаться вне поля зрения русского снайпера, который мог быть где-нибудь на дороге или в придорожных зарослях. Дар шел к большому валуну с плоской вершиной, что находился чуть выше последней кучки дугласовых пихт, после которой лесистый склон горы переходил в ровную, заросшую травой долину. Благополучно добравшись до валуна – русский ни разу не выстрелил, – Дарвин махнул Сидни рукой, чтобы та шла к нему. Дар пристроил «легкую пятидесятку» на плоской верхушке камня, лег на живот, посмотрел в оптический прицел с сеткой, размеченной в тысячных, и заново настроил вертикальное и горизонтальное смещение. Ветра сегодня почти не было – даже здесь, на открытом пространстве, – только легкое движение воздуха со скоростью не больше трех миль в час. Но Дарвин знал, что при стрельбе на такое большое расстояние необходимо учитывать даже самые незначительные факторы. – Ты что, издеваешься? – спросила Сидни, глядя на открытый отрезок дороги вдалеке через трофейный бинокль с увеличением 7х50. – Отсюда до дороги не меньше мили! – Тысяча семьсот ярдов, – сказал Дар, все еще возясь с настройкой прицела. – То есть все-таки меньше мили. Он снова примерился к винтовке, задержал дыхание и попробовал прицелиться, подбирая положение ладони и щеки на ложе. Даже отсюда они услышали, как вдалеке заработал двигатель «Шевроле». – Прекрасно, – сказал Дар. – Если только Япончиков не вздумает вернуться, мы будем знать, где он теперь находится. Ему ехать до этого поворота примерно полмили. – Ты ведь не думаешь серьезно, что сможешь… – Будешь корректировать меня, – перебил Дарвин. – Мне хватит времени только на пару пристрелочных выстрелов. – Он приник к телескопическому прицелу. – Я буду целиться вон в тот валун у дороги, в том месте, где она снова поворачивает вправо. – Какой валун? Тот, что потемнее или посветлее? – Светлый, – сказал Дар и выстрелил. Неприглушенный звук выстрела оглушил Сидни, она даже подпрыгнула на месте от неожиданности. – Извини… – сказала Сид. – Я не видела, куда ты попал… – Все нормально, – успокоил ее Дар. – Скорее всего я промазал, причем сильно. Он выстрелил еще два раза. – Я заметила, куда попала вторая пуля, – сказала Сид. – На тридцать метров ближе дороги. Мне говорить расстояние в ярдах или в метрах? – Черт! – ругнулся Дарвин и снова внес поправки в настройку прицела. – Неважно в чем – сойдут и метры, – сказал он и снова прицелился. В магазине осталось два патрона, а Дар знал, что «Шевроле» появится на дороге всего через несколько секунд. Он расстрелял еще два патрона не глядя, быстро вынул пустой магазин и вставил новый, с бронебойными патронами. – Обе пули попали в обочину, – сообщила Сидни, глядяв бинокль и с трудом удерживая его, чтобы не дрожал. – Одна – примерно на метр вправо, а вторая – на полтора метра вправо и чуть выше светлого валуна. – Прекрасно, – сказал Дар, в последний раз внося поправку в настройку прицела. – Этого должно хватить. Теперь я буду все время смотреть в прицел, а ты смотри в бинокль – как только над кустами покажется крыша «Шевроле», скажешь мне. – Но у тебя будет всего секунда или две… – Я знаю, – сказал Дар. – Не говори ничего, пока он не появится. А потом просто скажи «есть!», хорошо? Сидни замолчала, глядя в бинокль. А Дарвин несколько раз моргнул, проясняя взгляд, расслабился, посмотрел в прицел – с правильного расстояния, чуть больше двух дюймов от окуляра, – заставил себя не закрывать левый глаз и полностью сосредоточился на перекрестье прицела. На таком расстоянии нужно будет стрелять с упреждением – чтобы учесть скорость движущегося автомобиля. А для этого нужно еще правильно определить его скорость. Дорога была плохая, а поворот – довольно крутой, но Дар сильно сомневался, что Япончиков станет осторожничать и беречь автомобиль. Если бы он сам был на месте Япончикова, то постарался бы проскочить поворот на скорости чуть больше тридцати миль в час. Когда «Шевроле» притормозит перед поворотом, наверное, поднимется целый столб пыли… Изображение в оптическом прицеле «легкой пятидесятки» слегка плыло и мутилось от почти вертикальных мерцающих волн. Дар знал этот природный феномен – разновидность миража, – который образовывался из-за волн теплого воздуха, искажавших видимость на больших расстояниях. При помощи этого феномена можно было определить скорость ветра. Дарвин знал, что, если бы параллельные волны миража отклонились влево хоть немного сильнее, чем сейчас, это означало бы, что ветер сдувает образующие мираж теплые потоки воздуха со скоростью от трех до пяти миль в час. А поскольку сейчас линии миража были почти вертикальными, значит, практически никакого ветра нет. Кроме того, Дар понимал, что при достаточно высокой температуре воздуха скорость вылета пули из ствола «легкой пятидесятки» несколько увеличивается – хотя они и так вылетают с минимальной скоростью две тысячи восемьсот футов в секунду, – а значит, пули попадут несколько выше относительно точки прицеливания, чем обычно. Но уже начинало становиться душно – влажность сейчас была не меньше шестидесяти пяти процентов. При такой влажности воздух делается плотнее и сопротивление воздуха при полете пули возрастает – следовательно, пуля будет лететь медленнее обычного. Дарвин добавил эти факторы в простое снайперское уравнение. Расстояние он принял равным тысяче семистам шестидесяти ярдам – больше всего Дару хотелось получить обратно свой бинокль с лазерным дальномером, – умножил расстояние на скорость ветра – примерно полторы мили в час – и разделил результат на пятнадцать. Потом Дар внес последнюю поправку – повернул еще на полделения вертикальную настройку прицела – и стал ждать. Япончиков должен был появиться на повороте дороги через секунду-другую. И Дарвин внезапно осознал всю абсурдность ситуации. На таком расстоянии и при таких патронах только для учета фактора гравитации ему придется целиться чуть ли не на шестнадцать футов выше уровня окон автомобиля. Машина будет ехать почти под прямым углом относительно направления стрельбы – и это хорошо, – но если Япончиков притормозит даже до тридцати миль в час перед тем, как проехать крутой поворот… Это значит, что Дарвину придется целиться с упреждением в двадцать с чем-то футов – то есть точка прицеливания должна быть впереди движущегося автомобиля на двадцать с лишним футов. Дарвин подсчитал, что с того мгновения, когда «Шевроле» покажется из-за кустов, и прежде, чем он скроется за поворотом, у Дара будет возможность перехватить его только на отрезке дороги длиной примерно тридцать пять футов. Дар не сможет стрелять вслед автомобилю, а значит, останется только стрелять «на упреждение» – так, чтобы «Шевроле» и бронебойные заряды встретились в одной и той же точке. К счастью, «Шевроле Субурбан» – довольно большая машина. Хорошо, останется только учесть задержку во времени – когда машина покажется из-за кустов, Сид подаст команду не сразу… – Есть! – крикнула Сидни. Дарвин как раз только что выдохнул и, задержав дыхание, плавно нажал на спусковой крючок. Стараясь не обращать внимания на отдачу, Дар снова навел перекрестье прицела на все тот же валун и выстрелил снова, вдохнул, выдохнул и выстрелил в третий раз, вдохнул, выдохнул, выстрелил еще раз, вдохнул, выдохнул… На краю поля зрения появилось что-то темное – и он выстрелил в пятый раз. – Попал! – крикнула Сид. – Что, только раз? – спросил Дарвин. Он вскочил на ноги, схватил более легкую «М-40» и посмотрел через ее редфилдовский прицел на поворот дороги. «Шевроле Субурбан» накренился вправо и въехал правым передним колесом в глубокую выбоину на дороге сразу за тем валуном, по которому Дарвин пристреливал винтовку. Глядя через оптический прицел, Дар понял, что в кабину он не попал, зато всадил две бронебойные пули в массивный моторный отсек «Шевроле». Взрывом сорвало крышу с кабины, ветровое стекло покрылось густой паутиной трещин. Третья пуля, судя по всему, угодила в заднее левое колесо и снесла его вместе с полуосью. Дар заметил язычки пламени, которые выбивались из-под задней части автомобиля. Взрыва пока не было, но Дарвин знал, что стоит огню добраться до объемистого топливного бака «Шевроле», и взрыв будет – да еще какой! Пламя стало заметнее. Дар навел прицел на переднюю дверцу со стороны пассажира. Двери правой стороны массивного автомобиля зажало землей и камнями, когда «шеви» завалился правым боком в выбоину. На мгновение Дар уверился, что Юрий Япончиков сгорит вместе с автомобилем, – вся задняя часть «Шевроле» уже была объята огнем, в небо поднимался столб густого черного дыма. Но тут передняя дверца со стороны водителя открылась, и оттуда не спеша выбрался Япончиков. Он держал в руках винтовку, но форма у нее была несколько иная – даже несмотря на искажение видимости из-за марева, Дарвин понял, что это уже не «СВД» с глушителем, из которой Япончиков стрелял раньше. – У него винтовка, – предупредила Сидни, но Дар уже упал на колени, потом лег и приник к более мощному телескопическому прицелу «легкой пятидесятки», надеясь получше рассмотреть оружие русского. – Черт! – очень тихо сказал Дарвин. Из-за плывущего марева он не мог ясно разглядеть черты лица русского снайпера, но винтовку его он узнал. – «Scharfschutzengewehr neun-und-sechsig», – пробормотал Дар себе под нос. – Что? – переспросила Сидни, опуская бинокль. – У него австрийская снайперская винтовка «SSG-69», – сказал Дар, наблюдая за русским, который сошел с дороги и начал спускаться вниз по крутому склону горы, к открытому полю шириной около мили, которое отделяло его от Дарвина. – Эта винтовка намного лучше русской «СВД», из которой он стрелял возле хижины. У малышки дальность прицельной стрельбы – больше восьмисот метров… Сидни посмотрела на него. Краем глаза Дар заметил, что Сид обеспокоена. – Но твоя «М-40» стреляет еще дальше, да? – Да, – сказал Дарвин. Он снова встал и посмотрел на приближающегося русского через прицел «М-40». С такого расстояния Япончиков был виден только как крошечная фигурка, переливающаяся в волнах горячего воздуха. – Ты можешь подстрелить его еще до того, как он подойдет на расстояние прицельной стрельбы своей винтовки, правильно? – спросила Сид. – Правильно, – согласился Дар. Япончиков вошел в заросли подсолнечника и высокой луговой травы. Он шел через широкую равнину прямо к Дарвину и Сидни. Дар тщательно подогнал ремень «М-40» для стрельбы с руки. Потом вытащил из карманов все, кроме трех запасных магазинов с патронами калибра 7.62, перепрыгнул через валун и пошел через поле к русскому снайперу. Сидни побежала за ним. – Уйди обратно в укрытие, – тихо сказал ей Дарвин. – Еще чего! – возмутилась Сид, правда, не слишком уверенно. – Что это на тебя накатило? У тебя приступ дерьмового мужского выпендрежа? Дар помолчал пару секунд, потом сказал: – Возможно. А может, Япончиков просто решил сдаться нам таким образом. Ты же понимаешь, что он запросто мог скрыться в лесу и уйти на запад. Сидни посмотрела на него так, будто Дар внезапно превратился в какое-нибудь инопланетное чудовище. – Значит, ты думаешь, что он прихватил эту «SSG-69», чтобы удобнее было сдаваться? Может, ты думаешь, что он решил сделать тебе ценный подарок, как победителю? – Нет, – сказал Дар. – Я думаю, что он хочет подойти поближе и пристрелить меня. – Нас! – поправила Сидни. Дар покачал головой и еще раз взглянул на русского снайпера, который шел по долине. Сейчас Япончикова отделяло от них примерно тысяча четыреста ярдов. – Сид, уйди, пожалуйста, обратно за валуны. – Я сказала – не уйду! Какого черта? Может, мне стоит взять «АК-47»? – На таком расстоянии автомат бесполезен, – спокойно сказал Дар. Сидни покачала головой. – Если бы я знала, как настроить прицел на этой твоей «М-40», я бы снесла Япончикову голову! Он убил Тома Сантану. – Я знаю, – мягко сказал Дарвин и пошел дальше – вниз, в долину. Но, заметив, что Сидни по-прежнему идет за ним, остановился. – Пожалуйста, Сид… – Нет, Дар! Ни за что! Дарвин обреченно вздохнул. – Ну ладно. Будешь моим наблюдателем? – Что я должна делать? – То же самое, что ты делала, когда я пристреливался из-за валуна. Держись в трех шагах позади и слева от меня. Смотри на него в бинокль. И говори, куда попадают мои пули. Сидни мрачно кивнула. Они пошли дальше вдвоем – по довольно крутому и каменистому спуску в долину. Дар поднял свою старенькую «М-40» и прикинул расстояние до Япончикова, ориентируясь на деления сетки прицела. Если считать, что рост русского снайпера – пять футов одиннадцать дюймов, значит, расстояние до него сейчас – около тысячи двухсот ярдов. И это расстояние все время сокращается. Дар и Сидни вошли в высокую траву. Коричневые стебли мягко шлепали их по ногам и оставляли на брюках пыльцу и колючие семена. Дар остановился, отойдя примерно на пятьдесят ярдов от валуна, из-за которого он стрелял по дороге. – Теперь пусть он сам к нам подходит, – тихо сказал он Сидни. Сид смотрела на русского в бинокль. – Какая у него жуткая винтовка, – сказала она. – Смотреть противно. Дарвин кивнул. – Ее разработала компания «Штайер» для австрийской армии, – сказал он. – Ложе из синтетического полимерного материала… У него в прикладе специальные прокладки, чтобы подгонять оружие под владельца. – Я всегда о таких мечтала, – сказала Сидни. Дар мельком взглянул на нее и поразился, как Сидни умудряется оставаться такой красивой даже в этих условиях. – Я думаю, у него прицел «Kahles ZF 69», – сказал он. – Это важно? – спросила Сидни. – Только потому, что прицелы «ZF 69» калиброваны для стрельбы на расстояние до восьмисот метров, – сказал Дар. – Следовательно, можно рассчитывать, что Япончиков начнет стрелять примерно с этой дистанции. – А сколько до него сейчас? – спросила Сид, глядя в бинокль. – Около тысячи метров. Дарвин снова взял «М-40» на ремень, прижал к плечу и стал подкручивать вертикальную настройку прицела. – Он идет довольно медленно, – заметила Сидни. – Черт возьми, этот парень настолько уверен в себе, что совсем не торопится! – Сегодня прекрасный день, – сказал Дарвин и только сейчас впервые ясно рассмотрел через прицел лицо русского снайпера. В это мгновение Япончиков прямо на ходу, не останавливаясь, поднял «SSG 69» к плечу и посмотрел через прицел на Дарвина. – Повернись боком, – сказал Дар. Потом оглянулся и добавил: – Нет, не левым… Мне приходится так стоять, потому что я целюсь правым глазом и стреляю правой рукой, а ты лучше повернись к нему другим боком. Сидни так и сделала, потом сказала: – Это что, дуэль, как в диком Средневековье? В чем смысл этого дурацкого действа? В том, что мне в ребра должна вонзиться пуля из кремневого пистоля? Дар не нашелся, что на это ответить. Япончиков остановился и начал настраивать винтовку на нужное расстояние. Дар посмотрел на него, смерил рост русского в делениях сетки прицела и подсчитал, что сейчас расстояние до Япончикова – примерно тысяча ярдов. Сидни сказала: – Дар, скажи мне, что твоя винтовка – великолепный образец достижений американской науки и техники и намного круче той дряни, что у Япончикова. – Моя винтовка по сравнению с его – просто кусок дерьма, реликт эпохи войны во Вьетнаме, – признал Дар. – Но я к ней привык. – Чудесно! – сказала Сидни таким тоном, что Дар понял – на сегодня ее запас шуток закончился. – Я готова тебя корректировать. Дарвин снова приник к прицелу. С этого расстояния он видел лицо русского снайпера. Дар понимал, что при расстоянии в тысячу ярдов это физически невозможно, но все-таки ему казалось, что он различал даже холодные голубые глаза Юрия Япончикова. Дар увидел вспышку – Япончиков выстрелил. Примерно в пяти ярдах впереди Дарвина зашуршала трава. Над землей поднялся столбик пыли. Мгновением позже донеслись два резких щелчка – звуковая волна пролетевшей пули и вторая часть сдвоенного хлопка – не приглушенный супрессором звук винтовочного выстрела. Дар видел, как русский снайпер плавно передернул затвор и как при этом провернулся магазин. Сколько же патронов в магазине «Штайер SSG 69» – пять или десять? Это Дарвину вскоре предстояло узнать. Дарвин видел, как Япончиков аккуратно спрятал в карман брюк, сразу под черным бронежилетом, стреляную гильзу. Только сейчас Дар вдруг вспомнил, что не надел свой собственный бронежилет. «Ну и хрен с ним!» – подумал он и вздохнул. Русский снова пошел вперед. Дар выждал. С такого расстояния было бессмысленно стрелять по движущейся мишени размером меньше, чем «Шевроле Субурбан». Когда Япончиков снова остановился и поднял винтовку, Дар задержал дыхание и нажал на спусковой крючок. – Я не видела, куда ты попал, – сказала Сидни у него из-за спины. – Извини, я, наверное, просто не заметила… – Ты видела столбик пыли где-нибудь впереди его? – спросил Дар, передергивая затвор. – Нет… – Значит, я взял слишком высоко, – сказал Дарвин. Из ствола винтовки Япончикова снова полыхнула вспышка. Дар услышал, как мимо его правого уха просвистела пуля, и только потом донесся сдвоенный звук самого выстрела. Дар не мог не признать, что Япончиков целится чертовски хорошо. И русскому даже не придется стрелять только в голову – ведь у Дарвина не было бронежилета. Дар отогнал дурацкие мысли и сосредоточился на прицеле и расчетах. Япончиков выстрелил снова. Пуля вонзилась в землю как раз посредине между Сидни и Дарвином. В воздух взвился столбик пыли, во все стороны полетели мелкие осколки камня. Дар не изменил стойку. Он только моргнул несколько раз, чтобы прояснить взгляд, и прицелился немного ниже, чем в прошлый раз. Его весьма впечатлило, каким профессиональным, гладким и плавным движением русский передергивает затвор, как по привычке прячет пустые гильзы в карман, как потом снова принимает снайперскую стойку, не отрываясь от прицела «ZF 69». Дар выстрелил. Из-за отдачи он на мгновение потерял Япончикова из виду. – Слишком близко!.. – закричала Сидни. – Насколько близко? Сидни уже отвечала: – Примерно на метр ближе цели. Но направление точное. Дар кивнул и немного подкрутил вертикальную настройку прицела. Он скорее услышал, чем увидел налетевший порыв ветра – тихо зашелестела трава. Дар подкрутил настройку еще на два щелчка влево. Япончиков выстрелил еще раз. «У него в магазине остался только один патрон, – подумал Дар. – Надеюсь, только один, а не шесть…» Пуля взметнула пылевой гейзер всего в футе от ног Сидни. Сид не шелохнулась. К счастью, здесь не было камней, от которых пули могли бы срикошетить. Дар почувствовал, что ветер немного усилился – волнистые линии миража в прицеле сместились влево, потом еще больше влево, но не до горизонтали. Это означало, что скорость ветра достигла примерно шести с половиной миль в час. Дар подкрутил настройку прицела еще на полделения влево, задержал дыхание на выдохе и выстрелил. – Попал! – воскликнула Сидни. – Я думаю… Дару не нужно было особо думать. Он и так знал, что не попал Япончикову в голову – он по-прежнему видел лицо русского и его голубые глаза. Но потом брызнула кровь. Ему казалось, что мгновение растянулось на целых несколько минут, хотя на самом деле прошла всего секунда или две. За это время Дар успел передернуть затвор, не отрывая взгляда от прицела. А потом Япончиков упал. В кинофильмах часто показывают, как людей отбрасывает назад на несколько ярдов даже от пистолетной пули. Но Дарвин никогда не видел ничего подобного – люди, в которых попадает пуля, просто падают, и все. Вот и Япончиков тоже упал, все еще сжимая в руках свою снайперскую винтовку. – Я думаю, ты попал ему в шею, – чуть хрипловатым голосом сказала Сидни. – Я видел, – сказал Дар. – Пуля попала справа в основание шеи. Как раз над вырезом бронежилета. Они медленно пошли к упавшему русскому. Сидни на ходу вытащила свой девятимиллиметровый полуавтоматический пистолет. Внезапно Дар остановился. – Что? – встревоженно спросила Сидни. – Так, ничего… Дарвин повесил «М-40» через плечо и, сгорая от любопытства, вытянул вперед правую руку. Потом – левую. Пальцы совсем не дрожали. – Ничего… – повторил Дарвин, чувствуя, как внутри поднимается волна пустоты, грозя унести его неизвестно куда. – Ничего… Они пошли дальше. Распростертое на земле тело русского снайпера не двигалось. Сид и Дар были уже в тридцати ярдах от Япончикова и видели струю артериальной крови из раны на шее. Голова русского была неестественно откинута назад. Как раз в эту минуту сверху послышался шум. Они остановились и посмотрели на небо. На двух вертолетах обозначения указывали на принадлежность к морской пехоте, на борту третьего были буквы «ФБР». Фэбээровский вертолет опустился на землю между ними и телом Юрия Япончикова. Дарвин расстегнул застежки кевларового бронежилета Сидни, стянул с нее броню и поднял Сидни на руки. Высокая трава вокруг них раскачивалась волнами от ветра, поднятого винтами вертолета. – Я люблю тебя, Дар, – сказала Сидни. Ее слова потонули в реве моторов вертолета, но Дарвин и без того все прекрасно понял. – Да, – сказал он и нежно поцеловал ее в губы.ГЛАВА 26 Я – ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ
Десять дней спустя, ранним воскресным утром в квартире Дарвина зазвонил телефон. Часы показывали пять. – Черт, – прошипел сонный Дар. – Вот именно, – добавила Сидни, приподнимаясь на локте. – Прости, – сказал Дар и потянулся к трубке, постанывая от боли. Лежать на животе и разговаривать по телефону оказалось крайне неудобно. Он и раньше не любил спать на брюхе, но выбирать не приходилось, поскольку раны на заднице заживали медленно. Сидни клялась и божилась, что он вовсе ей не мешает спать, когда во сне переворачивается на спину и тут же с воплями и проклятиями возвращается в прежнее положение. Пуля в боку оказалась сущей безделицей. Врач «Скорой помощи» сделал местную анестезию и вытащил эту пулю через минуту. «Под самой кожей, – сказал доктор, – можно было и пальцами выдавить». А вот с ухом пришлось повозиться. В будущем, вероятно, придется делать пластическую операцию. Лежа на животе, Дарвин сказал в трубку: – Доктор Минор слушает. – Это Лоуренс Стюарт, – раздался жизнерадостный голос Ларри. – Дар, ты должен это видеть. – Нет, ничего я не должен, – ответил Дарвин. Заговорила Труди. Видимо, они звонили по сотовому. – Правда, приезжай, Дар. Придется повозиться с реконструкцией событий. Захвати все свои камеры, особенно цифровую. Дарвин вздохнул. Сид натянула одеяло на голову и вздохнула еще печальней. – Где вы? – спросил Дар. Если далеко, то пусть и не надеются, что он поедет. – В Сан-Диего, в зоопарке, – ответил голос Лоуренса, видимо, он отобрал трубку у супруги. – В зоопарке? Сидни удивленно подняла голову и беззвучно повторила: «В зоопарке?» – В зоопарке, – подтвердил Лоуренс. – Слушай, ты никогда себе не простишь, если не увидишь это собственными глазами! Дарвин снова вздохнул. – Давай приезжай побыстрей, – продолжал Ларри. – Пожелай Сидни доброго утра от меня и захвати ее тоже. И отключился. Дарвин посмотрел на Сид. Она потянулась – Дар привычно залюбовался ее плечами – и сказала: – Почему бы и нет? Мы ведь все равно уже проснулись. – Но ведь сегодня воскресенье, – напомнил Дарвин. – А мы по традиции проводим воскресное утро… по-особому. Сидни рассмеялась. – По традиции! Всего один раз и провели, и уже традиция. Он погладил ее по щеке. – Я решил, что это будет нашей традицией. Давай примем душ вместе? – Я слышала, что Лоуренс попросил приехать поскорее, – заметила Сид. – Ладно, – согласился Дар. – Тогда я моюсь первым.Они подъехали к «Бургер-авто» и взяли кофе с гамбургерами, чтобы перекусить по дороге. Кофе был горячим, и салфетки, обернутые вокруг стаканчиков, не спасали. Дарвин, отхлебывая напиток, постоянно перекладывал стакан из руки в руку. Сидни ждала, пока кофе остынет. Она боялась пролить хоть каплю на кожаные сиденья «Акуры», потому что знала, как взбеленится Дар по этому поводу. – Ты уже решился? – Решился на что? – Сам знаешь. Ты сказал, что ответишь в воскресенье. Сегодня воскресенье. Она отпила кофе, стараясь не расплескать его, когда машина сделала крутой поворот. Дарвин вздохнул. – Я не знаю… – Ну, соглашайся, – попросила Сидни. – Ты же видел показания Далласа Трейса, Констанцы и выжившего русского… – Которого ты спасла, наложив жгут из пояса, – мечтательно промолвил Дарвин. – Именно. Ты же читал их признания. Эта организация, «Альянс», оказалась больше, чем мы думали. Мы собираемся приняться за этих паразитов в Нью-Йорке… а потом и в Майами. – Я вам не нужен, – сказал Дарвин. У входа в зоопарк стояли полицейские машины. В окошко «Акуры» заглянул патрульный, отдал честь и махнул рукой, чтобы они проезжали. – Да, ты нам не нужен, – согласилась Сидни. – Но это широкомасштабная совместная операция НБСП и ФБР, так что тебе будет чем заняться. Попробуй поработать у нас хотя бы с годик. – Я ненавижу огнестрельное оружие, – сказал Дар, сворачивая на стоянку. Он увидел там лоуренсовский «Исудзу Труппер», машину судебной медицинской экспертизы и пять полицейских автомобилей. – А тебе и не придется его носить, – возразила Сид. – Будешь просто сидеть дома – неважно где, – анализировать и составлять компьютерные реконструкции, пока я буду работать в поле. А вечером я буду возвращаться домой, снимать с предплечья кобуру и вешать ее на стул. А перед ужином мы будем любить друг друга… – Ты носишь кобуру не на предплечье, а на поясе, – заметил Дарвин. – Черт возьми, Дар! Какой ты вредный! Припарковавшись, они вышли из машины. Июльское утро было теплым и солнечным. Они пошли туда, где виднелась желтая лента, огораживающая место происшествия. – Сид, – нежно сказал Дарвин, – почему ты не сказала, что я чуть не перепортил твоим ребятам все расследование? Сидни допила кофе, бросила стаканчик в урну и посмотрела на Дарвина в упор. – Ты имеешь в виду фотографии? И прослеживание телефонного номера русских? Пустяки, Дар. Фотография Констанцы, которую Лоуренс показывал рабочим на стройке, была сделана парнями из ФБР, когда они наблюдали за домом Далласа Трейса. – Но почему ты мне об этом не сказала и… Сидни взяла его за руку. – Это не имеет значения, Дар, – мягко сказала она. – Эти доказательства будут приняты в суде только в том случае, если это реальные факты, а о том, что снимки сделаны нелегально, никто и не узнает. У ФБР в распоряжении имеется такое же оборудование, как и у тебя… – Но я чуть не сорвал все к чертовой матери… Сидни остановилась. Дарвин с удивлением увидел, что она улыбается. – Давайте посмотрим с другой стороны, доктор Минор. Вам больше не придется давать показания в суде… просто вышлете Лоуренсу кое-какие видеореконструкции. А значит, к августу вы будете свободной пташкой и сможете присоединиться ко мне и моей команде. – Провести август в Нью-Йорке… – задумчиво начал Дарвин и понял, что все-таки решил принять ее предложение. Сид пожала ему руку. Они поднырнули под желтую ленту и направились к большому вольеру, где уже толпились полицейские.
Заплаканная заместитель директора зоопарка, с красным распухшим носом, пыталась объяснить, что произошло. – Карл ухаживал за Эммой пятнадцать лет… даже больше пятнадцати лет, – булькала она, задыхаясь от соплей и рыданий. – Карл очень любил Эмму. Последние две недели он так волновался за нее. Понимаете, запор у слонов может привести к гибели… – Эмма – это слон, – догадался капитан Фернандес. – Ну конечно же, слон! – воскликнула заместитель директора сквозь слезы. У нее на руках были желтые резиновые перчатки по локоть. В соседнем вольере печально затрубил слон, словно матушка Дамбо, зовущая своего сынка. – А теперь… теперь… наверное, придется ее убить, – выдавила женщина, и плечи ее горестно поникли. Фернандес ободряюще похлопал несчастную заместительницу по спине. Лоуренс, Труди, Дар, Сидни и с полдесятка полицейских подошли к огромной – три фута в высоту и семь в длину – куче слоновьих экскрементов. Из-под дерьма торчали две пары ног в штанах зеленого цвета – обычной униформы служителей зоопарка. – Мне это чем-то напоминает эпизод из первого «Парка Юрского периода», – тихо произнес один из копов, явно забавляясь ситуацией. – А мне «Клоуна Чакли», серию «Шоу Мэри Тайлер Мур», – откликнулся второй полицейский, подтягивая пояс. – Как же там сказал мэр города? Что-то вроде… «К счастью, никто больше не пострадал. Вы же знаете, как трудно остановиться, когда щелкаешь орешки…» – Это потому, что Чакли был на параде в костюме ореха, когда слон решил его сожрать, – заметил первый коп. – А у этого парня костюма орешка не было. – Да, но… – протянул второй коп, пытаясь как-то спасти свою шутку. – Заткнитесь, – сказал им Дарвин и спросил у врача, который пока изучал ноги покойника: – Когда это произошло? – Мы полагаем, что около полуночи, – ответил медик. – А как это случилось? – спросила Сидни. Врач, покряхтывая, поднялся на ноги. – Мисс Хайвуд сказала, что Карл… который ухаживал за Эммой… очень беспокоился, что у слонихи несколько дней был запор. По-видимому, вчера, через три часа после закрытия зоопарка, он дал ей с кормом сильное слабительное. Ну и маленько перестарался. – Вот уж точно, – кивнул третий коп. – Господи, – промолвил молоденький полицейский. – Я слышал, что можно захлебнуться рвотными массами, но чтобы… – Заткнитесь, – снова перебил их Дарвин. Все копы непонимающе покосились на него. Им было весело. Труди делала снимки. Лоуренс измерял кучу. – Семь футов и восемь дюймов в длину, – сказал он деловитым тоном, словно перед ним был тормозной след. – Пять с половиной футов в ширину. И чуть больше трех футов в высоту, по центру. Дарвин опустился на одно колено у ног, торчащих из-под кучи. Сидни заинтересованно наблюдала за ним. Он коснулся полированного ботинка мертвого служителя зоопарка. – Должно быть, его отбросило достаточно сильно, и от удара головой о бетон он потерял сознание, – глухо промолвил Дар. – Потом задохнулся. Так и не приходя в сознание. – И хорошо, что не приходя, – усмехнулся молодой полицейский. – Вы только представьте: приходите вы в себя… Дарвин бросился к нему так неожиданно, что коп отшатнулся и схватился за пистолет. – Я же сказал, чтобы вы заткнулись! Это значит – закройте пасть! – прорычал Дар, тыча пальцем копу прямо в глаз. Полицейский попытался было презрительно улыбнуться, но все испортили дрожащие губы. – Хватит снимать, Труди, – попросил Дарвин. – Пока хватит. Пожалуйста. Он подошел к хлюпающей заместительнице, позаимствовал у нее резиновые перчатки и принялся осторожно разгребать кучу дерьма. Дарвин плакал молча. Слезы катились по его щекам, плечи вздрагивали от беззвучных рыданий. Полицейские переглянулись и в замешательстве отступили на несколько шагов. Лоуренс посмотрел на Труди, но промолчал. – Ларри, дай мне, пожалуйста, шланг, – попросил Дарвин. У него до сих пор подрагивали плечи и тряслись руки, затянутые в длинные желтые перчатки. – Лоуренс, – поправил Лоуренс, подтаскивая поливальный шланг. Дар бережно вымыл лицо погибшего смотрителя зоопарка. Сидни подошла поближе. Смотритель оказался красивым пожилым мужчиной лет шестидесяти. Его седеющие волнистые волосы были коротко подстрижены. Он казался спящим. Его лицо было таким безмятежным и спокойным, что вовсе не походило на лицо трупа. Дар снова полил его водой, осторожно смывая остатки грязи. – Мисс Хайвуд, – позвал он. – Как его звали? В соседнем вольере печально трубила Эмма. Этот звук странным образом напоминал женский плач. – Карл, – ответила мисс Хайвуд. – Полное имя, – покачал головой Дарвин. – Карл Ричардсон, – сказала заместитель директора. – Семьи у него не было… В прошлом году его дочь погибла на Гавайях от несчастного случая. У него осталась только Эмма… Он всегда старался… Голос мисс Хайвуд прервался. Минуту спустя она нашла в себе силы продолжать: – Ему оставался месяц до пенсии. Он так переживал, как Эмма будет без него… Дарвин кивнул и повернулся к Лоуренсу и Труди: – Теперь можно снимать, только не забудьте имя этого человека. Карл Ричардсон. Лоуренс кивнул и принялся щелкать фотоаппаратом. Дар встал, стянул перчатки и бросил их на бетон. – Имена важны, – негромко, словно разговаривая сам с собой, пробормотал он. – Имя есть… – Имя есть некое орудие обучения, – подхватила Сидни, – и распределения сущностей. – Сократ, – тихо закончил Дарвин, словно благословляя покойного. Он повернулся и направился к ближайшему туалету, чтобы вымыть руки. Сид ждала его снаружи. Когда Дар наконец вышел, с закатанными рукавами, его руки, лицо и шея пахли дешевым жидким мылом. – Извини, – сказал он, подходя к ней. – Не за что, – ответила Сидни. – Чудное воскресное утро, зоопарк еще не открыт. Может, погуляем немного перед тем, как возвращаться домой? Единственное, что я не люблю в зоопарке, это толпу народа. Дар согласился. Они взялись за руки и не спеша пошли по широкой асфальтовой дорожке. Жаркое летнее солнце раскрасило тропическую растительность в невероятно яркий зеленый цвет. Где-то порыкивал крупный хищник – то ли тигр, то ли лев. – Hesma phobou, – сказала Сидни, помолчав. Они остановились в тени раскидистого дерева с крохотными листочками. На деревьях, росших на небольшом острове, резвились маленькие обезьянки. Они скакали с ветки на ветку, демонстрируя чудеса акробатики. – Что? – переспросил Дар, вскидывая голову. – Hesma phobou, – повторила Сид. – Я начала читать твоих спартанцев. Плакать после битвы… падать на колени… дрожать и трястись. Hesma phobou – «отрешение от страха». – Да, – согласился Дарвин. – Это не слабость, – продолжала Сид. – Это необходимость. После битвы… это избавление от самого худшего вида одержимости. Одержимости демоном безразличия. Дар кивнул. – Ты держался так долго, милый, – сказала она и стиснула его ладонь. – И они никогда не забывали имен павших, – промолвил Дарвин. С минуту он колебался, а потом сказал: – Мою жену звали Барбара, а сына Дэвид. В ответ Сид поцеловала его. – Прекрасный день, – заметил Дар. – Давай погуляем по зоопарку, а потом вернемся и заберем с собой Лоуренса и Труди. Позавтракаем вместе. – Лоуренса, – озадаченно повторила Сид. Дарвин приподнял брови. – Ты назвал его Лоуренсом, – объяснила она. – Не Ларри, а Лоуренсом. – Имена имеют значение, – сказал он. – Значит, гуляем? – улыбнулась Сидни. Не успели они отойти и на десяток шагов, как раздавшиеся за спиной вопли заставили их обернуться. Одна из обезьянок не рассчитала прыжка и ухватилась за слишком тонкую ветку, которая подломилась под ее весом. Маленький примат рухнул вниз с сорокафутовой высоты. Падая, обезьянка пыталась ухватиться за ветки и листья. Ветки сломались, но зато смягчили ее падение и дрожащий зверек шлепнулся задом на бетон. Обезьянка, конечно, перепугалась до полусмерти. Она присела на корточки, свернувшись при этом в клубок – почти приняв позу эмбриона. Чтобы успокоиться, она принялась сосать большой палец руки. Солнце било обезьяне в спину, отчего ее уши просвечивали красным, а шерсть, казалось, стала дыбом по всему тельцу. Сверху продолжали падать оборванные ветки и кружиться листья. Остальные мартышки подняли вой, шум и гам, загремевший презрительным хохотом. Другие животные подхватили этот крик и принялись выть, реветь и рычать в унисон, пока по зоопарку не покатилось громкое многократное эхо. И только грустный трубный голос слонихи Эммы звучал одиноким контрапунктом в общем истеричном хоре. Дарвин и Сид переглянулись. Она взяла его за руку, улыбнулась, пожала плечами и качнула головой. Не на все вопросы найдены ответы, но решены некоторые загадки. Двое – мужчина и женщина – пошли дальше по дорожке, из тени на солнечный свет.
Благодарность
Переводчик выражает благодарность Василию Матвееву и Анатолию Смирнову за консультации по вопросам огнестрельного оружия и военной техники.
Дэн Симмонс
 ДВУЛИКИЙ ДЕМОН МАРА. СМЕРТЬ В ЛЮБВИ
ДВУЛИКИЙ ДЕМОН МАРА. СМЕРТЬ В ЛЮБВИ
Посвящается Ричарду Харрисону и Дэну Петерсону, добрым друзьям, добрым товарищам по путешествиям
БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу выразить признательность следующим людям: Ричарду Харрисону — моя глубокая благодарность за сокровищницу книг, документальных материалов и личных знаний о Битве на Сомме, а также за памятный разговор на нормандском побережье дождливым августовским днем, послуживший первым толчком к написанию повести. Дэну Петерсону — двойная благодарность за страстный интерес к культуре сиу, отчасти передавшийся автору, и за совместные прогулки по садам Японии, улочкам Гонконга и каналам Бангкока в поисках сюжета. Ричарду Кертису, моему литературному агенту и другу, — очередная, но все такая же искренняя благодарность за то, что он опять предоставил мне возможность писать на интересующие меня темы и в угодное мне время. И наконец, как всегда, Карен и Джейн — за любовь, терпение и неизменную поддержку.ПРЕДИСЛОВИЕ
Любовь, ты властвуешь однаНад жизнью и над смертью.Ричард Крэшоу (1613–1649)«Гимн во славу святой Терезы»
Я хотел назвать этот сборник из пяти новелл «Liebestod», но мне деликатно указали, что немногие американцы любят или хотя бы знают оперу Вагнера, что не каждый с лету переведет с немецкого слова «любовь-смерть» и соотнесет их с арией из второго акта «Тристана и Изольды» и что даже если ни у кого не возникнет никаких вопросов на сей счет — наверное, все же не стоит давать книге заглавие, вызывающее в памяти образ тучной дамы в медном бюстгальтере, горланящей невнятную погребальную песню над своим мертвым бойфрендом. Так сказали мои советчики. Разумеется, я считаю всех их невежественными обывателями. Но с другой стороны, я и сам не особо люблю Вагнера. Марку Твену приписывается высказывание «музыка Вагнера написана значительно лучше, чем она звучит», но источника цитаты я никогда не видел. Недавно, впрочем, мне попалось одно письмо Твена, написанное во время путешествия по Европе, в котором он рассказывает о своем первом посещении вагнеровской оперы. Нижеследующая выдержка дает представление о глубоком впечатлении, произведенном на него спектаклем. «Все актеры пели свои обвинительные повести по очереди, под гром оркестра в шестьдесят инструментов; когда же проходило изрядное время, и вы уже надеялись, что они до чего-то договорятся и умерят шум, вступал огромный хор, сплошь из одержимых — и тут в течение двух, а иногда и трех минут я познавал те муки, которые испытал лишь однажды, когда у нас в городе горел сиротский дом». Я подумывал изменить название сборника на «Пожар в сиротском доме», но литературные советчики опять отговорили, невзирая на восхитительное звучание фразы. Поэтому — «Смерть в любви».Навек, навек, навек, навек, навек…Уильям Шекспир«Король Лир»
Работать в жанре новеллы мне всегда нравилось, даже в самое сложное время, но над сборником «Смерть в любви» я работал с особым удовольствием, отчасти потому, что он решил появиться на свет именно в такое время… самое сложное. Когда меня не на шутку скрутили творческие схватки, я успешно занимался одной новеллой и уже договаривался о сроках сдачи второй. Я не планировал писать все сразу, ситуация не располагала, а трата времени и сил грозила обернуться неприятными последствиями. Ни фига себе, смутно подумалось мне, когда начались знакомые родовые муки. А ведь я рожаю. Все живое вообще на удивление редко выбирает для своего рождения время, устраивающее нас и наши деловые графики. Книге «Смерть в любви» пришел срок появиться на свет, и она появилась. Поскольку вы сейчас держите мое новорожденное дитя в руках, сделайте одолжение, пересчитайте у него все пальчики. Если чего-то недостает — скажете мне позже. В данный момент я отдыхаю.
Я думал написать здесь что-нибудь эдакое глубокомысленное на темы Эроса и Танатоса, которые кружат по всем пяти новеллам, точно голодные акулы в полном народа бассейне, но если честно, почти во всех удачных историях в той или иной мере присутствуют перекликающиеся темы любви и смерти. Если что-нибудь и отличает мои истории от всех прочих, так только предпринятая попытка исследовать предмет с разных ракурсов. Опубликовав около дюжины книг, я достаточно хорошо уяснил, что любовь, смерть и чувство утраты, неразрывно связанное с этими сферами человеческого опыта, являются основными и почти навязчивыми темами всех моих сочинений. Так получается не намеренно. Эти вопросы мучают меня, и я пишу о них. У меня нет другого выбора. В публикуемых здесь новеллах, однако, я решил рассмотреть темы любви и смерти с разных аспектов в надежде, что по ходу дела откроется некое полезное понимание. Думаю, мне открылось. Остается надеяться, что читателю тоже откроется. Скажу пару слов о жанре новеллы. Прозу такого объема — слишком крупного, чтобы называться рассказом, и слишком малого, чтобы претендовать на звание романа, — любят почти все писатели, но ненавидят редакторы и издатели. Для писателя новелла — идеальный формат, позволяющий держать в поле зрения все пространство произведения без расфокусировки взгляда, неминуемо возникающей в случае с романом. Новелла позволяет писателю (а при удаче и читателю) глубоко проникнуться героями, обстановкой, темой и неспешным повествованием, в котором отсутствуют вредные примеси в виде побочных сюжетных линий, второстепенных персонажей и неизбежных отступлений, загрязняющие атмосферу всех романов, за исключением самых гениальных. Новелла, как и рассказ, требует, чтобы каждое предложение — нет, каждое слово — имело как минимум двойную причину для существования. Писатели любят формат новеллы, поскольку он дает возможность проявить свои способности, а заодно поиграть по правилам, отличным от привычных. Редакторы и издатели ненавидят новеллы, потому что они не пользуются спросом. Несмотря на огромную популярность новелл самых разных писателей — Эрнеста Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Сола Беллоу, Стивена Кинга и прочих, — издатели по-прежнему не спят ночами, лихорадочно соображая, как лучше подавать такие вещи. Издатели «серьезной литературы» чаще всего берут новеллы по одной (например, «Старик и море»), добавляют кучу дополнительных страниц до и после текста, искусственно раздувая объем, выпускают под видом романа, надеются, что никто из специалистов не заметит, что никакой это не роман, и ждут Нобелевскую премию. Многие авторы снова и снова возвращаются к какой-нибудь одной теме, в процессе писания изгоняя из себя демонов, заставляющих за нее браться, а потом публикуют эти сочинения среднего объема, невзирая на стоны, причитания и жалобные мольбы издателей. Для писателя такой подход имеет несколько плюсов: во-первых, новелла — идеальный формат для истории ужасов; во-вторых, новеллы самых разных жанров прекрасно сосуществуют в одном сборнике; и наконец, если автор умеет писать в разных стилях и с разными повествовательными интонациями, подобный сборник может стать своего рода демонстрационной витриной для него и настоящей сокровищницей для читателя. По крайней мере так отношусь я как читатель к сборникам новелл, написанных авторами, пользующимися моим доверием. Помню, как я в первый раз читал новеллу Стивена Кинга «Тело» и думал — да, вот оно! А теперь, подробно рассказав про стонущих, хнычущих, скулящих редакторов, я хотел бы поблагодарить своего редактора в издательстве «Уорнер» — Джона Сильберсака — за всемерную поддержку, оказанную данному проекту. Джон понял, почему я выбрал темы любви и смерти, а также формат новеллы для творческих родов. Он оказался замечательным акушером, и я рекомендую его всем авторам, готовым разрешиться новеллами.
Теперь несколько слов о самих произведениях. «Энтропия в полночный час» — это попытка исследовать роль Случая в любви, смерти, боли и смехе. Это хвалебная песнь человеческому аспекту Теории Хаоса. Все страховые события из Оранжевой Папки — подлинные. «Смерть в Бангкоке» — возможно, мое окончательное слово по поводу ужаса СПИДа, этой трагической связки любви и смерти, котораяизменила наш мир и еще долго будет влиять на него, даже если лекарство найдут завтра. Чтобы познакомиться с местом действия, в мае 1992 года я отправился в Бангкок и прибыл туда буквально через несколько часов после того, как правительство страны, всегда старавшейся избегать открытого насилия, посчитало нужным расстрелять студенческую демонстрацию. На залитой кровью мостовой около Монумента Демократии все еще оставались выщерблины от пуль, и люди взахлеб рассказывали мне о пережитом кошмаре. Но сколь чудовищным ни казался бы этот акт гражданского террора, сколь жуткое впечатление ни производили бы следы от пуль и лужи крови, все же среди шумных улиц Патпонга меня больше всего угнетало сознание, что там набирает силу эпидемия СПИДа — тихая, коварная и неотвратимая, как Красная Смерть. «Женщины с зубастыми лонами» — моя дань восхищения богатому фольклору коренных американцев, в частности сиу, хотя в историю включены легенды и сказания доброй дюжины индейских племен. Собирать материал для этой новеллы было истинным удовольствием. Даже на самых закоренелых скептиков вроде меня Черные Холмы в Южной Дакоте оказывают необъяснимое и убедительное воздействие. Легко понять, почему сиу и другие племена считают Паха-Сапа священными и почему молодые люди из сиу по-прежнему предпочитают проводить обряд поиска видений именно там. Плюс ко всему эта длинная история про невольного юного мессию, который только и хочет что трахаться, но в конечном счете становится избранным спасителем своего народа, является противоядием от слащавой снисходительности разных тошнотворных пародий типа фильма «Танцы с волками». В моих жилах лишь слабая примесь индейской крови, но будь я чистокровным сиу, то предпочел бы, чтобы меня уничтожили как сильного и опасного врага, чем покровительственно привечали в Голливуде, выставляя слабой, плаксивой, идеализированной, политически корректной жертвой. Митакуйе ойязин. Да пребудет вечно вся моя родня. «Флэшбэк» — научная фантастика. Как бы. В этой истории о памяти и утратах, о любви и смерти очень мало всяких крутых хай-тековых штучек. Это скорее исследование ситуации, когда способность возвращать прошлое — и всех любимых, оставшихся в прошлом, — становится скорее болезнью, чем источником утешения. В то время как сама история преследует скромные цели, фигурирующий в ней наркотик «флэшбэк» вызвал много разговоров — мол, стоит ли вообще употреблять подобный препарат, и если стоит, то когда, зачем и в каком количестве. Даже мои друзья, никогда не прибегавшие к рекреационным наркотикам, признались, что запросто могли бы подсесть на «флэшбэк». Мы недалеко ушли от рейгановской эпохи, когда вся нация жила в сладких грезах о прошлом, отдавая в заклад будущее, а потому «флэшбэковая» зависимость кажется нам не просто праздной фантазией, а нечто большим. И наконец — «Страстно влюбленный». На этой своеобразной истории необходимо остановиться подробнее. Героем новеллы является вымышленный поэт, но стихи, якобы им написанные, на самом деле принадлежат окопным поэтам А. Г. Уэсту, Сигфриду Сассуну, Руперту Бруку, Чарльзу Сорли и Уилфреду Оуэну. В обычном случае использование произведений реальных поэтов (упомянутых только в сносках) выглядело бы неуклюжим приемом. Попытка внушить читателю, что эти стихи порождены творческим воображением вымышленного поэта, казалась бы в лучшем случае неудачной, а в худшем — неэтичной. Но для такого подхода имелись веские причины. Собственно говоря, у меня практически не оставалось другого выбора. Дело в том, что здесь не стихи вставлены в текст для большей достоверности, а сама история написана с целью показать всю силу конкретно этой поэзии. Позвольте объяснить. В 1969-1970-х годах, когда я учился на последних курсах Уобашского колледжа и близилось время призыва в армию с последующей отправкой во Вьетнам, и моя зацикленность на теме войны заставила взяться за антивоенную литературу 20-30-х годов. Ныне большей частью забытые широкими читательскими массами художественные произведения о Первой мировой и документальные свидетельства о страшном военном опыте, опубликованные в упомянутый период, пожалуй, не имеют себе равных. Среди молодых англичан, миллионы которых погибли в Великой войне, были лучшие писатели двадцатого века. В одной только Битве на Сомме принимали участие поэты Роберт Грейвз, Сигфрид Сассун, Джон Мейсфилд, Эдмунд Бланден и Марк Плауман. Романтическая поэзия Руперта Брука, чье стихотворение вместе с названием «Страстно влюбленный» я позаимствовал для новеллы, лучше всего иллюстрирует романтическо-идеалистический настрой, с которым эти люди шли на фронт. Но Брук умер от сепсиса на греческом острове Скирос в 1915 году — еще до самых крупных сражений Первой мировой, еще до смерти невинности, еще до гибели значительной части своего поколения. Окопная поэзия Сассуна, Бландена и других свидетельствует о переходе от абстрактного романтизма к страху и цинизму военного времени. Поэты, оставшиеся в живых после войны, создали ряд выдающихся прозаических произведений, в числе которых «Прости-прощай всему» Роберта Грейвза, «Воспоминания пехотного офицера» Сигфрида Сассуна, «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя и «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка. Последний роман, помню, я читал на немецком как раз в ту неделю, когда в призывной лотерее мне выпал невысокий номер 84. Поэзия и проза, посвященные Первой мировой войне, имели для меня огромное значение в 1969-м и 1970 годах, когда передо мной маячила реальная перспектива оказаться в кошмаре Вьетнама. Много лет спустя я согласился с одним критиком, заявившим, что по сравнению с блестящей военной литературой 20-30-х годов «литература о Вьетнамской войне похожа на плаксивые письма детишек из летнего лагеря, пребывание в котором оказалось менее приятным, чем они ожидали». Это вовсе не значит, что ужасы Вьетнама, пережитые американскими солдатами, менее страшны, чем ужасы позиционной бойни, пережитые английскими пехотинцами в 1914–1918 годах. Просто литераторы, воевавшие в Первой мировой, писали лучше. На меня их пронзительные произведения действовали так сильно, что самая мысль о Первой мировой войне всегда пугала. Условия жизни и смерти на тех фронтах — слякотная грязь, клаустрофобные траншеи, ядовитые газы, штыковые атаки, чудовищная глупость военачальников, бездарно положивших в боях миллионы солдат, — приводили меня в содрогание. И после периода запойного чтения я на долгие годы закрыл эту тему. Она вызывала у меня отвращение и ярость, она пробуждала глубинные страхи. Вернуться меня заставили два события. Во-первых, в ноябре 1991 года мне с семьей случилось находиться в гостях у друзей в Англии, когда там отмечали национальный День памяти, и я впервые увидел, насколько еще свежи раны, оставленные в сердцах англичан той войной, казалось бы, такой далекой. Во-вторых, почти годом позже я с моим другом Ричардом Гаррисоном — школьным директором по профессии, но военным историком по призванию — отправился в поездку по местам боевых действий в Нормандии, и там, над прахом гитлеровской Festung Europa, мы с ним говорили о еще более ужасном человеческом жертвоприношении, которого потребовала Первая мировая война. Именно тогда, прохладным августовским днем в Нормандии, далеко от тихой реки Соммы и военных кладбищ с бесчисленными рядами надгробий, я решил написать о Битве на Сомме. Решение написать далось легко. Реализовать задуманную концепцию оказалось гораздо труднее. Во-первых, для меня было принципиально важно включить в новеллу образцы поэзии, столь глубоко потрясшей меня двадцать лет назад. Создавая вымышленного поэта Джеймса Эдвина Рука, я стремился не умалить блистательное творчество реальных авторов, а скорее вплавить некоторые их впечатления и переживания в жизнь символического «обычного человека». Таким образом, я надеялся понять, как человек с чувствительным умом и сердцем мог вынести невероятные ужасы Первой мировой войны нашего кровавого века, не повредившись умом и не ожесточившись сердцем. Во-вторых, я поставил перед собой задачу представить ужасы войны настолько достоверно, насколько это возможно с учетом фантасмагорической истории о любви и смерти, лежащей в основе новеллы. Иными словами, в своих описаниях обстановки и событий на Соммском фронте я решил максимально опираться на документальные свидетельства. В результате получился коллаж из образов, картин и впечатлений, взятых скорее из жизни, чем из воображения. Так, например, описанный Джеймсом Эдвином Руком эпизод с трупом, зубными протезами и крысой основан на рассказе французского солдата, приведенном в книге Ж. Мейера «La vie quotidienne des soldats pendant la grand guerre» (Ашетт, Париж, 1966), впоследствии повторенном Анри Барбюсом и процитированном в книге Джона Эллиса «По глаза в аду. Окопная война Первой мировой» (Джон Хопкинс Юниверсити Пресс, Балтимор, 1976). А в описание масштабного наступления 10 июля 1916 года включен эпизод, поведанный сержантом Джеком Кроссом, № 4842, 13-й батальон стрелковой бригады («Сомма» Лина Макдональда, Майкл Джозеф Лдт., 1930), коротко упомянутый Сигфридом Сассуном («Воспоминания пехотного офицера», Фейбер и Фейбер Лдт., 1930) и увиденный совсем иначе лейтенантом Гаем Чапменом («Безудержное расточительство», Бакен и Энрайт, Лондон, 1933). Я говорю это не для того, чтобы выставить себя образцом научной точности — мои исследования слишком поверхностны и бессистемны, методы далеки от научных и более чем сомнительны. Просто хочу дать представление о сложной игре, в которую играл и цель которой заключалась в том, чтобы по мере сил соблюсти историческую достоверность. Не сказать чтобы я всегда строго следовал фактам. Иногда я предпочитал отступать от них, как, например, в случае с горчичным газом, который в новелле экспериментально используется за несколько месяцев до того, как он в действительности был применен на западном фронте весной 1917 года. Но считаю, что очевидцы тех событий, столь ярко и выразительно рассказавшие о них в стихах и прозе, подошли к пониманию ужаса и страшной красоты кровопролитного сражения гораздо ближе, чем большинство военных летописцев со времен Гомера. Зная, что память вещь в лучшем случае ненадежная, я все же безоговорочно доверял их памяти. Во время подготовительного периода сбора и накопления материала для «Страстно влюбленного» произошло несколько странных событий. Встретив в дневнике одного строевого офицера упоминание о живописном полотне под названием «Счастливый воин» кисти Джорджа Фредерика Уоттса, я отправился в пыльное книгохранилище библиотеки Колорадского университета в Боулдере, чтобы отыскать репродукцию картины, настроение которой, одновременно романтическое и печальное, оказалось созвучным настроению этого офицера. Листая книги, изданные в 1880-х годах и отправленные в архив в 1947-м, я наткнулся на фотографию с аллегорической картины Уоттса «Любовь и Смерть» и сразу понял, что она станет центральной метафорой истории о Битве на Сомме. Я даже связался с литературным агентом и редактором и попросил поместить репродукцию этой малоизвестной картины на фронтисписе сборника. И только позже, читая прежде пропущенную часть автобиографического романа Сигфрида Сассуна «Воспоминания пехотного офицера», наткнулся на нижеследующий абзац: «У меня было ощущение, будто я изменился с пасхальных каникул. Я со скрипом отворил дверь гостиной и вошел, бесшумно ступая по навощенному паркету. Вчерашние полусгоревшие свечи и кошачья полупустая миска с молоком под раскладным столом казались неуместными здесь, и мое безмолвное лицо как-то странно смотрело на меня из зеркала. На стене висела знакомая фотография с картины Уоттса „Любовь и Смерть“, тайный смысл которой всегда ускользал от меня, но которая будила во мне безотчетный восторг». И наконец, я должен сказать, что чтение окопных писателей и поэтов в 1969-м и 1970 годах не просто укрепило меня в антивоенной позиции. Понимание, сколь сильное влияние оказали их стихи и проза на поколение, выросшее между войнами; осознание того факта, что свидетельства участников потрясли класс образованных людей до такой степени, что они сочли возможным проигнорировать восхождение Гитлера и дать зарок не сражаться за свою страну ни при каких обстоятельствах. Все это заставило меня увидеть и без того сложную проблему в еще одном ракурсе, который многое прояснял, но одновременно вызывал тревогу. Даже несмотря на больную тему Вьетнама и антивоенные убеждения, я понял со всей ясностью: ужасы войны еще не самое страшное, есть вещи пострашнее. Концентрационные лагеря, например, или тьма Тысячелетнего рейха, или, наконец, ядерный конфликт взамен Вьетнамской войны. И хотя человеческую глупость, приведшую к Битве на Сомме, ничем нельзя оправдать, все произошедшее там объясняет, почему следующему поколению необходимо вернуться на собственный фронт. И следующему поколению. И следующему.
Отвечает ли все это на вопрос, почему я решил включить в «Страстно влюбленного» стихи реальных поэтов и почему придаю такое значение историческим деталям? Наверное — нет. Но благодарен вам за внимание. Как ни странно, я не посчитал нужным использовать в новелле послевоенное стихотворение, произведшее на меня самое глубокое впечатление в милые сердцу далекие дни конца шестидесятых, когда ждал призыва в армию. Оно принадлежит перу Эзры Паунда, который — по удивительному стечению обстоятельств — в 1908 году был изгнан с должности преподавателя Уобашского колледжа, где впоследствии учился я. По общему мнению, он поселил у себя на квартире хористку. Подобно марктвеновским каннибалам с Сандвичевых островов, съевшим миссионера, Паунд сожалел о своей оплошности. Он сказал, что это случайность. Пообещал, что такого больше не повторится. Тем не менее начальство колледжа уволило его. (Паунд изменил свою жизнь к лучшему, отплыв в Италию к друзьям-поэтам. Спустившись по трапу, он воскликнул, что «спасся из девятого круга ада», каковые слова понятны любому, кто посещал мой маленький колледж в Кроуфордсвилле, штат Индиана.) Поэма называется «Хью Селвин Моберли». Двадцать два года назад я считал, что это замечательная притча не только об ужасах Первой мировой войны, но и о трагическом вьетнамском опыте Америки. И я по-прежнему так считаю.
IV
Дэн Симмонс
Колорадо, январь 1993
ЭНТРОПИЯ В ПОЛНОЧНЫЙ ЧАС
На западном выезде из Денвера в пятничный час пик, когда мы поднимались на первый большой холм и Кэролайн спросила, для чего нужен тормозной карман, я заметил на встречной полосе ту злополучную фуру. Тогда я просто подумал, что слишком уж она разогналась на четырехмильном тридцатиградусном склоне, но на следующее утро в Брекенридже я увидел фотографии с места происшествия — и в «Денвер пост», и в «Роки маунтин ньюз»: водитель фуры не пострадал, но погибли три женщины, находившиеся в «Тойоте Камри», которую он впечатал в бетонное ограждение и выдавил за него. Тогда я объяснил Кэролайн, для чего нужны тормозные карманы, и мы высматривали другие такие же весь час пути до горнолыжного курортного городка. «Страшенный какой, — сказала она, глядя на один из засыпанных гравием аварийных тупиков с крутым подъемом. — А у машин часто отказывают тормоза?» Три месяца назад, в мае, Кэролайн стукнуло шесть, но она значительно опережала свой возраст, как по словарному запасу, так и по уровню тревоги, которую у нее вызывал окружающий мир, полный острых углов. Если верить Кей и остальным, я немало поспособствовал развитию у нее этой тревожности. — Нет, — солгал я. — Очень редко. В августе Брекенридж не самое интересное место, куда я мог бы отправиться с дочерью, с которой не виделся несколько месяцев. Хотя этот маленький горнолыжный городок более «настоящий», чем Вейл или Аспен, кроме пары-другой люксовых магазинов и одного «Вендиса» — с интерьером под викторианскую старину, но с пригодным для детей меню, — летом там особых развлечений нет. Я планировал в пятницу ночью остановиться в кемпинге, но после трех месяцев засушливой жары, стоявшей в Колорадо, этот уик-энд выдался холодным и ветреным, с проливными дождями. Я снял нам двухкомнатный номер с совмещенной кухней в коттедже под горой, и вечером мы уселись смотреть «Войну миров» Джорджа Пэла по крохотному телевизору. Позже ночью, когда под шум дождевой воды в водостоках я укладывал Кэролайн спать на кушетку в гостиной, мне невольно бросилось в глаза, насколько она стала похожа на Кей. За пять месяцев, прошедших после их переезда обратно в Денвер, Кэролайн похудела. В чертах ее лица, утратившего детскую пухлость, уже угадывалась материнская тонкокостность, а подстриженные каштановые волосы были лишь немногим длиннее, чем у Кей в лето нашего знакомства, когда я вернулся из Вьетнама и врезался на мотоцикле в грузовик Пепси. В темных глазах Кэролайн отражался такой же тонкий и ранимый ум, как у Кей, и она подкладывала ладонь под щеку точно как мать. Страшная трагедия разлуки со своими маленькими детьми, даже недолгой, состоит в том, что за время вашего отсутствия они становятся совсем другими людьми. Может, это верно для любого возраста. Не знаю. — Пап, а мы пойдем завтра на летний бобслей? — Конечно, малыш. Если погода улучшится. Зря я прихватил в вестибюле буклеты. Все бы ничего, не научись Кэролайн читать еще в четыре года. Вот она и прочитала во всех пяти буклетах из серии «чем-заняться-в-брекенридже» красочное описание трассы летнего бобслея. Сказать, что я совершенно не горел желанием спускать Кэролайн с горы, значит ничего не сказать. — А фильм про марсиан глупый, правда, пап? — Безусловно. — Я имею в виду, если у них хватило ума построить космические корабли, они же должны были и про микробов все знать, правда ведь? — Разумеется. Я как-то никогда не задумывался об этом. «Война миров» — первый в моей жизни немультяшный фильм — мне было пять, когда он вышел на экраны в пятьдесят третьем году, — и всю дорогу из «Риальто» я испуганно цеплялся за руку старшего брата. «Ты видел проволоку, на которой болтались эти дурацкие марсианские машины?» — спросил Рик, пытаясь рассеять мои страхи, но я только щурился под серым чикагским снегопадом и еще крепче сжимал его руку в варежке. Много месяцев после этого я спал с включенным ночником и всякий раз, глядя в ночное небо с нашего четвертого этажа, ожидал увидеть там зловещие огненные хвосты марсианских цилиндров. Спустя год, когда мы перебрались в маленький городок в тридцати милях от Пеории, я утешился мыслью, что марсиане сначала нападут на большие города и у нас, сельских жителей, еще останется время, чтобы покончить жизнь самоубийством, прежде чем они направят тепловые лучи. Позже, когда мои страхи переключились с марсиан на ядерную войну, я успокаивал себя примерно такими же рассуждениями. — Спокойной ночи, папа, — сказала Кэролайн, подкладывая ладошку под щеку. — Спокойной ночи, малыш. Я ушел в другую комнату, оставив дверь полуоткрытой, и попытался почитать последний сборник рассказов Раймонда Карвера. Немного погодя отложил книгу и стал слушать дождь.Отец Кей никогда мне особо не нравился — всю жизнь до самой пенсии он проработал инженером-строителем и видел все в черно-белом цвете. Но он немало удивил меня, когда навестил в клинике, где я лечился от алкоголизма и оклемывался от нервного срыва, случившегося сразу после расставания с Кей. — Дочь говорит, ты каждое утро прикатывал, чтоб проводить Кэролайн до школы, и поджидал ее после уроков, — сказал старик. — Уж не собирался ли ты ее похитить? Я улыбнулся и покачал головой: — Вы же сами все понимаете, Калвин. Я просто хотел убедиться, что с ней все в порядке. Он кивнул: — И ты чуть не набросился с кулаками на женщину, которая приглядывала за Кэролайн в отсутствие Кей. Я пожал плечами, чувствуя себя страшно неловко в больничном халате и пижаме: — Она возила Кэролайн и остальных детей непристегнутыми. Он внимательно посмотрел на меня: — Чего ты боишься, Бобби? — Энтропии, — ответил я, не задумываясь. Калвин слегка нахмурился и потер щеки: — Я изрядно подзабыл школьную физику, но помнится мне, энтропия — просто энергия, которую нельзя преобразовать в полезную работу. — Да, — кивнул я, удивляясь странному повороту разговора. — А также это мера хаотичности. И стопроцентная вероятность того, что все, что можно испортить, будет испорчено. Это движущая сила, стоящая за законом Мерфи. — Бруклинский мост, — сказал он. — Что? — Если тебя пугает энтропия, Бобби, подумай о Бруклинском мосте. Я помотал головой. Голова раскалывалась. Трезвость оказалась совсем не такой замечательной штукой, как о ней говорили. — Джон Реблинг с сыном спроектировали мост с огромным запасом прочности, — сказал Калвин. — Он строился в тысяча восемьсот семидесятых для транспортного потока в десять раз меньше нынешнего и был закончен задолго до того, как по нему проехал первый автомобиль, но все предельные нагрузки, все допуски при проектных расчетах увеличивались в пять-десять раз — и посмотри на него сегодня. Несколько лет назад мост обследовала экспертная комиссия и пришла к выводу, что он нуждается только в покраске. — Здорово, — сказал я тогда. — Если ты мост. Но после выписки я отправился в Нью-Йорк. По легенде, собирался обсудить с руководством «Центуриона» — головной компании фирмы «Прери Мидленд» — вопрос о моем переводе обратно в Денвер, но на самом деле поехал поглазеть на Бруклинский мост. Чтобы задаваться вопросом, не увеличил ли я в пять, десять или больше раз предельно допустимые нагрузки в жизни Кей, тем самым превратив в кирпич и железо то, что должно было расти и цвести под солнцем. Дурацкая идея. У подножия моста находился большой бар, но я выпил там только кружку пива и вернулся в отель. После полуночи дождь поутих, но с гор по-прежнему дул крепкий ветер, и дополнительные одеяла, лежавшие на полке в шкафу, пришлись очень кстати. Несколько раз я выходил в соседнюю комнату проверить, как там Кэролайн. Все в порядке — она мирно сопела, лежа в одной из немыслимых поз, в каких предпочитают спать шестилетние дети. Поправив сползшее одеяло, я вернулся в постель и попытался заснуть.
Одно из моих любимых дел в Оранжевой Папке — страховое требование Фармера Макдональда и его сына Клема. Разумеется, имена не настоящие. Не знаю, как я поступлю, если вдруг однажды возьмусь описать все подобные случаи в какой-нибудь своей книге. Зачастую истцы носят имена настолько в духе своих историй, что изменять их просто грех — вспомнить хотя бы похотливого дантиста из Салема, штат Орегон, по имени доктор Болт. Чтобы получать такое же удовольствие, какое получал я все эти годы, страховые требования надо читать вместе с полицейскими отчетами, заключениями страховых оценщиков, схемами с места происшествия, заявлениями и показаниями пострадавших, истцов, главных участников события и свидетелей. Время от времени я слышал подобие языка страховой документации, когда смотрел по телевизору интервью какого-нибудь патрульного или помощника шерифа после погони с задержанием. Обычно я толкал Кей локтем, отвлекая от книги, и заставлял смотреть. «Э… приблизительно в этот момент времени, — говорил толстый помощник шерифа в камеру, — э… предполагаемый подозреваемый покинул свое транспортное средство и дальше передвигался на ногах… э… на высокой скорости, пока я и офицер Фогерти не преградили ему путь и приступили к задержанию. В означенный момент времени… э… предполагаемый подозреваемый оказал физическое сопротивление, которое мы с офицером Фогерти совместными усилиями успешно подавили». Я переводил для Кей: — Иными словами, этот хмырь выскочил из машины и дал стрекача, а эти двое сбили его с ног и хорошенько отпинали. Кей терпеливо улыбалась и говорила: — Бобби, в каждой псевдопрофессии, на каждой ступени бюрократической лестницы есть свой птичий язык. — Например? — спрашивал я. — Я служил только в армии да страховой фирме. Это примерно одно и то же. — Возьмем мою область деятельности, — говорила она. — Образование. Недостаток терминологии мы восполняем за счет бесполезного жаргона. Если неуспевающий ученик не умственно отсталый, мы называем его ПОР — Плохо Обучаемый Ребенок. У нас нет специалиста для решения проблемы с посещаемостью — мы даем объявление о найме ПК — Педагога-Координатора — для работы с БУ — Бросившими Учебу. Вместо того чтобы заниматься с малоспособным ребенком, мы составляем детальные ИОПы — Индивидуальные Образовательные Программы для несамостоятельных учеников. А вместо того, чтобы формировать продвинутые группы для одаренных учеников, мы учреждаем ВГО — Вспомогательные Гранты на Обучение. — Ну да, — соглашался я и указывал на экран, где толстого помощника шерифа уже успевала сменить местная новостная ведущая, симпатичная евроазиатка. — Но все-таки копы изъясняются идиотским языком. В общем, Фармер Макдональд перекрывал крышу своего амбара, когда начались события, вылившиеся в вышеупомянутое требование по страховому случаю с автомобилем. Минуточку, скажете вы. Случай с автомобилем? При ремонте амбарной крыши? Погодите. Слушайте. В ту пору я работал на выезде в орегонском офисе «Прери Мидланд». Макдональд владел большим земельным участком в тридцати милях к юго-востоку от Портленда. Помню, шел дождь, когда я выехал на место происшествия снять замеры и показания. В Орегоне моих воспоминаний всегда льет дождь. Итак, мистер Макдональд выполнил примерно треть кровельной работы с северной стороны амбара, а потом забеспокоился из-за возрастающей крутизны крышного ската. Он спустился вниз, нашел длинную веревку, забрался обратно на крышу, обвязал вокруг пояса один конец веревки и полез выше, чтобы привязать другой конец к чему-нибудь прочному. Он решил, что вентиляционная труба гниловата, а громоотводы и флюгеры хлипковаты. Тогда-то он и увидел во дворе у дома Клема, своего великовозрастного сына. Макдональд перекинул ему веревку через конек крыши и велел привязать к чему-нибудь «покрепче», а сам сполз обратно на северный скат, чтобы продолжить работу. Клем весил около двухсот восьмидесяти фунтов и постоянно склабился, когда я брал у него показания. Вне всяких сомнений, Кей отнесла бы малого к категории ПОРов и выдала бы ему самую крутую ИОПу, какую только можно составить для несамостоятельного ученика. Клем был прискорбной неудачей ПК по работе с БУ. Еще ему не мешало бы помыться. Клем привязал веревку двойным узлом внахлест к заднему бамперу пикапа семьдесят пятого года выпуска, припаркованного между задним крыльцом и курятником. Потом вернулся к своим делам. Примерно через девятнадцать минут из дома вышла миссис Макдональд, села в пикап и поехала в город за продуктами. До города она не добралась. Согласно рапорту местного шерифа, «…примерно в двух милях от местожительства Макдональдов на трассе 483 супруге мистера Макдональда подал знак остановиться мистер Флойд Дж. Ховелл, служащий почтовой службы США, который в означенный момент времени ехал рядом с миссис Макдональд, и, используя словесные и несловесные средства общения, успешно довел до сведения последней тот факт, что она тащит за своим автомобилем некий предмет и должна по возможности скорее затормозить у обочины». Моя фирма, «Прери Мидланд», в конечном счете выплатила страховку. В заключительном постановлении судьи учитывался тот бесспорный факт, что в момент происшествия мистер Макдональд был привязан к автомобилю, находившемуся под полной страховой защитой нашей фирмы. Если я правильно помню, постановление также обязывало нас установить на прежнее место вентиляционную трубу, которую Фармер Макдональд снес по пути через крышу. И оплатить расходы на завершение кровельных работ.
Утром было свежо, но ветер улегся, поэтому мы с Кэролайн позавтракали в «Вендисе» и поехали к подножию Пика восемь, где находилась трасса летнего бобслея. — Ух ты, здоровская горка! — Угу. — Правда, жаль, что мамы с нами нет? — М-м-м… — неопределенно промычал я. За месяцы, прошедшие с нашего расставания, я не избавился от желания разделять все новые впечатления с Кей, но привык к ее отсутствию, как привыкаешь к отсутствию зуба. Жалел, что нет рядом: она помогла бы мне придумать, как бы поделикатнее увести Кэролайн подальше от чертова бобслейного спуска. — Прокатимся? — Страшновато, — сказал я. Кэролайн кивнула и с минуту разглядывала горный склон: — Ага, немножко, но Скаут не испугался бы. — Что верно, то верно, — согласился я. Моему сыну понравилось бы, ясное дело. Скаут остался бы в диком восторге, даже если бы кто-нибудь упаковал его в картонную коробку и спихнул с обрыва. — Может, прогуляемся малость, осмотримся вокруг? Они открылись всего полчаса назад, но парковка уже заполнилась на две трети, а у кассовой будки и подъемников выстроились длинные очереди детей и взрослых. Подъемников имелось два: длинный с трехместными креслами, под названием «Колорадский Суперподъемник» или что-то вроде, вел к ресторану «Виста Хаус» на высоте 11 600 футов, а который покороче, двухместный, обслуживал летнюю бобслейную трассу — он тянулся на милю без малого по более крутому участку склона. Начала трассы я не видел за деревьями. Мы уже слышали скрежет тормозов и визги ездоков на последних виражах извилистого бетонного желоба. На длинном обзорном подъемнике почти никого не было, пустые кресла медленно плыли над склоном, похожим в ярком утреннем свете на вздыбленное поле для гольфа. — Пойдем на большой, — предложил я. — С него вид потрясающий. — Ой, нет, я хочу на бобслей. — Вообще моя дочь хныкала гораздо реже любого из шестилетних детей, мне известных, но сейчас говорила плаксивым голосом. — Ладно, давай посмотрим, почем билеты. Мы встали в очередь к кассе. Несмотря на яркое горное солнце, воздух был прохладным, вдобавок поддувал легкий ветерок. Мы с Кэролайн оделись в джинсы и свитера, но большинство народа дрожали в шортах и футболках, словно говоря «бог ты мой, на дворе август, еще лето и мы в отпуске». Над Пиком восемь начинали собираться облака. Билеты стоили четыре доллара для взрослого и два пятьдесят для Кэролайн. Полгода назад, когда ей было пять, она прокатилась бы бесплатно. Я снова взглянул на трассу. Вниз по крутому склону тянулись два извилистых бетонных желоба, огороженные с обеих сторон шаткой жердевой оградой, похожей на бурую зигзагообразную молнию. Начала спуска я не видел, но слышал ездоков, которые мчались на разноцветных роликовых санях по последней трети трассы, высоко взлетая на виражах на стенки желобов. Почти все визжали. — Ну же, пап? — Извиняюсь, задумался, — произнес я, сообразив, что задерживаю очередь. Женщина за стеклом посмотрела на мою десятидолларовую бумажку и сказала: — Если вы собираетесь прокатиться больше одного раза, выгоднее купить пятиразовый билет. — Нет, нам два разовых. — Две поездки для вас за шесть долларов и две за четыре для девочки обойдутся дешевле. — Два разовых билета, — повторил я более резко, чем намеревался. — Это нужно носить вот так, — сказала Кэролайн, надевая на шею эластичный шнурок билета, когда мы двинулись к подъемнику. Мне шнурок был мал и врезался в шею, как удавка палача. Очередь оказалась короче, чем я ожидал. «Прери Мидланд» занималась страхованием повышенных рисков. Наши клиенты платили больше по самым разным причинам: негативная история автотранспортного средства или кредитная история, уголовное прошлое, зарегистрированные ранее случаи вождения в нетрезвом состоянии и прочая, и прочая. В этой стране застраховаться может любой, были бы деньги. Водитель, в пьяном виде протаранивший школьный автобус и угробивший двадцать семь душ, уже на следующий день может получить страховку в «Прери Мидланд» или любой из двадцати компаний и фирмочек вроде нас. Автомобиль — залог процветания этой страны. Мы не вправе позволить потребителю сидеть дома. В первое время после перехода из «Стейт Фарм» в «Прери Мидланд», если я ехал куда-нибудь с Кей и видел алкаша, тихо-мирно блюющего в канаву, или бомжиху, беседующую с небом, я частенько с гордостью говорил: «Вот один из наших. Не иначе направляется на собрание „Менсы“». Я не собирался идти в страховой бизнес. В школе хотел стать комедийным актером, типа стендап-комика. Я заслушивался пластинками раннего Билла Косби и Джонатана Винтерса. Косби тогда был уморительный. Он еще не сменил свой ребячески легкий юмор на глупые ужимки, кривляния и самодовольство, которые теперь я вижу каждый раз, когда натыкаюсь на него в ящике. Джонатан Винтерс был даже лучше, настоящий сумасшедший гений. Иногда мой брат Рик отказывался принимать участие в какой-нибудь дурацкой затее, мной придуманной, — ну там спрыгнуть на велосипедах с пятнадцатифутовой высоты или, скажем, забраться на эстакаду Хендлманн и дождаться, когда четырехчасовой южного направления с пронзительным гудком промчится по дуге верхней эстакады, — и тогда я говорил, точно копируя интонации Джонатана Винтерса: «О'кей, сенатор, возвращайтесь в машину, если наклали в штаны. Я сам уделаю Эйса». В колледже я расхотел становиться комиком, но стать еще кем-нибудь так и не захотел. Изучал курсы гуманитарных наук, участвовал в антивоенных акциях протеста и тратил уйму времени на попытки потрахаться. Во Вьетнаме я изредка задумывался о том, чем стану заниматься по возвращении к нормальной жизни, но о работе страхового оценщика и близко не помышлял. Там меня тоже постоянно одолевали мысли о грехе. Однажды я осознал, что за все шесть месяцев и двенадцать дней моего сокращенного пребывания в недавно почившей — туда ей и дорога — Республике Южный Вьетнам я ни разу не удалялся более чем на семь миль от места первой высадки на авиабазе Тан-Сон-Нхут в пригороде Сайгона. По выражению однополчан, действительно совершавших боевые вылазки в джунгли и ходивших под пулями, я был ШК — Штабной Крысой. Тогда меня это не задевало. Да и сейчас не задевает, хотя порой задумываюсь на сей счет. Вообще-то довольно странно, что я никогда не предполагал заняться автомобильным страхованием, ведь мой отец много лет проработал в этой области. Одно из моих самых ранних воспоминаний о дне, когда он взял меня с собой на очередной выезд для оценки страхового ущерба. Дело происходило в близком пригороде Чикаго, сразу за полосой заповедного леса, но тогда мне казалось — в совершенно дикой местности. Я играл в одной из разбитых машин, пока отец оценивал повреждения другой. Помню, сидел на переднем пассажирском сиденье и листал детскую книжку с картинками, поднятую с пола. «Бэмби». Помню, на странице с рисунком, где маленький Бэмби знакомится с Цветочком, еще не высохло какое-то бурое пятно, и она слегка коробилась. В лобовом стекле прямо передо мной зияло круглое отверстие размером с голову четырех-пятилетнего ребенка, каким я был тогда. В то время думать не думали ни о каких автомобильных ремнях безопасности. Помню, в начале шестидесятых, когда мы с отцом летели куда-то, люди в самолете еще не умели застегивать привязные ремни. Отец купил ремни безопасности для нашего «Крайслера» в магазине Спортивного Автоклуба Соединенных Штатов, и из-за них все держали нас за придурков. Помню, машина с книжкой про Бэмби была марки «Рено». В начале пятидесятых импортные автомобили встречались довольно редко. Этот казался хрупкой игрушкой. Переключатель «поворотников» отвалился, когда я за него подергал. Я не сказал отцу.
Большинство страховых дел, собранных в Оранжевой Папке, — из моей практики, но некоторые присланы другими агентами и оценщиками, знавшими о ней. В год рождения Скаута одним из моих любимых стало страховое требование в связи со случаем на автостоянке супермаркета «Сэйфуэй». Мы с Кей только перебрались из Индианаполиса в Денвер, поближе к ее родителям. Я тогда еще не перешел на должность менеджера по страховым требованиям и все опросы проводил самолично. Назову их мистером и миссис Каспер. Фигурой жена походила на огромный гаубичный снаряд, упакованный в ситцевое платье. Мистер Каспер был высоким костлявым мужчиной в толстых очках, галстуке-бабочке и подтяжках, вошедших в моду лишь десять лет спустя, после фильма «Уолл-стрит». С нервным ртом, длинными беспокойными пальцами и большими икабодкрейновскими ступнями в блестящих «флоршаймовских» туфлях. Супруги вышли из супермаркета «Сэйфуэй» в Литтлтоне, пригороде Денвера, и подошли к машине со стороны водителя, чтобы положить покупки на заднее сиденье своего четырехдверного «Плимута» 78-го года выпуска, застрахованного «Прери Мидланд». Каспер нес два пакета с продуктами. Миссис Каспер отперла водительскую дверь, изнутри разблокировала заднюю и открыла для мужа, не переставая с ним разговаривать. Автостоянка была переполнена. Когда жена открыла дверь, Каспер немного посторонился и встал спиной к своей машине. По воле судьбы, как оно обычно бывает в нашем бизнесе, запаркованный рядом «Форд Бронко» тоже находился под страховым покрытием «Прери Мидланд», хотя наше агентство далеко не из крупных, и на каждую тысячу эксплуатируемых автомобилей приходится лишь один, застрахованный у нас. Временно безработный строительный рабочий тогда не сидел за рулем «Бронко». Не сидел за ним и единственный другой водитель в семье (гражданская жена Каспера), защищенный нашим полисом. Автомобилем управлял — без ведома нашего клиента, по заверению последнего, — его четырнадцатилетний сын Бубба, который безошибочно выбрал именно тот момент, чтобы резко сдать назад и с ревом выехать с парковочного места, прокатившись по Касперовым длинным ступням правыми колесами. Каспер заорал и подбросил в воздух пакеты с продуктами общей стоимостью 86 долларов 46 центов. «Бронко» укатил со стоянки. Испытывая неслабые болевые ощущения, Каспер привалился к своему автомобилю и ухватился обеими руками за дверную стойку, чтоб не упасть. — То, что я сделала дальше, богом клянусь, только от неожиданности, — впоследствии сказала миссис Каспер в своих показаниях. Сделала же она следующее: резко захлопнула заднюю дверь, прищемив пальцы своему гражданскому мужу. В боли нет ничего смешного, но меня душил дикий смех, когда я брал показания у Каспера в маленьком коттедже в Литтлтоне. Обе ноги бедолаги, толсто обмотанные бинтами, покоились на дерматиновом диване. Восемь пальцев на руках в гипсе. Он ни разу не помянул плохим словом водителя «Форда», который спустя шесть дней после происшествия все еще не объявился дома, но безостановочно говорил про жену. «Ну, вернись она только домой, — рычал он, потрясая загипсованными пальцами, — придушу суку!» Я записал все показания, какие сумел, и поспешно удалился. На углу улицы остановился и стоял там, держась за почтовый ящик, пока не прохохотался. Видение Каспера, пытающегося придушить кого-либо растопыренными пальцами-куколками, меня просто доконало.
Кэролайн никогда раньше не каталась на кресельном подъемнике, и при посадке у нас возникла неловкая суета. Всю дорогу я придерживал дочку за плечи. Жующая жвачку девчонка на посадочной площадке не оказала нам никакой помощи, просто промычала что-то невнятное и с размаху повесила двое пластиковых санок на крюки на спинке кресла. Мы ползли на высоте двадцати-тридцати метров над каменистым склоном, часто утыканным бурыми пеньками. Раньше я поднимался по канатной дороге только зимой, когда белые заснеженные склоны внизу производили обманчивое впечатление перинной мягкости. Кэролайн была в восторге: — Как тут тихо! Смотри, пап, бурундук! — Суслик, — поправил я, продолжая обнимать дочку за плечи правой рукой. Бобслейная трасса оказалась длиннее, чем я думал. Внизу мы видели взрослых и детей, которые мчались по желобам на санках, скрежещущих о бетонные стенки. Все они крепко держались за ручку управления, глаза вытаращены, рубашки пузырятся и волосы развеваются на ветру, но особо испуганным никто не казался. Пока мы смотрели, какой-то плотный рыжий мужик стремительно пронесся по трассе, подавшись всем корпусом вперед, устремив перед собой напряженный взгляд, стиснув обеими руками тормозной рычаг, словно летчик-истребитель, пытающийся выйти из пике. На вираже его санки взлетели высоко на стенку желоба и со зловещим стуком ударились о бетонный бортик, словно собираясь улететь с трассы в лощину. Потом синяя тележка из пластика и металла дернулась, затряслась, скатиласьобратно в желоб и через секунду исчезла из виду позади нас. Странное дело, но Кей, выросшая в Колорадо, никогда не вставала на лыжи. Она часто шутила, что дюжина колорадцев, равнодушных к лыжам, зимой еженедельно встречаются в группах взаимной поддержки. Моя бывшая секретарша Гвен выросла в самой равнинной части Индианы, но она обожала кататься на лыжах. Как-то раз, перед уходом с работы в пятницу, Гвен рассказала мне, как умер ее отец. «Мы тогда поехали на длинный уик-энд в Нью-Гемпшир. Папа только что спустился по жутко сложной „двойной черной“ трассе и стоял на лыжах неподалеку от бассейна, гордый как павлин. Вдруг лицо у него сделалось, не знаю, слегка удивленным, что ли, и он поднял очки на лоб, а потом лицо стало серым, как мышиное брюшко, и он начал медленно наклоняться вперед, опираясь на лыжные палки, чуть не коснулся носом снега между носками лыж. А потом — раз, и упал. Мы с Тони — моим тогдашним парнем, он был там с нами — мы с ним заржали. А папа все лежит и лежит. Мы бросились к нему, перевернули на спину, а у него лицо почти черное, язык распух, и он совсем, совсем мертвый. Но как я вечером сказала маме по телефону — по крайней мере он умер счастливым». Я ездил кататься на лыжах с Гвен. Не тогда, а позже. Врал Кей про конференцию в Луисвилле, а сам летел в Вермонт или Юту. Во многих отношениях Гвен была славной девушкой — она горько плакала, когда в аквариуме у нас в приемной сдохла золотая рыбка, — но она явно никогда не нуждалась в Индивидуальных Образовательных Программах для особо одаренных, о которых рассказывала Кей. В конце канатного пути я взял Кэролайн за руку: — Держись, малыш. Подъемник не замедлил хода, а жующая жвачку девчонка на верхней площадке предпочла снимать санки с крюков, чем помогать пассажирам, поэтому мы с Кэролайн неловко спрыгнули сами и быстро отбежали в сторону, чтоб креслом не зацепило. Прислоненные к стене, там стояли в ряд еще санки с написанными фломастером на днищах названиями типа «Скайуокер», «X-15», «Голубая молния». Я выбрал санки с надписью «Славный Поки» и встал в более короткую из двух очередей к трассе. — Одна поеду, а, пап? — В другой раз. — Я сжал руку Кэролайн. Здесь было заметно холоднее, чем внизу. Над склоном горы собирались облака. — Давай попробуем вместе. Кэролайн кивнула и ответила легким пожатием пальцев. Очередь быстро сокращалась.
Едва научившись стоять на ногах, Скаут всегда безбоязненно кидался в пустоту навстречу Кей или мне — в полной уверенности, что мы его подхватим. Кэролайн никогда так не делала. Даже сидя у меня на закорках, она зорко следила, чтобы ее «лошадка» не споткнулась и не упала. Скаут еще младенцем любил, чтобы его подбрасывали повыше и ловили, и я рассмеялся в голос, когда несколько лет назад увидел начальные кадры «Мира по Гарпу». Кэролайн всегда хотела, чтобы ее кутали, обнимали, баюкали… оберегали и защищали. Мы с Кей отказывались считать, что все дело просто в разнице между детьми мужского и женского пола. Мы говорили, что Скаут и Кэролайн просто маленькие личности с разными характерами, но у меня оставались сомнения. В последние два года они усилились.
Хотите верьте, хотите нет, но я точно знаю, как выглядит Смерть. Это грузовик «Пепси» с огромными черными шинами. В то лето, когда я вернулся из Вьетнама, я жил в Индианаполисе и принимал инсулин от диабета, который у меня обнаружили в госпитале на авиабазе Тан-Сон-Нхут и из-за которого демобилизовали на пять месяцев раньше положенного срока. Снимал жилье вместе с тремя парнями — двое из них в прошлом служили санитарами во Вьетнаме, а теперь учились в медицинском колледже, — и наша квартира сильно напоминала съемочную площадку «Военно-полевого госпиталя» — не сериала, а фильма. Мы почти все время ходили в армейских штанах и оливковых футболках, а двое из нас спали на армейских раскладушках. Мы были остроумны, как Дональд Сазерленд, нахальны, как Элиот Гулд, и тесно дружили с выпивкой и травкой. Все четверо водили мотоциклы. Первой дорожной аварией, произошедшей на моих глазах — мне было четыре, и мы выезжали из Чикаго по шоссе 66, — стало смертельное ДТП с участием мотоцикла. Хорошо помню тяжелый глухой стук, с которым мотоциклист врезался в левое заднее крыло «Студебеккера», одновременно с ним вылетевшего на перекресток. С тех пор я не меньше тридцати раз побывал на местах гибели мотоциклистов, прочитал несколько сотен подробных рапортов и сам с полдюжины раз вылетал из седла. Моя первая самостоятельная поездка на мотоцикле закончилась тем, что я впилился в стену автозаправки «Коноко». Все шло нормально, пока я не заехал для разворота на площадку перед автозаправкой, по-прежнему на третьей скорости, и просто забыл, где находится тормозная педаль. Мне было тринадцать. Когда я врезался под углом в стену и грохнулся на бок, из здания автозаправки вышли три старых пердуна и встали надо мной, придавленным бензобаком и погнутым рулем новенькой двухсотпятидесятикубовой машины «Рика». Наконец один из них, с набитым табаком ртом, сплюнул под ноги и проговорил, по-иллинойсски растягивая слова: «Что за дела, малый? Ты что, не умеешь управлять этой хренью?» Но к моменту моей встречи с грузовиком «Пепси» я водил мотоцикл уже много лет. На байке накатал гораздо больше, чем за рулем автомобиля. Еще во Вьетнаме купил «Кавасаки» у одного морпеха, возвращавшегося домой. Итак, однажды в Индианаполисе я ехал на «Хонде-450» моего соседа по квартире, поскольку собственный байк стоял в ремонте, по 38-й улице на запад, в нескольких милях к северу от автодрома. Передо мной шел мини-вэн «Эконолайн» без задних окон. Он прибавил ходу, чтобы проскочить на мигающий зеленый на перекрестке 38-й и Хай-Скул-роуд, а потом сбросил скорость. Я пригнулся к рулю и стал обходить мини-вэн по левому ряду, лихо поддав газу, как вы обычно делаете после нескольких лет уверенной езды на мотоцикле, пока не попали в первую серьезную аварию. Такое впечатление, будто, легко лавируя между всеми этими детройтскими грудами железа в плотном транспортном потоке на городских улицах, мы пытаемся избавиться от чувства неполноценности и уязвимости, которое эти самые груды железа вызывают у нас на скоростной автостраде. В общем, обошел я «Эконолайн» на скорости сорок пять — пятьдесят миль в час — и только тогда понял, почему он сбавил ход. Из-за угла автозаправки «Шелл» выехал грузовик «Пепси» и остановился поперек дороги, выжидая момент, чтобы повернуть на встречную полосу. Громоздкий, как металлический носорог, с белой кабиной и знакомой эмблемой на борту. С высокими кузовными стеллажами, забитыми ящиками. Грузовик занимал весь левый ряд и больше половины правого, остальную часть которого блокировал синий «Шевроле», шедший перед мини-вэном. Последний стоял зеленой стеной справа от меня, а в трех футах слева двигался плотный поток встречного транспорта, и кабина грузовика «Пепси» выдавалась футов на шесть на его полосу. Позади меня с визгом затормозил «Камаро». Обычно в стремных ситуациях вы по возможности аккуратнее заваливаете мотоцикл на бок, готовясь ободраться не по-детски, но надеясь на лучшее. Я всегда, даже в те бесшабашные дни, ездил в шлеме и обычно в коже и берцах, но тогда стояла середина августа, и я был в теннисных тапочках, обрезанных армейских штанах и традиционной оливковой футболке. Днище грузовика казалось страшно низким — глушитель, коробка передач, подножка чуть не до земли, трубки, шланги, кардан и хрен знает что еще. Он тихонько полз вперед — недостаточно быстро, чтобы успеть освободить путь, но так, чтобы я отчетливо представил, как заднее левое сдвоенное колесо перекатывается через то, что останется от меня и «Хонды», когда подлечу под кузов. Во Вьетнаме мы называли такие грузовики «двойками с половиной». Теперь мне предстояло погибнуть под одним из них. Я решил не класть мотоцикл. Кажется, и на тормоз-то надавил не особенно сильно, наверняка даже тормозного следа не оставил. Видел только переднее колесо грузовика — огромное, выше моей макушки. Я рассудил, что оно всяко помягче железа, и направил мотоцикл прямо в него. Конечно, ни о каком линейном мыслительном процессе здесь говорить не приходится. Аварийные ситуации, в которых у вас остается время подумать, это не настоящие аварийные ситуации. Но любой, кто попадал в серьезную передрягу, смотрел Смерти в глаза и умудрялся выжить, помнит кристальную ясность восприятия, сюрреалистичное ощущение времени, внезапно замедлившего ход и растянувшегося до бесконечности. Уверен, что последние мысли в умирающем мозгу жертв ДТП связаны именно с феноменом застывшего времени, почти болезненной резкостью восприятия и безграничным удивлением от происходящего. Смерть в аварии сродни падению в «черную дыру», которое сопровождается замедлением времени, умножением реальностей, растяжением пространства и всем прочим, о чем говорят парни вроде Стивена Хокинга. А еще матерной руганью. Один мой друг, работающий в комиссии по расследованию авиакатастроф при Национальном совете по безопасности транспорта, однажды сказал, что из сотен прослушанных записей бортовых самописцев с потерпевших крушение самолетов лишь несколько не содержали матерного слова на последних секундах. В общем, я с ревом обогнал мини-вэн, увидел грузовик, завопил «твою мать» и впечатался прямо в него. Элизабет Кублер-Росс и прочие упыри красочно описывают нам, как после смерти человек несется по длинному темному тоннелю, видит свет впереди, слышит знакомые голоса и ощущает благотворное тепло. Чушь собачья. Смерть — это грузовик «Пепси», перегородивший дорогу. Бац — и ты чувствуешь себя последним дебилом, когда тебя рывком выкидывает в никуда. Так щенка вытаскивают из ящика за шкирку. Так шахматную фигуру убирает с доски раздраженный игрок. Бац, рывок — и конец. Дик Пеннингтон, один из моих соседей по квартире, как раз дежурил в отделении «Скорой помощи», когда меня привезли, и он сидел рядом, когда я очнулся на следующее утро. «Бобби, — сказал он профессионально ласковым голосом работника методистской больницы, — хреновы твои дела». Оставалось только порадоваться, что дежурил не Курт — сосед, чью «Хонду» я угробил. Сто восемьдесят швов на правой ноге, шестьдесят три на левой. Раздробленный перелом правой руки. Сотрясение мозга. Сломанная ключица. Когда через несколько недель мы с Кей познакомились на концерте Саймона и Гарфанкела, произошло это потому, что она сидела за мной и ни черта не видела из-за гипсовых шин, распорок и повязок. Пару лет спустя, когда я обсуждал с ней полезность закона об обязательном ношении мотоциклетного шлема, Кей немало удивила меня заявлением, что мотоциклистам вообще следовало бы разрешить ездить без шлемов и прочей защитной экипировки. Обычно Кей твердо стояла на нейдеровских позициях по подобным вопросам, ну и я, естественно, спросил, почему вдруг. «А чтобы очистить генофонд от придурков, — ответила она почти без улыбки. — В цивилизованном обществе мотоциклы — один из основных факторов естественного отбора». Я по-прежнему езжу на мотоцикле время от времени. Но я никогда не возил на нем Скаута, и мне даже в голову не пришло бы посадить на него Кэролайн.
Паренек, работавший на стартовой площадке, жвачку не жевал, но слегка двигал челюстями с приоткрытым ртом, словно тренируясь. — Вдвоем поедете? — спросил он с нотками неодобрения в голосе. — Да. — Я уже установил санки в желоб, уселся на них сам и теперь усаживал Кэролайн между коленей. Предыдущие санки успели скрыться за поворотом трассы, и подростки позади нас нетерпеливо переминались с ноги на ногу. — О'кей, спускались раньше? — спросил паренек и не стал дожидаться ответа. — Ладно, тянем на себя рычажок — проверяем тормоз… ага, отлично, значит, так, даете от себя — ускоряетесь, тянете на себя — замедляетесь, не врежьтесь во впередиидущие санки, после полной остановки внизу сразу же выгружайтесь. О'кей? Пошел! — Он хлопнул меня по спине. Кэролайн удобно сидела в кольце моих ног и рук, ее ладошки лежали на рукоятке управления, под моими ладонями. Мы покатились вперед и вниз.
Множество дорожных аварий происходит из-за излишней осторожности водителей. Одно из моих первых «оранжевопапочных» дел относится ко времени, когда я только-только пришел в страхование и работал на «Стейт Фарм» в Индианаполисе. Кей тогда все еще занималась преподаванием и работала в средней школе в Браунсберге, маленьком городке милях в десяти от Индианаполиса, а я катался по всему штату, осматривая битые автомобили. Бог мой, мы были счастливы невесть почему. Упомянутый страховой случай произошел у развязки федеральных автострад 70 и 465/74, неподалеку от аэропорта. Черт с ним, назову их настоящие имена — Джонсоны. Мистер и миссис Джонсон вышли на пенсию рано, чтобы осуществить давнюю мечту и попутешествовать год-два по Америке, прежде чем обосноваться во Флориде или еще где-нибудь. Они взяли с собой восьмидесятиоднолетнюю мать мистера Джонсона, решив, что, когда настанет время сдать старушку в дом престарелых, просто оставят ее в каком-нибудь приличном заведении, а сами покатят дальше. Проблема в том, что мистер Джонсон и миссис Джонсон оба не любили водить автомобиль и за последние десять с лишним лет ни разу не отъезжали дальше чем на двадцать пять миль от своего опрятного коттеджика в пригороде. Они купили серьезную технику для путешествия — самый большой из выпускавшихся тогда жилых трейлеров и пикап «ДжиЭм», который дотащил бы и шеститонку до Луны и обратно. Позже миссис Джонсон сказала мне, что они купили бы полноразмерный «дом на колесах», но в демонстрационном зале автосалона он показался «слишком огромным и мощным». В общем, отказались от лабрадора в пользу питбуля. Они так и не успели испытать новый автомобиль на мощность. Когда я осматривал прибуксированный пикап «ДжиЭм», счетчик у него показывал 8,9 мили, причем 7,5 из них накрутил доставщик из автосалона. Въезд на автостраду 465 находился в 1,4 мили от дома Джонсонов. За рулем сидел мистер Джонсон, и все шло чин чинарем, пока он не доехал до пандуса развязки и не остановился там. Миссис Джонсон, следившая за дорогой с переднего пассажирского сиденья, сказала «можно ехать». Мистер Джонсон не тронулся с места. Он сомневался в точности правого бокового зеркала и боялся пережать акселератор. Управлять пикапом труднее, чем старым «Фордом Краун Виктория». В общем, Джонсоны со своим новым трейлером стояли у подножия пандуса, а на трассе позади них начал скапливаться транспорт, и образовалась пробка до самой Моррис-стрит. Машины принялись громко сигналить. Мистер Джонсон впоследствии признался, что весь взмок от нервов, аж новенькая рубашка из «Пенни» к спине прилипла. — Сейчас! — воскликнула миссис Джонсон. Она имела в виду, как она пояснила впоследствии, что вот прокатит очередная волна транспорта и на дороге станет посвободнее. Мистер Джонсон не стал слушать дальше. Не взглянув в зеркала, он дернулся с места, заглох, снова завелся и вырулил в транспортный поток на скорости, составлявшей от семи до девяти миль в час, как впоследствии установили сотрудники дорожной полиции штата Индиана. По меньшей мере три машины в крайней левой полосе автострады сумели перестроиться в другой ряд. Две из них задели минимум три другие машины, что вызвало цепную реакцию легких столкновений, но это к делу не относится, поскольку ни один из этих автомобилей не был застрахован в «Стейт Фарм». У последнего в транспортной волне автомобиля не оставалось ни времени, ни места, чтобы перестроиться. Это была восемнадцатиколесная фура, арендованная фирмой «Мундил и Ко Инкорпорейтед» из Сагино. Каждый раз, когда я слышал на аудиозаписи показаний голос мистера Джонсона, произносящий «этот чертов дальнобойщик Мундила», мне мерещилось другое слово. Дальнобойщик «Мундила», просидевший за рулем уже девять часов, шел на скорости около семидесяти пяти миль, когда вдруг увидел пикап с огромным трейлером, выползающий на дорогу впереди. «Чертов сундук на колесах вильнул и чуть ли не остановился посреди дороги, — сказал он впоследствии. — Я видал полных паралитиков, которые передвигаются быстрее, чем тащился этот старый пердун». Полоса справа от фуры была забита въезжающими друг в друга автомобилями. По левой сплошняком шел транспорт, выворачивающий на автостраду следом за Джонсонами. Дальнобойщик сделал все возможное: ушел вправо настолько далеко, насколько мог без риска ударить «Вольво-78», и отчаянно засигналил. Ревущие гудки фуры оказали магическое действие. Мистер Джонсон ударил по тормозам и встал как вкопанный. Миссис Джонсон завизжала. Сам тягач не задел трейлер Джонсонов, лишь снес правое боковое зеркало. А прицеп почти не задел. Там был вопрос нескольких дюймов. Дорожный патрульный, с которым я после рабочего дня пропустил рюмашку в баре «911» на Вашингтон-стрит, сказал мне: «Фура вспорола трейлер, как хороший консервный нож вспарывает банку тунца. В жизни не видал такого хирургического мастерства на дороге». Джонсоны испытали сильный шок, но никак не пострадали. Они услышали странный звук, «похожий на скрежет гигантского консервного ножа», по выражению миссис Джонсон, почувствовали сильный толчок и повернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как справа от них проносится фура и часть их собственного трейлера. «Тогда-то я и вспомнил про маму», — сказал впоследствии мистер Джонсон. Закон штата Индиана запрещает перевозить пассажиров в прицепном транспортном средстве с жилым кузовом. Джонсоны сказали, что не знали этого. Знали только, что у мамы болела голова и она собиралась проспать первые несколько часов путешествия. И еще что они выложили тридцать две штуки вовсе не для того, чтобы мама просидела с ними в машине всю дорогу. Мама не сидела с ними в машине. Она не лежала ни на одной из четырех кроватей трейлера, не отдыхала на диванчике в обеденной зоне или на одном из задних сидений. Мама выбрала именно этот момент, чтобы воспользоваться туалетом. Трейлеры данной марки оборудовались биотуалетами в автономных металлических кабинках, которые устанавливались в правом заднем углу трейлера на последнем этапе сборки. «Этот чертов сортир вылетел оттуда только так, — сказал мне патрульный в баре „911“. — Внутри одна дверь осталась. От удара грузовика кабинка завертелась чисто гироскоп, с какими мой ребятенок обычно играет в Рождество». — Мама, — произнес мистер Джонсон, когда туалетная кабинка с престарелой миссис Джонсон, кружась волчком, пронеслась мимо на скорости, лишь немного уступавшей скорости фуры, как было установлено впоследствии. Позже водитель «Вольво-78» сказал: «Я разглядел две тощие белые ноги, горизонтально торчащие оттуда. Кажется, на них были пушистые розовые шлепанцы, но точно не скажу. Я видел только бело-розовое мельканье, когда эта штуковина проскакала по дороге». Двести восемьдесят шесть футов. Это не преувеличение — я самолично измерял расстояние дорожным курвиметром. Один из дорожных полицейских шел рядом со мной, измеряя дистанцию в шагах, пока его напарник перекрывал путь транспорту. Еще долгое время патрульные машины останавливались на разделительной полосе в том месте федеральной автострады 465, и история Джонсонов рассказывалась очередному слушателю. Какое постановление вынесли по страховому требованию Джонсонов, я не знаю, поскольку вскоре мы переехали в Денвер. Мне известно лишь, что транспортная контора дальнобойщика подала в суд на «Стейт Фарм», мы подали в суд на них, владельцы нескольких пострадавших автомобилей подали в суд на Джонсонов, мистер и миссис Джонсон подали в суд на дальнобойщика, а мама — и это самый блеск — подала в суд на сына и невестку с требованием возместить не только расходы на лечение сломанного бедра и ушибленных ребер, но и моральный ущерб «за оставление в потенциально опасной ситуации и тяжелые моральные страдания, причиненные публичным унижением». Думаю, судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
Мы с Кэролайн спускались по трассе на минимально возможной скорости — но она все равно казалась высокой. Почти на всем протяжении пути крутизна склона составляла сорок градусов, если не больше, и на прямых участках мы разгонялись миль до тридцати. В автомобиле такую скорость даже не замечаешь, но ощущаешь всем нутром, когда мчишься с горы под открытым небом и твоя задница находится всего в паре дюймов от бетона. Подростки позади орали нам прибавить ходу. Я проигнорировал требование и сосредоточился на стараниях затормозить перед очередным поворотом таким образом, чтобы на вираже не заезжать слишком высоко на стенку желоба. — Ну как, нравится? — прокричал я сквозь шум ветра и грохот роликов по бетону. — Очень! — крикнула Кэролайн в ответ. Ее волосы развевались, щекоча мне подбородок. Последние несколько виражей, потом крутизна спуска стала уменьшаться, деревья остались позади — и мы затормозили на длинном горизонтальном участке трассы у подножия склона. Я высадил Кэролайн, неуклюже поднялся на ноги и вытащил громоздкие санки из желоба. Подростки прокатили мимо, недовольно ворча. — Давай еще раз, пап! Пожалуйста! — попросила Кэролайн. — Ни в коем случае, — отрезал я. Главное, знать, когда и где проявлять твердость. — Шесть пятьдесят, пожалуйста, — сказала женщина в кассовом окошке. — Я ж говорила, что двухразовый билет за десять долларов обойдется вам дешевле.
Мертвые тела хранились в СТИ-1, складе технического имущества авиабазы Тан-Сон-Нхут. У нас имелся морг и еще один холодильный контейнер рядом с главным ангаром, но именно в СТИ-1 тела ждали отправки домой после оформления всех документов. Некоторые придурки в нашем батальоне называли склад Хилтоном для ЗСЗР (Завершивших Службу в Заморских Районах) или Спецотстойником для Тупых Идиотов-1. Многие молодые ребята, на которых я оформлял бумаги для отправки на родину из Вьетнама, погибали в результате несчастных случаев. Часть из них связана с боевыми походами и оружием, но большинство — с джипами, тяжелой техникой или чертовыми мопедами, заполонявшими Сайгон и окрестности. «Прери Мидланд» сильно поднялась бы, продавая страховые полисы во Вьетнаме. Помню, раз меня вызвали из трейлера, служившего офисом, взглянуть на останки одного парнишки, который, болтаясь без дела с приятелями, решил изобразить, как он подрывает бронетранспортер АРВ. Он упал на живот и засунул воображаемую связку гранат между гусеничными колесами проезжавшего мимо бронетранспортера. По словам его товарища, они видели такую штуку в фильме «Рейнджеры Дэрби». Сидевший за рулем вьетнамец вдруг озверел. Семитонная бронированная машина дала задний ход и переехала молодого сержанта. На твердом асфальте, не на рыхлой земле. Я не стал смотреть на тело, но помню, что пластиковый мешок казался пустым, как моя дорожная сумка, если туда положить только штаны да рубашку. Позже, заполняя на него бумаги, я обратил внимание, что парнишку отправляют в Принсвилль, штат Иллинойс, маленький городок всего в паре миль от Элмвуда, где мы жили после переезда из Чикаго. Именно в Элмвуде я впервые по-настоящему осознал, что когда-нибудь умру. Произошло это одним субботним вечером в самом конце августа 1960 года, за несколько дней до начала школьных занятий. Мне было двенадцать, я шел в седьмой класс и забыл пройти «медосмотр для поступления в среднюю школу», хотя таковая представляла собой всего-навсего несколько новых учебных аудиторий, присоединенных к начальной школе, куда я ходил раньше. Однако без медосмотра к занятиям не допускали. Понятия не имею, почему единственный в городе доктор согласился принять меня в субботу вечером, но он согласился. Странное было время. Врачи даже ходили на дом к больным. Упомянутый доктор два года назад бежал из Венгрии. Он отлично вписался в жизнь Элмвуда, разве только одевался экстравагантно, пах очень странно, носил несусветную прическу, выглядел из ряда вон и говорил с таким акцентом, что фиг поймешь. Вдобавок был мерзким ублюдком. Он носил имя доктор Злотан, но все дети в городе звали его доктор Злыдень. Помню, он сделал мне несколько прививок — старым многоразовым шприцем с тупыми иглами, которые потом отправились обратно в стерилизатор. Подозреваю, доктор Злотан использовал иглы до тех пор, пока они не затуплялись настолько, что уже и кожу не протыкали. В общем, я спешил в Мемориальный парк на бесплатный киносеанс. Единственный элмвудский кинотеатр — с залом на сорок шесть мест — летом не работал, поскольку Дон и Диди Эвалты, владельцы, всегда уезжали на лето в свой домик на озере Биг-Пайн в Миннесоте. Но их сын Хармон — хотя он был успешным дантистом в Пеории, находившейся почти в часе езды от нашего городка, — завел традицию приезжать с 16-миллиметровым проектором и новыми фильмами и бесплатно показывать кино на белом полотняном экране, натянутом над эстрадой в Мемориальном парке. Зрители сидели семьями на расстеленных на траве покрывалах или в автомобилях, припаркованных у тротуара, и смотреть фильмы в такой обстановке бесконечно приятнее, чем в маленьком кинотеатре Эвалтов. То был последний летний бесплатный сеанс, и я бежал в парк после медосмотра, уколов и всего прочего, когда мне вдруг стало ясно, что я умру. Не сейчас. Не сегодня вечером. Но когда-нибудь. Неминуемо. Безвозвратно. У меня перехватило дыхание, как от удара под дых. Я резко остановился, попятился и уселся на каменный поребрик между газоном и тротуаром на Третьей улице. Я слышал звуковую дорожку мультфильма, который показывали в квартале отсюда. Смерть реальна. Она неизбежна. Мы все знаем это и притворяемся, будто миримся, но по-настоящему никто в это не верит. Я не верю. Мы гоним мысли о смерти прочь, как гоним прочь мысли о предстоящем походе к дантисту или о возвращении в школу после летних месяцев свободы. Что-то произойдет, и ситуация изменится… визит к дантисту отложится по каким-нибудь причинам… будут еще другие каникулы. Но смерть реальна и неизбежна. Я опустил голову к самым коленям, уставился на тенниски и попытался продохнуть. Один из дней такой же точно недели, сквозь которую я беспечно шагаю сейчас, однажды станет тем самым днем. Днем моей смерти. Это непременно будет один из этих вот семи дней. Но какой? Суббота? Умирать в субботу казалось неправильным и нелепым. Воскресенье? Понедельник? Вторник? Среда? Среда… моя любимая телепрограмма «Человек в космосе» с Уильямом Ландиганом выходила по средам вечером. Четверг? Пятница? Склад технического имущества и штаб нашего батальона находились на одной стороне летного поля, а гражданские и военные терминалы — на другой. «Геркулесы» внешних рейсов выруливали из главного ангара к взлетной полосе, а оттуда выворачивали к нашей стороне поля, где принимали на борт груз. В складе всегда стояла страшная жара. Хотя цинковые контейнеры считались герметично закрытыми, в воздухе там всегда висел сладковатый запах разложения. Он вызывал у меня в памяти мусоровоз, вечерами проезжавший по улицам Элмвуда. Спустя много лет я начал думать о Вьетнаме в терминах ДТП. Скажем, США были «Фордом Фарлайн» или «Бьюиком Регал», а Вьетнам — стеной или деревом, оказавшимися на пути, когда водитель отвлекся. А возможно, то была «пьяная авария». Кто знает? Легкие повреждения. Черт, да ведь всем известно, что каждый год на дорогах Америки погибает столько человек, сколько мы при всем старании сумели положить за неполных десять лет во Вьетнаме. Только никто не воздвигает черные стелы в память о жертвах ДТП. И не стаскивает все тела в один склад. Тем вечером в Элмвуде, за двенадцать лет до СТИ-1, я сидел на каменном поребрике, пока не прошло давящее ощущение в области солнечного сплетения. Но чувство, что что-то во мне бесповоротно изменилось, так никуда и не исчезло. Наконец я встал, отряхнул джинсы, потер ноющие от уколов предплечья и уже не побежал, а пошел в парк, на последний бесплатный киносеанс лета.
Когда мы поднимались по канатной дороге во второй раз, Кэролайн спросила: — Пап, ты веришь в Бога? — М-м-м? — Я наблюдал, как над Пиком восемь сгущаются и быстро разрастаются темные кучевые облака. — Ты веришь в Бога? Мама, по-моему, не верит, а вот Кэрри с нашей улицы верит. Я откашлялся. Последние несколько лет со страхом ждал этого вопроса и так основательно к нему подготовился, что полный ответ в напечатанном виде мог бы послужить учебным планом для семестрового курса философии, совмещенного со сравнительным курсом религиоведения. — Нет, пожалуй, не верю. Кэролайн кивнула. Наш подъем подходил к концу. — Я тоже… по крайней мере в такого Бога, про какого Кэрри рассказывает. Но иногда думаю об этом. — О Боге? — Не совсем. Думаю, что вот если Бога нет, значит, и царства небесного нет, а если нет царства небесного — тогда где сейчас Скаут? Мы приближались к верхней площадке. Мальчишка-служащий увлеченно болтал с двумя девчонками-служащими. — Ну, давай руку, — сказал я, когда подошел ответственный момент. — Держись крепче.
В этом случае никакого страхового требования не было, но давайте не будем менять манеру повествования. Назовем их Семейством Икс. Мистер и миссис Икс, сын пяти с половиной лет и дочь, которой еще не исполнилось четырех. Переезд из Индианаполиса в Орегон открывал перед мистером и миссис Икс самые приятные перспективы. Отец семейства, не один год проработавший на крупную компанию, решил стать независимым страховым оценщиком. Мать получила очередную степень и теперь собиралась преподавать в местном колледже, а не в школе. Дети радовались огромному двору, близости леса и озера, скорому знакомству с новыми друзьями — всему, чему радуются дети. Новый дом находился в городке Лейк-Освего под Портлендом. И дом, и городок были очаровательные. Благоустроенный двор с пышной тропической растительностью казался райским уголком после нескольких лет жизни в колорадской полупустыне. За домом стояла хозяйственная постройка, где мистер Икс намеревался устроить офис. Он так никогда ею и не воспользовался. Как всегда в таких случаях, отмена одного из сотни мелких решений предотвратила бы несчастье. Как всегда в таких случаях, этого не произошло. Мистер Икс был занят с грузчиками, заносившими мебель в дом, но между делом разрешил детям поиграть в садике на заднем дворе, только велел держаться подальше от грузового фургона. Миссис Икс находилась в спальне в дальнем конце дома, следила за распаковкой вещей. Впоследствии она сказала, что была уверена, что дети играют на переднем дворе. В предыдущую ходку один из грузчиков вытащил из фургона новый велосипед маленького сына мистера и миссис Икс и оставил возле крыльца. Мальчику совсем недавно купили «двадцатидюймовый» велик, потому что из «шестнадцатидюймового» он вырос. Мальчик был прирожденным гонщиком. Друзья говорили, что глаза и волосы у него отцовские. Но безрассудная отвага — собственная. Дети вышли из садика, и мальчик увидел новенький двухколесный велик, стоящий за крыльцом. Он бросился к нему, и в тот же момент водитель сдал фургон назад — всего на ярд-полтора, — чтобы удобнее выгружать и заносить пианино. Я выбежал из дома на пронзительный визг Кэролайн и в первый момент решил, что что-то стряслось с шофером — он стоял на коленях сбоку от грузовика и рыдал почти истерически. Кэролайн к тому времени уже умолкла, но я посмотрел в направлении ее взгляда, полного ужаса, и увидел, что произошло. Грузовик не переехал Скаута, лишь слегка задел задним бортом — во всяком случае, мне так показалось поначалу, пока я не нащупал под волосами в основании черепа до жути мягкую впадину. Ничего не соображая, поднял сына с земли, повернулся к дому, потом развернулся кругом, будто собираясь броситься за ворота и бежать с ним на руках до самой больницы. Я держал Скаута на руках, когда Кей подбежала, увидела, насколько все серьезно, кинулась обратно в дом звонить в службу спасения, потом вышла обратно и стала убирать волосы с его лица, а я все стоял на одном месте. Я все еще держал Скаута на руках, качал, баюкал, когда приехала «Скорая помощь». Помню, в какой-то момент Кей обняла за плечи шофера, словно в утешении нуждался он. На секунду я возненавидел ее за это. До сих пор ненавижу. Позже страховщик фирмы-перевозчика предложил компенсацию наличными. Деньги перешли из рук в руки. Как будто это имело значение.
— Можно я одна спущусь? — Не знаю, малыш. Когда сани разгоняются, нужно очень сильно тянуть ручку на себя, чтобы притормозить. Не уверен, что у тебя получится. — Ну пожалуйста, пап. Я тихонько поеду. — Погоди, дай подумать, Кэролайн. — Давайте поживее, а? — крикнул паренек на стартовой площадке. За нами никого не было. Я только сейчас заметил, что подъемник перестал подвозить наверх людей — вероятно, из-за темных туч, нависших над горой. — Па-ап? — Ну ладно. Я усадил Кэролайн в синие санки — она казалась очень маленькой в них, — потом установил в желоб оранжевые санки и уселся сам. Паренек скучным голосом отбарабанил инструкцию и хлопнул Кэролайн по спине. Она разок оглянулась на меня и тронулась вниз по крутому скату. Я запоздало сообразил, что мне следовало ехать первым, чтобы притормозить ее санки, если вдруг она потеряет управление. С громко стучащим сердцем я подался вперед и покатился следом.
В клинике мне почти каждую ночь снился один и тот же сон. Возможно, из-за лекарств. Мне снилось, будто я веду урок геометрии и что-то объясняю ученикам, показывая на рисунок, начерченный на красной стене. Рисунок перевернутого конуса. Указываю на круглое основание, находящееся вверху. «Диаметр круга выражается числом потенциальных возможностей, — говорю я. — Длина окружности выражается числом доступных вариантов выбора. В момент рождения человека оба числа практически бесконечны». Рисую указкой нисходящую спираль на стенке конуса. «Представьте, что по вертикали отложено время, а длины уменьшающихся окружностей соотносятся с числом доступных вариантов выбора. Видится очевидным, что с течением времени и увеличением количества сделанных выборов исключается почти бесконечное количество альтернативных выборов». Кончик указки продолжает спускаться по спирали вниз. «Прошу обратить внимание, — продолжаю, — как в результате нисходящего движения по времени и сокращения числа доступных вариантов выбора человек оказывается здесь. — Я стучу указкой по точке в вершине перевернутого конуса. — Оставшееся время — ноль. Оставшиеся варианты выбора — ноль. Потенциальные возможности — ноль. — Делаю паузу. — Это схема человеческой жизни». Ученики кивают и сосредоточенно пишут в тетрадях. Все ученики — это Скаут. Все до единого.
Кэролайн не особо усердствует с тормозами. Мы катимся гораздо быстрее, чем в первый раз. Я кричу ей сбросить скорость. Где-то позади сверкает молния. Из-за грохота наших саней треск грома почти не слышен. Я пытаюсь догнать Кэролайн. Она едет слишком быстро.
Многие необъяснимые смертельные ДТП с участием одного автомобиля — это самоубийства. В полицейских рапортах пишут, что водитель потерял управление «по непонятной причине» или «предположительно из-за насекомого, залетевшего в салон», но я подозреваю, что чаще всего дело просто в сочетании высокой скорости, бетонной стены впереди и внезапного осознания представившейся возможности. Убийства тоже не редкость. Немало кровавых автокатастроф, которыми занималась «Прери Мидланд», являлись недоказанными транспортными убийствами. Моим последним делом в Орегоне стало дело одной женщины, которая проследила за мужем до дома любовницы, прождала там всю ночь, а потом поехала за ним на работу. Когда он вышел из здания в обеденный перерыв, она с ревом пронеслась на своем «Таурусе-87» через парковку и улицу с двухполосным движением, намереваясь переехать изменника. У мужа оказалась на удивление хорошая реакция. Он увидел летящий автомобиль и отскочил назад во вращающиеся двери. Жена не успела затормозить, и «Таурус» на полном ходу врезался в стену. Ни наш клиент, ни его жена не пострадали. В суд подал сорокашестилетний программист, работавший в подвальном офисе. Один кирпич из разрушенной стены пробил звукоизолирующую плитку и долбанул программиста прямо в лоб. Мужик потребовал компенсацию в размере 1,2 миллиона. Если разбирательство будет происходить в присутствии присяжных, он наверняка получит изрядную часть запрошенной суммы. Те, кто говорит, что Америка никогда не станет социалистической страной, упускают из внимания тот факт, что наша судебная система уже нашла способ перераспределения богатства. Первые несколько месяцев все было терпимо — по крайней мере Кэролайн нуждалась во мне, когда с плачем просыпалась по ночам, — но в конце концов я понял, что мне надо уйти. Я провожал Кэролайн в школу по утрам, хотя больше не жил дома. Иногда я сидел в парке напротив школы и смотрел на окна ее класса, пытаясь разглядеть знакомую макушку. Каждый день я встречал Кэролайн после уроков и отвозил домой, а позже вечером приезжал на машине и наблюдал за домом с противоположной стороны улицы. Иногда я возвращался и оставался с ними на несколько дней, на неделю, но я понимал, что не могу по-настоящему защитить их, пока нахожусь там. Чтобы видеть ситуацию, нужно находиться в стороне — рядом, но в стороне.
Мы с Кэролайн одни на бобслейной трассе. Она не притормаживает, и я изо всех сил стараюсь догнать ее. На самом деле я ничем не смогу помочь, случись что. Мы на разных санках. Но если она перевернется, если вылетит с трассы на вираже, я должен быть рядом, чтобы последовать за ней. Кэролайн оглядывается, когда мы выносимся из рощицы осиновых деревьев с мерцающими на фоне черного неба листьями. Я кричу ей притормозить, хотя знаю, что мои слова теряются в шуме ветра.
Незадолго до того, как мне все стало предельно ясно, я пошел с Кей на преподавательскую вечеринку. Всегда недолюбливал ее коллег по школе, а по колледжу просто на дух не переносил. Тем вечером какой-то придурок в уставной форме — то есть твидовом пиджаке с кожаными заплатками на локтях — спросил меня, чем я занимаюсь, и я ответил: «Энтропией». — Интересно, — сказал придурок, поправляя старушечьи очки. — Я преподаю физику. Возможно, у нас есть общие интересы. — Вряд ли. — Я уже успел выпить несколько двойных виски, но не чувствовал ни малейшего опьянения. — Меня занимает только полночный час, когда энтропия бодрствует. К нашему разговору без приглашения присоединился второй придурок, в котором я смутно опознал заведующего кафедрой, где работала Кей. — Какая интересная фраза! — Его акцент наводил на мысль о бруклинце, много лет прожившем в Лондоне. — Ваша? — Нет, — сказал я, радуясь возможности уличить собеседников в невежестве. — Шекспира. — Эту фразу слышал в какой-то шекспировской пьесе, на которую ходил еще в колледже, и она врезалась в память. Был уверен, что это Шекспир. — О, сомневаюсь, — с вежливым смехом сказал придурок номер два. — Да сомневайтесь на здоровье, — выпалил я, внезапно разозлившись. — Если вы не знаете классику — ничем не могу вам помочь. Физик снова поправил очки. Его голос звучал мягко, но явственно различались нотки превосходства: — Фраза хороша, но едва ли принадлежит Шекспиру. В шестнадцатом веке понятия «энтропия» еще не существовало. — Может, там было другое слово? — спросил придурок с кафедры английской литературы. — Или другой драматург? — добавил физик. — Это Шекспир, — сказал я, пытаясь придумать какое-нибудь по-настоящему остроумное — на университетском уровне — убийственное замечание напоследок. Но удовольствовался тем, что швырнул на пол стакан с виски и стремительно вышел прочь. Около четырех месяцев я провел за чтением шекспировских пьес. Начал с «Гамлета» и «Макбета», которые проходил по литературе в колледже и видел в театре, а потом стал читать остальные. Почти во всех так называемых комедиях содержались трагические эпизоды, а в самых страшных трагедиях — эпизоды явно комические, пускай сколь угодно короткие. Наконец я нашел. Строчка была из «Короля Генриха IV», часть 1, акт II, сцена 4. Только она гласила: «Зачем же почтенная старость бодрствует в полночный час?» (What doth gravity out of his bed at midnight?) «Ну и черт с ним», — решил я, постаравшись настроиться на философский лад.
Мы почти на середине трассы, а Кэролайн даже не думает тормозить. Мы взлетаем высоко на стенку желоба на поворотах, с грохотом скатываемся вниз на выходе из них, потом взлетаем еще выше на более крутых виражах. Все равно что катиться на тобогане по бетону. Наша скорость возрастает по мере спуска. Я с ужасом думаю о последнем участке трассы.
Оранжевая Папка появилась в Индианаполисе, когда я искал, куда положить дело Джонсонов и несколько других дел, которые вел тогда. Какая-то временная секретарша — кажется, Гвен — заказала в контору дурацкие оранжевые папки, и я вытащил одну такую из мусорной корзины и положил к себе в стол. Теперь она очень толстая. Две недели назад — еще до того, как я уехал из Орегона, чтобы попробовать начать все сначала в Колорадо, — два автомобиля ехали навстречу друг другу по узкой дороге вдоль побережья. Сгущался туман. Разделительная разметка отсутствовала. Водитель «БМВ-88», следующего в южном направлении, опустил окно и высунул голову наружу, чтобы лучше видеть дорогу, а водитель «Ауди-87», следующего в северном направлении, решил сделать то же самое… На прошлой неделе Том занес мне дело дантиста по имени доктор Болт, который в обеденный перерыв поехал прокатиться с любовницей на своем новеньком «Ягуаре» с откидным верхом и кожаным салоном… Черт. Большинство дорожных аварий похожи на ту, что едва не произошла на наших с Кэролайн глазах вчера. Осколки стекла, сверкающие в свете фар. Разбросанные по откосу вещи. Тела, накрытые простынями, или все еще зажатые в груде искореженного металла, или лежащие в бурьяне с неестественно вывернутыми конечностями. Гораздо больше крови, чем можно представить. В случае со Скаутом крови почти не было. Поэтому я продолжал надеяться, что все обойдется, даже когда он начал остывать у меня на руках.
Кэролайн катится очень, очень быстро, но я тяжелее, а потому в конце концов догоняю и иду вплотную за ней. Она предельно сосредоточена на своих действиях, захвачена головокружительнойрадостью управляемой скорости. Она вся собирается перед очередным поворотом. Когда мы проходим вираж, наши санки разделяют лишь несколько дюймов, и я вижу, что Кэролайн улыбается, с разрумянившимися щеками.
Несчастные случаи — как смерть. Они подстерегают нас повсюду. Они неотвратимы. Неизбежны. Какие планы ни строй, они их разрушат. Но я начинаю видеть разницу между гравитацией и энтропией. Все случаи, собранные в Оранжевой Папке, — правда, но сама Оранжевая Папка — ложь. Моя ложь. — Привет, па! — Кэролайн оглядывается через плечо и машет рукой, а потом снова сосредоточивает все свое внимание на тормозном рычажке и готовится к следующей серии виражей. Я уже давно не видел дочку такой счастливой. Машу в ответ, когда она уже не смотрит, и слегка притормаживаю. Расстояние между нашими санками увеличивается.
Кучка безмозглых фундаменталистов пикетировала среднюю школу рядом с домом, где живут Кей и Кэролайн. Где, возможно, скоро буду жить и я. В прошлом году они выступали против приема на работу «гуманитариев-атеистов». В этом устроили пикет, поскольку один из учителей-естественников, твердо уверовавший в истинность науки, заявил детям, мол, все исследования свидетельствуют, что жизнь на Земле зародилась случайно, что если взять котелок с «первичным бульоном» и хорошенько взболтать, хорошенько потрясти, даже хорошенько заморозить, вы получите органические вещества. Позвольте органическим веществам достаточно долго претерпевать различные случайные воздействия, и вы получите Жизнь. Жизнь с большой буквы «Ж». Фундаменталистов оскорбляло предположение, что такая священная и важная вещь, как Жизнь, может оказаться случайностью. Они хотят видеть в ней результат сознательной воли, план, схему, простой, стройный, тщательно разработанный и доступный пониманию проект, созданный божеством, которое, как отец Кей, рассчитает все допуски с коэффициентом запаса прочности пять или десять. Ладно, черт с ними. Случайности происходят. Мы — одна из них. Но наша любовь друг к другу не случайна. Как и радость дней, проведенных вместе. И наша забота друг о друге. И страх при мысли о всевозможных острых углах, когда наши дети начинают ходить. Но иногда нам приходится быть отважными, как Скаут, и очертя голову бросаться в пустоту — зная, что любимый человек поймает нас, если сможет.
Кэролайн ушла далеко вперед. Она стремительно проходит виражи, с грохотом проносится по прямым участкам трассы, и ее желтый свитер кажется очень ярким. Я тяну тормозную ручку на себя и продолжаю спуск на спокойной скорости, отвечающей моему настроению. Хочу посмотреть по сторонам, полюбоваться проплывающими мимо пейзажами. Возможно, я больше никогда не вернусь на эту гору. Издалека до меня доносится счастливый смех Кэролайн, и у меня вдруг болезненно распирает грудь от чувства любви. Ничего не имею против такой боли. Мы опередили грозу, но я слышу рокот грома, и на щеку шлепается капля влаги. Мы спустились ниже, чем я думал. Уже видно подножие склона, но до него пока довольно далеко, и еще есть время насладиться спуском. Теперь Кэролайн летит стрелой. Она коротко оборачивается и вскидывает руку, потом снова устремляет взгляд вперед. Въезжает в очередную рощицу и на несколько секунд исчезает из виду, но я уверен, сейчас она появится, и она появляется — желто-синее пятно — гораздо ниже по склону. Ее санки находятся в идеальном равновесии между гравитацией и скоростью, ее душа находится в идеальном равновесии между сосредоточенным спокойствием и восторгом. Я поднимаю руку и машу Кэролайн, хотя она не смотрит. А потом машу еще раз.
СМЕРТЬ В БАНГКОКЕ
Я лечу назад в Азию весной 1992 года, оставляя один Город Ангелов, который только что изгнал своих злых духов в оргии пламени и грабежей, и прибывая в другой, где кровавые демоны собираются на горизонте, словно черные муссонные облака. Мой привычный Лос-Анджелес исчез в огне и безудержных грабежах месяц тому назад; Бангкок — который здесь называют Крунг Тхеп, «Город Ангелов», — готовит кровавую баню для своих детей на улицах, окружающих Монумент Народовластия. Все это не имеет для меня никакого значения. У меня свой кровавый счет, по которому я должен расплатиться. Стоит сделать шаг из-под кондиционированных сводов терминала в бангкокском международном аэропорту Дон Муанг, как все возвращается снова: жара за сто по Фаренгейту, влажность, от которой воздух почти кажется водой, вонь монооксида углерода, промышленных отходов и открытой канализации, которой пользуются десять миллионов человек, превращают воздух в такой коктейль, что впору задохнуться. Из-за вони, жары, влажности и нестерпимого тропического солнца дышится здесь так же тяжело, как под одеялом, пропитанным керосином. А от аэропорта до центра города двадцать пять «кликов». Чувствую, что весь напрягаюсь от желания поскорее оказаться там. — Доктор Меррик? Я киваю. Меня ждет желтый «Мерседес» отеля «Ориентал». Шофер в ливрее пытается развлекать легкой беседой, пока не замечает, что я не реагирую. Тогда он погружается в обиженное молчание, а я слушаю гудение кондиционера и наблюдаю, как передо мной цветком из стали и бетона раскрывается Бангкок. Сегодня в Бангкок нет живописного въезда, разве только на сампане вверх по реке, к самому сердцу города. Ежедневные поездки из пригорода в центр превратились в настоящее капиталистическое безумие: пробки, восточные дворцы, на поверку оказывающиеся шоппинг-молами, грохот заводов и строек новых надземных магистралей или башен из железобетона, билборды, с которых потоками несется реклама японской электроники, рев мотоциклов, непрестанный треск сварки и гром пневматических молотов на строительных площадках. Как все современные азиатские мегалополисы, Бангкок занят тем, что стирает себя с лица земли и отстраивает заново с такой лихорадочной поспешностью, на фоне которой западные города вроде Нью-Йорка кажутся вечными, словно пирамиды. Мой шофер, Дэвид, делает последнюю попытку наставить бестолкового туриста, а заодно продать свои услуги водителя на все время моего пребывания в отеле «Ориентал», и мы оказываемся в центре, где плывем по трехрядному шоссе Силом-роуд в окружении двухтактного грохота тук-туков и более агрессивного визга мотоциклов «Сузуки». Силом-роуд запружена людьми, но выглядит пустой и сонной в сравнении с обычными толпами маниакально осаждающего ее народа. Я гляжу на часы. Восемь вечера, в Лос-Анджелесе пятница; одиннадцать утра, в Бангкоке суббота. Силом-роуд отдыхает в ожидании ночного возбуждения, которое испускает Патпонг, как сука — запах во время течки. Последний поворот в неказистый сои, или переулок, и мы тормозим перед главным входом отеля «Ориентал», где к нам кидаются еще люди в ливреях, чтобы распахнуть передо мной дверцу «Мерседеса». За те десять ярдов, что отделяют дорогу от кондиционированного нутра отеля, я успеваю его почуять. Сквозь промышленные выбросы и вонь реки, спрятавшейся позади отеля, сквозь тяжелую миазматическую смесь человеческих испражнений, аромата гибискусов, окаймляющих подъезд, и монооксида углерода, клубящегося, словно невидимый туман, я чую его: настойчивое амбре, тонкий микст экзотических духов, острого запаха спермы и медного привкуса крови. Я торопливо иду сквозь приветствия и поклоны, совершаю изысканный процесс регистрации в лучшем отеле мира, желая лишь одного: поскорее добраться до номера, принять душ, лечь и притворяться спящим, глядя в потолок из гипса и тикового дерева до тех пор, пока не померкнет солнечный свет и не настанет ночь. Тьма оживит этот конкретный Город Ангелов — или хотя бы гальванизирует его труп, придав видимость медленного, эротического танца. Когда становится темно по-настоящему, я встаю, надеваю мою бангкокскую уличную одежду и выхожу в ночь.Впервые я увидел Бангкок больше двадцати лет назад, в мае 1970 года. Мы с Треем выбрали его местом недельного оздоровительного отпуска — ОО, — который нам предстояло провести за границей. Вообще-то в те времена никто из солдат не называл его ОО: говорили просто — Блядство и Пьянство, БиП. Семейные офицеры ездили с женами на Гавайи, а нам, рядовым, армия предлагала кучу направлений на выбор: от Токио до Сиднея. Многие выбирали Бангкок, причин тому было четыре: во-первых, близко, не надо тратить время на дорогу, во-вторых, дешевый секс, в-третьих, дешевый секс и, в-четвертых, дешевый секс. По правде говоря, Трей выбрал Бангкок по другим причинам, а я просто последовал за ним, доверяя его суждению, как бывало, когда мы выходили в разведочное патрулирование дальнего действия: РПДД. Трей — Роберт Уильям Тиндейл Третий — старше меня всего на год, но он был выше, сильнее, умнее и куда образованнее. Я-то свалил из колледжа на Среднем Западе еще с первого курса и болтался до тех пор, пока не загремел в армию. Он с отличием кончил Кенион-колледж, а потом записался в пехоту, вместо того чтобы продолжать образование. Прозвище Трея происходило от испанского слова «три» и произносилось соответственно. У нас почти все получали клички во взводе — меня звали Прик из-за тяжелой рации ПиЭрКа-25, которую я носил в свою недолгую бытность ЭрТэО, — но Трей пришел к нам с готовым прозвищем. Кто-то сунул нос в его бумаги, и не прошло и недели, как мы все уже качали головами над тем, что, имея такое образование, умея печатать — навыки, которые даже новобранцам обеспечивали место в счастливом ТЭМИТе (Тыловой Эшелон, Мать Их Так), — Трей добровольно пошел рядовым в пехоту. Трей питал глубокий интерес к азиатским культурам и легко усваивал языки. Он единственный из нашей компании рядовых действительно говорил по-вьетнамски. Большинство из нас искренне считали «боку» вьетнамским словом и чувствовали себя ужасно умными, если могли сказать «диди-мау»[3] и еще с полдюжины других испорченных местных фраз. Трей говорил по-вьетнамски, хотя и скрывал это от всех офицеров, за исключением нашего Эл-Ти. «Не хочу становиться машинисткой или офицером, — бывало, говорил он мне. — И будь я проклят, если позволю сделать из меня ссыкливого следователя». Тайского Трей не знал, но учился он быстро. — А ну-ка, скажи, как по-тайски «отсосать», — спросил я его, пока мы летели военно-транспортным рейсом из Сайгона в Бангкок. — Не знаю, — ответил он. — Но ручная работа называется «шак мао». — Кроме шуток, — сказал я. — Кроме шуток, — ответил Трей. Он читал какую-то книгу и даже головы не поднял. — Это значит «тянуть бечеву воздушного змея». На минуту я задумался над этим образом. Наш транспорт снижал высоту и, подскакивая в облаках, приближался к Бангкоку. — Думаю, я потерплю до отсоса, — сказал я. Мне не было тогда и двадцати, оральный секс пробовал только раз, с подружкой по колледжу, у которой это тоже явно был первый опыт. Но меня так и распирало от гормонов и желания выглядеть настоящим мачо — моды, подхваченной во взводе, — да еще адреналин в голову ударил: шутка ли, просидеть шесть месяцев в джунглях и уцелеть. — Отсос, точно, — сказал я. Трей что-то буркнул и продолжал читать. Книга была старая, про тайские то ли обычаи, то ли мифы, то ли религию, то ли про что еще. Теперь я понимаю, что, знай тогда, что он читает и почему он выбрал именно Бангкок, то вообще не покинул бы самолет.
Коридорный, швейцар в лифте, консьерж и швейцар у входа и глазом не моргнули при виде моих мятых хлопчатобумажных штанов и испачканного реактивами жилета из тех, какие носят фотографы. Гость, который платит триста пятьдесят американских долларов за ночь, может выходить в город в чем ему заблагорассудится. Однако консьерж все же делает шаг, чтобы предупредить меня о чем-то, прежде чем я покину трезвую кондиционированную прохладу фойе. — Доктор Меррик, — говорит он, — вы осведомлены о… э-э… напряженности, присутствующей в данный момент в Бангкоке? Я киваю: — Студенческие бунты? Жестокости военных? Консьерж улыбается и слегка кланяется, явно довольный тем, что не пришлось наставлять фаранга в неприятной для него теме. — Да, сэр, — говорит он. — Я упоминаю об этом лишь потому, что, хотя проблемы сосредоточены в основном вокруг университета и Большого Дворца, на Силом-роуд тоже были… волнения. Я опять киваю. — Но комендантский час пока не введен, — говорю я. — Патпонг еще открыт. В ответной улыбке консьержа нет и намека на двусмысленность: — О да, сэр. Патпонг открыт, и ночные клубы работают. Город совершенно открыт. Я благодарю его и выхожу, не глядя на толпящихся вдоль подъездной дорожки отеля мелких бизнесменов, которые наперебой предлагают лодочные экскурсии, такси и «хорошие ночные развлечения». Уже темно, но жара нисколько не спала, и поток машин грохочет еще сильнее, чем раньше. На Силом-роуд поворачиваю налево и, проталкиваясь сквозь толпу, иду в Патпонг. Это место ни с чем не перепутаешь: узкие улочки между Силом и Суривонг-роуд расцвечены дешевой неоновой рекламой: «Замечательный массаж», «Изобилие крошек», «Крошки гоу-гоу», «Супердевушки — живое секс-шоу», «Живые крошки» и прочее в том же роде. Улочки Патпонга так узки, что иначе как пешеходными быть не могут, однако стук и треск трехколесных тук-туков на бульварах вокруг составляет постоянный фон, на который накладывается грохот рок-н-ролла, несущегося из динамиков и открытых дверей. Молодые люди и девушки — в андрогинном Таиланде их иногда непросто различить — начинают дергать меня за рукав и жестами зазывать то в одну, то в другую дверь, как только я сворачиваю на улицу Патпонг Один. — Мистер, лучшее живое шоу, лучшие шоу девушек… — Эй, мистер, здесь самые красивые девушки, лучшие цены… — Хотите видеть самых симпатичных бритых милашек? Познакомиться с приятными девушками? — Девушек хотите? Нет? Хотите парней? Я прохожу мимо, игнорируя периодические несильные потягивания за рукав. Последний вопрос раздается, когда я сворачиваю на Патпонг Два. Ночной район делится на три части: Патпонг Один обслуживает стритов, Патпонг Два обеспечивает удовольствиями и стритов, и геев, Патпонг Три — только геев. И все же большая часть шоу на Патпонге Два ориентирована на гетеросексуалов, хотя в любом баре улыбающихся мальчиков не меньше, чем девушек. Я останавливаюсь у бара под названием «Восхитительные пуси». Однорукий человечек с синим от неонового света лицом делает ко мне шаг и протягивает длинную пластиковую карточку. — Пуси меню? — говорит он голосом первоклассного метрдотеля. Я беру неопрятную полоску пластика и читаю:
Пуси бананы Пуси кока-кола Пуси зубочистки Пуси с бритвенными лезвиями Курящие пуси— Если ты птичка, — говорю я, — то ты, наверное, кхай лонг? — Это означает «заблудившийся птенчик», но в Бангкоке так часто называют проституток. Нок дергает головой и закрывается руками так, точно я ее ударил. Она пытается отвернуться, но я хватаю ее за тонкую руку и притягиваю к себе. — Допивай свой виски, — говорю я. Нок дуется, но пьет. Мы смотрим на ее подругу на сцене, чья безволосая вульва снова поворачивается к нам. Сигарета догорела как раз до выставленных напоказ половых губ. Прихлебывая пиво, я с удивлением думаю — не впервые — о том, как люди умеют самое потаенное превратить в гротеск. В последнюю секунду перед тем, как обжечься, девушка протягивает руку, вытаскивает окурок, затягивается им, вставляя его на этот раз в подходящие губы, потом швыряет его между сценой и баром и высвобождается из своей хитроумной позы. Лишь два или три человека в баре хлопают. Девушка соскакивает со сцены, на которую тут же выходит тайка постарше, тоже голая, присаживается на корточки и разворачивает веер из четырех обоюдоострых бритв. Я поворачиваюсь к Нок. — Извини, если я тебя обидел, — говорю я. — Ты очень хорошенькая птичка. Хочешь помочь мне развлечься сегодня ночью? Нок вымученно улыбается. — Я люблю делать так, чтобы тебе быть весело ночью. — Она притворно хмурится, делая вид, будто что-то вспомнила. — Но мистер Дьянг… — она кивает на тощего тайца с крашеными рыжими волосами, который стоит в тени, — он будет очень сердиться, если Нок не отработать всю смену. Ему надо заплатить, если пойду развлекать. Я киваю и вынимаю толстую пачку батов, на которые обменял доллары в аэропорту. — Я понял, — говорю, отслюнявливая четыре купюры по пятьсот батов… Почти восемьдесят долларов. Раньше даже барные шлюхи самого высокого класса не брали больше двух-трех сотен батов за час, но несколько лет назад все испортило правительство, выпустив купюру в пятьсот батов. Просить сдачи неудобно, вот и повелось, что теперь почти все девушки берут по пятьсот батов за работу, да еще столько же уходит на оплату их мистеров Дьянгов. Она бросает взгляд на рыжеволосого старика, и тот едва заметно кивает. Нок улыбается мне: — Да, у меня есть место для развлечения. Я прячу деньги. — Думаю, нам надо найти для забавы кого-нибудь еще, — ору я, перекрывая грохот рок-н-ролла. Краем глаза я замечаю, как женщина на сцене вставляет лезвия. Нок корчит гримаску; разделить вечер еще с одной девушкой значит потерять в заработке. — Шакха буэ дин, — бормочет она чуть слышно. Я насмешливо улыбаюсь: — Что это значит? — Это значит, что тебе будет хорошо с Нок, которая очень тебя любит, — говорит она, снова улыбаясь. Вообще-то фраза представляет собой сокращенное ругательство, которое в ходу в одной северной деревне и значит «твой член на земле, я раздавлю его, как змею». Улыбкой я благодарю ее за доброту. — Разумеется, эти деньги только тебе, — говорю я, пододвигая две тысячи батов к ней поближе. — Я дам тебе еще, если мы найдем подходящую девушку. Улыбаясь шире, Нок щурится на меня: — У тебя на уме девушка? Кто-то, кого я знаю или кого я нахожу? Подруга, которая тоже тебя очень любит? — Кто-то, кого я знаю, — говорю я и делаю вдох. — Ты слышала о женщине по имени Мара? Или, может быть, о ее дочери, Танхе? Нок застывает и на мгновение действительно становится птичкой — испуганной, пойманной птичкой. Она пытается выдернуть у меня свою руку, но я держу крепко. — На! — кричит она, как маленькая девочка. — На, на… — У меня есть еще деньги… — начинаю я, пододвигая к ней баты. — На! — кричит Нок со слезами на глазах. Мистер Дьянг торопливо делает шаг вперед и кивает огромному тайцу у дверей. Двое мужчин стремительно движутся к нам сквозь толпу, как две акулы по мелководью. Я отпускаю руку Нок, и она ускользает от меня в толпу. Я поднимаю обе руки ладонями наружу, и мистер Дьянг с вышибалой останавливаются шагах в пяти от меня. Рыжеволосый старик наклоняет голову в сторону двери, и я согласно киваю. Делаю последний большой глоток пива и ухожу. В моем списке есть и другие места. Чья-нибудь любовь к деньгам окажется сильнее страха перед Марой… Возможно.
Двадцать два года назад Патпонг уже существовал, но для американских солдат был слишком дорог. Тайское правительство на пару с армией США слепили район красных фонарей из дешевых баров, дешевых отелей и массажных салонов на Нью-Печбери-роуд, довольно далеко от оживленного Патпонга. Нам было насрать, куда нас отправят, лишь бы там имелись бухло, трава и девки. И они были. Мы с Треем провели первые сорок восемь часов, шатаясь по барам и клубам. Вообще-то нам незачем было покидать наш больше похожий на ночлежку отель, чтобы найти проституток — они дюжинами ошивались в холле, — но просто сесть в лифт и поехать вниз нам казалось скучным. Все равно что стрелять в амбаре по ласточкам после того, как ослепишь их фонарем, говорил Трей. Вот мы и шлялись по Печбери-роуд. В первые же сутки в Бангкоке я узнал, что такое безрукий бар. Еда там паршивая, выпивка дорогущая, но новизна состояла в том, что девушки кормили нас с рук и подносили к губам стаканы, и это запомнилось. Между глотками и кусочками они ворковали, подмигивали и щекотали нам бедра длинными ногтями. Трудно примирить это с тем, что всего двадцать четыре часа назад мы с ранцами на спине угрюмо топали по красным глиняным склонам лесистых холмов в долине А Шау. Первые шесть месяцев во Вьетнаме были вообще за рамками всего, что я повидал за свое недолгое пребывание на этой планете. Даже теперь, когда за моими плечами остались более сорока лет жизни, жара, ужас и страшная усталость от войны в джунглях стоят в памяти отдельно от всего остального. Отдельно от всего, кроме того, что произошло в Бангкоке. В общем, сорок восемь часов подряд мы только и делали, что пьянствовали и ходили по шлюхам в районе красных фонарей. Мы с Треем заняли отдельные комнаты для того, чтобы приводить к себе девочек. В то время вечер сексуальных услуг стоил дешевле, чем упаковка холодного пива в гарнизонной лавке на авиабазе… а она стоила недорого. За одну футболку или пару джинсов, подаренных нашим малышкам, мы получали май чао, или наемных жен, на целую неделю. Они не только трахались или отсасывали нам по команде, но еще и обстирывали нас и убирали комнаты в отеле, пока мы шлялись по барам в поисках следующих девчонок. Не забывайте, все это было в 70-х. О СПИДе тогда никто и не слышал. Понятно, вояки дали нам с собой резинки и показали с полдюжины фильмов про венерические болезни, но самым страшным, что нам угрожало тогда, была Сайгонская Роза, особо ядреная разновидность сифилиса, занесенная в страну джиаями. При всем том наши девчонки были такими юными и невинными с виду, и глупыми, как я теперь понимаю, что даже не просили нас надевать резинки. Может, забеременеть от фаранга считалось у них удачей, а может, они думали, что это чудесным образом поможет им оказаться в Штатах? Не знаю. Не спрашивал. Однако на четвертый день нашего семидневного отпуска даже дешевый тайский секс и еще более дешевая марихуана слегка приелись. Я продолжал только потому, что продолжал Трей; следовать его примеру еще в джунглях стало для меня формой выживания. Но Трей искал кое-что еще. И я с ним. — Я тут набрел на кое-что по-настоящему клевое, — сказал он, когда наш четвертый день в Бангкоке клонился к вечеру. — Очень клевое. Я кивнул. Танг, моя маленькая май чао, дулась, потому что ей хотелось пойти поужинать, но я проигнорировал ее и спустился в бар, когда Трей мне позвонил. — Это стоит денег, — сказал Трей. — Сколько у тебя есть? Я пошарил в бумажнике. Мы с Танг жгли в комнате какие-то тайские палочки, от которых теперь у меня все плыло и мелькало перед глазами. — Пара сотен батов, — сказал я. Трей покачал головой. — Тут нужны доллары, — сказал он. — Сотни четыре, может, пять. Я выпучил глаза. За весь наш отпуск мы и десятой доли этого не потратили. В Бангкоке тогда дороже пары баксов вообще ничего не стоило. — Это особенная вещь, — сказал он. — По-настоящему особенная. Разве ты не говорил мне, что везешь с собой три сотни баксов, которые прислал тебе дядька? Я тупо кивнул. Деньги лежали в кроссовке, на самом дне. — Я хотел купить ма что-нибудь в подарок, — сказал я. — Шелк, или кимоно, или еще что-нибудь… — продолжал я нерешительно. Трей улыбнулся. — Это придется тебе больше по вкусу, чем кимоно твоей ма. Неси деньги. Быстрей. И я помчался. Когда я вернулся вниз, там уже был молодой таец, он ждал у дверей вместе с Треем. — Джонни, — сказал Трей, — это Маладунг. Маладунг, это Джонни Меррик. Во взводе мы зовем его Прик. Маладунг ухмыльнулся мне. Не успел я раскрыть рот, чтобы объяснить, что рация ПиЭрКа-25 называлась у нас Прик-25 и что я целых полтора месяца таскал ее на себе, прежде чем нашли ЭрТэО покрупнее, как Маладунг кивнул и повел за собой в ночь. К реке нас доставил трехколесный тук-тук. Вообще-то широкая река, которая текла аж из самих Гималаев, пересекая сердце старого Бангкока, называлась Чао Прая, однако я никогда не слышал, чтобы местные называли ее иначе, чем Мао Нам — то есть просто «река». Мы вышли наружу и оказались на темном пирсе; Маладунг тявкнул что-то мужчине, который стоял в длинной, узкой лодке, казавшейся тенью. Тот ответил, и Трей сказал: — Дай мне сто батов, Джонни. Я пошарил в бумажнике, стараясь не перепутать разноцветные фантики батов с долларами. Если бы не случайный луч от проходившей мимо баржи, я бы вряд ли отыскал нужную купюру. Я передал деньги Трею, который отдал их Маладунгу, а тот — темному силуэту в лодке. — Садитесь, быстро, — сказал Маладунг, и мы спустились в лодку. Мы с Треем заняли узкую банку у кормы. Маладунг сел между нами и водителем, чье лицо угадывалось во тьме лишь по огоньку сигареты. Маладунг рявкнул что-то по-тайски, за нашими спинами взревел огромный мотор, и лодка выскочила на середину реки и замолотила кормой по волнам, поднятым недавней баржей. Теперь я знаю, что эти лодки зовутся длиннохвостыми такси, и на реке их сотни. Свое название они получили от укрепленного сзади длинного шеста, на который надет полноразмерный автомобильный двигатель. Я заметил, что лодка, в которую мы в ту ночь сели с Треем, имела так хорошо сбалансированный шест, что водитель мог вынимать пропеллер из воды одной рукой, причем тяжелый мотор казался легче перышка. Бангкок — город небольших каналов, или клонгов. Путеводители любят называть его Венецией Востока, но это не более чем типичный оксюморон для привлечения туристов. В последний раз в Венеции я что-то не заметил ни тысяч сампанов, привязанных вдоль берегов каналов, ни шатких бамбуковых сооружений, висящих над водой, как сараи на ходулях. Да и поверхность воды не скрывалась там под слоем грязи и обломков, принесенных последним штормом в таком количестве, что по ним можно было перейти с одного берега на другой как посуху. А в бангкокских клонгах в ту ночь все это было. Мы неслись вниз по реке, мимо огней отеля «Ориентал», о котором мы с Треем слышали, но и мечтать не смели когда-нибудь в нем остановиться, нырнули под запруженный машинами автомобильный мост. Наше длиннохвостое такси, взревев двигателем от V-6, пронеслось под самым носом огромного парома, свернуло к западному берегу и нырнуло в клонг шириной не больше сои в районе Патпонг. В крохотном канале было темно, как в бочке, не считая слабого света от фонарей, горевших на привязанных сампанах и в висячих лачугах. Наш водитель зажег свой красный фонарь и повесил его на стойку у кормы, но для меня все равно оставалось загадкой, как другие лодки умудрялись не столкнуться с нашей, когда мы с ревом огибали острые углы и проносились под низкими мостами. Иногда был уверен, что парусиновый тент нашего такси сейчас столкнется с изнанкой провисающего моста, но, когда мы с Треем пригибали головы, такси проходило под мостом, на пару дюймов разминувшись с прогнившей древесиной. Еще несколько лодок вроде нашей пронеслись мимо, ревя, точно шумные призраки, и поднятая волна разбивалась о нашу корму и обдавала брызгами колени. Я взглянул на Трея, когда мы проезжали мимо слабо освещенного сампана, и заметил, что у него безумные глаза. Он широко ухмылялся. Только я собирался проорать вопрос о том, куда мы направляемся, как наш шофер повернул лодку прямо на высокий пирс, стена которого вставала впереди, словно крепость. Я ждал, что он остановится или по крайней мере притормозит, и мы, скользя, подойдем к темневшей впереди преграде, но водитель выжал полный газ, и мы помчались прямо на стену подпорок. — Господи Исусе! — завопил я, но крик заглушил рев двигателя, усиленный эхом, которое отдавалось от прогнившего деревянного настила над нами. Затем нас снова швырнуло вправо, и выхлопной дым от мотора саваном окутал кренящиеся сампаны, которые выглядели так, словно в них много лет никто не жил. Клонг в этом месте представлял собой канал, похожий на тупиковый проулок на суше; двум встречным лодкам не разойтись. Но встречных лодок не было. Полчаса или больше мы петляли по этим узким клонгам с односторонним движением. Вонь от канализации стояла столь сильная, что у меня заслезились глаза. Несколько раз до меня доносились голоса с темных ветхих сампанов, которые вытянулись по обоим берегам каналов, точно обломки многочисленных кораблекрушений. — Здесь живут люди, — прошептал я Трею, пока мы проплывали мимо темной массы сараев-развалюх, сузивших клонг до такой степени, что даже наш шофер-самоубийца вынужден был сбавить скорость и пробираться почти ползком. Трей не ответил. Как раз когда я решил, что наш водитель заблудился в лабиринте каналов, мы выскочили на открытый участок, огороженный со всех сторон складами на сваях и стенами выгоревших сараев. Все вместе походило на огромный плавучий двор, спрятанный среди городских улиц и общедоступных каналов. В центре этой водяной площади сгрудились несколько барж и черных сампанов, и я увидел свет фонарей еще нескольких такси, причаленных к ближайшему из них. Водитель заглушил двигатель, и мы скользнули в импровизированный док, причем тишина наступила столь внезапно, что у меня заболели уши. Я едва успел понять, что «док» был всего лишь плотом из железных нефтяных бочонков и досок, приколоченных к сампану, как двое мужчин вышли из дыры в парусиновом тенте лодки на доски, где и стояли, балансируя и глядя на нас, пока мы не уткнулись в причал бортом. Даже в темноте я видел, что эти двое сложены как борцы или вышибалы. Ближний из двоих рявкнул нам что-то по-тайски. Маладунг ответил, и один из них принял наш причальный конец, а другой подвинулся, освобождая место в узком пространстве. Я вылез из такси первым, увидел слабый свет фонаря сквозь прореху в полотне и уже сделал шаг, чтобы войти внутрь, когда один из двоих остановил меня, уткнувшись мне в грудь тремя пальцами, которые показались мне сильнее всей моей руки. — Сначала платить, — прошипел Маладунг со своего места в такси. «За что платить?» — хотел спросить я, но Трей наклонился ко мне и прошептал: — Дай мне твои триста баксов, Джонни. Мой дядя прислал мне шесть хрустких, новеньких пятидесяток. Я отдал их Трею, который две сунул Маладунгу, а еще четыре — ближайшему из встретивших нас мужчин. Тот шагнул в сторону и жестом показал мне входить. Едва я нагнулся, чтобы протиснуться в невысокую дверь, как вздрогнул от неожиданного рева нашей моторки. Выпрямившись, я увидел, как ее красный фонарь удаляется, исчезая в узком клонге. — Черт, — сказал я. — Как мы теперь выберемся? Голос Трея звучал напряженно, но не от испуга. — Подумаем об этом позже, — сказал он. — Пошли. Я поглядел на служившую дверью прорезь в полотнище, за которой, похоже, начинался коридор, соединявший несколько сампанов и барж. Оттуда шли сильные запахи и доносился приглушенный звук, похожий на дыхание зверя, притаившегося в конце тоннеля. — Может, не надо, а? — шепнул я Трею. Два тайца на пристани были неподвижны, как два льва с собачьими мордами из тех, что сторожат входы во все важные места по всей Азии. — Трей? — повторил я. — Надо, — сказал он. — Пошли. — Потом оттолкнул меня и первым пролез в проем. Привыкнув следовать по пятам во время патрулирования, ночных засад и РПДД, я наклонил голову и пошел вперед. Господи, помоги мне. Идет моя вторая ночь в Патпонге, я смотрю живое секс-шоу в «Изобилии пусек», когда ко мне подходят четверо тайцев. Секс-шоу, типичное для Бангкока; молодая пара кувыркается на сдвоенных «Харлеях», висящих на проволоке над сценой. Половой акт продолжается уже больше десяти минут. Лица участников выражают неподдельную страсть, но тела профессионально занимают позы, при которых все происходящее между ними видно каждому зрителю в баре. Похоже, что аудиторию интересует не столько сам секс, сколько вопрос — свалятся в конце концов эти двое со своих подвесных мотоциклов или нет. Не обращая внимания на шоу, я расспрашиваю Ла, девушку из бара, когда между нами вклинивается мускулистый таец. Ла исчезает в толпе. В баре темно, но все четверо в солнечных очках. Я молча потягиваю выдохшееся пиво и молчу, пока они окружают меня. — Тебя зовут Меррик? — спрашивает самый невысокий из них. Лицо у него узкое, как лезвие топора, и все в мелких шрамах от юношеских угрей или ветряной оспы. Я киваю. Рябой подходит на шаг ближе: — Ты расспрашивал о женщине по имени Мара сегодня в этом клубе и вчера в других? — Да, — говорю я. — Пошли, — говорит он. Я не сопротивляюсь, и мы впятером выходим из бара, клином рассекая толпу. Снаружи между двумя крепышами по левую руку открывается небольшой просвет, в который я мог бы проскользнуть и убежать, если бы хотел. Но не хочу. В начале переулка стоит темный лимузин, и человек справа от меня открывает заднюю дверь. Когда он наклоняется, замечаю выложенную жемчугом рукоять револьвера у него за поясом. Сажусь на заднее сиденье. Двое парней повыше садятся по обе стороны от меня. Я наблюдаю за тем, как рябой устраивается на переднем пассажирском кресле, а человек с револьвером садится за руль. Лимузин отправляется в странствие по переулкам. Я знаю, что сейчас часа три ночи, но сои в такой близости к Патпонгу необычно пусты. Сначала я понимаю, что мы движемся на север, вдоль реки, но потом теряю всякое чувство направления в лабиринте узких улиц. Только по темным знакам на китайском догадываюсь, что мы находимся в районе к северу от Патпонга, известном как Чайнатаун. — Держись подальше от Санам Луанг и Ратчадамноен Кланг, — командует рябой шоферу по-тайски. — Армия сегодня стреляет по демонстрантам. Я бросаю взгляд вправо и вижу оранжевое зарево над крышами. Служащие отеля «Ориентал» настойчиво рекомендовали мне не выходить на улицу сегодня ночью. Смягченный расстоянием треск и хлопки легкого огнестрельного оружия прерывают шипение автомобильного кондиционера. Мы останавливаемся в районе заброшенных зданий. Фонарей здесь нет, и только оранжевое зарево, отраженное от низких облаков, позволяет мне видеть, где улица упирается в пустыри и полуразрушенные склады. Откуда-то из темноты пахнет рекой. Рябой кивает и оборачивается. Таец справа от меня открывает дверцу и, схватив меня за жилет, вытаскивает наружу. Водитель остается на месте, другие втроем тащат меня к реке, где тени особенно густы. Я открываю рот, чтобы заговорить, когда тот, кто стоит сзади, вцепляется пальцами мне в волосы и резко тянет мою голову назад. Третий хватает меня за руки, а тот, что держит меня за волосы, приставляет к моему горлу кинжал. Рябое лицо оказывается вдруг так близко, что я чувствую запах рыбы с чипсами из его рта. — Зачем ты расспрашиваешь о женщине по имени Мара и ее дочери Танхе? — спрашивает он по-тайски. Я непонимающе моргаю. Лезвие ножа выдавливает капельку крови из моего горла чуть ниже адамова яблока. Моя голова запрокинута так далеко назад, что мне почти нечем дышать. — Зачем ты расспрашиваешь о женщине по имени Мара и ее дочери Танхе? — спрашивает он снова по-английски. Мои слова похожи на булькающий хрип: — У меня для них кое-что есть. — Я пытаюсь высвободить правую руку, но третий держит мое запястье. — В кармане, — ухитряюсь выговорить я. После секундного колебания рябой распахивает мой жилет и нащупывает там потайной карман. Достает из него двадцать купюр. Я снова ощущаю запах его дыхания, когда он тихо смеется мне в лицо. — Двадцать тысяч долларов? Маре не нужны двадцать тысяч долларов. Никакой Мары нет, — заканчивает он по-английски. По-тайски он командует человеку с ножом: — Кончай его. Они уже делали это раньше. Первый запрокидывает мне голову еще сильнее, другой резко тянет мои руки книзу, в то время как рябой делает шаг назад, брезгливо уходя с того места, куда должна брызнуть струя крови из перерезанной артерии. За секунду до того, как нож полоснет меня по горлу, я выдавливаю два слова: — Посмотри еще. Я чувствую, как напрягается рука, держащая нож у моего горла, и как лезвие глубже входит в плоть, но рябой повелительно вскидывает руку. Лезвие ножа выдавило достаточно крови, чтобы намочить воротник рубашки и жилет, но глубже оно не входит. Коротышка высоко поднимает купюру, щурится, всматриваясь в нее, наконец, щелкает зажигалкой, высекая язычок пламени. Бормочет себе под нос. — Что? — спрашивает тот, кто держит мои руки, по-тайски. Рябой отвечает ему на том же языке: — Это боны на предъявителя, по десять тысяч долларов. Каждая. Их тут двадцать. Двое других со свистом переводят дух. — Есть еще, — говорю я по-тайски. — Гораздо больше. Но я должен увидеть Мару. Моя голова запрокинута так далеко назад, что я не вижу рябого, но зато чувствую на себе его изучающий взгляд. Соблазн укокошить меня, бросить тело в реку и присвоить двести тысяч долларов, должно быть, велик. Лишь тот факт, что они отвечают перед Марой, дает мне надежду. Мы стоим неподвижно по крайней мере минуту, потом рябой бросает что-то нечленораздельное, лезвие ножа опускается, моя голова высвобождается из хватки, и мы все вместе идем назад, к ждущему лимузину.
Трей первым нырнул в тоннель, образованный гнутыми полотняными крышами сампанов. Три первых были пусты, на полах стояла вода, пахло гнилью и азиатской едой, но, ступив сквозь стену третьей лодки, мы оказались в полутемном шумном помещении. Выйдя на более широкое пространство, понял, что мы на той барже, которую видели снаружи привязанной посреди сампанов. Несколько тайцев сначала лишь скользнули по нам взглядом, потом, видимо, удивленные тем, что на баржу пустили фарангов, посмотрели опять. Но тут их внимание отвлекла самодельная сцена в центре баржи. Я стоял, моргая и вглядываясь в густые клубы дыма от табака и марихуаны; сцена небольшая, всего шесть футов на четыре, освещенная двумя шипучими фонарями, подвешенными к какой-то балке над головами. Она была пуста, не считая двух женщин, занимавшихся кунилингусом друг с другом. Грубо сколоченные скамьи окружали сцену в четыре ряда, сидевшие на них двадцать с небольшим тайцев казались не более чем темными силуэтами в дыму. — Что… — начал я, но Трей шикнул на меня и повел к пустой скамье слева от нас. К женщинам на сцене присоединились два худых тайца, на вид почти мальчики, которые, не обращая внимания на женщин, ласками привели друг друга в возбужденное состояние. Я устал от того, что на меня шикают. Наклонившись к Трею, я сказал: — Какого черта мы заплатили триста американских долларов за то, что за пару баксов показывают в любом баре на Печбери-роуд? Трей только головой тряхнул. — Это подготовка, Джонни, — прошептал он. — Разогрев. А мы заплатили за главное. Двое мужчин впереди нас обернулись и нахмурились, как будто в кинотеатре, где мы своим шепотом мешали смотреть кино. На сцене молодые люди закончили приготовления и занялись не только друг другом, но и женщинами. Комбинации были самые разнообразные. Я сидел, положив ногу на ногу. В Наме мы не носили трусов, так как от них прело в паху, и, как многие солдаты, я отвык от них и не надевал их в отпуске с цивильной одеждой. В тот вечер я пожалел, что не натянул под легкие брюки из хлопка какие-нибудь плавки. Похоже, среди этих мужчин не было принято щеголять откровенной эрекцией. Четверка на сцене перебирала комбинации еще минут десять. Они кончили почти одновременно — женщины могли изображать оргазм, но у мужчин все было неподдельно. Одна из девушек подставила сперме свою грудь, пока другая размазывала семя одного юноши по ягодицам другого. Бисексуальность акта смущала и возбуждала меня в одно и то же время. Я еще не знал себя тогда. Кончив, четверка просто встала и покинула сцену через тоннель в противоположной стене. Клиенты не хлопали. Сцена долго пустовала, и я подумал, что, может быть, несмотря на всю болтовню Трея о главном, представление кончилось, как вдруг низкорослый таец в черной шелковой рубахе и штанах шагнул на сцену и тихо и серьезно заговорил. Я дважды разобрал слово «Мара». Все в комнате вдруг напряглись. — Что он… — начал было я. — Шшшш, — сказал Трей, не сводя глаз со сцены. — Да пошел ты. — Я заплатил за это дерьмо и имел право знать, что получу за эти деньги. — Что такое «Мара»? Трей вздохнул: — Мара — это пханнийаа ман, Джонни. Князь демонов. Это он послал трех своих дочерей — Аради, неудовлетворенность… Танху, желание… и Раку, любовь… искушать Будду. Но Будда устоял. Щурясь, я смотрел сквозь дым на пустую сцену, над которой медленно покачивались фонари. Лодка прошла по невидимой лагуне, поднятая ею волна едва заметно качнула баржу. — Значит, Мара — мужчина? — Вся эта белиберда не укладывалась у меня в голове. Трей покачал головой: — Когда дух пханнийаа ман соединяется с нага в демонически-человеческом обличье — то нет. Я вытаращился на Трея. С нашего прибытия в Бангкок мы выкурили немало хорошей травы — тайские палочки здесь почти ничего не стоили, — но Трей, очевидно, перестарался. Увидев мой взгляд, он едва заметно улыбнулся: — Мара — это часть того мира, который умирает, Джонни… принцип смерти. То, чего мы боимся больше Чарли, когда выходим в ночной патруль. Нага — это разновидность бога-змеи, который ассоциируется с водой. С рекой. Он дает или отнимает жизнь. Когда дух нага нисходит на того, кто наделен силой пханнийаа ман — Мару, — то демон может оказаться как женщиной, так и мужчиной. А мы заплатили за то, чтобы увидеть женщину Мару, считающуюся пханнийаа ман нага кио. Такое бывает один раз в несколько тысяч воплощений… Я глазел на Трея. Он шептал так тихо, что я едва его слышал, но некоторые из тайцев тоже обернулись и смотрели. Я из его объяснений ни фига не понял. — Что это еще за кио такое? — сказал я. У меня было отвратительное чувство, что меня надули на триста баксов. — Кио — это… Шшш, — прошипел Трей, указывая на сцену. На сцене появилась женщина. На ней было традиционное тайское шелковое платье, на руках она держала ребенка. Ее острое, почти мужское лицо черным нимбом окружали спутанные волосы. Она была старше тех секс-артистов, которых мы видели до того, хотя ей вряд ли было больше двадцати лет. Ребенок скулил и тянул женщину за шелк на ее небольшой груди. Я вдруг заметил, что все тайцы кланяются ей со своих мест. Некоторые даже складывали ладони лодочкой в традиционном жесте почтения — вае. По отношению к секс-артистке это казалось странным. Я нахмурился и поглядел на Трея, но он тоже делал вай. Тряхнув головой, я снова стал смотреть на сцену. Почти все присутствовавшие уже погасили сигареты, но в закрытой барже было столько дыма, что всепроисходящее виделось как в тумане. Женщина на сцене опустилась на колени. Ребенок на ее руках обмяк. Мужчина в черном щелке вышел на сцену и что-то тихо и невыразительно сказал. Наступило долгое молчание. Наконец один толстый таец в первом ряду встал, обернулся, поглядел на толпу, а затем ступил на низкую сцену. Все дружно перевели дух, и напряжение собравшихся словно сменило фокус, если не исчезло совсем. — Что… — зашептал я. Трей покачал головой и показал на сцену. Толстяк как раз передавал пухлую пачку батов человеку в черном шелке. — А я думал, что все должны были заплатить за вход, — шепнул я Трею. Он не слушал. Человек в черном шелке помедлил, пересчитывая деньги — в пачке наверняка была не одна тысяча батов, — а потом сошел со сцены. Как по условленному сигналу, появились две девушки, которых мы видели раньше. Теперь на них были какие-то традиционные платья, которые у меня ассоциировались с церемониальным тайским танцем, виденным на фото; на каждой была высокая островерхая шляпа, странные наплечники и блузка с шароварами из золотистого шелка. Я уже начал думать, не заплатил ли я триста долларов за то, чтобы посмотреть, как четыре человека будут заниматься сексом прямо в одежде. Двое парней тоже вышли на сцену, они были в обычной одежде и несли резное кресло. Я испугался, что сейчас нам покажут еще один номер с геями и лесбиянками, но парни только поставили кресло и ушли. Девушки принялись раздевать толстяка, пока женщина по имени Мара смотрела в пустоту, не обращая внимания ни на мужчину, ни на своих помощниц, ни на толпу. Выполнив ритуал раздевания клиента и аккуратно сложив стопкой одежду, девушки усадили его в кресло. Мне были видны бусинки пота у него на груди и верхней губе. Ноги, похоже, слегка тряслись. Если он заплатил за некую сексуальную услугу, то, похоже, воспользоваться ею сейчас не мог. Член у бедняги съежился так, что стал почти невидимым, а мошонка сморщилась, как грецкий орех. Девушки нагнулись к нему и принялись ублажать его руками и губами. Не сразу, но две умелицы все же сделали так, что пенис толстяка затвердел и поднялся, головкой едва не касаясь живота. Но и в таком состоянии хвастаться ему было особенно нечем. Между тем страшилище по имени Мара все так же смотрела в пустоту, а младенец на ее руках слегка извивался. Женщина не реагировала ни на что, как в припадке кататонии. Тут мое сердце сильно забилось. Я испугался, что они сейчас сделают что-нибудь с ребенком, и меня физически затошнило. Если бы Трей знал, что в деле замешан грудной ребенок… Я взглянул на него, но он смотрел на эту ведьму Мару с какой-то смесью страха и почти научного любопытства. Я тряхнул головой. Тут что-то было нечисто. Девушки покинули сцену, на которой остался толстяк со своей скромной эрекцией и женщина с ребенком. Мара медленно повернулась к нему, и свет фонаря на мгновение заставил ее глаза вспыхнуть желтым. На барже вдруг стало необычно тихо, как будто все затаили дыхание. Мара встала, сделала три шага к мужчине и снова опустилась на колени. Она была довольно далеко от него, так что ей пришлось наклониться, чтобы положить ладонь на его бедро. Я заметил, что ногти у нее на руках были очень длинные и очень красные. Эрекция толстяка тут же начала опадать, и я заметил, как поползли вверх его яйца, точно хотели спрятаться в глубине его тела. Мара, казалось, улыбнулась, увидев это. Не выпуская младенца, она подалась вперед и открыла рот. Я думал, что дело идет к простому оральному сексу, но ее голова приблизилась к гениталиям мужчины не больше чем на восемнадцать дюймов. Меж острых, безукоризненно белых зубов показался язык и изогнулся, едва не касаясь подбородка. Глаза толстяка распахнулись во всю ширь, а его руки и пузо заметно дрожали. Его эрекция вернулась. Мара едва заметно двинула головой, встряхнула ею, точно освобождая шею, и ее язык продолжил ползти наружу. Шесть дюймов языка. Потом восемь. Целый фут мясистого языка вылез из ее рта, словно розовая гадюка из своего темного логова. Когда восемнадцати- или двадцатидюймовый узкий язык, показавшись изо рта, лег на бедро мужчины и начал обвивать его член, я хотел сглотнуть, но не мог. Я пытался закрыть глаза, но не мог опустить веки. Так, с открытым ртом, тяжело дыша, я и смотрел. Язык Мары обвился вокруг головки члена необрезанного толстяка, оттянув на ней кожу. Свет фонаря отражался от его розовой влажной поверхности, смоченный слюной член блестел. Язык удлинился еще, его кончик спиральными движениями двигался вниз, от головки к корню, покачиваясь на ходу, как голова широкотелой змеи. Толстяк закрыл глаза как раз в тот миг, когда язык полностью обвил его конец, и узкий кончик этой мясистой ленты, шатаясь и покачиваясь, приближался к его перепуганным яичкам. Ресницы Мары тоже опустились, но, когда бедра мужчины начали двигаться, под тяжелыми веками замелькало что-то белое и желтое. Вид этого мокрого языка при желтом фонарном свете был отвратителен, тошнотворен, но это было еще не самое худшее. Хуже всего были повреждения на этом языке: раны, продолговатые отверстия, как будто кто-то взял в руки острый скальпель и сделал им серию бескровных, по сантиметру длиной, надрезов. Но это были не надрезы. Даже в скудном свете я видел, как эти мясистые присоски пульсировали, открываясь и закрываясь по собственной воле, точно рты какого-нибудь морского анемона, который кормится, качаясь в мягкой приливной волне. Затем язык плотнее обмотался вокруг напряженного пениса мужчины, и я увидел похожие на перистальтику сокращения, когда розоватая лента начала тянуть и давить, давить и тянуть. Мара сомкнула губы, откинулась назад, словно рыбак, который тянет крепко зацепившийся крючок, и толстяк застонал в экстазе. Крепко вцепившись руками в подлокотники кресла, он начал бешено двигать бедрами, явно ничего не видя полуоткрытыми глазами, которые должно было застлать красноватой пеленой наслаждение. Теперь, после многолетней медицинской практики, я точно знаю, что с ним происходило. И мне легче думать об этом на языке медицины. Страдавший ожирением таец испытал нормальный сексуальный подъем и, пройдя фазу возбуждения, быстро вышел в другую фазу, называемую плато. Внутри его пениса три наполненные губчатой тканью трубки — две длинных corporacavernosa и corpusspongiosum на головке пениса — почти целиком налились кровью. Все время стимуляции пенис продолжал получать ее из спинной, кавернозной и бульбо-уретральной артерий, в то время как клапаны спинных отводящих вен закрылись, не позволяя возвращаться назад в тело на протяжении всей фазы плато. Тем временем возбуждение продолжало нарастать. Непроизвольное напряжение привело к семиспастическим сокращениям лицевой, брюшной и межреберной мускулатуры тайца. Тогда это виделось мне как гримаса боли на напряженном, потном лице и бешеная качка бедер в дымном свете фонаря. Если бы я померил тогда его пульс, то наверняка обнаружил бы, что его сердце бьется со скоростью сто семьдесят пять ударов в минуту. Его систолическое давление подскочило до отметки в 80 мм, а диастолическое — до 40 или выше. В то же время его сфинктер сократился, и пятна сыпи начали распространяться по лицу, груди и шее. Обычно такие симптомы предвещают наступление оргазма, короткий взлет в область повышенного систолического и диастолического давления, затем скорое расслабление, когда тело переходит в фазу разрешения, и кровь оттекает из вновь открывшихся сосудов пениса. Но тогда никакого разрешения не наступило. Язык Мары все стягивал свои кольца, продолжая давить и тянуть. Лицо толстяка все багровело, но он продолжал качать бедрами. Открытые глаза закатились и казались белыми. Головка пениса, едва видимая в тусклом свете, набухла так, что, казалось, была готова лопнуть. Толстые кольца языка скользили по ней и вокруг нее. Мужчина вошел в стадию, которая, как я теперь знаю, носит название эякуляционной: группы мышц спазматически сокращаются, сознательный контроль над мускулатурой лица утрачивается, частота дыхательных движений превышает сорок в минуту, кожные покровы краснеют, бедра активно двигаются. В те дни я называл это просто: кончать. Голова Мары опустилась, как будто она сматывала свой огромный язык. Зато ее глаза широко открылись и пожелтели. Восемь или больше дюймов языка еще обвивали торчащий член толстяка, когда Мара приблизила свой красногубый рот к его паху. Таец продолжал биться в оргазме. Никто из собравшихся в продымленной комнате двадцати с лишним человек не проронил ни слова. Слышны были только стоны толстяка. Его оргазм все длился и длился, куда дольше, чем понадобилось бы для эякуляции любому мужчине. Раздутое лицо Мары поднималось и опускалось, при каждом его подъеме был виден язык, все так же крепко сдавливавший еще ригидный член мужчины. — Господи Иисусе, — прошептал я. Теперь я знаю, что резолюционная стадия набухания пениса происходит быстро и непроизвольно. За секунды семяизвержения пенис проходит двухступенчатую инволюцию, которая начинается потерей примерно пятидесяти процентов эрекции за первые тридцать секунд. Если какое-то сужение кровеносных сосудов и остается — в мои вьетнамские дни я бы назвал это «стоянием», — оно не является и не может быть полной предъэякуляционной эрекцией. У того тайца стояло по-настоящему. Мы видели это каждый раз, когда лицо Мары поднималось над ее свитым в кольца языком. Таец словно бился в эпилептическом припадке: он бешено колотил руками и ногами, глаза закатились до полной невидимости, рот открылся, слюна заливала подбородок и щеки. Он все кончал и кончал. Минуты шли — пять, десять. Я вытер лицо рукой — ладонь стала сальной от пота. Трей дышал открытым ртом, выражение его лица напоминало ужас. Наконец Мара оторвалась от него. Ее язык отпустил член тайца и вернулся в рот, словно шнур внутрь пылесоса. Таец испустил последний стон и соскользнул с кресла; его эрегированный член по-прежнему торчал. — Господь Всемогущий, — прошептал я, радуясь, что все кончилось. Но ничего не кончилось. Губы Мары казались распухшими, а щеки такими же раздутыми, как и секунду назад. На мгновение я представил ее рот и громадный язык, уложенный кольцами внутри, и чуть не расстался с ланчем прямо в дымной темноте. Мара запрокинула голову еще дальше, и я заметил, что ее губы покраснели еще сильнее, как будто, занимаясь оральным сексом, она умудрилась наложить свежий слой влажно блестящей помады. Потом ее рот приоткрылся шире, и красное потекло по губам, закапало с подбородка и пролилось на золотистую шелковую блузку. Кровь. Я сообразил, что во рту и за щеками у нее была кровь; ее непотребный язык наглотался крови. Теперь она заглатывала ее, и что-то вроде улыбки сгладило острые черты лица. Борясь с тошнотой, я опустил голову и твердил себе: «Все кончено. Теперь все кончено». Но ничего еще было не кончено. Младенец лежал на левой руке Мары на протяжении всего бесконечного акта, скрытый из виду головой матери и бедром толстяка. Но теперь он был хорошо виден, его ручки хватались за блузку Мары, всю в пятнах крови. Пока мать, запрокинув голову, перекатывала во рту кровь, как хорошее вино, младенец, утопая пальчиками в золотом шелке ее блузки, карабкался наверх, к ее рту, и мяукал, открывая и закрывая рот. Я поглядел на Трея и, не в силах вымолвить ни слова, перевел взгляд на сцену. Тайские мальчики уже унесли толстяка, который все еще был без сознания, и только Мара и ее младенец остались в луче фонаря. Младенец продолжал карабкаться, пока его щечка не коснулась материнской щеки. Мне вспомнился виденный однажды фильм о детеныше кенгуру, который, появляясь на свет не до конца развившимся, по сути, эмбрионом, ползет, хватаясь за материнский мех, из родовых путей в ее карман — этакий марафон, цена которого — жизнь. Младенец начал лизать матери щеку и рот. Я видел, какой длинный у этого младенца язык, как он розовым червячком скользит по лицу Мары, и хотел закрыть глаза или отвернуться. Но не мог. Мара, похоже, вышла из транса, поднесла ребенка к лицу и приблизила свой рот к его губкам. Я видел, как крошечная девочка открыла рот широко, потом еще шире, и этим напомнила мне птенца, требующего пищи. Мара отрыгнула кровь в открытый рот девочки. Видно было, как надулись щеки, как заработало горло, пытаясь справиться с внезапным наплывом густой жидкости. Процесс кормления оказался на редкость аккуратным; очень немного крови попало на золотистое одеяние младенца или шелк Мары. Пятна плясали перед глазами, и я опустил голову на руки. В комнате вдруг стало очень жарко, и поле зрения сузилось настолько, что я как будто смотрел в трубу. Кожа на лбу стала липкой на ощупь. Рядом со мной Трей издал какой-то звук, но не отвел глаз от сцены. Когда я поднял голову, ребенок уже почти наелся. Мне было видно, как его длинный язычок вылизывает губы и щеки в поисках последних капель отрыгнутой еды. Годы спустя в журнале «Сайентифик америкен» я натолкнулся на статью под названием «Вскармливание у летучих мышей-вампиров», посвященную тому, как взаимный альтруизм побуждает мышей отрыгивать полупереваренную пищу, делясь ею с соседями. Мыши-вампиры, по-видимому, умирают от голода, если не получают от двадцати до тридцати миллилитров свежей крови в течение шестидесяти часов. Оказалось, что после соответствующего побуждения — то есть когда одна мышь полижет другую под крыльями или в рот — донор отрыгивает пищу, но только для тех, кому грозит смерть в ближайшие сутки. Такой взаимный обмен повышает общие шансы на выживание, утверждал автор статьи, поскольку, забрав из шестидесятичасового резервуара мыши-донора пищи на 12 часов, мышь-реципиент в следующую ночь отправляется на поиски свежей крови. Но только из-за картинки в том номере «Сайентифик америкен» — мышка поменьше лижет донора в губы, кожистые крылья обеих сложены на спинках, рты с раздвоенными губами тянутся друг к другу в кровавом поцелуе — меня стошнило прямо в корзину для бумаг в моем кабинете двадцать лет спустя после той ночи в Бангкоке. Что произошло дальше, я помню плохо. Помню, как вернулся на сцену человек в черном шелке, и другой таец — помоложе и постройнее, в дорогом костюме — тоже вышел и заплатил деньги. Помню, как силой вытаскивал оттуда Трея и как пихал целую пачку батов в ладонь водителю какого-то длиннохвостого такси на пирсе снаружи. Если бы пришлось, я бы вплавь убрался оттуда, бросив Трея. Смутно помню ветер, который дул нам в лицо весь путь по Чао Прайя, он освежил меня, помог справиться с тошнотой и подступавшей истерикой. Помню, как пришел в свою комнату и запер дверь. Танг, моя май чао, куда-то исчезла, и за это я был ей благодарен. Помню, как перед рассветом лежал и смотрел в потолок на медленно вращающийся вентилятор, хихикая над несложной разгадкой. В отличие от Трея мне никогда не давались языки, но в этом случае перевод был очевиден. Пханнийаа ман нага кио. Если пханнийаа ман — это Мара, повелитель демонов, а нага — женская инкарнация пханнийаа ман в виде демона-змеи, то кио могло значить только одно: вампир. Я лежал, хихикал и ждал, когда взойдет солнце, чтобы можно было заснуть.
Город еще горит, слышны отдельные автоматные очереди — это правительственные войска расстреливают студентов, пока четверо мужчин везут меня к Маре. На этот раз никаких мучительных поездок по заброшенным клонгам. Лимузин переезжает через реку, движется на юг вдоль берега, противоположного отелю «Ориентал», и останавливается у недостроенного небоскреба где-то в районе автомобильного моста на Так-Син-роуд. Рябой подводит нас к наружному лифту, поворачивает какой-то рычаг, и мы с урчанием начинаем подниматься. Стенок у лифта нет, и я четко, как во сне, вижу реку и город за ней, пока мы ползем в плотное ночное небо. Я еще никогда не видел ее такой пустынной; лишь несколько лодок борются с темнотой ниже по течению. Выше, там, где Большой Дворец и университет, ночь освещает пламя. Мы поднимаемся на сороковой этаж, ветер ерошит волосы. Я ближе всех к краю открытой, скрипучей платформы. Стоит рябому лишь чуть-чуть подтолкнуть меня, и я полечу к реке, вниз на четыреста футов. Лениво размышляю, будут ли секунды полета похожи на то, что чувствую, когда летаю во сне. Двери лифта скользят вверх, и рябой жестом приглашает меня выходить. Где-то над нами трещит сварочный аппарат, рассыпая искры, белые и яркие, как вспышка магнезии. В современном Бангкоке строительство продолжается без перерыва на сон. Здесь у небоскреба нет стен, только свисающий с балок прозрачный пластик делит бетонное пространство на секторы. Горячий ветер перебирает пластиковые полотнища, издавая звук, похожий на шорох кожистых крыльев. Аварийные фонари висят на мачтах, другие видны сквозь пластик слева от нас. Впятером мы идем туда, где звуки и свет. У входа, своеобразного тоннеля из шуршащих полотнищ, трое охранников остаются стоять, и только рябой откидывает пластиковую дверь, делает знак войти и сам следует за мной. Сцены здесь нет, но около дюжины складных стульев окружают открытое пространство, где на пыльном цементном полу расстелен дорогой персидский ковер. Лампа над нашими головами прикрыта, так что большая часть пространства находится в тени, а не на свету. Шестеро мужчин, все тайцы и все в блестящих фраках, сидят на стульях. Их руки скрещены на груди. Двое курят сигареты. Они наблюдают, когда рябой выводит меня вперед. Я смотрю только на двух женщин, которые сидят в тяжелых ротанговых креслах по ту сторону открытого пространства. Старшая из них примерно моего возраста, время обошлось с ней милостиво. Волосы все так же черны, но теперь уложены в модную волну. Азиатское лицо по-прежнему гладко, щеки и подбородок не оплыли, и только суховатая шея и пальцы рук дают понять, что ей уже за сорок. На ней элегантное и явно дорогое платье из черного и красного шелка; золотой с бриллиантами кулон пересекает алый лиф, выделяясь на черном фоне блузки. Молодая женщина рядом бесконечно прекрасна. Смуглая, темноглазая, с блестящими волосами, подстриженными по последней западной моде, с длинной шеей и изящными руками, грациозными даже в покое, она красива той красотой, которая недостижима ни для одной актрисы или модели. Очевидно, она довольна собой, осознает свою красоту и одновременно не думает о ней, и, какие бы страсти ее ни обуревали, жажда восхищения и потребность в признании не из их числа. Я знаю, что передо мной Мара и ее дочь Танха. Рябой приближается к ним, опускается на колени, как делают тайцы, демонстрируя почтение к членам королевской семьи, церемонно кланяется, сложив лодочкой ладони, а затем подает Маре мою пачку из двадцати бон, даже не поднимая головы. Она говорит тихо, он почтительно отвечает. Мара откладывает деньги в сторону и смотрит на меня. Ее глаза вспыхивают желтым в свете висящего над нами фонаря. Рябой поднимает голову, кивком показывает мне подойти и тянет руку, чтобы поставить меня на колени. Но я опускаюсь на пол прежде, чем он успевает схватить меня за рукав. Склоняю голову и устремляю взгляд на шлепанцы на ногах Мары. На изысканном тайском она спрашивает: — Знаешь ли ты, о чем просишь? — Да, — отвечаю я по-тайски. Мой голос тверд. — И ты желаешь заплатить за это двести тысяч американских долларов? — Да. Мара поджимает губы. — Если ты знаешь обо мне, — говорит она очень тихо, — то должен знать и то, что я больше не оказываю подобных… услуг. — Да, — говорю я, почтительно склонив голову. Она ждет в молчании, которое, как догадываюсь, является приказанием говорить. — Досточтимая Танха, — произношу наконец. — Подними голову, — говорит мне Мара. Дочери она шепчет, что у меня джай рон — горячее сердце. — Джай бау ди, — отвечает Танха с легкой улыбкой, намекая, что фаранг повредился в уме. — Узнать мою дочь стоит триста тысяч долларов, — говорит Мара. В ее тоне нет и намека на торг; это конечная цена. Я, почтительно кивая, опускаю руку в потайной карман жилета и извлекаю оттуда сто тысяч долларов наличными и чеками на предъявителя. Один из телохранителей берет деньги, и Мара слегка кивает. — Когда ты хочешь, чтобы это произошло? — журчащим голосом спрашивает она. В ее глазах нет ни скуки, ни интереса. — Сегодня, — отвечаю я. — Сейчас. Старшая женщина смотрит на дочь. Кивок Танхи почти незаметен, но в ее блестящих карих глазах что-то вспыхивает: может быть, голод. Мара ударяет в ладоши, и две молодые тайки появляются из-за шуршащих пластиковых занавесей, подходят ко мне и начинают раздевать. Рябой кивает, его головорезы приносят третье ротанговое кресло и ставят на персидский ковер. Шестеро во фраках наклоняются вперед, сверкая глазами.
В конце концов мы с Треем встретились за завтраком в дешевом ресторанчике у реки на исходе следующего утра. Мне совсем не хотелось говорить о том, что видели, но пришлось. Когда мы наконец завели об этом речь, то оба смущенно отводили глаза и чуть ли не шептали, как бывало, когда кто-то из взвода подрывался на мине, и его имя долго избегали упоминать, разве что в шутку. Но нам было не до шуток. — Ты видел член этого парня… потом? — сказал Трей. Я моргнул, тряхнул головой и глянул через плечо, убеждаясь, что никто не подслушивает. Большая часть столиков у самой реки пустовала. Температура, должно быть, перевалила за сотню. — На нем были такие… дырочки, — зашептал Трей. — Когда я работал спасателем на Мысе, то видел такие у одного парня, который плавал и натолкнулся на медузу… — Его голос прервался. Я отхлебнул холодного кофе и постарался унять дрожь. Трей снял очки и потер глаза. Похоже, он тоже не спал. — Джонни, ты хотел быть врачом. Сколько у человека крови внутри? Я пожал плечами. Была у меня такая бредовая идея попасть служить в лазарет, чтобы, когда вернусь домой, поступить в медицинский; несмотря на мой школьный пофигизм, родичи ожидали, что я таки окончу колледж и стану человеком. Я ни разу не сказал им о том, что после первой недели в Наме понял — домой не вернусь никогда. — Не знаю. По-моему, Трей даже не обратил внимания на то, как я пожал плечами. Он снова надел очки в проволочной оправе. — По-моему, что-то около пяти или шести литров, — сказал он. — Зависит от размеров. Я кивнул, даже отдаленно не представляя себе, сколько это — литр. Годы спустя, когда в литровых бутылках начали продавать газировку, я часто представлял себе пять или шесть таких бутылок, наполненных кровью, — столько мы носим в своих венах каждый день. — Представляешь оргазм, когда ты кончаешь кровью? — прошептал Трей. Пришлось снова оглянуться. Я чувствовал, как мои щеки и шея покрываются краской. Трей тронул меня за запястье: — Нет, ты только подумай, Джонни. Тот парень был еще жив, когда его уносили. Думаешь, эти ребята платили бы такие баксы, если бы знали, что их угробят? «Думаешь, нет?» — мелькнула мысль. Впервые я осознал, что человек способен трахаться, даже если знает, что это — верная смерть. В каком-то смысле то откровение в семидесятых приготовило меня к жизни в восьмидесятых и в девяностых. — Сколько крови человек может потерять и остаться в живых без переливания? — зашептал Трей. По его тону я понял, что он не ждет от меня ответа, просто думает вслух, как когда мы выбирали место для засады. Тогда я не знал ответа на этот вопрос, но с тех пор не однажды имел возможность узнать, особенно когда проходил интернатуру в пункте первой помощи. Раненый может потерять около одного литра крови и поправиться, восстановившись самостоятельно. Потеря крови больше одной шестой всего объема — и жертву уже не спасти. С переливанием можно потерять до сорока процентов общего объема крови и надеяться остаться в живых. Но тогда я ничего этого не знал и не сильно интересовался. Гораздо больше меня занимал оргазм, во время которого вместо спермы вытекает кровь и который длится долгие минуты вместо положенных секунд. На этот раз я не сдержал дрожи. Трей подозвал официанта и заплатил. — Мне надо идти. Хочу поймать такси до Вестерн Юнион. — Зачем? — спросил я. Мне так хотелось спать, что мои слова как будто таяли в горячем, густом воздухе. — Хочу получить перевод из Штатов, — сказал Трей. Я выпрямился на стуле, разом проснувшись: — Зачем? Трей снова снял очки и принялся их протирать. Когда он посмотрел на меня, взгляд его светлых глаз был близоруким и потерянным: — Я вернусь туда сегодня ночью, Джонни.
Девушки раздели меня, и тварь по имени Танха подошла ближе, чтобы приступить к ласкам, как вдруг все кончилось. Мара подала какой-то знак. — Мы кое-что забыли, — говорит она. Впервые по-английски. И делает изящное, полное иронии движение рукой. — Нынешнее время требует особой осторожности. Мне жаль, что мы не вспомнили об этом раньше. — Она бросает взгляд на дочь, и на лицах обеих я замечаю насмешливую полуулыбку. — Боюсь, нам придется подождать до завтра, когда будут готовы необходимые анализы, — она снова перешла на тайский. Мне ясно, что эти двое уже не впервые разыгрывают эту сцену. И догадываюсь, что истинная причина задержки в том, чтобы подогреть желание, а значит, поднять цену. Я тоже улыбаюсь. — Речь идет о личной карте здоровья? — говорю я. — Или одна из клиник должна заверить, что в этом месяце я не ВИЧ-инфицирован? Танха грациозно сидит на персидском ковре рядом со мной. Теперь она двигается ко мне, насмешливо улыбается и слегка выпячивает губы. — Сожалею, — говорит она, и ее голос звенит, как хрустальные колокольчики на ветерке, — но это необходимо в наши ужасные времена. Я киваю. Статистика мне известна. Эпидемия СПИДа поздно пришла в Таиланд, но к 1997-му — меньше чем через пять лет — 150 000 тайцев умрут от этой болезни. Три года спустя, в 2000-м, пять с половиной миллионов из пятидесяти шести тайцев станут носителями болезни, и еще по крайней мере один умрет. Дальше начнется беспощадная геометрическая прогрессия. Таиланд с его смертельным сочетанием вездесущих проституток, неразборчивых сексуальных партнеров и отказа от презервативов даст фору Уганде в качестве полигона ретровируса. — Вы пошлете меня в местную клинику, где на скорую руку ляпают по тысяче анализов на ВИЧ в неделю, — говорю я спокойно, как будто сидеть голым в присутствии двух полностью одетых красавиц и незнакомцев во фраках для меня самое привычное дело. Мара вытягивает тонкие пальцы так, что длинные, красные ногти взблескивают на свету. — Вряд ли у нас есть альтернатива, — шепчет она. — Может быть, и есть, — говорю я и протягиваю руку туда, где, аккуратно сложенный, лежит на стопке моей одежды жилет. Я разворачиваю три документа и протягиваю их Танхе. Девушка очаровательно хмурится, глядя на них, и отдает матери. Я догадываюсь, что младшая из женщин не умеет читать по-английски… а может быть, и по-тайски. Зато Мара просматривает документы. Это справки из двух крупнейших лос-анджелесских клиник и одной университетской, удостоверяющие, что моя кровь неоднократно проверялась на ВИЧ — и неизменно оказывалась чистой. Каждый документ подписан несколькими врачами и заверен печатью учреждения. Бумага, на которой они напечатаны, толстая, сливочного цвета, дорогая. Каждый документ датирован прошлой неделей. Мара смотрит на меня, сузив глаза. Улыбка обнажает ее мелкие, острые зубы и лишь самый кончик языка. — Откуда нам знать, что эти справки не подделка? Я пожимаю плечами: — Я сам врач и хочу жить. Если бы хотел обмануть вас, мне куда легче было бы купить поддельную карту здоровья здесь, в Таиланде. Но у меня нет причин для обмана. Мара снова взглянула на бумаги, улыбнулась и отдала их мне. — Я подумаю, — говорит она. Сидя в своем кресле, наклоняюсь вперед: — Я ведь тоже рискую. Мара поднимает изящную бровь: — Да? Как же? — Гингивит, — говорю я по-английски. — Кровоточащие десны. Любая открытая рана у вас во рту. Мара отвечает мне едва заметной насмешливой улыбкой, как будто я глуповато пошутил. Танха поворачивает изысканное лицо к матери. — Что он сказал? — переспрашивает она по-тайски. — Этого фаранга не поймешь. Мара пропускает ее слова мимо ушей. — Тебе не о чем беспокоиться, — говорит она мне и кивает дочери. Танха снова начинает меня ласкать.
От отпуска оставались две ночи и три дня. Трей не приглашал меня пойти с ним во второй раз, а я не напрашивался. Брать оружие в отпуск запрещалось, но в те дни в аэропортах не было ни металлоискателей, ни серьезной охраны, и некоторые из нас прихватывали с собой пистолеты и ножи. Я взял длинноствольный пистолет 38-го калибра, который выиграл в покер у чернокожего паренька по имени Ньюпорт Джонсон за три дня до того, как он наступил на «прыгунью Бетти». В тот вечер я достал 38-й со дна укладки, проверил, заряжен ли он, заперся в комнате и сидел в одних трусах, потягивая скотч, прислушиваясь к шумам с улицы и наблюдая, как медленно поворачиваются под потолком лопасти вентилятора. Трей вернулся часа в четыре утра. Некоторое время я слушал, как он гремит и стучит чем-то в ванной, а потом лег в постель и закрыл глаза. Может, теперь смогу заснуть. Его вопль выдернул меня из постели, я вскочил с 38-м в руке. Босиком промчался по коридору, ударил дверь и оказался в комнате. Лампа горела только в ванной, узенькая полоска флюоресцирующего света протянулась к разоренной постели. На полу была кровь и оторванная полоса ткани. Похоже, Трей пытался рвать простыни, чтобы сделать повязки. Сделав шаг к ванной, я услышал стон из темноты постели и повернулся, держа 38-й у бока. — Джонни? — Его голос был сух, надтреснут и безжизнен. Я уже слышал такой раньше, у Ньюпорта Джонсона в последние десять минут перед смертью, после того как «прыгунья Бетти» нафаршировала его шрапнелью от шеи до колен. Подойдя ближе, включил ночник у кровати. Трей был голым, не считая майки. Раскинув ноги, он лежал на пропитанном кровью матрасе в окружении окровавленных обрывков постельного белья. Его трусы лежали на полу рядом. Они были черными от запекшейся крови. Ладонями Трей прикрывал себе пах. — Джонни? — прошептал он. — Она не останавливается. Я подошел ближе, положил 38-й и тронул его за плечо. Трей поднял руки, и я отшатнулся. В медленно текущих реках Вьетнама живет такая пиявка, которая специализируется на том, что проникает в мочеиспускательный канал мужчин, вброд переходящих реку. Закрепившись внутри пениса, она начинает есть и ест до тех пор, пока не станет размером с кулак. Мы много слышали об этой чертовой штуке. И вспоминали о ней постоянно, когда переходили вброд какой-нибудь ручей или рисовый чек, то есть не реже дюжины раз в день. Член Трея выглядел так, словно в нем побывала такая пиявка. Нет, хуже. Он не просто был распухшим и дряблым, по всей длине его покрывала тонкая спираль из проколов. Это выглядело так, как будто кто-то взял швейную машинку с большой иглой и прострочил его член вокруг от корня и до головки. Отверстия обильно кровоточили. — Я не могу ее остановить, — прошептал Трей. Его лицо выглядело бледным и липким от пота. Такие лица бывали у раненых парней, прежде чем их подхватывала и уносила волна шока. — Пошли, — сказал я, просовывая под него руку, — надо найти больницу. Трей вырвался и снова упал на подушки: — Нет, нет, нет. Надо только остановить кровь. — Он вытащил что-то из-под подушки, и я понял, что у него в руке «Ка-бар» — нож с черным лезвием, с которым он ходил в ночной патруль. Я поднял свой 38-й, и на секунду настала тишина, прерываемая лишь потрескиванием лопастей вентилятора да уличными шумами. Наконец я захихикал. Дурдом. Вот мы, в сотнях миль от Вьетнама и от войны, я с пистолетом, Трей с ножом, готовые порешить друг друга. Сущий дурдом. Я опустил оружие: — У меня есть аптечка. Сейчас принесу. Я привез с собой аптечку поменьше из тех двух, которые таскал в рюкзаке по джунглям, не столько ради бинтов, разумеется, сколько ради седативных, антидепрессантов и обезболивающих, выдававшихся перед серьезными операциями. Морфин выдавали ограниченными порциями только медикам, но я заныкал немало декседрина и демерола. Были там и кое-какие сульфамиды. С таблетками и бинтами пошел назад к Трею, дал ему забинтоваться, а сам налил воды. Трей теперь сидел, накрывшись окровавленной простыней. Он вытер с лица пот: — Не знаю, почему кровь никак не останавливается. Тогда я тоже не знал. Теперь знаю. Летучие мыши-вампиры и европейские аптечные пиявки испускают один и тот же антикоагулянт: гирудин. У мышей он содержится в слюне; пиявки производят его в кишечнике и смазывают поверхность раны. Он не дает ране закрыться, и кровь свободно течет до тех пор, пока кровосос кормится. Мыши-вампиры нередко сосут кровь из шеи лошади или коровы по несколько часов, часто возвращаясь на место трапезы с товарищами, чтобы продолжать пиршество до рассвета. Немного погодя Трей заснул, а я сидел на треснувшем стуле у окна, наблюдая за входной дверью и держа бесполезный 38-й на коленях. У меня была мысль силой заставить Маладунга привести меня к Маре и там застрелить и его, и женщину. «И младенца», — добавил про себя. Мысль казалась не такой уж непереносимой. За последние пять месяцев я повидал немало мертвых младенцев. И никто из детишек косоглазых не лакал отрыгнутую кровь с губ своих матерей перед тем, как их прикончили. Думаю, я, ни минуты не сомневаясь, порешил бы обеих — и мать, и дитя. «А как ты потом оттуда выберешься?» — возник вопрос в рациональной части мозга. Не думаю, чтобы тайцы с радостью восприняли насильственную смерть своих — возможно, единственных, — пханнийаа ман нага киос. Слишком уж им нравились услуги мамаши. Временно отказавшись от этого плана, стал думать о том, что делать дальше. Если кровотечение у Трея не прекратится, можно будет отвезти его в связное подразделение военно-транспортного авиационного командования, которое, как говорили, было где-то в Бангкоке. Если окажется, что ничего подобного в городе нет, найду какого-нибудь практикующего врача и заставлю его оказать приличную медицинскую помощь. Если и это не поможет, принесу Трея в ближайшую тайскую больницу и там под угрозой пистолета заставлю оказать помощь вне очереди. Перебирая эти возможности, я заснул. Когда я проснулся, в комнате было темно. Вентилятор под потолком продолжал свое прерывистое вращение, но уличные звуки за окном снизились до ночного уровня. Постельное белье было пропитано свежей кровью, кровь была на полу, вся ванная была закидана окровавленными полотенцами, но Трея нигде не было. Я выскочил в коридор и помчался вниз, в фойе, но по дороге вдруг сообразил, что у меня за вид: глаза дикие, босой, полуголый, в мятых, с пятнами крови трусах, длинноствольный 38-й в руке. Тайские шлюхи и их сутенеры в фойе едва глянули в мою сторону. Вернувшись к себе, я переоделся в гражданскую одежду, надел широкую гавайскую рубаху, сунул за пояс пистолет и снова вышел в ночь. Я почти настиг Трея. Я видел его в том же доке, из которого мы отправлялись вместе две ночи назад. Темный силуэт рядом с ним наверняка принадлежал Маладунгу. Они только ступили в длиннохвостое такси, когда я вбежал в док. Лодка с ревом рванула с места. Трей увидел меня, встал и чуть не выпал из набиравшей скорость лодки. Он поднял руку и потянулся ко мне, растопырив пальцы, точно хотел до меня дотянуться через пятьдесят футов воды. Я слышал, как он кричал водителю: «Йут! Пхуен юнг май ма! Йут!» — чего я тогда не понял, но теперь перевожу как «Стоп! Мой друг еще не сел! Стоп!». Я видел, как Маладунг втащил его обратно. Выхватил пистолет и бессмысленно нацелил его на лодку, которая понеслась по реке, нырнула за какую-то баржу, идущую вверх по течению. Я знал, что никогда больше не увижу Трея живым.
Мара опускает глаза, когда Танха приближает рот к моему паху. Время ласк языком еще не настало. Пока. Губами и ртом молодая женщина приводит меня в состояние полной эрекции. Сколько бы ни писали и ни говорили мужчины о радостях орального секса, в их отношении к этому акту все равно присутствует некая двойственность. Для одних рот не ассоциируется с полом, а потому не позволяет подсознанию расслабиться настолько, чтобы получить удовольствие. У других неконтролируемая острота ощущений вызывает легкую тревогу, примешивающуюся к потоку наслаждений. Многим мешает непрошеная мысль об острых зубах. Мне надо сосредоточиться на том, чтобы ни на чем не сосредоточиваться, иначе эрекция не наступит. К счастью, мужской орган устроен настолько просто, насколько это вообще возможно в природе, и с легкостью реагирует на возбуждение. У Танхи нежный, хорошо обученный рот; возбуждение не заставляет себя ждать, и член встает, неизбежно набухая. Я закрываю глаза и стараюсь не думать о людях во фраках за моей спиной. Кто-то приглушил верхний свет, так что лишь снопы искр от сварочного аппарата двумя этажами выше освещают всю сцену и вспышками магнезии прорываются сквозь закрытые веки. Мара что-то шепчет, и я вздрагиваю, когда теплый рот Танхи отрывается от меня. Шок от соприкосновения с прохладным воздухом длится лишь несколько секунд, после чего возвращается иная влажность. Открываю глаза ровно настолько, чтобы увидеть язык Танхи, который выскальзывает изо рта. В мертвенном свете сварки он кажется скорее фиолетовым, чем розовым. Замечаю крошечные щелки, которые пульсируют, открываясь и закрываясь, как маленькие рты. Я запираю мысли на замок, прежде чем успеваю подумать о кормящихся пиявках и миногах. Долгие годы готовил себя к тому, чтобы с достоинством встретить этот миг. Ощущение, которое приходит на фоне скользящей влажной теплоты, больше напоминает легкие электрические разряды, чем столкновение с медузой. Я вскрикиваю и открываю глаза. Танха следит за мной сквозь завесу черных ресниц. Ощущение повторяется, разряд спускается по утонченной нервной системе пениса вниз, к основанию позвоночника, а оттуда по каналу спинного мозга устремляется вверх, к центру удовольствия. Я опять со стоном закрываю глаза. Моя мошонка сжимается от удовольствия. Крошечные электрические разряды спиралью пронизывают мой член по всей длине, взмывают по моему телу вверх и возвращаются в пенис, лаская его, как нежная рука в бархатной перчатке. Бедра против воли начинают двигаться. Сердце колотится так сильно, что кажется, будто во всей вселенной не осталось больше звуков, только его бешеные удары. Грохот пульса эхом отзывается внутри черепа. Отдельные точечные уколы электрических разрядов превратились в замкнутую спираль приятных ощущений. Кажется, будто я трахаю солнце. Даже когда мои бедра начинают работать не на шутку, а руки тянутся к голове Танхи, чтобы приблизить это восхитительное ощущение, какая-то часть моего мозга продолжает наблюдать классические симптомы наступления оргазма и размышляет о тахикардии, миотонии и гипервентиляции. Мгновение спустя все остатки профессиональной обеспокоенности исчезают, смытые приливной волной чистого удовольствия. Язык Танхи сжимается и тянет от основания пениса до головки, жмет и тянет, жмет и тянет. Отдельные удары тока сливаются в единую замкнутую цепь почти невыносимого наслаждения. Эякуляция проходит почти незаметно, так велико давление. Из-под дрожащих век я замечаю, как семя белыми лепестками осыпает плечи и голову Танхи. Ее язык ни на минуту не замирает. Глаза становятся желтыми, как у матери. Оргазм проходит, не разрешив растущего напряжения. Сердце старательно накачивает кровь в мой растянутый член. Да! Я хочу этого, даже когда моя голова запрокидывается, шея напрягается, и гримаса перекашивает лицо. Да! Я сделал свой выбор сам и теперь не волен в нем. В следующую секунду я кончаю. Кровь струйкой вырывается из моего пениса и орошает лицо и груди Танхи. Она жадно приближает ко мне рот, не желая потерять ни капли. Бедра колотятся в такт учащенному пульсу. Мгновение длится и длится. Мара наклоняется ближе.
Первыми в то раннее утро двадцать два года назад ко мне пришли тайские полицейские. Я думал, они хотят арестовать меня за то, что я всю ночь прослонялся по коридорам отеля до самого рассвета, никого, правда, не подстрелил, зато всем грозил взведенным 38-м. Но они не стали меня арестовывать, а повели к Трею. Морг в Бангкоке был маленький и недостаточно холодный. Запах напомнил мне сад, в котором падалица в изобилии гниет на солнце. Там не было ни металлических шкафов, ни бесшумных каталок, как показывают в американском кино: Трей лежал на стальной плите вместе с еще дюжиной трупов, и все это в маленькой комнате. Его лицо было открыто. Без очков он выглядел беззащитным. — Он такой… белый, — сказал я единственному полицейскому, который говорил по-английски. — Его нашли в реке, — ответил смуглый таец в белом мундире с ремнем «Сэм Браун». — Он не утонул, — сказал я. Это был не вопрос. Полицейский покачал головой. — Ваш друг потерял много крови. — Он подтянул повыше белые перчатки, тронул Трея за подбородок и повернул голову трупа так, чтобы мне стал виден глубокий разрез от левого уха до адамова яблока. Я подавил желание захихикать. — Как вы узнали, где меня искать? — спросил у полицейского. Белая перчатка нырнула в карман и извлекла оттуда ключ: — Вот все, что у него при себе было. Я выдохнул, меня слегка качнуло, так что пришлось ухватиться за стальную платформу. — Его убило не ножевое ранение, инспектор. Дайте я вам кое-что покажу. — Я потянул за край простыни, открывая нагое тело Трея. На этот раз я все же хихикнул. Инспектор и два других полисмена, прищурившись, глядели на меня. Стигматы исчезли. Половой орган Трея был срезан грубо, но чисто. Впечатление было такое, как будто на куклу Кена пролили лак для ногтей. Я уронил простыню и отступил. Инспектор подошел ближе и подхватил меня под руку, то ли поддерживая, то ли не пуская. — Мы думаем, что это дело… как вы говорите… С голубым оттенком. Соперничество гомиков. Нам и раньше встречались подобные ранения. И всегда в них есть намек на голубизну. Ревность. — Ревность, — повторил я, подавляя то ли смех, то ли слезы. — Да. — Арест и суд уже маячили передо мной. Мысли, которые я хранил втайне от самого себя, превратятся в газетные заголовки, их будут шепотом повторять в казармах и отхожих местах. Интересно, посадят ли меня тайцы в свою тюрьму или отошлют обратно, подтрибунал? Инспектор выпустил мою руку: — Мы знаем, где вы были в то время, когда его убили, рядовой Меррик. Хозяин лодки в Фулонг Док видел, как вы кричали вслед моторке, которая увозила капрала Тиндейла. Менеджер отеля подтвердит, что вы вернулись несколькими минутами позже, напились и не давали забыть о себе всю ночь. Так что вы не могли присутствовать при убийстве капрала, но, может быть, у вас есть какие-нибудь соображения о том, кто мог бы его убить? Ваши военные наверняка захотят это узнать. Я поднял простыню, накрыл ею труп Трея и сделал шаг назад: — Нет. Представления не имею.
Мара облизывает дочери губы. Руки обеих прижаты к бокам, ладони скрючены, как у паралитиков. Я представляю летучих мышей-вампиров, которые свисают с потолка холодной пещеры, крылья плотно сложены, и только губы и языки активно движутся, занятые делом. Танха запрокидывает голову, и густая красная жидкость проливается из ее широко растянутых губ в полость материнского рта. Мне ясно слышны чавкающие, булькающие звуки. Язык Танхи еще не ослабил хватку, и я по-прежнему корчусь в ее тисках. Мое сердце почти лопается от напряжения. В глазах темнеет, и я больше не могу наблюдать процесс кормления, а только слышу густые булькающие звуки. Мои лицевые мускулы все еще искажены миотоническим спазмом невольной гримасы. Если бы я мог, то улыбался бы.
Маладунга я нашел осенью 1975-го, вскоре после того, как выпустился из медицинской школы. Сутенеришка разбогател, отошел от дел и вернулся в свой родной Чианг Май на севере. Нанятому мной тайскому детективу я заплатил из первой доли полученного наследства и два дня наблюдал за Маладунгом сам, прежде чем захватить его. Он был женат, имел двоих взрослых сыновей и десятилетнюю дочь. Бывший сутенер как раз направлялся к своему магазину в старом городе, когда я подъехал на джипе, пригрозил ему 9-миллиметровым автоматическим пистолетом и велел садиться в машину. Затем повез его в деревню, в маленький дом, который там нанял. Пообещал ему, что он будет жить, если расскажет все, что знает. Думаю, что он так и поступил. Мара и ее маленькая дочь исчезли из виду и выступали теперь только для очень богатых людей. Убийство Трея оказалось простой предосторожностью; мы были первыми американцами, которых допустили в присутствие Мары, и они опасались последствий, которые возникнут, если слух о ее представлении дойдет до солдат. Меня тоже планировали убить в ту ночь, но двое, посланные с заданием в отель, увидели, как я, пьяный, шатаюсь с пистолетом по фойе и ору, и передумали. Пока нашли других, похрабрее, я был уже на пути в Сайгон. Маладунг клялся, что узнал об убийстве Трея, только когда дело было уже сделано. Он клялся. Маладунг не подозревал, что пханнийаа ман нага кио собирается навредить фарангу сильнее, чем предполагала ее услуга. Приставив браунинг к его лбу, я потребовал, чтобы он под страхом смерти сказал, что обычно происходило с теми, кто прибегал к услугам Мары. Маладунг трясся, как старик. — Они умирают, — сказал он сначала по-тайски, потом по-английски. — Сначала теряют душу, — кхван хаи, так он сказал, — их душа-бабочка покидает тело, — а затем виньян, дух жизни, истекает из них. Они возвращаются еще и еще, пока не умрут, — говорил он прерывающимся голосом. — Но это их выбор. Я опустил пистолет и сказал: — Я верю тебе, Маладунг. Ты не знал, что они убьют Трея. — Потом поднял «пушку» и дважды выстрелил ему в голову. В ту же осень я начал поиски Мары.
Я кончаю, мужчины во фраках уже ушли, Танха сидит надо мной в кресле, рядом с матерью, а две молодые женщины заканчивают отмывать и одевать меня. Под штанами я чувствую бинты. Похоже на подгузники. В паху влажно от крови, но я почти не замечаю дискомфорта, ведь удовольствие еще медленно пульсирует внутри меня, словно отзвук прекрасной музыки. — Мистер Ной информировал меня о том, что у вас есть еще деньги, — говорит Мара тихо. Киваю, говорить нет сил. Всякая мысль о нападении покинула меня; я не сделал бы этого, даже если бы не знал, что ее телохранители рядом, за пластиковым занавесом. Мара и Танха — источники бесконечного наслаждения. Я и думать не могу о том, чтобы как-нибудь навредить им сейчас и тем самым отменить то, что будет происходить со мной в последующие ночи. — Лимузин заберет вас из отеля завтра в полночь, — говорит Мара. Она делает движение пальцами, и ее люди входят, чтобы увести меня. Я слегка удивляюсь, обнаружив, что не могу идти сам. Улицы пусты и немы, как могила. Даже стрельба стихла. Оранжевое пламя еще полыхает на севере. Я закрываю глаза и смакую память об экстазе, пока меня везут назад, в «Ориентал». По-моему, во Вьетнаме я еще не знал, что я гей. Самую настоящую любовь к Трею принимал за что-то другое: верность другу, восхищение им и даже особую мужскую любовь, которые солдаты якобы питают друг к другу в бою. Но это была любовь. Теперь я это знаю. Понял это вскоре после того, как вернулся с войны. Но из подполья так и не вышел. По крайней мере прилюдно. Еще в медицинской школе научился ходить в самые неприметные бары и незаметно заводить там временные связи. Со временем научился ограничивать похождения редкими вылазками в городах, далеких от моего дома в Лос-Анджелесе. А еще встречался с женщинами. Тем, кто удивлялся, почему я до сих пор не женат, стоило только взглянуть на мое расписание, чтобы понять — на семейную жизнь у меня нет времени. И я продолжал охотиться за Марой. Дважды в год я летал в Таиланд, изучал города и язык, и дважды в год нанятые мной агенты сообщали, что женщина исчезла. И лишь в 1990-м она и ее дочь появились опять — нужда в деньгах заставила их согласиться на дорогостоящие представления. Тогда я ничего не мог сделать. Чем больше я узнавал о Маре, Танхе и их привычках, тем сильнее убеждался, что мне никогда не приблизиться к этим двоим с оружием в руках. Мой любовник из Сан-Франциско бросил меня после шестилетней связи, услышав, как во сне я зову его «Трей». А потом, всего полгода назад, я получил некие результаты и после нескольких часов бессильного гнева понял, что получил желанное оружие. И начал строить планы.
Рябой кивает остальным, чтобы меня выпустили, и я иду по переулку в отель. Даже в пять утра улыбающиеся швейцары в униформе приветствуют меня приятными голосами у входа и придерживают дверь. Я умудряюсь кивнуть и прохожу через старое Писательское крыло в новое, к лифтам. Еще один служащий появляется, чтобы придержать двери лифта. — Доброе утро, мистер Меррик, — здоровается совсем молодой таец, почти мальчик. Я улыбаюсь и жду, когда сомкнутся дверцы лифта, и лишь тогда хватаюсь за перила, чтобы не упасть. Чувствую, как кровь сочится сквозь бинты прямо в брюки. Только длинный фотографический жилет спасает положение, скрывая пятна. У себя в номере принимаю ванну, обрабатываю ранки специальной мазью, привезенной с собой, делаю укол коагулянта, снова моюсь и лишь потом надеваю свежую пижаму и забираюсь в постель. Через несколько минут станет светло. Через четырнадцать часов снова наступит ночь, и я вернусь к Маре и ее дочери. В Чианг Мае, где шлюхи дешевы, а молодые люди празднуют наступление мужества, покупая половой акт, 72 процента беднейших проституток имели положительный результат анализа на ВИЧ в 1989 году. В барах и секс-клубах Патпонга человек в красно-сине-золотом костюме супергероя раздает бесплатные презервативы. Его прозвали Капитан Кондом, а нанимает его АРНО, Ассоциация развития населения и общества. АРНО придумал сенатор Мечаи Виравайдия, экономист и член Комиссии по СПИДу Всемирной организации здравоохранения. Мечаи потратил столько времени, сил и денег, рекламируя презервативы, что эти резиновые изделия уже зовет мечаями весь Бангкок. Почти никто ими не пользуется: мужчины не хотят, а женщины не настаивают. Каждый пятидесятый таец или тайка зарабатывают на жизнь, продавая свое тело. По-моему, компьютерные прогнозы на 2000 год неверны. По-моему, инфицированных будет куда больше пяти миллионов, и больше миллиона умрут. Думаю, что трупы заполнят клонги и будут лежать вдоль канав в каждом сои. Думаю, что лишь очень богатые или очень, очень осторожные смогут избежать этой чумы. Мара и Танха были — еще совсем недавно — очень богаты. И очень осторожны. Только потребность разбогатеть снова заставила их забыть об осторожности. Разумеется, справки о моем ВИЧ-отрицательном анализе подделаны. Это было легко. Лабораторные заключения подлинные, только даты и имена на них я поставил сам, скопировав на официальные бланки при помощи ксерокса и добавив печати. Я служу во всех трех институтах, чьи печати и бланки позаимствовал. За полгода, прошедшие с того момента, как я получил положительные результаты анализов на ВИЧ, мой план из схемы превратился в неизбежность. Они монстры, Мара и ее дочь, но даже монстры теряют осторожность. Даже монстров можно убить. На потолке моего роскошного, снабженного кондиционером номера в отеле «Ориентал» нет вентилятора. Пока первые бледные отблески зари ложатся на гипс и тиковые балки у меня над головой, представляю себе медленно вращающиеся лопасти и засыпаю. Я улыбаюсь, думая о том, чем буду занят этой ночью и следующей тоже. Представляю женщину постарше, облизывающую губы дочери, вижу, как она широко раскрывает пасть в ожидании каскада крови. Моей крови. Смертельной крови. Прежде чем уснуть, успокоенный принятыми лекарствами и последними оборотами воображаемого вентилятора, представляю образ, который придавал мне сил все эти годы и особенно последние шесть месяцев. Я вижу Трея, который снимает очки и щурится, и лицо у него становится беззащитным, как у ребенка, и нежным, как щека возлюбленного. И он говорит мне: «Я вернусь, Джонни. Сегодня вечером». Беру его за руку и без тени сомнения говорю: — И я с тобой. И улыбаюсь — ведь я нашел то место, куда можно вернуться, — и отпускаю себя в прощение и сон.
ЖЕНЩИНЫ С ЗУБАСТЫМИ ЛОНАМИ
Слушай меня. Я расскажу тебе нечто важное. Еще никому не рассказывал эту историю. Вряд ли у меня останутся силы и время, чтобы рассказать ее еще раз перед смертью. Поэтому слушай, если хочешь узнать. Сперва должен развернуть вон тот сверток. Ты поглядывал на него, пока я говорил в твой аппарат последние недели. Ты из вежливости ничего не спрашивал, но холщовый сверток наверняка заинтересовал тебя. Все-таки он размером с человека. Поминутно посматривал на него, когда я рассказывал, как вичаза ваканов вроде меня запеленывают наподобие мумии при обряде юви-пи, и ты, должно быть, спрашивал себя, уж не труп ли еще одного из них сидит у этого полоумного старика в углу лачуги. Нет, там не человек. Гляди, вот я разворачиваю. Под холстиной ты видишь семь сыромятных кож, перевязанных ремнями. Я сниму сыромятные кожи. Под сыромятными кожами — бизонья шкура. А под бизоньей шкурой — оленья. Чувствуешь, какая она мягкая, несмотря на возраст? Она вымочена до такой мягкости во рту моей прабабки. На-ка, подержи ремни, пока я разворачиваю оленью шкуру. Под ней — красная фланель. Под красной фланелью — синяя. Это последняя обертка. Теперь сядь, а я потушу весь свет, кроме свечи на столе. Вот я разворачиваю синюю фланель. Вижу, ты разочарован. Всего лишь две старые курительные трубки, думаешь ты. Ты неправ. Мои соплеменники лакота сиу порой ждут всю жизнь, чтобы увидеть одну из этих трубок, и даже тогда они не испытывают разочарования. Их можно доставать только в самые важные и священные моменты. Ты спросишь, зачем же я достал трубки сейчас, перед вазикуном вроде тебя — причем вазикуном несведущим. Отвечаю: пускай ты несведущ, но ты не глуп, как и большинство вазикунов. У тебя есть секретарша, она услышит слова, которые я говорю в твой магнитофон, и напечатает все в совершенной точности. Это важно. Я бы рассказал историю такохе — моему жирному испорченному правнуку, — но у него глаза и уши залеплены испражнениями телевизора вазикунов, который он смотрит по шесть часов в день. Другой мой такоха, мой настоящий внук, сидит в тюрьме в Рапид-Сити. А даже если б не сидел, все равно его ум и его наги — дух — разрушены алкоголем. И в нашей резервации нет никого, у кого хватило бы терпения, мозгов или мудрости выслушать и понять мою историю, извлечь из нее знание, необходимое для того, чтобы стать вичаза ваканом — шаманом — или ваайатаном — человеком, который видит будущее. Сейчас нет. В нынешнее плохое время, которое вазикуны предложили нам съесть, а мы и проглотили, точно глупая лошадь, глотающая колючки и подыхающая, когда они раздирают ей желудок. Но возможно, однажды кто-нибудь из лакота прочитает мою историю в твоем невежественном изложении. И возможно, тогда они поймут. Поэтому молчи и слушай.Трубка, на которую ты смотришь сейчас, это Птехинчала Хуху Канунпа — Трубка Малоберцовой Бизоньей Кости. Она пятнадцать поколений хранилась в моей семье из племени итазипчо народа сиу. Красные штуковины, свисающие с нее, — это орлиные перья. А вот это птичьи шкурки и маленькие скальпы. Вижу, тебя передернуло. Да, может статься, это скальпы детей-вазикунов, но я все-таки думаю, это скальпы пауни. У пауни всегда были маленькие головенки, ведь мозги-то у них крохотные. Говорят, все хранители трубок доживают почти до ста лет, а ты знаешь, что я родился еще в прошлом веке. Вторая — священная трубка нашего племени. Видишь, чаша у нее красная? Она сделана из «трубочного камня», который добывают в одной-единственной каменоломне в мире. Охотники гнали бизонов через скалы, где находится каменоломня. В трубочном камне — кровь бизонов. Но он стал священным для нашего народа не из-за бизоньей крови. Трубочный камень — плоть сиу. Я говорю в прямом смысле, не в метафорическом, как вы выражаетесь. Красный трубочный камень, из которого сделана чаша, — самая настоящая плоть сиу. Почти восемьдесят пять лет назад я впервые в жизни вошел в католическую церковь — маленькую миссионерскую часовню среди равнин, прекратившую свое существование задолго до Великой депрессии. Помню, как испытал страшное потрясение, когда священник объяснил нам смысл причастия. «Это тело Христово, — сказал он через переводчика, новообращенного бруле сиу. — Его истинная плоть, которую мы вкушаем». Помню, мои родные испытали такое же потрясение, когда мы с ними обсуждали это вечером в нашем жилище. Мы знали, что вазикуны жадные — само слово и означает «пожиратели лучших кусков», — но мы не знали, что они людоеды. Не знали, что они едят плоть и кровь своего Бога. Но потом заговорил мой тункашила. Мой дед, очень старый и очень мудрый, был вичаза ваканом и ваайатаном одновременно, а иные говорили, что он не только целитель и провидец, а еще и вапийя, колдун. Помню, у него на лбу и черепе было бледное родимое пятно — длинное и тонкое, похожее на шрам, и оно являлось частью дедовой вакан, священной силы. Когда он говорил, мы слушали. Я слушал тем вечером. — Ничего плохого в словах священника вазикунов нет, — сказал мой тункашила. — Может, плоть их Бога превращается в хлеб так же, как плоть наших предков превращается в трубочный камень. Может, кровь их Бога превращается в вино так же, как кровь наших предков втекает в нас через племенную трубку и Птехинчалу Хуху Канунпа. В этом нет ничего плохого. Это не людоедство, как в историях про канги викаша, племя кроу, которые рассказывала моя бабушка. Не будем осуждать вазикунов за это. После слов моего тункашилы все старики кивнули и сплюнули, и я сделал то же самое. Но сейчас я держу в руках эти трубки и говорю: дотрагиваясь до этих каменных чаш, я дотрагиваюсь до плоти моих предков. Куря племенную трубку, смешиваю свою кровь с кровью всех сиу, живших до меня. И еще одно. Рассказывая свою историю, я буду курить. Доподлинно известно: всякий умрет на месте, кто солжет хоть словом, пока курит племенную трубку. Помни об этом, внимая повествованию. Теперь слушай. Ничего не говори. Не задавай никаких вопросов. Просто слушай.
Для начала хочу объяснить, почему я рассказываю эту историю после стольких лет молчания. В прошлом месяце мой внук — не тот, что сидит в тюрьме в Рапид-Сити, а сын дочери моей покойной третьей жены — пригласил меня в свой трейлер на окраине Дедвуда, чтобы посмотреть фильм на видеомагнитофоне. Мероприятие было обставлено торжественно. Там собрались несколько его дочерей, единокровная сестра и пять других моих родственников. Всем хотелось увидеть, какое впечатление произведет фильм на их старого тункашилу. Они словно бы делали мне большой подарок за то, что я все еще жив, хотя уже давно пора бы умереть. Фильм назывался «Танцующий с волками». Он вышел немногим раньше, и в Рапид-Сити давалась большая премьера, на которую приехало много народа из резервации, но я тогда лежал в больнице с воспалением легких и пропустил всю шумиху. И вот, мой внук Леонард Пресная Вода устроил вечеринку, посвященную «Танцующему с волками», чтобы я не помер, так и не увидав это расчудесное кино про наш народ. Ну, я ушел с середины фильма. Леонард и остальные подумали, что просто вышел отлить в кустах, которым по-прежнему отдаю предпочтение перед надворными сортирами и встроенными туалетами, но на самом деле потопал к своему дому, находившемуся милях в сорока оттуда. Я чуть не сблеванул от фильма. То есть и впрямь это сделал, но здесь скорее всего виноваты тухлые буррито, которыми Леонард угостил нас, прежде чем поставить кассету. Мои внуки захлебывались от восторга, что большинство диалогов в фильме ведется на настоящем лакотском языке, хотя в действительности это звучало ужасно — так же по-идиотски звучит английский, когда на нем говорит иностранец, который тупо заучил слова, не зная, что они означают и где нужно ставить ударения. Мне вспомнился Бела Лугоши, без всякого понимания произносивший вызубренные английские фразы в старом фильме «Дракула». Только Лугоши изображал иностранца, а эти ребята считали, что они лакота, говорящие на родном языке! Но меня заставил уйти не идиотизм с языком. А нескрываемое презрение. После того как меня вывернуло, я долго шел и плакал, пока Леонард и остальные не догнали меня на пикапах, сообразив наконец, что произошло. Плакал потому, что мои собственные потомки поверили, будто в фильме показываются настоящие лакота. По-моему, любой человек, снявший подобное дерьмо, — просто мерзкий хорек, и фильм должен называться «Танцующий с хорьками». Популярный актер, поставивший фильм и исполнивший в нем главную роль, просто мерзкий хорек. Он изображает там медлительного, тупого малого с хорьковыми повадками — мои предки не стали бы лебезить перед таким, не приняли бы в племя, не дали бы хорошее имя Танцующий с Волками и женщину, пусть даже пленную женщину вазикунов, а просто не обратили бы на него внимания. Или отрезали бы парню яйца, если б он и дальше продолжал к ним лезть. Я расплакался от расстройства, что мои соплеменники не увидели в фильме презрения. Презрения, какое проявляют только всемогущие поработители к бесправным порабощенным. Поначалу вазикуны боялись равнинных индейцев. На первых порах они безоговорочно признавали наше превосходство. Позже, когда численность вазикунов возросла и страх в них уравновесился жадностью до наших земель, они нас возненавидели. Но по крайней мере то была ненависть, замешенная на уважении. Приторно улыбчивые, миролюбивые, экологически чистые идиоты, какими представлены лакота сиу в этом блевотном фильме, могут существовать только в воображении самодовольного калифорнийского вазикуна вроде мужика, снявшего «Танцующего с волками». Там все дышит снисходительностью. Все дышит презрением, происходящим от отсутствия страха или уважения перед народом, чьи представители в прошлом спокойненько отрезали яйца твоим предкам. Снисходительным высокомерием человека, который может предложить только жалость, поскольку она ничего не стоит. Шагая домой тем вечером, я вдруг вспомнил одну нашу детскую игру. Она называлась «исто кикичастакапи» и заключалась в том, чтобы хорошенько разжевать ягоды шиповника, выплюнуть косточки в ладонь и швырнуть кому-нибудь в лицо. Кроме косточек, там обычно было много слюны. Так вот, фильм «Танцующий с волками» — своего рода «исто кикичастакапи» вазикунов. Слюна и ягодные косточки, брошенные в лицо. Там нет ничего настоящего, ничего подлинного. Итак, слушай. В моей истории нет тупых, улыбчивых светловолосых вазикунов, все персонажи в ней икча вичаза — вольные люди природы, или сиу по-вашему. В общем, слушай.
Давным-давно в нашем племени родился мальчик, которого назвали Хока Уште, что значит Хромой Барсук. Такое имя он получил, поскольку в ночь его рождения на стоянку забрел припадающий на одну лапу барсук и нагадил прямо перед типи, где мать Хромого Барсука уже начинала хвататься за родильную палку. Тебе следует знать: барсук — священное животное, обладающее великой вакан, то есть таинственной природной силой. Барсучья пенисная кость издавна использовалась в качестве швейного шила, что кажется забавным, если учесть, какие проблемы создаст повзрослевшему Хоке Уште собственный пенис. Кроме того, барсук — очень сильное животное, особенно когда забирается в нору. Уж если он в своей норе, то и трем здоровым мужикам не вытащить его оттуда. Мой дед рассказывал, как трое парней из нашего племени возвращались на свою зимнюю стоянку у Мини-Сосе (то есть Мутной реки, которую вазикуны называют Миссури), где впоследствии находилось агентство Пятнистого Хвоста и резервация Пайн-Ридж, и вдруг увидели барсука, бегущего к норе. Молодой воин по имени Пятнистый Хвост, позже известный как Сломанная Рука, пустился в погоню: он только что обменял одного из коней брата на новехонькое лассо вазикунов и теперь хотел испытать его в деле. Пятнистый Хвост заарканил барсука за секунду до того, как тот нырнул в лаз. Оба товарища помогали тянуть, но барсук забирался все глубже под землю и в конце концов сломал Пятнистому Хвосту руку в трех местах и вывихнул плечо. В ходе борьбы коварная веревка вазикунов запуталась вокруг трех лошадей, и хотя Пятнистому Хвосту с товарищами удалось из нее выпутаться, всех трех лошадей барсук утащил за собой в нору. К ужасу воинов, они еще час или дольше слышали крики несчастных животных, которых барсук душил одного за другим, смыкая сильные челюсти на их мордах. В тот день Пятнистый Хвост потерял старое имя и стал известен как Сломанная Рука, поскольку «Лишившийся Лассо и Лошадей в Схватке с Барсуком» по-лакотски звучало слишком длинно. Но все в племени всегда помнили, что Пятнистый Хвост лишился лошадей и нового лассо. Этот случай произошел на самом деле, и я рассказываю о нем, чтобы ты знал, почему мы почитаем и вакан-силу, и животную силу барсука. У него есть еще одна интересная особенность. Если вспороть брюхо мертвому животному и посмотреть на свое отражение в луже барсучьей крови, ты увидишь себя таким, каким будешь в момент смерти. Один мой друг попробовал, еще в детстве, но увидел только знакомое отражение своего мальчишеского лица. Он сказал, что магия не удалась, однако меньше чем через месяц его лягнула в голову лошадь, и он умер в тот же день. Я никогда не хотел смотреть на свое отражение, но если бы взглянул еще в детстве, то увидел бы старое сморщенное лицо, какое ты сейчас видишь перед собой. И тогда — зная, что умру в глубокой старости, — мог бы стать отважным воином, или астронавтом, или кем-нибудь вроде, а не скромным вичаза ваканом, каким предпочел заделаться. В общем, Хока Уште — Хромой Барсук — при рождении получил сильное имя, но во всех прочих отношениях ничем не отличался от других детей. Он рос самым обычным ребенком и не обнаруживал никаких особенных способностей. Как большинство мальчиков, он был такохой, избалованным внуком, и играть со сверстниками любил гораздо больше, чем выполнять немногочисленные хозяйственные обязанности, которые возлагались на наших мальчиков во времена, когда еще не было школ и резерваций. Весной Хоке Уште сильнее всего нравилась игра «мато кичияпи», когда мальчишки кидают друг в друга острые стебли травы до первой крови, зимой — игра «пре-хес-те», когда по льду пускают оперенную палку, а летом — командная игра «хватай-за-волосы-и-пинай». Нет, в детстве Хока Уште ничем не выделялся среди сверстников. Тебе следует помнить: все события, о которых я сейчас рассказываю, произошли в золотое время, когда мы уже получили в дар священную трубку от Женщины Белый Бизон и лошадь от Вакана Танки, но еще прежде, чем вазикуны начали превосходить по численности бизонов на наших родных равнинах. Дело было до Пехин Ханска Казата — уничтожения Длинного Волоса на Сочной Траве, то есть убийства Кастера в битве при Литл-Биг-Хорн в 1876 году. До ужасного договора, подписанного в форте Ларами в 1866 году, по которому икче вичаза — вольные люди природы — лишились права на свободу. То есть до того, как вазикуны приказали нам жить в резервации. Думаю, то был год, когда привели пленных, или 1843-й по летоисчислению вазикунов. Я так полагаю потому, что отец Хоки Уште был сорокачетырехлетним стариком, когда мальчик появился на свет. Отца звали Спящий у Ручья, и родился он в год, когда умерло много беременных женщин, что соответствует вашему 1799-му. Еще сильнее удивляет преклонный возраст матери Хоки Уште, Женщины Три Облака, в момент рождения ребенка — говорят, она родилась либо в год, когда лошадям завивали гривы, 1804-й по-вашему, либо в год, когда махали лошадиными хвостами, 1805-й, а значит, была старухой тридцати восьми или тридцати девяти зим, когда произвела на свет сына. Хока Уште был единственным ребенком. Говорят, оба родителя верили, что столь позднему ребенку непременно суждено стать большим человеком, но ни один из них не дожил до дней, когда маленький Хока Уште начал разговаривать. Зимой в год, когда привели пленных, Женщина Три Облака вышла из типи за водой в сильную метель и замерзла до смерти. Спящий у Ручья, невзирая на преклонный возраст, следующим летом ушел со стоянки, похваставшись совершить деяние славы над пауни, и больше его никто не видел. Хоку Уште растили дед с бабушкой и все женщины деревни, и он стал избалованным такохой, как я уже говорил. Но в каком-то смысле все икче вичаза тогда были такохами. Я имею в виду, время было изобильное и легкое, прошлое существовало только в преданиях, а будущее только в мечтах, и, несмотря на боль, страх, тяготы и смерть, жизнь оставалась простой и безбедной. Икче вичаза обладали полной свободой передвижений и считали своим домом весь мака ситомни — окружающий мир, вселенную. Но это только предыстория. Сама же она начинается, когда Хоке Уште стукнуло семнадцать, и он приступил к своей ханблецее, обряду поиска видений, навсегда изменившему его самого и его соплеменников.
Ну-ка, останови пленку и запиши на бумаге. Ханблецея. Я хочу, чтобы ты не только услышал, а и увидел слово: ХАН-БЛЕ-ЦЕ-Я. Его важно знать. «Имя есть некое орудие поучения и разбора сущности». Знаешь, кто из мудрых вичаза ваканов сказал это? Нет, не Черный Лось. Его звали Сократ. Давай-ка, запиши слово. Ханблецея. А теперь слушай дальше.
Ко времени, когда Хоке Уште исполнилось семнадцать, старшие мужчины в племени подумывали переименовать его в Шест Типи, потому что детородец у него вечно стоял торчком, твердый и длинный, как молодые сосенки, из которых мы делаем шесты для типи. Хоку Уште это смущало, но он был страстным мальчиком. В отличие от других юношей, предпочитавших скакать верхом, бороться друг с другом и угонять лошадей у пауни или кроу, Хока Уште любил болтаться по стоянке и глазеть на молодых девушек. Парню еще повезло, что его не переименовали в Совершающего Деяние Славы над Девушками. Надо сказать, в маленьком селении вроде того, где вырос Хока Уште, обычно мало винчинчал — красивых девушек, чтоб влюбиться. Но одна такая винчинчала там имелась, звали ее Бегущий Олененок. Шестнадцатилетняя, с милым личиком и длинными черными волосами, всегда блестящими от жира, стала бы ценным трофеем для любого отважного воина, не говоря уже о зеленом юнце вроде Хромого Барсука. Но Хока Уште постоянно на нее пялился. Следует сказать еще две вещи про ухаживания и секс у сиу во времена, когда нас еще не загнали в резервации. Во-первых, мы очень стеснительны в этом отношении. У нас даже есть особое слово для стеснительности подобного рода — вистелкия; оно означает одновременно боязнь полового акта и страх кровосмешения. Последнего мы особенно опасались. Наши племена всегда были малочисленными, и наши предки видели печальные плоды родственных браков. Отсюда все табу на сожительство с близкими родственниками. Отсюда наша вистелкия. Во-вторых, трудно описать, насколько мало уединения было тогда у людей. Семьи спали в общих типи, поэтому дети с нежного возраста видели и слышали, как отец с матерью совокупляются в углу по-собачьи или пыхтят под одеялами, но подглядывать считалось дурным тоном, а открыто заниматься сексом в присутствии детей — совсем уже недопустимым. Хока Уште, выращенный дедом с бабушкой, наверняка ни разу не видел зверя с двумя спинами. И ни разу в жизни не оставался наедине с девушкой. У икче вичаза издавна повелось, что юноши жили своей жизнью, а девушки — своей, и они практически не общались, пока от них не требовались совместные усилия, чтобы перенести стоянку, либо набрать хвороста и сухих бизоньих лепешек для растопки. Поэтому Хока Уште всячески старался подобраться поближе к Бегущему Олененку, для чего целыми днями болтался у ручья, словно охотник, выслеживающий хитрого зверя. Рано или поздно, рассудил он, каждая женщина в деревне приходит к ручью набрать воды в бурдюк. Хока Уште прятался за кустами на берегу и ждал от рассвета от заката, когда Бегущий Олененок придет одна за водой. Порой девушка приходила со своей свирепой матерью, Горластой Женщиной, и тогда Хромой Барсук просто стоял за юккой, тополем или можжевеловым кустом, с глупым видом почесывая ногу. И даже когда Бегущий Олененок приходила одна, он единственно мог выйти из укрытия и широко ухмыльнуться. Иногда она улыбалась в ответ, но в другие разы не обращала на него ни малейшего внимания — наполняла бурдюк и уходила. Тогда Хоке Уште оставалось стоять и почесывать ногу все с тем же глупым видом. В конце концов Хока Уште надоело торчать у ручья, и он решил совершить проникновение в типи. Для вазикуна пробраться в дом любимой девушки — не проблема, но Хоке Уште потребовалось все мужество, чтобы принять такое решение. Отец Бегущего Олененка носил имя Стоячий Полый Рог и славился дурным нравом. Почти все считали, что характер у него испортился из-за долгого сожительства с Горластой Женщиной, но так или иначе о дурном нраве Стоячего Полого Рога ходили легенды. Однако еще сильнее Хока Уште боялся при проникновении в типи разбудить саму Горластую Женщину, которая непременно все расскажет всей деревне. Матери сиу не прощали домогательств к своим дочерям. Если бы Хока Уште был взрослым воином и жил один, женщины за такое дело вполне могли спалить его типи вместе с ним. Или перерезать подколенные сухожилия его лошади. Поскольку Хока Уште все еще жил с дедом и бабкой, а собственной лошади не имел, он содрогался при мысли о том, что с ним могут сотворить Горластая Женщина и ее подруги. Но страсть к винчичале оказалась сильнее страха. Одной безлунной ночью в месяце, когда возвращаются утки — то есть в апреле, — Хока Уште тихонько выбрался из типи своего деда, бесшумно двинулся вокруг стоянки, стараясь держаться подальше от коновязей, и скоро приблизился к типи Стоячего Полого Рога. К счастью, ему не пришлось обходить стороной всех псов, которые обязательно подняли бы лай, крадись он через стоянку, пускай он знал всех их по именам, а они знали его в лицо, но собаки по ночам беспокойны и мигом облают любого, кто крадется лаской между типи. Хока Уште не раз слышал рассказы деда и других воинов, как они пробирались в селения пауни или шошонов с целью совершить деяние славы, и теперь воспользовался всеми узнанными приемами, чтобы бесшумно подползти к типи Бегущего Олененка, отодвинуть задний полог и просунуть голову под стенку из бизоньей шкуры. Воздух снаружи был морозный и свежий, внутри же стояла привычная духота, насыщенная дымом костра, телесными испарениями спящих людей и домашним запахом давно не проветривавшихся спальных шкур. Горластая Женщина не отличалась ни опрятностью, ни трудолюбием. Наученный рассказами старых воинов, Хока Уште осторожно просунул голову под стенку типи, потом затаил дыхание и не шевелился, пока не определил, кто где лежит. Стоячего Полого Рога он опознал тотчас же по звучному храпу. Горластая Женщина сердито ворчала и покрикивала даже во сне, и всякий раз, когда в темноте раздавался ее резкий голос, Хока Уште обмирал от страха, как бы она не проснулась. Бегущий Олененок спала бесшумно, и когда глаза Хромого Барсука привыкли к темноте, он разглядел бледное плечо и черные волосы, тускло отблескивающие в звездном свете, что проникал в открытое дымовое отверстие. Хока Уште судорожно вдохнул, только когда у него уже помутилось в глазах от удушья. Храп и болтовня во сне продолжались. Горластая Женщина презрительно проворчала что-то людям в своем сне, а потом шумно повозилась под одеялами и повернулась на другой бок, спиной к Хоке Уште. Он воспринял это как приглашение и, извиваясь, вполз в типи, по возможности тише протащив свою тощую задницу под тяжелой бизоньей шкурой. Снова затаив дыхание, Хока Уште прополз четыре или пять футов до постели Бегущего Олененка. Он увидел, что на девушке ничего нет, кроме просторной нижней рубашки, и плечи у нее голые. Сердце стучало так громко, что он удивлялся, почему еще не проснулись все в селении. Он совсем уже собрался дотронуться до нее, когда размеренный храп Стоячего Полого Рога вдруг оборвался на коротком всхрапе и мужчина сел под одеялами. Хока Уште неподвижно застыл, попытавшись превратиться в сваленную кучей бизонью шкуру. Сердце колотилось так сильно, аж ребра ныли. Стоячий Полый Рог встал в темноте, ногой отодвинул в сторону спальные шкуры, поднял полог типи и вышел наружу. Хока Уште услышал, как он мочится там: по звуку ни дать ни взять бизон. Минуту спустя Стоячий Полый Рог вернулся в типи, улегся и укрылся одеялами. Хока Уште находился меньше чем в шести футах от него, но он опустил голову, подобрал ноги и спрятал ладони на груди, чтоб не отсвечивали в звездном свете. Мальчик отчаянно молился Вакану Танке, чтобы старый воин не почуял чужака в палатке и не выпустил незваному гостю кишки, как подстреленному оленю, даже не потрудившись выяснить, кто перед ним. Стоячий Полый Рог снова захрапел. Прошло несколько минут, прежде чем Хока Уште осмелился пошевелиться. Словно почувствовав его возбуждение, Бегущий Олененок повернулась к нему лицом и откинула прочь покрывало. Наклонившись к девушке, Хока Уште ощутил на щеке частое легкое дыхание и подумал: «Она не спит! Она зовет меня к себе!» Он облизнул внезапно пересохшие губы и потянулся левой рукой к ноге девушки, а правой приготовился зажать ей рот, вздумай она вдруг закричать. Хока Уште дотронулся до бедра возлюбленной. Кожа там оказалась нежнее, а мышцы — мягче, чем он мог вообразить. Бегущий Олененок сонно вздохнула, но не закричала. У Хоки Уште мутилось в голове от вожделения и страха попасться с поличным. Он медленно провел ладонью вдоль сильной мышцы на внутренней стороне бедра, задирая подол тонкой рубашки, и остановился, только когда его пальцы очутились в паре дюймов от теплого паха Бегущего Олененка. Все тело Хоки Уште тряслось от возбуждения, одна только рука оставалась неподвижной, а пальцы — твердыми, как его стоящий торчком детородец. Наконец Хока Уште стало невмоготу терпеть дальше. Он подполз пальцами поближе к источнику этого тепла в полной уверенности, что Бегущий Олененок сейчас проснется, если еще спит, или вскрикнет, если уже проснулась. Но она не проснулась и не вскрикнула, только пролепетала что-то сонным голосом, слишком невнятным, чтобы быть притворным. Хока Уште забыл дышать. Он впервые в жизни трогал женскую виньян шан. От возбуждения парень чуть не застонал в голос и до крови впился зубами в нижнюю губу. Все его внимание сосредоточилось на кончиках пальцев, обследовавших новый, незнакомый объект. Хока Уште с удивлением обнаружил, что лобковые волосы у Бегущего Олененка не мягкие и курчавые, как он ожидал, а длинные и вроде даже заплетенные в косичку. Он скользнул пальцами по лобку с поразительно жесткими волосами и осознал, что они достигают середины бедра и действительно заплетены в косичку. Это потрясло Хока Уште и привело в дикое возбуждение, но в следующий миг мальчика осенила одна догадка, и возбуждение — уже почти достигшее предела — разом спало. Охваченный подозрением, от которого пальцы, уже дрожавшие, задрожали еще сильнее, Хока Уште переместил ладонь под просторной рубашкой с лобка на талию винчинчалы. Волосы были и там, обвивали талию подобием ремня. Хока Уште тотчас понял, что остался в дураках. Он опустил руку ниже, нашарил косичку между девичьих ног, теперь сдвинутых, и ощупью обследовал — косичка спускалась из-под рубашки, проходила под одеялом и тянулась по полу. Хока Уште лежал на ней. Он перекатился на бок и пробежал пальцами по волосяной веревке — она вела прямо к Горластой Женщине. Мать Бегущего Олененка перехитрила Хромого Барсука. Она прибегла к старой уловке, распространенной среди матерей икче вичаза: взяла длинную веревку из конского волоса и один конец обвязала дочери вокруг талии. Другой же конец был привязан к щиколотке Горластой Женщины. Хока Уште отдернул дрожащую руку, ведь от малейшего натяжения старуха, сейчас подозрительно затихшая, могла проснуться. Возможно, она уже проснулась и схватилась за скорняжный нож. Хоку Уште подался назад, все еще чувствуя в кончиках пальцев тепло девичьего тела. Он с величайшей осторожностью приподнялся на руках, чтоб не задевать веревку, и медленно, очень медленно пополз прочь от спящей винчинчалы. Точно так же он однажды уползал от гремучей змеи, свернувшейся кольцами на плоском валуне, где он прилег вздремнуть. Хоке Уште потребовалась целая вечность, чтобы добраться до проема, через который он проник в типи, и еще две вечности он собирался с духом, чтобы приподнять полог и снова проскользнуть под ним. Шорох кожаной стенки типи показался оглушительным, как раскат грома в сочетании с топотом бизоньего стада, охваченного паническим страхом. Оказавшись снаружи, Хромой Барсук встал на четвереньки и попытался отдышаться, но тут у соседнего типи залаяла собака. Он вскочил и опрометью помчался к краю деревни, напрочь забыв о всякой осторожности. Скатился с откоса к ручью и прятался в кустах почти до рассвета, а потом прокрался к типи деда и вошел с таким видом, словно просто выходил помочиться. Между тем тело и ум Хоки Уште горели огнем неудовлетворенной страсти. Да уж, ночка у него выдалась тяжелая.
Рано утром дед Хоки Уште, тункашила Громкоголосый Ястреб, вошел в типи, легонько толкнул мальчика носком мокасины и сказал: «Ку-куу! Вставай и собирайся. Мы идем к Стоячему Полому Рогу». Можешь представить, как испугался Хока Уште. Он не сомневался: отец Бегущего Олененка поутру обнаружил его следы и теперь знает о проникновении в типи. Как ни боялся мальчик Стоячего Полого Рога, он понял, что еще сильнее боится Горластую Женщину. Все селение потешалось над Стоячим Полым Рогом, чью жизнь отравлял сварливый пронзительный голос жены, и теперь Хока Уште представил, как эта старая черепаха будет прогрызать ему плешь до скончания дней. Пока бедолага, волоча ноги по пыли, брел за тункашилой к жилищу Бегущего Олененка, он не придумал лучшего способа избежать позора, чем самоубийство или добровольное изгнание. В типи Стоячего Полого Рога все спальные одеяла были убраны, остались только церемониальные — на них и уселись двое мужчин и сгорающий от стыда мальчик. Нигде поблизости не было и следа Горластой Женщины, если не считать чаш с горячим педжута сапой, который она, по всей видимости, недавно вскипятила, а Стоячий Полый Рог сейчас предложил Громкоголосому Ястребу и Хромому Барсуку. Густой горький напиток педжута сапа, черное лекарство, икче вичаза изредка выменивали у вазикунов. Жутко крепкий и противный на вкус кофе иные из сиу считали вакан, уступающим по силе только мни вакен, огненной воде, то есть виски, — и в те дни, когда вазикуны еще не расползлись по всем равнинам, точно вши по бизоньей шкуре, педжута сапа был большой редкостью. Щедрость старого воина удивила Хоку Уште, но потом он сообразил, что скорее всего это некая формальная процедура, предваряющая страшную головомойку. После распития кофе процедура продолжилась: Стоячий Полый Рог набил кинник-кинником свою трубку и зажег. Когда Хока Уште предложили поучаствовать во взрослом ритуале курения, он опять удивился, а потом опять решил, что это своего рода прелюдия перед ужасным наказанием, уготованным для него. От черного лекарства и крепкого табака у него слегка закружилась голова. Мальчик решил, что он слишком робок и слишком устал, чтобы уйти в изгнание на всю жизнь. Он убьет себя. — Хока Уште! — начал Стоячий Полый Рог голосом таким резким и звучным, что мальчик от страха чуть не воспарил над одеялом. — Думаю, ты знаешь мою дочь, Бегущего Олененка? — Охан, — только и сумел выдавить Хромой Барсук. «Да». Все остальные слова вылетели у него из головы. Он не находил оправданий своему поступку. — Ваштай. — Стоячий Полый Рог глубоко затянулся и снова передал трубку Громкоголосому Ястребу. — Это хорошо. Значит, ты знаешь, почему мы с твоим тункашилой позвали тебя сюда? Хока Уште лишь моргнул, не в силах вымолвить ни слова. «Я воспользуюсь скорняжным ножом, — подумал он. — Он острее и перережет большую вену быстрее и безболезненнее». — Бегущему Олененку уже пора обзавестись мужем, — прорычал Стоячий Полый Рог. — Пора подарить внуков своей матери и мне. Я много раз говорил это Громкоголосому Ястребу. Мы с ним порешили, что ты будешь хорошим мужем для моей дочери. На сей раз у Хоки Уште не хватило сил даже моргнуть. Стоячий Полый Рог продолжал буравить его взглядом: — А сегодня ночью ты мне приснился, Хока Уште. Мальчик все так же неподвижно смотрел на него. Ему казалось, он уже никогда не сможет моргнуть. — Мне приснилось, будто зимним вечером я вошел в свой типи, а там ты с моей дочерью и двумя моими внуками.Сегодня утром я пошел к Хорошему Грому, и наш вичаза вакан сказал, что сон мог быть видением. Он говорит, мой сон мог быть вакинианпни, хотя я не ваайатан. Он говорит, это хорошо. Хоке Уште удалось повернуть голову и посмотреть на деда. Громкоголосый Ястреб затягивался из трубки, его глаза сузились до щелок. Хока Уште снова перевел взгляд на Стоячего Полого Рога. «Мой тесть?» Внезапно он представил Горластую Женщину своей тещей, с которой он живет в одном типи. К счастью, у икче вичаза считалось табу разговаривать с тещей и вообще как-либо замечать ее существование. Еще одно последствие вистелкии, страха кровосмешения. Но в тот момент Хока Уште возрадовался такому табу. — Пилмайя, — проговорил Хока Уште голосом тонким и дрожащим, как тростинка в летнюю грозу. «Большое спасибо». Еще не договорив, он осознал, насколько глупо это звучит. Стоячий Полый Рог досадливо повел рукой: — Ты не понимаешь. Громкоголосый Ястреб? Дед Хоки Уште выпустил клуб дыма и посмотрел на своего такоху: — Стоячий Полый Рог и Горластая Женщина готовы обзавестись внуком, — медленно произнес он. — Маленьким ребенком, чтобы ласкать, баловать и растить из него такоху вроде тебя. Бегущий Олененок готова стать женой… — Он умолк, словно полагая, что Хока Уште понимает очевидное. Хока Уште кивнул, ничего не понимая. Громкоголосый Ястреб вздохнул. — Но ты не готов стать мужем, — мягко сказал он Хромому Барсуку. Мальчик пытался осмыслить услышанное. Громкоголосый Ястреб раздраженно почесал щеку: — Ты не стал ни воином, ни хорошим охотником. Тебя не интересуют дела племени. У тебя нет ни лошадей, ни шкур, ни орлиных перьев. Ты никогда не совершал деяния славы и не смеялся в лицо врагам, которым нужен твой скальп. У Хоки Уште вытянулось лицо, но Громкоголосый Ястреб быстро продолжил, будто желая смягчить свои слова: — Ты знаешь, Хромой Барсук, мы не требуем, чтобы все наши юноши становились воинами или героями. Мы знаем, что твои сны и желания твоего сердца определят, кем ты станешь… — Он положил узловатую грубую руку мальчику на плечо. — Ты знаешь, мы уважаем даже рожденных быть винкте. — Я не винкте! — выпалил Хока Уште наконец, разозлившись. Винкте назывались мужчины, которые одевались и вели себя, как женщина. Поговаривали, что винкте наделены одновременно мужскими и женскими органами. Хотя винкте считались носителями вакан и получали хорошую плату за то, что давали младенцам тайные имена силы, ни один уважающий себя лакотский воин не согласился бы стать одним из них. — Я не винкте, — хрипло повторил Хока Уште. — Да, ты не винкте, — согласился Громкоголосый Ястреб. — Но кто ты, внук? Хока Уште потряс головой: — Я не понимаю твоего вопроса, дедушка. Тункашила протяжно вздохнул: — Ты не захотел ни вступить в один из военных отрядов, ни участвовать в конных набегах, ни научиться охотничьему искусству, чтоб добывать пищу для племени… Ты думал о каком-нибудь занятии, которое сделало бы тебя подходящим мужем для Бегущего Олененка? Это нужно решить, чтобы мой друг и кола Стоячий Полый Рог мог правильно распорядиться будущим своей дочери. Хока Уште посмотрел на деда и отца возлюбленной. Он и не знал, что эти двое когда-то совершили ритуал колы: повязали сыромятные ремешки себе на кисть, чтобы стать самыми крепкими друзьями, все равно что единым целым. Хока Уште осознал, что преступление, которое он пытался совершить против Стоячего Полого Рога нынче ночью, стало бы преступлением против родного тункашилы, и он закрыл глаза, исполненный благодарности к Горластой Женщине, обвязавшей волосяную веревку вокруг талии дочери. — Итак? — подсказал Стоячий Полый Рог. Хока Уште сообразил, что оба мужчины ждут от него ответа, который решит их с Бегущим Олененком будущее. В голове у Хромого Барсука было пусто. Мужчины пристально смотрели на него слезящимися от дыма кинник-кинника глазами. — Я видел сон… — начал Хока Уште. Мужчины слегка подались вперед. Икче вичаза придавали важное значение снам. У Хоки Уште кружилась голова от бессонной ночи, от ужаса, от табака и крепкого педжута сапы. — Я видел сон, где прошел ханблецею и стал вичаза ваканом. — Хотя голос Хоки Уште не дрогнул, мальчик едва не лишился чувств от изумления, когда услышал слова, вышедшие из своих уст. Стоячий Полый Рог удивленно дернул головой и вопросительно взглянул на Громкоголосого Ястреба. — Вичаза ваканом, — пробормотал он. — А Хороший Гром стареет и все сильнее замыкается в себе, особенно с тех пор, как его жена умерла от лихорадки прошлой зимой. Ханблецея, чтобы посмотреть, не призван ли этот юноша стать вичаза ваканом. — Стоячий Полый Рог хмыкнул и передал трубку Хоке Уште. — Ваштай! Громкоголосый Ястреб посмотрел, как внук затягивается дымом, потом забрал у него трубку. Морщинистое лицо старика смягчилось и приняло выражение, отдаленно похожее на улыбку. — Ваштай, — согласился он. — Это хорошо. Хетчету. Да будет так.
Назавтра, рано утром, когда дыхание лошадей клубилось в морозном воздухе и собачий лай болезненно резал слух, Хока Уште приплелся к типи единственного оставшегося в живых шамана племени с подарком в виде мешочка кинник-кинника. Хороший Гром разделил с гостем дым подарка из красивой племенной трубки, хранившейся у него, а потом повернулся к мальчику: — Хийюпо, скажи мне, зачем ты здесь? Хока Уште нервно сглотнул и поведал шаману о намерении пройти ханблецею, чтобы проверить, не призван ли и он тоже стать шаманом. Хороший Гром прищурился: — Я удивлен, Хока Уште. За все семнадцать лет, что тебя знаю, ты ни разу не задавал вопросов, не приходил ты в мой типи, чтобы расспросить про вакан, и не уделял внимания ритуалам, которые я проводил для твоих деда с бабушкой. С чего вдруг тебе явилось на ум пройти ханблецею? Хока Уште сглотнул, прежде чем ответить. — Я видел сон, ате. — Мальчик назвал Хорошего Грома «отец» из почтения. Вичаза вакан проницательно взглянул на него: — Сон? Расскажи мне. Хока Уште опять сглотнул и постарался сплести обрывки разных снов в один убедительный сон-видение. Он не лгал. Ну или не совсем лгал. Лгать вичаза вакану, куря племенную трубку, значило навлечь на себя мгновенную смерть от громовых существ. Когда мальчик закончил, Хороший Гром смотрел все с тем же прищуром: — Значит, тебе приснилось, что ты стоял на высокой горе, а с облаков спустилась лошадь и сказала, что духи хотят говорить с тобой? Такой сон ты видел, Хока Уште? Хока Уште вдохнул поглубже: — Охан. Старик потер подбородок. — Меня в твоем возрасте такой сон не побудил бы к ханблецее… — Он взглянул на мальчика. — Но с другой стороны, времена меняются… сны тоже. Ни один из остальных юношей не видел вообще никаких снов, которые привели бы его на тропу вичаза вакана. — Он дотронулся до плеча Хоки Уште. — Ты знаешь, чего от тебя потребует ханблецея? Хромой Барсук покусал губу: — Ну, я должен голодать четыре дня, ате. И еще парильня… — Нет, нет, — перебил Хороший Гром, откладывая в сторону священную трубку. — Это все делается. Я спросил, знаешь ли ты, что требуется? Хока Уште молчал. — Когда ты приготовишься сам и подготовишь место, — заговорил Хороший Гром внезапно набравшим силу голосом, какого Хока Уште уже давно не слышал, — от тебя потребуется думать только о том, чтобы разглядеть видение. Ты должен очистить ум от всех прочих мыслей. Не думать о еде. Не думать о винчинчалах… Хока Уште постарался не моргнуть. — Ты должен думать только о видении, — продолжал Хороший Гром. — Ты вознесешь дым чанзазы сначала духу востока, потом духу севера, и если они не пошлют тебе видение, ты вознесешь дым духу запада, а если и он не одарит тебя видением, ты вознесешь дым духу юга. — Охан… — начал Хока Уште. — Молчи, — сказал Хороший Гром. — Итак, если ты правильно постился и сосредоточивался два или три дня из четырех, но духи так и не откликнулись, тогда ты вознесешь дым чанзазы духу Земли, а если и он не со пошлет тебе видение, ты совершишь дымное приношение Вакану Танке, великому духу самого неба… но только в том случае, если ты уверен, что остальные духи не отозвались. Тебе все понятно? Хока Уште наклонил голову. — Не впадай в уныние, если тебе придется ждать видения долго, — продолжал Хороший Гром. — Духам спешить некуда. Когда ты получишь видение, ни о чем больше не проси духов, а сразу возвращайся сюда, и мы растолкуем тебе смысл видения. Хока Уште слегка кивнул. — Если ты не получишь видения, мы будем разочарованы, но если мы сочтем видение негодным… — в голосе Хорошего Грома послышались резкие нотки, — ты покроешь себя бесчестьем, бабушка с дедом отрекутся от тебя, и ты станешь позором племени… Хока Уште вскинул взгляд, по-прежнему не поднимая головы. Лицо Хорошего Грома было мрачнее тучи. — А если у тебя хватит глупости солгать нам про видение, — грозно произнес вичаза вакан, — тогда мы велим тебе делать вещи, неугодные духам… и это навлечет беду на тебя и всех, кто тебя знает. Хока Уште закрыл глаза и горько пожалел, что воспылал страстью к Бегущему Олененку. Хороший Гром дотронулся до опущенной головы Хоки Уште, и мальчик вздрогнул. — Но даже если ты получишь настоящее видение, — сказал старик, — дело все равно может обернуться плохо для тебя и всего племени. Например, если ты увидишь громовых существ или если во время твоей ханблецеи в холм ударит молния, ты сразу же станешь хейокой, шутом, шаманом наоборот… Хока Уште в ужасе открыл глаза. Когда он был совсем маленьким, у них в селении жил один хейока. Шамана наоборот звали Подающий Воду в Роге, и хотя все его уважали и боялись (ведь шаманы наоборот все-таки вакан), этот хейока был очень онсика — жалким. Среди зимы, когда все кутались в толстые одеяла и грелись у костров в типи, Подающий Воду в Роге бродил по сугробам в одной набедренной повязке и жаловался на жару. Летом, когда Хока Уште и другие мальчишки купались нагишом в ручье, хейока кутался в одеяла, стуча зубами от холода. Хока Уште помнил, как однажды Подающий Воду в Роге забормотал какую-то тарабарщину, а бабушка сказала: «Он говорит слова задом наперед, и его понимают только духи. Все-таки он хейока». Последний раз Хока Уште видел Подающего Воду в Роге, когда он — сидя на лошади задом наперед — уезжал в прерию, где и сгинул без следа. Хромой Барсук вспомнил, как пару дней спустя дедушка прошептал бабушке, мол, селение потеряло часть вакан, но зато обрело спокойствие. — Хейокой? — повторил Хока Уште, чуть приподняв голову. Хороший Гром смотрел перед собой слегка расфокусированным взглядом. — А может, Вакан Танка призовет тебя стать не вичаза ваканом вроде меня, а шаманом иного рода, — тихо проговорил он. — Может, ты станешь целителем, будешь совершать ювипи и лежать в темноте, туго завернутый в одеяла, чтобы духи могли найти тебя. Или станешь ваайатаном, провидцем, и дашь нашему племени вакинианпи, которое решит нашу судьбу. А может, станешь педжута вичаза, травником, и будешь готовить нам лекарства. Или же… — Хороший Гром ненадолго умолк и потемнел лицом. — Или же ты станешь вапийей, колдуном, и будешь поражать болезни ваанацином. Либо вокабийей, колдуном самого опасного рода, который лечит колдовскими лекарствами, вихмунге, и вдохом высасывает болезнь прямо изо рта умирающего. Хока Уште замотал головой: — Нет, ате. Я хочу стать обычным вичаза ваканом вроде тебя, жениться на Бегущем Олененке и жить простой жизнью. Взгляд Хорошего Грома снова сфокусировался, и старик уставился на Хоку Уште с таким удивлением, словно только сейчас обнаружил его: — Твои желания не имеют никакого значения. Приходи завтра, с еще одним мешочком табака, и мы начнем готовиться к твоей ханблецее.
В последующие дни Хока Уште и Хороший Гром занимались подготовкой к обряду поиска видений. Поскольку Хороший Гром был единственным шаманом в селении, а другие стоянки икче вичаза находились слишком далеко, чтобы призвать на помощь еще каких-нибудь вичаза ваканов, Хороший Гром выбрал нескольких старейшин племени — тункашилу Хоки Уште Громкоголосого Ястреба, однорукого старика Деревянную Чашу, блота хунку (военного предводителя) Желающего Стать Вождем, ейапаху (глашатая) Грохот Грома и двух старых воинов по имени Увертливый от Удара и Преследуемый Пауками, — чтобы они помогли мальчику пройти ханблецею. Все вместе они наблюдали за инипи Хоки Уште, первой парильной церемонией. Сначала Хромой Барсук срезал двенадцать деревец белой ивы, воткнул стволы в землю по кругу диаметром около шести футов, сплел гибкие ветки в купол и покрыл каркас кожей, шкурами и листьями. В середине палатки вырыл яму, а из выкопанной земли выложил узкую дорожку, чтобы по ней духи могли войти в парильню. В конце дорожки он насыпал небольшой холмик, обозначавшийся словом «унчи», каким Хока Уште называл свою бабушку. Хороший Гром объяснил мальчику, что вся Земля и есть Бабушка — Праматерь. Между тем настоящая бабушка Хромого Барсука занималась важным делом. Тихонько напевая под нос, она вырезала из своей руки сорок маленьких квадратиков плоти и положила в вагмуху, тыквенную трещотку, вместе с камешками ювипи, крохотными окаменелостями, которые муравьи стаскивают в муравейники. Деревянная Чаша, Желающий Стать Вождем и Преследуемый Пауками отвели Хоку Уште к ручью, берущему начало в холмах, и там под присмотром старших мальчик набрал синткала ваксу, особых камней с мельчайшим «бисерным узором», безопасных для использования в парильне. Будучи раскаленными докрасна, они не трескаются и не разлетаются на острые осколки, когда на них плещут воду. Хороший Гром осмотрел камни, выбранные Хокой Уште, и признал их отличными. К этим синткала ваксу прикоснулся Туикан, древний суровый дух камня, присутствовавший при сотворении всего сущего. Дело происходило почти в полудне езды от стоянки, поскольку ханблецея проводилась в Пахасапа, Черных Холмах, и старики хотели облегчить Хоке Уште задачу, чтобы ему не пришлось совершать долгий путь из парильни и обратно. Военный предводитель Желающий Стать Вождем одолжил Хромому Барсуку свою лошадь, и мальчик впервые почувствовал себя мужчиной, когда скакал верхом по прерии, с развевающимися на ветру косичками. Наслаждаясь вниманием старших мужчин и одобрительными взглядами женщин, включая Бегущего Олененка, которая теперь постоянно украдкой посматривала на него, Хока Уште жалел, что идея с поиском видений не пришла ему в голову раньше. Наконец мальчик достроил парильню, прорезал входное отверстие с восточной стороны (Хороший Гром предупредил, что вход с запада делают только хейоки) и установил в ней палки-рогатки, на которые кладется священная племенная трубка. Хороший Гром поставил перед входом бизоний череп, а вокруг него разложил шесть табачных приношений. Потом старики собрались для самого обряда инипи. В парильне все сидели голыми, и поначалу Хромой Барсук испытывал смущение. Он не привык видеть старших мужчин без всего, в одной только собственной потной коже, да и сам стеснялся наготы. Но интимная атмосфера крохотной палатки и густой пар скоро заставили мальчика забыть о стыдливости. Дед Хоки Уште, Громкоголосый Ястреб, не вошел в парильню, а остался снаружи, чтобы плотно закрыть полог, когда все раскаленные камни будут уложены на место. И вот Хока Уште сидел в наглухо закрытой инипи вместе с Хорошим Громом, Преследуемым Пауками, Желающим Стать Вождем, Деревянной Чашей, Увертливым от Удара и Грохотом Грома. Мужчины пели «тунка-шила, хай-яй, хай-яй», пока земля не задрожала под ними. Они вдыхали пар и выдыхали дым из священной трубки. Четыре раза они открывали полог, впуская в палатку свежий воздух и свет, четыре раза они плескали воду на раскаленные камни и четыре раза курили кинник-кинник. И в течение всего этого времени шестеро стариков давали Хоке Уште советы, а тот слушал со всем вниманием, на какое способен. В парильне стояла нестерпимая жара и кромешная темнота, и табак был очень крепким. Наконец Хороший Гром положил трубку на подставку и сказал «митакуйе ойазин», что значит «да пребудет вечно вся моя родня, все мы, все до единого». Тогда Громкоголосый Ястреб открыл снаружи полог палатки, старики выползли на свет дня, точно младенцы из чрева, и обряд инипи закончился. Потом Хока Уште отправился один в Паха-сапа за своим видением.
Должен сказать тебе вот что: видения даются нелегко. Иные икче вичаза ждут их всю жизнь, но так и не получают. Другие — лишь однажды, но всю оставшуюся жизнь подчиняют этому единственному видению. Хока Уште сам толком не понимал, хочется ему получить видение или нет, когда сидел скрючившись в Яме видений на высокой горе в Паха-сапа. Он был голый, если не считать красивого одеяла, которое дала бабушка, чтобы заворачиваться в него во время поиска видений. Он был безоружен, если не считать трубки, врученной ему Хорошим Громом, и погремушки с четырьмястами пятью священными камушками и крохотными квадратиками бабушкиной плоти, которые тихонько шуршали всякий раз, когда он шевелил рукой. От дыма и пара он чувствовал усталость и легкое оцепенение, но ощущал себя очень чистым, будто тщательно отмытым изнутри и снаружи. Он был голоден, но знал, что не должен есть и пить еще девяносто шесть часов. Четыре дня. Или меньше, если видение придет раньше. Хока Уште пытался молиться, но из головы у него не шла Бегущий Олененок. Его пальцы помнили тепло девичьей промежности, и даже воспоминание о волосяной веревке возбудило мальчика. Сейчас, в этом состоянии голода и телесной чистоты, сексуальное возбуждение показалось Хока Уште сродни самому видению, когда его че, детородец, зашевелился словно по собственной воле. В первый день и вечер ханблецеи высоко в Паха-сапа дул сильный ветер, непривычно холодный для месяца, когда возвращаются утки. Магические флажки трепетали и рвались на концах палок, стоящих вокруг Ямы видений, где Хока Уште сидел на корточках, пытаясь молиться нужным духам, но неотступно преследуемый видениями стройных ног, крепких ляжек и блестящих черных волос Бегущего Олененка. После наступления темноты стало холоднее, и апрельский ветер принес крохотные снежинки. Хока Уште сжался в комок и постарался выбросить из головы все, кроме должных мыслей, на какие его настраивали мудрые старики в парильне. Ближе к рассвету Хромой Барсук заснул, свернувшись клубком на свежей земле своей Ямы видений, и вагмуха выпала у него из пальцев, тихо брякнув священными камешками и комочками бабушкиной плоти. Ни ледяной ветер, ни звук погремушки не разбудили мальчика.
Хоке Уште приснился сон: он увидел себя самого, спящего в Яме видений, дрожащие звезды в холодном ночном небе и огромный валун выше по склону, вросший в почву священной горы. И пока он смотрел откуда-то сверху на собственное спящее тело, гигантский валун вдруг сорвался с места и покатился по склону прямо к яме. Тогда мальчик закричал во все горло, но спящий внизу Хока Уште не проснулся, и вопль походил на свист ванаги, призрака — слабый и тонкий, нисколько не похожий на крик настоящего мужчины. А валун с грохотом катился по склону к свернутому калачиком телу, и наблюдающему Хоке Уште осталось только закрыть глаза, чтоб не видеть, как огромный камень раздавит спящего. Но у наги, духовного тела, нет глазных век — поэтому мальчик вопреки желанию увидел произошедшее далее. Валун остановился в паре дюймов от спящего Хоки Уште. Потом из валуна, из недр горы, из деревьев и даже из ветра раздался голос: «Уходи, маленький человек. Ступай прочь отсюда. Сегодня здесь нет видения для тебя». И Хока Уште, вздрогнув, проснулся. Занимался рассвет. Валун лежал на прежнем месте выше по склону — черная глыба на фоне бледнеющего неба, — и тишину нарушал лишь шорох ветра в кронах сосен. Потрясенный видением про не-видение, Хока Уште встал, плотно обернул одеяло вокруг голого тела и стал спускаться с горы, стараясь согреться и стряхнуть остатки сна. Весь следующий день солнце пригревало, и ветер веял ласково, но никаких других видений к мальчику не пришло, и он подумал, не вернуться ли к Хорошему Грому и остальным с одним только рассказом про свое не-видение. Но в конечном итоге решил погодить. Хока Уште вспомнил предостережение Хорошего Грома: мол, племя огорчается, если видение к искателю вообще не приходит, но человек покрывает себя позором, если получает негодное видение. А он понятия не имел, к какому разряду относится видение про не-видение. В общем, он положил остаться там и подождать видения получше. К наступлению сумерек, когда не прошло еще и полутора дней из четырех, язык у Хоки Уште распух от жажды, а живот сводило от голода. На вторую ночь ветер стал еще холоднее, и Хромой Барсук был уверен, что вообще не сомкнет глаз. Однако незадолго до рассвета, когда из каньона внизу медленно выполз туман и начал обвивать белыми щупальцами деревья на горе, мальчику приснился следующий сон. Он снова наги, чистая духовная сущность, и снова парит над своим телом, скрюченным от холода во сне. На сей раз никакой валун с горы не катится, но немного погодя Хока Уште замечает неясные черные тени, которые движутся между деревьями, приближаясь к нему спящему. Они скользят сквозь клубящуюся пелену тумана и наконец обретают очертания четырех животных: медведя невообразимо огромных размеров, горного льва, оленя — не просто оленя, а таха топта сапы, священного оленя с черной полосой на морде и единственным острым рогом, торчащим изо лба, — и барсука. При виде последнего зверя наблюдающий Хока Уште даже обрадовался, но почти сразу заметил, что барсук не хромой и на морде у него премерзкое выражение. Он кажется злым и голодным. Хока Уште хочет закричать, предупредить себя спящего об опасности, но теперь он знает, что голос его наги слишком слаб, чтобы разбудить кого-нибудь. Поэтому Хока Уште просто смотрит. Медведь, горный лев, олень и барсук медленно приближаются к спящему мальчику. Медведь такой громадный, что снес бы ему голову одним ударом. Горный лев такой ужасный, что враз раздробил бы мощными челюстями его кости, выпуская из них костный мозг. У оленя такой острый рог, что пронзил бы спящего Хоку Уште, как охотничья стрела пронзает печень бизону. А барсук такой свирепый, что одним рывком содрал бы кожу с человеческого лица, как бабушка сдирает гладкую брюшинную шкурку с кролика перед разделкой тушки. Буквально в нескольких дюймах от спящего сиу звери остановились, и снова со всех сторон послышался голос: «Уходи, маленький человек. Ступай прочь отсюда. Сегодня здесь нет видения для тебя». И тогда Хока Уште проснулся со стесненным сердцем, лила чанте ксика, полный ужаса перед осин ксика, то бишь злобными животными. Но он сел, закутался в одеяло, поднял с земли трубку, взятую у Хорошего Грома на время ханблецеи, в другой руке крепко сжал вагмуху и стал ждать, когда взойдет солнце, согреет его и возродит храбрость в сердце. Он оставался там и голодал весь день. И когда снова наступили сумерки, он по-прежнему сидел в Яме. Ночь выдалась очень темная, облака заволакивали луну и звезды, падал мягкий снег, но таял, едва касаясь земли, и Хока Уште заснул задолго до того, как небо начало бледнеть в преддверии рассвета. На сей раз он увидел себя в Яме видений еще отчетливее прежнего и долго видел одну только эту картину: спящий мальчик с трубкой под мышкой и зажатой в руке погремушкой. Он походил на спящего младенца, даже на собственный взгляд, и Хока Уште задался вопросом, зачем ему вообще понадобился этот дурацкий поиск видений. Потом вдруг земля вокруг ямы словно пошла рябью, зашевелилась, задрожала, и прежде чем наблюдающий Хока Уште успел крикнуть «берегись» спящему Хоке Уште, Яма видений наполнилась гремучими змеями. Десятки, даже сотни гадов. Старые гремучки длиной в человеческий рост, коротенькие толстые змеи-самки, полные яиц и яда, и бессчетные змейки-детеныши длиной в руку мальчика, но уже вооруженные ядовитыми зубами и трещотками. Хромой Барсук, вздрогнув, проснулся и обнаружил, что сон не закончился, когда он открыл глаза. По нему ползали змеи. Настоящие. Они шипели, гремели хвостами и разевали ужасные пасти в нескольких дюймах от глаз смертельно испуганного мальчика. «Другой возможности у тебя не будет, маленький человек, — раздался голос, хорошо знакомый Хоке Уште по предыдущим снам. — Уйдешь ли ты отсюда подобру-поздорову?» Хромой Барсук уже хотел выкрикнуть «охан!» и выскочить из кишащей змеями ямы, но в последний момент вспомнил, что в таком случае он покроет позором дедушку с бабушкой и стариков, помогавших ему в ханблецее, а потому, вместо того чтобы крикнуть «да!», Хока Уште зажмурился, приготовившись умереть, стиснул зубы и сказал «нет!». Когда мальчик открыл глаза, змей в яме не было. Облака разошлись, и все вокруг озарял звездный свет — такой яркий, что Хока Уште ощущал его кожей. Он снова сомкнул веки. И заснул. И наконец, к нему пришло настоящее видение.
Хока Уште вернулся к парильне, как было велено. Один из двоих мальчишек, поставленных там ждать его возвращения, побежал в деревню за старейшинами, а другой принялся подбрасывать топливо в костер, чтобы раскалить камни. К середине утра шесть стариков сидели нагишом в клубах пара и дыма, слушая рассказ Хромого Барсука о видении. Поначалу Хока Уште думал умолчать о своем видении про не-видение, но в конечном счете решил рассказать всю правду и только правду. Старики в парильне недовольно хмыкали, пока Хока Уште описывал сны про падающий валун и злобных животных, но когда он поведал, как поборол гремучих змей, велевших ему уходить, все шестеро хором воскликнули «Хайе!». — А потом ко мне пришло настоящее видение, — сказал Хромой Барсук. — Мне так кажется. Хороший Гром передал трубку юноше, и пока тот затягивался, старый вичаза вакан промолвил: — Ваштай. Расскажи нам, вичаза. И Хока Уште описал видение в таких словах: — После того как гремучие змеи исчезли, меня всего трясло, а потом я снова закрыл глаза и увидел сон. Сначала мне приснилось, будто я не сплю, а бодрствую, и голос говорит мне: «Хока Уште, поднимись на вершину горы. Юхакскан каннонпа. Возьми с собой трубку. Твоя трубка — вакан. Таку воекон кин юха ел войлагьяпе ло. — Эхантан наджин ойате мака ситомнийан каннонпа кин хе уйваканпело. Она используется для всего. С тех пор, как прямостоящие люди расселились по всей земле, твоя трубка — вакан». И вот, я поднялся с трубкой на вершину. А гора теперь стала гораздо выше, чем мне помнилось, и я видел все Паха-сапа, как если бы смотрел вниз с махпия, облаков. Но одновременно я видел все словно вблизи… хенаку, лося в лесу, птиц в ветвях деревьев, бобров в ручье, даже насекомых в траве… как если бы кто-то дал мне ванбли, орлиные глаза. Потом своими новыми орлиными глазами я разглядел виньяну, женщину, она находилась в далекой-предалекой долине Паха-сапа, но я без труда различил длинные волосы — распущенные, если не считать одной тонкой косички слева, обернутой бизоньей шерстью. Ее платье из белой оленьей кожи сияло так ярко, что мне вспомнились дедушкины рассказы про Птесан-Ви, Женщину Белый Бизон, которая дала нам первую чанунпу и научила людей, как пользоваться трубкой при молитвах… При этих словах шестеро стариков взволнованно пошевелились, откашлялись и переглянулись сквозь пар и дым, ибо Женщина Белый Бизон была самым священным из существ, посещавших икче вичаза. Но ни один из них не промолвил ни слова, и Хока Уште продолжил: — Однако то вряд ли была Женщина Белый Бизон — скоро я объясню, почему мне так кажется. — Хромой Барсук не замечал пристальных взглядов слушателей, увлеченный собственным рассказом о видении. — Я следил за ней, пока она не вошла в пещеру где-то глубоко в Паха-сапа. А потом случилось странное… — Мальчик закрыл глаза, словно пытаясь получше рассмотреть образы сна. — Паха-сапа вдруг заколыхались, как бизонья шкура, которую вытряхивает женщина. Деревья склонились долу, птицы взлетели к небу, и камни посыпались в каньоны. Ручьи перестали течь, когда земля под ними заходила ходуном. Громадные валуны покатились со склонов, и в земле раскрылись трещины… Шестеро стариков затаили дыхание, ожидая дальнейших слов Хоки Уште. — А потом… это трудно описать, но горные хребты вдруг сдвинулись, сложились тесными складками, словно Праматерь Земля тужилась в родах, и из недр Паха-сапа стали выползать четыре гигантские каменные головы. Они выросли в высокую-превысокую гору, на вершине которой я стоял, и уставились на меня каменными глазами. А я смотрел на них своими орлиными глазами. И по-моему, то были головы вазикунов… Хороший Гром кашлянул. — Почему ты думаешь, что то были головы вазичу? — спросил он, употребив другое слово для обозначения «пожирателей лучших кусков», бледнолицых людей. Хока Уште моргнул, словно опять пробуждаясь от сновидения. — Сам я никогда не видел вазикунов, — сказал он, — но тункашила Громкоголосый Ястреб говорил, что у них иногда растут волосы на лице, а у двух каменных голов на лице были волосы… у одного на подбородке, у другого под носом — точно воробьиное крылышко. Шестеро стариков переглянулись и хмыкнули. — А еще, — продолжал Хока Уште, — в этих каменных лицах было что-то такое, что испугало меня так же, как в детстве угрозы бабушки, когда она загоняла меня в типи вечером: «Хока Уште, истима йе, вазикун анигни кте…» Старые воины улыбнулись. Они тоже слышали, как матери и бабушки в селении говорили детям, мол, ну-ка живо спать, не то придут белые люди и заберут непослушников в свои дома. Дети не боялись ни ванаги, призраков, ни страшилищ сисийе и сийоко, но угроза про вазикунов всегда действовала безотказно. — В общем, — сказал Хока Уште, — я решил, что огромные каменные головы, родившиеся в Паха-сапа, — это головы вазикунов. Но на этом сон не кончился. — Он поерзал на месте, явно стесняясь рассказывать дальше. Старики ждали. — Потом мне приснилось, будто я спускаюсь в ту долину и захожу в пещеру, куда вошла красивая женщина, — через силу продолжил Хока Уште. — Там горит костер, освещающий чудесные белые шкуры, расстеленные на полу… Мужчины снова значительно хмыкнули, подумав о белых бизоньих шкурах. Хромой Барсук не обратил внимания. — …и платье из ослепительно-белой оленьей кожи, висящее на вделанном в стену оленьем роге. А на шкурах у костра… — Мальчик облизнул губы и глубоко вздохнул. — На шкурах у костра лежат три красивые женщины. Они голые, тела у них почти оранжевые от огня, и волосы такие блестящие, что отражают свет… — Он снова умолк. — Продолжай, — сурово произнес Хороший Гром. — Да, ате. Во сне я тихо вошел в пещеру и опустился на колени рядом с тремя спящими женщинами. Они не проснулись, и я… разглядывал их груди и гладкую кожу, ате… и думал «кисиму кин ктело»… «я сделаю это с ней», но не знал, какую из них выбрать, поскольку не сомневался, что женщина, которую я собираюсь… гм… — Тавитон, — сказал Увертливый от Удара. — Выябсти. — Старый воин не считал нужным тратить время на поиски изысканных выражений. — Охан, — согласился Хока Уште. — Я не сомневался, что женщина, которую я собираюсь тавитон, проснется, закричит и разбудит остальных двух. В общем, я решил выбрать самую красивую из них, но они… они походили друг на друга как три капли воды. — Хока Уште умолк и вытер пот, стекавший со лба и носа. В оиникага типи, парильне, было очень жарко и дымно, у него кружилась голова, как будто он все еще летал над Паха-сапа во сне, и шестеро стариков в дымной темноте, напряженно подавшихся к нему, казались просто очередными образами сна. Вдобавок теперь мальчик был уверен, что этот сон — всего лишь одна из его грязных фантазий и будет признан негодным. Или даже хуже: это видение, посланное ему вакиньянами, существами грома, а значит, он до конца своих дней будет жалким хейокой, шаманом наоборот. Но Хромому Барсуку ничего не оставалось, как продолжать: — Пока я выбирал женщину, вдруг послышался странный звук. Такой тихий, скрежещущий, скрипящий звук. Я наклонился вперед и понял, что он исходит у всех трех женщин из… из… — Продолжай! — велел Желающий Стать Главным. — Из виньян шан, — прошептал Хока Уште. — Из полового места. Из всех трех… Несколько стариков отшатнулись, словно Хока Уште взял да помочился на церемониальные камни. Преследуемый Пауками прикрыл ладонью глаза. Хороший Гром сохранял бесстрастный вид. — Продолжай, — промолвил он. — Я наклонился пониже, — сказал Хока Уште, с которого теперь пот лился градом, — и увидел, что лобковые волосы у самой ближней женщины тонкие и шелковистые, а губы виньян шан полные, мягкие и слегка раздвинуты… — Мальчик мотнул головой, стряхивая пот с глаз. Он понимал, что от этого видения зависит его будущее и что старики наверняка возмущены и разгневаны. Несмотря на свою стыдливость в отношениях с противоположным полом, икче вичаза вовсе не были ханжами — и мужчины, и женщины в своем кругу охотно рассказывали разные похабные истории и обменивались солеными шутками, — но Хока Уште в жизни не слышал, чтобы кто-нибудь получал столь непристойное видение ханблецеи. Однако у него не оставалось иного выбора, как продолжать. — А внутри, между губами ее виньян шан, — прошептал он, — я увидел поблескивающие зубы. — Зубы! — воскликнул Увертливый от Удара с гримасой отвращения на морщинистом лице. — Хр-р-р-р-р… — проворчал он, как рассерженный медведь. — Зубы, — повторил Хока Уште. — Я посмотрел на половые места других двух женщин и там тоже увидел зубы. Они тихо поскрипывали — так мой дедушка скрипит зубами во сне. Хороший Гром плеснул воды на камни, и от них с шипением поднялись жаркие клубы пара. — Это весь сон? — Какую из них ты тавитон? — грубо спросил Увертливый от Удара. — Не знаю, — сказал Хромой Барсук, отвечая сначала на второй вопрос. — Я знал, что должен выбрать женщину и что мне можно сойтись только с одной из них, а потом вдруг — раз, и я снова оказываюсь снаружи, высоко в небе над Паха-сапа, и смотрю в каменные лица сердитых вазикунов. Потом налетел ветер, и из ветра раздался голос, который сказал… — Что? — нетерпеливо спросил Грохот Грома своим низким звучным голосом глашатая. — Досказывай, — велел Деревянная Чаша. Культя его руки, отрубленной шошонами более тридцати лет назад, казалась ярко-розовой в свете от раскаленных докрасна камней. — Голос сказал, что я должен выбрать одну и только одну женщину. И что я должен смотреть только глазами своего сердца. Но что мне нельзя делать этого, пока меня не очистят существа грома и я не рожусь заново… Старики невнятно забормотали. — Еще что-нибудь? — спросил Хороший Гром. — Да. Голос сказал, что, когда я рожусь заново, я получу подарок от вазичу, чья душа отлетела. Увертливый от Удара громко хмыкнул: — Подарок от мертвого бледнолицего человека? Нелепица какая-то. Хока Уште согласно кивнул. — Если б ты залез на одну из тех женщин, ты бы лишился своего члена, — прорычал Увертливый от Удара. Он взглянул Хоке Уште между ног. — Но верно, только наги че, духа-члена. — Думаю, эти три женщины были одной женщиной, а она была виньян сни, — сказал Желающий Стать Вождем. — Женщина-которая-не-женщина. Преследуемый Пауками открыл рот, собираясь заговорить, но Хороший Гром дотронулся до его плеча и сказал: — Тихо! Мальчик еще не таньерси йагуна. Еще не все рассказал. Продолжай, Хромой Барсук. — В конце моего сна из пещеры, где я побывал — той самой, куда зашла одна женщина и где спали три, — стали выходить люди, — продолжил Хока Уште бесцветным от усталости голосом. — Я увидел, как оттуда вышли вы шестеро, мои дедушка с бабушкой, все люди из нашей деревни и из разных других племен — оглата, лакота, бруле, миниконджу и другие… санс арки и янктоны, судя по перьевому убранству, потом кроу, шахиела и сусуны. Много разных племен, и люди каждого племени, выходя из пещеры, смешивались с остальными, и все они сновали муравьями над каменными лицами вазикунов. А потом я стал пробуждаться, ате, но напоследок увидел, как каменные лица рассыпаются, точно куча песка в сухом русле. А потом все икче вичаза и люди других племен разошлись в разные стороны между деревьями Паха-сапа… тут я проснулся и больше ничего не видел. Когда Хока Уште закончил, старики долго молчали, но наконец Хороший Гром произнес: — Сын мой, я думаю, это было видение, причем не вакиньян-видение, не послание от громовых существ. Но ты должен поклясться, что оно настоящее. Поклянись под страхом смерти от существ грома и помни, что у тебя в руке священная трубка. Хока Уште глазом не моргнул. — На есел лила вакиньян агли — вакиньян намахон, — поклялся он. Молния не сверкнула, и существа грома не поразили его на месте. Хороший Гром кивнул: — Ваштай. Возвращайся на стоянку, в типи своего деда, и поспи. Мы, шестеро стариков, обсудим твое видение и постараемся его понять. — Он забрал у Хоки Уште трубку и сказал: — Митакуе ойазин. «Да пребудет вечно вся моя родня». И церемония завершилась.
Хока Уште вернулся домой, похлебал бабушкиного супа, хотя после четырех дней голодовки есть совсем не хотелось, выпил много воды, проспал несколько часов, проснулся ближе к вечеру со страшной слабостью в теле и туманом в голове, потом снова заснул и проспал еще пятнадцать часов. Хороший Гром и другие старики возвратились в селение на следующее утро. Громкоголосый Ястреб отправился к вичаза вакану, а Хромой Барсук сидел у входа в дедушкин типи и ждал вестей о своей дальнейшей судьбе. Громкоголосый Ястреб и Хороший Гром вернулись вместе через час, и у Хоки Уште упало сердце при виде их мрачных лиц. Дед положил костлявую руку мальчику на плечо. — Старейшины не пришли к единому мнению относительно смысла твоего видения, — сказал он. — Хороший Гром отправляется к Медвежьему Холму, хочет найти других вичаза ваканов, чтоб они помогли истолковать твой сон. Хока Уште горестно ссутулился. — Хейа! — Дед хлопнул мальчика по руке. — Они уверены, что видение настоящее. — И я уверен, что оно послано не существами грома, — добавил Хороший Гром. — Ты не хейока. Хромой Барсук просветлел лицом. — Шаманы икче вичаза из племен янктонаи, Два Котла, хункпапа и миниконджу встречаются сегодня у священного холма, похожего на медведя, к северу от Паха-сапа, — проскрипел Хороший Гром. — Я присоединюсь к ним. Хока Уште нахмурился: — Откуда ты знаешь, что шаманы из этих племен встречаются там, ате? — К ним в селение уже много месяцев не наведывались ни гонцы, ни гости. Хороший Гром сложил руки на груди. — Я же вичаза вакан. — Его голос немного повеселел. — Если твое видение означает, что тебе предначертано стать шаманом, значит, ты тоже однажды научишься таким вещам, Хромой Барсук! Я отбываю прямо сейчас. Половина селения собралась посмотреть, как старый Хороший Гром в сопровождении двух из своих приемных внуков, Толстого Пони и Живущего у Воды, отбывает прочь с важной миссией. Дорога до Медвежьего холма займет два дня, и наверняка пройдет еще пара дней, прежде чем шаманы найдут время встретиться с Хорошим Громом и попробовать постичь смысл видения. Хока Уште между тем занимался обычными делами, но скоро заметил, что окружающие стали относиться иначе: юноши одного с ним возраста, раньше слегка презиравшие его за то, что не вступил в сообщество воинов, теперь вежливо кивали при встрече и останавливались перемолвиться словом; старухи открыто улыбались, а женщины помоложе посматривали краем глаза; сама Бегущий Олененок приветливо кивала и улыбалась ему, когда шла к ручью с бурдюком. Хока Уште осознал, что теперь они видят в нем не просто семнадцатилетнего юнца, а будущего шамана. Так все продолжалось два дня после отъезда Хорошего Грома. Возможно, так оно продолжалось бы до самого возвращения настоящего вичаза вакана, если бы Стоячий Полый Рог и Горластая Женщина не начали прежде времени праздновать свадьбу дочери с молодым человеком, только что прошедшим ханблецею. Горластая Женщина принялась рассказывать всем и каждому, что ее дочь выйдет замуж за Хоку Уште, как только Хороший Гром вернется, чтобы связать ремни. Когда бабушка Хромого Барсука возмущенно хмыкнула, услышав новости, тот спросил: «Ты недовольна, бабушка?» Старая женщина, прошивавшая выделанную шкуру шилом с продетым в него сухожилием, не подняла глаз от работы: — Нехорошо это. Девочка уже две луны не уходила на иснати. Хока Уште залился краской и потупился от смущения. Он не мог поверить, что бабушка говорит вслух про иснати. Период кровей у женщин считался вакан и вселял страх. На четыре дня иснати женщине предписывалось уединяться — не столько потому, что она и впрямь заслуживала изгнания, сколько потому, что все боялись силы, которую она обретала. Хромой Барсук не понимал природы иснати, но даже он знал, что женщина в этот период может одним плевком убить гремучую змею. Вичаза вакан, пытающийся лечить женщину-иснати, мог случайно убить и себя, и ее, столь великой силой обладала женщина в такие дни. Все это Хока Уште знал, но он не видел решительно ничего плохого в том, что Бегущий Олененок два месяца не уходила на иснати. Ведь это хорошо, разве нет? Он решил не обращать внимания на бабушкино ворчание и спокойно наслаждаться своей вновь обретенной популярностью. После того как Горластая Женщина распустила слух о скором бракосочетании дочери с внуком Громкоголосого Ястреба, ее муж Стоячий Полый Рог усложнил ситуацию, устроив отухан. Отухан — это большая раздача, когда гордый отец расстилает перед типи одеяло и раздаривает разные ценные вещи в честь своего чада. По случаю предстоящей свадьбы Стоячий Полый Рог отдал один из двух своих лучших ножей, отличный кожаный колчан, лучшую попону и много чего еще. Хока Уште забеспокоился. События развивались слишком уж быстро. Он встревожился еще сильнее на четвертый день, когда Стоячий Полый Рог закатил роскошный пир и назвал Хромого Барсука почетным гостем. Приглашение получили большинство мужчин в деревне. Стоячий Полый Рог повысил значимость трапезы, подав в качестве главного блюда суп из собаки. Если один человек жертвовал для другого своим верным другом, собакой, такой поступок считался почти вакан. Правда, за неимением собственной собаки Стоячему Полому Рогу пришлось купить щенка у Высокой Лошади, сына ПреследуемогоПауками, но здесь был важен посыл. Пиршество продолжалось почти всю ночь, но Хока Уште слишком нервничал, чтобы получать удовольствие. Он даже не улыбался, когда шестеро воинов разделились на пары для состязания по поеданию бизоньих внутренностей и каждые двое взялись зубами за противоположные концы длинной кишки и принялись жевать, двигаясь к середине. Старшие воины весело гоготали, когда соревнующиеся останавливались, чтобы срыгнуть полупереваренную и полностью сброженную бизонову траву, наполнявшую кишку. Позже, когда настала очередь Хоки Уште налить себе супа, он подцепил черпаком голову щенка. Это сочли удачей и очень добрым знаком перед грядущей свадьбой, но ощущение скоропалительности всего происходящего заставило Хромого Барсука больше нервничать, чем радоваться. Однако мальчик отдал должное кушанью. Он всегда любил суп из собаки, и щенячья голова оказалась восхитительно вкусной. На следующее утро вернулся Хороший Гром с приемными внуками, и все празднества закончились. Во второй половине дня сердитый вичаза вакан позвал Хоку Уште и большинство стариков деревни на собрание в свой типи. После того как были совершены надлежащие приношения и трубка прошла по кругу, шаман сказал следующее: — Другие вичаза ваканы ждали меня у Медвежьего Холма. Пьющий Воду, прорицатель, получил видение о моем прибытии с важной вестью. Мы сразу же удалились в парильню. Кроме прорицателя Пьющего Воду там были вичаза ваканы Тонкая Щепа, Брат Горба, Отказывающийся Идти, Огненный Гром и Священный Чернохвостый Олень. Все присутствующие в типи Хорошего Грома так и ахнули, ибо то были самые знаменитые шаманы икче вичаза. — Я рассказал им про видение Хоки Уште, — бесстрастным голосом продолжал Хороший Гром, — и они курили и размышляли о нем. Через несколько часов мы поняли его значение. В типи повисла тишина, густая, как дым. — Видение Хоки Уште — настоящее видение, причем очень важное, — сказал старый шаман тоном, в котором по-прежнему угадывалось скорее раздражение, нежели какое-либо другое чувство. — Пьющий Воду утверждает, что это видение вакинианпи… что Хока Уште избран ваайатаном, пророком, несущим весть всем племенам икче вичаза. Чтоб не упасть, Хромой Барсук уперся кончиками пальцев в одеяло, на котором сидел. У него страшно кружилась голова от дыма, аж в глазах мутилось. Он увидел, как его дед удивленно моргнул, а Стоячий Полый Рог прямо-таки раздулся от важности. «Я стану вичаза ваканом, — подумал мальчик. — Бегущий Олененок получит в мужья шамана». Хороший Гром затянулся из племенной трубки, словно собираясь с духом перед следующими своими словами. — Видение Хоки Уште — настоящее, узренное чанте иста, глазами сердца, — продолжал он. — Означает же оно вот что… вазичу, вазикуны однажды заполонят наши земли. Пожиратели лучших кусков заберут нашу жизнь на равнинах, заберут бизонов, оружие и украдут Паха-сапа — наши священные Черные Холмы. Вот что означают каменные головы вазикунов. Видение послал нам Тункан, дух камня, присутствовавший при сотворении всего сущего и давший нам иньян, священные камни. Этого не избежать. Время икче вичаза как вольных людей природы почти истекло… Мужчины в типи, забыв о приличиях, перебили Хорошего Грома возгласами негодования и несогласия. — Нет! Нет! — закричали и заворчали они. — Зича! Плохо! А один воин прошептал, что Хороший Гром витко, сумасшедший. — Тихо! — произнес шаман, и хотя он не повысил голоса, весь типи, казалось, сотрясся от мощи прозвучавшего приказа. Во внезапно наступившей тишине он сказал: — Это плохая новость, но это правда. Целый день напролет другие шаманы и я искали наши собственные видения, надеясь наперекор всему, что Иктоме или Койот дурачат нас, морочат голову ложными видениями… Но каждый из нас услышал голос Вакана Танки… все это правда. Вазикуны заберут наши жизни, наших лошадей, нашу свободу и наше будущее. Это предвещает нам появление огромных каменных голов в Паха-сапа. Наша нынешняя жизнь — жизнь вольных людей природы — закончится. Но… — Хороший Гром поднял руку, призывая к молчанию вновь загудевших мужчин. — Но видение Хоки Уште оставляет нам надежду. Сам Хока Уште находился в полуобморочном состоянии. Он слышал ужасное пророчество своей ханблецеи и видел гневные взгляды старых воинов, словно из глубины длинного тоннеля. Он уперся ладонями в пол, чтоб не опрокинуться назвничь. — Женщина в видении — не Женщина Белый Бизон, но родом она оттуда же и, возможно, приходится ей сестрой, — продолжал шаман. Где-то в дальней глубине тоннеля восприятия Хока Уште смутно подумал: «Но в моем сне было три женщины, ате». Хороший Гром повернул голову и пробуравил Хромого Барсука своими старыми глазами: — В твоем сне были три, но в действительности только одна — сестра Женщины Белый Бизон в ослепительно-белом платье. Две другие в пещере воплощают злые стороны этого духа и захотят наказать нас. Настоящая сестра Женщины Белый Бизон дарует нам спасение. «Но как я узнаю, какая из женщин — наша спасительница?» — подумал Хока Уште, уже не сомневаясь, что старый шаман читает его мысли. Хороший Гром хмыкнул и обвел взглядом мужчин с покрасневшими от дыма глазами: — Огонь во сне Хоки Уште — это петаовиханкешни, бесконечный огонь — тот самый, который горит в нашей племенной трубке с незапамятного времени, когда Женщина Белый Бизон приходила к нам. Присутствие бесконечного огня во сне Хоки Уште — добрый знак. Он означает, что на земле еще останутся икче вичаза, которые будут передавать огонь из поколения в поколение. Если Хока Уште сделает правильный выбор… «Но как, отец? — мысленно взмолился Хромой Барсук, уже понимая, что выбирать придется ему и что судьба всех икче вичаза находится в его слабых руках. — Как?» — Дым от огня во сне Хоки Уште — это дыхание Великого Тункашилы, — продолжал шаман, очевидно, не услышав отчаянных мыслей мальчика. — И это добрый знак. Это живое дыхание Дедушки Тайны. — Он опять повернулся к Хоке Уште: — И если ты сделаешь правильный выбор, конец сна будет именно таким, как ты видел, — вольные люди природы снова обретут свободу. Вазикуны будут повержены и рассыплются в прах, как их каменные головы в твоем видении. Бизоны вернутся, Паха-сапа станут принадлежать людям, которые их любят, и икче вичаза вновь пойдут по своему природному пути, осиянному солнцем. Все глаза были устремлены на Хоку Уште, но заговорил Громкоголосый Ястреб: — Когда это случится, отец? Хороший Гром устало закрыл глаза. — Выбор должен быть сделан при жизни этого юноши. Эпоха Каменных Голов начнется при жизни наших детей. Наше возвращение из пещеры изгнания произойдет… — Старик вздохнул. — Не знаю. Мы не умеем заглядывать далеко в сон или в будущее. — Через месяцы? — спросил Без Типи, отважный воин, никогда не отличавшийся сообразительностью. Преследуемый Пауками резко кашлянул. — При жизни наших детей, — повторил он. — Значит, через годы, ате? Глаза Хорошего Грома оставались закрытыми. — Возможно, через сотни лет. Возможно, через сотни сотен. Возможно — никогда. — Он открыл глаза. — Все зависит от выбора Хоки Уште. Юноша осмотрелся вокруг, взгляды всех присутствовавших были устремлены на него: ошеломленные, обвиняющие, вопросительные и сердитые. Он хотел сказать: «При чем здесь я? Я же не выбирал видение». Однако заговорил Стоячий Полый Рог: — Но мы с его дедом выбрали для него жену. Ею станет Бегущий Олененок. Хороший Гром отрицательно повел левой ладонью: — Нет, не Бегущий Олененок. Это явствует из сна. Стоячий Полый Рог встал, выругался, ударил кулаком по стенке типи, сказал: «Но ведь я устроил Большую Раздачу!» — потом увидел бесстрастное лицо Хорошего Грома и в гневе вышел вон. Хока Уште вздохнул. Ну вот, теперь он нажил врага, самого вспыльчивого воина в селении. А все потому, что его детородцу хотелось стоять торчком, как палаточный шест. — Мы можем что-нибудь сделать? — спросил Увертливый от Удара. — Что-нибудь, чтобы изменить видение? — Он посмотрел на Хромого Барсука, и юноша словно наяву услышал непроизнесенный вопрос: «Поручить выбор кому-нибудь другому?» — Нет, — ответил Хороший Гром. Хока Уште облизнул губы и впервые за все время подал голос: — Может, мне надо еще раз пройти ханблецею, ате? — Нет, — повторил Хороший Гром. — Но другие шаманы и я считаем, что тебе следует совершить оюмни. Хока Уште покусал губу. Обряд оюмни был не поиском видений, а просто странствием. Мысль о необходимости покинуть стоянку и дедушку с бабушкой опечалила и испугала юношу. Потом, хотя в сердцах сидевших там мужчин оставалась еще добрая тысяча вопросов, а в испуганном сердце Хоки Уште десятикратно больше, Хороший Гром положил трубку и промолвил: — Митакуе ойазин. Да пребудет вечно вся моя родня. И на том собрание закончилось.
Хока Уште всю ночь не сомкнул глаз. После церемонии истолкования видения, проведенной Хорошим Громом, все смотрели на него странно. Даже дед с бабушкой поглядывали на мальчика так, будто вместо любимого внука к ним пришло жить какое-то диковинное существо из мира духов. «Это просто дурной сон», — думал Хока Уште, но когда он встал на следующее утро, косые взгляды никуда не делись, тяжкий груз ответственности не спал с плеч, и вся история с видением не оказалась сном. Поздно утром дед нашел мальчика сидящим на камне у ручья и сказал: — Ты приглашен сегодня на трапезу в типи Стоячего Полого Рога. У Хоки Уште учащенно забилось сердце: — Мне обязательно идти, дедушка? Меня пугает гнев Стоячего Полого Рога. Громкоголосый Ястреб отрицательно повел ладонью: — Стоячего Полого Рога там нет. Он с утра отправился на бизонью охоту. Он очень зол. Хока Уште ощутил прилив счастья: — Меня пригласила Бегущий Олененок? Дед пожал плечами: — Приглашение передала мне Горластая Женщина. Я не знаю, будет ли там ее дочь. При мысли о трапезе с востроносой старухой Хока Уште весь поник: — Так мне обязательно идти? — Да, — сказал дед. — И оденься получше. Надень расшитую бисером рубаху с бахромой на рукавах. Через два часа Хромой Барсук явился к типи Стоячего Полого Рога — в своем лучшем наряде. Стоячего Полого Рога там и вправду не оказалось. Бегущего Олененка тоже нигде не было видно. Только Горластая Женщина сидела подле кипящего котелка и резала овощи. Она знаком предложила мальчику сесть на одеяло у костра и улыбнулась. Хока Уште не помнил, чтобы он когда-нибудь видел улыбку на лице старухи. — Для меня большая честь, что искатель видений принял мое приглашение, — сказала Горластая Женщина, не переставая улыбаться. Хока Уште смешался. Она что, издевается? Женщины икче вичаза славились своими острыми языками, но никто не мог тягаться остротой языка с этой старой каргой. Или она пыталась подольститься к нему, поскольку он теперь знаменитость? — Для меня большая честь получить приглашение от тебя, — ответил Хока Уште, решив быть вежливым. Горластая Женщина продолжала улыбаться и крошить турнепсы. Хока Уште обратил внимание, что она орудует большим скорняжным ножом. — Что ты готовишь? — вежливо поинтересовался он. — Угадай. — Тимпсилу, — предположил мальчик, ибо при нем в котелок отправились только турнепсы. — Нет, — сказала Горластая Женщина, бросая в кипящий бульон последние нарезанные кусочки овоща. — Попробуй еще раз. Хромой Барсук потер щеку. — Войяпи? — Он любил ягодный суп, но никогда прежде не видел, чтоб его варили с турнепсом. Горластая Женщина улыбнулась и помотала головой: — Нет. Но получится лила ваштай. Очень вкусно. Попробуешь угадать еще раз — или хочешь, чтобы я сказала? — Скажи. — Он чувствовал себя страшно неловко в обществе старухи. — Это итка, суп из яиц. — А-а-а… — протянул Хока Уште, недоуменно думая: «Суп из яиц?» Улыбка Горластой Женщины превратилась в широкую ухмылку. Старуха поднялась на ноги. — Да, — пропела она, — из твоих итка. Твоих яиц. Твоих сусу. Твоих шаров. — И она с диким воплем прыгнула на Хромого Барсука. Мальчик успел вовремя перехватить занесенную руку с ножом, и они двое покатились по шкурам и земле. Горластая Женщина шипела и визжала, точно существо грома, а Хока Уште стиснул зубы и отчаянно защищал свои сусу. Старуха умудрилась-таки пропороть набедренную повязку в области паха, прежде чем Хока Уште высвободил правую руку и со всей силы ударил ее в челюсть. Горластую Женщину отбросило назад — выпущенный из пальцев нож, крутясь, улетел в высокую траву, — и она тяжело рухнула навзничь на угли костра, завопила дурным голосом, а потом откатилась на бизоньи шкуры, с тлеющими искрами в волосах и на кожаном платье. «Нехорошо так обращаться со своей тещей, — подумал Хромой Барсук, отряхиваясь дрожащими руками. — Нет, теперь уже нет». Он вернулся к типи своего деда. Тункашила и унчи кунши ждали его снаружи. У бабушки в глазах стояли слезы. — Пожалуй, я сейчас же отправлюсь в оюмни, — сказал Хока Уште. Дедушка с бабушкой одновременно кивнули. Громкоголосый Ястреб уже приготовил для внука одну из своих лошадей. Лук и стрелы, нож, лекарственный мешочек и запасные мокасины Хоки Уште, завернутые в шкуру, лежали на попоне. Бабушка дала Хромому Барсуку сумку с папой и васной, дорожной пищей. — Токша аке васиньянктин ктело, — промолвил дед, дотрагиваясь до руки мальчика. — Я увижу тебя снова. Хока Уште крепко обнял дедушку и бабушку, вскочил на лошадь и выехал из селения, провожаемый многочисленными пристальными взглядами. Он почел за лучшее покинуть стоянку, пока Горластая Женщина не очухалась, и убраться подальше, пока Стоячий Полый Рог не вернулся с бизоньей охоты. Так Хока Уште начал свое оюмни. Свое странствие. Ага, я вижу, ты меняешь пленку, а значит, следующие мои слова не запишутся, но хочу кое-что объяснить тебе, пока ты возишься с этим аппаратом. Когда я описываю мир, куда Хромой Барсук отправлялся в одиночестве, возможно, ты узнаёшь отдельные места, поскольку знаком с этой частью Южной Дакоты. Но ты ошибаешься. Черные Холмы, где Хока Уште проходил ханблецею, отличаются от Черных Холмов, через которые ты проезжаешь на машине сегодня. Не только потому, что тогда там не было каменных голов, городов, автодорог, ранчо, змеиного зоопарка, таксидермических студий, индейских сувенирных лавок, кемпингов Джеллистоунского парка, городов-казино и трейлерных стоянок. Нет, Паха-сапа тогда были другими, потому что были другими. Помимо паршивых лавок и заборов из колючей проволоки вазикуны принесли туда тьму и зловоние, застлавшие солнце, что озаряло Черные Холмы, где Хока Уште получил видение. Равнины и пустоши, куда отправится он в моей истории, тоже не похожи на те, по которым ты колесишь сегодня. Не только потому, что нынешние высокие равнины сплошь изрезаны межевыми заборами и автомагистралями местного и федерального значения, не только потому, что на них повсюду рассыпаны города вазичу с дрянными типовыми домами и трейлерами, выстроенными вдоль дорог, словно пустые пивные банки, блестящие на солнце. Нет, разница заключается не только в том, что в прошлом здесь было пустынно и чисто, а сегодня все загажено пожирателями лучших кусков. Нет. Широкий мир, куда Хока Уште направил свою лошадь давним майским днем, был мало населен людьми — ты мог скакать на коне много дней кряду, не видя вокруг никаких признаков человеческой жизни, — но далеко не пуст. На лугах водились бизоны, чье поголовье в пору юности Хоки Уште все еще исчислялось миллионами, и множество других животных: волки и лоси, еще не вытесненные с прерий; медведи, по-прежнему уходившие на огромные расстояния от своих жилищ в горах; орлы, парившие высоко в небе; барсуки, рывшие норы вдоль речных русел; гремучие змеи и ящерицы; луговые собачки, жившие в огромном подземном городе, чье население превосходило численностью население современного Рапид-Сити; ну и, конечно же, всевозможные насекомые, летающие, ползающие и прыгающие, вроде птевояков, подсказывавших икче вичаза, где искать бизонов. Но окрестный мир был полон не только животных: Хока Уште выехал на лошади на равнины, где повсюду подстерегали враждебные люди. Вазикуны, да, но юноша еще ни разу в жизни не видел пожирателей лучших кусков и боялся их не больше, чем боишься сказочного страшилища. А когда он узнал ужасный смысл своего видения, бледнолицые почему-то стали для него еще менее реальными. Гораздо более реальными казались другие индейцы, которые были где-то там, стояли лагерем сразу за горизонтом или сидели в засаде, поджидая одинокого путника. Существовали другие племена икче вичаза — оглала, миннеконджу, бруле сиу. И были племена, чьи представители мигом оскальпировали бы мальчика-лакота: сусуны, по-вашему шошоны, шахийела, или шайенны, канги викаша, или кроу, бывшие иногда друзьями и союзниками, а иногда смертельными врагами, и Голубые Облака, известные вам под именем арапахо. Еще имелись заклятые враги: омаха, ото, виннебаго и Миссури, чьи земли икче вичаза захватили или пытались захватить еще до рождения Хоки Уште. А также пауни и понка, чьи земли мы пытались захватить уже при его жизни. Пауни были жополизами вазикунов и за это получали от конных солдат вазичу мушкеты и даже винтовки, из которых убивали икче вичаза. Помимо пауни еще три племени — манданы, хидатса и арикара — ненавидели нас лютой ненавистью, потому что мы захватывали их земли, убивали воинов и сжигали селения, расширяя наши территории на запад. А еще дальше на западе, знал Хока Уште, обитали санкти, янктонаи и хункпапа — все они регулярно посылали на восток и юг военные отряды, истреблявшие всех попадавшихся на пути икче вичаза. А с гор на равнины спускались охотиться юта, плоскоголовые и пенд-д'орей — у них, положим, не хватило бы храбрости совершить налет на лакотское селение, но одинокого воина лакота они непременно убили бы, чтоб показать, какие они крутые. Хока Уште знал, что его скальп запросто может стать трофеем, висящим в типи или на копье любого воина из дюжины соседних племен. А все перечисленные племена и еще многие, не упомянутые, боялись черноногих. И хотя в тот год, когда Хока Уште совершал оюмни, черноногие были заняты истреблением речных кроу, ассинибойнов, гровантров, кри, равнинных оджибве и больших оджибве, то есть чиппева, но они не преминули бы между делом убить одинокого лакота, не умевшего толком обращаться с луком. Хромой Барсук знал, что этот пустынный край на самом деле совсем не пустынен. Но самая большая разница между тем, что он видел тогда, и тем, что ты или любой другой вазикун видит сегодня, заключается в другом. Мир вокруг Хоки Уште был более живым, чем ты можешь представить. Вония вакен — самый воздух — был живым. Дыхание Духа. Вечное обновление. Тункан. Иньян. Камни были живыми. И священными. Ходившие над прерией грозы были вакиньян, голосом духа грома и знамениями громовых существ. Цветы на бескрайних лугах трепетали от прикосновений татусканса, подвижного духа, живительной силы всего сущего. В реках обитали унктехи, чудовища и духи одновременно. По ночам Хока Уште слышал вой койотов и думал о Великом Койоте, старавшемся одурачить человека при каждой возможности. В паутине на дереве содержалось послание от Иктоме, человека-паука — обманщика даже почище Великого Койота. По вечерам, когда все прочие духи затихали, а в небе угасал свет и таяли облака, Хока Уште слышал дыхание Праотца Тайны, самого Вакана Танки. Поздней ночью, когда во всем мире не горело ни единого огня, способного соперничать с сиянием звезд, рассыпанных от одного горизонта до другого, Хока Уште видел в беспредельной высоте небесную дорогу, которой сам пройдет однажды, ибо он знал, что, когда умрет, его дух отправится на юг по Млечному Пути. Да, мир был полон жизни. Я вижу твой неподвижный взгляд, твою нетерпеливую позу. Но хочу, чтобы ты понял: для Хоки Уште мир был другим. Ладно. Включай свой аппарат.
Первые два дня странствия Хромой Барсук ехал на дедовой лошади сначала на восток, потом на юг по травянистым равнинам. Паха-сапа остались у него за спиной, самые враждебные племена обитали на западе. Он не разводил костер ночью, а ел приготовленные бабушкой папу и васну: вяленое мясо и пеммикан, смешанный с ягодным соком и почечным жиром, — дорожную пищу. На третий день Хока Уште подстрелил из лука кролика и поджарил на таком крохотном костерке, что, будь дело зимой, он спокойно мог бы сидеть на корточках прямо над ним, загораживая горящие угольки одеялом. Кролик получился жестким и на вкус ничем не на поминал восхитительную крольчатину, какую готовила бабушка. На третью ночь мальчик потерял лошадь. Случилось это так. Весь день он ехал по краю засушливых и опасных земель, которые знал под названием Макосича, а вы ныне называете Бэдлендс. Местность произвела на него пугающее впечатление: пыль, камень, извилистые скалистые гребни и разветвленные речные русла, оставшиеся после древних наводнений. Но еще больше Хоку Уште пугали связанные с ней предания. Здесь произошло сражение между Вакиньян Танка, гигантской гром-птицей, и Унктехи, или, иначе, Унчегила, огромным водяным чудовищем, некогда заполнившим всю Миссури от одного конца до другого. В ходе битвы Унктехи утопил почти всех свободных людей, и жалкая горстка икче вичаза спаслась только благодаря яростным атакам Вакиньян и маленьких гром-птиц на Унктехи и маленьких водяных чудовищ. И вот на третью ночь Хока Уште стреножил дедушкиного коня в сравнительно защищенном месте поодаль от Бэдлендса, поджарил своего жилистого кролика и завернулся в одеяло, готовясь проспать беспокойным прерывистым сном еще одну ночь. Но прежде чем взошло ханхепиви, ночное солнце, на прерию черно-синей стеной наползла гроза, застилая звезды, утробно заворчала, точно древний зверь из рассказов Хорошего Грома. Едва Хока Уште сел в своем одеяле, собираясь успокоить лошадь, воздух вдруг наполнился вакангели, — зловонным электричеством, порождаемым грозой, всего в четверти мили от него ярко полыхнула молния, и дедушкина лошадь, взбрыкнув передними ногами, сбросила неумело завязанные путы и стрелой помчалась в сторону Бэдлендса. Хромой Барсук вскочил с земли и закричал, но лошадь словно не услышала. Они двое неслись по прерии, озаряемой вспышками подступающей грозы, и лошадь скоро оставила задыхающегося мальчика далеко позади. В последний раз Хока Уште увидел животное, когда оно влетало в расселину оврага буквально за несколько секунд до начала дождя. На границе Мако-сича Хромой Барсук заколебался, не разумнее ли вернуться на место привала и переждать грозу, прежде чем соваться в эти жуткие овраги, залитые густыми тенями. Но он понимал: тогда ему точно не найти дедушкиного коня. Слово для обозначения лошади у лакота появилось совсем недавно, потому что икче вичаза приручили это животное всего несколько поколений назад. Сунка вакан в переводе означало «священная собака», и лошадь по-прежнему считалась священной в силу своей важности и незаменимости. Хока Уште не мог вернуться домой без коня Громкоголосого Ястреба. Он вошел в Бэдлендс ровно в тот момент, когда грянула гроза. Луна скрылась за тучами еще раньше, но теперь темнота сгустилась до кромешной. Хромому Барсуку невольно вспомнился ритуал ювипи, при котором мудрого человека плотно заворачивают в одеяла и шкуры и оставляют в темном месте, чтобы его могли найти духи. Сначала дождь просто сек косыми ледяными струями и в два счета промочил одежду, но вскоре перерос в ливень страшной силы, под каким не устоять на ногах. Хока Уште упал на колени в глубокую грязь и воду. Теперь молнии вспыхивали так часто, что глаза не успевали привыкнуть ни к темноте, ни к свету, и мальчик все равно что ослеп. Грохотало все чаще и сильнее, слышались истошные вопли громовых существ и оглушительный треск, с которым Вакиньян Танка рвала незримую жертву громадными когтями и клювом. Овраги, ущелья, теснины превратились в ужасный лабиринт, откуда Хока Уште не нашел бы выхода, даже если бы мог сейчас подняться на ноги и пойти. Вакангели наполнило воздух, и волосы у мальчика встали дыбом. Прошло несколько минут, прежде чем Хока Уште осознал, что неминуемо погибнет, если останется здесь. Вода в тесном ущелье быстро прибывала, стекая бурными потоками с какой-то возвышенности в глубине Мако-сича. Мальчик поднял голову и, сильно прищурившись, вгляделся сквозь завесу ледяного ливня: вершина скалистого хребта находилась в сотне футов над ним, зубчатый гребень чернел на фоне неба, озаренного всполохами молний. Пока он смотрел, ветвистая желтая молния ударила в валуны наверху. Если он заберется туда, его наверняка убьет молнией. А если останется здесь — точно утонет. Хока Уште стал карабкаться по крутому склону, но снова и снова съезжал обратно в ревущий поток вместе с пластами раскисшей почвы. Когда он в последний раз выбирался из ущелья, вода доходила уже до пояса. Теперь ливень превратился в град и нещадно молотил Хоку Уште по лицу и плечам. Мальчику казалось, будто Вакиньян забивает его камнями. В конечном счете Хромой Барсук воспользовался ножом: раз за разом втыкал лезвие глубоко в каменистую почву, чтобы получить опору на скользком склоне. У него было ощущение, будто он пытается заколоть саму землю, а небо хочет забить его насмерть ледяными кулаками. Градины разрывали одежду, раздирали кожу до мяса. Косички у Хока Уште расплелись, спутанные мокрые волосы липли к лицу, с висков и лба струилась кровь. Он не мог открыть глаза и понял, что добрался до вершины, только когда ударил ножом в пустоту перед собой. Хромой Барсук лежал там, оседлав узкий гребень, точно брыкливого духа-коня. Бросив нож, он вцепился обеими руками в мокрую землю, уткнулся лицом в грязь и отчаянно искал опору пальцами ног, чтоб удержаться на месте в порывах ветра, под яростно молотящим градом. Молнии безостановочно били в гребни холмов повсюду вокруг, и в какой-то момент Хока Уште поднял залитое кровью лицо к грохочущему, сверкающему небу, оскалил зубы и завыл волком, словно бросая вызов вакиньянам. Потом небеса, казалось, разверзлись еще шире, градины стали размером с кулак, и Хока Уште лишился чувств.
Очнулся мальчик с мыслью, что небеса убили его. Потом он, прищурившись, посмотрел в ясное голубое небо, увидел белоснежные холмы и овраги вокруг, уже начинающие высыхать в лучах утреннего солнца, услышал журчание ручьев в узких ущельях внизу и понял, что еще не перешел в иной мир, где обитают духи. Там, он знал, все краски тусклы, звуки приглушены, и солнце никогда не светит ярче, чем в туманный день. Хока Уште сел и с изумлением осмотрел себя. Он был голый. Даже набедренная повязка не уцелела под ливнем и градом. Сотня синяков и тысяча царапин покрывали его бронзовое тело. Пошевелив ногами, он громко застонал, но тотчас подавил стон. Пускай Хока Уште не входит в сообщество, но он все равно воин икче вичаза и должен вести себя соответственно. Нож унесло потоками воды. Более того, ночной ливень смыл с гребня холма всю почву, оставив только валуны диковинных очертаний, прежде скрытые под слоем земли. Хока Уште двинулся к границе Бэдлендса, перепрыгивая с одного камня на другой. Он оставил позади уже несколько сотен таких валунов, когда вдруг осознал, что все они одного размера и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Обернулся, по-прежнему щурясь от ярких бликов солнца на белых камнях, и тотчас понял, что ступает вовсе не по скале. Хока Уште стоял на одном из сочленений гигантского позвоночника — блестящего спинного хребта какого-то длинного существа, некогда погребенного в Мако-сича и теперь частично обнаженного после мощного ночного ливня. Мальчик понял: он стоит на Унктехи… Унчегиле… древнем змеебоге, проигравшем сражение Вакиньян Танке в незапамятном прошлом, когда скалы были молодыми. Позвоночник тянулся на многие мили в глубину Бэдлендса и исчезал за складками местности, среди которых выступали белые скалистые гребни, возможно, тоже бывшие костями. Хромого Барсука забила дрожь. Унктехи был вакан, но со столь великой священной силой не мог управиться ни один шаман икче вичаза, не говоря уже о мальчике семнадцати лет от роду. Хока Уште почувствовал, как мощные токи вакан проникают в него через босые ступни, словно в выбеленных костях спинного хребта, на котором он стоял, скопилось все электричество-вакангели ночной грозы. Он посмотрел в сторону границы Бэдлендса, все еще находившейся в четверти мили от него, потом опасливо оглянулся через плечо, будто ожидая, что Унктехи медленно поднимется, облекаясь плотью, и обратит к нему страшную морду со сверкающими ярче солнца глазами и острыми клыками размером с гору. Мальчика так и подмывало съехать вниз по крутому склону, прочь от валунов-позвонков, спуститься в затененное узкое ущелье, где уже пересыхали последние ручейки. Но путь по извилистым оврагам, залитым глубокой грязью, займет у него не один час, если он не заплутает или не увязнет в трясине по пояс. Хока Уште закрыл глаза, подумал о своем видении, справился с дрожью в ногах и снова запрыгал с камня на камень, вбирая в себя силу, что втекала через ступни и поднималась к щиколоткам, коленям и паху. Все тело покалывало, мышцы упруго сокращались сами собой, как у шамана-ювипи, исполненного духовной силы. Синяки сходили на глазах, царапины затягивались. Пара сотен шагов по степной траве — и Хока Уште оглянулся на Мако-сича. Лишь белые скалы и белые пески сияли на солнце. Он не смог найти место своей стоянки. Он потерял не только лошадь и нож: ливневые потоки унесли или погребли под наносами его лук и стрелы, одеяло, кремни, сменную одежду и крохи съестного, оставленные про запас. Через час Хока Уште прекратил поиски и зашагал на восток. Голый, с все еще подрагивающими от избытка энергии-вакан мышцами, он шел к горизонту идеально плоского мира, слегка прихрамывая, когда наступал босой ногой на кактус или юкку. И скоро холмы Бэдлендса скрылись вдали у него за спиной.
Поначалу они представились Хромому Барсуку четырехглавым существом, идущим навстречу сквозь предвечернее знойное марево. Он нимало не усомнился, что это одно из чудовищ, о которых предупреждал его дед: сисийе или сийоко. Спрятаться было негде, вокруг куда ни глянь простиралась плоская прерия, да Хока Уште и не хотел прятаться. Он стоял и ждал, когда чудовище приблизится. Четырехглавое чудовище оказалось не сисийей, не сийоко, а просто лошадью, везшей на спине троих молодых людей. Хока Уште понимал, что три воина из другого племени скорее всего будут поопаснее любого чудовища, но не двигался с места. Когда они подъехали поближе, он увидел, что лошадь изнурена и взмылена, а три воина годами не старше его. На лицах у них была боевая раскраска, и при виде Хоки Уште они воинственно завопили, вскинули свои жезлы славы и направили к нему полуживую лошадь. «Сегодня хороший день, чтобы умереть», — подумал Хока Уште, но эта смелая фраза была лишь словами. Он не хотел умирать, и его сердце бешено колотилось. Он тем более не хотел умирать голым и беззащитным, от руки мальчишек кроу или шошонов, еще недостаточно взрослых, чтобы иметь собственного коня. Они оказались не кроу и не шошонами. Хока Уште разглядел боевую раскраску, расслышал крики юных воинов, когда они приблизились, и опознал в них икче вичаза — бруле сиу, судя по грубому диалекту. Теперь он увидел, что они даже моложе его; старшему не больше пятнадцати лет. Мальчишки, со своей стороны, перестали испускать дикие воинственные кличи и остановили лошадь в десяти шагах от голого Хоки Уште. С минуту все молчали, тишину нарушало лишь хриплое дыхание измученной лошади да сухой стрекот кузнечиков в траве. — Хока хей! — сказал наконец старший мальчишка. — Ты человек? Хромой Барсук окинул себя взглядом и осознал, что он — голый, исцарапанный, покрытый запекшейся кровью — наверняка производит куда более устрашающее впечатление, чем эти юные воины. — Да, — ответил он и назвал свое племя и род. Старший мальчишка спрыгнул с лошади и подошел; жезл славы он по-прежнему держал наготове, словно решив все-таки прикоснуться к странному призраку. Однако он просто дотронулся до Хоки Уште рукой, удостоверяясь, что перед ним реальный человек, а потом отступил на шаг назад и вскинул ладонь: — Мое имя Поворачивающий Орел, я сын Отрезавшего Много Носов. Это мои друзья, Несколько Хвостов и Пытавшийся Украсть Коней. Хока Уште взглянул на двух мальчишек, молча хлопавших глазами. — Вчера мы убили двух сусунов, и теперь за нами гонятся пятьдесят конных. — В голосе Поворачивающего Орла слышался не только страх, но и гордость. Хока Уште посмотрел на восток, но не увидел там пятидесяти всадников. Расплывчатое пятно на горизонте вполне могло быть облаком пыли. — Мы охотились, — сказал Поворачивающий Орел, — и наткнулись на сусуна, стоящего на привале у Белой реки. Он был со своей женщиной и мальчиком четырех или пяти лет. Завидев нас, мужчина вскочил на коня, подхватил сына и ускакал, бросив свою жену. Мы убили ее и пустились в погоню, хотя у нас всего одна лошадь на троих… — Поворачивающий Орел с гордостью указал на хрипящую лошадь. Хока Уште подумал, что несчастное животное вот-вот рухнет наземь от изнеможения. — Когда он переходил вброд реку, — продолжал Поворачивающий Орел, — мы попали в него двумя стрелами, он свалился с коня, и мы настигли его ниже по течению. — Мальчик показал окровавленный скальп. — Он умер хорошо. Мы переплыли на другой берег и погнались за конем с сыном сусуна, но у ребенка руки были крепко привязаны к гриве, и лошадь оказалась быстрее нашей. Мы гнались за ними целый час, а потом перевалили через холм и увидали в долине военный отряд сусунов и маленького мальчишку среди них. Они бросились в погоню за нами. Около реки мы ненадолго оторвались от них, а теперь они снова идут по нашему следу. — Поворачивающий Орел горделиво дотронулся до своей груди. Хромой Барсук с тревогой посмотрел на восток. Да, расплывчатое пятно вдали очень походило на облако пыли, и оно приближалось. — Куда вы направляетесь? Поворачивающий Орел покусал губу: — Наша стоянка находится где-то между этим местом и рекой, но ночью в темноте мы проехали мимо нее. Повернуть назад мы не можем. Мы направляемся к О-ана-газе, Месту Укрытия. Хока Уште кивнул. О-ана-газе назывался высокий холм в Мако-сича, на вершине которого несколько воинов смогли бы держать оборону против целого войска. Но он находился во многих милях оттуда. На такой изнуренной лошади от военного отряда не убежать. Эти мальчики считай, что мертвы. Поворачивающий Орел подступил поближе и заговорил почти шепотом, чтобы друзья не услышали. — Я не боюсь смерти, но я буду скучать по девушке, которую зовут Видящая Белую Корову. Я обещал ей, что совершу деяние славы и вернусь к ней. — Мальчик посмотрел на Хоку Уште почти с жалостью. — Если сусуны не убьют и тебя тоже, я прошу передать Видящей Белую Корову, что я обязательно вернулся бы, будь моя воля. Хока Уште моргнул. Поворачивающий Орел отступил назад и громко сказал: — Сегодня хороший день, чтобы умереть. — Он вскочил на лошадь. Двое мальчишек позади него казались очень юными и очень испуганными. — Хока хей! — крикнул Поворачивающий Орел и ударил пятками по взмыленным бокам лошади. Взять в галоп измученное животное не смогло бы при всем желании, но рысью пойти кое-как сумело. Хока Уште посмотрел, как они медленно удаляются на запад, потом перевел взгляд на восток. Он уже отчетливо видел пыльное облако. И после минутного колебания он двинулся ему навстречу. Будь трава высокой, Хромой Барсук спрятался бы в ней, но он шагал по голой степи со скудной малорослой растительностью, где на мили окрест все видно как на ладони. Там не было ни крупных камней, ни деревьев, ни больших кустов юкки. Пыльное облако настигло бы его, даже если б он побежал. Единственной неровностью рельефа в пределах видимости была едва заметная длинная впадина, пролегавшая между ним и военным отрядом шошонов, и Хока Уште шагал к ней с решимостью обреченного. Он знал, что для шошонов не имеет значения, один человек или трое убили мужчину и женщину из их племени: сейчас скальп любого лакота утолит гнев разъяренных воинов. Мальчик машинально дотронулся до своих распущенных спутанных волос. Он уже начинал понемногу различать всадников, когда достиг высохшего речного русла — мелкого и узкого, меньше дюжины шагов в ширину. В нем не было никакой растительности, и оно недостаточно круто извивалось, чтобы предоставить хоть мало-мальское укрытие, но Хока Уште все равно спрыгнул в него. Здесь он останется незамеченным еще минуту-другую. Земля под ним уже дрожала от топота копыт. Хромой Барсук прошел шагов двадцать на север, слыша храп лошадей и крики шошонов, а потом вдруг заметил дыру в земле с восточной стороны русла. Дыра была маленькая — вероятно, барсучья нора. При виде ее мальчика осенило. Хока Уште был худой. Военный отряд находился всего в минуте от сухого русла, когда он принялся лихорадочно разрывать землю, расширяя отверстие, чтобы пролезть в него. Потом он подтянулся на каком-то торчащем корне и с усилием просунул ноги. Протиснуться дальше он сумел только потому, что был голый, скользкий от пота и не имел при себе никакого оружия. Обдирая бедра о каменистую почву, он умудрился протолкнуться глубже в сужающуюся нору, но верхняя половина тела все еще оставалась снаружи. Шошоны не могли не заметить его. Земля гудела от топота боевых коней. Хромой Барсук протиснул руки вдоль тела и принялся пальцами рвать корни, выцарапывать мелкие камешки в отчаянных стараниях расширить лаз. Его тело проскользнуло еще глубже, теперь из песчаной почвы торчали только плечи и голова. Гиканье воинов и лошадиный храп слышались уже совсем близко. Хока Уште постарался стать меньше, тоньше, скользче. Рыча от натуги и нещадно обдирая уже исцарапанную кожу, он принялся протискиваться дальше в нору, и наконец на поверхности осталась одна лишь макушка, похожая на спину гигантского паука. Пролезть дальше не получалось. Как он ни извивался, как ни напрягался, он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, ни плечами, чтобы пропихнуться в нору хоть на палец глубже. Лошади, скакавшие впереди, уже были рядом. Хромой Барсук повертел, потряс головой, пытаясь присыпать свои блестящие черные волосы песком и серой пылью. Первая лошадь достигла речного русла и остановилась прямо над ним. Хока Уште ощущал топот копыт и тяжесть животных. Подъехали еще всадники и тоже остановились над ним и по обе стороны от него на восточном берегу русла. Конь предводителя отряда нетерпеливо бил копытами, и песок из-под них стекал струйкой по откосу прямо на торчащую из норы макушку. Мальчик стиснул зубы и зажмурился, живо представляя, как шошоны смотрят на него, указывают копьями, спешиваются. Раздались крики на гортанном шошонском языке. Тут Хромому Барсуку было бы самое время запеть свою песню смерти, но он еще не удосужился ее сочинить. Теперь он жалел о бесполезно потраченных часах, проведенных у ручья в ожидании Бегущего Олененка. Воину лакота, осознал он, следовало бы заниматься вещами поважнее. Например, готовиться к смерти. Предводитель отряда снова закричал, испустил леденящий кровь боевой клич, и его конь спрыгнул в узкое русло, пролетев прямо над головой Хоки Уште. Потоки песка сползли по откосу на мальчика, забивая рот и нос, не давая дышать. Хромой Барсук подавил желание забиться всем телом, закашляться, заорать. Он лежал не дыша, пока лошади проносились над ним и сухой песок продолжал стекать на голову, уже почти полностью засыпанную. Все его мышцы были напряжены, он с ужасом ждал, что вот-вот каменный наконечник стрелы или копья вонзится ему в череп, и кожу на макушке противно покалывало. Тяжелый топот продолжался, казалось, целую вечность. Но наконец стал удаляться. Выплюнув песок, Хока Уште лихорадочно вертел и тряс головой, пока не получил возможность дышать, а потом попытался выползти из норы. Это оказалось непросто, да и внезапный приступ панической клаустрофобии не помог делу. Если бы не страх смерти от руки шошонов, он завопил бы о помощи. Когда он наконец выбрался, солнце уже отбрасывало длинные тени через сухое русло. Совершенно обессиленный, Хока Уште долго лежал пластом на белом песке, стараясь отдышаться. Он был весь в крови, земле и песке. Вернись сейчас шошоны, они наверняка настолько испугались бы его вида, что не стали бы убивать на месте. Но они не вернулись. Уже почти стемнело, когда Хока Уште на дрожащих ногах взобрался по песчаному откосу русла. Здравый смысл подсказывал, что идти следует на восток или на север, а не на запад, куда направились шошоны и их жертвы, но любопытство взяло верх. Хромой Барсук пошел по широкой полосе лошадиных следов, убеждая себя, что в такой темноте он сумеет спрятаться даже в низкой траве, если всадники будут возвращаться этим путем. Он нашел трех мальчишек бруле сиу вскоре после того, как взошло полуполное ночное солнце и пролило свой молочный свет на землю. Звезды сияли ярко, Млечный Путь был отчетливо виден, несмотря на яркую луну. Шошоны настигли мальчиков в считаных минутах скачки от речного русла. Лошадь сиу лежала там, где упала и издохла. На трупе животного не было никаких ран. Отпечатки множества копыт вели на северо-восток. Трое юных воинов лакота лежали на расстоянии вытянутой руки друг от друга. У самого младшего, которого Поворачивающий Орел представил по имени Пытавшийся Украсть Коней, в шее осталась торчать стрела шошонов. На груди и животе темнели раны от дюжины других стрел. Руки широко раскинуты, словно от удивления. Лунный свет отражался в открытых глазах, блестел на белой кости оскальпированного черепа. Мальчик по имени Несколько Хвостов выглядел так, будто его с головой окунули в красный ягодный сок. Шошоны не только сняли с него скальп, но также отрубили пальцы, вырезали язык и сердце. Поворачивающий Орел лежал поодаль от товарищей, в распластанной позе, заставлявшей предположить, что он сражался с убийцами. Горло у него было перерезано от уха до уха, и зияющая рваная рана словно улыбалась Хоке Уште. Шошоны содрали с него скальп и вырезали язык, а еще отрезали уши, кисти, детородный член и яички. Один глаз Поворачивающего Орла теперь смотрел с расстояния пары шагов, насаженный на острый лист юкки. Хромой Барсук отвернулся,судорожно хватая ртом воздух. Восстановив дыхание, он снова взглянул на убитых. Он хотел бы спеть для них песню смерти, хотел бы облегчить им путь на юг, но не знал ритуала. «Когда я стану вичаза ваканом, — пообещал он себе, — я научусь всему этому». Он повернулся прочь и зашагал на восток по залитой лунным светом равнине.
Они нашли его спустя день, ночь и еще день. Все это время Хока Уште не спал и не ел. Он не смастерил себе никакого оружия, не попытался прикрыть чем-нибудь наготу. Его раны гноились, кожа горела от солнечных ожогов и лихорадочного жара, и он напряженно прислушивался к шепчущим голосам в мозгу. Хока Уште шел, пока хватало сил идти, потом стоял на одном месте, пока ноги держали. Он не сознавал, что упал, и у него было туманное ощущение, будто он пытается ползти по крутому склону самой земли. Когда подъехали всадники, мальчик смутно осознал, что какие-то огромные существа заслонили солнце. Он был уверен, что это духи, явившиеся за ним, чтоб унести на юг, и очень удивился, услышав лакотскую речь с акцентом бруле. Когда Хока Уште очнулся спустя какое-то время, он лежал между мягкими одеялами. Сквозь откинутый кожаный полог типи лился свет вечернего солнца, густой медово-желтый свет, на какой он любил смотреть в детстве, лежа в уютной безопасности дедушкиного и бабушкиного жилища. В первый момент он решил, что ему все привиделось в лихорадочном бреду — он обливался холодным потом, как бывает после сильного жара, — но потом над ним склонилась безносая старуха, сказала что-то на отрывистом наречии бруле другой безносой старухе, и Хока Уште понял, что все происходило не во сне, а наяву. Кроме них, в палатке находилась еще одна — помоложе, с неповрежденным лицом, хранившим суровое выражение. Она наклонилась над Хромым Барсуком и сказала: — Значит… ты живой. Юноша не знал, как на это ответить. Все три женщины покинули палатку, и Хока Уште опять стал засыпать, но тут в типи вошел здоровенный мужчина со свирепой физиономией. — Это сусуны раздели тебя догола, отняли оружие, украли твою лошадь и оставили тебя там истекать кровью? — резко спросил он. Хока Уште непонимающе уставился на него. — Нет, это гроза. Сусуны меня не видели. — Он немного помолчал. — Ты — Отрезавший Много Носов. Мужчина грозно нахмурился и дотронулся до своего ножа: — Откуда ты знаешь? — Я видел твоего сына, Поворачивающего Орла. Отрезавший Много Носов шумно выдохнул: — Он жив? — Нет. Великан покачнулся, словно от сильного удара: — Сусуны? — Да. — Другие двое… Несколько Хвостов и Пытавшийся Украсть Коней… — Мертвы. Отрезавший Много Носов медленно кивнул. — Тогда понятно, почему свистел призрак… — Он осекся. — Назови свое имя и племя и объясни, как ты оказался там один, голый и весь в крови. Хока Уште представился и пояснил, что отправился в странствие после того, как получил видение. Мужчина не стал расспрашивать про видение. — Ты сможешь отвести нас к телу моего сына? — спросил он. — Думаю — да. — Утром? На рассвете? Хромой Барсук чувствовал страшную слабость после всех испытаний и лихорадки, но вспомнил изуродованное тело Поворачивающего Орла, не обряженное и не погребенное с должными почестями — лежащее в прерии, где оно могло стать кормом для животных, ведать не ведающих, кто такой Поворачивающий Орел. — Сегодня, — сказал Хока Уште. — Я отведу вас туда до восхода ночного солнца. — Нет, — после минутного раздумья произнес Отрезавший Много Носов. — Нельзя оставлять женщин одних, когда ванаги бродит в ночи. Отведешь нас к телу Поворачивающего Орла, когда призрак уйдет. — И он удалился прочь, оставив юношу спать. Позже, когда стало смеркаться, суровая женщина принесла ему миску супа. Она коротко представилась: Красный Хвост. Прихлебывая густой бульон, Хока Уште попытался завязать разговор: — А две другие женщины… с отрезанными носами… они твои сестры? — Нет, — ответила Красный Хвост. — Это другие жены Отрезавшего Много Носов. Хока Уште на секунду задумался. — Они что… это… того… — У лакота издавна повелось в наказание за неверность рассекать женам ноздри или отрезать нос. Но Хромой Барсук не знал, как выразиться потактичнее. — Это потому, что они… — Он неловко умолк. — Да, — сказала Красный Хвост. — У Отрезавшего Много Носов было пять жен, и только одна из них — я — сохранила нос в целости. Остальные заявляли о своей невиновности, но он очень ревнив. Хока Уште проглотил кусок мяса, плававший в бульоне. — Наелся? — спросила Красный Хвост и, не дожидаясь ответа, забрала у него миску. — Я должна идти. Уже темнеет. Мне нельзя находиться в типи наедине с тобой. И суроволицая женщина быстро удалилась, Хока Уште не успел даже сказать «пиламайе».
Хромой Барсук проснулся в темноте от свиста и собачьего лая. Он сразу понял: там, в ночи, — призрак, упомянутый Отрезавшим Много Носов. Свист был мелодичный, завораживающий, сладостный для слуха. Хока Уште сел на постели с бешено стучащим сердцем, испытывая острое искушение пойти на свист, пускай и предназначенный не для него. Собаки заходились лаем. Он пошарил вокруг в поисках своего ножа, тотчас вспомнил, что потерял его, мгновением позже осознал, что кто-то надел на него новую набедренную повязку, а потом встал и тихонько выскользнул за полог типи, решив найти источник чудесных звуков. Костры в селении бруле не горели. Тридцать-сорок типи сияли молочной белизной в свете ночного солнца. Собаки перестали лаять, но рычали и скалились. Казалось, свист доносился с окраины стоянки, откуда-то неподалеку от типи Отрезавшего Много Носов. Хока Уште двинулся на звук, но в следующий миг его вдруг схватили чьи-то сильные руки и потянули вниз. Отрезавший Много Носов и еще с полдюжины воинов сидели на корточках за стволом поваленного дерева. Здоровенный мужчина знаком велел Хромому Барсуку молчать, и все опять стали вглядываться поверх ствола в одинокий типи, стоявший поодаль на траве. Внезапно какая-то высокая тень проскользнула по прерии к типи, и свист зазвучал громче. — Ванаги, — выдохнул Хока Уште. Отрезавший Много Носов кивнул: — Это призрак Поворачивающего Орла. Он пришел за своей винчинчале. — Видящая Белую Корову, — прошептал Хока Уште. — Он говорил мне. Теперь высокая тень кружила вокруг типи. Руки у нее были очень длинные, ноги колыхались в воздухе, не касаясь земли. Один глаз у призрака тускло мерцал, на месте другого чернела дыра. Хромой Барсук содрогнулся, вспомнив глазное яблоко, наколотое на острый лист юкки. — Мой сын немного научился любовной магии от своего дяди, — печально прошептал Отрезавший Много Носов. — Это голос сийотанки. Хока Уште понимающе хмыкнул. Он слышал о чарующей флейте из арсенала любовной магии. Любая девушка, услышав пение сийотанки, последует за тем, кто на ней играет, и страстно влюбится в него. Мелодичный свист становился все громче, завораживал все сильнее. Хока Уште увидел, как полог типи отодвинулся, и из темного проема на лунный свет выступила юная женщина — не иначе Видящая Белую Корову. — Начали! — громко скомандовал Отрезавший Много Носов, и дюжина воинов с дикими криками выскочила из укрытий. Призрак взвился выше в воздух, на несколько мгновений неподвижно замер, точно испуганный олень, а потом закружился, как дым на ветру. Продолжая вопить и орать, воины бросились к типи Видящей Белую Корову. Свист стал глуше, теперь он походил не столько на голос флейты, сколько на шелест ветра в листве, Хока Уште тоже принялся орать и размахивать руками, он заметил среди прочих шамана с черной полосой таха топта сапы на лице, который гремел вагмухой из священного плода горлянки, отгоняя призрака. Внезапно кружащая в воздухе тень стремительно завертелась подобием пыльного смерча, а потом разлетелась на тысячу частиц — словно черная пыль, рассеянная ветром в лунном свете. Слабый свист обратился чуть слышным эхом, а потом и вовсе смолк. — Сегодня он больше не вернется, — сказал вичаза вакан. Воины пошли успокоить Видящую Белую Корову и ее мать. Отрезавший Много Носов приблизился к Хромому Барсуку: — То же самое было прошлой ночью и позапрошлой. Так мы поняли, что мой сын умер. Сейчас мы поедем похоронить его. Мальчишки привели лошадей, двадцать воинов вскочили верхом, кто-то подсадил ослабшего Хоку Уште, и отряд выехал в залитую лунным светом прерию.
Была середина утра, когда они наконец отыскали тела. Стервятники уже слетелись на поживу, глаза у мальчиков были выклеваны, лица почти полностью съедены. Отрезавший Много Носов пронзил стрелой жирную птицу, рвавшую печень его сына и не успевшую взлететь. Воины привезли с собой палаточные шесты на волокуше и теперь разрубили жерди, чтоб соорудить три погребальных помоста. Мать Поворачивающего Орла прислала лучшую военную рубаху и особые мокасины для мертвых, с вышитыми на подошвах бисерными узорами, символизирующими мир духов. Мальчика одели должным образом, а родственники Нескольких Хвостов и Пытавшегося Украсть Коней обрядили своих мертвецов. Наконец все три тела положили на погребальные помосты, и шаман по имени Бизоний Глаз произнес нужные слова и почтил духов курением священной трубки. К полудню церемония завершилась, двадцать воинов и Хока Уште сели на лошадей и двинулись прочь. — Ваш лагерь совсем в другой стороне, — сказал Хромой Барсук, когда сообразил, что они направляются на запад, к Мако-сича. Отрезавший Много Носов лишь коротко рыкнул в ответ и принялся на ходу наносить боевую краску. Хока Уште понял, что находится в военном отряде, и сказал: — У меня нет оружия. — Это не твое сражение, — отозвался седоволосый воин, ехавший рядом с Отрезавшим Много Носов. — Но ты должен опознать сусунов, убивших наших мальчиков. Хока Уште вспомнил, как он лежал в барсучьей норе лицом в землю, когда кони шошонов проносились над ним. Он промолчал. К наступлению темноты они достигли границы Бэдлендса. Отряд устроил холодный привал, несколько разведчиков врассыпную пошли дальше в поисках шошонов. Они надеялись ночью найти вражескую стоянку, бесшумно приблизиться и напасть на них с первыми проблесками зари. Бруле, как и все остальные лакота, не любили сражаться по ночам. Бруле не нашли стоянки. Весь следующий день они шли по следу, но большой военный отряд шошонов разделился на четыре или пять групп, и их следы почти затерялись на каменистых пустошах Мако-сича. К исходу третьего дня погони Хромой Барсук изнемогал от усталости и голода — они питались только васной и сырым мясом подстреленных мелких животных — и мечтал поскорее вернуться к собственным поискам. Его никто не спрашивал, но он считал, что Поворачивающий Орел со своими товарищами прежде всего не должен был убивать женщину-шошонку и ее мужа. Он не отважился сообщить свое мнение Отрезавшему Много Носов. На четвертый день двое разведчиков вернулись на стоянку чрезвычайно возбужденные. Хока Уште прислушался к невнятной скороговорке бруле и понял, что разведчики нашли не шошонов, а вазичу. У юноши забилось сердце при мысли, что он воочию увидит пожирателей лучших кусков, но он спросил Бизоньего Глаза: — Разве вы хотите отомстить не шошонам? Шаман взглянул на него с прищуром. — Они скорее всего уже перевалили через горы. Мы совершим месть там, где сможем. К этому времени военный отряд зашел далеко на запад, гораздо дальше, чем хотелось бы Хоке Уште и остальным — ведь там находилось укрепление вазикунов, которое лакота называли фортом у Соснового ручья, а пожиратели лучших кусков — фортом Филипа Керни. Но именно рядом с фортом Отрезавший Много Носов со своими воинами и устроил засаду. Настоящего вождя отряда звали Заряжающий Левой Рукой, но Отрезавший Много Носов был военным вождем и составлял планы боевых действий. Он послал седоволосого друга, Расправляющего Крылья Орла, и еще шестерых, чтобы они заманили вазичу к ручью. Воины шумно спорили за право пойти на такой подвиг. Хока Уште не изъявил желания принять участие в деле, поскольку по-прежнему не понимал, какое все это имеет отношение к его оюмни и почему вдруг убийство солдат-вазикунов станет местью за смерть Поворачивающего Орла. Но он помалкивал. Когда Расправляющий Крылья Орел и его люди стали уводить за собой вазичу от крепости, выкрикивая насмешки и пытаясь совершать деяния славы, Отрезавший Много Носов поставил своих воинов в засаду на северной стороне Соснового ручья. Хока Уште получил задание стеречь лошадей в тополиной роще под северным склоном холма, пока вазикуны не окажутся у самой засады. Оттуда он слышал крики и выстрелы, но ничего не видел. План удался. Двадцать девять солдат-вазичу и воз, который они сопровождали из форта, погнались за Расправляющим Крылья Орлом с товарищами и убили только одного из них — Высокого Убийцу Воронов. Оставшиеся шестеро завели солдат в речную долину. Под конец седоволосый воин приказал своим людям спешиться и повести лошадей в поводу, словно изнуренных, чтоб заманить солдат к самой реке. Как только вазичу оказались у реки — слишком глубокой, чтобы перебраться вброд, и слишком быстрой, чтобы переплыть без труда, — Отрезавший Много Носов и его воины принялись стрелять по ним из винтовок, пистолетов и луков. В бою пали еще два бруле — Одна Сторона, получивший пулю в глаз и умерший на месте, и Храброе Сердце, раненный в живот и скончавшийся в муках через два дня, — но все до единого солдаты-вазичу погибли в перестрелке. Как я сказал, самого сражения Хока Уште не видел, но когда стрельба прекратилась, он спустился к реке и впервые в жизни увидел пожирателей лучших кусков. К тому времени почти все они уже были раздеты, но несколько все еще оставались в своих синих рубахах и штанах. Первым вазикуном, попавшимся Хромому Барсуку на пути, оказался мальчишка не старше Нескольких Хвостов. Стрелы вонзились подростку в бедро и живот, но смертельным стало пулевое ранение в грудь. Хока Уште опустился на колени, с удивлением рассматривая вазикуна: волосы ярко-рыжие, кожа бледная, точно белое лягушачье брюшко, а широко раскрытые мертвые глаза — голубые-преголубые. Он глазел бы на такое диво и дольше, но тут подошел бруле по имени Пинающий Медведь и сказал: «Его скальп — мой. Этого вазичу убил я». Это был вызов, но Хока Уште молча отступил, предоставляя воину забрать трофей. Вокруг двух трупов безостановочно кружила желтая собака. — Это собака вазичу, — крикнул Пинающий Медведь, срезая скальп с рыжеволосого мальчика. — Но мы не стали ее убивать, она славная. Мы возьмем ее с собой и научим служить настоящим людям. Около воза лежали голые мертвые вазичу с нелепо вывернутыми конечностями. Воины Отрезавшего Много Носов, бросившиеся ловить лошадей, с трупами ничего особенного не сотворили, только повыдергивали из них стрелы да сняли скальпы. Хромому Барсуку пожиратели лучших кусков — с волосатыми лицами, волосатыми телами и кожей цвета рыбьего брюха — показались уродливыми, но это были просто мужчины — с животами, задницами и детородцами, как у любых человеческих существ. По-настоящему его заинтересовала телега. Он слышал о повозках с колесами, но никогда еще таких не видел. Эта была покрыта сзади белым брезентом, и когда Хока Уште наклонился, чтобы заглянуть в нее, навстречу ему внезапно рванулось оскаленное лицо умирающего солдата вазичу — как если бы пожиратель лучших кусков хотел его укусить. Хока Уште вскрикнул от неожиданности и отпрянул, а вазикун замахнулся на него каким-то металлическим предметом, но в следующий миг выронил его из руки, испустив дух. Хока Уште машинально подхватил предмет — увесистый, тяжелее ножа, но совершеннее бесполезный в качестве оружия: с двумя тонкими металлическими ручками вместо одного черенка и без какой-либо режущей или бьющей поверхности. Хромой Барсук обнаружил, что, если дергать ручки туда-сюда, маленькие железные челюсти на другом конце раскрываются и закрываются. Очевидно, вазичу пользовались таким приспособлением для хватания и вытаскивания разных предметов. «Получишь подарок от пожирателя лучших кусков, чья душа отлетела». Слова из видения. Хока Уште спрятал диковинный инструмент под набедренную повязку и залез на коня, взятого во временное пользование у Отрезавшего Много Носов. — Мы возвращаемся, — сказал военный вождь бруле. — Мы добыли лошадей и совершили месть. Вазикуны обвинят во всем сусунов и отомстят вместо нас. Хока Уште кивнул и сказал: — Я рад, что Поворачивающий Орел и его друзья отомщены. Теперь пойду своим путем. Отрезавший Много Носов нахмурился: — Хромой Барсук, мои жены и я надеялись, что ты останешься жить с нами и женишься на Видящей Белую Корову. Хока Уште моргнул. Он видел девушку лишь мельком, когда призрак исполнял серенаду. Почему все пытаются женить его? — Я бы с радостью, — сказал он, — но видение моей ханблецеи требует, чтобы я продолжал странствие. — Он соскользнул с позаимствованного белого скакуна. — Возьми коня в подарок, — великодушно промолвил Отрезавший Много Носов. — Его зовут Кан Ханпи — белый сок древесины, который вазичу называют сахаром, — и его украл сам Поворачивающий Орел. — Пиламайе, ате. — Хока Уште поклонился в знак благодарности. Отрезавший Много Носов подал знак, и воин Расправляющий Крылья Орел выступил вперед с ножом, луком, стрелами и одеялом для Хромого Барсука. Вождь Заряжающий Левой Рукой протянул мальчику странный предмет: сосуд с плещущейся в нем жидкостью, размером поболе горлянки, запечатанный и очень гладкий на ощупь. То была вещь вазичу. — Это кувшин со священной водой, — пояснил Отрезавший Много Носов, употребив слова «мни вакен», которыми лакота обозначали виски. Хока Уште боязливо взял сосуд, зная заключенную в нем силу и опасность. Заряжающий Левой Рукой оскалился: — В повозке вазичу еще дюжина таких кувшинов. Пей осторожно. Со священной водой в человека входят духи без всякого приглашения. Хока Уште снова поклонился в знак благодарности, воины выкрикнули «хока хей!» и пустились галопом обратно на северо-восток, а Хока Уште развернул коня на юго-запад и поехал прочь от этого места смерти.
В горах Биг-Хорн охотились горные кроу, шошоны, северные шайенны, северные арапахо и даже роды оглала-сиу из народа икче вичаза, но ни одно из племен не владело этими сумрачными холмами, и немногие храбрецы отваживались соваться туда в одиночку. Хромой Барсук отважился, но старался держаться подальше от рек, вдоль которых во множестве стояли форты вазичу — точно бусины, нанизанные на бизонью жилу. Кан Ханпи без труда переплыл Паудер-ривер, несмотря на ледяную воду, и неуклонно поднимался в горы, минуя реки Оттер-Крик, Форест-Крик и Уиллоу-Крик, пока не достиг местности, где не было никаких рек и лежали остатки зимнего снега. На высоте по ночам примораживало, и Хока Уште плотно кутался в единственное одеяло, подаренное воинами бруле. Звезды в кристально ясном небе светили ровно, не мерцая. Вокруг не было ни души. В последующие три дня Хока Уште не охотился и ничего не ел, лишь изредка пил из ручейков, вытекавших из-подо льда. Он словно голодал и очищался перед парильным обрядом или ритуалом ювипи, хотя на самом деле у него и в мыслях такого не было. Он просто не хотел есть. На четвертый день юноша увидел типи, стоящий на длинном скальном выступе, откуда весь снег сметало ветром, почти никогда не стихавшим на этой высоте. Внизу простирались горы, рассеченные долинами, далеко на востоке темнели плоские равнины. До сих пор конь Хромого Барсука ни разу не заартачился, даже когда всадник направлял его в ледяную реку или заставлял пробираться через глубокие сугробы, но теперь Кан Ханпи отказался подходить к типи ближе чем на сто шагов. Хока Уште спешился и, взяв с собой лук и пучок стрел, направился к жилищу. Три женщины смотрели на него, пока он приближался. Две из них, выглядывавшие из-за полога потрепанной палатки, были молодые красавицы из его видения — возможно, двойняшки и точно сестры. В платьях из белой оленьей кожи, с блестящими черными волосами, с лицами безмятежными и гладкими, как гладь сна. Третья — видимо, мать, — казалась сущим порождением кошмара. Лицо старой карги, изрезанное глубокими морщинами, сплошь покрывали застарелые бородавки и гнойные чирьи. Один глаз затянут бельмом, второй злобно щурился. Сквозь грязные желтовато-седые волосы просвечивал череп в чешуйках перхоти. Платье из плохо выделанной рыжеватой шкуры скверно пахло. Спина старухи горбилась, словно одно из кривых деревьев, выросших под лютыми ветрами на этом высоком горном хребте. — Добро пожаловать, — промолвила одна из молодых женщин, выступая навстречу Хоке Уште. Не обращая внимания на свирепый взгляд матери, она взяла юношу за руку и завела в жилище. — Твой дом далеко, юный вичаза. Поешь с нами и проведи здесь ночь. Хока Уште кивнул, но не улыбнулся. Он знал, что это часть его видения и что он умрет, если не выберет правильную женщину сегодня ночью. А если он умрет, его народ лишится последней возможности взять верх над вазикунами, которые вскоре нахлынут на мир, точно древний потоп во времена Вакиньян и Унктехи. Две молодые женщины сидели рядом с ним, пока старая карга варила суп из какого-то тухлого мяса. Когда они принялись за пищу, солнце уже заходило, и ветер подхватывал искры костра и разметывал над темными горами внизу, бросал в меркнущее небо, словно сея звезды в ночи. Ко времени, когда Хромой Барсук управился с супом, уже полностью стемнело. Он заметил, что ни одна из женщин не прикоснулась к пище, а потому не стал есть мясо, только выпил бульон, противный на вкус. Когда последние икры костра унесло во тьму и в глазах двух прелестных сестер отражался лишь звездный свет, Хока Уште встал и двинулся было к выходу. Молодые женщины схватили юношу за руки, а старая мать свирепо уставилась на него зрячим глазом. Хватка у них была очень крепкая. — Я просто стреножу лошадь на ночь и возьму свое одеяло, — сказал он. — Я мигом вернусь. Вот, оставляю здесь лук и стрелы, чтоб вы не сомневались. Сестры улыбнулись, но одна из них сказала: — Я пойду с тобой. Она не покинула широкое полукружие скального выступа, но Кан Ханпи испуганно косил глазом и пятился, пока женщина находилась поблизости. Хока Уште постарался успокоить коня, хорошенько его спутал, взял одеяло и прочие вещи и двинулся обратно к обветшалому типи. Приблизившись, молодая женщина взяла Хромого Барсука за руку и прошептала: — Будь осторожен, храбрый юноша. Моя сестра и мать не из земного мира. Они едят людей. Хока Уште прикинулся удивленным. — Как это? — прошептал он, остро ощущая ее цепкие сильные пальцы на запястье. Зубы красавицы блеснули в звездном свете: — У моей сестры в потайном месте растут зубы, и если ты займешься с ней любовью, они вцепятся в тебя и не отпустят, пока моя мать не убьет тебя и не высосет всю твою кровь и жизненный сок, а твои останки положит в мешок и повесит на скале за типи. Хока Уште остановился: — Как такое возможно? Девушка изящно повела рукой, и Хромой Барсук заметил, какие у нее длинные ногти. — Сестра и мать приходятся родней Иктоме, человеку-пауку. Они не любят человеческих существ… ну разве только на ужин. Хока Уште бросил взгляд на типи. Прекрасная сестра и ужасная мать казались смутными тенями у холодных углей костра. — А ты?.. — прошептал он. Девушка опустила голову: — Я тоже прихожусь родней Иктоме, и у меня тоже там… много зубов… но я не злая. — Она дотронулась до его руки: — Поверь мне. Хока Уште кивнул: — Пиламайе. Ночное солнце, казалось, восходило под ними — на такой высоте располагался скальный выступ, где стоял типи. Ветер усилился и завывал на все лады. Старуха уже улеглась на свою постель, но сестры ждали сразу за пологом. Одна из них поманила Хоку Уште. — Минутку, — сказал он. — Мне надо помочиться. Он заметил, что оставленные у костра лук и стрелы куда-то исчезли, и незаметно нащупал под рубахой сзади нож, подаренный Отрезавшим Много Носов. Красавицы переглянулись и остались ждать у входного проема. Хока Уште обогнул типи, подошел к самому краю скального выступа и помочился в темноту. Ледяной ветер кусал его че, точно зубы. Юноша содрогнулся, коротко оглянулся через плечо, а потом проворно опустился на колени и заглянул под выступ. Там висели ряды сетчатых мешков, прикрепленных к скале каким-то клейким веществом. В тусклом ночном свете юноша с трудом разглядел разные части человеческих останков, белеющих сквозь частую липкую сеть: вот палец, а вот оскаленные зубы, вон пустая глазница, а вон лоскут бледной кожи. Хромой Барсук встал, поправил набедренную повязку и повернулся обратно к типи. В темноте одна из сестер подступила к нему сзади. Он не знал наверняка, но ему показалось, что это не та девушка, которая разговаривала с ним немногим ранее. — Моя сестра кое-что рассказала тебе, — взволнованно прошептала она. — Да. Девушка дотронулась до голой руки Хоки Уште. — Это не я хватаю своего любовника потайными зубами и держу, пока мать убивает его, — прошептала она. — Я хочу сбежать отсюда. Не я, а моя сестра разделяет пристрастие нашей матери к человеческому мясу и человеческой крови. Поверь мне, и мы вдвоем перехитрим их и уйдем целыми и невредимыми. Хока Уште кивнул: — А как твоя мать убивает? По губам девушки скользнула мимолетная улыбка: — Видел ее горб? На самом деле это свернутый длинный хвост, усеянный шипами. Когда сестра схватит тебя своей виньян шан и ты завопишь от боли, старуха расправит хвост и станет рвать шипами твое тело. Хромой Барсук попытался улыбнуться, но не сумел. Проследив направление его взгляда, девушка прошептала: — У твоей лошади уже выпущены кишки. Старуха постаралась, пока ты мочился. На своих двоих тебе от них не убежать. — Она прикоснулась к спине Хоки Уште и легонько постучала пальцами по ножу, спрятанному под рубахой. — Мы спасемся лишь в одном случае: если ты убьешь их, когда они меньше всего ожидают нападения. Выбери меня первой для соития, и я обещаю не причинять тебе боли своими маленькими зубками. Хока Уште вырвал руку из крепкой хватки: — Но как я узнаю тебя в темноте? — Я прикоснусь к твоей щеке, вот так. — Она провела пальцами по его лицу. — Потом, когда мы начнем делать зверя о двух спинах, закричи дурным голосом, словно я вцепилась зубами в твоего детородца. А как только они накинутся на тебя — убей обеих. — Да, — прошептал Хромой Барсук, хотя тихое это «да» скорее всего потонуло в шуме крепчающего ветра. — Ступай вперед. Глаза девушки блестели. Ночное солнце, холодное и белое, все еще восходило в черной пропасти под ними. — Тебе правда не убежать от них. — Знаю, — сказал Хока Уште. — Иди в типи. Я зайду следом. Когда девушка превратилась в смутную тень в отдалении, Хока Уште вскинул над головой сжатые кулаки и прошептал, обращаясь к небу: — Вакан Танка, оншималайе… О Великий Дух, сжалься надо мной. Ветер свистел вокруг него наподобие сладкозвучной любовной флейты ванаги в селении бруле, и тихий голос произнес в мозгу Хока Уште: «Доверься зрению сердца». Юноша кивнул, опустил руки и направился к типи.
В типи стояла кромешная тьма — лунный свет не проникал внутрь, поскольку там даже дымового отверстия не имелось, — и скверно пахло. Хока Уште подождал, когда глаза привыкнут к темноте, но все равно едва различал во мраке неясные очертания уродливой старухи, свернувшейся калачиком в глубине жилища, и двух сестер, лежащих поближе к входу. Они положили его одеяло между своими постелями из шкур. — Что это за бугор такой? — прошептала одна из сестер, водя рукой по одеялу. — Подарок, — прошептал Хока Уште, доставая сосуд с огненной водой. Он откупорил его и протянул ближайшей девушке, но она отрицательно повела ладонью, словно опасаясь, что в нем яд. — Вот, смотри, — прошептал Хромой Барсук и отпил глоток мни вакен. Жидкость обжигала горло и на вкус напоминала самое мерзкое из лекарств, какими его когда-либо поила бабушка, но он умудрился не поперхнуться. — Вот, — повторил он, снова протягивая в темноту сосуд вазичу. — Нет, — прошептала одна из сестер, взяв у него сосуд и отставив в сторону. — Мы не хотим пить. Ложись. Хока Уште потер щеку. Рухнул его единственный план: усыпить огненной водой обеих сестер, а потом расправиться с кошмарной старухой. Сильные руки потянули юношу вниз, на одеяло. Его обволок сладкий запах девичьих тел. Одна из теней поднялась над ним и стянула с него рубаху. Другая стащила с него мокасины и скользнула ладонями вверх по бедру. Хока Уште завел руку за спину и сомкнул пальцы на черенке маленького ножа за секунду до того, как незримые руки спустили с него набедренную повязку. Теперь сестры походили на пепельно-серую тень ванаги Поворачивающего Орла, они плавно летали над ним, меняясь местами. Хромой Барсук постоянно поглядывал в сторону старой карги, но видел в глубине типи один лишь глаз, поблескивающий из-под шкур. «Смотри чанте иста», — наказал голос в видении. Глазами сердца. Четыре ладони ласкали его грудь. Острые ногти пробегали по щеке и горлу, спускаясь к ключицам. Теплое сладкое дыхание обжигало ухо. «Одна из них лжет. И если моя ханблецея не солгала, одна из них должна быть хорошая… мать нашего народа. Потомица Женщины Белый Бизон. Они не могут обе лгать». Хока Уште слышал, как они раздеваются рядом с ним. Девичьи тела источали запах вахпевастемна, сладкого благовония, используемого перед особо важными ритуалами. И еще какой-то аромат, более терпкий и возбуждающий. Юноша почувствовал, что детородец у него встает, несмотря на обуревающий душу страх. Голые девичьи груди теперь скользили по его рукам и бокам. Одна из сестер спустилась ниже, и он ощущал жаркое дыхание на своем бедре. Видение. Потные тела влажно скользили по нему. В типи стояла кромешная тьма, но он смутно различал черные волосы у девушек на голове и в паху, видел глаза, зубы и губы, тускло поблескивающие в звездном свете. Послышался тихий скрип — точно мелкие зубы трутся друг о друга, — но юноша не понял, откуда доносится звук. Одна из сестер потерла его че, чтобы он стал еще тверже, а другая провела грудями вверх-вниз по его голой груди. Они перекатывались туда-сюда через него, точно резвящиеся выдры. — Я готова, — прошептала одна из них, подтягивая руку юноши к своей промежности. Он ощутил скользкую влагу и тотчас отдернул руку. Ему показалось или он действительно нащупал там что-то острое? — Сейчас, ну же, давай, — прошептала та же самая сестра, а возможно — другая. Теперь они обе ласкали Хоку Уште. Сильная ладонь сжала его яички, потом скользнула вверх по стволу детородца, к набухшей головке. — Давай, — раздался тот же голос. Или другой? Кончики пальцев пробежались по щеке юноши. Одна девушка перевернулась на спину — сладко пахнущая, мокрая от пота — и раздвинула ноги, а вторая припала к нему сбоку и помогла приподняться, подхватив сильной ладонью под поясницу. Теперь одна пара грудей прижималась к спине Хока Уште, другая к плечу. Он осознал, что ножа у него в руке уже нет. Его че скользнул по липкому от пота девичьему животу, ощутил упругую шелковистость лобковых волос. Чьи-то руки сунулись вниз, чтобы ввести детородца куда положено. Видение. Там было три сестры. Я слышал голос той, которая не говорила. Хока Ушта попытался откатиться в сторону. Пара рук удержала его на месте, еще одна рука грубо схватила его че и попыталась затолкнуть в виньян шан девушке, лежащей под ним. В темноте нетерпеливо заклацали зубы. Хромой Барсук отпрянул назад, яростно лягнувшись, услышал раздраженное шипение и лязг сомкнувшихся в пустоте зубов, а в следующий миг обе сестры разом набросились на него, обхватывая широко разведенными сильными ногами. Они втроем выкатились через входной проем палатки на звездный свет. Сейчас Хока Уште видел лонные зубы, блестящие и щелкающие в опасной близости от его че. Лица девушек, еще недавно красивые, теперь потемнели и стали походить на паучьи морды. Слишком много мерцающих глаз смотрело на него. Одна из сестер с торжествующим шипением навалилась на юношу. Другая царапала длинными ногтями уязвимые места, стараясь засунуть детородец во влагалище. Хока Уште увидел, как у второй сестры хребет с треском отделяется от спины, обращаясь подобием скорпионьего хвоста, усеянного шипами. Нашарив на земле рядом обугленное полено, он одним стремительным плавным движением подсунул его под свое бедро и толкнул вверх. Сестра, сидевшая на нем, хрипло зарычала, когда ее виньян шан вцепилась зубами в полено и начала грызть, точно собака палку. Между их потных бедер полетели щепки. Сестры разом издали ликующий вопль, в котором не было ничего человеческого. Хока Уште откатился в сторону, оттолкнув ногами поглощенную делом сестру. Вторая мощно прыгнула на него, и они оба повалились обратно в темный типи. Ротовые зубы вцепились в шею юноше, другие зубы терзали бедро. Выбросив руку далеко в сторону, Хока Уште нащупал свой нож под шкурой, схватил его и всадил по самый черенок между чешуйчатых грудей. Жуткое существо судорожно забилось, зашипело, испустило пронзительный предсмертный крик и издохло, откатившись прочь с ножом в груди. Входной проем заслонила фигура второй сестры. Ее шипастый хвост бешено метался из стороны в сторону, раздирая стенки типи и впуская звездный свет. Хока Уште увидел, что покров палатки состоит из многих слоев человеческой кожи. Под падающими опорными шестами и хлопающими на ветру кожаными лоскутами он откатился в глубину типи, к груде одеял, сотканных из человеческих волос. Кошмарное существо пригнулось к земле, похожее на паука со скорпионьим жалом. Хока Уште сел на что-то острое, нащупал под одеялом свои украденные стрелы и лихорадочно вытащил весь пучок, понимая, что на поиски лука времени нет. Существо уже приближалось к нему, подергивая руками, ногами и хвостом. Вместо того чтобы попытаться убежать, Хромой Барсук ринулся вперед и вонзил пучок стрел в сверкающие глаза чудовища. И тотчас откатился в сторону, уворачиваясь от конвульсивно забившего хвоста. Паук-скорпион испустил столь громкий вопль, что эхо еще не одну минуту прыгало по окрестным горам. Потом он слепо бросился прочь с торчащими в глазницах стрелами, споткнулся и упал, вновь вскочил на ноги и через секунду сорвался вниз со скалы, неподалеку от места, где висели мешки с человеческими останками. Хока Уште подбежал к краю пропасти проверить, не повисло ли там чудовище, зацепившись за какой-нибудь выступ, и увидел в ярком лунном свете, как оно падает с тысячефутовой высоты на камни внизу. Пронзительный вопль паука-скорпиона и многократное эхо вопля слились в жуткую гармонию. Тишина, наступившая потом, казалась очень громкой. Юноша вернулся в полуповаленный типи и хлопал по одеялам, пока не нашел свой лук и единственную стрелу. Он в испуге отпрянул назад, когда из-под груды рухнувших шестов медленно выползла закутанная в одеяла карга-мать. — Стой, — прохрипел он, поднимая лук и натягивая тетиву. — Я не причиню тебе зла, — раздался сиплый голос из-под одеял. — Верю, — сказал Хока Уште. — Но не приближайся ко мне. Старуха замерла на месте. Хока Уште сел, поджав ноги, и ослабил тетиву, не сводя настороженного взгляда с неподвижной темной фигуры. — Кто ты? — прошептал он. Луна уже проделала полпути по небу, и ночь начинала клониться к утру. — Я виньян сни, — промолвила одноглазая фигура. — Женщина-которая-не-женщина. Я одновременно родная и двоюродная сестра Женщины Белый Бизон, которая в свое время приходила к вашему народу. Смотри… — Она дотронулась сморщенной узловатой рукой до холодных углей кострища, и там тотчас вспыхнуло пламя. — Это ничего не доказывает, — возразил Хока Уште. — Существа иктоме, которых я убил, наверняка умели делать такие же вапийя-фокусы. — Верно, — вздохнула карга. — И я никак не могу доказать, что это тот же самый огонь, который моя родная-двоюродная сестра дала твоему народу. Бесконечный огонь. Хока Уште долго молчал, глядя на языки пламени. Потом наконец проговорил: — Если ты сестра Женщины Белый Бизон, то как оказалась здесь… — Он кивнул в сторону полуповаленного типи. — Я была очень красивой, но очень непостоянной в мире духов, — проскрипела она надтреснутым старческим голосом. — Лила хинкнатупни с'а… Часто меняла мужей. Превращала мужчин в одержимых… висаюкнакскин. Одержимых страстью ко мне. Одним из них был сам Иктоме, человек-паук. Когда он надоел мне и я порвала с ним, он отдал меня своим сестрам-паучихам. Мужчин привлекали сюда не их чары, а мои. Июхависа юкнакскиньянпи… Это я превращаю всех в одержимых. — Я не одержимый, — сердито выпалил Хока Уште. Дряхлая карга улыбнулась, показав единственный зуб: — Ты одержим с самого времени своего видения. Но тебя привела сюда не магия одержимости, а терийаку… любовь ко мне. Хока Уште попытался рассмеяться — в конце концов, старуха представляла собой омерзительный мешок морщин, бородавок, чирьев и дряблой плоти, — но не сумел. Он вдруг осознал, что именно любовь составляла скрытый смысл видения и именно она привела его сюда. Юноша положил лук на землю и придвинулся ближе к уродливой карге. — Если ты прикоснешься ко мне, — предупредила она, — за дальнейшее я не отвечаю. — Я тоже, — промолвил Хромой Барсук и осторожно дотронулся до древнего создания. И в следующий миг у него открылись глаза сердца. Мерзкая карга оказалась не каргой вовсе, а молодой девой, краше которой он в жизни не видел. Истлелые лохмотья превратились в платье из ослепительно белой оленьей кожи. Мягкие полные губы, кожа стократ шелковистее и глаже, чем у коварных существ, пытавшихся его одурачить, очаровательные глубокие глаза с густыми ресницами и длинные темные волосы, блестящие и переливающиеся в свете звезд. После долгого поцелуя Хока Уште подхватил красавицу на руки и отнес на свое одеяло. Он распустил завязки платья и стянул его с податливого теплого тела. Груди у нее были безупречной формы, пупок выступал нежным бугорком, и Хромой Барсук прильнул к нему щекой. Она притянула лицо юноши к своему и прошептала: — Нет, Хока Уште. В одном отношении я похожа на сестер человека-паука… — Она взяла его ладонь и положила себе между ног. Ее виньян шан была влажной от возбуждения, но она хотела показать не это. Хока Уште осторожно раздвинул пальцами нежные потайные губы и нащупал мелкие острые зубы. — Я сменила много мужей, потому что ни один из них не отваживался взять меня, когда обнаруживал… — Тш-ш-ш… — прошептал Хока Уште, исследуя пальцами влагалище. — Это дело поправимое. Она прерывисто вздохнула, изнемогая от желания, и сложила его пальцы в кулак: — Да, если ты их выбьешь… — Что? — тихо выдохнул юноша, гладя ее волосы свободной рукой. — Причинить тебе боль? Никогда! Сестра Женщины Белый Бизон отвернула лицо: — Значит, мы никогда не сможем… Хока Уште потянулся через нее и достал из-под груды шкур сосуд с огненной водой вазичу, спрятанный там девушкой-пауком. — Выпей это, — велел он. — А когда в тебя войдут духи и ты перестанешь чувствовать боль, я воспользуюсь подарком вазичу. — Подарком? — переспросила она. Ее глаза округлились, когда он вытащил из скатанного одеяла клещи, доставшиеся ему от солдата — пожирателя лучших кусков.
Таким вот образом родная-двоюродная сестра Женщины Белый Бизон, прекрасная дева, впоследствии известная под именем Та Которая Улыбается, стала первой любовницей и единственной женой Хромого Барсука. Когда он вернулся в селение, шаманы созвали большое собрание и пришли к единодушному мнению, что именно она станет матерью детей, которые однажды выведут икче вичаза из темной пещеры обратно в настоящий мир. А позже мой прадед признался, что вырвал тогда не все зубы, росшие в неположенном месте: один маленький зубик он все-таки оставил, уж больно приятные ощущения тот доставлял при соитии. Мой дед, которого я упоминал в своем рассказе, был первым ребенком мужского пола, родившимся у Хоки Уште и Той Которая Улыбается. Шрам у него на голове — оставленный при родах единственным лонным зубом матери — стал вакан-источником его силы, когда он сделался шаманом, провидцем и колдуном. Я не застал в живых своего прадеда, но по рассказам знаю, что он и моя прабабушка дожили до глубокой старости, пользовались великим почтением всех вольных людей природы, всегда были очень счастливы и по милосердной воле судьбы умерли, прежде чем мир, который они знали, накрыла тень вазикунов. И умерли они с твердой верой, что однажды видение Хоки Уште сбудется и темная тень рассеется. Я вижу твое выражение лица. Чувствую твое сомнение. Но не сомневайся: точно знаю, что эта история — чистая правда. И ты знай: я не сомневаюсь, что видение ханблецеи, полученное моим дедом, однажды станет явью. Ладно, теперь забирай свой аппарат и ступай восвояси. История закончена. Все, что следовало сказать, — сказано. Говорят, последними словами, обращенными моим престарелым прадедом к умирающей жене, были «токша аке чанте иста васиньянктин ктело». Я увижу тебя снова глазами моего сердца. И в этом я тоже не сомневаюсь. Ну что ж, прощай. Митакуе ойазин. Да пребудет вечно вся моя родня. Дело сделано.
ФЛЭШБЭК
Кэрол проснулась, увидела свет утра — настоящего, в реальном времени — и с трудом подавила желание открыть последний двадцатиминутный тюбик флэша. Вместо этого она перекатилась на спину, надвинула на лицо подушку и сделала попытку заново представить свои сны, не поддаваясь ознобу пробуждения в реальном времени. Не сработало. Ложась в постель прошлой ночью, она просмотрела трехчасовой флэш о второй поездке на Бермуды с Дэнни, но потом ее сны стали хаотичными и бессвязными. Как жизнь. Кэрол ощутила, как страх перед реальным накрывает ее ледяной волной: она не имела понятия о том, что этот день может принести ее семье: смерть или опасность, стыд, боль — одним словом, непредсказуемость. Прижав обе руки к груди, она свернулась в тугой комок. Не помогло. Озноб продолжался. Бессознательно выдвинула ящик прикроватного столика и даже подержала последний тюбик в руке, прежде чем заметила три пустых смятых контейнера, которые уже валялись на полу укровати. Кэрол поставила последнюю двадцатиминутку на стол и пошла продолжать борьбу с утренним ознобом при помощи горячего душа, крикнув по пути Вэлу, чтобы тот вылезал из постели. Увидев открытую дверь в комнате отца, поняла, что он давно на ногах — еще до восхода солнца съел, как обычно, свои хлопья, запив их кофе, а потом возился в гараже, пока не пришло время вернуться в дом и приготовить кофе ей и тосты Вэлу. Ее отец никогда не пользовался флэшем, пока в доме кто-то был. Но Кэрол постоянно находила в гараже тюбики. Старик проводил в «отключке» от трех до шести часов в день. И каждый раз просматривал одно и то же пятнадцатиминутное воспоминание, Кэрол знала. И каждый раз пытался изменить неизменное. Каждый раз пытался умереть. Вэлу пятнадцать, и он несчастен. В то утро он вышел к столу в интерактивной футболке от Ямато, черных джинсах и темных видеоочках, настроенных на случайную окраску. Ни слова не говоря, залил молоком хлопья и проглотил апельсиновый сок. Дед вошел из гаража и встал в дверях. Деда звали Роберт. Жена и друзья всегда называли его Бобби. Теперь уже никто его так не называл. У него было слегка потерянное, чуть сварливое выражение лица — то ли от старости, то ли от частых «отключек», то ли от того и другого. Сосредоточившись на внуке, он кашлянул, но Вэл не поднял головы, и Роберт не понял, где сейчас мальчик — с ним, в настоящем, или в мелькании видеозаписи за стеклами очков. — Тепло сегодня, — сказал отец Кэрол. Он еще не выходил на улицу, но в районе Лос-Анджелеса редкий день не был теплым. Вэл хмыкнул, продолжая глядеть в направлении обратной стороны коробки с хлопьями. Старик налил себе кофе и подошел к столу: — Вчера звонила школьная программа-консультант. Сказала, что ты опять прогулял три дня на прошлой неделе. Это привлекло внимание мальчика. Он вскинул голову, опустил очки на кончик носа и спросил: — Ты сказал ма? — Сними очки, — ответил старик. Это была не просьба. Вэл снял очки, отключил телесвязь, сунул их в карман футболки и стал ждать. — Нет, я ей не говорил, — сказал наконец дедушка. — Должен был сказать, но не сказал. Пока. Вэл слышал угрозу, но не отреагировал. — У такого молодого парня, как ты, не может быть никаких причин, чтобы баловаться «отключками». — Голос Роберта хрипел от старости и срывался от злости. Вэл хмыкнул и отвел глаза в сторону. — Я серьезно, черт побери, — рявкнул дед. — Кто бы говорил, — ответил Вэл полным сарказма голосом. Роберт шагнул вперед, его лицо было в пятнах, кулаки сжаты, как будто он хотел ударить парня. Вэл встретил его взглядом в упор и смотрел, пока старик не опустил кулаки и не успокоился. Когда старик заговорил вновь, в голосе его была вынужденная мягкость: — Я серьезно, Вэл. Ты еще слишком молод, чтобы часами смотреть… Вэл соскользнул со стула, взял школьную сумку и потянул дверь. — Что ты знаешь о том, каково это — быть молодым? — сказал он. Его дед моргнул, как будто его ударили. Он открыл рот, чтобы ответить, но, пока собирался с мыслями, мальчика след простыл. Вошла Кэрол, налила себе кофе: — Вэл уже ушел в школу? Не отрывая взгляда от двери, Роберт кивнул.Роберт опускает глаза, видит свои руки, вцепившиеся в борт темного лимузина, и сразу понимает, где и в каком времени он находится. Жара для ноября невероятная. Его взгляд переходит на окна домов, потом на толпу — здесь вдоль улицы стоят всего по двое в глубину, — потом возвращается к окнам. Время от времени он поглядывает на затылок человека, сидящего в открытом «Линкольне» впереди. «Ланцер, кажется, сегодня спокоен», — думает он. Собственные мысли доносятся, как шепот радио, настроенного на какую-то далекую волну. Думает он об открытых окнах и о медлительности мотокортежа. Роберт соскакивает с движущегося автомобиля и ленивой трусцой догоняет синий «Линкольн» Ланцера, где занимает позицию у левого заднего крыла, продолжая обшаривать взглядом толпу и окна домов. Бежит он легко, как бы отдыхая; его тридцатидвухлетнее тело в отличной форме. Через два квартала застройка меняется — исчезают высотные дома, чаще попадаются пустыри и маленькие магазинчики, толпа больше не обступает дорогу, — Роберт отстает от «Линкольна» и возвращается на борт первой машины сопровождения. — Ты так совсем выдохнешься, — говорит со своего места Билл Макинтайр. Роберт ухмыляется второму агенту и видит собственное отражение в его солнечных очках. «Я так молод», — в тысячный раз за это мгновение думает Роберт, оставаясь мысленно настроенным на окна многоэтажки впереди. Он думает о маршруте, когда мимо проплывают таблички с названиями улиц: Мейн и Маркет. «Слезай! — безмолвно кричит он сам себе. — Отпусти машину! Беги туда». Он весь кипит от разочарования, видя, как не реагирует на крик внутреннего голоса. Другие мысли вопрошают, не стоит ли ему подбежать к «Линкольну» сзади, но невысокие здания по сторонам и редеющая толпа убеждают в том, что делать этого не нужно. «Нужно! Беги! Хотя бы подойди поближе». Голова Роберта разворачивается прочь от толпы по направлению к синему «Линкольну». При виде знакомой копны каштановых волос он внутренне напрягается. Вот он. Взгляд Роберта продолжает движение влево, и «Линкольн» уходит из его поля зрения. Начинается открытый участок: кочковатая лужайка и группа деревьев. Роберт с точностью до доли секунды знает, когда он сойдет с машины сопровождения, но все же напрягает тело, пытаясь заставить его спрыгнуть чуть раньше. Не помогает. Он делает шаг в то же мгновение, что и всегда. В считаные секунды он добегает до «Линкольна». Его внимание отвлекается вправо, где кучка женщин выкрикивает слова, которые он так никогда и не смог разобрать. Глен и остальные в машине тоже как по команде поворачиваются вправо. Четыре женщины с фотоаппаратиками «Брауни» что-то кричат пассажирам «Линкольна». Роберту хватает трех секунд, чтобы разглядеть всех четверых и оценить как не представляющих угрозы, однако их лица врезаются в его память сильнее, чем лицо покойной жены. Когда однажды в середине девяностых он увидел сгорбленную старуху, которая переходила дорогу где-то в пригороде Лос-Анджелеса, он сразу опознал ее как третью справа от той обочины тридцать два года назад. «Давай… прыгай на подножку „Линкольна“!» — командует он себе. Вместо этого он протягивает руку, точно прощаясь, похлопывает по запасному колесу, прикрепленному к синему «Линкольну» сзади, и возвращается к машине сопровождения. Впереди мотоциклы и головной автомобиль уже сворачивают с Мейн к Хьюстону. Синий «Линкольн»-кабриолет несколько секунд спустя следует за ними, на правом повороте замедляя ход больше, чем головная машина, чтобы не трясти пассажиров на заднем сиденье. Роберт снова ступает на подножку следующей за ним машины сопровождения. «Посмотри вверх!» Скользнув взглядом влево, Роберт отмечает, что железнодорожные рабочие столпились на эстакаде, под которую вот-вот нырнет головной автомобиль. Ругнувшись про себя, он думает: «Паршивая работа». Все три автомобиля уже медленно поворачивают влево, на Элм-стрит. Роберт наклоняется в открытый салон машины сопровождения и говорит: — Железнодорожный мост… люди. — На переднем сиденье командир, Эмори Робертс, уже заметил их и взялся за портативное радио. Роберт машет полицейскому в желтом дождевике на эстакаде и жестами велит ему очистить мост. Тот машет ему в ответ. — Черт! — говорит Роберт. «Пошел!» — командует он себе. Синий «Линкольн» проезжает прямо под рекламным щитом «Херц» с огромными часами. Они показывают ровно 12.30. — Неплохо, — говорит Макинтайр. — Опоздание минуты на две, не больше. Через пять минут мы его привезем. Роберт следит за железнодорожным мостом. Рабочие отошли от края подальше. Между ними и ограждением стоит коп в желтом дождевике. Роберт, слегка расслабившись, бросает взгляд вправо, на большое кирпичное здание, мимо которого они проезжают. Вышедшие на обеденный перерыв рабочие машут им со ступенек и с обочины. «Пожалуйста… Господи, пожалуйста… сделай так, чтобы он шагнул сейчас». Роберт оглядывается на эстакаду. Полицейский в дождевике машет рукой, рабочие тоже. На том же мосту двое мужчин в длинных плащах делают шаг вперед, но не машут. «Детективы в штатском или люди Голдвотера», — думает Роберт. Позади этих мыслей в его мозгу раздается крик: «Беги! Беги быстрее!» — Полпути к базе. Пять минут до места назначения, — говорит Эмори Робертс по радио Марту. Роберт устал. Прошлой ночью в Форт Уорте они с Гленом, Биллом и другими парнями за полночь играли в покер. А сегодня еще эта жара… Он встряхивает правой рукой, отлепляя от плеча и спины помокшую рубашку. Роберт слышит, как Джек Реди говорит что-то с другого конца машины сопровождения и смотрит на него. Люди на обочинах машут руками и кричат что-то веселое. Трава здесь куда зеленее, чем в Вашингтоне. Раздается какой-то звук. «Беги! Время еще есть!» «Господи, — слышит он свои мысли, — кто-то из этих чертовых рабочих запустил сигнальную петарду». Роберт смотрит вперед, видит розовое женское платье, видит, как вскидывает руки Ланцер, высоко подняв локти и прижав ладони к горлу. Подошвы Роберта касаются земли, когда эхо первого выстрела еще прыгает от стены к стене, как мяч. Он изо всех сил мчится по раскаленному асфальту, сердце колотится. Позади него водитель машины сопровождения нажимает на газ и тут же резко тормозит. В это нельзя, невозможно поверить, но водитель синего «Линкольна» вопреки всем инструкциям и правилам замедлил ход огромной машины. Звук раздается снова. Один из «копов» сопровождения смотрит на свою мотоциклетку с таким видом, как будто та пальнула в него. Не проходит и трех секунд, а Роберт уже лежит, распластавшись, на багажнике «Линкольна». Грохочет третий выстрел. Роберт видит удар, слышит его звук. Копна блестящих каштановых волос на затылке Ланцера исчезает в дымке розовой крови и белого мозгового вещества. Фрагмент президентского черепа, розовый, как мякоть арбуза, взмывает в воздух и приземляется на багажник «Линкольна», прямо на декоративное заднее колесо. Левая рука Роберта уже сжимает металлическую ручку, а левая нога стоит на ступеньке, когда «Линкольн» наконец начинает набирать скорость. Его нога соскальзывает, волочится по асфальту. Только онемевшие пальцы левой руки соединяют его теперь с мчащимся автомобилем. Он слышит свои мысли, что лучше пусть его разобьет об асфальт, чем он разожмет пальцы. «Теперь уже неважно, — думает он про себя. — Теперь все неважно». Невероятно, но женщина в розовом платье вылезает на багажник. Роберт думает, что она хочет протянуть ему руку, помочь забраться в автомобиль, но потом с ужасом понимает, что она всего лишь тянется к осколку черепа, застрявшему в декоративном колесе. Сверхчеловеческим усилием он выбрасывает вперед правую руку и хватает ее за запястье. На миг ее глаза стекленеют, она замирает… и помогает ему забраться на багажник газующего автомобиля. «Поздно. Слишком поздно». Роберт толкает ее в забрызганный салон, заставляет лечь в проход между сиденьями. Потом закрывает своим телом ее и того, другого, на заднем сиденье. Беглый взгляд подтверждает то, что он уже понял, когда услышал, как вошла третья пуля. Теперь машина несется во весь опор, хотя уже поздно. Мотоциклы мчатся впереди, воют их сирены. «Опоздали». Роберт всхлипывает. Ветер смахивает его слезы. Всю дорогу к госпиталю Паркленд он плачет.
В то утро «Хонда» Кэрол оказывается заряжена лишь наполовину — то ли из-за очередного отключения энергии, то ли из-за проблем с батареями самой машины. Кэрол надеялась и молилась, чтобы дело было в отключении. Ей нечем было платить за новый ремонт. Зарядки должно было хватить ровно на дорогу до работы и обратно. Направляющее шоссе один-пять забито машинами до полного ступора. Как всегда, Кэрол испытала желание вывести «Хонду» на почти пустую полосу для випов и объехать пробку. По полосе проезжали редкие «Лексусы» и «Аккура Омеги», шоферы со стоическим выражением, на задних сиденьях японские лица, склоненные над бумагами или энергетическими книгами. «Хорошо бы, — думает она, — промчаться с ветерком милю-другую, прежде чем дорожная полиция отключит мне питание и подтянет к обочине». В общем потоке Кэрол тащилась вперед, наблюдая, как падает уровень зарядки. Она думала, что причина задержки — обычный ремонт моста или дорожные работы, но, подъехав к повороту на Санта-Монику, увидела «Ниссан Вольтер» в окружении машин полиции. Водителя как раз вытаскивали наружу. Его глаза были открыты, он, похоже, дышал, но совершенно безучастно позволил засунуть себя на заднее сиденье патрульного автомобиля. «Флэш», — решила Кэрол. Люди все чащи и чаще пользовались им, даже когда стояли в пробках. Словно что-то вспомнив, она открыла сумочку и вынула оттуда свой двадцатиминутный флакон. Будь ее «Хонда» полностью заряжена, можно было бы заглянуть к поставщику на бульваре Виттьер, а уж потом ехать на работу. А так остается полагаться только на офисный запас. Кэрол опаздывала почти на полчаса, когда ставила машину в гараже под зданием Гражданского Центра, и все равно оказалось, что из четырех судебных стенографисток она прибыла на работу первой. Заглушив мотор, Кэрол прикинула, не стоит ли ей подсоединить зарядный кабель, хотя здесь дороже, потом решила добираться домой на том, что у нее осталось, открыла дверь и снова закрыла. Ее боссы привыкли к тому, что стенографистки всегда опаздывают. Они и сами, наверное, еще не приехали. Вовремя вообще больше никто не приходил. Так что до начала настоящей работы у нее есть еще от тридцати до сорока пяти минут. Кэрол подняла двадцатиминутный флакон, сосредоточилась, вызывая определенное воспоминание, как ее учил Дэнни, когда они вместе флэшевали в первый раз, и открыла крышку. Ее окутал знакомый сладкий запах, потом резкая вонь, а потом она оказалась в другом месте.
Дэнни входит из патио внутрь, подходит к ней сзади и обнимает, пока она стоит у стола и наливает сок. Его пальцы скользят под ее терракотовым халатом. Роскошный карибский свет льется в бунгало через распахнутые окна и двери. — Эй, я сейчас пролью, — говорит Кэрол, держа стакан с соком над столом. — А я и хочу, чтобы ты пролила, — шепчет Дэнни. И утыкается носом в ее шею. Кэрол выгибается в его объятиях. — Я где-то читала, что когда мужчина обнимает женщину в кухне, то это еще одна форма мужского доминирования, — шепчет она хрипло. — Вырабатывает у нее рефлекс, как у собаки Павлова, чтобы держать ее на кухне… — Заткнись, — говорит он. И стягивает с ее плеч халат, продолжая свои мокрые поцелуи. Кэрол закрывает глаза. Ее тело еще хранит память о том, как они любили друг друга ночью. Руки Дэнни выныривают из-под ткани, развязывают поясок, раздвигают полы халатика. — Через тридцать минут у тебя встреча с покупателями, — тихо говорит Кэрол, не открывая глаз. И протягивает к его щеке руку. Дэнни целует ее в шею там, где бьется пульс. — Значит, у нас есть целых пятнадцать минут, — отвечает он шепотом, щекоча ее своим дыханием. Подхваченная вихрем ощущений, Кэрол подчиняется желанию.
Под высоким пролетом железнодорожного моста, как раз там, где железобетонные фермы возносятся ввысь, точно контрфорсы готического собора, Койн передал Вэлу полуавтоматический пистолет 32-го калибра. Джин Ди и Салли свистом и другими звуками выразили одобрение. — Вот инструмент, — говорит Койн. — Ты должен сделать остальное. — Сделать остальное, — эхом отзывается Джин. — Это просто инструмент, Мент, — вторит Салли. — Давай. Проверь его. — Темные глаза Койна сверкали. Все трое мальчишек были белые, в порванных футболках и дырявых джинсах, как носили ребята из среднего класса. Их физиологические кроссовки новизной, крутизной и дороговизной сильно уступали тем, в которых щеголяли члены молодежных банд из гетто. Руки Вэла почти не дрожали, когда он перевернул пистолет и открыл затвор. Патрон уютно лежал в гнезде. Вэл со щелчком отпустил крышку затвора и пальцем взвел курок. — Неважно кого, — прошептал Койн. — Совсем неважно, — хихикнул Салли. — Лучше не знать, — согласился Джин Ди. — Но не сделаешь штучку — не получишь «отключку», — сказал Койн. — Долги надо платить, цыпа. — А заплатишь должок — получишь нервный шок, — захохотал Салли. Вэл поглядел на друзей, потом сунул пистолет под ремень, прикрыв его футболкой. Джин Ди сделал открытой ладонью «дай пять» и выбил бунтарский рэп на голове у Вэла. — Проверь-ка лучше предохранитель, малыш. А то еще отстрелит тебе все, прежде чем возьмешься за дело. Покраснев, Вэл вынул пистолет из-под ремня, поставил его на предохранитель и снова сунул на место. — Сегодня тот самый день! — закричал Салли в небо и на спине скользнул вниз по длинному бетонному склону. Эхо его крика заметалось между бетонных балок и стен. Прежде чем съехать за ним, Джин Ди и Койн по очереди хлопнули Вэла по спине. — В следующий раз, когда будешь смотреть «отключку», парень, ты уже сам будешь настоящий рубильник. Вопя так, что эхо их криков сливалось с самими криками, все трое съехали по скользкому склону вниз.
Роберт жил с дочерью, но имел еще секретный адрес. Всего кварталах в шести от их скромного пригородного дома, на старой поверхностной улице, которой после коллапса инфраструктуры почти никто не пользовался, стоял дешевый видеомотельчик, работавший преимущественно для приезжих из провинции и иммигрантов. Роберт держал там комнату. До его поставщика оттуда было рукой подать, и почему-то Роберт не так терзался угрызениями совести, когда флэшевал там. Кроме того, администрация мотеля включила в свой телем ностальгические опции специально для старых пердунов вроде Роберта, и он, когда пользовался видеоочками — что в последнее время случалось все реже, — обычно настраивался на комнату в стиле начала шестидесятых. Это как-то способствовало переходу. Роберт выскреб остатки со своего счета на карте социальной безопасности, чтобы купить дюжину пятнадцатиминутных флаконов по обычной цене — минута за доллар. По пути от их дома к видеоночлежке их продавали на каждом шагу. Роберт опустил в карман две упаковки по шесть тюбиков, похожие на блоки жвачки, и старческой шаркающей походкой двинулся в мотель. Сегодня он настроил очки. Комната воплощала дизайнерское представление об элегантности отеля «Холидей Инн» 1960-х. Кофейный столик в форме фасолины стоял перед низкой скандинавской кушеткой; торшеры на высоких ножках и лампы-звездочки лили свет; бархатно-черные портреты детишек с глазами газелей и фотографии Элвиса украшали стены. На столике веером лежали номера журнала «Лайф» и «Сатердей ивнинг пост». Нарисованное окно выходило в парк, над деревьями которого высились небоскребы из стекла и стали. Огромные машины, сделанные в Детройте, были видны на шоссе, их работающие на углеводородном топливе двигатели создавали ностальгическое фоновое урчание. Все было новое, чистое, пластмассовое. И только мощная вонь гниющих отходов была в этой картинке ни к селу ни к городу. Роберт фыркнул и снял очки. Стены комнаты из голых шлакоблоков пусты, не считая койки, на которой он лежал, да грубых проволочных конструкций, занимавших пространство там, где на картинке стояли кушетка и стол. Окно отсутствовало. Запах помойки просачивался через вентилятор и в щель под обшарпанной дверью. Роберт поставил подголовник на место и разорвал первую упаковку. Глядя в окно на проезжавшие мимо «Доджи», «Форды» и «Шеви» конца пятидесятых, он вызывал в памяти жаркий день в Далласе и ощущение нагретого металлического борта машины под рукой до тех пор, пока не убедился, что последовательность событий запущена правильно. Он приблизил к носу пятнадцатиминутный флакон и щелкнул крышкой.
Кэрол вызвали записывать дачу показаний, которая должна была начаться в кабинете окружного прокурора в 10 утра, но ответственный за процедуру заперся у себя, где до 10.30 смотрел флэш о любимой рыбалке. Престарелая свидетельница задерживалась на полчаса, представитель стороны защиты вообще не появился, у видеотехника была назначена другая встреча на 11.00, а парамедик, которому по закону полагалось дать свидетелю флэшбэк, позвонил сказать, что он застрял в пробке. Свидетеля пришлось отпустить, и Кэрол убрала клавиатуру. — Ну и черт с ними, — сказал младший помощник окружного прокурора, — старуха все равно не согласилась бы принимать флэш. Безнадежное дело. Кэрол кивнула. Свидетель, который отказывается подвергнуться допросу сразу после приема флэша, либо лжет, либо помешался на почве религии. Пожилая темнокожая женщина, чьи показания они пытались снять, не была фанатично верующей. Однако, несмотря на то что показания, данные под влиянием флэша, юридической силы не имели, ни один судья не поверил бы словам свидетеля, отказавшегося заново пережить событие перед тем, как отвечать на вопросы. Записанные на видео показания, данные после флэша, почти полностью заменили участие свидетелей в уголовных процессах. — Если я вызову ее на суд живьем, все будут знать, что она лжет, — сказал Дейл Фрич, когда они остановились у кофе-машины. — Флэш, может быть, вызывает зависимость и вредит производительности труда, зато мы знаем, что он не лжет. Кэрол взяла протянутую чашку кофе, насыпала в нее сахар и сказала: — Иногда лжет. Фрич поднял бровь. Кэрол рассказала об отце. — Господи, твой отец был спецагентом на службе у ДжФК? Это круто. Кэрол пригубила горячий кофе и потрясла головой: — Нет, не был. Это как раз самое странное. Агента, который прыгнул на багажник машины Кеннеди пятьдесят лет назад, звали Клинт Хилл. Ему было тридцать с чем-то, когда застрелили президента. Мой отец до самой пенсии работал оценщиком в страховой компании. Когда убили Кеннеди, он еще учился в школе. Дейл Фрич нахмурился: — Но флэшбэк позволяет переживать только свои воспоминания… Кэрол крепче сжала стаканчик с кофе: — Ага. Только если ты не псих и не страдаешь Альцгеймером. Или и то, и другое. Помощник прокурора кивнул и пососал палочку для размешивания кофе. — Я слышал насчет фальшивых флэшей у шизиков, но… — Тут он поднял голову. — Слушай, Кэрол… я… э-э-э… извини. Кэрол попыталась улыбнуться: — Все в порядке. Специалисты из медикейд не считают, что папа шизофреник, но в тесте на Альцгеймера он недобрал до десяти… — Сколько ему лет? — спросил Фрич, бросая взгляд на часы. — Только что исполнилось семьдесят, — сказала Кэрол. — Одним словом, никто не может сказать, почему он видит чужие воспоминания. Все, что рекомендуют врачи, — это не принимать флэш. Фрич улыбнулся: — И он выполняет их рекомендации? Кэрол выбросила пустой стаканчик: — Папа уверен, что в стране все так дерьмово именно потому, что пятьдесят лет назад он не успел встать между президентом и пулей. Он думает, что если успеет чуть раньше, то Кеннеди переживет двадцать второе ноября, и история исправится задним числом. Помощник окружного прокурора стоял и расправлял галстук. — Что ж, в одном он прав, — согласился он, забрасывая пустой стакан в контейнер для переработки. — Страна по уши в дерьме.
Вэл стоял напротив школы и размышлял, не пристрелить ли ему мистера Лоера, учителя истории. Причины, по которым он этого не сделал, были очевидны: во-первых, все школьные входы и выходы были снабжены металлоискателями, а в холлах сидели копы; во-вторых, даже если он войдет внутрь и сделает, что задумал, его все равно поймают. Что за радость пересматривать такой флэш, если придется это делать в русском ГУЛАГе? Вэлу не довелось жить в то время, когда американских преступников еще не отправляли в Российскую Республику целыми кораблями, поэтому мысль о том, чтобы мотать срок в сибирском ГУЛАГе, не казалась ему странной. Однажды, когда дед при нем заметил, что так было не всегда, Вэл ухмыльнулся и сказал: — Черт, неужели мы когда-то считали, что русским есть что продавать, кроме мест в лагерях? Дед ничего не ответил. Вэл поправил 32-й за поясом и побрел прочь от школы, направляясь к торговому центру у междугородного шоссе. Штука состояла в том, чтобы выбрать кого-нибудь наугад, грохнуть, бросить пистолет где-нибудь, где его не найдут, и сделать ноги. Он будет сидеть дома и смотреть АйТиВи, когда в новостях сообщат об очередном бессмысленном убийстве, связанном, по мнению полиции, с флэшбэком. Вэл настроил очки так, чтобы все женщины, встреченные по дороге, казались голыми, и зашагал, набирая скорость, к торговому центру.
Кэрол ждет парня, с которым встречается в старших классах. Она оглядывает свою блузку с рюшами а-ля Мадонна, чтобы убедиться, что антиперспирант не подвел, и продолжает стоять на перекрестке, переминаясь с ноги на ногу. Она видит, как почти новый 93-й «Камаро» Нэда рассекает движение и, визжа тормозами, останавливается рядом, — и вот она уже садится на заднее сиденье рядом с Кэти. Как всегда во время этого флэша, Кэрол обмирает, видя себя в зеркале заднего вида, в которое она смотрится, чтобы проверить макияж. Ее волосы выбриты с боков, выкрашены и стоят посреди головы игольчатым гребнем, в левом ухе сверкают три фальшивых бриллианта, а щедро наложенная тушь и подводка для глаз делают ее похожей на яркую картинку. Кэрол испытывает шок не только от того, что видит себя молодой и лысой, но и от того, что чувствует в себе энергию. Она ощущает, как легка походка, как упруги мускулы и грудь, как парит ее душа. Более того, она чувствует, как несутся мысли, задорный оптимизм которых так же отличается от тяжкой поступи повседневных дум о будущем-настоящем, как ее тогдашний вид не похож на то, что она представляет собой в тогда-сейчас. Кэти болтает, но Кэрол, не обращая внимания на трескотню, просто наслаждается видом подруги. В последнем классе Кэти бросила школу, а потом совсем пропала из виду, и Кэрол не вспоминала о ней до тех пор, пока осенью 98-го года какая-то подруга не сказала ей, что Кэти погибла в автокатастрофе в Канаде. Как всегда, Кэрол испытывает прилив теплых чувств к старой подруге и с трудом подавляет желание предупредить ее, чтобы она не ездила со своим бойфрендом в Ванкувер. Но вместо предупреждения из ее рта начинает сыпаться всякая ерунда о том, кто кому в тот день написал в школе записку. Пульс у нее учащается, а щеки заливаются краской, так она старательно избегает говорить с незнакомым парнем на переднем сиденье. Нэд, взревев мотором, возвращается в поток автомобилей, подрезает фургон «Вилладжер» и, почти не глядя, меняет полосу. Вот он оборачивается и говорит: — Хей, Кэрол, детка, ты обратишь сегодня внимание на моего друга или как? Кэрол вздергивает подбородок: — А ты представишь своего друга или как? Нэд издает неприличный звук. Судя по количеству спиртных паров, он, похоже, выпил. — Кэрол, этого чувака звать Дэнни Рогалло. Он из Вест Хай. Дэнни, познакомься с Кэрол Хирне. Она подруга Кэти и знает нашу футбольную команду… э-э… как это сказать? Интимно. О черт. — Нэду приходится резко тормозить и срочно уходить на другую полосу, чтобы не въехать в зад грузовику, который внезапно сбросил скорость. Кэрол швыряет вперед, она вцепляется руками в спинку кресла, на котором сидит новый парень, и смотрит на него. Дэнни оборачивается и улыбается ей, то ли довольный тем, как его представил Нэд, то ли смущенный его ездой. Кэрол слышит свои мысли: парень красивый, улыбка, как у Тома Круза, ультракороткая спортивная стрижка, в ухе бриллиант. — Привет, классный кекс, — слышит Кэрол свои слова, обращенные к Дэнни. Улыбка Дэнни становится шире. — И тебе привет, — говорит новичок, все еще сидя вполоборота и глядя на нее. Кэрол знает, что флэш как раз на середине и что следующий крутой момент настанет, когда их руки нечаянно встретятся во время подъема на эскалаторе в торговом центре.
— Полпути к базе. До места назначения пять минут. Роберт бросает взгляд на переднее сиденье и видит, как Эмори Робертс, положив рацию, пишет что-то в отчете смены. Роберт встряхивает рукой, чтобы отклеилась пропитанная потом рубашка, а потом глядит вправо, когда Джек Реди говорит что-то с другого конца машины сопровождения. Раздается звук. «Беги же, черт тебя побери! Беги! У тебя еще почти две секунды. Воспользуйся ими!» Его взгляд возвращается к железнодорожной эстакаде, и он слышит свои мысли: «О господи, кто-то из этих дураков-рабочих запустил сигнальную петарду». Ланцер почти комически вскидывает руки. Ладонями он хватает себя за горло, так что сзади кажется, будто его вытянутые в одну линию руки обрываются у локтей. Роберт чувствует, как его тело отрывается от подножки машины сопровождения. Наконец-то. Он изо всех сил бежит к синему «Линкольну». В машине сопровождения за его спиной вскипают голоса. Роберту понадобилось не менее дюжины флэшбэков, чтобы, сосредоточив все внимание, разобрать, как Роберт Эмори приказывает Джеку Реди вернуться на подножку и как Дэйв Пауэрс, друг Ланцера, без всякой видимой причины оказавшийся в машине сопровождения, вскрикивает: «Кажется, в президента стреляли!» Но теперь все сливается в неразборчивый звуковой фон реального времени — голоса неотличимы от эха выстрелов и хлопанья голубиных крыльев, — и он изо всех сил догоняет синий «Линкольн», не отрывая глаз от каштановой макушки Ланцера. Ланцер начинает сползать с сиденья. «Линкольн» неизвестно почему замедляет ход. Роберт прыгает на багажник сзади. Раздается еще один выстрел. Голова Ланцера превращается в облако розового тумана. — Черт побери, — говорит Роберт. По его щекам текут слезы. На мгновение он забывает о том, где он — дизайн шестидесятых, движение за окном мотеля, — но потом поднимает руку, чтобы вытереть слезы, натыкается ладонью на видеоочки и вспоминает. — Черт тебя побери, — шепчет он опять и сдергивает очки с носа. В комнате с голыми стенами воняет отходами и плесенью. Роберт бьет кулаками по лежанке и рыдает.
Вэл прошел мимо старых моллов, теперь закрытых или превращенных в тюрьмы, и вскарабкался по деревянным лесам туда, где над самым фривеем расположился небольшой молл. Их по-прежнему называли моллами, и других Вэл за свою короткую жизнь не видел, но даже он знал, что на самом деле это были обыкновенные блошиные рынки, устроенные над междугородным шоссе после того, как оно закрылось после Большого Коллапса в восьмом году. Сегодня четверть мили или больше занимали ярко раскрашенные палатки, которые вздувались и опадали на ветру; бродячие торговцы орудовали вовсю. Вэл влился в толпу полуденных покупателей и понял, почему Койн и Джин Ди настаивали, чтобы он совершил свое флэш-убийство именно в молле. Здесь в считаные секунды можно затеряться в толпе, отсюда вели дюжины лестниц, по которым легко спуститься вниз, а пистолет бросить в лабиринт вздыбленных бетонных блоков и торчащей во все стороны арматуры на провалившейся секции шоссе, где его никто никогда не отыщет. Вэл шел по белой дорожке между полотняными палатками, поглядывая на новые японские и германские товары и притворяясь, будто смотрит на старое переработанное барахло из России и Америки. Японские видеоочки и прочие интерактивные штуковины были крутыми, хотя Вэл знал, что они и в сравнение не идут с теми техническими игрушками, которые покупают подростки в Японии и Германии. У телевидения, особенно интерактивного, одна проблема — оно показывает, как живет вторая половина мира, но не объясняет, как туда попасть. Мать Вэла говорит, что с теликом всегда так — что когда она сама была девчонкой в давние времена, испанские и африканские ребятишки в гетто чувствовали то же самое, глядя по ящику на достаток белых американцев среднего класса. Вэлу плевать, как там оно было в материно время; его интересовали новые японские игрушки. Но не сегодня. Сегодня Вэл хотел только пустить в дело свой 32-й, избавиться от него и сделать ноги. Койн и Джин Ди клялись, что когда сам кого-нибудь убьешь, то в мире нет ничего приятнее, чем переживать потом это во флэше. Салли тоже клялся, но Вэл не верил ни одному слову этого долговязого. Салли пробовал крэк, ангельскую пыль и турбомет, а не только флэш, и Вэл, как всякий нормальный флэшеман, презирал тех, кто принимал старую наркоту. Тем не менее он мог только смотреть, когда эти трое открывали тридцатиминутный флакон, чтобы пережить свои убийства. Их лица расслаблялись, приобретая то идиотски-мечтательное выражение, которое бывало обычно у флэшующих, тела расслаблялись, руки и ноги подергивались, глаза под закрытыми веками бегали, как в фазе быстрого сна. Вэл видел, как у Койна затопорщилось в штанах, когда тот дошел до решающей части своего флэша. Джин Ди говорил, что убить кого-то во флэше даже лучше, чем в реальном времени, ведь ты получаешь весь адреналин и все возбуждение, хотя знаешь — твое я, которое смотрит, знает, что тебя не поймают. Вэл тронул пистолет через майку и задумался. Флэш об изнасиловании той испанской девчонки понравился ему не так, как уверял его Койн: она так орала и от нее так воняло страхом, пока Салли держал ее, что его тошнило, и всякий раз, пересматривая это, он чувствовал реальную тошноту поверх вспоминаемой. Так что после двух-трех групповых просмотров Вэл пристрастился вспоминать что-нибудь другое: например, как они с Койном, когда им было лет по семь, стащили у старика из Веймарта коробку с деньгами, а не то изнасилование. Но Койн говорил, что ничто не сравнится с флэшем о том, как ты сам уделал кого-нибудь. Ничто. Узкая полоска мола под открытым небом кишела полуденными покупателями и флэш-отморозками. Вэл давно заметил, что все больше и больше людей с каждым днем просто перестают ходить в школу и на работу; реальная жизнь мешала флэшингу. Он спрашивал себя, не потому ли все больше и больше мусора копится вдоль обочин, все реже и реже приносят почту, да и вообще ничего не делается, за исключением тех случаев, когда всем заправляют японцы. Вэл пожал плечами. Да какая вообще-то разница. Главное сейчас — найти, кого грохнуть, потом выбросить пистолет и сделать ноги. Покидая переполненные палатки с японскими и немецкими товарами, он направился к русским ларькам, чувствуя, как учащается пульс при одной мысли о том, что ему предстоит сделать. В его голове начинал складываться план. В этой части рынка, которая находилась ближе к месту коллапса, народу было меньше, чем в центре, но достаточно для того, чтобы Вэл мог сделать выстрел и смыться, пока его не заметили. Он обратил внимание на узкие проходы между ларьками. Двигаясь по такому коридорчику с полотняными стенами, он мог видеть покупателей, оставаясь незамеченным ими и продавцами внутри ларьков. Вэл вытащил из-за пояса небольшой автоматический пистолет и теперь держал его у бока. Осталось только выбрать кто… Женщина лет пятидесяти с небольшим бродила от прилавка к прилавку, разглядывая поверх бифокальных очков русские артефакты и иконы. Вэл облизнул губы и снова опустил пистолет. Слишком она была похожа на фотографии бабушки, которые ему показывали. Двое пижонистых геев в панорамных видеоочках прогуливались под ручку, хихикая над грубоватыми русскими поделками и используя каждую насмешку как повод потискать друг друга. Рука одного лежала в заднем кармане джинсов второго. Вариант был подходящий. Вэл поднял пистолет выше. И тут он увидел пуделей. Каждый из геев держал на поводке тявкающую собачонку. Мысль о том, как песик будет скакать и лаять вокруг мертвого парня, когда он его грохнет, показалась Вэлу неудачной. Он спрятал пистолет за спину и продолжал наблюдать. Человек постарше шел по проходу, внимательно рассматривая русское барахло. Этот тип был лысый и весь в пигментных пятнах от старости, на нем не было ни видеоочков, ни просто очков, но что-то в его мешковатой стариковской одежде и слезящихся старческих глазах напомнило Вэлу деда. Вэл поднял пистолет, тихо щелкнул предохранителем и сделал полшага назад, под хлопающий парусиновый навес. «Стреляй, медленно уходи, бросай пистолет в бетонную мешанину внизу, садись на автобус Джи и езжай домой…» — повторял он про себя инструкции Койна. Его сердце билось почти болезненно, когда он поднял маленький автоматический 32-й и навел короткий ствол. Грохнул выстрел, старик вскинул голову. Все глядели в проход, туда, куда ушли два гея со своими пуделями. Старик отошел от прилавка и вместе со всеми остальными смотрел, а крики и шаги становились все громче. Вэл дрожащими руками опустил пистолет и вышел посмотреть. Женщина с седыми волосами и в бифокальных очках кучей тряпья лежала на полосатой центральной дорожке рынка. Парнишка лет двенадцати-тринадцати удирал в сторону приподнятого края рынка, его кожаная куртка хлопала на бегу. Один из веселых пижонов стоял на колене и орал мальчишке, чтобы тот остановился. Его приятель показывал толпе жетон, вопя, чтобы все оставались на своих местах, пока гей, стоявший на одном колене, обеими руками сжимал тупорылую пластиковую трубку. Вэл сразу опознал черную штуку, виденную во многих интерактивных кино: стреляющий иглами «узи»-940. Он не сомневался, что клоунские панорамные очки наводили прицел и давали всю необходимую тактическую информацию. Коп в последний раз приказал мальчишке остановиться. Тот, уже почти в конце лестницы, даже не оглянулся. Пудели тянули поводки, захлебываясь истерическим лаем. Мальчишка оглянулся через плечо, как раз когда коп нажал на спусковой крючок. «Узи» коротко прошипел, как шина, из которой выскочил нипель, и куртка парня тут же разлетелась на кожаные полоски, когда сотни стальных и стеклянных микрочастиц попали в цель. Мальчишка упал и покатился по полу, раскинув руки и ноги, как тряпичная кукла, собственная инерция, дополненная ударом сотен игл сзади, швырнула его под веревочное ограждение и сбросила с помоста. Клочья кожаной куртки еще летали, как конфетти, в воздухе, когда толпа рванула мимо двух копов и их захлебывающихся пуделей посмотреть на упавшее с высоты в тридцать футов тело. Вэл перевел дух, сунул 32-й за пояс, прикрыл майкой и медленно пошел к другой лестнице. Его ноги почти не дрожали.
Кэрол вышла из флэша о встрече с Дэнни и обнаружила, что Дейл Фрич ждет у дверей ее каморки. Как давно он там, она не знала. За последние несколько лет потребность в уединении превратилась в императив, и все пользователи флэша уважали нужду других побыть время от времени одному. Вот и теперь Кэрол глянула в зеркальце на своем столе, чтобы проверить макияж, и торопливо провела щеткой по волосам, прежде чем открыть. Помощник окружного прокурора, похоже, был в замешательстве. — Кэрол… э-э… я только хотел узнать… а-а… не найдется ли у тебя завтра немного свободного времени для одного дела? Кэрол подняла бровь. С Фричем она не однажды работала по снятию показаний и около двадцати раз ходила в суд, когда он участвовал в процессах, но за все это время, не считая сегодняшнего утра, когда речь зашла о ее отце, они не сказали друг другу ничего, что не имело бы отношения к работе. — Для дела? — переспросила она, недоумевая, уж не приглашает ли он ее на свидание. Кэрол знала, что помощник прокурора женат, имеет двух малолетних детей, а его единственной страстью, о которой он иногда упоминал при ней, была ловля форели. Дейл оглянулся через плечо, вошел в пустую комнату для совещаний и поманил ее за собой. Кэрол подождала, пока он закроет дверь. — Ты знаешь, что я расследую убийство Хаякавы? — спросил он шепотом. Кэрол кивнула. Мистер Хаякава был влиятельным корпоративным советником в Лос-Анджелесе и окрестностях, и все знали, что дело о его убийстве было, как любил говорить прокурор, щепетильным. — Так вот, — продолжал Дейл, рукой ероша светлые волосы, — у меня есть свидетель, который утверждает, что в него стреляли вовсе не с целью ограбления, как считает полиция. Он клянется, что выстрел имел отношение к наркотикам. — К наркотикам? — сказала Кэрол. — Ты про коку? Дейл прикусил нижнюю губу: — Я про флэш. Кэрол едва не рассмеялась вслух: — Флэш? Хаякава мог купить его в городе на каждом углу. И любой другой — тоже. Кому надо убивать из-за флэша? Дейл Фрич помотал головой: — Да нет, его убили потому, что он сам был поставщиком, и кого-то не устроило количество товара. По крайней мере так утверждает мой источник. Кэрол не скрывала скептицизма. — Дейл, — начала она, впервые обратившись к нему по имени, — в Японии запрещено употребление флэшбэка. Там за это по закону полагается смертная казнь. Помощник прокурора согласно кивнул: — Мой информатор говорит, что Хаякава был звеном в цепи поставщиков. Он говорит, что японцы придумали наркотик и… Кэрол издала неприличный звук: — Флэшбэк впервые синтезировали в лаборатории в Чикаго. Помню, я читала об этом до того, как его стали продавать на улицах. — Он говорит, что наркотик придумали японцы и больше десяти лет сбывают его нам, — продолжал Фрич. — Слушай, Кэрол, знаю, это звучит дико, но мне нужна хорошая стенографистка, которая будет держать язык за зубами до тех пор, пока я не докажу, что мой информатор псих или… В общем, ты сможешь завтра? Кэрол колебалась всего мгновение: — Конечно. — В обеденный перерыв у тебя получится? Нам надо встретиться с этим парнем в кафе на другом конце города. Он настоящий параноик. Кэрол чуть заметно улыбнулась: — Что ж, если он считает, что снимает крышку с гигантского международного заговора, то я не удивляюсь. Ладно, все равно сухомяткой из дома обедаю. Встретимся у тебя в офисе в полдень. Дейл Фрич замялся: — Может, лучше на улице… скажем, на углу южной стороны парковки? Не хочу, чтобы кто-нибудь в офисе знал. Кэрол подняла бровь: — Даже мистер Торразио? — Берт Торразио и был окружным прокурором, политическим ставленником мэра и его японских советников. Никто, даже стенографистки, не считал Торразио компетентным. — В особенности Торразио, — сказал Фрич напряженным голосом. — Расследование по этому делу уже закрыто, Кэрол. Если Берт что-то пронюхает, Хиззонер со своими японскими денежными мешками из города слетятся ко мне, как мухи на дерьмо… извини за выражение. Кэрол улыбнулась: — Я буду на углу в полдень. Мальчишеское лицо помощника окружного прокурора просияло облегчением и благодарностью: — Спасибо. Я тебе очень признателен. Кэрол чувствовала себя идиоткой оттого, что решила, будто он к ней клеится. Тем не менее всю дорогу домой ни разу не подумала о Дэнни. Когда она въехала в гараж, датчик ее зарядного устройства был на нуле.
По лицу Вэла Роберт увидел, что у парня проблемы, как только тот вошел в дом. Подросток часто бывал зол, еще чаще угнетен и нередко рассеян из-за ощущения потери себя во времени и пространстве, которое вызывает флэшбэк, но таким расстроенным, как в тот вечер, Роберт не видел внука никогда. Вэл ввалился в дом, когда они с Кэрол разогревали в микроволновке обед, и сразу прошел к себе. За столом не разговаривали — обычное дело, — но лицо Вэла весь обед сохраняло сальный блеск, а глаза бегали вправо-влево, как будто он ждал звонка. Чтобы заглушить молчание за столом, включили, как всегда, телевизор, и Роберт заметил, что внук внимательно смотрит местные новости — случай не то чтобы необычный, а прямо-таки беспрецедентный. Роберт увидел, как парень заерзал на стуле, вскинув голову, когда местная новостная телеперсона заговорила о стрельбе в молле один-пять: «…жертвой стала миссис Дженифер Лопато, 64 лет, из Глендейла. Представитель полицейского отделения Лос-Анджелеса Хизер Гонсалес сообщает, что пока не удалось установить никаких мотивов ее убийства, а власти полагают, что это еще одно убийство на почве флэшбэка. Однако в данном случае предполагаемого преступника обезвредили двое полицейских в штатском, применив к нему силу. Компания СиЭнЭн-ЭлЭй получила официальную видеозапись выстрела, сделанную встроенной в автомат камерой. Предупреждаем, что видео, которое вы сейчас просмотрите, имеет графический характер…» Роберт наблюдал, как Вэл смотрит запись. Насколько он сам понял, бросив на экран беглый взгляд, этот ролик мало чем отличался от кровавой вакханалии, которая заполняла теперь выпуски теленовостей по вечерам. Но Вэла все происходящее на экране заворожило. Роберт видел, как парень с открытым ртом следил за мальчуганом, который бежал сквозь толпу, не реагируя на приказы офицера за кадром остановиться, и как в следующий миг туча игл разнесла его на куски. Внук закрыл рот, сглотнул и повернулся к столу только тогда, когда на экране уже несколько секунд шел следующий ролик об отзывах интернет-пользователей Лос-Анджелеса на плохие сводки с войны в Китае. А вот Кэрол не обратила на реакцию сына никакого внимания. Она словно смотрела внутрь себя, как всегда в последнее время. «Мы во флэше, даже когда мы не во флэше», — подумал Роберт. Он почувствовал приступ головокружения, которое часто случалось с ним в последнее время, когда он вспоминал о своих флэш-приключениях, а затем пришла волна отвращения к себе. К семье. К Америке. — Что-то случилось, пап? — спросила Кэрол, отрывая взгляд от кофе. Ее взгляд еще казался близоруким, отрешенным, но в голосе уже звучала забота. — Нет, — сказал старик, поднимая руку в сторону Вэла, — я просто… Пока он пребывал в задумчивости, внук встал и вышел из-за стола. Роберт даже не понял, куда он пошел: наверх или на улицу. — Ничего, — сказал он дочери, неловко похлопывая ее по руке. — Ничего не случилось.
Много лет назад пешеходный надземный переход заключили в проволочную клетку, чтобы люди не бросали на двенадцать полос ведущего на север шоссе тяжелые предметы и не сбрасывались сами; потом — когда в середине девяностых стрельба на дорогах достигла масштабов эпидемии — его покрыли толстым плексигласом, якобы пуленепробиваемым. Пули от него не отскакивали — о чем свидетельствовали многочисленные дырки, зато через него невозможно было попасть точно в цель, так что снайперы стали выбирать другие точки на шоссе. К тому времени народ уже разобрался, что всякий, кто ездит в небронированной машине, заслуживает пули в ухо. После рождения Вэла чокнутые ветераны-наемники азиатских и южноамериканских войн начали бросать с эстакад осколочные и другие гранаты, и потому пешеходные мосты снова окружили решетками и снабдили железными дверями, приваренными с обоих концов, чтобы на мост вообще никто не входил. Банды подростков взрывчаткой проделывали дыры в стальных пластинах и устраивали в длинных темных переходах встречи или флэш-салоны. Внутри было очень темно, и Вэлу пришлось настроить свои видеоочки на ночное видение, чтобы найти Койна, Джина Ди и Салли среди темных силуэтов, которые о чем-то переговаривались, кивали, продавали и покупали. Вэл вытащил 32-й из-за пояса и держал в руке. — Не смог, да? — тихо сказал Койн, забирая оружие. В ночных очках Вэла он представлялся ярко-зеленой фигурой с пульсирующей белой трубкой в руке. Вэл открыл рот, чтобы объяснить про того парня и подставных копов, но ничего не сказал. Салли издал звук отвращения, но Койн пихнул его, и он замолчал. Койн снова протянул пистолет: — Держи, Вэл, мальчик мой. Как говорила одна сучка-южанка в старом фильме, как ее там звали, «завтра будет новый день». Вэл моргнул. Кто-то закурил в тоннеле сигарету, и другой конец моста залило ярким белым светом. С десяток голосов заорали придурку, чтобы он прекратил курить. — А пока, — сказал Джин Ди, обнимая Вэла за плечи, — мы надыбали такой классный флэш… Вэл снова моргнул: — Флэш — это просто флэш, ты, задница. Салли снова фыркнул, а Койн положил руку Вэлу на спину. Физический контакт с Койном и Джином Ди душил Вэла, словно петля затягивалась вокруг его груди, не давая дышать. — Флэш — это просто флэш, — зашипел Койн, — но есть какое-то возбуждающее дерьмо, что-то вроде феромона, так что, когда смотришь, как трахаешь кого-то, как мы ту испанскую сучку, встает сильнее, чем в первый раз. Вэл кивнул, хотя и ничего не понял. Как можно испытать больше, чем в первый раз? Кроме того, у него еще ни разу не было оргазма, за исключением тех случаев, когда он играл с собой сам, а вспоминать об этом Вэл не любил. Но он кивнул и позволил Джину и Койну подвести его туда, где сквозь щель в затемненном плексигласе проникал узкий лучик света, который казался струйкой раскаленного металла на заплеванном цементном полу. Джин Ди достал четыре часовых флакона. Вэл пытался придумать, о чем бы ему пофлэшевать. Почти все его воспоминания были какие-то неприятные. Он ни за что не признался бы в этом остальным, но часто, говоря, что смотрит про изнасилование испанской девчонки, он вспоминал матч Малой Лиги, который он сыграл, когда ему было восемь лет. Он играл всего один год, потому что обнаружил, что для других парней бейсбол — это не круто. Насколько Вэл знал, теперь уже никто не играет за Малую Лигу… денег нет. Чертов рейгановский долг. Стоило ли посылать армию воевать за япошек, раз это никак не повлияло на проценты по японскому займу? Вэл ничего в этом не понимал, только знал, что все дерьмово. Он уже протянул руку к Койну за шестидесятиминутным флаконом, когда парень побольше хрипло прошептал ему в ухо: — Завтра, дружок, мы пойдем с тобой и поможем тебе выбрать, в кого стрелять, чтобы потом флэшевать… Вэл кивнул, отпрянул и поднес флакон к носу. Маленькая Лига не появилась, когда он пытался ее вспомнить. Вместо этого ему вспомнилось время, когда он был совсем маленьким засранцем — года два-три, не больше, — и мать сажала его к себе на колени и читала сказки. Наверное, это было до того, как она начала принимать флэш. Он засыпал на ее коленях, но не слишком крепко, и потому слышал слова, которые она читала, произнося их медленно и четко. Чувствуя себя последним ссыкуном и придурком, Вэл удержал это воспоминание и сорвал колпачок с флакона.
Роберт не любил интерактивное телевидение, но когда Кэрол легла в постель и он убедился, что Вэла нет дома, он включил СиЭнЭн-ЭлЭй и выбрал доступ к телеперсоне. Привлекательное евразийское лицо ответило ему улыбкой: — Да, мистер Хирне? — Стрельба в сегодняшних новостях, — сказал он отрывисто. Он не любил разговаривать с искусственными личностями. Ведущая улыбнулась шире: — В каком сегменте, мистер Хирне? Новости транслируются каждый час, и… — Семь часов, — сказал Роберт и заставил себя чуть-чуть расслабиться. — Пожалуйста, — добавил он и почувствовал себя глупо. Ведущая просияла: — Вас интересует выстрел в мистера Колфакса, мистера Мендеса, мистера Рузвельта, мистера Кеттеринга, младенца Ричардсона, миссис Дозуа, неустановленного гаитянина, мистера Инга, миссис Лопато… — Лопато, — сказал Роберт. — Выстрел в Лопато. — Хорошо, — сказала ведущая, исчезая за кадром, а сообщение, предшествовавшее репортажу, появилось на экране. — Хотите услышать оригинальный текст? — Нет. — Расширенную версию? — Нет. Вообще без звука. — В реальном времени или замедленную? Роберт поколебался: — Замедленную, пожалуйста. Пошел ролик, снятый камерой автомата. В правом нижнем углу рамки был наложен логотип СиЭнЭн-ЭлЭй. Роберт смотрел черновую мешанину образов: сначала показали жертву, женщину чуть старше его самого, она лежала в луже крови, очки валялись рядом, потом камера качнулась вверх, в замедленном движении показала людей, толкающихся вокруг мертвого тела и показывающих пальцами, а потом сосредоточилась на бегущей фигуре. Камера приблизила бегуна, и в правой части картинки появилась колонка информации по наведению на цель. Роберт понял, что ему показывают то же самое, что видели копы через свои телеочки. Было ясно, что бегущему мальчишке всего лет двенадцать-тринадцать. Затем в правой колонке замигал огонек, подтверждающий выстрел, и облако игл, легко различимых в замедленном движении, стало шириться, пока не превратилось в гало из ледяных кристаллов, которые заслонили бегущего мальчика. Его куртка лопнула, превратившись в ореол кожаных лохмотьев. Голова мальчика тоже взорвалась, в замедленном движении от нее полетели сначала волосы, потом кожа, куски черепа, мозг. «Фрагмент черепа на крышке багажника», — подумал Роберт, чувствуя, как начинает ускользать из реальности. Усилием воли он вернул себя обратно. Мальчик споткнулся, затылка у него уже не было, иглы торчали в выпученных глазах и выдавшемся вперед лице; споткнулся, скользнул под веревочное ограждение и исчез. Картинка на телеэкране застыла и погасла. Логотип компании расширялся до тех пор, пока не занял весь экран, за ним замелькали предупреждения об ответственности за нарушение авторского права. Секунду спустя телеперсона появилась снова и молча терпеливо ждала. — Еще раз, — сказал Роберт. Голос у него был хриплым. Теперь он остановил картинку на пятой секунде, когда объектив камеры покинул лежащее тело, но еще не сфокусировался на бегущем мальчике. — Вперед… остановите, — сказал Роберт. На застывшей картинке двое или трое взрослых размахивали руками. Рот одной из женщин был открыт, она кричала или визжала. Но Роберта интересовала тень внутри тени: расплывчатая фигура в проходе между палатками. — Наведитесь вот сюда… нет, выше… сюда. Чуть левее. Стоп. Хорошо. Можно это улучшить? — Разумеется, мистер Хирне, — услышал он синтетический голос диктора. Пока на экране перестраивались пиксели, складываясь в подобие человеческой фигуры, вылепляя узнаваемое человеческое лицо из расплывчатой белой массы, Роберт думал, господи, если бы в 1963-м было вот это, а не фильм Запрудера… И вдруг все мысли покинули его, когда на экране появилась окончательная картинка. — Желаете продолжить? — спросил бархатный голос. — Возможен добавочный интерактивный заряд. — Нет, — сказал Роберт. — Просто подержите это. Перед ним, разумеется, был внук. Вэл держал пистолет дулом вверх, в нескольких дюймах от своего лица. Его выражение — ужас, смешанный с любопытством, — напоминало выражение деда. Роберт услышал, как застрекотал комбинационный замок задней двери, и мелодичным согласным звоном ответила дешевая сигнализация. Вэл вошел в кухонную дверь. — Выключить, — сказал Роберт, и экран тут же почернел.
В два часа ночи Вэл уже был в постели, но волнения напряженного дня мешали уснуть. Он нашел два двадцатиминутных флакона и открыл первый. Ему четыре года, это его день рождения. Папа еще живет с ними. Они в квартире возле Ланкершим Реконстракшен Проджект, и друг Вэла, пятилетний Сэмюэль, с которым они живут на одной площадке, обедает с ними, потому что это особенный день. Вэл сидит на высоком деревянном стуле, который его мама купила в магазине некрашеной мебели и разрисовала специально для него разными зверями, когда он перерос детский стульчик. Хотя ему всего четыре, он любит высокий стул, потому что, когда он сидит на нем за столом, его глаза приходятся на одном уровне с папиными. Теперь весь стол усыпан остатками особого обеда… крошками от хот-догов, кусочками красного желе, картофельными чипсами… но папина тарелка чиста, его стул пустует. Дверь открывается, и входят дедушка и бабушка. Вэл, как всегда во время просмотра этого флэша, поражается не только тому, что его бабушка еще жива и не изуродована раком, но и тому, как живо и молодо выглядит его дед, хотя все это было чуть более десяти лет назад. «Как время надирает людям задницу», — не в первый раз думает он. — С днем рождения, парешок, — говорит внезапно помолодевший дед, ероша ему волосы. Бабушка наклоняется, чтобы поцеловать, и его окружает запах свежих фиалок. Заново переживая то счастье, которое чувствовал тогда, и тогдашнюю готовность перейти к подаркам, сегодняшний Вэл помнит, что в уголке дедова шкафа, где старик хранит несколько бабушкиных платьев, еще чувствуется этот запах. И он задумывается, подносит ли когда-нибудь дед эти платья к лицу, чтобы снова вдохнуть этот запах. Иногда, когда дед уходит в флэш-мотель, внук это делает. Вэл наблюдает за тем, как его собственные короткопалые руки возятся с обертками, и слышит, как хихикает Сэмюэль. А вот и обрывки торопливого кухонного разговора, услышанного, но едва замеченного Вэлом тогда и такого понятного теперь… — Он обещал, что придет сегодня вовремя, — говорит его мама. — Обещал. — Почему бы нам пока не подать торт, — говорит бабушка, и ее голос успокаивает так же, как памятное прикосновение или аромат. — Это же день рождения его сына… — Голос Роберта наливается гневом. — Давайте подавать торт! — весело говорит бабушка. Когда гаснет электричество, Вэл и Сэмюэль перестают играть. Внезапно весь мир заливает густой и теплый свет: это его мама вносит в комнату торт с четырьмя свечками. Все поют «С днем рожденья тебя». Вэл уже достаточно большой, чтобы понимать: если он загадает желание и сумеет задуть все свечи разом, желание исполнится. Мама ему этого не говорила, но он боится, что не сможет задуть все свечи с первой попытки и его желание не сбудется. Но он справляется. Сэмюэль, дедушка, бабушка и мама весело кричат. Ему как раз отрезают кусок торта, когда дверь распахивается, и в комнату влетает раскрасневшийся папа в разлетающемся пиджаке. Он несет большого мягкого медведя с красной ленточкой на шее. Маленький Вэл не смотрит на подарок. Он бросает взгляд на мамино лицо, и даже пятнадцатилетний сегодняшний Вэл боится увидеть то, что на нем может быть. Но все в порядке. Мама не сердится, она довольна. Ее глаза сверкают, как будто свечи зажглись вновь. Папа целует его, поднимает одной рукой, другой обнимает маму, и они все трое обнимаются над полным тарелок столом, а бабушка и дедушка снова поют «С днем рожденья тебя», как будто только теперь поздравляют его по-настоящему. Сэмюэль приплясывает от нетерпения, когда же они наконец возьмутся за игрушки, и папина рука, которая держит его, такая сильная, и ничего, что у мамы на щеках слезы, она счастлива, они все счастливы, а маленький Вэл знает, что желания сбываются, и прижимается к папиной щеке, вдыхает сладкий запах лосьона после бритья, смешанный с уличным, а дедушка говорит…
Вэл вышел из двадцатиминутного транса под запах гниющих отходов и вопли сирен. Где-то неподалеку стреляли из мелкокалиберного оружия. Полицейские «вертушки» грохотали над головой, ищущие лучи их прожекторов шарили в темноте, как пальцы, белой краской заливая его окно. Вэл повернулся на другой бок и спрятал голову под подушкой, стараясь не думать ни о чем, вспомнить свой флэш и встроить его в свой сон. Ему в лицо ткнулось что-то холодное и твердое. Пистолет. Вэл сел, чувствуя приступ тошноты, подержал полуавтомат в руках, а потом сунул его под матрас, к журналам «Пентхаус». Его сердце тяжело стучало. Он вытащил из кармана лежащих на полу джинсов второй двадцатиминутный флакон и сорвал крышку — слишком поспешно, ведь ему надо было спешить, чтобы не упустить нужный образ, и темпролин, проникая в мозг, мог достичь нужных нейронов и стимулировать нужные синапсы. Ему четыре, и сегодня его день рождения. Сэмюэль вопит, мама готовит на кухне торт, стол завален недоеденными хот-догами, красными мармеладками и картофельными чипсами. В дверь звонят, входят дедушка и бабушка…
Кэрол наблюдает за тем, как Дэнни выходит из голубой воды и бежит к ней, вверх по белому песчаному пляжу. Он красив, строен, загорел за пять дней на солнце и улыбается во весь рот. Бросается на покрывало рядом, и Кэрол кажется, будто ее сердце набухает счастьем и любовью. Она берет его мокрые пальцы в свои: — Дэнни, скажи, что мы всегда будем любить друг друга. — Мы всегда будем любить друг друга, — быстро говорит он, но теперь, запертая в самой себе, более наблюдательная Кэрол замечает быстрый взгляд, брошенный на нее из-под длинных ресниц, взгляд, который мог быть оценивающим или слегка насмешливым. Но тогда Кэрол чувствует себя абсолютно счастливой. Она перекатывается на спину, позволяя свирепому солнцу Бермуд красить ее тело в цвет жара. Дэнни сказал, что на время этого отпуска они освобождаются от тревог об озоновом слое и раке кожи, и Кэрол радостно согласилась. Пальцами она проводит по пояснице Дэнни, чувствуя, как высыхают там капли воды. Игриво, с легким оттенком собственничества, ее пальцы скользят под эластичной резинкой его купальных плавок. Нижняя часть его спины и округлости ягодиц совсем холодные. Она чувствует, как он слегка шевелится на покрывале. — Хочешь пойти в комнату? — шепчет он. Пляж почти пуст, и Кэрол представляет себе, как бы это выглядело, если бы они занялись любовью прямо здесь, на солнце. — Еще минутку, — говорит она. Плывя на волне своих ощущений, настоящая Кэрол понимает простой факт: мужчины любят вспоминать лучшие сексуальные мгновения, — Кэрол слышала, как они об этом говорят, — в то время как женщины в большинстве своем путешествуют в прошлое, чтобы заново пережить времена, когда близость и счастье были всего острее. Это не значит, что в своих воспоминаниях она избегает секса. Сейчас они с Дэнни поднимутся в комнату и следующие тридцать минут проведут так бурно, как дай бог всякому, — и все же самыми притягательными для нее являются те мгновения, когда она чувствовала себя наиболее любимой, когда ощущение близости почти столь же ощутимо, как жар горячего тропического солнца над головой. Кэрол поворачивает голову и прикрывает глаза ладонью: якобы для того, чтобы заслониться от солнца, на самом деле для того, чтобы еще раз взглянуть на лицо Дэнни так близко к ней. Его глаза закрыты. Бисеринки воды блестят на ресницах. Он слегка улыбается. Ублюдок взял с собой в ту поездку флакон флэша. В последний вечер он покажет его мне, объяснит, как им пользоваться, и предложит вспомнить наш первый секс — с кем-то другим! Он ухитрился превратить ту последнюю ночь в двойной менаж-а-труа. Кэрол пытается задушить эти мысли и свой теперешний гнев, пока тогдашняя Кэрол трет глаза, как будто убирая попавшие в них песчинки, на самом деле стирая слезы счастья.
Полицейский в желтом дождевике машет мотокортежу внизу, и Роберту хочется его подстрелить. Хорошо хоть, коп стоит между рабочими и перилами, значит, никто ничего не бросит вниз. Роберт бросает взгляд вправо, на людей, которые едят ланч, сидя на ступеньках кирпичного здания, которое возвышается как раз там, где дорога, обогнув большую травяную площадку, ныряет влево, под железнодорожную эстакаду. Люди машут руками. Не заметив ничего подозрительного, Роберт снова сосредоточивается на железнодорожном мосту впереди. «Давай! Пошел! Слезай и беги!» Он стоит на левой подножке автомобиля сопровождения. Очень жарко. — Полпути к базе, — говорит в рацию их командир, Эмори Робертс, на переднем сиденье. — До места назначения пять минут. Роберт представляет место назначения, зал огромного торгового центра, где Ланцер должен будет выступить перед сотнями техасских бизнесменов. Настоящий Роберт чувствует усталость от жары. «Не обращай внимания. Вперед!» Резкий звук вспугивает голубей, которые кружат над травой: «Господи, кто-то из этих дураков-рабочих выпустил сигнальную петарду». Он кричит, стремясь заглушить эту мысль, докричаться сквозь нее до себя прежнего. Годы тренировок и опыта псу под хвост из-за каких-то двух секунд непонимания. И только посмотрев снова вперед и увидев, как руки Ланцера поднимаются в безошибочно узнаваемом жесте жертвы пулевого ранения, молодой агент начинает двигаться. Дистанцию, разделяющую два автомобиля, невозможно пробежать быстрее. Роберт хватается за металлический выступ, как раз когда третья пуля попадает в президента. «Господи. Пуля ударяет в него на долю секунды раньше, чем я слышу звук удара. Я никогда раньше этого не замечал». Голова Ланцера растворяется в мареве розовой крови и мозга. Роберт хватается за металлическую рукоять и вскакивает на выступ с номером автомобиля, как раз когда тяжелый «Линкольн» прибавляет газ. Нога Роберта соскальзывает с номерной пластины, и разгоняющийся кабриолет тянет его за собой. «Опоздал. Две секунды. Хотя бы полторы. Но мне никогда не догнать их». Женщина в розовом выползает на багажник автомобиля в истерической попытке вернуть осколок черепа Ланцера, чтобы никто больше не увидел того, что только сейчас видела она. Роберт внутри себя тщетно пытается закрыть глаза, чтобы не видеть следующие минуты ужаса.
Вэл встал и вышел из дома еще до завтрака. За кофе Кэрол обнаружила, что по-настоящему говорит с отцом, что было необычно: — Сегодня у тебя консультация, да, пап? Роберт хмыкнул. — Ты ведь пойдешь? — Кэрол слышала менторские нотки в своем голосе, но ничего не могла поделать. «В какой момент, — подумала она, — мы становимся родителями своих родителей?» — «Когда они впадают в маразм, дряхлеют или сходят с ума», — приходит ответная мысль. — А разве я пропустил хоть одну? — отвечает отец немного сварливо. — Не знаю, — говорит Кэрол, глядя на часы. Роберт издает неприличный звук: — Узнала бы. Чертова программа терапии названивала бы тебе и засыпала сообщениями до тех пор, пока бы ты не связалась с ними лично. Прямо как программа учета прогулов в школе… — Старик резко замолчал. Кэрол подняла голову: — Вэл опять прогуливает? Немного помешкав, отец пожал плечами: — А какая разница? С тех пор, как я окончил школу, там только и учат, что ручку держать… — Черт побери, — выдохнула Кэрол. Сполоснув кружку для кофе, она сунула ее в посудомойку. — Я с ним поговорю. — Тяжелый день? — спросил отец, как будто ему не терпелось сменить тему. — Хм-м-м, — сказала Кэрол, надевая накидку. «Встреча с Дейлом Фричем во время обеда», — внезапно вспомнила она. После ночных флэшей она почти забыла. Может, после разговора с его чокнутым информатором удастся заехать в африканскую часть города прикупить еще флэша, а потом вернуться на работу. У нее осталась всего одна тридцатиминутка. «Хонда» зарядилась лишь на четверть. До работы доехать хватит, а обратно никак, придется заряжаться в Гражданском Центре по двойным ценам. А потом еще и за ремонт платить, тоже дорого. — Черт, — ругнулась она, пнув обшарпанный бок своей девятилетней кучи дерьма. — Отличное начало дня. Только выруливая на направляющее шоссе, она вспомнила, что не простилась с отцом.
— Классные тут тоннели, — сказал Койн. — Долго, правда, на автобусе пилить, но все равно классно. Как ты, говоришь, их нашел? — Мне мама пару лет назад показала, когда начала работать в Гражданском Центре, — сказал Вэл. — Здесь раньше были моллы и всякое барахло. Потом, после Большого Коллапса, тут держали зэков, прежде чем запереть их окончательно. Салли и Джин Ди были впечатлены и слегка нервничали. Эхо их шагов мешалось со звуком капели в коридорах. Лампы не работали, но видеоочки усиливали рассеянный свет, проникавший сквозь вентиляционные решетки. — Так ты говоришь, что эти ходы тянутся от самого Гражданского Центра, где твоя старуха работает, до парка Пуэбло на том конце один-ноль-один? — спросил Койн. — Ага. — Остановившись у забитой досками витрины, они прикурили сигареты и пустили по кругу бутылку вина. Усиленные очками вспышки спичек полыхнули, как зажигательные бомбы. — По-моему, тебе надо сделать джапа, — сказал Койн. Вэл вскинул голову: — Джапа? Койн, Салли и Джин Ди ухмылялись. — Сделай джапа, — пропел вполголоса Салли. Вэл смотрел только на Койна: — Почему джапа? Парень пожал плечами: — Круто. — Джапы помешаны на безопасности, — сказал Вэл. — У них бодигарды из задницы лезут. Койн хохотнул: — Так еще круче. А мы посмотрим, Вэл, мальчик мой. А потом все вместе будем вспоминать. Вэл чувствовал, как колотится сердце. — Нет, я серьезно, — сказал он, надеясь, что голос не так дрожит и трясется, как тряслось все внутри. — Мать говорит, что японские советники, которые приезжают к мэру или к окружному прокурору, крейзанулись на безопасности. Бодигарды ходят с ними везде. Она говорит, что, когда приезжает Казаи, Морозуми или Харада, возле Центра перекрывают все движение, потому что… — Вэл осекся, но поздно. Он уже сказал гораздо больше, чем следовало. Койн подался вперед. В линзах усиливающих очков на его худом лице вспыхивали пятна света. — Потому что тогда никто не сможет подойти к ним достаточно близко, так ведь, Вэл, мальчик мой? — Он показал рукой на тоннель. — А мы сможем, ведь так? — Никто не знает, в какие дни приезжает мэр и его япошки, — сказал Вэл, тут же возненавидев свой скулящий голос. — Правда. Клянусь. — Даже твоя старушка? — спросил Джин Ди. Из темноты ему ответило эхо. — Она ведь там возле больших шишек крутится, а? Вэл сжал кулак, но Койн перехватил его руку. — Она не знает, — сказал Вэл. — Никогда. Честно. — Хей, Вэл, мальчик мой, засохни, — сказал Койн, хлопая его по плечу. — Мы тебе верим. Все в порядке. У нас полно времени, детка. Спешить незачем. — В усиленном свете Койн походил на демона. — Мы ведь все здесь друзья, так? А это милое местечко. Тут теперь будет наш клуб, без всякой шпаны, понятно? — Он в последний раз потрепал по руке Вэла и улыбнулся остальным. — Неважно, джап это будет или кто другой, главное — тело, чтобы мы могли кайфовать вместе, когда ты его сделаешь. Я прав? Они сидели и курили в темноте.
Кэрол стрельнула три флакона флэшбэка у кого-то из клерков в офисе окружного прокурора, чтобы продержаться до обеда, и провела утро, записывая показания по гражданским делам для нескольких адвокатов, чьи офисы находились в Центре. Она всегда бывала довольна, когда ей доводилось записывать показания для частных фирм, потому что это значило дополнительные деньги с продажи копий. Некоторые стенографистки отсутствовали — как обычно, — но ей сказали, что одна из них, по имени Салли Картер, с которой Кэрол не была близко знакома, осталась дома, получив известие о гибели мужа в бою под Гонконгом. Все, как обычно, закудахтали о том, что американским парням незачем проливать кровь на Востоке, сражаясь за японских или китайских диктаторов, но в конце концов все признали, что стране нужны деньги и что ничего, кроме военных технологий да пушечного мяса, Япония и ЕС у Америки не купят. Отсутствие Салли Картер означало больше работы и деньги с продажи для Кэрол. В 11.00 она глянула в ящик своего стола, готовая перехватить пончик из коричневого пакета, вспомнила, что не собрала сегодня ланч и почему. Мысль о шпионском рандеву с помощником окружного прокурора заставила улыбнуться. В 11.15 позвонил Дэнни. Видимо, он звонил с платного, плохо освещенного телефона в каком-то баре, и картинка была соответствующей: не Дэнни, а расплывчатое бледное пятно в ореоле теней. Но это знакомое пятно. И его голос тоже не изменился. — Кэрол, — сказал он, — классно выглядишь, детка. Правда. Кэрол ничего не ответила. Она не могла говорить. Восемь с половиной лет прошло с тех пор, как она в последний раз видела Дэнни или слышала его голос. — Короче, — заговорил он, торопясь заполнить паузу, — я тут приехал в Лос-Анджелес на пару дней… я теперь в Чикаго живу, ты знаешь… и я подумал… точнее, я надеялся… в общем, черт возьми, Кэрол, ты не откажешься пообедать со мной сегодня? Пожалуйста? Для меня это очень важно. «Нет, — подумала Кэрол. — Ни за что. Ты бросаешь меня и Вэла, без писем, без объяснений, без алиментов, а потом звонишь через восемь с половиной лет и говоришь, что хочешь со мной пообедать. Ни за что. Нет». — Да, — услышала она свой голос и, почувствовав себя, как во флэшбэке, подумала, уж не смотрит ли она это из какого-нибудь печального будущего. — Где? Когда? Дэнни назвал ей место. Это был бар в центре, куда они бегали на обеденные перерывы пятнадцать лет тому назад, когда только переехали сюда и старались использовать всякую минуту, чтобы побыть вместе. — Скажем… через десять минут? Кэрол знала, что если возьмет свою «Хонду», та может не выдержать, и тогда она останется без машины в какой-нибудь паршивой части города. Придется ехать автобусом. — Двадцать, — ответила она. Бледное пятно, которое было Дэнни, кивнуло. Ей показалось, что она видела улыбку. Кэрол нажала на кнопку отключения и задержала на ней свой палец, как будто лаская. Затем быстро поправила макияж и спустилась вниз, к автобусу.
— Полпути к базе. До места назначения пять минут. «О черт. К черту все». Роберту противно. Он столько лет это смотрит и знает, чего не случится. Все равно что мастурбировать, не кончая. Он не открывает глаз… по крайней мере пытается. Видения, которые дает флэшбэк, можно подавить лишь чудовищным усилием воли. На лужайке слева от него смеются и машут руками люди. Роберт пытается убежать, вернуться в иное время, к иной памяти… но, едва все начинается, включается флэш. Они подъезжают к железнодорожной эстакаде. Раздается звук. Голуби заполняют прогалину неба над лужайкой. «Бесполезно. Зря. Бессмысленно». Три секунды спустя он срывается с подножки автомобиля сопровождения и бежит к синему «Линкольну». «Бесполезно». Никакое усилие воли не может заставить его двигаться быстрее. Память и время неизменны. «Даже моя чертова память. Я псих. Кей, как мне тебя не хватает». Второй выстрел. Он прыгает на багажник, хватается за металлический выступ, ставит ногу на пластинку с номером. Третий выстрел. Роберт старается не смотреть, но от зрелища взрывающейся президентской головы отгородиться невозможно. «Двадцать лет спустя пятьдесят процентов опрошенных американцев вспомнят, что видели это живьем по телевизору. Это никогда не показывали по телевизору. Разрешенные цензурой кадры из фильма Запрудера опубликовали лишь два года спустя, и то в журнале „Лайф“. До флэшбэка воспоминания лгали… а мы их отредактировали. Черт, за Кеннеди голосовали всего сорок с чем-то процентов избирателей, а через десять лет после его гибели семьдесят два процента опрошенных заявили, что отдали свой голос за него. Воспоминания лгут». Он заталкивает жену президента обратно в машину, замечая безумие в ее широко открытых глазах, но с пониманием относясь к ее решительному намерению достать тот осколок черепа с багажника. Чтобы сделать все как было. «Я найду Вэла. Присмотрю за ним, чтобы он не натворил глупостей». Усадив женщину на сиденье машины, он сторожит ее и тело Ланцера весь путь к госпиталю Паркленд. Безнадежность захлестывает его, как волна.
Вэл и его друзья следили за направляющим шоссе один-пять из укромного места на крыше дома, заброшенного после Большого Коллапса. Вэл держал 32-й, обеими руками наводя его дулом вдоль края крыши. Машины скользили мимо беззвучно, только шелестя шинами на мокрых перекрестках. Весь последний час шел дождь. — Я могу дождаться, когда появится «Лексус», и подстрелить его, — сказал Вэл. Койн поглядел на него с презрением: — Из этой пукалки? Отсюда до полосы випов тридцать ярдов. Ты даже в машину не попадешь, не то что в джапа на заднем сиденье. Если он вообще там будет. — Кроме того, — говорит Джин Ди, — их машины снабжены самыми крепкими пуленепробиваемыми стеклами в мире. Их лобовое стекло даже гребаный автшесть не прошибет. — Ага, — сказал Салли. — Отсюда джаповский «Лексус» и нидлганом не взять, — сказал Джин Ди. Вэл опустил пистолет: — Я думал, что самое лучшее… самое лучшее для флэша — подстрелить кого придется. Койн костяшками пальцев потер короткие волосы Вэла: — Это было самым лучшим, Вэл, мальчик мой. А теперь — только джап. Вэл отодвинулся назад, оставив 32-й на карнизе. На просевшем асфальте крыши скапливались лужицы воды. — Но на это могут уйти дни… недели… Койн ухмыльнулся, взял пистолет и сунул его Вэлу: — Хей, время у нас есть, не так ли, друзья? Салли и Джин подтвердили. Поколебавшись с минуту, Вэл взял пистолет. Дождь начался снова, и парни поспешили назад в укрытие. Вэл не видел деда, который наблюдал за ними с другой стороны улицы. Когда несколько минут спустя парни вышли из дома, никто из них не заметил старика, который шел за ними вдоль реки.
К тому времени, когда Кэрол добралась до бара на Сан-Хулиан, пошел дождь. Она вбежала внутрь, прикрывая волосы газетой, и с минуту стояла, моргая и привыкая к темноте. Когда к ней подошел мужчина крупного сложения, она сначала даже отступила на шаг, прежде чем узнала его. — Дэнни. Он взял ее за руки, мокрую газету положил на стол. — Кэрол. Господи, ты отлично выглядишь. — Он неуклюже обнял ее. Сказать то же о своем бывшем муже она не могла. Дэнни набрал вес — по крайней мере сто фунтов, — а его лицо и знакомое тело словно потерялись в этом избытке. Светлые волосы почти все вылезли, а на коже головы проступали коричневые пятна, как у ее отца. Землистое лицо, темные глаза с мешками запали, дышал он с присвистом. То, что она приняла за плохое освещение и некачественное изображение по телефону, на самом деле и являлось самим Дэнни со всеми его сегодняшними тенями и искажениями. — Я заказал нашу старую кабинку, — сказал он и, не выпуская ее руки из своей, направился к угловому столику в заднем ряду. Кэрол не помнила, чтобы у них был тут свой стол, но она никогда не проигрывала это воспоминание. На столе стоял недопитый стакан скотча. Судя по запаху, который шел от Дэнни, когда он нагнулся ее поцеловать, это был далеко не первый. Они сидели и глядели друг на друга через стол. С минуту оба молчали. Бар в это время суток почти пуст, только бармен да какой-то человек в рваном плаще за одним из передних столиков спорили с ведущим спортивной программы, которая шла по старому ЭйчДиТиВи, закрепленному над рядами бутылок. Кэрол опустила глаза и увидела, что Дэнни все еще держит ее ладони в своей. Ощущение странное, ей как будто ввели анестезию и нервные окончания ладоней перестали воспринимать тактильную информацию. — Господи Иисусе, — сказал наконец Дэнни, — какая ты красивая, Кэрол. В самом деле. Она кивнула и стала ждать. Дэнни допил скотч, жестом велел бармену повторить, кивнул на Кэрол, а когда она слегка покачала головой, понял это как отказ. Только когда принесли следующий полный стакан, он заговорил снова. Слова хлынули потоком, освобождая ее от необходимости говорить самой: — Слушай, Кэрол, я был… ну, в командировке в общем-то… как вдруг я понял, точнее, подумал… А работает ли она еще в Зале Правосудия?.. И ты оказалась там, в списке возможных абонентов. В общем, я подумал… Знаешь, почему бы и нет? И вот… Господи, я говорил тебе, до чего здорово ты выглядишь? Прекрасно, точнее сказать. Да ты и всегда была красоткой. Ладно, ты и так знаешь, — проговорил Дэнни. — Хотя тебе, наверное, интересно узнать, чем я занят, а? Чем вообще занимаюсь? Четыре или пять лет с тех пор… в общем, я сейчас в Чикаго. Больше не у Колдуэлл Бэнкер. Какое-то время продавал дорогие электроприборы, но… знаешь… кому они сейчас нужны, к чертям собачьим. Я смотался как раз вовремя. На чем я остановился? Я сейчас в Чикаго… занимаюсь анализом глубинных моделей поведения… вот и подумал, что тебе, может быть, будет интересно посмотреть на меня за таким занятием. Дэнни захохотал. Это был странный царапающий звук, и двое у бара обернулись на него, а потом снова вернулись к спору с телеведущим. Дэнни потрогал ее за пальцы, поднял ладони в своих так, как будто они были перчатками, про которые он даже забыл, а потом снова положил их на исцарапанный стол. Глотнул из стакана. — Ну, так вот, этот анализ глубинных моделей… ты о нем слышала? Нет? Господи, я думал, в Калифорнии все… короче, есть один замечательный парень в Чикаго, он врач… знаешь, докторская степень по профилактическому использованию флэшбэка… так вот он устроил что-то вроде ашрама. Люди с серьезными проблемами живут там за кое-какую плату… в общем-то не совсем кое-какую, поскольку в деле замешаны адвокаты… но это такое место, где не просто раз в неделю. Мы там живем, и анализ… анализ глубинных моделей поведения он называется… в общем, этот анализ у нас вроде как работа. Мы целый день… — Вдыхаете флэш, — сказала Кэрол. Дэнни хихикнул, как будто от проявленного ею понимания у него камень с плеч упал. — Точно. Так и есть. Верно. Ты, наверное, все об этом знаешь… здесь, в солнечной Калифорнии, миллион центров анализа глубинных моделей поведения. Так вот, мы, значит, заняты анализом от восьми до десяти часов в день… под строгим наблюдением доктора Сингха, разумеется. Или назначенного им терапевта-аналитика. Теперь я уже совсем не так пользуюсь этой штукой, как раньше, когда мы начинали вместе… — Он провел по щекам ладонями, и Кэрол услышала, как зашуршала жесткая щетина. — Теперь я знаю, что тогда просто баловался, Кэрол. Хочу сказать, что теперь уже почти не вспоминаю подростковый секс. Просто это… понимаешь… это просто не имеет значения на фоне целостного терапевтического опыта, ясно? Кэрол отбросила со лба мокрую прядку волос. — А что имеет значение? — спросила она. — Что? — Дэнни допил скотч и пытался снова привлечь внимание бармена. — Извини, детка. Что? — Что имеет значение, Дэнни? Он подождал, пока ему нальют еще, а потом улыбнулся, почти как святой. — У меня появился шанс сделать настоящий прорыв. Доктор Сингх сам сказал, что я дошел до той точки, когда все можно повернуть вспять. Но… Кэрол хорошо знала эту интонацию. Она молчала. Дэнни снова взял ее руки и стал растирать их, как будто они были холодные. На самом деле это у него они были ледяными. — Но мне нужна помощь… — начал он. — Деньги, — продолжила Кэрол. Дэнни отбросил ее ладони и сжал кулак. Кэрол отметила, до чего пухлыми, бледными и слабыми стали его руки, как будто все мускулы, что были в них когда-то, заменил жир. «Или кремовая начинка, — подумала она. — Как в тех баварских донатах с кремом, которые он любил». — Не просто деньги, — прохрипел он. — Помощь. — Я готов сделать шаг к тотальной реинтеграции, и доктор Сингх говорит… — Тотальной реинтеграции? — переспросила Кэрол. Это звучало как название нового пакета программного обеспечения для телека, которое Вэл собирался купить. Улыбка Дэнни стала снисходительной: — Ага. Полное воспоминание. Полная реинтеграция всей прошедшей жизни на основе душевного самопознания, приобретенного в ашраме. Это как… знаешь… как перевод старого газового автомобиля на электричество или метан. В ашраме есть люди, которые уже могут вспомнить предыдущую жизнь, но… господи, знаешь… мне кажется, мне повезет, если я справлюсь с этой. — И он снова издал скрипучий смешок. Кэрол кивнула. — Тебе нужны деньги на флэш для этой терапии, — сказала она. — Сколько? И на какой срок? Если бы Дэнни слушал внимательно, то по тону сразу понял бы, до чего ей это не интересно. — Ну, — сказал он взволнованно, очевидно, думая, что у него появился шанс, — полная реинтеграция, это… знаешь… полная. Я уже ликвидировал все, что имел… квартиру в Лейкшоре, «Крайслер Электрик», акции, которые оставил мне Уолли… но мне нужно куда больше, чтобы… — Он осекся, увидев выражение ее лица. — Эй, Кэрол, это же не один раз заплатить. Это как… ну, вроде… как закладная или кредит на машину. Если разделить всю сумму на время, о котором мы говорим, выходит не так много, и… Кэрол ответила: — Ты ведешь речь о том, чтобы во флэше вспомнить заново всю свою жизнь. — Ну… знаешь… в общем-то… да. — Полная реинтеграция, — сказала Кэрол. — Тебе сейчас сорок четыре года, Дэнни, и ты собираешься прожить под флэшем всю жизнь. Он выпрямился, выпятил подбородок, пытаясь выглядеть грозно, как раньше. Но теперь, бледный, толстый, обрюзгший, казался жалким. — Легко смеяться над тем, кто хочет быть уязвим, — сказал он. — Я пытаюсь разобраться в своей жизни. Кэрол тихо рассмеялась: — Дэнни, тебе будет восемьдесят восемь, когда кончится этот флэш. Он наклонился вперед, как будто собирался рассказать ей секрет. Голос был плаксивый и доверительный. — Кэрол, жизнь — это лишь один оборот колеса. Гораздо важнее то, что будет с нами, когда он кончится. Кэрол встала: — Дэнни, что будет с тобой, ясно. Ты обанкротишься. — И она пошла прочь. — Эй, — крикнул вслед Дэнни, не вставая. — Я забыл спросить… как Вэл? Кэрол вышла под дождь и, не в силах вспомнить, где находится автобусная остановка, как слепая, пошла к Гражданскому Центру пешком.
Вэл и его друзья сидели, привалившись к стальным опорам виадука в пятидесяти футах над бетонным ложем реки, когда Койн вдруг подпрыгнул, схватил Вэла за плечо и сказал: — Бинго!.. Ты, часом, не новости в очках смотришь? — спросил, ухмыляясь и кивая чему-то, что видел в своих. — Новости? — спросил Вэл. — Ты что, прикалываешься? Койн снял очки: — Я не прикалываюсь, дорогой мой Вэл. Нам только что прислали джапа. Вэл почувствовал, как у него упало сердце. — Нам прислали джапа, нам прислали джапа, — закурлыкал Салли. — Что происходит? — спросил Джин Ди, выходя из десятиминутного флэша. Судя по оттопыренным спереди штанам, Вэл решил, что его дружок опять смотрел про изнасилование испанской девчонки. — Новостной флэш, — ухмыльнулся Койн. — Большое оживление в Гражданском Центре. Мэр только что отправился туда, а с ним — его японский кореш, советник Морозуми. — Гражданский Центр, — сказал Вэл. — Моя ма там работает. Койн кивнул: — Ныряем в тот клевый подземный комплекс, который ты нам показал, на Ферст-стрит. Выходим у плазы VIP на Темпл-стрит. Делаем ноги через тоннель в парк Пуэбло, а оттуда диди мао на автобусе. Чертов пистолет бросим в чертовом тоннеле. — Не получится, — сказал Вэл, ломая себе голову в поисках объяснения почему. Койн пожал плечами: — Может быть, и нет. Зато это самый быстрый способ проверить. — Не получится, — твердил словно мантру Вэл, следуя за друзьями.
Роберт впервые за много лет чувствовал себя по-настоящему живым, когда следил, как внук и его друзья входят в гусеничный автобус, и влезал в секцию, следующую за ними. Он шагал легче, видел четче, а голова как будто очистилась от паутины. Стоя на задней площадке второй секции, он через раздвижные двери следил за Вэлом, чтобы не пропустить, когда мальчики соберутся выходить. Роберт не знал, прав ли терапевт, утверждая, будто его флэшемания — это проявление чувства вины за то, что он не сумел защитить жену от последнего приступа рака. — Вы же знаете, — говорила ему программа, — что и через пятьдесят с лишним лет после смерти президента Кеннеди тысячи людей одержимы теориями заговора, так никогда и не получившими подтверждения. — Не верю я ни в какие заговоры, — проворчал Роберт. Бородач на АйТиВи-стене улыбнулся: — Нет, но ваши фантазии на тему неудачной попытки защиты повторяются снова и снова. Роберт изо всех сил старался не злиться. Он промолчал. — Ваша жена умерла… сколько лет назад? — спросил советник. Роберт знал, что программа знает. — Шесть, — сказал он. — А как давно страна пережила пятидесятилетний юбилей убийства? И все же простодушное упорство этих вопросов не смогло не рассердить Роберта. Но он обещал Кэрол и клерку из медикэйд, что пройдет через эту сессию. — Пять лет назад. — А одержимость флэшбэком… — Около пяти лет, — вздохнул Роберт. Он глянул на часы. — Мое время вышло. Бородатый человек… Роберт считал его человеком, хотя и сомневался… сверкнул белыми зубами. — Бобби, — сказал он, — это моя реплика. Мальчики сошли с автобуса у развалин старого Федерального Здания, и Роберт за ними.
Шагая под дождем к Гражданскому Центру, Кэрол словно иными глазами смотрела на все, что попадалось на пути. Она видела мешки с мусором, сваленные в штабеля высотой в рост человека, заброшенные витрины магазинов, повреждения, которые никто не ремонтировал со времен Большого Коллапса. Слоганы, на ломаном японском восхвалявшие дешевые японские электронные игрушки, камеры слежения, проложенные вдоль обочин дешевые электрокабели со зловеще пульсирующими маяками предупреждения. Людей с землистыми лицами, которые пробегали мимо, не глядя друг на друга, пряча глаза, как на видео про Восточную Европу и русских, которое она видела в детстве… все это соответствовало опухшему, лишенному характерных черт лицу Дэнни и его ноющему, эгоистичному тону. «Заберу папу, Вэла и уеду в Канаду, — думала она. Это не каприз. Более твердой решимости она не испытывала уже долгие годы. — Или в Мексику. Куда-нибудь, где в любой момент времени половина населения не вырублена из реальности флэшем». Кэрол подставила лицо под дождь. «Я завяжу с этим дерьмом сама. И папу с Вэлом заставлю». Она пыталась вспомнить, какой была страна во времена ее детства, когда она, еще совсем крохотная девчушка, смотрела по старомодному телику на президента Рейгана с лицом доброго дедушки. «Ты разорил нас навсегда, ты, старый добренький ублюдок. Моему парню и его друзьям никогда не выпутаться из долгов, в которые ты их загнал. Зачем… выиграть холодную войну и создать Российскую Республику, чтобы она конкурировала с нами в покупке японских и европейских продуктов? Они нам больше не по карману. А свои делать мы разучились: слишком ленивые и тупые». Тут Кэрол впервые поняла, почему употребление флэша карается смертной казнью в Японии — стране, шестьдесят лет обходившейся без смертной казни. Она впервые поняла, что культура и народ действительно должны сделать выбор: идти вперед или лечь и предаваться мечтам до смерти. «Полная реинтеграция. Матерь Божья». Кэрол шла больше часа, прежде чем поняла, что дождь давно прекратился, а щеки у нее все еще мокрые. И испугалась, когда, выйдя из-за угла недалеко от Гражданского Центра, была вдруг остановлена агентами безопасности. Она показала свой значок в двух местах, ее обнюхала ищейка, и только после этого Кэрол получила разрешение подойти к северному входу, где в окружении кордона мотоциклистов стоял лимузин мэра и несколько бронированных «Лексусов». Она уже поднялась наверх, где ее проверили еще два агента безопасности, когда подбежала какая-то женщина из секретарской с заплаканным тяжелым лицом. — Кэрол, ты слышала? Ужас какой. Бедный Дейл! Кэрол стряхнула ее с себя, зашла в свой кабинет и настроила телефон на прием видеоновостей. Сводку повторили минуту спустя. Дейл Фрич, помощник окружного прокурора Лос-Анджелеса, японец по имени Хироши Накамура и еще пять человек были убиты в одном из городских кафе. Новость сопровождалась обычным видеомонтажом с места преступления. Кэрол тяжело села. На телефоне мигал сигнал срочного сообщения. Бесчувственной рукой она выключила новости и нажала кнопку «мессидж». — Кэрол, — сказал Дейл Фрич, чье мальчишеское лицо почти без искажений воспроизводил убогий экран платного телефона, — мне жаль, что мы разминулись, но это к лучшему. Хироши куда свободнее говорил со мной с глазу на глаз. Кэрол… я ему верю. Похоже, что японцы скармливают нам эту дрянь с конца девяностых. Похоже, что тут что-то побольше, чем скандал с невозвратом долга Евросоюзу, больше, чем Уотергейт… черт, больше, чем Большой Коллапс. У Хироши есть диски, бумаги, служебные записи, списки платежей… — Фрич глянул через плечо. — Слушай, Кэрол, мне надо к нему. Я сегодня не вернусь. Ты можешь взять свой дата-райтер и встретить меня у… э… предположим, у ЛАКС «Холидей Инн»… где-нибудь в половине шестого? Дело того стоит, честное слово. О'кей. Э… только никому ничего не говори, ладно? Увидимся в пол шестого. Чао. С минуту Кэрол сидела, глядя на телефон, потом записала сообщение на свежий диск, который опустила в карман, и снова настроилась на новости. Настоящий репортер стоял возле ресторана, откуда на каталках вывозили тела. — …полиции известно лишь то, что помощник окружного прокурора Фрич находился в этом ресторане как неофициальное лицо, когда трое людей в черных лыжных масках вошли и открыли огонь из оружия, которое один свидетель описал как, цитирую, «нидлганы армейского типа, как показывают в кино». Помощник окружного прокурора Фрич и другие скончались на месте. Японское посольство никак не комментирует личность собеседника Фрича, однако источник, близкий к посольству, сообщил компании СиЭнЭн-ЭлЭй, что это был Хироши Накамура, преступник, которого разыскивает полицейская префектура Токио. Источники в полицейском департаменте Лос-Анджелеса полагают, что Накамура, возможно, встречался с Фричем с целью заключить с властями Лос-Анджелеса сделку — признание вины в обмен на гарантии неэкстрадиции. Те же источники проинформировали СиЭнЭн-ЭлЭй о том, что нападение носит отпечаток якудза. Якудза, как вы помните, является самой опасной преступной группировкой в Японии, и растущая проблема в новом… — Кэрол? — произнес за ее спиной чей-то голос. — Не могла бы ты зайти в мой офис на минуту? — Это оказался Берт Торразио в сопровождении нескольких спецагентов в штатском. Мэр и его советник, мистер Мородзуми, сидели в кожаных креслах против стола окружного прокурора. Кэрол кивнула, хотя никаких представлений не последовало. — Берт, — сказал мэр, — проводи меня в офис Дейла, пожалуйста. Я хочу принести соболезнования его подчиненным. Все вышли, кроме Кэрол, двух японских спецагентов и мистера Мородзуми. Советник в костюме от Сартори, в сером галстуке, с холеной седой шевелюрой, был безупречен. Скромный ручной хронометр космического агентства «Ниппон», стоивший, должно быть, тысяч тридцать долларов, был его единственной претензией на экстравагантность. Мистер Мородзуми кивнул, и агенты вышли. — Вы вернулись с обеденного перерыва на три минуты раньше положенного, миссис Рогалло, — сказал советник. — Диск, пожалуйста. После секундного колебания Кэрол протянула ему си-ди. Мородзуми едва заметно улыбнулся, опуская плоский серебристый кружок в карман костюма. — Мы, разумеется, знали, что мистер Фрич звонил кому-то, но устаревшее коммуникационное оборудование города лишь десять секунд назад сумело определить направление звонка. — Мородзуми встал и подошел к каучуковому дереву у окна. — Мистер Торразио плохо заботится о своих растениях, — пробормотал советник себе под нос. — Почему? — спросила Кэрол. «Почему убили Дейла? Зачем кормить наркотиками целую страну двадцать лет подряд?» — вертелось у нее в голове. Мистер Мородзуми поднял голову. Солнце вспыхивало на его круглых очках. Он тронул лист каучуконоса. — Это признак неряшливости — не заботиться о тех, кто зависит от тебя, — сказал он. — Что будет дальше? — сказала Кэрол, а когда Мородзуми не ответил, добавила: — Со мной. Невысокий человечек пальцами протер другой лист, а потом потер ими друг об друга, стряхивая пыль. — Вы живете с сыном, Валентином, и отцом, который в данный момент находится на консультации. Ваш бывший муж, Дэниел, еще жив и, по-моему, гостит в вашем прекрасном городе непосредственно во время нашей беседы. Кэрол показалось, будто какие-то ледяные пальцы сдавили ей сердце и горло. — Отвечая на ваш вопрос, — продолжал мистер Мородзуми, — осмелюсь предположить, что вы будете продолжать замечательно трудиться здесь, в Центре Юстиции, и что мистер Торразио будет вами доволен. Время от времени я, вероятно, буду иметь возможность побеседовать с вами и услышать, что ваша семья остается здорова и благополучна. Кэрол ничего не сказала. Все ее внимание было сосредоточено только на том, чтобы стоять прямо, не шатаясь. Мистер Мородзуми вытащил из коробки на столе Берта Торразио салфетку, вытер грязные пальцы и бросил использованный клинекс. Как по сигналу, мэр, окружной прокурор и агенты безопасности тут же вошли в дверь. Торразио посмотрел на Кэрол и вопросительно поднял брови. Мистер Мородзуми избегал глядеть на Торразио, как будто у того к верхней губе прилипла еда. — Мы мило побеседовали, а теперь пора возвращаться к делам, — сказал мистер Мородзуми и вышел в сопровождении стройного агента. Мэр пожал руку Торразио, кивнул в сторону Кэрол и побежал догонять. Кэрол и окружной прокурор целую минут смотрели друг на друга, после чего она повернулась на каблуках и ушла к себе в кабинет. Там ее ждали пустой каталог и совершенно новый телефон и компьютер. Кэрол села и стала смотреть на картинку, которую липкой лентой приклеила к рифленому стеклу перегородки четыре года назад. На ней была нарисована судебная стенографистка, которая яростно барабанила по клавишам, пока свидетель и адвокат перебранивались, судья стучала молоточком, подзащитный стоял и орал на свидетеля, его защитник орал на него, а двое присяжных вот-вот должны были вцепиться друг другу в глотки. Какая-то женщина из публики за спиной стенографистки говорила другой: «Пишет она хорошо, вот только сюжеты уж очень неправдоподобные».
Подземный молл заканчивался колодцем вентиляции, который выходил на поверхность между Гражданским Центром и парком. Койн принес с собой лом. Мальчишки оказались в небольшой кучке журналистов, ощетинившейся видеокамерами и параболическими микрофонами. Местные репортеры забрасывали вопросами мэра и его японского советника, пока те спускались к поджидавшему их лимузину. Двадцать футов отделяли Вэла от випов. Еще столько же — от решетки вентиляции сзади. Агенты безопасности больше не обращали внимания на предварительно обысканную прессу и сосредоточились на наблюдении за зданиями и толпой, которую сдерживали на другом конце небольшой площади. — Давай, — сказал Койн. — Пора. Вэл взял пистолет и взвел курок. Мэр остановился, чтобы ответить на только что прозвучавший вопрос, и вдруг помахал рукой кому-то в дверях Гражданского Центра. Покорный протоколу мистер Мородзуми ждал у дверей лимузина, когда мэр кончит отвечать на вопрос. Вэл поднял пистолет. До головы японца было всего пятнадцать футов. Ствол пистолета был всего лишь еще одной линзой в куче микрофонов и объективов, нацеленных на группу випов. Вэл не заметил, как Койн, Салли и Джин Ди слиняли и скрылись в вентиляционной решетке. Роберт едва сумел вытянуть себя из люка. Когда он наконец встал, отряхивая с брюк сухие листья и ржавчину, ему казалось, что у него больше нет сил, но, увидев Вэла, пистолет в его руке и то, что сам он стоит ближе к жертве, чем к внуку, Роберт бросился вперед, не колеблясь и не раздумывая ни секунды. Вэл потянул спусковой крючок. Ничего. Он моргнул, потом снял предохранитель. И только поднял пистолет опять, как один из операторов рядом с ним крикнул: — Эй! Роберт во весь дух мчался к черному лимузину. Чтобы заслонить мэра от пули своим телом, ему надо было подпрыгнуть и перескочить через правый задний угол багажника. Так он и сделал, забыв про свой возраст, про артрит и вообще про все на свете — кроме того, что ему надо успеть раньше, чем Вэл нажмет на спусковой крючок снова. Вэл увидел деда в последнюю секунду и глазам своим не поверил, когда тот прыгнул на багажник лимузина, прокатился по нему и встал на ноги между мэром и Мородзуми. Агент безопасности бросился на японца, роняя его на землю. Один только мэр стоял с открытым ртом, так и не ответив на вопрос. «Я сделал это! — думал Роберт, зная, что он стоит между Вэлом и мэром и что пуля, предназначенная другому, пройдет через него. — На этот раз успел!» Двое японских агентов, стоя на коленях, подняли оружие и застрелили Роберта с расстояния в пятнадцать футов. Почти в тот же миг третий окатил всю группу журналистов очередью из автомата. Вэл и двое операторов упали. Мэра и мистера Мородзуми засунули в лимузин и увезли раньше, чем толпа зевак подняла крик. Ни мэр, ни его советник не пострадали.
Тело Вэла увезли в полицейский морг, но отца Кэрол позволили навестить. — Он не почувствует, что вы здесь, — сказал ей врач. Голос у него был безучастный. — Слишком велико повреждение мозга. Мозговая активность есть, но очень ограниченная. Боюсь, что речь идет лишь о том, как долго система жизнеобеспечения сможет поддерживать его в таком состоянии. Несколько часов. Самое большее — дней. Кэрол кивнула и опустилась на стул рядом с кроватью. Касаться руки отца она не стала. Комнату освещали только два электронных монитора.
Комнату освещали лишь больничные мониторы. Посетителям кажется, что Роберт не слышит того, что они говорят, но он слышит. — Он уже некоторое время не приходит в себя, — говорит медсестра дочери президента, которая пришла навестить его с сыном. — Мой отец хочет, чтобы о нем хорошо заботились, — говорит дочь Ланцера. Она стала красивой женщиной. А ее сыну всего года четыре или три, и он унаследовал дедовскую копну каштановых волос. Малыш берет пальцы Роберта в свою крохотную ручку. Его не пугает ни больничная палата, ни капельница, ни мониторы. Он уже бывал здесь раньше. Дочь Ланцера сидит рядом с его кроватью, как сидела много раз до этого. «Не плачь обо мне, — думает Роберт. — Я счастлив».
Кэрол сидит у кровати отца до трех ночи, когда в комнату входят техники, отключают систему и увозят тело. Когда они уходят, она продолжает сидеть в темноте. Ее глаза открыты, но слепы. Немного погодя она улыбается, вытаскивает тридцатиминутный флакон, почти благоговейно подносит его к лицу и щелкает колпачком.
СТРАСТНО ВЛЮБЛЕННЫЙ
Предисловие редактора Ричарда Эдварда Гаррисона Публикуемый ниже секретный дневник поэта Джеймса Эдвина Рука, относящийся к периоду Первой мировой войны, был «обнаружен» в Лондонском Имперском военном музее в 1988 году. На самом деле дневник имел инвентарный номер и значился в каталоге наряду с несколькими тысячами дневников военного времени, найденных или принятых в дар музеем почти семьюдесятью годами ранее, но эта записная книжица на протяжении всех минувших десятилетий ошибочно хранилась в архивном собрании бюрократических бумаг и документов, не представляющих особого интереса для ученых. «Обнаружение» же дневника произвело в научном сообществе впечатление, которое иначе как сенсацией не назовешь. Авторство Джеймса Эдвина Рука доказано неопровержимо. Принадлежность почерка установлена со всей определенностью. Стихи — в большинстве своем черновые наброски — признаны первоначальными вариантами нескольких известнейших стихотворений из сборника «Окопные стихи» Джеймса Эдвина Рука, выпущенного в 1921 году издательством «Фейбер и Фейбер», Лондон. Действительно, хотя дневник не был надписан автором и ничем не выделялся из сотен почти одинаковых дешевых блокнотов, собранных в госпиталях, похоронных центрах и непосредственно на полях сражений, на многих страницах в нем стоит собственноручная «подпись» Рука в виде торопливо начерченного знака, который впоследствии запомнился всем по обложке фейберовского издания «Окопных стихов» 1936 года. Но даже когда ни малейших сомнений в авторской принадлежности дневника не осталось, недоверчивое изумление не проходило, и публикация данного документа задержалась по ряду основательных причин. Во-первых, Соммский дневник Джеймса Эдвина Рука времен Первой мировой уже давно найден и опубликован («Воспоминания пехотного офицера. Соммский дневник Джеймса Эдвина Рука», издательство «Джордж Фолкнер и сыновья», 1924). И хотя в нем встречаются весьма выразительные описания «окопной» войны, в целом повествование ведется довольно сдержанным и зачастую суховато-ироническим тоном, характерным для офицерских дневников данного периода. В сущности, почти все записи из опубликованного Соммского дневника — не более чем краткие боевые сводки с немногочисленными личными отступлениями, представляющие интерес разве лишь для самого дотошного литературоведа или военного историка. Разумеется, в нем не содержится ничего похожего на шокирующие подробности, которыми изобилует недавно обнаруженный дневник. Во-вторых, следовало соблюсти авторские права Рука и посоветоваться с оставшимися в живых родственниками писателя. Редактор выражает благодарность миссис Элеоноре Марш из Танбридж-Уэллса, любезно давшей согласие на публикацию нижеследующих страниц. И наконец, оставался вопрос самого содержания дневника. Репутация Джеймса Эдвина Рука — и как человека, и как поэта — казалась незыблемой на протяжении почти всего двадцатого века. Научная честность не допускает никакого замалчивания фактов, но очень нелегко решиться на обнародование материалов, в корне меняющих представление об исторической личности, составляющей гордость Британии и британской литературы. Таким образом, первое издание секретного Соммского дневника Джеймса Эдвина Рука отложилось на несколько лет не только потому, что для всестороннего подтверждения подлинности документа понадобились продолжительные скрупулезные исследования, но и потому, что редактора беспокоили последствия, которые будет иметь данная публикация для репутации и литературного наследия знаменитого «окопного» поэта. Но сейчас, когда авторство дневника окончательно установлено и последствия подобных откровений для памяти одного из первых поэтов нашего века тщательно взвешены, принципы научной честности вынуждают редактора опубликовать данные записи без каких-либо исправлений и изъятий. Сам дневник пострадал от влаги и сильно истрепался в ужасной фронтовой обстановке, описанной в нем, а также подвергся неизбежной порче за семь десятилетий хранения в малоблагоприятных условиях в архиве Имперского военного музея. Вдобавок в нем не хватает нескольких страниц — вероятно, вырванных автором. Многие абзацы были написаны неразборчиво или вымараны. Одни из них восстановлены с помощью рентгеновских методов, другие же, видимо, утрачены безвозвратно. Поскольку от страшных месяцев 1916-го на Сомме сегодня нас отделяют многие годы и культурные различия, я сопроводил дневник редакторскими примечаниями пояснительного характера. В неразборчивых или невразумительных местах предложил свою реконструкцию слов или фраз. Поэтические строки, встречающиеся в записях, снабжены сносками. Если не считать этого незначительного редакторского вклада, все до единого слова и выражения в нижеприведенном тексте принадлежат двадцативосьмилетнему лейтенанту Джеймсу Эдвину Руку, офицеру боевой роты «С» 13-го батальона стрелковой бригады с личным номером 4237.8 июля, суббота, 8.15 утра Поскольку я исполнял здесь обязанности наблюдателя неделю назад, во время Большого Наступления, и «знал путь» по бесконечному лабиринту траншей, вчера вечером именно мне дали задание провести всю стрелковую бригаду от резервных окопов на гряде Тара-Усна до нашего участка фронта у деревни Ла-Буассель. Я изъявил готовность выполнить приказ, хотя за минувшую неделю расположение войск на этом участке фронта значительно изменилось. Сама Ла-Буассель пала и теперь находится позади наших новых передовых позиций, а справа от них, на месте вражеского окопа, с диким грохотом взорванного нами утром 1 июля, зияет гигантская воронка. (Сейчас, когда я пишу эти строки, воронка превращается в общую могилу для наших товарищей из 34-й дивизии, всего семь дней назад предпринявших на моих глазах столь храбрую и столь безуспешную атаку. Их тела оставались на «ничейной» полосе с самого утра атаки, и только сегодняшнее удачное наступление, в ходе которого наконец пала Ла-Буассель, позволило нашим войскам подойти вплотную к линии проволочных заграждений, где большинство тел лежало с прошлой субботы.) Мы прибыли на передовую вчера в начале одиннадцатого ночи, под проливным дождем, и сразу получили приказ похоронить убитых до рассвета — ни поспать, ни поесть толком нам не дали. Полковник объяснил офицерам, мол, при свете дня по похоронным командам ведется снайперский огонь, поэтому нужно управиться с делом ночью. Офицеры созвали сержантов своих рот и передали объяснение. Сержанты же не стали никому ничего объяснять, а просто подняли солдат, сидевших с кружками горячего чая по слякотным окопным нишам и закуткам, под промасленными брезентовыми накидками, и погнали на неприятное задание. В здешних траншеях даже днем легко заблудиться — они и до последнего успешного наступления представляли собой запутанный крысиный лабиринт, а с добавлением новых окопов, отрытых за минувшие двое суток, да еще среди ночи и под дождем, лабиринт казался практически непроходимым. Тем не менее я провел похоронные команды к линии бывших германских траншей, всей душой надеясь, что мы не выйдем за пределы нашего сектора и не наткнемся на боевой порядок бошей. Единственная моя задача состояла в том, чтобы приказать людям снимать с колючих спиральных заграждений трупы, одетые в хаки. Конечно же, тела лежали и в бесчисленных воронках от снарядов, но их я решил оставить в темноте под дождем. В любой из таких воронок недолго утонуть живому человеку. А мертвым спешить некуда, могут и подождать там. Над всей линией фронта висит тяжелый смрад смерти и разложения, моя новая форма уже пропиталась этим запахом. Он постоянно преследует, и привыкнуть полностью невозможно, если верить словам моих товарищей из 34-й дивизии, которые находятся на передовых позициях с самого времени, как сменили здесь французов. Само собой, в непосредственной близости от воронок с трупами и усеянного мертвыми телами проволочного заграждения вонь стояла совсем уже невыносимая. Наши похоронные команды осторожно продвигались вперед при мерцающих вспышках сигнальных ракет Вери и полыхающих зарницах артиллерийских залпов. Ни германские орудия, ни наши не ослабили огня после дневного боя (мы потеряли тринадцать человек, только пока преодолевали милю пути от гряды Тара-Усна до ходов сообщения к окопам), и все преимущество над снайперами, которое давала нам темнота, казалось, сводил на нет усиленный ночной артобстрел. Количество трупов на проволочном заграждении на одном только нашем маленьком участке передовой линии исчислялось сотнями, и я через сержантов отдал приказ сосредоточить все усилия на них, не трогая мертвецов в воронках и бывших германских траншеях. Разумеется, наряду с англичанами там полегли и сотни немцев, и мы с двумя другими лейтенантами решили, что отсортировать тела вражеских солдат будет проще при свете дня. Действовала каждая похоронная команда просто: одни стаскивали мертвецов с колючей спирали, зачастую оставляя на ней вырванные куски мяса, другие снимали с них персональные медальоны, третьи относили трупы на носилках к огромной воронке, а четвертые собирали винтовки и прочие предметы вооружения и амуниции. Потом тела просто сбрасывали в воронку, без поминальной службы или прощального слова. При красном свете сигнальных ракет я смотрел, как мертвые солдаты (с иными из них, вполне возможно, я встречался на минувшей неделе, когда осуществлял связь с 34-й дивизией) медленно, почти комично скатываются по раскисшему в слякоть откосу воронки в дождливой темноте. Никаких попыток опознать убитых не предпринималось. Данные с персональных медальонов будут прочитаны позже. Затем будут составлены и отправлены надлежащие письма. Тела скатываются вниз очень, очень медленно и чаще всего тонут в вязкой жидкой грязи, еще не достигнув ядовитого зеленого озерца сжиженного газа и гнили на дне воронки. Пока я смотрел, снаряд разорвался на самом краю воронки, где шестеро рядовых снимали с носилок трупы, и куски тел — недавно живых и давно мертвых — взлетели над голодной пастью ямы. Двоих раненых потащили к полевому лазарету — не знаю, нашли ли они лазарет, — а изуродованные останки их товарищей (по крайней мере все найденные) просто скинули туда же, куда всего пару минут назад эти парни сами сбрасывали трупы. Нам приказано занять передовые окопы, теперь превратившиеся в массовые могилы.Р.Э.Г.КембриджДекабрь 1992
9 июля, воскресенье Не спал с четверга. По словам капитана, стрелковая бригада избрана возглавить следующую атаку — вероятно, завтра. Полковник приходил расспросить меня про Большое Наступление, предпринятое 1 июля. Тогда он послал меня повидаться с моим другом Сигфридом [Сигфрид Сассун. — Прим. ред.] в расположении роты «А» и пронаблюдать за атакой, чтобы впоследствии доложить о ходе боевых действий, но мне не удалось найти ни Сигфрида, ни Роберта. [возможно, Грейвз? Джеймс Эдвин Рук знал обоих поэтов еще до войны. — Прим. ред.] Зато случайно встретил другого друга, Эдмунда Дадда, и вместе с ним и другими офицерами из полка Королевских уэльских фузилеров наблюдал за атакой с резервной позиции, откуда было отлично видно наступление 21-й дивизии и Манчестерского полка. Полковник Претор-Пинней пришел ко мне в середине дня, взглянул в зеркало над бруствером, дрожавшее от близких взрывов вражеских шестидюймовых снарядов, и сказал: «Итак, Джимми. Что вы видели неделю назад?» За последние дни я исполнился уверенности, что командир так и не потребует от меня доклада. Но сейчас, когда до нашего собственного Большого Наступления оставалось меньше двадцати часов, он явно почувствовал необходимость войти в подробности. — С чего вы хотите, чтобы я начал, сэр? Он предложил мне сигарету из золотого портсигара, постучал по нему своей, дал прикурить и сам прикурил — тоже от траншейной зажигалки, — а потом сказал: — Артобстрел. Начните с артобстрела. То есть, разумеется, мы в Альбере слышали канонаду… — Он умолк. Мы вели артиллерийский огонь по немецким позициям семь дней кряду. В окопах шутили, что грохот орудий слышен аж в Билайте. Все, начиная от сэра Дугласа [сэр Дуглас Хейг, главнокомандующий Британскими экспедиционными силами во Франции. — Прим. ред.] и кончая последним рядовым, говорили, что после такого огневого вала Большое Наступление обернется легкой победой. Бойцы тридцать четвертой дивизии волновались, что лучшие трофеи уже будут разобраны ко времени, когда они подоспеют к немецким окопам. — Зрелище было впечатляющее, сэр, — сказал я. — Да, да, но результат. — Полковник по-прежнему говорил тихим голосом — он вообще редко повышал тон, — но в нем звучало волнение, какого я никогда прежде не слышал. Стараясь успокоиться, он снял пальцем табачинку с языка. — Какие повреждения были причинены проволочному заграждению? — Незначительные, сэр. Оно почти не пострадало. Манчестерцам приходилось скучиваться у немногочисленных брешей во вражеском заграждении. Почти все они там и полегли. Полковник покивал. На прошлой неделе ему докладывали о наших потерях. Сорок тысяч отборных солдат погибли в тот день еще до времени завтрака. — Так, значит, наши снарядыпричинили мало повреждений проволочному заграждению? — Почти никаких, сэр. — Когда открыли огонь немецкие стрелки и пулеметчики? — Сразу же, сэр. Люди погибали от пуль, едва только высовывались из-за бруствера. Полковник продолжал кивать, но явно машинально. Он думал о чем-то другом: — А солдаты, Джимми? Как манчестерцы показали себя? — Превосходно. — Это была чистая правда, но одновременно и самая большая ложь, какую мне доводилось когда-либо говорить. Манчестерцы проявили великое мужество: пошли на пулеметы с таким спокойствием, словно маршировали на параде. Словно шли в театр. Но разве похвально идти в атаку, как овцы на заклание? За минувшие сутки ребята из нашего батальона похоронили тысячи таких храбрецов. — Хорошо, — промолвил полковник, рассеянно похлопав меня по плечу. — Хорошо. Уверен, наши парни завтра покажут себя не хуже. Так я получил первое подтверждение, что наступление назначено на завтрашнее утро. С детства не любил понедельники. Когда полковник, чавкая грязью, двинулся прочь по окопу, шутливо заговаривая с солдатами на стрелковых ступеньках, я посмотрел на свою руку с горящей сигаретой. Она тряслась, как у паралитика.
10 июля, понедельник, 4.45 утра Опять не спал ночью. Меня назначили в ночную разведку. Совершенно пустая трата времени, три часа ползанья по «ничейной земле» с десятью солдатами. Все трусили не меньше моего, только в отличие от меня не были обязаны скрывать страх. Никакой информации мы не добыли, никаких пленных не захватили. Но и потерь не понесли. Нам повезло найти обратный путь через пустырь.
Ночная разведка [Здесь вычеркнуто несколько строк. — Прим. ред.]
10 июля, понедельник, 8.05 Утро просто чудесное. Сегодня я умру — и какая жестокая ирония в том, что мне суждено умереть в столь погожий солнечный день! Ночью, во время разведки, повсюду были только грязь, слизь и слякоть. Потом наступил ясный рассвет. Жаркое летнее солнце бьет лучами по лужам вонючей воды, и над траншеями и воронками курится пар. Здесь, в передовом окопе, остались немецкие трупы, и от мокрой одежды мертвецов поднимаются тонкие струйки пара. Точно души, улетающие в небо из… …из ада? Какая банальщина. На слух так ничуть не похоже на ад. Со стороны Ла-Буассели доносится пение жаворонка. Минуту назад пришли полковник Претор-Пинней и капитан Смит из роты «D», и полковник негромко промолвил: — Атака начнется в восемь сорок пять. Сверим часы. Я достал отцовский серебряный хронометр и осторожно подкрутил стрелки, сверившись с часами полковника и капитана. Сейчас восемь двадцать две. Отцовский хронометр показывал восемь восемнадцать, а я перевел его на восемь двадцать одну. Я потерял три минуты жизни, просто переставив часы. На меня снизошло странное спокойствие. Невесть почему около часа назад орудия умолкли. Тишина кажется оглушительной. Я случайно слышал, как полковник Претор-Пинней говорил майору Фостеру Канлиффу, что первого июля артобстрел закончился на десять минут раньше, чем следовало, поскольку артиллеристам неверно передали приказ. Я задаюсь вопросом, не была ли допущена такая же ошибка и сегодня утром. Со своего места около перископа — на самом деле просто зеркала, закрепленного на шесте над бруствером, — я вижу лесок в нескольких сотнях ярдов от наших окопов. Справа от леска — большинство деревьев там повалено снарядами, лишь немногие уцелели — находится еще одно скопление поломанных деревьев и руины деревни Контальмезон. Вчера вечером наши ребята из 23-й дивизии вытеснили оттуда немцев, а теперь нашему батальону приказано выбить противника из окопов. Жаль, что сегодня ночью мы ничего толком не разведали. Отсюда до ближайших немецких траншей ярдов сто пятьдесят. Футбольный мяч долетит, если пнуть хорошенько. (Мой друг из 2-го полка Уэльских фузилеров, Эдди Дадд, сказал, что утром первого июля, в самом начале Большого Наступления, несколько парней действительно послали мячи к вражеским траншеям. Солдаты добровольного «товарищеского» батальона, набранного из футболистов и южноафриканских регбистов. По словам Эдди, в одном взводе там из сорока человек в живых остался только один…)
8.30 Сержант Лэйни (слева от меня) и сержант Кросс (справа) ходят взад-вперед по окопу, предупреждая людей не сбиваться в кучи. «Иначе боши перестреляют вас, как кроликов», — говорит сержант Лэйни. Странное дело, но слова звучат успокаивающе. Конечно, они перестреляют нас, как кроликов. Помню, шестилетним ребенком видел однажды, как отец свежует кролика. Один ловкий надрез, рывок — и шкура соскользнула, словно сброшенное с плеч пальто, лишь тягучие нити какой-то вязкой слизи соединяли ее с бледно-фиолетовой тушкой.
8.32 Что здесь делает поэт? Что здесь делаем все мы? Я бы сказал своим людям что-нибудь вдохновительное, но у меня так пересохло в горле, что вряд ли я сумею произнести хоть слово.
8.38 Сотни штыков. Они блестят на ярком солнце. Сержант Кросс кричит солдатам держать штыки ниже бруствера. Как будто немцы не знают о предстоящей атаке. Где, черт возьми, обещанный огневой вал?
8.40 Я знаю, что может спасти меня. Литания жизни. Перечень вещей, которые я люблю так, как может любить только живой человек и поэт: — белые чашки, сверкающие чистотой; — мокрые крыши в свете фонарей; — хрустящая корка свежеиспеченного хлеба и пища с богатым сложным вкусом; — уютный запах ласковых пальцев; — распущенные волосы, шелковистые и блестящие; — бесстрастная красота огромной машины.
8.42 Господи Иисусе, о Господи. Я не люблю Бога, но я люблю жизнь. Прохладную негу простыней. Сверкающие дождевые капли в прохладных бутонах цветов. Шершавый поцелуй чистых шерстяных одеял.[7] Господи… лишиться всего этого?
8.43 Женщины. Я люблю женщин. Свежий пудрово-тальковый аромат женщин. Их бледную кожу и бледно-розовые соски в свечном свете. Их мягкость и упругую твердость, и мускусную влажность…
8.44 Я буду думать о женщинах. Я закрою глаза и буду думать о литании женственности, вспоминать запах, цвет и вкус живой женственности. Все исполненные жизни и жизненной энергии… [строчка не закончена. — Прим. ред.]
8.45 Пронзительно свистят свистки. Попытаюсь свистнуть в свой. Одни сержанты выталкивают солдат из окопа. Другие возглавляют атаку. Последую за… [неразборчиво. — Прим. ред.] …несправедливо. Литания женской жизненной силы. Мысли о жизни защищают. Прощайте.
[Хорошо известно, что другой окопный дневник Дж. Э. Р. на этом заканчивается. Вернее, на нижеследующей краткой записи. — Прим. ред.]
10.07.16, 8.15 утра Полковник в последний раз проходит по окопу, и я готовлю солдат к атаке. Наши орудия по-прежнему молчат. Вероятно, штаб не хочет испортить сюрприз, приготовленный нами для немцев. Я шутливо сказал сержанту Кроссу, мол, хорошо бы гансы уже приготовили завтрак, а то я голоден как волк. Парни весело загоготали. [Следует заметить, что многие стихотворения, черновые наброски которых содержатся здесь, прежде датировались неверно. Принято считать, что «Ночную разведку» Дж. Э. Р. написал ночью 30 июня, когда вместе с офицерами 2-го полка Уэльских фузилеров наблюдал за возвращением разведывательной группы. Строки, начинающиеся словами «Звенят лопаты…», обычно датируются Рождеством предшествующего года, когда 13-я стрелковая бригада стояла в Анкаме, а лейтенант Рук впервые получил назначение в похоронный наряд. То, что раньше все называли «страшными картинами фронтовой действительности, созданными пылким воображением блестящего молодого поэта», оказывается скорее простым репортажем, нежели плодом поэтического воображения. И наконец, строки с описанием личного участия в ночной разведке — «При свете лишь одних ракет сигнальных…» — отсутствуют во всех изданиях «Окопных стихов». Представляется очевидным (по крайней мере данному библиографу), что Дж. Э. Р. работал над более длинным, более подробным вариантом «Ночной разведки», завершить который помешали обстоятельства. — Прим. ред.]
14 июля, пятница Сегодня ночью Прекрасной Дамы нет со мной. Она приходила, но врачи зашумели, и больше она не вернулась. Я до сих пор слышу ее запах. Мой сосед Брикерс — парень без половины лица, умудрявшийся стонать без умолку все время, когда я находился в сознании, — умер несколько минут назад. Последний булькающий хрип не оставлял сомнений. Тогда Прекрасная Дама была здесь. А потом ушла. Я молюсь, чтобы она вернулась.
15 июля, суббота, 9.30 утра Сегодня лучше сознаю, где я и что со мной. Узнаю знакомый грохот орудий. Сестра Поль-Мари — более приветливая из двух монахинь, ухаживающих за нами, — говорит, что там вовсю идет очередное наступление. От одной мысли меня мороз по коже продирает. Мне кажется, Прекрасная Дама приходила ночью — помню ее прикосновения, — но все прочие воспоминания последних нескольких дней размыты, подернуты туманом боли. Когда я впервые пришел в сознание, на тумбочке возле кровати лежали два предмета, принесенные мной обратно с «ничейной земли»: отцовские часы, остановившиеся на восьми минутах одиннадцатого, и секретный дневник, в котором я писал перед самой атакой. Похоже, я шел в бой с ними в руках. Когда двумя днями позже меня наконец доставили в перевязочный пункт, часы я по-прежнему крепко сжимал в левой руке, а дневник кто-то засунул в карман моей рубахи — единственный предмет обмундирования, не разорванный в клочья. Опишу окружающую обстановку. Я нахожусь в передовом госпитале КВМК [Королевский военно-медицинский корпус. — Прим. ред.] на окраине Альбера. Поскольку линия фронта проходит всего в двух милях отсюда, эта деревня является своего рода перевалочной станцией между полевыми хирургическими лазаретами и базовыми госпиталями глубоко в тылу (зачастую в самой Англии). Данный «госпиталь» состоит из трех побеленных помещений в здании, вероятно, принадлежащем женскому монастырю. Из окна я вижу Золотую Мадонну. [В центре деревни Альбер стояла большая церковь со шпилем, увенчанным позолоченной статуей Девы Марии, поднимающей над головой Младенца Иисуса. В 1915 году в статую попал снаряд, и с тех пор она «лежала в воздухе» под прямым углом к шпилю. В дневниках Сассуна, Грейвза, Мейсфилда и сотни менее известных людей упоминается, как они проходили под этой причудливой достопримечательностью во время марша на передовую. По обеим сторонам фронта распространилось поверье, что, когда Дева Мария упадет, война закончится. Немцы добавили уточнение, что, если статуя упадет, победу одержит Германия. Тогда французские инженеры спешно закрепили висящую Мадонну с Младенцем стальными тросами, и она оставалась в таком положении до 1918 года, когда германские войска снова заняли Альбер и устроили на церковном шпиле наблюдательный пост, а англичане вскоре снесли орудийным огнем и шпиль, и Мадонну. — Прим. ред.] Почти все гражданское население покинуло Альбер, но деревне непонятным образом удалось уцелеть здесь, в непосредственной близости от места боевых действий. Часть нашей артиллерии стоит за Альбером. Войска днем и ночью проходят через деревню в обоих направлениях; тяжелый топот башмаков, стук лошадиных копыт, брань солдат, волочащих по грязи пушки, не дают спать. В госпитале здесь лежат одни офицеры, и со слов сестры Поль-Мари я понял, что он предназначен только для тяжелораненых, которые не перенесут дороги в Амьен или на родину, и для легкораненых, которые вскоре вернутся на фронт. Похоже, я отношусь ко второй категории, увы. В моей палате около дюжины человек, среди них несколько офицеров из моей стрелковой бригады. Почти 3 все безнадежные. У одного парня, капитана, оторваны обе ноги, и в палате стоит отвратительный гангренозный запах. Другому парню, лейтенанту, пуля задела мозг, и он безостановочно несет всякий любовный вздор, принимая бедную монахиню за свою подружку. Мужчина постарше, майор, каждый день возвращается в хирургическую палатку, где ему отпиливают очередной 43 кусок ноги. От него тоже пахнет гангреной и смертью, но он никогда не жалуется, просто лежит на кровати и смотрит в потолок неподвижным взглядом. По словам сестры Поль-Мари, полковник Претор-Пинней лежит в соседнем полевом госпитале, под особым наблюдением врачей, и все еще находится в слишком тяжелом состоянии для транспортировки в базовый госпиталь. Она сказала, что полковнику раздробило левую руку пулеметной очередью. Я и без нее знал. Это произошло на моих глазах. В нашем батальоне погибли почти все офицеры, включая всех четырех ротных командиров. Я видел, как умерли ротные. Большинство взводных тоже убиты. Насколько я понимаю, кроме меня, из лейтенантов в живых остался только Фицгиббон, но он получил столь серьезное ранение, что его сразу отправили домой в Билайт. Большинство наших сержантов полегли, в том числе Кросс и Монктон, но остается надежда, что несколько все же уцелели. После боя в войсковых частях всегда царит страшная неразбериха. Похоже, я единственный «легкораненый» в палате — у меня так называемый «контузионный паралич» и пневмония, развившаяся после двух ночей лежания в воронке. Пневмония сама по себе болезнь тяжелая и изнурительная, а у меня вдобавок ко всему каждый божий день откачивают жидкость из легких шприцом размером, без преувеличения, с велосипедный насос — меня крепко держат, когда втыкают толстую иглу в спину. Но еще ужаснее дикая боль в парализованных ногах, постепенно обретающих чувствительность. Такое впечатление, будто они пребывали в затекшем состоянии четыре-пять дней, и жестокое колотье, сопровождающее их пробуждение, просто сводит с ума. Безногий молодой офицер только что умер. Сначала его кровать огораживают ширмой, потом за телом приходят санитары с носилками. Накрытое одеялом, оно кажется таким маленьким — и не подумаешь, что там взрослый мужчина. Лейтенант с ранением в голову продолжает звать свою сиделку-монахиню-любовницу все более исступленным голосом. Думаю, он не доживет до завтрашнего утра. Это место представляется мне преддверием ада. Несомненно, такие же мысли возникают и у других образованных людей, ибо на стене у окна, за которым видна Золотая Мадонна, углем нацарапаны слова «PER ME SI VA NE LA CITTA DOLENTE, PER ME SI VA NE L'ETTERNO DOLORE, PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE». Сестра Поль-Мари говорит, что монахини не стали стирать надпись, поскольку сделавший ее офицер сказал, что это стихи, прославляющие их доброту и заботу. Судя по всему, никто из монахинь не знает ни итальянского языка, ни итальянского поэта Данте. Это цитата из «Ада», разумеется, которая в переводе гласит: «Я УВОЖУ К ОТВЕРЖЕННЫМ СЕЛЕНЬЯМ, Я УВОЖУ СКВОЗЬ ВЕКОВЕЧНЫЙ СТОН, Я УВОЖУ К ПОГИБШИМ ПОКОЛЕНЬЯМ».[8] Идут врачи со своим проклятым шприцом. Продолжу позже.
15 июля, суббота, без малого полночь Оглушительный грохот канонады. Я вижу Мадонну с Младенцем, освещенную сзади непрерывными орудийными вспышками; блики от них дрожат на крашеных белых половицах, точно отсветы незримого пожара. Единственный другой человек в палате, не спящий сейчас, лежит через проход от меня — пораженный фосгеном парень. Он издает совершенно ужасные звуки. Я стараюсь не смотреть на него, но невольно поглядываю украдкой каждые несколько секунд.
15 июля, воскресенье, 9 утра Прекрасная Дама так и не появилась. По крайней мере не помню, чтобы она приходила. Не передать словами, как я разочарован. Монахиня — не милая сестра Поль-Мари, а другая, суровая, — объясняет продолжительную канонаду наших тяжелых орудий: ведется ожесточенный бой за Высокий лес. Больше всего раненых, говорит она, поступает из 33-й дивизии, в частности из Церковной бригады. По ее словам, она никогда еще не видела таких ужасных ранений. Я постепенно понял, что китченеровская практика комплектования армии добровольческими товарищескими батальонами (хотя идея хороша с точки зрения подбора личного состава) неминуемо обернется страшным ураганом горя и приведет к тому, что деревни, церковные приходы и целые профессиональные поприща опустеют, когда весь цвет нашего поколения будет истреблен за один-единственный день. [Даже в наши дни почти всем знаком плакат с изображением лорда Китченера, указывающего на зрителя пальцем и недвусмысленно заявляющего: «Родина нуждается в тебе». Возможно, однако, современный читатель забыл, что Китченер ввел воинскую повинность только в январе 1916-го. Таким образом, Джеймс Эдвин Рук и около двух с половиной миллионов других людей в хаки являлись добровольцами. Мнение Рука о «товарищеских» батальонах, куда вступали целые компании друзей и знакомых, оказалось совершенно верным. Самое тяжелое последствие, которое имела для Великобритании кровавая бойня ПМВ, заключалось не просто в общем количестве убитых англичан, а в страшных потерях, понесенных отдельными местностями, населенными пунктами, учебными заведениями, предприятиями и прочая в результате истребления целых товарищеских батальонов. В перечень их, потерявших на Сомме свыше 500 человек убитыми и ранеными (численность батальона составляла 1000 человек), входят Аккрингтонский, Лидсовский, Кембриджский, Школьный и 1-й Брэдфордский батальоны, Глазговский бригадный батальон и добровольческий батальон графства Даун. Причем все потери понесены в ходе единственного наступления 1 июля. — Прим. ред.] Недавно приходили врачи и сестры, втыкали шприц мне в легкие через спину. Он вытягивает жидкость с неописуемо мерзким звуком, при котором мне вспоминается виденный в детстве цирковой слон, всасывающий хоботом остатки воды из ведра. Цирк проезжал через кентский Уилд далеким зеленым летом — господи, как мне хотелось бы перенестись туда сейчас! Врач устало положил на тумбочку какие-то бумаги и забыл забрать. Я стянул из стопки один из бланков и прочитал. Это отчет о вскрытии. Проснулся в семь — колокола в чертовой колокольне под завалившейся Золотой Мадонной звонят прегромко и почему-то беспокоят сильнее, чем неумолчный грохот орудий, — и два часа кряду бился над стихотворением про жертву газовой атаки, чьи жуткие хрипы все еще стоят у меня в ушах, хотя несчастного давно унесли. Отчет о вскрытии больше похож на поэзию, чем мои жалкие потуги. Вот он, переписанный слово в слово:
Случай 4. Возраст 39 лет. Отравлен газом 4 июля 1916. Доставлен в эвакуационный пункт В тот же день. Скончался через 10 дней. Наблюдается коричневатая пигментация Обширных участков Тела. На запястье Белая полоска от часов. Поверхностные ожоги лица и Мошонки. Сильная гиперемия гортани. Вся трахея Покрыта желтой пленкой. Бронхи Наполнены газом. Легкие Заметно расширены. Основание правого легкого разрушено. Гиперемия и ожирение Печени. В желудке многочисленные Подслизистые кровоизлияния. Мозговое вещество Разжижено И сильно гиперемировано.[10]Черт! Поэзия в новом веке перестала выполнять роль поэзии. А непоэзии никак не удается прикинуться поэзией. Возможно, поэзия умерла. Возможно, она заслуживает смерти. Возможно, поэты тоже. Колокола умолкли. Наверное, полдюжины правоверных горожан, все еще не покинувших Альбер, собрались на мессу. Орудия же не умолкают ни на секунду. Мне жаль ребят из Церковной бригады. Все мы, кто сейчас не там, должны быть глубоко благодарны им, принимающим на себя страшный удар.
Подходит время написать про Прекрасную Даму. Долго не решался, опасаясь прослыть сумасшедшим в глазах людей, которые найдут и прочитают мой дневник. Я не сумасшедший. А дневник этот будет уничтожен… должен быть уничтожен. Дневники предназначены для того, чтобы поэты записывали в них свои потаенные мысли, какие даже в голову не приходят простым смертным. Но поэзия умерла, я тоже скоро умру и решительно не желаю оставлять свои откровения на потребу любопытным. Но все же я должен написать обо всем, иначе сойду с ума. Мы пошли в наступление утром десятого, стали свидетелями уничтожения нашей стрелковой бригады около десяти вечера десятого же, и всю ночь с десятого на одиннадцатое я пролежал в воронке, в полубреду от боли в ногах, отказывающихся мне повиноваться, в полубезумии от страха и жажды. Признаюсь — пил мерзкую зеленую жижу, стоявшую на дне воронки с трупами. К вечеру второго дня был готов пить даже собственную мочу. И почти наверняка пил. Мне никак не забыть тот звук. Он начался в первую ночь и не стихал до вечера двенадцатого числа, когда я выполз наконец из этого ада. Звук тянулся непрерывно, но то нарастал, то спадал, почти как слаженный рокот прибойных волн или шелест миллионов листьев осенним вечером в Кенте. Только он не убаюкивал и не настраивал на созерцательный лад. Звук складывался из скрежета тысяч зубов, из царапанья обломанных ногтей, из свистящего, булькающего, хрипящего дыхания пораженных газом людей, тщетно пытавшихся набрать воздуха в забитые слизью легкие. Звук этот порождали сотни и тысячи раненых англичан на «ничейной земле». Признаюсь, я присоединился к страшному хору. Мои стоны и нечленораздельные вопли, казалось, доносились откуда-то извне, и порой я испытывал не столько ужас, сколько недоумение, когда различал свой голос в общем крике боли. Изредка сквозь глухой грохот взрывов, гром орудий и треск пулеметов отчетливо слышался одиночный винтовочный выстрел, и тогда один из голосов в стонуще-кричащем хоре смолкал. Но остальные продолжали петь. Весь второй день — вторник 11 июля — я пролежал между обрывками колючей проволоки и клочьями человеческой плоти. В какой-то момент мне удалось отползти немного вверх и в сторону, чтобы вытащить из воды безжизненные ноги. Сказал себе, что опасаюсь, как бы они там не сгнили, но на самом деле боялся, что кто-нибудь схватит меня под поверхностью зеленой жижи. Мертвый солдат по-прежнему пристально смотрел на меня, лишь темные провалы глазниц и глазные белки виднелись между водой и краем каски. Со вчерашнего дня глаза заметно запали, ввалились глубоко в череп, словно не желая меня видеть. Накануне вечером даже при неверном свете ракет и вспышках взрывов я ясно различал темные радужки, но на второй день они скрылись под пузырчатой белой массой мушиных яичек. Трупные мухи были такие жирные, что порой представлялись мне роем валькирий, спустившимся с небес. Их жужжание напоминало жужжание пуль, а жужжание пуль наверху напоминало жужжание мух. Спустя некоторое время я перестал смахивать назойливых насекомых с лица и шевелился, только когда они заползали с губ в приоткрытый рот. К сумеркам второго дня многоголосый стон поослаб, но с наступлением темноты опять набрал силу, словно к раненым присоединились и мертвые. Когда полностью стемнело, попробовал выползти из ямы, цепляясь пальцами за камни, зарываясь локтями в грязь, но едва лишь моя голова высунулась над краем воронки, тотчас затарахтели пулеметы. Трассирующие пули полетели не только с немецкой стороны, а и с британской тоже. Наши ребята явно боялись контрнаступления и здорово нервничали. Одна из пуль в качестве предупреждения царапнула ухо, другая пробила ткань изорванного френча под левой мышкой. Я отказался от намерения проползти двести ярдов под пулеметным огнем и соскользнул обратно в свою отвратительную могилу. Мертвый солдат, казалось, подмигнул мне, обрадовавшись моему возвращению. Крысы в темноте рвали зубами нижнюю половину тела, лежащую напротив, и ноги подергивались, будто слегка пританцовывая. К моим рукам уже вернулась подвижность, и я швырнул вгрызунов несколько камней. Они даже ухом не повели. Я решил, что лучше уж так, чем привлечь внимание мерзких тварей к себе. Я погрузился в тревожную дремоту, орудийные раскаты вплетались в ткань моих сновидений. Перед рассветом внезапно проснулся. Со мной находилась Прекрасная Дама. Это звучит безумно, но я совершенно не удивился. Слышал разговоры о медсестрах, работающих на самой передовой, но то были солдатские побасенки. В любом случае сразу понял, что передо мной не медсестра. Она не спустилась ко мне по скользкому крутому откосу воронки, а просто — раз, и появилась рядом. Я очнулся от прикосновения прохладной руки к щеке. Даже сейчас, после нескольких визитов, любая попытка описать ее внешность кажется своего рода святотатством. Но возможно, если я вложу в описание хотя бы малую долю благоговения, которое испытываю перед ней, шансы увидеть ее снова не уменьшатся. Кожа у нее белая. И это не обычная английская бледность, вызванная недостатком солнечного света, а сияющая белизна каррарского мрамора. Черты лица — словно озаренного изнутри — классически правильные, но не настолько утонченные, как у современного идеала женской красоты. Нос прямой и длинный, подбородок волевой, глаза широко расставлены и почти черные. Волосы убраны на старомодный манер. Когда я в последний раз был в Париже и Лондоне, женщины носили волосы покороче, уложенные волной на лбу и свободно зачесанные над ушами, зачастую убранные в узел на затылке. У Прекрасной Дамы волосы подколоты по бокам гребнями, но распущены — в таком виде ходили женщины из поколения моей матери вечером перед сном. Когда она дотронулась до моей щеки, я попытался заговорить, предупредить, что находиться здесь, на «ничейной земле», смертельно опасно, но Прекрасная Дама прикоснулась пальцем к потрескавшимся губам и покачала головой, словно призывая к молчанию. Я смутно заметил, что на ней надето платье, неподобающее для медсестры и решительно неуместное в данной обстановке: из тонкой шелковистой ткани вроде крепдешина, покроем похожее на нижнюю сорочку или ночную рубашку, но не являвшееся ни первой, ни второй. Оно замечательно шло к волевому лицу и статной фигуре Прекрасной Дамы. Мне представилось, будто за мной явилась Пенелопа, чтобы забрать домой, положив конец моим странствиям. Я закрыл глаза, и в моем полусне она по-прежнему оставалась со мной. Только теперь мы находились не на поле боя, а на террасе чудесного особняка, залитой лунным светом. Окрестные пейзажи и запахи летней ночи казались знакомыми, и я решил, что это Кент. Прекрасная Дама ждала меня за кованым столиком в увитой зеленью беседке. Я подошел и сел напротив. В глаза мне бросилось, что теперь на ней вполне обычный наряд: персиковый костюм, состоящий из юбки по щиколотку и сборчатой блузы с широкими рукавами и рюшами на манжетах. Золотисто-каштановые волосы — при свете луны я отчетливо разглядел цвет — уложены в узел на затылке и частично прикрыты соломенной шляпкой со слегка загнутыми полями, украшенной пушистым пером. Между нами стоял серебряный поднос с чайными принадлежностями. Когда Прекрасная Дама собралась налить мне чаю, я попытался дотронуться до нее. Она слегка отстранилась, но продолжала улыбаться. — Это галлюцинация, — сказал я. — Ты действительно так думаешь? — мягко спросила она. Нежный голос и взгляд темных глаз сладко взволновали меня. — Да. Я умираю в какой-то… — хотел сказать «сраной воронке», но в последний момент осекся; пускай я страдаю предсмертными галлюцинациями, но это еще не повод забывать о приличиях при даме, — в какой-то банальной воронке во Франции, — продолжил я. — И все это… — повел рукой, указывая на увитую плющом беседку, на густые сады, откуда веяло ароматом гибискуса, и на залитый тусклым лунным светом особняк, — все это — галлюцинация моего умирающего мозга. — Ты действительно так думаешь? — повторила она и взяла мою руку. Слова «как током ударило» слишком невыразительны, чтобы передать мои ощущения от ее прикосновения. Как будто я никогда прежде не дотрагивался до женщины. Как будто был заикающимся от волнения юнцом, а не искушенным дамским угодником, каким позволил себе заделаться по окончании кембриджского Клэр-колледжа. Я уже открыл рот, собираясь сказать, что абсолютно уверен в нереальности всего окружающего, но в следующий миг выплывшая из-за облаков луна посеребрила белоснежную грудь в глубоком вырезе блузы, и слова застряли у меня в горле. — А я думаю, все это реально, — прошептала она, рисуя кончиком пальца овал на моей ладони. — Но тебе придется вернуться к своим друзьям, прежде чем мы увидимся снова. — Друзьям? — прошептал я, смущенный, что у меня такие сухие, растрескавшиеся губы. Я не помнил ни имен, ни лиц. Все мои боевые товарищи обратились в прах. В жалкий прах. Одна только Прекрасная Дама занимала мои мысли. Она улыбнулась — не жеманно, как многие известные мне лондонские дамы, не кокетливо, как многие француженки, и уж точно не холодно, как иные состоятельные вдовы и жены из круга моих знакомых. А самой милой улыбкой, правда, слегка ироничной и даже вызывающей. — Ты хочешь увидеться со мной еще раз? — спросила она. Ее ресницы блестели в лунном свете. — О да, — выпалил я, не задумываясь, насколько наивно это звучит. Мне было плевать. Она в последний раз погладила мою руку: — Мы поговорим об этом, когда ты вернешься туда, куда должен вернуться. — А куда? — спросил я. Ноги снова были погружены в мерзкую жижу. Руки нервно подергивались. Отцовские часы и цепочка, обмотанная вокруг черного от грязи и копоти запястья, поблескивали в лунном свете. — Обратно, — прошептала Прекрасная Дама. И снова она в свободно ниспадающем платье, похожем на нижнюю сорочку. Это меня обеспокоило: слишком уж много на нем складок. Здесь, на фронте, мы ходим все во вшах, а живут они главным образом в швах форменной одежды и складках шотландских килтов. Форма у меня новая, то есть была новая (покупал обмундирование в офицерском магазине в Амьене всего пару недель назад), но я уже успел завшиветь. Но чтобы Прекрасная Дама — и со вшами? Я осознал, что она гладит меня, скользит ладонью по голому бедру. Солдат в воде смотрел на нас белыми глазами, подрагивавшими в лунном свете. — Возвращайся назад, — прошептала она, подаваясь ближе ко мне. От нее исходил фиалковый аромат с оттенком жасмина. Она легонько провела острыми ногтями по внутренней стороне моего бедра, скорее испытывая меня, нежели дразня. — А потом мы снова встретимся. Я начал было говорить, но Прекрасная Дама коротко взглянула налево, словно услышав чей-то зов, а затем поднялась по откосу воронки — так плавно, будто не взошла, а воспарила. Я опять остался наедине с головой, пристально смотрящей на меня из зловонного озерца, нижней половиной тела, прожорливыми крысами и роем трупных мух. Я выбрался из ямы перед самым рассветом, подвергся обстрелу, едва показалось солнце, неподвижно пролежал весь длинный июльский день и пополз к британским окопам вечером среды 12-го числа, с наступлением сумерек. Уже близился рассвет следующего дня, когда я услышал лязг винтовочного затвора. Голос из темноты велел мне подойти показаться, кто такой, или назвать пароль. Я не мог сделать ни первого, ни второго, ибо лежал еле живой между витками колючей спирали, истекая кровью. Почти физически почувствовал направленное на меня дуло винтовки и напряженную сосредоточенность часового, готового выстрелить при первом же звуке голоса. Я мог бы прохрипеть из последних сил свое имя и название части, возможно, даже воодушевляющую фразу «Боже, храни Короля», но у меня так сильно пересохло в горле и потрескались губы, что наверняка все это прозвучало бы неразборчиво. Поэтому я запел, сколь бы нелепым и необъяснимым ни казалось такое решение. Мотив немного напоминал детскую песенку «Весело пляшем вокруг куста».
17 июля, понедельник, 2.00 пополудни Прошлой ночью я проснулся от фиалкового запаха Прекрасной Дамы, но в палате никого не было, кроме умирающих и меня. Уверен, она ушла всего за несколько секунд до моего пробуждения. Сегодня утром огромный шприц вытянул из меня не больше наперстка жидкости, и я сумел дотащиться до уборной, опираясь на две трости. Сестра Поль-Мари говорит, что через день-другой меня признают выздоровевшим, чтобы освободить койку для более тяжелых раненых. Несколько моих соседей по палате скончались — майора сегодня утром нашли мертвым, он лежал пластом и неподвижно смотрел в потолок точно так же, как в последние дни жизни, — и к нам положили парней из 33-й дивизии. Узнав про воскресный бой, я сразу подумал, что Церковную бригаду постигнет та же участь, какая постигла нашу, — и, похоже, оказался прав. Сестра говорит, что полковника Претор-Пиннея наконец отправили в базовый госпиталь. Есть надежда, что он выживет. Вчера во второй половине дня меня проведал сержант Роулендс, славный малый. Буквально накануне наступления 10 июля он получил приказ вернуться в Альбер, чтобы служить при штабе ординарцем. Он горько сожалеет, что пропустил все представление, но перевод в штаб почти наверняка спас ему жизнь. По словам Роулендса, когда 12-го числа они проверяли списки личного состава бригады, свыше трехсот фамилий там было помечено буквами «БВП». [ «Без вести пропавший». — Прим. ред.] Разумеется, в штабе не знали, кто из БВП убит и похоронен, кто убит и еще не похоронен, кто убит и разорван в мельчайшие клочья, кто из них взят в плен, а кто ранен и остался на «ничейной земле», или лежит в перевязочном пункте, или уже транспортирован в госпиталь. И никто в штабе, сказал Роулендс, не считал нужным выяснять. Поэтому на прошлой неделе сержант самолично объехал на велосипеде все полевые госпитали и перевязочные пункты, наводя справки про ребят из нашей стрелковой бригады. В пятницу он доставил собственный список потерь полковнику в полевой госпиталь, и Претор-Пинней открыто расплакался, что представить практически невозможно. По словам Роулендса, полковник только и мог, что повторять снова и снова: «Они пустили мой батальон на убой… Они пустили мой батальон на убой…» Роулендс не нашел бы меня ни в одном перевязочном пункте, если бы искал в прошлую среду. Парни, обнаружившие меня у окопов, довезли почти до самого Альбера на конфискованном мотоцикле с коляской и выгрузили у огромной палатки, которую приняли за перевязочный пункт. Она была заполнена носилками с людьми, несколько работников сновали взад-вперед под фонарями в дальнем конце помещения, а во дворе перед палаткой стояли тесными рядами носилки с ранеными, накрытыми одеялами. Ночь была теплая и звездная. Часовой со своим товарищем вытащили меня из коляски, отыскали пустые носилки, подоткнули мне одеяло под подбородок, пожелали удачи и вернулись к своим обязанностям на передовой. В своем полубредовом состоянии, в горячечном восторге от мысли, что я жив и выбрался с «ничейной земли», только через час или два осознал, что ко мне никто не подходит. Ни врач. Ни медсестра. Ни даже солдат, меряющий температуру и сортирующий раненых по степени тяжести. Я также обратил внимание на тишину. Впервые за последние три дня стоны и крики раненых не терзали мои нервы и рассудок. Люди вокруг вообще не издавали ни звука. Ясное дело, это оказался не перевязочный пункт, а похоронный, и дежурившие здесь солдаты, на милосердное попечение которых меня оставили друзья с передовой, уже закончили работу на сегодня. Я лежал во дворе перед палаткой, один, в окружении доблестно павших воинов. Ноги по-прежнему не слушались, но мне удалось сесть и оглядеться по сторонам. Многие тела не были накрыты одеялами. Торчащие наружу кости и открытые мертвые глаза блестели в звездном свете. Я узнал нескольких парней из 13-й бригады. Я попробовал закричать, но безуспешно: из моих забитых слизью легких вырывался лишь глухой кашель. Я снова лег и стал ждать, когда кто-нибудь появится поблизости. Время от времени по дороге ярдах в десяти-пятнадцати от меня проезжали верховые на лошадях и мотоциклисты, но между рядами трупов и дорогой возвышался небольшой земляной вал, да и в любом случае мой сдавленный кашель никто не услышал бы. Доползти до дороги не хватило бы сил: в последний раз я ел утром перед наступлением. Причем съел очень мало, но не потому, что нервничал, а потому что все солдаты предпочитают не наедаться перед боем на случай ранения в живот. За трое с половиной суток голода страшно ослаб. Я не сомневался, что еще до утра умру от жажды или от ран. Перед рассветом закрапал дождь. Мелкая изморось разбудила меня, я запрокинул голову и стал ловить ртом крохотные капельки. Этого было мало. Попытался набрать дождевой воды в сложенные чашечкой ладони, но ничего не получилось, слишком уж сильно тряслись руки. Понимая, что редкий дождик вот-вот кончится, я лихорадочно осмотрелся в поисках какого-нибудь сосуда, чтобы собрать в него воды и спасти свою жизнь, — ну там брошенной фляги, канистры, каски… чего угодно. Но ничего такого поблизости не оказалось. Потом я заметил, что вода скапливается в складках одежды на непокрытых трупах. Признаюсь, я ползал между ними сколько хватало сил и жадно слизывал языком эти крохотные лужицы, пока они не впитались в ткань или не испарились. Помню, лакал воду из холодной межключичной впадины молодого парня, как кошка лакает сливки из миски. Тогда не испытывал ни малейшего стыда и сейчас тоже. Боги оставили меня, и я словно бросал им вызов: делайте что хотите, но выживу вам назло! А потом явилась она. Легко ступая, она прошла между рядами недвижных тел. Я не понял, босая она или в мягких тапочках. На ней было вчерашнее платье — из тонкой, но не прозрачной ткани, ниспадающее «прерафаэлитскими» длинными складками, текучими и подвижными в звездном свете. Я уже утолил жажду и снова лежал на своих носилках, закутавшись в грубое одеяло. Боялся, что она ищет в темноте меня, и еще больше боялся, что не меня. Не стану притворяться, будто не догадывался, кто она такая. Но это не имело значения. Когда она склонилась надо мной, распущенные волосы упали темным занавесом вокруг нас. От нее исходил теплый женский запах с оттенком фиалки и жасмина. Я хотел сказать «не надо», хотел сказать, что губы у меня запеклись и потрескались, а дыхание наверняка зловонное, но она приложила к моим губам прохладный палец, веля молчать. А в следующую секунду убрала его и поцеловала меня. Одновременно нежно и крепко, бесконечно долго и слишком коротко. Все поплыло перед глазами, и звезды закружились в высоком небе. Она отстранилась, и я на миг почувствовал сквозь ткань мягкое прикосновение ее левой груди. — Подожди, — прохрипел я, но она уже уходила, приподняв подол платья, чтобы не задевать скрюченные пальцы и запрокинутые лица мертвецов, лежащих в сырой темноте. — Подожди, — снова прошептал я, но мною уже овладевал сон. Были бы силы, я непременно последовал бы за ней. Дрожа всем телом, натянул повыше мокрое одеяло и провалился в сон без сновидений, похожий на смертный, каким спали все вокруг.
18 июля, вторник, 3.30 пополудни Ужасный день. Меня уже собирались выписать, но решили подержать еще сутки, поскольку прошлой ночью жар и кашель опять усилились. Ноги словно чужие, слушаются плохо, но теперь я хотя бы могу стоять на них, опираясь на одну трость. Снова годен к службе в армии Китченера. Сегодня получил настолько скверные новости, что мне остается только посмеяться проделкам ироничного божества, правящего миром. Я знал, что стрелковая бригада, потерявшая половину личного состава, если не больше, перестала существовать как боевая единица. По крайней мере — временно. А значит, по возвращении в батальон я получу назначение на какую-нибудь непыльную должность на спокойном участке фронта… скорее даже в резерве далеко от передовой линии. Сержант Роулендс вчера сказал, что видел приказ об отправке батальона к Бресли, а оттуда под Калонн, для продолжения службы в щадящих условиях. Войска там, сказал он, квартируют по жилым домам, и до полей сражений на Сомме не близко. Уже начал думать, что доживу до Рождества. А сегодня пришли бумаги о моем переводе. Я подал прошение в прошлое Рождество, когда бригада стояла в Анкаме, и чувствовал себя одиноким и подавленным. Никогда не умел ладить с простыми людьми, а офицеры в бригаде не особо походили на джентльменов. Я пошел к полковнику Претор-Пиннею и заполнил необходимые анкеты с просьбой о переводе в 34-ю дивизию, надеясь попасть в одно подразделение с Дики, Джоном, Сигфридом [Сигфрид Сассун. — Прим. ред.] или еще какими-нибудь университетскими товарищами. Полковник предупредил, что прошение вряд ли удовлетворят, но я все равно отослал бумаги, никакого ответа не получил и спустя время забыл об этом. А сегодня узнаю, что меня все-таки перевели — в первый батальон первой стрелковой бригады четырнадцатой дивизии. Замечательно. Чертовски замечательно. За короткий срок нахождения в армии уже успел почислиться в трех дивизиях: в период военного обучения стрелковая бригада входила в состав тридцать седьмой; меньше двух недель назад (меньше двух недель назад?!), когда нас отправляли на передовую, то сообщили, что бригаду приписали к тридцать четвертой; и вот теперь я должен паковаться и отправляться в паршивую четырнадцатую. А я никого там не знаю. Что еще хуже — по словам сержанта Роулендса, четырнадцатая дивизия перемещается на передовые позиции, в то время как моя бывшая бригада уходит оттуда. Не потеряй я свой пистолет на «ничейной земле», засунул бы его в рот и вышиб мозги к чертовой матери.
19 июля, среда, 7.00 вечера Немногим раньше я выходил посмотреть, как стрелковая бригада покидает Альбер. Чудесный вечер — свежий и прохладный, как на исходе августа, хотя сейчас самый разгар лета. Пыль почти не поднималась, в воздухе висел слабый запах кордита и разлагающихся тел. Золотая Мадонна с Младенцем сверкала на солнце, когда батальон проходил под ней. Многие лица я видел впервые. Сотни новичков пополнили ряды солдат и офицеров здесь, в Альбере, и теперь батальон действительно похож на батальон. Знакомые же лица выглядели гораздо старше, чем девять дней назад. Вечность назад. Я стоял на пригорке за монастырем и махал рукой, но почти все парни из моей бывшей бригады смотрели прямо перед собой и ничего не видели. Многие плакали. Когда они скрылись из виду, вернулся в здание госпиталя, собираясь поспать или написать письмо сестре, но там оказалась делегация важных дам из Билайта, и всем нам следовало делать хорошую мину. Монахини отгородили ширмами самых тяжелых раненых — очередную жертву газовой атаки, парня из Церковной бригады, потерявшего обе ноги, правую руку и в лучшем случае один глаз, еще двоих или троих, — чтобы не травмировать чувства наших посетительниц. Я решительно не желал общаться с ними, а потому притворился спящим. «Какой красивый молодой человек», — сказала про меня одна из дам. Суровая монахиня сообщила, что я уже выздоровел и скоро вернусь на фронт. Другая дама — старая карга с прической на манер гибсоновских девушек (я подглядывал сквозь ресницы) — заметила, дескать, просто замечательно, что он получит еще один шанс. Я бы охотно предоставил ей такой шанс.
Славолюбие женщин
22 июля, суббота Насчет чистого белья вышла ошибочка. В Амьене, куда я вернулся, чтобы присоединиться к новой стрелковой бригаде из четырнадцатой дивизии, сплю на чистом постельном белье — пускай и не таком свежем, как в госпитале. На Альбер градом сыпались снаряды, когда я отбывал оттуда в четверг. Немецкие шестидюймовки превращали в руины центр города, взрывы гремели в опасной близости от большого полевого госпиталя и женского монастыря, где размещался мой. Думаю, со своей хромотой и тростью, изможденным лицом, контрастировавшим с новенькой формой, я выглядел весьма романтично. Во всяком случае, встречные солдаты и офицеры, маршировавшие на передовую, отдавали мне честь энергичнее и уважительнее, чем бывало раньше. Еще я начал отпускать усы. И заметил у себя седые волосы, которых еще две недели назад не было и в помине. Амьен находится милях в пятнадцати от линии фронта, но такое ощущение, будто в пятнадцати сотнях. Здесь реальный мир: книжная лавка некой мадам Карпантье, чьи дочери флиртуют с офицерами; рестораны с названиями «Рю-дю-Кор-Ню-сан-Тет», «Ля-Катедраль», «Устричный бар Жозефины», «Великолепный Годебер» и просто «Офицерская столовая», где постоянно сидит компания младших офицеров; не говоря уже о других амьенских чудесах вроде цирюльни на Рю-де-Труа-Кайю, где после стрижки и бритья с горячими полотенцами в волосы вам втирают хининовую воду, от которой еще пару часов кожу черепа приятно покалывает. Жестокая передышка. Четырнадцатая дивизия отправляется на передовую в понедельник, и после недолгого возвращения к нормальной человеческой жизни фронтовая покажется совсем уже невыносимой. Мне стоило огромных трудов разыскать четырнадцатую дивизию — в Амьене стоит множество войсковых частей, направляемых на фронт и отзываемых в тыл, и окрестности города выглядят так, будто там раскинули шатры сотни передвижных цирков. Но в конце концов я доложил о своем прибытии сначала надменному полковнику, не вызвавшему у меня ни малейшей симпатии, а потом некоему капитану Брауну, произведшему самое приятное впечатление. Браун представил меня взводным сержантам и объяснил, что первая бригада восстанавливает свою численность после крупных «отчислений» в активно действующие подразделения. Война начинает казаться мне одной грандиозной игрой в «музыкальные стулья», где проигравший умирает, поскольку оказывается не в том месте и не в то время, когда музыка прекращается. Я каждую ночь думаю о Прекрасной Даме, но знаю, что здесь она меня не навестит. Надежда увидеться снова — единственное, что скрашивает мрачную перспективу возвращения обратно на передовые позиции.
23 июля, воскресенье, полдень Стало известно, что сегодня после полуночи австралийские и новозеландские полки пошли в наступление на Позьер. По словам капитана Брауна, несмотря на радужные сообщения из штаба и патриотическую болтовню журналистов, результат скорее всего окажется таким же, как в случае с 34-й дивизией первого июля и с моей стрелковой бригадой десятого числа: то есть тысячи солдат, положенных на «ничейной земле» без всякой пользы. Завтра мы направляемся в Альбер, а оттуда — на линию фронта. Другая важная новость касается смерти генерал-майора Ингувиль-Вильямса, командующего 34-й дивизией. Помню, Дики и Сигфрид говорили мне, что у него прозвище Чернильный Билл. Он погиб вчера при взрыве снаряда в лесу Маметц, куда отправился за трофеями. Все офицеры опечалены утратой, но я слышал, как капрал Купер сказал одному из сержантов: мол, поделом болвану за то, что вылез из своего уютного блиндажа и поперся туда, где нашим ребятам приходится проливать свою кровь. На резервных позициях поднялся изрядный переполох, пока искали четырех черных коней в упряжку, чтобы на лафете вывезти тело генерал-майора с передовой. Капитан Браун говорит, подходящих коней нашли в батарее «С» 152-й бригады. Надо полагать, это имеет важное значение.
25 июля, вторник, 10.00 вечера Когда мы вчера проходили через Альбер, Золотая Мадонна с Младенцем висела над дорогой, окруженная золотисто-оранжевым ореолом пыли, поднятой нашими ногами. Мы направились на фронт не тем путем, которым добирался я накануне Большого Наступления первого июля и которым шла на передовую моя стрелковая бригада, чтобы перестать существовать как боевая единица десятого числа. Мы миновали Фликур, но потом двинулись не по дороге на Позьер или Контальмезон, а через Колбасную долину справа от Ла-Буассели и достигли новых позиций напротив Позьера, не подвергнувшись массированному орудийному обстрелу. Немцы знают, что наши войска вовсю пользуются Колбасной долиной, но она находится вне зоны прицельного огня, и мы понадеялись, что нам придется опасаться лишь редких шестидюймовых снарядов, выпущенных вслепую. Но они применили газ. На месте бошей я тоже выбрал бы газ. Самый простой способ задать нам жару, не прилагая особых усилий. Вчера в дело пошел обычный слезоточивый газ, но в таких количествах, что всем нам пришлось надеть защитные очки или противогазные маски. Зрелище было поистине абсурдное: тысячи грузовиков, фургонов, ординарцев на велосипедах и мотоциклах, вереницы санитарных машин, конных повозок, даже какое-то кавалерийское подразделение и тысячи солдат на марше в гигантском облаке белой пыли, смешанной со слезоточивым газом настолько густым, что вся долина истекала едкой влагой. У многих шоферов и возчиков защитных средств не было — очевидно, они считались нестроевыми служащими, а таким противогазы не выдают, — и обливающиеся слезами и соплями мужчины, пытавшиеся управлять автомобилями или конными упряжками, выглядели чудовищно нелепо. Количество лошадиных трупов, лежащих вдоль дорог в Колбасной долине, просто ошеломляет. Такое впечатление, будто кто-то решил вымостить обочины гниющей кониной. Зачастую две или три лошади лежат чуть ли не одна на другой, перепутавшись вывороченными кишками. Мне кажется, в подернутых пеленой глазах мертвых животных читается гораздо больше укора, чем в остекленелых глазах мертвых людей. Повсюду мухи, разумеется, и нестерпимый смрад. Многие, кто уже ходил через долину раньше, купили в Амьене духи, чтобы перешибить отвратительный запах разложения, въедающийся в кожу и одежду, но это бесполезная затея. Лучше просто не обращать внимания. Ворчание транспорта, крики шоферов и возчиков, судорожные всхлипы и кашель людей и лошадей, застигнутых без противогазов, приглушенная брань сержантов — все это слышится словно издалека сквозь наши неуклюжие маски. Пожилой шофер грузовика, с которым я разговорился, пока бригада стояла около часа, пропуская вперед транспортную колонну, сказал, что не стоит доверять дурацким изделиям из парусины и слюды с нелепой цилиндрической коробкой на морде, которые нам выдали в армии. Я спросил сквозь вышеописанное уродство, чем пользуется он сам. Средство защиты походило на грязную тряпку, но похоже, успешно выполняло свое предназначение. — Нассал на свой носок, — сказал шофер и потряс передо мной тряпицей, показывая, что не шутит. — Защищает лучше, чем дурацкая лягушачья маска, что напялена на вас. Хотите попробовать? Я воздержался. Вчера на передовую и с передовой перемещались в основном части АНЗАКа. [Австралийский и Новозеландский армейский корпус. — Прим. ред.] Их наступление на Позьер началось в воскресенье где-то после часа ночи, и кровопролитные бои продолжаются до сих пор. Сидящие в штабе идиоты по крайней мере перестали посылать людей в атаку при свете дня. Но, похоже, темнота не особо помогла шотландцам и «анзакам», сражавшимся за Позьер и крохотные лесочки вокруг него: санитарные машины набиты битком, и сразу за линией окопов сверхурочно работают дюжины похоронных центров. Похоже, всякий раз по прибытии на фронт мне суждено возглавлять похоронные команды. Пока четырнадцатая дивизия стоит в резерве за австралийскими частями, наша первая задача — похоронить убитых австралийцев. Работа неприятная, но по крайней мере эти тела не провисели неделю или больше на проволочных заграждениях. Ведется яростный артиллерийский огонь. Я с удовольствием обнаружил, что резервные части размещаются в траншеях, которые всего несколько дней назад были передовыми, поэтому землянки здесь глубокие и хорошо оборудованные. Я делю землянку глубиной добрых двадцать футов с двумя другими лейтенантами по имени Малькольм и Садбридж. Прямо по соседству находится землянка капитана Брауна, еще более глубокая. В нашей имеются полог из мешковины при входе, нары, полки и даже стол, за которым можно играть в карты. Помещение освещается двумя фонарями «молния» и выглядит в таком освещении довольно уютно. Здесь гораздо прохладнее, чем в пыльном июльском пекле наверху. Час или два назад лейтенант Малькольм предложил выровнять пол под столом, каковое предложение мы сочли дельным, поскольку стол немного шатался. Молодые Малькольм и Садбридж с энтузиазмом взялись за дело и несколько минут копали глинистую землю, чтобы сделать ровные площадки под каждой ножкой, а потом вдруг под лопатой Малькольма показалась полуистлевшая синяя ткань. «Похоже, какой-то лягушатник потерял свой мундир», — простодушно сказал Малькольм, продолжая копать. Смрадный запах разлился в воздухе за секунду до того, как нашим взорам явились останки руки. Я вышел выкурить трубку и переговорить с капитаном Брауном. Когда вернулся, вся вырытая земля была засыпана обратно, и мальчики играли в карты за шатким столом. Я выбрал верхние нары, наивно предполагая, что крысам туда труднее забраться — меня передергивало при мысли об огромных жирных тварях, ползающих по моему лицу в темноте, — но вскоре заметил, что бревенчатая балка надо мной слабо поблескивает, словно вся ее поверхность шевелится. Я поднес к ней фонарь и обнаружил, что она сплошь покрыта вшами. Погасив свет, еще полчаса чувствовал, как мерзкие насекомые сыплются мне на грудь и щеки. Не в силах заснуть, я вышел из землянки и присел на стрелковую ступеньку, чтобы написать все это при свете орудийных зарниц. Прекрасная Дама не пришла. Я бы сказал, что это место недостойно ее, но я знаю: причина не в этом. Однако я верю, что скоро увижусь с ней снова. Даже здесь, в резервных окопах, мы находимся в пределах прямой видимости и винтовочного выстрела от германских позиций у Позьера. Пули вонзаются в мешки с землей над моей головой с хорошо знакомым звуком. Я чувствую, как вши ползают по мне в поисках теплых складок и швов на моей почти новой форме. По опыту знаю, что первые несколько дней буду ловить и давить паразитов, а потом махну на них рукой и смирюсь с постоянным зудом по всему телу. Пора возвращаться на нары. Через три часа у меня первый обход взвода в окопах.
28 июля, пятница, 8.00 утра Вчера полковник вызвал меня в свой хорошо оборудованный блиндаж и осведомился, почему я попросил о переводе в четырнадцатую дивизию. Я признался, что хотел перейти не в четырнадцатую, а в тридцать четвертую, чтобы находиться рядом со своими университетскими товарищами. Полковник — низкорослый бледный мужчина, явно страдающий несварением, — раздраженно швырнул на стол бумаги и выругался сквозь зубы. Похоже, в штабе стало известно об ошибке — мои документы действительно следовало отправить в тридцать четвертую дивизию, — и теперь все бесились из-за ошибки какого-то писаря. — Ну и что нам теперь с вами делать, О'Рурк? — пролаял полковник, хотя мое имя было черным по белому напечатано на нескольких анкетах, лежавших перед ним. Я не нашелся с ответом. У меня просто в голове не укладывалось, что среди всей этой кровавой бойни — мои люди целую неделю хоронили австралийцев, новозеландцев и шотландцев — кого-то может волновать, что одного младшего лейтенанта приписали не к той дивизии. — Мы не можем отправить вас в тридцать четвертую, — прорычал полковник. — У них нет никаких бумаг на вас, и они заняты переформированием. И мы не можем оставить вас здесь, поскольку в штабе все на пену исходят. Я кивнул. Мне хотелось просто оставить все как есть. Я уже начал сближаться с другими младшими офицерами — в частности, Малькольмом и Садбриджем — и по-настоящему сдружился с капитаном Брауном и несколькими сержантами. — Вот, подпишите. — Полковник подвинул ко мне бумаги через обшарпанный стол. Я взглянул на анкеты. — Прошение о переводе обратно в стрелковую бригаду, сэр? — Мне казалось, прошла уже целая вечность с того дня, когда я видел жалкие остатки бывшей бригады, покидающие Альбер. Полковник уже вернулся к более важным бумагам. — Да, да, — нетерпеливо бросил он и махнул рукой, веля мне подписать документы. — Вы останетесь здесь, пока мы не получим приказ о вашем переводе, а это произойдет не позже чем через неделю-другую. Давайте просто отправим вас на прежнее место службы, хорошо, О'Рурк? — Лейтенант Рук, сэр, — поправил я, но чернозубый карлик не обратил на меня внимания. Я подписал бумаги и вышел. Только через несколько часов сообразил, что это может значить. Вчера я получил весточку от сержанта Роулендса, и в своей записке он упомянул, что резервные траншеи под Калонном оказались очень даже уютными, как и надеялись выжившие солдаты и офицеры стрелковой бригады. Они с превеликим удовольствием просидели бы там до конца войны. Если придет приказ о моем переводе… Нет, так и с ума сойти недолго. Я слишком верю в Бога Иронии, чтобы рассчитывать, что такая простая вещь, как очередной перевод, спасет меня.
9.00 вечера того же дня Знойный, липкий вечер. Небо над «ничейной землей» цвета вареных лимонов. Все ползают как сонные мухи, изнемогая от жары и почти желая, чтобы опять зарядили дожди, изводившие нас все лето здесь, на Сомме. Даже в землянках стоит невыносимая духота, и люди спят в полном обмундировании на настилах в траншеях, подложив под голову мешок с песком. К счастью для нас, немецкие снайперы тоже слишком изнурены жарой, чтобы заниматься своим делом с энтузиазмом. Австралийцы еще раз попробовали захватить мельницу у Позьера, ставшую для них непреодолимым препятствием. Мы видим лишь многие сотни раненых, пытающихся добраться до перевязочных пунктов. Некоторые из них на носилках. Других тащат товарищи. Третьи ковыляют сами, пока кто-нибудь не подставляет им плечо или они не падают без сил где-нибудь в траншее или на подвозной дороге. Сегодня днем, возвращаясь с сержантом Акройдом и двумя рядовыми из наряда в Колбасной долине, я случайно бросил взгляд на трупы британцев, лежавшие в ряд на обочине дороги. Мое внимание привлекло то обстоятельство, что все семеро мужчин были в килтах. Ничего удивительного, ведь Королевская Шотландская бригада из 51-й дивизии вот уже две недели несла тяжелые потери. Трупы были накрыты кусками брезента, и к ноге каждого была привязана желтая бирка — это означало, что похоронные команды вернутся за ними позже. Но я увидел, что одно брезентовое полотнище стянуто в сторону. Под ним лежал рыжеволосый мужчина — похоже, офицер. На клетчатой груди мертвеца удобно расположилась огромная кошка, которая с явным удовольствием объедала его лицо. Я остановился и крикнул. Кошка и ухом не повела. Один из рядовых швырнул камень. Тот ударил в труп, но кошка даже не покосилась на нас. Я кивнул сержанту Акройду, и он приказал солдатам прогнать животное прочь. Поразительное дело. Кошка не соблаговолила поднять голову, пока двое парней не подошли совсем близко. А потом, когда они заорали и замахали руками, объевшееся животное прыгнуло на них, злобно зашипев и выпустив когти. Рядовой-ирландец, кажется, по имени О'Бранаган, наклонился, чтобы отогнать животное, и в следующий миг отпрянул назад с расцарапанной в кровь физиономией. Кошка скрылась в подвале разрушенного снарядом коттеджа, и рядовой замешкался. Он уже сдернул с плеча винтовку и держал ее наперевес, как для штыковой атаки. — Вот черт! — пробормотал сержант, и мы с ним стали спускаться в подвал. Представлялось очевидным: если не принять никаких мер, кошка продолжит свою трапезу сразу после нашего ухода. Внизу оказался настоящий лабиринт, образованный грудами камней и обгорелых балок, и мы пробирались по этим катакомбам, согнувшись в три погибели. Свет еле пробивался сквозь рухнувшие стропила, балки и обугленные половицы у нас над головой. Сержант позаимствовал винтовку у испуганного рядового; я подумал, не вытащить ли мне пистолет из кобуры, но в конечном счете удовольствовался тем, что просто поднял трость чуть повыше. Ситуация становилась комичной. Шорох потревоженных камней в самой глубине помещения заставил нас с сержантом повернуться. Там находился своего рода подвал в подвале, предназначенный для хранения овощей. В тот момент я бы многое отдал за фонарик. Боюсь, я замешкался на секунду дольше, чем следовало, перед могилоподобным провалом, ведущим в нижнюю область тьмы, ибо сержант добродушно сказал: «Сэр, позвольте я первый спущусь. Я вижу в темноте как сова». Я пропустил вперед дородного сержанта, а сам присел на корточки и напряженно всмотрелся вниз. Отчетливо представил, как он пронзает штыком гнусное жирное животное, и при мысли о клинке, входящем в мягкую шерсть, мне вспомнилась мокрая шерстяная шинель немца, заколотого мной в окопе. Меня слегка замутило. «Матерь Божья!» — внезапно прошептал сержант и остановился на средней из пяти каменных ступеней, ведущих в овощехранилище. Тогда я все-таки вытащил пистолет из кобуры и спустился к нему. Когда мои глаза привыкли к темноте, то я разглядел три или четыре тела. В нижнем подвале было прохладно, и они пролежали там довольно долго, поэтому запах был не многим сильнее легкого смрада разложения, постоянно висящего в воздухе в районе передовой. Я различил истлевшие лоскуты одежды и пряди белокурых волос — похоже, здесь укрывалась от обстрела мать с двумя маленькими детьми и грудным младенцем. Но снаряды сделали свое дело. Или ядовитый газ. Однако не вид человеческих останков заставил сержанта резко остановиться, а меня — еще крепче стиснуть пистолет и трость. Пять котят — хотя таких крупных толстых животных и котятами-то не назовешь — подняли головы, отвлекаясь от еды. Они находились внутри матери и старшего ребенка. От младенца ничего не осталось, кроме пожелтевших кружавчиков и белых косточек. Сержант завопил и ринулся вперед, выставив штык. Котята бросились врассыпную — в спинах трупов тоже зияли огромные дыры — и скрылись в груде обгорелых бревен, куда человеку не пролезть. Я случайно поднял взгляд и среди нагромождения балок над нами увидел пару желтых глаз побольше, смотревших на нас с каким-то дьявольским любопытством. В следующий миг кошка с котятами завыли. Вой становился все громче и громче, и под конец мы с сержантом только и могли, что стоять и трясти головой, дивясь силе звука. Я уже слышал такой хор раньше. На «ничейной земле». И сам участвовал в нем. «Пойдемте отсюда», — сказал я. Мы с сержантом вышли наружу и сторожили у развалин, пока О'Бранаган не вернулся с двумя парусиновыми сумками ручных гранат, тремя пустыми винными бутылками и канистрой бензина, которые я приказал выпросить или украсть где-нибудь. От взрывов взметывались огромные клубы пыли и каменной крошки. Мы с сержантом швырнули по крайней мере одну гранату в каждый укромный закуток, найденный в подвале. О'Бранаган наполнил бутылки бензином, мы пустили на фитили старую рубаху из ранца второго солдата, и я поджег все три фитиля своей траншейной зажигалкой. Взрывы получились впечатляющими, но пожар превзошел все ожидания. Все время, пока пылали развалины и уже обгорелые балки рушились в заполненный черным дымом провал подвала, сержант держал винтовку наготове и не сводил глаз с дверного проема. Ни во время пожара, ни после никто оттуда не появился. Когда мы уже заканчивали дело, мимо в сторону передовой прошел взвод 6-й Викторианской бригады, и я заметил странные взгляды, обращенные на нас. Всего несколько минут назад я проезжал на велосипеде той же дорогой, направляясь в штаб с донесением, и пригляделся в сумерках, не дымятся ли до сих пор развалины дома. Кусок брезента, которым мы снова накрыли рыжеволосого шотландца, лежал на месте. Но мне показалось, будто ткань над лицом подозрительно бугрится и слегка шевелится. Я сказал себе, что это игра угасающего света, и налег на педали.
1 августа, вторник, 2.30 пополуночи Пишу, сидя на стрелковой ступеньке у землянки капитана Брауна. Света артиллерийских зарниц хватает, чтобы видеть страницу. Постепенно я понял: Смерть — ревнивая поклонница. Я думаю о женщинах, ждущих нас дома — матерях, сестрах, возлюбленных, женах, — и об их собственническом отношении к нам — мертвым и обреченным на смерть. Они самонадеянно полагают, что сумеют сохранитьпамять о нас, как пепел и кости в погребальной урне. Но даже самая память о нас истребляется здесь.
4 августа, пятница, 11.00 утра Непрекращающаяся канонада сводит с ума. Сейчас ведется затяжное сражение за Гиймон — наша 34-я дивизия еще не получила приказа принять участие, но артиллерийский огонь с обеих сторон касается всех до единого на этом участке передовой. Он продолжается днем и ночью вот уже четверо суток, и нервы у всех нас напряжены до предела, сидим ли мы по землянкам в свободное от боевого дежурства время или жмемся к земляным стенкам траншей и брустверным мешкам, находясь на дежурстве. Интересно, как слух научается безошибочно различать разные голоса приближающейся смерти. Даже в этой неумолчной какофонии ты отчетливо слышишь выстрелы отдельных германских орудий. Маленькие полевые пушки стреляют с хлопком, немного похожим на сильный удар клюшки по мячу для гольфа, и их снаряды летят с жалобным воем. Среднекалиберные орудия издают звук, похожий на протяжный треск разрываемой пополам газеты, а полет их снарядов сопровождается шумом, напоминающим громыхание груженой подводы, которая катится под гору, визжа тормозными колодками. Выстрел тяжелого орудия бьет по барабанным перепонкам так, словно кто-то подошел сзади и врезал кулаком по уху, а крупнокалиберные снаряды летят с медленно нарастающим свистом, похожим на звук приближающегося паровоза, — сначала приглушенный расстоянием, потом постепенно набирающий силу и, наконец, превращающийся в оглушительный рев. Миномет — детская игрушка по сравнению с немецкими тяжелыми орудиями, но их мы боимся больше всего. Этих чертовых штуковин у противника не счесть, и они очень скорострельные. Один миномет выпускает двадцать два снаряда в минуту, а взрывы мин, пускай не идущие в сравнение с кошмарными взрывами шестидюймовых и более крупных снарядов, ложатся так часто и точно, что у всех нас создается ощущение, будто нас преследует некая разумная злая сила, отличная от тупой слепой злобы тяжелой артиллерии. Вчера, когда мы с тремя парнями сидели и болтали на наблюдательном пункте, на нашу позицию со свистом прилетела немецкая мина. Мы разом пригнулись и съежились, поняв по звуку, что она летит прямо на нас и спасения нет. Чертовы мины при полете издают странный лающий звук, и в этот раз впечатление было такое, будто на нас с небес несется бешеный пес. Снаряд предназначался нам. Он упал меньше чем в пяти ярдах, обрушив значительный участок бруствера, и подкатился к нашим ногам. Он был размером с двухгалонную канистру, и из него сочилась густая жидкость с запахом марципана. У мины не сработал взрыватель. Если бы она разорвалась, как положено, взрывная волна ощущалась бы даже за милю, а от нас четверых не осталось бы ничего, кроме клочьев одежды и ошметков башмачной кожи в дымящейся воронке размером с гостиную моей матушки в Кенте. Последние четыре дня немцы каждые десять минут обстреливают наши позиции минами, ложащимися на расстоянии трех ярдов друг от друга. Мы слышим, как командир расчета свистит перед каждым залпом. Вдобавок к минометам по нашим позициям денно и нощно палят гаубицы, чьи снаряды оставляют воронки размером с плавательный бассейн. Это все здорово изматывает. Все мы так или иначе пытаемся отрешиться от происходящего. Я обычно сижу, уставившись в какую-нибудь книгу, сжатую в побелевших пальцах. Сегодня это был новый поэтический сборник Элиота, от которого мы с Сигфридом в восторге. Я не прочитал ни одного слова, не перелистнул ни одной страницы. Иные из нас безостановочно матерятся, добавляя к адскому грохоту канонады свою испуганную литанию площадной брани. Другие дрожат — некоторых слегка трясет, а некоторых просто колотит. Никто не презирает их за это. Во время таких артобстрелов на всем оседает слой пыли, извести и пороховой копоти. Все мы ходим с чумазыми белоглазыми лицами. Офицеры стоят вокруг стола, водя по засаленным картам нечистыми пальцами с черными ногтями. Меня удивляет, что вши продолжают жить на нас, омерзительно грязных и вонючих. Вчера вечером, во время короткого затишья между огневыми валами, я слышал, как один солдат-кокни пропел комический стишок, стоя на стрелковой ступеньке. Мне понравилось.
8 августа, вторник, 4.00 пополудни 55-я дивизия предприняла еще одну попытку захватить Гиймон. Французы одновременно пошли в наступление справа от них. Приятно знать, что французы все еще воюют. Капитан Браун недавно вернулся из штаба с сообщением, что французы намертво остановлены продольным огнем, а пятьдесят пятая разбита наголову встречным обстрелом. Он говорит, группа наших бойцов сумела преодолеть «ничейную» полосу и захватила участок вражеских траншей, но потом была полностью уничтожена пулеметным огнем с фермы Ватерло, станции Гиймон и окопных позиций на окраине деревни. До самого вечера уцелевшие солдаты из 55-й дивизии и вспомогательных частей вроде 5-го Королевского Ливерпульского полка брели через наши резервные траншеи в поисках своих офицеров или перевязочных пунктов. Мы оказывали им посильную помощь. Над холмами и полями весь день висел густой туман, смешанный с дымом и пылью от взрывов. Браун говорит, сегодня два наших батальона перебили друг друга в тумане и неразберихе. Все мы ожидали, что нашу первую стрелковую бригаду завтра бросят в эту мясорубку, но сейчас стало известно, что командование решило пожертвовать резервными батальонами. Ужасно испытывать облегчение при мысли, что вместо тебя погибнет другой человек.
9 августа, среда, полночь Она пришла сегодня ночью. Днем я производил осмотр ног (наш врач вчера погиб от снайперской пули) и чувствовал себя кем-то вроде Христа, когда шел по траншеям, осматривая голые вонючие ступни десятков солдат. Поскольку артобстрел немного поутих, после девятичасового обхода постов я остался в передовых окопах. Ночь выдалась ясная и прохладная, звезды ярко сияют в высоком небе. Должно быть, я заснул в стрелковой нише между мешками с землей, где сидел и курил трубку, размышляя о том о сем. Проснулся от аромата фиалок и прикосновения ее руки. Мы стояли на той же вымощенной плитами террасе, где она угощала меня чаем в прошлый раз. Позади нас находился тускло освещенный особняк, повсюду вокруг были расставлены фонари «молнии» со свечами. В конурах за амбаром вяло погавкивали собаки. Прекрасная Дама одета в светлое вечернее платье с оборчатой бежевой манишкой, прикрывающей глубокое декольте, бежевыми рукавами по локоть и узкой юбкой с завышенной талией, перехваченной изящным драгоценным поясом. Волосы заколоты в узел жемчужными гребнями, длинная шея сияла в свете фонарей. Она провела меня в обеденную залу, где стоял накрытый на двоих стол. Фарфор и серебро немного напоминали старомодные столовые сервизы и приборы моей тетушки, но салфетки были модного бледно-голубого цвета. Основное блюдо уже подано — запеченные корнуэльские цыплята с салатом из жерухи. В мраморном камине горел огонь, но это казалось уместным, поскольку в воздухе снаружи веяло осенней свежестью. Я взял Прекрасную Даму под руку и подвел к столу. Ее юбка тихо зашуршала, когда она усаживалась на отодвинутый мной стул. Сев на свое место, я сильно ущипнул себя за руку под столом. Почувствовал боль, но лишь улыбнулся, подивившись правдоподобности сна. — Думаешь, тебе все снится? — спросила Прекрасная Дама, слабо улыбаясь. Голос у нее грудной и бархатистый, как мне помнилось, но я не ожидал, что он произведет такое действие: словно она опять пробежала кончиками пальцев по моей коже. — Я уже и забыл, что ты разговариваешь, — тупо сказал я. Ее улыбка стала заметнее: — Конечно, я разговариваю. Или тебе хотелось бы, чтобы я была немая? — Вовсе нет, — пробормотал я. — Просто… — Просто ты не вполне понимаешь действующие здесь правила, — мягко промолвила она, наливая в наши бокалы вина из бутылки, стоявшей ближе к ней. — А здесь есть какие-то правила? — Нет. Только возможности. — Она говорила тихо, почти шепотом. Огонь трещал в камине, и я слышал шум крепчающего ветра в деревьях за окнами. — Ты голоден? Я посмотрел на запеченного цыпленка, на изящные серебряные приборы, сверкающие в отблесках свечи, на искрящийся хрустальный бокал с вином и блюдо со свежайшим зеленым салатом. Уже много месяцев не ел ничего подобного. — Нет, не голоден, — честно сказал я. — Хорошо. — Теперь в голосе Прекрасной Дамы явственно слышались шутливые нотки. Она встала, взяла меня за руку прохладными пальцами и провела из столовой залы в богато убранную гостиную, затем в холл, потом вверх по широкой лестнице, через лестничную площадку с потемневшими от времени портретами на стенах и наконец в спальню. Здесь тоже пылал камин, озаряя мерцающим светом раздвинутый кружевной полог кровати. Широкие двери выходили на балкон, и я видел яркие звезды над темными деревьями. Она повернулась ко мне и подняла лицо: — Пожалуйста, поцелуй меня. Чувствуя себя актером, который должен бы держать в руках листки сценария и выступать при свете рампы, а не каминного огня, я шагнул вперед и поцеловал Прекрасную Даму. Ощущение театра тотчас исчезло. Когда ее теплые влажные губы приоткрылись, почувствовал сладостное головокружение, и пол поплыл под ногами. Она медленно подняла руку и дотронулась кончиками пальцев до моей шеи сзади. Когда наш долгий поцелуй наконец завершился, я мог лишь стоять столбом, охваченный приливом страсти, какой не знал доселе. Я обнимал Прекрасную Даму обеими руками и чувствовал тепло ее спины под тонкой тканью платья. Она отняла руку от моей шеи, завела себе за голову и распустила волосы. — Иди сюда, — прошептала она и шагнула к кровати под высоким балдахином. Я заколебался лишь на миг, но она обернулась, по-прежнему держа меня за руку, и вопросительно приподняла бровь. — Даже если ты Смерть, — хрипло проговорил я, — наверное, оно того стоит. Ее улыбка была еле уловима в мягком мерцающем свете камина: — Ты думаешь, я Смерть? Почему не Муза? Почему не Мнемозина? Последовала тишина, нарушаемая лишь треском горящих поленьев и возобновившимся шумом ветра в деревьях. Прекрасная Дама начертила пальцем затейливый узор на тыльной стороне моей ладони. — Разве это имеет значение? — спросила она. Я не ответил. Она снова двинулась к кровати, и я последовал за ней. Она остановилась и опять подняла ко мне лицо. Шум ветра в деревьях превратился в паровозный гудок, затем в грохот стремительно мчащегося состава, а потом я повалился ниц, закрывая лицо ладонями, когда минометная мина взорвалась всего в десяти ярдах от ниши, где я спал. Пятерых парней, с которыми я разговаривал меньше двадцати минут назад, разорвало в клочья. Раскаленные шрапнельные пули застучали по моей каске, и кровавые куски плоти полетели на мешки моей ниши, точно мясные ошметки, брошенные псам.
12 августа, суббота, 6.30 вечера Сегодня днем, когда я ехал на велосипеде по углубленной дороге между Позьером и Альбером, направляясь в штаб с донесением от полковника, я остановился посмотреть на зрелище, обещавшее быть комичным. Высоко в воздухе висел один из наших наблюдательных аэростатов, похожий на толстую колбасу, и вдруг через линию фронта с жужжанием перелетел вражеский моноплан. Сначала я хотел спрятаться в какую-нибудь воронку поглубже, но по-шмелиному гудящая машина не собиралась искать цель для своих бомб: она направилась прямиком к аэростату. Обычно забавно наблюдать за поведением пилотов при появлении неприятельского самолета. Они моментально прыгают с парашютом, не дожидаясь атаки. Я их не виню: аэростаты взрываются со страшной силой, и я тоже, пожалуй, не стал бы дожидаться, когда засверкает дульное пламя вражеских пулеметов. Оба наблюдателя прыгнули, как только немецкий аэроплан повернул к ним, и я удовлетворенно кивнул, когда их парашюты одновременно раскрылись. Крылатая машина зашла на цель единственный раз, пулеметы строчили секунды три, если не меньше, и аэростат сделал то, что делают все подобные водородные мишени, пробитые горячим свинцом: взорвался гигантским облаком горящего газа и клочьев прорезиненной ткани. Ивовая корзина под ним полыхнула, как трут. К несчастью, ветра почти не было, поэтому парашюты не смещались в сторону Альбера или наших резервных позиций, а медленно спускались по спирали прямо под горящим аэростатом, похожие на белые семена одуванчика. Огненное облако настигло первого парня на высоте двухсот футов над землей. Я отчетливо услышал пронзительные крики бедняги, когда у него вспыхнул сначала парашют, потом одежда. Второй парень отчаянно дергал стропы своего шелкового купола, и я на миг исполнился уверенности, что он избегнет участи своего товарища. Пылающая груда резины, ивняка, стальных тросов пролетела ярдах в пяти от него — достаточно, чтобы его опалить, но недостаточно, чтобы поджечь парашют или увлечь за собой вниз. Но за облаком пламени летел змеиный клубок веревок и тросов, длинные концы которых яростно метались в воздухе, словно щупальца какого-то агонизирующего существа. По несчастливой случайности один из стальных тросов захлестнулся вокруг строп, резко дернул парашют в сторону и утащил за собой вниз. Купол не сложился полностью, и парень мог бы выжить, если бы трос не утянул его прямо в горящую груду обломков на земле. Я и еще несколько случайных очевидцев бросились к огромному — ярдов тридцать в поперечнике — костру, но о том, чтобы забежать в него и спасти бедного малого, не могло идти и речи. Он с трудом поднялся на ноги, пробежал несколько шагов, упал в огонь, снова встал, побежал и опять упал. Так повторилось четыре или пять раз, прежде чем он упал и уже не поднялся. Думаю, душераздирающие вопли несчастного были слышны в окопах на расстоянии трех миль оттуда. Я доставил донесение в штаб, столкнулся там с одним своим университетским знакомым и принял его предложение выпить виски с содовой перед возвращением на передовую.
14 августа, понедельник, 7.45 вечера Сегодня день дурных предзнаменований. После двух недель августовской жары разверзлись хляби небесные. Хлынул ливень. Словно в ответ на оглушительную канонаду грозы тяжелые орудия с обеих сторон умолкли, лишь изредка дают залп-другой, чтобы мы и немцы не теряли бдительности. Это не дождь, а настоящий потоп. Через час дощатые настилы на дне окопов оказались под водой. Через три часа брустверные мешки начали сползать с мест, поскольку траншейные стенки раскисли до консистенции жидкой кофейной гущи. Воронки от снарядов превратились в разливанные озера, и ядовитая зеленая пена сжиженного газа побежала из них развилистыми ручейками. Могилы размывает, и куда ни глянь, повсюду из-под земли торчат позеленелые руки и облепленные комьями волос черепа, словно уже прозвучала труба Судного дня. По словам капитана Брауна и сержанта Акройда, река Анкр вышла из берегов и заливает долину позади нас. Деревня Типваль перед нами затоплена, немецкие траншеи тоже. Ребята, возвратившиеся из боя в Типвальском лесу, говорят, что вода, которую немцы откачивают из своих обустроенных траншей, стекает по склону холма прямо на наши временные позиции среди поваленных деревьев. Стало известно, что австралийцы наконец-то захватили мельницу, которую немцы так долго не сдавали, но «анзаки» настолько изнурены, что живые могут лишь валяться пластом в грязи рядом с мертвыми и умирающими под ливневыми потоками. Второе дурное предзнаменование состоит в том, что сегодня утром мы получили приказ покинуть окопы с целью «отдыха и восстановления сил». К полудню мы проследовали во временный лагерь между Позьером и Альбером и сушились там в палатках, а не в землянках с протекающими крышами. Казалось бы, нам радоваться надо, но поскольку мы еще не принимали непосредственного участия ни в одном сражении, «отдых и восстановление сил» приходится трактовать как подготовку к наступлению на вражеские позиции, оказавшиеся не по зубам многим нашим предшественникам, ныне гниющим в могилах. Последним дурным предзнаменованием стал прием пищи в четыре часа пополудни, когда нам выдали горячее мясное рагу, свежеиспеченный хлеб, чай — обжигающе горячий, а не чуть теплый, да еще апельсины и жареные каштаны. Апельсины и каштаны окончательно прояснили дело. Такими деликатесами нас угощали, только когда готовили на убой. Я бы предпочел съесть ежедневную окопную порцию тушенки с бобами, над которой всегда вьется рой мух, нежели этот роскошный последний обед. Прекрасная Дама больше не появлялась. Думаю, она придет сегодня ночью, хотя я делю палатку с молодыми лейтенантами Джулианом и Рэддисоном, которого все зовут Рэдди. Ливень молотит водяными кулаками по брезенту. Вода просачивается повсюду. Нам остается лишь съесть нашу вкусную пищу, выкурить по сигарете из вновь выданных запасов и заползти под наши новые, незавшивленные одеяла.
15 августа, вторник, 1.20 пополудни Она не пришла ни ночью, ни сегодня утром, когда я находился один. Мое влечение может показаться нелепым, но меня к ней безумно влечет. И я знаю почему. Получено официальное подтверждение. Утром капитан Браун вернулся из штаба с вытянутым лицом. Мы идем в наступление в пятницу 18-го числа. Браун попытался представить дело в самом благоприятном свете и объяснил субалтернам, что первой пойдет тридцать третья дивизия, которая займет территорию между Дельвильским и Высоким лесами, а также сам Высокий лес. Он говорит, нашей бригаде останется только атаковать по правому флангу тридцать третьей и слева от Дельвильского леса и занять вражеские позиции, известные под названием Садовые Окопы. Наша атака станет частью общего наступления по всему фронту между Гиймоном и Типвальской грядой. По словам капитана, штабные эксперты даже не допускают мысли, что нам не удастся захватить Дельвильский и Высокий леса на сей раз. Пятница 18 августа будет пятнадцатым днем этого сражения. Пару часов назад, оставшись один в палатке, я достал револьвер, убедился, что он заряжен, и всерьез подумал, не застрелиться ли мне. Стрелять надо наверняка, поскольку любая попытка самострела карается смертной казнью. Забавный парадокс.
16 августа, среда, 2.30 пополудни Сегодня поздно утром здесь появился сам бригадный генерал Шют — наш командующий — в сопровождении напыщенного полковника и нескольких штабных адъютантов. Три батальона выстроились в каре, прозвучала команда «вольно!», и вот мы стояли там под дождем, несколько тысяч человек в непромокаемых плащах и насквозь промокших фуражках защитного цвета (каски на таком удалении от передовой мы не носим), устремив взгляды на генерала Шюта, выехавшего на рослом вороном жеребце в центр каре. Норовистый конь беспокойно перебирал ногами, и генералу приходилось постоянно натягивать поводья, что он делал совершенно машинально. — Полагаю… да… гм… полагаю своим долгом сказать… то есть все вы уже знаете, что скоро состоится… э-э… скажем так, решительный бой. — Генерал откашлялся, придержал гарцующего вороного жеребца и расправил плечи. — Я не сомневаюсь, что каждый из вас проявит… так сказать… храбрость. И не уронит чести дивизии, которая покрыла себя славой… э-э… в битве при Моне. Тут конь повернулся кругом, словно собираясь поскакать прочь, и мы решили, что лекция закончена. Однако генерал, сильно натянув поводья, развернул непокорное животное обратно, привстал на стременах и перешел к главной части своего выступления. — И еще одно, парни, — произнес он, возвысив голос. — Два дня назад я посетил ваши резервные окопы и… гм… пришел в ужас. В самый настоящий ужас. Санитарные условия у вас далеки от удовлетворительных. С гигиеной дела обстоят так же плохо, как с дисциплиной. Подумать только, я видел человеческие экскременты, лежащие прямо на земле! Вам всем известны инструкции, предписывающие в обязательном порядке закапывать отходы жизнедеятельности. Должен вам сказать, я такого не потерплю — просто не потерплю! Вы меня слышите? Я знаю, что в последнее время вас донимала неприятельская артиллерия, но это еще не повод уподобляться животным. Вы меня слышите? Если после наступления я обнаружу, что кто-то не содержит свой участок окопа в чистоте и порядке, согласно четко прописанным инструкциям, я наложу на этого человека или этих людей дисциплинарное взыскание! Это касается не только рядовых, но и офицеров. Засим генерал Шют повернул вороного коня кругом и чуть ли не галопом поскакал прочь, провожаемый ошеломленными взглядами нескольких тысяч солдат и офицеров, стоящих под проливным дождем. Штабные адъютанты бросились к автомобилям, спеша последовать за ним. На том дело не кончилось. Нас призвали к вниманию и заставили простоять под ливнем еще сорок минут: сначала полковник с пеной у рта долго распекал нас, повторяя замечания начальника насчет неубранных испражнений, а потом — когда полковник удалился — сержант-майор прочитал нам строгую лекцию про суровейшие наказания, ожидающие каждого, кто станет малодушно мешкать во время атаки. Напоследок сержант-майор зачитал бесконечный список имен — имен казненных за трусость людей, с указанием звания и воинской части каждого, точной даты, когда была проявлена преступная трусость, и, наконец, даты и часа казни. Все это произвело самое тягостное впечатление, и по возвращении в протекающие палатки мы думали больше о плавающем в лужах дерьме и о расстрельных командах, нежели о доблестной смерти за Короля и Отечество.
9.00 вечера того же дня Кажется, я нашел более хитрый — или по крайней мере более надежный — способ выбраться из войны, чем самоубийство. Сделав предыдущую запись, некоторое время просидел в палатке, сочиняя стихотворение. Записал его не в дневнике, а на листке почтовой бумаги, и лейтенант Рэддисон — Рэдди — случайно нашел этот листок и показал приятелям. Я рассвирепел, понятное дело, но уже оказалось слишком поздно. Стихотворение разошлось по лагерю и вызвало много смеха. Говорят, даже суровые старые сержанты остались от него в восторге, а рядовые уже распевают его, как строевую песню. Пока лишь несколько офицеров знают, что автором данного сатирического сочинения являюсь я, но если об этом проведает полковник или любой из старших офицеров, вне всяких сомнений, мое имя в ближайшее время пополнит пресловутый список казненных. Капитан Браун знает, но он просто грозно зыркнул на меня и ничего не сказал. Подозреваю, стишок ему понравился. Вот он:
17 августа, четверг, 4.00 пополудни К полудню бригада вернулась к резервным траншеям, а оттуда направилась на передовые позиции, которые до сегодняшнего утра занимала обескровленная 55-я дивизия. Все время, пока мы маршировали обратно под дождем, я слышал обрывки новой «строевой песни» нашей бригады. Но пение стихло, когда мы снова спустились в наши старые траншеи, а потом двинулись к участку передовой линии напротив Садовых Окопов. Мне хотелось бы написать, что я настроен фаталистически, что уже проходил через все это и что после всего пережитого мне уже ничего не страшно, но на самом деле боюсь пуще прежнего. Мысль о смерти подобна бездонной черной пропасти, разверзшейся во мне. Шагая на передовую, смотрю на полевую мышь, убегающую с дороги в долину, и думаю: «Будет ли жива эта мышь через сорок восемь часов, когда я уже умру?» Мне невыносимо представить, что буду обречен на вечную пустоту, лишенную образов, красок, звуков, запахов и прочих чувственных впечатлений, в то время как остальные существа будут по-прежнему жить и ощущать земной мир. Последний час я пытался читать «Возвращение на родину». Не хочу умереть, не дочитав этой книги. Солдаты сдают наличные в общий котел, чтобы деньги были поделены между выжившими после наступления. Они рассуждают похвально: если я погибну, пускай лучше мои деньги достанутся какому-нибудь моему другу или товарищу по тяготам, чем сгниют в грязи на «ничейной» полосе или станут добычей какого-нибудь боша, собирающего сувениры. Если мы понесем такие же серьезные потери, как мой тринадцатый батальон, или тридцать четвертая дивизия, или Церковная бригада тридцать третьей, или пятьдесят первая, или пятьдесят пятая, солдаты которой все еще лежат под дождем в полях позади нас… что ж, тогда завтра к вечеру кто-то из нас изрядно разбогатеет. Около часа назад все верующие из нашей бригады ходили к причастию. Алтарем служили двое носилок, на грязном брезенте которых, под чашей с Кровью Спасителя, темнели пятна человеческой крови. Я завидую людям, обретшим там утешение. Глубина окопа всего семь футов, ее едва хватает, чтобы наши каски не были видны противнику. Когда младший капрал из роты «D» буквально на секунду выглянул из-за бруствера, пуля попала бедняге прямо в ухо и напрочь снесла лицо. Мы все понимаем: стоит высунуться хоть на миг — непременно схлопочешь пулю. А завтра мы поднимемся из траншеи и пойдем на противника? Чистое безумие. Капитан Браун говорил о завтрашней канонаде и о том, что на сей раз артиллеристы попробуют другой подход: устроят «огневую завесу» на «ничейной земле» перед нами. Видит бог, все остальные подходы они уже испробовали. В случае с австралийцами наши офицеры, командующие семнадцатифунтовыми орудиями, поначалу действовали старым методом: вели стрельбу двадцать четыре часа кряду и под конец увеличили мощность огня. Затем они прекратили огонь и подождали десять минут, дав немцам время покинуть свои землянки и хорошо укрепленные блиндажи, а потом возобновили пальбу с новой силой, стремясь уничтожить врага под открытым небом. Мы не знаем, насколько успешным оказался этот хитрый план, ибо из нескольких тысяч австралийцев, пошедших тогда в атаку на вражеские окопы, почти никто не вернулся. Капитан Браун уверен, что наша бригада сумеет захватить объект наступления. Иногда мне хочется крикнуть, что этот чертов объект не стоит куска плавающего в луже дерьма, столь оскорбившего чувства генерала Шюта. Какой прок в очередной сотне ярдов разбомбленной траншеи, если за нее заплачено сотней тысяч человеческих жизней… или тремястами сотнями тысяч… или миллионом? Всем известно, что генерал сэр Дуглас Хейг называет гибель тысяч солдат «обычным уроном» и считает «вполне приемлемым» потерять в ходе Соммского сражения полмиллиона убитыми. Для кого такие потери приемлемы, интересно знать? Уж всяко не для меня. Моя жизнь — это все, что у меня есть. Раньше я думал, что к преклонному возрасту двадцати восьми лет я уже перестану бояться смерти. Но нет, до сих пор безумно дорожу каждой секундой жизни и ненавижу тех, кто собирается лишить меня возможности увидеть еще один рассвет, еще раз утолить голод или дочитать «Возвращение на родину». Рука трясется так сильно, что я сам с трудом разбираю написанное. Что подумают солдаты завтра утром, если у их лейтенанта не хватит мужества возглавить атаку? Но если мое малодушие выиграет еще хотя бы одну минуту жизни — разве имеет значение, что там подумают солдаты? Да, имеет. Странно, но это действительно имеет значение. Возможно, дело просто в страхе уронить в глазах товарищей того, кто посылает их из окопов. Время пить чай. Сегодня на ужин тушенка с луковицей. Апельсины и каштаны остались в прошлом. Сегодня у нас на ужин любимая еда мух — а завтра? А завтра многие из нас станут пищей для мух.
18 августа, пятница, 3.15 утра Они приходила сегодня ночью. Я пишу при свете ракет Вери. В траншеи набилась вся бригада, и здесь страшно тесно. Одни спят, прислонившись спинами к земляным мешкам и поставив ноги на дощатый настил или прямо в воду глубиной десять дюймов. Другие сидят на стрелковых ступеньках, пытаясь заснуть или притворяясь спящими. Я был в числе последних, пока не явилась Прекрасная Дама. Перископ здесь представляет собой зеркало, закрепленное в наклонном положении на метловище над окопом. Я рассеянно смотрел в него. Порой ты видишь дульную вспышку немецкого орудия, прежде чем слышишь звук выстрела. И вдруг там отразилась она в своем струящемся одеянии. Я вскочил на ноги, едва не высунувшись из-за бруствера, хотел потянуться к зеркалу (и тогда бы меня почти наверняка застрелил снайпер, уже уложивший двоих любопытных из нашей бригады сегодня ночью), но в следующий миг она уже стояла рядом со мной. А потом мы очутились у широкой кровати с кружевным пологом. Она в полупрозрачном платье, в котором приходила ко мне в первый раз. Я раздет донага, моя одежда аккуратно сложена на кресле у кровати, теперь не грязная и не завшивленная. Я тоже чистый, волосы у меня влажные, как после ванны. Прекрасная Дама слегка приподнимает покрывала, приглашая меня в уютное тепло постели. Осенний воздух стал свежее, и тонкие кроватные занавеси томно колышутся на легком сквозняке. Свет камина и единственной свечи струится сквозь кружево и маслянисто отблескивает на шелке и дамасте. Мы с ней лежим на подушках, лицом к лицу, пристально разглядывая друг друга в приглушенном свете. Когда она дотрагивается до моей щеки, я беру ее за запястье и крепко держу. — Ты боишься, — то ли спрашивает, то ли утверждает она: хотя в глазах у нее вопросительное выражение, восходящей интонации я не услышал. Я не отвечаю. Немного погодя она говорит: — Но ведь ты меня знаешь. Я молчу еще несколько секунд, потом наконец говорю: — Да, я тебя знаю. В гостиной матери висело зеркало, в котором я тысячу раз с нарциссическим сосредоточенным интересом изучал свое лицо. Помню и другие детали интерьера: вощеный паркет, полупустую кошачью миску с молоком под раскладным столом, вазу со свежими цветами, которые служанки меняли каждый день… вернее сказать, каждую ночь, по каковой причине в детстве я считал загадочное появление свежих цветов чудом сродни визиту Санта-Клауса, только гораздо более частым и предсказуемым. Я помню фотографию Херндона с картины Дж. Ф. Уоттса «Любовь и Смерть». Там изображен пленительный призрак Смерти в ниспадающем живописнейшими прерафаэлитскими складками одеянии. Прекрасная Смерть стоит спиной к зрителю, с низко опущенной головой. В раннем детстве мне казалось, будто у нее вовсе нет головы. Она подымает руку над прелестным мальчиком, чья рука, частично скрытая от зрителя, тоже поднята, словно он хочет дотронуться до Ее лица или, наоборот, тщетно пытается отстранить. Фотография картины висела прямо напротив зеркала, столь притягательного для моих взоров, и всякий раз, когда я рассматривал в нем черты юного поэта — а я уже в возрасте семи или восьми лет точно знал, что стану поэтом, — над моим правым плечом виднелось изображение Любви и Смерти. Только теперь Смерть стояла над юным Эросом с другой стороны, как если бы фигура на фотографии самовольно поменяла положение. — Да, я тебя знаю, — повторяю я прекрасной женщине, в чьей постели лежу. Она снова улыбается, на сей раз скорее довольно, нежели насмешливо. Я отпускаю ее запястье, но вместо того, чтобы погладить меня по щеке, женщина запускает бледную руку под одеяло. Я слегка вздрагиваю, когда тонкие пальцы касаются моего бока над самым тазом и замирают там — так действует человек, пытаясь не спугнуть животное, которое неизвестно, позволит ли ласкать себя. Глаза у нее, вижу я теперь, вовсе не черные, а темно-карие, с тончайшим зеленым ободком вокруг радужек, источающим дополнительное сияние. Она медленно проводит рукой вниз по изгибу моего бедра, стараясь касаться кожи не длинными ногтями, а подушечками пальцев. Еще ни одна женщина не вела себя со мной столь смело, не обращалась так, словно мое тело принадлежит ей и она может делать с ним что угодно. Когда ее пальцы сомкнулись вокруг моего напряженного члена, я закрыл глаза.
18 августа, пятница, 5.45 утра Рассвет кладет конец этой бесконечно долгой ночи. В права вступает повседневная рутина. Перед завтраком каждая рота убирает палатки и сворачивает одеяла в тюки по двенадцать штук. Это успокаивает. Каждый из нас видит в рутине некий залог безопасности: Смерти придется подождать, пока мы заняты обычными армейскими делами. Повара постарались заварить кофе и чай повкуснее, хотя вода здесь зачастую плохая. Иногда они набирают в бидоны воду из воронок. Гнилостные бактерии, бурно размножающиеся в трупах и заражающие все вокруг, погибают при кипячении, но если повар ненароком зачерпнет зеленой пены, оставшейся на поверхности отсмертельного газа, в процессе кипячения ядовитое вещество растворится в воде. В обычных обстоятельствах мы опасаемся возможного отравления, но сейчас, когда до атаки осталось несколько часов, любой из нас премного обрадовался бы желудочным резям как поводу отправиться в госпиталь. Еще повара постарались приготовить сытный и полезный английский завтрак — сосиски с печеными бобами, даже тушеные томаты и яичницу для некоторых офицеров, — но почти никто на еду не налегает. Мысль о развороченном желудке или кишечнике, о кусках металла и клочках грязной одежды в брюхе, набитом сытной и полезной пищей, по-прежнему отбивает аппетит у большинства из нас. А остальным кусок не лезет в горло от страха. Известно, что сегодня приказ идти в атаку поступит позже обычного (по предположению капитана Брауна, после полудня), поэтому ожидание переносится гораздо мучительнее, чем в прошлый раз. По крайней мере тогда мы поднялись из окопов и пошли на верную смерть с утра пораньше, и уже к девяти часам с нами было покончено.
10.10 утра Я не упомянул про артиллерию, а она сегодня устроила нам настоящий ад. Наши окопы расположены на местности немного выше немецких, находящихся всего в нескольких сотнях ярдов от нас; при таких топографических условиях нашим орудиям приходится стрелять очень низкой наводкой, и снаряды пролетают буквально в паре дюймов над нашими брустверами. Полчаса назад случилось неизбежное: одному парню из роты «С» оторвало голову. На людей, теснившихся в той части окопа, это произвело тяжелейшее впечатление: всех вокруг забрызгало кровью и мозговым веществом, а двоих унесли с серьезными ранениями от осколков разлетевшегося черепа. Сейчас сержанты обходят солдат с бутылкой рома, наливая по чуть-чуть каждому и сами прикладываясь к горлышку время от времени. Всегда красное лицо сержанта Акройда стало заметно краснее.
12.30 пополудни Целых пятнадцать минут стояло странное затишье. Сначала смолкли орудия с обеих сторон, словно и наши, и немецкие артиллеристы ушли на обеденный перерыв. В первый момент все решили, что обстрел прекратился в преддверии атаки, и страшно занервничали, но капитан Браун приказал нескольким субалтернам пройти по всему окопу и сообщить людям, что наступление назначено на три часа дня. У всех отлегло от сердца. Одни сели пить чай, другие поддались наконец чувству голода и принялись разогревать тушенку. Уши отдыхали от орудийного грохота, мысли и чувства — от тревожной неизвестности; вдобавок ко всему дождь, донимавший нас последние четыре дня, наконец унялся. Солнце не выглянуло, но темная облачная пелена, нависавшая низко над землей, поднялась на высоту трех-четырех тысяч футов и стала значительно светлее. Вот тогда-то и появились аэропланы. Сначала в непривычной тишине послышалось приглушенное жужжание, потом в нескольких милях к западу от нас из облаков вылетели две точки, и вскоре мы уже различали очертания аэропланов. Я со своей близорукостью не мог разглядеть, где вражеский, а где наш, но остальные разглядели, и когда меньший из двух жужжащих крестиков стремительно описал дугу и оказался позади большего, по нашему окопу прокатилась волна одобрительных возгласов. На следующие десять минут мы стали зрителями воздушного спектакля с Панчем и Джуди в исполнении двух крылатых машин, которые кружили, петляли в небе, то ныряя вниз, то взмывая вверх, то исчезая за облаками, то вновь появляясь. Снайперская стрельба и изнурительный пулеметный огонь прекратились, пока люди по обе стороны от «ничейной земли» зачарованно наблюдали за представлением. Впервые за много недель над фронтом воцарилась такая тишина, что ты явственно слышал пение птицы у реки в отдалении и тихое покашливание людей в сотне ярдов от тебя. А потом с высоты донесся еле слышный стрекот пулеметов в самих аэропланах. Они стреляли редко — только когда один получал явное преимущество над другим — и такими короткими очередями, что все мы здесь, на земле, то есть под землей, почувствовали себя расточителями, зря переводящими безумные количества боеприпасов. Потом, когда воздушное представление уже начало прискучивать, одна из машин — которая побольше — вдруг полыхнула огнем, пошла вниз по сужающейся спирали и исчезла из виду позади немецких траншей, ближе к Гиймону. Через несколько секунд в небо поднялся огромный столб черного дыма, и наши парни проорали троекратное «ура» и засвистели, завопили с такой силой, что у меня создалось впечатление, будто я сижу среди рабочего люда на стадионе, где идет футбольный матч. Ликование оказалось преждевременным. Мгновением позже кружащий в небе меньший аэроплан — английский или французский, вероятно, хотя опознавательных знаков я не разглядел — выпустил облако дыма. — Черт, он горит. Видите огонь? — сказал младший капрал, стоявший рядом. Я огня не видел, но отчетливо услышал чихание мотора, когда в нашем окопе стихли последние радостные возгласы. Очевидно, аэроплан находился слишком высоко, чтобы успеть вернуться на землю, прежде чем огонь доберется до пилота — или просто здесь, на нашей тысяче квадратных миль изрытой воронками земли вдоль линии фронта, не было ни одного пригодного места для посадки. Вместо того чтобы снижаться, аэроплан немного набрал высоту и сделал несколько неуклюжих виражей с сильным креном, словно летчик лихорадочно пытался сбить пламя. Попытка не удалась: немного погодя уже даже я различал огненные языки и длинную струю дыма за чихающим темным крестиком в небе. Люди в окопе горестно закричали, застонали, но я не сразу понял почему. Только через несколько секунд увидел то, что уже увидели они: пилот выпрыгнул из аэроплана, находившегося под самыми облаками. Даже такой несведущий в летном деле человек, как я, знает, что пилоты в отличие от аэростатчиков не берут с собой парашюты — но объясняется ли такая воздержанность нехваткой места в летательном аппарате или неким воздушным кодексом чести, мне неведомо. Но даже зная, что стремительно падающий вниз человек обречен на гибель из-за отсутствия у него нескольких паршивых ярдов шелка, каждый из нас до последнего момента надеялся, а вдруг этот парень исключение и сейчас над ним распахнется белый купол, который плавно опустит воина в объятия боевых товарищей. Этого не произошло. Пилот упал на «ничейную» полосу в нескольких сотнях ярдов к западу от нашей позиции. С такого близкого расстояния мы видели, как он молотил руками и ногами в падении, словно ища опору в воздухе, и даже я при всей своей близорукости различал белый шарф, трепыхавшийся за ним, точно хвост диковинного воздушного змея. Когда тело ударилось о землю, в траншее наступила долгая тишина. Я вскинул взгляд, ожидая увидеть горящий аэроплан, столь же стремительно падающий вниз следом за своим пилотом, но крылатая машина — теперь целиком объятая пламенем, как колесница Аполлона, — продолжала лететь по прямой. Потом она вошла в облака, обратившись призрачным светящимся пятном на белом облачном пологе, а потом исчезла полностью и больше уже не появилась. Мгновением позже заговорили немецкие пулеметы, словно по свистку учителя, возвестившему о конце нашей маленькой перемены. А еще через секунду возобновился артиллерийский огонь. Уже начало второго. Мы идем в атаку в три ноль-ноль.
2.10 Я не засыпал. И даже не закрывал глаза. Но в один момент находился здесь, в слякотном окопе под пулями и снарядами, а в следующий вдруг оказался там — на чистых простынях рядом с Прекрасной Дамой, и прохладный сквозняк шевелил оконные портьеры и кружевной полог кровати. Она по-прежнему держала меня. Мое тело по-прежнему отзывалось на прикосновение. Я грубо отвел ее руку от своего паха, откинул одеяла и сел спиной к ней, на прохладном сквозняке. Не увидел, а почувствовал, что она придвинулась ко мне, почувствовал, как перина слегка просела, когда она приподнялась на локте за мной. — Ты не желаешь меня? — тишайшим шепотом спросила она. Я выдавил ироническую улыбку. Моя чистая, аккуратно сложенная одежда по-прежнему лежала на ампирном кресле у кровати, но я не видел очертаний портсигара в кармане кителя. Сигарета сейчас пришлась бы очень кстати. — Все мужчины должны желать тебя, — проговорил я хриплым, резким голосом, далеким от шепота. — Меня не интересуют все мужчины. — Я чувствовал ее теплое дыхание на своей голой спине. — Меня интересуешь только ты. Эти слова должны были бы повергнуть меня в содрогание, но вместо этого привели в еще сильнейшее возбуждение. Я безумно желал ее… как доселе не желал ни одной женщины и вообще ничего на свете. И хранил молчание. Она положила руку мне на спину. Я чувствовал теплые очертания ее ладони и каждого тонкого пальца. Ветер за окнами шумел, словно перед грозой. — Хотя бы ляг рядом со мной, — прошептала она, приподнимаясь и касаясь губами моей шеи. — Ляг рядом и согрей меня. Я криво усмехнулся: — Согреть тебя, чтобы самому остыть навеки? Или ты согреешь меня, укрыв земляным одеялом? Она отстранилась: — Ты несправедлив ко мне. Тогда я повернулся к ней, хотя ясно понимал, что этот единственный взгляд может решить мою судьбу… как взгляд Орфея решил судьбу Эвридики. Ни один из нас не исчез. Она была восхитительно прекрасна в свете свечей. Роскошные каштановые волосы свободно падали на спину, сорочка сползла с изящного молочно-белого плеча; левая грудь, озаренная трепетным светлым пламенем, четко вырисовывалась под тонкой тканью. У меня перехватило дыхание, но я все же сумел прохрипеть: — Как можно быть несправедливым к аллегории? Она улыбнулась: — Ты считаешь меня аллегорией? — И дотронулась правой рукой до моей щеки. — Я считаю тебя соблазнительницей. В ее тихом милом смехе не слышалось ни тени насмешки. — В таком случае ты ошибаешься. Я не соблазнительница. — Она легко провела пальцами по моим губам. — Это ты пытаешься соблазнить меня. Ты добивался меня с самого начала. Так было всегда. — Она подалась ко мне, и мы поцеловались, прежде чем я успел заговорить. За окнами разразилась гроза: сильный порыв холодного ветра распахнул балконные двери, и бесконечный раскат грома загремел в ночи. — Господи, твою мать, — задыхаясь, проговорил младший капрал, съежившийся на стрелковой ступеньке рядом со мной, — все нервы на хрен измотала чертова артиллерия.
2.35 Несколько минут назад мы с сержантом прошлись по окопам и в последний раз проверили у всех боевое снаряжение. Вещмешок солдаты обычно носят на левом плече, но перед атакой закидывают за спину. Снизу к мешку привязывается туго скатанная брезентовая подстилка. Перед нами ставится цель захватить и занять Садовые Окопы, и мы пакуемся так, будто нисколько не сомневаемся, что поставленная цель будет достигнута. Ниже приводится неполный список солдатского снаряжения:
Пехотная лопатка Винтовка с примкнутым штыком Шнурки Защита спины Противогазная маска Жестянка со смазкой Непромокаемая накидка Сапожная щетка Бритвенный прибор в футляре Мешок для постельных принадлежностей Игольник Полотенце Бутылка воды Бутылка масла 150 винтовочных патронов Расчетная книжка Зубная щетка Кардиган Подшлемник Нож, вилка, ложка Расческа Кусок мыла Носки (3 пары) Рубашка Солдатский котелокВдобавок каждый солдат несет 180 дополнительных винтовочных патронов в запасном подсумке на правом плече и по пятифунтовой гранате Миллса в каждом кармане кителя. Многие тащат также коробки с лентами к «льюису». Остальной груз состоит из ракет Вери, кусачек для проволоки (у каждого десятого), перископов, сигнальных фонарей, телефонных проводов и дополнительного запаса воды в жару. Сержант всегда требует, чтобы солдаты показали бутылки с водой, которые носятся на правом боку, и белую парусиновую сумку с неприкосновенным запасом. Моя мрачная задача заключается в том, чтобы напомнить солдатам про бинт, подшитый к правой поле кителя, и показать, как обрабатывать рану йодом, прежде чем наложить временную повязку. Парни смотрят на меня — на мое исхудалое мертвенно-бледное лицо и трость — и слушают внимательно, принимая меня за более опытного человека, чем я есть. Учитывая тонны этого груза, не приходится удивляться, что после каждого боя «ничейная земля» превращается в гигантскую свалку бинтов, рваных оберток, туалетной бумаги, брошенного оружия, стреляных гильз и кусков людей, которые притащили туда все это. Утром солдатам выдали по глотку рома, чтобы скрасить для них долгое ожидание. А сейчас сержант выдал всем по «боевой» порции рома: одна шестьдесят четвертая галлона на человека, тщательно отмеренная в маленькую оловянную кружку. Если утром прием спиртного сопровождался шутками-прибаутками, то сейчас люди выпивают порции молча, словно на причастии.
2.48 Огонь усиливается, если такое вообще возможно. Минуту назад приходил капитан Браун, чтобы напомнить нам, что каждую роту поведут в атаку офицеры. Раньше некоторые офицеры оставались в траншеях до тех пор, пока в бой не уходили все до единого солдаты, но на сей раз военная полиция проследит за тем, чтобы никто не медлил. Полицейские пойдут за нами, подгоняя штыками отстающих. Капитан Браун потрепал меня по плечу и сказал: «Когда все закончится, мы с тобой крепко выпьем, Джимми. До встречи в Садовых Окопах». И пошел прочь, подбадривая парней шутками и похлопываниями по спине.
2.56 Онемение. От страха у меня онемели конечности, как месяц с лишним назад, когда меня контузило взрывом во время атаки. Я молюсь, чтобы ноги вынесли меня из окопа и понесли навстречу смерти. Я возьму с собой трость.
2.58 Бешеный стук сердца заглушает для меня канонаду. Я вижу, как шевелятся губы мужчин, кричащих что-то, но ничего не слышу. Наверное, я умер. Невесть почему в памяти всплывают строки Байрона:
Моя ладонь лежит на прохладных мраморных перилах балкона. На мне один только шелковый халат, тихо шелестящий при каждом движении. Ветер продолжает крепчать, мерцающие верхушки деревьев в темноте похожи на гребешки волн, гонимых шквалистым ветром. — Иди ко мне, — тихо зовет она из комнаты. Взглядываю через плечо на колеблемый сквозняком полог кровати, озаренный тусклым светом камина. — Сейчас. — Я по-прежнему мечтаю о сигарете. Она не ждет. Слышу шорох длинного платья-сорочки, и Прекрасная Дама становится рядом у балконной ограды. Звездный свет очерчивает нежную скулу и мягко отблескивает в спутанных волосах. Ее глаза влажно сияют. Она накрывает мою руку своей, и я чувствую одновременно тепло ее ладони и прохладу мрамора. — Это нечестно, — говорю наконец. — Ты о чем, любимый? Я не смотрю на нее. — Нельзя склонять мужчин к любовному акту, чтобы отнять у них жизнь. Мне кажется, я почти слышу насмешку в молчании Прекрасной Дамы, но когда, наконец, поворачиваюсь к ней, на потупленном лице ничего не вижу. Чувствую, как дрожат ее пальцы на моей руке. — Разве можно отнять — давая? Я убираю руку и перевожу взгляд на темный лес. — Софистика. — Чего еще можно ожидать от… аллегории? — Она говорит шепотом, и далекий раскат грома почти заглушает слова. Я резко поворачиваюсь и хватаю ее за горло. Шея такая тонкая, что умещается в одной руке. Слегка надавливаю, и у нее пресекается дыхание. Прямо под кожной перепонкой между моими напряженными большим и указательным пальцами находятся хрупкие хрящи гортани. Глаза расширяются в нескольких дюймах от моих глаз. — Хочешь познать вкус смерти? — шепчу я ей в лицо. Прекрасная Дама не сопротивляется, хотя своей крепкой хваткой я перекрываю ей дыхание и кровоток. Ее руки опущены вдоль тела. Если она попробует поднять руку, чтобы оцарапать или ударить меня, наверняка сверну шею, как цыпленку. Она не сводит с меня пристального взгляда. — Разве Смерть может умереть? — шепчу я в маленькое ухо, потом отстраняюсь и смотрю в ее лицо. Залитое звездным светом и обескровленное, оно кажется фарфорово-белым. Темные глаза отвечают на мой вопрос вопросительным взглядом. — Черт! — Обругав себя, я отпускаю ее. Она не подносит к горлу маленькие руки, но я слышу ее затрудненное дыхание и вижу красные пятна, оставленные моими пальцами. Ветер стихает так же неожиданно, как поднялся. — Черт, — повторяю я и целую Прекрасную Даму. Ее влажные губы раскрываются, и мы словно сдаемся на милость друг другу. Такое же блаженное ощущение, наверное, испытываешь в секунды свободного падения с высоты, до сокрушительной встречи с землей. Она наконец поднимает руку и медленно, неуверенно подносит трепещущие пальцы к моей шее сзади. Она тесно прижимается ко мне, и я чувствую ее бедра и мягкий живот под двумя слоями тонкого шелка, разделяющими нас. Наш поцелуй заканчивается, когда у меня начинает кружиться голова. Прекрасная Дама откидывает голову назад, словно пытаясь отдышаться или справиться с головокружением. Я подхватываю ее на руки — отороченная кружевом сорочка соскальзывает с левой груди, обнажая нежно-розовый сосок, — и несу с балкона в комнату.
Химические снаряды издают в полете не такой звук, как фугасные, а что-то вроде покашливания — примерно с таким звуком туповатый лавочник прочищает горло, желая обратить на себя внимание. — Газы! — орет сержант, и мы торопливо вытаскиваем из наших вещмешков противогазные маски. Я натягиваю свою и неловко вожусь с неудобными ремешками. Это очень несовершенная громоздкая конструкция, состряпанная из армейской парусины, толстых слюдяных окуляров и цилиндрической коробки с тиосульфатом натрия. Она сидит на голове неплотно, и я лихорадочно затягиваю ремешки, чтобы щелей не оставалось. Когда-нибудь обязательно изобретут нормальную противогазную маску, но сейчас моя жизнь зависит от этой уродливой штуковины. Мы с сержантом тревожно оглядываемся вокруг: бесцветный газ или нет. Последнее время немцы пускали в ход огромные количества слезоточивого газа, но он раздражающего действия, а не смертельного, и его белые облака хорошо видны, пока не рассеиваются. В последний год стали гораздо чаще использовать смертельные газы, хлорин и фосген. В госпитале я видел результаты немецких военных экспериментов с соединениями этилена и хлорида серы — так называемым горчичным газом, или ипритом. Несколько недель назад боши, раньше выпускавшие газы из баллонов, стали начинять ими снаряды. Люди при газовой атаке со стороны выглядят довольно комично, по крайней мере такое можно сказать о нас шестерых, все еще остающихся в живых здесь, во вражеском передовом окопе. Мы с сержантом озираемся по сторонам, похожие на двух испуганных лягушек. Остальные четверо парней побросали винтовки и судорожно роются в своих вещмешках в поисках противогазов. Чтобы захватить траншею сейчас, немцам нужно просто зайти в нее прогулочным шагом — и все дела. Видимого газа я нигде вокруг не наблюдаю. Значит, фосген. Почти наверняка. Хлорин штука скверная: концентрация тысяча частей на миллион означает верную смерть. Газ разрушает бронхи и легочные альвеолы: человек перестает усваивать кислород, а потом буквально захлебывается слизистой жидкостью, которую вырабатывают легкие. Наша бригада не раз хоронила жертв хлорина — с посиневшими до черноты лицами, широко раскинутыми одеревенелыми руками и выпученными глазами, красноречиво свидетельствовавшими, в каких страшных муках умирали несчастные. Фосген еще хуже. Он в двадцать раз ядовитее хлорина, бесцветный и гораздо труднее распознается по запаху. Хлорин можно учуять задолго до того, как доза станет смертельной, но фосген, даже в смертельной концентрации, издает всего лишь слабый запах прелого сена. Однако дело свое знает хорошо. Когда я лежал в госпитале, один бедняга, буквально пару раз вдохнувший фосгена, извергал по четыре пинты густой желтой жидкости из легких каждый час в течение двух суток, пока наконец милостью Божией не скончался, захлебнувшись в собственных выделениях. Про новый горчичный газ (иприт) мне мало чего известно, но капитан Браун говорил, что он вызывает волдыри, ожоги и язвы на теле, вытравливает глаза, разрушает слизистые оболочки, поражает гениталии и проникает в самые кости. Еще он говорил, мол, наши ученые, разрабатывающие горчичный газ, очень довольны, что симптомы отравления проявляются только через несколько часов после воздействия этого вещества на человека. Солдаты не будут знать, обречены они или нет. Я хорошо помню отчет о вскрытии, который пытался переложить в стихотворную форму. Похоже, немцы опередили нас с ипритом. Фрицы всегда знали толк в химии. Сержант что-то кричит, но я не разбираю слов, даже когда придвигаюсь так близко, что наши парусиновые противогазы соприкасаются. Но я смотрю туда, куда он показывает. Один из наших парней не может найти противогаз, и само лицо у него превращается в искаженную маску. Его вопли я слышу отчетливо. — Я чувствую запах! Я чувствую запах, вашу мать! — Он швыряет вещмешок и карабкается через бруствер в сторону «ничейной земли», оставив винтовку в окопе. Я ору, чтобы он снял носок и помочился на него. Сержант бросается к нему, чтобы удержать. Другой рядовой левой рукой пытается схватить товарища за обмотки, а правой продолжает затягивать ремешки своего противогаза. Рядом покашливают следующие снаряды. Все происходящее выглядит комическим фарсом. Выскочив из окопа, парень успевает пробежать всего лишь ярдов десять, потом очередь немецкого пулемета сшибает его, как кеглю. Он совсем забыл, что здесь есть и более традиционные способы умереть. Четверо мужчин в окопе хватаются за оружие, готовясь отразить очередную контратаку. Я поднимаю винтовку убитого солдата, передергиваю затвор, загоняя патрон в ствол, и занимаю место рядом с остальными на стрелковой ступеньке, которую мы соорудили из земляных мешков у тыльной стенки траншеи. Мое лицо так сильно потеет под неуклюжей парусиновой маской, что толстые слюдяные окуляры — и так не особо прозрачные — густо затуманиваются. Носовой зажим противогаза не позволяет дышать носом, и воздуха, который я судорожно втягиваю ртом через парусину и фильтр, едва хватает, чтобы не потерять сознание. Мне мерещится запах прелого сена. Я практически ничего не вижу. — Вон они! — раздается приглушенный противогазом крик сержанта. — Идут! Что-то движется, сквозь запотевшие окуляры я различаю какие-то смутные тени. Вероятно, штыки. Немецкие штыки. В нашу траншею залетают шипящие гранаты, но мы все слишком заняты, чтобы отвлекаться на них. Я тяжело дышу ртом и выпускаю несколько пуль в подступающие расплывчатые фигуры.
Великая притягательность и великая опасность любовной страсти в том, что она является внешней и неподвластной человеку силой — могучим ураганом, прилетающим ниоткуда, перед которым не может устоять лес повседневных мыслей и поступков. Она была прекрасна, моя возлюбленная. Я отнес ее с балкона в спальню, бесшумно ступая по освещенному каминным огнем паркету и ощутив под босыми ногами мягкий ворс персидского ковра за секунду до того, как я раздвинул кружевной полог и осторожно положил эту женщину, мою женщину, на высокую перину. Ее роскошные волосы рассыпались по подушке и по моей руке, которую не сразу вытащил из-под головы; бледно-розовые соски просвечивали сквозь полупрозрачную ткань. Время нежностей прошло. Я сбросил шелковый халат и сорвал с нее тонкое одеяние. Она закинула руки за голову, и блики каминного пламени окрасили в теплые тона ее груди снизу. Ноги у нее длинные и гладкие, живот чуть выпуклый, с темным треугольником внизу, в устье затененных бедер. Она вся подалась ко мне, когда я вытянулся на боку рядом с ней. Должно быть, она почувствовала бедром мой напряженный член, ибо она слабо задрожала и закрыла глаза. Чтобы успокоить, я ласково запустил пальцы в ее волосы, поцеловал трепещущие веки и лег на нее, накрыв своим телом. Когда наши губы соединились, она раздвинула ноги и легко провела ногтями вниз по моей спине. Головкой члена я ощутил влажное тепло ее раскрывшегося лона и чуть помедлил, упиваясь предвкушением сладостного мгновения, когда мы двое станем единым целым. Мы длили поцелуй в каком-то блаженном забытьи; она разомкнула зубы, наши языки сошлись в жаркой схватке, и я плавным толчком вошел в нее.
Сержант умирает перед наступлением темноты. Мы отбили две атаки, сражаясь в наших громоздких масках. В воздухе вокруг клубился незримый фосген, а перед второй атакой нас окутали еще и парообразные облака слезоточивого газа. Сквозь туманную пелену, застилающую слюдяные окуляры изнутри, и туманную пелену, застилающую слюдяные окуляры снаружи, немцы кажутся размытыми серыми тенями. Мы стреляем по теням, и некоторые из них падают. Я бросаю взгляд на конвульсивно подергивающееся тело сразу за поворотом нашего окопа и вижу, что немецкие противогазы не многим лучше наших. Пуля попала в окуляр, и из противогазной коробки, похожей на вытянутое рыло, течет кровь. Впечатление, будто я убил демона. Сначала нас было пятеро, включая раненого рядового, сержанта и меня. После взрыва нескольких ручных гранат в ходе первой атаки остались только мы с сержантом. Забираем остатки боеприпасов у наших убитых товарищей, ощупываем их карманы в поисках гранат Миллса и патронов. Сдвинув головы, чтобы слышать друг друга сквозь противогазы, коротко переговариваем и решаем, что вдвоем нам не удержать весь сектор окопа. Мы отступаем к правому углу, где траншея круто поворачивает и уходит к основным немецким позициям. Все следующее колено окопа завалено трупами в сером. Крысы уже приступили к трапезе. Сержант устанавливает винтовку в бойнице, чтобы держать под прицелом подход с этой стороны, а я торопливо сооружаю укрытие из земляных мешков. Любому, кто выйдет из-за дальнего угла, придется пройти по всей длине оставленного нами участка траншеи под прицелом моей винтовки. Вокруг нас клубится слезоточивый газ и дым. Слезы льются из глаз ручьями, дышать тяжело, но это началось еще полчаса назад — видимо, противогаз прилегает неплотно. Я напряженно смотрю в прицел своего «ли-энфилда», ожидая, когда из-за угла появятся первые немцы. Сержант, стоящий со мной спиной к спине, держит под прицелом свой сектор траншеи. Они спрыгивают с тыльного бруствера, испуская гортанные вопли. Я с отстраненным спокойствием отмечаю, насколько у немецких солдат длиннее голенища ботинок, чем у бойцов британской армии. Я убиваю двух из них. Третий бросает в нас гранату и убегает. Сержант пинком отправляет шипящую гранату за угол окопа, а я посылаю пулю в спину убегающему немцу. Он падает, но продолжает ползти. Я стреляю в него еще раз и не чувствую ровным счетом ничего. Еще двое спрыгивают в траншею прямо перед нами. Я убиваю одного выстрелом в лицо, а потом винтовку заклинивает: затвор не подает патрон. Второй что-то орет сквозь противогазную маску и чуть приседает, готовясь броситься на меня со штыком. Сержант, не успевающий выстрелить, выносит винтовку наискось перед собой и прыгает между мной и немцем. Тот делает выпад, сержант неуклюже отбивает штык вверх и делает ответный выпад. Удары обоих достигли цели. Тонкий клинок немца вонзился в горло сержанту прямо под противогазной маской, штык сержанта на четыре дюйма вошел в живот немцу. Двое мужчин медленно оседают на колени, по-прежнему соединенные сталью. Потом оба выдергивают свои штыки слаженным, почти хореографическим движением. Задыхаясь и едва не теряя сознание от недостатка кислорода, я смотрю, как они снова выбрасывают штыки вперед, стоя на коленях. Ни у одного из них не хватает сил вогнать лезвие глубже, чем на толщину кожи. Они роняют винтовки и одновременно валятся в грязь. Не думая о том, что в любой момент здесь могут появиться другие немцы, я бросаю свой «ли-энфилд», переворачиваю сержанта на бок и срываю с него противогаз. Рот у него широкоразинут и наполнен кровью, глаза вытаращены. Я так и не узнал его имя. Немец еще жив, корчится от боли. Я усаживаю его, прислонив к передней стенке окопа, стаскиваю противогазную маску и пытливо вглядываюсь в лицо. Обычный мужчина: темная щетина, карие глаза, влажные от пота спутанные волосы, порез после бритья на кадыке. Он, задыхаясь, просит воды. Слово «вода» по-немецки я знаю. Подношу свою бутылку к его губам. Он делает глоток, начинает что-то говорить, потом вдруг бьется в конвульсиях и испускает дух, не произнеся больше ни слова. Оставив свой заклинивший «ли-энфилд» лежать в грязи, я поднимаю винтовку сержанта, по возможности тщательнее стираю с приклада кровь, проверяю, полон ли магазин, и бессильно приваливаюсь к груде земляных мешков, служащих мне укрытием. Во вражеских окопах пронзительно свистят: очевидно, немцы готовятся к очередной атаке. Потом снаряды начинают падать точно в цель, обрушивая траншейные стенки, взметая фонтаны земли и куски разорванных трупов, разлетаясь визжащей шрапнелью по всему окопу. Я узнаю орудия по звуку. Британские восемнадцатифунтовки. Подкрепления не будет. В штабе решили, что ни одна наша часть не продвинулась так далеко вперед. Они снова открыли шквальный артиллерийский огонь.
Наши тела движутся легко и слаженно, увлажненные страстью и потом. Ее жаркое тепло обволакивает и поглощает меня. «Смерть не забрала меня, когда я в первый раз прикоснулся к ней, — умудряюсь подумать я в мороке нарастающего возбуждения. — И когда я ее поцеловал. И когда вошел в нее». Мы катаемся по постели, ни на миг не прерывая интимнейшего контакта друг с другом; она обхватывает меня ногами, тесно сжимает бедрами. Когда она наверху, ее груди висят надо мной, словно два соблазнительных плода, которые надо сорвать; розовые соски между моими пальцами похожи на набухшие почки, готовые распуститься. Ее волосы ниспадают шелковистым занавесом вокруг нас. «Должно быть, это произойдет, когда я достигну пика наслаждения. Так называемой „маленькой смерти“, которая в этот раз будет не такой уж маленькой». Мне все равно. Мы перекатываемся по кровати, покуда наконец не падаем с нее на персидский ковер в ворохе скомканных простыней, — и в трепетном свете каминного огня вижу, что ее черты искажены такой же страстью, какая владеет мной. Мы… я… движемся теперь быстрее… без всякой мысли, без всякой возможности остановиться, вернуться вспять… глухие и слепые ко всему, кроме всепожирающей страсти, заставляющей нас двигаться в плавно нарастающем ритме.
23 августа, среда, вторая половина дня Десять минут назад мне в спину вогнали шприц и отсосали добрую пинту жидкости из легких. Врачи до сих пор не решили, имеют ли они дело со смертельной пневмонией, вызванной газовым отравлением, или с рецидивом обычной пневмонии, которую я перенес в прошлом месяце. По крайней мере количество жидкости не увеличивается. Если я тону, то тону медленно. Меня больше беспокоит рана на правой ноге. Все мясо вокруг нее уже срезали, но в палате стоит гангренозный смрад, и я постоянно принюхиваюсь к своим бинтам, проверяя, не вношу ли и я в него свой вклад. — Сами, дураки, виноваты, — сказал бесцеремонный доктор Бабингтон сегодня во время обхода, когда мне отсосали легочную жидкость. — Затеяли воевать на таких плодородных полях. Со времени своего поступления в госпиталь я еще не произнес ни слова, но доктор истолковал мое молчание как вопрос. — Французы лучше всех в мире удобряют свои поля, — продолжил он. — Да, тонны и тонны навоза. И человеческих фекалий, знаете ли. Вся ваша одежда, ребята, насквозь пропитана дерьмом. А потом кусок металла вонзается в вашу плоть вместе с клочками пропитанной дерьмом ткани. Сама по себе ваша рана — пустяк… пустяк. — Он щелкнул пальцами. — Но вот сепсис… ладно, через пару дней все станет ясно. — И он перешел к следующему пациенту. В этом палаточном полевом госпитале нет окон, но я спросил одну из усталых сиделок, и она сказала — да, Мадонна с Младенцем по-прежнему висит над улицей в Альбере, находящемся в долине под нами. Маленький госпиталь, где я лежал в прошлый раз, разрушен снарядами. Я беспокоюсь, жива ли добрая монахиня, которая ухаживала за мной там.
24 августа, четверг, 9.00 утра Сегодня меня разбудили рано, но вместо того, чтобы накормить традиционным завтраком из овсянки, переложили на какую-то тележку и вывезли во двор между палатками. Шел дождь, но нас оставили там — меня и еще двух офицеров, в которых я узнал соратников по первому батальону стрелковой бригады. Эти двое получили более тяжелые ранения, чем я. У одного лицо было туго обмотано бинтами, но я видел, что у него полностью или почти полностью отсутствует нижняя челюсть. У другого видимых повреждений не наблюдалось, но он не мог сидеть прямо в плетеном кресле-каталке. Голова у него бессильно болталась, словно отделенная от бледной шеи. Мы проторчали под дождем десять или пятнадцать минут; потом из столовой палатки, расположенной рядом, вышел полковник с несколькими адъютантами. Тот самый полковник, который выступал перед бригадой после генерала Шюта. «О нет, — подумал я. — Мне не нужна медаль. Просто увезите меня с дождя, пожалуйста». Полковник говорил всего минуту. Медалей нам не вручили. — Должен вам сказать, парни, — начал он, аристократически растягивая слова, в точности как генерал Шют, — что я чертовски разочарован вами. Чертовски разочарован. — Он похлопал себя стеком по ляжке, обтянутой чистенькой штаниной. — Вам необходимо… э-э… необходимо понять… что вы подвели всех нас. Вот что вы сделали. Просто-напросто подвели всех нас. — Он развернулся кругом, словно собираясь удалиться, но тотчас опять повернулся к нам, приведя в легкое замешательство адъютантов, которые тоже двинулись было прочь, словно мы трое на наших тележках и креслах-каталках вызывали у них глубокое отвращение. — И еще одно, — сказал полковник. — Вам следует знать, что в бригаде один только ваш батальон провалил наступление… один только ваш! И я не желаю слышать никаких жалоб по поводу того, что тридцать третья дивизия не поднялась в атаку по вашему правому флангу… вы меня слышите? Я не принимаю подобных оправданий. Несостоятельность тридцать третьей дивизии — позор тридцать третьей дивизии. Несостоятельность первого батальона — наш позор. И за него несете ответственность вы, парни. И я… да, я чертовски разочарован. Засим он и стайка адъютантов, следующая в кильватере за ним, вернулись обратно в столовую палатку. Оттуда тянуло запахом то ли кекса, то ли каких-то пирожных, выпекавшихся в печах. Мы трое молча сидели и лежали под дождем еще минут десять, пока наконец про нас вспомнили и отвезли обратно в палату. Она уютно лежит в кольце моих рук, и мы рассеянно наблюдаем, как угасает огонь в камине. — Хочешь послушать несколько строк из личного дневника его милости? — шепотом спрашивает она. Вопрос выводит меня из приятной задумчивости: — Что? Из чьего дневника? — Генерала сэра Дугласа Хейга, — отвечает она и улыбается. — Не один же ты ведешь дневник. Я играю с прядью ее волос: — Откуда ты знаешь, что пишет генерал в своем личном дневнике? Проигнорировав вопрос, она закрывает глаза и начинает, словно цитируя по памяти. — Девятнадцатое августа, суббота. Предпринятая вчера операция увенчалась полным успехом. Наступление происходило на участке фронта длиной свыше одиннадцати километров. Теперь мы удерживаем горный гребень к юго-востоку от Типваля. В плен взяты почти пятьсот вражеских солдат, в то время как батальон, осуществлявший атаку, потерял всего сорок человек! В ходе наступления наши солдаты держались рядом с полосой заградительного огня. В меркнущем свете камина я смотрю на нее: — Зачем ты мне это рассказываешь? Она немного отстраняется, и теперь ее обнаженное плечо напоминает тускло сияющий полумесяц под затененным лицом. — Я думала, тебе будет приятно знать, что вы внесли и свою лепту в успех. — Мой батальон уничтожен, — шепчу я, решительно не понимая, зачем нам в постели вести разговор о войне. — В одной только роте «С» погибли сорок с лишним — человек. Она легко кивает. Я не вижу ее глаз. — Но головной батальон потерял всего сорок человек. И захватил несколько сотен ярдов грязи. Генерал сэр Дуглас Хейг доволен. — В жопу генерала сэра Дугласа Хейга. Я ожидаю услышать от Прекрасной Дамы какое-нибудь потрясенное восклицание, но она шаловливо кладет ладонь на мою голую грудь и заливается тихим смехом.
26 августа, суббота, 7.00 вечера Стало темнеть раньше. Сегодня ровно неделя как я очнулся в эвакуационном пункте для раненых. Не помню, как выбрался из окопа и возвращался через «ничейную землю». Не помню, чтобы мне кто-нибудь помогал найти эвакуационный пункт. Не помню, как снял противогазную маску и давился воздухом с остатками ядовитого газа или как получил шрапнельное ранение, превратившее мою правую ногу в пульсирующий сгусток гнойной боли. Я помню, как приходил в сознание. В первый раз очнулся в уверенности, что нахожусь в госпитале, но обнаружил, что лежу среди мертвецов. В последний раз, когда уже был уверен, что лежу мертвый среди мертвецов, я очнулся при свете карбидных фонарей и увидел склонившегося надо мной хирурга. Если он Бог или Дьявол, туманно подумал я, значит, кто-то из этих ребят носит белый врачебный халат, обильно заляпанный кровью. Архангелы походили на медсестру в белом фартуке, санитара в пенсне и усталого анестезиста в таком же окровавленном халате, как у хирурга. Потом почти ничего не помню — разве только как меня привезли сюда двадцать первого. Не помню даже, как лихорадочно писал в дневнике, пытаясь связно изложить обрывочные впечатления. В жопу генерала сэра Дугласа, в жопу полковника, в жопу Шюта и любого другого, кто исполнен решимости убить меня. Я плюю на них. Я плюю на всех ангелов и демонов. Я плюю на самого Господа Бога.
27 августа, воскресенье, 5.00 утра Проснулся в 3.22, судорожно кашляя, отхаркиваясь и захлебываясь вязкой желтой жидкостью. Пришлось кликнуть сиделку, которая притащилась черепашьим ходом, явно раздраженная, что ее разбудили. Страшно задыхался. Подумал: «Ну что ж… значит, вот он, конец… ладно, это того стоило… она того стоила». Но потом все подобные рассудительные мысли вылетели из головы, и я судорожно хватал ртом воздух и молотил руками-ногами, как утопающий, каковым, собственно, и являлся. После каждого мучительного вдоха извергал потоки желчи. Она шла горлом, носом. Перед глазами плясали черные точки, но вожделенное забытье все не наступало, и я метался на койке, давился рвотными спазмами, колотил конечностями по грязному матрасу, точно по воде бездонного океана. Помню свою последнюю связную мысль: «Умирать вовсе не так легко, как нам пытаются представить… смотри, Толстой, вот как умирают крестьяне!» Потом в палату неторопливо вошел скучающий санитар со шприцом размером с велосипедный насос, мне вогнали в правое легкое толстенную иглу через спину и через несколько минут отсосали из него достаточно густой слизи, чтобы я снова смог дышать… более или менее… хотя эти жуткие хлюпающие хрипы наверняка не давали уснуть многим соседям по палате. Они промолчали.
11.15 того же дня Приходил священник, чтобы дать причастие католикам в нашей палате. Я почти час наблюдал за ним и видел, насколько глубоко и искренне он сопереживает страданиям тяжелораненых. Подойдя к моей койке, он взглянул на табличку с данными и увидел прочерк в графе «вероисповедание», но тем не менее остановился и спросил, может ли он что-нибудь сделать для меня. Все еще не обретший способности говорить, помотал головой и постарался скрыть подкатившие к глазам слезы. Часом позже врач, ответственный за нашу палату, устало присел на край моей койки. — Послушайте, лейтенант, — промолвил он голосом не столько суровым, сколько утомленным, — похоже, гангрена отступает. И санитары заверяют меня, что с вашими легкими ничего страшного. — Он протер очки и немного подался вперед. — Если вы думаете, что эти… незначительные боевые повреждения обеспечат вам приятный отдых в объятиях матушки Англии… ну что сказать… война продолжается, лейтенант. И я надеюсь, вы вернетесь на фронт сразу, как только мы выпишем вас, чтобы освободить место для какого-нибудь по-настоящему раненого бойца. Вы меня понимаете? Я хотел просто кивнуть, но вдруг заговорил впервые за время своего пребывания здесь. — Да, сэр, — прохрипел я сквозь слизь и мокроту, булькающую в глотке. — Я собираюсь вернуться на фронт. Я хочу вернуться на фронт. Врач нацепил очки на нос и хмуро уставился на меня, словно я неудачно пошутил, а потом потряс головой и продолжил обход палаты. Я вовсе не шутил. Я говорил правду. Я единственно не мог сказать врачу то, что сегодня утром сказала мне Прекрасная Дама.
Утро, чудесное осеннее утро, и мы завтракаем чаем с круассанами на ее террасе. Она в темной юбке и голубой сборчатой блузе, застегнутой у горла изумрудной брошью. Ее глаза улыбаются, когда она наливает мне чай. — Мы с тобой некоторое время не увидимся, — говорит она, отставляя серебряный чайник. Кладет мне в чашку один кусочек сахара, как я люблю. От неожиданности теряю дар речи, но лишь на несколько секунд. — Но хочу… как это… то есть мы должны… — Я осекаюсь, пораженный своим косноязычием. Хочу сказать, что вообще-то я поэт, чувствующий и понимающий язык. Она накрывает ладонью мою руку. — Так и будет, — говорит она. — Мы еще встретимся. Для меня разлука продлится совсем недолго. Для тебя — чуть подольше. Я хмурюсь, досадуя на свою тупость: — Ничего не понимаю. Я думал, наша любовь… должна… Она улыбается, не убирая ладонь: — Помнишь фотографию с картины, висевшую в гостиной твоей матери? Киваю, заливаясь краской. Невесть почему разговор на эту тему кажется чем-то более интимным, чем наша ночная близость. — Дж. Ф. Уоттс, — говорю я. — «Любовь и Смерть». Там изображена… — я на миг умолкаю, не в силах произнести «ты». — Смерть в облике женщины, и рядом с ней маленький мальчик… Эрос, полагаю. Любовь. Она легонько водит ногтями по моей руке. — Тебе всегда казалось, что в картине скрыт какой-то тайный смысл, — чуть слышно говорит она. — Да. — Я бы хотел сказать что-нибудь умное, но в голове пусто. Тайный смысл картины ускользал и тогда, и сейчас. Она снова улыбается, но опять без тени насмешки. — Возможно, просто возможно, там изображена вовсе не Смерть в женском обличье, грозно стоящая над испуганным Эросом, а женская аллегория… — ее улыбка становится шире, — любви, которая удерживает неугомонного проказника Смерть от злых шалостей. Я только и могу, что тупо хлопать глазами. Прекрасная Дама тихо смеется и наливает себе чаю, подняв блюдце с чашкой. Отсутствие ее ладони на моей руке — словно предвестье грядущих зим. — Но любовь… к кому? — наконец спрашиваю я. — К чему? Какая великая страсть в силах предотвратить смерть? Ее тонкие брови удивленно приподнимаются: — Разве ты не знаешь? Ты, поэт? Я не знаю. О чем и говорю. Она подается ко мне, и я слышу шорох накрахмаленной льняной блузки и шелка под ней. Ее лицо так близко, что чувствую тепло ее кожи. — Значит, тебе нужно еще время, чтобы узнать, — шепчет она с такой же страстью, с какой стонала сегодня ночью. Я кладу дрожащую руку на маленький кованый столик: — А сколько еще времени у нас осталось… сейчас… до расставания… чтобы побыть вдвоем? Она не смеется над моей словесной избыточностью. Взгляд у нее нежный. — Достаточно, чтобы выпить чаю, — говорит она и подносит чашку к губам.
31 августа, четверг, 1.00 пополудни Сегодня выписан из полевого госпиталя близ Альбера. Едва хожу, но нашел попутный транспорт — санитарный автомобиль, возвращавшийся налегке в долину Карнуа, куда генерал Шют перебросил бригаду для отдыха перед очередным наступлением. Вопреки краткому заключению доктора Бабингтона, где говорится, что я достаточно оправился от ранения и пневмонии, чтобы вернуться к исполнению воинских обязанностей, один из других врачей настойчиво рекомендовал отправить меня в Англию для восстановления здоровья по крайней мере на месяц. Я его поблагодарил, но сказал, что меня вполне устраивает рекомендация доктора Бабингтона. Здесь, в лагере в долине Карнуа, я почти никого не знаю. Случайно столкнулся с сержантом Маккеем — джентльменом, помогшим мне выбраться из траншеи после того, как меня туда столкнул бедный капитан Браун, — и мы были так рады увидеть друг друга живыми, что едва не расцеловались. В ротах «С» и «D» все больше лица новые и незнакомые. Сержант Маккей спросил, слышал ли я грозу нынче ночью. Я признался, что все проспал. — Натуральное светопреставление, сэр, — сказал он с широкой улыбкой на красном лице. — Мы все промокли до нитки. Гром грохотал почище, чем канонада в день нашей атаки. В самый разгар грозы, сэр, молния ударила в два наших аэростата, и они взорвались к чертовой матери, сэр. Ну чистое светопреставление. Прошу прощения, сэр, но я просто не понимаю, как можно проспать такое. Не примите в обиду, сэр. Я ухмыльнулся: — Даже и не думаю, сержант. — Я замялся лишь на секунду. — Похоже, гроза была действительно знатная, но я просто… гм… сегодня была моя последняя ночь в Альбере, и я… в общем, я был не один, сержант. Маккей еще шире расплылся в улыбке, театрально подмигнул и лихо откозырял: — Понятно, сэр. Ну что ж, очень рад вашему возвращению. И желаю вам доброго здоровьица, сэр. Сейчас я сижу на койке и пытаюсь отдохнуть. Мучительно ноет грудь, побаливает нога, но я стараюсь не обращать внимания. Говорят, через сорок восемь часов начнется общее наступление на Дельвильский лес, и генерал Шют хочет, чтобы его парни — мы — возглавили атаку. Но сорок восемь часов это уйма времени. У меня есть что почитать — в моем походном сундучке лежит «Возвращение на родину» и еще не дочитанный сборник Элиота. А потом, пожалуй, я прогуляюсь по лагерю. Гроза закончилась. В воздухе свежесть. Погода дивная.
Послесловие редактора На этом заканчивается недавно найденный дневник лейтенанта Джеймса Эдвина Рука. 2-го сентября 1916 года началось сражение за Дельвильский лес, но основная тяжесть наступления легла не на батальон Рука. Честь возглавить атаку выпала Глосчестерширскому полку 5-й дивизии — так называемому «Бристольскому батальону». В ходе ожесточенного боя, продолжавшегося 30 часов, почти весь батальон был уничтожен. Рук участвовал в более крупном наступлении 15 сентября. В этом сражении были впервые применены танки — правда, в малом количестве и неэффективно. Во время последнего боя за Дельвильский лес лейтенант Рук не пострадал, но его рота потеряла 40 % личного состава убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Поэт не принимал участия в боевых действиях, в ходе которых 27 сентября британские войска наконец взяли Типваль. Вскоре после наступления 15 сентября пришел давно забытый приказ о переводе, и Рук вернулся в свою прежнюю часть, 13-й батальон стрелковой бригады. Из письменных документов авторства Рука, относящихся к спокойному периоду пребывания в «уютных» траншеях под Калонном, до наших дней сохранились лишь два его письма к сестре — оба они дышат настроением одновременно созерцательным и умиротворенно-радостным. Стихов Рук больше не писал. 13-я стрелковая бригада вернулась на Сомму 11 ноября 1916 года, когда уже близилась зима и условия в окопах были просто чудовищные. Джеймс Эдвин Рук участвовал в кровопролитном бою на Серре 13–15 ноября. Наступление не достигло цели. Он лежал в полевом госпитале под Позьером с третьим и самым тяжелым воспалением легких, когда пришло известие, что 19 ноября 1916 года битва на Сомме «завершилась». На самом деле формального окончания битвы не было. Боевые действия просто постепенно сошли на нет из-за ледяных дождей, снегопадов и сильных холодов той необычайно ранней и суровой зимы. За пять месяцев боев на Сомме погибло свыше 1 200 000 человек. Осуществить крупный прорыв нашим войскам так и не удалось. Джеймс Эдвин Рук вернулся в свою часть и оставался на Соммском фронте, где британцы по-прежнему теряли до 30 000 человек каждый месяц, вплоть до августа 1917 года, когда он снова получил ранение в так называемой «третьей битве при Ипре», или битве при Пашендейле. В него попали две пулеметные пули, когда он вел солдат в атаку на немецкое укрепление со странным названием Ферма Спрингфилд. Выжившие после Пашендейла впоследствии вспоминали и говорили главным образом про моря слякотной грязи. Генерал сэр Дуглас Хейг писал: «…глинистая низина, сплошь изрытая снарядами и раскисшая от дождей, представляла собой скопление огромных топких луж и бурных грязевых потоков, быстро превращавшихся в длинные полосы вязкой трясины, преодолеть которые можно было лишь по нескольким узким тропам, а именно по ним и стала бить неприятельская артиллерия. Оступиться с такой тропы зачастую означало утонуть в болоте грязи». Действительно, в одном из своих немногочисленных писем к сестре лейтенант Джеймс Эдвин Рук — тогда находившийся в отпуске по ранению в Суссексе — описывал, как один его друг, некий сержант Маккей, утонул в полной жидкой грязи воронке, пока сам он, раненный, лежал рядом и ничем не мог помочь несчастному. О жизни Джеймса Эдвина Рука после Первой мировой войны написано много. По поводу его решения не писать больше стихов для публикации сокрушались многие. Когда в 1919 году Рук решил принять католическую веру, друзья и близкие пришли в шок. Когда в 1921 году он принял сан священника, друзья и близкие практически отреклись от него. В последующие годы только его младшая сестра Элеонора продолжала переписываться с ним. В то время как «Окопные стихи» Рука обрели известность и собственную жизнь, сам он покинул литературную сцену. Немногие поэты 30-40-х годов, подражавшие в своем творчестве Руку, знали, что сам поэт по-прежнему жив и проводит свои дни в сравнительном уединении в различных монастырях. Действительно, его литературное наследие тех десятилетий, вдоль и поперек исследованное учеными, почти полностью состоит из переписки с сестрой и редких (но пылких) писем, которыми он обменивался со своим другом Тейяром де Шарденом. Рук издал в частном порядке лишь одну книгу: ныне легендарный сборник стихов в прозе «Песни тишины» (издательство Джона Мюррея, 1938), где описывается созерцательная жизнь, которую он вел в бенедиктинском аббатстве Сан-Вандрий и во время своих продолжительных (порой длившихся годы) визитов в цистерцианский монастырь Ла-Трапп, Солемское аббатство и скальные монастыри Каппадокии. Ученые установили, что по образу мыслей и чувств отец Рук мало походил на обычного монаха. Всегда выражавший страстную любовь к жизни, зачастую граничащую с языческой, отец Рук в узких теологических кругах снискал своей теорией «жизненного восхождения» не меньшую известность, чем его друг Тейяр — теориями нравственного и духовного развития в широких читательских кругах. Они двое продолжали свою живую и пылкую переписку вплоть до смерти Тейяра в 1955-м. В 1957 году сестра Рука, Элеонора, в одном из своих писем к стареющему священнику спросила, почему после войны он навсегда отказался от мысли жениться и обзавестись семьей. Отец Рук ответил письмом, которое впоследствии получило известность, но до сих пор оставалось не вполне понятным. Привожу здесь письмо полностью:
15 сентября 1957 Аббатство Сан-Вандрий Милая моя Элеонора! Я прочитал письмо сегодня вечером, прогуливаясь по дороге Руан-Ивето, и, как всегда, остался в восхищении от твоего острого ума и мягкого юмора. Но меня опечалило, что ты так долго не решалась задать вопрос — «…ждала сорок лет, — пишешь ты, — и знаю, что мне следовало подождать еще сорок». Нет никакой нужды ждать еще сорок лет, моя дорогая, ни даже еще хотя бы день. Вопрос задан, и я не в обиде. Сегодня во время вечернего богослужения — когда чтец по сигналу аббата распевно начал «Те autem Domine miserere nobis», а мы все встали и с поклонами запели молебен, — я благодарил не некоего персонифицированного или безликого Бога, а просто саму Жизнь за великий дар. И так делал каждое утро, каждый полдень и каждый вечер на протяжении сорока лет. Что касается моего воздержания, или, как ты затейливо выразилась, «моего длительного отказа от физической стороны жизни», — скажи мне, Элеонора, разве ты встречала когда-либо человека, находящего большее удовольствие в физической стороне жизни, чем твой брат? Ужели тебе трудно представить, что сегодня днем, когда я усердно трудился в огороде между аббатством и лесом, заканчивая прополку бобовых грядок, я испытывал чисто физическое наслаждение от того, что пот затекает мне в глаза и струится по телу под грубой рясой? Но я знаю, ты говорила о браке или, если точнее, о физической любви. Разве ты не помнишь, как много лет назад я писал тебе, что состою в браке? Не в фигуральном смысле, а в самом что ни на есть прямом. Мне следовало бы носить обручальное кольцо подобно руанским монахиням, которые таким образом показывают, что обручены с Христом. Только я обручен не с ним. Я почитаю Христа и с каждым годом все больше проникаюсь его учением — особенно мыслью, что Бог есть в буквальном смысле Любовь, — но я обручен не Галилеянином. Знаю, моя дорогая, это ересь — даже с точки зрения такой не особо ревностной англиканки, как ты. Представь, что было бы, услышь эти мои слова аббат, славный брат Феофилакт или серьезный отец Габриэль! Благодарение Небу за обет молчания! Я навеки обручен — но не с Христом и не с какой-либо другой традиционной ипостасью Бога, а с самой Жизнью. Я восславляю ее каждодневно и с нетерпением жду встречи, чувствуя, как жизненные силы покидают меня. Я нахожу ее в самых обычных и незначительных вещах — в солнечном луче на оштукатуренной стене кельи, в прикосновении грубой шерстяной ткани, в восхитительном вкусе бобов, которые несколько жарких месяцев кряду защищал мотыгой от нашествия сорняков. Не подумай, Элеонора, что в своей любви к Жизни я оставил Бога. Просто понял — пришлось понять, — что Бог пребывает в этой Жизни и ждать другую глупо. Конечно, ты спросишь, зачем же я затворился от жизни, если верю во всеобъемлющую Жизнь. Ответ трудно понять даже мне самому. Во-первых, я не считаю свою жизнь в аббатстве уходом. Для меня это наилучший способ наслаждаться жизнью — как, надеюсь, мне удалось объяснить в бесхитростной книжице, которую я прислал тебе лет пятнадцать-шестнадцать назад (Боже, как быстро летит время — не правда ли, сестренка?). В своих сочинениях, пускай несовершенных, попытался дать представление о восхитительной простоте такой жизни. Я подобен утонченному гурману, который вместо того, чтобы глушить аппетит обжорством, смакует пищу, поглощая лишь крохотные порции изысканнейших блюд. Я люблю Жизнь, Элеонора. Вот и все. Будь моя воля, я бы жил вечно, принимая как должное боль и утраты и постоянно, до скончания времен, учась ценить даже самые горькие приправы. Противоположный случай — Всеядное Прожорливое Дитя. Знаю, все это звучит невнятно, моя дорогая. Возможно, одно мое давнишнее стихотворение, приложенное к сему, прольет свет на темный туман слов, напущенный мной. Поэты редко говорят по существу. Прошу, напиши поскорее. Хочу знать, как здоровье твоего любимого мужа (надеюсь, он выздоравливает, и буду за него молиться) и как складываются дела у Чарльза и Линды в столице. Я бы не узнал Лондон, если бы вдруг каким-то чудом перенесся туда. В последний раз видел его во время бомбежек, и хотя моральный дух горожан был на высоте, сам город находился не в лучшем состоянии. Висят ли над ним до сих пор аэростаты заграждения? Шучу, шучу — в станционном пабе в ближайшей деревне имеется телевизор, и в прошлом месяце, по пути на конференцию в Руан, я ухватил кусок какого-то фильма, снятого в Лондоне. Аэростатов заграждения там не было. Пожалуйста, пиши мне, милая Элеонора, и прости своего брата за бестолковость и своенравие. Когда-нибудь я повзрослею.За сим остаюсьтвой любящий брат Джеймс
[К письму было приложено нижеследующее стихотворение. — Прим. ред.]
Страстно влюбленный
Дэн Симмонс
 Друд, или Человек в черном
Друд, или Человек в черном
Глава 1
Меня зовут Уилки Коллинз, и я почти уверен — поскольку собираюсь воспретить публикацию данного документа самое малое на век с четвертью, считая со дня моей кончины, — что это имя ничего вам не говорит. Иные полагают меня большим любителем пари, и совершенно справедливо, а потому, дорогой читатель, я готов побиться с вами об заклад, что вы не читали моих романов и пьес, да и не слышали о них. Может статься, вы, британцы или американцы, живущие через сто двадцать пять лет после меня, вообще не говорите по-английски. Возможно, вы одеваетесь как готтентоты, живете в пещерах с газовым освещением, путешествуете на воздушных шарах и свободно общаетесь посредством мысли, не ограниченные никаким устным или письменным языком. Но даже в таком случае я готов поставить все нынешнее свое состояние и все будущие авторские гонорары со своих пьес и романов на то, что вы помните имя, а равно книги, пьесы и персонажи некоего Чарльза Диккенса, моего друга и бывшего соавтора. Итак, я поведаю правдивую историю о своем друге (или, по крайней мере, о человеке, в прошлом таковым являвшемся) Чарльзе Диккенсе и о железнодорожной катастрофе в Стейпл- херсте, лишившей его душевного покоя, здоровья и даже, как шепотом предположат иные, рассудка. Нижеизложенная достоверная история повествует о последних пяти годах жизни Чарльза Диккенса и о его неуклонно возраставшей одержимости неким субъектом (коли здесь применимо такое определение) по имени Друд, а также убийством, смертью, трупами, склепами, месмеризмом, опиумом, призраками и грязными улочками черно-желчной лондонской клоаки, которую этот писатель всегда называл «мой Вавилон» или «гигантское пекло». В данной рукописи (ее, повторюсь, я решил — не только по причинам юридического свойства, но также из соображений чести — сокрыть от посторонних глаз на сто с лишним лет со времени нашей с ним кончины) я отвечу на вопрос, едва ли приходивший на ум еще кому-либо в наши дни: «Неужели знаменитый Чарльз Диккенс, почтенный господин, приятный во всех отношениях, замышлял убить невинного человека, сжечь тело в негашеной извести и тайно схоронить останки — скелетные кости да череп — в склепе под старинным собором, столь памятным Диккенсу по детским годам? И действительно ли он планировал затем выбросить очки, кольца, галстучные булавки, запонки и карманные часы бедной жертвы в Темзу? И если так или если Диккенс хотя бы в помыслах проделывал все описанное выше, то какую роль сыграл вполне реальный фантом по имени Друд в развитии подобного безумия?»Упомянутая катастрофа произошла 9 июня 1865 года. Локомотив, везший благополучие, душевный покой, рассудок, рукопись и любовницу Диккенса, приближался — в буквальном смысле слова — к бреши в железнодорожном полотне и ужасному крушению. Я не знаю, дорогой читатель отдаленного будущего, храните ли вы по-прежнему письменные или устные исторические свидетельства (возможно, вы давно отвергли за ненадобностью Геродота с Фукидидом и постоянно живете в нулевом году), но если в ваше время еще остались хоть какие-то представления об истории, вы должны знать о важных событиях, имевших место в году, который мы называем тысяча восемьсот шестьдесят пятым от Рождества Христова. Такое событие, как окончание братоубийственной войны в Соединенных Штатах, многие англичане признавали весьма знаменательным, хотя Чарльз Диккенс не относился к их числу. Несмотря на свой огромный интерес к Америке — он уже совершил путешествие по этой стране и написал о ней несколько книг (не вполне лестных, следует заметить), а позже яростно добивался компенсации за незаконное издание своих сочинений в бывших колониях, где творился полный беспорядок в части авторских прав, — Диккенс совершенно не интересовался войной между каким-то далеким Севером и еще более далеким Югом. Но в 1865 году — том самом, когда произошла Стейплхерстская катастрофа, — Чарльз Диккенс имел все основания быть очень довольным своей собственной жизнью. Он был самым популярным романистом в Англии, если не в мире. Многие англичане и американцы провозглашали моего друга величайшим писателем всех времен и народов после Шекспира, ну и, возможно, Чосера и Китса. Разумеется, я понимал всю нелепость подобных заявлений, но, как говорится (во всяком случае, как я сказал однажды), популярность порождает популярность. Я видел Чарльза Диккенса со спущенными штанами в деревенском нужнике без двери, когда он хнычущим голосом требовал бумажку, чтобы подтереть задницу, а потому вам придется простить меня, если такой образ останется для меня более достоверным, чем образ «величайшего писателя всех времен и народов». Но в роковой июньский день шестьдесят пятого Диккенс имел все основания для довольства собой. Семью годами ранее писатель расстался со своей женой Кэтрин, которая, по всей видимости, за двадцать два года супружества сильно провинилась перед ним, безропотно произведя на свет десятерых детей и претерпев несколько выкидышей, но с неизменным смирением снося бесконечные придирки и упреки вечно недовольного мужа и потакая каждой его прихоти. Достойным своим поведением она внушила Диккенсу столь глубокое чувство, что в 1857 году, во время загородной пешей прогулки, после распития нескольких бутылок деревенского вина Диккенс отозвался о своей любимой супруге следующим образом: «Кэтрин очень дорога мне, Уилки, очень дорога. Но умом и статью она чистая корова: никакого обаяния, никакого изящества… пресная алхимическая смесь из рассеянности, непроходимого невежества, неуклюжей тяжеловесной медлительности и самоуспокоенной лени… безвкусная каша-размазня, сдобренная разве только острой жалостью к себе». Вряд ли мой друг запомнил эти свои слова, но я их не забыл. Формальным поводом для разрыва стала претензия, предъявленная Диккенсу женой. Похоже (хотя предположительная интонация здесь неуместна, ибо он расплачивался за проклятую побрякушку при мне), после премьеры «Замерзшей пучины» Диккенс купил актрисе Эллен Тернан дорогое ожерелье и болван ювелир доставил украшение не на квартиру мисс Тернан, а в Тэвисток-хаус, лондонский особняк Диккенсов. В результате такой оплошности Кэтрин несколько недель кряду проревела как корова, отказываясь поверить, что это всего лишь невинный знак почтения к актрисе, столь блистательно (хотя, на мой вкус, весьма посредственно) сыгравшей возлюбленную главного героя, Клару Бернем, в нашей… нет, моей драме о безответной любви в Арктике. Надо признать, Диккенс действительно имел обыкновение (как он неустанно объяснял своей глубоко уязвленной супруге в 1858 году) осыпать щедрыми подарками актеров, принимавших участие в любительских спектаклях, которые он ставил в своем домашнем театре. После премьеры «Замерзшей пучины» он уже успел распределить между остальными участниками постановки несколько браслетов и кулонов, карманные часы и набор из трех голубых эмалевых запонок. Но с другой стороны, во всех остальных он не был влюблен, а в юную Эллен Тернан — был. Я точно знаю. И Кэтрин Диккенс знала. А вот знал ли о своих чувствах сам Чарльз Диккенс, трудно сказать. Великий мастер достоверного вымысла и один из самых отъявленных ханжей на свете, он едва ли осознавал и оценивал подспудные мотивы собственного поведения, если только они не были чисты, как родниковая вода. В данном случае в ярость впал сам Диккенс — он в два счета обломал жене рога (прошу прощения за невольную отсылку к корове), закатив страшный скандал, в ходе которого вопил дурным голосом, что подобные обвинения бросают тень на чистый, светлый образ Эллен Тернан. Эмоциональные, романтические и, осмелюсь сказать, эротические фантазии Диккенса всегда вращались вокруг священной рыцарской любви к некой воображаемой юной богине, чья непорочность не подвергалась ни малейшему сомнению. Но Диккенс, вероятно, запамятовал, что злополучная и уже обреченная в семейном плане Кэтрин видела спектакль «Дядюшка Джон», водевиль, поставленный нами сразу после «Замерзшей пучины» (в нашем веке традиция предписывала представлять серьезные пьесы в паре с комедийными). В «Дядюшке Джоне» Диккенс (сорок шесть лет) играл пожилого господина, а Эллен Тернан (восемнадцать лет) выступала в роли его подопечной. Само собой, дядюшка Джон безумно влюбляется в девушку моложе себя в два с лишним раза. Кэтрин наверняка знала, что основную часть драмы «Замерзшая пучина», о поисках пропавшей экспедиции Франклина, написал я, а вот романтический водевиль сочинил и поставил ее муж уже после знакомства с Эллен Тернан. Дядюшка Джон не только влюбляется в свою юную подопечную, но и преподносит ей — я цитирую авторскую ремарку из пьесы — «восхитительные подарки: жемчужное ожерелье и бриллиантовые серьги». Оно и неудивительно, что при появлении в Тэвисток-хаусе дорогого украшения, предназначенного для Эллен, Кэтрин вышла из обычной своей дремотной апатии и взревела, как дойная корова под стрекалом уэльского фермера. Диккенс отреагировал так, как отреагировал бы любой виноватый муж — только муж, которому посчастливилось быть самым популярным писателем в Англии и англоязычном мире, а возможно, и величайшим писателем всех времен и народов. Первым делом он велел Кэтрин нанести визит Эллен Тернан и ее матери, таким образом показав всем, что она не питает никаких подозрений и ревности. В сущности, Диккенс приказал своей жене публично извиниться перед своей любовницей — или, во всяком случае, перед женщиной, с которой намеревался вступить в любовную связь сразу, как только наберется смелости уладить все необходимые формальности. Несчастная Кэтрин, заливаясь слезами, выполнила требование мужа. Унизив свое достоинство, она нанесла визит Эллен и миссис Тернан. Но этого оказалось недостаточно, чтобы утолить ярость Диккенса. Он выгнал мать десятерых своих детей из дома. Чарли, старшего сына, он отправил жить с Кэтрин. Остальные дети остались жить с ним — сначала в Тэвисток-хаусе, а впоследствии в имении Гэдсхилл. (Я всегда замечал, что Диккенс находит удовольствие в общении со своими отпрысками лишь до тех пор, покуда они не начинают проявлять самостоятельность в суждениях и поступках, то есть не перестают вести себя как маленькая Нелл, Пол Домби и прочие его вымышленные персонажи, — а потом быстро теряет к ним всякий интерес.) Разумеется, скандал получил продолжение — последовали протесты со стороны родителей Кэтрин, публичные отказы от протестов, сделанные под давлением Диккенса и его поверенных, угрозы и лживые публичные заявления писателя, юридические интриги, страшная шумиха в прессе и окончательное и бесповоротноесудебное решение о раздельном проживании, силой навязанное жене. В конечном счете Диккенс вообще отказался общаться с ней даже по поводу детей. И это человек, олицетворявший образ «отца счастливого семейства» не только для Англии, но и для всего мира! Конечно, Диккенсу требовалась женщина в доме. У него многочисленный штат слуг. У него девять детей, с которыми он совершенно не желает возиться, готовый разве только поиграть с ними под настроение или покачать на колене, позируя фотографам. У него уйма общественных обязанностей. Кто-то же должен составлять ежедневные меню, списки необходимых покупок и цветочные заказы. Кто-то же должен надзирать за уборкой особняка и управлять хозяйственными делами. Чарльза Диккенса надлежит освободить от всех домашних забот. Ведь он, не забывайте, величайший писатель в мире. Диккенс поступил самым естественным образом, пусть мне или вам подобный шаг может показаться сомнительным. (Возможно, в далеком двадцатом или двадцать первом веке, когда вы читаете мои мемуары, подобные поступки считаются само собой разумеющимися. Или, возможно, у вас хватило ума вообще упразднить странный и дурацкий институт брака. Как вы впоследствии увидите, я сам в свое время уклонился от супружеских уз и предпочел сожительствовать с одной женщиной, имея ребенка от другой, и многие современники, к великому моему удовольствию, называли меня мерзавцем и скотиной. Но я отвлекся от темы.) Итак, Диккенс поступил самым естественным образом. Он поставил на роль хозяйки дома, надзирающей за детьми, принимающей гостей на званых вечерах и обедах, ведающей хозяйственными делами и отдающей распоряжения повару и слугам, незамужнюю сестру Кэтрин, Джорджину. Когда поползли неизбежные слухи — касающиеся больше Джорджины, нежели Эллен Тернан, которая, образно выражаясь, отступила с освещенной авансцены в тень, — Диккенс вызвал в Тэвисток-хаус доктора и велел обследовать свою свояченицу, а затем обнародовать отчет о результатах осмотра, сообщающий всем и каждому, что мисс Джорджина Хогарт является virgo intacta. На том, полагал Чарльз Диккенс, дело и кончится. Позже его самая младшая дочь сказала мне (или, во всяком случае, при мне): «Отец тогда словно повредился рассудком. История с Эллен выявила в нем все худшие черты, все постыднейшие слабости. Ему было наплевать на всех нас. Горе и страдания нашей семьи были безмерны». Если Диккенс и знал о душевных страданиях жены и детей или придавал им значение, коли знал, то он этого никак не показывал. Ни мне, ни своим новым и более близким друзьям. Он оказался прав в своем предположении, что неприятный момент минует, не повредив ему в глазах читателей. Они и вправду простили Диккенса, если вообще знали о его семейных неурядицах. В конце концов, он был английским певцом домашнего очага и величайшим писателем в мире. Он заслуживал снисхождения. Все наши литературные собратья и друзья мужского пола тоже простили и забыли (за исключением одного только Теккерея, но это отдельная история), и надо признать, иные из нас в глубине души или втихомолку восхищались Чарльзом Диккенсом, избавившимся от семейных обязательств перед столь непривлекательным и тяжеловесным камнем на шее. Этот разрыв отношений давал проблеск надежды самым разнесчастным женатым мужчинам и вселял в нас, холостяков, приятную мысль, что при желании все-таки можно вернуться из неизведанной страны супружества — безвестного края, откуда якобы нет возврата. Но прошу помнить, дорогой читатель, что речь идет о человеке, который незадолго до своего знакомства с Эллен Тернан в одном из театров, посещенных нами в поисках «нежных фиалочек» (так мы называли хорошеньких юных актрис, доставлявших нам обоим глубокое эстетическое удовлетворение), сказал мне: «Уилки, если вы знаете, как провести вечер особенно бурно, предлагайте немедленно. Я готов на любые бесчинства. На одну ночь я отброшу всякое благоразумие! Если придумаете что-нибудь эдакое, в стиле сибаритствующего Рима эпохи предельного сластолюбия и изнеженности, можете рассчитывать на меня». И в делах подобного рода он, в свою очередь, мог рассчитывать на меня.
Я хорошо помню день 9 июня 1865 года, когда, собственно, и началась цепь невероятных событий. Диккенс объяснил друзьям, что он уже с середины зимы страдает переутомлением и мучается болями в «обмороженной ноге», и на неделю прервал работу над завершением романа «Наш общий друг», чтобы отдохнуть в Париже. Я не знаю, поехали ли с ним Эллен Тернан и ее мать. Но знаю, что в Лондон они возвращались вместе. Некая дама по имени миссис Уильям Клара Питт-Бирн, с которой я никогда не встречался и не жаждал познакомиться (добрая приятельница Чарльза Уотертона — натуралиста и путешественника, писавшего о своих рискованных приключениях в разных странах мира и погибшего в результате нелепого падения с лестницы в своем поместье Уолтон-Холл всего за одиннадцать дней до Стейплхерстской катастрофы; впоследствии говорили, будто призрак Уотертона ночами бродит по поместью в облике огромной серой цапли), — так вот, эта дама имела обыкновение публиковать в «Таймс» разные злостные сплетни. Нижеприведенная язвительная заметка с сообщением, что девятого июня нашего друга видели на пароме, идущем из Булони в Фолкстон, появилась в печати через несколько месяцев после упомянутой железнодорожной катастрофы.
Сей господин путешествовал в обществе молодой особы, не приходившейся ему ни женой, ни свояченицей, но тем не менее расхаживал по палубе с видом человека, преисполненного сознанием собственной значимости. В надменном выражении его лица, в каждом его величавом жесте и движении читалось: «Смотрите на меня, пользуйтесь случаем. Я гениальный писатель, я единственный и неповторимый Чарльз Диккенс, каковой факт оправдывает любые мои поступки.Миссис Бирн известна главным образом как автор книги «Фламандские интерьеры», вышедшей в свет несколько лет назад. По моему скромному мнению, ей следовало бы приберечь свое ядовитое перо для писанины о диванах и обоях. Для живописания человеческих существ сей даме явно недостает таланта. В Фолкстоне Диккенс, Эллен и миссис Тернан сели на курьерский до Лондона, отправлявшийся в два тридцать восемь пополудни. На подъезде к Стейплхерсту они находились одни в вагоне первого класса, каких в составе насчитывалось семь штук. Когда они проезжали Хедкорн в одиннадцать минут четвертого, машинист гнал поезд полным ходом, со скоростью добрых пятьдесят миль в час. Состав приближался к железнодорожному виадуку близ Стейплхерста, хотя слово «виадук», коим обозначается данное сооружение в официальном железнодорожном справочнике, представляется слишком громким для деревянного моста на перекрестных опорах, соединявшего берега мелкой речушки Белт. На том участке пути производились текущие ремонтные работы по замене старых мостовых брусьев. Позже в ходе расследования выяснилось, что десятник сверился с недействительным расписанием и в ближайшие два часа не ждал фолкстонского поезда. (Похоже, не только нас, путешественников, сбивают с толку расписания Британских железных дорог, изобилующие сносками и скобками с бесконечными дополнениями и изменениями в связи с праздничными и выходными днями, периодами прилива и пр.) Английский закон и железнодорожные правила предписывали выставлять сигнальщика за тысячу ярдов от места подобных работ — к моменту появления фолкстонского поезда две рельсины на мосту уже были сняты и уложены вдоль полотна, — но по непонятной причине человек с красным флажком находился всего в трехстах пятидесяти ярдах от разобранного участка пути. Таким образом, у курьерского, шедшего на высокой скорости, не оставалось ни малейшего шанса остановиться вовремя. При виде запоздало взметнувшегося красного флажка (леденящее душу зрелище, надо полагать), при виде бреши в железнодорожном полотне и мостовом покрытии впереди машинист сделал все возможное. Вероятно, в ваше время, дорогие читатели, все поезда снабжены тормозами, которыми управляет непосредственно машинист. В 1865 году дело обстояло иначе. Каждый вагон надлежало тормозить отдельно, причем только по сигналу машиниста. Последний дал отчаянный гудок, призывая кондукторов спешно привести в действие тормозные механизмы. Но было уже слишком поздно. Согласно отчету следственной комиссии, состав все еще двигался со скоростью почти тридцать миль в час, когда достиг разобранного участка колеи. Невероятно, но локомотив перелетел через сорокадвухфутовую брешь и соскочил с рельсов на другой ее стороне. Все вагоны первого класса, кроме одного, свалились с моста и разбились вдребезги на дне мелкой заболоченной речки. В единственном уцелевшем первоклассном вагоне находились Диккенс, его любовница и ее мать. Кондукторский вагон, следовавший сразу за локомотивом, отбросило на встречную колею вместе с прицепленным к нему вагоном второго класса. Вагон Диккенса, третий по счету, частично вынесло за край моста, и он не сорвался вниз единственно благодаря сцепке с предыдущим вагоном. На рельсах устоял только самый хвост состава. Остальные шесть первоклассных вагонов со страшным грохотом рухнули в заболоченное речное русло и в большинстве своем разбились в щепы. Впоследствии Диккенс не раз рассказывал о пережитых ужасных моментах в письмах к знакомым, но всегда осмотрительно избегал называть имена двух своих попутчиц, чьи личности раскрыл лишь в нескольких посланиях к самым близким друзьям. Уверен, я единственный, кому он поведал всю историю без умолчаний. «Вагон вдруг сошел с рельсов, — писал он в одной из наиболее обстоятельных эпистолярных версий случившегося, — и запрыгал по полотну, подобно корзине полусдутого воздушного шара, волочащейся по кочковатой земле. "Господи! Что это?!" — вскричала пожилая дама (следует читать «миссис Тернан»), а ее молодая спутница (разумеется, речь идет об Эллен Тернан) пронзительно завизжала. Я подхватил их обеих… и сказал: "Единственное, что нам остается, — сохранять спокойствие. Ради бога, перестаньте кричать!" Пожилая дама сразу же овладела собой: "Вы правы. Я буду держать себя в руках, даю вам слово"». Вагон круто вздыбился и накренился влево. Чемоданы, картонки и прочие незакрепленные предметы посыпались с багажных полок. До конца жизни Чарльз Диккенс страдал от приступов головокружения, сопряженных с ощущением, будто «все вокруг, включая меня самого, резко накреняется влево и летит вниз». Он продолжает повествование: «Я сказал женщинам: "Худшее уже позади. Опасность миновала. Пожалуйста, не двигайтесь, пока я не вылезу через окно"». Затем Диккенс, все еще достаточно проворный и гибкий в свои пятьдесят три года, несмотря на «обмороженную ногу» (как человек, давно страдающий подагрой и вот уже много лет вынужденный принимать лауданум для облегчения болей, я мигом опознаю сей недуг по симптомам и почти уверен, что диккенсовское «обморожение» на самом деле являлось обычной подагрой), выбрался наружу, ловко перепрыгнул с подножки вагона на мостовое полотно и увидел двух кондукторов, в совершенном смятении бегавших взад-вперед. Диккенс пишет, что он схватил одного из них за рукав и повелительно крикнул: «Послушайте! Остановитесь же наконец и посмотрите на меня! Вы меня узнаете?» «Конечно, мистер Диккенс», — тотчас ответил кондуктор. «В таком случае, уважаемый, — вскричал Диккенс почти радостно (в мелочном своем тщеславии упиваясь сознанием, что даже в такую минуту его узнали, как наверняка не преминула бы вставить Клара Питт-Бирн), — дайте поскорее ваш ключ от вагона и пошлите сюда одного из рабочих. Я хочу выпустить пассажиров». Кондукторы, по словам Диккенса, поспешили выполнить распоряжение, рабочие перекинули две доски с края моста к висевшему в воздухе вагону, и отважный писатель благополучно вывел оттуда женщин, а потом бесстрашно вернулся обратно за своим цилиндром и фляжкой с бренди. Здесь я прерву повествование нашего общего друга и скажу, что впоследствии, руководствуясь именами, перечисленными в официальном отчете следственной комиссии, я разыскал кондуктора, которого Диккенс якобы остановил и побудил к столь полезным действиям. У означенного кондуктора — некоего Лестера Смита — сохранились несколько иные воспоминания о тех минутах. «Мы собирались спуститься вниз, чтобы оказать помощь раненым и умирающим, и тут к нам с Пэдди Билом подбегает этот хлыщ, что выбрался из повисшего на краю моста первоклассного вагона, бледный как смерть, с дико выпученными глазами, и орет дурным голосом: "Вы меня узнаете? Вы меня узнаете? Вы знаете, кто я такой?" Честно говоря, я ответил: "Мне плевать, кто ты такой, приятель, — хоть сам принц Альберт. Отвали, не путайся под ногами". Обычно я с джентльменами так не разговариваю, но тогда обстоятельства были необычные». Во всяком случае, Диккенс действительно руководил действиями рабочих, вызволявших Эллен и миссис Тернан, он действительно вернулся обратно в вагон за цилиндром и фляжкой с бренди, он действительно зачерпнул в цилиндр воды, спустившись к реке по крутому откосу, и все очевидцы единодушно показывают, что он незамедлительно принялся извлекать из-под обломков тела погибших и оказывать помощь пострадавшим.
До самой своей смерти, наступившей через пять лет после Стейплхерстской катастрофы, Диккенс неизменно описывал все увиденное под мостом двумя словами — «просто невообразимо», а все услышанное там коротко характеризовал наречием «невразумительно». И это английский писатель, который, по всеобщему признанию, обладал самым богатым воображением после сэра Вальтера Скотта! Человек, сочинявший повести и романы по меньшей мере чрезвычайно вразумительные! Возможно, «невообразимое» началось, когда он спускался к реке по крутому откосу. Внезапно рядом с ним появился высокий худой мужчина в тяжелом черном плаще, гораздо более уместном для вечернего похода в оперу, нежели для поездки в Лондон на дневном курьерском. Оба они держали цилиндр в левой руке, а правой цеплялись за кусты, чтобы не упасть. Позже Диккенс хриплым шепотом (он потерял голос после катастрофы) рассказал мне, что незнакомец, тощий как скелет и мертвенно-бледный, пристально смотрел на него густо затененными глазами, глубоко посаженными под высоким бледным лбом, переходящим в бледную лысину. По сторонам черепообразного лица торчали жидкие пряди сивых волос. Впечатление черепа усиливали слишком короткий нос («две черные щели на землистой физиономии, а не нормальной длины орган обоняния», по выражению Диккенса), редкие мелкие зубы, острые и неровные, и очень бледные — светлее самих зубов — десны. Писатель заметил также, что на правой руке у мужчины не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного, а на левой руке нет среднего. Диккенс обратил особое внимание на тот факт, что пальцы не ампутированы на уровне сустава, как часто делается в случае хирургического вмешательства при серьезных травмах, а грубо обрублены посреди третьей фаланги. «Культи, — сказал он мне впоследствии, — походили на огарки восковой свечи». Диккенс и странный господин в черном плаще медленно спускались по крутому откосу, цепляясь за кусты и валуны. — Я Чарльз Диккенс, — наконец выдохнул мой друг, впавший в изрядное замешательство. — Знаю-с-с, — присвистывая сквозь мелкие зубы, промолвил незнакомец. Диккенс смешался еще сильнее. — Как ваше имя, сэр? — осведомился он, съезжая вместе со спутником вниз по каменистой осыпи. — Друд, — последовал ответ. Во всяком случае, Диккенсу так послышалось. Незнакомец говорил глухим голосом с легким чужеземным акцентом, и слово прозвучало скорее как «труп». — Вы ехали на этом поезде в Лондон? — спросил Диккенс. Они уже находились у самого подножья крутого откоса. — В Лаймхаус-с-с, — с присвистом произнес долговязый субъект в черном плаще. — Уайтчепел. Рэтклифф-крос-с-с. Джин-лейн. Три-Фокс-с-сес-с-с. Корт. Бутчер-роу и Коммерш-ш-шиал-роуд. Минт и прочие трущ-щ-щобы. Услышав сей странный перечень, Диккенс недоуменно взглянул на чудного господина — ведь поезд направлялся на вокзал в центре Лондона, а не в восточный район столицы, где находились упомянутые грязные улочки. Трущобами на жаргоне назывались беднейшие жилые кварталы города. Но откос уже кончился, и на берегу загадочный Друд, не промолвив более ни слова, поворотился прочь и скользнул в густую тень под железнодорожным мостом. Спустя несколько мгновений фигура в черном плаще растаяла в темноте. «Как вы понимаете, — шепотом говорил мне Диккенс впоследствии, — я ни секунды не воображал, будто странный человек в черном — это Смерть, явившаяся собрать свою дань. Или еще какое-нибудь олицетворение разыгравшейся там трагедии. Это было бы слишком банально даже для обладателя много беднейшей фантазии, чем моя. Но надо признаться, Уилки, я предположил в Друде гробовщика из Стейплхерста или какой-нибудь другой близлежащей деревушки». Оставшись один, Диккенс окинул взором картину кровавой трагедии. Опознать поездные вагоны в грудах искореженного металла и дерева, лежавших в речном русле и на заболоченных берегах, не представлялось возможным. Если бы не железные колеса и оси, торчавшие там и сям под немыслимыми углами, ужасное зрелище наводило бы на мысль о деревянных бунгало, принесенных мощным ураганом откуда-нибудь из Америки и сброшенных здесь с огромной высоты. Причем обломки выглядели так, словно после падения они еще раз взмыли в поднебесье, снова рухнули вниз и разбились в мелкие щепы. Поначалу Диккенс решил, что в такой катастрофе не мог выжить ни один человек, но уже в следующий миг речную долину огласили крики несчастных страдальцев (на самом деле раненых оказалось гораздо больше, чем погибших). В этих воплях не было ничего человеческого, они звучали бесконечно страшнее, чем крики и стоны, которые мой друг слышал при посещении переполненных больниц вроде детского госпиталя на Рэтклифф-кросс (минуту назад упомянутом Друдом), куда отправляли умирать нищих и беспризорных. Казалось, будто кто-то отворил врата в преисподнюю и позволил обреченным на вечные муки в последний раз возопить о помощи к бренному миру. Навстречу Диккенсу, шатаясь, шел мужчина с распростертыми словно для приветственных объятий, руками. Верхняя часть черепа у него была снесена, точно макушка вареного яйца, срезанная ножом перед завтраком. Диккенс ясно видел розово-серую массу, поблескивавшую в чаше раздробленного черепа. По лицу несчастного струились потоки крови, заливая безумно вытаращенные глаза. Диккенс дал раненому глотнуть бренди из своей фляжки, не зная, что еще можно сделать. Горлышко фляжки окрасилось в густо-красный цвет. Он уложил мужчину на траву, омыл ему лицо водой, зачерпнутой в цилиндр, а затем спросил: «Как ваше имя, сэр?» Но страдалец прошептал лишь: «Все кончено» — и испустил дух, вперив в небо остекленелый взгляд залитых кровью глаз. Внезапно по земле скользнула тень. Диккенс резко вскинул голову, в полной уверенности, что сейчас увидит Друда, который пролетает над ними, широко раскинув полы черного плаща, точно ворон на распластанных крылах. Но то оказалось лишь облачко, на миг набежавшее на солнце. Диккенс снова набрал воды в цилиндр и уже через несколько секунд столкнулся с женщиной, по чьему посерелому лицу тоже текла ручьями кровь. Она была почти голой, лишь несколько окровавленных лохмотьев свисали с истерзанного тела подобием старых бинтов. На месте левой груди у нее зияла страшная рана. Она не остановилась на оклик писателя и, похоже, не услышала призывов сесть и подождать помощи, но быстрым шагом прошла мимо и скрылась за редкими деревьями на берегу. Диккенс помог двум ошеломленным кондукторам извлечь из искореженного вагона изуродованное женское тело и осторожно положить на землю поодаль. Какой-то мужчина брел по колено в воде, истошно выкрикивая: «Моя жена! Моя жена!» Диккенс отвел его к трупу. Несчастный с душераздирающим воплем схватился за голову и принялся бешено метаться по заболоченному берегу, безостановочно испуская звуки, которые, по словам Диккенса, «походили на предсмертные хрипы кабана, чьи легкие прострелены несколькими крупнокалиберными пулями». Потом он лишился чувств и рухнул в трясину, словно пораженный пулей прямо в сердце, а не в легкое. Диккенс направился обратно к вагонам и увидел женщину, сидящую на земле спиной к стволу дерева. Она казалась целой и невредимой — если не считать тонкой струйки крови на виске, истекавшей, вероятно, из поверхностной раны. — Я принесу вам воды, мадам, — сказал мой друг. — Буду вам очень признательна, сэр. Она улыбнулась, и Диккенс отшатнулся: у нее были выбиты все передние зубы. Возле самой речки он обернулся и увидел, что над женщиной заботливо склоняется человек, похожий на Друда (вряд ли еще кто-нибудь был наряжен в толстый оперный плащ тем теплым июньским днем). Когда через несколько секунд Диккенс вернулся с водой в цилиндре, господин в черном уже исчез, а женщина была мертва, хотя по-прежнему скалилась в жутком подобии улыбки, обнажая раздробленные беззубые десны. Он вернулся к перевернутым разрушенным вагонам. В одном из них слабо стонал молодой джентльмен. По откосу к реке торопливо спускались еще несколько спасателей. Диккенс бросился к ним, призывая помочь ему вытащить беднягу из-под обломков железа и дерева, пересыпанных битым стеклом и клочьями красного бархата. Когда дюжие кондукторы, кряхтя, приподняли тяжелые оконные рамы и доски полового настила, теперь обратившиеся в рухнувшую крышу, Диккенс сжал руку раненого и ободряюще сказал: — Я позабочусь о вас, сынок. — Благодарю вас… Вы очень добры, — с трудом проговорил юноша — явно пассажир одного из вагонов первого класса. — Как ваше имя? — спросил наш писатель, когда кондукторы понесли пострадавшего к берегу. — Диккенсон, — ответил тот. Чарльз Диккенс проследил, чтобы мистера Диккенсона отнесли к железнодорожному полотну, а потом, вместе с группой вновь прибывших спасателей, спустился обратно в речное русло. Он перебегал от одного пострадавшего к другому, помогая встать, утоляя жажду, утешая, ободряя, прикрывая наготу иных раненых любым попадавшимся под руку тряпьем и внимательно осматривая недвижные тела, дабы удостовериться, что они уже бездыханны. Несколько спасателей и уцелевших пассажиров, по словам Диккенса, действовали столь же собранно и энергично, как он, но многие просто стояли истуканами и тупо смотрели, оцепенев от потрясения. Усерднее всех прочих на месте страшной катастрофы трудились двое: Диккенс и странный субъект, назвавшийся Друдом. Правда, господин в черном плаще постоянно находился за пределами слышимости, на периферии зрения и, казалось, не переходил от одного искореженного вагона к другому, а плавно скользил. Диккенс увидел тучную женщину — судя по просто скроенному платью из крестьянского полотна, пассажирку одного из вагонов низшего класса. Она лежала в трясине ничком, подсунув руки под грудь. Наш друг перевернул ее на спину, дабы убедиться, что она уже не дышит, но глаза на измазанном грязью лице вдруг широко раскрылись. — Я спасла ее! — задыхаясь, проговорила толстуха. — Я спасла мою крошку от него! Диккенс не сразу заметил, что она судорожно стискивает в жирных руках младенца, чье крошечное белое личико тесно прижато к огромной отвислой груди. Ребенок был мертв — либо захлебнулся в трясине, либо задохнулся под тяжестью матери. Диккенс услышал свое имя, произнесенное с присвистом, увидел в густой тени под разрушенным мостом неясную фигуру Друда, призывно манящего пальцем, и направился к нему. Однако по пути он остановился возле вдребезги разбитого перевернутого вагона, из сплющенного окна которого высовывалась изящная голая рука, явно принадлежащая молодой девушке. Тонкие пальцы шевелились, словно подзывая Диккенса поближе. Он присел на корточки и взял тонкую кисть обеими руками. «Я здесь, дорогая моя», — промолвил он в темную щель, что всего пятнадцать минут назад была окном. Он сжал пальцы невидимой женщины, и она ответила слабым пожатием, словно благодаря за спасение. Диккенс наклонился ниже, но не разглядел в крохотной конусообразной полости под обломками ничего, кроме изодранной диванной обивки да скопления черных теней. Он не смог бы даже протолкнуть плечи в узкий проем. Верхняя перекладина оконной рамы проседала чуть не до самой земли. Частое, прерывистое дыхание пострадавшей еле слышалось сквозь журчание реки. Не думая о приличиях, Диккенс погладил обнаженную бледную руку, от запястья до локтя покрытую рыжеватым пушком, отливавшим медным блеском в лучах предвечернего солнца. — К нам направляются кондукторы и, кажется, врач, — сказал наш друг в узкую щель, продолжая сжимать кисть молодой дамы. Он не знал наверное, является ли врачом мужчина в коричневом костюме и с кожаным саквояжем, но страстно на это надеялся. Четыре кондуктора, вооруженные топорами и ломами, бежали впереди, а господин в строгом костюме трусил за ними, пыхтя и отдуваясь. — Сюда, скорее! — крикнул Диккенс. Он ободряюще стиснул тонкую кисть. Бледные пальцы дрогнули, ухватились за его указательный палец и несколько раз сжались и разжались — так новорожденный младенец инстинктивно цепляется за руку отца. Девушка не промолвила ни слова, но из темноты донесся протяжный вздох, почти удовлетворенный. Диккенс по-прежнему держал пострадавшую за руку и молился, чтобы раны ее оказались не тяжелыми. — Бога ради, поторопитесь! — воскликнул он. Мужчины столпились вокруг. Дородный господин в костюме представился — он оказался врачом по имени Моррис. Диккенс решительно отказался покинуть свое место у окна и даже просто отпустить руку юной дамы, когда четверо кондукторов принялись отжимать ломами вверх и в сторону оконную раму, расщепленные доски и искореженное железо, расширяя крохотное пространство, ставшее для пассажирки укрытием и спасением. — Осторожнее! — крикнул Диккенс кондукторам. — Ради всего святого, осторожнее! Только чтобы ничего не рухнуло! Осторожнее с теми металлическими перекладинами! — Наклонившись ниже, Диккенс крепко стиснул руку девушки и прошептал в темное отверстие: — Сейчас мы вытащим вас, голубушка. Потерпите еще немного. В слабом ответном пожатии Диккенс почувствовал благодарность. — Вам придется отойти на минутку, сэр, — сказал доктор Моррис. — Парни приподнимут доски вот здесь, а я просунусь внутрь и посмотрю, насколько серьезно она пострадала и можно ли ее двигать прямо сейчас. Буквально на минутку, сэр. Вот и славно. Диккенс ласково похлопал по изящной кисти и ощутил последнее прощальное пожатие тонких бледных пальцев с тщательно наманикюренными ноготками. Он отогнал прочь отчетливую, но совершенно неуместную мысль, что в таком вот телесном контакте с незнакомкой, чьего лица он еще не видел, есть что-то возбуждающее. Он сказал: «Через минуту все кончится, и вы будете в безопасности, голубушка» — и неохотно отпустил руку девушки. Потом отполз на четвереньках назад, уступая место спасателям и чувствуя, как колени штанов насквозь пропитываются болотной влагой. — Давайте! — крикнул доктор, опускаясь на колени там, где секундой ранее находился Диккенс. — Поднатужьтесь хорошенько, ребята! Четверо дюжих кондукторов поднатужились преизрядно, сперва приподняв ломами и потом подперев плечами рухнувший половой настил, теперь превратившийся в тяжелую груду досок. Темная конусообразная полость под завалом немного расширилась, и в нее проник солнечный луч. Мужчины разом ахнули, отчаянно стараясь удержать на плечах неподъемный груз, а потом один из них ахнул еще раз. — О боже! — сдавленно выкрикнул кто-то. Доктор резко отпрянул, точно прикоснувшись к оголенному электрическому проводу. Диккенс подполз ближе, собираясь предложить свою помощь, и наконец заглянул в полость под завалом. Он не увидел там никакой женщины или девушки. В узкой щели среди обломков лежала одна только голая рука, оторванная в плечевом суставе. Шаровидная головка кости казалась ослепительно-белой в солнечном свете. Все хором завопили, призывая подмогу. На крики прибежали еще несколько спасателей. Доктор повторил распоряжения. Кондукторы принялись орудовать топорами и ломами, сначала осторожно, а потом с разрушительным неистовством, почти умышленным. Тела молодой женщины под завалом просто-напросто не оказалось. В той груде обломков они вообще не нашли ни одного тела — лишь разномастные клочья изодранной одежды, да несколько вырванных кусков мяса с фрагментами кости. Там не осталось даже подлежащего опознанию лоскута от платья погибшей — только бледная рука с бескровными скрюченными пальцами, теперь неподвижными. Не промолвив более ни слова, доктор Моррис повернулся и скорым шагом направился к спасателям, суетившимся вокруг других жертв катастрофы. Диккенс поднялся на ноги, нервно поморгал, облизал пересохшие губы, а потом вытащил из кармана фляжку с бренди. Ощутив во рту медный привкус, он осознал, что фляжка пуста и на языке у него лишь вкус крови, оставленной на горлышке кем- то из пострадавших, которым он давал пить. Он долго озирался по сторонам в поисках своего цилиндра, прежде чем сообразил, что тот у него на голове. Волосы у него намокли от речной воды, стекавшей из цилиндра и капавшей за воротник. К месту происшествия уже прибывали новые спасатели и зеваки. Диккенс рассудил, что теперь здесь и без него обойдутся. Он медленно, неуклюже вскарабкался по крутому береговому откосу к железнодорожному полотну, где стояли неповрежденные вагоны, покинутые пассажирами. Эллен и миссис Тернан сидели в тени на штабеле шпал и спокойно пили воду из чайных чашек. Диккенс потянулся было к облаченной в перчатку руке Эллен, но так и не прикоснулся к ней. Вместо этого он спросил: — Как вы, дорогая моя? Эллен улыбнулась, но в глазах у нее стояли слезы. Она дотронулась до своего левого локтя и плеча. — Набила несколько синяков, кажется, но в остальном все в порядке. Благодарю вас, мистер Диккенс. Писатель кивнул почти рассеянно, глядя куда-то в сторону. Потом он повернулся, быстро подошел к краю разрушенного моста, с бездумной ловкостью безумца перепрыгнул на подножку висящего в воздухе вагона, пролез в разбитое окно с такой легкостью, будто вошел в дверь, и проворно спустился вниз по спинкам кресел, теперь превратившимся в подобие ступеней на круто наклоненном полу салона. Вагон висел высоко над речным руслом ненадежно соединенный сцепкой со стоящим на мосту вагоном второго класса, и слегка покачивался, подрагивал, точно маятник сломанных настенных часов. Еще до спасения Эллен и миссис Тернан Диккенс вынес из вагона свой кожаный саквояж с рукописью шестнадцатого выпуска «Нашего общего друга», над которым работал во Франции, но сейчас он вспомнил, что последние две главы остались в кармане его пальто — аккуратно свернутое, оно по-прежнему лежало на багажной полке над их местами в самом конце салона. Вагон со скрипом и скрежетом раскачивался на высоте тридцати футов над рекой, бросающей зыбкие солнечные блики в разбитые окна. Утвердившись ногами на спинке кресла, Диккенс достал с полки пальто, извлек из него рукопись — немного замусоленную, но целую и невредимую — и, по-прежнему балансируя на спинке кресла, засунул пачку страниц в карман сюртука. В следующий миг Диккенс случайно бросил взгляд вниз, сквозь дверь с разбитым стеклом в торце вагона. Прямо под вагоном, с полным пренебрежением к опасности, которую представляла собой повисшая в воздухе многотонная махина из железа и дерева, стоял с запрокинутой головой человек по имени Друд и пристально смотрел на Диккенса — причем из-за причудливой игры солнечных бликов на речной глади складывалось впечатление, будто он стоит не в, а на воде. Тусклые глаза в глубоких глазницах казались лишенными век. Губы Друда приоткрылись и зашевелились, за мелкими редкими зубами мелькнул мясистый язык, и Диккенс расслышал свистящие звуки, но не разобрал ни единого слова сквозь металлический скрежет раскачивающегося вагона и непрерывные крики раненых в речной долине. «Невразумительно, — пробормотал он. — Невразумительно». Внезапно вагон сильно качнулся и дернулся вниз, словно собираясь упасть. Диккенс машинально схватился одной рукой за полку, чтобы удержаться на ногах. Когда колебание прекратилось и он снова посмотрел вниз, Друд уже исчез. Писатель перекинул пальто через плечо, вскарабкался вверх по рядам кресел и выбрался наружу.
Глава 2
Девятого июня, когда мой друг попал в железнодорожную катастрофу близ Стейплхерста, я находился в отъезде. И только по возвращении в Лондон, через три дня после трагического происшествия, я получил от моего младшего брата Чарльза, женатого на старшей дочери Диккенса, записку с сообщением о близком столкновении писателя со смертью. Я тотчас же поспешил в Гэдсхилл. Хочется надеяться, дорогой читатель, живущий в моем далеком посмертном будущем, что вы помните Гэдсхилл — Гэдский холм — по трагедии Шекспира «Генрих IV». Вы наверняка помните Шекспира, даже если все остальные писатели, жалкие бумагомараки рядом с ним, уже давно растворились в тумане истории. Именно на Гэдском холме Фальстаф замышляет грабеж, но остается в дураках, когда принц Гарри с другом переодеваются разбойниками и грабят незадачливого грабителя, после чего сэр Джон Толстый в страхе ударяется в бегство и позже рассказывает о нападении, по ходу повествования превращая Гарри с подручным сначала в четырех разбойников, потом в восьмерых, потом в двадцатерых и так далее. Неподалеку от усадьбы Диккенса находится гостиница «Фальстаф-Инн», и мне кажется, мысль о связи собственного поместья с именем Шекспира нравилась нашему другу не меньше, чем пиво, которое он частенько пил в упомянутой гостинице в конце своих долгих прогулок. Подъезжая в наемном экипаже к месту назначения, я невольно вспомнил, что Гэдсхилл-плейс дорог сердцу Чарльза Диккенса еще по одной причине, появившейся задолго до того, как он купил имение десять лет назад. Гэдсхилл находился в деревне под названием Чатем, примыкавшей к кафедральному городку Рочестер, расположенному милях в двадцати пяти от Лондона. В Чатеме писатель провел самые счастливые годы детства, а в зрелости часто возвращался туда и бродил по окрестностям, словно неприкаянное привидение в поисках последнего приюта. Сам дом, Гэдсхилл-плейс, показал семи- или восьмилетнему Чарльзу Диккенсу отец во время одной из бесчисленных совместных прогулок. Джон Диккенс сказал тогда приблизительно следующее: «Если будешь усердно трудиться, сынок, однажды ты станешь владельцем такого вот роскошного особняка». В феврале 1855 года, в свой сорок третий день рождения, «сынок» поехал с несколькими своими друзьями в Чатем на обычную сентиментальную прогулку и, к великому своему изумлению, обнаружил, что недосягаемый особняк, столь памятный по детским годам, выставлен на продажу. Диккенс признавал, что Гэдсхилл-плейс представляет собой скорее просто комфортабельный деревенский дом, нежели особняк в полном смысле слова (на самом деле прежний дом Диккенса, Тэвисток-хаус, выглядел гораздо внушительнее во всех отношениях), хотя после покупки имения писатель вложил немалые средства в реставрацию, реконструкцию, декорирование и благоустройство старинного здания. На первых порах он планировал осуществить мечту покойного отца о рентном доходе с собственности, потом вознамерился жить в Гэдсхилле наездами, но после неприятного расставания с Кэтрин он сначала сдал Тэвисток-хаус в аренду, а затем и вовсе выставил городской особняк на продажу, перебравшись на постоянное жительство в имение. (Впрочем, он всегда снимал в Лондоне несколько квартир, где время от времени жил, порой тайно, — одна из них располагалась прямо над конторой нашего журнала «Круглый год».) После приобретения усадьбы Диккенс сказал своему другу Уиллсу: «Гэдсхилл-плейс казался мне великолепным особняком (хотя никакого великолепия там нет и в помине), когда я был странным маленьким мальчиком, в чьей голове уже зарождались смутные образы всех будущих моих книг». Когда экипаж свернул с Грейвсенд-роуд и покатил по извилистой аллее к трехэтажному краснокирпичному зданию, я думал о том, что в конечном счете эти смутные образы материализовались для многих тысяч читателей, а сам Диккенс теперь обитает в этих прочных стенах, которые его никчемный отец, потерпевший неудачу и в семейной, и в финансовой сфере, в далеком прошлом привел своему сыну в пример как высочайшую возможную награду за успехи в личной и профессиональной жизни.Служанка впустила меня, и я поздоровался с вышедшей мне навстречу Джорджиной Хогарт, свояченицей Диккенса и нынешней хозяйкой дома. — Как себя чувствует Неподражаемый? — спросил я, употребив общепринятое прозвище, особо любимое писателем. — У него расстроены нервы, мистер Коллинз, совсем расстроены, — прошептала Джорджина и приложила палец к губам. Кабинет Диккенса находился совсем рядом, справа от парадного входа. Дверь там была закрыта, но я часто гостил в Гэдсхилле и знал, что хозяин всегда держит дверь кабинета закрытой, работает он или нет. — Он испытал столь сильное потрясение, что в первую ночь после катастрофы мистеру Уиллсу пришлось переночевать с ним в лондонской квартире, — продолжала Джорджина театральным шепотом. — На случай, если вдруг понадобится помощь. Я кивнул. Первоначально нанятый на должность сотрудника диккенсовского журнала «Домашнее чтение», чрезвычайно практичный и напрочь лишенный воображения Уильям Генри Уиллс — во многих отношениях полная противоположность темпераментному и энергичному Диккенсу — в конечном счете стал ближайшим другом и доверенным лицом знаменитого писателя, оттеснив в сторону даже старых друзей вроде Джона Форстера. — Он сегодня не работает, — прошептала Джорджина. — Я спрошу, примет ли он вас. — Она приблизилась к двери кабинета с явной опаской. — Кто там? — раздался из кабинета чей-то голос, когда Джорджина тихонько постучала. Я сказал «чей-то», поскольку голос принадлежал явно не Чарльзу Диккенсу. У нашего знаменитого писателя, как еще долго помнили все его знакомые, был низкий голос и торопливый говор с чуть смазанной дикцией — последнюю особенность многие принимали за шепелявость, и именно она заставляла Диккенса, в качестве компенсации, излишне старательно артикулировать гласные и согласные, вследствие чего его скорая, но очень четкая и гладкая речь порой производила на посторонних людей впечатление напыщенности. Сейчас же я услышал совершенно незнакомый голос. Дребезжащий старческий тенорок. — К вам мистер Коллинз, — пролепетала Джорджина, обращаясь к дубовой двери. — Пускай он возвращается на свое болезное ложе, — проскрипел надтреснутый голос. Я растерянно моргнул. Последние пять лет, с самого времени своей женитьбы на Кейт Диккенс, мой младший брат страдал сильными приступами несварения и изредка слегал с различными недугами, но я был уверен, что все они не представляют никакой опасности для жизни. Диккенс считал иначе. Писатель решительно не одобрял этот брак, догадываясь, что любимая дочь вышла замуж за Чарльза — бывшего иллюстратора диккенсовских произведений — единственно из желания досадить ему, и явно убедил себя, что мой брат находится при смерти. Как мне недавно стало известно из достоверного источника, Диккенс однажды обмолвился в разговоре с Уиллсом, что мой дорогой брат по состоянию здоровья «совершенно непригоден ни к какой деятельности», и, даже будь это правдой (а это чистая неправда), сказать подобное мог только человек в высшей степени бессердечный. — Нет, мистерУилки, — уточнила Джорджина и опасливо оглянулась через плечо, словно надеясь, что я не услышал. — О!.. — произнес дрожащий старческий голос. — Так какого черта вы сразу не сказали? За дверью послышались приглушенные звуки возни и шаркающие шаги, потом в замке со скрежетом провернулся ключ (что само по себе казалось странным, ибо Диккенс имел обыкновение запирать кабинет снаружи, но никогда не запирал изнутри), и дверь распахнулась. — Милейший Уилки, милейший Уилки, — проговорил Диккенс незнакомым скрипучим голосом, простирая объятия. Он энергично потряс мне руку обеими своими руками, предварительно коротко пожав левой (в ней он держал часы с цепочкой) мое правое плечо. — Спасибо, Джорджина, — рассеянно бросил он, затворяя за нами дверь, но на сей раз не запирая на ключ. Он провел меня в темный кабинет. Вот еще одна странность. Я никогда прежде не видел, чтобы эркерные окна в святая святых писателя были зашторены в дневное время, но сейчас их плотно закрывали портьеры. Единственным источником света служила лампа на журнальном столике в центре комнаты. На стоявшем в эркере письменном столе, обращенном к окнам, лампы не было. Лишь немногие из нас удостаивались лицезреть Диккенса за работой в этом кабинете, но все лицезревшие находили несколько нелепым, что он неизменно сидит лицом к окнам, выходящим в сад и на Грейвсенд-роуд, но не видит за ними ничегошеньки, когда поднимает взор от пера и бумаги. Во время работы писатель погружался в мир собственных фантазий и полностью отрешался от внешнего мира — лишь изредка посматривал на свое отражение в зеркале, гримасничая, ухмыляясь, хмурясь, выкатывая глаза как бы от ужаса и придавая лицу разные другие карикатурные выражения, какими наделял своих персонажей. Диккенс протащил меня в глубину темного кабинета и знаком пригласил сесть в кресло у письменного стола. Если не считать наглухо задернутых штор, комната выглядела как обычно — чистота и порядок почти маниакального свойства (нигде ни пылинки, хотя Диккенс никогда не позволял слугам убираться в своем кабинете). Письменный стол с наклонной рабочей поверхностью, набор необходимых для работы предметов, аккуратно расставленных и разложенных, всегда в одной последовательности, на горизонтальной части столешницы, словно заветные талисманы, — календарь-ежедневник, чернильница, перья, карандаш, каучуковый ластик, явно ни разу не использованный, подушечка для булавок, бронзовая статуэтка в виде двух дерущихся жаб, нож для разрезания бумаги, неизменно лежащий строго перпендикулярно краю стола, стилизованная фигурка кролика на позолоченнойподставке. Все это были своего рода символы удачи — «обязательные аксессуары», по выражению Диккенса. Однажды он сказал мне, что на них «отдыхает мой глаз, когда я ненадолго откладываю перо в сторону». В Гэдсхилле он не написал бы без них ни единого слова, как не написал бы без чернил и гусиных перьев. Вдоль стен кабинета размещались книжные стеллажи — один стеллаж с фальшивыми корешками (почти на всех значились комичные названия, придуманные самим Диккенсом), в свое время изготовленный для Тэвисток-хауса, а ныне привинченный здесь к двери, и сплошные ряды настоящих полок, которые тянулись по всему периметру комнаты, прерываясь только на окнах и красивом бело-голубом камине, украшенном двадцатью дельфтскими изразцами. Сам Диккенс в тот июньский день выглядел страшно постаревшим. Высокие залысины, глубоко запавшие глаза, морщины и складки на лице резко выделялись в жестком свете газовой лампы, стоявшей на журнальном столике. Он то и дело посматривал на зажатый в руке хронометр с закрытой крышкой. — Очень мило с вашей стороны, что вы приехали, дорогой Уилки, — проскрипел Диккенс. — Да бросьте, пустое, — сказал я. — Я бы приехал раньше, когда бы не находился в отлучке, о чем, полагаю, вам сообщил мой брат. Голос у вас какой-то чудной, Чарльз. — Чужой? — переспросил он с мимолетной улыбкой. — Чудной. Он отрывисто хохотнул. Редко в каком разговоре Чарльз Диккенс обходился без смеха. Я в жизни не встречал второго такого смешливого человека. Он находил комичное практически в любой, даже самой серьезной, ситуации, как иные из нас, к великому своему смущению, находят в похоронах. — «Чужой» в данном случае звучит уместнее, позволю себе заметить, — сказал Диккенс дребезжащим старческим тенорком. — Я самым необъяснимым образом поменялся с кем-то голосом на месте страшной Стейплхерстской катастрофы. Очень хотелось бы, чтобы сей господин вернул мне мой голос и забрал свой… Это скрипучее блеяние, приличествующее больше мистеру Микоберу в старости, мне совсем не по душе. Такое ощущение, будто кто-то дерет наждачной бумагой голосовые связки и самые звуки, ими производимые. — Надеюсь, никаким иным образом вы не пострадали? — спросил я, подаваясь вперед, в круг света от лампы. Диккенс небрежно отмахнулся от вопроса и снова уставился на золотые часы, зажатые в руке. — Дорогой Уилки, нынче ночью мне приснился в высшей степени удивительный сон. — Вот как? — сочувственно промолвил я, готовясь услышать описание кошмаров, связанных с железнодорожной катастрофой. — Мне снилось, будто я читаю свою книгу, написанную в будущем, — тихо проговорил Диккенс, нервно вертя часы в руках; золотой корпус поблескивал в свете единственной лампы. — Страшную книгу… в ней человек сам себя загипнотизировал до такой степени, что он — или его второе «я», созданное силой внушения, — стал способен на чудовищные, немыслимые злодейства. На эгоистичные, разрушительные, продиктованные похотью поступки, которые этот человек — во сне мне почему-то хотелось называть его Джаспером — никогда не совершил бы сознательно. И еще один… еще одно существо… было замешано во всей этой истории. — Сам себя загипнотизировал, — пробормотал я. — Разве такое возможно? Я доверяю вашему мнению, дорогой Чарльз, ведь вы дольше и лучше меня знакомы с искусством магнетического воздействия. — Понятия не имею. Я никогда не слышал о самогипнозе, но это не значит, что подобного феномена не существует. — Он взглянул на меня. — Вы когда-нибудь погружались в месмерический транс, Уилки? — Нет, — ответил я со смешком. — Правда, меня мало кто пытался загипнотизировать. Я не счел нужным добавлять, что профессор Джон Эллиотсон, бывший сотрудник клиники при университетском колледже, учитель и наставник самого Диккенса в искусстве месмеризма, потерпел неудачу во всех своих попытках магнетически воздействовать на меня. Просто я обладал слишком сильной волей. — Давайте попробуем, — сказал Диккенс, принимаясь раскачивать часы на цепочке, как маятник. — Чарльз, — я хихикнул, хотя никакой веселости не испытывал, — ну зачем вам это, скажите на милость? Я приехал, чтобы услышать рассказ о пережитой вами ужасной катастрофе, а не играть в салонные игры с часами и… — Ну пожалуйста, сделайте мне одолжение, милейший Уилки, — попросил Диккенс. — Вы же знаете, у меня неплохо получалось гипнотизировать других людей — кажется, я говорил вам о долгом и довольно успешном курсе месмерического лечения, проведенного мной с бедной мадам де ля Рю во время моего пребывания на континенте. Я неопределенно хмыкнул. Диккенс давно уже успел рассказать всем своим друзьям и знакомым о продолжительной серии магнетических сеансов, которые он с маниакальным упорством проводил с «бедной» мадам де ля Рю. Он не упомянул никому из нас лишь об одном обстоятельстве (известном, впрочем, всем нам и без него): что сеансы гипноза с замужней и явно сумасшедшей дамой, происходившие в самые разные часы дня и ночи, вызвали у его жены Кэтрин такую ревность, что она — наверное, впервые за все годы супружества — взбунтовалась и потребовала, чтобы он прекратил курс лечения. — Пожалуйста, следите взглядом за часами, — сказал Диккенс, мерно раскачивая золотой диск в полумраке. — Ничего не выйдет, мой дорогой Чарльз. — Вам хочется спать, Уилки… вам очень хочется спать… у вас слипаются глаза. Вам так хочется спать, словно вы недавно приняли несколько капель лауданума. Я едва не рассмеялся в голос. Перед самым выездом из дома я принял несколько десятков капель лауданума, как делал каждое утро. Вдобавок по дороге в Гэдсхилл я чересчур часто прикладывался к своей серебряной фляжке. — Вам очень… очень… хочется спать, — монотонно продолжал Диккенс. С минуту я честно старался впасть в дремоту, просто чтобы угодить Неподражаемому. Судя по всему, таким образом мой друг пытался отвлечься от жутких воспоминаний о недавней железнодорожной катастрофе. Я сосредоточил взгляд на раскачивающихся часах. Прислушивался к монотонному голосу Диккенса. По правде говоря, жаркая духота закрытой комнаты, приглушенное освещение, блеск мерно колеблющегося золотого диска, а прежде всего утренняя доза лауданума все-таки вызвали у меня короткий, буквально секундный, приступ сонливости. Позволь я себе расслабиться в тот момент, я бы наверняка погрузился в сон, если не в гипнотический транс, в какой хотел ввергнуть меня Диккенс. Но я стряхнул с себя дремоту прежде, чем она овладела мной, и резко промолвил: — Мне очень жаль, Чарльз. Со мной ничего не получится. У меня слишком сильная воля. Диккенс разочарованно вздохнул и убрал часы в карман. Потом он подошел к окну и слегка раздвинул портьеры. Мы оба прищурились от яркого солнечного света. — Да, верно, — промолвил Диккенс. — Почти все писатели обладают слишком сильной волей, чтобы поддаваться гипнотическому воздействию. Я рассмеялся. — В таком случае, если вы когда-нибудь напишете роман, основанный на сегодняшнем вашем сновидении, наделите вашего персонажа Джаспера не писательской, а какой-нибудь иной профессией. Диккенс натужно улыбнулся. — Я так и сделаю, милейший Уилки. Он вернулся к своему креслу. — Как себя чувствуют мисс Тернан и ее мать? — осведомился я. Диккенс нахмурился, не скрывая своего недовольства. Даже в разговорах со мной любые упоминания об этой сугубо личной, тайной стороне его жизни — сколь бы уместными они ни представлялись и сколь бы остро он ни испытывал потребность выговориться — неизменно приводили моего друга в смущение. — Мать мисс Тернан практически не пострадала, если не считать нервного потрясения, неблагоприятного для особы столь почтенного возраста, — проскрипел Диккенс, — но сама мисс Тернан получила несколько серьезных ушибов, и доктор подозревает у нее трещину или смещение нижнего шейного позвонка. Ей очень больно поворачивать голову. — Это весьма прискорбно, — сказал я. Не добавив более ни слова на сей счет, Диккенс тихо спросил: — Желаете ли вы услышать обстоятельный рассказ о катастрофе и ее последствиях, дорогой Уилки? — Безусловно, дорогой Чарльз. Безусловно. — Вы понимаете, что останетесь единственным человеком, посвященным во все подробности трагического происшествия? — Вы окажете мне великую честь своим доверием, — промолвил я. — И не сомневайтесь: я буду хранить молчание до гроба. Наконец-то Диккенс улыбнулся по-настоящему — своей внезапной, уверенной, озорной и немного мальчишеской улыбкой, обнажавшей желтоватые зубы в зарослях бороды, которую он отпустил для роли в моей пьесе «Замерзшая пучина» восемь лет назад и с той поры ни разу не сбривал. — До вашего или моего гроба, Уилки? — спросил он. Я растерянно моргнул, на секунду смешавшись. — До обоих, заверяю вас, — наконец сказал я. Диккенс кивнул и принялся надтреснутым старческим тенорком рассказывать историю о Стейплхерстской катастрофе.
— Боже мой! — прошептал я, когда сорока минутами позже Диккенс закончил. — Боже мой! — Вот именно, — промолвил писатель. — Эти несчастные люди… — проговорил я голосом почти таким же надломленным, как у Диккенса. — Несчастные люди. — Просто невообразимо, — повторил Диккенс. Я никогда прежде не слышал от него слова «невообразимо», но сейчас он употребил его раз двадцать по ходу повествования. — Я не забыл упомянуть, что у мужчины, извлеченного нами из огромной груды обломков — беднягу там зажало вверх ногами, — текла кровь из глаз, ушей, носа и рта, пока мы метались в поисках его жены? Похоже, за считанные минуты до катастрофы он поменялся местом с каким-то французом, не желавшим сидеть у открытого окна. Француза мы нашли мертвым. Жена истекающего кровью страдальца тоже погибла. — Боже мой, — снова прошептал я. Диккенс на несколько мгновений прикрыл ладонью глаза, словно заслоняясь от света. А затем вновь устремил на меня острый, пристальный взгляд, какого, признаться, я в жизни не видел ни у одного другого человека. Как мы еще не раз убедимся в ходе моей достоверной истории, дорогой читатель, Чарльзу Диккенсу нельзя было отказать в силе воли. — Что вы думаете об описанном мной загадочном субъекте, назвавшемся Друдом? — спросил Диккенс тихим, но очень напряженным голосом. — Это что-то совершенно невероятное, — ответил я. — Значит ли это, милейший Уилки, что вы не верите в существование Друда или в правдивость моего описания? — Вовсе нет, вовсе нет, — торопливо сказал я. — Я уверен, что вы абсолютно точно обрисовали его внешность и повадки, Чарльз… Среди ныне живущих да и среди погребенных со всеми почестями в Вестминстерском аббатстве литераторов не найдется более прозорливого и искусного живописателя индивидуальных человеческих черт, чем вы, друг мой. Но мистер Друд… это нечто невероятное. — Вот именно, — кивнул Диккенс. — И теперь наш с вами долг, дорогой Уилки, — разыскать его. — Разыскать? — тупо повторил я. — Но зачем, скажите на милость? — С мистером Друдом связана некая тайна, которую необходимо раскрыть, — прошептал Диккенс. — Прошу прощения за торжественную многозначительность сей фразы. Что делал этот человек — если он вообще человек — на фолкстонском курьерском в дневное время? Почему в ответ на мой вопрос он сказал, что направляется в Уайтчепел и трущобы Ист-Энда? Чем он занимался на месте катастрофы? Я недоуменно уставился на собеседника. — Но, Чарльз, чем еще он мог заниматься, если не тем же, чем занимались вы сами? Оказывал помощь живым и извлекал из под обломков мертвых. Диккенс снова улыбнулся, но без всякой теплоты или веселости. — Там творились темные дела, дорогой Уилки. Я уверен. Повторяю вам: несколько раз я видел, как Друд — если это настоящее его имя — склоняется над ранеными, а когда позже я подходил к ним, они уже не дышали. — Но вы говорили также, что несколько пострадавших, кому вы сами оказывали помощь, тоже умерли через считанные минуты. — Да, — прохрипел Диккенс своим новым, незнакомым голосом, опуская подбородок в стоячий воротник. — Но я не помогал им отправиться в мир иной. Ошеломленный, я откинулся на спинку кресла. — О господи! Вы хотите сказать, что ваш трупообразный субъект в оперном плаще… убивал… несчастных жертв катастрофы? — Я хочу сказать, что там имел место своего рода каннибализм, мой дорогой Уилки. — Каннибализм! Впервые за все время разговора я подумал, уж не повредился ли мой друг в уме. Да, внимая рассказу о железнодорожном крушении, я сильно усомнился в достоверности описания и даже в самом факте существования Друда — он казался скорее персонажем дешевого романа ужасов, нежели реальным человеком, какого можно встретить в дневном фолкстонском поезде, — но посчитал, что причина подобной галлюцинации кроется в тяжелом нервном потрясении, от которого Диккенс лишился голоса. Но если речь заходит о каннибализме, не исключено, что он лишился не только голоса, но и рассудка. Диккенс снова улыбался и смотрел на меня обычным своим пронзительным взглядом, вызывавшим у многих уверенность — во всяком случае, на первых порах знакомства, — что Чарльз Диккенс умеет читать мысли. — Нет, дорогой Уилки, я не сумасшедший, — тихо промолвил он. — Мистер Друд был столь же материальным, как вы или я, и в каком-то неопределенном смысле даже более странным, чем я описал. Возымей я желание сделать этого человека персонажем одного из своих романов, я бы не стал описывать его таким, каким увидел в действительности, — для литературного образа у него слишком странные повадки, слишком зловещий вид, слишком гротескная наружность. Но, как вам хорошо известно, подобные фантомные личности существуют в действительности. Их можно встретить в ходе ночных прогулок по Уайтчепелу и прочим трущобным районам Лондона. И зачастую они могут поведать истории более диковинные, чем любой вымысел простого романиста. Теперь настала моя очередь улыбнуться. Никто никогда не слышал, чтобы Неподражаемый называл себя «простым романистом», и я ни на миг не усомнился, что и сейчас он не сделал этого. Он говорил о других «простых романистах». Возможно, обо мне. — Ну и какие же шаги вы предлагаете предпринять к розыску вашего мистера Друда, Чарльз? И что мы станем делать, когда установим местонахождение этого господина? — Помните, мы с вами обследовали дом с привидениями? Я помнил. Несколько лет назад Диккенс — как главный редактор своего нового журнала «Круглый год», пришедшего на смену «Домашнему чтению» после ссоры моего друга с издателями, — ввязался в дискуссию со спиритуалистами. В пятидесятые годы все повально увлекались верчением столов, спиритическими сеансами, месмеризмом (который Диккенс не только признавал, но и усердно практиковал) и прочими подобными играми с незримыми энергиями. Но хотя Диккенс верил в месмеризм, или, иначе, животный магнетизм, и в глубине души был суеверен (например, считал пятницу своим счастливым днем), он счел нужным вступить в спор со спиритуалистами. Когда один из его оппонентов, спиритуалист по имени Уильям Хоуитт, в подтверждение своих аргументов подробно рассказал о некоем доме с привидениями в лондонском пригороде Чесхант, Диккенс тотчас решил, что нам — редакторам и сотрудникам журнала «Круглый год» — надлежит немедленно туда отправиться и расследовать дело о призраках на месте. У.Г.Уиллс и я выехали вперед в двухместной карете, но Диккенс и один из наших постоянных сотрудников, Джон Холлингсхед, прошли шестнадцать миль до деревни пешком. После продолжительных плутаний по окрестностям (к счастью, Диккенс, усомнившись в качестве местной пищи, отправил со мной и Уиллсом закуску из свежей рыбы) мы наконец нашли так называемый дом с привидениями и провели остаток дня, расспрашивая о нем соседей, местных лавочников и даже прохожих, но в итоге сошлись во мнении, что «привидения» Хоуитта — это всего лишь крысы да слуга по имени Фрэнк, имевший обыкновение незаконно охотиться на кроликов по ночам. Тогда, при свете дня и в обществе трех спутников, Диккенс держался довольно смело, но я слышал, что на другую аналогичную вылазку, предпринятую ночью с целью обследовать старое кладбище неподалеку от Гэдсхилл-плейс, по слухам, населенное призраками, он отправился в сопровождении нескольких слуг и с заряженным ружьем. Младший сын писателя, носивший семейное прозвище Плорн, рассказывал впоследствии, что отец сильно нервничал и предупредил: «Любому, кто вздумает играть шутки, я отстрелю голову, коли у него таковая имеется». И они действительно услышали потусторонние завывания, стоны «ужасные звуки — похожие и одновременно непохожие на человеческий голос». Это оказалась страдающая астмой овца. Диккенс не стал отстреливать голову бедному животному. По возвращении домой он угостил всех — и слуг, и детей — разбавленным водой ромом. — Тогда мы знали, где находится дом с привидениями, — указал я Диккенсу. — Но как мы найдем мистера Друда? Где станем искать, Чарльз? Внезапно у Диккенса изменились выражение и самый облик лица — оно словно вытянулось, сморщилось и побледнело пуще прежнего. Глаза расширились до такой степени, что верхних век стало не видно и белки жутковато заблестели в свете лампы. Он сильно ссутулился, приняв позу то ли согбенного летами старца, то ли притаившегося во тьме грабителя могил, то ли нахохлившегося канюка. Голос его, по-прежнему скрипучий, зазвучал тонко и пронзительно, с резким присвистом, когда он заговорил, шевеля в воздухе длинными бледными пальцами, точно чернокнижник, читающий заклинания. — Лаймхаус-с-с, — прошипел Диккенс, изображая Друда из своей истории. — Уайтчепел. Рэтклифф-крос-с-с. Джин-лейн. Три-Фоксес-с-с. Корт. Бутчер-роу и Коммерш-ш-шиал-роуд. Минт и прочие трущ-щ-щобы. Признаться, по спине у меня побежали мурашки. В отроческом возрасте, еще до начала своей писательской карьеры, Чарльз Диккенс обнаруживал столь незаурядные имитаторские способности, что отец ходил с ним по трактирам, где он изображал местных жителей, встреченных во время прогулок. В тот момент я начал верить в существование таинственного субъекта по имени Друд. — Когда? — спросил я. — С-с-скоро, — с присвистом произнес Диккенс, но уже приняв обычный свой облик и озорно улыбаясь. — Прежде мы с вами уже совершали подобные экскурсии в «Вавилон», милейший Уилки. Мы видели «гигантское пекло» в ночное время. Да, верно. Лондонская клоака всегда вызывала у него живейший интерес. А «Вавилон» и «гигантское пекло» были его излюбленными словечками для обозначения самых грязных городских трущоб. Наши с Диккенсом ночные вылазки в темные лабиринты нищих улочек, тесно застроенных съемными лачугами, до сих пор снятся мне в кошмарных снах. — Я полностью в вашем распоряжении, дорогой Диккенс, — с энтузиазмом сказал я. — И явлюсь для исполнения обязанностей завтра же вечером, коли вам угодно. Мой друг помотал головой. — Мне нужно восстановить голос, дорогой Уилки. Я запаздываю с последними выпусками «Нашего общего друга». И в ближайшие дни должен сделать еще много разных дел, помимо исцеления упомянутого выше «пациента». Вы останетесь на ночь, сэр? Ваша комната готова принять вас, как всегда. — Увы, не могу, — сказал я. — Мне необходимо вернуться в город сегодня же. У меня там важные дела. Я не стал уточнять, что мои «важные дела» сводятся главным образом к пополнению запасов лауданума — лекарства, без которого даже тогда, в 1865 году, я не мог прожить ни дня. — Хорошо, — промолвил он, вставая с кресла. — Могу ли я попросить вас о большом одолжении, Уилки? — Все, что угодно, дорогой Диккенс, — живо откликнулся я. — Приказывайте, и я повинуюсь, друг мой. Диккенс взглянул на свой хронометр. — Вы уже опаздываете на ближайший поезд, делающий остановку в Грейвсенде, но если Чарли заложит двуколку, мы доставим вас в Хайэм ко времени отправления курьерского, идущего на вокзал Чаринг-Кросс. — Я еду на вокзал Чаринг-Кросс? — Да, дорогой Уилки, — ответил Диккенс, крепко сжимая мое плечо; мы вышли из темного кабинета в более светлую прихожую. — По дороге к станции я объясню вам почему.
Джорджина не вышла с нами из дома, но Неподражаемый послал за двуколкой своего старшего сына Чарли, гостившего тогда в Гэдсхилле. На переднем дворе царил образцовый порядок, как повсюду во владениях писателя: алые герани, любимые цветы Диккенса, посаженные ровными рядами; два огромных ливанских кедра, растущие сразу за аккуратно подстриженной лужайкой и сейчас отбрасывающие тени на восток вдоль дороги. Что-то в длинных рядах гераней, между которыми мы шагали направляясь к Чарли и двуколке, вдруг вызвало у меня смутное беспокойство. У меня учащенно забилось сердце и похолодела спина. Спустя несколько мгновений я осознал, что Диккенс разговаривает со мной. — …Сразу после катастрофы я отвез его на санитарном поезде в гостиницу «Чаринг-Кросс», — говорил он. — Я заплатил двум сиделкам, чтобы они находились с ним днем и ночью, ни на минуту не оставляя одного. Я буду премного вам благодарен, милейший Уилки, если вы зайдете к нему нынче вечером, передадите поклон от меня и скажете, что я сам наведаюсь к нему сразу, как только найду в себе силы выбраться в город, — скорее всего, завтра. Если сиделки доложат, что его состояние ухудшилось, вы окажете мне великую услугу, коли при первой же возможности отправите в Гэдсхилл посыльного с сообщением. — Конечно, Чарльз, — откликнулся я. По всей видимости, речь шла о юноше, которого Диккенс помог вытащить из разбитого вдребезги вагона, а потом самолично доставил в гостиницу у вокзала Чаринг-Кросс. О юноше по имени Диккенсон. Эдмонд или Эдвард Диккенсон, насколько я помнил. Довольно необычное совпадение, если подумать. Когда мы покатили по подъездной аллее, прочь от алых гераней, необъяснимое паническое чувство исчезло так же быстро, как появилось. Легкая рессорная коляска была рассчитана на двоих, но Диккенс втиснулся в нее вместе со мной и Чарли. Молодой человек тронул малорослую лошадку с места, и мы выехали на Грейвсенд, а потом повернули на Рочестер-роуд, ведущую к станции Хайэм. Времени до поезда оставалось предостаточно. Поначалу Диккенс держался самым непринужденным образом, болтая со мной о разных мелочах, связанных с изданием нашего журнала, но когда двуколка набрала скорость, равняясь на другие бегущие по дороге экипажи, и далеко впереди уже показалась станция Хайэм, лицо писателя, все еще загорелое после отдыха во Франции, сперва побледнело, а потом приобрело землистый оттенок. На висках и щеках у него выступили бисеринки пота. — Пожалуйста, помедленнее, Чарли. И не раскачивай повозку. Это страшно действует на нервы. — Хорошо, отец. Чарли натянул поводья, и лошадка перешла с рыси на резвый шаг. Я заметил, как бескровные губы Диккенса сжимаются в нитку. — Помедленнее, Чарли. Бога ради, не так быстро. — Хорошо, отец. Чарли в свои без малого тридцать лет походил на испуганного мальчишку, когда бросил взгляд на отца, который сейчас вцепился обеими руками в бортик кузова и без всякой необходимости подался всем корпусом вправо. — Пожалуйста, помедленнее! — выкрикнул Диккенс. Теперь коляска двигалась со скоростью пешего шага — причем отнюдь не быстрого ровного шага, каким Диккенс мог ежедневно проходить (и проходил) по двенадцать, шестнадцать и даже двадцать миль, покрывая по четыре мили в час. — Мы не успеем к поезду… — начал Чарли, взглядывая сначала вперед, на отдаленные шпили и башню вокзала, а потом на часы. — Остановись! Дай мне выйти, — приказал Диккенс. Лицо у него стало серым, как хвост нашего пони. Он с трудом вылез из двуколки и торопливо пожал мне руку. — Я пойду обратно пешком. По такой погоде прогуляться — одно удовольствие. Желаю благополучно добраться до города — и, пожалуйста, пришлите мне весточку нынче же вечером, если молодой Диккенсон в чем-нибудь нуждается. — Непременно, Чарльз. До скорой встречи. Обернувшись в последний раз, я не узнал Диккенса со спины: он казался гораздо старше своих лет и шагал не обычной своей уверенной скорой поступью, а еле плелся по обочине, тяжело опираясь на трость.
Глава 3
Каннибализм. Сидя в поезде, идущем на вокзал Чаринг-Кросс, я размышлял об этом странном, диком понятии и явлении, уже пагубно повлиявшем на жизнь Чарльза Диккенса. (Тогда я не имел понятия, сколь ужасным образом — и очень скоро — оно повлияет на мою жизнь.) В силу какой-то своей психологической особенности Чарльз Диккенс всегда испытывал нездоровый интерес к каннибализму в прямом и переносном смысле слова. В ходе своего публичного расставания с Кэтрин и сопутствующего скандала, который он старательно раздувал и предавал гласности (хотя сам он никогда не признал бы данного факта), писатель неоднократно говорил мне: «Они едят меня заживо, Уилки. Мои враги, семейка Хогартов, введенная в заблуждение общественность, желающая верить в самое худшее, — все они пожирают меня кусок за куском». В течение последних десяти лет Диккенс часто приглашал меня с собой в Лондонский зоологический сад, в каковых походах неизменно находил огромное наслаждение. Но как бы он ни любил наблюдать за семейством гиппопотамов, экзотическими птицами в вольере и львами в клетке, главной целью для него всегда оставалось посещение террариума в час кормления рептилий. Диккенс ни разу не пропустил этого действа и постоянно торопил меня, чтобы поспеть ко времени. Рептилий — а именно змей — кормили мышами и крысами, и это зрелище, казалось, гипнотизировало моего друга (который, будучи сам гипнотизером, решительно противился всякому гипнозу). В такие минуты он застывал, словно пригвожденный к месту. И не единожды, сидя со мной в экипаже, в театре перед началом спектакля или даже в собственной своей гостиной, Диккенс вспоминал вслух, как зачастую две змеи одновременно набрасывались с разных сторон на крысу, а несчастный грызун продолжал судорожно бить по воздуху всеми четырьмя лапами, когда его голова и хвост уже скрывались в змеиных пастях с мощными челюстями, неумолимо двигавшихся навстречу друг другу. Всего за несколько месяцев до Стейплхерстской катастрофы Диккенс по секрету признался мне, что ножки ванны, столов, кресел и даже толстые шнуры портьер у него в доме представляются ему змеями, медленно пожирающими ванну, столешницы, кресельные сиденья и занавеси соответственно. «Когда я не смотрю, дом пожирает сам себя, дорогой Уилки», — сказал мне мой друг как-то за пуншем. Он также сказал, что часто на разных банкетах (как правило, банкетах в его честь) он вдруг окидывает взглядом сидящих за длинным столом соратников, друзей и коллег, поглощающих куски телятины, баранины или курятины, и на мгновение, на одно ужасное мгновение ему чудится, будто все они подносят ко рту судорожно дергающиеся конечности. Но конечности не мышиные и не крысиные, а… человеческие. Диккенс сказал, что подобные видения… ну, сильно действуют на нервы. Но именно каннибализм в подлинном смысле слова (или, во всяком случае, устойчивые слухи о нем) изменил ход жизни Чарльза Диккенса одиннадцать лет назад. В октябре 1854-го вся Англия содрогнулась, прочитав отчет доктора Джона Рэя о находках, обнаруженных в ходе поисков пропавшей экспедиции Франклина. Если вы никогда не слышали об экспедиции Франклина, дорогой читатель далекого будущего, мне надлежит сказать л ишь, что в 1845 году сэр Джон Франклин со ста двадцатью девятью людьми предпринял попытку исследования Арктики на двух кораблях Британского военно-морского флота — «Эребус» и «Террор». Они отплыли в мае 1845-го. Главной их задачей было пройти по Северо-Западному проходу, соединяющему Атлантический и Тихий океаны (Англия всегда мечтала о новых и более коротких торговых путях на Дальний Восток). Франклин, самый старший участник экспедиции, был опытным путешественником, и все с уверенностью рассчитывали на успех смелого предприятия. В последний раз «Эребус» и «Террор» видели в Баффиновом заливе в конце лета 1845-го. Через три или четыре года, в течение которых от Франклина и его людей не поступило ни единой весточки, даже командование Военно-морского флота забеспокоилось и снарядило несколько спасательных экспедиций. Но корабли так до сего дня и не найдены. И парламент, и леди Франклин назначили огромное вознаграждение. Поисковые экспедиции — не только из Британии, но также из Америки и других стран — исходили Арктику вдоль и поперек в попытках найти Франклина и его людей или, по крайней мере, какие-нибудь свидетельства, дающие представление об участи, их постигшей. Леди Франклин твердо верила, что ее муж и команды обоих кораблей по-прежнему живы, и почти никто из правительства и флотского командования не решался переубеждать ее, даже когда большинство англичан оставили всякую надежду. Доктор Джон Рэй, служащий торговой Компании Гудзонова залива, совершил сухопутную экспедицию в северное Заполярье и на протяжении нескольких сезонов исследовал удаленные от материка острова (там нет ничего, кроме мерзлого гравия да бесконечных вьюг) и обширные пространства арктического ледового панциря, где бесследно сгинули «Эребус» и «Террор». В отличие от британских моряков и большинства других спасателей, Рэй жил в разных эскимосских племенах, овладел примитивными местными наречиями и в своем отчете процитировал показания многих аборигенов. Он привез из путешествия различные предметы — медные пуговицы, фуражки, столовые блюда с полустертым гербом сэра Джона, письменные инструменты, — принадлежавшие Франклину и прочим участникам экспедиции. Под конец Рэй обнаружил останки человеческих тел, как захороненных в мелких могилах, так и непогребенных, — в том числе два скелета, сидящих в корабельной шлюпке, установленной на санях. Англию потрясли не только эти страшные доказательства гибели франклиновской экспедиции, но и представленные Рэем свидетельства эскимосов, из которых следовало, что Франклин и его люди не просто погибли, а еще и предавались каннибализму в последние дни своей жизни. Дикари рассказали Рэю, что не раз наталкивались на стоянки белых людей, где находили обглоданные человеческие кости, груды отрубленных конечностей и даже высокие сапоги с сохранившимися в них ступней и голенью. Разумеется, леди Франклин пришла в ужас и решительно отказалась принимать на веру отчет Рэя (она даже снарядила на собственные средства очередной корабль, чтобы возобновить поиски мужа). Чарльза Диккенса тоже ужаснула и чрезвычайно возбудила мысль о каннибализме. Он начал публиковать статьи о предполагаемой трагедии не только в своем журнале «Домашнее чтение», но и в других изданиях. На первых порах он просто выражал сомнения и заявлял, что доктор Рэй «поторопился с выводом, будто участники экспедиции поедали тела умерших товарищей». Он просмотрел «уйму книг», говорил Диккенс (хотя не уточнял, каких именно), и утвердился в своем мнении, что «бедным людям Франклина и в голову не могла прийти мысль о поедании своих умерших товарищей». Когда все англичане начали либо верить в истинность представленного Рэем отчета (он потребовал-таки у правительства вознаграждение за неопровержимые доказательства факта гибели франклиновской экспедиции), либо забывать прискорбную историю, диккенсовские возражения приобрели яростный характер. В «Домашнем чтении» он обрушился с убийственной критикой на «дикарей» — так он называл всех людей с небелым цветом кожи, но в данном случае коварных, лживых, не заслуживающих доверия эскимосов, с которыми жил и общался Рэй. В наше время Диккенс считался крайним либералом, но почему-то никто не усомнился в его либерализме, когда он, выступая от лица английской нации, заявил: «…по нашему твердому убеждению, все дикари в глубине души трусливы, вероломны и жестоки». Такого просто быть не может, утверждал он, чтобы хоть один из людей сэра Джона Франклина «для продления своего существования прибег к столь чудовищной мере, как поедание тел погибших товарищей…». В доказательство своей точки зрения наш друг привел чрезвычайно странный довод. Из всей просмотренной «уймы книг» он выбрал в качестве авторитетного источника «Сказки 1001 ночи» — одну из книг, оказавших на него самое сильное влияние в детстве, как он неоднократно говорил мне, — и в заключение статьи написал: «В обширном цикле "Сказок 1001 ночи" только вампиры, чернокожие одноглазые великаны, громадные чудовища ужасной наружности и богомерзкие твари, украдкой выползающие на морской берег…» прибегают к поеданию человеческой плоти, или каннибализму. Вот вам и пожалуйста. Quod erat demonstrandum.В 1856 году борьба Диккенса против гипотезы о каннибализме среди благородной команды сэра Джона Франклина приняла новую форму — и я оказался непосредственно причастен к делу. Во время нашего совместного пребывания во Франции (в таких поездках Диккенс неизменно называл меня «мой порочный друг», а наши прогулки по Парижу «опасными вылазками», хотя при всем своем интересе к ночной жизни города и молоденьким актрисам, он никогда не пользовался услугами женщин легкого поведения, в отличие от меня) Диккенс предложил мне написать пьесу для постановки в домашнем театре в Тэвисток-хаусе. Драму о пропавшей арктической экспедиции вроде франклиновской, воспевающую мужество и доблесть англичан. А также повествующую о любви и самопожертвовании. — Почему бы вам самому не написать ее, Чарльз? — естественно, спросил я. Он просто не может. Он начинает работу над «Крошкой Доррит», выступает c публичными чтениями, издает свой журнал… Нет, пьесу должен написать я. Диккенс предложил название «Замерзшая пучина», поскольку история будет не только о ледяной пустыне, но и о сокровенных глубинах человеческой души. Он пообещал помочь мне со сценарием и «подредактировать текст», из чего я тотчас заключил, что автором будет он, а я — просто механизмом для запечатления слов на бумаге. Я согласился. Мы начали работать над «Замерзшей пучиной» в Париже — вернее, это я начал работать, пока Диккенс бегал по званым обедам, банкетам и прочим светским мероприятиям. К концу жаркого лета 1856 года мы оба вернулись в Лондон, и я остановился в Тэвисток-хаусе. Наши привычки, писательские и человеческие, не всегда совпадали. Во Франции я засиживался в казино далеко за полночь, а Диккенс имел стойкое обыкновение завтракать между восемью и девятью. Мне не раз приходилось завтракать гусиным паштетом в одиночестве около полудня. И в Тэвисток-хаусе, и позже в Гэдсхилле Диккенс неизменно работал с девяти утра до двух-трех часов пополудни, и все до единого в доме, члены семьи и гости, тоже должны были заниматься какими-нибудь делами в течение этого времени. Я часто наблюдал, как дочери Диккенса или Джорджина притворяются, будто вычитывают корректурные оттиски, пока писатель сидит в своем кабинете за закрытой дверью. Тогда (еще до появления второго Уилки Коллинза, исполненного решимости занять мое место за письменным столом) я предпочитал работать по ночам, а потому мне приходилось искать убежище в библиотеке, где я мог выкурить сигару и соснуть днем. Нередко Диккенс неожиданно выходил из своего кабинета, вытаскивал меня из моего укрытия и заставлял вернуться к работе. Моя работа — наша работа — над драмой продолжалась всю осень. По моей задумке главный герой, Ричард Уордор (играть его предстояло Диккенсу, разумеется), должен был сочетать в себе черты неукротимого сэра Джона Франклина и его заместителя, довольно заурядного ирландца по имени Френсис Крозье. Я намеревался вывести Уордора пожилым мужчиной, не очень компетентным (в конце концов, все участники франклиновской экспедиции погибли) и слегка помешанным. Возможно даже, до известной степени персонажем отрицательным. Диккенс полностью отверг мой замысел и превратил Ричарда Уордора в молодого человека, обладающего ясным, острым умом, сложным характером и вспыльчивым нравом, но готового (как показывается в конце пьесы) на жертвенный подвиг. «Всю жизнь искавший истинную любовь, но так и не нашедший», — среди всего прочего писал Диккенс в пространных заметках по поводу образа главного героя. Он сочинил множество монологов Уордора, но не показывал их мне вплоть до последних наших репетиций (да, я играл одну из главных ролей в этом любительском спектакле). Во время визитов в Тэвисток-хаус я часто видел, как Диккенс отправляется на свою двадцатимильную прогулку по окрестным полям или возвращается с нее, зычным голосом репетируя монологи Уордора собственного сочинения: «Юная девушка с прекрасным печальным лицом, добрыми глазами, источающими нежность, и чистым мелодичным голосом. Юная, любящая и милосердная. Я храню сей образ в памяти, хотя все прочие воспоминания померкли. Я буду бесприютно странствовать по свету, не ведая сна и покоя, покуда не найду ее!» Задним числом легко понять искренность и глубину чувств, владевших Диккенсом в тот год, когда его супружеская жизнь близилась к концу (причем по его воле). Писатель всю жизнь ждал и искал такую вот юную особу с прекрасным печальным лицом, добрыми глазами, источающими нежность, и чистым мелодичным голосом. Для Диккенса мир грез всегда был более реальным, чем повседневная действительность, и он с самой юности рисовал в своем воображении эту непорочную, заботливую, молодую, красивую (и милосердную) женщину. Премьера моей пьесы состоялась в Тэвисток-хаусе 6 января 1857 года — в канун Крещения, по случаю которого Диккенс всегда устраивал какие-нибудь особые мероприятия, и в день рождения его сына Чарли. Писатель не пожалел трудов, чтобы приблизить любительскую постановку к профессиональному уровню: приказал плотникам переоборудовать классную комнату в театральный зал, способный вместить свыше пятидесяти зрителей, распорядился снести имевшуюся там маленькую сцену и построить полноразмерную в широком эркере; заказал музыку к спектаклю и нанял оркестр; пригласил профессиональных оформителей, чтобы они спроектировали и изготовили сложные декорации; потратил целое состояние на костюмы (позже он хвастался, что мы, «полярные путешественники» из постановки, запросто могли бы отправиться из Лондона прямиком на Северный полюс в нашем настоящем арктическом обмундировании); самолично проследил за установкой осветительных приборов и изобрел затейливые световые эффекты для воспроизведения причудливой атмосферы полярных дней, сумерек и ночей. Сам Диккенс привнес странную, напряженную, сдержанную, но невероятно мощную страстность в эту сугубо мелодраматическую роль. Писатель заранее предупредил, что в сцене, когда несколько из нас пытаются удержать «Уордора», убегающего за кулисы в приступе душевной муки, он «намерен драться по-настоящему» и нам придется напрячь все силы, чтобы остановить его. Как оказалось, он еще мягко выразился. Несколько актеров наполучали синяков и шишек еще в ходе репетиций. Сын Диккенса Чарли позже писал моему брату: «В какой-то момент он увлекался до такой степени, что нам действительно приходилось драться, точно профессиональным боксерам. Что же касается до меня, то я, будучи предводителем группы нападавших, неизменно оказывался в самой гуще потасовки и два или три раза был избит до синяков еще до премьеры». Перед первым показом спектакля наш общий друг Джон Форстер прочитал пролог, который Диккенс написал в последний момент, по своему обыкновению пытаясь растолковать всем, что он сравнивает сокрытые глубины человеческой души с ужасной замерзшей пучиной Арктики: …чтоб заключенную в нас бездну, Закованную в панцирь ледяной, Исследовать пытливою рукой И к полюсу души найти проход, Тьму разгоняя, растопляя лед, — Познать, прозрев бездонные глубины, В нас скрытую «Замерзшую пучину».
По прибытии поезда в Лондон я отправился на Чаринг-Кросс не сразу. Жизнь мне издавна отравляла, отравляет ныне и будет отравлять до скончания моих дней, ревматоидная подагра. Иногда она обостряется в ноге. Чаще перемещается в голову и гнездится, подобно раскаленному железному штырю, за правым глазом. Я справляюсь с постоянной болью (а она действительно не проходит ни на минуту) благодаря силе характера. И еще с помощью опиума в форме лауданума. В тот день, прежде чем выполнить поручение Диккенса, я взял на вокзале кеб — идти пешком я уже не мог — и доехал до аптекарской лавки, расположенной рядом с моим домом. Аптекарь там (как и многие другие его коллеги в Лондоне и других городах) знал о моей беспрестанной борьбе с физическими страданиями и продавал мне болеутоляющее средство в количествах, какие обычно предназначаются для практикующих врачей, то есть бутылями. Осмелюсь предположить, дорогой читатель, что в ваше время лауданум по-прежнему используется — если только медицина не изобрела широко доступный препарат, действующий еще эффективнее. Но на случай, если я ошибаюсь, позвольте мне сказать несколько слов об этом лекарстве. Лауданумом называется спиртовая настойка опиума. На первых порах болезни я — по совету моего врача и друга Фрэнка Берда — просто разводил четыре капли опиума в половине или целом бокале красного вина. Потом доза увеличилась до восьми капель. Потом я начал принимать по восемь — десять капель опиума с вином два раза в день. В конце концов я обнаружил, что готовый препарат под названием лауданум, состоящий из равных частей опиума и спирта, утоляет невыносимую боль гораздо эффективнее. В последние месяцы у меня выработалась привычка — видимо, пожизненная — пить неразбавленный лауданум из стакана или прямо из бутылки. Признаться, когда однажды я у себя дома осушил целый стакан лекарства в присутствии знаменитого хирурга сэра Уильяма Фергюссона — не сомневаясь, что уж он-то всяко поймет необходимость подобной меры, — почтенный доктор потрясенно воскликнул, что такого количества лауданума хватило бы, чтобы убить всех сидящих за столом. (Тогда в гостях у меня находились восемь мужчин и одна женщина.) После того случая я стал скрывать, в каких дозах принимаю препарат, хотя никогда не утаивал, что употребляю спасительный наркотик. Прошу вас понять, дорогой читатель моего посмертного будущего: в нынешнее время лауданум принимают все. Или почти все. Мой отец, не доверявший никаким медикаментам, в последние дни своей жизни поглощал в огромных количествах микстуру Бэттли,представляющую собой крепкую настойку опиума. (А я уверен, что мои подагрические боли по меньшей мере столь же нестерпимы, как предсмертные муки, которые он испытывал.) Я помню, как поэт Кольридж, близкий друг моих родителей, слезно жаловался на свое болезненное пристрастие к опиуму, и помню, как моя мать предостерегала его против злоупотребления наркотиком. Но я также всегда напоминал нескольким своим друзьям, бестактно порицавшим мою зависимость от спасительного лекарства, что сэр Вальтер Скотт принимал лауданум в изрядных дозах, когда писал «Ламмермурскую невесту», а такие наши с Диккенсом современники, как наш добрый приятель Бульвер-Литтон и Де Куинси, употребляли препарат в гораздо больших количествах, нежели я. Зная, что Кэролайн и ее дочери Хэрриет сейчас нет в городе, я из аптеки заехал к себе домой (в один из двух своих лондонских особняков, расположенный по адресу Мелкомб-плейс, девять, Дорсет-Сквер) и там спрятал под замок новую бутыль лауданума, предварительно выпив два полных стакана. Через несколько минут я снова стал самим собой — в той мере, в какой можно стать самим собой, когда подагрическая боль все еще стучит в окна и скребется в двери твоей телесной оболочки. Во всяком случае, после приема опиата боль несколько утихла и ко мне вернулась ясность мысли. Я взял наемный экипаж и поехал на Чаринг-Кросс.
«Замерзшая пучина» имела огромный успех. Действие первого акта происходит в Девоне, где прелестная Клара Бернем (ее играла самая привлекательная из дочерей Диккенса, Мейми) терзается страхом за своего удалого жениха Фрэнка Олдерсли (чью роль исполнял я, тогда только-только отпустивший бороду, которую ношу и поныне). Олдерсли покинул Англию в составе полярной экспедиции, посланной, как и реальная экспедиция сэра Джона Франклина, на поиски Северо-Западного морского пути, и оба корабля — «Уондерер» и «Си-Мью» — исчезли свыше двух лет назад. Клара знает, что начальником экспедиции является капитан Ричард Уордор, чье предложение о браке она отвергла. Уордор не знает личности соперника, снискавшего любовь Клары после него, но поклялся убить его при первой же встрече. Мой персонаж, Фрэнк Олдерсли, в свою очередь даже не догадывается о любви Ричарда Уордора к своей невесте. Клара понимает, что два корабля почти наверняка затерты льдами где-то в Арктике, и содрогается до глубины души при мысли, что два влюбленных в нее мужчины могут случайно узнать о своем соперничестве. Таким образом, бедная Клара не только мучается тревогой за возлюбленного, который может пострадать от лютого арктического холода, свирепых белых медведей и жестоких дикарей, но также изнывает от ужаса, представляя, что может сделать Ричард Уордор с ее дорогим Фрэнком, коли узнает правду. Кларе отнюдь не становится легче, когда ее няня Эстер, обладающая даром ясновидения, рассказывает о своем кровавом видении в час багрового девонского заката. (Как я упомянул выше, Диккенс не пожалел трудов, чтобы создать в своем маленьком домашнем театре в Тэвисток-хаусе световые эффекты, реалистично воспроизводящие природное освещение в любое время суток.) «Я вижу ягненка в когтях у льва… — сдавленным голосом говорит няня Эстер в ясновидческом трансе. — Твой пригожий голубок остался один на один с хищным ястребом… я вижу, как ты и все вокруг горько плачут… Кровь! Я вижу пятно на твоем платье… О дитя мое, дитя мое… то пятно крови!»
Молодого человека звали Эдмонд Диккенсон. Диккенс сказал, что снял для него комнату в отеле «Чаринг-Кросс», но на самом деле это оказались просторные апартаменты. Пожилая и не очень привлекательная сиделка, дежурившая в гостиной, провела меня к пострадавшему. Диккенс столь подробно рассказывал об усилиях, потребовавшихся для извлечения мистера Диккенсона из-под груды обломков, и столь красочно описывал окровавленные, изодранные одежды несчастного, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, что я ожидал увидеть на кровати сплошь обмотанный бинтами полутруп с заключенными в гипсовые лубки и подвешенными на растяжках конечностями. Но молодой Диккенсон, облаченный в пижаму и халат, сидел в постели с книгой, когда я вошел. На комоде и ночных столиках стояли цветы в вазах, в том числе букет алых гераней, вызвавший у меня слабое подобие панического чувства, испытанного мной во дворе Гэдсхилл-плейс. Диккенсон оказался круглолицым, розовощеким молодым человеком лет двадцати, с жидкими рыжеватыми волосами, уже редеющими над розовым лбом, с голубыми глазами и изящно вырезанными ушами, похожими на крохотные морские раковины. Я представился, объяснил, что мистер Диккенс прислал меня справиться о самочувствии пострадавшего, и премного изумился, когда Диккенсон с энтузиазмом выпалил: — О, мистер Коллинз! Визит столь знаменитого писателя — великая честь для меня! Мне очень понравилась ваша «Женщина в белом», печатавшаяся выпусками в «Домашнем чтении» сразу после «Повести о двух городах» мистера Диккенса! — Благодарю вас, сэр, — промолвил я, чуть не зардевшись от комплимента; действительно, «Женщина в белом» пользовалась огромным успехом и обеспечила более высокие продажи журнала, чем большинство романов Диккенса. — Приятно слышать, что скромные плоды моих трудов пришлись вам по душе, — добавил я. — О да, роман превосходный, — сказал молодой Диккенсон. — Вам очень повезло иметь такого наставника и редактора, как мистер Диккенс. Я уставился на него с каменным лицом, но мое холодное молчание осталось незамеченным, ибо Диккенсон возбужденно заговорил о Стейплхерстской катастрофе, кошмарных последствиях крушения и о невероятном мужестве и великодушии Чарльза Диккенса. — Уверен, я не сидел бы сейчас здесь перед вами, если бы мистер Диккенс не нашел меня под грудой обломков, — я висел вниз головой и едва дышал, мистер Коллинз! И он ни на шаг не отходил от меня, покуда не призвал на помощь кондукторов, дабы извлечь меня из вагона, и не проследил за тем, чтобы они отнесли меня к железнодорожному полотну, где раненых готовили к эвакуации. Мистер Диккенс неотступно находился рядом со мной в санитарном поезде, а по прибытии в Лондон — как вы сами видите! — настоял на том, чтобы поселить меня в этом прекрасном номере и приставить ко мне сиделок до полного моего выздоровления. — Вы серьезно пострадали? — осведомился я совершенно бесстрастным тоном. — О нет, ничуть! Отделался синяками да шишками — спина, грудь, ноги и левая рука сплошь черные. Я три дня не вставал, но сегодня сиделка помогла мне дойти до туалета и обратно, каковой поход оказался мне вполне по силам! — Я очень рад, — промолвил я. — Я собираюсь отправиться домой завтра, — продолжал трещать юноша. — Я никогда не смогу отблагодарить мистера Диккенса за великодушие. Он поистине спас мне жизнь! И он пригласил меня к себе в Гэдсхилл на Новый год! На дворе стояло двенадцатое июня. — Замечательно, — сказал я. — Уверен, Чарльз высоко ценит жизнь, в спасении которой участвовал. Так значит, вы собираетесь домой завтра, мистер Диккенсон. Можно ли поинтересоваться, где вы живете? Диккенсон снова затараторил. Он круглый сирота (особо любимый Чарльзом Диккенсом человеческий тип, если судить по «ОливеруТвисту», «Дэвиду Копперфилду» или «Холодному дому»), но еще в детстве унаследовал состояние через замысловатые хитросплетения родственно-наследственных связей и был поручен заботам пожилого опекуна, по сей день проживающего в чудесном нортгемптонширском поместье, которое вполне могло бы послужить прототипом Чесни-Уолда[2]. В настоящее время, однако, молодой Диккенсон предпочитает жить в скромных наемных комнатах в Лондоне, один. Он почти (или вовсе) ни с кем не водит знакомства, учится игре на разных музыкальных инструментах, не имея намерения заниматься музыкой всерьез, и осваивает разные профессии, не собираясь применять на практике приобретенные навыки. Дохода с капитала вполне хватает на еду, книги, походы в театр и поездки к морю — он живет в свое удовольствие. Мы поговорили о театре и литературе. Выяснилось, что молодой мистер Диккенсон — подписчик не только нынешнего диккенсовского журнала «Круглый год», но и предыдущего, «Домашнее чтение», — читал мой рассказ «Странная кровать» и остался от него в восторге. — Господи! — воскликнул я. — Да ведь он печатался почти пятнадцать лет назад! Вам тогда было, наверное, лет пять, не больше! Молодой Диккенсон покраснел: сначала у него загорелись маленькие раковиноподобные уши, потом зарделись щеки, а потом румянец, подобно розовому плющу, поднялся по вискам и разлился по широкому бледному лбу, расползшись даже под редкими соломенными волосами. — На самом деле семь, сэр, — сказал сирота. — Но мой опекун, мистер Уотсон — либерально настроенный член парламента, — держал в своей библиотеке переплетенные подшивки «Панча» и журналов вроде «Домашнего чтения». Моя любовь к литературе зародилась и окрепла именно там. — Вот как, — сказал я. — Очень интересно. Пятнадцать лет назад мое поступление на должность сотрудника «Домашнего чтения» означало для меня просто-напросто дополнительные пять фунтов в неделю. Но для этого сироты оно, похоже, имело огромное значение. Он чуть ли не наизусть знал мою книгу «Под покровом тьмы» и почтительно изумился, когда я сказал, что почти все рассказы из сборника основаны на дневниковых записях моей матери и литературно обработанной рукописи, где она вспоминает о своем браке со знаменитым художником. По ходу разговора выяснилось, что тринадцатилетний Эдмонд Диккенсон ездил со своим опекуном в Манчестер, чтобы увидеть спектакль «Замерзшая пучина», дававшийся в огромном зале Фри-Трейд-Холла 21 августа 1857 года.
Действие второго акта «Замерзшей пучины» происходит в Арктике, где Уордор (Диккенс) обсуждает со своим заместителем, капитан-лейтенантом Крейфордом, скудные шансы на выживание в условиях голода и холода. «Никогда не идите на поводу у желудка, и в конечном счете ваш желудок полностью подчинится вам», — говорит бывалый путешественник Крейфорду. Такая сильная воля, не признающая над собой ничьей власти, присуща не только персонажу, созданному пером Диккенса, но и самому писателю. Далее Уордор объясняет, что любит арктическую пустыню именно потому, что «здесь нет женщин». В этом же акте он восклицает: «Я готов принять любые обстоятельства, воздвигающие крепостные валы лишений, опасностей и тяжкого труда между мной и моим душевным страданием… Тяжкий труд, Крейфорд, вот истинный эликсир жизни!» И под конец говорит: «…поистине несчастным мужчину может сделать только женщина». «Замерзшая пучина» считалась моей пьесой — на театральной афише я значился в качестве автора (а равно исполнителя одной из ролей). Но почти все монологи Уордора были написаны или переписаны Чарльзом Диккенсом. Мысли и чувства, в них выраженные, нисколько не походили на мысли и чувства человека, счастливого в браке. В конце второго акта двое участников экспедиции отправляются в поход по ледовой пустоши в поисках последнего шанса на спасение затертых льдами кораблей. Они должны преодолеть тысячу миль замерзшей пучины. Этими двоими являются, само собой Ричард Уордор и его удачливый соперник в любви Фрэнк Олдерсли. (Кажется, я уже упоминал, что мы с Диккенсом оба отпустили бороду для роли.) Второй акт заканчивается сценой, где Уордор узнает, что раненый, изнуренный голодом, еле живой от слабости Олдерсли и есть злейший его враг, которого он поклялся убить при первой же встрече.
— Вы случайно не видели на месте крушения некоего господина по имени Друд? — спросил я Эдмонда Диккенсона, когда молодой болван наконец умолк. — Друд, сэр? Честно говоря, не припоминаю. Мне помогало очень много людей, и я никого из них не знаю по имени — за исключением нашего замечательного мистера Диккенса. — Похоже, этот господин обладает весьма незаурядной наружностью. Я перечислил особые приметы, упомянутые Диккенсом при описании Призрачного Месмериста: черный шелковый плащ и цилиндр, беспалые руки, безвекие глаза, гротескно короткий нос, мертвенная бледность, лысина, обрамленная бахромой сивых волос, жутковатый пристальный взгляд, странная скользящая походка, речь с присвистом и иностранный акцент. — О боже, нет! — воскликнул молодой Диккенсон. — Такого человека я бы точно запомнил. — Потом взгляд его словно обратился вовнутрь — похожее выражение я несколько раз замечал на лице Диккенса в ходе нашей недавней беседы в темном кабинете. — Даже несмотря на кошмарные зрелища и дикие звуки, окружавшие меня со всех сторон в тот день, — тихо добавил он. — Да, безусловно, — промолвил я, подавляя желание сочувственно похлопать по одеялу, накрывающему черную от синяков ногу. — Значит, вы не видели никакого мистера Друда и не слышали, чтобы кто-нибудь говорил о нем… скажем, в санитарном поезде? — Насколько я помню — нет, мистер Коллинз, — сказал молодой человек. — А что, мистеру Диккенсу непременно нужно найти этого господина? Я бы сделал для мистера Диккенса все, что в моих силах, когда бы мог. — Нисколько в этом не сомневаюсь, мистер Диккенсон. — На сей раз я все-таки похлопал по колену, накрытому одеялом. — Мистер Диккенс поручил мне поинтересоваться, может ли он быть еще чем-нибудь полезен вам? — Я взглянул на часы. — Нет ли у вас просьб и пожеланий, удовлетворить которые могли бы сиделки или наш общий друг? — Ровным счетом никаких, — сказал Диккенсон. — Завтра я уже достаточно оправлюсь, чтобы покинуть гостиницу и снова зажить самостоятельно. Я держу кошку, знаете ли. — Он тихо рассмеялся. — Вернее, это она держит меня. Хотя, как свойственно многим представителям кошачьего племени, она приходит и уходит когда пожелает, сама добывает пропитание и, уж конечно, не претерпела никаких неудобств из-за моего отсутствия. — Лицо юноши опять приобрело отстраненное выражение, словно перед его мысленным взором всплыли образы погибших и умирающих жертв Стейплхерстской катастрофы. — На самом деле Киса не претерпела бы никаких неудобств, умри я три дня назад. Никто не опечалился бы по поводу моей кончины. — А ваш опекун? — мягко спросил я, желая предотвратить у собеседника приступ жалости к себе. Диккенсон весело рассмеялся. — Мой нынешний опекун — известный юрист, в прошлом водивший знакомство с моим дедом, — оплакивал бы мою смерть, мистер Коллинз, но наши отношения носят скорее деловой характер. Киса — единственный мой друг в Лондоне. Да и во всем мире. Я коротко кивнул. — Я проведаю вас утром, мистер Диккенсон. — О, в этом нет необходимости… — Наш общий друг Чарльз Диккенс считает иначе, — быстро сказал я. — Возможно, коли здоровье ему позволит, он самолично навестит вас завтра и справится о вашем самочувствии. Диккенсон снова покраснел. Румянец смущения не портил юношу, хотя и придавал ему еще более безвольный и глуповатый вид сейчас, в свете предвечернего июньского солнца, пробивавшемся сквозь гостиничные портьеры. Взяв свою трость и кивнув на прощанье, я покинул молодого Эдмонда Диккенсона, прошагал через гостиную мимо безмолвной сиделки и вышел прочь.
В начале третьего акта «Замерзшей пучины» Клара Бернем отправляется на Ньюфаундленд в надежде узнать что-нибудь о пропавшей экспедиции (так же поступила леди Франклин, отплывшая со своей племянницей Софией на наемном корабле на Крайний Север в поисках своего мужа, сэра Франклина). В ледяную пещеру на диком берегу острова, шатаясь, входит истощенный, обессиленный человек, пришедший со стороны замерзшего океана. Клара узнает Уордора и истерически обвиняет его в том, что он убил (а может, и съел, думают зрители) ее жениха Фрэнка Олдерсли. Уордор (Диккенс) выбегает из пещеры и возвращается, таща на руках живого Олдерсли (меня, в изодранных одеждах, едва прикрывающих наготу). «В долгом пути по занесенным снегом ледовым полям, — задыхаясь, говорит Уордор, — не раз я испытывал искушение оставить Олдерсли умирать». После этих слов Диккенс — Ричард Уордор — валится с ног, ибо смертельная усталость, голод и невероятное напряжение сил, потребовавшееся от него для спасения соперника, наконец делают свое дело. Уордор с трудом выговаривает: «Сестра моя, Клара!.. Поцелуй меня, сестра, поцелуй меня напоследок!» Потом он испускает дух на руках у Клары, которая запечатлевает поцелуй на щеке умирающего, орошая слезами его лицо. На генеральной репетиции меня чуть не вырвало прямо на сцене. А после каждого из четырех представлений «Замерзшей пучины», данных в Тэвисток-хаусе, я просыпался ночью в слезах и слышал свой шепот: «Это ужасно». Вы вольны понимать это, как вам угодно, дорогой читатель. Актерская игра Диккенса был а мощной и… странной. Уильям Мейкпис Теккерей, посетивший премьеру спектакля, позже отозвался о Диккенсе следующим образом: «Если бы сейчас Чарльз пошел на профессиональную сцену, он зарабатывал бы по двадцать тысяч фунтов в год». В 1857 году это было огромным преувеличением, но к моменту Стейплхерстской катастрофы Диккенс почти столько и зарабатывал «актерством», выступая с публичными чтениями в Соединенных Штатах и Англии. На всех четырех представлениях «Замерзшей пучины» в Тэвисток-хаусе зрители рыдали как дети. Репортеры, приглашенные Диккенсом на премьерные показы, открыто признавали, что остались под глубоким впечатлением от игры Диккенса, поражавшего своей полной погруженностью в роль Ричарда Уордора. Все до единого отмечали напряженную страстность моего друга — своего рода темную энергию, потоки которой заполняли зал и затягивали зрителей в вихревую воронку. После четвертого, и последнего, представления «Замерзшей пучины» Диккенс впал в угнетенное состояние. Он писал мне о «печальных звуках», доносящихся из классной залы, где рабочие «крушат и ломают» театральную сцену. Диккенса настойчиво просили продолжить показ спектакля по моей драме, многие сулили изрядную прибыль. Пошли слухи (оказавшиеся достоверными), что «Замерзшую пучину» желает увидеть сама королева. Но он отверг все подобные предложения. Никто из нас, участников любительской постановки, не хотел выступать за деньги. Но в июне 1857 года — рокового года, когда семейная жизнь Диккенса бесповоротно изменилась, — писателя глубоко потрясло известие о смерти нашего общего друга Дугласа Джеролда. Диккенс рассказывал мне, что всего за несколько дней до прискорбного события ему приснилось, будто он читает рукопись Джеролда, предназначенную для публикации, но не понимает смысла слов. Этот кошмар преследует любого писателя — внезапное обессмысливание языка, питающего и кормящего нас, — но Диккенса сильно поразило, что он увидел жуткий сон именно тогда, когда Джеролд лежал на смертном одре (о чем никто из нас не знал). Зная, что семья Джеролда останется в крайне стесненных обстоятельствах (Джеролд являлся гораздо более решительным сторонником реформ, чем когда-либо будет Диккенс при всех своих героических позах), Диккенс предложил устроить ряд благотворительных мероприятий: Т. П. Кук возобновляет постановку двух пьес Джеролда, «Черноглазая Сьюзен» и «День внесения арендной платы», Теккерей и Рассел выступают с лекциями, а сам Диккенс проводит дневные и вечерние публичные чтения. Ну и разумеется, мы снова играем «Замерзшую пучину». Диккенс поставил цель собрать две тысячи фунтов для семьи Джеролда. Мы арендовали картинную галерею на Риджент-стрит, чтобы дать там ряд представлений. Королева, всегда избегавшая посещать благотворительные мероприятия в пользу частных лиц, не только поддержала наши усилия, но также письменно сообщила о своем страстном желании увидеть «Замерзшую пучину» и предложила мистеру Диккенсу выбрать в Букингемском дворце любой зал, где можно устроить закрытый спектакль для ее величества и ее гостей. Диккенс ответил отказом, объяснив свою позицию достаточно убедительно: его дочери, занятые в постановке, еще не были представлены при дворе, он не хочет, чтобы они впервые появились перед королевой в качестве актрис. Он предложил ее величеству прийти на закрытый показ спектакля в картинную галерею за неделю до сбора пожертвований и привести с собой своих гостей. Столкнувшись с железной волей Неподражаемого, королева согласилась. Мы играли перед ней 4 июля 1857 года. В числе гостей ее величества присутствовали принц Альберт, король Бельгии и принц Прусский. В честь последнего Диккенс приказал украсить вестибюль и лестницы цветами. Признаюсь, иные из нас опасались, что царственные особы будут реагировать на происходящее на сцене не так бурно, как публика, собиравшаяся в Тэвисток-хаусе зимой, но Диккенс заверил нас, что королева и ее гости будут смеяться в смешных местах, плакать в местах печальных и сморкаться ровно в таких моментах пьесы, когда это делали наши зрители попроще. И добавил, что во время водевиля «Дядюшка Джон», который пойдет после «Замерзшей пучины», многие царственные лица будут ржать как лошади. Как обычно, он оказался прав во всех отношениях. После представления восхищенная королева пригласила Диккенса подойти к ней и принять изъявления благодарности. Он отклонил приглашение. На сей раз он объяснил свой отказ следующим образом: «Я не могу себе позволить предстать перед ее величеством усталым, разгоряченным, с гримом на лице». Разумеется, на самом деле Диккенс не пожелал подойти к ее величеству вовсе не потому, что не успел смыть жирный грим. Просто в тот момент он еще оставался в костюме заглавного героя нашего романтического водевиля «Дядюшка Джон»: в мешковатом халате, нелепом парике и с красным накладным носом. Чарльз Диккенс, один из самых гордых и самодовольных людей на свете, ни за что не согласился бы появиться перед королевой Викторией в таком шутовском обличье. И снова королева любезно уступила воле писателя. Мы дали еще два представления «Замерзшей пучины» в картинной галерее, но, хотя драма снова вызвала безумное восхищение и самые восторженные отзывы у всех зрителей, а сборы от нее составили львиную долю средств, поступивших в фонд помощи семье Джеролда, двух тысяч фунтов у нас так и не набралось. Джон Дин, директор манчестерской художественной галереи, уже давно настойчиво уговаривал Диккенса сыграть «Замерзшую пучину» во Фри-Трейд-Холле. Не желая удовольствоваться суммой меньше обещанных Джеролдам двух тысяч фунтов, наш писатель безотлагательно отправился в Манчестер, чтобы выступить там с публичными чтениями «Рождественской песни» и осмотреть концертный зал, свободно вмещавший две тысячи человек. Он сразу решил, что лучшего места для показа спектакля не найти, но зал слишком велик для скудных актерских способностей его дочерей и свояченицы Джорджины, исполнявших главные роли. (Чарльзу Диккенсу ни на миг не пришло в голову, что он может не соответствовать требованиям, предъявляемым актеру, выступающему в столь огромном зале перед столь многочисленной публикой. Он по опыту знал, что в состоянии подчинить своему магнетическому влиянию трех-четырехтысячную толпу.) Значит, придется нанять профессиональных актрис и провести с ними репетиции. (Марк Лемон, сын Диккенса Чарли и я были оставлены в труппе, но Неподражаемый принялся муштровать нас так, будто мы никогда прежде не играли пьесу.) Альфред Уиган, директор театра «Олимпик», порекомендовал Диккенсу двух своих многообещающих молодых актрис, недавно принятых в труппу, — Фанни и Марию Тернан. Диккенс тотчас одобрил предложенные кандидатуры (мы с ним уже видели на сцене обеих поименованных Тернан, а их младшая сестра и мать играли в других спектаклях), и Уиган спросил у девушек, не хотят ли они принять участие в постановке «Замерзшей пучины». Они горели желанием. Потом Уиган посоветовал Диккенсу подумать о том, чтобы занять в спектакле мать молодых женщин, Френсис Элеонору Тернан, а равно самого младшего и самого непримечательного члена актерской семьи — некую Эллен Лоулесс Тернан, всего восемнадцати лет от роду. Таким образом, жизнь Чарльза Диккенса бесповоротно изменилась.
Из гостиницы «Чаринг-Кросс» я направился домой. Часть пути я проехал в кебе, а часть решил пройти пешком и зашел поужинать в клуб, членом которого не являлся, но в котором имел гостевые привилегии. Я пребывал в дурном расположении духа. Настроение мне испортил этот дерзкий щенок Диккенсон, посмевший заявить, что мне «очень повезло иметь такого наставника и редактора, как мистер Диккенс». Когда пять лет назад, в конце лета 1860 года, в «Круглом годе» начала публиковаться моя «Женщина в белом», сразу после диккенсовской «Повести о двух городах» (а я должен вам заметить, дорогой читатель, что диккенсовский Ричард Сидни Картон почти целиком списан с моего персонажа, бескорыстного и самоотверженного Ричарда Уордора, — даже сам Диккенс признавал, что общий замысел «Повести о двух городах» возник у него во время последнего представления «Замерзшей пучины», когда он лежал на сцене и настоящие слезы Марии Тернан — новой Клары Бернем — лились на его лицо, бороду и изодранные одежды столь обильно, что ему пришлось прошептать: «Все закончится через две минуты, милое дитя. Умоляю вас, успокойтесь!»)… О чем я, бишь? Ах да. Когда в новом диккенсовском еженедельнике стала печататься выпусками моя «Женщина в белом» (сразу снискавшая, скромно замечу, огромный интерес и горячее одобрение читателей), в литературных кругах пошли пустые разговоры и в прессе появился ряд критических отзывов, смысл которых сводился к тому, что я, Уилки Коллинз, научился литературному ремеслу у Чарльза Диккенса, шлифовал свое мастерство под наставничеством Чарльза Диккенса и даже позаимствовал писательский стиль у Чарльза Диккенса. Многие говорили, что мне не хватает диккенсовской глубины, а иные шептались между собой, что я «неспособен живо изображать характеры». Разумеется, это полная чушь. По первом прочтении моей рукописи Диккенс самолично написал мне письмо, где высказался следующим образом: «…эта книга — большой шаг вперед по сравнению с вашими предыдущими произведениями, особенно если говорить о тонкости. Характеры превосходны… Никто не мог бы сделать ничего подобного. В каждой главе я находил примеры изобретательности и удачные обороты речи». Но Диккенс не был бы Диккенсом, если бы не подлил ложку дегтя в бочку меда, добавив, что он «издавна возражал против вашей склонности слишком подробно объяснять все читателям, ибо это неизбежно заставляет их обращать чрезмерное внимание на отдельные моменты». На это можно ответить, что Чарльз Диккенс сам всегда слишком подробно объяснял все читателям и что слишком много простых людей, сбитых с толку самозабвенными полетами непостижимой фантазии и ненужной изощренностью слога, безнадежно теряются в густом лесу диккенсовской прозы. Честно говоря, дорогой читатель, живущий в далеком будущем, откуда ни малейший отзвук моей искренности не может долететь ни до одного из нынешних поклонников Чарльза Диккенса, — так вот, честно говоря, в части построения сюжета я всегда был и почти наверняка останусь десятикрат лучшим мастером, чем Чарльз Диккенс. У Диккенса сюжет зачастую вырастал из его произвольных манипуляций курьезными марионеточными персонажами: если в процессе публикации какого-нибудь из его бесчисленных романов недельные продажи журнала вдруг начинали падать, он просто вводил в повествование еще более дурацкие персонажи и заставлял их расхаживать и кривляться перед доверчивым читателем — так, например, он с легкостью отправил бедного Мартина Чезлвита в Соединенные Штаты, чтобы только возбудить читательский интерес. Моим сюжетам свойственна такая филигранность проработки, какую Чарльз Диккенс никогда не мог оценить в полной мере и какой, разумеется, не мог добиться в своих собственных предсказуемых (для любого проницательного читателя), неряшливо скроенных, извилистых сюжетах, изобилующих своевольными побочными линиями. Наглецы и невежды вроде этого щенка Эдмонда Диккенсона всегда говорили, что я постоянно учусь у Чарльза Диккенса, но дело обстояло ровно наоборот. Как я упомянул выше, Диккенс сам признавал, что образ самоотверженного Сидни Картона из «Повести о двух городах» сложился у него под впечатлением от моего Ричарда Уордора из «Замерзшей пучины». А его «старуха в белом», всем известная мисс Хэвишем, просто откровенно списана с главной героини моего романа «Женщина в белом».
Я сел за свой одинокий ужин. Я часто наведывался в этот клуб — здешний повар отменно готовил пудинг с мясом жаворонка, каковое блюдо я считаю одним из четырех величайших достижений современности. Сегодня я решил поужинать сравнительно легко и заказал паштет двух сортов, суп, несколько сладких омаров, бутылку сухого шампанского, баранью ножку, фаршированную устрицами и рубленым луком, две порции спаржи, немного тушеной говядины, чуток крабьего мяса и яичницу. Наслаждаясь скромной трапезой, я вспомнил, что одним из немногих достоинств, нравившихся мне в жене Диккенса, являлся ее кулинарный талант — или, по крайней мере, кулинарные шедевры, готовившиеся в Тэвисток-хаусе под ее надзором, ибо я ни разу не видел, чтобы она сама надела фартук или взялась за половник. Много лет назад Кэтрин Диккенс (под псевдонимом «леди Мария Клаттербак») издала поваренную книгу «Что у нас на обед?», содержавшую рецепты блюд, которые регулярно подавались у них в доме на Девоншир-террас. Почти все блюда из репертуара Кэтрин были мне весьма по вкусу — несколько из них стояли на моем столе нынче вечером, хотя и сопровождались не столь роскошными соусами (я вообще считаю искусство приготовления соусов верхом кулинарного мастерства), — поскольку она тоже отдавала предпочтение омарам, бараньим ножкам, жирным бифштексам и замысловатым десертам. В книге Кэтрин приводилось столько рецептов разнообразных сырных тостов, что один рецензент заметил: «Человек, поглотивший такое количество сырных тостов, просто не может остаться в живых». Но Диккенс выжил. И ни разу за многие годы не прибавил ни фунта. Возможно, конечно, это объяснялось его привычкой проходить скорым шагом от двенадцати до двадцати миль ежедневно. Сам я малоподвижен по натуре. Мои предрасположенности и хроническая болезнь удерживают меня близ стола, кушетки и кровати. Я хожу пешком, если это необходимо, но норовлю присесть или прилечь при каждой удобной возможности. (Гостя в Тэвисток-хаусе или Гэдсхилл-плейс, я имел обыкновение прятаться в библиотеке или одной из пустующих гостевых комнат до двух-трех часов пополудни, когда Диккенс кончал работать и отправлялся на поиски спутника для своего очередного треклятого марш-броска. Разумеется, обычно Диккенс отыскивал вашего покорного слугу — выслеживая по запаху сигарного дыма, как я теперь понимаю, — и зачастую мне приходилось проходить с ним первые пару миль длинного маршрута, каковое расстояние мы покрывали минут за двадцать, если не меньше, двигаясь с невероятной скоростью.) Нынче вечером я никак не мог выбрать между двумя десертами, а потому, приняв соломоново решение, заказал и пудинг с мясом жаворонка, и вкуснейший яблочный пудинг. А также бутылку портвейна. И кофий. Доедая пудинг, я заметил высокого старика аристократической наружности, выходящего из-за стола в другом конце зала, и в первый момент принял его за Теккерея. Потом я вспомнил, что Теккерей умер в сочельник 1863-го, почти полтора года назад. Я находился в этом самом клубе в качестве гостя Диккенса, когда старший писатель и Неподражаемый помирились после семи лет холодного молчания. Отношения между ними начали портиться еще во время дикой шумихи, сопровождавшей разрыв Диккенса с Кэтрин, когда мой друг был особенно раним. В Гаррик-клубе кто-то обмолвился, что у Диккенса интрижка со свояченицей, а Теккерей, явно не подумав, возразил: «Да нет, с актрисой». Разумеется, эти слова вскорости дошли до Диккенса. Так всегда бывает. Потом один молодой журналист, друг Диккенса из числа его «верных солдат», некий Эдмонд Йетс (мне всегда казалось, что у него, как у Кассия, вечно голодный взгляд) напечатал в журнале «Таун-ток» весьма едкий и недоброжелательный очерк о Теккерее. Глубоко уязвленный, старый джентльмен обратился к правлению Гаррик-клуба с просьбой отказать молодому человеку в членстве на том основании, что «общество джентльменов не может мириться с такими поступками, как публикация пасквильных статей». С неожиданной резкостью ополчившись на своего старого друга Теккерея, Диккенс принял сторону Йетса в конфликте и сам вышел из членов клуба, когда правление согласилось с Теккереем и вычеркнуло журналиста из клубного списка. И именно здесь, в клубе «Атенеум», семью годами позже примирение все-таки состоялось. Диккенс при мне рассказывал Уиллсу об этом событии. «Вешая шляпу на вешалку в холле "Атенеума", я поднял взгляд и увидел перед собой изможденное лицо Теккерея. Он походил на привидение, Уиллс, — ни дать ни взять, мертвый Марли, только цепей не хватает[3]. Я спросил: "Теккерей, вы что, были больны?" И вот, после семи лет молчания мы завязали разговор и обменялись рукопожатием. Теперь у нас все как прежде». Очень трогательный рассказ. И не имеющий никакого отношения к действительности. Мне случилось быть в «Атенеуме» упомянутым вечером, и мы с Диккенсом оба увидели Теккерея. Старый джентльмен надевал пальто, путаясь в рукавах, и одновременно разговаривал с двумя членами клуба. Диккенс прошагал мимо него, не удостоив взглядом. Пока я убирал свои трость и шляпу, Диккенс достиг лестницы и уже начал подниматься по ступенькам, когда старый писатель бросился за ним следом. Теккерей заговорил первым, а потом протянул Диккенсу руку. Они обменялись рукопожатием. Затем Диккенс прошел в гостиную, а Теккерей вернулся к своим собеседникам — кажется, одним из них был сэр Теодор Мартин — и сказал: «Я рад, что сделал это». Чарльз Диккенс был человеком добрым и зачастую сентиментальным, но он никогда не шел на примирение первым. О каковом обстоятельстве мне придется еще раз вспомнить в скором времени.
Я взял кеб и по дороге домой размышлял о странном намерении Диккенса разыскать фантома по имени Друд. Сегодня утром, слушая рассказ друга о Стейплхерстской катастрофе, я несколько раз менял свое мнение относительно правдивости той части истории, которая касалась мистера Друда. Чарльз Диккенс не был лжецом. Но Чарльз Диккенс всегда свято верил в правдивость и истинность любых своих слов по любому поводу — изреченных ли в разговоре, начертанных ли на бумаге. Если наш друг утверждал, что нечто является правдой, он неизменно убеждал себя, что так оно и есть, даже если правдой там и не пахло. Наглядным примером данного феномена служат публичные письма семилетней давности, где Диккенс возлагает вину за разрыв супружеских отношений на Кэтрин, хотя инициатором разрыва и заинтересованной в нем стороной был он. Но зачем придумывать историю про Друда? С другой стороны, зачем рассказывать всем, что именно он, Диккенс, первый сделал шаг к примирению с Теккереем после многолетней ссоры, когда инициативу проявил старый писатель? Дело в том, что все вымыслы и домыслы Чарльза Диккенса — носившие, вероятно, характер неумышленный (сам будучи романистом, я знаю, что представители нашей профессии живут в мире воображения едва ли не в большей степени, чем в так называемой реальной действительности), — почти всегда преследовали цель выставить его самого в наилучшем свете. По свидетельствам всех очевидцев, включая пухлого коротышку Эдмонда Диккенсона (чтоб его синяки воспалились, загнили и обратились в язвы), Диккенс показал себя настоящим героем на месте Стейплхерстской железнодорожной катастрофы. История про загадочного Друда, включенная в повествование, ничего не прибавляла к героизму Неподражаемого. Наоборот, явная тревога, с какой он описывал курьезного, призрачного господина, скорее отвлекала внимание от героического ореола над челом писателя. Тогда к чему все это? По всей видимости, решил я, на месте крушения действительно находился некий предиковинный субъект по имени Друд и что-то близко похожее на короткий разговор и последующие странные взаимодействия с ним, описанные Диккенсом, происходили на самом деле. Но зачем разыскивать этого человека? Спору нет, в столь эксцентричном типе определенно чувствуется некая тайна, но в Англии, в Лондоне и даже на наших железных дорогах полным-полно разных эксцентричных типов. (Даже молодой мистер Диккенсон, эта нахальная букашка, походит на персонажа одного из диккенсовских романов — сирота, с богатым опекуном и полученным по суду наследством, апатичный, ленивый, находящий удовольствие лишь в чтении да ничегонеделанье. После него сильно ли нужно напрячь воображение, чтобы поверить в существование «мистера Друда» с физиономией трупного цвета, безвекими глазами, беспалыми руками и речью с присвистом?) «Но зачем все-таки его разыскивать?» — спрашивал я себя, подъезжая к своей улице. Чарльз Диккенс имел обыкновение тщательно планировать и заранее обдумывать свои шаги, но при этом всегда оставался человеком импульсивным. Во время своей первой поездки по Соединенным Штатам он настроил против себя большую часть публики и всю американскую прессу, настойчиво выступая за принятие закона о международном авторском праве. Выскочки американцы считали в порядке вещей, что произведения Чарльза Диккенса (да и всех прочих английских писателей) воруются и издаются в Штатах без каких-либо отчислений автору, так что Диккенс имел все основания для негодования. Но вскоре после поездки — после разлада отношений с изначально обожающей американской публикой — Диккенс утратил всякий интерес к проблеме авторского права. Иными словами, он был рассудительным человеком со склонностью к безрассудным поступкам под влиянием момента. В Гэдсхилле и прежних местах проживания, в ходе любого путешествия или загородной прогулки, всегда только Чарльз Диккенс решал, куда направиться, где расположиться на пикник, в какие игры играть, кого назначить капитаном команды, и чаще всего именно Диккенс вел счет очков, объявлял победителей и вручал призы. Жители ближайшей к Гэдсхилл-плейс деревни относились к нему скорее как к местному помещику, явно считая великой честью для себя согласие знаменитого писателя раздавать награды на ярмарках и соревнованиях. В детстве Диккенс неизменно верховодил сверстниками в играх. Он сызмалу не сомневался в своем безоговорочном праве на роль лидера и ни разу не отказался от нее во взрослом возрасте. Но какую игру мы с ним затеем, если вдруг и вправду найдем таинственного мистера Друда? Чего добьемся этим, кроме того, что удовлетворим очередной ребяческий порыв Чарльза Диккенса? С какими опасностями будет сопряжено это дело? Кварталы и улицы, якобы упомянутые Друдом, когда они с Диккенсом спускались по откосу к искореженным вагонам, находились далеко не в самом безопасном районе Лондона. А в той части города, которую Диккенс совершенно справедливо называл «гигантским пеклом».
По прибытии домой я изнемогал от страшных подагрических болей. Свет уличных фонарей резал глаза. Звук собственных шагов бил в мозг тяжелым молотом. Грохот проезжающего фургона заставлял корчиться от боли. Я трясся всем телом. Внезапно во рту у меня появился горький кофейный вкус — не послевкусие кофия, выпитого с десертом в клубе, а какая-то гадость. В голове туманилось, тошнотворная слабость разливалась по телу. Наш новый дом располагался на Мелкомб-плейс. Сюда мы переехали с Харли-стрит год назад — отчасти потому, что после «Женщины в белом» мои доходы значительно возросли и положение в литературных кругах упрочилось. (За следующий свой роман, «Без имени», я получил свыше трех тысяч фунтов от издания отдельной книгой, и мне обещали еще четыре с половиной тысячи фунтов за журнальную публикацию в Британии или Америке.) Говоря «наша» или «мы», я подразумеваю свою давнюю сожительницу, некую Кэролайн Г***, и ее тогда четырнадцатилетнюю дочь Хэрриет, а попросту Кэрри. Ходили слухи, будто Кэролайн послужила прототипом главной героини «Женщины в белом». Действительно, наша случайная встреча произошла ночью, когда она выбежала из виллы в Риджентс-парке, спасаясь от одного мерзавца, и я бросился за ней следом и защитил от уличного сброда, каковая сцена нашла отражение в моем романе, но замысел «Женщины в белом» возник у меня задолго до знакомства с Кэролайн. Однако в данный момент Кэролайн и Хэрриет гостили у родственницы в Дувре, наша единственная настоящая служанка тоже отсутствовала нынче вечером (признаться, в ежегодной налоговой декларации я записывал дочь Кэролайн «служанкой»), а посему я находился в доме один. Правда, в другом доме, расположенном в нескольких милях от Мелкомб-плейс, обреталась другая женщина — некая Марта Р***, прежде служившая горничной в ярмутской гостинице, а ныне впервые приехавшая в Лондон. С Мартой я тоже надеялся пожить в уютной семейной обстановке в будущем, но сегодня и в ближайшее время не имел намерения наведываться к ней. Самочувствие не позволяло. Дом был погружен во тьму. Я достал из кладовой бутыль лауданума, хранившуюся там под замком, залпом выпил два стакана, а потом несколько минут сидел за столом на кухне, ожидая, когда боль утихнет. Вскоре препарат подействовал. Ощутив прилив сил и бодрости, я решил подняться в кабинет на втором этаже и поработать час-другой, прежде чем отправиться на боковую. Я пошел наверх по черной лестнице, ближайшей к кухне. Эта лестница, предназначенная для слуг, была очень крутой. Мерцающий газовый рожок на площадке второго этажа отбрасывал лишь крохотный круг неверного света, за пределами которого сгущалась непроглядная тьма. В кромешном мраке надо мной послышались тихие звуки движения. — Кэролайн? — окликнул я, прекрасно понимая, что там не Кэролайн. И не наша служанка. Она уехала в Кент, к заболевшему пневмонией отцу. — Кэролайн? — повторил я, ожидая — но тщетно — ответа. Звуки — теперь я опознал в них шелест шелкового платья — доносились с мансардной лестницы и медленно приближались. Я различал осторожную поступь маленьких босых ног. Я неловко повозился с газовым рожком, но ненадежная горелка, коротко полыхнув, опять померкла и замерцала слабо, как прежде. Потом она вступила в круг зыбкого света, всего тремя ступеньками выше меня. Она выглядела как обычно: старое темно-зеленое шелковое платье сзакрытым корсажем, украшенным вышивкой в виде цепочек крохотных золотых лилий, спускающихся к перетянутой черным поясом талии. Волосы уложены в старомодную высокую прическу. Кожа зеленая — цвета застарелого сыра или полуразложившегося трупа. Глаза похожи на две чернильные лужицы, влажно поблескивающие в свете газового рожка. Она раздвинула губы в приветственной улыбке, и я увидел длинные желтые зубы, загнутые наподобие кабаньих клыков. Я не питал никаких иллюзий относительно причины ее появления здесь. Она хотела схватить меня и сбросить с высокой лестницы. Она предпочла заднюю лестницу передней — широкой, хорошо освещенной и не столь опасной. Она спустилась еще на две ступеньки, расплываясь в желтозубой улыбке. Двигаясь проворно, но не испуганно и не поспешно, я распахнул дверь в служебный коридор второго этажа, шагнул в нее и тотчас закрыл за собой и запер на замок. Я не слышал дыхания за дверью — зеленокожая женщина вообще не дышала, — но различил в тишине слабое царапанье по деревянной панели и увидел, как круглая фарфоровая ручка чуть повернулась туда-сюда. Я зажег газовые рожки в коридоре. Никого, кроме меня, здесь не было. Глубоко дыша, я расстегнул воротничок на булавке и отправился в кабинет работать.
Глава 4
Прошло три недели. По словам моего брата Чарли, гостившего со своей женой Кейт, дочерью Диккенса, в Гэдсхилл-плейс, писатель постепенно оправлялся от тяжелого потрясения. Он ежедневно работал над «Нашим общим другом», устраивал званые обеды, часто исчезал из дома (почти наверняка наведывался в город к Эллен Тернан) и даже читал свои произведения перед группами избранных слушателей. Я в жизни не видел чтецов или актеров, которые выкладывались бы так, как Чарльз Диккенс во время своих чтений, и самый факт подобных выступлений (даже если он слегал после них, а такое частенько случалось, по словам Чарли) свидетельствовал, что у него еще остался порох в пороховницах. Он по-прежнему смертельно боялся поездов, но, верный своей натуре, именно по этой причине заставлял себя почти каждый день кататься в Лондон железной дорогой. Чарли говорил, что при малейшем сотрясении вагона лицо у него серело, на лбу и изрезанных морщинами щеках выступали крупные капли пота, и он судорожно вцеплялся в спинку впередистоящего кресла, но после глотка бренди Диккенс овладевал собой и более не выказывал признаков внутреннего смятения. Я был уверен, что Неподражаемый напрочь забыл про Друда. Но в июле поиски фантома начались всерьез. Стояла самая жаркая, самая душная пора жаркого, душного лета. Испражнения трех миллионов лондонцев смердели в открытых сточных канавах, включая самую большую из наших открытых сточных канав, Темзу (несмотря на недавно предпринятую попытку запустить сложную сеть подземных канализационных труб). Десять тысяч лондонцев спали на террасах и балконах в ожидании дождя. Но когда шел дождь, он походил на горячий душ и только добавлял к жаре еще и влажность. Знойный июль накрывал Лондон подобием тяжелого мокрого одеяла. Каждый день на зловонных улицах собирали двадцать тысяч тонн конского навоза и отвозили на «свалку», каковым словом мы приличия ради называли громадные кучи фекалий, что вздымались близ устья Темзы подобно английским Гималаям. Переполненные кладбища в окрестностях Лондона тоже невыносимо смердели. Могильщикам приходилось прыгать на трупах, часто проваливаясь по колени в изгнившую плоть, чтобы затолкать новых обитателей в мелкие могилы, вырытые в жирной перегнойной земле, и новые мертвецы присоединялись к останкам прежде захороненных тел, уложенных в несколько слоев. В июле вы за шесть кварталов узнавали по запаху о близости кладбища (чудовищное зловоние гнало людей прочь из окрестных лачуг и многоквартирных домов), а ведь какое-нибудь кладбище было где-нибудь поблизости всегда. Мы ходили по трупам и дышали трупным смрадом. Множество неприбранных трупов валялось на беднейших улочках «гигантского пекла», разлагаясь рядом с грудами гниющего мусора, который тоже никогда не убирался. Не струйки и не ручейки, но настоящие реки нечистот текли по улицам мимо мусорных куч и трупов, порой стекая в канализационные колодцы, но чаще просто собираясь в лужи и целые озера на булыжных мостовых. Эта зловонная бурая жижа затапливала подвалы, отравляла колодцы и неизменно — рано или поздно — попадала в Темзу. Торговые и промышленные предприятия ежедневно выбрасывали многие тонны содранных шкур, отваренных костей, конины, кошачьих кишок, коровьих копыт, голов, внутренностей и прочих органических отходов. Все это скидывалось в Темзу или сваливалось в гигантские кучи на берегах Темзы и смывалось в воду дождями впоследствии. Хозяева прибрежных лавок и обитатели прибрежных домов наглухо задраивали окна и пропитывали шторы хлоридом, а в Темзу по приказу городского правления тоннами ссыпалась гашеная известь. Люди на улицах прикрывали рты и носы надушенными платками. Это не помогало. Даже упряжных лошадей (среди них вскоре начался падеж, усугубивший ситуацию) рвало от нестерпимой вони. Влажный знойный воздух июльских ночей казался почти зеленым, густо насыщенный испарениями от экскрементов, производимых трехмиллионным городом, и миазмами от скотобоен и прочих промышленных живодерен, являвшихся отличительной чертой нашей эпохи. Возможно, в ваше время, дорогой читатель, дела обстоят еще хуже, но я, признаться, не представляю, куда уж хуже. Диккенс прислал мне записку с просьбой встретиться с ним в восемь часов вечера в таверне «Блю-постс» на Корк-стрит, где он угостит меня ужином. Там также говорилось, чтобы я надел высокие сапоги для «ночной прогулки, связанной с нашим другом мистером Д.». Хотя с утра мне нездоровилось (подагра часто обостряется по такой жаре), я подъехал к «Блю-постс» к назначенному часу. Диккенс заключил меня в объятья у дверей таверны и вскричал: — Милейший Уилки, как же я рад видеть вас! Последние несколько недель я был страшно занят и скучал по вашему обществу! Сама трапеза, обильная, превосходная, неторопливая, пришлась мне по вкусу, как и пиво с вином, что мы с наслаждением потягивали. Разговаривал в основном Диккенс, разумеется, но беседа, по обыкновению, носила оживленный и беспорядочный характер. Неподражаемый сказал, что рассчитывает завершить «Нашего общего друга» к первым числам сентября и абсолютно уверен, что благодаря заключительным выпускам романа продажи «Круглого года» резко возрастут. После ужина мы взяли кеб и поехали к полицейскому участку на Леман-стрит. — Вы помните инспектора Чарльза Фредерика Филда? — спросил Диккенс, пока кеб с грохотом катил к полицейскому участку. — Конечно, — ответили. — Филд служил в сыскном отделе Скотленд-Ярда. Вы часто общались с ним, когда собирали хроникальный материал для «Домашнего чтения» много лет назад, и он сопровождал нас в нашей экскурсии по… э-э… наименее привлекательным кварталам Уайтчепела. Я не стал добавлять, что всегда был уверен: Диккенс взял инспектора Филда за прототип своего инспектора Баккета из «Холодного дома». Излишне уверенный голос, спокойное чувство превосходства над преступниками, бандитами и уличными женщинами, встречавшимися нам той долгой ночью в Уайтчепеле, не говоря уже о способности этого верзилы взять какого-нибудь типа за локоть железной хваткой, из которой не вырваться никакими силами, да повести туда, куда тот идти вовсе не собирался… Инспектор Баккет со всеми своими грубоватыми повадками срисован с реального инспектора Филда тютелька в тютельку, как говорится. — Инспектор Филд был нашим ангелом-хранителем во время нашего нисхождения в Аид, — сказал я. — Совершенно верно, дорогой Уилки, — подтвердил Диккенс, вылезая вместе со мной из кеба у полицейского участка на Леман-стрит. — А поскольку инспектор Филд вышел в отставку и сменил поприще, я с великим удовольствием представляю вам нашего нового ангела-хранителя. Человек, поджидавший нас под газовым фонарем у входа в полицейских участок, походил больше на громадную каменную глыбу, нежели на человека. Несмотря на жару, он был в длинном пальто, напоминающем просторные длиннополые пыльники, в каких часто изображают австралийских или американских ковбоев на иллюстрациях к низкопробным авантюрным романам, и в котелке, плотно сидящем на крупной голове с копной курчавых волос. Несоразмерно широкое туловище тяжеловесных прямоугольных очертаний казалось гранитным пьедесталом, увенчанным массивной головой, словно вытесанной в камне. Глаза маленькие, нос походил на треугольный выступ, высеченный из того же минерала, что и вся физиономия, а тонкогубый рот оставлял впечатление прорези, выбитой зубилом. Шея шире котелка с полями вместе. А руки в три раза больше моих. Рост Чарльза Диккенса составлял пять футов девять дюймов. Я был на несколько дюймов ниже. Этот великан в сером ковбойском плаще казался выше Диккенса самое малое на девять дюймов. — Уилки, познакомьтесь с бывшим инспектором уголовной полиции Хиббертом Алоизием Хэчери, — сказал Диккенс, ухмыляясь в бороду. — Сыщик Хэчери, я рад представить вам моего близкого друга, талантливого собрата по перу и напарника в деле поисков мистера Друда — мистера Уилки Коллинза, эсквайра. — Очень приятно, сэр, — прогудел великан, нависающий над нами. — Можете называть меня Хиб, коли вам угодно, мистер Коллинз. — Хиб, — тупо повторил я. По счастью, инспектор ограничился тем, что приветственно приподнял котелок. При мысли об огромной лапище, сжимающей мою руку и дробящей все кости, у меня ослабли колени. — Мой отец, человек умный, но неученый, если вы понимаете о чем я, сэр, — сказал сыщик Хэчери, — так вот, он был уверен, что имя Хибберт есть в Библии. Увы, такое имя там ни разу не встречается — ни даже в качестве названия какого-нибудь местечка, где евреи устраивали привал во время своих блужданий по пустыне. — Сыщик Хэчери несколько лет прослужил в чине сержанта в Столичной полиции, но в настоящее время находится в… э-э… долгосрочном отпуске и занимается частным сыском, — сказал Диккенс. — Он собирается вернуться в сыскной отдел Скотленд-Ярда через год или раньше. — Частный сыщик, — пробормотал я. (Идея показалась мне весьма плодотворной. Я тотчас взял ее на заметку и впоследствии положил в основу своего романа «Лунный камень» — возможно, известного вам, дорогой читатель, позволю себе нескромно заметить.) — Так значит, вы сейчас на отдыхе, сыщик Хэчери? — Можно и так сказать, — пророкотал великан. — Меня попросили временно уволиться из-за моего неправомерного обращения с одним преступным мерзавцем в ходе исполнения служебных обязанностей, сэр. Пресса подняла шум. Мой начальник решил, что для отдела и меня самого будет лучше, если я на несколько месяцев уйду в отпуск, так сказать, и займусь на досуге частной практикой. — Из-за неправомерного обращения… — повторил я. Диккенс похлопал меня по спине. — Сыщик Хэчери при задержании вышеупомянутого мерзавца — дерзкого грабителя, средь бела дня нападавшего на пожилых дам здесь, в Уайтчепеле, — ненароком свернул преступнику шею. Как ни странно, малый выжил, но сейчас родным приходится таскать его на носилках. Небольшая потеря для общества и надлежащим образом выполненная работа, как заверили меня инспектор Филд и прочие полицейские чины, но сверхщепетильные сотрудники «Панча», не говоря уже о бульварных газетенках, решили поднять шум. Так что нам несказанно повезло: сыщик Хэчери располагает свободным временем, чтобы сопровождать нас в нашей сегодняшней вылазке в «гигантское пекло». Хэчери извлек из-под полы своего широкого пальто фонарь «бычий глаз», выглядевший в его огромной лапище как карманные часы. — Я буду следовать за вами, джентльмены, но постараюсь оставаться неслышным и невидимым, покуда не понадоблюсь вам.Пока мы с Диккенсом ужинали, прошел дождь, но после него горячий ночной воздух стал только более душным. Неподражаемый шел впереди обычным своим несуразно скорым шагом — каким покрывал по четыре мили в час самое малое и мог ходить по много часов кряду, не сбавляя скорости, как я знал по горькому опыту, — и я изо всех сил старался не отставать. Сыщик Хэчери плыл в десяти ярдах позади нас, подобный безмолвному сгустку тумана. Мы оставили позади широкие улицы и проезды и, следуя за Диккенсом, стали углубляться в лабиринт темных узких улочек и проулков, становившихся все темнее и уже по мере нашего движения вперед. Чарльз Диккенс ни на миг не замедлял шага: он часто совершал здесь полуночные прогулки и знал эти ужасные кварталы как свои пять пальцев. Я понимал лишь, что мы находимся где-то к востоку от Фалькон-Сквер. Я смутно помнил эти места с нашей предыдущей совместной вылазки в лондонскую клоаку — Уайтчепел, Шедуэлл, Уоппинг, все городские районы, куда ни один джентльмен и носа не сунет, если только не захочет найти продажную женщину самого низкого пошиба. Похоже, мы направлялись к докам. Мерзкий запах Темзы усиливался с каждым темным узким кварталом, который мы проходили, углубляясь в этот крысиный лабиринт. Здания здесь выглядели так, словно были построены еще в Средние века, когда Лондон, плоский, темный и больной, лежал за высокими крепостными стенами; выступающие этажи древних строений нависали над нами с обеих сторон, почти заслоняя ночное небо. — Куда мы идем? — шепотом спросил я Диккенса. Мы шагали по совершенно пустынной улочке, но я чувствовал взгляды людей, наблюдавших за нами из темных или закрытых ставнями окон и грязных закоулков. Я старался говорить по возможности тише, но понимал, что даже шепот разносится не хуже крика в душном безмолвном воздухе. — Блюгейт-Филдс, — коротко ответил Диккенс. Медный наконечник его тяжелой трости (которую он, я заметил. всегда брал с собой в подобные ночные походы по «Вавилону») постукивал по разбитой брусчатке на каждом третьем его шаге. — Иногда его еще называют Тайгер-Бэй, — раздался голос из темноты позади нас. Признаюсь, я вздрогнул. Я совсем забыл про сыщика Хэчери. Мы пересекли улицу пошире — кажется, Брунсвик-стрит, — но она была не чище и не лучше освещена, чем зловонные трущобные кварталы по обе стороны от нее. Потом мы снова углубились в лабиринт узких улочек. Многоквартирные дома здесь поднимались высоко и тесно жались друг к другу, а иные из них уже обрушились и обратились в бесформенные груды камня и дерева. Но даже на пустырях и пепелищах я замечал движение смутных теней, провожавших нас пристальными взглядами. Мы перешли мост через вонючий приток Темзы. (Считаю нужным указать вам, дорогой читатель, что именно в 1865 году принц Уэльский публично повернул колесо, запустившее в действие Главную очистную станцию в Кроснессе, которая явилась первым серьезным достижением главного инженера Управления общественных работ Джозефа Базалгетти, поставившего перед собой цель обеспечить Лондон современной канализационной системой. На торжественной церемонии открытия присутствовал весь цвет английской знати и высшего духовенства. Но, отбросив в сторону всякую деликатность, считаю нужным напомнить, что Главная очистная станция — и все построенные впоследствии очистные сооружения, равно как несметное множество старых сточных канав, — по-прежнему сливает в Темзу дерьмо.) Чем ужаснее становились трущобы, тем больше народа появлялось в поле зрения. Группы людей — вернее, скопления неясных теней — виднелись на углах улиц, в дверных проемах, на пустырях между домами. Диккенс держался середины разбитой мостовой, чтобы лучше видеть и вовремя огибать ямы и зловонные лужи нечистот. Он шел крупным шагом, постукивая своей джентльменской тростью по камням, и, казалось, не обращал ни малейшего внимания на злобное ворчание и брань мужчин, встречавшихся нам по дороге. Наконец группа таких вот оборванцев выступила из темного проулка и двинулась нам наперерез. Диккенс не сбавил шага, но продолжал спокойно идти вперед, словно видел перед собой стайку ребятишек, собирающихся попросить у него автограф. Однако я заметил, что он перехватил трость таким образом, чтобы медная рукоять — выполненная в виде птичьего клюва, кажется, — была нацелена вперед. Сердце у меня бешено заколотилось, и я чуть не зашатался от страха, когда Диккенс повел меня навстречу воинственно настроенным головорезам, перегородившим улицу живой стеной. Потом серая, увенчанная котелком глыба быстро проплыла мимо меня, нагнала Диккенса, и голос Хэчери негромко произнес: — Прочь с дороги, парни. Возвращайтесь в свои дыры. Пропустите этих джентльменов без единого слова или хотя бы косого взгляда. Живо! Круг людей расступился так же быстро, как сомкнулся вокруг нас. Я ожидал, что в спину нам полетят камни или, по крайней мере, комья грязи, но ничего крепче приглушенного проклятья не было брошено нам вслед. Сыщик Хэчери опять растаял в темноте за нами, а Диккенс, постукивая тростью, продолжал идти резвой поступью в южном (как мне казалось) направлении. Потом мы вошли в квартал, где заправляли проститутки и их хозяева. Я смутно припомнил, что бывал здесь несколько раз в студенческие годы. Эта улица имела более респектабельный вид, чем большинство из пройденных нами за последние полчаса. Сквозь ставни на верхних этажах пробивался свет. Человек неосведомленный запросто мог бы подумать, что в этих домах проживают фабричные рабочие и механики. Но в воздухе здесь висела гнетущая тишина. На крыльцах, балконах и растрескавшихся плитах убогих тротуарчиков стояли группы молодых женщин — мы могли рассмотреть их в свете, падающем из нижних окон, не закрытых ставнями. Почти все выглядели не старше восемнадцати лет. Многим на вид было четырнадцать или даже меньше. При виде сыщика Хэчери они не выказали ни малейшего испуга, но напротив, принялись поддразнивать его насмешливыми голосами. — Эй, Хибберт, привел нам парочку клиентов, да? — Иди к нам, расслабься маленько, старина Хиб! — Двери нашего дома открыты для тебя, инспектор Хиб, как и двери наших комнат. Хэчери непринужденно рассмеялся. — Твои двери всегда открыты, Мэри, хотя надо бы их закрыть. Придержите язычки, девочки. Вы не интересуете этих джентльменов нынче ночью. Он был не совсем прав. Мы с Диккенсом остановились подле молодой девушки лет семнадцати, которая перегнулась через перила и пыталась получше рассмотреть нас в тусклом свете. Я разглядел, что она полного телосложения и одета в довольно короткое темное платье с глубоким вырезом. Заметив заинтересованный взгляд Диккенса, она широко улыбнулась, продемонстрировав отсутствие доброй половины зубов, и спросила: — Ищешь табачок, дорогуша? — Табачок? — переспросил Диккенс и искоса бросил на меня искрящийся весельем взгляд. — Да нет, милая моя. С чего вы взяли, что я ищу табак? — Потому как коли он тебе нужен, так у меня имеется, — сказала девушка. — Закрутки, щепотки в пол-унции, сигары и все, что твоей душе угодно. Бери, коли хошь, — тебе надо лишь зайти в дом. Улыбка Диккенса слегка поугасла. Он положил затянутые в перчатки руки на рукоять трости. — Мисс, — мягко промолвил он, — вы когда-нибудь думали о том, чтобы изменить свою жизнь? Чтобы распрощаться с… — Его перчатка смутно белела в темноте, когда он широко повел рукой, указывая на безмолвные здания, безмолвные сборища женщин, улицу с разбитой мостовой и даже группу громил, с выжидательным видом стоявших поодаль, за пределами бледного круга света, точно стая волков. — Чтобы распрощаться с такой жизнью? Девица рассмеялась, показав немногие гнилые зубы, еще у нее оставшиеся. Смех до жути походил на сухой кашель больной старой карги. — Мне — распрощаться с моей жистью, дорогуша? В таком случае почему бы тебе не распрощаться со своей? Тебе стоит лишь подойти к Ронни и ребятам, что околачиваются вон там. — У вас нет будущего, нет надежды на будущее, — сказал Диккенс. — У нас ведь есть дома милосердия для падших женщин. Я сам участвовал в учреждении и обустройстве одного такого приюта в Бродстейрсе, где… — Я никуда падать не собираюсь, — перебила она. — Разве только на спину — за положенную ничтожную плату. — Девица повернулась ко мне. — Ну а как насчет тебя, коротышка? На вид ты еще вполне бодрячок. Хошь зайти за закруткой табачка, пока старина Хэчери не осерчал на нас? Я прочистил горло. Честно говоря, дорогой читатель, я находил в этой шлюхе что-то соблазнительное, несмотря на ночную жару и зловоние, взгляды моих спутников и даже гнилозубую улыбку и безграмотную речь девицы. — Пойдемте, — промолвил Диккенс, поворачиваясь и двигаясь прочь. — Мы здесь зря теряем время, Уилки.
— Диккенс, — заговорил я, когда мы прошли по очередному скрипучему мосточку через очередной вонючий ручей и зашагали по тесным кривым проулкам, застроенным совсем уж древними домами, — я должен спросить вас: эта наша… гм… экскурсия действительно как-то связана с вашим таинственным мистером Друдом? Он остановился и оперся на трость. — Конечно, друг мой. Мне следовало сказать вам еще за ужином. Мистер Хэчери сделал для нас нечто большее, чем просто согласился сопровождать нас в прогулке по этому… неприглядному… району. Он с недавних пор работает на меня и с толком применил свои сыщицкие способности. — Диккенс повернулся к великану, подошедшему к нам сзади. — Сыщик Хэчери, будьте так любезны, расскажите мистеру Коллинзу, что вам удалось установить к настоящему времени. — Слушаюсь, сэр. — Громадный сыщик снял котелок, почесал затылок, запустив пальцы в курчавую шевелюру, а потом натянул шляпу обратно на голову. — Сэр, — промолвил он, теперь обращаясь ко мне, — в последние десять дней я навел справки относительно людей, бравших билеты в Фолкстоне или на других станциях, где останавливается поезд — хотя дневной курьерский идет до Лондона без остановок, — а также осторожно навел справки насчет других пассажиров, кондукторов и проводников, ехавших тогда в поезде. И вот какое дело, мистер Коллинз: никто по имени Друд и никто, подходящий под очень странное описание, данное мне мистером Диккенсом, не покупал билета на дневной курьерский и не находился в одном из пассажирских вагонов в момент крушения. Я взглянул на Диккенса. — Значит, либо ваш Друд проживает в одной из деревень близ Стейплхерста, — сказал я, — либо его вообще не существует. Диккенс лишь помотал головой и знаком велел Хэчери продолжать. — Но во втором почтовом вагоне, — сказал сыщик, — в Лондон везли три гроба. Два из них поступили из фолкстонского похоронного бюро, а третий был доставлен на том же пароме, на котором прибыл мистер Диккенс с дама… со своими спутниками. Согласно сопроводительным документам, третий гроб, доставленный из Франции — из какого именно города, в бумагах не уточнялось, — по прибытии поезда в Лондон надлежало передать некоему мистеру Друду, имя последнего не указывалось. Я на минуту задумался. Со стороны публичных домов, оставшихся далеко позади нас, доносились приглушенные расстоянием крики. — Так вы полагаете, что Друд находился в одном из гробов? — наконец спросил я, взглянув на Диккенса. Писатель рассмеялся — почти восторженно, мне показалось. — Ну конечно, дорогой Уилки. Оказывается, второй почтовый вагон сошел с рельсов — от тряски все посылки, мешки с корреспонденцией и… да, гробы сдвинулись со своих мест, — но с моста не сорвался. Это объясняет, почему мистер Друд спускался вместе со мной по береговому откосу несколькими минутами позже. Я потряс головой. — Но с какой стати ему путешествовать в… боже мой… в гробу? Это ж, наверное, обходится дороже, чем билет первого класса. — Чуть дешевле, чуть дешевле, — подал голос Хэчери. — Я проверял. Стоимость транспортировки покойников чуть ниже стоимости билета первого класса, сэр. Не намного, всего на несколько шиллингов, — но все-таки. Я по-прежнему не понимал. — Но, Чарльз, — мягко промолвил я, — вы же не думаете, что ваш мистер Друд был… ну… призраком? Вампиром? Ходячим мертвецом? Диккенс снова рассмеялся, еще веселее прежнего. — Милейший Уилки! Право слово! Будь вы преступником, известным не только лондонской, но и портовой полиции, какой самый простой и надежный способ вернуться из Франции в Лондон вы бы выбрали? Теперь настала моя очередь рассмеяться, но без всякой веселости, уверяю вас. — Ну уж всяко не в гробу, — сказал я. — Лежать в гробу всю дорогу? Это… немыслимо. — Да ничего подобного, милый мой, — сказал Диккенс. — Всего несколько часов неудобства. В наши дни путешествие на обычном пароме или поезде сопряжено с неменьшими неудобствами, если уж быть предельно откровенным. А кому захочется проверять гроб, в котором разлагается труп недельной давности? — А труп мистера Друда действительно был недельной давности? — спросил я. Диккенс лишь одобрительно прищелкнул пальцами, словно я удачно сострил. — Ну и зачем мы идем к докам? — поинтересовался я. — Неужели сыщик Хэчери разузнал, куда приплыл гроб мистера Друда? — Просто-напросто, сэр, — сказал Хэчери, — следственные действия, проведенные мной в припортовых кварталах, вывели нас на людей, утверждающих, что они знают Друда. Или знали. Или имели с ним какие-то дела. К ним-то мы и направляемся. — Так поспешим же! — воскликнул Диккенс. Хэчери поднял огромную ладонь, будто останавливая поток экипажей на Стрэнде. — Считаю своим долгом предупредить вас, джентльмены, что сейчас мы входим непосредственно в Блюгейт-Филдс — райончик, прямо скажем, не совсем благополучный. Он не обозначен на большинстве городских карт, как и квартал Нью-Корт, куда мы держим путь. Джентльменам сюда опасно соваться. Здесь полным-полно таких типов, которым убить человека — раз плюнуть. Диккенс рассмеялся. — Полагаю, как и бандитам, недавно попавшимся нам навстречу, — сказал он. — Чем же здешние головорезы отличаются от всех прочих, дорогой Хэчери? — Разница в том, господин хороший, что парни, давеча повстречавшиеся нам, так они отберут у вас кошелек и изобьют до полусмерти, а возможно, и до смерти. Но здесь, в Блюгейт- Филдс… здесь вам перережут глотку, сэр, просто чтобы проверить, не затупился ли нож. Я взглянул на Диккенса. — Ласкары, индусы, бенгальцы и прорва китайцев, — продолжал Хэчери. — А также ирландцы, немцы и тому подобный сброд, не говоря уже о самом гнусном отребье вроде сошедшей на берег матросни, охочей до женщин и опиума. Но тут, в Блюгейт-Филдс, опасаться следует прежде всего англичан. Китайцы и прочие иностранцы, они не едят, не спят, почти не разговаривают — у них в жизни одна радость: опиум. Но вот здешние англичане — народ на редкость лихой, мистер Диккенс. На редкость лихой. Диккенс снова рассмеялся. Сейчас он производил впечатление крепко пьяного человека, но я-то знал, что он выпил лишь немного вина да портвейна за ужином. Он смеялся беспечным смехом малого ребенка, не ведающего забот. — В таком случае мы вновь доверим нашу безопасность вам, инспектор Хэчери. Я обратил внимание, что Диккенс повысил частного сыщика в звании. И Хэчери — судя по тому, как он смущенно переступил с ноги на ногу, — тоже заметил это. — Есть, сэр, — сказал сыщик. — С вашего позволения, сэр, теперь я пойду впереди. И настоятельно советую вам, джентльмены, не отставать от меня. Большинство улиц, оставленных нами позади, не значились на городских картах, а трущобные лабиринты Блюгейт-Филдс были на них едва намечены, однако Хэчери, казалось, точно знал дорогу. Даже Диккенс, шагавший следом за огромным сыщиком, похоже, тоже ориентировался на местности. Хэчери отвечал на мои шепотом задаваемые вопросы, называя нормальным голосом различные топографические объекты: церковь Сент-Джордж-на-Востоке (не помню, чтобы мы мимо нее проходили), Джордж-стрит, Розмари-лейн, Кейбл-стрит, Нок-Фергюс, Блэк-лейн, Нью-роуд, Ройал-Минт-стрит. Иные из этих названий значились на уличных указателях. В Нью-Корте мы свернули с вонючей улицы в темный двор — единственным источником освещения нам служил фонарь Хэчери — и прошли в проем в стене, больше похожий на дыру, нежели на ворота, ведущие в лабиринт других темных дворов. Здания здесь казались заброшенными, но я предположил, что просто все окна плотно закрыты ставнями. Когда мы сходили с булыжного покрытия, под ногами хлюпала то ли заиленная речная вода, то ли нечистоты. Диккенс остановился возле окна с выбитыми стеклами, ныне представлявшего собой черный провал в глухой стене. — Хэчери, ваш фонарь, — крикнул он. Луч света выхватил из темноты три скукоженных грязно-белесых тельца, лежащих на разбитом каменном подоконнике. В первый момент я решил, что кто-то бросил здесь трех освежеванных кроликов. Я подошел поближе, а потом быстро отступил назад, прикрывая платком нос и рот. — Новорожденные младенцы, — сказал Хэчери. — Тот, что посередке, родился мертвым, полагаю. Остальные двое умерли вскоре после рождения. Не тройняшки. Родились и умерли в разное время, судя по работе, проделанной червями да крысами, и прочим признакам. — Боже мой, — проговорил я сквозь платок. Желчь у меня поднялась к самому горлу. — Но зачем… оставлять их здесь? — Это место не хуже любого другого, — сказал Хэчери. — Некоторые матери пытаются похоронить новорожденных. Запеленывают крошек в тряпье, надевают на них чепчики, прежде чем бросить в Темзу или закопать во дворе. Большинство не тратит времени на лишнюю возню. Им надо побыстрее возвращаться к работе. Диккенс повернулся ко мне. — Ну как, Уилки, все еще находите соблазнительной девку, что хотела затащить вас в дом за «табачком»? Я не ответил, отступив еще на шаг и отчаянно борясь с рвотными позывами. — Мне уже доводилось видеть такое, — сказал Диккенс на удивление бесстрастным, спокойным голосом. — Не в ходе моих прогулок по «гигантскому пеклу», а еще в детстве. — Неужели, сэр? — промолвил сыщик. — Да, много раз. Когда я был совсем маленьким, еще до переезда нашей семьи из Рочестера в Лондон, мы держали служанку по имени Мэри Уэллер. Она, зажав мою дрожащую ручонку в своей широкой мозолистой ладони, часто приводила меня в дома, где принимала роды. Так часто, что впоследствии я порой задавался вопросом, не следовало ли мне избрать ремесло повитухи. Чаще младенцы умирали, Хэчери. Я помню одни ужасные многоплодные роды — мать тоже скончалась — с пятью мертвыми младенцами. Кажется, их было пятеро, как ни трудно такое представить… хотя, может статься, и четверо, я ведь тогда был совсем крохой… и все они лежали рядком на чистой простынке, постеленной на комоде. Знаете, что они напомнили мне тогда, в моем нежном возрасте четырех или пяти лет, Хэчери? — Что, сэр? — Свиные ножки, аккуратно разложенные на прилавке мясной лавки, — сказал Чарльз Диккенс. — Когда видишь такое зрелище, на ум невольно приходит Фиестов пир. — Истинная правда, сэр, — согласился Хэчери. Сыщик наверняка слыхом не слыхивал о древнегреческой трагедии[4], к эпизоду которой отсылал Диккенс своим замечанием. Но я понял, о чем говорит мой друг. К горлу снова подкатила желчь, и я с трудом подавил рвотный позыв. — Уилки, — резко промолвил Диккенс, — дайте ваш платок, пожалуйста. После секундного колебания я выполнил просьбу. Вынув из кармана свой собственный шелковый платок, побольше и подороже моего, Диккенс аккуратно накрыл обоими платками три полуразложившихся, частично обглоданных крысами детских тельца и прижал края ткани кирпичами, вытащенными из разбитого подоконника. — Вы позаботитесь о них, сыщик Хэчери? — спросил он, уже двигаясь прочь и вновь постукивая тростью по камню. — Еще до рассвета, сэр. Можете на меня положиться. — Мы в вас нисколько не сомневаемся, — сказал Диккенс, наклоняя голову и придерживая цилиндр, поскольку в тот момент мы проходили сквозь очередной низкий и узкий проем в стене, ведущий в еще более темный и смрадный крохотный дворик. — Не отставайте, Уилки. Держитесь ближе к свету. Наконец мы достигли открытой двери, различимой во мраке не лучше, чем последние три дюжины закрытых дверей, минованных нами. Сразу при входе, в глубокой нише, стоял маленький фонарь, источавший слабый голубоватый свет. Сыщик Хэчери хмыкнул и стал подниматься по узкой лестнице. На лестничной площадке второго этажа царил кромешный мрак. Следующий лестничный марш был уже первого, но темноту здесь слегка рассеивал неверный тусклый свет единственной свечи, горевшей на следующей площадке. Мне показалось удивительным, что язычок пламени не гаснет в таком спертом, жарком и чудовищно смрадном воздухе. Хэчери без стука распахнул дверь, и мы гуськом вошли в нее. Мы оказались в первой и самой просторной из нескольких смежных комнат, которые все были видны сквозь открытые дверные проемы. В этой первой комнате на пружинной кровати, среди ворохов грязного тряпья, сидели вразвалку два ласкара и старуха. Одна из куч тряпья пошевелилась, и я понял, что на кровати лежат еще люди. Сцена освещалась несколькими оплавленными свечами и фонарем с красным стеклом, придававшим всему кровавый оттенок. Настороженные глаза уставились на нас из-под ворохов тряпья в смежных комнатах, и я понял, что на пол у там валяются вповалку еще люди — китайцы, азиаты, ласкары. Несколько из них попытались уползти в угол, словно вспугнутые внезапным светом тараканы. Древняя старуха на кровати (все четыре кроватных столбика были сплошь изрезаны досужими ножами, а пыльный полог ниспадал подобием истлевшего савана) курила своего рода трубку, изготовленную из чернильной склянки, что по пенни штука. От густого дыма и терпкого приторного запаха, смешанного со зловонием Темзы, проникавшим сквозь наглухо закрытые жалюзи, мой измученный изжогой желудок снова свело спазмом. Я пожалел, что не выпил второго стакана лауданума перед тем, как отправиться на встречу с Диккенсом сегодня вечером. Хэчери легонько ткнул старую каргу деревянной полицейской дубинкой, которую отточенным движением вытащил из-за пояса. — Эй, Сэл, давай-ка просыпайся, — резко сказал он. — Эти джентльмены хотят задать тебе несколько вопросов, и клянусь, ты ответишь на них исчерпывающим образом. Сэл — беззубая древняя старуха со сморщенным мертвенно-бледным лицом, лишенным всякого выражения, если не считать тусклого порочного огонька в подслеповатых водянистых глазах, — искоса взглянула на Хэчери, потом на нас. — Хиб, — проговорила она, в своем одурманенном состоянии все же признав великана. — Ты вернулся в полицию? Что, пришел за монетой? — Я пришел задать несколько вопросов. — Хэчери снова легко ткнул старуху дубинкой во впалую грудь. — И мы не уйдем, покуда не получим ответов. — Спрашивай, — сказала Сэл. — Только позволь мне сперва поднаполнить трубочку старому Яхи, будь славным малым. Я только сейчас заметил некую древнюю мумию, сидевшую среди подушек в углу за кроватью. Старая Сэл проковыляла к сосуду, наполовину наполненному чем-то вроде густой патоки, что стоял на японском подносе посреди комнаты. Подцепив на кончик длинной иглы немного вязкого вещества, она подошла к мумии. Когда старый Яхи обернулся, я увидел, что он держит во рту опиумную трубку, которую не выпускал с момента нашего появления. Не открывая полностью глаз, он взял комочек патоки пожелтевшими пальцами с Длинными ногтями, скатал в твердый шарик размером с горошину и положил оный в чашечку еще не потухшей трубки. Потом древняя мумия сомкнула веки, отвернулась прочь от света и неподвижно застыла в прежней позе, с поджатыми босыми ногами. — Вот и еще четыре пенни к моему скромному капитальцу, — просипела Сэл, воротившись в узкий круг красного света от фонаря. — Старому Яхи, как тебе наверняка ведомо, Хиб, уже за восемьдесят, и он курит опий добрых шестьдесят лет, а то и поболе. Он, знамо дело, не спит ни минутки, но на здоровье не жалуется и содержит себя в опрятности. Прокурит цельную ночь — а поутру покупает рис, рыбу да овощи, но прежде непременно начистит, надраит все в доме, включая себя самого. Шестьдесят лет курит опий — и ни дня не болел. Старый Яхи, неразлучный с опием, пережил в добром здравии аж четыре эпидемии лихоманки, когда все вокруг мерли как мухи… — Ну хватит, — перебил Хэчери. — Сейчас джентльмены зададут тебе несколько вопросов, Сэл… и коли ты дорожишь этой крысиной норой, которую называешь своим домом и коммерческим предприятием, коли ты не хочешь, чтобы я закрыл твой притон, — тогда, видит Бог, тебе лучше отвечать быстро и честно. Старая карга с подозрительным прищуром уставилась на нас. — Мадам, — начал Диккенс таким непринужденным и сердечным тоном, словно обращался к знатной даме, явившейся к нему с визитом, — мы ищем некоего человека по имени Друд. Нам известно, что он часто посещал ваш при… э-э… ваше заведение. Не подскажете ли нам, где его можно найти сейчас? Одурманенная опиумом старуха испуганно вздрогнула и мигом пришла в чувство, как если бы Диккенс окатил ее ледяной водой из ведра. Глаза у нее на секунду расширились, а потом прищурились пуще прежнего и приобрели еще более подозрительное выражение. — Друд? Не знаю я никакого Друда… Хэчери улыбнулся и ткнул ее дубинкой посильнее. — Так не пойдет, Сэл. Нам известно, что он часто сюда наведывался. — Кто говорит такое? — прошипела старуха; угасающая свеча на полу зашипела с ней в унисон. Хэчери снова улыбнулся и снова ткнул в костлявое плечо дубинкой, на сей раз еще сильнее. — Мамаша Абдалла и Бубу, обе сказали мне, что в последние годы не раз видели здесь субъекта, которого ты называла Друдом… белый мужчина, беспалый, речь со странным акцентом. Говорят, он был твоим постоянным клиентом. От него воняет гнилым мясом, сказала мамаша Абдалла. Сэл попыталась рассмеяться, но из горла у нее вырвался лишь задышливый хрип. — Мамаша Абдалла — полоумная стервь. Бубу — лживая китаеза. — Возможно, — улыбнулся Хэчери, — но не более полоумная и не более лживая, чем ты, моя Принцесса Пых-Пых. Некто по имени Друд бывал здесь, ты это знаешь — и все нам расскажешь. По-прежнему улыбаясь, он ударил тяжелой дубинкой по длинным, изуродованным артритом пальцам старухи. Она взвыла от боли. Две груды тряпья, лежавшие в углу, поползли в соседнюю комнату, где шум не потревожит опиумного сна, коли здесь произойдет смертоубийство. Диккенс вынул из кошелька несколько шиллингов и позвенел монетами в ладони. — Вы извлечете выгоду из своей откровенности, мадам, если расскажете нам все, что вам известно о Друде. — И проведешь несколько суток — а может, и недель — даже не в полицейском участке, а в самом сыром каменном мешке в Ньюгейтской тюрьме, если не расскажешь, — добавил Хэчери. Угроза произвела на меня сильнейшее впечатление, какого не могла произвести на Диккенса. Я попытался представить несколько суток, не говоря уже о нескольких неделях, без лауданума. Эта женщина явно употребляла опиум в таких дозах, какие мне и не снились. У меня заломило кости при одной мысли о том, чтобы хоть на день лишиться моего лекарства. В водянистых глазах Принцессы Пых-Пых выступили настоящие слезы. — Ну ладно, ладно, Хиб, хватит махать дубинкой да стращать меня. Я никогда тебе не перечила, верно? Всегда платила в срок, верно? Всегда… — Рассказывай джентльменам про Друда, а насчет всего остального заткни глотку, — проговорил Хэчери тихим угрожающим голосом. Он прижал дубинку к дрожащей руке старой карги. — Когда вы в последний раз видели Друда? — спросил Диккенс. — Где-то с год назад, — задыхаясь, просипела Принцесса Пых- Пых. — С тех пор он здесь не показывался. — Где он живет, мадам? — Не знаю. Клянусь, не знаю. Чоу-Чи Джон Поттер впервой привел сюда этого вашего Друда лет восемь, не то девять назад. Они курили опий в огромных количествах. Друд всегда платил золотыми соверенами, так что репутация у него, выходит, золотая. Он никогда не пел и не горланил, как другие, — вон, слышите, разорались в соседней комнате. Он просто сидел, курил и смотрел на меня. И смотрел на других. Иной раз он уходил первый, намного раньше всех остальных, а порой засиживался дольше всех. — Кто такой Чоу-Чи Джон Поттер? — осведомился Диккенс. — Джек уж помер, — сказала старуха. — А был он старым китайцем, корабельным коком. Христианское имя он получил, потому как окрестился, но он был слаб умом, сэр, он был ровно малый ребенок — только ребенок злой и жестокий, ежели напивался рому. Но вот от опия он никогда не дурел до безобразия, сколько б ни выкурил. Никогда. — Чоу-Чи был другом Друда? — спросил Диккенс. — У Друда — коли так звали вашего человека — не было друзей, сэр. Все боялись его. Даже Чоу-Чи. — Но в первый раз он — Друд — пришел в ваше заведение вместе с Чоу-Чи? — Ага, сэр, с ним самым. Но сдается мне, он просто столкнулся со старым Джеком на улице и попросил добросердечного недоумка проводить его до ближайшей опиумной курильни. Джек был рад угодить любому и за доброе слово, а уж за шиллинг — тем паче. — Друд живет где-то поблизости? — поинтересовался Диккенс. Старуха снова рассмеялась, но почти сразу закашлялась. Ужасные звуки продолжались, казалось, целую вечность. Наконец она несколько раз глотнула ртом воздух и просипела: — Живет где-то поблизости? В Нью-Корте, Блюгейт-Филдс, припортовом квартале или Уайтчепеле? Нет, сэр. Ни в коем разе, сэр. — Почему вы так считаете? — спросил Диккенс. — Да мы бы знали, господин хороший, — проскрипела Сэл. — Малый навроде Друда нагнал бы лютого страху на всех мужчин, женщин и детей в Уайтчепеле, Шедуэлле да и во всем Лондоне. Мы бы все сбежали из города. — Почему? — спросил Диккенс. — Из-за евонной истории, — прошипела карга. — Доподлинной и ужасной истории. — Расскажите нам, — велел Диккенс. Старуха заколебалась. Хэчери несколько раз легонько ткнул дубинкой в костлявый локоть. Немного повыв, старая Сэл поведала историю, которую слышала от покойного Чоу-Чи Джона Поттера, другого торговца опиумом по имени Яхи и одного из завсегдатаев своего заведения, ласкара Эммы. — Друд в наших краях человек не новый, люди знающие говорят, что он наведывается сюда вот уже сорок с лишним лет… — А какое у мистера Друда крестильное имя, мамаша? — перебил я. Хэчери и Диккенс сердито посмотрели на меня. Я растерянно моргнул и отступил назад. Больше я не задал Принцессе Пых- Пых ни единого вопроса. Сэл тоже бросила на меня сердитый взгляд. — Крестильное имя? Да нету у Друда никакого крестильного имени. Он не христианин и никогда таковым не был. Звать его просто Друд. Это часть истории. Так мне рассказывать, аль нет? Я кивнул, чувствуя, как жаркая краска смущения заливает мое лицо между нижней дужкой очков и началом бороды. — Друд, он просто Друд, — повторила старая Сэл. — Ласкар Эмма говорил, что раньше Друд был матросом. Яхи же, который старше, чем мамаша Абдалла и грязь, вместе взятые, говорит, что он был не матросом вовсе, а пассажиром на корабле, приплывшем в Англию давным-давно. Может, шестьдесят лет назад, а может, и все сто. Но в одном они сходятся: Друд родом из Египта… Я заметил, как Диккенс и верзила сыщик переглянулись, словно слова старухи подтвердили что-то, что они уже знали или подозревали. — Он, значит, был египтянином, темнокожим, как все эти поганые магометане, — продолжала Сэл. — По слухам, тогда у него еще были волосы, черные как смоль. Иные болтают, что он был красавец-мужчина. Но он всегда курил опий. Говорят, едва он сошел на берег Англии, как вскорости уже попыхивал трубочкой из чернильной склянки. Сперва Друд истратил все свои деньги — многие тысячи фунтов, если люди не врут. Должно быть, он происходил из высшей египетской знати. По крайней мере, из богатого семейства. Или разжился деньжатами каким-нибудь нечистым образом. Старый Чин-Чин, уэст-эндский торговец опием, обобрал Друда до нитки, сдирая с него в десять, двадцать, пятьдесят раз дороже, чем брал со своих постоянных клиентов. Когда все денежки вышли, Друд пробовал работать — подметал улицы, показывал фокусы знатным господам и дамам на Фалькон-Сквер, — но денег, заработанных честным путем, на опий не хватало. Оно иначе и не бывает. Тогда египтянин заделался сперва карманником, а потом и настоящим головорезом — убивал и грабил матросов в припортовом квартале. Таким манером он оставался в милости у Чин-Чина и курил опий наилучшего качества, который китаец покупал в заведении Джонни Чанга, что в кофейне «Лондон и святая Катарина» на Рэтклиффской дороге… Потом Друд сколотил шайку — большей частью из египтян, но были там и малайцы, и ласкары, и свободные негры из матросни, и грязные ирландцы, и подлые немцы. Но в основном, повторяю, шайка состояла из египтян. У них своя религия, и они живут и молятся своим поганым богам в старом Подземном городе… Не понимая, о чем речь, но боясь еще раз перебить рассказчицу, я взглянул сначала на Диккенса, потом на Хэчери. Оба они потрясли головой и пожали плечами. — В один прекрасный день — или ночь — лет двадцать тому, — продолжала Сэл, — Друд напал из-за угла на одного матроса — вроде бы звали того Финн. Но Финн оказался не таким пьяным, как представлялось, и не такой легкой добычей, как думал Друд. Египтянин при разбоях да убийствах орудовал скорняжным ножом — а может, и кривым обвалочным навроде тех, какими пользуются уайтчепелские мясники, что вечно кричат про «превосходный филей отменного качества к завтрашнему ужину без единой косточки»… Оно и верно, джентльмены и констебль Хиб: когда Друд заканчивал свою работенку в доках, в кошельке у него появлялись деньжата на опиум, а от матросов, чьи выпотрошенные трупы бросали в Темзу, точно рыбью требуху, не оставалось на виду ни единой косточки… В одной из смежных комнат раздался стон. У меня мороз подрал по спине, но этот замогильный звук отнюдь не являлся откликом на историю старой Сэл. Просто у клиента в трубке выгорело все зелье. Карга не обратила на стон внимания, как и три ее завороженных слушателя. — Но той ночью, двадцать лет назад, дело не вышло. Финн — коли того малого и вправду звали Финном — оказался не из тех, кого легко посадить на перо. Он перехватил руку Друда, вырвал у него нож — скорняжный ли, обвалочный или какой еще — и оттяпал египтянину нос. Потом он вспорол своего несостоявшегося убийцу от паха прям до ключицы. Да уж, за годы службы на корабле Финн наловчился орудовать ножом, так говорит ласкар Эмма. Друд, рассеченный чуть не надвое, но все еще живой, вопит: «Нет, нет, пощади, не надо!» — а Финн, значит, отрезает мерзавцу язык, потом отхватывает причинное место и решает затолкать его нехристю в пасть взамен языка. И как решает — так и делает. Я вдруг осознал, что часто моргаю и дышу прерывисто. Я никогда прежде не слышал подобных речей из женских уст. Кинув взгляд на Неподражаемого, я понял, что он совершенно зачарован как рассказом, так и рассказчицей. — А под конец, — продолжала Сэл, — Финн, или как там звали этого матроса, умевшего орудовать ножом, вырезает сердце из Друдовой груди и бросает труп египтянина в реку с причала, что находится в миле без малого отсюда. Хотите верьте, хотите нет, господа хорошие. — Но постойте, — перебил Диккенс. — Это же случилось двадцать с лишним лет назад? А немногим раньше вы сказали, что Друд семь или восемь лет кряду ходил в ваше заведение и пропал всего около года назад. Или вы настолько одурманены наркотиком, что не помните собственного вранья? Принцесса Пых-Пых злобно вперилась в моего друга, выставила вперед руки со скрюченными пальцами, сгорбилась пуще прежнего, и мне показалось, будто ее растрепанные космы на мгновение встали дыбом. Я вдруг исполнился уверенности, что она вот-вот обернется дикой кошкой и начнет яростно фырчать, кусаться и царапаться. Вместо этого старуха прошипела: — Друд мертв, вот о чем я вам толкую. Мертв с тех самых пор, как матрос зарезал его и бросил в Темзу лет двадцать назад. Но евонные приспешники и единоверцы — египтяне, малайцы, ласкары, ирландцы, немцы, индусы, — они выловили из реки распухший труп своего вожака через несколько дней после убийства, провели богомерзкие языческие ритуалы и оживили Друда. Ласкар Эмма говорит, дело было в Подземном городе, где египтянин живет и поныне. Старый Яхи, знававший Друда еще живым, говорит, что воскрешение произошло за рекой, среди гор конского и человеческого дерьма, которые вы, господа, деликатно называете «мусорной свалкой». Но где бы и как бы они ни обстряпали дело, Друда они таки оживили. Я взглянул на Диккенса. В глазах у него горел восхищенный и одновременно озорной огонек. Кажется, я уже упоминал, что Чарльз Диккенс был не из тех людей, рядом с кем хочется стоять во время заупокойной службы: живущий в нем ребенок просто не мог удержаться от улыбки, от многозначительного взгляда, от лукавого подмига в самые неподходящие моменты. Порой мне казалось, что Чарльз Диккенс готов смеяться над всем подряд — священным ли, нечестивым ли. Я испугался, что и сейчас он начнет смеяться. Поясняю: испугался я не потому, что ситуация в целом не располагала к смеху, но потому, что в тот момент я нимало не сомневался, что все клиенты опиумного притона, все бедолаги, зарывшиеся в кучи тряпья, забившиеся в углы, спрятавшиеся под драными одеялами и развалившиеся на подушках, прислушиваются к нашему разговору со всем вниманием, на какое способен одурманенный наркотиком мозг. Я испугался, что, если вдруг Диккенс сейчас рассмеется, все эти существа — а в первую очередь старая Сэл, окончательно превратившаяся в огромную разъяренную кошку, — набросятся на нас и разорвут на куски. В таком случае даже великан Хэчери не спасет нас, подумалось мне тогда в минутном приступе страха. Но Диккенс, вопреки худшим моим ожиданиям, просто вручил Сэл три золотых соверена — положил монеты в грязную желтую ладонь и своею рукой свернул в кулак скрюченные шишковатые пальцы старухи. — Где мы сейчас можем найти Друда, голубушка? — мягко спросил он. — В Подземном городе, — прошептала она, зажимая монеты в обеих ладонях. — В самой глубине Подземного города, где китаец по прозвищу Король Лазарь снабжает Друда и всех прочих чистейшим опиумом. В самой глубине Подземного города, где он обитает вместе с другими мертвецами. Диккенс призывно махнул рукой, и мы вышли за ним следом из задымленной комнаты на темную лестничную площадку. — Сыщик Хэчери, — промолвил писатель, — вы когда-нибудь слышали о китайце по прозвищу Король Лазарь, торгующем опиумом под землей? — Да, сэр. — И вам ведомо о Подземном городе, который Сэл упоминала с таким трепетом? — Да, сэр. — Он находится где-то поблизости? — Вход в него — да, сэр. — Вы проведете нас туда? — Ко входу-то? Да, сэр. — Вы сопроводите нас в этот… Подземный город? Останетесь ли нашим Виргилием? — Вы спрашиваете, спущусь ли я с вами туда, мистер Диккенс? — Именно так, инспектор, — почти весело сказал Диккенс. — Именно так. За двойную плату против оговоренной, поскольку риск вдвое больше. — Нет, сэр. Диккенс изумленно моргнул, поднял трость и легонько постучал великана по груди бронзовой рукоятью в виде птичьего клюва. — Ну же, ну, сыщик Хэчери. Шутки в сторону. А за тройную плату против оговоренной вы сопроводите нас с мистером Коллинзом в этот манящий и влекущий Подземный город? Приведете нас к Лазарю и Друду? — Нет, сэр, — ответил Хэчери. Голос его звучал хрипло, словно в горле у него все еще першило от опиумного дыма. — Я ни при каких обстоятельствах не сунусь в Подземный город. Это мое последнее слово на сей счет, сэр. И я настойчиво прошу вас не спускаться туда, коли вы дорожите своей жизнью и рассудком. Диккенс кивнул, точно обдумывая совет. — Но вы нам покажете… как вы там выразились?.. «вход» в Подземный город. — Да, сэр. — Тихий голос Хэчери напоминал треск рвущегося картона. — Я покажу… с великим сожалением. — Вот и славно, — промолвил Диккенс и стал спускаться по темной лестнице. — Просто превосходно. Сейчас уже за полночь, но ночь только начинается. Мы с Уилки пойдем дальше — и вниз — одни. Огромный сыщик грузной поступью двинулся следом за писателем. Я стронулся с места не сразу. Видимо, густой опиумный дым, коим я надышался в тесном замкнутом помещении, подействовал на мои мышцы и сухожилия ниже пояса: ноги у меня словно налились свинцом и не слушались. Я в буквальном смысле слова не мог ступить ни шагу. Потом, чувствуя в ногах болезненное колотье, каким сопровождается процесс восстановления кровообращения в онемелой конечности, я все же умудрился сделать первый неуклюжий шаг вниз. Мне пришлось тяжело опереться на трость, чтобы не упасть. — Вы идете, Уилки? — донесся снизу до противного возбужденный голос Диккенса. — Да! — крикнул я, мысленно добавив «черт бы тебя побрал». — Иду, Диккенс.
Глава 5
Здесь я должен ненадолго прервать повествование, дорогой читатель, чтобы объяснить, почему мне всегда приходилось сопровождать Диккенса в разных нелепых и опасных походах. Однажды, к примеру, я вместе с ним взобрался на Везувий. В другой раз, в Камберленде, я чуть не погиб на горе Кэррик-Фелл. Восхождение на Везувий было одним из множества приключений, пережитых во время путешествия по Европе в 1853 году, совершенного Диккенсом, Огастесом Эггом и мной. Строго говоря, из трех путешественников только двое являлись холостяками и оба были значительно моложе Неподражаемого, но, когда мы резво носились по Европе осенью и зимой упомянутого года, именно Диккенс вел себя по-мальчишески беспечно, словно молодой холостяк, у которого еще вся жизнь впереди. Посетив почти все любимые места Диккенса на Континенте, мы в конце концов прибыли в Лозанну, где давний эксцентричный друг писателя, преподобный Чонси Таунсенд, прочитал нам ряд лекций о призраках, ювелирном деле и (излюбленная тема Диккенса) месмеризме, а оттуда направились в Шамони и сразу по прибытии поднялись на Мер-де-Глас, дабы заглянуть в ледниковые расселины глубиной в тысячу футов. В Неаполе, где я рассчитывал отдохнуть от приключений, Диккенс настоял на восхождении на Везувий. Он был разочарован, глубоко разочарован, что вулкан не изрыгает ослепительного огня. Очевидно, сильное извержение 1850 года истощило силы Везувия: пока мы находились в Неаполе, из жерла постоянно валил густой дым, но ни единого языка пламени так и не вырвалось. Сказать, что Диккенс расстроился, значит ничего не сказать. Однако он быстро собрал группу горнолазов — в нее входил археолог и дипломат Остин Генри Лайард, — и мы безотлагательно ринулись покорять дымящуюся вершину. За семь лет до нашего восхождения, ночью 21 января 1845 года, Диккенс видел здесь мощное извержение огня и серных паров, вполне способное удовлетворить интерес человека, настолько равнодушного к опасности, как он. Зимой 1845-го Неподражаемый впервые приехал в Неаполь, и активность вулкана тогда была весьма высока. Прихватив с собой жену и свояченицу, Диккенс выступил в поход — с шестью верховыми лошадьми, вооруженным солдатом в качестве охранника и (поскольку погода не благоприятствовала и вулкан действительно мог разбушеваться в любую минуту) с по меньшей мере двадцатью двумя проводниками. Они начали восхождение около четырех часов пополудни — женщин несли в паланкинах, а Диккенс шагал впереди вместе с проводниками. Тем вечером писатель пользовался тростью подлиннее и потолще той, которой нынче ночью постукивал по булыжному покрытию трущобных улочек Шедуэлла. И я уверен, что тогда, во время первого своего подъема на Везувий, он шел нисколько не медленнее, чем сейчас и здесь, на ровной местности, расположенной на уровне моря. Любой труднопреодолимый склон (как я неоднократно убеждался, к великой своей досаде и крайней усталости) только побуждал Чарльза Диккенса вдвое ускорить и без того слишком резвый шаг. На конусообразный лавовый купол, венчающий Везувий, взойти не осмелился никто, кроме Диккенса и одного-единственного проводника. Вулкан бодрствовал. Языки пламени поднимались на высоту многих сотен футов, из каждой расселины на снежных полях и скалистых склонах валили серные пары, пепел и дым. Друг писателя, Роше, остановился в нескольких сотнях футов от кратера, боясь приблизиться еще хоть на шаг к огненному вихрю, и истошно прокричал, что Диккенс с проводником неминуемо погибнут, коли осмелятся подойти ближе к жерлу. Диккенс настоял на том, чтобы подняться к самому краю кратера с наветренной и самой опасной стороны (одни только серные пары не раз убивали людей, находившихся несколькими милями ниже вершины) и заглянуть, как он впоследствии писал своим друзьям, «в самый кратер… в пылающие недра горы… Прекраснейшее зрелище из всех мыслимых, еще более ужасное, чем Ниагара…». Выше он привел в пример американский водопад как воплощение могущества и грозной силы Природы. Везувий и Ниагара равны в своей мощи, писал он, «как огонь и вода». Все остальные участники восхождения, включая испуганных и изнуренных Кэтрин с Джорджиной (на подступах к вершине они ехали верхом), впоследствии показали, что Диккенс вернулся с лавового купола «в одежде, занявшейся огнем в полудюжине мест, и весь покрытый ожогами». Оставшиеся на нем обгорелые лохмотья дымились в ходе всего долгого спуска — тоже невероятно трудного. На одном длинном, покрытом голым ледяным панцирем участке склона, где нескольким участникам похода пришлось связаться веревкой безопасности ради, а проводникам — вырубать во льду ступени, один из проводников поскользнулся и с пронзительным криком покатился вниз, в темноту, а минутой позже за ним последовал англичанин из числа примкнувших к нашему отряду. Диккенс и прочие продолжили путь, не зная об участи этих двоих. Позже писатель сказал мне, что англичанин выжил, но судьба проводника так и осталась нам неизвестной. За тринадцать лет до нашей вылазки в лондонские трущобы на поиски Друда Диккенс затащил нас с Эггом на Везувий, но — благодарение Господу и относительному спокойствию вулкана! — этот поход оказался гораздо менее тяжелым и опасным. Диккенс и Лайард ушли вперед скорым шагом, что позволило нам с Эггом благоразумно делать передышки в пути при каждой необходимости. И перед нами, скажу прямо, открывалось поистине великолепное зрелище, когда мы стояли возле самого кратера и смотрели на заходящее над Сорренто и Капри солнце — огромное и кроваво-красное за пеленой вулканических паров и дыма. Мы спускались с горы без всякого труда при свете факелов; тонкий месяц всплывал над нашими головами, и все мы пели хором английские и итальянские песни. Тот поход не шел ни в какое сравнение с нашим восхождением (едва не закончившимся для меня трагически) на гору Кэррик-Фелл, совершенным вскоре после последнего представления «Замерзшей пучины» в Манчестере в 1857 году. Диккенс тогда, как и нынче ночью в шедуэллских трущобах, просто кипел неистовой, неугасимой энергией, порожденной, казалось, чувством некоего глубинного неудовлетворения. Через несколько недель после заключительного показа спектакля он сказал мне, что сходит с ума и что (если я верно помню слова) «восхождения на все до единой горы Швейцарии или какой-нибудь дикий загул до полного упадка сил принесли бы мне лишь самое малое облегчение». В записке, которую он прислал мне однажды утром после наканунешнего совместного ужина, сопровождавшегося обильными возлияниями и обсуждениями (как серьезными, так и в высшей степени юмористическими) самых разных вопросов, говорилось: «Я хочу бежать от себя самого. Ибо, когда я вдруг заглядываю в собственную душу, как сейчас, я вижу непостижимую, неописуемую пустоту и немыслимое страдание». Могу добавить, что душевные страдания моего друга были не только немыслимыми, но также совершенно подлинными и крайне тяжелыми. Тогда я приписал все единственно неудачному браку Диккенса с Кэтрин, но сейчас понимаю, что главным образом дело было в его влюбленности в восемнадцатилетнюю девочку-женщину по имени Эллен Тернан. В 1857 году Диккенс внезапно сообщил мне, что мы с ним немедленно отправляемся в Камберленд, дабы вдохновиться на написание ряда совместных статей о северной Англии для нашего журнала «Домашнее чтение». Он собирался назвать сей труд «Ленивое путешествие двух досужих подмастерьев». Даже будучи соавтором (а в действительности, не стану скрывать, основным автором), я вынужден признать, что результатом нашей поездки стала серия заурядных и вялых путевых очерков. Уже много позже я понял, что в Камберленде Диккенса интересовала единственно чертова Кэррик-Фелл, а писать путевые очерки он вообще не имел никакого желания. Эллен Тернан с сестрами и матерью выступала на театральных подмостках в Донкастере, каковой город, как я теперь понимаю, и являлся подлинной целью нашей дурацкой поездки на север страны. Вот уж поистине нелепо было бы, если бы я погиб на Кэррик-Фелл из-за тайной страсти Диккенса к восемнадцатилетней актрисе, даже не догадывавшейся о его чувствах. Из Лондона мы доехали поездом до Карлайла, а на следующий день добрались верхом до деревушки под названием Хески, расположенной у подножья горы «Кэррок, или Кэррик, или Кэррок-Фелл, или Кэррик-Фелл, о которой я читал, дорогой Уилки. Название варьируется». Именно на Кэррик-Фелл я едва не погиб. Чтобы дать выход кипучей энергии и приглушить жгучее разочарование, Диккенсу требовалось в срочном порядке совершить горное восхождение, и по какой-то причине, не известной никому и даже, я уверен, ему самому, выбор пал на Кэррок- или Кэррик-Фелл. В крохотной деревушке Хески не нашлось желающих провести нас к горе, а тем более подняться с нами на вершину. Погода стояла ужасная: холод, ветер, дождь. В конце концов Диккенс уговорил хозяина убогой местной гостиницы, где мы остановились, стать нашим проводником, хотя старик признался, что он «в жисти ни разу не взбирался на тую гору, сэр». Мы не без труда отыскали дорогу к Кэррик-Фелл, чья вершина скрывалась за хмурыми вечерними облаками, и начали подъем. Хозяин гостиницы часто останавливался в нерешительности, но Диккенс обычно продолжал двигаться дальше, наобум выбирая направление. С наступлением темноты, когда из-за плотного тумана сумерки сгустились до мрака, поднялся пронизывающий ветер, однако мы не повернули назад. Вскоре мы заблудились. Старик признался, что не представляет даже, на какой стороне горы мы находимся. Театральным жестом, словно отважный Ричард Уордор в его исполнении, Диккенс извлек из кармана компас, определил нужное направление, и мы продолжили наш путь во мгле. Через тридцать минут купленный в городе компас разбился. Дождь полил пуще прежнего, вскоре мы промокли до нитки и страшно замерзли. Тьма северной ночи сгущалась все сильнее, пока мы петляли, кружили по каменистым склонам. Наконец мы отыскали предположительную вершину горы — скользкий каменистый гребень среди множества скользких каменистых гребней, окутанных непроницаемым туманом и ночной мглой, — и начали спускаться вниз, не имея ни малейшего представления, в какой стороне находятся наша деревня, наша гостиница, наш ужин, наш очаг и наши кровати. Два часа мы шагали под проливным дождем, в густом тумане и в кромешном мраке, уже близком к стигийскому. Когда мы вышли к ревущему потоку, преградившему нам путь, Диккенс приветствовал его, как давно потерянного и вновь обретенного друга. «По нему мы дойдем до речки, протекающей у подножья горы, — объяснил писатель дрожащему от холода, несчастному хозяину гостиницы и своему равно несчастному соавтору. — Идеальный проводник!» Проводник оказался не только идеальным, но еще и опасным. Стены ущелья становились все круче, скалы от дождя и коварной наледи становились все скользче, бурный поток под нами становился все шире. Я отстал от спутников, поскользнулся, упал со всего маху и почувствовал, как у меня хрустнула лодыжка. Лежа наполовину в воде, изнемогая от боли и дрожа от холода, голодный и совершенно обессиленный, я воззвал в темноту о помощи, надеясь, что Диккенс и хозяин гостиницы еще не удалились за пределы слышимости. В противном случае, понимал я, мне конец. Я не смогу ступить на поврежденную ногу, даже опираясь на трость. Мне придется ползти на четвереньках несколько миль до речки, а потом — если я чудом угадаю верное направление — ползти еще невесть сколько миль вдоль берега до деревни. Я человек городской, дорогой читатель. Подобные физические нагрузки мне не по плечу. По счастью, Диккенс услышал мои крики. Он вернулся и нашел меня лежащим в воде, с чудовищно распухшей лодыжкой. Поначалу он просто поддерживал меня, прыгавшего на одной ноге по предательски скользкому склону, но в конечном счете потащил на руках. Нисколько не сомневаюсь, он воображал себя Ричардом Уордором, несущим на руках своего соперника Фрэнка Олдерсли через арктические пустоши. Покуда Диккенс меня не ронял, мне было наплевать, каким там фантазиям он предается. В конце концов мы отыскали гостиницу. Хозяин, дрожащий от холода и бормочущий проклятья себе под нос, разбудил свою жену и велел приготовить нам поздний ужин, или ранний завтрак. Слуги растопили камины в общей комнате и наших спальнях. Доктора в деревне не было — собственно говоря, там и деревни-то как таковой не было, — а посему Диккенс самолично накладывал мне ледяные компрессы и туго бинтовал распухшую лодыжку, покуда мы не вернулись в цивилизованный мир. Мы отправились в Уигтон, потом в Эллонби, потом в Ланкастер, потом в Лидс — продолжая делать вид, будто собираем материал для путевых очерков, хотя я мог передвигаться лишь при помощи двух тростей и безвылазно сидел в гостиницах, — а затем наконец поехали в Донкастер, который с самого начала являлся нашей истинной и тайной целью (вернее, целью Чарльза Диккенса). Там мы посмотрели несколько спектаклей, в одном из них Эллен Тернан мелькнула в эпизодической роли. На следующий день Диккенс отправился на пикник с семейством Тернан и (теперь я уверен) на долгую прогулку наедине с Эллен. Что произошло во время той прогулки, какие мысли и чувства были тогда выражены и отвергнуты, по сей день остается тайной, но я точно знаю, что из Донкастера Неподражаемый вернулся в прескверном настроении. Когда я попытался условиться с ним о часах совместной работы в конторе «Домашнего чтения» над завершением и редактурой наших слабых путевых очерков, Диккенс ответил мне необычайно доверительным письмом, где, в частности, говорилось: «… неудача, постигшая меня в Донкастере, все еще тяготит меня столь сильно, что я совершенно не в состоянии писать и не знаю ни минуты покоя (когда бодрствую)». Как я уже сказал, тогда я не знал, да и сейчас не знаю, в чем именно заключалась постигшая Диккенса неудача, но в самом скором времени она изменила весь ход нашей жизни. Я рассказываю об этом, дорогой читатель, поскольку во время нашей ночной вылазки в июле 1865 года я заподозрил, а сейчас, по прошествии многих лет, утвердился в своих подозрениях, что на поиски таинственного Друда жаркой и смрадной июльской ночью Диккенса толкало не столько желание найти воскрешенного мертвеца, сколько то же, что он искал в Эллен Тернан в 1857 году в Донкастере и в течение восьми окутанных тайной последующих лет, до Стейплхерстской катастрофы. Но, как и в случае с нашим восхождением на Кэррок- или Кэррик-Фелл, подобная одержимость может очень и очень дорого стоить другим людям, пусть сам одержимый и не злоумышляет против них. Другие люди могут в конечном счете погибнуть или получить увечья, как жертвы самого что ни на есть преднамеренного преступления.Минут двадцать мы шагали по еще более темным и вонючим трущобным кварталам. Изредка я замечал признаки скученного человеческого обитания в покосившихся многоквартирных домах, порой слышал приглушенные голоса и посвистывания в темноте по обе стороны тесных улочек, а в иные разы тишину нарушало лишь постукивание Диккенсовой трости по булыжному мощению там, где таковое имелось. Мне вспомнилось описание ночной поездки из последнего и еще незаконченного романа Диккенса «Наш общий друг», когда два молодых человека катят в наемном экипаже к Темзе, чтобы опознать труп, найденный и вытащенный из реки отцом и дочерью, которые таким образом зарабатывают на жизнь:
Колеса катились дальше; катились мимо Монумента, мимо Тауэра, мимо Доков: и дальше, мимо Рэтклиффа, мимо Ротерхита, и дальше, мимо тех мест, где скопились подонки человечества, словно смытый сверху мусор, и задержались на берегу, готовые вот-вот рухнуть в реку под собственной тяжестью и пойти ко дну.[5]
Честно говоря, подобно двум молодым повесам из упомянутого романа, я не следил за дорогой, а просто шагал за громоздкой, неуклюжей тенью сыщика Хэчери и стройной, гибкой тенью Диккенса. Впоследствии мне пришлось пожалеть о своей невнимательности. Внезапно зловонный запах поменял оттенок и стал резче. — Ф-фу! Мы что, снова приближаемся к реке? — воскликнул я, обращаясь к двум своим спутникам, смутно различимым во мраке. — Хуже, сэр, — промолвил Хэчери, оглядываясь через плечо. — Это кладбище, сэр. Я осмотрелся по сторонам. Поначалу у меня сложилось впечатление — противоречащее, впрочем, здравому смыслу, — будто мы приближаемся либо к Черч-стрит, либо к Лондонской больнице, но темная улочка выходила на своего рода поле, окруженное стеной и железной оградой с воротами. Никакой церкви поблизости не наблюдалось, а значит, это было не церковное кладбище, а муниципальное, каких появилось очень много за последние пятнадцать лет. Видите ли, дорогой читатель, в наше время без малого три миллиона лондонцев жили, ели и спали в буквальном смысле слова на могилах, где лежало по меньшей мере столько же, но почти наверняка гораздо больше мертвецов. Разрастаясь, Лондон поглощал окрестные селения и деревни вместе со всеми кладбищами, и потому гниющие останки сотен и сотен тысяч наших возлюбленных усопших оказались в городской черте. Поначалу, например, погост при церкви Сент-Мартин-ин-зе-Филдс зани мал площадь всего в каких-то двести квадратных футов, но к 1840 году, за двадцать пять лет до сей насыщенной событиями жаркой и зловонной июльской ночи, на нем уже покоились останки от шестидесяти до семидесяти тысяч лондонцев. Сейчас их там гораздо больше. В пятидесятых годах, в пору Великого Зловония и самых страшных холерных эпидемий, всем стало ясно, что переполненные кладбища представляют серьезную опасность для здоровья людей, которым не посчастливилось жить поблизости от них. Все до единого городские кладбища были переполнены сверх всякой меры — положение вещей не изменилось и поныне. Многие тысячи мертвецов погребались в мелких могилах рядом с часовнями, ремесленными мастерскими, школами и на пустырях между частными домами. Посему принятый в 1852 году Закон о погребении (за него рьяно выступал Диккенс) предписывал Министерству здравоохранения учредить кладбища, открытые для всех мертвецов независимо от вероисповедания. Возможно, вам также известно, дорогой читатель, что при моей жизни до недавних пор всех мертвецов в Англии надлежало погребать по христианскому обряду, на приходских кладбищах. Это правило нарушалось лишь изредка. В 1832 году парламент положил конец принятому в Англии обыкновению хоронить самоубийц прямо посреди общественных дорог, предварительно вогнав кол в сердце грешника. Упомянутый Парламентский акт — образец современной мысли и филантропии — разрешил погребать самоубийц на приходских кладбищах вместе с добрыми христианами, но только в случае, коли тело предадут земле между девятью часами вечера и полуночью, без церковного обряда. Следует заметить также, что обязательное расчленение трупов убийц тоже было отменено в 1832 году — поистине знаменательный год нашей просвещенной эпохи! — ив нынешнее либеральное время на христианских кладбищах нередко покоятся даже душегубы. Многие — точнее, большинство — из таких могил не отмечены надгробными камнями, но рано или поздно они все равно обнаруживаются. Кладбищенские рабочие, днем и ночью роющие новые могилы, неизменно вонзают лопаты в гнилую плоть, что лежит в земле слоями, и кости безымянных скелетов. На иных кладбищах нанимают людей, чтобы они каждое утро обходили территорию и проверяли (особенно после проливных дождей), не поднялись ли где на поверхность разложившиеся останки прихожан, которым слишком уж не терпится услышать трубный глас Судного дня. Я не раз видел, как рабочие во время таких обходов везут в тачках полусгнившие руки, ноги и другие, хуже поддающиеся опознанию части тел — так усердный садовник в каком-нибудь имении собирает с земли суки и ветки после сильной бури. Такие новые места захоронений стали называться «муниципальными» кладбищами в отличие от «приходских», и они пользовались большой популярностью. Первые муниципальные кладбища являлись сугубо коммерческими предприятиями (на Континенте и по сей день принято выкапывать и выбрасывать на свалку останки, распиливать прекрасные надгробья на плиты для облицовки стен или мощения тротуаров, а сам участок продавать клиентам понадежнее, если родственники не вносят своевременно плату за могилы своих возлюбленных усопших), но после того как, в соответствии с требованиями парламентских актов пятидесятых годов, многие переполненные приходские кладбища в Лондоне закрылись, почти все наши новые кладбища получали статус муниципальных — часть территории выделялась для приверженцев традиционной церкви (там земля освящалась и строились часовни), а часть отводилась диссентерам. Интересно, приятно ли правоверным христианам и сектантам проводить Вечность в столь близком соседстве? Похоже, кладбище, к которому мы приближались сейчас в темноте, изначально являлось погостом: церковь здесь пришла в запустение, когда окрестные кварталы стали слишком опасными для добропорядочных граждан, а потом церковное здание и вовсе сожгли с целью освободить участок под строительство многоквартирных домов, позволяющих домовладельцам выжимать еще больше денег из постояльцев-иммигрантов, — но сам погост сохранился и принимал все новых и новых мертвецов… вероятно, был захвачен диссентерами пару веков назад, а в какой-то момент в течение последних двадцати лет превращен в платное муниципальное кладбище. Когда мы подошли к сырым стенам и черной железной ограде, я невольно задался вопросом, кто согласился бы заплатить хотя бы пенни за возможность упокоиться здесь. Огромные деревья некогда росшие среди погоста, погибли уже много поколений назад и ныне обратились в окаменелые скелеты, вздымающие обкорнанные ветви к черным зданиям, что нависали над кладбищем со всех сторон. С обнесенной стеной и кованой оградой территории тянуло такой нестерпимой вонью, что я полез в карман за платком и только потом вспомнил, что Диккенс забрал его у меня, дабы накрыть мертвых младенцев. Я приготовился увидеть зеленое облако миазмов над могилами — и действительно, туман, сгустившийся в преддверии очередного теплого, парного дождя, бледно светился во мраке. Диккенс подергал высокие черные кованые ворота, но они оказались заперты на большой висячий замок. «Слава богу», — подумал я. Однако сыщик Хэчери запустил руку под пальто и отстегнул от тяжело нагруженного пояса увесистую связку ключей. Попросив Диккенса подержать фонарь, он перебрал звенящие ключи и нашел нужный, подошедший к замку. Огромные кованые ворота — сплошные полудужья да завитки — медленно отворились с таким надсадным скрипом, словно уже прошел не один десяток лет с последнего раза, когда желающие избавиться от трупа возлюбленного усопшего заплатили за вход на кладбище. Мы зашагали по разбитым мощеным дорожкам, между темных надгробных плит, просевших могил и древних склепов, мимо мертвых деревьев. Судя по пружинистой походке и бодрому постукиванию трости, Диккенс наслаждался каждой секундой нашей прогулки. Я же боролся с рвотными позывами и внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь мягкое и вязкое. — Я знаю это кладбище, — внезапно сказал Диккенс. В ночном безмолвии голос его прозвучал так громко, что я слегка подпрыгнул. — Я видел его при свете дня и описал в «Путешественнике не по торговым делам». Но за ворота я прежде не заходил. Я назвал его Городом Ушедших, а конкретно это место — Погостом Святого Стращателя. — В самую точку попали, сэр, — откликнулся Хэчери. — Именно что Стращателя. — Я не заметил на железных остриях по верху ворот украшений в виде черепов со скрещенными костями, — промолвил Диккенс все тем же неуместно громким голосом. — Они по-прежнему там, мистер Диккенс, — заверил Хэчери. — Я почел за лучшее не светить на них фонарем. Ну вот мы и пришли, сэры. Вход в Подземный город. Мы остановились возле узкого запертого склепа. — Вы шутите? — спросил я. Мой тон мог показаться несколько раздраженным. Я пропустил поздневечерний прием лауданума, и теперь подагрическая боль терзала мое тело, а голова раскалывалась, словно туго стянутая металлическим обручем. — Нет, мистер Коллинз, никаких шуток, сэр. — Хэчери снова перебрал ключи в связке и вставил очередной массивный ключ в древний замок на металлической двери склепа. Высокая дверь с резким скрипом отворилась, когда он налег на нее плечом. Сыщик направил луч света внутрь и выжидательно посмотрел на нас с Диккенсом. — Это нелепо, — сказал я. — Здесь не может быть никакого Подземного города, да и вообще никакого подземелья. Мы на протяжении нескольких часов чавкали сапогами по зловонной речной жиже. Уровень грунтовых вод здесь наверняка такой высокий, что все могилы вокруг затоплены. — На самом деле — нет, сэр, — прошептал Хэчери. — Эта часть Ист-Энда расположена на скальном основании, дорогой Уилки, — сказал Диккенс. — Под десятифутовым слоем земли — сплошная скала. Безусловно, вы знаете геологическое строение вашего родного города! Вот почему их соорудили именно здесь. — Соорудили — что? — осведомился я, стараясь (но без особого успеха) не выдать своего раздражения. — Катакомбы, — ответил Диккенс. — Подземные погребальные галереи под монастырями. А под древними христианскими катакомбами почти наверняка находятся еще более древние римские кубикулы. Я не стал спрашивать, что означает слово «кубикулы». Я не сомневался, что в самом скором времени этимология данного термина прояснится. Диккенс вошел в склеп, за ним последовал сыщик, а потом и я. Конусообразный луч света пробежал по всему крохотному помещению. Каменный постамент в центре маленькой усыпальницы — достаточно длинный, чтобы на нем поместился гроб, саркофаг или завернутое в саван тело, — был пуст. Никаких ниш в стенах или любых других мест, пригодных для упокоения мертвецов, здесь не наблюдалось. — Тут же ни черта нет, — сказал я. — Кто-то стащил труп. Хэчери тихо рассмеялся. — Да бог с вами, сэр! Здесь никогда не было никаких трупов. Этот склеп является — и всегда являлся — просто входом в царство мертвых. Посторонитесь, пожалуйста, мистер Коллинз. Я отступил к покрытой влагой каменной стене, а сыщик низко наклонился, налег плечом на растрескавшийся мраморный постамент и поднатужился. Скрип камня, трущегося о камень, болезненно резал слух. — Я сразу заметил здесь дугообразные следы, прорезанные на старых плитах, — сказал Диккенс сыщику, по-прежнему напирающему плечом на постамент. — Свидетельство столь же ясное, как желобки, прорытые в земле сильно провисшими воротами. — Ага, сэр, — пропыхтел Хэчери, продолжая напрягать силы. — Но обычно они засыпаны листьями, грязью и прочим мусором и не видны даже при свете фонаря. Вы очень наблюдательны, мистер Диккенс. — Да, — довольно согласился писатель. Я испугался, что пронзительный визг и скрежет медленно ползущего по каменному полу постамента привлечет на кладбище толпу любопытных головорезов, но потом вспомнил, что Хэчери запер кованые ворота за нами. Мы были заперты на кладбище. А поскольку дверь самого склепа неохотно отворилась только под напором могучего плеча Хэчери и он с таким же усилием закрыл ее за нами, мы были заперты и в самом склепе. Черное треугольное отверстие в полу становилось все шире по мере того, как постамент сдвигался все дальше в сторону, и в нем уже показались крутые каменные ступеньки — при одной мысли, что такая громада будет поставлена на место и мы окажемся в буквальном смысле погребенными под тяжеленным камнем в за пертом склепе на запертом кладбище, у меня мороз подрал по спине, несмотря на душную жару июльской ночи. Наконец Хэчери выпрямился. Черное треугольное отверстие в полу имело незначительные размеры, чуть более двух футов в ширину, но, когда Диккенс посветил в него фонарем, я увидел очень крутую каменную лестницу, уходящую в темноту. Диккенс поднял лицо, причудливо освещенное снизу, и спросил сыщика: — Вы точно не пойдете с нами, Хэчери? — Нет, сэр, благодарю вас, сэр, — сказал великан. — Договоренность не позволяет. — Договоренность? — с легким любопытством переспросил Диккенс. — Так точно, сэр. Неписаное соглашение, издавна существующее между полицейскими и обитателями Подземного города. Мы не спускаемся вниз и не осложняем жизнь им, сэр, а они не поднимаются наверх и не осложняют жизнь нам. — Похоже на соглашение, какое большинство живых пытается заключить с мертвыми, — негромко промолвил Диккенс, вновь переводя взгляд на темное отверстие в полу и крутые ступеньки. — Именно так, сэр, — подтвердил сыщик. — Я знал, что вы поймете. — Ну ладно, мы, пожалуй, пойдем, — сказал Диккенс. — Вы найдете обратную дорогу без фонаря, сыщик? Нам определенно понадобится фонарь внизу. — О да, сэр, — ответил Хэчери. — У меня к поясу прицеплен еще один фонарь на случай необходимости. Но я покамест никуда не уйду. Подожду здесь до рассвета. Коли вы к тому времени не вернетесь, я отправлюсь прямиком в участок на Леман-стрит и доложу об исчезновении двух джентльменов. — Это очень любезно с вашей стороны, сыщик Хэчери. — Диккенс улыбнулся. — Но вы же сами сказали: констебли и инспекторы не полезут вниз на наши поиски. — Ну, не знаю, сэр. — Сыщик пожал плечами. — Все-таки оба вы известные писатели и знатные господа — может статься, они сочтут возможным сделать исключение в вашем случае. Я просто надеюсь, что нам не придется выяснять, так это или нет. Диккенс рассмеялся. — Пойдемте, Уилки. — Мистер Диккенс, — промолвил Хэчери, извлекая из-под пальто огромный пистолет револьверного типа. — Пожалуй, вам следует прихватить с собой вот это. Хотя бы для того, чтобы отпугивать крыс. — О, это лишнее, — сказал Диккенс, отстраняя оружие облаченной в белую перчатку рукой. (Вам следует помнить, дорогой читатель, что в наше время — я понятия не имею, как там принято у вас, — никто из служащих полиции не носил при себе огнестрельного оружия. И почти никто из преступников не носил. Слова Хэчери о «договоренностях» между преступным миром и стражами порядка во многих отношениях соответствовали истине.) — Я возьму, — торопливо сказал я. — С радостью. Терпеть не могу крыс. Револьвер оказался страшно тяжелым, каким и представлялся на вид, и едва поместился в правый карман моего сюртука. У меня возникло странное ощущение, будто наличие столь увесистого груза в кармане слегка нарушает мое телесное равновесие. Я сказал себе, что душевное мое равновесие наверняка нарушится гораздо сильнее, коли при мне не окажется оружия, когда в нем возникнет необходимость. — Вы умеете обращаться с таким оружием, сэр? — спросил Хэчери. Я пожал плечами. — Полагаю, принцип заключается в том, чтобы направить эту штуковину на мишень тем концом, где отверстие, а потом спустить курок, — сказал я. Все тело у меня мучительно ныло. Я словно воочию видел перед собой бутыль с лауданумом, стоящую на полке в запертой кухонной кладовой. — Да, сэр, — кивнул Хэчери; котелок сидел у него на голове так туго, что, казалось, немилосердно сдавливал черепную коробку. — Принцип вы правильно понимаете. Вероятно, вы заметили, что у револьвера два ствола, мистер Коллинз. Верхний потоньше и нижний потолще. Я этого не заметил. Я попытался извлечь несуразно тяжелый револьвер из кармана, но он зацепился за подкладку и порвал карман моего дорогого сюртука. Тихо чертыхаясь, я умудрился наконец вытащить оружие и принялся разглядывать его при свете фонаря. — На нижний ствол не обращайте внимания, сэр, — произнес Хэчери. — Он предназначен для стрельбы картечью. Своего рода дробовик. Бьет со страшной силой. Надеюсь, сэр, он вам не понадобится, и в любом случае у меня нет зарядов к нему. Мой брат, до недавних пор служивший в армии, купил эту пушку у одного американца, хотя изготовлена она во Франции, — но не беспокойтесь, сэр, на ней стоят славные английские клейма, с нашей родной Бирмингемской оружейной фабрики. Барабан длястрельбы из верхнего гладкого ствола заряжен, сэр. Там девять пуль. — Девять? — переспросил я, заталкивая огромный тяжелый револьвер обратно в карман и стараясь при этом не порвать подкладку еще сильнее. — Прекрасно. — Может, возьмете еще про запас, сэр? У меня в кармане мешочек с пулями и капсюлями. Тогда мне придется показать вам, как пользоваться шомполом, сэр. Но это совсем несложно. Я чуть не рассмеялся при мысли об уйме самых разных предметов, какие могут лежать в карманах и висеть на поясе сыщика Хэчери. — Нет, спасибо, — сказал я. — Девяти вполне достаточно. — Они сорок второго калибра, сэр, — продолжал сыщик. — Девяти штук будет более чем достаточно для крысы средних размеров — четвероногой или двуногой, смотря какая вам попадется. Я невольно содрогнулся. — Мы вернемся до рассвета, Хэчери, — сказал Диккенс, убирая хронометр в жилетный карман. Он начал спускаться по крутым ступенькам, держа фонарь низко перед собой. — Пойдемте, Уилки. До восхода солнца осталось меньше четырех часов.
— Уилки, вы знаете Эдгара Аллана По? — Нет, — ответил я. Мы спустились уже на десять ступенек, но еще не видели впереди конца круто наклоненной лестничной шахты. Ступеньки — высотой по меньшей мере три фута — походили скорее на каменные блоки египетских пирамид и были скользкими от подземной влаги, сочившейся повсюду тонкими струйками; маленький фонарь отбрасывал на них чернильно-черные обманчивые тени, и, если бы любой из нас споткнулся или оступился здесь, дело непременно закончилось бы переломанными ребрами и, вполне возможно, свернутой шеей. Я полушагнул-полуспрыгнул на следующую ступеньку, стараясь не отстать от пляшущего узкого конуса света, что исходил от руки Диккенса. — Какой-то ваш приятель, Чарльз? — спросил я. — Специалист по криптам и катакомбам, надо полагать? Диккенс расхохотался. Гулкое эхо в каменной шахте прозвучало до жути громко. Я искренне понадеялся, что больше он не станет смеяться. — На первый ваш вопрос я с полной определенностью отвечу «нет», дорогой Уилки, — промолвил он. — А на второе предположение скажу «вполне возможно». Диккенс остановился на ровной площадке у подножья лестницы, посветил фонарем на наклонные стены, низкий сводчатый потолок, а потом направил луч света в тоннель, уходящий в темноту. Черные прямоугольники по обеим сторонам подземного коридора наводили на мысль об открытых проемах. Я спрыгнул с последней ступеньки и встал рядом с Диккенсом. Он повернулся ко мне и положил обе руки — в правой был зажат фонарь — на бронзовую рукоять трости. — Я познакомился с По за пару недель до завершения своей поездки по Америке в сорок втором году, — сказал он. — Этот малый навязал мне сначала свою книгу, «Гротески и арабески», а потом и свое общество. Держась со мной как с равным или со старым другом, По часами разговаривал со мной — вернее, сам с собой в моем присутствии — о литературе, о своих произведениях, о моих произведениях и снова о своих произведениях. Я так и не удосужился прочитать его рассказы, пока находился в Америке, но Кэтрин прочитала. Они произвели на нее чарующее впечатление. Похоже, этот По любит писать о склепах, трупах, преждевременных погребениях и сердцах, вырванных из груди живых людей. Я пристально вглядывался в темноту за пределами крохотного круга света от фонаря. От того, что я отчаянно напрягал зрение (а оно у меня слабое), мне мерещилось, будто повсюду сгущаются и шевелятся тени, похожие на расплывчатые высокие фигуры. Головная боль усилилась. — Полагаю, все это имеет какое-то отношение к делу, Диккенс, — резко промолвил я. — Только в том смысле, что сейчас у меня складывается отчетливое ощущение: мистер По получил бы от нашей вылазки гораздо больше удовольствия, чем в данный момент испытываете вы, друг мой. — В таком случае, — грубовато сказал я, — мне очень хотелось бы, чтобы ваш друг По находился здесь сейчас. Диккенс снова расхохотался, и гулкое эхо, запрыгавшее меж незримых стен во мраке, на сей раз прозвучало еще жутче прежнего, даром что заметно тише. — Возможно, он и находится здесь. Вполне возможно. Помнится, я читал в прессе, что мистер По умер всего через шесть или семь лет после нашей встречи — совсем еще молодым, и при весьма странных обстоятельствах, возможно не совсем приличных. Но если судить по нашему непродолжительному, но весьма интенсивному общению, данное место в точности походит на такого рода каменную обитель, какую с радостью посещал бы призрак мистера По. — Так что же это за место такое? — спросил я. Вместо ответа Диккенс поднял повыше фонарь и двинулся в темный тоннель. Черные проемы по обеим его сторонам оказались на поверку входами в вытянутые прямоугольные камеры. Диккенс направил луч света в первую из них, расположенную по правую руку от нас. На расстоянии футов шести от входа камеру перекрывала затейливая железная решетка от пола до потолка — внушительная, из толстых перекрестных прутьев, но с отверстиями в виде розеток. Красно-оранжевое железо выглядело таким древним и ржавым, что наверняка рассыпалось бы в прах, если бы я ступил в проем и ударил по решетке кулаком. Но я не собирался делать ничего подобного. За решеткой стояли рядами в несколько ярусов массивные гробы — мне показалось, окованные свинцом. Я насчитал их около дюжины в неверном, пляшущем свете фонаря. — Вы можете прочитать надпись на табличке, Уилки? Диккенс имел в виду белую каменную доску, закрепленную высоко на железной решетке. Другая доска валялась на полу, устланном слоем грязи и ржавчины, а третья стояла на ребре вплотную к решетке. Я поправил очки и прищурился. Камень покрывали белые разводы, образовавшиеся от сырости, и темно-красные ржавые потеки. Я разобрал несколько букв:
Место пог(неразборчиво)ния (неразборчиво) преп(неразборчиво)ого Л. Л. В(неразборчиво)Я прочитал это Диккенсу, вошедшему в проем, чтобы получше все там разглядеть, а потом сказал: — Значит, они не римские. — Катакомбы-то? — спросил Диккенс в обычной своей рассеянной манере, опускаясь на корточки и пытаясь разобрать надпись на каменной доске, что валялась в грязи, словно рухнувшее надгробие. — Да, вы правы. В целом они сооружены по римскому образцу — глубокие подземные галереи с погребальными камерами по обеим сторонам, — но подлинные римские катакомбы имеют лабиринтообразную планировку. Это христианские катакомбы, но очень древние, Уилки, очень древние, а потому они построены, как и часть нашего города, по сетчатой схеме. В данном случае мы имеем главную галерею с погребальными камерами, окруженную коридорами поменьше. Вы, конечно же, заметили, что сводчатое перекрытие здесь, надо мной, выложено из кирпича, а не из камня… — Он направил луч света вверх. Только тогда я увидел кирпичный свод. И только тогда сообразил, что красноватая «грязь», лежащая на полу толстым (местами в несколько дюймов) слоем, — это мелкая кирпичная и известковая крошка, осыпавшаяся с потолка. — Это христианские катакомбы, — повторил Диккенс. — Расположенные прямо под часовней. — Но там наверху нет никакой часовни, — прошептал я. — В настоящее время — нет, — согласился Диккенс, поднимаясь с корточек. Он попытался стряхнуть грязь с белых перчаток, не выпуская при этом из рук фонаря и трости. — Но когда-то была. Полагаю, монастырская часовня. Часть монастыря при церкви Святого Стращателя. — Церковь Святого Стращателя вы выдумали, — обвиняющим тоном сказал я. Диккенс бросил на меня странный взгляд. — Разумеется, выдумал, — промолвил он. — Ну что, двинемся дальше? Мне нисколько не нравилось стоять в темном коридоре, где за моей спиной сгущался кромешный мрак, а потому я обрадовался, когда Диккенс вышел в галерею с намерением продолжить путь. Но сначала он повернулся и еще раз направил луч света на установленные ярусами гробы за ржавой решеткой. — Я забыл упомянуть, — негромко проговорил он, — что, как и в случае с римскими прототипами, погребальные камеры в христианских катакомбах называются кубикулы. Каждая кубикула на продолжении многих десятилетий сохранялась за одним семейством или, возможно, за членами определенного монашеского ордена. Римляне обычно сооружали катакомбы сразу целиком, по единому плану, но христианские погребальные галереи строились, расширялись, достраивались веками, и потому зачастую они беспорядочно расползаются в стороны. Вы знаете кофейню «У Гаррауэя»? — На Иксчейндж-элли? — уточнил я. — Близ Корнхилла? Ну конечно. Я не раз пил там кофий в ожидании, когда начнутся торги в аукционном доме по соседству. — Под кофейней Гаррауэя тоже находятся древние монастырские склепы. — Теперь Диккенс говорил шепотом, словно боялся привлечь внимание какого-нибудь призрака. — Я спускался вниз, ходил там среди винных бочек. Я часто задаюсь вопросом, не определяют ли туда на вечный постой замшелых завсегдатаев кофейни, всю жизнь проторчавших в общей зале, — туда, в прохладные подземные склепы, где обретают покой страждущие души, покинув мир, который болваны наверху называют «реальной действительностью». — Он взглянул на меня. — Но разумеется, даже парижские катакомбы — а вы там бывали вместе со мной, дорогой Уилки, — так вот, даже парижские катакомбы не смогли бы вместить всех истинно страждущих лондонцев, будь мы вынуждены спуститься под землю, в затхлую тьму, где нам самое место, когда мы разучаемся счастливо жить среди добропорядочных людей. — Диккенс, что за вздор вы несе… — Я осекся. В темном коридоре, за пределами тусклого круга света от нашего маленького фонаря, послышался слабый шорох или крадущиеся шаги. Диккенс направил луч света в сторону, откуда донеслись звуки, но мы не увидели ничего, кроме каменных стен да зыбких теней. Галерея — с плоским каменным потолком, а не сводчатым кирпичным — тянулась ярдов на пятьдесят самое малое. Диккенс зашагал вперед, ненадолго останавливаясь у некоторых проемов, чтобы посветить в них фонарем. Все это были кубикулы — огороженные одинаковыми решетками погребальные камеры, где стояли рядами и ярусами массивные гробы. В конце галереи Диккенс тщательно осветил всю торцовую стену и даже поводил по камню свободной рукой, нажимая там и сям ладонью, словно в поисках скрытого пружинного механизма, открывающего потайную дверь. Безрезультатно. — Ну вот… — начал я. Что я собирался сказать? «Ну вот, видите! Никакого Подземного города здесь нет. Никакого мистера Друда здесь нет. Вы удовлетворены? Пожалуйста, Диккенс, пойдемте домой. Мне нужно срочно принять лауданум». — Похоже, больше здесь ничего нет, — сказал я. — Это не так, — возразил Диккенс. — Вы заметили свечу на стене? Нет, я не заметил. Мы вернулись к предпоследней кубикуле, и Диккенс поднял фонарь повыше. Да, действительно, в маленькой нише в стене стоял огарок толстой сальной свечи. — Может, она оставлена здесь древними христианами? — предположил я. — Не думаю, — сухо промолвил Диккенс. — Зажгите ее, пожалуйста, друг мой. И идите обратно к входу впереди меня. — Зачем? — спросил я, но, так и не дождавшись ответа, послушно взял огарок, выудил коробок спичек из левого кармана сюртука (несуразно тяжелый револьвер по-прежнему оттягивал мой правый карман) и зажег свечной фитиль. Диккенс кивнул, довольно бесцеремонно, и я медленно зашагал по галерее в обратном направлении. — Вот оно! — внезапно воскликнул Диккенс, когда мы преодолели примерно половину расстояния. — Что? — Разве вы не видели, как пламя свечи затрепетало, Уилки? Если я и видел, то не обратил внимания. Однако я сказал: — Да просто от входа сквозняком тянет. — Не думаю, — отрывисто бросил Диккенс. Упорство, с каким он выражал несогласие с каждым следующим моим замечанием, начинало раздражать меня. Подняв фонарь, Диккенс заглянул сначала в кубикулу слева от нас, а потом в противоположную. — Ага! — воскликнул он. По-прежнему держа перед собой слабо трепещущую свечу, я тоже заглянул в камеру, но не обнаружил там ничего, способного вызвать такое вот удивленное и довольное восклицание. — На полу, — указал Диккенс. Я увидел, что в красной пыли там протоптана своего рода тропинка, ведущая за железную решетку, к гробам. — Недавнее погребение? — предположил я. — Сильно в этом сомневаюсь, — промолвил Диккенс, упорствуя в своей решимости отвечать возражением на каждую мою реплику. Он первым вошел под своды усыпальницы, отдал мне фонарь и потряс железную решетку обеими руками. Часть решетки отворилась внутрь подобием калитки, края и петли которой не были видны даже с расстояния нескольких футов. Диккенс тотчас забрал у меня фонарь и вошел в проем. Через несколько мгновений он стал словно тонуть в рыжей пыли, устилавшей пол. Я не сразу сообразил, что он спускается по ступенькам в глубине погребальной камеры. — Пойдемте же, Уилки! — донесся до меня гулкий голос писателя. Я заколебался. У меня была свеча. У меня был револьвер. Через тридцать секунд я достиг бы подножья ведущей наверх лестницы, а спустя еще тридцать секунд оказался бы в кладбищенском склепе — снова под защитой сыщика Хэчери. — Уилки! Писатель и фонарь оба уже скрылись из виду. Блик света все еще дрожал на кирпичном потолке над местом, где исчез Диккенс. Я оглянулся на темный вход в кубикулу, потом посмотрел на ряды массивных гробов, стоящих ярусами на постаментах по обе стороны от тропинки, протоптанной в красной пыли, потом снова обернулся. — Уилки, прошу вас, поторопитесь! И загасите свечу, но непременно возьмите огарок с собой. Запас масла в фонаре не вечен. Я прошел сквозь проем в решетке и двинулся между гробами к еще невидимой лестнице.
Глава 6
Узкая лестница из расшатанных каменных блоков тянулась под сводчатым кирпичным потолком. Через несколько минут мы оказались в другой галерее с кубикулами. — Здесь тоже склепы, — прошептал я. — Только более древние, — шепотом откликнулся Диккенс. — Обратите внимание, Уилки: эта галерея изгибается. И потолок тут гораздо ниже. И входы в кубикулы замурованы, что заставляет меня вспомнить один рассказ покойного мистера По. Я не стал спрашивать, о чем рассказ. Я собирался спросить, почему мы разговариваем шепотом, но еще не успел открыть рот, когда Диккенс обернулся и прошептал через плечо: — Видите свет впереди? Я увидел не сразу, а только когда Диккенс пригасил наш «бычий глаз», почти полностью опустив шторку. Свет был очень тусклый и, казалось, исходил из-за поворота каменного коридора. Диккенс двинулся вперед, знаком велев мне следовать за ним. Мощенный каменными плитами пол в этой более глубокой и древней галерее был неровным, несколько раз я спотыкался и не падал только потому, что успевал опереться на трость. Сразу за поворотом налево и направо от галереи ответвлялись равно широкие коридоры. — Это римская катакомба? — шепотом спросил я. Диккенс легко помотал головой, но мне показалось, что он не столько отвечает мне, сколько пытается меня успокоить. Он указал на проем в стене справа, откуда исходил слабый свет. Это была единственная незамурованная кубикула. Темный драный занавес закрывал почти весь арочный проем, но оттуда все же просачивался тусклый свет. Я машинально нащупал рукоять револьвера в кармане, когда Диккенс решительно прошел за тронутый тленом полог. По обеим сторонам этой длинной и узкой кубикулы находились глубокие погребальные ниши и проемы, ведущие в другие кубикулы. Трупы здесь покоились не в гробах. Тела лежали на деревянных полках, расположенных ярусами от пола до потолка вдоль стен узкого помещения, и все они принадлежали мужчинам, причем по виду явно не англичанам, не христианам и не римлянам. Скелетообразные тела, но не скелеты. Судя по темно-коричневой коже, иссохшей сморщенной плоти и похожим на стеклянные шарики глазам, они были мумифицированы. Действительно, эти трупы в истлевших одеждах и лохмотьях запросто сошли бы за египетские мумии, если бы не азиатские черты мумифицированных лиц да косой разрез немигающих глаз. Когда Диккенс остановился, я наклонился, чтобы получше рассмотреть лицо одной из мумий. Она моргнула. Я вскрикнул и отпрянул, уронив свечу. Диккенс поднял ее, подошел ближе и посветил фонарем на полку с трупом. — Вы думали — это мертвецы? — прошептал он. — А разве нет? — Неужели вы не заметили опиумных трубок? — тихо спросил писатель. Нет, не заметил. Но сейчас наконец увидел. Эти трубки — почти неразличимые в полумраке, поскольку мумии накрывали ладонями чашечки и мундштуки, — были вырезаны гораздо затейливее, чем дешевые трубки в заведении Сэл наверху. — И не уловили опиумного запаха? — прошептал Диккенс. Нет. Но сейчас наконец почуял. Мягкий, тонкий, сладковатый аромат, не идущий ни в какое сравнение с наркотическим смрадом в притоне Сэл. Я бросил взгляд назад и осознал, что дюжины мертвецов, лежащих в древнем подземном склепе на изгнивших деревянных полках, на самом деле являются древними, но еще вполне живыми азиатами, курящими свои трубки. — Пойдемте, — промолвил Диккенс и вошел в боковое помещение, откуда лился слабый свет. Вдоль стен там тоже тянулись ряды полок (на иных из них я разглядел подушки), и в воздухе висел опиумный дым погуще, но в самом центре помещения, на широкой деревянной скамье, установленной на каменном саркофаге, сидел в позе лотоса китаец, который казался таким же древним и мумифицированным, как недвижные тела на полках позади нас и перед нами. Только надетые на нем шапочка и халат, или балахон, или как там называется подобный наряд, был из цветастого чистого шелка, красно-зеленого и сплошь расшитого золотыми и синими узорами. Длинные белые усы старика свисали дюймов на десять ниже подбородка. Позади него, у каменной стены, стояли, сложив руки в низу живота, два голых по пояс здоровенных парня, тоже китайцы, но значительно моложе. Их мощные мускулы блестели в свете двух длинных красных свечей, что высились по обе стороны от тощей буддоподобной фигуры. — Мистер Лазарь? — спросил Диккенс, подступая ближе к старику. — Или мне следует называть вас Король Лазарь? — Добро пожаловать, мистер Диккенс, — промолвил китаец. — И вам, мистер Коллинз, добро пожаловать. Я невольно отступил на шаг назад, услышав из уст столь типичного олицетворения Желтой Угрозы свое имя, произнесенное на чистейшем английском языке, без какого-либо акцента. Честно говоря, позже я осознал, что едва уловимый акцент все же имелся, но… кембриджский. Диккенс тихо рассмеялся. — Вы знали, что мы здесь появимся? — Конечно, — ответил китайский Король Лазарь. — До моего ведома доводят практически все события, происходящие в Блюгейт-Филдс, Шедуэлле, Уайтчепеле, да и во всем Лондоне, коли на то пошло. А уж о визитах особ столь выдающихся и знаменитых — а я почитаю за таковых вас обоих, джентльмены, — мне докладывают незамедлительно. Диккенс отвесил легкий, но изящный поклон. Я же мог только таращиться. Потом осознал, что по-прежнему сжимаю в левой руке погасшую свечу. — Значит, вы знаете, зачем мы пришли, — сказал Диккенс. Король Лазарь кивнул. — Вы поможете нам найти его? — продолжал Диккенс. — Я имею в виду Друда. Лазарь поднял ладонь. Я с изумлением увидел, что ногти у него длиной дюймов шесть. И загнутые. А ноготь на мизинце по меньшей мере вдвое длиннее. — Подземный город хорош тем, — промолвил Король Лазарь, — что здесь не беспокоят тех, кто не хочет, чтобы их беспокоили. В данном отношении мы полностью сходимся с мертвецами, что окружают нас здесь. Диккенс понимающе кивнул. — Так это и есть Подземный город? — спросил он. Теперь настала очередь Короля Лазаря рассмеяться. В отличие от надсадного, хриплого клекота Опиумной Сэл, смех у китайца был сочный и разливистый. — Мистер Диккенс, это обычный опиумный притон в обычной катакомбе. В прошлом наши клиенты приходили из наземного мира и возвращались обратно, а теперь большинство предпочитает оставаться здесь годами и десятилетиями. Но Подземный город? Нет, это не Подземный город. Можно сказать, это тамбур перед прихожей перед коридором, ведущим в вестибюль Подземного города. — Вы поможете нам пройти туда… и разыскать его? — спросил Диккенс. — Я понимаю, вы не хотите беспокоить других… э-э… обитателей этого мира, но Друд дал мне понять, что хочет, чтобы я его нашел. — И каким же образом он это сделал? — поинтересовался Король Лазарь. Признаться, у меня возник такой же вопрос. — Потрудившись представиться мне, — ответил Диккенс. — Сообщив, в какой именно район Лондона направляется. Напустив на себя таинственность, чтобы возбудить во мне любопытство и желание продолжить наше знакомство. Китаец на деревянной скамье не кивнул и не моргнул. Только тогда я осознал, что за все время разговора он еще ни разу не мигнул. Его темные глаза казались такими же тусклыми и безжизненными, как у мумий на полках вокруг нас. Наконец Лазарь заговорил — тихим голосом, словно споря сам с собой: — Было бы весьма прискорбно, если бы кто-нибудь из вас, джентльмены, написал и опубликовал что-нибудь о нашем подземном мире. Вы сами видите, как он хрупок… и легкодоступен. Я подумал о колоссальных усилиях, которые пришлось приложить Хэчери, чтобы могучим плечом сдвинуть с места каменный постамент, закрывающий вход в верхнюю подземную галерею; подумал о едва заметной тропке, тянущейся по красной пыли к невидимой калитке в железных воротах; подумал о жуткой узкой лестнице, ведущей на второй ярус катакомб, и о лабиринте, по которому мы прошли, чтобы найти этот опиумный притон… в общем и целом я не был уверен, что разделяю мнение китайского короля относительно доступности этого места. Однако Диккенс, казалось, согласился с Лазарем. Он кивнул, но все же сказал: — Я хочу единственно найти Друда. У меня нет желания писать о Подземном городе. — Он повернулся ко мне. — Вы ведь чувствуете то же самое, правда, мистер Коллинз? Я неопределенно хмыкнул, предоставив королю мумий-опиоманов понимать это, как ему вздумается. Я был романистом. Все и вся в моей жизни служило материалом для моих сочинений. И уж конечно, писатель, стоявший сейчас рядом со мной в свете свечей, всегда руководствовался данным принципом в большей степени, чем любой другой писатель современности или прошлого. Как он мог говорить за меня и заявлять, что я никогда не напишу о столь необычном месте? Как он мог сам с честными глазами обещать такое? Человек, превративший своих отца, мать, несчастную жену, бывших друзей и бывших возлюбленных в сырье для штамповки своих литературных персонажей. Король Лазарь медленно наклонил голову в шелковой шапочке, каковое движение можно было истолковать как самый медленный в мире кивок. — Было бы крайне прискорбно, если бы с вами, мистер Диккенс, или с вами, мистер Коллинз, приключилась какая-нибудь беда, пока вы гостите у нас здесь или исследуете Подземный город под нами. — Мы тоже так считаем! — почти весело воскликнул Диккенс. — Однако никто не может гарантировать вашу безопасность за пределами моих владений, — продолжал китаец. — Вы сами поймете это, когда… если… продолжите путь. — Мы не просим никаких гарантий, — сказал Диккенс. — Просим лишь посоветовать, как нам действовать дальше и куда направиться отсюда. — Вы меня не совсем поняли. — Впервые за все время разговора в голосе Короля Лазаря послышались по-азиатски резкие нотки. — Если с одним из вас, джентльмены, что-нибудь случится внизу, второму не позволят вернуться в наземный мир и написать, рассказать, дать показания о случившемся. Диккенс бросил на меня взгляд, потом снова повернулся к Королю Лазарю. — Мы понимаем. — Не совсем, — промолвил буддоподобный старик. — Если с вами обоими что-нибудь случится внизу — а случись что с одним из вас, как вы теперь понимаете, второй непременно разделит участь товарища: ваши тела найдут далеко отсюда. А именно — вТемзе. Вместе с телом сыщика Хэчери. Сыщик прекрасно это понимает. Необходимо, чтобы и вы тоже ясно осознали это, прежде чем примете решение продолжить путь. Диккенс снова взглянул на меня, но никакого вопроса не задал. Если честно, в тот момент я предпочел бы отойти с ним в сторонку, обсудить дело и проголосовать. А если совсем честно, в тот момент я предпочел бы просто пожелать опиумному китайскому королю приятного вечера и убраться оттуда восвояси — подняться из подземной усыпальницы на свежий ночной воздух, пусть и насыщенный зловонными миазмами переполненного кладбища, нареченного Диккенсом «Погост Святого Стращателя». — Мы все понимаем, — горячо говорил Диккенс китайцу. — Мы согласны с поставленными условиями. Но мы все равно хотим спуститься вниз, в Подземный город, и разыскать мистера Друда. Как нам это сделать, Король Лазарь? Наглость Диккенса, который принял жизненно важное решение за нас обоих, не потрудившись хотя бы посоветоваться со мной или поинтересоваться моим мнением, настолько меня ошеломила, что мне показалось, будто голос Лазаря доносится откуда-то издалека, приглушенный расстоянием. Китаец говорил или декламировал:Je suis un grand partisan de l'ordre Mais je n'aime pas celui-ci. Il peint un eternel desordre, Et quand il vous consigne ici, Dieu jamais n'en revoque l'ordre.
— Отлично! — воскликнул Диккенс. Я же, потрясенный и возмущенный поведением Неподражаемого, поставившего на карту мою жизнь вместе со своей столь беспардонным образом, не понял ни единого французского слова. — А как и где мы найдем эти беспорядок и порядок? — продолжал мой друг. — Понимание, что даже в видимом беспорядке кроется совершенный порядок, как в Уэллсе, приведет к апсиде, алтарю и лестнице за грязной перегородкой, — сказал Король Лазарь. — Да-да. — Диккенс понимающе кивнул и даже выразительно глянул на меня, словно призывая запоминать все хорошенько. Лазарь снова принялся декламировать:
Все, чем бахвалятся пред миром греки, Подземные описывая реки Стикс, Ахерон, Коцит и Флегетон, Здесь явлено в одной реке. Но стон, И крик, и смрад сильнее здесь стократ. На веслах нашего челна сидят Два провожатых пострашней Харона. Здесь каркают зады, а не вороны, И вместо Цербера вдоль берегов Повсюду бродят своры диких псов. Слышны вокруг не призраков стенанья, А вопли, брань, проклятья, причитанья Заблудших душ, грехом отягощенных, На адовые муки обреченных.
Я попытался поймать взгляд Диккенса, дабы своим пристальным выразительным взглядом дать понять, что нам пора уйти прочь, давно уже пора, что наш опиумный король безумен, как безумны были мы сами, когда решили спуститься сюда, — но Неподражаемый, пропади он пропадом, опять кивал с самым понимающим видом и говорил: — Отлично, просто превосходно. Нужно ли нам знать еще что-нибудь для того, чтобы разыскать Друда? — Только одно: вы непременно должны заплатить провожатым, — прошептал Король Лазарь. — Разумеется, разумеется, — сказал Диккенс, явно чрезвычайно довольный собой и китайцем. — Ну, мы пойдем, пожалуй. Ах да… полагаю, коридор, которым мы только сейчас прошли, и ваш при… гм… ваше заведение являются — если говорить применительно к Уэллсу — частью порядка, имеющего видимость беспорядка? Лазарь широко улыбнулся. Я увидел, как блеснули очень мелкие и очень острые зубы, словно заточенные напильником. — Конечно, — мягко промолвил он. — Считайте первый южным приделом нефа, а второе внутренним двориком. — Огромное вам спасибо, — с чувством поблагодарил Диккенс. — Пойдемте, Уилки, — бросил он мне, направляясь к выходу из опиумного притона для мумий. — И еще одно, — сказал Король Лазарь, когда мы уже выходили в общий зал, полный мумифицированных клиентов. Диккенс обернулся и оперся на трость. — Остерегайтесь мальчишек, — предупредил китаец. — Среди них попадаются каннибалы.
Мы вернулись в наружную галерею и зашагали по ней в сторону, откуда пришли. — Мы уходим? — с надеждой спросил я. — Уходим? Нет конечно. Вы же слышали, что сказал Король Лазарь. Мы находимся неподалеку от входа непосредственно в Подземный город. Если нам хоть немного повезет, мы встретимся с Друдом и вернемся, чтобы сводить сыщика Хэчери куда-нибудь позавтракать еще прежде, чем солнце взойдет над Погостом Святого Стращателя. — Я слышал, как этот непотребный китаец сказал, что наши тела — и тело Хэчери — будут найдены в Темзе, коли мы продолжим наши безумные поиски, — проговорил я. Голос мой отразился эхом от каменных стен. Эхо прозвучало несколько испуганно. Диккенс тихо рассмеялся. Кажется, в тот момент я начал ненавидеть его. — Глупости, Уилки, глупости. Вы прекрасно понимаете, что он имел в виду. Если с нами что-нибудь случится здесь — а ведь мы с вами все-таки пользуемся известным общественным вниманием, дорогой Уилки, — маленькое святилище здешних обитателей неизбежно привлечет к себе внимание, которое станет для них губительным. — Поэтому они нас прикончат и бросят тела в Темзу, — пробормотал я. — А что там Лазарь болтал на французском? — Разве вы не поняли? — удивился Диккенс. — Мне казалось, вы немного говорите по-французски. — Я слушал невнимательно, — угрюмо буркнул я. И с трудом поборол искушение добавить: «К тому же я последние пять лет не переправлялся то и дело через пролив, чтобы тайно проводить время с некой актриской в деревушке Кондетт, а потому имел меньше возможностей практиковаться во французском». — Это был короткий стишок, — сказал Диккенс. Он остановился во мраке, прочистил горло и продекламировал:
Я ревностный приверженец порядка, Но мне не по душе порядок здесь: Он видимость имеет беспорядка. Однако Бог, нас поселивший здесь, Ввек не отменит своего порядка.
Я посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, на замурованные входы в древние кубикулы. Дурацкий стишок не имел никакого — или почти никакого — смысла. — Эти строчки вкупе с упоминанием об Уэллсе все проясняют, — продолжал Диккенс. — Об Уэльсе? — тупо переспросил я. — Об Уэллсе — об Уэллсовском соборе, вне всяких сомнений, — сказал Диккенс, поднимая фонарь и вновь двигаясь вперед. — Вы там бывали, полагаю. — Да, но… — Этот ярус катакомб, судя по всему, сооружен по плану некоего крупного собора — а именно Уэллсовского. То, что производит впечатление случайного и произвольного, на самом деле продумано и подчинено общему замыслу. Неф, зал капитула, северный и южный трансепты, алтарь и апсида. Опиумный притон Короля Лазаря, например, как он любезно нам пояснил, располагается на месте, где в Уэллсовском соборе находится внутренний дворик. Кладбищенский склеп, через который мы проникли сюда, соответствует западной башне Уэллсовского собора. Минуту назад мы вернулись в южный придел нефа, а сейчас повернули в сторону восточного трансепта. Видите, насколько этот коридор шире того, что ведет к «внутреннему дворику»? Я кивнул, но Диккенс не оглянулся, и мой кивок остался незамеченным. — Он упомянул что-то об алтаре и грязной ширме, — сказал я. — А, да. Видимо, вы не расслышали и недопоняли: он говорил не о ширме, а о перегородке — и не грязной, а крестной, дорогой Уилки. Как вам наверняка известно — а мне известно тем более, поскольку я вырос в буквальном смысле слова в тени Рочестерского собора, о котором надеюсь написать однажды, — апсидой называется полукруглая сводчатая ниша в алтарной части храма. С одной стороны высокого алтаря находится алтарная перегородка, призванная скрывать от взоров мирян священнодействия служителей культа. Напротив нее, со стороны трансепта, находится так называемая крестная перегородка. — Я знаю, — сухо промолвил я. — А что он там нес про Стикс, Ахерон, провожатых пострашней Харона и каркающие зады? — Как, вы не вспомнили, откуда эти строки?! — вскричал Диккенс. От удивления он остановился как вкопанный и направил на меня фонарь. — Это же наш любимый Бен Джонсон и его «Памятная прогулка», написанная году в тысяча шестьсот десятом от Рождества Христова, если не ошибаюсь. — Вы редко ошибаетесь, — пробормотал я. — Благодарю вас, — сказал Диккенс, не заметив моей иронии. — Но какое отношение к мистеру Друду имеет стихотворение о Коците, Флегетоне, стоне, крике, смраде, Хароне и Цербере? — Оно говорит о том, что нам с вами придется совершить путешествие по реке, друг мой. В свете фонаря я видел, что дальше галерея, или «неф», сужается и впереди чернеют несколько проемов в стенах. Что там? Трансепт и апсида? Алтарная и крестная перегородки? Очередные полки с азиатскими мумиями, курящими опиум? Или просто смрадные склепы, полные костей? — Путешествие по реке? — тупо переспросил я. Мне безумно хотелось принять свой лауданум. И безумно хотелось очутиться дома, чтобы получить такую возможность.
«Апсидой» оказалось круглое помещение с каменным куполообразным потолком высотой футов пятнадцать. Мы вошли в него сбоку — как бы из хорового обхода, если расположение подземных коридоров здесь и впрямь соотносилось с планом какогото собора. «Алтарь» представлял собой массивный каменный постамент, очень похожий на тот, что сдвинул Хэчери в склепе высоко над нами. — Если теперь требуется передвинуть эту штуковину, — сказал я, указывая на постамент, — значит, наше путешествие здесь и закончится. Диккенс кивнул и коротко бросил: — Не требуется. Полуистлевший занавес слева (он напоминал гобелен, но за несколько веков все узоры на нем потемнели в подземном мраке, стали черно-бурыми) частично отгораживал «алтарь» от пространства «апсиды» под каменным куполом. Другой занавес, попроще и еще сильнее изъеденный тленом, висел на каменной стене примитивного пресвитерия справа от нас. — Крестная перегородка, — сказал Диккенс, указывая тростью на второй занавес. Концом трости он отодвинул в сторону истлевшую ткань, и мы увидели узкий проем в стене. Ведущая вниз деревянная лестница была значительно круче и уже двух предыдущих. Стены и потолок почти вертикального тоннеля, пробитого в земле и камне, подпирали нетесаные бревна. — Как по-вашему, эта шахта более древняя, чем сами катакомбы? — шепотом спросил я, спускаясь следом за Диккенсом по крутой лестнице. — Относится к раннехристианской эпохе? Или к древнеримской? Или к друидической? — Вряд ли. Думаю, она проложена совсем недавно, Уилки. Не более пяти лет назад. Обратите внимание: ступени, похоже, сделаны из железнодорожных шпал. На них еще остались следы смолы. И шахту, скорее всего, рыли снизу вверх. — Снизу вверх? — повторил я. — Откуда это — снизу? В следующую секунду на меня накатила почти физически ощутимая волна смрада, давшая ответ на мой вопрос. Я полез в карман за платком, но тотчас же снова вспомнил, что Диккенс забрал его у меня и использовал не по назначению несколько долгих часов назад. Через пару минут мы оказались непосредственно в канализационном коллекторе. Он представлял собой сводчатый кирпичный тоннель шириной всего семь-восемь футов и высотой менее шести футов, по дну которого не текла, а медленно ползла густая жижа. От нестерпимой вони у меня сильно заслезились глаза, и мне пришлось вытереть их рукавом, чтобы разглядеть, что там выхватывает из мрака бледный луч света, исходящий из фонаря в руке Диккенса. Я увидел, что Диккенс прикрывает нос и рот шелковым платком. Так у него с собой было два платка! Вместо того чтобы накрыть трупики младенцев двумя своими, он реквизировал у меня мой, хотя наверняка прекрасно знал, что впоследствии платок мне понадобится. Негодование мое возросло. — Всё, дальше я не ступлю ни шагу, — решительно заявил я. В больших глазах Диккенса отражалось недоумение, когда он повернулся ко мне. — Но почему, скажите на милость, Уилки? Мы уже зашли так далеко! — Я не намерен месить сапогами это. — Я раздраженно указал на зловонную вязкую жижу, ползущую по каналу. — О, нам и не придется, — сказал Диккенс. — Видите кирпичные дорожки по обеим сторонам тоннеля? Они на несколько дюймов выше уровня этой грязюки. «Грязюкой» мы, писатели, называем сильно правленные рукописи и гранки, которые издатели возвращают нам недоработку. Я задался вопросом, не отпустил ли сейчас Диккенс дешевую остроту. Но по обеим сторонам узкого канализационного тоннеля действительно тянулись «дорожки». Впрочем, они едва ли заслуживали столь громкого названия: «дорожка» с нашей стороны имела не более десяти дюймов в ширину. Я потряс головой, полный сомнений. По-прежнему крепко прижимая платок к лицу, Диккенс достал из кармана складной нож и нацарапал три параллельные черты на кирпичной стене рядом с местом, где грубо сколоченная лестница выходила в сточный тоннель. — Зачем это? — спросил я, но тотчас же сам сообразил. Видимо, зловонные испарения пагубно влияли на мои логические способности. — Чтобы найти дорогу обратно, — ответил Диккенс. Сложив нож, он поднес его к свету и сказал ни с того ни с сего: — Подарок американских друзей, принимавших меня в Массачусетсе в ходе моей поездки по Штатам. Очень полезная вещь, как я не раз имел случай убедиться. Ну ладно, пойдемте, час уже поздний. — А почему вы пошли направо, а не налево? — поинтересовался я, семеня вслед за ним по узкому кирпичному выступу и пригибая голову, чтобы цилиндр не зацепился за низкий свод тоннеля и не упал в нечистоты. — Да так, по наитию, — сказал Диккенс. Через несколько минут мы подошли к месту, где тоннель разветвлялся на три разновеликих рукава. По счастью, сточный канал здесь сужался, и Диккенс перепрыгнул через него, опираясь на трость. Он нацарапал три черты у входа в средний тоннель и посторонился, освобождая место для меня. — Почему именно этот тоннель? — спросил я, когда мы углубились в него на двадцать — тридцать ярдов. — Он самый широкий, — ответил Диккенс. Мы подошли к следующему тройному разветвлению. На сей раз он выбрал правый тоннель и снова нацарапал три черты на кирпичной кладке. Пройдя сотню ярдов по этому более узкому тоннелю, Диккенс остановился. Я увидел у противоположной стены (дорожки там не было) свечной металлический отражатель, закрепленный на лопасти заступа, погруженного черенком в вязкую жижу, а ниже подобие проволочного решета, прислоненное к стене. В отражателе еще оставался крохотный, буквально в четверть дюйма, огарок сальной свечи. — Это еще что такое? — прошептал я. — Зачем это здесь? — Имущество какого-то подземного старателя, — обыденным тоном промолвил Диккенс. — Разве вы не читали Мэйхью? Я не читал. Недоуменно уставившись на залепленное по краям грязью решето, я спросил: — Но ради всего святого, что можно найти тут в нечистотах? — Да самые разные вещи, которые мы рано или поздно теряем на улицах близ сточных канав и люков, — сказал Диккенс. — Кольца, монеты. Даже кости могут представлять определенную ценность для неимущих. — Он указал тростью на лопату и решето. — Именно такие инструменты Ричард Берд изобразил в одной из своих иллюстраций к книге Мэйхью «Лондонские рабочие и лондонские бедняки». Вам обязательно нужно прочитать ее, дорогой Уилки. — Сразу, как только выберемся отсюда, — прошептал я, исполненный решимости выполнить свое обещание. Мы двинулись дальше. Местами, где сводчатый потолок становился ниже, нам приходилось идти чуть ли не на корточках. В какой-то момент меня охватила паника при мысли, что в нашем маленьком фонаре выгорит все масло, но потом я вспомнил про увесистый огарок свечи, лежащий в моем левом кармане. — Как по-вашему, это часть новой канализационной системы Базалгетти? — немного погодя спросил я. К тому времени с действительностью меня примиряло лишь одно обстоятельство: от невыносимого зловония у меня почти начисто отшибло нюх. Я осознал, что рано или поздно мне придется пустить свою одежду на осветительные жгуты, и страшно расстроился, поскольку я особо дорожил сюртуком и жилетом, надетыми на мне тогда. Кажется, я уже упоминал прежде, что в свое время Джозеф Базалгетти, главный инженер Управления общественных работ, выдвинул на рассмотрение в парламенте проект новой общегородской канализационной системы, который предполагал строительство очистных станций, препятствующих сбросу нечистот в Темзу, и сооружение каменных набережных. Скорейшему принятию проекта поспособствовало Великое Зловоние, случившееся в июне 1858 года и выгнавшее прочь из города всю палату общин. Главная очистная станция в Кроснессе открылась год назад, но на городских улицах и под ними все еще прокладывались десятки миль основной и вспомогательных канализационных сетей. Работы по строительству набережных планировалось начать через пять лет. — Новой? — переспросил Диккенс. — Сильно сомневаюсь. Под городом тянутся сотни сточных тоннелей, проложенных много веков назад, Уилки… иные относятся аж к древнеримской эпохе… О многих из них Управление общественных работ просто забыло. — Но помнят подземные старатели, — заметил я. — Совершенно верно. Внезапно тоннель резко расширился, образуя довольно просторное и сравнительно сухое помещение. Диккенс остановился и посветил фонарем по сторонам. Стены здесь были каменные, сводчатый кирпичный потолок подпирали многочисленные столбы. По более-менее сухим краям этой чашеобразной камеры лежали всевозможные спальные подстилки, как сплетенные из грубой веревки, так и сотканные из дорогой шерсти. С почерневшего от копоти потолка свисали на цепях тяжелые лампы. На приподнятой площадке, своего рода островке, в центре помещения стояла железная печка с дымовой трубой, отведенной не вверх, сквозь каменный потолок, а вниз, в один из четырех расходящихся лучами тоннелей. Несколько толстых досок, положенных на установленные на попа ящики, служили обеденным столом, а в самих ящиках я разглядел стопки грязных тарелок и прочую посуду. В ящиках поменьше, видимо, хранились продукты. — Просто не верится, — выдохнул Диккенс, поворачиваясь ко мне. Глаза у него возбужденно блестели, лицо расплывалось в широкой улыбке. — Знаете, что приходит на ум при виде всего этого, Уилки? — Маленькие дикари! — воскликнул я. — Да неужто вы читаете выпуски этого романа, Диккенс?! — Нуконечно, — рассмеялся самый известный писатель современности. — Их читают все мои знакомые ценители и знатоки литературы, Уилки! Но никто из нас не признается в этом, боясь осуждения и насмешек. Речь шла о низкопробном авантюрном романе под названием «Маленькие лондонские дикари, или Дети ночи. Повесть наших дней». В настоящее время он ходил по рукам в виде корректурных оттисков, но в ближайшем будущем должен был выйти в свет на потребу читающей публике, если власти не запретят публикацию под предлогом непристойного характера сочинения. Честно говоря, я лично не видел ничего особо непристойного в написанной напыщенным слогом истории о беспризорных детях, которые живут, точно несчастные дикие звери, в канализационных тоннелях под городом, хотя я по сей день помню одну особо жуткую и не вполне приличную иллюстрацию с изображением нескольких мальчишек, нашедших в сточном канале тело почти голой женщины. В другом эпизоде романа — по счастью, не проиллюстрированном — один паренек, новенький среди «дикарей», случайно наталкивается на обгрызенный крысами мужской труп. В конечном счете, возможно, роман действительно был непристойным. Но кто бы мог подумать, что дешевая страшилка, написанная посредственным языком, основана на реальных фактах? Диккенс рассмеялся — эхо раскатилось по всем тоннелям — и сказал: — Это место мало чем отличается от моего любимого клуба, Уилки. — Если не считать того, что иные из обедающих здесь являются каннибалами, как предупредил нас Король Лазарь, — заметил я. Словно в ответ на наши остроты, из одного из тоннелей раздались крысиный писк и царапанье. Возможно, из всех сразу. — Так может, мы теперь пойдем назад? — спросил я, возможно, слегка умоляющим тоном. — Теперь, когда мы проникли в самое сердце тайны Подземного города? Диккенс бросил на меня пронзительный взгляд. — О, я сильно сомневаюсь, что это и есть самое сердце тайны. Или хотя бы печень или легкие оной. Пойдемте, вот этот тоннель вроде бы пошире прочих. Через пятнадцать минут и пять поворотов тесной кирпичной кишки мы вышли в просторную камеру, рядом с которой обиталище «маленьких лондонских дикарей» казалось крохотной кубикулой. Этот поперечный тоннель выделялся среди остальных, как большак среди проселков: он имел по меньшей мере двадцать пять футов в ширину и пятнадцать в высоту, а посередине протекал быстрый поток воды (пусть даже жалкого подобия воды, чудовищно грязного и мутного), а не ползла густая жижа. Стены, пролегающие вдоль них дорожки и высокий сводчатый потолок были сложены из новехонького кирпича. — Вот это, должно быть, часть новой канализационной системы Базалгетти. — В голосе Диккенса впервые за все время послышались благоговейные нотки. Заметно потускневший луч фонаря плясал по стенам и потолку широкого тоннеля. — Но вероятно, официальное открытие еще не состоялось. Я мог лишь потрясти головой, одновременно устало и изумленно. — Куда теперь, Диккенс? — Дальше пути нет, кажется, — тихо промолвил он. — Разве только мы пустимся вплавь. Я растерянно моргнул и тотчас понял, о чем он. Кирпичная дорожка здесь — чистая и ровная, как новый городской тротуар, — имела по меньшей мере пять футов в ширину, но она тянулась лишь на пятнадцать футов от входа в одну и другую сторону. — Значит, возвращаемся той же дорогой? — спросил я. При одной мысли об обратном путешествии по узким кирпичным кишкам у меня мороз подрал по коже. Диккенс посветил фонарем на деревянный столб, стоящий ярдах в двух слева от нас. На нем висел маленький корабельный колокол. — Думаю, нет, — негромко произнес он. Прежде чем я успел запротестовать, он четыре раза ударил в колокол. Резкий звон раскатился эхом по широкому тоннелю над быстрым потоком. В самом конце странного кирпичного причала Диккенс нашел брошенный шест и погрузил его вертикально в воду. — Глубина семь футов самое малое, — сообщил он. — Возможно, больше. А вы знаете, Уилки, что французы собираются устраивать лодочные экскурсии по своим подземным сточным каналам? Женщины сидят в лодках, мужчины часть пути проходят пешком. Плоскодонки приводятся в движение педальным механизмом вроде велосипеда, а установленные на них прожекторы и фонари, выданные экскурсантам, освещают все подземные достопримечательности. — Нет, — угрюмо буркнул я. — Я этого не знал. — В парижском высшем свете поговаривают об организации охоты на крыс для желающих. Я был сыт по горло всем этим. Резко повернувшись кругом, я сказал: — Все, пойдемте отсюда, Диккенс. Скоро рассвет. Если сыщик Хэчери отправится на Леман-стрит и заявит о нашем исчезновении, добрая половина лондонских констеблей спустится сюда на поиски самого знаменитого писателя современности. Королю Лазарю и его друзьям это не понравится. Прежде чем Диккенс успел ответить, в глубине тоннеля внезапно послышался шум, а в следующий миг из темноты прямо на нас вылетели несколько существ с мертвенно-бледными крысиными личиками и в развевающихся лохмотьях. Я неловко выхватил револьвер из кармана. В первый момент я решил, что нас атакуют гигантские крысы. Диккенс стремительно выступил вперед, встав между мной и верткими существами, которые наступали на нас, совершая различные обманные движения. — Это мальчишки, Уилки! — выкрикнул он. — Просто мальчишки! — Мальчишки-каннибалы! — проорал я, вскидывая револьвер. Словно в подтверждение моих слов, один из них — длинноносый, с крохотными глазками и мелкими острыми зубами — прыгнул на Диккенса и щелкнул челюстями, словно намереваясь откусить ему нос. Неподражаемый наотмашь ударил нападавшего по лицу тростью и попытался схватить его, но в руке у него остались лишь грязные лохмотья, а голый ребенок и два или три других мальчишки пустились наутек по темному узкому тоннелю, откуда появились следом за нами. — Боже мой! — выдохнул я, все еще держа тяжелый револьвер обеими руками. Я услышал непонятный приглушенный звук, донесшийся сзади, со стороны воды, и медленно повернулся, по-прежнему не опуская револьвера. — Боже мой! — снова прошептал я. К нашей кирпичной эспланаде подплыла длинная узкая лодка необычного вида. На носу стоял высокий парень с шестом, другой сидел у руля на корме — но, если не считать высоких кормы и носа с висящими на них фонарями, суденышко лишь отдаленно напоминало итальянскую гондолу. Парни выглядели уже не мальчиками, но еще не мужчинами — черты землисто-бледных лиц пока не обрели зрелой завершенности. Страшно худые, они были одеты в одинаковые темно-синие лохмотья, похожие чуть ли не на униформу; грудь в распахнутом вороте драной рубахи и полоска голого тела над равно драными штанами у обоих имели такой же нездоровый мучной цвет, как лицо. Что самое странное, оба полумальчика-полумужчины были в квадратных дымчатых очках, словно находились не в сумрачном тоннеле, а под ярким солнцем, резавшим чувствительные глаза. — Полагаю, прибыли наши провожатые, Уилки, — прошептал Диккенс. Опасливо оглянувшись на черный проем, откуда в любой момент снова могли выскочить маленькие дикари, я придвинулся поближе к Диккенсу и приготовился ступить в маленькую лодку. Неподражаемый вручил безмолвному гребцу два соверена, потом заплатил столько же рулевому. Оба парня отрицательно потрясли головой, и каждый отдал обратно один из двух соверенов. Они указали на Диккенса и кивнули. Потом указали на меня и помотали головой. Меня явно не приглашали на борт. — Мой друг должен сопровождать меня, — сказал Диккенс безмолвной паре. — Я не оставлю его здесь. — Порывшись в кармане, он достал еще несколько монет. Две смутные фигуры почти одновременно помотали головой. — Вы от мистера Друда? — спросил писатель. Он повторил вопрос по-французски. Странная пара продолжала хранить молчание. Наконец рулевой снова ткнул пальцем в Диккенса и жестом пригласил его в лодку. Гребец указал на меня, а потом на кирпичную дорожку под моими ногами, явно веля мне оставаться на месте. У меня возникло ощущение, будто они командуют мне, как собаке. — К черту все это! — громко сказал я. — Пойдемте отсюда, Диккенс. Ну же! Писатель посмотрел на меня, потом на тоннель за моей спиной — откуда снова доносился приглушенный частый топоток, — потом опять посмотрел на лодку, а затем вытянул шею и глянул вверх и вниз по течению подземной реки. — Уилки… — наконец проговорил он. — Мы уже зашли так далеко… и так много узнали, что я… просто не могу повернуть назад. Я ошеломленно уставился на него. — Вернемся в другой раз, — сказал я. — А сейчас надо убираться прочь. Он отрицательно потряс головой и отдал мне «бычий глаз». — У вас есть револьвер и… сколько, говорил Хэчери, там пуль? — Девять. Негодование, недоумение и обида поднимались во мне, как поднимается к горлу тошнота во время сильной качки в море. Так он действительно собирался бросить меня здесь! — Девять пуль, фонарь и указатели пути в виде нацарапанных на стенах трех черточек, — торопливо проговорил Диккенс. Я обратил внимание на характерное пришепетывание и подумал, что, возможно, оно усиливается, когда Неподражаемый совершает предательские поступки. — А если там больше девяти мальчишек-каннибалов? — тихо спросил я. И сам удивился спокойствию своего голоса, пусть и звучавшего слегка искаженно под гулкими сводами широкого тоннеля. — Или полчища крыс, которые явятся поужинать, когда вы уплывете? — Напавший на меня мальчишка никакой не каннибал, — сказал Диккенс. — Просто беспризорный ребенок в лохмотьях столь ветхих, что они на нем едва держались. Но на худой конец, Уилки… пристрелите одного из них. Остальные дадут деру. Тогда я рассмеялся. У меня действительно не было выбора. Диккенс ступил в маленькую лодку, попросил гребца подождать секундочку и посмотрел на хронометр при свете кормового фонаря. — У нас еще осталось добрых полтора часа, чтобы успеть вернуться к Хэчери до восхода солнца, — сказал он. — Подождите меня здесь, на причале, Уилки. Зажгите свечу вдобавок к «бычьему глазу», чтобы стало посветлее, и подождите меня. Я потребую, чтобы наш с мистером Друдом разговор продолжался не долее часа. Мы поднимемся наверх вместе. Я открыл рот, собираясь заговорить или рассмеяться, но из горла моего не вырвалось ни звука. Я вдруг осознал, что по-прежнему держу перед собой дурацкий тяжелый револьвер… и что он направлен в сторону Диккенса и двух его провожатых. Мне не требовалось картечного заряда в нижнем стволе, чтобы все трое упали, бездыханные, в мутный поток лондонских сточных вод. Мне стоило лишь трижды нажать на спусковой крючок. Тогда у меня осталось бы еще шесть пуль на маленьких дикарей. Словно прочитав мои мысли, Диккенс сказал: — Я бы взял вас с собой, Уилки, когда бы мог. Но представляется очевидным, что мистер Друд желает поговорить со мной наедине. Если вы дождетесь меня — а я вернусь самое большее через полтора часа, уверяю вас, — мы с вами поднимемся наверх вместе. Я опустил револьвер. — Но если я уйду отсюда до вашего возвращения… коли вы вообще вернетесь, — хрипло проговорил я, — вам будет очень сложно найти обратную дорогу без фонаря. Диккенс ничего не ответил. Я зажег свечу и сел между ней и «бычьим глазом», лицом ко входу в тоннель, спиной к Чарльзу Диккенсу. Я положил взведенный револьвер на колени. И не обернулся, когда плоскодонная лодка плавно отошла от крохотного причала. Она скользила по воде так бесшумно, что я не расслышал ни единого постороннего плеска в гулком шуме подземной реки. И я по сей день не знаю, вверх или вниз по течению уплыл тогда Диккенс.
Глава 7
До самого конца лета 1865 года стояла страшная жара. В начале сентября необычный зной, сопровождавшийся частыми грозами, пошел на убыль и в Лондоне установилась ясная погода с теплыми днями и прохладными ночами. В течение двух месяцев после нашего ночного похода я редко виделся с Диккенсом. Летом и во время других школьных каникул его дети выпускали собственную маленькую газету, «Гэдсхилл гэзет», и в августе мой брат Чарльз принес мне пачку таких газеток. Там были статьи о пикниках, поездках в Рочестер, крикетных матчах и заметка о первом письме сына Диккенса, Альфреда, в мае уехавшего в Австралию, чтобы заняться овцеводством. Все сообщения о Неподражаемом (если не считать традиционных упоминаний, что пикники, поездки в Рочестер, крикетные матчи проходили под его председательством) сводились к тому, что он напряженно работает над «Нашим общим другом». От Перси Фицджеральда я узнал, что Диккенс с детьми и довольно многочисленной группой друзей ездил в поместье Бульвер-Литтона, Нейворт, чтобы отпраздновать открытие первых домов, построенных на средства «Гильдии литературы и искусства» для нуждающихся художников и писателей. Диккенс верховодил всем собранием и, по словам Фицджеральда, «казался веселым и жизнерадостным, как прежде». Неподражаемый произнес пылкую оптимистичную речь, в частном разговоре сравнил своего излишне напыщенного друга Джона Форстера с Мальволио[6] (в присутствии нескольких писателей, которые непременно донесут Форстеру о нелицеприятном сравнении), затащил большую компанию приятелей в расположенную поблизости таверну под названием «Наш общий друг» и даже принял участие в танцах на открытом воздухе, прежде чем вернуться со всеми своими спутниками в Лондон. Я приглашения в Нейворт не получил. От своего брата Чарльза я узнал, что Диккенс по-прежнему страдает от последствий Стейплхерстской катастрофы — в частности, предпочитает по возможности ездить на медленном поезде, так как путешествия на курьерском, а порой даже поездки в обычной карете вызывают у него приступы страха. Еще Чарльз сообщил мне, что в начале сентября Диккенс закончил работу над «Нашим общим другом» и добавил к нему эпилог (хотя никогда прежде не писал эпилогов), где защищает довольно необычный метод повествования, использованный в романе, кратко описывает Стейплхерстскую катастрофу (умалчивая, разумеется, о мисс и миссис Тернан и мистере Друде) и в заключение пишет фразу, вызывающую легкое беспокойство: «Чувство благоговейной благодарности не покидает меня при воспоминании, что я никогда не был так близок к вечной разлуке со своими читателями и к тому дню, когда моя жизнь должна будет завершиться тем словом, которым сейчас я завершаю эту книгу: Конец». Поскольку вы, дорогой читатель, живете в нашем посмертном будущем, вероятно, я не открою вам большой тайны, если скажу, что Диккенсу уже не довелось написать это слово — «Конец» — в завершение следующего своего романа.Одним погожим днем в первых числах сентября Кэролайн поднялась в мой кабинет, где я тогда работал, и вручила мне визитную карточку некоего господина, ждавшего внизу. На карточке значилось:
Инспектор Чарльз Фредерик Филд Частное сыскное бюроВидимо, Кэролайн заметила недоумение, отразившееся на моем лице, ибо спросила: — Что-нибудь не так? Отослать его прочь? — Нет-нет… Проводи его ко мне. Только затвори дверь поплотнее, когда он пройдет в кабинет, дорогая моя. Через минуту инспектор Филд уже находился в кабинете, с легким поклоном тряс мою руку и тараторил, не давая мне открыть рот. Я вспомнил описание из давнего диккенсовского эссе о нем, напечатанного в «Домашнем чтении»: «…мужчина средних лет, осанистый, с большими, влажными, проницательными глазами и сиплым голосом; у него манера в подкрепление своих слов выставлять толстенный указательный палец, держа его все время на уровне глаз или носа». Сейчас Филд был уже далеко не средних лет, а лет шестидесяти, сообразил я, и от кудрявой темной гривы у него остался лишь скудный венчик седых волос, но сиплый голос, проницательные глаза и толстенный указательный палец никуда не делись и находились в полной исправности. — Мистер Коллинз, мистер Коллинз, как я рад снова видеть вас, сэр. Причем видеть в столь явном и отрадном благополучии, сэр. Ах, какая чудесная комната, сэр! Как много книг! Полагаю, вон там, рядом со слоновьим бивнем, стоит экземпляр вашей «Женщины в белом» — да, так и есть! Говорят, замечательная книга — правда, сам я покамест не удосужился прочитать ее, но моя жена прочитала. Возможно, вы меня помните, сэр… — Да, конечно. Вы сопровождали нас с Чарльзом Диккенсом… — В одном из ваших походов по самым сомнительным кварталам нашего прекрасного города. Да, мистер Коллинз, сопровождал, действительно сопровождал. Возможно, вы помните также, что я присутствовал при первой вашей встрече с мистером Диккенсом… — Признаться, я не уверен, что… — Нет-нет, сэр, вам нет никакой нужды помнить о моем присутствии там. Дело было в пятьдесят первом году, сэр. Мистер Диккенс нанял меня частным образом, так сказать, чтобы я обеспечил порядок во время представления пьесы лорда Литтона «Не так плохи, как кажемся», поставленной при милостивом содействии герцога Девонширского. Вы тогда были начинающим актером, сэр, и мистер Диккенс по совету мистера Эгга, пригласил вас на роль Смарта. Помнится, мистер Диккенс сказал вам на первой репетиции: «Роль маленькая, но она, бесспорно, хороша!» И вы тоже, мистер Коллинз, вы тоже были, бесспорно, хороши. Я видел несколько представлений, сэр. — Благодарю вас, инспектор. Я… — Да… О, вы позволите мне присесть? Премного благодарен. Ах, какое прекрасное каменное яйцо у вас на столе, мистер Коллинз Это оникс? Да, полагаю, он самый. Прелесть, просто прелесть. — Спасибо, инспектор. Чему я обязан?.. — Вы наверняка помните, мистер Коллинз, что герцог Девонширский предоставил свой лондонский дом, Девоншир-хаус, для первого представления пьесы лорда Литтона. Насколько я помню, все сборы от спектакля пошли в фонд «Гильдии литературы и искусства». В то время президентом гильдии был сэр Эдвард. Мистер Диккенс занимал пост вице-президента. Возможно, вы помните, что меня и нескольких моих тщательно отобранных коллег наняли, чтобы мы, одетые в цивильное платье, присутствовали в зрительном зале, потому как раздельно проживавшая жена лорда Литтона — по имени Розина, кажется, — грозилась сорвать спектакль. Она обещала, помнится, переодеться продавщицей апельсинов и закидать сцену фруктами. — Инспектор Филд хихикнул, и я натужно улыбнулся в ответ. — В другой записке, — продолжал мой гость, — она обещала забросать тухлыми яйцами королеву, которая, невзирая на угрозы, все же явилась на премьеру, как вы наверняка помните, сэр, ибо у всех писателей замечательная память. Ее величество королева пришла в обществе принца Альберта и стала свидетелем первого вашего публичного выступления совместно с мистером Диккенсом. Дело было шестнадцатого мая пятьдесят первого года — а кажется, будто только на прошлой неделе, не правда ли, сэр? — и тем вечером на представлении присутствовали ваши особые гости, мистер Коллинз. Ваш брат Чарльз, кажется, и ваша матушка… леди Хэрриет, если мне не изменяет память. Надеюсь, она пребывает в добром здравии, мистер Коллинз, искренне надеюсь, и помнится мне, когда ваша матушка наведывается в город, она проживает с вашим братом Чарльзом и его женой Кейт, старшей дочерью Диккенса. На Кларенс-террас, если я верно помню адрес. Премилый район. И ваша матушка — очаровательная дама, поистине очаровательная. О, и помнится мне, на том первом представлении присутствовали еще и другие ваши гости. Эдвард и Генриетта Уорд. Сигару? Да, сэр, с превеликим удовольствием. Предложенная сигара превосходного качества послужила к приостановке словесного потока моего гостя, мы в молчании обрезали и зажгли наши сигары и с минуту наслаждались курением, не произнося ни слова. Потом, пока сыщик не спохватился и не возобновил словоизвержение, я сказал: — Ваша память делает честь вашей профессии и вам самому, инспектор Филд. Но позвольте поинтересоваться: чему я обязан удовольствием видеть вас? Он вынул изо рта сигару левой рукой, а указательным пальцем правой сначала прижал одну ноздрю, будто нюхая табак, а потом легонько постучал по губам, словно побуждая оные к произнесению следующих слов: — Мистер Коллинз, вам следует знать, что звание «инспектор» перед моей фамилией в настоящее время является просто почетным именованием, ибо я больше не служу в сыскном отделе Скотленд-Ярда. Ушел в отставку через год после того, как обеспечивал порядок на представлении «Не так плохи, как кажемся», если быть точным на все сто. — Уверен, это почетное именование вы в полной мере заслужили и оно должно и будет использоваться всеми, кто вас знает, — любезно ответствовал я, не посчитав нужным указать, что звание «инспектор» черным по белому значилось у него на визитной карточке. — Благодарю вас, мистер Коллинз, — промолвил румяный сыщик, выпуская огромный клуб дыма. Поскольку дверь была плотно затворена, а окно, по обыкновению, приоткрыто совсем чуть-чуть, чтобы уличный шум не мешал мне работать, мой маленький кабинет быстро наполнялся голубым дымом. — Так чем же я могу быть полезен вам, инспектор? — спросил я. — Вы пишете мемуары? И в вашей необъятной, поистине невероятной памяти образовался крохотный пробел, который я в силах восполнить? — Мемуары? — Инспектор Филд хихикнул. — А ведь это дельная мысль… но нет, сэр, нет, право слово. Другие люди, вроде вашего друга мистера Диккенса, уже написали о моих… надеюсь, слово «подвиги» не прозвучит слишком громко, сэр?.. уже написали о моих подвигах и, смею предположить, еще не раз напишут в будущем. Но у меня самого в данный момент на повестке дня не стоит никаких мемуаров, сэр. — В таком случае чем я могу служить вам, инспектор? Крепко зажав в зубах сигару, Филд подался вперед, поставил локти на стол и дал волю своему толстому указательному пальцу, коим сначала значительно указал вверх, потом вниз, затем постучал по столу и наконец ткнул в меня. — До моего сведения дошло, мистер Коллинз, — к сожалению, слишком поздно, — что вы с мистером Диккенсом ходили в Тайгер-Бэй и спускались в Подземный город в поисках некоего субъекта по имени Друд. — Кто вам это сказал, инспектор? — осведомился я сухим тоном. Отставной сыщик Скотленд-Ярда уже успел сильно раздражить меня своими любопытством и навязчивостью. — О, Хиб Хэчери, разумеется. Он работает на меня — служит в моем частном сыскном бюро. Разве мистер Диккенс не говорил вам? Диккенс, припомнил я, действительно обмолвился, что инспектор Филд уволился из полиции, в настоящее время не имеет возможности сопровождать нас в нашей ночной вылазке и порекомендовал нам Хэчери, но тогда я не обратил особого внимания на это замечание. — Нет, — холодно произнес я. — Сомневаюсь, что вы узнали о нашем походе от Хэчери. Филд кивнул. Его правый указательный палец, словно наделенный собственной волей, взметнулся вверх и прижался сбоку к его крючковатому носу; левой же рукой инспектор вытащил изо рта сигару. — Именно от него, сэр. Хэчери славный малый. Пусть не одаренный богатым воображением, какое необходимо любому стоящему инспектору и сыщику, но поистине славный малый. Надежный. Однако, когда Диккенс обратился ко мне с просьбой подыскать сопровождающего для экскурсии в… э-э… не самый благополучный район нашего города, я решил, что речь идет всего лишь об очередной увеселительной прогулке по трущобным кварталам — вроде той, в которой я сопровождал вас с ним или его с американскими гостями, сэр. Я довольно долго отсутствовал в городе — уезжал по делам сыскного бюро — и только по недавнем своем возвращении узнал, что объектом преследования мистера Диккенса являлся Друд. — Ну, я бы не назвал это преследованием, — заметил я. — Хорошо, пусть будут поиски, — сказал инспектор Филд, выпуская струю голубого дыма. — Расспросы. Расследование. — А что, интересы Чарльза Диккенса каким-то образом касаются вас? — спросил я резким тоном, призванным поставить на место отставного полицейского, лезущего в дела джентльменов. — О да, сэр. Да, мистер Коллинз, очень даже касаются, — сказал инспектор, откидываясь на спинку кресла с такой силой, что она затрещала. Он внимательно разглядывал все еще горящий окурок своей сигары, слегка хмуря брови. — Все, что имеет отношение к Друду, меня касается и интересует, мистер Коллинз. Абсолютно все. — Почему, инспектор? Он снова подался вперед. — Друд — или монстр, называющий себя Друдом, — появился и начал творить свои зверства при мне. В буквальном смысле слова при мне. Тогда я только-только вступил в должность начальника сыскного отдела Скотленд-Ярда, сменив на этом посту инспектора Шекелла. И именно тогда… в сорок шестом году, сэр… началась власть Друдова террора. — Власть террора? — повторил я. — Сколько я помню, в газетах ни о каком таком терроре не сообщалось. — О, в сомнительных городских кварталах, куда вы с мистером Диккенсом наведывались в июле, происходит много событий, не получающих освещения в прессе, мистер Коллинз. Можете в этом не сомневаться. — Уверен, вы правы, инспектор, — мягко промолвил я. Мы уже скурили сигары почти до конца. Когда они сгорят полностью, я сошлюсь на неотложные дела и выпровожу прочь отставного полицейского. Филд снова подался вперед, наставив на меня деятельный указательный палец. — Мне нужно знать, что вы с мистером Диккенсом узнали про Друда той ночью, мистер Коллинз. Мне нужно знать решительно все. — Не понимаю, каким образом наши дела касаются вас, инспектор. Филд улыбнулся — достаточно широко, чтобы морщины и складки на его немолодом лице сложились в совершенно новый рисунок. То была отнюдь не теплая улыбка. — Касаются самым непосредственным образом, мистер Коллинз. Вам этого никогда не понять. И я получу интересующие меня сведения во всех подробностях. Я резко выпрямился в кресле, и прострелившая спину подагрическая боль усугубила мои недовольство и раздражение. — Вы мне угрожаете, инспектор? Улыбка моего собеседника стала шире. — Инспектор Чарльз Фредерик Филд — из сыскного ли отдела полиции, из собственного ли частного сыскного бюро — никогда никому не угрожает, мистер Коллинз. Но он получит все сведения, необходимые для продолжения борьбы со старым и неумолимым врагом. — Если этот… Друд… является вашим, как вы выражаетесь, врагом вот уже более двадцати лет, инспектор, вы едва ли нуждаетесь в нашей помощи. Вы должны знать о… своем враге… гораздо больше нас с Диккенсом. — О да, сэр, — согласился Филд. — Скажу без ложной скромности: о субъекте, которого вы называете Друдом, я знаю больше, чем кто-либо из ныне живущих. Но Хэчери сообщил мне, что мистер Диккенс встречался с ним недавно. И не в Подземном городе, а на месте Стейплхерстской железнодорожной катастрофы. Мне необходимо знать больше о той встрече и о том, что вы двое видели в Подземном городе в июле. — Я думал, по условиям договоренности — во всяком случае, сыщик Хэчери употребил именно такое слово — полицейские и частные сыщики должны оставить в покое жителей Подземного города, покуда они не мешают жить нам, наземным обитателям. Филд покачал головой. — Друд не оставит нас в покое, — негромко промолвил он. — Мне доподлинно известно, что в одном только Лондоне он совершил свыше трехсот убийств с тех пор, как наши с ним дороги впервые пересеклись двадцать лет назад. — О боже… — ошеломленно проговорил я. От ужаса у меня все похолодело внутри, как от выпитого залпом стакана лауданума. Инспектор снова кивнул. — Вам придется обратиться со всеми расспросами к мистеру Диккенсу, — холодно сказал я. — Это он организовал нашу вылазку. Это он интересовался Друдом. Я с самого начала полагал, что наша… «вылазка», как вы выражаетесь… с сыщиком Хэчери является частью исследовательской работы, проводимой Диккенсом для своего будущего романа или повести. И я по-прежнему так считаю. Но вам придется побеседовать с ним, инспектор. — Я поехал к нему сразу, как только вернулся в Лондон после долгого отсутствия и узнал от Хэчери, зачем Диккенс нанимал его, — сказал Филд. Он встал и принялся расхаживать взад-вперед перед моим столом. Толстым указательным пальцем он сперва постукивал по губам, потом почесывал ухо, потом трогал нос сбоку, потом поглаживал каменное яйцо на моем столе, слоновий бивень на книжной полке или персидский кинжал на каминной полке. — Я не застал мистера Диккенса, он находился в отъезде, во Франции, — наконец продолжил Филд. — Он только на днях вернулся, и я поговорил с ним вчера. Он не сообщил мне никаких полезных сведений. — Ну что ж, инспектор… — Я развел руками, потом положил окурок сигары на край медной пепельницы и поднялся с кресла. — В таком случае вы сами понимаете, что я ничем не в силах помочь вам. Поиски предпринял мистер Диккенс. И именно он… Филд остановился и направил на меня палец. — Вы сами видели Друда? Своими глазами? Я моргнул. Я вспомнил, как очнулся от дремы на подземном кирпичном причале, когда Диккенс вернулся в плоскодонной лодке с двумя безмолвными провожатыми. Взглянув на хронометр, я понял, что солнце взошло двадцать минут назад, а значит, Хэчери уже покинул склеп. Неподражаемый отсутствовал более трех часов. Несмотря на реальную опасность, несмотря на реальный риск подвергнуться нападению малолетних каннибалов, я задремал, сидя по-турецки на влажных кирпичах, с заряженным и взведенным револьвером в руках. — Я не видел никого, чья внешность соответствовала бы известному мне описанию мистера Друда, — сухо промолвил я. — И больше я не произнесу ни слова на данную тему, инспектор Филд. Я уже говорил вам и повторю в последний раз: эту вылазку эти поиски организовал мистер Диккенс, и, если он не желает рассказывать вам о событиях той ночи, значит, я, как джентльмен, тоже обязан хранить молчание. Желаю вам доброго дня, инспектор, а также успехов в вашем… Я вышел из-за стола и распахнул дверь кабинета, предлагая пожилому инспектору удалиться, но Филд не двинулся с места. Он попыхал сигарой, взглянул на нее и спокойно осведомился: — Вам известно, зачем Диккенс ездил во Францию? — Что? — Я был уверен, что ослышался. — Я спросил, мистер Коллинз, известно ли вам, зачем Чарльз Диккенс ездил во Францию на прошлой неделе. — Нет, понятия не имею, — сказал я звенящим от раздражения голосом. — Среди джентльменов не принято совать нос в дела других джентльменов. — Ну да, разумеется. — Инспектор Филд снова улыбнулся. — Диккенс провел несколько дней в Булони, а если точнее, часть времени — в Булони, а часть — в крохотной деревушке, расположенной в нескольких милях к югу от города. Она называется Кондетт, и там мистер Диккенс вот уже несколько лет — а именно, с шестидесятого года — арендует скромное шале с садом у некоего месье Боку-Мютьеля. Там часто останавливается некая актриса — ныне двадцатипятилетняя — по имени Эллен Тернан со своей матерью. В Кондетте Чарльз Диккенс проводил время в обществе названных дам — иные его визиты длились до недели — свыше пятидесяти раз с той поры, как он якобы снял, но в действительности купил шале в шестидесятом году. Вероятно, вам хочется закрыть дверь, мистер Коллинз. Я затворил дверь, но остался стоять возле нее, ошеломленный. Считая Эллен Тернан, ее мать, Диккенса и меня самого, не более восьми человек на свете знали или хотя бы догадывались о шале в Кондетте и причине частых поездок Диккенса туда. Если бы мой брат Чарльз не состоял в браке с дочерью Диккенса, я сам никогда ничего не узнал бы. Инспектор Филд вновь принялся расхаживать по комнате, держа палец возле уха, словно тот нашептывал ему какие-то сведения. — Сейчас мисс Тернан с матерью постоянно живут в Англии — я имею в виду, со времени Стейплхерстской катастрофы, случившейся в июне. Можно предположить, что в течение четырех дней, недавно проведенных в Булони, мистер Диккенс заканчивал все дела, связанные с шале в Кондетте. Чтобы добраться дотуда, мистеру Диккенсу пришлось проделать — в обратном направлении, разумеется, — тот самый путь, каким он возвращался из Франции, когда произошло железнодорожное крушение. Мы с вами оба знаем, мистер Коллинз, что подобная поездка наверняка стала тяжелым испытанием для нервов вашего друга… ведь нервы у него сильно расстроены после катастрофы. — Да, пожалуй, — сказал я. Какого черта нужно этому типу? — Из Булони, — продолжал неутомимый пожилой господин, — Диккенс отправился в Париж, где провел пару дней. Человек более подозрительный, чем я, мог бы предположить, что поездка в Париж являлась попыткой замести следы, как выражаются иные сыщики. — Инспектор Филд, по-моему, все это не… — Не хотелось бы перебивать вас, сэр, но вам следует знать — чтобы упомянуть при скорой встрече с вашим другом, — что в Париже у мистера Диккенса случилось кровоизлияние в мозг, по всем признакам довольно сильное. — Боже мой, — сказал я. — Кровоизлияние в мозг. Я ничего не знал. Вы уверены? — В таких случаях ничего нельзя утверждать с уверенностью, как вы сами понимаете, сэр. Но в Париже с мистером Диккенсом сделался удар, и он, будучи отнесен в свой номер в гостинице, несколько часов находился в самом плачевном состоянии, не в силах ответить на обращенные к нему вопросы или хотя бы внятно произнести несколько мало-мальски осмысленных слов. Французские врачи настаивали на госпитализации, но мистер Диккенс приписал случившееся «солнечному удару» — так он выразился, сэр, — и просто отлежался один день в парижской гостинице, а потом еще два дня в Булони, прежде чем вернуться в Англию. Я вернулся к столу и повалился в кресло. — Чего вы от меня хотите, инспектор Филд? Он наивно округлил глаза. — Я ведь уже сказал вам, чего я не только хочу, но и требую, мистер Коллинз. Всех сведений о субъекте по имени Друд, известных вам и Чарльзу Диккенсу. Я устало потряс головой. — Вы пришли не по адресу, инспектор. Чтобы узнать что-нибудь новое об этом вашем Друде, вам придется снова поехать к Диккенсу. Мне неизвестно о нем ровным счетом ничего. Филд медленно покивал. — Я непременно поговорю с мистером Диккенсом еще раз, мистер Коллинз. Но я пришел по адресу. Я жду от вас серьезной помощи в моем расследовании, касающемся Друда. Я рассчитываю, что вы и добудете у Чарльза Диккенса все необходимые мне сведения. Я рассмеялся не без горечи и снова потряс головой. — С какой стати мне обманывать доверие моего друга, выведывая у него информацию для вас, инспектор — но только по почетному именованию — Чарльз Фредерик Филд? Он усмехнулся в ответ на плохо завуалированное оскорбление. — Ваша служанка, открывшая мне дверь и проводившая меня к вам, мистер Коллинз… Она весьма привлекательная женщина, несмотря на возраст. Вероятно, тоже актриса в прошлом? Продолжая улыбаться, я покачал головой. — Насколько мне известно, инспектор, миссис Г*** никогда не выступала на сцене. А если и выступала, меня это нисколько не касается, сэр. Как не касается вас. Филд кивнул и вновь принялся расхаживать по кабинету, выпуская клубы табачного дыма и задумчиво трогая указательным палцем крючковатый нос. — Совершенно верно, сэр. Совершенно верно. Но мы можем предположить тем не менее, что она является той самой миссис Кэролайн Г***, имя которой впервые появилось в ваших банковских счетах двадцать третьего августа шестьдесят четвертого года — чуть более года назад, сэр, — и которой вы с тех пор выплачиваете через свой банк двадцать фунтов ежемесячно. Мне все это страшно надоело. Если этот ничтожный человечек пытается шантажировать меня, он определенно не на того напал. — Ну и что, инспектор? Наниматели всегда платят своим работникам. — Истинная правда, сэр. Есть такое дело. А кроме миссис Кэролайн Г*** ежемесячные выплаты через ваш банк получает также ее дочь… кажется, девочку зовут Хэрриет, как и вашу матушку, поистине приятное совпадение… Хотя в случае с юной Хэрриет — насколько мне известно, вы называете ее просто Кэрри и ей совсем недавно стукнуло четырнадцать, — так вот, сэр, в случае с юной Хэрриет деньги идут на оплату домашнего обучения и уроков музыки. — К чему вы клоните, инспектор? — К тому лишь, что миссис Кэролайн Г*** и ее дочь Хэрриет Г*** вот уже несколько лет числятся в городских переписных листах и налоговых ведомостях как ваши квартирантки и одновременно ваши служанки. Я промолчал. Инспектор Филд остановился и посмотрел на меня. — Я хочу сказать, мистер Коллинз, что немного найдется таких великодушных работодателей, которые сперва нанимают в услужение своих бывших квартиранток, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, а потом оплачивают домашнее обучение юной служанки, не говоря уже о дорогостоящих уроках музыки. Я устало потряс головой. — Можете оставить свои жалкие попытки шантажа, недостойные джентльмена, мистер Филд. Всем моим друзьям известны устройство моей личной жизни и мое стойкое отвращение к институту брака, а равно к пошлому жизненному укладу и нравственным нормам среднего класса. Миссис Г*** и ее дочь на протяжении многих лет проживают в моем доме, и мои друзья ничего не имеют против такого положения вещей. Кэролайн уже давно выполняет роль хозяйки дома, помогая мне принимать и развлекать гостей. Здесь нет никакого обмана, и мне совершенно нечего скрывать. Филд кивнул. — Ваши друзья мужского пола — некоторые из них действительно относятся к такому положению вещей вполне спокойно. Однако вы не станете отрицать, что они никогда не приходят к вам на обеды со своими женами. И хотя здесь нет никакого обмана — если, конечно, не считать ваших письменных показаний, где вы сообщили переписчикам населения, что миссис Г*** является вашей служанкой, как и некая Хэрриет Монтегю шестнадцати лет от роду, хотя Хэрриет Г***, дочери миссис Г***, тогда едва стукнуло десять, и прочих данных под присягой заявлений относительно двух упомянутых достойных дам, — так вот, хотя здесь нет никакого обмана, представляется совершенно очевидным, почему вот уже несколько лет мистер Диккенс применительно к маленькой Хэрриет употребляет слово «дворецкий», а мать девочки именует не иначе как «домовладельцем». Я ошеломленно уставился на него. Откуда он может знать о шутливых прозвищах, придуманных Диккенсом, если только люди, работающие на отставного инспектора, не проверяют мою частную переписку? — Хэрриет не моя дочь, инспектор, — процедил я сквозь зубы. — О нет, разумеется, нет, мистер Коллинз. — Пожилой господин улыбнулся и помахал пальцем. — Я не имел в виду ничего подобного. Даже самый бездарный сыщик в два счета выяснил бы, что некая Кэролайн Комптон, дочь плотника Джона Комптона и его жены Сары, в пятидесятом году вышла замуж за некоего Джорджа Роберта Г***, служащего счетоводной конторы в Клеркенуэлле. Бракосочетание состоялось тридцатого марта, если мне не изменяет память. Тогда молодой Кэролайн было двадцать лет, а Джорджу Роберту Г*** всего годом больше. Их дочь Элизабет Хэрриет — которую вы, сэр, предпочитаете называть Хэрриет, вероятно, в честь своей матушки, или Кэрри, по причинам, известным только вам одному, — родилась в Сомерсете, на окраине Бата, третьего февраля пятьдесят первого года. К великому прискорбию, ее отец, Джордж Г***, в следующем году заболел чахоткой и умер, оставив после себя молодую вдову с годовалой Дочкой на руках. В следующий раз бедная миссис Г*** попала в поле зрения властей спустя несколько лет, когда она держала старьевщицкую лавку на Чарльтон-стрит — близ Фицрой-Сквер, как вам наверняка известно, сэр, — и у нее возникли трудности с выплатой долгов. Скорее всего, история закончилась бы печально — дело могло бы дойти даже до долговой тюрьмы, мистер Коллинз, — если бы не вмешательство некоего джентльмена, произошедшее, кажется, в мае пятьдесят шестого года. — Инспектор Филд, — резко произнес я, снова поднимаясь на ноги, — наш разговор закончен. — Я двинулся к двери кабинета. — Не совсем еще, сэр, — мягко промолвил он. Я подступил к нему со сжатыми кулаками и проговорил дрожащим от ярости голосом: — Послушайте, сэр, я вас не боюсь! Мне нет до вас никакого дела. Ваши жалкие и низкие попытки шантажом вынудить меня обмануть доверие одного из ближайших моих друзей не принесут вам ничего, помимо презрения и осуждения, которых вы, несомненно, заслуживаете. Я свободный человек, сэр. Мне нечего скрывать! Филд кивнул. Толстым указательным пальцем, уже вызывавшим у меня крайнее раздражение, он легонько постукивал по нижней губе. — Уверен, так оно и есть, мистер Коллинз. Честным людям, как правило, нечего скрывать от окружающих. Я открыл дверь. Моя рука, лежавшая на медной дверной ручке, заметно дрожала. — Прежде чем я удалюсь, сделайте милость, удовлетворите мое праздное любопытство, сэр, — спокойно произнес Филд, взяв свой цилиндр и двинувшись ко мне. — Скажите, пожалуйста, известна ли вам некая молодая особа по имени Марта Р***? — Что? — с трудом выдавил я. — Мисс Марта Р***, — повторил он. Я затворил дверь столь поспешно, что та громко хлопнула. Нигде в коридоре я не приметил Кэролайн, но она часто пряталась в пределах слышимости от моего кабинета. Я открыл рот, но не нашел подходящих слов. Мое замешательство нисколько не огорчило инспектора Чарльза Фредерика Филда. — Впрочем, с какой стати вам водить знакомство с мисс Р***? — вкрадчиво проговорил он. — Она бедная служанка, работающая по найму в частных домах и гостиницах, по словам ее бедных родителей, — а они действительно бедные в прямом и переносном смысле. Оба они — люди безграмотные. И оба родом из Уинтертона, сэр. Предки отца мисс Р*** на протяжении века-полутора служили на судах ярмутской рыболовецкой флотилии, но сам отец перебивался случайной работой в Уинтертоне, а Марта, покинувшая родной дом два года назад, подряжалась служанкой в местных гостиницах. Я ошарашенно смотрел на Филда, борясь с тошнотой. — Вы бывали в Уинтертоне, сэр? — спросил жалкий человечек. — Нет, — промямлил я. — Не припомню. — Однако всего год назад вы довольно долго отдыхали в окрестностях Ярмута — разве не так, мистер Коллинз? — Не отдыхал, — сказал я. — А что вы там делали, сэр? Я не вполне вас понял. Верно, у вас першит в горле от табачного дыма? — То был не отдых как таковой. — Я прошагал обратно к столу, но не сел в кресло. Опершись всеми десятью трясущимися пальцами озаляпанную чернилами столешницу, я подался вперед и добавил: — Я там собирал материал. — Собирали материал, сэр? О… для одного из ваших романов. — Да, — проговорил я. — По ходу работы над последним моим романом, «Армадейл», мне потребовалось составить ясное представление о тамошних бухтах, заливах, пейзажах и всем таком прочем. — Ах да… разумеется. — Жалкий человечек постучал указательным пальцем себя по груди, потом наставил его на меня. — Я читал отдельные главы из этого вашего «Армадейла» — в настоящее время роман издается выпусками в журнале «Корнхилл», если я не ошибаюсь. Там упоминается одна выдуманная Деревушка под названием Хорли-Миер, созвучным с названием вполне реальной деревни Хорси-Миер, до которой можно добраться морем из Ярмута или по суше из Уинтертона, коли ехать оттуда по ведущей на север дороге, — не правда ли, сэр? После продолжительной паузы я сказал: — Я люблю путешествовать морем, инспектор. По правде говоря, тогда я действительно отчасти отдыхал. Я отправился из Ярмута на север в сопровождении двух близких друзей моего брата Чарльза… они тоже любят путешествовать морем. — Ясно. — Инспектор кивнул, не сводя с меня влажных непроницаемых глаз. — Говорить правду всегда выгодно, так я считаю. Человек, с самого начала говорящий всю правду, избавляет себя от многих проблем. А упомянутые вами друзья — это часом не мистер Эдвард Пиггот и мистер Чарльз Уорд, сэр? Я уже не находил в себе сил удивляться. Этот господин с влажными глазами и неутомимым указательным пальцем казался более всеведущим, чем любой повествователь в любом произведении, написанном мной, Диккенсом, Чосером, Шекспиром или любым другим смертным. И более зловредным, чем любой негодяй (включая Яго), созданный пером любого из нас. Я продолжал опираться о стол побелевшими от напряжения пальцами и продолжал слушать. — Мисс Марте Р*** прошлым летом исполнилось восемнадцать, мистер Коллинз. Ее родители полагают, что прошлым летом, в июле, она познакомилась с неким мужчиной — то ли в «Фишерменз ритерн» в самом Уинтертоне, то ли в ярмутской гостинице, где тогда работала служанкой. Филд умолк. Он легонько постучал указательным пальцем по потухшей сигаре в медной пепельнице, словно от одного прикосновения пальца окурок мог снова загореться. Я почти удивился, что этого не произошло. Я перевел дыхание. — Вы хотите сказать, что эта… эта мисс Р***… пропала без вести, инспектор? Или убита? Объявлена мертвой своими родственниками и властями Уинтертона или Ярмута? Пожилой господин рассмеялся. — Да упаси боже, сэр, ни в коем случае! Ничего подобного. Марта регулярно появлялась в Уинтертоне с тех пор, как рассказала родителям о своем знакомстве со «славным джентльменом», состоявшемся прошлым летом. Но в известном смысле она действительно пропала, сэр. — О? — Да. Минувшим летом, в июне, когда «славный джентльмен» в очередной раз ненадолго наведался в Ярмут — вероятно, по делам, связанным с работой, — Марта Р*** исчезла из Уинтертона и Ярмута, но, если верить неофициальным источникам, объявилась в Лондоне. — Неужели? — сказал я. Памятной июльской ночью я так и не выстрелил из огромного двуствольного револьвера, врученного мне сыщиком Хэчери. Поставив курок на предохранитель, я затолкал увесистую штуковину в карман, а когда мы, проделав обратный путь по канализационным тоннелям и катакомбам, поднялись наверх и, к великому нашему облегчению, обнаружили, что Хэчери ждет нас у склепа, хотя солнце давно взошло, я отдал оружие здоровенному сыщику. Сейчас я пожалел, что не оставил револьверу себя. — Именно так, — промолвил Филд. — По слухам, девятнадцатилетняя служанка из Уинтертона в настоящее время проживает в наемных комнатах на Болсовер-стрит — пожилая домовладелица обретается по тому же адресу, но мне сказали, что жильцы пользуются отдельным входом. Если я не ошибаюсь, Болсовер-стрит расположена неподалеку от Мелкомб-плейс, где мы в данный момент находимся. — Вы не ошибаетесь. — Если бы голоса имели цвета, мой можно было бы назвать совершенно бесцветным. — Полагаю, я не ошибусь, если скажу, что миссис Кэролайн Г***, с которой вы уже свыше двенадцати лет состоите в отношениях, близких к супружеским, хотя и не благословленных обществом и Богом, а равно ее дочь мисс Хэрриет Г***, к которой вы относитесь самым достойным и великодушным образом, как к своей родной дочери, знают о существовании мисс Марты Р***, в прошлом работавшей служанкой в ярмутской гостинице, а ныне проживающей в наемных комнатах на Болсовер-стрит, и, уж конечно, знают, какую роль мисс Р*** играет в вашей жизни в настоящее время. — Да, — сказал я. — То есть нет. — И полагаю, мистер Коллинз, я не ошибусь, если скажу, что и вам самому, и двум дамам, проживающим под одной крышей с вами, будет не очень приятно, коли данные сведения станут известны… им или еще кому-либо. — Не ошибетесь. — Прекрасно, прекрасно. — Инспектор Филд взял цилиндр, но не двинулся с места. — Я не люблю ошибаться в своих суждениях, мистер Коллинз. Я кивнул, ощущая внезапную слабость в коленях. — Вы часом не собираетесь навестить мистера Диккенса в ближайшее время, сэр? — поинтересовался сыщик, крутя цилиндр в руках и постукивая по полям своим чертовым указательным пальцем. — И в ходе визита найти возможность поговорить с ним о его предположительной встрече с субъектом по имени Друд, состоявшейся в Подземном городе около двух с половиной месяцев назад? — Собираюсь. — Я бессильно опустился в кресло. — И мы с вами договорились, сэр, что все сведения, полученные вами от мистера Диккенса, будут в срочном порядке переданы мне? Я снова кивнул. — Отлично, сэр. На улице поблизости от вашего дома будет дежурить один паренек, мистер Коллинз. Просто уличный мальчишка, подметальщик по имени Гузберри, но вам не придется разыскивать его, сэр. Он получил приказ сторожить вас здесь. Если вы стукнете тростью или зонтиком по фонарному столбу на углу, малый тотчас подойдет к вам. Днем ли, ночью ли, сэр. Местный констебль согласился не «гонять его», как выражаются полицейские. Передайте с Гузберри любое сообщение для меня, устное или письменное, и я немедленно свяжусь с вами. Вы премного меня обяжете, мистер Коллинз, если добудете полезную информацию. Спросите любого в Лондоне, забывает ли когда-нибудь инспектор Чарльз Фредерик Филд об услугах, ему оказанных, и вам ответят: нет, не забывает. Вы все поняли, сэр? — Да. Когда я поднял глаза, инспектор Филд уже исчез. Я услышал, как Кэролайн закрывает за ним входную дверь, а потом направляется наверх по главной лестнице. После инспектора осталась лишь пелена голубого дыма под потолком моего кабинета.
Глава 8
Гэдсхилл-плейс производил впечатление веселого и безмятежного семейного гнезда, когда я прибыл туда прохладным сентябрьским днем в самом скором времени после визита инспектора Филда. Была суббота, поэтому дети и гости играли во дворе. Мне пришлось признать, что Гэдсхилл представляет собой идеальный образец уютного деревенского дома счастливого семейства. Конечно, Чарльз Диккенс и хотел, чтобы Гэдсхилл представлял собой идеальный образец уютного деревенского дома счастливого семейства. Вернее, Чарльз Диккенс требовал, чтобы все вокруг старательно поддерживали эту иллюзию, эту видимость, и наверняка даже верил (несмотря на отсутствие матери семейства, ныне изгнанной, и несмотря на напряженные внутрисемейные отношения и известные трения с внешним миром), что Гэдсхилл действительно является уютным деревенским домом счастливого семейства: ничего особенного, просто веселая, мирная обитель трудолюбивого писателя, окруженного боготворящими, любящими, понимающими детьми и преданными друзьями. Иногда, признаться, я чувствовал себя просто Кандидом по сравнению с явленным в лице Чарльза Диккенса доктором Панглоссом. Дочь Диккенса Кейт, находившаяся во дворе, поспешила мне навстречу, когда я шагал по дорожке, обливаясь потом и промокая платком лоб и шею. Стоял, как я уже упомянул, прохладный осенний день, но я шел пешком от самой станции, а прогулки на такие расстояния всегда давались мне с трудом. Вдобавок, готовясь к встрече с Диккенсом, я выпил два стакана лауданума гораздо раньше обычного часа, и, хотя лекарство не оказывало никакого неприятного побочного действия, мне чудилось, будто трава, деревья, играющие дети и сама Кейт Макриди Диккенс, источают слабое сияние. — Привет, Уилки! — воскликнула Кейт, пожимая мне руку. — Давненько мы с вами не виделись. — Привет, Кейти. Мой брат тоже приехал в Гэдсхилл на уик-энд? — Нет-нет. Он немного прихворнул и решил остаться на Кларенс-террас. Я вернусь в город сегодня вечером. Я кивнул. — А Неподражаемый? — Он в своем шале, завершает работу над очередной рождественской повестью. — Я и не знал, что шале уже готово для жилья. — Вполне готово. Обставлено еще в прошлом месяце, и с тех пор отец ежедневно работает там. Он вот-вот должен закончить на сегодня, чтобы успеть совершить свою традиционную прогулку. Уверена, он не станет возражать, коли вы отвлечете его от дела. В конце концов, нынче суббота. Вас провести по тоннелю? — Это было бы чудесно, — сказал я. Мы неторопливо двинулись через лужайку к дороге. Упомянутое шале Диккенс получил в подарок на прошлое Рождество от актера Чарльза Фехтера. По словам моего брата, который в числе прочих приглашенных гостил в Гэдсхилле с сочельника 1864 года по 5 января, это было не самое веселое Рождество в его жизни — не в последнюю очередь потому, что Чарльз Диккенс забрал себе в голову, будто мой брат Чарльз находится при смерти, а не просто недомогает из-за частых расстройств пищеварения. Скорее всего, разумеется, речь шла не столько о добросовестном диагнозе, сколько о тайном желании Диккенса: бракосочетание Кейти с Чарльзом, состоявшееся прошлым летом, повергло писателя не только в горе, а и в натуральную ярость. Диккенс посчитал, что нетерпимая дочь бросила его в трудный момент жизни, — собственно говоря, так оно и было. Даже мой брат понимал, что Кейт вышла за него не по любви. Она просто хотела сбежать из отцовского дома после двух лет горьких переживаний, вызванных отлучением матери от семьи. Кейт — Кейти, как многие называли ее, — не отличалась красотой, но она единственная из всех детей Диккенса унаследовала от отца живой, острый ум, чувство юмора (в ее случае более язвительное), нетерпимость к окружающим, манеру разговора и даже многие театральные повадки. Она сама предложила себя в жены моему брату, но сразу дала понять, что видит в супружестве не любовный союз, а возможность спокойно жить отдельно от отца. Чарльз согласился. В общем, Рождество 1864 года, когда из-за крепких морозов пришлось безвылазно сидеть в четырех стенах, проходило в Гэдсхилле довольно уныло по сравнению с шумными семейно-гостевыми праздниками, устраивавшимися в предыдущие годы в Тэвисток-хаусе. Во всяком случае, так обстояло дело до утра Рождества, когда Чарльз Фехтер преподнес в дар Неподражаемому… целое швейцарское шале. Фехтер — странный человек с землистым лицом, почти всегда погруженный в мрачное раздумье и подверженный вспышкам раздражения, направленным на жену и всех подряд (кроме Диккенса), — объявил за завтраком, что таинственные клети и ящики, которые он привез с собой, это «миниатюрное шале» в разобранном виде — хотя на поверку оно оказалось не таким уж миниатюрным. Вполне приличных размеров шале, достаточно большое, чтобы жить в нем при желании. Воодушевленный и возбужденный, Диккенс тотчас же провозгласил, что всем «сильным, здоровым и холостым гостям» (этим он дал понять, что мой брат не подходит не только по причине своего семейного положения) надлежит выбежать на мороз и заняться сборкой замечательного подарка. Однако Диккенсу, Маркусу Стоуну (а он действительно здоровенный малый), Генри Чорли и призванным на помощь слугам, садовникам, местным умельцам, которых всех оторвали от празднования Рождества в семейном кругу, не удалось разобраться со всеми пятьюдесятью восемью ящиками, содержавшими в общей сложности девяносто четыре крупные детали. Работу заканчивал плотник-француз из «Лицеума», позже приглашенный Фехтером. Шале — оказавшееся вопреки ожиданиям Диккенса гораздо больше, чем просто огромный кукольный дом, — теперь стояло на дополнительном земельном участке писателя, расположенном по другую сторону от Рочестерской дороги. Прелестный «пряничный» коттеджик, затененный высокими кедрами, с единственной просторной комнатой на первом этаже и комнатой поменьше на втором — там имелся резной балкончик, и к нему вела наружная лестница. Диккенс был в детском восторге от своего шале и, когда весной земля оттаяла, приказал рабочим прорыть под дорогой пешеходный тоннель, — чтобы спокойно добираться до шале от дома, не привлекая ничьего внимания и не рискуя попасть под какой-нибудь потерявший управление экипаж. Кейт рассказывала, что Диккенс буквально прыгал от радости, когда землекопы произвели смычку посередине тоннеля, а потом пригласил всех — гостей, детей, рабочих, любопытных соседей и зевак из стоящей через дорогу гостиницы «Фальстаф-Инн» — выпить грога. Когда мы неспешно вошли в прохладный тоннель, Кейт спросила: — Чем вы с отцом тайно занимаетесь по ночам в последнее время, Уилки? Даже Чарльз не знает. — О чем вы, собственно, говорите, Кейти? Она взглянула на меня в полумраке и крепко сжала мою руку. — Вы знаете, о чем я говорю, Уилки. Пожалуйста, не прикидывайтесь. Даже несмотря на напряженную работу над последними главами «Нашего общего друга» и рождественской повестью, даже несмотря на нынешнюю свою паническую боязнь поездов, отец по меньшей мере раз в неделю, а порой и дважды в неделю покидает Гэдсхилл, каковое обыкновение он взял после вашего с ним июньского ночного похода. Это подтверждает Джорджина. Он уезжает в Лондон вечерним медленным поездом и возвращается на следующий день очень, очень поздно, в середине утра. И ни слова не говорит ни Джорджине, ни кому-либо из нас о цели своих ночных вылазок. А теперь еще это путешествие во Францию, где он якобы перенес солнечный удар. Мы все, включая даже Чарльза, предполагаем, что вы познакомили отца с какой-то новой формой разврата в Лондоне, а в Париже он попытался пуститься в разгул самостоятельно, но переоценил свои силы. Кейт говорила шутливым голосом, но в нем слышались нотки подлинного беспокойства. Я похлопал ее по руке и сказал: — Вы же знаете, Кейти, что джентльмены считают долгом чести хранить секреты друг друга, в чем бы они ни заключались. И уж кому-кому, а вам-то прекрасно известно, что писатели — существа загадочные: мы постоянно исследуем жизнь в самых разных ее проявлениях, там ли, сям ли, днем ли, ночью ли. Она посмотрела на меня блестящими в полутьме глазами, явно неудовлетворенная моим ответом. — И вы также знаете еще одно, — продолжал я голосом столь тихим, что он почти поглощался кирпичными потолком и полом тоннеля. — Ваш отец никогда не совершит поступков, позорящих его самого или вашу семью. Вы должны понимать это, Кейти. — Хм… — с сомнением протянула она. Кейт Макриди Диккенс искренне считала, что отец уже навлек позор на себя самого и свою семью, изгнав мать из дома и вступив в связь с Эллен Тернан. — Ну, вот и свет в конце тоннеля, Уилки, — промолвила она, высвобождая руку. — Здесь я вас оставлю: ступайте к свету — и к нему. — Милейший Уилки! Заходите, заходите! Я только сейчас вспоминал вас. Добро пожаловать в мое «орлиное гнездо»! Прошу вас, дорогой друг! Диккенс выскочил из-за маленького письменного стола и сердечно пожал мне руку, когда я остановился в дверях верхней комнаты. По правде говоря, я не знал, обрадуется ли он моему появлению после двухмесячной разлуки и взаимного молчания. Столь теплый прием удивил меня, и я еще острее почувствовал себя предателем и шпионом. — Я как раз вношу правки в последние фразы нынешней рождественской повести, — с энтузиазмом сказал Диккенс. — Вещица под названием «Коробейник» — и уверяю вас, дорогой Уилки, она будет пользоваться огромным успехом у читателей. По моим прогнозам, станет очень популярной. Вероятно, лучшая моя рождественская повесть после «Колоколов». Общий замысел возник у меня во Франции. Я закончу буквально через минуту, а затем буду в полном вашем распоряжении до самого вечера, друг мой. — Да, конечно, — промолвил я, отступая назад. Диккенс же снова уселся за стол и принялся вымарывать отдельные слова широкими росчерками пера и вписывать правки между строчками и на полях рукописи. Он вдруг представился мне энергичным дирижером, управляющим внимательным и послушным оркестром слов. Я почти слышал музыку, наблюдая за его пером, которое взлетало, стремительно опускалось, окуналось в чернильницу, со скрипом пробегалось по бумаге, снова взлетало и опускалось. Должен признать, вид из «орлиного гнезда» Диккенса открывался поистине восхитительный. Шале стояло между двумя высокими тенистыми кедрами, что сейчас легко покачивались на ветру, и за многочисленными окнами простирались золотые пшеничные поля, темные леса и снова поля. Далеко вдали даже поблескивала Темза и угадывались белые паруса проплывающих по ней судов. С крыши особняка через дорогу можно было запросто разглядеть Лондон на горизонте, но из окон шале открывался чудесный буколический пейзаж: далекая река, шпиль Рочестерского собора и широкие поля спелой пшеницы, волнующиеся под легким ветерком. Движение на Рочестер-роуд сегодня было слабым. Диккенс оснастил свое «орлиное гнездо» новехоньким медным телескопом на деревянной треноге, и я хорошо представлял, как он, приникнув к окуляру, по ночам любуется луной, а при свете дня рассматривает дам, катающихся на яхтах по Темзе в теплую погоду. В простенках между окнами висели большие зеркала. Я насчитал пять штук. Диккенс питал слабость к зеркалам. В Тэвисток-хаусе, а теперь и в Гэдсхилл-плейс все спальни, а равно коридоры и вестибюли изобиловали зеркалами, и в рабочем кабинете писателя стояло огромное трюмо. Здесь, в шале, благодаря зеркалам создавалось впечатление, будто ты стоишь на открытой площадке — посреди детского домика без стен, установленного в кроне высокого дерева, — и повсюду вокруг видишь ясное синее небо, солнечный свет, листву, золотые поля и дивные пейзажи. Ветерок, беспрепятственно пролетавший сквозь открытые окна, приносил ароматы цветов, запахи травы, спелой пшеницы, дыма от костра, где жгли листья или сорняки, и даже солоноватый запах моря. Я невольно подумал о том, насколько непохож этот мир Чарльза Диккенса на мир, представший перед нами ночью в опиумном притоне Сэл, а потом в кошмарном Подземном городе. Сейчас та зловещая тьма отступала, рассеивалась, словно дурной сон, которым, собственно, она и была. Явью же были яркий солнечный свет и свежие запахи этого мира — все вокруг сияло и пульсировало, будто преображенное в моем восприятии благотворным действием лауданума. У меня просто в голове не укладывалось, каким образом смрадная тьма катакомб и сточных тоннелей или даже обычных трущоб может сосуществовать с этой благоуханной светлой реальностью. — Ну вот и все! — воскликнул Диккенс. — Я закончил. На сегодня. — Он промокнул последнюю страницу рукописи и положил к остальным в кожаную папку. Потом вышел из-за стола и взял в углу свою любимую трость из тернового дерева. — Я еще не гулял нынче. Составите мне компанию, друг мой? — Да, конечно, — сказал я, на сей раз не столь уверенно. Он окинул меня веселым, насмешливым и одновременно оценивающим взглядом. — Я собирался двинуться вдоль опушки Кобхэмского леса, дойти до Чока и Грейвсенда, а потом вернуться домой. — А… — произнес я; протяженность описанного маршрута составляла двенадцать миль. — А…— повторил я. — Но как же ваши остальные гости? И дети? Разве не в это время дня вы обычно играете с детьми и показываете гостям конюшни? Диккенс озорно улыбнулся. — Что, сегодня в семействе появился еще один инвалид, дорогой Уилки? Я понимал, что он имеет в виду семейство Коллинз. Казалось, он никогда не прекратит долдонить о предполагаемой болезни моего старшего брата. — Легкое недомогание, — грубовато сказал я. — Ревматоидная подагра, которая время от времени донимает меня, как вам известно, дорогой Диккенс. Сегодая она решила обостриться. Меня устроила бы прогулка покороче. Я хотел дать понять, что меня вполне устроила бы неспешная прогулка до гостиницы «Фальстаф-Инн», расположенной по соседству. — Но ведь у вас подагра не в ногах, верно? — В общем — да, — промямлил я, не желая говорить, что подагрические боли терзают все мое существо при обострении недуга, какое начиналось у меня нынче утром. Если бы я не выпил спозаранку двойную дозу лауданума, то сейчас лежал бы пластом в постели. — Обычно больше всего у меня от нее страдают глаза и голова. — Ну хорошо, — вздохнул Диккенс. — Я надеялся найти спутника сегодня — у нас в этот уик-энд гостят Форстеры, а Джон, вы знаете, совсем обленился с тех пор, как унаследовал состояние жены. Но мы с вами совершим совсем короткую прогулку: Дойдем до Чатема и Форт-Питта, пройдем через болото Кулинг-Марш и воротимся домой. Я кивнул, хотя по-прежнему без всякого энтузиазма. Предстояло преодолеть шесть с лишним миль, шагая с обычной для Диккенса скоростью ровно четыре мили в час. В голове у меня зашумело, и все суставы заныли при одной мысли о столь тяжком испытании.Все оказалось не так страшно, как я боялся. День стоял такой погожий, в воздухе веяло такой приятной прохладой, свежие ароматы так бодрили и воодушевляли, что я ни разу не отстал от Диккенса, когда мы прошли по дороге до проселка, по проселку до тропинки, по тропинке до заросшей травой колеи вдоль канала, а потом двинулись через осенние пшеничные поля (стараясь не вытаптывать урожай неизвестного фермера), достигли леса, прошли по тенистой лесной тропе, а затем вернулись к дороге и продолжили путь по обочине. В течение первого получаса молчаливой ходьбы — моей молчаливой ходьбы, поскольку Диккенс добродушно болтал без устали, обсуждая подснеповские[7] черты Форстера, проблемы Гильдии, деловую несостоятельность своего сына Альфреда, незавидное положение своей дочери Мэри на матримониальном рынке, восстание негров на Ямайке, все еще не дававшее ему покоя, явную лень и недалекость самого младшего своего сына Плорна, — я только и делал, что кивал да обдумывал, как бы мне хитростью вытянуть из Неподражаемого информацию, интересующую инспектора Филда. Наконец я отказался от мысли действовать исподволь и сказал: — Вчера ко мне приходил инспектор Филд. — Да, — небрежно бросил Диккенс, постукивая по земле тростью в такт скорым шагам. — Я так и понял. — Вы не удивлены? — Нисколько, дорогой Уилки. Этот гнусный тип приезжал в Гэдсхилл в четверг. Я предположил, что следующей его жертвой станете вы. Он угрожал вам? — Да. — Позвольте поинтересоваться — чем? Меня он пытался шантажировать самым неуклюжим и топорным образом. — Он обещал предать огласке… известные обстоятельства моей личной жизни. Тогда я был уверен лишь в одном: Диккенс не знает — не может знать — о существовании мисс Марты Р***. Инспектор Филд знает, но у него нет никаких резонов ставить в известность Неподражаемого. Диккенс от души рассмеялся. — Грозился рассказать всему свету о Домовладельце и Дворецком, да? Я так и думал, Уилки. Я так и думал. Мистер Филд по-бычьи напорист, но по-бычьи же недалек умом. Плохо же он знает ваш независимый нрав и ваше безразличие к общественному мнению, если воображает, будто подобная угроза заставит вас предать старого друга. Все ваши друзья знают о скелете в вашем шкафу — точнее, о двух очаровательных и остроумных женских скелетах, — и никто из них ничего не имеет против. — Да, — сказал я. — Но почему он так наседает на нас, пытаясь вытянуть сведения о Друде? Можно подумать, будто от них зависит его жизнь. Мы свернули с дороги на тропу, что вилась через болото Кулинг-Марш. — В известном смысле жизнь нашего мистера Филда и вправду зависит от того, сумеет ли он доказать, что мистер Друд действительно существует, и установить его местонахождение, — сказал Диккенс. — Вы наверняка обратили внимание, что я называю нашего шантажиста мистером Филдом, а не инспектором Филдом. — Да, — сказал я; мы шли по особо топкому участку тропы, осторожно переступая с камня на камень. — Филд упомянул, что теперь, когда он занимается частным сыском, звание инспектора является просто почетным именованием. — Которое он сам себе присвоил, к великому неудовольствию сыскного отдела Скотленд-Ярда и Столичной полиции, друг мой. Я держал в поле зрения нашего мистера Филда с тех пор, как — прошу прощения за нескромность — увековечил его в образе инспектора Баккета в «Холодном доме», а еще раньше в восторженном очерке «С инспектором Филдом при отправлении службы», напечатанном в «Домашнем чтении» в пятьдесят первом году. Вскоре после этого он ушел в отставку… в пятьдесят третьем, кажется. — Но тогда вы им восхищались, — заметил я. — Во всяком случае, в достаточной степени, чтобы взять его за прототип весьма симпатичного персонажа. Диккенс снова рассмеялся. Мы уже перебрались через болото и теперь двинулись обходной тропой обратно, в сторону далекого Гэдсхилла. — О, я восхищаюсь многими людьми, способными послужить прототипами интересных персонажей, и вы здесь не исключение, милейший Уилки. Иначе разве стал бы я столько лет терпеть подснеповские манеры Форстера? Но наш дорогой мистер Филд с младых лет привык действовать наглым нахрапом, а такие люди частенько зарываются и получают по заслугам. — Вы хотите сказать, что он в немилости у Скотленд-Ярда и Столичной полиции? — спросил я. — Именно так, Уилки. Вы случайно не следили за известным делом об отравлении Палмера, наделавшим много шума лет эдак… ох, уже целых десять лет назад. Как же все-таки быстро летит время! Так вы следили за делом Палмера по газетам или по разговорам в клубе? — Нет. — Неважно, — промолвил Диккенс. — Достаточно сказать, что наш отставной инспектор Филд участвовал в расследовании этого громкого убийства, пользовался огромной популярностью у газетчиков и неизменно представлялся инспектором Филдом. Честно говоря, Уилки, мне кажется, наш толстопалый друг всячески старался создать у всех впечатление, что он по-прежнему состоит на службе в Столичной полиции. А настоящим сыщикам и инспекторам это не нравилось. Нисколечко не нравилось. Поэтому ему перестали выплачивать пенсию. Я резко остановился. — Пенсия? — воскликнул я. — Так дело всего-навсего в пенсии? Этот тип допрашивает вас, пытается шантажировать меня — и все из-за какой-то… паршивой… пенсии? Диккенс явно не хотел сбиваться с темпа ходьбы, но все же остановился, пару раз рубанул тростью по придорожному бурьяну и широко улыбнулся. — Ну да, из-за пенсии. Наш псевдоинспектор держит частное сыскное бюро и таким образом зарабатывает на жизнь — я заплатил, прямо скажем, кругленькую сумму за услуги, оказанные нам ночью верзилой Хэчери. Но, если вы помните, Уилки, я говорил вам однажды, насколько… полагаю, слово «алчный» в данном случае вполне уместно… насколько алчным всегда был и до скончания дней останется бывший полицейский по имени Филд. Он не может смириться с утратой пенсии. Думаю, он пойдет даже на убийство — только бы ее вернуть. Я растерянно моргнул. — Но почему именно Друд? — наконец спросил я. — Чего Филд добьется, если разыщет этого фантома? — Возможно, восстановления пенсии, — сказал Диккенс, трогаясь с места. — По крайней мере, он так считает. В настоящее время министр внутренних дел сэр Джордж Грей пересматривает дело о приостановке пенсионных выплат Филду — после многочисленных ходатайств нанятого Филдом адвоката, чьи услуги обошлись недешево, уверяю вас! И я нисколько не сомневаюсь, что мистер Филд в плену своих старческих заблуждений… Я не стал перебивать и указывать, что Чарльз Фредерик Филд всего на семь лет старше самого Диккенса. — …вообразил некий фантастический вариант развития событий, где он выслеживает и арестовывает короля преступного мира — неуловимого Друда, ускользнувшего от старшего инспектора Филда двадцать лет назад, — после чего министр внутренних дел, сыскной отдел Скотленд-Ярда, а равно все прежние Друзья и новые люди, служащие в Столичной полиции, не только прощают его и восстанавливают в пенсионных правах, но также увенчивают лавровым венком и несут к вокзалу Ватерлоо на своих могучих плечах. — А он действительно король преступного мира? — тихо спросил я. — Филд вчера сказал, что за минувшие годы Друд убил свыше трехсот человек… Диккенс бросил на меня быстрый взгляд. Я заметил, что складки и морщины на его лице за лето стали глубже. — По-вашему, это достоверная цифра, дорогой Уилки? — Ну… не знаю, — сказал я. — Признаюсь, она кажется абсурдной. Я никогда не слышал о трехстах нераскрытых убийствах, совершенных в Уайтчепеле или в любом другом районе. Но в июле мы с вами совершили экскурсию по жутким местам, Диккенс. Просто жутким. К слову, вы так и не рассказали мне, что с вами случилось после того, как вы уплыли на дурацкой лодке. — Да, действительно, — кивнул он. — Той ночью я обещал вам рассказать все в самом скором времени. А уже прошло два месяца. Прошу прощения за столь долгое промедление. — Да черт с ним, с промедлением, — сказал я. — Но мне хотелось бы узнать о событиях той ночи. Хотелось бы узнать, что вам удалось выяснить про Друда, в поисках которого мы предприняли ночную вылазку. Диккенс снова взглянул на меня. — И вас не беспокоит, что наш общий друг Филд шантажом вытянет из вас эту информацию? Я стал как вкопанный. — Диккенс! На сей раз он не остановился, но продолжал идти дальше, крутя в воздухе тростью и с улыбкой оглядываясь на меня. — Я шучу, дорогой Уилки, шучу. Пойдемте же… не стойте на месте, не будем сбиваться с шага под конец пути. Давайте догоняйте меня и, прошу вас, умерьте свое яростное сопение до обычного пыхтения кузнечных мехов — тогда я поведаю вам обо всем, что со мной приключилось в Подземном городе после того, как я оставил вас на кирпичном причале в канализационном тоннеле под катакомбами.
Глава 9
— Оставив вас на причале, — начал Диккенс, — я принялся рассматривать несуразную лодчонку. Она напоминала убогое суденышко Хексама Гафера, промышляющего поиском трупов и всяких разных предметов в Темзе, но в данном случае какой-то умалишенный плотник решил превратить свое творение в жалкое подобие венецианской гондолы. Чем дольше я рассматривал двух своих безмолвных провожатых — рулевого на корме и гребца на носу, — тем меньше они мне нравились, Уилки. Позолоченные карнавальные полумаски прикрывали у них только глаза, и потому я с легкостью распознал в обоих особей мужского пола, хотя мужского лишь по названию. Помните непристойных гермафродитов, в виде которых изображаются ангелы на фресках в католических соборах на Континенте? Так вот, мои спутники обладали еще ярче выраженными гермафродитными чертами, и надетые на них нелепые средневековые рейтузы и туники лишь подчеркивали их женоподобность. Я решил мысленно называть кастрата на носу Венерой, а евнуха на корме Меркурием. Мы проплыли по широкому потоку сточных вод ярдов сто или больше. Я оглянулся, но, сдается мне, вы так ни разу и не посмотрели в мою сторону, пока наша гондола не повернула, следуя изгибу тоннеля, и мы с вами не скрылись друг у друга из виду. Маленькие фонари, висевшие на железных штырях на носу и корме, слабо рассеивали мрак. Лучше всего я различал влажные кирпичные своды над нами, поблескивающие в свете фонарей. Полагаю, мне нет нужды напоминать вам, Уилки, какое жуткое зловоние стояло в том первом тоннеле. Я сомневался, что у меня хватит сил долго сдерживать рвотные позывы. Но к счастью, через несколько сотен ярдов пути по смрадному Стиксу рулевой в полумаске направил нашу гондолу в боковой тоннель — столь узкий, что его следует назвать скорее сточной трубой. Венере и Меркурию (да и мне тоже) пришлось низко пригибать голову, когда они продвигали наше суденышко вперед, отталкиваясь облаченными в перчатки руками от низкого кирпичного потолка и стен, сходившихся все теснее. Потом мы выплыли в широкий поток — и я употребляю слово «поток» намеренно, Уилки, поскольку этот канализационный тоннель напоминал больше забранную под высокие кирпичные своды подземную реку шириной с любой наземный приток Темзы. Вы знаете, что в Лондоне многие реки частично или полностью отведены под землю — например Флит? Разумеется, знаете. Просто о них как-то не думаешь. Мои андрогинные провожатые долго вели лодку вниз по течению, и дальше — должен предупредить вас, друг мой, — повествование становится фантастическим. Наш первый провожатый, сыщик Хэчери, а равно китайский опиумный призрак Король Лазарь называли сокрытый под Лондоном мир Подземным городом, но теперь я увидел, что замысловатый лабиринт, состоящий из простых и двухъярусных подвалов, сточных труб, пещер, боковых ходов, заброшенных штолен, прорытых задолго до основания здесь первого поселения, забытых катакомб и недостроенных тоннелей, является в буквальном смысле городом — эдакий жуткий Лондон под Лондоном. Настоящий Подземный город. Мы медленно плыли потечению, и, когда мои глаза привыкли к темноте, что сгущалась по сторонам широкого потока, я вдруг стал различать во мраке людей. Именно так, дорогой Уилки, — людей. Не беспризорных мальчишек, которые, как я теперь понял, походили скорее на одичалых псов или свирепых волков, некогда рыскавших в окрестностях какой-нибудь средневековой деревни, а самых обычных людей. Мужчин и женщин. Детей. Целые семьи у костров. А также грубо сколоченные хибары, подстилки, тюфяки, даже печки, старые колченогие стулья и продавленные кресла в выбитых в кирпичных стенах нишах, боковых пещерах и на широких, покрытых илистой грязью берегах. Там и сям из вязкой, скользкой жижи вырывались языки голубого пламени, напоминающие трепетные огоньки свечей на рождественском пудинге, Уилки, и иные из жалких оборванцев в поисках света и тепла теснились вокруг таких вот костерков, горевших в местах газовых выбросов. Потом, когда мне уже стало казаться, что Венера и Меркурий будут вести нашу гондолу по темным водным «улицам» вечно, тоннель резко расширился, и мы приблизились к настоящей пристани — вырубленным в скальной стене широким ступеням, ярко освещенным факелами. Меркурий пришвартовал гондолу, а Венера помог мне выйти из шаткого суденышка. Оба они, недвижные и безмолвные, оставались в лодке, пока я поднимался по ступеням к медной двери. По сторонам лестницы стояли большие египетские статуи, вытесанные из камня, а над дверью размещался темный бронзовый барельеф, похожий на выставленные в Британском музее древние барельефы, среди которых чувствуешь себя весьма неуютно зимним вечером незадолго до часа закрытия. На нем изображались мужчины с головой шакала или птицы, держащие в руке посохи, скипетры и крюки. Каменную перемычку над широким дверным проемом сплошь покрывали рисуночные письмена — иероглифы, — какие можно увидеть на иллюстрациях обелисков в книгах о Египетском походе Наполеона. Они напоминали неумелые детские рисунки, все эти вырезанные на камне волнистые линии, глаза, птицы… множество разных птиц. Два безмолвных, но вполне живых чернокожих великана — при виде их на ум мне пришло слово «нубийцы» — стояли у массивной двери и распахнули передо мной створы, когда я приблизился. Они были в черных балахонах без рукавов и с открытой грудью, оба держали в руках диковинные посохи с крюком — похоже, железные. Ведущая от подземной реки широкая лестница, статуи и барельефы, стражи у медной двери выглядели столь внушительно, что я приготовился вступить в некий величественный храм — однако, хотя освещенные фонарями гулкие помещения действительно смутно напоминали языческое святилище, у меня возникло впечатление, будто я очутился скорее в библиотеке, нежели в храме. На полках, что тянулись рядами вдоль стен первого зала и боковых комнат, лежали пергаментные свитки, глиняные таблицы и вполне современные книги. Я мельком заметил на корешках названия научных трудов и справочников, какие можно найти в любой хорошей библиотеке. В каждом помещении стояли несколько столов, освещенных факелами или свисающими с потолка жаровнями, и одна-другая низкая кушетка вроде тех, что встречались в богатых домах древних римлян, греков и египтян, если верить историкам. В комнатах сидели или расхаживали вдоль полок люди, в большинстве своем похожие на ласкаров, мадьяров, индусов и китайцев. Но никаких погруженных в опиумный сон старцев там не было — никаких лежачих мест, никаких опиумных трубок и ни слабейшего запаха проклятого наркотика. Я обратил внимание, что почти у всех мужчин невесть почему обриты головы. Друд ждал меня во втором зале, Уилки. Он сидел под шипящим фонарем за маленьким столом, заваленным книгами и свитками, и пил чай из веджвудской чашки. Одетый в желтовато-коричневый балахон, сейчас он нисколько не походил на гробовщика в дурно скроенном костюме — выглядел гораздо внушительнее, — но при свете фонаря все изъяны внешности выделялись еще резче: почти лысый череп со шрамом, безвекие глаза, уродливый нос, словно укороченный ножом хирурга, слегка раздвоенная верхняя губа и бесформенные обрубки вместо ушей. Он встал и протянул мне руку. — Добро пожаловать, мистер Диккенс-с-с, — проговорил он с характерным присвистом и пришепетыванием, которые я столь безуспешно пытался воспроизвести для вас. — Я ждал вас-с-с. — Откуда вы знали, что я приду, мистер Друд? — спросил я, пожимая холодную белую руку и стараясь не поморщиться от отвращения. Он улыбнулся, Уилки, и я снова увидел мелкие, редкие, очень острые зубы и мелькающий за ними розовый язык, поразительно проворный. — Вы человек весьма любопытный, мистер Диккенс-с-с, — сказал Друд. — Это видно по вашим замечательным романам и повес-с-с-тям. Все ваши с-с-сочинения вызывают у меня подлинное вос-с-схищение. — Благодарю вас, вы очень любезны, — ответствовал я. Можете представить, дорогой Уилки, как чудно я чувствовал себя, сидя в храмоподобной библиотеке Подземного города со странным субъектом, ставшим постоянным персонажем моих снов со дня Стейплхерстской катастрофы, и слушая, как он хвалит мои книги, словно я только что закончил публичные чтения в Манчестере. Прежде чем я успел придумать, что еще сказать, Друд налил мне чаю в изящную фарфоровую чашку и промолвил: — Уверен, у вас-с-с ес-с-сть вопрос-с-сы ко мне. — Конечно, мистер Друд. И я надеюсь, вы не сочтете их дерзкими или чересчур личными. Не стану скрывать, мне не терпится узнать, кто вы такой и откуда родом, что привело вас сюда… в Подземный город, почему вы оказались на фолкстонском поезде, в общем — всё. — В таком случае я рас-с-скажу вам все, мистер Диккенс-с-с, — ответил мой диковинный собеседник. Следующие полчаса я пил чай и слушал его повествование, друг мой. Вы хотели бы узнать биографию Друда прямо сейчас — или отложим это на другой день?Я огляделся по сторонам. Мы находились примерно в миле от Гэдсхилл-плейс. Я осознал, что слегка задыхаюсь от быстрой ходьбы, но головная боль улетучилась, пока я завороженно внимал невероятному рассказу. — Зачем откладывать, Диккенс? Давайте уж дослушаем историю до конца. — До конца еще далеко, дорогой Уилки, — сказал Диккенс, постукивая тростью по земле на каждом втором шаге. — Если честно, история только начинается. Но я расскажу вам все, что поведал мне Друд той ночью, — правда, в сжатой форме, поскольку конечный пункт нашего маршрута уже показался впереди.
— Человек, известный нам под именем Друда, является сыном англичанина и египтянки. Отец, некий Джон Фредерик Форсайт, родился в прошлом веке, окончил Кембриджский университет и выучился на инженера-строителя, хотя подлинной его страстью всегда были географические исследования, приключения и литература. Это правда, Уилки, я проверял. Сам Форсайт писал и художественную прозу, и научные труды, но в настоящее время он памятен своими очерками о путешествиях. Инженерное образование Форсайт получал во Франции — по окончании Наполеоновских войн, разумеется, когда англичане смогли беспрепятственно вернуться туда, — и там он свел знакомство с различными учеными, участвовавшими в египетской экспедиции Наполеона. Их рассказы возбудили в нем страстное желание посетить Египет и своими глазами увидеть всю тамошнюю экзотику — сфинкса, подвергшегося обстрелу французской артиллерии и в результате лишившегося носа, фараоновы пирамиды, местных жителей, древние города — и да, женщин. Форсайт был Молод и холост, и рассказы французов о закутанных в чадру обольстительных магометанках с подведенными сурьмой глазами воспламенили в нем мечту о чем-то большем, нежели просто путешествие в далекую страну. Через год Форсайт завербовался в Египет в составе английской строительной фирмы, заключившей подрядный контракт с французской компанией, которая принадлежала одному парижскому знакомому Чарльза Фредерика Форсайта и работала на молодого правителя Египта, Мехмета Али. Именно Али первым попытался внедрить в Египте европейские технические достижения и новшества. Как профессионал, Форсайт был потрясен инженерным гением древних египтян, явленным в пирамидах, руинах колоссальных сооружений и оросительных сетях по берегам Нила. Как искатель приключений, молодой человек остался в восторге от Каира и прочих египетских городов, а равно от экспедиций к удаленным руинам и местам археологических раскопок выше по течению Нила. Как мужчина, Форсайт удостоверился, что французы нисколько не грешили против истины, рассказывая об обольстительности египтянок. В первый же год своего пребывания в Каире Форсайт познакомился с молодой египетской вдовой, впоследствии ставшей матерью Друда. Она жила поблизости от квартала, где в массе своей обретались европейские инженеры и прочие иностранные подрядчики, говорила по-английски, происходила из знатного и старинного александрийского рода (ее покойный муж занимался торговлей в Каире) и посещала званые обеды и вечеринки,устраивавшиеся английской строительной фирмой. Звали эту женщину Амиси, что в переводе означает «цветок», и многие англичане, французы и египтяне говорили Форсайту, что своей неброской красотой она в полной мере заслуживает такое имя. Несмотря на существовавшее среди мусульман предубеждение против европейцев и христиан, ухаживание за молодой вдовой оказалось делом нехитрым — несколько раз Амиси «случайно» показала Форсайту свое лицо близ купальни, где собирались местные женщины, каковой жест традиционно означал молчаливое согласие на помолвку, — и вскоре они поженились по мусульманскому закону без всяких затейливых церемоний. Собственно говоря, для скрепления брачных уз потребовалась одна-единственная фраза, тихо произнесенная будущей матерью Друда. Мальчик, ныне известный нам под именем Друд, появился на свет через десять месяцев. Отец нарек новорожденного сына Джаспером, каковое имя ничего не говорило матери, соседям, а впоследствии и сверстникам бедного малого, взявшим за обыкновение избивать полукровку, точно наемного мула. Почти четыре года Форсайт воспитывал из ребенка будущего английского джентльмена, требовал, чтобы все в доме разговаривали исключительно по-английски, занимался с сыном в свободное время и заявлял, что тот получит образование в лучших учебных заведениях Англии. Амиси не имела права голоса в данном вопросе. Но — к счастью для юного Джаспера Джона Форсайта-Друда — большую часть времени отец отсутствовал дома, работая на разных строительствах вдали от Каира, жены и сына. На улицу юный Джаспер Джон Форсайт выходил всегда в дрянной одежонке — Амиси понимала, насколько важно, чтобы все соседи, стар и млад, не имели представления о материальном благополучии маленького Джаспера. Товарищи по играм и даже взрослые египтяне запросто могли бы убить светлокожего мальчонку, когда бы узнали об огромных доходах его отца. Потом, повинуясь такой же внезапной прихоти, по какой он в свое время очутился в Египте, Чарльз Фредерик Форсайт закончил свою работу в этой стране и вернулся в Англию, чтобы начать новую жизнь. Он оставил жену-мусульманку и сына-полукровку, не потрудившись даже написать письмо со словами сожаления. Мать Друда теперь оказалась покрыта двойным позором: во-первых, она вышла замуж за неверного, во-вторых, он ее бросил. Друзья, соседи и родственники винили бедняжку в обеих трагедиях. Однажды возле женской купальни несколько египтян с закрытыми шарфами лицами напали на Амиси, уволокли прочь и заставили предстать перед судом в составе других безлицых мужчин, после чего приговор суда был приведен в исполнение: несчастную провезли на осле по улицам под конвоем местных полицейских, а потом забили насмерть камнями — расправу вершила разъяренная толпа мужчин, а женщины в черных чадрах с удовлетворением наблюдали за казнью с крыш и балконов, испуская одобрительные крики. Но когда полицейские явились в бывший дом Форсайта в старом квартале, чтобы схватить сына убитой женщины, мальчика там не оказалось. Слуги, соседи и родственники утверждали, что знать не знают, где он. В домах у них провели обыски, но нигде не обнаружили и следа ребенка. Все его игрушки и одежда остались на своих местах, словно мальчик просто вышел во двор и был унесен в небо или утащен в реку богами. Полицейские решили, что какой-нибудь доброжелательный сосед или слуга, прослышав о казни Амиси, велел четырехлетнему Джасперу бежать и малец выбрался из города в пустыню, где и погиб. Но дело обстояло иначе. Видите ли, Уилки, богатый и влиятельный дядя Амиси, александрийский торговец коврами по имени Амун, — он души не чаял в своей племяннице и премного опечалился, когда она уехала в Каир с первым мужем, а впоследствии опечалился еще сильнее, узнав о ее браке с неверным, — тоже прослышал, что англичанин бросил Амиси, и отправился в Каир с намерением уговорить бедняжку вернуться в Александрию вместе с ребенком. Амун, чье имя в переводе означает «скрытый от всех», был уже почти стариком, но имел молодых жен. Днем он торговал коврами, а по ночам отправлял обязанности жреца в одном из тайных храмов древней религии — языческой домусульманской религии, которую исповедовали египтяне, пока не приняли магометанство под угрозой кривых сабель. И он твердо решил убедить племянницу перебраться вместе с сыном к нему в Александрию. Амун опоздал всего на час. Прибыв в старый квартал к моменту казни племянницы, но не имея никакой возможности остановить расправу, он поспешил к дому Амиси — все слуги там предавались полуденному сну, а соседи увлеченно наблюдали за побиванием несчастной камнями, — похитил из кроватки юного Джаспера Джона Форсайта и немедленно покинул Каир, увозя с собой крохотного мальчика, что сидел в седле позади него, крепко обхватив за пояс обеими руками. Четырехлетний малыш не знал, что мать погибла, а Амун приходится ему двоюродным дедом, и в детском своем страхе вообразил, будто он похищен пустынным разбойником. Старик и маленький мальчик на белом жеребце галопом вылетели за ворота Каира и поскакали во весь опор по дороге, ведущей в Александрию. В родном городе, в своем огромном доме, который укрывался за стенами не хуже крепостных и охранялся хорошо вооруженными стражами из родного клана, собратьями-жрецами и александрийскими наемными убийцами из числа преданных сторонников, дядя Амин принял Джаспера как собственного сына и навсегда сохранил происхождение мальчика в тайне от всех. На следующее утро после прибытия в Александрию, когда юный Джаспер Джон Форсайт проснулся в незнакомом окружении, дядя Амун отвел его к скотному загону и велел выбрать козла. Маленький Друд отнесся к делу с чрезвычайной серьезностью, на какую способно только четырехлетнее дитя, и по длительном раздумье указал на самого крупного белого козла с шелковистой шерстью и глазами ну прямо как у дьявола: с вертикальными зрачками. Дядя Амун улыбнулся, кивнул, велел мальчику вывести козла из загона, а потом отвел блеющее животное и довольного Джаспера в закрытый для посторонних внутренний двор в самой глубине огороженной территории. Там дядя Амун, уже не улыбаясь, вынул из-за пояса длинный кривой кинжал, вручил малышу и сказал: «Этот козел — единственное, что осталось от мальчика, в прошлом звавшегося Джаспером Джоном Форсайтом, сына неверного англичанина Джона Форсайта и опозоренной женщины по имени Амиси. Джаспер Джон Форсайт умрет здесь и сейчас, и никто никогда впредь не произнесет ни одно из этих имен — ни ты сам, под страхом смерти, ни любой другой человек, под страхом смерти». Затем дядя Амун положил сильную руку на ручонку маленького Джаспера Джона, сжимавшую эфес кинжала, и одним быстрым движением перерезал козлу глотку. Животное забилось в конвульсиях и в считаные секунды испустило дух. Кровь забрызгала белые штанишки и рубашку четырехлетнего ребенка. «Отныне тебя зовут Друд», — промолвил дядя Амун. Это было не традиционное имя, принятое в роду Амуна, и даже не обычное египетское, Уилки. Значение его давно затерялось во мгле веков, во мраке времен, окутывающем истоки древнего языческого культа. В последующие годы дядя Амун ввел мальчика в тайный мир, Где обитал он сам и многие его знакомые. При свете дня они были магометанами — маленький Друд учил наизусть Коран и молился по пять раз на дню, как положено праведному приверженцу ислама, — а по ночам Амун и другие александрийцы из тайного общества чтили Старый Закон, поклонялись древним богам и отправляли древние религиозные ритуалы. Вместе со своим дядей и остальными жрецами Друд при свете факелов проникал в недра пирамид и спускался в подземные храмы, расположенные под святынями вроде Сфинкса. Еще не достигнув подросткового возраста, маленький Друд совершал с дядей и прочими жрецами путешествия в Каир, на остров Филе, к руинам древних некрополей на берегу Нила в Верхнем Египте и в долину, где давным-давно опочившие египетские короли (они называются фараонами, как вы наверняка помните, Уилки) покоятся в гробницах, вырубленных в каменном ложе и окрестных скалах. В тех потаенных местах процветала древняя египетская религия и многотысячелетнее сокровенное знание. Там мальчик Друд был посвящен в тайны языческого культа и обучен ритуалам, которые отправлял еще Моисей. Дядя Амун обладал глубокими познаниями в сакральных целительских науках. Он являлся верховным жрецом храмов Сна, посвященных Исиде, Осирису и Серапису, и подготовил Друда на такую же должность. Так называемый целительный сон, дорогой Уилки, известен египтянам и практикуется среди них уже свыше десяти тысяч лет. Жрецы, способные вводить людейв такой сон, обретали полную власть над своими пациентами. Сегодня мы называем подобную практику научным термином «месмеризм», а состояние человека, погруженного в чудодейственный сон, — магнетическим трансом. Как вам известно, Уилки, я сам обладаю известными способностями (а по мнению иных, так и редким даром) в искусстве месмеризма. Я рассказывал вам о своих занятиях с профессором Джоном Эллиотсоном в клинике при университетском колледже в Лондоне, о собственных исследованиях данного феномена и о том, как несколько лет назад, в Италии и Швейцарии, я в течение многих месяцев лечил животным магнетизмом бедную, одержимую видениями мадам де ля Рю — по настоятельной просьбе ее мужа. Уверен, я бы полностью исцелил бедняжку, когда бы в дело не вмешалась Кэтрин, обуянная безумной и беспочвенной ревностью. Друд сказал, что признал во мне обладателя магнетической силы сразу, как только увидел меня на береговом откосе над местом чудовищной Стейплхерстской катастрофы. По словам Друда, он распознал во мне сей богоданный дар с первого взгляда, как в свое время дядя Амун распознал скрытые способности в нем самом, когда он был четырехлетним мальчонкой. Но я отвлекся от повествования. Все годы отрочества и юношества Друд совершенствовал свой талант, постигая тайное знание древних египтян. Известно ли вам, к примеру, Уилки, что, по свидетельству авторитетного историка Геродота, великий фараон Рамзес, владыка всего Египта, однажды безнадежно заболел и — по выражению самого Геродота, а равно дяди и учителей Друда — «сошел в царство мертвых»? Но впоследствии Рамзес вернулся в земной мир, полностью исцеленным. Чудесное возвращение фараона праздновалось на протяжении многих тысячелетий и по сию пору празднуется в Египте, где ныне господствует ислам. И знаете ли вы, Уилки, благодаря чему Рамзес столь чудесным образом вернулся из темного царства мертвых? Здесь Диккенс сделал эффектную паузу, и по прошествии нескольких долгих секунд мне пришлось сказать: — Не знаю. — Благодаря месмерическому магнетизму, — возгласил Неподражаемый. — По ходу ритуального действа, проведенного в храме Сига, Рамзес погрузился в гипнотический сон, в котором он умер как человек, а потом усилиями жрецов был возвращен к жизни — полностью исцеленным и уже превосходящим смертную природу. Тацит рассказывает нам о знаменитом храме Сна в Александрии. Именно там молодой Друд по ночам постигал сокровенное знание и в конечном счете в совершенстве освоил древнее искусство магнетического воздействия. Той ночью в храмоподобной библиотеке Подземного города Друд поведал мне, показав соответствующие пергаменты и книги, что в свое время Плутарх говорил о некоем дурманном благовонии под названием «кифи», использовавшемся в храмах Исиды и Осириса для погружения людей в целительный и одновременно ясновидческий сон. Оно применяется даже в наше время — Друд дал мне нюхнуть из открытого флакончика, Уилки! — для введения в месмерический транс наравне с музыкой лиры. Пифагорейцы в своих тайных ритуалах, проводимых в пещерах и храмах, тоже использовали кифи и лиру, поскольку они, вслед за древними египтянами, верили, что под воздействием магнетической силы, правильно приложенной, душа может покидать телесную оболочку и вступать в связь со спиритуальным миром. Не смотрите на меня так, дорогой Уилки. Вы знаете: я не верю в простых призраков и духов, являющихся на сеансах столоверчения. Сколько раз я разоблачал подобные суеверия устно и письменно? Но я сведущ в животном магнетизме и надеюсь в самом скором времени углубить свои познания в данной области. Согласно Геродоту и Клименту Александрийскому, нижеследующая молитва в сочетании с месмерическим воздействием на покойного неизменно применялась на всех важных египетских похоронах на протяжении десяти тысяч лет: «О боги, дающие жизнь людям, явите милость к душе опочившего, дабы она могла уйти к бессмертным богам». Но некоторые души жрецы не отпускали. Некоторые души они удерживали своей магнетической силой и возвращали обратно. Так было в случае с фараоном Рамзесом. Так было в случае с человеком, известном нам с вами под именем Друд.
Диккенс остановился, и я тоже. До Гэдсхилла оставалось уже меньше полумили, хотя мы шли несколько медленнее обычного. Признаться, завороженный монотонным голосом Чарльза Диккенса, последние двадцать минут я не замечал ничего вокруг. — Вы находите все это скучным? — спросил он, устремив на меня пытливый взгляд темных глаз. — Глупый вопрос, — сказал я. — Все это чрезвычайно увлекательно. И в высшей степени фантастично. Не каждому и не каждый день выпадает удовольствие услышать сказку тысячи и одной ночи из уст Чарльза Диккенса. — Фантастично, — повторил Неподражаемый с едва заметной улыбкой. — По-вашему, это слишком фантастично, чтобы быть правдой? — Чарльз, вы спрашиваете меня, верю ли я, что Друд рассказал вам правду, или верю ли я, что вы рассказали мне правду? — И первое, и второе, — ответил он, не сводя с меня пристального взгляда. — Не знаю, сказал ли Друд хоть слово правды, — промолвил я — Но я верю, что вы говорите чистую правду, рассказывая историю, поведанную вам Друдом. Я лгал, дорогой читатель. История казалась слишком абсурдной, чтобы я поверил в нее или хоть на миг допустил, что Диккенс в нее поверил. Я помнил, как однажды Диккенс сказал мне, что в детстве его любимой книгой были «Сказки тысячи и одной ночи». И сейчас задался вопросом, не пробудились ли в нем некие детские качества от потрясения, вызванного Стейплхерстской катастрофой. Диккенс кивнул, словно учитель, услышавший правильный ответ от ученика. — Мне нет необходимости напоминать вам, друг мой, что все это должно остаться между нами. — Разумеется. Он улыбнулся почти по-мальчишески. — Даже если наш друг инспектор Филд грозится разболтать всему свету про Домовладелицу и Дворецкого? Я небрежно махнул рукой. — Но вы не рассказали про Друда самого главного, — заметил я. — Разве? — Да, — твердо промолвил я. — Не рассказали. Почему он оказался на месте железнодорожного крушения? Откуда там взялся? Что он делал с тяжелоранеными людьми? Помнится, вы говорили, что со стороны все выглядело так, будто Друд похищал души умирающих. И что, собственно говоря, он делает в пещере у протекающей по тоннелю подземной реки, глубоко под катакомбами? — Поскольку до дома уже рукой подать, — начал Диккенс, вновь трогаясь с места, — я не стану продолжать повествование, а просто отвечу на ваши вопросы, дорогой Уилки. Во-первых, Хэчери оказался прав в своих умозаключениях и предположениях насчет появления Друда на месте крушения. Он действительно путешествовал в гробу в багажном вагоне. — Боже милостивый! — воскликнул я. — Но почему? — Всё как мы и думали, Уилки. В Лондоне и прочих городах Англии у Друда есть враги, исполненные решимости выследить и схватить его. Инспектор Филд — один из таких врагов. Друд не является ни подданным нашей страны, ни желанным чужеземным гостем. На самом деле, по официальному мнению и по официальным документам, он уже двадцать лет как умер. Потому-то он и возвращался в гробу из поездки по Франции… где встречался с собратьями по религии, владеющими искусством магнетизма. — Поразительно, — сказал я. — Но что насчет странного поведения Друда на месте катастрофы? Вы сами рассказывали, как он подкрадывался и склонялся над ранеными, которые все оказывались мертвыми, когда вы подходили к ним после него. «Похищал души», по вашему же выражению. Диккенс улыбнулся и, взмахнув тростью, точно мечом, обезглавил росток чертополоха. — Это показывает, сколь глубоко может ошибаться даже самый умный и зоркий наблюдатель, если не знает всех обстоятельств дела. Друд вовсе не похищал души несчастных жертв катастрофы. Напротив, он воздействовал на страдальцев месмерической силой, дабы облегчить предсмертные муки, и произносил древнюю египетскую погребальную молитву, призванную помочь при переходе в мир иной, — молитву эту я процитировал вам несколько минут назад. Друд действовал на манер католического священника, проводящего соборование перед смертью. Только он проводил месмерические обряды культа Сна, твердо веря, что таким образом отправляет души погибших на суд к богам, которым они поклонялись при жизни. — Поразительно, — повторил я. — А что касается обстоятельств его жизни здесь, в Англии, и причин нынешнего его проживания в Подземном городе, — продолжал Диккенс, — то рассказ инспектора Филда о прибытии Друда в Англию, об ограблении, матросе, ноже и всем прочем почти полностью соответствует истине. Только с точностью до наоборот. Двадцать с лишним лет назад Друд приехал в Англию с заданием разыскать двух своих родственников из Египта — близнецов, юношу и девушку, владевших другим древним египетским искусством — умением читать мысли. Он имел при себе огромную сумму денег в английских фунтах и золотых монетах. На следующий же вечер после приезда в Лондон Друда ограбили. Английские матросы напали на него в припортовом квартале, обчистили, зверски исполосовали ножом — именно тогда он лишился век, ушей, носа и кончика языка — и бросили в Темзу, словно труп… да он, собственно, и был тогда почти трупом. Какие-то обитатели Подземного города вытащили Друда из реки и перенесли вниз — умирать. Но он не умер, Уилки. А если и умер, так значит, вернул себя к жизни. Когда неизвестные бандиты грабили его, избивали и резали ножом, Друд погрузился в глубокий месмерический сон и привел свою душу — или по крайней мере свое психическое существо — к тонкой грани между жизнью и смертью. Оборванцы из Подземного города нашли бездыханное тело, но при звуке человеческих голосов Друд очнулся от магнетического сна таким же усилием воли, каким ввел себя в месмерический транс. Чтобы отблагодарить своих спасителей, Друд построил в подземном «муравейнике» храм Сна, совмещенный с библиотекой, где он исцеляет тех, кого может исцелить, помогает тем, кому может помочь посредством древних обрядов, облегчает предсмертные муки и переход в мир иной тем, кого уже нельзя спасти. — Послушать вас, так он просто святой, — сказал я. — В известном смысле так оно и есть. — А почему он просто не уедет в Египет? — спросил я. — О, он туда ездит, Уилки. Время от времени. Чтобы повидаться со своими учениками и коллегами. Помочь с отправлением некоторых древних ритуалов. — Но он все время возвращается в Англию? До сих пор? — Он пока так и не нашел своих родственников, — сказал Диккенс. — И Англия для него уже стала такой же родиной, как Египет. В конце концов, он ведь наполовину англичанин. — Даже несмотря на убийство козла, носившего его английское имя? Диккенс промолчал. — По утверждению инспектора Филда, ваш мистер Друд — Целитель, великий знаток месмеризма, праведник почище Христа и тайный мистик — за последние двадцать лет убил свыше трехсот мужчин и женщин. Я ожидал, что Неподражаемый рассмеется. Но он хранил все тот же серьезный вид и все так же пристально смотрел на меня. — А вы сами-то верите, что человек, с которым я разговаривал, повинен в трехстах убийствах? Я выдержал взгляд Диккенса и ответил взглядом равно непроницаемым. — Возможно, он гипнотизирует своих приспешников и заставляет их выполнять всю грязную работу, Чарльз. Теперь он все-таки улыбнулся. — Вы наверняка знаете, друг мой, — из научных трудов профессора Джона Эллиотсона, если не из собственных моих случайных заметок по данному предмету, — что даже в состоянии месмерического сна, или месмерического транса, человек не может совершить никаких поступков, противоречащих его нравственным нормам и принципам. — В таком случае, возможно, Друд гипнотизирует убийц и головорезов и они совершают для него все убийства, — предположил я. — Если они уже убийцы и головорезы, дорогой Уилки, — мягко промолвил Диккенс, — Друду нет никакой необходимости гипнотизировать их, не правда ли? Он может просто заплатить им звонкой монетой. — Так, может, он и платит, — сказал я. Наш разговор приобретал до невыносимости абсурдный характер. Я окинул взглядом широкий луг, словно мерцающий в свете осеннего солнца. За деревьями впереди я явственно различал маленькое шале и мансардную крышу Гэдсхилл-плейс. Я положил ладонь на плечо Неподражаемому, пока он еще не тронулся с места, и спросил: — Так вы ездите по ночам в Лондон раз-два в неделю, чтобы совершенствовать свои познания и способности в месмеризме? — А… значит, в моем семейном кругу все-таки есть соглядатай. Некто, часто страдающий несварением желудка, насколько я понимаю? — Нет, мой брат здесь ни при чем, — довольно резко сказал я. — Чарльз Коллинз умеет хранить секреты и бесконечно вам предан. И однажды он станет отцом ваших внуков. Вам следует относиться к нему более уважительно. По лицу писателя пробежала тень. Похоже, тень отвращения — хотя я так и не понял, вызвано оно мыслью о женитьбе моего брата на Кейт (каковой союз Неподражаемый никогда не одобрял) или же сознанием, что сам он, Диккенс, уже достаточно стар, чтобы иметь внуков. — Вы правы, Уилки. Прошу прощения за шутку, пусть и продиктованную теплым родственным чувством. Но тихий внутренний голос говорит мне, что я так и не дождусь внуков от брака Кейти Диккенс с Чарльзом Коллинзом. Что он, собственно, имел в виду? Пока мы не сцепились в драке или не продолжили путь в тягостном молчании, я сказал: — О ваших еженедельных поездках в город мне сообщила Кейти. Она, Джорджина и ваш сын Чарльз тревожатся за вас. Они понимают, что страшные воспоминания о железнодорожном крушении все еще преследуют вас и пагубно действуют на ваши нервы. Сейчас они подозревают, что я вовлек вас в какое-то дикое непотребство, творящееся в лондонских злачных местах, и теперь по меньшей мере раз в неделю вас, извиняюсь за выражение, самым магнетическим образом тянет к ночным бесчинствам. Диккенс громко расхохотался, запрокинув голову. — Да бросьте, Уилки! Если у вас нет никакой возможности задержаться до ужина, составленного Джорджиной из самых изысканных блюд, вы по крайней мере должны выкурить со мной сигару, обозревая конюшни и наблюдая за Джоном Форстером, играющим с моими детьми на лужайке. Потом маленький Плорн запряжет двуколку и отвезет вас на станцию прямо к вечернему экспрессу.
Навстречу нам выбежали собаки. Диккенс почти всегда держал у ворот собак на цепи, так как слишком много разных бродяг и грязных оборванцев имели обыкновение сворачивать с Дуврской дороги и выклянчивать дармовые подачки у задней или передней двери Гэдсхилл-плейс. Первой нас встретила Миссис Поскакушка — любимица Мери, крохотный померанский шпиц, с которым Диккенс неизменно разговаривал особым детским, почти писклявым голосом. Через секунду подлетела Линда — неугомонный, непоседливый сенбернар, вечно занятый игривой борьбой с огромным мастифом по кличке Турок. Все трое в совершенном экстазе прыгали, норовили лизнуть в лицо, бешено виляли хвостом, приветствуя своего хозяина, на удивление хорошо ладившего со всеми животными. Казалось, как и многие люди, собаки и лошади понимали, что Чарльз Диккенс поистине Неподражаемый и посему заслуживает всяческого уважения. Пока я пытался потрепать по голове сенбернара, приласкать резвящегося мастифа и обойти прыгучего шпица, которые все через каждые несколько секунд отскакивали прочь от меня и снова набрасывались со своими изъявлениями восторга на Диккенса, из-за живой изгороди вихрем вылетел незнакомый мне пес, крупный ирландский волкодав, и с угрожающим рычанием помчался на меня, словно с намерением перегрызть мне горло. Признаться, я поднял трость и попятился. — Стоять, Султан! — гаркнул Диккенс, и пес сначала застыл на месте всего в нескольких шагах от меня, потом припал к земле с самым виноватым и покорным видом. Диккенс укоризненным тоном выговорил злодею, а затем почесал у него за ухом. Я подступил ближе, и волкодав злобно заворчал, опять оскалив клыки. Диккенс перестал ласкать пса. Султан виновато опустился на брюхо и уткнулся носом в башмаки хозяина. — Я впервые вижу эту собаку, — заметил я. Диккенс тряхнул головой. — Перси Фицджеральд подарил мне Султана всего несколько недель назад. Честно говоря, иногда этот пес напоминает мне вас, Уилки. — Чем же, интересно знать? — Во-первых, он абсолютно бесстрашен, — сказал Диккенс. — Во-вторых, он абсолютно предан… слушается только меня одного, и слушается беспрекословно. В-третьих, он презирает общественное мнение и нисколько с ним не считается. Он ненавидит солдат и нападает на них, едва лишь заприметит. Он ненавидит полицейских и, говорят, гонялся за несколькими здесь по аллее. И он ненавидит всех себе подобных. — Я не питаю ненависти к себе подобным, — мягко промолвил я. — Я в жизни не нападал ни на одного солдата и никогда не гонялся за полицейскими. Явно не слушая меня, Диккенс опустился на колени и потрепал Султана по загривку, в то время как остальные три собаки прыгали и скакали вокруг него, снедаемые лютой ревностью. — Султан лишь единственный раз попытался проглотить Миссис Поскакушку, но имел любезность выплюнуть ее по первому же моему приказу. Однако все кошки в округе — в частности, последний помет Кисули, что живет в сарае за гостиницей «Фальстаф-Инн», — таинственным образом пропали после появления здесь Султана. Султан пристально посмотрел на меня, взглядом своим недвусмысленно давая понять, что перегрызет мне глотку при первой же удобной возможности. — Но боюсь, невзирая на его преданность, дружелюбие, отвагу изабавные повадки, — заключил Диккенс, — нашего друга Султана однажды придется умертвить, и сделать это придется мне.
Вернувшись вечерним поездом в Лондон, я отправился не пешком домой на Мелкомб-плейс, а взял кеб до Болсовер-стрит, тридцать пять. Там мисс Марта Р***, записанная в домовой книге под именем миссис Марта Доусон, встретила меня у задней отдельной двери, ведущей прямо в скромные апартаменты, которые состояли из крохотной спальни, гостиной чуть побольше и зачаточной кухонки. Я прибыл несколькими часами позже, чем обещался, и она уже давно прислушивалась, не раздадутся ли мои шаги на лестнице. — Я нажарила котлет и все держу на медленном огне, — сказала Марта. — На случай, если вам захочется поужинать сейчас же. Или разогрею их позже. — Да, разогреешь позже, — сказал я. Дорогой читатель отдаленного будущего, я почти могу — не вполне, но почти — вообразить такое время, когда мемуаристы или даже романисты не опускают завесу целомудренного молчания над событиями личного характера, какие могут последовать здесь, над интимными, так сказать, моментами отношений между мужчиной и женщиной. Надеюсь, в вашу эпоху нравы не настолько испорчены, что вы свободно говорите и пишете о минутах телесной близости, но если вы ждете подобных бесстыдных откровений здесь, мне придется разочаровать вас. Когда бы вам довелось увидеть фотографию мисс Марты Р***, наверное, вы при всем желании не разглядели бы красоты, какую я нахожу в ней при каждой нашей встрече. Постороннему взгляду или объективу фотокамеры (а Марта говорила, что у нее есть фотопортрет, сделанный с нее за родительский счет год назад, когда ей стукнуло девятнадцать) Марта Р*** представляется приземистой женщиной с угрюмым узким лицом, почти негроидными губами, прямыми волосами, разделенными на прямой пробор и туго зачесанными назад (так туго, что пробор производит впечатление длинной узкой плеши посреди макушки), глубоко посаженными глазами и слегка приплюснутым носом, приличествующим скорее сборщице хлопка на южноамериканской плантации. Фотография Марты Р*** не дает ни малейшего представления об ее пылкости, страстности, чувственности, телесной щедрости и необузданности. Многие женщины (с одной из таких я сожительствую уже много лет) весьма убедительно изображают чувственность на людях, особым образом одеваясь, искусно раскрашивая лицо, кокетливо хлопая ресницами, но в действительности они почти или совсем не ведают плотского желания. Думаю, они прикидываются единственно по привычке. Очень и очень немногие женщины — такие, как Марта Р***, — обладают поистине страстной натурой. Найти подобную женщину среди толпы полусонных, вялых, апатичных особей женского пола в английском обществе шестидесятых годов девятнадцатого века — все равно что найти даже не алмаз в уличной грязи, а теплое живое тело среди холодных трупов на мраморных столах в парижском морге, куда Диккенс любил водить меня.
Через несколько часов, сидя при свечах за маленьким столом, накрытым для ужина, мы ели пережаренные котлеты (Марта еще не научилась хорошо готовить, и представлялось очевидным, что никогда не научится) и ковырялись вилками в холодном, пересушенном овощном рагу. К моему приезду Марта выбрала и купила бутылку вина — такого же скверного, как еда. Я взял девушку за руку и сказал: — Дорогая, завтра с утра пораньше ты должна упаковать свои веши и уехать в Ярмут одиннадцатичасовым поездом. Там ты вернешься на прежнюю работу в гостинице, а если не получится — найдешь другое такое же место. Не позже чем завтра вечером ты навестишь своих родителей и брата в Уинтертоне и скажешь, что у тебя все в полном порядке и что ты потратила свои сбережения на развлекательную поездку в Брайтон. Марта, надо отдать ей должное, не стала хныкать и разводить мокроту. Но она покусала губы и промолвила: — Мистер Коллинз, голубчик, я чем-то обидела вас? Дело в ужине? Несмотря на усталость и подагрические боли в глазах и суставах, я рассмеялся. — Нет-нет, дорогая моя. Просто тут один сыщик вертится вокруг, вынюхивает да высматривает, и нам нельзя давать ему повод шантажировать меня — или тебя и твою семью, милая. Нам надо ненадолго расстаться, пока докучливому малому не надоест эта игра. — Полицейский! — воскликнула Марта. Несмотря на свою замечательную выдержку, она все же оставалась бедной провинциалкой. Полиция, особенно лондонская полиция, наводила ужас на людей такого сорта. Я успокоительно улыбнулся. — Да нет, нет. Он давно уже не полицейский, милая моя. Просто частный сыщик низкого пошиба, каких нанимают престарелые лорды, часто отсутствующие дома по благотворительным делам, для слежки за своими молодыми женами. — И нам надобно расстаться? Марта окинула взглядом комнату, и я понял, что она старается запечатлеть в памяти убогие предметы обстановки и унылые эстампы на стенах, словно какая-нибудь особа королевских кровей, изгоняемая из своего родового замка. — Ненадолго, — повторил я, ласково похлопав девушку по Руке. — Я разберусь с назойливой ищейкой, а потом мы заново составим наши планы. На самом деле комнаты так и останутся записаны на имя миссис Доусон — до скорого твоего возвращения. Ты хочешь этого? — Очень даже хочу, мистер… Доусон. Вы сегодня проведете ночь со мной? Последнюю ночь перед разлукой? — Никак не получится, голубушка. Нынче у меня подагра разыгралась не на шутку. Мне надо домой — принять лекарство. — Ах, как жаль, что вы не держите бутыль с лекарством здесь, дорогой мой, чтобы оно облегчало ваш недуг, покуда я ублажаю и успокаиваю вас иным способом! Марта сжала мою ладонь так сильно, что боль прострелила мне руку до самого плеча. В глазах у нее стояли слезы, и я знал, что она расстроена моим плохим самочувствием, а не своим изгнанием. У Марты Р*** была сострадательная душа. — Одиннадцатичасовой поезд, — напомнил я, надев пальто и положив шесть шиллингов банкнотами и монетами на туалетный столик. — Только смотри не оставляй здесь никаких своих вещей, любимая моя. Доброго тебе пути — и я вскорости пришлю весточку.
Четырнадцатилетняя Хэрриет спала в своей комнате, но Кэролайн еще бодрствовала, когда я прибыл домой по адресу Мелкомб-плейс, девять. — Ты голоден? — спросила она. — Мы ужинали телячьими отбивными, и я оставила несколько для тебя. — Нет. А вот вина, пожалуй, выпью, — сказал я. — Сегодня меня подагра совсем замучила. Я прошел на кухню, отпер свою личную кладовую ключом, извлеченным из жилетного кармана, залпом выпил три стакана лауданума и вернулся в гостиную, где Кэролайн уже налила хорошей мадеры в два бокала. Во рту у меня все еще оставался привкус дрянного винца, выпитого у Марты, и мне хотелось поскорее от него избавиться. — Ну, как ты провел день с Диккенсом? — поинтересовалась Кэролайн. — Я не ожидала, что ты так поздно задержишься. — Ты же знаешь, какую настойчивость он проявляет порой, приглашая на ужин, — сказал я. — Он не принимает никаких отказов. — Вообще-то не знаю, — сказала Кэролайн. — В обществе мистера Диккенса я всегда ужинала только с тобой вместе, причем либо у нас дома, либо в отдельном кабинете в ресторане. И меня он ни разу не уговаривал задержаться допоздна за своим столом. Я не стал опровергать данное утверждение, соответствующее действительности. Ужасная, пульсирующая боль в голове уже начинала стихать под действием лауданума, и у меня возникло странное ощущение качки — словно гостиная, стол и кресло находились на борту крохотного суденышка, идущего в фарватере большого корабля. — Ну так как, ты приятно провел время за разговорами с Диккенсом? — настойчиво осведомилась Кэролайн. На ней был красный шелковый халат, слишком яркий, чтобы соответствовать представлениям о тонком вкусе. Мне чудилось, будто вышитые на нем золотые цветы дрожат и пульсируют. — По-моему, Диккенс угрожал убить меня, если я не буду беспрекословно ему подчиняться, — сказал я. — Умертвить, как непослушного пса. — Уилки! — В голосе Кэролайн прозвучал неподдельный ужас, и ее лицо в приглушенном свете лампы заметно побледнело. Я натянуто рассмеялся. — Да успокойся, дорогая моя. На самом деле ничего подобного не было, разумеется. Просто очередной пример, доказывающий склонность Уилки Коллинза к преувеличениям. Мы славно прогулялись и мило поболтали нынче днем, а позже насладились беседой за долгим ужином, бренди и сигарами. Там был Джон Форстер со своей новой женой. — А, этот зануда. — Да. — Я снял очки и потер виски. — Пожалуй, я пойду спать. — Бедняжка, — сказала Кэролайн. — Тебе полегчает, если я разотру тебе мышцы? — Думаю, очень даже полегчает, — ответил я. Я не знал, где Кэролайн Г*** овладела искусством массажа. Я никогда не спрашивал. Это оставалось тайной, как и многие Другие обстоятельства ее жизни до знакомства со мной, произошедшего двенадцать лет назад. Но я прекрасно знал, какое наслаждение и облегчение доставляют мне руки моей сожительницы. Примерно через полчаса, в моей спальне, Кэролайн, закончив разминать мне мышцы, прошептала: — Мне остаться с тобой сегодня, милый? — Лучше не надо, любимая. Приступ подагры еще не прошел — приятные ощущения идут на убыль, и боль возвращается, ты же знаешь… И мне непременно нужно поработать завтра с утра пораньше. Кэролайн кивнула, чмокнула меня в щеку, взяла лампу с туалетного столика, вышла за дверь и спустилась вниз. Я было подумал, не просидеть ли мне в кабинете за работой ночь напролет, как я частенько делал, когда писал «Женщину в белом» и более ранние сочинения, но тихий шорох, донесшийся с лестничной площадки второго этажа, заставил меня остаться в спальне. Зеленокожая клыкастая женщина становилась все смелее. Первые несколько месяцев после нашего переезда сюда она воздерживалась от прогулок по темной крутой лестнице для слуг, но в последнее время я все чаще слышал за полночь мягкие шаги босых ног по ковровому покрытию лестничной площадки. Или же звуки доносились из моего кабинета. Это было бы еще страшнее: зайти туда в темноте и увидеть его, пишущего за моим рабочим столом в лунном свете. Я остался в спальне. Подошел к окну и бесшумно раздвинул шторы. Возле фонаря на углу улицы я увидел мальчишку в лохмотьях, который сидел, привалившись спиной к мусорной урне. Возможно, он спал, а возможно, смотрел на мои окна. Его глаза скрывались в тени. Я задвинул шторы и снова лег в постель. Иногда лауданум не дает мне уснуть всю ночь, а порой погружает в глубокий сон, полный ярких сновидений. Я уже уплывал в сон, изгоняя из своего сознания Чарльза Диккенса и фантома по имени Друд, когда вдруг в ноздри мне ударил густой тошнотворный запах, похожий на смрад гнилого мяса, и перед умственным взором возникли алые герани — букеты, ворохи, надгробные груды алых гераней, пульсировавших под моими сомкнутыми веками, точно фонтаны артериальной крови. — Боже мой! — громко сказал я и рывком сел в темноте, исполненный поистине провидческой уверенности. — Чарльз Диккенс собирается убить Эдмонда Диккенсона.
Глава 10
На следующее утро, записав наш с Диккенсом вчерашний разговор, я в одиночестве позавтракал в своем клубе. Накануне Диккенс несколько раз настойчиво спрашивал меня, верю ли я ему, но, по правде говоря, я не верил. Или верил не до конца. Я сомневался, что он встречался с человеком по имени Друд в лабиринте канализационных тоннелей под Лондоном. Я видел подобие гондолы и двух странных типов, которых Диккенс называл Меркурием и Венерой, то есть один несомненный факт для начала имелся. Но действительно ли я их видел? Я помнил, как подплыла лодка и Диккенс вошел в нее, помнил, как она скрылась за поворотом, приводимая в движение двумя диковинными субъектами в масках, гребцом на носу и рулевым на корме, или же мне все примстилось? Помимо безумной усталости и страха тогда мной владела сильная сонливость. Я принял лишнюю дозу лекарства перед встречей с Диккенсом, а за ужином выпил больше вина, чем обычно. Все события той ночи — даже происходившие прежде, чем мы спустились через склеп в опиумный притон Короля Лазаря, — казались нереальными, словно пригрезившимися во сне. Но что насчет биографии мистера Друда в изложении Диккенса? А что насчет нее, собственно? Буйное воображение Чарльза Диккенса могло измыслить тысячи подобных сюжетов в считаные секунды. Честно говоря, история о детстве Друда, английском отце, убитой мусульманами матери казалась слабоватой для творческого гения Чарльза Диккенса. Однако, как ни странно, именно часть истории, касавшаяся месмерических способностей и магнетической силы Друда, вызывала у меня желание в целом принять на веру рассказ Неподражаемого. Все это также объясняло, почему Диккенс, невзирая на нынешнюю свою паническую боязнь поездов и даже простых экипажей, по меньшей мере раз в неделю ездит в Лондон из Гэдсхилла. Он стал учеником — или, возможно, точнее будет употребить слово «приспешник» — верховного магистра месмеризма по имени Друд. Еще до безуспешной попытки Диккенса загипнотизировать меня, предпринятой вскоре после Стейплхерстской катастрофы, я знал, что наш друг начал увлекаться месмеризмом почти тридцать лет назад, когда он был известен читающей публике под псевдонимом Боз. В ту пору вся Англия живо интересовалась месмеризмом: мода на него пришла из Франции, где появился некий «магнетический мальчик», обладавший способностью в состоянии гипнотического транса угадывать положение стрелок на часовых циферблатах или значение игральных карт даже с крепко завязанными глазами. Тогда я еще не был знаком с Диккенсом, но он не однажды рассказывал мне, как посещал все до единого выступления месмеристов, проводившиеся в Лондоне. Но именно упомянутый Диккенсом профессор, некий Джон Эллиотсон из клиники при университетском колледже, произвел на молодого Воза самое сильное впечатление. Посредством своей магнетической силы Эллиотсон погружал подопытных людей — в том числе пациентов лондонской клиники — в гораздо более глубокий транс, чем получалось у других месмеристов. В состоянии транса мужчины и женщины, мальчики и девочки не только исцелялись от хронических заболеваний, но и могли обнаруживать пророческие и даже ясновидческие способности. Страдавшие эпилепсией сестры Оки не только вставали с инвалидных колясок и с песнями пускались в пляс под гипнотическим воздействием профессора Элиотсона, но также демонстрировали чудеса ясновидения — благодаря целенаправленному влиянию животного магнетизма, как твердо уверился молодой Боз. Иными словами, Диккенс был своего рода новообращенным. Лишенный истинных религиозных убеждений, Диккенс свято поверил в животный магнетизм и месмерический дар, управляющий этой энергией. Прошу вас не забывать, дорогой читатель, об особенностях нашей эпохи: наука тогда делала огромные шаги в понимании таких скрытых, взаимосвязанных энергий и флюидов, как магнетизм и электричество. Истечение месмерических флюидов, свойственное всем живым существам, но в особенности человеческому мозгу и телу, представлялось Диккенсу таким же очевидным и наглядным научным фактом, как процесс получения электричества с помощью магнето, продемонстрированный Фарадеем. В следующем, 1839 году, когда Эллиотсон оставил должность профессора теоретической и практической медицины в университетском колледже — под давлением начальства, недовольного шумихой вокруг его месмерических сеансов, — Диккенс публично поддерживал доктора, втайне ссужал деньгами, приглашал лечить своих родителей и прочих членов семьи, а несколькими годами позже всячески пытался помочь обезумевшему от отчаяния Эллиотсону, когда тот начал помышлять о самоубийстве. Сам Диккенс, разумеется, никогда не позволял погружать себя в месмерический транс. Любой, кто хотя бы на минуту мог вообразить, будто Чарльз Диккенс способен поддаться магнетическому воздействию другого человека, совершенно не знал Чарльза Диккенса. Именно молодой Воз, который вскоре станет зрелым Неподражаемым, всегда стремился подчинять окружающих своемувлиянию. Месмеризм стал просто одним из средств для достижения данной цели, но интерес к нему Диккенс сохранил до конца своих дней. В скором времени писатель начал сам проводить месмерические опыты и сеансы магнетического лечения. Во время своей поездки в Штаты в 1842 году Диккенс рассказывал американским друзьям, что регулярно гипнотизирует Кэтрин, дабы исцелить от мигреней и бессонницы. (Много лет спустя он сказал мне, что применял животный магнетизм для снятия много широчайшего набора, как он выразился, «истерических симптомов», наблюдавшихся у его несчастной жены. Он также признался, что впервые загипнотизировал Кэтрин случайно: обсуждая феномен магнетического воздействия со знакомыми американцами и «выступая по теме весьма красноречиво», он принялся водить руками над головами слушателей и потирать им брови единственно с целью продемонстрировать магнетические пассы, какие сам наблюдал во время различных показательных сеансов, и внезапно ввел Кэтрин в состояние истерики. Он проделал еще несколько пассов, чтобы вернуть бедняжку в чувство, но добился лишь того, что она погрузилась в глубокий транс. На следующий вечер он снова использовал жену в качестве объекта опыта перед гостями, а вскоре стал лечить ее от «истерических симптомов».) По мере развития своих месмерических способностей он стал пользовать не одну только Кэтрин, но также прочих своих родственников и друзей. Но в случае с месмерическим лечением мадам де ля Рю дело дошло до семейного конфликта. Мадам Августа де ля Рю, англичанка по происхождению, была супругой швейцарца Эмиля де ля Рю, директора генуэзского филиала банковской фирмы, основанной его дедом. Летом 1844 года Диккенс с женой приехал в Геную, собираясь работать там всю осень и зиму, и с октября месяца они непродолжительное время жили по соседству с четой де ля Рю и часто виделись с ними в узком экспатриантском кругу генуэзского общества. Августа де ля Рю страдала расстройством нервов, которое выражалось в бессоннице, нервном тике, лицевых судорогах и сильнейших приступах тревоги, сопровождавшихся настоящими конвульсиями. В менее просвещенную эпоху бедную женщину сочли бы одержимой бесами. Диккенс вызвался облегчить состояние мадам де ля Рю с помощью своих месмерических способностей, и Эмиль, муж несчастной, пришел в восторг от этой идеи. «Счастлив и готов явиться к вам», — объявил Диккенс в одной из записок к ней, и в течение следующих трех месяцев — с ноября 1844-го по конец января 1845-го — он наведывался к больной по несколько раз на дню. Иногда на сеансах присутствовал ее муж. (Он героически пытался научиться у Диккенса искусству месмеризма, чтобы самостоятельно помогать жене, но — увы! — Эмиль де ля Рю не обладал даром магнетического воздействия.) Главная тайна нервического недуга мадам де ля Рю заключалась в частых видениях некоего Фантома, что приходил к ней во снах и являлся первопричиной болезни. «Совершенно необходимо, — заявил Диккенс Эмилю деля Рю, — чтобы Фантом, к которому она противно своей воле постоянно обращается мыслями, вновь не забрал власть над ней». Дабы такого не случилось, Диккенс стал откликаться на призывы четы де ля Рю в любое время суток. Иногда он оставлял Кэтрин одну в холодной генуэзской постели в четыре часа утра и опрометью несся к мадам де ля Рю, чтобы помочь своей бедной пациентке. Постепенно судороги, нервные тики, конвульсии и бессонница начали отпускать ее. Эмиль ликовал. Тем не менее Диккенс по-прежнему каждый день гипнотизировал женщину и расспрашивал про Фантома. Со стороны месмерические сеансы, проводившиеся в особняке де ля Рю, очень походили на спиритические: погруженная в глубокий транс мадам де ля Рю рассказывала о темных и светлых духовных сущностях, кружащихся вокруг нее, и Фантоме, неизменно пытающемся подчинить ее своей власти, а Чарльз Диккенс героически старался вызволить мадам де ля Рю из-под пагубного влияния злоумышленного призрака. Когда в конце января Диккенс и Кэтрин покинули Геную, чтобы продолжить путешествие по Италии, Эмиль продолжал ежедневно посылать писателю сообщения и дневниковые записи, касающиеся самочувствия супруги. В ответ Диккенс написал, что де ля Рю непременно должны приехать к нему в Рим не позднее конца февраля, и Эмиль с женой заблаговременно подготовились к поездке. Кэтрин не знала, что муж собирается возобновить общение с мадам де ля Рю. И не знала, что Диккенс условился с «пациенткой» о следующем опыте: каждый день, начиная с одиннадцати утра, он в течение целого часа будет мысленно сосредоточиваться и гипнотизировать ее в своем воображении. А мадам де ля Рю у себя в Генуе будет мысленно сосредоточиваться и принимать магнетические токи от Диккенса, направляющего к ней «зрительный луч». Они ехали каретой (Кэтрин сидела на наружном верхнем сиденье, ибо хотела дышать свежим воздухом, а Диккенс располагался в экипаже), когда наступило одиннадцать часов и писатель сосредоточил мысли на своей далекой пациентке. Едва начав производить в своем воображении месмерические пассы и направлять магнетические флюиды в сторону Генуи, он услышал, как женина муфта упала со скамьи на верху кареты. Кэтрин не имела понятия, что муж посылает в пространство магнетические токи, но тем не менее погрузилась в глубокий гипнотический транс, прикрыв глаза судорожно трепещущими веками. Ко времени, когда Диккенсы устроились в Риме, самочувствие пациентки, разлученной с «магнетическим доктором», опять ухудшилось. Эмиль написал, что Фантом снова начал появляться и подчинять Августу своему влиянию. «Я не могу одолеть, подавить его на расстоянии, — написал Диккенс в ответ. — Полагаю, находясь рядом с вашей женой и продолжая воздействовать на нее магнетической силой, я сумею разбить Фантома вдребезги». Вскоре после этого де ля Рю прибыли в Рим — к великому изумлению Кэтрин, — и Диккенс возобновил ежедневные месмерические сеансы, которые теперь проводились, как он писал, «порой под оливковыми деревьями или в винограднике, порой в катящей по дороге карете или в придорожной таверне во время полуденной остановки». Немного позже Диккенс сообщил Эмилю, что у мадам де ля Рю появились тревожные симптомы. «Скрученная сильнейшим нервическим припадком, она лежала, свернувшись плотным клубком, и понять, где у нее голова, можно было, лишь проведя рукой по ее длинным волосам и нащупав их корни». Именно тогда Кэтрин (в очередной раз забеременевшая в конце января, то есть примерно в то время, когда она вместе с мужем совершала восхождение на извергающийся Везувий) заявила Диккенсу, что его вопиюще неприличные отношения с Августой для нее весьма огорчительны. Диккенс впал в ярость, как всегда делал в ответ на любое обвинение, и закатил жене страшный скандал: мол, подобные упреки нелепы, даже непристойны, и абсолютно всем, кроме нее, совершенно ясно, что в своих поступках он руководствуется единственно заботой врача-месмериста о самочувствии тяжелобольной пациентки. Диккенс бесновался, орал на Кэтрин и грозился уехать из Рима без нее. Однако беременную жену — особенно если в своей позиции она непоколебима, как Китайская стена, — трудно запугать. Впервые за все годы супружества Кэтрин решительно выступила против навязчивых увлечений и флиртов Диккенса, и в первый и единственный раз он сдался. Неподражаемый объяснил супругам де ля Рю, что Кэтрин очень переживает из-за того, что он проводит столько времени со своей пациенткой, но также многословно извинился за жену, думающую только о себе и совершенно не думающую о других. Диккенс не забыл и не простил этого унижения своих чести и достоинства. Много времени спустя, незадолго до изгнания Кэтрин из дома после истории с браслетом Эллен Тернан, он припомнил жене оскорбительный для него приступ «беспочвенной ревности», случившийся более четырнадцати лет назад. «Причина тогдашних твоих страданий в Генуе крылась в тех самых и никаких иных качествах моей натуры, благодаря которым ты обрела счастье и почет в семейной жизни, получила положение в обществе и завидный достаток», — гневно бросил он ей. Отношения мужа с бедной, одержимой бесами мадам де ля Рю показались Кэтрин подозрительными. По прошествии многих лет Диккенс заявил, что она должна была понять — и непременно понял а бы, будь она хорошей женой, — что стремление помочь несчастной женщине объяснялось единственно творческим складом и благородством его натуры. Способность гипнотизировать людей, как и способность писать великие романы, является свойством его возвышенной природы, которая есть величайший божий дар. Но теперь Диккенс, младший магистр магнетизма, встретился с верховным магистром. Когда после завтрака в клубе я сложил газеты, бросил салфетку на кресло, взял шляпу с тростью и направился к выходу, я уже нисколько не сомневался: Диккенс еженедельно катается в Лондон, несмотря на свой дикий страх поездов, чтобы побольше узнать кое у кого о месмеризме. И напрашивалось предположение, что этот «кое-кто» носит имя Друд.— О, мистер Коллинз, какая приятная встреча! — произнес хриплый голос у меня за спиной, когда я шагал по Чансери-лейн к Линкольнз-Инн-Корт. — Мистер Филд. — Я бросил взгляд через плечо и небрежно кивнул, но не остановился. Обращение «инспектор» я опустил намеренно, но он либо не заметил этого, либо сделал вид, будто не заметил. — Чудесный осенний денек, не правда ли, мистер Коллинз? — Да. — Намедни тоже погода стояла погожая. Вы хорошо провели время в Гэдсхилле? Я застучал тростью по булыжной мостовой с удвоенной силой. — Вы следите за мной, мистер Филд? Я думал, вы поставили на Мелкомб-плейс мальчишку, которому мне надлежит передавать сообщения для вас. — О да, мистер Коллинз, — сказал Филд, отвечая только на второй мой вопрос. — Гузберри и сейчас терпеливо ждет там. Он может позволить себе быть терпеливым, поскольку я плачу ему за это. Мне же, по роду моей профессии, подобное терпеливое ожидание обходится слишком дорого. Как говорится, время — деньги. Мы прошли через Линкольнз-Инн-Филдс. Джон Форстер, пока не женился, много лет прожил здесь, и я всегда гадал, по случайному ли совпадению Диккенс поселил гнусного адвоката Талкингхорна из «Холодного дома» по старому адресу Форстера. Достигнув Оксфорд-стрит, мы оба остановились на краю тротуара, пропуская несколько грузовых фургонов. Потом нам пришлось ждать, пока мимо проедет вереница экипажей. Филд вынул часы из жилетного кармана и взглянул на циферблат. — Одиннадцать двадцать, — сообщил он. — Мисс Р***, надо полагать, уже выезжает в лондонские предместья, направляясь обратно в Ярмут. Я сжал трость, словно дубинку. — Так значит, ваши люди следят за всеми нами, — проговорил я сквозь стиснутые зубы. — Если вы платите своим агентам за слежку, инспектор, вы теряете не только время, но и деньги. — Согласен, — сказал Филд. — Вот почему информация, которой вы располагаете, сэкономит время нам обоим, мистер Коллинз. — Коли вы следили за мной вчера, — промолвил я, — вам известно столько же, сколько мне. Филд рассмеялся. — Я могу описать маршрут вашей с мистером Диккенсом трехчасовой прогулки, мистер Коллинз. Но я не имею ни малейшего понятия о предмете вашей беседы, хотя знаю, что вы двое проговорили — вернее, мистер Диккенс проговорил — почти всю обратную дорогу от Кулинг-Марш до дома. Признаться, после этих слов лицо мое запылало от гнева. Во время нашей с Диккенсом прогулки я не заметил нигде поблизости ни единого прохожего, но оказывается, какой-то мерзавец неотступно следовал по пятам за нами. Я почувствовал себя виноватым и уличенным, хотя мы с Диккенсом не делали ничего дурного — просто совершали послеполуденный моцион. И откуда Филд узнал, что Марта уехала одиннадцатичасовым поездом, который отошел от платформы всего за двадцать минут до того, как проклятый инспектор сообщил мне о данном обстоятельстве? Неужели один из его агентов сломя голову примчался с вокзала Чаринг-Кросс, чтобы доложить своему назойливому начальнику-шантажисту об этом жизненно важном факте? Или агенты даже сию минуту подают отставному инспектору знаки из какого-нибудь переулка близ Грейс-Инн или Севен-Дайалс? Гнев продолжал нарастать во мне, и сердце мое бешено заколотилось под накрахмаленной сорочкой. — Не желаете ли уведомить меня, куда я направляюсь сейчас, инспектор? — раздраженно осведомился я, поворачивая налево и устремляясь на запад по Оксфорд-стрит. — Я бы предположил, что вы направляетесь в Британский музей, мистер Коллинз, — возможно, с намерением посидеть в читальном зале, но скорее всего, с целью осмотреть ниневийские барельефы Лэйярда и Рича и египетскую этнографическую коллекцию. Я резко остановился. По спине у меня бежали мурашки. — Музей сегодня закрыт, — сказал я. — Да, — кивнулФилд. — Но ваш друг мистер Рид отворит вам боковую дверь и выдаст особый пропуск. Шагнув к пожилому хриплоголосому инспектору, я тихо, но очень твердо проговорил: — Вы ошибаетесь, сэр. — Неужели? — Да. — Я стиснул рукоять трости с такой силой, что мне показалось, будто медь плющится в моем кулаке. — Шантажом вы ничего от меня не добьетесь, мистер Филд. У меня мало секретов — как от моих друзей и близких, так и от моих читателей. Филд вскинул обе руки, словно потрясенный моим предположением. — Разумеется, мистер Коллинз! Разумеется! И это слово… шантаж… оно совершенно неприемлемо в случае, когда речь идет о взаимоотношениях двух джентльменов вроде нас с вами. Мы просто исследуем сферу общих интересов. Если вам понадобится моя помощь, чтобы избежать неприятностей, я весь к вашим услугам, сэр. Собственно говоря, я просто обязан заботиться о благополучии ближних в силу своей профессии. Сыщик использует информацию, чтобы помогать одаренным людям, а не вредить им. — Вряд ли вам удалось бы убедить в этом Чарльза Диккенса, — сказал я. — Особенно если бы он узнал, что вы по-прежнему следите за ним. Филд покачал головой почти печально. — Я хочу именно помочь мистеру Диккенсу, оградить от беды. Он и близко не представляет, сколь опасно для него общение с монстром, называющим себя Друдом. — Со слов мистера Диккенса я понял, что Друд никакой не монстр, а просто человек, превратно понятый окружающими. — Ну да, — пробормотал Филд. — Мистер Коллинз, вы сравнительно молоды — уж всяко моложе мистера Диккенса и меня. Но может, вы помните о смерти лорда Лукана? Я остановился у фонарного столба и постучал тростью по брусчатке. — Лорд Лукан? Радикально настроенный член парламента, найденный убитым много лет назад? — Зверски убитым, — подтвердил инспектор Филд. — У него вырезали из груди сердце, когда он находился один в своем поместье под названием Вайстон, в Хартфордшире, неподалеку от Стивенеджа. Это случилось в сорок шестом году. Лорд Лукан был другом Эдварда Бульвер-Литтона, лорда Литтона — вашего знакомого по литературным кругам и давнего приятеля мистера Диккенса, — и поместье лорда Лукана располагалось всего в трех милях от имения Небворт, принадлежащего лорду Литтону. — Я был там несколько раз. Я имею в виду — в Небворте. Но какое отношение имеет давнее убийство к предмету нашего разговора, инспектор? Филд прижал толстый указательный палец к носу сбоку. — Лорд Лукан — прежде чем он унаследовал титул после смерти старшего брата — звался Джоном Фредериком Форсайтом. Паршивая овца в благородном семействе, даром что он получил инженерное образование и частным порядком издал несколько книг о своих путешествиях. Ходили слухи, будто в молодости, во время длительного пребывания в Египте, лорд Лукан женился на мусульманке и даже стал отцом одного или двух детей, пока оставался там. Жестокое убийство лорда Лукана произошло меньше чем через год после того, как человек, называющий себя Друдом, впервые появился в Лондоне в сорок пятом году. Я молча смотрел на пожилого сыщика. — Так что вы сами видите, мистер Коллинз, — продолжал филд, — мы с вами очень поможем друг другу, коли поделимся всеми известными нам сведениями. Мне кажется, вашему другу мистеру Диккенсу грозит серьезная опасность. Нет, я просто уверен, что мистеру Диккенсу грозит опасность, покуда он продолжает общаться с монстром по имени Друд. Я взываю к вашему чувству ответственности и прошу вас, как ближайшего друга великого писателя, помочь мне защитить его. Я задумчиво погладил бороду и спустя несколько долгих мгновений спросил: — Инспектор Филд, что именно вам от меня нужно? — Только информация, которая позволит нам защитить вашего друга и арестовать злодея, — ответил он. — Иными словами, вы хотите, чтобы я шпионил за Чарльзом Диккенсом и передавал вам все, что он рассказывает о Друде. Пожилой сыщик по-прежнему не сводил с меня проницательного взгляда. И качнул головой еле-еле — я бы и не заметил, когда бы не ожидал кивка. — Еще что-нибудь? — спросил я. — Если бы вам удалось убедить мистера Диккенса, что вы непременно должны сопровождать его в очередном походе в Подземный город, на сей раз до самого логова Друда, вы бы очень помогли делу, — сказал Филд. — Чтобы я сам смог показать вам дорогу, когда придет время арестовать этого человека? — Да. Теперь настала моя очередь кивнуть. — Очень трудно, инспектор, стать доносчиком на ближайшего своего друга — особенно если этот друг обладает темпераментом и общественным влиянием мистера Чарльза Диккенса. Он может уничтожить меня — в профессиональном и буквальном смысле. — Но вы делаете это в его же собственных интересах… — начал инспектор. — Так считаем мы, — перебил я. — Вероятно, когда-нибудь и сам Диккенс придет к такому же мнению. Но он человек крайне эмоциональный, инспектор. Он наверняка никогда не простит меня, коли узнает, что я… шпионил за ним… пусть и ради спасения его жизни. Возможно даже, он попытается отомстить мне. Сыщик продолжал пристально смотреть на меня. — Я просто хочу, чтобы вы поняли, сколь сильно я рискую, — сказал я. — И почему вынужден попросить вас взамен о двух вещах. Если по лицу Филда и скользнула улыбка, то почти неуловимая для человеческого глаза. — Разумеется, мистер Коллинз, — вкрадчиво промолвил он. — Как я говорил, это джентльменская договоренность. Позвольте узнать, в чем заключаются две ваши просьбы. — Инспектор, вы читали роман Диккенса «Холодный дом»? Пожилой господин громко прочистил горло. На секунду мне показалось, что он собирается плюнуть на тротуар. — Скажем так… просматривал, мистер Коллинз… бегло. — Вам известно, инспектор, что многие считают вас прототипом персонажа по имени инспектор Баккет, выведенного в романе? Филд мрачно кивнул. — Вам не нравится этот образ? — Персонаж по имени Баккет, действующий в нарушение всех правил, приличий и принятых процедур, показался мне карикатурой и пародией на полицейского, — прорычал пожилой сыщик. — Тем не менее этот роман — который я лично нахожу невыносимо скучным, особенно в части, где повествование ведется от лица слащавой и надоедливой героини по имени Эстер Саммерсон, — становится заметно живее ближе к концу, когда наш инспектор Баккет берется за расследование убийства адвоката Талкингхорна и пускается в увлекательную, хотя и не увенчавшуюся успехом погоню за настоящей матерью Эстер, леди Дредлок, чье бездыханное тело он в конечном счете обнаруживает у ограды городского кладбища. — К чему вы клоните, сэр? — осведомился Филд. — Будучи профессиональным писателем, инспектор, я по-настоящему заинтересован в создании такого романа, где главным героем является полицейский или частный сыщик, похожий на инспектора Баккета, — только, разумеется, более умный и проницательный, более образованный, более привлекательный внешне и более порядочный. Иными словами, инспектор Филд, персонаж, очень похожий на вас. Пожилой господин с прищуром смотрел на меня. Свой толстый указательный палец он приставил к уху, словно прислушиваясь к советам, которые тот нашептывает. — Вы очень любезны, мистер Коллинз, — наконец произнес он. — Даже слишком любезны. И все же, возможно, в меру своих скромных сил я смогу помочь вам в работе над подобным персонажем и подобным романом. Скажем, буду консультировать вас относительно принятых методов расследования и полицейских процедур во избежание разных искажений и нелепостей, какие допущены в книге мистера Диккенса. Я улыбнулся и поправил очки. — И не только это, инспектор. Я бы извлек огромную пользу для дела, если бы получил доступ к вашим… как там они называются?.. досье об убийствах. Полагаю, вы храните такие материалы, сколь бы ужасны они ни были? — Конечно, сэр, — сказал Филд. — И они действительно окажут неоценимую помощь литератору, желающему добиться полной достоверности в подобном произведении. Вы оказываете мне честь такой своей просьбой, и я с превеликой охотой ее выполню. — Прекрасно, — сказал я. — Вторая моя просьба тоже вряд ли затруднит вас, поскольку вы наверняка будете вести наблюдение за интересующей меня особой независимо от моих пожеланий. — О ком именно вы говорите, сэр? — Я хочу знать все, что вы разведаете об актрисе Эллен Тернан. По какому адресу она сейчас проживает со своей матерью и кто платит за комнаты — не Диккенс ли. Чем она зарабатывает на жизнь и хватает ли заработанных средств для покрытия всех ее расходов. Куда она ездит, с кем общается. В каких отношениях состоит с Чарльзом Диккенсом. Одним словом — все. Инспектор Филд продолжал пристально смотреть на меня бесстрастным, непроницаемым, слегка обвиняющим взглядом — вне всяких сомнений, именно таким взглядом он смотрел на сотни преступников до меня. Но я не был преступником — пока — и потому не дрогнул. — Странная просьба, мистер Коллинз, да будет мне позволено заметить, сэр. Если только вы не питаете личного интереса к мисс Тернан. — Ни малейшего, инспектор, уверяю вас. Просто я убежден, что мисс Тернан имеет некое отношение к… тайне… которую мы с вами пытаемся разгадать, а равно убежден, что знакомство с ней сильно повредило интересам Чарльза Диккенса. Чтобы защитить своего друга… и, возможно, себя самого… я должен побольше узнать о ней и их взаимоотношениях. Филд потер нижнюю губу кривым толстым пальцем. — Вы подозреваете, мистер Коллинз, что мисс Тернан состоит в сговоре с Друдом? Работает на него? Я рассмеялся. — Инспектор, я недостаточно хорошо знаю эту женщину, чтобы строить хоть какие-то предположения. Вот почему информация о ней, ее сестрах и матери, ее взаимоотношениях с моим другом Диккенсом представляется чрезвычайно важной для нас, если мы с вами договоримся действовать сообща. Филд продолжал поглаживать и потирать пальцем нижнюю губу. — Так мы с вами поняли друг друга, инспектор? — спросил я. — Похоже на то, мистер Коллинз. Мне кажется, мы с вами прекрасно друг друга поняли. Я согласен на ваши условия и надеюсь предоставить вам всю интересующую вас информацию. Филд протянул мне мозолистую руку. Я пожал ее. Минутой позже, быстро шагая по направлению к Британскому музею, я подробно пересказал едва поспевавшему за мной Филду все, что накануне говорил мне Чарльз Диккенс в ходе нашей прогулки до Кулинг-Марш и обратно.
Глава 11
Пришла холодная зима: она раздела донага все деревья вокруг Гэдсхилл-плейс, изгнала Диккенса из летнего шале обратно в особняк, в кабинет с растопленным изразцовым камином, погубила алые герани в саду и заволокла хмурыми серыми облаками небо над хмурым серым Лондоном, где я жил. С наступлением зимы обострились наши с Диккенсом недуги. Более знаменитый писатель по-прежнему боролся с тяжелыми психическими последствиями Стейплхерстской катастрофы и постоянной слабостью, с почечными коликами, мучавшими его с самого детства, и онемением левой стороны тела, появившимся после сентябрьского «солнечного удара» во Франции. У него явно были более серьезные нелады со здоровьем, чем он сам признавал. Нас с Диккенсом пользовал один врач, наш общий друг Фрэнк Берд, и, хотя Берд редко обсуждал со мной состояние другого своего пациента, я чувствовал, что он глубоко встревожен. У меня были свои проблемы: ужасные подагрические боли, обмороки, мучительная ломота в суставах, избыточная тучность (у меня никак не получалось урезать дневной рацион, и я презирал себя за безволие), вздутие живота, желудочные колики и прочие расстройства пищеварения, а также сильнейшие сердцебиения. О болезнях Диккенса, казалось, никто даже не догадывался, но о моих, похоже, знали все на свете. Один француз прислал мне через моего издателя письмо, где говорил, что «он поспорил на десять бутылок шампанского, что я не умер, вопреки всеобщему мнению», и просил меня, коли я еще жив, уведомить его о данном факте. Той осенью я писал матери: «Скоро мне сорок (на самом деле в прошлом январе мне исполнился сорок один год), голову быстро запорашивает сединой… ревматизм и подагра уже давно мучают меня, чрезмерная тучность лишает легкости и свободы движений, — наихудшие признаки среднего возраста проявляются все резче». Однако, как я признался далее, я не чувствовал себя старым. У меня не было ни похвальных привычек, ни благородных предубеждений. Дорогой читатель, я еще не рассказал вам о главной женщине в своей жизни. Моя мать, Хэрриет Геддес Коллинз, познакомилась с моим отцом, художником Уильямом Коллинзом, когда обоим было хорошо за двадцать. Она тоже происходила из семьи потомственных художников и с самого детства постоянно рисовала, как и две ее сестры, одна из которых поступила в школу при Королевской академии искусств в Лондоне. Хэрриет Геддес и мой отец впервые встретились на балу, устроенном знакомыми художниками Уильяма Коллинза для своих любовниц, впоследствии несколько раз виделись в Лондоне, в 1821 году убедились, что у них обоих не появилось никаких новых привязанностей, и поженились в Эдинбурге в 1822 году. Я родился через восемнадцать месяцев, 8 января 1824 года. Мой брат Чарльз появился на свет в январе 1828 года. Отец водил дружбу с поэтом Сэмюэлом Тейлором Кольриджем, и я живо помню, как однажды, когда я был маленьким мальчиком, он пришел к нам, не застал отца дома и долго плакался моей матери по поводу своей непреодолимой опиумной зависимости. Тогда я впервые увидел и услышал, как плачет взрослый мужчина — Кольридж прямо-таки задыхался от рыданий, — и я на всю жизнь запомнил слова, произнесенные в тот день моей матерью: «Мистер Кольридж, не убивайтесь так. Если опиум действительно вам помогает и вы без него никак не можете, вам следует просто пойти и купить наркотик». Сколь часто в последние годы, когда я сам проливал горькие слезы из-за своей неуклонно возрастающей потребности в лаудануме, я вспоминал мнение матушки по данному вопросу. Отец пришел домой, едва только Кольридж получил вышеизложенный совет, и я помню, как поэт сказал надтреснутым голосом: «Коллинз, ваша жена — исключительно здравомыслящая женщина». Моя мать была здравомыслящей женщиной, но мой отец был великим художником и великим человеком. Меня назвали Уилки в честь достопочтенного сэра Дэвида Уилки, дружившего с моим отцом еще со школьной скамьи. Именно он вскоре после моего рождения взял меня на руки, заглянул мне в глаза и провозгласил: «Он видит!» (Таким образом он объявил меня творческим преемником отца, но я не оправдал ожиданий. Мой младший брат Чарли унаследовал ярче выраженные художественные способности, и в конечном счете роль преемника досталась ему.) Мой отец был великим человеком и водил дружбу с великими людьми. Я — большеглазый крутолобый мальчик довольно кроткого нрава — считал само собой разумеющимся, что у нас в доме запросто бывают Водсворты, Кольридж, Роберт Саути и сэр Вальтер Скотт. Отец не только получал заказы от таких уважаемых особ, как сэр Фрэнсис Чантри, герцог Ньюкаслский, сэр Роберт Пил, сэр Томас Лоуренс, сэр Томас Хиткоут, сэр Томас Бэринг, сэр Джордж Бомон и лорд Ливерпуль, но и проводил с ними много времени. Конечно, проводить время с размахом отец считал нужным отдельно от нашей матери. Я уверен, он не стыдился своей жены, а уж тем более Чарльза или меня, но все равно предпочитал проводить время в обществе великих людей вдали от домашнего очага. Однако он исправно писал домой и зачастую, рассказав об интересных событиях и неожиданных встречах, произошедших у него за дни и недели отсутствия, добавлял постскриптум, подобный приведенному ниже, который я обнаружил, когда недавно разбирал бумаги матери.Я отчаянно скучаю по дому, хотя и провожу здесь время со всем удовольствием, какое только могут доставить милейшие друзья, веселые молодые дамы и самые разные развлечения, доступные нам в этой жизни. Я утешаюсь надеждой, что мое праздное времяпрепровождение тебе по нраву и что оно пойдет на пользу моему здоровью, а посему исполнен решимости отдохнуть на славу.Думаю, отец действительно отдыхал на славу, хотя, несмотря на многочисленные заказы, поступавшие от известных персон, не имел постоянного дохода. Однако мать жила экономно и приучала нас с Чарли к равно скромному образу жизни, а потому денежный вопрос у нас не стоял. Отец был очень религиозным человеком. Он давно поклялся сам избавиться от всякой предрасположенности к лени и неблагочестивости и не потерпел бы подобной склонности в жене и детях. Иные считали его придирчивым занудой, даже резонером, но это несправедливо. В другом письме к моей матери, присланном из какого-то шотландского замка, когда мы Чарли еще ходили в коротких штанишках, отец писал:
Скажи нашим милым мальчикам, что угодить своим родителям они могут единственно беспрекословным послушанием. Пусть Чарли найдет в Священном Писании места, где об этом сыновнем долге говорится с особой настойчивостью, и выпишет их для меня.А в отдельном письме к нам с братом, которое я до сих пор храню и часто перечитываю, Уильям Коллинз выказал подлинный религиозный пыл.
Последнее письмо вашей матери с рассказом о вас обоих премного меня порадовало. Продолжайте молиться Богу — через Иисуса нашего Христа, — дабы Он силой Святого Духа помог вам стать истинным благословением для ваших родителей.Верный своим убеждениям, отец прослыл ярым обличителем и разоблачителем всяческого порока. Он весьма нетерпимо относился к терпимости. Когда однажды наш сосед, художник Джон Линнел (написавший несколько наших портретов), был замечен за работой в воскресенье — он подвязывал грушевые и персиковые деревья в своем саду, — отец не только строго выговорил ему, но и донес на него приходскому священнику. Он также принял на веру и распространил слух, будто Линнел обманул одного из своих садовников, незаплатив тому за работу, и, когда Линнел потребовал объяснений по данному поводу, отец возмущенно вскричал: «Какое имеет значение, заплатили вы садовнику или нет, если вы постоянно совершаете десятикрат худшие поступки?» К десятикрат худшим поступкам относились работа в воскресный день и обращение в пуританство. Однажды мы с отцом столкнулись на Стрэнде с поэтом Уильямом Блейком, и когда Блейк — знакомый нашей семьи — окликнул отца и приветственно протянул руку, тот демонстративно отвернулся и увел меня прочь, прежде чем я успел открыть рот. Блейк, видите ли, в другой руке держал кружку портера. Позже, когда в возрасте двадцати с малым лет, уже после кончины отца, я писал воспоминания о нем, я вдруг осознал, какую зависть он вызывал у многих так называемых великих художников из числа своих современников. Например, Джон Констебл, давний его знакомый, выручал всего лишь несколько сотен фунтов в год за свои сумрачные пейзажи с неизменным облачным небом, в то время как мой отец ежегодно зарабатывал свыше тысячи фунтов, выполняя заказы на картины, которые Констебл презрительно называл «миленькими пейзажиками» и «безжизненными, бездушными модными портретами». Однажды, когда Констебл остался совсем без заказчиков (главным образом потому, что упорно продолжал писать не пользующиеся спросом полотна вроде «Хлебного поля», тогда как мой отец всегда учитывал интерес заказчиков и Академии искусств к произведениям более декоративного характера), расстроенный пейзажист сочинил письмо — к великой ярости моего отца преданное гласности, — где говорилось, в частности, следующее: «Тернан выставляет большое полотно с видом Дьеппа… насчет Кэлкотта ничего не знаю… Коллинз изобразил очередной береговой пейзаж с традиционной рыбой, а также пейзаж с огромной кучей коровьего навоза — или чем-то очень на нее похожим по форме и цвету». Как я упомянул выше, еще в нашу с братом бытность малыми детьми отец решил, что настоящим его преемником в части художественного дарования и профессии станет Чарли, а не я, — несмотря на провозглашенное у моей колыбели пророчество сэра Дэвида Уилки, моего тезки. Отец отдал Чарли в частную художественную школу, много путешествовал с ним по Европе, подробно разбирая живописные произведения, представленные в музеях и соборах (хотя ему глубоко претило заходить в католические храмы), и помог моему брату поступить в престижную Королевскую академию искусств. Отец никогда не заводил со мной разговоров о моем будущем и Дальнейшем моем месте в жизни — лишь однажды, когда мне было тринадцать, посоветовал подумать о поступлении в Оксфордский университет и принятии духовного сана впоследствии. Именно в тринадцатилетнем возрасте, когда мы всей семьей выехали в Европу и надолго остановились в Риме, я пережил первый свой полноценный любовный роман. Я в подробностях поведал о нем Чарльзу Диккенсу ровно семнадцать лет спустя, во время следующего своего посещения Рима и первой поездки на Континент в обществе знаменитого писателя, и Неподражаемый пришел в такой восторг от истории, свидетельствующей о моей преждевременной половозрелости, что рассказал все (как он позже признался) своей свояченице Джорджине Хогарт, умолчав лишь «о деталях интимного свойства». Диккенс со смехом описывал, как покраснела Джорджина, когда он завершил рассказ о моем первом опыте плотской любви следующими словами: «И наш юный Уилли показал себя чистым Юпитером в этом деле». Во всяком случае, даже в возрасте тринадцати лет я не имел ни малейшего намерения поступить в Оксфордский университет, чтобы впоследствии заделаться священником. Художники по натуре своей очень чувствительны и впечатлительны (по крайней мере, во всем, что касается собственных чувств), а юный Чарли был чувствительнее и впечатлительнее многих. Не будет преувеличением сказать, что мой брат был меланхоличным ребенком, постоянно погруженным в свои думы, и наши родители — особенно мать — видели в его неизбывной печали, граничившей с угрюмостью, свидетельство великого художественного дара. И еще Чарли не любил женщин. Здесь я прервусь, дорогой читатель, чтобы просить вас проявить снисходительность в данном пункте. Когда бы мои мемуары не предназначались далеким потомкам, я бы вообще не упомянул об этом обстоятельстве, но, как вы наверняка уже поняли, Чарльз Диккенс питал глубокую, непреходящую неприязнь к своему зятю Чарльзу Коллинзу, и я боюсь, не последнюю роль здесь сыграла именно неприязнь моего брата к женщинам (если не открытое женоненавистничество). Не знаю, как в вашу эпоху, а в наше время считалось обычным делом, что в своей жизни молодые мужчины проходят через длительные периоды, когда женскому обществу они решительно предпочитают мужское. Если учесть ограниченность женского образования в наши дни, не говоря уже об исторически подтвержденной неспособности прекрасного пола к сложным наукам, представляется вполне закономерным, что глубоко мыслящие и тонко чувствующие мужчины направляли свой интерес на других мужчин. Однажды, когда Чарли было около пятнадцати, я случайно наткнулся на альбом с зарисовками, против обыкновения валявшийся у него в комнате на самом виду (вообще-то мой брат всегда отличался крайней скрытностью и аккуратностью), и шутливо прошелся по поводу того факта, что все без исключения эскизы человеческих фигур там изображают обнаженных мужчин. Чарли покраснел до ушей, но сказал с неподдельной горячностью: — Я терпеть не могу рисовать женщин, Уилли. А ты? Я имею в виду, У них у всех нелепые жировые складки, припухлости, обвислости, выпуклости там, где не надо. Мне гораздо больше нравятся крепкие, подтянутые ягодицы, мускулистые бедра, плоские животы и рельефные грудные мышцы мужчин, чем отвратительные мясистые наросты и противные одряблости на женском теле. Пока я силился придумать какое-нибудь остроумное замечание, достойное искушенного девятнадцатилетнего джентльмена вроде меня, Чарли продолжил: — Я имею в виду, Уилли, что все обнаженные женщины, изображенные Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы — включая саму Еву, — на самом деле написаны с обнаженных мужчин. Даже великого Микеланджело совершенно не привлекало женское тело! Что ты на это скажешь, брат? Я почувствовал искушение сказать, что находился вместе с ним в Риме тем жарким, душным днем, когда наш отец поведал нам обоим об этом интересном факте. Но я воздержался. Тогда, в комнате брата, пока он прятал альбом с эскизами в ящик стола, под ключ, я сказал лишь одно: «Это очень хорошие рисунки, Чарли. Действительно очень хорошие». Я не стал никак комментировать то обстоятельство, что брат не только нарушил неписаное правило, возбраняющее художнику изображать мужские гениталии (их надлежало по крайней мере обозначать незаштрихованным пятном, а предпочтительно — прикрывать узкой набедренной повязкой), но в ряде случаев нарисовал половой орган в явно возбужденном состоянии. Всего через несколько месяцев нечто подобное — возможно, аналогичная непристойность отдельных рисунков или высказываний Чарли — стало известно отцу. Я помню, как однажды Утром отец вызвал моего брата к себе в студию и плотно затворил за ним дверь, после чего оттуда несколько минут кряду доносились вопли чувствительного паренька, которого отец лупил розгой, тростью или рейсшиной. Думаю, после смерти отца мы с Чарли оба с удовольствием прожили бы до скончания своих дней с нашей матушкой в чудесном доме на Ганновер-Террас. Но из-за связи с Кэролайн Г*** мне пришлось покинуть эту мирную гавань. И все же в течение многих месяцев и даже лет после того, как мы с Кэролайн и Хэрриет (мне страшно нравилось это совпадение имен!) перебрались на новое место жительства, я часто возвращался в материнский дом, чтобы именно оттуда писать и отправлять письма нашим с матерью общим друзьям, — своим же собственным друзьям и знакомым я писал с нового адреса. Разумеется, матушка не знала о существовании Кэролайн, а если и знала, то никогда этого не показывала. С одной стороны, потчуя ее разными историями из своей холостяцкой жизни, я никогда не упоминал ни о каких женщинах, тем более о вдовой Кэролайн, но с другой стороны, за все годы моего проживания совместно с миссис Г*** и Хэрриет моя мать ни разу не изъявила желания приехать ко мне в гости. Я все еще жил с матерью, когда в 1851 году познакомился с Диккенсом. Позже один журналист, вспоминая меня и Диккенса в начальной поре нашего знакомства, написал о нас следующее: «Равно энергичные и жизнерадостные, оба они страстно увлекались театром, любили шумные пирушки, общество друзей и путешествия, веселились от души, отдыхали деятельно, реагировали на все бурно». А после наших путешествий, деятельного отдыха и бурных реакций Диккенс возвращался домой, к неуклонно толстеющей и глупеющей жене, а я возвращался домой, к матушке. Чарли наверняка жил бы с матерью до самой ее смерти и, возможно, остался бы в ее доме до самой своей смерти, если бы не женитьба на Кейт Диккенс. Никто из нас никогда не узнает, почему вдруг Чарли сделал Кейт предложение в конце весны 1860 года. Вообще-то, насколько я понимаю, это Кейт сделала предложение Чарли. Во всяком случае, именно она настояла на том, чтобы бракосочетание произошло в самом скором времени, в середине лета, — несмотря на недовольство отца, открыто и резко возражавшего не только против даты свадебной церемонии, но и против самого брака. Опыт общения с прекрасным полом у Чарли был небогатый. На самом деле до тридцати двух лет (то есть до своей женитьбы) он продолжал избегать женщин. Весной и летом 1860 года ходили слухи, будто Кейти Диккенс влюбилась и добивалась взаимности Эдмонда Йетса, молодого друга Неподражаемого, — журналиста, который поспособствовал разрыву отношений между Диккенсом и Теккереем, написав чрезвычайно нелестный очерк о старом писателе. Один из современников отзывался о Йетсе следующим образом: «…поистине обаятельный господин. Но весьма поверхностный». Поверхностный или нет, Кейт Диккенс в него влюбилась, а когда Йетс отказался замечать ее страстные чувства, несмотря на свои частые визиты сначала в Тэвисток-хаус, потом в Гэдсхилл-плейс и несмотря на откровенные заигрывания Кейти, явные для всех, включая Чарльза Диккенса и меня, своевольная молодая женщина (тогда ей только-только стукнуло двадцать) сделала предложение моему брату Чарли. За несколько месяцев до свадьбы, после своего визита в Гэдсхилл, где перенаправленные матримониальные устремления Кейти опять ни для кого не являлись секретом, я написал матери: «…Чарли по-прежнему отчаянно пытается убедить себя в необходимости жениться». Много лет спустя, после смерти младшего брата от язвы желудка, переродившейся в злокачественную опухоль, я спросил Кейти, почему она затащила его под венец. «Мне нужно было вырваться из отцовского дома, — ответила она. — Сбежать от отца». Диккенс не скрывал своего резко отрицательного отношения к этому союзу. Но Кейти была его любимой дочерью, и он не мог ни в чем ей отказать, даже в такой дурацкой прихоти, как брак с Чарльзом Коллинзом. Семнадцатого июля 1860 года церковь Святой Марии в Хайеме (церковный шпиль будет виден из верхних окон диккенсовского шале, которое смонтируют пять лет спустя) буквально утопала в белых цветах. Соседи из низшего сословья соорудили на подходе к церкви цветочные арки. Накануне вечером деревенские жители дали салют из ружей в честь бракосочетания, но раздраженный и встревоженный Чарльз Диккенс выскочил на лужайку перед домом, в ночной рубашке и с дробовиком в руках, и возмущенно осведомился: «Что здесьпроисходит, черт возьми?» Для доставки гостей из Лондона был заказан специальный поезд. Помню, я болтал по дороге с Томасом Бердом, двадцатью с лишним годами ранее выступавшим в роли шафера Чарльза Диккенса. Берд являлся единственным из гостей, кто присутствовал на свадьбе отца новобрачной, хотя в своем коротком, приличествующем случаю тосте Диккенс сам иронично — даже с горечью — упомянул об «аналогичной церемонии, проведенной в столичном особняке около двадцати четырех лет назад». Разумеется, мать Кейт, Кэтрин, на бракосочетании не присутствовала. Как и Элизабет Диккенс, престарелая мать Неподражаемого. Из числа родственников невесты по материнской линии приглашение получила одна только Джорджина Хогарт. Похоже, на отсутствие прочих представителей семейства Хогарт никто не обратил внимания. После обряда венчания толпа гостей вернулась в Гэдсхилл, где ждал роскошный свадебный завтрак. Столовая зала тоже была красиво убрана белыми цветами. Завтрак, хотя и обильный, продолжался всего лишь час. Хозяин дома пообещал всем, что никаких речей не будет, и дело обошлось без речей. Я заметил, что новобрачные немного посидели за столом, а потом исчезли, пока гости играли в разные игры на лужайке. Моей матери, которая отнеслась к этому союзу ничуть не лучше Чарльза Диккенса, тем утром требовался постоянный уход. Когда Чарли и Кейт вернулись, уже переодетые в дорожное платье, невеста была в черном. Кейт не выдержала и разрыдалась на плече у отца. Чарли с каждой минутой бледнел все сильнее, и я даже испугался, как бы он не лишился чувств. Мы с матерью присоединились к толпе из примерно тридцати гостей, собравшихся на песчаной дорожке, чтобы поцеловать новобрачных, обменяться с ними рукопожатиями и пожелать счастья. Когда карета укатила, матушка пожаловалась на плохое самочувствие. Я усадил ее на скамью в тени и пошел сообщить Чарльзу Диккенсу о нашем отъезде, но не нашел хозяина дома ни на лужайке среди резвящейся молодежи, ни в гостиной на первом этаже, ни в бильярдной, ни в рабочем кабинете. Я увидел Мейми, сходившую по лестнице, и поднялся в спальню Кейти — то есть в комнату, служившую спальней Кейти до сегодняшнего утра. Диккенс стоял там на коленях у кровати, зарывшись лицом в свадебное платье дочери, и плакал навзрыд, как малое дитя. Он поднял голову, увидел сквозь слезы мой силуэт в дверном проеме и, вероятно, приняв меня за Мейми, выкрикнул прерывистым голосом: «Если бы не я, Кейти не ушла бы из дома!» Не промолвив ни слова, я повернулся кругом, спустился вниз, вышел на лужайку и распорядился подать нам с матерью экипаж, чтобы воротиться в Лондон. За годы совместной жизни у Чарльза и Кейти не появилось детей. Ходили слухи — возможно, пущенные Диккенсом, а возможно, и самой Кейти, — что они так и не осуществили брачные отношения. Надо признать, к лету 1865 года, когда Диккенс пережил железнодорожную катастрофу, Кейти производила впечатление положительно несчастной женщины и флиртовала со всеми мужчинами подряд, явно желая завести любовника. Многие из них без малейшего зазрения совести вступили бы в связь с замужней дамой, если бы не свирепый нрав и неусыпная бдительность ее отца. Хронические недуги и желудочные боли Чарли тоже стали проблемой в семейном кругу Диккенса. Я всегда полагал, что брат страдает всего лишь язвенной болезнью, и, когда он умер от рака желудка в 1873 году, я нашел слабое утешение единственно в том обстоятельстве, что Чарльз Диккенс перешел в мир иной раньше его. Странной осенью 1865 года Диккенс как-то резко сказал мне: «Вид вашего брата, Уилки, навевает мысли о смерти всякий раз, когда мы завтракаем здесь за общим столом». Всем вокруг представлялось очевидным: Неподражаемый, никогда не признающий собственных своих болезней и не допускающий даже мысли о собственной своей смерти, твердо считает, что мой брат не жилец на белом свете и что ему лучше умереть поскорее. Теперь мы возвратимся, дорогой читатель, к плачевному состоянию собственного моего здоровья зимой с 1865 на 1866 год. Мой отец мучался ревматизмом, который поразил у него левый глаз, лишив возможности писать картины в последние годы жизни. Моя ревматическая подагра неизменно обострялась в правом глазу, практически ослепляя меня и заставляя напряженно прищуривать левый глаз, когда я водил пером по бумаге. Боль распространялась вниз по правой руке, сковывая пальцы, и мне приходилось перекладывать перо в левую руку, чтобы обмакнуть его в чернила. В конечном счете я вообще утрачу способность писать и стану диктовать свои романы, лежа на кушетке. Но предварительно приучу свою секретаршу, юную Хэрриет (позже у меня появится другой секретарь, жуткий и зловещий), не обращать внимания на мои страдальческие крики и слушать только фразы, произносимые между ними. Я уже говорил, что облегчение мне приносил только лауданум. Кажется, я говорил также, что обычной дозой считались от трех до пяти капель жидкого опиума на стакан вина, но к названной зиме мне уже требовалось от трех до пяти рюмок лекарства, чтобы плодотворно поработать или крепко уснуть. Лауданум, как я упоминал выше, имел побочные действия. Чувство постоянного преследования. Различные галлюцинации. (Поначалу я принял зеленокожую клыкастую женщину за галлюцинацию, но несколько раз — после того как она нападала на меня на темной лестнице — я по пробуждении обнаруживал глубокие царапины у себя на шее.) Однажды ночью, когда я работал в кабинете над романом «Армадейл», я вдруг увидел человека, который сидел в кресле всего в нескольких дюймах от меня и тоже писал. Он походил на меня как две капли воды. Вернее, он был я сам: одетый в точно такой же костюм, с точно таким же пером в руке и с таким же тупым, ошеломленным выражением лица, какое, по всей вероятности, было у меня. Он потянулся к чистой странице моей тетради. Я не мог позволить ему писать в своей тетради. Не мог допустить, чтобы хоть одна моя страница стала его страницей. Мы с ним сцепились в борьбе. Кресла опрокинулись, сбитая со стола лампа погасла. В кромешной тьме я оттолкнул противника, выбежал в коридор и укрылся в своей спальне. Войдя в кабинет поутру, я увидел, что стена, окно и подоконник, угол дорогого персидского ковра, мое кресло и две книжные полки густо забрызганы чернилами. И обнаружил, что следующие шесть страниц моего нового романа написаны почерком, очень похожим на мой, но не моим. Я сжег все их в камине.
Глава 12
В декабре 1865 года инспектор Филд через здоровенного сыщика Хэчери сообщил мне, что «пациентка» Диккенса Эллен Тернан уже вполне оправилась от травм, полученных в Стейплхерстской катастрофе: она не только присутствовала на балу, устроенном братом жениха ее сестры, Энтони Троллопом, но даже танцевала там. С красными геранями в волосах. К Рождеству инспектор Филд стал все чаще выражать недовольство, что он поставляет мне гораздо больше информации, чем я — ему. Так оно и было. Хотя осенью Диккенс несколько раз приглашал меня в Гэдсхилл, хотя мы с ним неоднократно обедали в городе и вместе посещали различные приемы в течение нескольких месяцев, пока он медленно оправлялся после Стейплхерстской катастрофы, мы никогда больше не заводили разговоров о Друде. Складывалось впечатление, будто Диккенс каким-то образом проведал, что я вступил в предательский сговор с коварным инспектором Филдом. Но коли так, почему Неподражаемый продолжал приглашать меня в гости, писать мне письма со свежими новостями и обедать со мной в наших любимых лондонских ресторациях? Во всяком случае, всего через неделю после того, как я слово в слово повторил Филду рассказ Диккенса о встрече с Друдом, инспектор уведомил меня, что писатель солгал мне. А раз так, осознал я, значит, никакого притока подземной реки, описанного Диккенсом, не существует. Нет никакого тоннеля, ведущего к другой реке; нет никаких подземных трущоб, населенных беднягами, которым не нашлось места наверху; и нет никакого египетского храма на берегу так и не найденного подземного Нила. Диккенс либо солгал мне с целью скрыть настоящий путь к логову Друда, либо вообще выдумал всю историю про встречу с ним с начала до конца. Инспектор был недоволен. Очевидно, он и его люди много часов или даже несколько суток кряду обследовали катакомбы и канализационные тоннели — и все без толку. Если дела и дальше будут продвигаться с такой скоростью, сказал мне Филд во время одной из наших редких и безрадостных встреч, он никогда не арестует Друда и умрет от старости, не успев угодить своему бывшему начальству в Столичной полиции и добиться восстановления пенсии и своего доброго имени. Тем не менее в течение всей зимы инспектор продолжал делиться со мной информацией. Осенью, завершив работу над «Нашим общим другом» и с удовольствием пронаблюдав за появлением заключительных выпусков романа в «Круглом годе», Диккенс арендовал в Лондоне дом по адресу Саутвик-плейс, шесть, рядом с Гайд-парком. Ничего таинственного в этом не было: примерно двумя годами ранее он снимал похожий дом по соседству от нынешнего, прямо за углом, поскольку хотел иметь в Тибурнии удобное место для различных светских встреч и приемов. Новый дом у Гайд-парка предназначался также для дочери Диккенса Мейми, чтобы она в любое время могла приезжать в город по своим светским надобностям (вероятно, немногочисленным, ибо в ту пору и Мейми, и Кейти не пользовались популярностью в высшем обществе). Коротко говоря, в аренде дома рядом Гайд-парком не было ничего таинственного. Однако — как через несколько недель заметит мне инспектор Филд, многозначительно подморгнув и потрогав нос толстым пальцем, — гораздо более загадочным представлялся тот факт, что Диккенс снял два маленьких дома в деревне Слау: один (под названием Элизабет-коттедж) на Хай-стрит, а другой на Черч-стрит, всего в четверти мили от первого. К Рождеству я еще не знал этого, но позже инспектор Филд уведомит меня, что Диккенс арендовал оба дома под фамилией Трингхэм, в первом случае он представился Чарльзом Трингхэмом, а во втором — Джоном Трингхэмом. Поначалу, как впоследствии сообщит мне инспектор Филд, дом на Черч-стрит пустовал, но потом в него въехали некая миссис Тернан и ее дочь Эллен. — Мы не знаем, почему мистер Диккенс назвался Трингхэмом, — сказал инспектор Филд, когда мы с ним прогуливались по Дорсет-Сквер вскоре после Нового года. — На поверхностный взгляд, это кажется неважным, но в нашем деле всегда полезно понимать, почему человек выбирает то или иное имя, чтобы под ним творить свои грязные дела. Проигнорировав выражение «грязные дела», я сказал: — На Веллингтон-стрит, неподалеку от редакционной конторы нашего журнала «Круглый год», есть табачная лавка. Хозяйкой лавки является некая Мэри Трингхэм, наша с Диккенсом хорошая знакомая. — Ага… — с сомнением протянул инспектор Филд. — Но едва ли Диккенс позаимствовал имя у нее, — добавил я. — Да? — Да, — сказал я. — Инспектор, вам случайно не доводилось читать повесть некоего Томаса Худа, опубликованную в тридцать девятом году? — Не доводилось, — проворчал инспектор. — В ней идет речь о деревенских сплетнях, — сказал я. — И там есть один стишок с такими строками:Все, что угодно, узнаешь из толков и слухов, Коли приедешь в деревню болтливую Трингхэм.
— Ага… — повторил инспектор Филд на сей раз более убежденно. — Мистер Диккенс… или мистер Трингхэм, коли он предпочитает такое имя… всячески старается скрыть тот факт, что он бывает в Слау. — Каким образом? — спросил я. — Все свои письма он отправляет из Итона и говорит друзьям, что он просто-напросто прогуливается в тамошнем парке, — сказал инспектор Филд. — От Слау до Итонской железнодорожной станции он каждый раз идет обходным путем через поля, словно хочет, чтобы его видели — если уж заметят — ждущим поезда именно там, а не в Слау. Я остановился и резко осведомился: — Откуда вы знаете, что именно мистер Диккенс говорит в своих частных письмах, инспектор? Вы что, вскрываете его почту или допрашиваете его друзей? Инспектор Филд лишь улыбнулся в ответ. Но все это, дорогой читатель, я узнаю лишь весной 1866 года, а сейчас я должен вернуться к странному памятному Рождеству 1865-го.
Когда Диккенс пригласил меня в Гэдсхилл-плейс на Рождество, предложив погостить до Нового года, я без раздумий принял приглашение. «Дворецкий и матушка Дворецкого поймут вас», — писал он в обычной своей шутливой манере, имея в виду Хэрриет (которую в последнее время мы звали Кэрри даже чаще прежнего, даром что она взрослела) и ее мать Кэролайн. Я не уверен, что Кэролайн и Кэрри вполне поняли или одобрили мое решение провести праздничную неделю вне дома, но меня это мало волновало. Во время короткого путешествия поездом до Чатема я держал в руках рождественский номер «Круглого года» — вышедший на днях при непосредственном моем участии и содержавший рождественскую повесть Диккенса «Коробейник» — и размышлял об «утке и основе» последних произведений Неподражаемого. Наверное, только писатель (или какой-нибудь будущий литературный критик вроде вас, дорогой читатель) в состоянии увидеть, что кроется за текстом другого писателя. Начну с упомянутой рождественской повести Диккенса. В «Коробейнике» (в наши дни таким словом обозначали странствующих торговцев, переезжавших с разным дешевым товаром от одной деревни к другой) речь идет о человеке, потерявшем жену, похоронившем любимую дочь и вынужденном — по причинам профессионального свойства — скрывать свои чувства от окружающих. Персонаж Диккенса, так называемый король коробейников, проникается отеческим чувством к юной девушке «с очаровательным личиком и блестящими черными волосами». Не является ли заглавный герой искаженным автопортретом писателя? Не Эллен ли Тернан выведена в образе юной девушки? Разумеется, Диккенс не был бы Диккенсом, если бы девушка с очаровательным личиком и блестящими черными волосами не оказалась еще и глухонемой. Чего бы стоила диккенсовская рождественская повесть без ложного пафоса и смешной сентиментальности? «Поглядите на нас, пока мы на подножке, — говорит коробейник, имея в виду часы бойкой торговли с подножки фургона при большом скоплении народа, — и вы согласитесь дорого заплатить, чтобы поменяться с нами местом. Поглядите, каковы мы, когда сходим с подножки, и вы добавите еще сколько угодно, лишь бы расторгнуть сделку». Не говорит ли здесь Чарльз Диккенс о глубокой пропасти между своей показной веселостью и общительностью в публичной жизни — и своей неизбывной печалью и глубоким одиночеством в жизни частной? Потом еще был огромный роман «Наш общий друг» (законченный, как и «Коробейник», в сентябре), последний, девятнадцатый, выпуск которого совсем недавно появился в «Круглом годе». Пожалуй, только профессиональному писателю дано понять, насколько это сложное и опасное произведение. Я читал «Нашего общего друга» выпусками, ежемесячно выходившими в нашем журнале в течение последних полутора лет; я слышал, как Диккенс выступал с чтением отдельных глав перед немногочисленными собраниями слушателей; я читал часть романа в рукописи, а после публикации последнего выпуска перечитал все с начала до конца. Это было что-то невероятное. Впервые в жизни, кажется, я ненавидел Чарльза Диккенса из чистой зависти. Не знаю, как там в ваше время, дорогой читатель, но в нашу эпоху, в шестидесятые годы девятнадцатого века, трагедия уже вытесняла комедию из сердец и умов «серьезных читателей». Трагедии Шекспира ставились в театрах гораздо чаще, чем его блистательные комедии, и пользовались гораздо большим вниманием критики и публики. Полные глубокого юмора произведения, скажем, Чосера или Сервантеса заменялись в списках обязательной литературы трагедиями и более серьезными сочинениями классических и современных авторов. Если эта тенденция так и не прекратилась, дорогой читатель, значит, ко времени, когда вы читаете мою рукопись, искусство комедии уже полностью утрачено. Впрочем, о вкусах не спорят. С течением лет — и уже десятилетий — проза Чарльза Диккенса становилась все более мрачной и серьезной, избранные писателем темы определяли структуру романов и точное (чересчур точное) место каждого действующего лица в тематически обусловленной структуре произведения — диккенсовские персонажи все сильнее напоминали библиотечные карточки, аккуратно разложенные по ящичкам. (Я вовсе не хочу сказать, что даже самые серьезные романы Диккенса, созданные в последние годы, напрочь лишены юмора. Полагаю, Диккенс ни в одном своем сочинении не мог обойтись вообще без юмора, как не мог оставаться совершенно серьезным на похоронах. В этом отношении он был неисправим. Но с течением времени он брался за все более и более серьезные темы, уходя все дальше от практически бесструктурных жизнерадостных произведений в духе «Пиквикского клуба», сделавших его Неподражаемым Бозом, и все больше сосредоточиваясь на социальной критике и социальной сатире, важных для него лично.) Однако в «Нашем общем друге» Диккенс на протяжении всех восьмисот с лишним страниц, набранных убористым шрифтом, выдержал комедийную интонацию, не допустив, по моему мнению, ни единой фальшивой ноты. Это было невероятно. Меня всего просто ломало, буквально физически, от зависти, смешанной с восхищением. В «Нашем общем друге» Диккенс отказался от основных своих мотивов, представленных в «Крошке Доррит», «Холодном доме» и «Больших надеждах», и почти полностью пренебрег своими личными и общественными убеждениями в пользу тонкой психологической проработки характеров и отточенного литературного стиля, близкого к совершенству. Очень близкого. Еще никогда раньше он не создавал образов столь сложных и неоднозначных. Казалось, он воскресил в памяти многих своих прежних персонажей и заново переосмыслил с позиции зрелости и всепрощения. Так, безнравственный адвокат Талкингхорн из «Холодного дома» вновь появляется в обличье молодого адвоката Мортимера Латвуда, но на сей раз исправляется, чего никогда не сделал бы прежний Талкингхорн. Гнусный Ральф Никльби возрождается в пройдохе Фледжби, но не избегает наказания, в отличие от Никльби. (Сцену жестокого избиения Фледжби другим пройдохой я считаю одной из лучших в обширном творческом наследии Диккенса.) НоддиБоффин — это Скрудж, не ставший скрягой. Старый еврей мистер Райя искупает грехи диккенсовского Феджина (порой подвергавшегося критике, особенно со стороны евреев), представая перед нами не бессердечным ростовщиком, а совестливым клерком бессердечного ростовщика-христианина. А Подснеп — помимо того что он являет собой убийственный портрет Джона Форстера (убийственный, но прописанный столь тонко, что Форстер так и не узнал себя в персонаже, хотя все остальные узнали), — так вот, Подснеп… это просто Подснеп. Олицетворение подснеповщины. Которую, возможно, следует признать квинтэссенцией нашей эпохи. И все же, хотя по своей интонации и композиции «Наш общий друг» представляет собой безупречную сатирическую комедию, достойную самого Сервантеса, действие романа разворачивается на фоне болезненно мрачном. Бесплодной каменной пустыней оборачивается здесь Лондон, «погрязающий в бедности с умножением своих богатств, утрачивающий величие по мере разрастания своих владений». Это «унылый город, без единого просвета в свинцовом своде небес». Он рисуется в темных, почти траурных тонах, и даже туман, коричневато-желтый на окраине, меняет цвет на бурый ближе к центру, а в самом сердце Сити становится и вовсе ржаво-черным — «столица казалась сплошной массой тумана, полной глухого стука колес и таящей в себе грандиознейший насморк». Диккенс изображает свой любимый город либо серым, либо пыльным, либо грязным, либо холодным, либо окутанным мраком, либо насквозь продуваемым ветром, либо мокнущим под проливным дождем, либо утопающим в собственных отбросах и нечистотах. В «Нашем общем друге» при описании Лондона чаще всего используются сразу все перечисленные черты. Однако в этом безрадостном, страшном городе, среди бушующих волн недоверия, низкого коварства, бездарной лжи, вездесущей алчности и кровожадной ревности, персонажам все же удается обрести любовь и поддержку — но не в семейном кругу, как всегда прежде было принято у Диккенса и прочих писателей нашего времени, а в узком кругу друзей и возлюбленных, который, подобно семье, ограждает симпатичных нам героев от штормов нищеты и социальной несправедливости. Диккенс создал шедевр. Читатели этого не поняли. Первый выпуск романа в «Круглом годе» разошелся превосходно (в конце концов, это был первый за два с половиной года новый роман Диккенса), но продажи быстро упали, и последний выпуск разошелся тиражом всего девятнадцать тысяч экземпляров. Это стало для Диккенса горьким разочарованием, и, хотя сам он получил от публикации прибыль в размере примерно семи тысяч фунтов (о чем при мне обмолвилась Кейти в разговоре с моим братом Чарльзом), издатели Чапмен и Холл остались в убытке. Критики либо безудержно превозносили, либо равно безудержно ругали «Нашего общего друга», в одном и другом случае впадая в неизбежные преувеличения, но преобладало в критических отзывах чувство разочарования. Люди интеллектуального склада ожидали от Диккенса очередного пронизанного социальной критикой романа по образцу «Холодного дома», «Крошки Доррит» и «Больших надежд», но получили всего-навсего… комедию. Однако, как я сказал выше, только профессиональный писатель вроде меня мог увидеть, что Диккенс достиг почти невозможного, безупречно выдержав легкую сатирическую интонацию на всем протяжении длиннющего романа, ни разу не позволив сатире соскользнуть в цинизм, комическим образам — превратиться в грубые карикатуры, безжалостной критике современного общества — вылиться в трескучие проповеди. Иными словами, только я мог понять, что «Наш общий друг» — это подлинный шедевр. Я возненавидел Диккенса. Тогда, сидя в поезде, катившем от Лондона к Гэдсхиллу, я, писатель-соперник, жалел, что Чарльз Диккенс не погиб в Стейплхерстской катастрофе. Ну почему он выжил? Ведь там погибло так много людей! И он, к нестерпимой моей досаде, писал и хвастался мне и прочим своим друзьям, что из всех первоклассных вагонов один только его вагон не упал с моста в речное ложе и не разбился вдребезги. Но помимо всего перечисленного в «Нашем общем друге» я прозрел сугубо личные моменты, многое проясняющие и имеющие прямое отношение к нынешней ситуации. Мой зоркий писательский глаз и чуткое читательское ухо находили повсюду в романе следы и отзвуки драматического разрыва долгих супружеских отношений Диккенса с Кэтрин и начала опасной связи с Эллен Тернан. Почти все писатели изредка создают персонажей — как правило, злодеев, — ведущих двойную жизнь, но последние произведения Диккенса просто изобиловали такими вот «двуликими» героями. В «Нашем общем друге» молодой Джон Гармон (наследник огромного состояния, сколоченного на лондонских мусорных свалках, который якобы погибает при подозрительных обстоятельствах, когда возвращается в Лондон после многих лет морских плаваний) немедленно приезжает в полицейский участок для опознания извлеченного из реки полуразложившегося тела (переодетого в его одежду и потому принятого за его труп). Затем Гармон превращается в Джулиуса Хэндфорда, а позже представляется Джоном Роксмитом, чтобы поступить секретарем к Боффинам, представителям низшего сословия, которые за отсутствием других претендентов унаследовали состояние и мусорные свалки, по праву принадлежащие Джону Гармону. Отрицательные персонажи в «Нашем общем друге» — Гаффер Хэксем, Райдер Рогхуд, мистер и миссис Альфред Лэмл (мошенники, обманом заманившие друг друга в брак без любви и денег и теперь объединившиеся только лишь с целью обманывать и использовать в своих интересах окружающих), Сайлас Вегг на деревянной ноге, а особенно жестокий школьный учитель Брэдли Хэдстон — могут прикидываться не теми, кем они являются на самом деле, но в сущности всегда остаются самими собой. Только положительные герои романа страдают от своей вынужденной двуликости или многоликости, приводящей к совершенному смятению и разладу души. Такое же трагическое смятение и разлад души неизбежно вызывает еще одна сила — любовь. Слепая, безумная, утраченная или тайная, любовь является движителем всех скрытых мотивов, всех интриг и насильственных деяний в единственной комедии Диккенса, мощной и страшной. «Наш общий друг», осознал я, к великой своей муке и отчаянию, — это произведение, достойное Шекспира. Джон Роксмит/Гармон продолжает скрывать свою личность от любимой Беллы даже после женитьбы на ней и рождения ребенка, чтобы успешнее влиять на нее, испытывать и воспитывать, заставляя отказаться от любви к деньгам в пользу любви ради самой любви. Мистер Боффин с виду превращается в сварливого скареду и выживает состоящую у них под опекой Беллу из дома, вынуждая вернуться к прежней нищенской жизни, но это всего лишь хитрая уловка, очередной способ проверить истинный характер Беллы Уилфер. Даже беспутный адвокат Юджин Рэйберн — один из ярчайших (и самых противоречивых) персонажей во всем творчестве Диккенса — из-за своей противной здравому смыслу любви к низкородной Лиззи Хэксем доходит до того, что в смятении хлопает себя по лбу и по груди, произносит собственное имя и выкрикивает: «Думай, голову ломай! Кто я, кто я, отгадай! Нет! Разве отгадаешь? И пытаться нечего!» Джон Гармон, запутавшийся в своих ложных личностях и манипуляционных линиях поведения, в конце концов переживает такую же утрату подлинной индивидуальности и восклицает: «Но это был я не я! Такое ощущение, будто меня тогда вообще не существовало!» Слабый и ревнивый школьный учитель Брэдли Хэдстон изобличает перед всеми тайные страсть и ревность самого Диккенса, когда говорит той же самой Лиззи Хэксем, пользующейся большим спросом:
Вы притягиваете меня к себе. Если б я сидел в глухом каземате, вы исторгли бы меня оттуда! Я пробился бы сквозь тюремные стены и пришел бы к вам! Если б я был тяжело болен, вы подняли бы меня с одра болезни, я сделал бы шаг и упал к вашим ногам!..» И еще: «Да, вы моя погибель… погибель… погибель! Я не знаю, что с собой делать, я перестаю доверять самому себе, я не владею собой, когда вижу вас или только думаю о вас. А мои мысли теперь непрестанно полны вами. Я не могу избавиться от этих мыслей с первой нашей встречи.Для сравнения приведу слова, написанные Диккенсом в одном частном письме вскоре после знакомства с Эллен Тернан: «Я не знал ни минуты покоя с вечера последнего представления "Замерзшей пучины". Истинно полагаю, свет еще не видывал человека, столь одержимого и мучимого одним бесом». И дальше: «О, то был самый несчастливый день для меня! Ужасный, несчастливый день!» Страсть Чарльза Диккенса к Эллен Тернан — страсть, разрушительная для его самосознания, его семьи, его рассудка, — прорывается из-под маски каждого персонажа «Нашего общего друга», угадывается во всех неистовых поступках героев. В жуткой сцене, где Брэдли Хэдстон признается испуганной Лиззи Хэксем в своей страсти к ней, — дело происходит на окутанном туманом кладбище, что весьма символично, ибо любовь учителя безответна, недолговечна и обречена еще прежде, чем она умирает от ревности и возрождается в качестве убийцы, — обезумевший школьный учитель кричит отчаянным голосом, вторящим безмолвным мучительным воплям самого Чарльза Диккенса:
Ни одному человеку не дано знать до поры до времени, какие в нем таятся бездны. Некоторые так никогда и не узнают этого. Пусть живут в мире с самим собой и благодарят судьбу. Но мне эти бездны открыли вы. Вы заставили меня познать их, и с тех пор это море, разбушевавшееся до самого дна, не может успокоиться… Я люблю вас. Какой смысл вкладывают в эти слова другие люди, мне неведомо, а я вкладываю в них вот что: меня влечет к вам непреодолимая сила, она владеет всем моим существом, и противостоять ей нельзя. Вы можете послать меня в огонь и в воду, вы можете послать меня на виселицу, вы можете послать меня на любую смерть, вы можете послать меня на все, чего я до сих пор страшился, вы можете послать меня на любую опасность, на любое бесчестье. Мысли мои мешаются, я перестал быть самим собой, вот почему вы моя погибель.И все время, пока Брэдли Хэдстон кричит о своей страсти, он впивается пальцами в кладбищенскую ограду, словно пытаясь вывернуть из нее камень, да столь яростно, что куски извести сыпятся из-под него на мостовую, а в конце концов он «с такой силой ударяет кулаком по камню, что до крови сдирает кожу на суставах». Никогда прежде Чарльз Диккенс не писал о страшной силе любви и ревности так открыто, так пронзительно, с такой болью. И уже никогда не напишет. Могли ли двойное существование, глубокий душевный разлад, утрата контроля над собственной жизнью, эротическая и романтическая одержимость довести Чарльза Диккенса до помешательства при свете дня и до убийства под покровом ночи, как произошло в случае с Брэдли Хэдстоном? Предположение казалось нелепым, но вполне вероятным. Когда поезд уже подъезжал к станции, я отложил журнал в сторону и, чуть придвинувшись к окну, выглянул в холодный и пасмурный рождественский день. Визит в Гэдсхилл обещал быть интересным.
В прошлом 1864 году на Рождество в доме Диккенса собиралась довольно разношерстная компания, состоявшая из моего брата Чарльза с женой Кейти, актера Фехтера с женой (и чудесным подарком в виде швейцарского шале), Маркуса Стоуна и Генри Чорли. В этом году я слегка удивился, обнаружив в числе гостей еще одного холостяка, Перси Фицджеральда, нисколько не удивился при виде Чарли и Кейти, обрадовался, застав Мейми и Джорджину в сравнительно хорошем расположении духа, и несказанно изумился, обнаружив там молодого Эдмонда Диккенсона, приехавшего в Гэдсхилл на неделю (хотя сей уцелевший в Стейплхерстской катастрофе юноша при нашей встрече летом упоминал о приглашении Диккенса). Таким образом, холостяков набралось трое, если не считать за холостяка самого Диккенса. Сразу по моем прибытии Диккенс сказал мне, что нынче к часу ужина нас ждет еще один приятный сюрприз. — Дорогой Уилки, вам страшно понравятся наши неожиданные гости, я вам обещаю. Они, как обычно, доставят нам превеликое удовольствие. Когда бы не форма множественного числа, я бы, наверное, насмешливо поинтересовался, уж не мистер ли Друд собирается присутствовать за нашим праздничным столом. А возможно, и не стал бы ничего спрашивать: несмотря на свой энтузиазм по поводу таинственных гостей, Неподражаемый выглядел очень усталым и изможденным. Я справился у него о здоровье, и он признался, что с конца осени постоянно мучается болями в груди и испытывает непонятную слабость. Очевидно, в последнее время он часто консультировался у нашего общего друга и лечащего врача Фрэнка Берда, хотя выполнял его рекомендации крайне редко. Похоже, Берд поставил диагноз «слабость сердечной мышцы» но Диккенс был уверен, что причина сердечного недуга кроется скорее в сфере эмоций, нежели в грудной полости. — Меня жутко угнетает погода, что стоит нынешней зимой, — Уилки, — сказал Диккенс. — Три-четыре необычайно теплых, сырых дня, а потом вдруг резкое похолодание — такие перепады действуют на моральное состояние просто убийственно. Но — вы заметили? — снег не шел ни разу. Я бы, наверное, отдал все на свете за простое, морозное, снежное Рождество моего детства. И правда, в этом году к Рождеству ни в Лондоне, ни в Гэдсхилле не появилось даже самого тонкого снежного покрова. Но сейчас как раз стояли заморозки, упомянутые Диккенсом, и наша послеполуденная прогулка — с нами пошли Перси Фицджеральд, молодой Диккенсон и сын Диккенса Чарли, но мой брат Чарльз остался дома — больше напоминала неуклюжее шествие раздутых тюков шерсти, нежели моцион джентльменов. Даже Диккенс, обычно нечувствительный к дождю, жаре и холоду, надел пальто потолще и намотал поверх воротника второй шерстяной шарф, красный, прикрыв нижнюю часть лица. Нас пятерых сопровождали пять собак: непоседливый сенбернар Линда, маленький померанский шпиц Миссис Поскакушка, в полной мере оправдывающий свое имя, черный ньюфаундленд Дон, огромный мастиф по кличке Турок и волкодав Султан. Диккенс всю дорогу удерживал Султана на толстом поводке. И на пса пришлось надеть кожаный намордник. Перси Фицджеральд, подаривший Диккенсу щенка ирландского волкодава в прошлом сентябре, обрадовался при виде уже почти взрослого и явно здорового Султана, но, когда он подошел с намерением приласкать пса, тот свирепо зарычал и лязгнул стянутыми намордником челюстями, словно исполненный решимости откусить Перси руку. Фицджеральд отпрянул назад, испуганный и обиженный. Диккенс казался невесть почему довольным. — Со мной Султан по-прежнему ласков и кроток, — сказал он нам. — Но по отношению ко всем прочим живым существам он — истинное чудовище. Он прогрыз уже пять намордников и часто возвращается домой с окровавленной пастью. Мы знаем наверное, что он целиком проглотил одного голубоглазого котенка, но Султан все-таки помучился совестью из-за этого своего гнусного поступка… по крайней мере, несварением желудка точно помучился. Молодой Эдмонд Диккенсон расхохотался, а Диккенс добавил: — Однако обратите внимание: Султан рычит и скалится на всех вас… кроме Уилки. Хотя Султан хранит верность только мне одному, между ним и Уилки Коллинзом существует некое странное родство, поверьте мне. Я взглянул на Диккенса поверх шарфа, натянутого по самые глаза, и нахмурился. — Почему вы так говорите, Диккенс? Потому что мы оба ирландских кровей? — Нет, друг мой, — сказал Диккенс из-под своего красного шарфа. — Потому что вы оба можете быть опасны, если вас не сдерживать и не направлять сильной рукой. Молодой идиот Диккенсон снова расхохотался. Чарли Диккенс и Перси просто недоуменно переглянулись. То ли потому, что стоял мороз, то ли потому, что Диккенс щадил своих гостей, то ли потому, что сам он неважно себя чувствовал, наш послеполуденный моцион больше напоминал неспешную прогулку по имению, нежели обычный диккенсовский марафон. Мы неторопливо дошли до конюшни и проведали лошадей — принадлежавшего Мери верхового жеребца по кличке Мальчик, старого коня по прозвищу Быстроногий и степенного норвежского пони по имени Ньюмен Ноггз. Когда мы стояли в клубах теплого пара от лошадиного дыхания, кормя животных морковкой, я вспомнил, как приезжал летом в Гэдсхилл проведать Диккенса сразу после Стейплхерстской катастрофы и как у Неподражаемого сдали нервы, даже когда мы медленно катили в двуколке, влекомой Ньюменом Ноггзом. Двуколка и упряжь Ноггза, висевшая на стене, были, по обыкновению, украшены переливчатыми норвежскими колокольчиками, но в такой холод на открытой повозке не покатаешься. Мы вышли из конюшни, и Диккенс, с трудом удерживавший на поводке Султана, провел нас по тоннелю к шале. Пшеничные поля окрест, сочно зеленевшие летом, теперь превратились в унылые пустоши, покрытые мерзлой бурой стерней. Этим пасмурным рождественским днем Дуврская дорога была пуста — лишь одинокий накрененный на бок фургон медленно полз вдали по заледенелой грязи. Мерзлая трава хрустела и ломалась под нашими сапогами. Вслед за Диккенсом мы двинулись обратно и дошли до поля, простиравшегося за домом. Здесь писатель остановился и взглянул на меня. Я потешился мыслью, что точно знаю, о чем он думает. На этом самом месте, всего пятью годами ранее, погожим днем в начале сентября, Чарльз Диккенс уничтожил абсолютно всю свою корреспонденцию, полученную за последние три десятилетия. С помощью сыновей Генри и Плорна он вынес из кабинета не одну огромную корзину бумаг и, игнорируя мольбы дочери Мери, призывавшей сохранить столь бесценное литературное и личное наследие, сжег все до единого письма, когда-либо полученные от меня, Джона Форстера, Ли Ханта, Альфреда Теннисона, Уильяма Мейкписа Теккерея, Уильяма Гаррисона Эйнсворта, Томаса Карлейля, от своих американских друзей Ральфа Уолдо Эмерсона, Генри Уодсуорта Лонгфелло, Вашингтона Ирвинга, Энни и Джеймса Томаса Филдсов. А также от своей жены Кэтрин. И от Эллен Тернан. Позже Кейти рассказывала мне, как она, держа в руках письма и узнавая почерки Теккерея, Теннисона и прочих выдающихся писателей, изо всех сил старалась отговорить отца от задуманного, просила подумать о грядущих поколениях. Но Кейти, по каким-то своим причинам, солгала мне, поведав эту историю. Третьего сентября 1860 года, когда Диккенс внезапно решил сжечь всю свою корреспонденцию, Кейт с моим братом Чарльзом находилась во Франции, где они проводили медовый месяц. Она узнала о случившемся лишь спустя много месяцев. Вот ее младшая сестра Мейми присутствовала там — то есть здесь, на этом самом месте на краю заднего двора, откуда открывался вид на замерзшие поля и обнаженные кентские леса вдали, — и Мейми действительно умоляла отца не уничтожать бумаги. Диккенс тогда ответил: «Боже, как бы мне хотелось, чтобы и все письма, когда-либо написанные мной, тоже оказались в этой куче!» Когда все шкафчики и ящики для хранения бумаг опустели, Генри и Плорн запекали луковицы на углях огромного костра, пока внезапный ливень с ураганом не загнал всех в дом. Впоследствии Диккенс писал мне: «Тогда полило как из ведра… подозреваю, я прогневил Небо своей корреспонденцией». Почему же Диккенс уничтожил всю свою обширную переписку? В прошлом, 1864 году Диккенс сказал мне, что написал своему старому другу, актеру Уильяму Чарльзу Макриди, следующее: «Я ежедневно видел недопустимое использование конфиденциальных писем, которые становятся достоянием общественности, не имеющей к ним ни малейшего отношения, а потому не так давно развел огромный костер на заднем дворе Гэдсхилла и сжег все до единого письма из своего архива. Теперь я уничтожаю все приходящие мне письма, помимо сугубо деловых, и на душе у меня спокойно». О каком таком недопустимом использовании он говорил? Иные наши с ним общие друзья (из тех немногих, кто знал о сожжении корреспонденции) предполагали, что после своего неприятного публичного расставания с Кэтрин (ставшего публичным, не следует забывать, по глупости самого Диккенса) он с перепугу представил, как сразу после его кончины разные биографы и прочие литературные вампиры примутся предавать гласности конфиденциальную переписку, накопившуюся у него за много лет. На протяжении нескольких десятилетий, рассуждали упомянутые друзья, жизнь и творчество Чарльза Диккенса являлись достоянием общественности. И он решительно не желает, чтобы письма друзей, с соображениями по поводу самых сокровенных его мыслей, тоже были отданы на потребу праздной публике. Я держался несколько иного мнения насчет причин, побудивших Диккенса сжечь свои бумаги. Полагаю, именно я заронил в голову Диккенса мысль об уничтожении переписки. В моей новелле «Четвертый странник», напечатанной в рождественском номере «Домашнего чтения» от 1854 года, рассказчик, некий адвокат, говорит: «Мой опыт адвокатской практики, мистер Фрэнк, убедил меня, что, если бы все люди сжигали по прочтении все письма, добрая половина гражданских судов в этой стране прекратила бы свою деятельность». Тема гражданских судов премного занимала Чарльза Диккенса тогда, во время работы над «Холодным домом», и позже, в 1858 году, когда семья его жены грозилась подать на него в суд за причиненные Кэтрин несправедливости, включая, надо полагать, измену. А всего за несколько месяцев до того, как Неподражаемый предал огню свою корреспонденцию, я написал о сожжении письма в своем романе «Женщина в белом», который тогда выходил выпусками в «Домашнем чтении», тщательно редактировавшемся Диккенсом. В моем романе Мэриан Голкомб получает письмо от некоего Уолтера Хартрайта. Сводная сестра Мэриан, Лора, и Хартрайт любят друг друга, но девушка согласилась выйти замуж за другого человека — во исполнение обещания, данного умирающему отцу. Хартрайт возвращается в Лондон и собирается отплыть в Южную Америку. Мэриан решает не рассказывать Лоре о содержании письма. «Я даже думаю, не пойти ли еще дальше — не сжечь ли его письмо из опасения, что оно может когда-нибудь попасть в чужие руки? В нем не только говорится о Лоре в таких выражениях, которые должны навсегда остаться между нами, но и о его подозрениях — упрямых, необоснованных, но очень тревожных, — что за ним постоянно следят… Но хранить письмо опасно. Малейшая случайность — и оно может попасть в чужие руки. Я могу заболеть, могу умереть — лучше сжечь письмо сразу, пусть одной заботой будет меньше. Оно сожжено! Кучка серого пепла лежит в камине — все, что осталось от его прощального письма, может быть, его последнего в жизни письма ко мне». По моему мнению, данная сцена из «Женщины в белом» произвела глубокое впечатление на Неподражаемого, отчаянно старавшегося тогда наладить вторую, тайную жизнь с Эллен Тернан, а заключенный в 1860 году брак Кейт с моим братом окончательно подвиг Диккенса сжечь всю корреспонденцию и, я почти уверен, убедить Эллен Тернан уничтожить все письма, полученные от него за три года знакомства. Мне думается, Диккенс расценил брак Кейт с Чарльзом Коллинзом как предательство со стороны члена семейства и запросто мог предположить, что сыновья и дочери — особенно старшая дочь, по всеобщему мнению, очень на него похожая нравом, — снова предадут его, продав или опубликовав его корреспонденцию после его кончины. В период с1857 по 1860 год Диккенс страшно постарел (по словам иных знакомых, он превратился из молодого человека сразу в старика, минуя зрелый возраст), и, вполне вероятно, враз навалившиеся болезни и неизбежно сопряженные с ними мысли о смерти вызвали у него в памяти сцену с сожжением письма из моего романа и побудили уничтожить все письменные свидетельства сокровенных дум и размышлений. — Я знаю, о чем вы думаете, милейший Уилки, — внезапно промолвил Диккенс. На лицах у всех остальных мужчин отразилось изумление. Тепло закутанные, они наблюдали, как бледное солнце под грядой облаков клонится к закату за кентской холмистой равниной. — И о чем же, дорогой Диккенс? — спросил я. — О том, что большой костер, здесь разведенный, изрядно согрел бы нас. Я растерянно моргнул,ощутив жесткое прикосновение заиндевелых ресниц к ледяной щеке. — Костер! — воскликнул молодой Диккенсон. — Отличная мысль! — Которую мы непременно осуществили бы, если бы женщины и дети не ждали нас дома, чтобы привлечь к своим рождественским играм. Диккенс хлопнул руками в толстых перчатках — со звуком, похожим на ружейный выстрел. Султан резко рванулся в сторону, туго натянув поводок, и припал брюхом к земле, словно в него и вправду пальнули из ружья. — Горячий пунш для всех! — воскликнул Неподражаемый, и процессия неуклюжих шерстяных сфероидов, украшенных яркими шарфами, потянулась следом за ним к дому.
Я под благовидным предлогом отказался от удовольствия поиграть с детьми и женщинами в рождественские игры и отправился искать убежище в своей комнате. В Гэдсхилл-плейс я всегда останавливался в одной и той же гостевой комнате и сейчас испытал тихое облегчение, обнаружив, что она по-прежнему закреплена за мной, что меня не понизили в статусе за последние несколько месяцев. (Из-за тесноты, возникшей в доме в связи с приездом родственников и предстоящим визитом «таинственных гостей», Перси Фицджеральда поселили в номере гостиница «Фальстаф-Инн», расположенной через дорогу. Это показалось мне странным, поскольку Перси был старым другом семьи и безусловно, гораздо больше заслуживал права занять одну из гостевых комнат, чем сирота Диккенсон, которого разместили в особняке. Но я уже давно оставил всякие попытки понять или предугадать прихоти Чарльза Диккенса.) Здесь надобно заметить, дорогой читатель, что я так и не рассказал ни инспектору Филду, ни еще кому-либо о догадке, среди ночи озарившей меня, одурманенного лауданумом: что Диккенс замышляет убить богатого сироту Эдмонда Диккенсона (это имело какое-то отношение к алым гераням в саду и в гостиничном номере, похожим на брызги крови). Промолчал же я по причине вполне очевидной: все-таки речь шла о ночном наркотическом озарении — и хотя многие подобные наития сослужили мне, как писателю, неоценимую службу, я вряд ли сумел бы внятно описать скептически настроенному инспектору Филду цепь подсознательных рассуждений и опиумных интуитивных прозрений, приведшую меня к такому выводу. Но вернемся в мою комнату в Гэдсхилле. Дом Диккенса был преудобным пристанищем для гостей, хотя после длительных пребываний там я всегда говорил Кэролайн обратное. В каждой гостевой комнате имелись широкая мягкая кровать, несколько дорогих и равно удобных предметов обстановки и стол с аккуратно разложенными на нем письменными принадлежностями, как то: пачка проштемпелеванной почтовой бумаги, конверты, заточенные перья, воск, спички и сургуч (подобные столы стояли также в коридорах и гостиных). Все гостевые комнаты содержались в безупречной чистоте и идеальном порядке. Каждый гость обнаруживал в своей комнате весьма обширную библиотеку, и несколько томов из нее неизменно лежали на ночном столике у кровати. Книги Диккенс подбирал самолично, Учитывая вкусы гостя. Сейчас на своем ночном столике я нашел экземпляр «Женщины в белом» (не с дарственной надписью, преподнесенный мной Диккенсу, а вновь купленный, с еще не разрезанными страницами), сборник очерков из журнала «Зритель», книгу «Сказки 1001 ночи» и том Геродота, с закладкой на главе о египетских путешествиях античного историка, предварявшей рассказ о храмах Сна. Над трюмо в моей комнате висела табличка, гласившая: «В этой комнате Ганс Андерсен прожил пять недель, показавшихся хозяевам дома ВЕЧНОСТЬЮ!» Я кое-что знал о том затянувшемся визите. Однажды вечером, за бутылкой вина, Диккенс охарактеризовал вышеназванного дружелюбного датчанина (почти не говорившего по-английски, что сделало его длительный визит тем более тягостным для обитателей Гэдсхилл-плейс) следующим образом: «Помесь моего персонажа Пексниффа с Гадким Утенком, Уилки. Невыносимый скандинав, с которым и неделю-то прообщаться крайне трудно, не говоря уже о пяти неделях». Но когда я, прогостив в Гэдсхилле несколько дней или даже недель, по возвращении в Лондон говорил Кэролайн, что визит стал для меня «тяжким испытанием», я выражался вполне буквально. Несмотря на неподдельное радушие и поистине замечательный юмор Диккенса, прилагавшего все усилия к созданию непринужденной атмосферы, заботившегося об удобстве своих гостей, неизменно старавшегося угодить им в беседах за столом или у камина, каждый человек у него в доме испытывал явственное ощущение, что Неподражаемый его оценивает и порицает. По крайней мере, у меня всегда было такое чувство. (Полагаю, бедный Ганс Христиан Андерсен, позволявший себе высказываться — без тени недовольства — по поводу грубоватых манер Кейти, Мейми и мальчиков во время своего продолжительного визита, пропускал мимо ушей раздраженные критические замечания Диккенса в свой адрес.) В тишине своей комнаты — хотя до слуха моего доносились радостные крики детей и Чарльза Диккенса, игравших в гостиной внизу, — я достал из чемодана бутыль лауданума и наполнил чистый стакан, стоявший, как и постоянно пополняемый кувшин холодной воды, около умывального таза. Я не сомневался, что грядущий вечер станет для меня настоящим испытанием — в буквальном и эмоциональном смысле. Я залпом выпил первый стакан лекарства и налил второй. Возможно, дорогой читатель, вы недоумеваете, почему я согласился доносить на Диккенса назойливому бывшему полицейскому. Надеюсь, вы не стали думать обо мне хуже, когда прочитали о моем вступлении в тайный сговор с Филдом. Я согласился на эту фаустовскую сделку по трем причинам. Во-первых, я считал, что Диккенс хочет, чтобы я рассказал отставному инспектору Чарльзу Фредерику Филду обо всех событиях, произошедших в ночь наших совместных поисков Друда, и обо всем, что Диккенс поведал мне о Друде впоследствии. Но зачем Диккенсу было надо, чтобы я доносил на него, спросите вы. Мне трудно судить обо всех мотивах писателя, но я твердо уверен: он хотел, чтобы я информировал Филда, но не хотел просить меня об этом. Диккенс знал, что частный сыщик допрашивал меня. Он наверняка понимал, что человек вроде Филда попытается шантажировать меня не одной только угрозой предать гласности характер наших с Кэролайн отношений, и так всем известный. И главное — Диккенс никогда не рассказал бы мне историю жизни Друда и не признался бы в своих походах в лондонский Подземный город, если бы не предвидел, что я передам данную информацию наглому инспектору, и не желал этого. Какую игру вел Диккенс, я не имел понятия. Но меня не покидало ощущение, что я состою в тайном сговоре скорее с Неподражаемым, нежели со злокозненным инспектором Филдом. Во-вторых, у меня имелись свои веские причины использовать инспектора для сбора информации о Чарльзе Диккенсе и Эллен Тернан. Я знал, что об этой стороне своей жизни Диккенс никогда не станет мне ничего рассказывать. Связь с упомянутой актрисой уже давно (задолго до Стейплхерстской катастрофы, послужившей лишь к выявлению скрытых моментов) изменила всю жизнь Неподражаемого и повлияла на его отношения со всеми окружающими, включая меня. Однако подробности этой любовной связи и напряженной «второй жизни» остались бы тайной до и после смерти Диккенса, положи он хранить молчание на сей счет (ибо когда он отступался от принятых решений?). По Ряду причин — о них я, возможно, поведаю позже, дорогой читатель, — я хотел знать эти подробности. Инспектор Филд, со своими недюжинными способностями к выпытыванию любых сведений, полным пренебрежением к джентльменским этическим нормам и широкой сетью расторопных агентов, представлялся идеальным источником подобной информации. В-третьих, я вступил в тайный сговор с инспектором Филдом, поскольку хотел перестроить наши с Чарльзом Диккенсом отношения, начавшие портиться около года назад, еще до Стейплхерстской катастрофы. Ведь, в сущности, я передавал сыщику информацию о Друде, чтобы помочь защитить Чарльза Диккенса в крайне опасной для него ситуации. Мне казалось, что возобновление нашей оказавшейся под угрозой дружбы — и восстановление моего подорванного равноправия в ней — просто необходимо, если я хочу спасти и защитить своего друга Чарльза Диккенса. Прошло двадцать минут с тех пор, как я принял лауданум, и подагрическая боль, тисками сжимавшая голову, терзавшая внутренности и крутившая суставы, стала постепенно отпускать. Глубокий покой объял душу, мысли прояснились. Какие бы сюрпризы ни приготовил нам Диккенс к рождественскому обеду, теперь я был готов встретить их с обычными для Уилки Коллинза самообладанием и юмором.
Глава 13
— Ну нет… э… Диккенс! Право слово! Только не этот ваш… э… не этот ваш чепуховый «Общий друг»! Нет! Вот «Копперфилд»… э… э… совсем другое дело! Ей-богу, это чудесное сочетание страсти и игривости… э… э… слитых воедино самым… э… ах, право же, Диккенс! Восхищает и трогает до глубины души. Это настоящее искусство, а вы знаете… э… что я… нет, Диккенс! Черт меня побери, совсем! Ведь я видел лучшие образцы искусства в великое время, но это просто непостижимо. Как это захватывает… э… э… как это сделано… э… как только может этот человек? Он положил меня на обе… э… лопатки, и все тут! Так говорил наш «неожиданный гость», промокая узорчатым шелковым платком огромный бледный лоб, покрытый испариной. Потом старик вытер слезящиеся глаза. «Таинственными гостями» оказались, разумеется, Уильям Чарльз Макриди, знаменитый трагик, и его вторая жена Сесил. Я страстно надеюсь, что это имя знакомо вам, дорогой читатель отдаленного будущего, — ведь если в вашу эпоху Уильям Чарльз Макриди уже забыт, смею ли я рассчитывать, что имя или сочинения ничтожного Уилки Коллинза дошли до вас? Уильям Чарльз Макриди был знаменитым трагиком нашего времени, наследником неувядаемой славы Кина, по мнению многих, превзошедшим великого актера «шекспировского театра» как в тонкости трактовки образов, так и в эмоциональной филигранности игры. Самые памятные свои роли за несколько десятилетий царствования на английской сцене Макриди сыграл в «Макбете» и «Короле Лире». Родившийся в 1793 году (если я не ошибаюсь в подсчетах), Макриди был уже зрелой, признанной театральной звездой и известной публичной фигурой во время, когда Диккенс — получивший прозвище Неподражаемый Боз после головокружительного успеха «Записок Пиквикского клуба» — был просто восторженным юношей, мечтающим о сцене и благоговеющим перед блистательными актерами. Уникальный дар к изображению на сцене страданий и угрызений совести, зачастую в ущерб величественному пафосу, которому отдавали предпочтение играющие Шекспира актеры, роднила Макриди с молодым писателем, обладавшим такой же способностью. Как и Диккенс, Макриди был сложным, впечатлительным и парадоксальным человеком. Внешне столь же самоуверенный, как Неподражаемый, в глубине души Макриди — по свидетельству самых близких людей — постоянно терзался сомнениями. Он гордился своей профессией точно так же, как Диккенс — своей, но при этом сомневался (как часто делал Диккенс), что подобная профессия приличествует истинному джентльмену. Однако в конце 1830-х восходящая звезда Диккенс и его друзья Макриди, Форстер, Маклайз, Эйнсворт, Берд и Миттон составили круг талантливых и честолюбивых людей, не имевший себе равных в истории нашего маленького острова. Из всех перечисленных особ Уильям Чарльз Макриди был — до восхождения Диккенса к славе — самым знаменитым. В течение многих лет (даже десятилетий) Неподражаемый Боз писал восхищенные зрительские рецензии, с особым пылом восхваляя (вместе со своим соавтором и издателем Джоном Форстером) выдающиеся театральные достижения вроде «Короля Лира» в постановке Макриди, который вернул пьесе изначальное трагическое звучание после того, как на протяжении полутора веков публике приходилось довольствоваться кошмарной версией со «счастливым концом», состряпанной Нейхемом Тейтом. Макриди вновь ввел в состав действующих лиц «Лира» Шута, на каковой вдохновенный спасительный акт впечатлительный Чарльз Диккенс откликнулся всем своим существом, как откликается колокол на удар молота. Однажды я просматривал статью восторженного Боза, посвященную конкретно этому вопросу, и в ней он не только говорит, что образ Лира еще более «выиграл от возвращения в трагедию Шута», но также называет постановку Макриди «превосходной» и поясняет свое мнение: «Сердце, душа и разум несчастного создания раскрыты перед нами в своем движении к гибели… Нежность, ярость, безумие, угрызения совести и раскаяние — все чувства вытекают одно из другого и неразрывно связаны между собой». В 1849 году новомодный американский актер Эдвин Форрест — в прошлом водивший дружбу с Макриди и вовсю пользовавшийся его щедростью — посетил Англию и оскорбительно отозвался о его трактовке «Гамлета», посмев, в частности, заявить, что великий английский трагик семенил взад-вперед по сцене и произносил реплики на манер женоподобного фата. Как следствие, на протяжении всего своего турне здесь Форрест встречал враждебный прием у английской публики. Англичане смеялись над Гамлетом, произносящим бессмертные строки Эйвонского Барда с чудовищным американским акцентом. Чуть позже, в мае того же года, Макриди отправился в гастроль по Америке (где бывал прежде и всегда встречал теплый прием), и там бостонские и нью-йоркские бандиты, серьезные любители Шекспира, заядлые театралы и разнузданные хулиганы во время спектаклей забрасывали Макриди тухлыми яйцами, стульями, дохлыми кошками и еще более отвратительными снарядами. Многие американские театралы пытались защитить нашего знаменитого трагика. Нью-йоркские бандиты сговорились нанести сокрушительный удар по мистеру Макриди и английской гегемонии во всем, что касается Шекспира. В результате 10 мая 1849 года произошло одно из самых кровавых побоищ в истории Нью-Йорка. У театра «Астор-Палас» собралась пятнадцатитысячная толпа, разделившаяся на сторонников и противников Макриди; мэр города и губернатор штата запаниковали и призвали на помощь милиционные войска, так называемую национальную гвардию; солдаты открыли огонь по толпе, и от двадцати до тридцати горожан остались лежать мертвыми на улице. Все это время Диккенс безостановочно слал Макриди телеграммы со словами поддержки и утешения, уподобляясь вооруженному полотенцем и нюхательными солями боксерскому импресарио в углу ринга. За годы знакомства Диккенс потихоньку написал и стыдливо представил на рассмотрение великому актеру множество коротких драм и комедий, однако Макриди тактично отклонил все их (хотя Диккенс участвовал в постановке таких памятных спектаклей с Макриди в главной роли, как «Генрих V», вышедший в 1838 году). По неведомой причине это нисколько не возмутило и не оскорбило Неподражаемого, который, как мне известно по опыту, не потерпел бы подобных отказов ни от кого другого, даже от королевы. Таким образом, их дружба продолжалась и крепла вот уже три десятилетия. Но по мере того как они теряли общих друзей — либо лишавшихся расположения Диккенса, либо умиравших, — в отношении Неподражаемого к Макриди все отчетливее проступало печальное сострадание. Судьба обошлась со знаменитым трагиком сурово. После побоища у «Астор-Паласа» пожилой актер принял решение покинуть сцену, но когда он отправился в прощальную гастроль, умерла его любимая старшая дочь, девятнадцатилетняя Нина. Макриди, человек глубоко верующий и склонный к самокопанию, в буквальном смысле затворился от света, чтобы разобраться со своими вновь нахлынувшими сомнениями относительно мироздания и себя самого. Его жена Кэтрин в ту пору была беременна десятым ребенком. (Диккенсов и Макриди объединяло не просто поверхностное сходство — супружеские пары состояли в столь близких отношениях, что именно чете Макриди Чарльз Диккенс доверил своих детей, когда в начале 1840-х вместе женой отправился в первое свое турне по Америке, — но Уильям Чарльз Макриди так и не разлюбил свою Кэтрин.) Последнее выступление Макриди состоялось 26 февраля 1851 года в театре на Друри-лейн. Разумеется, для прощального представления он выбрал «Макбета» — роль, принесшую ему наибольшую славу, и спектакль, во время которого его освистали и забросали тухлыми яйцами в Америке. После прощального спектакля состоялся неизбежный банкет, на сей раз столь многолюдный, что устраивать его пришлось в гулком зале старой Торговой палаты. Бульвер-Литтон прошепелявил прочувствованную речь. Джон Форстер продекламировал исключительно скверное стихотворение, сочиненное по случаю Теннисоном. Теккерей, чья единственная обязанность заключалась в произнесении тостов за здоровье присутствующих дам, чуть не лишился чувств «от нервов». Организовавший все мероприятие Диккенс, в ярко-синем сюртуке со сногсшибательными медными пуговицами и атласном черном жилете, произнес трогательную, печальную и смешную одновременно, поистине незабываемую речь. Кэтрин Макриди скончалась в 1852 году. Как и дочь Нина, жена Макриди умерла после долгой мучительной борьбы с туберкулезом. Диккенс рассказывал мне о своем последнем визите к больной и о том, как вскоре после него он написал в письме к одному своему другу: «Роковой серп широко косит повсюду вокруг тебя, когда твой собственный колос созревает». В следующем году умерли оба сына Макриди, Уолтер и Генри, и за ними почти сразу последовала их сестра Линда. Ни один из десяти детей актера не дожил до двадцати. В1860 году, после восьми лет траура, проведенных в уединении в мрачном шернбурнском поместье, шестидесятисемилетний Макриди женился снова — второй миссис Макриди стала двадцатитрехлетняя Сесил Луиза Фредерика Спенсер — и перебрался в роскошный новый особняк в Челтенхэме, расположенном всего в четырех-пяти часах езды от Лондона. Вскоре у них родился ребенок. Диккенс ликовал. Неподражаемый страшился, ненавидел и гнал прочь самую мысль о старости (вот почему его старшая внучка Мери Анджела, дочь Чарли и Бесс, нынче вечером называла Диккенса «Почтенный» — он запрещал употреблять слово «дедушка» в своем присутствии) и не желал видеть или замечать признаков старения и физического угасания в ближайших своих друзьях. Но в рождественский вечер 1865 года сидевший с нами за столом семидесятидвухлетний Уильям Чарльз Макриди видом своим являл все мыслимые признаки старости и немощи. Черты лица, в прошлом единодушно признававшиеся чрезвычайно интересными для актера — волевой подбородок, широкий лоб, крупный нос, глубоко посаженные глаза, сложенные бутоном губы, — теперь вызывали ассоциации с некогда гордой хищной птицей в последней стадии одряхления. Как актер, Макриди разработал особый сценический прием — ныне известный под названием «макридиевская пауза», — которому до сих пор учат в театральных школах. В сущности, это была всего лишь неуверенная заминка, запинка в речи, странная пауза посреди шекспировской строки, никак не обусловленная пунктуацией, и она действительно зачастую придавала строке дополнительную выразительность, порой даже меняя значение предшествующих и последующих слов. Много лет назад Макриди ввел такую паузу в свою обыденную речь, и многие пародировали его властную манеру общения с актерами в ходе репетиций: «Стойте… э… э… смирно, черт бы вас… э… побрал!» или «Смотрите… э… э… на меня, сэр!» Но теперь макридиевская пауза выхолащивала почти весь смысл из речей Макриди. — Я не в силах… э… э… не в силах выразить вам… э… Диккенс, как… Что там за неуместный и… э… э… ужасный такой шум?.. Дети? Ваши дети, Чарли? Какая кошка? А вы… а… а… черт побери! Сесил! О чем я говорил?.. Коллинз! Нет, не вы, а Другой… в очках! Я читал вашу… э… э… просматривал вашу… вы… вы… не… не хотели же вы сказать, что она… Пожалуйста, прелестная Джорджина, прошу вас, избавьте нас от этого… э… э… избавьте нас от этого… э… э… невыносимого грохота кастрюль на кухне, хорошо? Да! Ну право слово! Пусть кто-нибудь скажет помощнику режиссера, что этих несносных детей надо бы… Ах Да!.. «Женщина в белом», вот о чем я хотел… э… э… превосходная индейка, голубушка моя! Превосходная!Индейка действительно была недурственной. Иные люди писали, что в последние десятилетия английские семьи, собирающиеся за столом на Рождество, отказались от костистого сального гуся в пользу мясистой жирной индейки главным образом благодаря Чарльзу Диккенсу. Одна только концовка «Рождественской песни», казалось, побудила многие тысячи наших соотечественников, прежде отдававших предпочтение гусю, припасть к белой индюшачьей грудке, поистине сладостной для вкуса. Так или иначе, индейка удалась на славу, как и все горячие гарнирные блюда. Даже белое вино оказалось лучше, чем обычно подававшееся в доме Диккенса. По меркам Неподражаемого, компания, встречавшая у него Рождество 1865 года, была маленькой, но все же за длинным столом сидело гораздо больше народа, чем когда-либо собиралось на рождественский ужин в нашем с Кэролайн доме. Во главе стола восседал, разумеется, Чарльз Диккенс; остов более крупной из двух поданных и уже практически изничтоженных индеек все еще покоился на блюде перед ним, словно военный трофей. Справа от него размещался Макриди, а напротив знаменитого трагика располагалась его молодая жена Сесил. (Наверняка существует незыблемое правило хорошего тона, возбраняющее усаживать супругов друг против друга — на мой взгляд, это ничем не лучше, чем усаживать мужа и жену рядом, — но Чарльз Диккенс никогда не обращал особого внимания на предписания этикета. Чистой воды подснеповщина, говорил он.) Рядом с Макриди сидела его крестница, получившая одно из имен в честь него, Кейт Макриди Диккенс-Коллинз, но она явно не находила удовольствия в близком соседстве со своим крестным — да и в обществе всех прочих гостей, коли на то пошло. После каждой изобилующей междометиями невнятной тирады Макриди она морщилась и метала ехидный взгляд на отца, после чего переводила взор на свою сестру Мейми и выразительно закатывала глаза. Мейми, Мери, сидевшая по левую руку от меня (по неведомой причине Диккенс даровал ей почетное право занять место в другом конце стола, напротив него), располнела еще сильнее за несколько недель, прошедших с нашей последней встречи, и становилась все больше и больше похожа на свою дородную мать. Напротив Кейти сидел мой брат Чарльз, который действительно выглядел больным нынче вечером. Как бы неприятно ни было мне соглашаться с Диккенсом в данном вопросе, землисто-бледное лицо Чарли и вправду походило на обтянутый кожей череп. Справа от Кейти Диккенс размещался наш любимый Молодой Сирота, счастливо уцелевшая жертва Стейплхерстской катастрофы Эдмонд Диккенсон — он весь вечер глупо ухмылялся, пялился по сторонам и одарял всех по очереди лучезарными улыбками, как законченный дурак, каковым, собственно, и являлся. Напротив Диккенсона сидел другой холостяк, двадцатишестилетний Перси Фицджеральд, державшийся так же жизнерадостно и восторженно, как Диккенсон, но при этом умудрявшийся не производить впечатления полного идиота. Между Диккенсоном и Мейми Диккенс располагался Чарли Диккенс. Первенец Неподражаемого казался самым счастливым из всех присутствующих — вероятно, причина столь радостного настроения находилась прямо напротив него. Надо признать, Бесси Диккенс, жена Чарли, была самой очаровательной женщиной за столом — ну или лишь самую малость уступала в части привлекательности Сесил Макриди. Неподражаемый рвал и метал, когда Чарли влюбился в Бесси Эванс, — отец девушки, Фредерик Эванс, был старинным другом писателя, но Диккенс никогда не простил Эвансу того, что он представлял интересы Кэтрин в ходе мерзких переговоров насчет раздельного проживания, а равно того, что впоследствии он стал ее попечителем, — хотя Диккенс самолично попросил Эванса выступить в обеих этих ролях. К счастью для себя и своего будущего, Чарли проигнорировал угрозы и ультиматумы отца и женился на Бесси. Сегодня вечером она была молчалива и сдержанна — она вообще редко подавала голос в присутствии свекра, — но от нее и не требовалось никаких слов: достаточно было просто любоваться ее прелестной стройной шеей, озаренной мягким светом свечей. Слева от Бесси сидела Джорджина Хогарт, которая без устали кудахтала про все по очереди блюда и гарниры, старательно исполняя обязанности хозяйки дома в отсутствие — весьма ощутимом — жены писателя. Слева от Джорджины и справа от меня помещался молодой Генри Филдинг Диккенс. На моей памяти шестнадцатилетний паренек впервые сидел за столом со взрослыми на Рождество. Генри, в своем новеньком атласном жилете с чересчур заметными пуговицами, просто сиял от гордости. Длинные бакенбарды, которые мальчик пытался — без особого успеха — отпустить на покрытых нежным пушком щеках, были заметны гораздо меньше, чем жилетные пуговицы. Он постоянно трогал — похоже, машинально — свои гладкие щеки и верхнюю губу, словно проверяя, не появилась ли там за время ужина вожделенная растительность. По левую руку от меня, между мной и Мейми Диккенс, сидел по-настоящему «неожиданный (для меня) гость»: очень высокий, весьма упитанный, очень румяный, совершенно лысый господин с роскошными усами и бакенбардами, о каких бедный юный Генри Д. мог только мечтать. Звался он Джорджем Долби, и я два или три раза видел его в редакции «Домашнего чтения», хотя он, насколько я помнил, занимался то ли театральной, то ли предпринимательской, но уж всяко не издательской деятельностью. В ходе общей беседы перед ужином стало ясно, что Диккенс прежде водил с Долби лишь шапочное знакомство, хотел обсудить с ним какие-то дела и — поскольку Долби оказался свободен в это Рождество — пригласил его в Гэдсхилл под влиянием момента. Долби оказался краснобаем каких поискать, несмотря на заикание, которое, впрочем, начисто исчезало, когда он пародировал других людей (что случалось часто). Он рассказывал разные занимательные истории из разряда театральных сплетен, причем рассказывал с поистине актерской выразительностью, если не считать легкого заикания, появлявшегося, только когда он говорил от собственного лица. Но он также умел слушать. И смеяться. Несколько раз в течение вечера сей господин заливался громким, веселым, раскатистым, непринужденным смехом, заставлявшим Кейти и Мейми Диккенс переглядываться и закатывать глаза, но неизменно вызывавшим улыбку у Неподражаемого. Казалось, Долби с особым интересом внимал практически недоступным пониманию тирадам Макриди и терпеливо ждал, когда старик, через бесконечное эканье и меканье, доберется до заключительного «ей-богу!», а потом разражался жизнерадостным хохотом. «Общая» часть вечера подошла к концу: дети и внуки пожелали Почтенному и своим родителям доброй ночи; в застольной беседе возникла такая долгая пауза, что даже говорливый Долби впал в чуть печальную задумчивость; Кейти и Мейми уже перестали переглядываться и закатывать глаза, и женщины явно готовились удалиться туда, куда они обычно удаляются, когда мужчины перемещаются в библиотеку или бильярдную, чтобы выпить бренди и выкурить сигару, — но тут молодой Диккенсон сказал: — Прощу прощения, мистер Диккенс, позвольте полюбопытствовать, что вы сейчас пишете? Вы уже начали работу над очередным романом? Вместо того чтобы нахмуриться на выскочку, Диккенс улыбнулся, словно весь вечер ждал этого вопроса. — Вообще-то, — промолвил он, — я на время оставил сочинительство. Не знаю, когда я снова возьмусь за перо. — Отец! — воскликнула Мейми с шутливой тревогой. — Ты не пишешь? Ты не работаешь в своем кабинете каждый день? Видимо, дальше ты скажешь, что солнце отныне восходит не на востоке. Диккенс вновь улыбнулся. — Честно говоря, в ближайшие месяцы — возможно даже, годы — я решил заняться более стоящим делом. Творческим делом, более выгодным для меня и в художественном, и в финансовом плане. Кейти по-своему истолковала улыбку Неподражаемого. — Ты решил податься в художники, отец? В иллюстраторы? — Она взглянула на своего тихого мужа, моего брата, поверх блюда с остовом индейки. — Берегись, Чарльз. У тебя появился еще один конкурент. — Ничего подобного, — сказал Диккенс. Он часто раздражался на Кейт, но сегодня отреагировал на колкость дочери на удивление невозмутимо. — Я решил создать совершенно новый вид искусства. Ничего подобного человечество не знало — и даже не представляло! — доселе. — Еще один… э… э… новый… э… э… то есть… ей-богу, Диккенс! — дельно высказался Макриди. Писатель подался влево и негромко сказал Сесил: — Дорогая моя, ваш муж как никто из присутствующих в состоянии понять, сколь прекрасно и благородно дело, которым я намерен заняться в ближайшем будущем. — Ты собираешься стать профессиональным актером, отец? возбужденно выпалил Генри, всю жизнь видевший своего отца на любительской сцене и даже прыгавший у него на руках на этой самой сцене во время первых представлений моей «Замерзшей пучины». — Вовсе нет, сынок, — ответил Диккенс, по-прежнему улыбаясь. — Осмелюсь предположить, наш друг Уилки, сидящий на другом конце стола, догадывается, о чем я веду речь. — И близко не представляю, — честно признался я. Диккенс положил ладони на стол, позой своей напомнив мне Христа из «Тайной вечери» Да Винчи. Вслед за этой мыслью в голову мне тотчас пришла другая: «А может, сейчас у нас происходит Тайная вечеря, и один из присутствующих здесь — Иуда?» — Я уполномочил Уиллса договориться от моего имени с господами Чеппелами с Нью-Бонд-стрит о контракте на тридцать публичных чтений, самое малое, — продолжал Диккенс. — Хотя переговоры еще только-только начались, я совершенно уверен, что все состоится и что это станет новой вехой в моей профессиональной жизни и в истории общественных развлечений просветительского свойства. — Но отец! — вскричала Мейми, явно глубоко потрясенная. — Ты же отлично помнишь, что говорил доктор Берд во время последних твоих болезней: у тебя ослаблена сердечная деятельность, и тебе необходимо больше отдыхать… Твои предыдущие поездки с публичными чтениями настолько тебя вымотали… — Ах, вздор! — воскликнул Диккенс, улыбаясьеще шире. — Мы намереваемся назначить мистера Долби… — Упомянутый господин покраснел и чуть наклонил голову. — …моим импресарио и компаньоном в предстоящем турне. Чеппелы не только уладят все организационные и административные дела, но и покроют все мои личные и дорожные расходы, а равно расходы мистера Долби и, возможно, мистера Уиллса. От меня потребуется лишь взять одну из своих книг и читать отдельные главы из нее в назначенное время и в условленном месте. — Но подобные чтения едва ли можно назвать… как ты там выразился, отец?.. новым видом искусства, — заметила Кейти. — Ты неоднократно читал свои сочинения перед публикой. — Верно, моя дорогая, — согласился Диккенс. — Но еще никогда прежде я не выступал так, как собираюсь выступать в этом и всех последующих турне. Как тебе известно, я всегда не просто… читаю места из своих книг, хотя порой и делаю вид, будто поступаю именно так. Всякий раз я читаю по памяти и оставляю за собой право в значительной мере изменять, исправлять, переписывать отдельные эпизоды — даже пускаться в чистейшей воды импровизации, как зачастую делал присутствующий здесь знаменитый трагик, усовершенствуя самого Шекспира. — Он похлопал Макриди по руке. — Ах… да… я, конечно… в пьесы Бульвер-Литтона, да… я вставлял отсебятину… — Бледное морщинистое лицо Макриди чуть порозовело. — Но… э… э… Эйвонский Бард… ни разу, ей-богу! Диккенс рассмеялся. — Ну, я все-таки не Шекспир. Мои слова не высечены на каменных скрижалях, как Моисеевы заповеди. — Но… новый вид искусства? — подал голос мой брат. — Разве публичные чтения могут стать таковым? — Мои — станут, — отрезал Диккенс, вмиг убрав улыбку с лица. — Ваши чтения и так неповторимы и блистательны, сэр, — сказал молодой Диккенсон. — Спасибо, Эдмонд. Я ценю ваше великодушие. Но в свои предстоящие выступления, которые вскоре начнутся и, возможно, будут продолжаться, как я уже сказал, много лет, я собираюсь привнести небывалое доселе актерское мастерство в сочетании с истинным пониманием природы животного магнетизма. — О боже, магнетизм! — выпалил Долби. — Неужто, сэр, вы намереваетесь не только развлекать, но еще и гипнотизировать публику? Диккенс снова улыбнулся и погладил бакенбарды. — Полагаю, мистер Долби, вы читаете. Я имею в виду — романы. — Ну разумеется, сэр! — Долби рассмеялся. — Я с наслаждением прочитал все ваши сочинения, а также сочинения присутствующего здесь мистера Коллинза — то есть мистера Коллинза, что сидит в конце стола справа от меня. — Он повернулся ко мне. — Ваш роман «Армадейл», мистер Коллинз, опубликованный в журнале мистера Диккенса… Превосходная вещь, сэр! И ваща главная героиня — Лидия Гвилт, если мне не изменяет память… Какая женщина! Просто чудо как хороша! — Мы не имели удовольствия напечатать в нашем журнале этот роман мистера Коллинза, — сухо промолвил Диккенс, — И не удостоимся чести издать его отдельной книгой. Он выйдет в мае будущего года в другом издательстве. Хотя я рад сообщить что в настоящее время мы уговариваем нашего дорогого Уилки опубликовать следующий свой роман в «Домашнем чтении». — Ах, замечательно, просто замечательно! — воскликнул Долби с неподдельным восторгом. Он понятия не имел, какую бестактность совершил, похвально отозвавшись о моем сочинении. Действительно, мой последний роман «Армадейл», написанный на волне успеха «Женщины в белом», опубликованной в диккенсовском «Домашнем чтении», был издан выпусками — и на гораздо выгоднейших для меня условиях — в журнале «Корнхилл». И вскоре он должен был выйти в виде отдельной книги в издательском доме «Смит, Элдер энд компани», выпускавшем «Корнхилл». Но не одна только эта вопиющая бестактность Долби стала причиной того, что лицо Диккенса — мгновение назад сияющее, благостное и полное жизни — вдруг показалось старым и изможденным. Такая перемена настроения, я уверен, была вызвана крайне неуместным упоминанием о моей героине Лидии Гвилт. В какой-то момент в моем романе Лидия, не понаслышке знакомая с физической болью, — как своей, так и чужой — говорит:
Что за человек такой изобрел лауданум? Я благодарю его от всего сердца, кем бы он ни был. Когда бы все несчастные, терзаемые болью телесной и душевной, чьи муки он облегчил, собрались вместе, дабы воспеть ему хвалы, — какой мощный хор получился бы! Я на целых шесть часов погрузилась в блаженное забытье и проснулась с ясной головой.Я слышал от очень и очень многих людей, включая моего брата и Кейти, что Диккенс остался крайне недоволен приведенными выше словами, а равно общим моим терпимым отношением к лаудануму и прочим опиатам, выказанным в романе. — Но вы собирались объяснить нам, какое отношение имеет публичное чтение романов к новому виду искусства, — сказал я, обращаясь в Диккенсу через тесно заставленный блюдами и тарелками стол. — Да, — промолвил Неподражаемый и улыбнулся Сесил Макриди, словно извиняясь за мое вмешательство в разговор. — Вам известно ни с чем не сравнимое и ни на что не похожее чувство, какое испытывает человек, выступающий с чтением перед публикой. Люди ничего не видят, не слышат и не чувствуют, помимо вас и ваших слов, когда вы читаете поистине хорошую книгу. — О да! — вскричал молодой Диккенсон. — В такие моменты реальный мир просто исчезает! Все прочие мысли бесследно пропадают! Остаются только образы, звуки, персонажи и мир, созданные для нас автором! Окружающая действительность просто перестает существовать для тебя. Всем читателям хорошо знакомо такое чувство. — Вот именно. — Диккенс снова улыбался, и глаза у него снова блестели. — И именно в таком восприимчивом состоянии должен находиться человек, чтобы врач-месмерист мог выполнить свою работу. Правильно используя языковые средства, фразы, описания и диалоги, чтец вводит слушателя в восприимчивое состояние, подобное тому, в какое погружается пациент под воздействием магнетических токов. — Бог мой! — вскричал Макриди. — Зрители в… э… э… театре впадают в точно такой же… э… транс. Я всегда говорил, что… э… э… публика является третьей вершиной… э… так сказать, творческого треугольника… наряду с автором пьесы и актером. — Совершенно верно, — подтвердил Диккенс. — В этом-то и заключается сущность моего нового исполнительского искусства, которое прежде было просто художественным чтением. Пользуясь обостренной восприимчивостью слушателей — гораздо более высокой, чем у читателя, сидящего в одиночестве дома, в вагоне поезда или даже в саду, — я намерен использовать свои месмерические способности в сочетании с интонациями и текстом, чтобы погружать людей в еще более восприимчивое, чуткое и творческое состояние, чем до сих пор удавалось театру или литературе по отдельности. — Посредством одних только слов? — спросил мой брат. — И тщательно продуманной жестикуляции, — сказал Диккенс. — В подобающей обстановке. — А под обстановкой вы п-п-подразумеваете сцену, — заметил Долби. — Да уж, что и говорить! Это будет нечто из ряда вон выходящее! — Не просто сцену. — Диккенс чуть заметно кивнул, словно уже готовясь раскланиваться в ответ на аплодисменты. — А также темный зал. Искусно настроенные газовые осветительные приборы, выхватывающие из мрака прежде всего мое лицо и руки. И такое расположение зрительских мест, чтобы я мог свободно встретиться взглядом с каждым из сидящих в зале. — Мы возьмем в турне своих собственных опытных осветителей, — вставил Долби. — Это одно из главных условий, выдвинутых Уиллсом в ходе переговоров. Макриди ударил кулаком по столу и рассмеялся. — Публика и не догадывается, что… э… э… газовые лампы… э… э… оказывают дурманящее действие. Ей-богу! Они сжигают в помещении… в театральном зале… кислород! — Это точно, — согласился Диккенс, лукаво улыбаясь. — И мы воспользуемся данным обстоятельством в своих интересах, чтобы в процессе выступления погружать публику — смею надеяться, весьма многочисленную — в необходимое восприимчивое состояние. — Необходимое для чего? — вяло поинтересовался я. Диккенс вперил в меня месмерический взгляд и негромко промолвил: — Как раз это и покажут предстоящие чтения — новая форма искусства. После ужина мужчины с бренди и сигарами переместились в бильярдную, расположенную рядом с кабинетом Диккенса. Я провел много приятных часов в этой уютной, хорошо освещенной комнате, где одна стена была до половины высоты облицована плиткой, во избежание возможных повреждений от наших киев. Диккенс относился к игре в бильярд очень серьезно — он часто говорил, что она «выявляет в мужчине характер», и нередко добавлял, бросая взгляд на моего брата, «или отсутствие оного». Так или иначе, в памяти моей навсегда запечатлелся Неподражаемый, низко склонившийся над обтянутым зеленым сукном столом, без сюртука и в круглых пиквикских очочках, придававших ему старомодный и старообразный вид. Диккенс любил общество Перси Фицджеральда среди всего прочего еще и потому, что молодой человек тоже относился к бильярду серьезно и играл в него весьма недурно — по крайней мере, достаточно хорошо, чтобы составить партию мне или Диккенсу. Я владел кием лучше среднего, как и положено любому закоренелому холостяку, но сегодня вечером с удивлением обнаружил, что наш дорогой сирота, молодой Эдмонд Диккенсон, играет скорее как человек, зарабатывающий на жизнь игрой на деньги. (Возможно, он так и делал, что бы там ни говорил Диккенс о крупном независимом состоянии малого.) Макриди азартно гонял шары с нами, пока жена не отправила его спать после стакана теплого молока. Но именно Джордж Долби — будущий импресарио и деловой партнер Диккенса — оживил своим присутствием вечер: сей энергичный господин с блестящей от пота лысиной часто заливался хохотом, рассказывал поистине забавные истории без малейшего намека на заикание, легко обыграл Перси, потом меня, потом Диккенса и наконец на изумление мастерски владевшего кием и оказавшего упорное сопротивление молодого Диккенсона, чья игра свидетельствовала не только о тонком понимании бильярдной баллистики, но также о расчетливой хитрости, какой в нем никто не заподозрил бы, на него глядя. Диккенс, по заведенному обыкновению, удалился в полночь, но настоятельно попросил нас всех продолжить игру. Обычно я задерживался в бильярдной, если там собиралась интересная компания, и мы зачастую играли, между делом потягивая бренди, до самого рассвета, но сегодня, когда вскоре после ухода Диккенса Долби поставил свой кий на место и откланялся (вероятно, пока еще не вполне уверенный в своих гостевых привилегиях в Гэдсхилле), игра расстроилась. Перси отправился в «Фальстаф-Инн» в сопровождении слуги с фонарем, а мы с Диккенсоном поднялись наверх, каждый в свою комнату. Несмотря на принятое ранее лекарство, подагрические боли немилосердно крутили меня ко времени, когда я разделся и приготовился отойти ко сну. Оценив количество лауданума, оставшегося в моей походной бутыли, я выпил еще два стакана тонизирующего и снотворного средства. Я сказал «тонизирующего и снотворного», поскольку лауданум — как вам почти наверняка известно, дорогой читатель, живущий в более просвещенную в части медицины эпоху, — не только хорошо успокаивает нервы и усыпляет, но также обостряет чувства, повышает работоспособность и способствует высокой концентрации внимания. Я не знал (возможно, никто не знал), каким образом один и тот же препарат служит двум взаимоисключающим целям, но я точно знал, что он весьма эффективен в обоих случаях. Нынче ночью я нуждался в успокоительном и снотворном действии лекарства. Мой возбужденный ум жаждал поразмыслить о странной затее Диккенса с публичными чтениями, представляющими собой «совершенно новую форму искусства», и связать всю чушь, которую он нес про месмеризм и магнетизм, с его предполагаемыми визитами к подземному обитателю по имени Друд, но благословенный лауданум избавил меня от назойливых вопросов, теснившихся у меня в голове. Последней мыслью, посетившей меня перед сном, стала мысль об одном обстоятельстве, сообщенном мне инспектором Филдом несколькими неделями ранее. Похоже, в течение осени Эллен Тернан несколько разнаведывалась в здешние края и даже непосредственно в Гэдсхилл. Конечно, сказал Филд, у бывшей актрисы живет родня в Рочестере, и потому она приезжала сюда вне зависимости от своей тайной связи с Диккенсом, но точно установлено, что она также посещала Гэдсхилл-плейс и в сентябре провела здесь по меньшей мере пять ночей. Интересно, гадал я, как отреагировали Кейти и Мейми на такой захват материна места в доме? Я еще мог представить, что Мейми, следуя примеру Джорджины Хогарт, радушно принимает незваную гостью, понимая (как понимали все), что Чарльз Диккенс мучается одиночеством и остро нуждается в юношеских иллюзиях, какие одна только любовь способна подарить уму и душе стареющего мужчины. Но Кейти? Кейт Макриди Диккенс, сколь бы несчастной и одинокой она сама ни казалась (в октябре Неподражаемый сказал мне, что жена моего брата «настолько неудовлетворена… настолько снедаема страстным желанием завести любовника, что медленно, но верно подрывает и свою репутацию, и свое здоровье, Уилки») — так вот, она по-прежнему хранила верность памяти изгнанной из дома матери. Я не мог представить, чтобы Кейт, которая всего на год старше Эллен Тернан, приняла в свое сердце предполагаемую любовницу отца. Далеко не каждый отважится заявить брату мужа своей дочери, что она неудовлетворена физически и усиленно ищет любовника, и я подозреваю, Диккенс сказал мне это с расчетом, что я передам его слова Чарли. Но я, разумеется, не сделал этого. Видимо, Кейти не высказалась вслух против визитов Эллен — иначе бывшая актриса не стала бы приезжать в Гэдсхилл снова и снова. С такими мыслями я погрузился в глубокий сон без сновидений.
Кто-то сильно тряс меня за плечо и шепотом повторял мое имя. Я перекатился на другой бок, чувствуя себя как пьяный. Темноту в комнате рассеивал лишь слабый, странный свет, источник которого, казалось, находился на полу у кровати. Надо мной склонялась темная фигура. — Проснитесь, Уилки. Я вгляделся в фигуру. У моей постели стоял Чарльз Диккенс, в ночной рубашке и наброшенной на плечи шерстяной куртке, с двустволкой в одной руке и скомканным саваном в другой. «Пробил мой час», — подумал я. — Вставайте, Уилки, — прошептал он. — Быстро. Наденьте туфли. Я принес вам пальто. Он бросил саван мне на ноги, и я осознал, что это мое пальто. — В чем де… — Тсс, тише! Не то других разбудите. Поднимайтесь. Живо. Пока он не скрылся. Нельзя терять ни минуты. Наденьте только пальто и туфли. Вот и молодец… Мы спустились по черной лестнице. Диккенс с ружьем и фонарем шел впереди, мы оба старались производить по возможности меньше шума. Султан, свирепый ирландский волкодав, в наморднике и ошейнике с поводком, ждал на привязи в заднем холле. Он так и рвался к двери. — В чем дело? — спросил я. — Что случилось? Бакенбарды у Неподражаемого и волосы на макушке нелепо топорщились со сна, что в других обстоятельствах изрядно меня позабавило бы. Но только не нынче ночью. В глазах Чарльза Диккенса читалось чувство, похожее на настоящий страх, — ничего подобного я не видел никогда прежде. — Это был Друд, — прошептал он. — Мне не спалось. Я думал о разных делах, которые следует поручить Уиллсу. Я встал с постели, собираясь спуститься в кабинет и сделать для себя запись на память, и тут я увидел это, Уилки… — Что именно, друг мой? — Лицо Друда. Бледное, искаженное лицо. Оно маячило в окне. Прижималось к холодному стеклу. — В вашем кабинете? — спросил я. — Нет, — сказал Диккенс, уставившись на меня дикими, как у понесшей лошади, глазами. — В моей спальне. — Но, Диккенс, — прошептал я, — это же невозможно. Ваша спальня находится на втором этаже, как и гостевые комнаты. Друду пришлось бы подняться по десятифутовой стремянной лестнице, чтобы заглянуть к вам в окно. — Уилки, я его видел, — прохрипел Диккенс. Он настежь распахнул дверь и, держа в одной руке фонарь и поводок, а в другой сжимая двустволку, вышел в ночь вслед за своим нетерпеливо рвущимся вперед псом.
На заднем дворе было очень холодно и очень темно — ни луны, ни звезд в небе, ни единого огонька в окнах дома. Ледяной ветер тотчас забрался под накинутое на плечи пальто и трепещущую ночную рубашку, и я задрожал всем телом. Я вышел без брюк и в туфлях на босу ногу, и сейчас, на кусачем морозном воздухе, испытывал такое ощущение, будто бритвенно-острые заледенелые травинки секут мне голые лодыжки и голени. Султан с рычанием бросился вперед, увлекая за собой Диккенса. Мы походили на двух разъяренных селян, напавших на след убийцы, из какого-нибудь низкопробного авантюрного романа. Возможно, таковыми мы и являлись. Мы завернули за угол дома в кромешной тьме и остановились в саду под окнами спальни Диккенса. Султан рычал и рвался на поводке, но Диккенс на минуту задержался: отодвинул заслонку маленького фонаря и посветил на замерзшую землю клумбы. Ни подозрительных отпечатков ног, ни вмятин, оставленных приставной лестницей, там не наблюдалось. Мы оба взглянули на темное окно спальни Диккенса. Несколько звезд показались в разрыве быстро плывущих облаков и спустя несколько мгновений исчезли. Если Друд заглядывал в окно, не пользуясь стремянной лестницей, значит, он парил в воздухе на высоте десяти футов. Султан зарычал, дернулся на поводке, и мы устремились за ним. Вернувшись на задний двор, мы остановились на краю поля, где в 1860 году Диккенс сжег всю свою корреспонденцию. Голые ветви деревьев с костяным стуком раскачивались на ветру. — Но откуда здесь взяться Друду? — шепотом спросил я. — Зачем ему являться сюда? — Однажды утром он следовал за мной от Лондона, — прошептал Диккенс. Он медленно сделал полный оборот на месте, держа двустволку под правой мышкой. — Я в этом уверен. Я часто вижу по ночам неясную фигуру на другой стороне дороги, около шале. Собаки лают. Когда я выхожу из дома, фигура исчезает. «Скорее всего, агенты инспектора Филда», — подумал я, испытывая искушение сказать это вслух. Вместо этого я повторил: Но зачем Друду являться сюда и таращиться в ваше окно в рождественскую ночь? — Тш-ш-ш! — Диккенс предостерегающе вскинул ладонь, а потом крепко сжал свободной рукой челюсти Султана, чтобы заглушить рычание. В первый момент мне показалось, будто к нам приближаются сани, хотя на земле не лежало ни тончайшего снежного покрова, но потом я осознал, что слабый звон колокольчиков доносится из темной конюшни. Там на стене висела упряжь Ньюмена Ноггза, украшенная норвежскими колокольчиками. — За мной, — промолвил Диккенс, поспешно устремляясь к конюшне. Двери там были распахнуты настежь — в ночном мраке смутно вырисовывался густо-черный прямоугольник дверного проема. — А вы закры… — шепотом начал я. — Они всегда закрываются на ночь, — прошипел Диккенс в ответ. — Я проверял их сегодня на закате. — Он передал мне поводок внезапно притихшего пса, поставил фонарь на землю и взял на изготовку дробовик. Колокольчики слабо звякнули в последний раз, а потом наступила тишина, словно чья-то рука придержала упряжь. — Снимите с Султана намордник, а потом отпустите поводок, — чуть слышно прошептал Диккенс, не опуская ружья, направленного на черный дверной проем. — Он разорвет на куски любого, кто там находится, — прошептал я. — Снимите намордник и отпустите пса, — прошипел Диккенс. С бешено стучащим сердцем я опустился на одно колено и принялся неловко возиться с застежками намордника. Я почти не сомневался, что ирландский волкодав с налитыми кровью глазами — он весил почти столько же, сколько я, — разорвет на куски меня, едва лишь я сниму с него намордник. — Вперед! — громко скомандовал Диккенс псу. Султан рванулся с места и понесся мощными прыжками, словно вместо мышц у него были тугие металлические пружины. Но устремился он отнюдь не в конюшню: волкодав круто забрал влево, одним махом перелетел через живую изгородь и помчался через поле в сторону леса и далекого моря. — Черт бы подрал негодного пса! — в сердцах выругался Диккенс. Я только сейчас осознал, как редко Неподражаемый чертыхался при мне. — Пойдемте, Уилки, — властно скомандовал он, словно я был вторым волкодавом, которого он держал про запас. Вручив мне фонарь с опущенной заслонкой, Диккенс побежал к распахнутым дверям конюшни. Я поспешил следом, поскальзываясь на мерзлой траве, но он достиг дверного проема значительно раньше меня и вошел внутрь, не дожидаясь, когда подоспею я с фонарем. Вступив в темноту, я скорее почувствовал, нежели увидел, что Диккенс находится в нескольких футах слева от меня, и понял (вероятно, прозрел ясновидчески), что он стоит со вскинутым дробовиком, направленным в сторону длинного прохода между стойлами. Клубы пара от дыхания лошадей и пони и слабое шевеление животных в кромешном мраке я тоже воспринимал скорее шестым чувством, чем зрением и слухом. — Дайте свет! — резко приказал Диккенс. Я неловко поднял шторку фонаря. Расплывчатые тени в стойлах — все лошади бодрствовали, но не издавали ни звука — беспокойно зашевелились. Пар от дыхания клубился в холодном воздухе подобием тумана. Потом в дальнем конце темной конюшни, где висела на стене упряжь с колокольчиками, мелькнуло смутное белое пятно. Диккенс поднял ружье чуть выше, готовясь спустить оба курка, и я увидел, как блеснули белки его глаз в свете фонаря. — Стойте! — крикнул я в полный голос, заставив животных испуганно шарахнуться в стойлах. — Бога ради, не стреляйте! Я бросился вперед, к расплывчатому белому пятну. Мне кажется, Диккенс выстрелил бы, невзирая на мои крики, если бы я не загородил от него мишень. Неясная белая фигура в дальнем конце конюшни наконец оказалась в круге света от моего фонаря. Там, в темноте, стоял Эдмонд Диккенсон с широко раскрытыми, но совершенно бессмысленными глазами. Он явно не видел и не слышал нас. Он был в ночной рубашке, босые ступни смутно бледнели на черном брусчатом полу конюшни, кисти вяло опущенных рук походили во мраке на маленькие звезды. Диккенс подошел и разразился смехом. Громкий хохот испугал лошадей пуще прежнего, но Диккенсон никак на него не отреагировал. — Сомнамбула! — воскликнул Диккенс. — Бог ты мой, сомнамбула! Наш сирота разгуливает во сне! Я поднес фонарь поближе к бледному лицу молодого человека. В его глазах заплясали яркие отблески огня, но он не моргнул и даже не шелохнулся. Перед нами действительно стоял лунатик. — Вероятно, его-то вы и видели у себя под окном, — тихо промолвил я. Диккенс бросил на меня столь сердитый взгляд, что мне показалось, сейчас он обругает меня, как недавно обругал сплоховавшего пса, но заговорил он неожиданно мягким тоном: — Вовсе нет, дорогой Уилки. В саду под окном я никого не видел. Я встал с постели и ясно увидел в окне лицо Друда — он прижимался своим уродливо коротким носом к стеклу и пристально смотрел на меня безвекими глазами. Он находился непосредственно за окном, Уилки. За окном моей спальни на втором этаже. А не в саду внизу. Я согласно кивнул, нисколько, впрочем, не сомневаясь, что Друд привиделся Неподражаемому во сне. Вероятно, он принял на ночь лауданум — я знал, что Фрэнк Берд прописал Диккенсу этот препарат, когда осенью пациент стал мучаться бессонницей. Я сам все еще ощущал теплую пульсацию в теле, вызванную действием лекарства, даром что от холода моя рука, сжимавшая фонарь, тряслась, словно у паралитика. — Как мы с ним поступим? — спросил я, кивком указав на Диккенсона. — Как следует поступать со всеми сомнамбулами, друг мой. Осторожно отведем парня обратно в дом, и вы проводите его в спальню и уложите в постель. Я взглянул в сторону открытого дверного проема, что выделялся в чернильной тьме прямоугольником чуть светлее по тону. — А Друд? — спросил я. Диккенс потряс головой. — После ночной охоты Султан часто возвращается домой с окровавленной пастью. Будем надеяться, такое случится и на сей раз. У меня возникло желание уточнить у Диккенса, что именно он имеет в виду. (Инспектор Филд по достоинству оценил бы подобные сведения.) Он что, рассорился со своим наставником по части египетского месмеризма? И желал фантому смерти? Хотел, чтобы пес-убийца загрыз Друда? Неужто Диккенс больше не ходит в учениках у повелителя подземного мира, который руками своих приспешников (по словам бывшего начальника сыскного отдела Скотленд-Ярда) убил свыше трехсот мужчин и женщин? Но я промолчал. Заводить разговор на таком морозе не особо хотелось. Подагрическая боль постепенно возвращалась, пропускала свои раскаленные щупальца сквозь глазные яблоки прямо в мозг, как обычно случалось перед сильным приступом. Мы взяли Диккенсона под руки, медленно вывели из конюшни и повели через широкий двор к задней двери особняка. Я осознал, что мне придется вытереть полотенцем ноги молодому болвану, страдающему лунатизмом, прежде чем затолкать его в постель. Возле самой двери я оглянулся на темный двор, почти ожидая, что вот сейчас Султан вбежит в круг света от фонаря, держа в зубах отгрызенную бледную руку, или ступню, или голову. Но никакого движения в темноте не наблюдалось, если не считать колебания ветвей в порывах ледяного ветра. — Так заканчивается очередная рождественская ночь в Гэдсхилле, — тихо пробормотал я. Очки у меня слегка запотели, когда мы вошли с холода в сравнительно теплую прихожую. Я ненадолго отпустил руку мистера Диккенсона, чтобы снять и протереть очки. Снова заправив металлические дужки за уши, я увидел, что Диккенс улыбается обычной своей озорной мальчишеской улыбкой, какой столь часто одаривал меня за четырнадцать лет нашего знакомства. — Благослови всех нас Господь, — пропел он детским фальцетом, и мы с ним громко расхохотались, рискуя разбудить весь дом.
Глава 14
Я видел мерцающую сферу… вернее, мерцающий бледно-голубой эллипсоид… и черную полосу на темном фоне. Полоса находилась на потолке и образовалась там за много-много лет от копоти восходящего вверх дыма. Мерцающий бледно-голубой овал находился ближе, прямо передо мной, и являлся частью меня, продолжением моих мыслей. А также луной, бледным спутником, подчиненным моей власти. Я повернулся на левый бок и увидел солнце — неизвестное солнце, ярко-оранжевое, а не бледно-голубое, посылающее лучи в черный космос. Если бледно-голубой овал был моим спутником, то я был спутником этого солнца, ослепительно сияющего во тьме космического пространства, во тьме вечности. Какая-то тень застила мое солнце. Я не столько увидел, сколько почувствовал, как бледно-голубой овал и длинная трубка, связывающая меня с ним, стремительно отлетают прочь. — А ну-ка, Хэчери, вытащите его оттуда. Поставьте на ноги и подоприте плечом. — Эй, эй, эй! — провизжал совершенно незнакомый и одновременно страшно знакомый голос. — Джентльмен заплатил за койку на ночь и за зелье, все чин чинарем. Не смейте его… — Заткнись, Сэл, — пророкотал другой знакомый голос. Голос сказочного великана. — Еще хоть раз вякнешь — и инспектор упрячет тебя в самую темную камеру Ньюгейта еще до рассвета. Больше никто не вякал. Я парил над переливчатыми разноцветными облаками, раз за разом облетая вокруг шипящего, потрескивающего солнца, а мой бледно-голубой спутник — теперь недоступный взору — в свою очередь, вращался вокруг меня. Но в следующий миг я почувствовал, как сильные руки стаскивают меня с головокружительных космических высот на бугристую, грязную, устланную соломой землю. — Поддерживайте его, чтобы не падал, — проскрежетал голос, невесть почему вызвавший у меня ассоциацию с каким-то строго грозящим пальцем. — Возьмите на руки, коли придется. Я снова парил — между темными спальными полками, встроенными в темные стены. Шипящее солнце позади меня медленно удалялось, становясь все меньше и тусклее. Передо мной вырос тощий исполин. — Сэл, убери Яхи с дороги — не то я вытрясу его прокопченные кости из его гнилой старой шкуры да загоню беспризорным мальчишкам как дуделки по три пенни штука. — Эй, эй! — снова услышал я. Две тени слились воедино, потом одна из них уложила другую обратно в гроб. — Вот и славно, Яхи. Давай спатеньки. Хиб, ваше высочество, джентльмен еще не рассчитался со мной толком. Ты сильно заубытчишь меня, коли возьмешь да утащишь клиента прочь. — Врешь, старая карга, — прогремел более властный из двух мужских голосов. — Ты минуту назад сказала, что он заплатил за все услуги. У него в трубке было столько зелья, что он провалялся бы тут в дурном бреду до самого рассвета. Впрочем, суньте ей еще пару монет, сыщик Хэчери. Самых мелких. Потом мы вышли в ночь. Я отметил морозную свежесть воздуха — в нем чуялся запах еще не выпавшего снега, — отметил отсутствие своих пальто, цилиндра и трости, а также то чудесное обстоятельство, что ноги мои не касаются булыжной мостовой — я просто парю над ней, направляясь к пляшущему на ветру уличному фонарю далеко впереди. Потом я осознал, что более крупный из двух сопровождающих меня мужчин держит меня под мышкой, словно призового поросенка, полученного на деревенской ярмарке. Я уже достаточно очухался после трубки опиума, чтобы вслух выразить свое недовольство, но шагавшая впереди темная фигура (я ни секунды не сомневался, что это мой ангел возмездия инспектор Филд) промолвила: — Угомонитесь, мистер Коллинз. Здесь неподалеку есть трактир, который откроет нам двери, несмотря на неурочный час, и там мы приведем вас в порядок. Трактир, куда нас впустят в такое время суток? Как бы ни туманилось мое зрение (впрочем, в холодном воздухе нынче ночью висел густой туман), я отчетливо понимал, что морозным и ветреным мартовским утром все до единого заведения подобного толка закрыты в предрассветный час. Я услышал и смутно увидел, как Филд стучит кулаком в дверь под вывеской с надписью: «Шесть веселых грузчиков». Как бы ни ныли у меня бока от того, что сыщик Хэчери крепко зажимал меня под мышкой, словно призовую свинью с ярмарки, я не понимал, действительно ли нахожусь здесь, в темноте на морозе, в обществе двух мужчин. Скорее всего, я по-прежнему лежал на койке в притоне Сэл, наслаждаясь остатками зелья в чернильной cклянке. — Эй, там, придержи лошадей! — раздался женский голос, едва слышный сквозь лязг засовов и пронзительный скрип древней двери. — О, это вы, инспектор! И вы, сыщик Хэчери. И что вам обоим не спится в такую ненастную ночь? А это кто такой, Хиб? Не утопленник ли? — Нет, мисс Аби, — сказал верзила. — Просто джентльмен, которого надобно привести в чувство. Меня внесли в трактирный зал с красными портьерами на окнах и большим камином, где еще тлели угли, и я страшно обрадовался теплу, хотя и понимал, что все происходит во сне. Трактир «Шесть веселых грузчиков» и его хозяйка мисс Аби Поттерсон являлись плодами художественного вымысла из проклятого диккенсовского «Нашего общего друга». В припортовом квартале не было трактира с таким названием, хотя имелось великое множество заведений подобного толка, любое из которых Диккенс мог взять за прототип изображенного в романе. — Здесь подают отличный херес, — сказал инспектор Филд, пока мисс Аби зажигала лампы и приказывала сонному мальчишке-прислужнику подбросить поленьев в камин. — Не желает ли джентльмен заказать бутылку? Я нисколько не усомнился, что в точности такие слова есть в «Нашем общем друге». В чьих же устах они прозвучали там, если сейчас мой одурманенный опиумом мозг создает такую галлюцинацию? «Мистер инспектор» из романа, осознал я, являлся очередным диккенсовским персонажем, списанным вот с этого самого инспектора Филда, в данный момент занявшего место в уютной кабинке. — Джентльмен желает, чтобы его перевернули головой вверх и отпустили, — произнес я во сне. Хэчери приподнял меня, придал мне вертикальное положение и осторожно усадил на скамью напротив инспектора. Я огляделся по сторонам, с уверенностью ожидая увидеть поблизости мистера Юджина Рэйберна и его друга Мортимера Лайтвуда, но, если не считать сидящего инспектора, стоящего Хэчери, суетящегося у камина мальчишки и выжидательно застывшей на месте мисс Аби Поттерсон, в трактире никого не было. — Да, вашего особого хереса, пожалуйста, — распорядился Филд. — Всем троим. Для согрева. Мисс Аби и мальчишка скрылись в задней комнате. — Зря стараетесь, — сказал я инспектору. — Я знаю, что все это сон. — Ай-ай-ай, мистер Коллинз. — Филд ущипнул меня за руку с такой силой, что я вскрикнул. — Джентльменам вроде вас не место в притоне Сэл. Если бы мы с Хэчери не вытащили вас оттуда вовремя, вы бы в ближайшие десять минут лишились своего бумажника и золотых зубов. — У меня нет золотых зубов, — сказал я, стараясь четко произносить каждое слово. — Фигура речи, сэр. — Мое пальто, — проговорил я. — Моя шляпа. Моя трость. Хэчери, точно фокусник, извлек невесть откуда все три поименованных предмета и положил на стол в соседней пустой кабинке. — Нет, мистер Коллинз, — продолжал инспектор Филд, — в своем опиумном пристрастии джентльмену вроде вас следует ограничиться лауданумом, которым на законных основаниях торгуют честные аптекари вроде мистера Коупера. И оставить опиумные притоны вместе с сомнительными припортовыми кварталами неверным китайцам да черномазым ласкарам. Меня не удивило, что он знает имя моего главного поставщика лауданума. В конце концов, все ведь происходило во сне. — Я вот уже несколько недель не получаю от вас никаких сообщений, сэр, — продолжал инспектор Филд. Голова у меня раскалывалась. Я поставил локти на стол и подпер лоб кулаками. — Мне было нечего вам сказать. — Плохо дело, мистер Коллинз, — вздохнул инспектор. — Это идет вразрез как с общим духом, так и с конкретными условиями нашего соглашения. — К черту наше соглашение, — пробормотал я. — Послушайте, сэр, — сказал Филд. — Сейчас мы вольем в вас немного подогретого хереса, чтобы вы вспомнили, как подобает себя вести истинному джентльмену. Мальчишка — несомненно, по имени Боб — вернулся с огромным кувшином, источающим приятный терпкий запах. В левой руке он держал железный сосуд в виде шляпы с конусообразной тульей (Диккенс описывал точно такой в своем романе, и я с интересом прочитал описание, даром что мы с ним видели сотни подобных новинок). Перелив в него содержимое кувшина, Боб установил наполненную до краев «шляпу» в заново растопленном камине, воткнув острым концом поглубже в угли, потом скрылся в заднем помещении и через минуту вернулся — с тремя чистыми стаканами и в сопровождении хозяйки заведения. — Благодарю вас, мисс Дарби, — промолвил инспектор Филд. Паренек поставил на стол стаканы, вытащил железный сосуд из огня, легонько взболтал — края «шляпы» зашипели и задымились, — а затем перелил подогретый напиток обратно в кувшин. Предпоследняя часть сего священнодействия заключалась в том, что Боб подержал каждый из наших прозрачных стаканов над дымящимся кувшином, чтобы они запотели до необходимой степени матовости, одному ему известной. И наконец он наполнил стаканы под одобрительные возгласы инспектора и его прихвостня сыщика. — Спасибо, Уильям, — поблагодарил Филд. — Уильям? — переспросил я, подаваясь вперед, чтобы вдохнуть ароматные теплые пары, исходящие из моего стакана. — Мисс Дарби? Вы, наверное, имеете в виду Боба и мисс Аби? Мисс Аби Поттерсон? — Нет, конечно, — сказал Филд. — Я имею в виду Уильяма — славного малого Билли Лампера, обслужившего нас минуту назад, — и его хозяйку мисс Элизабет Дарби, которая владеет и управляет этим заведением вот уже двадцать восемь лет. — Разве это не «Шесть веселых грузчиков»? — спросил я, осторожно отпивая крохотный глоток горячего хереса. Я испытывал неприятное покалывание во всем теле — точно такое, как в отсиженной ноге или отлежанной руке. Во всем теле, кроме головы, трещавшей от боли. — Я не знаю в Лондоне заведения с таким названием, — рассмеялся инспектор Филд. — Этот трактир с давних пор и по сей день называется «Земля и голубь». Возможно, сам Кристофер Марло развлекался с девицами здесь в задней комнате, если не в более сомнительном «Белом лебеде», что через дорогу. Но «Белый лебедь» — трактир не для джентльменов, мистер Коллинз, даже если речь идет о таких безрассудно смелых джентльменах, как вы, сэр. И в такой час хозяин «Белого лебедя» не впустил бы нас и не подогрел бы для нас хереса, как сделала моя милая Лайза. Вы пейте, сэр, пейте — только между делом объясните мне, пожалуйста, почему вы не передавали мне никаких сообщений в последнее время. От горячего хереса мысли мои постепенно прояснялись. — Повторяю: у меня не было никаких сведений для вас, инспектор, — резковато сказал я. — Чарльз Диккенс собирается в триумфальное турне по провинциальным городам, и в ходе нескольких наших последних встреч он ни разу не обмолвился о вашем общем знакомом, фантоме по имени Друд. С самой рождественской ночи. Инспектор Филд подался ко мне. — Когда, по вашим словам, Друд парил в воздухе за окном спальни мистера Диккенса, расположенной на втором этаже. На сей раз рассмеялся я. И тут же пожалел об этом. Потирая ладонью ноющий лоб, свободной рукой я взял со стола стакан и промолвил: — Нет, инспектор. Когда мистер Диккенс сказал, что видел Друда, парившего в воздухе у него за окном. — Вы не верите в возможность левитации, мистер Коллинз? — Я считаю подобный феномен крайне… маловероятным, — угрюмо пробурчал я. — Однако в своих очерках высказываете ровно противоположное мнение на сей счет, — заметил инспектор Филд. Он шевельнул толстым указательным пальцем, и паренек по имени Билл поспешно наполнил оба наших стакана. — В каких еще очерках? — осведомился я. — Кажется, в свое время они были опубликованы под общим заголовком «Магнетические сеансы на дому» и под каждой значилась подпись «У. У. К.» — Уильям Уилки Коллинз. — О господи! — воскликнул я излишне громко. — Так они вышли в свет лет эдак… сколько?.. пятнадцать назад. Серию очерков, упомянутых Филдом, я написал для журнала известного скептика Дж. Г. Льюиса «Лидер» в самом начале пятидесятых. В них я просто рассказывал о различных салонных экспериментах, очень модных в то время: погружение мужчин и женщин в месмерический транс, магнетизирование неодушевленных предметов вроде стаканов с водой, чтение мыслей и предсказания будущего, попытки общения с духами умерших и… да, сейчас я вспомнил, несмотря на головную боль, несмотря на опиумный и алкогольный дурман… там действительно упоминалось о некой женщине, взмывшей в воздух вместе со своим креслом. — У вас появились причины переменить свое мнение с тех пор, как вы наблюдали подобные явления, мистер Коллинз? Мягкий, но одновременно категорический и многозначительный тон Филда, как всегда, привел меня в раздражение. — Я не высказывал никакого собственного мнения, инспектор. Просто описывал свои наблюдения. — Но вы больше не верите, что мужчина или женщина — любой человек, искушенный в древних искусствах давно забытой цивилизации, — может воспарить в воздух, чтобы заглянуть в окно Чарльза Диккенса? Ну все. Я был сыт по горло этим вздором. — Я никогда не верил в подобные вещи, — резко сказал я, возвысив голос. — Четырнадцать или пятнадцать лет назад я просто описывал… фокусы… производимые доморощенными мистиками, и рассказывал о легковерии зрителей, собиравшихся на подобные выступления. Я человек современный, инспектор, каковое определение для представителей моего поколения равнозначно понятию «человек, ни во что не верящий». К примеру, я не верю даже в существование вашего таинственного мистера Друда. Или, если выразиться более категорично, я убежден, что вы и Чарльз Диккенс просто использовали легенду о названном персонаже каждый для своей цели, причем оба вы попытались использовать меня как пешку в вашей игре — какую бы там игру вы ни вели. Для человека в моем состоянии, да в столь ранний час, это было слишком длинное выступление, и я устало уткнулся носом в стакан с дымящимся хересом. Инспектор дотронулся до моей руки, и я вскинул голову. Его красное, испещренное прожилками лицо хранило серьезное выражение. — Да, действительно, ведется некая игра — но отнюдь не в ущерб вам, мистер Коллинз. И в ней действительно участвуют пешки наряду с более значительными фигурами, но вы не пешка, сэр. Хотя я почти уверен, что ваш мистер Диккенс — пешка. Я раздраженно отдернул руку. — О чем вы говорите? — Мистер Коллинз, вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мне так важно найти Друда? Я не сдержал ухмылки. — Вы хотите вернуть свою пенсию. Своими словами я рассчитывал разозлить инспектора, а потому удивился, когда он от души рассмеялся. — Видит бог, мистер Коллинз, вы правы. Я действительно хочу восстановить пенсию. Но в данной шахматной партии это самая малая из моих целей. Мы с мистером Друдом уже почти старики, и каждый из нас принял решение закончить игру в кошки-мышки, которую мы ведем двадцать с лишним лет. Да, у каждого из нас на доске осталось еще достаточно фигур, чтобы сделать последний ход, но мне кажется, вы не понимаете одного, сэр: игра должна — непременно должна — закончиться смертью одного из нас. Либо смертью Друда, либо смертью инспектора Филда. Только так — и никак иначе. Я растерянно похлопал глазами и спросил: — Но почему? Инспектор Филд снова подался вперед, обдав меня запахом хереса. — Видимо, сэр, вы думаете, что я преувеличивал, когда сказал вам, что Друд убил — своими собственными руками и руками своих замагнетизированных приспешников — триста человек за двадцать с лишним лет, прошедших со времени его прибытия в Англию из Египта. Так вот, я нисколько не преувеличивал, мистер Коллинз. На данный момент речь идет о трехстах двадцати восьми жертвах. Этому не видно конца, сэр. Друда надо остановить. Все эти годы, на службе в Столичной полиции и в отставке, я сражался с дьяволом — каждому из нас пришлось пожертвовать пешками, турами и более важными фигурами в ходе этой Длинной партии, — но сейчас действительно наступил эндшпиль. Либо дьявол поставит мне мат, либо я поставлю мат ему. Третьего не дано, сэр. Я уставился на инспектора. С недавних пор я сильно сомневался в психическом здоровье Чарльза Диккенса. Теперь я точно знал, что в моем окружении имеется еще один сумасшедший, влияющий на мою жизнь. — Да, я попросил вас о помощи, не предложив взамен ничего, кроме содействия в сокрытии факта существования мисс Марты Р*** от вашей супруги Кэролайн, — сказал инспектор Филд, выбрав, по моему мнению, весьма изящные выражения для обозначения своего шантажа. — Но я могу предложить в обмен на вашу помощь и другие услуги. Существенные услуги. — Какие именно? — спросил я. — Что сильнее всего отравляет вам жизнь в настоящее время, мистер Коллинз? Я хотел сказать «знакомство с вами» и покончить на этом, но неожиданно для меня самого с губ моих сорвалось слово «боль». — Точно, сэр… вы уже упоминали прежде о ревматоидной подагре, мучающей вас. По вашим глазам видно, как вы больны, мистер Коллинз. Терпеть постоянную боль нелегко любому человеку, но особенно художнику вроде вас. Сыщики пользуются дедуктивным методом рассуждений, сэр, и я с помощью дедукции прихожу к выводу, что этой ненастной мартовской ночью вы заявились в опиумный притон Сэл, расположенный в грязном портовом квартале, в надежде получить облегчение от боли. Разве не так, мистер Коллинз? — Так. — Я не счел нужным сообщать Филду, что мой врач Фрэнк Берд недавно высказал предположение, что «ревматоидная подагра», давно мучающая меня, вполне может быть венерической болезнью. — Вам ведь и сейчас худо, правда, мистер Коллинз? — Такое ощущение, будто у меня глазные яблоки наполнены кровью, — честно признался я. — Всякий раз, когда я открываю глаза, мне кажется, что из них вот-вот хлынет кровь и потечет ручьями по щекам и бороде. — Ужасно, сэр, ужасно. — Инспектор Филд покачал головой. — Я ни секунды не виню вас в том, что вы ищете облегчения в лаудануме или опиумной трубке. Но позвольте заметить, сэр, сомнительного качества зелье, которым торгуют в притоне Сэл, вам не поможет. — Как вас понимать? — Старая Сэл слишком сильно разбавляет опиум, и без того не чистый, чтобы он мог толком подействовать на человека в вашем тяжелом состоянии, мистер Коллинз. Не стану спорить, разумное сочетание лауданума и опиумной трубки может оказать благотворное — даже чудесное — влияние на ваше самочувствие, мистер Коллинз, но в Блюгейт-Филдс и чипсайдовских опиумных притонах просто не найти качественного наркотика, необходимого вам, сэр. — Тогда где? — Едва успев задать вопрос, я уже знал ответ. — У Короля Лазаря, — сказал инспектор Филд. — В тайном китайском притоне в Подземном городе. — В склепах и катакомбах, — угрюмо пробормотал я. — Да, сэр. — Вам просто надо, чтобы я вернулся в Подземный город. — Я поднял глаза и встретился с пристальным взглядом инспектора. Сквозь щели в красных оконных портьерах «Земли и голубя» пробивался тусклый холодный свет раннего мартовского утра. — Вы хотите, чтобы я попытался привести вас к Друду. Инспектор Филд помотал плешивой головой с седыми бакенбардами. — Нет, так мы Друда не найдем, мистер Коллинз. Мистер Диккенс, безусловно, не солгал вам осенью, когда сказал, что регулярно наведывается в логово Друда, но он спускается под землю не через склеп на кладбище. Мои люди несколько месяцев кряду дежурили там. Друд показал ему какой-то другой путь в свой подземный мир. Либо же египетский дьявол живет на поверхности земли и сообщил мистеру Диккенсу один из своих адресов. Так что вашему другу больше нет необходимости спускаться в Подземный город прежним путем, мистер Коллинз, но вы можете сделать это, коли хотите облегчить свои физические страдания с помощью чистого опиума Короля Лазаря. Мой стакан был пуст. Я посмотрел на инспектора сквозь слезы, внезапно навернувшиеся на глаза. — Не могу, — сказал я. — Я пробовал. Мне не сдвинуть тяжелый постамент в склепе, чтобы получить доступ к лестнице. — Знаю, сэр, — промолвил инспектор голосом профессионально спокойным и печальным, как у гробовщика. — Но Хэчери с радостью поможет вам, когда вы пожелаете спуститься туда, Днем или ночью. Правда, Хиб? — С огромной радостью, сэр, — подтвердил стоявший поблизости Хэчери. Я почти забыл о присутствии сыщика. — А как я свяжусь с ним? — спросил я. — На вашей улице по-прежнему дежурит мой мальчишка, мистер Коллинз. Передадите через Гузберри сообщение — и в течение часа сыщик Хэчери прибудет к вам, чтобы проводить вас через опасные кварталы, открыть доступ к лестнице и дождаться вашего возвращения. — Проклятый инспектор улыбнулся. — Он даже снова выдаст вам револьвер, мистер Коллинз. Хотя вам нечего бояться Короля Лазаря и его клиентов. В отличие от непредсказуемых посетителей притона старой Сэл, Лазарь и его живые мумии хорошо понимают, что их заведение существует только по моей милости. Я заколебался. — Можем ли мы оказать вам еще какую-нибудь услугу в обмен на вашу помощь в поисках Друда? — спросил Филд. — Может, у вас проблемы дома? Я подозрительно взглянул на пожилого господина. Что он может знать о моих домашних проблемах? Откуда может знать, что в притоне Сэл я искал спасения не только от подагрической боли, но и от нервной усталости, вызванной бесконечными ссорами с Кэролайн? — Я уже тридцать с лишним лет женат, мистер Коллинз, — мягко промолвил инспектор, словно прочитав мои мысли. — Смею предположить, ваша любовница, даже после стольких лет сожительства, продолжает требовать, чтобы вы женились на ней… а другая ваша любовница настаивает на своем возвращении из Ярмута в Лондон, поскольку хочет находиться рядом с вами. — Черт вас побери, Филд! — вскричал я, грохнув кулаком по столу. — Все это совершенно вас не касается! — Разумеется, сэр, разумеется, — пропел инспектор елейным голосом. — Но подобные проблемы могут отвлекать вас не только от вашей работы, но и от наших общих дел. Я пытаюсь понять, могу ли я помочь вам… по-дружески. — Здесь ничем не помочь, — прорычаля. — И вы мне не друг. Инспектор Филд понимающе кивнул. — И все же, сэр, прислушайтесь к совету давно женатого мужчины: порой перемена обстановки служит к временному прекращению семейных разногласий, к установлению в доме мира и покоя. — Вы говорите о переезде? Мы с Кэролайн обсуждали такую возможность. — Мне кажется, мистер Коллинз, вы с упомянутой дамой несколько раз ходили смотреть славный особнячок на Глостер-плейс. Меня уже не удивлял и не возмущал тот факт, что агенты Филда следят за нами. Я бы не удивился, узнав, что инспектор тайно поселил в нашем доме на Мелкомб-плейс карлика, который составляет письменные отчеты обо всех наших ссорах. — Особняк действительно славный, — сказал я. — Но нынешняя его владелица, некая миссис Шернволд, не желает его продавать. И в любом случае сейчас мне не найти денег на такую покупку. — Оба эти препятствия вполне преодолимы, мистер Коллинз, — вкрадчиво произнес инспектор Филд. — Если бы мы с вами восстановили нашу договоренность о сотрудничестве, я бы с уверенностью пообещал вам, что вы и ваша сожительница с дочерью уже через год-другой переберетесь в чудесный особнячок на Глостер-плейс, а ваша мисс Р***, коли вам угодно, воротится в свои комнаты на Болсовер-стрит, причем мы оплатим все ее дорожные и прочие безотлагательные расходы. Я исподлобья взглянул на старика. Голова у меня раскалывалась от боли. Мне хотелось поскорее вернуться домой, позавтракать и улечься в постель. Зарыться с головой под одеяло и проспать целую неделю кряду. Мы перешли от шантажа к подкупу. В общем и целом шантаж меня больше устраивал. — И что от меня требуется, инспектор? — Ничего сверх ранее оговоренных услуг, мистер Коллинз. Употребите все свое влияние, чтобы выведать у Чарльза Диккенса местонахождение и ближайшие планы Друда. Я потряс головой. — Диккенс всецело поглощен приготовлениями к поездке с публичными чтениями. Я уверен, он с самого Рождества не встречался с Друдом. Во-первых, он страшно напуган тем, что якобы увидел той ночью за своим окном, а во-вторых, сейчас у него дел по горло. Вы не представляете, сколько разных мелких вопросов необходимо уладить перед таким турне. — Ваша правда, мистер Коллинз, и близко не представляю, — согласился инспектор Филд. — Но я знаю, что ваш друг откроет турне концертом, который состоится через неделю, двадцать третьего марта, в здании Общественного собрания в Челтенхэме. Десятого апреля он выступит в Сент-Джеймс-Холле здесь, в Лондоне, после чего проведет публичные чтения в Ливерпуле, потом в Манчестере, потом в Глазго, потом в Эдинбурге… — Вам известен весь гастрольный маршрут? — перебил я. — Конечно. В таком случае вы сами прекрасно понимаете, что в ходе турне мне никак не удастся толком пообщаться с Чарльзом Диккенсом. Публичные чтения страшно утомительны для любого автора. Диккенсовские публичные чтения страшно утомительны для него самого и для всех окружающих. Во время своих выступлений Диккенс выкладывается, как никто на свете, и он обещает превзойти себя самого в предстоящей гастроли. — Я это слышал, — негромко промолвил инспектор Филд. — Друд примет участие в турне вашего друга. — Я рассмеялся. — Да разве ж такое возможно? Разве человек с такой приметной наружностью сможет путешествовать с Диккенсом или присутствовать на представлениях, не привлекая к себе внимания? — У Друда несчетное множество обличий. — Филд понизил голос, словно опасаясь, что Хэчери, или мисс Дарби, или мальчишка Билли может оказаться переодетым египетским преступником. — Я ручаюсь, что ваш друг Диккенс — осознанно или неосознанно, намеренно или неумышленно, как орудие Друда, — будет выполнять в предстоящем турне задачи, поставленные перед ним этим дьяволом. — Но каким образом он сможет?.. — начал я и осекся, вспомнив странное заявление Диккенса о намерении магнетизировать публику во время каждого выступления. Месмеризировать всех присутствующих? Но с какой целью? Все это просто в голове не укладывалось. — Вам ведь известен весь гастрольный график Диккенса, устало проговорил я. — И вы знаете, что с ним едут буквально несколько человек. — Мистер Долби, — сказал инспектор Филд. — Помощник вашего друга мистер Уилле. — Далее Филд назвал имена газового техника, театрального осветителя и даже агентов, отправленных вперед с поручением осмотреть зрительные залы, договориться о ценах на билеты, организовать расклейку афиш и все такое прочее. — Но Диккенс, безусловно, будет весьма рад пообщаться со своим близким другом в ходе столь утомительного турне. Я знаю, что он собирается пригласить актера Макриди на первое свое публичное чтение в Челтенхэме. Не могли бы вы провести с вашим знаменитым другом несколько дней в предстоящей гастрольной поездке и поприсутствовать на одном-другом его выступлении? — Это все, что вам от меня нужно? — Ваша помощь в таких пустяковых делах — когда от вас только и требуется, что наблюдать, вести непринужденные беседы да докладывать мне, — может оказаться поистине неоценимой, — сладким голосом пропел инспектор Филд. — Но каким образом, интересно знать, вы устроите так, что через год, пусть даже два, особняк на Глостер-плейс перейдет в наше владение, если миссис Шернволд намерена оставить его в наследство своему сыну-миссионеру и категорически отказывается продавать? Инспектор улыбнулся змеиной улыбкой. Я почти ожидал увидеть раздвоенное жало, мелькающее между красно-бурыми губами. — Это моя проблема, сэр, хотя мне думается, никаких проблем здесь вообще не возникнет. Для меня великая честь помочь человеку, который содействует нам, радеющим об общественном благе, в нашем стремлении избавить Лондон от самого малоизвестного, но самого успешного серийного убийцы. Я глубоко вздохнул и кивнул. Если бы инспектор Филд протянул мне руку, чтобы скрепить нашу гнусную сделку рукопожатием, я вряд ли дотронулся бы до нее. Вероятно, он так и понял — ибо он просто кивнул, удостоверяя соглашение, и огляделся по сторонам. — Не угодно ли вам, сэр, чтобы мисс Дарби и Билли подогрели нам еще хереса? Самое то на сон грядущий. — Нет. — Я предпринял безуспешную попытку подняться на ноги, а в следующий миг огромная ручища Хэчери подхватила меня под локоть и легко выдернула из кабинки. — Я хочу домой.Глава 15
Я решил ненадолго присоединиться к Диккенсу во второй половине турне. Инспектор Филд не ошибся в своем предположении, что Диккенс будет рад провести в моем обществе несколько дней в ходе гастрольной поездки. Я послал записку Уиллсу — несмотря на утомительность постоянных переездов из города в город с Неподражаемым, он через каждые три-четыре дня возвращался в Лондон, чтобы уладить диккенсовские и свои собственные журнальные дела с Форстером (не одобрявшим всю затею с публичными чтениями), — и уже назавтра получил телеграмму, гласившую:Дорогой Уилки! Турне проходит чудесно! Наш Долби оказалс я поистине замечательным спутником и импресарио. Вы останетесь в восторге от его выходок. Во всяком случае, я от них в полном восторге. Присоединяйтесь к нам в любое время и путешествуйте с нами сколь угодно долго. За свой счет, разумеется. С нетерпением жду встречи с вами! Ч. ДиккенсЯ нередко гадал, как же Неподражаемый переносит почти ежедневные переезды по железной дороге, и удовлетворил свое любопытство уже через несколько минут после того, как наш поезд, следующий в Бирмингем, отошел от платформы Бристольского вокзала. Я расположился в купе прямо напротив Диккенса, который сидел один. Джордж Долби и Уиллс занимали места рядом со мной, но они увлеченно беседовали друг с другом, а потому только я увидел, что писатель нервничает все сильнее по мере того, как состав набирает скорость. Сперва Диккенс стиснул обеими руками набалдашник трости, потом судорожно вцепился в узкий подоконник. Он поминутно бросал взгляд в окно и тут же поспешно отводил глаза в сторону. Его лицо — более смуглое, чем у среднего англичанина, благодаря ежедневным продолжительным прогулкам — побледнело и покрылось испариной. Вскоре Диккенс вытащил из кармана походную фляжку, отпил изрядный глоток бренди, несколько раз глубоко вздохнул, потом сделал еще один глоток и убрал фляжку. Затем он зажег сигару и вступил в беседу со мной, Долби, Уиллсом. Для путешествия Неподражаемый выбрал необычный — даже эффектный, если не сказать эксцентричный, — наряд: гороховый сюртук и накинутый поверх него шикарный дорогой плащ а-ля граф Д'Орсей. Широкие поля фетровой шляпы, лихо заломленной набок, наполовину прикрывали изрезанное морщинами, бронзовое от загара лицо (после пары глотков бренди нездоровая бледность исчезла). На Бристольском вокзале я случайно услышал, как медведеподобный Долби сказал скелетообразному Уиллсу, что в этой шляпе «шеф смахивает на современного благородного пирата, в чьих глазах светятся несгибаемая демоническая воля и нежное ангельское сострадание». По-моему, Долби тоже хлебнул бренди тем утром. У нас завязался оживленный разговор. Мы находились в купе одни — все прочие члены диккенсоновской малочисленной свиты отправились в Бирмингем раньше нас. Диккенс сказал мне, что в первые дни турне Уилле подверг Долби пристрастнейшему допросу с целью досконально выяснить, каким образом импресарио собирается исполнять свои обязанности. Поначалу Долби всякий раз выезжал вперед вместе с техником и осветителем, и Диккенс путешествовал в сопровождении одного только Уиллса. Теперь, когда Ливерпуль, Манчестер, Глазго, Эдинбург и Бристоль остались позади — и все там прошло гладко благодаря добросовестной работе Долби, — здоровенный импресарио путешествовал с Диккенсом, к великому удовольствию последнего. Неподражаемому оставалось еще выступить в Бирмингеме, Абердине, Портсмуте, а потом вернуться в Лондон и провести там серию заключительных чтений. Долби — которого последний его клиент, американский писатель по имени Марк Твен, шутливо называл «неунывающей гориллой» — вытащил из большой плетеной корзинки льняную скатерку, застелил раскладной столик, предусмотрительно установленный посреди купе, и принялся выкладывать на него легкий завтрак, состоящий из сэндвичей с яйцами и анчоусами, лососины под майонезом, холодной курятины, телячьего языка, мясных консервов и десерта в виде сыра рокфор и вишневого пирога. Он также выставил пару бутылок весьма приличного красного вина и, насыпав в умывальник колотого льда, поставил туда охлаждаться джиновый пунш. Когда мы закончили трапезу, Долби подогрел нам кофий на спиртовке. Не знаю, как насчет всего остального, но в ловкости и расторопности этому верзиле с заразительным смехом и милым заиканием нельзя было отказать. Допив джин и откупорив вторую бутылку вина, мы принялись петь дорожные песни — иные из них мы с Диккенсом нередко певали на пару, когда путешествовали вдвоем по Англии или Европе лет эдак десять назад. На подъезде к Бирмингему Диккенс лихо сплясал матросский танец под аккомпанемент нашего свиста. Когда он закончил и уселся наместо, тяжело дыша и отдуваясь, Долби дал ему последний стакан пунша, и Неподражаемый принялся учить нас немецкой застольной песне из «Волшебного стрелка». Внезапно по соседней колее с ревом понесся встречный экспресс, и с лысеющей головы Диккенса сорвало чудесную фетровую шляпу мощной струей воздуха. Уиллс, с виду похожий скорее на туберкулезника, нежели на атлета, стремительно выбросил длинную руку в окно и в последний момент успел поймать шляпу, не дав ей бесследно сгинуть в окрестных полях. Мы все дружно зааплодировали, и Диккенс сердечно похлопал тщедушного малого по спине. — Я недавно лишился котиковой шапки при похожих обстоятельствах, — сообщил мне Неподражаемый, нахлобучивая шляпу, поданную Уиллсом. — Утрата этой шляпы премного огорчила бы меня. Слава богу, Уилле у нас отличный отбивающий. Не помню, в качестве первого или второго отбивающего от снискал славу на крикетном поле, но реакция у него поистине поразительная. У него дома все полки ломятся от призов и кубков. — Я в жизни не играл в кри… — начал Уиллс. — Неважно, неважно, — рассмеялся Диккенс, снова похлопывая своего помощника по спине. Джордж Долби разразился оглушительным хохотом, который был слышен, наверное, во всех вагонах, от первого до последнего.
В Бирмингеме я получил представление о напряженном распорядке дня, принятом в турне. Хотя в свое время я много кочевал по гостиницам и обычно получал удовольствие от подобных путешествий, я прекрасно знал по личному опыту, что постоянные переезды с места на место и неизбежные неудобства гостиничной жизни никак не способствуют восстановлению здоровья, — а ведь Диккенс сильно недомогал на протяжении всей зимы и весны. Неподражаемый признался мне, что левый глаз у него страшно болит и плохо видит, что он все время ощущает тяжесть в желудке и мучается газами, что от вагонной тряски с ним случаются жестокие приступы тошноты и головокружения, от которых он успевает толком оправиться во время коротких остановок в городах, где проводит публичные чтения. Почти ежедневные переезды и утомительные вечерние выступления явно отнимали у писателя последние силы. По прибытии в Бирмингем Диккенс сразу же поспешил в театр, не отдохнув с дороги и даже не распаковав свой чемодан. Уиллс занялся другими делами, а мы с Долби присоединились к Неподражаемому. Обойдя зрительный зал в сопровождении владельца театра, Диккенс тотчас распорядился насчет необходимых изменений. Партерные кресла по бокам от сцены и часть кресел в ложах уже были либо убраны, либо отгорожены канатом, в соответствии с его требованиями, но сейчас он встал за подготовленную для него кафедру и велел вынести еще часть кресел в одной и другой стороне зрительного зала. Все до единого присутствующие на выступлении должны находиться в поле его зрения, прямо перед ним. Не только для того, чтобы хорошо видеть чтеца, понял я, но и для того, чтобы он мог встретиться глазами с каждым из них. Приехавшие раньше нас рабочие уже соорудили в глубине сцены темно-бордовый задник высотой семь и длиной пятнадцать футов, а между задником и кафедрой постелили ковер такого же цвета. Уникальное осветительное оборудование тоже уже стояло на месте. Газовый техник и осветитель установили по обеим сторонам от кафедры вертикальные трубы с горелками высотой около двенадцати футов. Между ними, скрытый от взоров публики за темно-бордовым щитом, тянулся горизонтальный ряд ламп в жестяных отражателях. В дополнение к этому яркому освещению на каждой вертикальной трубе имелся фонарь с зеленым стеклом, направленный прямо на лицо чтеца. Я постоял на сцене при включенном освещении всего минуту, но едва не ослеп от блеска огней. Вряд ли я смог бы читать по книге, если бы мне в глаза били лучи многочисленных светильников, но я знал, что Диккенс крайне редко обращается к книгам во время своих выступлений, если вообще обращается. Он заучивал наизусть многие сотни страниц своих текстов — читал, запоминал и повторял раз по двести каждую главу, постоянно внося в нее какие-нибудь изменения и дополнения, — и либо закрывал книгу в самом начале представления, либо рассеянно и чисто символически перелистывал страницы по ходу дела. Чаще всего он устремлял пристальный взор в зрительный зал. Несмотря на слепящий глаза свет газовых ламп, Диккенс различал лица всех присутствующих — верхний ряд фонарей специально устанавливался достаточно высоко, чтобы рассеивать темноту в зале. Прежде чем спуститься с подмостков, я внимательно осмотрел саму кафедру. Она представляла собой маленький столик на четырех изящных, тонких ножках, высотой примерно по пояс Неподражаемому. По обеим сторонам горизонтальной столешницы, сейчас накрытой малиновой тканью, находились маленькие полочки: правая предназначалась для графина с водой, а левая — для дорогих лайковых перчаток и носового платка Диккенса. С левого края к столешнице крепился прямоугольный деревянный брусок, на который Диккенс мог опираться правым или левым локтем. (Во время выступлений он часто стоял слева от кафедры и порой вдруг подавался вперед, по-мальчишески порывисто, опираясь правым локтем на эту подставку и выразительно жестикулируя обеими руками. Такой прием способствовал установлению более тесной и доверительной связи с публикой.) Диккенс громко прочистил горло, я отошел от кафедры и спустился в зал, а писатель занял свое место на сцене и стал проверять акустику помещения, читая различные фрагменты из программы предстоящего концерта. Я присоединился к Джорджу Долби, сидевшему в последнем ряду на балконе первого яруса. — Шеф начал турне с чтения рождественской повести «Рецепты доктора Мериголда». — Долби говорил шепотом, хотя мы находились далеко от Диккенса. — Но она не произвела на публику должного впечатления, во всяком случае шеф так посчитал, — а вы и без меня знаете, что он во всем стремится к совершенству, — и потому вместо нее он включил в программу свои любимые старые номера: сцену смерти Поля из «Домби и сына», сцену с участием мистера, миссис и мисс Сквирсов из «Николаса Никльби», сцену суда из «Пиквикского клуба», эпизод с грозой из «Дэвида Копперфилда» и, разумеется, «Рождественскую песнь». Эту повесть публика всегда будет принимать восторженно. — Нисколько не сомневаюсь, — сухо промолвил я. В свое время я снискал известность очерком, где презрительно отзывался о «ханжеской умильности рождественских настроений». Я заметил, что Долби не заикается, когда говорит шепотом. До чего же все-таки причудливы подобные недуги. Вспомнив о недугах, я извлек из кармана маленькую фляжку с лауданумом и отпил из нее несколько глотков. — Извините, что не предлагаю вам, — сказал я нормальным по громкости голосом, не смущаясь тем обстоятельством, что Диккенс продолжает читать с далекой сцены фрагменты из разных своих произведений. — Лекарство. — Я прекрасно все понимаю, — прошептал Долби. — Странно, что публика не приняла «Доктора Мериголда», — сказал я. — Рождественский номер нашего журнала с этой повестью разошелся тиражом свыше двухсот пятидесяти тысяч экземпляров. Долби пожал плечами и тихо проговорил: — Шеф исторгал у публики смех и слезы по ходу чтения. Но, мол, недостаточно смеха и слез, сказал он. И не в те моменты, когда надо. Поэтому он исключил «Доктора Мериголда» из программы. — Жаль, — сказал я; наркотик разливался по моему телу волнами блаженного тепла. — Диккенс репетировал эту вещь более трех месяцев. — Шеф репетирует все вещи, — прошептал Долби. Я еще не разобрался толком, какие чувства вызывает у меня дурацкое слово «шеф», которое Долби использует применительно к Диккенсу, но самому Неподражаемому новое звание определенно нравилось. Насколько я успел понять, Диккенсу нравилось почти все в дородном, неуклюжем заике импресарио. Я не сомневался, что простой театральный делец постепенно занимает в жизни писателя место близкого друга и наперсника, свыше десяти лет остававшееся за мной. Не в первый раз я осознал (с кристальной ясностью, наступающей в мыслях под воздействием лауданума), что Форстер, Уилле, Макриди, Долби, Фицджеральд — все мы — суть просто малые планеты, соперничающие между собой в борьбе за право вращаться по самой ближней орбите вокруг седеющего, морщинистого, страдающего метеоризмом Солнца по имени Чарльз Диккенс. Не промолвив более ни слова, я встал и вышел из театра.
Я собирался вернуться в гостиницу — я знал, что Диккенс тоже вскоре отправится туда, чтобы отдохнуть несколько часов перед концертом, но будет погружен в сосредоточенное молчание и изъявит готовность к общению только по завершении долгого вечернего представления, — но обнаружил вдруг, что бреду куда глаза глядят по темным грязным улицам Бирмингема, задаваясь вопросом, какого черта я здесь делаю. Восемь лет назад, осенью 1858 года, — после того как я сопровождал Диккенса в бестолковой поездке на север страны к Эллен Тернан (пребывая в уверенности, что мы собираем материалы для «Ленивого путешествия двух досужих подмастерьев») и чуть не погиб на горе Кэррик-Фелл — я вернулся в Лондон с твердым намерением заняться театром. Сразу после прошлогоднего успеха «Замерзшей пучины» знаменитый актер Фрэнк Робсон купил у меня написанную несколькими годами ранее мелодраму «Маяк» (главную роль в ней, как и в «Замерзшей пучине», играл Диккенс), и 10 августа 1857 года моя мечта стать профессиональным драматургом сбылась. Диккенс сидел вместе со мной в авторской ложе и аплодировал наравне с остальными. Признаться, я встал и неоднократно поклонился во время овации — хотя «овация», пожалуй, слишком сильное слово: аплодисменты казались скорее уважительными, нежели восторженными. Рецензии на «Маяк» тоже были уважительными и прохладными. Даже благосклонный Джон Оксенфорд из «Таймс» написал: «Нельзя не прийти к заключению, что "Маяк", при всех своих достоинствах, является скорее милой театральной безделушкой, чем настоящей пьесой». Несмотря на такой прохладный прием, в 1858 году я несколько месяцев кряду, если употребить наше с Диккенсом выражение, «усиленно напрягал мозги» в попытке сочинить еще что-нибудь для театра. Источником вдохновения стал для меня сын Диккенса Чарли, по возвращении из Германии поделившийся с нами своими впечатлениями от посещения франкфуртского морга. Я немедленно схватился за перо и в два счета написал драму «Красный флакон». Главные персонажи в ней сумасшедший и отравительница (я всегда питал глубокий интерес к ядам и отравителям). Центральная сцена происходит в морге. Признаться, я замечательно продумал мизансцену — помещение, полное трупов, которые все лежат на холодных каменных столах под простынями, и к пальцу каждого привязан шнур, соединенный с тревожным колокольчиком, на случай если вдруг кто-то из «мертвецов» окажется вовсе не мертвым. Вся жуткая обстановка пробуждала древний подсознательный страх человека перед погребением заживо и ходячими мертвецами. Сам Диккенс ничего толком не сказал мне ни на первых порах, когда я изложил ему замысел пьесы, ни позже, когда я прочитал ему несколько законченных сцен из нее, но он посетил лондонский сумасшедший дом с целью выяснить разные мелкие подробности, призванные прибавить достоверности образу моего душевнобольного героя. Робсон, превосходно сыгравший в «Маяке», решил поставить мою драму в театре «Олимпик» и взял себе роль безумца. Я с огромным удовольствием посещал репетиции, и все занятые в спектакле актеры хвалили пьесу. Они согласились с моим мнением, что лондонские театралы превратились в тупоумную серую толпу, которой требуется крепкая встряска, чтобы выйти из сонного оцепенения. Одиннадцатого октября 1858 года Диккенс вместе со мной присутствовал на премьере «Красного флакона» и после представления пригласил меня и моих друзей (человек двадцать, самое малое) на ужин к себе в Тэвисток-хаус, где жил уже без жены. Спектакль с треском провалился. В то время как мои друзья обмирали от страха и восхищения, потрясенные болезненной мрачностью и эмоциональностью отдельных эпизодов, все остальные зрители хихикали. Самые громкие смешки прокатились по залу в кульминационный момент сцены в морге, когда (слишком предсказуемо, по мнению рецензентов) один из трупов позвонил в колокольчик. Первое представление оказалось и последним. Всю оставшуюся часть мучительно долгого вечера Диккенс старался поднять всем настроение, отпуская колкие остроты по адресу лондонской публики, но ужин в Тэвисток-хаусе стал для меня тяжким испытанием. По словам Перси Фицджеральда, случайно услышанным мной позже, на поминках и то было бы веселее. Но провал «Красного флакона» не заставил меня отказаться от принятого решения воздействовать на соотечественников, одновременно будоража, чаруя, интригуя и ужасая умы. Однажды, вскоре после ошеломительного успеха «Женщины в белом», меня попросили раскрыть рецепт успеха, и я скромно перечислил следующие составляющие:
1. Сформулировать замысел произведения. 2. Придумать персонажей. 3. Определить роль каждого персонажа в развитии событий. 4. Начать рассказ с самого начала.Сравните, коли хотите, этот почти научный подход к созданию литературных произведений с непродуманными, произвольными методами Чарльза Диккенса, который на протяжении многих лет писал романы тяп-ляп: на ходу вводил в повествование второстепенных персонажей (зачастую списанных с реальных людей), не задаваясь вопросом, имеют ли они отношение к главному замыслу произведения; приплетал множество побочных сюжетных линий, заставляя своих героев попадать в случайные ситуации и несущественные истории, никак не связанные с основной фабулой, и часто начинал рассказ с середины, нарушая важный принцип Коллинза о необходимости начинать с начала. Это просто чудо, что мы с Диккенсом умудрились написать довольно много вещей в соавторстве. Я немало горжусь тем, что привнес известную связность и стройность в пьесы, новеллы, путевые очерки и более крупные произведения, задуманные или созданные сообща. «Так с какой стати, — спрашивал я себя тем не по сезону холодным и дождливым майским вечером в Бирмингеме, — я притащился сюда любоваться Диккенсом, завершающим свою триумфальную поездку с публичными чтениями по Англии и Шотландии?» Критики постоянно порицали мою склонность к «мелодраме», но как, интересно, следует называть новое, диковинное сочетание литературы и ходульного актерства, которое Диккенс собирался продемонстрировать публике нынче вечером? Никто из представителей нашей профессии не видел прежде ничего подобного. Никто в мире не видел прежде ничего подобного. Это умаляло роль писателя и превращало литературу в дешевый балаган. Диккенс угождал вкусам толпы, точно коверный клоун с собачкой. Такие мысли одолевали меня, когда я, уже вознамерившись воротиться в гостиницу, свернул в темную улицу, зажатую между глухими стенами, — скорее даже не улицу, а переулок, — и обнаружил, что путь мне преграждают двое мужчин. — Прошу прощения, — резко промолвил я и махнул тростью, веля посторониться. Они не тронулись с места. Я перешел на правую сторону улочки, но они сделали то же самое. Я двинулся влево, но они совершили такой же маневр. — В чем дело? — осведомился я. Не произнося ни слова, мужчины начали подступать ко мне. Оба почти одновременно полезли в карман своих потрепанных сюртуков, и в следующий миг я увидел в грязной мозолистой руке у каждого короткий нож. Я быстро развернулся кругом и торопливо зашагал обратно к широкой людной улице, но в переулок передо мной вышел третий парень и встал на моем пути — неясная зловещая тень в сумерках. Он тоже держал в правой руке какой-то предмет, поблескивавший в тусклом свете угасающего дня. Признаюсь, дорогой читатель, сердце у меня бешено заколотилось и в животе мучительно похолодело. Мне неприятно сознаваться в трусости — кому приятно? — но я человек тихий и мирный, и, хотя время от времени я пишу о жестоких избиениях, кулачных драках, поножовщине и убийствах, сам я ни разу в жизни не сталкивался ни с чем подобным и решительно не желаю сталкиваться. Мне захотелось пуститься наутек. Я почувствовал нелепое, но неодолимое побуждение громко позвать маму, даром что Хэрриет находилась во многих сотнях миль от меня. Хотя ни один из троих бандитов так и не промолвил ни слова, я вытащил из кармана сюртука бумажник. Многие мои друзья и знакомые — особенно Диккенс — считали меня малость прижимистым. По правде говоря, Диккенс и его приятели, давно живущие в достатке, не принимали во внимание мои стесненные обстоятельства, вынуждавшие меня к аккуратности в денежных вопросах, и считали меня отъявленным скрягой вроде Эбенезера Скруджа до его чудесного преображения. Но в тот момент я бы отдал все до последнего фунта и шиллинга — и даже свои не золотые, но вполне исправные часы, — лишь бы только эти головорезы дали мне пройти. Как я сказал, они не потребовали денег. Возможно, именно это испугало меня сильнее всего. Или угрюмое, жестокое выражение, застывшее на обрамленных бакенбардами лицах, — особенно мертвенно-холодный и одновременно радостно-предвкушающий взгляд самого крупного мужчины, приблизившегося ко мне с поднятым ножом. — Постойте! — пролепетал я. — Постойте… постойте… Верзила в поношенном костюме медленно поднес нож к самому моему горлу. — Постойте! — раздался позади нас гораздо более громкий и повелительный голос. Мои противники и я разом обернулись. Поодаль от нас стоял невысокий — ростом всего с меня — мужчина в коричневом костюме. Он был без шляпы, намокшие под мелким дождичком короткие сивые волосы плотно облепляли череп. — Вали отсюда, приятель, — прорычал парень, державший нож у моего горла. — Наши дела тебя не касаются. — Очень даже касаются, — сказал коротышка и бегом бросился к нам. Все три головореза двинулись ему навстречу, но я не нашел в себе сил задать стрекача, ибо ноги у меня совсем ослабли от страха. Я нисколько не сомневался, что через считаные секунды я и мой незадачливый спаситель оба будем лежать мертвые на грязном булыжнике в этом безымянном темном переулке. Человек в коричневом (который поначалу показался мне толстяком вроде меня, но при ближайшем рассмотрении оказался крепко сбитым малым, мускулистым, как акробат) проворно выхватил из кармана твидового сюртука короткую, явно увесистую палку — нечто среднее между матросской свайкой и полицейской дубинкой — с округлым набалдашником, похоже залитым свинцом или другим металлом. Двое бандитов кинулись на него. Незнакомец двумя молниеносными ударами дубинки перебил кисть и сломал пару ребер первому, а второму мгновенье спустя проломил череп с тошнотворным треском. Самый крупный из разбойников — парень с мертвенно-холодными глазами, всего несколько секунд назад державший нож у моего горла, — выставил вперед лезвие и начал медленно приближаться к моему спасителю, по-кошачьи пружинисто прыгая на полусогнутых ногах из стороны в сторону, резко подаваясь всем корпусом вправо-влево и совершая прочие обманные движения с ловкостью бывалого поножовщика. Мужчина в коричневом отскочил назад, уворачиваясь от широкого полосующего удара лезвия, которое непременно распороло бы ему живот, когда бы не его прыткость. В следующий момент мой спаситель прыгнул вперед — с проворством, неожиданным для человека столь солидной комплекции, — и резким ударом дубинки сверху вниз перебил бандиту руку, возвратным ударом снизу вверх раздробил челюсть, потом саданул верзилу в пах с такой силой, что я сам невольно скривился и вскрикнул, и напоследок треснул уже осевшего на колени противника по затылку, после чего тот повалился лицом в грязь и больше не шевелился. Теперь в сознании оставался только первый головорез, с перебитой кистью и сломанными ребрами. Он шаткой поступью уходил в глубину темного переулка. Мой спаситель догнал его, рывком развернул к себе, дважды ударил по лицу своей короткой, но смертоносной дубинкой, пинком повалил наземь, а потом с размаха огрел громко стонущего парня по голове. Стоны прекратились. Затем мужчина в коричневом костюме направился ко мне. Признаюсь, я попятился, умоляюще вскинув руки. Я и так уже едва не испачкал исподнее. Только немыслимая — я бы даже сказал невероятная — молниеносность произошедшей сейчас схватки не позволила мне обделаться от страха. Я много раз описывал в своих сочинениях различные драки, но под моим пером все насильственные действия обретали почти хореографический характер, складываясь из продуманных, замедленных движений. Реальная схватка, произошедшая у меня на глазах сейчас, — безусловно, самая страшная и жестокая из всех, когда-либо мною виденных, — продолжалась не долее семи-восьми секунд. Я осознал, что меня запросто может вырвать, если только чудовище в коричневом костюме не убьет меня прежде. Я выставил вперед ладони и попытался заговорить. — Все в порядке, мистер Коллинз, — сказал мужчина, убирая в карман дубинку. Он крепко взял меня под локоть и повел обратно к хорошо освещенной широкой улице. Кареты и кебы катили по мостовой как ни в чем не бывало. — Вы… вы… кто? — с трудом выдавил я. Сильными пальцами незнакомец стискивал мою руку, точно кузнечными клещами. — Мистер Баррис, сэр. К вашим услугам. Вам надобно воротиться в гостиницу, сэр. — Баррис? — переспросил я и устыдился своего слабого, дрожащего голоса. Я всегда гордился своей способностью сохранять спокойствие в трудных ситуациях, на суше ли, на море ли (хотя в последние месяцы и годы, не стану отрицать, своей невозмутимостью я был отчасти обязан лаудануму). — Да, сэр. Реджинальд Баррис. Сыщик Реджинальд Баррис. Для друзей — просто Реджи, мистер Коллинз. — Вы из бирмингемской полиции? — спросил я. Мы повернули на восток — мой спутник по-прежнему держал меня под локоть — и быстро зашагали по улице. Баррис рассмеялся. — О нет, сэр. Я работаю на инспектора Филда. Приехал из Лондона через Бристоль, как и вы, сэр. Писатели в своих сочинениях довольно часто используют определение «ватные» применительно к слову «ноги» — это избитое выражение. Любой человек, у которого ноги действительно становятся ватными и непослушными, чувствует себя по-дурацки — особенно любитель морских путешествий вроде меня, способный запросто прогуливаться по ходящей ходуном палубе в штормовых водах Ла-Манша. — Может, нам стоит вернуться? — с усилием проговорил я. — Те трое парней, наверное, серьезно ранены. Баррис (если это было его настоящее имя) хихикнул. — О, они и вправду серьезно ранены, ручаюсь вам, мистер Коллинз. Один мертв. Но мы не вернемся. Пускай себе валяются там. — Мертв? — тупо переспросил я. В такое я не мог поверить. Не желал поверить. — Мы должны сообщить в полицию. — В полицию? О нет, сэр. Я так не считаю. Инспектор Филд мигом выгонит меня с работы, коли я допущу, чтобы мое имя и название нашего частного сыскного бюро появились в бирмингемских и лондонских газетах. А вам, мистер Коллинз, наверняка придется задержаться здесь на несколько дней. И потом еще не раз возвращаться сюда для дачи свидетельских показаний в бесконечных дознаниях и судебных слушаниях. И все из-за трех паршивых уличных грабителей, собиравшихся перерезать вам глотку ради вашего кошелька? Пожалуйста, сэр, выбросьте из головы подобные мысли. — Я не понимаю, — проговорил я. Мы свернули на еще более широкую, оживленную улицу, ярко освещенную фонарями. Отсюда я уже и сам нашел бы дорогу к гостинице. — Филд послал вас… охранять меня? Защищать? — Да, сэр. — Баррис наконец отпустил мою руку, и я почувствовал, как кровь стремительно побежала по сосудам, ранее передавленным сильными пальцами моего спутника. — То есть нас двое, сэр. Я и мой коллега… э-э… сопровождаем вас с мистером Диккенсом в этой поездке. На случай, если вдруг появится мистер Друд. Или его агенты. — Друд? — повторил я. — Агенты? По-вашему, тех троих парней подослал Друд, чтобы они меня убили? При этой мысли я снова почувствовал позыв к опорожнению кишечника. До сего момента вся история с Друдом представлялась мне просто остроумной, пусть и несколько утомительной игрой. — О нет, сэр. Я совершенно уверен, что эти мерзавцы не имеют никакого отношения к Друду, за которым охотится инспектор. Ни малейшего, сэр. Даже не сомневайтесь. — Но почему вы так уверены? — спросил я. Впереди уже показалась моя гостиница. Баррис едва заметно улыбнулся. — Они белые, сэр. Друд почти никогда не пользуется услугами белых, хотя изредка на него работают немцы или ирландцы. Нет, он послал бы китайцев, или ласкаров, или индусов, или даже черномазых из сошедшей на берег матросни, если бы хотел убить вас здесь или в Бристоле, сэр. Ну что ж, вот и ваша с мистером Диккенсом гостиница, мистер Коллинз. Там дежурит мой коллега, он возьмет вас под охрану, как только вы войдете в вестибюль. Я постою здесь, пригляжу за вами, пока вы не скроетесь за дверью. — Коллега? — повторил я. Но Баррис уже отступил в темный проулок и поднес руку ко лбу, словно дотрагиваясь до невидимого котелка. Я повернулся и неверной поступью двинулся к ярко освещенному входу в гостиницу.
Я не собирался никуда идти после столь ужасного приключения. Однако, приняв ванну и выпив по меньшей мере четыре чашки лауданума (я опорожнил фляжку и снова наполнил из тщательно упакованной бутыли, хранившейся в моем чемодане), я все-таки решил облачиться в приличествующее случаю парадное платье и посетить выступление Диккенса. В конце концов, я приехал в Бирмингем именно за этим. Со слов Уиллса и Долби я знал, что в течение пары часов перед ежевечерним представлением Диккенс решительно не расположен к общению. Он со своим импресарио уже отправился в театр пешком, а я взял кеб чуть позже. Я не имел ни малейшего желания еще раз в одиночестве прогуляться по улицам Бирмингема. (Если сыщик Баррис или его коллега и следили за мной, то я нигде их не приметил, когда вышел из кеба у служебного входа театра.) Часы показывали четверть восьмого, и публика только начинала съезжаться. Я стоял в глубине зала и наблюдал за газовым техником и осветителем — они вышли на сцену, внимательно осмотрели конструкцию из темных труб и фонарей со всех сторон, а потом удалились. Через минуту газовый техник вернулся один, подправил что-то в верхнем ряду ламп, скрытых за обтянутым темно-бордовой тканью огромным щитом, и снова ушел. Несколько минут спустя техник появился в третий раз и включил освещение. Вспыхнувшие в темноте огни, пока еще тусклые, но уже позволявшие отчетливо разглядеть чтецкую кафедру, произвели поразительное впечатление. К тому времени уже несколько сотен людей сидели на своих местах, и все они разом умолкли и уставились на сцену с напряженным интересом, ощутимым почти физически. Через несколько секунд из-за кулис неторопливо вышел Джордж Долби. Он с важным видом окинул взором осветительную установку и кафедру, обвел глазами зрительный зал, потом поставил на столик графин с водой, значительно кивнул, словно удовлетворенный своим существенным вкладом в дело, и медленно удалился за высокий задник. Когда я сам зашел за кулисы и случайно оказался на шаг впереди Долби, мне вспомнилась самая известная ремарка из шекспировской «Зимней сказки»: «Выходит, преследуемый медведем». Диккенс в своей уборной уже переоделся в вечерний костюм. Я порадовался, что и сам нарядился подобающим случаю образом, хотя все мои знакомые знали, как мало меня заботят условности, связанные с формой одежды. Однако нынче вечером белый галстук и фрак казались весьма уместными… даже необходимыми. — О дорогой Уилки! — воскликнул Неподражаемый, завидев меня. — Как мило с вашей стороны, что вы решили посетить мое выступление. Он выглядел совершенно спокойным, но складывалось впечатление, будто он напрочь забыл, что сегодня я ехал из Бристоля в Бирмингем вместе с ним. На туалетном столике стоял букет алых гераней, и Диккенс срезал два цветка — один вставил себе в петлицу, другой — мне. — Пойдемте. — Он поправил золотую цепочку от часов и в последний раз взглянул в зеркало, проверяя, все ли пуговицы застегнуты и в порядке ли у него борода и напомаженные кудри. — Посмотрим одним глазком на бирмингемцев в надежде, что они уже начинают проявлять нетерпение. Мы вышли на сцену за дощатой перегородкой, где все еще топтался Долби. Диккенс показал узкую щель в заднике, сквозь которую, если раздвинуть складки ткани, был виден весь зрительный зал, теперь уже почти полностью заполненный и возбужденно гудящий, и дал мне глянуть в нее. В тот момент даже меня охватила нервная дрожь, и я невольно задался вопросом, смогу ли когда-нибудь я, при всем своем актерском опыте, выступать с публичными чтениями, не испытывая нервозности. Однако сам Диккенс не выказывал ни малейших признаков волнения. Он кивнул подошедшему газовому технику, и тот спокойно вышел на сцену, чтобы окончательно настроить освещение. А Неподражаемый приник глазом к щели в ширме и прошептал: «Больше всего я люблю эти последние минуты перед началом выступления, Уилки». Я придвинулся к нему так близко, что чуял запах помады, исходящий от его волос, и тоже смотрел в щель. Внезапно лампы ярко вспыхнули эффектнейшим образом, высветив из темноты лица двух тысяч зрителей. По залу прокатился восхищенный вздох. — Вам лучше занять свое место в партере, друг мой, — прошептал Диккенс. — Я повременю еще минуту-другую, чтобы они совсем уже извелись от нетерпения, а потом мы начнем. Я не понял, шутит он или нет, а потому кивнул и двинулся прочь в темноте, ощупью спустился по боковым ступенькам, пробрался в самый конец зала, двигаясь навстречу потоку припозднившихся зрителей, а потом прошел по центральному продольному проходу в обратном направлении, к широкому поперечному проходу, где находилось мое место. Я попросил Уиллса оставить за мной место именно в этом ряду, чтобы во время антракта, предусмотренного в двухчасовом выступлении, мне было легче выскользнуть из зала и пройти в уборную к Диккенсу. В ярком свете газовых ламп темно-бордовый ковер на сцене, незатейливый столик и даже графин с водой выглядели весьма внушительно и многообещающе. Когда из-за кулис выступила стройная фигура Диккенса, грянули аплодисменты, в считаные секунды переросшие в оглушительную овацию. Никак не отреагировав на рукоплескания, Неподражаемый прошел к столику, налил в стакан воды из графина и стал ждать, когда шум уляжется, с невозмутимым видом человека, выжидающего удобного момента, чтобы перейти через запруженную экипажами улицу. Когда наконец установилась тишина, Диккенс… ничего не сделал. Он просто стоял на сцене и смотрел на публику, время от времени слегка поворачивая голову туда-сюда, чтобы видеть всех и каждого. Казалось, он встретился глазами со всеми до единого присутствующими — а в зале в тот вечер собралось свыше двух тысяч человек. Двое-трое опоздавших все еще искали свои места в задних рядах, и Диккенс с полным спокойствием, невесть почему производящим жутковатое впечатление, подождал, когда они усядутся. Потом он несколько секунд смотрел на них бесстрастным, пристальным, но одновременно чуть вопросительным взглядом. Потом он начал. Спустя несколько лет после того вечера в Бирмингеме Долби как-то сказал мне: «В последние годы Шеф выступал так, что каждый из сидящих в зале чувствовал себя не слушателем или зрителем, а полноправным участником спектакля. Не сторонним наблюдателем, а проводником неведомой силы». Проводником неведомой силы. Да, возможно. Или одержимым на манер столь популярных в мою эпоху спиритов, в которых предположительно вселялись духи, указующие путь в потусторонний мир. Да, во время чтений одержимым казался не один только Чарльз Диккенс — вся публика присоединялась к нему. Как вы впоследствии поймете, к нему было трудно не присоединиться. Мне печально сознавать, дорогой читатель, что никто из представителей вашего поколения не видел и не слышал, как Чарльз Диккенс читает свои произведения. Сегодня, когда я пишу сии строки, ученые уже пробуют записывать голоса на различных цилиндрических валиках — почти так же, как фотографы запечатлевают человеческие образы на покрытых особым составом пластинах. Но все подобные эксперименты начались только после смерти Чарльза Диккенса. Никто из живущих в вашу эпоху никогда не услышит его высокий, слегка пришепетывающий голос и не увидит диковинных метаморфоз, творившихся с Неподражаемым и публикой в ходе представлений, — не увидит, поскольку на моей памяти его ни разу не фотографировали на сцене дагерротипным или иным способом (и поскольку в наши дни процесс фотографической съемки, весьма продолжительный, требовал от позирующего полной неподвижности, а Диккенсвсегда находился в движении). Выступления Неподражаемого не имели аналогов в наше время, и, осмелюсь предположить, никто так и не сравнился с ним в будущем (если писательское ремесло вообще сохранилось до ваших дней). Чарльз Диккенс читал главы из своей последней рождественской повести, и мне явственно чудилось — даже несмотря на ослепительный блеск газовых фонарей, — будто над ним клубится странное переливчатое облако. Думаю, это было эктоплазматическое воплощение сразу всех созданных писателем персонажей, которых теперь он одного за другим призывал выступать перед нами. Когда очередная фантомная сущность вселялась в него, у Диккенса тотчас менялась осанка. Он то резко вскидывал голову и расправлял плечи, то горбился от отчаяния, то принимал томно-ленивую позу в зависимости от воли персонажа, чей дух пребывал в нем в данный момент. Лицо писателя всякий раз преображалось почти до неузнаваемости: одни лицевые мышцы расслаблялись, другие напрягались и приходили в движение. Хищные улыбки, плотоядные оскалы, злобные гримасы, заговорщицкие прищуры, совершенно нехарактерные для хозяина Гэдсхилл-плейс, мелькали на лице этого вместилища духов, стоявшего на сцене перед нами. Голос Диккенса ежесекундно менялся, и во время стремительных диалогов, произносимых без малейших заминок и пауз, складывалось впечатление, будто он одержим сразу двумя или тремя демонами. Я и прежде неоднократно слышал, как в процессе чтения Неподражаемый мгновенно переходит от хриплого, скрипучего, шепелявого шепота Феджина — «Эге! Мне нравится этот парень. Он может нам пригодиться. Он уже знает, как дрессировать девушку. Притаитесь, как мышь, мой милый, и дайте мне послушать, о чем они говорят, дайте мне их послушать» — к унылому тенорку мистера Домби, потом к жеманному сюсюканью мисс Сквирс, а потом к говору кокни, воспроизвести который с такой поразительной точностью не мог ни один английский актер наших дней. Но тем вечером всех нас потрясла не только эта замечательная способность менять голос и манеру речи. В момент, когда Диккенс переходил от одного персонажа к другому (или когда один персонаж покидал его тело, а другой в него вселялся), он преображался полностью. Когда он перевоплощался в еврея Феджина, его обычная, почти по-военному стройная осанка исчезала, уступая место старческой сутулости; лоб словно становился выше и шире, а брови гуще; глаза глубоко западали и загорались зловещим огнем. Руки Диккенса, остававшиеся в покое, покуда он читал текст повествовательно-описательного характера, суетливо шевелились, нервно потирали одна другую, дрожали от алчности и всё норовили спрятаться в рукава, когда они принадлежали Феджину. Во время выступления Неподражаемый постоянно расхаживал взад-вперед за чтецкой кафедрой — и уверенная, плавная поступь, какой он двигался, будучи самим собой, сменялась вороватой, украдчивой, по-кошачьи мягкой поступью, когда в нем пребывал дух Феджина. «Все персонажи, в которых я перевоплощаюсь, для меня также реальны, как для публики, — сказал мне Диккенс перед самым турне. — Для меня самого плоды моего вымысла реальны до такой степени, что я не вызываю своих персонажей в воображении, а вижу словно воочию, ибо они возникают передо мной во всей полноте телесности. И публика тоже видит эту реальность». В тот вечер я действительно ее увидел. Не знаю, что именно явилось тому причиной — недостаток ли кислорода, вызванный горением многочисленных газовых фонарей, или месмерический эффект, производимый ярко освещенными лицом и руками Диккенса, резко выделявшимися на темно-бордовом фоне, — но я ежесекундно чувствовал на себе пристальный взгляд писателя, даже когда он смотрел глазами одного из своих персонажей, и постепенно, вместе со всеми остальными зрителями, погрузился в своего рода транс. Когда Диккенс снова становился самим собой, читая авторский текст, а не монологи и диалоги своих героев, я слышал неколебимую самонадеянность в его голосе, видел торжествующий блеск в глазах и ощущал исходящие от него волны агрессивности, замаскированной под уверенность, — он явно упивался сознанием, что способен на протяжении столь длительного времени гипнотизировать двухтысячную толпу. Потом чтение рождественской повести и глав из «Оливера Твиста» завершилось, первое полуторачасовое отделение представления закончилось, и Диккенс повернулся и удалился со сцены, проигнорировав неистовую овацию точно так же, как сделал при первом своем появлении перед публикой. Я потряс головой, словно пробуждаясь от сна, и направился за кулисы. Диккенс лежал пластом накушетке и выглядел совершенно обессиленным. Долби суетился вокруг, отдавая распоряжения официанту, выставлявшему на столик бокал охлажденного шампанского и тарелку с дюжиной устриц. С трудом приподнявшись на локте, Диккенс принялся высасывать устриц из раковин и прихлебывать шампанское. — Вечером Шеф не в состоянии съесть ничего, кроме устриц, — прошептал мне Долби. Услышав шепот, Диккенс поднял глаза и промолвил: — Дорогой Уилки… прекрасно с вашей стороны, что вы заглянули ко мне. Вам понравилась первая часть выступления? — Да, — ответил я. — Это было… замечательно… как всегда. — Кажется, я говорил вам, что заменю главы из «Доктора Мериголда» на что-нибудь другое, коли приму подобные ангажементы осенью или зимой. — Но публика любит эту вещь, — сказал я. Диккенс пожал плечами. — Не так, как любит «Домби», «Скруджа» или «Никльби», из которого я буду читать через несколько минут. Я был уверен, что в программу вечера включена сцена суда из «Записок Пиквикского клуба», по обыкновению запланированная на второе получасовое отделение (Диккенс предпочитал заканчивать выступления слезами умиления и смехом), но не стал спорить. Десять минут уже почти истекли. Диккенс не без труда поднялся с кушетки, бросил подувядшую алую бутоньерку на поднос и вставил в петлицу свежий цветок. — Я подойду к вам после выступления, — сказал я и вышел прочь, чтобы присоединиться к охваченным нетерпением людям в зрительном зале.
Когда аплодисменты стихли, Диккенс раскрыл книгу и сделал вид, будто читает вслух: «Николас Никльби в школе мистера Сквирса… Глава первая». Значит, все-таки Никльби. Сейчас я не замечал в нем ни малейших признаков усталости, столь резко бросавшейся в глаза за кулисами. Диккенс выглядел даже более энергичным и оживленным, чем в первом полуторачасовом отделении. Он принялся читать и снова моментально приковал к себе внимание всех присутствующих, точно мощный магнит, притягивающий великое множество компасных стрелок. И снова пристальный взор Неподражаемого вперился, казалось, сразу во всех и каждого из нас. Несмотря на такое магнетическое притяжение, мысли мои начали блуждать. Я стал думать о посторонних вещах — о своем романе «Армадейл», выходившем в свет в двух томах через неделю, — и мне пришло в голову, что надо бы определиться с темой и сюжетом следующей книги. Пожалуй, стоит написать что-нибудь покороче и еще более сенсационное, но с сюжетом попроще, чем в хитроумно запутанном «Армадейле»… Я вдруг встрепенулся и вернулся к действительности. В огромном зале все переменилось. Свет померк, загустел и растекался от сцены медленными, почти вязкими волнами. Царила тишина. Не прежнее зачарованное молчание двух с лишним тысяч людей, которое изредка нарушалось приглушенными покашливаниями, пробегающими по рядам смешками, скрипом кресел и шорохами движения, а мертвая тишина. Такое ощущение, будто все зрители разом скончались. До слуха моего не доносилось ни самого слабого вздоха, ни самого легкого шороха. Я осознал, что не слышу даже собственного дыхания и не чувствую биения собственного сердца. Зал бирмингемского театра превратился в гигантский склеп и погрузился в гробовое безмолвие. В следующий миг я различил в темноте многие сотни тонких белых шнуров — одним концом привязанные к среднему пальцу правой руки всех до единого присутствующих, они тянулись вверх. В густом мраке я не мог разглядеть точку над нашими головами, где сходились две с лишним тысячи шнуров, но догадался, что все они соединены с массивным колоколом под потолком. Все мы находились в мертвецкой. Шнуры (похоже — шелковые) привязаны к нам на случай, если вдруг один из нас окажется живым. Звон колокола — вне всяких сомнений, нестерпимо страшный для слуха — призван привлечь неведомо чье внимание, если кто-то из нас пошевелится. Понимая это и зная, что в полном покойников зале один только я остался в живых, я затаил дыхание и неподвижно замер на месте, стараясь не потянуть случайно за шнур, привязанный к среднему пальцу моей правой руки. Устремив взгляд на окутанную мраком сцену, я обнаружил, что лицо и руки, смутно белеющие там в мерклом свете газовых ламп, принадлежат уже не Чарльзу Диккенсу. Со сцены в зал смотрел Друд. Я сразу узнал мертвенно-бледную физиономию, жесткие пучки волос над изуродованными ушами, безвекие глаза, безобразно короткий нос (просто две подрагивающие перепонки над дырой в черепе), судорожно шевелящиеся длинные пальцы и тусклые глаза, что безостановочно двигались вправо-влево. Руки у меня задрожали. В сотне футов надо мной глухо загудел колокол. Друд резко повернул голову и вперил в меня тусклый взор. Я вздрогнул всем телом. Колокол гулко зарокотал, потом тяжело громыхнул. Больше ни один мертвец в зале так и не шелохнулся. Друд вышел из-за кафедры и выступил вперед из расплывчатого прямоугольника света. Он спрыгнул с подмостков и заскользил вверх по проходу между креслами. Теперь я трясся, словно в малярийном ознобе, но не находил в себе сил сдвинуться с места или хотя бы отвести в сторону взгляд. Я уже чуял запах, исходивший от Друда. Так пахнет Темза близ Тигровой бухты, где гниет пропитанный смрадными миазмами притон Опиумной Сэл, в пору отлива, когда обнажаются прибрежные наслоения нечистот. В руке Друд держал какой-то предмет. К моменту, когда он оказался шагах в двадцати от меня, я разглядел нож, диковинный нож, какого мне не доводилось видеть никогда прежде. Тонкая рукоятка скрывалась в бледном костлявом кулаке египтянина, а лезвие представляло собой полукруглую металлическую пластину с бритвенно-острым изогнутым краем, покрытую иероглифами. Оно имело по меньшей мере восемь дюймов в длину и походило на развернутый веер, торчащий из крепко стиснутого кулака. «Беги! — приказал я себе. — Спасайся! Кричи!» Я не мог даже пальцем пошевелить. Друд навис надо мной, и в ноздри мне ударил затхлый смрад Темзы, когда он открыл рот. Я видел бледно-розовый язык, мелькающий за редкими, острыми зубами. — Вот видиш-ш-шь, — прошипел он, отводя руку с ножом назад и в сторону для удара, призванного снести мне голову с плеч, — как вс-с-се прос-с-сто? В следующий миг Друд стремительно полоснул лезвием, и оно легко рассекло мне бороду, галстук, горло, трахею, пищевод и позвоночник, не встретив ни малейшего сопротивления. Публика бешено зааплодировала. Кисельно-густой воздух разредился до нормальной плотности. Шелковые шнуры исчезли. Диккенс двинулся прочь со сцены, не обращая внимания на овацию, но Джордж Долби встал в кулисах у него на пути. Через секунду Неподражаемый вернулся на прежнее место, под яркие лучи газовых ламп, и вскинул ладони, призывая публику к молчанию. — Дорогие друзья, — сказал он, когда в огромном зале установилась тишина, — похоже, произошла ошибка. Вернее, я допустил ошибку. Программой концерта предусматривалось чтение сцены суда из «Пиквикского клуба» во втором отделении, но я по забывчивости взял «Николаса Никльби» и стал читать из него. Вы милостиво простили мне мою оплошность и великодушно наградили меня рукоплесканиями. Час уже поздний… мой хронометр показывает ровно десять: точное время, когда должен закончиться наш вечер… но если вы желаете услышать сцену суда — и аплодисментами дадите мне понять это, — я с огромной радостью присовокуплю к незапланированному номеру еще один. Публика изъявила такое желание. Все захлопали, возбужденно загудели, закричали. Никто не покинул зал. — Позовите Сэма Уэллера! — возгласил Диккенс грозным судейским голосом, и охваченная восторгом публика зашумела и зарукоплескала еще громче. С появлением каждого следующего знаменитого персонажа — миссис Гамп, мисс Сквирс, Бутса — рев толпы усиливался. Я прижал ладонь ко лбу, холодному и покрытому испариной. Диккенс продолжал читать, а я встал и шаткой поступью вышел прочь. Я вернулся в гостиницу и выпил еще одну чашку лауданума, пока ждал прибытия Неподражаемого со свитой. Сердце мое бешено колотилось. Меня била нервная дрожь, я умирал от голода и с удовольствием заказал бы обильный ужин в свой номер, но Диккенс, хотя сам он больше так и не притронулся к пище вечером, пригласил Уиллса, Долби и меня отужинать у него в апартаментах, пока он приходит в себя после выступления. Там он расхаживал взад-вперед, говорил о планах на ближайшие дни и о поступившем ему предложении ближе к Рождеству отправиться в очередную поездку с публичными чтениями. Я заказал фазана, рыбу, икру, паштет, спаржу, яйца и сухое шампанское, но буквально за минуту до появления официанта со всеми перечисленными блюдами, скромным ужином Уиллса и жареной бараниной Долби стоявший у камина Диккенс повернулся ко мне, присмотрелся и воскликнул: — Дорогой Уилки! Что это у вас на воротнике? — А? — Признаться, я покраснел. Прежде чем выпить чашку лауданума и явиться в номер Диккенса, я торопливо совершил омовение. — Что там? — Я поднес обе руки к горлу и нащупал над шелковым галстуком какую-то жесткую шершавую коросту. — А ну-ка, уберите руки, — сказал Уиллс, поднося лампу поближе. — О господи!.. — вырвалось у Долби. — Боже милосердный, Уилки! — проговорил Диккенс скорее изумленно, нежели испуганно. — Да у вас вся шея и воротник в запекшейся крови. Вы прямо как Нэнси после того, что сотворил с нею Билл Сайкс.
Глава 16
Лето 1866 года выдалось утомительным. Мой роман «Армадейл» вышел в июне, как и предполагалось, и в печати появились именно такие рецензии, каких я ожидал от узколобых, скучных критиков. Престарелый музыкальный критик и рецензент «Атенеума» Г. Ф. Чорли высказался следующим образом: «Весьма неприятно говорить об этом безусловно талантливом произведении так, как оно того заслуживает, но в интересах всего, что нам дорого в жизни, поэзии и искусстве, мнение о нем надлежит выразить со всей прямотой». Он держался мнения, что моя книга безнравственна. Рецензент «Зрителя» пришел к такому же выводу, изложив свои соображения в тоне не просто резком, а почти истерическом:Тот факт, что в жизни встречаются персонажи и совершаются поступки, подобные описанным в романе, ничуть не оправдывает автора, выходящего за рамки приличия и оскорбляющего человеческие чувства. «Армадейл» — произведение непристойное и возмутительное. В качестве главной героини в нем выведена женщина, аморальностью своей превосходящая уличное отребье, — она благополучно доживает до зрелого тридцатипятилетнего возраста, пройдя через мерзости подлога, убийства, воровства, Двоемужия, тюремного заключения и попытки самоубийства без всякого ущерба для своей замечательной красоты… Об этом откровенно рассказывается в дневнике сей особы, который, не будь он плодом вымысла, вызывал бы одно только отвращение и для прикрытия вопиющей безнравственности которого потребовался весь глянец, наведенный изящным слогом и блистательным образным языком мистера Уилки Коллинза.Такого рода нападки меня нисколько не задевали. Я знал, что книга будет хорошо продаваться. Кажется, я уже говорил вам, дорогой читатель, что издатель заплатил мне пять тысяч фунтов — на тот момент рекордный для меня гонорар, остававшийся таковым еще многие годы, — причем заплатил еще прежде, чем я приступил к работе над романом. Я издал «Армадейл» выпуска ми в американском журнале «Харперз мансли», и он не только пользовался там бешеным успехом, но и спас журнал от полного банкротства, как впоследствии написал мне редактор. Публикация романа в английском «Корнхилле» имела равно оглушительный успех, что вызвало у Диккенса известную ревность, как вы уже поняли по отдельным его высказываниям, приведенным мной в рассказе о прошлом Рождестве в Гэдсхилле. Я не сомневался, что сумею переделать «Армадейл» в пьесу, которая станет для меня еще более существенным источником дохода, чем сама книга. Огромный гонорар, авансом выплаченный мне Джорджем Смитом из «Смит, Элдер энд Компани», едва не разорил издательство, несмотря на отличные продажи моего двухтомника, но дан ное обстоятельство меня мало касалось. Тем не менее, оно меня порядком расстроило, поскольку означало, что следующий свой роман — независимо от его содержания — мне почти наверняка придется публиковать в диккенсовском «Круглом годе», как и предрекал упомянутый писатель/редактор во время нашего рождественского ужина. Я расстраивался не столько потому, что там мне выдадут значительно меньшую сумму авансом (Диккенс, Джон Форстер и Уиллс страшно скаредничали, когда дело доходило до выплат любому автору, кроме Неподражаемого), сколько потому, что Диккенс снова станет моим редактором. Однако я по-прежнему пребывал в безмятежной уверенности, что недоброжелательные отзывы на мой роман ничего не значат. Критики и рецензенты просто не были готовы к появлению такой героини, как моя femme fatale[8] Лидия Гвилт из «Армадейла». Лидия не только всецело доминирует в произведении, как ни один из литературных женских персонажей, доныне известных, но и обрисована гораздо более выпукло и выразительно, чем любая из женщин, которых изображал или когда-либо изобразит в своих сочинениях Чарльз Диккенс. Всесторонний объемный портрет Лидии Гвилт — пусть коварной и жестокосердной, на взгляд невнимательного читателя или бестолкового рецензента, — стал подлинным tour de force.[9] Да, к слову о жестокосердных женщинах: Кэролайн Г*** выбрала именно жаркое лето 1866 года, чтобы предъявить мне ряд претензий. — Почему ты не хочешь подумать о женитьбе, Уилки? Ведь ты представляешь меня как свою жену всем или почти всем своим друзьям, бывающим у нас. Я для тебя и хозяйка дома, и корректор, и экономка, и любовница. Все твои знакомые знают, что мы живем как муж и жена. Давно уже пора воплотить в реальность такое о нас впечатление. — Если ты меня хоть чуточку знаешь, дорогая Кэролайн, — сказал я, — значит, ты знаешь, что мне наплевать на впечатления и мнения других людей. — Но мне не наплевать, — звенящим голосом заявила женщина, с которой я прожил последние двенадцать лет. — И Хэрриет уже стукнуло пятнадцать. Ей нужен отец. — У нее был отец, — невозмутимо промолвил я. — Он умер. — Когда малютке был всего годик! — прокричала Кэролайн. Она балансировала на тонкой грани между слезами и гневом, истерикой и здравомыслием — женщины часто доходят или умышленно себя доводят до такого состояния. — Хэрриет превращается в девушку. Она скоро выйдет в свет. Ей нужно твое имя. — Глупости! — фыркнул я. — У нее вполне нормальное имя и вполне нормальный дом. Она всегда будет пользоваться моей поддержкой и нашей любовью. Чего еще может желать разумная юная женщина? — Ты обещал, что мы купим или снимем особняк на Глостер-плейс в этом или следующем году, — прохныкала Кэролайн. Я на дух не переношу женское нытье. Все мужчины, дорогой читатель, на дух не переносят женское нытье. Так было испокон веков. Разница лишь в мужской реакции на него: только очень и очень немногие мужчины, к числу которых отношусь я, отказываются поддаваться на подобный эмоциональный шантаж, весьма тягостный для слуха. Я взглянул на нее поверх очков. — Я сказал, что рано или поздно мы там поселимся, голубушка моя. И так оно и будет. — Откуда такая уверенность? — раздраженно осведомилась Кэролайн. — Я еще раз встретилась с миссис Шернволд, пока ты весело проводил время с Диккенсом в Бирмингеме. Она говорит, что подумала бы о продаже или сдаче внаем своего дома, если бы ее холостой сын не собирался вернуться из Африки через год-полтора, а она обещала оставить дом ему. — Положись на меня, милая, — сказал я. — Я обещал купить вам с Хэрриет особняк на Глостер-плейс — и сдержу свое слово. Ты можешь припомнить хоть один случай, когда я не оправдал бы твоих ожиданий, глупышка? Она посмотрела на меня волком. Кэролайн Г*** была хорошенькой, даже красивой женщиной, несмотря на зрелый возраст (хотя она упорно скрывала свои годы, мои расследования привели меня к выводу, что, скорее всего, Кэролайн родилась тридцать шесть лет назад, в 1830-м), но она не казалась ни хорошенькой, ни красивой, когда злилась. Пусть в сотнях и тысячах произведений романтической литературы утверждается обратное, поверьте мне на слово, дорогой читатель: ни одна женщина не может остаться привлекательной, когда она хнычет или злится. — Ты не оправдываешь моих ожиданий, отказываясь жениться на мне и стать законным отцом Хэрриет, — срываясь на визг, прокричала Кэролайн. — Не думай, будто я не в состоянии найти другого мужчину и выйти за него замуж, Уилки Коллинз! Даже ни на секунду не воображай ничего подобного! — Я ни на секунду не воображаю ничего подобного, глупышка, — сказал я и снова уткнулся в газету. Чарльз Диккенс, несмотря на все свои непроходящие недуги и неуклонно возрастающую боязнь поездов, похоже, проводил лето в свое удовольствие. В конторе «Круглого года» я случайно услышал, как Уиллс говорит Форстеру, что весеннее турне принесло Диккенсу доход в четыре тысячи шестьсот семьдесят два фунта. Владельцы фирмы «Чеппелы и компания», которых Неподражаемый однажды в разговоре со мной назвал «чистой воды спекулянтами, но спекулянтами самого благородного, самого возвышенного толка», пришли в чрезвычайный восторг от своей доли прибыли и — едва только Диккенс вернулся в Гэдсхилл после состоявшегося двенадцатого июня заключительного выступления в Лондоне, чтобы «отдохнуть и вволю насладиться птичьим пением», — предложили контракт на зимнее турне из пятидесяти чтений в разных городах. Уилле сказал Форстеру, что поначалу Диккенс хотел запросить семьдесят фунтов за вечер (он не сомневался, что выручка от продажи билетов оправдает подобное требование), но в конечном счете предложил провести сорок два выступления за две тысячи триста фунтов в общей сложности. Чеппелы тотчас согласились. Весь июнь и июль Диккенс принимал в Гэдсхилле гостей, посещал местные ярмарки, где судил все соревнования подряд, от бега в мешках до крикетных матчей, и занимался своими делами, конечно же. Он еще не приступил к работе над новым романом, но начал подготавливать к печати новое «Собрание сочинений Чарльза Диккенса», которое предполагалось выпускать постепенно, по одному тому в месяц. Разумеется, Неподражаемый не мог остаться в стороне от такого дела, а потому вызвался написать новое предисловие к каждому роману. Это собрание сочинений станет не только самым популярным из всех, выходивших в свет ранее, но и последним прижизненным. Тем летом я часто виделся с Диккенсом как в Гэдсхилле (где я всегда заставал не менее полудюжины гостей), так и в Лондоне (он наведывался в контору «Круглого года» по крайней мере два раза в неделю, и мы с ним частенько обедали или ужинали вместе). Диккенс, в настоящее время уже продумывавший сюжет следующей рождественской повести для нашего журнала, репетировавший новые вещи для зимнего турне и писавший пре дисловия к новому собранию сочинений, вдобавок ко всему сообщил мне, что у него имеется ряд интересных задумок для нового романа, который он рассчитывает издать выпусками весной 1867 года. Он поинтересовался, над чем я сейчас работаю. — У меня есть несколько идей, — сказал я. — Две-три сюжетные нити и несколько бусинок, чтобы на них нанизать. — Что-нибудь такое, что мы сможем опубликовать в нашем журнале? — Вполне возможно. Я подумываю об истории с участием сыщика. — Из сыскного отдела Скотленд-Ярда? — Или из частного сыскного бюро. — А, ясно. — Диккенс широко улыбнулся. — Что-то вроде новых приключений инспектора Баккета. Я помотал головой. — На мой вкус, имя Кафф звучит неплохо. Сержант Кафф. Диккенс улыбнулся еще шире. — Сержант Кафф. Замечательно, друг мой. Просто великолепно.
Я велел дежурившему возле моего дома мальчишке передать инспектору, что нам надо встретиться. О времени и месте встречи мы уже давно условились, и на следующий день у моста Ватерлоо в два часа пополудни я увидел приземистую фигуру Филда, торопливо шагавшего ко мне. — Мистер Коллинз. — Инспектор. — Я кивком указал на густую тень под мостом. — Немеблированные комнаты на полмесяца. — Прошу прощения, сэр? — Сэм Уэллер — Пиквику. — Ах да, сэр. Ну конечно. Мистер Диккенс всегда восхищался этим мостом. Несколько лет назад я пособил ему в работе над очерком «С отливом вниз по реке», познакомив со здешним сборщиком пошлины. Господин литератор, насколько мне известно, очень интересовался самоубийствами и трупами, которые приносит к берегу в пору прилива. — Тринадцать, — буркнул я. — Прошу прощения, сэр? — Тринадцать лет назад, — сказал я. — Диккенс опубликовал «С отливом вниз по реке» в журнале «Домашнее чтение» в феврале пятьдесят третьего года. Я редактировал очерк. — Ну да, конечно. — Инспектор Филд поскреб подбородок большим пальцем. — Что заставило вас просить о встрече со мной, мистер Коллинз? Какие-нибудь новости? — Скорее отсутствие всяких новостей, — сказал я. — Вы никак не отреагировали на мой письменный отчет и не ответили на мой вопрос. — Приношу свои извинения. — В хриплом голосе инспектора не слышалось ни намека на сожаление. — Я был очень занят, мистер Коллинз. Страшно занят. Я чрезвычайно признателен вам за отчет о выступлении мистера Диккенса в Бирмингеме, пусть даже наш приятель Друд так и не появился. Вы хотели задать какой-то вопрос? — Меня интересует, умер ли кто-нибудь из тех троих парней, — сказал я. — Каких таких парней? — Инспектор покраснел, картинно вскинул брови и придал своей испещренной прожилками физиономии выражение самого невинного недоумения. — Трое парней в переулке, инспектор. Трое грабителей, которые напали на меня и которых ваш сыщик Реджинальд Для-Друзей-Просто-Реджи Баррис измолотил дубинкой. Баррис сказал, что один из них наверняка умер от удара. На следующее утро, перед отъездом из Бирмингема, я вернулся в переулок, но никого там не обнаружил. Теперь инспектор Филд улыбался и кивал, прижав указательный палец к носу сбоку. — Ах да, да, конечно. Баррис действительно докладывал мне о происшествии в переулке. Я уверен, все трое негодяев отделались лишь головной болью да ущемлением своей воровской гордости, мистер Коллинз. Вы уж простите Барриса. Он питает слабость к театральным эффектам. Порой мне кажется, что ремеслу частного сыщика он охотно предпочел бы актерскую карьеру. — Зачем вы приставили его ко мне, инспектор? Мне казалось, вы собирались наблюдать за Чарльзом Диккенсом в надежде, что Друд войдет в общение с ним… а не следить за каждым моим шагом. Кустистые брови Филда удивленно поползли вверх. — Но сыщик Баррис наверняка все объяснил вам, сэр. Мы опасались, что Друд попытается убить вас. — Баррис сказал, что трое парней в переулке, по всей вероятности, были обычными грабителями. — Да, — согласился инспектор Филд, снова кивнув. — Поскольку они белые и все такое прочее, скорее всего, именно так и обстоит дело. Но вы должны признать: вам крупно повезло, что Баррис оказался поблизости. Вас могли серьезно покалечить, мистер Коллинз, и уж как пить дать ограбили бы. Мы уже дважды прошлись по мосту Ватерлоо из конца в конец, но на сей раз не стали поворачивать, а пошли дальше, к Стрэнду. Где-то к западу отсюда, на берегу реки, находилась фабрика ваксы Уоррена, куда Диккенса отдали работать в детстве, как однажды рассказала мне Кейти. Неподражаемый упомянул ей о данном обстоятельстве почти шутливо, но у Кейти сложилось впечатление, что работа на фабрике была самым тяжелым в жизни отца испытанием, оказавшим сильное влияние на формирование его характера. — Я знаю, где скрывается ваш Друд, инспектор, — сказал я, когда мы повернули направо и двинулись по Стрэнду в сторону Сомерсет-хауса и Друри-лейн. Филд остановился. — Знаете, сэр? — Да, сэр. — В дрожащем от грохота экипажей воздухе повисла долгая пауза, потом я наконец проговорил: — Диккенс и есть Друд. — Прошу прощения, сэр? — сказал инспектор. — Диккенс и есть Друд, — повториля. — Никакого Друда не существует. — Это в высшей степени маловероятно, мистер Коллинз. Я улыбнулся почти снисходительно. — Я однажды сказал вам, инспектор, что Друд представляется мне плодом воображения Диккенса. Теперь я знаю, что сей фантом — не просто порождение праздной фантазии. Диккенс сотворил Друда для своих целей. — И для каких же именно, сэр? — Власть, — сказал я. — Пьянящее ощущение власти над людьми. На протяжении многих лет Диккенс развлекался игрой в животный магнетизм и месмеризм. Теперь он придумал этого магистра месмеризма — свое альтер эго. Мы уже снова шагали на восток, и инспектор Филд постукивал по мощеному тротуару тяжелой тростью. — Вряд ли он придумал Друда, мистер Коллинз, ведь я охочусь на этого мерзавца вот уже двадцать лет. — Вы когда-нибудь видели его, инспектор? — спросил я. — В смысле — Друда. — Видел ли я его? Нет, сэр. Кажется, я говорил вам, что ни разу не лицезрел собственными глазами этого гнусного душегуба. Но в свое время я арестовал нескольких его приспешников, и я всяко видел результаты его кровавых деяний. Свыше трехсот убийств за минувшие двадцать лет, в том числе зверское убийство лорда Лукана в сорок шестом году. Вы же сами рассказали мне историю, переданную вам Диккенсом со слов Друда, — а лорд Лукас, по давним слухам, имевший сына в Египте, идеально подходит на роль отца Друда. — Слишком идеально, — пробормотал я. — Прошу прощения, сэр? — Возможно, вы хороший сыщик, инспектор Филд, — сказал я, — но вам никогда не доводилось сочинять истории с детективным сюжетом. А мне доводилось. Инспектор продолжал шагать широким шагом, постукивая тростью, но вопросительно взглянул на меня. — Безусловно, последние двадцать лет по городу ходила легенда о кровожадном египтянине по имени Друд, — пояснил я. — Призрачный убийца, орудующий в портовом районе. Фантомный восточный месмерист, посылающий своих приспешников убивать и грабить. Нереальный обитатель вполне реального Подземного города. Но Друд всего лишь плод вымысла, лишенный реального существования и физической телесности. Чарльз Диккенс на протяжении многих лет бродил по припортовым кварталам. Он наверняка слышал истории про Друда — возможно, еще раньше, чем впервые услышали вы двадцать лет назад, инспектор, — и для своих целей вплел реальные события вроде убийства лорда Лукаса — с восхитительной подробностью о вырезанном из груди сердце — в биографию вымышленного персонажа. — Для каких своих целей, мистер Коллинз? — спросил инспектор Филд. Мы только что миновали Сомерсет-хаус. В этом общественном здании, построенном на месте королевского дворца, последние тридцать лет располагались различные государственные учреждения. Я знал, что там служили отец и дядя Диккенса. Мы пересекли Стрэнд и зашагали по узкой улочке, срезая путь к Друри-лейн, где выдуманный Дэвид Копперфилд заказывал бифштекс в ресторане и где совершенно реальный Уилки Коллинз надеялся в скором времени увидеть успешную постановку своего «Армадейла». — Для какой цели, сэр? — повторил инспектор. — Зачем мистеру Диккенсу лгать вам насчет Друда? Я улыбнулся и взмахнул тростью. — Позвольте рассказать вам маленькую историйку, случившуюся в ходе турне Диккенса, инспектор. Я узнал о ней от Джорджа Долби на прошлой неделе. — Если вам угодно, сэр. — Сопряженная с разъездами часть турне закончилась в Портсмуте в последних числах мая, — сказал я. — У Диккенса выдалось немного свободного времени, он отправился прогуляться по городу в обществе Уиллса и Долби, и они забрели в Лендпорт. «Ба! — воскликнул Диккенс. — Да ведь здесь я родился! В одном из этих домов». И он потащил Уиллса и Долби за собой по улочке в поисках того самого дома. Сначала Диккенс указал на один дом: мол, «он сильно напоминает мне отца». Потом на другой: мол, он говорит всем своим видом: «Меня покинул тот, кто родился под моей крышей». Потом на третий: мол, он явно некогда «укрывал в своих стенах слабого и тщедушного младенца» — и так далее и тому подобное, пока они не обошли всю улочку. Потом, инспектор, на городской площади, окруженной кирпичными особнячками, Диккенсу взбрело на ум отколоть шутовской номер в духе Гримальди. — Гримальди? — переспросил инспектор. — Мим, которого Диккенс обожал, — пояснил я. — И вот, заручившись вниманием Уиллса и Долби, знаменитый писатель Чарльз Диккенс поднялся на крыльцо одного из домов, постучал в окованную медью дверь и тотчас улегся перед ней. Через несколько мгновений, когда на пороге появилась некая дородная особа, Диккенс проворно вскочил на ноги и задал стрекача, а Уиллс и Долби помчались за ним следом. Время от времени Диккенс оборачивался, с испуганным видом указывал пальцем на воображаемого полисмена, их преследующего, и все три почтенных джентльмена припускались еще быстрее. Потом, когда ветер сорвал с головы Диккенса шляпу и погнал по улице перед ними, они трое стали участниками вполне настоящей, пусть и комичной, погони за шляпой. Инспектор Филд остановился, я тоже. Секунду спустя он осведомился: — Что вы хотите сказать, мистер Коллинз? — Я хочу сказать, инспектор, что Чарльз Диккенс, несмотря на свои пятьдесят четыре года, остается сущим ребенком. Проказливым мальчишкой. Он придумывает разные игры, увлеченно в них играет и — благодаря своему влиянию и силе характера — вовлекает в них окружающих. В настоящее время мы с вами поглощены игрой в Друда, придуманной Чарльзом Диккенсом. Филд с минуту стоял в глубокой задумчивости, почесывая нос. Внезапно он показался мне глубоким стариком, причем больным. Наконец он промолвил: — Где вы находились девятого июня, мистер Коллинз? Я растерянно моргнул. Потом улыбнулся и спросил: — Разве ваши агенты не доложили вам, инспектор? — Вообще-то, да, доложили, сэр. Поздним утром вы отправились в контору своего издателя. В тот день вышел ваш «Армадейл». Потом вы заглянули в несколько книжных лавок, расположенных на Стрэнде между Пэлл-Мэлл и Флит-стрит, и подписали несколько экземпляров книги для своих друзей и поклонников. Вечером вы ужинали вон там… — Филд указал тростью на ресторацию «Альбион» напротив театра «Друри-лейн», — с несколькими актерами, включая пожилого господина, дружившего с вашим отцом. Вы вернулись домой немного за полночь. Ему таки удалось стереть улыбку с моего лица, и это привело меня в раздражение. — К чему сей докучный и бессмысленный перечень несущественных фактов, инспектор? — холодно осведомился я. — Мы с вами оба знаем, где находились девятого июня вы, мистер Коллинз. Но ни один из нас не знает, где находился мистер Диккенс в день столь важной годовщины. — Важной годовщины? — недоуменно повторил я и тут же сообразил: девятого июня исполнился ровно год со дня Стейплхерстской катастрофы, едва не унесшей жизнь Диккенса. Как я мог забыть? — Мистер Диккенс в тот день оставался в Гэдсхилле, — сказал инспектор Филд, не сверяясь ни с какими записями. — Но он отправился в Лондон поездом, отходящим от станции в четыре тридцать шесть пополудни, а по прибытии в город тотчас же пустился в одну из своих продолжительных прогулок, на сей раз по району Блюгейт-Филдс. — Опиумный притон Сэл, — предположил я. — Вход в Подземный город через склеп на Погосте Святого Стращателя. — Нет, сэр, — сказал инспектор Филд. — За мистером Диккенсом следили семь лучших моих агентов. Мы полагали, что он захочет встретиться с Друдом в первую годовщину их знакомства. Но ваш друг заставил моих людей и меня — я тоже участвовал в слежке той ночью — погоняться за собой. Всякий раз, когда Диккенс исчезал из виду и мы уже решали, что он нырнул под землю, спустя минуту он вдруг опять появлялся из какого-нибудь глухого проулка или полуразрушенного дома, останавливал кеб и укатывал прочь. В конце концов он покинул Блюгейт-Филдс и припортовые кварталы и направился к месту, неподалеку от которого мы с вами сейчас находимся. А именно — к церкви Святого Енона, что расположена к северу от Стрэнда, рядом с восточным входом в Клементс-Инн. — Церковь Святого Енона, — повторил я. Название показалось смутно знакомым. В следующий миг я вспомнил: — Современная Голгофа! — Совершенно верно, сэр. Подземное кладбище. В склепах под церковью Святого Енона скопилось столько невостребованных трупов, что в сорок четвертом году, когда я уже работал в полицейском департаменте, но еще не в должности начальника сыскного отдела, инспектор городской канализации закрыл до ступ туда и распорядился о строительстве сточного тоннеля под зданием. И все же трупы гнили там еще несколько лет, покуда в сорок седьмом году один врач не купил весь участок с намерением перенести останки, как он выразился, «в более подходящее место». Эксгумация продолжалась почти год, мистер Коллинз, и на дорожке над склепами выросли две громадные кучи — одна из человеческих костей, другая из полусгнивших досок от гробов. — В молодости я ходил посмотреть на них. Я бросил взгляд в направлении церкви Святого Енона. Я хорошо помнил, какой чудовищный смрад стоял там холодным февральским днем, когда я созерцал жуткое зрелище. И даже не представлял, как там воняет в жаркий и влажный летний день вроде нынешнего. — Вы и еще примерно шесть тысяч лондонцев ходили поглазеть на них, — сказал инспектор Филд. — А какое отношение имеет церковь Святого Енона к Диккенсу и девятому июня? — Именно там он окончательно ушел от нас, мистер Коллинз, — отрывисто произнес Филд, раздраженно стуча по булыжнику тяжелой тростью с медным набалдашником. — Семь моих лучших агентов и я сам — возможно, лучший лондонский сыщик всех времен — преследуем вашего друга-писателя, а он от нас ускользает. Я невольно улыбнулся. — Он получает удовольствие от подобных игр, инспектор. Как я сказал, Диккенс в глубине души — сущий ребенок. Он любит всяческие тайны и истории о призраках. И порой проявляет весьма жестокое чувство юмора. — Истинно так, сэр. Но, если вернуться ближе к делу, ваш друг невесть откуда знал о потайном входе в канализационный коллектор, прорытый в сорок четвертом году, когда многие тысячи изгнивших трупов все еще оставались в склепах под церковью. В конце концов мы нашли коллектор — он выходит в разветвленный тоннель пошире, где в сырых, зловонных норах под лондонскими улицами обитают многие сотни отверженных, а тот ведет к очередному лабиринту тоннелей, сточных каналов и пещер. — Но вы так и не нашли там Диккенса? — Нашли, сэр. Мы увидели огонек его фонаря во мраке впереди. Но в следующий момент мы подверглись нападению: на нас обрушился град камней, брошенных вручную и запущенных из пращи. — Маленькие дикари, — предположили. — Совершенно верно, сэр. Сыщику Хэчери пришлось несколько раз пальнуть из револьвера, и только тогда наши противники — смутные тени, выпрыгивающие из боковых тоннелей, швыряющие в нас камни и снова исчезающие, — обратились в бегство, а мы смогли возобновить преследование. Но было уже слишком поздно. Ваш друг улизнул от нас, скрывшись в лабиринте канализационных коллекторов. — Значит, ваша погоня оказалась неудачной, инспектор, — сказал я. — Хотя и весьма захватывающей. Но к чему вы, собственно, ведете? — А вот к чему, мистер Коллинз: едва ли Чарльз Диккенс — знаменитый Чарльз Диккенс — в ходе своей бесцельной ночной прогулки по Подземному городу стал бы прилагать такие усилия к тому, чтобы скрыться от нас, если бы не собирался встретиться с реальным человеком по имени Друд. Я рассмеялся. Я не мог не рассмеяться. — Я бы предположил ровно обратное, инспектор. Только увлекательность погони и детская зачарованность тайной, им самим вымышленной, заставляют Диккенса тратить столько времени на эту вашу беготню по канализационным тоннелям. Когда бы он не знал наверное, что ваши люди последуют за ним по пятам, уверяю вас, он не приехал бы в Лондон вечером девятого июня. Никакого Друда не существует. Инспектор Филд пожал плечами. — Думайте как хотите, но мы в любом случае признательны вам за помощь, что вы продолжаете оказывать нам в наших попытках выследить короля преступного мира и жестокого убийцу, в существование которого вы не верите. Те немногие из нас, полицейских, кто сталкивался с Друдом и его приспешниками, знают, насколько он могуществен и опасен. На это мне было нечего сказать. — Вы попросили о встрече со мной единственно потому, что хотели узнать об участи тех трех бандитов, мистер Коллинз? — На самом деле — нет. — Я смущенно поежился. — Я хотел напомнить вам о вашем обещании. — Касательно особняка на Глостер-плейс и миссис Шернволд? Я занимаюсь этим делом, сэр. И я по-прежнему абсолютно уверен, что вы и ваша… гм… миссис Г*** заполучите дом в свою собственность в течение года. — Да нет, нет. Я о другом вашем обещании. Вы как-то сказали, что я смогу воспользоваться услугами сыщика Хэчери, коли мне понадобится вернуться на Погост Святого Стращателя, отодвинуть каменный постамент в склепе и спуститься в катакомбы, в опиумный притон Короля Лазаря. Последние несколько недель мои подагрические боли стали просто невыносимыми… лауданум уже не помогает. — Сыщик Хэчери будет к вашим услугам в любое угодное вам время, — ответствовал инспектор ровным тоном, в котором не слышалось ни осуждения, ни превосходства. — Когда вы хотите обраться к нему за помощью? — Сегодня, — сказал я. Сердце мое забилось учащенно. — Сегодня в полночь.
Глава 17
Октябрь 1866 года выдался необычайно холодным и дождливым. Я делил дни и ночи между клубом, домом и подземным притоном Короля Лазаря, а по уик-эндам частенько гостил в Гэдсхилле. В одну дождливую субботу, под расслабляющим действием лауданума, я рассказал Диккенсу о нескольких своих идеях, касающихся следующей книги. — Вы задумали историю о призраках? — спросил Диккенс. Мы сидели в его кабинете, наслаждаясь теплом камина. Неподражаемый, писавший тогда очередную рождественскую повесть, уже закончил работу на сегодня и внял моим уговорам воздержаться от прогулки по такой промозглой погоде. Дождевые струи хлестали по стеклам эркерного окна. — Со столоверчением и вызовом духов? — уточнил он. — Ничего подобного, — сказал я. — Я думаю скорее о комбинации нескольких упомянутых мной ранее сюжетных мотивов — кража, расследование преступления, тайна — с мотивом предмета, несущего на себе проклятие. А реально проклятие или нет, я предоставлю решать читателю. — И какого рода предмет? — спросил Диккенс — я определенно возбудил в нем любопытство. — Драгоценный камень. Рубин или сапфир. Или даже алмаз. У меня в голове уже выстраивается сюжет, основанный на пагубном влиянии проклятого камня на каждого человека, завладевшего им честным или бесчестным путем. — Интересно, дорогой Уилки, очень интересно. На камне лежит древнее родовое проклятие? — Или религиозное. — Я блаженствовал, умиротворенный недавно принятым лауданумом и воодушевленный неподдельным интересом Диккенса к моему будущему роману. — Если, скажем, камень был похищен из храма какой-нибудь древней и суеверной страны… — Индия! — выпалил Диккенс. — Я думал о Египте, — сказал я, — но Индия тоже неплохо. Очень даже неплохо. Что же касается названия, я предварительно записал «Змеиное око» или «Око змея». — Звучит чересчур сенсационно. — Диккенс сложил ладони домиком и вытянул ноги к камину. — Но интригующе. Вы введете в роман вашего «сержанта Каффа»? Я покраснел и лишь пожал плечами в ответ. — А опиум там будет фигурировать? — спросил он. — Не исключено, — с вызовом ответил я, уже не польщенный, а раздраженный пытливыми расспросами; от нескольких наших общих друзей я слышал, что Диккенс решительно не одобряет хвалы, вознесенные наркотику моей Лидией Гвилт в «Армадейле». Диккенс переменил тему: — Полагаю, за прототип своего камня вы возьмете алмаз Кохинор, выставлявшийся в Хрустальном дворце на Всемирной выставке пятидесятого года. — Я сделал несколько заметок о данном артефакте, — холодно промолвил я. — Знаете, друг мой, а ведь действительно ходили слухи, будто на Кохинор было наложено проклятье после того, как им силой завладел махараджа Дхулип Сингх, по прозвищу Пенджабский Лев. А подлинная история о том, как генерал-губернатор Индии лорд Далхаузи тайно вывез камень из Лахора в Бомбей еще во время Великого восстания, может послужить материалом для двух или трех захватывающих романов. Говорят, леди Далхаузи собственноручно зашила алмаз в пояс, который лорд Далхаузи носил, не снимая, несколько недель кряду, покуда не передал драгоценность капитану британского военного корабля в Бомбее. Говорят, он каждую ночь сажал на цепь двух свирепых сторожевых псов рядом со своей походной кроватью, чтобы они разбудили его лаем в случае, если в палатку проникнут воры или разбойники-душители. — Я этого не знал, — признался я. Я предполагал писать о рубине или сапфире, почитаемом за святыню каким-нибудь древним египетским культом, но сейчас, когда Диккенс упомянул о реальных фактах, связанных с Кохинором, у меня так и зачесались руки взяться за перо. Нас прервал настойчивый стук в дверь кабинета. Вошла Джорджина, вся в слезах и вне себя от волнения. Когда Диккенс успокоил свояченицу, она сообщила, что ирландский волкодав по кличке Султан напал на очередную невинную жертву — на сей раз на маленькую девочку, приходившуюся сестрой одной из служанок. Диккенс отослал Джорджину обратно вниз. Потом с тяжелым вздохом открыл чулан и достал оттуда двуствольный дробовик, который я в последний раз видел десять месяцев назад, в рождественскую ночь. Затем он подошел к столу и вынул из нижнего правого ящика несколько крупнокалиберных патронов. Дождь уже перестал барабанить по окнам, но небо по-прежнему застилали низкие темные облака, быстро плывущие над черными ветвями полуголых деревьев. — Боюсь, я проявлял излишнюю терпимость к этому псу, — тихо проговорил Диккенс. — У Султана доброе сердце, и он всецело мне предан, но его агрессивный нрав выкован в адовом огне. Он не желает ничему учиться. Я готов терпеть любые недостатки — в собаке ли, в человеке ли, — кроме нежелания или неспособности учиться. — И больше никаких предупреждений? — спросил я,поднимаясь с кресла, чтобы выйти из кабинета за ним следом. — И больше никаких предупреждений, дорогой Уилки, — сказал Диккенс. — Смертный приговор этому псу вынес гораздо более могущественный судья, чем мы с вами, еще в ту пору, когда Султан был слепым щенком и тыкался в соски своей матери. Теперь нам остается только привести приговор в исполнение.Палаческая команда состояла, как и положено, из одних мужчин: к нам с Диккенсом присоединился четырнадцатилетний Плорн, вызванный из своей комнаты. Мой брат Чарльз, приехавший на уик-энд в Гэдсхилл со своей женой Кейти, тоже получил приглашение присутствовать на казни, но отказался. Еще к нам примкнул старый кузнец с обветренным морщинистым лицом, тогда перековывавший двух лошадей в конюшне Диккенса. (Кузнец оказался давним другом приговоренного, он помнил убийцу крохотным щенком и всегда с удовольствием наблюдал за его выходками. Старик принялся шумно сморкаться в платок еще прежде, чем мы двинулись прочь от дома.) С нами пошли также самый старший сын Диккенса Чарли, приехавший в Гэдсхилл на день, и двое слуг — один из них приходился мужем служанке, чья сестра подверглась нападению. Один слуга катил тачку, предназначенную для перевозки трупа Султана от места казни к месту погребения, а другой нес джутовый мешок, призванный через несколько минут послужить приговоренному саваном. Остальные домочадцы и слуги наблюдали за нами из окон; мы пересекли задний двор, миновали конюшню и вышли в поле, где Диккенс сжег свою корреспонденцию шесть лет назад. Поначалу Султан, страшно довольный своим новым широким намордником, не стягивающим челюсти, возбужденно и радостно рвался вперед на поводке (его держал Чарли Диккенс). Очевидно, он полагал, что мы отправились на охоту: кому-то суждено умереть! Пес резво прыгал туда-сюда между тепло одетыми мужчинами в высоких сапогах, поднимая брызги в лужах и взрывая когтями мокрую землю. Но время от времени, озадаченный поведением людей, упорно отводивших глаза в сторону, Султан останавливался и бросал настороженный взгляд на переломленное ружье, зажатое у хозяина под мышкой, и на пустую тачку, невесть зачем взятую на гусиную охоту. Когда группа остановилась в сотне ярдов от конюшни, взгляд Султана стал задумчивым, даже мрачным, и пес уставился на человека с ружьем — своего господина и повелителя — с вопросительным выражением, которое вскоре сменилось умоляющим. Чарли Диккенс отпустил поводок и отступил на пару шагов. Мы все отступили и стали полукругом позади Диккенса — он неподвижно стоял на месте, пристально глядя в глаза Султану. Огромный ирландский волкодав слегка наклонил голову набок, словно ставя вопросительный знак в конце непроизнесенной фразы. Диккенс загнал патроны в стволы и со щелчком закрыл тяжелый дробовик. Султан наклонил голову ниже, продолжая неотрывно смотреть на хозяина. — Джон, — негромко обратился Диккенс к кузнецу, стоявшему в группе свидетелей казни слева от него, с самого края, — я хочу, чтобы он отвернулся. Пожалуйста, отвлеките его, бросьте камень. Кузнец Джон громко крякнул, высморкался в последний раз, сунул платок в карман дождевой куртки, поднял с земли плоский камешек, какими удобно запускать «жабок» в пруду, и бросил. Камешек упал на землю позади Султана. Пес обернулся. Прежде чем он успел повернуть голову обратно, Диккенс плавно вскинул ружье и выстрелил из обоих стволов. В сыром, холодном, густом воздухе двойной выстрел прозвучал просто оглушительно. Грудная клетка Султана взорвалась клочьями окровавленной шерсти, шматьями мяса и осколками костей. По всей вероятности, сердце у него остановилось мгновенно и ни один импульс, посланный нервными окончаниями, не успел достичь мозга. Пес даже не взвизгнул, когда мощным ударом двух пуль его отбросило на несколько футов, и наверняка умер еще прежде, чем тяжело рухнул на мокрую траву. Слуги в считаные секунды уложили тяжелый труп в мешок, погрузили на тачку и двинулись обратно к дому, толкая ее перед собой. Мы столпились вокруг Диккенса — он переломил дымящееся ружье, извлек из стволов стреляные гильзы и аккуратно положил обе в карман куртки. При этом Неподражаемый пристально смотрел на меня точно таким взглядом, каким всего минуту назад смотрел на Султана. Я с уверенностью ожидал, что сейчас он скажет мне, возможно, на латыни: «И смерть постигнет каждого, кто предаст меня», — но он промолчал. В следующий миг юный Плорн, явно возбужденный запахом крови и пороха (тот самый мальчик, которого Диккенс недавно в разговоре со мной назвал «недостаточно усердным и целеустремленным по причине непроходимой природной апатии»), вскричал: «О, это было потрясающе, отец! Просто потрясающе!» Диккенс не ответил. Никто из нас не промолвил ни слова, пока мы медленно шли обратно к дому. Еще прежде чем мы достигли задней двери, снова полил дождь и поднялся сильный ветер. Я сразу направился в свою комнату, чтобы переодеться в сухое и подкрепить силы очередной дозой лауданума, но Диккенс окликнул меня, и я остановился на лестнице. — Не кручиньтесь, Уилки. Несмотря на все, я постараюсь утешить нашего дорогого Перси Фицджеральда, подарившего мне обреченного пса. В данную минуту два Султановых детеныша ползают в соломе в сарае. Наследственность — великая сила, а значит, по крайней мере один из щенков наверняка унаследует свирепый нрав отца. И наверняка унаследует также пулю в сердце. Я не нашелся, что сказать в ответ, а потому просто кивнул и пошел в свою комнату за следующей порцией болеутоляющего средства.
Король Лазарь, китайский повелитель живых мертвецов- опиоманов, похоже, ждал меня, когда я впервые вернулся в его королевство почти за два месяца до казни Султана, в конце августа 1866 года. — Добро пожаловать, мистер Коллинз, — прошептал престарелый китаец, когда я раздвинул истлевшие занавеси и вступил в его потайные владения во втором ярусе катакомб под кладбищем. — Ваша койка и ваша трубка уже приготовлены для вас. Той августовской ночью сыщик Хэчери благополучно довел меня до кладбища, отомкнул ворота и дверь склепа, сдвинул с места тяжелый постамент и снова выдал мне свой несуразно тяжелый револьвер. Вручив мне фонарь «бычий глаз», он пообещал остаться в склепе до моего возвращения. Честно признаюсь: пройти по подземной галерее между усыпальницами и спуститься по потайной лестнице на нижний ярус катакомб сейчас оказалось труднее, чем в прошлый раз, когда я следовал за Диккенсом. Сегодня Король Лазарь щеголял в шелковых балахоне и шапочке другой расцветки, но все таких же ярких, чистых и тщательно отутюженных. — Вы знали, что вернусь? — спросил я, следуя за древним стариком в дальний, темный конец длинной кубикулы. Король Лазарь лишь улыбнулся в ответ и поманил меня пальцем дальше в глубину своего логова. Безмолвные тела на трехъярусных койках, пристроенных к стенам пещеры, с виду казались теми самыми восточными мумиями, которых мы с Диккенсом видели во время первого нашего визита. Но каждая мумия сжимала в иссохшей руке затейливо украшенную опиумную трубку, и только бледные струи дыма, медленно плававшие в узком, тускло освещенном фонарями проходе, свидетельствовали, что все они дышат. Все прочие места были заняты, но одна трехъярусная деревянная кровать в самой глубине помещения, отгороженная темно-красным занавесом, пустовала. — Вы наш почетный гость, — тихо проговорил Король Лазарь с ритмическим кембриджским акцентом, звучавшим странно в его устах. — А потому мы предоставим вам полное уединение. Хан? Он сделал знак рукой, и другая фигура в темном балахоне вручила мне длинную трубку с изящной стеклянно-керамической чашечкой. — Этой трубкой никто до вас не пользовался, — сказал Король Лазарь. — Она приготовлена для вас, и только вы один будете ее курить. Эта кровать тоже ваша, и только ваша. Никто, кроме вас, никогда на нее не ляжет. А опиум, что вы попробуете нынче ночью, наивысшего качества — такой употребляют лишь короли, фараоны, императоры и святые люди, желающие стать богами. Я попытался заговорить, но не смог издать ни звука, ибо во рту у меня пересохло. Я облизал губы и повторил попытку: — А сколько… — начал я и осекся, когда Король Лазарь дотронулся до моего плеча длинными желтыми пальцами с длинными желтыми ногтями, призывая к молчанию. — Всякие разговоры о цене неуместны между джентльменами, мистер Коллинз. Сначала попробуйте — а потом скажете мне, стоит ли наркотик такого непревзойденного качества тех денег, которые все остальные джентльмены… — он повел перед собой костлявой рукой с длинными загнутыми ногтями, указывая на безмолвные ряды коек, — согласились отдать за него. Коли вы останетесь недовольны, я не возьму с вас платы, разумеется. Король Лазарь отступил в темноту, а мужчина в балахоне, по имени Хан, помог мне улечься на койку, подложил мне под голову деревянный брусок с выемкой (на удивление удобный) и зажег мне трубку. Интересно ли вам, дорогой читатель, узнать о воздействии этого чистейшего опиума? Возможно, в ваши дни все употребляют сей восхитительный наркотик. Но даже если так, вряд ли ваш опиум может сравниться по силе действия с уникальным зельем, приготовленным по секретному рецепту Короля Лазаря. Если вам любопытно, какой эффект оказывает обычный опиум, я процитирую здесь первый абзац последнего — так и не законченного — романа Чарльза Диккенса.
Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая, квадратная башня — вон она высится, серая и массивная, над крышей собора… И еще какой-то ржавый железный шпиль — прямо перед башней… Но его же на самом деле нет. Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему ни подойди. Что это за шпиль, кто его поставил? А может быть, это просто кол, и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы, и длинное шествие — сам султан со свитой — выходит из дворца… Десять тысяч ятаганов сверкают на солнце, трижды десять тысяч алмей[10] усыпают дорогу цветами. А дальше белые слоны — их столько, что не счесть, — в блистающих яркими красками попонах и несметные толпы слуг и провожатых… Однако башня английского собора по-прежнему маячит где-то на заднем плане — где она быть никак не может, — и на колу все еще не видно извивающегося в муках тела… Стой! А не может ли быть, что этот шпиль — это предмет самый обыденный, всего-навсего ржавый шпиль на одном из столбиков расхлябанной и осевшей кровати? Сонный смех сопровождает эти догадки и размышления[11].Вот, пожалуйста. Опиоман, медленно приходящий в сознание на рассвете в грязном захудалом притоне. Десять тысяч ятаганов, сверкающих на солнце. Трижды десять тысяч алмей. Белые слоны в блистающих яркими красками попонах. Какая поэзия! Какой полет воображения! Какая чушь. Чарльз Диккенс не имел ни малейшего представления о воздействии опиума. Однажды он похвастался мне, что во время своего второго турне (летом и осенью 1866 года оно еще оставалось в будущем), мучимый болями и бессонницей, он позволил себе призывать на помощь «лауданумного Морфея». Но когда я расспросил подробнее — Джорджа Долби, а не самого Неподражаемого, поскольку я хотел узнать правду, — выяснилось, что крылья Морфея, уносившие нашего друга в царство сна, состояли всего-навсего из двух крохотных капель опиума, разведенных в огромном бокале портвейна. Я к тому времени выпивал по несколько стаканов неразбавленного лауданума в день, не запивая ни глотком вина. Диккенс понятия не имел о действии лауданума, не говоря уже о чистом опиуме. Позвольте мне рассказать вам, дорогой читатель моего посмертного будущего, какой эффект оказывал опиум Короля Лазаря. Он разливался по телу теплом, что зарождалось в подвздошной области и воспламеняло кровь в жилах. Немного похоже на действие доброго виски, только в случае с опиумом блаженное ощущение тепла неуклонно усиливалось и длилось беспрерывно. Он, подобно волшебному эликсиру, превращал низкорослого, пухлого и румяного, обычно приятного в общении, но редко принимаемого всерьез Уильяма Уилки Коллинза — коротышку с несуразно крупным лбом, подслеповатыми глазами и комично пышной бородой, добровольного шута и услужливого «закадыку», по выражению американцев, — в могучего, самоуверенного исполина, которым Уилки всегда ощущал себя в глубине души. Он являлся мощной преобразующей силой, что устраняла тошнотворное чувство тревоги, неотступно преследовавшее и снедавшее меня с самого детства, обостряла восприимчивость и способность понимать людей, себя самого и человеческие взаимоотношения, дарила счастливые моменты озарения, когда даже самые обыденные предметы и ситуации являются взору в чистом золотом сиянии, в каком, наверное, предстает мир божественному оку.
Это далеко не исчерпывающее описание, но я не решаюсь открыть всю правду о неповторимом и благотворном воздействии опиума древнего китайца. (Слишком многие люди, в отличие от меня, не обладающие врожденной устойчивостью к общеизвестным пагубным свойствам наркотика, могут возжелать попробовать его, не понимая, что в Лондоне, да и во всем мире, в настоящее время уже не найти чистейшего опиума, каким торговали в притоне Короля Лазаря.) Достаточно сказать, что наркотик стоил всех тех денег, которые запросил за него древний китаец, — запросил много часов спустя, когда смутная тень по имени Хан помогла мне подняться с моего ложа и проводила до самого подножия крутой лестницы, ведущей в склеп, где меня ждал верный Хэчери, — и он стоил всех тех тысяч фунтов, которые я потрачу на него в грядущие месяцы и годы. Благодарение Богу за огромный гонорар, авансом выплаченный мне за «Армадейл» Джорджем Смитом из «Корнхилла». Не скажу, что вся моя непредвиденная выручка до последнего пенни ушла на опиум — помнится, я потратил фунтов триста на вино и по меньшей мере пятьсот фунтов вложил в ценные бумаги (разумеется, еще я купил подарки Кэролайн и ее дочери Хэрриет, для нас просто Кэрри, а также послал вспомоществование Марте Р***) — но львиная доля баснословной суммы в пять тысяч фун тов, полученной мной от Смита, перешла в костлявые желтые руки подземного мандарина. Хэчери — неуклюжий верзила в котелке — неизменно ждал меня в склепе наверху, сколь бы поздно утром (или даже днем) я ни возвращался. Каждый раз он забирал у меня громадный револьвер (его я всегда клал рядом с собой на своей койке в притоне Короля Лазаря, хотя чувствовал себя там в полной безопасности) и каждый раз сопровождал меня с кладбища через трущобы обратно в мир скучных, унылых, незрячих людей, ведать не ведающих об упоительных наслаждениях, даруемых первосортным опиумом Лазаря.
Я не меньше постоянно хнычущей Кэролайн хотел заполучить в свою собственность особняк на Глостер-плейс. Наш нынешний дом по адресу Мелкомб-плейс, 9, до сей поры меня вполне устраивал, но теперь, когда Кэролайн докучала мне беспрестанным нытьем, а Кэрри стремительно взрослела, он стал казаться тесным. Хотя главным образом он стал казаться тесным из-за незваных гостей, в нем прочно поселившихся. Зеленокожая клыкастая женщина по-прежнему подстерегала меня на черной лестнице всякий раз, когда там царила полутьма, но больше всего меня пугал Второй Уилки. Второй Уилки никогда не подавал голоса, он просто наблюдал и выжидал. Независимо от того, как был одет я в момент нашей встречи, он неизменно представал передо мной в галстуке, накрахмаленной сорочке и жилете, без сюртука. Я знал: если мне вдруг придется сбрить бороду (уже ставшую настолько неотъемлемой частью меня, что я замечал ее в зеркале единственно тогда, когда подравнивал ножницами), Второй Уилки останется при бороде. Если я сниму очки, он останется в очках. Он ни разу не отважился покинуть пределы моего кабинета и появлялся там только по ночам, но его ночные визиты раздражали меня все сильнее и сильнее. Почувствовав постороннее присутствие в комнате, я поднимал глаза и видел Второго Уилки, безмолвно сидящего на стуле с плетеной спинкой в дальнем углу. Иногда стул оказывался развернутым кругом (его рук дело, безусловно), и он сидел на нем верхом, широко расставив ноги, положив локти на спинку, чуть наклонив голову вперед и пристально глядя на меня сквозь отблескивающие стекла маленьких круглых очков. Я возвращался к работе, но, снова вскинув взгляд минуту спустя, обнаруживал, что Второй Уилки успел беззвучно переместиться в резное деревянное кресло рядом со столом, предназначенное для моих гостей. Его маленькие немигающие глазки пристально, даже жадно впивались в мою рукопись. В конце концов я испуганно вздрагивал, в очередной раз подняв голову и обнаружив, что Второй Уилки стоит или сидит совсем рядом, едва не касаясь меня рукавом. Мои испуг и ужас усугублялись, когда Второй Уилки предпринимал попытку выхватить у меня перо. Он хотел продолжить и завершить рукопись по своему усмотрению, вне всяких сомнений, а я уже рассказывал вам, сколь ожесточенными и «чернилопролитными» стали такие вот схватки за перо, чернильницу и рукопись, прежде чем я прекратил наведываться в кабинет по ночам и начал работать там только днем, когда он не появлялся. Но летом 1866 года я стал слышать за закрытой дверью кабинета тихие звуки возни и дыхание Второго Уилки даже среди бела дня. Я на цыпочках подходил к двери и резко ее распахивал, надеясь увидеть там слугу, или Кэролайн, или Кэрри, решившую подшутить надо мной, но коридор всякий раз оказывался пустым. Однако всякий раз я слышал приглушенные частые шаги — тяжелые шаги человека примерно моей комплекции, — удаляющиеся вниз по темной задней лестнице, где также сторожила зеленокожая женщина. Я знал, что рано или поздно Второй Уилки появится в кабинете при свете дня. Поэтому я начал брать свои заметки и письменные принадлежности в клуб «Атенеум», где устраивался в удобном кожаном кресле за столом у окна и спокойно работал. Проблема заключалась в том, что работа не спорилась. Впервые за десять лет, прошедших со времени, когда Диккенс принял меня на должность штатного сотрудника «Домашнего чтения» (лет через пять после нашего с ним знакомства), у меня не получалось выстроить сюжет на основе уже обозначенных идей. Я сделал несколько беглых записей после нашего с Диккенсом обсуждения задуманного мной мистическо-приключенческого романа с предварительным названием «Змеиное око», но с тех пор я единственно переписал несколько статей о драгоценных камнях индийского происхождения из экземпляра «Британской энциклопедии», хранившегося в клубной библиотеке (издание 1855 года), и дальше не продвинулся ни на шаг. Я вернулся к своему прежнему замыслу написать об отставном полицейском сыщике, занимающемся частным сыском, — инспекторе Филде в образе сержанта Каффа, — но мое вполне объяснимое нежелание проводить с Филдом больше времени, чем приходилось по его требованию, не говоря уж об отвращении к самой идее назойливого детективного расследования, тоже сильно затрудняло дело. В глубине души я просто не хотел работать. Я гораздо больше предпочитал ночные походы на Погост Святого Стращателя по четвергам и последующие долгие часы блаженного забытья, исполненного чудесных прозрений. К великому своему разочарованию, я обнаружил, что посещавшие меня божественные видения решительно невозможно описать пером — такое не под силу никому, даже самому одаренному мастеру слова, даже Шекспир и Китс, я твердо уверен, оказались бы здесь бессильны, доведись вдруг одному или другому гению восстать из небытия в каком- нибудь лондонском опиумном притоне. И уж конечно, подобная задача была не по плечу такому внутренне несвободному человеку и лишенному воображения писателю, как Чарльз Диккенс. Каждую неделю я замечал в темных глазах Короля Лазаря выражение, свидетельствовавшее, что он ясно видит и мое неуклонное восхождение к божественной природе, и мое неуклонное погружение в пучину мрачного разочарования, вызванного неспособностью поделиться с миром вновь обретенным знанием через посредство беспомощных, инертных букв, что беспорядочно расползались по белому листу бумаги, подгоняемые моим пером, точно неповоротливые трилобиты в чернильных панцирях. Сейчас я понимаю: эти неуклюжие письменные знаки являлись всего лишь стенографическим воспроизведением жалобных стонов, какие испускают одинокие обезьяны с незапамятных времен, когда Земля и ее сестра Луна были молодыми. Все прочие обстоятельства, в круговороте которых я жил поздней осенью 1866 года, казались слишком нелепыми, чтобы иметь значение: по-прежнему продолжавшаяся дурацкая история с Друдом или не Друдом, бесконечная шахматная борьба за власть между инспектором Филдом, Неподражаемым и мной, обольстительные нежности и невыносимые кошачьи концерты моих женщин, неспособность отыскать на бумаге вход в недра моей следующей книги, негласное и не упорядоченное никакими правилами соревнование с Чарльзом Диккенсом… Но все разом переменилось, когда одним пятничным утром в конце ноября, после долгой восхитительной ночи в притоне Короля Лазаря, я вернулся домой в пропахшем опиумным дымом костюме и застал в гостиной Диккенса с Кэролайн. Она сидела, откинув голову назад, с закрытыми глазами и совершенно экстатическим выражением лица, а Диккенс производил у нее над головой месмерические пассы, изредка дотрагиваясь до висков и что-то нашептывая. Прежде чем я успел заговорить, оба они повернулись ко мне. Кэролайн открыла глаза, а Диккенс вскочил на ноги и воскликнул: — Дорогой Уилки! Вы-то мне и нужны! Мы должны сию же минуту отправиться на вокзал. Я хочу показать вам нечто поистине поразительное.
Глава 18
— Я должен убить кого-нибудь, — заявил Диккенс. Я кивнул, но не произнес ни слова. Следовавший в Рочестер поезд уже миновал станцию Гэдсхилл. — Я убежден, что мне необходимо кого-нибудь убить, — сказал Диккенс. — В моих чтениях не хватает единственно убийства. Все прочие человеческие страсти и эмоции отражены в нынешней, более широкой подборке номеров, подготовленных мной к следующему турне. Там есть все… кроме убийства. — Он подался вперед, опираясь на трость, и пытливо взглянул на меня. — Как вы считаете, друг мой? Может, стоит включить в программу сцену убийства Нэнси, переписанную в сторону большей выразительности? — Почему бы и нет? — промолвил я. — Действительно, почему бы и нет, — хихикнул Диккенс. — Ведь речь идет всего-навсего о человеческой жизни. Отчасти его словоохотливость объяснялась тем, что за время поездки он уже трижды хорошо приложился к своей фляжке с бренди. Каждый раз, когда вагон сильно встряхивало или дерга ло, Диккенс судорожно вцеплялся в спинку кресла впереди или лез в карман пальто за фляжкой. Когда я поинтересовался, что означала сцена с месмерическим сеансом в моей гостиной, он рассмеялся и пояснил, что моя дражайшая сожительница находилась в расстроенных чувствах и рассказала ему о моих подагрических болях, усиливающейся бессоннице и возрастающей опиумной зависимости. Диккенс заверил Кэролайн, что магнетическое воздействие мигом погрузит меня в сон без всякого лауданума, имеющего вредные побочные эффекты, и как раз обучал ее месмерическим приемам, когда я вошел. — Она способная ученица, — сказал он; поезд с грохотом несся к Рочестеру мимо болотистых пустошей, исхоженных нами с Диккенсом вдоль и поперек. — Позвольте Кэролайн попробовать замагнетизировать вас сегодня вечером. Ручаюсь, вы будете спать без всяких опиумных снов и проснетесь бодрым и полным сил. Я издал неопределенный звук. Честно говоря, от мерного покачивания вагона и монотонного стука колес меня клонило в сон. Я провел долгую ночь в притоне Короля Лазаря, и нельзя сказать, чтобы я там спал в общепринятом смысле слова. По счастью, хотя день нынче выдался необычайно погожий для ноября, с самого утра дул крепкий ветер, и предательский запах опиума почти полностью выветрился из моей одежды, пока мы быстро шагали к вокзалу. — Так вы говорите, мы собираемся с кем-то встретиться в Рочестере? — спросил я. — Именно так. — Диккенс положил обе руки на медный набалдашник своей трости. — С двумя дамами. Моя давняя приятельница для меня и дама для вас, дорогой Уилки. Мы отобедаем в одном замечательном местечке. Насколько я понимаю, обслуживание там превосходное. Замечательное местечко с превосходным обслуживанием оказалось кладбищем, расположенным за древней каменной громадой Рочестерского собора. Упомянутыми дамами оказались не особо тайная возлюбленная Диккенса Эллен Тернан и ее мать. Логика подсказывала, что миссис Тернан станет «моей дамой» на сегодня. Когда я стоял там среди надгробий в бледном свете послеполуденного ноябрьского солнца, учтиво кланяясь и беседуя о разных пустяках с двумя женщинами, я всерьез задавался вопросом, не повредился ли Диккенс рассудком. Но нет, странное поведение Чарльза Диккенса объяснялось далеко не так просто. Когда мы четверо неторопливо двинулись в глубину кладбища (миссис Тернан и Эллен сказали, что приехали в Рочестер навестить дядюшку Эллен и времени у них в обрез), я осознал, что, с точки зрения Диккенса — искаженной, извращенной, самооправдательной, — в данном свидании нет ничего из ряда вон выходящего. Свою связь с Эллен Тернан он скрывал почти от всех — мой брат Чарльз сказал мне, что Диккенс частично посвятил своих дочерей и Джорджину в тайну своих внебрачных отношений после того, как Мейми одним воскресным днем случайно встретила в Лондоне своего отца в обществе мисс Тернан, а инспектор Филд сообщил мне, что Эллен Тернан несколько раз приезжала в Гэдсхилл-плейс, — но он явно считал меня человеком надежным и абсолютно безвредным. Кому я могу разболтать что-то? Диккенс не только знал по опыту, что я буду хранить молчание, но также понимал, что в силу обстоятельств моей частной жизни (еще больше усложнившихся на прошлой неделе, когда Марта Р*** вернулась в Лондон) я слыву изгоем общества, а потому никогда не стану обсуждать частную жизнь Диккенса в печати ли, в частных ли беседах. Вероятно, миссис Тернан знала о моей ситуации с Кэролайн Г***: пожилая дама держалась со мной весьма холодно в течение всего пикника. Очевидно, бывшая актриса (насколько я понял, они с Эллен ныне давали уроки сценической речи в своем новом доме в Слау, за который платил Диккенс) успела набраться аристократических замашек с той поры, когда мне довелось общаться с обеими женщинами во время представлений «Замерзшей пучины». Миссис Тернан со своим вновь приобретенным аристократизмом напоминала старый шлюп, густо обросший ракушками. Мы четверо медленно шагали по кладбищу, пока Диккенс не выбрал плоское надгробье на свой вкус. По обеим сторонам от продолговатой мраморной плиты располагались плоские камни пониже. Диккенс скрылся за каменной оградой высотой футов пять — за ней стоял наемный экипаж (с ливрейным слугой на козлах), и мы видели только голову Неподражаемого, покуда он разговаривал с возницей, а потом вместе с ним направился к багажному отделению кареты. Диккенс вернулся с четырьмя подушками, положил их на плоские надгробные камни рядом с продолговатой мраморной плитой и пригласил нас сесть. Мы подчинились. Эллен и миссис Тернан были явно обескуражены столь необычным — если не сказать кощунственным — использованием подушек в месте вечного упокоения. Голые ветви высокого дерева, росшего поблизости, отбрасывали на выбранные нами надгробья резкие, словно начерченные чернилами тени. Мы сидели в неловком молчании, не в силах завязать светскую беседу, а Диккенс торопливо направился обратно к калитке, зашел за ограду и еще раз коротко переговорил со слугой. Минуту спустя Неподражаемый вернулся с большой клетчатой скатертью — которую аккуратно расстелил на мраморной плите, превратив надгробье в пародию на обеденный стол, — и белой салфеткой, перекинутой через руку на манер, принятый у исполненных самомнения официантов с адамовых времен. Через несколько секунд он снова скрылся из виду и с помощью слуги выставил на каменную ограду ряд тарелок. Надо сказать, все это выглядело вполне обыденно, словно мы находились в парижском уличном ресторанчике. Потом Диккенс торопливо подошел к нам, по-прежнему с перекинутой через руку салфеткой, и с видом вышколенного метрдотеля обслужил всех нас, начав, разумеется, с дам. Из большой плетеной корзины, выставленной на каменную стену, Неподражаемый, словно фокусник, извлек жареную камбалу и мерлузу с креветочным соусом, сухие хлебцы, паштет, пару хорошо запеченных птиц, поначалу принятых мной за голубей, но на поверку оказавшихся восхитительными фазанчиками (к ним Официант Диккенс торжественно подал соус), потом жареную баранину с тушеным луком и картофелем фри и, наконец, несколько сладких пудингов. В дополнение к еде появилась бутылка охлажденного белого вина, которую Диккенс, теперь превратившийся в сомелье, с трудом откупорил и ловко разлил по бокалам, искоса поглядывая на нас в ожидании нашей реакции, а затем огромная бутылка шампанского, все еще стоявшая в ведерке со льдом. Диккенс настолько увлекся игрой в официанта и сомелье, что сам не успел поесть толком. К моменту, когда он подал сладкие пудинги, — предложив к ним жирный соус, решительно отвергнутый дамами, но не мной, — лицо у него раскраснелось и блестело от пота, несмотря на ноябрьскую предвечернюю прохладу. Изредка даже самым кротким и мягкосердечным людям, дорогой читатель, судьба дает или насильно вкладывает в руки орудие — а то и оружие, — позволяющее одним махом, одной фразой сокрушить некое величественное строение. Именно в такой ситуации оказался я во время нашего странного пикника на Рочестерском кладбище, ибо я тотчас узнал обеденное меню, взятое из кулинарной книги, популярной лет пятнадцать назад. Книга называлась «Что у нас на обед?», и все приведенные там рецепты, как сообщалось в предисловии издателей, были собраны некой леди, скрывавшейся под псевдонимом Мария Клаттербак. О, как быстро протрезвели бы мисс и миссис Тернан, сейчас развеселенные вином и шампанским, когда бы узнали, что меню восхитительного (пусть и кощунственного) обеда на погосте составила не кто иная, как Кэтрин Диккенс, отвергнутая и изгнанная из дома жена. Пусть Кэтрин получила полную отставку (по словам моего брата Чарли, всего месяц назад она написала Диккенсу умоляющее письмо с просьбой встретиться, чтобы обсудить проблемы Плорна, а Диккенс даже не пожелал самолично ответить ей и велел Джорджине отправить от его имени сухую короткую записку), но представлялось совершенно очевидным, что в ипостаси леди Клаттербак (Кэтрин еще не расплылась до неприличия в 1851 году, когда собрала и опубликовала свои меню) она по-прежнему остается желанной гостьей в Гэдсхилле. По крайней мере, ее кулинарные рецепты там в большой чести. Во время трапезы и пустячной беседы я внимательно рассматривал Эллен Тернан, демонстративно игнорировавшую меня. В последний раз я видел ее восемь лет назад, и с годами она не стала красивее. В свою бытность восемнадцатилетней инженю она воплощала собой очарование юности, но сейчас могла считаться разве только «привлекательной дамой» и не более того. У нее были печальные томные глаза (не в моем вкусе, поскольку такие печальные глаза обычно свидетельствуют о поэтическом нраве, склонности к меланхолии и ожесточенном целомудрии), брови домиком, длинный нос и широкий тонкогубый рот. (Я отдаю предпочтение молодым особам с крохотными носиками и полными губами, желательно изогнутыми в подобии зазывной улыбки.) У Эллен был тяжелый, волевой подбородок, но если в прошлом он заставлял предположить в ней дерзкую юношескую самоуверенность, то сейчас говорил лишь о надменном упрямстве двадцатишестилетней женщины, еще не вышедшей замуж. Красивые, не очень длинные волосы, зачесанные назад и искусно уложенные волнами, открывали высокий чистый лоб, но при этом оставались открытыми и уши, на мой взгляд, великоватые. Крупные подвески, размером чуть не с фонарь каждая, изобличали в Эллен представительницу актерского ремесла, по сути своей простонародного, а ее тщательно построенные, но совершенно пустые, ходульные фразы наводили на мысль об элементарном недостатке образования. Мелодичные интонации и изысканные голосовые модуляции, отточенные на театральных подмостках, служили слабым прикрытием дремучего невежества, лишавшего стареющую инженю всякого права на роль супруги самого знаменитого английского писателя. И я не заметил в Эллен ни малейшего намека на пылкую чувственность, способную искупить все ее явные недостатки… а мое острое чутье всегда позволяло мне безошибочно улавливать эротические флюиды, исходящие даже от самых добродетельных и чопорных дам. Эллен Тернан была просто-напросто скучна. Она являлась олицетворением пресловутой «тоски зеленой» и вдобавок обещала в самом скором будущем превратиться в почтенную матрону. Ко времени, когда мы закончили обед, вокруг нас уже начали сгущаться предвечерние тени и холод надгробий, служивших нам стульями, постепенно проникал сквозь подушки в наши седалища. Устав от игры в официанта, Диккенс жадно доел свой пудинг, залпом допил шампанское и велел слуге «убрать со стола». Тарелки, бокалы, столовые приборы, блюда и, наконец, скатерть, салфетки и подушки в считаные секунды исчезли в плетеной корзине, которая, в свою очередь, исчезла в багажном отделении кареты. Теперь только россыпь крошек на мраморной надгробной плите свидетельствовала о нашей кладбищенской трапезе. Мы проводили мисс и миссис Тернан до кареты. — Благодарю вас за чудесный, пусть и весьма необычный обед, — сказала Эллен Тернан, взяв облаченной в перчатку рукой холодную руку Диккенса. — Было очень приятно повидаться с вами, мистер Коллинз, — промолвила она холодным тоном, никак не вязавшимся с теплыми словами. Миссис Тернан прокудахтала пару равно любезных фраз, приложив еще меньше усилий к тому, чтобы они звучали убедительно. Потом слуга взобрался на козлы, взмахнул кнутом, и карета с грохотом покатила обратно в Рочестер, где наших дам, надо полагать, поджидал дядюшка Эллен Тернан. По сладострастному блеску, загоревшемуся в глазах Чарльза Диккенса, я понял, что сегодня же вечером он встретится с Эллен наедине — вероятно, в ее тайном доме в Слау. — Ну, как вам показался наш обед, дорогой Уилки? — спросил он страшно довольным тоном, натягивая перчатки. — Восхитительным в своей болезненной мрачности, — сказал я. — Это всего лишь прелюдия, — хихикнул Диккенс. — Всего лишь прелюдия. Подготавливающая нас к главному мероприятию нынешнего дня… или вечера. Ага, вот и наш приятель!В сгущавшихся сумерках к нам приближался низкорослый оборванец с бесформенной шляпой в руке, явно пьяный. Надетый на нем серый фланелевый костюм имел такой вид, будто его нарочно изваляли в пыли и извести. Подойдя к нам, мужчина бросил на землю тяжелый парусиновый мешок. Я слышал запах рома, исходящий от него — от одежды, изо рта, из пор кожи, из самых костей, наверное. Пока я принюхивался к нему, оборванец, похоже, принюхивался ко мне — видимо, уловил сквозь собственную вонь опиумный запах, пропитывавший меня. Мы стояли, скрестив взгляды и принюхиваясь друг к другу, точно два пса в темном переулке. — Уилки, — промолвил Диккенс, — позвольте представить вам мистера Дредлса, которого все зовут просто Дредлс. Правда, рочестерцы утверждают, что он носит крестильное имя Гранит — и мне пришлось предположить, что это прозвище. Дредлс каменотес, занимается главным образом надгробными плитами и памятниками, но также работает по найму в соборе, выполняя разный мелкий ремонт, а потому владеет всеми ключами от соборной башни, крипты, боковых дверей и прочих ныне известных и давно забытых входов. Мистер Дредлс, имею честь представить вам мистера Уилки Коллинза. Сутулый субъект в бакенбардах и грязном фланелевом костюме с щербатыми костяными пуговицами пробурчал нечто невразумительное, весьма отдаленно напоминавшее приветственные слова. Я поклонился и поприветствовал нового знакомого более любезно. — Дредлс! — весело воскликнул я затем. — Какое замечательное имя! Оно подлинное — или является неким производным от вашего ремесла? — Дредлс — так кличут Дредлса, — угрюмо проворчал коротышка. — И Дредлсу интересно знать, имя Коллинз подлинное или вымышленное? И Дредлс что-то не припоминает такого христианского имени, как Уилки. Я резко выпрямился и стиснул рукоять своей трости, естественным образом отреагировав на завуалированное оскорбление. — Меня нарекли в честь сэра Дэвида Уилки, знаменитого шотландского художника, — холодно произнес я. — Как скажете, господин хороший, — прохрипел коротышка. — Хотя я в жисти не слыхивал ни об одном шотландце, который мог бы толком намалевать хотя бы сарай, не говоря уже о церкви или доме. — На самом деле первое крестильное имя Уилки — Уильям, — сказал Диккенс. Он улыбался, явно забавляясь нашим разговором. — Билли Коллинз, — просипел Дредлс. — В малолетстве Дредлс знавал одного Билли Коллинза. Несносный ирландский сопляк с куриными мозгами. Я еще крепче стиснул рукоять трости и выразительно посмотрел на Диккенса, взглядом своим недвусмысленно вопрошая: «Должен ли я оставаться здесь и терпеть все это от деревенского пропойцы?» Прежде чем Диккенс, по-прежнему улыбавшийся, успел ответить мне, внимание наше отвлек некий снаряд, который пролетел между нами, едва не задев плечо Диккенса и мое ухо, и в следующий миг отскочил от рыжевато-бурой шляпы, зажатой в нечистой руке Дредлса. Второй камешек чиркнул мне по левому плечу и ударил прямо в грудь каменотесу. Дредлс крякнул, но не выказал ни малейшего удивления и даже не поморщился от боли. Мы с Диккенсом одновременно обернулись и увидели семи-восьмилетнего мальчонку с всклокоченными волосами, в драной одежонке и стоптанных башмаках с распущенными шнурками — он выглядывал из-за надгробья близ каменной стены, отделявшей кладбище от дороги. — Еще не время! Еще не время! — проорал Дредлс. — А вот и врешь! — провизжал маленький оборванец и метнул в каменотеса следующий снаряд. Мы с Диккенсом отступили в сторону от приземистой мишени, выбранной мальчишкой. — Да чтоб у тебя зенки полопались! — проревел Дредлс. — Ежели Дредлс говорит, что еще не время, значит, еще не время! Никакого тебе чаю сегодня! Ступай в «Двухпенсовые номера» и прекрати обстреливать меня — иначе не получишь нынче ни пенни от Дредлса! — Ты врешь! — прокричал в ответ маленький дьяволенок и метнул очередной камень, на сей раз покрупнее, попавший каменотесу в ногу над самым коленом. Куски засохшей грязи, глины и извести так и брызнули в разные стороны от грязной штанины, а юный мучитель провопил пронзительным голосом: — Кук-ка-ре-ку! Я — останусь — без — чайку! Дредлс тяжело вздохнул и сказал: — Дредлс иногда платит этому мальцу, чтобы он камнями гнал его домой, коли вдруг Дредлс запамятует, что надобно воротиться под свой кров к чаепитию. Обычно я пью чай в этот час, но нынче я забыл отключить свое напоминательное устройство. Диккенс расхохотался во все горло, в совершенном восторге хлопая себя по ляжкам. Очередной камешек со свистом пролетел между нами и едва не задел щеку каменотеса. — Ты там попридержи ручонки-то! — проревел Дредлс, обращаясь к тщедушному мальцу в башмаках с распущенными шнурками, который стремительно перебегал от одного надгробья к другому. — Или не получишь ни единого пенни сегодня и еще цельный месяц! У Дредлса важные дела с этими господами, а они не любят, когда в них швыряются камнями. — Ты все врешь! — крикнул мальчишка, притаившийся в густой тени кустарника между древними надгробьями. — Больше он не станет докучать нам, покуда мы не покончим с делом, — сказал Дредлс. Он с недобрым прищуром посмотрел на меня, потом перевел взгляд, уже несколько смягчившийся, на Диккенса. — Что вы хотите, чтобы Дредлс показал вам нынче вечером, мистер Диккенс? — Мы с мистером Коллинзом хотели бы посмотреть, не появилось ли что-нибудь новенькое на вашем рабочем месте, — промолвил Диккенс. Дредлс хмыкнул, обдав нас тяжелым перегаром. — Что-нибудь новенькое из старенького, вы хотите сказать, — прохрипел он. — В криптах редко появляется что-нибудь по-настоящему новенькое. Во всяком случае — в наше время. — Мы будем счастливы увидеть все старенькое, — сказал Диккенс. — Указывайте нам путь, сэр. Мы с мистером Коллинзом с готовностью защитим вас нашими спинами, пусть не очень широкими, от посягательств вашего мучителя, всегда имеющего под рукой оружие. — Да черт с ним, с Депутатом, — загадочно промолвил Дредлс. — Камни — это жизнь, работа и единственная любовь Дредлса, ежели не считать выпивки, и еще несколько камешков не составят для него особой разницы. Затем Дредлс решительно двинулся с места, я и Диккенс, плечом к плечу, устремились за ним следом — и мы трое направились к огромному собору, чья холодная тень уже накрыла весь погост.
Сразу за границей кладбища находилась яма с высоким отвалом, из нее поднимались едкие испарения. Дредлс, прижимавший к груди свой увесистый тюк, молча прошел мимо, но Диккенс остановился и спросил: Это ведь известь, верно? — Ага, — буркнул каменщик. — Так называемая негашенка? — уточнил я. Старик покосился на меня через плечо. — Ага, такая в два счета пожрет ваш костюмчик, пуговицы и штиблеты, мистер Билли Уилки Коллинз. А ежели ее малость помешать, так она пожрет в придачу ваши очки, часы, зубы да кости. Диккенс указал на дымящуюся яму и загадочно улыбнулся. Я поправил очки, потер слезящиеся глаза и двинулся дальше. Я думал, мы поднимемся на башню собора. Диккенс часто привозил своих гостей в Рочестер (досюда от Гэдсхилла было рукой подать) и почти всегда водил на башню, чтобы они полюбовались с высоты видом старого города, представлявшего собой сплошной лабиринт тесных улочек да серых каменных кварталов, за которым с одной стороны до самого горизонта простиралось море, а с другой — темнели леса и тянулись дороги, ведущие обратно в Гэдсхилл и к противоположному горизонту. Но я ошибался. С минуту погремев увесистыми связками ключей (похоже, старик держал ключи во всех огромных карманах своих фланелевых штанов, сюртука и жилета), Дредлс отпермассивную боковую дверь собора, и мы спустились по узкой каменной лестнице в крипту. Скажу честно, дорогой читатель, мне страшно надоели всяческие склепы. Я не виню вас, коли вы испытываете такие же чувства. Я провел прошлую ночь в пропахшем опиумом логове, в точности похожем на склеп, и в последнее время по милости Чарльза Диккенса я слишком часто оказывался в таких вот сырых, сумрачных подземельях. Дредлс не прихватил с собой фонаря, но в нем и не было нужды: меркнущий свет ноябрьского дня пробивался тусклыми лучами сквозь готические оконца с давно выбитыми стеклами. Мы прошли между толстыми колоннами, похожими на могучие корни или стволы каменных деревьев, — там, где между ними сгущались тени, царила почти непроглядная тьма, но мы держались бледных световых дорожек. Дредлс положил свой увесистый мешок на каменный выступ, развязал стягивающие горловину шнуры и принялся рыться в нем. Я ожидал, что он вытащит оттуда бутылку — я слышал характерное бульканье, — но он извлек молоток. — Смотрите внимательно, Уилки! — прошептал Диккенс. — И слушайте! И учитесь! Я считал, что на сегодня с меня уже хватит разных впечатлений, но безропотно потащился дальше, когда Дредлс завязал шнуры на мешке и зашагал по еще более узкому проходу между рядами еще более толстых колонн, окутанных еще более густым мраком. Внезапно он принялся постукивать молотком по внутренней стене. — Слышите? — спросил старый каменщик. Вопрос казался дурацким: многократное эхо ударов разносилось по всему помещению. — Стук! Стук! Цельный камень, — прошептал он. — Продолжаю стучать. И тут цельный. Опять стучу. Эге! Тут пусто. Здесь мы поворачиваем за угол — смотрите под ноги, тут ступеньки в темноте — и идем дальше вдоль стены да постукиваем по ней. И Дредлс слышит то, что ни вы, ни еще кто другой не может уловить слухом… Ага! А вот тут твердое в пустоте! А в твердом в середке опять пусто! Мы все остановились. Здесь, за углом, где начинались ступеньки вниз, сгущался непроглядный мрак. — Что это означает? — спросил я. — В твердом посередке опять пусто? — А означает это, что за этой стенкой склеп, а в склепе каменный гроб, а в гробу рассыпавшийся в прах старикан! Я почувствовал на себе значительный взгляд Диккенса, явно восхищенного мастерством Дредлса, но оставил за собой право не изображать никаких восторгов. Здесь речь шла вовсе не об открытом французами феномене ясновидения, вызывавшем у меня известный интерес. В конце концов, мы находились в церковной крипте. И без грубого старого пьяницы с каменотесным молотком любому было ясно, что за стенами тут покоятся кости. Дредлс стал спускаться. Теперь нам требовался фонарь, а фонаря у нас не имелось. Я нащупывал тростью неровные ступени каменной лестницы, которая закручивалась по спирали вокруг одного из толстенных столбов, насквозь пронизывающих крипты и подпирающих кровлю собора. Я оделся легко, поскольку погода стояла на удивление теплая и солнечная для ноября, и теперь дрожал от сырого подземного холода, мечтая поскорее вернуться домой, к растопленному камину. — Ну да, — сказал Дредлс, словно прочитав мои мысли, — холод здесь похужей, чем наверху. Это все сырость. Вездесущая сырость. Это холодное дыхание мертвых стариканов, что лежат по обе стороны от нас, под нами, а сейчас уже и над нами. Дыхание мертвецов проникает в собор, оставляет грязные потеки на каменных стенах и портит красивые фрески, от него гниет древесина и певчие дрожат в своих балахонах. Дредлс слышит, как сырость сочится из щелей и трещин в старых гробах, слышит так же отчетливо, как слышит отклики мертвых стариканов на свой стук. Я уже открыл рот, собираясь высказаться в саркастическом тоне, но в следующий миг вновь раздался резкий стук каменотесного молотка. На сей раз мне почудилось, будто я тоже расслышал что-то необычное в дробной россыпи многократного эха. В каменной лестничной шахте голос Дредлса прозвучал неожиданно громко. В семи футах за этой стеной лежат сразу два старикана, оба с епископскими посохами, — видать, зацепились друг за друга своими клюками, случайно встретившись в кромешной тьме, — и лежат они в старинной подземной часовне, замурованной еще в те времена, когда головы летели с плеч и все пили за здоровье Красавчика Принца Чарли[12]. Мы с Диккенсом остались стоять на месте, а Дредлс спустился еще на дюжину ступенек. От холодного прикосновения сырого воздуха, обтекающего щиколотки и шею, волосы шевелились на голове. «ТУК-ТУК-ТУК… ТУК-ТУК… ТУК-ТУК-ТУК-ТУК». — Вот оно! — воскликнул Дредлс, возгласом своим породив жутковатое раскатистое эхо. — Слышите? — Что мы должны услышать, мистер Дредлс? — спросил Диккенс. В темноте раздался скребуще-скользящий звук. — Всего лишь моя складная линейка, — сказал Дредлс. — Дредлс производит замеры здесь в темноте. Производит замеры, вот что Дредлс делает. Стена тут потолще… два фута камня, потом четыре фута пустоты. Дредлс слышит по стуку: какие-то головотяпы, хоронившие этого старикана, оставили кучу мусора промеж каменным гробом и каменной стеной. В шести футах за стеной лежит старикан среди осыпавшейся с потолка каменной крошки и оставленного ротозеями мусора — лежит себе и ждет, в гробу без крышки. Ежели я пробью тут стену киркой да молотком покрупнее, этот старикан, в епископской он шляпе или нет, сядет, откроет глаза и скажет: «Дредлс, дружище, я чертовски долго тебя ждал!» А потом он рассыпется в прах, как пить дать. — Пойдемте отсюда. — Я хотел произнести эти слова шепотом, но голос мой прозвучал очень громко в темной, сырой шахте винтовой лестницы.
Снаружи, в тающем вечернем свете, Диккенс дал нахальному старику несколько монет и взмахом руки отослал прочь, поблагодарив напоследок и рассмеявшись заговорщицким (как мне показалось) смехом. Дредлс поковылял восвояси, по-прежнему прижимая к груди свой узелок. Он не успел отойти от нас и на двадцать футов, когда вдруг раздался визгливый крик: «Кук-ка-ре-ку! Я — останусь — без — чайку! Кик-ки-ри-ки! Тогда — башку — побереги!» — и на субъекта в сером фланелевом костюме обрушился целый град камней. — Ах, какой персонаж! — воскликнул Диккенс, когда Дредлс и полоумный мальчишка наконец скрылись из виду. — Какой восхитительный персонаж! Знаете, дорогой Уилки, я впервые увидел мистера Дредлса, когда он высекал надпись на надгробной плите — для могилы недавно опочившего кондитера и пекаря, кажется. И когда я представился, он тотчас заявил: «В моем мире я малость смахиваю на вас, мистер Диккенс». Потом Дредлс повел перед собой рукой, указывая на все надгробья, уже изготовленные и находящиеся в процессе изготовления, и промолвил: «В том смысле, что живу в окружении своих творений и слов, как любой популярный писатель». Диккенс снова рассмеялся, но я остался холоден и равнодушен. В соборе, теперь освещенном, хор протяжно выводил: «Ответьте, пастыри, ответьте мне-е-е…» — А знаете, Уилки, — сказал Диккенс, по-прежнему пребывавший в прекрасном расположении духа, несмотря на поздний час и крепчающий студеный ветер, который гнал сухие листья по мраморной надгробной плите, несколько часов назад служившей нам обеденным столом, — мне кажется, я знаю имя здешнего регента. — Да ну? — промолвил я тоном, явственно свидетельствовавшим об отсутствии у меня всякого интереса к данному обстоятельству. — Да. По-моему, его зовут Джаспер. Джейкоб Джаспер. Нет, Джон Джаспер. Точно. Для своего любимого и любящего племянника — просто Джек. Диккенс не имел обыкновения вести подобные праздные разговоры, во всяком случае — столь банального содержания. — Да неужели? — сказал я таким тоном, каким отвечал Кэролайн, когда она тараторила без умолку, отвлекая меня от чтения газеты. — Вот именно, — подтвердил Диккенс. — А вы знаете тайну мистера Джаспера? — С чего бы вдруг? — осведомился я с легким раздражением. — Я еще секунду назад не знал даже о существовании вашего регента. — Да, действительно, — согласился Диккенс, потирая руки. — Тайна мистера Джаспера заключается в том, что он опиоман. Кровь прихлынула к моему лицу, я невольно выпрямился и расправил плечи. Кажется, я с полминуты не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. — Опиоман наихудшего пошиба, — продолжал Неподражаемый. — Мистер Джон Джаспер не признает никакого лауданума, никаких опиумных настоек, употребляемых цивилизованными белыми людьми в медицинских целях. О нет! Мистер Джон Джаспер отправляется в наихудшие кварталы Лондона, а потом в наихудшие трущобы наихудших кварталов и находит там наихудший — то есть для него наилучший — опиумный притон. — Неужели? — с усилием выдавил я. Я чувствовал, как холодная сырость расползается по моим костям, проникая в самый мозг, сковывая язык. — И вдобавок ко всему наш регент — убийца, — сказал Диккенс. — Хладнокровный, расчетливый убийца, который даже в своих опиумных грезах замышляет убить человека, его любящего и всецело ему доверяющего. — Диккенс, — наконец пробормотал я, — о чем вы, собственно, говорите? Он хлопнул меня по спине, и мы зашагали через кладбище к дороге, где нас уже ждал недавно вернувшийся экипаж. — Это все выдумка, разумеется, — со смехом сказал он. — Смутный проблеск идеи общего замысла — некий персонаж, некий намек на сюжет. Вы же знаете, как это бывает. Я с трудом сглотнул. — Ну конечно. Так значит, сегодняшний день посвящен именно этому? Вы собираете материал для очередного вашего романа? Который, возможно, планируете опубликовать в «Круглом годе»? — Не для моего романа! — воскликнул Диккенс. — А для вашего, дорогой Уилки! Для вашего «Змеиного зуба». — «Змеиного ока», — поправил я. — Или «Ока змея». Диккенс небрежно махнул рукой — мол, никакой разницы. Я уже едва различал его лицо в сгустившемся мраке. Фонари на карете были зажжены. — Неважно, — промолвил он. — Главное — сама история. У вас есть ваш замечательный сержант Кафф. Но даже самому лучшему сыщику нужна некая тайна, подлежащая раскрытию, если вы хотите увлечь и заинтересовать своего читателя. Именно с целью подсказать вам идею подобной тайны я и устроил сегодня пикник и встречу с Дредлсом. — Тайна? — тупо переспросил я. — Я нигде не усмотрел никакой тайны сегодня. Диккенс широко повел перед собой обеими руками, указывая на темный собор и еще более темное кладбище, полное надгробных памятников и могильных плит. — Представьте себе отъявленного негодяя, друг мой, хладнокровного и расчетливого, который убивает просто из желания испытать на собственном опыте, что такое убийство. Причем убивает не родственника, как было в деле Роуда, в свое время вызвавшем у нас с вами живой интерес, — нет, он убивает незнакомого или малознакомого человека. Убийство без всякого мотива. — Но зачем кому бы то ни было идти на такое? — спросил я, ничего не понимая. — Я же только что объяснил, — ответил Диккенс с легким раздражением. — Чтобы получить опыт убийства! Подумайте только, какая благодатная тема для писателя вроде вас — или меня. Для любого творца художественной прозы, а тем более художественной прозы, полной психологизма, каким славитесь вы, дорогой Уилки. — Вы говорите о «сцене убийства», задуманной для вашего следующего турне? — Господи, да нет же! У меня моя бедняжка Нэнси ждет, когда с ней расправится мой законченный негодяй Билл Сайкс. В скором времени, не сейчас. Я уже внес кое-какие исправления в описание этого кровавого, зверского убийства. Я говорю о вашем романе, друг мой. — Но я собираюсь писать о бриллианте, приносящем несчастья семейству, где… — Да к черту бриллиант! — выпалил Диккенс. — Он возник всего лишь в качестве предварительного наброска к замыслу. Все, кто из кожи вон лез, чтобы увидеть Кохинор на Всемирной выставке, в конечном счете остались страшно разочарованными. Камень оказался некрасивой желтой окраски — цвета мочи… ничего похожего на бриллиант в нашем представлении. Выбросьте на помойку ваш дрянной камешек, Уилки, и займитесь разработкой нового сюжета! — Какого сюжета? Диккенс вздохнул и принялся перечислять основные моменты, загибая пальцы: — Первое: некто убивает практически незнакомого человека просто с целью получить опыт убийства. Второе: преступник находит идеальный способ избавиться от тела. Вашему сержанту Каффу придется изрядно поломать голову, чтобы догадаться, в чем он заключается! — О чем мы, собственно, говорим? — спросил я. — В ходе нашего странного пикника и еще более странной экскурсии в обще стве пьяного Дредлса я не получил никаких подсказок касательно верного способа избавиться от трупа. — Очень даже получили! — воскликнул Диккенс. — Для начала у нас имеется негашеная известь. Вы же наверняка не забыли ту яму! — Мои глаза и нос не забыли. — И не должны забывать, друг мой! Вы только вообразите, в какой ужас придут читатели, когда вдруг поймут, что ваш убийца — ваш бессмысленный, безжалостный убийца, движимый немотивированной злобой, как Яго, — сжег тело какого-то бедняги в яме с негашеной известью. И от трупа не осталось ничего, кроме нескольких косточек, жемчужных пуговиц и, скажем, часов. Или черепа. — Но эти-то несколько косточек все же останутся. А также часы и череп, — угрюмо проворчал я. — И сама известковая яма никуда не денется, останется на самом виду, вопиющая улика под носом у сержанта Каффа и полицейских следователей. — Да ничего подобного! — вскричал Диккенс. — Разве вы не поняли, какой чудесный подарок я преподнес вам в лице Дредлса? Ваш негодяй заручается поддержкой — с дальним умыслом или нет, решать вам — именно такого персонажа, как Дредлс, и тот помогает ему схоронить жалкие останки жертвы именно в таком склепе, какие мы с вами видели — вернее, слышали — нынче вечером. То немногое, что остается от убитого мужчины — или женщины, если вы хотите написать поистине сенсационный роман, друг мой, — упокоится рядом с прахом «стариканов», и таким образом преступник спрячет концы в воду — до той поры, покуда ваш сметливый сержант Кафф не раскроет преступление, разматывая одну за другой путеводные ниточки, вплести которые в сюжет по силам одному только Уилки Коллинзу. С минуту мы молчали. Тишину нарушали лишь постукивание копыт нетерпеливо переступающих упряжных лошадей да тихая возня озябшего возницы на козлах. Наконец я проговорил: Все это замечательно… и очень по-диккенсовски… но я все-таки предпочитаю свой первоначальный замысел — с легендарным алмазом, считающимся священным у индусов или любого другого языческого народа и приносящим несчастья известному английскому семейству. Диккенс вздохнул. — Ну ладно. Как вам угодно. Вы вправе отыскивать изъяны в дареном коне. — Но я услышал, как он чуть слышно пробормотал: — Хотя идея с алмазом и индусами принадлежит мне, теперь я вижу, что она слабовата для романа. — Более громко Неподражаемый сказал: — Вы позволите подвезти вас до станции? Тот факт, что Диккенс, вопреки обыкновению, не пригласил меня на ужин в Гэдсхилл, окончательно утвердил меня в уверенности, что сегодня он будет ужинать с Эллен Тернан и не собирается возвращаться в Гэдсхилл-плейс. — Буду премного вам благодарен, — промолвил я. — Кэролайн уже ждет меня. Распахнув передо мной дверцу кареты, Диккенс тихо, чтобы не услышал возница, проговорил: — Я бы посоветовал вам переменить платье и даже принять ванну, прежде чем вы сядете за стол с очаровательной Домоправительницей и восхитительным Дворецким нынче вечером. Я остановился, занеся ногу на подножку, но, прежде чем я успел произнести хоть слово касательно опиума или любого другого предмета, Диккенс добавил самым невинным тоном: — После посещения крипт одежда насквозь пропитывается запахом сырости… как наглядно продемонстрировал нам сегодня наш друг Дредлс.
Глава 19
— Чарльз Диккенс собирается убить Эдмонда Диккенсона. Уже во второй раз за последние полтора года я резко сел в постели, вырвавшись из глубокого лауданумного сна, и вслух произнес эти слова. — Нет, — сказал я в темноту, все еще полусонный, но исполненный твердой, дедуктивно обоснованной уверенности, свойственной герою моего еще не написанного романа сержанту Каффу. — Чарльз Диккенс уже убил Эдмонда Диккенсона. — Уилки, голубчик, — встревоженно проговорила Кэролайн, садясь рядом со мной и хватая меня за плечо. — О чем ты? Ты разговаривал во сне, мой милый. — Отстань от меня, — невнятно промычал я, стряхивая с плеча ее руку. Я встал, накинул халат и подошел к окну. — Уилки, дорогой… — Тише! — Сердце мое бешено колотилось. Я пытался запечатлеть в памяти свой ясновидческий сон. Я нашарил на бюро хронометр и взглянул на циферблат. Без малого три часа утра. За окном моросил мелкий косой дождик, и брусчатка скользко блестела во мраке. Я посмотрел на уличный фонарь, потом отыскал взглядом узкое крыльцо заброшенного дома на противоположном углу и различил там неясную скрюченную фигурку. Связной инспектора Филда — паренек со странными глазами, которого инспектор называл Гузберри, — по-прежнему дежурил там, спустя уже год с лишним со дня, когда я впервые его заприметил. Я вышел из спальни и направился в свой кабинет, но остановился в нерешительности на лестничной площадке. Сейчас ночь. Второй Уилки наверняка поджидает меня там — скорее всего, сидит за моим рабочим столом, устремив немигающий взгляд на дверь. В конечном счете я спустился вниз, в гостиную, и подошел к маленькому секретеру, где Кэролайн и Кэрри хранили свои бумаги. Я взял перо и, решительно поправив очки, написал следующее:Инспектор Филд. Я имею все основания полагать, что Чарльз Диккенс убил некоего молодого человека по имени мистер Эдмонд Диккенсон, одну из уцелевших жертв Стейплхерстской катастрофы. Прошу вас встретиться со мной завтра в десять часов утра на мосту Ватерлоо, дабы мы могли обсудить все обстоятельства дела и придумать, как нам хитростью заставить Диккенса сознаться в убийстве молодого Диккенсона. Ваш покорный слуга Уильям Уилки КоллинзНесколько долгих мгновений я смотрел на начертанные строки, потом удовлетворенно кивнул, засунул записку в конверт, а конверт запечатал сургучом при помощи отцовского перстня и положил во внутренний карман халата. Потом я достал из портмоне несколько монет, нашел свое пальто в стенном шкафу в холле, надел галоши поверх домашних тапочек и вышел в ночь. Едва я успел подойти к уличному фонарю на своей стороне улицы, как от накрытого густой тенью крыльца дома напротив отделилась неясная тень. В считаные секунды мальчишка пересек улицу и подступил вплотную ко мне. Он был без верхней одежды и дрожал всем телом под холодным дождем. — Ты Гузберри? — спросил я. — Да, сэр. Я уже засунул руку во внутренний карман халата, но почему-то не стал доставать письмо. — Гузберри — это твоя фамилия? — осведомился я. — Нет, сэр. Так меня кличет инспектор Филд. Все из-за моих глаз, видите ли. Я видел. Его зеленоватые, несуразно выпуклые глаза не только походили на крыжовины, но еще и безостановочно перекатывались туда-сюда, точно две пули в рюмке для яиц. Я покрепче зажал в пальцах конверт с адресованным Филду письмом, но все еще медлил в нерешительности. — Ты уличный подметальщик, Гузберри? — Я был уличным подметальщиком, сэр. Теперь уже нет. — А чем ты занимаешься сейчас, дружок? — Я обучаюсь у великого инспектора Филда сыщицкому ремеслу, вот чем я занимаюсь, — сказал Гузберри с гордостью, но без малейшего намека на бахвальство. Он зябко поежился, потом закашлялся. Это был глубокий хриплый кашель — моя мать впадала в панику всякий раз, когда у меня или Чарли из груди вырывались подобные звуки, — но у маленького оборвыша хватало воспитанности кашлять в кулак. — Как твое настоящее имя, дружок? — спросил я. — Гай Септимус Сесил, — ответил мальчишка, стуча зубами. Я наконец отдал письмо, а потом бросил пять шиллингов в торопливо подставленную ладонь Гая Септимуса Сесила. Я в жизни ни у кого не видел такого ошарашенного выражения лица — ну разве только у грабителя, которого мистер Реджинальд сбил с ног ударом дубинки в темном бирмингемском переулке. — Сегодня и в ближайшие три дня у меня не будет сообщений для твоего хозяина, мистер Гай Септимус Сесил, — мягко сказал я. — Поди купи себе горячий завтрак. Сними комнату, непременно с отоплением. А на оставшиеся деньги купи пальто… из добротной английской шерсти, чтобы носить поверх этих лохмотьев. От тебя не будет толку ни инспектору Филду, ни мне, коли ты умрешь тут от холода. Крыжовенные глаза паренька блуждали по сторонам, ни на секунду не останавливаясь на мне. — Ну же, ступай! — строго велел я. — И чтобы я не видел тебя здесь до вторника. — Слушаюсь, сэр, — с сомнением проговорил Гузберри. Но он повернулся, трусцой пересек улицу, буквально секунду помедлил у своего крыльца, а потом побежал дальше, к теплу и пище.
Приняв решение самостоятельно выполнить трудную работу по расследованию убийства Эдмонда Диккенсона, я приступил к делу следующим же утром. Подкрепив силы двумя с половиной чашками лауданума (примерно двести минимальных доз, если считать дозой несколько капель), я доехал двенадцатичасовым поездом до Чатема и там сел в наемную коляску, чтобы домчаться до Гэдсхилл-плейс, — хотя глагол «дотащиться» представляется здесь более точным, принимая во внимание преклонный возраст и апатичность как лошади, так и кучера. Сейчас, перед важным разговором с Диккенсом, я начал отчетливее видеть прежде расплывчатый образ моего сыщика из «Ока змея» (или «Змеиного ока») сержанта Каффа. В отличие от дородного, бесцеремонного и грубого инспектора Баккета из диккенсовского «Холодного дома» — персонажа, начисто лишенного воображения, поскольку его прототипом послужил реальный инспектор Филд в более молодом возрасте, — мой сержант Кафф будет высоким, худым, пожилым, аскетичным и предельно логичным. Прежде всего — логичным, словно помешанным на логике. Я также решил, что мой аскетичный, седовласый, узколицый и горбоносый, предельно логичный, сероглазый сержант Кафф будет предпенсионного возраста. Он собирается посвятить остаток своей жизни пчеловодству, понял я. Впрочем, нет, пчеловодство не годится — слишком диковинное, слишком эксцентричное занятие, совершенно мне не знакомое. Возможно, розоводство. Да, это как раз то, что нужно… розы. Я немного разбирался в розах и розоводстве. Сержант Кафф будет знать о розах все. Почти все сыщики сначала обнаруживают труп со следами насильственной смерти, а затем проводят уйму времени, распутывая ниточки, ведущие к убийце. Но мы с сержантом Каффом поступим ровно наоборот: сперва вычислим убийцу, а потом отыщем тело. — Дорогой Уилки, какой приятный сюрприз! Какое удовольствие провести в вашем обществе два дня подряд! — воскликнул Диккенс, выходя мне навстречу в шерстяном плаще с капюшоном, надетом для защиты от студеного ветра. — Надеюсь, вы останетесь до конца уик-энда. — Нет, я заехал только для короткого разговора с вами, Чарльз, — сказал я. Он улыбался такой приветливой, такой искренней, по-детски радостной улыбкой (ни дать ни взять, маленький мальчик, неожиданно увидевший любимого товарища по играм), что мне пришлось улыбнуться в ответ, хотя в глубине души я оставался холоден и бесстрастен, как сержант Кафф. — Замечательно! Я только что закончил на сегодня работу над последним предисловием и рождественской повестью и собирался отправиться на прогулку. Присоединяйтесь ко мне, друг мой! При мысли о двенадцати — двадцатимильной прогулке — скорым шагом, да в такой ветреный ноябрьский день, когда все предвещает снегопад, — острая боль запульсировала у меня за правым глазом. — К сожалению, не могу, дорогой Диккенс. Но раз уж вы упомянули о Рождестве… среди всего прочего я хотел поговорить с вами и о нем. — Да неужели? — Он изумленно вскинул брови. — Вы — Уилки Коллинз, для которого все на свете «чушь и вздор», — вдруг возымели интерес к Рождеству? — Он запрокинул голову и подиккенсовски заразительно расхохотался. — Теперь я вправе сказать, что своими глазами видел чудо. Я натянуто улыбнулся. — Мне просто любопытно, собираетесь ли вы устраивать традиционное многолюдное празднество в этом году. Все-таки до Рождества осталось совсем недолго. — Да, всего ничего. — Внезапно Диккенс уставился на меня холодным оценивающим взглядом. — Нет, боюсь, никаких многолюдных празднеств в этом году не предвидится. В начале декабря я отправляюсь в очередную поездку с публичными чтениями, как вам известно. — Ах да. — Я вернусь домой на день-другой в само Рождество, — сказал Диккенс, — и, конечно, вы получите приглашение. Но, к сожалению, в этом году мы отметим праздник скромно. — Не беда, не беда, — торопливо проговорил я, на ходу импровизируя с ловкостью, которая сделала бы честь моему еще не созданному сержанту Каффу. — Просто интересно знать… вы пригласите Макриди в этом году? — Макриди? Нет, вряд ли. Кажется, у него жена серьезно недомогает. И сам Макриди все реже и реже выезжает из дома, как вам известно, Уилки. — Ну да, разумеется. А Диккенсон? — Кто? «Ага!» — подумал я. Чарльз Диккенс, Неподражаемый, знаменитый писатель, человек с феноменальной памятью, никак не мог забыть имя молодого джентльмена, которого самолично спас на месте Стейплхерстской катастрофы. Он притворялся — как убийца, уже совершивший или только еще замысливший преступление! — Диккенсон, — небрежно повторил я. — Эдмонд. Вы жб наверняка не забыли прошлое Рождество, Чарльз! Сомнамбула! — А, конечно, конечно, — сказал Диккенс, отмахиваясь от воспоминания. — Нет. Мы не пригласим молодого Эдмонда на нынешнее Рождество. В этом году соберутся только члены семьи. И самые близкие друзья. — Вот как? — Я искусно изобразил удивление. — Мне казалось, вы с молодым Диккенсоном довольно близки. — Ничего подобного, — возразил Диккенс, натягивая дорогие лайковые перчатки, слишком тонкие для такой погоды. — Я просто изредка навещал молодого человека в течение нескольких месяцев, пока он оправлялся после катастрофы. Он ведь сирота, как вы наверняка помните, Уилки. — А, точно, — сказал я с таким видом, словно и вправду мог забыть о столь существенном обстоятельстве, объясняющем, почему Диккенс выбрал именно его в качестве своей жертвы. — Вообще-то, я хотел обсудить с молодым Диккенсоном пару предметов, затронутых нами в прошлое Рождество. Вы случаем не помните его адреса, Чарльз? Диккенс посмотрел на меня в высшей степени странным взглядом. — Вы желаете продолжить ваш с Эдмондом Диккенсоном разговор, состоявшийся без малого год назад? — Да, — промолвил я безапелляционным тоном сержанта Каффа (во всяком случае, мне хотелось так думать). Диккенс пожал плечами. — Я абсолютно уверен, что не помнил бы адреса, даже если бы знал его когда-нибудь. По-моему, Диккенсон постоянно меняет местожительство… неугомонный молодой холостяк, постоянно переезжающий с квартиры на квартиру и все такое прочее. — Хм… — протянул я. Я щурился от холодного северного ветра, сотрясавшего подстриженные живые изгороди и срывавшего последние листья с деревьев на переднем дворе Диккенса, но я с таким же успехом мог щуриться от теснившихся в моем уме подозрений. — На самом деле, — весело сказал Диккенс, — я припоминаю, что молодой Диккенсон уехал из Англии нынешним летом или осенью. С намерением сколотить состояние в южной Франции. Или в Южной Африке. Или в Австралии. В каком-то подобном месте, где у человека есть возможность развернуться. «Он играет со мной, — подумал я, исполняясь железной уверенности, свойственной сержанту Каффу. — Но он не догадывается, что и я играю с ним». — Очень жаль, — сокрушенно произнес я. — Я был бы весьма рад повидаться с Эдмондом. Но ничего не поделаешь. — Да, ничего не поделаешь, — подтвердил Диккенс, чей голос звучал приглушенно из-под толстого красного шарфа, натянуто го по самый нос. — Так вы решительно отказываетесь присоединиться ко мне? Сегодня отличный день для прогулки. — Как-нибудь в другой раз. — Я пожал ему руку. — Мой экипаж и возница ждут меня. Однако я подождал, когда писатель скроется из виду и стук его трости затихнет в отдалении, а потом постучал в дверь, отдал шляпу и шарф открывшей мне служанке и быстро прошел на кухню, где Джорджина Хогарт сидела за столом, составляя меню. — Мистер Уилки, какой приятный сюрприз! — Привет, Джорджина, привет! — любезно промолвил я. И задумался, не следовало ли мне нарядиться в измененный костюм. Сыщики часто переодеваются с целью маскировки. Уверен, мой сержант Кафф при необходимости всегда поступал так, несмотря на свой исключительно высокий рост и аскетическую наружность. Сержант Кафф, вне всяких сомнений, в совершенстве владел искусством маскировки. Но с другой стороны, пожилой сыщик Скотленд-Ярда не страдал такими недостатками, сводящими на нет все старания переменить обличье, как малорослость, пышная борода, плешивость, слабое зрение, требующее постоянного ношения очков, и луковицеобразная голова. — Джорджина, — беззаботным тоном сказал я, — я только сейчас разминулся с Чарльзом, отправившимся на прогулку, и на минутку заскочил к вам вот почему: мы с друзьями собираемся устроить небольшую вечеринку с участием нескольких художников и литераторов, и мы подумали, что неплохо бы пригласить молодого Диккенсона. Но у нас нет его адреса. — Молодой Диккенсон? — Джорджина недоуменно уставилась на меня. Может, она сообщница? — О, вы имеете в виду надоедливого молодого джентльмена, что разгуливал здесь во сне в прошлое Рождество? — после продолжительной паузы спросила она. — Именно. — Так он же несносный зануда, — сказала Джорджина. — И вряд ли достоин приглашения на вашу чудесную вечеринку. — Да, возможно, — согласился я. — Но мы подумали, что ему будет приятно. — Помнится, в прошлом году я рассылала приглашения на Рождество. Давайте пройдем в гостиную, к секретеру, где я храню свои бумаги. «Ага!» — воскликнул удачливый призрак еще не появившегося на свет сержанта Каффа.
Несколько записок, которые Джорджина Хогарт написала Эдмонду Диккенсону от имени Диккенса, были адресованы некоему барристеру Мэтью В. Роффу с Грейс-Инн-Сквер. Я хорошо знал этот район, разумеется, потому что сам в свое время учился юриспруденции — однажды я охарактеризовал себя как «барристера с пятнадцатилетним стажем, ни разу не выступившего в суде и даже ни разу не надевшего парик и мантию». Обучение мое происходило в расположенной поблизости юридической школе Линкольс-Инн, правда, сводилось оно главным образом к посещениям трапез в школьной столовой — хотя я помню, что серьезно готовился к адвокатуре. Потом мой интерес к кодексам угас, а интерес к трапезам сохранился. Уже тогда я водил дружбу в основном с художниками и пробовал свои силы в основном на литературном поприще. Но в ту пору в адвокатуре относились весьма снисходительно к джентльменам, не особо увлеченным юриспруденцией, и в конечном счете я, несмотря на недостаток прилежания, получил лицензию барристера в 1851 году. Я никогда прежде не слышал о мистере Мэтью В. Роффе — судя по запущенному виду его маленькой, захламленной, пыльной конторы, расположенной на третьем этаже неприглядного здания близ Грейс-Инн, о нем вообще мало кто слышал. В тесной приемной с низким потолком не было ни клерка, ни колокольчика, возвещающего о приходе посетителей. В кабинете, смежном с передней, я увидел старика, одетого по моде двадцатилетней давности, который сидел за столом, заваленным кипами папок, грудами документов, потрепанными фолиантами и разными безделушками, и поедал отбивную. Я громко кашлянул, чтобы привлечь его внимание. Он нацепил пенсне на крючковатый нос и уставился из своей бумажной пещеры в темную приемную, часто моргая слезящимися крохотными глазками. — А? Что такое? Кто там? Войдите, сэр! Приблизьтесь, дабы я опознал вас! Я приблизился и, поскольку он меня не опознал, назвал свое имя. Мистер Рофф продолжал улыбаться, но по его лицу было ясно, что мое имя ничего ему не говорит. — Ваше имя и адрес вашей конторы сообщил мне мой друг Чарльз Диккенс, — мягко промолвил я; это была не совсем правда, но и не совсем ложь. — Чарльз Диккенс, писатель, — добавил я. Сморщенная марионетка встрепенулась и произвела ряд суетливых, нервических телодвижений. — О боже, подумать только, силы небесные, да… я хочу сказать, как чудесно… да, конечно… сам Чарльз Диккенс сообщил мне ваше… то есть сообщил вам мое имя… батюшки, да что же это я?.. Прошу вас, садитесь, садитесь, пожалуйста, мистер… э-э?.. — Коллинз, — сказал я. Похоже, куча раскрытых книг и скатанных в трубку документов не убиралась с указанного мне кресла уже много лет, если не десятилетий; я предпочел присесть на высокий табурет. — Здесь вполне удобно, — сказал я и с изящным жестом, вполне достойным сержанта Каффа, добавил: — И лучше для моей спины. — О да… да… Не желаете ли чаю, мистер… э-э… мистер… ах ты, боже ж мой. — Коллинз. Да, я с удовольствием выпью чаю. — Смолли! — крикнул мистер Рофф в сторону пустой приемной. — Эй, Смолли! — Мне кажется, вашего клерка нет на месте, мистер Рофф. — А, да… то есть нет… — Порывшись в жилетном кармане, старик извлек хронометр, взглянул на циферблат, хмуря брови, а потом потряс часы над ухом и спросил: — Мистер Коллинз, полагаю, сейчас не начало десятого утра или вечера? — Нет, — сказал я, сверившисьс собственными часами. — Сейчас начало пятого пополудни, мистер Рофф. — О, тогда понятно, почему Смолли нет на месте! — воскликнул старик с такой радостью, словно мы разгадали великую тайну. — Около трех он всегда уходит домой пить чай и возвращается только в начале шестого. — По роду вашей профессии вам приходится работать сверхурочно, — сухо заметил я, мне бы все-таки хотелось выпить обещанного чаю. — О да, да… служение закону похоже на… на… пожалуй, здесь подойдет слово «супружество». Вы женаты, мистер Коллинз? — Нет, сэр. Мне не довелось познать радостей брака, мистер Рофф. — Мне тоже, мистер Коллинз! — вскричал старик, хлопнув ладонью по книге в кожаном переплете, лежавшей на столе перед ним. — Мне тоже. Мы с вами два горемыки, укрывающиеся от счастья, выия, мистер Коллинз. Но труды на юридическом поприще не оставляют мне никакого досуга: я прихожу в контору ранним утром, когда здесь еще не горят лампы, — хотя, конечно, зажигать лампы входит в обязанности Смолли, — и ухожу поздним вечером, когда лампы гасятся на ночь. Я медленно извлек из кармана сюртука новенькую записную книжку, купленную специально для сыщицкой работы. Потом я достал остро заточенный карандаш и раскрыл записную книжку на первой, чистой странице. Мистер Рофф резко выпрямился, точно услышав стук судейского молотка, сцепил руки на столе, таким образом усмирив наконец свои беспокойные длинные пальцы, и уставился на меня со всем вниманием, на какое в данных обстоятельствах способен человек преклонного возраста и нервического темперамента, явно слабеющий рассудком. — Да, конечно, — промолвил он. — Давайте перейдем к делу, мистер Коллинз. Какое у нас с вами дело, мистер Коллинз? — Господин Эдмонд Диккенсон, — твердо сказал я, услышав в своем голосе металлические, но все же не жесткие нотки, свойственные сержанту Каффу; я точно знал, как сотворенный мной персонаж провел бы подобный разговор. — А, да, конечно… вы принесли весточку от господина Эдмонда Диккенсона, мистер Коллинз? — Нет, мистер Рофф, хотя я знаком с этим молодым джентльменом. Я хотел спросить вас о нем, сэр. — Меня? Ну да… конечно… рад помочь вам, мистер Коллинз, а через вас — и мистеру Диккенсу, коли мистер Диккенс нуждается в моей помощи. — Уверен, он будет благодарен вам, мистер Рофф, но нынешнее местонахождение мистера Диккенсона интересует в первую очередь меня. Не могли бы вы дать мне его адрес, сэр? У старика вытянулось лицо. — Увы, не могу, мистер Коллинз. — Это секретная информация? — Нет, нет, ничего такого. Молодой господин Эдмонд всегда открыт и прозрачен, как… как летний дождь, сэр, коли вы позволите мне вторгнуться с сей метафорой в вашу с мистером Диккенсом литературную сферу. Господин Эдмонд не стал бы возражать, если бы я сообщил вам нынешний его адрес. Я лизнул кончик остро заточенного карандаша и выжидательно уставился на собеседника. — Но, увы, я не могу, — вздохнул престарелый мистер Рофф. — Мне неизвестно, где господин Эдмонд жительствует в настоящее время. Раньше он снимал квартиру здесь, в Лондоне, неподалеку от Грейс-Инн-Сквер, но я знаю, что он съехал оттуда в этом году. А где господин Эдмонд обретается сейчас — мне неведомо. — Может, у своего опекуна? — подсказал я; ничья слабая память никогда не станет помехой для сержанта Каффа. — Опекуна? — повторил старый джентльмен, слегка встревоженно. — Ну… не исключено… возможно… вполне вероятно. Прежде чем приступить к расследованию, я порылся в памяти и в своих записях, касающихся нашей с Диккенсоном беседы, имевшей место полтора года назад в номере гостиницы «Чаринг-Кросс», где он оправлялся после катастрофы. — Речь идет о мистере Уотсоне, проживающем в Нортгемптоншире, так ведь, мистер Рофф? Который в прошлом являлся либерально настроенным членом парламента, насколько мне известно? — В общем — да, — промолвил Рофф, явно впечатленный моей осведомленностью. — Но — увы — нет! Наш дорогой мистер Роланд Эверетт Уотсон скончался четырнадцать лет назад. После этого молодой господин Эдмонд постоянно переезжал с места на место, во исполнение судебных постановлений об опекунстве, то и дело менявшихся. Ну, знаете… сначала тетка в Кенте… потом дядя-путешественник с домом в Лондоне — мистер Спайсхед провел в Индии почти все время, пока господин Эдмонд находился под его опекой… потом престарелая кузина бабушки. Эдмонда воспитывали главным образом слуги, знаете ли. Я ждал со всем терпением, какое позволяла мне моя ревматоидная подагра, нетерпеливо дававшая о себе знать. — А потом, когда господину Эдмонду стукнуло восемнадцать, — продолжал старый Рофф, — опекуном назначили меня, хотя это, конечно, была формальность, связанная с финансовыми вопросами. К тому времени господин Эдмонд уже давно снимал комнаты в Сити, а поскольку условия завещания были очень щедры и недостаточно четко сформулированы, господин Эдмонд с юных лет мог получить — и получил — доступ к своему капиталу практически без надзора взрослых. Но так как я в течение многих лет управлял этим капиталом — в далеком прошлом я вел юридические дела деда молодого Эдмонда, видите ли, а по завещанию его покойных родителей мне передавались на хранение все счетные книги на наследство и… — Как умерли родители мистера Диккенсона? — спросил я. Может показаться, будто я грубо перебил старика, но на самом деле я задал вопрос, когда мистер Рофф сделал паузу, чтобы перевести дух. — Умерли? Так ведь они погибли в железнодорожной катастрофе! — сказал он, продышавшись. «Ага!» — прозвучал у меня в уме многозначительный голос сержанта Каффа. Диккенсон привлекает к себе внимание Чарльза Диккенса на месте страшного железнодорожного крушения, а родители самого юноши погибли при аналогичных обстоятельствах. Едва ли это случайное совпадение. Но что оно означает? — А где произошла катастрофа? — спросил я, делая пометки в своей записной книжке. — Надеюсь, не под Стейплхерстом? — Под Стейплхерстом! Боже правый, нет! Как раз под Стейплхерстом сам господин Эдмонд получил телесные повреждения и был спасен вашим работодателем, мистером Чарльзом Диккенсом! — Чарльз Диккенс не мой… Я умолк, не закончив фразы. Пускай себе старый болван пребывает в заблуждении, будто я работаю на Диккенса. Может да же, это развяжет ему язык… впрочем, язык у него и так мелет без устали. — Вернемся к вопросу об опекунстве, — промолвил я, нацеливая карандаш в записную книжку. — Значит, в настоящее время вы и являетесь опекуном и финансовым консультантом Эдмонда Диккенсона? — Да нет же! — воскликнул Рофф. — Во-первых, обязанности опекуна почти год назад перешли от меня к другому лицу, более пригодному для такой роли, а во-вторых, господин Диккенсон в нынешнем году достиг совершеннолетия. Четырнадцатого сентября он отметил свой двадцать первый день рождения. По моему распоряжению Смолли каждый год посылал ему наши сердечные поздравления. Но только не на сей раз. — А почему на сей раз вы обошлись без поздравлений, мистер Рофф? — Ни я, ни Смолли понятия не имеем, куда ему писать, мистер Коллинз, — с самым удрученным видом признался Рофф. Я вдруг исполнился печальной уверенности, что молодой Диккенсон являлся единственным клиентом старика — единственным клиентом этого преданного служителя закона, который трудился без устали, ежедневно приходя в свою убогую каморку с утра затемно и покидая рабочее место поздно вечером, спустя долгое время после захода невидимого солнца. — Не могли бы вы сказать мне, кто был последним опекуном мистера Диккенсона — вплоть до его совершеннолетия, наступившего два месяца назад? — спросил я. Мистер Рофф рассмеялся. — Вы шутите, мистер Коллинз! Я посмотрел на него суровейшим из взглядов сержанта Каффа. — Уверяю вас, я нисколько не шучу, мистер Рофф. Тень замешательства пробежала по лицу старика — так тень облака проносится по безотрадному зимнему полю. — Но как же не шутите, мистер Коллинз? Ежели вы явились по поручению мистера Чарльза Диккенса, как вы утверждаете, тогда вам должно быть известно, что по просьбе самого господина Эдмонда законное опекунство и все права управления финансовыми делами господина Эдмонда в начале января сего года перешли от меня к мистеру Чарльзу Диккенсу. Я решил, что вы здесь именно поэтому, а значит, я вправе свободно говорить о делах своего бывшего клиента… Мистер Коллинз, что же вам здесь надобно?
Я едва замечал плотные вереницы экипажей на улицах, когда шел по направлению к Дорсет-Сквер и своему дому. И не замечал приземистого мужчину, нагнавшего меня и зашагавшего рядом в ногу со мной, покуда он не заговорил: — И чем, по-вашему, вы занимаетесь, мистер Коллинз? Разумеется, это был чертов инспектор Филд! Чье лицо сейчас казалось краснее обычного, а почему — от студеного ли ветра или от старости и пьянства — я не знал и не желал знать. Под левой подмышкой он зажимал какой-то сверток и левой же рукой придерживал шелковый цилиндр, чтобы его не сорвало ветром. Я остановился посреди потока людей, точно так же придерживающих головные уборы, но инспектор Филд отнял руку от своего цилиндра, подхватил меня под локоть и повлек за собой, словно одного из бесчисленных бродяг, каких в свое время задерживал в ходе ночных дежурств. — Мои дела вас не касаются! — заявил я. Голова у меня все еще шла кругом после открытия, сделанного в конторе старого барристера. — Меня интересует Друд, — прорычал инспектор. — И он должен интересовать вас! С какой такой стати вы встречались с Диккенсом два дня подряд, а потом помчались обратно в Лондон, чтобы поговорить с восьмидесятилетним адвокатом? Меня так и подмывало выложить всю правду: «Чарльз Диккенс втерся в доверие к Эдмонду Диккенсону и стал законным опекуном мальчика, прежде чем убил его! Он должен был совершить убийство до сентября, поскольку…» — но я продолжал хранить молчание, сердито глядя на настоящего сыщика. На нас налетали яростные порывы зимнего ветра, и мы оба крепко придерживали цилиндры. Все это не укладывалось у меня в голове. Прежде я был уверен, что Диккенс убил молодого Диккенсона просто с целью получить опыт убийства, а не по корыстным мотивам. Неужели Диккенсу хотелось завладеть деньгами сироты? Он заработал почти пять тысяч фунтов в ходе своего весеннего турне и наверняка получил огромный аванс в счет будущих доходов от продаж «Собрания сочинений Чарльза Диккенса», к которому в настоящее время писал предисловия. Но если он убил молодого Диккенсона не из-за денег, зачем ему было становиться опекуном мальчика и навлекать на себя подозрение? Это противоречило лекции самого Диккенса, прочитанной на кладбище Рочестерского собора (и являвшейся, как я теперь понимал, формой косвенного хвастовства после совершенного преступления), — лекции об убийце, выбирающем жертву наугад и ни на миг не попадающем под подозрение за отсутствием у него мотива. — Итак? — сурово промолвил Филд. — Что «итак», инспектор? — раздраженно осведомился я. Благотворное действие утренней дозы лауданума уже давно сошло на нет, и подагрическая боль нещадно крутила суставы, мучительно тянула жилы. Глаза у меня слезились от боли и от крепчающего холодного ветра. Я был совершенно не расположен выслушивать нотации, тем более от какого-то там… отставного полицейского. — Что за игру вы ведете, мистер Коллинз? Зачем вы отослали моего мальчишку в теплую постель сегодня в предрассветный час? Чем вы с Диккенсом и субъектом по имени Дредлс занимались в подземной часовне Рочестерского собора вчера? Я решил ответить в духе сержанта Каффа. Старый сыщик ставит на место зарвавшегося коллегу. — У всех нас есть свои маленькие секреты, инспектор. Даже у тех, кто находится под круглосуточным наблюдением. Красная физиономия Филда побагровела, превратившись в подобие древней пергаментной карты, испещренной тонкими фиолетовыми прожилками. — Засуньте себе в задницу ваши «маленькие секреты», мистер Коллинз! Сейчас не время для них! Я резко остановился посреди тротуара. «Я ни при каких обстоятельствах не позволю разговаривать с собой в таком тоне. Наше сотрудничество закончено». Я стиснул рукоять трости, пытаясь справиться с дрожью, и уже открыл рот, чтобы произнести эти фразы, когда вдруг инспектор протянул мне распечатанный конверт. — Вот, прочтите, — угрюмо буркнул он. — Я не желаю… — начал я. — Прочтите, мистер Коллинз. — Это была не вежливая просьба, а грубый приказ, не допускающий прекословия. Я вынул из конверта единственный листок плотной бумаги. Почерк был крупный и жирный, словно писали не пером, а кисточкой, но буквы походили скорее на печатные, нежели на прописные. Послание гласило:
Дорогой инспектор! До сих пор оба мы жертвовали только пешкам и в нашей увлекательной игре. Теперь начинается эндшпиль. Готовьтесь к неминуемой потере гораздо более важных и ценных фигур. Ваш преданный противник Д.— Что это, собственно, значит? — спросил я. — Ровно то, что написано, — процедил сквозь зубы инспектор Филд. — И по-вашему, за инициалом «Д.» скрывается Друд? — Больше некому, — прошипел инспектор. — «Д.» может означать Диккенс, — беззаботно сказал я, мысленно добавив: «Или Диккенсон, или Дредлс». — «Д.» означает Друд, — отрезал Филд. — Откуда такая уверенность? Или этот фантом уже присылал вам прежде подобные записки за своей полной подписью? — Нет. — В таком случае послание мог написать кто угодно и… Как я уже упомянул, под мышкой инспектор держал небольшой парусиновый сверток. Теперь он развернул парусину и вынул какую-то драную, грязную тряпку бурого цвета. Он протянул мне ее со словами: — Записка была завернута в это. Брезгливо взяв тряпку — она оказалась не только грязной, но также насквозь пропитанной кровью, явно свежезапекшейся, и вдобавок изрезана на полосы бритвой, — я уже собрался спросить, какое значение может иметь дрянная ветошь, но осекся на полуслове. Внезапно я узнал окровавленную ткань. Двенадцать с лишним часов назад я видел эти лохмотья на мальчишке по имени Гузберри.
Глава 20
Почти весь декабрь 1866 года я прожил в доме своей матери близ Танбридж-Уэллса. Я решил задержаться там, чтобы вместе с ней отметить свое сорокатрехлетие восьмого января. Проводить время в обществе любовницы весьма приятно, однако — прошу вас поверить мне на слово, ибо почти все мужчины разделяют мои чувства, но лишь у немногих хватает смелости и честности признаться в этом, — в трудную минуту жизни или в день рождения нет места милее и отраднее материнского дома. Я мало рассказал вам о своей матери, дорогой читатель, но данное упущение совершено умышленно. Зимой с 1866 на 186 7 год и почти весь следующий год моя любимая матушка находилась в добром здравии — на самом деле, большинство ее, да и моих, ровесников считали ее более деятельной, энергичной и востребованной в свете, чем многие женщины вдвое моложе, — но к концу 1867-го она резко сдала и скончалась в марте 1868-го, страшного для меня года. Мне все еще тяжело вспоминать то время, а тем более писать о нем. В жизни любого мужчины нет дня ужаснее, чем день смерти матери. Но зимой с 1866 на 1867 год она еще не жаловалась на здоровье, а потому я могу писать об этом периоде без нестерпимой боли в сердце. Как я упоминал выше, звали мою матушку Хэрриет, и она всегда пользовалась любовью среди знакомых моего отца — знаменитых художников, поэтов и подающих надежды актеров. После смерти своего супруга в феврале 1847 года моя мать добилась признания собственными силами, став хозяйкой салона, чрезвычайно популярного в высших художественных и литературных кругах Лондона. Наш дом на Ганновер-террас (выходивший окнами на Риджентс-парк) в течение всех лет, пока матушка заправляла там, считался одним из очагов художественного течения, в настоящее время известного под названием «прерафаэлитизм». Ко времени моего продолжительного визита, начавшегося в декабре 1866 года, матушка уже осуществила свою давнюю мечту перебраться в сельскую местность и поочередно жила в нескольких наемных домах в графстве Кент: в Бентам-Хилл-коттедж под Танбридж-Уэллсом, в Ильм-Лодж, в самом городке и в недавно арендованном доме на Проспект-Хилл в Саутборо. Я провел с ней несколько недель под Танбридж-Уэллсом. Каждый четверг я уезжал в Лондон, дабы ближе к ночи встретиться с Королем Лазарем и своей трубкой, а в пятницу вечером возвращался поездом в Танбридж-Уэллс и поспевал как раз вовремя, чтобы сыграть партию в криббидж с матушкой и ее подругами. Кэролайн осталась не в восторге от моего решения покинуть дом на весь «праздничный сезон», и мне пришлось напомнить ей, что мы все равно никогда не отмечаем Рождество толком: мои женатые друзья, разумеется, вообще никогда не приглашали меня с любовницей в гости, а в рождественскую пору они даже реже обычного принимали приглашения от нас, так что в зимние праздники наша светская жизнь практически сходила на нет. Однако Кэролайн, по женскому обыкновению, отказалась внимать доводам здравого смысла и страшно рассердилась на меня за решение уехать из Лондона на весь декабрь и первую декаду января. С другой стороны, Марта Р*** с полным пониманием отнеслась к моему желанию провести месяц с лишним у матери — она временно съехала из своих комнат, снятых на имя миссис Доусон, и вернулась в Ярмут и Уинтертон к своим собственным родителям. Жизнь с Кэролайн Г*** утомляла и тяготила меня все сильнее, а общение с Мартой Р*** доставляло все больше удовольствия и отдохновения. Но время, проведенное с матушкой в рождественский сезон 1866 года, было поистине восхитительным. Старая повариха моей матери, всегда переезжавшая с ней с места на место, наперечет знала все мои любимые блюда, а матушка частенько заходила в мою комнату утром или вечером, когда мне подавали на подносе завтрак или ужин, и я с аппетитом ел в постели, беседуя с ней о том о сем. Я бежал из Лондона, исполненный страха и ужасного чувства вины в связи с предполагаемой смертью паренька по имени Гуз берри, но уже через несколько дней, проведенных в коттедже моей матери, это темное облако бесследно рассеялось. Как там настоящее имя мальчишки, необычное такое? Гай Септимус Сесил. Так вот, глупо думать, будто юный Гай Септимус Сесил был и вправду убит темными силами Подземного города, явленными в образе чужеземного колдуна Друда! Это затейливая игра, напомнил я себе: Чарльз Диккенс ведет свою игру с одной стороны, пожилой инспектор Филд ведет похожую, но не аналогичную игру с другой стороны, а бедный Уилки Коллинз оказался между ними. Гузберри убит — ну прямо! Инспектор показывает мне драную тряпку, забрызганную кровью — наверняка собачьей, либо же животворная жидкость принадлежит одному из тысяч бездомных котов, наводняющих родные трущобы Гузберри, — и рассчитывает, что я окончательно потеряю присутствие духа и стану исполнять все его приказания еще усерднее прежнего. Друд перестал быть фантомом и превратился в своего рода волан в этой безумной игре в бадминтон, которую вели душевно неуравновешенный писатель, помешанный на лицедействе, и отставной полицейский — зловредный старый гном — с уймой тайных мотивов. Ладно, пускай они немного поиграют в свои игры без меня. Гостеприимство Танбридж-Уэллса и материнского дома пошло мне на пользу. Я не только поправил здоровье — здесь, в Кенте, подагра невесть почему отступила, хотя я продолжал принимать лауданум (правда, меньшими дозами), — но также избавился от бессонницы, перестал мучаться кошмарами по ночам и принялся более сосредоточенно обдумывать изящную фабулу и восхитительных персонажей «Змеиного ока» (или «Ока змея»). Пусть с серьезными исследованиями приходилось подождать до окончательного возвращения в Лондон и в клубную библиотеку, но я уже начал набрасывать черновые заметки и в общих чертах намечал сюжет, зачастую работая в постели. Изредка я вспоминал о своих сыщицких обязанностях и необходимости выяснить, убил ли Чарльз Диккенс молодого Эдмонда Диккенсона, но, поскольку из разговора со стряпчим Диккенсона я не узнал ничего (помимо совершенно ошеломившего меня факта, что Чарльз Диккенс стал опекуном юноши за несколько месяцев до совершеннолетия последнего), даже мой изобретательный писательский ум не мог придумать, каким должен стать следующий шаг в расследовании. Я решил по возвращении к лондонской жизни осторожно поспрашивать знакомых по клубу, не слышал ли кто из них о некоем сквайре по имени Диккенсон, но в каком направлении двигаться дальше, я и близко не представлял. Ко второй неделе декабря мой душевный покой нарушало единственно лишь отсутствие приглашения на Рождество в Гэдсхилл-плейс. Я не был уверен, что принял бы приглашение (с недавних пор в наших с Неподражаемым отношениях возникла легкая, но ощутимая напряженность, объяснявшаяся среди всего прочего и тем, что я подозревал писателя в убийстве), но я с уверенностью ожидал, что меня пригласят. В конце концов, во время последней нашей встречи Диккенс более или менее определенно пообещал пригласить меня на Рождество, как всегда. Но в матушкин дом никаких писем на мое имя не приходило. Каждую неделю, в четверг вечером или в пятницу днем (до или после посещения опиумного притона Короля Лазаря), я заглядывал к Кэролайн, чтобы забрать свою корреспонденцию и убедиться, что у них с Кэрри достаточно денег для оплаты всех счетов, но приглашения от Диккенса так и не поступало. Однако шестнадцатого декабря в Саутборо на день приехал мой брат Чарльз, и он привез с собой адресованный мне конверт, надписанный четким почерком Джорджины. — Диккенс говорил тебе что-нибудь про Рождество? — спросил я брата, ища нож для разрезания бумаги, чтобы вскрыть конверт. — Мне — ничего не говорил, — хмуро ответил Чарли. Было видно, что он страдает от язвенных болей (во всяком случае, от болей, которые я тогда приписывал язвенной болезни). Мой талантливый брат казался апатичным и подавленным. — Но он сказал Кейти, что намерен, по обыкновению, назвать гостей полный дом… Насколько мне известно, Чеппелы приедут в Гэдсхилл на несколько дней, а Перси Фицджеральд задержится там до Нового года. — Хм… Чеппелы, — пробормотал я, разворачивая письмо. Это были новые деловые партнеры Диккенса, занимавшиеся организацией турне, и невыносимые зануды, по моему разумению. Я решил, что не останусь в Гэдсхилле на полную неделю, вопреки обыкновению, если вдруг Чеппелы возымеют желание продлить свой визит. Представьте же мое изумление, когда я прочитал нижеследующее письмо, приведенное здесь полностью:Дорогой Уилки! Ничег о себе положеньице! Мне придется изнывать здесь под бременем рождественских трудов, в то время как вы бороздите моря, эдакая помесь Хейворда и капитана Кука! Но я такой верный сын Труда — и отец многодетного семейства, — что рассчитываю в скором времени получить награду в виде рабочего халата, кожаных бриджей и оловянных часов за то, что вырастил кучу детей, решительно не желающих ничего делать самостоятельно. Но раз уж испокон веков иным из нас приходится трудиться, пока другие отважно устремляются на поиски приключений, мы посылаем вам наши сердечнейшие поздравления с Рождеством — в надежде, что сии поздравления нагонят вас в ваших дальних странствиях, — и желаем вам всяческого благополучия в новом году. Ваш покорный слуга и бывший товарищ по путешествиям Ч. ДиккенсЯ едва не выронил письмо от удивления. Сунув листок брату, который быстро пробежался глазами по строчкам, я возбужденно выпалил: — Как это понимать? С чего вдруг Диккенс взял, что я отправился в морское путешествие? — Ты ездил в Рим осенью, — сказал брат. — Может, Диккенс думает, что ты до сих пор там. — Я почти сразу вернулся, чтобы попытаться спасти обреченную постановку «Замерзшей пучины» в театре «Олимпик», — слегка раздраженно сказал я. — И я виделся с Диккенсом по возвращении. Он не может не знать, что я нахожусь в Англии. — Может, он думает, что ты опять уехал в Рим или Париж, — предположил Чарли. — По клубам прошел слух о твоем отъезде после того, как ты обмолвился нескольким своим знакомым, что тебе надо уладить какие-то дела в Париже. А может, Диккенс сей час слишком поглощен мыслями о своих детях. Кейти, как тебе известно, постоянно хандрит. Мейми утратила всякую популярность в лондонском обществе. А самый младший сын не оправдал возлагавшихся на него надежд. Диккенс недавно сказал Кейти, что решил отправить Плорна в Австралию — заниматься фермерством. — Но какое это имеет отношение ко мне и приглашению на Рождество, черт возьми? — вскричал я. Чарли лишь потряс головой. Представлялось очевидным, что Диккенс умышленно исключил меня из списка рождественских гостей. — Подожди здесь, — велел я брату, собиравшемуся уехать обратно в Лондон ранним поездом. Я отправился в матушкину швейную комнату, нашел там лист почтовой бумаги с адресом коттеджа в Танбридж-Уэллсе и принялся торопливо писать:
Дорогой Чарльз! В настоящее время я не путешествую по миру, как капитан Кук, ни гуляю по Риму или Парижу. Как вы уже наверняка знаете, я гощу у своей матери в Саутборо-коттедж, Танбридж-Уэллс, и вполне в состоянии…Я скомкал и бросил в камин начатое письмо, потом взял в секретере чистый лист почтовой бумаги.
Дорогой Чарльз! Я в свою очередь поздравляю вас с Рождеством — пожалуйста, кланяйтесь от меня милым дамам и целуйте детей — и глубоко сожалею, что не смогу увидеться с вами ранее января нового года. В данный момент я не плаваю по морям, как капитан Кук, и не разъезжаю по Шотландии или Ирландии, как странствующий фокусник, — я всецело занят расследованием дела о Пропавшей Персоне или Персонах, которое может иметь самые серьезные последствия. Мне не терпится удивить вас результатами расследования. Передайте от меня горячий привет и пожелания счастливого Рождества Джорджине, Мейми, Кейти, Плорну, всему семейству и вашим рождественским гостям. Ваш верный сыщик У. Уилки КоллинзЯ запечатал и надписал послание, а когда вручал его Чарли, уже надевавшему дорожный плащ, сказал с чрезвычайной серьезностью: — Это надлежит отдать лично в руки Чарльзу Диккенсу, и никому другому.
Рождество и мой день рождения, проведенные в невзыскательном женском обществе, в уютном тепле материнского дома, насыщенного божественными запахами стряпни, стали для меня счастливейшими событиями. Оба праздника пришлись на вторник, а потому обе те недели я не виделся с Кэролайн до четверга. (Именно в четверг, десятого января, я перебрался обратно в Лондон со всем своим багажом, начатой рукописью и рабочим материалом для романа, но, поскольку по четвергам я посещал притон Короля Лазаря, в свой дом на Дорсет-Сквер я окончательно вернулся только на следующий день, в пятницу, одиннадцатого января.) Кэролайн была мной недовольна и находила множество способов продемонстрировать мне свое недовольство, но за время, проведенное в Танбридж-Уэллсе, я научился не обращать внимания на настроения миссис Г***, хорошие ли, плохие ли. В последующие недели нового 1867 года я днями напролет сидел в клубе, используя прекрасную библиотеку «Атенеума» в качестве своего основного источника информации, — там я питался, зачастую ночевал и в целом все реже появлялся по своему адресу на Мелкомб-плейс, где по-прежнему постоянно проживали Кэролайн и Кэрри. (Марта Р*** все еще оставалась в Ярмуте, но мы ежедневно обменивались письмами.) Я часто заглядывал по делам в контору «Круглого года» (где за мной по-прежнему сохранялся кабинет, который я изредка делил с другими штатными и нештатными сотрудниками журнала), и там от Уиллса и прочих узнавал много всего про новое турне Диккенса. Толстые конверты с гранками, постоянно отсылавшиеся из редакции, следовали за Диккенсом из Лестера в Манчестер, из Глазго в Лидс, из Дублина в Престон. Удивительно, но Диккенс умудрялся по крайней мере раз в неделю возвращаться в Лондон, дабы выступить с чтениями в Сент-Джеймс-Холле на Пикадилли и зайти в редакцию, чтобы отдать свои рукописи, про верить бухгалтерские книги и поработать над редактурой чужих текстов. Во время своих коротких наездов в Лондон он крайне редко наведывался в Гэдсхилл и обычно ночевал либо в своих комнатах, расположенных прямо над конторой журнала, либо по своему тайному адресу в Слау (неподалеку от дома Эллен Тернан). В тот период мне ни разу не довелось столкнуться с Диккенсом. Истории о разных неприятностях, бедах и поразительной отваге (или везении) Диккенса просачивались в редакцию и пересказывались мне Уиллсом, Перси Фицджеральдом и другими сотрудниками. Похоже, Диккенс все никак не мог оправиться от потрясения, испытанного осенью (когда я ненадолго уехал в Рим): выяснилось, что личный слуга и камердинер, прослуживший у него двадцать четыре года, — угрюмый и явно страдающий несварением субъект по имени Джон Томпсон, — постоянно обкрадывал хозяина. Из нашей конторы на Веллингтон-стрит пропали восемь соверенов, но вскоре после обнаружения пропажи золотые монеты вернулись на место. Однако слишком поздно для Томпсона, чье многолетнее мелкое воровство теперь вскрылось. Диккенс, разумеется, уволил слугу, но не нашел в себе сил дать вору «плохие рекомендации». Он отправил Томпсона на поиски следующего места работы с рекомендательным письмом, составленным в туманных, но не откровенно негативных выражениях. По словам Перси Фицджеральда, Диккенс едва не повредился рассудком, узнав о предательстве старого слуги, хотя о своих переживаниях он сказал Перси только одно: «Мне пришлось значительно увеличить продолжительность своих ежедневных прогулок, прежде чем я смог наконец восстановить самообладание». А с самообладанием дела у него обстояли все хуже, если верить последним сообщениям, поступившим Уиллсу от Долби. Диккенс страдал тяжелейшим нервным истощением, вызванным, безусловно, постоянными железнодорожными путешествиями (казалось, с каждым месяцем симптомы нервного расстройства, случившегося с ним в результате Стейплхерстской катастрофы, проявлялись все сильнее вместо того, чтобы идти на убыль), и уже в самом начале турне, на втором своем выступлении в Ливерпуле, Диккенс настолько ослаб к концу первого отделения, что его пришлось чуть ли не на руках отнести на диван за кулисами, где он лежал пластом, покуда не настало время вставить в петлицу свежую бутоньерку и выйти на подмостки, чтобы завершить изнурительное чтение. Во время выступления в Вулверхэмптоне металлический трос, на котором висел один из рефлекторов над головой Диккенса, начал раскаляться (согласно первым сообщениям, дело происходило в самом Бирмингеме, а не в соседнем маленьком городке, и потому поначалу в моем воображении нарисовался тамошний старый театр, каким я видел его памятным вечером, когда на меня напал призрак Друда). Тяжелая чаша рефлектора чуть выступала вперед над верхним краем задника и крепилась на толстом медном тросе, но новый газовый техник, совсем недавно присоединившийся к турне, по оплошности поместил открытую газовую горелку прямо под ним. Долби увидел, что трос раскаляется сначала докрасна, потом добела. Нервно приплясывая на месте и лихорадочно тыча пальцем в раскаленный трос, он громко прошептал стоявшему на сцене Диккенсу: «Вы еще долго?» Видимо, Диккенс правильно оценил опасность: когда трос прогорит, тяжелый рефлектор рухнет на подмостки, но при падении заденет обтянутый материей задник, соприкасающийся с боковыми ширмами. В результате мгновенно вспыхнет пожар. От легковоспламеняемых ширм огонь тотчас перекинется на древний бархатный занавес. Представлялось очевидным: когда раскаленный трос лопнет, вся сцена и даже весь театр будут охвачены пламенем в считаные минуты, если не секунды. Продолжая читать без единой заминки или запинки, Диккенс спокойно завел руку за спину и показал Долби два пальца. Смятенный импресарио не понял, что это значит. Хочет ли Шеф сказать, что он закончит через две минуты или же что трос лопнет через две секунды? Долби, Бартону и газовщику ничего не оставалось, кроме как бегать взад-вперед за кулисами, поднося песок и ведра с водой и готовясь к самому худшему. Диккенс, как выяснилось впоследствии, заметил накаляющийся трос еще в середине выступления и спокойно подсчитал в уме, сколько времени потребуется, чтобы медь прогорела. Исходя из полученных результатов, Неподражаемый на ходу вно сил изменения в чтение, редактируя и сокращая текст, и закончил всего за несколько секунд до того, как расплавленный трос должен был порваться. (Когда Долби принялся подавать знаки из-за кулис, Диккенс молниеносно подсчитал, что у него остается еще две минуты до обрушения раскаленного рефлектора.) Занавес закрыли, Бартон мигом выскочил на подмостки и погасил неправильно установленную горелку, а Долби, как он сам впоследствии признался Уиллсу, находился в предобморочном состоянии, когда Диккенс похлопал его по спине, прошептал: «Никакой реальной угрозы не было» — и спокойно вышел к публике на поклоны. Все эти с придыханием рассказывавшиеся истории о турне мало интересовали меня. Друд в них не фигурировал, и я был занят собственной литературной работой (по моему скромному разумению — более важной, чем чтение старых произведений перед толпами неотесанной деревенщины). Как упоминалось выше, я взял за обыкновение работать над сбором материала для романа в своем клубе «Атенеум». Правление клуба с готовностью пошло мне навстречу: мое любимое кресло с подголовником передвинули к окну, где бледный зимний свет поярче, предоставили мне маленький столик для моих бумаг и приставили ко мне нескольких слуг, чтобы они отыскивали в огромной клубной библиотеке нужные мне книги. Я пользовался для записей почтовой бумагой «Атенеума», целую пачку которой умыкнул и разложил по большим белым конвертам. В первую очередь мне требовалось собрать все необходимые сведения, и здесь мне очень пригодился мой многолетний журналистский опыт (такой же опыт помогал в работе и Диккенсу, хотя напомню вам, дорогой читатель, что я в свое время был настоящим журналистом, а Диккенс — всего лишь судебным репортером). На протяжении нескольких недель я выписывал интересующие меня статьи об Индии, различных индусских культах и драгоценных камнях из «Британской энциклопедии», восьмая редакция 1855 года издания. Я также нашел новую книгу некоего С. У. Кинга «Естественная история драгоценных камней», вышедшую в 1865 году и оказавшуюся весьма полезной. По моей задумке действие первых глав «Змеиного ока» (или «Ока змея») должно было происходить в Индии, и, для того чтобы достоверно воссоздать индийский антураж, я ознакомился с недавно опубликованной «Историей Индии с древних времен» Дж. Толбойса Уилера и двухтомным сочинением Теодора Хука «Жизнь генерала сэра Дэвида Байрда», изданным в 1832 году. Кроме того, усердные клубные служители разыскали для меня несколько относящихся к делу статей из недавних выпусков журнала «Суждения и сомнения». Таким образом, общий замысел романа начал мало-помалу обретать отчетливые очертания. Я уже решил, что сюжет будет вращаться вокруг таинственного исчезновения — здесь, в Англии, — прекрасного, но проклятого алмаза, привезенного из Индии, где он почитался святыней в старинном культе душителей, и что тайна будет раскрываться постепенно, через рассказы разных действующих лиц (подобный прием использовал Диккенс в «Холодном доме», но гораздо успешнее применил я в своей «Женщине в белом»). Поскольку в то время мысли мои постоянно занимала — вернее сказать, отвлекала — история с Друдом, я решил, что события в моем романе будут разворачиваться вокруг таких предметов, как восточный мистицизм, месмеризм, сила магнетического внушения и опиумная зависимость. Разгадка кражи (как я знал с самого момента возникновения замысла книги) будет настолько ошеломительной, настолько неожиданной, настолько непохожей на все ходы, доныне использовавшиеся в совсем еще молодом жанре детективной литературы, что она поразит всех американских и английских читателей, включая таких мнимых мастеров сенсационного романа, как сам Чарльз Диккенс. Как и все писатели нашего с Диккенсом уровня, я никогда не имел возможности всецело сосредоточиться на какой-нибудь одной работе. Диккенс в ходе подготовки к турне и самого турне сочинил ежегодную рождественскую повесть, исполнял обязанности редактора «Круглого года», заканчивал обстоятельные предисловия к собранию своих сочинений, придумывал темы для новых романов и одновременно писал небольшие вещи вроде странного рассказа «Объяснение Джорджа Сильвермена», замысел которого, по словам Диккенса, возник у него, когда они с Дол би случайно набрели на развалины Хотон-Тауэрс между Престоном и Блэкберном. При виде этого полуразрушенного старого дома беспорядочные, разрозненные фрагменты идей, уже довольно давно занимавших Диккенса, вдруг сложились в единое целое, но в результате получился не роман, необходимый Диккенсу для публикации в «Круглом годе», а необычный рассказ о несчастном детстве, очень похожем на детство самого Диккенса (по крайней мере, в представлении писателя, считавшего свое детство несчастным и обездоленным). Весной 1867 года точно так же обстояло дело и с моими многочисленными, зачастую совпадающими по времени занятиями на литературном и театральном поприще. Предыдущей осенью моя переделанная «Замерзшая пучина» провалилась в театре «Олимпик», даром что в новой редакции драма стала значительно лучше после того, как я переписал персонаж Ричарда Уордора, в свое время сыгранный (хотя слово «присвоенный» здесь гораздо уместнее) Диккенсом: я сделал своего героя более взрослым и достоверным, убрав из образа диккенсовский пафос и излишнюю сентиментальность. Но у меня по-прежнему оставались большие надежды на театральный прорыв, и той весной — когда позволяло здоровье и выпадало сравнительно свободное время — я часто ездил в Париж на переговоры с Франсуа-Жозефом Ренье (с ним меня познакомил Диккенс свыше десяти лет назад) из «Комеди Франсез», который жаждал поставить там «Женщину в белом». (Она уже шла с огромным успехом в Берлине.) Сам же я твердо намеревался продать Ренье и французским театралам (а значит, и английским театралам) переделанный для сцены «Армадейл» — я не сомневался, что пьеса будет тепло и восторженно принята публикой, несмотря на все спорные (с точки зрения Диккенса) моменты. Кэролайн, чья страстная любовь к Парижу была невыразима словами из ее ограниченного лексического запаса, чуть не на коленях просилась поехать со мной, но я оставался непреклонен: это сугубо деловая поездка, и там не будет времени на хождение по магазинам, экскурсии и светские мероприятия помимо имеющих сугубо деловой характер. Той весной я писал матери из парижской гостиницы: «Сегодня утром я позавтракал яйцами с шоколадным маслом и свиными ножками "а-ля Сент-Менеу[13]"! Пищеварение превосходное. Сент-Менеу дожил до глубокой старости, питаясь одними только свиными ножками». Мы с Ренье посетили новую оперу — представление, поражающее мощью и размахом, прошло при полном аншлаге и произвело неизгладимое впечатление. Равно неизгладимое впечатление произвели «нежные фиалочки», как мы с Диккенсом обычно называли хорошеньких молодых актрис и дам полусвета, каких полным-полно в любой стране, где ночная жизнь так же разнообразна, как кухня, — и я со стыдом должен признать, что, при известном содействии Ренье и его друзей, за все время своего пребывания в Париже не провел ни единого вечера и ни единой ночи в одиночестве (или даже с одной и той же «фиалочкой»). Перед отъездом в Лондон я не забыл купить рисованную карту Парижа для Марты (она любила подобные безделки) и прелестный шифоновый халат для Кэрри. Я также напокупал разных специй и соусов для кулинарных ухищрений Кэролайн. На вторую ночь по возвращении из Парижа я выпил слишком много (или слишком мало) лауданума и маялся бессонницей. Поначалу я вознамерился пойти в кабинет поработать, но почти сразу передумал при мысли о неминуемой встрече со Вторым Уилки (хотя в последнее время он не проявлял особой агрессивности в своих попытках выхватить у меня перо и бумагу). Я стоял у окна в своей спальне (Кэролайн нашла причины лечь спать в своей собственной комнате), когда вдруг увидел знакомый силуэт у фонарного столба в конце улицы, рядом с площадью. Я тотчас накинул поверх халата длинное шерстяное пальто — ночь стояла морозная — и торопливо направился к углу. Мальчишка выступил из густой тени и двинулся навстречу мне в темноте, не дожидаясь призывного жеста с моей стороны. — Гузберри? — спросил я, чрезвычайно довольный, что мои Умозаключения насчет хитрой уловки инспектора Филда оказались верными. — Никак нет, сэр, — откликнулся мальчишка. Он вышел на свет, и я увидел, что обознался. Этот паренек был пониже ростом, помладше и не такой оборванный, а его глаза — пусть слишком маленькие и слишком близко посаженные на узком лице, чтобы придавать привлекательность наружности своего обладателя, — не имели ничего общего с выпуклыми, блуждающими зенками Гузберри, из-за которых он и получил свое прозвище. — Ты от инспектора? — грубовато осведомился я. — Да, сэр. Я вздохнул и потер щеки над бородой. — Ты в состоянии точно запомнить и на словах передать сообщение, мальчик? — Да, сэр. — Хорошо. Скажи инспектору, что мистер Коллинз хочет встретиться с ним завтра в полдень — нет, в два часа пополудни — на мосту Ватерлоо. Запомнишь? Два часа пополудни, мост Ватерлоо. — Да, сэр. — Передай сообщение сегодня же ночью. Все, ступай. Когда мальчишка побежал прочь, шлепая одной полуоторванной подметкой по булыжнику, я осознал, что не удосужился — просто не захотел — спросить у него имя.
Инспектор быстро подошел к середине моста Ватерлоо ровно в два часа пополудни. День стоял промозглый, холодный, ветреный, и нам обоим не хотелось беседовать на открытом воздухе в такую непогоду. — Я не успел пообедать, — прохрипел инспектор Филд. — Здесь поблизости есть гостиница, где весь день подают превосходный ростбиф. Вы составите мне компанию, мистер Коллинз? — Отличная мысль, инспектор. — Я позавтракал в клубе пару часов назад, но по-прежнему чувствовал голод. Когда мы уселись друг напротив друга за столом в сумрачном зале и я присмотрелся к инспектору, жадно прихлебывающему пиво из своей первой кружки, мне показалось, что он заметно постарел и внешне опустился со времени последней нашей встречи. Глаза у него были усталые, одежда находилась в легком беспорядке. На щеках у Филда появились новые сосудистые звездочки, а вдоль косматых бакенбардов выросла неопрятная седая щетина, придававшая ему вид человека, куда менее обеспеченного и значительного, чем бывший начальник сыскного отдела Скотленд-Ярда. — Есть какие-нибудь новости? — спросил я после того, как нам подали обед и мы несколько минут сосредоточенно воздавали должное мясу с подливой и овощному рагу. — Новости? — переспросил инспектор, откусывая кусок хлеба и отпивая из стакана глоток вина, заказанного после пива. — А каких новостей вы ожидаете, мистер Коллинз? — Ну как, о мальчике по имени Гузберри, разумеется. Он объявился? Инспектор Филд молча уставился на меня; его серые глаза, окруженные сетью морщин, хранили холодное выражение. Наконец он негромко произнес: — Ваш юный друг Гузберри уже никогда не объявится. Его освежеванное тело покоится на дне Темзы… или в каком-нибудь месте похуже. Я перестал орудовать ножом и вилкой. — Похоже, вы твердо уверены в этом, инспектор. — Так и есть, мистер Коллинз. Я вздохнул — ни на секунду не допуская дурацкого предположения, что юный господин Гай Септимус Сесил убит, — и вновь принялся за ростбиф с овощным рагу. Видимо, инспектор Филд почувствовал мое скептическое настроение. Положив вилку на стол и отхлебнув вина из стакана, он хрипло прошептал: — Мистер Коллинз, вы помните, что я говорил вам о связи, существовавшей между нашим египетским другом Друдом и покойным лордом Луканом? — Конечно, инспектор. Вы сказали, что лорд Лукан являлся английским отцом мусульманского мальчика, впоследствии ставшего Друдом. Инспектор Филд прижал толстый палец к губам. — Не так громко, пожалуйста, мистер Коллинз. У нашего «подземного друга», как вы игриво выражаетесь, уши повсюду. — Вы помните, каким образом был убит Форсайт… то есть лорд Лукан? Признаюсь, я невольно содрогнулся. — Да разве ж такое забудешь? Грудная клетка вскрыта. Сердце вырезано… Инспектор кивнул, снова призвав меня знаком говорить потише. — В то время, мистер Коллинз, — в сорок шестом году — даже начальник сыскного отдела мог состоять и порой состоял в качестве так называемого конфиденциального агента при разных важных персонах. Именно такую должность занимал я с конца сорок пятого года по середину сорок шестого. Я проводил много времени в хертфордширском поместье лорда Лукана. Я нахмурился, усиленно соображая. — Семья лорда Лукана обратилась к вам за помощью, чтобы вы раскрыли преступление. Но вы уже занимались этим делом в качестве начальника… Инспектор Филд, не сводивший с меня пристального взгляда, кивнул. — Вижу, теперь вы поняли хронологию событий, мистер Коллинз. Лорд Лукан — Джон Фредерик Форсайт, отец незаконнорожденного ребенка, впоследствии ставшего оккультистом Друдом, — нанял меня за девять месяцев до своего убийства. Он хотел обеспечить свою безопасность. Я приставил к нему охрану из числа частных агентов, самолично мной нанятых. Поскольку в поместье Уайстон имелись надежные стены, высокие ограды, сторожевые псы, прочные двери, бдительные слуги и опытные егеря, сведущие в повадках браконьеров и прочих нарушителей права владения, я считал, что принятых мер вполне достаточно. — Но это оказалось не так, — сказал я. — Безусловно, — проворчал инспектор Филд. — Трое лучших моих людей находились в Уайстон-Холле в момент… зверского убийства. Я сам в тот день оставался там до девяти вечера, пока служебные дела не потребовали моего возвращения в Лондон. — Невероятно. — Я никак не мог взять в толк, к чему ведет старый инспектор. — Разумеется, я не афишировал тот факт, что в момент убийства лорда Лукана работал на него в частном порядке, — прошептал инспектор Филд, — но мир сыска тесен, и сведения об этом дошли как до моего начальства, так и до сыщиков, служивших в моем подчинении. Мне тогда пришлось ой как несладко… а ведь именно в то время моя профессиональная карьера должна была достичь вершины. — Понимаю, — сказал я, хотя в действительности понимал лишь одно: передо мной сидит человек, признающийся в собственной некомпетентности. — Не вполне, — прошептал инспектор. — Спустя целый месяц после убийства лорда Лукана — когда еще полным ходом шло официальное расследование, интерес к ходу которого проявляла сама королева, — в мой кабинет в сыскном отделе Скотленд-Ярда доставили маленькую посылку. Я кивнул и откусил большой кусок ростбифа. Мясо было чуть жестковатым, но вполне недурственным. — В посылке оказалось сердце лорда Лукана, — проскрипел Филд. — Обработанное каким-то веществом, предохраняющим от разложения… ныне забытым способом, в далеком прошлом распространенным в Египте… но самое настоящее человеческое сердце. И по утверждению нескольких судебных медиков, с кем я консультировался, оно, безусловно, принадлежало Джону Фредерику Форсайту, лорду Лукану. Я положил на стол нож с вилкой и ошеломленно воззрился на инспектора. Наконец я умудрился проглотить полупрожеванный кусок мяса, внезапно ставшего безвкусным. Старый инспектор подался ко мне через стол, обдав меня винными парами. — Я не сказал вам, мистер Коллинз, что еще я получил вместе с окровавленной рубашкой Гузберри и запиской Друда. Я хотел пощадить ваши чувства. — Его… глаза? — прошептал я. Инспектор Филд кивнул и откинулся на спинку сиденья.
У меня напрочь отбило и аппетит, и желание продолжать беседу. Инспектор Филд заказал себе кофий и десерт. Я допил свое вино и ждал, погруженный в мрачные раздумья. Мне несколько полегчало, когда мы наконец вышли на холодный ветер. Я с наслаждением вдыхал свежий воздух. Не то чтобы я поверил в кошмарную историю инспектора Филда о блуждающем сердце лорда Лукана или завернутых в окровавленные лохмотья глазах Гузберри (писатель, сочиняющий сенсационные романы, легко отличает правду от эффектного вымысла), но сама тема расстроила меня до такой степени, что подагрическая боль, постоянно гнездившаяся у меня за глазными яблоками, резко обострилась. По выходе из гостиницы мы не раскланялись друг с другом, а двинулись вместе обратно к мосту Ватерлоо. — Мистер Коллинз, — сказал инспектор, трубно высморкавшись в носовой платок, — мне кажется, вы хотели встретиться со мной не для того, чтобы узнать об участи моего злополучного юного помощника. Так зачем же вы просили о встрече? Я прочистил горло. — Инспектор, как вам известно, я приступил к работе над новым романом, требующим предварительных исследований самого необычного толка… — Разумеется, — перебил отставной полицейский. — Именно поэтому я плачу одному из лучших своих агентов — уважаемому сыщику Хэчери — за то, чтобы он проводил ночь каждого четверга в кладбищенском склепе в ожидании вашего возвращения утром. Вы заверили меня, что посещаете опиумный притон Короля Лазаря с исследовательской целью, и я не вправе предполагать какой-либо иной мотив. Но я должен сказать, мистер Коллинз, что мои расходы на почасовую оплату упомянутых услуг сыщика Хэчери — не говоря уже о неудобствах, сопряженных с еженедельным отсутствием столь полезного работника в моем собственном распоряжении в течение целой ночи и следующего дня, ибо даже сыщикам необходимо спать, сэр, — до сих пор не… скажем так, не окупаются в части вашего обещания докладывать мне обо всех перемещениях и занятиях мистера Чарльза Диккенса. Я остановился и стиснул набалдашник трости обеими руками. — Инспектор Филд, не полагаете же вы, будто я виноват в том, что в данное время Диккенс совершает турне по провинциям и потому находится вне досягаемости для меня. — Я не полагаю ничего подобного, — отрезал инспектор. — Но сей уважаемый писатель по меньшей мере раз в неделю на сутки возвращается в Лондон. — Чтобы выступить в Сент-Джеймс-Холле, — сказал я несколько запальчиво. — И изредка — поработать в своей конторе на Веллингтон-стрит! — И навестить свою любовницу в Слау, — сухо добавил инспектор Филд. — Хотя мои агенты сообщили мне, что сейчас он подыскивает для мисс Тернан другой дом в окрестностях Пекхэма. — Меня это совершенно не касается, — холодно произнес я. — Я не люблю сплетничать и не интересуюсь интрижками других джентльменов. Я пожалел о неудачном выборе слова «интрижка», едва оно слетело с моих уст.Прохожие уже начинали с любопытством поглядывать на нас, и потому я стремительно зашагал дальше. Инспектор Филд тотчас нагнал меня. — Согласно нашей договоренности, мистер Коллинз, вы должны видеться с Диккенсом по возможности чаще, чтобы выведывать у него — и передавать нам — информацию об убийце, именующем себя Друдом. — Я так и делал, инспектор. — Вы так и делали, мистер Коллинз… но без всякого усердия! Вы даже не приехали к мистеру Диккенсу на Рождество, хотя он почти две недели провел дома в Гэдсхилле и регулярно наведывался в город. — Меня не пригласили. — Я хотел сказать это холодно, но вышло почти жалобно. — Здесь нет вашей вины, — промолвил инспектор Филд таким сочувственным тоном, что у меня возникло желание сломать свою трость о его старую плешивую голову. — Но вы также не воспользовались превосходной возможностью присоединиться к мистеру Диккенсу в нынешнем турне или пообщаться с ним во время его наездов в Лондон. Вероятно, вам будет интересно узнать, сэр, что по меньшей мере раз в две недели Диккенс по-прежнему ускользает от моих агентов, исчезает в трущобных подвалах или старых церковных криптах и появляется в поле зрения только на следующий день, когда садится на поезд до Гэдсхилла. — Вам нужны агенты получше, инспектор, — заметил я. Старик хихикнул и снова высморкал огромный нос. — Возможно, — сказал он. — Возможно. Но покамест мне хотелось бы не упрекать вас, мистер Коллинз, и не сетовать на… на… односторонний порядок выполнения нашего с вами соглашения, а просто напомнить вам: наши общие интересы заключаются в том, чтобы загнать в нору — или выкурить из норы — Друда, покуда новые невинные жертвы не погибли от руки этого чудовища. Мы дошли до моста Ватерлоо. Я остановился у ограды и окинул взглядом причалы с грузовыми кранами, складские сооружения, жалкие хибары, теснящиеся по обоим берегам, и низкомачтовые речные суда, идущие вверх и вниз по Темзе. Порывистый ветер с дождем гнал по реке волны с белыми гребешками. Инспектор поднял воротник своего старомодного сюртука. — А теперь объясните, пожалуйста, зачем вы хотели встретиться со мной, мистер Коллинз, и я изо всех сил постараюсь удовлетворить вашу просьбу насчет дальнейшего… э-э… содействия вашим исследованиям. — Я собирался не только просить вас о дальнейшем содействии моим исследованиям, — сказал я, — но также поделиться с вами своими соображениями, которые могут оказаться чрезвычайно полезными в деле розысков Друда. — Вот как? — Кустистые брови инспектора Филда поползли вверх под полями цилиндра. — Прошу вас, продолжайте, мистер Коллинз. — По сюжету моего нового романа, уже намеченному в общих чертах, — сказал я, — некоему сыщику, обладающему незаурядными умственными способностями и огромным опытом работы, придется разыскивать пропавшего человека. — Да? По роду прошлой и нынешней деятельности мне постоянно приходилось заниматься подобными делами, мистер Коллинз, и я буду рад помочь вам профессиональным советом. — Но мне хотелось бы, чтобы ваша помощь принесла пользу нам обоим, — сказал я, глядя на серую воду, а не на инспектора во всем сером. — Мне пришло в голову, что некий без вести пропавший лондонец может оказаться недостающим звеном, необходимым вам, чтобы проследить всю цепь взаимоотношений и событий, имевших место с момента встречи Диккенса с Друдом под Стейплхерстом… если таковые взаимоотношения действительно существуют. — Неужели? И кто же этот ваш пропавший человек, мистер Коллинз? — Эдмонд Диккенсон. Старик задумчиво почесал щеку, потеребил бакенбарду и, по обыкновению, приложил толстый указательный палец к уху, словно ожидая от него дальнейших пояснений. Наконец он проговорил: — Надо полагать, это молодой джентльмен, спасенный под Стейплхерстом при непосредственном участии мистера Диккенса. Тот самый юноша, который, по вашим словам, разгуливал во сне в Гэдсхилл-плейс год назад, в прошлое Рождество. — Именно он. — При каких обстоятельствах он исчез? — Именно это мне хотелосьбы знать, — сказал я. — Возможно, именно это необходимо знать и вам, чтобы подобраться вплотную к Друду. Я вручил Филду пухлую тетрадь со своими записями, сделанными после разговора со стряпчим мистером Мэтью В. Роффом с Грейс-Инн-Сквер, последним известным адресом Диккенсона в Лондоне и приблизительной датой, когда молодой человек приказал мистеру Роффу передать опекунские обязанности — на несколько последних месяцев, остававшихся до его совершеннолетия, — не кому иному, как Чарльзу Диккенсу. — Очень интересно, — промолвил инспектор, бегло просмотрев записи. — Вы позволите мне взять тетрадь, сэр? — Да. Это второй экземпляр. — Это действительно может помочь нашему общему делу, мистер Коллинз, и я благодарю вас за то, что вы обратили мое внимание на этого господина, пропавшего или нет. Но почему вы считаете, что мистер Диккенсон имеет прямое отношение к нашему расследованию? Я развел ладони над поручнем ограды. — Ну, это очевидно даже для непрофессионала вроде меня. Молодой Диккенсон, вероятно, единственный после Диккенса известный нам человек, находившийся, по свидетельству самого Диккенса, в непосредственной близости от Друда на месте Стейплхерстской катастрофы. Собственно говоря, именно Друд, если верить Диккенсу, направил моего друга к погребенному под обломки юноше, который наверняка погиб бы, если бы не вмешательство Диккенса — и Друда! Помимо всего прочего, подозрения вызывает необъяснимый интерес, проявленный Диккенсом к означенному сироте после катастрофы. Инспектор Филд снова задумчиво потер щеку. — Мистер Диккенс славится своим альтруизмом. Я улыбнулся. — Конечно. Но его интерес к молодому Диккенсону был почти… ну… почти навязчивым. — Или своекорыстным? — спросил Филд. С запада налетел крепкий ветер, и теперь мы оба придерживали цилиндры свободной рукой. — Что вы имеете в виду, сэр? — Какая денежная сумма находилась в доверительном управлении опекуна Эдмонда Диккенсона до совершеннолетия последнего, наступившего в прошлом году? — осведомился старик. — Вам случаем не пришло в голову по ходу вашего расследования наведаться в банк молодого Диккенсона и переговорить с управляющим, а, мистер Коллинз? — Разумеется — нет! — резко произнес я снова ледяным тоном. Самая мысль о подобном поступке шла вразрез со всеми представлениями о чести, свойственными джентльмену. Совать нос в чужие финансовые дела — все равно что читать чужие письма. — Ладно, это будет легко выяснить, — пробормотал инспектор Филд, засовывая тетрадь в карман сюртука. — Что вы хотите в обмен на ваше содействие в розысках Друда, мистер Коллинз? — Ничего, — ответил я. — Я не купец и не лавочник. Когда вы разберетесь в деле исчезновения мистера Диккенсона, который действительно мог видеть Друда под Стейплхерстом и, возможно даже, исчез именно по этой причине, мне единственно хотелось бы узнать в подробностях о ходе вашего расследования… ну, чтобы подостовернее описать в романе следственные действия по поиску без вести пропавшего человека, понимаете ли. — Я все прекрасно понимаю. — Старый инспектор отступил на шаг назад и протянул мне руку. — Я рад, что мы с вами возобновили сотрудничество, мистер Коллинз. Я несколько долгих мгновений смотрел на протянутую руку, прежде чем наконец пожал ее. Слава богу, оба мы были в перчатках.
Глава 21
На дворе стоял месяц май, и мы с Диккенсом находились в маленьком альпийском шале. После дождливой, холодной, сонливой весны май на излете своем вдруг одарил мир ярким солнечным светом, изобилием полевых цветов, сочной зеленью лугов, теплыми днями и долгими ясными вечерами, тонкими ароматами цветения и нежными ночами, благоприятствующими крепкому сну. Моя ревматоидная подагра отпустила меня настолько, что теперь я принимал лауданум гораздо меньшими дозами, чем обычно в последние два года. Я даже подумывал о том, чтобы отказаться от своих еженедельных исследовательских вылазок в подземные владения Короля Лазаря. День был чудесный, и я сидел в верхней комнате шале, с наслаждением подставляя лицо свежему ветерку, дующему в раскрытые окна, и частично пересказывая Чарльзу Диккенсу фабулу своего нового романа. Слово «пересказывая» я употребил намеренно: да, на коленях у меня лежали сорок рукописных страниц с кратким изложением сюжета, но Диккенс плохо разбирал мой почерк. С этим у меня всегда были проблемы. Мне говорили, что типографские наборщики просто воют в голос и грозятся уволиться с работы всякий раз, когда сталкиваются с моими рукописями, — особенное первой половиной любой из них, где я имею обыкновение торопливо строчить, вымарывать целые фразы, вписывать вставки на полях и всех пустых местах, еще остающихся на страницах, вносить бесчисленные изменения и правки, покуда убористый рукописный текст не превращается в сплошную темную массу расползающихся во все стороны строк, затейливых стрелок, указательных значков, помарок и надписок. Признаться, лауданум отнюдь не способствовал удобочитаемости моих рукописей. А слово «частично» я использовал, поскольку Диккенс пожелал ознакомиться с сюжетом только первых двух третей романа — правда, я и сам еще толком не определился с концовкой. Мы постановили перенести более обстоятельное чтение на июнь, когда Диккенс окончательно решит, публиковать или нет мое «Змеиное око» (или «Око змея») в журнале «Круглый год». И вот, погожим днем в конце мая 1867 года я провел целый час, читая и пересказывая фабулу своего романа Чарльзу Диккенсу, который, к его чести, слушал очень внимательно, даже не перебивая меня вопросами. Помимо моего голоса тишину нарушали лишь громыхание фургонов, изредка проезжавших по дороге, тихий шелест ветра в кронах деревьев да жужжание пчел за окнами. Закончив, я отложил рукопись в сторону и отхлебнул изрядный глоток воды из стакана, по обыкновению стоявшего рядом с графином на письменном столе Диккенса. После минутной паузы Диккенс буквально выпрыгнул из кресла и вскричал: — Дорогой Уилки! Какая замечательная история! Экзотическая и одновременно очень английская! С превосходными персонажами и увлекательной тайной! А неожиданный сюжетный ход незадолго до места, где вы прервали повествование! Признаться, для меня это стало полной неожиданностью, друг мой, а ведь такого многоопытного писателя, как я, очень трудно чем-нибудь удивить! — В самом деле? — смущенно пробормотал я. Я всегда жаждал снискать похвалу Диккенса — и сейчас испытал неизъяснимое удовольствие, сравнимое с блаженством, какое разливается теплыми волнами по телу после приема лауданума. — Мы непременно напечатаем ваш роман в журнале! — возбужденно продолжал Диккенс. — Я с уверенностью предсказываю: он затмит собой все, что мы публиковали до сей поры, включая вашу бесподобную «Женщину в белом»! — Будем надеяться, — скромно промолвил я. — Но не хотите ли вы, прежде чем говорить о покупке романа, сперва узнать содержание заключительной части, где я свяжу все концы с концами и воспроизведу полную картину преступления? — Нисколько! — воскликнул Диккенс. — Пусть мне не терпится поскорее узнать, чем там все закончилось, но я уже услышал достаточно, чтобы понять, насколько хорош ваш роман. А тот неожиданный поворот фабулы! Когда сам рассказчик не подозревает о своей виновности! Восхитительно, дорогой Уилки, по истине восхитительно. Повторяю, редко какому писателю удавалось поразить меня столь хитроумным сюжетным ходом! — Спасибо, Чарльз, — сказал я. — Вы позволите задать вам несколько вопросов и внести несколько несущественных предложений? — спросил Диккенс, расхаживая взад-вперед перед открытыми окнами. — Ну конечно же! Конечно! — горячо ответил я. — Помимо того что вы являетесь моим редактором в «Круглом годе», вы слишком много лет были моим соавтором и литературным собратом, чтобы сейчас я пренебрег возможностью извлечь пользу из ваших мудрых советов, Чарльз. — Хорошо. Тогда насчет ключевого сюжетного поворота, — сказал Диккенс. — Вам не кажется, что, заставляя нашего героя Франклина Блэка совершать кражу алмаза как под воздействием лауданума, пусть и подлитого в вино тайно, так и под месмерическим внушением индусских факиров, вы впадаете в некоторое излишество? Я вот о чем: ведь индусы, встреченные им на лужайке, не могли знать, что наш мистер… как там его зовут? — Кого? — Я уже достал карандаш и приготовился делать беглые заметки на обратной стороне одной из страниц рукописи. — Врача, который под конец умирает с отшибленной памятью. — Мистер Канди. — Точно, — кивнул Диккенс. — Вобщем, я хочу сказать лишь, что индусы, случайно встреченные той ночью на территории поместья, едва ли могли знать, что мистер Канди шутки ради подольет в вино Франклина Блэка опиум. Разве не так? — Ну… пожалуй, — согласился я. — Да, они не могли знать этого. — В таком случае два объяснения произошедшему — тайно подлитый в вино лауданум плюс месмерический магнетизм встреченных на лужайке индусских мистиков — это несколько чересчур. — Чересчур? — Я имею в виду, милейший Уилки, что вполне достаточно либо одного, либо другого фактора, чтобы Франклин Блэк совершил кражу в сомнамбулическом сне, — разве не так? — Да… вы правы, — сказал я, торопливо записывая несколько слов. — И не кажется ли вам, что читатель получит гораздо больше пищи для воображения, если бедный мистер Франклин Блэк похитит алмаз из шкапчика своей возлюбленной в попытке уберечь драгоценность, а не под злотворным влиянием индусов? — Хмм… — протянул я. Это низводило мой Большой Сюрприз до случайного стечения обстоятельств. Но вполне могло сойти. Не дав мне времени высказаться, Диккенс продолжил: — А эта странная хромая служанка… извиняюсь, как ее зовут? — Розанна Спирман. — Да, отличное имя для столь странного, душевно смятенного персонажа — Розанна Спирман. Вы упоминаете в самом начале, что она… ну… что леди Вериндер взяла ее в услужение из… из исправительного заведения? — Совершенно верно, — подтвердил я. — Мне воображается, что Розанна содержалась в некоем учреждении, очень похожем на ваш «Юрейниа-коттедж», основанный вами при содействии мисс Бердетт-Кутс около двадцати лет назад. — Ага. Я так и понял, дорогой Уилки, — промолвил Диккенс, по-прежнему улыбаясь и расхаживая взад-вперед. — Но ведь я брал вас с собой в «Юрейниа-коттедж». Вы прекрасно знаете, что там содержатся одни только падшие женщины, получившие возможность начать новую жизнь. — Розанна Спирман как раз из таких, — сказал я. — Безусловно. Но просто немыслимо, чтобы леди Вериндер или любая другая дама равно высоких нравственных достоинств могла взять в услужение Розанну, зная, что в прошлом она была… уличной женщиной. — Хмм… — снова протянул я. Я-то именно и ставил целью показать Розанну исправившейся уличной женщиной. Это объясняло как безнадежную страстную влюбленность служанки в мистера Франклина Блэка, так и эротический подтекст влюбленности. Однако трудно было спорить с тем, что столь утонченная особа, как моя вымышленная леди Вериндер, никогда не взяла бы в услужение проститутку, пусть даже вставшую на праведную стезю. Я сделал заметку на странице рукописи. — Воровка, — произнес Диккенс уверенным тоном, столь для него характерным. — Вам нужно сделать бедную Розанну бывшей воровкой — тогда у сержанта Каффа останется возможность опознать ее, но не как уличную женщину, а как арестантку, в свое время сидевшую у него в тюрьме. — По-вашему, воровство менее греховно, чем проституция? — спросил я. — Конечно, Уилки, конечно. Сделайте Розанну уличной женщиной, пусть совершенно исправившейся, — и дом леди Вериндер будет осквернен. Сделайте ее бывшей воровкой — и читатель увидит великодушие леди Вериндер, которая пытается помочь бедняжке, предоставив возможность зарабатывать на жизнь честным трудом. — Точно! — воскликнул я. — В самое яблочко! Я отмечу здесь, что надо пересмотреть прошлое Розанны. — Еще остается проблема с преподобным Годфри Эбльуайтом. — Я и не понял, что преподобный Эбльуайт пришелся вам не по вкусу, Чарльз. По ходу чтения вы смеялись и приговаривали, что вам нравится разоблачительный портрет этого отъявленного лицемера. — Так и есть, Уилки! Очень даже нравится! И читателям понравится. Дело не в самом персонаже, которого вы превосходно изобразили лицемером, карьеристом и охотником за приданым, а в его титуле. — Преподобный? — Вот именно. Хорошо, что вы сами понимаете проблему, друг мой. — Признаться, я не вполне понимаю, Чарльз. Ведь изобличение ханжества и лжи производит особо сильное впечатление, когда речь идет о лице духовного звания и… — Безусловно, вы правы! — вскричал Диккенс. — Все мы знаем таких вот двуличных священнослужителей — они всячески делают вид, будто творят добро, но в глубине души пекутся единственно о собственном благе, — однако ваше обвинение не утра тит своей обличительной силы, коли мы предъявим его мистеру Годфри Эбльуайту. Я начал было записывать замечание, но почти сразу остановился и потер лоб. — Нет, получается как-то… бледно, невыразительно, совсем не остро. А что, если сделать преподобного Годфри председателем различных благотворительных дамских обществ? Тогда еще лучше прозвучит моя замечательная фраза: «Он был священник по профессии, дамский угодник по темпераменту и милосердный самаритянин по собственному выбору». Вы же сами рассмеялись в голос, когда я процитировал ее вам менее часа назад. — Да, Уилки. Но она прозвучит ничуть не хуже, если вы замените священника на… ну, скажем, адвоката. Таким образом, мы пощадим чувства многих тысяч наших читателей, ничем не повредив вашему восхитительному сюжету. — Я не уверен… — начал я. — Сделайте пометку, Уилки. И пообещайте подумать о моем предложении в процессе завершения работы над романом. Уверяю вас, любой добросовестный редактор любого популярного журнала вроде нашего счел бы нужным обсудить с автором подобный момент. Если бы вы сами издавали чужое произведение — наверняка подняли бы вопрос о разжаловании преподобного Годфри Эбльуайта в мистера Годфри Эбльуайта… — Я не уверен… — снова начал я. — А еще, дорогой Уилки, надо бы определиться с заглавием романа… — продолжал Диккенс. — Ага! — воскликнул я, оживляясь. — И какое вам больше нравится, Чарльз? «Змеиное око» или «Око змея»? — На самом деле ни одно, ни другое, — ответил он. — По тщательном размышлении, друг мой, я нашел оба придуманных вами названия несколько сатанинскими и недостаточно удачными с коммерческой точки зрения. — Сатанинскими? — Ну, око змея. Вызывает библейские ассоциации, Уилки. — Как и ассоциации, связанные с языческой Индией, дорогой Чарльз. Я проштудировал уйму книг о различных индусских культах… — Среди них есть культ поклонения змею? — Я покамест такого не нашел, но индусы поклоняются… всему подряд. У них в чести обезьяньи боги, крысиные боги, коровьи боги… — И конечно же, змеиные боги, согласен с вами, — миролюбиво сказал Диккенс. — Но все равно такое название наводит на мысль о райском саде и змее-искусителе — то есть о дьяволе. А очевидная отсылка к алмазу Кохинор делает любые подобные ассоциации совершенно неприемлемыми. Я впал в совершенное замешательство, ибо понятия не имел, о чем говорит мой друг. Однако, вместо того чтобы разразиться сумбурной речью, аккуратно налил еще воды в стакан, отпил несколько глотков, а потом спросил: — В каком смысле неприемлемыми, дорогой Диккенс? — Ваш драгоценный камень — алмаз или как там вы ни назовете его в конечном счете — явно имеет своим прототипом Кохинор… — Да? Возможно. Ну и что? — Вы, несомненно, помните, друг мой, — во всяком случае, в ходе своих исследований наверняка выяснили, — что подлинный Кохинор родом из местности под названием Гора Света в Индии. Согласно устойчивым слухам, имевшим хождение еще до появления Кохинора на наших берегах, на всех драгоценных каменьях и прочих предметах материальной культуры из упомянутой выше местности лежит проклятье и они приносят несчастье своим владельцам. — Да? — повторил я. — Такие глубинные ассоциации в полной мере оправдывают название «Око змея»… или «Змеиное око». Диккенс остановился и медленно покачал головой. — Нет, если мысль о подобном проклятье связывается в сознании нашего читателя с королевской семьей, — негромко проговорил он. — А… — Я хотел произнести междометие неопределенным, задумчивым тоном, но оно прозвучало сдавленно, словно в горле У меня застряла куриная кость. — Несомненно, вы помните, Уилки, что произошло через два дня после прибытия камня в Англию и за шесть дней до того, как он был преподнесен в дар ее величеству. — Смутно. — Ну, вы тогда были совсем еще молодым человеком, — сказал Диккенс. — Некий Роберт Пейт, отставной лейтенант гусарского полка, напал на королеву. — О господи! — Да-да. Ее величество не пострадала, но общественность моментально связала едва не случившуюся трагедию с алмазом, предназначенным в дар королевской семье. Сам генерал-губернатор Индии счел нужным опубликовать в «Таймс» открытое письмо, объясняющее всю нелепость подобных суеверий. — Да, — промолвил я, продолжая бегло делать записи. — Я читал биографию лорда Дальхаузи в библиотеке «Атенеума». — Нисколько в этом не сомневаюсь, — сказал Диккенс тоном, который показался бы мне сухим, будь я настроен покритичнее. — И с Кохинором связано еще одно страшное событие — смерть принца Альберта. Я перестал писать. — Что? Он умер всего шесть лет назад, через одиннадцать лет после того, как камень прибыл в Англию и демонстрировался на Всемирной выставке. Кохинор был распилен на несколько частей в Амстердаме задолго до кончины Альберта. Какая связь может существовать между этими двумя событиями? — Вы забываете, дорогой Уилки, что принц-консорт являлся организатором и главным меценатом Всемирной выставки. Именно он предложил выставить Кохинор на странном почетном месте в Большом зале. Ее величество, разумеется, по сей день носит траур, и иные из приближенных говорят, что порой она в глубоком своем горе винит индийский камень в смерти возлюбленного супруга. Так что сами понимаете: мы должны проявить осторожность при выборе названия книги во избежание любых ассоциаций между Кохинором, приносящим несчастье королевской семье, и нашей вымышленной историей. Я не пропустил мимо ушей местоимения «мы» и «нашей». В свою очередь, взяв сухой тон, я осведомился: — Если не «Око змея» и не «Змеиное око»… какое, по-вашему, название подойдет к истории об алмазе, изначально вставленном в глазницу статуи индусского змеиного бога? — О! — беспечно воскликнул Диккенс, присаживаясь на край стола и по-редакторски снисходительно ухмыляясь. — Я думаю, мы запросто можем отказаться и от змеиного бога, и от ока. Как насчет названия, звучащего менее эффектно и одновременно более завлекательно для женской части читающей публики? — Мои книги всегда пользовались популярностью у женщин, — холодно заметил я. — Истинная правда! — воскликнул Диккенс, хлопнув в ладони. — Никто лучше меня не знает о триумфальном успехе вашей «Женщины в белом». На каждую сотню читателей, с нетерпением ждавших очередных выпусков вашего романа, пришелся лишь один читатель, проявлявший равный интерес к моему «Общему другу», который продавался гораздо хуже. — Ну, я бы так не сказал… — Как вам название… «Лунный камень»? — перебил Диккенс. — «Лунный камень»? — тупо повторил я. — Вы предлагаете написать о камне, привезенном с Луны, а не из Индии? Диккенс от души рассмеялся обычным своим заливистым, мальчишеским смехом. — Отличная шутка, дорогой Уилки. Но если серьезно… название вроде «Лунного камня» возбудит интерес у особ женского пола — во всяком случае, уж точно не оттолкнет их. И оно звучит таинственно и романтично, без всякой тени кощунства или дьявольщины. — Лунный камень, — пробормотал я, прислушиваясь к звучанию слов; после «Ока змея» (или «Змеиного ока») заглавие казалось ужасно пресным и бесцветным. — Замечательно! — воскликнул Диккенс, поднимаясь на ноги. — Мы велим Уиллсу внести в проект договора это название в качестве предварительного. Повторяю, в кратком изложении ваш роман привел меня в такой же восторг, в какой, несомненно, приведет чтение полностью или почти законченного произведения. Превосходная история, изобилующая самыми неожиданными сюжетными поворотами. Ваша придумка с хождением во сне под воздействием опиума, когда сам герой похищает камень и впоследствии ничего не помнит, это гениально, Уилки, просто гениально. — Спасибо, Чарльз, — повторил я, вставая и убирая карандаш в карман. В голосе моем уже не слышалось прежнего энтузиазма. — Пора на прогулку! — объявил Диккенс, направляясь к вешалке в углу комнаты за тростью и шляпой. — По такой чудесной погоде я думаю проделать путь до самого Рочестера и обратно. В последнее время вид у вас цветущий. Вы со мной? — Я с вами до Рочестера, а там сяду на послеполуденный поезд до Лондона, — сказал я. — Кэролайн и Кэрри сегодня ждут меня к ужину. Насчет последнего я приврал: Кэрри гостила у родственников в деревне, а Кэролайн полагала, что я заночую в Гэдсхилле. — Половина прогулки в обществе друга все же лучше, чем ничего, — сказал Диккенс, убирая собственные рукописи в папку и стремительно направляясь к двери. — Пойдемте скорее, пока над дорогами не поднялась пыль и день не сократился еще на минуту.Был вечер четверга, шестого июня, и я, по заведенному с начала весны обыкновению, предавался скромному удовольствию, состоявшему в совместном походе со здоровенным сыщиком Хэчери в местную таверну — там мы легко перекусывали и выпивали по кружке пива за мой счет, прежде чем я отдавался под покровительство своего провожатого и спускался в припортовые трущобы, а потом в темные катакомбы под Погостом Святого Стращателя, которые я стал мысленно называть «Империей подземных наслаждений Короля Лазаря». Поближе познакомившись с сыщиком Хэчери в ходе наших еженедельных посиделок в таверне, я узнал немало удивительного об этом неуклюжем верзиле, представлявшемся мне с нашей первой встречи персонажем скорее комическим. Оказывается, он жил в благопристойном квартале в районе Дорсет-Сквер, неподалеку от моего дома. Жену он похоронил несколько лет назад, но имел трех взрослых дочерей, в которых души не чаял, и сына, совсем недавно поступившего в Кембридж. Что самое поразительное, Хэчери много читал и среди своих любимых книг числил несколько принадлежащих моему перу. Из них он выше всего ценил «Женщину в белом», хотя имел возможность прочитать роман только в журнальном варианте. Сегодня вечером я принес экземпляр книги «Женщина в белом» и как раз надписывал его для своего охранника, когда у нашего стола кто-то остановился. Я узнал сперва коричневый твидовый костюм, а потом некрупное, но крепко сбитое тело, в него втиснутое. Мужчина снял шляпу, и мне показалось, что кудрявые сивые волосы у него сейчас подлиннее, чем были в Бирмингеме, — правда, тогда они были мокрые. — Мистер Коллинз. — Он легко коснулся двумя пальцами лба, словно дотрагиваясь до полей шляпы. — Реджинальд Баррис к вашим услугам, сэр. Я пробурчал что-то невнятное. Мне совершенно не хотелось видеть сыщика Реджинальда Барриса. Ни сегодня вечером, ни когда-либо впредь. Жуткие воспоминания о нескольких секундах жестокой расправы в бирмингемском переулке только-только начали меркнуть в моей памяти. Но Баррис поприветствовал Хэчери — тот кивнул в ответ, принимая от меня надписанную «Женщину в белом», — и присоединился к нам за столом, даже не спросив разрешения: нахально придвинул стул и уселся на него верхом, положив сильные руки на спинку. Пораженный столь дурными манерами, я на секунду задался вопросом, уж не является ли Баррис, несмотря на свой кембриджский акцент, американцем. — Какая удача, мистер Коллинз, что я случайно встретил вас, — сказал Баррис. Я не счел нужным отвечать на подобную чушь, но с холодным неодобрением взглянул на Хэчери, посвятившего постороннего человека в детали нашего совместного времяпрепровождения. В следующий миг я сообразил, что верзила все-таки работает на инспектора Филда (и почти наверняка отчитывается не только перед ним, но также перед несносным Баррисом, судя по всему, занимавшим должность заместителя навязчивого инспектора), а потом напомнил себе, что на самом деле мы с Хэчери никакие не друзья, невзирая на мое доброе к нему отношение. Баррис подался вперед и произнес приглушенным голосом: Инспектор Филд надеется получить от вас отчет, сэр. Я вызвался напомнить вам об этом, коли вдруг случайно встречусь с вами, у нас остается мало времени. — Я отправил Филду отчет менее двух недель назад, — сказал я. — И до чего именно у нас остается мало времени? Баррис улыбнулся, но быстро приложил палец к губам и картинно стрельнул глазами по сторонам, напоминая о необходимости соблюдать осторожность. Я постоянно забывал, что Филду и его людям повсюду мерещатся тайные агенты фантомного Друда. — До девятого июня, — прошептал Баррис. — А… — промолвил я и отхлебнул пива. — Девятое июня. Святая годовщина Стейплхерстской катастрофы и… — Тш-ш-ш! — прошипел мистер Реджинальд Баррис. Я пожал плечами. — Я не забыл. — Ваш последний отчет был совершенно невразумительным, мистер Коллинз, и… — Совершенно невразумительным? — возмущенно перебил я достаточно громким голосом, чтобы меня услышали все без исключения немногочисленные посетители таверны, ни один из которых, впрочем, не походил на соглядатая. — Я писатель, мистер Баррис. Я несколько лет проработал журналистом, а в настоящее время являюсь профессиональным литератором. Едва ли мой отчет мог быть совершенно невразумительным. — Нет, конечно нет, — поспешно согласился молодой сыщик, сконфуженно улыбаясь. — То есть — да. В смысле — нет… я неверно выразился, мистер Коллинз. Не совершенно невразумительным, а, напротив, очень даже вразумительным, но малость… поверхностным. — Поверхностным? — повторил я с презрением, коего заслуживало данное определение. — Вы изложили все предельно ясно в нескольких словах, — вкрадчиво пропел молодой сыщик, еще сильнее подаваясь вперед, — но не стали вдаваться в подробности. Например, вы сообщили, что мистер Диккенс продолжает утверждать, что не знает нынешнего местонахождения мистера Эдмонда Диккенсона, но скажите, вы… как выражались у нас в школе и в полку… метнули в него вашу «бомбу»? Я невольно улыбнулся. — Мистер… сыщик… Баррис, — мягко промолвил я, искоса глянув на Хибберта Хэчери, внешне не проявлявшего ни малей щего интереса к разговору своего начальника со мной. — Я не просто, как вы изволили выразиться, метнул «бомбу» — я подверг мистера Диккенса самому натуральному мортирному обстрелу.
Под «бомбой» Баррис подразумевал предположение, что причиной исчезновения молодого Диккенсона явились его деньги. Тем погожим майским днем я чувствовал себя настолько хорошо, что по-настоящему наслаждался долгой прогулкой от Гэдсхилла до Рочестера, несмотря на необходимость поспевать за стремительно шагавшим Диккенсом. Мы преодолели уже две трети пути до места назначения и шли по пешеходной тропе, тянувшейся вдоль дороги по направлению к отдаленным соборным шпилям, когда я метнул в Неподражаемого «бомбу», даже целый ящик бомб, или пальнул из всех своих мортир. — Да, кстати! — сказал я. — Я тут на днях случайно столкнулся с другом молодого Эдмонда Диккенсона. Я ожидал увидеть на лице Диккенса ошеломленное или изумленное выражение, но он лишь слегка повел царственной бровью. — Правда? У меня сложилось впечатление, что у молодого Диккенсона нет друзей. — Оказывается — есть, — солгал я. — Школьный приятель по имени Барнаби, или Бенедикт, или Бертрам, или что-то вроде. — А какая у него фамилия? — поинтересовался Диккенс, часто постукивая тростью по земле в такт скорым шагам. — Не имеет значения, — ответил я, сожалея, что не продумал поосновательнее вводную часть вымышленной истории, призванной стать ловушкой для Неподражаемого. — Просто случайный знакомый по клубу. — Почему не имеет? Вполне возможно, ваш клубный знакомец солгал вам, — беспечно промолвил Диккенс. — Солгал? С чего вы взяли, Чарльз? — Я точно помню, как молодой Диккенсон говорил мне, что ни дня не учился в университете и никогда не переступал порога ни одной школы, — сказал Диккенс. — Похоже, у бедного сироты были домашние учителя, один хуже другого. — Ну… — Я прибавил шагу, нагоняя Диккенса. — Может, они и не школьные друзья, но этот Барнаби… — Или Бертрам, — сказал Диккенс. — Да. В общем, этот парень… — Или Бенедикт. — Да. Вы позволите мне продолжить, Чарльз? — Пожалуйста, дорогой Уилки! — Диккенс улыбнулся и сделал приглашающий жест. Стайка серых птиц — куропаток или голубей — сорвалась с живой изгороди перед нами и взмыла в синее небо. Диккенс на ходу вскинул трость к плечу, словно ружье, и спустил воображаемый курок. — Так вот, по словам этого парня, невесть откуда знавшего молодого Диккенсона, в прошлом году Диккенсон самолично сообщил ему, что он, Диккенсон, за несколько месяцев до своего совершеннолетия в законном порядке поменял опекуна. — Вот как? — только и промолвил Диккенс. Равнодушно-вежливым тоном. — Да, — сказал я и выжидательно умолк. Мы прошли ярдов сто в молчании. Наконец я метнул свою «бомбу». — Этот самый парень… — Мистер Барнаби. — Этот самый парень, — упрямо продолжал я, — как-то случайно оказался по делам в банке своего друга Диккенсона и случайно услышал там… — Что за банк? — осведомился Диккенс. — Прошу прощения? — О каком банке вы говорите, дорогой Уилки? Вернее, о каком банке говорил друг молодого Диккенсона? — Банк Тилсона, — ответил я, ощущая сокрытую в этих двух словах силу. У меня было такое чувство, будто я делаю решающий ход слоном, прежде чем объявить мат. Кто-то (кажется, сэр Фрэнсис Бэкон) сказал: «Знание — сила» — и я сейчас обладал сокрушительной силой, порожденной знанием, добытым инспектором Филдом. — А, да. — Диккенс легко перепрыгнул через ветку, валявшуюся на песчаной дорожке. — Я знаю этот банк… ужасное старомодное, кичливое, тесное, полутемное, уродливое заведение, пропахшее плесенью. К этому моменту я уже почти (но не совсем) потерял нить разговора, призванного стать петлей, чтобы заарканить совесть этого короля. — Достаточно надежный банк, чтобы перевести примерно двадцать тысяч фунтов на счет нового опекуна Эдмонда Диккенсона, — с расстановкой проговорил я и задался вопросом, не добавил ли бы здесь мой сержант Кафф «ха-ха!». — Ко всем перечисленным выше определениям я бы еще добавил «неосмотрительное», — хихикнул Диккенс. — Никогда больше не буду иметь никаких дел с банком Тилсона. Я невольно остановился. Диккенс сделал еще несколько шагов и тоже остановился, явно слегка раздосадованный, что мы нарушили темп ходьбы. У меня бешено колотилось сердце. — Так значит, вы не отрицаете, что получили там деньги, Чарльз? — Отрицаю? С чего бы мне отрицать, дорогой Уилки? О чем вы, собственно, говорите? — Вы не отрицаете, что стали опекуном Эдмонда Диккенсона и перевели примерно двадцать тысяч фунтов — все состояние молодого человека — из банка Тилсона на свой счет в собственный банк? — Не отрицаю и не собираюсь отрицать! — рассмеялся Диккенс. — Оба ваши утверждения являются констатацией фактов, а следовательно, соответствуют действительности. Ну же, пойдемте. — Но… — проговорил я, нагоняя Диккенса и стараясь попасть в ногу с ним. — Но… когда я недавно спросил вас, знаете ли вы, где сейчас находится молодой Диккенсон, вы сказали, что понятия не имеете — мол, слышали только, будто он уехал в Южную Африку или еще в какие-то дальние края. — И это чистая правда, — сказал Диккенс. — Но вы же были его опекуном! — Только по названию, — сказал Диккенс. — И только в течение нескольких недель, остававшихся до совершеннолетия бедного мальчика и его вступления в полные права наследства. Оп полагал, что оказывает мне честь, назначая меня своим опекуном, и я не счел нужным разубеждать его. Безусловно, это дело касалось только нас с Диккенсоном, и никого больше. — Но деньги… — начал я. — Сняты со счета по просьбе Диккенсона на следующий же день после того, как он достиг совершеннолетия и получил право распоряжаться своим капиталом по собственному усмотрению, дорогой Уилки. Я имел удовольствие выписать юноше чек на всю сумму. — Да, но… почему через ваш банковский счет, Чарльз? Это же лишено всякого смысла. — Разумеется, — согласился Диккенс, снова хихикнув. — Юный сирота, по-прежнему считавший, что обязан мне жизнью, хотел видеть мою подпись на банковском чеке, с которым он вступал во взрослую жизнь. Все это глупости, конечно, но от меня требовалось единственно принять перевод и выписать парню чек. Его бывший стряпчий и консультант — мистер Рофф, кажется, — уладил все дела с обоими банками. — Но вы сказали, что понятия не имеете, куда уехал Диккенсон… — Так оно и есть. Он говорил вроде, что собирается посетить Францию, а потом начать новую жизнь в… Южной Африке или даже Австралии. Но я не получил от него ни одного письма. Я открыл было рот снова, но осознал, что мне больше нечего сказать. Когда я мысленно репетировал сей словесный поединок, я воображал сержанта Каффа, вынуждающего пойманного врасплох преступника признаться в убийстве. Диккенс внимательно поглядывал на меня, явно забавляясь. — Когда вы узнали все это от вашего поразительно осведомленного мистера Барнаби, или Бенедикта, или Бертранда, дорогой Уилки, вы решили, что я сделался опекуном молодого Диккенсона, втершись к нему в доверие, а потом убил бедного мальчика из-за денег? — Что?! Я… конечно, я не… просто смеху подобно… как вы могли такое поду..? — Я бы лично пришел именно к такому выводу на основании подобных косвенных улик, — весело сказал Диккенс. — Немолодой писатель, возможно испытывающий денежные затруднения, по воле случая спасает жизнь богатому сироте и вскоре осознает, что у мальчика нет друзей, нет родственников, нет близких знакомых — один только слабоумный старый стряпчий, часто забывающий даже, обедал он сегодня или нет. И тогда писатель устраивает так, чтобы доверчивый юноша назначил своим опекуном его, корыстолюбивого писателя с денежными неурядицами… — У вас имеются финансовые проблемы, Чарльз? Диккенс расхохотался так заразительно, что я едва не рассмеялся вместе с ним. — Как бы, по-вашему, я убил Диккенсона, Уилки? И где? В Гэдсхилл-плейс? На глазах у многочисленных обитателей и гостей дома, снующих повсюду днем и ночью? — В Рочестерском соборе, — мрачно пробурчал я. Диккенс глянул вперед поверх зеленых деревьев. — Ну вот, мы уже почти пришли. Хо-хо!.. Погодите-погодите… вы говорите, я бы убил Диккенсона в Рочестерском соборе. Ну да, конечно. Идеальное место для такого дела. Вы гений дедукции, друг мой! — Вы любите показывать собор своим знакомым ночью, при лунном свете, — сказал я, не веря, что произношу эти слова вслух. — Истинная правда, — рассмеялся Диккенс. — А мистер Дредлс и соборный священник, которого я в своем романе нареку Септимусом Криспарклом, дали мне ключи от башни, чтобы я мог водить туда гостей в любое время суток… — И от крипты, — пробормотал я. — Что? А, ну да! Превосходно. Те же ключи обеспечивают мне доступ и в крипту. Значит, остается только пригласить молодого Диккенсона на ночную прогулку, завести на соборную башню, чтобы полюбоваться видом Рочестера при луне, — как я водил вас вместе с дочерьми и зятем Лонгфелло в прошлом году, — и в подходящий момент, когда мальчик по моему настоянию перегнется через ограду, чтобы получше рассмотреть озаренное лунным светом море внизу… просто легонько подтолкнуть его. — Давайте оставим этот разговор, Чарльз, — грубовато произнес я. Подагрическая боль все сильнее пульсировала у меня за левым глазом, точно кровавый гейзер с перекрытой горловиной. — Нет-нет, я в полном восторге! — вскричал Диккенс, размахивая перед собой тростью, словно тамбурмажор — жезлом. — Не нужно ни пистолета, ни молотка, ни лопаты, ни иного мерз кого орудия убийства, от которого потом придется избавляться — только сила земного притяжения. Короткий вопль в ночи. А потом… что потом? Предположим, бедняга напоролся на один из железных штырей, торчащих по верху ограды вокруг башни, или забрызгал своими куриными мозгами одно из древних надгробий… и что потом, сержант Кафф? — Известковая яма, — сказал я. Диккенс резко остановился и схватился за лоб свободной рукой. Глаза у него расширились, лицо расплылось в блаженной улыбке. — Известковая яма! — воскликнул он; всадник, рысцой проезжавший по дороге на гнедой кобыле, посмотрел в нашу сторону. — Ну конечно! Как же я мог забыть про известковую яму? А потом… вероятно, через несколько дней… подземные склепы? Я потряс головой, отвел взгляд и до крови закусил губу. Мы двинулись дальше. — Разумеется, — сказал Диккенс, рассеянно рубанув тростью по кусту, — тогда мне понадобится помощь старого Дредлса — чтобы разобрать и снова сложить стену гробницы. Именно так и раскрываются убийства, Уилки: решение привлечь к делу сообщника зачастую оказывается первым шагом к виселице. — Совсем не обязательно, — возразил я бесцветным голосом. — Вы примените в бедному Дредлсу свой магнетический дар. Он не запомнит, что пособлял вам избавиться от трупа… скелета… часов, очков и прочих металлических предметов. — Месмеризм! — вскричал Диккенс. — Превосходно! А лауданум мы здесь задействуем? — Думаю, в этом нет надобности, Чарльз. Одного гипнотического внушения вполне достаточно, чтобы заручиться содействием пособника, ведать не ведающего о своем соучастии в преступлении. — Бедный старый Дредлс! — воскликнул Диккенс, чуть не прыгая от восторга. — Бедныймолодой Диккенсон! Те немногие, кто вообще знал о его существовании, считают — со слов убиицы, — что он уехал во Францию, или в Южную Африку, или в Австралию. Оплакивать парня некому. Некому принести хоть один цветок к замурованному склепу, где он лежит с другим мертвецом. А убийца решает свои… финансовые проблемы… и жи вет себе как ни в чем не бывало. Просто восхитительно, дорогой Уилки! Сердце у меня снова бешено колотилось. Я решил взорвать «бомбу», брошенную, вероятно, слишком рано. — Да, Чарльз. Но так все произойдет только в том случае, если убийца знает, что он убийца… что он совершил убийство. — А как он может не знать?.. — начал Диккенс, а потом взъерошил пятерней свою жидкую бороденку. — Ну да, конечно! Убийца, посредством магнетизма принудивший хранителя склепов к соучастию в преступлении, сам действовал под гипнозом! Я ничего не ответил, но внимательно наблюдал за лицом Неподражаемого. Он помотал головой. — Нет, боюсь, так не пойдет, Уилки. — Почему, Чарльз? — Доктор Эллиотсон, мой первый наставник в искусстве магнетизма, — вы сами не раз его цитировали, Уилки! — и все остальные специалисты, которых я читал или знал лично, с уверенностью утверждают: человек, находящийся под месмерическим воздействием чужой, более сильной воли, все равно никогда не совершит поступка, какого не мог бы, не согласился бы совершить, находясь в полном сознании. — Но вы же заставили старого Дредлса помочь вам избавиться от тела, — сказал я. — Да, да, — проговорил Диккенс, ускоряя шаг и в глубокой задумчивости ероша обеими руками волосы и бороду. — Но погребение мертвецов в могилах и склепах — с переноской трупов при необходимости и замуровыванием гробниц — это работа Дредлса. Месмерист просто-напросто внушит Дредлсу, что он действует сообразно привычным обстоятельствам. Но заставить человека совершить убийство… нет, Уилки, это не годится для нашей истории. Никак не годится, если наш убийца душевно здоров. — Даже душевно здоровые люди таят в сердце своем темные помыслы, — негромко промолвил я; мы уже подходили к Рочестерскому собору. — Даже у душевно здоровых людей — образцов душевного здоровья, публичных персон — имеются темные стороны, тщательно скрываемые от всех. — Верно, верно, — откликнулся Диккенс. — Но едва ли они способны на убийство. — А что, если истинный кукловод, стоящий за этим преступлением, является великим месмеристом и массовым убийцей? — спросил я. — Он знает сотни тайных способов подчинять мужчин и женщин своей воле, заставляя выполнять любые свои приказы, сколь угодно ужасные. Возможно, все они под магнетическим внушением считают себя актерами, участвующими в некой театральной постановке, и уверены, что убиенные жертвы в конце спектакля вскочат на ноги и выйдут на поклоны к публике. Диккенс бросил на меня пронзительный взгляд. — Вы еще более изощренный выдумщик, чем я думал, Уилки Коллинз. Ваш новый роман — «Лунный камень» — будет пользоваться огромным успехом, если учесть ненасытный интерес публики к зверским убийствам, морям крови и извращенным страстям, таящимся в самых темных уголках души человеческой. — Хочется надеяться, — пробормотал я. Мы уже вошли в город и находились меньше чем в квартале от Рочестерского собора. Громадная башня накрывала своей тенью нас и все скопление приземистых серых домов, теснившихся по обеим сторонам дороги. — Не хотите подняться наверх и полюбоваться видом? — спросил Диккенс, указывая на высокий каменный шпиль. — У меня ключ с собой. — Не сегодня, — сказал я. — Но все равно спасибо, Чарльз. — Тогда как-нибудь в другой раз, — сказал Неподражаемый.
— Значит, он не выказал ни чувства вины, ни раскаяния в связи с историей с двадцатью тысячами фунтов, — медленно проговорил Реджинальд Баррис. — А что насчет годовщины? — Прошу прощения? — промолвил я, выходя из задумчивости. — Годовщина Стейплхерстской катастрофы, — прошептал молодой сыщик. — Инспектор Филд просил вас употребить все свои старания, чтобы повсюду сопровождать Диккенса, когда он приедет в город в означенный день, а до девятого числа осталось всего три дня. В своем отчете вы не сообщили, принял ли он или отверг ваше предложение провести с ним в Гэдсхилл-плейс весь день девятого июня и последующую ночь, когда он непременно вернется в Лондон и в Подземный город. Я допил свое пиво и с улыбкой посмотрел на Хибберта Хэчери — здоровенный мужчина, в своих стараниях не подслушивать нас, почтительно листал экземпляр «Женщины в белом», надписанный мной для него несколько минут назад. — Вам нравится книга, сыщик Хэчери? — Это бесценный подарок, мистер Коллинз, — пророкотал великан. — Годовщина, мистер Коллинз, — настойчиво повторил несносный Баррис. — Мистер Диккенс не пригласил меня погостить с Гэдсхилле или прогуляться с ним по городу воскресной ночью — девятого июня — в поисках фантома по имени Друд, — сказал я, не глядя на Барриса. — В таком случае, сэр, — решительно произнес сыщик, — нам необходимо условиться о времени вашей встречи с инспектором Филдом. Он уже назначил двадцать трех агентов на дежурство в воскресную ночь… — Но мистер Диккенс, — продолжал я, непринужденно перебивая выскочку, — согласился отужинать у меня дома на Мелкомб-плейс в воскресенье и… — я выдержал паузу для пущей выразительности, — заночевать там. Баррис похлопал глазами. — В ночь годовщины Стейплхерстской катастрофы Диккенс будет находиться в вашем доме? Я медленно кивнул, чувствуя себя в полном праве принять снисходительный вид. Баррис вскочил на ноги и с грохотом развернул стул. — Я должен немедленно сообщить об этом инспектору Филду. Благодарю вас, мистер Коллинз. Это… неожиданный… поворот событий. — Он дотронулся до полей незримой шляпы и, взглянув на Хэчери, сказал: — Вы там поосторожнее, Хибберт. Потом Баррис покинул таверну, а мы с Хэчери прошли мили полторы до Погоста Святого Стращателя. Готовясь к долгому ночному дежурству в склепе, сыщик достал из карманов несколько предметов — маленький фонарь, промасленный сверток со своим заполночным ужином (приготовленным, несомненно, одной из любимых дочерей), фляжку с водой и новенький экземпляр «Женщины в белом». Спускаясь по лестнице в древние катакомбы, я размышлял — в какой уже раз — о безграничной способности человеческих существ привыкать к любым обстоятельствам. Два года назад, когда я впервые спускался сюда в обществе Диккенса, все вокруг казалось диковинным и наводило изрядный страх. Теперь же поход в подземелье стал для меня плевым делом — таким же обыденным мероприятием, как еженедельный поход в аптеку на углу за очередной бутылью лауданума. Король Лазарь с двумя телохранителями встретил меня у занавешенного драной портьерой входа в свое логово. Моя трубка была уже заправлена и приготовлена для меня. Когда через восемь часов я поднялся по лестнице навстречу новому дню, сыщик Хэчери уже аккуратно рассовал по карманам все свои вещи, кроме книги, которую он читал, подставив под тонкий луч утреннего света, проникавший в приоткрытую дверь склепа. — Все в порядке, сэр? — спросил он, убирая книгу в один из своих многочисленных поместительных карманов. — Все в полном порядке, сыщик Хэчери. В полном порядке. Похоже, день нынче чудесный.
Глава 22
В воскресенье, 9 июня 1867 года, я воротился домой позже, чем рассчитывал. Утром я сказал Кэролайн, что буду работать в клубе до вечера, но вернусь до прибытия Диккенса к ужину. Как вы наверняка догадались, дорогой читатель, на самом деле я провел почти весь день с Мартой Р*** в ее комнатах на Болсовер-стрит, потерял счет времени и примчался домой в несколько растрепанном виде и порядком измотанный. В гостиной я застал Чарльза Диккенса, совершающего месмерические пассы над головой Кэролайн Г***, явно погруженной в дрему. Диккенс первый заметил меня. — А, милейший Уилки! — воскликнул он. — Вы как раз вовремя. Кэролайн открыла глаза и сообщила: — Мистер Диккенс гипнотизировал меня. — Я так и понял, — холодно сказал я. — Показывал мне, как воздействовать на тебя животным магнетизмом! — торопливо пояснила она. — Чтобы помогать тебе заснуть в такие ночи, когда… ну, ты знаешь. — Я знаю, что в последнее время я хорошо сплю, — солгал я. Диккенс улыбнулся. — Но если Кэролайн научится погружать вас в сон посредством магнетических приемов, вы сможете сократить вечернюю дозу лауданума или даже вовсе от него отказаться. — Я и так прекрасно обхожусь без лауданума, — сказал я. — Ох, Уилки, но это же неправда! — вскричала Кэролайн. — Всего только третьего дня ты… — Она осеклась, встретив мой ледяной взгляд. А потом пролепетала: — Пойду перемолвлюсь с поварихой и узнаю, готов ли ужин. Ужин вскоре подали, и он удался на славу — не только в смысле вкусовых впечатлений (приятная неожиданность для меня, поскольку наша «повариха» Бесс являлась также нашей горничной и одной из скромного штата нашей прислуги, в который помимо нее входили ее муж Джордж и их дочь Агнес, ровесница Кэрри), но также в смысле приятствия и веселости застольной беседы. Кэрри, неизменно восторгавшаяся Чарльзом Диккенсом (в отличие от собственных его дочерей, заметно к нему поостывших в последнее время), держалась с милой девичьей застенчивостью — юная Хэрриет, как и ее мать, обладала довольно живым умом и уже овладела тонким искусством очаровывать взрослых мужчин, не впадая в кокетство. Даже Кэролайн принимала участие в нашем разговоре. Сам Диккенс был благодушен и любезен. Не знаю, дорогой читатель моего посмертного будущего, удалось ли мне объяснить это в своих жалких мемуарах достаточно внятно и доходчиво, но Чарльз Диккенс, пусть предположительно негодяй и даже убийца, почти всегда был исключительно приятен в общении. Он вел разговор легко и непринужденно, без ма лейшей натуги или притворства, обычно не сосредоточиваясь на собственной персоне. В кругу моих знаменитых английских друзей и знакомых он единственный казался мне неизменно занятным, интересным и сочувственным собеседником, он никогда не стремился изречь напыщенный афоризм или отпустить тяжеловесную остроту, а в роли внимательного слушателя вызывал расположение тем, что часто смеялся, причем весьма заразительно. Тогда, девятого июня, в год от Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят седьмой, Диккенс тоже много смеялся за ужином. Он производил впечатление человека, свободного от всяких забот и тягостных мыслей. После ужина мы с ним поднялись в мой кабинет, чтобы выпить бренди и выкурить сигару-другую. Признаться, я немного побаивался заходить в кабинет в вечерние часы — июньской порой смеркалось поздно, и, хотя сейчас похолодало и лил дождь, сквозь шторы все еще пробивался тусклый свет, — но я утешил себя соображением, что Второй Уилки редко появлялся раньше полуночи. Вдобавок я ни разу не видел Второго Уилки, когда находился в чьем-либо обществе, — хотя Второй Уилки так или иначе тревожил меня своим присутствием, сначала смутно ощущаемым, а потом явственно зримым, с самого детства (о чем мне, вероятно, следовало сказать вам раньше, дорогой читатель). Но сегодня он не стал докучать мне. Диккенс, извинившись, отлучился в туалет, а я подошел к окну со своим стаканом бренди, раздвинул шторы и выглянул в сумерки. Дождь по-прежнему лил как из ведра. Я слабо улыбнулся при мысли об инспекторе Филде и двадцати трех агентах, в большинстве своем нанятых на одну ночь (буквально несколько дней назад я с удивлением узнал, что в штате частного сыскного бюро Филда служат всего-навсего семь человек). Все они сторожили где-то поблизости, невидимые глазу, и наверняка чувствовали себя не особо комфортно под дождем в такую не по сезону холодную погоду. Кэрри и служанка Агнес жарко растопили камин в моем кабинете, и здесь было тепло и уютно. Накануне я премного позабавился, когда инспектор велел мне выпроводить из дома под разными предлогами Кэролайн, Кэрри и трех слуг, чтобы он с Баррисом и еще несколькими своими людьми мог тщательно обследовать весь дом от подвала до чердака. Филд настоял на такой необходимости, и мне осталось лишь ходить за ним по пятам, пока они осматривали двери и окна, прикидывая вслух, можно ли допрыгнуть до верхних окон с соседних крыш, и горячо обсуждая между собой, с каких позиций лучше всего вести наблюдение за улицей, задним двором и ближайшими переулками. Наконец они с фанатичным усердием обрыскали весь подвал и даже не поленились перекидать лопатами добрых полтонны угля с одного места на другое. В каменной стене, возле которой всегда была насыпана угольная куча высотой в несколько футов, сыщики обнаружили отверстие… отверстие диаметром дюймов десять, если не меньше. Сыщики посветили в дыру фонарем, но узкий лаз всего через пару футов резко уходил вниз, в камень и землю. — Куда это ведет? — осведомился инспектор Филд. — Откуда мне знать? — сказал я. — Я впервые это вижу. Филд отдал распоряжение Баррису и прочим своим людям, и они — уму непостижимо! — притащили кирпичи, строительную известь и необходимые инструменты, чтобы заложить столь безобидное отверстие. Они управились с делом за десять минут: Баррис самолично укладывал кирпичи и орудовал мастерком. Я заметил, с какой сноровкой он работал, и догадался, почему у него такие мускулистые руки. Мистер Реджинальд Баррис, как бы он ни щеголял своим оксфордским или кембриджским акцентом, явно происходил из низкого ремесленного сословья. — Вы защищаете меня и Диккенса от крыс? — с улыбкой спросил я. Инспектор наставил на меня толстый палец, каковой жест невесть почему показался угрожающим. — Помяните мои слова, мистер Коллинз. Либо мистер Диккенс постарается встретиться с Друдом завтра, в знаменательную годовщину их встречи на месте Стейплхерстской катастрофы, либо Друд изыщет способ повидаться с Диккенсом. В любом случае, сэр, вы окажетесь в опасности, коли встреча состоится здесь. Я рассмеялся и указал на крохотную дыру в стене, теперь наглухо заложенную кирпичом. — По-вашему, Друд каким-то образом проникнет в дом через такое отверстие? — Я показал руками ширину лаза: сквозь него не протиснулся бы и намазанный жиром ребенок. Филд не улыбнулся в ответ. — Увы, мистер Коллинз, существо, которое вы называете Друдом, способно пролезать и в более узкие отверстия. Если его приглашают. — Ну вот, вы сами себе и ответили, инспектор, — посмеиваясь, промолвил я. — Я не приглашал мистера Друда к себе домой. — Да. Но возможно, это сделал мистер Диккенс, — сказал инспектор Филд. Потом мужчины продолжили с превеликим тщанием обследовать мой подвал, дюйм за дюймом.— Я еду в Америку, — сообщил Диккенс. Мы допивали бренди и докуривали сигары, огонь в камине шипел и потрескивал у наших ног, дождь по-прежнему барабанил в окна. Сейчас, в моем кабинете, Диккенс был столь же молчалив и мрачен, сколь словоохотлив и весел он был за ужином часом ранее. — Вы шутите! — воскликнул я. — Нисколько. — Но… — начал я и осекся. Я собирался сказать: «Но ведь вам здоровье не позволяет» — однако вовремя прикусил язык. О скверном состоянии здоровья Неподражаемого я слышал от многих людей — от Фрэнка Берда, моего брата Чарли, дочери Диккенса Кейт и разных наших общих знакомых. Но Диккенс только разозлился бы, обнаружь я осведомленность касательно его серьезных немощей и недугов: хронической усталости, валившей его с ног между концертами во время весеннего турне по Англии и Шотландии; усугубляющихся проблем с левой ногой и левой почкой; несварения, метеоризма, сопутствующих головных болей и — самое главное — быстрого старения организма. Вместо этого я сказал: — Но ведь вы не любите Америку, и американцы воспрепятствуют вашему возвращению туда. Вы совершенно недвусмысленно выразили свое презрение к ним в своих «Американских заметках» и «Мартине Чезлвите». — Пфа! — Диккенс небрежно махнул рукой. — Я посещал Америку двадцать пять лет назад, дорогой Уилки. Даже такая отсталая страна должна была исправиться за четверть-то века. Они всяко исправились в части уважения к авторским правам и выплат английским авторам за журнальные публикации — как вы сами прекрасно знаете. В последнем он был прав. Я заключил превыгоднейшую сделку с американцами и уже почти завершил переговоры насчет публикации «Лунного камня» на еще лучших условиях, хотя покамест даже не начал толком писать роман. — Кроме того, — продолжал Диккенс, — у меня там много друзей, иные из которых слишком стары или робки, чтобы пересечь океан. Мне бы хотелось повидаться с ними в последний раз до их или моей смерти. Упоминание о смерти растревожило мою душу. Я допил последний глоток бренди и уставился в каминный огонь, снова думая о глупом инспекторе Филде и его людях, мокнущих под дождем где-то рядом. Если Диккенс собирался поступить сообразно предсказанию Филда — вспомнить вдруг о якобы назначенной встрече и под этим предлогом улизнуть из моего дома, не оставаясь на ночь, — то ему следовало поторопиться. Час был уже поздний. — В любом случае, — проговорил Диккенс, устраиваясь поудобнее в глубоком кожаном кресле с подголовником, — я решил в начале августа послать Долби на разведку новых земель, как выражаются американцы. Он возьмет с собой два моих рассказа, «Объяснение Джорджа Сильвермена» и «Роман, написанный на каникулах». Оба они были заказаны двумя американскими издателями и в скором времени, полагаю, появятся в детском журнале под названием «Наше юное поколение» или что-то в таком духе. — Да, — откликнулся я. — Вы показывали мне «Роман, написанный на каникулах» в Гэдсхилле несколько недель назад… вы тогда еще сказали, что все истории там сочинены детьми, давшими волю своему причудливому воображению. И я вам поверил. — Я так и не понял, лестно это для меня или оскорбительно. — Разумеется, я не хотел ни польстить вам, ни оскорбить вас, Чарльз, — сказал я. — Просто констатация факта. Если уж вы начинаете работать со словом, у вас все получается в высшей степени достоверно. Но я прекрасно помню, как вы говорили мне, что двадцать пять лет назад долгое, напряженное турне по Америке изрядно подорвало ваши силы. Форстер доныне утверждает, что американцы были недостойны внимания такого гения, как вы. Вы уверены, Чарльз, что вам хочется снова подвергнуть себя столь тяжким испытаниям? Диккенс, уже взявший предложенную мной сигару, теперь выпустил струю дыма в потолок. — Действительно, тогда я был моложе, Уилки, но я также был измотан работой над «Часами мистера Хамфри», а всего за несколько дней до отъезда перенес довольно серьезную операцию. Кроме того, постоянные выступления с речами, которых от меня требовали с первого дня моего пребывания в Америке, утомили бы даже члена парламента, не занятого ничем другим. Вдобавок тогда я был гораздо нетерпимее и раздражительнее, чем сейчас, безмятежной порой зрелости. Я подумал о «безмятежной» поре зрелости этого писателя. Инспектор Филд сообщил мне, что Эллен Тернан с начала апреля по конец мая болела и требовала, чтобы Чарльз Диккенс — вероятно, самый публичный человек в нашей стране — пропадал из поля зрения общественности на несколько дней кряду и сидел у постели своей недужной любовницы. Выработавшаяся у Диккенса привычка к конспирации распространялась не только на его предполагаемые встречи с существом по имени Друд; скрытность и притворство стали второй натурой писателя. В последнее время Диккенс по крайней мере дважды присылал мне письма, написанные якобы в Гэдсхилл-плейс, хотя я знал наверное, что в указанные в них даты он находился у Эллен Тернан или в своем тайном доме по соседству. — Есть и другие причины, почему мне надо покинуть страну, — тихо проговорил Диккенс. — Настало время рассказать вам о них. Я слегка приподнял брови и выжидательно посмотрел на него. Я приготовился услышать очередную выдумку, а потому следующие слова Диккенса стали для меня полной неожиданностью. — Вы помните персонажа, которого я именовал Друдом? — спросил Диккенс. — Конечно, — ответил я. — Мог ли я забыть ваш рассказ о Стейплхерстской катастрофе или наше путешествие по подземным тоннелям позапрошлым летом? — Ну да, разумеется, — сухо промолвил Диккенс. — Думаю, дорогой Уилки, вы мне не верите, когда я говорю о Друде… — Он небрежно отмахнулся от моих поспешных возражений. — Нет, выслушайте меня сейчас, друг мой. Прошу вас. Я многого не рассказывал вам, Уилки… многого не мог рассказать… вы бы просто мне не поверили, расскажи я вам. Но Друд действительно существует, как вы почти удостоверились в Бирмингеме. Я снова открыл рот, но не сумел издать ни звука. Что он имел в виду? Я давно уже убедил себя, что кошмарный сон наяву, привидевшийся мне на выступлении Диккенса в Бирмингеме год назад, являлся опиумной фантазией, навеянной ужасным столкновением с грабителями в темном бирмингемском переулке. Кровь, позже обнаруженная на моем воротничке и галстуке, истекла из пореза, нанесенного мне грабителем, приставлявшим нож к моему горлу. Но откуда Диккенс мог знать про сновидение, вызванное наркотиком? Я никому о нем не рассказывал, даже Кэролайн и Марте. Прежде чем я успел сформулировать вопрос, Диккенс снова заговорил. — Чем задаваться вопросом о реальности или нереальности Друда, дорогой Уилки, вы когда-нибудь задумывались об истинных мотивах вашего друга инспектора Филда, одержимого идеей поймать или убить этого человека? При упоминании о моем друге инспекторе Филде я покраснел. Я всегда считал, что Диккенс ничего или почти ничего не знает о моем общении с пожилым сыщиком — откуда он мог знать? — но он часто изумлял меня высказываниями, свидетельствовавшими о его осведомленности или поразительной догадливости. С другой стороны, если Друд действительно существует (чего я не допускал ни на минуту), вполне возможно, Диккенс получает сведения от этого фантома и его агентов — точно так же, как я узнаю информацию от инспектора Филда и его агентов. Не впервые за последние два года я почувствовал себя пешкой в какой-то ужасной шахматной партии, разыгрываемой в непроглядной ночной тьме. — Вы уже излагали мне свои соображения насчет так называемой одержимости инспектора Филда, — ответил я. — По собственным вашим словам, он считает, что успех в данном деле позволит ему добиться восстановления пенсии. — Недостаточно веский мотив, чтобы оправдать драконовские, если не сказать отчаянные меры, принятые инспектором Филдом в последнее время, — вам так не кажется? — спросил Диккенс. Я задумался. Во всяком случае, нахмурился, прищурился и придал лицу сосредоточенное выражение. Честно говоря, в тот момент я остро сознавал лишь одно: что пульсирующий шар боли начинает разрастаться за моим левым глазом, выпускать горячие щупальцы, с каждой секундой проникающие все глубже в череп. — Нет, — наконец проговорил я. — Не кажется. — Я знаю Филда, — сказал Диккенс. Огонь в камине шипел и потрескивал, зола осыпалась с кусков угля серыми хлопьями. В кабинете вдруг стало невыносимо жарко. — Я знаю Филда без малого двадцать лет, Уилки, и его амбициозность превосходит всякое понимание. «Ты говоришь о себе», — подумал я, но ничего не сказал вслух. — Инспектор Чарльз Фредерик Филд хочет снова занять должность старшего комиссара, — продолжал Диккенс. — Он метит на место начальника сыскного отдела Скотленд-Ярда. Я рассмеялся, несмотря на неуклонно возрастающую боль. — Безусловно, здесь вы ошибаетесь, Чарльз. Филд — старик… ему далеко за шестьдесят. Диккенс бросил на меня сердитый взгляд. — У нас во флоте есть адмиралы восьмидесяти с лишним лет, Уилки. Нет, смех вызывает не возраст Филда и даже не его амбиции. А его средства достижения цели. — Но вы же сами говорили мне, что инспектор Филд настроил против себя всю Столичную полицию своими неправомерными действиями, совершенными в роли частного сыщика, — поспешно сказал я, сообразив, что оскорбил Диккенса упоминанием о преклонном возрасте. — Они же лишили его пенсии! Ясное дело, он никогда не сможет занять прежний пост в обновленной, современной лондонской полиции! — Сможет, дорогой Уилки, сможет… если отдаст под суд предполагаемого вожака шайки убийц, на счету которого не одна сотня жертв. Филд еще много лет назад научился использовать городские газеты в своих интересах, и он непременно сделает это сейчас. — Значит, Чарльз, вы разделяете мнение инспектора, что Друд является убийцей и предводителем шайки убийц? — Я не разделяю никаких мнений инспектора Филда, — отрезал Диккенс. — Я просто пытаюсь объяснить вам одну вещь. Скажите, друг мой, вам нравится платоновский Сократ? Я растерянно моргнул, обескураженный столь резкой переменой темы. Чарльз Диккенс, как всем известно, был самоучкой и довольно болезненно переживал сей факт, хотя всю жизнь с превеликим усердием занимался самообразованием. Он никогда прежде не заводил речи о Платоне или Сократе, и сейчас я не мог взять в толк, какое отношение имеют два античных философа к предмету нашего разговора. — Платон? — недоуменно переспросил я. — Сократ? Ну да, конечно. Это превосходно. — В таком случае вы извините меня, если я задам вам несколько вопросов по ходу наших совместных поисков некой имманентной, но не очевидной истины? Я кивнул. — Если допустить, что некто Друд является не просто галлюцинацией или плодом бессовестного вымысла, — негромко проговорил Диккенс, ставя на стол стакан с бренди и складывая ладони домиком, — задавались ли вы вопросом, Уилки, почему я продолжал встречаться с ним в течение последних двух лет? — Я понятия не имел, что вы продолжали встречаться с ним, Чарльз, — солгал я. Диккенс скептически усмехнулся, глядя на меня поверх своих длинных пальцев, сложенных кончик к кончику. — Но если вы продолжали знакомство с ним… предположим… — продолжал я, — тогда я бы принял объяснение, данное вами ранее. — Что я совершенствуюсь в искусстве месмеризма. — Да. И расширяете свои познания о древнем египетском культе. — Вполне достойные цели, — сказал Диккенс. — Но разве стоило бы, по-вашему, идти на столь великий риск единственно ради возможности утолить свою любознательность? На риск, сопряженный с неусыпной слежкой ретивых агентов инспектора Филда? С частыми сошествиями в Подземный город? И самим общением с маньяком, по словам нашего уважаемого инспектора, убившим не одну сотню человек? Я совершенно не понимал, о чем он меня спрашивает. Через несколько секунд тупого оцепенения, которое я постарался выдать за глубокое раздумье, я промямлил: — Нет… пожалуй, не стоило бы. — То-то и оно, — промолвил Диккенс менторским тоном. — А вы когда-нибудь допускали мысль, что я защищаю Лондон от ярости этого монстра, милейший Уилки? — Защищаете? — переспросил я. Теперь боль тесным обручем сдавливала череп и болезненно пульсировала за правым глазом. — Вы читали мои книги, дорогой друг. Вы слышали мои речи. Вы посещали приюты для бедняков и падших женщин, основанные с моей помощью и при моей финансовой поддержке. Вы знаете мои взгляды на социальные проблемы. — Да, — сказал я. — Да, конечно, Чарльз. — В таком случае имеете ли вы представление о гневе, кипящем и бурлящем там, в Подземном городе. — О гневе? — повторил я. — Вы говорите о гневе Друда? — Я говорю о гневе тысяч, возможно, десятков тысяч мужчин, женщин и детей, изгнанных в подземные логова, сточные тоннели, трущобы и подвалы, — сказал Диккенс, возвысив голос до такой степени, что Кэролайн внизу, вероятно, его услышала. Я говорю о гневе тысяч лондонцев, лишенных возможности зарабатывать на хлеб тяжелым трудом даже в наземных трущобах и изгнанных в подземную смрадную тьму, точно крысы. Точно крысы, Уилки! — Крысы, — повторил я. — Чарльз, о чем, собственно, идет речь? Не хотите же вы сказать, что этот… Друд… является представителем десятков тысяч беднейших обитателей Лондона. Вы же сами говорили, что он фигура эксцентричная… иностранец. Диккенс хихикнул и легко побарабанил кончиками пальцев друг по другу. — Если Друд просто фантом, дорогой Уилки, то фантом из страшнейшего кошмара наземного Лондона. Он — сгусток тьмы в темнейших глубинах души. Он — воплощение гнева всех тех, кто потерял последний проблеск надежды в нашем современном городе и современном мире. Я устало потряс головой. — Я потерял нить вашей мысли, Чарльз. — Позвольте мне попробовать еще раз. Час уже поздний. Зачем было Друду разыскивать меня на поле смерти, каковым являлось место Стейплхерстской катастрофы, а, Уилки? — Я и не знал, что он разыскивал вас, Чарльз. Диккенс досадливо махнул рукой, снова поднес к губам сигару и сквозь клубы голубого дыма сказал: — Конечно, разыскивал. Вам следует научиться слушать, милейший Уилки. Говорю вам как любимому другу и собрату по перу: вам надобно развивать восприимчивость в данном отношении. Вы единственный на свете человек, кому я рассказал о существовании Друда и моих с ним отношениях. Вы должны слушать внимательно, чтобы понять ужасный смысл этой… драмы. Драмы, которую инспектор Филд упорно продолжает считать игрой и фарсом. — Я внимательно вас слушаю, — холодно промолвил я. Меня страшно раздражало, когда Диккенс — обычный литератор, чьи книги в последнее время продавались хуже моих, причем литератор, ни разу не получавший от издателя таких крупных авансов, какие выплачивались мне, — принимался меня критиковать. — Почему Друд выбрал меня? Почему из всех людей, уцелевших в железнодорожном крушении, наш восставший из гроба Друд выбрал именно меня? Я задумался, украдкой потирая пульсирующий правый висок. — Право, не знаю, Чарльз. Безусловно, вы были самым известным человеком, ехавшим на том поезде. «Со своей любовницей и ее матерью», — мысленно добавил я. Диккенс помотал головой. — Не известность моя привлекла ко мне Друда и не отпускает по сей день, — негромко проговорил он, выпуская струю голубого дыма. — А мои способности. — Ваши способности. — Писательские, — пояснил Диккенс почти раздраженно, — Ибо я являюсь — прошу прощения за вынужденную нескромность, — вероятно, самым значимым писателем Англии. — Ясно, — солгал я. — Кажется, я наконец понял. По крайней мере, начинаю понимать. Друд хочет, чтобы вы написали для него что-то. Диккенс рассмеялся. Без всякой издевки или презрения (я бы, наверное, тотчас удалился в спальню вместе со своей головной болью, когда бы услышал подобные нотки), но обычным своим мальчишеским, заливистым, искренним смехом. — Пожалуй, да. — Он стряхнул пепел с сигары в ониксовую пепельницу. — Друд настойчиво просит меня взяться за перо. И написать не что иное, как его биографию, дорогой Уилки. Безусловно, подобный труд займет пять толстенных томов, если не шесть или семь. — Его биографию, — проговорил я. Если Диккенсу и надоело, что я постоянно повторяю за ним слова, то уж всяко не больше, чем мне самому. Вечер, начавшийся с чудесного ужина, приятной застольной беседы и смеха, теперь походил на бредовый сон. — Только по одной этой причине Друд еще не обрушил всю силу своей ярости на меня и мою семью, на проклятого инспектора Филда, на вас и на весь Лондон, — устало сказал Диккенс. — На меня? — удивился я. Казалось, Диккенс меня не услышал. — Почти каждую неделю я спускаюсь в этот Аид… в Подземный Лондон, — продолжал он. — Каждую неделю я достаю свою записную книжку и слушаю. И записываю. И киваю. И задаю вопросы. Всячески стараюсь растянуть разговор. Всячески стараюсь отсрочить неизбежное. — Неизбежное? — Неизбежный взрыв гнева, который произойдет, когда это чудовище обнаружит, что на самом деле я не записал ни слова из его гнусной «биографии», друг мой. Но я узнал многое… чего лучше и не знать вовсе. Я узнал об омерзительных древних ритуалах, непостижимых разуму душевно здорового англичанина. Я узнал о месмерическом магнетизме, применяемом для отвратительных, чудовищных целей: совращение, изнасилование, подстрекательство, использование других людей для устрашения, мести, убийства. Я узнал… слишком многое. — Вам нужно прекратить свои походы в подземный мир, — сказал я, думая о тихом, благостном логове Короля Лазаря под Погостом Святого Стращателя. Диккенс снова рассмеялся, но на сей раз принужденно. — Если я не прихожу к нему, он является ко мне, Уилки. Во время моего турне. На железнодорожных станциях. В гостиницах в Шотландии, Уэльсе и Бирмингеме. В Гэдсхилл-плейс. По ночам. Именно лицо Друда я видел за окном своей спальни рождественской ночью, когда Диккенсон разгуливал во сне. — Может, Друд убил молодого Диккенсона? — спросил я, воспользовавшись случаем перейти в наступление. Диккенс растерянно поморгал, а потом медленно, устало проговорил: — Понятия не имею, Уилки. Мальчик попросил меня на несколько недель стать его опекуном, только по названию. Сразу по достижении совершеннолетия он взял все свои деньги в моем банке по выписанному мной чеку. Потом он… уехал. Больше мне ничего неизвестно. — Но Друду наверняка хотелось бы заполучить деньги мальчика не меньше, чем написанную вами биографию, — продолжал я давить на Диккенса. — А ну как он злоумышленно употребил свою магнетическую силу, чтобы заставить кого-нибудь убить бедного малого и похитить его деньги для него, Друда? Диккенс посмотрел на меня так пристально, так холодно, что я невольно отпрянул назад в кресле. — Да, — сказал Неподражаемый. — Когда дело касается Друда, все может быть. Этот монстр мог заставить меня убить мальчика и принести деньги в подземный храм, а я ничего не помнил бы. Я бы считал все произошедшее сном, смутным воспоминанием о каком-то спектакле, виденном в далеком прошлом. У меня бешено заколотилось сердце и перехватило дыхание, когда я услышал такое признание. — Или же, — продолжал Диккенс, — он мог заставить вас совершить это, милейший Уилки. Друд знает вас, разумеется. У него на вас виды. Я выпустил струю дыма, закашлялся и попытался справиться с сердцебиением. — Чепуха, — сказал я. — Я никогда не встречался с этим человеком, если он вообще человек. — Вы уверены? — На губах Диккенса опять играла неприятная улыбка. Я вспомнил его недавнее странное упоминание о видении, явившемся мне в бирмингемском театре. Сейчас было самое время спросить, откуда он о нем знает, — возможно, другого такого удобного момента больше не представится, — но теперь острая боль пульсировала в висках в такт частому биению сердца, и я задыхался от жары. — Так вы говорите, он приходит к вам домой, — сказал я, решив не поднимать интересующий меня вопрос. — Да… — Диккенс со вздохом откинулся на спинку кресла и затушил окурок сигары. — Я безумно устал от всего этого, Уилки. Необходимость таиться и скрываться. Снедающий душу страх. Лицемерие и притворство перед Друдом. Поездки в Лондон и походы в Подземный город со всеми его кошмарами. Постоянное сознание опасности, грозящей Джорджине, Кейти, детям… Эллен. Я безумно устал от всего этого. — Разумеется, — пробормотал я. Я подумал об инспекторе Филде и остальных, которые мокли на улице под дождем. Ждали в засаде. — Так что сами понимаете: я должен уехать в Америку, — прошептал Диккенс. — Друд не последует за мной туда. Он не может туда поехать. — Почему? Диккенс резко выпрямился и уставился на меня расширенными глазами. Впервые за все время нашего знакомства я увидел на лице друга выражение неподдельного ужаса. — Просто не может! — выкрикнул он. — Ну да, конечно, — торопливо согласился я. — Но во время моего отсутствия, — прошептал Диккенс, — вы будете в опасности, друг мой. — Я? В опасности? С чего бы вдруг, Чарльз? Я не имею ни малейшего касательства к Друду и страшной игре, которую вы и Филд ведете с ним. Диккенс потряс головой и несколько мгновений молчал, даже не улыбаясь. Наконец он проговорил: — Вы будете в опасности, Уилки. Друд уже расправлял над вами черные крыла, всецело подчиняя своей власти, по меньшей мере однажды — и почти наверняка не раз. Он знает, где вы живете. Он знает ваши слабости. И что самое ужасное для вас — он знает, что вы писатель, ныне пользующийся популярностью в Англии и Америке. — Какое отношение это име… — начал я и осекся на полуслове. Диккенс кивнул. — Да, — прошептал он. — Друд выбрал меня своим биографом, но он знает, что легко найдет мне замену, если я умру… или если он разоблачит мою рискованную игру и решит расправиться со мной. Я уеду в Америку не раньше ноября — мне нужно уладить много дел и постараться убедить Друда, что я отправляюсь в Штаты единственно с целью договориться о публикации его биографии, — и до моего отъезда нам с вами еще не раз представится возможность побеседовать на самые разные темы, Уилки. Но пообещайте мне сейчас, что вы будете очень осторожны. — Обещаю, — сказал я. В тот момент я понял со всей определенностью: мой друг Чарльз Диккенс сошел с ума. Мы немного поговорили о других предметах, но у меня страшно болела голова, а Диккенс явно изнемогал от усталости. Еще не было и одиннадцати, когда мы пожелали друг другу спокойной ночи и Диккенс отправился в гостевую комнату, а я в свою спальню. Я велел служанке погасить все лампы в доме. Я разбудил Кэролайн, заснувшую в моей постели в ожидании меня, и отослал вниз, в ее собственную спальню. Сегодня ей не стоило оставаться на втором этаже, где ночевал Диккенс. Я переоделся в халат и выпил три стакана лауданума. Однако лекарство, обычно мне помогавшее, этой июньской ночью не уняло ни телесной боли, ни душевной тревоги. Какое-то время я лежал в темноте — сердце тяжко билось в груди, точно маятник бесшумных часов, — а потом встал и подошел к окну. Дождь прекратился, и теперь над землей стелился летний туман, просачиваясь сквозь живые изгороди и кусты в маленьком парке напротив. Луна скрывалась за плотной облачной пеленой, но низкие облака, стремительно плывущие над крышами домов, источали жидкий сероватый свет. В лужах дрожали желтоватые блики от фонаря на углу. Сегодня на обычном посту никто не дежурил, даже мальчишка, заменивший Гузберри. Я задумался, где же заняли позицию инспектор Филд и его многочисленные агенты. В пустующем доме по соседству? В темном переулке восточнее? Настоящие часы — в коридоре на первом этаже — медленно пробили двенадцать. Я вернулся в постель, закрыл глаза и попытался отрешиться от тревожных мыслей. До слуха моего долетел слабый звук, раздавшийся где-то далеко внизу и распространившийся по полым стенам. Тихий шорох. Легкое царапанье и поскребывание. Скрип двери? Нет, вряд ли. Значит, окно? Нет. Осторожная возня с недавно положенными кирпичами в кромешной подвальной тьме или осторожное, целенаправленное шевеление между кучами угля. Но определенно какое-то царапанье и поскребывание. Я сел в кровати и нервно подтянул одеяло к самому подбородку. Проклятое писательское воображение, вероятно дополнительно разгоряченное лауданумом, явственно нарисовало мне крысу размером с крупного шпица, протискивающуюся сквозь вновь пробитую дыру в стене угольного подвала. Но у этой громадной крысы было человеческое лицо. Лицо Друда. Скрипнула дверь. Тонко заскрипели половицы. Неужто Диккенс крадется прочь из дома, как с уверенностью предсказывал инспектор Филд? Я выскользнул из постели, надел халат и, опустившись на одно колено, по возможности тише выдвинул нижний ящик комода. Там под стопкой летнего нижнего белья лежал огромный револьвер, выданный мне сыщиком Хэчери. Крепко сжимая в руке до нелепого увесистое, громоздкое оружие, я на цыпочках подошел к двери и осторожно приоткрыл ее, поморщившись от жалобного стона дверных петель. В коридоре никого не было, но теперь я различал голоса. Шепчущие голоса. Мне показалось — мужские, но я не был уверен. Радуясь, что не снял на ночь чулки, я тихонько вышел в коридор и остановился у темной лестничной площадки. С первого этажа не доносилось ни звука, если не считать глухого стука маятника да утробного тиканья напольных часов. Снова послышались шепчущие голоса. Они раздавались где-то совсем рядом. Может, Кэролайн, выдворенная мной из спальни и потому сердитая на меня, возымела желание поговорить с Диккенсом? Или там Кэрри, всегда выделявшая Неподражаемого среди всех прочих людей, бывавших в нашем доме? Нет, шепот доносился не из гостевой комнаты. Я увидел вертикальную полосу тусклого света, пробивающегося из приоткрытой двери моего кабинета, и медленно двинулся по коридору, держа тяжелый револьвер стволом вниз. Там горела единственная свеча. Приникнув к щели, я разглядел три фигуры в придвинутых к холодному камину креслах. Диккенс в красном марокканском балахоне размещался в кресле с подголовником, которое занимал немногим ранее. Он сидел, подавшись вперед, — на лице у него лежала густая тень — и горячо шептал что-то, энергично жестикулируя. В моем рабочем кресле располагался Второй Уилки. Борода у моего двойника была чуть покороче, чем у меня, словно он недавно ее подровнял, и на носу у него красовались мои запасные очки. Играющие на стеклах очков блики придавали ему демонический вид. Третье кресло, где час назад сидел я, стояло спинкой ко мне, и я видел лишь черный рукав и длинные бледные пальцы на подлокотнике да лысую макушку над темной обивочной кожей. Разумеется, я понял, кто это такой, еще прежде, чем фигура подалась ближе к свету свечи и с присвистом прошептала несколько слов в ответ Диккенсу. Друд находился в моем доме. Перед моим мысленным взором всплыл образ крысы в угольном подвале, а потом я словно воочию увидел клубящуюся струйку дыма или тумана, который просачивается между кирпичами и медленно сгущается, превращаясь в подобие человека. У меня закружилась голова. Я привалился к косяку, чтобы не упасть, и в следующий миг осознал, что могу сейчас распахнуть дверь, стремительно войти в кабинет и убить Друда двумя выстрелами, а потом уложить Второго Уилки. А потом, возможно… и самого Диккенса. Нет… я могу выстрелить в Друда, но могу ли я убить его? А если я выстрелю во Второго Уилки, не получится ли, что я выстрелю в себя самого? Не найдут ли служащие Столичной полиции,вызванные поутру истерически рыдающей Кэролайн, в кабинете Уилки Коллинза три мертвых тела, одним из которых будет охладелый труп самого Уилки Коллинза? Я подался вперед и напряг слух, силясь разобрать слова, но шепот вдруг прекратился. Сначала Диккенс поднял голову и посмотрел на меня. Потом Второй Уилки обратил ко мне круглую бледную физиономию, похожую на кроличью морду, если не считать бороды да громадного лба, и пристально уставился на меня. А потом повернулся Друд… медленно, страшно. Безвекие глаза мерцали красным огнем, точно два уголька из адского костра. Напрочь забыв про револьвер, я закрыл дверь с тихим щелчком и пошел обратно к своей спальне. Разговор в кабинете возобновился, еле слышный сквозь закрытую дверь, но теперь он велся не шепотом. Действительно ли я услышал приглушенный смех, прежде чем затворил и запер на ключ дверь спальни? Этого я никогда не узнаю.
Глава 23
Летом 1867 года мы с Кэролайн, Кэрри и тремя нашими слуга ми (Джорджем, Бесс и Агнес) едва не остались без крыши над головой. Нас чуть не выставили на улицу. Мы знали, что срок аренды дома на Мелкомб-плейс истекает, но я не сомневался, что арен да будет продлена по меньшей мере на год-два, несмотря на мои частые ссоры с домовладельцем. Моя уверенность оказалась ошибочной, и весь июль ушел на беготню по Лондону в поисках жилья. Само собой разумеется, поскольку в июне я усиленно занимался «Лунным камнем» (написал первые три выпуска, чтобы показать Диккенсу), а в июле взялся писать другое произведение (в соавторстве с Неподражаемым), бегать по городу пришлось Кэролайн. Пока она лихорадочно искала нам жилье, я в мирной тишине своего клуба завершал работу над тремя первыми выпусками «Лунного камня». Последние два дня июня, субботу и воскресенье, я провел в Гэдсхилле и прочитал законченные главы Диккенсу — он пришел в дикий восторг и тотчас же согласился заплатить фунтов семьсот пятьдесят за право публикации романа в «Круглом годе», пообещав напечатать первый выпуск пятнадцатого декабря. Я безотлагательно написал в американский издательский дом «Харпер бразерс» и запросил у них за право журнальной публикации «Лунного камня» такую же сумму. Когда я вернулся в Лондон первого июля, Кэролайн принялась виться вокруг меня назойливой мухой, упрашивая съездить посмотреть несколько выставленных на аренду или продажу домов, которые она нашла. Я проехал по указанным адресам, но все оказалось пустой тратой времени — лишь один особнячок на Корнвелл-террас более-менее мне приглянулся. Я выговорил Кэролайн за то, что она смотрит дома за пределами Мэрилебона — я успел полюбить этот район и вдобавок хотел поселиться с Кэролайн и Кэрри поблизости от Болсовер-стрит, где «миссис Доусон» жила уже практически постоянно. Мой сварливый домовладелец теперь требовал, чтобы мы освободили дом к первому августа — каковое требование я встретил спокойно и собирался проигнорировать, а Кэролайн восприняла с ужасом, отчего стала страдать сильными мигренями, еще лихорадочнее искать жилье днями напролет, а по вечерам еще многословнее и плаксивее жаловаться на жизнь. В мае Диккенс предложил мне написать в соавторстве с ним длинную повесть для следующего рождественского номера «Круг лого года», и я согласился — но только после долгих и зачастую до смешного ожесточенных споров с Уиллсом по поводу гонорара (Диккенс благоразумно уклонялся от всяких финансовых переговоров со мной). За свою половину повести я запросил очень много, четыреста фунтов, хотя, признаюсь вам, дорогой читатель, данная сумма пришла мне на ум единственно потому, что она ровно в десять раз превосходила гонорар, полученный мной в 1855 году за первую успешную публикацию в диккенсовском журнале — повесть «Сестра Роза». В конце концов я согласился на триста фунтов — не по мягкотелости или за недостатком выдержки, а потому лишь, что хотел снова публично связать свое имя с Диккенсом. Все лето 1867 года Диккенс пребывал в наилучшем расположении духа. Я намеревался в июле продолжить работу над «Лунным камнем», но во время моего визита в Гэдсхилл Диккенс убедил меня, что нам следует немедленно приступить к написанию рождественской повести. Он предложил взять за основу наше совместное путешествие через Альпы в 1853 году (счастливое время для нас обоих) и внес на рассмотрение название — «Проезд закрыт». Кэролайн страшно обрадовалась, узнав о моем намерении отложить работу над «Лунным камнем», и пришла в бешенство, узнав, что в течение следующих нескольких месяцев я буду проводить много времени в Гэдсхилле. Сразу по своем возвращении из Гэдсхилла, в понедельник (когда Кэролайн, запершись в своей комнате, лила горькие слезы и гундосым голосом обвиняла меня в эгоизме и нежелании помогать ей с поисками жилья), я получил записку от Диккенса, приехавшего в город с целью поработать в конторе журнала.Сим удостоверяю, что я, нижеподписавшийся, показал себя (временно) слабоумным болваном, когда заявил, что рождественский номер состоит из тридцати двух страниц. Посему настоящим заявляю, что упомянутый рождественский номер состоит из сорока восьми страниц, причем страниц длинных и трудных, о чем всегда явственно свидетельствовал пот лица моего.В таком вот шутливом настроении находился Чарльз Диккенс в июле 1867 года.
Марта Р*** пребывала в гораздо лучшем расположении духа, чем Кэролайн Г***, а потому по завершении работы в клубе «Атенеум» я чаще всего направлялся на Болсовер-стрит, чтобы поужинать и переночевать там. Поскольку иногда я действительно оставался на ночь в клубе, а также часто ездил в Гэдсхилл посоветоваться с Диккенсом по поводу повести «Проезд закрыт», Кэролайн не задавала никаких вопросов. Однажды вечером, заканчивая ранний ужин в клубе, я вдруг увидел инспектора Чарльза Фредерика Филда, стремительно шагающего ко мне через зал. Не спросив позволения, он придвинул стул к моему столу и сел. Первым моим побуждением было сказать: «Боюсь, в этот клуб допускаются только джентльмены, инспектор», — но при виде его довольного лица, в кои-то веки сморщенного в улыбке, я просто промокнул губы салфеткой, приподнял брови и выжидательно уставился на него. — Хорошие новости, мистер Коллинз, и я хотел первым сообщить их вам. — Вы поймали… — я окинул взглядом немногочисленных посетителей ресторана, — вашего подземного джентльмена? — Пока нет, сэр. Пока нет. Но скоро поймаю! Нет, речь идет о вашей проблеме с наймом нового жилья. Я не говорил инспектору Филду об истечении срока аренды нашего дома, но нисколько не удивился его осведомленности. Я продолжал выжидательно смотреть на него. — Помните, перед вами стояло непреодолимое препятствие в лице миссис Шернволд? — тихо промолвил он, быстро оглядываясь по сторонам, словно заговорщик, ведущий тайные переговоры с соратником. — Конечно. — Так вот, сэр, этого препятствия больше не существует. Я по-настоящему изумился. — Леди передумала? — Леди умерла, — сказал Филд. Я растерянно моргнул и, подавшись вперед, спросил равно, если не более заговорщицким шепотом: «Каким образом?» Миссис Шернволд относилась к разряду тех костлявых, вздорных шестидесятилетних старух, которые всем своим видом показы вают, что намерены дожить до глубокой старости и превратиться в еще более костлявых и вздорных старух девяностолетних. — Она имела любезность упасть с лестницы и свернуть себе шею, мистер Коллинз. — Какой ужас! Где это произошло? — В интересующем вас доме на Глостер-плейс, не стану скрывать, но на черной лестнице. Таким образом, ничто не будет зримо напоминать вам о трагическом случае, коли вы туда переедете. — На черной лестнице, — повторил я, думая о своей зеленокожей клыкастой женщине. — А что, собственно говоря, миссис Шернволд там делала? — Этого мы никогда не узнаем, — хихикнул инспектор. — Но она не могла выбрать время удачнее, правда, мистер Коллинз? Теперь ничто не мешает вам снять или купить дом. — Сын-миссионер, — сказал я. — Он скоро вернется из Африки или откуда-то там и… Инспектор Филд отмел данное соображение взмахом мозолистой руки. — Оказывается, бедная миссис Шернволд так и не выкупила закладную на дом. Он никогда не принадлежал ей и не мог быть передан в чужое пользование, сэр. — А у кого находится закладная? — У лорда Портмена. Оказывается, дом всегда оставался во владении лорда Портмена. — Я знаю лорда Портмена! — воскликнул я достаточно громко, чтобы несколько человек обернулись на меня. Понизив голос, я проговорил: — Я знаком с ним, инспектор. Здравомыслящий человек. Кажется, у него много недвижимости в районе Портмен-Сквер — не только на Глостер-плейс, но и на Бейкер-стрит. — Полагаю, вы правы, мистер Коллинз, — сказал Филд со страшно довольной, чуть ли не сладострастной улыбкой. — Вы имеете представление, сколько он просит за дом? поинтересовался я. — Я взял на себя смелость навести справки. Лорд Портмен согласен отдать данную недвижимость в аренду на двадцать лет за восемьсот фунтов в год. Разумеется, вместе с превосходными конюшнями, расположенными за особняком. Их можно сдавать в поднаем, чтобы частично возместить арендные расходы. Во рту у меня пересохло, и я отпил глоток портвейна. Восемьсот фунтов являлись целым состоянием — у меня на руках таких денег не было, — но я знал, что в случае смерти нашей матери мы с Чарли унаследуем в равных долях около пяти тысяч фунтов, доставшихся ей от тетки, пусть даже весь остальной семейный капитал останется связанным, согласно завещанию нашего отца. И безусловно, инспектор верно заметил насчет сдачи в поднаем довольно больших конюшен. Филд извлек из кармана две подозрительно темные сигары. — Полагаю, правила вашего клуба разрешают курить в столовом зале, — сказал он. — Конечно. Он обрезал обе сигары, одну отдал мне, зажег свою, а потом вытянул вперед руку со спичкой, предлагая мне прикурить. Я подался вперед, позволив инспектору поухаживать за собой. Филд знаком подозвал Бартлса, самого старого и самого величественного из клубных официантов, и сказал: — Милейший, будьте любезны принести мне стакан того, что пьет мистер Коллинз. Благодарю. Когда Бартлс быстро двинулся прочь, явно слегка недовольный повелительным тоном посредственно одетого незнакомца, я не в первый уже раз мысленно подивился прихотям судьбы, столь тесно сведшей меня с этим странным, властным полицейским. — Хорошая сигара, правда, мистер Коллинз? По вкусу сигара напоминала что-то выращенное и собранное в заброшенном затхлом погребе. — Отличная, — сказал я. Заказанное инспектором вино прибыло, и неизменно бдительная, неизменно консервативная часть моего ума неохотно прибавила стоимость оного к моему уже весьма немалому счету в клубе. — За благоприятный поворот вашей судьбы, — промолвил инспектор Филд, поднимая бокал. Я легко чокнулся с ним, думая о том, что теперь Кэролайн наконец-то перестанет ныть и закатывать истерики. Признаюсь, ни тогда, ни впоследствии я ни разу не вспомнил о бедной миссис Шернволд и ее нелепой гибели — ну, разве только однажды, когда солгал Кэролайн насчет причины и места смерти старой дамы.
Мне кажется, дорогой читатель моего посмертного будущего, настало время поподробнее рассказать вам о Втором Уилки. По всей вероятности, до сих пор вы считали Второго Уилки либо плодом моего воображения, либо галлюцинацией, вызванной лауданумом. Но он не является ни первым, ни вторым. Всю жизнь меня преследовало мое второе «я». Совсем еще малым ребенком я был уверен, что у меня есть двойник — мой товарищ по играм — и часто рассказывал о нем матери. Став постарше, я нередко слышал, как мой отец упоминает о своих занятиях рисованием «с Уилки», но точно знал, что в час занятий меня не было дома. Уроки рисования получал мой двойник. Когда я пятнадцатилетним отроком приобретал первый опыт плотской любви с женщиной много старше меня, я нисколько не удивился, увидев в темном углу спальни Второго Уилки — такого же юного, ясноглазого и безбородого, как я, — с превеликим интересом наблюдавшего за мной. В мои зрелые годы второе «я» отступило в туманные области, откуда вышло. Довольно долго я считал, что навсегда избавился от него. Однако несколько лет назад, когда моя ревматоидная подагра обострилась и терпеть приступы боли стало невозможно без опиумной настойки, Второй Уилки вернулся. Но если я с возрастом сделался значительно мягче, общительнее и дружелюбнее, то Второй Уилки за время нашей разлуки стал резче, грубее и агрессивнее. Помнится, в первую пору своего знакомства с Перси Фицджеральдом (еще до того, как Фицджеральд заделался любимчиком Диккенса) я признался младшему товарищу, что «подвержен странному потустороннему влиянию и часто испытываю такое ощущение, будто кто-то стоит у меня за спиной». Я всегда ясно сознавал связь, существовавшую между приемом лауданума и появлением Второго Уилки. Томас де Куинси, автор «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» и друг обоих моих родителей, однажды написал: «Если человек, постоянно говорящий о быках, начнет употреблять опиум, скорее всего (если он не настолько туп, чтобы быть чуждым всяким грезам), он будет видеть в грезах быков». И в жизни, и в творчестве меня неотступно преследовала тема раздвоения личности — тема двойника, таящегося сразу за пределами повседневной действительности, — а потому не приходится удивляться, что постоянно при нимаемый мной опиум, наркотик, часто и эффективно использующийся для выхода в иные реальности, призывал ко мне из неведомых сфер Второго Уилки, повсюду сопровождавшего меня с раннего детства. Если вы знакомы с моим творчеством, дорогой читатель, то знаете, что тема подлинной личности проходит сквозь большинство моих повестей и все романы, начиная с «Антонины», к работе над которой я приступил в возрасте всего двадцати двух лет. Двойники, зачастую воплощающие добро и зло, разгуливают по страницам моих сочинений. Иные мои персонажи (Лора Фэрли из «Женщины в белом» и Магдален Вэнстоун из более позднего романа «Без имени») насильственным путем лишаются своей личности и вынуждены рядиться в полые оболочки чужих имен, чужих характеров, чужих жизней. Даже когда моим персонажам дозволяется сохранить собственную личность, им зачастую приходится скрывать свое истинное «я» под разными масками, а порой они утрачивают индивидуальность вследствие потери зрения, слуха, речевых способностей или из-за тяжелых увечий. У них постоянно образуются новые личности, и из-за употребления наркотиков трансформации происходят все чаще и чаще. Чарльз Диккенс ни во что не ставил мои литературные разработки данной темы, но читателям они явно нравились. Следует заметить, что я не единственный литератор, одержимый интересом к проблеме «второго "я"» и раздвоения или множественного расщепления личности: некий писака по имени Уильям Шекспир обращался к ней в своих произведениях гораздо чаще, чем я в своих. Я нередко размышлял (еще даже до начала кошмарной истории с Друдом), не умаляет ли мою личностную значимость отсутствие у меня таких черт характера, какими явно обладал Второй Уилки. Возьмем, к примеру, вопрос моего имени — вернее, вопрос использования оного окружающими. Для всех я был просто Уилки — не мистер Коллинз (правда, инспектор Филд и его агенты усиленно применяли именно такое почтительное обращение) и даже не Коллинз (на манер моего непринужденного «дорогой Диккенс», часто звучавшего в наших с Неподражаемым беседах), а просто… Уилки. Кэрри с малых лет называла меня Уилки. Многочисленные дети Диккенса с первых дней нашего знакомства называли меня Уилки, если только Диккенс, Кэтрин или Джорджина не указывали на недопустимость подобной фамильярности. Члены моего клуба, которые никогда, даже после нескольких десятилетий знакомства, не обращались по имени к равным по положению, чувствовали себя вправе называть меня Уилки уже буквально через минуту после церемонии представления. Странное дело. Наутро после ночи, когда я увидел в своем кабинете Диккенса, занятого разговором с Друдом и Вторым Уилки, а потом торопливо удалился, я признался Неподражаемому за завтраком, что мне приснился чудной сон о такой вот встрече. — Но ведь это все происходило в действительности! — вскричал Диккенс. — Вы сидели с нами, милейший Уилки! Мы проговорили несколько часов кряду. — Я напрочь не помню содержания разговора, — пробормотал я, покрываясь ледяными мурашками. — Возможно, оно и к лучшему, — сказал Диккенс. — Друд иногда использует свою магнетическую силу для частичного или полного стирания воспоминаний о встречах с ним, если он считает, что подобные воспоминания представляют опасность для него или для собеседника. Со мной такой номер не проходит, разумеется, поскольку я тоже владею искусством месмеризма. «Да неужели?» — саркастически подумал я. А вслух произнес: — Если я видел сон наяву, если ночной разговор происходил в действительности, то каким образом Друд проник в дом? Я знаю наверное, что все двери и окна здесь были надежно заперты. Диккенс улыбнулся, намазывая мармелад на второй тост. — Этого он не сказал мне, дорогой Уилки. За два года нашего с ним знакомства у меня сложилось впечатление, что на свете очень мало мест, куда Друд не мог бы явиться при желании. — Вы намекаете, что он призрак? — Вовсе нет, друг мой. Вовсе нет. — В таком случае, — грубовато сказал я, — может, вы расскажете мне содержание нашей многочасовой беседы… забытой мной по приказу нашего фантома? После минутного колебания Диккенс промолвил: — Расскажу. Но мне кажется, с этим лучше немного повременить. Грядут события, о которых вам лучше пока не знать, Уилки. Вдобавок вам выгодно сохранять неведение и с точки зрения чести… чтобы вам не пришлось лгать, когда вы скажете инспектору Чарльзу Фредерику Филду, что не встречались с Друдом и понятия не имеете о его планах. — Тогда зачем он… или вы… рассказали мне о них ночью? — осведомился я. Я еще не принял утреннюю дозу своего лекарства, и мое тело, мой мозг настойчиво требовали лауданума. — Чтобы получить ваше разрешение. — Разрешение на что? — Я начинал раздражаться. Диккенс снова улыбнулся и похлопал меня по руке с невыносимо снисходительным видом. — Скоро узнаете, друг мой. А когда все останется позади, я в подробностях расскажу вам о нашем долгом разговоре, состоявшемся нынче ночью. Даю вам слово. Мне пришлось удовольствоваться этим, хотя я сильно сомневался, что встреча Друда, Диккенса и Второго Уилки действительно имела место. Гораздо более вероятным казалось, что Диккенс воспользовался моим лауданумным сновидением для своих непостижимых целей. Или что у Второго Уилки есть собственные тайные цели и планы. От одной этой мысли меня мороз подрал по коже.
Мы перебрались на Глостер-плейс в начале сентября 1867 года. Чтобы заплатить восемьсот фунтов за аренду, мне пришлось взять кредит через поверенных, но инспектор Филд оказался прав насчет конюшен. Я сдал их в поднаем владелице четырех лошадей за сорок фунтов в год, правда, изрядно с ней намучился, требуя вносить плату своевременно. Особняк на Глостер-плейс был значительно больше и роскошнее нашего прежнего дома на Мелкомб-плейс. Он стоял со значительным отступом от улицы — пятиэтажный дом с террасой, в котором свободно разместилось бы семейство куда обширнее нашего, с гораздо более многочисленным штатом не в пример лучше вышколенных и добротнее одетых слуг, чем трое наших бедных приблуд. Количество гостевых комнат там позволяло принять на постой целую роту гостей. Столовая зала на первом этажа втрое превосходила размерами столовую залу на Мелкомб-плейс, а уютную комнату, расположенную за ней, мы отвели под семейную гостиную. Огромное Г-образное в плане помещение на первом этаже я тотчас занял под рабочий кабинет, хотя оно находилось прямо на пути всех проходящих через холл людей — гостей ли, слуг ли — и располагалось рядом со швейной комнатой Кэролайн, в самом средоточии повседневной жизни дома. Но эта просторная светлая комната с громадным камином и высокими окнами разительно отличалась от сумрачного кабинета на Мелкомб-плейс. Мне оставалось только надеяться, что Второй Уилки не переехал вместе с нами. К концу осени, по завершении всех перепланировочных и ремонтных работ, дом приобрел вид, полностью отвечающий моему вкусу. Я расставил повсюду книги и развесил картины, смотревшиеся на обшитых панелями стенах роскошного особняка гораздо лучше, чем на темных, оклеенных обоями стенах нашего прежнего обиталища. В кабинете я повесил созданный Маргарет Карпентер портрет моей матери, запечатленной в образе прелестной девушки в белом платье. Матушка так и не увидела его на новом месте (ибо ей не приличествовало посещать дом, где проживает Кэролайн Г***), но я сообщил в письме, что «и сейчас, по прошествии стольких лет, она в точности походит на свой портрет в юности». Здесь я слукавил: Хэрриет уже перевалило за семьдесят, и возраст брал свое. В кабинете висели также автопортрет моего отца и пейзаж Сорренто его же кисти — два крупных холста, расположенные по обе стороны от массивного письменного стола, тоже отцовского. На другой стене там размещался мой портрет в молодости, написанный братом Чарли, и другой мой портрет, кисти Миллеса. Единственную в доме картину собственной работы — созданное еще в годы учебы в Академии полотно под названием «Отплытие контрабандистского судна» — я повесил в столовой зале. Я не признавал новомодного газового освещения (хотя Диккенс и прочие были от него в восторге), и потому мои комнаты, книжные стеллажи, портьеры, письменный стол и картины в доме на Глостер-плейс по-прежнему освещались восковыми свечами. Мне нравился мягкий живой свет свечей и каминов — особенно когда он ложился теплыми бликами на лица людей, сидящих за столом или у домашнего очага, — и я ни за что не променял бы его на резкий, холодный свет газовых рожков, пусть даже от долгой работы при свечах у меня часто начинались жестокие головные боли и мне приходилось увеличивать дозу лауданума. Я был готов платить такую цену за красоту. Особняк, как бы роскошно он ни выглядел снаружи, несколько обветшал за годы правления покойной миссис Шернволд, и потребовались целая армия наемных рабочих и месяц с лишним времени, чтобы покрасить стены, починить или провести водопровод, снести перегородки, поменять панельную обшивку, перекрыть черепичную кровлю и вообще привести все в идеальное состояние, в каком надлежит содержать прекрасный дом. Перед лицом ремонтно-строительного хаоса я сделал две вещи: во-первых, временно покончил со всякой светской жизнью, прекратив как принимать гостей, так и наносить визиты; во-вторых, сбежал с Глостер-плейс (несколько недель я жил и работал либо у матери в Саутборо, либо у Диккенса в Гэдсхилле), предоставив всю пыльную, грязную надзорно-распорядительную работу Кэролайн. Десятого сентября, на следующий день после нашего переезда, я написал своему другу Фредерику Леману: «Мне пришлось освободить старый дом и искать новый, пришлось торговаться, заключать договор аренды, консультироваться с адвокатами и инспекторами, нанимать рабочих — и при всем этом усиленно заниматься своими литературными делами, не прерываясь даже на день». Осень 1867 года выдалась теплая, и мы с Диккенсом работали над нашей совместной повестью «Проезд закрыт» в чудесном швейцарском шале. Диккенс превратил свой длинный письменный стол в двухместный (с двумя проемами для ног), и мы по много часов кряду писали в благостной осенней тишине, нарушаемой лишь жужжанием пчел да приглушенными репликами и вопросами, которыми мы изредка перебрасывались. Еще в конце августа Неподражаемый прислал мне письмо, задавшее тон нашему свободному обмену мыслями и соображе ниями по поводу сюжетной линии нашего совместного произведения:
У меня появилась мысль, которая, надеюсь, придаст нашей повести необходимую занимательность. Сделаем кульминационным пунктом бегство и преследование через Альпы — зимой, в одиночестве и вопреки предостережениям. Подробно опишем все ужасы и опасности такого приключения в самых чудовищных обстоятельствах — бегство от кого-либо или попытка догнать кого-либо (думаю, что последнее, именно последнее), причем от этого бегства или погони должны зависеть счастье, благополучие и вообще вся судьба героев. Тогда мы сможем добиться захватывающего интереса к сюжету, к обстановке, напряженного внимания ко времени и к событиям и привести весь замысел к такой мощной кульминации, к какой только пожелаем. Если мы оба будем иметь в виду и начнем постепенно развивать рассказ в этом направлении, мы извлечем из него настоящую лавину силы и обрушим на головы читателей.Но даже к концу сентября никакой лавины у нас еще не было и в помине, и Диккенсу оставалось только сообщать мне, что-де «я тащусь со скоростью тачки, толкаемой гринвичским пенсионером» или «дело у меня, как и у вас, продвигается черепашьим шагом…». Но с началом совместной работы в Гэдсхилле оба мы, занятые каждый своей частью повести, стали писать быстрее и с большим энтузиазмом. Пятого октября, когда я снова жил у матери, наслаждаясь превосходной кухней и сознанием, что наши соединенные труды близятся к завершению, Диккенс прислал мне следующее письмо:
Я привел Маргерит к спасению и заставил Вендейла сказать, щадя ее чувства, что это был всего лишь несчастный случай во время бури. Кстати, Вендейл ранил Обенрейцера его собственным кинжалом. Это на случай, если вы захотите прибавить к внешнему облику Обенрейцера шрам. А не захотите, так и бог с ним. В гранках моей части повести наверняка будет полно ошибок, т. к. у меня не очень разборчивая рукопись. Но вы сами увидите, о чем я. Развязку я представляю не лучше вас — пока довольно смутно. Вопрос с Обенрейцером я обдумаю (м. б., самоубийство?) Я сделал Маргерит всецело преданной своему возлюбленному. Как только вы известите меня о своей готовности, мы встретимся здесь, чтобы довести дело до конца.Я спрашиваю себя, дорогой читатель, какое значение будут иметь подобные рабочие письма, написанные одним профессиональным литератором другому, через сто с лишним лет от сего дня? Полагаю, очень малое. Но поскольку Диккенс все-таки пользовался славой великого писателя, по крайней мере при моей жизни, возможно, даже эти наспех нацарапанные загадочные послания однажды представят интерес для какого-нибудь мелкого ученого. Могли бы мы сказать то же самое о моих письмах к Диккенсу? Увы, этого мы никогда не узнаем, ибо Диккенс по-прежнему регулярно сжигал всю свою корреспонденцию, так сказать, поддерживая костер, разожженный осенью 1860 года. Тогда же, пятого октября, в первую субботу месяца, я вернулся на Глостер-плейс, не предупредив Кэролайн о своем возвращении письмом или телеграммой. Я прибыл поздно вечером, когда почти во всех комнатах нового дома уже погасили свет, и застал Кэролайн ужинающей на кухне в обществе неизвестного мне мужчины. Признаюсь, я очень удивился, если не рассердился. Кэролайн улыбнулась мне со своего места за столом (слуг тем вечером она отпустила), но я увидел, как краска смущения заливает ее шею, поднимается к ушам и растекается по щекам. — В чем дело? — осведомился я, обращаясь к незнакомцу. — Кто вы такой? Он был тощим, малорослым, невзрачным человечком с землистым востроносым лицом, в сюртуке из самого заурядного молескина. Все в нем дышало заурядностью. Он встал, собираясь ответить, но я его опередил: — Постойте, я вас помню… Я нанял вас месяц назад. Клоу, так ведь? Или что-то вроде. Вы водопроводчик. — Джозеф Клоу, сэр, — сказал он гнусавым голосом с подвыванием. — Да, я водопроводчик, сэр. Сегодня мы закончили Работы наверху, и ваша домоправительница миссис Г*** любезно пригласила меня отужинать здесь, сэр. Я посмотрел на «домоправительницу» испепеляющим взглядом, но она лишь улыбнулась в ответ. Какая наглость! Я только что занял и потратил целых восемьсот фунтов, чтобы снять для зтой наглой шлюхи один из прекраснейших особняков в районе Портмен-Сквер — а она у меня за спиной водит шашни с простым водопроводчиком в моем собственном доме! — Прекрасно, — сказал я с улыбкой, которая недвусмысленно означала «я разберусь с тобой позже, Кэролайн». — Я заехал взять смену белья. Собираюсь переночевать в клубе. — Ваша домоправительница превосходно готовит «пятнистую собаку»[14], — сообщил жалкий субъект. Улови я в его голосе хотя бы нотку сарказма, я бы, наверное, набросился на него с кулаками, но он явно не имел умысла оскорбить меня. — Отец мистера Клоу держит винокурню, и мистер Клоу имеет долю в предприятии, — доложила Кэролайн, вконец обнаглев. — Он принес бутылку отличного хереса, чтобы отметить завершение работ. Я кивнул и отправился наверх. Свежего белья у меня в саквояже хватало. На самом деле я заехал, чтобы пополнить свои запасы лауданума из большой бутыли. Наполнив походную флягу и залпом выпив два стакана, я подошел к комоду, пошарил в нижнем ящике под стопками белья и нашел заряженный револьвер, давным-давно выданный мне Хэчери. Кто стал бы винить меня, если бы я застрелил Кэролайн и ее любовничка — тощего, чумазого, усатого водопроводчика? Вполне возможно, этот тип успел поваляться в моей постели в моем новом доме даже прежде меня — по крайней мере, я не сомневался, что он на это надеялся. С другой стороны, осознал я, в глазах общественности Кэролайн действительно является моей домоправительницей, а не женой. Я бы имел полное право убить Джозефа Клоу, будь он ночным взломщиком, но немногие судьи или присяжные оправдали бы меня в убийстве джентльмена, согласившегося отужинать на кухне с моей домоправительницей. Даже чертову бутылку хереса какой-нибудь ретивый прокурор мог бы представить на суде в качестве обличающей улики. Мрачно улыбаясь, я убрал револьвер обратно в ящик, взял несколько смен белья для отвода глаз, проверил, полна ли фляга, и покинул дом через переднюю дверь. Я не зашел на кухню, чтобы еще раз взглянуть на разрумяненную Кэролайн, — она выглядела очаровательно при свете свечей, несмотря на свои тридцать с лишним лет, — и ее будущего любовника и мужа в лице плюгавого водопроводчика. Ко времени, когда кеб подкатил к клубу, я беззаботно насвистывал и пребывал в прекрасном расположении духа. Уже тогда я сообразил, как использовать мистера Джозефа Клоу в своих интересах.
Мы с Диккенсом завершили работу над повестью «Проезд закрыт» в конце октября, на месяц-полтора позже, чем предполагали. Я отвечал за вопрос издательских прав и вел переговоры с Фредериком Чапменом, но в результате Джордж Смит из фирмы «Смит энд Элдер» предложил более выгодные условия, и я немедленно передал права ему. Мы с Диккенсом оба считали, что «Проезд закрыт» так и просится на сцену, а поскольку в наши дни любой вор, имеющий в своем распоряжении подмостки да нескольких актеров, мог запросто украсть любое литературное произведение, сперва написав по нему инсценировку, мы решили опередить всех вероятных воров и написать инсценировку самолично. Диккенс, торопясь закончить все свои дела, чтобы поскорее отбыть в Америку, всучил черновой план пьесы нашему общему другу, актеру и импресарио Фехтеру и поручил мне заняться тяжелой работой по переделке повести для театра, когда он, Диккенс, покинет страну. В конце октября огромный дом на Глостер-плейс (и даже водопровод) был окончательно приведен в порядок, и мы с Кэролайн дали по случаю новоселья званый обед, послуживший также прощальной вечеринкой в честь Диккенса, который планировал отплыть в Америку девятого ноября. Я нанял прекрасную Французскую повариху (в последующие годы она часто работала на нас на полупостоянной основе, хотя и не жила с нами) и принял деятельное участие в составлении меню и надзоре за приготовлениями к торжеству. Званый обед, первый из многих в доме на Глостер-плейс, удался на славу. Через несколько дней, второго ноября, я выступил в роли одного из распорядителей на многолюдном и гораздо более официальном прощальном банкете в честь Диккенса, устроенном во Фримейсонс-Холле. Толпа из четырехсот пятидесяти приглашен ных гостей — весь цвет лондонского искусства, литературы и театра (все мужчины, разумеется) — собралась в главном зале, а примерно сто представительниц прекрасного пола (включая свояченицу Диккенса Джорджину и дочь Мери, а также двуличную, но очаровательную Кэролайн Г***) сидели отдельно на верхней дамской галерее. Правда, впоследствии женщины получили дозволение присоединиться к мужчинам за кофием. Дочь Кэролайн Кэрри, теперь уже почти семнадцати лет, тоже присутствовала там. Не в силах справиться с волнением, я дважды письменно обратился к организаторам банкета за подтверждением, что мой заказ на два билета для дам выполнен. Оркестр Гренадерского гвардейского полка играл на другой верхней галерее. Одним из неожиданных гостей был сын Диккенса Сидни — моряк, чей корабль вошел в Портсмутский порт всего двумя днями ранее. Главную столовую залу украшали британские и американские флаги, а над всеми двадцатью арками сияли позолоченные лавровые венки, на каждом из которых значилось название одного из произведений Диккенса. Лорд Литтон — ныне шестидесяти четырех лет, но выглядевший вдвое старше — председательствовал на банкете и надзирал за происходящим с почетного места во главе стола, похожий в своем черном парадном платье на зоркую хищную птицу. Когда после длинного ряда хвалебных речей, одна восторженнее другой, Диккенс наконец встал и взял слово, он сначала заговорил сбивчиво, прерывистым голосом, а потом и вовсе расплакался. Совладав с собой, он выступил весьма красноречиво — но, как впоследствии говорили многие, еще красноречивее были его слезы. Признаться, когда в тот вечер я сидел там за центральным столом, испытывая легкое головокружение от вина и дополнительной дозы лауданума, я задавался вопросом, что сказали бы все эти знаменитые гости — лорд главный судья Кокберн, сэр Чарльз Рассел, лорд Хотон, компания академиков Королевской академии художеств, лорд мэр Лондона, — если бы увидели Диккенса разгуливающим по канализационным тоннелям Подземного города. Или если бы догадывались о предположительной участи одинокого молодого человека по имени Эдмонд Диккенсон. Впрочем, возможно, это никак не повлияло бы на их отношение к Неподражаемому.
Девятого ноября я вместе с Кэролайн и Кэрри отправился в Ливерпуль, чтобы проводить Диккенса. Писателя разместили в просторной каюте второго помощника капитана на палубе корабля «Куба». (Позже Кэрри спросила меня, где же будет спать сам помощник капитана во время плавания, и мне пришлось признаться, что я понятия не имею.) В этой каюте, в отличие от большинства остальных, можно было дышать свежим воздухом, открыв не только окно, но и дверь. Во время нашего короткого визита Диккенс был раздражителен и рассеян, и только я один знал — почему. И знал единственно потому, что продолжал общаться с инспектором Филдом. Хотя Диккенс еще четверть века назад получил ясное представление о пуританских, консервативных нравах американцев, он не отказался от намерения взять с собой в Америку Эллен Тернан, чтобы она сопровождала его в поездке по стране, возможно, под видом помощницы Долби. Разумеется, такой номер не прошел бы ни при каких обстоятельствах, но Диккенс всегда был безнадежным романтиком, когда дело доходило до подобных фантазий. Мне знать об этом не полагалось, но Неподражаемый поручил Уиллсу переслать молодой актрисе условную телеграмму, которую Диккенс отправит в редакционную контору сразу по прибытии в Новый Свет. Сообщение «Все в порядке» будет означать, что она должна отплыть в Америку ближайшим кораблем, взяв деньги на дорожные расходы у Уиллса, уполномоченного распоряжаться одним из банковских счетов Диккенса. Условная фраза «Добрался благополучно» будет означать, что Эллен следует оставаться на Континенте, где она в настоящее время отдыхала с матерью, ожидая решения своей участи. Тогда, погожим днем девятого ноября, в глубине души — а правильнее было бы сказать «в глубине своего рационального ума» — Диккенс должен был понимать (как понял я, едва лишь узнал от инспектора Филда о вышеописанном дурацком плане), что Эллен получит через Уиллса телеграмму с сообщением «Добрался благополучно», означающим «Безумно скучаю, но постоянно нахожусь под прицелом хмурых, пытливых, оценивающих взглядов американской общественности». При нашем прощании Диккенс сильно разволновался. Он понимал, что оставил мне очень много работы (корректура и окончательная редактура повести «Проезд закрыт» плюс ее инсценировка и последующая постановка совместно с Фехтером), но нервничал он не только поэтому. Едва мы с Кэрри и Кэролайн спустились по сходням на причал, я тотчас же вернулся в просторную, светлую каюту второго помощника капитана под тем предлогом, что забыл там перчатки. Диккенс ждал меня. — Я молю Бога, чтобы Друд не последовал за мной в Америку, — прошептал он, когда мы еще раз пожимали друг другу руки на прощанье. — Не последует, — сказал я с уверенностью, которой в действительности не чувствовал. Когда я уже двинулся к двери — с мыслью, что, возможно, даже вероятно, я никогда больше не увижу своего друга, — Диккенс остановил меня. — Уилки… в ходе разговора с Друдом, состоявшегося девятого июня в вашем кабинете… разговора, напрочь вами забытого… я считаю необходимым предупредить вас… Я застыл на месте, не в силах пошевелиться. Мне показалось, будто кровь в моих жилах обратилась в лед и лед этот проник в самые клетки моего тела. — Вы согласились стать биографом Друда в случае, если со мной что-нибудь стрясется, — сказал Диккенс. Он выглядел как человек, измученный морской болезнью, хотя «Куба» все еще стояла на швартовых у причала в Ливерпульском порту и ни чуть-чуть не покачивалась. — Друд пригрозил убить вас и всю вашу семью, коли вы измените своему слову… точно так же он угрожал, неоднократно, убить меня и моих близких. Если он узнает, что я отправился в Америку в попытке скрыться от него, а вовсе не для того, чтобы договориться с тамошними издателями о публикации его биографии… Через минуту я нашел в себе силы моргнуть. Еще через минуту я обрел дар речи. — Не берите в голову, Чарльз, — сказал я. — Желаю вам удачных гастролей по Америке. И благополучного возвращения на родину. Я вышел из каюты и спустился по сходням на причал, где меня ждали Кэрри и угрюмая, встревоженная Кэролайн.
Глава 24
После отъезда Диккенса я целый месяц чувствовал себя так, словно мой отец снова умер. Не самое неприятное состояние. Я никогда еще не был так загружен делами. Диккенс не только оставил мне работу по корректуре и редактуре нашей совместной повести, но также назначил меня ответственным за выпуск всего рождественского номера «Круглого года». Данное решение изрядно озадачило нашего друга Уильяма Генри Уиллса, который занимал должность заместителя главного редактора журнала и категорически возражал против поездки Диккенса в Америку, но Уиллс, неизменно послушный солдат, быстро свыкся с положением моего заместителя. В течение ноября я проводил все больше и больше времени в редакции — а поскольку Диккенс, помимо всего прочего, попросил меня регулярно проведывать Джорджину, Мейми и Кейти в Гэдсхилле (а также поскольку я обнаружил, что там мне лучше работается, и поскольку туда часто наведывался мой брат Чарли), в скором времени я жил скорее жизнью Чарльза Диккенса, нежели жизнью Уилки Коллинза. Кэролайн такое положение вещей вполне устраивало, хотя она, вопреки моим ожиданиям, не стала покладистее и благодушнее, но взяла за обыкновение затевать со мной ссоры всякий раз, когда я проводил на Глостер-плейс по несколько дней кряду. Ближе к декабрю я стал все реже появляться в своем новом лондонском доме и все больше времени проводил в Гэдсхилле или в свободных комнатах Диккенса, расположенных над конторой журнала. Именно там я находился, когда Уиллс получил телеграмму «Добрался благополучно» и переслал Эллен Тернан во Флоренцию, где она отдыхала с матерью и родственниками. Как Диккенс вообще мог вообразить, что Эллен одна совершит морское путешествие из Италии в Америку, — у меня в голове не укладывалось. Эта бредовая фантазия просто свидетельствовала о степени его одержимости романтическими грезами в ту пору. Позже я узнал от Уиллса, почти случайно, что еще до своего отъезда Диккенс прекрасно понимал: американцы не потерпят присутствия незамужней женщины в его маленькой свите. Долби разведал о планах Диккенса и вынес свой вердикт по поводу уместности присутствия Эллен, прислав телеграмму, состоящую из единственного короткого слова: «Нет». Мы с Диккенсом сошлись во мнении, что драму «Проезд закрыт» следует поставить в театре «Адельфи» перед самым Рождеством и что злодея Обенрейцера надлежит играть нашему общему другу Чарльзу Фехтеру. Я впервые увидел блистательного Фехтера на сцене почти пятнадцать лет назад и познакомился с ним в 1860 году, когда он приехал в Лондон со спектаклем «Рюи Блаз» по пьесе Виктора Гюго. По обоюдному побуждению мы с Фехтером в первые же дни знакомства оставили всякие церемонии и заделались близкими друзьями. Сын англичанки и немца, родившийся в Лондоне и воспитывавшийся во Франции, но теперь снова поселившийся в Лондоне, Фехтер был человеком невероятно обаятельным и преданным (подарок в виде швейцарского шале, преподнесенный Диккенсу на Рождество два года назад, был типичным проявлением его щедрости и импульсивности), но напрочь лишенным деловой хватки. Лондонский дом Фехтера являлся, наверное, единственным в городе салоном, где о правилах этикета заботились еще меньше, чем в моем доме. Если я имел обыкновение оставлять гостей за столом на попечение Кэролайн, когда мне требовалось срочно убежать по делам, то Фехтер славился тем, что принимал гостей в халате и шлепанцах и позволял каждому выбрать бутылку вина на свой вкус, чтобы взять с собой за стол. Мы с ним обожали французскую кухню и дважды подвергали строгой проверке неисчерпаемые ресурсы гастрономической Франции, обедая одним-единственным продуктом, но приготовленным самыми разнымиспособами. Сначала мы устроили «картофельный» обед из шести блюд, а потом — «яичный» из восьми блюд. Единственным недостатком Фехтера-актера был жесточайший страх сцены, и перед началом каждого спектакля его костюмер ходил за ним по пятам с тазиком. В ноябре и начале декабря я спешно писал инсценировку. Я отослал корректурные гранки повести прямо Фехтеру, который сообщил мне, что «безумно влюбился в своего героя», и немедленно присоединился ко мне в работе над пьесой. Меня не удивило, что актеру понравился главный злодей Обенрейцер, ведь мы с Диккенсом создавали этот персонаж «под него». Всякий раз, когда я ехал на поезде в Рочестер, направляясь в Гэдсхилл-плейс, мне легко представлялось, что Чарльз Диккенс навсегда исчез (я по-прежнему допускал такую вероятность, принимая в соображение плачевное состояние его здоровья и тяготы американского турне) и что я не только смогу когда-нибудь занять, но уже занимаю его место в мире. В начале декабря повесть «Проезд закрыт» выйдет в «Круглом годе» и, несомненно, будет пользоваться огромным успехом. Конечно, успеху поспособствует магия имени Диккенса — вот уже двадцать лет декабрьские номера его журналов с его рождественскими повестями раскупались нарасхват, — но правда и то, что моя «Женщина в белом» продавалась успешнее иных романов Диккенса, а «Лунный камень», который выйдет в свет в 1868 году, наверняка будет продаваться еще лучше. Сидя за обеденным столом в Гэдсхилл-плейс, в обществе Джорджины, моего брата Чарли, Кейти и нескольких из детей Диккенса, я испытывал такое чувство, будто я заменил Неподражаемого так же легко, окончательно и бесповоротно, как в свое время Джорджина Хогарт заменила Кэтрин Диккенс. Я продолжал собирать материал для «Лунного камня» и в ходе поисков достоверных источников сведений об Индии (а равно обрядовой стороне индуизма и магометанства) уже успел пообщаться со многими людьми, когда меня свели с неким Джоном Уилли — господином, довольно долго прожившим в индийской провинции Катьявар в бытность свою служащим государственного департамента Индии. — Больше нигде в Индии не процветают столь пышно религиозный фанатизм и первобытная жестокость, — сказал мне Уилли за стаканом бренди. Он отослал меня к «собранию писем Уилера» и статьям в «Англичанине». — Элевсинские мистерии — просто детский лепет по сравнению с мерзостями, там творящимися. Я объяснил, что трое моих индусов в «Лунном камне» будут выведены, конечно же, в черных красках, но одновременно наделены неким ореолом благородного мученичества, ибо все-таки им придется не одно десятилетие умилостивлять своих богов, вываливая прощение за нарушение кастового правила, возбраняющего пересекать «Темные воды», — однако Уилли иронически усмехнулся и уверенно заявил, что восстановление моих инду ов в касте будет зависеть единственно от мзды, которую надобно дать нужным брахманским группировкам, а вовсе не от пожизненных усилий обрести очищение. Посему я оставил без внимания большинство замечаний и советов мистера Джона Уилли, бывшего служащего государственного департамента Индии, и стал следовать велениям Музы. Английский антураж романа я создавал, опираясь на свои воспоминания об Йоркширском побережье. За историческими фактами (основное действие романа начиналось в 1848 году) я по-прежнему обращался к превосходной библиотеке «Атенеума». Из всех сведений, полученных от мистера Уилли, я воспользовался лишь информацией о глухой провинции Катьявар: поскольку мало кто из белых людей бывал там и вернулся живым, чтобы рассказать о ней, я решил просто выдумать географию и топографию Катьявара, а равно течения и культы индуизма, якобы там распространенные. Я работал над «Лунным камнем» каждый день, несмотря на страшную занятость, связанную с переделкой повести «Проезд закрыт» для театра. Слухи о нашей новой пьесе каким-то образом достигли Соединенных Штатов еще до прибытия туда соавтора произведения, положенного в ее основу. Диккенс прислал мне письмо, где сообщал, что сразу по его приезде в Нью-Йорк к нему явились театральные импресарио, явно уверенные, что текст инсценировки лежит у него в кармане. Он попросил меня высылать один за другим акты по мере завершения работы над ними и добавил: «Я не сомневаюсь, дорогой Уилки, что из нашей повести выйдет отличная пьеса». В ходе последовавшего обмена корреспонденцией Диккенс сообщил, что он спешно ищет какого-нибудь американского подданного, которому мы могли бы продать право постановки драмы в Америке, оставив за собой право на долю прибыли. Под Рождество Диккенс получил от меня окончательный текст инсценировки и прислал мне из Бостона следующий ответ: «Пьеса написана с большим старанием и мастерством, но боюсь, она слишком длинная. Ее судьба будет решена прежде, чем вы получите это послание, но я сильно сомневаюсь в ее успехе…» Ниже он выражал опасения по поводу неизбежного в Америке нарушения авторских прав и самовольных постановок какой-нибудь версии нашей пьесы, но, честно говоря, дальше слов «…я сильно сомневаюсь в ее успехе» я не стал читать.Несмотря на нехватку времени и сил, в середине декабря я соблаговолил откликнуться на письменную просьбу инспектора Филда о встрече на мосту Ватерлоо. Я догадывался, о чем он хочет поговорить со мной, и не ошибся в своем предположении. Старый сыщик выглядел чрезвычайно довольным собой, что сначала показалось мне странным — ведь после десятого июня, когда я доложил, что накануне ночью ничего дурного в моем доме не произошло, след Друда совсем потерялся. Однако почти сразу, пока мы шли с поднятыми воротниками против ветра со снегом по мосту Ватерлоо, инспектор Филд, похожий на летучую мышь в своем развевающемся за спиной шерстяном плаще, сообщил мне, что Столичная полиция арестовала некоего малайца, подозреваемого в убийстве. Малаец этот, как выяснилось, являлся одним из ближайших помощников Друда, и в настоящий момент его допрашивали с пристрастием в тюремной камере. Показания, полученные от него в начале допроса, заставляли предположить, что Друд покинул Подземный город и сейчас скрывается в трущобных кварталах Лондона. Инспектор Филд доверительно сказал мне, что теперь, рано или поздно, они всяко получат в руки ниточку, ведущую прямиком к египетскому убийце, — самую надежную из всех, какие оказывались у них в руках в течение двадцати лет бесплодных усилий. — Значит, полицейские делятся с вами информацией, — сказал я. Инспектор Филд обнажил в улыбке крупные желтые зубы. — Допрос проводят мои люди и я, мистер Коллинз. В полиции у меня осталось много близких друзей, пусть даже комиссар и высшие чины относятся ко мне с меньшим уважением, чем я заслуживаю. — А нынешний начальник сыскного отдела знает об аресте одного из помощников Друда? — спросил я. — Пока — нет, — ответил Филд, прикладывая толстый палец к носу сбоку. — Верно, вы гадаете, зачем я вызвал вас на встречу в столь морозный день, мистер Коллинз. — Да, — солгал я. — Так вот, сэр, с сожалением вынужден сообщить вам, что наше длительное деловое сотрудничество закончено, мистер Коллинз. Мне печально расставаться с вами, но мои возможности ограниченны — как вы сами наверняка понимаете, сэр, — и отныне я хочу направить все имеющиеся в моем распоряжении силы и средства на разыгрывание эндшпиля против чудовища Друда. — Я… удивлен, инспектор, — сказал я, подтягивая свой красный шарф к самому носу, чтобы скрыть улыбку. Именно этого я и ожидал. — Означает ли это, что рядом с моим домом на Глостер-плейс больше не будет дежурить мальчишка-связной? — Увы, именно так, мистер Коллинз. Что заставляет вспомнить о прискорбной участи бедного юного Гузберри. — К великому моему изумлению, старик вытащил из кармана огромный платок и долго сморкал в него свой красный нос. — Ну, если наше сотрудничество необходимо прекратить… — начал я с притворно огорченным видом. — Боюсь, у нас нет выбора, мистер Коллинз. И я полагаю, сэр, что Друд более не нуждается в услугах нашего общего друга мистера Чарльза Диккенса. — Неужели? — спросил я. — Почему вы пришли к такому заключению, инспектор? — В первую очередь, сэр, я исхожу из того факта, что Друд не предпринял никаких попыток встретиться с мистером Диккенсом в годовщину их знакомства под Стейплхерстом. — Безусловно, вы лишили Друда всякой возможности повидаться с ним, выставив у моего дома кордон из опытных агентов. — Мы дошли до конца моста, повернулись спиной к ветру и зашагали в противоположном направлении. Инспектор Филд издал кудахтающий смешок. — Это совершенно исключено, сэр. Если Друду угодно явиться куда-нибудь, он туда является. И пятьсот отборных полицейских не помешали бы ему встретиться с Диккенсом той ночью прямо в вашем доме при необходимости, сэр, — когда бы он хотел этого. Такова уж дьявольская природа нашего чужеземного монстра. Но в том, что мистер Диккенс больше не нужен Друду, меня окончательно и бесповоротно убедил тот простой факт, что упомянутый писатель в настоящее время находится в Америке. — Да при чем же здесь Америка, инспектор? — Друд не позволил бы мистеру Диккенсу уехать так далеко, если бы все еще нуждался в его услугах, — сказал старый сыщик. — Очень интересно, — пробормотал я. — И известно ли вам, о каких именно услугах идет речь, мистер Коллинз? Мы с вами никогда не говорили об этом. — Я никогда не задавался вопросами на сей счет, инспектор, — солгал я, радуясь, что на моих разрумянившихся от мороза щеках стыдливый румянец не заметен. — Друд хотел, чтобы мистер Диккенс кое-что написал для него, — объявил инспектор Филд тоном человека, изрекающего откровение. — При необходимости — под принуждением. Я бы не удивился, если бы узнал, что Друд устроил всю трагедию под Стейплхерстом с единственной целью обратить в рабство самого известного писателя Англии. Он городил чушь, ясное дело. Даже «чужеземный монстр», существующий в воображении старого сыщика, никак не мог знать, что Диккенс не погибнет при падении вагонов первого класса с разобранного моста. Но вслух я произнес лишь: — Очень интересно. — А вы догадываетесь, мистер Коллинз, что именно Друд заставил бы мистера Диккенса написать и опубликовать для него? — Свою биографию? — предположил я, чтобы показать старику, что я не законченный тупица. — Нет, сэр, — сказал инспектор Филд. — Труд, посвященный древней языческой религии, с описанием всех нечестивых обрядов, ритуалов и тайных магических приемов. Теперь я удивился по-настоящему. Я остановился, и инспектор Филд тоже. Боковые фонари на проезжающих по мосту каретах горели, несмотря на ранний час. — Зачем Друду заставлять писателя-романиста описывать в подробностях какую-то мертвую религию? — спросил я. Инспектор Филд широко улыбнулся и снова легонько постучал себя пальцем по носу сбоку. — Для Друда она не мертва, мистер Коллинз. Она не мертва для великого множества последователей Друда, обитающих в Подземном городе, если вы меня понимаете, сэр. Видите вот это, сэр? Я посмотрел вдоль берега Темзы на северо-запад, куда указывал инспектор. — Театр «Адельфи»? — спросил я. — Старую фабрику ваксы Уоррена? Или вы имеете в виду сам Скотленд-Ярд? — Все вместе, мистер Коллинз. И все, что находится дальше — вплоть до Сент-Джеймс-плейс, а также вдоль Пикадилли, до самой Трафальгарской площади и дальше, включая Чарринг-Кросс, и Лестер-Сквер, и весь Стрэнд до Ковент-Гардена. — Ну и что, инспектор? — Представьте себе там громадную стеклянную пирамиду, мистер Коллинз. Представьте себе весь Лондон, от Биллингсгейта до Блумсберри и Риджентс-парка, в виде скопления гигантских стеклянных пирамид с бронзовыми сфинксами… представьте, коли можете, сэр. Ибо Друд представляет себе такое. — Это безумие, — сказал я. — Верно, мистер Коллинз, чистой воды безумие, — рассмеялся инспектор Филд. — Но именно этого хотят Друд и все подземные почитатели древних египетских богов, сэр. И они намерены достичь своей цели, если не в этом веке, так в следующем. Представьте себе, что в двадцатом веке повсюду там будут возвышаться громадные стеклянные пирамиды — и храмы, сэр, где отправляются тайные обряды с использованием месмерической магии, превращающей людей в безропотных рабов. — Это безумие, — повторил я. — Да, сэр, — сказал инспектор Филд. — Но безумие Друда не делает его менее опасным. Скорее — наоборот. — Ну ладно. — Мы как раз дошли до конца моста. — Я выхожу из игры. Благодарю вас за все ваши заботы и покровительство, инспектор Филд. Старик кивнул, но тотчас же кашлянул в кулак. — И еще одна мелочь, сэр. Печальное побочное последствие прекращения нашего сотрудничества. — Что такое, инспектор? — Ваши исследования. — Я не вполне вас понимаю, — промолвил я, хотя прекрасно все понял. — Ваши исследования, проводимые в опиумных притонах Подземного города. Ваши еженедельные посещения притона Короля Лазаря, если точнее. С сожалением вынужден сказать, что я больше не смогу предоставлять вам сыщика Хэчери в качестве провожатого и телохранителя. — А-а-а… — протянул я. — Ясно. Не берите в голову, инспектор. Я в любом случае собирался закончить свои исследования в этом направлении. Сейчас, когда я занимаюсь постановкой пьесы и работаю над романом, более половины которого уже написано, у меня просто нет ни времени на подобные исследования, ни дальнейшей необходимости в них. — Вот как, сэр? Что ж… признаться, у меня прямо камень с души свалился. Я беспокоился, что перевод сыщика Хэчери на другую работу причинит вам неудобства. — Вовсе нет, — солгал я. Честно говоря, мои еженедельные встречи с Хэчери в таверне перед походом к Королю Лазарю уже давно превратились в еженедельные совместные ужины. В ноябре, во время одного из таких ужинов, Хэчери, теперь ставший моим осведомителем, предупредил меня, что инспектор Филд вскоре освободит его от обязанностей моего телохранителя. Я был готов к этому и спросил, весьма дипломатично, имеет ли он, Хэчери, право заниматься работой, не связанной с сыскным бюро инспектора Филда. «Да, — сказал он. — Конечно». И он действительно договорился, чтобы Филд не занимал его делами по четвергам вечером. «Я сказал, мол, хочу выделить время для общения со своими девочками», — сообщил мне Хэчери за кофием с сигарой. Я предложил ему щедрую плату за то, чтобы он продолжал сопровождать и охранять меня в моих еженедельных походах, не ставя инспектора в известность. Хэчери тотчас согласился, и мы скрепили сделку рукопожатием — моя ладонь утонула в его лапище. Сейчас, декабрьским днем 1867 года, мы с инспектором Филдом тоже обменялись рукопожатием и зашагали по мосту Ватерлоо в разные стороны, полагая (по крайней мере, я полагал), что больше никогда не встретимся.
На той же неделе, когда я удалил инспектора Филда из своей жизни, у меня состоялась (на сей раз по моей просьбе) еще одна встреча, в ресторации «Петух и чеширский сыр» на Флит-стрит. Я умышленно опоздал, и к моменту моего прибытия Джозеф Клоу, одетый в дурно скроенный саржевый костюм, уже сидел за столом, явно чувствуя себя крайне неловко в обстановке, гораздо более изысканной и роскошной, чем привычная для водопроводчика и сына винокура. Я подозвал сомелье и сделал заказ, но еще не успел сказать Клоу ни слова, когда плюгавый человечек нервно заговорил: — Сэр… мистер Коллинз… если вы насчет того, что я остался на ужин тогда в октябре, то я нижайше извиняюсь, сэр, и могу лишь сказать, что ваша домоправительница миссис Г*** пригласила меня отужинать с ней, желая таким образом вознаградить меня за досрочное окончание водопроводных работ на верхних этажах, сэр. Если мне не следовало принимать приглашение… а я теперь понимаю, что не следовало… я прошу прощения и… — Нет-нет, не извиняйтесь, — перебил я. Положив ладонь на грубошерстный рукав водопроводчика, я тотчас задал разговору иной тон. — Я попросил вас о встрече, мистер Клоу… вы позволите называть вас просто Джозеф?.. поскольку сам хочу извиниться перед вами. Уверен, тогда вечером, два месяца назад, вы могли ошибочно принять… и наверняка приняли… мой изумленный вид за недовольный. Я надеюсь хотя бы отчасти загладить свою вину перед вами, угостив вас отличным ужином здесь, в ресторации «Петух и чеширский сыр». — Не стоит, сэр, право слово… — начал Клоу, но я снова перебил его. — Видите ли, мистер Клоу… Джозеф… сейчас я говорю с вами как давний работодатель миссис Г***. Вероятно, она говорила вам, что служит у меня уже много лет. — Да, — кивнул Клоу. Нас прервало появление официанта, который узнал меня и восторженно поприветствовал. Клоу явно не знал, что выбрать из меню, и я сделал заказ на двоих. — Да, — продолжил я, — хотя миссис Г*** все еще довольно молода, она и ее дочь уже много лет состоят у меня в услужении. Она нанялась ко мне, когда Хэрриет — так зовут ее дочь — была малым ребенком. Сколько вам лет, мистер Клоу? — Двадцать шесть, сэр. — Прошу вас, называйте меня просто Уилки, — горячо сказал я. — А вы будете Джозефом. Молодой человек растерянно захлопал глазами. Он явно не привык переступать сословные барьеры. — Вы наверняка понимаете, Джозеф, что я питаю к миссис Г*** глубочайшее уважение и считаю своим долгом заботиться о ней и ее прелестной дочери. — Да, сэр. Я попробовал вино и наполнил бокал Клоу до краев. — Когда она рассказала мне о своей сердечной склонности к вам, Джозеф, я очень удивился… признаюсь, я премного удивился, поскольку Кэролайн… миссис Г***… за все пятнадцать лет нашего знакомства ни разу не отзывалась столь высоко ни об одном джентльмене. Но ее чувства и желания — для меня святое. На сей счет даже не сомневайтесь. — Да, сэр, — повторил Клоу. У него был вид человека, крепко получившего по голове одним из самых увесистых водопроводных инструментов. — Миссис Г*** — молодая женщина, Джозеф, — продолжал я. — Она поступила ко мне в услужение совсем еще юной девушкой, почти девочкой. Несмотря на свои многочисленные хозяйственные обязанности и ответственное положение в моем доме, она женщина все еще молодая, примерно вашего возраста. На самом деле третьего февраля, меньше чем через два месяца, Кэролайн исполнялось тридцать восемь. — Отец выделил миссис Г*** значительное приданое, и я с превеликим удовольствием присовокуплю к нему известную сумму, — сказал я. — Разумеется, помимо приданого имеется скромное наследство. Отец Кэролайн умер в Бате в январе 1852 года, не оставив ей ни приданого, ни наследства, и я не собирался прибавлять ни пол-пенни к этим несуществующим суммам. — Уверяю вас, сэр Уилки, сэр… то был просто поздний ужин… Миссис Г*** хотела всего лишь вознаградить меня за усердие, — пролепетал Клоу. Тут на стол принялись подавать блюда, у молодого человека глаза полезли на лоб при виде количества и качества пищи, и наш разговор принял совсем уже односторонний характер — я продолжал подливать Клоу вино и исподволь гнул свою странную линию, якобы бескорыстную, но в действительности насквозь лицемерную.
В то время моя мать тоже постоянно жаловалась и настойчиво требовала моего внимания. Она, по ее словам, начала страдать от мучительных болей непонятного происхождения. Так и хотелось сказать ей, что в семидесятисемилетнем возрасте боли непонятного происхождения (и возможно, порой даже мучительные) являются частью платы за долгожительство. Моя мать всегда жаловалась на разные хвори и всегда была здоровой — здоровее своего мужа, умершего молодым; здоровее своего сына Чарльза, многие годы изнемогавшего от язвенной болезни, на поверку оказавшейся раком; и уж всяко здоровее своего бедного сына Уилки, который жестоко мучался ревматоидной подагрой и зачастую просто лез на стену от нестерпимой боли. Но мать постоянно жаловалась и просила — почти требовала, — чтобы я провел с ней в Танбридж-Уэллсе несколько дней в рождественскую пору. Об этом не могло идти речи, разумеется, хотя бы потому, что Кэролайн тоже требовала, чтобы я провел Рождество или несколько дней в рождественскую пору с ней и Кэрри. О последнем также не могло идти речи. Премьера спектакля «Проезд закрыт» была назначена на «день подарков» — второй день Рождества. Двадцатого декабря я написал матери:
Милая матушка! В самый разгар хлопот по подготовке спектакля выбрал минутку черкнуть пару строк, дабы уведомить вас, что я приеду в Рождество, если не раньше. Работа над пьесой подвигалась медленно и сопровождалась чудовищными трудностями. Мне пришлось заново переписать весь пятый акт — его я закончил только сегодня, — и премьера назначена на следующий четверг — сразу после Рождества! Коли я изыщу возможность написать еще раз — напишу. В противном ж е случа е условимс я сейча с на том, что я всенепременно приеду в рождественский день. Если же мое присутствие не потребуется на репетициях в следующий понедельник и вторник, я объявлюсь раньше. У вашего замученного делами сына нет ни единой минуты досуга. Но работ а над пьесой наконец завершена — так что главная моя забота с плеч долой. Как же хочется мне насладиться тишиной и покоем вашего дома! Пришлите мне кратенькое письмецо до Рождества. Привезу вам таблеток от изжоги и шоколад, доставленный Чарли из Парижа. Надо ли привезти вам еще что-нибудь — только такое, что помещалось бы в саквояж? Ваш любящий У. К. Чарли собирается приехать к вам из Гэдсхилла на рождественской неделе в пятницу.В общем, я провел рождественский день со своей матерью в Танбридж-Уэллсе — она безостановочно жаловалась на расстроенные нервы и изжогу, а равно на подозрительных, зловещей наружности незнакомцев, появившихся в округе, — и на следующее утро с первым же поездом уехал в Лондон. В день премьеры Фехтер, одержимый страхом сцены, по обыкновению, находился в самом плачевном состоянии. Последние два часа перед спектаклем его почти безостановочно рвало, и несчастный костюмер вконец замучался бегать взад-вперед с тазиком. В конечном счете я предложил актеру принять несколько капель лауданума, чтобы унять волнение. Не в силах вымолвить ни слова, Фехтер покорно высунул язык. От всепоглощающего ужаса, владевшего беднягой, язык у него стал металлически-черным, как у попугая. Однако, едва лишь занавес поднялся, Фехтер тотчас обрел дар речи и уверенной поступью вышел на подмостки в образе гнусного злодея Обенрейцера. Я же, следует заметить, нисколько не волновался. Я знал, что спектакль обречен на успех, и оказался прав. Двадцать седьмого декабря я написал матери из конторы «Круглого года», расположенной в доме двадцать шесть по Веллингтон-стрит:
Милая матушка! Выдалась минутка сообщить вам, что вчерашняя премьера прошла с огромным успехом. Зрители остались в восторге, актеры выступили превосходно. Получил высланные вами гранки в целости и сохранности. Полагаю, Чарли сегодня гостит у вас. Коли сможете, напишите, как ваше здоровье и в какой день на следующей неделе мне можно приехать. Искренне надеюсь, что сейчас вы чувствуете себя лучше, чем в последний мой приезд. Кланяйтесь от меня Чарли. Ваш любящий У. К.День премьеры стал единственным за весь 1867 год четвергом, когда мне пришлось пропустить еженедельный поход в подземный притон Короля Лазаря. Но я заблаговременно договорился о переносе данного мероприятия на пятницу, двадцать седьмого декабря (и писал матери из диккенсовских комнат при редакции журнала именно потому, что сказал обеим своим женщинам, Кэролайн и Марте, что проведу ночь там), и сыщик Хэчери любезно согласился сопровождать меня не в «день подарков», а в следующую за ним пятницу.
Кэролайн Г*** хотела выйти замуж. Такую возможность я даже не рассматривал. С другой стороны, Марта Р*** хотела только ребенка (или детей, во множественном числе). Она не настаивала на браке, поскольку ее вполне устраивала роль «миссис Доусон», жены вымышленного «мистера Доусона», постоянно разъезжающего по миру торговца, который редко бывает в своем доме на Болсовер-стрит. Примерно в то время, когда драма «Проезд закрыт» с успехом шла в театре и работа над «Лунным камнем» близилась к завершению, а в особенности после второй тайной встречи с мистером Джозефом Клоу в чуть менее дорогой лондонской ресторации, я начал подумывать о том, чтобы пойти навстречу желанию Марты. Первые две недели нового 1868 года выдались бурными для меня, и мне кажется, я никогда в жизни не был так счастлив, как тогда. В моих письмах к матери (и десяткам друзей и знакомых) не содержалось ни малейших преувеличений. Пьеса «Проезд закрыт» — несмотря на критический отзыв о ней Чарльза Диккенса, пришедший из далекой Америки, — имела настоящий успех. Я продолжал по меньшей мере дважды в неделю наведываться в Гэдсхилл-плейс и сидеть за обеденным столом в обществе Джорджины, моего брата Чарли и Кейти (когда Чарли находился там), сына Диккенса Чарли и его жены Бесси (они тоже часто там бывали), дочери Диккенса Мейми (жившей там постоянно), а равно изредка наезжающих гостей вроде Перси Фицджеральда или Уильяма Макриди с очаровательной второй женой. Я пригласил всех их в Лондон на спектакль «Проезд закрыт». Я разослал множество писем с приглашениями другим своим знакомым вроде Уильяма Холмена Ханта, Т. X. Хиллса, Нины Леманн, сэра Эдвина Лэндсира, Джона Форстера и прочих. Я пригласил всех упомянутых особ и еще многих отобедать со мной в доме на Глостер-плейс в субботу, восемнадцатого января (не в парадном платье, подчеркнул я), а оттуда отправиться в театр и посмотреть спектакль, удобно расположившись вместе со мной в поместительной авторской ложе. Кэролайн пришла в совершенный восторг и, образно выражаясь, взялась за кнут, чтобы трое наших слуг спешно подготовили огромный дом к столь торжественному приему. И она целыми часами обсуждала меню предстоящего обеда с французской поварихой. Матушка написала (на самом деле она продиктовала письмо Чарли, на день заехавшему в Танбридж-Уэллс), что к ней наведывался некий доктор Рамсис — врач, пользовавший одно местное семейство и прослышавший о ее недомогании. После тщательного осмотра он поставил диагноз «закупорка сердечной артерии», выдал ей три лекарственных препарата (которые, по словам матери, нисколько не помогали) и посоветовал съехать из коттеджа, дабы спастись от шума, сопровождающего ремонтно-строительные работы, что велись в деревне в настоящее время. Когда она упомянула доктору о своем любимом домике в расположенном поблизости Бентам-Хилле, он настоятельно порекомендовал перебраться туда безотлагательно. В конце письма Чарли от себя приписал, что матушка пригласила с собой в Бентам-Хилл свою экономку, кухарку и соседку по имени миссис Уэллс — к нашему с Чарли облегчению, ибо теперь мы знали, что за матерью будет кому присматривать, покуда она оправляется от своих мелких недугов. Ниже матушка добавила, мол, доктор Рамсис говорит, что ей требуется полный покой и что он — при помощи назначенных лекарств и дальнейшего ухода — сделает все возможное, дабы обеспечить ей таковой. В постскриптуме она сообщила, что много лет назад доктор Рамсис претерпел жесточайшие муки от полученных при пожаре ожогов, навсегда оставивших на нем шрамы, и потому решил посвятить свою жизнь облегчению телесных страданий своих ближних.
Все наши надежды выгодно продать право постановки пьесы американскому продюсеру рухнули, когда пришло письмо от Диккенса: «Пираты повсюду ставят собственные дрянные переделки». Диккенс утверждал, что сделал все возможное, дабы передать мою инсценировку или по крайней мере право на сотрудничество в честные руки — и даже зарегистрировал «Проезд закрыт» как собственность Тикнора и Филдса, своих бостонских издателей, — но я сомневался в искренности (или по крайней мере — настойчивости) его усилий. В конце концов, в предыдущих своих письмах он называл мою пьесу «слишком длинной» и говорил, к великому моему раздражению, что «она скатывается в простую мелодраму» — посему я подозревал, что Диккенс просто выжидает возможности переработать пьесу… или написать новую инсценировку с нуля. (Мои подозрения подтвердились в июне следующего года, когда Диккенс именно так и поступил: написал в соавторстве с Фехтером новую версию драмы для постановки в Париже. Спектакль провалился.) Так или иначе, далее в своем письме Диккенс сообщал, что бостонский театр «Мюзеум» выпустил спектакль по нашей повести в уму непостижимые сроки: всего через десять дней после прибытия в Америку оригинального текста инсценировки. Это было чистой воды пиратство, конечно же, и Диккенс, по его словам, заставил Тикнора и Филдса пригрозить руководству театра судебным запретом — но пираты, учитывая снисходительное отношение американцев к нарушению авторских прав, прекрасно понимали, что общественность поднимет голос против Диккенса, коли он будет упорствовать, а потому не поддались на угрозы издателей и продолжали показывать чудовищно плохую версию нашей пьесы. «А тем временем, — писал далее Диккенс, — нагрянула доблестная рать пиратов, и теперь наша пьеса, так или иначе изуродованная, идет повсюду». Впрочем, бог с ним. Меня мало волновали эти далекие неприятности. Тридцатого декабря я писал матери: «Спектакль приносит хорошую прибыль. Это подлинный успех — скоро мы все разбогатеем». В следующий свой приезд, второго января, я привез матушке на подпись юридические бумаги, удостоверяющие наше с Чарли право на получение в равных долях пяти тысяч фунтов, доставшихся ей от тети Дэвис и приносящих процентный доход, а также право распоряжаться этими деньгами по собственному усмотрению — в случае, если она умрет раньше нас. Стремительно приближался день торжественного званого обеда и последующего похода в театр. Кэролайн и Кэрри украсили огромный дом на Глостер-плейс так пышно, словно там предстояло провести коронацию, а наши счета за продукты на той неделе составили сумму, какую мы обычно расходовали за полгода. Неважно. Сейчас было время праздновать. В четверг я написал:
Глостер-плейс, 90 Портмен-Сквер В. 17 января 1868 г. Милая матушка! Мы с Чарли вздохнули с облегчением, узнав, что вы перебрались в Бентам-Хилл и вновь поручили себя заботам миссис Уэллс. Меня нисколько не удивляет, что переезд совершенно вас обессилил. Надеюсь, отдохнув и восстановив силы, вы начнете ощущать пользу от перемены места жительства. Пожалуйста, известите меня парой строк о своем самочувствии и сообщите, как скоро мне (или Чарли) можно будет проведать вас на новом месте. Помните, что тишина, покой и свобода от лондонской суеты помогают мне в моей работе. И еще уведомьте меня (как только сможете написать, не совершая над собой чрезмерных усилий), когда будет удобнее прислать в Бентам-Хилл небольшой запас бренди и вина. Пьеса пользуется колоссальным успехом. Каждый вечер театр переполнен. Эта игра на чувствах зрителей весьма доходна и обещает еще долго приносить мне пятьдесят — пятьдесят пять фунтов в неделю. Так что по поводу денежных вопросов не волнуйтесь. Я уже написал почти половину «Лунного камня». Больше никаких новостей нет. До свидания. Ваш любящий У. К.Не знал я, что это письмо станет последним, которое я напишу своей дорогой матушке. На второй неделе нового года я был так занят работой над «Лунным камнем» и театральными делами, что мне снова пришлось перенести поход в притон Короля Лазаря с четверга на пятницу. Сыщик Хэчери, похоже, ничего не имел против — он сказал, что в пятницу ему всяко легче освободить вечер, чем в четверг, — и я снова угостил своего огромного телохранителя превосходным ужином (на сей раз в таверне «Голубые столбы» на Корк-стрит), прежде чем он повел меня в темные припортовые трущобы и благополучно довел до жуткого скопления могил и гранитных надгробий, которое Диккенс давным-давно окрестил Погостом Святого Стращателя. На то ночное дежурство Хэчери взял новую книгу — «Историю Генри Эсмонда», принадлежащую перу Теккерея. Диккенс однажды одобрительно отозвался о решении Теккерея произвольно разделить длинный роман на три «книги» и позаимствовал у него сей прием для всех своих последующих крупных произведений. Но я не стал упоминать сыщику об этом несущественном профессиональном моменте, ибо мне не терпелось поскорее спуститься вниз. Король Лазарь поприветствовал меня, по обыкновению, сердечно. (На прошлой неделе я предупредил старого китайца, что, скорее всего, приду не в четверг, а в пятницу, и он заверил меня на своем безупречном английском, что мне будут рады в любое время.) Лазарь и его могучий телохранитель-китаец проводили меня к моей койке и вручили мне мою опиумную трубку, уже заправленную и зажженную, как всегда. Довольный прошедшим днем и своей жизнью — уверенный, что приятное чувство удовлетворения стократ усилится за часы, проведенные здесь с трубкой, — я закрыл глаза, устроился поудобнее в своей уютной глубокой нише и в сотый раз поплыл на восходящих волнах дыма в царство сладостных грез. В тот момент прежняя моя жизнь закончилась.
Глава 25
— Теперь можете проснуться, — говорит Друд. Я открываю глаза. Нет, неверно. Мои глаза уже были открыты. Сейчас, с его позволения, я обретаю способность видеть. Я не могу ни поднять, ни просто повернуть голову, но с места, где лежу навзничь на какой-то холодной поверхности, я вижу достаточно, чтобы понять: я нахожусь не в опиумном притоне Короля Лазаря. Я голый — это я вижу, и, не поднимая головы, а по давлению холодного мрамора на спину и ягодицы, по дуновениям холодного воздуха, овевающего грудь, живот и гениталии, я понимаю, что лежу на каменной плите или низком алтаре. Справа надо мной возвышается черная ониксовая статуя высотой не менее двенадцати футов — она изображает обнаженного по пояс мужчину в короткой золотой юбке, который сжимает в могучих мускулистых руках золотое копье или пику. Но жуткое черное тело увенчано головой шакала. Слева стоит похожая статуя, такой же высоты и тоже с копьем, но вместо шакальей у нее голова какой-то хищной птицы с крючковатым клювом. Обе они пристально смотрят на меня. Друд вступает в поле моего зрения и тоже молча смотрит на меня. У него все то же мертвенно-бледное, уродливое лицо, какое привиделось мне в Бирмингеме, а потом, в прошлом июне, в собственном моем доме, но в остальном он выглядит иначе. Он по пояс обнажен, если не считать широкого, массивного ожерелья, выполненного, похоже, из чеканного золота и инкрустированного рубинами и лазуритом. На грязно-белой груди у него висит тяжелый золотой крест — поначалу я принимаю его за христианский, но потом замечаю овальную петлю на месте верхнего луча. Я видел подобные предметы в витринах Лондонского музея, даже знаю, что они называются «анкхами», но понятия не имею, какое символическое значение они имеют. У Друда все тот же нос — две вертикальные щели на черепообразной физиономии — и все те же безвекие глаза, но сейчас они густо обведены темно-синими, почти черными, вытянутыми к вискам стрелками, воспроизводящими кошачий разрез глаз. От переносья через лоб и выше тянется кроваво-красная полоса, делящая пополам лысый, белый, словно лишенный кожи череп. В руке Друд сжимает кинжал с усыпанной драгоценными камнями рукоятью. Острие клинка недавно было обмакнуто в красную краску или свежую кровь. Я пытаюсь заговорить, но не могу издать ни звука. Я не в силах даже открыть рот и пошевелить языком. Я чувствую свои руки и ноги, но они меня не слушаются. Только глаза и веки подчиняются моей воле. Друд поворачивается направо.Ун ре-а Птах, уау нету, уау нету, ару ре-а ан нетер нут-а, И арефм Джехути, мех апер ем хека, уау нету, уау нету, ен Сути сау ре-а, Хесеф-ту Тем утен-неф сенеф саи сет. Ун ре-а, апу ре-а ан Шу ем нут-еф туи ент иффе ен пет енти ап-неф ре ен нетеру ам-ес. Нук Секхет! Хемс-а хе кес амт урт аат ент пет. Нук Сакху! Урт хер-аб байу Анну. Ар хека неб т'етет неб т'ету ер-а сут. Аха нетеру ер-сен паут нетеру темтиу. О Птах, даруй мне голос! Сними печать, сними печать, что наложили на мои уста малые боги. Войди в меня, о Джехути, носитель Хека, исполненный Хека! Сними печать, сними печать Сути, сковывающую мои уста. О Тем, изгони прочь всех, кто препятствует мне! Даруй мне голос! О Шу, отверзни мои уста божественным железным орудием, что наделило богов голосами. Я Секхет! Я охраняю западное небо. Я Сакху! Я сторожу души, обитающие в Анну. О боги и дети богов, услышьте мой голос и восстаньте на тех, кто не желает внимать мне!Стремительным, плавным движением он чертит в воздухе кинжалом вертикальную линию справа от меня. — Кебсеннуф! Добрая сотня голосов, принадлежащих существам, что находятся вне моего поля зрения, хором выкрикивает: — Кебсеннуф! Друд поворачивается в сторону, куда обращены мои ноги, и снова чертит в воздухе вертикальную линию. — Амсет! Хор бестелесных голосов вторит: — Амсет! Друд поворачивается налево и опять чертит в воздухе клинком вертикальную линию. — Туамутеф! — Туамутеф! — гремит хор. Друд направляет острие кинжала на меня и чертит вертикальную линию в воздухе, насыщенном, как я теперь замечаю, дымом и ароматом курений. — Хапи! Я — огонь, проливающий свет на Открывающего Врата Вечности! Незримый хор испускает протяжный, заунывный вопль, похожий на вой шакальей стаи в полночь на нильском берегу: — Хапи! Друд улыбается и ласково произносит: — Мис-с-стер Уилки Коллинз-з, теперь вы можете пошевелить головой, но только головой. Внезапно ко мне возвращается способность движения. Я не могу приподнять плечи, но свободно поворачиваю голову вправо-влево. Очков на мне нет. Все, что находится дальше десятка футов, словно подернуто туманной дымкой: мрамор, уходящие в темноту колонны, шипящие жаровни, десятки фигур в балахонах с капюшонами. Мне не нравится этот опиумный сон. Хотя вслух я этого не говорю, Друд запрокидывает голову и хохочет. Золотое ожерелье на тощей шее блестит в свете свечей. Я отчаянно пытаюсь пошевелить конечностями, но все без толку: одна лишь голова слушается меня. Я плачу от сознания собственного бессилия, перекатывая голову из стороны в сторону, и слезы льются на белый алтарь. — Мис-с-стер Уилки Коллинз-з, — вкрадчиво мурлычет Друд. — Хвала владыке ис-с-стины, чей храм сокрыт от взоров, из чьих очей вышло человечес-ство, из чьих у-с-ст на свет появились боги. Кто выс-с-сок, как небо, необъятен, как земля, глубок как море. Я пытаюсь закричать, но челюсти, губы и язык по-прежнему не повинуются мне. — Теперь можете заговорить, мис-с-стер Уилки Коллинз, — произносит Друд. Он обошел алтарь и сейчас стоит справа от меня, обеими руками держа кинжал с кроваво-красным острием на уровне груди. Фигуры в балахонах с капюшонами подступают ближе и выстраиваются полукругом за ним. — Ах ты сволочь! — ору я. — Чужеземный выродок! Вонючий кусок египетского дерьма! Это мой опиумный сон, черт тебя побери! Я тебя не звал! Друд снова улыбается. Сизый дым от жаровен и курильниц клубится вокруг мертвенно-бледного лица. — Мис-с-стер Уилки Коллинз, — шепчет он, — надо мной прос-с-стирается Нуит, богиня Неба. Подо мной прос-с-стирается Геб, бог Земли. По правую мою руку находится Ас-ст, богиня Жизни. А по левую руку — Ас-сар, бог Вечности. Передо мной — перед вами — возвышается Херу, возлюбленный С-сын и С-скрытый С-свет. За мной и над всеми нами с-сияет Ра, чьих имен не знают даже боги. А теперь умолкните. Я пытаюсь закричать, но опять не могу издать ни звука. — Отныне и впредь вы будете нашим пис-сцом, — говорит Друд. — До с-скончания с-своей бренной жизни вы будете приходить к нам, дабы пос-стигать нашу древнюю религию, древние обычаи и вечные ис-стины. Вы напишете о них на вашем родном языке, чтобы грядущие поколения узнали о нас-с-с. Я яростно мотаю головой, но не в силах пошевелить языком. — Говорите, коли хотите, — мягко молвит Друд. — Твой писец — Диккенс! — визжу я. — Не я! Твой писец — Диккенс! — Он один из многих, — отвечает Друд. — Но он… с-сопротивляется. Мис-с-стер Чарльз Диккенс-с-с полагает себя ровней жрецу или жрице храма С-сна. Он полагает, что не ус-с-ступает нам с-силой воли. Он решил пройти через древнее ис-с-спытание, чтобы ос-свободиться от обязанностей нашего постоянного пис-сца. — Какое еще испытание? — выкрикиваю я. — Надо убить невинного человека на виду у вс-с-сех, — шепчет Друд, снова обнажая в улыбке мелкие острые зубы. — Мис-с-стер Диккенс-с надеется, что пис-сательское воображение с-сос-служит ему добрую службу в этом деле и он сумеет одурачить богов, но пока что он… со с-своим хваленым воображением… потерпел неудачу. — Нет! — ору я. — Диккенс убил молодого Диккенсона! Молодого Эдмонда Диккенсона. Я уверен! Теперь мне ясен мотив убийства. Речь идет о предписанном древним языческим культом условии, выполнение которого освобождает Диккенса от беспрекословного подчинения этому гнусному колдуну. Он обменял жизнь молодого сироты на свою свободу от абсолютной власти Друда. Друд качает головой и знаком подзывает одного из своих последователей. Человек выступает из толпы расплывчатых фигур и откидывает назад темный капюшон. Это молодой Диккенсон. Он обрился наголо, и глаза у него тоже обведены синей краской на языческий манер, но это молодой Диккенсон. — Мис-с-тер Диккенс-с любезно предложил нашей маленькой общине этого человека, а этому человеку — нашу маленькую общину, — говорит Друд. — Здес-сь рады и деньгам, и религиозным убеждениям брата Диккенс-сона. Приведя новообращенного в наше Братство, мис-с-стер Чарльз Диккенс-с-с заслужил… известную поблажку. — Проснись! — кричу я себе. — Бога ради, проснись, Уилки! Хорошенького понемножку! Уилки, проснись же! Диккенсон и толпа фигур в балахонах отступают на несколько шагов назад, в полумрак. — Теперь можете снова умолкнуть, мис-с-стер Уилки Коллинз, — произносит Друд. Он наклоняется, тянется за чем-то, что находится на полу у самого алтаря, вне поля моего зрения, а когда выпрямляется, я вижу у него в правой руке непонятный черный предмет. Овальный, довольно крупный,размером с бледную ладонь Друда; на одном конце у него два изогнутых рога чуть покороче несуразно длинных белых пальцев египтянина. Я напрягаю зрение, предмет начинает шевелиться. — Да, — говорит Друд. — Это жук. У меня на родине такой жук называется с-скарабей и считается с-священным в нашей религии… Огромный черный жук часто перебирает шестью своими длинными лапками, пытаясь уползти прочь. Друд сгибает пальцы, и жук соскальзывает обратно в сложенную чашечкой ладонь. — Наш с-скарабей состоит в родстве с несколькими представителями семейства Scarabaeodae, — сообщает Друд, — но вообще с-скарабеи относятся к обычным навозным жукам. Я пытаюсь выгнуть спину, взбрыкнуть ногами, взмахнуть руками, но мне удается лишь покрутить головой. На меня накатывает дурнота, и я вынужден расслабиться на холодном камне, борясь с рвотными позывами. Если меня вырвет сейчас, когда я не в состоянии открыть рот, я точно умру от удушья. — Мои предки с-считали всех жуков с-самцами, — шипит Друд, поднимая руку, чтобы получше рассмотреть отвратительное насекомое. — Они полагали, что шарик, который навозный жук катает перед собой, состоит из его с-семенной с-субстанции — из с-спермы. Они заблуждалис-сь… Я бешено моргаю — одно из немногих посильных мне действий. Может, если я буду моргать достаточно часто, это сновидение перетечет в другое или я пробужусь на знакомой койке в теплом логове Короля Лазаря, неподалеку от маленькой угольной печки, где он постоянно поддерживает огонь. — На с-самом деле, как установила ваша британская наука, именно с-самка навозного жука, отложив на землю оплодотворенные яйца, облепляет оные экскрементами — пищей личинок — и катит перед собой этот мягкий навозный шарик. Он увеличивается в размерах по мере того, как на него налипают пыль и пес-сок, мис-с-стер Уилки Коллинз, — вот почему у прапрапрадедов моих прапрапрадедов с-скарабей ас-с-социировался с ежедневным появлением и движением с-солнца… великого бога с-солнца, причем бога с-солнца вос-сходящего, а не заходящего, имя которому — Хепри. «Проснись, Уилки! Проснись, Уилки! Проснись же!» — беззвучно кричу я. — По-египетски обычный навозный жук назывался «хпрр», — монотонным голосом продолжает Друд, — что означает «возникающий, или обретающий, бытие». Это с-слово очень близко к нашему «хпр», что переводится как «с-становление, изменение». Легко понять, как оно преобразовалось сначало в «хпри», а потом в «Хепри» — с-священное имя юного вос-сходящегос-свети-ла, нашего бога-творца. «Заткнись, черт бы тебя побрал!» — мысленно ору я Друду. Словно услышав меня, он на миг умолкает и улыбается. — Этот с-скарабей покажет вам, что значит неизменность изменения, мис-с-стер Уилки Коллинз, — вкрадчиво мурлычет он. Толпящиеся вокруг фигуры в балахонах заводят монотонную песнь. — Перед вами не обычный навозный жук, — шепчет Друд. — А европейская разновидность жука-оленя. Эти огромные… как там они называются по-английски, ми-с-стер Коллинз? Мандибулы? Жвалы? Они крупнее и беспощаднее, чем у всех прочих представителей отряда жесткокрылых. И этот хпрр — этот с-священный с-скарабей — благословлен богами на с-свое с-святое дело… Он роняет огромное насекомое на мой голый живот.
Ун ре-а Птах, уау нету, уау нету, ару ре-а ан нетер нут-а, И арефм Джехути, мех апер ем хека, уау нету, уау нету, ен Сути сау ре-а, Хесеф-ту Тем утен-неф сенеф саи сет,—монотонно выводит незримый хор. Шесть колючих лапок легко царапают покрытую мурашками кожу, скарабей ползет вверх, к грудной клетке. Я поднимаю голову, изгибая шею до хруста в позвонках, и глаза у меня выкатываются от ужаса при виде громадного черного жука со жвалами длиннее моих пальцев, который приближается к моему лицу. Я хочу завопить — я должен завопить, — но не могу. Хор голосов звучит все громче в напоенной ароматом курений тьме:
Ун ре-а, апу ре-а ан Шу ем нут-еф туи ент иффе ен пет енти ап-неф ре ен нетеру ам-ес. Нук Секхет! Хемс-а хе кес амт урт аат ент пет. Нук Сакху! Урт хер-аб байу Анну.Гигантские жвалы жука-оленя впиваются в мою плоть прямо под грудиной. Такой дикой боли я еще никогда не испытывал. Я отчетливо слышу треск шейных сухожилий, когда пытаюсь поднять голову еще выше, чтобы получше видеть. Скарабей яростно молотит всеми своими шестью лапками, находит коготками точку опоры и проталкивает свои черные серповидные мандибулы, а потом и голову в мягкую плоть моего надчревья. Через пять секунд громадный жук исчезает — целиком скрывается во мне, — и кожа смыкается над ним, точно вода над упавшим в нее черным камнем. «Господи! Боже мой! Нет! Господи Иисусе!» — беззвучно кричу я. — Нет, нет, нет, — говорит Друд, услышав мои мысли. — Ибо камни из стен возопиют, и жуки из дерева будут отвечать им. Но именно с-скарабей, а не ваш человекобог Христос-с является «единородным Сыном Божьим», мис-с-стер Уилки Коллинз, с-сэр, пусть даже ваш мнимый бог однажды возгласил: «Но в зависти своей к истинному Хепри я с-скарабей, а не человек». Я чувствую огромного жука внутри меня. Хор людей в темных балахонах монотонно выводит: — Ар хека неб т'етет неб т'ету ер-а сут. Аха нетеру ер-сен паут нетеру темтиу. Друд вскидывает руки ладонями вверх, закрывает глаза и речитативом произносит: — Призываю тебя, о Аст! Пусть великая Истина Жизни снизойдет на этого чужака, как она снизошла на наших предков. Прими эту душу как свою собственную, о ты, Открывающий Врата Вечности! Очисти прежнюю его душу в восходящем пламени своем, которое есть Небт-Хет. Напитай это орудие, как ты питала Херу в укрытии среди тростника, о Аст, чье дыхание есть жизнь, чей голос есть смерть. Я чувствую, как мерзкое существо шевелится внутри меня! Я не могу закричать. У меня не открывается рот. От мучительного напряжения из глаз моих льются кровавые слезы. Друд поднимает длинный металлический прут с подобием чаши на одном конце. — Пусть Шу отверзнет нашему пис-с-сцу ус-с-ста божественным железным орудием, что в начале времен наделило богов голос-с-сами, — напевно произносит Друд. Рот у меня открывается — все шире и шире, до треска челюстных мышц, — но я по-прежнему не в силах издать ни звука. Колючие лапки скарабея царапают мой кишечник, продвигаясь вдоль него. Я чувствую, как жук находит коготками точку опоры. Чувствую жесткость хитинового панциря в своих внутренностях. — Мы — Секхет! — громко возглашает Друд. — Мы охраняем западное небо. Мы — Сакху! Мы сторожим души, обитающие в Анну. Пусть боги и дети богов услышат наш голо-с-с-с — наш голос-с-с, звучащий в словах нашего пис-с-сца, — и смерть всем, кто не желает внимать нам! Друд проталкивает железный ковш в мой широко разинутый рот. В сосуде с острыми краями находится что-то округлое, мягкое, покрытое шерстью. Друд резким движением накреняет ковш, и пушистый комок вываливается из него мне глубоко в горло. — Кебсеннуф! — выкрикивает Друд. — Кебсеннуф! — рокочет незримый хор. Я задыхаюсь. Мое горло плотно закупорено пушистым комком. Я чувствую, как жук останавливается в низу брюшной полости. Колючие лапки скребут мои внутренности, разрывают стенку желудка, продвигаются выше, в грудную клетку, к сердцу. Я хочу изрыгнуть шерстистый шарик из горла, но не в силах сделать даже этого. Глаза мои выпучены до предела и, кажется, вот-вот выскочат из орбит. «Вот так умрет известный писатель Уилки Коллинз, — думаю я. — И никто никогда об этом не узнает». Из-за кислородного голодания мое поле зрения начинает сужаться, обращаясь в подобие темного тоннеля, и все мысли покидают меня. Лапки скарабея царапают мое правое легкое. Жвалы скарабея скребут по наружной оболочке сердца. Жук ползет вверх по горлу, я чувствую, как раздувается моя шея. Насекомое хватает пушистый комок, закупоривший мне глотку, и тащит его вниз по пищеводу к желудку. Доступ воздуха в легкие снова открыт! Я кашляю, судорожно хватаю ртом воздух, тужусь в попытке вызвать рвоту и наконец вспоминаю, как дышать. Друд кругообразными движениями водит горящей свечой над моими лицом и грудью. Горячие капли воска обжигают голую кожу, но эта боль не идет ни в какое сравнение с дикой болью, которую причиняет мне скарабей. Он снова ползет вверх. — Я взлетаю, как птица, и опускаюс-сь, как жук, — речитативом произносит Друд, нарочно проливая раскаленный воск мне на грудь и шею. — Я взлетаю, как птица, и опускаюс-сь, как жук, на пус-стой трон, воздвигнутый на твоей ладье, о Ра! Громадное насекомое, закованное в жесткий хитиновый панцирь, протискивается мне в горло и проникает в черепную полость сквозь мягкое нёбо — легко, точно сквозь сухой песок. Я чувствую, как оно проталкивается в носовые пазухи, упирается колючими лапками в глазные яблоки, продвигаясь все выше и выше. Я слышу, как огромные жвалы скребут черепную кость, погружаясь в мягкую кору мозга. Боль дикая — неописуемая, невыносимая! — но я могу дышать. Взгляд мой по-прежнему намертво прикован к Друду — две статуи, с шакальей и птичьей головой, видятся мне расплывчатыми темными пятнами, фигуры в балахонах сливаются в сплошную темную массу на периферии зрения, — и я сознаю вдруг, что смотрю на него сквозь пелену кровавых слез. Огромный навозник проникает все глубже и глубже в мозговые ткани. Я понимаю: еще секунда — и я сойду с ума. В самом центре мозга скарабей останавливается. И начинает грызть. — Можете закрыть глаза, — говорит Друд. Я зажмуриваюсь и чувствую, как кровавые слезы ужаса текут по моим заляпанным воском щекам. — Теперь вы с-стали нашим пис-с-цом, — возглашает Друд. — И навс-сегда им останетес-с-сь. Вы будете работать по нашему приказу. Вы будете являться по нашему призыву. Отныне вы принадлежите нам, мис-с-стер Уилки Коллинз. Я слышу, как пощелкивают жвалы и челюсти скарабея. Я словно воочию вижу, как он скатывает из моего полупереваренного мозгового вещества кроваво-серый шарик и катит его перед собой. Но нет, жук не двигается с места. Пока не двигается. Он устроил гнездо у основания моего мозга. Когда он дергает лапками, я чувствую нестерпимый зуд и снова борюсь с сильными рвотными позывами. — Хвала владыке ис-стины! — восклицает Друд. — Чей храм сокрыт от взоров, — напевно выводит хор голосов. — Из чьих очей вышло человечество, — речитативом произносит Друд. — Из чьих уст на свет появились боги, — гудит хор. — Мы поручаем нашему пис-сцу исполнить волю возлюбленного С-сына и С-скрытого С-света, — кричит Друд. — За ним сияет Ра, чьих имен не знают даже боги, — гремит хор. Я пытаюсь открыть глаза, но не могу. Я ничего не слышу и не чувствую. Единственным ощущением и единственным звуком в моей вселенной теперь остаются зуд и царапанье в черепной коробке, где скарабей быстро перебирает лапками, разворачивается проталкивается чуть глубже в мозг и снова принимается грызть.
Глава 26
По пробуждении от опиумного кошмара я обнаружил, что ослеп. Я не видел ни зги. В притоне Короля Лазаря повсюду царил полумрак: рассеянный свет от притушенных фонарей в главном помещении всегда сочился сквозь красный занавес, и от угольной печки, стоявшей у входа в мою каморку, всегда исходило тусклое оранжевое сияние. Сейчас же я лежал в кромешной тьме. Я поднес руки к лицу и удостоверился, что глаза у меня открыты, прикоснувшись кончиками пальцев к глазным яблокам. Я моргнул, прищурился, но не увидел своих пальцев. Я закричал и на сей раз явственно услышал свои вопли, отразившиеся эхом от каменных стен. Я позвал на помощь. Я громко позвал Короля Лазаря и его помощника. Никто не откликнулся. Мало-помалу я осознал, что лежу не на своей высокой койке с подушками, а на холодном каменном полу или твердой земле. Причем голый. В точности как в моем кошмарном сне. Или в реальном логове Друда, похитившего меня. Я дрожал всем телом. Именно от холода я и проснулся. Но я мог двигаться и уже через несколько мгновений стоял на четвереньках в непроглядной тьме и водил по сторонам руками, пытаясь нащупать край деревянной койки или даже угольную печку. Пальцы мои пробежали по шершавому камню, вошли в углубление и наткнулись на деревянную поверхность. Я пошарил обеими руками вокруг отверстия, проверяя, не стена ли это, в которую вделана одна из деревянных коек. Нет. Камень и дерево были древними — они пахли древностью, — и камень местами искрошился, осыпался, а под ним я нащупывал прохладное дерево. Все вокруг источало запах застарелой гнили. Я нахожусь в одной из кубикул — в одной из бессчетных погребальных камер многоярусных катакомб. Это каменная или цементная стенка саркофага, а в нем помещается деревянный гроб. Деревянный гроб, обшитый изнутри свинцом. Я внизу, среди мертвецов. Они переправили меня сюда. Ну да, конечно. Перенесли вниз, в Подземный город, спустившись по крутой винтовой лестнице за крестной перегородкой в круглой апсиде. И доставили по подземной реке к храму Друда. Возможно, сейчас я нахожусь в нескольких милях от притона Короля Лазаря, на глубине целой мили под Лондоном. Без фонаря мне отсюда в жизни не выбраться. Тут я снова заорал дурным голосом, пополз вдоль ряда саркофагов, попытался подняться на ноги, но снова упал на четвереньки и принялся лихорадочно шарить по сторонам руками в поисках фонаря, который я всегда брал с собой в притон Короля Лазаря, чтобы освещать себе путь туда и обратно. Никакого фонаря я не нашел. Наконец я перестал метаться и скорчился в кромешной тьме, похожий больше на объятого паникой зверя, нежели на человека. Чтобы отыскать путь к подземной реке или сточному каналу, нужно спуститься на добрый десяток ярусов катакомб. Вдоль бесчисленных прямых и извилистых галерей на всех десяти ярусах размещаются многие сотни кубикул. Лестница, ведущая наверх с первого яруса, и выход в галерею сразу под Погостом Святого Стращателя, где предположительно все еще ждет меня сержант Хэчери (как долго я оставался здесь, внизу?), находятся всего в десяти ярдах слева от входа в притон Короля Лазаря — оттуда надо пройти по короткому изогнутому коридору, пролезть сквозь пролом в задней стене одной из кубикул, прошагать мимо ряда установленных один на другой саркофагов, потом повернуть направо, выйти в широкую галерею и наконец подняться на десять ступенек, чтобы выйти в наземный склеп и — вероятно, возможно — на свет дня. Я сотню раз проходил этим путем после своих опиумных ночей. Я потянулся к жилетному карману за часами. Никакого жилета, никаких часов. Вообще никакой одежды. Я осознал, что замерзаю — частый стук зубов отражался эхом от незримых каменных стен. Я трясся так сильно, что мои локти выбивали дробь на стенке каменного саркофага, к которому я бессильно привалился. Я потерял всякое чувство ориентации, пока слепо метался из стороны в сторону, — даже если бы я сейчас находился в притоне Короля Лазаря, я не сообразил бы, где выход. По-прежнему дрожа всем телом, я выставил вперед руки с растопыренными пальцами и неверной поступью двинулся вдоль ряда саркофагов и гробов. Несмотря на вытянутые руки, я умудрился врезаться во что-то головой с такой силой, что шлепнулся на задницу. Почувствовав, как из ссадины на виске потекла кровь, я торопливо ощупал рану и невесть зачем поднес пальцы к глазам, словно вдруг обрел способность видеть в кромешной тьме. Рана оказалась поверхностной и кровоточила слабо. Осторожно поднявшись на ноги, я поводил перед собой руками и наконец нашарил препятствие, чуть не отправившее меня в нокаут. Холодная металлическая решетка, покрытая столь толстыми наростами ржавчины, что проемы между прутьями уже почти исчезли. Железная решетка! Во всех кубикулах, расположенных вдоль подземных галерей, вход перекрыт древней железной решеткой. Если я нашел решетку, значит, я нашел галерею — пусть одну из многих, что пролегают здесь на разных ярусах, в большинстве своем мне совершенно незнакомых. А вдруг решетка заперта? Тогда мне в жизни отсюда не выбраться. Через двадцать, пятьдесят или сто лет кто-нибудь обнаружит мой скелет среди саркофагов и гробов — и просто решит, что я один из «стариканов», как выражается Дредлс, хранитель подземной часовни Рочестерского собора. Снова охваченный паникой, я принялся лихорадочно елозить ладонями, колотить коленями по металлической решетке, сдирая кожу о наросты ржавчины, но наконец нашел, что искал. Проем! Отверстие! По крайней мере — щель, образовавшуюся на месте насквозь проржавевшего и выпавшего вертикального сегмента решетки. Щель была всего дюймов десять шириной, с неровными зазубренными краями, но я протиснулся в нее, ободрав до крови грудь, спину и сморщенные гениталии. Теперь я находился в галерее. Вне всяких сомнений! «Если только ты не пролез сквозь решетку, что находится за гробами, — сказал я себе. — Тогда ты окончательно заблудишься на одном из нижних ярусов бесконечного лабиринта, расположенных на неизмеримой глубине». Я упал на четвереньки и ощутил под ладонями и коленями шероховатые каменные плиты. Нет, это одна из главных галерей. Теперь мне остается лишь добраться по ней до полупотайной лестницы, ведущей на самый верхний ярус, а потом преодолеть последние десять ступенек до склепа, где меня ждет Хэчери. В какую сторону идти? Как я отыщу лестницу в кромешной тьме? В какую сторону идти?! Я отполз немного влево, нащупал решетку, сквозь которую протиснулся минуту назад, и осторожно поднялся на ноги — я даже не знал, какая здесь высота потолка. Когда два года назад мы с Диккенсом спускались к подземной реке, иные коридоры имели высоту добрых десять футов, а другие представляли собой узкие тоннели, где приходилось идти на полусогнутых, чтобы не удариться головой. С фонарем все было очень просто. Так налево или направо? Я повернул лицо сначала в одну, потом в другую сторону, не ощутил ни малейшего движения воздуха. Будь у меня свеча, возможно, я определил бы, есть ли здесь сквозняк… «Будь у меня чертова свеча, я бы спокойно выбрался отсюда и без всяких сквозняков!» — мысленно проорал я. Оказывается, я заорал вслух. Гулкое эхо раскатилось по галерее в обоих направлениях. О господи, еще немного — и я точно спячу. Я решил положиться на инстинкт и идти так, как если бы я шел из притона Короля Лазаря. Мое тело хорошо помнило обратный путь, пусть даже мой мозг — сейчас лишенный всякой зрительной информации — категорически отказывался в это верить. Держась левой рукой за стену, я двинулся по галерее. Я проходил мимо других решеток, других входных проемов, но ни в одном из них не висела драная занавеска, отделявшая притон Короля Лазаря от коридора. У каждого неперекрытого проема я опускался на колени и, переползая с места на место, шарил руками по полу в поисках ступенек, но не находил ничего, кроме изъеденных ржавчиной обломков заградительной решетки, гробов да пустых ниш в стенах. Я продвигался все дальше в непроглядном мраке, по-прежнему дрожа всем телом и громко стуча зубами. Голос рассудка говорил, что я здесь не замерзну насмерть — ведь в подземных пещерах держится постоянная температура, около пятидесяти градусов[15]. Впрочем, какое мне дело до голоса рассудка? Мое покрытое ссадинами и синяками тело замерзало. Мне кажется — или коридор действительно чуть изгибается налево? Галерея, ведущая к притону Короля Лазаря, слегка изгибалась направо, если приближаться к нему со стороны потайной лестницы, что спускалась с первого яруса катакомб. Если я нахожусь на втором ярусе и справа от лестницы, тоннель здесь должен немного изгибаться налево. Я понятия не имел, где нахожусь. Но одно я знал наверное: я уже прошел в два раза больше, чем нужно пройти, чтобы добраться от занавешенного входа в притон Короля Лазаря до выхода со второго яруса катакомб. Тем не менее я продолжал двигаться дальше. Дважды откуда-то справа тянуло холодным сквозняком. От прикосновения ледяного воздуха к коже дрожь омерзения пробегала по моему телу — мне чудилось, будто некое мертвое, безглазое существо гладит меня длинными, мертвенно-бледными, бескостными пальцами. Я дрожал и шел дальше. Когда мы с Диккенсом, во время первого нашего сошествия в катакомбы, шли из притона Короля Лазаря, здесь были два коридора слева — сейчас они находятся справа от меня. С тех пор я множество раз проходил мимо, не глядя и не светя фонарем в ту сторону. От одного из них ответвлялся коридор с такими нее кубикулами, ведущий к круглому помещению с алтарем, крестной перегородкой и потайной лестницей, спускающейся на нижние ярусы Подземного города. Где ждал Друд. Но возможно, я уже нахожусь на одном из нижних ярусов. Несколько раз я останавливался и корчился в рвотных позывах. Мой желудок был пуст (меня, помнится, стошнило еще в первой кубикуле, где я очнулся), но приступы рвоты все равно изредка накатывали, заставляя меня сгибаться пополам и бессильно приваливаться к каменной стене. Я обследовал очередной не перекрытый решеткой входной проем (ничего, кроме груды мусора) и шаткой поступью прошел еще шагов двадцать, прежде чем уперся в глухую торцовую стену. Коридор кончился. Стена справа от меня тянулась в направлении, откуда я пришел. Тогда я закричал. И кричал долго. Гулкое эхо прыгало в темноте за моей спиной. Они заложили кирпичом коридор, где оставили меня. Наглухо перегородили, чтобы никто даже костей моих не нашел. Я принялся царапать, скрести стену, ломая ногти и сдирая лоскуты кожи с пальцев; кирпичи с кусками древней извести сыпались мне под ноги. Бесполезно. За кирпичами оказались другие кирпичи. А дальше начиналась прочная каменная кладка. Я рухнул на колени, задыхаясь и давясь от рвотных позывов, а потом пополз в обратном направлении. Последний обследованный мной входной проем — заваленный мусором — теперь находился справа от меня, но на сей раз я заполз в него, раздирая в мясо и без того разодранные ладони и колени об острые камни на полу. Это не просто груда камней. Это ступеньки, вделанные в холодную землю. Я стал лихорадочно карабкаться по ним, рискуя удариться лицом о какое-нибудь препятствие в темноте, но напрочь забыв о всякой осторожности. Я врезался лбом в стену и едва не скатился обратно вниз, но в последний момент успел схватиться за край проема. Там был проем. Я почти видел неровную каменную кладку с одной и другой стороны. Я рванулся вперед и сильно оцарапал висок и щеку о шершавый камень. Еще один саркофаг. С трудом поднявшись на ноги, я осознал, что вокруг меня на каменных или цементных постаментах стоят гробы. Я попал в очередную кубикулу. Лязгая зубами от холода, я повернул голову налево, и мне почудилось, будто я вижу там чуть заметный проблеск света. Я налетел в темноте на железную решетку, принялся молотить, елозить по ней ободранными, скользкими от крови ладонями, наконец нашел проем и, шатаясь, вышел через него в некое пустое пространство — вероятно, в следующую галерею. Да, я действительно видел свет — бледный призрак света — справа, всего в двадцати ярдах от выхода из кубикулы. Шлепая босыми ногами по каменному или кирпичному полу широкой галереи, я побежал к свету. Да. Теперь я явственно различал во мраке свои руки. С окрашенными в темно-красный цвет пальцами. Там была лестница с высоченными каменными ступенями, что уходили вверх и скрывались из виду, заворачиваясь спиралью. Хорошо знакомая лестница. Рыдая, взывая о помощи к сыщику Хэчери, поскальзываясь, падая, поднимаясь и снова карабкаясь вверх, я добрался до знакомого клиновидного отверстия и протиснулся в него. Яркий свет ослепил меня, хотя через несколько мгновений я осознал, что в склеп проникает лишь слабый предрассветный свет январского утра — при таком даже читать невозможно. Я привалился спиной к каменному постаменту над потайным входом в Подземный город (куда я никогда впредь даже не сунусь, поклялся я себе там и тогда) и бессильно осел на пол. — Хэчери! Бога ради, помогите! Хэчери! Звук собственного голоса так сильно напугал меня, что я едва не обмочился. Тогда я посмотрел вниз, на свое голое белое тело Взгляд мой приковался к животу, к месту под самой грудиной Я увидел там красную рану или ссадину. Именно там скарабей заполз в твое нутро. Я потряс головой, прогоняя жуткое видение из опиумного кошмара. Все мое тело было сплошь покрыто синяками и ссадинами. Ступни, колени и ладони ободраны до мяса. Голова раскалывалась от боли. Потому что в твоем мозгу копошится огромный жук. — Прекрати! — выкрикнул я вслух. Почему Хэчери нет на месте? Почему он бросил меня именно сегодня, когда я нуждаюсь в нем как никогда? Возможно, ты провел внизу несколько дней, Уилки Коллинз. «Мис-с-стер Уилки Коллинз», — отдалось эхом в мучительно ноющем мозгу. Тут я рассмеялся. Не имеет значения. Они пытались убить меня, кем бы они ни были (наверняка это Король Лазарь со своими погаными друзьями-чужеземцами и товарищами-опиуманами), но у них ничего не вышло. Я свободен. Я выбрался из катакомб. Я жив. Взглянув наверх, я с изумлением обнаружил, что за время моего отсутствия кто-то украсил стены маленького склепа гирляндами. Этих тускло поблескивающих серых лент точно не было здесь, когда мы с Хэчери пришли несколько часов (дней? недель?) назад. С Рождества минуло уже более двух недель. И вообще — зачем украшать пустой склеп? Впрочем, неважно. В тот момент для меня ничто не имело значения — ни мое истерзанное, дрожащее тело, ни дикая головная боль, ни страшная жажда, ни лютый голод. Я хотел лишь одного: навсегда убраться отсюда. Стараясь держаться подальше от черного клиновидного отверстия в полу, я обогнул каменный постамент — торопливо, ибо буйное писательское воображение живо нарисовало мне длинную серую руку с длинными, белыми, бескостными пальцами, которая выскальзывает из этой дыры, точно змея, и утаскивавает меня, истошно кричащего, в холодную тьму, — но в следующий миг резко остановился. Мне пришлось остановиться. Путь мне преграждало тело, распростертое на каменном полу. Это был сыщик сержант Хибберт Хэчери — с застывшей на мертвенно-белом лице гримасой ужаса, с разодранным в беззвучном вопле ртом, с вытаращенными остекленелыми глазами, устремленными на украшенный гирляндами барельеф под потолком. На полу рядом с трупом валялись остатки послеполуночного ужина, маленькая фляжка, шляпа-котелок и роман Теккерея. Из распоротого живота Хэчери тянулись к потолку поблескивающие серые гирлянды, которые были вовсе не гирляндами. Не в силах даже заорать, я перепрыгнул через мертвое тело, поднырнул под туго натянутые серые ленты и выбежал, голый, на окутанный предрассветными сумерками Погост Святого Стращателя.Глава 27
Двумя часами позже я находился в другом опиумном притоне. Ждал. Счастье, что я вообще остался жив. Все-таки я пробежал, не разбирая дороги, через самые опасные припортовые трущобы Блюгейт-Филдс, причем нагишом и с дурными воплями. Только неурочное время суток (даже грабители спали по домам холодным, снежным январским утром) да тот факт, что даже грабители испугались бы буйного сумасшедшего с окровавленными руками, объясняют, почему первым человеком, встреченным мной в ходе панического бегства, оказался констебль, обходивший дозором свой квартал. Полицейский сам изрядно струхнул при виде меня. Он вытащил из-за пояса короткую увесистую дубинку и, несомненно, оглушил бы меня и оттащил за волосы в ближайший участок, если бы я хоть минутой дольше лопотал совершенную невнятицу, не произнося ни единого осмысленного слова. На деле же он спросил: — Как вы сказали? Вы сказали «тело Хэчери»? В смысле — Хибберта Хэчери? — Бывшего сержанта Хибберта Хэчери, не частного сыщика Хибберта Хэчери… да, констебль… они выпустили ему кишки и развесили их по стенам склепа… о боже! о господи!.. он работал на меня, частным образом, неофициально, а не на инспектора Филда, на которого он работал частным образом официально. Полицейский крепко тряхнул меня за плечи. — Что там насчет инспектора Филда? Вы знаете инспектора Филда? — Ода! Да! — вскричал я и рассмеялся. Потом расплакался. — Кто вы такой? — осведомился густоусый констебль в побеленном снегом шлеме. — Уильям Уилки Коллинз, — проговорил я, стуча зубами. — Уилки Коллинз для миллионов моих читателей. Уилки для моих друзей и почти всех знакомых. — Я снова истерически захихикал. — Никогда о таком не слышал, — заявил полицейский. — Я близкий друг и соавтор мистера Чарльза Диккенса. — Нижняя челюсть у меня тряслась так сильно, что я с трудом выговорил словосочетание «близкий друг». Констебль отступил на шаг и, похлопывая тяжелой дубинкой по ладони, хмуря брови под козырьком шлема, с минуту разглядывал меня, стоящего голым на ветру со снегом. — Хорошо, тогда пойдемте. — Он крепко взял меня за посинелое от холода, исцарапанное предплечье и повел по улице. — Пальто, — пролепетал я, лязгая зубами. — Одеяло. Что-нибудь. — Потерпите немного, — сказал он. — Сейчас придем. Пошевеливайтесь. Не отставайте. Я представил себе полицейский участок, куда он ведет меня, в виде уютной каморки с громадной, докрасна раскаленной, пышущей жаром печью. Моя рука, зажатая в мертвой хватке констебля, безудержно тряслась. Я снова плакал навзрыд. Но он отвел меня не в полицейский участок. Я смутно узнал трухлявую лестницу и темный коридорчик, по которому он протащил меня. Потом мы оказались в убогой сумрачной комнатушке, и я узнал морщинистую старуху с крючковатым носом, торчащим из-под натянутой низко на лоб черной шали. — Сэл, — сказал полицейский, — устрой этого… джентльмена… где потеплее и дай ему какую-нибудь одежку. Желательно не особо завшивленную, хотя в общем-то без разницы. Смотри, чтобы он не улизнул. Приставь к нему своего малайца. Опиумная Сэл кивнула и принялась виться вокруг, тыкая меня в голые бока и живот корявым пальцем с длинным ногтем. — Этого я туточки не раз видела, констебль Джо. Он частенько захаживал, чтобы выкурить трубочку-другую, валяючись вон на той койке, ага. Инспектор Филд уволок его отседова как-то посередь ночи. А впервой он заявился сюда со стариной Хибом Хэчери и одним джентльменом, который, они сказали, прям-таки наиважнейшая персона. Этот тогда чванливо эдак задирал свой носишко, ага, все хмурился да смотрел свысока сквозь свои стекляшки, хотя теперича он без очков. — И кто же был той важной персоной? — осведомился полицейский. — А Диккенс, что про Пиквика сочинил, — вот кто! — выпалила Сэл с таким торжеством, словно ей потребовалось напрячь все свои умственные силы, чтобы извлечь это имя из глубин одурманенного опиумом сознания. — Не спускай с него глаз, — прорычал констебль. — Раздобудь для него какую-никакую одежду, даже если тебе придется отправить своего идиота на поиски тряпок. Приставь к нему малайца. И размести его подле своей дрянной печурки, куда ты никогда не кладешь больше одного куска угля, — мне надо, чтобы он не скопытился до моего возвращения. Тебе все ясно, Сэл? Старая карга утробно хрюкнула, потом мерзко хихикнула. — В жизни своей еще не видела мужчинки с таким махоньким скукоженным петушком — а вы, Джо? — Делай что велено, — рявкнул констебль и вышел прочь. Волна холодного воздуха от двери накатила на нас, словно дыхание Смерти.Ну как, впору пришлось, голубчик? — спросила Опиумная Сэл, заглядывая в заднюю каморку, где я находился один. Рослый малаец с ритуальными шрамами на щеках сторожил за дверью. Окно здесь было наглухо закрыто ставнями и заколочено гвоздями. Даже в январе смрад Темзы просачивался сквозь него с ледяным сквозняком. — Нет, — сказал я. Грязная, вонючая рубаха была мне мала. Рабочие штаны и куртка пахли так же скверно, а кожа от них зудела гораздо сильнее. Ни исподнего, ни носков мне не дали. Древние, разбитые башмаки свободно болтались на ногах. — Скажите спасибо, что хоть такая одежка нашлась, — захихикала полоумная старуха. — У нас и этого-то не оказалось бы, кабы старый Яхи не помер тут нежданно-негаданно два дня тому, а за вещами евонными никто не явился. Я сидел там в холодном свете субботнего утра, пробивавшемся сквозь щели в ставнях и… Постойте. А действительно ли сейчас утро субботы — утро, наступившее после пятницы, когда я спустился в мир Короля Лазаря? По ощущениям — прошло несколько дней, а то и недель. Я хотел было спросить у Опиумной Сэл, но почти сразу понял, что, скорее всего, старая карга сама не знает, какое нынче число или день недели. Я мог бы обратиться к сидевшему за дверью малайцу со шрамами, но он, по всем признакам, не понимал и не говорил по-английски. Я тихо рассмеялся, потом судорожно всхлипнул. Какой сегодня день недели, не имело ни малейшего значения. Голова болела так сильно, что я боялся потерять сознание. Я ощущал средоточие боли глубоко в мозгу, далеко за глазными яблоками — ничего общего с подагрической головной болью, еще совсем недавно казавшейся мне невыносимой. Навозный жук прокапывает ход пошире. Ползет по нему, толкая перед собой блестящий серый шарик… Я присел на край грязной койки и опустил голову к самым коленям, борясь с рвотными позывами. Рвать было нечем, и от сухих спазмов внутренности мои превратились в сплошной комок боли. Блестящие серые гирлянды, тянущиеся к потолку. Я потряс головой, прогоняя жуткое видение, но от резкого движения боль накатила с новой силой, вызвав очередной приступ дурноты. В воздухе висел мерзкий запах опиумного дыма — запах дрянного, дешевого, разбавленного, грязного опиума. Даже не верилось, что на протяжении многих недель я приходил сюда за низкопробным товаром старой Сэл и забывался наркотическим сном на одной из этих грязных коек. О чем я тогда думал? О чем я думал минувшей ночью (неважно, сколько суток прошло с нее), когда спустился под склеп, чтобы присоединиться к китайским мумиям в другом опиумном притоне? Именно инспектор Филд при участии Хэчери вытащил меня отсюда много месяцев назад. Именно инспектор Филд посоветовал мне ходить в притон Короля Лазаря под охраной Хэчери. Может, все это было задумано с самого начала? Не Филд ли убил Хэчери — возможно разозлившись на здоровенного сыщика за то, что он без спросу работает на меня? Я снова потряс головой. Нет, все это не имело никакого смысла. Я чувствовал, как некое существо с шестью колючими лапками и огромными жвалами шевелится глубоко в моем мозгу. Я ничего не мог поделать. Я пронзительно завопил — не только от боли, но также от ужаса. В комнатушку ворвались инспектор Чарльз Фредерик Филд и сыщик Реджинальд Баррис. — Хэчери погиб, — проговорил я, снова стуча зубами. — Знаю! — рявкнул инспектор Филд. Он схватил меня за предплечье такой же ловкой, цепкой хваткой, какой рано утром меня держал другой полицейский. — Вставайте. Мы идем туда. — Ничто не заставит меня туда вернуться! Я ошибался. Сильные пальцы Филда нащупали на моей руке какой-то нерв, о существовании которого я не подозревал. Взвыв от боли, я вскочил на ноги, шаткой поступью двинулся между Баррисом и пожилым дородным инспектором к выходу, с грохотом спустился по лестнице — сопровождающие поддерживали меня под руки и подталкивали в спину — и вывалился на улицу, где нас ждали еще несколько человек. Вместе с инспектором Филдом и Баррисом в группе насчитывалось семеро спокойных, крепких мужчин — хотя все они были в партикулярном платье, я тотчас признал в них бывших полицейских. Трое из них имели при себе дробовики, у одного на боку висел громадный кавалерийский пистолет. Я никогда не интересовался атрибутами военного ремесла и испытал потрясение при виде всего этого оружия на лондонской улице. Впрочем, мы находились не в самом Лондоне, а в Блюгейт-Филдс. Когда мы покинули Нью-Корт и зашагали грязными улочками, которыми я ходил вот уже два года при любой погоде — Джордж-стрит, Розмари-лейн, Кейбл-стрит, Нок-Фергюс, Блэк-лейн, Нью-роуд, Ройял-Минт-стрит, — я заметил, что закутанные в лохмотья фигуры во дворах и дверных проемах, похожие на бесформенные драные тюки, отступают в тень или исчезают при нашем приближении. Здешние обитатели тоже мгновенно признавали полицейских в семерых вооруженных суровых мужчинах, с угрюмой решимостью шагавших широким шагом мимо их убогих логовищ. — Что произошло? — осведомился инспектор Филд. Он по-прежнему держал меня железной хваткой за дрожащую руку. Я кутался в одеяло, наброшенное на плечи поверх грязной рабочей куртки подобием шали, но дешевая шерсть не защищала от пронизывающего ветра. Снова шел снег. — Что произошло? — повторил Филд, слегка встряхивая меня. — Расскажите все по порядку. В тот момент я принял одно из самых важных решений в жизни. — Я ничего не помню, — заявил я. — Вы лжете, — прорычал инспектор Филд и снова встряхнул меня, теперь покрепче. От прежней его показной почтительности теперь не осталось и следа. Я вполне мог быть одним из многочисленных смитфилдских или лаймхаусских преступников, к которым он применял такую вот железную хватку в течение многих лет службы. — Я вообще ничего не помню, — снова солгал я. — Ровным счетом ничего — с момента, когда закурил трубку в притоне Короля Лазаря прошлой ночью около полуночи, как обычно. Несколько часов назад я очнулся в темноте, отыскал путь наверх и обнаружил там… бедного Хэчери. — Вы лжете, — повторил инспектор. — Меня одурманили каким-то наркотиком, — проговорил я безжизненным голосом; мы уже свернули в переулок, ведущий прямиком к кладбищу. — Лазарь или кто-то другой подмешал сильнодействующий наркотик мне в опиум. Сыщик Баррис отрывисто хохотнул, но инспектор Филд взглядом заставил его замолчать. У ворот Погоста Святого Стращателя дежурил еще один высокий мужчина в пальто, вооруженный дробовиком. Завидев нас, он прикоснулся пальцами к козырьку кепки. Когда мы подошли к воротам, я стал упираться, но Филд потащил меня за собой, точно малого ребенка. Снег покрыл белым саваном могильные плиты, надгробные памятники и плоские крыши склепов. Мертвое дерево, нависавшее над последним склепом, походило на фоне пасмурного неба на растекшуюся чернильную кляксу, густо обведенную белым мелом. В склепе нас ждали еще трое мужчин; клубы пара от дыхания колыхались над ними, точно скованные морозом души. Я отвел взгляд в сторону, но прежде успел увидеть, что выпотрошенное тело Хэчери накрыто куском просмоленной парусины. Блестящие серые гирлянды исчезли, однако я заметил в углу второй кусок парусины, поменьше, под которым что-то лежало. Даже несмотря на мороз, здесь пахло как на скотобойне. Почти все наши спутники остановились в дверях склепа или остались снаружи. Маленькое помещение казалось переполненным, ибо все шестеро находившихся там людей старались держаться подальше от накрытого парусиной трупа Хэчери. Я вдруг осознал, что один из мужчин, ждавших в склепе, не полицейский и не сыщик, а здоровенный малаец с длинными черными сальными волосами — руки у него были заведены за спину и скованы железными наручниками. В первый момент я принял его за малайца из притона Опиумной Сэл, но уже в следующий миг увидел, что он заметно старше и щеки у него не покрыты шрамами. Он смотрел на меня без всякого любопытства, вообще без всякого выражения — тусклым взглядом, какой мне Доводилось видеть у приговоренных к казни перед повешением или сразу после. Инспектор Филд потянул меня к узкому отверстию в полу, Но я уперся изо всех сил. — Я не хочу туда, — задыхаясь, пробормотали. — Я не пойду! — Пойдете, — сказал инспектор и пихнул меня в спину. Один из охранников высокого малайца отдал свой фонарь инспектору, другой — Баррису. Мы трое стали спускаться вниз по узкой лестнице — впереди Баррис, потом я, а за мной инспектор, подталкивающий меня в спину. Только один еще мужчина — незнакомый мне сыщик с тяжелым дробовиком — последовал за нами.
Должен признаться, дорогой читатель, многое из происходившего в течение следующего получаса по сей день остается для меня покрыто мраком неизвестности. Отупевший от ужаса, усталости и боли, я находился в состоянии, близком к засыпанию, когда человек то сознает окружающую действительность, то проваливается в дрему, то вновь возвращается к яви, потревоженный каким-нибудь звуком, ощущением, другим внешним раздражителем. Лучше всего мне запомнились раздражители, поступавшие со стороны инспектора Филда, — он продолжал стискивать мое предплечье железной хваткой, таская за собой и толкая перед собой в подземном мраке, слабо рассеиваемом фонарями. При свете фонарей спуск по короткой лестнице и путь к притону Короля Лазаря показались знакомыми и привычными, как давний повторяющийся сон, — ничего похожего на кошмар моего панического бегства в кромешной тьме. — Это опиумный притон? — спросил инспектор Филд. — Да, — сказал я. — То есть нет. То есть да. Не знаю. Вместо красного занавеса во входном проеме я увидел ржавую решетку, какие стояли во всех остальных кубикулах. Лучи фонарей выхватили из мрака штабеля гробов, а не ряды трехъярусных коек и каменный постамент с буддообразной фигурой Короля Лазаря. — Эта решетка, в отличие от прочих, не вделана в стену, — пробормотал Баррис, хватаясь за ржавые прутья и налегая на них. Решетка, ударившись о каменный пол, громыхнула, как колокол Судного дня. Мы вошли в узкий проход. — Никакой кирпичной крошки с потолка, — сообщил Баррис, светя фонарем себе под ноги. — Пол чисто подметен. Четвертый мужчина из нашей группы остался в галерее со своим дробовиком. — Да, это притон Короля Лазаря, — сказал я, когда фонари получше осветили знакомый коридор и маленькую погребальную камеру. Но там не осталось ничего, даже следов на каменном полу, где стояли тяжелые койки и железная печка. На постаменте, где всегда восседал Король Лазарь в своем ярком одеянии, теперь покоился древний пустой саркофаг. Мой личный альков в глубине помещения теперь превратился в обычную нишу, забитую гробами. — Но вы очнулись не здесь, — сказал инспектор Филд. — Нет. Вроде бы дальше по коридору. — Пойдемте глянем. — Инспектор знаком велел Баррису идти вперед. Мужчина с дробовиком поднял свой фонарь и двинулся следом занами. Я думал о Диккенсе. Продолжает ли он свою гастрольную поездку по Америке? В последнем письме, отправленном из Нью-Йорка, Неподражаемый жаловался на «слабую сердечную деятельность» и столь угнетенное состояние духа, что он каждый день валяется в постели до трех часов пополудни и лишь невероятным усилием воли заставляет себя встать и подготовиться к вечернему концерту. Может, у Диккенса скарабей внутри? Может, чудовищный жук переползает из мозга к сердцу и запускает в него свои громадные жвалы всякий раз, когда Диккенс предпринимает попытку освободиться от власти Друда? Из первоначального плана турне и из телеграмм, приходивших Уиллсу в редакцию, я знал, что в январе Диккенс должен выступить с чтениями в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Балтиморе, Бруклине и что каждый концертный зал продавал от Шести до восьми тысяч билетов на выступление, — но в каком именно из перечисленных городов с непривычными для слуха названиями он находится сейчас? Хорошо зная Диккенса, я с уверенностью предполагал, что он непременно оправится от болезни и уныния и опять начнет резвиться да дурачиться, развлекая детей и зевак в поездах во время путешествий из одного города в другой, и полностью выкладываться физически и морально на дневных и вечерних концертах. Но я также знал, что при этом он будет маяться хандрой считать дни до своего отъезда на родину в апреле. Доживет ли Диккенс до апреля? Пощадит ли его скарабей, коли изобличит в предательстве? — Вы очнулись тут? — резко спросил инспектор Филд. Он крепко встряхнул меня, выводя из задумчивости. Я заглянул в кубикулу, ничем не отличавшуюся от большинства прочих, если не считать следов на густо устланном пылью полу — следов, оставленных маленькими, босыми, уязвимыми ногами. А на зазубренных краях отверстия в ржавой решетке, сквозь которое я протискивался в кромешном мраке, темнела запекшаяся кровь. Я невольно провел рукой по одежде, прикрывавшей свежие ссадины на моих ребрах и бедрах. — Да, — тупо проговорил я. — Кажется, здесь. — Чудо, что вам удалось отыскать путь к выходу в темноте, — заметил Баррис. На это мне было нечего сказать. Я трясся, словно в малярийном ознобе, и хотел лишь одного: поскорее убраться из этой преисподней. Но инспектор Филд еще не закончил со мной. Мы двинулись обратно по галерее. Лучи трех фонарей зловеще метались по изрезанным проемами стенам, заставляя сердце мое замирать от ужаса. Казалось, будто реальность и вымысел, жизнь и смерть, свет и беспросветная тьма кружатся в безумном страшном танце. — Этот коридор ведет к крестной перегородке и спуску на нижние ярусы? — осведомился инспектор Филд. — Да, — сказал я, понятия не имея, о чем он спрашивает. Мы прошли по узкому коридору к круглому помещению, расположенному под местом, где прежде находилась апсида собора Святого Стращателя. Именно здесь Диккенс обнаружил лестницу, ведущую в настоящий Подземный город. — Я туда не пойду, — взвизгнул я, резко вырываясь из хватки инспектора и едва не падая. — Я не могу! — Вас никто и не заставляет — сказал Филд, и я чуть не расплакался от облегчения. — Сегодня, — добавил он. А потом повернулся к мужчине с дробовиком и отрывисто промолвил: — Приведите малайца. Я стоял в оцепенении, потеряв всякий счет времени, и чувствовал шевеление скарабея глубоко в моем мозгу. Я изо всех сил боролся с дурнотой, но в воздухе там висел смрадный могильный запах разложения. Вернулся сыщик с дробовиком — не один, а с другим сыщиком, в коричневом пальто и с винтовкой. Между ними шел закованный в наручники малаец. Войдя в подземную апсиду, азиат уставился на меня узкими черными глазами, почти такими же мутными от боли или отчаяния, как у меня, но также обвиняющими. Он ни разу не взглянул на Филда или Барриса — смотрел только на меня, словно я был его личным врагом. Инспектор Филд коротко кивнул, двое вооруженных мужчин провели арестованного за истлевшую крестную перегородку и стали спускаться по узкой лестнице. Баррис с инспектором вывели меня обратно в галерею, а вскорости и на свет дня. — Я не понимаю, — задыхаясь, проговорил я, когда мы наконец вышли из склепа на морозный январский воздух; снегопад прекратился, но на землю спустился густой зимний туман. — Вы поставили в известность полицию? Почему здесь одни только частные сыщики? Вы же наверняка сообщили в полицию. Где полицейские? Инспектор Филд повел меня к улице, где ждала черная карета, похожая на катафалк. Пар от конского дыхания клубился в туманном воздухе. — Полиция скоро будет поставлена в известность. — Голос Филда звучал мягко, но за этой мягкостью я чувствовал яростную решимость, столь же неумолимую, как железная хватка, которой он стискивал мое предплечье. — Эти люди знали Хибберта Хэчери. Многие работали с ним. Иные любили его. Баррис с инспектором затолкали меня в карету. Баррис обошел экипаж и забрался в него с другой стороны. Филд, по-прежнему державший меня за предплечье, стоял у открытой дверцы. — Друд ожидает, что мы сегодня же ринемся в Подземный город — в количестве десяти — двадцати человек. Он хочет этого. Но завтра здесь соберется добрая сотня отставных полицейских — все они либо знали Хэчери, либо ненавидят Друда. Завтра мы спустимся вниз. Завтра мы найдем Друда и выкурим мерзавца из его норы. — Он захлопнул дверцу с глухим стуком. — Отмените все свои дела на завтра. Вы нам понадобитесь. — Я не могу… — начал я, но в следующий миг увидел двух вооруженных сыщиков, выходящих из склепа. Малайца с ними не было. Я в ужасе уставился на правый рукав мужчины повыше ростом. На рукаве дорогого коричневого пальто — над обшлагом — темнело большое пятно, похожее на свежую кровь. — Малаец… — с трудом выдавил я. — Видимо, это тот самый тип, которого арестовали полицейские. Тот самый, которого служащие Столичной полиции передали вам для допроса. Инспектор Филд молчал. — Где он? — прошептал я. — Мы отправили малайца вниз в качестве послания, — сказал инспектор. — В смысле — в качестве посланника? — В качестве послания, — бесстрастным тоном повторил Филд. Он хлопнул ладонью по дверце экипажа, и мы с Баррисом покатили прочь по узким улочкам Блюгейт-Филдс.
Баррис высадил меня у моего дома на Глостер-плейс, не промолвив ни слова на прощанье. Прежде чем войти в дверь, я с минуту стоял, дрожа от холода, и смотрел вслед темному экипажу, покуда тот не скрылся за поворотом. Мимо проехала еще одна темная карета, с зажженными боковыми фонарями. И тоже свернула за угол. Я не слышал, остановились ли там оба экипажа, — туман да снег заглушали даже стук копыт и грохот колес, — но, скорее всего, остановились. Баррис расставит дозорных по постам. Люди инспектора Филда, я не сомневался, будут наблюдать за моим домом с улицы и со двора — правда, не в столь многочисленном составе, как девятого июня. Где-то там в тумане дежурят мои новые гузберри. Но, для того чтобы перехитрить их, мне нужно всего-навсего спуститься в собственный угольный подвал, выбить из стены несколько кирпичей и проползти сквозь узкую дыру на верхний уровень Подземного города. Тогда я смогу свободно разгуливать где моей душе угодно… по крайней мере — под землей. При этой мысли я захихикал, но почти сразу умолк, когда истерическое хихиканье перешло в сухие рвотные спазмы. Скарабей шевельнулся в моем мозгу.
Войдя в вестибюль своего дома, я едва не завопил от ужаса. От карниза до люстры, от люстры до лестницы, от лестницы до настенных канделябров тянулись кишки сыщика Хэчери. В точности такие, как в склепе, — серые, влажные, блестящие. Но я не завопил, хотя и затрясся всем телом, как насмерть перепуганный ребенок. Через несколько мгновений я осознал, что «кишки» — это всего лишь гирлянды, серо-серебристые, обвитые лентами гирлянды, сохранившиеся после какой-то давней дурацкой вечеринки на Мелкомб-плейс. В ноздри мне ударил запах стряпни — тушеной говядины, жареной баранины, прочих мясных блюд, находящихся в процессе приготовления, — и рвотные позывы вновь подкатили к горлу. Кэролайн вылетела навстречу мне из столовой залы. — Уилки! Где ты шлялся, скажи на милость? Или ты думаешь, что можешь исчезать каждую ночь, не ставя в изве… О боже! Откуда у тебя эти мерзкие лохмотья? И где твоя одежда? Что это за запах такой? Не обращая на нее внимания, я во все горло крикнул горничную. Когда она прибежала, с раскрасневшимся от кухонного жара лицом, я грубо приказал: — Приготовь мне горячую ванну — немедленно. Очень горячую. Пошевеливайся. — Уилки, — раздраженно взвизгнула Кэролайн, — ты собираешься ответить на мои вопросы и объяснить, в чем дело? — Это ты объясни мне, — прорычал я, широким взмахом руки указывая на развешанные повсюду гирлянды. — Что это за дрянь такая? Что здесь происходит? Кэролайн моргнула, словно получив пощечину. — Что здесь происходит? Через несколько часов начинается твой чрезвычайно важный званый обед. Придут все приглашенные. Нам придется отобедать пораньше, как ты особо оговаривал, поскольку мы должны поспеть в театр к… — Она осеклась и после короткой паузы заговорила потише, чтобы слуги не услышали. Голосом, похожим на яростное шипение кипящего чайника: Ты что, пьян, Уилки? Одурманен своим чертовым лауданумом? — Заткнись! — рявкнул я. На сей раз голова у нее резко дернулась назад и щеки запылали, словно она действительно схлопотала крепкую оплеуху. — Отмени все, — сказал я. — Отправь мальчишку… отправь посыльных… сообщи всем, что мероприятие отменяется. Кэролайн рассмеялась почти истерически. — Но это совершенно невозможно, ты сам прекрасно понимаешь. Повариха уже взялась за стряпню. Люди уже распорядились насчет экипажей. Стол накрыт, и именные пригласительные билеты в театр разложены по местам. Сейчас уже решительно невозможно… — Отмени все, — повторил я и стремительно прошел мимо нее к лестнице. Поднявшись наверх, я залпом выпил пять стаканов лауданума, отдал мальчишке вонючее тряпье, приказав сжечь немедленно, и залез в ванну.
Я бы заснул в дымящейся воде, если бы не копошение жука в моей черепной коробке. Скарабей столь крепко напирал сверху на нёбо, что трижды я выскакивал из ванны и подбегал к зеркалу. Придвинув свечи поближе, я разевал рот шире некуда — до хруста челюстных суставов — и на третий раз успел заметить тусклый отблеск на черном панцире огромного насекомого, торопливо уползающего прочь, подальше от света. Я повернулся и склонился над тазом, давясь рвотными спазмами, но рвать было нечем, а жук к тому времени уже забрался обратно в мой мозг. Я снова лег в ванну, но каждый раз, стоило мне задремать, видел внутренность знакомого кладбищенского склепа и блестящие серые гирлянды, чувствовал тошнотворный смрад скотобойни, сквозь который пробивался приторный запах курений, слышал монотонное пение и видел громадного черного жука, прорывающего ход в мое чрево с такой легкостью, словно тело мое слеплено из песка… Раздался стук в дверь. — Убирайся! — Тебе телеграмма, — доложила Кэролайн сквозь дверь. Курьер сказал — важная. Выругавшись, я вылез из ванны — все равно вода уже остывала, — надел халат и на секунду приоткрыл дверь, чтобы выхватить телеграмму из тонких белых пальцев миссис Г***. Я решил, что сообщение пришло от Фехтера или еще кого-нибудь из театра — они имели расточительную привычку телеграфировать по любому поводу, как будто простой записки, отправленной с посыльным, оказалосьбы недостаточно. А возможно — от Диккенса. Озаренный страшной догадкой, я на миг вообразил: вот сейчас он признается, что носит в своем нутре скарабея и знает, что я обзавелся таким же. Мне пришлось четыре раза перечитать пять слов и подпись, прежде чем смысл короткого послания дошел до моего измученного, изгрызенного чудовищным жуком мозга.
МАТЬ ПРИ СМЕРТИ. ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО. ЧАРЛИ
Глава 28
При виде матушкиного лица я невольно подумал о трупе, в котором все еще бьется безмолвная душа в отчаянных попытках вырваться из телесной оболочки. Закаченные глаза — одни белки, лишь тонкие полоски радужных оболочек виднеются из-под набрякших, покрасневших век — налиты кровью и вылезают из орбит, словно под чудовищным давлением изнутри. Рот широко раскрыт, но губы, язык, нёбо кажутся бледными и сухими, как старый пергамент. Она не могла говорить. Не могла издать ни единого звука, только редкие свистящие хрипы вырывались у нее из груди. Думаю, она нас не видела. Мы с Чарли, охваченные ужасом, обнялись под незрячим взглядом матери, и я с трудом выдавил: — Господи… да как же такое случилось? Любимый брат лишь потряс головой в ответ. Миссис Уэллс стояла неподалеку, бессильно опустив изуродованные подагрой руки под черной кружевной шалью, а в дальнем углу комнаты топтался доктор Эйхенбах, пожилой врач из Танбридж-Уэллса, давно пользовавший матушку. — По словам миссис Уэллс, вчера она хорошо себя чувствовала… то есть нет, она покашливала и жаловалась на боли… но достаточно хорошо, чтобы с аппетитом пообедать, выпить чаю в обычный час, послушать чтение и поболтать с миссис Уэллс вечером. А сегодня утром… я приехал без предупреждения, хотел сделать сюрприз… и увидел это. — Такое часто случается со стариками, ждущими смерти и желающими поскорее покинуть бренный мир, — пробормотал доктор Эйхенбах. — В одночасье. В одночасье. Поскольку тугой на ухо Эйхенбах беседовал в углу с миссис Уэллс, я горячо прошептал брату: — Я хочу, чтобы маму осмотрел мой доктор. Фрэнк Берд приедет мигом. — Я пытался связаться с последним ее врачом, доктором Рамсисом, — тихо промолвил Чарли. — Как вы сказали? — спросил доктор Эйхенбах из своего угла за камином. — Доктор?.. — Рамсис, — со вздохом сказал Чарли. — Видимо, новый местный врач — последние несколько недель он взял за обыкновение навещать нашу матушку. Я совершенно уверен, что у нее не было причин обращаться к нему… ведь ее вполне устраивали ваши замечательные рекомендации и лечебные меры. Эйхенбах нахмурился. — Доктор Рамси? — Рамсис, — сказал Чарли, излишне громко и четко, как свойственно расстроенному человеку, разговаривающему с глухим. Эйхенбах помотал головой. — Никакого врача по имени Рамси или Рамсис в Танбридж-Уэллсе нет. Да и в Лондоне, насколько мне известно, — если не считать старого Чарльза Бирбонта Рамси, чья клиентура нынче ограничивается одним только семейством лорда Лейтона. Кроме того, он специализируется по венерическим заболеваниям и больше ничем не интересуется — а я сильно сомневаюсь, что миссис Коллинз обращалась к нему за такого рода консультацией. И что это за имя такое — Рамсис? Звучит как название комитета. Чарли снова вздохнул. — Кажется, доктор Рамсис навещал одно семейство в Танбридж-Уэллсе и там прослышал о матушкином недуге. Не так ли, миссис Уэллс? Старуха с удрученным видом развела подагрическими руками под шалью. — Право слово, не знаю, господин Чарльз. Я слыхала о докторе Рамсисе только от вашей милой, милой матушки. Сама я ни разу с ним не разговаривала. — Но вы его хоть видели? — спросил я. Холодная рука тревоги сжала мне сердце, и одновременно скарабей шевельнулся в моем мозгу. — Только один раз, — сказала чистосердечная старуха. — И издалека. На прошлой неделе, идучи по тропке через луг, я видела, как он выходил из дома. — Как он выглядел? — спросил я. — Ох… не знаю даже, господин Уилки. Я мельком увидала со спины высокого худого мужчину, шагавшего по улочке. Одетого весьма парадно, но довольно старомодно в разумении нынешней молодежи. Он был в черной визитке и цилиндре устарелого фасона, если вы понимаете, о чем я. — Боюсь, я не вполне понимаю, миссис Уэллс. — Я старался говорить твердым голосом. — Что значит «цилиндр устарелого фасона»? — Ой, да вы знаете, господин Уилки. Такой с полями поширше да тульей пониже — больше похожий на шляпу для верховой езды, какие носили джентльмены в пору моей юности. И по всему касторовый, а не шелковый. — Благодарю вас, миссис Уэллс, — сказал Чарли. — Да… и еще вуаль, конечно, — добавила миссис Уэллс. — Даже издалека я разглядела вуаль. Ваша матушка позже помянула о ней. — Мне она ничего такого не говорила, — сказал Чарли. — Зачем доктору Рамсису вуаль? — Чтобы скрывать ожоги, ясное дело. Страшные ожоги, сказала Хэрриет… то есть миссис Коллинз. Ваша милая матушка. Доктор Рамсис не хотел пугать людей на улицах. Я на несколько мгновений закрыл глаза, а когда открыл, взгляд мой намертво приковался к судорожно искаженному лицу матери и разинутому рту, где болтался сухой язык, точно обрывок чалочного каната. Белые глазные яблоки, вылезающие из орбит, походили на два яйца, невероятным усилием втиснутые под веки. — Миссис Уэллс, — тихо проговорил Чарли, — окажите любезность, сходите за соседским мальчиком, который иногда выполняет разные матушкины поручения. Нам нужно отправить телеграмму доктору Фрэнку Берду в Лондон. Уилки сейчас напишет ее, а мальчик отнесет в телеграфную контору. — Так поздно, господин Чарльз? Контора-то закроется меньше чем через час. — Значит, нам надобно поторопиться, верно, миссис Уэллс? Спасибо вам за помощь. Матушка от всего сердца поблагодарила бы вас, когда бы могла.Перед отъездом в Танбридж-Уэллс я наговорил Кэролайн резкостей. Уму непостижимо, невероятно, но она продолжала задавать вопросы, требовать ответов и преграждать мне путь к двери даже после того, как я показал телеграмму от брата. — Где ты провел ночь? — не унималась она. — Где вырядился в мерзкие лохмотья, которые сжег Томми? Что за дрянью они воняли? Когда ты вернешься? Что нам делать со званым обедом? С билетами в театр? Все настроились на… — Во-первых, сними и выброси эти чертовы гирлянды, — прорычал я. — И устраивай на здоровье свой званый обед. Отправляйся в театр со всеми моими друзьями. Тебе не впервой принимать гостей и развлекаться за мой счет в мое отсутствие. — Как тебя понимать, Уилки? Ты что, не хочешь, чтобы я выполнила наши обязательства перед твоими друзьями? Не хочешь, чтобы мы воспользовались билетами на твою пьесу, хотя ты пообещал доброй дюжине людей, что они увидят ее сегодня из авторской ложи? Что ты хочешь, чтобы я сделала? — Я хочу, чтобы ты пошла к черту! — рявкнул я. Кэролайн застыла на месте. — Моя мать умирает, — сказал я резким тоном, не допускающим возражения. — А что касается вопроса, с кем тебе обедать и ходить в театр, так по мне — развлекайся хоть с самим дьяволом. — Я в бешенстве уставился на нее. — Или со своим водопроводчиком. Кэролайн Г***, по-прежнему стоявшая неподвижно, залилась краской от линии волос до линии декольте. — О чем… о чем ты говоришь, Уилки? Распахнув дверь в туман и холод, я рассмеялся ей в лицо. — Ты прекрасно все понимаешь, дорогая моя. Я говорю о мистере Джозефе Чарльзе Клоу, сыне винокура с Авеню-роуд, водопроводчике по профессии и соблазнителе — или жертве соблазна — по призванию. О том самом мистере Клоу, которого ты тайком кормишь за моим столом и с которым ты пять раз тайно встречалась после Рождества. Я вышел и с грохотом захлопнул дверь перед красным, полным ужаса лицом Кэролайн.
В Танбридж-Уэллсе, покрытом снежной пеленой и окутанном густым, тревожно-белым туманом, царила жутковатая тишина, когда Чарли подъехал на санях к станции, чтобы встретить меня с дневного поезда. Тишина и туман сгустились и стали совсем уже зловещими к десяти часам вечера, когда тепло закутанный Фрэнк Берд возник из морозной мглы, подкатив к дому на санях, которыми и на сей раз правил вечно недужный, но с виду неутомимый Чарли. Я оставался с матушкой и уснувшей миссис Уэллс, пока брат ездил к станции за нашим другом и врачом. Доктор Эйхенбах давно откланялся. Фрэнк Берд пожал мне руку, безмолвно выражая сочувствие, и принялся обследовать матушку. Мы с Чарли ждали в соседней комнате. Там слабо горел камин, и мы решили не зажигать ни свечей, ни ламп. Миссис Уэллс спала на диване в дальнем углу. Мы с братом разговаривали шепотом. — Она ведь не в таком состоянии находилась на прошлой неделе, в последний твой приезд? — спросил я. Чарли помотал головой. — Она жаловалась на боли и затрудненное дыхание… ну ты знаешь, Уилки, как она постоянно сетует… сетовала… Но нет, Ничто не предвещало этого… кошмара. В скором времени к нам вышел Берд, и мы разбудили миссис Уэллс, чтобы вместе выслушать его заключение. — Похоже, у Хэрриет случилось сильнейшее кровоизлияние в мозг, — тихо промолвил он. — Как вы сами видите, она утратила речевую способность, координацию движений и — вполне вероятно — рассудок. Что же касается до остального… — Он повернулся к миссис Уэллс. — Не упала ли миссис Коллинз на днях? Не поранилась при падении ножницами, кухонным ножом или вязальной спицей? — Нет конечно! — воскликнула старая женщина. — Миссис Коллинз вела не настолько подвижный образ жизни, чтобы такое могло с ней приключиться. Да и я бы не допустила ничего подобного. И она непременно сказала бы мне, кабы… нет, нет, она не могла пораниться. Берд кивнул. — А почему вы спрашиваете, Фрэнк? — осведомился Чарли. — У вашей матери свежий порез вот здесь… — Берд дотронулся до своего живота прямо под грудиной. — Длиной около двух дюймов. Ранка не представляет опасности для здоровья и уже заживает, но непонятно, откудаона взялась у человека, который не… — Он потряс головой. — Впрочем, неважно. Я уверен, это никак не связано с кровоизлиянием в мозг, случившимся, по всей видимости, прошлой ночью. До этого я стоял, но сейчас ощутил такую слабость в коленях, что был вынужден сесть. — Каков… прогноз? — спросил Чарли. — Надежды нет, — твердо произнес Берд. — Мозг поврежден слишком сильно. Она еще может прийти в сознание, у нее даже может проясниться рассудок перед смертью — но я уверен: надежды нет. Теперь это вопрос дней или недель. Миссис Уэллс пошатнулась, словно собираясь упасть в обморок, и Фрэнк с Чарли подхватили ее под руки и отвели обратно к дивану. Я сидел, тупо уставившись в огонь. В Америке сейчас середина дня. В комфортабельных, светлых, чистых апартаментах Чарльз Диккенс, окруженный поистине королевскими почестями, готовится к очередному вечернему сеансу народного обожания. В недавнем письме, показанном мне Уиллсом, Диккенс писал: «Люди оглядываются, оборачиваются, всматриваются в меня, бросаются ко мне за автографами… или возбужденно переговариваются. "Смотрите, смотрите! Диккенс!"» — и еще упоминал, что его всегда узнают в поездах: «…в железнодорожных вагонах, при виде человека, явно желающего заговорить со мной, я обычно предупреждаю его желание, заговаривая первым». Какое чувство долга! Как несказанно великодушно со стороны моего бывшего соавтора и вечного соперника! Он там снисходит до общения с десятками тысяч исполненных благоговения (пусть сознательно невежественных и безнадежно безграмотных) американцев, боготворящих самую землю, по которой ступала его нога, — а я сижу здесь, истерзанный болью, сокрушенный горем, исполненный отчаяния… моя мать умирает в страшных муках… скарабей скребется в моем черепе, словно… — Я покидаю вас. Я переночую у знакомых в деревне и проведаю Хэрриет завтра утром перед тем, как вернуться поездом в Лондон. Со мной говорил Фрэнк Берд. Я потерял счет времени. Очевидно, Чарли отвел плачущую миссис Уэллс в ее комнату и сейчас, в пальто и меховой шапке, ждал у двери, чтобы отвезти врача. Я вскочил с кресла, обеими руками пожал Берду руку и рассыпался в благодарностях. — Я останусь с мамой, — сказал я Чарли. — А я сменю тебя по возвращении и посижу с ней ночью, — сказал брат. — У тебя изнуренный вид, Уилки. Растопи камин пожарче, чтобы лечь здесь на кушетке, когда я вернусь. Я помотал головой, но хотел ли я сказать, что останусь возле матери до утра, или что я не изнурен, или что мне не нужен огонь, — я не знаю. Потом Чарли с Бердом удалились, и я услышал фальшиво-радостный зимний звон колокольчиков на упряжи, когда они покатили обратно к деревне. Я вошел в матушкину спальню и сел на деревянный стул, придвинутый к кровати. Ее глаза были по-прежнему открыты, но явно ничего не видели, веки изредка подрагивали. Безжизненные руки с подвернутыми кистями напоминали перебитые крылья жалкой птахи. — Матушка, — тихо проговорил я, — простите меня, что… Я умолк. За что я прошу прощения? За то, что убил ее, связавшись с Друдом? Но так ли это? — Матушка… — снова начал я и снова умолк. В последние месяцы я писал ей и разговаривал с ней главным образом о собственных своих успехах. Я был слишком занят работой над пьесой, репетициями пьесы и походами на первые представления пьесы, чтобы уделять время матери, — даже в Рождество я с трудом высидел с ней несколько часов и с утра пораньще умчался на станцию, чтобы поспеть на первый поезд до Лондона. Во всех письмах, написанных с прошлого лета, я говорил либо о себе (хотя мать очень радовалась известиям о моих успехах), либо об условиях передачи нам с Чарли ее свободного капитала в случае, если она умрет раньше нас. — Матушка… Ее веки снова затрепетали. Может, она пытается что-то сказать мне? Хэрриет Коллинз всегда была деловой, рассудительной, уверенной, толковой женщиной, занимающей прочное положение в обществе. В течение многих лет после смерти моего отца она являлась хозяйкой салона, где собирались известнейшие художники и литераторы. Образ матери всегда связывался в моем сознании с компетентностью, чувством собственного достоинства и почти царственным самообладанием. А теперь — это… Не знаю, дорогой читатель, сколько времени просидел я у матушкиной постели. Помню только, что в какой-то момент я начал плакать. Потом наконец я решился: я должен знать. Я поставил свечу поближе, склонился над бесчувственным телом и откинул одеяло. Матушка была в ночной рубашке, но та застегивалась лишь на несколько пуговиц у шеи — недостаточно для моей цели. Продолжая плакать, вытирая нос рукавом, я стянул верхнюю простыню к бледным, испещренным голубыми прожилками, опухшим щиколоткам и — рыдая уже в голос, держа свечу в одной руке — медленно задрал подол фланелевой ночной рубашки. Опаляя волосы свечой, я прикрыл глаза согнутой в локте левой рукой, чтобы мне, любящему сыну, не видеть полной наготы своей матери. Но признаюсь, я слишком высоко поднял подол влажной от пота рубашки и увидел все-таки сморщенные обвислые груди, когда глянул вниз, по-прежнему ограничивая свое поле зрения поднесенной к глазам рукой. А под ними, под резко выступающими ребрами, обтянутыми бледной кожей, прямо под грудиной я увидел багровую ранку. Похоже, такой же длины, такого же оттенка, такой же формы, как у меня. Окончательно обезумев от усталости и ужаса, я рванул на себе сорочку, и пуговицы брызнули в стороны, запрыгали по дощатому полу, закатываясь под кровать. Я согнулся чуть не пополам, чтобы увидеть красную отметину на своем животе, и быстро водил свечой туда-сюда, сравнивая ранку, оставленную моим скарабеем, с багровым рубцом у матери под ребрами. Они были совершенно одинаковые. Внезапно позади скрипнула половица, потом послышался сдавленный возглас. Я круто развернулся — у меня сорочка выпущена из брюк и расстегнута, у матери ночная рубашка задрана до самого горла — и увидел миссис Уэллс, в диком ужасе смотревшую на меня вытаращенными глазами. Я открыл рот, чтобы все объяснить, но не нашел слов. Я стянул подол ночной рубашки обратно к ногам матери, накрыл недвижное тело простыней и одеялом, поставил свечу на прикроватный столик и повернулся к старой экономке, резко отпрянувшей назад. Неожиданно раздался громовый стук в дверь. — Останьтесь здесь, — велел я миссис Уэллс. Старуха молча попятилась и закусила костяшки пальцев, когда я торопливо прошел мимо. Я кинулся к двери — в смятении мыслей я решил, что вернулся Фрэнк Берд с новым, чудесным образом пересмотренным прогнозом, на сей раз обнадеживающим, — и уже у самого порога бросил взгляд в сторону маминой спальни. Миссис Уэллс нигде не было видно. Стук продолжался, становился все яростней. Я распахнул дверь. На крыльце под ночным снегопадом стояли четверо крупных мужчин в почти одинаковых черных пальто и зимних рабочих кепках. Катафалкоподобная карета с тускло горящими фонарями ждала поодаль. — Мистер Уилки Коллинз? — осведомился самый крупный мужчина, стоявший впереди. Я тупо кивнул. — Пора, — сказал он. — Инспектор ждет. Ко времени нашего возвращения в Лондон все будет готово. Поторопитесь.
Глава 29
Подземный город пылал. Инспектор Филд говорил, что через двадцать четыре часа он соберет сотню человек — бывших сыщиков, свободных от дежурства и отставных полицейских, — горящих желанием спуститься под землю, чтобы отомстить за сержанта Хибберта Хэчери. Похоже, он недооценил свои возможности. Даже судя по обрывочным картинам, проносившимся перед моим взором в последующие часы, представлялось очевидным, что в операции задействовано гораздо больше ста человек. В широкой плоскодонке, куда меня доставили по приказу Филда, находилась дюжина мужчин. На наклонном шесте, выступающем за корму, висел яркий фонарь. Двое парней на носу управляли огромным карбидовым прожектором, какие используются на уэльских рудниках в чрезвычайных обстоятельствах, например при обрушении шахт. Ослепительно-белый конусообразный луч прожектора, установленного на вращающейся опоре, то падал на темные воды широкой подземной реки, известной под названием Канава Флит, то упирался в сводчатый кирпичный потолок, то скользил по стенам тоннеля и узким дорожкам, тянувшимся по обеим сторонам потока. За нами следовала еще одна плоскодонка. Насколько я понял, еще две шаланды двигались навстречу нам от устья Флит, то есть от самой Темзы. Впереди и позади нашей странной флотилии плыли верткие узкие лодки — на корме и носу стояли гребцы с длинными веслами или шестами, на скамьях сидели люди, вооруженные винтовками, дробовиками и пистолетами. В нашей головной шаланде тоже не было недостатка в винтовках, дробовиках и пистолетах. Похоже, молчаливые мужчины в темной рабочей одежде прежде служили стрелками в армии или Столичной полиции. Весьма далекий от военного ремесла, я никогда прежде не видел такого количества огнестрельного оружия. Мне даже в голову не приходило, что в Лондоне так много штатских лиц, владеющих оружием. В длинном зловонном тоннеле, обычно погруженном в кромешный мрак, сейчас плясали лучи и круги света от многочисленных фонарей, которыми светили по сторонам люди в лодках и шаландах, еще сильнее рассеивая тьму, разогнанную мощными лучами громадных прожекторов. Эхо криков раскатывалось над смрадным потоком. Еще десятки мужчин, тоже с фонарями и оружием, шагали по узким каменным или кирпичным дорожкам, пролегающим вдоль стен извилистого коллектора. Нам не пришлось возвращаться на Погост Святого Стращателя, чтобы добраться до нижнего уровня Подземного города (честно говоря, дорогой читатель, вряд ли у меня хватило бы духа еще раз пройти тем путем). Существовали новые — сооруженные в ходе строительства подземной железной дороги — тоннели, коридоры и лестницы, соединявшиеся с древними катакомбами при кладбище Эбни-парк в Сток-Ньюингтоне, и нам просто потребовалось спуститься по хорошо освещенным каменным ступеням, пройти по слабо освещенным тоннелям, спуститься последующему пролету каменных ступеней, преодолеть короткий, но замысловатый лабиринт катакомб, пропитанных могильным запахом, потом спуститься по деревянным лестницам типа стремянных к коллекторам Кросснесской очистной станции, где все еще велись строительные работы, а потом по узким шахтам и древним тоннелям спуститься еще ниже, непосредственно в Подземный город. Как они доставили сюда лодки и прожектора, я понятия не имел. Мы продвигались вперед далеко не бесшумно. В дополнение к умножаемым эхом возгласам, гулким шагам и редким выстрелам по особо агрессивным крысам (стаи мерзких грызунов плыли перед нашей шаландой, рядом с лодками, и поверхность воды представляла собой сплошную массу бурых спин), впереди то и дело гремели взрывы, столь оглушительные, что мне приходилось зажимать уши ладонями. В кирпичных стенах сводчатого тоннеля, с одной и другой стороны, располагались без всякого порядка разновеликие проемы, иные всего три фута в поперечнике, другие гораздо больше — устья малых канализационных коллекторов, впадающих в главный, Канаву Флит. Большинство проемов было перекрыто ржавыми решетками. Инспектор Филд приказал взрывать решетки динамитом и отправил вперед команды подрывников, пешие и на лодках. Грохот взрывов, многократно усиленный акустикой кирпичного тоннеля, раздавался каждые несколько минут, и мне всякий раз представлялось, будто мы находимся в самой гуще одного из кровопролитных сражений Крымской войны, окруженные со всех сторон артиллерийскими батареями. Это было невыносимо — особенно для нервов, измотанных за трое (самое малое) бессонных суток, для тела, которое совсем недавно обездвижили наркотиком и бросили умирать в темноте, и для измученного рассудка, отчаянно протестующего против такого насилия. Я вытащил заветную флягу из прихваченного с собой саквояжа и выпил еще четыре дозы лауданума. Внезапно смрад усилился. Я прикрыл платком рот и нос, но мерзопакостный слезоточивый запах просачивался сквозь него. У инспектора Филда я не приметил никакого оружия, но он был в черном зимнем плаще с капюшоном, надвинутой на лоб широкополой шляпе и красном шарфе, несколько раз обмотанном вокруг шеи и закрывавшем нижнюю половину лица. В кармане такого широкого плаща можно спрятать любое оружие. Филд не сказал мне ни слова, когда четыре призрака в черном и присоединившийся к ним позже Реджи Баррис доставили меня в Подземный город и на шаланду. Но теперь он, в промежутке между взрывами, принялся декламировать:Канава Флит расширилась, превратившись в настоящую подземную реку, достаточно широкую, чтобы две наши шаланды и десяток лодок шли по ней развернутым строем. Кирпичный потолок тоннеля исчез, когда мы вошли в естественную пещеру протяженностью с четверть мили, если не больше, — высокие неровные своды здесь скрывались за плотной пеленой тумана, пара или дыма. Справа по ходу нашего движения десятки перекрытых решетками сточных труб — порой диаметром до дюжины футов — изливали свои дымящиеся сточные воды в главный нечистотный поток, а по левую руку виднелись низкие, широкие насыпи земли и битого камня — своего рода берег. Над ним на высоту тридцати — сорока футов поднимались ярусы выступов, проемов, ниш, катакомбных камер, древних шахтных устий и глубоких подвалов, которые все придавали пещерной стене сходство с многоэтажным домом на Стрэнде. Когда мы подошли ближе к берегу, я посмотрел наверх и увидел там жалких оборванцев, выглядывающих из-за низких оград, трепещущие костры, убогие тряпки, развешанные на веревках над пропастью, приставные лестницы и грубо сколоченные мостки соединяющие подземные жилища. Чарльз Диккенс всегда считал, что он спускался на самое дно лондонских трущоб и познакомился с жизнью беднейших бедняков нашей столицы, но здесь, глубоко под землей, становилось ясно, что есть люди и более бедные, чем беднейшие из бедняков, населяющих гнилые, тифозные трущобы наверху. В нишах и на широких уступах стояли целые семьи с детьми в разношерстных грязных лохмотьях, и все они смотрели на нас с тревогой и страхом, словно мы были викингами, совершающими набег на некое древнее, богом забытое саксонское поселение. Вырубленные в пещерной стене глубокие полости, в каждой из которых теснились шалаши, сооруженные из парусины, старой жести, битого кирпича и глины, напомнили мне иллюстрацию с изображением покинутых скальных жилищ индейских племен в каньонах на западе или юго-западе Америки. Только эти скальные жилища никто не собирался покидать — по моей оценке, здесь, глубоко под городом, обитала не одна сотня отверженных. Еще десятки людей инспектора Филда появлялись из невидимых тоннелей и лестничных шахт, подходили с юга по мощеным дорожкам вдоль сточного канала. Шаланды и лодки пристали к берегу, прохрустев по битому камню; мужчины в черном, с факелами, фонарями и винтовками, сошли с них и рассыпались в разные стороны. — Поджечь все к чертовой матери, — спокойно сказал инспектор Филд, и ближайшие его помощники повторили тихий приказ громкими голосами, раскатившимися многократным эхом. Огромная пещера загудела от криков и воплей. Я видел, как люди Филда карабкаются по приставным лестницам, взбегают по каменным ступеням, стремительно шагают по вырубленным в скале дорожкам, выгоняя ничтожных оборванцев из лачуг и шалашей. Я не замечал никакого сопротивления со стороны здешних обитателей. И задался вопросом, зачем вообще человеку спускаться сюда, в эти подземные пещеры, но почти сразу сообразил, что здесь, под землей, держится постоянная температура, не менее пятидесяти пяти градусов, тогда как наверху, на мощеных улицах и в неотапливаемых трущобных домах, она сейчас гораздо ниже. Когда первые языки пламени взметнулись над человеческим муравейником, по пещере прокатился единый вздох, испущенный несколькими сотнями людей. Сухое тряпье, дерево, старые тюфяки, притащенные со свалки диваны горели, как трут, и уже через две минуты — хотя большую часть дыма вытягивало в вырубленные в скале шахты и галереи — под сводами пещеры висело плотное черное облако. Сквозь дымную пелену засверкали оранжевые вспышки, прогремело несколько взрывов подряд — соратники инспектора Филда взрывали решетки в устьях сточных труб на другой стороне потока. Вся сцена напоминала картину яростной летней грозы. Внезапно с одной из верхних террас свалился тюк тряпья и с шипением ушел под воду подземной реки. Я страстно надеялся, что это был всего лишь тюк тряпья. Я страстно наделся, что видел всего лишь развевающиеся в полете лохмотья, а не молотящие по воздуху руки и ноги. Я подошел к инспектора Филду, стоявшему на носу шаланды, и спросил: — Разве так уж необходимо выкуривать отсюда этих несчастных? — Да. Он не соизволил посмотреть на меня, всецело поглощенный зрелищем. Время от времени он делал знак Баррису или одному из других своих любимчиков, приказывая согнать бегающих оборванцев в кучу или поджечь факелом какой-нибудь шалаш, еще не занявшийся огнем. — Но зачем? — упорствовал я. — Это же просто убогие босяки, неспособные выжить на городских улицах. Они никому не причиняют вреда. Филд повернулся ко мне. — Эти жалкие подобия мужчин, женщин со своими отпрысками не являются подданными ее величества, — мягко промолвил он. — Здесь, внизу, нет англичан, мистер Уилки Коллинз. Здесь королевство Друда, а это его приспешники. Они хранят ему верность и так или иначе оказывают ему услуги и помощь. Я начал смеяться и понял, что мне не остановиться. Инспектор Филд приподнял кустистую бровь. — Я сказал что-нибудь смешное, сэр? — Королевство Друда… — наконец сумел выговорить я. — Верные подданные… Друда. — Я снова залился безудержным смехом. Инспектор отвернулся от меня. Над нами тюки тряпья разных размеров покидали задымленные скальные жилища и под конвоем подчиненных Филда уходили наверх.
— Будьте любезны, перейдите в лодку мистера Барриса, — сказал мне инспектор спустя какое-то время. Я плохо следил за происходящим. Помню, мы оставили позади длинную пещеру с горящими скальными жилищами и снова двинулись по тоннелю, заключающему в своих стенах Канаву Флит. Впереди поток разветвлялся на два канала, один из них — левый — перегораживала низкая плотина или водослив, и вторую шаланду пришлось перетаскивать через преграду с помощью талей. Лодки поменьше уже преодолели препятствие. Наша плоскодонка поплыла по правому каналу, но впереди показалось устье большого коллектора, и, очевидно, инспектор хотел, чтобы я обследовал тот вместе с Реджинальдом Баррисом. — Вы видели храм Друда, — пояснил инспектор. — Я не видел никакого храма, — устало сказал я. — Вы его описывали, сэр. Ступени, ведущие наверх от реки, высокие бронзовые двери, статуи по бокам лестницы — египетские реликты, человеческие фигуры с шакальими или птичьими головами. По спине у меня побежали мурашки при воспоминании о кошмарном сне с жуком, привидевшемся мне меньше тридцати шести часов назад, — правильно ли я оцениваю временной промежуток? Действительно ли прошло всего полтора дня с момента, когда я очнулся в темном склепе? — Его описывал Чарльз Диккенс, — сказал я. — Я никогда неговорил, будто видел мифический храм Друда… да и самого Друда, коли на то пошло. — Вы были там вчера, мистер Уилки Коллинз, мы оба это знаем, — промолвил инспектор Филд. — Но не будем спорить. Пожалуйста, перейдите к сыщику Баррису. Прежде чем перебраться в лодку, я спросил: — Ваши поиски здесь подходят к концу, инспектор? Старик отрывисто хохотнул. — Да мы еще толком и не приступили к поискам, сэр. Еще часов восемь самое малое — покуда мы не встретимся с моими людьми, идущими на шаландах от Темзы. Услышав это, я снова почувствовал головокружение и тошноту. Когда я в последний раз спал по-настоящему — не валялся в беспамятстве, одурманенный наркотиком Короля Лазаря или Друда, а именно спал? Сорок восемь часов назад? Семьдесят два? Я неуклюже спустился в шаткую лодку, где ждали Баррис и еще двое мужчин — один стоял на носу с длинным шестом, другой сидел на корме у руля, — и мы покинули реку и медленно двинулись по боковому кирпичному тоннелю. Я сидел на скамье в середине шестнадцатифутового суденышка, а Баррис стоял рядом, сохраняя равновесие с помощью второго шеста. Поросший мхом кирпичный потолок был здесь таким низким, что Баррис мог отталкиваться от него руками, помогая двигать лодку вперед. Я видел зеленые пятна на его дорогих желто-коричневых перчатках. Я уже начал клевать носом, когда мы вышли из узкого коллектора в канал шириной футов двадцать. — Сэр! — Сыщик на носу посветил фонарем вперед. Четыре маленьких дикаря стояли по пояс в воде, возясь с неким тяжелым, разбухшим от влаги предметом, похоже только что выпавшим из устья канализационной трубы, расположенного высоко в стене тоннеля. При ближайшем рассмотрении «разбухший от влаги предмет» оказался позеленелым трупом мужчины. Мальчишки шарили в карманах изгнившего сюртука. Они застыли на месте в луче света, уставившись на нас широко раскрытыми, блестящими, нечеловеческими глазами. На меня накатило головокружительное дежавю, а потом я осознал, что вижу сцену, словно взятую из низкопробного авантюрного романа «Маленькие лондонские дикари, или Дети ночи. Повесть наших дней», о котором мы с Диккенсом оба упоминали — смущаясь тем обстоятельством, что читали данное творение, — во время первого нашего похода в Подземный город два года назад. Казалось, по блестящему мокрому лицу мертвеца пробегала частая дрожь — такое впечатление, будто мучнисто-белые полуразложившиеся черты накрыты тончайшей, прозрачной шелковой тканью. Казалось, глаза открывались и закрывались, губы подергивались, словно пытаясь сложиться в улыбку — наверняка скорбную, ибо приятно ли быть участником сцены из столь дурно написанного бульварного романа. Потом я сообразил, что движутся-то вовсе не лицевые мускулы трупа. Лицо мертвеца, руки, все открытые участки тела были сплошь покрыты червями, безостановочно переползающими с места на место. — Стоять! — гаркнул Баррис, когда маленькие дикари бросили разбухший труп обратно в темную вонючую воду и пустились наутек. Мужчина на носу направил луч фонаря на улепетывающую четверку, а парень на корме сильно толкнул лодку вперед, глубоко погрузив шест в густую жижу на дне коллектора. Я от души наслаждался безумной абсурдностью происходящего — только тошнотворное дополнение в виде трупных червей несколько портило впечатление. — Стоять! — снова рявкнул Баррис, в руке сыщика внезапно оказался маленький серебристый револьвер. Я по сей день не понимаю, зачем он хотел задержать этих одичалых существ. Двое мальчишек, подтянувшись на руках, заползли в устье канализационной трубы, расположенное высоко в стене, — оно казалось слишком узким даже для этих чудовищно худых, оголодалых призраков, но они, яростно извиваясь, умудрились протиснуться в него. Когда бледные босые ступни последнего из них, судорожно молотящие, елозящие по внутренней поверхности трубы, скрылись из виду, я почти ожидал услышать хлопок, с каким пробка вылетает из бутылки шампанского. Третий мальчишка присел на корточки и проскользнул в отверстие на противоположной стене тоннеля. Четвертый, стоявший уже по грудь в потоке нечистот, внезапно повернулся и швырнул в нашу приближающуюся лодку две пригоршни дерьма. Сыщик с фонарем проворно пригнулся и выругался. Мерзкая жижа расплескалась по скамье, где я сидел, и несколько крупных брызг попало на лацканы толстого шерстяного пальто Реджинальда Барриса. Я рассмеялся. Баррис выстрелил два раза. В узком кирпичном тоннеле выстрелы прогрохотали столь оглушительно, что я зажал уши ладонями. Маленький дикарь упал ничком в воду. Лодка проплыла мимо облепленного червями трупа и приблизилась к мальчишке. Сыщик с шестом наклонился, перевернул тело и наполовину втащил в лодку. Грязная зловонная вода стекала с лохмотьев и выливалась из раскрытого рта ребенка. Ему было не больше десяти-одиннадцати лет. Одна из пуль Барриса попала в горло, зацепив яремную вену. Кровь все еще лилась толчками из раны, но еле-еле. Вторая пуля вошла в щеку под глазом — по-прежнему широко открытым. Глаза у него были голубые и, казалось, смотрели на нас с укором. Мужчина столкнул тощее тельце обратно в черную воду. Я вскочил на ноги и схватил Барриса за широкие плечи. — Вы убили ребенка! — Здесь, в Подземном городе, нет детей, — холодно, равнодушно ответил Баррис. — Только паразиты. Помню, я набросился на него. Лишь благодаря невероятным усилиям сыщика с шестом и кормчего, использовавшего румпель в качестве балансира, наше шаткое суденышко не перевернулось, вывалив четыре наших тела в смрадный поток, где плавали изъеденный червями труп и убитый мальчишка. Помню, я издавал разные звуки — яростные рыки, хрипы, сдавленные вопли, нечленораздельные крики, — но не произносил ни единого осмысленного слова. Я накинулся на сыщика не с кулаками, как подобает мужчине, а пустил в ход ногти, норовя выцарапать ему глаза, как сделала бы взбешенная женщина. Смутно помню, Баррис отбивался от меня одной рукой, пока не стало ясно, что я не уймусь и в конце концов опрокину лодку. Смутно помню, вопли мои становились все исступленнее и моя слюна брызгала на красивое лицо молодого сыщика. Помню, он отрывисто бросил несколько слов кормчему у меня за спиной, а потом серебристый револьвер взметнулся вверх, сверкнув коротким, но тяжелым стволом в пляшущем свете фонаря. А потом — слава богу — я не помню ничего, ибо провалился в черноту без сновидений.
Глава 30
Очнулся я при свете дня, в собственной постели, в собственной ночной рубашке, в жестоких телесных муках. Надо мной стояла Кэролайн с лицом мрачнее тучи. Голова у меня раскалывалась от дикой боли, какой я не испытывал никогда прежде, и все до единой мышцы, сухожилия, кости и клетки моего тела, казалось, со скрежетом трутся друг о друга, истошно крича нестройным хором от нестерпимых физических страданий. Я чувствовал себя так, словно уже много дней или даже недель не принимал целительного лауданума. — Кто такая Марта? — осведомилась Кэролайн. — Что? — с трудом проговорил я, еле шевеля сухими, потрескавшимися губами и распухшим языком. — Кто такая Марта? — повторила Кэролайн голосом резким и жестким, как пистолетный выстрел. Из всех приступов паники, пережитых мной за последние два года — даже ночью, когда я очнулся в кромешной тьме подземного склепа, — ни один не шел в сравнение с тем, что я испытал сейчас. Так, наверное, чувствует себя сытый, довольный жизнью, уверенный в собственной безопасности человек, когда комфортабельный экипаж, где он сидит, вдруг срывается с горной дороги в пропасть. — Марта? — пролепетал я. — Кэролайн… дорогая… о чем ты говоришь? — Ты два дня и две ночи повторял во сне имя Марта. — Ни тон Кэролайн, ни выражение лица не смягчились. — Так кто такая Марта? Два дня и две ночи! Сколько же времени я находился без сознания? Как я оказался здесь? Почему у меня голова перевязана? — Кто такая Марта? — упорствовала Кэролайн. — Марта… это… персонаж Диккенса из «Дэвида Копперфилда», — сказал я с притворно равнодушным видом, ощупывая повязку на голове. — Ну ты знаешь… уличная женщина, которая ходит вдоль грязной, зловонной Темзы в поисках клиентов. Кажется, мне снилась река. Кэролайн скрестила руки на груди и прищурилась. Не стоит недооценивать, дорогой читатель, находчивость писателя-романиста, даже оказавшегося в столь сложной ситуации. — Как долго я спал? — спросил я. — Сегодня среда, — наконец промолвила Кэролайн. — В воскресенье около полудня мы услышали стук в дверь и обнаружили тебя на крыльце без сознания. Где ты был, Уилки? Чарли… они с Кейти заходили два раза, и он говорит, что состояние вашей матери остается прежним… так вот, Чарли сказал, что миссис Уэллс сообщила, что ты покинул материнский дом без всяких объяснений в субботу ночью. Куда ты направился? Почему твоя одежда — нам пришлось ее сжечь — воняла дымом и… кое-чем похуже? Что с твоей головой? Фрэнк Берд уже трижды проведывал тебя и всякий раз выражал беспокойство по поводу раны на виске и возможного сотрясения мозга. Он боялся, что ты в коме. Так где же ты был? И почему, скажи на милость, тебе снится диккенсовский персонаж по имени Марта? — Потерпи минуту. — Я придвинулся к краю кровати, но тотчас решил, что не устою на ногах, а если даже устою, не смогу сделать ни шагу. — Я отвечу на все твои вопросы через минуту, но сперва прикажи служанке принести тазик. Живо. Меня сейчас вырвет.Вполне возможно и даже вероятно, дорогой читатель, в Далекой Стране, где вы живете через сто с лишним лет от сего дня, медицина победила все болезни, истребила всякую боль и все недуги, обычные для моих современников, знакомы вам лишь по слухам, слабые отголоски которых докатились до вас из прошлого. Но в мое время, дорогой читатель, — несмотря на неизбежное высокомерие, с каким мы противопоставляли себя более примитивным народам, — мы не обладали знаниями, необходимыми для борьбы с болезнями и исцеления телесных повреждений, и не располагали достаточно действенными медицинскими препаратами, чтобы преуспеть в наших жалких попытках справиться со старейшим врагом рода человеческого — болью. Мой друг Фрэнк Берд выгодно отличался от большинства представителей своего сомнительного ремесла. Он не стал пускать мне кровь. Не стал прикладывать мне пиявок к животу или использовать свой арсенал жутких стальных инструментов, предназначенных для трепанации (хирурги девятнадцатого века имели обыкновение при каждом удобном случае самым непотребным образом просверливать дыры в черепе пациента, словно вырезая сердцевину яблока плотницким буравом, и выдергивать круглый кусок черепной кости, точно пробку из винной бутылки, — причем неизменно с таким видом, будто это самое обычное дело). Нет, Фрэнк Берд часто навещал меня, встревоженный и искренне озабоченный, осматривал рану и жуткий кровоподтек на моем виске, менял повязки, пытливо расспрашивал о непроходящих болевых ощущениях, прописывал полный покой и молочную диету, тихо отдавал указания Кэролайн, корил меня за постоянное употребление лауданума, но не запрещал принимать его и — в конечном счете — выполнял первую заповедь Гиппократа: «Не навреди». Как и за своим более знаменитым пациентом Чарльзом Диккенсом, Фрэнк Берд усердно ухаживал за мной, не имея возможности мне помочь. Посему я продолжал терпеть жестокие муки. Я пришел в сознание — пусть не вполне ясное — в собственной спальне двадцать второго января, через четыре дня после последнего своего спуска в подземный притон Короля Лазаря. До конца недели я был слишком плох, чтобы встать с постели, хотя остро сознавал необходимость навестить мать. За все годы страданий от ревматоидной подагры я ни разу не испытывал ничего подобного. Помимо обычных болей в мышцах, суставах и внутренностях меня мучила поистине нестерпимая, дикая пульсирующая боль, гнездившаяся глубоко за правым глазом. Словно некое огромное насекомое вгрызалось в мой мозг. Именно тогда я вдруг вспомнил случайные слова Диккенса, сказанные мне давным-давно. Мы обсуждали в общих чертах современную хирургию, и Диккенс мимоходом упомянул о «некой простой медицинской операции», перенесенной им много лет назад, перед первой поездкой в Америку. Неподражаемый не стал вдаваться в подробности, но от Кейти Диккенс и прочих я знал, в чем заключалась та едва ли такая уж «простая» операция. У Диккенса, тогда работавшего над «Барнаби Раджем», резко обострились боли в области заднего прохода. (Сравнимы ли они с нынешними моими невыносимыми головными болями, я не знал.) Врачи поставили диагноз «фистула» — то есть свищевое отверстие в стенке прямой кишки, в которое проникли внутренние ткани. Диккенсу ничего не оставалось, как согласиться на срочную операцию, и в качестве своего хирурга он выбрал доктора Фредерика Салмона, автора книги «Практическое описание строения прямой кишки». Сама операция состояла в том, что сначала анальное отверстие рассекли скальпелем, потом раскрыли прямую кишку, поочередно вставляя в нее все более крупные расширители, а потом, медленно и осторожно, вырезали проникшие в свищевое отверстие ткани и наконец зашили стенку прямой кишки. Диккенс перенес все это без морфия, опиума или любого другого препарата из разряда тех, что ныне называются «анестетиками». По словам Кейти (узнавшей подробности от матери, разумеется), ее отец в ходе операции держался весело и быстро после нее оправился. Всего через несколько дней он снова писал «Барнаби Раджа» — правда, лежа на диване, обложенный подушками. И уже готовился к долгому и изнурительному Первому Американскому Турне. Но я отвлекся от предмета. Замечания Диккенса по поводу «простых медицинских операций» касались счастливой способности человека забывать боль. — Меня часто поражает, Уилки, — сказал он тогда, едучи со мной в двухместной карете по дорогам Кента, — что, по сути, мы не сохраняем настоящих воспоминаний о боли. О да, мы помним, что нам было больно, и живо помним, как это было ужасно и как мы хотели никогда впредь не испытывать ничего подобного, — но ведь по-настоящему мы боль не помним, верно? Мы помним общее состояние, но не детали, как в случае с… скажем… роскошным обедом. Думаю, именно поэтому женщины соглашаются претерпевать родовые муки более одного раза — они просто забывают подробности прежних своих страданий. Таково мое мнение, дорогой Уилки. — О родах? — спросил я. — Да нет же, — сказал Диккенс. — О разнице между болью и наслаждением. Боль мы помним в общих, пусть и ужасных, чертах, но по-настоящему не помним. А вот наслаждение мы помним во всех подробностях. Сами подумайте — разве не так? Когда человек отведал изысканнейшего вина, выкурил лучшую сигару, отобедал в превосходнейшем ресторане… даже прокатился в такой вот шикарной карете, как наша теперешняя… или же познакомился с поистине красивой женщиной, все менее яркие впечатления подобного рода, полученные ранее, сохраняются у него и дальше, годами, десятилетиями… до конца жизни! Боль мы никогда толком не помним. Наслаждение — во всех сибаритских подробностях — никогда не забываем. Что ж, возможно. Но уверяю вас, дорогой читатель: чудовищную боль, терзавшую меня в январе, феврале, марте и апреле 1868 года, я не забуду до скончания дней.
Когда заболевает фермер, пашню возделывают другие фермеры. Когда заболевает солдат, его кладут в лазарет, а на бранное поле посылают другого солдата. Когда заболевает торговец, кто-нибудь другой — скажем, жена — выполняет его повседневные обязанности в лавке. Когда заболевает королева, миллионы подданных молятся о ней и в спальном крыле дворца придворные ходят на цыпочках и разговаривают шепотом. Но жизнь фермы, армии, торговой лавки или государства продолжает идти своим чередом. Если тяжело заболевает писатель, все останавливается. Если он умирает, творческий процесс навсегда прекращается. В этом смысле участь известного писателя очень похожа на участь знаменитого актера — но даже у самых знаменитых актеров есть дублеры. У писателя таковых нет. Заменить его никто не может. Его голос неповторим и уникален. Это особенно верно в случае с популярным писателем, чье произведение уже выходит выпусками в одном из главных журналов страны. «Лунный камень» начал издаваться в английском «Круглом годе» и американском «Харперз уикли» в январе. Несколько выпусков, написанных заблаговременно, уже были набраны в типографии, от меня ждали очередных выпусков в самом скором времени. А они существовали лишь в виде черновых заметок и набросков, и мне еще предстояло их написать. Давление обязательств усугубляло ужас, владевший мной; к физическим страданиям, вызванным жестокой болью, денно и нощно терзавшей мои тело и мозг, прибавлялись страдания нравственные. В первую неделю мучительной болезни я — неспособный сидеть и держать перо в руке, истерзанный неописуемой болью, прикованный к постели — пытался диктовать следующую главу Кэролайн, а потом ее дочери Кэрри. Ни одна, ни другая не могли выносить моих душераздирающих криков и стонов, помимо моей воли ежеминутно прерывавших диктовку. Обе то и дело бросались ко мне с утешениями, вместо того чтобы спокойно сидеть и ждать, когда я продолжу наговаривать текст. В конце недели Кэролайн наняла мне секретаря, чтобы он сидел в кресле у моей постели и писал под диктовку. Но сей молодой человек, видимо обладавший чувствительной натурой, тоже не смог выносить моих стонов, жалоб и непроизвольных корчей. Уже через час он сбежал. Второй секретарь, явившийся в понедельник, оставался равнодушным и безучастным к моим мукам, но никак не мог выделить отдельные фразы из общего фона моих воплей и стенаний. Спустя два часа я отказался от его услуг. В понедельник ночью, когда все домашние спали, но мне не давала уснуть или хотя бы просто лежать спокойно (даже после полудюжины доз лауданума) дикая боль от острых жвал, грызущих мой мозг, я встал с постели, с трудом добрел до окна, раздвинул траурно тяжелые портьеры, поднял штору и выглянул в слякотную тьму. Я посмотрел в сторону Портмен-Сквер. Где-то там наверняка дежурили один-два агента инспектора Филда, пусть и незримые для непрофессионального глаза. Он не оставит меня без надзора теперь, когда я стал свидетелем его деяний. Я попросил Кэролайн принести мне номера «Таймс», вышедшие за время, проведенное мной в беспамятстве, и каждый день просматривал свежие газеты. Но старые газеты она уже выбросила, а в новых ни словом не упоминалось о выпотрошенном теле отставного полицейского, найденном на кладбище в трущобах. В них не содержалось никаких сообщений о пожарах в припортовом квартале или в канализационных тоннелях, и Кэролайн лишь странно посмотрела на меня, когда я спросил, не слыхала ли она о таких пожарах. Я задал тот же вопрос Фрэнку Берду, а потом моему брату Чарли, но ни одному, ни другому не попадались на глаза газетные заметки об убийстве сыщика и подземных пожарах. Оба они решили, что мои расспросы являются следствием мучающих меня кошмаров (мне тогда действительно снились жуткие кошмары всякий раз, едва я погружался в тревожный, прерывистый сон), и я не стал выводить их из заблуждения. Очевидно, инспектор Филд использовал свое влияние, чтобы заставить полицию и прессу хранить молчание о зверском убийстве сержанта Хэчери… но почему? Вероятно, Филд — и сотня или более людей, участвовавших в карательной экспедиции под городом, — просто утаили от полиции факт убийства. Но опять-таки… почему? Той ночью, когда я стоял у окна, вцепившись в портьеру, и смотрел в холодную, туманную полуночную тьму, у меня не было ни физических, ни умственных сил, чтобы ответить на собственные вопросы, но я все искал, искал взглядом агентов инспектора Филда, напряженно всматривался во мрак, словно в надежде узреть Спасителя. Почему? Разве может инспектор Филд избавить меня от этой боли? Скарабей переместился на дюйм-два в основании моего мозга, и я дважды вскрикнул, — второй крик я заглушил, прижав ко рту край бархатной занавеси. Филд был вторым шахматистом в этой ужасной игре, и в способности противостоять чудовищу Друду с ним мог сравниться разве только отсутствующий Чарльз Диккенс (чьи мотивы я понимал еще хуже). Я вдруг осознал, что начинаю приписывать старому толстому сыщику невероятные, почти мистические способности. Мне нужен кто-то, кто спасет меня. Такого человека не было. Всхлипывая, я дотащился до кровати, ухватился за кроватный столбик, на миг ослепленный дикой болью в мозгу, а потом, с трудом переставляя ноги, добрел до комода. Ключ от самого нижнего ящика хранился в футляре с платяной щеткой, спрятанный под обшивку. Револьвер, выданный мне сыщиком Хэчери, лежал на прежнем месте, под стопкой чистого белья. Я вытащил оружие, в очередной раз подивившись его тяжести, отошел от комода на трясущихся ногах и присел на край кровати поближе к единственной горящей свече. Нацепив на нос очки, я осознал, что выгляжу со стороны сумасшедшим, каким, собственно, себя и чувствую: волосы и борода растрепаны, лицо искажено страдальческой гримасой, в безумных глазах застыло выражение боли и ужаса, ночная рубашка задрана над бледными дрожащими голенями. В меру своего умения (все-таки я совершенно не разбирался в огнестрельном оружии) я удостоверился, что пули по-прежнему находятся в гнездах барабана. Помню, я думал: «Этой боли не будет конца. Скарабей никогда не оставит меня в покое. Я никогда не закончу "Лунный камень". Через несколько недель десятки тысяч читателей выстроятся в очередь за следующим номером "Круглого года" и "Харперз уикли", но обнаружат там пустые белые страницы». Мысль о пустоте, о последней и окончательной пустоте той ночью казалась мне невыразимо привлекательной. Я поднес револьвер к лицу и засунул тяжелый, широкий ствол врот, зацепив по верхним зубам каким-то крохотным выступом — видимо, мушкой. Давным-давно кто-то — кажется, старый актер Макриди — объяснял сидящей за столом веселой компании, что человек, всерьез решивший вышибить себе мозги, должен посылать пулю вверх, сквозь мягкое нёбо, а не сквозь твердую черепную кость — мол, она зачастую изменяет траекторию пули, вследствие чего незадачливый самоубийца превращается не в труп вовсе, а в безмозглый овощ и объект презрения. Дрожа всем телом, я по возможности крепче сжал рукоять револьвера в одной руке и поднял другую, чтобы оттянуть массивный курок назад до щелчка. Справившись с этим делом, я осознал: если бы мой потный большой палец соскользнул со скобы на спусковой крючок, револьвер уже выстрелил бы и пуля пробила бы остатки моего изъеденного жуком мозга. И скарабей погиб бы — во всяком случае, перестал бы докучать мне, ибо я больше не испытывал бы боли. Я затрясся сильнее и зарыдал, но не вытащил изо рта непристойный револьверный ствол. Я давился сильнейшими рвотными позывами, и если бы меня не вырвало с полдюжины раз днем и вечером, то наверняка вывернуло бы сейчас. Мучительные спазмы сводили пустой желудок, перехватывали горло, но я медленно направил ствол вверх и почувствовал прикосновение стали к мягкому нёбу, упомянутому Макриди. Я положил большой палец на спусковой крючок и начал потихоньку на него надавливать. Мои стучащие зубы сомкнулись на длинном стволе. Я осознал, что долго задерживал дыхание, но больше не могу — и судорожно вздохнул в последний раз. Я дышу через револьверный ствол. Многие ли знают, что такое возможно? Я чувствовал кисло-сладкий вкус ружейного масла — нанесенного покойным сыщиком Хэчери давным-давно, но все еще хорошо ощутимого на языке — и холодный медноватый привкус самого металла. Но я свободно дышал через зажатый в зубах ствол и слышал свист воздуха, обтекающего барабан и выходящего в гулкую полость рядом со взведенным курком. Сколько людей ушли из жизни с такой вот неуместной последней мыслью, пролетающей в мозгу, который вот-вот погибнет, разорванный пулей в клочья, и скоро остынет? Нелепость подобной ситуации, ясно осознанная писательским умом, показалась мучительнее дикой боли, что причинял мне скарабей, и я начал смеяться. Странным, глухим, непристойным смехом, звучавшим искаженно из-за стиснутого в зубах револьверного ствола. Через несколько секунд я вынул его изо рта — измазанный слюной тусклый металл блестел в неверном свете свечного огонька, — взял свечу и шаткой поступью вышел из спальни, по-прежнему держа оружие в руке. Дверь в мой новый кабинет на первом этаже была закрыта, но не заперта. Я вошел и затворил за собой широкие дверные створки. Второй Уилки сидел боком ко мне за письменным столом и читал книгу в темноте. Он взглянул на меня и поправил очки, в которых моя свеча отражалась двумя вертикальными дрожащими полосками желтого пламени. Я заметил, что борода у него чуть короче моей и в ней чуть меньше проседи. — Ты нуждаешься в моей помощи, — сказал Второй Уилки. За все годы, минувшие с далекой поры, когда я впервые начал смутно сознавать существование своего второго «я», Второй Уилки ни разу не заговаривал со мной и вообще не издавал ни звука. Меня удивило, насколько женственный у него голос. — Да, — хрипло прошептал я. — Я нуждаюсь в твоей помощи. Я сообразил, что по-прежнему держу в правой руке заряженный и взведенный револьвер. Я вполне могу сейчас поднять оружие и выпустить пять — шесть? — пуль в этого слишком уж телесного призрака, с наглым видом сидящего за моим столом. Умру ли я, когда умрет Второй Уилки? Умрет ли Второй Уилки, когда я умру? Я хихикнул, позабавленный вопросом, но смешок получился похожим на сдавленное рыданье. — Начнем сегодня же? — спросил Второй Уилки, кладя раскрытую книгу страницами вниз на стол. Он снял очки, протер носовым платком (извлеченным из того же кармана сюртука, где я всегда носил платок), и я заметил, что глаза у него — даже когда они не прикрыты стеклами, отражающими свет, — все равно представляют собой два мерцающих язычка пламени, похожие на кошачьи зрачки. — Нет, не сегодня, — сказал я. — Но скоро? — Он снова водрузил на нос очки. — Да, — сказал я. — Скоро. — Я приду к тебе, — пообещал Второй Уилки. У меня едва осталось сил, чтобы кивнуть. По-прежнему босиком, по-прежнему со взведенным револьвером в руке, я шаткой поступью вышел из кабинета, закрыл за собой массивную дверь, прошлепал вверх по лестнице, вошел в свою спальню, рухнул на кровать и заснул на скомканных покрывалах, по-прежнему сжимая в руке оружие и по-прежнему держа указательный палец на холодном спусковом крючке.
Глава 31
На протяжении многих лет я объяснял Кэролайн, что не могу на ней жениться, поскольку моя эмоционально неуравновешенная мать, всегда страдавшая повышенной нервной возбудимостью и теперь от нее умиравшая (по словам доктора Берда), никогда бы не поняла и не одобрила моего союза со вдовой женщиной, которая, как выяснилось бы после бракосочетания, уже не один год проживала в моем доме. Я объяснял, что должен уберечь болезненную старую даму (на самом деле вовсе не болезненную, а просто нервическую) от подобного потрясения. Кэролайн никогда полностью не принимала мои доводы, но со временем перестала их оспаривать. И вот теперь моя мать умирала. В четверг, тридцатого января, — спустя восемь дней с момента, когда я очнулся в собственной постели после пожара в Подземном городе и моей схватки с Баррисом, — Кэролайн помогла мне одеться, и Чарли чуть не на руках дотащил меня до кареты, отвезшей нас на железнодорожную станцию. Я более-менее утихомирил скарабея, удвоив обычную дозу лауданума, который теперь иногда пил прямо из графина. Я собирался принимать лауданум такими вот лошадиными дозами и работать над романом в коттедже матери, покуда она не умрет. Когда эта веха останется позади, я изыщу способ разобраться с Кэролайн, со скарабеем в моем мозгу и с прочими проблемами.Пока мы ехали поездом в Танбридж-Уэллс и Саутборо, меня так ломало, мутило и трясло, что бедному Чарли, мучимому желудочными резями, пришлось всю дорогу обнимать меня за плечи и сидеть в кресле у прохода боком, чтобы хоть немного загораживать меня от посторонних взоров. Я старался подавлять стоны, но остальные пассажиры наверняка слышали их сквозь шум паровозного двигателя и грохот состава, рассекающего холодный воздух сельской местности. Одному Богу ведомо, какие звуки издавали бы мы со скарабеем, не прими я перед поездкой огромную дозу лауданума. Внезапно я до жути ясно понял, какие адовы муки претерпевал Чарльз Диккенс все три года с момента Стейплхерстской катастрофы (особенно в ходе своих изнурительных, напряженных турне, включая нынешнее американское), заставляя себя почти каждые сутки трястись в выстуженных или душных, задымленных, воняющих жженым углем и потом вагонах. Обзавелся ли Диккенс скарабеем в свое время? Живет ли скарабей в нем сейчас? Об одном только этом мог я думать в грохочущем вагоне. Если Диккенс носил Друдова скарабея в своем нутре, но сумел избавиться от него — путем убийства ни в чем не повинного человека? — значит, он единственная моя надежда. Если Диккенс по-прежнему носит в себе чудовищного жука, но научился жить и работать с ним, значит, он по-прежнему остается единственной моей надеждой. Вагон сильно тряхнуло, и я громко застонал. Все головы повернулись в мою сторону. Я уткнулся лицом в пахнущее мокрой шерстью пальто Чарли, словно пытаясь спрятаться от окружающего мира, и в следующий миг вспомнил, что ребенком делал ровно то же самое в темной раздевалке частной школы.
Мое письмо в американский издательский дом «Харпер энд бразерс» начиналось строками, исполненными сдержанной мужской печали и одновременно профессиональной ответственности:
Опасный недуг матери потребовал моего присутствия в ее деревенском доме, и я со всем усердием работаю над «Лунным камнем» в перерывах между дежурствами у болезного одра.Далее я писал — равно профессионально — о своих поправках, внесенных в двенадцатый и тринадцатый выпуски романа, и пространно высказывался о присланных мне пробных оттисках иллюстраций, сперва отзываясь о них похвально, а потом указывая на отдельные погрешности. (Первого из ряда моих повествователей, дворецкого Габриэля Беттериджа, художник изобразил в ливрее. Я объяснил американцам, что такое решительно недопустимо, ибо дворецкий в столь аристократическом доме должен носить строгий черный костюм с белым галстуком и внешне походить на старого седовласого священника.) Заканчивал же я эффектным пассажем личного характера:
Можете не сомневаться: я внимательнейшим образом рассмотрю ваши пожелания после того, как вы изъявили готовность учесть мои. Я рад, что пока роман вам нравится. Далее вас ждут сюжетные ходы, подобные которым — если я не заблуждаюсь — никогда прежде не использовались в литературе.Признаюсь, последняя фраза звучала несколько самонадеянно, даже нагло, но я собирался раскрыть тайну похищенного Лунного камня через длинное, подробное описание действий человека, погруженного в глубокий опиумный сон, — ночью он совершает ряд сложных действий, о которых ничего не помнит наутро и во все последующие дни, покуда некий более искушенный опиоман не помогает ему восстановить воспоминания, — и я с уверенностью полагал, что в серьезной английской литературе такие сцены и сюжетные ходы не имеют прецедентов. Что же касается работы в перерывах между дежурствами у болезного одра, я не счел нужным или уместным пояснять, что дежурства были крайне редкими, а перерывы длинными, хотя я проводил в коттедже матери все время. Дело в том, что она не выносила моего присутствия в своей спальне. Чарли предупредил меня, что за почти две недели моего отсутствия к матери вернулась речь — хотя «речь» неточное слово для обозначения визгов, стонов, нечленораздельных воплей и звериных звуков, которые она издавала, когда кто-нибудь — особенно я — находился рядом с ней. Когда мы с Чарли впервые вошли в спальню матери в четверг, двадцать девятого января, произошедшие с ней перемены потрясли меня до тошноты. Она потеряла, казалось, весь свой живой вес — фигура в постели представляла собой скелет, обвитый сухожилиями и обтянутый сухой крапчатой кожей. Она напомнила мне — невольная ассоциация! — мертвого птенчика, однажды найденного мной в нашем саду в далеком детстве. Как и у птичьего трупика (с ужасными, бесперыми, сложенными крылышками), темная, испещренная коричневыми пятнами кожа у матери была прозрачной, и под ней проступало все, что должно быть сокрыто от глаз. Ее глаза — едва видные под полуопущенными веками — все еще быстро, суетливо двигались туда-сюда, точно воробышки в западне. Но к ней действительно отчасти вернулись голосовые способности. Когда я в тот четверг стоял у постели матери, она непрестанно корчилась, конвульсивно дергала согнутыми в локте руками, похожими на сложенные птичьи крылышки, судорожно шевелила скрюченными пальцами — и кричала. Не столько кричала, сколько рычала — словно каллиопа, в чьи трубки нагнетается под чудовищным давлением пар, — и от этих звуков редкие волосы, что еще остались на моей голове, шевелились от ужаса. Мать корчилась и стонала, и я тоже начал корчиться и стонать. Должно быть, это произвело жуткое впечатление на Чарли, которому пришлось подхватить меня под руку, чтобы я не упал. (Миссис Уэллс поспешно удалилась при моем появлении и продолжала избегать меня все три дня, проведенные мной в материнском доме. Я не имел возможности — да и особых причин — объяснить старухе, чем я занимался ночью, когда она увидела, как я задираю ночную рубашку матери с целью взглянуть на оставленную жуком ранку. Объяснять свои поступки слугам не принято.) Я корчился, стонал — и явственно чувствовал, как корчится и мечется взад-вперед скарабей в моем мозгу. Я догадывался — я знал, — что точно такой же скарабей, живущий в мозгу у матери, реагирует на мое присутствие (и присутствие моего паразита). Вконец обессиленный, я застонал и упал в объятья Чарли. Он чуть не волоком дотащил меня до дивана в соседней комнате. Крики матери стали тише, едва мы вышли из спальни. Мой скарабей угомонился. Я краем глаза увидел миссис Уэллс, торопливо прошмыгнувшую мимо, пока Чарли укладывал меня на диван возле камина в гостиной. Так продолжалось все три дня, что я провел с матерью — вернее, с пронзительно визжащим, бьющимся в конвульсиях, корчащимся от дикой боли существом, которое в прошлом было моей матерью, — в коттедже в Саутборо близ Танбридж-Уэллса. Слава богу, Чарли все время находился там — миссис Уэллс наверняка оставила бы свои обязанности сиделки, не будь между нами такого буфера. Если Чарли и задавался вопросом, почему мы с миссис Уэллс стараемся ни минуты не оставаться наедине, он так ничего и не спросил. В пятницу приехал Фрэнк Берд — он снова сказал, что надежды нет, и сделал матери укол морфия, чтобы она заснула. Вечером, перед своим отъездом, он сделал укол Морфия и мне. Наверное, то были единственные несколько часов тишины, когда бедный Чарли, мучимый желудочными резями, смог наконец немного поспать, оставив мать под присмотром миссис Уэллс. Я пытался работать, пока находился в материнском доме. Я привез с собой лакированную оловянную коробку с черновыми записями, заметками, выписками из энциклопедии и часами сидел за крохотным столом у окна, но в моей правой руке, казалось, совсем не было сил. Чтобы макнуть перо в чернила, мне приходилось перекладывать его в левую руку. Но слова все равно не лились на бумагу. Три дня кряду я тупо смотрел на белый лист бумаги, не оскверненный моей писаниной, если не считать трех-четырех корявых строчек, вымаранных мной в конечном счете. Через три таких бесплодных дня мы с братом перестали делать вид, будто мое присутствие там необходимо. Матери становилось гораздо хуже, когда я к ней приближался; стоило мне войти к ней в спальню, она начинала корчиться, биться в судорогах, пронзительно вопить, и у меня тоже боль неуклонно усиливалась, покуда я не падал в обморок или не удалялся прочь. Чарли упаковал мои вещи и отвез меня обратно в Лондон на послеполуденном курьерском. Перед отъездом он отправил Фрэнку Берду и моему слуге Джорджу телеграммы с просьбой встретить нас на станции — чтобы усадить меня в наемный экипаж, понадобились соединенные усилиях всех троих. Когда меня на руках втащили в дом и понесли наверх, в мою спальню, от внимания моего не ускользнуло, каким взглядом смотрела на меня Кэролайн, — во взгляде том читались тревога и жалость, но также смущение и презрение, возможно даже, презрение, граничащее с отвращением. Берд сделал мне дополнительный укол морфия, и я провалился в глубокий сон.
Пробудись в благости! Ты пребываешь в благости! Гор из Эдфу пробуждается к жизни! Боги восстают ото сна, дабы поклониться духу твоему, О, священный крылатый шар, взмывающий в небо! Ты, пронзающий небо огненный шар, Каждый день заливаешь землю светом с востока, А потом скрываешься на западе, дабы провести ночь в Иунете. О ты, Гор из Эдфу, Который пробуждается в благости, Великий бог неба в многоцветном оперенье, Восстающий над горизонтом, Огромный крылатый шар, охраняющий святилища! И ты пробудись в благости! Айхи, который пробуждается в благости, Великий бог, сын Хатхор, Возвеличенный Златоликим из Нетеров! Пробудись в благости! В благости! Айхи, сын Хатхор, пробудись в благости! Прекрасный лотос Златоликого! И ты пробудись в благости! Пробудись в благости, Харсиесис, сын Осириса, Бесспорный наследник, потомок Всемогущего, Порожденный Уненнефером Победоносным! И ты пробудись в благости! Пробудись в благости, Осирис! Великий бог, пребывающий в Иунете, Старший сын Геба! И ты пробудись в благости! Пробудитесь в благости, Нетеры, и Нетеруты, И Эннеады, окружающие Всевеличайшего! И вы пробудитесь в благости!Я пробудился в темноте, в мучительных корчах и в совершенном смятении. Никогда прежде мне не снились одни только слова, звучащие напевным речитативом слова, причем на незнакомом мне языке, с которого, впрочем, мой ум — или мой скарабей — невесть почему легко переводил на английский. Приторный запах курений и маслянистого дыма все еще щекотал мои ноздри. Эхо давно умерших голосов звенело в моих ушах. Перед взором моим — точно остаточное изображение в виде красного круга на сетчатке глаза после долгого смотрения на солнце — стояли нетеры, боги Черной Земли: Нуит, богиня Звезд; Аст, или Исида, владычица Небес; Асар, или Осирис, бог наших Предков; Небт-Хет, или Нефтис, богиня Смерти, которая не вечна; Сути, или Сет, Враг; Гор, или Хор, владыка Грядущих Вещей; Анпу, или Анубис, проводник в Царстве Мертвых; Дахаути, или Тот, хранитель Книги Жизни. Скарабей возился в моем черепе, причиняя дикую боль, и я пронзительно закричал в темноте. На мой крик никто не пришел — ночь стояла в самой глухой поре, дверь спальни была закрыта, а Кэролайн и ее дочь спали внизу, тоже за закрытыми дверями, — но когда эхо воплей стихло в моем истерзанном мозгу, я осознал, что нахожусь в комнате не один. Я слышал чье-то дыхание. Я ощущал чье-то присутствие подсознательно воспринимая не токи живого тепла, по каким мы порой узнаем, что рядом с нами в темноте находятся другие люди, но исходящий от незримого существа холод. Казалось, будто кто-то вытягивает остатки тепла из воздуха. Я нашарил на комоде спички и зажег свечу. На деревянном стуле в ногах кровати сидел Второй Уилки. Он был в черном широком пальто, что я выбросил несколько лет назад; на коленях у него лежала планшетка с чистым листом бумаги. В левой руке он держал карандаш. Ногти у него были обгрызены сильнее, чем у меня. — Чего тебе надо? — прошептал я. — Я жду, когда ты начнешь диктовать, — сказал Второй Уилки. Я снова машинально отметил, что голос у него не такой низкий и звучный, как у меня. Но с другой стороны… разве кто-нибудь слышит по-настоящему тембр собственного голоса? — Что диктовать? — прохрипел я. Второй Уилки молча ждал. Сердце мое сократилось добрую сотню раз, прежде чем он наконец промолвил: — Ты хочешь продиктовать мне описание твоих снов или следующую часть «Лунного камня»? Я заколебался. Это наверняка какая-то ловушка. А вдруг, если я сейчас не начну диктовать подробный рассказ о ритуалах, посвященных богам Черной Земли, скарабей примется прогрызать ход наружу в затылочной или лицевой кости? Неужели последним, что я увижу в жизни, будут огромные жвалы, вылезающие у меня из щеки или глазницы? — «Лунный камень», — сказал я. — Но я буду писать сам. Я был слишком слаб, чтобы встать с постели. После полуминуты отчаянных усилий мне удалось лишь приподняться чуть повыше на подушках. Но скарабей не стал убивать меня. Возможно, с надеждой подумал я, он не понимает по-английски. — Надо запереть дверь, — прошептал я. — Я сейчас запру. Но у меня опять не хватило сил встать. Второй Уилки поднялся на ноги, задвинул щеколду и вернулся на свое место. Он держал карандаш наготове, и я увидел, что он левша. Сам я правша. «Он задвинул щеколду, — попытался сказать мне истерзанный, пылающий от боли мозг. — Он… оно… может воздействовать на предметы материального мира». Ничего удивительного. Оставила же зеленокожая клыкастая девица багровый след укуса на моей шее. Второй Уилки ждал. Стеная и вскрикивая от боли, я начал: — ПЕРВЫЙ РАССКАЗ — это прописными буквами — написанный МИСС КЛАК — имя тоже прописными, после имени двоеточие — племянницей покойного сэра Джона Вериндера… три междустрочных интервала… ГЛАВА ПЕРВАЯ, римской цифрой… два междустрочных интервала… Любезным моим родителям, ныне покойным… нет, не так… скобка открывается, оба теперь на небесах, скобка закрывается… я обязана привычкой к порядку и аккуратности, внушенной мне с юных… нет, мисс Клак никогда не была юной… напишите: с самого раннего возраста, точка, следующий абзац. Я застонал и сполз пониже на влажных от пота подушках. Второй Уилки терпеливо ждал, держа карандаш наготове.
После двух-трех часов населенного кошмарами сна меня разбудил стук в дверь спальни. Я нашарил часы на комоде и увидел, что уже без малого одиннадцатьутра. Стук повторился, вслед за ним раздался суровый, но обеспокоенный голос Кэролайн: — Уилки, впусти меня. — Входи, — сказал я. — Не могу. Дверь заперта. Я несколько минут собирался с силами для того, чтобы откинуть одеяло, шаткой поступью добрести до двери и отодвинуть Щеколду. — С какой стати ты заперся? — спросила Кэролайн, врываясь в комнату с самым взволнованным видом. Я уселся на кровать и набросил на колени одеяло. — Я работал. Писал. — Работал? — Она увидела стопку исписанных страниц, по-прежнему лежавшую на деревянном стуле, и взяла ее. — Написано карандашом. Разве ты когда-нибудь прежде писал карандашом? — Не могу же я пользоваться ручкой, лежа навзничь в постели. — Уилки… — Кэролайн странно взглянула на меня, — это не твой почерк. — Она протянула мне страницы. Это действительно был не мой почерк. Торопливо нацарапанные буквы имели наклон в противоположную сторону (так пишут левши, осознал я) и другие очертания — более резкие, заостренные, они казались почти агрессивными в своей жесткой угловатости. И даже междустрочные интервалы и поля были выдержаны в манере, отличной от моей. Минуту спустя я сказал: — Ты же видела: дверь была заперта. Почти всю ночь я не мог заснуть от боли, поэтому работал. Ни ты, ни Кэрри, ни малодушные секретари, которых ты приводила, не могли писать под мою диктовку, и мне ничего не оставалось, кроме как взяться за дело самому. Я должен отослать следующие выпуски романа и в Америку, и в контору Уиллса уже через неделю. Вот мне и пришлось писать ночь напролет, держа карандаш в левой руке, когда правая отказывалась меня слушаться. Удивительно, что почерк вообще разборчивый. Это была самая длинная тирада, произнесенная мною с момента, когда меня нашли без чувств у нашего порога двадцать второго января, но на миссис Г***, похоже, это не произвело впечатления. — Более разборчивый, чем обычный твой почерк, — заметила Кэролайн. Она огляделась по сторонам. — А где карандаш, которым ты пользовался? Глупо, но я покраснел. Видимо, Второй Уилки прихватил карандаш с собой, когда ушел вскоре после рассвета. Сквозь запертую дверь и каменные стены. — Должно быть, я его уронил. Наверное, под кровать закатился. — Что ж… судя по нескольким абзацам, бегло прочитанным мной сейчас, — промолвила Кэролайн, — ни новая твоя ужасная болезнь, ни тяжелый недуг твоей матери нисколько не повредили твоим писательским способностям. А напротив, пошли на пользу. Рассказ мисс Клак жутко смешной. Я думала, ты выведешь ее более напыщенной и суровой, нарисуешь грубую карикатуру — но на первых двух страницах она предстает поистине комичным персонажем. Мне не терпится поскорее прочитать продолжение. Когда она удалилась, чтобы отдать служанке распоряжения относительно моего завтрака, я просмотрел на удивление толстую пачку страниц. Первая фраза была в точности такой, как я продиктовал. Все остальное не имело ко мне ни малейшего отношения. Кэролайн оказалась права в своем скоропалительном суждении: «мисс Клак» — несносная, назойливая старая дева, помешанная на религиозных брошюрах, — была изображена с подлинной художественной силой и мастерством. В описании людей и событий, увиденных глазами сей пожилой дамы, имеющей превратное представление о себе и окружающих, чувствовалась гораздо более уверенная рука и содержалось гораздо больше изящного юмора, чем в длинных, замысловатых, тяжеловесных предложениях, что я диктовал ночью. Черт бы его побрал! Второй Уилки писал «Лунный камень», и я ничего не мог с этим поделать. И он писал лучше меня.
Глава 32
Матушка скончалась девятнадцатого марта. Погребение прошло без меня. Не имея возможности присутствовать на похоронах, я письменно попросил своего друга Холмена Ханта, всего неделей ранее сопровождавшего меня в моем очередном походе на спектакль «Проезд закрыт», поехать вместо меня. В моей записке к нему среди всего прочего говорилось:Я уверен, для него (я имел в виду брата Чарли) будет величайшим утешением увидеть старого друга, которого любила моя мать и которого любим мы.Честно говоря, дорогой читатель, я понятия не имел, любила ли моя мать Холмена Ханта и питал ли он нежные чувства к ней, но он несколько раз обедал с ней при мне, а потому я не видел причин, почему бы ему не заменить меня на похоронах Хэрриет Коллинз. Вы наверняка сочли меня холодным и бессердечным — ведь я не поехал на похороны собственной матери, хотя самочувствие позволяло! — но вы перемените свое мнение, когда узнаете о мыслях и чувствах, одолевавших меня тогда. Все представлялось до жути логичным. Если я вместе с Чарли приеду попрощаться с покойной, как поведут себя скарабеи — ее и мой, — почувствовав близкое присутствие друг друга? Мысль об отвратительном насекомом, ползающем, грызущем, скребущем лапками в мертвом теле матери, казалась просто невыносимой. И что произойдет — еще до похорон, когда открытый гроб выставят в гостиной для прощания, — если я увижу (особенно если увижу только я один), как жвалы, голова и закованное в панцирь тело скарабея вылезают из мертвых белых губ матери? Мой рассудок такого не выдержит. А во время самих похорон, когда гроб опустят в мерзлую яму рядом с могилой нашего отца, один я подамся вперед, напряженно вглядываясь и прислушиваясь, вглядываясь и прислушиваясь даже после того, как первые комья земли ударятся о крышку гроба. Ибо кому, как не мне, знать, что повсюду под Лондоном пролегают тоннели и в тоннелях тех обитают ужасные существа? И кто знает, какому злотворному влиянию и подстрекательству со стороны Друда подвергается хитинопанцирное насекомое, к настоящему времени сожравшее все мертвое мозговое вещество и наверняка выросшее до размеров, какие прежде имел мозг матери? Посему я остался страдать дома, в постели.
К концу февраля я снова начал писать «Лунный камень» сидя за рабочим столом в кабинете, если самочувствие позволяло, но чаще полулежа в постели. Когда я работал один в кабинете или спальне, ко мне часто присоединялся Второй Уилки, молча смотревший на меня почти укоризненным взглядом. Мне пришло в голову, что, возможно, он рассчитывал заменить меня (закончить этот роман и сочинить следующий, сорвать рукоплескания читающей публики, занять мое место в постели Кэролайн и в обществе) в случае моей смерти. Кто знает? Разве я недавно не собирался точно так же заменить Чарльза Диккенса? Я понимал, что неожиданно обнаружившаяся болезнь (и еще более неожиданная кончина) одной из моих героинь — всеми любимой и уважаемой леди Вериндер, чья роль с начала и до конца остается второстепенной, но чье закулисное присутствие, умиротворяющее и великодушное, ощущается на протяжении всего романа, — подсказаны мне подсознательными велениями моего творческого ума и являются своего рода данью почтения, отданной покойной матери. Следует заметить, что скарабей явно не видел сквозь мои глаза, что именно я пишу. Каждую ночь, когда Фрэнк Берд колол мне морфий, мне снились нетеры, боги Черной Земли, и различные ритуалы, им посвященные, но я ни разу не выполнил обязанностей писца, возложенных на меня Друдом, — я не написал ни единого слова о темных языческих богах. Когда я брался за перо, жук в моем мозгу утихомиривался, вероятно полагая, будто я записываю свои сны о древних ритуалах. На самом деле все это время я писал о курьезном старом слуге Габриэле Беттередже (и его одержимости «Робинзоном Крузо», книгой, высоко ценимой и мной), об отважной (хотя и до глупого упрямой) Рэчел, о героическом (пусть и странным образом одураченном) Франклине Блэке, о служанке Розанне Спирман, страдающей физическим уродством и обреченной на гибель в зыбучих песках, о набожной любительнице брошюр благочестивого содержания мисс Клак (чей уморительный образ являлся вкладом Второго Уилки) и, конечно же, об умном (но не главном в раскрытии тайны) сержанте Каффе. Живущий во мне паразит считал, что я лихорадочно строчу целыми днями, покорно выполняя обязанности писца. Тупое насекомое. Первые выпуски моего романа публика принимала с неослабным и даже возрастающим восторгом. Уиллс сообщал, что с каждым месяцем в день выхода очередного номера журнала к редакционной конторе на Веллингтон-стрит стекается все больше народа. Все только и говорили, что о Лунном камне, да о том, кто и каким образом похитил бесценный алмаз. Разумеется, никто не представлял всей меры моей изобретательности, проявленной в развязке романа, и, еще даже не приступив к работе над заключительными главами, я был абсолютно уверен: никто и близко не догадывается, сколь поразительным образом раскроется тайна. Принимая во внимание это и триумфальный успех моей пьесы, я рассчитывал произвести сильное впечатление на Чарльза Диккенса, когда он вернется. Если он вернется живым. Все чаще и чаще мы с Уиллсом получали из различных источников (но обычно из искренних писем Джорджа Долби к дочерям Диккенса) тревожные сведения об ухудшающемся здоровье Неподражаемого. Из-за инфлюэнцы, подхваченной во время почти ежедневных поездок по американским провинциям, он оставался в постели почти весь день и ничего не ел до трех часов пополудни. Все мы премного удивились, узнав, что Диккенс — в ходе своих турне всегда настаивавший на проживании в гостиницах, а не в частных домах — в Бостоне разнедужился до такой степени, что был вынужден остановиться у своих друзей Филдсов, а не в «Паркер-хаусе», как планировалось. Помимо инфлюэнцы и катара дыхательных путей Диккенса изводили крайняя усталость и острые боли во вновь опухшей левой ноге. Долби каждый вечер чуть не на плечах вытаскивал Шефа на сцену, хотя уже в кулисах Неподражаемый собирался с силами и выходил к чтецкой кафедре широким шагом, превосходно имитируя прежнюю свою резвую, пружинистую поступь. А во время антрактов и после концерта Долби и прочим приходилось подхватывать на руки совершенно изнуренного писателя, готового лишиться чувств. Миссис Филдс написала дочери Диккенса Мейми, что перед последним концертом в Бостоне, состоявшимся восьмого апреля, Диккенс похвастался, что к нему вернулись прежние силы, — тем не менее после выступления он не смог даже переодеться и добрых полчаса лежал пластом на диване «в крайне изнеможенном состоянии», прежде чем позволил отвести себя в свою комнату. И еще (на это я обратил особое внимание) в одном из писем Долби почти мимоходом упомянул, что из-за бессонницы Неподражаемый начал снова принимать лауданум на ночь — правда, всего по несколько капель на стакан вина. Может, усыплять приходилось заодно и ненасытного скарабея? В любом случае дочери Диккенса и сын Чарльз беспокоились об отце, хотя письма самого Неподражаемого дышали оптимизмом и изобиловали хвастливыми рассказами о толпах восторженных почитателей, рукоплещущих ему в каждом городе, где он выступает. Однако в марте и апреле, когда я медленно, очень медленно шел на поправку и боль потихоньку отступала (хотя острые рецидивы болезни довольно часто приковывали меня к постели на несколько дней кряду), я начал верить, что Диккенс либо вообще не вернется из Америки живым, либо вернется умирающим инвалидом.
Во время болезни я не имел возможности письменно сноситься с Мартой Р***. Сразу после кризиса мне удалось отправить девушке одно письмо через своего слугу Джорджа — под видом наведения справок о наемных квартирах на Болсовер-стрит. Но продолжать было слишком рискованно. В феврале я три раза говорил Кэролайн и Кэрри, что еду с Чарли в Танбридж-Уэллс проведать мать, а на станции поворачивал назад, сказав брату, что мне совсем невмоготу трястись в поезде и я вернусь домой в кебе. Два раза из трех я провел ночь (или несколько ночей) у Марты — хотя слишком плохо себя чувствовал, чтобы использовать время с толком, — но и такой вариант был крайне рискованным, поскольку Чарльз в любой момент мог упомянуть Кэролайн или в присутствии Кэролайн о том, что я так и не доехал до матери. Марта могла бы писать мне (указывая фальшивый обратный адрес на конвертах), но она не любила писать письма. На самом деле моя Марта была тогда совсем безграмотной, хотя впоследствии я обучу ее грамоте настолько, что она сможет читать простые книжки и писать незатейливые письма. Едва встав на ноги в конце марта, я изыскал способы видеться с ней: объяснял Кэролайн или даже своему врачу, что мне необходимо совершать одинокие прогулки в карете (я не собирался делать вид, будто хожу пешком часами), способствующие сосредоточенному раздумью над моим романом, или заявлял, что мне нужно посидеть в превосходной клубной библиотеке, собирая дополнительный материал для книги. Но подобные визиты к «миссис Доусон» на Болсовер-стрит всякий раз давали нам лишь несколько тайком урванных часов общения и не удовлетворяли ни Марту, ни меня. Но в тот самый трудный для меня период Марта Р*** выказывала мне искреннее и осязаемое сострадание — в отличие от вечно недовольной и часто подозрительной Кэролайн.
Маат наделяет мир смыслом. Маат привносит порядок в первозданный хаос в Начале Времен и постоянно поддерживает порядок и равновесие во Вселенной. Маат надзирает за движением звезд, следит за восходом и заходом солнца, управляет течением и разливами Нила и полагает свое космическое тело в основу всех законов природы. Маат — богиня справедливости и истины. Когда я умру, мое сердце будет вырвано у меня из груди и отнесено в Судный зал Туата, где его положат на чашу весов супротив пера Маат. Если мое сердце не будет обременено страшной тяжестью греха — греха против богов Черной Земли, греха преступного небрежения обязанностями, предписанными мне Друдом, к выполнению коих меня принуждал священный скарабей, — я получу дозволение продолжить путь и, возможно, в конечном счете примкнуть к сонму самих богов. Если же мое греховное сердце окажется тяжелее пера Маат, душу мою пожрут и истребят звероподобные демоны Черной Земли. Маат наделяла мир смыслом в незапамятной древности и по сей день наделяет мир смыслом. Мой Судный день в Туате уже близок, дорогой читатель. И ваш тоже.
По утрам я терпел жестокие муки. Теперь, когда я перестал диктовать «Лунный камень» Второму Уилки в глухие часы ночи, я часто пробуждался от своих лауданумных и лауданумно-морфиновых снов в два-три часа пополуночи, и мне ничего не оставалось, как стонать и корчиться от боли до самого рассвета. Обычно у меня хватало сил около полудня спуститься в свой большой кабинет на первом этаже, где я работал до четырех часов, после чего Кэролайн, или Кэрри, или обе выводили меня на улицу — по крайней мере в сад — подышать свежим воздухом. В том апреле я писал одному своему другу, изъявившему желание навестить меня: «Если вы придете — приходите до четырех, ибо ровно в четыре меня выставляют из дома для проветривания». Однажды после полудня, в середине апреля, спустя ровно два месяца со дня кончины моей матери, Кэролайн вошла в мой кабинет. Я сидел за столом с пером в руке и задумчиво смотрел сквозь окно на улицу. Признаюсь, в тот момент я размышлял, как бы мне связаться с инспектором Филдом. Я по-прежнему был уверен, что агенты Филда наблюдают за мной, но ни разу ни одного не видел, хотя и шел на самые хитрые уловки, чтобы заставить кого-нибудь из них выдать себя. Я хотел знать, как обстоят дела с Друдом. Выкурил ли Филд при помощи ста с лишним своих линчевателей египетского убийцу из подземного логова, пристрелил ли его, точно бешеного пса, в сточном тоннеле — как Баррис пристрелил маленького дикаря у меня на глазах? И что насчет Барриса? Наказал ли инспектор мерзавца за то, что тот ударил меня револьвером? Только накануне мне вдруг пришло в голову, что я понятия не имею, где находится контора инспектора Филда. Я вспомнил, что в первый свой визит ко мне на Мелкомб-плейс он передал через Кэролайн визитную карточку — на ней наверняка есть адрес конторы. Однако, перерыв все ящики в столе и отыскав наконец карточку, я обнаружил, что там значится: «Инспектор Чарльз Фредерик Филд. Частное сыскное бюро» — и больше ничего. Помимо того что мне хотелось узнать о событиях, произошедших в Подземном городе, я хотел поручить инспектору и его агентам одну работу: разведать, когда и где Кэролайн встречается с водопроводчиком Джозефом Чарльзом Клоу (я не сомневался, что они тайно встречаются). С такими мыслями на уме я сидел, уставившись в окно, когда Кэролайн легонько кашлянула у меня за спиной. Я не обернулся. — Уилки, милый мой, я давно выжидаю удобного случая обсудить с тобой один вопрос. Уже прошел месяц со дня кончины твоей дорогой матушки. Данная реплика не требовала ответа, посему я промолчал. По улице с грохотом прокатил фургон старьевщика. Бока старой клячи были сплошь покрыты струпьями, но седой возница все равно безжалостно охаживал их кнутом. «Куда может спешить фургон, набитый тряпьем и костями?» — подумал я. — Лиззи уже достаточно взрослая, чтобы выйти в свет, — продолжала Кэролайн. — Чтобы найти джентльмена, достойного составить ей партию. С течением лет я заметил: когда Кэролайн хотела поговорить о своей дочери — Элизабет Хэрриет Грейвз — именно как о своей дочери, она называла ее Лиззи. Когда же она говорила о ней как о предмете нашей общей заботы, девочка неизменно превращалась в Кэрри, каковое имя сама предпочитала. — Лиззи будет гораздо проще найти приличную партию и снискать расположение в обществе, коли она предстанет дочерью добропорядочного семейства, — продолжала Кэролайн. Я по-прежнему не поворачивался к ней. Шагавший по противоположному тротуару молодой человек в сером костюме, слишком светлом и слишком легком для капризной весенней погоды, остановился, мельком посмотрел на наш дом, взглянул на часы и пошел дальше. Это был не Джозеф Клоу. Может, один из агентов инспектора Филда? Хотя вряд ли кто-нибудь из людей инспектора обнаглел до такой степени, тем более что меня было хорошо видно в эркерных окнах на первом этаже. — Она должна носить фамилию своего отца, — заявила Кэролайн. — Она и носит фамилию своего отца, — ничего не выражающим голосом сказал я. — Твой муж дал ей свою фамилию, пусть даже больше ничем не облагодетельствовал ни одну из вас. Я уже упоминал, дорогой читатель, что именно Кэролайн вдохновила меня на создание «Женщины в белом». Когда летом 1854 года мы с братом Чарли и моим другом Джоном Миллесом натолкнулись на призрака в белых одеждах, вылетающего из сада некой виллы в северном районе Лондона (разумеется, это была Кэролайн, убегающая от своего мужа, грубого скота, который, сказала она, удерживал ее в заточении посредством гипноза), из нас троих один я бросился за ней. И поначалу я даже поверил горестному рассказу Кэролайн о вечном пьяном, склонном к насилию богатом муже по имени Джордж Роберт Грейвз и о том, как она жила в заточении с годовалой Кэрри, претерпевая невыразимые душевные страдания. Через несколько лет Кэролайн сообщила мне, что Джордж Роберт Грейвз умер. Откуда у нее такие сведения, я не знал и не стал спрашивать (хотя и понимал, что она едва ли могла получить подобное известие, поскольку постоянно проживала в моем доме с той самой ночи, когда выбежала, вся в слезах, на Чарльтон-стрит в лунном свете). Но я принял новость как факт и ни разу не задавал никаких вопросов на сей счет. Все эти годы мы оба делали вид, будто она — миссис Элизабет Грейвз (я нарек ее именем Кэролайн, когда взял под свою опеку), которая подвергалась жестокому обращению со стороны мужа, пускавшего в ход магнетизм и кочергу. Уже на первых порах нашего сожительства я пришел к мысли — и сейчас, спустя четырнадцать лет, не имел причин менять свое мнение, — что, скорее всего, летней ночью 1854 года Кэролайн убегала от сутенера или от впавшего в неистовство клиента. — Ты сам понимаешь, какие преимущества получит наша девочка в ближайшие несколько лет, если сможет рекомендоваться дочерью благопристойного семейства, — продолжала Кэролайн, обращаясь к моей спине. Теперь голос у нее слегка дрожал. Слова «наша девочка» разозлили меня. Я всегда относился к Кэрри с любовью и щедростью, как к собственной дочери. Но она не была таковой. И никогда не будет. Кэролайн часто прибегала к такого рода шантажу, а я имел основания подозревать, что она освоила подобные уловки еще до нашего с ней знакомства, и не собирался на них поддаваться. — Уилки, мой милый, ты должен признать: я всегда проявляла понимание, когда ты говорил мне, что твоя болезненная престарелая мать является непреодолимым препятствием к нашему браку. — Да, — промолвил я. Но теперь, когда Хэрриет умерла, ты свободен? Да. — Свободен жениться, коли пожелаешь? — Да. — Я по-прежнему сидел лицом к окну и улице. Кэролайн подождала, не скажу ли я еще чего-нибудь. Я молчал. Спустя долгую минуту, в течение которой я отчетливо слышал каждый мах маятника напольных часов в холле, Кэролайн повернулась и вышла из кабинета. Но я понимал: разговор не закончен. Кэролайн собиралась разыграть еще одну, последнюю свою карту — по ее разумению, выигрышную. Она не знала, что у меня самого на руках полно карт. И еще несколько припрятано в рукаве.
— …Шебуршание, постоянное шебуршание. — Что? Меня разбудили раньше обычного — часы показывали без малого девять, — и я не на шутку встревожился при виде выстроившихся у кровати Кэролайн, Кэрри, моего слуги Джорджа и жены Джорджа, Бесси, выполнявшей обязанности горничной. — Что? — снова пробормотал я, садясь в постели. Вторжение в мою спальню до завтрака возмутило меня до глубины души. — Там кто-то шебуршится, — пояснила Кэролайн. — О чем ты говоришь? Где? — На нашей лестнице, сэр, — промямлил Джордж, красный от смущения, что находится в моей спальне. Он определенно явился сюда не по своей воле — Кэролайн приказала. — На черной лестнице? — спросил я, протирая глаза. Накануне я заснул без укола морфия, но голова все равно болела. Просто раскалывалась. — Они уже давно слышат скребущие звуки на всех этажах дома, — сказала Кэролайн голосом громким и пронзительным, как клаксон. — Теперь я тоже услышала. Такое впечатление, будто там огромная крыса. Бегает вверх-вниз и скребется. — Крыса? — переспросил я. — Мы же вызывали крысоловов осенью, когда делали ремонт и прокладывали новый водопровод. — Последнее слово я намеренно произнес с нажимом. Кэролайн имела любезность покраснеть, но не отступила. — На черной лестнице кто-то постоянно скребется. — Джордж, — сказал я, — ты проверял, в чем там дело? — Так точно, сэр, мистер Коллинз. Я ходил туда-сюда по ступенькам, сэр, все время шел на звуки, сэр. Но каждый раз, когда приближался… в общем, я ничего там не нашел, сэр. — По-твоему, это крысы? Джордж всегда был туповат, но он редко выглядел таким законченным придурком, как сейчас, когда напряженно обдумывал ответ на вопрос. — Она, по всему, громадная, сэр, — наконец промолвил он. — И там вовсе не крысы, сэр, а… одна-единственная чертовски крупная крысища, прошу прощения у дам. — Глупости, — сказал я. — Выйдите вон, все вы. Я оденусь и через минуту спущусь вниз. Я найду и убью эту вашу «единственную чертовски крупную крысищу», а потом, возможно, все вы будете настолько любезны, что позволите больному человеку хорошенько выспаться.
Я решил выйти на черную лестницу в самом низу, с кухни, чтобы она не могла оказаться подо мной. Я-то знал наверное, кто производит скребущие звуки. На самом деле я неоднократно задавался вопросом, почему я ни разу не видел зеленокожую клыкастую женщину за восемь месяцев нашего проживания в новом доме. Ведь Второй Уилки без особого труда перебрался следом за мной с Мелкомб-плейс. Но почему ее стали слышать другие? В течение всех лет, когда зеленокожая женщина обреталась на темных задних лестницах в прежних моих домах, никто, кроме меня, ее не видел и не слышал. В этом я нисколько не сомневался. Может, боги Черной Земли постепенно превращают ее в более материальную сущность, в какую превратили Второго Уилки? Я прогнал прочь эту тревожную мысль и взял свечу со стола. Я запретил домочадцам входить следом за мной в кухню и велел держаться подальше от дверей на заднюю лестницу на всех этажах. Зеленокожая клыкастая женщина однажды уже оставила кровавые отметины на моем горле — задолго до того, как в мою жизнь вошли Друд, скарабей и боги Черной Земли. Я не сомневался, что сейчас она попытается убить меня, коли я подпущу ее близко и потеряю бдительность. Я не собирался делать ни первого, ни второго. Приотворив дверь на служебную лестницу, я вынул из кармана сюртука тяжелый револьвер сыщика Хэчери. Закрыв за собой дверь, я оказался в почти кромешной темноте. Окон в задней стене дома не имелось, а немногочисленные свечи в настенных подсвечниках не горели. Лестница была необычайно (и пугающе) узкой и крутой — первый пролет поднимался сразу до третьего этажа, где находилась короткая площадка, а второй тянулся в обратном направлении до самого чердака, расположенного еще двумя этажами выше. Прежде чем двинуться вверх по ступенькам, я несколько мгновений прислушивался. Ни звука. Держа свечу в левой руке, а револьвер — в правой, я стал тихо подниматься по лестнице столь узкой, что мои локти задевали за стены. На полпути между первым и вторым этажами я остановился, чтобы зажечь первую настенную свечу. Подсвечник оказался пустым, хотя дочь нашей горничной среди всего прочего была обязана регулярно менять в нем свечи. Подавшись вперед, я разглядел на прочно прикрепленном к стене старом подсвечнике царапины и вмятины, словно кто-то вытащил из него огарок когтями. Или зубами. Я снова напряг слух. Где-то надо мной раздался едва уловимый шорох, похожий на торопливую легкую поступь. Зеленокожая клыкастая женщина никогда прежде не производила никаких звуков, осознал я. Она всегда скользила вверх и вниз по лестнице, ко мне или прочь от меня, словно и не касаясь ступеней босыми ногами. Но так было в других моих домах. Возможно, по какой-то причине здесь подобные злые духи успешнее входят в резонанс с реальным миром. Как там погибла Шернволд? Скатилась вот с этих самых ступенек и свернула шею — но что она делала на черной лестнице? Обследовала ту на предмет крыс? И почему она упала? А свечи из настенных подсвечников — они что, съедены? Я поднялся на второй этаж и на несколько секунд остановился у двери — старые толстые створки не пропускали ни единого звука, но под ними виднелась тонкая полоска утешительного света, — а потом двинулся дальше. Второй подсвечник тоже оказался пустым. Где-то выше, довольно близко от меня, явственно послышались суетливый шорох и царапанье. — Кто здесь? — негромко спросил я. Признаюсь, я почувствовал себя гораздо увереннее, когда выставил вперед револьвер. Если зеленокожая женщина достаточно телесна, чтобы оставить царапины на моей шее, как она однажды сделала, — значит, она достаточно телесна, чтобы ощутить воздействие одной из пуль. Или сразу нескольких. Сколько всего пуль в барабане? Девять — это я помнил с того дня, когда сыщик Хэчери, перед первым моим схождением в притон Короля Лазаря, вложил револьвер мне в руку и сказал, что мне следует прихватить с собой оружие, дабы защищаться от крыс. Я даже помнил, что он сказал про калибр пуль… «Они сорок второго калибра, сэр. Девяти штук будет более чем достаточно для крысы средних размеров — четвероногой или двуногой, смотря какая вам попадется». Я подавил нервный смешок. Когда я остановился и оглянулся у двери на третьем этаже, круто уходящая вниз лестница, тускло освещенная неверным огоньком моей свечи, показалась мне почти вертикальной. От этого — а также, возможно, от трех утренних стаканов лауданума, выпитых натощак и ничем не заеденных, — у меня закружилась голова. Надо мной раздался звук, страшно похожий на поскребывание когтей по штукатурке или дереву. — А ну, покажись! — крикнул я в темноту. Признаюсь, это была просто бравада, вызванная надеждой, что Джордж, Кэролайн, Бесс и девочка услышат меня. Но они, вероятно, сейчас находились двумя этажами ниже. И двери были очень толстыми. Я двинулся дальше совсем уже медленно, держа револьвер прямо перед собой и покачиваясь из стороны в сторону, точно несуразно тяжелый флюгер при переменном ветре. Поскребывание стало громче, и теперь я примерно определил местоположение источника звуков: он находился то ли на площадке, где лестница поворачивала в обратном направлении, то ли где-то между мной и площадкой. Я взял на заметку, что в наружной кирпичной стене здесь нужно вырубить хотя бы одно окно — на лестничной площадке, если негде больше. Я поднялся еще на три ступеньки. Я сам толком не знаю, дорогой читатель, откуда изначально взялся призрак зеленокожей женщины с желтыми клыками, знаю только, что она была со мной с раннего детства. Помню, как она заходила в нашу детскую, когда Чарльз спал. Помню, как она явилась мне на чердаке отцовского дома, когда я в возрасте девяти или десяти лет опрометчиво решил обследовать то темное, затянутое паутиной помещение. Говорят, чем дольше знаешь, тем меньше боишься, но в моем случае это не совсем так. Зеленокожая женщина — лицом непохожая ни на одну живую женщину из встреченных мной в жизни, хотя иногда она смутно напоминала мне нашу с Чарли первую гувернантку, — вгоняла меня в дрожь всякий раз, когда я с ней сталкивался, однако я знал по опыту, что могу отбиться от нее, коли она набросится на меня. Но до сих пор никто никогда не слышал ее. Она никогда прежде не производила ни единого звука. Я поднялся еще на три ступеньки и остановился. Поскребывание и суетливое шебуршание стали гораздо громче. Источник шума находился совсем рядом, чуть выше меня, хотя сейчас бледный круг света от свечи подполз уже почти вплотную к краю лестничной площадки. Но звуки были очень громкие — теперь я понимал страх Джорджа — и действительно очень похожие на те, что производят крысы. Скреб-поскреб. Тишина. Скреб-скреб-скреб-поскреб. Тишина. Скреб-поскреб. — У меня для тебя сюрприз, — сказал я, не без труда взводя одной рукой курок. Помнится, Хэчери говорил, что толстый нижний ствол является своего рода дробовиком. Я пожалел, что он не выдал мне патронов к нему. Еще две ступеньки — и я увидел всю лестничную площадку. На ней никого не было. Снова послышалось поскребывание. Казалось, оно раздается надо мной и даже позади меня. Я высоко поднял свечу и всмотрелся в темноту над головой. Поскребывание превратилось в истошный вопль; от ужаса я застыл на месте и стоял так, наверное, целую минуту, прежде чем сообразил, что дикие крики исторгаются из моей груди. Объятый паникой, я ринулся вниз по ступенькам, достиг двери на третьем этаже и принялся яростно дергать за ручку, продолжая орать дурным голосом. Я оглянулся через плечо, заорал пуще прежнего и выстрелил два раза, прекрасно понимая, что это не поможет. Это не помогло. Я с грохотом сбежал ниже по лестнице — дверь на втором этаже тоже оказалась запертой — и завопил во все горло, когда какая-то зловонная жижа закапала на меня сверху… потом я помчался дальше вниз, отскакивая от стены к стене, точно мячик. Я выронил свечу, и она погасла. Что-то задело мои волосы на макушке, скользнуло по загривку. Круто развернувшись в кромешном мраке, я пальнул еще два раза, оступился и полетел головой вперед с высоты последних двенадцати ступенек. Я по сей день не понимаю, каким чудом я не выронил револьвер или не застрелил себя ненароком. Я рухнул у подножья лестницы и, испуская душераздирающие вопли, принялся колотить кулаком в дверь. Что-то тонкое, длинное и сильное обвилось вокруг моей правой ступни и сорвало с ноги туфель. Если бы я застегнул на нем пряжку, прежде чем идти сюда, неведомое существо уволокло бы меня обратно наверх. Снова дико заорав, я в последний раз пальнул в темноту, толчком распахнул дверь и, ослепленный ярким светом, рванулся всем телом через порог кухни. Судорожно дрыгая ногами, я в несколько пинков затворил за собой массивную дверь. В кухню ворвался Джордж, нарушив мой запрет. В дверном проеме, ведущем в холл, я видел бледные, ошеломленные лица Кэролайн и двух других женщин. Я чуть не повалил Джорджа на пол, когда со всей мочи вцепился в лацкан его сюртука и истерически прошептал: «Запри! Запри дверь! Запри! Скорее!» Джордж сделал что велено, задвинув удручающе маленькую щеколду. Из-за двери не доносилось ни звука. Мое хриплое, прерывистое дыхание, казалось, разносилось по всему дому. По-прежнему держа наготове взведенный револьвер, я с трудом поднялся на колени, потом на ноги, притянул Джорджа вплотную к себе и прошипел ему на ухо: — Достань столько досок, сколько нужно, и найми столько рабочих, сколько нужно. Я хочу, чтобы через полчаса все двери на черную лестницу были наглухо заколочены досками. Ты меня понял? Ты… понял? Джордж кивнул, высвободил руку из моей хватки и побежал выполнять распоряжение. Я, пятясь, вышел из кухни, ни на миг не отрывая взгляда от слишком ненадежной двери на черную лестницу. — Уилки… — начала Кэролайн. Она положила руку мне на плечо, но тут же отдернула, ибо я так и подскочил на месте. — Это были крысы, — выдавил я, опуская в исходное положение курок револьвера, внезапно ставшего слишком тяжелым для меня. Я попытался вспомнить, сколько пуль я выпустил, но не смог. Ладно, пересчитаю оставшиеся. — Просто крысы. — Уилки… — опять начала Кэролайн. Я отмахнулся от нее и поднялся в свою спальню, чтобы извергнуть содержимое желудка в тазик и снова приложиться к спасительной фляжке.
Глава 33
Кэролайн разыграла свою козырную карту в среду, двадцать девятого апреля, за день до прибытия в Квинстаунский порт парохода «Россия», на борту которого находились Диккенс и Долби. Кэролайн знала, что я пребываю в прекрасном расположении духа, хотя понятия не имела почему. Для меня же причины моего приподнятого настроения не составляли тайны. Когда Диккенс отплывал в Америку в ноябре, он был мастером, а я — усердным подмастерьем. Теперь же журнальный вариант «Лунного камня» пользовался грандиозным успехом, толпы у редакционной конторы на Веллингтон-стрит становились все больше от выпуска к выпуску, люди всех чинов и званий с нетерпением ждали каждой следующей части, чтобы узнать, кто же все-таки похитил алмаз и каким образом. А я хранил безмятежное спокойствие, непоколебимо убежденный, что даже самому сообразительному читателю не под силу угадать развязку. Когда Чарльз Диккенс отплывал в Америку в ноябре, моя драма «Проезд закрыт» — а после всех исправлений, переработок и новых идей, внедренных мной в нее с прошлой осени, она воистину стала моей — была всего только мечтой расплывчатых очертаний. Теперь же она стала гвоздем сезона и прошла при полном аншлаге в театре «Адельфи» уже свыше ста тридцати раз. В настоящее время полным ходом велись переговоры о постановке пьесы в Париже. И наконец, смерть моей матери, глубоко меня опечалившая (а равно ужаснувшая своим энтомологическим аспектом и загадочной скоропостижностью), одновременно освободила меня. Теперь, в возрасте сорока четырех лет, я окончательно и полностью стал сам себе хозяином. Кэролайн видела: несмотря на происшествие на черной лестнице (сейчас, две недели спустя, я по-прежнему не заходил как в кухню, так и в коридоры на верхних этажах, ведущие к наглухо заколоченным досками дверям), несмотря на частые рецидивы болезни и неослабную боль, вынуждающую меня принимать лауданум и морфий огромными дозами ради возможности работать хотя бы по несколько часов в день, я нахожусь в гораздо лучшем настроении, чем когда-либо за последние много лет. Диккенс уезжал в ноябре, считая себя великим мастером, а меня — своим протеже. Возвращался же он (больной и немощный, по словам всех), чтобы увидеть меня популярнейшим писателем, успешным драматургом и совершенно независимым человеком. На сей раз мы встретимся как равные (по меньшей мере). И оба мы, как я убеждался все сильнее, носили Друдова скарабея в черепе. Один этот факт привносил новое ужасное равенство в наши отношения.Кэролайн явилась ко мне в среду утром, когда я принимал ванну. Видимо, она полагала, что именно сейчас я буду наиболее благодушен… или по крайней мере наиболее внушаем. — Уилки, милый, я тут все думала о нашем разговоре. — О каком еще разговоре? — спросил я, хотя прекрасно понял, о чем она. Очки у меня запотели, я взял лежавшее поблизости полотенце и принялся протирать стекла, подслеповато щурясь. Кэролайн превратилась в расплывчатое бело-розовое бугристое пятно. — Про выход Лиззи в свет и про будущность наших собственных отношений под этой крышей. — Кэролайн явно очень нервничала. Я же, напротив, сохранял полное спокойствие. — И что? — промолвил я, нацепляя крохотные очочки обратно на нос. — Я решила, Уилки, что для вящего благополучия нашей Лиззи… Кэрри… совершенно необходимо, чтобы ее матьсостояла в браке и она являлась дочерью добропорядочного семейства. — Полностью с тобой согласен, — сказал я. Пар из ванны подымался к потолку и клубами расползался во все стороны. Лицо у Кэролайн раскраснелось от него. — Правда? — спросила она. — Ты согласен? — Ну конечно, — заверил я. — Пожалуйста, подай мне вон то полотенце, дорогая. — Я не знала… все это время… я не была уверена… — сбивчиво заговорила Кэролайн. — Глупости, — сказал я. — Твое благоденствие… и благоденствие Кэрри, разумеется… всегда имел и для меня первостепенное значение. Ты права: тебе пора замуж. — О, Уилки… — Голос у нее пресекся, слезы потекли по раскрасневшимся от пара щекам. — Полагаю, ты по-прежнему поддерживаешь знакомство со своим водопроводчиком, — сказал я, отбрасывая в сторону полотенце и надевая велюровый халат. — С мистером Клоу. Джозефом Чарльзом Клоу. Кэролайн оцепенела. Румянец медленно сошел с ее лица. — Ну… да… — Вероятно, мистер Клоу к настоящему времени уже сделал тебе предложение, дорогая. Полагаю, именно об этом ты и хотела сообщить мне сейчас. — Да, но я не… я не… Я похлопал Кэролайн по руке и весело сказал: — В объяснениях нет необходимости — мы же с тобой старые друзья. Тебе пора выйти замуж — ради Кэрри и ради себя самой, — а наш мистер Клоу сделал тебе предложение. Ты должна немедленно дать согласие. Теперь Кэролайн побледнела до самых кончиков пальцев. Она непроизвольно попятилась и наткнулась на умывальную раковину. — Я прикажу Бесси сейчас же упаковать твою одежду, — продолжал я. — Все прочие вещи, книги и тому подобное, мы пришлем позже. Я велю Джорджу поймать кеб, как только ты соберешься. Кэролайн дважды судорожно пошевелила губами, прежде чем сумела произнести единственное слово. — Лиззи… — Кэрри, разумеется, останется со мной, — сказал я. — Мы с ней уже договорились на сей счет. Это выбор самой Кэрри — окончательный и не подлежащий обсуждению. Сколь бы нежен и угодлив ни был твой водопроводчик… мистер Джозеф Чарльз Клоу… и каким бы уважением в своем кругу ни пользовался его отец-винокур, мелкобуржуазная жизнь, полная надежд, но порой тяжелая, которую ведет твой водопроводчик, совсем не то, что сейчас нужно Кэрри. Как ты сама указала, Кэролайн, девочку пора выводить в высшее общество. Она решила выйти в свет из этого прекрасного дома на Глостер-плейс, в окружении писателей, художников, композиторов и высокородных особ. Она будет часто навещать тебя, разумеется, но жить останется здесь. Я обсудил этот вопрос не только с Кэрри, но и с твоей матерью, и обе они согласились со мной. Кэролайн опиралась обеими ладонями о тумбочку под раковиной и, казалось, держалась на ногах только за счет усилия напряженно вытянутых, дрожащих рук. Я не прикоснулся к ней, когда быстро прошел мимо, направляясь к двери в коридор. Похоже, в тот момент Кэролайн не смогла бы и пальцем пошевелить ни при каких обстоятельствах. — Думаю, ты приняла разумное решение, дорогая, — мягко промолвил я с порога. — Мы с тобой навсегда останемся друзьями. Если тебе или мистеру Джозефу Чарльзу Клоу когда-нибудь понадобится помощь, я постараюсь свести вас обоих с людьми, способными оказать необходимую услугу при желании. Кэролайн по-прежнему смотрела невидящим взглядом в пустоту — туда, где несколькими секундами раньше стоял я. — Я велю Бесси заняться упаковкой вещей, — сказал. И пошлю Джорджа на улицу — лучше поймать кеб загодя. Я не против заплатить вознице за ожидание, коли понадобится. В такие путешествия лучше отправляться с утра пораньше, когда ты бодр и полон сил.
Как я упомянул выше, пароход «Россия» с Диккенсом и Долби на борту прибыл в Квинстаунский порт в последний день апреля, но никто из друзей Неподражаемого не помчался в Ливерпуль с распростертыми объятиями. В телеграммах Долби говорилось, что Диккенс хочет «несколько дней акклиматизироваться в уединении, прежде чем вернуться к своим обязанностям и старым привычкам». По моему предположению, это означало, что изнуренный автор не поедет прямиком в Гэдсхилл-плейс и не остановится в Лондоне (хотя второго мая он проехал через столицу поездом), но двинется сразу в Пекхэм, дабы пасть в ждущие объятия Эллен Тернан. Я оказался прав в своей догадке. Я знал также — из нескольких замечаний, вскользь оброненных Уиллсом в конторе на Веллингтон-стрит, — что актриса с матерью всего двумя днями ранее вернулись из Италии. Все сложилось очень удобно для Неподражаемого. Прошло еще четыре дня, прежде чем Уиллсу, Фрэнку Берду и мне представилась возможность поприветствовать Диккенса. Он приехал поездом из Пекхэма к раннему ужину с Фехтером и остальными, а потом мы все отправились в «Адельфи», чтобы Диккенс наконец посмотрел «Проезд закрыт». Я был более чем готов выразить сострадательное беспокойство и даже потрясение в связи с немощным, изнуренным состоянием Диккенса после американского турне, но Берд на вокзале изъявил общее наше мнение, громко воскликнув: «О боже, Чарльз! Да вы помолодели лет на семь!» Истинная правда. Ни малейшего намека на хромую опухшую ногу, столь часто упоминавшуюся в письмах. В Америке Диккенс немного похудел, но от этого стал выглядеть моложе и здоровее. За восемь дней плавания он по-настоящему отдохнул от всех забот, а его лицо, всегда быстрозагоравшее, приобрело бронзовый оттенок за долгие часы, проведенные на палубе под весенним солнцем. Даже волосы и борода у него стали темнее и гуще. Глаза у Неподражаемого оживленно блестели, улыбка не сходила с губ, а его смех и звучный голос разносились по всей ресторации, где мы ужинали, и гулко резонировали в карете, отвезшей нас пятерых в «Адельфи» после ужина. — Боже мой, Уилки, — тихо проговорил Диккенс, когда мы отдавали наши шляпы, перчатки и трости театральной служащей, — я знал, что вы были больны, но выглядите вы просто ужасно, старина. Бледны лицом, весь трясетесь и шаркаете ногами, как Теккерей незадолго до смерти. Что за хворь такая точит вас изнутри? Точит изнутри. Ах, как умно. Ах, как… смешно. Я слабо улыбнулся Диккенсу и ничего не ответил. Позже, во время спектакля, я испытал изрядное потрясение. Наша небольшая группа разместилась в авторской ложе — за исключением Фехтера, разумеется, который сразу по прибытии в театр бросился за кулисы, чтобы загримироваться и стошнить в тазик перед представлением (возможно, в роли злодея Обенрейцера он выступал в Англии последний месяц, ибо у него быстро ухудшалось здоровье). Несмотря на собственную болезнь, я в течение пяти предыдущих месяцев сидел в этой ложе много раз, но сегодня на спектакле впервые присутствовал Диккенс, начинавший вместе со мной работу над пьесой. Естественно, зал стоя приветствовал Неподражаемого бурной овацией еще перед открытием занавеса. Но я этого ожидал, а потому не почувствовал себя уязвленным. Нет, потрясением для меня стала сама пьеса. Если считать вместе с репетициями, я видел «Проезд закрыт» с начала и до конца раз тридцать, самое малое. Я знал наизусть все до единой реплики, как в изначальном виде, так и в переработанном. Я с точностью до секунды знал, когда тот или иной герой уйдет за кулисы или выйдет на сцену. Но сегодня у меня было такое впечатление, будто я смотрю спектакль впервые. А если точнее, дорогой читатель, такое впечатление, будто один мой глаз видит спектакль впервые. Головная боль, никогда не отпускавшая меня полностью, по обыкновению, сосредоточилась за правым глазом и обострилась до такой степени, что мне казалось, глазное яблоко вот-вот зашипит, как шипит кувшин хорошего грога, когда мальчишка-прислужник сует в него добела раскаленный железный прут, чтобы нагреть напиток. И я ощущал там энергичное шевеление скарабея. Временами мне казалось, что он прогрызает ход наружу, намереваясь выглянуть из моей правой глазницы. И вот, когда я сидел в авторской ложе, держась то за правый висок, то за левый, украдкой прикрывая ладонью то левый глаз, то правый, меня не оставляло впечатление, будто я впервые смотрю пьесу, мною написанную и много раз виденную прежде. Я тотчас осознал, что сцена в сиротском доме, где найденышей секут розгами, скорее смехотворна в своей нелепости, нежели пронзительно печальна, — несмотря на бурный эмоциональный отклик легковерной публики. То обстоятельство, что все душещипательные эпизоды писал главным образом Диккенс, служило слабым утешением. Смерть нашего Уолтера Уайлдинга (от разбитого сердца и угрызений совести, вызванных сознанием, что он случайно унаследовал состояние и имя другого человека), как обычно, исторгла у зрителей слезы, но у меня вызвала тошноту. Несусветная чушь. Бред собачий. Я недоумевал, как вообще серьезный писатель мог состряпать столь нелепую сцену? А теперь Фехтер расхаживает взад-вперед в обличье злодея Обенрейцера. Какой дурацкий персонаж. Какой дурацкий спектакль. В свое время я показал Фехтеру один абзац из опубликованной повести, дававший ключ к пониманию душевного склада и скрытых мотивов этого персонажа. Сейчас я удрученно вспомнил те слова:
Но Обенрейцер обладал следующей странной особенностью: время от времени глаза его застилала некая безымянная пелена (несомненно призванная усилием собственной его воли), которая полностью скрывала всякое выражение его лица, помимо в высшей степени внимательного. Это ни в коем случае не означало, что он всецело сосредоточивал внимание на собеседнике или хотя бы на звуках и предметах окружающего мира. Скорее, он настороженно следил за ходом собственных своих мыслей, а равно за известным наверное или предполагаемым ходом мыслей других людей.Я помнил, как писал этот абзац почти год назад, и помнил также, как гордился тогда своей способностью изобразить сложные психические и физические особенности злодея. В то время я полагал, что описываю собственное тайное отношение к обществу — лицемерному и исполненному решимости расстроить все мои честолюбивые планы. Но сейчас я вдруг ясно осознал: данный отрывок из первоначальной рождественской повести — так называемый ключ к образу Обенрейцера — попросту бездарен. Бездарен, глуп и лишен всякого смысла. А Фехтер, руководствуясь моей подсказкой, наделил своего Обенрейцера крадущейся, вороватой походкой в сочетании с безумным пристальным взглядом, слишком часто устремленным в никуда, каковые черты сейчас наводили меня на мысль не об умном, расчетливом негодяе, а скорее о деревенском придурке, пережившем сильное сотрясение мозга. Но зрителям Обенрейцер нравился. Нравился им и наш новый герой Джордж Вендейл (принимавший эстафетную палочку героизма из рук Уолтера Уайлдинга, когда последний умирал от безвинного стыда). Я же сегодня отчетливо увидел, что Джордж Вендейл — идиот почище Обенрейцера с его вороватой поступью, самодовольными ухмылками и тупо вытаращенными глазами. Даже трехлетний ребенок легко распознал бы бесконечные козни и постоянное вранье Обенрейцера, однако Вендейл — и несколько сотен зрителей, присутствовавших нынче на представлении, — безоговорочно соглашались с нашим дурацким исходным положением, что данный персонаж просто славный, доверчивый малый. Если бы человечество породило еще хоть несколько таких славных, доверчивых малых, как Джордж Вендейл, оно давным-давно вымерло бы от собственной тупости. Даже сцены в Швейцарских Альпах, ясно увидел я, вооруженный беспощадно-острым скарабеевым зрением, были чудовищно глупыми и совершенно лишними здесь. Действие постоянно переносилось из Лондона в Швейцарию и обратно без всякой необходимости, с единственной целью представить на обозрение горный пейзаж наподобие тех, какие видели мы с Диккенсом во время нашего путешествия через Альпы в 1853 году. Последние сцены, где возлюбленная Вендейла, Маргерит Обенрейцер (прекрасная и безгрешная племянница злодея), сообщает, что Вендейл вовсе не погиб, когда его столкнули с ледника год назад, но все это время находился под ее тайной опекой в уютном шале, расположенном, надо полагать, прямо у подножья вышеупомянутого ледника, едва не заставили меня разразиться презрительным хохотом. Сцена, где Обенрейцер Хитроумный (который и заманил Вендейла на ледник над пропастью годом ранее) лезет на опасный ледяной склон по той единственной причине, что для полного счастья в конце пьесы требовалось убить отрицательного героя, довела вновь пробудившийся во мне скептицизм до последнего мыслимого предела. Мне безумно хотелось, чтобы тем вечером Фехтер низринулся в настоящую бездонную пропасть, а не плюхнулся с высоты восьми футов на кучу тюфяков, сокрытых от взоров публики за размалеванным фанерным задником, изображающим ледник. Мне пришлось закрыть глаза на финальной сцене, где мертвое тело Обенрейцера доставляют в швейцарскую деревушку, празднующую бракосочетание Вендейла и Маргерит (почему они женятся там, а не в Лондоне, скажите на милость?), и уносят на носилках за левую кулису, тогда как счастливые новобрачные в великом ликовании удаляются за правую кулису, — а зрители одновременно освистывают похороны злодея и со слезами умиления на глазах рукоплещут свадьбе. Такое противопоставление, представлявшееся нам с Диккенсом очень остроумным, когда мы набрасывали мизансцену на бумаге, сейчас показалось мне, обретшему скарабееву ясность зрения, по-детски наивным и нелепым. Но публика бурно свистала и рукоплескала, когда труп Фехтера уносили за левую кулису, а наши новобрачные укатывали в свадебной карете за правую. В зрительном зале сидели одни идиоты. Спектакль играли полные идиоты. Пьеса была идиотской мелодрамой, сочиненной бездарным идиотом. В вестибюле после спектакля — и после того, как добрых пятьсот человек подошли, чтобы пожать Диккенсу руку или выразить восхищение его замечательной драмой (обо мне, настоящем авторе, почти никто не вспомнил, каковое обстоятельство нисколько не огорчило меня теперь, когда на меня снизошло прозрение), — Диккенс сказал мне: — Что ж, дорогой Уилки, пьеса превосходна, спору нет. Но, выражаясь языком вашего «Лунного камня», она по-прежнему остается необработанным алмазом. Там есть великолепные сцены… просто великолепные! Но все-таки она малость затянута. Я уставился на него. Да один ли спектакль мы с ним смотрели? — В нынешней постановке слишком много упущено по части выразительности актерской игры, — продолжал Диккенс. — Упущены многочисленные возможности усилить драматизм образов и нагляднее показать низкое коварство Обенрейцера. Мне пришлось призвать на помощь все свои силы, чтобы не рассмеяться в лицо Неподражаемому. Последнее, в чем нуждалась эта огромная дымящаяся куча пафосно-мелодраматического дерьма, так это в еще большей выразительности актерской игры, в усилении драматизма образов и в нагляднейшей демонстрации низкого коварства. Что здесь действительно требуется, подумал я, так это лопата и глубокая яма где-нибудь подальше. — Как вы наверняка знаете, Фехтеру, возможно, вскоре придется выйти из спектакля по причине здоровья, — продолжал Диккенс, — но мы твердо решили поставить новую версию «Проезда» в парижском Театре Водевиля в начале следующего месяца и надеемся, что Фехтер рано или поздно повторит свой успех в роли Обенрейцера. «Повторит наш публичный позор», — только и подумал я. — Я лично прослежу за переработкой пьесы и, возможно, потружусь в Театре Водевиля режиссером-постановщиком спектакля, — сказал Диккенс. — Надеюсь, вы поедете с нами, Уилки. Дело предстоит интересное. — Боюсь, я не смогу составить вам компанию, Чарльз, — сказал я. — Мне просто-напросто здоровье не позволит. — А-а… — протянул Неподражаемый. — Очень жаль. — В его голосе я не услышал искреннего сожаления, но явственно различил нотки облегчения. — Ну ладно, — торопливо проговорил он. — Фехтер сейчас слишком изнурен, чтобы присоединиться к нам, так что я загляну к нему за кулисы и передам наши поздравления с блестящим выступлением в роли Обенрейцера — возможно, последнем… по крайней мере, в этой версии пьесы! С этими словами Диккенс быстро пошел прочь, по пути принимая поздравления от последних театралов, тянувшихся к выходу. Берд, собиравшийся присоединиться к нам, болтал с какими-то своими знакомыми, поэтому я вышел на улицу. В воздухе висел густой запах конского навоза, как всегда бывает возле театров, когда кареты и наемные экипажи разъезжаются в разные стороны, увозя принаряженных зрителей. Зловоние казалось весьма уместным. Диккенс заставил нас с Бердом прождать более получаса. Позже я узнал, что он ссудил рыдающего Фехтера двумя тысячами фунтов, каковой факт раздражил меня тем сильнее, что всего две недели назад я дал взаймы глупому актеру тысячу фунтов, совсем для меня не лишнюю. Пока я ждал на улице, где стоял запах скотного двора, я хорошо приложился к серебряной фляжке с лауданумом и сообразил, что, несмотря на все свои разговоры о театральном триумфе в Париже, Диккенс не задержится там дольше первой недели июня. Друд и скарабей вернут его в Лондон девятого июня или раньше. Это будет третья годовщина Стейплхерстской катастрофы. У Чарльза Диккенса, я не сомневался, ночью девятого числа назначена встреча, и я поклялся себе, что на сей раз проведу всю ночь с ним. Я допил остатки лауданума и улыбнулся такой холодной и злобной улыбкой, какую Фехтер в роли Обенрейцера не сумел бы изобразить при всем старании.
Глава 34
В конце мая я узнал, что Кэролайн сейчас проживает у матери Чарльза Клоу, вдовы винокура (это мне сообщила престарелая свекровь Кэролайн, миссис Г***, которая теперь время от времени гостила у нас на Глостер-плейс, поскольку Кэрри не подобало жить в холостяцком доме без того, чтобы к ней хотя б изредка не наведывалась приличия ради какая-нибудь почтенная дама). Они назначили бракосочетание на начало октября. Эта новость нисколько меня не огорчила — напротив, я счел это правильным шагом, сделанным в правильное время правильными людьми. К слову о правильных шагах: получив паническое письмо от Кэролайн, я написал в ответ, что всенепременно помогу ей сочинить и поддерживать до самой смерти любой вымысел о ее прошлом и ее семье (тем паче о собственных своих отношениях с ней), какой она пожелает преподнести мелкобуржуазному и довольно пуританскому клану Клоу. Тем временем я устроил Кэрри гувернанткой на неполную занятость в одно благородное семейство, хорошо мне знакомое. Работа пришлась девочке по сердцу, и она радовалась, что у нее стали водиться собственные деньги, но лучше всего было то, что хозяева часто представляли ее своим гостям почти как родную дочь. Общаясь с лучшими художниками и литераторами на моих званых обедах, знакомясь с именитейшими представителями английской знати, политическими деятелями и коммерсантами в своем втором доме, юная Кэрри успешно готовилась к выходу в свет. Кэрри шел шестнадцатый год, а Марте Р*** еще не стукнуло двадцати трех. Марта была гораздо счастливей сейчас, когда я стал чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы время от времени навещать ее (разумеется, под видом мужа, «мистера Доусона», возвращающегося из деловых поездок) в комнатах на Болсовер-стрит. Марта знала о существовании Кэролайн и, вероятно, догадывалась, что Кэролайн была не просто домоправительницей, значившейся в моих ежегодных переписных бланках, но она не проявила никаких эмоций и ничего не сказала, когда я сообщил ей, что «миссис Г*** съехала из моего дома и собирается выйти замуж осенью». Но Марта, всегда очень пылкая и чувственная, в конце весны и летом была страстной как никогда. Она говорила, что хочет ребенка, но я отшучивался: мол, «бедный мистер Доусон» вынужден так много разъезжать по свету, дабы обеспечить свою любимую женушку, что будет просто несправедливо, если у него появится семья, а он не сможет проводить с ней все время.Приди, Исида, владычица Небес! Прикажи зачать это дитя в пламени Небт-Хет, священной Нефтис, богини смерти, которая не вечна. Спрячься в укромном месте с дитем Осириса, богом наших предков. Вскорми и взрасти этого младенца в укрытии среди тростника, как ты вскормила и взрастила Гора, владыку Грядущих Вещей. Девочка эта станет сильна телом и умом, она взойдет на алтарь своего отца и станет служить Храму, в коем заключена истина Двух Земель. Услышь нас, о Осирис! Ты, чье дыхание — жизнь! Услышь нас!Я очнулся от морфинового забытья и обнаружил на прикроватном столике несколько страниц, исписанных в таком духе. Почерк принадлежал Второму Уилки. Я не помнил, чтобы диктовал что-нибудь подобное. Без памяти о содержании ночных сновидений слова казались бессмысленными. Но мой скарабей утихомирился. Когда я впервые обнаружил такие страницы, я тотчас развел огонь в камине и сжег всю писанину. После этого я два дня кряду пролежал в постели, воя в голос от боли. Впоследствии каждое утро, когда я выходил из забытья, вызванного вечерней инъекцией морфия, я собирал убористо исписанные листки и клал в шкатулку с замком, которую хранил на верхней полке в чулане при кабинете. Потом я запирал чулан на ключ. Когда-нибудь все это будет предано огню — вероятно, после моей смерти. Тогда скарабей уже не сможет причинить вред.
В мае 1868 года мне пришло в голову, что отсутствие всякой связи между мной и инспектором Филдом невыгодно скорее мне, нежели ему. Конечно, последняя ночь на подземной реке была поистине ужасна — мне до сих пор виделся в кошмарных снах маленький дикарь, падающий ничком в воду, и у меня остался шрам над линией волос, куда Реджинальд Баррис ударил меня стволом револьвера, — но факт оставался фактом: когда я поддерживал связь с инспектором Филдом, я узнавал от него гораздо больше сведений (о Диккенсе, Друде, Эллен Тернан, о происходящих событиях), чем он получал от меня. Теперь, когда близился час нашего с Диккенсом последнего противоборства (после которого все окончательно убедятся, что я ни в чем ему не уступаю или даже превосхожу его во всех отношениях), я отчетливо осознал, что мне очень нужна именно такая информация, какую поставлял мне инспектор Филд вплоть до января. Поэтому в мае я принялся разыскивать его. Как бывший газетный репортер, я понимал, что вернее всего было бы обратиться к кому-нибудь из начальства Столичной полиции или сыскного отдела Скотленд-Ярда. Хотя Филд давно ушел в отставку, кто-нибудь наверняка знает как его собственный адрес, так и местоположение его частного сыскного бюро. Но от такого шага меня удерживали несколько веских причин. Во-первых, инспектор Филд упорно враждовал с полицией из-за своей пенсии, из-за своего вмешательства в дело об отравлении Палмера много лет назад и из-за прочих разногласий. Во-вторых, я опасался, что у самого инспектора могли выйти крупные неприятности с полицией после январского налета на Подземный город, поджогов и стрельбы, свидетелем которых я явился. Я не желал иметь никакого отношения к подобным противозаконным действиям. А в-третьих, — и это самое главное — я знал, что и у Друда, и у Диккенса есть свои люди в Столичной полиции, а я не собирался ставить обоих в известность о своих розысках инспектора Филда. Тогда я решил наведаться в редакцию «Таймс» или любой другой газеты: уж если кто и знает, где находится контора старого инспектора, так это наверняка какой-нибудь предприимчивый уличный репортер. Но и здесь сдерживающие соображения оказались сильнее побудительных. Я решительно не желал, чтобы полицейские узнали о моей связи с инспектором Чарльзом Фредериком Филдом, но еще меньше мне хотелось, чтобы о ней узнали газетчики. Я так давно ушел с репортерской работы, что у меня не осталось в газетах и журналах никаких знакомых, достойных моего доверия. Посему мне пришлось действовать самостоятельно. В течение мая я со всем усердием занимался поисками — ходил по улицам пешком, когда здоровье позволяло, в противном же случае колесил по городу в кебе и посылал Джорджа во все многообещающие с виду здания и переулки посмотреть, не там ли располагается контора Филда. Поскольку мы с инспектором часто проходили по Стрэнду и через Линкольнз-Инн-Филдс (и поскольку именно там находилась контора престарелого стряпчего молодого Эдмонда Диккенсона), а также поскольку мы с ним постоянно встречались на мосту Ватерлоо, у меня сложилось впечатление, что частное бюро старого сыщика помещается где-то между Чаринг-Кросс и тюрьмой Флит — вполне вероятно, в тесно застроенном старыми домами квартале между Друри-лейн и Чансери-лейн. Но несколько недель напряженных поисков там не принесли никакого результата. Тогда я обмолвился в клубе, что разыскиваю (по своей писательской надобности) отставного полицейского, о котором Диккенс писал в середине пятидесятых, — но, хотя многие помнили, что Филд послужил прототипом «инспектора Баккета» (пока он ни у кого не ассоциировался с чрезвычайно популярным ныне «сержантом Каффом» из моего еще не до конца опубликованного романа), никто в клубе не знал, где его можно найти. На самом деле почти все, с кем я разговаривал, полагали, будто инспектор Филд давно умер. Я по-прежнему с уверенностью полагал, что Филд свяжется со мной еще до осени. Как бы он ни огорчался из-за выходки своего подчиненного, ударившего меня револьвером в январе (по моей догадке, старый сыщик боялся, что я предъявлю иск о возмещении ущерба), я был убежден, что он по-прежнему нуждается в сведениях от меня. Рано или поздно один из его уличных мальчишек или неприметный мужчина в коричневом костюме (хотя вряд ли Филд поручит такое дело Реджинальду Баррису) подойдет ко мне на улице, и я возобновлю отношения с одержимым инспектором. А до той поры, понял я, мне придется использовать своих собственных шпионов, чтобы как следует подготовиться к решающему поединку с Чарльзом Диккенсом.
В начале июня Диккенс почти ежедневно писал мне из отеля «Дю Хелдер», где остановился в Париже. Фехтер присоединился к нему, чтобы наблюдать за репетициями, но настоящим режиссером-постановщиком являлся сам Диккенс, как он и обещал. Французы назвали мою драму «L'Abime» («Пропасть»), и премьера была назначена на второе июня. Неподражаемый сообщил мне, что французская версия пьесы (по словам Фехтера, переводчика Дидье, а равно актеров и всех его парижских знакомых) гораздо лучше лондонской и обречена на успех. Еще он сообщил, что, по всей вероятности, задержится в Париже до середины июня. Я безошибочно предположил, что, с уверенностью предсказывая шумный успех «L'Abime», он выдает желаемое за действительное, а сообщая о своем намерении остаться во Франции еще на две недели, попросту лжет. Если не скарабей, то Друд уж точно заставит Диккенса вернуться в Лондон к девятому июня, дню годовщины Стейплхерстской катастрофы. В этом я нисколько не сомневался. Соответственно, я привел в действие свою скромную сеть агентов. Я отправил Фехтеру в Париж конфиденциальное письмо с просьбой телеграфировать мне сразу, как только Чарльз покинет город, направляясь обратно в Англию. Объяснив, что я готовлю Неподражаемому маленький, но весьма приятный сюрприз и потому мне необходимо знать точное время его приезда, я попросил Фехтера никому не говорить про телеграмму. (Поскольку к настоящему моменту актер был мне должен свыше полутора тысяч фунтов, я знал наверное, что он выполнит мою просьбу.) Затем я обратился с аналогичной конфиденциальной просьбой к своему брату Чарли, который сейчас вместе с женой Кейти на несколько недель перебрался в Гэдсхилл, чтобы оправиться после особо сильного приступа желудочной болезни. (Чарли и Кейти держали одну служанку, но она была нерадива и плохо стряпала.) Своего агента Чарли я просто попросил сперва письменно оповестить меня о прибытии Диккенса в Гэдсхилл, а затем о его отъезде в Лондон — я не сомневался, что дома он долго не задержится. Я знал также, что после короткой остановки в Гэдсхилле по возвращении из Франции Неподражаемый поедет вовсе не в Лондон, а в Пекхэм, к Эллен Тернан. Именно из Пекхэма, я был уверен, Диккенс отправится в город на встречу с Друдом в день годовщины. Часть шпионской работы я проделал сам. Одна моя пожилая родственница (по возрасту ближе к моей матери, нежели ко мне) обреталась в Пекхэме. Я уже много лет не поддерживал с сей старой девой никаких отношений, но в мае наведался к ней дважды якобы за тем, чтобы утешить ее после матушкиной кончины. На самом же деле в каждый свой приезд в Пекхэм я пользовался случаем пройтись пешком или прокатиться в кебе мимо дома Тернан по адресу Линден-гроув, шестнадцать (за него платил Диккенс под вымышленным именем Чарльз Трингхэм, если вы помните). Я также несколько раз прогуливался мимо пустующего сейчас коттеджа, который тайно снимал Диккенс неподалеку от гостиницы «Файв-Беллз-Инн» и всего в двадцати минутах ходьбы (скорым диккенсовским шагом) от Линден-гроув, шестнадцать. В двухэтажном доме, снятом писателем для Эллен Тернан и ее матери, свободно разместилась бы зажиточная семья из пяти человек с соответствующим штатом слуг. Дом (скорее помещичий особняк, нежели коттедж) стоял посреди ухоженного сада, а с трех сторон от сада простирались широкие поля, каковое окружение создавало здесь, в лондонском предместье, вольготную атмосферу сельской местности. Представлялось очевидным: положение близкой, но тайной подруги самого известного в мире писателя приносило ощутимую выгоду. Мне пришло в голову, что, возможно, Марта Р*** была бы не так уж довольна своими маленькими комнатками на Болсовер-стрит, если бы когда-нибудь видела хоромы, предоставленные в распоряжение Эллен Тернан и ее матери. В оба своих приезда в Пекхэм я проходил кратчайшим путем от дома Тернан до железнодорожной станции. И наконец, я предположил, что Диккенс покинет Париж через день-два после премьеры «L'Abime». Я ошибся только в последнем своем предположении. Оказалось, к началу спектакля Диккенс и Фехтер просто сходили с ума от волнения, и Диккенс не нашел в себе сил войти в театр. Посему, вместо того чтобы сидеть в зрительном зале, писатель и актер весь вечер катались по парижским улицам в открытой коляске, часто возвращаясь в кафе рядом с театром, куда переводчик Дидье прибегал между актами, чтобы сообщить двум издерганным мужчинам, что публика — пока — принимает пьесу «на ура». Во время последнего акта Диккенс снова попытался войти в театр, опять жутко разнервничался и приказал возничему отвезти его на железнодорожную станцию, чтобы он мог сесть на поздний поезд до Булони. Фехтер и Диккенс обнялись на прощание, поздравили друг друга с успехом, а затем актер вернулся в гостиницу, не забыв по дороге телеграфировать мне во исполнение моей просьбы. Уже на следующий день, третьего июня, Диккенс был дома в Гэдсхилле, и мой брат прислал мне записку с сообщением, что завтра утром писатель отправляется в Лондон. Я оставил своего слугу Джорджа на станции в Пекхэме, приказав следовать за Диккенсом (которого он неоднократно видел в моем доме и хорошо знал в лицо) на почтительном расстоянии (мне пришлось растолковать недалекому малому значение слова «почтительный» в данном контексте). На случай, если вдруг Неподражаемый заметит Джорджа, я снабдил последнего запиской, адресованной к своей родственнице и призванной объяснить присутствие моего не шибко смышленого слуги в Пекхэме, — но Диккенс слежки не заметил. В соответствии с полученными от меня инструкциями Джордж удостоверился, что Диккенс вошел в дом Тернан, и прождал два часа на улице (не привлекая к себе внимания, надо надеяться), дабы убедиться, что писатель не отправился в свой собственный коттедж близ «Файв-Беллз-Инн». Потом Джордж вернулся поездом в Лондон и сразу поспешил домой с отчетом о проделанной работе. Разумеется, мне не удалось бы осуществить ни одной из перечисленных махинаций, если бы Кэролайн по-прежнему жила на Глостер-плейс. Но она там больше не жила. А ее дочь Кэрри, служившая гувернанткой, днем почти всегда отсутствовала и нередко задерживалась на работе до позднего вечера. Но если я хочу перехватить Диккенса по пути на встречу с Друдом — а свидание с египтянином по случаю памятной годовщины я не собирался пропускать, — значит, мне надо предугадать дальнейший ход событий, как делают сыщики. (Здесь я сильнее всего пожалел, что лишен возможности обратиться за помощью к инспектору Филду и его многочисленным агентам.) Диккенс вернулся в Гэдсхилл-плейс в среду, третьего июня, поздно вечером, отправился в Пекхэм навестить Эллен Тернан в четверг, четвертого числа, и, по всей вероятности, встретится с Друдом не раньше следующего вторника, девятого июня. Или он, в согласии с обычным своим летним распорядком жизни, приедет в город в понедельник и остановится в своей квартире над редакционной конторой на Веллингтон-стрит? Диккенс — человек привычки, поэтому разумно предположить, что он приедет в город в понедельник утром, восьмого июня. Однако в таком случае он наверняка написал бы мне из Франции, что задержится в Париже по меньшей мере еще на неделю, — следовательно, скорее всего, он собирается остаться с Эллен Тернан до вторника, девятого июня, не ставя в известность о своем возвращении в страну и в город ни Уиллса, ни Долби, ни меня — никого из нас. Отыскать Диккенса на вокзале Чаринг-Кросс будет трудно. Еще труднее будет представить дело таким образом, будто мы столкнулись случайно. Даже во вторник вечером там будет полно народа и страшная толкотня. Чтобы завести разговор на интересующую меня тему, мне необходимо соблазнить Диккенса отужинать со мной. В ходе продолжительной застольной беседы я уговорю его взять меня с собой на свидание с Друдом позже вечером. А чтобы убедить Диккенса составить мне компанию за ужином, мне придется «случайно» встретиться с ним раньше — либо на станции Пекхэм, либо непосредственно в поезде. С другой стороны, если Диккенс остановится не у Тернан, а в собственном своем коттедже близ «Файв-Беллз-Инн», он, вполне возможно, поедет в Лондон вовсе не со станции Пекхэм. От «Файв-Беллз-Инн» ближе добираться до станции Нью-Кросс. Мне надо либо выбрать между Пекхэмом и Нью-Кроссом, рискуя промахнуться, либо же остановиться на более надежном варианте и поджидать Диккенса в городе на вокзале Чаринг-Кросс. Я остановил выбор на станции Пекхэм. Но когда именно девятого июня Диккенс отправится в Лондон? В первые две годовщины Стейплхерстской катастрофы Диккенс ускользал от агентов Филда и встречался с Друдом поздно вечером. Я видел его в своем кабинете в обществе Друда и Второго Уилки после полуночи. Если же Неподражаемый останется с дамами Тернан — по крайней мере с Эллен Тернан — вплоть до самого дня третьей годовщины, он, скорее всего, выйдет из дома вечером, доедет до вокзала Чаринг-Кросс, поужинает в одной из своих излюбленных таверен, а где-то после десяти спустится в Подземный город через один из тайных входов. Следовательно, мне лучше всего занять позицию на станции Пекхэм после полудня и дежурить там до появления Диккенса. Но здесь возникали определенные проблемы. Во-первых, на станции Пекхэм, как я уже упоминал, никогда не собирается особо много народа, и даже такой респектабельный господин, как я, наверняка привлечет внимание станционных служащих или даже пекхэмекой полиции, коли будет ошиваться там семь-восемь часов кряду, не садясь на поезд. А во-вторых, Диккенс непременно заметит меня, если я буду поджидать его на станции. Меньше всего мне хотелось, чтобы писатель узнал, что я слежу за ним. К счастью, благодаря заранее проведенной разведке местности, я нашел решение обеих проблем. За зданием станции, между депо и дорогой, ведущей в предместье и к Линден-гроув, шестнадцать, находился маленький общественный парк, представлявший собой скопление весьма посредственно ухоженных сквериков с фонтаном в центре и несколькими песчаными дорожками, одна из которых пролегала по периметру парка. Чтобы создать здесь подобие уединения, отцы Пекхэма посадили между парком и проезжей дорогой живую изгородь высотой около семи футов. Здание же станции, располагавшееся с другой стороны от парка, через пешеходную дорожку под перголой, было обращено к нему глухим задним фасадом. Путешественник, коротающий время в этом крохотном парке, привлечет к себе гораздо меньше внимания, чем человек, торчащий на платформе несколько часов подряд. Особенно если означенный путешественник — респектабельный господин в очках, сидящий на солнышке и работающий над рукописью, в данном случае над корректурными листами последнего выпуска «Лунного камня». Две каменные скамьи там стоят в тени молодых деревец и — по счастью — почти вплотную к живой изгороди, тянущейся вдоль дороги. Даже тот факт, что парк довольно запущен, играет мне на руку: в живой изгороди есть просветы, сквозь которые можно наблюдать за дорогой из Пекхэма, не выдавая своего присутствия людям, подъезжающим или подходящим к станции. Окончательный мой план выглядел так: дождаться Чарльза Диккенса, укрывшись в крохотном парке, незаметно сесть на поезд за ним следом, а потом «совершенно случайно» натолкнуться него и уговорить отужинать со мной в Лондоне. К утру вторника, девятого июня, я весь извелся от тревоги и исполнился уверенности, что мой план не сработает и пройдет по меньшей мере еще один год, прежде чем Диккенс — может быть — отведет меня к Друду. Да и мысль об ужине с сопутствующим разговором не вызывала энтузиазма у меня в нынешнем моем настроении. Ведь именно нынче вечером я намеревался раз и навсегда покончить с образом Уилки Коллинза как послушного и благожелательного, но вечно в чем-то недостаточного протеже Великого Писателя Чарльза Диккенса. Именно нынче вечером, по моему замыслу, Диккенс должен был признать во мне равного, если не высшего во всех отношениях. А вдруг он вообще не поедет в город вечером? А вдруг он уже покинул дом своей любовницы и сядет на поезд в Нью-Кросс? А что, если Неподражаемый все-таки поедет из Пекхэма, но я невесть почему прозеваю его на станции или же… еще хуже… он заметит, что я слежу за ним, и потребует объяснений? Я сто раз обдумал все подобные моменты и сто раз поменял свои планы, но в конечном счете вернулся к первоначальному замыслу с пекхэмской станцией. Он был далеко не идеальным, но наилучшим из всех возможных. Погода девятого июня выдалась погожая. После многодневных дождей небо прояснилось, цветы в моем саду блестели в солнечных лучах, свежий воздух сулил жаркое лето — но не изнурительно знойное и влажное, как обычно в Лондоне. Готовясь к поездке в Пекхэм, где мне предстояло прождать Диккенса неведомо сколько времени, я уложил в старый кожаный саквояж, который носил на ремне через плечо, корректурные листы последней части «Лунного камня», портативный письменный прибор, последний роман Теккерея (на случай, если закончу вычитку корректуры), легкую закуску, состоящую из сыра, печенья, нескольких тонких ломтиков вареного мяса и крутого яйца, фляжку с водой, фляжку с лауданумом и револьвер покойного сыщика Хэчери. У меня получилось проверить вращающийся барабан. Поначалу я премного изумился, увидев все патроны на месте — во всех гнездах блестели медные кружочки, — и невольно спросил себя, уж не примстилось ли мне, что я стрелял на черной лестнице. Но потом я сообразил, что в такого рода пистолете медные гильзы остаются в барабане после того, как свинцовые пули вылетают. Пять из девяти патронов я израсходовал. Четыре осталось. Я задумался, следует или нет вытащить пустые гильзы из гнезд (я просто не знал, как положено), но в конечном счете все-таки вытащил и выбросил. Только потом я вспомнил, что оставшиеся патроны надо подогнать к ствольному каналу, чтобы они выстрелили один за другим при последующих нажатиях на спусковой крючок. Для этого мне потребовалось всего лишь повернуть барабан назад, установив в прежнем положении, в каком он находился до того, как я извлек оттуда пустые гильзы. Я задался вопросом, хватит ли мне четырех патронов для моих целей нынче ночью. Но вопрос носил чисто отвлеченный характер, ибо я даже близко не представлял, где можно раздобыть новые заряды для этого диковинного оружия. Четырех должно хватить. По меньшей мере три из них предназначены для Друда. Я хорошо помнил, как однажды, после нашего четвергового ужина в таверне, по дороге к Погосту Святого Стращателя сыщик Хэчери сказал мне, что даже в случае с таким крупнокалиберным оружием (я понятия не имел, что именно обозначает калибр) полицейских учат производить по меньшей мере два выстрела в грудь человеческой мишени и один в голову. Тогда эти слова привели меня в содрогание. Теперь они показались мне советом из могилы. По меньшей мере три из них предназначены для Друда. Два — в грудь и один — в отвратительную, плешивую, змееподобную голову. Четвертая, и последняя, пуля… Это я решу сегодня ночью.
Глава 35
Поначалу все шло гладко. Примерно с полудня и до самого вечера я просидел в крохотном парке между станцией Пекхэм и большаком, наблюдая за экипажами и пешеходами. Обычно мне хватало одного взгляда сквозь живую изгородь, дабы удостовериться, что прибывающие к станции люди не представляют для меня интереса. Единственная пешеходная дорожка, ведущая от подъездной аллеи к платформе, тянулась как раз мимо оформленного в виде шпалерной арки входа в парк, расположенного всего шагах в тридцати от моей скамейки, и я обнаружил, что, шагая вдоль живой изгороди со своей стороны, я запросто могу подслушать разговор любых людей, идущих к станции по этой дорожке. Как я надеялся и рассчитывал, живая изгородь служила мне надежным укрытием и одновременно давала возможность следить за проезжей дорогой сквозь узкие просветы, похожие на вертикальные амбразуры. Пользуясь выражением, позаимствованным у английских охотников на шотландских гусей и бенгальских тигров, дорогой читатель, я сидел в засидке. Погожий день сменился погожим вечером. Я управился с закуской и на две трети опустошил фляжку лауданума. Я также закончил корректуру последнего выпуска «Лунного камня» и убрал гранки в саквояж вместе с огрызком яблока, крошками печенья и яичной скорлупой. Казалось бы, после многих часов бесплодного ожидания я уже должен был с ума сходить от тревоги, все сильнее терзаясь подозрением, что Диккенс уехал со станции Нью-Кросс или вообще не поехал в город сегодня. Но чем дольше я ждал, тем спокойнее становился. Даже болезненное шевеление скарабея, похоже переместившегося вниз, к самому основанию позвоночника, не нарушало крепнущей во мне уверенности, которая успокаивала нервы лучше любого опиата. Я нисколько не сомневался, что Диккенс появится здесь сегодня вечером — я еще никогда в жизни ни в чем не был настолько уверен. Я снова подумал об опытном охотнике на тигров, что сидит на замаскированном помосте высоко на дереве где-нибудь в Индии, крепко зажав под мышкой приклад хорошо смазанного смертоносного ружья. Он знает о приближении своей опасной жертвы еще прежде, чем она появляется в поле зрения, хотя и не может объяснить, откуда знает. А потом, около восьми часов, когда уже начали сгущаться прохладные июньские сумерки, я отвлекся от Теккерея, не вызывавшего у меня интереса, глянул в просвет в живой изгороди — и увидел Диккенса. Удивительно, но Неподражаемый был не один. Они с Эллен Тернан медленно шагали по ближнему к парку тротуару вдоль пыльного большака. Она была одета в прогулочное платье и — хотя на пешеходной дорожке лежала сплошная тень от деревьев и домов на западной стороне улицы — держала над головой зонтик от солнца. За ними, ближе к противоположной обочине, ползла двуколка, то останавливаясь, то двигаясь дальше черепашьим шагом, и я понял, что это нанятый Диккенсом экипаж, который должен отвезти Эллен обратно на Линден-гроув. Влюбленные голубки решили прогуляться до станции вместе, дабы она могла помахать Диккенсу платочком на прощанье. Но между ними творилось что-то неладное. Это чувствовалось по неверной, почти затрудненной поступи Диккенса, по напряженной дистанции между ними двумя, по нервозному поведению Эллен Тернан — она то опускала и складывала бесполезный зонтик, крепко стискивая рукоятку обеими руками, то вновь вскидывала и раскрывала. Сейчас это были не два влюбленных голубка, а две подраненные птицы. Экипаж остановился в последний раз и стал ждать у противоположного бордюра, ярдах в тридцати от поворота на подъездную аллею, ведущую к станции. Когда Диккенс и Эллен подошли к самому парку, я вдруг оцепенел от страха. Угасающий вечерний свет и тень от высокой живой изгороди играли мне на руку, ибо со стороны улицы довольно жидкая изгородь сейчас казалась плотной и темной, но я на секунду исполнился уверенности, что меня отлично видно сквозь нее. Через несколько мгновений Диккенс и его любовница увидят знакомого очкастого коротышку с высоким лбом и пышной бородой, съежившегося на скамье меньше чем в двух футах от дорожки, по которой они идут. Сердце у меня заколотилось так сильно, что я нимало не усомнился: они непременно услышат стук. Я полуподнял обе руки, словно собираясь закрыть лицо ладонями, и застыл в такой позе. Я предстану перед Диккенсом, похожий на слабого, бледного, бородатого кролика с испуганно вытаращенными глазами, пойманного охотником в луч света. Они не посмотрели в мою сторону, шагая вдоль изгороди. Разговор велся на приглушенных тонах, но я без особого труда разбирал слова. Поезд еще не подошел, пригородная дорога была пуста, если не считать стоявшего у обочины экипажа, и единственным другим звуком, долетавшим до моего слуха, была тихая воркотня голубей под карнизом станционного здания. — …Мы можем оставить нашу Печальную Историю в прошлом, — говорил Диккенс. Прописные буквы явственно угадывались в его интонации. И в голосе слышались умоляющие нотки, каких я никогда… никогда прежде не слышал у Чарльза Диккенса. — Наша Печальная История похоронена во Франции, Чарльз, — тихо промолвила Эллен. Она задела широким рукавом живую изгородь, когда они проходили мимо меня. — Но она никогда не останется в прошлом. Диккенс вздохнул. Вздох получился похожим на стон. Они двое остановились за десять шагов до поворота дорожки к станции. Шагах в шести от моей засидки. Я не шелохнулся. — Так что же нам делать? — спросил он. В словах прозвучала такая боль, словно они были исторгнуты у него под пыткой. — Только то, о чем мы уже говорили. У нас нет другого выбора. — Но я не могу! — воскликнул Диккенс рыдающим голосом; если бы я подался ближе к изгороди дюймов на шесть, то увидел бы его, но я не смел пошевелиться. — У меня не хватает воли! — добавил он. — Тогда собери все свое мужество, — сказала Эллен Тернан. По тротуару тяжело шаркнула подошва, легко чиркнул каблучок маленькой туфельки. Мне представилось, как Диккенс резко подается к Эллен, а она невольно отступает на шаг назад, и он снова отстраняется от нее. — Да, — после продолжительной паузы произнес он. — Мужество. Я могу призвать на помощь мужество, когда меня подводит воля. И призвать на помощь волю, когда мужество иссякает. Я всю жизнь только этим и занимался. — Милый мой, славный мальчик, — ласково промолвила Эллен; я вообразил, как она дотрагивается до его щеки облаченной в перчатку рукой. — Давай же будем оба мужественны, — продолжала она с наигранной беспечностью, совсем не идущей зрелой женщине без малого тридцати лет. — Давай отныне и до скончания дней станем братом и сестрой. — И никогда не будем вместе… как раньше? — спросил Диккенс тусклым, монотонным голосом, каким приговоренный к гильотине повторяет приговор судьи. — Никогда. — Никогда не будем мужем и женой? — Никогда! Наступило молчание, затянувшееся настолько, что у меня опять возникло искушение наклониться к просвету в изгороди ипосмотреть, уж не дематериализовались ли Диккенс и Эллен неким чудесным образом. Потом я снова услышал вздох Неподражаемого. Когда он наконец заговорил, голос его звучал громче и тверже, но до жути глухо, как из могилы. — Значит, так тому и быть. Прощай, любимая. — Прощай, Чарльз. Я был уверен, что они не прикоснулись друг к другу и не поцеловались, хотя откуда у меня взялась такая уверенность, я не знаю, дорогой читатель. Я сидел неподвижно, прислушиваясь к шагам Диккенса вдоль плавного изгиба живой изгороди. Один раз шаги прекратились — несомненно, он оглянулся на Эллен, — а потом возобновились. Тогда я все-таки подался вперед, приник лицом к самым веткам изгороди и увидел, как Эллен Тернан переходит через дорогу. Возница заметил ее и тронул вперед. Она опять сложила зонтик и прикрывала лицо ладонями. Эллен не взглянула в сторону станции, когда садилась в коляску, — старый кучер с пышными бакенбардами поддержал пассажирку под локоть, помогая взойти на приступку, и аккуратно закрыл дверцу, когда она уселась. Она не взглянула в сторону станции и потом, когда старик забрался на козлы и двуколка медленно развернулась по широкой дуге на пустом большаке и покатила обратно к Пекхэму. Именно тогда я повернул голову налево и посмотрел сквозь Шпалерную арку. Диккенс уже прошел мимо нее, поднялся по четырем ступенькам на платформу и теперь остановился как вкопанный. Я понял, что произойдет в следующий момент. Он повернется и бросит взгляд поверх парка и живой изгороди, чтобы в последний раз увидеть открытый экипаж Эллен Тернан, исчезающий за поворотом. Он должен повернуться. Неодолимая потребность сделать это явственно читалась в очертаниях его напряженных плеч под летним холщовым сюртуком, в страдальческом наклоне головы, во всей застылой позе. А когда Диккенс повернется — через две секунды или даже раньше, — он увидит своего бывшего соавтора и предполагаемого друга Уилки Коллинза, съежившегося на скамье возле живой изгороди, сквозь которую он подсматривал, словно трусливый извращенец, с обращенным к нему бескровным, виноватым лицом и отражающими бледное небо стекляшками очков вместо глаз. Невероятно, уму непостижимо — но Диккенс не повернулся. Он широким шагом двинулся по платформе и скрылся за станционным зданием, так и не оглянувшись на единственную и величайшую любовь своей жизни, пронизанной сентиментально-романтическим духом. Буквально через несколько секунд к станции подошел поезд, устрашающе пыхтя незримым паром и громко скрежеща металлическими частями. Трясущимися руками я достал часы из жилетного кармана. Курьерский прибыл точно по расписанию. Он отправится от станции Пекхэм через четыре с половиной минуты. Чувствуя слабость во всем теле, я встал и вытащил из-под скамьи саквояж, но прождал еще полных четыре минуты, давая Диккенсу время зайти в вагон и занять место. Может, он будет сидеть у окна со стороны платформы и увидит меня, бегущего к поезду? До сих пор сегодня боги были милостивы ко мне. Зная наверное, что они продолжат мне помогать невесть почему, я прижал саквояж к груди и бросился к платформе, покуда отбытие бездумной, но неукоснительно следующей расписанию машины не расстроило все мои тщательно разработанные планы.Поездка от Пекхэма и Нью-Кросс до вокзала Чаринг-Кросс была недолгой. Большую часть времени я провел, собираясь с духом, чтобы пройти вперед из последнего купе вагона, в который запрыгнул буквально за секунду до отправления. Я часто путешествовал с Диккенсом и знал, какой вагон он выберет и где там займет место. И все равно внутри у меня все оборвалось, когда я, по-прежнему крепко прижимая саквояж к груди, приблизился к купе, где Неподражаемый сидел один, уставившись невидящим взглядом на собственное отражение в оконном стекле. Он являл собой воплощение печали. — Чарльз! — воскликнул я, всем своим видом изображая радостное изумление. Не спросив разрешения, я уселся напротив него. — Какая неожиданная, но приятная встреча! Я думал, вы во Франции! Голова Диккенса резко мотнулась в мою сторону, словно от пощечины. В следующие несколько секунд на обычно непроницаемом лице Неподражаемого отразилась стремительная череда эмоций: сначала глубокое потрясение, потом раздражение, граничащее с яростью, потом мучительная досада, на миг сменившаяся прежней печалью, и наконец… непроницаемое безразличие. — Что вы здесь делаете? — сухо спросил Диккенс; он не поприветствовал меня и даже не попытался принять дружелюбный вид. — Я навещал свою пожилую родственницу. Вы наверняка помните, Чарльз: я вам о ней рассказывал. Она живет между Нью-Кросс и Пекхэмом, и теперь, когда моя матушка умерла, я счел нужным… — Вы сели на поезд в Пекхэме? — осведомился он. Его глаза, обычно теплые и живые, сейчас смотрели пронзительным, ледяным прокурорским взглядом, оценивающим и гипнотизирующим. — Нет, — сказал я; рискованная ложь на мгновение застряла в горле, точно рыбья кость. — Ближе к Гэдсхиллу. Моя родственница живет между Пекхэмом и Нью-Кросс. Я доехал в кебе до Нью-Кросс и сел на поезд там. Диккенс продолжал пристально смотреть на меня. — Дорогой Чарльз, — с усилием заговорил я после минутного молчания. — Вы писали мне, что задержитесь во Франции. Я несказанно удивлен, что встретил вас здесь. Когда вы вернулись? Он хранил молчание еще десять ужасных, мучительно долгих секунд, а потом снова повернул голову к окну и равнодушно промолвил: — Несколько дней назад. Я нуждался в отдыхе. — Ну разумеется, — сказал я. — Разумеется, вам следовало отдохнуть. После Америки… и после премьеры вашей пьесы в Париже! Но как все-таки чудесно, что я столкнулся с вами в этот знаменательный вечер. Диккенс медленно повернул голову обратно ко мне. Я вдруг осознал, что он выглядит лет на десять старше, чем месяц назад, когда вернулся из Америки. Правая сторона лица казалась омертвелой, землисто-бледной, перекошенной. — Знаменательный вечер? — переспросил он. — Девятое июня, — мягко напомнил я. Сердце у меня опять забилось чаще. — Третья годовщина… — Годовщина?.. — Ужасной Стейплхерстской катастрофы, — закончил я. Во рту у меня пересохло. Диккенс рассмеялся. Смех прозвучал жутко. — Найдется ли лучше место, чтобы отметить годовщину подобного кровавого события, чем здесь, в грохочущем, тряском вагоне точно такого же состава, как потерпевший крушение в тот роковой день. Интересно… через сколько старых мостов мы переедем нынче вечером, прежде чем достигнем вокзала Чаринг-Кросс? — Я хочу пригласить вас на ужин, — выпалил я. — Нет, сегодня никак, — сказал он. — Мне надо… — Тут он осекся и снова взглянул на меня. — А впрочем, почему бы и нет? Оставшуюся часть пути до Лондона мы ехали в молчании.
Мы решили отправиться в ресторацию Верея, где часто устраивали праздничные трапезы в былые годы. Сегодняшний ужин обещал быть не самым приятным. Готовясь к прямому разговору с Диккенсом, я планировал сразу, без всяких обиняков, заявить: «Мне непременно нужно увидеться с Друдом. Мне надо, чтобы вы взяли меня собой в Подземный город нынче ночью». Если Диккенс потребует объяснений, я опишу телесные и душевные муки, причиняемые мне скарабеем. (Я с основанием полагал, что он имеет представление о телесных и душевных муках такого происхождения.) А если он ни о чем не спросит, я просто пойду вместе с ним после ужина. Я не собирался говорить Диккенсу, что намерен всадить Друду две пули в грудь и одну в уродливую голову. Диккенс наверняка указал бы мне, что подземные приспешники Друда — ласкары, китайцы, негры и даже молодой Эдмонд Диккенсон — разорвут нас на куски. А я бы тогда ответил: «Значит, так тому и быть», — хотя я надеялся, что до такой крайности дело не дойдет. Но после подслушанного в Пекхэме разговора Неподражаемого с актрисой (бывшей актрисой) я понял, что более тонкий, окольный подход вернее послужит моей цели. (Инспектор Филд со своими агентами ни разу не сумел проследить за Диккенсом до Подземного города, хотя они часто видели, как писатель заходит в различные подвалы и склепы в центре Лондона. Настоящие секретные входы и тоннели, ведущие к логову египтянина, оставались тайной, известной лишь Диккенсу и Друду.) Мы обсудили меню с метрдотелем Генри, пересыпая фразы столь любимыми мной иностранными выражениями, обозначающими соусы, приправы и кулинарные приемы. Потом мы вдумчиво выбрали и заказали несколько сортов вина, а также крепкие напитки для начала. Затем у нас завязалась беседа. Мы расположились не в отдельном кабинете — теперь в ресторации Верея таковые предназначались только для более многочисленных компаний, — но в части уединения не заметили особой разницы: наш стол с сиденьями размещался в кабинке с оклеенными красными тиснеными обоями перегородками и тяжелыми портьерами, расположенной на возвышении в углу главной залы. Даже голоса других посетителей не достигали нашего слуха. — Ну-с, — промолвил я наконец, когда Генри, прочие официанты и сомелье удалились, — поздравляю вас с успешной премьерой «L'Abime»! Мы выпили за это. Диккенс, очнувшись от мрачных раздумий, сказал: — Да, успех был огромный. В переработанном виде пьеса вызвала у парижских театралов восторг, какого не испытала лондонская публика. «Можно подумать, ты был в Лондоне в январе и видел, как зрители принимали спектакль», — подумал я. Вслух же я сказал: Лондонская постановка по-прежнему не сходит со сцены — но все же следует воздать хвалы и новой, парижской версии. — Она гораздо лучше, — заметил Диккенс. Подобное высокомерие не особо уязвило меня, поскольку из конфиденциальных писем Фехтера я знал: хотя Диккенс и обольщался иллюзией, что парижская премьера стала подлинным триумфом, французские театральные критики и просвещенная публика отзывались о ней, как о succes d'estime[16]. Один парижский рецензент написал: «Только врожденная благожелательность французов спасла авторов "L'Abime" от позорного низвержения в сию пропасть». Иными словами, любимая «Пропасть» Диккенса и Фехтера ровно таковой для них и стала. Но я не мог показать Диккенсу свою осведомленность в данном вопросе. Если он узнает о моей тайной переписке с Фехтером, он поймет также, что я прекрасно знал: он покинул Париж в вечер премьеры и всю прошлую неделю скрывался у своей любовницы. А тогда станет ясно, что я лгал, изображая удивление при «случайной» встрече с ним в поезде. — За последующие успехи, — провозгласил я, и мы чокнулись и выпили. Спустя пару-другую секунд я сказал: — «Лунный камень» закончен. Сегодня я вычитал последний выпуск. — Да, — откликнулся Диккенс без тени интереса. — Уиллс прислал мне гранки. — Вы видели столпотворение на Веллингтон-стрит? — Я говорил о толпах, каждую пятницу собиравшихся у дверей редакции, чтобы купить новый выпуск «Лунного камня». — Действительно, — сухо промолвил Диккенс. — В конце мая, перед отъездом во Францию, мне приходилось орудовать тростью на манер мачете, чтобы в давке прорубать путь к своей конторе. Очень неудобно. — Еще бы, — сказал я. — Когда я привозил Уиллсу корректуру или деловые бумаги, я видел мальчишек-рассыльных и привратников, которые стояли на углах, по-прежнему держа на плечах свою ношу, и запоем читали последние выпуски романа. — Хм… — протянул Диккенс. — Насколько я понял, на улицах — и в нескольких лучших лондонских клубах, даже у меня в «Атенеуме», — заключаются пари, когда будет найден алмаз и кто окажется вором. — Англичане готовы заключать пари по любому поводу, — сказал Диккенс. — Однажды я видел, как джентльмены на охоте делают ставку в тысячу фунтов на то, в каком направлении пролетит следующая стая гусей. В голове у меня постоянно звучала фраза «Наша Печальная История похоронена во Франции», произнесенная голосом Эллен Тернан. Интересно, подумал я, какого пола был новорожденный младенец? Устав от бесконечной снисходительности Диккенса, я улыбнулся и сказал: — Уиллс говорит, по продажам «Лунный камень» далеко обошел и «Нашего общего друга», и «Большие надежды». Диккенс поднял голову и впервые посмотрел на меня. Его губы под редеющими, седеющими усами медленно, очень медленно раздвинулись в улыбке. — Неужели? — тихо произнес он. — Да. — Я несколько мгновений пристально рассматривал свой стакан с янтарно-желтым горячительным напитком, а потом спросил: — Вы сейчас работаете над чем-нибудь, Чарльз? — Нет. У меня все не получается сесть за новый роман или хотя бы рассказ, даром что идеи и образы, по обыкновению, так и роятся в моей голове. — Ну разумеется. — Мне… никак не сосредоточиться. — Оно и понятно. Одного американского турне хватило бы, чтобы надолго отвлечь любого писателя от работы. Я упомянул об американском турне нарочно, чтобы дать Диккенсу возможность переменить тему разговора, ибо после своего возвращения и до отъезда во Францию он с великим удовольствием обсуждал со всеми друзьями, включая меня, свои триумфальные выступления там. Но он не пожелал заглотить мою наживку. — Я прочитал гранки ваших последних выпусков, — сказал он. — Вот как? Вам понравилось? Впервые за все время нашего знакомства я задал такой вопрос без особого интереса. Диккенс не был моим редактором — в течение нескольких месяцев его отсутствия эту ненужную роль исполнял Уиллс, — и хотя формально, через свой журнал, он являлся моим издателем, я уже нашел настоящего издателя, Уильяма Тинсли, готового выпустить роман отдельной книгой первым тиражом в полторы тысячи экземпляров и пообещавшего мне гонорар в семь с половиной тысяч фунтов. — В законченном виде роман показался мне крайне скучным, — тихо промолвил Диккенс. С минуту я только и мог, что сжимать свой стакан обеими руками да ошарашенно таращиться на собеседника. — Прощу прощения? — наконец промямлил я. — Вы меня слышали, сэр. Я считаю «Лунный камень» крайне скучным. Конструкция романа чудовищно неуклюжа и тяжеловесна, и все повествование пронизано духом самодовольного высокомерия, вызывающего у читателя неприязнь. Я просто не верил, что мой старый друг говорит мне такое. Я страшно смутился, почувствовав, как запылали мои щеки и уши. После долгой паузы я с усилием проговорил: — Мне искренне жаль, Чарльз, если роман разочаровал вас. Но он всяко не разочаровал многие тысячи увлеченных читателей. — Да, вы уже сказали. — А что именно в конструкции моего романа показалось вам утомительным? Ведь она повторяет конструкцию вашего собственного «Холодного дома»… только усовершенствована по сравнению с ней. Как я уже упоминал вам, дорогой читатель, композиционное строение «Лунного камня» поистине превосходно — роман состоит из ряда письменных свидетельств, составленных по просьбе одного из закулисных персонажей несколькими главными персонажами, которые рассказывают каждый свою историю, опираясь на дневниковые записи, различные заметки и письма. Диккенс имел наглость рассмеяться мне в лицо. — В «Холодном доме», — негромко произнес он, — число точек зрения на происходящие события ограниченно, и все они излагаются автором в третьем лице и неизменно подвергаются авторской оценке, а единственное повествование от первого лица ведется мисс Эмили Саммерсон. Роман построен по образу симфонии. «Лунный камень» производит на любого читателя впечатление натужной какофонии. Бесконечная последовательность свидетельств, написанных от первого лица, как я уже указал, оставляет ощущение чудовищной надуманности и невыразимо утомляет. Я несколько раз моргнул и поставил бокал на стол. В кабинку торопливо вошли Генри и два официанта с первым блюдом. Следом появился сомелье с первой бутылкой — Диккенс попробовал вино и кивнул, — а потом суетливо мельтешащие черные фалды и туго накрахмаленные белые воротнички скрылись прочь. Когда мы остались одни, я сказал: — Должен вам заметить, что весь город обсуждает мою мисс Клак и главы, где она выступает в качестве рассказчицы. Один человек в моем клубе недавно сказал, что не смеялся так со времени выхода в свет «Пиквикских записок». Диккенс прищурился. — Сравнивать мисс Клак с Сэмом Уэллером или любым другим персонажем «Пиквикских записок» — все равно что сравнивать дряхлого хромого мула с породистой лошадью. Все персонажи «Пиквика» — как вам скажут несколько поколений читателей, коли вы потрудитесь спросить, — выписаны с любовью и твердой рукой. А мисс Клак — просто злая карикатура, вырезанная из дрянного дешевого картона. Подобных «мисс клак» не существует ни на Земле, ни на любой другой планете, сотворенной душевно здоровым Творцом. — Ваша миссис Джеллибай из «Холодного дома»… — начал я. Диккенс вскинул ладонь. — Избавьте нас от сравнений с миссис Джеллибай. Они совершенно неуместны. Совершенно неуместны. Я уставился в свою тарелку. — И еще этот ваш Эзра Дженнингс, который вдруг возникает ниоткуда, чтобы решить все загадки в последних главах, — продолжал Диккенс бесстрастным, ровным и неумолимым голосом, похожим на гудение землеройных машин, прокладывающих тоннели под Флит-стрит. — А что неладно с Эзрой Дженнингсом? По единодушному мнению читателей, он весьма очаровательный персонаж. — Очаровательный. — Диккенс жутковато улыбнулся, — И очень знакомый. — Что вы имеете в виду? — Вы думаете, я его не помню? — Я не понимаю, о чем вы говорите, Чарльз. — Я говорю о помощнике врача, встреченном нами во время нашего северного пешего похода в сентябре пятьдесят седьмого года — господи, почти одиннадцать лет назад! — когда мы поднялись на Кэррик-Фелл, а вы поскользнулись и растянули лодыжку и мне пришлось тащить вас с горы на руках, а потом везти на повозке в ближайшую деревню, где местный врач перевязал вам ногу. У его помощника были именно такие пегие волосы и смуглая кожа, какими вы наградили ваше чудовище по имени Эзра Дженнингс. — Но разве мы пишем наших персонажей не с натуры? — спросил я. Я сам услышал жалобные нотки в своем голосе, и меня всего передернуло. Диккенс тряхнул головой. — С натуры, конечно. Но не могли же вы запамятовать, что мы с вами уже вывели вашего Эзру Дженнигса в образе «мистера Лорна», пеговолосого помощника доктора Спедди в нашей совместной повести «Ленивое путешествие двух досужих подмастерьев», опубликованной в рождественском номере журнала в том же самом году. — Не вижу между ними никакого сходства, — холодно промолвил я. — Правда? Очень странно. История мистера Лорна — покойника, оживающего в номере доктора Спедди в переполненной гостинице, — занимает значительную часть той довольно проходной повестушки. То же трагическое прошлое. То же задумчиво-отстраненное выражение лица, та же манера речи. Такие же пегие волосы и смуглая кожа. Я отчетливо помню, как мы писали сцены с ним. — Эзра Дженнингс и мистер Лорн — два совершенно разных персонажа, — решительно заявил я. Диккенс кивнул. — По природе они, безусловно, разные. Мистер Лорн — человек с характером и трагическим прошлым. А ваш Эзра Дженнингс — самый омерзительный и сомнительный персонаж из всех телесно и душевно нездоровых героев, каких вы создали в погоне за сенсационностью. — В каком смысле «сомнительный», можно поинтересоваться? — Можно, и я вам отвечу, милейший Уилки. Эзра Дженнингс — помимо того, что он является опиоманом самого худшего пошиба, каковой чертой вы наделили очень многих своих персонажей, старина, — обнаруживает все признаки полового извращения. — Полового извращения? — Я уже несколько минут назад поднял над тарелкой вилку с подцепленным на нее куском пищи, но так еще и не донес ее до рта. — Если говорить без обиняков, — мягко произнес Диккенс, — всем читателям «Лунного камня» совершенно ясно, что Эзра Дженнингс — содомит. Я неподвижно застыл с поднятой вилкой и открытым ртом. — Чушь! — наконец выпалил я. — Я не подразумевал ничего подобного! Или все-таки подразумевал? Я осознал, что почти все главы с участием Эзры Дженнингса, как и главы с мисс Клак, написал Второй Уилки, пока я пытался диктовать, глубоко одурманенный лауданумом и морфием. — И ваши так называемые Трясучие пески… — начал Диккенс. — Зыбучие пески, — поправил я. — Как вам угодно. Таковых просто не существует, должен вам заметить. Вот здесь я поймал его. Здесь я поймал его! — Вы заблуждаетесь, — сказал я, возвысив голос. — Любой яхтсмен вроде меня знает о таком явлении. В дельте Темзы, в девяти милях к северу от Херн-Бэй, есть отмель, в точности похожая на мои Зыбучие пески. — Таких песков нет нигде на йоркширском побережье, — уточнил Диккенс. Я осознал, что он спокойно нарезает и поглощает свою порцию мяса. — Это известно любому, кто бывал в Йоркшире. Или хотя бы читал про Йоркшир. Я открыл рот, собираясь ответить — ответить язвительно, — но не нашел слов. Именно в этот момент я вспомнил про заряженный револьвер в саквояже, стоящем на сиденье рядом со мной. — И многие считают — как считаем мы с Уиллсом, — что сцена, где ваши Зыбучие пески начинают колебаться, тоже весьма непристойна. — Бога ради, Диккенс, да что же непристойного может усмотреть умственно здоровый человек в описании простой отмели, обычного участка берега, песчаного плывуна? — Возможно, дело в авторском выборе языка и намеках, — сказал Диккенс. — Я цитирую по памяти и привожу выражение вашей несчастной, обреченной мисс Спирман: «Коричневое тело песков медленно приподнялось, а потом содрогнулось и мелко задрожало». Коричневое тело, дорогой Уилки, которое содрогается, мелко дрожит, а потом, я снова цитирую, «втягивает глубоко в себя» — как оно и поступило с бедной мисс Спирман. Откровенное и весьма топорное описание, наводящее на мысль о наивысшей точке физического наслаждения, испытываемого женщиной в процессе любовного акта, — разве не так? Я снова лишился дара речи и ошеломленно уставился на него с разинутым ртом. — Но именно развязка истории, ваша долгожданная разгадка восхитительной тайны, показалась мне верхом натужной надуманности, дружище, — продолжал Диккенс. Я понял, что он никогда не умолкнет. Мне представилось, как несколько дюжин посетителей ресторации, сидящих в других кабинках и главном зале, сейчас прекратили жевать и изумленно слушают, стараясь не пропустить ни единого слова. — Неужто вы и вправду верите, — неумолимо продолжал Диккенс, — или рассчитываете, что мы, читатели, поверим, будто под воздействием нескольких капель опиума, растворенных в бокале вина, человек способен встать во сне, войти в спальню своей невесты — нарушение приличий, делающее сцену почти непристойной, — порыться в ее шкапчике с личными вещами, похитить и перепрятать алмаз — а наутро ничегошеньки не помнить? — Я уверен, что такое возможно, — ледяным тоном произнес я. — Да ну? Как вы можете быть уверены в столь вопиющей несуразности, дружище? — Все особенности поведения человека, находящегося под влиянием лауданума, чистого опиума или других наркотиков, я тщательно исследовал на собственном опыте, прежде чем взяться за перо. Тут Диккенс рассмеялся. Громким, непринужденным, жестоким смехом, продолжавшимся слишком долго. Я резко встал, швырнул на стол салфетку и открыл свой саквояж. Огромный револьвер лежал там на дне, под свернутыми в трубку гранками и остатками закуски. Я захлопнул саквояж и стремительно вышел прочь, едва не забыв шляпу и трость в спешке. Я услышал, как за моей спиной Генри вбегает в нашу кабинку с вопросом, нет ли у «мистера Диккенса» еще каких пожеланий в части еды и обслуживания. В трех кварталах от ресторации Верея я остановился, все еще тяжело дыша, все еще крепко стискивая трость, точно молот, все еще не замечая проезжающих мимо экипажей, людских потоков, текущих по тротуарам в этот погожий июньский вечер, и даже «ночных бабочек», наблюдающих за мной из затененного переулка на противоположной стороне улицы. — Черт побери! — выкрикнул я, испугав двух дам, проходивших мимо в обществе сутулого пожилого джентльмена. — Черт побери! Я круто развернулся и бегом бросился обратно к ресторации. На сей раз все разговоры действительно смолкли, когда я стремглав пронесся через главную залу к недавно покинутой мной кабинке и рывком раздвинул портьеры. Диккенс уже ушел, разумеется. И я упустил свой последний шанс наведаться вместе с ним в логово Друда в 1868 году.
Глава 36
В июле мой брат по состоянию здоровья длительное время провел в Гэдсхилле. Чарли мучался ужасными желудочными спазмами, сопровождавшимися безудержной рвотой. Кейти по-прежнему предпочитала ухаживать за больным мужем в отцовском доме, а не в своем лондонском. (Подозреваю также, что она предпочитала проживать в Гэдсхилле, поскольку там ее саму обслуживали слуги.) В день, о котором пойдет речь, Чарли чувствовал себя несколько лучше прежнего и сидел в библиотеке, разговаривая с другим Чарли — сыном Диккенса, — корпевшим там над какой-то работой. (Кажется, я еще не упоминал, дорогой читатель, что в мае мой редактор и неутомимый заместитель Чарльза Диккенса в «Круглом годе» Уильям Генри Уиллс умудрился упасть с лошади во время охоты и сильно разбил голову. Уиллс уже вполне оправился после травмы, но говорил, что по-прежнему постоянно слышит хлопанье дверей. Данное обстоятельство мешало ему исправно выполнять обязанности редактора, а тем паче администратора, бухгалтера, импресарио и даже преданного слуги Диккенса, и потому Неподражаемый — в мае обратившийся ко мне с письменной просьбой вернуться в редакцию журнала, но не получивший положительного ответа — поручил своему довольно никчемному и бесталанному сыну Чарльзу взять на себя хотя бы малую часть многочисленных обязанностей Уиллса, а всеми прочими занялся он сам, Диккенс. В результате сын стал отвечать на письма в конторе и дома, но даже такое нехитрое дело потребовало запредельного напряжения слабых умственных способностей Чарльза Диккенса-младшего.) Итак, в тот июльский день мой брат Чарли находился в библиотеке вместе с Чарли Диккенсом, когда вдруг оба молодых человека услышали громкие голоса двух людей, мужчины и женщины, которые кричали и ссорились с криками и бранью где-то на лужайке за домом, за пределами видимости. Женские вопли, позже сказал мне брат, звучали поистине ужасно. Оба Чарли ринулись вниз, вылетели за порог и обежали дом. Сын Диккенса опередил моего выздоравливающего брата на целых полминуты. Там, на лугу за длинным двором, где несколько лет назад, в Рождество, мы с Диккенсом видели разгуливающего во сне Эдмонда Диккенсона, сейчас расхаживал взад-вперед Чарльз Диккенс — он разговаривал и кричал двумя разными голосами, мужским и женским, яростно жестикулируя, а потом вдруг набросился на незримую жертву и принялся избивать… избивать ее... невидимой дубинкой. Диккенс превратился в головореза Билла Сайкса из «Оливера Твиста» и совершал зверское убийство Нэнси. Она попыталась убежать, умоляя о пощаде. «И не надейся», — прорычал Билл Сайкс. Она воззвала о помощи к Богу. Бог не ответил, но Билл Сайкс ответил грязной руганью и сбил несчастную с ног ударом тяжелой дубинки. Она попыталась встать, прикрывая голову рукой. Диккенс/Сайкс ударил еще раз и еще, сломав ей тонкие пальцы, перебив предплечье, а потом с размаха обрушил дубинку на ее окровавленную голову. И еще раз, и еще. Чарли Диккенс и Чарли Коллинз словно воочию видели кровь и ошметки мозга, летящие в стороны. Они словно воочию видели лужу крови, медленно растекающуюся под умирающей женщиной, которую Билл Сайкс продолжал осыпать ударами дубинки. Они словно воочию видели брызги крови на искаженном яростью лице Сайкса. Даже у Сайксова пса все лапы были в крови! Злодей продолжал избивать Нэнси и после того, как она испустила дух. По-прежнему склоняясь над воображаемым трупом, по-прежнему сжимая обеими руками дубинку, занесенную над зверски избитым, окровавленным телом в траве, Чарльз Диккенс поднял взгляд на своего сына и моего брата. На его перекошенной физиономии застыла жуткая, торжествующая гримаса. Широко раскрытые глаза хранили дикое, совершенно безумное выражение. Впоследствии мой брат сказал мне, что в страшных тех глазах он явственно увидел вселенское кровожадное зло. Неподражаемый наконец-то нашел «убийство» для следующей серии публичных чтений.Именно в тот день я понял, что должен убить Чарльза Диккенса. Пусть он убивает воображаемую Нэнси на сцене перед публикой. Я убью его по-настоящему. Он увидит, какое из ритуальных убийств успешнее способствует изгнанию скарабея из человеческого мозга. Дабы подготовить условия для осуществления задуманного, я написал Диккенсу извинительное письмо, хотя мне было совершенно не за что извиняться, а ему надлежало попросить у меня прощения за очень и очень многое. Но это не имело значения.
Глостер-плейс, 90 Суббота, 18 июня 1868 г. Дорогой Чарльз! Я приношу искренние и глубокие извинения за неприятную ситуацию, спровоцированную мной в прошлом месяце в нашей любимой ресторации Верея. Тот факт, что я не удосужился принять в соображение ваше переутомление, вызванное бесконечными разъездами и напряженными трудами, несомненно, послужил к возникновению видимости ссоры между нами, а присущее мне неумение изъясняться с тактом привело к печальным последствиям, за которые я еще раз извиняюсь и нижайше прошу прощения. (Все бездумно предпринятые мной попытки сравнить мои жалкие литературные потуги с вашим непревзойденным «Холодным домом» были непростительной наглостью и ошибкой с моей стороны. Никто никогда не спутает вашего смиренного протеже с Великим Мастером.) В настоящее время мне стало сложнее принимать у себя гостей, поскольку миссис Кэролайн Г*** оставила мой дом и место моей домоправительницы, но я все же надеюсь, что вы наведаетесь ко мне на Глостер-плейс, не откладывая дела в долгий ящик. Уверен, невзирая на свою загруженность работой в «Круглом годе» в отсутствие нашего бедного друга Уиллса, вы заметили, что наша поразительно успешная пьеса «Проезд закрыт» наконец сошла со сцены «Адельфи». Признаюсь, я начал набрасывать примерный план следующей драмы — я думаю назвать ее «Черно-белый», ибо в ней пойдет речь о французском дворянине, который волею судьбы оказывается на аукционе на Ямайке в качестве подлежащего продаже раба. Наш дорогой общий друг Фехтер подсказал мне общий замысел несколько месяцев назад — я собираюсь обсудить с ним сюжет подробнее в октябре или ноябре, — и он с великим удовольствием сыграет главную роль. Буду вам очень признателен, коли вы поможете мне советом и критическими замечаниями, дабы я избежал еще грубейших ошибок, нежели допущенные в написанных мной частях «Проезда». В любом случае я почту за честь, если вы со всей вашей семьей станете моими гостями в вечер премьеры в «Адельфи», буде скромный плод нынешних моих усилий удостоится постановки. С нижайшими извинениями и искренним желанием уладить непредвиденную и нежелательную размолвку, омрачившую историю нашей сердечной дружбы, остаюсь Ваш любящий и преданный Уилки У. КоллинзЯ внимательно перечитал письмо и внес несколько незначительных исправлений, усиливая покаянный и подобострастный тон послания. Я не боялся, что после внезапной и таинственной смерти Диккенса оно вдруг обнаружится и вызовет любопытство у биографа, в чьи руки попадет. Неподражаемый по-прежнему ежегодно сжигал все до единого полученные письма. (Будь его воля, он бы сжигал и все свои отправленные письма, но никто из нас, состоявших в переписке со знаменитым писателем, не разделял его пироманских наклонностей в части корреспонденции.) Потом я велел Джорджу отнести письмо на почту, а сам вышел купить бутылку хорошего бренди и щенка.
На следующий день, прихватив с собой бренди, последний номер «Круглого года» и безымянного щенка, я доехал поездом до Рочестера и нанял кеб до собора. Оставив щенка в экипаже, но взяв бренди и журнал, я прошел через кладбище к высоченному, массивному собору. Рочестер был прибрежным городком с узкими улочками и краснокирпичными зданиями, в каковом окружении эта громада из древнего серого камня казалась еще более внушительной и мрачной. Здесь прошло детство Чарльза Диккенса. Именно этот собор стоял у него перед глазами, когда много лет спустя он сказал мне, что Рочестер представляется ему воплощением «всемирного тяготения, тайны, разложения и безмолвия». В этот жаркий и влажный июльский день тут действительно царило безмолвие. И я чуял запах разложения, доносившийся от прибрежных отмелей, затопляемых в пору прилива. Хотя совсем рядом находилось море, «рокочущее и плещущее приливными волнами», как однажды выразился Диккенс, сегодня никакого рокота не слышалось, лишь слабый, нежный плеск, и стояло полное безветрие. Густой солнечный свет лежал на раскаленных надгробных плитах и порыжелой траве подобием неуместного золотого одеяла. Даже тень от соборной башни не давала прохлады. Запрокинув голову, я посмотрел на могучую серую башню и вспомнил, что Диккенс однажды сказал мне о впечатлении, которое она производила на него, когда он был совсем еще маленьким мальчиком: «…сколь ничтожным, смехотворным, мимолетным существом казался я, друг мой, по сравнению с ее мощью, величием, прочностью и долговечностью». Ну ладно, коли у меня все получится — а я твердо решил осуществить задуманное, — собор простоит еще много веков или даже тысячелетие, но жизнь маленького мальчика, превратившегося в пожилого писателя, очень скоро закончится. Пройдя по чуть заметной тропке за дальней границей кладбища, я обнаружил известковую яму, по-прежнему открытую, по-прежнему полную густой жижи и все такую же вонючую. Глаза у меня слезились, когда я шагал обратно через погост, мимо надгробий, каменной ограды и могильной плиты, памятных мне по жутковатому ланчу в обществе Диккенса и Эллен Тернан с матерью. Двигаясь на тихий стук, я обогнул собор, миновал приходский дом и вошел во двор за ним. Там, между каменной оградой и приземистой лачугой с тростниковой кровлей, мистер Дредлс с придурковатым на вид молодым помощником трудились над надгробным памятником, чья высота превосходила рост обоих. На мраморе были высечены только имя и даты рождения и смерти:
ДЖИЛС БРЕНДЛ ДЖИМБИ 1789–1866Мистер Дредлс повернулся ко мне, и я увидел, что лицо у него — под налетом каменной пыли, исчерченным струйками пота, — апоплексически красное. Он вытер со лба пот, когда я приблизился. — Вероятно, вы меня не помните, мистер Дредлс, — начал я. Но я как-то приезжал сюда вместе с… — Дредлс помнит вас, мистер Билли Уилки Коллинз, нареченный в честь художника, намалевавшего то ли дом какой, то ли еще чего, — прохрипел красномордый субъект. — Вы были здесь с мистером Чарльзом Д., сочинившим кучу книжек, — он интересовался стариканами, что покоятся в своих темных норах. — Совершенно верно, — сказал я. — Но мне показалось, в тот день мы с вами оба встали не с той ноги и произвели плохое впечатление друг на друга. Дредлс посмотрел на свои изношенные, дырявые башмаки, которые, я заметил, не разделялись на «правый» и «левый», а были скроены по одной колодке на манер, принятый несколько десятилетий назад. — Никаких других ног, помимо этих двух, у Дредлса нету, — заявил он. — И ни одна из них не может быть «не той». — Я улыбнулся. — Ну разумеется, разумеется. Просто я подумал, что у вас могло сложиться неверное впечатление обо мне. Я привез вам это… — Я вручил каменщику бутылку превосходного бренди. Дредлс снова промокнул платком лицо и шею, откупорил бутылку, понюхал горлышко, отхлебнул изрядный глоток, с прищуром глянул на меня и сообщил: — Это пойло будет получше того, что наливают Дредлсу в «Двухпенсовых номерах» или любом другом заведении. — Он отхлебнул еще. Молодой помощник, с такой же красной от жары и натуги физиономией, как у Дредлса, тупо пялился на него, но выпить не попросил. — Кстати о «Двухпенсовых номерах», — компанейским тоном сказал я. — Что-то я не вижу нигде поблизости вашего камнеметающего постреленка. Как там вы его называли? Депутат? Или сейчас еще не время гнать вас камнями домой? — Чертов мальчишка помер, — сказал Дредлс и хихикнул, увидев выражение моего лица. — О нет, его убил не Дредлс, хотя у Дредлса не раз возникало такое желание. Нет, мальца убила оспа, и спасибо оспе за доброе дело. — Он снова приложился к бутылке и с прищуром посмотрел на меня. — Ни один джентльмен, ни даже мистер Д., не приезжает из Лондона, чтобы напоить Дредлса дорогущим бренди без всякой причины, мистер Билли Уилки Коллинз. Мистер Д. хотел, чтобы я отпирал для него двери ключом из своей огромной связки да простукивал стены, выискивая норы с мертвыми стариканами. А чего мистер Билли У.К. хочет от старого Дредлса в такой жаркий денек? — Может, вы помните, что я тоже писатель. — Я вручил каменотесу и смотрителю подземного кладбища экземпляр «Круглого года». — Это пятничный номер журнала, содержащий заключительные главы моего романа «Лунный камень». — Я открыл журнал на нужной странице. Дредлс уставился на столбцы убористого шрифта, но лишь хмыкнул. Я понятия не имел, умеет ли он читать. Но склонялся к мысли, что не умеет. — И так случилось, что я тоже собираю материал о большом соборе вроде этого, необходимый мне для следующего романа, — сказал я. — О большом соборе и склепах под ним. — Дредлс полагает, мистеру К. нужны ключи, — сказал каменотес. — Мистеру К. нужны ключи от темных нор, где покоятся мертвые стариканы. Казалось, он обращался к своему лопоухому придурковатому помощнику с неряшливой стрижкой, явно вышедшей из-под овечьих ножниц, но парень производил впечатление глухонемого. — Вовсе нет, — возразил я с непринужденным смехом. — Ключи находятся под вашей ответственностью и должны оставаться в вашем владении. Мне просто хотелось бы время от времени наведываться сюда и, возможно, воспользоваться вашим опытом по нахождению полостей в стенах подземной часовни. Разумеется, я буду приезжать не с пустыми руками. Дредлс отхлебнул очередной глоток. Бутылка уже опустела более чем наполовину, и грязное лицо каменотеса, даже под мертвенно-серым налетом пыли, стало краснее прежнего (если такое вообще возможно). — Дредлс честно трудится день-деньской ради приятной возможности изредка закладывать за воротник, — хрипло проговорил он. — Я тоже, — сказал я, добродушно хохотнув. Он кивнул и вернулся к работе — вернее, к наблюдению за придурковатым парнем, орудующим зубилом. По всей видимости, разговор был закончен и договоренность достигнута. Вытирая платком потное лицо, я медленно направился обратно к экипажу. Щенок — неуклюжее, но жизнерадостное существо с длинными лапами, коротким хвостом и пятнистой шерстью — при виде меня запрыгал от восторга на мягком сиденье. — Я ворочусь через минуту, кучер, — промолвил я. Старик на мгновение очнулся от дремы, промычал что-то невнятное и снова уронил подбородок на ливрейную грудь. Взяв щенка, я опять двинулся через кладбище мимо места нашего пикника. Я невольно заулыбался, вспомнив, как Диккенс веселил всех нас, когда убедительно изображал официанта с перекинутым через руку полотенцем, расторопно поднося блюда к могильной плите, служившей нам столом, и ловко разливая вино. Щенок удобно устроился у меня под мышкой и время от времени пытался вилять хвостиком, с обожанием глядя на меня большими глазами. В течение десяти с лишним лет мы с Кэролайн и Кэрри держали нескольких собак. Наш последний любимец умер всего несколько месяцев назад. Под старым кривым деревом на дальней границе погоста валялась сухая ветка длиной фута четыре. По-прежнему держа щенка под левой мышкой и рассеянно почесывая ему голову и загривок большим пальцем, я поднял ветку и отломал от нее сучки, превратив в подобие трости. В зарослях бурьяна за кладбищем я остановился и оглянулся назад. Кеб и дорога уже скрылись из виду. На самом кладбище не наблюдалось никакого движения. Из-за собора доносилось приглушенное расстоянием «тук-тук-тук», сопровождавшее усердную и аккуратную работу Дредлса, — вернее, его подмастерья. Помимо этого звука тишину нарушали лишь жужжание да стрекот насекомых в бурьяне и высокой траве на болотистой пустоши, простиравшейся вплоть до прибрежных отмелей. Даже море и впадающая в него река хранили безмолвие в ослепительных солнечных лучах. Одним плавным движением я свернул щенку шею. Раздался отчетливый, но тихий хруст. Маленькое тельце обмякло в моих руках. Я снова быстро осмотрелся по сторонам и бросил труп щенка в яму с известью. Никакого эффектного шипения или бульканья не последовало. Крохотное пятнистое тельце просто лежало там, наполовину погруженное в густую серую жижу. Наклонившись вперед, я осторожно тыкал мертвого щенка веткой в голову, грудь и крестец, покуда он полностью не скрылся под известью. Затем я швырнул ветку в высокую траву и запомнил место, куда она упала. Двадцать четыре часа? Сорок восемь? Я решил выждать семьдесят два часа (даже чуть больше, поскольку я планировал дождаться сумерек), прежде чем вернуться, с помощью той же самой ветки выудить останки и посмотреть, во что они превратились. Тихо насвистывая мотивчик, популярный в мюзик-холлах нынешним летом, я неторопливо направился через кладбище обратно к экипажу, ждущему на дороге.
Глава 37
Через три дня я получил от Диккенса приятное послание — он благодарил меня за письмо, косвенно давал понять, что принимает мои извинения, и приглашал в Гэдсхилл-плейс. А также любезно высказывал предположение, что, возможно, мне захочется навестить брата, ибо состояние здоровья все еще не позволяет Чарли возвратиться в Лондон. Я принял приглашение и отправился в Гэдсхилл безотлагательно. Все сложилось удачнейшим образом, ведь я в любом случае нынче вечером собирался наведаться к известковой яме на Рочестерском кладбище. Кейти Диккенс встретила меня на передней лужайке, как несколькими годами ранее. День стоял теплый, но дул ласковый ветерок, приносивший благотворные запахи с окрестных полей. Ухоженные кусты, деревья и красные герани слабо трепетали в легких порывахветра, как и длинное кисейное платье Кейти. Волосы у нее были подхвачены заколками над ушами, но распущены сзади — непривычная прическа очень ей шла. — Чарльз сейчас спит, — сказала Кейти. — Он всю ночь промучался ужасными болями. Я знаю, вам хочется повидаться с ним, но мне кажется, его лучше не беспокоить. Я понял, что она говорит о моем брате, а не о своем отце, и кивнул. — Мне придется уехать еще до ужина, но, возможно, Чарли проснется к тому времени. — Возможно, — сказала Кейти, но с явным сомнением на лице. Она просунула руку мне под локоть. — Отец работает в шале. Я провожу вас через тоннель. Я удивленно вскинул брови. — Работает в шале? У меня создалось впечатление, что он сейчас ничего не пишет. — Он и не пишет, Уилки. Он репетирует свой новый ужасный чтецкий номер с убийством. — А… Мы неторопливо пересекли тщательно подстриженную лужайку и спустились в тоннель. Как обычно летом, прохладный воздух в длинном темном тоннеле приносил облегчение от влажной жары наверху. — Уилки, вы когда-нибудь задумывались, прав ли мой отец? «Нет, — пронеслось у меня в уме. — Никогда». Вслух же я спросил: — В каком отношении, дорогая? — В отношении вашего брата. Я почувствовал легкую тревогу. — В смысле — насчет серьезности его заболевания? — Насчет всего. У меня в голове не укладывалось, что она задает такой вопрос мне. Слухи, что Кейт и Чарли так и не осуществили брачные отношения, по-прежнему имели хождение и подогревались злобными высказываниями Чарльза Диккенса. Если верить клеветническим измышлениям последнего, мой брат являлся либо тайным содомитом, либо импотентом, либо и тем и другим одновременно. Разумеется, расспрашивать о подобных вещах никак не годилось. Я похлопал свою спутницу по руке. — Вашему отцу больше всего на свете не хотелось расставаться с вами, Кейти. Он всегда любил вас сильнее всех прочих своих детей. Любой ваш поклонник или муж навлек бы на себя его гнев. — Да, это так, — согласилась Кейти; скромность не входила в число ее достоинств. — Но мыс Чарли проводим столько времени здесь, в Гэдсхилл-плейс, что мне почти кажется, будто я никогда не покидала отчий дом. На это мне было нечего сказать. Тем более что все знали: именно она решила жить здесь, когда Чарли плохо себя чувствует, — а теперь он чувствовал себя плохо практически постоянно. — Вы когда-нибудь задумывались, Уилки, как все сложилось бы, если бы я вышла замуж за вас, а не за вашего брата? Я чуть не остановился. Сердце мое, уже возбужденное полуденной дозой лауданума, бешено заколотилось. В свое время я подумывал о том, чтобы приударить за молодой Кейт Диккенс. Когда происходило то, что все, кроме семейства Диккенс, полагали обычным «разводом» — ужасный и необратимый разрыв всяких отношений, успешно осуществленный Чарльзом Диккенсом, отправившим свою жену Кэтрин в пожизненную ссылку, — так вот, тогда юная Кейт тяжелее всех прочих детей переживала внезапный распад единой общности, которую она считала образцовой английской семьей. В ту смятенную, сумбурную пору ей было восемнадцать — она вышла замуж за моего брата в двадцатилетнем возрасте, — и признаться, я по-прежнему находил ее привлекательной в некоем не поддающемся определению смысле. Даже сейчас я чувствовал, что она, в отличие от своей сестры Мейми, никогда не расплывется и не обабится, как ее мать. Но прежде чем я успел хотя бы проанализировать свой интерес к Кейти, она влюбилась в нашего с Диккенсом общего друга Перси Фицджеральда — или по крайней мере увлеклась им. Когда Фицджеральд довольно холодно отверг ее девичьи заигрывания, Кейт внезапно перевела внимание на моего брата Чарльза, тогда иллюстрировавшего произведения Диккенса и часто бывавшего в Гэдсхилле. Возможно, дорогой читатель, я уже упоминал прежде, что романтический интерес, проявленный Кейти к моему брату, премного изумил всех нас. Чарли тогда совсем недавно стал жить отдельно от нашей матери, и он в жизни не выказывал сколько-либо серьезного интереса к представительницам прекрасного пола. А теперь вдруг это. Там, в темном уединенном тоннеле, от моего понимания не ускользнуло, что Кейти наверняка знает — хотя бы от своего любящего посплетничать отца, — что я выпроводил Кэролайн Г*** из своего дома и ныне являюсь (в их разумении) состоятельным и довольно известным холостяком, одиноко проживающим со своими слугами и «племянницей» Кэрри. Я улыбнулся, давая Кейти понять, что оценил шутку, и сказал: — Уверен, это был бы в высшей степени забавный союз, дорогая моя. С вашей несгибаемой волей и моим ослиным упрямством наши ссоры стали бы легендарными. Кейти не улыбнулась в ответ. Мы уже подошли почти к самому выходу из тоннеля, когда она остановилась и пристально взглянула на меня. — Мне иногда кажется, что все мы сошлись не с теми людьми — мои отец и мать, Чарльз и я, вы и… наверное, все до единого, кроме Перси Фицджеральда с этой его жеманницей. — И еще Уильяма Чарльза Макриди, — подхватил я веселым, шутливым тоном. — Мы не должны забывать о второй жене нашего престарелого трагика. Похоже, этот брак поистине был заключен на небесах. Кейти рассмеялась. — Единственная Кейт, обретшая счастье, — промолвила она, взяла меня за руку, вывела на свет дня и отпустила.— Милейший Уилки! Ах, какой же вы молодец, что приехали! — вскричал Диккенс, когда я вошел в просторную комнату на втором этаже шале. Он вскочил на ноги, быстро обогнул свой незатейливый стол и обеими руками стиснул мою руку. Я внутренне сжался, с ужасом ожидая дружеского объятия. Он держался так, словно никакой размолвки между нами за ужином в ресторации Верея месяц с лишним назад и в помине не было. В летнем кабинете Неподражаемого было, по обыкновению, приятно находиться, особенно сейчас, когда легкий ветерок, летящий от далекого моря, шелестел ветвями двух могучих кедров за распахнутыми окнами. Диккенс поставил с другой стороны письменного стола еще одно кресло, плетеное, с выгнутой спинкой, и сейчас, возвращаясь к своему удобному, массивному рабочему креслу, жестом пригласил меня сесть. Он повел перед собой рукой, указывая на шкатулки и графин на столе. — Сигару? Воды со льдом? — Нет, благодарю вас, Чарльз. — Просто нет слов, как я рад, что все забыто и прощено, — сердечно сказал он, не уточняя, кому именно пришлось забывать и прощать. — Полностью разделяю ваши чувства. Я взглянул на стопки страниц на столе. Заметив мой взгляд, Диккенс протянул мне несколько из них. Я такое уже не раз видел. Он вырывал страницы из какой-нибудь своей книги — в данном случае из «Оливера Твиста», — наклеивал на жесткий картон и вносил в текст многочисленные исправления, дополнения, вставки, заметки на полях. Потом он отсылал все это в типографию, где печатали окончательный вариант — крупным шрифтом, с тройным междустрочным интервалом, с широкими полями, оставленными для последующих ремарок и пометок. Сейчас я держал в руках текст, который он готовил для следующей своей концертной программы. Диккенс внес в него довольно интересные исправления, превращавшие роман, предназначенный для чтения, в инсценировку, предназначенную для слушания, но внимание мое привлекли сценические ремарки, беглым почерком написанные на полях: «Наклоняет голову… Вскидывает руку… Дрожит… Оглядывается в ужасе… Сейчас свершится убийство…» А на следующей наклеенной на картонку странице: «…он дважды бьет по запрокинутому лицу, которого почти касается своим лицом… хватает тяжелую дубинку и ударом сбивает ее с ног!.. лужа крови блестит, дрожит в солнечных лучах… безжизненное тело, и как много крови!!! Даже лапы у пса в крови!!! вышибает ему мозги!!!» Я растерянно моргнул. Вышибает ему мозги. Я совсем забыл, что Сайкс убил не только Нэнси, но и пса. В разных местах на полях по меньшей мере пять раз повторялись слова «Запредельный Ужас!». Я положил страницы обратно на стол и улыбнулся. — Ваше «убийство» наконец-то. — Да, наконец-то, — кивнул Диккенс. — А я-то, Чарльз, наивно считал автором сенсационных романов себя. — Это «убийство» призвано не просто потрясти чувства, дорогой Уилки. Я хочу, чтобы у зрителей, которые посетят мои последние, прощальные публичные чтения, осталось впечатление чего-то исступленно-неистового и трагического, чего-то достигнутого простыми средствами, но вызывающего бурю эмоций. — Понимаю, — сказал я; на самом деле я понимал, что Диккенс намерен грубо шокировать свою впечатлительную публику. — Значит, эта серия выступлений действительно станет последней? — Хм… — промычал Неподражаемый. — На этом настаивает наш друг Берд. На этом настаивают лондонские и парижские врачи. На этом настаивает даже Уиллс, хотя он и так никогда не приветствовал мои публичные чтения. — Ну, нашего дорогого Уиллса можно не принимать в расчет, Чарльз. В настоящее время он склонен к пессимизму из-за постоянного хлопанья дверей у него в черепе. Диккенс хихикнул, но потом промолвил: — Увы, бедный Уиллс! Я знал его, Горацио. — Надо же, на охоте… — сказал я с напускной печалью. Словно услышав сигнальную реплику, по Грейвсенд-роуд прогарцевал всадник в красном охотничьем сюртуке, белых бриджах и начищенных до блеска высоких сапогах, ладно сидящий на сером в яблоках горячем жеребце, грызущем удила. Сразу следом за сим благородным господином прогрохотала телега, полная навоза. Мы с Диккенсом переглянулись и одновременно расхохотались. Как в старые добрые времена. Если не считать того обстоятельства, что сейчас я желал его смерти. Когда мы отсмеялись, Диккенс сказал: — Я тут поразмыслил получше над вашим «Лунным камнем», Уилки. Я весь напрягся, но выдавил слабую улыбку. Диккенс выставил вперед ладони: — Нет-нет, друг мой. С полным восхищением и профессиональным уважением. Я продолжал натужно улыбаться. — Наверное, вы сами этого не сознаете, Уилки, но, возможно, данным сенсационным романом вы положили начало совершенно новому литературному жанру. — Конечно, я сознаю это, — холодно произнес я, понятия не имея, о чем он говорит. Казалось, Диккенс меня не услышал. — Роман, весь сюжет которого вращается вокруг одной-единственной тайны, с поставленным в центр повествования интересным объемным персонажем — сыщиком, причем скорее сыщиком частным, нежели отставным полицейским, — с развитием всех прочих персонажей и достоверным описанием даже самых мелких событий повседневной жизни, вызванных прямыми и побочными последствиями преступления, служащего пружиной главной сюжетной линии… знаете, это новое слово в литературе! Я скромно кивнул. — Я решил и сам забабахать нечто подобное, — сказал Диккенс, употребив одно из самых дурацких американских выражений, подхваченных во время последнего турне по Штатам. В тот момент я ненавидел его лютой ненавистью. — Вы уже придумали название для своего будущего романа? — услышал я свой голос, звучащий вполне нормально. Диккенс улыбнулся. — Я склоняюсь к какому-нибудь незамысловатому названию, дорогой Уилки… ну, например, «Тайна Эдмонда Диккенсона». Признаться, я вздрогнул. — Так значит, до вас дошли какие-то сведения о молодом Эдмонде? — Вовсе нет. Но ваши прошлогодние расспросы о нем навели меня на мысль, что бесследное и с виду беспричинное исчезновение некоего молодого человека может послужить завязкой интереснейшего запутанного сюжета, если в нем имеет место убийство. Сердце у меня бешено заколотилось, и я пожалел, что не могу сейчас отхлебнуть из фляжки с лауданумом, лежащей у меня в нагрудном кармане сюртука. — А вы полагаете, что молодой Эдмонд Диккенсон был убит? — спросил я. Я вспомнил Диккенсона с обритой головой, острыми зубами и фанатично горящими глазами, облаченного в балахон с капюшоном и нараспев повторяющего странные слова в ходе ритуала, когда Друд внедрял скарабея в мое нутро. При одном этом воспоминании скарабей зашевелился, завозился в задней части моего мозга. — Ни в коем случае! — рассмеялся Диккенс. — У меня есть все основания верить молодому Эдмонду, который сказал, что собирается забрать из банка все свои деньги и отправиться путешествовать по свету, — возможно, в конечном счете поселиться в Австралии. И конечно же, я изменю имя главного героя и название романа. Я просто хотел дать вам представление об общем замысле произведения. — Интересно, — солгал я. — И еще месмеризм. — Диккенс улыбнулся, складывая ладони домиком и откидываясь на спинку кресла. — А что насчет него, Чарльз? — Я знаю, вы интересуетесь данным явлением, Уилки. Интересуетесь почти так же давно, как я, хотя, в отличие от меня, никогда месмеризм не практиковали. Вы исподволь ввели месмеризм в свой «Лунный камень» — правда, скорее в виде метафоры, нежели реального явления, — но не сумели правильно им распорядиться. — То есть? — Разгадка вашей так называемой тайны, — сказал Диккенс обычным своим снисходительным менторским тоном, всегда приводившим меня в страшное раздражение. — Ваш мистер Франклин Блэк похищает алмаз в своем опиумном сне наяву, но не знает, что он совершил кражу… — Как я уже говорил, — холодно промолвил я, — такое вполне возможно. Я самолично исследовал подобные состояния и… Диккенс небрежно отмахнулся от моих слов. — Дорогой Уилки, пытливый читатель — а возможно, любой читатель — спросит: «Почему вообще Франклин Блэк похищает алмаз своей возлюбленной?» — Ответ очевиден, Чарльз. Он боится, что кто-нибудь может украсть камень, и потому, под снотворным воздействием опиума, принятого без собственного ведома, он встает во сне и… похищает камень. — Я услышал неуверенные нотки в своем голосе. Диккенс улыбнулся. — Вот именно. Это вызывает сомнения и нарушает достоверность повествования. Но если бы один из ваших персонажей загипнотизировал Франклина Блэка и приказал ему украсть алмаз, а вдобавок кто-нибудь шутки ради подмешал бы опиум в его вино — хотя я бы сделал как месмерическое влияние, так и применение опиума не случайными, а умышленными, предусмотренными преступным планом… ну, тогда все стало бы на свои места, разве не так, друг мой? Я ненадолго задумался. Вносить изменения было уже слишком поздно. Последний выпуск романа уже появился и в «Круглом годе», и в американском журнале издательского дома «Харпер энд бразерс», а в типографии Тинсли уже лежали экземпляры подарочного трехтомного издания в кожаном переплете, предназначенные для Диккенса и прочих моих друзей. — Но я все же утверждаю, что такой вариант противоречит природе месмеризма, Чарльз. Как нам обоим известно, профессор Эллиотсон и остальные специалисты считают, что под воздействием магнетизма человек никогда не совершит поступков, каких не смог бы совершить в полном сознании. Диккенс кивнул. — Да, но Эллиотсон показал — и я показал, — что в состоянии месмерического транса человек зачастую изменяет свое поведение на продолжительные периоды времени, коли ему внушили некие представления, не соответствующие истине. Я не понял, что он имеет в виду, о чем и сказал. — Женщина никогда не вынесет своего грудного ребенка из дома среди ночи, — продолжал Диккенс. — Но если вы ее загипнотизируете и скажете, что дом горит — или загорится, положим, в девять часов вечера, — то она либо сразу, в состоянии месмерического транса, либо позже, под воздействием внушенных представлений, схватит свое дитя и выбежит на улицу, даже не увидев никакого огня. Таким образом ваши индусы в «Лунном камне» могли бы загипнотизировать Франклина Блэка, когда он встретился с ними на территории поместья, а тогда ваш докучливый доктор… мистер Санди? — Мистер Канди, — уточнили. — Мистер Канди тайно опоил бы бедного Франклина Блэка лауданумом в соответствии с неким преступным планом, а не просто ради злой шутки, за которую его следовало бы упечь в тюрьму. — Вы хотите сказать, что славный старый мистер Канди тоже находился под месмерическим влиянием индусов? — спросил я. Внезапно я увидел, что при таком варианте замечательно увязываются все концы, так и не увязанные мной в романе. — Это было бы изящным ходом, — сказал Диккенс, по-прежнему улыбаясь. — Или, возможно, ваш мерзкий наркоман Эзра Дженнингс являлся участником заговора с целью похищения Кохинора. — Лунного камня, — машинально поправил я. — Но мой Эзра Дженнингс персонаж в своем роде героический. Именно он объясняет тайну кражи, а потом воссоздает картину преступления в йоркширском доме тетушки Франклина Блэка… — Эпизод с воссозданием хода событий чрезвычайно удобен для развязки вашего романа, — спокойно промолвил Диккенс, — но может вызвать у читателя еще серьезнейшие сомнения, чем любой другой момент повествования. — Почему же? — Да потому, что в точности воссоздать все обстоятельства первой ночи — ночи похищения алмаза — они не смогли бы при всем желании, милейший Уилки. Невозможность соблюсти одно существенное условие исключила бы всякие шансы, что хождение во сне с последующей кражей повторится. — О каком условии вы говорите? — спросил я. — Во время вашего так называемого эксперимента мистер Франклин Блэк знает, что он одурманен наркотиком; он знает, что Дженнингс считает именно его похитителем алмаза; он знает последовательность событий, которые имели место ранее и должны повториться. Одно это напрочь исключило бы всякую вероятность, что та же самая доза опиума… — Дженнингс развел в вине большее количество препарата, чем использовал мистер Канди, — перебил я. — Не имеет значения, — сказал Диккенс, вновь отметая мое возражение небрежным взмахом руки, каковой жест приводил меня в бешенство. — Суть в том, что само воссоздание событий невозможно. И ваш мистер Эзра Дженнингс — предположительный содомит и заядлый опиоман, с его отвратительными восторгами по поводу «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» Де Куинси, — в качестве положительного героя смотрится очень неубедительно. А Франклин Блэк у вас производит впечатление идиота. Но если бы вы разумно распорядились индусами и ввели в повествование месмеризм как часть преступного плана, а применение опиума сделали скорее средством для достижения цели, нежели чистой случайностью… Диккенс умолк, не закончив фразы. Мне было нечего сказать. По дороге внизу, вне поля видимости, прогрохотал тяжело груженный фургон, судя по стуку копыт, запряженный четверкой рослых лошадей. — Но ваш сыщик — сержант Кафф — поистине великолепен, — неожиданно сказал Диккенс. — Именно он вдохновил меня на мысль самому написать роман, где фигурирует некая тайна и в центре событий находится равно умный и проницательный герой. Кафф у вас получился превосходно… это худощавое телосложение, этот холодный пронзительный взгляд, этот почти нечеловечески острый ум. — Спасибо, Чарльз, — тихо промолвил я. — Если б только вы распорядились им правильно! — Прошу прощения? — Вы блестяще изображаете Каффа, блестяще вводите в повествование, и он действует блестяще… до момента, когда вдруг сбивается со следа, исчезает со сцены на целую вечность, строит неверные гипотезы, несмотря на множество фактов, противоречащих его выводам, а потом и вовсе уезжает в Брайтон разводить пчел… — В Доркинг, разводить розы, — поправил я, испытывая странное дежавю. — Ну да, конечно. Но сам персонаж — сама идея поместить в центр романа скорее частного сыщика, нежели полицейского, — вызывает восхищение. Полагаю, читатели остались бы в совершенном восторге от такого непревзойденного мастера дедукции, как ваш худой, властный сержант Кафф, эксцентричный и совершенно бесстрастный, если бы вы чуть подробнее обрисовали его характер и обстоятельства его жизни. Интересно, удастся ли мне создать подобный персонаж в моей «Тайне Эдмонд а Диккенсона», соберись я когда-нибудь написать такой роман? — Вы можете воскресить вашего инспектора Баккета из «Холодного дома», — угрюмо сказал я. — Он пользовался чрезвычайной популярностью. Помнится, изображение Баккета печаталось на табачных картах. — Было дело, — хихикнул Диккенс. — Он, наверное, самый популярный герой «Холодного дома», и мне, признаюсь, очень нравятся все сцены с ним. Но инспектор Баккет — человек от мира сего и в мире сем живущий… в нем нет тайны, нет необъяснимой привлекательности вашего худого, холодного, отчужденного от всех и вся сержанта Каффа. Помимо всего прочего, поскольку прототип Баккета, инспектор Чарльз Фредерик Филд, приказал долго жить, мне следует, приличия ради, похоронить и персонажа, с него списанного. Я не мог произнести ни слова, казалось, целую вечность. Я приложил все усилия к тому, чтобы восстановить пресекшееся дыхание и не выдать выражением лица всех чувств и мыслей, нахлынувших на меня. После долгой паузы я наконец спросил по возможности спокойным тоном: — Инспектор Филд умер? — О да! Умер минувшей зимой, когда я находился в Америке. Джорджина увидела некролог в «Таймс» и вырезала для меня, справедливо предполагая, что мне захочется присовокупить заметку к своим архивам. — Я ничего об этом не слышал, — с усилием проговорил я. — А вы часом не помните дату его смерти? — Прекрасно помню, — сказал Диккенс. — Девятнадцатое января. Двое моих сыновей — Фрэнк и Генри — родились пятнадцатого января, как вам известно, потому-то я и запомнил дату кончины Филда. — Просто поразительно. — Не знаю, относилось ли мое замечание к превосходной памяти Диккенса или к факту смерти инспектора Филда. — А в некрологе «Таймс» говорилось, как он умер? — Дома, в собственной постели, от тяжелого недуга, насколько я понял, — ответил Диккенс. Разговор про инспектора явно ему наскучил. Девятнадцатого января — то есть на следующий день или на следующую ночь после нашей вылазки в Подземный город. Я оставался в беспамятстве до двадцать второго января и потом еще несколько недель был не в состоянии читать газеты. Ничего удивительного, что я не видел некролога. Ничего удивительного, что в последующие месяцы я ни разу не вошел в сообщение с людьми Филда. Несомненно, частное сыскное бюро инспектора закрылось и все агенты разбежались в поисках другой работы. Если только Диккенс не лжет. Я вспомнил свое прошлогоднее прозрение — когда я вдруг понял, что Диккенс, Друд и инспектор Филд ведут некую затейливую трехстороннюю игру, где я оказался пешкой в самой гуще схватки. Может, Диккенс лжет насчет смерти Филда из каких-то своих тактических соображений? Нет, вряд ли. Мне не составило бы особого труда проверить через своих знакомых в «Таймс», соответствует ли действительности напечатанный там некролог. А если смерть действительно имела место, значит, где-то непременно должна быть могила бедного старого Чарльза Фредерика Филда. Это тоже легко проверить. На какой-то безумный миг я подумал, не имеет ли здесь место некий хитрый тактический ход самого инспектора Филда, инсценировавшего свою смерть с целью обезопасить себя от приспешников Друда, но я почти сразу потряс головой, решительно отметая данное предположение, которое казалось слишком натянутым даже в свете событий, произошедших в течение последних трех лет. — Вам нездоровится, дорогой Уилки? Вы вдруг страшно побледнели. — Просто проклятая подагра донимает, — сказал я. Мы оба поднялись на ноги. — Вы останетесь на ужин? Ваш брат по нездоровью не выходит к общему столу, но, возможно, сегодня, когда вы здесь… Я взглянул на свои часы. — В другой раз, Чарльз. Мне надо вернуться в город. Кэролайн готовит для нас какой-то особый ужин, а потом мы идем в театр… — Кэролайн! — изумленно воскликнул Диккенс. — Так она вернулась? Я помотал головой, улыбнулся и постучал себя пальцем полбу. — Я хотел сказать «Кэрри». Здесь я тоже солгал. Кэрри на всю неделю осталась в доме, где служила гувернанткой. — Ну ладно, как-нибудь в другой раз в ближайшем будущем, — сказал Диккенс. Вместе со мной он спустился вниз по лестнице, вышел из шале и проследовал через тоннель. — Я прикажу кому-нибудь из слуг довезти вас до станции, — сказал он. — Спасибо, Чарльз. — Я рад, что вы наведались в Гэдсхилл, друг мой. — Я тоже рад, Чарльз. Визит оказался в высшей степени познавательным.
Я поехал не сразу в Лондон. На станции я подождал, когда запряженная пони коляска со слугой Диккенса скроется из виду, а потом сел на поезд до Рочестера. Бренди я с собой не привез, а потому дождался, когда погост полностью опустеет — на земле уже лежали длинные вечерние тени от надгробных памятников, — и затем быстро прошел к известковой яме. На поверхности густой серой жижи я не обнаружил никаких признаков мертвого щенка. Немного пошарив в траве, я отыскал ветку, которой пользовался в прошлый раз. Через три-четыре минуты мне удалось подцепить и подтянуть поближе останки — главным образом череп с зубами, скелетные кости и хрящи, но также несколько клочьев шерсти и лоскутов шкуры. Вытащить все это на поверхность с помощью ветки оказалось делом трудным. — Дредлс думает, мистеру Билли Уилки Коллинзу нужна вот эта штуковина, — раздался голос прямо у меня за спиной. Я вздрогнул так сильно, что едва не свалился в известковую яму. Дредлс удержал меня, подхватив под локоть твердой как камень рукой. В другой руке он сжимал усеянный шипами железный прут длиной футов шесть — то ли часть соборной ограды, то ли элемент декора со шпиля, то ли громоотвод с одной из башенок. Дредлс протянул мне прут. — Этим вам будет сподручнее, сэр. — Спасибо, — промямлил я. Действительно, длинный металлический прут, да еще с шипами, пришелся очень кстати. Я перевернул скелет щенка, решил, что более крупному телу потребуется пролежать в гашеной извести пять или шесть дней, и снова утопил останки крохотного существа в густой жиже. На секунду я представился себе неким зловещим поваром, помешивающим бульон, и с трудом подавил истерический смешок. Я отдал железный прут Дредлсу и повторил: — Спасибо. — Да не за что, для Дредлса одно удовольствие услужить джентльмену, — просипел грязный каменотес. Даже сейчас, прохладным вечером, лицо у него было таким же красным, как несколько дней назад, когда он орудовал молотком и зубилом в самую жару. — Я забыл привезти бренди сегодня, — с улыбкой сказал я, — но любезно прошу вас пропустить несколько стаканчиков за мой счет в «Двухпенсовых номерах», когда в следующий раз туда заглянете. — Я вручил Дредлсу пять шиллингов. Он подкинул монеты на темной от въевшейся каменной пыли, мозолистой ладони и широко ухмыльнулся. Я насчитал у него четыре зуба. — Спасибочки вам, мистер Билли Уилки Коллинз, сэр. Дредлс всенепременно выпьет за ваше здоровье. — Замечательно. — Я кивнул, приятно улыбаясь. — Ну-с, мне пора. — Мистер Ч. Диккенс, знаменитый писатель, тоже пользовался этой железякой, когда приезжал сюда год назад, — сообщил Дредлс. Я резко повернулся. От едких испарений, поднимавшихся над ямой с известью, у меня слезились глаза, но на Дредлса ядовитые пары, похоже, не действовали. — Прощу прощения? — промолвил я. Дредлс снова ухмыльнулся. — Он тоже пользовался этой железякой, которую я дал ему, чтоб ковыряться в этом месиве, сэр, — сказал он. — Толькоу мистера Ч. Диккенса, знаменитого писателя, собака была покрупнее, сэр.
Глава 38
Двадцать девятого октября 1868 года я облачился в лучший свой парадный костюм и взял кеб до приходской церкви Сент-Марилебон, где происходило бракосочетание Кэролайн Г*** и Джозефа Чарльза Клоу. Невеста выглядела на все свои тридцать восемь лет, если не старше. Жених же выглядел даже моложе своих двадцати семи. Любому стороннему наблюдателю, не знакомому со Счастливой Четой, было бы вполне простительно принять Кэролайн за мать невесты или жениха. Мать жениха присутствовала там — тупая низкорослая толстуха в нелепом темно-бордовом платье, вышедшем из моды лет десять назад. Она прорыдала всю церемонию и последующий короткий прием, и ее пришлось вести под руки к экипажу после того, как Счастливая Чета укатила — не в роскошное свадебное путешествие, а обратно в крохотный домишко, где они будут жить вместе с матерью Джозефа. Гостей с одной и другой стороны было мало. Миссис Г***, свекровь Кэролайн, по понятной причине на свадьбу не явилась (хотя старуха всегда очень хотела, чтобы невестка вышла замуж вторично). Другая причина, почему бывшая свекровь Кэролайн решила не присутствовать на бракосочетании (если она вообще о нем знала), стала ясной, когда я мельком заглянул в метрическую книгу: Кэролайн придумала фальшивое имя для своего отца — некий «Джон Кортиней, джентльмен». Она вообще всю себя придумала заново — свою семью, свое прошлое, свое первое замужество, — каковой вымысел я (будучи ее «последним официальным работодателем») согласился поддерживать в любых мелочах в случае необходимости. Соблазн перекроить себя на новый лад оказался заразительным. Я заметил, что юная Кэрри, выступавшая в роли свидетеля, подписалась на брачном сертификате «Элисабет Хэрриет Г***», изменив написание обоих своих имен. Но самую наглую ложь позволил себе жених, обозначивший род своих занятий словом «джентльмен». Да уж, если водопроводчик с въевшейся в кожу грязью за ушами и нечистыми ногтями теперь считается английским джентльменом, значит, Англия достигла наконец-то расчудесного социалистического строя, за который столь рьяно ратовали многочисленные реформаторы. Надо признать, единственной особой, имевшей по-настоящему счастливый вид, была Кэрри — из-за юношеской ли своей беспечности или просто из-за преданной любви к матери она не только выглядела очаровательно, но и держалась так, будто все мы присутствуем при чрезвычайно радостном событии. Впрочем, под словами «все мы» я разумею лишь крохотную горстку людей. Со стороны Джозефа Клоу в церкви сидели двое: рыдающая мамаша в креповом платье и не представленный нам небритый мужчина — может, брат Клоу, а может, просто приятель-водопроводчик, явившийся в надежде, что после церемонии будет угощение. Со стороны Кэролайн на свадьбе присутствовали только Кэрри, Фрэнк Берд и я. Нас было так мало, что Берду пришлось расписаться в метрической книге после Кэрри в качестве второго из двух необходимых свидетелей. (Берд предложил расписаться мне, но я обладал не настолько сильной склонностью к ироническому абсурду.) Джозеф Клоу всю церемонию простоял в одеревенелой позе, явно парализованный страхом. Кэролайн так широко улыбалась, и лицо у нее было таким красным, что я думал, она вот-вот разразится слезами и забьется в истерике. Даже приходский священник, похоже, чувствовал что-то неладное и, близоруко щурясь, часто окидывал взглядом наше крохотное собрание, словно ожидая услышать от кого-нибудь из нас, что все происходящее — просто шутка такая. В ходе всей церемонии я ощущал странное онемение в теле и мозгу. Возможно, дело было в дополнительной дозе лауданума, принятой перед трудным днем для укрепления сил, но мне кажется, так выражалось сознание окончательной и бесповоротной разлуки. Признаюсь, когда жених и невеста повторяли заключительные клятвы, я смотрел на Кэролайн, неестественно прямо стоявшую в своем дешевом, плохо подогнанном свадебном платье, и вспоминал все мягкие (теперь слишком мягкие) изгибы и выпуклости тела, скрытого под ним. Я не испытывал никаких эмоций — только странное, всепоглощающее чувство опустошенности, которое впервые стало одолевать меня в последние недели, когда по возвращении домой на Глостер-плейс я не заставал там ни Кэролайн, ни Кэрри, ни даже всех трех своих слуг, часто отсутствовавших (с моего разрешения) в связи с болезнью родителей Бесс. Огромный дом, где не слышны голоса и звуки человеческой жизни, кажется вымершим. По завершении церемонии не последовало ни угощения, ни приема, достойного таковым зваться, — просто непродолжительное и неловкое топтание во дворе приходской церкви. Потом новобрачные отбыли в открытом экипаже — погода стояла довольно холодная, и начал накрапывать дождь, но у молодых, по всей видимости, не хватило денег на карету. Образ счастливой четы, укатывающей навстречу блаженству, несколько подпортил Фрэнк Берд, когда предложил подвезти Кэрри и мать Джозефа Клоу в своей карете до того же самого дома, куда минутой ранее отправились молодожены. (Кэролайн посчитала важным, чтобы первые несколько недель ее супружества Кэрри провела вместе с ней в тесном, спартанском домишке, хотя девочка будет по-прежнему работать гувернанткой и вскоре вернется ко мне на Глостер-плейс.) Наконец, после того как священник в полном замешательстве удалился обратно в полутемную церковь, во дворе на промозглом позднеоктябрьском ветру остались только второй водопроводчик (я все-таки решил, что он не приходится Джозефу родней) да я. Дотронувшись до шляпы и легко кивнув голодному мужчине, я двинулся прочь и дошел пешком до дома своего брата на Саут-Одли-стрит. К концу жаркого лета Чарли несколько полегчало, и с середины сентября они с Кейти проводили больше времени в своем лондонском доме, нежели в Гэдсхилл-плейс. Чарли по мере сил работал над разными иллюстрациями, но с ним часто случались приступы желудочной боли и общей слабости. Тем не менее я удивился, не застав брата дома в тот четверг двадцать девятого октября. Кейти тепло приняла меня в маленькой сумрачной гостиной. Она знала о свадьбе Кэролайн и попросила меня рассказать «обо всех восхитительных основных моментах». Она предложила мне бренди — очень кстати, ибо я озяб по Дороге и явился с красными от холода щеками, носом и руками, — и у меня слонялось четкое впечатление, что Кейти уже выпила до моего прихода. Я поведал «обо всех восхитительных основных моментах» — но не одной только свадебной церемонии, а всего своего многолетнего знакомства с миссис Кэролайн Г***. История, конечно, возмутительная с точки зрения обывателя, но я давно знал, что Кейти не разделяет многих мелкобуржуазных заблуждений своего отца. Если верить многочисленным слухам, Кейти уже давно завела любовника — или нескольких любовников, — дабы восполнить отсутствие страсти (или неспособность проявить оную) со стороны моего брата. Здесь, в маленькой полутемной гостиной с закрытыми ставнями и крохотным камином, служившим единственным источником света, рядом со мной сидела, потягивая бренди, обычная земная женщина, и я вдруг осознал, что рассказываю ей такие подробности наших с Кэролайн взаимоотношений, которыми не делился ни с кем, включая ее отца. Потом в какой-то момент я понял: помимо потребности отвести наконец душу перед кем-нибудь есть еще одна причина, почему я рассказываю Кейт Диккенс все это. Пусть неохотно, тайно, с мучительным чувством, но мне пришлось в конечном счете согласиться с предсказанием ее бессердечного отца, что мой старший брат долго не протянет. Болезнь Чарли, несмотря на редкие периоды облегчения, в целом неуклонно усугублялась. Теперь представлялось вполне вероятным (даже мне, преданному и любящему брату), что Чарли через год-другой умрет и эта увядающая (сейчас ей было двадцать восемь), но все еще привлекательная женщина станет вдовой. Кейти тоже позволила себе излишнюю откровенность, заявив вдруг: — Вы бы удивились, если бы узнали, что отец сказал о замужестве миссис Г***. — И что же? — Я подался ближе к ней. Она подлила еще бренди нам обоим, но помотала головой. — Это уязвит ваши чувства. — Чепуха. Никакие высказывания вашего отца не могут уязвить мои чувства. Очень уж давно нас с ним связывают близкие, доверительные отношения. Пожалуйста, скажите мне. Что он сказал по поводу сегодняшней церемонии? — Ну, мне он ничего не сказал, разумеется. Но я случайно услышала, как он сказал тете Джорджине: «Любовные истории с участием Уилки совершенно непредсказуемы. Вполне вероятно, вся затея с замужеством — просто фарс, разыгранный этой женщиной с умыслом заставить Уилки жениться на ней, однако, вопреки ее ожиданиям, послуживший к окончательному разрыву». Я сидел, ошеломленный. И да, уязвленный. И изумленный. Неужели это правда? Неужели даже свадьба являлась очередной уловкой, на которую пустилась Кэролайн с целью затащить меня под венец? Неужели она надеялась, что я, осознав величину утраты, явлюсь за ней даже в дом Джозефа Клоу, презрев и поправ всякие супружеские узы, и попрошу ее вернуться ко мне… выйти замуж за меня? Я передернул плечами, испытывая чувство, похожее на отвращение. — Ваш отец — очень умный человек, Кейти, — только и сумел выдавить я. Ввергнув меня в удивление и трепетное волнение, она подалась ко мне и крепко сжала мою руку. После третьего бренди я вдруг услышал, что плачущим голосом произношу тираду, которую много позже и в совершенно другой ситуации почти слово в слово повторю своему брату Чарли. — Кейт… будьте ко мне снисходительны. Год у меня выдался просто ужасный: моя тяжелая болезнь, смерть матери, одиночество… Сегодня, на бракосочетании Кэролайн, я чувствовал, с одной стороны, странное удовлетворение, а с другой — непонятную горечь. В конце концов, она свыше четырнадцати лет была частью моей жизни и свыше десяти жила в моем доме. Мне кажется, дорогая Кейти, человек в моем положении достоин жалости. Я не… Я уже очень давно… Я не привык жить один. Я привык, чтобы рядом со мной постоянно находилась добрая женщина, которая бы разговаривала со мной, как вы сейчас, Кейт… заботилась обо мне и немножко меня баловала. Это нравится всем мужчинам, но мне, вероятно, больше, чем очень и очень многим. Вам, женщине, жене, трудно понять, что испытывает мужчина, привыкший ежедневно видеть в доме очаровательное создание… всегда изящно одетое, всегда находящееся в одной комнате с ним или где-нибудь поблизости, привносящее тепло и свет в жизнь старого холостяка… что он испытывает, когда вдруг, не по собственному выбору, остается один, как я сейчас… совсем один в темноте и холоде. Кейти смотрела на меня очень пристально. Похоже, она придвинулась ко мне, пока я говорил. Ее бедро под зеленым шелковым платьем было всего в нескольких дюймах от моего. Внезапно я почувствовал острое желание упасть перед Кейти на колени, уткнуться ей в подол и разрыдаться, как малое дитя. В тот момент я не сомневался: она бы обняла меня, погладила по спине, по голове, возможно даже, прижала бы к груди мое мокрое лицо. Я остался сидеть на месте, но подался к ней еще ближе. — Чарли очень болен, — прошептал я. — Да. — В этом односложном слове не слышалось печали, только согласие. — Я тоже тяжело болел, но точно выздоровлю. Моя болезнь носит преходящий характер. Даже сейчас она не мешает мне работать и… жить полноценной жизнью. Кейти смотрела на меня, как мне показалось, выжидательно. Тогда я проговорил тихо, но выразительно: — Кейти, я полагаю, вы смогли бы выйти замуж за человека, который… — Не смогла бы, — решительно промолвила она. И поднялась на ноги. Сконфуженно отшатнувшись, я тоже встал. Кейт крикнула служанке принести мои пальто, трость и шляпу. Я очутился на крыльце, не успев придумать, что сказать. В любом случае я еще не обрел дар речи. Дверь с грохотом захлопнулась за мной. Я прошел половину квартала, наклоняясь против холодного ветра с дождем, когда вдруг увидел Чарли на другой стороне улицы. Он окликнул меня, но я притворился, будто не заметил и не услышал его, и стремительно прошагал дальше, придерживая шляпу и заслоняя рукавом лицо. Через два квартала я поймал кеб и поехал на Болсовер-стрит. Марта Р*** открыла дверь сама, поскольку все слуги тогда отсутствовали. Она не ждала меня сегодня, и по ее лицу я понял, что она по-настоящему мне обрадовалась. Той ночью она зачала первого нашего ребенка.Глава 39
В ноябре Диккенс представил «убийство» перед зрительской аудиторией из сотни ближайших своих друзей и знакомых. Уже больше года Неподражаемый вел переговоры с фирмой Чаппела насчет своего следующего турне — так называемой прощальной серии публичных чтений. Чаппел предложил провести семьдесят пять выступлений, но Диккенс — чей недуг усугублялся, слабость возрастала, а список разных болячек увеличивался с каждым днем — настаивал на ста выступлениях за круглую сумму в восемь тысяч фунтов. Его старейший друг Форстер, всегда выступавший против чтецких гастролей по той веской причине, что они отвлекают Диккенса от литературной работы и отнимают у него здоровье и силы, решительно заявил Неподражаемому, что попытка дать сто выступлений сейчас, в нынешнем его состоянии, равнозначна самоубийству. Фрэнк Берд и остальные доктора, пользовавшие Диккенса последний год, были полностью согласны с Форстером. Даже Долби, чье присутствие в жизни писателя целиком зависело от публичных чтений, полагал, что пускаться сейчас в турне не стоит, а замахиваться аж на сто выступлений категорически нельзя. И все до единого родственники, друзья, врачи и надежные советчики сходились во мнении, что Диккенсу не следует включать в программу прощального турне «убийство Нэнси». Иные — например, Уилле и Долби — просто считали номер слишком сенсационным для столь уважаемого и почитаемого писателя. Большинство же остальных — Берд, Перси Фицджеральд, Форстер, я и многие другие — почти не сомневались, что этот номер убьет Неподражаемого. В изнурительных тяготах предстоящего турне, не говоря уже о душевных муках, сопряженных с каждодневными путешествиями железной дорогой, Диккенс видел (как он выразился в разговоре с Долби) «облегчение для ума». Здесь Диккенса не понимал никто, кроме меня. Я-то знал, что Чарльз Диккенс является своего рода суккубом в мужском обличье — на выступлениях он не только подчинял своей месмерической, магнетической власти сотни и тысячи зрителей, но также вытягивал из них энергию. Не имей он потребности и возможности питать свои силы таким образом, он наверняка уже много лет назад умер бы от болезней и немощей. Он был вампиром и нуждался в публичных выступлениях, чтобы за счет энергии зрителей поддерживать в себе жизнь. В результате Чаппел согласился на условия Неподражаемого: сто выступлений за восемь тысяч фунтов в общей сложности. Программа американского турне — которое, как Диккенс признался мне, довело его до полного изнеможения — предусматривалавосемьдесят выступлений, но из-за отмены нескольких дат сократилась до семидесяти шести. Кейти сказала мне (задолго до нашей встречи двадцать девятого октября), что совокупный заработок Диккенса от гастролей в Штатах составил двести двадцать восемь тысяч долларов, а расходы — главным образом на переезды, аренду концертных залов, проживание в гостиницах плюс пять процентов комиссионных отчислений американским агентам из фирмы «Тикнор и Филдс» — вылились в сумму менее тридцати девяти тысяч долларов. Предварительные расходы Диккенса в Англии составили шестьсот четырнадцать фунтов, ну и разумеется, он выплатил три тысячи фунтов комиссионных Долби. Вышесказанное заставляет предположить, что американское турне 1867–1868 годов принесло Диккенсу доход, равный небольшому состоянию — огромные деньги для любого литератора, — но он решил отправиться в гастрольную поездку по Штатам спустя всего три года после окончания Гражданской войны. Во время войны доллар повсюду сильно обесценился, и к началу лета 1868 года еще не восстановил свою меновую стоимость. Кейти объяснила мне: если бы отец просто вложил заработанные от американского турне деньги в ценные бумаги той страны и дождался, когда доллар вернет прежние позиции, он получил бы почти тридцать восемь тысяч фунтов прибыли. Но вместо этого Неподражаемый тогда же обратил доллары в золото, уплатив налог в размере сорока процентов. «Мой доход, — похвастался он дочери, — составил порядка двадцати тысяч фунтов». Сумма внушительная, спору нет, но явно недостаточная, чтобы сопряженные с турне дорожные тяготы, физические и моральные затраты, изнурение сил и упадок писательских способностей окупились сполна. Так что, вполне возможно, в случае последней сделки с Чаппелом Диккенс руководствовался столько же своими вампирическими потребностями, сколько элементарной жадностью. Или же он пытался совершить самоубийство посредством турне. Признаюсь, дорогой читатель, такое предположение не только приходило мне на ум и казалось вполне вероятным, но также обескураживало меня. Я хотел сам убить Чарльза Диккенса. Но возможно, будет лучше, если я просто помогу Неподражаемому совершить самоубийство выбранным им способом.Диккенс начал турне шестого октября в своем любимом концертном зале Сент-Джеймс-Холл в Лондоне, но «убийство» в программу чтений не включил. Он знал, что гастроли придется на время прервать: в ноябре предстоят всеобщие выборы, и на период выборной кампании он будет вынужден прекратить выступления по той простой причине, что арендовать концертные залы или театры, отвечающие нужным требованиям, будет решительно невозможно, покуда политики неистовствуют и беснуются. (Ни для кого не являлось секретом, что Неподражаемый поддерживал Гладстона и либеральную партию, но близкие друзья знали: он поступает так скорее потому, что всегда на дух не переносил Дизраэли, нежели потому, что верит в способность либералов провести в жизнь социальные реформы, за которые он, Диккенс, всегда ратовал в своих художественных произведениях, публицистике и публичных речах.) Но даже щадящие октябрьские чтения, без «убийства» (Лондон, Ливерпуль, Манчестер, снова Лондон, Брайтон и Лондон), сильно подкосили здоровье Диккенса. В начале октября Долби рассказывал о прекрасном настроении и радости Шефа в связи с возобновлением публичных чтений, но уже через две недели Долби признавал, что Неподражаемый мучается бессонницей в дороге, страдает тяжелыми приступами меланхолии и впадает в ужас всякий раз, когда садится в поезд. При малейшем толчке или покачивании вагона, по словам Долби, он вскрикивал от страха за свою жизнь. К великой тревоге Фрэнка Берда, у Диккенса снова распухла левая нога (неизменный симптом более серьезных недугов) и с небывалой силой возобновились старые почечные боли и желудочные кровотечения. Еще большее впечатление производили сообщения Кейти, доходившие до меня через брата: Диккенс часто плакал и порой был совершенно безутешен. Спору нет, в течение лета и ранней осени Диккенс понес немало личных утрат. Его сын Плорн, сейчас семнадцати лет без малого, в конце сентября уехал в Австралию к своему брату Альфреду. На станции Диккенс разрыдался, хотя прежде всегда хранил спокойствие при расставаниях с близкими. В конце октября, уже сильно утомленный тяготами турне, Неподражаемый узнал о смерти своего брата Фредерика, с которым очень давно не поддерживал никаких отношений. Форстер сказал мне, что в письме к нему Диккенс написал: «Он прожил никчемную жизнь, но не дай бог, чтобы кто-нибудь сурово осуждал это или вообще что-нибудь на свете, помимо умышленных и безусловно дурных деяний». Мне же, во время одного из наших редких совместных ужинов в ресторации Верея, Диккенс просто сказал: «Уилки, мое сердце превратилось в кладбище». В начале ноября, когда до публичного убийства Нэнси оставалось две недели, мой брат сообщил мне, что Кейти случайно услышала, как Неподражаемый говорит Джорджине: «Мне никак не справиться с душевным разладом, и у меня началась жестокая бессонница». Он писал Форстеру: «Мне нездоровилось, и меня одолевала усталость. Однако мне не на что жаловаться — совершенно не на что. Хотя я изнурен, как Мариана». Форстер, сам тогда находившийся не в лучшем состоянии, по секрету показал мне письмо (воображая, будто существует некий круг ближайших друзей Диккенса, премного озабоченных состоянием его здоровья), но признался, что не понял отсылки к «Мариане». Я-то сразу понял и с трудом подавил улыбку, цитируя слова Марианы из поэмы Теннисона, на которую, несомненно, и ссылался Диккенс:
Изнурена, изнурена безмерно я. О боже, лучше умереть!Одно из октябрьских выступлений в Сент-Джеймс-Холле я посетил без ведома Диккенса. Тогда Неподражаемый начал вечер с обычной живостью, всем своим видом показывая, сколь великое наслаждение лично он получает от очередного обращения к «Пиквикским запискам» (такие его чувства, искренние или притворные, неизменно приводили публику в восторг), но уже через несколько минут он запнулся и долго не мог выговорить слово «Пиквик». — Пиксник, — назвал он своего персонажа, осекся, чуть не рассмеялся и попытался снова: — Пеквикс… Прошу прощения, дамы и господа, я хотел сказать, разумеется… Пикник! То есть Пакритс… Пекснифф… Пикстик! После еще нескольких равно конфузных попыток Диккенс умолк и посмотрел на своих друзей в первом ряду (я в тот вечер сидел на балконе далеко от сцены) с выражением веселого изумления. Но я прочитал также на его лице легкое отчаяние, словно он просил о помощи. И даже со своего места в задних рядах смеющейся, обожающей толпы я почти физически ощутил запах внезапно нахлынувшей на него паники. Все последние недели Диккенс без устали шлифовал текст «Убийства Нэнси», но пока не представлял номер перед публикой. За ужином в ресторации Верея он признался мне: — Я просто боюсь выступать с ним, Уилки. Я не сомневаюсь, что повергну зрителей в ужас, даже если прочитаю хотя бы одну восьмую текста!.. Но не окажется ли впечатление столь страшным, столь невыносимо жутким, что они зарекутся впредь ходить на мои чтения, — вот какой вопрос смущает меня. — Вы определитесь через несколько выступлений, когда хорошенько прощупаете публику, дорогой Чарльз, — сказал я тогда. — Вы почувствуете, когда настал нужный момент. Чутье никогда вам не изменяло. Диккенс просто кивнул, принимая комплимент, и рассеянно отхлебнул вина. Позже Долби сообщил мне, что я приглашен в качестве особого гостя — в числе ста пятнадцати других «особых гостей» — на закрытое чтение, которое состоится в субботу, четырнадцатого ноября, в Сент-Джеймс-Холле (дело происходило во время перерыва в турне, вызванного выборной кампанией). Наконец-то Диккенс решился убить Нэнси.
Днем четырнадцатого ноября я отправился в Рочестер. Дредлс встретил меня перед собором, и я совершил заведенный ритуал дароприношения. Для этого пыльного старика я покупал гораздо более дорогой бренди, чем для себя или своих особых гостей. Довольно крякнув, Дредлс быстро затолкал подарок за пазуху, под толстые парусиновые куртки, фланелевые сюртуки и молескиновые жилеты. Он был таким пухлым и округлым в своих ста одежках, что я даже не заметил выпуклости от спрятанной под ними бутылки. — Дредлс говорит, пожалте за мной, губернатор, — прохрипел он и повел меня вокруг собора и башни ко входу в подземную часовню. Он нес с собой фонарь «бычий глаз» с опущенной шторкой, который ненадолго поставил на землю, пока хлопал себя по бокам и груди в поисках ключей. Он поочередно извлек множество ключей и ключных связок из множества своих карманов, прежде чем отыскал нужный. — Берегите голову, мистер Билли Уилки Коллинз, — только и промолвил он, поднимая зашторенный фонарь и вступая в темный лабиринт. День стоял пасмурный, и сквозь незастекленные трапециевидные проемы в крестосводчатом потолке почти не проникал свет. Эти сквозные отверстия, по замыслу давно умерших строителей собора призванные служить для освещения подземного некрополя, сейчас чуть не сплошь затягивали древесные корни, кусты, а в иных местах так и просто дерн. Я следовал за Дредлсом, ориентируясь главным образом по звуку и скользя ладонью по влажной каменной стене. Восходящая сырость. «Тук-тук-тук… тук-тук-тук…» Похоже, Дредлс услышал эхо нужного тона. Он поднял шторку фонаря и показал мне участок стенной кладки в месте, где коридор плавно поворачивал и ступеньками уходил ниже в подземелье. — Мистер Билли У. К. видит это? — спросил он, насыщая холодный воздух между нами алкогольными парами. — Здесь стену разобрали, а потом отверстие заложили камнями поновее, заново посаженными на известковый раствор, — сказал я, стараясь не стучать зубами. Говорят, в пещерах, где постоянно держится температура за пятьдесят градусов, всегда теплее, чем на промозглом ветру в ноябрьский день. Но только не в этой пещере-часовне. — Так точно, сам Дредлс и поработал тут всего два года без малого назад, — сообщил он, обдав меня спиртным духом. — И никто на свете, ни настоятель, ни регент, ни даже другой каменщик, уже через два-три дня ничегошеньки не заметит, ежели новый раствор здесь сменится совсем свежим. Никто — коли за дело возьмется Дредлс. Я кивнул. — И прямо за стеной находится склеп? — Нет, нет, — рассмеялся облаченный в сто одежек каменщик. — От мертвого старикана нас отделяют две стены. За этой стеной находится другая, подревнее. А промеж ними — полость шириной дюймов восемнадцать, не больше. — Этого достаточно? — спросил я, у меня не хватило духу закончить фразу словами «для тела». Дредлс пристально взглянул на меня, красные слезящиеся глаза заблестели в свете фонаря. Казалось, он ясно прочитал мои мысли и забавлялся от всей души. — Нет, для цельного тела недостаточно, — сказал он чересчур громко. — Но для ребер, хребта, таза, мелких костяшек, часовой цепочки, одного-двух золотых зубов да славного, гладкого, оскаленного черепа… там места хватит с избытком, сэр. Хватит с избытком. Старикан в склепе не станет возражать, ежели в полости промеж стенами поселится новый постоялец, мистер Билли Уилки Коллинз, сэр. Меня затошнило. Если я не уберусь отсюда сейчас же, меня вырвет прямо на грязные, скроенные по одной колодке башмаки кладбищенского каменотеса. Но я все-таки задержался еще на минуту, чтобы спросить: — Вы с мистером Диккенсом выбрали это место для костей, что он принесет? — О нет, сэр. Наш мистер Чарльз Диккенс, знаменитый писатель, выбрал местечко потемнее и поглубже для костей, которые он притащит Дредлсу. В низу вон той лестницы, сэр. Господину Уилки угодно посмотреть? Я помотал головой и, не дожидаясь, когда мой спутник с фонарем двинется следом, ощупью выбрался наверх и наружу.
Вечером, сидя в Сент-Джеймс-Холле в числе ста с лишним ближайших друзей и знакомых Чарльза Диккенса, я прикидывал, сколько раз Неподражаемый выступал на этой сцене — либо в качестве актера, либо в качестве первого представителя новой породы писателей, начавших читать перед публикой свои произведения. Сотни раз? По меньшей мере. Он сам и является — или являлся — этой «новой породой писателей». Похоже, у него нет равных и нет достойных соперников. Публичное убийство Нэнси откроет новую страницу в профессиональной жизни литераторов. Форстер сказал мне, что именно он убедил Диккенса спросить мнение Чаппелов по поводу пагубной (как считал Форстер) идеи включить «Убийство Нэнси» в программу чтений. И именно Чаппелы предложили опробовать столь мрачный и страшный номер на избранной зрительской аудитории. Перед самым представлением я случайно услышал, как известнейший лондонский врач (не наш славный друг Берд, а другой) говорит Неподражаемому: «Мой дорогой Диккенс, поверьте мне на слово: если хотя бы одна из женщин завизжит, когда вы будете разделываться с Нэнси, в зале начнется повальная истерика». В ответ Диккенс лишь скромно опустил голову и улыбнулся улыбкой, которую любой, кто его знал, посчитал бы скорее злобной, нежели озорной. Заняв место во втором ряду, рядом с Перси Фицджеральдом, я заметил, что эстрада оборудована несколько иначе, чем всегда. Помимо привычной осветительной установки в виде рамы на переднем плане и фиолетово-бордового задника, создававшего чрезвычайно выгодный фон для чтеца на погруженной во мрак сцене, по обеим сторонам были поставлены еще две большие ширмы того же цвета, наподобие кулис в театре, а за ними находились занавеси, тоже темно-бордовые, при помощи которых предполагалось уменьшать размеры широкой сцены до крохотного, ярко освещенного пространства, таким образом изолируя фигуру чтеца и привлекая к ней напряженное внимание зрителей. Признаюсь, я ожидал, что Диккенс начнет выступление с какого-нибудь менее сенсационного номера — скажем, с сокращенной версии старинной и неизменно популярной сцены Суда из «Пиквикских записок» («Позовите Сэма Уэллера!»), — дабы постепенно подготовить публику к «буре и натиску» последующего убийства Нэнси и показать всем нам, как другие номера из концертной программы смягчат и сгладят впечатление от столь жуткого финала. Но он этого не сделал. Он начал сразу с «убийства». Я уже рассказывал вам, дорогой читатель, о ремарках Неподражаемого, сопровождавших черновой текст сцены убийства, написанный ранним летом, но я не могу сказать вам, насколько слабое представление дают они о том, что происходило в течение следующих сорока пяти минут, — да и мои скромные способности к описанию, пусть и отточенные за многие годы литературной практики, здесь бессильны. Возможно, дорогой читатель, в вашем невообразимо далеком будущем, в конце двадцатого или начале двадцать первого века (если у вас все еще принято вести летоисчисление от Рождества Христова), вы изобрели, пользуясь новейшими достижениями научной алхимии, некое зеркало, способное отражать прошлое, и теперь можете видеть и слышать Нагорную проповедь, или речи Перикла, или первые представления шекспировских пьес в постановке самого автора. Коли так, я посоветовал бы вам добавить к вашему списку Обязательных к Просмотру Исторических Выступлений номер «Билл Сайкс убивает Нэнси» в исполнении некоего Чарльза Диккенса. Разумеется, он приступил к «убийству» не с ходу. Если вы помните, ранее я уже описывал вам публичные чтения Диккенса: спокойное поведение, открытая книга в руке, хотя он практически никогда не заглядывал в текст, театральный эффект, достигавшийся за счет имитации самых разных голосов, наречий, осанок и ухваток в ходе выступления. Но еще никогда прежде Неподражаемый не превращал чтецкий номер в настоящий спектакль, мастерски перевоплощаясь в своих персонажей. Здесь он начинал издалека, неспешно, но с величайшей актерской выразительностью, какой я доселе не видел у него (да и у любого писателя, публично читающего свои произведения). Фейджин, этот нравственно растленный еврей, явился взорам как никогда зримо — он ломал пальцы с видом, свидетельствующим об алчном предвкушении краденых денег, но одновременно о чувстве вины, и нервно потирал руки, словно пытался смыть с них кровь Христову. Ноэ Клейпол казался еще более трусливым и тупым, чем в романе. При появлении Билла Сайкса зрители невольно содрогнулись, исполняясь дурными предчувствиями, — редко когда удавалось столь убедительно изобразить лютую мужскую жестокость через диалог на нескольких страницах и воспроизведенные актерскими средствами повадки пьяницы, грабителя и головореза. Ужас, владевший Нэнси, явственно ощущался с самого начала, но к моменту, когда она испустила первый из своих многочисленных воплей, все зрители сидели бледные и полностью поглощенные происходящим на подмостках. Словно обозначая резкое различие между всеми своими предыдущими чтениями, происходившими на протяжении нескольких десятилетий (не говоря уже о жалких потугах подражателей), и новой эпохой сенсационного декламаторского искусства, наступившей для него, Диккенс отбросил в сторону книжку с текстом номера, вышел из-за чтецкой кафедры и буквально с головой окунулся в сцену, которую представлял перед нами. Нэнси отчаянно молила о пощаде. Билл Сайкс изрыгал проклятия в своей безжалостной ярости. Пощады не будет, несмотря на пронзительные крики несчастной: «Билл! Дорогой Билл! Ради бога, Билл! Ради бога!» Голос Диккенса отчетливо разносился по всему залу, и даже последние предсмертные мольбы Нэнси, произнесенные прерывистым шепотом, каждый из нас расслышал столь ясно, словно находился на эстраде, рядом с чтецом. Во время редких (но ужасных) пауз воцарялась такая тишина, что было слышно, как скребется мышь на пустом балконе позади нас. Мы слышали тяжелое, частое дыхание Диккенса, когда он изо всех сил опустил свою невидимую (очень даже видимую!) дубинку на череп бедной девушки… потом еще раз! И еще! И еще! С помощью яркого освещения Диккенс добился поразительного зрительного эффекта. Вот он стоит на одном колене, изображая Нэнси, и в лучах света видны только запрокинутая голова и две бледные руки, вскинутые в тщетной мольбе. А в следующий миг он, уже в образе Билла, вскакивает на ноги и, откидываясь назад всем телом, заносит дубинку высоко над головой — причем внезапно он самым непостижимым образом раздается в плечах, становится выше ростом и гораздо плотнее Диккенса, и в залитых густой тенью глазницах жутко сверкают белки безумных глаз Сайкса. Потом он бьет кулаком… дубинкой… снова кулаком… и снова дубинкой, сильнее прежнего. Умирающий голос милой девушки звучал все тише, все глуше по мере того, как жизнь и надежда покидали ее, и зрители цепенели от ужаса. Какая-то женщина судорожно всхлипнула. Когда мольбы Нэнси прекратились, все на миг почувствовали облегчение, даже надежду, что жестокий негодяй внял мольбам и малая толика жизни все же осталась в зверски избитом теле. Многие зрители решились наконец открыть глаза — и только тогда Диккенс испустил самый громкий и самый дикий вопль Сайкса и вновь принялся колотить дубинкой умирающую девушку, потом мертвую девушку, потом бесформенную груду истерзанной, окровавленной плоти и волос. Когда Диккенс закончил и враскорячку застыл над телом в той самой ужасной позе, которую его сын и мой брат мельком видели на лугу за Гэдсхилл-плейс, его частое, тяжелое дыхание разнеслось в мертвой тишине, точно хриплое пыхтенье некой сумасшедшей паровой машины. Я не понимал, действительно он так запыхался или это просто часть представления. Он закончил. Женщины плакали. По меньшей мерее одной приключилась истерика. Мужчины сидели неподвижно, бледные, со сжатыми кулаками и вздутыми желваками. Я осознал, что оба моих соседа, Перси Фицджеральд и старый друг Диккенса Чарльз Кент, судорожно хватают ртом воздух. Что же касается меня, скарабей в моем черепе совершенно обезумел во время чтения и лихорадочно прорывал, прогрызал ходы в моем мозгу. Боль была неописуемая, однако я не мог закрыть глаза или заткнуть уши, чтобы не видеть и не слышать «убийства», — настолько оно завораживало. Едва лишь Нэнси испустила дух, я вытащил из кармана серебряную фляжку и отпил четыре больших глотка лауданума. (Я заметил, что многие мужчины в зале тоже прикладываются к фляжкам.) После того как Диккенс закончил, вернулся к своей кафедре, поправил лацканы, галстук и легко поклонился, в зале несколько долгих мгновений царила гробовая тишина. В первый момент я решил, что аплодисментов не будет и что чудовищное непотребство, коим является «Убийство Нэнси», никогда впредь не повторится публично. Потрясенное молчание аудитории подскажет Чаппелам, какой приговор следует вынести. Форстер, Уиллс, Фицджеральд и все прочие друзья Диккенса, выступавшие против этой затеи, окажутся правы. Но потом начались аплодисменты. Они становились все громче. И переросли в овацию, когда весь зал встал в едином порыве. И долго не стихали. Мокрый от пота, но теперь улыбающийся Диккенс поклонился более глубоко, вышел из-за своей высокой кафедры и эффектно взмахнул рукой на манер фокусника. На сцену тотчас выбежали рабочие и в мгновение ока убрали ширмы. Затем проворно раздвинули фиолетово-бордовые занавеси. Взорам присутствующих открылся длинный, прекрасно освещенный банкетный стол, ломящийся от яств. Бутылки шампанского охлаждались в бесчисленных ведерках со льдом. Целая рота одетых по форме официантов была готова по первому сигналу броситься открывать устрицы и стрелять пробками. Диккенс снова взмахнул рукой и громко пригласил всех (после второго взрыва восторженных аплодисментов) подняться на сцену и отведать скромных угощений. Даже эта часть вечера была тщательно срежиссирована. Когда люди вереницей потянулись на сцену, мощные газовые лампы живописнейшим образом освещали раскрасневшиеся лица, золотые запонки мужчин, разноцветные туалеты дам. Казалось, будто представление продолжается, но теперь все мы участвуем в нем. С ужасом, леденящим кровь, но одновременно сладостно щекочущим нервы, мы осознали, что ступаем по следам недавно убитой Нэнси. Поднявшись на сцену, я остановился поодаль от стола и стал слушать, что люди говорят Диккенсу, который весь расплывался в улыбке, безостановочно промокая платком влажный лоб, щеки и шею. В числе первых к нему подошли две актрисы, мадам Селест и миссис Келли. — Вы мои судьи и присяжные, — весело промолвил Диккенс. — Продолжать мне выступать с этим номером или нет? — О да, да, да, oui, да, — прошептала мадам Селест. Казалось, она в предобморочном состоянии. — Конечно продолжать! — воскликнула миссис Келли. — Добившись такого результата, нельзя отступать! Никак нельзя. Но видите ли… — Тут актриса медленно и очень выразительно повела по сторонам своими огромными черными глаза и закончила фразу, тщательно выговаривая каждое слово: — Последние полвека публика с нетерпением ждала сенсации, и вот наконец она ее дождалась! Затем миссис Келли глубоко, прерывисто вздохнула и замерла неподвижно, словно лишившись дара речи. Неподражаемый глубоко поклонился, взял ее руку и поцеловал. Подошел Чарли Диккенс, с пустой устричной раковиной в руке. — Ну-с, Чарли, что ты теперь скажешь? — спросил Диккенс. (Чарли был одним из тех, кто возражал против публичного чтения сцены убийства.) — Это даже лучше, чем я ожидал, отец, — сказал Чарли. — Но я все же прошу тебя: не надо продолжать. Диккенс с удивленным видом похлопал глазами. К ним приблизился Эдмонд Йетс со своим вторым бокалом шампанского. — Как вам это нравится, Эдмонд? — спросил Диккенс. — Мой собственный сын Чарли говорит, что ничего лучше он в жизни не видел и не слышал, но тут же, не объясняя причин, настойчиво просит меня не выступать с этим номером. Йетс взглянул на Чарли и серьезным, почти скорбным тоном промолвил: — Я полностью согласен с Чарли, сэр. Не выступайте с этим больше. — Боже милосердный! — со смехом вскричал Диккенс. — Меня окружают одни скептики. А вы, Чарльз… — Он указал на Кента, стоявшего рядом со мной. Никто из нас еще не воспользовался случаем подкрепиться. Гул толпы вокруг нас набирал силу, голоса звучали все непринужденнее. — И вы, Уилки, — добавил Диккенс. — Какого мнения держатся два старых моих друга и собрата по перу? Вы согласны с Эдмондом и Чарли, которые считают, что мне не следует выступать с «убийством»? — Ни в коем случае, — ответил Кент. — Единственное мое возражение носит сугубо технический характер. — Вот как? — произнес Диккенс. Он говорил вполне дружелюбным тоном, но я знал, как мало его волнуют «возражения технического характера», когда дело касается его чтений или театральных работ. Он мнил себя великим мастером режиссуры и технических эффектов. — Вы заканчиваете чтение… представление… тем, что Сайкc уволакивает мертвого пса из комнаты, где произошло убийство, и запирает за собой дверь, — сказал Кент. — Мне кажется, публика ждет большего… Возможно, бегства Сайкса? Почти наверняка — его падения с крыши на острове Джекоба. Публика хочет… ей необходимо увидеть, что Сайкc наказан. Диккенс нахмурился. Воспользовавшись его молчанием, я заговорил: — Я согласен с Кентом. То, что вы представили нам, поистине поразительно. Но концовка кажется… усеченной, что ли? Преждевременной? Я не берусь говорить за женщин, но мы, мужчины, по завершении действа испытываем известное неудовлетворение, ибо жаждем крови и смерти Сайкса столь же страстно, как Сайкc жаждал убить бедную Нэнси. Дополнительные десять минут послужили бы к переходу от беспросветного ужаса, в котором вы оставляете зрителя сейчас, к сильнейшему эмоциональному возбуждению в предвкушении желанной развязки. Диккенс скрестил руки на груди и покачал головой. Я видел, что его накрахмаленная манишка насквозь промокла от пота и что пальцы у него мелко дрожат. — Поверьте мне, Чарльз, — сказал он, обращаясь к Кенту, — удерживать внимание аудитории в течение еще десяти — даже пяти! — минут после смерти Нэнси решительно невозможно. Поверьте мне на слово. Я стою там… — он махнул рукой в сторону своей установленной на возвышении кафедры, — и я знаю. Кент пожал плечами. Диккенс говорил в высшей степени убежденно — категорическим тоном Мастера, к какому он неизменно прибегал, когда хотел оставить за собой последнее слово в дискуссиях на предмет литературы или театра. Но я сразу понял, что Неподражаемый тщательно обдумает поступившее предложение, и впоследствии нисколько не удивился, когда он в точности последовал совету Кента и удлинил номер, добавив к нему еще по меньшей мере три страницы текста. Я отошел за устрицами и шампанским, а потом присоединился к Джорджу Долби, Эдмонду Йетсу, Чарли Диккенсу, Перси Фицджеральду, Чарльзу Кенту, Фрэнку Берду и прочим, стоявшим в глубине сцены, сразу за пределами яркого прямоугольника света. Диккенса теперь окружили дамы — все они пребывали в таком же возбужденном состоянии и, похоже, так же горячо призывали писателя выступать с «убийством Нэнси» и в дальнейшем, как две актрисы, подходившие к нему ранее. (Диккенс приглашал меня на представление вместе с Дворецким, то бишь с Кэрри, но я ничего не сказал девочке и сейчас был рад, что она здесь не присутствовала. Многие из нас, расхаживая по сцене с устрицами и шампанским, невольно смотрели себе под ноги, дабы убедиться, что наши начищенные черные туфли не ступают по лужам Нэнсиной крови.) — Это безумие, — говорил Форстер. — Если он включит этот номер в программу хотя бы трети из оставшихся семидесяти пяти выступлений, он просто убьет себя. — Согласен, — проворчал Фрэнк Берд; обычно жизнерадостный врач хмуро смотрел на узкий бокал в своей руке, словно шампанское в нем испортилось. — Это равносильно самоубийству. Диккенс не вынесет такого напряжения. — Он пригласил репортеров, — сказал Кент. — Я слышал, как они делятся впечатлениями. Им страшно понравилось. В завтрашних газетах появятся восторженные отзывы. Все до единого мужчины, женщины и дети в Англии, Ирландии и Шотландии бросятся продавать свои зубы, чтобы купить билет на концерт. — Большинство из них уже продали последние свои зубы, — заметил я. — Им придется найти еще что-нибудь, что можно заложить в ломбарде у еврея-ростовщика. Мужчины вежливо рассмеялись, но затем наступило тягостное молчание и почти все снова помрачнели. — Ежели репортеры напишут похвальные отзывы, — прогудел медведеподобный Долби, — Шеф непременно будет выступать с этим номером. По меньшей мере четыре раза в неделю вплоть до июня. — Это убьет его, — повторил Фрэнк Берд. — Многие из вас знают моего отца гораздо дольше, чем я, — сказал Чарли Диккенс. — Вы знаете способ отговорить его от этой затеи сейчас, когда он сознает, что вызвал — и сможет вызывать впредь — сенсацию своим «убийством»? — Боюсь, это невозможно, — промолвил Перси Фиццжеральд. — Совершенно исключено, — подтвердил Форстер. — Он не станет внимать доводам разума. Не удивлюсь, если в следующий раз все мы встретимся в Вестминстерском аббатстве, на торжественных похоронах Диккенса. Я чуть не расплескал шампанское при последних словах. — Вот уже несколько месяцев — с момента, когда Диккенс впервые объявил о своем намерении включить «убийство Нэнси» в большинство выступлений зимне-весеннего турне, — я считал, что подобное самоубийство очень даже на руку мне, страстно желающему смерти Неподражаемому. Но сейчас Форстер заставил меня осознать один почти несомненный факт: умрет Диккенс от естественных причин, или в результате самоубийственного турне, или под колесами тяжело груженного фургона завтра на Стрэнде, общественность в любом случае громко потребует устроить торжественные похороны. Лондонская «Таймс» и прочие газетенки, которые на протяжении многих лет являлись политическими противниками и злостными литературными критиками Чарльза Диккенса, первыми выступят с требованием погрести Неподражаемого в Вестминстерском аббатстве. Общественность, безнадежно сентиментальная, единодушно поддержит эту идею. На похороны соберутся несметные толпы народа. Диккенс упокоится среди величайших литературных гениев Англии. При одной мысли о неизбежности такого исхода я едва не заорал прямо там, на сцене. Диккенс должен умереть, это решено. Но только сейчас я отчетливо осознал то, что в глубине души понял еще несколько месяцев назад, когда начал планировать убийство: Диккенс должен не просто умереть, а бесследно исчезнуть. Ни о каких торжественных похоронах, ни о каком погребении в Вестминстерском аббатстве не может идти и речи. Мне невыносимо даже представить такое. Потрясенный ужасным прозрением, я не следил за разговором, но смутно сознавал, что мужчины продолжают обсуждать, как бы отговорить Диккенса от намерения публично убить Нэнси еще много-много раз. — Мне кажется, Чарльз все равно поступит так, как считает нужным, — тихо промолвил я. — Но именно мы, ближайшие друзья и родственники, должны позаботиться о том, чтобы Неподражаемого не погребли в Вестминстерском аббатстве. — Вы имеете в виду — в самом скором времени, — сказал Фицджеральд. — Чтобы его не погребли там в самом скором времени. — Разумеется. Именно это я и имел в виду. Извинившись, я отошел за следующим бокалом шампанского. Толпа уже несколько поредела, но стала более шумной. По прежнему хлопали пробки и официанты продолжали разливать игристое вино. Я остановился, заметив краем глаза какое-то движение в глубине сцены, где совсем недавно суетились рабочие, уносившие прочь кафедру, ширмы и прочее оборудование. Сейчас там не было никаких рабочих. Окутанная мраком, там стояла одинокая фигура в дурацком оперном плаще, тускло отблескивающем в свете газовых ламп, установленных на авансцене. Я увидел мертвенно-белое лицо и мертвенно-белые длиннопалые кисти. Друд. Сердце у меня подскочило к горлу, обитающий в моем мозгу скарабей мигом переместился на свою излюбленную наблюдательную позицию за левым глазом. Но это был не Друд. Фигура отвесила мне театральный поклон, широким жестом сняв цилиндр. Я увидел редеющие светлые волосы и узнал Эдмонда Диккенсона. Не мог же Диккенс пригласить Диккенсона на свое пробное чтение. Как бы он разыскал его? И вообще, с какой стати ему?.. Мужчина выпрямился и улыбнулся. Даже с такого расстояния я разглядел, что у молодого Диккенсона нет верхних век. И передние зубы у него остро заточены. Я круто развернулся, чтобы посмотреть, увидел ли Диккенс или еще кто-нибудь этого призрака. Похоже, больше никто его не заметил. Когда я повернулся обратно, фигура в черном оперном плаще уже исчезла.
Глава 40
В день Нового года я проспал до полудня и проснулся один, мучимый жестокой болью. Всю неделю до 1 января 1868 года стояла на удивление теплая погода, бесснежная, безоблачная, — никакого ощущения зимы, а сегодня еще и ни единой живой души в доме. Но день нынче выдался холодный и пасмурный. Мои слуги Джордж и Бесс, муж и жена, попросили у меня разрешения уехать по меньшей мере на неделю в Уэльс, в «родовое гнездо» Бесс. Похоже, ее немощный отец и еще до недавних пор здоровая мать решили преставиться одновременно. Это было неслыханно, да и просто глупо, — отпустить всех слуг разом (они, я так понял, собирались взять с собой и Агнес, свою туповатую и невзрачную семнадцатилетнюю дочь), но я по доброте сердечной не стал возражать, только предупредил, что за время, проведенное в Ульсе, они жалованья не получат. В связи с приемом, что я устраивал на Глостер-плейс в канун Нового года, им пришлось отложить отъезд на неделю. Они отбыли первого января, через два дня после моего возвращения из Гэдсхилла, где я гостил неделю. Кэрри оставалась со мной почти весь декабрь (у своей матери и нового отчима, который, шепотом сообщила она мне, сильно пьет, девочка провела всего дней десять), но ее работодатели, продолжавшие относиться к ней скорее как к гостье, чем как к гувернантке, собирались в сочельник укатить на пару недель в свое деревенское поместье, и я уговорил Кэрри поехать с ними. Там будут праздничные приемы, маскарады и фейерверк в новогоднюю ночь, там будут санные прогулки и катание на коньках при луне, там будут молодые джентльмены… я же не могу предложить ей подобных развлечений. Первого января 1869 года я чувствовал, что вообще ничего никому не могу предложить. После бракосочетания Кэролайн я старался по возможности реже бывать в пустом пятиэтажном доме на Глостер-плейс. В ноябре я гостил у Леманов и Бердсов столько времени, сколько мне позволили эти славные люди. Я даже провел несколько дней у Форстера (сильно меня недолюбливавшего) в нелепом, но комфортабельном особняке на Пэлис-Гейт. Форстер стал еще более надменным и занудным, чем после своей женитьбы на деньгах, и его неприязнь ко мне (или скорее ревность, ибо он видел соперника в любом, кто состоял с Диккенсом в более близких отношениях, чем он) возросла соразмерно с его благосостоянием и обхватом талии, но все же он слыл и сам полагал себя слишком благовоспитанным джентльменом, чтобы выставить меня прочь или поинтересоваться, с чего вдруг я решил погостить у него. (Если бы Форстер спросил, чему он обязан моим визитом, я бы честно ответил тремя словами: вашему винному погребу.) Но нельзя же вечно жить по друзьям и знакомым, и потому часть декабря я провел в огромном старом доме на Глостер-плейс в обществе Кэрри, а Джордж, Бесс и стеснительная Агнес суетливо сновали где-то на заднем плане, безуспешно стараясь избежать вспышек моего раздражения. Когда Диккенс письменно пригласил меня приехать вместе с Кейт и Чарли на Рождество в Гэдсхилл-плейс, я поначалу заколебался — вроде как нечестно пользоваться гостеприимством человека, которого ты твердо решил убить при первом же удобном случае, — но в конечном счете неохотно принял приглашение. Просто дом на Глостер-плейс казался слишком пустым, когда пустовал. Диккенс отдыхал в Гэдсхилле перед турне, возобновлявшимся через неделю, — он планировал впервые выступить с «убийством Нэнси» перед обычной публикой пятого января, снова в Сент-Джеймс-Холле, — но несколько декабрьских выступлений уже отняли у него все силы и пагубно сказались на здоровье. В коротком письме, которое он написал мне в декабре, когда ехал в Эдинбург на «Летающем шотландце», говорилось:Дорогой Уилки! Долби громоподобно спит рядом, и наш медведеобразный друг ни на миг не прервал своего оглушительного храпа, когда только сейчас наш вагон несколько раз подряд крепко тряхнуло, словно на разошедшихся рельсовых стыках, способных стать причиной крушения, а я потратил пару минут на вычисление следующего поразительного факта: за время, потраченное на все разъезды-переезды в ходе такого вот турне, приходится испытать в общей сложности свыше тридцати тысяч отдельных нервных потрясений. А с нервами у меня, как вам известно, дела нынче обстоят не лучшим образом. Воспоминания о Стейплхерстской катастрофе всегда со мной, а стоит мне хоть немного от них отвлечься, очередная нервная встряска, вызванная толчком вагона, мигом заставляет меня живо вспомнить все в мельчайших подробностях. И даже когда я совершенно неподвижен, грешная душа не знает покоя. Недавно я сказал нашему уважаемому американскому другу мистеру Филдсу, что я провожу оставшиеся и неумолимо убывающие часы своей жизни в пути к изнурительной пытке палящими лучами моих особых газовых ламп на сцене и что близок момент, когда я сгорю дотла в этом раскаленном свете.Диккенс находил еще чем изнурять себя помимо своего турне и замысловатого синтаксиса. Хотя он наконец упразднил проклятый «рождественский номер» «Круглого года» (что следовало сделать еще несколько лет назад, по моему разумению), он по-прежнему проводил по много часов в неделю в конторе на Веллингтон-стрит, возясь с макетом журнала, оценивая оформление, спрашивая у всех подряд мнение насчет размера типографских шрифтов и сочиняя жизнерадостные «Заметки редактора», где заверял всех читателей, встревоженных отсутствием «рождественского номера», что «мои коллеги и я останемся на своих постах, вместе с нашими более молодыми товарищами, которых я имел удовольствие привлекать к сотрудничеству время от времени и умножение числа которых я неизменно считаю одной из приятнейших своих редакторских обязанностей…». Я не знаю, кого он подразумевал под «более молодыми товарищами», привлеченными к сотрудничеству: сам я отказался от работы в журнале; сыну Диккенса, Чарли, позволялось лишь отвечать на письма да вести нерегулярную колонку объявлений; а Уиллс, хотя и вернулся в редакционную контору, был способен единственно сидеть у себя в кабинете и таращиться в пустоту, прислушиваясь к беспрерывному хлопанью дверей в своем поврежденном черепе. В любом случае под определение «более молодой товарищ» он никак не подходил. «Круглый год» всегда был почти телепатическим продолжением ума и личности Чарльза Диккенса. Как будто ему было мало редакционной работы, выступлений в Шотландии и постоянных репетиций предстоящих «убийств Нэнси», Диккенс еще по много часов в день тратил на исполнение последней воли своего покойного друга Чонси Хэа Таунсенда, который в предсмертном бреду попросил Неподражаемого собрать все его бесчисленные разрозненные записи на предмет религии. Диккенс занимался делом со всем усердием, доводя себя до еще сильнейшего изнеможения, но когда в сочельник, за стаканом посредственного бренди, Перси Фицджеральд спросил: «Они хоть представляют интерес как религиозные взгляды?» — Диккенс ответил: «Ни малейшего, мне кажется». Во время моего недельного пребывания в Гэдсхилле Диккенс в свободные от работы часы пользовался теплой погодой, чтобы во второй половине дня совершать двадцатимильные прогулки, а не обычные пустяковые двенадцатимильные. Перси и несколько других гостей пытались сопровождать его в этих форсированных походах, но моя ревматоидная подагра и египетский скарабей не позволяли мне принимать в них участие. Посему я ел, пил бренди, вино и виски, курил довольно скверные сигары Неподражаемого, принимал лауданум лошадиными дозами, пытаясь справиться с меланхолией, читал книги, которые Диккенс и Джорджина всегда подбирали для своих гостей с учетом их вкусов и выкладывали в каждой гостевой комнате (на моем ночном столике лежала «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» Де Куинси, подсунутая мне с нетонким намеком, но я уже читал ее, да и вообще лично знал Де Куинси с самого своего детства), и проводил в праздности дни, оставшиеся до тридцать первого декабря, когда я давал званый ужин на Глостер-плейс для Леманов, Чарли с Кейт, Фрэнка Берда и нескольких других приглашенных. Но неделя в Гэдсхилле прошла для меня не совсем впустую. На сей раз Чарльз Фехтер не прятал в кармане целое швейцарское шале, но он привез с собой черновой вариант пьесы «Черно-белый», общий замысел которой сам и подсказал мне несколькими месяцами ранее. Дружба с Фехтером порой тяготила и утомляла меня: он постоянно претерпевал какие-то финансовые бедствия, а в части умения распоряжаться деньгами мало отличался от особо беспечного четырехлетнего ребенка. Тем не менее поданная им сюжетная идея с французским дворянином, имеющим восьмую часть негритянской крови, который умудряется попасть на ямайский аукцион в качестве подлежащего продаже раба, показалась мне весьма плодотворной. Что еще важнее, Фехтер пообещал мне помочь в работе над пьесой, дабы избежать провисаний действия, композиционных изъянов, излишней многословности диалогов и прочих недостатков, коими — если верить Диккенсу и моему скарабею — грешила драма «Проезд закрыт». Фехтер сдержал свое слово и в течение следующих двух месяцев частенько трудился в буквальном смысле бок о бок со мной, когда я писал «Черно-белого», — актер правил и сокращал текст, шлифовал и оживлял диалоги, отлаживал непроработанные моменты выхода и ухода со сцены действующих лиц, указывал на упущенные сценические возможности. А начали мы нашу совместную и не лишенную приятности работу над «Черно-белым» в библиотеке Гэдсхилл-плейс, за Диккенсовыми сигарами и бренди, сразу после Рождества 1868 года. По завершении визита все мы вернулись к своим делам: Диккенс — к «убийству Нэнси», Фехтер — к усиленным поискам пьес и ролей,достойных своего, как он считал, великого таланта, а я — к пустой каменной громаде по адресу Глостер-плейс, девяносто. Мой брат Чарли явился на устроенный мной новогодний прием, невзирая на усилившиеся нелады с желудком. Чтобы поднять всем настроение, я пригласил Берда, Леманов, Чарли и Кейт (она держалась со мной отчужденно после моего неудачного визита к ней двадцать девятого октября) на пантомиму во вновь открывшийся театр «Гэйети» непосредственно перед праздничным ужином. Мой новогодний прием должен был удаться на славу: недавно я помог Нине Леман найти новую повариху, каковую особу теперь временно нанял, чтобы она приготовила нам изысканные французские блюда; я закупил огромное количество шампанского, вина и джина; пантомима привела нас в приятное расположение духа. Но долгий вечер вымученного веселья обернулся прискорбным провалом. Казалось, будто все мы внезапно обрели способность проницать взором завесу времени и ясно увидели все бедствия, что постигнут нас в грядущем году. Нашим натужным стараниям удариться в разгульное веселье нимало не способствовало неприкрытое стремление моих слуг, Джорджа и Бесс, поскорее покончить со всеми этими хлопотами и уехать с утра пораньше в Уэльс к родителям Бесс, лежащим на смертном одре. (Их дочь Агнес свалилась с тяжелым крупом, а потому не помогала обслуживать гостей с обычной своей неуклюжей медлительностью.) В общем, первого января я проснулся с чудовищной головной болью, позвонил Джорджу, чтобы он подал мне чай и приготовил горячую ванну, а потом, когда на звонок никто не явился, вспомнил, чертыхнувшись вслух, что эти двое уже уехали в Уэльс. С какой стати я отпустил слуг, когда мне без них никак? Бродя в спальном халате по холодному дому, я обнаружил, что все следы вчерашней пирушки убраны, посуда перемыта и расставлена по местам, чайник стоит на плите, а на кухонном столе приготовлен завтрак для меня. Я застонал и налил себе чаю. Все камины были заправлены, но не растоплены, и мне пришлось изрядно повозиться с дымоходными заслонками, прежде чем удалось разжечь огонь в гостиной, кабинете, спальне и кухне. Солнечная и необычно теплая для рождественской недели погода закончилась с наступлением нового года — сегодня было пасмурно, ветрено и сыпал мокрый снег, как я увидел, слегка раздвинув портьеры и выглянув в окно. Управившись с поздним завтраком, я обдумал возможные варианты дальнейшего времяпрепровождения. Я сказал Джорджу и Бесс, что, скорее всего, на неделю переберусь в клуб, но два дня назад выяснилось, что в «Атенеуме» не будет свободных номеров до шестого или седьмого числа. Я в любой момент мог вернуться в Гэдсхилл, но Диккенс собирался во вторник, пятого января (нынешний отвратительный день нового года приходился на пятницу), впервые «совершить убийство» перед ничего не подозревающей публикой в Сент-Джеймс-Холле и затем возобновить турне по Ирландии и Шотландии, а значит, в ближайшие дни у него в доме будет царить страшная суета, сопряженная с бесконечными репетициями и последними приготовлениями к поездке. Мне нужно писать «Черно-белого», Фехтер сейчас в Лондоне, и возбужденная атмосфера Гэдсхилла Меня совершенно не привлекает. Но мне нужны слуги, горячая пища и женское общество. Продолжая предаваться подобным мрачным размышлениям, я долго бродил по пустому дому, а потом наконец заглянул в кабинет. В одном из двух кожаных кресел у камина там сидел Второй Уилки. Ждал меня. Как я и предполагал. Я оставил дверь кабинета открытой — все равно в доме никого больше не было — и уселся в свободное кресло. Теперь Второй Уилки редко разговаривал со мной, но он всегда внимательно меня выслушивал и порой утвердительно кивал. Изредка он мотал головой или бросал на меня вежливый, уклончивый взгляд, который, как я знал из высказываний Кэролайн относительно моих собственных внешних реакций, означал несогласие. Вдохнув, я принялся рассказывать Второму Уилки о своем плане убийства Диккенса. Я говорил обычным голосом минут десять и уже дошел до рассказа о Дредлсе, нашедшем полость между стенами склепа под Рочестерским собором, и воздействии негашеной извести на труп щенка, когда вдруг увидел, что затуманенный опиумом взгляд Второго Уилки перемещается чуть в сторону и останавливается на чем-то, находящемся у меня за спиной. Я быстро обернулся. Там стояла Агнес, дочь Джорджа и Бесс, в ночной сорочке, халате и стоптанных тапках. Ее круглое, плоское, некрасивое лицо заливала такая бледность, что даже губы побелели. Она переводила глаза с меня на Второго Уилки и обратно. Маленькие руки с обгрызенными ногтями девочка держала у груди на манер кроличьих лапок. Я ни на миг не усомнился, что она уже давно стоит там и слышала все до единого слова. Прежде чем я успел открыть рот, Агнес резко повернулась и бросилась к лестнице. Я слышал частое шлепанье тапок — она бежала к своей спальне на четвертом этаже. Объятый паникой, я взглянул на Второго Уилки. Он потряс головой с видом скорее печальным, нежели встревоженным. По выражению его лица я понял, что мне придется сделать.
Если не считать слабого света от каминов, горевших в нескольких комнатах, дом теперь погрузился во тьму. Теплая погода рождественской недели закончилась снежной бурей, разразившейся к вечеру первого января. Я продолжал стучать в дверь Агнес. — Агнес, пожалуйста, выйди. Мне нужно поговорить с тобой. Никакого ответа, только сдавленные рыданья. Дверь была заперта. В спальне у девочки горели свечи, и, судя по очертаниям теней, различимых в припорожной щели, она придвинула к двери тяжелое бюро или умывальник. — Агнес, выйди, пожалуйста. Я не знал, что ты здесь, в доме. Выйди, давай поговорим. Снова рыданья. Потом: — Извините, мистер Коллинз… Я не одета. Мне нездоровится. Я не хотела ничего дурного… Мне нездоровится. — Ну ладно, — спокойно сказал я. — Мы поговорим утром. Я спустился в темную гостиную, зажег несколько свечей и обнаружил записку, которую не заметил раньше днем. Она была написана Джорджем и оставлена на каминной полке.
Уважаемый мистер Коллинз, Сэр! Наша дочь Агнес захворала. Мы с Бесс собирались взять ее с собой в Уэльс, но нынче утром перидумали, потому как бедняжку лихоманит. Мы думаем, негоже приносить лихоманку к двум смертным одрам. С Вашего позволения, Сэр, мы оставляем Агнес под вашей опекой и покровительством до следущего вторника, когда я (Джордж) надеюсь вернутся к вам в услужение, не зависимо оттого, как Судьба распорядится с родителями Бесс. Она может стряпать для вас, Сэр. (Агнес) Худо бедно. И хотя угодить Вашим вкусам у ней не получится, она будет каждый день убиратся в доме, коли вы не решите провести всю неделю в Вашем Клубе. По крайней мере, мистер Коллинз, пока она оправлятся от болезни и выполняет свои не хитрые обязанности, грабители будут знать, что дом непустует в Ваше отсутствие. Ваш покорный слуга ДжорджКак же я не заметил записки несколько часов назад, когда возился с дымоходными заслонками и разжигал камин? Я хотел было бросить ее в огонь, но потом передумал. Стараясь не смять листок, я положил его на прежнее место. Что делать? Ладно, час уже поздний. Я займусь этим делом завтра с утра пораньше. А для этого мне понадобятся деньги. На следующий день, в субботу, я проснулся на рассвете и принялся обдумывать сложившуюся ситуацию. Когда серый сумрак в спальне стал рассеиваться (я нарочно не задернул тяжелые портьеры позавчера ночью), я увидел на стуле рядом с дверью тоненькую стопку страниц, исписанных Вторым Уилки. Вчера днем я их не заметил, но, скорее всего, они появились здесь позапрошлой ночью, поскольку по завершении новогоднего приема Фрэнк Берд любезно сделал мне укол морфия перед уходом. Чаще всего я видел сны, связанные с Друдом, и диктовал своему двойнику именно под воздействием морфия. Никакой необходимости в спешке нет, продолжал повторять я себе. Чтобы там ни подслушала туповатая девочка, она никому ничего не расскажет до возвращения своих родителей или, по крайней мере, Джорджа. Лежа на широкой кровати в бледном свете раннего утра, я размышлял о том, как мало внимания обращал на присутствие Агнес в течение многих лет. Поначалу она была просто лишним крохотным ртом, который приходилось кормить (но не требующим иных расходов), — неким довеском к Джорджу и Бесс, слугам далеко не самым лучшим, зато очень дешевым. На деньги, сэкономленные на них за многие годы, я всегда мог нанять превосходную повариху в случае надобности. Собственно говоря, одной арендной платы, по-прежнему поступавшей мне за огромные конюшни, расположенные за домом на Глостер-плейс, с лихвой хватало на жалованье для родителей Агнес. Агнес — со своими обгрызенными ногтями, плоским круглым лицом, неуклюжими повадками и легким заиканием — стала такой привычной частью моего домашнего окружения (и здесь, и на Мелкомб-плейс), что я воспринимал ее как предмет обстановки. И еще на протяжении многих лет я видел в ней не столько служанку, сколько некий выгодный фон для ума и красоты Кэрри, хотя девочки и играли вместе в детстве. (Кэрри потеряла всякий интерес к тупой и напрочь лишенной воображения Агнес, едва немного подросла.) Но что же мне делать теперь, когда Агнес увидела Второго Уилки и услышала, как я рассказываю о своем плане убийства Диккенса? Здесь нужны деньги, ясное дело. На ум пришла сумма в триста фунтов. Такая сумма, зримо явленная в банкнотах и золотых монетах, покажется туповатой девочке целым состоянием, однако не настолько огромным, чтобы превзойти всякое понимание и превратиться в чистую абстракцию. Да, триста фунтов — самое то, что следует предложить. Но где их достать? За последние несколько дней я истратил все свои наличные и выписал кучу чеков, приобретая билеты на пантомиму, покупая джин и шампанское для праздничного ужина, оплачивая услуги новой лемановской поварихи. Банки откроются только в понедельник, и, хотя я лично знаком с управляющим моего банка, мне никак не пристало являться к нему домой в выходные с просьбой обналичить чек на триста фунтов. Диккенс ссудил бы меня такой суммой, разумеется, но мне понадобится добрых полдня, чтобы добраться до Гэдсхилла и воротиться обратно. А я не хотел оставлять Агнес одну на столь долгое время. Сейчас, когда ее родителей и Кэрри нет дома, ей не с кем поговорить. Но что, если она напишет и отправит письмо в мое отсутствие? Это было бы катастрофой. Вдобавок я не хотел возбуждать у Диккенса любопытство, с чего мне вдруг срочно понадобились триста фунтов в выходные. То же самое относилось и к другим людям в Лондоне, которые могли бы ссудить меня нужной суммой по первой же просьбе, — Фред и Нина Леманы, Перси Фицджеральд, Фрэнк Берд, Уильям Холмен Хант. Никто из них не отказал бы мне, но все задались бы лишними вопросами. Фехтер никогда не спросил бы, зачем мне нужна такая сумма, и никогда не стал бы гадать, куда я потратил деньги и верну ли долг, но Фехтер — по обыкновению — сам сидел на мели. На самом деле за последний год я взаимообразно передал актеру столько денег и вложил столько собственных средств в «постановочные расходы» (еще не окупившиеся) сначала на спектакль «Проезд закрыт», а теперь уже и на «Черно-белого» (хотя работа над пьесой только началась), что к началу нового года я сам находился в довольно стесненных обстоятельствах. Приняв ванну и одевшись с особым тщанием, я услышал суетливую возню на кухне внизу. Агнес тоже нарядилась в лучшее платье из своего скудного гардероба (при мысли, что она приоделась для поездки, я испытал приступ паники) и готовила сытный завтрак для меня, когда я вошел в кухню. При моем появлении девочка вздрогнула и попятилась в угол. Я одарил Агнес самой своей сердечной и добродушной улыбкой, остановился в дверях и вскинул раскрытые ладони, показывая миролюбие своих намерений. — Доброе утро, Агнес. Ты сегодня очаровательно выглядишь. — Д-д-доброе утро, мм… мистер Уилки. Спасибо, сэр. Ваши тосты и яичница с фасолью и беконом уже п-п-почти готовы, сэр. — Замечательно, — сказал я. — Можно я позавтракаю на кухне, в твоем обществе? На лице у нее отразился неподдельный ужас. — Хотя нет, пожалуй, я поем в столовой зале, как обычно. «Таймс» уже принесли? — Д-д-да… д-д-да… с-сэр, — пролепетала девочка. — Г-газе-та на столе в столовой. — Во второй раз слово «сэр» она опустила, чтобы не запнуться на нем опять. Щеки у нее пылали, бекон на плите подгорал. — В-вам сегодня подать кофий… мистер Уилки… или чай? — Кофий. Спасибо, Агнес. Я прошел в столовую и ждал там несколько минут, просматривая газету. На каждой тарелке, принесенной служанкой, все было либо подгорелым, либо сырым, либо — странное дело — подгорелым и сырым одновременно. Даже кофий отдавал гарью, и девочка расплескала его в блюдце, когда наливала. Я съел и выпил все, старательно изображая удовольствие. Когда она зашла в столовую, чтобы подлить мне кофия, я снова лучезарно улыбнулся и сказал: — Ты можешь присесть и поговорить со мной, Агнес? Она бросила взгляд на пустые стулья у стола и снова с ужасом уставилась на меня. Сидеть за господским столом? Такое недопустимо. — Или можешь стоять, коли тебе так удобнее, — дружелюбно добавил я. — Думаю, нам следует поговорить о… — Я ничего вчера не слыхала, — задыхаясь, выпалила она; слово «ничего» прозвучало как «ничо». — С-с-совсем ничего, мистер Уилки, сэр. И ничего не видала. Я никого не видала с вами в вашем кабинете, мистер Уилки, — клянусь, никогошеньки! И не слыхала ничего… — (Ничо.) — Ни про мистера Диккенса, ни про что другое. Я натужно хихикнул. — Все в порядке, Агнес. Все в порядке. Меня навещал мой кузен… Ну да, кузен. Мой кузен-близнец. Кузен-двойник. Похожий на меня как две капли воды кузен, о котором я ни разу прежде словом не обмолвился, ни разу не упомянул Джорджу или Бесс. В точности похожий на меня во всем, вплоть до очков, сюртука и жилета, толстого живота и проседи в бороде. — … и я познакомил бы тебя с ним, если бы ты не убежала столь стремительно, — закончил я. Так долго удерживать на лице широкую ласковую улыбку было трудно — особенно в процессе речи. Девочка тряслась всем телом. Она схватилась одной рукой за спинку стула, чтобы не упасть. Я заметил, что ногти у нее обгрызены уже до крови. — Мой… кузен… он тоже литератор, — мягко произнес я. — Возможно, вчера ты услышала заключительную часть вымышленной истории, что мы вдвоем сочиняли… об убийстве некоего писателя вроде мистера Диккенса, который, как тебе известно, часто бывает у меня и счел бы нашу историю весьма занятной. Речь шла о человеке вроде мистера Диккенса — его имя мы взяли чисто условно, — но, разумеется, не о самом мистере Диккенсе. Ты ведь знаешь, что я пишу сенсационные романы и пьесы, а, Агнес? Девочка затравленно озиралась по сторонам. Что я стану делать, коли она сейчас упадет в обморок, или завизжит, или выбежит на улицу в поисках констебля? — В любом случае, — закончил я, — ни я, ни мой кузен не хотим, чтобы ты превратно истолковала наш с ним разговор. — Извините, мистер Уилки. Я ничего не видала и не слыхала. — Последнюю фразу она повторила четыре раза. Я отложил газету и встал со стула. Маленькая Агнес подскочила на добрых полфута. — Я отлучусь из дома на несколько минут, — бодро промолвил я. Больше я ни словом не упомяну о прошлом вечере. Ни разу. — И скоро вернусь. Будь добра, погладь восемь лучших моих парадных сорочек. — Мама погладила их перед самым отъездом, — сдавленным голосом проговорила Агнес. При словах «мама» и «отъезд» глаза у нее наполнились слезами и руки задрожали пуще прежнего. — Да, — почти грубо сказал я, — но недостаточно тщательно. На следующей неделе я несколько раз иду в театр, и мне потребуются безупречно отутюженные сорочки. Не могла бы ты заняться ими сейчас же? — Да, мистер Уилки. — Девочка низко опустила голову и, взяв кофейник, торопливо вышла прочь. Доставая пальто из стенного шкафа в вестибюле, я услышал, как она ставит утюг на плиту. Мне необходимо занять Агнес каким-нибудь делом на час. Я должен быть уверен, что у нее не будет времени написать и отправить письмо, не будет времени обдумать ситуацию и сбежать. Если я сумею удержать девочку здесь в течение ближайшего часа, потом мне уже ничего не будет угрожать. Ничо.
Марта Р*** страшно обрадовалась, увидев меня на пороге. Она всегда радовалась при виде меня. Жила она неподалеку от Глостер-плейс, и мне повезло сразу остановить свободный кеб, выезжавший с Портсмен-Сквер рядом с моим домом. Еще немного такого везения — и я вернусь прежде, чем Агнес отутюжит первую сорочку, и, уж конечно, прежде, чем она успеет написать письмо. На первый взгляд Марта (известная своей домохозяйке и соседям под именем «миссис Доусон») казалась недостаточно состоятельной особой, чтобы обращаться к ней за тремястами фунтами, хотя она и получала от меня весьма щедрое содержание в двадцать фунтов ежемесячно. Но я знал ее образ жизни. Она почти ничего для себя не покупала, питалась скромно, сама шила все свои платья и вообще тратила очень мало. Она всегда откладывала из денег, что я давал каждый месяц, и вдобавок привезла из Портсмута кое-какие сбережения. Я сообщил, что мне нужно. — Ну конечно, — сказала Марта, вышла в соседнюю комнату и через минуту вернулась с тремястами фунтами в банкнотах и монетах разного достоинства. Отлично. Я засунул деньги в карман пальто и взялся за дверную ручку. — Спасибо, голубушка. Я верну деньги в понедельник утром, когда банки откроются. А возможно, и раньше. — Уилки? Я остановился. Она редко называла меня по имени. — Да, дорогая моя? — Мне пришлось совершить над собой изрядное усилие, чтобы не выдать голосом своего нетерпения. — Я в тягости. Я часто поморгал. Меня вдруг обдало жаром, и волоски на загривке встали дыбом. — Вы меня слышите, Уилки? Я в тягости. — Да, я слышу. Я отворил дверь, но задержался на пороге. Марта понятия не имела, сколь драгоценны секунды и минуты, что я тратил на нее. — Какой срок? — тихо спросил я. — Думаю, наш ребеночек родится в конце июня или в начале июля. Значит, она зачала чуть больше двух месяцев назад. Той самой октябрьской ночью — после бракосочетания Кэролайн. Я улыбнулся. Я понимал, что мне следует сделать три шага вперед и обнять Марту, — я знал: она ждет этого, хотя обычно ничего не ждала и не требовала от меня, — но я слишком спешил. Посему я просто улыбнулся. — Нам придется повысить твое содержание впоследствии, — сказал я. — Возможно, с двадцати фунтов до двадцати пяти. Она кивнула и уставилась в вытертый ковер под ногами. — Я верну эти три сотни при первой же возможности, — пообещал я. И вышел прочь.
— Зайди в гостиную, дитя мое. К моменту моего возвращения Агнес утюжила третью сорочку. Кебмену я велел ждать у дома. По дороге с Болсовер-стрит я напряженно обдумывал, где бы нам с девочкой лучше поговорить. В кухне обстановка слишком обыденная… и пока еще я не хотел соваться туда. В обычных обстоятельствах я велел бы служанке явиться ко мне в кабинет для разговора, но сейчас такой приказ испугал бы Агнес. Оставалась гостиная. — Присядь, пожалуйста, — сказал я. Сам я разместился в большом кожаном кресле у камина и теперь указал ей на простой деревянный стул, который заранее придвинул. На сей раз я говорил тоном, не допускающим возражений. Девочка села и опустила взгляд на свои красные руки, сложенные на коленях. — Агнес, в последнее время я часто думал о твоем будущем… Она не подняла глаз. Ее била мелкая дрожь. — Как тебе известно, недавно я устроил Кэрри… мисс Г***… на замечательное место гувернантки в прекрасной семье. Агнес ничего не сказала. — Не молчи, пожалуйста. Ты знаешь, что Кэрри служит гувернанткой? — Да, сэр. — Слова прозвучали так тихо, что их мог бы заглушить даже шорох осыпающейся золы в камине. — Я решил, что пора и тебе получить такую же возможность. Наконец-то она посмотрела на меня. Веки у нее были такие же красные, как руки. Она что, плакала в мое отсутствие? — Пожалуйста, прочитай это. — Я протянул девочке письмо, которое написал накануне вечером на лучшей своей почтовой бумаге. Желтоватый плотный лист дрожал в ее руках, пока она медленно читала, шевеля губами. Закончив, она попыталась вернуть письмо мне. — Вы… очень добры… сэр. Очень добры. По крайней мере, чертово заиканье прошло. — Нет, оставь это у себя, дитя мое. Это твое рекомендательное письмо, причем составленное в самых изысканных выражениях, позволю себе заметить. Я уже выбрал семью, где ты будешь работать. У них поместье под Эдинбургом. Я письменно уведомил их, что ты приедешь и приступишь к выполнению своих обязанностей завтра. Глаза у нее расширились до чрезвычайности. Мне показалось, она вот-вот лишится чувств. — Я ничего не умею по части гувернантства, мистер Уилки. Ничо. Я по-отечески улыбнулся. Я испытывал искушение податься вперед и ласково похлопать девочку по трясущимся рукам, но боялся, что она вскочит и бросится прочь, коли я до нее дотронусь. — Это не имеет ни малейшего значения, Агнес. Мисс Кэрри тоже ничего не умела, пока не начала работать. И посмотри, каких успехов она добилась. Агнес снова уставилась на свои руки, сложенные на коленях. Когда я неожиданно встал с кресла, она вздрогнула всем телом. В тот момент я начал понимать, почему мужики колотят своих жен: человек, ведущий себя как трусливый заяц, просто напрашивается на побои, коих трусливый заяц и заслуживает. Тяжелая каминная кочерга назойливо лезла мне в глаза. Я раздвинул оконные портьеры. — Глянь-ка туда, Агнес, — велел я. Она подняла на меня затравленный, полный ужаса взгляд. — Встань, Агнес. Вот и умница. Посмотри в окно. Что ты видишь? — Крытый экипаж, сэр. — Это кеб, Агнес. Он ждет тебя. Кучер отвезет тебя на железнодорожную станцию. — Я еще никогда не каталась в кебе, сэр. — Знаю. — Я со вздохом отпустил тяжелые портьеры. — Впереди тебя ждет множество новых, чудесных впечатлений — и поездка в кебе станет первым из них. Я отошел к столу и вернулся с планшеткой, листом почтовой бумаги и карандашом. Я решил, что в нынешнем своем состоянии девочка не управится с пером и чернилами. — Агнес, сейчас ты напишешь коротенькую записку родителям — сообщишь, что тебе подвернулась замечательная работа и что ты уезжаешь из Лондона. В подробности вдаваться не надо… просто пообещай, что напишешь обо всем обстоятельно, как только приступишь к обязанностям на новом месте. — Сэр… я… я не могу… я не умею… — Напиши то, что я продиктую, Агнес. Возьми карандаш. Вот умница. Я продиктовал всего четыре предложения — самых незатейливых, какие написала бы эта туповатая девочка, — и потом просмотрел записку. Корявый нервный почерк, заглавные буквы вперемежку со строчными, чудовищные ошибки в самых простых словах — но так было бы в любом случае. — Прекрасно, голубушка. Теперь поставь свою подпись. Напиши «ваша любящая дочь Агнес». Она так и сделала. Я отнес планшетку и карандаш обратно на стол, а записку свернул и спрятал в карман. Потом я выложил триста фунтов на диван между нами. — Это тебе, дитя мое. Семья, которой я рекомендовал тебя, будет тебе платить, разумеется… платить очень хорошо, даже больше, чем сейчас зарабатывает мисс Кэрри, — старинные шотландские семейства бывают очень щедрыми… Но на эти деньги — согласись, тоже немалые — ты сможешь по прибытии в Эдинбург купить себе новую одежду, более подходящую для твоей новой работы. И даже после этого у тебя еще останется кругленькая сумма, которой вполне хватит на первые год-два. Я никогда раньше не замечал у нее веснушек. Сейчас круглое лицо Агнес заливала такая бледность, что веснушки резко выделялись. — Мама… — с усилием проговорила она. — Папа… я не могу… они… — Они страшно обрадуются, — заверил я. — Я все объясню им, когда они вернутся, и они наверняка приедут проведать тебя при первой же возможности. Теперь ступай наверх и собери все вещи, какие ты хочешь взять с собой в новую жизнь. Не забудь самые свои красивые платья. Там будут приемы и балы. Она не шелохнулась. — Ступай! — скомандовал я. — Нет! Вернись. Возьми деньги. А теперь иди! Агнес побежала наверх паковать свои тряпки и прочие убогие вещички. Я поднялся за ней, чтобы проверить, выполняет ли она мое распоряжение. Потом я спустился в подвал, где Джордж хранил свой ящик с инструментами. Взяв большой молоток с гвоздодером и увесистый ломик, я вернулся наверх.
Дорогой читатель далекого будущего, если сейчас вы склонны осудить меня, я прошу вас воздержаться. Доведись вам знать меня в реальной жизни, вы бы знали, что я человек мягкий. Я сызмалу проявлял мягкость в поведении и поступках. Я пишу… писал… сенсационные романы, но живу… жил… тихой, мирной жизнью, просто образцово-показательной. Моя мягкость всегда привлекала женщин, вот почему я — низенький, полноватый господин в очках — пользовался большим успехом у дам. Даже наш друг Чарльз Диккенс постоянно подтрунивал над моей мягкотелостью, как будто отсутствие всякой агрессивности превращало меня в посмешище. По пути домой от Марты я в очередной раз осознал, что неспособен даже пальцем тронуть юную Агнес, сколь бы губительной ни оказалась для моей жизни и карьеры ее неизбежная неосмотрительность. Я никогда ни на кого не поднимал руки во гневе. «Ага! — воскликнете вы, дорогой читатель. — Но как же насчет вашего намерения застрелить Друда и Диккенса?» Позвольте напомнить вам, дорогой читатель: Друд не является человеком в привычном понимании этого слова. Он убил десятки, если не сотни невинных людей. Он выходец из Черных Земель, что видятся мне во сне каждый раз, когда Фрэнк Берд колет мне морфий. А Диккенс… Я уже рассказал вам, как Диккенс обращался со мной. Судите сами, дорогой читатель. Сколько лет вы смогли бы выносить высокомерие и снисходительность этого человека, хвастливо величавшего себя Неподражаемым, прежде чем подняли ли бы наконец руку (или оружие) в праведном гневе? Но вы должны понять: я никогда не поднял бы руки на бедное тупое дитя вроде Агнес.
Она спустилась вниз в лучшем из своих дешевых нарядов и в тонком пальтишке, в котором продрогла бы уже через десять минут после выхода на улицу здесь, в Англии, и через пару минут — в Шотландии. Она тащила два дешевых чемодана. И она плакала. — Ну-ну, дружок, ты это брось. — Я ласково похлопал Агнес по спине, и она снова отпрянула от меня. — Посмотри, пожалуйста, ждет ли еще кеб там. Она глянула сквозь жалюзи, закрывавшие окно у входной двери. — Да, сэр. — Она снова расплакалась. — Я не знаю, как п-платить вознице. Я не знаю, как найти н-нужный вагон на с-станции. Я вообще ничего не знаю и не умею. — Несчастное дитя находилось на грани истерики. — Полно, полно, Агнес. Вознице я уже заплатил. И приплатил сверх положенного, чтобы он помог тебе найти твой вагон и место. Он не оставит тебя, покуда не убедится, что ты села в свой поезд, в свой вагон и удобно устроилась на своем месте. Я попросил его позаботиться о тебе и не уходить с платформы до самого отправления поезда. И я уже телеграфировал славному семейству, где ты будешь служить… они встретят тебя на Эдинбургском вокзале. — Мои мама и папа… — опять начала она, давясь слезами. — Они будут страшно рады, что у тебя хватило смелости воспользоваться редкостной, замечательной возможностью, представившейся тебе. — Я взялся за дверную ручку, но тотчас хлопнул себя по лбу. — Ох, чуть не забыл. Я хочу напоследок попросить тебя об одной услуге. Агнес уставилась на меня испуганными, заплаканными глазами, но я уловил в них слабый проблеск надежды. Похоже, она посчитала это отсрочкой приговора. — Сюда. — Я направился в глубину дома, к кухне. Девочка не сразу заметила, что доски, которыми была заколочена дверь на черную лестницу, отодраны. Но когда заметила — остановилась как вкопанная. — Я решил снова пользоваться задней лестницей, Агнес, и мне нужно зажечь там все настенные свечи. Но мои усталые старые глаза плохо видят в темноте… — Я снова лучезарно улыбался. Она помотала головой. Выронила из рук свои дешевые чемоданы. Рот у нее был открыт, и на лице застыло бессмысленное выражение, придававшее ей сходство с идиотками, каких держат в сумасшедших домах. — Нет… сэр, — наконец проговорила она. — Папа запретил мне… — О, сейчас там нет ни мышей, ни крыс! — со смехом перебил я. — Давно уже нет! Твой отец знает о моем намерении открыть лестницу. Тебе потребуется не больше минуты, чтобы зажечь все свечи, а потом ты отправишься в увлекательное путешествие. Она лишь потрясла головой в ответ. Я уже зажег свечу. Теперь я вложил ее девочке в руку и зашел ей за спину. — Не упрямься, Агнес, — прошептал я на ухо бедняжке. И невольно задался вопросом, не смахивает ли сейчас мой голос на Друдово шипенье с присвистом. — Будь умницей. Я двинулся вперед, потихоньку тесня Агнес к двери. Она не упиралась, пока я не открыл дверь и не заставил вступить в черный проем. Тогда она внезапно остановилась, повернулась и устремила на меня такой же печальный, понимающий и одновременно недоверчивый взгляд, каким смотрел на Диккенса ирландский волкодав Султан на последней своей прогулке с хозяином. — Я не… — начала она. — Зажги все свечи до единой, Агнес, и постучи, когда захочешь выйти. — Я подтолкнул девочку вперед и запер за ней дверь. Потом я принес с кухонной стойки молоток, гвозди, доски и принялся заколачивать дверь, вгоняя гвозди в старые отверстия в косяках, чтобы все выглядело как прежде и Джордж с Бесс ничего не заметили по своем возвращении. Девочка закричала, разумеется, и очень громко. Но стены и двери в доме на Глостер-плейс были очень толстые, и даже в кухне, с расстояния нескольких футов, я едва различал крики, а уж с улицы их точно никто не мог услышать. Она застучала по дубовой двери кулаками, потом (судя по звукам) стала царапать ногтями, но затихла к моменту, когда я забил последний гвоздь в самом низу. Теперь ни малейший лучик света не проникал сквозь припорожную щель в темный лестничный колодец. Я прижался ухом к доскам, и мне показалось, будто я слышу, как Агнес начала подниматься по ступенькам, медленно и неуверенно. Должно быть, даже тогда она в глубине души не сомневалась, что все происходящее — просто такая жестокая игра и что я выпущу ее, как только она зажжет все свечи. Последние крики несчастной были поистине душераздирающими. Но продолжались они недолго. Как я и предвидел, истошный вопль оборвался на высокой, пронзительной ноте самым ужасным образом. Я поднялся в комнатушку Агнес и тщательно все обыскал там, не думая о времени и не беспокоясь по поводу кебмена, ждавшего у дома. Убедившись, что девочка не оставила записки ни в своей каморке, ни в родительской комнате, ни еще где-либо, я проверил, все ли свои ценные вещи она упаковала в два дешевых чемодана. На ее аккуратно заправленной кровати, под покрывалом, я нашел бесформенную и уже безглазую тряпичную куклу. Взяла бы она игрушку с собой в новую жизнь в Эдинбурге? Я решил, что, скорее всего, взяла бы, а потому отнес куклу вниз и затолкал в чемодан побольше. С заколоченной черной лестницы не доносилось ни звука. Прихватив молоток и ломик, я спустился в подвал и надел длинный резиновый фартук Джорджа, предназначенный для разной грязной работы. Я позаимствовал также толстые рабочие перчатки. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы отгрести лопатой уголь от задней стены угольного подвала. Заделанная дыра в стене была по-прежнему видна; известковый раствор между кирпичами и каменной кладкой растрескался и частично осыпался. С помощью ломика я принялся выковыривать кирпичи. Это заняло у меня больше времени, чем я предполагал, но я не торопился. Наконец отверстие, сквозь которое Друд проник в дом два года назад, открылось полностью. Я просунул в него свечу. Язычок пламени затрепетал в слабых потоках сырого воздуха, но не погас. За пределами круга света сгущалась темнота, и там узкий лаз круто уходил вниз, в еще более густую темноту. Я затолкал оба битком набитых чемодана Агнес в дыру и прислушался, не раздастся ли всплеск или стук от падения, но ничего не услышал. Такое впечатление, будто под моим домом находилась бездонная яма. Еще больше времени потребовалось, чтобы установить камни и кирпичи обратно на место и заполнить щели между ними свежим известковым раствором. В свое время дядя обучил меня основам каменщицкого дела, и в детстве я гордился таким своим умением. Теперь эти навыки очень мне пригодились. Потом я подгреб уголь обратно к стене, отнес на место инструменты, фартук и перчатки, поднялся наверх, тщательно умылся, уложил в поместительный кофр запас белья и одежды на пару недель (в том числе две свежевыглаженные парадные сорочки), прошел в кабинет и собрал все письменные материалы, необходимые мне для работы (включая рукопись с началом «Черно-белого»), поднялся в комнатушку Агнес и оставил ее записку на видном месте, в последний раз обошел дом, проверяя все ли окна закрыты и двери заперты (с черной лестницы, разумеется, по прежнему не доносилось ни звука, и я был уверен, что и впредь не донесется), а затем вышел за порог с кофром и кожаным портфелем и запер за собой парадную дверь. Возница проворно спрыгнул с козел, чтобы стащить кофр с крыльца и уложить в багажное отделение экипажа. — Спасибо, что подождали. — Я слегка задыхался, но пребывал в прекрасном расположении духа. — Я не думал, что сборы займут у меня так много времени. Надеюсь, вы не очень замерзли и утомились. — Нисколечки, сэр, — весело откликнулся кебмен. — Я маленько вздремнул там на козлах, сэр. Судя по красным щекам и носу, он позволил себе не только вздремнуть. Возница придержал дверцу, пока я садился в экипаж. Взобравшись на козлы, он приоткрыл верхнее окошечко и спросил: — Куда теперь, сэр? — Гостиница «Сент-Джеймс», — сказал я. Для меня это было роскошью — Чарльз Диккенс селил там гостей вроде Лонгфелло и Филдса, когда они приезжали в Лондон, и порой сам останавливался там, но я обычно предпочитал обходиться номерами подешевле. Однако сегодня был особый случай. Маленькое окошечко захлопнулось с глухим стуком. Я поднял облаченную в перчатку руку, резко стукнул в потолок экипажа, и мы покатили. Настроение мое лишь слегка омрачилось чуть позже, когда я вспомнил, что забыл забрать у Агнес триста фунтов перед тем, как навсегда закрыть дверь на черную лестницу.
Глава 41
Во вторник, пятого января, Диккенс впервые убил Нэнси в Сент-Джеймс-Холле перед широкой публикой. Несколько десятков женщин завизжали. По меньшей мере четыре упали в обморок. Видели, как некий пожилой господин, поддерживаемый под руки двумя бледными спутниками, шаткой поступью выходил из зала, судорожно хватая ртом воздух. Я покинул театр прежде, чем начались бурные аплодисменты, но они достигли моего слуха на заснеженной улице, запруженной каретами и наемными экипажами, ждущими, когда народ повалит наружу. Облачка пара от дыхания лошадей и тепло укутанных возниц на высоких козлах смешивались и клубились подобием тумана в холодном свете газовых фонарей.Днем пятого января я вернулся домой из гостиницы. Никакой ужасный запах не встретил меня в вестибюле. Собственно, я и не ожидал ничего такого — и не только потому, что отсутствовал всего три дня. С черной лестницы пахнуть не будет, в этом я был уверен. Я там выпустил пять пуль, но без всякого толку. Существо, которому предназначались пули, плевать на них хотело. Оно уже сожрало зеленокожую клыкастую женщину, не оставив даже клочка платья или обломка зуба. От Агнес наверняка не осталось ровным счетом ничего. Я находился в своей спальне и укладывал в чемодан свежие рубашки (ибо возвращался обратно в гостиницу, где ко мне пару дней назад присоединился Фехтер), когда услышал в коридоре шаги и тихое покашливанье. — Джордж? Ты уже здесь? Я запамятовал, когда ты собирался вернуться, — весело промолвил я. Лицо Джорджа, подернутое пасмурной тенью, казалось серым. — Да, сэр. Жена задержится еще на два дня. Ейная мать скончалась первой — мы-то ждали смерти отца, но померла мать. Он находился при последнем издыхании, когда я уезжал, но мы не могли оставить вас здесь без ваших преданных слуг, сэр, и потому я воротился. — Что ж, печально слышать это, Джордж, и… — Я посмотрел на записку в его руке. Он наставлял ее на меня, точно пистолет. — Что это, Джордж? — Записка от нашей маленькой Агнес, сэр. Вы читали? — Нет, конечно. Я думал, Агнес с вами в Уэльсе. — Да, сэр. Я сразу понял, что вы не заприметили нашу записку на каминной полке в гостиной — она так и лежала там, куда мы положили. Видать, вы не знали, что Агнес оставалась с вами в доме той ночью, сэр. То есть ежели она вообще была здесь той ночью… ежели она уехала утром, когда вы еще спали, а не среди ночи. — Уехала? О чем, собственно, ты говоришь, Джордж? — Вот, сэр. — Он сунул мне записку. Я прочитал и изобразил на лице удивление, не переставая думать: «Не ловушка ли это? Неужели тупой девчонке удалось изменить почерк или еще каким-нибудь образом дать родителям понять, что случилось неладное?» Но все было написано слово в слово, как я диктовал. Орфографические ошибки не производили впечатления нарочитых. — Выгодное место? — промолвил я, опуская записку. — Что Агнес имеет в виду, Джордж? Она уехала куда-то работать, не предупредив меня? Или вас с Бесс? — Нет, сэр, — мрачно сказал Джордж. Он так и буравил меня немигающим взглядом темных глаз. — Тут в записке все неправда, сэр. — Неужели? — Я уложил в чемодан последнюю смену белья и захлопнул крышку. — Да, сэр. Никакого «выгодного места» нет, мистер Коллинз. Ну кто станет нанимать в услужение ленивую и неуклюжую девчонку вроде нашей Агнес? На самом деле все не так, сэр. Все не так. — Тогда как все это следует понимать? — спросил я, возвращая записку слуге. — Тот солдат, сэр. — Солдат? — Молодой шельмец из шотландского полка, с ним она познакомилась на рынке в декабре. Капрал. Десятью годами старше Агнес, с бегающими глазками, холеными руками и дрянными усишками, похожими на мерзкую гусеницу, заползшую к нему на губу, чтобы подохнуть, сэр. Бесс, она увидела, что наша дочка разговаривает с ним, и тотчас промеж них встряла. Но Агнес снова повстречалась с малым, когда ходила за покупками. Она сама призналась перед Рождеством, когда мы заглянули к ней в комнату, а она там ревет, как дура. — Ты хочешь сказать… — Так точно, сэр. Глупая девчонка сбежала с солдатом — это так же верно, как то, что матушка Бесс лежит в сырой земле, да и батюшка, скорее всего, тоже уже упокоился рядом. Ничего-то от нашей маленькой семьи не осталось — кто помер, кто сбежал. Подняв чемодан, я ободряюще похлопал Джорджа по плечу. — Ерунда, дружище. Она вернется. Они всегда возвращаются после первого любовного разочарования. Поверь мне на слово, Джордж. А если Агнес не вернется… ну, мы наймем кого-нибудь, кто ее разыщет и призовет к здравому смыслу. Я вожу знакомство с несколькими частными сыщиками. Тебе не о чем беспокоиться, Джордж. — Да, сэр, — сказал он голосом таким же унылым, как выражение лица. — Я пробуду в гостинице «Сент-Джеймс» еще несколько дней. Будь любезен, ежедневно доставляй мне туда почту, а к субботе проветри весь дом, приберись хорошенько и закупи продуктов для ужина — возможно, мистер Фехтер и еще несколько господ приедут в гости. — Слушаюсь, сэр. — Не вешай носа! — Я в последний раз похлопал Джорджа по спине, прежде чем выйти к ждущему у дома кебу. — Все кончится наилучшим образом. — Да, сэр.
Можно только догадываться, как тяжело пришлось Диккенсу — чьи нервы, подорванные Стейплхерстской катастрофой, не поправлялись, а сдавали все сильнее со временем, — когда он пустился в изнурительное турне, требующее почти каждодневных железнодорожных поездок. Кейти сообщила мне через моего брата, что на следующий день после Сент-Джеймс-Холла Диккенс не нашел в себе сил даже встать с постели и принять обычный холодный душ. Через несколько дней должны были состояться последние его выступления в Дублине и Белфасте, и он решил взять с собой Джорджину и дочь Мери, чтобы все походило больше на праздник, нежели на прощание. Почти сразу произошел случай, едва не закончившийся трагедией, который нанес тяжелейший урон нервной системе Диккенса. Неподражаемый, Долби, Джорджина, Мери и обычные сопровождающие лица возвращались из Белфаста, чтобы сесть на пакетбот до Кингстона. Они ехали в первоклассном вагоне, следующем сразу за локомотивом, и вдруг по крыше вагона что-то оглушительно прогрохотало. Выглянув в окно, они успели увидеть некий предмет, похожий на громадный железный серп, — он стремительно летел по воздуху, срезая телеграфные столбы, точно тростинки. «Ложись!» — крикнул Диккенс, и все бросились плашмя на пол. В вагонные окна ударила мощная воздушная волна, несущая огромные щепки, песок, землю, камни, водяные брызги. Вагон содрогнулся, словно налетев на препятствие, а потом запрыгал, затрясся так сильно, что Диккенс, как он признался впоследствии, нисколько не усомнился, что они сошли с рельсов и катят по шпалам. Когда наконец состав остановился, во внезапно наступившей тишине слышались лишь тяжкое пыхтенье паровой машины да крики, доносившиеся из вагонов второго класса. Диккенс первый поднялся на ноги, вышел наружу и тотчас спокойно заговорил с машинистом, а Долби и прочие мужчины, не потерявшие присутствия духа, столпились вокруг них. Машинист (по словам Долби из письма Фехтеру, он находился в гораздо сильнейшем смятении, чем Диккенс, и весь трясся) объяснил, что металлический обод огромного ведущего колеса раскололся, буквально взорвался, и обломки полетели в стороны, срубая телеграфные столбы. Самый крупный обломок врезался в крышу вагона, где ехал Диккенс. «Если б он был чуть побольше, — сказал машинист, — или летел чуть пониже и чуть побыстрее, он бы точно пробил крышу и сотворил с пассажирами то же самое, что остальные железяки сотворили с телеграфными столбами». Диккенс успокоил Мейми, Джорджину и других пассажиров (даже Долби, как он признавался впоследствии, был глубоко потрясен,а вывести из равновесия Джорджа Долби очень и очень непросто), но на следующий вечер, после очередного «убийства Нэнси», Долби пришлось уводить Шефа со сцены под руку по завершении номера. Диккенс с самого начала запланировал выступление в Чертенхэме, чтобы его дорогой престарелый друг Макриди смог увидеть «убийство». Потом сей немощный семидесятипятилетний старец приковылял за кулисы, тяжело опираясь на руку Долби, и не мог произнести ни слова, пока не выпил два бокала шампанского. Он находился в столь сильном эмоциональном возбуждении после «убийства», что Диккенс попытался шутливо отмахнуться от всяких обсуждений, но Макриди все же пожелал высказаться. В его дребезжащем голосе послышались нотки былой сценической страсти, когда он прокричал: «Нет, Диккенс… э… э… я НЕ стану молчать. В мои… э… лучшие времена… э… вы помните их, милый мальчик… э… они минули, безвозвратно минули!.. Нет! — Здесь крик перерос в неистовый рев: — Это стоит… э… ДВУХ МАКБЕТОВ!» Последние слова прозвучали так громко и страстно, что Диккенс и Долби могли лишь ошеломленно уставиться на старого актера, сделавшего Макбета своей коронной ролью, которой он гордился даже больше, чем молодой женой и прелестной взрослой дочерью. Похоже, он хотел сказать, что по силе эмоционального воздействия Диккенсово «убийство Нэнси» равнозначно — не только в части производимого на аудиторию впечатления, но и в части актерской игры — лучшему из его лучших Макбетов. Затем престарелый великан свирепо уставился на Долби, словно импресарио (не проронивший ни слова) осмелился возражать. А спустя несколько мгновений Макриди просто… исчез. Его тело по-прежнему оставалось там, с вызывающе вскинутой головой и упрямо выдвинутой тяжелой челюстью, с третьим бокалом шампанского в руке, — но сам Макриди пропал, оставив после себя, как позже Диккенс сказал Долби и Форстеру, лишь бледную оптическую иллюзию в виде своей телесной оболочки. В Клифтоне «убийство» вызвало, по шутливому выражению Диккенса, целую эпидемию обмороков. «Мне кажется, в ходе выступления из зала вынесли от пятнадцати до двадцати дам, недвижных и оцепенелых. Под конец даже забавно стало». Неподражаемому это понравилось. В Бате сам Диккенс, казалось, находился в предобморочном состоянии, поскольку город произвел на него самое тяжелое впечатление. «Бат представляется мне кладбищем, где мертвецы восстали из могил, — сказал он Долби. — Понастроив домов из своих старых надгробных камней, они бродят по улицам, стараясь казаться живыми. Но без всякого успеха». В феврале Перси Фицджеральд намекнул мне, что после того, как Джорджина и Мейми вернулись в Гэдсхилл, к Диккенсу снова присоединилась Эллен Тернан. Во всяком случае, я так понял (Перси никогда не посмел бы сказать такое открытым текстом). Но Фицджеральд наконец-то собрался жениться, и когда он, задыхаясь от волнения, сообщил об этом Диккенсу на вокзале, последний промолвил: «Я должен сказать об этом одному человеку, путешествующему со мной». Одному человеку, путешествующему со мной… Вряд ли Диккенс употребил бы такое расплывчатое выражение применительно к Долби, или к своему осветителю, или к газовому технику. Неужели Эллен проживала в одной с ним гостинице, но теперь как сестра, а не любовница? Можно только догадываться, сколь жестокие дополнительные муки это причиняло Диккенсу. Я сказал «дополнительные муки» умышленно, ибо теперь не оставалось сомнений, что Чарльза Диккенса мучают не только физические недуги. Несмотря на его радостные сообщения о десятках упавших в обморок женщин, «убийство Нэнси» явно вредило не только физическому, но и душевному здоровью писателя. Все, с кем я общался — Фицджеральд, Форстер, Уиллс, все до единого, — хором утверждали, что в своих письмах Неподражаемый говорит только об «убийстве», и ни о чем другом. Он выступал с ним по меньшей мере четыре раза в неделю, включая в программу из своих традиционных популярных номеров, и казалось, был одержим желанием не только превратить каждый концертный зал в Театр Ужаса, но и полностью отождествиться с Биллом Сайксом. «Я убиваю Нэнси…» «Я готовлюсь к убийству…» «Я часто думаю о своих собратьях-преступниках…» «Я убиваю опять, опять и опять…» «Когда я брожу по улицам, меня не покидает смутное ощущение, будто я объявлен в розыск…» «Я снова обагряю руки невинной кровью…» «Мне нужно совершить еще много убийств, а времени остается мало…» Подобными фразами пестрели послания Диккенса ко всем друзьям и знакомым. Долби написал Форстеру, что теперь Шеф отказывается даже ненадолго задерживаться в любом городе после выступления, а потому приходится менять заранее составленное расписание переездов, обменивать железнодорожные билеты, платить новые пошлины, — чтобы изнуренный Неподражаемый, едва способный дойти до вокзала, мог без промедления бежать из города, точно находящийся в розыске преступник. — Люди стали иначе относиться ко мне после того, как я убил Нэнси, — сказал Диккенс пустоголовому Уиллсу во время одной из своих остановок в Лондоне. — Мне кажется, они меня боятся. В помещении все держатся поодаль от меня… не из робости перед знаменитостью, а скорее из страха и, возможно, ненависти или отвращения. В другой раз Долби, как он сам рассказывал Форстеру, зашел после представления в уборную, дабы доложить о прибытии наемного экипажа, и обнаружил, что Диккенс уже пятнадцать или больше минут моет руки. «Никак не могу смыть кровь, Долби, — с отчаянием проговорил изнуренный писатель, подняв затравленный взгляд. — Она остается под ногтями и в складках кожи». Лондон, Бристоль, Торкей, Бат — Диккенс уже знал тамошние гостиницы, вокзалы, концертные залы и даже лица зрителей как свои пять пальцев, — потом снова Лондон как перевалочный пункт на пути в Шотландию. Но теперь левая нога у него так распухла, что Фрэнк Берд категорически запретил шотландское турне — и оно было ненадолго отложено. Однако всего через пять дней Диккенс опять уехал, хотя Джорджина, дочери, сын Чарли и такие друзья, как Перси, Уиллс и Форстер, умоляли его остаться.
Я решил отправиться в Эдинбург, чтобы посмотреть, как Диккенс убивает Нэнси. И увидеть, как «убийство» убивает Чарльза Диккенса. К настоящему времени я почти не сомневался, что писатель пытается совершить самоубийство посредством турне, но первоначальный мой гнев по этому поводу уже поостыл. Да, говорил я себе, тогда он останется при своей славе и при своей могиле в Вестминстерском аббатстве, но он по крайней мере умрет. И самоубийства не всегда удаются, не без удовольствия вспоминал я. Порой пуля пробивает череп и застревает в мозгу, но самоубийца не умирает, а остается до конца жизни слюнявым идиотом. Или женщина вешается, но шейные позвонки у нее не ломаются, и кто-то успевает перерезать петлю — но слишком поздно, чтобы предотвратить нарушение мозгового кровообращения. До самой смерти у нее останутся шрам на горле, уродливое искривление шеи и бессмысленный взгляд. Попытка самоубийства посредством турне, говорил я себе, тоже может сорваться и закончиться подобным восхитительным образом. Я прибыл в Эдинбург раньше и снял номер в гостинице, а потому Диккенс удивился и обрадовался, увидев меня на вокзале в числе встречающих. — Вы чудесно выглядите, дорогой Уилки! — воскликнул он. — Пышете здоровьем. Вы что, днями ходили на одной из своих арендованных яхт, в позднефевральские-то шторма? — Да вы и сами замечательно выглядите, Чарльз, — сказал я. Выглядел он ужасно — сильно постарел и поседел; макушка полностью облысела, и на нее зачесано несколько сивых прядей; даже борода казалась жидкой и неухоженной. Воспаленные веки, фиолетовые круги под глазами, впалые щеки. Изо рта у него скверно пахло. И он хромал, как ветеран Крымской войны на деревянной ноге. Я знал, что выгляжу немногим лучше. Фрэнку Берду пришлось увеличить количество уколов морфия (их надлежало делать ровно в десять часов вечера) с двух-трех до семи в неделю. Она научил меня наполнять шприц и впрыскивать самому себе препарат (не такое трудное дело, как кажется) и оставил мне целую бутыль морфия. Я удвоил ежевечернюю дозу морфия и одновременно удвоил количество лауданума, принимаемого в течение дня. Как следствие, у меня резко повысилась работоспособность. Когда Диккенс спросил, над чем я сейчас тружусь, я честно сказал, что Фехтер практически переехал ко мне на Глостер-плейс и мы по много часов в день работаем над нашей пьесой «Черно-белый». Я добавил, что у меня уже появился замысел следующего романа, основанного на неких странных аспектах английских брачных законов, и что я почти наверняка приступлю к работе над ним сразу после премьеры «Черно-белого», намеченной на конец марта. Диккенс похлопал меня по спине и пообещал прийти на премьеру со всей семьей. Я задался вопросом, доживет ли он до конца марта. Я не сказал Диккенсу, что теперь каждую ночь, после короткого морфинового сна, я в час или в два просыпаюсь и диктую Второму Уилки тексты с описанием своих сновидений. Наш совместный труд о древнеегипетских ритуалах, посвященных богам Черных Земель, уже насчитывал свыше тысячи рукописных страниц. Тем вечером в Эдинбурге Диккенс сыграл сцену убийства просто блестяще. Признаться, меня самого мороз подирал по коже. На сей раз в зале было не так жарко и душно, как, возможно, было в Клифтоне, но все равно около десятка дам лишились чувств. После концерта Диккенс провел немного времени с группой зрителей, а потом шаткой поступью удалился в свою уборную, где в очередной раз сказал нам с Долби, что после представления люди как-то неохотно подходят и заговаривают с ним и вообще стараются держаться от него подальше. «Они чувствуют мои кровожадные инстинкты», — сказал он с невеселым смехом. Затем Диккенс вручил Долби список с перечнем оставшихся выступлений, и Долби совершил почти роковую (то есть способную обернуться увольнением) ошибку, вежливо предложив исключить «убийство» из программы чтений в маленьких городках и выступать с ним только в крупных городах. — Гляньте сюда, Шеф… просмотрите внимательно составленный вами список — вы не замечаете здесь ничего странного? — Нет. А в чем дело? — Ну, вы включили «убийство» в три из четырех выступлений в неделю. — И что с того? — резко осведомился Диккенс. — Что, собственно, вы хотите сказать? Похоже, он напрочь забыл о моем присутствии. Я стоял, прямой и безмолвный, с бокалом шампанского в руке, как в недавнем прошлом стоял престарелый Макриди. — Только одно, Шеф, — мягко промолвил Долби. — Не подлежит ни малейшему сомнению: успех вашего прощального турне уже предрешен окончательно и бесповоротно… независимо от того, какие номера вы выберете для дальнейших выступлений. А потому не имеет значения, отрывки из каких своих книг вы будете читать. Сцена с Сайксом и Нэнси дается вам страшно дорогой ценой, Шеф. Я это вижу. И другие это видят. Вы сами понимаете и чувствуете это. Почему бы не приберечь этот номер для крупных городов — или вообще отказаться от него до конца турне? Диккенс круто развернулся в кресле, отворачиваясь от зеркала, перед которым он снимал легкий грим. Столь яростное выражение лица у него я видел, только когда он выступал в роли Билла Сайкса. — Вы закончили, сэр? — Я высказал свое мнение, — бесстрастно, но твердо промолвил Долби. Вскочив на ноги, Диккенс схватил тарелку с несколькими устрицами и ударил по ней черенком ножа. Тарелка разлетелась на полдюжины осколков. — Долби! Черт бы вас побрал! Ваша чертова осторожность в конце концов погубит вас — и меня! — Возможно, Шеф. — Медведеподобный верзила густо покраснел, и я мог поклясться, что в глазах у него выступили слезы. Но его голос оставался тихим и твердым. — Однако в таком случае, надеюсь, вы отдадите мне справедливость, признав, что я проявляю осторожность исключительно в ваших интересах. Ошеломленный, я осознал, что за долгие годы нашего знакомства Чарльз Диккенс впервые при мне повысил голос на человека (вне театральных подмостков). Даже когда он жестоко уязвлял мои чувства во время памятного ужина в ресторации Верея, он говорил негромким, почти ласковым голосом. Гнев Неподражаемого, зримо явленный в реальной жизни, а не на сцене, был ужаснее, чем я мог представить. Диккенс неподвижно стоял в молчании. Я оставался в глубине комнаты, забытый обоими участниками необычного диалога. Долби направился к походному бюро, чтобы положить на него список. Он отворачивался в сторону, словно не желая расстраивать Шефа своим обиженным выражением лица, а когда повернулся к нему — увидел то, что видел я. Диккенс беззвучно плакал. Долби потрясенно застыл на месте, а в следующий миг Диккенс, как и следовало ожидать, порывисто шагнул к нему и обнял с самым покаянным видом. — Простите меня, Долби, — сдавленно проговорил он. — Я не хотел вас обидеть. Я устал. Мы все устали. И я знаю: вы правы. Мы все спокойно обсудим завтра утром. Но утром (при мне, ибо мы завтракали вместе) Диккенс оставил «убийство» во всех трех концертах и добавил в программу четвертого. Ко времени своего возвращения в Лондон я доподлинно знал о следующих фактах: Диккенс испражнялся с кровью и считал, что дело здесь в застарелом геморрое, но Долби сомневался, что именно это является причиной постоянного кровавого поноса. Левая нога у Неподражаемого снова распухла так сильно, что он не мог сесть в кеб или зайти в вагон без посторонней помощи. Он переставал хромать, только когда выходил на сцену и уходил за кулисы. Он признавался, что находится в жутко подавленном состоянии духа. В Честере с ним случилось сильное головокружение, вызвавшее легкий паралич. Пришедшему по вызову врачу он сказал, что у него «кружится голова и его то качает назад, то ведет в сторону». Позже Долби рассказал мне, что один раз, когда Диккенс пытался положить на стол какой-то маленький предмет, дело закончилось тем, что он неловко сдвинул стол вперед, едва не перевернув его. Диккенс говорил о странных ощущениях в левой руке и признавался, что для того, чтобы произвести ею некое действие — скажем, положить или взять предмет, — он должен пристально на нее посмотреть и послать ей мысленный приказ. В последнее утро в Эдинбурге Диккенс сказал мне — со смехом, — что ему становится все труднее поднимать к голове руки, особенно непокорную левую, и в скором времени придется нанять работника, чтобы тот расчесывал ему три оставшиеся волосины перед выходом на сцену. Однако после Честера он выступил в Блэкберне, а затем в Болтоне — и везде убивал Нэнси. К двадцать второму апреля Диккенс окончательно сдал. Но я забегаю вперед, дорогой читатель.
Вскоре после возвращения из Эдинбурга я получил письмо от Кэролайн. Оно было написано без всякого пафоса и сантиментов — языком почти бесстрастным, словно она составляла орнитологический отчет о поведении воробьев в своем саду, — но Кэролайн сообщала мне, что в течение шести месяцев супружеской жизни ее муж Джозеф не зарабатывает средств к существованию, что они живут на гроши, которые неохотно выдает его мать (унаследовавшая крохотное состояние от мужа), и что он ее бьет. Я прочитал письмо со смешанными чувствами — среди них, следует признать, преобладало легкое удовлетворение. Кэролайн не просила ни денег, ни помощи, ни даже ответного послания, но подписалась словами «Ваш очень давний и истинный друг». Я с минуту сидел за столом в кабинете, задаваясь вопросом, что же такое фальшивый друг, если Кэролайн Г***, ныне миссис Хэрриет Клоу, является образцом истинного друга. В тот же день пришло письмо на имя Джорджа и Бесс — они оба горевали каждый на свой лад, безмолвно, разумеется, но Бесс тяжелее мужа переживала побег Агнес (особенно сейчас, после смерти родителей, не оставивших никаких денег), — и я не видел доставленного конверта, иначе почерк на нем (корявые печатные буквы) непременно привлек бы мое внимание. На следующий день Джордж появился в дверях моего кабинета, тихо кашлянул и вошел с извиняющимся выражением лица. — Прошу прощения, сэр, но поскольку вы выказали столь добрый интерес к судьбе нашей дорогой дочери Агнес, я решил, что вы захотите увидеть это, сэр. Он вручил мне листок гостиничной почтовой бумаги.
ДараГие Мама и паПа. У миня все Харашо и надеюс у Ва с тоже. Я устроила с Прикрасно. Капра л МакдональД, мой вазлюбленый, и я хатим Паженитца 9 Июня. Я напишу Вам ищо после этово Щастливово События. Ваша любящая доч АГНЕСНа несколько мгновений все мои лицевые мышцы онемели, одеревенели, как бывало в редких случаях, когда я слишком уж сильно перебирал с дозой морфия или лауданума. Я поднял взгляд на Джорджа, но обнаружил, что не в силах произнести ни слова. — Да, сэр, — весело сказал он. — Отличные новости, правда? — Капрал Макдональд — тот самый парень, с которым она сбежала? — с трудом проговорил я наконец. Мой голос, даже для меня в моем оглушенном состоянии, звучал так, словно просачивался сквозь тончайший фильтр. Я должен был знать про капрала. Джордж наверняка говорил мне. Я уверен, что говорил. Разве нет? — Точно так, сэр. И я переменю свое плохое мнение о малом, ежели он сделает из нашей милой Агнес честную женщину. — Надеюсь, так оно и будет, Джордж. Чудесные новости. Я чрезвычайно рад узнать, что Агнес жива-здорова и счастлива. Я вернул слуге записку. В самом верху листка было вытиснено название эдинбургской гостиницы, но не той, где останавливался я в свой приезд к Диккенсу. Отправились ли мы ужинать в другую гостиницу после того, как Неподражаемый пожаловался на скверное качество мясных блюд в нашей гостинице? Да, я уверен. Не оттуда ли лист почтовой бумаги, который Джордж сейчас прячет в карман своего молескинового жилета? Я почти уверен, что именно оттуда. Прихватил ли я несколько листов почтовой бумаги там в вестибюле? Возможно. Вполне возможно. — Я просто подумал, что вам будет интересно узнать добрые новости, сэр. Благодарствуйте, сэр. — Джордж неловко поклонился и, пятясь, вышел из кабинета. Я посмотрел на письмо, которое до прихода слуги писал своему брату Чарли. От волнения я поставил огромную кляксу посреди последнего абзаца. После размолвки, вышедшей у Диккенса с Долби тем вечером, я принял необычайно большую дозу лауданума. Мы пошли ужинать. Что было после первых нескольких бокалов вина, я плохо помню. Я что, написал письмо от имени Агнес по возвращении в свой номер? Из ее записки, накорябанной под мою диктовку в январе, я знал, какого рода орфографические ошибки она делает. Получается, ночью я спустился в вестибюль и отправил письмо Джорджу и Бесс? Возможно. Видимо, так оно и было. Это единственное объяснение — и самое простое. Под воздействием опиума и лауданума я и прежде не раз совершал различные действия, о которых не помнил ни на следующий день, ни впоследствии. На этом построена интрига «Лунного камня». Но разве я знал имя чертова шотландского капрала? Внезапно почувствовав головокружение, я быстро подошел к окну и поднял раму. В комнату повеяло свежим весенним воздухом, слегка отдающим жженым углем, конским навозом и запахом далекой Темзы, уже начинающей смердеть под робкими лучами мартовского солнца. Я вздохнул полной грудью и облокотился о подоконник. На противоположном тротуаре стоял человек в нелепом оперном плаще. У него было пергаментно-бледное лицо и глубоко запавшие глаза, как у трупа. Даже с такого расстояния я увидел, что он улыбается мне, и разглядел темные щели между остро заточенными зубами. Эдмонд Диккенсон. Или живой мертвец из Друдовой свиты, который в прошлом был молодым Эдмондом Диккенсоном. Легко дотронувшись до своего высокого, блестящего, старомодного цилиндра, он зашагал прочь по тротуару и лишь раз с улыбкой оглянулся на меня перед тем, как свернуть на Портмен-Сквер.
Глава 42
Премьера моей драмы «Черно-белый» состоялась в воскресенье, 29 марта 1869 года. Я маялся за кулисами, в крайнем своем нервном возбуждении не в силах даже оценить реакцию публики по наличию или отсутствию смеха и аплодисментов. Я слышал лишь биение собственного сердца да шум крови в ноющих висках. Мой желудок безостановочно бунтовал на протяжении всех девяноста двух минут пьесы (тщательно рассчитанная Фехтером продолжительность: не слишком долго, чтобы зрители успели заскучать, но и не слишком коротко, чтобы у них осталось смутное чувство неудовлетворенности). Последовав примеру Фехтера, который перед началом спектакля, по обыкновению, пользовался услугами мальчишки с тазиком, я велел тому же самому пареньку повсюду следовать за мной с той же самой посудиной. До конца третьего акта мне несколько раз пришлось прибегнуть к ней. Приникнув к щели в занавесях, я увидел своих родственников и друзей в авторской ложе — Кэрри, выглядевшую особенно очаровательно в новом платье, подаренном семейством Уордов (она по-прежнему служила у них), брата Чарли с женой Кейти, Фрэнка Берда с супругой, Фреда и Нину Леман, Холмена Ханта (ездившего на похороны моей матери вместо меня) и прочих. В большой ложе, расположенной ниже и ближе к сцене, сидел Чарльз Диккенс со всей своей многочисленной семьей, не считая отбывших в Австралию и Индию или сосланных в одиночную ссылку (Кэтрин), — Джорджиной, дочерью Мейми, сыном Чарли и его женой, сыном Генри, приехавшим на каникулы из Кембриджа, и всеми остальными. Не в силах наблюдать за их реакцией, я бросился обратно в глубину закулисья, и мальчишка с тазиком поспешил за мной. Наконец занавес опустился, театр «Адельфи» взорвался бурными аплодисментами, Фехтер и исполнительница главной женской роли Карлотта Леклерк вышли на поклоны, а потом пригласили на сцену остальных актеров. Все улыбались. Овация не стихала, и я слышал крики: «Автора! Автора!» Фехтер сходил за мной, и я вышел к публике, изо всех сил стараясь держаться со скромным достоинством. Диккенс рукоплескал стоя и, похоже, задавал ритм громовым аплодисментам толпы. Он был в очках, и отражавшийся в них друммондов свет превращал глазницы в два круга синего огня. Мы произвели сенсацию. Так говорили все. На следующий день газеты поздравили меня с тем, что я нашел — наконец-то! — совершенный рецепт театрального успеха, овладев «важным умением выстраивать четкую, плотную композицию пьесы». «Проезд закрыт» не сходил со сцены шесть месяцев. Я с уверенностью предполагал, что «Черно-белый» будет идти (с полным аншлагом) целый год, а то и полтора. Но уже через три недели в зале начали появляться пустые места, точно язвы на лице прокаженного. Через шесть недель Фехтер и его труппа изображали страсти перед полупустым залом. Спектакль закрылся всего через шестьдесят дней, не продержавшись на сцене и половины того времени, что шла гораздо более нескладная драма «Проезд закрыт», написанная в соавторстве с Диккенсом. Я винил во всем непроходимую тупость лондонских театралов. Мы преподнесли им жемчужину чистой воды, а они спрашивают, куда же делось протухшее устричное мясо. Я винил также привнесенные Фехтером в пьесу моменты, которые, на мой взгляд (и по мнению ряда французских газет), слишком уж отдавали «дядитомовщиной». В начале шестидесятых годов Англия (как немногим раньше — Америка) бурно восторгалась «Хижиной дяди Тома» — все англичане, имевшие в своем гардеробе мало-мальски сносное вечернее платье, видели спектакль дважды, — но интерес к жестокостям рабовладения заметно угас с тех пор, особенно после американской Гражданской войны. Между тем «триумф» Фехтера довел меня чуть ли не до долговой тюрьмы Маршалси — правда, сама Маршалси была закрыта и частично снесена еще несколько десятилетий назад. Когда Фехтер обещал найти «кучу меценатов» для «Черно-белого», он имел в виду главным образом меня. Я согласился и потратил целое состояние на жалованье актеров, жалованье художников-декораторов, жалованье музыкантов и т. п. Вдобавок я по-прежнему ссужал деньгами вечно неплатежеспособного (но всегда живущего на широкую ногу) Чарльза Альберта Фехтера, и меня нисколько не утешал тот факт, что Диккенс тоже субсидирует шикарный образ жизни актера (к настоящему времени задолжавшего ему уже свыше двадцати тысяч фунтов в общей сложности). Когда через шестьдесят дней «Черно-белый» сошел со сцены, Фехтер пожал плечами и пустился на поиски новых ролей. Я продолжал получать счета. Когда я наконец припер его к стенке вопросом о денежном долге, он ответил с обычным своим ребяческим лукавством: «Дорогой Уилки, вы же знаете: я вас люблю. Разве я любил бы вас, кабы не знал, что на моем месте вы поступали бы точно так же?» Этот ответ заставил меня вспомнить, что в моем владении по прежнему находится пистолет бедного Хэчери с оставшимися четырьмя патронами. Чтобы оплатить счета и начать выбираться из долговой ямы, в которую я столь быстро скатился с высот финансового благополучия (от матушкиного наследства и гонораров за «Лунный камень» и прочие произведения уже почти ничего не осталось), я сделал то, что в такой чрезвычайной ситуации сделал бы любой писатель: увеличил дневную порцию лауданума и ежевечернюю дозу морфия, стал пить больше вина, чаще спать с Мартой и приступил к работе над следующим романом.Пусть Диккенс и вскочил на ноги с юношеской резвостью, аплодируя на премьере «Черно-белого», но уже через месяц турне окончательно подорвало его здоровье. В Блэкберне он страдал от сильных головокружений, а в Болтоне шатался и чуть не упал прямо на сцене, хотя позже я случайно услышал, как он говорит своему американскому другу Джеймсу Филдсу:«…одна только Нелли заметила, что я шатался и что в какой-то момент мне отказало зрение, и только она осмелилась сказать мне об этом». Под именем Нелли проходила Эллен Тернан, которую Диккенс называл также Пациенткой, памятуя о легких травмах, полученных ею в Стейплхерстской катастрофе четырьмя годами ранее. Теперь пациентом стал он. А она по-прежнему время от времени сопровождала его в поездках. Это были интересные новости. Сколь ужасен и бесповоротен переломный момент в жизни стареющего мужчины, когда молодая любовница превращается в сиделку. От Фрэнка Берда я знал, что Диккенсу в конце концов пришлось написать ему о своих симптомах. Берд так встревожился, что отбыл поездом в Престон сразу по получении письма. По прибытии Берд осмотрел Диккенса и объявил, что ни о каких дальнейших чтениях не может идти и речи. — Вы уверены? — спросил Долби, находившийся в комнате. — Все билеты проданы, и возвращать их уже поздно. — Если вы настоите на том, чтобы Диккенс вышел на сцену сегодня, — сказал врач, глядя на Долби почти так же яростно, как в свое время смотрел Макриди, — я не поручусь, что у него не отнимется нога. Берд привез Диккенса обратно в Лондон тем же вечером и на следующий день устроил консультацию с известным врачом, сэром Томасом Уотсоном. Тщательнейшим образом осмотрев Неподражаемого и подробно расспросив о самочувствии, Уотсон объявил: «Описанные симптомы ясно свидетельствуют, что Ч. Д. находился на грани левостороннего паралича и, возможно, апоплексического удара». Диккенс отмахнулся от страшных прогнозов и в последующие месяцы говорил, что страдал единственно от переутомления. Тем не менее он сделал перерыв в турне. Он уже провел семьдесят четыре чтения из ста запланированных (всего на два меньше, чем количество выступлений, доведшее его до крайнего истощения в Америке). Но через несколько недель относительного отдыха в Гэдсхилл-плейс и Лондоне Неподражаемый начал требовать у доктора Уотсона разрешения закончить прерванное турне. Сэр Томас покачал головой, предостерег против излишнего оптимизма, предписал соблюдать осторожность и сказал: «Предупредительные меры всегда вызывают раздражение, ибо необходимость в них меньше всего ощущается тогда, когда они действуют успешнее всего». Диккенс, разумеется, взял верх в споре. Он всегда брал верх. Но он согласился сократить количество заключительных чтений (по настоящему прощальных чтений) до двенадцати, отказаться от всяких железнодорожных путешествий и отложить все это дело на восемь месяцев, до января 1870 года. Диккенс вернулся в Лондон, поселился в своей квартире над конторой «Круглого года» (почти все уик-энды он проводил в Гэдсхилле) и с головой окунулся в работу в журнале: редактировал, писал, планировал следующие номера. Если ему было нечем заняться, он отправлялся в кабинет Уиллса, теперь часто пустовавший, и наводил там порядок, вытирал пыль, разбирал бумаги (я сам видел это, когда однажды зашел в редакцию за чеком). Он также велел своему поверенному Уври составить и окончательно оформить завещание — оно было готово в считаные дни, а заверено подписями и вступило в законную силу двенадцатого мая. Но уныние, владевшее Диккенсом в самые тяжелые дни турне, никак не проявлялось в конце весны и начале лета. Неподражаемый ожидал долгого визита своих старых американских друзей, Джеймса и Энни Филдс, с лихорадочным нетерпением, какое может выказывать лишь малый ребенок, жаждущий поделиться своими игрушками и вовлечь в свои игры. И вот сейчас, когда он составил завещание, когда врачи предсказали скорую апоплексию и смерть и когда небывало знойное и влажное лето накрыло Лондон подобием мокрой попоны, пропитанной смрадом Темзы, Диккенс начал думать о следующем романе.
К лету я уже приступил к работе над новой книгой — и собирал материалы и писал с великим рвением. Я окончательно определился с темой и формой романа во время одного из уик-эндов в конце мая, когда навещал Марту Р*** («Марту Доусон» для домовладелицы) в образе Уильяма Доусона, странствующего коммивояжера. То был один из тех редких разов, когда я, чтобы угодить Марте, провел у нее две ночи подряд. Фляжку лауданума я привез с собой, разумеется, но вот морфий и шприц решил оставить дома. В результате я обе ночи не спал (даже повышенная доза лауданума позволяла мне забыться тревожным сном лишь на несколько минут). На вторую ночь я в какой-то момент осознал, что сижу в кресле и внимательно смотрю на спящую Марту Р***. Еще вечером я открыл окно и не стал задергивать шторы, поскольку спальня выходила в частный сад. Широкая белая полоса лунного света лежала на полу и на кровати с Мартой. Ныне принято считать, что женщина в тягости становится особенно привлекательной. И действительно, все женщины (за исключением самых хилых) излучают непостижимый свет радости и благости по крайней мере часть срока. Но многие мужчины — во всяком случае, среди моих знакомых — держатся также странного мнения, что беременная женщина становится эротически привлекательной (прощу прощения за столь откровенные и, возможно, вульгарные речи, дорогой читатель будущего, — наверное, мое время было более искренним и честным), но я так не считал. На самом деле, дорогой читатель, когда я сидел там в глухой час жаркой и душной майской ночи, рассеянно вертя в руках подушку, и смотрел на спящую Марту, я видел не невинную юную девушку, пленившую мое сердце всего несколько лет назад, а стареющую, тучную, грудастую бабищу со вздутыми венами на ногах — и на женщину-то не особо похожую, на мой острый писательский взгляд. Кэролайн никогда так не выглядела. Конечно, у Кэролайн хватило такта ни разу не забеременеть, по крайней мере при мне. Вдобавок Кэролайн всегда выглядела как леди, которой очень хотела и очень старалась стать. А эта храпящая фигура в лунном свете казалась… свиноподобной. Я еще раз перевернул подушку и обдумал ситуацию с той ясностью мысли, какую только правильно рассчитанная доза лауданума может придать уму, уже заостренному образованием и логическим рассуждением. Миссис Уэллс, домовладелица Марты (не путать с гораздо более смышленой миссис Уэллс из Танбридж-Уэллса, последней сиделкой моей матери), не видела, как я пришел. Она, по словам Марты, уже больше недели лежала в своей комнате с крупом. Соседский мальчишка вечером приносил ей суп, а утром — чай и тосты, но я его не видел ни когда приехал, ни в любое другое время, пока находился у Марты. Миссис Уэллс была глупой старухой, которая ничего не читала, почти никогда не выходила на улицу и не имела ни малейшего представления о современной жизни. Она знала меня только как «мистера Доусона», и мы с ней лишь несколько раз мимоходом перемолвились парой слов. Она считала меня коммивояжером. Я был уверен, что она слыхом не слыхивала о писателе по имени Уилки Коллинз. Я крепко сжал, а затем расправил подушку в своих с виду слабых, но на самом деле (мне кажется) сильных руках. Конечно, был еще агент по недвижимости, по моему поручению нанявший эти комнаты для миссис Доусон три года назад. Но он тоже знал меня под именем «мистер Доусон», и я дал ему вымышленный адрес. Марта почти никогда не писала родителям, и не только потому, что отдалилась от них из-за связи со мной. Несмотря на мои терпеливые занятия с ней, Марта оставалась безграмотной, как и ее мать, — обе они умели кое-как составлять буквы в слова и могли нацарапать свое имя, но читали по складам и не затрудняли себя писанием писем. Ее отец знал грамоте, но не считал нужным писать дочери. Изредка Марта ездила домой — ни в родном городке, ни в близлежащем Портсмуте у нее не было настоящих друзей, только родители, — но она всегда заверяла меня, что никого не посвящала в подробности своей жизни здесь: не давала своего адреса и не рассказывала о своих истинных обстоятельствах, тем паче о фальшивом браке с «мистером Доусоном». Насколько знали родители, Марта оставалась незамужем, работала горничной в какой-то лондонской гостинице и жила в дешевой наемной квартире с тремя другими благочестивыми девушками, зарабатывающими на жизнь честным трудом. Могу ли я быть уверен, что она не сказала им правду? Да, вне всяких сомнений. Марта никогда не лгала мне. Видел ли я хоть раз кого-нибудь из своих знакомых — или, что важнее, видели ли они нас, — когда мы с Мартой Р*** прогуливались вместе? Почти наверняка — нет. Лондон, конечно, город маленький, и пути друзей и знакомых, принадлежащих к верхушке общества, здесь часто пересекаются, но я никогда — особенно в дневное время — не водил Марту туда, где мы могли случайно столкнуться с людьми из моего круга. В ходе нескольких наших совместных прогулок я каждый раз отправлялся с Мартой в дальние уголки города — окраинные парки, плохо освещенные гостиницы или затрапезные ресторанчики в глухих переулках. Я не сомневался, что она видит насквозь мои хитрости, — мол, мне хочется отыскать и исследовать неизвестные кварталы Лондона, точно играющему в прятки ребенку, — но она никогда не выражала недовольства. Нет, никто ничего не знал — а если кто нас и видел, они понятия не имели и не задавались вопросами о личности моей молодой спутницы. Просто очередная молоденькая актриса, гуляющая под ручку с этим шалуном Уилки Коллинзом. Я проводил время с очень и очень многими. Просто очередная юная «фиалочка». Даже Кэролайн знала про «фиалочек». Я поднялся с кресла и присел на край кровати. Марта пошевелилась, повернулась ко мне и ненадолго перестала храпеть, но не проснулась. Подушка лежала у меня на коленях, но я по-прежнему не выпускал ее из рук. Лунный свет озарял мои длинные нервные пальцы, словно покрывая белой краской. Пальцы были белее наволочки, и внезапно все они словно слились с тонкой тканью, растаяли и просочились в нее. Руки трупа, исчезающие в меловом порошке. Или в известковой яме. Я подался вперед и занес подушку над лицом спящей Марты. Скарабей за моим правым глазом проворно переместился вперед, чтобы лучше видеть. Фрэнк Берд! Два месяца назад я рассказал врачу о замужней, но оставленной супругом подруге одной своей знакомой — женщина в тягости, совсем одна и стеснена в средствах. Не может ли он порекомендовать повитуху? Берд взглянул на меня отчасти насмешливо, отчасти укоризненно и спросил: — А вы знаете, когда эта подруга вашей знакомой должна родить? — По-моему, в конце июня, — ответил я, чувствуя, как у меня загораются уши. — Или в начале июля. — Тогда я сам осмотрю ее на девятом месяце… и, скорее всего, сам приму роды. Иные повитухи — мастерицы своего дела. Многие из них — убийцы. Дайте мне имя и адрес вашей дамы. — Я не располагаю такими сведениями, — сказал я. — Но я спрошу у своей знакомой и сообщу имя и адрес в письме. Я так и сделал. А потом забыл об этом. Но Фрэнк Берд наверняка вспомнит, коли в ближайшие дни прочитает газету и… — Черт! — рявкнул я и швырнул подушку через комнату. Марта тотчас проснулась и неуклюже села в постели, похожая на некоего Левиафана, подымающегося над поверхностью простынного моря. — Уилки! Что стряслось? — Ничего, дорогая. Просто моя подагра и страшная головная боль. Извини, что разбудил тебя. Насчет головной боли я не соврал: скарабей, почему-то пришедший в ярость, уполз обратно в глубину моего мозга. — Ах, бедняжка! — воскликнула Марта Р*** и заключила меня в объятья. Немного погодя я уснул, лежа головой на ее раздутой груди.
Роман, над которым я тогда работал, назывался «Муж и жена». В нем шла речь о том, как мужчина может попасться в западню нежелательного брака. Незадолго до этого я прочитал отчет королевской комиссии о браке в нашем королевстве, опубликованный годом ранее. Поразительно, но комиссия санкционировала шотландский закон, узаконивавший так называемый брак по согласию, а потом и защищала подобные браки, указывая, что таким образом «соблазненные женщины» связывают супружескими узами мужчин, имеющих бесчестные намерения по отношению к ним. Я жирно подчеркнул отдельные строки и написал на полях отчета: «В иных случаях брачные законы оборачиваются ловушками для поимки распутных мужчин!!!» Возможно, четыре восклицательных знака покажутся вам перебором, дорогой читатель, но, уверяю вас, они просто свидетельствуют о моем глубоком негодовании по поводу нелепого, возмутительного выверта закона, направленного на содействие любой девке, жаждущей прибрать к рукам мужчину. Одна мысль о вынужденном браке — заключенном с согласия и при пособничестве Короны! — приводила меня в неописуемый ужас. Даже сильнейший, чем ужас перед Существом, обитавшим на черной лестнице в доме на Глостер-плейс. Но я понимал, что не могу писать с точки зрения пострадавшего мужчины. В 1869 году Читающая Публика — нет, Широкая Публика — просто не поняла бы трагедии уловленного в подобную западню мужчины, которого они ханжески обозвали бы «животным» (хотя большинство представителей мужского пола из читающей и широкой публики имели аналогичный опыт «распутства»). Посему я хитроумно превратил своего пострадавшего мужчину в неустойчивую к искушениям, но очень знатную и высокородную даму, вынужденную — вследствие своего минутного безрассудства — вступить в нежелательный брак с грубым скотом. Я сделал грубого скота не просто оксфордским выпускником (о, как я ненавидел Оксфорд и все с ним связанное!), а оксфордским спортсменом. Последняя характеристика персонажа была поистине гениальной находкой, позволю себе заметить. Вы должны понять, дорогой читатель невообразимо далекого будущего, что в наше время в Англии идиотическое увлечение физической культурой и спортом сплавилось с религиозным ханжеством, породив в результате чудовище под названием «мускулистое христианство». Огромной популярностью пользовалась идея, что добрые христиане должны быть «мускулистыми» и рьяно заниматься самыми разными бессмысленными и жестокими видами спорта. «Мускулистое христианство» считалось практическим применением гипотез мистера Дарвина и убедительным объяснением, почему Британская империя имеет право господствовать над миром и всеми обитающими в нем ничтожными темнокожими людишками. Это была идея Превосходства, воплощенная в штангах, беговых дорожках и толпах дураков, прыгающих, скачущих и выжимающихся в упоре на спортивных площадках. Призывы к «мускулистому христианству» неслись со страниц прессы и с церковных кафедр. Оксфорд и Кембридж — старейшие английские питомники по разведению педантичных болванов — откликнулись на призывы с обычным своим высокомерным рвением. Так что сами понимаете, почему мне так нравилось швырять дурацкое брачное право в лицо ничего не подозревающему читателю. Пусть я один буду знать, что моя героиня, вышедшая замуж поневоле и терпящая дурное обращение, на самом деле является коварно охомутанным мужчиной, но мой оксфордский мерзавец вызовет достаточно много споров. Уже в самом начале работы над «Мужем и женой» я обзавелся врагами из-за него. Дети Фрэнка Берда и дети Фреда Лемана, которые все прежде любили меня и которых я нередко развлекал захватывающими байками о боксерских боях с описанием мощных бицепсов чемпиона Англии Тома Сайерса, прослышали о моем оксфордском скоте и страшно на меня разозлились. Они сочли это предательством. Я позабавился еще сильнее, когда Фрэнк Берд по моей настойчивой просьбе стал брать меня с собой в различные спортивные лагеря, где он время от времени подвизался лечащим врачом. Там я вытягивал из тренеров и прочих служащих истории о том, насколько вредна на самом деле эта самая «мускулистая» жизнь, превращающая спортсменов в тупых скотов с таким же успехом, с каким превратило бы возвращение в дарвиновские джунгли, и забрасывал лагерных докторов вопросами о физическом и нервном истощении, к которому приводят напряженные тренировки. Проводить по много часов кряду под палящим солнцем, записывая подобные свидетельства, мне было нелегко, но я подкреплял силы, прикладываясь к фляжке с лауданумом по меньшей мере раз в час. Помимо основной темы (несправедливость брака поневоле) я развивал в романе мысль, что нравственность прямо пропорциональна способности человека к угрызениям совести — способности, которой начисто лишены животные (и спортсмены). Берд, сам большой почитатель спорта, никак не высказывался о моих теориях, разъезжая со мной по губительным для здоровья лагерям кровавопотного труда. Именно Фрэнк 4 июля 1869 года передал в руки Марте новорожденную девочку в комнатах на Болсовер-стрит. И именно Фрэнк уладил довольно сложные формальности, связанные с занесением в метрическую книгу имени матери (миссис Марта Доусон), имени младенца (Мэриан, в честь моего самого популярного женского персонажа) и имени отца (Уильям Доусон, эсквайр,странствующий торговец). По причине крайней своей занятости я не присутствовал при родах, но проведал мать и орущего ребенка через неделю-другую. В соответствии с обещанием, данным вечером двадцать девятого октября, когда моя любовница вышла замуж и я сделал предложение жене своего умирающего брата, я повысил ежемесячное содержание Марты с двадцати до двадцати пяти фунтов. Женщина расплакалась, когда благодарила меня. Но я слишком далеко забежал вперед и пропустил слишком много важных подробностей, дорогой читатель. Чтобы полностью понять окончание этой истории, вам надобно находиться со мной вечером среды девятого июня — в четвертую годовщину Стейплхерстской катастрофы и знакомства Диккенса с Друдом. По сути, четвертая годовщина стала последней в жизни Чарльза Диккенса.
Глава 43
Сколь бы тяжелые недуги ни одолевали Диккенса и сколь бы неутешительные прогнозы ни делали его многочисленные врачи, он снова превратился в маленького мальчика, когда к нему приехали из Америки добрые друзья. Джеймс и Энни Филдс водили дружбу с Неподражаемым со времени его первого триумфального турне по Америке, состоявшегося в 1842 году. Джеймс однажды сказал мне, что еще прежде, чем их с Диккенсом представили друг другу, он примкнул к группе страстных поклонников литературы, которые повсюду следовали за «странно одетым англичанином» по Бостону в головокружительные дни первого визита писателя туда. О глубине привязанности Диккенса к этим двоим отчасти свидетельствует тот факт, что в ходе второго американского турне, когда он наконец был вынужден нарушить свое незыблемое правило никогда не останавливаться в частных домах, именно чудесный дом Филдсов в Бостоне стал для него пристанищем. Вместе с ними в Англию приехала Мейбел, дочь Джеймса Рассела Лоуэлла, старого друга Чарльза Элиота Нортона и Диккенса. В компанию входили также доктор Фордайс Баркер и Сол Эйтиндж, в свое время иллюстрировавший восхитительное американское издание сочинений Диккенса. На период визита дорогих гостей в Гэдсхилл-плейс были запланированы разные увлекательные мероприятия (излишек холостяцкой братии предполагалось разместить в лучших номерах «Фальстаф-Инн» через дорогу), но сначала Филдсы сделали остановку в Лондоне, и Диккенс поселился в гостинице «Сент-Джеймс» на Пикадилли (той самой, где я потратил уйму денег, привечая и кормя Фехтера в январе), чтобы быть поближе к гостинице на Ганновер-Сквер, где остановились Филдсы. Надев для маскировки широкополую шляпу и темный летний плащ с пелериной, я тайно следовал за ними повсюду, когда они выходили из гостиниц, а позже из особняка в Гэдсхилле. Я купил подзорную трубу и взял в долгосрочный наем кеб (с возницей и лошадью такими же неприметными, как мой маскировочный наряд). Все те дни, когда я занимался сыщицкой работой, ходил переодетый и постоянно следил за кем-нибудь, мне частенько вспоминался бедный покойный инспектор Филд. В первые дни пребывания в Лондоне Филдсы и компания главным образом совершали экскурсии по местам, описанным в диккенсовских романах: после быстрых прогулок по берегу Темзы (очевидно, призванных доказать, что он все так же молод и здоров) Неподражаемый показывал своим гостям комнаты в «Фернивал-Инн», где он начал работу над «Записками Пиквикского клуба», показывал комнату в Темпле, где жил Пип из «Больших надежд», и изображал Мэгвича, ощупью поднимаясь по той самой темной лестнице, где происходила одна из сцен романа. Следуя за ними в кебе или пешком, я видел, как Диккенс указывает на старые дома или узкие переулки, где жили или умирали различные его персонажи, и мне вспоминалось, как он водил меня на такую же экскурсию более десяти лет назад, когда я был его другом. В среду, девятого июня, в день годовщины, меня не пригласили поучаствовать в вылазке (хотя Долби получил приглашение присоединиться к Филдсам и Эйтинджу ближе к вечеру), но я дежурил подле гостиницы Филдсов, когда вся компания расселась по экипажам и тронулась в путь. Выехав за город тем теплым вечером, первую остановку они сделали на Кулингском кладбище. Именно это сельское кладбище с ромбовидными могилами Диккенс превосходно описал в «Больших надеждах» (весьма посредственный роман, коли хотите знать мое мнение). Наблюдая за ними в свою верную подзорную трубу с расстояния ярдов ста, я с изумлением увидел, что Диккенс в точности воспроизводит жутковатую кладбищенскую трапезу, которую он устраивал для Эллен Тернан с матерью и меня на погосте Рочестерского собора много месяцев назад. В качестве обеденного стола была выбрана примерно такая же могильная плита; произошло такое же превращение писателя Чарльза Диккенса в метрдотеля Чарли Диккенса; как и в прошлый раз, каменная ограда служила стойкойдля напитков; и писатель-официант с перекинутым через руку полотенцем точно так же извлекал из плетеных корзин и подавал на «стол» хрустальную посуду, белоснежные салфетки и великолепно зажаренных голубей. Даже окрестные болота и соленый запах моря были точно такими же, хотя полоса прибрежных топей здесь казалась более пустынной и глухой, чем в Рочестере. Зачем Диккенс повторяет все это со своими американскими друзьями? В слегка подрагивающем объективе подзорной трубы я видел, что Джеймсу Филдсу весьма не по душе вынужденная пирушка на костях. Дамы сидели с ошеломленным видом и почти ничего не ели. Только Эйтиндж, иллюстратор, смеялся и разделял с Диккенсом веселье в этом кладбищенском театре — скорее всего, потому, что выпил три бокала вина еще прежде, чем подали жаркое. Может, таким манером Диккенс, смертный человек, делает некое заявление перед лицом скорого паралича или смерти, предсказанных Бердом и прочими врачами? Или скарабей, живущий у него в мозгу, наконец свел Неподражаемого с ума? Той ночью дамы и большинство остальных гостей остались в гостинице, а Диккенс с Джеймсом Филдсом, все еще пьяным Солом Эйтинджем и совершенно трезвым Долби отправились в «гигантское пекло» Лондона. (Я отправился с ними, хотя и не получил приглашения, — когда они вышли из кеба, я крадучись последовал за ними пешком.) Они ненадолго задержались у полицейского участка на Рэтклиффской дороге, чтобы захватить полицейского сыщика, который будет охранять их в ходе ночной экспедиции. Я в охране не нуждался: в огромном кармане моего темного летнего плаща лежал револьвер сыщика Хэчери. Все, что сейчас казалось экзотичным и даже жутким бостонцу Филдсу, для меня, после двух с лишним лет еженедельных походов по этим улицам с Хэчери, было хорошо знакомым, почти уютным окружением. Почти. Надвигалась гроза, в небе над узкими улочками и осмоленными наклонными крышами сверкали молнии и гремел гром, подобный непрестанному грохоту канонады вокруг осажденного города, но дождь так и не начинался. Становилось лишь все жарче да все темнее. Нервное напряжение царило повсюду в Лондоне, но здесь, в этом гноеродном аду нищеты и отчаяния, населенном одинокими женщинами, детьми-сиротами, китайцами, ласкарами и индусами, промышляющими грабежом и разбоем, немецкими и американскими матросами-убийцами, сбежавшими с кораблей, в воздухе витало безумие, почти столь же зримое, как голубые электрические сполохи, плясавшие вокруг покосившихся флюгеров и между железных растяжек, что подобием тугих ржавых вант спускались к земле со зданий, давно разучившихся стоять прямо самостоятельно. Экскурсия, которую Диккенс и полицейский сыщик проводили сейчас для двух американцев и Долби, в основном пролегала по местам, что инспектор Филд и Хэчери показывали нам с Неподражаемым много лет назад: беднейшие трущобы Уайтчепела, Шедуэлла, Уоппинга и Нью-Корта в окрестностях Блюгейт-Филдс; кварталы домов с дешевыми меблированными комнатами, где на улице у дверей стояли пьяные мамаши, равнодушно держа в охапке грязных младенцев (я видел с почтительного расстояния, как Диккенс выхватил ребенка из рук одной пьяной женщины и отнес в дом); кутузки, полные грабителей и беспризорных детей; сырые подвальные помещения, где десятки и сотни лондонских изгоев спали вповалку на грязной соломе, в зловонных миазмах, исходивших от реки. Нынешней жаркой ночью приливные наносы по берегам состояли, казалось, исключительно из конского навоза, требухи со скотобоен, куриных потрохов, собачьих и кошачьих трупов — даже дохлых свиней и лошадей — и многих акров человеческих фекалий. По улицам шатались праздные мужчины, вооруженные ножами, и даже более опасные праздные женщины, пораженные дурными болезнями. Любимый «Вавилон» Чарльза Диккенса. Милое его сердцу «гигантское пекло». В одном из своих малых романов (кажется, в провальной по сюжету «Крошке Доррит») Диккенс сравнил бездомных детей, шныряющих под ковент-гарденскими аркадами, с крысами и предостерег, что однажды эти крысы, неутомимо подгрызающие фундамент общества, которое не считает нужным обращать на них внимание, «сокрушат Английскую империю». Его негодование было искренним, как и его сострадание. Сегодня ночью, девятого июня, глядя в подзорную трубу с расстояния полуквартала, я увидел, как Диккенс берет на руки грязного чесоточного ребенка, одетого в лохмотья, словно изодранные на полосы. Джеймс Филдс и Долби, похоже, прослезились, а Эйтиндж наблюдал за трогательной сценой равнодушным взглядом пьяного художника. Поскольку стояло лето или во всяком случае жара, двери и окна домов были открыты, а обитатели трущоб толклись в грязных дворах и слонялись по равно грязным улочкам. Хотя сейчас была середина рабочей недели, большинство мужчин (и немало женщин) едва держались на ногах от выпитого. Несколько раз группы хмельных оборванцев направлялись нетвердой походкой к компании Диккенса, но мигом отступали, когда полицейский сыщик светил на них ярким фонарем и показывал свои дубинку и мундир. Только сейчас я забеспокоился о своей безопасности. Дешевый плащ и широкополая шляпа служили отличной маскировкой и позволяли мне смешаться с толпой, но иные парни примечали меня и увязывались за мной, пьяными голосами призывая «проставиться». Я торопливо шагал следом за компанией Диккенса. Если они предпочитали держаться середины улицы, где посветлее, то я шел в густой тени под выступающими галереями и потрепанными навесами, жался к стенам покосившихся домов. Какое-то время я был уверен, что за мной следят. Приземистый бородатый мужчина в лохмотьях, похожих на грязные ленты морских водорослей, шаткой поступью следовал по моим пятам, сворачивая туда, куда сворачивал я за компанией Диккенса, и останавливаясь, когда я останавливался. На какой-то безумный миг я исполнился уверенности, что за мной следует Второй Уилки, раз и навсегда покинувший стены моего дома. Однако потом я осознал: хотя подозрительный тип (чьего лица мне никак не удавалось разглядеть) ростом с меня (и Второго Уилки), он скорее плотен и крепко сбит, нежели тучен и рыхл, как Уилки. Когда мы под покровом тьмы вошли в собственно Блюгейт-Филдс, я потерял бородатого оборванца из виду и отнес все на счет случайного совпадения и своих разыгравшихся нервов. Я отхлебнул несколько изрядных глотков из фляжки, нащупал пистолет в кармане плаща, чтобы успокоиться, и прибавил шагу, подбираясь чуть ближе к полицейскому, Диккенсу, Долби, Филдсу и Эйтинджу. Они зашли в притон Опиумной Сэл, как я и ожидал. Здесь я нашел бы дорогу с завязанными глазами, но из-за ярких вспышек молний (грохот канонады усилился, но освежающим дождем и не пахло) я подождал, когда они поднимутся в верхние помещения трухлявого дома, и только потом крадучись взошел по лестнице на площадку второго этажа и притаился там за углом в темноте. Благодаря открытым дверям и громким голосам я слышал пояснения Диккенса и полицейского, а равно обрывки фраз, которыми перекидывались туристы, обходя опиумный притон. В воздухе висел запах жженого опиума, пробудивший в моем теле и мозге с обитающим в нем скарабеем неистовую жажду наркотика. Чтобы приглушить ее, я отпил большой глоток из фляжки. — Принцесса Пых-Пых… — донесся до меня голос Диккенса в промежутке между раскатами грома. Лишь спустя много месяцев до меня дошло, о ком он говорил. — У нее трубка, похоже, сделана из старой чернильной склянки… — услышал я голос Филдса. До меня долетали знакомые, но неразборчивые кудахтанье, хныканье, причитанья и мольбы Опиумной Сэл. Полицейский то и дело прикрикивал на старуху, веля заткнуться, но после каждой паузы кудахтанье возобновлялось с новой силой и достигало моего слуха, как аромат опиумного дыма достигал нюха. Даже в своем укрытии этажом ниже я мог определить по запаху, что этот опиум худшего качества и сорта, чем превосходный наркотик, в свое время горевший в прекрасных трубках в подземном притоне Короля Лазаря. Я снова приложился к фляжке. Диккенс и полицейский двинулись вниз по изгнившим, просевшим ступенькам, и я проворно отступил поглубже в темноту пустой лестничной площадки. Куда они направятся дальше? Может, он отведет всех прямо на Погост Святого Стращателя, в склеп со входом на верхние ярусы Подземного города? Нет, тотчас осознал я, такого Диккенс никогда не сделает. Но ведь сегодня девятое июня, годовщина Стейплхерстской катастрофы, а он всегда встречается с Друдом в этот день. Как он собирается свидеться с ним в присутствии Филдса и остальных, не говоря о полицейском? Шумная группа скрылась за поворотом, и я сам уже двинулся к лестнице, когда вдруг толстая мускулистая рука обхватила меня за шею сзади и ухо мое обжег жаркий шепот: «Не двигайтесь». Однако я задвигался — судорожно, поскольку перепугался до смерти, но быстро — и неловко выхватил из кармана пистолет Хэчери, даром что крепкая рука передавливала мне горло, препятствуя доступу воздуха в легкие. Бородатый мужчина вырвал у меня оружие и положил в карман своей драной куртки — с такой легкостью, словно отобрал игрушку у малого ребенка. Сильная рука толкнула меня к стене, и грязный бородач зажег спичку. — Это я, мистер Коллинз, — прохрипел он. В первый момент я не узнал ни голоса, ни лица, но потом увидел не только грязную неряшливую бороду, но и жесткий, пристальный взгляд. — Баррис, — выдохнул я; сильная рука по-прежнему крепко прижимала меня к стене. — Да, сэр, — сказал человек, которого я в последний раз видел, когда он саданул меня револьвером по голове, предварительно пристрелив мальчишку в сточном канале Подземного города. — Следуйте за мной… — Я не могу… — За мной, — приказал бывший сыщик Реджинальд Баррис. Он схватил меня за рукав и грубо потащил за собой. — Диккенс уже встречался с Друдом. Нынче ночью вы ничего нового не увидите. — Этого не может быть… — начал я. — Очень даже может. Чудовище встретилось с Диккенсом в его номере в гостинице «Сент-Джеймс» сегодня утром, перед самым рассветом. Вы еще спали дома. Сейчас следуйте за мной — и поосторожнее здесь в темноте. Я хочу показать вам нечто интересное.Баррис протащил меня погруженным в кромешный мрак коридором — даже свет полыхающих молний не проникал сюда — и вывел на боковую галерею, которую я ни разу не замечал в бытность свою завсегдатаем притона Опиумной Сэл. Здесь, на высоте пятнадцати футов, через проулок шириной фута четыре, если не меньше, были перекинуты две доски на просевшую галерею соседнего дома. — Я не… — начал я. Баррис подтолкнул меня к доскам, и я на цыпочках прошел по узкому мостику, прогибавшемуся под моей тяжестью. По темной круговой галерее мы добрались (ступая с великой осторожностью, ибо в изгнившем полу зияли дыры) до угла, а потом немного прошли вдоль фасада, обращенного к реке, и вошли в дом. Смрадный запах Темзы ощущался здесь сильнее, но вспышки молний освещали нам путь, когда мы с Баррисом шагали по коридору и поднимались по лестнице на три длинных пролета. Ни самого слабого лучика света не пробивалось из-под закрытых дверей многочисленных комнат. Казалось, все здание пустует, даром что располагалось оно в трущобном квартале, где семьи бедняков и полчища опиоманов теснились во всех зловонных подвалах и бывших коровниках. Лестница была узкой и крутой, как корабельный трап, и к тому времени, когда мы достигли пятого этажа, я пыхтел и шумно отдувался. Наружная галерея здесь полностью обвалилась, но сквозь проем в стене справа я видел реку, бесчисленные гонтовые крыши и дымовые трубы — они внезапно возникали из темноты, когда сверкала молния, и тотчас тонули в кромешном мраке до следующей вспышки. — Сюда, — отрывисто промолвил Баррис, он с трудом отворил перекошенную скрипучую дверь и зажег спичку. Казалось, в комнате уже много лет никто не жил. Крысы стремительно прошмыгнули вдоль плинтусов и скрылись либо в смежном помещении, либо в норах, прогрызенных в стенах. Единственное окно было наглухо заколочено, и ни проблеска света не проникало сквозь него, даже когда грохотал гром и дверной проем у нас за спиной озарялся голубыми вспышками. Комната была совершенно пустой, только в дальнем углу валялось что-то вроде сломанной стремянки. — Помогите-ка мне, — приказал бывший сыщик. Мы перетащили тяжелую конструкцию из толстых досок на середину комнату, и Баррис (который, несмотря на свои грязные лохмотья, застарелую немытость, растрепанные нечесаные волосы и неряшливую бороду, свидетельствовавшие о полуголодном существовании, по-прежнему оставался поразительно сильным) упер верхний конец стремянки в провисший, покрытый трещинами потолок. Под давлением потайная панель в потолке откинулась наверх, явив нашим взорам черный прямоугольный проем. Баррис приставил лестницу к краю проема и велел: — Лезьте первый. — Не полезу, — отрезал я. Он зажег вторую спичку, и я увидел белые зубы, сверкнувшие в зарослях темной бороды. При виде этих крепких, здоровых зубов сразу становилось понятно: Реджинальд Баррис со своим кембриджским акцентом не является коренным обитателем нищих улочек Блюгейт-Филдс. — Ладно, — покладисто согласился он. — Я полезу первый и запалю там следующую спичку. У меня в кармане, рядом с вашим пистолетом, лежит маленький полицейский фонарь. Когда вы подниметесь, я его зажгу. Поверьте мне, сэр, там совершенно безопасно. Но вот предпринимать попытку к бегству и вынуждать меня пускаться в погоню для вас очень даже небезопасно. — Все такой же бандит, я вижу, — презрительно заметил я. Баррис от души рассмеялся. — О да. И даже хуже, чем вы можете представить, мистер Коллинз. Он проворно взобрался наверх, и я увидел мерцание спички там в темноте. На секунду мной овладело искушение повалить стремянку на пол и дать деру. Но я чувствовал железную хватку, которой Баррис держал верхнюю перекладину лестницы, и хорошо помнил, с какой силой он тащил меня по коридору и вверх по ступенькам. Я неуклюже (ибо весь последний год продолжал прибавлять в весе) вскарабкался за ним следом, вполз на коленках в затхлую темноту наверху, а потом, раздраженно стряхнув с плеча услужливую руку сыщика, поднялся на ноги. Баррис зажег фонарь. Прямо передо мной возникла из тьмы черная шакалья морда бога Анубиса. Я резко повернулся. Меньше чем в шести футах от меня возвышалась семифутовая статуя Осириса. Бог был, как и полагается, в белом одеянии, высоком белом головном уборе и держал в руках традиционные бич и посох с крюком. — Сюда, — бросил мне Баррис. Мы двинулись вперед по длинному чердаку. По обеим сторонам от нас стояли другие высокие статуи. Слева — Гор с головой сокола, справа — Сет с вытянутой ослиной мордой. Мы прошли между Тотом с головой ибиса и Бастет с кошачьей головой. Я видел, что просевший пол здесь укреплен в ходе недавних плотницких работ. Даже горизонтальные перемычки ниш, где стояли боги, были переделаны в сводчатые, чтобы изваяния свободно помещались туда. — Они гипсовые, — сказал Баррис, который шел впереди, светя фонариком по сторонам. — Каменных статуй не выдержали бы даже отремонтированные полы. — Куда мы идем? — спросил я. — Что все это значит? В торцовой стене чердака находился прямоугольный дверной проем со сравнительно новой рамой, занавешенный куском парусины, служащим для защиты от голубей и непогоды. Когда Баррис отодвинул занавес, чердак озарила голубая вспышка молнии и густой ночной воздух обтек нас подобием вонючего сиропа. От порога этой двери к темному проему в стене соседнего здания, на высоте пятидесяти — шестидесяти футов над переулком тянулась единственная доска длиной добрых двенадцать футов и шириной не более десяти дюймов. В преддверии грозы поднялся ветер, и парусина шумно хлопала, точно тяжелые крылья хищной птицы. — Я туда не пойду, — решительно заявил я. — Придется, — сказал Баррис. Он схватил меня под локоть, втащил на порог и вытолкнул на доску. Другой рукой он направил фонарь вперед, освещая чудовищно узкий мостик. Меня едва не сдуло порывом ветра еще прежде, чем я успел сделать первый шаг. — Идите! — скомандовал Баррис и крепким толчком в спину отправил меня в путь через смертоносную пропасть. Луч света на мгновение исчез, и я сообразил, что Баррис присел на доске и закрепляет нижний край парусины, зацепляя за гвозди. С бешено колотящимся сердцем, вытянув руки в стороны, ставя одну ступню перед другой, я неловко продвигался вперед, похожий на циркового клоуна, предваряющего выступление настоящих акробатов. Потом я вдруг очутился у противоположного окна, но не смог забраться в него, поскольку парусина здесь была натянута туго, как барабан. Я испуганно присел на корточки, вцепился в тонкую деревянную раму, с ужасом чувствуя, как пружинит и прогибается доска под нами, и уже начал соскальзывать вниз, когда сзади подоспел Баррис. Потянувшись свободной рукой через мое плечо (шевельнись я тогда хоть самую малость, мы оба сорвались бы с доски и разбились насмерть), он повозился с парусиной, а потом пляшущий луч фонаря высветил темный проем между раздвинутыми полотнищами. Я рванулся вперед всем телом и оказался в следующем, более просторном чердаке. Тут нас ждали Геб, зеленокожий бог Земли; владычица неба Нут в голубой короне, усеянной золотыми звездами; Сехмет, богиня-разрушительница с львиной пастью, широко разинутой в грозном реве. Неподалеку стояли священный Ра с головой ястреба; Хатхор с коровьими рогами; Исида в короне в виде трона; Амон, увенчанный двумя высокими перьями… все они были здесь. Ноги подо мной подкашивались, и я бессильно опустился на настил из свежих досок, проложенный посреди просторного помещения. В скате крыши, обращенном, похоже, на юг, в сторону Темзы, было установлено новое круглое окно диаметром двенадцать футов самое малое, а прямо под ним находился алтарь. В круглой деревянной раме стояло высококачественное толстое свинцовое стекло, еще не искривленное под действием гравитации, и в него были вделаны концентрические металлические кольца — именно так я всегда представлял некий диковинный орудийный прицел на военном корабле. — Это наведено на альфу Большого Пса, или Сириус, — пояснил Баррис, уже закрепивший парусиновые полотнища и погасивший фонарь; беспрестанные вспышки молний достаточно хорошо освещали огромный пустой чердак, богов Черной Земли и алтарь, задрапированный черной тканью. — Я не знаю, почему Сириус играет столь важную роль в их ритуалах, — смею предположить, вы знаете, мистер Коллинз, — но подобные окна, нацеленные на эту звезду, имеются во всех их лондонских чердачных логовах. — Логовах? — ошеломленно повторил я. Скарабей впал в страшное возбуждение и лихорадочно рыл круговые ходы в насквозь изрешеченном сером веществе, сходившем тогда за мой мозг. Боль была дикой. Мне казалось, будто мои глазные яблоки медленно наполняются кровью. — У последователей Друда по всему Лондону такие чердачные логова, — сказал Баррис. — Многие дюжины. Некоторые из них состоят из полудюжины или больше чердаков. — Значит, в Лондоне есть не только Город-под-Городом, но и Город-над-Городом. Баррис проигнорировал мое замечание. — Это логово было покинуто несколько недель назад, — сказал он. — Но они вернутся. — Зачем вы привели меня сюда? Что вам от меня надо? Баррис снова зажег фонарь и направил луч на наклонный потолок и стену. Я увидел там множество схематических рисунков: птицы, глаза, волнистые линии, опять птицы… так называемые иероглифы. — Вы можете прочитать это? — спросил Баррис. Я уже открыл рот, чтобы ответить отрицательно, но вдруг осознал, к великому своему потрясению, что и вправду могу прочитать знаки и фразы. «И ты, Дахаути, приди к нам! Дахаути, чьи слова стали маат…» То была ритуальная молитва, которая произносится при наречении имени новорожденному младенцу. И слова — не начертанные краской, а вырезанные на трухлявых досках — находились прямо над статуей Маат, богини справедливости, увенчанной страусиным пером. — Разумеется, я не могу прочитать эту белиберду. Я же не музейный научный работник. Что за странный вопрос? Я до сей поры считаю, что эта ложь спасла мне жизнь тогда. Баррис шумно выдохнул и, похоже, расслабился. — Я так и думал, просто очень уж многие стали рабами и слугами Друда… — О чем вы говорите? — Вы помните ночь, когда мы с вами виделись в последний раз, мистер Коллинз? — Да разве ж такое забудешь? Вы убили невинного ребенка. А когда я выразил свое негодование, вы со всей силы ударили меня по голове — вы могли меня убить! Я несколько дней не приходил в сознание. Уверен, вы пытались убить меня. Баррис потряс грязной всклокоченной головой. Его чумазое лицо, насколько я мог видеть, хранило печальное выражение. — То был не невинный ребенок, мистер Коллинз. Тот маленький дикарь был агентом Друда. В нем уже не осталось ничего человеческого. Если бы он улизнул от нас, чтобы сообщить о нашем присутствии там, полчища Друда напали бы на нас через считаные минуты. — Это нелепо, — холодно промолвил я. Баррис улыбнулся так широко, что остаточное изображение улыбки хранилось на сетчатке моего глаза еще несколько секунд в темноте между молниевыми вспышками. — Неужели, мистер Коллинз? Вы так считаете? Выходит, вы ничего не знаете — и слава богу! — о мозговых жуках. Внезапно во рту у меня пересохло. Я совершил над собой огромное усилие, чтобы не скривиться от острой боли за правым глазом, причиненной ударом скарабеевых жвал. По счастью, оглушительный раскат грома прервал наш разговор, дав мне время оправиться от потрясения. — О чем? — с трудом выдавил я. — О мозговых жуках, если употребить наше с инспектором Филдом выражение, — сказал Баррис. — Друд внедряет этих египетских насекомых — в действительности английских, но обученных особым повадкам по нечестивой языческой традиции — в тело и мозг своих рабов и новообращенных. Или он заставляет их думать, что сделал это. Конечно, на самом деле он просто гипнотизирует их. Они годами подчиняются Друду, находясь в состоянии постмесмерического транса, а он при каждой возможности укрепляет свою власть над ними. Мозговые жуки — это гипнотический символ Друдовой власти над жертвой. — Полная чушь! — громко сказал я в перерыве между раскатами грома. — В свое время мне довелось весьма обстоятельно исследовать месмеризм и животный магнетизм. Невозможно управлять людьми на расстоянии и в течение длительного времени, а тем более поработить внушенной галлюцинацией вроде этого вашего… мозгового жука. — Вы так считаете? — спросил Баррис. В мерцающем свете я видел, что негодяй по-прежнему улыбается, но теперь жутковатой, иронической улыбкой. — Вы, мистер Коллинз, не видели кошмара, произошедшего в Подземном городе через несколько часов после того, как я отправил вас в нокаут — за что я искренне извиняюсь, сэр, но тогда я принял вас за одного из них, за Друдова агента с жуком в нутре. — И что же за кошмар произошел там после того, как вы оглушили меня до беспамятства, сыщик Баррис? — Я больше не сыщик, мистер Коллинз. Это звание и ремесло навсегда потеряны для меня. А что случилось через несколько часов после того, как вас вынесли из Подземного города, сэр, так это засада и кровавая резня. — Вы преувеличиваете. — По-вашему, сэр, девять убитых славных парней — преувеличение? Мы искали Друдово логово, Друдов храм и самого Друда, разумеется… но он с самого начала заманивал нас все дальше и дальше в западню. — Это нелепо, — сказал я. — Вас там было человек двести той ночью. — Сто тридцать девять, мистер Коллинз. Почти все — свободные от дежурства или отставные полицейские. И почти все — люди, знавшие Хибберта Хэчери и сошедшие с нами под землю, чтобы поймать его убийцу. Меньше двадцати человек среди нас знали, что за чудовище Друд на самом деле — не обычный душегуб и вообще не человеческое существо, — и пятеро из них погибли той ночью от рук рабов-убийц. От рук многочисленных головорезов и душителей, покорных магнетической воле мозговых жуков, которых, по вашему утверждению, не существует. А сам инспектор был убит на следующий день. У меня отвалилась челюсть. — Убит? Убит?! Не лгите мне, Баррис. Вы меня не проведете. В лондонской «Таймс» — а я разговаривал с составлявшими некролог репортерами — сообщалось, что инспектор Филд скончался от естественных причин. Он умер во сне. — Да ну? Разве ваши репортеры были там наутро после его смерти и видели выражение ужаса, запечатлевшееся на мертвом лице бедного старика, мистер Коллинз? Я был там. Именно за мной перво-наперво послала жена инспектора Филда, когда нашла его мертвым. Разинутый рот и выпученные глаза не наводили на мысль о мирной смерти во сне от остановки сердца, мистер Коллинз. У него в глазах полопались все сосуды. — Насколько мне известно, именно такие симптомы бывают при апоплексическом ударе. Сверкнула молния, и на сей раз раскат грома последовал незамедлительно за вспышкой. Гроза бушевала прямо над нами. — А после апоплексического удара остается шелковый шнур завязанный двойным узлом, мистер Коллинз? — О чем вы говорите? — О визитной карточке индусского душителя, убившего бедного Чарльза Фредерика Филда во сне, сэр. В данном случае — о трех или четырех душителях. Один прижимал подушку к искаженному удушьем лицу моего работодателя и друга, а по меньшей мере двое — скорее всего, трое, поскольку Филд был сильным человеком, несмотря на возраст, — удерживали его, пока затягивалась петля. Он умер мучительной смертью, мистер Коллинз. Страшной смертью. Я не знал, что сказать. — В штате сыскного бюро инспектора работали семь агентов, включая меня, — продолжал Баррис. — Все они, включая меня, были самыми лучшими, самыми опытными отставными полицейскими в Англии. С января пятеро из них погибли при загадочных обстоятельствах. Шестой покинул семью и бежал в Австралию, но это ему не поможет. У Друда агенты во всех до единого портах мира. Я уцелел потому только, что залег здесь, в вонючем Друдовом болоте, — и тем не менее за последние полгода мне пришлось расправиться уже с тремя наемными убийцами, приходившими по мою душу. Поверьте мне, сэр: я сплю вполглаза, когда вообще сплю. Словно что-то вспомнив, Баррис вынул из кармана пистолет Хэчери и отдал мне. Вспышка боли полыхнула за пульсирующим правым глазом, и в голову мне пришла мысль, что я запросто могу застрелить Барриса сейчас и его труп не обнаружат еще несколько недель или месяцев, пока сюда не вернутся Друдовы последователи. Заслужу ли я их расположение таким своим деянием? Жмурясь от слепящей, тошнотворной боли, я спрятал дурацкий пистолет в карман плаща. — Зачем вы привели меня сюда? — прохрипел я. — Во-первых, чтобы проверить, не стали ли вы… одним из них, — сказал Баррис. — По моему мнению — не стали. — Вам не нужно было тащить меня на поганые языческие чердаки, чтобы выяснить это, — прокричал я, перекрывая грохот грома. — На самом деле — нужно, — сказал Реджинальд Баррис. — Но что важнее, я хотел сделать предостережение. — С меня довольно предостережений, — отрезал я. — Это предостережение не для вас, сэр. На полминуты воцарилась тишина — первая продолжительная пауза между громовыми раскатами с момента, когда мы покинули дом Опиумной Сэл. И тишина эта невесть почему наводила больше страха, чем предшествующий грохот грозы. — А для Чарльза Диккенса, — закончил Баррис. Теперь настал мой черед рассмеяться. — По вашим же словам, Диккенс встречался с Друдом сегодня утром перед рассветом. Если он один из Друдовых… как вы там выразились?.. жуконосных рабов, то чего ему опасаться? — Мне кажется, он не раб, мистер Коллинз. Мне кажется, ваш друг заключил с Друдом сделку наподобие фаустовской — какого именно рода, я не знаю. Я вспомнил, как Диккенс однажды сказал мне, что пообещал написать биографию Друда. Но об этом обстоятельстве было глупо даже задумываться, и уж тем более — упоминать. — В любом случае, — продолжал Баррис, чье лицо под налетом грязи внезапно приобрело изможденный вид, — от одного из убийц, посланных Друдом по мою душу, я узнал, что Диккенс умрет в семидесятом году. — Я думал, вы убили всех убийц, посланных Друдом по вашу душу, — сказал я. — Так и есть, мистер Коллинз. Так и есть. Но двух из них я заставил заговорить, прежде чем они освободились от смертной оболочки. При этих словах меня прошиб холодный пот. — До семидесятого остался год, — проговорил я. — На самом деле чуть больше шести месяцев, сэр. Друдовы приспешники не сказали, в каком именно месяце они совершат покушение на мистера Диккенса. В следующий момент, словно услышав сигнальную реплику, гроза разразилась во всем неистовстве. Мы оба вздрогнули, когда вдруг ливень с дикой яростью обрушился на старую гонтовую крышу. Луч фонаря бешено заметался по стенам, когда Баррис резко прянул назад и с трудом восстановил равновесие. Я мельком увидел вырезанные на потолке иероглифы, и то ли скарабей в моем мозгу, то ли сам я перевел: «…даруй крепость нашим членам, о Исида, и храни нас подобием талисмана, дабы мы получили оправдание в Судный день, который скоро грядет».
Я добрался домой мокрый до нитки. Кэрри встретила меня в вестибюле, и я обратил внимание, что она не в халате, а все еще в платье, несмотря на поздний час, и что вид у нее встревоженный. — В чем дело, милая? — К тебе гость. Он пришел незадолго до девяти и настоял на том, чтобы дождаться тебя. Не будь Джорджа и Бесс дома, я бы ни за что его не впустила — жуткий тип, и у него нет визитной карточки. Но он сказал, что дело срочное… «Друд», — подумал я. Я так устал, что даже не испугался. — Тебе не о чем беспокоиться, Кэрри, — мягко промолвил я. — Вероятно, какой-нибудь торговец явился с неоплаченным счетом. Куда ты отвела его? — Он спросил, можно ли подождать в твоем кабинете. Я сказала «да». «Черт побери!» — подумал я. Меньше всего мне хотелось принимать Друда в кабинете. Но я ласково потрепал Кэрри по щеке и сказал: — Иди ложись спать, будь умницей. — Повесить твой плащ на вешалку? — Нет, я пока не хочу его снимать, — сказал я, не объясняя Кэрри, почему хочу остаться в насквозь промокшем дешевом плаще. — А ты будешь ужинать? Я велела кухарке перед уходом приготовить твое любимое мясо по-французски… — Я сам найду и разогрею, Кэрри. Беги спать. Я позову Джорджа, если мне что-нибудь понадобится. Я подождал, когда ее шаги стихли наверху, а потом прошел через холл, через гостиную и распахнул дверь в кабинет. Мистер Эдмонд Диккенсон, эсквайр, сидел не в гостевом кожаном кресле, а за моим рабочим столом. Он нагло курил одну из моих сигар, положив ноги на выдвинутый нижний ящик. Я вошел и плотно закрыл за собой дверь.
Глава 44
В начале октября Диккенс пригласил меня провести в Гэдсхилле несколько дней во время последнего визита Филдсов перед их возвращением в Бостон. Я уже довольно давно не получал приглашений остаться на ночь в доме Диккенса. Честно говоря, со времени мартовской премьеры «Черно-белого», когда Неподражаемый выказал мне поддержку и одобрение, мы с ним виделись довольно редко и держались друг с другом крайне официально (особенно по сравнению с теплой доверительностью наших отношений в прошлом). Хотя мы продолжали подписывать наши письма словами «любящий вас», никакой любви с одной и другой стороны, похоже, уже не осталось. По дороге в Гэдсхилл я задумчиво смотрел в окно вагона, размышлял об истинных причинах приглашения и соображал, что бы такое рассказать Неподражаемому, чтобы он удивился. Мне нравилось удивлять Диккенса. Я мог бы поведать о своей экскурсии в Город-над-Городом, состоявшейся четыре месяца назад, девятого июня, когда они с Филдсом, Долби и Эйтинджем бегали по трущобам под охраной своего полицейского, но это было бы чересчур. (Вдобавок как бы я объяснил, почему таскался за ними по пятам первую половину вечера?) Конечно, я премного удивил бы Диккенса, Филдсов и любых других приехавших на уик-энд гостей рассказом об «очаровательных» гримасах, гуканье, лепете своей новорожденной дочки Мэриан и прочими дешевыми умильными историйками, какие принято рассказывать о младенцах, но это определенно было бы чересчур. (Чем меньше Чарльз Диккенс и его подпевалы да лизоблюды будут знать о моей частной жизни, тем лучше.) Так чем же его развлечь? Я непременно сообщу всем, что работа над «Мужем и женой» продвигается весьма успешно. Если мы с Диккенсом окажемся наедине, я расскажу о письмах, которые миссис Элизабет Хэрриет (Кэролайн) теперь пишет мне почти каждый месяц, — об ее эмоциональном отчуждении от мужа и рукоприкладстве неотесанного водопроводчика. Письма Кэролайн служили благодатным материалом для моего романа. Мне оставалось только заменять малообразованного скота-водопроводчика на высокообразованного скота-оксфордца (если вдуматься, между этими двумя категориями мужчин нет особой разницы) — и случаи побоев, издевательств, запирания в погребе, описанные Кэролайн, мигом становились эпизодами из жизни моей высокородной, но неудачно вышедшей замуж героини. Что еще? Если мы проведем наедине достаточно долгое время и хотя бы отчасти восстановим прежнюю взаимную доверительность, я смогу поведать Чарльзу Диккенсу о ночном визите, нанесенном мне девятого июня молодым человеком, которого он вытащил из под обломков на месте Стейплхерстской катастрофы ровно четыре года назад, — нашим мистером Эдмондом Диккенсоном.Диккенсон не только развалился в моем кресле за письменным столом и положил ноги в грязных ботинках на выдвинутый нижний ящик — наглый щенок еще успел подняться в мою спальню, отпереть там чулан и принести вниз восемьсот страниц с описанием моих сновидений о богах Черной Земли, написанных убористым косым почерком Второго Уилки. — Что означает это вторжение? — резко осведомился я. Моя попытка взять властный тон, вероятно, несколько потеряла в убедительности от того, что даже в плаще я промок насквозь, точно бездомный кот под ливнем, и сейчас с меня ручьями стекала вода на пол и персидский ковер. Диккенсон рассмеялся и уступил мне кресло (но рукопись не отдал). Мы двое обошли стол с разных сторон, двигаясь осторожно, как затеявшие драку поножовщики в нью-кортской таверне. Я уселся в свое рабочее кресло и задвинул нижний ящик стола, а Диккенсон плюхнулся в гостевое кресло, не спросив позволения. Мокрый плащ подо мной противно похлюпывал при каждом моем движении. — Вид у вас преплачевный, если мне будет позволено заметить, — сказал Диккенсон. — Пусть вас это не беспокоит. Верните мне мою собственность. Диккенсон взглянул на пачку страниц в своих руках и состроил гримасу удивления. — Вашу собственность, мистер Коллинз? Вы отлично знаете, что ни ваши сновидения о Черной Земле, ни данные записи не принадлежат вам. — Принадлежат. И я хочу получить свою собственность обратно. Я вынул из кармана пистолет Хэчери, упер в столешницу основание тяжелой ложи, или рукояти, или ручки, или как там эта штуковина называется и обеими руками оттянул назад массивный курок до щелчка. Дуло было направлено прямо в грудь Эдмонда Диккенсона. Несносный юнец расхохотался. Я снова увидел, какие странные у него зубы: в Рождество 1865 года они были белыми и здоровыми. Интересно, они сгнили и раскрошились с тех пор или же сточены до таких вот острых пеньков? — Это ваш почерк, мистер Коллинз? Я заколебался. Друд встречался со Вторым Уилки год назад, в эту самую ночь. Друдов приспешник, сидящий передо мной, наверняка знает об этом. — Отдайте рукопись, — сказал я. Теперь я держал палец на спусковом крючке. — Вы намерены застрелить меня, коли я не отдам? — Да. — А зачем вам убивать меня, мистер Коллинз? — Возможно, чтобы удостовериться, что вы не призрак, которым прикидываетесь, — тихо проговорил я. Меня одолевала страшная усталость. Казалось, прошло уже много недель, а не каких-то двенадцать часов с момента, когда я последовал за Диккенсом, везущим своих гостей обедать на Кулингское кладбище. — О, я начну истекать кровью, если вы в меня выстрелите, — сказал Диккенсон тем самым раздражающе счастливым тоном, что страшно бесил меня в Гэдсхилле давным-давно. — И умру, если вы попадете удачно. — Попаду, — заверил я. — Но зачем вам это надо, сэр? Вы же знаете, что эти бумаги являются собственностью Хозяина. — Под Хозяином вы подразумеваете Друда. — Кого же еще? Вне всякого сомнения, я уйду отсюда с рукописью — ваш пистолет, направленный мне в грудь с расстояния трех шагов, не так страшен, как малейшее неудовольствие Хозяина, находящегося на тысячекратном расстоянии отсюда, — но раз уж вы сейчас имеете надо мной легкое преимущество, я готов удовлетворить ваше любопытство, прежде чем удалиться. — Где Друд? — осведомился я. Диккенсон лишь рассмеялся в ответ. Вероятно, именно при виде его зубов у меня возник следующий вопрос. — Вы ведь едите человечину по меньшей мере раз в месяц, мистер Диккенсон? Он разом перестал смеяться и улыбаться. — С чего вы взяли, сэр? — Возможно, я знаю о вашем… Хозяине… и его рабах больше, чем вы полагаете. — Возможно, — согласился Диккенсон. Он опустил голову, нахмурился и смотрел на меня исподлобья странным, нервирующим взглядом. — Но вам следует также знать, — добавил он, — что у Хозяина нет никаких рабов… только ученики и последователи, любящие его и добровольнослужащие ему. Теперь настал мой черед рассмеяться. — Вы разговариваете с человеком, в чьем мозгу обитает один из скарабеев вашего проклятого Хозяина, Диккенсон. Я не могу представить худшей формы рабства. — А наш с вами друг мистер Диккенс может, — сказал Диккенсон. — Вот почему он предпочел сотрудничать с Хозяином ради достижения общей цели. — Что за вздор вы несете? — рявкнул я. — У Диккенса и Друда нет никаких общей целей. Молодой человек — прежде почти по-младенчески круглолицый и розовощекий, а теперь тощий как смерть — помотал головой. — Вы были в Нью-Корте, Блюгейт-Филдс и окрестных кварталах нынче вечером, мистер Коллинз, — тихо промолвил он. «Откуда он знает, что я там был? — с легкой паникой подумал я. — Может, они поймали и замучили бедного сумасшедшего Барриса?» — Мистер Диккенс понимает, что этому общественному злу пора положить конец, — продолжал Диккенсон. — Общественному злу? — Бедность, сэр, — не без горячности сказал Диккенсон. — Социальная несправедливость. Малолетние сироты, вынужденные жить на улице. Матери, ставшие… продажными девками… от безысходного отчаяния. Больные дети и женщины, которые никогда не получат лечения. Мужчины, которые никогда не найдут работу при общественном строе, где… — Ох, избавьте меня от этой коммунистической болтовни, — сказал я. Вода капала с моей бороды на стол, но пистолет, зажатый в моих руках, ни чуть-чуть не подрагивал. — Диккенс почти всю жизнь был реформатором, но он не революционер. — Вы ошибаетесь, сэр, — мягко произнес Диккенсон. — Он сотрудничает с Хозяином именно ради революции, которую Хозяин совершит сначала в Лондоне, а потом и во всем мире, где дети брошены умирать от голода. Мистер Диккенс поможет Хозяину установить Новый Строй — такой, где справедливость будет вершиться по отношению ко всем без изъятья, независимо от цвета кожи и уровня достатка. Я снова рассмеялся, и снова от всей души. Четырьмя годами ранее, осенью 1865 года, толпа черномазых ямайцев напала на здание суда в Морант-Бэй. По приказу английского губернатора острова, Эдварда Эйра, четыреста тридцать девять повстанцев были расстреляны или повешены, а еще шестьсот подвергнуты жестокой порке. Иные из самых наших ретивых либералов выразили возмущение мерами, принятыми губернатором Эйром, но в разговоре со мной Диккенс выразил предпочтение, чтобы возмездие и наказание были более суровыми. «Я категорически против единения с черномазыми — или туземцами, или неграми, — заявил он тогда, — и считаю, что решительно недопустимо общаться с готтентотами так, словно они ровня чисто одетым джентльменам из Кэмберуэлла…» Во время восстания сипаев в Индии, задолго до нашего с ним знакомства, Диккенс горячо поддержал британского генерала, который привязывал пленных мятежников к пушечным дулам и отправлял «домой» в виде кровавых ошметков. Гнев и презрение Диккенса в «Холодном доме» и дюжине других романов были направлены скорее на идиотов миссионеров, больше озабоченных положением темнокожих людей за пределами нашей страны, нежели проблемами добропорядочных англичан — белых мужчин, женщин и детей — здесь, на родине. — Вы глупец, — сказал я той июньской ночью Эдмонду Диккенсону. — И ваш Хозяин глупец, коли он полагает, что Чарльз Диккенс готов вступить в заговор против белых людей ради благоденствия ласкаров, индусов, китайцев и египетских убийц. Диккенсон натянуто улыбнулся и встал. — Я должен доставить эти записи Хозяину до рассвета. — Стойте. — Я поднял пистолет и нацелился в лицо молодому человеку. — Забирайте чертовы бумаги, только скажите, как мне изгнать скарабея из тела. Из головы. — Он сам уйдет, когда Хозяин прикажет или когда вы умрете, — сказал Диккенсон, снова расплываясь в счастливой, плотоядной улыбке. — Не раньше. — Даже если я убью невинного человека? — спросил я. Тощий юнец удивленно вскинул светлые брови. — Так значит, вы знаете об этом ритуальном исключении? Прекрасно, мистер Коллинз. Можете попробовать. За успех ручаться нельзя, но почему бы не попытать счастья. Ах, да… и будьте уверены: юная барышня, впустившая меня в дом сегодня, завтра ничего не будет помнить о моем визите. И без дальнейших слов он круто повернулся и вышел прочь. Насчет Кэрри Диккенсон оказался прав: когда наутро я спросил девочку, что именно во внешности нашего вчерашнего посетителя встревожило ее, она недоуменно уставилась на меня и сказала, что не помнит никакого посетителя — помнит лишь скверный сон про какого-то незнакомца, который стоял под дождем, барабаня в дверь кулаком и требуя впустить его. «Да уж, — подумал я, когда поезд подъезжал к станции, где меня уже должен был ждать кто-нибудь из Гэдсхилл-плейс с каретой или коляской, запряженной пони, — если я расскажу, чем закончилась та насыщенная событиями июньская ночь, Неподражаемый наверняка удивится… С другой стороны, как будет ужасно, если он не удивится».
В воскресенье, на четвертый день приятного пребывания в Гэдсхилл-плейс (а мне даже сейчас трудно забыть или переоценить, насколько приятная атмосфера царила в доме Диккенса, когда там собирались веселые дружные компании), я сидел в комнате Джеймса Филдса и разговаривал с ним о литературной жизни в Бостоне. Раздался стук в дверь, и один из старейших слуг Диккенса вошел с церемонной важностью, точно придворный королевы Виктории, щелкнул каблуками и вручил Филдсу записку, написанную тонким каллиграфическим почерком на свернутом в свиток тонком пергаменте. Филдс показал мне послание, а затем прочитал вслух:
Мистер Чарльз Диккенс свидетельствует нижайшее почтение достопочтенному Джеймсу Т. Филдсу (Бостон, Массачусетс, США) и будет счастлив принять достопочтенного Дж. Т. Ф. в маленькой библиотеке, как прежде, в любое удобное достопочтенному Дж. Т. Ф. время.Филдс хихикнул, потом смущенно кашлянул и сказал мне: — Уверен, Чарльз имеет в виду, что приглашает в библиотеку нас обоих. Я улыбнулся и кивнул, но нимало не усомнился, что шутливое приглашение Диккенса мне не предназначалось. Мы с ним не перемолвились и парой слов наедине за четыре дня моего пребывания в Гэдсхилл-плейс, и я все яснее сознавал, что Неподражаемый не собирается менять характер нашего общения: вежливые беседы на людях, отчужденное молчание наедине. Тем не менее я последовал за Филдсом, когда американец поспешил в маленькую библиотеку внизу. Диккенс не сумел полностью скрыть свое недовольство при виде меня, хотя пасмурная тень набежала на его лицо лишь на долю секунды (только старый друг, знакомый с ним много лет, мог заметить это мимолетное выражение неприятного сюрприза) и уже в следующий миг он улыбнулся и воскликнул: — Дорогой Уилки, какая удача! Вы избавили меня от трудоемкой необходимости писать приглашение и для вас! Каллиграфия мне всегда плохо давалась, и боюсь, мне пришлось бы потратить еще полчаса на изготовление подобного документа. Входите же оба, прошу вас! Присаживайтесь, присаживайтесь. Сам Диккенс сидел боком на краю маленького стола, рядом со стопкой исписанных страниц. Он выставил только два кресла, предназначенных для слушателей. На какой-то головокружительный момент я решил, что он собирается читать описания своих собственных снов о богах Черной Земли. — Мы — единственные ваши слушатели сегодня? — радостным голосом спросил Джеймс Т. Филдс. Эти двое находили великое наслаждение в общении друг с другом, просто молодели на глазах, пускаясь в мальчишеские приключения, но последние несколько дней я чувствовал в Диккенсе печаль. «Ничего удивительного, — подумал я в тот момент. — На следующей неделе Филдс с женой отбудут в Америку, и они с Диккенсом уже никогда больше не увидятся. Неподражаемый умрет задолго до следующего приезда Филдса в Англию». — Вы двое, дорогие друзья, действительно вся моя аудитория на этом чтении, — подтвердил Диккенс. Он отошел закрыть дверь библиотеки и, вернувшись, снова удобно присел на краешек тонконогого столика. — Глава первая. «Рассвет», — начал Диккенс. — Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая, квадратная башня — вон она высится, серая и массивная, над крышей собора… И еще какой-то ржавый железный шпиль — прямо перед башней… Но его же на самом деле нет! Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему ни подойди. Что это за шпиль, кто его здесь поставил? А может быть, то просто кол и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы, и длинное шествие — сам султан со свитой — выходит из дворца… Десять тысяч ятаганов сверкают на солнце, трижды десять алмей усыпают дорогу цветами. А дальше — белые слоны в блистающих яркими красками попонах… И так он читал почти полтора часа. Джеймс Филдс внимал завороженно. Чем дольше я слушал, тем сильнее у меня немели кончики пальцев и стягивало кожу на затылке, будто от холода. Первая глава содержала импрессионистическое (и сенсуалистское) описание того, как некий курильщик опиума медленно выплывает из грез в опиумном притоне, явно списанном с притона Опиумной Сэл. И сама Сэл здесь присутствует — точно охарактеризованная как «худая изможденная женщина» с «хриплым шепотом» — вместе с коматозным китайцем и ласкаром. Центральный персонаж главы — белый мужчина, пробуждающийся от опиумного сна, — продолжает повторять «нет, нельзя понять», прислушиваясь к бессвязному лепету китайца (он даже хватает его за горло и поворачивает лицом к себе) и неразборчивому бормотанью ласкара, все еще находящегося в забытьи. Потом он покидает притон и возвращается в некий «соборный городок», в котором легко узнается Рочестер (под дурацким вымышленным названием «Клойстергэм»). И там, во второй главе, мы встречаем ряд обычных диккенсовских персонажей, включая младшего каноника преподобного Септимуса Криспспаркла, принадлежащего к числу именно таких любезных, туповатых, но исполненных благих намерений «мускулистых христиан», каких я изображал в пародийном виде в своем собственном, еще не дописанном романе. Во второй главе также становится ясно, что гнусный опиоман, промелькнувший перед нами в первой главе, — это некий Джон Джаспер, регент соборного хора. Джаспер, как мы сразу понимаем, обладает благозвучным голосом (временами даже более благозвучным, чем обычно) и темной, изощренной душой. Во второй же главе мы знакомимся с племянником Джаспера, недалеким, неискушенным, беспечным, но явно ленивым и довольным собой господином Эдвином Друдом… признаюсь, я вздрогнул, когда Диккенс произнес это имя. Третья глава открывается довольно поэтичным, но мрачным описанием Клойстергэма и рассказом о прошлом городка, а потом перед нами предстает очередная прелестная девица из почти несметного сонма диккенсовских безупречных, румяных, непорочных, юных, романтических героинь: на сей раз наделенная тошнотворно пошлым прозвищем Розовый Бутончик. Присутствие сей барышни на нескольких страницах кряду не вызвало у меня желания немедленно придушить ее — каковое желание вызывали многие из юных, целомудренных, по-диккенсовски примерных героинь вроде Крошки Доррит, — и к моменту, когда Эдвин Друд и Розовый Бутончик прогуливаются по улицам вдвоем (мы уже знаем, что они были помолвлены в детстве по воле своих родителей, ныне покойных, но что молодой Эдвин относится к Розе и самой помолвке со снисходительным самодовольным спокойствием, а Роза просто хочет поскорее вырваться из приюта), я почувствовал в отношениях названных персонажей подобие отчужденности, возникшей между Эллен Тернан и Диккенсом, о которой они двое говорили памятным вечером у железнодорожной станции в Пекхэме, когда я подслушивал. Из первых глав мы с Филдсом узнали, что Диккенс сделал своего Друда — незрелого юнца Эдвина Друда — молодым инженером, уезжающим в Египет, чтобы перестроить там всю жизнь. И по смерти упокоиться в одной из пирамид, как говорят иные глупые женщины в сиротском приюте (почему, ну почему все диккенсовские юные девы непременно должны быть сиротами?!).
Ну там… арабы, турки, феллахи… она их ненавидит, да? [Спрашивает Роза, имея в виду воображаемую идеальную жену «Эдди» Друда.] Нет. Даже и не думает. Ну а пирамиды? Уж их-то она наверняка ненавидит? Сознайся, Эдди! Не понимаю, почему она должна быть такой маленькой… нет, большой — дурочкой и ненавидеть пирамиды? Ох, ты бы послушал, как мисс Твикнлтон про них долдонит, — Роза кивает головкой, по-прежнему смакуя осыпанные сахарной пудрой липкие комочки, — тогда бы ты не спрашивал! А что в них интересного, просто старые кладбища! Всякие там Исиды и абсиды, Аммоны и фараоны! Кому они нужны? А то еще был там Бельцони, или как его звали, — его за ноги вытащили из пирамиды, где он чуть не задохся от пыли и летучих мышей. У нас девицы говорят, так ему и надо, и пусть бы ему было еще хуже, и жаль, что он совсем там не удушился.Я видел, что Диккенс намерен и дальше проводить тщательно продуманное сопоставление между пылью склепов и могил в Клойстергэме (то есть Рочестере с его самым что ни на есть реальным собором) и исследователями египетских гробниц типа Бельцони, «чуть не задохшегося от пыли и летучих мышей». Третья глава — дальше Диккенс не стал читать в тот день — заканчивалась тем, что Роза кокетливо (но по-прежнему без особого интереса, во всяком случае по отношению к Эдвину) спрашивала этого «Друда»:
Ну, Эдди, скажи, что ты там видишь? Что я могу увидеть, Роза? А я думала, вы, египтяне, умеете гадать по руке — только посмотрите на ладонь и сразу видите все, что будете человеком. Ты не видишь там нашего счастливого будущего? Счастливое будущее? Быть может. Но достоверно одно: что настоящее никому из них не кажется счастливым в тот момент, когда растворяются и снова затворяются тяжелые двери и она исчезает в доме, а он медленно уходит прочь.Именно так написал бы и я о том, что произошло на моих глазах между Эллен Тернан и Диккенсом у станции Пекхэм. Когда Диккенс — читавший негромко, профессионально, сдержанно в противоположность излишнему актерствованию, каким он грешил в ходе свои последних турне, особенно при представлении «убийства», — отложил в сторону последнюю страницу, Джеймс Филдс бешено захлопал в ладоши. Я молчал, неподвижно уставившись перед собой. — Превосходно, Чарльз! Поистине превосходно! Восхитительное начало! Чудесное, интригующее, увлекательное начало! Еще никогда прежде ваше писательское мастерство не проявлялось столь ярко! — Благодарю вас, дорогой Джеймс, — мягко промолвил Диккенс. — Но название! Вы нам не сказали. Как вы собираетесь назвать ваш новый замечательный роман? — Он будет называться «Тайна Эдвина Друда», — ответил Диккенс, пристально взглянув на меня поверх очков. Филдс одобрительно зааплодировал и не заметил, как я беззвучно ахнул. Но Чарльз Диккенс, я уверен, заметил.
Филдс ушел наверх, чтобы переодеться к ужину, а я проследовал за Диккенсом в его кабинет и сказал: — Нам нужно поговорить. — Действительно? — откликнулся Неподражаемый, кладя страниц пятьдесят рукописи в кожаную папку и запирая ее в ящике стола. — Хорошо, давайте уйдем подальше от навостренных ушей домочадцев, друзей, детей, слуг и собак. Октябрь выдался теплый, и стоял теплый ранний вечер, когда мы с Диккенсом шагали к шале. Обычно в эту пору шале уже наглухо запирали в преддверии сырой зимы, но не в этом году. Желтые и красные листья неслись через лужайку и застревали в живых изгородях и отцветших кустах красной герани, насаженных вдоль аллеи. Диккенс повел меня не через тоннель, но прямо через дорогу. В этот воскресный вечер движения на ней не было, но я увидел горячих породистых лошадей, стоящих в ряд на привязи у гостиницы «Фальстаф-Инн». Группа охотников заехала туда перекусить после лисьей охоты. В комнате на втором этаже шале Диккенс знаком пригласил меня сесть в гостевое виндзорское кресло, а сам развалился в своем рабочем. По аккуратно расставленным на столе шкатулкам с голубой и кремовой бумагой, чернильницам с перьями и статуэткам дерущихся лягушек я понял, что Диккенс недавно здесь работал. — Ну-с, друг мой, о чем вы хотите поговорить со мной? — Вы сами прекрасно знаете, дорогой Диккенс. Он улыбнулся, вынул из футляра очки и нацепил на нос, словно собираясь снова читать. — Давайте предположим, что я не знаю, и начнем плясать отсюда. Вам не понравилась затравка моего нового романа? Я прочитал не все, что успел написать, знаете ли. Возможно, еще глава-другая — и повествование увлекло бы вас. — Это опасно, Чарльз. — Да? — Его удивление не казалось наигранным. — А что опасно-то? Писать криминально-авантюрный роман? Я говорил вам несколько месяцев назад, что мне показались интересными отдельные моменты вашего «Лунного камня» — наркотическая зависимость, месмеризм, индусские злодеи, тайна похищения — и что я, возможно, попробую силы в подобном жанре. Ну вот я и пробую. Во всяком случае — начал. — Вы используете имя Друда, — проговорил я так тихо, что получилось почти шепотом. Из гостиницы до нас доносились мужские голоса, распевающие застольную песню. — Дорогой Уилки, — вздохнул Диккенс. — Вы не считаете, что нам — вам — пора избавиться от страха перед всякой друдовщиной? Что я мог сказать на это? На несколько мгновений я лишился дара речи. Я никогда не рассказывал Диккенсу о смерти Хэчери — о серых блестящих гирляндах в склепе. Или о ночи, проведенной мной в храме Друда. Или о вторжении инспектора Филда в Подземный город и об ужасных последствиях, которые оно имело для Филда и его людей. Или о Реджинальде Баррисе — грязном, заросшем, ходящем в лохмотьях, питающемся объедками, скрывающемся в трущобах, вздрагивающем при каждом шорохе. Или о тайных святилищах в Городе-над-Городом, показанных мне Баррисом всего четыре месяца назад… — Если у меня будет время вечером, — промолвил Диккенс, словно размышляя вслух, — я излечу вас от этого наваждения. Освобожу от него. Я встал и принялся раздраженно расхаживать взад-вперед по маленькой комнате. — Вы распрощаетесь с жизнью, коли опубликуете этот роман, Чарльз. Однажды вы сказали мне, что Друд просил вас написать его биографию… но ведь это пародия. — Ничего подобного, — рассмеялся Диккенс. — Это будет очень серьезный роман, исследующий пласты, уровни и противоречия преступного ума — в данном случае ума убийцы, а также опиомана и одновременно гипнотизера и жертвы гипноза. — Как можно быть одновременно гипнотизером и жертвой гипноза, Чарльз? — Прочитайте книгу, когда она будет закончена, Уилки, и узнаете. Вам многое станет ясно… не только в том, что касается заявленной в названии тайны, но и в том, что касается вашего собственного затруднительного положения. Последние слова я проигнорировал, поскольку они казались лишенными смысла. — Чарльз, — горячо сказал я, опираясь обеими руками о стол и пристально глядя на Диккенса, — неужто вы и вправду полагаете, что при курении опиума возникают видения сверкающих на солнце ятаганов, многих десятков алмей и — как там у вас? — «несметного множества белых слонов, вышагивающих в разноцветных попонах»? — …Белые слоны в блистающих яркими красками попонах и несметные толпы слуг и провожатых, — поправил Диккенс. — Пусть так. — Я отступил на шаг назад и снял очки, чтобы протереть их носовым платком. — Но неужели вы действительно думаете, что любое количество слонов в разноцветных или блистающих яркими красками попонах и сверкающие ятаганы могут привидеться в настоящем опиумном сне? — Я принимал опиум, знаете ли, — спокойно сказал Диккенс. Казалось, он забавлялся. Я выразительно закатил глаза, услышав такое признание. — Ну да, Фрэнк Берд говорил мне. Чуть-чуть лауданума, да и то всего несколько раз, когда вас мучила бессонница во время ваших последних турне. — И все же, друг мой, лауданум — это лауданум. Опиум — это опиум. — По сколько минимов вы принимали? Я по-прежнему расхаживал взад-вперед, от одного открытого окна до другого. Вероятно, моя нервозность объяснялась увеличенной дозой лауданума, принятой утром мною самим. — Минимов? — переспросил Диккенс. — Капель опиата на стакан вина, — сказал я. — Сколько капель? — О, понятия не имею. Те несколько вечеров, когда я прибегал к такому медицинскому методу, препарат для меня разводил Долби. Думаю, две. — Две капли… два минима? — повторил я. — Да. Я молчал добрую минуту. В тот самый день я, приехавший в Гэдсхилл ненадолго и привезший с собой лишь фляжку и маленькую бутылку лауданума, принял самое малое двести минимов, а возможно, и вдвое больше. Потом я сказал: — Ни меня, ни любого другого человека, исследовавшего свойства наркотика столь же тщательно, как я, дорогой Чарльз, вы не заставите поверить, что вам пригрезились слоны, ятаганы и золотые купола. Диккенс рассмеялся. — Дорогой Уилки, вы же говорили, что… «на собственном опыте проверяли» — кажется, именно так вы выразились… способен ли Франклин Блэк, персонаж «Лунного камня», среди ночи войти в спальню своей невесты… — В гостиную, смежную со спальней, — поправил я. — Мой редактор настоял на этом из соображений приличия. — Ах да, — улыбнулся Диккенс; он и был тем самым редактором, разумеется. — Среди ночи войти в гостиную, смежную со спальней своей невесты, находясь под воздействием лауданума, принятого им без собственного ведома… — Вы уже выражали сомнения в правдоподобности этого эпизода, — кисло сказал я. — Хотя я говорил вам, что проводил эксперименты на себе, выясняя, возможно ли подобное поведение под воздействием наркотика. — Вот и я об этом, друг мой! Вы преувеличили свои впечатления для пользы сюжета. Точно так же и мои хоботные в попонах и сверкающие ятаганы призваны служить общему повествованию. — Речь не об этом, Чарльз. — Тогда о чем же? Диккенс казался искренне заинтересованным. А еще он казался крайне изможденным. В те дни, когда Неподражаемый не устраивал чтения и не предавался разным забавам, он выглядел стариком, в которого внезапно превратился. — О том, что Друд убьет вас, коли вы издадите эту книгу, — сказал я. — Вы сами говорили мне, что он хочет получить свою биографию, которую сможет распространять частным образом, а никак не сенсационный роман, где фигурируют опиум, месмеризм, разные египетские дела и слабохарактерный персонаж по имени Друд… — Слабохарактерный, но важный для сюжета, — перебил Диккенс. Я безнадежно потряс головой. — Вы не желаете внимать моему предостережению. Возможно, если бы вы видели лицо бедного инспектора Филда наутро после его убийства… — Убийства? — переспросил Диккенс, резко выпрямляясь в кресле. Он сдернул очки и часто поморгал. — Кто сказал, что Чарльз Фредерик Филд был убит? Как вам прекрасно известно, в «Таймс» сообщалось, что он скончался во сне. И что за разговоры насчет видел — не видел Филдово лицо? Уж вы-то всяко не могли видеть, Уилки. Я помню, вы тогда тяжело болели, не вставали с постели много недель кряду и даже не знали о смерти бедного инспектора, покуда я не сказал вам спустя несколько месяцев. Я заколебался, соображая, стоит ли передать Диккенсу рассказ Реджинальда Барриса об истинной причине смерти инспектора Филда. Но тогда мне придется объяснить, кто такой Баррис, где и когда я встретился с ним, а также поведать о святилищах в Городе-над-Городом… Пока я раздумывал, Диккенс вздохнул и промолвил: — Ваша вера в Друда забавна на свой жутковатый манер, Уилки, но мне кажется, с этой историей пора кончать. Наверное, ее и затевать-то не следовало. — Вера в Друда?! — воскликнул я. — Позвольте напомнить вам, дорогой Диккенс, что именно вы своим рассказом о встрече с ним на месте Стейплхерстской катастрофы и последующими рассказами о встречах с этим монстром в Подземном городе втянули меня во всю эту историю. Теперь уже слишком поздно призывать меня отказаться от веры в Друда, словно он призрак Марли или Дух Будущих Святок. Я думал, последний «бортовой залп» рассмешит Диккенса, но он лишь тяжело вздохнул, с видом еще более подавленным и усталым против прежнего, и медленно произнес, сдобно разговаривая сам с собой: — Может, и поздно, дорогой Уилки. А может — и нет. Но если говорить о часе дня — сейчас определенно уже поздно. Я должен вернуться и насладиться одной из, возможно, последних в моей жизни трапез в обществе милых моему сердцу Джеймса и Энни… Голос его стал так тих и печален к концу фразы, что мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова сквозь шум, поднятый отъезжающими от «Фальстаф-Инн» охотниками. — Мы поговорим об этом в другой раз, — сказал Диккенс, вставая с кресла. Я заметил, что в первый момент левая нога подломилась под ним, он оперся правой рукой о стол, удерживая равновесие, и несколько мгновений стоял так, пошатываясь, с бессильно болтающимися левыми рукой и ногой, точно малое дитя, делающее первые шаги. Потом он опять улыбнулся, теперь скорбно, и похромал к двери и вниз по лестнице, направляясь обратно в особняк. — Мы поговорим об этом в другой раз, — повторил Диккенс. И мы поговорили, дорогой читатель. Но, как вы увидите, слишком поздно, чтобы предотвратить грядущие трагедии.
Глава 45
Последние осень, зиму и весну своей жизни Чарльз Диккенс продолжал писать свой роман, а я тем временем продолжал писать свой. Верный себе, Диккенс не отказался от безрассудного, самоубийственного решения использовать имя Друда в названии новой книги, хотя от Уиллса, Форстера и болвана Перси Фицджеральда (практически полностью занявшего мое место в редакции «Круглого года» и в сердце Диккенса) я слышал, что поначалу Неподражаемый рассматривал другие варианты — например, «Исчезновение Джеймса Уэйкфилда» и «Живой или мертвый?». (Он явно никогда всерьез не собирался использовать в заглавии имя Эдмонда Диккенсона — и упомянул мне о нем минувшей весной единственно из желания поддразнить меня.) Я взялся писать свой роман на несколько месяцев раньше, чем Диккенс приступил к работе над своим, и должен был начать публиковать «Мужа и жену» в журнале «Касселлз мэгэзин» в январе 1870 года. Я также продал права на журнальную публикацию моему старому нью-йоркскому партнеру «Харперз мэгэзин» и во избежание пиратства устроил так, что они напечатали первые выпуски романа двумя неделями раньше, чем «Касселлз». Первый выпуск диккенсовской «Тайны Эдвина Друда», в зеленой обложке издательского дома «Чапмен энд Холл», вышел из печати только в апреле. Из запланированных двенадцати ежемесячных выпусков свет увидели только шесть. Мой брат Чарли был нанят иллюстрировать этот злосчастный роман — он не сможет завершить работу по причине болезни, но Диккенсом, по всей видимости, руководило желание обеспечить своего зятя (а таким образом и дочь) дополнительным доходом. Я допускал также, что Диккенс дал заказ моему брату просто для того, чтобы хоть чем-нибудь занять Чарли, который праздно болтался дома или в Гэдсхилле, мучаясь желудочными резями. Дело уже дошло до того, что один только вид моего брата приводил Чарльза Диккенса в бешенство. Продолжая работать над очередными выпусками, Неподражаемый нарушал одно свое прежде незыблемое правило — никогда не писать ничего серьезного в периоды выступлений с публичными чтениями или подготовки к ним, — но серия из последних двенадцати «прощальных чтений», разрешения на которые он добился от врачей мольбами и угрозами, должна была начаться уже в январе. У меня же работа над «Мужем и женой» шла как по маслу, чему немало способствовали ежемесячные письма от Кэролайн с обстоятельными рассказами о бесконечных бесчинствах, творимых ее водопроводчиком. Ревнивец Джозеф Клоу запирал ее в угольном подвале всякий раз, когда отлучался на длительное время. Пьяница, он жестоко избивал ее, когда напивался. Хвастун, он приглашал домой своих дружков на кутежи с азартными играми и говорил о Кэролайн пошлые гадости и смеялся вместе с остальными мужланами, когда его жена краснела и пыталась укрыться в своей комнате. (Но Клоу нарочно снял дверь их крохотной спальни, чтобы она не могла там спрятаться.) Маменькин сынок, он позволял своей матери постоянно оскорблять Кэролайн и отвешивал моей бывшей любовнице пощечину, если она осмеливалась хотя бы взглянуть на свекровь без должного почтения. На все эти скорбные послания я отвечал лишь вежливыми уведомлениями о получении и расплывчатыми соболезнованиями — письма я передавал, как всегда, через Кэрри (и полагал, что Кэролайн сжигает их по прочтении, ибо Клоу наверняка прибил бы ее, если бы обнаружил, что она состоит в переписке со мной), — но все подробности жестокого обращения и общий угнетенный настрой мигом переносил в «Мужа и жену». Выведенный там соблазнитель — Джеффри Деламейн — был (и остается, на мой профессиональный взгляд) поистине восхитительным персонажем: бегун на длинные дистанции с великолепной мускулатурой и крохотным мозгом, любитель разнообразных спортивных игр, неуч с оксфордским образованием, грубый скот, мерзавец, чудовище. Уже после публикации первых выпусков «Мужа и жены» критики назовут мой роман гневным и горьким. И я подтверждаю вам, дорогой читатель: именно таким он и был. А еще — очень искренним. Я изливал в «Мужей жене» не только ярость, вскипавшую во мне при одной лишь мысли о возможности затащить человека в брак против его воли — охомутать, как в свое время пыталась сделать со мной Кэролайн и как теперь рассчитывала сделать Марта Р***, «миссис Доусон», — но также праведный гнев насчет жестокостей, чинимых по отношению к Кэролайн нечистыми кулаками низкородного негодяя, которого ей удалось-таки заманить в брак. В «Тайне Эдвина Друда» не было ни гнева, ни горечи, но правда жизни и личные откровения, привносимые Чарльзом Диккенсом в роман, производили, как я пойму лишь много позже, куда более сильное впечатление, чем все мои попытки искренности. По окончании своей последней осени Чарльз Диккенс продолжал работать в течение своей последней зимы и весны. Вот так все мы, писатели, отдаем дни, годы и десятилетия жизни в обмен на стопки страниц, сплошь покрытых каракулями да закорючками. А когда Смерть призовет к себе, сколь многие из нас отдадут все исписанные страницы, все рожденные в муках каракули да закорючки, на которые потрачена жизнь, в обмен на еще всего один день, всего один полнокровно прожитый день? И какую цену мы, писатели, с готовностью заплатим за единственный дополнительный день, проведенный в общении с теми, кого мы игнорировали в продолжение многих лет высокомерного уединения, выводя каракули да закорючки за закрытыми дверями своих кабинетов? Отдадим ли мы все эти страницы за один-единственный час? Или все наши книги — за одну минуту настоящей жизни?Я не получил приглашения в Гэдсхилл-плейс на Рождество. Мой брат поехал туда с Кейт, но он тогда находился в еще более глубокой опале у Неподражаемого, чем обычно, и они вернулись в Лондон вскоре после рождественского дня. Диккенс закончил второй выпуск «Тайны Эдвина Друда» в последних числах ноября и пытался поторопить Чарли с оформлением обложки и первыми внутренними иллюстрациями, но, нарисовав эскиз к обложке на основании полученного от Диккенса туманного описания общей канвы истории, мой брат в декабре решил, что не сможет работать с такой скоростью без ущерба для здоровья. Не скрывая раздражения — возможно даже, отвращения, — Диккенс поспешил в Лондон, посоветовался со своим издателем Фредериком Чапменом, и они постановили взять в качестве замены молодого художника, новичка в иллюстраторском деле, некоего Люка Филдса. В действительности, как бывало почти всегда, решение принял Диккенс, на сей раз руководствуясь советом художника Джона Эверетта Миллеса, который недавно гостил в Гэдсхилле и показал Неподражаемому иллюстрацию Филдса в первом номере журнала «Графика». В ходе беседы Диккенса с Филдсом в конторе Фредерика Чапмена молодой выскочка имел наглость заявить, что он «человек серьезный», а потому добьется большего успеха, иллюстрируя драматичные и трагичные сцены из романов Неподражаемого (в отличие от Чарли и многих предыдущих иллюстраторов Диккенса вроде Физа, отдававших предпочтение комичным эпизодам). Диккенс согласился — ему и вправду пришлись по вкусу и более современный стиль, и более серьезный подход Люка Филдса, — и таким образом мой брат, выполнив лишь эскиз к обложке да пару набросков к внутренним иллюстрациям, навсегда распрощался с ролью иллюстратора Чарльза Диккенса. Но Чарли, отчаянно боровшийся с непреходящими желудочными проблемами, похоже, нимало не огорчился (ну разве только из-за потери заработка, расстроившей их с женой планы). Я тоже нимало не огорчился, не получив от Диккенса приглашения в Гэдсхилл на Рождество в нарушение многолетней приятной традиции. От брата и разных знакомых я узнал, что левая нога у Диккенса распухла настолько, что почти весь рождественский день он провел в библиотеке, меняя на ноге припарки, а вечером сидел за праздничным столом, положив раздутую перебинтованную конечность на стул. После ужина он сумел — с посторонней помощью — доковылять до гостиной, где устраивались традиционные семейные игры, хотя на сей раз противно обыкновению (Диккенс обожал подобные развлечения) ограничился тем, что лежал на диване и наблюдал за ходом состязаний. На Новый год Диккенс принял приглашение провести пятницу и субботу (тридцать первое декабря в том году выпадало на пятницу) в роскошном логове Форстера, но, по словам Перси Фицджеральда, узнавшего это от Уиллса, в свою очередь узнавшего это от самого Форстера, левая нога, все еще обложенная припарками, и левая рука у Неподражаемого по-прежнему сильно болели. Тем не менее он подшучивал над своими недугами и прочитал второй выпуск «Эдвина Друда» с таким воодушевлением и юмором, что новый «серьезный» иллюстратор, Филдс, наверняка затруднился бы найти там сцену, пригодную для иллюстрирования, коли «серьезность» являлась для него единственным критерием отбора. С присущей ему точностью Диккенс рассчитал время таким образом, чтобы закончить триумфальное чтение ровно в полночь, с последним ударом часов. Так начался для Чарльза Диккенса 1870 год — с громких аплодисментов и мучительной боли, — и так он будет продолжаться до самой его смерти. Я подумывал устроить очередной новогодний прием на Глостер-плейс, девяносто, но потом вспомнил, что в прошлом году подобное мероприятие прошло не особо успешно. К тому же любимыми моими гостями были Леманы и Бердсы, чьи дети злились на меня за то, что я сказал правду о спортсменах (вдобавок в сугубо неформальной обстановке я по-прежнему чувствовал себя чуточку неловко с Фрэнком с тех самых пор, как он принял роды У Марты Р*** прошлым летом), — а потому я решил провести новогодний вечер с братом и его женой.
Вечер проходил так тихо, что было слышно тиканье двух самых громких часов в доме. Посреди ужина Чарли почувствовал себя плохо и, извинившись, удалился наверх, чтобы прилечь. Он пообещал постараться проснуться и присоединиться к нам в полночь, но при виде болезненной гримасы, искажавшей его лицо, я усомнился, что такое случится. Я тоже встал и собрался откланяться (поскольку других гостей не было), но Кейт почти приказным тоном велела мне остаться. При обычных обстоятельствах это показалось бы нормальным — в свое время я часто оставлял Кэролайн с гостями, уходя в театр или еще куда-нибудь, и не придавал этому ни малейшего значения, — но со дня бракосочетания Кэролайн, состоявшегося более года назад, в наших с Кейт отношениях появилась натянутость. К тому же Кейт выпила много вина до ужина и за ужином, а после ужина, когда мы переместились в гостиную с оглушительно тикающими каминными часами, достала бренди. Язык у нее не заплетался (Кейти умела владеть собой), но по неестественно прямой осанке и застывшему лицу я видел, что спиртное на нее подействовало. Молодая девушка Кейти Диккенс, которую я так давно знал, на глазах превращалась в старую, ожесточенную женщину, хотя еще не достигла тридцати лет. — Уилки, — внезапно сказала она, и голос ее прозвучал почти пугающе громко в полумраке маленькой зашторенной комнаты, — вы знаете, почему отец пригласил вас в Гэдсхилл в октябре? Честно говоря, вопрос несколько уязвил меня. До сих пор никогда не требовалось никакой особой причины, чтобы пригласить меня в Гэдсхилл-плейс. Понюхав бренди, чтобы скрыть неловкость, я улыбнулся и сказал: — Наверное, ваш отец хотел прочитать мне начало своего нового романа. Кейт довольно бесцеремонно махнула рукой, отметая мое предположение. — Ничего подобного, Уилки. Я случайно знаю, что отец намеревался удостоить этой чести своего дорогого друга мистера Филдса и был неприятно поражен, когда вы явились в библиотеку вместе с ним. Но он не мог заявить вам, что чтение закрытое. Вот теперь я действительно почувствовал себя уязвленным. Я попытался сделать скидку на тот факт, что Кейт сильно пьяна. По-прежнему стараясь говорить приятным, даже слегка шутливым тоном, я спросил: — В таком случае почему же он пригласил меня тогда, Кейти? — Потому что Чарльз — ваш брат, мой муж — тяжело переживал из-за отчуждения, возникшего между отцом и вами, — быстро ответила она. — Отец посчитал, что ваш приезд в Гэдсхилл на уик-энд развеет слухи об этом отчуждении и немного поднимет настроение Чарли. Увы, ни первого, ни второго не произошло. — Да нет никакого отчуждения, Кейти. — Ох, бросьте! — Она снова небрежно махнула рукой. — Вы думаете, я ничего не вижу, Уилки? Ваша дружба с отцом практически закончилась, и никто — ни в нашей семье, ни в кругу наших знакомых — не понимает толком почему. Я не знал, что сказать на это, а потому отпил маленький глоток бренди и промолчал. Минутная стрелка громко тикающих часов на каминной полке ползла к двенадцатичасовой отметке невыносимо медленно. Я чуть не вздрогнул, когда Кейти вдруг спросила: — Вы слышали толки, что я заводила любовников? — Разумеется нет! — воскликнул я. Но, разумеется, я слышал — в своем клубе и вообще повсюду. — Это все правда, — сказала Кейти. — Я пыталась заводить любовников… даже на Перси Фицджеральда поглядывала, пока он не женился на этой своей жеманной прелестнице — пухлые щечки в ямочках, пышный бюст и куриные мозги. Я поднялся на ноги и поставил бокал на стол. — Миссис Коллинз, — официальным тоном произнес я, мысленно дивясь тому, что теперь другая женщина носит имя и титул моей матери, — вероятно, оба мы немножко переусердствовали с вашим превосходным вином и бренди. Как брату Чарльза, любящему брату, мне не пристало выслушивать определенного рода речи. Она рассмеялась и опять легко махнула ладонью. — Ох, ради бога, Уилки, сядьте! Сядьте! Вот и молодец. Вы выглядите страшно глупо, когда изображаете негодование. Чарльз знает, что я заводила любовников, и знает почему. А вы знаете? Я подумал, что надо бы встать и выйти прочь без дальнейших слов, но вместо этого продолжал сидеть на месте с несчастным видом. Если вы помните, Кейт однажды уже пыталась завести со мной разговор о слухах, что мой брат так и не осуществил брачные отношения с ней. Тогда я переменил тему. Теперь я мог лишь отвести взгляд в сторону. Она похлопала меня по ладоням, сложенным на коленях. — Бедняжка. — Я поду мал, что она говорит обо мне, но это оказалось не так. — Чарли не виноват. В общем, не виноват. Чарльз — человек слабый во многих отношениях. Вот мой отец… ну, вы знаете отца. Даже сейчас, когда он умирает, — а он действительно умирает, Уилки, от какой-то болезни, природа которой непонятна никому, даже доктору Берду, — так вот, даже сейчас он остается сильным. Для себя самого. Для всех окружающих. Вот почему он не выносит вида вашего брата за своим обеденным столом. Отец всегда терпеть не мог слабости. Вот почему я оборвала вас на полуслове, когда вы пытались предложить мне выйти за вас замуж — после смерти Чарльза, разумеется, — год с лишним назад, в день бракосочетания… той вашей женщины. Я снова встал. — Мне, правда, пора идти, Кейт. А вам следует подняться наверх и заглянуть к мужу. Возможно, он нуждается в вашей помощи. Я желаю вам обоим счастья в новом году. Она тоже встала, но не последовала за мной, когда я вышел в прихожую, надел пальто, шляпу, шарф и отыскал свою трость. Их единственная служанка ушла, приготовив ужин. Я подошел к открытой двери гостиной, прикоснулся к полям шляпы и сказал: — Доброй ночи, миссис Коллинз. Благодарю вас за чудесный ужин и превосходный бренди. Кейт стояла с закрытыми глазами, опираясь длинными пальцами о ручку дивана, чтобы не пошатываться. — Вы вернетесь, Уилки Коллинз. Я вас знаю. Когда Чарли испустит дух, вы вернетесь еще прежде, чем его труп остынет. Вы прибежите, точно пес, точно отцовский волкодав Султан, и будете гоняться за мной, словно за сукой в течке. Я снова дотронулся до шляпы и, спотыкаясь, ринулся прочь из дома. Ночь стояла холодная, но ясная. Звезды сверкали до жути ярко. Снег на булыжном тротуаре громко скрипел под моими до блеска начищенными ботинками. Я решил дойти до Глостер-плейс пешком. Звон колоколов в полночь застал меня врасплох. По всему Лондону церковные и городские колокола возвещали наступление Нового года. Я услышал приглушенные расстоянием крики, исполненные пьяного ликования, а откуда-то издалека, со стороны реки, донесся звук, похожий на ружейный выстрел. Лицо у меня вдруг замерзло, несмотря на теплый шарф, и, когда я поднес к щеке руку в перчатке, я с изумлением обнаружил, что я плачу.
Первое из серии последних лондонских чтений Диккенса состоялось в Сент-Джеймс-Холле вечером одиннадцатого января. До конца месяца он собирался выступать дважды в неделю, по вторникам и пятницам, а потом — вплоть до пятнадцатого марта, когда серия концертов завершалась, — раз в неделю. Фрэнк Берд и прочие врачи решительно возражали против чтений, ясное дело, и еще сильнее возражали против частых железнодорожных поездок Диккенса в город и обратно. Чтобы успокоить их, Диккенс арендовал дом Миллера Гибсона по адресу Гайд-Парк-плейс, пять(прямо напротив Мраморной Арки) на срок с января по первое июня, хотя снова сказал всем, что сделал это для своей дочери Мейми, — чтобы она могла останавливаться там, наведываясь в город зимой и весной. Вы предположите, что теперь, когда Диккенс почти все время проводил в Лондоне, наши с ним пути пересекались так же часто, как в былые дни, но на самом деле все свободное от выступлений время он работал над своим романом, а я продолжал работать над своим. Фрэнк Берд спросил меня, не желаю ли я вместе с ним и Чарли посещать чтения Неподражаемого, но я отказался по причине занятости и скверного самочувствия. Берд присутствовал на всех концертах — на случай, если понадобится неотложная помощь, — и он признался мне, что опасается, как бы Диккенс не умер прямо на сцене. Вечером одиннадцатого января, перед первым чтением, Фрэнк сказал сыну Диккенса: «Чарли, я распорядился соорудить несколько ступенек с боку эстрады. Вы должны сидеть в первом ряду каждый вечер, и, если заметите, что ваш отец хоть слегка пошатнулся, тотчас бегите к нему, подхватывайте под руку и ведите ко мне — иначе, ей-богу, он умрет на глазах у зрителей». Но в первый вечер Диккенс не умер. Он прочитал отрывок из «Дэвида Копперфилда» и неизменно пользовавшуюся успехом сцену суда из «Пиквикского клуба», и выступление, как он сам позже выразился, «прошло поистине блестяще». Но после концерта, когда Неподражаемый бессильно рухнул на диван в своей уборной, Берд обнаружил, что пульс у него участился с нормальных семидесяти двух ударов в минуту до девяносто пяти. И этот показатель продолжал возрастать во время и после каждого следующего чтения. По просьбе актеров и актрис, желавших увидеть его выступление, но не имевших возможности прийти позже днем или вечером, Диккенс назначил два концерта на середину дня, а одно даже на утро. Именно на утреннем чтении двадцать первого января, когда в зале сидели хихикающие, щебечущие молоденькие актрисы, Неподражаемый впервые после долгого перерыва снова представил «убийство». Несколько юных «фиалочек» лишились чувств, многих пришлось выводить из зала под руки, и даже иные из актеров вскрикивали от ужаса. После концерта Диккенс был настолько изнурен, что даже не смог выказать удовольствие такой реакцией публики. Позже Берд сообщил мне, что тем утром, когда писатель еще только готовилсяк «убийству Нэнси», пульс у него поднялся до девяноста, а после выступления, когда Неподражаемый лежал пластом на диване, с трудом переводя дух («Он задыхался, точно умирающий», — дословно сказал Берд), пульс у него был сто двенадцать и даже спустя пятнадцать минут снизился лишь до ста. Через два дня, когда Диккенс в последний раз в жизни встречался с Карлейлем, левая рука у него висела на перевязи. И все же он продолжал выступать с чтениями, как планировалось. Пульс у него поднялся до ста четырнадцати, потом до ста восемнадцати, потом до ста двадцати четырех. Во время каждого антракта двое крепких мужчин, дежуривших за кулисами по приказу Берда, чуть не на руках уносили Диккенса в уборную — там он долго лежал на диване, тяжело задыхаясь, не в силах выговорить ни единого внятного слова, только разрозненные слоги да бессмысленные звуки, и проходило добрых десять минут, прежде чем человек, написавший великое множество длинных романов, умудрялся наконец произнести хотя бы одну связную фразу. Тогда Берд или Долби давали Диккенсу выпить несколько глотков сильно разведенного водой бренди, и он вставал, вставлял в петлицу свежий цветок и бросался обратно на сцену. Пульс у него учащался все сильнее с каждым следующим представлением. Вечером 1 марта 1870 года Неподражаемый в последний раз прочитал фрагмент из своего любимого «Дэвида Копперфилда». Восьмого марта он в последний раз убил Нэнси. Несколько дней спустя я случайно встретил на Пикадилли Чарльза Кента, и за ланчем Кент сказал, что, направляясь к сцене, дабы совершить последнее убийство, Диккенс прошептал ему: «Я разорву себя на куски». По словам Фрэнка Берда, он уже разорвал себя на куски. Но не останавливался. В середине марта, когда он собирал на чтениях наибольшее количество зрителей, королева вызвала Неподражаемого на аудиенцию в Букингемский дворец. Вечером накануне назначенного дня и следующим утром Диккенс не мог сделать ни шагу без посторонней помощи, но сумел-таки приковылять во дворец и предстать перед ее величеством. Придворный этикет не позволял ему сидеть в присутствии королевы (хотя в прошлом году Карлейль, удостоенный аналогичной чести, заявил, что он немощный старик, и уселся в кресло, послав этикет к черту). Диккенс простоял всю беседу. (Правда, Виктория тоже стояла, слегка опираясь о спинку дивана, в каковом преимуществе было отказано изнемогавшему от боли писателю.) Эта встреча состоялась отчасти потому, что немногим ранее Диккенс показал несколько фотографий с полей сражений американской Гражданской войны мистеру Артуру Хелпсу, секретарю тайного совета, а Хелпс упомянул о них ее величеству. Диккенс переслал фотографии Виктории. Движимый обычной своей проказливостью, Неподражаемый отправил злосчастному Хелпсу записку, где делал вид, будто полагает, что вызван во дворец для возведения в титул баронета. «С вашего позволения, к титулу баронета мы присовокупим слова "из Гэдсхилла", как у божественного Уильяма и Фальстафа, — писал он. — На этом условии прилагаю к сему свое благословение и прощение». По слухам, мистер Хелпс и прочие члены совета пребывали в страшном замешательстве в связи с возникшим недоразумением, пока кто-то не просветил их насчет присущего писателю своеобразного чувства юмора. В ходе встречи с королевой Диккенс быстро навел разговор на тему о вещем сне, который, согласно молве, президент Авраам Линкольн увидел (и о котором рассказал приближенным) в ночь перед своим убийством. Подобные предвестия смерти явно занимали мысли Неподражаемого в ту пору, и он затевал разговор о сновидении Линкольна со многими своими друзьями. Ее величество напомнила Диккенсу о том, как присутствовала на представлении «Замерзшей пучины» тринадцать лет назад. Они двое обсудили возможную участь экспедиции Франклина, потом нынешнее положение дел в области арктических исследований, а потом каким-то образом перешли к вечной проблеме со слугами. Далее длинная беседа свернула на тему государственного образования и чудовищных цен на мясо. Как и вы, дорогой читатель, живущий через много десятилетий после описываемых событий, я могу лишь мысленно представить сцену аудиенции, когда ее величество стояла возле дивана и держалась, как впоследствии Диккенс сказал Джорджине, «на удивление застенчиво… с девичьей скромностью», а Неподражаемый стоял перед ней, выпрямив спину, но с виду непринужденно, возможно заложив руки за спину, хотя у него темнело в глазах от невыносимой, пульсирующей боли в левых руке и ноге. Говорят, в конце аудиенции королева мягко промолвила: — Мы глубочайше сожалеем, что никогда не имели возможности поприсутствовать на одном из ваших чтений. — Я тоже сожалею об этом, мадам, — сказал Диккенс. — Увы, но всего два дня назад я бесповоротно покончил с ними. После столь многих лет с чтениями навсегда покончено. — И о частном чтении не может идти речи? — спросила Виктория. — Боюсь, что так, ваше величество. В любом случае я не пожелал бы читать в частном порядке. Видите ли, мадам, для успешного выступления мне необходима смешанная аудитория. Возможно, с другими авторами, читающими перед публикой, дело обстоит иначе, но в моем случае оно всегда обстояло именно так. — Мы понимаем, — сказала ее величество. — И понимаем также, что с вашей стороны было бы непоследовательно взять вдруг да переменить решение. Мы знаем, мистер Диккенс, что вы человек в высшей степени последовательный и непреклонный. Тут она улыбнулась, и Диккенс впоследствии признался Форстеру, что он нисколько не усомнился: королева вспомнила случай тринадцатилетней давности, когда он категорически отказался предстать перед ней в костюме и гриме комического персонажа из водевиля, шедшего после «Замерзшей пучины». На прощание Виктория подарила Неподражаемому экземпляр своего «Дневника нашего путешествия по горной Шотландии» с автографом и взамен попросила собрание его сочинений. — Нам хотелось бы, — сказала она, — получить книги сегодня же, коли такое возможно. Диккенс улыбнулся, легко поклонился, но ответил так: — Я прошу у вашего величества милостивого снисхождения и чуть больше времени, дабы я смог подобающим образом переплести книги для вашего величества. Позже он прислал королеве свое собрание сочинений в сафьяновом переплете с золотым тиснением.
Заключительное чтение, о котором Диккенс упомянул Виктории, состоялось пятнадцатого марта. В последний вечер Неподражаемый читал фрагменты из «Рождественской песни» и сцену суда из «Пиквикского клуба». Эти номера всегда пользовались наибольшим успехом у публики. Его внучка, крохотная Мекитти, впервые присутствовала на представлении, и Кент позже сказал мне, что малютка вся задрожала, когда дедушка — «постенный», как она его называла, — вдруг заговорил разными странными голосами. И безутешно разрыдалась, увидев, как «постенный» плачет. Я был в числе зрителей тем вечером — сидел в глубине зала, в тени, неприглашенный. Я не мог не прийти. В последний раз на этой земле, осознал я, английская публика слышит, как Чарльз Диккенс наделяет голосом Сэма Уэллера, Эбенезера Скруджа, Боба Катчита и Малютку Тима. Зал был переполнен. Огромные толпы собрались у двух театральных подъездов на Риджент-стрит и Пикадилли еще за несколько часов до начала чтений. Впоследствии сын Диккенса Чарли сказал моему брату: «Мне казалось, я никогда прежде не слышал, чтобы он читал так хорошо и без малейшего усилия». Но я был там и видел, каких усилий стоило Диккенсу сохранять самообладание. Завершив чтение сцены суда из «Записок Пиквикского клуба», он, по обыкновению, тотчас ушел за кулисы. Огромная аудитория впала в исступление. Стоячая овация граничила с настоящей истерикой. Диккенс несколько раз выходил на эстраду и снова удалялся, но его вызывали опять и опять. Наконец он успокоил толпу и произнес короткую, явно заранее заготовленную речь, с трудом преодолевая волнение, — слезы катились градом по щекам Неподражаемого в свете газовых ламп, и его маленькая внучка плакала навзрыд в семейной ложе. — Дамы и господа, было бы не просто тщетно, было бы лицемерно и бессердечно скрывать от вас, что я завершаю этот эпизод своей жизни с глубокой душевной болью. Он коротко упомянул о пятнадцати годах своих выступлений перед широкой публикой — мол, он видел в подобных концертах свой долг перед своими читателями и слушателями — и с благодарностью отозвался о любви и понимании, которыми она платила ему. Словно желая хотя бы отчасти компенсировать свой уход со сцены, Диккенс сообщил, что вскоре выйдет в свет «Тайна Эдвина Друда» (публика, оцепеневшая в безмолвном экстазе, не смогла даже зарукоплескать при сем радостном известии). — Из-под этих ярких лучей, — сказал он, подступая ближе к газовым лампам и публике, замершей в благоговейном молчании (если не считать тихих всхлипываний), — я удаляюсь навсегда, сердечно, благодарно, почтительно и нежно прощаясь с вами. Он уковылял за кулисы, но нестихающий гром аплодисментов заставил его вернуться на сцену еще один, последний раз. С мокрыми от слез щеками Чарльз Диккенс послал в зал воздушный поцелуй, помахал рукой и, тяжело хромая, ушел со сцены, чтобы больше уже не вернуться. Возвращаясь пешком на Глостер-плейс под мелким мартовским дождем, с очередным, еще не распечатанным письмом от Кэролайн Клоу в кармане (несомненно, содержавшим обстоятельный рассказ о новых бесчинствах водопроводчика), я часто прикладывался к серебряной фляжке. Поклонники Неподражаемого — восторженно ревущая толпа, которую я видел и слышал сегодня, — непременно настоят на том, чтобы их чертов любимец, когда бы он ни собрался наконец преставиться, был погребен в Вестминстерском аббатстве рядом с великими поэтами. Теперь я нисколько в этом не сомневался. Они похоронят Диккенса там, даже если им придется нести его труп на своих плечах, одетых в грубую шерстяную ткань, и самим рыть могилу. Я решил завтра — в среду — взять выходной, чтобы съездить в Рочестер, наведаться в собор, разыскать мистера Дредлса и сделать последние приготовления к смерти и погребению Чарльза Диккенса.
Глава 46
— Вот этот камень, — прошептал Дредлс, похлопывая ладонью по камню в стене, выглядевшему во мраке в точности как все прочие. — А вот инструмент, чтоб с ним управиться. — В тусклом свете фонаря я увидел, как он засовывает руку глубоко под свои грязные фланелевые, молескиновые, парусиновые одежки и извлекает оттуда ломик длиной с мое предплечье. — А вот тут, наверху, я вырубил махонькую выемку, мистер Билли Уилки Коллинз, сэр. Все проще простого — как отмыкаешь ключом дверь в собственном дому. В полутьме я не разглядел выемки на верхней кромке камня, прямо под известковых швом, но плоский конец ломика живо ее нашел. Дредлс крякнул, обдав меня спиртными парами, и навалился всем весом на ломик. Камень завизжал. Я написал «завизжал», дорогой читатель, а не «заскрипел» или «заскрежетал», поскольку каменный блок выдвинулся на несколько дюймов из древней стены со звуком, в точности похожим на женский визг. Я помог Дредлсу вытащить из кладки на удивление тяжелый камень и положить на темную сырую ступень изогнутой лестницы. Фонарь высветил прямоугольное отверстие, на вид слишком маленькое для моих целей. Когда Дредлс бросил железный ломик на пол у меня за спиной, признаться, я подскочил на несколько дюймов. — Ну же, нагнитесь, загляните туда, познакомьтесь с мертвыми стариканами, — захихикал каменотес. Он в очередной раз отхлебнул из своей неизменной бутылки, а я поднес фонарь к отверстию и попытался заглянуть внутрь. Мне по-прежнему казалось, что здесь слишком мало места для моих целей. Менее фута отделяло наружную стену от первой, внутренней стены старинного склепа, и, хотя дно этой щели находилось на пару футов ниже уровня пола, где мы сидели на корточках, межстенная полость, уходившая в обе стороны от проделанной нами дыры, была наполовину заполнена битым камнем, пыльными бутылками и прочим мусором. Я услышал хриплый смешок Дредлса. Должно быть, он увидел мое ошеломленное выражение лица в слабом свете фонаря. — Вы думаете, узковато будет для ваших нужд, так, мистер Билли Уилки Коллинз? Но вовсе нет. В самый раз. А ну-ка, подвиньтесь. Я продолжал светить фонарем на отверстие в стене, а Дредлс подобрался на корточках ближе, похлопал себя по раздутым карманам, и внезапно в правой руке у него оказалась длинная берцовая кость какого-то животного. — Чья это? — прошептал я. — Да одной из ваших испытательных собак с известковой ямы, ясное дело. Той, что покрупнее. Ведь это ж я выгребаю там всякий мусор, верно? А теперь смотрите и слушайте. Дредлс засунул собачью или бог знает чью кость в маленькую дыру и сильным щелчком пальцев отправил ее вбок. Я услышал, как она с сухим стуком упала на битый камень в нескольких футах в стороне от отверстия и ниже уровня пола. — Тут хватит места для скелетов хоть цельной своры псов, — излишне громко сказал каменотес. — Но мы-то с вами собираемся подселить к старым мертвякам с ихними крючковатыми посохами не собак вовсе, а? Я промолчал. Дредлс снова похлопал по карманам грязной, пропыленной куртки, и в руках у него вдруг оказался человеческий череп без нижней челюсти. — Кто это… был? — прошептал я. В этом тесном, но гулком пространстве создавалось крайне неприятное впечатление, будто голос мой дрожит. — А, ну да, имена важны для мертвяков, хотя не столько для них, сколько для нас, живых, так ведь? — рассмеялся Дредлс. — Давайте назовем его Йориком. Верно, старик опять увидел выражение моего лица в тусклом свете фонаря, ибо он расхохотался в голос — эхо пьяного лающего смеха отразилось от сводов часовни уровнем выше, от стен изогнутой, ведущей вниз лестницы, где мы находились, от пола неведомых помещений, тоннелей и пещер далеко внизу, погруженных в кромешный мрак. — Пущай мистер Билли Уилки Коллинз не думает, что простые каменотесы не знают и не могут цитировать Великого Барда, — прошептал старик. — Ну, давайте проводим бедного Йорика в последний путь. — С этими словами он осторожно просунул череп в узкое отверстие и резким движением кисти отправил его влево. Череп упал на камни, бутылки и мусор внизу с поистине незабываемым звуком. — С черепушками приходится труднее всего, — радостно сообщил Дредлс. — Хребтину, даже ежели там все позвонки целы, можно скрутить в кольцо, точно одеревенелую змеюку, и не беда, коли пара-другая костяшек отвалится. Но куда пролезет череп, туда и цельный человек пройдет. Или десять цельных человеков. Или сотня. Вы удовлетворены, мистер Билли Уилки? — Да. — Тогда будьте добры, пособите мне поставить этот камень на место. Когда вы управитесь со своим делом здесь, дадите знать старому Дредлсу, и я замажу щели раствором так ловко, что никому и в голову не придет, будто эту стену трогали хоть раз со дня Всемирного потопа. Снаружи, на холодном мартовском ветру, я вручил старому каменщику триста фунтов разными купюрами. Пока я отсчитывал деньги, длинный, сухой, розово-серый язык Дредлса чуть не ежесекундно выстреливал изо рта, точно у галапагосской ящерицы, и стремительно облизывал губы, дотягиваясь даже до пыльных щетинистых щек. — И я буду платить вам по сто фунтов каждый год, — прошептал я. — До конца ваших дней. Он с подозрительным прищуром взглянул на меня. Голос его, когда он заговорил, прозвучал слишком, слишком громко. — Надеюсь, мистер Билли Уилки Коллинз не думает, что молчание старого Дредлса надобно покупать? Дредлс умеет молчать не хуже господина хорошего, что стоит рядом с ним. Или плохого, коли на то пошло. Ежели человек, сотворивший такое дело, какое вы замышляете, думает платить за молчание, он может додуматься пойти на еще одно непотребство, чтобы оконча тельно гарантировать молчание. Это будет ошибкой, мистер Билли Уилки. Точно вам говорю. Я все рассказал своему подмастерью про ваши тутошние дела и взял с него клятву хранить молчание под страхом смерти от руки разгневанного Дредлса, но он знает, сэр, он знает. И он всем расскажет, ежели с его господином и повелителем, старым здоровяком Дредлсом, случится какая беда. Я подумал о подмастерье — глухонемой идиот, насколько я помнил. Но сказал: — Чепуха. Считайте это ежегодным пособием. Ежегодной платой за ваши услуги и вклад в наше общее… — Дредлс знает, что такое ежегодное пособие так же хорошо, как знает, что старый Йорик, оставленный нами внизу, был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки Горацио. В общем, дайте Дредлсу знать, когда вам понадобится на веки вечные посадить на раствор тот замечательный старый камень. С этими словами он развернулся на стоптанных каблуках и двинулся восвояси, на ходу дотронувшись пальцами до воображаемых полей воображаемой шляпы.Ежемесячные продажи «Мужа и жены» были не столь впечатляющими, как продажи «Лунного камня». На сей раз длинные очереди не выстраивались каждый месяц за новыми выпусками романа. Критики встретили книгу прохладно, даже враждебно. Английских читателей, как я и ожидал, привело в негодование точное и подробное описание бесчинств и самоистязаний мускулистого христианина-спортсмена. Согласно сообщению Харперов из Нью-Йорка, американских читателей мало заинтересовала и еще меньше возмутила несправедливость английских матримониальных законов, которые разрешали — и даже поощряли — уловление в сети нежелательного брака. Меня все это нисколько не волновало. Если вы в своем будущем не читали «Мужа и жену», дорогой читатель (хотя я искренне надеюсь, что мой роман все еще издается век с лишним спустя), позвольте мне дать вам представление о нем. В нижеприведенной сцене из главы пятьдесят четыре (страница двести двадцать шесть в первом издании) у моей несчастной, попавшей в матримониальную западню героини Эстер Детридж происходит жуткая (по крайней мере — в моем разумении) встреча.
Существо крадучись двинулось мне навстречу, темное и расплывчатое в ярком солнечном свете. Поначалу я видела лишь смутную женскую фигуру. Через несколько мгновений она начала обретать отчетливость очертаний, светлеть изнутри кнаружи. Она становилась все светлее, светлее, светлее, и наконец я увидела перед собой САМУ СЕБЯ, словно в зеркале, — точную свою копию, смотревшую на меня моими глазами… она сказала мне собственным моим голосом: «Убей его».
«Касселлз мэгэзин» выплатил мне пятьсот фунтов авансом и потом еще семьсот пятьдесят. Я договорился с издательским домом Ф. С. Эллиса об издании «Мужа и жены» в трех томах, первый из которых выйдет в свет двадцать седьмого января. Несмотря на скромные продажи в Америке, Харперам настолько понравились начальные выпуски романа, что они прислали мне совершенно неожиданный чек на пятьсот фунтов. Вдобавок я писал «Мужа и жену» с твердым расчетом на последующую переработку для театра (этот и следующие мои романы по форме приближены к пьесе) и рассчитывал получить дополнительный доход от очень скорого его переноса на лондонскую и американскую сцены. Сравните мою производительность с литературным бездействием Чарльза Диккенса, ничего не написавшего в течение последнего года с лишним. Тем сильнейшую досаду испытал я однажды в мае, когда заглянул в контору «Круглого года» на Веллингтон-стрит, чтобы обсудить (в требовательном тоне) возвращение моих авторских прав с Уиллсом или Чарли Диккенсом, и, по старой привычке прохаживаясь там из кабинета в кабинет, случайно наткнулся на распечатанное письмо с финансовым докладом от Форстера и Долби. В нем подытоживались доходы Диккенса от публичных чтений, и при виде указанных там цифр скарабей лихорадочно завозился за моим правым глазом, от чего мучительная боль кольцом сдавила голову. Сквозь туман нестерпимой боли я прочитал нижеприведенный отчет, написанный убористым почерком Долби:
Девяносто три тысячи фунтов. Весь прошлый и нынешний год я едва сводил концы с концами — из-за вложения личных средств в постановку «Черно-белого», из-за чрезмерных денежных ссуд Фехтеру, из-за постоянных расходов на содержание громадного дома на Глостер-плейс (и сопутствующих выплат жалованья двум слугам и поварихе), из-за щедрых вспомоществований Марте Р*** и особенно из-за постоянной необходимости покупать огромные количества опиума и морфия для лекарственных нужд. Годом раньше в письме к Фредерику Леману (когда этот верный друг предложил мне денег взаймы) я написал: «Я отплачу Искусству. Будь оно проклято!»
Погода тогда стояла плохая, а потому я поехал домой с Веллингтон-стрит в кебе и на Стрэнде увидел бредущую под дождем дочь Диккенса Мери (в семье и в кругу близких друзей семьи все звали ее Мейми). Я тотчас велел вознице остановиться, подбежал к ней и узнал, что она идет по улице одна, без зонтика, поскольку не сумела поймать кеб. Я помог ей сесть в мой экипаж, постучал в потолок тростью и крикнул вознице: «Гайд-Парк-плейс, дом пять, прямо напротив Мраморной Арки». Вода текла с нее ручьями, и я дал ей два чистых носовых платка, чтобы она вытерла хотя бы лицо и руки, а потом увидел ее покрасневшие глаза и понял, что она плакала. Пока кеб медленно полз в северном направлении по запруженным улицам, а Мейми вытиралась платком, у нас завязался разговор. В тот день дождь стучал по крыше кеба особо настойчиво. — Вы очень добры, — начала расстроенная молодая женщина (хотя в своем преклонном возрасте тридцати двух лет она едва ли могла сойти за молодую женщину). — Вы всегда были очень добры к нашей семье, Уилки. — И всегда буду, — промямлил я. — Ибо за многие годы знакомства я видел много добра от вашей семьи. Кучер над нами, мокнущий под ливнем, орал и щелкал кнутом, замахиваясь не на свою бедную лошадь, а на возницу какого-то фургона, переехавшего нам дорогу. Казалось, Мейми не слышала меня. Вернув мне влажные теперь платки, она вздохнула и сказала: — Знаете, я на днях была на королевском балу и развлеклась на славу. Там было так весело! Отец собирался сопровождать меня, но в последний момент не смог пойти… — Надеюсь, не по причине здоровья? — промолвил я. — Увы, именно так. Он говорит, что левая нога у него — я передаю дословно, так что уж извините — болит до чертиков. Он с трудом доковыливает до рабочего стола каждый день. — Мне прискорбно это слышать, Мейми. — Да, да, мы все опечалены. За день до королевского бала к отцу приходила посетительница — совсем юная девица с литературными устремлениями, которой лорд Литтон порекомендовал поговорить с отцом, — и, когда отец рассказывал ей, какое удовольствие он получает от работы над «Друдом», у этой выскочки хватило наглости спросить: «А вдруг вы умрете, не успев дописать книгу?» — Возмутительно, — пробормотал я. — Да, да. А отец… вы же знаете, как иногда во время разговора он улыбается, но взгляд его при этом внезапно устремляется куда-то вдаль… так вот, он сказал: «Ну да, такое со мной бывает». Девица сконфузилась… — И правильно сделала, — вставил я. — Да, да… Но когда отец увидел, что смутил ее, он очень мягко, самым добрым своим голосом промолвил: «Остается только работать — работать, пока есть время и силы». — Совершенно верно, — сказал я. — Все мы, писатели, держимся такого же мнения на сей счет. Мейми принялась возиться со своей шляпкой, заправлять мокрые развившиеся локоны за уши, и мне выпала минутка поразмыслить о довольно печальном будущем обеих дочерей Диккенса. Младшая, Кейти, состояла в браке с тяжелобольным молодым человеком и в настоящее время была изгоем светского общества как из-за разрыва отца с матерью, так и из-за собственного своего поведения и бесконечных флиртов. У нее всегда был слишком острый язык для слуха светского общества и большинства мужчин, представляющих собой приемлемую партию. Мейми была не так умна, как Кейти, но ее отчаянные попытки занять положение в свете всегда происходили на периферии высшего общества и обычно сопровождались вихрем злобных сплетен, вызванных политическими взглядами отца, поведением сестры и ее собственным стародевичеством. Последним серьезным кандидатом в мужья Мейми являлся Перси Фицджеральд, но, как заметила Кейти в канун Нового года, Перси остановил выбор на «жеманной прелестнице» и отказался от последнего шанса породниться с семейством Диккенса. — Мы будем страшно рады вернуться в Гэдсхилл-плейс, — внезапно сказала Мейми, закончив оправлять обвисшие мокрые юбки и приводить в подобие порядка кружева на корсаже. — О, вы так скоро покидаете дом Милнера Гибсона? Мне казалось, Чарльз арендовал его на более долгий срок. — Только до первого июня. Отцу не терпится вернуться в Гэдсхилл на лето. Он хочет, чтобы дом гостеприимно распахнул двери и мы все съехались и устроились там уже ко второму или третьему июня. До конца лета у него будет мало поводов наведываться в Лондон. Отец очень тяжело переносит железнодорожные поездки, Уилки. К тому же Эллен проще навещать его там, чем в городе. Я растерянно моргнул, потом снял очки и протер стекла одним из влажных носовых платков, чтобы скрыть свою реакцию. — Так мисс Тернан по-прежнему бывает в Гэдсхилле? — небрежно спросил я. — О да. Последние несколько лет Эллен нередко у нас гостила — ваш брат или Кейти наверняка говорили вам, Уилки! Если подумать, странно, что вы ни разу не приезжали в Гэдсхилл, когда Эллен находилась там. Но с другой стороны — вы же страшно занятой человек! — Да, конечно, — промолвил я. Значит, Эллен Тернан по-прежнему частый гость в Гэдсхилле. Неожиданная новость. Я был уверен, что Диккенс взял с дочерей клятву молчать на сей счет (дабы не давать обществу еще одного повода избегать всех их), но рассеянная Мейми забыла об этом. Или полагала, что я все еще остаюсь близким другом отца, посвященным во все его дела. В тот момент я осознал, что никто из нас — никто из родственников, друзей и даже будущих биографов Диккенса из какой-нибудь грядущей эпохи вроде вашей, дорогой читатель, — никогда не узнает подлинной истории его странных отношений с актрисой Эллен Тернан. Действительно ли они похоронили своего ребенка во Франции, как я предположил на основании подслушанного разговора, состоявшегося между ними у Пекхэмской станции? Действительно ли они жили теперь как брат и сестра, навсегда оставив страсть в прошлом (коли таковая вообще имела место)? Или эта страсть приобрела новую форму, предполагающую публичность и гласность, — возможно, скандальный развод и второй брак стареющего писателя. Найдет ли когда-нибудь Чарльз Диккенс счастье с женщиной, которая, похоже, всегда держала на расстоянии своего пылкого, наивного, романтически настроенного поклонника? Писатель во мне с интересом задавался подобными вопросами. Остальная часть меня плевать на них хотела. Старый друг во мне смутно желал, чтобы Диккенс обрел счастье при жизни. Остальная часть меня понимала, что жизни Диккенса пора положить предел, что он должен исчезнуть — бесследно сгинуть, испариться, пропасть, не оставив после себя трупа, — чтобы раболепная толпа не могла похоронить его на кладбище Вестминстерского аббатства. Это было крайне важно. Мейми продолжала болтать какой-то вздор — что-то о господине, с которым она танцевала и флиртовала на королевском балу, — но внезапно экипаж остановился, я выглянул в исчерченное дождем окошко и увидел Мраморную Арку. — Я провожу вас до двери, — сказал я, выходя из кеба и подавая руку глупой старой деве. — О Уилки! — воскликнула она, опираясь на мою руку. — Вы воистину добрейший человек на свете!
Через несколько дней после вышеописанной случайной встречи, когда я один шел домой из театра «Адельфи», кто-то окликнул меня свистящим шепотом из темного переулка. Я остановился, повернулся и поднял трость с медным набалдашником, как сделал бы любой джентльмен при столкновении с подозрительным типом поздним вечером. — Мис-с-стер Коллинз, — прошипела черная фигура в узком проеме между домами. «Друд», — подумал я. Сердце у меня бешено заколотилось, кровь зашумела в ушах. Я застыл на месте, не в силах пуститься в бегство. Стиснул трость обеими руками. Неясная фигура подступила на два шага ближе к выходу из переулка, но на свет не вышла. — Мис-с-стер Коллинз… это я, Реджинальд Баррис-с-с. — Он поманил меня рукой. Я не собирался заходить в эту вонючую черную расселину, но разглядел лицо фигуры в рассеянном, слабом свете фонаря, стоявшего поодаль. Все та же нечистая кожа, все та же всклокоченная борода, все те же глаза под набрякшими веками и затравленно бегающий по сторонам взгляд. Я лишь мельком увидел тускло блеснувшие в полумраке зубы, но мне показалось, они сгнили и разрушились. Некогда привлекательный, самоуверенный, крепко сбитый сыщик Реджинальд Баррис превратился в призрачную жутковатую фигуру, шипящую мне из темного переулка. — Я думал, вас уже нет в живых, — прошептал я. — Мне недолго осталос-сь жить, — тихо проговорил Баррис. — Они охотятся за мной повс-сюду. Не дают мне времени ни пос-спать, ни поес-сть. Мне приходится пос-стоянно менять местонахождение. — Какие у вас новости? — осведомился я, по-прежнему держа наготове тяжелую трость. — Друд и его прис-спешники назначили дату, когда заберут вашего друга Диккенс-са, — прошипел он. Я сообразил, что он присвистывает по-друдовски из-за отсутствующих зубов. — Когда? — Девятого июня. Через три недели без малого. «Пятая годовщина», — подумал я. Это было логично. — Что значит «заберут»? — спросил я. — Они убьют его? Похитят? Заберут в Подземный город? Грязный оборванец пожал плечами. Он натянул потрепанную шляпу пониже, и на его лицо снова легла тень. — Что мне делать? — Вы можете предупредить его, — прохрипел Баррис. — Но он не найдет мес-ста, где спрятаться, — не с-скроется от них ни в одной с-стране. Сердце у меня по-прежнему билось часто. — Я могу чем-нибудь помочь вам? — Нет, — сказал Баррис. — С-со мной все кончено. Прежде чем я успел задать следующий вопрос, он попятился и, казалось, провалился под грязное булыжное покрытие. Верно, там была подвальная лестница, которой я не видел, но у меня создалось впечатление, будто неясная фигура просто вертикально ушла под землю в темном переулке. Девятое июня. Но как мне успеть самому расправиться с Диккенсом до этой даты? Скоро он вернется в Гэдсхилл-плейс, и мы оба усердно трудимся каждый над своим романом. Удастся ли мне оторвать его от работы и заманить в Рочестер, чтобы осуществить задуманное? Причем до девятого июня, до дня годовщины Стейплхерстской катастрофы, когда Диккенс неизменно встречался с Друдом? Я написал официальное и довольно холодное письмо Уиллсу с требованием вернуть мне авторские права на все мои повести и романы, когда-либо публиковавшиеся в «Круглом годе», и Диккенс самолично ответил мне на него в последнюю неделю мая 1870 года. Даже деловая часть этого послания была на удивление дружелюбной — Неподражаемый заверял меня, что необходимые бумаги уже составляются и что, хотя подобное возвращение авторских прав в нашем контракте не оговаривалось, все права будут возвращены мне незамедлительно. Но в нескольких коротких заключительных фразах сквозила печаль, даже тоска:
Дорогой Уилки, я не наведываюсь к вам, поскольку не хочу вас беспокоить. Может статься, вы не против повидаться со мной не сегодня-завтра. Как знать?Это было то, что надо. Я тотчас же написал Диккенсу сердечное письмо, где спрашивал, можем ли мы встретиться «в ближайшее удобное для вас время, но желательно до памятной даты, которую вы ежегодно отмечаете в начале лета». Если Неподражаемый не сжег письмо, по обыкновению, данная фраза наверняка покажется загадочной любому, кому оно попадется в руки впоследствии. Когда первого июня от Диккенса пришел теплый утвердительный ответ, я завершил последние приготовления и перешел к Акту Третьему, заключительному.
Глава 47
Где я? Гэдсхилл, но неГэдсхилл-плейс, а просто Гэдсхилл, то самое место, где Фальстаф пытался ограбить карету, но подвергся нападению «тридцати разбойников» (на самом деле — принца Генри с другом) и сам едва не стал жертвой ограбления, прежде чем удрал в панике. Моя черная карета стоит сбоку от «Фальстаф-Инн». Наемный экипаж похож на катафалк, что представляется весьма уместным. Он почти невидим в тени высоких деревьев сейчас, когда начинают сгущаться сумерки. Кучер на козлах — не кучер вовсе, а матрос, нанятый мной на одну ночь за плату, равную полугодовому заработку настоящего кучера. Кучер из него никудышный, но зато он иностранец. Он не говорит по-английски (я объясняюсь с ним на скудном немецком, который изучал еще в школе, и на языке жестов) и ничего не знает об Англии и знаменитых англичанах. Через десять дней он снова уйдет в плавание и, возможно, никогда больше не вернется на английские берега. Он не испытывает ни малейшего любопытства к происходящему. Кучер он препаршивый — лошади чувствуют отсутствие сноровки и не выказывают никакого уважения к нему, — но он идеальный кучер на сегодня. Когда происходит дело? Теплым вечером восьмого июня, спустя двадцать минут после захода солнца. Ласточки и летучие мыши чертят стремительные зигзаги в воздухе, то исчезая в тени, то вновь появляясь; крылья летучих мышей и раздвоенные хвосты ласточек похожи на распластанную букву V на фоне акварельно-бледного сумеречного неба. Я вижу Диккенса, он скорым шагом переходит дорогу — вернее, пытается идти скорым шагом, но слегка прихрамывает. Он в темном костюме, надетом, полагаю, специально для нашей вылазки, и мягкой шляпе с широкими опущенными полями. Я открываю дверцу, и он запрыгивает в карету и усаживается рядом со мной. — Я никому не сказал, куда ушел, — отдуваясь, говорит он. — Как вы и просили, друг мой. — Благодарю вас. Такая секретность необходима лишь на сей раз. — Все это очень таинственно, — говорит он, когда я стучу в потолок экипажа тяжелой тростью. — Так надо, — отвечаю я. — Сегодня, дорогой Чарльз, мы оба найдем разгадку каждый своей великой тайны, но ваша тайна более велика, чем моя. Он никак не откликается на мои слова и лишь раз высказывается по поводу возницы, когда карета, раскачиваясь, трясясь и подпрыгивая, с грохотом катится по большаку на восток. Кучер-матрос гонит лошадей слишком быстро, и экипаж, подскакивающий на выбоинах и вихляющий из стороны в сторону при объездах незначительных препятствий, грозит опрокинуться в придорожную канаву с водой. — Похоже, ваш кучер страшно спешит, — произносит Диккенс. — Он иностранец, — поясняю я. Немного погодя Диккенс перегибается через меня, выглядывает в левое окошко и видит башню Рочестерского собора, черный шпиль на фоне меркнущего неба. — Ага, — произносит он, но скорее утвердительно, нежели удивленно. Карета со скрипом и скрежетом останавливается у кладбищенских ворот, мы выходим из нее — я держу в руке маленький незажженный фонарь, и оба мы двигаемся несколько скованно после нещадной тряски в дороге, — а кучер взмахивает кнутом, и черная карета с грохотом укатывает в сгущающиеся сумерки. — Вы не хотите, чтобы возница подождал нас? — спрашивает Диккенс. — Он вернется за мной в условленное время, — говорю я. Если Диккенс и замечает, что я сказал «за мной», а не «за нами», он не выражает никакого недоумения по сему поводу. Мы заходим на кладбище. Собор, кладбище и эта старая часть города пустынны и безмолвны. Сейчас пора отлива, и мы слышим зловоние гниющей на отмелях тины, но откуда-то с моря доносятся свежий соленый запах и тихий рокот ленивых волн. — Что дальше, Уилки? — спрашивает Диккенс. Я достаю из кармана сюртука револьвер — после нескольких секунд неловкой возни, ибо он зацепился курком и мушкой за подкладку, — и направляю на него. — Ага, — снова произносит он и снова без малейшего удивления. Сквозь шум крови в ушах я слышу в голосе Диккенса просто печаль, даже облегчение. Несколько мгновений мы стоим так, странная и нелепая сцена. Ветер с моря шелестит в ветвях сосны, что растет у кладбищенской стены, скрывающей нас от взоров с улицы. Полы длинного летнего сюртука Диккенса развеваются на ветру, точно черный стяг. Он поднимает руку, чтобы придержать мягкую шляпу. — Значит, известковая яма? — спрашивает он. — Да. Мне удается выговорить слово лишь после двух неудачных попыток. Во рту у меня пересохло. Мне безумно хочется приложиться к фляжке с лауданумом, но я боюсь даже на миг отвести взгляд от Диккенса. Я коротко взмахиваю пистолетом, и Диккенс направляется к окутанной сумерками границе кладбища, где находится известковая яма. Я следую за ним на расстоянии нескольких футов, стараясь сохранять безопасную дистанцию на случай, если вдруг Неподражаемый набросится на меня с намерением отнять оружие. Внезапно он останавливается, я тоже останавливаюсь и отступаю на пару шагов, вскидывая и наставляя на него револьвер. — Дорогой Уилки, могу я обратиться к вам с одной просьбой? — Он говорит так тихо, что я с трудом разбираю слова сквозь шум ветра в немногочисленных деревьях и густой болотной траве. — Сейчас не время для просьб, Чарльз. — Возможно. В слабом лунном свете я вижу, что он улыбается. Мне не нравится, что он повернулся ко мне и смотрит на меня. Я надеялся, что он останется ко мне спиной, покуда мы не достигнем ямы и не покончим с делом. — Но у меня все же есть просьба, — тихо продолжает он. К своему крайнему раздражению, я не слышу страха в его голосе, звучащем гораздо тверже, чем мой. — Одна-единственная. — Какая именно? — Возможно, вам покажется странным, Уилки, но последние несколько лет я остро предчувствовал, что умру в годовщину Стейплхерстской катастрофы. Вы позволите мне достать хронометр из жилетного кармана и посмотреть, который час? «Зачем?» — тупо думаю я. Перед отъездом из дома я выпил почти две обычные свои дозы лауданума и сделал два укола морфия, и теперь действие препаратов сказывается, не столько укрепляя мою решимость, сколько вызывая головокружение и замутняя сознание. — Хорошо, посмотрите, только быстро, — с усилием произношу я. Диккенс спокойно достает хронометр, вглядывается в него в лунном свете и раздражающе медленно заводит, прежде чем положить обратно в карман. — Начало одиннадцатого, — говорит он. — В июне темнеет как раз в это время, и мы выехали поздно. До полуночи ждать недолго. Я не могу объяснить, почему… ведь ваша цель — чтобы никто не узнал, как и где я умер и погребен… но для меня важно, чтобы мое предчувствие сбылось и я покинул этот мир не восьмого, а девятого июня. — Вы надеетесь, что кто-нибудь здесь появится или вам вдруг представится возможность сбежать, — говорю я своим новым, дрожащим голосом. Диккенс пожимает плечами. — Если кто-нибудь зайдет на кладбище, вы сможете застрелить меня и через заросли травы добраться до вашей кареты, ждущей неподалеку. — Тогда ваше тело найдут, — невыразительным голосом говорю я. — И похоронят вас в Вестминстерском аббатстве. Тут Диккенс смеется. Громким, заливистым, беззаботным смехом, столь хорошо мне знакомым. — Неужели все дело в этом, Уилки? В Вестминстерском аббатстве? Рассею ли я ваши опасения, если скажу, что уже изъявил в завещании волю, чтобы меня похоронили скромно, без шумихи? Никаких церемоний в Вестминстерском аббатстве или любом другом месте. Я выразил свое желание в самых недвусмысленных выражениях: не больше трех карет в похоронной процессии и не больше провожающих, чем поместится в этих трех каретах. Кажется, мое тяжело стучащее сердце — а теперь еще и пульсирующая головная боль — пытается попасть в такт далекому рокоту прибоя на песчаной отмели где-то к востоку, но неравномерные порывы ветра отказываются подчиняться ритму. — Никакой похоронной процессии не будет, — говорю я. — Ясное дело, — соглашается Диккенс и приводит меня вярость едва заметной усмешкой. — Тем больше оснований оказать мне последнюю маленькую любезность, прежде чем мы расстанемся навеки. — Чего ради? — спрашиваю после долгой паузы. — Вы сказали, что каждый из нас сегодня разгадает тайну. Видимо, мне предстоит раскрыть тайну, что же ждет человека после смерти, если там вообще есть что-нибудь. А что насчет вас, Уилки? Какую тайну желаете разгадать этим погожим вечером вы? Я молчу. — Позвольте мне высказать предположение, — говорит Диккенс. — Вы хотели бы узнать, чем должна была закончиться «Тайна Эдвина Друда». И возможно даже, узнать, каким образом мой Друд связан с вашим Друдом. — Да. Он снова смотрит на часы. — До полуночи осталось всего полтора часа. Я прихватил с собой фляжку бренди — по вашему совету, хотя Фрэнк Берд пришел бы в ужас, когда бы узнал об этом, — а вы наверняка взяли что-нибудь бодрящее для себя. Почему бы нам не найти где-нибудь здесь удобное местечко и не побеседовать в последний раз, прежде чем колокола соборной башни возвестят о моем смертном часе? — Вы надеетесь, что я передумаю, — говорю я со злобной улыбкой. — На самом деле, дорогой Уилки, я ни секунды не сомневаюсь, что такого не случится. И я не уверен, что мне хочется, чтобы вы передумали. Я очень… устал. Но я не прочь напоследок поговорить с вами и выпить бренди. С этими словами Диккенс круто поворачивается и начинает высматривать среди надгробных камней место, куда присесть. Мне остается либо уступить его желанию, либо пристрелить его прямо здесь и отволочь труп к известковой яме, на расстояние многих ярдов. Я надеялся избежать подобного непотребства, оскорбительного для нас обоих. И, честно говоря, я ничего не имел бы против того, чтобы спокойно посидеть несколько минут, покуда у меня не пройдет головокружение.Он выбирает в качестве стульев два плоских надгробных камня, расположенных по сторонам от могильной плиты подлиннее, способной сойти за низкий стол, — напоминание о происходившей на этом самом кладбище трапезе, когда Диккенс изображал официанта перед Эллен Тернан, ее матерью и мной. Получив разрешение, Диккенс достает из кармана сюртука фляжку с бренди и ставит ее на плиту-стол перед собой, а я делаю то же самое со своей серебряной фляжкой. Я запоздало соображаю, что мне следовало похлопать Неподражаемого по карманам, когда я в первый раз направил на него пистолет. Я знаю, что в Гэдсхилл-плейс он держит свой собственный пистолет, а также дробовик, из которого убил Султана. Тот факт, что Диккенс нисколько не удивился, узнав о цели нашей «таинственной вылазки», наводит меня на мысль, что он мог прихватить из дома оружие… тогда получает объяснение его иначе необъяснимая беспечность. Но сейчас уже слишком поздно. Я просто буду начеку все оставшееся до полуночи время. Несколько минут мы сидим в молчании. Потом колокола соборной башни начинают отбивать одиннадцать — нервы у меня так напряжены, что я дергаюсь и едва не спускаю курок оружия, по-прежнему нацеленного Диккенсу в грудь. Он замечает мою реакцию, однако ничего не говорит, когда я кладу револьвер на колено, продолжая направлять дуло на него, но убрав палец из штуковины, которую Хэчери называл, кажется, «спусковой скобой». Я снова вздрагиваю всем телом, когда после долгого молчания Диккенс подает голос: — Это то самое оружие, что однажды показывал мне Хэчери? — Да. Несколько мгновений слышен лишь шелест ветра в траве. Словно страшась этой тишины, словно она ослабляет мою решимость, я заставляю себя сказать: — Вы знаете, что Хэчери умер? — Ода. — А вам известно, как он умер? — Да, — кивает Диккенс. — Известно. Мне сообщили знакомые из Столичной полиции. Больше нам нечего сказать на эту тему. Но от нее я перехожу к интересующему меня предмету, единственно благодаря которому Чарльз Диккенс до сих пор остается жив. — Меня удивило, что вы ввели в «Эдвина Друда» персонажа по имени Дэчери, явно переодетого сыщика в пышном парике, — говорю я. — Такая карикатура на бедного Хэчери — особенно если учесть… э… прискорбные обстоятельства его смерти, — кажется довольно обидной. Диккенс смотрит на меня. Сейчас, когда мои глаза привыкли к темноте, на кладбище, расположенном далеко от освещенных фонарями улиц и жилых домов с горящими окнами, создается впечатление, будто надгробные камни вокруг — особенно белая мраморная плита между нами, похожая на ломберный стол, за которым мы разыгрываем нашу последнюю партию в покер, — отбрасывают на лицо Диккенса блики лунного света, словно жалкие подобия газовых ламп в осветительной установке, сооруженной для его публичных чтений. — Не карикатура, — возражает он. — Теплое воспоминание. Я отпиваю маленький глоток из фляжки и небрежно отмахиваюсь. — Это неважно. — Вы не написали еще и половины «Друда» — из печати вышло только четыре первых выпуска, — но уже убили молодого Эдвина Друда. Позвольте спросить вас как профессионал профессионала — как человек, бесспорно более опытный и предположительно более искусный в деле сочинения «романов с тайной», — как вы надеетесь удерживать интерес читателя, Чарльз, если вы совершили убийство в первой трети истории и имеете лишь одного кандидата в убийцы — вашего умнейшего негодяя Джона Джаспера. — Ну что ж, — говорит Диккенс, — как профессионал профессионалу отвечу вам: не следует забывать что… Стойте! Я резко вскидываю револьвер и, промаргиваясь, целюсь ему в грудь. Кто-то зашел на кладбище? Он пытается отвлечь мое внимание? Нет. Похоже, Неподражаемому просто пришла в голову какая-то мысль. — Но откуда, дорогой Уилки, — продолжает Диккенс, — вы знаете о внешности Дэчери и даже об убийстве бедного Эдвина, если эти сцены, эти главы еще не появились в печати и… а, ясно… Уиллс! Вы каким-то образом раздобыли копию законченной рукописи у Уиллса. Уильям Генри славный малый, верный друг, но после несчастного случая стал совсем другим, со всеми своими дверями, скрипящими и хлопающими в голове. Я молчу. — Ну ладно, — говорит Диккенс. — Вы знаете об убийстве молодого Друда в сочельник. Вы знаете, что Криспаркл находит в реке часы и галстучную булавку, хотя тела нигде не находят. Вы знаете, что подозрение падает на вспыльчивого молодого иностранца с Цейлона, Невила Ландлеса, брата прекрасной Елены, а на трости Ландлеса обнаруживают запекшуюся кровь. Вы знаете, что Эдвин и Роза разорвали помолвку, и знаете, что дядя Эдвина, опиоман Джон Джаспер, падает в обморок после убийства, когда узнает, что помолвка была расторгнута и он ревновал понапрасну. К настоящему времени я написал шесть выпусков из двенадцати, предусмотренных контрактом. Но о чем вы хотите спросить? Я чувствую тепло от лауданума в теле, и мое нетерпение возрастает. Скарабей в моем мозгу испытывает еще сильнейшее нетерпение — он суетливо бегает взад-вперед у меня за переносицей и выглядывает то из одного, то из другого глаза, словно выбирая, откуда лучше видно. — Джон Джаспер совершил убийство в сочельник, — говорю я, слегка взмахивая пистолетом. — Я даже могу назвать орудие убийства — длинный черный шарф, который вы потрудились упомянуть без особой причины по меньшей мере трижды. Ваши намеки не назовешь тонкими, Чарльз. — Сперва у меня был длинный галстук, — говорит он с очередной убийственной улыбкой. — Но потом я заменил его на шарф. — Знаю, — раздраженно выпаливаю я. — Чарли говорил мне, что вы подчеркивали необходимость изобразить галстук на иллюстрации, а позже велели Филдсу нарисовать вместо него шарф. Галстук, шарф — не имеет значения. Мой вопрос остается прежним: как вы надеетесь держать читателя в напряжении всю вторую половину книги, если всем известно, что убийца — Джон Джаспер? Диккенс несколько секунд молчит, словно пораженный неожиданной мыслью. Потом аккуратно ставит фляжку с бренди на выщербленный дождями и ветром камень. Он зачем-то надел очки — словно предполагая, что при обсуждении романа, который теперь навсегда останется незаконченным, понадобится прочитать мне вслух несколько мест, — и сейчас дважды отраженный лунный свет превращает стекла очков в матовые бело-серебристые диски. — Вы хотите дописать мою книгу, — шепчет он. — Что?! — Вы меня слышали, Уилки. Вы хотите явиться к Чапмену и сказать, что можете закончить роман за меня, — Уильям Уилки Коллинз, знаменитый автор «Лунного камня», изъявляет готовность продолжить работу своего погибшего друга, своего бывшего соавтора, ныне покойного. Уильям Уилки Коллинз, скажете вы скорбящим Чапмену и Холлу, единственный человек в Англии — единственный человек в англоязычном мире — единственный человек во всем мире! — который знал образ мыслей Чарльза Диккенса настолько хорошо, что он, Уильям Уилки Коллинз, может закончить историю с тайной, к прискорбию, оборванную на полуслове в связи с внезапным исчезновением упомянутого мистера Диккенса, наверняка наложившего на себя руки. Вы хотите дописать «Тайну Эдвина Друда», Уилки, и таким образом в буквальном смысле слова занять мое место не только в читательских сердцах, но и в ряду великих писателей нашего времени. — Вздор несусветный! — кричу я так громко, что тотчас съеживаюсь и опасливо озираюсь по сторонам. Мой голос отражается эхом от стен собора и башни. — Глупости, — яростно шепчу я. — У меня нет подобных мыслей и устремлений. И никогда не было. Я сам пишу бессмертные произведения — «Лунный камень» продавался лучше вашего «Холодного дома» или нынешней вашей книги! И «Лунный камень», как я уже указывал вам нынче вечером, продуман и выстроен не в пример тщательнее, чем ваша невнятная, сумбурная история про убийство Эдвина Друда. — Да, конечно, — тихо произносит Диккенс. Но он улыбается, этот несносный Диккенс опять улыбается. Если бы я получал по шиллингу за каждый раз, когда видел эту улыбку, мне бы не пришлось работать. — Кроме того, — продолжаю я, — я знаю ваш секрет. Я знаю «большой сюрприз», на котором держится ваш хитроумный сюжет, вся ваша весьма очевидная, по моим профессиональным меркам, история. — Вот как? — довольно любезно говорит Диккенс. — Сделайте милость, просветите меня, дорогой Уилки. Будучи новичком в этом жанре, я, возможно, проглядел свой собственный «большой сюрприз». Проигнорировав сарказм, я небрежно направляю револьвер в Голову Неподражаемому и говорю: — Эдвин Друд не умер. — Да? — Да. Джаспер пытался убить его, это ясно. Возможно даже, Джаспер считает, что преуспел в своей попытке. Но Друд уцелел, он жив и вскоре объединит силы с вашими столь откровенно положительными персонажами — Розовым Бутончиком, Невилом и его сестрой Еленой, младшим каноником Криспарклом из породы мускулистых христиан и даже с новым персонажем, приплетенным к истории весьма запоздало, этим моряком… — Я роюсь в памяти в поисках имени. — Лейтенант Тартар, — услужливо подсказывает Диккенс. — Да, да. Героический веревколазающий лейтенант Тартар, с первого взгляда и очень кстати влюбившийся в Елену Ландлес, и все прочие ваши… благодетельные ангелы… вступят в сговор с Эдвином Друдом, чтобы изобличить убийцу — Джона Джаспера! Диккенс снимает очки, с улыбкой разглядывает их несколько мгновений, потом аккуратно кладет в футляр, а футляр убирает в карман сюртука. Мне хочется крикнуть: «Да выброси ты свои стекляшки! Они тебе больше не понадобятся! Если ты сейчас оставишь очки при себе, мне просто придется выуживать их из ямы с известью впоследствии!» Он тихо спрашивает: — И Дик Дэчери станет одним из этих… благодетельных ангелов… помогающих воскресшему Эдвину разоблачить несостоявшегося убийцу? — Нет, — говорю я, не в силах скрыть ликование. — Ибо так называемый Дик Дэчери и есть сам Эдвин Друд — переодетый и загримированный! — Вы… ваше предположение… весьма остроумно, Уилки, — после долгой паузы говорит он. Мне нет необходимости отвечать. Должно быть, уже почти полночь. Я нервничаю и горю желанием поскорее добраться до известковой ямы и покончить с делом, а потом вернуться домой и принять очень горячую ванну. — Только один вопрос, с вашего позволения, — тихо произносит Диккенс, постукивая по своей фляжке наманикюренным пальцем. — Пожалуйста. — Если Эдвин Друд уцелел после покушения своего дяди, зачем ему идти на такие ухищрения — скрываться, заручаться содействием союзников, маскироваться под почти комического Дика Дэчери? Почему бы просто не объявиться и не сообщить властям, что дядя пытался убить его в сочельник? Возможно даже, бросил предположительно мертвое, но на самом деле просто бесчувственное тело Эдвина в яму с негашеной известью — откуда он выбрался, очнувшись, когда ядовитое вещество начало разъедать одежду и кожу, — восхитительная сцена, скажу вам как профессионал профессионалу, хотя у меня, признаюсь, не имелось причин ее писать… Но в таком случае, получается, у нас нет никакого убийцы — только сумасшедший дядя, покушавшийся на убийство, и у Эдвина Друда нет никаких причин скрываться. То есть нет убийства Эдвина Друда и нет никакой тайны. — У Эдвина Друда есть причины скрываться до поры до времени, — уверенно заявляю я, хотя и близко не представляю, в чем они могут заключаться. Я отхлебываю изрядный глоток из фляжки, но ни на секунду не прикрываю глаза. — Что ж, желаю вам удачи, дорогой Уилки, — говорит Диккенс с непринужденным смехом. — Но прежде чем пытаться закончить книгу в соответствии с планом, так мной и не написанным, вам следует знать следующее: молодой Эдвин Друд мертв. Джон Джаспер, находясь под воздействием такого же опиата, какой вы сейчас пьете, убил Эдвина в сочельник, как и предполагает читатель здесь же, в середине романа. — Это нелепо, — говорю я. — Джон Джаспер так сильно ревнует Розу к своему племяннику, что убивает его? Но тогда… у нас впереди еще половина романа, которую нечем заполнить, кроме как… чем? Признанием Джона Джаспера? — Да, — кивает Диккенс с гадкой усмешкой. — Именно так. Оставшаяся часть «Тайны Эдвина Друда» — во всяком случае, в своей основной линии — посвящена признаниям Джона Джаспера и его второго «я», Джаспера Друда. Я трясу головой, но головокружение лишь усиливается. — И Джаспер вовсе не дядя Друда, как нам позволяют считать вначале, — продолжает Диккенс. — Он брат Друда. Я хочу рассмеяться, но у меня получается лишь громко фыркнуть. — Брат! — О да. Молодой Эдвин, как вы наверняка помните, собирается уехать в Египет в составе группы инженеров. Он планирует изменить Египет, возможно, навсегда поселиться там. Но Эдвин не знает, что его единокровный брат — не дядя, — Джаспер Друд, а не Джон Джаспер родился там… в Египте. И овладел там тайным искусством. — Тайным искусством? — Я давно забыл целиться в Диккенса, но сейчас снова направляю на него револьвер. — Месмеризм, — шепчет Неподражаемый. — Управление умами и поведением людей. Причем месмеризм не знакомого нам салонно-развлекательного толка, Уилки, а настоящее управление умами, граничащее с чтением мыслей, то есть с телепатией. Именно такого рода мысленная связь существует между молодым Невилом и его прекрасной сестрой Еленой Ландлес. Они развили свои телепатические способности на Цейлоне. Джаспер Друд овладел своим искусством в Египте. Когда Елена Ландлес и Джаспер Друд сойдутся наконец в месмерическом поединке — а он непременно состоится, — это будет сцена, о которой еще много веков читатели будут говорить с благоговейным трепетом. «Елена Ландлес, — думаю я. — Эллен Лоулесс Тернан. Даже в последней незаконченной части несостоявшейся книги Диккенс непременно должен связать самую красивую и загадочную женщину в романе со своим собственным плодом фантазии и наваждением. Эллен Тернан». — Вы меня слушаете, Уилки? — спрашивает Диккенс. — У вас такой вид, будто вы засыпаете. — Вам кажется, — говорю я. — Но даже если Джон Джаспер на самом деле является Джаспером Друдом, намного старшим братом жертвы, какой в этом интерес для читателя, вынужденного скучать на протяжении еще нескольких сотен страниц, посвященных обычным признаниям? — Необычным признаниям, — хихикает Диккенс. — В этом романе мысли и сознание убийцы будут вскрыты и исследованы так, как не делалось никогда прежде в истории литературы. Ибо Джон Джаспер, он же Джаспер Друд, это два разных человека, две самостоятельные трагические личности, заключенные в одурманенном опиумом мозгу регента Клойстергэмского… — он на миг умолкает и театральным жестом указывает на громадное здание позади, — Рочестерского собора. Именно в этих самых склепах… Он снова указывает на собор, и я машинально перевожу туда помутненный взгляд, — в этих самых склепах Джон Джаспер/ Джаспер Друд спрячет полусожженные известью кости и череп своего любимого племянника и брата Эдвина. — Чушь собачья, — тупо бормочу я. Диккенс коротко хохочет. — Возможно, — говорит он, продолжая тихо посмеиваться. — Но с учетом всех последующих сюжетных поворотов и ходов читатель будет… был бы… в восторге от многочисленных открытий и сюрпризов, которые его ждут… ждали бы… впереди. К примеру, наш Джон Джаспер-Друд совершил убийство под влиянием гипноза и опиума одновременно. Последний — опиум, принимаемый во все больших и больших дозах, — подготовил почву для воздействия первого — гипнотического приказа убить брата. — Это лишено всякого смысла, — говорю я. — Мы с вами неоднократно обсуждали тот факт, что месмерист не может приказать человеку совершить убийство… совершить любое преступление… несовместное с нравственно-этическими взглядами, которых этот человек держится в сознательном состоянии. — Да, — соглашается Диккенс. Он допивает последний глоток бренди и кладет фляжку в верхний левый внутренний карман сюртука (я запоминаю на будущее, где она находится). Как всегда при обсуждении сюжетных ходов и прочих моментов своих произведений, Чарльз Диккенс говорит смешанным тоном многоопытного профессионала и возбужденного мальчишки, сгорающего от желания рассказать интересную историю. — Но вы не слушали меня, дорогой Уилки, — продолжает он, — когда я объяснял, что достаточно сильный гипнотизер — я, например, и уж точно Джон Джаспер-Друд и другие, пока неизвестные нам египетские персонажи, остающиеся за кулисами повествования, — может внушить человеку вроде нашего регента Клойстергэмского собора иллюзию существования в воображаемом мире, где тот не отдает себе отчета в своих поступках. А под дополнительным воздействием опиума и, скажем, морфия, подпитывающих данную иллюзию, он вполне может без собственного ведома совершить убийство или еще худшее злодейство. Я подаюсь вперед. Я по-прежнему держу в руке револьвер, но напрочь о нем забыл. — Если Джаспер убивает своего племянника… своего брата… под гипнотическим внушением призрачного Некто, — шепчу я, — то кто этот Некто? — Ага! — ликующе восклицает Чарльз Диккенс, хлопая себя по колену. — Это самая восхитительная и занимательная часть тайны, Уилки! Ни один читатель из тысячи — нет, ни один из десяти миллионов, — даже ни один писатель из сотен собратьев по перу, которых я знаю и уважаю, в жизни не догадается, что гипнотизером и истинным убийцей в загадочном деле Эдвина Друда является не кто иной, как… Колокола на высокой башне за спиной Диккенса начинают отбивать полночь. Я вздрагиваю и часто моргаю. Диккенс резко поворачивается на камне и смотрит на башню, словно она живое существо, представляющее для него угрозу, а не безмолвное, холодное, слепое вместилище колоколов, возвещающих его смертный час. Когда эхо двенадцатого удара замирает над узкими темными улицами Рочестера, Диккенс снова поворачивается ко мне и улыбается. — Куранты пробили полночь, Уилки. — Так о чем вы говорили? — подсказываю я. — О личности гипнотизера? Подлинного убийцы? Диккенс складывает руки на груди. — Я рассказал достаточно на сегодня. — Он встряхивает головой, вздыхает и едва заметно улыбается. — И достаточно на свой век. — Вставайте, — говорю я. У меня так кружится голова, что я чуть не падаю, поднявшись с камня. Мне трудно держать как надо револьвер и незажженный фонарь, словно я разучился делать две вещи одновременно. — Идите, — командую я, хотя сам толком не понимаю, кому отдаю приказ — Диккенсу или своим ногам.
Позже я сознаю, что Диккенсу ничего не стоило спастись бегством, пока мы шли к задней границе кладбища, а потом через заросли травы на краю болота, где нас ждала известковая яма. Если бы он пустился бежать, а мой первый поспешный выстрел оказался неудачным, тогда для него было бы пустяшным делом скрыться в высокой болотной траве и бегом, ползком убраться подальше. Найти его там было бы сложно и при дневном-то свете, а уж ночью практически невозможно, даже с фонарем. Вдобавок шум крепчающего ветра и отдаленный рокот прибоя заглушали бы шорох, производимый им в траве. Но Диккенс не собирается бежать. Он спокойно идет впереди. Кажется, он тихонько напевает себе под нос. Я не улавливаю мелодии. Когда мы останавливаемся, он встает на краю ямы, но лицом ко мне. — Вам следует помнить, — говорит он, — что металлические предметы в моих карманах известь не уничтожит. Часы, подаренные мне Эллен… фляжку… галстучную булавку и… — Я помню, — хриплю я. Мне вдруг становится тяжело дышать. Диккенс коротко взглядывает через плечо на яму, но продолжает стоять лицом ко мне. — Да, мой Джаспер Друд признался бы, что именно сюда он притащил труп Эдвина Друда… Джаспер моложе нас с вами, Уилки, а потому, хотя опиум существенно подорвал его физические силы, ему не составило бы труда пронести мертвого юношу несколько сотен ярдов… — Замолчите, — говорю я. — Вы хотите, чтобы я повернулся кругом? — спрашивает Диккенс. — Стал спиной к вам, лицом к яме? — Да. Нет. Как вам угодно. — Тогда я буду смотреть на вас, дорогой Уилки. Мой бывший друг, товарищ по путешествиям и некогда вдохновенный соавтор. Я стреляю. Выстрел гремит оглушительно, и револьвер дает столь сильную отдачу, что едва не выпрыгивает у меня из руки (честно говоря, я толком не помню, как палил из него на черной лестнице прошлой зимой). — Боже мой! — восклицает Диккенс. Он так и стоит где стоял. Он ощупывает грудь, живот, бедра с почти комическим видом. — Похоже, вы цромахнулись. Тем не менее он не пытается бежать. В барабане осталось еще три патрона. Теперь я прицеливаюсь, стараясь унять дрожь в руке, и спускаю курок еще раз. Пола Диккенсова сюртука взлетает до уровня талии и падает. Он опять ощупывает себя. Потом отводит полу сюртука в сторону и просовывает палец в отверстие, пробитое пулей. Должно быть, она прошла менее чем в дюйме от его бедра. — Уилки, — мягко произносит Диккенс, — может, для нас обоих будет лучше, если… Я снова стреляю. На сей раз пуля попадает Диккенсу в грудь — этот звук ни с чем не спутать: словно тяжелый молоток ударяет по холодному металлу. Резко крутанувшись на месте, он падает навзничь. Но не в яму. Он лежит на краю ямы. И он все еще жив. Я слышу его громкое, хриплое, затрудненное дыхание. Клокочущее, булькающее, словно легкие у него наполнены кровью. Я подхожу и останавливаюсь над ним. Он смотрит вверх, и я задаюсь вопросом, кажусь ли я сейчас Диккенсу ужасным черным силуэтом на фоне звездного неба. В своих произведениях я несколько раз использовал отвратительное французское выражение coup de grace[17] и почему-то всегда забывал, как оно правильно пишется. Но я никогда не забывал, что оно означает. Последний выстрел надо сделать в голову — чтобы наверняка. И в пистолете Хэчери осталась всего одна пуля. Опустившись на колено, я склоняюсь над Неподражаемым, создателем разных дураков вроде дедлоков, барнаклов, домби и грюджиусов, но также таких негодяев, паразитов и злодеев, как феджины, артуры доджерсы, сквирсы, кэсби, слаймы, пексниф- фы, скруджи, воулсы, смолвиды, вегги, бамблы, лэмлы, хоуки, фэнги, тигги и… Я приставляю дуло тяжелого пистолета Хэчери к виску стонущего Чарльза Диккенса. Сознаю, что прикрываю левой рукой свое лицо, заслоняясь от осколков черепа, брызг крови и ошметков мозга, которые полетят в стороны через секунду-другую. Диккенс мычит, силясь что-то сказать. — Невообразимо… — с трудом разбираю я. А потом: — Проснись… Да просыпайся же… Уилки… Бедный ублюдок пытается очнуться от того, что кажется ему кошмарным сном. Возможно, именно так все мы уходим из этой жизни — жалко стеная, гримасничая и умоляя далекого, бесчувственного Бога даровать нам пробуждение от сна. — Пробудись… — лепечет он, и я спускаю курок. Все кончено. Мозг, придумавший и наделивший жизнью Дэвида Копперфилда, Пипа, Эстер Саммерсон, Урию Гипа, Барнаби Раджа, Мартина Чезлвита, Боба Крэчита, Сэма Уэллера, Пиквика и сотни других персонажей, живущих в умах миллионов читателей, теперь растекся на краю ямы серо-розовой лужицей, маслянисто поблескивающей в лунном свете. Только осколки черепа белеют во мраке. Даже несмотря на услужливое напоминание, я едва не забываю вынуть золотые и металлические вещи у него из карманов, прежде чем столкнуть труп в яму. Мне противно дотрагиваться до мертвеца, и я стараюсь прикасаться только к ткани, что получается в случае с часами, фляжкой, монетами и галстучной булавкой, но в случае с кольцами и запонками мне всяко придется дотронуться до остывающей плоти. Чтобы снять последние с трупа, я зажигаю фонарь с полуопущенной шторкой и замечаю — с долей удовлетворения, — что руки у меня не дрожат, когда я чиркаю спичкой и подношу ее к фитилю. Я вынимаю из наружного кармана своего сюртука свернутый джутовый мешочек и складываю туда все металлические предметы, внимательно следя за тем, чтобы ничего не уронить в высокую траву у ямы. Закончив, я засовываю мешочек в оттопыренный карман, где лежит пистолет. Надо не забыть остановиться у протекающей неподалеку реки и выбросить пистолет с мешочком на глубоководье. Диккенс лежит, раскинув конечности, в совершенно расслабленной позе, известной лишь мертвым. Поставив ногу на его окровавленную грудь, я собираюсь сказать несколько слов, но потом передумываю. В некоторых случаях слова излишни даже для писателя. Мне приходится приложить больше усилий, чем я предполагал, но после нескольких крепких толчков ногой и заключительного пинка Диккенс один раз переворачивается и соскальзывает в негашеную известь. Предоставленное самому себе, тело осталось бы погруженным в жижу лишь наполовину, но я приношу длинный железный прут, заранее припрятанный в траве поблизости, и пихаю, толкаю им, налегаю на него всей тяжестью (по ощущениям — все равно что тыкать шестом в огромный мешок с мягким нутряным салом), покуда труп не погружается в известь целиком. Быстро проверив, нет ли на мне кровяных пятен или других вопиющих улик, я гашу фонарь и направляюсь обратно к дороге, чтобы подозвать ожидающего неподалеку кучера-матроса с каретой. Шагая между сияющими под луной надгробьями, я тихонько насвистываю какую-то мелодию. Возможно, думаю я, это та же самая мелодия, которую Диккенс мурлыкал себе под нос всего несколько минут назад.
— Проснись! Уилки… да просыпайся же! Я протяжно застонал, закинул на лоб согнутую в локте руку, но умудрился открыть один глаз. Голова раскалывалась от боли, свидетельствовавшей о передозировке лауданума и морфия. Бледный лунный свет лежал беспорядочными полосами на мебели в моей спальне. И прямо перед собой, всего в нескольких дюймах, я увидел лицо. Второй Уилки сидел на краю кровати. Он никогда прежде не приближался так близко… никогда. Он заговорил. На сей раз не моим голосом, даже не измененным голосом, имитирующим мой. А голосом старой сварливой женщины, голосом одной из ведьм-сестер в начальной сцене «Макбета». Он (она?) дотронулся до моей голой руки, и это не было прикосновением живого существа. — Уилки… Он (она?) дышал мне в лицо, едва не касаясь бородой моих щек. Его (ее?) дыхание — мое дыхание — пахло гнилостью. — Убей его. Проснись. Слушай меня. Закончи свою книгу… до девятого июня. Закончи «Мужа и жену» быстро, на следующей неделе. И в тот же день, когда завершишь работу, убей его.
Глава 48
В ответ на мое письмо, которым я откликнулся на «может статься, вы не против повидаться со мной не сегодня-завтра», Диккенс пригласил меня в Гэдсхилл-плейс в воскресенье, пятого июня. Я сообщил, что приеду в три, к каковому часу Диккенс заканчивал работу по воскресеньям, но на самом деле сел на более ранний поезд и последнюю милю-полторы прошел пешком. От красоты июньского дня просто дух захватывало. После дождливой весны все, что могло зазеленеть, зазеленело как никогда сочно и буйно, а все, что могло распуститься и расцвести, пышно распустилось и цвело вовсю. Солнечный свет проливался на землю благословением небес. Ветерок гладил кожу так нежно, так ласково, что почти смущал интимностью прикосновений. Несколько белых кучевых облаков — воздушные овцы — плыли над зелеными округлыми холмами в глубь острова, но над морем синело чистое небо, пронизанное солнечным светом. Воздух был так прозрачен, что я видел башни Лондона с расстояния двадцати миль. На пастбищах, простиравшихся за окном вагона и по обеим сторонам пыльной дороги, по которой я прошагал последнюю милю-полторы пути, резвились телята, жеребята и стайки человеческих детенышей, занятых разными играми, в какие принято играть в полях и лесах ранним летом. Всего этого было почти достаточно, чтобы даже у самого закоренелого городского жителя вроде меня возникло желание купить ферму — но глоток лауданума, запитый глотком бренди из второй фляжки, поменьше, остудил сей мимолетный идиотский порыв. Сегодня никто не встретил меня на подъездной аллее Гэдсхилл-плейс, даже пара сторожевых псов (наверняка из потомства убитого Султана, этого Гренделя[18] собачьего мира), обычно сидевших на цепи у ворот. Красные герани (по-прежнему любимые цветы Диккенса, по чьему приказу садовники высаживали эти однолетние растения каждую весну и сберегали до поздней осени) росли повсюду — по сторонам аллеи, на солнечной лужайке под эркерными окнами рабочего кабинета писателя, вдоль живых изгородей, по обочинам дороги за воротами усадьбы, — и, как всегда, по непонятной мне пока причине, я содрогнулся от ужаса при виде бесчисленных скоплений этих кричаще-красных клякс на зеленом фоне. Предположив, что в такой чудесный день Диккенс, скорее всего, работает в шале, я спустился в прохладный тоннель — хотя на дороге над ним почти не наблюдалось движения — и вышел неподалеку от наружной лестницы, ведущей в кабинет на втором этаже. — Эй там, на мостике! — гаркнул я. — Эй там, на шлюпе! — раздался звучный голос Диккенса. — Можно подняться к вам на борт? — Как называется ваша посудина, мистер? Откуда вы идете и куда направляетесь? — Мое жалкое суденышко именуется «Мери Джейн», — крикнул я, старательно подделываясь под американский акцент. — Мы вышли из Сент-Луиса и направляемся в Калькутту через Самоа и Ливерпуль. Легкий ветерок донес веселый смех Диккенса. — Тогда какие разговоры — милости просим, капитан!Диккенс только что закончил работать и укладывал страницы рукописи в кожаную папку, когда я вошел. Его левая нога покоилась на подушке, лежащей на низком табурете, но он опустил ее на пол при моем появлении. Он указал мне на единственное гостевое кресло, но я был слишком возбужден, чтобы сидеть, и принялся расхаживать взад-вперед, от одного окна к другому. — Я страшно рад, что вы приняли мое приглашение, — сказал Диккенс, убирая на место письменные принадлежности и застегивая папку. — Настала пора повидаться, — промолвил я. — Вы немного пополнели, Уилки. — А вы немного похудели, Чарльз. Вот только ваша нога, похоже, набрала несколько фунтов. Диккенс рассмеялся. — Наш дорогой общий друг Фрэнк Берд обеспокоен состоянием здоровья нас обоих, верно? — В последнее время я редко вижусь с Фрэнком Бердом, — сказал я, переходя от восточного окна к южному. — Милые дети Фрэнка объявили мне войну, когда я разоблачил лицемерную сущность «мускулистого христианства». — О, едва ли они рассердились на вас за разоблачение этой самой лицемерной сущности, Уилки. Скорее — за еретическую хулу на их спортивных кумиров. У меня не нашлось времени прочитать «Мужа и жену», но я слышал, выпуски вашего романа многих привели в негодование. — И при этом продавались все лучше и лучше с каждым месяцем, — сказал я. — Еще до конца июня я собираюсь издать «Мужа и жену» в трех томах, в типографской фирме Ф. С. Эллиса. — Эллиса? — переспросил Диккенс, вставая с кресла и беря палку с серебряной рукоятью. — Я не знал, что фирма Эллиса издает книги. Я думал, они занимаются визитными карточками, календарями, такого рода вещами. — За книгу они берутся впервые, — сказал я. — Будут продавать на комиссионной основе, и я буду получать по десять процентов с каждого проданного экземпляра. — Замечательно! — воскликнул Диккенс. — Вы сегодня несколько взволнованы, даже возбуждены, Уилки. Не желаете отправиться со мной на прогулку? — Вы в состоянии ходить на значительные расстояния? Я рассматривал новую палку Неподражаемого, именно палку — крепкую, с длинной рукоятью, — с какими ходят хромые старики, а не модную прогулочную трость, каким отдают предпочтение молодые мужчины вроде меня. (Как вы, вероятно, помните, дорогой читатель, летом 1870 года мне было сорок шесть лет, а Диккенсу пятьдесят восемь, и он выглядел на свой преклонный возраст и даже старше. Но с другой стороны, несколько знакомых недавно высказались по поводу седины в моей бороде, моего лишнего веса, моей одышки и появившейся в последнее время сутулости, и иные из них имели наглость заявить, что и я выгляжу гораздо старше своих лет.) — Да, вполне, — ответил Диккенс, не обидевшись на мое замечание. — И стараюсь ходить каждый день. Час уже поздний, а потому я не предлагаю вам совершить основательную прогулку до Рочестера или еще какого-нибудь устрашающе далекого пункта назначения, но мы можем пройтись через поля. Я кивнул, и Диккенс первый начал спускаться по лестнице, оставив папку с незаконченной рукописью «Тайны Эдвина Друда» здесь, на своем рабочем столе, откуда ее мог украсть любой прохожий, свернувший с большака и беспрепятственно проникший в шале.
Мы пересекли дорогу и направились к дому, но потом свернули к конюшням, прошли через задний двор, где Неподражаемый некогда предал огню всю свою корреспонденцию, и вышли в поле, где несколько лет назад осенью погиб Султан. Трава, тогда сухая и бурая, сейчас была зеленой, высокой и слабо колыхалась на легком ветерке. Утоптанная тропинка вела к пологим холмам и полосе деревьев, тянувшейся вдоль широкого ручья, который бежал к реке, бежавшей к морю. Никто из нас не бежал сегодня, но если прогулочный шаг Диккенса и стал медленнее, то я этого не заметил. Я пыхтел и отдувался, стараясь поспевать на ним. — Фрэнк Берд говорит, что для борьбы с бессонницей вам пришлось добавить к обычным своим лекарственным средствам еще и морфий, — сказал Диккенс. Он шагал, бодро выбрасывая вперед трость (зажатую в левой руке, а не в правой, как всегда прежде). — И что шприц, выданный вам на время, куда-то пропал, хотя вы заявили, что прекратили колоться морфием. — Берд славный человек, но зачастую неблагоразумный, — сказал я. — В ходе последней серии ваших чтений он оповещал весь свет о частоте вашего пульса, Чарльз. Мой спутник промолчал. После долгой паузы я добавил: — Дочь моих слуг, Джорджа и Бесс, — они по-прежнему работают на меня, пока что по крайней мере, — воровала по мелочам. Мне пришлось отослать ее из дома. — Маленькая Агнес? — воскликнул Диккенс. — Воровала? Уму непостижимо! Мы перевалили через первый холм, и Гэдсхилл-плейс, проезжая дорога и растущие вдоль нее деревья скрылись из виду позади нас. Тропинка здесь тянулась параллельно берегу ручья, а потом свернула к узкому мосту. — Вы не против, если мы немного передохнем, Чарльз? — Нисколько, друг мой. Нисколько! Я привалился к перилам горбатого мостика и отпил три глотка из серебряной фляжки. — Сегодня слишком жарко, правда? — Вы так считаете? А по мне — погода почти идеальная. Мы двинулись дальше, но Диккенс либо начинал уставать, либо замедлил шаг, щадя меня. — Как ваше здоровье, Чарльз? Столько разных толков ходит. Как послушаешь зловещие пророчества нашего славного Фрэнка Берда, так просто не знаешь, что и думать. Вы оправились после турне? — В последнее время мне гораздо лучше, — промолвил Диккенс. — По крайней мере — последние несколько дней. Вчера я сказал одному знакомому, что собираюсь жить и работать лет до девяноста. И я чувствовал себя так, словно иначе и быть не может. А в иные дни… ну, вызнаете, что такое скверные дни, друг мой. В иные дни приходится работать и выполнять свои обязательства через «не могу». — Как продвигается «Эдвин Друд»? — спросил я. Диккенс искоса взглянул на меня, прежде чем ответить. Мы редко обсуждали друг с другом ход работы над произведениями, писавшимися в данный момент. Окованный металлом конец его палки рассек высокую траву на обочине тропинки с приятным летним шелестом. — «Друд» продвигается медленно, но верно, — наконец сказал он. — В смысле сюжетных хитросплетений и неожиданных ходов это гораздо более сложная книга, чем большинство прежних моих сочинений, дорогой Уилки. Впрочем, вы сами это знаете! Вы же специалист по «романам с тайной»! Мне давно следовало обратиться к вам со всеми своими проблемами, обычными для новичка, чтобы под вашим вергилиевым водительством познать искусство криминально-авантюрного жанра. А как у вас продвигается «Муж и жена»? — Собираюсь закончить через два-три дня. — Замечательно! — снова воскликнул Диккенс. Мы уже изрядно удалились от ручья, но тихое журчание по прежнему доносилось до нас, когда мы прошли через рощицу и вышли на следующее широкое поле. Извилистая тропинка тянулась в направлении далекого моря. — Когда я завершу работу, сможете ли вы оказать мне большую любезность, Чарльз? — Если это в моих скудных и неуклонно убывающих силах, я постараюсь, конечно же. — Полагаю, в наших силах раскрыть сразу две тайны в одну ночь… то есть если вы готовы совершить со мной секретную вылазку вечером в среду или четверг. — Секретную вылазку! — рассмеялся Диккенс. — Вероятность разгадать упомянутые тайны возрастет, коли мы с вами никому — ни единой живой душе — не скажем, что мы куда-то отправляемся. — Вот теперь вы меня по-настоящему заинтриговали. Мы достигли вершины холма. Там лежали грудами и вразброс огромные камни — деревенская ребятня и местные фермеры называли их друидическими, хотя они не имели никакого отношения к друидам. — Каким образом секретность нашей вылазки может повысить шансы на ее успех? — спросил он. — Поверьте мне на слово, если вы присоединитесь ко мне примерно через полчаса после заката в среду или четверг, вы, скорее всего, узнаете ответ на этот вопрос, Чарльз. — Хорошо, — сказал Диккенс. — Значит, в среду или четверг? Четверг у нас девятое июня. Возможно, в четверг вечером я буду занят. Вас устроит среда? — Вполне. — Прекрасно. А теперь… я давно хотел обсудить с вами один вопрос, милейший Уилки. Давайте устроимся на одном из этих камней, где поудобнее, если вы не против. Разговор займет лишь несколько минут, но именно ради этого я попросил вас приехать, и это действительно очень важно. «Чтобы Чарльз Диккенс остановился и присел во время прогулки?» — подумал я. Я в жизни не предполагал, что такой день наступит когда-нибудь. Но поскольку я обливался потом и дышал с хрипом и присвистом, точно боевая лошадь с простреленным легким, я с радостью согласился. — Я весь к вашим услугам, сэр, — промолвил я и жестом предложил Диккенсу пройти вперед и выбрать камень поудобнее.
— Прежде всего, Уилки, я должен принести вам глубокие и искренние извинения. Извинения по нескольким поводам, но в первую очередь — за поступок столь бесчестный, столь непорядочный по отношению к вам, что я, по правде говоря, даже не знаю, с чего начать. — Пустое, Чарльз. Я даже не представляю, о чем… Диккенс остановил меня, вскинув ладонь. С высокого камня, где мы сидели, открывался вид на холмистые равнины Кента, простиравшиеся вокруг. В ярком свете солнца я видел висящую над Лондоном дымку и Пролив слева от нас. Башня Рочестерского собора в отдалении походила на серый гвоздь, вогнанный в небесную твердь. — Наверное, вы не сможете простить меня, Уилки, — продолжал он. — Я бы не простил… не смог бы простить вас, будь я на вашем месте. — О чем, собственно, вы говорите, Чарльз? Диккенс указал рукой на далекие верхушки деревьев, растущих вдоль большака и вокруг Гэдсхилл-плейс, словно сей жест все объяснял. — Вот уже почти пять лет — ровно пять будет через несколько дней — мы с вами продолжаем шутейную историю с существом по имени Друд… — Шутейную? — с долей раздражения переспросил я. — Я бы не назвал эту историю шутейной. — Именно поэтому я и хочу извиниться, друг мой. Никакого Друда не существует, разумеется… и никакого египетского храма в Подземном городе… Что у него на уме? В какую игру Диккенс играет со мной теперь? — Значит, все ваши рассказы про Друда, начиная со дня железнодорожного крушения, были ложью, Чарльз? — Именно так, — подтвердил Диккенс. — Ложью, за которую я нижайше прошу прощения. Нижайше и со стыдом поистине невыразимым… хотя мне ли не знать, что такое стыд. — Вы не были бы человеком, когда бы не ведали стыда, — сухо промолвил я. И снова задался вопросом, какую игру он ведет теперь. Будь я простофилей, лишь на основании Диккенсовых россказней поверившим, что Друд реален — реален, как белый парус, который оба мы сейчас ясно видели в далеком море, — тогда Неподражаемому было бы за что извиняться. — Вы мне не верите, — сказал Диккенс, искоса взглядывая на меня. — Я вас не понимаю, Чарльз. Ведь вы не единственный, кто видел Друда и пострадал от его действий. Я своими глазами видел людей, ставших рабами египтянина. А как насчет гондолы с двумя парнями в масках, подплывшей к нам по подземной рекеиюльской ночью, когда мы спустились много ниже склепов и катакомб? Или вы хотите сказать, что гондола и гребцы, забравшие вас, нам пригрезились? — Нет, — сказал Диккенс. — То были мои садовники Гоуэн и Смайт. А так называемая гондола была обычной речной лодкой, с приделанными к корме и носу дополнительными деревянными деталями, грубо сколоченными и размалеванными. Она не сошла бы за гондолу даже в самом паршивом любительском театре и вообще в любом освещенном месте. Гоуэну и Смайту пришлось изрядно попотеть, чтобы спустить эту дырявую посудину по бессчетным маршам лестницы, ведущей к канализационным тоннелям, — тащить ее обратно они не стали, так и бросили там. — Вы отправились с ними в храм Друда, — сказал я. — Я оставался в так называемой гондоле, пока мы не скрылись у вас из виду за поворотом вонючего сточного канала, а потом высадился и несколько часов кряду искал обратную дорогу в соседних тоннелях. Едва не заблудился навсегда и безнадежно. И поделом бы мне было, если б заблудился. Я рассмеялся. — Да вы послушайте себя, Чарльз. Только сумасшедший мог спланировать и разыграть столь замысловатую шараду. Это было бы не только жестокостью, но и полным безумием. — Иногда я думаю так же, Уилки, — вздохнул Диккенс. — Но вам следует учесть, что спуск в Подземный город и катание на гондоле замышлялись как последняя сцена последнего акта этого спектакля — во всяком случае, в том, что касается меня. Откуда мне было знать, что ваше писательское подсознание и возбужденное огромными дозами опиума воображение продолжат разыгрывать эту пьесу еще многие годы? Я потряс головой. — Люди Друда в гондоле были не единственными участниками этой истории. Что насчет сыщика Хэчери? Вы хотя бы знаете, что бедный Хэчери умер? — Да, — сказал Диккенс. — Я узнал об этом по возвращении из Америки и счел нужным навести в Столичной полиции справки об обстоятельствах его смерти. — И что они вам сказали? — Что отставной сыщик Хибберт Хэчери был убит в том самом склепе на Погосте Святого Стращателя, куда я приводил вас ранее в ходе нашей фальшивой экспедиции в подземный мир. — Не помню ничего «фальшивого» в нашем схождении в преисподнюю, — заявил я. — Но сейчас это не имеет отношения к делу. Они сообщили вам, как именно он умер? — Его оглушили до беспамятства при попытке ограбления, а потом ему выпустили кишки, — тихо проговорил Диккенс с болью в голосе. — Я сразу подумал, что вы почти наверняка находились внизу, в притоне Лазаря, и я хорошо представляю, какой ужас вы испытали, наткнувшись на труп бедняги. Я невольно улыбнулся. — И кто же, по мнению сыскного отдела, сотворил такое злодейство, Чарльз? — Четыре индийских матроса, сбежавших с корабля. Отчаянные головорезы. Очевидно, они незаметно проследили за вами с Хэчери до склепа — разумеется, про вас полиция не знала, Уилки, но я предположил, что вы спокойно курили опиум в притоне Короля Лазаря внизу и ведать ничего не ведали, — дождались, пока здоровенный сыщик не уснул где-нибудь перед рассветом, а потом напали на него. Видимо, они хотели отнять у него часы и деньги. — Это нелепо. — Учитывая могучее телосложение нашего покойного друга, соглашусь с вами, — сказал Диккенс. — Хэчери удалось свернуть шею одному из четырех налетчиков. Но это привело в бешенство остальных, и они, оглушив Хэчери дубинкой… сделали с ним то, что сделали. «Ах, как гладко все получается, — подумал я. — Скотленд-Ярд найдет объяснение всему, что не в силах понять». — А откуда в сыскном отделе узнали, что это были четыре индийских матроса? — спросил я. — Они схватили троих оставшихся в живых, — сказал Диккенс. — Схватили после того, как труп четвертого был найден в Темзе. Арестовали и вынудили у них признание. При них обнаружили принадлежавшие Хэчери часы с гравировкой, семейные фотографии и немного денег. В полиции с ними не церемонились… многие офицеры хорошо знали Хэчери. Я просто диву давался. «Они чрезвычайно тщательно продумали свою ложь». — Дорогой Чарльз, — тихо, но с долей раздражения проговорил я, — ничего этого не было в прессе. — Разумеется, не было. Я же сказал: в полиции с этими индусами, убившими полицейского, не церемонились. Ни один из троих не дожил до суда. Газетчики даже не знают, что по делу об убийстве Хибберта Хэчери производился арест. Собственно говоря, Уилки, подробности убийства так и не дошли до прессы. Столичная полиция, в общем и целом, государственный институт не хуже всех прочих, но у них есть свои темные стороны, как у всех нас. Я потряс головой и вздохнул. — Так вы хотели извиниться передо мной за это, Чарльз? За то, что лгали мне про Друда? За то, что разыграли дурацкий фарс со склепами и гондолой? За то, что не рассказали мне об истинных — по вашему мнению — обстоятельствах смерти инспектора Хэчери? Я подумал обо всех случаях, когда собственными глазами видел Друда, говорил с инспектором Филдом о Друде, слушал разговоры сыщика Барриса о Друде, видел Эдмонда Диккенсона после его вступления в общину Друда, видел приспешников Друда в Городе-под-Городом и святилища Друда в Городе-над-Городом. Я видел записку от Друда и видел самого Друда, сидевшего у камина и беседовавшего с Диккенсом в моем собственном доме. Своей явной ложью Диккенс не заставит меня поверить, что я сумасшедший. — Нет, — сказал он, — это не главное, за что я хотел попросить прощения, хотя это имеет прямое отношение к более серьезному моему проступку, за который мне надлежит извиниться. Уилки, вы помните первый ваш визит ко мне после Стейплхерстской катастрофы? — Конечно. Тогда вы подробно рассказали мне о вашей первой встрече с Друдом. — А до этого. Когда вы только вошли в мой кабинет. Вы помните, что я делал и о чем мы говорили? Мне пришлось напрячь память, но в конце концов я сказал: — Вы вертели в руках часы, и мы немного поговорили о месмеризме. — Я загипнотизировал вас тогда, Уилки. — Нет, Чарльз, ничего подобного. Разве вы не помните? Вы изъявили желание попробовать загипнотизировать меня и начали раскачивать часы на цепочке, но я просто отмахнулся от этой затеи. Вы сами согласились, что у меня слишком сильная воля, чтобы подчиниться магнетическому внушению. А потом убрали часы и рассказали мне про железнодорожное крушение. — Да, я действительно сказал, что у вас слишком сильная воля, Уилки, но сказал через десять минут после того, как вы погрузились в месмерический транс. Я рассмеялся в голос. Какую игру он ведет? Я надвинул шляпу пониже, чтобы солнце не било в глаза. — Вот сейчас вы точно лжете, Чарльз… но с какой целью? — Это был своего рода эксперимент. Диккенс печально склонил голову набок, ну прямо как Султан перед самой своей смертью. Будь у меня тогда в руках дробовик, я бы обошелся с Неподражаемым точно так же, как он в свое время обошелся с Султаном. — Уже тогда, — продолжал он, — уже тогда я замышлял написать роман о человеке, совершающем некие… поступки… в течение невероятно долгого периода постгипнотического внушения. Признаюсь, меня особенно интересовало, каким образом подобное внушение подействует на творческую личность. То есть на человека, обладающего развитым профессиональным воображением… писателя… и вдобавок ко всему принимающего опиум в больших дозах. Ибо тема опиума должна была стать лейтмотивом задуманного романа. Тут я не только расхохотался, но еще и хлопнул себя по колену. — Отлично! О, просто отлично, Чарльз! Иными словами, вы просто приказали мне — предварительно подвергнув месмерическому воздействию — поверить в историю про Друда, которую рассказали позже, когда я вышел из транса? — Я ничего не приказывал, — уныло промолвил Диккенс. — Просто внушил вам такую веру. Теперь я хлопнул руками по обоим коленям. — Превосходно! А дальше вы заявите, что наш друг Друд является чистой воды вымыслом, порожденным буйным воображением Чарльза Диккенса, большого любителя всего жуткого и зловещего? — Вовсе нет. — Диккенс устремил взгляд на запад, и я мог поклясться, что в глазах у него блестят слезы. — Друд приснился мне накануне ночью — в моем сне он ходил между мертвыми и умирающими на месте Стейплхерстской катастрофы в точности так, как я описывал вам, дорогой Уилки, смешивая и переплетая фантазию о Друде с ужасными фактами действительности. Я не сдержал широкой улыбки. Снял очки, промокнул лоб узорчатым носовым платком и потряс головой, восхищаясь наглостью, с какой Диккенс лгал и морочил мне голову. — То есть теперь вы говорите, что просто наделили существованием случайный образ из сна? — Нет, — сказал Диккенс. — Легенду о Друде я впервые услышал от инспектора Чарльза Фредерика Филда за десять с лишним лет до Стейплхерстской катастрофы. Почему я вплел навязчивую фантазию старого инспектора в свой кошмарный сон о крушении поезда, я никогда не узнаю. — Фантазию Филда! — вскричал я. — Значит, теперь Друда придумал не кто иной, как инспектор Филд! — Еще до нашего с вами знакомства, друг мой. Вы наверняка помните мою серию очерков о преступности и городской полиции, опубликованных в журнале «Домашнее чтение» в пятьдесят втором году. С инспектором Филдом меня познакомили актеры, знавшие Филда в пору, когда он был актером-любителем в старом театре на Кэтрин-стрит десятью годами ранее. Но именно полицейский сыщик Чарльз Фредерик Филд, во время наших долгих прогулок по ночным улицам «гигантского пекла» в начале пятидесятых, поведал мне о существующем в его воображении фантоме по имени Друд. — Фантоме, — повторил я. — То есть инспектор Филд был сумасшедшим? — Думаю, поначалу не был, — сказал Диккенс. — Позже я разговаривал о нем со многими его коллегами и начальниками из сыскного отдела, а также с человеком, сменившим Филда на посту комиссара полиции, когда бедняга действительно тронулся рассудком. — Тронулся рассудком из-за Друда, — саркастически промолвил я. — Из-за собственной фантазии о египетском оккультисте-убийце по имени Друд. — Да. Сперва это была не голая фантазия. В пору, когда Чарльз Фредерик Филд занимал должность начальника сыскного отдела, в городе произошла серия убийств — все они остались нераскрытыми. Иные из них казались связанными с преступлениями, которые сыщику Филду не удалось раскрыть в предшествующие годы. Многие ласкары, малайцы, китайцы и индусы, арестованные в то время, пытались возложить вину на некоего призрачного монстра по имени Друд — никто не мог рассказать о нем ничего определенного, но все сходились в том, что он египтянин, он серийный убийца, он способен управлять людьми посредством силы мысли и ритуалов своего древнего культа и он живет в огромном храме под землей или, согласно показаниям отдельных преступников-опиоманов, в храме под самой Темзой. — Не пора ли нам возвращаться? — спросил я. — Потерпите немного, Уилки. — Диккенс положил дрожащую ладонь мне на руку, но тотчас убрал, заметив мой раздраженный взгляд. — Теперь вы понимаете, — продолжал он, — что все это превратилось у Филда сначала в навязчивую идею, а потом в фантазию. По мнению многих полицейских и сыщиков, включая Хэчери, с которыми я разговаривал впоследствии, именно после зверского убийства лорда Лукана, находившегося под личной защитой Чарльза Фредерика Филда, — убийства, так и оставшегося нераскрытым… Что здесь смешного, Уилки? Я заливался безудержным смехом. Эта история, этот сюжет были столь восхитительно нелепы и одновременно столь безупречно логичны… Это было так… так… по-диккенсовски. — Именно из-за фантазии об этом выдуманном неуловимом преступнике, Друде, Филд в конечном счете лишился работы и пенсии, — сказал Диккенс. — У инспектора Чарльза Фредерика Филда просто в голове не укладывалось, что чудовищные преступления, о которых он узнавал ежедневно на протяжении многих лет службы, могут быть столь случайными… столь бессмысленными. В его уме, приходившем во все сильнейшее расстройство, постепенно складывалось представление, что за всеми этими ужасами и страданиями должен стоять один-единственный гениальный преступник. Один-единственный злодей, всемогущая Немезида преступного мира. Противник, достойный великого инспектора Чарльза Фредерика Филда. Противник, обладающий не вполне человеческой природой, чья поимка — произведенная инспектором Чарльзом Фредериком Филдом, разумеется, — положит конец бесконечным сериям зверских убийств, творившихся в городе. — То есть вы говорите, — сказал я, — что наш общий знакомый, уважаемый отставной начальник сыскного отдела Чарльз Фредерик Филд, был безумен. — Совершенно безумен, — кивнул Диккенс. — В течение многих лет. Навязчивая идея превратилась у него в наваждение, наваждение в фантазию, а фантазия в кошмар, от которого он уже никогда не очнулся. — Все это очень складно, Чарльз, — мягко промолвил я. У меня даже сердцебиение не участилось от столь явного вздора. — Но вы забываете о других людях, видевших Друда. — О каких «других» вы говорите? — тихо осведомился он. — Помимо вас, обманутого мной, моими садовниками и своими гипнотическими галлюцинациями, дорогой Уилки, я не знаю ни одного человека, кто когда-либо верил в существование Друда, — за исключением, возможно, сына Филда. — Сына? — У него был внебрачный сын от одной молодой женщины, состоявшей с ним в связи несколько лет. Она уроженка Вест-Индии, жила неподалеку от притона Опиумной Сэл, хорошо нам знакомого — вам лучше, чем мне, полагаю. Жена инспектора так никогда и не узнала ни об этой женщине — она умерла вскоре после рождения ребенка, вероятно, от передозировки опиума, — ни о мальчике, но Филд не оставил сына: отдал его на воспитание в хорошую семью подальше от портовых кварталов, потом отправил в престижную частную школу, а потом в Кембридж — во всяком случае, я так слышал. — А как звали мальчика? — спросил я. Во рту у меня вдруг пересохло. Я пожалел, что не взял с собой воды вместо лауданума. — Кажется, Реджинальд, — сказал Диккенс. — Я наводил о нем справки в прошлом году, но молодой человек куда-то пропал после смерти своего отца. Возможно, уехал в Австралию. — От чего, по-вашему, умер инспектор Филд, Чарльз? — От сердечного приступа. Как и сообщалось в газетах. Мы с вами уже обсуждали это. Я соскользнул с камня и встал на ноги, затекшие от долгого сидения в одной позе. Не стесняясь Диккенса, я отхлебнул изрядный глоток из своей фляжки. — Мне пора возвращаться, — хрипло проговорил я. — Но вы ведь останетесь на ужин? Ваш брат и Кейти приехали на уик-энд. Скоро прибудут Перси Фицджеральд с женой и… — Нет, — перебил я. — Я должен вернуться в город. Мне надо работать. Надо закончить «Мужа и жену». Диккенсу пришлось опереться на палку, чтобы подняться с камня. Было видно, что левая нога у него страшно болит, хотя он старался не показывать этого. Он вынул из жилетного кармана часы с цепочкой. — Позвольте мне загипнотизировать вас, Уилки. Прямо сейчас. Я отступил от него на шаг. Мой смех прозвучал испуганно даже для моего собственного слуха. — Вы, верно, шутите. — Я серьезен как никогда, дорогой друг. Когда я загипнотизировал вас в июне шестьдесят пятого, мне даже в голову не приходило, что период постгипнотических галлюцинаций будет — и вообще может — продолжаться столь длительное время. Я недооценил как силу опиумного воздействия, так и силу писательского воображения. — Я не желаю играть в эти дурацкие игры, — отрезал я. — Мне уже давно следовало сделать это. — Диккенс тоже говорил хриплым, словно от подступивших к горлу слез, голосом. — Если вы помните, дорогой Уилки, я не раз пытался снова загипнотизировать вас — чтобы устранить внушенные представления и пробудить вас от бесконечного сна, создаваемого вашим воображением. Я даже пробовал научить Кэролайн, как загипнотизировать вас, дабы затем произнести командное кодовое слово, которое я внедрил в ваше подсознание. Услышав данное ключевое слово в состоянии месмерического транса, вы наконец очнетесь от своего затянувшегося сна. — И что это за командное… кодовое слово? — спросил я. — «Невообразимо», — ответил Диккенс. — Я нарочно выбрал нерасхожее слово, какое вы слышите далеко не каждый день. Но чтобы оно сработало, вы непременно должны находиться в гипнотическом трансе. — «Невообразимо», — повторил я. — Слово, неоднократно произнесенное вами в день Стейплхерстской катастрофы, насколько я помню. — Да, я действительно многажды повторил его тогда, — подтвердил Диккенс. — То была реакция на ужас происходящего. — Думаю, это вы сумасшедший, Чарльз. Он потряс головой. И он плакал. Неподражаемый плакал посреди зеленого поля, залитого солнечным светом. — Я не надеюсь на ваше прощение, Уилки, но ради Бога — ради себя самого — позвольте мне сейчас подвергнуть вас магнетическому воздействию и освободить от проклятия, мной ненароком на вас наложенного. Пока не стало слишком поздно! Он шагнул ко мне — обе руки подняты, зажатые в правой часы ярко блестят на солнце, — и я отступил на два шага. Я мог только гадать, что за игру он ведет, и все догадки были весьма туманными. Инспектор Филд однажды назвал все происходящее трехсторонней игрой между ним самим, Друдом и Диккенсом. Теперь я занял место инспектора в этой совершенно реальной трехсторонней игре не на жизнь, а на смерть. — Вы действительно хотите загипнотизировать меня, Чарльз? — спросил я дружелюбным, рассудительным голосом. — Я должен, Уилки. Только так я смогу начать заглаживать вину за самую жестокую шутку, сыгранную мной в жизни, пусть и неумышленно. — Не сейчас, — сказал я, отступив от него еще на шаг, но выставив перед собой ладони в успокоительной манере. — Сейчас я слишком взбудоражен и возбужден, чтобы все толком получилось. Но вот в среду вечером… — В среду вечером? — переспросил Диккенс. Внезапно он уставился на меня с потерянным, оглушенным видом — так выглядит профессиональный боксер, который много раундов подряд выкладывался сверх своих возможностей, но по-прежнему держится на ногах, хотя уже не в состоянии защититься от ударов противника. — А что у нас в среду вечером, Уилки? — Секретная вылазка, вы согласились меня сопровождать, — мягко промолвил я. Подступив ближе, я вынул часы у него из руки — они здорово нагрелись на солнце — и засунул в его жилетный карман. — Вы согласились отправиться со мной в небольшую экспедицию, и я пообещал, что в ее ходе мы с вами раскроем по меньшей мере две тайны. Помните, как мы ездили обследовать дом с призраками в Честнате? — В Честнате… — повторил Диккенс. — Вы с Уиллсом поехали вперед в экипаже. А мы с Джоном Холлингсхедом шли до деревни пешком. — Шестнадцать миль, если мне не изменяет память, — сказал я, похлопывая его по плечу. — Давно это было. — Диккенс вдруг показался мне безнадежно дряхлым стариком. — Но мы не обнаружили там никаких призраков, Уилки. — Да, но мы замечательно провели время, правда? Повеселились на славу. Так будет и вечером в ближайшую среду, восьмого июня. Только вы не должны никому говорить, что собираетесь со мной куда-то. Мы уже двинулись в обратный путь, Диккенс шел с трудом, тяжело хромая. Но после последних моих слов он внезапно остановился и посмотрел на меня. — Я отправлюсь с вами в эту… экспедицию… если вы пообещаете, друг мой… если сейчас пообещаете и дадите слово чести… что позволите мне первым делом загипнотизировать вас в среду вечером. Загипнотизировать и освободить от жестокой иллюзии, которую я навязал вам по самонадеянности и недомыслию. — Обещаю, Чарльз, — сказал я. И добавил, когда он не отвел от меня пристального взгляда: — При нашей следующей встрече вы перво-наперво попробуете загипнотизировать меня, а я всячески постараюсь помочь вам в вашей попытке. Вы произнесете ваше магическое слово… «невообразимо»… к полному своему удовлетворению, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Даю вам слово чести. Диккенс промычал что-то неразборчивое, и мы медленно поковыляли дальше. Я покидал шале в обществе средних лет мужчины, исполненного чувства вины, творческой энергии и жажды жизни. Я возвращался туда в обществе умирающего инвалида. — Уилки, — пролепетал он, когда мы вступили под сень деревьев. — Я вам когда-нибудь рассказывал про вишни? — Про вишни? Нет, Чарльз, не припомню такого. — Я прислушивался к сбивчивому старческому бормотанью, но ни на миг не сбавлял шага, чтобы Диккенс продолжал ковылять с прежней скоростью, выбиваясь из сил. — Расскажите мне про вишни. — Давным-давно, когда я был трудным лондонским подростком… должно быть, уже после той ужасной фабрики ваксы… да, точно, после фабрики ваксы… — Он слабо дотронулся до моей руки. — Напомните мне как-нибудь, чтобы я рассказал вам про фабрику ваксы, дорогой Уилки. Я никогда никому не рассказывал про фабрику ваксы, где работал в детстве, хотя ничего ужаснее я в жизни… — Похоже, он потерял нить повествования. — Обещаю, что как-нибудь обращусь к вам с такой просьбой, Чарльз. Вы говорили про вишни. В тени деревьев дышалось легко. Я продолжал резво шагать. Диккенс продолжал с трудом ковылять. — Вишни? Ах да… давным-давно, в мою бытность трудным лондонским подростком, я однажды шел по Стрэнду и случайно оказался прямо позади рабочего, который нес на плече довольно невзрачного большеголового ребенка — видимо, своего сына. Но, понимаете, я ведь потратил всё до последнего пенса на этот пакет спелых вишен… — Вот как, — промолвил я, задаваясь вопросом, уж не приключился ли с Диккенсом солнечный удар. Или апоплексический. — Да, вишни, Уилки. Но что самое замечательное, мальчонка этот посмотрел на меня как-то так… по-особенному… и я начал кидать ему в рот вишни, одну за другой, а он выплевывал косточки совершенно бесшумно. Его отец так и не обернулся. Он так и не узнал. Кажется, я скормил большеголовому мальцу все свои вишни, все до единой. А потом рабочий с сынишкой на плече повернул налево на перекрестке, а я продолжал идти прямо, и отец не узнал ничего нового, но я стал беднее — по крайней мере, в смысле вишен, — а большеголовый мальчуган стал толще и счастливее. — Прелестная историйка, Чарльз, — сказал я. Диккенс попытался прибавить шагу, но левая нога у него уже не выдерживала никакой нагрузки. Ему приходилось опираться всей тяжестью на палку при каждом мучительном шаге. Он бросил на меня взгляд. — Порой мне кажется, друг мой, что вся моя писательская карьера являлась всего лишь продолжением тех нескольких минут, когда я кидал вишни в рот большеголовому ребенку, сидевшему на плече у отца. Вы меня понимаете? — Конечно, Чарльз. — Так вы обещаете, что позволите мне загипнотизировать вас и освободить от иллюзий, с бездумной жестокостью внушенных мной? — вдруг резко спросил он. — Вечером в среду, восьмого июня? Вы даете мне слово? — Слово чести, Чарльз. Ко времени, когда мы достигли ручья с горбатым мостиком, я насвистывал мелодию из своего недавнего провидческого сна.
Глава 49
Я закончил свой роман «Муж и жена» в среду, 8 июня 1870 года, во второй половине дня. Я сказал Джорджу и Бесс (которых в любом случае собирался вскоре уволить), что мне нужно отдохнуть в тишине, и отослал их на день навестить кого им будет угодно. Кэрри уехала на неделю с Уордами. Я отправил одно письмо своему редактору в «Касселлз мэгэзин», а другое своему будущему книгоиздателю Ф. С. Эллисус уведомлением, что рукопись закончена. Я отправил Диккенсу письмо с сообщением о завершении работы над романом и напоминанием о нашей встрече, назначенной на завтра, девятое июня. Разумеется, мы не собирались встречаться девятого июня — мы встречались сегодня вечером, восьмого июня, — но я был уверен, что письмо придет не раньше следующего утра и таким образом послужит для меня тем, что сведущие в уголовном праве люди называют латинским словом «алиби». Я также отослал Леманам, Бердам и прочим знакомым теплые письма, где сообщал, что закончил «Мужа и жену» и по такому радостному случаю собираюсь — после длинной ночи долгожданного, заслуженного сна — отправиться с визитом в Гэдсхилл завтра днем, девятого числа. Ближе к вечеру, одетый в темный дорожный костюм и плащ с откинутым назад широким капюшоном, я доехал в наемном экипаже до Гэдсхилла и остановился под старыми деревьями рядом с «Фальстаф-Инн», когда солнце уже садилось и ночная тьма медленно выпускала свои щупальца из леса за названным заведением. Мне не удалось найти индусского матроса, готового покинуть Англию (и никогда не возвращаться) через десять дней. Не удалось мне найти и немецкого, или американского, или даже английского матроса, согласного поработать на меня кучером. Не раздобыл я и черной кареты из своего опиумно-морфинового сновидения. Посему я сам правил экипажем — не имея опыта в данном деле, я полз к Гэдсхиллу черепашьим шагом, гораздо медленнее, чем ехал бы лихой кучер-индус, порожденный моей фантазией, — а экипаж представлял собой крохотную открытую бричку размером с запрягаемую пони коляску, в которой обычно возил меня Диккенс. Но под единственным сиденьем позади меня стоял маленький фонарь «бычий глаз», а в кармане моего сюртука, рядом с джутовым мешочком для металлических предметов, лежал пистолет Хэчери с четырьмя оставшимися патронами в барабане — все, как я планировал. Если подумать, оно было и лучше, что я сам правил: никакой возница, индус или не индус, никогда не сможет шантажировать меня. Реальный вечер тоже нисколько не походил на погожий июньский вечер, пригрезившийся мне во сне. Всю дорогу лило как из ведра, и под дождевыми струями и брызгами, летевшими из-под лошадиных копыт на нелепо низкие козлы миниатюрного экипажа, я промок до нитки ко времени, когда подъехал к «Фальстаф-Инн» сразу после заката. Сам закат — серый, мутный, водянистый постскриптум минувшего дня — не имел ничего общего с восхитительной картиной, рисовавшейся в моем воображении. Я загнал единственную (древнюю) лошадь и шаткий экипаж возможно глубже под густые деревья сбоку от гостиницы, но продолжал мокнуть, ибо порывы ветра поминутно задували в мое укрытие дождевые струи, а все остальное время на меня капало с ветвей. И Диккенс не пришел. Мы с ним условились встретиться через полчаса после захода солнца — положим, его можно было извинить за то, что он не заметил точное время нынешнего пасмурного заката, но он не появился и спустя час. Возможно, подумал я, он не видит в темноте под деревьями темную бричку, мокрую черную лошадь и меня самого в насквозь промокшей черной одежде. Я решил зажечь один из боковых фонарей экипажа. Ни боковых, ни задних фонарей на моей дешевой бричке не имелось. Я решил зажечь «бычий глаз» и поставить на козлы рядом. Но тотчас осознал: в таком случае Диккенс наверняка увидит меня из дома или с переднего двора, но меня увидят также все люди, входящие в гостиницу и выходящие из нее или даже просто проезжающие мимо по дороге. Я решил зайти в гостиницу, заказать горячего рома с маслом и послать мальчишку-прислужника в Гэдсхилл-плейс сообщить Диккенсу, что я жду здесь. «Не будь идиотом», — хором прошептали юрист во мне и криминальный писатель во мне. И в мозгу снова всплыло диковинное, но существенно важное для меня понятие — «алиби». Прошло уже полтора часа после заката, а Чарльз Диккенс — наверное, самый пунктуальный пятидесятивосьмилетний человек во всей Англии — так и не появился. Дело близилось к десяти часам. Если мы не выедем в Рочестер в самом скором времени, все предприятие сорвется. Я привязал дремлющую лошадь к ветке, поставил в рабочее положение хлипкий тормозной башмак брички и двинулся между деревьями в направлении шале. При каждом порыве холодного ветра с хвойных и лиственных ветвей на меня низвергались потоки воды. За последние полтора часа я видел по меньшей мере три экипажа, свернувших на подъездную аллею Гэдсхилл-плейс, и два из них, разглядел я, все еще стояли перед домом. Возможно ли, что Диккенс забыл о нашей тайной встрече — или просто решил ее проигнорировать? На миг я исполнился леденящей душу уверенности, что мое написанное для отвода подозрений письмо с напоминанием о завтрашней нашей встрече каким-то образом пришло в Гэдсхилл-плейс сегодня, но потом я вспомнил, что нарочно отправил его поздно днем. Ни один почтовый курьер в Англии не доставил бы послание столь быстро — на самом деле почтовая служба проявит небывалую расторопность, коли означенное письмо получат в Гэдсхилл-плейс к вечеру пятницы (а сейчас только вечер среды). Я нащупал пистолет в кармане и решил воспользоваться тоннелем. Что я собираюсь делать, если загляну в окно новой оранжереи (минувшей весной пристроенной к дому сзади, к полному восторгу Диккенса) и увижу Неподражаемого все еще сидящим за обеденным столом? Или читающим книгу? Я постучу в окно, знаком попрошу его выйти ко мне и насильно уведу с собой под угрозой пистолета. Все очень просто. И ничего другого не остается. Если только поблизости не окажется Джорджины и прочих прихлебателей, живущих за счет Диккенса, точно миноги, что присасываются к более крупной рыбе. (К каковой группе метафорических паразитов следует отнести и моего брата Чарльза.) В тоннеле было очень темно и пахло дикими зверями, вероятно испражнявшимися здесь. Тем вечером я чувствовал себя одним из них и, промокший насквозь, никак не мог справиться с дрожью. Выйдя из тоннеля, я пошел не по хрусткому гравию аллеи, а по траве и пробрался сквозь низкую живую изгородь на передний двор. Теперь я увидел на стояночной площадке перед домом три экипажа (хотя в темноте не сумел определить, кому они принадлежат), и одна из лошадей вдруг вскинула голову и испуганно всхрапнула, словно почуяв мой запах. Я снова задался вопросом, не пахну ли я хищным зверем. Немного пройдя вправо, я остановился и поднялся на цыпочки, чтобы поверх живых изгородей и подрезанных молодых кедров разглядеть, что творится за раздвинутыми белыми шторами. Эркерные окна рабочего кабинета Диккенса были темными, но, похоже, во всех остальных комнатах горел свет. Я увидел женскую голову — Джорджина? — промелькнувшую в одном из окон. Женщина действительно двигалась поспешно — или мне в моем взвинченном состоянии просто показалось? Я отступил на несколько шагов назад, чтобы лучше видеть горящие верхние окна, и вынул тяжелый пистолет из кармана. Пуля неизвестного убийцы пробивает оконное стекло и поражает самого известного писателя в мире… Что за идиотская мысль? Диккенс должен не просто умереть, он должен исчезнуть. Бесследно. Сегодня ночью. И он непременно исчезнет, как только выйдет за порог, запоздало вспомнив о назначенной встрече со мной. В этом я поклялся не только Богу, но и всем богам Черной Земли. Внезапно чьи-то руки схватили меня сзади и полуповолокли-полупонесли прочь от дома. Эта фраза дает слабое представление о насилии, примененном к моей особе в тот момент. Руки принадлежали сразу нескольким мужчинам и были очень сильными. Обладатели этих грубых рук, нимало не заботясь о моем самочувствии, протащили меня сквозь живую изгородь, сквозь низко нависающие ветки дерева и швырнули на камни и клумбу, тесно засаженную колючими кустиками герани. Красные герани! Они заполонили все поле зрения — вместе с искрами, посыпавшимися из глаз от удара головой о землю, — и даже в темноте на миг ослепили меня невероятно ярким красным цветом. Диккенсовские красные герани. Кровавое пятно петличного цветка на белоснежном фоне парадной сорочки. Цветок красной герани из сцены зверского убийства Нэнси. Прежние мои кошмары были подсознательными предчувствиями, возможно усиленными опиумом, который подпитывал мои творческие силы, когда все остальные средства не действовали. Я попытался встать, но сильные руки толкнули меня обратно на мокрую земле. Три белых лица плавали во мраке надо мной, когда я устремил взгляд вверх и мельком увидел тусклый месяц, скользящий между быстро бегущих черных туч. Словно в подтверждение пророческого характера прошлых моих видений, в поле моего зрения появилась костлявая физиономия Эдмонда Диккенсона, всего в футе от моего лица. Его остро сточенные зубы походили на крохотные белые кинжалы. — С-с-спокойно, мис-с-стер Коллинз. С-с-спокойно. Никаких фейерверков с-с-сегодня, с-с-сэр. Только не с-с-сегодня. Словно в объяснение этих загадочных слов, чьи-то сильные руки выхватили пистолет из моей судорожно дергающейся руки. Я совсем про него забыл. Физиономию Диккенсона сменило бледное лицо Реджинальда Барриса. Крепко сбитый мужчина то ли скалился в улыбке, то ли жутко гримасничал (я не видел разницы), и я осознал, что черные щербины у него во рту, замеченные мной при последней нашей встрече в узком переулке, образовались вовсе не вследствие разрушения зубов. Баррис тоже спилил зубы, придав им форму острых клиньев. — Это наш-ш-ша ночь, мис-с-стер Коллинз, — прошипел он. Я отчаянно напряг силы, пытаясь приподняться, но тщетно. Когда я снова взглянул вверх, надо мной парило лицо Друда. Я умышленно употребляю слово «парило». Весь Друд, казалось, парил надо мной, раскинув руки, обратив ко мне мертвенно-бледное лицо; его облаченное в черный плащ тело недвижно висело параллельно моему, опираясь на незримые воздушные потоки, всего в трех-четырех футах над землей. На месте ноздрей и верхних век у него краснели язвы — такие свежие, словно ноздри и веки отсекли скальпелем всего несколько минут назад. Я уже успел забыть, как Друдов длинный язык, похожий на ящеричий, стремительно мелькает между тонких губ. — Ты не можешь убить Диккенса! — задыхаясь, проговорил я. — Ты не можешь убить Диккенса. Это я должен… — Тш-ш-ш! — прошипело парящее надо мной белое черепообразное лицо, увеличиваясь в размерах. Друдово дыхание отдавало зловонием могильной земли и сладковатым смрадом разбухших мертвых тел, плавающих в подземных сточных каналах. Его глаза сочились кровью. — Тш-ш-ш! — повторил Друд, слово успокаивая демона-дитя. — Мы заберем с-с-сегодня лишь душ-ш-шу Чарльза Диккенсс-са. Все ос-с-стальное можете взять с-себе, мис-с-стер Билли Уилки Коллинз. Все, что ос-с-станется, — ваш-ш-ше. Я открыл рот, чтобы завопить, но парящий надо мной Друд молниеносно выхватил из кармана своего оперного плаща надушенный черный шелковый платок и прижал к моему искаженному лицу.Глава 50
Я проснулся поздно утром, разбуженный дочерью Кэролайн, Кэрри, хотя она (как упоминалось выше) должна была сейчас путешествовать вместе с Уордами, своими работодателями. Девочка с плачем настойчиво стучала в дверь, а потом, не дождавшись от меня ответа, вошла в спальню. Плохо соображая, я сел в постели и подтянул к подбородку одеяло. Спросонья мне пришло в голову лишь одно: Кэрри вернулась домой раньше, чем предполагалось, взломала запертый нижний ящик моего комода и залезла в запертую шкатулку, где я хранил письма ее матери. В последнем письме Кэролайн — полученном и прочитанном всего три дня назад — рассказывалось, как она выразила недовольство по поводу очередного ночного кутежа мужа с разгульными приятелями и очнулась только на следующий день, в запертом подвале, с заплывшим глазом и выбитым передним зубом. Но Кэрри плакала по другой причине. — Уилки, мистер Диккенс… Чарльз Диккенс… твой друг… он умер! Давясь рыданиями, Кэрри объяснила, что ее покровители, мои друзья Эдвард и Генриетта Уорд, по дороге в Бристоль узнали о смерти Диккенса от одного своего знакомого, случайно встреченного на вокзале, и тотчас же вернулись в Лондон, чтобы Кэрри могла находиться рядом со мной. — Как подумаешь… сколько раз мистер Диккенс… сидел за нашим сто… столом… когда мама жила здесь… — Кэрри плакала навзрыд. Я протер глаза, ноющие от боли. — Ступай вниз, будь умницей, — наконец проговорил я. — Вели Бесс сварить кофий и состряпать завтрак. — Джорджа и Бесс нет дома, — сказала она. — Я отперла дверь ключом, что мы прячем в кусте у крыльца. — Ах да… — промычал я, все еще потирая ладонями лицо. — Я отпустил их вчера на пару дней… чтобы хорошенько выспаться. Вчера вечером я закончил свою книгу, Кэрри. Похоже, сей факт не произвел на нее должного впечатления. Девочка вновь залилась слезами, хотя я понятия не имел, с чего она так убивается из-за известия о смерти старого джентльмена, который уже много месяцев не наведывался в наш дом и который на протяжении многих лет называл ее Дворецким. — Тогда сбегай за поварихой, — сказал я. — А потом, будь умницей, быстренько приготовь кофий и чай. Да, Кэрри, и еще сбегай в табачную лавку за площадью и принеси мне все сегодняшние газеты, какие там найдешь. Ступай живо! Когда она ушла, я откинул прочь одеяло и осмотрел себя. Похоже, Кэрри ничего не заметила сквозь слезы, но я был не в пижаме, а в измаранных белой сорочке, панталонах и штиблетах, все еще зашнурованных. А простыни были измазаны грязью, выглядевшей — да и пахнувшей — ну в точности как испражнения. Я встал, запер дверь и отправился в ванную комнату, чтобы вымыться и переодеться до возвращения Кэрри.В течение дня обрывки достоверных сведений постепенно складывались в цельную картину. Восьмого июня, начав утро с пустяшной болтовни с Джорджиной за завтраком, Диккенс, в нарушение заведенных правил и обычного рабочего режима, проработал в шале весь день напролет — он вернулся в дом лишь на ланч около часа, а затем снова удалился в свое уединенное гнездышко, чтобы писать до самого вечера. Впоследствии я увидел последнюю страницу «Тайны Эдвина Друда», написанную им в тот день. Там значительно меньше исправлений и вычеркиваний, чем в любых черновых рукописях Чарльза Диккенса, виденных мной когда-либо прежде. И там содержится нижеприведенный абзац, описывающий, несомненно, чудесное утро в Рочестере, очень похожее на восхитительное утро, которое Неподражаемый совсем недавно видел в Гэдсхилле. Он начинается словами: «Яркое утро занимается над городом…» — и продолжается так:
Все древности и развалины облеклись в невиданную красоту; густые завесы плюща сверкают на солнце, мягкие ветер колышет пышную листву деревьев. Золотые отблески от колеблющихся ветвей, пенье птиц, благоуханье садов, полей и рощ — вернее, единого огромного сада, каким становится наш возделанный остров в разгаре лета, — проникают в собор, побеждают его тлетворные запахи и проповедуют Воскресенье и Жизнь. Холодные каменные могильные плиты, положенные здесь столетья назад, стали теплыми; солнечные блики залетают в самые сумрачные мраморные уголки и трепещут там, словно крылья.Последними словами, написанными Диккенсом в рукописи «Тайны Эдвина Друда» в тот день были: «…а затем с аппетитом принимается за еду». Диккенс покинул шале поздно вечером и перед ужином уединился в своем кабинете. Там он написал два письма (о них впоследствии Кейти рассказала моему брату, а он сообщил мне). Одно — Чарльзу Кенту, в нем Диккенс извещал, что будет в Лондоне завтра (девятого июня) и хотел бы встретиться с Чарльзом в три часа пополудни. Хотя он добавлял: «Если я не смогу… что ж, тогда не приду». Второе письмо Неподражаемый написал священнику и именно там процитировал предостерегающие слова брата Лоренцо, обращенные к Ромео: «Таких страстей конец бывает страшен». Потом Диккенс вышел к ужину. Позже Джорджина рассказывала моему брату, что, едва они сели ужинать, она внимательно взглянула на него и чрезвычайно встревожилась, увидев выражение его лица. — Вам нездоровится, Чарльз? — спросила она. — Да, сильно нездоровится. Последний час… я… дурно себя чувствую. Джорджина хотела немедленно послать за доктором, но Диккенс жестом остановил ее и настоял на том, чтобы они спокойно поели. — Нам нужно поужинать, — сказал он со странным, отсутствующим видом, — ибо сразу после ужина я должен уехать. Я должен поехать… в Лондон… немедленно. После ужина. У меня назначена встреча… завтра… сегодня… сегодня вечером. Внезапно он начал корчиться в сильнейшем припадке. Джорджина впоследствии сказала Кейти: «Было такое впечатление, будто какой-то демон пытается внедриться в его тело, а бедный Чарльз отчаянно сопротивляется». Диккенс лепетал слова, казавшиеся Джорджине бессвязными и бессмысленными. Потом он вдруг вскричал: — Я должен ехать в Лондон сейчас же! — и резко отодвинулся от стола вместе со своим креслом, обитым малиновой парчой. Он встал, но сильно пошатнулся и непременно упал бы, если бы Джорджина не бросилась к нему и не подхватила под руку. — Пойдемте в гостиную, — проговорила она, страшно испуганная его пепельно-серым лицом и остекленелым взглядом. — Вы там приляжете. Она хотела отвести Диккенса к дивану, но он не мог сделать ни шагу и с каждой секундой все тяжелее наваливался на нее. Только тогда, впоследствии сказала Джорджина Кейти, она по-настоящему поняла, что означает выражение «мертвый груз». Джорджина оставила попытки отвести Диккенса к дивану и стала осторожно опускать его на пол. Он уперся ладонями в ковер, тяжело завалился на левый бок и чуть слышно пробормотал: — Да. На землю. Затем он потерял сознание. В этот момент я выезжал с оживленных лондонских улиц на большак, ведущий к Гэдсхиллу, и проклинал дождь. Но в Гэдсхилле дождь не шел. Пока что. Находись я тогда в темноте под деревьями, где занял позицию немногим позже, я бы увидел, как один из молодых слуг (возможно, Смайт или Гоуэн, садовник-гондольер, если верить Диккенсу) мчится во весь опор на Ньюмане Ноггзе — пони, столь часто возившем меня неспешной рысью от станции к усадьбе, — за местным доктором. Деревенский врач, мистер Стил, прибыл в половине седьмого, все еще задолго до моего прибытия, и нашел Диккенса «лежащим без чувств на полу в столовой зале». Слуги перенесли в столовую длинный диван, и мистер Стил проследил за тем, чтобы находящегося без сознания, но судорожно подергивающего конечностями писателя уложили на него. Потом Стил поставил пациенту клистир и применил «прочие целительные меры», но без всякого результата. Тем временем Джорджина посылала телеграмму за телеграммой, точно военный трехпалубник, палящий сразу из всех бортовых пушек. Одна из них пришла Фрэнку Берду, и он тотчас выехал из города и прибыл в Гэдсхилл поздно вечером —возможно, как раз тогда, когда меня, тоже лишенного чувств, увозили оттуда в моем собственном наемном экипаже. Я по сей день гадаю, кто же привез меня в город той ночью, обшарил мои карманы в поисках ключа от дома, отнес меня в спальню и засунул в постель. Явно не Друд. Диккенсон? Реджинальд Баррис-Филд? Еще какой-нибудь ходячий мертвец из числа Друдовых прислужников, которого я даже не видел в темноте во время нападения на меня. Кто бы это ни был, он ничего не украл. Я даже нашел свой револьвер — револьвер Хэчери — с четырьмя последними патронами в запертом ящике комода, где он всегда хранился. А что стало с моим экипажем? — гадал я. Даже при всем своем буйном писательском воображении я решительно не мог представить, как один из облаченных в черный оперный плащ кошмарных помощников Друда отдает бричку обратно в бюро по найму экипажей в Криплгейте, где я ее взял, и требует возвращения залога. Разумеется, я нарочно выбрал бюро подальше от дома и при заключении сделки использовал вымышленное имя — любимое вымышленное имя Диккенса, Чарльз Трингхэм, — но утрата залога произошла в трудное для меня в финансовом смысле время. А бричка гроша ломаного не стоила. Фонаря я тоже безвозвратно лишился. Когда Кейт Диккенс, мой брат Чарльз и все прочие, вызванные телеграммами Джорджины, примчались в Гэдсхилл поздно вечером, Чарльз Диккенс по-прежнему лежал в беспамятстве на диване, никак не реагируя на вопросы и прикосновения. (Три экипажа, виденные мной перед домом, знаменовали лишь начало нашествия.) Всю длинную ночь — если точнее, короткую ночь, поскольку дело близилось к летнему солнцестоянию, — так вот, всю короткую ночь родственники, Берд и мой брат по очереди держали Неподражаемого за руку и прикладывали нагретые кирпичи к его ступням. «Уже к полуночи, — впоследствии сказал мне брат, — руки и ноги у Диккенса стали холодными, как у трупа». Перед рассветом сын Диккенса телеграфировал известному лондонскому врачу Расселу Рейнольдсу, который, прочитав имя «Диккенс», тотчас же выехал из города самым ранним курьерским и прибыл в Гэдсхилл вскоре после восхода солнца. Но заключение доктора Рассела Рейнольдса совпало с заключением мистера Стила и Фрэнка Берда — писатель перенес обширный «параличный удар» и медицина здесь бессильна. Кейти отправилась в Лондон, чтобы сообщить прискорбное известие матери и подготовить ее к еще более страшному известию. Никто из тех, с кем я беседовал впоследствии, не удосужился узнать и никогда не упоминал, как отреагировала на печальную новость Кэтрин Диккенс, изгнанная жена Неподражаемого, прожившая с ним в браке двадцать два года и родившая ему десятерых детей. Я точно знаю, что самого Диккенса не интересовали бы ее чувства по данному поводу. Эллен Тернан приехала в Гэдсхилл вскоре после полудня, тогда же и Кейти вернулась из Лондона. Той весной, во время короткого перерыва между чтениями, Диккенс показывал мне свою новую оранжерею, смежную со столовой залой. Он говорил, что она обеспечит доступ солнечного и лунного света в прежде довольно сумрачные комнаты и наполнит весь дом благоуханием его любимых цветов (последнее обстоятельство, похоже, представлялось ему самым важным, когда он демонстрировал мне оранжерею с восторгом маленького мальчика, похваляющегося перед другом новой игрушкой). Цветы вездесущей алой герани (именно их он неизменно вставлял в петлицу перед концертами) толком не пахнут, но листья и стебли источают землистый, мускусный аромат, присущий также стеблям голубой лобелии. Девятого июня стояла погожая теплая погода, и все окна в доме были распахнуты настежь — словно для того, чтобы через любое из них могла беспрепятственно улететь душа, все еще заключенная в немощном теле на диване в столовой зале, смежной с оранжереей, полной зеленых растений и кроваво-красных цветов. Но сильнее всего в тот день благоухали жасмины. Диккенс наверняка высказался бы по поводу этого приторного запаха, когда бы находился в сознании и занимался убийством Эдвина Друда. Во всяком случае, его сын Чарли — почти весь день просидевший со своей сестрой Кейт на ступеньках крыльца, где жасминный аромат насыщал воздух как нигде густо, — впоследствии просто не переносил эти цветы. Дыхание Диккенса, словно старавшегося поглубже вдохнуть аромат, который его сын возненавидит до конца своих дней, становилось все громче и прерывистее по мере приближения вечера. За проселочной дорогой, где проезжали экипажи в полном неведении о драме, разыгрывавшейся в тихом, мирном доме, тени двух кедров наползли на швейцарское шале, где сегодня не было написано ни строчки (и уже никогда не будет). Похоже, никто из собравшихся у смертного одра не вознегодовал, когда Эллен Тернан взяла руку человека, лежавшего без сознания на диване. Около шести вечера дыхание Диккенса стало слабым и поверхностным. К всеобщему смущению (во всяком случае, я бы смутился, если бы находился там), Неподражаемый вдруг начал всхлипывать, не приходя в чувство. Глаза его оставались закрытыми, и он не отвечал на пожатия руки Эллен, полной надежды, полной отчаяния, но примерно в десять минут седьмого из правого глаза у него выкатилась единственная слеза и сбежала по щеке. А потом он испустил дух. Чарльз Диккенс умер. Мой друг и враг, мой соперник и соавтор, мой учитель и мучитель прожил четыре месяца и два дня после своего пятьдесят восьмого дня рожденья. И ровно пять лет, с точностью почти до часа, после Стейплхерстской катастрофы и своей первой встречи с Друдом.
Глава 51
Впоследствии мои знакомые отмечали между собой, что я воспринял смерть Диккенса довольно спокойно. К примеру, хотя все знали об охлаждении наших с Диккенсом отношений, немногим ранее я написал Уильяму Тинделлу, что «Мужа и жену» можно прорекламировать, вклеив цветную листовку в июльский выпуск «Эдвина Друда». В постскриптуме я добавил:Диккенс пользуется большой известностью и уважением… Если надо, я могу оказать личное влияние.Седьмого июня — за день до того, как с Диккенсом приключился удар, — Тинделл ответил, что не одобряет эту идею. В письме от девятого июня (отправленном десятого числа) я написал:
Вы совершенно правы. Кроме того, он умер. Я закончил «Мужа и жену» вчера вечером, тотчас заснул от страшной усталости, а по пробуждении узнал о смерти Диккенса. Рекламные листовки на железнодорожных станциях — превосходная мысль.В другом случае мой брат показал мне карандашный эскиз, сделанный Джоном Эвереттом Миллесом десятого июня. По принятой в наше время традиции запечатлевать посмертный образ Великих Людей (подозреваю, она сохранилась и до вашего времени, дорогой читатель) семейство Диккенса тотчас обратилось к художнику (Миллесу) и скульптору (Томасу Вулнеру) с просьбой увековечить черты усопшего. И на рисунке Миллеса, и на посмертной маске, выполненной (по словам брата) Вулнером, глубокие складки и морщины, оставленные тревогой и страданиями, были сглажены, размыты, отчего лицо получилось значительно моложе. На рисунке был изображен неизбежный широкий бинт (или полотенце), подвязанный под подбородком Диккенса, чтобы челюсть не отвисала. — Правда он выглядит спокойным и величественным? — спросил Чарли. — Правда у него такой вид, будто он просто уснул — вздремнул после обеда, — но вот-вот проснется, вскочит на ноги с обычной своей резвостью и снова примется за работу? — Он выглядит мертвым, — сказал я. — Мертвым, как дронт.
Как я и предвидел, английская — нет, мировая — общественность принялась вопить о необходимости похоронить Диккенса в Вестминстерском аббатстве еще прежде, чем rigor mortis ослабил свою хватку. Лондонская «Таймс», старинный враг Диккенса и противник всех политических и реформаторских предложений, когда-либо публично выдвинутых Неподражаемым (не говоря уже о статье, обходившей снисходительным молчанием почти все его последние произведения), с пафосом восклицала в передовице с заголовком на всю полосу:
Многие государственные деятели, филантропы, общепризнанные благодетели народа уходят из жизни, не оставляя после себя невосполнимую пустоту, какая останется после смерти Чарльза Диккенса… Ни один человек нашей эпохи не достигал такого положения. Требуется сочетание могучего ума и исключительных нравственных качеств… чтобы общество согласилось признать человека своим бесспорным и бессменным кумиром. Именно такое положение занимал мистер Диккенс в сердцах английской и американской общественности на протяжении доброй трети века… Вестминстерское аббатство — последний приют великих писателей Англии, и лишь немногие из тех, чей священный прах покоится там и чьи имена высечены на стенах, достойны такой могилы больше Чарльза Диккенса. Еще меньше среди них таких, кого будут почитать все глубже с течением времени, все сильнее восхищаясь величием гения.Как я стонал, читая это! И как хохотал бы Чарльз Диккенс, когда бы мог прочитать столь раболепную и лицемерную передовицу в газете, всю жизнь враждовавшей с ним. Настоятель Вестминстерского аббатства, отнюдь не глухой к подобным воплям, письменно известил семейство Диккенса, что он, настоятель, «готов вступить с родственниками усопшего в переговоры относительно погребения». Но Джорджина, Кейти, Чарли и прочие члены семьи (Гарри примчался из Кембриджа слишком поздно, чтобы застать отца в живых) давно знали, что маленькое кладбище под стенами Вестминстерского замка переполнено и захоронения там не производятся. Диккенс не раз говорил, что хотел бы упокоиться на церковном погосте в Кобхэме или Шорне, но выяснилось, что эти кладбища тоже закрыты для погребений. Поэтому, когда от настоятеля Рочестерского собора поступило предложение похоронить Диккенса в стенах самого собора, в могиле, уже приготовленной там в часовне Девы Марии, семейство Неподражаемого дало предварительное согласие — еще прежде, чем пришло письмо от настоятеля Вестминстерского аббатства Стенли. О, дорогой читатель, как же возликовал я при мысли, что труп Диккенса на веки вечные упокоится в считаных ярдах от склепа, в межстенной полости которого я собирался схоронить его череп и кости! У меня все еще оставался дубликат ключа от подземной часовни, изготовленный Дредлсом! У меня все еще оставался ломик для извлечения камня из стены, выданный мне Дредлсом (точнее, проданный за триста фунтов и пожизненное ежегодное вспомоществование в сумме ста фунтов). Как замечательно! Как восхитительно! Я прочитал все это в полученном утром письме от Чарли и плакал от счастья за завтраком. Но — увы! — этому не суждено было случиться. Все было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Когда труп Диккенса начал разлагаться на июньской жаре, Форстер (как он, должно быть, упивался сознанием своей значимости!) и Чарли Диккенс поехали в Лондон на встречу с настоятелем Вестминстерского аббатства. Они сообщили настоятелю, что завещание Диккенса в самых недвусмысленных выражениях предписывает провести частные, тихие похороны, без воздания каких-либо общественных почестей. Настоятель Стенли согласился, что волю великого человека следует выполнить в точности, но заявил, что и «желание народа» надлежит уважить. В общем, они постановили погрести Чарльза Диккенса в Вестминстерском аббатстве. Чтобы добавить к одному оскорблению следующее (а такое происходило постоянно в течение двадцати лет моего общения с Диккенсом, дорогой читатель), мне отвели особую роль в этих неофициальных похоронах. Четырнадцатого июня я отправился на вокзал Чаринг-Кросс, чтобы встретить специальный поезд из Гэдсхилла и «принять» гроб с бренными останками Чарльза Диккенса. В согласии с волей усопшего, гроб перенесли в простой катафалк без траурного убранства (запряженный лошадьми без черных плюмажей). Сей экипаж вполне мог сойти за почтовый фургон, несмотря на нервную суетливость возницы и носильщиков. Опять-таки в соответствии с указаниями Диккенса только трем каретам было позволено проследовать за катафалком до аббатства. В первой карете сидели четверо детей Диккенса, оставшихся в Англии, — Чарли, Гарри, Мери и Кейти. Во второй находились Джорджина, сестра Диккенса Летиция (с ней он почти не общался при жизни), жена его сына Чарли и Джон Форстер (который, несомненно, хотел бы ехать в первой карете, если не в самом гробу рядом со своим господином). А в третьей помещались душеприказчик Диккенса Фредерик Уври, его преданный (пусть и не всегда благоразумный) врач Фрэнк Берд, мой брат Чарльз и я. Колокола церкви Святого Стефана отбивали половину десятого утра, когда наша маленькая процессия достигла ворот Вестминстерского аббатства. Сведения о похоронах не просочились за пределы узкого круга друзей и близких покойного — маленькая победа Неподражаемого над прессой, — и народ не выстраивался вдоль улиц по ходу нашего движения. Посетителей в тот день в аббатство не пускали. Когда наши экипажи въехали во двор, все большие колокола начали звонить. С помощью нескольких мужчин помоложе мы пронесли гроб по западному нефу Вестминстерского собора в южный трансепт, в Уголок поэтов. О, если бы люди, несшие гроб вместе со мной, и прочие скорбящие могли прочитать мои мысли, когда мы опустили сей простой деревянный ящик в могилу в Уголке поэтов! Интересно, произносилось ли мысленно еще когда-нибудь в стенах Вестминстерского аббатства столько непотребных ругательств и проклятий, хотя иные из погребенных там поэтов наверняка присоединились бы ко мне, если бы их мозг по-прежнему работал, а не гнил под землей. Прозвучало несколько коротких надгробных слов. Я не помню, кто и что говорил. Не было ни певчих, ни хора, но незримый органист заиграл похоронный марш, когда скорбящие потянулись вереницей к выходу. Я немного задержался и с минуту стоял у могилы один. Самые кости моего тучного тела вибрировали от органных басов, и меня позабавила мысль, что кости Диккенса точно так же вибрируют в гробу. «Знаю, ты бы предпочел, чтобы твои кости упокоились в безвестии в стене склепа с останками одного из любимых стариканов Дредлса», — мысленно сказал я своему другу и врагу, глядя на скромный гроб. На добротных дубовых досках красовалось лишь два слова: ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС. «Все равно, даже этого слишком много для тебя, — подумал я, когда наконец двинулся к выходу, чтобы присоединиться к остальным. — Слишком много. И это еще только начало». После стылого сумрака, царившего под высокими каменными сводами аббатства, солнечный свет показался беспощадно жарким и ярким. Друзья покойного получили дозволение навестить могилу, по-прежнему открытую, и ближе к вечеру, после многократных приемов лауданума и укола морфия, я вернулся туда вместе с Перси Фицджеральдом. К этому времени на каменных плитах в ногах Диккенсова гроба лежал венок из роз, а у изголовья высилась громадная груда кричаще-зеленых папоротников. Через несколько дней занудная элегия, напечатанная в «Панче», провыла:
Поздно вечером четырнадцатого июня я ходил взад-вперед в своем пустом доме. Джордж и Бесс вернулись из своего двадцатичетырехчасового отгула девятого июня, и я тотчас объявил, что они уволены, и велел паковать вещи. Они не получили от меня ни объяснений касательно причины увольнения, ни рекомендательного письма. Новых слуг я еще не нанял. Кэрри приедет завтра, в среду (будет ровно неделя со дня нашей с Диккенсом несостоявшейся встречи у гостиницы «Фальстаф-Инн» после заката), но почти сразу отправится с ежемесячным визитом к матери в дом Джозефа Клоу. Пока же я находился в огромном доме один. С улицы сквозь открытые окна доносился лишь шелест листвы, колеблемой легким ветром, да изредка — громыханье поздних экипажей, проезжающих мимо. Время от времени до моего слуха долетали тихие царапающие звуки — точно сухие веточки елозили по толстым дубовым доскам. То бедная маленькая Агнес (что бы там от нее ни осталось) скреблась в заколоченную дверь черной лестницы. В первые два дня после того, как я узнал о смерти Диккенса, подагрические боли, к великому моему удивлению, утихли. Еще сильнее меня удивило — и обрадовало — отсутствие какого-либо движения в моем черепе. Я решил, что ночью, неделю назад, когда Диккенсон, Баррис-Филд и сам Друд неведомым образом привели меня в бессознательное состояние на клумбе с алыми геранями, Друд извлек скарабея у меня из мозга. Но сегодня, когда я нес гроб к Уголку поэтов, а позже возвратился туда с Перси, прежняя давящая боль, суетливое копошение за глазными яблоками и даже звуки жучиной возни в моем мозгу возобновились. В дополнение к обычной ежевечерней дозе лауданума я сделал себе три больших инъекции морфия, но все равно не мог заснуть. Несмотря на теплую погоду и открытые окна, я жарко растопил камин в своем кабинете. Что бы такое почитать… что бы почитать? Я медленно ходил взад-вперед вдоль книжных полок, потом брал какую-нибудь книгу из непрочитанных или недочитанных, пробегал глазами страницу-другую, стоя либо у камина, либо под зажженной свечой на стеллаже, либо у лампы на письменном столе, а затем ставил том на место. Той ночью и всегда впоследствии при виде недостающих книжных корешков на тесно заставленных полках мне невольно вспоминался кладочный камень, который я должен был вынуть из стены Дредлсова склепа. Сколько костей, черепов и скелетов бесследно кануло в пустоту недостающих, ненаписанных книг? Наконец я взял «Холодный дом», превосходно изданный экземпляр в кожаном переплете, надписанный и подаренный мне Диккенсом вскоре после нашего знакомства. Мне кажется, тогда я выбрал «Холодный дом» потому, что этот роман вызывал у меня одновременно восхищение и отвращение, как и все прочие сочинения покойного. Никому, помимо нескольких самых доверенных своих друзей, я никогда не говорил, сколь нелепым я нахожу хваленый диккенсовский стиль в упомянутой книге. Повествование от лица Эстер Саммерсон, ведущееся там временами, представлялось мне верхом нелепости. Если этот посредственный роман дожил до ваших дней, дорогой читатель (в чем я сильно сомневаюсь, хотя почти уверен, что «Лунный камень» дожил), вы просто посмотрите на метафору, которой Диккенс открывает произведение — я говорю о тумане! Он появляется, он превращается в центральную метафору, а потом уползает, чтобы уже никогда не вернуться в качестве таковой. Какое дилетантство! Какое неумение выстраивать лейтмотив и доводить до конца замысел! Просто посмотрите, дорогой читатель, — как смотрел я в ночь после похорон Диккенса, листая страницы с лихорадочным усердием юриста, выискивающего прецедент, чтобы оправдать (или, в моем случае, осудить) клиента, — так вот, просто посмотрите, сколь смехотворны абсолютно неправдоподобные стечения обстоятельств, описанные там… сколь неправдоподобно жестоко «вечное дитя» Гарольд Скимпол, а ведь все мы знали, что Диккенс писал Скимпола с нашего общего знакомого Ли Ханта… а чудовищно недостоверная детективная линия, введенная к концу романа… а постоянно меняющиеся противоречивые впечатления о внешности Эстер, тяжело переболевшей оспой (обезобразила ли болезнь лицо девушки? Только сейчас казалось — да, конечно! А в следующий момент — вовсе нет! Какое сочетание писательского непрофессионализма и повествовательского мошенничества!)… но сперва посмотрите на это!.. посмотрите, коли вам угодно, на все повествование от лица Эстер Саммерсон! Что вы на это скажете? Что можете вы — да и любой другой честный читатель — сказать на это? Эстер начинает свой рассказ языком плохо образованной и наивной девицы, какого и следует ожидать от плохо образованной и наивной девицы, она говорит по-детски простыми предложениями (я порвал несколько страниц, пока яростно листал книгу в поисках нижеследующего места):
Милая старая кукла! Я была очень застенчивой девочкой, — не часто решалась открыть рот, чтобы вымолвить слово, а сердца своего не открывала никому, кроме нее… Милая, верная куколка, я знала, что ты ждешь меня!Я прощаю вас, дорогой читатель, коли по прочтении сих строк вам понадобилось (как понадобилось мне) сбегать в отхожее место, чтобы стошнить. Но Диккенс почти сразу забыл, что Эстер думает и изъясняется в такой манере! Немного погодя Эстер при описании самых простых сцен начинает использовать чисто диккенсовские аллитерации и непринужденные ассонансы — «часы потикивали, дрова потрескивали», — а вскоре бедная, плохо образованная девица на протяжении целых страниц, целых глав ведет повествование с поразительным, завораживающим красноречием, свойственным только и исключительно Чарльзу Диккенсу. Как недостоверно! Как нелепо! А позже той ночью после похорон Диккенса (вернее, уже утром следующего дня, ибо разве не слышал я несколькими часами ранее, как пробили двенадцать потикивающие часы над камином с потрескивающими дровами?), когда я лихорадочно листал измятые, порванные страницы книги в поисках оружия для дальнейших нападок (если не наступательной войны), чтобы убедить вас, дорогой читатель (и, возможно, себя самого), в заурядности новопреставленного литератора, я вдруг наткнулся на следующий эпизод. Нет, не эпизод, а фрагмент… нет, буквально строчка из фрагмента эпизода — подобные места Диккенс тогда постоянно вымарывал, не возвращаясь к ним впоследствии и особо над ними не задумываясь. Эстер приезжает в гостиницу в портовом городке Дил, чтобы встретиться с Ричардом, женихом своей лучшей подруги, молодым человеком, над которым неусыпно сторожат Рок, Несчастье, Наваждение и Горе, точно стая воронов (или канюков, если употребить американское название) на голых ветвях ноябрьского дерева, — сторожат, выжидая момента, чтобы наброситься на него, как они издавна и по сей день сторожат надо мной. Диккенс позволяет нам бросить взгляд поверх плеча Эстер и увидеть бухту. Там стоит на рейде множество судов и еще больше появляется, словно по волшебству, когда туман начинает подниматься. Подобно Гомеру в «Илиаде», Диккенс коротко перечисляет корабли, включая один большой, только что вернувшийся на родину из Индии. Эту картину автор видит и показывает нам в тот момент, «когда солнце засияло, выглянув из-за облаков, и бросило на темное море светлые блики, похожие на серебристые озерца». Серебристые озерца на море. Озерца на море. Одним из моих любимых развлечений, дорогой читатель, являются морские прогулки вдоль побережья на яхте с наемной командой. Именно во время одной из таких экскурсий я познакомился с Мартой Р***. Я видел озаренное солнцем море тысячи раз и описывал его в своих повестях и романах десятки, возможно даже, сотни раз. Я употреблял слова «лазурное», «голубое», «сверкающее», «пляшущее», «серое», «в белых барашках», «зловещее», «грозное» и даже «ультрамариновое». Я десятки или сотни раз видел, как солнце «бросает на темное море светлые блики, похожие на серебристые озерца», но мне никогда не приходило в голову описать сей феномен в своей прозе, используя или нет аллитерацию беглых, чуть смазанных свистящих звуков, к которой прибегает Диккенс в данном случае. Потом, не переводя дыхания (возможно даже, не макая перо в чернила), Диккенс подымает завесу тумана за плечом Эстер, вскользь упоминая об «изменчивой игре света и тени на кораблях», — и едва я пробежал лихорадочно горящими глазами эти несколько слов в этом коротком фрагменте, я с убийственной ясностью понял, что никогда в жизни, даже если доживу до ста лет, сохранив все свои литературные способности до последнего часа, я не сумею думать и писать таким вот образом. «Холодный дом» — это только и исключительно стиль, а стиль — это только и исключительно автор. А автором этим является — являлся — Чарльз Диккенс. Я швырнул дорогостоящий экземпляр романа — в кожаном переплете, с золотым обрезом, с дарственной надписью — в потрескивающий, потикивающий, похихикивающий и еще какой угодно чертов огонь. Затем я поднялся в спальню и яростно сорвал с себя одежду, мокрую от пота. Я по сей день могу поклясться, что все мои вещи, вплоть до липнувшего к телу исподнего, источали не только сладковатый запах надгробных цветов, но также приторный смрад могильной земли, ссыпанной в кучу у ямы — последней пустоты, — предназначенной для дубового ящика (в конце пути ждущего всех нас). Смеясь и выкрикивая что-то (не помню, почему я смеялся и какие слова выкрикивал), я непослушными руками достал ключ и отпер ящик комода, где хранился револьвер Хэчери. Металлическая штуковина казалась тяжелее, чем обычно. Патроны, как я неоднократно упоминал, по-прежнему сидели в гнездах барабана. Я взвел благословенный курок и приставил дуло к потному виску. Потом вспомнил: нёбо. Самый верный путь к мозгу. Я попытался засунуть длинный стальной фаллос в рот, но не смог. Даже не возвратив курок в исходное положение, я бросил бесполезный револьвер обратно в ящик комода. Он не разрядился. Потом, прежде чем принять ванну и облачиться в пижаму и халат, я сел за маленькое бюро в спальне (возле него всегда сидит Второй Уилки, когда пишет под мою диктовку о богах Черной Земли) и написал короткое, но предельно ясное и внятное письмо. Отложив его в сторону, чтобы завтра отправить с посыльным, а не почтой, я наконец принял ванну, лег в постель и уснул, невзирая на скарабееву возню в черепе. Я оставил входную дверь незапертой и окна открытыми, на радость ночным грабителям (если кто-нибудь из них осмелился бы сунуться в дом, который в свое время удостоил визитом сам Друд), и не погасил свечи, керосиновые лампы и камин на первом этаже. Я даже не поставил на место каминный экран после того, как сжег «Холодный дом». В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июня я наверное знал одно: погибнуть при пожаре мне не суждено.
Глава 52
Четвертого июля 1870 года, во второй день рожденья своей маленькой дочки Мэриан, я закончил работать рано (я занимался переделкой «Мужа и жены» для театра) и отправился вечерним поездом в Рочестер. Я взял с собой украшенную вышивкой диванную подушку, сшитую для меня Мартой еще до первого ее приезда в Лондон. Какие-то дети в вагоне, заметив у меня под мышкой подушку вместе с кожаным саквояжем, стали смеяться и показывать пальцем — пожилой господин сорока шести лет и почти семи месяцев от роду, с лысеющей головой, седеющей бородой и слабеющим зрением, таскает с собой собственную подушку, вероятно, по причинам физиологического свойства, слишком нелепым, чтобы Юность хотя бы задалась вопросом, в чем именно они заключаются, — а я улыбнулся и помахал рукой им в ответ. В Рочестере я прошел пешком милю от станции до собора. Очередной выпуск «Тайны Эдвина Друда» на днях вышел в свет, и этот город и собор с кладбищем — замаскированные на страницах романа под названиями «Клойстергэм» и «Клойстергэмский собор» столь же плохо, как Дик Дэчери со своим пышным париком, про который он постоянно забывает, — уже облекались ореолом тайны и вызывали литературные ассоциации в сознании внимательного читателя. Солнце недавно зашло, и я с подушкой и саквояжем стоял там и ждал, когда последние посетители — два священника со странно расставленными руками (очевидно, они здесь копировали угольным карандашом надписи на надгробьях) — выйдут за открытые ворота и скроются за поворотом дороги, ведущей к центру города и железнодорожной станции. От дальней границы кладбища доносились два голоса, но самих людей не было видно за волнообразными возвышенностями, деревьями, густыми живыми изгородями, отделявшими участок с бедными могилами, расположенный рядом с зарослями болотной травы, и даже за высокими надгробными монументами, возведенными высокомерными, но исполненными сомнений людьми вроде мистера Томаса Сапси, который все еще жив-здоров и важно расхаживает и беспрестанно похваляется, восхищается, упивается длинной эпитафией на надгробном памятнике своей жены (сочиненной им самим и про себя самого, разумеется, и высеченной на камне колоритным кладбищенским каменотесом по имени Дердлс). Жив-здоров, следует заметить, только на страницах романа, который сейчас приближался к преждевременному концу столь же стремительно и неотвратимо, как пятью годами ранее фолкстонский курьерский приближался к мосту с разобранными рельсами у Стейплхерста. — Что за дурацкая идея! — прорычал мужской голос. — Я думала, будет славно, — послышался женский голос. — Вечерний пикник у моря. Я остановился менее чем в двадцати футах от бранящейся пары, но они меня не видели за высоким, массивным мраморным памятником — обелиском наподобие Сапсианова, водруженным на могиле местного чиновника, чье имя, в любом случае быстро забытое, уже почти стерлось на камне под воздействием ветра, дождей и соли. — Чертов пикник на чертовом кладбище! — проорал мужчина. Даже самому незаинтересованному человеку (и даже издалека) сразу становилось ясно, что этот мужчина никогда не стесняется орать во все горло. — Глянь, какая удобная… каменная плита. Ну чем не стол? — произнес усталый женский голос. — Присядь, передохни, а я открою твое пиво. — К черту мое пиво! — прорычал мужчина. Раздался звон хрупкого фарфора, разбитого о вековечный — или по крайней мере увековечивающий — камень. — Укладывай все обратно в корзину. Эй, сперва дай стакан и ведерко с пивом. Тупая корова. Теперь мне придется ждать несколько часов, чтобы пожрать. А ты заработаешь и вернешь мне деньги, потраченные на поездку, иначе… Вот те на! А вы что здесь делаете? Что это у вас в руках? Подушка? Улыбаясь, я подошел к мужчине на расстояние вытянутой руки — он едва успел подняться на ноги, стараясь не расплескать пиво из ведерка и стакана. Продолжая улыбаться, я прижал подушку к его впалой груди и надавил на спусковой крючок револьвера, приставленного дулом к подушке. Выстрел прозвучал на удивление глухо. — Что за?! — выкрикнул Джозеф Клоу. Пошатываясь, он отступил на несколько шагов. Казалось, он никак не мог решить, куда смотреть: на меня, по-прежнему державшего в руках подушку — она слегка дымилась, — или на собственную грудь. Единственный алый цветок герани расцвел на манишке дешевой, но безупречно белой сорочки. Клоу поднял руки с грязными ногтями к расстегнутому жилету и принялся терзать неверными пальцами сорочку, отрывая пуговицы. Я снова прижал подушку к теперь голой, безволосой груди, на пол-ладони выше грудины, и выстрелил еще дважды. Оба раза без осечки. Покачиваясь, Клоу отступил еще на несколько шагов, зацепился пятками за низкую могильную плиту вроде той, что они выбрали в качестве стола, упал навзничь, перекатился один раз и распластался там на спине. Он открыл рот, чтобы закричать, но у него не вырвалось ни звука, помимо бульканья и хрипа, исходивших, осознал я, не из горла, а из простреленных легких. Его глаза расширились, зрачки закатились. Длинные ноги уже начали конвульсивно подергиваться. Кэролайн бросилась вперед, присела на корточки рядом с мужем и выхватила подушку из моих твердых рук. Опустившись на колени, она крепко прижала дымящуюся подушку к лицу с судорожно разинутым ртом и вылезшими из орбит глазами. — У тебя осталась одна пуля, — сказала она мне. — Стреляй. Живее! Я вдавил ствол пистолета в подушку с такой силой, словно собирался задушить Клоу, затолкав в глотку перья и ткань. Стоны и натужные хрипы стали совсем не слышны. Я нажал на спусковой крючок, и верное оружие выстрелило в последний раз. На сей раз послышался знакомый (по крайней мере мне, по моему опиумному сновидению) треск черепа, похожий на треск расколотого грецкого ореха громадных размеров. Я притоптал тлеющую подушку. Кэролайн смотрела неподвижным взглядом на бело-красное лицо с искаженными, но теперь уже навек застывшими чертами. У нее самой на лице невозможно было прочитать ничего — даже мне, знавшему ее много лет. Потом оба мы оглянулись по сторонам, ожидая услышать крики и топот. Я почти приготовился увидеть младшего каноника Криспаркла, решительно идущего размашистым шагом от кладбищенских ворот. Но в поле зрения не было ни души. И ни единого тревожного крика не раздалось вдалеке. Тем вечером ветер дул в сторону моря. Болотная трава мерно колыхалась. — Бери его за ноги, — тихо проговорил я, вынимая из саквояжа и надевая длинный желтый фартук: Кэролайн написала, чтобы я непременно прихватил фартук, и даже сообщила, где именно в доме на Глостер-плейс он хранится. — Тащить волоком нельзя — следы на земле останутся… Чем ты, собственно, там занимаешься? — Подбираю пуговицы, — ответила Кэролайн, сидевшая на корточках. Она говорила совершенно спокойно и проворно ворошила траву длинными ловкими пальцами, натренированными шитьем и карточными играми. Она не суетилась. Потом мы понесли тело Джозефа Клоу к известковой яме, до нее было футов шестьдесят. То был самый рискованный момент — я подхватывал труп под мышки (и радовался, что на мне фартук, впитывающий содержимое раздробленного черепа, хотя понятия не имел, откуда Кэролайн знала, что он понадобится), а Кэролайн держала за ноги, — но я никого не заметил ни на кладбище, ни за пределами оного, сколько ни крутил головой по сторонам. Я даже опасливо поглядывал на море, зная наверное, что разного рода мореплаватели обычно вооружены подзорными трубами или биноклями. Внезапно Кэролайн залилась смехом, и я от неожиданности вздрогнул, едва не уронив ношу. — Что тебя так развеселило, скажи на милость? — пропыхтел я. Я задыхался вовсе не потому, что тащил Клоу (мертвый водопроводчик казался полым, так мало он весил), а просто от ходьбы. — Да мы с тобой, — сказала Кэролайн. — Только представь, как мы выглядим со стороны: я — согнутая пополам, как горбунья, ты — в своем желтом фартуке, оба беспрестанно вертим головой, точно марионетки в руках неумелого кукловода… — Не понимаю, что здесь смешного, — сказал я. Мы дотащили Клоу до промежуточного места назначения, и я осторожно — гораздо осторожнее, чем того требовали обстоятельства, — опустил верхнюю половину тела на самом краю ямы. — Когда-нибудь поймешь. — Кэролайн уронила на землю свою часть ноши и отряхнула ладони. — Ты позаботься обо всем здесь, а я пойду уберу с могилы посуду и прочее. — Прежде чем тронуться с места, она бросила взгляд на море, потом на соборную башню. — Тут действительно можно было бы устроить славный пикник. Да, не забудь про мешочек в саквояже и кольца, часы, монеты, пистолет… Хотя я имел больше опыта в подобных делах (по крайней мере, мне так казалось), я бы непременно забыл и сбросил Клоу в яму с кольцами, золотым медальоном на цепочке (в нем окажется портрет женщины, но не Кэролайн), часами и кучей мелких монет, которые все было бы трудно или попросту невозможно отыскать в извести через неделю-другую, когда я собирался вернуться сюда. Так или иначе, все металлические предметы, включая револьвер Хэчери, теперь полностью разряженный и бесполезный (с ним я расстался без малейшего сожаления), уже через минуту покоились в джутовом мешочке, а еще через две минуты труп Клоу целиком погрузился в густую серую жижу. Я отшвырнул подальше металлический прут, столь долго пролежавший здесь в зарослях в ожидании своего часа, и вернулся к месту несостоявшегося пикника. — Что ты делаешь? — спросил я странным, сдавленным голосом; я задыхался, словно мы карабкались по горному склону где-нибудь высоко в Альпах, а не стояли на кладбище, расположенном на уровне моря. — Ищу осколки тарелки, которую он разбил. Хорошая была тарелка. — Ох, ради всего свя… — Я осекся, услышав голоса, донесшиеся с дороги. Мимо проезжал открытый экипаж. Мужчина, женщина и двое детей смеялись и показывали пальцем на розовые облака над западным горизонтом, в противоположной стороне от собора и кладбища. Они укатили прочь, ни разу не взглянув в нашем направлении. — Надо избавиться от этого, — сказала Кэролайн, вручая мне испачканную, почерневшую, но все еще тлеющую внутри подушку. Теперь настал мой черед рассмеяться, но я усилием воли сдержался, поскольку не был уверен, что смогу остановиться, если начну. — И бога ради, Уилки, — добавила она, — сними этот яркий фартук! Я так и сделал, а затем отнес подушку и свой кожаный саквояж с подлежащими уничтожению предметами к яме. Трупа Клоу не было видно. В ходе экспериментов с собачьими трупами я убедился, что даже после вздутия и разложения, повышающих плавучесть мертвых тел, они не поднимаются на поверхность, если их погрузить в известь достаточно глубоко. Но что делать с подушкой? Вероятно, негашенка съест ее за день-два, как съедала все предметы одежды, с которыми я здесь экспериментировал (пуговицы, ремни — за вычетом медных пряжек, — помочи, шнурки и подметки растворялись медленнее всего), но утонет ли она в жиже? Металлический прут я уже выбросил и не имел ни малейшего желания лезть за ним в болото, заросшее камышовой травой. В конечном счете я швырнул украшенную вышивкой коричневую штуковину по возможности дальше в сторону моря. Происходи дело в одном из моих — или диккенсовских — криминальных романов, она стала бы главной уликой против меня (и Кэролайн). Какой-нибудь сыщик вроде инспектора Баккета, сержанта Каффа или даже Дика Дэчери, только поумнее, непременно разоблачил бы на нас, и оба мы, поднимаясь по тринадцати ступеням к виселице, думали бы: «Чертова подушка!» (Хотя я никогда не приписал бы подобных выражений женщине.) Так или иначе, несчастная подушка — едва видимая в сумерках, ибо яркая луна еще не взошла, — описала в воздухе широкую дугу и исчезла в зарослях камыша и рогоза. Вспомнив, кто преподнес мне в подарок сей расшитый кошмар, я наконец улыбнулся и подумал: «Возможно, это самый большой вклад, внесенный Мартой Р*** в мое счастливое будущее». Кэролайн уже собрала и уложила в корзину осколки своей любимой тарелки, и мы с ней покинули кладбище. Мы поедем в Лондон курьерским, отходящим из Рочестера в 9.30, но будем сидеть порознь, даже не в одном вагоне. — Ты всё взяла, ничего там не оставила? — тихо спросил я, когда мы шли по старым узким улочкам Рочестера к огням железнодорожной станции. Она кивнула. — Возвращаться не придется? — Нет. — Значит, три недели, — промолвил я. — У меня записан адрес маленькой гостиницы близ Воксхолл-Гарден, где будет жить миссис Г***. — Но никакого общения в ближайшие три недели, — прошептала Кэролайн, когда мы вышли на более оживленную улицу. — Ты действительно считаешь, что я смогу вернуться на Глостер-плейс к первому сентября? — Абсолютно в этом уверен, — сказал я. И я говорил правду.Глава 53
С полчаса назад, вскоре после восхода солнца, погасив лампу рядом со своим креслом, я написал Фрэнку Берду следующую записку:Я умираю — приходите, коли можете.Тогда я не думал, что действительно умираю, но сейчас мне стало гораздо хуже, и агония может начаться с минуты на минуту — а хороший писатель планирует все вперед. Возможно, позже у меня не хватит сил написать записку, а потому я приготовил ее заранее. Не исключено, в скором времени я попрошу Мэриан или Хэрриет отослать ее Фрэнку Берду, такому же старому, слабому и немощному, как я. Но верному другу не придется далеко идти. Из окна моей спальни виден его дом. Вполне возможно, дорогой читатель, сейчас вы задаетесь вопросом: «Когда же вы это пишете?» Впервые за все время нашего долгого совместного путешествия я отвечу на этот вопрос. Я заканчиваю длинную рукопись, адресованную вам, в третью неделю сентября 1889 года. Минувшим летом я тяжело болел (но не прервал работы над мемуарами), а к осени мне стало гораздо лучше. Третьего сентября я написал в письме к Фредерику Леману:
Я заснул, и врач запретил меня будить. Он говорит, что сон меня исцеляет, и он верит в скорое мое выздоровление. Не обращайте внимания на кляксы и пачкотню, рукав моего халата слишком широкий, но рука моя по-прежнему тверда. До свидания, мой дорогой старый друг, будем с уверенностью надеяться на лучшие — в смысле моего самочувствия — дни.Но уже через неделю у меня, в дополнение ко всем прочим моим недугам, развилась легочная инфекция, и старина Фрэнк — хотя он ничего такого мне не сказал — оставил всякую надежду. Полагаю, вы тоже заметите кляксы и пачкотню на последних страницах моей рукописи, адресованной вам. У моего халата действительно слишком широкие рукава, и, если уж сказать вам всю правду (которую мне не хочется говорить Фредерику, Фрэнку,Кэролайн, Хэрриет, Мэриан или Уильяму Чарльзу), зрение и координация движений у меня теперь далеко не те, что были прежде. В мае сего года, когда некий любопытный и дерзкий молодой корреспондент прямо спросил меня, правдивы ли слухи о моем длительном употреблении стимулирующих средств, я ответил следующим образом:
Я пишу романы последние тридцать пять лет и имею обыкновение снимать вызванную напряженной умственной работой усталость (по мнению Жорж Санд, тяжелейшую из всех известных форм усталости) либо шампанским, либо бренди (выдержанным коньяком). В январе, коли я доживу, мне исполнится шестьдесят шесть лет, и в данный момент я пишу очередное художественное произведение. Таков мой опыт по части возбуждающих средств.В этот холодный день двадцать третьего сентября я уверен, что не дотяну до января, когда колокола пробили бы шестьдесят шесть раз по случаю моего дня рожденья. Но я уже прожил на пять лет дольше своего непьющего отца и примерно на двадцать лет дольше своего любимого брата Чарльза, никогда не употреблявшего стимулирующих средств сильнее глотка-другого виски. Чарли скончался 9 апреля 1873 года. Он умер от рака желудка и кишечника, на каковом диагнозе всегда настаивал Диккенс, несмотря на все наши возражения. Я нахожу утешение единственно в мысли, что Диккенс уже почти три года как лежал в могиле ко времени, когда Чарли в конце концов сдался перед болезнью и отдал Богу душу. Я бы точно убил Диккенса, если бы услышал, как он торжествует по поводу того, что правильно поставил диагноз моему дорогому брату. Надо ли рассказывать о девятнадцати годах, прожитых мной с момента смерти Неподражаемого? Думаю, это не стоит ни моих, ни ваших усилий, дорогой читатель, ибо не имеет никакого отношения к предмету данных мемуаров. И нисколько не интересует вас, я уверен. Я писал о Диккенсе и Друде, и для вас представляют интерес именно они, а не ваш скромный, недостойный внимания повествователь. Достаточно сказать, что Кэролайн Г*** вернулась в мой дом на Глостер-плейс в начале осени 1870 года, всего через пару месяцев… да, через пару месяцев после смерти Диккенса и исчезновения своего мужа. (Поскольку мать Джозефа Клоу к тому времени перенесла ряд апоплексических ударов, казалось, никто не заметил, что он бесследно пропал, причем вместе с женой.) Несколько слабо заинтересованных лиц наводили о них справки, но все счета мистера и миссис Клоу были оплачены, все их долги погашены, июльская арендная плата за их крохотный домик внесена, а сам домик освобожден от всех личных вещей и наглухо заперт (в скором времени он со всей своей скудной обстановкой перешел обратно в распоряжение владельца), — и немногочисленные знакомые четы Клоу решили, что сильно пьющий водопроводчик и его несчастная жена переехали на новое место жительства. Большинство непотребных приятелей Джозефа Клоу посчитали, что невезучий малый со своей злополучной супругой перебрался в Австралию, ибо после нескольких стаканов Клоу всегда грозился взять вдруг да уехать куда подальше. К марту 1871 года миссис Кэролайн Г*** снова числилась в приходских ведомостях моей домоправительницей. Кэрри страшно обрадовалась возвращению матери и ни разу, насколько мне известно, не задала ни единого вопроса о том, как Кэролайн удалось вырваться из неудачного брака. Четырнадцатого мая 1871 года «миссис Марта Доусон» родила мне младшую дочь, Хэрриет, — названную так в честь моей матери, разумеется. В Рождество 1874 года появился на свет наш третий ребенок, Уильям Чарльз Коллинз-Доусон. Едва ли нужно говорить, что во время и после каждой беременности Марта все больше толстела. После рождения Уильяма она оставила всякие попытки скрывать лишний вес, все свои наслоения жира и сала. Казалось, она махнула рукой на свою внешность. Некогда я написал, что Марта Р*** являет собой милый моему сердцу «образчик дородной английской девицы, вскормленной жирной говядиной». Но мясное питание имело вполне предсказуемые последствия. Если бы в 1874 году меня попросили переписать вышеприведенную фразу, она бы гласила: «образчик жирного куска говядины, в какой зачастую превращаются английские девицы». Если Кэролайн Г*** и знала о существовании Марты и детей (которых я переселил на Таунтон-плейс, в лучшие условия и поближе к своему дому), она ни разу не обмолвилась и не дала понять, что знает. Если Марта Р*** и знала, что Кэролайн Г*** проживает со мной на Глостер-плейс (а с 1870 года на Уимпол-стрит), она ни разу не обмолвилась и не дала понять, что знает.
Если вас, дорогой читатель, интересует, как развивалась моя литературная карьера после смерти Диккенса, я выскажусь о ней одной-единственной жестокой фразой: все считали, и я с самого начала понимал, что моя карьера и я вместе с ней обречены на самый прискорбный провал. Следуя примеру Диккенса, я в конце концов стал выступать с публичными чтениями. Близкие друзья говорили мне, что они восхитительны и пользуются большим успехом. Но я понимал — и честные критики здесь и в Америке говорили, — что мои выступления невнятны, безжизненны, бессвязны и вообще никуда не годятся. Следуя примеру Диккенса, я продолжал писать и перерабатывать свои произведения для театра при всяком удобном случае. Каждый следующий мой роман был слабее предыдущего, и все они были слабее моего шедевра, «Лунного камня», хотя я уже давно понимал, что «Лунный камень» далеко не шедевр. (Понять это меня заставила незаконченная «Тайна Эдвина Друда».) Возможно, я начал терять популярность уже через несколько дней после смерти Чарльза Диккенса, когда я письменно снесся с Фредериком Чапменом из издательского дома «Чапмен и Холл» и сообщил, что могу закончить «Тайну Эдвину Друда» для них, коли они пожелают. Я дал понять, что, хотя Диккенс не оставил никаких записей относительно продолжения романа (и действительно, никаких заметок на полях и сюжетных заготовок на голубой бумаге, имеющих отношение к заключительной части «Друда», так никогда и не было обнаружено), он незадолго до смерти поведал мне — мне одному — дальнейшую фабулу. Я — один я — могу за ничтожную плату написать вторую половину «Тайны Эдвина Друда» как соавтор Диккенса (в каковом качестве неоднократно выступал прежде). Реакция Чапмена стала для меня полной неожиданностью. Издатель пришел в ярость. Он заявил, что ни один английский писатель, сколь бы талантливым он ни был или ни мнил себя (а Чапмен недвусмысленно намекнул, что не считает меня талантливым), никогда не сможет заменить Чарльза Диккенса, даже если у него в кармане лежит сотня законченных планов продолжения романа. «Лучше остаться в неведении относительно личности убийцы Эдвина Друда — то есть если Эдвин Друд действительно убит, — написал он мне, — чем позволить менее одаренному писателю поднять перо, выпавшее из руки Мастера». Последняя метафора показалась мне чрезвычайно нелепой и неуместной. Чапмен даже поклялся, что ни словом никому ни обмолвится о моем предложении (и призвал меня тоже помалкивать на сей счет) из опасения, что «вы неминуемо и безвозвратно станете самым ненавистным, непременно прослывете самым наглым и самонадеянным человеком в Англии, в Британской империи и во всем мире». Как издатель и редактор мог написать столь корявую фразу — я по сей день не понимаю. Но вскоре после смерти Диккенса обо мне и вправду поползли недоброжелательные слухи, и именно тогда публика начала открыто выказывать враждебность по отношению ко мне.
Следуя примеру Диккенса, я совершил турне с публичными чтениями по Соединенным Штатам и Канаде. Оно происходило в 1873–1874 годах и может быть охарактеризовано как полный провал. Долгое путешествие — сначала на корабле, потом на поезде, потом в карете — изнурило меня еще до начала турне. Американская публика, похоже, сходилась с английской во мнении, что моим выступлениям недостает живости и даже внятности. В ходе всего турне я чувствовал себя прескверно, и дело дошло до того, что даже огромные дозы лауданума (найти и купить который в Штатах оказалось на удивление сложно) не восстанавливали мои силы и не поднимали настроения. Американская публика состояла из одних идиотов. Вся нация состояла из одних ханжей, «синих чулков» и невеж. Если французы никогда не имели ничего против присутствия Кэролайн в моей свите, то американцев шокировала бы самая мысль о сопровождающей меня женщине, не связанной со мной брачными узами, — посему на протяжении нескольких мучительно долгих месяцев в Америке мне пришлось переносить тяготы путешествий, недуги и ежевечерние унижения без помощи и поддержки Кэролайн. И у меня не было Долби, который занимался бы всеми организационными вопросами. Импресарио, нанятый мной для того, чтобы проследить за постановкой одной моей пьесы в Нью-Йорке и Бостоне (из числа нескольких театральных премьер, намеченных на период моего американского турне), попытался ободрать меня как липку. В феврале 1874-го в Бостоне и прочих городах, обозначенных мелкими точками на белой простыне, которую они называют картой Новой Англии, я общался со светилами американской литературы и интеллектуальной жизни — Лонгфелло, Марком Твеном, Уиттиром и Оливером Уэнделлом Холмсом — и должен сказать: если поименованные господа являлись «светилами», значит, литература и интеллектуальная жизнь в Соединенных Штатах прозябают во мраке. (Хотя мне понравилось стихотворение, написанное в мою честь и публично прочитанное Холмсом.) Тогда я понял и по сей день считаю, что большинство американцев рвались на мои выступления и платили деньги за возможность услышать мое чтение единственно потому, что я был другом и соавтором Чарльза Диккенса. Диккенс был призраком, преследовавшим меня повсюду. Диккенс был лицом Марли на дверном молотке, приветствовавшим меня у каждой двери. В Бостоне я встретился со старыми друзьями Диккенса, Т. Филдсом и его женой. Они сводили меня в ресторацию, где угостили великолепным ужином, а потом в оперу, но я видел, что Энни Филдс держится обо мне невысокого мнения, и нисколько не удивился, когда немногим позже прочитал нижеследующий отзыв обо мне, сделанный ею в частном письме, но очень скоро перекочевавший на страницы прессы:
Низкорослый господин с нелепой фигурой, огромным лбом и несоразмерно широкими плечами. Говорил он быстро и любезно, но совсем неинтересно… Человек, удостоенный многих почестей и обласканный в лондонском обществе, который слишком много ест, слишком много пьет, постоянно хворает, страдает подагрой, — одним словом, не самый замечательный образчик человеческой породы.В общем, за несколько месяцев в Америке я провел в приятной, по-настоящему благожелательной обстановке лишь несколько дней, когда гостил у своего старого друга, французско-английского актера Фехтера (в свое время подарившего Диккенсу на Рождество швейцарское шале), у него на ферме близ Квакертауна, штат Пенсильвания. Фехтер превратился в запойного пьяницу и буйного параноика. Некогда видный актер (хотя и не особо красивый, ибо он выступал в амплуа злодеев) разжирел, обрюзг и, по всеобщему мнению, опустился внешне и внутренне. Перед тем как навсегда покинуть Лондон, Фехтер рассорился со всеми своими театральными партнерами — разумеется, он всем задолжал денег, — а потом разругался со своей ведущей актрисой Карлоттой Леклерк и публично оскорбил ее. Когда он уехал в Пенсильванию с намерением жениться на девушке по имени Лизи Прайс — тоже актрисе, но бесталанной, — никто не счел нужным сообщить мисс Прайс, что у Фехтера в Европе есть жена и двое детей. Фехтер умер от цирроза печени в 1879 году, «всеми презираемый и забытый», как говорилось в некрологе, опубликованном в одной лондонской газете. Его смерть стала для меня ударом еще и потому, что во время последней нашей встречи в Квакертауне, произошедшей за шесть лет до его смерти, он опять занял у меня денег и так и не вернул долг. Год назад от сего дня, когда я пишу эти строки (роняя кляксы), или, возможно, два года назад, в 1887-м… во всяком случае, вскоре после того, как я переехал с Глостер-плейс по адресу Уимпол-стрит, восемьдесят два, где я живу (и умираю) в настоящее время (Агнес, понимаете ли, начала орать дурным голосом, и, вне всяких сомнений, я не единственный слышал вопли — ведь миссис Уэбб и остальные новые слуги всеми силами старались держаться подальше от заколоченной черной лестницы), и… О чем это я? Ах да! В прошлом или позапрошлом году, когда меня представили Холлу Кейну (остается только надеяться, дорогой читатель, что вы знаете, кто он такой, а равно знаете, кто такой Россетти, познакомивший нас), он долго пристально смотрел на меня и позже выразил свои впечатления обо мне следующим образом: «У него большие глаза навыкате и затуманенный сонный взгляд, какой мы порой видим у слепца или у человека, одурманенного хлороформом». Но я был не настолько слеп тогда, чтобы не заметить, какой ужас я ему внушаю. В тот день я сказал Кейну: «Вижу, вам никак не отвести взгляда от моих глаз, и должен сказать, у меня в них гнездится подагра, которая всячески старается ослепить меня». Только тогда, разумеется, и в течение многих предшествующих лет под «подагрой» я подразумевал жука, то есть скарабея, то есть насекомого, внедренного Друдом в мой мозг, прямо за глазными яблоками. И он действительно всячески старался ослепить меня. Так было всегда.
Ну ладно… читатель. Я знаю, вам нет никакого дела до моей жизни, до моих телесных страданий и даже до того, что я умираю сейчас, когда с трудом пишу эти строки для вас. Вас интересуют только Диккенс и Друд, Друд и Диккенс. Я с самого начала не заблуждался на ваш счет… читатель. Все, что касается меня в данных мемуарах, не вызывало у вас ни малейшего любопытства. Только Диккенс и Друд, Друд и Диккенс удерживали ваше внимание. Я начал эти мемуары много лет назад, питая надежду, что вы знаете меня и — самое важное — мое творчество, читали мои книги, смотрели мои пьесы. Но нет, читатель равнодушного будущего, я знаю: вы никогда не читали «Женщину в белом» и даже «Лунный камень», а тем более «Мужа и жену», «Новую Магдалину», «Закон и жену», «Две судьбы», «Отель с привидениями», «Жизнь негодяя», «Опавшие листья», «Дочь Иезавели», «Черную рясу», «Душу и науку», «Я говорю "нет"», «Злого гения», «Наследство Каина» — или роман «Слепая любовь», над которым я усердно работаю в настоящее время (когда в состоянии держать перо в руке) и который выходит выпусками в «Иллюстрейтед Лондон». Вы ведь даже о них не слышали, правда… читатель? И в своем надменном будущем, когда вы катите в книжную лавку в безлошадном экипаже и возвращаетесь в свой подземный дом, освещенный ярким электрическим светом, или даже читаете прямо в экипаже, где имеются электрические лампы (все возможно), или едете в театр вечером (надеюсь, театр сохранился до вашего времени)… едва ли вы видели на сцене мою «Замерзшую пучину» (впервые показанную в Манчестере и не имеющую никакого отношения к Диккенсу), или «Черно-белого» (впервые показанного в «Адельфи»), или «Женщину в белом» (впервые показанную в «Олимпике»), или «Мужа и жену» (впервые показанного в театре Принца Уэльского), или «Новую Магдалину» (впервые показанную также в «Олимпике», а потом в Нью-Йорке во время моего пребывания там), или «Мисс Гвилт» (впервые показанную в «Глобусе»), или «Глубокую тайну» (впервые показанную в «Лицеуме»), или, наконец, «Лунный камень» (впервые показанный в «Олимпике»), или… Одно перечисление всего этого утомило меня, отняло последние силы. Я писал на протяжении тысяч дней и ночей — писал, превозмогая невыразимую боль, отчаяние невыносимого одиночества и смертельный ужас, — а вы… читатель… даже не читали и не видели на сцене ни одного моего произведения. К черту все. К черту вас. Вас интересуют только Друд и Диккенс. Диккенс и Друд. Хорошо… расходуя последние капли энергии… сейчас уже начало десятого… я напишу про Друда. Можете засунуть Друда себе в волосатую задницу, читатель. На этой странице больше клякс, чем слов, но я не извиняюсь. И за слог не извиняюсь. Мне до смерти надоело извиняться. Я всю жизнь только и делал, что извинялся перед всеми подряд без всякой причины… Я издавна считал, что обладаю провидческим даром — прекогнитивными способностями, если употребить выражение, принятое ныне в околонаучных кругах, — но я никогда не был уверен, реальны ли мои прозрения. Теперь у меня нет сомнений. Я вижу в мельчайших подробностях всю свою оставшуюся жизнь, и мою способность ясно видеть будущее, несмотря на слабость телесного зрения, нисколько не умаляет тот факт, что «вся оставшаяся жизнь» продлится менее двух часов. Так что прошу прощения за употребление будущего времени. Будущего времени осталось всего ничего. Я пишу это с такой уверенностью (пока в состоянии писать), поскольку прозреваю на два часа вперед и вижу конец своей жизни, последние мгновения, когда уже не смогу писать.
Друд был со мной так или иначе каждый день в течение девятнадцати лет и трех месяцев, прошедших после смерти Диккенса. Выглядывая в окно дождливой осенней или зимней ночью, я видел на противоположной стороне улицы одного из Друдовых приспешников — Барриса, или Диккенсона, или даже мертвого мальчишку со странными глазами, Гузберри, — пристально глядящего на меня. Когда я ходил по лондонским улицам, пытаясь скинуть лишний вес (теперь я от него избавлюсь лишь в могиле в процессе разложения), я неизменно слышал позади шаги одного из Друдовых пособников, Друдовых соглядатаев. Представьте себе, читатель, коли сможете, каково это — находиться в каком-нибудь захолустном городишке у черта на рогах, скажем в Олбани, штат Нью-Йорк, где плевательниц больше, чем жителей, и выступать в огромном, выстуженном, темном зале, за стенами которого свирепствует снежная буря. Мне услужливо доложили, что шестнадцатью годами ранее на чтение Чарльза Диккенса пришло свыше девятисот человек, а на моем присутствовало двадцать пять от силы, — но среди них, над ними, на хлипком старом балконе, отпертом на один вечер, сидел Друд, глядя на меня немигающими безвекими глазами и улыбаясь неподвижной острозубой улыбкой. И провинциальные американцы еще удивлялись, почему мой голос звучит столь невнятно, напряженно и безжизненно. Друд со своими приспешниками и своим скарабеем высасывал из меня жизнь, читатель, день за днем, ночь за ночью. Открывая рот во время одного из врачебных осмотров, проводившихся Фрэнком Бердом все чаще и чаще, я каждый раз ожидал, что он вскричит в ужасе: «Боже мой! Я вижу огромного черного жука-рогача у вас в горле, Уилки! Он пожирает вас заживо!» Вы обратили внимание на мою игру с «говорящими» названиями моих произведений, читатель? «Две судьбы». Некогда они были у меня. Но Диккенс и Друд выбрали для меня более страшную. «Глубокая тайна». Мое сердце. Оно всегда оставалось тайной для женщин, деливших со мной постель (но не мое имя), и для детей, унаследовавших мою кровь (но опять-таки не имя). «Жизнь негодяя». Здесь пояснений не требуется. «Муж и жена». Единственная ловушка, которой мне удалось избежать, хотя во все остальные я попался. «Я говорю "нет"». Вся моя жизнь. «Злой гений». Друд, разумеется. «Наследство Каина». Но кем я был — Каином или Авелем? Некогда я считал Чарльза Диккенса своим братом. Думая о своей попытке убить его, я всегда сожалел единственно о том, что у меня не получилось, что Друд лишил меня такого удовольствия. Вы видите… читатель? Видите, сколь неумолимо преследовало меня ужасное проклятие Чарльза Диккенса? Я никогда не верил и поныне ни секунды не верю, что Друд являлся некой гипнотической галлюцинацией, внушенной мне по случайной прихоти в июне 1865 года и с тех пор отравлявшей каждый день моей жизни. Но если бы Диккенс действительно сотворил такое — если бы на самом деле Друда не существовало, — он совершил бы поступок поистине чудовищный и гнусный. За одно только это злодеяние Диккенс заслуживал бы смерти и сожжения в известковой яме. Но если он не внедрял образа Друда в мое затуманенное опиумом, погруженное в сон писательское сознание в ходе забытого (мной) гипнотического сеанса в 1865 году, он совершил гораздо более жестокий, циничный и расчетливый, непростительно ужасный поступок, сказав мне, что сделал это — и что может за несколько минут, покачав передо мной часы на цепочке и промолвив единственное командное слово «Невообразимо», навсегда избавить меня от Друда, пробудить от кошмара, в который превратилась моя жизнь. За одно это Диккенса стоило убить. Много раз. А в первую очередь… читатель… Чарльз Диккенс заслуживал смерти и посмертного поругания потому, что, при всех своих слабостях и недостатках (и писательских, и человеческих), он был литературным гением, а я — нет. Это проклятие — это постоянное сознание, мучительное и непоправимое, как ужасное пробуждение Адама, соблазненного съесть яблоко с древа познания, — было даже страшнее Друда. А страшнее Друда нет ничего.
«Слепая любовь». Так называется мой роман, который я писал в последнее время и черновой вариант которого недавно закончил. Сейчас я знаю: доработать его мне уже не придется. Но слепая любовь к кому? Не к Кэролайн Г*** и не к Марте Р***. Моя любовь к ним была условной, практичной и расчетливой, обычно скупой на проявления и всегда — всегда — по существу плотской. Не к моим взрослым и взрослеющим детям — Мэриан, Хэрриет и Уильяму Чарльзу. Я рад, что они живут на белом свете. Больше мне нечего сказать. Не к моим книгам и не к трудам, на них потраченным. Я не люблю ни одну из них. Они, как и мои дети, всего лишь побочные продукты моей жизни. Но — хотите верьте, хотите нет — я любил Чарльза Диккенса. Любил его внезапный заразительный смех, дурацкие мальчишеские затеи, занимательные рассказы и ощущение важности каждого момента, проведенного с ним. Я ненавидел его гениальный дар — гениальный дар, который затмевал меня и мое творчество при жизни Неподражаемого, с каждым годом все сильнее затмевал меня после его смерти и затмит окончательно — я уверен, читатель, — в вашем недосягаемом будущем.
В минувшие девятнадцать лет я часто вспоминал последнюю короткую историю, рассказанную мне Диккенсом. Про то, как он в свою бытность бедным юношей однажды шел по лондонской улице и скармливал вишни из пакета большеголовому мальчугану, сидевшему на плече у отца. Думаю, Диккенс рассказал историю с точностью до наоборот. Думаю, это он воровал вишни у мальчика из пакета. А отец так ничего и не узнал. Никто на свете не узнал. Или, возможно, то была моя история. Или, возможно, Диккенс воровал вишни у меня, ехавшего у него на плечах. Через час я отправлю Мэриан с запиской к Фрэнку Берду. «Я умираю — приходите, коли можете». Конечно, он придет. Берд всегда приходит. И придет быстро. Он живет через улицу. Но он придет слишком поздно. Я буду сидеть в своем большом кресле, как сейчас. Под головой у меня будет подушка, как сейчас. Огонь будет по-прежнему гореть в камине под решеткой. Но я уже не буду чувствовать тепла. Прошу прощения за кляксы. У моего халата действительно слишком широкие рукава. В окно будет светить солнце, как сейчас, только к тому времени оно поднимется в небо чуть выше, а кучка горящих углей в камине станет чуть ниже. Будет одиннадцатый час. Несмотря на солнечный свет, в комнате с каждой минутой будет становиться все темнее. Я буду не один. Вы с самого начала знали, читатель, что в последние минуты жизни я буду не один. Несколько фигур будут находиться в моей спальне и медленно подступать ко мне все ближе, а я — вероятно — все еще буду пытаться писать, но рука перестанет меня слушаться, уже навсегда, и перо оставит на бумаге лишь бессмысленные каракули да кляксы. Там будет Друд, разумеется. Беспрестанно облизывающий губы вертким языком. Он с-с-страшно хочет поделиться с-с-секретом с мис-с-стером Коллинзом. За Друдом и слева от него, полагаю, я увижу Барриса, сына инспектора Филда. А позади него и самого Филда. Оба они будут скалить острые людоедские зубы. Справа от Друда будет стоять Диккенсон, так и не ставший приемным сыном Диккенса. Он как был, так навсегда и останется верным рабом Друда. А за ними я увижу еще фигуры. Все в черных костюмах и накидках с капюшоном. Они будут смотреться несуразно здесь, в меркнущем свете солнца. Я не смогу отчетливо разглядеть их лица. Скарабей наконец-то прогрызет мои глаза насквозь. Но я разгляжу, хоть и с трудом, здоровенную расплывчатую фигуру в задних рядах толпы. Напоминающую сыщика Хэчери. Я смутно различу жуткую впадину под черным жилетом и похоронным костюмом, своего рода беременность наоборот. Однако Диккенса среди них не будет (я вижу тебя насквозь, читатель, и знаю, что он интересует тебя больше, чем я). Диккенс не там. Но я там буду. Я уже там. Потом я услышу шаги Берда на лестнице, но фигуры в моей спальне вдруг подступят вплотную ко мне, окружат тесным кольцом, заговорят все разом, оглушая шипящими, свистящими, скрежещущими, режущими звуками, заговорят, затараторят, закричат хором. Я зажму ладонями уши, коли у меня хватит сил. Я закрою прогрызенные скарабеем глаза, коли у меня хватит сил. Ибо лица эти будут поистине страшными. И шум будет поистине невыносимым. И боль будет такой, какой я не знал никогда прежде. У меня осталось еще сорок пять минут — через сорок пять минут я отправлю записку Фрэнку Берду, и Другие явятся ко мне до него, — но уже сейчас все так страшно, так мучительно, так невыносимо и невообразимо. Невообразимо. Колорадо 23 апреля, 2008
Дэн Симмонс
 Колокол по Хэму
Колокол по Хэму
Глава 1
В конце концов он сделал это 2 июля 1961 года в штате Айдахо, в своем новом доме с видом на высокие горные вершины, на реку, протекавшую в долине, и на кладбище, где были похоронены его друзья. Впрочем, подозреваю, этот дом ничего для него не значил. Когда эта весть достигла моих ушей, я находился на Кубе. Я вижу в этом некую иронию, поскольку не возвращался на Кубу в течение девятнадцати лет, миновавших с тех пор, когда я расстался с Хемингуэем. Еще более странным мне кажется тот факт, что 2 июля 1961 года мне исполнилось сорок пять лет. Весь этот день я ходил за низкорослым грязным мужчиной по грязным барам, а потом провел за рулем всю ночь, продолжая следить за ним – он проехал триста пятьдесят километров по необитаемым джунглям, мимо бронированного локомотива в Санта-Кларе, которым отмечен поворот на Ремедиос. Прежде чем покончить дела с грязным коротышкой, я провел в тростниковых полях и пальмовых зарослях еще день и ночь и впервые услышал радио только в отеле «Перла» в Санта-Кларе, где остановился промочить горло. Из динамика неслась печальная, едва ли не похоронная музыка, но я не обратил на нее внимания и ни с кем не разговаривал. О смерти Хемингуэя я узнал только вечером, по возвращении в Гавану, когда выписывался из гостиницы в здании, где находилось посольство США – до того, как несколько месяцев назад, в январе, Кастро вышвырнул из страны американцев. – Вы слышали, сеньор? – произнес семидесятилетний носильщик, ставя мои сумки на тротуар. – О чем? – спросил я. Старик знал обо мне только то, что я – делец из Колумбии, и если у него было для меня личное сообщение, это не сулило ничего хорошего. – Писатель умер, – сказал старик. Его впалые щеки, покрытые седой щетиной, судорожно дрогнули. – Какой писатель? – спросил я, глядя на часы. Мне нужно было успеть на самолет, отправлявшийся в восемь вечера. – Сеньор Папа, – ответил носильщик. Я замер, держа запястье у лица. Несколько мгновений мне было трудно сосредоточить взгляд на циферблате. – Хемингуэй? – спросил я. – Да, – сказал старик, продолжая кивать и после того, как произнес последнее слово. – Как это произошло? – спросил я. – Выстрел в голову, – объяснил старик. – Он сделал это собственной рукой. «Еще бы», – подумал я и спросил: – Когда? – Два дня назад, – ответил старик и тяжело вздохнул. Я почувствовал запах рома. – В Соединенных Штатах, – добавил он таким тоном, будто это все объясняло. – Sic transit hijo de puta, – пробормотал я себе под нос. В пристойном переводе это означало примерно следующее: «Так уходит сын шлюхи». Голова старика на морщинистой шее резко дернулась назад, словно ему закатили оплеуху. Его робкие слезящиеся глаза внезапно полыхнули гневом, граничащим с ненавистью. Он поставил мой багаж на пол вестибюля, словно освобождая руки для драки. Я сообразил, что он, должно быть, хорошо знал Хемингуэя. Я поднял правую руку, выставив ладонь вперед. – Все в порядке, – сказал я. – Это слова самого писателя. Хемингуэй произнес их, когда во время Великой революции с острова прогнали Батисту. Носильщик кивнул, но его глаза продолжали сердито сверкать. Я дал ему два песо и зашагал прочь, оставив вещи у двери. Первым моим побуждением было разыскать автомобиль, на котором я ездил и который бросил на улице неподалеку от Старого города, и отправиться к финке. Но тут же понял, что это не слишком удачная мысль. Я должен был добраться до аэропорта и как можно быстрее покинуть страну, а не шляться по окрестностям, словно какой-нибудь турист. Вдобавок финку конфисковало революционное правительство, и теперь ее охраняли солдаты. «Что они там охраняют?» – подумал я. Тысячи книг, которые он не смог вывезти из страны? Дюжины его кошек? Его винтовки, ружья и охотничьи трофеи? Его яхту? Кстати, где сейчас находится «Пилар»? Все еще на приколе у Кохимара или служит государству? Как бы то ни было, я точно знал, что весь этот год поместье Хемингуэя служило лагерем для сирот и бывших попрошаек, которых теперь обучали военному делу. Правда, в Гаване ходили слухи, что этих оборванных вояк не пускали в дом – они жили в палатках рядом с теннисными кортами, но их команданте спал во флигеле для гостей, наверняка на той самой кровати, которая была моей, когда мы руководили оттуда «Хитрым делом». Под подкладкой моего костюма хранился негатив, на котором была ясно запечатлена противовоздушная батарея, установленная Фиделем в патио дома Стейнхарта на холме по соседству с фермой писателя, – шестнадцать советских стомиллиметровых зенитных орудий для обороны Гаваны с позиций на высотах. К ним были приставлены восемьдесят семь кубинских артиллеристов и шесть русских советников. Нет, путь в финку мне заказан. По крайней мере, сегодняшним жарким летним вечером. Я прошагал одиннадцать кварталов по улице Обиспо до «Флоридиты». Уже теперь, всего год спустя после революции, улицы казались вымершими, по сравнению с плотными потоками машин и пешеходов, которые я помню по началу 40-х. Из бара вышли четыре советских офицера. Они были изрядно пьяны и орали песни. Кубинцы, оказавшиеся в эту минуту на улице Обиспо – юноши в белых рубашках и миловидные девушки в коротких юбках, – лишь отводили взгляд, когда русские стали мочиться при людях. Даже проститутки не приближались к ним. Я знал, что «Флоридита» также отошла в собственность государства, но сегодня вечером бар работал. Я слышал, что в 50-х там установили кондиционеры, но либо мой информатор был введен в заблуждение, либо после революции охлаждение воздуха стало непозволительной роскошью, потому что все жалюзи были подняты, а двери открыты нараспашку – точь-в-точь, как в те времена, когда мы выпивали здесь с Хемингуэем. Разумеется, я не стал входить туда. Я глубже надвинул свою «федору» и, проходя мимо бара, смотрел в другую сторону, лишь однажды заглянув внутрь, когда мое лицо оказалось в тени. Любимый табурет Хемингуэя у дальнего левого края стойки рядом со стеной был свободен. Ничего странного. Нынешний хозяин бара – государство – распорядился, чтобы на нем никто не сидел. Над пустым табуретом, превращенным в мемориал, красовался бюст писателя – темный, бесформенный и аляповатый. Я слышал, что поклонники преподнесли его Хемингуэю, после того как он получил Нобелевскую премию за свою пошлую рыбацкую повесть. Бармен – не Константе Рибаилахия, мой знакомый «кантинеро», а более молодой мужчина средних лет – надраивал стойку напротив табурета, как будто в любую минуту ожидал возвращения писателя из морского похода. Дойдя до узкой улочки О'Рили, я повернул назад к отелю. – О господи, – прошептал я, смахивая пот из-под шляпной ленты. Того и гляди кубинцы сделают Хемингуэя кем-то вроде коммунистического святого. Я и раньше встречал такое в католических странах после успешных марксистских переворотов. Верующих изгоняли из храмов, но им по-прежнему были нужны эти чертовы «santos». Социалистические режимы повсеместно старались угодить им, возводя бюсты Маркса, расписывая стены гигантскими изображениями Фиделя и развешивая плакаты с портретами Че Гевары. Я улыбнулся, представив Хемингуэя в роли главного святого Гаваны, и торопливо пересек улицу, чтобы не попасть под колеса колонны русских военных машин. – La tenia cogida la baja, – прошептал я, извлекая из памяти фразу на полузабытом гаванском сленге. Этот город, более чем все остальные, должен «знать свои слабые места», уметь угадывать подводные камни. Тем вечером я вылетел из Гаваны, намного больше занятый размышлениями о возможных последствиях моего визита в замаскированный лагерь к югу от Ремедиоса, чем об обстоятельствах смерти Хемингуэя. Однако в последующие недели, месяцы и годы именно эти обстоятельства, именно эта смерть стали для меня навязчивой идеей. В первых сообщениях «Америкэн Пресс» говорилось, что Хемингуэй чистил одну из своих винтовок, и та случайно выстрелила. Я сразу понял, что это чепуха. Хемингуэй ухаживал за своим оружием с юности и никогда не допустил бы такой оплошности. Чуть позже в выпусках новостей было подтверждено, что он вышиб себе мозги. Но каким образом? Я помнил, что единственный бой на кулаках между мной и писателем завязался из-за того, что он пытался продемонстрировать мне, как совершаются самоубийства. Он поставил приклад своего «манлихера» на циновку в гостиной, приложил дуло к губам, сказал: «В рот, Джо; небо – самое мягкое место черепа», – и нажал спусковой крючок большим пальцем ноги. Курок сухо щелкнул, Хемингуэй поднял лицо и улыбнулся, словно ожидая от меня одобрения. «Это было очень глупо», – отозвался я. Хемингуэй швырнул «манлихер» в кресло, расписанное цветами, покачался с пятки на носок, пошевелил пальцами и спросил: «Что ты сказал, Джо?» «Это было очень глупо, – повторил я. – Но даже будь все иначе, только „mariconi“ суют стволы себе в рот». В самом мягком переводе слово «mariconi» означает «гомик», «голубой». Мы вышли из дома к бассейну и затеяли там драку, забыв о правилах – просто накинулись друг на друга с кулаками. В тот июльский день 1961 года, в Айдахо, Хемингуэю не было нужды засовывать ствол себе в рот. Вскоре после сообщения о гибели его последней жены выяснилось, что он убил себя из винтовки – двуствольной винтовки двенадцатого калибра, хотя более поздние сообщения расходились на этот счет. Впоследствии брат Хемингуэя Лестер написал, будто бы тот застрелился из двуствольного «ричардсона» двенадцатого калибра. Первый биограф Хемингуэя утверждал, будто бы он выбрал двуствольный «босс» с глушителем, свою любимую винтовку для стрельбы по голубям. Я думаю, это был «босс». «Ричардсон» с полированными стволами – отличное оружие для появлений на публике, но для того, чтобы снести себе верхушку черепа, он слишком аляповат. Я вспомнил, как однажды на «Пилар» Хемингуэй читал статью из «Нью-Йорк Тайме» о двух пистолетах-близнецах генерала Джорджа Пэттона с перламутровыми накладками на рукоятках. Хемингуэй расхохотался и сказал: «Пэттон будет взбешен. Он всегда поправляет этих слабоумных газетчиков. Накладки его пистолетов сделаны из слоновой кости. Он говорит, что носить револьверы с перламутровой рукояткой может только женоподобный вертопрах, и я с ним согласен». Для меня «ричардсон» с серебристыми стволами представляется чем-то в том же духе, когда речь идет о столь серьезном деле, как самоубийство. Однако, по мере того как проходили недели, месяцы и годы, я начинал сознавать, что самым главным обстоятельством смерти Хемингуэя является отнюдь не то, какое оружие он выбрал. За несколько месяцев до гибели писатель утвердился в мысли о том, что ФБР подслушивает его телефон, следит за ним и, сговорившись со службой бюджетных поступлений, фабрикует против него обвинение в неуплате налогов, которое грозило ему разорением. Именно этот навязчивый страх перед гонениями со стороны ФБР убедил четвертую жену Хемингуэя в том, что он превратился в параноика, одержимого манией преследования. Именно тогда жена и друзья поместили его в клинику «Мейо» для лечения электрошоком. Сеансы разрушили память Хемингуэя, отняли у него сексуальное влечение, погубили его писательский талант, но не излечили от паранойи. Вечером накануне самоубийства жена и друзья повезли его ужинать в ресторан «Христиания» в Кетчуме. Хемингуэй потребовал, чтобы его усадили спиной к стене. Двое мужчин за соседним столиком показались ему подозрительными. Когда жена Хемингуэя и его друг по имени Джордж Браун подозвали официантку и спросили, кто эти люди, девушка ответила, что это продавцы из универмага «Твин Фоллз». «Нет, – заявил Хемингуэй, – они из ФБР». Еще один его друг, А. И. Хотчер, написал о практически аналогичном происшествии в том же ресторане. За несколько месяцев до этого случая, в ноябре 1960 года, Хемингуэй рассказал ему о том, что за ним следит ФБР, что его телефон прослушивается, а в доме и в автомобиле установлены «жучки». Хотчер и жена Хемингуэя Мэри повезли его в ту же самую «Христианию». На середине занимательного рассказа о тех временах, когда в Кетчуме бушевала «золотая лихорадка», писатель вдруг умолк на полуслове и заявил о своем желании уйти. На тарелках еще оставалось много еды, и когда Мэри спросила, что его беспокоит, Хемингуэй ответил: «Двое фэбээровцев у бара». Хотчер подошел к своему приятелю – его звали Чак Эткинс, он ужинал вместе с женой за столиком неподалеку – и спросил, не знает ли он этих людей. «Еще бы, – ответил Эткинс, уроженец Кетчума. – Это продавцы. Бывают здесь раз в месяц уже пять лет. Только не говори мне, что Эрнест встревожился из-за них». Теперь мне известно, что эти двое действительно наезжали в Кетчум раз в месяц на протяжении пяти лет и торговали вразнос энциклопедиями. Они и впрямь были сотрудниками ФБР, специальными агентами из отделения в Биллингсе, как и двое других мужчин, сидевших в «Христианин» субботним вечером 1 июля 1961 года. Они следили за Хемингуэем. Они подслушивали его телефон и установили «жучки», правда, только в доме – в автомобиле их не было. Минувшей зимой, а потом и весной еще двое агентов ФБР следили за Хемингуэем, когда тот летал на частном самолете в Рочестер, штат Миннесота, где его лечили электрошоком. Во время первого путешествия, в ноябре 1960 года, через две недели после «приступа паранойи» в ресторане, самолет с агентами приземлился спустя минуты после того, как на поле сел «Команч» с Хемингуэем и его врачом. Но там уже ждали четверо сотрудников рочестерского отделения, и они сопровождали писателя в двух неприметных «Шевроле» – один из них ехал позади, а другой впереди машины, которая везла Хемингуэя и доктора Савьерса. Согласно рапорту – одному из тысяч «незарегистрированных» донесений, которые ложились в личные досье Эдгара Гувера под грифом «О/К» (официально/конфиденциальные), якобы «пропавшие» месяцы спустя после смерти директора Бюро в мае 1972 года, во время этой первой поездки наблюдавшие за Хемингуэем агенты проникли вслед за ним в госпиталь Св. Марии, куда его поместили под именем Джорджа Савьерса, однако, когда писателя перевели в клинику «Мейо», сотрудники ФБР остались за ее воротами и вскоре покинули свой пост. Судя по дальнейшим донесениям, ФБР допрашивало доктора Ховарда П. Рома, старшего консультанта психиатрического отделения, который руководил «психотерапевтической программой» лечения Хемингуэя. По свидетельству этих же документов, сотрудники ФБР обсуждали с Ромом целесообразность электрошоковых мероприятий в случае Хемингуэя еще до того, как их предложили писателю и его жене. Как я уже упоминал, та часть досье под грифом «О/К», которая находилась в личном распоряжении Гувера – все двадцать три каталожных шкафа, – была «утрачена» после смерти директора 2 мая 1972 года, наступившей в возрасте семидесяти семи лет. Тем утром, спустя менее часа после известия о его кончине, генеральный прокурор США Ричард Клейндьенст, переговорив с президентом Никсоном, вызвал заместителя директора ФБР Джона Мора и приказал опечатать кабинет Гувера и обеспечить неприкосновенность всех документов. Вскоре после полудня Мор направил генеральному прокурору следующее сообщение: «В согласии с вашими инструкциями, личный кабинет мистера Гувера был опечатан сегодня в 11.40. Для этого нам пришлось сменить замок в двери. Насколько я могу судить, содержимое кабинета сохранено в том же состоянии, как если бы директор прибыл туда сегодня утром. Единственный ключ находится у меня». Через час Клейндьенст доложил Никсону, что «документам ничто не угрожает», имея в виду тайные досье, наличие которых в кабинете Гувера не вызывало сомнений ни у одного человека из официальных кругов Вашингтона. Однако Джон Мор умолчал о том, что Гувер не держал эти досье в своем кабинете. Все самые секретные документы ФБР хранились у секретаря директора, пятидесятипятилетней Хелен Ганди. К тому времени, когда начали опечатывать кабинет Гувера, мисс Ганди разобрала бумаги, рассортировала, отобрала ненужные и уничтожила многие из них, а остальные уложила в картонные коробки и спрятала их в подвале дома Гувера. Через полтора месяца секретные досье были перевезены в новое место и навсегда утрачены для ФБР и официального Вашингтона. Но я забегаю вперед. Сейчас для нас гораздо важнее события, происшедшие утром 2 июля 1961 года, в день моего сорокапятилетия и последний день земного существования Эрнеста Хемингуэя. Эти события заставили меня поклясться сделать две вещи, прежде чем я умру. Первая – отыскать и предать гласности секретные материалы ФБР о Хемингуэе – заняла более десятка лет и поставила под угрозу мою жизнь и свободу. Однако я с самого начала понимал, что куда труднее будет выполнить второе обещание, которое я дал себев июле 1961 года. В своей жизни я составил тысячи рапортов, но этот опыт не помог мне написать данную повесть в той манере, которую я выбрал. Хемингуэй-литератор мог бы оказать мне помощь – его немало позабавило бы то, что в конечном итоге я был вынужден попытаться изложить эту историю, пользуясь хитроумными трюками из его репертуара. «Беллетристика – это попытка представить вымысел таким образом, что он звучит правдивее самой правды». «Нет, – возразил я тогда. – Правда есть правда. А художественная литература – это нагромождение лжи, маскирующейся под истину». Что ж, посмотрим. События утра 2 июля 1961 года в Кетчуме, штат Айдахо… Только Эрнест Хемингуэй знает правду об этих событиях, но их результат достаточно очевиден. Согласно показаниям четвертой жены писателя и его многочисленных друзей, за несколько месяцев до и после второй серии сеансов электрошока в мае и июне Хемингуэй не раз безуспешно пытался покончить жизнь самоубийством. Однажды, возвращаясь в клинику «Мейо», он хотел войти в круг вращающегося пропеллера самолета, который разогревал моторы, дожидаясь его на аэродроме. В другой раз один из друзей Хемингуэя не без труда отнял у него заряженный пистолет. Это случилось в доме писателя. Невзирая на это, Мэри Хемингуэй запирала его винтовки и пистолеты в подвальной оружейной комнате, но оставляла ключи на виду, на кухонном подоконнике, поскольку, мол, «никто не имеет права ограничивать доступ человека к его имуществу». Я размышлял над этим много лет. Жена и друзья сочли себя вправе подвергнуть Хемингуэя электрошоковой терапии, разрушившей его мозг и личность, и вместе с тем Мэри не пожелала держать оружие взаперти от Хемингуэя, когда его депрессия обострялась до такой степени, что он был готов наложить на себя руки. Утром в понедельник 2 июля 1961 года Хемингуэй по своему обыкновению проснулся рано. Утро было прекрасное, солнечное и безоблачное. Кроме него, в доме находилась только Мэри, она спала в отдельной комнате. Она не проснулась, когда Хемингуэй на цыпочках прошел по застланной ковром лестнице, взял ключи с подоконника, спустился в оружейную и выбрал – по крайней мере, я так думаю – свой верный «босс» двенадцатого калибра. Потом он поднялся обратно, пересек гостиную, вошел в прихожую с плиточным полом, зарядил оба ствола, упер приклад в пол, приложил стволы ко лбу – я не думаю, что он сунул их в рот – и спустил оба курка. Я привожу эти подробности, поскольку считаю очень важным то обстоятельство, что он не захотел попросту зарядить винтовку в оружейной комнате и выстрелить в себя там же, в подвале, где звук могли приглушить двери, ковры на полах и шлакобетонные стены. Он принес оружие в прихожую, на площадку лестницы, туда, где Мэри никак не могла бы добраться до телефона или выйти из дома, не переступив через труп и лужу крови, осколки черепа и брызги мозга, породившего все эти рассказы и повести, весь тот вымысел, который, как некогда пытался убедить меня Хемингуэй, был правдивее самой правды. За несколько месяцев до этого Хемингуэя попросили написать пару простых предложений для книги в честь инаугурации президента Кеннеди. После нескольких часов бесплодных стараний Хемингуэй пал духом и расплакался в присутствии своего врача; великий писатель не мог завершить даже самую примитивную фразу. Однако он еще был коммуникабелен, и, подозреваю, место и способ самоубийства оказались его последним посланием. Разумеется, оно было адресовано Мэри, а вместе с ней и Эдгару Гуверу, ОСС – теперь оно называется ЦРУ – и всем тем, кто принимал участие в событиях конца апреля – середины сентября 1942 года, когда Хемингуэй играл в шпионов и имел дело с нацистскими агентами и «топтунами» из ФБР, британскими разведчиками, кубинскими политиками и полицейскими, испанскими священниками и аристократами, десятилетними соглядатаями и немецкими подлодками. Я не льщу себя надеждой, что Хемингуэй вспоминал обо мне в то утро, но если его послание было именно тем, чем оно мне кажется – последним яростным стремлением объявить пат в затянувшейся на десятилетия партии, вместо того чтобы получить позорный мат от терпеливого, но безжалостного врага, – то, пожалуй, и я был вплетен в замысловатую ткань мыслей, посетивших его в то утро, – неприметная фигура в вычурном узоре. Я надеюсь, что в утро моего сорокапятилетия, в последние мгновения своей жизни, Хемингуэй думал – если, конечно, депрессия и мучительные страдания не отняли у него роскоши связного мышления – не только о своем последнем решительном жесте отчаяния двенадцатого калибра, но также о всех победах, которые он одержал в своей долгой войне с невидимыми противниками. Мне хотелось бы знать, думал ли он о «Хитром деле».Глава 2
В конце апреля 1942 года господин Гувер вызвал меня в Вашингтон. Телеграмма разыскала меня в Мехико-Сити. В ней содержался приказ «явиться к директору со всей возможной быстротой, используя для этого любые средства». Это несколько облегчало мою задачу, поскольку все в ФБР знали, каким мелочным и прижимистым порой бывает Гувер. Как правило, вызов в Вашингтон, даже из Мехико или Боготы, сулил тебе путешествие верхом, на автомобиле, на лодке и поезде и подразумевал крайнюю бережливость. Утром того дня, когда у меня была назначена встреча с директором, я после пересадок в Техасе, Миссури и Огайо очутился в международном аэропорту Вашингтона. Я не без любопытства выглянул в иллюминатор серебристого «ДС-3». Было прекрасное утро, в ярком апрельском солнце отчетливо виднелись купол Капитолия и памятник Вашингтону, но меня интересовал сам аэропорт. До сих пор, прилетая в столицу, я приземлялся на старом аэродроме «Гувер Филд» по ту сторону Потомака, рядом с арлингтонским Национальным кладбищем. Я не был в городе с минувшего лета, но слышал, что еще до трагедии Пирл-Харбора армия, даже не получив разрешения президента, начала строить огромное пятиугольное здание своей новой штаб-квартиры на месте прежнего аэропорта. Перед посадкой самолет описал круг, и я заметил, что новый Национальный аэропорт расположен удобнее прежнего, ближе к деловой части города. Было видно, что его сооружение еще не окончено; новенький терминал до сих пор был окружен строительной техникой и облеплен рабочими, словно муравьями. Также я заметил возводимое здание новой штаб-квартиры армии. Уже тогда пресса начала величать его «Пентагоном», и с моего наблюдательного пункта на высоте километра подобное название представлялось вполне уместным, поскольку, хотя это чудище было завершено только наполовину, его фундамент и растущие стены располагались отчетливым пятиугольником. Одни только парковочные площадки целиком занимали территорию бывшего аэродрома «Гувер Филд» и примыкавшего к нему увеселительного парка, и я видел колонны военных грузовиков, тянувшихся к завершенной части здания, вероятно, чтобы доставить туда столы, пишущие машинки и прочие бюрократические атрибуты обновленной, раздувшейся армии. Звук двигателей изменился, самолет пошел на снижение, и я откинулся на спинку кресла. Мне нравился старый «Гувер Филд», хотя он представлял собой всего лишь травяную полоску между парком с одной стороны и болотами с другой. Шоссе графства, Милитари-роуд, тянулось поперек посадочной полосы – не параллельно, а под прямым углом, – и несколько лет назад я читал, что в свое время управляющего аэропорта арестовали и отдали под суд за попытку установить светофор, чтобы прекращать движение на шоссе во время приземления большегрузных самолетов. Дорожная полиция графства ликвидировала незаконный светофор. Меня это не беспокоило; каждый раз, когда я прилетал в Вашингтон, пилотам хватало умения втиснуть самолет между легковыми и грузовыми автомобилями, пересекавшими его путь. Я припомнил, что в бывшем аэропорту не имелось диспетчерской башни как таковой, и конус-ветряк был прикреплен к высшей точке «русских горок» в соседнем парке. Самолет приземлился и зарулил на стоянку; я вышел из салона третьим и торопливо спустился по трапу на теплый гудрон, поправляя на поясе пистолет. С собой у меня была сумка со сменой белья, чистой рубашкой и моим вторым темным костюмом, но я не знал, хватит ли мне времени снять номер в отеле, принять душ, побриться и переодеться перед встречей с Гувером. Эта мысль обеспокоила меня. Директор требовал, чтобы сотрудники являлись к нему в своем лучшем выходном костюме, даже если речь шла о специальных агентах, которые провели день и ночь, пересаживаясь из самолета в самолет, пересекая из конца в конец Мексику и Штаты. Шагая по новому аэровокзалу, в котором все еще пахло краской и штукатуркой, я задержался у газетного киоска. Один из заголовков «Вашингтон Дейли Ньюс» гласил: «Количество жертв венерических заболеваний таково, что ими можно переполнить стадион». Я попытался вспомнить, сколько зрителей вмещает старый стадион «Гриффитс». По меньшей мере, тридцать тысяч. Оглядев толпу юнцов в новеньких, с иголочки мундирах сухопутных войск, военного флота, военной полиции, берегового патруля и морской пехоты, каждый из которых целовался на прощание по меньшей мере с одной девушкой, я удивился тому, что эпидемия венерических болезней приняла с начала войны столь скромный размах. Я пересек аэровокзал, направляясь к телефонным будкам у выходных дверей. Единственный шанс принять душ и переодеться заключался в том, чтобы разыскать моего друга Тома Диллона, с которым я учился в Квантико и проходил подготовку в Лагере «X», до того как его перевели в Вашингтон, а меня – в ОРС. Том до сих пор оставался холостяком – по крайней мере, когда я в последний раз говорил с ним десять месяцев назад, – а его квартира находилась неподалеку от Департамента Юстиции. Я сунул в щель десятицентовик и попросил оператора соединить меня с домашним телефоном Тома, надеясь, что сегодня у него выходной, и зная, что, как всякий полевой агент, он почти не бывает у себя в конторе даже по рабочим дням. Я услышал длинные гудки и, упав духом, уже начал нащупывать очередную монетку, когда поверх моего плеча протянулась волосатая рука и, выхватив у меня трубку, повесила ее на рычаг. Я рывком развернулся, готовясь дать отпор солдату или моряку, имевшему глупость так подшутить надо мной, и увидел в нескольких дюймах от своего лица ухмыляющуюся физиономию Диллона. – Я слышал, как ты назвал мой номер, – сказал Том. – Но меня нет дома. – Тебя никогда там не бывает, – с улыбкой ответил я. Мы пожали друг другу руки. – Что ты здесь делаешь, Том? – Я понял, что он здесь не случайно. – Меня прислал господин Лэдд. Он сказал, что у тебя встреча в Департаменте в половине двенадцатого, и велел тебя подвезти. Если хочешь привести себя в порядок, можем заехать ко мне. – Отлично, – сказал я. Д. М. Лэдд – мои друзья в Бюро называли его «Мики» – был одним из заместителей директора и в настоящее время руководил подразделением внутренней разведки, в котором работал Том. Диллон не упомянул, что мне предстоит встретиться с директором, возможно, он даже не знал об этом, но и мне не следовало распространяться. – Твой самолет прилетел раньше срока, – сказал Том, как бы извиняясь за то, что не встретил меня у входа. – Пилотам не пришлось ждать, пока на шоссе образуется просвет, – ответил я. – Давай выбираться отсюда. Том взял мою сумку и повел меня сквозь толпу к своему «Форду-Купе», припаркованному у обочины напротив центральных дверей. Крыша автомобиля была опущена; Том швырнул сумку на заднее сиденье и, спеша занять место за рулем, обежал машину с мальчишеской энергией, которая мне запомнилась еще по Квантико. Я откинулся на мягкую спинку кресла, машина выехала с территории аэропорта и помчалась к городу. Воздух был теплый и влажный, хотя и не такой жаркий и душный, к какому я привык за годы пребывания в Мексике и Колумбии. Уже миновало время года, когда в Вашингтоне можно видеть его знаменитые японские вишни в полной красе, однако широкие улицы все еще заполнял аромат их оставшихся цветов, смешиваясь с густым запахом магнолий, придававших городу столь знакомый южный колорит. Я сказал «знакомый», но на самом деле этот город был совсем не похож на тот Вашингтон, в котором я провел несколько месяцев 38-го и 39-го и который ненадолго посетил прошлым летом. Тогда это был сонный южный городок, его просторные улицы не бывали запружены транспортом, а ритм жизни казался более спокойным и расслабленным, чем в большинстве латиноамериканских деревень, в которых я обретался с той поры. Теперь все изменилось. Повсюду стояли «времянки», о которых я уже слышал, – мрачные серые здания из шиферного листа, каждое длиной в четверть квартала, с пятью пристройками вдоль фасада. Их возводили за неделю для прибывающих в город рабочих оборонной промышленности и чиновников, которым предстояло жить здесь на протяжении войны. «Времянки» протянулись по обе стороны Зеркального пруда напротив памятника Линкольну, загораживая водоем, – унылые строения, соединенные шаткими на вид мостиками, висящими над поверхностью пруда. Такие же «времянки» теснились вдоль Конститьюшнавеню, закрывая собой красивый парк, в котором я нередко наскоро перехватывал завтрак, и воинственно окружали памятник Вашингтону, словно серые пожиратели падали, собравшиеся на пир. Улицы оставались такими же широкими, как я помнил, но теперь их заполонили легковые автомобили, грузовики и колонны оливково-зеленых армейских машин – в их кузовах я видел столы и кресла, пишущие машинки и каталожные шкафы, которые представлял себе, глядя в иллюминатор самолета. Америка готовилась к войне. На тротуарах было не протолкнуться, и, хотя я видел вокруг много военных мундиров, большинство прохожих носили гражданское – серые и черные костюмы, женские юбки были короче, чем мне помнилось, а открытыми плечами теперь щеголяли люди обоих полов. Все они казались молодыми и здоровыми и шагали с таким видом, будто спешили на важную встречу. У многих в руках были чемоданчики-кейсы; их носили даже женщины. В густом потоке автомобилей по-прежнему попадались трамваи, но я заметил, что они выглядят более старыми, чем прежде; спустя минуту я сообразил, что они действительно одряхлели – должно быть, городским властям пришлось вернуть со свалок старые вагоны, чтобы удовлетворить потребности возросшего населения. Мимо меня проскрипела затейливая деревянная реликвия прошлого века со стеклами в крыше, на ее подножках висели люди, цеплявшиеся за бронзовые поручни и кожаные петли. В основном это были чернокожие. – Ага, – сказал Том Диллон, проследив за моим взглядом. – В городе еще больше ниггеров, чем до войны. Я кивнул. Посмотрев на нас, пассажиры трамвая могли решить, что мы – братья, а то и близнецы. Диллону исполнился тридцать один год, мне – двадцать девять, но его кожа была более гладкой и светлой, а у носа еще сохранились веснушки. Вдобавок его нос, в отличие от моего, ни разу не был сломан. В согласии с требованиями господина Гувера, мы оба носили темные костюмы и белые рубашки – разумеется, в настоящий момент рубашка Тома была свежее моей – и почти одинаковые фетровые шляпы с полями, загнутыми спереди книзу, а сзади – вверх. У обоих были уставные стрижки на пять сантиметров выше воротника, и если бы ветер сорвал с нас головные уборы, окружающие заметили бы, как тщательно мы укладывали волосы на макушках, избегая «остроконечных» причесок, столь нелюбимых директором. В правых передних карманах брюк мы оба держали обязательные в ФБР белые платочки, которыми можно вытереть ладони перед рукопожатием, если перед этим ты перенервничал или занимался физическим трудом. Господин Гувер терпеть не мог «влажных ладоней» и не хотел, чтобы это прозвище прилипало к его специальным агентам. Я и Том носили одинаковые полицейские пистолеты в черных кобурах, подвешенных к поясу и сдвинутых вправо, чтобы они поменьше оттопыривали наши пиджаки. Если Том еще не получил повышение, нам обоим платили 65 долларов в неделю – солидная сумма для 1942 года, но не слишком привлекательная для выпускников колледжей и юридических школ, отвечавших минимальным требованиям ФБР для приема на работу. Мы оба родились в Техасе в католических семьях, учились в захолустных южных колледжах и на юридических курсах. Но на этом сходство заканчивалось. Том Диллон до сих пор произносил слова с протяжным техасским выговором. Моя семья переехала в Калифорнию, когда мне было три года, в шесть лет я вместе с родными оказался во Флориде, и, если не ошибаюсь, в моей речи не было сколько-нибудь заметного акцента. Том учился в колледже на родительские деньги. Я кое-как перебивался на стипендию футбольной команды и подрабатывал в неурочное время. Прежде чем поступить в ФБР, Том закончил юридическую школу и полностью соответствовал требованиям Гувера; я же, в виде исключения, был принят в Бюро в начале второго года учебы, в тот самый момент, когда собирался бросить курсы из-за отсутствия средств и перспектив. Причина такого исключения была проста – я бегло говорил по-испански, а Гуверу требовались испаноязычные агенты для работы в СРС, которую он тогда создавал, – агенты контрразведки, способные смешаться с латиноамериканской толпой, общаться с местными информаторами и сказать «здравствуйте» так, чтобы не получилось «травяная задница» <Испанское «грасиас» созвучно английскому «grassy ass».>. Я оказался годен. Мой отец был мексиканец, мать – ирландка. Что обусловило еще одно различие между мной и Томом Диллоном. Когда Диллон сказал, что в городе еще больше ниггеров, чем до войны, я с трудом подавил желание повернуться, схватить его обеими руками за затылок и ударить лицом о руль. Меня ничуть не задела его оскорбительная реплика в адрес негров – я никогда не сотрудничал с чернокожими, не был близко знаком ни с одним из них и, подобно большинству, не скрывал своего пренебрежительного отношения к «низшему сословию» американских граждан, – но, когда Том произнес слово «ниггер», мне послышалось «цветной», «латинос» или «мокрая спина» <Нелегальный иммигрант из Мексики (переплывший или перешедший вброд реку Рио-Гранде).>. Мой отец был мексиканцем. У меня достаточно светлая кожа, и я в достаточной мере унаследовал от матери-ирландки строение черепа и лица, чтобы сойти за типичного американского англо-протестанта, но с детства приучился стыдиться отцовского происхождения и дрался с любым и каждым, кто называл меня «мексиканцем». И поскольку мой отец умер, когда мне было шесть лет, а мать – менее года спустя, я еще более стыдился своего стыда – я не успел сказать отцу, что прощаю его за то, что он не был стопроцентным белым американцем, не успел вымолить у матери прощения за свою ненависть к ней из-за того, что она вышла замуж за мексиканца. Это было странное чувство. С возрастом я все больше жалел о том, что не успел по-настоящему сблизиться с отцом. Когда он ушел на Великую войну, мне еще не исполнилось пяти лет, а в шесть я узнал, что он умер за океаном – от простуды, три месяца спустя после окончания боевых действий. Но разве я мог по-настоящему тосковать по человеку, которого почти не знал? Между Томом Диллоном и Джо Лукасом, то есть мной, имелись и иные различия. Обязанности Тома в Отделе внутренней разведки ограничивались тем, чем занималось подавляющее большинство агентов ФБР – «расследованием». Господин Гувер многократно повторял ретивым сенаторам и конгрессменам, что Бюро ни в коем случае нельзя считать полицейским органом, что это – следственное агентство. Большую часть своего времени Том допрашивал, составлял отчеты, перепроверял данные при помощи других данных и иногда следил за людьми. Он обладал некоторым опытом «грязных» дел, а именно – установкой микрофонов и иных противозаконных средств наблюдения, но, в основном, этой деятельностью занимались специалисты. Я был одним из них. Вдобавок Том Диллон никого не убивал. – Итак, – заговорил Том, когда мы ехали мимо Белого дома. – Ты все еще в ОРС? – Угу, – ответил я. Я заметил, что у входа в Белый дом со стороны Пенсильвания-авеню установлено нечто вроде пропускного пункта. Ворота по-прежнему были открыты, но создавалось впечатление, будто бы полисмен у входа готов проверить твои документы, если ты попытаешься проникнуть внутрь. Прошлым летом, когда я приезжал в город, кто угодно мог беспрепятственно пройти по территории Белого дома, разве что морской пехотинец спросил бы, что тебя привело сюда, если ты собирался войти в само здание. Когда я впервые попал в Вашингтон в середине 30-х, ворот вообще не было и на многих участках территории отсутствовала ограда. Я вспомнил, как тем летом играл на Южной поляне в бейсбол. – Все еще в Мексике? – допытывался Том. – Хм-мм… – пробормотал я. Мы остановились на красный свет. Мимо спешили рабочие Белого дома, у многих в руках были бурые пакеты с обедом. – Скажи мне, Том, – произнес я. – Что происходило во внутренней разведке после Пирл-Харбора? – Если бы Тома кто-нибудь спросил, он ответил бы, что «мы» поверяли друг другу тайны и говорили буквально обо всем. Правда заключалась в том, что Диллон поверял мне тайны. – Удалось ли поймать немецких или японских шпионов? Том фыркнул. Загорелся зеленый свет, и он включил передачу. – Черт возьми, Джо, мы с таким усердием гонялись за своими людьми, что ни на нацистов, ни на японцев не оставалось времени. – За какими людьми? – спросил я, зная за Томом привычку опускать в разговоре имена. Когда-нибудь она может стоить ему работы. – За кем Бюро гоняется с тех пор, как началась война? Том сунул в рот палочку резинки и начал с чавканьем жевать. – За вице-президентом, – осторожно произнес он. Я рассмеялся. Вице-президент Генри Эдгар Уоллес был идеалистом и честнейшим человеком. Также его считали недоумком, игрушкой в руках коммунистов. Мой смех покоробил Тома. – Я серьезно, Джо. Мы следим за ним с весны. «Жучки», магнитофоны и все такое прочее… Стоит ему сходить по малой нужде – и Гувер получает лабораторный анализ. – Угу, – сказал я. – Уоллес – это нешуточная угроза… Том не заметил моей иронии. – Совершенно верно, – заявил он. – У нас есть доказательства того, что коммунисты намерены использовать его как активного агента. Я пожал плечами: – Если помнишь, русские пока еще наши союзники. Том посмотрел на меня. Он был так потрясен, что прекратил жевать. – Господи, Джо, не шути такими вещами. Мистер Гувер нипочем… – Знаю, знаю, – перебил я. Японцы напали на Пирл-Харбор, а Адольф Гитлер был самым опасным человеком в мире, но Гувер славился своим стремлением в первую очередь покончить с коммунистической угрозой. – Кто еще занимает вас в настоящее время? – спросил я. – Самнер Уэллес, – ответил Том, щурясь на ярком солнце. Мы вновь остановились у светофора. Перед нами с грохотом и звоном прокатил трамвай. Мы находились в нескольких кварталах от дома Диллона, и дорожное движение здесь было очень плотным. – Самнер Уэллес? – переспросил я, сдвинув шляпу на затылок. Уэллес, заместитель госсекретаря, а также личный друг и советник президента, был знатоком политики латиноамериканских стран, и на нем держалась вся разведывательная деятельность в этом регионе. Не менее десятка раз его имя упоминалось в колумбийском посольстве в связи с критическими ситуациями, которые затрагивали меня лично. Ходили слухи, будто бы его сняли с поста в посольстве Штатов в Колумбии задолго до моего прибытия туда, но причин не знал никто. – Стало быть, Уэллес – красный? – спросил я. Том покачал головой. – Нет. «Голубой». – Что ты имеешь в виду? Том повернулся ко мне, и на его лице появилась знакомая ухмылка. – Ты слышал, что я сказал, Джо. Он – «голубой». Педик. Гомик. Я молча ждал. – Это началось два года назад, в сентябре сорокового, в специальном поезде президента, возвращавшегося из Алабамы с похорон спикера Бэнкхеда. – Том повернулся с таким видом, как будто ждал, что я забросаю его расспросами. Я молчал. Зажегся зеленый свет. Мы продвинулись вперед на несколько ярдов и остановились за колонной грузовиков и легковых машин. Чтобы перекричать гудки и рев моторов. Тому пришлось повысить голос. – Если не ошибаюсь, Уэллес крепко выпил и позвонил, требуя прислать к нему носильщика… явились сразу несколько… и он разделся перед ними и предложил… ну, ты знаешь эти гомосексуальные штучки. – Том зарделся. Он был крутым парнем, настоящим солдатом, но в душе оставался ревностным католиком. – Это подтвердилось? – спросил я, размышляя над тем, как отразится на СРС отставка Уэллеса. – Да, черт возьми! – ответил Том. – Гувер приставил к Уэллесу Эда Тамма, и с тех пор Бюро уже полтора года следит за ним. Старый педераст напивается и катается по паркам, охотясь за мальчиками. Мы располагаем данными внешнего наблюдения, свидетельствами очевидцев, записями телефонных переговоров… Я потянул шляпу вперед, чтобы прикрыть глаза. По словам людей в посольстве, которым я доверял больше остальных, Самнер Уэллес был самым мозговитым человеком в Госдепе. – Гувер сообщил об этом президенту? – спросил я. – Год назад, в минувшем январе, – сказал Том и выплюнул жвачку на мостовую. Машины тронулись с места, и мы свернули направо, на Висконсин-авеню. – Как утверждает Дик Феррис, который занимался этим делом вместе с Таммом, Гувер не предложил никаких рекомендаций… впрочем, у него их и не просили… и президент в сущности никак не отреагировал. Дик говорит, что впоследствии Генеральный прокурор Биддл еще раз пытался привлечь его внимание к данному вопросу, но Рузвельт лишь сказал: «Давайте не будем об этом в служебное время». – Гомосексуальное домогательство – тяжкое преступление, – заметил я, кивнув. – Еще бы. Дик говорит, что, по словам Тамма, Гувер особенно подчеркнул это в беседе с президентом и объяснил, что наклонности Уэллеса делают его уязвимым для шантажа. Президент замял это дело, но ненадолго… – Почему? – спросил я. Мне на глаза попался квартал, в котором я жил четыре года назад. Дом Диллона находился всего в трех кварталах к западу. – Теперь Уэллесом занимается Буллит, – ответил Том, поворачивая руль обеими руками. Уильям Кристиан Буллит. Человек, которому газетчики дали прозвище «Яго». Я не читал Шекспира, но эта аллюзия была мне понятна. У Гувера имелось досье на него, и, выполняя одно из своих заданий в Вашингтоне, я был вынужден ознакомиться с ним. Уильям Кристиан Буллит, близкий друг Рузвельта, был послом, заводившим врагов в каждой стране, куда его назначали, и ловким пройдохой, готовым втереться в печенки к любому нужному ему человеку. Как утверждало досье, он соблазнил наивную мисс Лехенд, секретаршу Рузвельта, боготворившую своего шефа, только чтобы облегчить себе доступ к президенту. Если Буллит взялся за Самнера Уэллеса, когда-нибудь он доконает его, рассказывая о нем политическим противникам Рузвельта, нашептывая грязные истории журналистам, высказывая свои опасения госсекретарю Корделу Халлу. Буллит погубит Уэллеса не мытьем так катаньем, повергнув при этом в прах латиноамериканское отделение Госдепа, расстроив политику добрососедства, действующую в Южной Америке, и ослабив свою страну в военное время. В результате человек, которого в подпитии охватывает гомосексуальная страсть, будет изгнан с государственной службы, а Уильям Кристиан Буллит наберет очки в непрекращающейся борьбе за власть. Ох уж этот Вашингтон! – За кем еще охотится Бюро? – устало спросил я. Как ни удивительно, напротив дома, в котором жил Диллон, нашлось место для парковки. Том втиснул машину в узкий промежуток и оставил двигатель работать, но затянул стояночный тормоз. Он потер переносицу. – Нипочем не догадаешься, Джо. Я сам участвую в этом деле. Сегодня вечером мне предстоит работать. Я оставлю тебе ключи… может быть, мы увидимся завтра. «Скорее всего, завтра меня здесь уже не будет», – подумал я и сказал: – Отлично. – Давай, попробуй догадаться. – Диллону явно хотелось затянуть игру. – За Элеонорой Рузвельт, – сказал я, вздохнув. Том моргнул. – Будь я проклят. Ты слышал о расследовании? – Шутишь? – отозвался я. У Гувера были досье О/К на всех влиятельных людей Вашингтона – вернее, Штатов, – и все знали, что он ненавидит Элеонору, но директор нипочем не осмелился бы преследовать члена семьи нынешнего президента. Он слишком дорожил своей должностью. Том понял, что я ничего не знаю. Он уверенным жестом сдвинул шляпу на затылок, положил руку на руль и повернулся ко мне лицом. – Никаких шуток, Джо. Разумеется, мы не следим за миссис Рузвельт лично, однако… – Кажется, ты меня разыгрываешь. – Ничуть не бывало, – сказал он, подаваясь ко мне, и я почувствовал запах мяты. – Три последних года старушка сходит с ума по некоему Джо Лашу… Это имя было знакомо мне, я читал досье на Лаша в связи с деятельностью Конгресса американской молодежи, за которым следил в 1939 году. Я даже лично беседовал с Лашем под видом студента, интересующегося его организацией. Тогда Лаш был секретарем Конгресса – вечный студент, старше меня на десятилетия, но много моложе в душе, мальчишка в мужском теле, разменявший четвертый десяток, но оставшийся наивным зеленым юнцом. Конгресс молодежи объединял любителей словопрений левацкого толка – именно такие организации коммунисты обожают поддерживать материально и наводнять своими агентами – и пользовался особым расположением миссис Рузвельт. – Они любовники… – продолжал Том. – Чепуха, – перебил я. – Ей шестьдесят лет. – Пятьдесят восемь, – поправил Том. – А Лашу тридцать три. У миссис Рузвельт собственная квартира в Нью-Йорке, и она отказалась от спец-охраны. – Ну и что? – спросил я. – Это доказывает только то, что у нашей престарелой девушки все в порядке с мозгами. Кому захочется, чтобы типы из Казначейства дышали тебе в затылок двадцать четыре часа в сутки <Охраной членов семьи президента США занимается Федеральное Казначейство.>? Том покачал головой. – Господин Гувер понимает, что это кое-что значит. У меня разболелась голова. На мгновение меня вновь одолело желание схватить Тома за галстук и бить мордой о руль до тех пор, пока его задорный веснушчатый нос не превратится в бесформенную окровавленную массу. – Том, – негромко заговорил я. – Неужели ты хочешь сказать, что мы шпионим за миссис Рузвельт? Вскрываем ее почту? Диллон опять покачал головой. – Разумеется, нет, Джо. Но мы фотографируем корреспонденцию Лаша, подслушиваем его телефон и напичкали микрофонами его квартиру. Увидел бы ты письма, которые этот коммунистический прихвостень строчит для Первой Леди, Защитницы ниггеров… занятное чтиво, доложу я тебе. – Еще бы. – Мысль о том, что и эта милая приветливая пожилая женщина пишет страстные послания мальчишке, повергла меня в уныние. – Именно этим я займусь сегодня вечером, – продолжал Том, вновь водружая шляпу на место. – Пару недель назад Лашу отправили призывную повестку, и мы передаем его дело КРС. – Разумно, – ответил я. Армейская контрразведывательная служба, отдел военной разведки, возглавляемый генералом Джоном Бисселем, можно было назвать кучей перепившихся обезьян, да и это прозвучало бы слишком мягко. Кто-нибудь мог бы назвать их бандой оголтелых реакционеров, но только не я. По крайней мере, не сейчас. Я знал наверняка одно – КРС не колеблясь пустила бы ищеек за миссис Рузвельт и обжучила ее квартиру и телефон. Знал я и то, что президент, при всей своей снисходительности к заблудшим овцам, вроде Самнера Уэллеса, сослал бы Бисселя на Тихий океан, как только стало бы известно, что армия следит за его женой. Том сунул мне ключи. – Холодное пиво в ящике со льдом, – сказал он. – Прошу прощения, но съестного в доме ни крошки. Мы сможем пообедать вместе завтра, когда я освобожусь. – Надеюсь, – отозвался я, стискивая ключи в кулаке. – Спасибо тебе, Том. Если мне придется уйти до того, как ты вернешься завтра… – Положи ключи под коврик, как всегда, – сказал Том. Он наклонился, протянул ладонь поверх нагретого металла дверцы и пожал мне руку. – Мы еще увидимся, дружище. Посмотрев вслед «Форду» Тома, влившемуся в поток машин, я торопливо побежал вверх по ступеням. Том Диллон был настоящим агентом ФБР, готовым прийти на помощь, но в общем-то ленивым, согласным жрать дерьмо мистера Гувера и его людей, если мистер Гувер велит жрать дерьмо, безупречно выполняющим приказы, но не склонным напрягать собственные мозги, поборником демократии, ненавидящим ниггеров, шлюх, гомиков и жидов. Вне всяких сомнений, Том усердно тренировался в стрельбе из пистолета в тире подвала Департамента Юстиции на дистанции, установленной для агентов Бюро, и отлично умел обращаться с автоматами, пулеметами и винтовками, а также обладал отменными навыками рукопашного боя. На бумаге он был опытным умелым убийцей. Он сумел бы выжить в трехдневной полевой операции ОРС. Я поднялся по лестнице. Меня ждала ванная комната с душем, и я выбросил Тома из головы.Глава 3
Главный вход в здание Департамента юстиции располагался на пересечении Девятой улицы и Пенсильвания-авеню. По обе стороны перекрестка возвышались классические портики с четырьмя колоннами, которые начинались над окнами второго этажа и протягивались до самой крыши четырьмя этажами выше. Со стороны Пенсильвания-авеню, на пятом этаже слева от колонн, находился единственный в здании балкон – личный балкон господина Гувера. К 1942 году он успел увидеть с этого балкона восемь инаугурационных процессий сменявших друг друга президентов США и нескольких из них, возвращавшихся в гробу. Разумеется, я знал это здание, но у меня никогда не было там своего стола. Всякий раз, приезжая в округ Колумбия, я получал назначение в районные отделения Бюро либо действовал под прикрытием. Как образцовый агент, я приехал на десять минут раньше назначенного срока, приняв душ, побрившись, напомадив волосы, в чистой рубашке и костюме, в сверкающих башмаках, аккуратно держа шляпу в сухих пальцах. Здание было огромное, и я знал здесь кое-кого, а они, в свою очередь, – меня, однако никто из этих людей не попался мне по пути, когда я вышел из лифта на пятом этаже и направился в святая святых директора. Кабинет Гувера находился не в центре здания, скорее – прятался поодаль. Чтобы добраться до него, приходилось идти по длинному коридору, миновать просторный конференц-зал с пепельницами, выстроившимися вдоль полированного стола, и пересечь приемную, в которой затаилась миссис Гэнди, словно знаменитый дракон, охраняющий девственницу из легенды. В 1942 году миссис Гэнди и сама уже была легендой – незаменимый сотрудник господина Гувера, отчасти страж, отчасти нянька, единственное человеческое существо, которому дозволялось просматривать, подшивать, систематизировать и читать личные досье директора. В 1942-м, когда я вошел в приемную, ей было сорок пять лет, но уже тогда в разговорах с друзьями мужского пола и с близкими сотрудниками Гувер называл ее «старой наседкой». В ней и впрямь было что-то от заботливой клуши. – Специальный агент Лукас? – осведомилась она, когда я встал перед ней навытяжку со шляпой в руках. – Вы явились на пять минут раньше указанного времени. Я кивнул. – Присядьте. Директор принимает строго по расписанию. Слово «директор» прозвучало с заглавной буквы; подавив желание улыбнуться, я послушно сел. Помещение казалось едва ли не неряшливым – два пухлых кресла и пружинный диванчик у стены. Я выбрал диванчик. Я знал, что это единственный уголок конторы директора (я думал о нем без всяких заглавных букв), который когда-либо доведется увидеть большинству агентов; как правило, Гувер встречался с подчиненными низшего ранга в конференц-зале либо здесь, в приемной. Я огляделся в надежде увидеть скальп Джона Диллинжера на одной из полок витрины у дальней стены, но экспонат, который Том Диллон и другие приятели восхищенно описывали мне в мельчайших подробностях, отсутствовал. Там было лишь несколько памятных дощечек и запыленный кубок. Вероятно, скальп снесли в химчистку. Ровно в одиннадцать тридцать миссис Гэнди сказала: – Директор ждет вас, специальный агент Лукас. Признаюсь, что, когда я входил в двери кабинета, мое сердце билось быстрее обычного. Как только я вошел внутрь, Гувер вскочил на ноги, обежал стол, пожал мне руку в центре комнаты, жестом предложил сесть в кресло справа от стола и вернулся на свое место. По рассказам других агентов я знал, что такова была непременная процедура, когда кому-нибудь выпадало счастье встретиться с директором в его личном служебном помещении. – Итак, специальный агент Лукас, – заговорил Гувер, откинувшись на спинку своего трона. Я упомянул о троне с сарказмом, ибо кабинет был оборудован соответствующим образом – стол и кресло стояли на возвышении, кресло директора казалось огромным по сравнению с креслом для посетителей, в котором я сидел, а за его спиной было высокое окно с поднятыми жалюзи, так что, если светило солнце, господин Гувер выглядел туманным силуэтом в ярких лучах. Но сегодня после ясного утра набежали облачка, свет в окне был тусклым, и я без труда различал черты лица директора. В тот апрельский день 1942 года Эдгару Гуверу было сорок шесть лет, я видел его в первый и последний раз в жизни и смотрел на него оценивающим взглядом, пока он точно так же смотрел на меня. Я имею привычку – вернее сказать, слабость – при встрече с мужчинами судить о них по тому, как сложился бы между нами кулачный бой. С физической точки зрения Гувер не представлял для меня трудностей. Он был невысок для агента – примерно моего роста, как я отметил, пожимая ему руку – и если я принадлежал к легкой полусредней категории, то директор был тяжелее меня по меньше мере на двадцать фунтов. Его рост составлял около пяти футов десяти дюймов, а вес – примерно сто восемьдесят три фунта, намного больше минимальных параметров, которые он установил для сотрудников ФБР. Первым, что бросалось в глаза, была приземистость его фигуры – это впечатление подчеркивал широкий торс Гувера, переходящий в самые коротенькие ноги, какие я когда-либо видел у мужчины. Гувер был хорошо одет, его темный двубортный костюм был безупречно пошит, и он носил шелковый галстук в розовую и бордовую крапинку, который нипочем не отважился бы надеть ни один секретный агент. Я заметил в его нагрудном кармане платок той же расцветки. У Гувера были черные волосы, зачесанные назад с такой тщательностью, что казалось, будто бы его характерный мрачный взгляд вызван тем, что ему на голову натянули слишком тесный парик. Чаще всего карикатуристы изображали Гувера в виде бульдога – прищуренные либо выпученные глаза, приплюснутый нос, массивная поджатая челюсть, – и я выхватил все эти элементы уже в первую секунду встречи, хотя мне он показался скорее китайским мопсом, чем бульдогом. Гувер двигался быстро – его выход к центру комнаты, рукопожатие и возвращение в свое кресло заняли меньше пятнадцати секунд, – и в этой быстроте угадывалась нервная энергичная целеустремленность. Если бы мне пришлось с ним драться, я бы ударил его в живот, очевидно, самое мягкое место тела, а потом в пах, но ни за что не повернулся бы к нему спиной, после того как он упал. Взгляд Гувера и то, каким образом были сложены его губы, выдавали в нем человека, который попытался бы загрызть тебя насмерть, после того как ты отсек ему руки и ноги. – Итак, секретный агент Лукас, – повторил он, открывая толстое личное дело – вне всяких сомнений, мое. Если не считать еще нескольких папок и книги в черном кожаном переплете у его левого локтя – мы все знали, что это Библия, подарок матери, – стол Гувера был практически пуст. – Надеюсь, ваша поездка в Вашингтон была приятной? – Да, сэр. – Известно ли вам, зачем я вас вызвал, Лукас? – Гувер произносил слова быстро и отрывисто. – Нет, сэр. Директор кивнул, но, судя по всему, он не торопился посвящать меня в курс дела. Он листал мое жизнеописание, словно видел его впервые, хотя я ничуть не сомневался, что он тщательно изучил его перед встречей со мной. – Вы родились в 1912 году, – сказал Гувер. – В… э-ээ… ага. В Браунсвилле, штат Техас. – Да, сэр. – Гадать о причинах вызова было бессмысленно, и все же по пути из Мексики я потратил некоторое время на размышления. Я не льстил себя надеждой, что меня ждет повышение или награда. От подавляющего большинства четырех тысяч специальных агентов мистера Гувера я отличался в том году лишь тем, что убил двух человек… или трех, если он сочтет нужным прибавить к ним Кривицкого из минувшего года. Во всем ФБР не было человека, который годился на роль убийцы меньше, чем агент по особым поручениям Мелвин Пурвис, получивший награду за то, что застрелил Джона Диллинджера и Красавчика Флойда, и хотя все в Бюро знали, что этих преступников убил не он, было известно также, что Гувер заставил Пурвиса уйти в отставку в 1935-м. Пурвис стал знаменит… более знаменит, чем сам директор, который не убил и не арестовал ни одного человека. Широкая публика должна была связывать с ФБР только одно имя – Эдгар Гувер. Пурвису пришлось уйти. Именно по этой причине я никогда не требовал наград – ни за операцию в Мексике, когда мы выловили последних оставшихся там абверовских агентов, ни за два убийства в темном саманном доме, когда Шиллер и его наемный подручный пытались меня ликвидировать, ни за Кривицкого. – У вас два брата и сестра, – сказал Гувер. – Да, сэр. Он оторвал взгляд от личного дела и посмотрел на меня: – Для мексиканских католиков семья маловата. – Мой отец родился в Мексике, а мать была ирландка, – объяснил я. Вполне могло быть и так, что Бюро лишь недавно выяснило национальность моего отца. – Мексиканец и ирландка, – произнес Гувер. – Просто чудо, что в семье лишь четыре ребенка. «Чудо, которое называется „эпидемия гриппа и воспаление легких“, – подумал я, но ничем не выдал своих мыслей. Гувер опять смотрел в папку. – Вас называли дома „Хосе“, специальный агент Лукас? Отец называл меня так. Он получил американское гражданство лишь за год до смерти. – В моем свидетельстве о рождении указано имя „Джозеф“, господин Гувер. Если меня вызвали в Вашингтон по этой причине, я был во всеоружии. Нельзя сказать, что в Бюро царила дискриминация. В 1942 году у нас служили 5702 чернокожих специальных агента – менеенедели назад я видел эти цифры в отчете местного отделения ФБР в Мехико-Сити. 5690 из них поступили к нам в последние полгода, и все они работали водителями, уборщиками, поварами и письмоводителями, которых Гувер не хотел отпускать на военную службу. Он прилагал все силы, чтобы его специальные агенты были избавлены от призыва, однако после Пирл-Харбора дал понять, что любой сотрудник, пожелавший отправиться в армию, может сделать это, но обратная дорога в Бюро будет для него закрыта. Я знал, что до Пирл-Харбора в ФБР было по меньшей мере пятеро нефов – три шофера Гувера, а также Джон Амос и Сэм Нуазетт. Амос был в преклонных годах. Он являлся слугой, телохранителем и другом Теодора Рузвельта – Рузвельт буквально умер на его руках, – и, когда в 1924 году Гувер возглавил Федеральное бюро расследований, Амос уже получал там жалованье. Однажды я видел старика на стрельбище – ему поручили чистить оружие. Сэм Нуазетт являл собой более свежий пример того, что и негр способен добиться успеха в наших рядах; он был специальным агентом, состоявшим в личном штате Гувера – я удивился, не встретив его у входа в кабинет директора, – и зачастую служил для нас напоминанием о великодушной политике Бюро по отношению к чернокожим. Когда мне показали статью в журнале „Эбони“, которая трубила о тесном сотрудничестве специального агента Нуазетта и господина Гувера, я невольно улыбнулся, прочтя фразу „отношения между этими людьми весьма точно отражают атмосферу расовых отношений, царящую в Бюро“. Автор статьи был весьма недалек от истины, хотя и не в том смысле, который вкладывал в свои слова. Нуазетт – „мистер Сэм“, как его называл Гувер и все остальные – был личным помощником директора и его мажордомом, которому вменялось в обязанности подать Гуверу сухое полотенце, когда тот выходит из своей персональной ванной, помочь надеть пальто и – самое главное – подшивать досье, к которым Гувер питал ненависть, сравнимую только с его страхом и ненавистью к коммунистам. „Вас называли дома „Хосе“?“ Гувер намекнул мне, что знает… вернее, Бюро знает о том, что, когда я родился, мой отец не имел американского гражданства, и с формальной точки зрения я был отродьем латиноса, „мокрой спины“. Я молча ждал, глядя на коротышку, похожего на мопса. – В детстве вы немало путешествовали, специальный агент Лукас. Техас, затем Калифорния, Флорида. Потом вернулись в Техас, чтобы учиться в колледже… – Так точно, сэр. Гувер все еще смотрел в бумаги. – Ваш отец умер во Франции. Из-за ранений, полученных на войне? – От гриппа, – ответил я. – Но он тогда служил в армии? – Да, сэр. – „В трудовом батальоне, который должен был вернуться домой позже всех. Тогда-то он и подцепил грипп в самый разгар эпидемии“. – Да, да, – сказал Гувер, не отрывая глаз от папки. – Ваша мать умерла в том же году. – Только теперь он поднял лицо и чуть заметно вскинул брови. – Воспаление легких, – объяснил я, а про себя сказал: „Разбитое сердце“. Гувер шелестел страницами. – Но вас и остальных детей не отдали в сиротский приют. – Нет, сэр. Мою сестру взяла к себе семья тетки. – „В Мексике“, – подумал я, молясь, чтобы в досье не оказалось сведений на этот счет. – Мы с братьями уехали во Флориду, к брату отца. У него был только один сын, который помогал ему ловить рыбу. Я и мои братья рыбачили с ним несколько лет, пока учились в школе, а потом, уже учась в колледже, я приезжал к нему каждое лето. – Стало быть, вам знакомы острова Карибского бассейна, – сказал Гувер. – Не то чтобы очень, сэр. Мы ловили рыбу в Заливе. Одно лето я служил на чартерном судне, которое ходило до Майами и далее до Бимини. Но на других островах я не бывал. – Но вы знаете морское дело. – Выпуклые глаза Гувера непроницаемо уставились на меня. Я терялся в догадках, к чему он клонит. – Да, сэр. В достаточной мере, чтобы плавать матросом. Директор вновь посмотрел в бумаги. – Расскажите мне об инциденте в Веракрусе, специальный агент Лукас, – велел он. Я понял, что Гувер изучает мой рапорт, напечатанный на десяти страницах через один интервал, вложенный в личное дело. – Известны ли вам подробности операции вплоть до того момента, когда Шиллер завербовал информатора в мексиканской полиции? – спросил я. Гувер кивнул. На секунду солнце выглянуло из-за облаков, и его лучи хлынули в окно, создавая эффект, который так любил директор. Больше я не мог видеть глаза Гувера, только силуэт его мясистых плеч на фоне неясных очертаний спинки кресла… и блеск солнца на увлажненных маслом волосах. – Я должен был встретиться с ними в одиннадцать вечера в доме на улице Симона Боливара и обменять сведения на деньги, – заговорил я. – Мы проделывали это десятки раз. Я всегда приходил по меньшей мере за тридцать минут до встречи, чтобы осмотреть место. Но в данном случае они явились за полтора часа до назначенного срока, затаились в темноте и ждали, когда я возникну в проеме входной двери. Я заметил их присутствие в самый последний момент. – Что насторожило вас, специальный агент Лукас? – произнес туманный силуэт голосом Гувера. – Собака, сэр. Там была рыжая псина, и она лаяла всякий раз, когда я приходил. Как правило, собаки в Мексике добры к чужакам, но эта сука принадлежала крестьянину, который присматривал за домом по поручению Шиллера. Она сидела на цепи в заднем дворике. За двое суток до случившегося крестьянина взяли наши люди, и собака изголодалась. – Значит, вы услышали ее лай? – Нет, сэр. В том-то и дело, что не услышал. Думаю, она подняла шум, когда появился Шиллер, и тот велел своему напарнику перерезать ей горло. Гувер усмехнулся. – Точь-в-точь как было у Шерлока Холмса. Собака в ночи. – Прошу прощения, сэр?.. – Вы не читали про Шерлока Холмса, специальный агент Лукас? – Я не читаю выдуманных книг. – Выдуманных? Вы имеете в виду романы и повести? – Да, сэр. – Хорошо, продолжайте. Что случилось дальше? Я провел ладонью по полям шляпы, лежавшей у меня на коленях. – В общем-то, ничего. Вернее, случилось многое, но очень быстро. Я уже стоял в дверях, когда сообразил, что собака не лаяла. Я решил войти. Шиллер и его компаньон не ждали меня так рано и не успели занять выгодную позицию для стрельбы. Я вошел быстро. Они стреляли в меня, но промахнулись в темноте. Я открыл ответный огонь. Гувер сложил ладони, словно в молитве. – Баллистическая экспертиза показала, что они вдвоем расстреляли более сорока патронов. Девятимиллиметровых. Кажется, у них были „люгеры“? – „Люгер“ был у Лопеса, наемника, – ответил я. – Шиллер стрелял из „шмайссера“. – Из пистолета-пулемета, – сказал Гувер. – Должно быть, в маленьком доме выстрелы прозвучали очень громко. Я кивнул. – А вы стреляли из девятимиллиметрового „магнума“ и выпустили всего четыре пули. – Да, сэр. – Два попадания в голову и одно – в верхнюю часть туловища. Лежа ничком. В темноте. В шуме и суматохе. – Их выдало пламя из стволов, сэр. Я не старался непременно попасть в голову, просто целился во вспышки. Как правило, в темноте люди стреляют чуть выше, чем требуется. Думаю, Шиллера сбил с толку грохот. Лопес был профессионалом, а Шиллер – простофилей и любителем. – Теперь этот простофиля мертв. – Да, сэр. – Вы по-прежнему носите с собой девятимиллиметровый „магнум“, специальный агент Лукас? – Нет, сэр. Теперь у меня табельный полицейский пистолет. Гувер перелистнул обратно несколько страниц. – Кривицкий, – негромко произнес он, словно обращаясь к самому себе. Я промолчал. Если меня ждали неприятности, то, вероятно, дело именно в том человеке, которого только что назвал Гувер. Он продолжал листать толстую папку. Генерал Вальтер Григорьевич Кривицкий возглавлял НКВД. советскую разведывательную службу в Западной Европе, вплоть до конца 1937 года, когда он вынырнул из тени в Гааге и попросил убежища на Западе, сообщив репортерам, что „порвал со Сталиным“. Ни один человек не мог бы порвать со Сталиным и остаться в живых. Кривицкий пошел по стопам Льва Троцкого, гибель которого в Мехико-сити стала самым ярким подтверждением этому неумолимому правилу. Абвер, германская военная разведка, заинтересовалась сведениями, которыми располагал Кривицкий. Один из лучших абверовских агентов, Трауготт Андреас Рихард Протце, некогда служивший в „Marine Nachrichtendienst“, военно-морской разведке Германии, поручил своим людям завербовать Кривицкого, который полагал, что, находясь у всех на виду в Париже, он может ничего не опасаться. Однако его надежды были напрасны. Теперь, когда за ним охотились убийцы из ГПУ, а вокруг кишели абверовские агенты – один из них вошел в контакт с Кривицким, представившись евреем-беженцем, которого разыскивают как нацисты, так и коммунисты, – жизнь бывшего агента НКВД значительно обесценилась. Кривицкий переметнулся из Парижа в Штаты, и теперь, кроме ГПУ и Абвера, за этим низкорослым худощавым человеком с косматыми бровями стало гоняться еще и ФБР. И вновь Кривицкий решил, что его лучшей защитой будет жизнь на глазах у широкой общественности. Он написал книгу „Я был сталинским агентом“, печатал статьи в „Сэтердей Ивнинг Пост“ и даже выступал свидетелем перед Комитетом Диаса по антиамериканской деятельности. При каждом появлении на публике Кривицкий заявлял всем, кто его слушал, что за ним охотятся агенты ГПУ. Разумеется, за ним следили, и эту охоту возглавлял киллер по кличке Ганс Красный Иуда, который только что приехал из Европы, убив там Игнатия Рейсса, еще одного перебежчика из советских секретных служб и близкого друга Кривицкого. К тому времени, когда в 1939 году в Европе разразилась война, Кривицкий не мог выйти к газетному киоску на углу за экземпляром „Взгляда“, чтобы при этом ему через плечо не заглядывали с полдюжины агентов, американских и зарубежных. Я должен был выслеживать не Кривицкого – мне пришлось бы стоять в хвосте длинной очереди, – а Ганса Красного Иуду, который разыскивал Кривицкого. Его настоящее имя было доктор Ганс Веземанн; прежде он был марксистом и отличался по-европейски галантными светскими манерами. Теперь он занимался похищениями и убийствами эмигрантов. Веземанн прибыл в Штаты по паспорту журналиста, и хотя ФБР узнало о его появлении в момент въезда в страну, о нем забыли до тех пор, пока не стало очевидно, что ему нужен бывший советский генерал. Итак, в сентябре 1939 года меня вызвали в США и подключили к совместной операции ФБР и Британской координационной разведывательной группы (БКРГ), целью которой было обратить ситуацию с Кривицким и Красным Иудой к нашей пользе. Должно быть, Веземанн почувствовал, что его охота за Кривицким стала объектом внимания множества людей, поскольку он обратился к своему шефу Протце за разрешением покинуть Штаты и залечь на дно. Мы узнали об этом лишь впоследствии – британцам удалось разгадать немецкие шифры, и они время от времени скармливали нам крупицы сведений. Протце обсудил возникшее положение с главой Абвера адмиралом Канарисом, и в конце сентября 1939 года Веземанн отправился в Токио на японском судне. Там мы не могли следить за ним, но британской военно-морской разведке и БКРГ это удалось, и они немедленно сообщили нам, что сразу по прибытии в Японию Веземанн получил телеграмму от Протце с приказом возвращаться в Америку. В этот момент я вступил в игру. Меня вызвали в Вашингтон предыдущей осенью, поскольку мы надеялись, что Веземанн укроется в Мексике, служившей центром большинства операций Абвера в западном полушарии. Однако немецкий агент провел октябрь и ноябрь в Никарагуа, дожидаясь возможности вновь попасть в Штаты. Силы Абвера в этой стране были весьма скромны, и к этому времени Веземанн опасался за свою жизнь не меньше Кривицкого. Как-то вечером на него напали три головореза, и от серьезных травм его спасло только вмешательство разжалованного моряка торгового флота США, заброшенного на чужбину. Он влез в драку и сумел разогнать убийц, отделавшись сломанным носом и ножевым ранением между ребер. Этих трех громил наняли БКРГ и ОРС – столь велика была их уверенность в моем рукопашном искусстве. Три недоумка едва не угробили меня. У меня было простое, но надежное прикрытие. Я действовал под видом недалекого, но крепкого матроса, бывшего боксера, которого списали на берег за нападение на боцмана. Он умудрился потерять все свои документы и американский паспорт, его разыскивала полиция Манагуа, и он был готов на все, лишь бы вырваться из этой дыры и вернуться домой. Следующие два месяца, выполняя поручения Веземанна, я и впрямь делал „все, что угодно“ – в том числе работал посыльным у разрозненной группы абверовцев в Панаме, два года наблюдавших за каналом, и однажды вновь защитил Веземанна, на сей раз от настоящего нападения советского агента, – прежде чем мой подопечный начал доверять мне и свободно говорить в моем присутствии. Будучи в преклонных летах и страдая мозговым расстройством, „старина Джо“ едва говорил по-английски, зато специальный агент Лукас без труда понимал немецкий, испанский и португальский, которыми пользовалась группа. В декабре 1940 года Веземанну дали „добро“ на переброску в Америку, и я был единственным помощником на жалованье, которого он взял с собой. Благодаря любезности Абвера я обзавелся поддельным паспортом взамен „утерянного“. Я заметил, что Гувер листает последние страницы моего рапорта под грифом „О/К“. Именно он в начале 1940 года учредил ОРС, Особую разведывательную службу – независимое подразделение ФБР для тесного сотрудничества с БКРГ при осуществлении контрразведывательных мероприятий в Латинской Америке. Однако организация работы ОРС напоминала скорее принципы деятельности британской разведки, нежели процедуры, принятые в ФБР, и я ничуть не сомневался, что это весьма тревожило Гувера. К примеру, агенты Бюро обязаны находиться на связи круглосуточно, и для Тома Диллона было бы немыслимо потерять контакт со своим руководством более чем на час-другой. Работая с Веземанном в Никарагуа, Нью-Йорке и Вашингтоне, я порой неделями не общался с начальством и контролерами. Таковы реалии глубоко законспирированной контрразведки. Как бы то ни было, я встретил новый, 1940 год в Нью-Йорке вместе с Веземанном и еще тремя абверовскими агентами. Славный доктор и его друзья посетили с полдюжины самых роскошных ночных клубов Нью-Йорка – от серьезных шпионов вряд ли можно ожидать подобной опрометчивости, – а старина Джо торчал в тени у машины, прислушиваясь к радостным воплям, доносившимся со стороны Таймс-сквер и надеясь, что его задница не успеет превратиться в ледышку к тому времени, когда четверо веселящихся фрицев решат, что им пора на боковую. Злополучный Вальтер Кривицкий уже стал досадной помехой не только для НКВД и Сталина, но также и для Абвера и ФБР. Перепуганный генерал выболтал все известные ему сведения пятилетней давности о советской шпионской сети в Европе и надеялся сохранить себе жизнь, выложив данные о германской разведке, борьбу с которой он некогда возглавлял. Убийцы ГНУ по-прежнему охотились за ним, и Канарис через Протце передал Веземанну, что отныне Кривицкого не требуется похищать или допрашивать, а только ликвидировать. Веземанн поручил это задание самому доверенному, наивному, тупому и безжалостному из своих наемников. Он поручил его мне. В конце января Кривицкий покинул Нью-Йорк и ударился в бега. Я проследовал за генералом до Виргинии, где вошел с ним в контакт, представившись агентом ФБР и ОРС, который сможет защитить его от Абвера и ГПУ. Мы вместе вернулись в Вашингтон, округ Колумбия, и воскресным вечером 9 февраля 1941 года он зарегистрировался в отеле „Бельвью“ неподалеку от Юнион-Стейшн. Вечер был холодный. Я отправился в ближайшую забегаловку и принес бутерброды в белой промасленной бумаге и стаканчики с прогорклым кофе. Мы вместе закусили бутербродами в его номере на пятом этаже. На следующее утро горничная обнаружила в постели труп Кривицкого; рядом с его ладонью лежал чужой пистолет. Дверь номера оказалась заперта, а пожарной лестницы у окна не было. Детективы вашингтонской полиции решили, что Кривицкий покончил жизнь самоубийством. Доктор Ганс Веземанн был верен своему слову; он говорил, что вывезет меня из страны, и выполнил это обещание. Поездом, машиной и пешком я добрался до Мексики, где должен был явиться к некому Францу Шиллеру и ждать дальнейших приказов. Я так и сделал. На протяжении десяти следующих месяцев, при поддержке БКРГ и местного отделения ФБР, мы выявили пятьдесят восемь абверовских агентов, практически полностью уничтожив разведывательную сеть немцев в Мексике… Гувер оторвал взгляд от папки. – Кривицкий, – повторил он, посмотрев на меня. Солнце вновь скрылось за облаками, и теперь я мог видеть темные глаза директора, буравящие меня. В рапорте было написано, как я трое суток уговаривал Кривицкого и наконец убедил его в безнадежности положения. Пистолет, найденный в его постели, разумеется, принадлежал мне. Я читал в темных глазах Гувера вопрос: „Не вы ли убили его, Лукас? Или попросту дали ему заряженный пистолет, не зная, выстрелит ли он в себя или в вас, и сидели в номере, пока он вышибал себе мозги?“ Молчание затянулось. Директор откашлялся и перевернул несколько страниц в папке. – Вы проходили подготовку в Лагере „X“. – Да, – ответил я, хотя это был не вопрос, а утверждение. – Что вы о нем думаете? Лагерем „X“ назывался британский центр секретных операций в Канаде, в предместьях Ошавы, на северном берегу озера Онтарио, неподалеку от Торонто. Его название напоминало мне дешевые кино-сериалы, однако там велась чертовски серьезная работа: обучение британских диверсантов и контрразведчиков, которым предстояло действовать по всему миру, а также агентов ФБР, для которых жестокое, кровавое ремесло шпионажа было внове. Все сотрудники ОРС прошли первоначальную подготовку в Лагере „X“. Основной курс включал в себя слежку за корреспонденцией – перехват, копирование и возвращение ее в обычные почтовые каналы, – а также искусство тайного наблюдения: визуального, фотографического, электронного; кроме этого, нас учили убивать голыми руками, знакомили со сложными шифровальными системами, экзотическим оружием, радиотехникой и многим другим. – Я получил там прекрасную подготовку. – Лучше, чем в Квантико <Квантико – основной учебный центр ФБР.>? – Там все было иначе. – Вы знакомы со Стефенсоном, – сказал Гувер. – Встречался с ним несколько раз, сэр. – Уильям Стефенсон, канадский миллионер, руководил всеми операциями Британской координационной разведывательной группы. В 1940 году Уинстон Черчилль лично направил его в США с двумя заданиями: официально он должен был организовать масштабные операции MI6 для выслеживания в Штатах абверовских агентов, а вторая, секретная, задача состояла в том, чтобы любой ценой втянуть Америку в войну. Эти замыслы меня не интересовали. Одной из моих целей в Лагере „X“ было наблюдение за британцами, чем я и занимался – мне довелось сфотографировать не только секретную переписку Черчилля и Стефенсона, но и планы центра по внедрению диверсантов в Чехословакию в 1942 году для ликвидации шефа Гестапо Рейнхарда Гейдриха. – Опишите его, – велел Гувер. – Уильяма Стефенсона? – тупо переспросил я. Мне было известно, что Гувер знаком со Стефенсоном и работал с ним, когда канадец впервые появился в США. Гувер похвалялся, что именно он придумал название БКРГ. – Опишите его, – повторил директор. – Приятной внешности, – заговорил я. – Невысок ростом, в весе пера. Носит костюмы-тройки „Севиль Роу“. Спокойный, но очень уверенный в себе. Никогда не позволяет себя фотографировать. К тридцатилетнему возрасту стал мультимиллионером… изобрел какой-то способ передачи изображений по радио. Специальной разведывательной подготовки не проходил, но обладает прирожденным талантом в этой области. – Вы боксировали с ним в Лагере „X“, – сказал Гувер, вновь заглянув в папку. – Да, сэр. – Кто кого?.. – Мы ограничились всего двумя раундами спарринга, сэр. Формально никто из нас не победил, поскольку… – Но как вы сами считаете – кто сильнее? – У меня длиннее руки и больше вес. Однако Стефенсон боксировал лучше. Если бы кто-нибудь вел счет, он бы выиграл оба раунда по очкам. Он без труда держал мои удары, оставаясь на ногах, и предпочитал ближний бой. Можно сказать, он победил. Гувер усмехнулся. – Считаете ли вы его хорошим руководителем контрразведки? „Лучшим в мире“, – подумал я и сказал: – Да, сэр. – Известны ли вам имена кого-нибудь из американских знаменитостей, которых он завербовал? – Да, сэр, – ответил я. – Эррол Флинн, Грета Гарбо, Марлен Дитрих… писатель Рекс Стаут… Если ему требуется пустить тот или иной слух, он пользуется услугами Уолтера Уинчелла и Уолтера Липпмана. На него работает несколько тысяч человек, среди них – около трехсот американцев-любителей, вроде тех, которых я назвал. – Эррол Флинн, – пробормотал Гувер, качая головой. – Вы ходите в кино, Лукас? – Изредка, сэр. Гувер вновь криво ухмыльнулся. – Значит, вы готовы поверить в выдуманную историю, когда ее показывают на экране, но отвергаете, если она напечатана на бумаге? Я не знал, что сказать, и промолчал. Гувер откинулся на спинку кресла и закрыл толстую папку. – Специальный агент Лукас, у меня для вас задание на Кубе. Вы вылетаете туда завтра утром. – Да, сэр, – отозвался я. Куба? Что стряслось на Кубе? Я знал, что ФБР держит там своих людей, как и повсюду в Западном полушарии, но вряд ли их больше двадцати человек. Я вспомнил, что резидентом Бюро на острове был Реймонд Ледди, атташе гаванского посольства. Но больше об операциях ФБР на Кубе я ничего не знал и сомневался, что Абвер ведет там сколько-нибудь активную деятельность. – Знаете ли вы писателя по имени Эрнест Хемингуэй? – спросил Гувер, облокотившись о кресло правой рукой. Он так крепко стиснул челюсти, что мне почудился скрип зубов. – Только по статьям в газетах, – ответил я. – Если не ошибаюсь, он – прославленный охотник-любитель. Делает большие деньги. Водит дружбу с Марлен Дитрих. Его книги экранизируются. По-моему, он живет в Ки-Уэст. – Жил раньше, – поправил меня Гувер. – Несколько лет назад он перебрался на Кубу и годами находится там безвыездно. Сейчас он со своей третьей женой живет неподалеку от Гаваны. Я ждал. Гувер вздохнул, протянул руку, коснулся Библии, лежавшей на его столе, и опять вздохнул. – Хемингуэй – лжец и выдумщик, специальный агент Лукас. Лжец, хвастун и, возможно, коммунист. – В каком смысле – лжец? – спросил я, гадая, почему это так волнует Бюро. Гувер вновь улыбнулся. Уголки его губ чуть раздвинулись, на мгновение показав мелкие белые зубы. – Минуту спустя вы увидите его досье, – сказал он. – Впрочем, могу привести один пример. Во время войны Хемингуэй водил в Италии санитарный фургон. Рядом с ним взорвалась мина, и его доставили в госпиталь со шрапнельными ранами. Год спустя Хемингуэй заявил репортерам, что его вдобавок настигла очередь, выпущенная из крупнокалиберного пулемета – одна из пуль задела коленную чашечку, – и после этого он протащил раненого итальянского солдата сто пятьдесят шагов до командного поста и только там потерял сознание. Мне оставалось лишь кивнуть. Если Хемингуэй и впрямь сказал такое, значит, он действительно лжец. Ранение в колено – самое болезненное из всех, какие только можно себе представить. Если в коленную чашечку Хемингуэя угодила шрапнель и он смог пройти несколько шагов, не говоря ужо том, чтобы тащить раненого, то он – чертовски крепкий сукин сын. Однако пулеметные пули – это массивные стремительные дьяволы, назначение которых – разрывать кости и мышцы и убивать дух. Если писатель утверждал, будто бы ему в колено и ногу попала очередь и он еще нес кого-то сто пятьдесят шагов, то он, несомненно, лжец. Но что из того? Казалось, Гувер прочел мои мысли, хотя я был уверен, что на моем лице отражалось только вежливое внимание. – Хемингуэй хочет организовать на Кубе группу по борьбе со шпионажем, – сказал директор. – В понедельник он говорил об этом в посольстве с Эллисом Бриггсом и Бобом Джойсом, а в пятницу его принял посол Спруилл Браден, и Хемингуэй официально предложил ему свой план. Я кивнул. Сегодня была среда. Я получил телеграмму Гувера в четверг. – Полагаю, вы знакомы с послом Браденом, – сказал Гувер. – Да, сэр. – Я работал с Браденом в прошлом году, когда он действовал в Колумбии; теперь он был послом США на Кубе. – Вы хотите что-то спросить? – произнес Гувер. – Да, сэр. Почему гражданскому лицу… писателю было позволено отнимать время у посла, предлагая идиотскую мысль об учреждении самодеятельной шпионской сети-? Гувер потер подбородок. – У Хемингуэя на острове множество друзей, – сказал он. – Многие из них – ветераны Гражданской войны в Испании. Хемингуэй утверждает, что в 1937 году он организовал в Мадриде группу для выполнения секретных операций… – Это правда, сэр? Гувер моргнул, словно изумляясь тому, что его перебили, открыл было рот и, прежде чем заговорить, покачал головой. – Нет. Хемингуэй действительно был в Испании, но только как корреспондент. По всей видимости, разведывательная сеть – плод его фантазии, хотя он поддерживал там контакт с многими агентами коммунистов. Коммунисты бессовестно использовали его, чтобы передавать свои сообщения… а он был только рад помочь им. Все это есть в досье, которое я дам вам сегодня для ознакомления. – Гувер склонился над столом и вновь сцепил пальцы. – Специальный агент Лукас, вы будете осуществлять связь с Хемингуэем и его полоумной шайкой. Вы будете действовать под прикрытием. К Хемингуэю вас прикомандирует посольство, а не ФБР. – Кого же я в таком случае буду там представлять, сэр? – Браден сообщит Хемингуэю, что ваше участие – непременное условие, при котором посольство одобрит его замысел. Вас представят как оперативника ОРС, специалиста по контрразведке. Я невольно улыбнулся. Гувер сказал, что я буду действовать под чужой маской, но это было мое истинное лицо. – А если Хемингуэй догадается, что ОРС – это ФБР? Директор покачал массивной головой, и на его напомаженных волосах сверкнули отблески солнца. – Вряд ли он знаком хотя бы с азами шпионажа и контрразведки, а уж тем более – с подробностями организационной структуры. Вдобавок Браден заверит Хемингуэя, что вы будете получать приказы только от него – то есть от Хемингуэя – и что вы не станете связываться ни с посольством, ни с курьерами без его разрешения. – Перед кем же я буду отчитываться на самом деле, сэр? – В Гаване вас найдет наш человек, – ответил Гувер. – Мы будем действовать, минуя посольство и местное отделение ФБР. В сущности, между вами и мной будет только один курьер. Инструкцию по осуществлению связи вы получите у мисс Гэнди. Выражение моего лица не изменилось, но я был потрясен. Неужели это задание настолько важно, что меня и директора будет разделять одно-единственное звено? Гувер обожал созданную им систему и ненавидел людей, стремившихся ее обойти. К чему такое грубое нарушение субординации? Я плотнее сжал губы, дожидаясь продолжения. – Для вас забронирован билет на утренний рейс до Гаваны с пересадкой в Майами, – сказал директор. – Завтра вы ненадолго встретитесь со своим связником, а в пятницу будете присутствовать на совещании в посольстве, в ходе которого Хемингуэй изложит свой план. План получит одобрение. Хемингуэю дадут возможность осуществить свою глупую затею. – Да, сэр, – отозвался я. Вероятно, в этом и состояло наказание, которого я ожидал – бросить меня в непривычные условия, заставить играть в глупые игры, пока у меня не истощится терпение и я не подам в отставку или не попрошусь в армию. – Известно ли вам, какое название для своей организации Хемингуэй предложил Бобу Джойсу и Эллису Бриггсу? – натянутым тоном осведомился Гувер. – Нет, сэр. – „Преступная лавочка“. Я лишь покачал головой. – Теперь слушайте приказ. – Гувер подался ко мне еще ближе. – Вы должны заручиться доверием Хемингуэя и докладывать мне, кто этот человек. Кто он и что он. Приложите все свои силы и умение и выясните, что стоит за его бредовыми идеями. Мне необходимо знать, что им движет и чего он на самом деле хочет. Я молча кивнул. – И держите меня в курсе относительно деятельности его дурацкой шайки на Кубе, Лукас. Докладывайте подробно и ежедневно. Если потребуется, с картами и иллюстрациями. Казалось, директор почти закончил, но я чувствовал, что это еще не все. – Этот человек сует свой нос в район, где возможно проведение ответственных операций по обеспечению национальной безопасности, – заговорил наконец Гувер, откидываясь на спинку кресла. Из-за окна, у которого он сидел, послышался звук грома. – Хемингуэй может только помешать нам, – продолжал директор. – Ваша задача – ставить нас в известность о его поступках, с тем чтобы мы могли нейтрализовать ущерб от деятельности любительской группы, которую он намерен создать. И прекратить эту деятельность, если мы сочтем это необходимым. Но до поступления соответствующего приказа вы будете играть при Хемингуэе роль советника, помощника, благосклонного наблюдателя и солдата. Я в последний раз кивнул и поднял с колен шляпу. – Сегодня вы изучите официально-конфиденциальное досье на Хемингуэя, полагаясь при этом исключительно на свою память, – добавил директор. Он мог бы и не говорить этого. Ни один документ под грифом „О/К“ не покидал здания ФБР. – Мисс Гэнди выдаст вам досье на два часа, – сказал Гувер, – и найдет для вас место, где вы сможете прочесть его без помех. Если не ошибаюсь, кабинет моего заместителя Толсона сегодня свободен. Папка объемистая, но двух часов вам хватит, если вы достаточно быстро читаете. – Директор поднялся на ноги. Я последовал его примеру. Мы не стали вновь обмениваться рукопожатием. Гувер обогнул свой стол с той же энергичной стремительностью, с которой приветствовал меня, но на сей раз он подошел к двери, распахнул ее и велел мисс Гэнди приготовить досье. При этом он одной рукой придерживал дверную ручку, а другой поправил носовой платок в нагрудном кармане. Я вышел в дверь, поворачиваясь на ходу, чтобы не оказаться спиной к директору. – Специальный агент Лукас, – заговорил он, и мисс Гэнди застыла поодаль в почтительном ожидании. – Слушаю, сэр. – Хемингуэй – лжец и хвастун, но, говорят, он обладает своеобразным грубоватым обаянием. Не поддайтесь ему и не забудьте, на кого вы работаете и что должны сделать. – Да, сэр… я хотел сказать, ни в коем случае, сэр. Гувер кивнул и захлопнул дверь. Больше я с ним не встречался. Вслед за мисс Гэнди я прошел в кабинет Толсона.Глава 4
В самолете Вашингтон – Майами было людно и шумно, зато после пересадки до Гаваны я летел практически в пустом салоне. Прежде чем ко мне подсел Иен Флеминг, у меня было несколько минут поразмыслить об Эдгаре Гувере и Эрнесте Хемингуэе. Мисс Гэнди задержалась вместе со мной в кабинете заместителя директора ровно настолько, чтобы убедиться, что я сел в кресло для посетителей, а не в личное кресло господина Толсона, после чего едва ли не на цыпочках удалилась, беззвучно притворив за собой дверь. Несколько секунд я осматривал кабинет – обычную комнату вашингтонского бюрократа: по стенам висели снимки хозяина, пожимающего руки всем подряд – от Франклина Делано Рузвельта до совсем еще юной Ширли Темпл, множество фотографий дипломов, врученных ему Гувером, и даже одна фотография встревоженного Толсона, стоящего за массивной кинокамерой в Голливуде, где он, вероятно, присутствовал в качестве консультанта на съемках какой-нибудь художественной либо документальной ленты, курируемой ФБР. Кабинет Гувера был весьма примечательным исключением из традиции развешивать снимки на стенах; я заметил, что там было лишь одно фото – официальный портрет Харлана Фиска Стоуна, бывшего Генерального прокурора, который рекомендовал Гувера на должность директора Бюро в 1924 году. В кабинете заместителя директора не было снимка, на котором Клайд Толсон и Эдгар Гувер держались бы за руки или целовались. В 30-е годы ходили слухи, сплетни, даже появилось несколько грязных статеек – одну из них тиснул в „Кольерсе“ некий Рей Такер, – утверждавших, будто бы Гувер – „голубой“ и с ближайшим соратником Клайдом Толсоном его связывают интересные отношения. Все, кто знал директора многие годы – и я в том числе, – понимали, что это полная чушь. Эдгар Гувер был маменькиным сынком, он жил с матерью вплоть до ее смерти, когда самому ему исполнилось сорок два, а их обоих, Гувера и Толсона, считали застенчивыми, нелюдимыми во внерабочее время людьми, и за несколько минут, проведенных в обществе директора, я ощутил в его поведении корректность учителя пресвитерианской воскресной школы, начисто отвергавшую любые намеки на постыдную тайную жизнь, которую ему приписывали. Мои природные склонности и подготовка, полученная в ОРС, теоретически должны были сделать меня специалистом по оценке людей, способным втереться в доверие к предполагаемому законспирированному агенту и разглядеть истинное лицо под тщательно продуманной маской. Однако было бы смешно полагать, что короткое пребывание рядом с директором и еще более короткое – в кабинете Толсона могут что-либо сказать мне об этих людях. Тем не менее впоследствии я никогда не задумывался об отношениях, связывающих директора с его заместителем. Закончив любоваться стенами кабинета Толсона, я раскрыл досье Хемингуэя и приступил к чтению. Гувер выдал мне папку на два часа. Она не была уж очень толстой, но обычному человеку потребовалось бы все отведенное время, чтобы изучить напечатанные через один интервал рапорты агентов и газетные вырезки. Мне хватило двадцати минут, чтобы прочесть их и выучить назубок. В 1942 году мне еще не встречалась фраза „фотографическая память“, но я знал, что обладаю этой способностью. Это не был приобретенный навык, я ему не учился, однако с детства умел безукоризненно запоминать страницы текста и сложные изображения и в полном смысле этого слова „воочию“ видел их, извлекая из памяти. Вероятно, это была одна из причин моей неприязни к выдуманным романам и повестям – помнить тома лжи, слово за словом, картинку за картинкой, было бы для меня непосильной ношей. Досье Эрнеста Хемингуэя было не слишком увлекательным чтивом. Его открывала стандартная биографическая справка, и, как подсказывал мне опыт, в ней наверняка содержались фактические ошибки. Эрнест Миллер Хемингуэй родился в Оук-Парк, штат Иллинойс, 21 июля 1899 года – тогда это был самостоятельный населенный пункт в предместьях Чикаго. Указывалось, что он был вторым из шести детей в семье, но имена братьев и сестер не приводились. Отец: Кларенс Эдмондс Хемингуэй, по профессии врач. Мать в девичестве – Грейс Хилл. Сведения о юности Хемингуэя ограничивались тем, что он окончил школу в Оук-Парке, некоторое время работал в „Канзас-Сити Стар“ и пытался попасть в армию в течение Великой войны. В досье был вложен отказ по причине дефекта зрения. Внизу этой страницы чьей-то рукой – очевидно, сотрудника Бюро – было приписано: „Вступил в Красный Крест, водил санитарную машину в Италии, ранен осколками мины у Фоссалита ди Пьяве в июле 1918 года“. Справку завершали данные о семейном положении: „В 1920 г, вступил в брак с Хедли Ричардсон, развелся в 1927 г.; в 1927 г, вступил в брак с Полин Пфейфер, развелся в 1940 г.; в 1940 г, вступил в брак с Мартой Геллхорн…“ В разделе „профессия/занятия“ справка была лаконична: „В качестве источника средств к существованию Хемингуэй указывает литературный труд; он является автором таких романов, как „И восходит солнце“, „Прощай, оружие“, „Иметь и не иметь“ и „Великий Гэтсби“. По всей видимости, Бюро всерьез заинтересовалось писателем в 1935 году, когда он опубликовал в левацком журнале „Новые массы“ статью „Кто убил ветеранов?“ В статье из 2800 слов – она была подшита к досье – Хемингуэй рассказывает о последствиях урагана, пронесшегося над Флорида-Кис в День труда 1935 года. Это была самая сильная буря столетия, и она унесла множество человеческих жизней, в том числе около тысячи сотрудников Федерального агентства по борьбе с безработицей, в большинстве своем – ветеранов, проживавших во временных поселениях на островах. Судя по всему, писатель одним из первых добрался до района бедствия на шлюпке и едва ли не с наслаждением описывает трупы двух женщин, „обнаженные, заброшенные водой на деревья, разбухшие и воняющие, с мухами между ног“. Однако в основном статья посвящена критике вашингтонских политиков и бюрократов, которые послали людей в столь опасное место и не сумели спасти их, когда разразилась буря. „Состоятельные люди, яхтсмены и любители рыбной ловли, вроде Гувера и президента Рузвельта, – писал Хемингуэй, – избегают приближаться к островам Флорида-Кис в штормовую погоду, чтобы не подвергать опасности себя и свои суда – их личную собственность. Однако ветераны, особенно те, кто вынужден трудиться в поте лица, – не собственность. Это всего лишь человеческие существа, неудачники, которым нечего терять, кроме своей жизни“. Хемингуэй бросает бюрократам обвинение в непредумышленном убийстве. В досье имелись и рапорты агентов, но это были копии с донесений, в основном американских или коммунистических агентов – среди них были и американские коммунисты, – принимавших участие в Гражданской войне в Испании. Хемингуэй упоминался в них лишь мельком. В 1937 году интеллектуалы левого толка слетались к Мадриду, словно мухи на кучу навоза, и попытка подать участие Хемингуэя в этой войне как нечто из ряда вон выходящее показалась мне наивной. Основным источником материала для Хемингуэя в отеле „Гайлорд“ был Михаил Кольцов, молодой корреспондент „Правды“ и „Известий“, и американец, казалось, принимал все, что ему скармливали коммунисты, за чистую монету. Гораздо больше рапортов с тревогой сообщали о причастности Хемингуэя к пропагандистской ленте „Испанская земля“ – он писал об этом фильме и выступал на коммунистических митингах по сбору денежных средств, – но я не усмотрел в этом признаков подрывной деятельности. После пика Депрессии две трети голливудских звезд и девяносто процентов интеллигенции Нью-Йорка боролись за звание марксистов; в сущности, Хемингуэй примкнул к этому движению одним из последних. Самые свежие донесения сообщали о контактах Хемингуэя с коммунистами и левацки настроенными американцами. Среди них был рапорт агента ФБР, следившего за писателем в прошлом месяце в Мехико-Сити. Хемингуэй и его жена нанесли визит американскому миллионеру в его мексиканском летнем доме. Агенты, подобные Тому Диллону, называли его „одним из множества богачей, оболваненных коммунистами“. Я знал миллионера, о котором шла речь, и сам наблюдал за ним два года назад, но в совершенно иной связи. Его никто не оболванивал, просто он был чересчур впечатлительным человеком, разбогатевшим во время Депрессии, разорившей миллионы людей, и до сих пор искал способ искупить свои грехи. Последним документом в досье была записка. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ОТ АГЕНТА ФБР Р. Г. ЛЕДДИ, ГАВАНА, КУБА ДЛЯ ДИРЕКТОРА ФБР ЭДГАРА ГУВЕРА, ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ, ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ 15 АПРЕЛЯ 1942 г. „В начале 40-х Бюро подверглось нападкам в связи с арестами в Детройте лиц, обвиненных в том, что они нарушали нейтралитет, участвуя в вербовке солдат для Республиканской армии Испании. Господин Хемингуэй был в числе тех, кто подписал декларацию с уничтожающей критикой в адрес Бюро, в связи с вышеупомянутым делом. На матче хай-алай господин Хемингуэй представил меня своему другу как сотрудника Гестапо. Я выразил свое неудовлетворение по этому поводу, и он тут же поправил себя, сказав, что я – один из консулов США…“ Я громко рассмеялся. Документ описывал предложения Хемингуэя об организации контрразведывательной группы, недавно сделанные им Роберту Джойсу, первому секретарю посольства, но Ледди вновь и вновь упоминал об оскорблении, которое ему нанесли во время игры в хай-алай. Разумеется, ФБР было ничем иным, как американским гестапо, и этот намек довел Реймонда Ледди до белого каления, хотя он и скрывал свою ярость за уклончивыми двусмысленными фразами, типичными для официальной переписки ФБР. Я покачал головой, вообразив, как прозвучали слова писателя на фоне зрительского рева и выкриков букмекеров. Господин Гувер был прав. Если я не буду осторожен, то и впрямь начну симпатизировать Хемингуэю. – Джозеф? Джозеф, старина! То-то я гляжу – знакомый затылок. Как поживаешь, приятель? Я сразу узнал этот голос – отрывистый и вместе с тем протяжный оксфордский выговор и занудный тон человека, склонного к ироничности. – Здравствуйте, коммандер Флеминг, – сказал я, поднимая взгляд на его худощавую фигуру. – Ян, дружище. Если помнишь, в лагере мы перешли на „ты“. – Ян, – сказал я. Флеминг выглядел точно так же, как во время нашей последней встречи более года назад; высокий, подтянутый, с длинным носом, чувственными губами и завитком волос на бледном лбу. Невзирая на время года и жару, на нем был традиционный твидовый британский костюм, который казался дорогим и хорошо сшитым, но скроенным на человека двадцатью фунтами тяжелее. Флеминг курил сигарету в мундштуке, и то, как он стискивал мундштук в зубах либо размахивал им, подчеркивая свои слова, наводило меня на мысль о том, что он подражает манерам Рузвельта. Я лишь надеялся, что он не сядет рядом со мной в кресло у прохода. – Позволишь к тебе присоединиться, Джозеф? – Разумеется. – Я отвернулся от иллюминатора, в котором зелень прибрежного мелководья сменялась синевой глубин Залива, и бросил взгляд через плечо. Четыре ряда кресел за нашими спинами были свободны; самолет шел практически пустым. Наш разговор никто не мог подслушать из-за гула двигателей и пропеллеров. – Забавно, что мы встретились здесь. Куда ты направляешься? – Это рейс до Кубы, Ян. А ты куда летишь? Он стряхнул пепел в проход и взмахнул мундштуком: – Возвращаюсь домой через Бермуды. Решил выкроитьнемного времени для чтения. Куба была так же далека от его пути, как если бы он летел через Бермуды в нью-йоркскую контору БКРГ, но его слова о чтении были мне понятны. Одним из самых крупных успехов Британской координационной группы безопасности за последние три года была организация огромного перлюстрационного пункта на Бермудах. Вся переписка между Южной Америкой и Европой, включая дипломатическую почту всех посольств, шла через эти острова. Уильям Стефенсон открыл на Бермудах пункт перехвата, где корреспонденцию вскрывали, фотографировали либо копировали, после чего ее обрабатывала большая группа шифровальщиков, а иногда, прежде чем отправить в Берлин, Рим, Мадрид или Бухарест, в нее вносились изменения. Меня лишь удивило, почему Флеминг говорит об этом едва ли не открытым текстом. – Кстати, Джозеф, – произнес британец, – на прошлой неделе я виделся с Уильямом, и он просил передать тебе привет, если наши дороги пересекутся. По-моему, ты был его любимчиком, старина. Самым лучшим, умным и все такое прочее. Жаль только, что не все ваши парни отличаются такой сообразительностью Я познакомился с Яном Флемингом в канадском Лагере „X“. Нас представил друг другу Уильям Стефенсон. Флеминг был еще одним из тех одаренных любителей, которых британцы – особенно Черчилль – предпочитали упорным и методичным, но медлительным профессионалам. Флеминга „открыл“ не Черчилль, а адмирал Джон Годфри, глава английской морской разведки, коллега и противник Канариса, руководителя германского Абвера. Как мне рассказывали, в 39-м, когда разразилась война, Флемингу исполнился тридцать один год, и он был лондонским хлыщом, тяготившимся своей работой в семейной брокерской конторе. Также он слыл одним из тех вечных юнцов, которые ищут развлечений на горнолыжных склонах, за рулем скоростных автомобилей и в постелях прекрасных дам. Вероятно, адмирал Годфри увидел в этом денди творческую жилку, потому что он присвоил молодому брокеру звание морского офицера и назначил его своим личным помощником по особым поручениям, после чего отпустил в свободный поиск с заданием генерировать идеи. Некоторые идеи Флеминга открыто обсуждались в Лагере „X“. Воплощением одной из них стала штурмовая группа номер 30 – отряд из бродяг и преступников, которых готовили для совершения поистине невероятных операций в германском тылу. Группа Флеминга, заброшенная во Францию после того, как страну захватили фашисты, похищала целые корабли с самой современной военной техникой. Ходили слухи, что Флеминг нанимал швейцарских астрологов, дабы убедить крайне суеверного Рудольфа Гесса, будто бы лучшее, что он может сделать для своего фюрера, – это заключить мир между Германией и Англией. В результате Гесс совершил свой безумный перелет в одиночку до британских островов, был сбит над Шотландией и навсегда заключен в тюрьму, где он выдал службам MI5 и MI6 множество сведений о внутреннем мире германской иерархии. – Главная трудность с теми парнями, которых Эдгар присылал в лагерь после тебя, старина, – продолжал тянуть Флеминг, называя „Эдгаром“ директора ФБР, – заключается в том, что их отправляют в поле с единственным напутствием – „пойти и посмотреть“. Все парни Эдгара отлично умеют смотреть, но лишь немногие из них способны „видеть“. Я скептически кивнул, хотя был готов согласиться с мнением Флеминга и Стефенсона о способностях сотрудников ФБР к разведывательной деятельности. Невзирая на утверждения Гувера о том, что мы – следственная служба, а не силовая, Бюро в сущности оставалось полицейской организацией. ФБР арестовывало шпионов – Гувер даже хотел арестовать Стефенсона, когда выяснилось, что именно он распорядился ликвидировать нацистского агента в Нью-Йорке. Этот агент передавал сведения о маршрутах конвоев, на нем лежала вина за гибель тысяч тонн грузов союзников, и тем не менее директор не желал нарушать законы США. Если не считать нескольких сотрудников ОРС, никто в Бюро не мыслил категориями разведки и не был склонен следить за шпионами, перевербовывать или ликвидировать их, вместо того чтобы просто арестовывать. – И уж если речь зашла о способности видеть, – продолжал Флеминг, – то я вижу, что этот ваш писатель, который обретается в Гаване, может попасть в сферу наших профессиональных интересов. Я уверен, что мое лицо осталось бесстрастным, хотя в глубине души был искренне изумлен. С тех пор, когда Хемингуэй впервые обратился со своим предложением в гаванское посольство, прошло… сколько? Неделя? – Вот как? – произнес я. Флеминг вынул мундштук изо рта и бросил мне кривую ухмылку. – Ах да, я и забыл, старина. Если не ошибаюсь, мы говорили об этом в Канаде. Ты ведь не читаешь беллетристику? – Я покачал головой. Зачем, черт возьми, он столь откровенно выведывает мои намерения? Почему Стефенсона и БКРГ так интересует бессмысленное задание, которое мне поручили? – Джозеф, – голос Флеминга зазвучал тише, серьезнее, почти без этого раздражающего меня акцента, – ты помнишь наш разговор об излюбленном приеме Желтого адмирала, который он использует против своих конкурентов? – Смутно. – Да, я помнил эту беседу. Флеминг, Стефенсон и еще несколько человек говорили в лагере о потрясающей способности Канариса – именно его называли Желтым адмиралом – столкнуть лбами соперничающие с ним разведывательные службы, в данном случае – М15 и М16, английские органы внутренней и, соответственно, внешней разведки. – Впрочем, неважно, – сказал Флеминг, стряхивая пепел. – Недавно мне в голову пришла интересная мысль. Хочешь, я расскажу тебе одну историю, Джозеф? – С удовольствием послушаю, – ответил я. Флеминг начинал свою шпионскую карьеру как любитель, но он был отнюдь не дурак – по крайней мере в том, что касалось разведки, – и теперь, после трех лет войны, он стал настоящим специалистом своего дела. Я ничуть не сомневался, что история, которую он вознамерился мне рассказать, и была истинной причиной его „случайной“ встречи со мной на борту самолета до Кубы. – В августе прошлого года, – заговорил Флеминг, – я оказался в Лиссабоне. Ты бывал в Португалии, Джозеф? Я покачал головой, уверенный в том, что ему известно, что я никогда не покидал Западное полушарие. – Интересный город. Особенно сейчас, во время войны, если ты понимаешь, что я имею в виду. Как бы то ни было, в ту пору там находился югослав по фамилии Попов. Я несколько раз столкнулся с ним нос к носу. Тебе что-нибудь говорит эта фамилия, старина? Я сделал вид, будто напрягаю память, и вновь покачал головой. Должно быть, „история“ Флеминга имеет огромную важность, если он решился упоминать настоящие имена в присутствии посторонних. Даже в практически пустом салоне, наполненном гулом моторов и винтов, я чувствовал себя так, словно мы занимаемся чем-то едва ли не постыдным. – Совсем ничего, Джозеф? – К сожалению, – ответил я. Душан Попов родился в Югославии, но был заслан Абвером в Англию и действовал там в условиях глубокой конспирации. Практически сразу после заброски Попов начал работать на Англию как двойной агент. К тому времени, о котором говорил Флеминг – в августе прошлого, 1941 года, – Попов передавал Германии правдивые и ложные сведения уже в течение трех лет. – Но и это тоже несущественно, – продолжал Флеминг. – Ты мог и не знать Попова. Так вот, возвращаясь к моей истории – я никогда не был хорошим рассказчиком, старина, и тебе придется потерпеть, – в Лиссабоне этот Попов, известный под кличкой „Трехколесный велосипед“, получил от своих работодателей на континенте шестьдесят тысяч долларов для расчетов со своими людьми. В приступе щедрости он решил подарить эти деньги нашей конторе. Я слушал нудный голос Флеминга, попутно переводя его слова. Ходили слухи, что именно Флеминг дал Попову кличку Трехколесный велосипед за то, что он, будучи поклонником женской красоты, практически никогда не ложился в постель один и предпочитал делать это в компании сразу двух дам. „Работодателем с континента“ был Абвер, полагавший, что Попов и поныне руководит шпионской сетью в Британии. Шестьдесят тысяч долларов, которые ему передали в Лиссабоне, предназначались для его мифических информаторов. „Подарить деньги нашей конторе“ означало, что Попов собирался отдать наличность службе М16. – Неужели? – скучающим тоном отозвался я, сунув в рот палочку жевательной резинки. Предполагалось, что салон герметизирован, однако каждая перемена высоты полета нещадно терзала мои уши. – Именно так, – сказал Флеминг. – Беда в том, что, прежде чем отдать деньги, нашему приятелю Велосипеду пришлось задержаться в Португалии. Наши коллеги из „пятерки“ и „шестерки“ оказались в хвосте очереди желающих развлекать бедолагу, и в итоге именно мне выпало пасти его вплоть до возвращения домой. Перевод: службы М15 и М16 ввязались в юридическую схватку из-за того, кто должен наблюдать за Поповым и проследить, чтобы деньги были доставлены по адресу. Флеминг, работавший в более или менее юридически нейтральной военно-морской разведке, получил задание надзирать за двойным агентом в течение нескольких дней августа, пока у Попова не появится возможность выехать в Англию и привезти деньги. – Все ясно, – сказал я. – Некто загреб в Лиссабоне кучу деньжищ и решил передать их Англии в качестве благотворительного дара. Надеюсь, тебе доставило удовольствие показать ему Португалию? – Не я, а он показывал мне Португалию. Вслед за ним я добрался до Эстроли. Слышал о таком? – Нет, – честно ответил я. – Это маленький симпатичный курортный городок на португальском побережье, – объяснил Флеминг. – Приличные пляжи и роскошные казино. А уж Велосипед знал толк в игорных домах. Я сдержал улыбку. Попов славился своим азартом. Получив деньги от Абвера, он посулил их службе MI6 и поставил на кон. – Он выиграл? – Я не забывал об осторожности, но рассказ начинал увлекать меня. – В общем-то, да, – ответил Флеминг, вставляя новую сигарету в длинный черный мундштук. – Я просидел там ночь напролет, наблюдая, как Попов обирает до нитки бедного литовского графа, которого он невзлюбил. В один момент наш трехколесный приятель выложил на стол пятьдесят тысяч наличными… несчастный литовец не смог поддержать ставку и был вынужден с позором удалиться. Это зрелище показалось мне довольно поучительным. Я не сомневался в этом. Флеминг всегда ценил отвагу превыше большинства иных добродетелей. – Какова же мораль? – спросил я. Звук двигателей изменился. Мы начали снижение перед посадкой на Кубе. Флеминг пожал плечами. – По-моему, никакой морали тут нет, дружище. Я провел восхитительную ночь в Эстроли за счет своей конторы. Но порой результат бывает не столь удачным. – Да? – Ты знаком с еще одним Уильямом, по фамилии Донован? – спросил Флеминг. – Нет, – ответил я. – Мы никогда не встречались. – Он говорил об Уильяме Доноване по прозвищу „Дикий буйвол“, главе одной из американских организаций по борьбе со шпионажем, Координационной службе контрразведки (КСК) и самом грозном сопернике Гувера. Донован был любимчиком Франклина Делано Рузвельта – именно с ним президент совещался в ночь трагедии Пирл-Харбора – и тяготел к образу действий Уильяма Стефенсона и Яна Флеминга, экстравагантному, дерзкому, чуть безумному, в противоположность бюрократической методичности, которой придерживалось ФБР и его директор. Я знал, что Стефенсон и БКРГ все более сближались с Донованом и КСК, в то время как Гувер постепенно терял интерес к сотрудничеству с британцами. – Тебе стоило бы познакомиться с ним, Джозеф, – сказал Флеминг. – Я знаю, что тебе нравился Уильям С. Уильям Д. понравился бы тебе по тем же причинам. – Имеет ли этот Уильям Д. какое-либо отношение к твоей истории, Ян? – В общем-то, да, – сказал Флеминг, глядя поверх моего плеча на зеленый остров, который, казалось, поднимался навстречу нам. – Тебе ведь известно о… э-ээ… неодобрительном отношении Эдгара к методам Уильяма, старина? Я пожал плечами. Вероятно, я знал о ненависти Гувера к Доновану больше, чем сам Флеминг. Одной из наиболее успешных операций КСК за последние полгода было тайное проникновение в вашингтонские посольства – как вражеские, так и союзные – и похищение их кодовых книг. В ближайшие недели Донован собирался вломиться в испанское посольство, коды которого оказались бы настоящим сокровищем для американской разведки, поскольку фашистская Испания регулярно отправляла шпионские донесения в Берлин. От своих источников в ОРС я знал, что Гувер намерен объявиться там в ночь операции с полицией, сиренами и проблесковыми маячками и арестовать агентов КСК в момент проникновения в испанское посольство. Юридические соображения вновь заставляли Гувера поступиться национальными интересами. – Главное в том, – продолжал Флеминг, – что вскоре после замечательной ночи в Эстроли в августе прошлого года наш приятель Велосипед, по-видимому, посетил Соединенные Штаты. Я знал, что это действительно так. В прочитанных мной донесениях указывалось, что 12 августа 1941 года Душан Попов прибыл из Лиссабона в США на „летучей лодке“ „Боинг-314“, которую называли „Клипером Пан-Америкэн“. В Америку Попова направил Канарис, поставив ему задачу организовать там шпионскую сеть наподобие той, которая „успешно действовала“ в Англии. Шесть дней спустя, 18 августа, Попов встретился с заместителем директора ФБР Перси Фоксуортом по прозвищу „Бад“. По сообщению Фоксуорта, Попов показал ему 58 тысяч долларов в мелких купюрах, полученные от Абвера в Лиссабоне, и еще 12 тысяч, которые, по словам Попова, он выиграл в казино. Попов готовился сыграть с американской разведкой в ту же игру, которую столь удачно провел в Британии. В докладе упоминалось о „многообещающей информации“, которую выдал Попов, но подробности не приводились, что, на мой взгляд, было весьма необычно для Бюро. От друзей в ОРС и в вашингтонском отделении ФБР я узнал, что Уильям Донован и другие горячие головы из КСК потребовали, чтобы им предоставили возможность встретиться с Поповым и ознакомиться с переданной им информацией. Донован послал к Гуверу сына Рузвельта Джимми в надежде вытрясти из директора Бюро сколько-нибудь достоверные данные. Гувер держался вежливо, но сведениями не поделился. Их утаили даже от собственной контрразведывательной службы ФБР. Ян Флеминг внимательно наблюдал за мной. Он медленно кивнул, подался ко мне и зашептал, перекрывая усиливающийся рев моторов: – Попов привез с собой вопросник, Джозеф. Это был жест помощи Желтого адмирала своим желтолицым союзникам… Я перевел это так: Канарис и Абвер прислали с Поповым список вопросов для абверовских оперативников в Америке – вопросов, ответы на которые должны были помочь японцам. Такие случаи бывали, хотя и редко. В ту пору до нападения на Пирл-Харбор оставалось четыре месяца. – Он был снят на микропленку, – шептал Флеминг. – Парни Эдгара… ваши ребята, Джозеф… закончили перевод 17 сентября. Хочешь увидеть вопросник, дружище? Я посмотрел ему в глаза. – Надеюсь, ты понимаешь, что я обязан доложить о нашем разговоре до последнего слова, Ян. – Совершенно верно, приятель. – Взгляд Флеминга был холоден и невозмутим. – Ты сделаешь то, что тебе повелевает долг. Так ты хочешь увидеть вопросник? Я промолчал. Флеминг достал из кармана пиджака два сложенных листа бумаги и протянул их мне. Я прикрыл их от стюардессы, которая прошла мимо, возвещая, что мы вот-вот приземлимся в аэропорту Хосе Марти, и предлагая пассажирам пристегнуть ремни. Если кто-нибудь из нас не умеет, она к нашим услугам. Флеминг отделался от нее шуткой, и я заглянул в листки. Увеличенные фотокопии микропленки. Оригинал был на немецком. На второй странице был перевод. Я выбрал первоначальный вариант. Для оказания помощи японским союзникам Попову предписывалось добыть в августе 1941 года следующие сведения: 1. Точный план государственной судоверфи, мастерских, энергетических и нефтеналивных установок, план сухого дока номер 1, а также нового сухого дока, строящегося в порту Пирл-Харбор, Гавайи. 2. План береговых сооружений и причалов для подводных лодок. 3. Местонахождение эскадры минных тральщиков, темпы работ по разминированию у входа в порт, а также у восточной и юго-восточной плотин. 4. Промеры глубин и количество якорных стоянок. 5. Существует ли в Пирл-Харборе плавучий док и планируется ли доставка туда подобного дока? Отдельное задание – доложить о противоторпедных сетях, недавно взятых на вооружение американским и британским флотами. Какой процент торговых и военных судов уже оборудованы ими? Я поднял взгляд на Флеминга и протянул ему листки с таким видом, словно они обрызганы кислотой. Нацистские агенты собирали информацию о Пирл-Харборе еще в августе 1941 года, хотя и не для себя, а для японцев. Я не был уверен, что этот вопросник помог бы нам предвидеть нападение, но точно знал, что летом и осенью прошлого года у Билла Донована в КРС работала большая группа аналитиков, пытаясь разгадать планы японцев – головоломку, решение которой прозвучало на весь мир 7 декабря. Быть может, микропленка оказалась бы тем самым кусочком, которого не хватало аналитикам, если бы Гувер ее не утаил? Я не знал этого наверняка, но понимал, что вопросник, копию которого Флеминг держал в руках, – не подделка; я увидел на ней знакомые подписи и печати ФБР. В период истерии и потоков обвинений, захлестнувших страну в конце зимы после событий в Пирл-Харборе, она могла стоить Гуверу должности. Я во все глаза смотрел на Флеминга. Вплотную приблизившись к разогретой земле, самолет качнулся и вздрогнул, готовясь соприкоснуться с посадочной полосой. В маленьком иллюминаторе противоположного борта я видел зеленые холмы, пальмы и синий океан, но мой взгляд был прикован к британцу. – Зачем ты рассказал мне все это, Ян? Флеминг вынул окурок из мундштука и медленно, аккуратно вложил длинную трубочку в тот же карман, куда спрятал фотокопии. – Я лишь хотел продемонстрировать, что может произойти, когда одно из агентств… скажем так, чересчур озабочено своим престижем и забывает делиться с другими важной информацией. Я продолжал таращить на него глаза, не понимая, какое отношение все это имеет ко мне. Флеминг положил длинные пальцы на мой рукав. – Джозеф, если ты направляешься в Гавану в какой-либо связи с этим вашим писателем и его забавами, то не приходилось ли тебе задуматься, почему Гувер выбрал именно тебя? – Не понимаю, о чем ты, – ответил я. – О да, конечно, – сказал Флеминг. – Разумеется. Но ты обладаешь уникальной способностью, которая может пригодиться в этом деле. Умение и опыт, которые, по мнению Эдгара, могут оказаться самыми ценными, если, к примеру, этот писатель сунет нос куда не следует. Умение и опыт, которые выделяют тебя из числа остальных работников Эдгара. Я покачал головой. Теперь я и впрямь не понимал, к чему он клонит. Самолет коснулся земли. Завизжали шины, взревели винты. В салон хлынул воздух. Сквозь шум я услышал негромкий, едва уловимый голос Флеминга: – Ты убивал людей, Джозеф. И делал это по приказу.Глава 5
Мы встретились утром в пятницу в американском посольстве в комфортабельном кабинете Спруилла Брадена. Я приехал заранее и обсудил положение с послом, который помнил меня по Колумбии, где я осуществлял взаимодействие Госдепартамента и ОРС; он знал, что меня следует представить Хемингуэю именно в этом качестве. После нашего разговора с Браденом с глазу на глаз появились Роберт Джойс и Эллис Бриггз. Джойс был одним из первых секретарей посольства – учтивый, хорошо одетый мужчина с крепким рукопожатием и мягким голосом. Бриггз, до назначения Брадена, занимал должность посла, однако не выказывал недовольства по поводу понижения в ранге, и атмосфера в кабинете была теплой и сердечной. Пробило десять утра – срок аудиенции Хемингуэя у посла. Прошло еще десять минут. Хемингуэя все еще не было. Мы втроем болтали о пустяках. Бриггз и Джойс, по всей видимости, приняли на веру мою легенду, согласно которой я был сотрудником Государственного департамента, прикомандированным к ОРС. Вероятно, мое имя попадалось им в депешах из Колумбии и Мексики, а в сообщениях такого рода моя настоящая должность упоминалась крайне неопределенно. Разговор зашел о запаздывающем писателе, и Бриггз рассказал об их общем с Хемингуэем увлечении стрельбой по тарелкам и живым голубям – они занимались ею как в местных клубах, так и в походах неподалеку от Сиенфуэгоса. Чтобы вспомнить, где находится Сиенфуэгос, мне пришлось мысленно обратиться к карте Кубы, которую я держал в голове; я словно воочию увидел нужное место, когда Бриггз, продолжая рассказ, упомянул об охоте за ягуарами в провинции Пинар дель Рио. Сиенфуэгос был бухтой, портом, городом и провинцией на южном берегу острова. Пока Бриггз рассказывал о стрелковом искусстве Хемингуэя, я тайком бросил взгляд на часы. Двадцать минут одиннадцатого. Терпеливость Брадена изумляла меня. Большинство послов, которых я знал, отменили бы встречу, если бы человек, просивший о ней, так сильно опоздал. Дверь рывком распахнулась, и в кабинет вошел Эрнест Хемингуэй, ступая энергичным пружинящим шагом, будто боксер, выходящий к центру ринга. На фоне нашего приглушенного разговора его звучный голос показался очень громким. – Спруилл… господин посол… примите мои извинения. Мне чертовски жаль. В проклятом „Линкольне“ кончился бензин, и мне пришлось ехать аж до университета в поисках открытой заправки. Боб… извини, я опоздал. Эллис… – Хемингуэй пожал руку послу, приблизился к Джойсу и стиснул обеими ладонями его пальцы, потом быстро повернулся к Бриггсу и хлопнул его по спине, не выпуская руку первого секретаря. Наконец Хемингуэй, улыбаясь, вопросительно посмотрел на меня. – Эрнест, – заговорил Браден, – это Джо Лукас. В Госдепе решили, что Джо может оказаться полезен в твоей „Преступной лавочке“. – Рад познакомиться с вами, Джо, – сказал писатель. Он пожал мне руку с силой, но не стараясь расплющить пальцы. Его глаза сияли, он искренне улыбался, но на короткое мгновение в его взгляде мелькнуло беспокойство – вероятно, он пытался понять, что на самом деле может сулить мое присутствие. Браден жестом предложил нам садиться. Я быстро оценил физические данные Хемингуэя. Это был крупный человек, ростом чуть больше шести футов и весом около ста девяносто пяти фунтов, и эта масса в основном располагалась в верхней части его тела. Мы трое были в костюмах, а Хемингуэй носил грязноватые холщовые штаны, старые мокасины и легкую хлопчатобумажную рубашку, которую местные жители называют „гайаберра“ – „рубаха навыпуск“. У Хемингуэя были массивные квадратные плечи, которые делали его еще крупнее, и длинные мускулистые руки. Я заметил, что левая рука писателя чуть вывернута в локте, и его пересекает неровный шрам. У Хемингуэя были выпуклая грудь и намечающееся брюшко, но из-за мешковатой рубахи его бедра казались очень узкими; он словно целиком состоял из мощного торса. Как только он уселся и посмотрел на меня, я увидел, что у него прямые темные волосы – коричневые, почти черные, – а в густых, аккуратно подстриженных усах нет ни одного седого волоска. У него были карие глаза и яркий румянец – хотя он и загорел от долгого пребывания под карибским солнцем, на его лице проступала краска возбуждения, а от уголков глаз разбегались крохотные светлые морщинки. Улыбаясь, он показывал белые зубы, а на обеих щеках появлялись ямочки. У него была массивная нижняя челюсть, но еще не заплывшая жиром, как это бывает в зрелом возрасте. У меня создалось впечатление, что при желании он способен вскружить голову любой женщине. Как всегда, я невольно попытался представить, кто из нас взял бы верх в боксерском поединке. Хемингуэй перемещался по комнате, двигаясь, как заправский боец, и, даже замирая в неподвижности, сохранял напряженную позу. Разговаривая, он чуть покачивал головой из стороны в сторону, и это движение продолжалось и тогда, когда он слушал, тем самым создавая у собеседника впечатление подчеркнутого внимания к его словам. Когда они с Браденом обменивались любезностями, я отметил, что, невзирая на долгие годы пребывания за границей и в Канаде, Хемингуэй сохранил акцент, типичный для жителей Среднего запада. В его речи слышался чуть заметный дефект – вместо „л“ и „р“ он произносил „в“. Хемингуэй был более высок, массивен и мускулист, чем я, однако небольшой животик под рубахой свидетельствовал о том, что он находится не в лучшей спортивной форме. Поврежденная левая рука – вероятно, это была старая рана, поскольку он не пытался беречь руку или устраивать ее поудобнее – вряд ли была способна нанести сильный прямой удар, и это давало сопернику возможность уклоняться, смещаясь влево. Я вспомнил, что в свое время Хемингуэя не взяли в армию из-за плохого зрения. Несмотря на длинные руки, он, вероятно, предпочитал действовать в ближнем бою, входить с противником в клинч и наносить короткие мощные удары, пока хватает дыхания. В схватке с Хемингуэем следовало постоянно заставлять его двигаться, а самому держаться слева, перемещаясь из стороны в сторону, чтобы ни на мгновение не оказаться для него неподвижной целью, а потом, измотав его, сократить дистанцию и нанести серию ударов по животу и ребрам… Я заставил себя отвлечься от мыслей о боксе. Боб Джойс и Эллис Бриггз смеялись над замечанием Хемингуэя, который шутливо упрекнул Брадена в том, что сотрудники посольства постоянно проигрывают пари на матчах хай-алай. Я улыбнулся. Хемингуэй излучал веселье и жизнерадостность. Его присутствие ощущалось буквально физически – этого не могли передать никакие досье и фотографии. Он был одним из тех редких людей, которые становятся центром внимания в любой компании. – Ну хорошо, Эрнест, – произнес посол, как только утих смех. – Теперь поговорим о твоей „Преступной лавочке“. – Я изменил название, – сказал Хемингуэй. – Прошу прощения?.. Писатель просиял. – Я решил назвать свое предприятие „Хитрым делом“. „Преступная лавочка“ звучит глуповато. Браден улыбнулся и бросил взгляд на бумаги, лежавшие на его столе. – Очень хорошо, пусть будет „Хитрое дело“. – Он посмотрел на Бриггза и Джойса. – Эллис и Боб ознакомили меня с твоими первоначальными предложениями, но, может быть, ты объяснишь все подробнее? – С удовольствием. – Хемингуэй встал и заговорил, двигаясь легким шагом и покачивая головой. Чтобы подчеркнуть свои слова, он делал короткие скупые жесты мощными грубоватыми ладонями. – Господин посол, Куба находится в девяноста милях от берегов США, и здесь быстро увеличивается число людей, сочувствующих нацистам. Паспортного контроля на острове практически не существует. У ФБР здесь есть свои люди, но их слишком мало, им не поставлены конкретные задачи, и они выделяются из толпы, словно уличные торговцы во время карнавального шествия. Мы с Бобом рассчитали, что только в Гаване живут более трех тысяч сторонников фашизма, и многие из них имеют возможность помогать немецким агентам проникать на остров и скрываться здесь. Хемингуэй мягкой поступью приблизился ко мне на расстояние шага и повернул обратно. Руки и голова писателя находились в непрерывном движении, но не до такой степени, чтобы отвлекать внимание от его слов. Он не спускал темных глаз с посла. – Черт возьми, Спруилл, большинство испаноязычных общин острова откровенно настроены против Штатов. Их убогие газетенки ликуют всякий раз, когда войска Оси добиваются успеха. Ты уже прочел сегодняшние выпуски центральной прессы Кубы? – „Diario de la Marina“? – отозвался Браден. – Просмотрел мельком. Ее отношение к Америке никак не назовешь уж очень дружелюбным. – Ее редактор, он же и владелец, плясал бы от радости на улицах, если бы немцы захватили Нью-Йорк, – сказал Хемингуэй. Он вытянул вперед мозолистую ладонь. – Я знаю, что на это можно было бы не обращать внимания, если бы в Карибском бассейне не шныряли стаи немецких субмарин. Но ситуация именно такова. Танкеры союзников тонут едва ли не каждый день. Черт возьми, в море уже нельзя забросить крючок на марлина, не попав при этом в рубку подводной лодки! – Хемингуэй улыбнулся. Посол потер пальцами щеки. – И что же твоя „Преступная лавочка“… или „Хитрое дело“… называй, как хочешь… намерено противопоставить подлодкам, Эрнест? Хемингуэй пожал плечами. – Я не склонен преувеличивать свои возможности, Спруилл, но у меня есть яхта „Пилар“, тридцативосьмифутовая красотка с дизельной тягой. Я приобрел ее в тридцать четвертом. Два двигателя, основной и вспомогательный. Если у нас появится информация о немецких субмаринах, я мог бы выходить в море и проверять ее. У меня отличный экипаж. – Эрнест, – вмешался Боб Джойс. – Расскажи послу о разведывательной сети, которую ты организовал в Испании. Хемингуэй вновь пожал плечами, как бы из скромности. Я знал из досье, что, когда Хемингуэй говорит о подобных вещах, ни о какой скромности не может быть и речи. – Ничего особенного, Спруилл. В тридцать седьмом я был в Мадриде и помог наладить работу частной разведывательной организации. Около двадцати агентов, действовавших на постоянной основе, и примерно вдвое больше людей, поставлявших информацию от случая к случаю. Нам удалось добыть кое-какие полезные сведения. Да, все это были любители, но если бы нас разоблачили, немедленно расстреляли бы. Я заметил, что при этих словах голос Хемингуэя стал более пронзительным и отрывистым. Возможно, так случалось всякий раз, когда он лгал. Браден слушал, кивая. – С кем ты намерен работать на Кубе, Эрнест? Эллис говорил о каком-то священнике. Хемингуэй вновь просиял. – Дон Андрее Унтзайн. Мой добрый друг. Когда-нибудь он станет епископом. Он служил в испанской правительственной армии пулеметчиком. Дону Андресу нет никакой разницы, пристрелить ли нациста или отпустить ему грехи. Пожалуй, при случае он сделает и то и другое. Я старался ничем не выразить своих чувств, хотя в это мгновение Хемингуэй стоял ко мне спиной. Выдавать имена своих агентов в разговоре с посторонними, даже если тебя об этом не просят – верх глупости и непрофессионализма. Посол Браден, казалось, был одновременно изумлен и доволен. – Кто еще? Хемингуэй широко развел руками. – У меня на Кубе десятки надежных людей, Спруилл. Сотни. Официанты, шлюхи, газетчики, игроки хай-алай, рыбаки, которые еженедельно встречаются с немецкими подлодками, испанские аристократы, которые были бы счастливы разогнать свору мерзавцев, вынудивших их эмигрировать… все они будут рады принять участие в игре и дать отпор нацистским крысам, которые хлынули на берег, словно устричная икра. Посол сцепил пальцы: , – Сколько это нам будет стоить? Хемингуэй улыбнулся: – Ни гроша, господин посол. Это будет самая дешевая контрразведывательная организация, которой когда-либо располагали Штаты. Я возьму на себя все расходы. Вероятно, нам потребуется ручное оружие и другие мелочи… может быть, радиостанции или оборудование для „Пилар“, если мы воспользуемся ею… но все остальное будет делаться на добровольной основе либо оплачиваться из моего кармана. Браден выпятил губы и постучал кончиками пальцев по столу. Хемингуэй налег на стол посла. Я увидел шрам на его левом локте и обратил внимание на то, какие мощные и волосатые у него предплечья. Мне было трудно поверить, что это руки автора романов. – Господин посол, – негромко заговорил Хемингуэй, – я верю в свой замысел. Это серьезный план. Я не только готов нести основное бремя расходов, но и отказался от приглашения в Голливуд, чтобы писать там сценарий этого дурацкого кино-сериала „Марш времен“ о „Летучих тиграх“ в Бирме. Две недели работы, сто пятьдесят тысяч долларов. Но я сказал им „нет“, поскольку считаю, что „Хитрое дело“ намного важнее. Браден посмотрел снизу вверх на нависшего над ним гиганта. – Понимаю, Эрнест, – мягким голосом произнес он. – Мы тоже считаем, что это важное дело. Чтобы получить разрешение, я должен переговорить с кубинским премьер-министром, но это чистая формальность. Госдепартамент и ФБР уже одобрили твой план. Хемингуэй кивнул, улыбнулся и сел в свое кресло. – Отлично, – сказал он. – Отлично. – Но есть два условия, – произнес Браден, вновь заглядывая в бумаги на своем столе, как будто эти условия были напечатаны там. – Как скажете, – отозвался Хемингуэй, удобно откидываясь на спинку кресла. – Во-первых, – заговорил Браден, – ты будешь посылать мне донесения. Они могут быть короткими, но должны поступать еженедельно. Боб и Эллис устроят так, чтобы ты встречался с ними с глазу на глаз… так, чтобы вас никто не видел. – В моем кабинете на четвертом этаже есть запасной выход, Эрнест. Ты можешь входить через магазин на углу, и никто не будет знать, что ты находишься в посольстве. – Прекрасно, – ответил Хемингуэй. – Можно считать, что мы уладили это. Браден кивнул. – Во-вторых, – негромко сказал он, – тебе придется взять в свою команду господина Лукаса. – Вот как? – Все еще улыбаясь, Хемингуэй посмотрел на меня ледяным пронизывающим взглядом. – Это еще зачем? – Джо консультирует Госдепартамент по вопросам контрразведки, – объяснил Браден. – Он прекрасный практический работник. Я встречался с ним в Колумбии, Эрнест. Он был очень полезен там. Хемингуэй продолжал буравить меня взглядом. – И чем же он может оказаться полезен „здесь“, Спруилл? – Не дождавшись ответа посла, Хемингуэй обратился ко мне: – Вам знакома Куба, господин Лукас? – Нет, – ответил я. – Бывали здесь когда-нибудь? – Ни разу. – Habia usted espanol <Говорите по-испански?>? – Si, – ответил я. – Un poco <Да, немного.>. – Un poco, – с легким презрением повторил Хемингуэй. – Вы носите с собой пистолет, господин Лукас? – Нет. – Знаете, как из него стрелять? – Теоретически, – сказал я и пожал плечами. Мне не хотелось продолжать это собеседование при приеме на работу. Видимо, посол разделял мои чувства, потому что он сказал: – Это второе и последнее условие, Эрнест. В Госдепе настаивают на нем. Им нужен связной. – Связной, – произнес Хемингуэй, смакуя слово, будто какое-нибудь французское ругательство. – И перед кем ты будешь отчитываться, Джо?.. Я могу называть тебя по имени? Я улыбнулся. – Только перед вами. По крайней мере до завершения операции. Потом я составлю рапорт для начальства. – Рапорт, – повторил писатель, посерьезнев. – Да, рапорт, – сказал я. Хемингуэй потер нижнюю губу костяшкой пальца. – Значит, ты никому не будешь докладывать, пока мы работаем вместе? Я покачал головой. – Это входит в твои обязанности, Эрнест, – сказал Браден. – Ты будешь иметь дело с Бобом и Эллисом… либо связываться непосредственно со мной, если того потребуют обстоятельства. Джо Лукас будет твоим заместителем… впрочем, можешь распоряжаться им по своему усмотрению. Хемингуэй рывком поднялся на ноги и подошел ко мне. Нависнув надо мной, он потребовал: – Покажи мне свои руки, Джо. Я протянул руки. Хемингуэй повернул их к себе ладонями, потом тыльной стороной. – Ты занимался настоящим делом, Джо. Не просто отстукивал на машинке доклады. Вот эти пятна, наверное, старые ожоги? Я кивнул. – Умеешь ходить на малых судах? – Довольно неплохо, – ответил я. Хемингуэй выпустил мои руки и повернулся к послу. – Так и быть, – сказал он. – Я принимаю ваши условия и нового члена команды. Когда я могу начать свое „Хитрое дело“, Спруилл? – Может быть, завтра? Хемингуэй широко улыбнулся. – Может быть, сегодня? – Он быстрым легким шагом двинулся к выходу. – Боб и Эллис, я угощаю вас выпивкой за обедом… Джо, где ты остановился? – В „Амбос Мундос“, – ответил я. Писатель кивнул. – Я жил там когда-то. Написал там большую часть чертовски хорошей книги. Но ты там больше не живешь, Джо. – Не живу? Он покачал головой. – Если ты хочешь участвовать в „Хитром деле“, должен поселиться в нашей штаб-квартире. Собирай свои вещи. Я заеду за тобой примерно в три часа. Поживешь в усадьбе, пока мы не переловим немецких шпионов или не устанем друг от Друга. – Хемингуэй кивнул послу и вышел.Глава 6
Выйдя из посольства, я отправился в долгий путь до отеля „Амбос Мундос“, пробираясь по улочкам Старой Гаваны. Я купил в табачном киоске газету, прошагал до портового шоссе и спустился по улице Обиспо. За мной следили. В девяти кварталах от отеля я увидел черный „Линкольн“, остановившийся у обочины. Из машины выбрались Эрнест Хемингуэй, Боб Джойс и Эллис Бриггз. Они вошли в бар „Флоридита“. Еще не было одиннадцати утра. Я бросил взгляд в стекло витрины, убеждаясь в том, что „хвост“ по-прежнему идет за мной, выдерживая дистанцию в половину квартала, после чего свернул с Обиспо направо и еще раз – по направлению к порту. Человек тоже повернул. Он был настоящим профессионалом, все время держался за спинами прохожих и не смотрел на меня, но было видно, что ему безразлично, знаю я о его присутствии или нет. Миновав площадь кафедрального собора, я вошел в бар „Ла Бодегида дель Медио“ и занял место у открытого окна, выходящего на улицу. Человек, шедший за мной, остановился напротив, облокотился о подоконник, развернул выпуск „Диарио де ла Марина“ и углубился в чтение. Его голова находилась в половине метра от меня. Я рассматривал медно-рыжие волосы на его подбритой шее и линию над белым воротником его рубашки там, где заканчивался темный загар. Ко мне подбежал официант. – Un mojito, рог favor, – попросил я. Официант вернулся к стойке бара. Я раскрыл свою газету и принялся изучать таблицы боксерских поединков в Штатах. – Чем все закончилось? – спросил человек за окном. – Хемингуэй добился своего, – ответил я. – Сегодня после обеда он перевезет меня к себе на финку. Я буду жить там. Человек кивнул и перелистнул газету. Его широкополая шляпа была глубоко надвинута на лицо, прикрывая даже щеки и подбородок, видневшиеся в тени. Он курил кубинскую сигарету. – Связь через явочный дом, – сказал я. – По условленному расписанию. Дельгадо вновь кивнул, выбросил окурок, сложил газету, отвернулся от меня и произнес: – Присматривай за писателем. „Era un saco de madarrias“. – С этими словами он ушел. Официант принес „mojito“, который Дельгадо порекомендовал мне накануне вечером – коктейль из рома, сахара, льда, воды и мяты. У него был вкус лошадиной мочи, и вообще я редко пью до полудня. „Era un saco madarrias“. Непростой парень. Что ж, посмотрим. Я оставил бокал на столе и зашагал по улице Обиспо к своему отелю.* * *
Я встретился с Дельгадо вчера вечером. Покинув отель „Амбос Мундос“, я пешком добрался до бедного района Старой Гаваны, где многоквартирные дома уступали место хижинам. В зарослях носились цыплята и полуголые ребятишки, ныряя в прорехи некрашеных оград. Я узнал явочный дом по описанию, которое содержалось в инструкциях, нашел ключ под покосившимся крыльцом и вошел внутрь. Там царила непроглядная темнота и не было электричества. Я ощупью отыскал стол, который должен был стоять в центре комнаты, нашарил на нем металлическую лампу и поджег фитиль зажигалкой. Свет был тусклый, но после темноты в доме и снаружи он резал глаза. Человек сидел в четырех шагах от меня, развернув задом наперед старое деревянное кресло и небрежно положив руки на его спинку. В правой ладони он сжимал длинноствольный „смит-и-вессон“. Его дуло было направлено мне в лицо. Я поднял правую руку, желая показать, что не намерен делать резких движений, вынул из левого кармана пиджака половину долларовой купюры и положил ее на стол. Человек не моргал. Разжав правый кулак, он швырнул вторую половину купюры рядом с моей. Они точно соответствовали друг другу. – Просто удивительно, как много здесь можно купить на эти деньги, – негромко сказал я. – Вполне достаточно, чтобы наделить подарками целую семью, – отозвался мужчина и спрятал пистолет в наплечную кобуру под белым пиджаком. – Дельгадо, – представился он. Судя по всему, нелепый ритуал опознавания нимало не смущал его. Он и не подумал извиниться за то, что целился мне в голову. – Лукас. Мы обсудили мое задание. Дельгадо не тратил слов попусту. Он был деловит и резок на грани грубости. В отличие от многих агентов ФБР и ОРС, с которыми мне довелось работать, он не желал беседовать на отвлеченные темы. Он говорил о запасном явочном доме, тайниках, о том, почему я должен, словно чумы, избегать сотрудников ФБР и некоторых районов Гаваны, коротко упомянул о противнике – на Кубе было много профашистски настроенных людей и сочувствующих немцам, однако сколь-нибудь организованная шпионская сеть отсутствовала, – подробно описал усадьбу Хемингуэя, рассказал, где находится ближайший телефон-автомат, объяснил, как звонить в Гавану и другие места и предупредил, что я ни в коем случае не должен обращаться к местной полиции. Пока мы разговаривали, я внимательно рассмотрел его в свете лампы. Я никогда не слышал об агенте ОРС по фамилии Дельгадо. Он выглядел серьезным человеком и серьезным профессионалом. Он показался мне очень опасным. Просто удивительно, сколь разные впечатления производят на нас разные люди. Эдгар Гувер казался злобным толстым мальчишкой в хорошем костюме – мстительным неженкой, усвоившим язык и манеры крутого парня. Хемингуэй, когда я наконец познакомился с ним лично, оставил у меня впечатление сложного, притягательного человека, который может быть самой интересной личностью, когда-либо тебе попадавшейся, и одновременно – занудным до отвращения сукиным сыном. Дельгадо был просто опасен. Его лицо, покрытое темным загаром, в тусклом свете лампы казалось плоским; судя по всему, его нос был сломан и сросся криво, на высоких скулах, щеках, левом ухе и кустистых бровях виднелись шрамы, маленькие живые крысиные глаза остро выглядывали из тени под бровями. У него был необычный рот. Чувственный. Ироничный. Жестокий. Когда Дельгадо наконец поднялся на ноги, я отметил, что он лишь на дюйм или около того выше меня, но ниже Хемингуэя, и, судя по тому, как на нем висел костюм, в еготеле не было ни капли жира. Однако, когда он швырнул половину долларовой купюры на стол и сунул пистолет в кобуру, я заметил крепкие мускулы на его предплечьях. Его движения представляли полную противоположность движениям Хемингуэя. Дельгадо экономил энергию точно так же, как слова. У меня создалось впечатление, что он способен воткнуть нож тебе под ребра, протереть лезвие и спрятать оружие в карман одним плавным движением. – Вопросы? – осведомился он, закончив излагать расписание наших встреч в явочном доме. Я посмотрел на него. – Мне знакомы почти все сотрудники ОРС в этом регионе, – произнес я. – Вы новичок? Дельгадо чуть заметно улыбнулся: – Другие вопросы будут? – Я обязан отчитываться перед вами, – сказал я. – Но что я буду получать взамен? – Я буду прикрывать ваши тылы здесь, в Гаване, – ответил он. – А также на территории финки. Ставлю три против одного, что писатель заставит вас переселиться туда. – Что еще? – спросил я. Дельгадо пожал плечами. – Мне приказано добывать любую информацию, которую вы попросите. – Например, досье? – уточнил я. – Полные досье? – Разумеется. – И даже документы под грифом „О/К“? – Да. Если они вам потребуются. Кажется, я не выдержал и моргнул. Если Дельгадо имеет возможность поставлять мне личные документы Гувера, значит, он действует в обход ОРС и резидентуры ФБР на Кубе. Он отчитывается только перед Гувером и получает приказы, исходящие непосредственно от него. – Чем еще могу быть вам полезен, Лукас? – спросил он, подходя к двери. В его голосе явственно звучал сарказм. Дельгадо говорил с легким акцентом, но я не смог его определить. Он точно американец… но откуда именно? Вероятно, с запада. – Не подскажете ли какое-нибудь приличное заведение? – попросил я. – Бар? Ресторан? – Мне хотелось выяснить, знакома ли ему Гавана, или он такой же новичок здесь, как я. – Хемингуэй и его дружки околачиваются в „Флоридите“, – ответил Дельгадо. – Но я бы вам его не рекомендовал. В „Ла Бодегита дель Медио“ смешивают убойный коктейль. Когда-то его называли „дрейк“ в честь Френсиса Дрейка. Но теперь он зовется „mojito“. – Хорош на вкус? – спросил я. – Напоминает лошадиную мочу, – ответил Дельгадо и вышел в жаркую темную ночь.* * *
Хемингуэй пообещал заехать за мной в „Амбос Мундос“ в три часа – я полагал, что он пришлет шофера, – и к указанному времени собрал вещи, выписался из отеля и сидел в вестибюле, поставив у ног брезентовый вещмешок и сумку для одежды, но ни писатель, ни его шофер так и не приехали. Вместо них появился управляющий отеля, держа в руках записку. Из его пулеметной речи, сопровождавшейся множеством поклонов, мне стало понятно, что, получив телефонное сообщение от самого сеньора Хемингуэя, я стал гораздо более важной персоной, и какая это трагедия, что работники скромного, но превосходного отеля „Амбос Мундос“ и его управляющий не ведали о нашем знакомстве раньше, иначе они бы сделали мое пребывание здесь еще более восхитительным. Я поблагодарил управляющего, который отступал от меня спиной вперед, продолжая отвешивать поклоны, будто члену королевской фамилии, и прочел записку: „Лукас, ты, наверное, хочешь насладиться местной экзотикой. Садись на автобус до Сан-Франциско де Паула. Езжай до вершины холма. Встречу тебя у финки. Э. X.“ Я потащил сумки к двери, и в вестибюль вбежали управляющий и два носильщика. Не позволит ли сеньор Лукас донести его вещи до такси? Нет, сеньор Лукас не поедет на такси. Он отправится на автовокзал. От Гаваны до деревни, в которой находилось поместье Хемингуэя, было всего двадцать миль, но поездка на автобусе заняла больше часа. Обычные дорожные впечатления человека, путешествующего в южных странах: скрежет шестеренок и полное отсутствие амортизации, отчего мне казалось, что автобус вот-вот опрокинется; остановки через каждые сто шагов; галдящие люди; квохтание цыплят и хрюканье по меньшей мере одной свиньи на фоне общего шума; сопение, смех и неприличные звуки, издаваемые пассажирами; густой черный выхлоп автобуса и сотен других машин, проникающий через открытые либо разбитые окна; багаж, который подхватывают мальчишки на крыше. День был чудесный, и я в должной мере оценил бы местную экзотику, если бы не маленький белый седан, ехавший следом. Я по привычке устроился у заднего окна автобуса и поглядывал за спину, не поворачивая до конца голову. Автомобиль я заметил сразу, как только автобус вырулил из вокзала в центре города. Белый „Форд“ 38-го года и два человека в нем – тот, что потолще, крутил баранку, а второй, худощавый, в фетровой шляпе, сидел на пассажирском месте. Они взирали на автобус с нарочитым равнодушием. Следить за ним, не вызывая подозрений, было нелегко, особенно в беспорядочном городском потоке машин, и они старались на совесть, то и дело отставали, сворачивали на боковые улицы, когда автобус останавливался, на перекрестках выглядывали из окон, перебрасываясь словцом с продавцом газет или зеленщиком, но не было никаких сомнений в том, что они преследуют мой автобус. Преследуют меня. Из-за значительного расстояния и отблесков солнца на ветровом стекле я не мог хорошо рассмотреть их лица, однако был убежден, что Дельгадо там нет. Кто же эти люди? Возможно, ФБР. Следуя инструкции, я не стал докладывать о своем прибытии резиденту Ледди и встретился в Гаване только с послом и Дельгадо, однако местное отделение Бюро почти наверняка прослышало о том, что к безумной затее Хемингуэя подключают человека из ОРС. Но зачем за мной следить? Гувер должен был прислать распоряжение оставить меня в покое. Немцы? Я сомневался в этом. Дельгадо укрепил меня в уверенности, что разведывательная сеть нацистов на Кубе слаба либо вовсе отсутствует, и вряд ли их разрозненные сторонники могли так быстро меня вычислить. Билл Донован? Я не имел ни малейшего понятия, имеет ли КСК свое представительство на Кубе, но они избегали сталкиваться с людьми Гувера в Колумбии, Мексике и прочих знакомых мне вотчинах ФБР и СРС. Может быть, Флеминг со своей БКРГ? Гаванская полиция? Кубинская национальная полиция? Кубинская военная разведка? Я усмехнулся себе под нос. Нелепая ситуация превращалась в откровенный фарс. Хемингуэй заставил меня ехать на автобусе, чтобы преподать предметный урок и обозначить свое место в складывающейся иерархии. Черт побери, я должен радоваться, если меня не заставят чистить его плавательный бассейн. Пока я по профессиональной привычке стараюсь не замечать вонь, гомон и скрежет автобуса, два агента неизвестно какого правительства тратят силы и время, гоняясь за мной в послеполуденную жару. Автобус остановился, должно быть, в сотый раз после того, как мы покинули центр Гаваны, водитель что-то крикнул, я подхватил свои сумки и вышел из салона вместе с двумя женщинами и их свиньей. Они втроем торопливо пересекли шоссе, а я несколько минут стоял, вдыхая выхлоп и пыль, которыми меня обдал автобус. Белого автомобиля нигде не было. Я поднял свои пожитки и побрел вверх по холму. С равным успехом я мог оказаться в Колумбии или Мексике. Те же запахи пива и кухни из открытых окон, тряпки, сохнущие на веревках, старики на перекрестках, все те же дорожки, которые начинаются асфальтовым покрытием и превращаются в пыльные тропинки через двадцать шагов после того, как ответвились от шоссе. Маленький мальчик следил за мной, укрывшись в своем наблюдательном пункте в кроне невысокого дерева, нависшего над дорогой, и теперь он спрыгнул на шоссе и сломя голову бросился бежать, взметая босыми ступнями клубы пыли. Один из секретных агентов Хемингуэя? Я подумал, что, должно быть, так оно и есть. Сан-Франциско де Паула был крохотным городком с кривыми улочками, и уже через несколько минут я оставил позади скопление хижин, шагая по единственной дороге, ведущей к вершине холма. Там виднелись несколько маленьких домов, но мальчишка направился к двум столбам, между которыми проходила более длинная дорога, ведущая к зданию большего размера. Я двинулся в ту же сторону. Хемингуэй вышел мне навстречу. На нем были испанские сандалии, мятые шорты-бермуды и все та же пропотевшая „gayabera“, в которой он утром явился к послу. Под рубаху он надел толстый пояс, заткнув за него пистолет 6-мм калибра. В правой руке он держал бокал, а левую ладонь положил на затылок юного следопыта. – Muchas gracias, Santiago <Большое спасибо, Сантьяго (исп.).>, – сказал писатель. Он потрепал мальчонку по спине, и тот, благоговейно подняв на него глаза, ринулся мимо меня к городку. – Добро пожаловать, Лукас, – добавил Хемингуэй, как только я вошел в ворота. Мы двинулись по пыльной дорожке к дому. Хемингуэй не предложил мне помочь с сумками. – Как тебе понравилась автобусная поездка? – Местная экзотика, – ответил я. Хемингуэй улыбнулся. – Ага. Я и сам порой люблю на нем прокатиться. Я посмотрел на писателя и поймал его взгляд. Хемингуэй рассмеялся. – Ладно, черт побери, ты прав. Я ни разу не ездил на этой колымаге. Но было бы неплохо попробовать. Мы приблизились к главному входу в дом. У крыльца росло огромное дерево, затенявшее широкие ступени. Шероховатый ствол обвивали орхидеи, и я заметил, что его иссохшие корни кое-где приподняли плитки террасы. Дом представлял собой старую виллу, выстроенную из известняка, он был крепким и просторным, но рядом с деревом казался скромным и приземистым. – Сюда, – сказал Хемингуэй, ведя меня вдоль стены. – Оставим твои вещи во флигеле для гостей, а потом я покажу тебе окрестности. Мы обогнули дом по дорожке, вошли в ворота, ведущие в глубь поместья, прошагали по плиткам мимо плавательного бассейна и, войдя в тень манговых деревьев, платанов и королевских пальм, которые выстроились шеренгой в лучах палящего солнца, словно понурые часовые, остановились у маленького белого дощатого домика. – Флигель для гостей, – сообщил Хемингуэй, распахивая низкую дверь и входя внутрь. – Эта комната служит штабом „Хитрого дела“. Спальня у заднего фасада. В „штабе“ имелся длинный стол с расстеленной на нем большой картой Кубы – она была прижата витыми морскими раковинами и камнями – и стопкой картонных папок. Хемингуэй аккуратно открыл дверь в крохотную спальню и указал рукой с бокалом на низкий платяной шкаф. Я спрятал в нем свои сумки. – Ты привез с собой оружие? – спросил писатель. Утром он спрашивал, ношу ли я с собой оружие, и я ответил отрицательно. Теперь я вновь ответил тем же. И это была правда – накануне вечером я спрятал свои оба пистолета, 8-и 9-мм калибра, в явочном доме. – Вот, – сказал Хемингуэй, вынимая пистолет из-за пояса и протягивая его мне рукоятью вперед. – Спасибо, не надо, – отозвался я. – Храни его в ящике прикроватной тумбочки, – сказал Хемингуэй, по-прежнему держа пистолет за ствол так, что дуло было направлено ему в живот. – Спасибо, не надо, – повторил я. Хемингуэй пожал плечами и вновь заткнул пистолет за ремень. – Это тебе, – заявил он, подавая мне бокал. Поколебавшись мгновение, я протянул руку, но прежде чем успел его взять, Хемингуэй поднял бокал, кивнул мне и выпил сам. Потом опять протянул бокал. Я понял, что это нечто вроде ритуала. Взяв бокал, я выплеснул в рот остаток. Виски. Не самый лучший. От него у меня заслезились глаза. Я вернул бокал Хемингуэю. Было всего половина пятого вечера. – Готов к экскурсии? – Да, – ответил я и вслед за писателем вышел в относительную прохладу штаба „Хитрого дела“.* * *
Экскурсия началась с колодца, в котором утопился человек. Хемингуэй провел меня мимо теннисных кортов, плавательного бассейна и главного дома, потом мы прошли по саду и заросшему сорняками полю к маленькой, но густой бамбуковой рощице. В миниатюрных джунглях пряталось кольцо из камней с металлическим щитом. Судя по влажному воздуху вокруг и доносившимся из него промозглым запахам, колодец был старый. – В прошлом году, – заговорил Хемингуэй, – бывший садовник поместья бросился в этот колодец и утонул. Его звали Педро. Старик Педро. Его нашли только четыре дня спустя. Один из слуг заметил стервятников, кружащих над колодцем. Неприятная история, Лукас. Как ты думаешь, почему он это сделал? Я посмотрел на писателя. Он это серьезно? Или затеял еще какую-нибудь игру? – Вы знали его? – спросил я. – Познакомился с ним, когда мы переехали сюда. Попросил его не обрезать растения. Он сказал, что в этом и состоит его работа. Я ответил, что отныне его работа будет заключаться в том, чтобы „не“ стричь растения. Он уволился. Не смог найти другую работу. Вернулся через несколько недель и попросился обратно. Но я уже нанял другого садовника. А через неделю после того, как я отказал ему, старик утопился в колодце. – Хемингуэй скрестил волосатые руки и замолчал с таким видом, словно я должен был отгадать эту загадку, если хочу участвовать в „Хитром деле“. У меня чесался язык заявить ему, чтобы он отправлялся ко всем чертям, что я уже получил должность в его предприятии, хотя прежде имел гораздо лучшую – настоящую работу в разведке. Вместо этого я сказал: – Так в чем, собственно, вопрос? Хемингуэй ухмыльнулся: – Почему он бросился именно в этот колодец, Лукас? Почему именно в мой колодец? Я улыбнулся и сказал по-испански: – Все очень просто. Ведь он был бедным человеком, верно? – Да, очень бедным, – по-испански ответил Хемингуэй и по-английски добавил: – У него не было даже ночного горшка. Я развел руками: – А значит, у него не было собственного колодца, чтобы в нем утопиться. Хемингуэй улыбнулся и вывел меня из тенистой рощицы. – Вы пили оттуда? – спросил я, шагая вслед за ним по дорожке к главному дому. На шее Хемингуэя над воротником топорщились неровно подрезанные волоски. Я подумал, что он не пользуется услугами парикмахера и его, должно быть, стрижет жена. – Воду, в которой лежал труп? – переспросил он со смешком. – Воду из колодца, в которой старина Педро пролежал мертвым четверо суток? Ты еще спрашиваешь? – Да. – Когда случилась трагедия, всех интересовало именно это, – отрывисто бросил он. – Меня это не беспокоит, Лукас. Мне приходилось пить из луж, в которых гнили трупы. Если потребуется, я высосу воду из горла мертвеца. Мне на это наплевать. – Значит, пили? – настаивал я. Хемингуэй остановился у двери черного хода. – Нет, – сказал он, распахивая дверь и приглашая меня внутрь нетерпеливым взмахом чуть искривленной левой руки. – Из этого колодца брали воду для бассейна. Так что, может быть, мы в ней купались. Точно не знаю.* * *
– Марти, это Лукас. Лукас, это моя жена Марта Геллхорн. Мы находились в кухне – старой кубинской кухне, а не новомодной, электрифицированной. Меня уже представили шести или семи кошкам, которые казались настоящими хозяевами дома, и я познакомился с большинством слуг и поваром-китайцем Рамоном. Внезапно на кухне появилась эта женщина. – Господин Лукас… – произнесла жена Хемингуэя, протягивая мне руку почти мужским жестом и коротко стискивая мои пальцы. – Насколько я понимаю, вы поселитесь в поместье, чтобы вместе с Эрнестом играть в шпионов. Вас устраивает флигель? – Как нельзя лучше, – ответил я. „Играть в шпионов?“ Я заметил, как при этом замечании покраснели щеки и шея Хемингуэя. – Сегодня вечером у нас соберется компания, – продолжала Геллхорн. – Мужчин мы разместим в свободных комнатах главного дома, а женщине нужно вернуться в Гавану, поэтому спальня во флигеле нам не потребуется. Кстати, вы тоже приглашены на вечеринку. Эрнест уже сказал вам? – Еще нет, – вмешался Хемингуэй. – В таком случае я сама вас приглашаю, господин Лукас. В дальнейшем вы будете питаться самостоятельно. Вы, вероятно, заметили, что во флигеле имеется отдельная кухня. Но мы решили, что сегодняшняя компания неплохо развлечет вас. Я кивнул. Геллхорн любезно указала мне мое место – вас пригласили на ужин, но впредь на это не рассчитывайте. Женщина отвернулась с таким видом, как будто поставила в списке галочку и тут же забыла обо мне. – Хуан отвезет меня в город на „Линкольне“, – сказала она Хемингуэю. – Я куплю мясо для обеда. Тебе что-нибудь нужно? Хемингуэй попросил купить ленту для пишущей машинки, писчую бумагу, а также забрать его костюм из чистки. Пока он говорил, я рассматривал профиль женщины. Из досье Хемингуэя я знал, что Марта Геллхорн – его третья жена. Они оформили свои отношения менее двух лет назад, но начали жить вместе по крайней мере за три года до свадьбы. Геллхорн заняла место Полин Пфейфер Хемингуэй, которая в свое время сменила Хедли Ричардсон. Геллхорн была высокой блондинкой с волосами до плеч, уложенными мелкими колечками при помощи химической завивки. У нее были сильные открытые черты лица средне-западного типа, хотя она говорила с явственным южным акцентом. В тот день она надела ситцевую юбку до середины икр и блузку бледно-голубого цвета с белым воротником. Она не казалась уж очень радостной и счастливой, но, похоже, это было ее обычное настроение. Когда Хемингуэй закончил перечислять предметы, которые Марта должна купить для него – между прочим, сам он приехал из города лишь час назад, – Геллхорн вздохнула и посмотрела на меня: – А вам что-нибудь нужно в городе, господин Лукас? – Нет, мэм, – ответил я. – Прекрасно, – быстро произнесла она. – В таком случае ждем вас к ужину в восемь. Наденьте костюм с галстуком. – Она вышла из кухни. Несколько мгновений Хемингуэй молча смотрел ей вслед. – Марти тоже писатель, – сказал он, как будто что-то объясняя мне. Я промолчал. – Она из Сент-Луиса, – добавил Хемингуэй, словно ставя точку в разговоре. – Идем, я покажу тебе остальные помещения дома.* * *
Финка „Вихия“ представляла собой классический одноэтажный дом в испанском стиле, обширный и нелепый. Такие дома заполонили Кубу в последние десятилетия девятнадцатого века. Стены и пол огромной гостиной – она была, вероятно, метров пятнадцати в длину – занимали книжные шкафы и разнообразные охотничьи трофеи. На одной из торцевых стен, рядом с написанным маслом портретом матадора, висела оленья голова. На противоположной стене были укреплены две головы каких-то африканских копытных, возможно, антилоп, которые выглядели так, словно в этой комнате им не по себе. Вдоль длинных рядов низких книжных стеллажей и по стене с окнами были развешены еще несколько голов животных. Мебель в гостиной была старинная и уютная на вид, но отнюдь не такая, какую ожидаешь встретить в писательском доме. В центре комнаты стояли два мягких кресла, одно из которых явно пользовалось особой любовью Хемингуэя – его сиденье было продавлено, на расстоянии вытянутых ног стояла скамеечка с потертой вышитой обивкой, а рядом – маленький столик, ломившийся от бутылок и миксеров. На большом столе за креслами стояли две одинаковые лампы и еще несколько винных бутылок. Я подумал, что здесь очень удобно читать. Либо напиваться вдрызг. Хемингуэй заметил, что, выходя из гостиной, я бросил взгляд на трофеи. – Впервые я отправился на сафари в тридцать четвертом, – сказал он. – И опять поеду, как только закончится эта проклятая война. Библиотека примыкала к гостиной, и хотя стены почти целиком были заняты полками от пола до потолка, набитыми книгами и безделушками, на крохотных свободных участках стен опять-таки были развешаны головы травоядных. Пол был выстлан блестящими плитками, и только у широкой низкой тахты лежала львиная шкура, голова которой скалила на меня зубы. Справа от входной двери стояла деревянная стремянка, и, увидев ее, я понял, каким образом Хемингуэй добирается до верхних рядов книг. – Здесь, в поместье, у меня более семи тысяч томов, – сообщил Хемингуэй, скрестив руки на груди и покачиваясь с пятки на носок. – Неужели? – отозвался я. До сих пор мне не приходилось слышать, чтобы люди хвалились книгами. – Именно так, – подтвердил писатель. Подойдя к одной из нижних полок, он снял с нее несколько томов и протянул мне один из них. – Открой, – велел он. Я заглянул в книгу. Она называлась „Великий Гэтсби“, и на титульном листе было начертано пространное посвящение, подписанное: „С любовью, Скотт“. Я чуть удивленно вскинул глаза. Согласно официально/конфиденциальному досье Гувера, эту книгу написал сам Хемингуэй. – Это первое издание, – сказал Хемингуэй, держа остальные тома в огромной руке. Кончиками пальцев другой руки он провел по корешкам книг на трех длинных полках. – Все это – первые издания с автографами авторов. Джойс, Гертруда Стайн, Дос Пассос, Роберт Бенчли, Форд Мэдокс Форд, Шервуд Андерсон, Эзра Паунд. Естественно, все они мои знакомые. Я безучастно кивнул. Мне доводилось слышать некоторые из этих имен. В ФБР имелись толстые досье на Дос Пассоса, Паунда и еще кое-кого из упомянутых Хемингуэем людей, но у меня никогда не возникало желания читать их книги. Хемингуэй забрал у меня „Великого Гэтсби“, небрежно сунул его на полку и отправился в свою спальню. – Спальня, – объявил он. – Там, над кроватью, висит „Гитарист“ Хуана Гриза. Ты, вероятно, заметил еще одного Гриза в гостиной, рядом с Кли, Браком, „Фермой“ Миро и Мэссонсом. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что он имеет в виду странную картину над кроватью, а имена, перечисленные Хемингуэем, – это фамилии других художников либо названия их произведений. Я кивнул. В спальне Хемингуэя был большой стол, заваленный газетами, конвертами, журналами, незаведенными часами, деревянными фигурками африканских животных и прочей дребеденью. Кружки, набитые карандашами. Из чернильницы торчали перьевые ручки. На полу лежали пачки бумаги. Со стены напротив кровати презрительным вызывающим взглядом смотрела большая голова буйвола. – Значит, вы пишете здесь свои книги, – сказал я, рассматривая захламленный стол и делая вид, будто бы он произвел на меня глубокое впечатление. – Нет. – Хемингуэй кивком указал на низкий, высотой по пояс книжный шкафчик у кровати. Я увидел на нем портативную пишущую машинку и тонкую пачку бумаги. – Пишу стоя. По утрам. Но я не люблю говорить о своей работе. Не вижу смысла. Это устраивало меня как нельзя лучше. Когда мы выходили из спальни, я мельком заглянул в ванную Хемингуэя. На полочках было столько же пузырьков с таблетками, как в гостиной – бутылок с джином и виски. На вешалке для полотенец висел прибор для определения артериального давления. Белые стены были исчерканы цифрами, и я решил, что это ежедневные промеры давления крови, веса и других медицинских параметров. Подобная манера вести записи показалась мне уж очень эксцентричной, и я сделал мысленную пометку поразмыслить об этом на досуге. Всего в финке было восемь больших комнат, не считая двух кухонь. Столовая была длинная и узкая; со стен на стол из красного дерева взирали еще несколько мертвых животных. – Мы всегда ставим лишний прибор на тот случай, если появится нежданный гость, – объяснил писатель. – Сегодня вечером им будешь ты. – Надеюсь, – сказал я. У меня возникло впечатление, будто бы Хемингуэй чувствует себя несколько смущенно, водя меня по дому. – Кажется, ваша жена упомянула о костюме с галстуком? – Требование Марты Геллхорн удивило меня, если учесть, как небрежно был одет Хемингуэй утром в посольстве и какой грязный наряд был на нем сейчас. – Да, – подтвердил он, оглядывая комнату с таким видом, будто что-то позабыл. – Садясь за ужин, мы притворяемся цивилизованными людьми. – Его карие глаза вновь обратились ко мне. – Черт побери, уже поздно. Хочешь выпить, Лукас? – Нет, спасибо. Пойду разберу вещи и приму ванну. Хемингуэй рассеянно кивнул. – А я выпью. Как правило, до ужина я выпиваю три порции скотча. Если не ошибаюсь, ты пьешь вино, Лукас? – Да. – Отлично, – произнес Хемингуэй, почесывая щеку. – Сегодня вечером подадут отличную выпивку. Ты ведь понимаешь, нынче знаменательная дата… Я не видел, чем сегодняшний день отличается от других – разве только тем, что Хемингуэю и его „Хитрому делу“ дали „добро“. Внезапно он вскинул глаза и заулыбался. – Сегодня у нас несколько гостей, но двое из них… Я ждал. – Двое из них окажутся для тебя настоящим сюрпризом, Лукас. Ты будешь потрясен до глубины души. – Очень приятно, – отозвался я и, кивком поблагодарив Хемингуэя за „экскурсию“, вышел на улицу через заднюю дверь и зашагал по дорожке к флигелю.Глава 7
– Тебе нужно подстричь волосы, дочка, – заявил Хемингуэй. – И открыть уши. Надеюсь, у тебя красивые уши. Бергман стянула волосы в тугой пучок и склонила голову. – У тебя красивые уши, – сказал писатель. – Вернее, идеальные. Именно такие уши у Марии. – И до какой же длины мне подстричься? – спросила Бергман. – Прежде чем мне отказались дать роль, я прочла сюжет добрый десяток раз, но не запомнила, какой длины у Марии волосы. – Короткие, – ответил Хемингуэй. – Но не такие короткие, как у Веры Зориной, – сухо заметил Купер. – Она похожа на кролика, угодившего в молотилку. – Тише, – попросила Бергман, робко, но ласково прикасаясь к его руке. – Вы говорите ужасные вещи. К тому же Вера получила роль. А я – нет. И вообще, весь этот разговор о длине волос кажется мне глупым. Ведь правда, Папа? Эти ее слова были обращены к Хемингуэю. Я впервые услышал, как его называют Папой. Хемингуэй, сидевший во главе стола, нахмурился. – Нет, это не глупый разговор, дочка. Ты и есть Мария. И всегда ею была. И ты обязательно будешь Марией. Бергман вздохнула. Я заметил на ее ресницах слезы. Марта Геллхорн, сидевшая напротив мужа, откашлялась: – На самом деле, Эрнест, Ингрид не всегда была Марией. Если помнишь, ты утверждал, что писал Марию с меня. Хемингуэй сердито посмотрел на нее. – Разумеется, – едва ли не прорычал он. – И ты об этом знаешь. Но Ингрид всегда была актрисой, которая должна сыграть Марию. – Он вскочил на ноги. – Подождите минутку. Я принесу книгу и прочту вам, какие у Марии волосы. Разговор утих. Мы сидели за длинным столом и ждали возвращения Хемингуэя с книгой.* * *
Я услышал звук подъезжающих машин, еще сидя в ванне флигеля. Пробило лишь половину седьмого. Потом со стороны бассейна и лужайки донесся смех и плеск напитков, разливаемых по бокалам. Я услышал чистый звучный тенор Хемингуэя, рассказывающего какой-то анекдот, и еще более громкий смех после того, как он произнес ключевую фразу. В одном нижнем белье я уселся в кресло и до четверти восьмого читал гаванскую газету. Потом я надел свой лучший льняной костюм и торопливо прошагал по дорожке к главному дому. Мальчик-слуга по имени Рене впустил меня внутрь. Одна из горничных проводила в длинную гостиную. Там было пятеро гостей – четверо мужчин и молодая женщина – и, судя по их розовым лицам и раскованному смеху, они продолжали возлияния с тех самых пор, когда появились здесь. Все были хорошо одеты. На Хемингуэе был мятый костюм с криво повязанным галстуком, но, побрившись и тщательно зачесав волосы назад, он выглядел опрятным и подтянутым. Остальные мужчины также носили костюмы, а Геллхорн и молодая женщина – черные платья. Хемингуэй представил меня собравшимся: – Познакомьтесь с господином Джозефом Лукасом, сотрудником нашего посольства. Он поможет мне в океанографических исследованиях, которыми я займусь в ближайшие месяцы. Джозеф, это доктор Хосе Луис Геррера Сотолонго, мой личный врач и добрый друг еще с тех пор, когда мы вместе воевали в Испании. – Доктор Сотолонго… – Прежде чем пожать ему руку, я коротко кивнул. На докторе был строгий костюм по моде двадцатилетней давности. Он носил пенсне. То, что он уже навеселе, выдавала только порозовевшая шея над высоким воротником. – Сеньор Лукас… – отозвался доктор, кивая в ответ. – А этот джентльмен маленького роста, но весьма приятной наружности – сеньор Франциско Ибарлусия, – продолжал Хемингуэй. – Все зовут его Пэтчи. Пэтчи, поздоровайся с Джо Лукасом. По всей видимости, нам придется вместе плавать на „Пилар“. – Сеньор Лукас, – заговорил Ибарлусия, подаваясь вперед и пожимая мне руку, – для меня большая честь познакомиться с человеком, который изучает океан. – Пэтчи действительно был невысок, но являл собой пример физического совершенства. У него был безупречный загар, блестящие черные волосы, жемчужные зубы и тело выдающегося спортсмена, словно отлитое из пружинной стали. – Пэтчи и его брат – лучшие в мире игроки хай-алай, – сообщил Хемингуэй. – А сам Пэтчи – мой любимый партнер по теннису. Улыбка Ибарлусии стала еще шире. – Лучший игрок хай-алай – это я, Эрнестино. Я лишь позволяю своему брату играть вместе со мной. Точно так же, как иногда я позволяю тебе победить меня на корте. – Лукас, – сказал Хемингуэй, – познакомься с моим другом и лучшим старшим офицером „Пилар“, господином Уинстоном Гестом. Мы зовем его Волфером, или Волчком. Он один из лучших яхтсменов, теннисистов, лыжников и спортсменов-многоборцев, каких ты когда-либо знавал в жизни. Гест тяжело поднялся на ноги и, шагнув ко мне, дружески встряхнул мою руку. Он был крупным мужчиной, но казалось, будто он еще больше, чем на самом деле. Он чем-то напомнил мне Яна Флеминга; у него было полное, румяное, открытое лицо, чуть оплывшее от выпитого. Его пиджак, брюки и галстук были безупречно скроены из дорогого материала, и он носил их с элегантной небрежностью, присущей только очень состоятельным людям. – Рад познакомиться с вами, господин Гест, – сказал я. – Почему вас называют Волфером? Гест улыбнулся. – Это Эрнест придумал. Как-то раз Джиджи заявил, что я похож на парня из фильма про волка-оборотня. Ну, вы знаете… как бишь его? – Я решил, что Гест американец, но он говорил с легким английским акцентом. – Лон Чейни-младший, – подсказала хорошенькая молодая женщина. У нее был на удивление знакомый голос и шведское произношение. Все присутствующие поднялись на ноги, готовясь перейти в столовую. – Ага, – отозвался Гест. – Волк-оборотень. – Он опять улыбнулся. Он действительно был похож на Чейни. – Джиджи – это младший сын Эрнеста, Грегори, – объяснила Марта Геллхорн. – Ему десять лет. Они с Патриком приезжают сюда каждое лето. Хемингуэй прикоснулся к руке молодой женщины. – Дочка, – заговорил он, – надеюсь, ты извинишь меня за нарушение этикета знакомств, но я приберег самое лучшее напоследок. Так сказать, драгоценный камень в короне. – Это значит, что следующим буду я, господин Лукас, – сказал последний мужчина, еще не представленный мне. Он вышел вперед и протянул руку: – Гарри Купер. Потребовалось несколько секунд, чтобы его слова проникли в мое сознание. Я уже упоминал о том, что обладаю фотографической памятью, однако способность вызывать изображение из памяти не всегда означает, что ты можешь мгновенно узнать человека по имени. На секунду я растерялся, словно этот симпатичный мужчина и женщина-шведка были подозреваемыми, которых я откопал в секретных досье и менее всего ожидал увидеть здесь, в этом доме. Мы с Купером обменялись рукопожатием и взаимными любезностями. Он был высок и худощав, сплошные кости и мышцы, и выглядел лет на сорок – примерно одного возраста с Хемингуэем, но казался более зрелым, хотя это и не было уж очень заметно. У Купера были очень светлые глаза, темный загар профессионального спортсмена либо человека, который работает на открытом воздухе. Он говорил негромким почтительным голосом. Прежде чем я успел вспомнить, где и при каких обстоятельствах видел Купера, Хемингуэй потянул меня к молодой женщине. – И, наконец, главная драгоценность в нашей сегодняшней компании, Лукас. Ингрид, это Джозеф Лукас. Джо, это миссис Петтер Линдстром. – Миссис Линдстром, – сказал я, пожимая ее крупную, но изящную ладонь. – Очень рад познакомиться с вами. – А я – с вами. У нее было красивое лицо с крупными чертами, характерными для женщин Скандинавии, но все в ней, от темно-коричневых волос и густых бровей до пухлых губ и прямого взгляда, излучало куда больше тепла и чувственности, нежели у большинства северянок, с которыми я встречался до сих пор. – Вероятно, вы знаете ее под именем Ингрид Бергман, господин Лукас, – пояснила Геллхорн. – Вы могли видеть ее в „Гневе на небесах“, в „Докторе Джекилле и мистере Хайде“. Вскоре ей предстоит сыграть в… как он называется, Ингрид? „Танжер“? – „Касабланка“, – ответила миссис Линдстром, издав мелодичный смешок. Лишь через секунду-другую я понял, что речь идет о названиях фильмов, ни один из которых я не видел, и наконец сообразил, почему Купер и Ингрид кажутся мне такими знакомыми. Я редко ходил в кино, разве только чтобы отвлечься от навязчивых мыслей и выбросить фильм из головы сразу по выходе из зала. Но мне нравился „Сержант Йорк“. Я ни разу не видел Ингрид на экране, однако мельком встречал ее фотографии на обложках журналов. – Быть может, теперь, когда мы все познакомились друг с другом, – заговорил Хемингуэй, кивая, словно метрдотель, – мы на время забудем о любезных манерах и сядем за стол, пока сюда не явился Рамон со своим кубинским мачете? Мы гуськом направились в столовую. – Ты забываешь о любезных манерах, – прошипела Марта Хемингуэю, беря под руку доктора Герреру Сотолонго и входя в длинную комнату следом за Купером и Бергман. Хемингуэй посмотрел на меня, пожал плечами, подал руку Ибарлусии, который толкнул его в спину, и кивком велел Уинстону Гесту и мне первыми войти в столовую.* * *
Уже подали главное блюдо – ростбиф в великолепном соусе с гарниром из свежих овощей – и мы ждали возвращения Хемингуэя с книгой, когда меня окликнула Бергман, сидевшая напротив: – Вы читали его последний роман, господин Лукас? – Нет, – ответил я. – А какой именно? – „По ком звонит колокол“, – сказала Геллхорн. На протяжении всей трапезы, чрезмерно чопорной и формальной – вдоль стен выстроились слуги в белых перчатках, – она вела себя как гостеприимная умелая хозяйка, но не могла скрыть неудовольствия в голосе, когда заговаривала со мной. Судя по всему, она считала, что каждый из присутствующих обязан до мелочей знать деяния и произведения Хемингуэя. – Этот роман был бестселлером в прошлом и позапрошлом году и непременно получил бы Пулитцеровскую премию, если бы этот ублюдок Николае Мюррей Батлер – прошу прощения за сквернословие – не наложил вето на единодушное решение комиссии. Клуб „Книга месяца“ издал двести тысяч экземпляров, а „Скрайбнерс“ – еще вдвое больше. – Это много? – спросил я. Словно желая предупредить язвительный ответ Марты, Бергман сказала: – О, это восхитительная книга, господин Лукас. Я прочла ее несколько раз. Я без ума от героини по имени Мария – она такая чистая и вместе с тем такая упорная. И так умеет любить. Мой друг Дэвид Селжник считает, что эта роль словно создана для меня – видите ли, брат Дэвида, Майрон – кинематографический агент Папы… – Он продал сюжет „Парамаунту“ за сто пятьдесят тысяч долларов, – добавил Купер, поднося к губам скромный кусочек ростбифа. Он ел, повернув вилку по-европейски. – Потрясающе. Извини, Ингрид. Я тебя перебил. Бергман вновь прикоснулась к его рукаву: – Вы правы. Это потрясающе. Но ведь и книга невероятно хороша. – Значит, вы будете играть Марию? – негромко спросил доктор Сотолонго. Бергман опустила глаза. – Увы, доктор, – вздохнула она. – Я пробовалась на роль, но Сэм Вуд, который сменил Демилля на посту директора, решил, что я слишком высока и стара и что у меня слишком большая задняя часть, чтобы весь фильм бегать в брюках. – Чепуха, сеньора Бергман, – заявил Ибарлусия, подняв бокал с таким видом, будто предлагал тост. – Ваша задняя часть – настоящее произведение искусства… подарок небес всем ценителям истинной красоты. – Спасибо, сеньор Ибарлусия, – с улыбкой ответила Бергман. – Но мой муж согласен с Сэмом Вудом. Как бы то ни было, я не получила эту роль. Ее отдали норвежской балерине Вере Зориной. – Невзирая на мои протесты, – заявил Хемингуэй, который вернулся с книгой и возвышался над столом, буравя присутствующих сердитым взглядом. – Именно поэтому Купер и Ингрид приехали сюда с кратким визитом. Втайне. Если кто-нибудь заявит, что видел их здесь, они откажутся это признать. Мы решили в обстановке секретности подобрать нужных людей для этой проклятой ленты. Купер прав… я с самого начала знал, что он должен сыграть Роберта Джордана. Теперь Ингрид сыграет Марию. – Но съемки уже начались, Папа, – сказала актриса. – Еще в прошлом апреле. В горах Сьерра-Невада. Купер поднял длинный палец, словно стремясь привлечь к себе внимание, прежде чем открыть рот. – Сняты только кинопробы и батальные сцены, – заметил он. – Я слышал, что Вуд и его люди трудились там не покладая рук в глубоком декабрьском снегу, подготавливая эпизод, в котором самолеты бомбят Эль Сордо – Сэм арендовал специально для этой сцены несколько армейских штурмовиков, – и как-то в воскресенье они торчали весь день на улице, промерзнув до костей и гадая, куда запропастились их самолеты, когда им сообщили, что штурмовиков не будет, и что если они увидят какие-либо самолеты, то им следует доложить о них и спрятаться. Это было 7 декабря. – День трагедии Пирл-Харбора, – пояснила Марта мне, Уинстону Гесту и врачу, будто слабоумным. Потом она улыбнулась актрисе. – Ингрид, вы должны помнить из нашего разговора двухлетней давности в Сан-Франциско, что именно я первой рекомендовала вас на роль Марии. Задолго до того, как Эрнест высказал эту мысль на страницах „Лайф“. Еще до того, как мы поженились. – Она посмотрела на мужа. – Помнишь, дорогой? Я плыла на „Рексе“ из Италии, читая твою книгу, и увидела там Ингрид – вы несли малыша за спиной в маленьком рюкзачке, словно красавица крестьянка, бегущая от нацистов; а потом я увидела вас в фильме с Лесли Ховардом… – „Интермеццо“, – перебила Бергман. – Совершенно верно. И я сказала Эрнесту: „Вот твоя Мария. Эта девушка – настоящая Мария“. Хемингуэй уселся за стол: – Кто-нибудь хочет услышать описание ее внешности? За столом воцарилась тишина. – Да, с удовольствием, – откликнулась Бергман, отставляя бокал. Хемингуэй потер подбородок, раскрыл книгу и начал читать бесцветным голосом: – „Ее зубы казались белоснежными на загорелом лице, а кожа и глаза были одного и того же медно-орехового оттенка… Каштановые волосы золотились, как спелая пшеница, сожженная солнцем, но они были подстрижены очень коротко, чуть длиннее меха бобровой шкурки…“ – Он умолк и посмотрел на Бергман. – Короткие волосы, дочка. Такие короткие, что из-под них видны уши. Бергман улыбнулась и провела пальцами по своим густым волосам. – Я согласилась бы подстричь их коротко, но только если бы это сделал лучший в Голливуде мастер по коротким прическам. А потом сказала бы всем, что обрезала их сама… кухонными ножницами. Присутствующие вежливо рассмеялись. Ингрид склонила голову скромным, едва ли не застенчивым движением, которое одновременно казалось наигранным и невинным. – Но роль Марии досталась Вере Зориной, и я желаю ей удачи. И вам, разумеется, – добавила она, вновь прикасаясь к рукаву Купера. Потом она просияла. – Однако несколько дней назад мне предложили другую роль, и теперь я отправляюсь сниматься в „Касабланке“. – Это не опасно? – спросил я. – Ведь этот район целиком контролируется немецкими подлодками. Все от души рассмеялись. Я молчал, дожидаясь, когда утихнет веселье. Бергман подалась вперед и положила руку мне на ладонь. – Фильм будет сниматься в Голливуде, господин Лукас, – сказала она, улыбаясь скорее мне самому, нежели моей наивности. – Сценария еще никто не видел, но ходят слухи, что самой дальней точкой в наших разъездах будет лос-анджелесский аэропорт. – Кто играет главную роль? – спросила Геллхорн. – На нее прочили Рональда Рейгана, но досталась она Хамфри Богарту, – ответила актриса. – Вы, наверное, с нетерпением ждете возможности поработать с ним, – продолжила Марта. Бергман вновь опустила глаза. – Честно говоря, я боюсь. По слухам, он очень замкнут, требователен к своим партнерам и большой интеллектуал. – Она улыбнулась Куперу. – С гораздо большим удовольствием я бы поцеловала перед камерами вас. Купер улыбнулся ей в ответ. – Ты будешь играть Марию, дочка, – проворчал Хемингуэй, как будто все усиливающаяся близость между актерами внушала ему ревнивое чувство. – Вот. – Он черкнул что-то в книге, которую держал в руках, и подал ее Ингрид. Она прочла надпись и посмотрела на Хемингуэя сияющим взглядом. – Можно я прочту это остальным, Папа? – Конечно, – чуть хрипловатым голосом ответил Хемингуэй. – Тут написано: „Ингрид Бергман, настоящей Марии из этой книги“. Спасибо. Огромное спасибо. Я буду дорожить этой книгой больше, чем дорожила бы самой ролью. – Ты получишь эту роль, дочка, – заявил Хемингуэй. – Рамон! – прогремел он, повернувшись в сторону кухни. – Где десерт, черт побери?* * *
За кофе с бренди разговор зашел о войне и людях, которые ею заправляют. У своего конца стола Марта Геллхорн – она сидела слева от меня, и нас разделял Пэтчи Ибарлусия – рассказывала о том, что она провела немало времени в Германии в середине – конце 30-х, и что она в жизни не видела ничего более отвратительного, чем нацистские громилы – как на улицах, так и в правительстве. Пэтчи взмахнул бокалом с бренди и объявил, что Гитлер – это „puta, maricon“ и трус и что война закончится еще до Рождества. Доктор Геррера Сотолонго, сидевший справа, негромко ответил, что до окончания войны может миновать не одно Рождество. Уинстон Гест молча поглощал вторую порцию лаймового пирога. Гарри Купер говорил немного; он высказал робкое предположение, что истинным нашим врагом является Япония – в конце концов, именно японцы, а не немцы бомбили Пирл-Харбор. Хемингуэй буквально взревел. Повернувшись к Бергман, он сказал: – Теперь ты понимаешь, почему мы с Купом не можем говорить о политике, дочка? Он невежественнее Аттилы, предводителя гуннов. Чертовски странно, что именно его выбрали на роль моего Роберта Джордана – человека, который бросает все и вступает в бригаду Линкольна, чтобы воевать сфашистами. – Как бы желая смягчить язвительность своих слов, он улыбнулся актеру. – Но я люблю Купера и придумывал Джордана, имея его в виду, так что, полагаю, ему лишь остается сыграть эту роль, а нам – поменьше говорить о политике. Купер кивнул и отсалютовал ему кофейной чашкой, потом повернулся к Геллхорн и спросил: – Если не ошибаюсь, вы хорошие друзья с Элеонорой Рузвельт, Марта? Геллхорн пожала плечами, но все же кивнула. – Бывали ли вы с Эрнестом в Белом доме, после того как началась война? – продолжал расспрашивать Купер. – Каково приходится Рузвельту в нынешних обстоятельствах? Ему ответил Хемингуэй, хрипло рассмеявшись: – Марта довольно часто встречается с Элеонорой, но с президентом мы не виделись с 1937 года, когда вместе обедали в „Касабланке“. Мы ездили туда, чтобы представить публике мою „Испанскую землю“. Все вежливо ждали продолжения. Я заметил, как сверкнули глаза Ингрид Бергман, которая подалась вперед и положила подбородок на сцепленные пальцы. – В Белом доме кормят на редкость скверно. – Хемингуэй рассмеялся. – Совершенно несъедобная еда. Марта предупреждала нас… она закусила бутербродами в буфете аэропорта Ньюарк. На дворе стоял июль, и Белый дом превратился в парилку. Все за столом пропотели, как свиньи. Само здание выглядело как старый дешевый отель – потертые ковры, пыльные портьеры, из подушек кресел выпирают пружины. Я не преувеличиваю, Марта? – Нет, – ответила Геллхорн. – Элеоноре безразлично, как выглядит ее жилье, а президент попросту не обращает на это внимания. Их повара следовало бы пристрелить. – Каковы ваши впечатления от того вечера? – спросила Бергман, старательно выговаривая каждый слог. Помимо акцента, на ее речь начало оказывать воздействие выпитое спиртное. ,Хемингуэй вновь рассмеялся. – Мне понравились Элеонора и Гарри Хопкинс, – сказал он. – Будь Хопкинс президентом, а Элеонора – министром обороны, мы и впрямь выиграли бы эту войну к Рождеству. – А президент? – спросил Купер. При таком росте и столь внушительной наружности его голос звучал едва ли не застенчиво. Хемингуэй пожал плечами. – Ты сам видел его вблизи, Куп. Он какой-то бесполый, правда? Похож на старую женщину… вернее, на пожилую светскую даму с этим своим напыщенным гарвардским произношением. – Название университета Хемингуэй выговаривал, как „Ха-вард“. – А чего стоит запихнуть его в кресло на колесах или вытащить оттуда? – продолжал он, хмуро заглядывая в бокал с бренди. – Чтобы усадить его в эту повозку, требуется едва ли не полдня. Честно говоря, при этих словах я моргнул. Все знали, что Рузвельт парализован, но никто об этом не говорил вслух, а его кресло и скобы на ногах никогда не показывали в выпусках новостей. Большинство американцев словно забыли о том, в каком состоянии находится их президент. Со стороны Хемингуэя было жестоко говорить такие вещи. За столом воцарилась тишина, и писатель вскинул голову. – Впрочем… какого черта? – добавил он. – Что ни говори, Рузвельт – наш главнокомандующий, и все мы поддерживаем его борьбу с этим моральным уродом Гитлером, верно? Присутствующие хором согласились, и Хемингуэй принялся подливать нам в бокалы бренди, не спрашивая нашего желания. Беседа о политике еще не завершилась. Доктор Сотолонго захотел узнать, как выглядит Гитлер и что он за человек. – Несколько лет назад я снялась в Германии в ряде фильмов, – нерешительно заговорила Бергман. – Это было в 1938-м, я тогда была беременна своим Пиа. Карл Фролих повел меня на один из нацистских митингов в Берлине. Ну, вы сами знаете… громадный стадион, повсюду яркие огни и факелы, играют оркестры, вышагивают штурмовики в стальных касках… Там был Гитлер, в самом средоточии этого организованного безумства. Он буквально сиял, поднимая руку в ответ на приветствие „Зиг Хайль!“… – Бергман выдержала паузу. Мы молча ждали. Я слышал сквозь жалюзи голоса ночных птиц и насекомых. – В общем, – более уверенно произнесла Бергман, и в ее голосе мне почудилась фальшивая нотка, – все, кто находился в этой чудовищной толпе, орали „Зиг Хайль!“, вскидывая ладони, словно марионетки, а я оглядывалась по сторонам. Происходящее забавляло меня, а Карл Фролих был едва ли не шокирован. „Майн готт, Ингрид, – шепнул он, – ты не приветствуешь фюрера!“ – „А зачем это нужно, Карл? – спросила я. – Вы отлично справляетесь без меня“. Все вежливо рассмеялись, и Бергман опустила глаза. У нее были длинные красивые ресницы; смех за столом не утихал, и ее щеки залились нежным румянцем удовольствия. – Отменное самообладание, дочка! – прогремел Хемингуэй, обнимая актрису правой рукой и прижимая ее к себе. – Вот почему ты должна сыграть мою Марию! Я пригубил кофе. Было очень интересно наблюдать за тем, как Бергман выходит из роли застенчивой актрисы и начинает играть по-настоящему. Я был уверен, что она рассказала не правду о случае с фашистским приветствием, но зачем она солгала и в чем именно, даже не догадывался. Мне пришло на ум, что только четверо из сидящих за столом – Уинстон Гест, доктор Геррера Сотолонго, Пэтчи Ибарлусия и я сам – живут в реальном мире. Хемингуэй и Геллхорн создавали литературные произведения, а Бергман и Купер играли их на экране. Потом я едва не рассмеялся вслух. Я находился здесь по выдуманной причине, а о настоящей не мог обмолвиться и словом – шпион, который лгал, предавал и убивал, зарабатывая себе на хлеб. Итак, за столом сидели только три настоящих человека – врач, спортсмен и миллионер. Остальные были аберрациями, отклонениями от нормы, тенями теней, бесплотными силуэтами, вроде кукол в индонезийском театре, которые пляшут за ширмой на потеху толпе.* * *
В конце концов Хемингуэй откупорил еще одну бутылку, четвертую за вечер, если считать бренди, и предложил распить ее на террасе. Бергман посмотрела на часы, объявила, что уже почти полночь, и сказала, что ей необходимо вернуться в отель, поскольку рано утром она вылетает в Майами и пересаживается на лайнер до Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с режиссером „Касабланки“ Майклом Куртисом и сняться в предварительных костюмерных пробах, хотя работа над фильмом должна начаться только через месяц. Все на террасе принялись обниматься и целоваться – Бергман сказала Хемингуэю и Куперу, что ей очень жаль, что она не будет играть в „По ком звонит колокол“, а Хемингуэй упрямо заверял ее, что роль достанется ей – и наконец шофер Хуан захлопнул за ней заднюю дверцу черного „Линкольна“, и автомобиль плавно покатил по дорожке. Остальные, вслед за Хемингуэем и Геллхорн, прошли на террасу у заднего фасада дома. Я уже хотел извиниться и сбежать во флигель, но Хемингуэй подлил вина мне в бокал, и мы уселись в удобные кресла на террасе, прислушиваясь к ночным звукам, наслаждаясь прохладой, рассматривая звезды и далекие огни Гаваны. – Очень, очень милая леди, – сказал Пэтчи Ибарлусия. – Эрнесто, кто такой этот Линдстром, за которого она вышла замуж, и почему она носит другую фамилию? Хемингуэй вздохнул. – Ее муж – врач. Его зовут Петтер… с двумя „т“. По крайней мере, в Швеции он был врачом. Теперь он живет в Рочестере, штат Нью-Йорк, и пытается получить сертификат или аккредитив – словом, документ, который позволяет врачам-иностранцам заниматься своим ремеслом. В Рочестере Ингрид знают как миссис Петтер Линдстром, но в фильмах она играет под девичьей фамилией. – Впервые мы встретились с ними за обедом в Сан-Франциско, – сказала Геллхорн, нетерпеливо качая головой в ответ на предложение Хемингуэя добавить ей вина. – Петтер очень милый человек. Хемингуэй лишь фыркнул. – Что ж, – медленно заговорил Купер, – я рад, что приехал сюда и познакомился с ней. Очень жаль, что Сэм Вуд выбрал не ее, а Веру Зорину. Разумеется, мистер Голдвин не хотел одолжить „Парамаунту“ и меня тоже… – Одолжить? – переспросил я. Купер кивнул. Я видел, что он – по-настоящему элегантный мужчина и чувствует себя в дорогом костюме с шелковым галстуком совершенно непринужденно, в отличие от Хемингуэя, которому строгая одежда была в тягость. После ужина писатель выглядел мятым и взъерошенным, но костюм Купера казался таким же свежим и безупречно выглаженным, как до начала вечеринки. На протяжении трапезы я замечал, как Геллхорн то и дело переводит взгляд с Купера на супруга и чуть хмурится при этом, словно сравнивая двух мужчин. Купер сидел рядом со мной, и когда он повернул ко мне лицо, я уловил легкий аромат мыла и лосьона для бритья. – Да, господин Лукас, – вежливо произнес он. – Кинобизнес чем-то напоминает работорговлю, существовавшую до Гражданской войны, либо высшую бейсбольную лигу наших дней. Мы прикованы кабальными контрактами к своим студиям и имеем дело с другими, только если нас одалживают им – как правило, в результате некой торговой сделки. В данном случае Сэм Голдвин отпустил меня в „Парамаунт“ для участия в фильме в основном благодаря настоятельным заявлениям Эрнеста в прессе, будто бы я – лучший кандидат на эту роль. – На каких условиях? – спросил Уинстон Гест. – Что было предметом торга? Купер улыбнулся. – Голдвин сказал Сэму Вуду – теперь он режиссер фильма вместо Демилля, – что позволит мне сняться в „По ком звонит колокол“, если Вуд возьмет меня на роль в фильме на бейсбольную тему. – Когда будет сниматься этот фильм, сеньор Купер? – спросил Геррера Сотолонго. – Он уже готов, доктор, – ответил актер. – Мистер Голдвин поставил условием, чтобы его сняли до того, как я начну работать в „Парамаунте“. Его скоро выпустят на экраны. Он называется „Гордость „Янки“. Я играю там Лу Герига. – Лу Гериг! – вскричал Ибарлусия. – О да! Но ведь вы не левша, сеньор Купер. Купер улыбнулся и покачал головой. – Меня пытались научить бить слева, – с сожалением произнес он. – Но, боюсь, я не слишком преуспел. Я вообще никогда не любил бейсбол. Надеюсь, им удастся поправить дело искусным монтажом. Я во все глаза смотрел на Купера. Он ничуть не напоминал Герига. Я следил за карьерой Лу с 1925 года, когда он начал выступать за „Янки“. В июле 1932 года я слушал по радио репортаж о матче, в котором Гериг осуществил одну за другой четыре перебежки „домой“ на протяжении одной игры. За семнадцать лет пребывания в команде Стальной Жеребец сыграл без перерыва 2130 матчей с уникальной результативностью. 4 июля 1939 года я взял первый отпуск за пять лет, чтобы съездить в Нью-Йорк на стадион „Янки“ – билет обошелся мне в восемь долларов, целое состояние – и увидеть его прощание с бейсболом. Гериг умер в прошлом году, в июне 41-го. Ему было тридцать семь лет. Я смотрел на Купера, думая о том, каким самонадеянным человеком нужно быть, чтобы пытаться сыграть Герига в кино. Словно прочитав мои мысли, актер пожал плечами и сказал: – Я не годился на эту роль, но Гериг не возражал. Я провел немало времени с Беби Рутом и другими… – Ш-шш! – зашипел Хемингуэй. В наступившей тишине мы слышали звон цикад, песни ночных птиц, рокот одинокого автомобиля на шоссе, смех и музыку, доносившиеся из усадьбы на вершине соседнего холма. – Проклятие! – рявкнул Хемингуэй. – Этот ублюдок Стейнхарт опять устроил вечеринку. А я ведь его предупреждал! – Господи, Эрнест, – сказала Геллхорн. – Прошу тебя, не надо… – У вас с ним война, Эрнестино?! – по-испански вскричал Ибарлусия. – „Si“, Пэтчи, – ответил Хемингуэй, вскакивая на ноги. – Это война. – Повернувшись к дому, он воскликнул: – Рене! Пичило! Оружие! Тащите оружие и боеприпасы! – Я иду спать, – заявила Марта Геллхорн. Она встала, наклонилась к Куперу, поцеловала его в щеку и добавила: – Увидимся утром, Куп. – Остальным она бросила: – Доброй ночи, джентльмены, – и отправилась в дом. Мальчик-слуга Рене и Хосе Герреро, который ухаживал за садом и бойцовыми петухами Хемингуэя – знакомя меня с ним, писатель назвал его Пичило, – вынесли из дома ящики с фейерверками и длинные полые бамбуковые шесты. – Уже поздно, – сказал я, отставив бокал с вином и поднимаясь на ноги. – Мне пора… – Чепуха, Лукас, – отрезал Хемингуэй, протягивая мне полутораметровый шест. – У нас каждый человек на счету. Выбирай боеприпасы. Купер, Уинстон Гест и Ибарлусия уже сбросили пиджаки и закатывали рукава. Доктор Сотолонго посмотрел на меня, пожал плечами, снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку своего кресла. Я последовал его примеру. „Боеприпасов“ было два ящика – сигнальные ракеты, рассыпные фейерверки, бутылочные бомбы, дымовые шашки и шутихи. – Вот эту штуку очень удобно запускать вашим устройством, господин Лукас, – сказал Ибарлусия, протягивая мне ракету с коротким запалом. Он улыбнулся и кивком указал на мой бамбуковый шест. – У всех есть зажигалки? – осведомился Хемингуэй. У нас с Купером зажигалки были. – Долго ли тянется ваша вражда? – спросил Купер. Он сдерживал улыбку, но краешки его губ то и дело подрагивали. – Довольно долго, – ответил Хемингуэй. Звуки фортепиано и смех доносились из дома, стоявшего к северо-востоку. Дом Стейнхарта был единственным крупным зданием на соседнем холме – чуть ниже финки Хемингуэя, но гораздо старше и обширнее, если судить по сиянию электрических огней, пристройкам и фронтонам, проглядывавшим сквозь деревья. – Пэтчи, Волфер и доктор, вы знаете, что нужно делать, – сказал Хемингуэй, усаживаясь на корточки у края террасы и пальцем рисуя схему на влажной почве. Он уже снял пиджак и галстук и, по-видимому, чувствовал себя гораздо лучше с расстегнутым воротом. Его палец чертил линии и петли, как будто он рисовал планы футбольных комбинаций. – Мы проникаем сюда сквозь деревья. Куп, – прошептал писатель. Все сгрудились вокруг него. Актер улыбался. – Это финка… Это усадьба Стейнхарта… вот здесь. Мы проникаем сюда сквозь деревья… колонной по одному… и пересекаем границу противника вот здесь, у ограды. До тех пор, пока не окажемся по ту сторону вот этой стены, сохраняем полную тишину. Открываем стрельбу только по моему приказу. И уж тогда мы зададим им перцу! Купер приподнял бровь. – Если я правильно понял, вы не хотите, чтобы ваш сосед устраивал вечеринки? – Я предупреждал его, – проворчал Хемингуэй. – А теперь набивайте карманы. Мы запаслись ракетами, дымовыми шашками и большими шутихами. Ибарлусия и Гест накинули на плечи связки фейерверков, словно патронташи. Вслед за писателем мы прошагали по саду и полю, перелезли через невысокую каменную стену, спустились по холму и пробрались сквозь частокол деревьев, которые отделяли нас от огней и шума вечеринки Стейнхарта. Я понимал, что наша затея – чистое ребячество, но мои гормональные центры, по-видимому, об этом даже не догадывались. Сердце учащенно билось, и я был переполнен ощущением растянутого времени и обостренных чувств, всегда сопровождавшим меня при определенных обстоятельствах. Хемингуэй приоткрыл калитку сетчатого забора, пропуская нас внутрь, и прошептал: – Будьте осторожны, когда начнется стрельба. Говорят, при появлении непрошеных гостей Стейнхарт спускает собак и принимается палить из пистолета двенадцатого калибра. – Матерь божья, – по-испански пробормотал доктор Сотолонго. Мы сидели на корточках, пока Хемингуэй вновь не занял место во главе отряда – я мысленно отметил единодушие, с которым мы признали за ним лидерство, и ту легкость, с которой он взял на себя эту роль, – после чего следом за ним преодолели еще один небольшой подъем, пробираясь сквозь редеющую полосу манговых деревьев и пересекая пустырь. Наконец мы остановились у каменной стены высотой по пояс – вероятно, ей было не меньше сотни лет. – Еще двадцать метров, – прошептал Хемингуэй. – Мы обойдем усадьбу слева и займем позицию для стрельбы прямой наводкой по столовой и террасе. Куп, ты пойдешь за мной. Потом доктор, потом Пэтчи, а Лукас прикроет тылы. Домой возвращаемся самостоятельно, поодиночке. Я прикрою ваш отход у забора. Гарри Купер улыбался. Щеки Уинстона Геста раскраснелись. Я увидел, как в темноте сверкнули белоснежные зубы Ибарлусии. Доктор вздыхал, качая головой. – Это может плохо отразиться на твоем артериальном давлении, Эрнестино, – сказал он по-испански. – Ш-шш! – прошипел Хемингуэй. Он с ловкостью кота перепрыгнул через каменную стену и начал беззвучно подниматься по холму. Как только мы засели в кустах, менее чем в пятнадцати метрах от ярко освещенной террасы Стейнхарта и широких стеклянных дверей столовой, Хемингуэй подал нам сигнал заряжать. Все принялись возиться с ракетами и шашками. Я пожал плечами и повернулся спиной к цели. Никакая сила на свете не заставила бы меня швырять огнеопасные предметы в дом одного из самых влиятельных жителей Гаваны. Поворачиваясь, я уловил движение слева от нас, за каменной стеной, которую Хемингуэй во время сегодняшней экскурсии по финке назвал „свиным забором“. На курсах военной подготовки и в канадском „Лагере X“ инструкторы особо подчеркивали, что лучший способ увидеть противника в темноте – это смотреть чуть в сторону от его предполагаемого местонахождения, поскольку в условиях слабой освещенности периферийное зрение чувствительнее прямого взгляда. Еще нам рекомендовали следить за любыми движениями. И я увидел его – человеческая фигура на мгновение заслонила огни Гаваны, проникавшие сквозь деревья. Потом еще раз. Кто-то в черной одежде обходил нас слева. Отблеск отраженного света на стекле подсказал мне, что у него винтовка с оптическим прицелом, наведенная в нашу сторону… в сторону Хемингуэя. – Давай! – крикнул писатель и вскочил на ноги. Вложив ракету в полый шест, он поджег фитиль своей золотой зажигалкой и выстрелил в окно столовой Стейнхарта. Ибарлусия выпалил секундой позже. Гест швырнул длинную гирлянду фейерверков. Купер бросил на террасу бутылочную бомбу. Доктор покачал головой и запустил ракету, которая взмыла вверх, влетела в открытое окно на третьем этаже и взорвалась где-то в глубине дома. Хемингуэй перезарядил свое оружие и выстрелил опять. Сигнальные ракеты, которым положено вспыхивать облаком искр на высоте десятков метров над землей, взрывались вновь и вновь, осыпая стены и террасу раскаленными частицами серы и окиси магния. Из дома донеслись крики и треск фейерверков. Фортепиано умолкло. Я продолжал краешком глаза ловить движения темной фигуры, притаившейся за „свиным забором“. Силуэт приподнялся, и в его прицеле мелькнул отраженный свет взрывов. Выругав себя за то, что при мне нет пистолета или хорошего клинка, я зажег короткий фитиль своей ракеты, сунул ее в бамбуковый шест и выстрелил в сторону каменной стены и шоссе. Ракета пролетела слишком высоко и взорвалась среди нижних ветвей мангового дерева. Я зарядил новую ракету и побежал к стене, стараясь держаться между человеком с винтовкой и Хемингуэем. – Лукас! – послышался сзади крик писателя. – Какого черта ты… Я продолжал мчаться вперед, продираясь сквозь кукурузные стебли и топча ногами помидоры. Мне почудилось движение за стеной, и что-то прожужжало рядом с моим левым ухом. Я подбросил вверх осветительную ракету и стиснул в левом кулаке нож с коротким лезвием, держа его как можно ниже. Мгновение спустя я перепрыгнул через стену, отшвырнул бамбуковый шест и затаился в темноте, присев на корточки и выставив вперед нож. По ту сторону стены никого не оказалось. В десяти метрах от меня шуршали высокие кусты, отделявшие усадьбу от дороги. Я встал и двинулся в ту сторону, но тут же упал плашмя, услышав, как за моей спиной началась пальба. Хлопок выстрела. Два взрыва. Крики. Раздался истеричный лай крупных собак – судя по звуку, доберманов. Потом псы умолкли – должно быть, их спустили с цепи. Затрещала связка фейерверков, и испуганные собаки вновь залились истошным лаем. Поколебавшись секунду, я вновь перепрыгнул через „свиной забор“ и быстро побежал к каменной стене Стейнхарта, пересекая пространство, разделявшее две усадьбы. В тот самый миг, когда я переваливал через стену, из усадьбы Стейнхарта послышался еще один выстрел. Пуля прошла высоко – стрелявший либо опасался попасть в нас, либо целил в сторону финки Хемингуэя. У сетчатого забора виднелись пригнувшиеся человеческие силуэты. На террасе Стейнхарта вопили люди. Дымную пелену пронизывали острые лучи по крайней мере двух поисковых прожекторов. Взорвался еще один рассыпной фейерверк. – Будь ты проклят, Хемингуэй! – рявкнул мужчина, стоявший на террасе. – Будь ты проклят! Это не смешно! Вновь послышался выстрел – пуля сбила листья с мангового дерева над нашими головами. – Уходим! Уходим! – повторял Хемингуэй, похлопывая по спинам остальных. Гест дышал с трудом, но довольно резво припустил по склону. Я заметил на лице Купера улыбку. Его брюки были разорваны на колене, рубашка покрыта грязью или кровью, но он двигался достаточно проворно. Ибарлусия помог доктору подняться по холму и протиснуться сквозь заросли деревьев. Хемингуэй схватил меня за воротник. – Какого дьявола ты там делал, Лукас? Зачем стрелял в сторону дороги? Я отнял его руку от своей рубашки. Позади раздавались крики, трещали кусты – это доберманы мчались вниз по склону к ограде. – Уходим! – сказал Хемингуэй и толкнул меня в спину, Я побежал, задержавшись лишь на секунду, чтобы оглянуться. Я увидел, как писатель достал из брючного кармана кусок сырого мяса и перебросил его через ограду на звук приближающихся собак. Потом он хладнокровно поджег последний фейерверк, швырнул его и неторопливой трусцой начал подниматься на холм.* * *
Добравшись до забора, Стейнхарт и его гости прекратили погоню и подозвали собак. Некоторое время с полей слышались крики, потом вновь заиграло фортепиано. Купер, доктор, Пэтчи, Гест и Хемингуэй рухнули в кресла, смеясь и переговариваясь громкими голосами. Актер поранил руку о забор, и Хемингуэй принес марлю и виски – прежде чем забинтовать рану, он плеснул на нее дорогим напитком, потом наполнил бокал Купера. Несколько минут я стоял на границе света, льющегося с террасы, но не уловил на шоссе ни малейшего движения. Я вернулся к дому, надел пиджак и пожелал всем спокойной ночи. Купер пожал мне руку, извинившись за то, что подает ладонь в бинтах. – Был рад познакомиться с вами, новым членом нашей команды, – сказал он. – Взаимно. – Спокойной ночи, господин Лукас, – произнес Уинстон Гест. – Полагаю, мы еще увидимся на борту „Пилар“. Доктор никак не мог отдышаться. Он лишь кивнул мне. Пэтчи Ибарлусия улыбнулся и стиснул мое плечо. – Стаканчик виски на сон грядущий, Лукас? – предложил Хемингуэй. Его лицо было серьезным. – Нет, – ответил я. – Спасибо за ужин. Я вернулся во флигель, надел темные слаксы и свитер, вынул из рюкзака маленький фонарик и пробрался к „свиному забору“ и шоссе. Совсем недавно на влажной траве у обочины стоял автомобиль. Несколько ветвей кустарника были сломаны. В грязи у подножия забора я нашел латунную гильзу, сверкнувшую в свете моего фонарика. Судя по запаху, считанные минуты назад из нее была выпущена пуля. Я вернулся к усадьбе и остановился в темноте у террасы, на которой Хемингуэй и его гости продолжали негромко смеяться и беседовать, пока наконец Купер не отправился спать. Ибарлусия увез доктора на красном „Родстере“. Чуть позже Гест уехал на „Кадиллаке“. Свет в финке продолжал гореть еще минут двадцать, потом лампы погасли. Я затаился во мраке под манговыми ветвями у темных стен флигеля, прислушиваясь к звукам тропической ночи, жужжанию насекомых и голосам птиц. Некоторое время я размышлял о писателях, актерах, мальчишках и их играх, потом выбросил все мысли из головы и стал ждать, превратившись в слух. Я лег спать вскоре после рассвета.Глава 8
В понедельник утром Хемингуэй отвез нас в портовый город Кохимар, где стояла на якоре его яхта „Пилар“. Уинстон Гест, Пэтчи Ибарлусия и кубинец Грегорио Фуэнтес, первый помощник и кок Хемингуэя, уже ждали нас там, готовые к отплытию. Судя по взглядам, которые искоса бросали на меня спутники, и по ноткам в голосе Хемингуэя, они собирались устроить мне испытание. Хемингуэй велел мне одеться к морскому походу, и я натянул матросские веревочные туфли, шорты и синюю рабочую блузу. На Хемингуэе были мешковатые короткие брюки, испанские сандалии, в которых он явился в посольство в прошлую пятницу, и рваная рубашка с обрезанными рукавами. Фуэнтес, его помощник, оказался худощавым, загорелым дочерна мужчиной с прищуренным взглядом и коротким энергичным рукопожатием. В этот день он надел черные штаны, свободную длинную белую рубаху навыпуск и ходил босиком. Гест красовался в бурых слаксах и рубашке с коротким рукавом в бело-желтую полоску, подчеркивавшей розовый оттенок его кожи. Пока мы поднимались на борт, он переминался с ноги на ногу и звенел монетками в кармане брюк. Ибарлусия оделся, как матадор в выходной день, – на нем были облегающие белые брюки и дорогой хлопчатобумажный свитер. Пока Хемингуэй показывал мне судно и отдавал команды к отплытию, я не мог отделаться от мысли о том, насколько пестро выглядит наша компания. Осмотр яхты продолжался недолго – писатель спешил выйти в море, пока сохраняется хорошая погода, – но все же я почувствовал, как Хемингуэй гордится своей яхтой. На первый взгляд „Пилар“ не производила особого впечатления. Двенадцати метров длиной, с черным корпусом и зеленой палубой, она мало чем отличалась от сотен яхт для развлечений и рыбной ловли, которые можно встретить на причалах Майами, Сент-Питерсберга или Ки-Уэст. Однако, взойдя на борт и шагая вслед за писателем к мостику, я заметил, что кормовой кубрик отделан лакированным деревом, а на приборной панели, рядом с рукоятками дроссельных заслонок и рычагом переключения передач, укреплена бронзовая табличка, гласившая: Корпус 576 Судоверфь Уилера 1934 Бруклин, Нью-Йорк На верфях Уилера строили отличные яхты. Задержавшись у штурвала, Хемингуэй перечислил органы управления, не спуская с меня глаз и пытаясь понять, говорят ли мне что-либо эти названия. На панели штурвала была еще одна табличка – „Силовая установка Норзманн“, и под ней четыре стрелочных указателя: тахометр, датчики уровня масла и температуры, а также амперметр. Слева от штурвала располагалась вертикальная панель освещения. Ее кнопки, от верхней до нижней, были обозначены следующим образом: СТОЯНОЧНЫЕ ОГНИ, ХОДОВЫЕ ОГНИ, ТРЮМНАЯ ПОМПА, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ, ПРОЖЕКТОР-ИСКАТЕЛЬ. На одной из опор кабины висели хронометр и барометр. Хемингуэй вытянул руку, как бы представляя меня яхте. – Ты заметил, что я пристроил наверху ходовой мостик? – Да. – Оттуда можно направлять яхту и менять обороты двигателей, но запускать их можно только здесь. – Он указал ногой на две кнопки в палубе. Я кивнул. – Два двигателя? – Ага. Разумеется, оба дизельные. Основной двигатель – „крайслер“, семьдесят пять лошадей. Вспомогательный – сорокасильный „лайкоминг“. Как только яхта набирает скорость, я отключаю „лайкоминг“, чтобы уменьшить вибрацию. „Крайслер“ установлен на резиновых опорах. – Его огромная ладонь легла на рукоятки дроссельных заслонок. – „Пилар“ способна остановиться, пройдя путь, равный собственной длине, и развернуться на месте при выключенных двигателях. Я вновь кивнул: – Но зачем вам второй двигатель? – Запас карман не тянет, – проворчал Хемингуэй. У меня на этот счет было иное мнение. Я не видел смысла в том, чтобы увеличивать вес судна и усложнять уход за машинами – разумеется, если главный двигатель поддерживается в хорошем состоянии, – но промолчал. Хемингуэй вновь вышел на солнце. Гест и Ибарлусия отодвинулись в сторону. Фуэнтес обошел рубку и опустился на Колени у носа яхты, готовый отвязать причальный конец. – Ширина кубрика – двенадцать футов, длина – семнадцать, – сообщил Хемингуэй. Я посмотрел на удобные кресла и скамьи вдоль переборок длинного помещения. Хемингуэй прошел назад и постучал по кормовому люку. – Топливный бак вмещает триста галлонов, емкость для питьевой воды – сто пятьдесят. В случае необходимости мы можем разместить в каюте еще пару сотен галлонов в оплетенных бутылях и бочках. В носовом кубрике две двуспальные койки, вдобавок имеются еще два помещения со спальными местами – они оборудованы отдельными гальюнами. Не вздумай спускать в очко туалетную бумагу – она засоряет помпы. Бросай ее в иллюминатор. В камбузе установлены ящик со льдом и трехконфорочная спиртовая плита. – Он указал в сторону носа. – Ты мог заметить, что я устроил ларь для хранения рыбы и срезал корму до высоты трех футов над водой. Я щурился на ярком солнце и молча ждал продолжения. Гест и Ибарлусия наблюдали за мной. – Вопросы? – осведомился Хемингуэй. Я покачал головой. – В маленьком носовом кубрике есть две полки, которые мы называем погребком, – сказал Уинстон Гест. Я посмотрел на него: – Почему? – Мы держим там спиртное, – любезным тоном объяснил миллионер и просиял. – При спокойном море „Пилар“ может делать до шестнадцати узлов, хотя обычно я держу восемь, и имеет запас хода около пятисот миль с экипажем из семи человек, – продолжал Хемингуэй, пропустив мимо ушей замечание Геста. – Есть вопросы? – повторил он. – Почему вы назвали яхту „Пилар“? – спросил я. Хемингуэй поскреб щеку. – Это имя носит один из персонажей „По ком звонит колокол“, – объяснил он. – Оно мне нравится. Пэтчи открыл холодильник и достал пиво. Дернув колечко, он вскрыл банку, приподнял ее и, улыбаясь, посмотрел поверх ободка. – А по-моему, ты говорил мне, Эрнестино, что это было интимное имя твоей второй сеньоры Полины. Хемингуэй сердито посмотрел на него и, повернувшись ко мне, сказал: – Отдай кормовые концы, Лукас. Волфер, отправляйся в рубку и запусти машины. Я поднимусь на мостик и выведу яхту из порта. Пэтчи, ты можешь хлебать свое пиво – ради всего святого, ведь сейчас только половина десятого утра! – и валяться в тени. Мы разбудим тебя, когда доберемся до места, где водятся марлины. Ибарлусия улыбнулся и с громким чмоканьем хлебнул пива. Гест побрел в рубку, продолжая позвякивать мелочью. Фуэнтес бесстрастно наблюдал за нами с носа. Хемингуэй с неожиданной для столь крупного человека ловкостью взобрался по веревочной лестнице. Я отправился на корму отдавать швартовы. Они явно что-то затевали. Во время нынешней прогулки меня ждало какое-то испытание. Мы с Фуэнтесом отвязали канаты, свернули их в бухты и доложили об этом Хемингуэю. Взревели оба двигателя „Пилар“, завертелись спаренные винты, и яхта медленно двинулась к выходу из порта, в открытое море.* * *
Утром в субботу, вскоре после восхода, я услышал, как Хемингуэй и Купер плещутся в бассейне, потом – их голоса на террасе и, наконец, звук „Линкольна“ Хемингуэя, на котором уехал Купер. Поскольку во флигель еще не завезли продукты, я полагал, что меня накормят в главном доме вместе со слугами, но прежде чем появиться на кухне, дал Хемингуэю и Марте время позавтракать. Хемингуэй пришел на кухню, когда я допивал вторую чашку кофе под неодобрительные взгляды Рене и повара Рамона. – Сегодня утром я пишу, – ворчливо сказал мне Хемингуэй. – Попытаюсь закончить к обеду, чтобы познакомить тебя кое с кем из агентов „Хитрого дела“. – В руке он держал бокал, судя по виду – виски с содовой. Было без пятнадцати восемь утра. Хемингуэй поймал мой взгляд. – Осуждаешь меня, Лукас? – Я не в том положении, чтобы кого-нибудь осуждать, – негромко произнес я. – Если вам хочется спозаранку глотать спиртное, это ваше дело. Вдобавок вы находитесь в своем доме, а значит – это вдвойне ваше дело. Хемингуэй поднял бокал. – Это не выпивка, – осипшим голосом сказал он. – Это лекарство против головной боли… – Он улыбнулся. – А здорово мы вчера потрепали Стейнхарта, а, Лукас? – Еще бы, – ответил я. Хемингуэй подошел к столу и взял кусок бекона с поджаренным хлебом, который я приготовил для себя. С минуту он молча жевал. – Вы ведь считаете „Хитрое дело“ чем-то вроде игры, забавы, ведь правда, специальный советник Джозеф Лукас? Я ничего не сказал, но вряд ли мой взгляд опроверг его утверждение. Хемингуэй проглотил бекон и вздохнул. – Видишь ли, я сейчас работаю не над собственной книгой. Я редактирую антологию. Сборник под общим названием „Люди на войне“. За пару последних лет я перечитал целую гору дерьма, которое этот парень Уортелс из Крауна считает Военной литературой. Они уже опубликовали массу подобного хлама. Вроде глупого, насквозь фальшивого рассказа Ральфа Бейтса о женщинах-пулеметчицах. Ничего подобного не было. Полная ерунда. И в то же время они отказались напечатать великолепный роман Фрэнка Тинкера о трагедии в Брихуэде. Хемингуэй на секунду умолк, но я не имел ни малейшего понятия о названных им произведениях и ничего не сказал. Он пригубил скотч с содовой и жестко посмотрел на меня. – Что ты думаешь о войне, Лукас? – Я никогда не носил форму, не сражался на фронте и не имею права судить об этом. Хемингуэй кивнул, не спуская с меня глаз. – А я носил форму, – сказал он. – В двадцатилетнем возрасте меня тяжело ранили. Пожалуй, я видел больше войн, чем ты – голых баб. И хочешь знать, что я думаю о войне? Я молча ждал. – Я считаю, что война – это мерзкая ловушка, в которую старики заманивают молодежь! – выпалил Хемингуэй, наконец отведя взгляд. – Это чудовищная мясорубка, через которую бессильные старые пердуны пропускают крепких молодых парней, чтобы избавиться от соперников. Война – настоящий кошмар, полный храбрости, величия и красоты. – Он допил виски. – Думаю, мой старший сын окажется достаточно взрослым, чтобы пойти на эту мерзкую, бессмысленную войну, – пробормотал Хемингуэй, словно обращаясь к самому себе. – Патрика и Джиджи постигнет та же участь, если война затянется надолго. А я полагаю, что так оно и будет. – Хемингуэй подошел к двери и вновь посмотрел на меня. – Я буду работать над введением до полудня. Потом мы вместе встретимся кое с кем из полевых агентов „Хитрого дела“.* * *
„Полевой агентурой“ Хемингуэя оказалась разношерстная компания бродяг, собутыльников и старых приятелей, о которых Боб Джойс узнал из уст писателя, а я – из досье Гувера под грифом „О/К“, в их числе – Пэтчи Ибарлусия и его брат, которые должны были действовать в качестве разведчиков в промежутках между матчами хай-алай; младший брат доктора Герреры Сотолонго, Роберт, которого Хемингуэй называл Синдбадом-мореходом; эмигрант из Каталонии по имени Фернандо Меса, работавший официантом и время от времени помогавший Хемингуэю управляться с яхтой; католический священник Андрее Унцзайн, плевавшийся при всяком упоминании о фашистах; несколько рыбаков из гаванских доков; два богатых испанских дворянина, проживавших в больших усадьбах на холмах, расположенных ближе к городу, чем финка Хемингуэя; целый выводок шлюх не менее чем из трех гаванских борделей; несколько портовых пропойц, провонявших ромом, и слепой старик, который днями напролет просиживал на Парк-Сентрал. Оказавшись в центре города, мы продолжали встречаться с „оперативниками“ в различных гостиницах, барах и церквах; мне представили швейцара отеля „Плаза“, что рядом с парком; Константе Рибайлагуа, бармена „Флоридиты“; официанта „Ла Зарагозаны“; привратника оперного театра „Сентро Галлего“; детектива отеля „Инглатерра“; еще одного, совсем молодого священника, обитавшего в подземельях монастыря Иглесиа дель Санто Анджел Кастодио; дряхлого официанта-китайца из ресторана „Пасифик“; девушку-кубинку, работавшую в салоне красоты „Гордость Гаваны“; старика, который полировал и обжаривал кофейные зерна в маленькой лавочке „Грейт Генерозо“ напротив бара „Канарейка“. Хемингуэй познакомил меня с Анджелом Мартинесом, хозяином „Ла Бодегита дель Медио“ – того самого заведения, где я отведал мерзкий коктейль, но это, по всей видимости, был визит вежливости, поскольку писатель не назвал Мартинеса „одним из лучших полевых агентов“, как называл всех прочих. Время близилось к семи вечера, и мы уже выпили в полудюжине баров, когда Хемингуэй привел меня в „Кафе де ла Перла де Сан-Франциско“ – маленький ресторан у городского сквера с фонтаном, из которого тонкой струйкой сочилась вода. Бар был довольно приличный, со стенами из полированного гранита, но Хемингуэй протащил меня в обеденный зал. – Мы здесь ужинаем? – осведомился я. – Нет, черт побери. Самое дорогое блюдо здесь стоит двадцать пять центов. Ужинать мы отправимся в Баскский центр… сегодня вечером в финке соберутся друзья Марты, и, чем позже мы вернемся домой, тем лучше. Я привел тебя сюда, чтобы показать вот того парня. – Хемингуэй кивнул в сторону мужчины, стоявшего в дверях кухни. На вид это был кубинец или испанец, но он носил напомаженные по австрийской моде усы и коротко подстриженные волосы. Он свирепо взирал на нас, словно требуя сесть за стол и заказать что-нибудь, либо убираться ко всем чертям. – Сеньор Антонио Родригес, – сказал Хемингуэй. – Но все зовут его Кайзером Гиллермо. Я кивнул: – Еще один полевой агент? – Нет, черт побери, – ответил писатель. – Это хозяин ресторана. Нельзя сказать, что мы знакомы с незапамятных времен, хотя я довольно часто обедал здесь. Если мы не поймаем настоящих немецких шпионов, то, пожалуй, вернемся сюда и арестуем Кайзера. Знакомство с персоналом „Хитрого дела“ было практически завершено, если не считать юного помощника официанта из Баскского клуба, которого Хемингуэй назвал „нашим лучшим… и единственным курьером“. Он вот-вот должен был появиться и навести порядок на нашем столе.* * *
В воскресенье мы не занимались „Хитрым делом“. Во всяком случае, для меня поручений не нашлось. Всю вторую половину дня в финке продолжалась массовая вечеринка – в бассейне и рядом с ним купались и загорали люди, из-за жалюзи доносился звон бокалов, витал запах жареной свинины, приезжали и уезжали автомобили. Среди гостей я заметил братьев Ибарлусия и еще с полдюжины игроков хай-алай, нескольких эмигрантов-басков, Уинстона Геста и других состоятельных спортсменов, в их числе Тома Шелвина, а также множество незнакомых лиц. Американское посольство представляли Эллис Бриггз с женой и двумя детьми, Боб и Джейн Джойс, посол Браден и его супруга. Я знал, что она чилийская аристократка, и ее внешность полностью соответствовала положению, которое она занимала, а красота и элегантность миссис Браден бросались в глаза даже на расстоянии пятидесяти шагов. Утром я спросил у Хемингуэя, можно ли добраться до Гаваны каким-либо транспортом, кроме автобуса. – Зачем? – спросил он, вероятно, имея в виду, что в воскресенье утром городские бары закрыты. – Хочу сходить в церковь, – ответил я. Хемингуэй фыркнул. – Можешь брать „Линкольн“, когда он не нужен мне, Хуану и Марте. Еще есть старый „Форд-Купе“, но сейчас он в ремонте. Либо езжай на велосипеде, который мы купили для Джиджи. – Так будет лучше всего, – сказал я. – Не забывай, до окраин города десять миль, – предостерег меня писатель. – А до Старой Гаваны – все двадцать. – Велосипед устроит меня как нельзя лучше, – повторил я. Я отправился в путь ближе к вечеру, когда вечеринка была в самом разгаре, и позвонил Дельгадо из телефона-автомата на Сан-Франциско де Паула. Мы встретились в явочном доме. – Вчера вы вдвоем совершили знатное путешествие, – сказал мне коллега по ОРС, как только мы вошли в темную жаркую комнату. На Дельгадо был белый костюм; под льняным пиджаком – только нательная майка. Из-за пояса высовывалась рукоять пистолета. – Вы то и дело попадались мне на глаза, – упрекнул я. Дельгадо потер подбородок: – Хемингуэй меня не заметил. – Хемингуэй не заметил бы ничего, даже если бы за ним шел трехногий осел, – сказал я, подавая ему рапорт в запечатанном конверте. Дельгадо сломал печать и углубился в чтение. – Господин Гувер предпочитает, чтобы рапорты были напечатаны на машинке, – заметил он. – Этот документ предназначен лично для директора, – сказал я. Дельгадо поднял глаза и оскалил длинные зубы. – Я обязан просматривать все, что ему направляют. Тебя это беспокоит, Лукас? Я сел в кресло напротив Дельгадо. Было очень жарко, меня мучила жажда. – Кто те двое, что следили за мной до финки в пятницу и вчера ехали за нами в „Бьюике“? Дельгадо пожал плечами. – Сотрудники местного отделения ФБР? – допытывался я. – Нет, – ответил Дельгадо. – Но тот высокий человек, который шел за вами пешком, служит в Кубинской национальной полиции. Я нахмурился. – Какой еще высокий человек? Дельгадо заулыбался еще шире. – Я так и знал, что ты его не заметишь. Именно потому мне поручили прикрывать твою задницу, Лукас. Ты слишком увлекся выпивкой на пару с этим писателем-алкоголиком. – Он вновь взялся за мой рапорт. Его улыбка увяла. – Ты это серьезно? В тебя действительно стреляли из снайперской винтовки? – В меня или в Хемингуэя. Или в любого другого участника нашей дурацкой затеи. Дельгадо посмотрел на меня: – Как ты думаешь, кто это был? – Где вы находились ночью в пятницу? Он вновь заулыбался. – В лучшем борделе Гаваны. И, Лукас… если бы я стрелял в тебя, ты уже был бы мертв. Я вздохнул и смахнул пот с ресниц. Я слышал голоса детей, возившихся в кустах неподалеку от дома. В небе прогудел самолет. Воздух был наполнен вонью бензинового выхлопа, запахом моря и нечистот. – Завтра Хемингуэй даст мне машинку, – сказал я, – оформлять документы „Хитрого дела“. Мой следующий рапорт Гуверу будет напечатан на машинке. – Вот и славно, – отозвался Дельгадо, вкладывая рапорт в конверт. – Мы ведь не хотим, чтобы тебя уволили из ОРС и Бюро из-за того, что ты не сумел раздобыть машинку? – У нас есть еще дела? – спросил я. Дельгадо покачал головой. – Уходите первым, – сказал я. Убедившись в том, что он покинул дом, свернул за угол и исчез из виду, я вернулся в дальнюю комнату, снял половицу и вынул из образовавшейся ниши сверток, который спрятал там при предыдущем посещении дома. Я осмотрел пистолеты, ища следы влаги – оба были сухими, если не считать фабричной смазки, – потом уложил „магнум“ обратно,а „смит-и-вессон“ очистил от масла, зарядил, оставив пустым одно гнездо барабана, сунул в карман пиджака две пачки патронов и поглубже заткнул револьвер за пояс, чтобы он не мешал мне крутить педали. После этого я отправился на поиски открытого кафе. Прежде чем вернуться в финку в густом потоке транспорта, я намеревался выпить не меньше трех бокалов лимонада со льдом…* * *
Как только „Пилар“ вошла в Гольфстрим, мы попали в сильное волнение. Барометр падал все утро, с северо-востока надвигались темные облака. На яхте Хемингуэя не было рации, однако прогноз, написанный мелом на стене сарая для наживки у причала, извещал о приближении атмосферного фронта и сильных грозах во второй половине дня. – Лукас! – рявкнул Хемингуэй с ходового мостика. – Поднимайся сюда! Я взобрался по лестнице. Хемингуэй стоял за штурвалом, широко расставив босые ноги. Уинстон Гест держался за поручень, а Ибарлусия допивал очередную банку пива под навесом рубки. Первый помощник Фуэнтес по-прежнему сидел впереди, положив босые ноги на ограждение, а Хемингуэй правил навстречу высоким волнам. – Не хочешь перекусить, Лукас? – спросил писатель. Его кепка с длинным козырьком была надвинута на глаза. – Нет, спасибо, – ответил я. – Подожду обеда. Хемингуэй искоса посмотрел на меня. – Возьми-ка штурвал, – велел он. Я подчинился. Хемингуэй задал мне курс, и я развернул нос яхты, ориентируясь по компасу, и прикрыл дроссельные заслонки, чтобы уменьшить качку маленького судна. Гест спустился в рубку, и несколько минут они с Ибарлусией и Фуэнтесом привязывали к крюкам рыболовные лини. Фуэнтес также выпустил с кормы большую роговую блесну на веревке. Блесна помчалась за яхтой в кильватере, привлекая разве что чаек. Хемингуэй стоял, облокотившись на ограждение и без труда сохраняя равновесие, несмотря на то что его указания вынуждали меня править под самым неудачным углом к высоким волнам. Куба казалась крохотным размытым пятнышком по правому борту, а слева надвигалась полоса черной и все более плотной облачности. – А тебе и впрямь приходилось водить малые суда, Лукас. Я уже говорил ему об этом и не видел смысла повторять. Сзади и внизу над чем-то смеялись Ибарлусия с Гестом. Море было слишком бурным для рыбной ловли. Хемингуэй спустился по лестнице и тут же поднялся обратно с чехлом из промасленной ткани. Переждав поток брызг, он вынул из чехла винтовку. Я мельком взглянул на нее: „манлихер“ калибра 6,5 мм. – Мы собирались бросить якорь в одной укромной бухте, – сказал Хемингуэй. Он прицелился в летучую рыбу, которая выпрыгнула из воды перед носом яхты, потом опустил оружие. – Хотели пострелять по мишеням. Но при таком волнении об этом нечего и думать. Вероятно, в этом и состояло мое морское испытание – привести „Пилар“ в точку с заданными координатами и состязаться в стрельбе с тремя людьми, которые пили с самого утра. А может, меня попросту обуяла мания преследования. Хемингуэй спрятал винтовку в чехол и положил ее у стойки штурвала. Он указал в сторону берега. – Я знаю там уютную маленькую пещеру. Давай подойдем к ней, пообедаем и вернемся в Кохимар, пока буря не разыгралась всерьез. Он задал курс, и я повернул нос яхты к берегу. „Пилар“ была превосходным судном, хотя, на мой вкус, ей не хватало остойчивости и она реагировала на повороты руля с небольшим запозданием. Если Хемингуэй хотел уклониться от встречи с надвигающимся штормом, нам следовало повернуть назад, а не останавливаться на обед. Но он не спросил моего мнения. Теперь, когда волны били в корму, яхта пошла быстрее, и к тому времени, когда мы бросили якорь в просторной пещере, вновь ярко светило солнце, и никто даже не вспоминал о буре. Мы сели в тени рулевой рубки и принялись за толстые сэндвичи с остро приправленной жареной говядиной. Гест и Ибарлусия взяли к обеду еще по банке холодного пива, а Фуэнтес сварил густой черный кубинский кофе, и мы втроем с Хемингуэем выпили его из белых щербатых кружек. – Эрнесто, – заговорил Фуэнтес, вставая с поручня. – Посмотри вон туда, на скалу у берега. Какая огромная! До берега было более ста шагов, и только через секунду-другую я понял, что он имел в виду. – Грегорио, – сказал Хемингэуй, – принеси бинокль. Мы вчетвером по очереди посмотрели в бинокль. Игуана действительно была очень большая. Она грелась в лучах солнца на черной скале, медленно моргая. Я увидел, как поблескивают перепонки на ее глазах. Хемингуэй взобрался по трапу, мы – вслед за ним. Он вынул „манлихер“ из чехла, обернул ремень вокруг левой руки, как это принято в пехоте при стрельбе на средней дистанции, широко расставил ноги, борясь с легкой качкой, и крепко упер приклад в плечо. – Лукас, – распорядился он, – следи за тем, куда я попаду. Я кивнул и навел бинокль на игуану. Рявкнул выстрел. – Низко, – сказал я. – Игуана даже не шелохнулась. Вторая пуля прошла выше. На третьем выстреле игуана словно взлетела в воздух и исчезла за скалой. Ибарлусия и Гест разразились торжествующими криками. Фуэнтес спросил: – Это будет сумочка для мисс Марты? – Si, дружище. Сумочка для Марты, – ответил Хемингуэй и первым спустился по трапу на палубу. – Жаль, что мы не взяли с собой „Крошку Кида“, – сказал Гест, имея в виду маленькую гребную шлюпку, которую Хемингуэй оставил в порту, не желая тащить ее за собой. Хемингуэй усмехнулся. – Черт возьми, Волфер, здесь воды по колено. Или ты боишься акул? – Он сбросил свитер и шорты, оставшись в изрядно поношенных плавках. Его тело было очень темным и намного более мускулистым, чем я думал. На его груди не было ни одного седого волоска. – Эрнесто, – заговорил Ибарлусия, на котором были только крохотные шорты. Его тело тренированного атлета состояло из одних гибких мышц. – Эрнесто, тебе ни к чему мокнуть. Я сплаваю к берегу и прикончу рептилию, а ты тем временем прикончишь свой обед. – Он взял винтовку. Хемингуэй перепрыгнул через борт и протянул руку за винтовкой: – Dame аса, cono que a los mios los mato yo! Я задумался над тем, что он сказал – „Давай ее сюда, черт побери; я сам буду стрелять!“ – и впервые ощутил нечто вроде родства душ с Эрнестом Хемингуэем. Хемингуэй высоко поднял оружие над водой и поплыл к далекому берегу, загребая левой рукой. Ибарлусия нырнул, не подняв даже слабой ряби, и вскоре обогнал писателя. Я снял блузу и шорты, сбросил туфли. Несмотря на приближающийся шторм, воздух был горячим, и солнце обжигало меня. – Я останусь на яхте с Грегорио, – сказал Гест. Я неторопливо поплыл к берегу. Волнения в широкой пещере почти не чувствовалось. Пэтчи и Хемингуэй шагали по полоске сухого песка за нагромождением камней, на которых нежилась игуана. – Она исчезла, Эрнесто, – сказал Ибарлусия. – Должно быть, тот выстрел лишь спугнул ящерицу. – Он прищурился и посмотрел на северо-восток. – Надвигается буря, Папа. Пора подумать о возвращении. – Нет, – отрезал Хемингуэй. Он внимательно осматривал скалу, ощупывая ее пальцами, словно в поисках кровавых следов. Мы втроем двадцать минут бродили по берегу вдоль уреза воды, изучая каждый камень, каждую впадину. Темные тучи все приближались. – Вот! – наконец воскликнул писатель, присев на корточки в двадцати пяти футах от скал. Мы подошли к нему, а Хемингуэй разломил на кусочки высохший прутик и, отмечая ими крохотные капельки крови, двинулся в сторону суши, так низко склоняясь над песком, что был похож на гончую, которая выискивает след по запаху. – Вот, – повторил он, пройдя десяток шагов и указывая на кровавые капли. – Вот! Дорожка капель оканчивалась у кучи камней рядом со скалами. Мы остановились под невысоким выступом, разглядывая узкий вход в маленькую пещеру. На камнях блестела кровь. – Она там, – заявил Хемингуэй, выбрасывая оставшиеся палочки и снимая винтовку с плеча. Он прицелился в отверстие, и я отступил в сторону. – Может получиться рикошет, Эрнесто, – заметил Ибарлусия, также отходя в сторону. – Не прострели себе живот. Дамская сумочка того не стоит. Хемингуэй лишь презрительно фыркнул и выстрелил. В пещере что-то судорожно забилось. – Ей конец, – сказал Хемингуэй. – Принесите палку подлиннее. Мы отыскали полутораметровый сук, выброшенный морем на камни, но, сколько ни тыкали в отверстие, не смогли нащупать игуану. – Вероятно, она заползла глубже, – сказал Ибарлусия. – Нет, – ответил Хемингуэй. – Мой выстрел прикончил ее. – Он рассматривал вход в пещеру. Отверстие было уже его плеч. – Я полезу за ней, Папа, – сказал Пэтчи. Хемингуэй положил руку на загорелое плечо спортсмена и улыбнулся мне: – Лукас, ты, пожалуй, втиснешься туда. Не хочешь подарить Марте сумочку? Я опустился на четвереньки и пополз вперед, обдирая о камни кожу на плечах. Мое тело заслонило свет. Туннель уходил вниз, и, следуя наклону, я опустил голову, чтобы не удариться о скалу затылком. У меня не было ни малейшего желания забираться на такую глубину, откуда меня нельзя было бы вытащить снаружи. Продвинувшись на три метра, я нащупал покрытые твердыми пластинками ребра и брюхо игуаны. Я провел рукой до ее горла, и мои пальцы стали липкими от крови. Крепко ухватив ящерицу за гребень на спине, я попятился назад, останавливаясь всякий раз, когда мои плечи застревали в туннеле. – Вытягивайте меня, и помедленнее! – крикнул я. – Я ее достал. Крепкие руки ухватили меня за лодыжки и, обдирая кожу на моих коленях и плечах, неторопливо вытянули на свет, Хемингуэй сунул „манлихер“ Ибарлусии, похлопал меня по руке, избегая прикасаться к окровавленной спине, и я подал ему трофей. Он улыбался во весь рот, радуясь, словно мальчишка. Мы поплыли на яхту; Пэтчи высоко держал винтовку над набегающими волнами, Хемингуэй плыл на спине, подняв игуану над водой, а я болезненно морщился, когда соленая вода окатывала ссадины на моих плечах и спине. На борту последовали охи и ахи по поводу размеров ящерицы, мы отпраздновали событие, выпив по банке пива, и уложили игуану в ящик для рыбы. Подняв якоря, мы завели машины и выплыли из пещеры навстречу сильной волне. Шторм настиг нас через три мили. Хемингуэй велел мне спуститься в носовой кубрик, достал аптечку и смазал мне спину. Потом он вынул из буфета дождевики, и мы поднялись на палубу в тот самый момент, когда судно захлестнул первый шквал. Следующий час мы пробивались на северо-восток. Яхту непрерывно бросало вверх и вниз. Ибарлусия спустился в каюту и лег на койку, Гест с бледным лицом сидел на верхней ступеньке трапа. Мы с Фуэнтесом привязались по обе стороны крытой рубки и смотрели на вздымающиеся волны, а Хемингуэй искусно управлялся с румпелем. У меня возникло ощущение, будто бы именно в этой обстановке Эрнест Хемингуэй, человек, которого я до сих пор видел только в разнообразных позах, под вымышленной личиной, – по-настоящему чувствует себя в своей тарелке. Волны становились все выше, „Пилар“ продиралась сквозь них, разбрасывая тучи брызг, почти заслонявших вид из иллюминатора рубки, но Хемингуэй комментировал происходящее спокойно и хладнокровно. Ливень барабанил по крыше над головой, открытая палуба за нашими спинами стала скользкой от воды. – Еще час или около того, и мы увидим… – заговорил было писатель и тут же умолк. Мы вышли из бурлящей воды на более спокойный участок моря, однако с трех сторон над океаном носились сплошные стены дождя. Хемингуэй вынул бинокль и посмотрел на северо-восток. – Будь я проклят, – пробормотал он. – Que? – осведомился Фуэнтес, высовываясь из рубки и вглядываясь в тучу брызг. Яхта вползала на гребень очередной высокой волны. – А, все ясно… сам вижу. Сначала я увидел огни, вспыхивавшие примерно в миле от нас и почти терявшиеся среди молний. Я решил было, что это сигналы Морзе, но понял, что ошибся. Справа, милях в трех от нас, виднелся большой силуэт, почти скрытый подвижными стенами дождя. На первый взгляд мне показалось, что, судя по размерам, это эсминец, но обводы корпуса исключали это предположение. Слева, уходя прочь от нас и большого корабля, мелькала едва заметная полоса серого металла, вздымавшаяся над серой водой на фоне серых облаков. – Будь я проклят! – Хемингуэй не скрывал радости и возбуждения. Он передал бинокль Фуэнтесу и открыл дроссели обоих двигателей на две трети, с такой силой врезавшись в волны, что Геста едва не сбросило с трапа, а из носового кубрика донесся вскрик Ибарлусии. – Ты видел, Лукас? – спросил Хемингуэй, передвигая рукоятки еще на деление вперед. Фуэнтес протянул мне бинокль. Я попытался сфокусировать взгляд на большом корабле, но из-за волн и качки это было трудно сделать. – Да, – сказал я минуту спустя. – Что-то вроде огромной яхты. Впервые вижу частное судно такого размера. Хемингуэй покачал головой. – Ты не туда смотришь. Повернись налево. Видишь силуэт, пересекающий линию шторма? Я навел бинокль, поймал в поле зрения силуэт, потерял его, потом нащупал вновь. И вытаращил глаза. – Это подводная лодка, – в полный голос произнес писатель. – Нацистская субмарина. Ты заметил форму ее ходовой рубки? Видишь номер на ней? Немецкая субмарина. Она сигналила яхте. И я собираюсь ее поймать. – Яхту? – спросил Гест, поднимаясь на мостик с раскрасневшимся от возбуждения лицом. – Нет, Волфер, – ответил Хемингуэй, вновь передвигая вперед рукоятки дросселей. Он взял у меня бинокль и навел его на рубку подводной лодки. – Мы поймаем и возьмем на абордаж вот эту субмарину.Глава 9
– Зачем тебе информация о „Южном кресте“? – спросил Дельгадо. Мы встретились на заросшей грунтовой дороге к югу от Сан-Франциско дель Паула. Старая заброшенная ферма осела к земле, словно плавясь на солнце. С покрытого сорняками поля на нас с дружеским подозрением взирал одинокий ослик. Мой велосипед стоял у разбитого забора. Дельгадо прислонил свой старый мотоцикл к телефонному столбу без проводов. – В согласии с инструкциями господина Гувера, – сказал я, – вы обязаны поставлять мне все необходимые сведения, не спрашивая, зачем они требуются. Дельгадо посмотрел на меня мертвенным непроницаемым взглядом. Несмотря на жару, он надел поверх нижней рубашки дорогой кожаный жилет с пуговицами, столь же выразительными, как его глаза. – Когда тебе нужны эти сведения? – спросил Дельгадо. В этом и состояла главная трудность. Чтобы получить из Вашингтона ответ на стандартный запрос, в Мексике, Колумбии и Аргентине обычно приходилось ждать около десяти дней. Если требовались особые документы, ожидание растягивалось на месяц и более. Как правило, ко времени их прибытия мы уже приступали к другим делам. В данном случае „Южный крест“ вполне мог покинуть порт еще до того, как мой запрос будет удовлетворен. – Как можно быстрее, – ответил я. – Завтра во второй половине дня, – сказал Дельгадо. – В явочном доме, в семнадцать ноль-ноль. Я промолчал, хотя сомневался, что информация может достичь Кубы к завтрашнему вечеру. Даже если она поступит… то каким образом? Через курьера? Зачем посылать секретные данные с нарочным для агента, ведущего заведомо тупиковое дело? В конце концов, кто же он такой, этот Дельгадо? – Только о яхте? – спросил он, делая пометку в крохотной записной книжке на пружине. – И обо всем, что непосредственно касается ее, – добавил я. – Любые данные о расследованиях в отношении экипажа, владельцев… все, что может оказаться полезным. Дельгадо кивнул, подошел к мотоциклу и забрался в седло. – А что бы стал делать твой писатель, если бы догнал субмарину, Лукас? – спросил он. Я вспомнил о безумной гонке по бурному морю, о серой ходовой рубке, которая исчезала то в волнах, то в пелене дождя, вспомнил, как Хемингуэй стоял на мостике с каменным лицом, широко расставив ноги и до такой степени открыв дроссельные заслонки, что мне казалось, будто бы корма или нос „Пилар“ вот-вот отломится на волнах, брызги, насквозь промочившие яхту и всех, кто на ней был… Все мы – Пэтчи, Уинстон Гест, невозмутимый Фуэнтес, даже я – ревели от восторга, подгоняя криками яхту, словно лошадь на ипподроме. И вдруг подлодка исчезла, окончательно и бесповоротно. Хемингуэй разразился проклятиями, ударил по переборке ладонью и дал полный назад, разворачивая нос к северу и сокращая дистанцию между „Пилар“ и огромной яхтой. Он велел Фуэнтесу посмотреть в бинокль и прочесть название корабля на его корме. – Вздумай вы приблизиться к субмарине вплотную, – продолжал Дельгадо, – она подняла бы вас на воздух. – Да, – отозвался я. – Значит, завтра, в пять? Я постараюсь быть на месте. Дельгадо улыбнулся и завел двигатель. – Кстати, – прокричал он, – ты заметил „Бьюик“ с двумя людьми, которые следили за вашим отправлением из порта?! Он стоял на вершине холма над Кохимаром. Я заметил „Бьюик“. Его укрыли в тени, поэтому даже через бинокль я смог рассмотреть только два неясных силуэта на переднем сиденье – один высокий, другой коротышка, как было и в прошлый раз. Бим и Бом. – Водителя я не разглядел, – продолжал Дельгадо, – но пассажиром был плешивый горбатый карлик. Тебе это ничего не напоминает? – Вы шутите, – сказал я. – Мне казалось, его перевели в Лондон. – Его действительно перевели, – ответил Дельгадо и повернул рукоятку газа так, что теперь ему приходилось кричать еще громче. – Я никогда не шучу! „Плешивым горбатым карликом“ был не кто иной, как Уоллес Бета Филлипс, знаменитый руководитель латиноамериканского отделения военно-морской разведки США. Филлипс действительно был лыс и сутул, но никак не карлик – просто человек невысокого роста. Я участвовал в нескольких операциях в Мексико-Сити, которые разработал и возглавлял Филлипс, и относился к нему с искренним уважением. Под его руководством BMP, OPC, ФБР и тогда еще неоперившаяся британская КСК начали работать против нацистских агентов в Мексике как единая команда. Всю зиму 1941–1942 годов Филлипс настаивал на расширении сотрудничества агентств, несмотря на то что Гувер требовал прекращения деятельности КСК в Западном полушарии и ограничения ответственности BMP исключительно морскими вопросами. После решительной схватки в Вашингтоне, в ходе которой Гувер окончательно прибрал к рукам OPC и все прочие контрразведывательные службы Запада, местные агенты ФБР перехватили у Филлипса бразды власти. Несколько последних месяцев, завершившихся весенним провалом двух операций, агенты Филлипса в Мексике, а также в остальных странах Латинской Америки подвергались все более настойчивому давлению со стороны Гувера. В апреле я получил приказ следить за людьми Филлипса, которые совместно с агентами Донована охотились за последними немецкими шпионами в двух крупнейших морских портах Мексики. Вскоре Гувер напрямую обратился к Рузвельту, потребовав ликвидировать КСК и наказать Филлипса за сотрудничество с этой организацией. Донован, проходивший в Нью-Йорке курс лечения после тяжелой автомобильной катастрофы, случившейся месяцем раньше – у него в легком был обнаружен тромб, который, как тогда полагали врачи, мог привести к смерти, – выступил против Гувера, назвав его обвинения „грязной омерзительной ложью“, и Рузвельт поверил ему. КСК на время оставили в покое, однако сотрудничеству агентств в Мексике и всей Латинской Америке пришел конец. Лысый карлик, Уоллес Бета Филлипс, подал рапорт о переводе из BMP в КСК, и его просьбу удовлетворили. Последней новостью, которую я узнал перед вылетом в Вашингтон, было то, что Филлипс отправился в Лондон. Какого дьявола он делает на Кубе, зачем следит за тем, как я выхожу в море на рыболовной яхте Хемингуэя с его разношерстной компанией? Я не стал спрашивать об этом Дельгадо, лишь повторил: – Завтра в пять вечера. – Не наткнись в темноте на дерево, когда будешь ехать на велосипеде, – со смехом отозвался Дельгадо. Он пришпорил мотор и с ревом понесся по дороге к Сан-Франциско дель Паула, окутанный облаком пыли, которая оседала на меня, будто пепел после кремации.* * *
– Вперед, на штурм, Лукас! – прокричал Хемингуэй из-за сетчатой двери вечером того вторника. – Повяжи свой лучший шпионский галстук. Мы едем в посольство, чтобы сбагрить старику идейку! Сорок минут спустя мы вошли в кабинет посла Брадена. Яркие лучи вечернего солнца Гаваны просачивались сквозь жалюзи, под потолком вертелся вентилятор, силясь разогнать застоявшийся воздух. Нас было пятеро. Кроме посла, Хемингуэя, Эллиса Бриггза и меня, присутствовал новый шеф Военно-морской разведки в Центральной Америке полковник Джон Томасон-младший, крепкий подтянутый мужчина, объяснявшийся быстрыми точными фразами с техасским акцентом. Я слышал о Томасоне, но, судя по непринужденности, с которой он заговорил с Хемингуэем, прежде чем перейти к делу, они были хорошо знакомы. Оказалось, Томасон был консультантом антологии военного рассказа, которую сейчас редактировал Хемингуэй. В сущности, полковник и сам был писателем – Хемингэуй дважды упомянул о биографии Джеба Стюарта, составленной Томасоном, и предложил включить в антологию один из его рассказов. В конце концов Браден призвал собравшихся к порядку. – Эрнест, насколько я понимаю, у вас к нам новое предложение. – Совершенно верно, – ответил Хемингуэй, – и весьма дельное. – Он указал на меня и повернулся к полковнику. – Джон, Спруилл, вероятно, говорил тебе, что Госдеп прикомандировал Лукаса к „Хитрому делу“ в качестве специалиста по контрразведке. Я обсудил с ним свой замысел и проработал кое-какие детали… Хемингуэй ничего со мной не обсуждал; пока мы сломя голову мчались к Гаване в его черном „Кадиллаке“, он лишь объяснил, что именно намерен предложить. Томасон, прищурясь, посмотрел на меня с подозрением, которое всякий военный и разведчик испытывает к Госдепартаменту. – Полагаю, Спруилл либо Эллис уже рассказали тебе о нашей вчерашней встрече с немецкой субмариной, – продолжал тем временем Хемингэуй. Полковник Томасон кивнул. – Ты уверен, что это было немецкое судно, Эрнест? – спросил Эллис Бриггз. – Еще бы, черт возьми, – ответил Хемингуэй и объяснил, какой формы была ходовая рубка, как выглядела палубная пушка и какие цифры были изображены на борту. – Это почти наверняка германская субмарина серии „740“, – сказал Томасон. – И каким же курсом она шла непосредственно перед тем, как погрузиться? – Лукас? – окликнул меня Хемингуэй. – На северо-северо-запад, – сказал я, чувствуя себя актером, играющим эпизодическую роль в дешевой мелодраме. Томасон кивнул: – Сегодня рано утром неподалеку от Нью-Орлеана была замечена подлодка класса „740“. Полагают, что она могла выбросить трех-четырех агентов в устье Миссисипи. Вероятно, это то самое судно, с которым ты встретился, Папа. Я посмотрел на полковника. „Папа“? Томасону было около пятидесяти лет, Хемингуэю – сорок один. Какой еще „Папа“? Почему все так охотно подхватывают дурацкую игру Хемингуэя в прозвища и клички… и вообще все его детские забавы? Сейчас мы играли в подводные лодки. Все присутствующие говорили серьезными мужественными голосами. Хемингуэй поднялся на ноги, кивая, размахивая руками и покачиваясь с пятки на носок, отрывистыми жестами подчеркивая слова, которые казались ему наиболее важными. Посол Браден выглядел умиротворенным и довольным, словно домашняя хозяйка, которая приобрела дорогой пылесос у разъезжего торговца и теперь готова выложить деньги за дополнительные устройства, призванные облегчить ее труд. – Мой план состоит в следующем, – произнес Хемингуэй, широко разбрасывая руки, как будто хотел заключить всех нас в объятия. – Агенты „Хитрого дела“ докладывают, что за последний месяц немецкие подлодки задержали и ограбили множество местных рыболовецких посудин. Один старик, который промышляет у Нуэвитоса, был вынужден отдать им весь свой улов и запас фруктов. Как бы то ни было, я думаю, что капитан „семьсот сороковой“ присматривался к „Южному кресту“, решая, следует ли взять яхту на абордаж или потопить огнем из пушки. Яхта выглядит подозрительно… она почти с эсминец размером. Но море было слишком бурным, и когда мы там появились… „Что за чушь он несет?“ – гадал я. Мы видели сигнальные огни на яхте и на рубке подлодки. Передача велась особым кодом, отличным от общепринятой азбуки Морзе. Весь обратный путь, пока мы следовали за огромной яхтой до места ее якорной стоянки в гаванском порту, Хемингуэй разглагольствовал о том, что подлодка и яхта действуют заодно. Он решил, что частное судно использовалось как заправочная станция для субмарины – немцы называли такие корабли „дойными коровами“, – и разработал план добычи информации о „Южном кресте“, его экипаже, грузе и предполагаемой миссии. Он трудился до поздней ночи, раздавая задания по сбору сведений агентам „Хитрого дела“ – портовым бродягам, официантам и кабатчикам. И вот теперь он говорит совсем другое. К чему он клонит? – План состоит в следующем, – повторил Хемингуэй. – Мы берем мою яхту „Пилар“ и маскируем ее под местное рыбацкое судно… либо корабль, выполняющий научные исследования, гидрографическую разведку или что-нибудь в этом роде. Мы позволим немцам рассмотреть себя сквозь перископ, разбудим их любопытство, и когда они всплывут на поверхность и приблизятся, чтобы захватить нас – бац! Мы забросаем их гранатами, обстреляем автоматами, пулеметами, базуками… всем, что попадет под руку. – Научное судно, – произнес посол Браден, которому эта идея явно пришлась по вкусу. – Совершенно верно, – подтвердил Хемингуэй. – Это опасно, Эрнест, – сказал Эллис Бриггз. Писатель пожал плечами: – Я соберу хорошую команду. Семь-восемь крепких парней справятся с задачей без труда. Если хотите, Спруилл, можете послать с нами кого-нибудь из своих людей… например, морского пехотинца, который умеет обращаться с радиостанцией и крупнокалиберным пулеметом. – Разве на „Пилар“ есть рация и пулемет, Папа? – спросил Томасон. – Пока нет, – ответил Хемингуэй и улыбнулся. – Что еще вам потребуется? – осведомился посол, делая пометки в блокноте серебряной авторучкой. – Только ручное оружие, о котором я говорил. Несколько автоматов Томпсона будет вполне достаточно. Гранаты для взлома люков подлодки, как только она окажется вблизи… Может быть, базука или две. Армейская радиостанция. И, кстати, радиопоисковое оборудование. Мы можем пеленговать сигналы субмарин методом триангуляции, действуя совместно с морскими базами на побережье и эсминцами, которые курсируют в этой части Карибского бассейна. Я обеспечиваю питание экипажа. Разумеется, нам нужно горючее. При нынешнем режиме нормированного распределения я не смогу приобрести топлива даже на пять дней патрулирования, тем более – на несколько недель или даже месяцев, которые будет длиться операция. – А как же прочие цели вашего э-ээ… „Хитрого дела“? – спросил посол Браден. – Насколько я понимаю, вы собирались не только организовать его, но и управлять повседневной работой. Неужели вы готовы бросить все ради „научной экспедиции“? Хемингуэй покачал головой: – Мы можем совмещать то и другое. Ведь если подлодки шныряют в окрестностях для того, чтобы высаживать на кубинские и американские берега все больше агентов… а наши данные свидетельствуют именно об этом… то, чтобы выслеживать и обезвреживать их, нам потребуется действовать как на море, так и на суше. Полковник Томасон откашлялся и заговорил – медленно, но без той ленцы в голосе, которая свойственна техасцам: – Что, если вы выйдете в открытый океан под видом невинного рыбацкого судна, а на подлодке что-то заподозрят и расстреляют „Пилар“ из пушки? Что тогда, Папа? – Значит, такая у нас судьба, – ответил Хемингуэй. – Но зачем субмарине привлекать к себе внимание артиллерийским огнем, если капитан может попросту послать на яхту своих людей и потопить нас, открыв кингстоны? Его заинтересуют рыбаки, промышляющие в океане в военное время. Он захочет узнать, что за отчаянные головы ловят марлина в Гольфстриме, когда вокруг ведутся боевые действия. – А если он узнает вас? – спросил полковник. – „Пилар“ хорошо известна в здешних водах. И если ваши подозрения верны и капитан подлодки действительно связан с разведкой, он вполне может знать о сумасшедшем писателе-гринго и его рыболовной яхте. – Тем лучше. – Хемингуэй просиял. – Он увезет с собой в Берлин бумагомараку-противника сочинять для фюрера грязные лимерики. Herr Kapitan получит перо для шляпы, а его люди – славу и продвижение по службе. А что? Эти подводные парни очень падки на популярность. Полковник кивнул, но было видно, что Хемингуэю не удалось до конца рассеять его сомнения. – Но, Папа, даже если вам прикажут подойти к подлодке вплотную, ее капитан – отнюдь не простак. Вряд ли он пригласит тебя к себе, чтобы распить по стаканчику шнапса. А на палубе будут стоять его люди – не забывай, они воюют на море уже третий год и вооружены не пугачами и не рогатками. – Вот именно, – сказал Хемингуэй. – Вот зачем, кроме гранат, нам нужен крупнокалиберный пулемет. Я отлично стреляю из автоматического оружия, Джон. Тренировался на своей бабушке. Нацисты даже не успеют понять, какая смерть их настигла. Еще мы с Лукасом хотели бы знать, насколько велика рубка типичной немецкой подлодки, какова ширина люка. Но больше всего нас интересует, какое действие оказывает граната, попавшая внутрь субмарины? Есть ли у нас шанс взять ее на абордаж и притащить этих мерзавцев в гаванский порт либо на одну из военно-морских баз США? Я перестал его слушать. Это уже была не просто фантазия, а бред сумасшедшего. Однако посол Браден, первый секретарь Бриггз и шеф военно-морской разведки в Центральной Америке полковник Джон Томасон-младший воспринимали его всерьез. Прошло еще тридцать минут, и, хотя Браден сказал, что, прежде чем дать окончательный ответ, ему нужно посоветоваться с остальными, было очевидно, что Хемингуэй получит горючее, гранаты, автоматы и каперское свидетельство. Настоящее безумие. – Кстати, Эрнест, – добавил посол, когда мы вновь пожали друг другу руки и я вместе с писателем стоял в дверях, – входит ли эта экспедиция в ваш план „Хитрого дела“? – Надо дать ей другое кодовое наименование. – Хемингуэй откашлялся. – Например, „Френдлесс“ <Френдлесс – враждебный, недружелюбный (англ.).>. – „Френдлесс“… ага… очень удачно, – отозвался посол, черканув что-то в своем блокноте. Выйдя наружу и оказавшись под палящими лучами солнца, я спросил: – „Френдлесс“? Хемингуэй потер подбородок и посмотрел в обе стороны, как будто что-то потерял или забыл. – Ты уже знаком с Френдлесс, – рассеянно ответил он. – Правда? – Правда. Это большой бесхвостый кот на кухне, отличающийся злобным характером. – Хемингуэй просиял, словно вспомнив нечто важное. – Сейчас мы поедем во „Флоридиту“, – заявил он, бросив взгляд на запястье. – До ужина осталось четыре часа. Мы выпьем дайкири.* * *
Три часа и множество бокалов дайкири спустя я сказал Хемингуэю, что приеду в финку вечерним автобусом. – Чушь. Последний автобус, который туда идет, отправляется из центра в семь часов. – Тогда отправлюсь пешком. – Тебе придется шагать всю ночь. Ты опоздаешь на ужин в финке. – Я и не знал, что меня пригласили на ужин. – Разумеется, пригласили. Точнее, пригласят, как только я переговорю с Мартой. Во всяком случае, я надеюсь. – Я поужинаю в городе и как-нибудь доберусь сам, – сказал я. Хемингуэй пожал плечами. – Я и забыл. Ты ведь должен докладывать своим хозяевам. Так и быть. Отлично. Ну их всех к черту, кем бы они ни были. Проследив за тем, как „Линкольн“ отъехал от обочины и покатил в сторону площади Кафедрального собора, я кружными путями добрался с улицы Обиспо до Обрапии, прошел два квартала до улицы О'Рили и вновь вернулся на Обиспо. Я не заметил ни своего связного, ни высокого человека, который, по словам Дельгадо, служил в Кубинской национальной полиции, но на углу Обиспо и Сан-Игнасио ко мне подъехал темный „Бьюик“, и лысый гном, сидевший в заднем кресле, спросил через открытое окно: – Вас подбросить, господин Лукас? – Благодарю. Я сел рядом с ним. Водитель машины, худощавый мужчина примерно моего возраста, был мне незнаком. Он носил дымчатые очки и твидовый костюм, который был бы куда уместнее осенью где-нибудь в Новой Англии, нежели весной в Гаване. Что-то в его облике – вероятно, чересчур напряженная поза и пальцы, судорожно стискивавшие руль, – подсказало мне, что он не профессионал. – Это господин Коули, – произнес Уоллес Бета Филлипс, кивком указывая на водителя. – Он не имеет никакого отношения к погибшему специальному агенту из Чикаго. Господин Коули, это Джозеф Лукас. – Рад познакомиться с вами, – сказал водитель. Я мельком посмотрел на его затылок и перевел взгляд на Филлипса. Слова „лысый горбатый гном“ наводили на мысль о смешном забавном человечке, но во плоти Филлипс не производил такого уж странного впечатления. Да, он был невысок, но вовсе не карлик. Его дорогой костюм был сшит так, чтобы скрадывать изгиб спины. Самыми примечательными в его облике были безволосая голова, умные глаза и то, что он, по-видимому, совершенно не потел. До сих пор мы не встречались, но коротышка держался так, словно мы были давними знакомыми. – Господин Коули связан с деятельностью Хемингуэя, – сказал Филлипс. И предложил мне американскую сигарету. Я отрицательно качнул головой. Филлипс затянулся и выдохнул дым в окошко. „Бьюик“ ехал по Сан-Педро-авеню мимо доков. – Мы решили, что будет полезно заручиться мнением еще одного литератора об операциях господина Хемингуэя, – продолжал Филлипс, аккуратным движением маленького пальца смахнув с губы табачную крошку. – Зачем? – спросил я. Уоллес Бета Филлипс улыбнулся. У него были безупречные зубы. – Господин Коули – новичок в нашей организации. Скорее аналитик, чем полевой агент. Но мы подумали, что его первое задание за пределами кабинетов окажется в равной мере познавательным как для него, так и для нас. – Кто такие „мы“? – осведомился я. – Уж конечно, не BMP. – ОСС, – ответил бывший руководитель военно-морской разведки в Латинской Америке. – Никогда о таком не слышал, – сказал я. – Звучит на немецкий манер. А мне казалось, что вы перешли в БКРГ и уехали в Лондон. – Да, да, – отозвался Филлипс. – Донован переименовал координационную разведслужбу в Офис стратегической разведки. В ближайшее время это название будет принято официально. Полагаю, не позднее июня. Мы подозреваем, что это даст Гуверу повод прозвать нас „осслами“. – Вполне возможно, – согласился я. – Говорят, Донован кличет Бюро „Иностранцами ирландского происхождения“ <FBI – „Foreign Воrn Irish“.>. Филлипс повернул руки ладонями кверху. – Только когда у него плохое настроение, – сказал он. – Полагаю, этот стереотип возник из расхожего мнения, будто бы Гувер, хотя и убежденный протестант, предпочитает брать на работу католиков. – Существует и другое расхожее мнение, будто бы Донован предпочитает брать на работу дилетантов и любителей из числа знаменитостей, – заметил я. Коули пронзительно посмотрел на меня в зеркальце заднего обзора. – О присутствующих речь не идет, – сказал я. – Но мне показалось, что ФБР скорее расшифрует ваше новое название как „Общество сборной солянки“. Филлипс усмехнулся. – Ваша правда. Донован действительно привлекает к работе самых неожиданных людей. Например, графа Олега Кассини и Джулию Чайлд. – Никогда о них не слышал, – сказал я. Эти люди никак не могли быть действующими агентами, поскольку Филлипс назвал мне их имена. Наверное, они тоже работали у Донована „аналитиками“. – Разумеется, не слышали, – подтвердил Филлипс. – Это модельер и повар. В интересах национальной безопасности я не стану разглашать, кто из них кто. Еще у нас работает Джон Форд. – Кинорежиссер? – Мне нравились вестерны Форда. – Именно, – подтвердил лысый коротышка. Теперь мы мчались по центральному шоссе, и набегающий ветер приятно холодил наши лица. – А также великое множество писателей. Помимо господина Коули, которого гораздо больше интересует Хемингуэй-литератор, чем Хемингуэй-шпион, в настоящее время мы пользуемся услугами ряда бывших друзей Хемингуэя, включая Арчибальда Маклиша и Роберта Шервуда. Эти имена ничего не говорили мне. Да и сама беседа казалась совершенно бессмысленной. – Хемингуэй предал этих двух джентльменов, – продолжал Филлипс. – Я имею в виду, предал как друзей. От всей души надеюсь, что он не предаст вас, господин Лукас. – Мы с ним не друзья, – сказал я. – Чего вы хотите, господин Филлипс? – Просто поболтать, Лукас. Насколько мне известно, во время перелета на Кубу коммандор Флеминг имел возможность переговорить с вами. „Святой Иисусе, – подумал я, глядя на маленькие дома и лавки, проносящиеся мимо. – Такое чувство, будто все шпионские агентства в этом полушарии интересуются тем убогим цирком, который устроил Хемингуэй. Но зачем им это?“ – Чего вы хотите? – повторил я, сделав ударение на последнем слове. Филлипс вздохнул и положил на колени свои маленькие розовые ладони. Стрелки на его брюках были идеально отутюжены. – Несчастный случай на улице Саймона Боливара в Веракрусе, – сказал он, понизив голос почти до шепота. – Известно ли вам, что я принимал участие в планировании первых этапов этой операции? – Да. – В таком случае вам также должно быть известно, что после вашей… э-ээ… стычки на улице Боливара BMP была отстранена от активной деятельности. Гибель Шиллера и Лопеса насторожила меня. Прежде чем покинуть страну, я побывал в доме на улице Боливара и внимательно изучил отчет ОРС о данном инциденте. Мое сердце забилось чаще. Сотрудники ОРС и ФБР осмотрели трупы, прочли мой рапорт, но не производили баллистическую экспертизу. Уоллес Бета Филлипс пристально смотрел мне в лицо. – Если не ошибаюсь, в своем рапорте вы утверждаете, будто бы покушавшиеся ждали вас в доме, Лукас. Вы якобы приехали заранее, почувствовали нечто неладное и быстро вошли внутрь. Они выстрелили в вас и промахнулись. Кажется, там было найдено сорок две гильзы. Вы выпустили четыре пули. – У Лопеса был „люгер“, – сказал я. – Шиллер стрелял из „шмайссера“ непрерывной очередью. Филлипс улыбнулся: – Они вели огонь в направлении входной двери и передней стены дома, но были убиты выстрелами в затылки и спины. Я молча ждал. – Вы действительно приехали загодя, Лукас. Вы вошли через заднюю дверь, мимо собаки. Собака знала вас, но вам все-таки пришлось перерезать ей горло, чтобы она не выдала ваше появление. Вы прошли через кухню и в темноте прокрались через прихожую. Оказавшись в комнате, вы каким-то образом подняли шум у передней двери. Не знаю, как именно, но соседи упомянули о том, что видели мальчишку, который бросил в дверь камень и быстро убежал. Шиллер и Лопес открыли огонь. Вы застрелили их сзади. Вы ликвидировали их, Лукас, и, могу добавить, сделали это преднамеренно и умело. Мне нечего было сказать. Я рассматривал пейзаж, проносящийся мимо машины. Мы ехали к Сан-Франциско де Паула кружным путем. Я заметил, как в зеркальце мелькнули глаза Коули. Они были широко распахнуты. – Мы не знакомы с обстоятельствами гибели генерала Кривицкого в феврале прошлого года, – продолжал Филлипс после секундной паузы. – Вероятно, вы застрелили его. Возможно, вы дали ему свой пистолет и дождались, пока он покончил с собой. Так или иначе, вам удалось произвести благоприятное впечатление на доктора Ганса Веземанна и других сотрудников Абвера в этом полушарии, и они до сих пор считают вас вольным стрелком, наемным убийцей. Если бы вы служили в BMP, я бы использовал вас как двойного агента во многих операциях. – Я не служу ни в BMP, ни в вашем будущем ОСС, – ответил я. – Чего вы хотите, господин Филлипс? – Внезапно я почувствовал, как меня утомляет все это – пустопорожняя бравада Хемингуэя, насмешки и угрозы Дельгадо, сердечный тон, которым полковник Томасон „как мужчина с мужчиной“ обсуждает с Хемингуэем его планы охоты за субмаринами, и обвинения Филлипса. В эту самую минуту где-то в Тихом океане славные американские парни плывут навстречу своей гибели, а напыщенные японцы с самурайскими мечами отсекают им головы. В Европе ни в чем не повинные мужчины и женщины доброй дюжины стран просыпаются по утрам и видят над своими домами развевающиеся флаги со свастикой и слышат грохот кованых сапог громил Вермахта на пустынных залитых дождем улицах. Всего в нескольких милях отсюда молодые матросы торгового корабля тонут, настигнутые торпедой, которую они даже не успели увидеть. – Стефенсон и Донован надеются, что вы понимаете нашу стратегию в этой войне, господин Лукас, – сказал Филлипс. – Они не верят, что межведомственные распри способны ослепить вас и отвлечь от служения высшим целям. – Не понимаю, о чем вы говорите, – проронил я. – При чем здесь Хемингуэй и его затеи? Филлипс вновь посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом, словно пытаясь сообразить, лгу ли я или говорю искренне. Мне было совершенно безразлично, что он думает. Должно быть, Филлипс прочел это по моему каменному лицу. – У нас есть основания полагать, – заговорил он наконец, – что Гувер замышляет на Кубе нечто необычное. Возможно, нечто противозаконное. – Чушь, – отрезал я. – Ведь никто иной как BMP и БКРГ научили Бюро планировать и осуществлять противозаконные операции. И если здесь происходит нечто подобное, мне об этом ничего не известно. Так называемым „оперативникам“ Хемингуэя эта работа не по зубам. Филлипс покачал лысой головой. – Я не имел в виду заурядные уловки наших агентств, господин Лукас, – ответил он. – Меня беспокоит нечто, способное поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. Я с отвращением посмотрел на него. Гувер был лжецом и великим мастером межведомственной интриги. Он отстаивал свою территорию, не щадя никого и ничего, но если для него и существовало что-то, кроме собственной карьеры, то только спокойствие и безопасность США. – Приведите хотя бы один пример с неопровержимыми фактами, – ровным голосом произнес я, – либо остановитемашину и выпустите меня. Мы находились примерно в миле от финки Хемингуэя. Филлипс покачал головой. – Пока у меня нет доказательств, Лукас, – сказал он. – Но я надеюсь, что вы их раздобудете. – Остановите машину, – велел я. Коули затормозил у обочины. Я открыл дверцу и вышел. – На Кубе сейчас находится человек, которого вы знаете по фамилии Дельгадо, – сказал Филлипс, глядя на меня через открытое окно. – И что же? Мимо промчался грузовик, оглушив нас клаксоном и музыкой, гремевшей в кабине. – У нас есть основания полагать, что Дельгадо – это специальный агент Д., – заявил коротышка. Я призадумался. В ФБР и ОРС не было ни одного человека, который не слышал об агенте Д. Многие в него верили. Я знал о нем следующее: В половине одиннадцатого вечера 21 июля 1934 года гангстер Джон Диллинджер и две его спутницы – одной из них была знаменитая „женщина в красном“, Ана Кумпанс, известная также под именем Анна Саж, которая и предала бандита – вышли из чикагского театра „Биография“. Подразделение агентов ФБР, поджидавших Диллинджера в засаде, официально возглавлял старший спецагент Сэм Коули, однако настоящим руководителем группы был Мелвин Пурвис, который к этому времени пользовался куда более широкой известностью, чем мог бы вытерпеть Гувер. Пурвис узнал Анну Саж (поскольку именно с ней он заключил сделку о выдаче преступника) и велел остальным агентам рассредоточиться вокруг здания театра и ждать, пока он подаст условленный сигнал – закурит сигару. Пурвис действительно пытался зажечь сигару, но его руки тряслись так сильно, что он едва был способен держать спичку, а тем более – зажечь сигару и вынуть пистолет. Диллинджер побежал. Пурвис несколько раз крикнул тонким пронзительным голосом: „Сдавайся, Джонни! Ты окружен!“ Но вместо того чтобы сдаться, Враг Номер Один Гувера выхватил из кармана пиджака автоматический „кольт“ и был расстрелян четырьмя агентами. Газеты приписали убийство Диллинджера Пурвису, однако тот факт, что в гангстера стреляли еще несколько человек, также стал известен обществу. Однако в ФБР все знали правду о перестрелке – Пурвис так и не вынул оружие и уж тем более не открывал огонь. Специальный агент Коули, которого впоследствии убил Мордашка Нельсон, тоже не стрелял. Стреляли четверо: Герман Холлиз (он промахнулся), Кларенс Херт и Чарльз Уинстед (они, возможно, ранили Диллинджера) и „специальный агент Д.“ – он, как полагают, выпустил одну-единственную пулю, которая и поставила точку в этом деле. В дальнейших донесениях агент Д. не упоминался, и хотя Гувер относил уничтожение гангстера на счет погибшего Сэма Коули, а неофициальная слава досталась Чарли Уинстеду, слухи о специальном агенте Д. все ширились. В согласии с мифом, бытовавшим в ФБР, агентом Д. был молодой психопат, боевик мафии, которого завербовали Гувер и Грег Толсон, не видя иного способа покончить с Диллинджером и ему подобными. Агенту Д. предложили десятикратное жалованье старшего спецагента, и он должен был бороться с преступниками, пользуясь знанием их уловок. Тот же миф утверждал, будто бы именно он в кровавом 1934 году прикончил Красавчика Флойда и Мордашку Нельсона, хотя эта заслуга опять-таки приписывалась Коули и специальному агенту Герману Холлису, убитому в перестрелке с Нельсоном. Ходила легенда, будто бы агент Д. раскрыл дело о похищении ребенка Линдберга в 1934 году, хотя он якобы завершил его весьма необычным образом. Поговаривали, будто бы Д. следил за настоящим похитителем, гомосексуалистом, находившимся в приятельских отношениях с одной из гувернанток семьи Линдберг до того, как выкрасть и убить ребенка. Д. настиг его в Европе и в приступе ярости сунул ему в рот дуло пистолета и нажал спусковой крючок. Гуверу не хотелось обнародовать такой исход дела, поэтому Бюро спрятало концы в воду, арестовав Бруно Гауптманна, друга и второстепенного сообщника погибшего гомосексуалиста. В течение последующих восьми лет сотрудники Бюро втихую приукрашивали миф о бывшем киллере-мафиози, сумасшедшем спецагенте Д., приписывая ему блистательные, хотя и скандальные расправы с множеством „врагов общества“. Агент Д. был бешеным, хотя и осмотрительным псом, которого Гувер держал в своем чулане, спуская с цепи только тогда, когда возникающие трудности требовали быстрых и крутых мер. Таков был тот человек-призрак, которым меня пугал Уоллес Бета Филлипс. Специальный агент Д., он же мой связник Дельгадо. Я громко рассмеялся и отступил от „Бьюика“. – Был рад с вами познакомиться, господин Филлипс. Лысый коротышка в дорогом костюме даже не улыбнулся. – Если вам потребуется наша помощь, Лукас, мы ждем вас в номере 314 отеля „Насиональ“ в любое время дня и ночи. И будьте осторожны, Лукас. Очень осторожны. Филлипс кивнул Коули, и „Бьюик“ тронулся с места. Я прошагал по Сан-Франциско дель Паула и поднялся на холм к финке Хемингуэя. В главной усадьбе горели огни, играло механическое пианино, я слышал звон бокалов и негромкие голоса. – Проклятие, – пробормотал я. Мне так и не удалось поужинать в городе, а во флигель до сих пор не завезли продукты. Но не беда – до завтрака оставалось каких-нибудь десять часов.* * *
Я очнулся в два часа ночи, все еще терзаемый лютым голодом. Кто-то возился с замком флигеля. Открыв его, он вошел в наружную комнату, мягко ступая. Я остался лежать, но чуть сместился на кровати так, чтобы между мной и дверью оказалась подушка. Я держал под ней пистолет, нацелив его на открытую дверь и сняв с предохранителя. Дверной проем заполнил темный силуэт. Знакомая походка подсказала мне, что это Хемингуэй, но я поставил оружие на предохранитель, только когда он громко прошептал: – Лукас, проснись! – Что? – Одевайся. Быстрее. – Зачем? – Произошло убийство, – сказал Хемингуэй. Его массивная фигура вдвинулась в комнату. Он говорил полным сдерживаемого возбуждения шепотом. – Мы должны оказаться там раньше, чем полиция.Глава 10
Я подозревал, что это очередная забава Хемингуэя, но человек действительно был мертв. Окончательно и бесповоротно. Его горло было взрезано от уха до уха. Он лежал в куче простынь и подушек, пропитанных кровью, от которой слиплись волосы на его груди, а длинные трусы окрасились в непристойный розовый цвет. Глаза человека были вытаращены, рот широко распахнут в беззвучном крике, голова запрокинута в агонии на красные подушки, алые лоскуты разрезанного горла свисали, будто клочья мяса из акульей пасти. В ворохе постельного белья лежал нож с перламутровой ручкой и двенадцатисантиметровым лезвием Хемингуэй взял на себя руководство и молча осмотрел место происшествия. Его лицо приняло характерное выражение с плотно стиснутыми губами – гак зачастую держатся люди при виде насильственной смерти. Вокруг топтались четыре или пять женщин Убийство произошло в убогой комнатушке на втором этаже публичного дома в центре города – в одном из тех заведений, где „полевые агенты“ Хемингуэя трудились, лежа на спинах, и теперь шлюхи стояли в халатах и просвечивающих пижамах, одни – тупо и апатично глядя перед собой, другие – в ужасе прижав руки к губам. В их числе была красивая проститутка по имени Мария; ее пальцы, прижатые к щекам, дрожали, шелковое белье было пропитано кровью убитого. Я впервые видел красивую шлюху; все проститутки, которых я встречал на своем веку, были безобразны и глупы, с нездоровым цветом лица и тупыми глазами; их накрашенные губы привлекали меня не больше, чем рассеченное горло убитого. Эта проститутка, Мария Маркес, была совсем другой. У нее были иссиня-черные волосы, тонкое, изящное лицо с полными губами и огромными карими глазами. Сейчас в ее взгляде застыл страх, но в нем угадывался ум; у Марии были тонкие пальцы пианистки, она выглядела юной – не старше двадцати, а то и шестнадцати-восемнадцати лет, – но не было никаких сомнений в том, что она уже давно лишилась невинности. Старшей из присутствующих женщин была Леопольдина ла Онеста, Честная Леопольдина – проститутка, которую Хемингуэй несколько дней назад представил мне с церемонностью и почтением, словно особу королевских кровей. На мой взгляд, честная шлюха – явление еще более редкое, чем красивая. У Леопольдины была царственная осанка, ухоженные темные волосы и пышные формы. В молодости она была очень хороша собой. Даже перед лицом страшной смерти она держалась спокойно и с достоинством. – Уведи отсюда посторонних, – сказал Хемингуэй. Леопольдина вытолкала из комнаты всех шлюх, кроме Марии, и закрыла за ними дверь. – Рассказывай, – велел Хемингуэй. Мария была слишком потрясена, чтобы говорить, и Хемингуэю ответила Леопольдина. Ее голос явственно свидетельствовал о злоупотреблении никотином и спиртным. – Этот человек пришел примерно в час утра, – медленно, на правильном испанском произнесла она. – Потребовал молодую неиспорченную девушку, и я, естественно, отправила его к Марии… Я посмотрел на юную шлюху. Она и впрямь выглядела неиспорченной, у нее была гладкая, словно у ребенка, кожа. Ее густые черные волосы до плеч обрамляли изящное лицо и огромные глаза. – Чуть позже мы услышали громкие голоса, потом крик, – закончила Леопольдина. – Кто разговаривал? – осведомился Хемингуэй. – И кто кричал? – Разговаривал мужчина… или мужчины, – ответила пожилая проститутка. – В комнату вошел второй человек. Мария кричала из ванной – она находилась там в тот момент, когда произошло убийство. На Хемингуэе была легкая холщовая куртка. Он снял ее и набросил на плечи Марии. – Ты хорошо себя чувствуешь, милая? – спросил он по-испански. Мария кивнула, но ее руки и плечи продолжали вздрагивать. – Девочка заперлась в ванной, – сказала Леопольдина. – И еще несколько минут не выходила оттуда. Она очень испугалась. Человек, который был с этим мужчиной… – Леопольдина указала на труп, – ушел до того, как мы с девочками отозвались на крики Марии. – Как он ушел? – спросил Хемингуэй. Мы посмотрели на открытое окно. Оно располагалось на высоте четырех метров, пожарная лестница отсутствовала. – Просто ушел, – объяснила Леопольдина. – Мы его видели. – Кто этот человек? – спросил писатель. Пожилая проститутка указала на молодую: – Мария расскажет вам. – Расскажи, что здесь произошло, малышка, – попросил Хемингуэй, взяв Марию за локоть и мягко отворачивая от трупа и крови. Грудь молодой женщины содрогалась от рыданий, но секунды спустя, после того, как Хемингуэй погладил ее по спине сквозь куртку, словно лаская одну из своих кошек, она наконец смогла заговорить. – Этот сеньор… тот, который умер… он вел себя очень тихо. Он пришел ко мне в комнату с чемоданчиком, который вы видите здесь… Чемодан стоял на полу, его содержимое было разбросано по комнате. Бумаги и записные книжки валялись на полу и кровати, некоторые из них пропитались кровью. Я наклонился и увидел под кроватью иглу от шприца и девятимиллиметровый „люгер“, явно выпавшие из чемодана. Я ни к чему не прикоснулся. – Он открывал чемодан у тебя на глазах, Мария? – спросил Хемингуэй. – Нет, нет, нет, – отозвалась девушка, качая головой. Ее роскошные волосы скользнули по щекам. – Он поставил чемодан на стол. Он… не хотел… сразу заниматься любовью. Он хотел поговорить. Поговорить со мной. Он снял рубашку… Синий джемпер и белая рубашка аккуратно висели на спинке кресла. Темно-серые брюки лежали на его сиденье. – А потом? – допытывался писатель. – О чем он хотел поговорить? – Он пожаловался на одиночество, – ответила девушка, глубоко и медленно втягивая воздух. Она не смотрела на труп. – Сказал, что его родной дом очень далеко… – Он говорил по-испански? – Да, сеньор Папа. Но очень плохо. Я немного знаю английский, но он непременно хотел говорить со мной на плохом испанском. – Но он говорил и по-английски? – Да, сеньор Папа. Он договаривался с Леопольдиной по-английски. – Он сказал, как его зовут? Мария покачала головой. Хемингуэй наклонился, вынул из брюк мертвеца бумажник, паспорт и карточку и подал их мне. Паспорт был американский, на имя Мартина Кохлера. Карточка представляла собой удостоверение члена-профсоюза моряков, выписанное на ту же фамилию. – Сказал ли он тебе, где его родина? – спросил писатель. Мария вновь покачала головой. – Нет, сеньор. Он только пожаловался, как одиноко ему было на большом корабле и как долго он не увидится с семьей. – Сколько именно? Девушка пожала плечами: – Я слушала невнимательно. Он говорил что-то о нескольких месяцах. – На каком корабле он плавал? Мария указала в окно. Там виднелся слабый отблеск луны на поверхности воды залива между каменными стенами набережных. – На большом корабле, который вчера пришел в порт. Хемингуэй мельком посмотрел на меня. „Южный крест“. Леопольдина ла Онеста потерла руки. – Сеньор Папа, мы еще не звонили в полицию, но должны сделать это в ближайшее время. Я не допускаю подобных происшествий в своем доме. Хемингуэй кивнул. – Мария, расскажи о человеке, который вошел в комнату, и о том, как было совершено убийство. Девушка кивнула и посмотрела на дальнюю стену, как будто сцена убийства отображалась на ней. – Этот человек сидел на кровати в нижнем белье… так, как одет сейчас… и говорил. Я подумала, что это затянется надолго и ему придется очень много заплатить за то, что он провел со мной столько времени. В дверь постучали. Она не была заперта, но этот человек встал и открыл ее. Он махнул мне рукой, чтобы я спряталась в ванной. Я закрылась там, но оставила щелку. – Значит, ты видела, что случилось потом? – Совсем немногое, сеньор. – Продолжай, Мария. – В комнату вошел второй мужчина. Они начали сердито разговаривать друг с другом… но я ничего не поняла. Ни на испанском, ни на английском. На другом языке. – На каком именно? – Я решила, что это немецкий, – ответила девушка. – Или, может быть, датский. До сих пор я не слышала таких слов. – Стало быть, они спорили? – И очень злобно, сеньор Папа. Но лишь несколько секунд. Потом я услышала звуки борьбы и выглянула в щель. Тот мужчина, что был крупнее, толкнул моего… моего клиента на кровать. Потом он начал копаться в чемоданчике, разбрасывая вещи. Потом человек на кровати закричал и потянулся за пистолетом… – Где находился пистолет, Мария? – В его пиджаке. – Он прицелился в того, другого? – Он не успел это сделать, сеньор Папа. Второй человек резко дернул рукой. Я видела это через щель. Мой клиент выронил пистолет и упал на спину… так, как он лежит сейчас. Кровь текла очень сильно. Я посмотрел на брызги артериальной струи на постели, ковре и стене. Девушка не преувеличивала. – Что было потом, Мария? – Я закричала. Я закрыла дверь и заперла ее. Именно поэтому в этом номере есть ванная – больше их нет нигде. Сюда приводят особых клиентов. Но если они требуют чего-нибудь… недостойного, девушка может спрятаться в ванной и позвать на помощь. Дверь очень толстая, а замок – прочный. – Пытался ли убийца войти в ванную? – спросил Хемингуэй. – Нет, сеньор Папа. Я не видела, чтобы дверная ручка поворачивалась. Наверное, он сразу ушел из комнаты. – Я видела, как он шагает по вестибюлю, – сказала Леопольдина. – Он держался совершенно спокойно. На его форме не было крови. – Форма? – переспросил Хемингуэй. – Это был моряк? – Нет, сеньор Папа, – ответила Мария. – Это был полицейский. „Unguardiajurado“. Темные брови Хемингуэя чуть заметно приподнялись. Он посмотрел на Леопольдину. – „Caballo Loco“, – сказала та. Слова девушки были мне понятны. На кубинском диалекте „guardia jurado“ называют полицейского, исполняющего работу во внеслужебное время, например, вышибалу в баре. Но „caballo loco“ означает „бешеный жеребец“, и смысл этого высказывания ускользал от меня. Я посмотрел на Хемингуэя. – Проклятие, – устало пробормотал писатель, бросив взгляд на часы. Он повернулся к Леопольдине и сказал: – Уведи отсюда девчонку и одень ее. Упакуй ее вещи. Она едет с нами. Пожилая шлюха кивнула и вывела Марию из комнаты. Хемингуэй закрыл за ними дверь и, почесывая щеку, вперил взгляд в мертвеца. – Бешеный жеребец? – спросил я. – Очевидно, это человек, совершивший убийство, – ответил Хемингуэй. – Бешеным жеребцом кличут лейтенанта Мальдонадо из кубинской национальной полиции. Мария назвала его „guarda jurado“, поскольку в городе каждый знает, что Мальдонадо выполняет частные поручения состоятельных семейств и правительственных служб. – Какие именно поручения? – спросил я. – Убивает людей, – ответил Хемингуэй. – Он получает распоряжения от майора Хуана Эммануэля Паче Гарсии по кличке Хуанито, Свидетель Иеговы. Гарсия – большая шишка в Национальной полиции. Он приказывает ликвидировать людей. Порой он делает это, чтобы оказать любезность местным политикам или дружественным агентствам. – Каким агентствам? Хемингуэй посмотрел на меня. – Например, местному отделению ФБР. – Он вновь повернулся к трупу и вздохнул. – Мальдонадо убил одного из моих молодых друзей. Я ждал. Если человек заговорил о таком, он непременно выскажется до конца. – Гвидо Перес, – произнес писатель. – Он был славным мальчишкой. Он участвовал в наших ракетных атаках на усадьбу Франка Стейнхарта. Я учил его боксировать в финке. – Зачем Мальдонадо его убил? Хемингуэй пожал плечами. – Гвидо был вспыльчивым парнем. Он терпеть не мог гаванских головорезов, вроде Бешеного жеребца, и кому-то рассказал о своей ненависти к лейтенанту. Мальдонадо выследил и застрелил его. – Хемингуэй вновь потер подбородок. – Ну, а этот чем ему помешал? – Он указал на труп. Я посмотрел на часы. – У нас лишь несколько минут. Разойдется слух, и сюда заявится полиция. Вполне возможно, что расследование будет поручено Мальдонадо. Хемингуэй кивнул и уселся на корточки, склонившись над записными книжками и документами, лежавшими в лужице крови на ковре. – Посмотрим, нельзя ли выяснить мотив убийства по его вещам. Я покачал головой. – Будь так, Мальдонадо не оставил бы их здесь. – Я подошел к чемоданчику и заглянул внутрь. Там было пусто. – У вас есть нож? Хемингуэй протянул мне перочинный нож с трехдюймовым лезвием. Я встряхнул чемоданчик и вспорол фальшивое дно. Там лежал блокнот. Он был невелик, примерно пятнадцать на шесть сантиметров. Хемингуэй взял его в руки. – Какого черта? – произнес он. Странички блокнота были тонкие, с дырочками у корешка, как бывает у отрывного календаря. Некоторые страницы были расчерчены решеткой с десятью квадратными ячейками в ширину и пять – в высоту. Кое-где попадалась решетка двадцать шесть на четыре, с вытянутыми прямоугольными ячейками. Было видно, что из блокнота вырваны около трети перфорированных страничек. Решетки были пусты, кроме первой страницы. Вторая ячейка в первой строке, две последние ячейки во второй и пятая ячейка в пятой строке были вычеркнуты. В остальных черной шариковой ручкой был вписан шифр: /h-r-1-s-l/r-i-a-l-u/i-v-g-a-rn/e-r-s-e-d/e-a-f-r-d/d-l-t-r-e/m-1-e-o-e/w-d-a-s-e/o-x-x-x/ – Ну что ж, Лукас, – сказал Хемингуэй, возвращая мне блокнот. – Ты мой официальный консультант. Объясни, что все это значит и что здесь написано. Я даже не посмотрел на блокнот. Разумеется, я сразу понял, что это такое. Я лихорадочно размышлял, пытаясь сообразить, что сказать писателю. В чем состоит мое задание? Шпионить за Хемингуэем, конечно. Выяснить, зачем он затеял свое дурацкое „Хитрое дело“, доложить директору через Дельгадо и ждать дальнейших распоряжений. Предполагалось, что я буду играть роль консультанта, специалиста по контрразведке. Но обязан ли я снабжать Хемингуэя и его команду достоверными сведениями? Об этом мне ничего не говорили. Очевидно, никому и в голову не приходило, что „Хитрое дело“ столкнется с настоящим заговором. – Это немецкий шифровальный блокнот, – сказал я. – Такими пользуются в Абвере. Здесь два типа решеток, и ключом к обоим являются книги. Первый тип базируется на первом слове или фразе из книги, которую имеют как отправитель, так и адресат. Второй тип базируется на первых двадцати шести буквах той страницы книги, которая используется в данный день. Текст на первой странице – это, вероятно, самое свежее сообщение, которое он либо получил, либо собирался отправить. – И что же в нем написано? – спросил Хемингуэй, взяв блокнот и мрачно взирая на него. – Похоже на простейший шифр с подстановкой букв. – Шифр несложный, – ответил я, – но его практически невозможно разгадать, не зная, какая книга является ключом. Вдобавок это не просто подстановка букв. Немецкие разведчики отправляют свои сообщения группами по пять символов. Каждая буква представляет свой порядковый номер в алфавите. – Как это? – Хемингуэй нахмурился. – Допустим, буква „к“ означает ноль, – сказал я. – А ноль, в свою очередь – другую букву. Например, „е“. – Вот как? – Иными словами, вот эта группа… – я указал на /v-ee-1-b/, – означает одиннадцать тысяч пятьсот семнадцать. Хемингуэй покачал головой. – Книг с таким количеством страниц не существует. – Верно, – ответил я. – Следовательно, это не страничный шифр. Некоторые из групп – фальшивые. Каждая последующая передача использует новую страницу. Как правило, ключевое слово шифра – первое на используемой странице книги. – Какой книги? – спросил Хемингуэй. Я пожал плечами. – Любой. Ее могут менять еженедельно либо помесячно. Для разных типов сообщений могут использовать разные книги. Хемингуэй взял блокнот и пролистал его пустые страницы. – Многих страниц не хватает. Где они? – Их уничтожают после каждой передачи, – объяснил я. – Чаще всего сжигают. Хемингуэй посмотрел на труп с таким выражением, как будто собирался допросить мертвеца. – В его удостоверении записано, что он радист. – Радист первого класса, – добавил я. – „Южный крест“, – сказал Хемингуэй, засовывая блокнот в карман рубашки. – Используют ли немецкие агенты этот код для связи с субмаринами? – Иногда, – ответил я. – Может ли книга или книги, используемые в качестве ключа, находиться на яхте? – Вполне, – сказал я. – Кохлер должен был иметь их под рукой для расшифровки. Скорее всего, это обычная, общедоступная книга. Из тех, которые часто встретишь в каюте моряка. Если в этом деле замешан весь экипаж, Кохлер мог хранить ее даже в радиорубке. – Я посмотрел на тело. Глаза мертвеца начали стекленеть. – А может быть, лейтенант Мальдонадо забрал книгу после того, как совершил убийство. Хемингуэй повернулся к двери. – Давай увезем отсюда девку, пока не заявился Мальдонадо с дружками и не прикончил ее. Мы возвращались на ферму в темноте. Всю дорогу Мария без умолку трещала по-испански. Урчание мощного двигателя „Линкольна“ убаюкивало меня, но я заставил себя размышлять, пытаясь осознать случившееся, и вполуха прислушивался к нервной болтовне девицы и вопросам, которые время от времени задавал Хемингуэй. Все это казалось мне чем-то вроде мелодрамы. Радист той самой роскошной яхты, которую мы видели рядом с немецкой подлодкой, убит лейтенантом Национальной кубинской полиции с нелепой кличкой. Бешеный жеребец – надо же было такое придумать! Однако шифровальный блокнот был настоящим. Я уже видел такие в шпионских логовах, которые мы вычищали в Мексике и Колумбии. Непременный атрибут абверовского агента. Или, как говорят пунктуальные немцы, „Geheimas ruestungen fuer Vertowenslaute“, „секретное оснащение тайного агента“. Если этот бедолага Мартин Кохлер – как бы его ни звали на самом деле – был настоящим разведчиком, особенно „Grossagenten“, „суперагентом“, его „секретное оснащение“ должно было включать руководство по сборке рации, шифр, снятый на микропленку; Библию либо другую массовую немецкую книгу, на которой базируется шифр; набор позывных, химикаты для изготовления и проявления невидимых чернил, а также солидную денежную сумму в дорожных чеках, золотых монетах, почтовых марках, а может быть, и то, и другое, и третье. Мелодрама. Однако мне уже доводилось видеть эти набившие оскомину предметы у погибших немецких шпионов. Но, вероятно, Мартин Кохлер был всего лишь радистом, согласившимся работать на немцев. Такое вполне могло быть. Но, в чем бы ни заключалась истина, шифровальный блокнот выглядел подлинным. В нем сохранилось сообщение – от Абвера к своему агенту, либо наоборот. Узнать это можно было, лишь отыскав книгу, которой Кохлер пользовался в качестве ключа. Тем временем Мария втолковывала Хемингуэю, что она приехала из маленькой деревушки Пальмарито неподалеку от Ла Пруэбо, на противоположном конце острова, в нескольких часах ходьбы от Сантьяго де Куба, что ее старший брат Иисус пытался предпринять по отношению к ней развратные действия, однако отец поверил не ее правдивому рассказу, а лжи брата и выгнал ее, пригрозив отрезать нос или уши, если она осмелится вернуться – и обязательно сделал бы это, поскольку считается самым буйным жителем Пальмарито, – так что она взяла все свои деньги и добралась до Гаваны, где ее приютила сеньорита Леопольдина, пообещав, что она будет встречаться лишь с несколькими клиентами в неделю – теми, кто согласен платить за ее невинность, но теперь, вздумай она вернуться домой, ее убьет отец, а если останется в Гаване, ее прикончит Бешеный жеребец, и даже если она спрячется, национальная полиция Кубы либо отец или брат выследят ее и отрежут нос и уши, а потом убьют… Я испытал громадное облегчение, когда в свете фар „Линкольна“ промелькнули ворота финки. Хемингуэй заглушил двигатель и проехал остаток пути по инерции, чтобы не разбудить жену. – Забирай Дикарку к себе во флигель, Лукас, – велел он. – Ложись спать. На рассвете мы отправимся в порт осмотреть яхту. „Дикарку?“ – подумал я и спросил: – Вы хотите, чтобы мы жили во флигеле вдвоем? – Лишь на несколько часов, – ответил Хемингуэй, обходя вокруг машины и распахивая дверцу перед Марией, словно это была кинозвезда, приехавшая в финку с визитом. – Утром мы подыщем для вас более спокойное место. Мне совсем не хотелось нарушать свои планы из-за перепуганной шлюхи, но я кивнул, провел девицу по двору, под кронами пальм, с которых капала роса, и впустил ее во флигель. Когда я включил свет, она осмотрелась вокруг вытаращенными глазами. – Я заберу свои пожитки из спальни, – сказал я. – Располагайся там и спи. Я лягу здесь, на кушетке. – Я больше никогда не смогу уснуть, – отозвалась Мария. Она застенчиво посмотрела на кровать, потом повернулась ко мне. В ее темных глазах мелькнуло понимание. Она словно оценивала меня. – В этом доме есть ванная? – Ванна и душ, – ответил я и показал ей ванную комнату и полотенца. Потом я взял подушку, прикрывая ею пистолет, и, как мог, поправил постель, а пистолет сунул под куртку, пока Мария смотрела в другую сторону. – Я буду здесь, в соседней комнате. Не стесняйся, спи сколько хочешь. Как только рассветет, я уеду с сеньором Хемингуэем. Улегшись на кушетку и вглядываясь в предрассветные лучи солнца, я услышал, как зашумела вода в ванной, захлопали полотенца. До меня донеслись приглушенные восклицания – должно быть, девица впервые в жизни принимала душ. Я уже почти заснул, когда распахнулась дверь. Мария стояла в проеме, ее силуэт был очерчен тусклым светом из ванной, черные волосы влажно блестели. На ней не было ничего, кроме полотенца. Она уронила его на пол и с нарочитой стыдливостью опустила лицо. Мария Маркес была хороша собой. На ее худощавом крепком теле не осталось и следа того жирка, который бывает у детей. Ее кожа была такой же светлой, как у белых североамериканцев, груди – полнее, чем мне показалось вначале, хотя я видел ее в пропитанном кровью неглиже, и их коричневые соски действительно задирались кверху, именно так, как рисует воображение мальчишки-подростка. Волосы на ее лобке были такими же темными и густыми, как на голове, и на них блестели капли воды. Мария продолжала смотреть вниз, но ее ресницы трепетали, откровенно зазывая. – Сеньор Лукас, – чуть хриплым голосом заговорила она. – Меня зовут Джо, – сказал я. Она попыталась повторить, но это ей не удалось. – Тогда Хосе, – предложил я. – Хосе, я все еще боюсь. Я до сих пор слышу крики того человека. Нельзя ли… может быть, ты позволишь… Как-то раз, еще совсем маленьким, плавая на рыбацкой лодке моего дяди, я подслушал его разговор с сыном, который был лишь на год старше меня. „Луис, ты знаешь, почему на нашем языке проститутка называется „puta“?“ „Нет, папа, – ответил Луис. – Почему?“ „Оно произошло от древнего слова, из языка, которым пользовались матери наших матерей, старого языка, к которому восходят испанский, итальянский и многие другие, и это слово – „ри““. „„Ри“?“ – переспросил мой двоюродный брат Луис, не раз похвалявшийся передо мной своими походами в бордели. „„Ри“, – ответил дядя, – это древнее слово, означающее „гниение“. Запах гниения. Итальянцы называют шлюх „putta“. Португальцы, как и мы – „puta“. Французы – „putain“. Но все эти слова означают одно и то же – запах гнили и разложения. Запах проституток. Хорошие женщины пахнут морем и чистым утренним воздухом. Шлюхи воняют дохлой рыбой. Это пахнет мертвое семя в безжизненной утробе шлюхи“. За пятнадцать последних лет я по долгу службы имел дело со многими проститутками. Некоторые из них даже нравились мне. Но я не спал ни с одной. И вот теперь Мария Маркес стоит обнаженная в тусклом свете, ее глаза опущены долу, а соски вызывающе торчат. – Я хотела сказать, – говорила тем временем она, – что боюсь спать одна, Хосе. Если бы ты лег со мной, обнял меня, пока я не усну… Я встал с постели и подошел к ней. Когда я оказался на расстоянии вытянутой руки, она подняла лицо. Ее темные глаза сверкали. Я поднял полотенце и прикрыл им ее живот и грудь. – Вытирайся, – велел я, – и попробуй уснуть, если сможешь. Я уже ухожу.* * *
Мы с Хемингуэем стояли на склоне холма, упираясь локтями о крышу „Линкольна“, чтобы держать бинокли неподвижно, и рассматривали „Южный крест“, которого коснулись первые солнечные лучи. Яхта была не правдоподобно длинной, размером с футбольное поле, но узкой в поперечнике; ее мостик с мягким изгибом наклонялся назад, тиковые палубы сверкали, в стеклах множества прямоугольных иллюминаторов отраженным светом пылала тропическая заря. Судно не было пришвартовано ни к причалам гаванского яхт-клуба, ни к частным пирсам, а бросило якорь в заливе у самого выхода в открытое море. Чтобы ставить там корабли, требовалось особое разрешение портовой администрации. Писатель опустил бинокль. – Огромная сукина дочь, правда? Я продолжал рассматривать яхту. Судя по скоплению радиоантенн позади мостика, она располагала великолепной связной аппаратурой. Где-то там находилась и радиорубка. На яхте явно поддерживался военно-морской порядок. Два офицера в синих мундирах вышли на палубу подышать свежим воздухом, который принес утренний бриз. Вахту несли шесть наблюдателей – по два на каждом борту и по одному на носу и корме. Словно этого было недостаточно, вокруг яхты, мягко урча двигателем, медленно описывал круги катер. Помимо рулевого, в нем находились два здоровенных парня в холщовых робах, сидевшие у кормы, следя за каждым движением в порту. У них, как и у шестерых наблюдателей на яхте, имелись мощные морские бинокли. Хемингуэй остановил машину под деревьями, росшими на холме, позади невысокой каменной стены, заняв позицию, где линзы наших биноклей не отражали солнечные лучи, а сами мы выглядели тенями рядом с едва заметным автомобилем. – Когда мы вернулись домой, Марта не спала, – сказал Хемингуэй, вновь поднося к глазам полевой бинокль. Я посмотрел на него. Быть может, хозяйка поместья сделала ему выговор за то, что мы ее разбудили, и Хемингуэй решил, что я тоже заслуживаю упрека? Я вдруг понял, что Марта Геллхорн не нравится мне. Хемингуэй опустил бинокль и улыбнулся мне. – Я помог Марте окончательно проснуться, употребил ее пару раз, чтобы хорошо начать день. Наверное, меня воодушевила поездка в бордель. Я кивнул и вновь повернулся в сторону яхты. „Употребил“. Господи, как же я ненавидел эти „мужские“ откровения. Словно в ответ на мои мысли, из каюты в средней части яхты появились высокий лысый мужчина в темно-синем халате и такая же высокая светловолосая женщина в белом. Они остановились на освещенной стороне надстройки, глядя на оранжевый диск солнца. Мужчина сказал что-то одному из наблюдателей, стоявших по этому борту, и тот, прикоснувшись к козырьку фуражки, подозвал своего напарника, и они спустили с правого борта веревочный трап с деревянными перекладинами. Затем оба вновь отдали честь и пропали из виду. Мужчина в синем халате внимательно оглядел мостик и надстройку, словно желая убедиться, что оттуда никто не смотрит, после чего заговорил с женщиной, которая, не глядя на него, сбросила белый халат на палубу. Под ним ничего не было. Солнце вызолотило кожу женщины – части тела, которые обычно прикрыты бельем, у нее оказались такими же загорелыми, как все остальное, – и даже на расстоянии сотен метров я видел, что у нее розовые соски. Она была крашеной блондинкой. Женщина шагнула в проем бортового ограждения, но вместо того, чтобы спуститься по трапу, она замерла на мгновение и мастерски, изящно прыгнула и вошла в воду, почти не подняв брызг над спокойной блестящей гладью залива. Я решил, что мужчина последует ее примеру, но он подошел к ограждению, вынул из кармана серебряный портсигар, щелкнул им, как делают только актеры в кинофильмах, и раскурил сигарету при помощи зажигалки, которую достал из того же кармана. Он стоял и курил, а женщина вынырнула в десяти метрах от яхты и поплыла размеренными гребками. Над водой то и дело мелькали ее длинные загорелые ноги и чуть более светлые ягодицы. При каждом движении рук мы отчетливо видели ее впалый белый живот, пупок и волосы на лобке. За один день я увидел больше голых женщин, чем за предыдущие шесть месяцев. А ведь солнце только-только поднялось над горизонтом. Прошло ровно десять минут, женщина подплыла к трапу и, ничуть не стесняясь, поднялась на палубу. Мужчина набросил ей на плечи белый халат, и они скрылись в ближайшем люке. Мгновение спустя наблюдатели правого борта вернулись на свой пост и вновь принялись осматривать море сквозь бинокли. Они не обмолвились ни словом; я не заметил на их лицах усмешек. Хемингуэй положил бинокль на капот „Линкольна“. – Очень любопытно. Я осмотрел палубу. Впереди и позади главной надстройки под брезентами стояли ящики и контейнеры. На некоторых ящиках виднелись карандашные надписи, но все они были повернуты под таким углом, что я не мог их прочесть. Куда больше меня заинтересовали металлические кронштейны с замысловатыми скобами, установленные в нескольких местах вдоль обоих бортов. Я обратил на них внимание Хемингуэя. – Орудийные крепления? – спросил он. – Кажется, пулеметные, – сказал я, хотя ничуть не сомневался в этом. Однажды я плавал на мексиканском катере береговой охраны с такими же кронштейнами. – Для пулеметов пятидесятого калибра. – Шесть штук, – заметил Хемингуэй. – Разве на частной яхте может быть шесть крупнокалиберных пулеметов? – Либо один пулемет и шесть позиций для его установки, – ответил я. Хемингуэй вновь опустил бинокль. Его лицо приняло то же серьезное выражение с плотно сжатыми губами, как при виде трупа в публичном доме. Я разделял его тревогу. Пулемет пятидесятого калибра – страшная штука. Даже на такой дистанции ничто не смогло бы уберечь нас от массивной сверхскоростной пули – даже огромный „Линкольн“. Я ожидал, что Хемингуэй заведет разговор о своих пулеметных ранениях, полученных на Великой войне, но он негромко сказал: – Ты мой консультант, Лукас. Нельзя ли выяснить, какую книгу Кохлер использовал в качестве ключа для шифра? – Для этого кому-нибудь придется пробраться на яхту и посмотреть, что там и как. Но это нужно сделать до того, как полиция обыщет каюту Кохлера или кто-нибудь из обитателей судна унесет книгу. – Судя по всему, полицейские еще не были на яхте, – заметил Хемингуэй. – И, возможно, они не станут заниматься этим делом. – Это еще почему? – Если убийство совершили Бешеный жеребец и его дружки, вряд ли им захочется его расследовать. – Но они не нашли блокнот, – сказал я, похлопав по карману с блокнотом, который Хемингуэй передал мне по пути в город. – Ты думаешь, Мальдонадо искал именно его? – спросил Хемингуэй. – Понятия не имею. – Я вновь перевел взгляд на яхту. Матросы начали драить палубу. Было поздновато для приборки; на большинстве военных судов она завершается еще до того, как солнце полностью выйдет из-за горизонта. Но это был не военный корабль. А утреннее купание блондинки, вероятно, было самым обычным делом, когда яхта стояла на якоре. – Пожалуй, нам следует осмотреть рубку и каюту Кохлера, прежде чем там появится полиция. Я сегодня же все подготовлю. Посмотрим, на что способна наша организация. Что делать с книгой, если мы ее найдем? Выкрасть? – В этом нет нужды, – ответил я. – Прочтите название и фамилию автора. Это наверняка общедоступная книга. Хемингуэй улыбнулся. – Если мне удастся забросить своего агента на яхту, не хочешь ли ты оказаться этим агентом? Ты ведь должен владеть таким ремеслом. Я колебался. Было бы глупо подвергнуть себя опасности ареста, а то и чего-нибудь похуже, ведь сейчас речь шла не о пиротехнической атаке на соседскую ферму. Каковы бы ни были цели плавания „Южного креста“, экипаж яхты выглядел весьма внушительно, в действиях его членов чувствовалась военная жилка. Я очень хорошо представлял себе, какое выражение появится на лице Гувера, если кубинское отделение ФБР сообщит ему о том, что одного из агентов ОРС требуется выручить из гаванской тюрьмы… либо бедолагу выловили в порту после того, как крабы полакомились его глазами и мягкими частями тела. Тем не менее Хемингуэй предлагал типичное следственное мероприятие с применением противозаконных средств, и, кроме меня, в разношерстной контрразведывательной группе Хемингуэя наверняка не было ни одного человека, годного для такой работы. – Хорошо, – сказал я. – Я согласен, но только если вы предложите разумный план проникновения на борт яхты и ухода оттуда целым и невредимым. Хемингуэй положил бинокль на заднее сиденье „Линкольна“ и сел за руль. Я обошел автомобиль и занял пассажирское кресло. После восхода прошло уже почти полчаса, и в салоне огромной машины было жарко. – Я посвящу тебя в свой план за завтраком в „Перла де Сан-Франциско“, кафе Кайзера Гиллермо, – пообещал Хемингуэй. – Когда мы вернемся в финку, я раздам своим людям задания. Потом мы подыщем для Дикарки безопасное жилье, где за ней можно будет присматривать. А вечером, когда стемнеет, мы отправимся взглянуть, какие книги любил читать герр Кохлер. Как только мы въехали в Старую Гавану, залитую ярким утренним солнцем и источавшую вонь вчерашнего мусора, Хемингуэй затянул песню, которой его обучил старый друг, священник по имени дон Андрее. Он сказал, что посвящает эту песню „Южному кресту“ и всем, кто находится на его борту: „Мне не нравится место, где ты живешь, И мне не нравишься ты, И мне не нравится Твоя мать-шлюха“. Второй куплет в точности повторял первый, только по-английски: „No me gusta tu barrio No me gusta tu, No me gusta Tu puta madre“.Глава 11
Я думал, что не успею встретиться с Дельгадо, однако, выполняя поручения Хемингуэя, оказался тем вечером в Гаване и смог выкроить двадцать минут. За эти минуты я узнал чертовски много. Когда мы после плотного завтрака в кафе Кайзера Гиллермо вернулись в поместье, Мария сидела у бассейна в шортах и короткой майке, которые, судя по всему, ей одолжила Геллхорн, и читала „Лайф“, жуя резинку. Марта перехватила нас у задней двери главного дома и негромко спросила: – Сеньора Ночная бабочка надолго останется у нас, Эрнесто? Хемингуэй заулыбался. – Пожалуй, мы поселим ее во втором флигеле, – сказал он, махая Марии рукой поверх плеча жены. – В каком втором флигеле? – спросила Марта. – „Ла Вихия – Первый сорт“, – ответил Хемингуэй и, посмотрев на меня, добавил: – Может быть, герр Лукас и сам станет наведываться туда от случая к случаю. Это был маленький молокозавод, стоявший напротив финки Хемингуэя по ту сторону дороги. Прежде чем привести туда Марию, писатель показал его мне. Он сказал, что, когда переезжал сюда, этот завод еще работал и выпускал молоко в высоких бутылках с этикеткой „Ла Вихия – Первый сорт“. Год назад прежний владелец по имени Джулиан Родригес закрыл завод и продал его Хемингуэю. Хемингуэй и не думал использовать его по назначению – просто ему понравилась мысль завладеть всем, что находится на холме, кроме усадьбы Франка Стейнхарта, которую он твердо намеревался спалить в одном из своих ночных ракетных рейдов. – К тому же, – негромко добавил Хемингуэй по-испански, – у нас с Герардо Дуэнасом по ту сторону поля „gallera“, и лишние соседи нам ни к чему. Я понял его. „Gallera“ – это „петушья яма“, площадка для петушиных боев. Я отлично представлял себе, с каким удовольствием Хемингуэй овладевал наукой и искусством разведения бойцовых птиц, и еще легче мне было представить, как он, улыбаясь, следит за кровавым поединком и прислушивается к воплям зрителей. „Первый сорт“ оказался маленьким домиком рядом с опустевшим коровником завода, в двухстах метрах от усадьбы писателя. Предприятие было заброшено, но здесь по-прежнему пахло навозом. Коттедж, о котором говорил Хемингуэй, раньше служил жильем для сторожа – крохотная лачуга с двумя пустыми комнатами и камином. В пристройке на задах дома размещалась дровяная печь для приготовления пищи и водяной насос. Электричества здесь не было. Стены и полы оказались сравнительно чистыми, но углы были затянуты паутиной, а в камине, похоже, поселились крысы. Одна из оконных рам треснула, и дождь оставил пятна на потолке и западной стене большой комнаты. – Сегодня утром я пришлю сюда Рене, Хуана и еще пару ребят, пустьнаведут порядок в помещениях, – сказал Хемингуэй, почесывая щеку и со скрипом поворачивая из стороны в сторону дверь на провисших петлях. – Мы привезем сюда кое-какую мебель и маленький ящик для льда из старой кухни, пару кресел и две койки. – Зачем две койки? – спросил я. Хемингуэй скрестил на груди волосатые руки. – Дикарка не преувеличивает, утверждая, будто бы ее хотят убить. Если Мальдонадо отыщет ее, то, прежде чем убить, не только отрежет ей нос и уши. Ты знаешь, почему его зовут Бешеным жеребцом? – Наверное, это прозвище как-то отражает его психическое состояние? – устало отозвался я. Хемингуэй вновь почесал щеку. – Он здоровенный парень, и между ногами у него висит этакая штука, словно у коня. И он обожает пускать ее в ход, особенно с молодыми девицами. Мы не должны позволить ему найти Марию Маркес. Я подошел к камину и посмотрел на кучу мусора внутри. Я обдумывал планы на вечер. – А шлюхи из борделя не проболтаются? – спросил я. Мне еще не попадались проститутки, способные хранить тайну. Хемингуэй покачал головой. – Леопольдина ла Онеста вполне оправдывает свою фамилию. Она умеет держать слово. Она поклялась, что ее девчонки и она сама заявят, будто бы Мария сбежала, и никто не знает, куда. Леопольдина запугает их так, что они будут страшиться ее больше, чем Кубинской национальной полиции; я гарантирую, что ни одна из них даже словом не обмолвится о вчерашнем происшествии. Я презрительно фыркнул. – Судя по тому, что вы рассказали о лейтенанте Мальдонадо, он за считанные секунды развяжет язык любой шлюхе. – Возможно, – согласился писатель, – но уже час спустя после нашего визита Леоподьдина закрыла бордель и отослала всех девиц, которые что-либо знали, по их родным деревням и городам. Видишь ли, они работали нелегально. Полиции будет трудно их разыскать, да и вряд ли кто-нибудь станет этим заниматься. Убийство представляется совершенно заурядным… если не считать побега Марии. И если Бешеный жеребец или его босс, Свидетель Иеговы, заявятся сюда и спросят, известно ли нам что-нибудь… что ж, Марии в финке нет. – В финке ее нет, – сказал я. – Она в сотне шагов от усадьбы, в старом вонючем коровнике… – И ее день и ночь охраняет специалист по контрразведке и боевым искусствам, – закончил Хемингуэй. – Идите ко всем чертям, – отозвался я. – И тебе того же, – миролюбиво произнес писатель.* * *
Остаток утра и всю вторую половину дня приходили и уходили агенты „Хитрого дела“. Мария отправилась в „Первый сорт“ вместе с Хуаном и еще несколькими слугами, а мы с Хемингуэем освободили большой стол в гостиной флигеля, и к нему стекался сплошной поток разномастной публики. Люди. докладывали, получали приказы, спорили, выпивали, выдвигали предложения и исчезали, только чтобы появиться опять. Уинстон Гест провел там весь день, уходя только для того, чтобы разослать сообщения; также присутствовали Хуан Динабетия по прозвищу Синдбад-мореход, старший помощник Фуэнтес, Пэтчи Ибарлусия, отец дон Андрее Унтзайн, автор утренней песни Хемингуэя, Феликс Эрмула по кличке Кенгуру, друг Ибарлусии и еще один игрок хай-алай; носатый коротышка по имени Хосе Регидор, который изображал из себя крутого парня, но, на мой взгляд, свалился бы в кусты от первого же серьезного удара. Были здесь и доктор Сотолонго с братом Роберто, садовник Хемингуэя, который, по всей видимости, желал переговорить с хозяином об испанском петухе, которого он вырастил и обучил, а не о разведывательных операциях, а также с десяток других людей, в том числе портовые бродяги и официанты, с которыми я познакомился во время первой инспекции „Хитрого дела“, и несколько незнакомых мне лиц. Машины приезжали и уезжали с десяти утра, и к половине пятого во флигеле было по колено пустых пивных банок и полных пепельниц, но мне казалось, что полуоформившийея план Хемингуэя так же далек от завершения, как и в восемь часов утра. – Нам нужна схема яхты, – сказал я. – Без точных сведений о том, где находятся радиорубка и каюта Кохлера, вся наша затея – не более чем умственный онанизм. – Прошу тебя, Лукас, следи за своим языком, – отозвался Хемингуэй, обводя взглядом десяток всклокоченных пьяниц, докеров, моряков и священников, которые топтались вокруг стола, споря и хлебая пиво. – Среди нас дети. – Согласен целиком и полностью, – со вздохом произнес я. У меня разболелась голова. – Лукас, хочешь совершить доброе и нужное дело? Я посмотрел на писателя сквозь голубую пелену сигарного дыма. Хемингуэй не курил, но, по всей видимости, ничуть не возражал против того, что окружающие дымят напропалую. – Какое дело? – Мария хочет на несколько часов выехать в город. „Линкольн“ должен вернуться сюда к шести, чтобы мы могли отправить свои последние сообщения. Ты не можешь отвезти Марию и пригнать машину обратно? Хуан все еще выгребает грязь из „Первого сорта“. – Разумеется, – ответил я. – Я отвезу мисс Хемингуэй.* * *
Дельгадо ждал меня в явочном доме. На нем были тот же льняной костюм и рубашка, что прежде. Как только я вошел в полутемную комнату, он иронически улыбнулся. – Ты занятой человек, Лукас. – Да, – ответил я, – и у меня мало времени. Досье у вас с собой? – Я не ожидал, что Дельгадо принесет документы. За минувшие сутки мои сомнения в возможности столь быстрой доставки секретной информации переросли в твердое неверие. Дельгадо попросту пускал мне пыль в глаза и зазря тратил мое время. Дельгадо сунул руку в потрепанный портфель, который держал под столом, и вынул оттуда досье в розовой папке со штампом „О/К“. Папка была толщиной с телефонную книгу Чикаго. – Святой боже, – пробормотал я, тяжело опускаясь в кресло. Один взгляд на перечень документов подсказал мне, что на их чтение потребуется куда больше, чем двадцать минут: „Южный крест“/Говард Хьюджес/фонд „Викинг/Поль Фейос/Инга Арвад/Арвад: контакты с Германом Герингом/Адольфом Гитлером/Алексом Веннер-Греном (он же „Шведский сфинкс“)/ анализ контактов: Донован, Мерфи, Данн/Арвад/: записи прослушивания и их расшифровка, сексуальные связи с Джоном Ф. Кеннеди (Военно-морской флот США – Дивизион морской разведки, зарубежное отделение). – Святой боже, – повторил я. – Будь осторожен со своими запросами, Лукас, – сказал Дельгадо. – Придется взять папку с собой, – произнес я. – Прочту позже. Дельгадо фыркнул. – Ты ведь знаешь, что это невозможно, – сказал он. – Папку нужно вернуть в Вашингтон к полуночи. Я потер подбородок и посмотрел на часы. Через двадцать минут я должен был пригнать „Линкольн“ в поместье. Будь все трижды и четырежды проклято. Я открыл папку и начал просматривать страницы. „Южный крест“. Длина девяносто шесть метров. Крупнейшее частное судно в мире. Зарегистрировано в США. Переоборудовано по особому заказу бывшего владельца Говарда Хьюджеса (тут же ссылка на полное досье Хьюджеса). Я читал его досье – это был поистине энциклопедический труд. Миллионер, авиатор и изобретатель, Говард Хьюджес пользовался широкой известностью. Он был для директора Гувера костью поперек горла – состоятельный человек, участник полудюжины сверхсекретных армейских проектов США, чудак и оригинал, всегда готовый пойти на риск. Правительство сохраняло за ним допуск к государственным тайнам, привлекало ко все более важным военным программам и в то же время удваивало и утраивало усилия по слежке и наблюдению за ним. Я бы не удивился, узнав, что Гувер видит его в ночных кошмарах по меньшей мере раз в неделю. То, что Хьюджес владел „Южным крестом“ и переоборудовал его, вызывало подозрения, однако еще более подозрительной казалась продажа яхты Алексу Веннер-Грену. Этот человек также был мне знаком. Алекс Веннер-Грен являлся одним из богатейших людей планеты и, как полагали ФБР, BMP, OPC и все прочие спецслужбы Западного полушария, нацистским шпионом. В контрразведывательных кругах Веннер-Грена именовали „Шведским сфинксом“. Этот миллионер основал фирму „Электролюкс“ и был крупнейшим держателем акций оружейной корпорации „Бофорс“. Насколько я знал, информация о контактах Веннер-Грена с советниками Гитлера и немецкой разведкой занимала отдельное досье, превышавшее размерами личное дело Говарда Хьюджеса. Последние несколько лет шведский промышленник находился в сфере моих интересов, связанных с деятельностью OPC в Мексике и Латинской Америке. В начале войны между Германией и Англией Веннер-Грен открыл на Багамах собственный банк и стал близким другом виндзорского герцога, который доверял ему до такой степени, что сделал его своим личным банкиром. Согласно моим данным, Стефенсон и его ближайший помощник Ян Флеминг считали герцога предателем и установили за Веннер-Греном непрерывную слежку, подозревая его в том, что он служит главным связующим звеном между английским аристократом и нацистской Германией. Полгода назад, в ту неделю, когда произошла трагедия Пирл-Харбора, правительство США занесло Веннер-Грена в черный список, отказав ему в выдаче визы для въезда на территорию Штатов. Мультимиллионер переместил центр своих операций в Мексику, и моя группа ОРС вскрыла его связи с абверовскими агентами, действовавшими в этой стране. В частности, мы установили, что он финансировал попытку свержения нынешнего президента Мексики. Приобретя прошлой осенью у Говарда Хьюджеса „Южный крест“, Алекс Веннер-Грен продолжил модификацию яхты – оборудовал ее сложной коротковолновой радиостанцией, увеличил объем топливных баков для сверхдальних рейсов, вооружил крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетами и погрузил на борт полторы сотни винтовок, после чего подарил ее доктору Полю Фейосу и фонду „Викинг“. Это имя ничего мне не говорило. Фейос родился в 1896 году в Венгрии, во время Первой мировой войны служил в кавалерии, летал на аэропланах и получил медицинскую степень. Прежде чем принять в 1929 году американское гражданство, он снимался в венгерских фильмах, участвовал в театральных постановках и пел в опере. Разочаровавшись в голливудской кинематографии, Фейос вернулся в Европу, чтобы снимать там фильмы для компании „Метро-Голдвин-Мейер“. В 1941 году он вновь оказался в Штатах и год спустя учредил в Нью-Йорке фонд „Викинг“, некоммерческую организацию, целью которой провозглашалось финансирование поисков инкских поселений, затерянных в перуанских джунглях. Фейос планировал снимать фильмы об этих экспедициях и продавать их на рынке, вопреки бесприбыльному статусу фонда. ФБР считало, что именно он финансирует немецкие разведывательные операции. Первым его вкладом в фонд была перестроенная 96-метровая яхта „Южный крест“, подаренная „Викингу“ Алексом Веннер-Греном прошлой зимой. Все это представляло определенный интерес, однако самым важным было то, что нынешнюю супругу доктора Фейоса звали Инга Арвад. – Святой боже, – пробормотал я в третий и последний раз. В папке содержались лишь копии отрывков из досье Арвад, но и эти выдержки насчитывали около полутора сотен страниц, напечатанных через один интервал. Я перелистал их, задерживаясь на фотокопиях расшифровок записей ЭН (электронного наблюдения), ТН (телефонного наблюдения) и ФН (физического наблюдения). Инга Арвад была и оставалась одной из женщин, привлекавших наиболее пристальное внимание спецслужб. Только сейчас я ощутил признаки явления, свидетелем которому бывал уже не раз. Несколько агентств по различным следам подбирались к одному и тому же объекту, и их пути скрещивались и пересекались – как, к примеру, в случае Арвад и „Южного креста“ – случайно и бессистемно. Донован и его будущий ОСС, равно как и моя ОРС, весьма серьезно интересовались Алексом Веннер-Греном. Стефенсона и Флеминга, очевидно, интересовали Веннер-Грен и „Южный крест“. Военно-морская разведка США пребывала в уверенности, что яхта была переоборудована для того, чтобы служить заправщиком немецких субмарин в Карибском бассейне, либо у побережья Южной Америки, либо в обоих этих регионах. ФБР буквально помешалось на Инге Арвад и прослеживало ее связи с яхтой и Веннер-Греном, и так далее. Жизнь Инги Арвад – даже те ее эпизоды, которые я выхватил из этого урезанного досье, – представлялась красочной, полной событий историей, которую Хемингуэй и ему подобные непременно пожелали бы вставить в свои выдуманные романы. История эта граничила с невероятным, невзирая на то, что Арвад исполнилось всего двадцать восемь лет, и в таком возрасте она попросту не успела бы совершить всего, что ей приписывали. Инга Мария Арвад родилась 6 октября 1913 года в Копенгагене. Это была красивая, не по летам развитая девочка, которая училась танцам и музицированию у лучших мастеров, а в шестнадцатилетнем возрасте была объявлена королевой красоты Дании. В том же году она участвовала в парижском конкурсе на звание „Мисс Европа“ и получила предложение работать в фешенебельном рекламном агентстве, но предпочла тайно выйти замуж за египетского дипломата. Тогда ей было семнадцать лет. Брак распался два года спустя. В досье было множество фотоснимков Арвад. На первом была изображена очень молодая и очень красивая блондинка, сидящая рядом с Гитлером на спортивной трибуне. Подпись на обратной стороне снимка гласила: „Инга Арвад и Адольф Гитлер, Берлинская Олимпиада, 1936 год“. В сопроводительной записке указывалось, что после развода с египтянином Арвад снялась в норвежском фильме Фейоса, имела с ним связь, которая то разрывалась, то возобновлялась опять, после чего внезапно отправилась в Берлин в качестве корреспондента копенгагенской газеты. В досье не было никаких сведений о том, что она получила образование журналиста, но я уже не сомневался, что мисс Инга Арвад непременно добивается всего, чего бы ни пожелала. Далее следовала расшифровка стенограммы беседы Арвад с сотрудником ФБР, которая происходила лишь несколько месяцев назад, 12 декабря 1941 года. Арвад заявила, что ей было поручено брать интервью у высокопоставленных лиц Германии, в том числе у Адольфа Гитлера, Германа Геринга, Генриха Гиммлера и Йозефа Геббельса, и что она „действительно однажды побывала в ложе фюрера на стадионе в его присутствии“. По данным ФБР, относящимся к тому периоду времени, их связывали более тесные взаимоотношения; Арвад пригласили на закрытую церемонию свадьбы Геринга, где Гитлер выступал в качестве шафера. Гитлер называл Арвад „безупречным образчиком нордической красоты“ и умолял ее наносить ему визит всякий раз, когда она будет возвращаться в Берлин. Судя по всему, Арвад вняла его просьбам. Несмотря на то что она оставила работу „корреспондента“ накануне летней Олимпиады 1936 года – она вышла замуж за Фейоса, – Арвад была гостем в личной ложе Гитлера на Играх и свела близкую дружбу с Герингом и еще более близкую – с Рудольфом Гессом. В согласии с донесениями ФБР в последний раз она приехала в Берлин в 1940 году, и ее пригласили работать в германском министерстве пропаганды. В беседе от 12 декабря 1941 года Арвад заявила, будто бы она отвергла это предложение, однако вырезка из бюллетеня Международной службы новостей свидетельствует о том, что Гитлер все же „назначил ее шефом нацистской пропаганды в Дании“. В досье указывалось, что Арвад вышла замуж за Фейоса в 1936 году, однако и до, и после свадьбы была любовницей Алекса Веннер-Грена. Когда в 1940 году они с мужем переехали в США, ее любовник основал фонд „Викинг“ с официальным адресом в Делаваре и штаб-квартирой в Нью-Йорке. На нескольких следующих страницах приводились оценки мореходных качеств „Южного креста“, произведенные военно-морской разведкой, а также фотокопии эскизов яхты. Я извлек их из папки, сложил и сунул в карман. – Эй! – воскликнул Дельгадо, вскакивая со стула, на котором сидел верхом. – Верни чертежи на место! – Они мне нужны, – ответил я. – Если хотите, можете меня пристрелить. – Я бросил взгляд на часы – до отъезда в поместье оставалось пять минут – и приступил к последнему разделу. Досье Арвад целиком сохраняло актуальность и поныне, однако в заключительной части приводились самые свежие донесения, расшифровки телефонных переговоров и записей „жучков“, а также копии писем, снятые ФБР. Все эти материалы были посвящены романтической связи Инги Арвад с молодым офицером военно-морской разведки США лейтенантом Джоном Ф. Кеннеди. Из записей я понял, что речь идет об одном из сыновей Джозефа П. Кеннеди, миллионера и бывшего посла Штатов в Англии. В Бюро все знали, что Гувер – друг посла Кеннеди и снабжает ирландского патриарха секретными сведениями, которые могут ему пригодиться, – но также нам было известно, что Гувер не доверяет Кеннеди, считая его сторонником Германии, и имеет на бывшего посла солидное и непрерывно пополняемое досье под грифом „О/К“. В минувшем декабре, вскоре после Пирл-Харбора, когда любовница Веннер-Грена, она же „нордическая красавица“ Гитлера вступила во внебрачную связь с двадцатичетырехлетним лейтенантом Кеннеди, слежка за ней приобрела еще более широкий размах. Будучи офицером зарубежного дивизиона военно-морской разведки, Кеннеди имел допуск к совершенно секретным документам и ежедневно занимался расшифровкой передач иностранных радиостанций для различных бюллетеней и документов внутреннего пользования BMP. Начиная с декабря, контрразведка BMP и ФБР следили за развитием отношений Кеннеди и Арвад, подразумевая, что лейтенант является не только источником утечки сведений, но и активным участником шпионских операций нацистов. Было очевидно, что в процессе слежки ФБР осуществляет перлюстрацию, подслушивание телефонных переговоров и физическое наблюдение, а также опрашивает всех, чьи пути каким-либо образом пересекаются с Кеннеди – от младших сестер, познакомивших его с Арвад в редакции газеты, в которой они работали, до почтальонов, швейцаров и портье отелей и квартир, в которых парочка устраивала свои греховные свидания. 12 декабря 1941 года. В служебной записке Гуверу указывается, что Фрэнк Уолдроп, редактор „Вашингтон Тайме Геральд“, связался со старшим агентом вашингтонского отделения ФБР и сообщил ему о разговоре, в котором мисс П. Хайдкопер, журналистка его издания, сказала своей коллеге мисс Кэтлин Кеннеди, будто бы их общая знакомая Инга Арвад, обозреватель газеты „Тайме Геральд“, почти наверняка является агентом одной из зарубежных стран. Записка озаглавлена „Миссис Поль Фейос, она же Инга Арвад“. Поскольку Гувер вел конфиденциальное досье на Арвад с ноября 1940 года, когда она и ее муж приехали в Штаты, эта новость ничуть не удивила его. 14 декабря 1941 года. За квартирой Арвад по адресу Шестнадцатая улица, 1600, № 505 установлено полномасштабное наблюдение. В тот день доктор Фейос покинул страну, направляясь в Перу для работы над своим загадочным проектом „Викинг“, и к Арвад приехал ее тайный любовник, который провел в спальне замужней женщины две ночи подряд. По сообщению агентов слежки, это был морской офицер США, одетый в „серое пальто с рукавами покроя „реглан“ и серые твидовые брюки. Он не носит шляпу, его светлые вьющиеся волосы всегда всклокочены… удалось выяснить только его имя – Джек“. За двадцать четыре часа морская контрразведка установила личность „Джека“. Им оказался Джон Ф. Кеннеди, сын посла Кеннеди, лейтенант BMP, прикомандированный к вашингтонской штаб-квартире военно-морской разведки. Однако ФБР все еще действует вслепую. Досье начинается с перехвата разговоров между Кеннеди и Арвад, „безупречным образчиком нордической красоты“. 1 января 1942 года – телеграмма, отправленная Кеннеди в Нью-Йорк Инге Арвад: САМОЛЕТЫ НЕ ЛЕТАЮТ, СМОГУ ПРИЕХАТЬ НЕ РАНЬШЕ 11.30 ПОЕЗДОМ. СОВЕТУЮ ТЕБЕ ОТПРАВИТЬСЯ В ПОСТЕЛЬ, НО ЕСЛИ ПРИЕДЕШЬ, КУПИ ТЕРМОС И ПРИГОТОВЬ ДЛЯ МЕНЯ СУП. КТО ЕЩЕ ОБО МНЕ ПОЗАБОТИТСЯ, ЕСЛИ НЕ ТЫ? С ЛЮБОВЬЮ ДЖЕК. В тот же первый день нового года специальный агент ФБР Хардисон признался, что все попытки выяснить имя предполагаемого агента, который скрывается под кодовой кличкой Джек, оказались „совершенно непродуктивными“, и что Бюро тем не менее продолжает работу. Тем временем, как видно из материалов досье, BMP забила тревогу. На межведомственном совещании 31 декабря были представлены записи беседы заместителя директора BMP капитана Клингмана и высших чинов ФБР Тамма и Лэдда „касательно сына посла Кеннеди, который, по имеющимся сведениям, намерен вступить в брак с женщиной, собирающейся развестись со своим нынешним мужем“. В пояснительной записке Гуверу Лэдд сообщает: „Капитан Клингман заявил, что этот парень состоит у них на службе и что он хотел бы подробнее ознакомиться с обстоятельствами…“ Таким образом, пока специальный агент Хардисон и его люди пытались установить настоящее имя новогоднего любовника Инги Арвад, директор Гувер лично выяснял то же самое по телефону. Он оставил запись: „Капитан Клингман пообещал уладить это дело должным образом“. 9 января 1942 года. Копия обращения начальника штаба военно-морских операций к Бюро навигации с требованием „немедленно перевести лейтенанта Джозефа Ф. Кеннеди в Вашингтон, округ Колумбия“. Разумеется, он имел в виду Джона Кеннеди. Как следует из отдельного донесения BMP, Бюро не предприняло никаких действий. Наблюдение за женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Германии, и ее любовником из разведслужбы продолжалось и становилось все более интенсивным. 11 января 1942 года. Копия перехваченного письма доктора Поля Фейоса, руководителя экспедиционной группы фонда „Викинг“, учрежденного Алексом Веннер-Греном, к своей жене Инге Арвад: „Дорогая, порой вы изъясняетесь туманнее ветхозаветных пророков. Вы пишете, что, будь вам восемнадцать лет, вы вышли бы замуж за Джека. Полагаю, речь идет о Джеке Кеннеди. Затем вы добавляете: „но, возможно, я выбрала бы не его, а вас“. Что вы хотите этим сказать, мое ветреное дитя? Быть может, вы охладели к Джеку, либо он – к вам? Или в вас говорит чувство сострадания ко мне? Все, что угодно, только не это. Видите ли, милая, своими попытками проявить жалость вы доставили мне немало мучений и, если откровенно, с вашей стороны было бы намного гуманнее не делать этого. Мало-помалу я привыкну к тому, что вы для меня потеряны, моя боль уляжется (я надеюсь), и вам уже не будет необходимости сострадать мне, а значит, в конечном итоге быть жестокой ко мне, хотя и невольно. Тем не менее я хотел бы сказать вам кое-что о Джеке. Прежде чем ваши отношения перейдут в новое качество и вы сожжете мосты, подумайте – что, если это не понравится отцу или семье мальчика?“ Я бросил чтение и посмотрел на часы. Настало время уезжать. Однако мне оставалось просмотреть лишь несколько страниц и фотографий, и я решил, что Хемингуэй может потерпеть несколько минут. Зачем старой развалине Фейосу понадобилось писать жене эту слезливую чепуху? Я вновь вернулся к фотографии Арвад. Короткие волнистые светлые волосы. Подведенные карандашом брови. Полные губы. Правильные черты лица. Да, она красивая женщина, но вряд ли из-за нее стоит так унижаться. Да и какая женщина заслуживает такого? Я еще несколько секунд смотрел на снимок. Арвад никак не могла оказаться той женщиной, которая утром купалась в море нагишом, хотя они были похожи, словно сестры. Инга Арвад выглядела натуральной блондинкой. Я пролистал последние двадцать страниц досье. 12 января 1941 года. Пока контрразведывательная служба ФБР продолжает попытки раскрыть тайну личности связного Арвад „по кличке Джек“, одновременно в нескольких газетах появляется заметка светского хроникера Уолтера Уинчера, в которой он пишет: „Один из сыновей бывшего посла Кеннеди стал объектом привязанности некой девицы-репортера – привязанности столь сильной, что она консультируется с адвокатом по поводу развода со своим путешествующим мужем. Папаша Кеннеди против“. 13 января 1942 года. Лейтенанта Джона Ф. Кеннеди переводят из Вашингтона на военно-морскую базу в Чарльстоне, Южная Каролина. 19 января 1942 года. Доклад специального агента Хардисона: „По точно установленным данным, лейтенант, известный под кличкой „Джек“, провел ночи 16, 17 и 18 января с объектом Арвад на ее квартире. Бюро продолжает круглосуточное наблюдение. По мнению агента Хардисона, „Джек“ живет неподалеку от квартиры объекта, и, проведя с ней ночь, отправляется в свою собственную квартиру, переодевается в форму и возвращается на квартиру объекта завтракать“. 19 января 1942 года. Агенты наблюдения BMP подтверждают, что, перед тем как приступить к службе на новом месте, лейтенант Джек Кеннеди вылетел из Вашингтона во Флориду навестить своего отца. 19 января 1942 года. Перехваченное письмо Инги Арвад Джеку Кеннеди, направленное по его новому адресу на морской базе в Чарльстоне: „19 января – сегодня я впервые в жизни почувствовала себя такой одинокой, словно кроме меня в Вашингтоне нет ни души. Я люблю тебя – я уверена в этом, ничего с этим не могу поделать и тем не менее совершенно счастлива. Только теперь я начинаю по-настоящему понимать себя саму“. 24 – 25 января 1942 года. Агент Хардисон и его великолепная команда „теряют“ Арвад и докладывают, что ее местонахождение неизвестно. Сопутствующее донесение BMP указывает, что Арвад дожидалась лейтенанта Кеннеди в Чарльстоне, пока тот вступал в должность на новом месте службы. 26 января 1942 года. Перехваченное письмо Арвад к Кеннеди: „Поезд все дальше отходил от вокзала Бостона… я спала как убитая. В полдень мы прибыли в столицу Соединенных Штатов – на ту самую Юнион-стейшн, куда я прибыла первого января 1942 года, радостная, как птичка, которая не ведает ни тревог, ни страха – только любовь… помнишь? „Вы уже подумываете о ребенке?“ – спросили меня сегодня. Догадайся, кто это был?“ Поток любовных писем не иссякает. Парочку окружает все больше агентов наблюдения и контр-наблюдения. Из материалов досье становится очевидно, что Гувер воспользовался делом Арвад, чтобы возобновить травлю полковника Донована и его КСК. Защищаясь, группа Донована установила контр-наблюдение за Арвад и толпой агентов ФБР и BMP, следивших за ней. В тот же день, 26 января, когда Арвад отправила письмо молодому Кеннеди, Гувер доложил генеральному прокурору США о „проводимых им следственных мероприятиях в отношении женщины, подозреваемой в шпионаже“. Свой доклад он закончил предположением, что Арвад, по всей видимости, „участвует в самых тонких и хорошо законспирированных разведывательных операциях против Соединенных Штатов“. 29 января 1942 года. Старший специальный агент, занявший место нерасторопного Хардисона, пишет, что „дело Арвад сулит перспективы, подобных которым я не встречал уже долгое время“. 4 февраля 1942 года. Директор службы надзора за гражданами стран противника, одного из отделов Департамента юстиции, требует от Гувера „предоставить всю имеющуюся у него информацию касательно миссис Инги Фейос, проживающей по адресу Шестнадцатая улица, 1600, Вашингтон, округ Колумбия, для решения вопроса о целесообразности выдачи ордера на ее арест от имени Президента“. Разумеется, Гувер не хочет, чтобы Арвад арестовали. Ее любовные связи с Веннер-Греном и одновременно с молодым Кеннеди давали директору ФБР карт-бланш на ведение открытой слежки за доброй половиной своих недругов в Вашингтоне. Расшифровка телефонных переговоров в конце января – начале февраля, записанных ФБР, занимает многие страницы: КЕННЕДИ: я хотел бы увидеться с тобой в Вашингтоне на той неделе… если, конечно, смогу освободиться. АРВАД: Я прилечу в Чарльстон, милый. Если это удобнее для тебя. КЕННЕДИ: Правда? Конечно, будет лучше, если ты приедешь сюда, но я не хочу заставлять тебя все время ездить ко мне, и в следующий раз сам отправлюсь в Вашингтон. АРВАД: Джек, милый, я буду рада встретиться с тобой на полпути. Я готова встретиться с тобой где и когда ты пожелаешь. Если тебе удобнее поехать куда-нибудь еще, я не против. КЕННЕДИ: Нет, нет. Я сам еду в Вашингтон. Если я смогу вырваться к часу дня, то успею на самолет, а если мне придется работать, то освобожусь к шести вечера в воскресенье. АРВАД: Святой боже! Тебя заставляют трудиться по воскресеньям? КЕННЕДИ: Да. АРВАД: Когда ты уходишь в море? (на расшифровке – запись от руки: „попытка добыть секретную информацию?“) КЕННЕДИ: Не знаю. АРВАД: Но это будет скоро? КЕННЕДИ: Нет. АРВАД: А мне кажется, скоро. КЕННЕДИ: Нет. АРВАД: Ты уверен? КЕННЕДИ: Я же говорил, что предупрежу тебя. И так далее, страница за страницей. Старший агент анализирует эти записи, пытаясь выяснить, не происходил ли обмен важными сведениями между офицером морской разведки и германской шпионкой. Особый интерес вызвал у него загадочный разговор несколько дней спустя: АРВАД: Кажется, ты сказал, что Макдональд одевается лучше меня и я должна обратиться к ее портнихе? КЕННЕДИ: Не правда! Мне безразлично, что ты носишь, милая. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Лучше всего, когда на тебе вообще нет одежды. В долгом ночном разговоре по телефону в начале февраля Кеннеди поддразнивает Арвад, расспрашивая ее о „большой оргии“, которую, как ему рассказывали, она устроила в Нью-Йорке, но под конец выражает беспокойство относительно того, что думает о нем ее муж: КЕННЕДИ: Что еще сказал твой супруг? АРВАД: Он позволяет мне делать все, что я хочу. Говорит, что его очень опечалили мои похождения. Я расскажу тебе о них, и я клянусь, что мой муж не сделает нам ничего плохого и тебе нет нужды его бояться. Он не станет подавать на тебя в суд, хотя и знает, чем это могло бы кончиться для тебя. КЕННЕДИ:. Должно быть, он очень великодушен, если не хочет судиться со мной. АРВАД: Он настоящий джентльмен и прекрасный человек. КЕННЕДИ: Я не хотел тебя обидеть. АРВАД: Я не обижаюсь. Ты очень хочешь, чтобы я приехала к тебе на выходные? КЕННЕДИ: Я был бы счастлив. АРВАД: Я подумаю и дам тебе знать. До свидания, любимый. КЕННЕДИ: До свидания. Судя по всему, Арвад размышляла недолго. Они пробыли в чарльстоне ком отеле „Форт Самтер“ с 6 по 9 февраля, почти не покидая номер. Выдержка из донесения агента отделения ФБР в Саванне гласит: „17.45, пятница, 6 февраля 1942 года – лейтенант Кеннеди прибыл в отель „Самтер“ в черном „Бьюике“ с откидной крышей, модель 1940 года, номера штата Флорида, 6D951. Кеннеди вошел в номер Арвад и оставался там до полудня субботы, если не считать сорокаминутного посещения ресторана“. За исключением нескольких коротких перерывов – например, для воскресного похода в церковь – Кеннеди и Арвад оставались в постели до утра понедельника 9 февраля. В „Форт Самтере“ им предоставили номер, оборудованный для прослушивания, и группа электронного наблюдения упоминает в своем рапорте о „звуках интенсивного сексуального взаимодействия“. В конце февраля коварная Инга попыталась отделаться от людей Гувера, попросив Кеннеди снять для нее номер в отеле „Фрэнсис Марион“, однако агенты саваннского отделения ФБР заняли смежную комнату, а шесть агентов военно-морской службы безопасности подслушивали через противоположную стену. „Нами получены записи пространных бесед между объектом и лейтенантом Кеннеди в гостиничном номере, – указывает в своем донесении от 23 февраля специальный агент Рагглз. – Поднадзорная выражала тревогу в связи с возможной беременностью, которая могла наступить в результате двух предыдущих поездок в Чарльстон, и говорила о том, что ее нынешнее замужество следует прекратить. Лейтенант Кеннеди реагировал весьма сдержанно“. Очевидно, перспектива брака с двадцативосьмилетней женщиной отнюдь не радовала его. В этот момент, как это часто бывает, условия записи резко ухудшились. Судя по всему, Инга знала о десятках подслушивающих устройств ФБР и BMP и предприняла против них эффективные меры. В начале марта Гувер лично позвонил послу Кеннеди, объяснил, что отныне он и сам находится под наблюдением и что военно-морская служба безопасности вполне может арестовать его сына. Джо Кеннеди едва не свалился с инсультом. Был перехвачен телефонный разговор Кеннеди из его дома в Хайаннис-Порт с помощником директора BMP Джеймсом Форресталлом, в ходе которого посол умолял перевести его сына за границу. „Его могут убить в южно-тихоокеанском регионе, Джо“, – ответил Форресталл. „Уж лучше ему погибнуть, чем запутаться в сетях этой шлюхи Арвад“, – заявил Кеннеди. Потом Форресталл позвонил Гуверу. Директор ФБР порекомендовал перевести лейтенанта на новое место службы „по соображениям безопасности“. Было ясно, что Джо Кеннеди махнул рукой на своего младшего сына. Ходили слухи, будто бы он пестует старшего, проча его в президенты США. Несколько дней спустя Джон Ф. Кеннеди покинул страну.* * *
Досье заканчивалось докладом BMP о том, что судно „Южный крест“, принадлежащее Веннер-Грену и фонду „Викинг“, вышло из порта Нью-Йорка 8 апреля 1942 года. Агенты морской разведки следили за яхтой до 17 апреля, когда она заправлялась на Багамах. С той поры местопребывание и задачи таинственного судна остаются неизвестными. Я закрыл папку и отдал ее Дельгадо. – Верни чертежи, – сказал он. – Идите к черту, – ответил я. Дельгадо пожал плечами и искривил губы в насмешливой улыбке. – Тебе конец, Лукас. Я буду вынужден доложить, что ты без разрешения изъял из дела секретные материалы. – Докладывайте, – сказал я и двинулся к выходу. Я опаздывал уже на двадцать минут. – Лукас?.. Я остановился у двери. – Ты слышал об убийстве вчерашней ночью? – Кто убит? – Некий Кохлер, радист „Южного креста“, той самой яхты, которая так тебя интересует и чертежи которой ты только что забрал. Забавное совпадение, не правда ли? Я молча ждал. Дельгадо раскинулся в кресле и смотрел на меня вызывающим взглядом. Его щеки и грудь лоснились от пота. – Кто его убил? – спросил я наконец. Дельгадо пожал плечами. – По слухам, гаванская полиция ищет проститутку по имени Мария. Полагают, что именно она прикончила Кохлера. – Дельгадо вновь улыбнулся. – Но ты, разумеется, не знаешь, где искать проститутку по имени Мария, ведь правда, Лукас? Я внимательно присмотрелся к Дельгадо. До сих пор я не лгал ему в открытую. – Откуда мне знать, где она? – спросил я после секундной заминки. Он опять пожал плечами. Я повернулся, чтобы уйти, и вновь оглянулся на него. – Вы сказали, что вчера за мной следил человек из Кубинской национальной полиции. Уголки губ Дельгадо опять поползли кверху. – А ты и не заметил его, хотя он – здоровенный громила. – Как его зовут? – спросил я. Дельгадо почесал нос. В домике было очень жарко. – Мальдонадо, – сказал он. – Местные зовут его Бешеным жеребцом. И он действительно такой. – Какой? – Бешеный. Я кивнул, вышел на улицу и торопливо прошагал два квартала к „Линкольну“ Хемингуэя. Вокруг него суетились голые по пояс мальчишки, судя по всему, решая, что украсть и в каком порядке, но на вид машина казалась целой. – Проваливайте отсюда, – сказал я. Мальчишки бросились врассыпную и опять сгрудились кучкой, насмешливо отдавая мне честь двумя пальцами, приставленными к виску. Я смахнул пот с ресниц, завел двигатель огромной машины и с головоломной скоростью помчался к финке „Вихия“.Глава 12
Одетый в тяжелую брезентовую робу и каску, я стоял на палубе пожарного катера, который покачивался на якоре у самого устья порта Гаваны. Я болтал по-испански со своими спутниками, дожидаясь вспышки фейерверков. Время от времени я подносил к глазам бинокль и осматривал „Южный крест“, стоявший под пушками батареи Двенадцати апостолов. Яхта сияла огнями. Над обширным пространством темной воды разносились звуки фортепиано. Смеялись женщины. На носу, корме и у обоих бортов стояли наблюдатели. Катер описывал круги, идя наперерез каждому судну, входившему в порт или покидавшему его, и занимал позицию между ним и яхтой до тех пор, пока чужак не проплывал мимо и не исчезал из виду. После этого катер торопливо возвращался на патрульный курс, словно сторожевая собака, обученная ходить вокруг своего хозяина. Это была самая глупая операция из всех, в которых я когда-либо соглашался принять участие. Когда я после встречи с Дельгадо вернулся в усадьбу, моего опоздания не заметил никто. Хемингуэй и остальные – Гест, Ибарлусия, Синдбад, Роберто Геррера, дон Андрее, несколько портовых оборванцев – все еще сидели там с таким выражением на лицах, как будто кто-то умер. – В чем дело? – спросил я. Хемингуэй положил на стол мускулистые руки, потом протер глаза. – Наш план накрылся, Лукас, – сообщил он. – Не удается свести концы с концами? – У нас есть все проклятущие концы, – сказал Хемингуэй. – Кроме местоположения каюты Кохлера. Норберто разговаривал об убийстве с одним из членов экипажа, и тот сказал, что Кохлер жил в каюте рядом с ним, по соседству с кладовой кока, по направлению к корме. – Вот как? Весьма точное указание. Хемингуэй с жалостью посмотрел на меня, как на слабоумного. – Нам не удалось выяснить, где находится кладовая. Норберто, Хуан и еще пара ребят из порта думали, что сумеют сегодня побывать на яхте и сориентироваться, но туда никого не пускают, даже полицию. Чтобы допросить капитана об убийстве, гаванские легавые вызвали его в город. – Отлично, – сказал я. – Это значит, что Мальдонадо еще не раздобыл книгу. Хемингуэй покачал головой. – За те несколько минут, которые сулит наш план, яхту не обыщешь. Не зная расположения каюты Кохлера, ты лишь попусту потеряешь время. Ты сам сказал, что книга, скорее всего, хранится в каюте, а не в радиорубке. Но мы не знаем наверняка даже то, где находится рубка. Я кивнул, извлек чертежи яхты и расстелил их на столе. Хемингуэй посмотрел на них, вытаращив глаза, потом воззрился на меня и вновь перевел взгляд на бумаги. Остальные сгрудились вокруг. Мне показалось, что Уинстон Гест посмотрел на меня с уважением, к которому примешивалась подозрительность. – Осмелюсь спросить, где ты их взял? – произнес Хемингуэй. – Украл, – искренне ответил я. – Где вы их украли? – спросил Роберто Геррера. – Ведь это копии чертежей с судоверфи. – Это не имеет значения, – сказал я, пожимая плечами, и ткнул пальцем в маленький квадратик на изображении нижней палубы. – Вот кладовая камбуза. Она располагается двумя пролетами трапа ниже радиорубки, но точно под ней. Было бы разумно поселить Кохлера именно там. Вероятно, у него есть койка и в рубке. Удалось ли вам выяснить, есть ли на яхте второй радист? – Не было, – ответил дон Андрее. – Сегодня они отправят самолет за заменой. – В таком случае операцию следует произвести сегодня, – заметил я. Хемингуэй кивнул и провел ладонью по чертежам яхты, словно желая убедиться, что они существуют в реальности. – И еще одно, Лукас, – сказал он. – „Южный крест“ некоторое время не сможет отправиться в плавание. Перед входом в порт у них полетел подшипник главного вала одного из двигателей. Повреждены сам вал и зубчатая передача. Запчасти привезут из Штатов. – Значит, судно поставят в сухой док? – спросил я. Хемингуэй покачал головой. – Нет. Они попытаются отремонтировать яхту на верфи Касабланки. Я невольно улыбнулся. Американский посол только что снабдил Хемингуэя всем необходимым, чтобы отправить „Пилар“ на верфи Касабланки и переоборудовать ее под исследовательское судно. – Вот-вот, – сказал писатель, оскалив зубы в широкой ухмылке. – Как знать, вдруг два судна окажутся в одном доке. – Он жестом велел Гесту, Ибарлусии, мне и остальным приблизиться к столу. – Синдбад, сообщи ребятам, что сегодняшний замысел остается в силе. Волфер, ты добудешь боеприпасы. А мы с Пэтчи и Лукасом уточним планы.* * *
Когда я вернулся в „Первый сорт“, Марии там не оказалось. Про себя я уже начал называть эту лачугу „la casa perdida“ – „маленьким заброшенным домиком“. Люди Хемингуэя – слуга Рене, шофер Хуан и кто-то из горничных – потрудились на совесть, наводя порядок в хижине. Половицы были старательно подметены, камин вычищен и готов к работе, треснувшая оконная рама была заделана картоном, в маленькой комнате появились две койки с одеялами и подушками, как будто мы с Марией собирались спать здесь вдвоем. У камина стояли стол и два кресла. – Мария? – негромко позвал я. Может быть, она все-таки сбежала и отправилась домой в деревню, предпочитая разгневать отца и распутного братца, чем погибнуть от руки Бешеного жеребца. Так или иначе, ее судьба была мне безразлична. Снаружи доносился звук льющейся воды. Я вышел в дворик между хижиной и пустым коровником. Мария при помощи насоса наполняла оцинкованные ведра. Как только моя тень упала на нее, она испуганно подпрыгнула. – Я звал тебя. Мария качнула головой, и ее темные волосы изящно заколыхались. – Я не слышала, – сказала она по-испански, – насос очень шумит. – В доме есть другой насос, – сообщил я. – Он не работает, сеньор Лукас. Я хотела вымыть тарелки, которые нам одолжили. – Думаю, тарелки чистые, – сказал я. – И я уже говорил, что меня зовут Хосе. Мария пожала плечами: – Вам здесь нравится, сеньор Лукас? – Так себе, – ответил я. – Но теперь здесь чище, чем раньше. – А мне нравится, – сказала девушка. – Очень нравится. Я как будто вернулась домой. Я обвел взглядом крохотное строение, разбитое окно, насос на улице, дворик с голой землей. Здесь по-прежнему воняло навозом, но я подумал, что эта убогая лачуга действительно кажется ей родным домом. – Вот и славно, – сказал я. Мария приблизилась на шаг и пристально посмотрела на меня снизу вверх. Ее глаза блестели, губы были плотно сжаты. – Я не нравлюсь вам, Хосе Лукас. Почему? Я промолчал. Девушка чуть отодвинулась назад. – Я понравилась сеньору Папе. Он дал мне книгу. – Какую книгу? – спросил я. Мария внесла ведра в дом, взгромоздила их на лавку и подняла вафельное полотенце. Под ним лежали „По ком звонит колокол“ – такую же книгу Хемингуэй подписал для Ингрид Бергман – и маленький пистолет, который он „пытался всучить мне в первый вечер нашего знакомства. – Сеньор Папа сказал, что одна из героинь книги носит мое имя, – объяснила девушка. Я взял пистолет, вынул обойму и, увидев, что она заряжена, высыпал патроны в ладонь и спрятал в карман, после чегоположил оружие на лавку. – А он не сказал, для чего тебе эта штука? Мария вновь пожала плечами. – Сказал, что, если сюда заявится Бешеный жеребец, я должна бежать. Если не успею, должна отстреливаться. Но теперь я не смогу этого сделать, потому что вы забрали все патроны. – Казалось, она вот-вот заплачет. – Эти патроны только взбесили бы Бешеного жеребца, – ответил я. – Ты скорее ранила бы себя или кого-нибудь еще, чем застрелила лейтенанта Мальдонадо. Патроны останутся у меня. – Сеньор Папа будет недоволен… – Я поговорю с сеньором Папой. Читай свою книгу и забудь про пистолет. Мария надула губы, словно маленький ребенок: – Я не умею читать, сеньор Лукас. – Тогда пусти ее на растопку, когда будешь вечером разводить огонь в очаге. – С этими словами я ушел. Перед ночной забавой в гаванском порту у меня была масса дел.* * *
Забава должна была начаться через четверть часа после полуночи, но лишь в двадцать две минуты первого в порт с ревом ворвались пять суденышек флотилии Хемингуэя, разбрасывая по пути петарды и фейерверки. Я насчитал два скоростных катера и три рыболовные лодки – разумеется, „Пилар“ среди них не было, поскольку в операции участвовали только судна со стороны. Я увидел в бинокль, что их названия закрашены либо прикрыты небрежно наброшенными полотнищами парусины, и что все люди на лодках низко надвинули шляпы на глаза и притворяются пьяными. Они орали, перекликаясь друг с другом, а их лодки во весь опор мчались к ярко освещенной яхте, выписывая хмельные виражи. Я вновь навел бинокль на „Южный крест“. Наблюдатели кричали что-то, указывая на лодки. Из ходовой рубки вышел офицер и внимательно присмотрелся к флотилии. Один из наблюдателей ткнул пальцем в сторону пулеметной турели, но офицер покачал головой и вернулся в рубку. Секунду спустя он вышел на палубу вместе с лысым мужчиной, который утром сопровождал женщину во время купания. На нем был вечерний костюм, он курил сигарету в длинном черном мундштуке. Я опять посмотрел на флотилию. Патрульный катер пытался преградить им путь, но лодки рассыпались веером, и катеру оставалось лишь метаться от одного суденышка к другому – он был похож на человека, который хочет разом закатить на пригорок несколько камней. Я увидел в рубке катера двух матросов; они выставили напоказ автоматы Томпсона и с отчаянием оглядывались на яхту, дожидаясь указаний. Старший помощник, стоявший рядом с лысым мужчиной на палубе „Южного креста“, покачал головой и сделал запрещающий жест. Автоматы исчезли. Катер дал задний ход, приближаясь к яхте вплотную. На носу передовой рыбацкой лодки я заметил Хемингуэя. Его лицо едва виднелось под широкими полями соломенной шляпы, но я узнал могучий торс и массивные предплечья писателя. Стоявшие вокруг него люди хохотали и швыряли бутылки из-под виски в волны пролива, а флотилия тем временем проплывала между старыми фортами на холме и в городе. Кто-то запустил шутиху, и она взорвалась над „Южным крестом“. Офицер закричал в мегафон, требуя отвести лодки дальше, но его голос утонул в треске фейерверков и хлопках ракет. Один из катеров флотилии принялся на большой скорости описывать петли вокруг яхты, сохраняя дистанцию в пятьдесят ярдов и отвлекая на себя внимание наблюдателей и патрульных. В этот момент я заметил, как Хемингуэй зарядил ракетницу и прицелился в яхту. Люди на двух лодках запускали ракеты. Я рассмотрел в бинокль, что они пользуются бамбуковыми шестами. Казалось, стрельба ведется бессистемно, но чаще всего огненные шары вспыхивали над яхтой. Ярко-красный сноп огня полыхнул у самой ее кормы, и патрульный катер взревел мотором, спеша отогнать лодку от „Южного креста“. Хемингуэй запустил первую ракету. Ее парашют раскрылся за двадцать шагов до яхты, и она упала в воду, разбрызгивая искры и шипя. – Эй, будьте вы прокляты! – закричал лысый мужчина, стоявший на палубе. От возбуждения он выронил мундштук с сигаретой. – Прекратите, свиньи! – Его голос был едва слышен. Наш пожарный катер выдвинулся из-за заброшенного стапеля у мыса на городском берегу, мягко урча двигателем на низких оборотах. Я и восемь моих спутников замерли в напряженном ожидании. Ходовые огни катера были погашены. Хемингуэй вышел на нос лодки и запустил вторую ракету. Она загорелась над кормой яхты и перелетела через бортовое ограждение. Закричали наблюдатели. Патрульный катер отвернул от рыбацкой лодки, которую пытался отогнать, и, набирая ход, помчался к суденышку Хемингуэя. Кто-то выстрелил сигнальной ракетой прямо в мостик яхты. Старший помощник и лысый мужчина пригнулись. Пианино умолкло, на палубе появились мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях. Над носом яхты вспыхнули еще две белые ракеты, и офицер затолкал пассажиров обратно. Один из наблюдателей поднял автомат и сделал три предупреждающих выстрела в воздух. Не обращая внимания на выстрелы и шум вокруг, Хемингуэй стоял на носу лодки, дерзко двигавшейся навстречу патрульному катеру. Без труда сохраняя равновесие на палубе лодки, которую качала волна, он на несколько градусов приподнял дуло массивного пистолета. Казалось, все остальные на мгновение прекратили стрелять. Хемингуэй навел ракетницу, выдержал паузу и нажал спусковой крючок. Ракета прочертила в воздухе плавную ярко-красную дугу, ударилась в деревянный настил палубы у самого носа „Южного креста“, скользнула по ней, разгоняя наблюдателей и пассажиров, и исчезла под парусиновым тентом, туго натянутым над ящиками, стоявшими перед главной надстройкой. Через пять секунд над тентом вспыхнула ракета, запущенная с другой лодки. Из-под парусины вырвались языки пламени. Матросы патрульного катера открыли огонь по носу лодки Хемингуэя. Суденышки флотилии рассыпались в разных направлениях. Участники операции, выкрикивая испанские ругательства, начали забрасывать катер шутихами и фейерверками. Одна из моторных лодок поплыла к „Южному кресту“, вынудив патрульный катер броситься следом, и тут же на большой скорости свернула к западу. Наш катер набрал ход, и за кормой вскипел белый бурун. Вспыхнули ходовые и аварийные огни, поисковые прожекторы, взревели сирены. Хемингуэй заверил нас, что это настоящий пожарный катер, хотя он использовался лишь дважды – в 1932 году, когда в порту вспыхнуло грузовое судно, прогоревшее до ватерлинии, пока пожарные заливали его обугленный корпус из брандспойтов низкого давления, и год назад, когда кубинский военный корабль, перевозивший боеприпасы, взорвался в восьми милях от берега, и катер успел лишь выловить среди обломков тела погибших. Экипаж – восемь человек – состоял из добровольцев, друзей Хемингуэя, которые, вместо того чтобы упражняться в спасательном искусстве, пьянствовали и ловили с катера рыбу. Катер метнулся вперед. Ветер, смешанный с брызгами, едва не сорвал с меня каску. Луч прожектора-искателя пронизывал тьму над моей головой, освещая яхту дрожащим белым пятном. Патрульный катер попытался отогнать нас, но тут же свернул в сторону, как только рулевой увидел, что мы не намерены отворачивать или снижать скорость. Крики и проклятия преследовали нашу посудину на протяжении последних пятнадцати метров до яхты, а там нас встретили крики и ругательства с палубы. Пятеро моих спутников, не обращая внимания на шум и потоки воды из носовых пожарных брандспойтов, собрались на правом борту катера с кранцами и лестницами наготове. – Не приближаться! Не приближаться, черт побери! – кричал старший помощник. – No lo he entendido! – ответил наш рулевой, подводя катер вплотную к яхте. – Tenga la bondad de hablar espano! Трое „пожарных“ набросили крюки на бортовое ограждение яхты, еще двое подняли лестницы. Одна из них зацепилась, и мгновение спустя два человека вскарабкались по ней с топорами и шлангами в руках. – Прочь, мерзавцы! – закричал лысый мужчина, спеша навстречу одному из наших добровольцев. К несчастью для него, первым на яхту поднялся El Kanguro – Кенгуру, могучий игрок хай-алай. Внезапно лысый отлетел назад, а капитан нашей команды, настоящий пожарный, на ломаном английском велел офицерам, наблюдателям и пассажирам освободить дорогу. Он заявил, что в экстренных случаях экипаж муниципального пожарного катера гаванского порта имеет право действовать по собственному усмотрению, и потребовал, чтобы нам помогли закрепить на палубе шланги, которые мы подняли на борт. Огонь на носу почти погас, однако над палубой по-прежнему вился дым, закрывая надстройку. Матросы „Южного креста“ бежали сквозь черную дымную пелену с огнетушителями и топорами, срывая тлеющую парусину, обрубая привязные канаты и вытаскивая тяжелые ящики из очага возгорания. Я поднялся на яхту пятым и бросился вперед с топором в одной руке и фонариком в другой, остановился у люка радиорубки, дожидаясь, пока мимо пронесутся два вопящих матроса, и вошел внутрь. Радиостанция находилась за второй дверью. Она была открыта, в помещении царила темнота. Я отыскал рычаг пожарного извещателя – именно там, где указывала схема, – и опустил его вниз. Зазвенел пронзительный сигнал, отдаваясь эхом во внутренних помещениях яхты. Я обвел рубку лучом фонаря: коротковолновая рация, аппаратура связи с берегом, телеграф, голосовой передатчик. Еще никогда мне не доводилось видеть на гражданских судах столько электроники. На полке в углублении переборки стояло несколько книг. Я подошел поближе и высветил фонарем их названия. Стандартные справочники по радиосвязи и ремонтные пособия. Радиожурнал, который я быстро пролистал. Вряд ли Кохлер регистрировал в нем секретные переговоры. В коридоре за дверью послышался топот. Я выключил фонарь и затаился. Мимо промчались несколько офицеров и матросов. Открыв наружный люк, они с криками выскочили на главную палубу. Я вышел в дверь, свернул налево, спустился по трапу и еще раз повернул налево. Вентиляторы засасывали дым в коридор. В темноте по-прежнему звенели колокольчики извещателя. Я спустился по еще одному короткому трапу. Из-за угла вышла женщина, которая купалась в море нагишом. Ее глаза сверкали. На ней было длинное облегающее платье из шелка с глубоким вырезом на груди. На ее шее сверкала нить жемчуга. – Что вы здесь делаете? – осведомилась она. – Что происходит? – Пожар! – рявкнул я, опустив голову так, чтобы каска скрывала лицо, и указал в сторону трапа. – Идите на палубу! Немедленно! Женщина глубоко вздохнула, протиснулась мимо меня и поднялась по ступеням, цокая каблуками туфель. Я сосчитал люки. Третий – вход в камбуз. Пятый – в кладовую. Шестой – люк каюты Кохлера. Я открыл его и вошел внутрь, готовый поднять шум, если там кто-нибудь спит. Каюта оказалась тесной и пустой. Три койки, стол и полка в нише над столом. Здесь едва хватало места, чтобы развернуться. Пожарный сигнал умолк. Я услышал удары по корпусу. Вероятно, огонь был погашен, „пожарных“ прогнали с палубы и оттолкнули их катер от яхты. Я осветил фонариком книги. Всего семь названий, из них четыре – справочники по радиосвязи. Пятым оказался роман Ремарка „Три товарища“, шестым – экземпляр „Геополитики“ Хаусхофера, седьмым – антология германской литературы. Я пролистал все книги, убеждаясь в том, что они написаны по-немецки, запомнил даты издания, изучил карандашные пометки на различных страницах, и аккуратно поставил тома на место. Потом я вышел в коридор и взобрался по пожарному трапу. Поднявшись до уровня главной палубы и не встретив по пути ни одной живой души, я уже собирался свернуть направо в коридор, по которому пришел сюда, когда впереди послышались голоса и звук шагов. Я увидел тени людей с оружием в руках. Я припустил по коридору, свернул направо и, услышав крики за спиной, скользнул в люк правого борта, прочь от места возгорания. Задраив люк, я огляделся. Пожарный катер уже отвалил от яхты, дым рассеялся. Наблюдатели в любую секунду могли вернуться на пост. Подняв топор, я разбил лампочку над головой. Площадка, на которой я стоял, погрузилась в темноту. Я подошел к борту, перебрался через ограждение и, балансируя на узкой полосе палубы, сбросил в море топор, каску, фонарик, башмаки и тяжелый костюм. – Эй! – Кто-то приближался со стороны носа яхты, всматриваясь в мою едва различимую тень. Я прыгнул в воду в костюме аквалангиста, надетом под пожарной робой, глубоко нырнул, выплыл на поверхность в пятнадцати метрах от судна, опять окунулся и вновь вынырнул, оказавшись между двумя высокими волнами. Вода была холодная. На палубе воцарились шум и сумятица, но ни криков, ни выстрелов не было. Я опять ушел под воду, вынырнул за гребнем очередной волны и энергичными взмахами поплыл в темноту.Глава 13
– Сегодня вечером у нас ужинает Хельга Соннеман, – объявил Эрнест Хемингуэй. – Тебя тоже пригласили, если ты купишь себе новую рубашку. – Великолепно, – произнес я, не отрываясь от шифровального блокнота. – Тедди Шелл тоже приедет? – Разумеется, – ответил Хемингуэй. – Уж не думаешь ли ты, что Хельга отправится вечером в гости без Тедди? Я прекратил возиться с цифрами и поднял взгляд на писателя. – Вы серьезно? Или шутите? – Совершенно серьезно, – сказал Хемингуэй. – Меня представили Хельге сегодня утром, когда я приехал в посольство. Она сразу мне понравилась, и я пригласил их обоих. – Матерь божья, – сказал я. Хельгой Соннеман звали ту женщину, которая купалась обнаженной и с которой я едва не столкнулся в задымленном коридоре „Южного креста“. Ее приятеля-плейбоя звали Тедди Шеллом. Сейчас нам было известно о них намного больше, чем неделю назад, когда мы атаковали яхту на пожарном катере. – Ужин в восемь часов, – сообщил Хемингуэй. – Напитки подадут в половине седьмого. Как ты думаешь, не пригласить ли Дикарку? – Судя по лицу писателя, он от души забавлялся. Тедди Шелл, он же абверовский агент Теодор Шлегель, будет несказанно счастлив познакомиться с Марией. – Пожалуй, будет лучше приодеть ее и представить как влиятельную особу из Испании, – шутливо предложил я. – И посадить ее за стол бок о бок с человеком, который вместе со своими людьми охотится за ней по всей Кубе и, вероятнее всего, пристрелит, как только она отыщется. Хемингуэй усмехнулся, и я понял, что эта мысль уже приходила ему в голову и немало повеселила его. Он покачал головой. – Ничего не выйдет, – сказал он. – Это нарушит равновесие. Марта всегда старается приглашать одинаковое количество гостей обоего пола. Тедди Шелл, Хемингуэй и я – всего трое мужчин. Хельга Соннеман и Марта Геллхорн… – Кто же сегодня третья женщина? – спросил я. – Сегодня вечером нас посетит Фрау. – Какая фрау? Хемингуэй вновь покачал головой. – Фрау, Лукас. С большой буквы „ф“. Моя персональная Фрау. Я промолчал, а Хемингуэй не стал уточнять. Все выяснится вечером. После полуночного фейерверка в порту прошло уже восемь дней. Полиция Гаваны и портовый патруль начали было расследование, но члены экипажа пожарного катера заявили, будто бы их единственным стремлением было погасить огонь, а пьяные рыбаки и их лодки словно сквозь землю провалились. Вдобавок господин Тедди Шелл из Рио-де-Жанейро, тот самый человек, который крикнул „свинья!“, в беседе с местными властями и представителями США показал себя такой свиньей, что никто не рвался ему помогать. Чтобы добыть экземпляры книг, которые могли служить ключом к шифру, потребовалось больше времени, чем мы надеялись. Роман „Три товарища“ Ремарка был относительно свежим и пользовался такой популярностью, что уже на следующий день мы обнаружили его в одной из лавок Гаваны, торгующей немецкими книгами, однако поиски „Геополитики“ Хаусхофера и антологии германской литературы 1929 года затянулись надолго. В конце концов, спустя неделю после нашего спектакля, из Нью-Йорка по авиапочте пришел пакет с обеими книгами. – Я знал, что Макс не подведет, – заявил Хемингуэй. – Кто такой Макс? – Максвелл Перкинс, – ответил Хемингуэй. – Мой редактор в издательстве „Скрайбнерс“. Я имел лишь самые поверхностные понятия о том, чем занимаются редакторы, но был от души благодарен упомянутому представителю данной профессии за то, что он прочесал книжные магазины Нью-Йорка и отыскал книги, которые мы с Хемингуэем заказали ему по телеграфу. – Вот дерьмо, черт побери, – произнес Хемингуэй, читая записку, приложенную к пакету с книгами. – Что случилось? – Издательская компания „Гарден Сити“ хочет перепечатать Макомбера, и Макс намерен дать им разрешение. – Что такое макомбер? – осведомился я. – Одна из ваших книг? Хемингуэй уже привык к моему невежеству и посмотрел на меня без особого выражения. – „Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера“, – объяснил он. – Это мое произведение. Длинный рассказ. Вытянул из меня столько же сил и крови, как полноценный роман. В тридцать восьмом году я открыл им сборник своих рассказов. Книга не принесла денег ни мне, ни „Скрайбнерсу“, и вот теперь „Гарден Сити“ хочет перепечатать „Макомбера“ в дешевом издании ценой шестьдесят девять центов за штуку. – Это плохо? – Es malo, – ответил Хемингуэй. – Es bastande malo. Это значит, что мое произведение составит конкуренцию самому себе – и не только первоначальному изданию „Скрайбнерса“, но и изданию „Библиотеки современной литературы“, которое должно выйти в ближайшее время. „Eso es pesimo. Es“ чертовски „pesimo“. – Можно их взять? – спросил я. – Что? Что взять? – Немецкие книги, которые нужны мне для расшифровки. – А, – сказал Хемингуэй и сунул мне книги. Он скомкал письмо редактора и швырнул его в кусты. За бумажным шариком погнался кот.* * *
У „Хитрого дела“ выдались хлопотливые деньки. Как только майская жара сменилась нестерпимым летним зноем, „оперативники“ Хемингуэя начали следить за лейтенантом Мальдонадо, который охотился по всему острову за проституткой по имени Мария, подозреваемой в убийстве радиста яхты „Южный крест“. Я намекнул Хемингуэю, что слежка за человеком, который пользуется репутацией хладнокровного убийцы, служит в Национальной полиции и возглавляет поиски женщины, которую мы прячем неподалеку от усадьбы, – дело весьма рискованное, но писатель лишь посмотрел на меня и ничего не сказал. Некоторые из его агентов залегли на дно – они овладевали этим искусством в Испании и в других странах – до тех пор, пока не уляжется шум, вызванный нашим пиротехническим представлением. Портовые бродяги и рыбаки доложили Хемингуэю о том, что на яхту прибыл новый радист – он прилетел из Мексики, – однако повреждения подшипников и ведущего вала оказались более серьезными, чем предполагали сначала, и запасные части будут доставлены не раньше, чем через неделю. Пока „Южный крест“ стоял на якоре в гаванском порту, Хемингуэй и его старший помощник Фуэнтес отвели „Пилар“ в Касабланку. Фуэнтес остался следить за переоборудованием судна для разведывательных операций, а я съездил туда за Хемингуэем на „Линкольне“. На протяжении следующей недели мы регулярно получали донесения Фуэнтеса, который ежедневно появлялся на верфи и наблюдал за ходом работ. Оба двигателя „Пилар“ были перебраны по винтику и форсированы. На борту разместили дополнительные топливные баки для дальних плаваний. Представители военно-морского флота Кубы собирались оснастить яхту двумя съемными пулеметами 50-го калибра, однако американский советник, следивший за переоборудованием „Пилар“, согласился с Фуэнтесом в том, что крепления и сами орудия слишком тяжелы для 38-футового судна, поэтому они так и не были установлены. Вместо них плотники устроили потайные ниши и полки, в которых можно было прятать автоматы Томпсона, три базуки, два противотанковых ружья, несколько маленьких магнитных мин, запас динамитных зарядов, бикфордова шнура, капсюлей и несколько дюжин ручных гранат. От постороннего взгляда гранаты были скрыты хитроумными перегородками. Когда Гест сообщил нам об этих новшествах, Хемингуэй улыбнулся и сказал: – Если старушка загорится в море, у нас будут самые пышные похороны в традициях викингов, которые когда-либо видели Карибы. Военный флот США обеспечил нас новейшей радиоаппаратурой, в том числе оборудованием для пеленгации передач, ведущихся между берегом и морем, между кораблями и с подводных лодок. Определение координат передатчиков должно было вестись методом триангуляции совместно с береговыми базами флота и кораблями союзников в открытом море. Хемингуэй запротестовал, утверждая, что у него нет времени учиться пользоваться аппаратурой и обучать этому экипаж, и посол Браден с полковником Томасоном придали нам морского пехотинца. Его звали Дон Саксон, это был светловолосый парень примерно моего возраста; он выступал на ринге в полусреднем весе. В его личном деле было указано, что он умеет стрелять в темноте из пулемета 50-го калибра. За ужином в „Ла Бодегита дель Медио“ Хемингуэй объяснил Саксону, что, к сожалению, у нас нет пулеметов, но ему придется взять на себя радиосвязь и наши шифры. Мы умолчали о германских кодах, которые пытались расшифровать во флигеле Хемингуэя. Последним штрихом при превращении „Пилар“ в исследовательское судно была установка быстросъемного плаката „Американский музей естественной истории“. – Эта штука должна обмануть немецкого шкипера, когда он взглянет на нас через перископ, – проворчал Хемингуэй, уезжая в тот день на верфь, чтобы привести яхту домой. – Может быть, его любопытство разгорится до такой степени, что он поднимет лодку на поверхность и высадится со своими людьми на борт „Пилар“ посмотреть, кто мы такие и чем занимаемся, и мы встретим их огнем автоматов и противотанковых ружей и обстреляем субмарину из базук. – Ага, – отозвался я. – А может быть, капитан немцев сумеет прочесть только одно слово – „американский“, и, отведя свою лодку на полмили, потопит нас одним залпом стопятимиллиметрового орудия. Хемингуэй сложил руки на груди и свирепо воззрился на меня. – На немецких субмаринах класса „740“ нет стопятимиллиметровых орудий, – презрительно заявил он. – Только восьмидесятивосьмимиллиметровая пушка и двадцатимиллиметровые зенитки. – На новых моделях класса „XI“ стоят стопятимиллиметровые орудия, – возразил я. – А их пулеметы 50-го калибра разнесут „Пилар“ в клочья еще до того, как вы вытащите на палубу базуку или противотанковое ружье, а уже тем более – зарядите их. Хемингуэй смерил меня долгим взглядом и усмехнулся: – В таком случае, Лукас, мой загадочный друг, мы – я уже говорил об этом полковнику – окажемся в глубоком дерьме. И ты вместе с нами.* * *
О том, что я оказался в глубоком дерьме, мне стало ясно уже на следующий день после нашей эскапады с фейерверками. Я сам поставил себя в такое положение, что должен был выбирать – доложить ли, что я незаконно проник на борт яхты, принадлежащей американской некоммерческой организации (не говоря уже о том, что при моем содействии на ней вспыхнул пожар) и практически наверняка лишиться работы, либо умолчать о своих похождениях, дождаться, когда Дельгадо или ему подобные узнают о них и доложат начальству, и уж тогда точно остаться не у дел. Дополнительные трудности для меня создавали пропажа шифровального блокнота и исчезновение женщины из публичного дома. Я решил повременить с докладом об этих второстепенных фактах, и чем дольше я стану ждать, тем более очевидными будут выглядеть мои некомпетентность и лживость, когда правда наконец выплывет наружу. Однако, вздумай я признаться в своих грехах, возникло бы впечатление, будто я провалил задание шпионить за Хемингуэем и выполнял его приказы за счет Бюро. Обо всем этом я написал в рапорте и после нападения на „Южный крест“, приехав в Гавану по делам организации, отвез его в явочный дом, чтобы передать Дельгадо. Дельгадо опоздал на несколько минут. Он явился в чистой рубашке и соломенной шляпе, низко надвинутой на глаза. Со своим обычным нахальством он вскрыл конверт с докладом, прочел его и поднял на меня взгляд. – Лукас, Лукас… – В его голосе слышались изумление и гадливость. – От вас требуется только передать рапорт, – бросил я. – И потребовать, чтобы Бюро установило личность женщины и лысого мужчины с яхты. В случае необходимости я предоставлю их фотографии и отпечатки пальцев, и мы запросим их досье, если таковые имеются. Дельгадо постучал пальцем по моему рапорту. – Если я передам этот документ Гуверу, тебя отстранят от операции и вышвырнут из ОРС еще до того, как ты успеешь прочесть эти досье. Я внимательно присмотрелся к нему. Уже не в первый и даже не в десятый раз я представил, как мои кулаки врезаются ему в лицо и живот, если дойдет до потасовки. Драка будет серьезная. Я знал, что Дельгадо, вместо того чтобы боксировать, попытается убить меня голыми руками. – Что вы имеете в виду? – спросил я. – Это не первая противозаконная операция, в которой я принимаю участие. – Но первая, которую ты осуществил без указаний сверху, – ответил Дельгадо, язвительно кривя губы в ухмылке. – Разве что если ты счел таковым приказ Хемингуэя. – Мне было ведено выполнять его требования, чтобы втереться к нему в доверие, – возразил я. – Я не смогу выполнить задание, если Хемингуэй не будет мне доверять. – Почему ты решил, что он тебе доверяет? – спросил Дельгадо. – Неужели ты думаешь, что директор хочет, чтобы человек из его ОРС прятал шлюх от кубинской полиции? Притом подозреваемых в убийстве. – Она не убивала Кохлера, – сказал я. Дельгадо пожал плечами. – Ты не можешь знать этого наверняка. В таком деле все возможно. – От вас требуется только передать рапорт, – повторил я. Дельгадо покачал головой и подтолкнул ко мне конверт с докладом. – Нет, – сказал он. Я моргнул. – Перепиши рапорт так, чтобы из него было трудно понять, где ты раздобыл блокнот Кохлера и названия книг, которые используются для шифровки, – велел Дельгадо. – Это Должно прозвучать уклончиво – например, олухи Хемингуэя случайно наткнулись на них. Таким образом ты сохранишь свое место, а нам не придется вновь организовывать операцию с самого начала. Я откинулся на вертикальную спинку кресла, не спуская глаз со своего связного. „Зачем ты это делаешь, Дельгадо… или как там тебя зовут по-настоящему?“ Словно прочитав мои мысли, Дельгадо улыбнулся, снял шляпу и протер ее поля платком, извлеченным из кармана брюк. – Какими тайными мотивами я могу руководствоваться, отдавая тебе такой приказ, Лукас? – Вы ничего не можете мне приказывать, – ответил я. – Вы мой связной, а не контролер. Я отчитываюсь непосредственно перед Гувером, хотя и с вашей помощью. Дельгадо продолжал улыбаться, но его взгляд стал холодным и невыразительным. – Как связной между тобой и Гувером я требую, чтобы ты переписал этот чертов рапорт. Сохрани факты и не выпячивай свое участие в событиях. Если директор решит, что ты пляшешь под дудку Хемингуэя, он выдернет тебя отсюда с такой скоростью, что, глядишь, оторвет твою тупую голову. И что тогда? Хемингуэй нипочем не согласится взять другого „консультанта“, и я буду вынужден трудиться вдесятеро, наблюдая за „Хитрым делом“ со стороны, когда болваны из гаванского отделения Бюро станут дышать мне в затылок. Я посмотрел на отпечатанные страницы своего рапорта и ничего не сказал. В эту минуту меня занимало другое – кто из нас лучше владеет смертоносными приемами рукопашной, я или Дельгадо? Было бы интересно выяснить это наверняка. Дельгадо взял свою сумку, вынул оттуда два досье и положил их на стол. – Я решил, что они тебе пригодятся. – Он встал и потянулся. – Я схожу пропустить стаканчик, а ты пока почитай. Оставь папки на столе. Я вернусь сюда и заберу их. Я понимал, что он ни в коем случае не оставит меня наедине с секретными материалами в пустом доме. Он затаится где-нибудь поблизости, дожидаясь моего ухода. Первой я открыл папку потоньше. Это было обычное досье ФБР, а не секретные материалы Гувера под грифом „О/К“. Из оглавления на первой странице был ясно, что я не найду здесь ни отчетов наружного наблюдения, ни расшифровок переговоров, ни компрометирующих фотографий, ни аналитических заметок. Личное дело этой женщины ничем не отличалось от миллионов досье ФБР на других американских граждан – результат анонимного доноса или единичных контактов с людьми, состоящими под надзором Бюро; могло случиться и так, что имя женщины попросту мелькнуло где-нибудь при подозрительных обстоятельствах, и на нее завели папку. Хельга Соннеман, в девичестве Хельга Бисхофф, родилась 11 августа в Дрездене, Германия. Ее отец погиб на службе кайзера в 1916 году – был отравлен газом во время битвы при Сомме. Мать Хельги вновь вышла замуж в 1921 году, на сей раз за Карла Фридриха Соннемана. У герра Соннемана были три дочери и два сына от предыдущего брака; одна из сводных сестер Хельги, Эмми Соннеман, впоследствии стала женой Германа Геринга. В 1936 году Эмми познакомила Хельгу с Ингой Арвад. Арвад тогда работала корреспондентом в Берлине и обратилась к будущей миссис Геринг с просьбой об интервью. Женщины так понравились друг другу, что Эмми пригласила Ингу в свой загородный дом, где Арвад встретилась с двадцатипятилетней Хельгой, которая приехала в Германию, чтобы стать свидетелем величия Третьего Рейха и побывать на закрытой свадебной церемонии сестры. В согласии с кратким жизнеописанием Хельга Соннеман перебралась в Штаты в 1929 году, сразу после биржевого краха – сначала как студентка колледжа Уэллсли, где ее главными предметами были антропология и археология, потом – как супруга хирурга из Бостона. Этот брак оказался непродолжительным, и во второй половине 30-х Хельга получила американское гражданство, развелась с врачом и поселилась в Нью-Йорке под собственной фамилией. Последние десять лет она работала независимым экспертом по предметам древнего искусства – ее узкой специальностью были резьба и керамика майя, инков и ацтеков. Хельга сотрудничала с рядом ведущих американских университетов, а в настоящее время подвизалась в нью-йоркском Музее естественной истории. В досье упоминались ее связи с Герингом и другими высокопоставленными нацистами – по всей видимости, Соннеманы были особенно дружны с Гессом, – однако на протяжении 30-х годов поездки Хельги в Германию были редки и ничем не примечательны. Создавалось впечатление, что красавица блондинка не интересуется политикой. За последние десять лет она несколько раз бывала в Европе, но гораздо чаще путешествовала по Мексике, Бразилии, Перу и другим странам Южной Америки. Разумеется, в досье то и дело встречалось имя Инги Арвад. Помимо встреч в Германии и Дании, Хельга была одним из тех людей, которых Арвад навещала в Штатах, приехав туда в 1940 году. Более того, Арвад несколько недель прожила в Нью-Йоркской квартире Хельги, пока из Европы не прибыл доктор Поль Фейос. Перекрестные ссылки в досье Соннеман, опиравшиеся на доклады людей, которые следили за Арвад во время посещения ресторанов в компании Алекса Веннер-Грена, ограничивались упоминанием о том, что „среди присутствующих была также мисс Хельга Соннеман, знакомая мистера Фейоса“. В конце осени 1941 года, вскоре после того, как любовник Инги Веннер-Грен подарил фонду „Викинг“ яхту „Южный крест“, доктор Фейос и Совет директоров фонда пригласили Хельгу в экспедицию в качестве археолога и хранителя найденных ценностей. В наспех отпечатанном сообщении указывается, что 15 апреля текущего года она отправилась на Багамы, чтобы занять место на принадлежащем „Викингу“ судне „Южный крест“, которое, по данным наблюдения, заправлялось там 17 апреля 1942 года. На этом досье заканчивалось. О Тедди Шелле не упоминалось ни единым словом. Досье Шелла было намного солиднее папки Соннеман. Судя по фотографиям и отпечаткам пальцев, переданным на этой неделе в Бюро старшим специальным агентом Р. Г. Ледди (гаванское отделение), лысый бизнесмен, известный на борту яхты под именем Тедди Шелл, однозначно идентифицировался как Теодор Шлегель, абверовский агент, которого разыскивали бразильская федеральная полиция и ДОПС – политическая полиция этой страны, специализирующаяся на контрразведке, а также Особая разведывательная служба ФБР по обвинению в шпионаже в Бразилии. Теодор Шлегель родился в Берлине в 1892 году. Начав Первую мировую войну солдатом, в 1918 году он ушел в отставку в возрасте двадцати шести лет, в чине лейтенанта. В результате успешной деловой карьеры он возглавил крупнейшую сталелитейную фирму Германии в Крефельде. В 1936 году его направили в Бразилию, чтобы ликвидировать там убыточное отделение фирмы. Шлегель быстро выполнил это задание и учредил новый филиал „Компаниа де Акос Марафон“ – в досье он фигурировал под названием „Сталелитейная компания „Марафон“. В годы, когда Третий Рейх рвался к войне и владычеству над Европой, Шлегель управлял компанией из штаб-квартиры в Рио-де-Жанейро, время от времени наезжая в контору филиала в Сан-Пауло. Также он нередко бывал в Германии и США, знакомясь с работой сталелитейных предприятий в этих странах. К 1941 году Шлегель несколько раз посетил Нью-Йорк под именем Теодора Шелла, датско-германского предпринимателя и филантропа. По данным налоговых органов, одной из некоммерческих организаций, пользовавшихся финансовой поддержкой Шелла, был фонд „Викинг“, зарегистрированный в Делаваре. В светских кругах Нью-Йорка лысого, всегда изысканно одетого Шелла звали Тедди. В досье имелась фотография, на которой „Тедди Шелл“ с бокалом в руках позирует вместе с улыбающимся Нельсоном Рокфеллером. В рапорте не было указано точно, когда именно Теодор Шлегель, он же Тедди Шелл, был завербован Абвером, однако по наиболее вероятной версии это случилось во время его поездки в Германию в 1939 году. К 1940 году ДОПС и его американские советники из ФБР заподозрили, что Шлегель является немецким шпионом по кличке „Салама“, который передавал сведения о грузоперевозках союзников с помощью потайной радиостанции, находившейся в Рио либо в его предместьях. Одновременно Салама получал и передавал деньги и шифрованные сообщения через немецкую компанию „Дойче Эдельстальверке“, фирму, которая днем вела с ним дела как со сталелитейным магнатом, а ночами пересылала Абверу в Берлин его объемистые донесения. Первоначальные подозрения Шлегель навлек на себя своими контактами с немецким инженером Альбрехтом Густавом Энгельсом, абверовским шпионом и радиоспециалистом, известным в южно– и центральноамериканских контрразведывательных кругах под кличкой Альфредо. Мне не было нужды изучать разведсводку о приятеле Шлегеля Энгельсе. За время работы в Мексике, Колумбии и других странах я отлично познакомился с Альфредо. Теоретически Энгельс являлся радистом Шлегеля в Бразилии, однако он с таким блеском осуществлял операции Абвера, что к 1941 году его радиостанция в Рио-де-Жанейро – в ОРС она числилась под кодовым наименованием „Боливар“ – стала информационным узлом немецкой разведки, к которому стекались сведения из Нью-Йорка, Балтимора, Лос-Анджелеса, Мехико, Вальпараисо и Буэнос-Айреса. Вдобавок Альфредо, он же Альбрехт Густав Энгельс, контролировал несколько сотен агентов, беспрепятственно действовавших в этих городах и десятке Других. Я знал, что в октябре минувшего 1941 года „Душко“ Попов, тот самый „Трехколесный велосипед“, за которым Ян Флеминг в прошлом августе с таким удовольствием ходил по пятам по португальским казино, прилетел в Рио, чтобы обсудить с Альфредо возможность установки мощного секретного передатчика в Штатах. Согласно досье, Теодор Шлегель присутствовал на этой встрече и вернулся в Нью-Йорк вместе с Поповым под именем Тедди Шелла. Именно Энгельс передал из Берлина Попову список вопросов об организации обороны Пирл-Харбора, интересовавших японцев. Весной нынешнего года военное руководство Штатов оказало давление на Бразилию, добиваясь прекращения шпионской деятельности Германии в этой стране. Глава Генштаба США Джордж Маршалл направил бразильскому генералу Гоузу Монтейро письмо, в котором просил и требовал, чтобы бразильская армия и полиция предприняли надлежащие меры. К своему письму Маршалл приложил выдержки из секретных материалов BMP и БКРГ – перехваченные передачи радиостанции „Боливар“ Энгельса с указанием координат и графика движения „Королевы Марии“, которая отправилась без сопровождения на Дальний Восток с девятью тысячами американских солдат на борту. ФБР перехватило послание Маршалла и сняло с него копию. Один из заключительных абзацев гласит: „Если бы судно было потоплено, что неизбежно повлекло бы гибель тысяч наших солдат, а в общество просочились слухи о том, каким образом враг узнал о маршруте „Королевы Марии“, данный инцидент поставил бы под удар дружбу между нашими странами“. На простом языке это означало следующее: если бы транспорт был торпедирован в результате передач „Боливара“, а также некомпетентности и бездеятельности бразильцев, американская военная помощь была бы прекращена. В ответ, как свидетельствует досье, ДОПС и бразильская федеральная полиция, понукаемые ФБР, BMP, OPC и армейской контрразведкой США, со скрипом начали аресты в районах Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. Теодор Шлегель остался на свободе. Аресты начались в середине марта и продолжались до конца апреля. В согласии с последним документом досье 4 апреля Теодор Шлегель – он путешествовал под именем Тедди Шелла и, судя по всему, не догадывался об участи своих коллег – вылетел на Багамы, а затем в Нью-Йорк. В Нассау он встретился со своим другом Акселем Веннер-Греном, а в Нью-Йорке – с доктором Фейосом и Советом директоров „Викинга“, которые в ответ на очередное филантропическое пожертвование бизнесмена Шелла назначили лысого аккуратного немца руководителем первой экспедиции принадлежащего фонду исследовательского судна „Южный крест“. – Святой Иисусе, – пробормотал я, смахивая пот со лба. По сравнению с этими материалами гордиев узел казался чем-то вроде незамысловатого рукоделия бойскаутов. Я оставил досье на столе и вышел на улицу, залитую палящим солнцем.* * *
Шифровальный блокнот мертвеца приводил меня в бессильное бешенство. Должен признаться, я никогда не был особенно силен в криптографии – ни в Квантико, ни в Лагере „X“. Объясняя Хемингуэю абверовскую систему, я выражался весьма расплывчато, но истина заключалась в том, что хотя мне и доводилось довольно часто иметь дело с кодированными сообщениями в Мексике и других местах, как правило, я ограничивался тем, что отсылал их в местное отделение OPC либо вашингтонским экспертам ФБР. В сущности, они умели разгадывать шифры ненамного лучше меня и старались сбагрить эту обязанность BMP, армейской „Джи-2“ или даже разведке Госдепартамента, этому малопонятному органу безопасности, в котором, как полагал Хемингуэй, служил и я. Я почти не сомневался в том, что мои исходные посылки верны. Сетки шифровального блокнота Кохлера имели стандартный формат. Типичная национальная черта немцев – выработав однажды удобную изящную систему, они неукоснительно придерживались ее, хотя это и было вопиющей глупостью в мире, где любой, даже самый лучший шифр может быть разгадан специалистами противника. И хотя за время наблюдений в канадском Лагере „X“ я не смог добыть тому надежных подтверждений, ходили упорные слухи, будто бы англичане уже взломали самые сложные германские коды и именно этим обстоятельством объясняется успех наиболее блистательных десантных операций Британии. С другой стороны, морские победы Германии над островом все множились, так что если британцы действительно разгадали основные коды противника и принципы действия шифровальных устройств – особенно тех, что использовались на немецких субмаринах, – значит, их командование было готово платить за сохранение этой тайны ценой огромных потерь в кораблях и живой силе. Я же имел дело с самым заурядным шифром немецкого „функера“ (радиста). Не было никаких сомнений в том, что этот шифр прост – как я и объяснил Хемингуэю. Почти наверняка одна или несколько книг из каюты Кохлера содержали ключевое слово или фразу, которая являлась основой зашифрованного сообщения. Сетки имели по пять строк с двадцатью шестью столбцами, поэтому ключом к шифру должны быть первые двадцать шесть букв условленной страницы в условленной книге. Но „какой“ страницы и „какой“ книги? Я знал, что в случае двадцатишестибуквенных шифров немцы, как правило, назначают для каждого дня года отдельную страницу. „Три товарища“ Ремарка для этого не годились – в небольшом романе было всего 106 страниц. Я предположил, что „Три товарища“ содержат „первое слово“, которое определяет, каким образом разбита сетка. Но на какой странице находится это слово? Ее номер должен был передаваться кодированным сигналом, предшествующим тексту как таковому. Но как организовано послание, которое мы обнаружили в блокноте, – на основе двадцати шести букв или кода „первого слова“? Я решил, что это не имеет значения. В моем распоряжении были тексты донесений Кохлера: /h-r-s-1-s/r-i-a-l-y/i-v-g-a-m/… и так далее. Мне оставалось лишь выяснить, какие из донесений были закодированы тем или иным шифром, с какими ключевыми фразами или словами, из каких книг они взяты и на каких страницах расположены. Ну что ж, сто шесть страниц – не так много. Я должен был лишь подставить первые слова из всех страниц, соответствующим образом заполнить сетки и посмотреть, как будет выглядеть расшифрованное сообщение. Многие слова отпадали, поскольку были слишком короткими – „Ich“, „Und“, „Die“ и так далее. Некоторые, например, „uberflutete“ (страница 11), „mussen“ (страница 24), „Gottfried“ (страница 25) поначалу казались подходящими, однако их подстановка приводила к бессмыслице. Уже наступил вечер, когда должен был состояться ужин с Хельгой Соннеман, Тедди Шеллом и загадочной „Фрау“, а я не продвинулся ни на шаг. „Фрау“ собиралась на несколько дней остановиться во флигеле для гостей, и я помог Хемингуэю убрать оттуда карты, папки, досье и пишущую машинку – шифровальный блокнот Кохлера и три книги были спрятаны в сейфе в главной усадьбе, – после чего упаковал свои пожитки и перебрался в „Первый сорт“, где меня встретила Мария Маркес, приподняв брови и чуть искривив полные губы. Дикаркепозволили питаться в главном доме вместе со слугами и загорать у бассейна по вечерам, когда Хемингуэй был поблизости и мог ее защитить, однако сегодня ей строго-настрого запретили появляться в финке, и у девицы было отвратительное настроение. Мне предстояло выполнить в Гаване несколько поручений и вернуть „Линкольн“ в поместье. Кем бы ни была „Фрау“, Хемингуэй собирался встретить ее в аэропорту в половине пятого. В моем распоряжении было два часа. Я остановился у первого попавшегося телефона-автомата. Голос в трубке произнес: – Разумеется, господин Лукас. Приезжайте немедленно. Мы ждем вас. „Насиональ“ был самым дорогим отелем Гаваны. Я припарковал машину у пляжа, прошагал несколько кварталов, вернулся, сдваивая след, и пошел вдоль дороги, проверяясь в стеклах витрин и предпринимая другие меры для обнаружения слежки. Я не заметил ни Мальдонадо, ни Дельгадо, ни других людей, которые в последнее время проявляли ко мне интерес. Тем не менее, прежде чем войти в широкие двустворчатые двери отеля, я помедлил. Я еще мог оправдаться за поступки, совершенные мной до нынешнего мгновения. Успешно выполнив задание, я мог умолчать о том, что сыграл главную роль в спектакле с фейерверками и объяснить, что отложил доклад о находке блокнота до его расшифровки. Но сейчас я собирался нарушить правила ФБР и ОРС и преступить межведомственную этику. К черту. – Входите, входите, Лукас, – сказал Уоллес Бета Филлипс, встречая меня в дверях номера 314. В номере находился еще один человек, но не Коули, шофер, который нас возил. Это был профессионал, высокий, худощавый, молчаливый. Даже в жару он носил пиджак. Я решил, что в его наплечной кобуре находится крупнокалиберный револьвер. Филлипс не представил нас друг другу. Он лишь кивнул, и второй человек вышел на балкон номера, плотно прикрыв за собой дверь. – Виски? – предложил коротышка, наполняя свой бокал. – Разумеется, – ответил я. – И кусочек льда. Филлипс устроился в позолоченном кресле и жестом предложил мне сесть на диван. Сквозь двери и высокие окна в номер проникал рев машин. Ноги Филлипса чуть-чуть не доставали до пола. Его башмаки были начищены до блеска, а кремовый костюм искусно пошит и безупречно выглажен, как и та одежда, которую я видел на нем в автомобиле. – Чем я обязан такой чести, господин Лукас? – Он пригубил виски, и в хрустальном бокале звякнули льдинки. – Хотите поделиться с нами информацией? – Нет, задать вопрос, – ответил я. Он молча склонил лысую голову. – Говоря гипотетически, – произнес я, – простирается ли ваш интерес к ситуации с Хемингуэем до такой степени, что вы согласились бы оказать помощь в расшифровке неких радиоперехватов? – Гипотетических перехватов, я полагаю. – Филлипс не выказал ни малейшего удивления. – Разумеется. – У вашего Бюро много криптографов, господин Лукас. Потерпев неудачу, они всегда могут обратиться по своим каналам к Доновану либо в BMP. Так они обычно и поступают. – Я молча ждал, и Филлипс чуть заметно улыбнулся. – Или, быть может, ваш гипотетический случай не требует столь строгой субординации? – Пожалуй, да, – ответил я. – Задавайте свой вопрос, – сказал руководитель военно-морской разведки в Латинской Америке. Я пригубил виски и аккуратно отставил бокал. – Предположим, некто нашел шифровальный блокнот абверовского агента, – заговорил я. – Со стандартной сеткой. На нескольких страницах сохранился текст сообщений. – Чтобы восстановить их, требуется знать, какими книгами пользовался агент, – произнес Филлипс, разглядывая янтарный напиток в бокале. Солнечный свет играл на гранях хрусталя и проникал сквозь жидкость. – Да, – сказал я. Филлипс терпеливо ждал. Его розовая кожа казалась гладкой и сухой, ногти были недавно отполированы. „Какого черта, – подумал я. – Я уже и так погряз по самые уши“. Я перечислил названия трех книг. Филлипс вновь кивнул: – Так в чем же заключается ваш вопрос, господин Лукас? – Не подскажете ли, как отыскать нужные страницы и ключевые слова? – спросил я. – Абвер часто их меняет. – И даже очень часто, – согласился лысый коротышка. Допив остатки виски, он опустил бокал на приставной столик эпохи Луи XV. – Могу ли я узнать, какую пользу принесет сотрудничество в данном вопросе ОСС, либо BMP, либо обоим этим агентствам? Я взмахнул рукой. – Говоря гипотетически, господин Филлипс, КСК… простите, ОСС… равно как и BMP, могли бы почерпнуть из дешифрованных сообщений сведения, имеющие отношение к их операциям. Несколько долгих мгновений Филлипс внимательно смотрел на меня. Его глаза казались невероятно голубыми. – А кто будет определять, какие сведения имеют отношение к операциям ОСС, господин Лукас? Мы или вы? – Я, – ответил я. Филлипс с шумом выдохнул и опустил глаза, рассматривая узор на персидском ковре под своими сверкающими башмаками. – Вам известно выражение „купить кота в мешке“, господин Лукас? – Еще бы, – ответил я. – Так вот, похоже, мне предлагают товар именно в такой упаковке. – Он пересек комнату, захватил по пути мой бокал, приблизился к бару, налил еще две порции, подал мне мою и подошел к высокому окну. – Вам известно о бразильской облаве? – спросил он. – Да. – Если не ошибаюсь, Абвер даже не догадывается о масштабе произведенных арестов и операций ДОПС, – сказал Филлипс. – ФБР сочло за лучшее продолжать секретные радиопередачи через узел „Боливар“, а аналитики Донована утверждают, будто бы адмирал Канарис и его люди до сих пор не знают об аресте Энгельса и его ближайших помощников. Я нахмурился. – Я слышал о выявлении передатчика в Рио в конце марта. Как могло случиться, что Канарис не узнал о провале своей бразильской сети? Филлипс обернулся. Его силуэт на фоне ярко освещенного окна напоминал мне Гувера в миниатюре. – Энгельс – если помните, его кличка Альфредо – был арестован в середине марта в числе первых. Но, как я уже говорил, передачи не прекращались. Я кивнул. ФБР и раньше проделывало этот трюк, продолжая передавать секретные данные, чтобы в будущем воспользоваться вскрытым каналом связи. – Они должны были идти непосредственно из посольства США в Бразилии, – сказал я. – ОРС не принимала в этом участия. – Совершенно верно, – отозвался Филлипс. – Вы знакомы со специальным агентом Джеком Уэстом? – Нет, но слышал его фамилию. Он работал с Лэддом. – Именно так. Агента Уэста направили в Бразилию вскоре после инцидента с „Королевой Марией“ 12 марта… Под „инцидентом“ подразумевалась передача радиостанцией в Рио даты отплытия британского судна с девятью тысячами американцев на борту. —..и он лично следил за арестами, которые производились бразильской федеральной полицией в Рио и Сан-Пауло, – закончил Филлипс. – С тех пор Абвер принимает нерегулярные передачи Альфредо, в которых тот предупреждает о возрастании полицейской активности и просит разрешить агентам залечь на дно… – Даже не догадываясь о том, что они уже залегли по тюремным камерам, – перебил я. – Однако Бюро не сможет долго водить противника за нос. Филлипс пренебрежительно взмахнул рукой: – Достаточно долго. Только теперь я понял. Радиоигра продолжалась достаточно долго, чтобы Теодор Шлегель отплыл с экспедицией „Викинга“, не узнав о том, что Энгельс и другие его помощники арестованы либо находятся под надзором. Достаточно долго, чтобы адмирал Канарис успокоился и продолжал операции Абвера вблизи Кубы. На мгновение я буквально похолодел. Британские и американские спецслужбы предпочли пойти на риск потопления немцами „Королевы Мэри“ с девятью тысячами американских солдат, лишь бы не провалить эту операцию. Что происходит, черт побери? Я мог попросту спросить Филлипса, но понимал, что коротышка вряд ли ответит мне. По крайней мере, сейчас. Какая бы роль ни отводилась мне в этом загадочном замысле, я буду вынужден играть ее, прежде чем найду ответы на вопросы. Однако Филлипс явно готов купить кота в мешке, рискуя больше, чем я. Очевидно, BMP и новая организация Донована уже располагают некоторыми или всеми немецкими кодами, поскольку они продолжают передачи „Боливара“ от имени Альфредо. – Где находится ключ? – спросил я. – В „Трех товарищах“? Филлипс вновь улыбнулся. В отличие от ухмылки Дельгадо, улыбка коротышки была довольно любезной и ничуть не язвительной. – С конца апреля Абвер и Шлегель пользуются „Геополитикой“ и антологией германской литературы, о которых вы упоминали, мой мальчик. Боюсь, произведение Ремарка здесь ни при чем. – Почему же Кохлер возил его с собой? – спросил я. Филлипс вернулся к своему креслу и запрыгнул в него: – Может быть, он любил читать хорошие книги. – На каких страницах искать ключ? – В настоящий момент первой странице соответствует двадцатое апреля, тот самый день, когда немцы сменили шифры. С тех пор, насколько я знаю, изменений не производилось. – В какой книге? – спросил я. – Если не ошибаюсь, ключ к алфавитному шифру находится в „Геополитике“, а шифр „первого слова“ – в антологии, – ответил Филлипс. Я кивнул, поставил опустевший бокал на приставной столик и двинулся к двери. – Господин Лукас… Я задержался у двери. – Вы не догадываетесь, что означает двадцатое апреля? – Это день рождения Адольфа Гитлера, – сказал я. – Вот уж не думал, что адмирал Канарис столь сентиментален. Филлипс все еще улыбался. – Мы тоже, господин Лукас. Мы подозреваем, что эту дату предложил наш приятель герр Шлегель. Именно он сентиментален, если не сказать – простодушен. Я повернулся и шагнул вперед. – Господин Лукас! В коридоре было пусто. Я остановился в дверном проеме и посмотрел на маленького лысого человечка, который поднялся на ноги и стоял в прямоугольнике яркого света. – Надеюсь, вы проявите великодушие, когда будете определять, какая информация может представлять интерес для нас. – Я свяжусь с вами, – пообещал я и вышел. Я сказал Хемингуэю, что мне требуется еще раз взглянуть на шифровальный блокнот и книги Кохлера. Хемингуэй метался по дому, завязывая галстук и готовясь к поездке в аэропорт, но все же открыл для меня сейф. – Работать с ними во флигеле нельзя, – предупредил он. – Сегодня там ночует Фрау. – Возьму их в „Первый сорт“, – сказал я. – Только чтобы Дикарка не увидела, чем ты занимаешься. Я изумленно посмотрел на Хемингуэя. Неужели он принимает меня за дурака? – Да, кстати… Хельга и Тедди Шелл приедут раньше половины седьмого, – добавил писатель, натягивая льняной пиджак. Геллхорн протиснулась мимо нас к выходу, велела шоферу поторопиться, потом повернулась к мужу и велела поторопиться и ему тоже, причем тем же тоном, каким она обращалась к слуге. Хемингуэй задержался у зеркала и провел пальцами по зачесанным назад волосам. Кем бы ни была загадочная Фрау, он явно стремился произвести на нее впечатление. – До того как подадут коктейли, мы устроим у бассейна маленькую вечеринку, – сообщил Хемингуэй. – Хотя и там будет предостаточно напитков. Если у тебя есть плавки, захвати их с собой. – Плавки? Хемингуэй широко улыбнулся, показав все тридцать два зуба. – Сегодня я говорил с Хельгой по телефону. Она очень обрадовалась, услышав, что у нас есть бассейн. Похоже, она совсем недавно узнала о том, что в заливе Гаваны водятся акулы… а она обожает плавать. – Эрнест! – окликнула его Геллхорн из машины. – Ты не дал мне как следует наложить макияж, а теперь заставляешь меня ждать! – Желаю успеха, – сказал Хемингуэй, протягивая мне блокнот и книги с таким видом, как будто только что о них вспомнил, и торопливо зашагал к „Линкольну“. Я отправился в „Первый сорт“, гадая, куда бы мне выгнать Дикарку на то время, пока я буду расшифровывать радиопередачи нацистов.Глава 14
Три женщины в купальниках выглядели совсем недурно. На Марте Геллхорн был белый эластичный закрытый костюм с пояском. Хельга Соннеман надела хлопчатобумажный купальник из двух частей – лифчика с бретельками и длинных трусиков. Марлен Дитрих облачилась в бикини столь темно-синего цвета, что он казался почти черным. Женщины отличались разнообразием телосложения – атлетическая, но по-немецки сочная, на грани излишней полноты фигура Хельги Соннеман, типично американское сочетание прямых линий и мягких изгибов Геллхорн и угловатый эротизм Дитрих. Я почти не удивился, выяснив, что Фрау – это еще одна кинозвезда… а именно, Дитрих. В числе тех немногих сведений о Хемингуэе, которыми я располагал несколько недель назад, был и тот факт, что он состоит в дружеских отношениях с этой женщиной. Я редко ходил в кино, причем, как правило, на вестерны и гангстерские боевики. Я видел Дитрих в фильме Джимми Стюарта „Дестри опять скачет верхом“ за несколько дней до оккупации Гитлером Польши. Я любил Джимми Стюарта, но эта лента пришлась мне не по вкусу; она словно высмеивала другие вестерны, а героиню Дитрих, хотя и говорившую с явным немецким акцентом, звали Френчи. Это звучало глупо. Затем, прошлым летом, я видел Дитрих в „Личном составе“, весьма посредственном фильме „о крутых парнях“, главные роли в котором играли двое моих любимых актеров соответствующего амплуа – Эдвард Робинсон и Джордж Рафт. Героиня Дитрих показалась мне слабой, почти бесцветной, и из всех эпизодов с ее участием я запомнил только те, в которых она показывала свои ноги – все еще красивые и стройные, хотя к тому времени ей, должно быть, уже исполнилось сорок, – и сцену, в которой она стряпает в маленькой кухне во время бури. Сидя в кинотеатре в Мехико, думая о своем и стараясь не обращать внимания на испанские субтитры, я вдруг понял, что Дитрих „действительно“ варит эту бурду. Прежде чем идти на вечеринку у бассейна, я должен был спрятать блокнот и книги. С помощью системы Уоллеса я за считанные минуты разметил сетки и расшифровал сообщения. Мне не терпелось показать результат Хемингуэю, но, придя в финку, я увидел, что он водит гостей по дому. Я решил, что было бы глупо показывать ему блокнот в присутствии Тедди Шелла (он же Теодор Шлегель) – человека, который почти наверняка нанял Кохлера, чтобы принимать и передавать секретную информацию. Я не мог оставить книги в коровнике. С Дикаркой никаких трудностей не возникло; когда я появился в домике, ее там не оказалось. Марии не разрешали бродить в одиночестве, но она была раздосадована тем, что ей запретили появляться в усадьбе целый день, и мне оставалось лишь гадать, куда она ушла – гулять по холмам или спустилась в Сан-Франциско де Паула. Я надеялся, что Марии хватит ума не сунуть нос в один из баров или магазинов этого городка, ведь ее искали люди Шлегеля и кубинская национальная полиция, а местные жители до такой степени запуганы Бешеным жеребцом, что почти наверняка расскажут ему и его присным все, о чем бы те ни спросили. Не говоря уже о том, что подачки Шлегеля с легкостью развяжут языки в этом нищем поселении. Я сказал себе, что Мария Маркес – не моя забота. Моей заботой было спрятать в надежном месте книги, и особенно блокнот, до тех пор, пока не кончится эта глупая вечеринка и я не смогу поговорить с Хемингуэем. Я надел плавки, собрал книги и записи и завернул их в вафельное полотенце, которое лежало на кухонной стойке. Пока гости веселились и плескались в бассейне, я вошел в главную усадьбу через черный ход, вскрыл сейф Хемингуэя – днем, когда писатель открывал его, я внимательно следил за тем, какие цифры он набирает, – и положил туда книги, после чего отправился знакомиться с абверовским шпионом, хранительницей древностей и кинозвездой.* * *
Было ясно, что Дитрих приехала в финку впервые. Я застал самый конец экскурсии по дому; Хельга Соннеман вежливо описывала свои впечатления, хотя головы мертвых животных явно внушали ей брезгливость, Тедди Шелл потягивал виски, время от времени вставляя любезные замечания, зато Дитрих шумно восторгалась охотничьими трофеями, книгами, безделушками, длинными прохладными комнатами, столом, за которым работал Хемингуэй, книжным шкафчиком подле его кровати – буквально всем подряд. Она говорила с немецким акцентом, лишь чуть-чуть менее заметным, чем в фильмах, но в тоне ее голоса слышались спокойствие и теплота, которых я не улавливал, сидя в кинотеатре. Наконец женщины отправились плавать, а мы, трое мужчин, уселись у бассейна с бокалами в руках. Загорелый Хемингуэй в вылинявшей желтой футболке и купальных трусах, застиранных до такой степени, что я был не в силах определить их первоначальный цвет, чувствовал себя легко и непринужденно, а Теодору Шлегелю – я не мог заставить себя называть его Тедди Шеллом – было жарко и неудобно в белом пиджаке с высоким воротом и рубашке с черным галстуком, прямых черных брюках и начищенных до блеска туфлях. Было нечто собственническое в том, как мы рассматривали обнаженных женщин в воде, и я ничуть не сомневался, что Шлегель смотрит на Хельгу Соннеман хозяйским взглядом. Хемингуэй был в ударе, он сыпал шутками, хохотал над жалкими претензиями Шлегеля на остроумие, насмешливо окликал Геллхорн и Дитрих и бросался к борту бассейна с напитками для Соннеман всякий раз, когда блондинка выныривала на поверхность. Его собственническое чувство простиралось на жену и актрису, а может быть, даже и на Соннеман. Было очень интересно следить за Хемингуэем в дамском обществе. Это наблюдение помогло мне чуть-чуть заглянуть ему в душу. С одной стороны, он был застенчив, едва ли не официален с женщинами, даже с проституткой Марией. Он внимательно слушал их, почти не перебивая – даже когда Геллхорн отпускала в его адрес язвительные замечания – и, судя по всему, искренне интересовался всем, что они говорили. Однако в его отношении к представительницам противоположного пола чувствовалась едва заметная снисходительность. Это был не тот пренебрежительный тон, которым ведутся „мужские“ разговоры – если не считать отдельных высказываний о том, как он дважды „употребил“ жену перед завтраком, – а скорее что-то вроде молчаливой оценки, как будто Хемингуэй непрерывно решает, заслуживает ли та или иная женщина его внимания. Марлен Дитрих, несомненно, заслуживала. За недолгие полчаса шутливой беседы на берегу бассейна я убедился в остроте ее интеллекта и понял, какое наслаждение от этого получает Хемингуэй. Лучше всего он держался в обществе умных женщин – своей жены, Ингрид Бергман, Леопольдины ла Онеста, а теперь и Марлен Дитрих, – а я редко встречал подобное качество у энергичных, властных мужчин. Как правило, они стараются показать свое превосходство над другими мужчинами, но теряются среди женщин, особенно чужих жен. Таким человеком был мой дед. И, подозреваю, мой отец тоже. В чем бы ни заключался экзамен на остроумие, внешность, интеллект и умение вести беседу, которому Хемингуэй втайне подвергал женщин, было очевидно, что Марлен Дитрих выдержала его уже давно, причем с самыми превосходными результатами. Но если у Хемингуэя имелся подобный тест для мужчин… секретных агентов, если уж на то пошло, то Теодор Шлегель с треском провалился. Он никак не тянул на удалого немецкого шпиона – мягкое округлое лицо под практически безволосым черепом, безвольный рот, обвислые щеки, глаза бассет-хаунда – казалось, они готовы наполниться слезами при малейшем к тому поводе. Его немецкий акцент был так же заметен, как у Дитрих, однако выговор Шлегеля казался отрывистым и грубоватым по сравнению с мягкой, чувственной речью актрисы. В то же время изящество, с которым Шлегель повязал галстук, внушило мне восхищение. Беседа агента с Хемингуэем была гладкой и бессмысленной, как узел этого галстука – сплошная шелковая поверхность. Хельга Соннеман говорила очень мало, но я с удивлением отметил, что ее произношение лишено каких-либо следов акцента. Для уроженки Германии, жившей там вплоть до поступления в американский колледж, ее английский был на редкость совершенен. В нем чувствовался разве что едва уловимый акцент Новой Англии, характерный для высших слоев общества и далеко не так заметный, как у Марты Геллхорн, которая растягивала слова на манер выпускников колледжа Брин-Мор, по нью-йоркски выделяя гласные звуки. Хемингуэй представил меня гостям как своего коллегу по грядущим изысканиям в море, и это всех полностью удовлетворило. Во время знакомства я очень внимательно присматривался к лицу Соннеман, ожидая характерного сокращения мышц вокруг губ либо непроизвольного сужения зрачков, которые произошли бы, узнай она во мне пожарного из трюма, но ничего подобного не случилось. Если Соннеман сыграла равнодушие, значит, она была лучшей актрисой, чем Дитрих. Разумеется, это можно сказать о большинстве настоящих разведчиков – мы играем свои роли двадцать четыре часа в сутки, а зачастую – годы напролет без перерыва. Около семи вечера все, кроме Шлегеля, разошлись по своим комнатам переодеться к ужину. Прежде чем отправиться в „Первый сорт“, я еще раз оглянулся на абверовского шпиона – он быстрым шагом расхаживал по библиотеке Хемингуэя, хмурым взглядом окидывая названия книг, словно они почему-то раздражали его, и курил сигареты одну за другой. Я решил, что Тедди нервничает. Каким-то образом Хемингуэю и Марте удалось уговорить Рамона, горячего приверженца китайской кулинарии, приготовить тем вечером традиционный кубинский ужин. Хемингуэй признался мне, что любит кубинские блюда, хотя Рамон высмеивает их. Как бы ни было, на закуску подали „sofrito“ – паштет из мелко нашинкованного лука, чеснока и зеленого перца, обжаренного в оливковом масле, затем „ajiaco“, деревенский салат из юкки и маланги, „tostones“ – запеченные полоски зеленого банана, и „fufu“, еще одно блюдо из банана, которое, по утверждению Хемингуэя, пришло из Западной Африки и представляло собой вареные банановые кусочки, сбрызнутые оливковым маслом и украшенные жареными хрустящими ломтиками свиной кожицы. Главным блюдом была свиная отбивная – стейк из задней части туши, которую гаванские гурманы предпочитают всем остальным – с гарниром из черной фасоли, белого риса и опять-таки бананов. Из специй мне удалось опознать мяту, кумин, ореган, петрушку и „ajo“ – чеснок в чесноке с добавкой чеснока. Я заметил, как с каждой переменой блюд бледные щеки Шлегеля начинают пылать румянцем, но Хемингуэй явно наслаждался трапезой и по два-три раза требовал добавки для каждого из присутствующих. Как всегда, он выбрал свое излюбленное вино „Тавел“, французское розовое, и подливал его в бокалы гостей, ухватив бутылку за горлышко. – Эрнест, милый, – заговорила Дитрих, когда он в очередной раз наполнил ее бокал, – почему вы так держите бутылку? Для такого элегантного мужчины это выглядит очень неловко. Хемингуэй лишь улыбнулся. – Бутылку – за горлышко, – сказал он. – Женщин – за талию. – С этими словами он добавил вина Соннеман и Шлегелю. Мы с Геллхорн жестами показали, что нам хватит и того, что оставалось в бокалах. Мы сидели в столовой – Хемингуэй у одного торца стола, Геллхорн у противоположного, Дитрих по правую руку от писателя, Шлегель – напротив актрисы, слева от Хемингуэя, Соннеман – напротив меня и справа от Геллхорн. Как всякий раз, когда я оказывался за столом Хемингуэя, беседа текла легко и свободно; хозяева направляли разговор, но не стремились доминировать в нем. Здесь царила приятная атмосфера, все присутствующие едва ли не физически ощущали поток энергии, которой с ними делился писатель, невзирая даже на то, что одним из его гостей был шпион с бледной физиономией, а другим – загадочная дама со связями в нацистских кругах. Было очевидно, что Дитрих прекрасно относится как к Хемингуэю, так и к Геллхорн – особенно к Хемингуэю – и была не менее энергична, чем писатель, хотя и не подавляла его. Причины, которые привели в Гавану Шлегеля и Соннеман с их яхтой, мы обсудили еще у бассейна. Как и полагается, мы выразили восхищение игрой Дитрих, но актриса попросту отмахнулась от комплиментов. Соннеман и Геллхорн затеяли дружескую пикировку, обсуждая свои учебные заведения – было ясно, что между колледжами Брин-Мор и Уэллсли существует нечто вроде соперничества. В конце концов женщины сошлись в том, что подавляющее большинство выпускниц обоих заведений считают свои альма-матер чем-то вроде конвейера, поставляющего жен для мужчин, закончивших Гарвард, Принстон и Йель. Потом разговор свернул на кулинарию, политическую ситуацию и войну. – Не кажется ли вам, Эрнест и Марта, – предположила Дитрих, – что наш ужин напоминает съезд Бунда? Шлегель побледнел. На лице Соннеман отразилось удивление. – Все мы – немцы, – продолжала актриса. – Я бы не удивилась, узнав, что из кухни за нами подглядывает ФБР. – Там только Рамон, – ответил Хемингуэй, усмехнувшись. – Он хочет убедиться, что мы действительно едим кубинскую пищу. – Кубинская кухня великолепна, – сказала Соннеман с улыбкой, которая напомнила мне улыбку Ингрид Бергман. – Это самый лучший ужин за все время, которое я провела здесь. Ощущение неловкости исчезло, и Хемингуэй принялся расспрашивать Хельгу о целях археологической экспедиции „Южного креста“ в Латинской Америке. Соннеман развернула перед ним живую и красочную, но чересчур детальную картину цивилизации доколумбовых инков эпохи строительства империи. Она сказала, что экспедиция будет изучать недавно открытые руины на побережье Перу. Во время этой лекции у меня начали слипаться глаза, однако Хемингуэй был в восхищении. – Если не ошибаюсь, инки имели обыкновение расселять соперничающие народы по империи, перемещая этнические группы, – сказал он. Соннеман пригубила вино и улыбнулась писателю. – Я вижу, вы неплохо знакомы с историей инков, господин Хемингуэй, – ответила она. – Эрнест, – поправил писатель. – Или Эрнесто. Или Папа. Соннеман негромко рассмеялась. – Да, Папа. Вы правы, Папа. Вплоть до испанских завоеваний в 1532 году инки расселяли враждебные народы по своей территории. – Зачем? – спросила Дитрих. – Чтобы обеспечить стабильность, – объяснила Соннеман. – Перемешивая этнические группы, они затрудняли восстания и мятежи. – Вероятно, именно это Гитлер сделает в покоренной Европе, – словно невзначай заметил Хемингуэй. В эту неделю с фронта поступали скверные известия. – Да, вполне возможно, что Германия осуществит эту идею, как только подчинит себе славянские народы и советскую империю, – откликнулся Шлегель, отчетливо выговаривая слова. В красивых глазах Дитрих вспыхнул огонь. – Вот как, герр Шелл? Вы думаете, русских так легко одолеть? Уж не считаете ли вы, что Германия неуязвима? Покраснев пуще прежнего, Шлегель пожал плечами. – Как я уже говорил, мадам, моя родина – Дания. Моя мать была немкой, дома мы говорили по-немецки, но я не испытываю особой любви к Германии и не верю в миф о ее непобедимости. Однако вести с Восточного фронта определенно свидетельствуют о том, что Советам осталось не так много времени. – В прошлом году то же самое говорили об Англии, – заметила Дитрих, – однако британский флаг до сих пор реет на ветру. Хемингуэй наполнил бокалы. – Но их конвои несут огромные потери, Марлен, – сказал он. – Ни один остров не в силах выиграть войну, если его морские пути перерезаны. – Правда ли, что „волчьи стаи“ собирают в здешних южных водах обильную жатву? – оживленным тоном произнесла Соннеман. – Мы кое-что слышали об этом перед отплытием из Нассау, однако… – Она умолкла. Хемингуэй покачал головой. – Группы немецких подлодок не забираются так далеко на юг, дочка. Они рыщут стаями в Северной Атлантике, но в здешних широтах за торговыми судами охотятся поодиночке. Однако количество кораблей, торпедированных в наших краях, прибывает удручающими темпами – как мне сказали в посольстве, в среднем по тридцать четыре в неделю. Я удивлен тем, что ваш капитан пренебрегает опасностью того, что „Южный крест“ будет потоплен немецкой подлодкой… или взят на абордаж. Шлегель откашлялся. – Мы мирная научная экспедиция, составленная из гражданских лиц, – официальным тоном заявил он. – Подводные лодки нас не потревожат. Хемингуэй фыркнул. – Откуда такая уверенность? Один взгляд через перископ на вашу яхту размером с миноносец – и командиру подлодки захочется осмотреть „Южный крест“, и он торпедирует вас, только чтобы сорвать досаду. – Писатель вновь повернулся к Соннеман. – Разумеется, я надеюсь, что этого не случится, – добавил он. – Ведь „Южный крест“ служит базой для вашей экспедиции и отелем на то время, пока вы будете искать руины. – Именно так, – подтвердила Хельга. – И притом весьма комфортабельным отелем. – Она провела изящным пальцем по скатерти, словно рисуя карту. – Инки построили вдоль побережья дорогу длиной более двух с половиной тысяч миль и еще одну такую же, ведущую в глубь материка. Мы рассчитываем отыскать один из затерянных городов у южного окончания прибрежной дороги. – Она улыбнулась. – И хотя „Викинг“ – некоммерческая организация, наши находки могут принести немалую прибыль. – Керамика? – спросила Геллхорн. – Предметы искусства? – Отчасти керамика, – ответила Соннеман, – однако самое интересное… Можно рассказать о толедских гобеленах, Тедди? – спросила она, бросив взгляд на Шлегеля. Было видно, что Шлегелю невдомек, о чем идет речь. Выдержав приличествующую случаю паузу, он сказал: – Да, полагаю, вы можете говорить об этом, Хельга. Соннеман подалась вперед. – Толедский наместник написал Филлипу Второму – этот документ хранится в архивах, и у меня есть копия, – что он отсылает в Испанию огромные холсты, громадные карты его владений в Андах, красотой и богатством превосходящие все ткани и гобелены, когда-либо найденные в Перу и существовавшие в христианском мире. Письмо прибыло по адресу, но ткани исчезли. – И вы думаете, что они сохранились в перуанских джунглях? – с сомнением спросила Дитрих. – Разве материи не гниют в таком климате? – Нет, если их должным образом упаковать и глубоко зарыть в землю. – Голос Соннеман чуть дрогнул от воодушевления. – Достаточно, Хельга, – вмешался Шлегель. – Не будем утомлять гостей мелочами, которые интересуют только нас. Рамон и две служанки внесли десерт. После традиционных кубинских блюд он, повинуясь инстинктам приверженца китайской кулинарии, приготовил сложное по составу, изысканное яство – на сей раз это был торт-безе с мороженым.* * *
– Но почему вы привели свой исследовательский корабль сюда, на Кубу? – спросил за десертом Хемингуэй. – Наше судно ремонтировалось и переоснащалось на атлантическом побережье, – натянутым тоном отозвался Шлегель. – Пока ученые настраивали приборы и поисковое оборудование, капитан и экипаж производили морские испытания. В настоящий момент мы устраняем некую неисправность… ходового вала, если не ошибаюсь. В течение нынешнего месяца мы отправимся в Перу. – Через канал? – спросила Геллхорн. – Естественно, – ответил Шлегель. Хемингуэй пригубил вино: – Сколько просуществовала империя инков, мисс Соннеман? – Зовите меня Хельгой, – сказала блондинка. – Или дочкой, если вам нравится. Хотя, по-моему, вы старше меня всего лет на десять, Эрнест. Хемингуэй торжествующе улыбнулся: – Так и быть. Хельга. – Отвечая на ваш вопрос, Эрнест, – продолжала Соннеман, – я могла бы сказать, что настоящая инкская династия существовала лишь около двух столетий, вероятно, начиная с четырнадцатого века, в течение экспансии Капака Юпанки, вплоть до 1532 года, когда империю покорил Пизарро со своей маленькой армией. Потом, на протяжении трехсот лет, их территория оставалась под владычеством испанцев. Хемингуэй кивнул. – Несколько сотен испанцев в доспехах победили… сколько инков им противостояло, Хельга? – По оценкам исследователей, к началу испанского завоевания инки контролировали примерно двенадцатимиллионное население, – ответила Соннеман. – Святой боже, – произнесла Дитрих, – трудно поверить, что кучка захватчиков могла победить столь многочисленный народ. Хемингуэй взмахнул десертной вилкой. – Я никак не могу отделаться от мыслей о нашем приятеле Гитлере. Он носится с идеей Тысячелетнего Рейха, но вряд ли нынешний год станет моментом торжества его маленькой империи. Всегда найдется сукин сын покрепче тебя… как это было в случае испанцев и инков. Шлегель вперил в него ледяной взор. Соннеман улыбнулась и сказала: – Да, но нам известно, что испанцы прибыли туда в период очередной междуусобицы претендентов на инкский трон… вдобавок в стране тогда свирепствовали эпидемии. И даже великолепная дорожная система инков – между прочим, куда более совершенная, чем европейские шоссе, – сыграла на руку испанцам в их завоеваниях. – Как гитлеровские автобаны? – произнес Хемингуэй, вновь усмехаясь. – Думаю, через два-три года генерал Пэттон поведет по прекрасным немецким шоссе свои танки „Шерман“. Шлегелю явно не нравился оборот, который приняла беседа. – Полагаю, Германия будет слишком занята борьбой против коммунистических орд, чтобы думать об экспансии, – негромко произнес он. – Разумеется, я не сторонник тех целей и задач, которые ставят перед собой нацисты, но нельзя не признать, что война, которую ведет Германия, – это, по сути, битва западной цивилизации против славянских потомков Чингисхана. Марлен Дитрих гневно фыркнула. – Господин Шелл, – отрывисто бросила она, – фашистская Германия не имеет никакого отношения к западной цивилизации! Поверьте, я знаю, что говорю. Русские, которых вы так презираете… наши союзники… видите ли, господин Шелл, между мной и русскими существует некая мистическая связь. Их было немало в Германии в годы моей молодости – людей, бежавших от революции. Мне нравились их воодушевление, их энергичность, то, как могли они пить день напролет и не терять головы… – Ага! – воскликнул Хемингуэй. – Целый день произносить тосты! – с чувством продолжала Дитрих, и в ее голосе явственнее зазвучал немецкий акцент. Она подняла бокал с вином. – Дети трагической судьбы – вот кто такие русские, господин Шелл. Не так давно Ноэль Ковард назвала меня грубиянкой и реалисткой. Эти слова как нельзя удачнее описывают русскую душу, господин Шелл. В этом смысле я более русская, чем немка. Я никогда не сдалась бы нацистскому зверью, не сдадутся и русские! Она осушила бокал, и Хемингуэй молча последовал ее примеру. Я подумал, какие выводы сделал бы из этого разговора Эдгар Гувер, и решил при случае заглянуть в досье Дитрих под грифом „О/К“. – Да, – сказал Шлегель, озирая стол, словно в поисках поддержки, – но вы, несомненно, вы, разумеется… – Нацисты не имеют никакого отношения к западной цивилизации, – повторила Дитрих. Она любезно улыбалась, но ее голос по-прежнему звучал вызывающе. – Их верхушку составляют дегенераты… извращенцы и импотенты… омерзительные гомосексуалисты… прошу прощения, Марта. Этот разговор неуместен за столом. Геллхорн улыбнулась. – За нашим столом любая брань в адрес нацистской Германии вполне уместна и даже поощряется, Марлен. Прошу вас, не стесняйтесь. Дитрих покачала головой. Ее светлые волосы скользнули по щекам с высокими скулами, потом вновь улеглись. – Я уже закончила, только хотела бы спросить – как называют по-испански таких извращенцев, Эрнест? Хемингуэй ответил, глядя на Шлегеля: – Разумеется, для обозначения гомосексуалистов в испанском имеется стандартное слово „maricon“, однако кубинцы называют так пассивных педерастов, а активных – „bujarones“, это аналог нашего „butch“, то есть лесбиянка. – Кажется, наша беседа и впрямь становится неприличной, – заметила Геллхорн. Хемингуэй бесстрастно взглянул на нее: – Мы ведь говорим о нацистах, дорогая, не правда ли? Улыбка Дитрих оставалась любезной, как прежде: – А какое из этих слов звучит более оскорбительно, Эрнест? – „Maricon“, – ответил писатель. – Однако еще большее презрение выражается местным словом „machismo“, которое означает пассивного, женоподобного педераста. Его второй смысл – слабость, трусость. – В таком случае я буду называть нацистов „maricon“, – непререкаемым тоном заявила Дитрих. – Что ж… – произнесла Геллхорн и умолкла. „Что ж, – подумал я. – Очень интересно. Ужин в обществе абверовского агента – вполне возможно, двух агентов, но, вне всяких сомнений, со сводной сестрой супруги Германа Геринга…“ Если эта беседа о „maricones“ и извращенцах была неприятна Хельге Соннеман, она ничем этого не показала. Она сияла радостной улыбкой, как будто ей на ум пришла некая забавная мысль, но было трудно сказать, что именно ее забавляет – то ли едкие выпады в адрес ее нацистских знакомых, то ли все возраставшее недовольство „Тедди Шелла“. Геллхорн заговорила о поездках, которые наметила на ближайшее время. – На следующей неделе я отправлюсь в Сент-Луис навестить семью, – сказала она. – А в середине лета… вероятно, в июле… я собираюсь осуществить один весьма интересный проект. Хемингуэй рывком вздернул голову. Я был готов поклясться, что он слышит об этом „интересном проекте“ впервые. – „Кольерс“ готов оплатить мою поездку по Карибам в качестве репортера, – продолжала Геллхорн. – Острова в военную пору и тому подобная чепуха. Они собираются арендовать для этой цели тридцатифутовый шлюп и даже нанять экипаж из трех негров, которые отправятся вместе со мной. – И это – моя жена! – рявкнул Хемингуэй, но в его громовом голосе мне послышалась шутливая нотка. – Собирается провести лето, плавая среди островов в компании трех черномазых. За неделю гибнут тридцать пять судов, и это только начало. Готов ли „Кольерс“ оплатить твою страховку, Марти? – Разумеется, нет, дорогой, – сказала Геллхорн, улыбаясь в ответ. – Они знают, что ни одна субмарина не посмеет утопить жену такого знаменитого писателя. Дитрих подалась к ней. – Марта, милая, это звучит просто восхитительно. Потрясающе. Но тридцатифутовая лодка… не слишком ли она мала для дальнего похода? – Да, маловата, – сказал Хемингуэй, поднимаясь из-за стола и возвращаясь с бутылкой бренди. – На восемь футов короче нашей „Пилар“. – Он держал бутылку за горлышко и смотрел на Геллхорн с таким видом, будто хотел, чтобы в его руке оказалась ее шея. – Марти, в июле к нам приезжают Патрик и Джиджи. Геллхорн подняла лицо и посмотрела на мужа. Ее взгляд можно было счесть если не вызывающим, то, во всяком случае, непоколебимым. – Я помню, Эрнест. Я буду здесь, когда они приедут. Ты уже несколько лет твердишь, что хотел бы проводить наедине с ними больше времени. Писатель серьезно кивнул. – Особенно теперь, когда надвигается эта проклятая война. – Казалось, он пытается отвлечься от дурных мыслей. – Хватит мрачных разговоров. Не выпить ли нам бренди на террасе? Ночь ясная, а ветер разгонит москитов.* * *
Геллхорн и Дитрих ушли в дом. Шлегель в унылом молчании курил сигарету. Длинный черный мундштук как нельзя лучше дополнял его образ прусского аристократа. Соннеман и Хемингуэй устроились рядом в удобных деревянных креслах. Чуть раньше прошел дождь, и в ночном воздухе пахло мокрой травой, влажными пальмовыми листьями и далеким морем. В небе ярко светили звезды, мы легко различали огни у подножия холма. Также мы видели свет у его вершины… и слышали смех и звуки фортепиано. – Проклятый Стейнхарт… – пробормотал Хемингуэй. – Опять затеял вечеринку. Я ведь его предупреждал. „О господи“, – подумал я. Однако на сей раз Хемингуэй не стал требовать, чтобы принесли бамбуковые шесты и фейерверки. Внезапно он заявил: – Этим летом мы проведем научные изыскания. – Вот как? – сказала Соннеман. Ее глаза сверкали даже в тусклом свете свечей и керосиновых ламп, расставленных на террасе. – Какие именно изыскания, Эрнест? – Океанографические, – ответил Хемингуэй. – Американский Музей естественной истории попросил нас исследовать морские потоки, промерить глубины, изучить миграционные пути марлина… и так далее. – Вы серьезно? – Соннеман посмотрела на Шлегеля. Тот выглядел изрядно захмелевшим. Она взболтала остатки бренди в высоком бокале. – У меня есть несколько друзей в Музее. Кто организует ваши исследования, Эрнест? Доктор Херрингтон или, быть может, профессор Мейер? Хемингуэй улыбнулся, и я понял, что он тоже не на шутку пьян. Он начинал пить с утра, и, хотя это никак не отражалось на его речи, походке и поведении, я заметил, что большая доза спиртного делает его несколько беспечным и неосторожным. Это следовало взять на заметку. – Будь я проклят, если помню, дочка, – как ни в чем не бывало ответил он. – Спроси у Джо, его специально прислали, чтобы заниматься этими делами. Кто организует экспедицию, сеньор Лукас? Соннеман обратила свою сияющую улыбку ко мне: – Наверное, Фредди Харрингтон? Если не ошибаюсь, это по его части. Я чуть нахмурился. Шлегель сел прямо, буравя меня вызывающим взглядом. Я подумал, что, может быть, разговор о „maricones“ и „bujarones“ задел больное место этого плешивого рохли. – Нет, Харрингтон работает в отделе ихтиологии, – ответил я Соннеман. – Помимо исследований марлина, мы займемся ультразвуковым зондированием океана, промерами температур, построением изобат, уточнением карты… и тому подобными вещами. Соннеман подалась ко мне. – Стало быть, вас финансирует профессор Мейер? Мне помнится, он – неизменный участник океанографических программ Музея. Я покачал головой. – Мой руководитель – доктор Куллинз из департамента картографии и океанографии. Соннеман нахмурилась. – Питер Куллинз? Невысокий щуплый старик, древний, как Мафусаил? Носит клетчатые жилетки, которые не сочетаются с его же костюмами? – Доктор Говард Куллинз, – сказал я. – Он ненамного старше меня. Я бы дал ему тридцать два или тридцать три года. Он только что принял руководство департаментом после Сандсберри, умершего в декабре прошлого года. – Ах да, разумеется. – Соннеман покачала головой, как бы дивясь собственной глупости. – Я слишком много выпила. Я не знакома с доктором Куллинзом, но слышала, что он выдающийся картограф. – Два года назад он написал книгу„Неизведанные моря“, – сказал я. – Нечто вроде истории морских исследований от плавания „Бигля“ <Имеется в виду кругосветное путешествие Чарльза Дарвина.> до современных арктических экспедиций. Ее раскупали нарасхват. – Думаю, Куллинз узнал обо мне от ихтиолога Генри Флауэра, – вмешался Хемингуэй. – Я более десяти лет снабжал его сведениями о миграции марлина. В 1934 году мы с Чарли Кэдуолдером отправились в океанографическое плавание с острова Ки-Уэст. Я занимаюсь подобными вещами уже несколько лет. – Чарльз Кэдуолдер? – переспросила Соннеман. – Директор Музея естественных наук филадельфийской Академии? – Он самый, – ответил Хемингуэй. – Они с Томом Куллинзом обожали вместе пропустить стаканчик-другой, ловя марлина. – Что же, – сказала Соннеман, пожимая писателю руку, – желаю удачи вам и вашей экспедиции. Желаю удачи всем нам. В ответ мы допили виски, остававшееся в наших бокалах.* * *
Хуан приготовился отвезти Шлегеля и Соннеман в док, где их ждал быстроходный катер „Южного креста“. Хельга пообещала приехать в финку в воскресенье. Вслед за этим последовали объятия и рукопожатия. Теодор Шлегель очнулся от своего мрачного оцепенения ровно настолько, чтобы поблагодарить хозяина и хозяйку за „весьма познавательный вечер“. Я уже хотел извиниться и оставить Хемингуэя наедине с Дитрих, но он велел мне задержаться. Еще один бокал бренди спустя актриса объявила, что ей хочется спать и что она отправится в постель. Геллхорн повела ее во флигель для гостей. По пути женщины продолжали оживленно переговариваться. Мы остались вдвоем, и писатель спросил: – Где ты всего этого набрался, Лукас? Про американский музей? – В своих телефонных счетах вы обнаружите квитанцию за два весьма дорогих междугородных разговора с Нью-Йорком, – ответил я. – Тебе везет, – заметил Хемингуэй. – Как правило, проходит не меньше двух часов, прежде чем соединят с Нью-Йорком. Если вообще соединят. Я посмотрел ему в глаза. – Зачем вы затеяли эту игру? Если кто-нибудь из них или они оба действительно работают на Абвер, это было опасно и глупо. Хемингуэй бросил взгляд вдоль дорожки: – Что ты о ней думаешь, Лукас? Вопрос застал меня врасплох, потом я сообразил, что он, должно быть, имеет в виду Соннеман. – О Хельге? – спросил я. – У нее железное самообладание. Если она действительно немецкий агент, значит, ее артистический дар двадцатикратно превышает способности Тедди Шелла. Хемингуэй покачал головой. – Я говорил о Фрау, – негромко произнес он. – О Марлен. Я не имел ни малейшего понятия, зачем ему понадобилось, чтобы я хвалил его приятельницу. Потом я вспомнил, что Хемингуэй сильно пьян. Его безупречная дикция и уверенные движения рук заставляли забыть об этом. – Настоящая леди, – сказал я. – Очень красивая. – Да, – согласился Хемингуэй. – У нее восхитительная фигура… и чудесное лицо. Знаешь что, Лукас?.. Я молчал. – Даже если бы у Марлен не было ничего, кроме ее голоса… совсем ничего… то и тогда она могла бы разбить твое сердце. Я неловко шелохнулся. Подобные разговоры по душам нашими договоренностями не предусматривались. – Вы хотите… – начал я. Хемингуэй поднял палец. – Знаешь, – сказал он, продолжая смотреть вслед жене и актрисе, которые вошли в освещенный коттедж, – для меня нет большего счастья, когда я написал о чем-нибудь, что хорошо знаю, а она прочла это… и ей понравилось. Я проследил за его взглядом, устремленным в темноту. Хемингуэй мог говорить о Геллхорн, но я был уверен, что речь идет о Дитрих. – Я ценю мнение Фрау превыше отзывов большинства самых известных критиков, Лукас. И знаешь, почему? – Нет, – ответил я. Было уже поздно. Дитрих осталась в финке на выходные, значит, завтра и послезавтра Хемингуэю будет не до меня. Я хотел показать ему шифровальный блокнот и отправиться на боковую. – Она многое знает, – сказал Хемингуэй. – Знает многое о вещах, которые я описываю в своих книгах. А ты знаешь, о чем я пишу, Лукас? Я покачал головой. – О выдуманных людях и событиях? – предположил я наконец. – Пошел ты к такой-то матери, – сказал Хемингуэй. Но Он сказал это по-испански, негромко и с улыбкой. – Нет, Лукас. Я пишу о настоящих людях, о жизни, чести и достоинстве, о человеческих поступках. И я ценю мнение Фрау, потому что она многое знает об этом… знает об этом буквально все. И о любви. Она знает о любви больше, чем все те люди, которых ты когда-либо встречал, Лукас. – Пусть так, – сказал я и, взяв пустой бокал с широкого подлокотника кресла, провел пальцем по ободку. – Показать вам блокнот? Взгляд Хемингуэя сфокусировался. – Получилось? Ты его расшифровал? – Да. – Чего же мы ждем, черт побери? – сказал писатель. – Марти проболтает с Марлен еще по меньшей мере полчаса. Идем в старую кухню, посмотрим, о чем беседуют нацисты в ночном море. Мы уже почти добрались до старой кухни, и я начал доставать блокнот, когда кто-то забарабанил в парадную дверь. Я сунул блокнот в карман пиджака в тот самый миг, когда Хемингуэй распахнул дверь. На пороге стояли два полицейских. Они крепко держали за руки Марию Маркес. Мария вырывалась, бранилась, лила слезы и всхлипывала.Глава 15
Хемингуэй мгновенно оценил ситуацию. – Где ты была? Мы тебя искали! – по-испански крикнул он Марии и, шагнув вперед, вырвал извивающуюся девицу из рук озадаченных полицейских. Это были не сотрудники Национальной кубинской полиции и даже не гаванские легавые. Они были одеты в грязную форму провинциальных констеблей. Один из них был без фуражки, и его сальные волосы закрывали правый глаз. Тот, что был старше и выше ростом, выпрямился, одернул мятый мундир и обратился к писателю на испанском: – Сеньор Хемингуэй, мы весьма сожалеем о том, что побеспокоили вас в столь позднее время, однако… – Ничего страшного, – ответил Хемингуэй. – Мы только что поужинали. Входите, прошу вас. Полицейские шагнули в вестибюль. Они поглядывали на Марию, словно сомневаясь в том, что поступили правильно, отпустив ее. Но Хемингуэй уже держал ее за левый локоть, обняв могучей рукой за тонкую талию, и прижимал к себе, словно норовистого жеребенка. Волосы девушки были растрепаны, лицо опущено, она все еще содрогалась от рыданий. – Сеньор Хемингуэй, – вновь заговорил старший. – Эта женщина… она сказала, что ее зовут Селия. О ней сообщили жители Сан-Франциско де Паула. По всей видимости, она бродила весь вечер… мы застали ее спящей в сарае сеньориты Санчес. Хемингуэй улыбался полицейским, но, когда он открыл рот, его голос прозвучал твердо и сурово: – Разве закон запрещает спать в чужих сараях, офицер? Старший полицейский покачал головой и, сообразив, что до сих пор стоит в фуражке, торопливо сорвал ее и сунул под мышку. Даже если Хемингуэй – янки, он все равно важная особа, знаменитый писатель, друг множества важных особ в Гаване и кубинском правительстве. – Нет, нет, сеньор… то есть, я хотел сказать, да – с формальной точки зрения она нарушила границы чужих владений… впрочем, мы арестовали эту девушку, потому что Национальная полиция распорядилась искать похожую на нее женщину, гаванскую „jinetetra“ по имени Мария, которую хотят допросить в связи с убийством… – Вместо того чтобы назвать Марию шлюхой, он воспользовался другим, более вежливым выражением. – Эта женщина утверждает, будто бы она работает в вашем поместье, сеньор Хемингуэй. – Так оно и есть, – громко произнес писатель, вновь улыбаясь полицейским. – Она работает у меня несколько месяцев… хотя сказать „работает“ было бы преувеличением. Ее мать обещала, что она будет хорошей служанкой, но она до сих пор днями напролет тоскует по дому. – Хемингуэй повернулся к Марии: – Селия, ты опять сбежала домой? Мария, не поднимая лица, кивнула и всхлипнула. Хемингуэй ласково потрепал ее по затылку. – Видите ли, господа… в наши времена трудно найти хорошую прислугу. Спасибо, что привели девушку обратно. Не хотите ли выпить на дорогу? Полицейские переглянулись, явно почувствовав, что контроль над ситуацией уплывает у них из рук. – По-моему… – заговорил старший, – думаю, сеньор Хемингуэй, мы должны доставить ее в Гавану. В распоряжении Национальной полиции указано… – В этом нет нужды, – перебил Хемингуэй, подходя к двери. – Если вы увезете девушку в город, кому-нибудь придется ночью везти ее обратно. Вы выполнили свой долг, джентльмены. Может быть, все-таки выпьете по стаканчику? – Нет, нет, спасибо, сеньор Хемингуэй. – Старший вновь натянул фуражку, и писатель вывел их на террасу. – Тогда заглядывайте к нам в воскресенье на барбекю, – радушно предложил Хемингуэй. – В воскресенье к нам приедет мэр Гаваны. Мы сочтем за честь видеть вас среди наших гостей. – Да, да, спасибо, – в один голос произнесли полицейские и, отдавая честь, попятились к воротам. Хемингуэй помахал им с террасы левой рукой, поскольку правой он продолжал обнимать Марию. Как только дряхлая полицейская машина со скрипом покатила по дорожке, он втолкнул девушку в дом. – Сейчас ты пойдешь в новую кухню и подождешь, пока мы тебя не позовем, – негромко сказал он ей. Мария кивнула и вышла, не говоря ни слова. – Мальдонадо узнает об этом и заявится сюда, – сказал я. – Чтобы проверить, кто она такая. Хемингуэй повел массивными плечами. – Тогда мне придется застрелить Мальдонадо, – отозвался он. – Теперь поздно о чем-либо сожалеть. – Он все еще говорил по-испански, хотя я обращался к нему на английском.* * *
Я раскрыл шифровальный блокнот на столе в старой кухне. В доме не было никого, кроме Марии, а она не могла подслушать нас сквозь стены и толстые двери. Для своих записей я воспользовался страничками блокнота, но еще не заполнил ни одну из сеток Кохлера. Я написал над первой сеткой слово „Brazilians“ и вычеркнул соответствующие клетки. Теперь сетка выглядела так: BRAZILIANS– Откуда ты узнал ключевое слово? – спросил Хемингуэй. – И какие клетки следует вычеркнуть? – Я взял первое слово на сто девятнадцатой странице „Геополитики“, – ответил я. – Откуда ты узнал номер страницы? – Во вступительной группе символов сообщения указано, что искомая страница – девятая, и что сообщение отправлено 29 апреля, – объяснил я. – В качестве отправной точки они используют 20 апреля. – Почему? – Это не имеет значения, – сказал я. – Итак, 20 апреля – нулевой день и вместе с тем сто десятый день года. Иными словами, „девятая страница“ на самом деле имеет номер сто девятнадцать. Первое слово на этой странице – „Brazilians“. – Прекрасно, – сказал Хемингуэй. – А как насчет вычеркнутых клеток? – Им назначены номера в соответствии с кодовым словом „Brazilians“, – ответил я. – Первая буква в слове – „В“, она же вторая буква алфавита. Поэтому я вычеркнул вторую клетку. В данном случае используется простая подстановка цифр вместо букв… „k“ – это ноль, а ложная буква – „х“. Вступительная группа сообщения – „x-k-k-i-x“, что переводится как „страница 009“, то есть, начиная с 20 апреля, сто девятнадцатая страница книги. Хемингуэй кивнул. – Вторая буква в слове „Brazilians“, – продолжал я, – это „г“, которая, если исключить „k“, обозначающую ноль, расположена на семнадцатом месте. Я отсчитал семнадцать позиций от первой зачеркнутой клетки на втором месте и вычеркнул ту, на которой остановился. Потом идет „а“, первая буква алфавита, следовательно… – Я все понял, – нетерпеливо произнес Хемингуэй. – Но где же расшифровка? Я показал ему записи Кохлера на первой страничке. – Пропустите первые две группы по пять символов – они ничего не означают, – а также группу „x-k-k-i-x“, и здесь начинается текст сообщения от 29 апреля. – Я указал нужное место. h-r-1-s-l/r-i-a-l-u/i-v-g-a-m/v-e-e-b-l/e-r-s-e-d/e-a-f-r-d/m-1-e-o-e/w-d-a-s-e/o-x-x-x-x – И все же я не понимаю… – заговорил Хемингуэй, но я начал вписывать буквы в клетки, и он сказал: – Ага. Они идут вертикально. – Да, колонками по пять символов. Я быстро заполнил оставшиеся клетки. – Дай взглянуть, – сказал писатель.
Он прочел сообщение вслух, но очень тихо: – „Умберто прибыл, передал послания, все в порядке, Альфредо“. – Он посмотрел на меня. – Кто такой Альфредо? – Это кличка радиста, – сказал я, а про себя подумал: „Альбрехт Густав Энгельс, бывший оператор тайной радиостанции „Боливар“ в Рио, ныне пребывающий под строжайшим надзором“. – Думаешь, это Кохлер? – спросил Хемингуэй голосом донельзя возбужденного мальчишки. – Возможно, – сказал я. – Но, скорее, этот человек обитает на суше. Хемингуэй кивнул и вновь посмотрел на блокнот, держа его едва ли не благоговейно, словно Том Сойер, которому в руки попалась карта с обозначением мест, где зарыты сокровища. – Кто такой Умберто? Я пожал плечами, хотя знал об этом из последнего досье, полученного мной от Дельгадо. Кличку „Умберто“ носил абверовский агент Герберт фон Хейер, сорокалетний бразилец, который родился в Сантосе, но ходил в школу в Германии, там же обучался ремеслу разведчика и стал помощником Энгельса. Он был посредником между Энгельсом и нашим сегодняшним гостем Теодором Шлегелем. Фон Хейера арестовали через два дня после того, как Шлегель отправился в экспедицию фонда „Викинг“. – Что еще? – нетерпеливо спросил Хемингуэй. – Что еще содержится в блокноте? Первая страница была исписана убористым почерком Кохлера. – Сейчас посмотрим, – сказал я. – Следующее сообщение ссылается на семьдесят восьмую страницу. – „Геополитики“? – Нет, антологии германской литературы, – ответил я. – Вводная группа символов указывает на первые двадцать шесть букв на этой странице. – Я выписал их: „it took years for him to realize“. – Минутку, – сказал Хемингуэй. – Это по-английски. – Вы очень наблюдательны, – съязвил я. – Оригинал написан на немецком. Это еще один трюк Абвера – прежде чем расшифровывать послание, агент должен перевести ключевую фразу. – Хитрые ублюдки, – пробормотал Хемингуэй. Я невольно улыбнулся. Из всех шифров, которыми пользовались немцы, этот был самый простой – для удобства полевых агентов, действующих в районах, где риск перехвата минимален. – Да, – сказал я. – Однако в данном случае использован другой код, вероятно, потому, что это было сообщение Кохлера, отправленное им седьмого мая из открытого моря. Первые двадцать шесть букв образуют кодовую группу. Кохлер присвоил каждой букве номер… единицы – для всех „а“, двойки – для всех „е“, тройки для „f“… – Подожди, – остановил меня Хемингуэй. – Где же… а, я понял. „Ь“, „с“ и „d“ во фразе „it took him years to realize“ отстутствуют. – Совершенно верно, – отозвался я. – Таким образом данная фраза зашифровывается в виде численной последовательности 5-12-12-9-9-6-13-2-1-10-11-3-9-10-4-5-8-12-9-102-1-7-5-14-2. – Хм-мм… – произнес Хемингуэй. – Теперь дело несколько усложняется, – продолжал я. – Кохлер передавал буквы теми же пятисимвольными группами, но, вместо того чтобы начинаться в первой колонке сверху вниз, текст сообщения начинается под первой буквой „а“. В нашем случае – под буквой „а“ в слове „years“. Я обвел чертой запись Кохлера на первой странице, целиком содержащую текст второй передачи: o-t-o-d-o/v-y-l-s-o/c-s-n-e-m/o-d-b-u-m/e-e-d-t-w/o-y-r-d-t/e-s-i-a-a/b-1-r-e-r/n-i-f-t-i/s-s-t-b-r/s-d-o-i-a/e-e-e-t-r/c-g-e-i-1/t-n-y-r-i/i-e n-m-d/y-e-e-i-e/r-t-n-n-t/t-r-c-n-t/g-e-a-m-o/v-o-f-s-e/r-s-d-t-i/i-o-a-e-n/r-t-n-n-t/h-e-o-n-d/s-t-o-e-o – Все ясно, – сказал Хемингуэй. Он взял карандаш и написал первую группу под буквой „а“ в слове „years“. – Вторая группа располагается… где? Под второй буквой „а“? – Да, – ответил я. Хемингуэй вписал „v-y-1-s-o“ под буквой „а“ в слове „realize“. – А вот третья, – сказал он. – Она пишется под первой „е“, следующей буквой в этом алфавите. – Ну вот вы и разобрались, что к чему, – заметил я. Хемингуэй быстро заполнил оставшиеся клетки:
Хемингуэй прочел сообщение вслух, по контексту дополняя недостающие слова: – Британский конвой из десяти грузовых судов и одного эсминца был замечен вчера в полночь у Ресифа. Точно неизвестно, куда он направляется, но, скорее всего, на Тринидад. Дополнительную информацию передадим завтра. Хемингуэй откинулся на спинку кресла и бросил карандаш на стол. – Ради всего святого, Лукас, это уже не игра! Эти мерзавцы действительно помогают топить корабли. Я кивнул: – Однако мы можем лишь предполагать, что это было сообщение Кохлера. Может быть, он перехватил другую передачу из Бразилии… или даже с Кубы. Это могла быть даже передача с субмарины, которую мы видели в море. Хемингуэй помассировал щеки: – Что содержат оставшиеся кодовые группы? Я улыбнулся. – Тут начинается самое интересное. Насколько я могу понять, Кохлер зашифровал их накануне своей смерти или еще на день раньше. – Я взял карандаш, вычеркнул ячейки на следующей странице, написал двадцать шесть ключевых букв и молниеносно заполнил сетку: „15 мая – три агента высадились на сушу, LJ-176, координаты: 23 град. 21 мин, сев. долг., 80 град. 18 мин. зап. шир. Все в порядке“. – Me cago en Dios! – вскричал Хемингуэй. – Estamos copados! Я невольно моргнул, услышав его вульгарную фразу, дословно переводившуюся так: „Я испражняюсь на господа! Нас обложили“. Хемингуэй помчался в свой кабинет за морскими картами. Я преодолел несколько шагов, отделявших старую кухню от новой, и внимательно посмотрел на Марию. Девушка понуро сидела за столом, держа в руках стакан с водой. Она подняла на меня покрасневшие глаза. Я кивнул ей, закрыл дверь, вернулся в старую кухню и вновь принялся изучать блокнот и записи в нем. Хемингуэй разложил на столе карту кубинских прибрежных вод. Это была старая карта с множеством чернильных и карандашных пометок. – Вот, – сказал он, тыча в карту кончиком пальца. – Эта точка находится в семи-восьми милях от маяка у Бахия де Кадис Ки. Я знаю это место. Отличная позиция для высадки шпионов. Слабый прибой, и они могут укрыться в горах уже через двадцать минут. Проклятие! – Он хватил кулаком по столу. – В блокноте еще два сообщения, – произнес я и показал ему свои записи, даже не вычеркивая клетки. Первый текст гласил: „13 июня, U-239, три агента…“ – и координаты. Потом сокращенными словами: „Амер. Алюм. Корп., Ниаг. водоп. электрост., Нью-Йор, водоснабж.“ – Полагаю, это цели намеченных диверсий, – негромко добавил я. – Американская алюминиевая корпорация, большой гидроэлектрический комплекс на Ниагарском водопаде и система водоснабжения Нью-Йорка. – Тринадцатое июня! – взревел Хемингуэй так громко, что я был вынужден призвать его к тишине, иначе нас услышала бы Мария. – Эти диверсии только предстоит совершить. Они пытаются добраться до Штатов через Кубу. Мы можем заманить этих ублюдков в ловушку, потопить субмарину и лодку, на которой они собираются высадиться. Или нет, мы дождемся, когда они окажутся на берегу, и схватим их за „cojones“. Хемингуэй вновь вскочил на ноги и склонился над картами. – Подожди-ка, – сказал он полминуты спустя. – Указанные координаты находятся за пределами кубинских вод. Я сейчас. Он вернулся с огромным атласом. Открыв его, он принялся листать страницы. – Вот, – сказал он наконец. – Мать вашу. Святой боже, спаси нас и сохрани. Я подался вперед и бросил взгляд на точку, которую он указывал, хотя уже видел ее в этом самом атласе, перед тем как отправиться на вечеринку у бассейна. – Лонг-Айленд, – сказал я. – Очень интересно. – Рядом с Амангасеттом, – произнес Хемингуэй, бессильно откидываясь в кресле. – Они могут добраться до Ниагары и остальных своих целей на автобусе. Будь все проклято. Нам не удастся перехватить их своими силами, однако… – Он взял меня за руку. – Мы должны передать эту информацию в посольство… в ФБР, в военно-морскую разведку. Уж они-то сумеют задержать подлодку и агентов. Взять их с поличным на месте преступления. – Да, – сказал я. – Но есть еще одно сообщение. В нем указано: „Девятнадцатое июня, четыре агента“ – и координаты. Если не ошибаюсь, это южные воды. – Южные, но не кубинские, – ответил Хемингуэй и вновь начал листать атлас. – Вот здесь. Побережье Флориды. Неподалеку от Джексонвилля. – Он взъерошил ладонью волосы и вновь обмяк в кресле. Готовясь к вечеринке, он смазал прическу, и теперь черные пряди встали дыбом. – Господи, Лукас, они лезут на берег, точно крысы. Мы должны немедленно ехать к послу. – Это подождет до завтра, – сказал я. – Там есть еще послания? – Хемингуэй едва ли не алчно посмотрел на записи в блокноте. Я покачал головой. – Нет, но если преемник Кохлера не изменит шифр, мы сможем перехватывать его сообщения в море. Писатель кивнул. – Значит, мы должны как можно быстрее выйти в плавание. Пришли на борт Дона Саксона – он будет слушать радио и пеленговать. И мы отправимся ловить подлодки. – Нам нужно решить, что делать с Марией, – заметил я. – С кем? С Дикаркой? А что с ней? – Хемингуэй пригладил волосы. – По-моему, вы правы, и Мальдонадо обязательно прочтет рапорт местных полицейских, – сказал я. – В самое ближайшее время Бешеный жеребец появится здесь и начнет вынюхивать. – Подумаем об этом утром, – отозвался писатель, по-прежнему не отрывая взгляда от шифровальных сеток. Внезапно он улыбнулся. – Черт побери, если случится самое худшее, мы можем взять ее с собой. Я решил, что он шутит. – В качестве повара? Хемингуэй с самым серьезным видом покачал головой. – Наш кок – Грегорио. Лучший на все времена. Дикарка займется штопаньем носков и будет подавать патроны, если нам придется туго. „О господи“, – подумал я. Хемингуэй вскочил на ноги и крепко стиснул мои плечи. – Ты хорошо поработал, Лукас. Очень хорошо. Не знаю, кто ты и что ты на самом деле, но, коли ты способен поставлять „Хитрому делу“ такую информацию, я рад, что ты с нами. – Он собрал записи. – Я беру их с собой в постель, а утром поеду к Спруиллу Брадену. Я кивнул. – Доброй ночи, Лукас, – сказал Хемингуэй и погасил свет в старой кухне, продолжая улыбаться. – Ты отлично поработал.
* * *
Вернувшись в „Первый сорт“, мы с Марией не рискнули включать свет. Пока она раздевалась и готовилась ко сну в маленькой комнате, погруженной во тьму, я вынул пистолет из тайника, устроенного в кладке камина, проверил его, убеждаясь, что он заряжен, но в стволе нет патрона, и сунул оружие под подушку. За окнами царила непроглядная темнота, шел дождь. Я вынес койку в другую комнату, но, прежде чем я успел забраться под одеяло, Мария втащила свою кровать с постелью и поставила ее рядом с моей. Я хмуро посмотрел на нее. – Прошу вас, сеньор, – зашептала она. – Умоляю вас. Я только лягу рядом, но даже не прикоснусь к вам. Мне так страшно. – Она забралась под одеяло. Ее койка стояла в полуметре от моей. – Какого черта ты делала в деревне? – хрипло прошептал я. – Нам очень повезло, иначе Бешеный жеребец в эту самую минуту уже допрашивал бы тебя. Мария задрожала. – Мне было так одиноко, так плохо, – прерывающимся шепотом заговорила она. – Я отправилась туда… не подумав хорошенько. Я все равно не смогла бы уехать домой. У меня не было денег на автобус. Я решила, что как-нибудь доберусь. Сеньор Хосе, больше я не уйду с фермы, клянусь глазами своей матери… Я вздохнул и посмотрел в потолок. Мгновение спустя одеяло Марии негромко зашуршало, и ее маленькая ладонь коснулась моего плеча. Ее ледяные пальцы вздрагивали. Я не протянул руку, не сжал их, но и не оттолкнул. „О господи, – думал я, прислушиваясь к звукам капель, барабанивших по крыше, и шелесту пальмовых листьев, которые колыхал ветер. – А ведь лето только начинается“.Глава 16
Май сменился июнем, и у меня возникло ощущение медленно, но неумолимо затягивающейся петли. Что это за петля и на чьей шее, я даже не догадывался. Тропический зной из тягостного превратился в невыносимый, и когда не дул пассат, я чувствовал себя так, словно мой череп угодил между молотом жгучего солнечного света и наковальней слепящего моря. Вести с обоих фронтов были в основном тревожные, и лишь отдельные события могли удержать малодушного человека от полного отчаяния. В начале июня Мексика объявила войну государствам фашистской Оси. – Ну наконец-то, – сказал Хемингуэй, когда мы услышали эту новость по коротковолновому приемнику на борту „Пилар“. – Узнав об этом, Гитлер и Того выбросят белое полотенце. Уже в этом месяце отборные мексиканские полки наводнят Европу и Британские острова. 4 июля японцы предприняли массированную атаку на Мидуэй-Айленд. Четверо суток экипаж „Пилар“ слушал скудные сообщения о боях; все, кроме меня, были уверены в том, что настала новая эра морской войны. Хемингуэй утверждал, что времена боевых судов и артиллерии миновали, что теперь они – такое же архаичное оружие, как арбалеты, и отныне решающее слово будет за кораблями, о которых мы слушали по радио, – авианосцами, выпускающими самолеты против вражеских флотилий с дистанции в сотни миль. Судя по всему, адмирал Эрнест Кинг, главнокомандующий военно-морскими силами США, придерживался одного с Хемингуэем мнения, поскольку еще до того, как определился результат сражения, он в беседе с журналистами признал, что его исход изменит течение войны. 7 июня ВМФ США объявил о своей победе, но лишь несколько месяцев спустя все мы осознали, насколько важна была эта победа. В тот же день 4 июня из оккупированной Восточной Европы поступило сообщение об убийстве шефа СС в Чехословакии Рейнхарда Гейдриха. Убийство якобы было совершено местными партизанами, однако по моим сведениям, полученным еще в канадском Лагере „X“, „партизанская“ вылазка была не чем иным, как тщательно спланированной операцией британцев, которые привлекли к ней чешских националистов. Идея ликвидировать Гейдриха принадлежала Уильяму Стефенсону и Яну Флемингу. Ничуть не удивило меня и полученное 10 июня сообщение о том, что в отместку за гибель Гейдриха нацисты полностью разрушили чешский город Ледеч и казнили более 1300 его мирных жителей. Немцы выбрали Ледеч по одной-единственной причине – прошел слух, что кто-то из заговорщиков провел там ночь. Война разгоралась. К середине месяца генерал Роммель вышвырнул британцев из Северной Африки. Японцы заняли два острова алеутского архипелага и захватили американский самолет, который потопил шесть японских кораблей, курсировавших вдоль этой островной цепочки. Вопреки вдохновляющим словам Марлен Дитрих о мощи Советов, становилось очевидно, что немцы продолжают оттеснять русских в степи и что Севастополь, их главная военная база на Черном море, оказался на грани падения. 13 июня Франклин Делано Рузвельт утвердил создание Офиса Стратегических Служб, тем самым концентрируя и укрепляя могущество бывшего КСК Уильяма Донована. Я хотел послать Уоллесу Филлипсу поздравительную открытку, однако он уже получил от меня подарок – шифрованные сообщения о британских конвоях – и, хотя он знал, что для людей Донована это устаревший материал, все же выполнил свою часть сделки. Когда я в конце мая попытался дозвониться Филлипсу в „Насиональ“, мне сообщили, что коротышка выписался из отеля и велел пересылать корреспонденцию на его имя в Лондон.* * *
Из новостей, имевших прямое отношение к нашей деятельности, можно упомянуть сообщение американских и гаванских газет о том, что 29 июня ФБР задержало на Лонг-Айленде восемь германских диверсантов. Почти все подробности операции были искажены, однако это была первая реакция на храброе обращение Хемингуэя в посольство месяцем ранее. Хемингуэй был раздосадован тем, что его доклад восприняли без энтузиазма. Посол Браден не скупился на похвалы, высоко оценив усилия Хемингуэя и его тайной организации, и выразил уверенность в том, что ФБР и военно-морской флот немедленно предпримут необходимые меры, как только его сообщение будет получено и подтверждено. Полковник Томасон отправил Хемингуэю с дипломатической почтой зашифрованное поздравление, однако скрытый скептицизм в похвалах полковника и посла взбесил писателя. Я подал свой рапорт Дельгадо и ничуть не удивился, когда он, прочтя его, лишь чуть-чуть вздернул одну бровь и искривил губы. Только месяц спустя я узнал от него подробности „ареста шпионов“. Никаких немцев на Лонг-Айленде не задерживали. Невзирая на обращение Хемингуэя в посольство и мой доклад, поданный через Дельгадо самому Гуверу, немецкие диверсанты высадились на берег 13 июня, не встретив там ни ФБР, ни сотрудников спецслужб флота. Их высадка прошла незамеченной, если не считать случайной встречи с новобранцем береговой охраны по имени Джон Куплен. 13 июня он патрулировал пустынный пляж неподалеку от Амангасетта, Лонг-Айленд, и заметил четырех мужчин, которые вытягивали на берег огромный спасательный плот, борясь с сильным прибоем. Куплен дождался, когда они выйдут на сушу. Мужчины сказали ему с едва заметным немецким акцентом, что они рыбаки, что их судно пошло ко дну и они направляются в город за помощью. Их слова не до конца убедили Куплена. Помимо акцента и городской одежды мужчин, его насторожило то, что один из них, забывшись, обратился к своему товарищу на пулеметном немецком. Вдобавок они были вооружены „люгерами“, а в предрассветных сумерках в сотне шагов от берега отчетливо виднелась германская субмарина, пытавшаяся сняться с песчаной мели. Абверовские агенты допустили промах, который на их месте мог бы совершить любой хорошо подготовленный хладнокровный разведчик. Они сунули Куллену 260 долларов – по всей видимости, все деньги, которые нашлись в их промокших карманах. Одним глазом посматривая на их оружие, а другим на субмарину, Куллен принял взятку и побежал в пункт береговой охраны, однако руководство игнорировало его сообщение на протяжении нескольких часов. Если бы Куллену поверили и начали действовать еще до восхода, они бы обнаружили четырех шпионов, нетерпеливо дожидавшихся поезда на станции Амангасетт железной дороги Лонг-Айленда, и увидели бы немецкую подлодку, которая продолжала шумные попытки сняться с мели. В конце концов Куплена в сопровождении нескольких человек отправили назад взглянуть, какая там обстановка. Агенты скрылись, подлодка уплыла, однако солдаты обнаружили следы недавней раскопки в дюнах и извлекли из песка мешок со взрывчаткой, детонаторами, таймерами, бикфордовым шнуром и запальными механизмами. Также там были ящики с немецкой формой, спиртным и сигаретами. Руководство береговой охраны, призвав на помощь опыт многолетних тренировок, устроило мозговой штурм и вынесло решение о неубедительности этих улик. С докладом о них можно было повременить. Чуть позднее в тот же день ФБР все-таки узнало о высадке от шефа полиции Лонг-Айленда, который утром видел, как солдаты береговой охраны извлекают из песка контейнеры и мешки. В полдень Бюро приступило к действиям, отправив на берег полдюжины отборных агентов с заданием произвести „осторожный осмотр“. К их осторожному осмотру присоединились около тридцати гражданских лиц, которые подтащили шезлонги к месту находки и наблюдали за тем, как береговая охрана завершает раскопки. Тем временем немецкие шпионы сели в поезд до Нью-Йорка и разбились на две пары. Они поселились в дорогих гостиничных номерах и заказали роскошный обед. В тот же день директор Гувер засекретил события от прессы, поднял по тревоге все отделения ФБР и устроил самую масштабную охоту за черепами в истории Бюро. Однако абверовские агенты исчезли без следа. – Тут и началось самое забавное, – рассказывал впоследствии Дельгадо. Двое немецких агентов, командир группы Джордж Джон Даш и его напарник Эрнст Петер Бюргер, независимо друг от друга, решили отказаться от своих первоначальных намерений. Прежде чем Абвер завербовал Даша, тот прожил в США почти двадцать лет, и его верность Германии оказалась не слишком тверда. Бюргер попросту решил прихватить 84 тысячи долларов, которые адмирал Канарис выделил для выполнения задания, и удариться в бега. Также он втайне решил убить Даша, если тот не пожелает изменить Фатерлянду. Они посовещались. Даш взял деньги и отправился звонить в нью-йоркское отделение ФБР, чтобы сдать своего напарника и сдаться самому. Специальный агент, дежуривший в тот день на телефоне, выслушал подробный рассказ Даша о высадке на Лонг-Айленде и его готовности передать ФБР 84 000 долларов, если кто-нибудь заедет за ними. – Ага, – сказал агент. – А вчера нам звонил Наполеон. – И он повесил трубку. Оскорбленный, но не обескураженный агент Абвера Джордж Джон Даш уложил деньги в чемодан и поехал на поезде в Вашингтон, чтобы лично встретиться с Эдгаром Гувером. Проведя всю вторую половину дня в Департаменте юстиции, где его отфутболивали из кабинета в кабинет, он наконец получил пятиминутную аудиенцию у Д. М. Лэдда. Судя по всему, его рассказ произвел на Лэдда такое же впечатление, как на нью-йоркского агента, и он уже собрался выгнать Даша, но тот вывалил на пол содержимое чемодана. – Ну и дела, – сказал, по слухам, третий по значимости помощник Гувера и глава отдела Внутренней разведки. – Это что – настоящие? Бюро допрашивало Даша восемь суток. За это время, как утверждал Дельгадо, немецкий агент буквально вывернулся наизнанку, рассказывая о связных своей группы, шифрах, объектах диверсий и графике действий. Когда интерес ФБР иссяк, Даш сообщил дополнительную информацию о военной промышленности нацистов, планах перевооружения и характеристиках подводной лодки, которая доставила шпионов на Лонг-Айленд. Также он поведал о высадке в Джексонвилле, штат Флорида, которую Хемингуэй предсказал в своем донесении. 20 июня в Нью-Йорке были арестованы Бюргер и двое оставшихся агентов. У них тоже сразу развязались языки. Дождавшись встречи флоридских диверсантов с их связным в Чикаго, Гувер 27 июня арестовал всех четверых. В тот же день он сообщил об операции прессе, утаив, каким образом Бюро узнало о немецких агентах. „С этим придется подождать до окончания войны“, – официально и официозно заявил представитель ФБР по связям с общественностью. Однако, объяснил мне Дельгадо, в своей переписке с Рузвельтом и во множестве заявлений для газетчиков, сопровождаемых оговорками типа „не для печати“, „только для сведения присутствующих“, Гувер прозрачно намекнул о том, что специально подготовленный агент ФБР внедрился не только в абверовскую группу – он якобы учился в той же школе диверсантов, что и незадачливые немцы, – но и в само Гестапо, и, вполне вероятно, в высшие круги нацистского командования. Гувер также дал понять, не говоря об этом напрямую, что он лично находился на местах высадки на Лонг-Айленде и во Флориде и собственными глазами наблюдал за действиями обреченных агентов. Через полтора месяца после этих событий я спросил Дельгадо, какую награду получили Даш и Бюргер за то, что сдались сами, выдали своих товарищей и снабжали информацией Бюро. – Закрытый суд уже состоялся, – ответил Дельгадо. – Все восемь приговорены к смерти. Шестерых казнили на электрическом стуле в тюрьме округа Колумбия. За заслуги перед Соединенными Штатами Бюргеру смягчили приговор, отправив его на пожизненную каторгу, а Даша – на каторгу с тридцатилетним сроком. – С годами директор становится сентиментален, – заметил я. – Но куда девались „наши“ донесения? Гувер действительно мог находиться на берегу и следить за высадкой этих слабоумных. Дельгадо пожал плечами: – Я всего лишь передаю твои бумажки, Лукас. Я не могу заставить людей читать их.* * *
Невзирая на то что „Южный крест“ стоял на ремонте и мог выйти в море не раньше середины июня, уже в мае Хемингуэй начал патрулировать окрестные воды на „Пилар“ и усиленно готовить экипаж для более продолжительных походов в июне. Порой он брал с собой всю свою команду – „старшего офицера“ Уинстона Геста, старшего помощника и кока Фуэнтеса, Синдбада-морехода Хуана, Пэтчи Ибарлусию, испанского эмигранта, бывшего официанта из Барселоны Фернандо Меса (лично мне он не внушал особого доверия), Роберто Герреру, американского морского пехотинца, радиста Дона Саксона и меня. Я приступил к изучению береговых ориентиров, по которым рыбаки находят путь. Старый домик на берегу у Кохимара был для нас знаком того, что мы приблизились к Хондону де Кохимар – глубокой подводной впадине, в которой в изобилии водилась рыба. Мы называли его Розовым Домом, или Домом Священника. Отсюда было всего около одной морской мили – по-нашему, „Хемингуэевой мили“ – до точки на расстоянии выстрела от Ла-Кабана, крепости у входа в гаванский залив. Хемингуэй и Ибарлусия утверждали, будто бы в пору сильных течений здесь много марлина, но во время „тренировочных походов“ нам некогда было рыбачить. Гольфстрим протекает мимо Гаваны в восточном направлении – гигантская река внутри моря шестидесяти миль шириной, со скоростью течения от 1,2 до 2,4 узла, – она тем выше, чем больше глубина. Гольфстрим имеет более насыщенный синий цвет, нежели окружающие его прибрежные воды. По этой синей реке плывут гаванские мусорные баржи, направляясь к глубоким местам, где и сваливают свой зловонный груз. Вокруг барж снуют тысячи чаек и десятки местных суденышек, охотясь за рыбой, которая поедает отбросы. Иногда Хемингуэй пристраивал „Пилар“ в хвост этой процессии – баржи, чайки, рыбачьи лодки и мы, исследовательская яхта американского Музея естественной истории, зачастую тянущая за собой на канате „вспомогательное судно“ – шлюпку „Крошка Кид“. – Взгляни, Лукас! – окликнул он меня одним жарким солнечным утром. – Море дает нам все – жизнь, пищу, погоду, звук прибоя по ночам, ураганы, от которых жизнь становится интереснее, – и вот она, наша благодарность. – Хемингуэй указал на огромные кучи мусора, сваливаемые через борта барж в глубокие синие воды. Я пожал плечами. Океан громаден, малая толика мусора ему нипочем. В качестве тренировочного полигона Хемингуэй выбрал район Параисо-Ки, Райского Острова. Нам предстояло отбуксировать туда множество бочек из-под горючего, которые должны были послужить нам мишенями. Не ограничившись стрельбой по бочкам из автоматов Томпсона и прочего оружия, Хемингуэй разрисовал их физиономиями с темной прядью волос над злобно сверкающим глазом и чаплинскими усиками. Неудивительно, что члены экипажа только и говорили о доставке „груза Гитлеров“ для учебной стрельбы. Мы нередко становились на якорь у островного буя и учились бросать гранаты. Пэтчи Ибарлусия и Роберто Геррера были вне конкуренции – они зашвыривали „ананасы“ не правдоподобно далеко и, как правило, разброс составлял не более трех метров. – Попадание точно в боевую рубку, – объявлял в таких случаях Хемингуэй, с ходового мостика следивший за взрывами в полевой бинокль. К северу от острова из моря торчал полузатопленный грузовой корабль, на котором Хемингуэй устраивал абордажные учения. Он быстро подводил яхту к высокому борту корабля, мы забрасывали туда крючья и всей толпой с автоматами и гранатами в руках перебирались по канатам на полусгнившие палубы и надстройки, крича „Хенде хох!“ и другие расхожие немецкие слова, пока наконец невидимый нацистский экипаж не сдавался без боя. Впрочем, порой Хемингуэй объявлял, что противник оказывает сопротивление, и тогда мы швыряли в люки гранаты и что было сил улепетывали прочь. Случались у нас и занятия, более приближенные к реальной обстановке, – мы отрабатывали спасательные операции на непотопляемом плотике, который предоставил нам флот США. Он был ярко-желтого цвета, его весла представляли собой маленькие складные оранжевые лопасти. Еще никогда я не выглядел и не чувствовал себя таким болваном, как во время этих учений, – мы все, восемь или девять человек, теснились на дурацком крохотном плоту, гребя против течения, которое словно задалось целью увлечь нас в Европу, и при этом на наших головах красовались „научные сомбреро“ – широкополые шляпы, которые Хемингуэй приобрел для операции „Френдлесс“ и называл „научными“, поскольку буквально все, что находилось на борту „Пилар“, в те дни считалось „научным“, из-за идиотского плаката, висевшего у нас на корме. – Стало быть, именно на этом плоту нас захватят в плен или расстреляют? – спросил Гест во время одной из „спасательных операций“. Хемингуэй лишь нахмурился, но, когда мы вернулись на борт яхты выпить холодного пива, он показал нам кое-что. Документ был отпечатан на бланке из толстой плотной бумаги с впечатляющим заголовком: КАНЦЕЛЯРИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО АТТАШЕ ПОСОЛЬСТВО США ГАВАНА, КУБА 18 мая 1942 г. Всем, кого это может касаться. Во время отлова образчиков рыб для американского Музея естественной истории сэр Эрнест Хемингуэй осуществляет эксперименты с радиооборудованием, установленным на борту его моторной яхты „Пилар“. Данные эксперименты проводятся с ведома военно-морского атташе США и ни в коей мере не ущемляют чьих-либо интересов. (подпись) полковник Хейн Д. Бойден. Agregado Naval de los Estados Unidos, Embajada Americana. <Морской атташе Соединенных Штатов, американское посольство.> – Это наше каперское свидетельство, – пояснил Хемингуэй. – Как в старые времена, оно придает нам законный статус… отличает нас от пиратов и шпионов… и помешает немцам расстрелять нас, если при нападении на подводную лодку нам изменит удача. Немцы изрядные подонки, но чрезвычайно пунктуальны во всем, что касается международных соглашений. Хемингуэй пустился в пространные объяснения, чем были каперские свидетельства в „давние времена“, и, пока он разглагольствовал, мне оставалось лишь смотреть на него вытаращенными глазами и гадать, неужели он всерьез полагает, будто бы этот кусок бумаги защитит нас от пули в затылок, если немецкий экипаж захватит „Пилар“ при попытке потопить их субмарину. Уже не в первый раз я убедился, что сэр Эрнест Хемингуэй не только создает в своих книгах утонченные вымышленные миры, но и живет в них. Иногда мы выходили на яхте вдвоем, и эти дни посвящались практике по навигации и радиосвязи. Когда я сказал Хемингуэю, что умею обращаться с пеленгатором и коротковолновой рацией, он удивился. – Черт побери, – заметил он, – коли так, нам не нужен Дон Саксон. – Саксон потребуется вам, когда вы оставите меня наберегу присматривать за операциями „Хитрого дела“, – возразил я. Такое случалось нередко – едва ли не через день, – и тогда я сутками разъезжал по окрестностям, встречаясь с „агентами“, либо сидел во флигеле финки, принимая донесения от самых пугливых из них, которые являлись через поля и заросли и уходили тем же путем. В дни, предшествовавшие выходу в море „Южного креста“, записи в бортовом журнале „Пилар“ выглядели примерно так: 12 июня 1942 г.: Патрулировали до Пуэрто-Пургатории… вернулись в 5.30. 13 июня: Наблюдали с 2 до 7. Вышли до рассвета, патрулировали до темноты, прошли 12 миль. Гест отправился в Бахия Хонду на вспомогательном судне. 14 июня: Наблюдали с 4 утра. Вышли после рассвета, в 7.20. Патрулировали до 13, встали на якорь в порту в 16, загрузили яхту припасами. За краткой записью „Гест отправился в Бахия Хонду на вспомогательном судне“ крылась маленькая драма. В тот день нас было шестеро на борту – мы искали подлодки в районах, где их встречали местные рыбаки, и вдруг поступило шифрованное радиосообщение с требованием прибыть в указанную точку для получения приказов. Погода была скверная – к северу и западу от нас бушевал шторм, по морю ходили двухметровые волны, и тем не менее Хемингуэй направил Уинстона Геста и Грегорио Фуэнтеса на „Крошке Киле“ в Бахию Хонду – туда, где нас ждали секретные распоряжения. – Нынче дерьмовая погода, Эрнест, – заметил Уинстон, цепляясь за поручни яхты, которую бросало на волнах. Фуэнтес ничего не сказал, но хмурый взгляд, которым он окинул горизонт, был красноречивее любых слов. – Плевать мне на погоду, – бросил Хемингуэй. – Нам будут отданы приказы, джентльмены. Первые приказы с тех пор, как мы начали эту операцию. Живыми или мертвыми, вы обязаны вернуться до рассвета и доставить их мне. Богач и костлявый кубинец кивнули, взяли с собой немного воды и провизии и забрались в утлую лодчонку. Впоследствии они рассказывали, что плавание было тяжелым, как, впрочем, они и ожидали, и „Крошка Кид“ добрался до Бахии Хонды только в девять вечера. Там они встретились со связным-американцем и получили запечатанный пакет в непромокаемом мешке. Не вскрывая пакет – это была прерогатива Хемингуэя, – Гест и Фуэнтес наскоро закусили и поспали два часа, после чего пустились в изматывающее обратное плавание к „Пилар“. На рассвете Хемингуэй получил запечатанный пакет и спустился вниз. По прошествии некоторого времени он вновь появился на палубе и велел Фуэнтесу и Ибарлусии поднимать якорь. – Мы возвращаемся в Кохимар, – объявил он, раскладывая карту на пульте управления ходового мостика яхты. – Пополним там припасы. Лукас, ты отправишься в финку и будешь управлять „Хитрым делом“. Всем остальным приказано явиться… вот сюда. – Он ткнул пальцем в карту. Мы вытянули шеи. Хемингуэй указывал на скопление островов неподалеку от Камагуэя, у северного побережья центральной Кубы, где мы еще не бывали. – Лукас, – сказал он мне, пока яхта, раскачиваясь на волнах, возвращалась в порт, – ты должен не только присматривать за лавочкой, но и следить за „Южным крестом“. Дашь нам радиограмму, как только он соберется выйти в море. – Слушаюсь, – отозвался я. В чем бы ни заключались „секретные распоряжения“, Хемингуэй не пожелал рассказывать мне о них. Это нимало не беспокоило меня, но было жаль, что „Пилар“ отправляется в настоящий поход, а меня оставляют торчать на берегу. Море нравилось мне больше, чем ферма, и сколь бы глупыми ни были наши „учения“, каждая минута, проведенная в плавании, казалась мне чем-то намного более реальным, нежели операции „Хитрого дела“.* * *
В отсутствие Хемингуэя я руководил „разведывательной сетью“, присматривал за Марией и размышлял о писателе. „Выясни, кто он и что он“, – приказал мне Гувер, а я отнюдь не был уверен, что хотя бы начал выполнять его задание. Сидя на берегу, я думал о том Хемингуэе, которого видел в море. На мой взгляд, лишь немногие обстоятельства способны вскрыть истинную сущность человека. Вероятно, одно из них – поведение на поле боя, но мне трудно об этом судить, поскольку я не бывал на войне. Мои схватки были тайными, скрытыми от постороннего взгляда, длились секунды или минуты, и единственной наградой было выживание. Еще одно испытание – это когда опасности подвергаются твои близкие, но у меня никогда не было семьи, которую я должен защищать… или могу утратить – во всяком случае, с тех пор, когда я достиг зрелости. Но море… это испытание я чувствовал всей душой. В море ходят сотни, тысячи людей, однако удалиться от берега на собственной яхте так, что теряешь его из виду – а Хемингуэй проделывал это регулярно, – совсем иная, куда более опасная вещь. Характер человека проявляется в том, как он воспринимает море – безразлично или с уважением, которого оно заслуживает, – и не мешает ли ему собственное „я“ ощущать ту грозную силу, которая окружает человека или горсточку людей, оказавшихся наедине с открытым океаном. Хемингуэй относился к морю с уважением взрослого человека. Он стоял на мостике, широко расставив босые ноги и привычно, бессознательно борясь с качкой; его обнаженная грудь потемнела под солнцем, темные волосы блестели от пота, лицо покрывала двухдневная щетина, глаза прятались в тени длинного козырька кепки. Хемингуэй воспринимал море всерьез. От его мальчишеской бравады не оставалось и следа, когда он наблюдал за погодой, изучал течения и приливы, возвращаясь в порт, когда падал барометр или на горизонте появлялся хотя бы намек на шторм… либо встречал бурю лицом к лицу, если было невозможно укрыться в спокойной бухте. Хемингуэй никогда не отлынивал от работы на своей яхте, никогда не отказывался стоять „собачью вахту“, не жаловался, когда приходилось откачивать зловонную воду из трюма, возиться с двигателем по уши в масле или прочищать засорившийся гальюн. Он делал все, что требовалось сделать. Мой отец погиб в Европе, когда мне было шесть лет. Он ушел из дома, когда мне исполнилось пять. Судя по двум сохранившимся фотографиям, мой отец ничем не напоминал Хемингуэя. У писателя была выпуклая грудь, кривоватые ноги, могучая шея и огромная голова, а отец был худощавым, с длинными пальцами, узким лицом и кожей, которая летом темнела до такой степени, что незнакомые люди зачастую звали его ниггером. Однако что-то в том, как Хемингуэй держался во время плавания, всколыхнуло мои воспоминания об отце и особенно о дяде – вероятно, ловкость, с которой он балансировал на палубе, и его привычка вести беседу, ни на минуту не отвлекаясь от наблюдения за морем и погодой. Хемингуэя никак нельзя было назвать ловким человеком – я уже заметил, что с ним то и дело происходят досадные неприятности, и что у него плохое зрение, – однако на палубе „Пилар“ он двигался с изяществом, которое дается только прирожденному мореходу. Я начинал осознавать, что Эрнест Хемингуэй относится к морю с тем же напряженным вниманием, что и к словам женщин, которые с ним разговаривают – по крайней мере, тех из них, которые ему интересны. Вероятно, Хемингуэй поступал так по одной и той же причине – полагая, что они могут чему-либо его научить. А учился он быстро – это я уже усвоил. В ходе наших бесед выяснилось, что он не бывал в море мальчишкой и лишь изредка – молодым мужчиной, если не считать двух плаваний за океан на больших судах; в первый раз он отправился на войну в качестве водителя санитарного фургона и вернулся раненым ветераном, во второй – поехал в Европу журналистом и вернулся женатым мужчиной, собираясь поселиться с супругой в Канаде. И только в 1932 году Хемингуэй начал регулярно выходить в море на малом судне „Анита“, которое принадлежало его другу по имени Джо Рассел, жившему на Ки-Уэст. Рассел преподал Хемингуэю азы кораблевождения, обучил его искусству контрабанды спиртного – так, по крайней мере, утверждал сам писатель – и пригласил на глубоководную рыбалку в кубинских водах. Ибарлусия и другие рассказывали, что в последнее время Рассел зачастил на Кубу и Хемингуэй принимает его, как любимого дедушку. Он берет престарелого бутлеггера на „Пилар“, подносит ему лимонад, то и дело спрашивая: „Вам удобно, господин Рассел?“ Хемингуэй по-прежнему чтил своего наставника, хотя они уже давно распрощались с ролями учителя и ученика. Я видел, что это – еще одна черта характера писателя, которую не замечают и недооценивают окружающие. Хемингуэй был одним из редких людей, которые позволяют другим приобщить себя к их страстям – например, к бою быков, ловле форели, охоте на крупных зверей, глубоководной рыбалке, умению разбираться в изысканных винах и яствах, лыжному спорту, военной журналистике – и спустя несколько лет, а то и месяцев уже сам Хемингуэй становился знатоком и мог с полным правом рассуждать о красоте и увлекательности занятия, которое интересует собеседника и которым, в свою очередь, заинтересовался он сам. И даже бывшие учителя преклонялись перед познаниями Хемингуэя, видя в явном дилетанте настоящего специалиста, которым тот стал. До сих пор Хемингуэй оставался сущим ребенком в разведке; все, что бы он ни предпринял в этой области, было наивным бредом. Что, если бы я начал учить его реалиям этой игры? Не превратится ли он в считанные месяцы из любителя в серьезного профессионала, не познает ли все тонкости шпионажа и контрразведки – точно так же, как познал грозные прихоти и капризы океана? Возможно. Но я не видел причин учить его этому. Во всяком случае, пока.* * *
Дельгадо мгновенно уловил иронию, прозвучавшую в моем голосе, когда я сообщил, что остаюсь руководить „Хитрым делом“ на время первого десятидневного похода Хемингуэя к архипелагу Камагуэй. – Тебя прислали сюда наблюдать за этим дурацким предприятием, – сказал Дельгадо. – Теперь ты его возглавил. Я пропустил его слова мимо ушей. У меня не было времени спорить. С отъездом Хемингуэя и его друзей в финке воцарилось относительное спокойствие. Садовник Пичило лениво слонялся среди клумб и газонов, столяр Панчо Кастро пилил и стучал молотком, сооружая в доме все новые книжные полки и посудные шкафы, время от времени слышались проклятия и ругань повара Рамона, а Рене Валлиреаль, старший слуга Хемингуэя, крадучись, словно кот, обходил поместье, понукая остальных работников и следя за хозяйством в отсутствие Роберто Герреры, который обычно исполнял обязанности управляющего. Сейчас Роберто находился в море вместе с хозяином. Весь май и начало июня Хемингуэй и Геллхорн устраивали в усадьбе долгие воскресные вечеринки. Здесь неизменно собиралась большая оживленная толпа; как правило, присутствовали одни и те же лица – посол Браден с супругой, кучка басков, возглавляемая игроками хай-алай, сотрудники посольства – Эллис Бриггз и Боб Джойс с женами и детьми, – кое-кто из испанских священников, чаще всего дон Андрее, а также наши миллионеры, Уинстон Гест и Том Шелвин; бывали здесь и заезжие яхтсмены. Пока „Южный крест“ ремонтировался, Хельга Соннеман два или три раза навестила финку, но Теодор Шлегель больше не появлялся. Помимо завсегдатаев, здесь бывали самые разные люди из тех, что заглядывают на огонек и остаются на ужин или вечернюю выпивку, – например, Келли по кличке Горе-мореход, знаменитые местные рыбаки, вроде Карлоса Гитерреса, и старые друзья Хемингуэя, приехавшие с Ки-Уэст повидаться с писателем и его женой. Теперь вечеринки прекратились, и воскресными вечерами здесь царила такая тишина, что, сидя во флигеле и читая донесения, я слышал жужжание пчел в саду. Мы спрятали Марию Маркес от лейтенанта Мальдонадо, укрыв ее, что называется, в очевидном месте. Дикарка – я уже привык к ее прозвищу – по-прежнему спала в „Первом сорте“, а днями работала в усадьбе, наравне с остальными слугами. Геллхорн потребовала, чтобы молодая проститутка не прикасалась к пище, но если не считать этого ограничения да разве еще того, что Марта не желала видеть девушку, Мария отлично вписалась в трудовой ритм фермы. Когда Марта отсутствовала – а в июне она практически каждый день утром уезжала в Гавану на „Линкольне“ с шофером Лопесом и возвращалась поздно вечером, – Дикарке разрешалось в свободное от несложных хлопот время отдыхать у бассейна и бродить по поместью. Лейтенант Мальдонадо так и не приехал к нам искать девушку. Из донесений „Хитрого дела“ я знал, что Национальная полиция все еще охотится за ней, равно как и агенты Теодора Шлегеля из числа кубинских фалангистов, но из тех же донесений мне было известно, что Мальдонадо и абверовский шпион слишком заняты, чтобы лично гоняться за подозреваемой в убийстве. Изучая доклады людей Хемингуэя и взяв на себя некоторые обязанности по руководству операцией, я увидел шпионскую сеть писателя в новом свете. Существуют два способа создания работоспособной разведывательной либо контрразведывательной организации. Первый, общепринятый, состоит в том, чтобы разбить полевых агентов на ячейки, каждая из которых действует самостоятельно и ничего не знает о других, а руководителям ячеек известны только те клички, имена и шифры, которые им необходимо знать. Эта система обладает преимуществом герметичных отсеков корабля; пробоину в одном или нескольких из них можно локализовать и заштопать, поддержав судно на плаву. Другой путь – особенно это касается контрразведки – познакомить всех участников друг с другом. Данный способ разрешает многие проблемы безопасности – в такую группу практически невозможно внедрить чужака, вдобавок все агенты могут обмениваться сведениями и приказами. Профессиональные разведывательные службы редко используют этот метод – исключением является только Британская координационная разведывательная группа, – поскольку разрушение одной переборки погубило бы весь корабль целиком. Однако разношерстный коллектив „Хитрого дела“ работал на удивление эффективно. Стало ясно, что ни лейтенант Мальдонадо, ни его босс Хуанито Свидетель Иеговы не добились сколь-нибудь существенного успеха в розысках Марии Маркес, поскольку они были слишком заняты вымогательством взяток и выполнением поручений ФБР и немецких развед-служб. Поначалу я относился к подобным выводам с сомнением, однако по мере того, как донесения агентов Хемингуэя вновь и вновь подтверждали друг друга, продажность Бешеного жеребца во всем многообразии ее форм становилась совершенно очевидной. И все это казалось полной бессмыслицей. Судя по донесениям любительской агентуры Хемингуэя, от ее внимания не ускользало ни одно событие в Гаване и окрестностях. Швейцар „Плазы“ доложил, что лейтенант Мальдонадо и Теодор Шлегель шесть раз встречались в номере Шлегеля в этом отеле. Каждый раз лейтенант Национальной полиции уходил с тяжелым чемоданом. Девушка из салона красоты дважды прошла следом за Мальдонадо до банка „Финансеро Интернасиональ“ на улице Линеа. Оставшиеся четыре раза за лейтенантом успешно проследил один из оперативников Хемингуэя, известный только по кличке Агент 22. Я не знал, кто этот человек, но он вел наблюдение весьма умело, хотя его письменные доклады были составлены с такими ошибками и таким плохим почерком, что казалось, будто бы их автор – десятилетний ребенок. Бывший испанский аристократ, ныне состоявший в Совете директоров „Финансеро Интернасиональ“, сообщил, что у Мальдонадо нет частного вклада в этом банке, но имеется специальный счет некой „Оришас Инкорпорейтед“ (дословно – „Боги Инкорпорейтед“), и Мальдонадо внес на этот счет шестьдесят тысяч американских долларов, а его шеф Хуанито Свидетель Иеговы – еще тридцать пять. Зачем Абвер платит Кубинской национальной полиции? Уж конечно, не для того, чтобы откупиться – я был уверен в этом. Правоохранительные органы острова и без того делали вид, будто бы не замечают сторонников нацизма, фалангистов правого толка и германских агентов на Кубе. Но потом на горизонте возникло ФБР. Официант из китайского ресторана „Пасифик“ дважды видел у своего заведения Бешеного жеребца с американцем по имени Ховард Норт. Слепой старик с Парк-Сентрал знал звук мотора „Крайслера“ Норта и сообщил, что в обоих случаях тот уехал на северо-восток по Прадо, направляясь к Малекону. Во второй раз наш неустрашимый Агент 22 каким-то образом умудрился проследить „Крайслер“ от Квинта Авенида до портового города Мариэль, а потом с близкого расстояния наблюдал, как лейтенант Национальной полиции и сеньор Ховард Норт шагают вдвоем по пустым докам. Норт передал Мальдонадо маленький коричневый чемоданчик. По сообщению нашего человека в банке, вечером того же дня Мальдонадо внес на счет „Оришас“ пятнадцать тысяч американских долларов. При первой встрече Мальдонадо с Нортом счет пополнился на такую же сумму. Ховард Норт был специальным агентом гаванского отделения Федерального бюро расследований. Я не стал просить Дельгадо подтвердить этот факт. В среду, пока Хемингуэй находился в архипелаге Камагуэй, я принес недельный доклад в посольство Бобу Джойсу и мельком поинтересовался, не появились ли в городе новые агенты. – Откуда вы узнали? – спросил Джойс, читая доклад, который я составил специально для него, изложив только самое важное. Потом он поднял глаза и улыбнулся. – Реймонд Ледди, один из заправил Бюро и куратор нашего посольства, очень недоволен тем, что ему подсунули еще одного человека. Специальный агент Норт. Его прислали из Вашингтона десять дней назад. По-моему, его никто сюда не вызывал, и он здесь не нужен… в Гаване и без него действуют шестнадцать сотрудников. – Его прислали с каким-нибудь важным заданием? – спросил я. – Разумеется, если это не тайна. Мне просто стало любопытно, не связан ли он как-нибудь с операцией Хемингуэя. – По-моему, Норт вовсе не собирается участвовать в каких-либо операциях, – ответил Джойс, усмехнувшись. – Он кто-то вроде счетовода. Вот почему Ледди и другие ребята из гаванского отделения так раздражены. Они полагают, что Норта прислали сюда проверить их гроссбухи… удостовериться, что все пенни и песо учтены как положено. – Кто-то ведь должен этим заниматься, – сказал я. Десятки тысяч долларов, которые Национальная кубинская полиция получает от Теодора Шлегеля и ФБР. Что происходит, черт побери? Можно было предположить, что взятки Абвера имеют прямое отношение к разведывательным операциям „Южного креста“, но чего добивается бухгалтер ФБР, финансируя Бешеного жеребца и его босса? И, что самое любопытное, местное отделение Бюро ничего об этом не знает. В третью неделю июня, незадолго до возвращения Хемингуэя и его приятелей из секретного похода, я вызвал Агента 22. Он явился 23 июня, во вторник. В тот день я находился в финке и сидел в тени с доктором Геррерой Сотолонго, беседуя с ним о „Хитром деле“. Разумеется, доктор был в курсе шпионской деятельности Хемингуэя, но не пожелал принять в ней участие, как его брат. – Эрнесто настаивал, – сказал доктор, – но я отказался. Он даже придумал мне кличку – Малатобо, – но я рассмеялся и отказался вновь. Я тоже рассмеялся. „Малатобо“ – это разновидность бойцового петуха. – Ох уж этот Эрнесто и его клички, – задумчиво произнес доктор, потягивая джин с тоником. – Известно ли вам, сеньор Лукас, что в своей шпионской игре он называет себя Агентом 08? Я продолжал улыбаться. Я знал, что Хемингуэй подписывает свои донесения этим именем. – Но почему вы отказываетесь ему помочь, доктор? – спросил я, зная, что Геррера ненавидит фашизм больше, чем любой из тех людей, которые отправились с Хемингуэем на „Пилар“. Спокойный, невозмутимый доктор отставил свой бокал и, к моему изумлению, хватил кулаком по подлокотнику кресла. – Я не хочу быть полицейским! – по-испански воскликнул он. – Черт возьми, я уже был солдатом и не желаю вновь им становиться! Я никогда не любил ищеек и шпионов. Мне нечего было сказать. Доктор вновь взял бокал и посмотрел мне в глаза. – А теперь Эрнесто окружают шпионы. Люди, которые хотят казаться не тем, чем являются на самом деле. Я выдержал его пристальный взгляд и негромко спросил: – О чем вы? Геррера Сотолонго допил джин. – Этот миллионер… его друг… Уинстон Гест. Я растерянно моргнул: – Волфер? Доктор фыркнул. – Ох уж эти клички, которыми нас награждает Эрнесто! Это словно болезнь. Известно ли вам, сеньор Лукас, что сеньор Гест заявил Фуэнтесу и другим малообразованным членам экипажа Эрнесто, будто бы он, Гест, – племянник Уинстона Черчилля? – Нет, – ответил я. – Так вот, это истинная правда, – сказал доктор. – Сеньор Гест – известный в Британии игрок в поло. Также он участвовал вместе с Эрнесто в охоте на крупных животных. Вы ведь знаете, что они познакомились в Кении… кажется, в 1933 году? – Да, сеньор Хемингуэй упоминал, что они познакомились в Африке. – Истинная правда также и то, – продолжал Геррера, – что сеньор Гест – „niuy preparado“. Вам известно это выражение? – Si, – отозвался я. – Человек высокой культуры. Хорошо образованный. – Эрнесто даже не догадывается, насколько он „preparado“, – пробормотал доктор. – Сеньор Гест – шпион. – Волфер? – переспросил я с тем же глупым видом, как в первый раз. – На кого он работает? – На Британию, разумеется. В Гаване нет ни одного человека, который бы не видел его… В это мгновение к нам подошел десятилетний мальчишка в лохмотьях и приложил пальцы к виску. Чуть позже я сообразил, что он отдавал честь. – Ну, чего тебе, парень? – негромко спросил я, узнав того самого мальчишку, который бежал впереди меня, когда я впервые явился в усадьбу. Если кто-нибудь из людей Хемингуэя прислал свой доклад с ребенком, этому человеку нужно будет прочесть лекцию по безопасности и осторожности. – Меня зовут Сантьяго Лопес, сеньор Лукас, – сказал мальчик. Его рубашка без пуговиц была распахнута, под ней отчетливо виднелись ребра. Можно было подумать, что парень голодал несколько дней. С чем бы он ни пришел, я собирался отправить его на кухню и велеть Марии и другим слугам хорошенько накормить мальчишку, прежде чем отпустить его попрошайничать на гаванских улицах. – Так что же? – как можно мягче спросил я, стараясь не напугать его. – Вы вызывали Агента 22, – произнес он твердым голосом, хотя я заметил, как дрожат его ноги. Я посмотрел на доктора Сотолонго и закатил глаза. Мое удовлетворение эффективностью „Хитрого дела“ Хемингуэя испарилось без следа при виде ребенка, которого посылают с донесением. – Почему он или она не явился лично? – Он или она явился, сеньор Лукас, – сказал мальчик. – Я пришел. Как только мне передали ваш приказ. Я вновь посмотрел на доктора, и тот ответил мне мудрой, но утомленной улыбкой. Я отвел Агента 22 в тень фикуса и принялся расспрашивать его о действиях убийцы, лейтенанта Мальдонадо.Глава 17
На протяжении следующих нескольких недель в „Хитром деле“ наступил застой; Хемингуэй занимался улаживанием семейных неурядиц. Зато потом, думая об июне и июле как о затишье перед бурей – правда, тогда я даже не догадывался, какие невзгоды нас ждут, и ждут ли вообще, – я вспоминал, что каждый день был наполнен напряжением, знакомым каждому моряку, который спешит в родной порт, глядя на грозовые тучи, собирающиеся над горизонтом. 21 июля 1941 года Хемингуэю исполнилось сорок три. Эту и следующую ночь мы провели с ним, беседуя в рубке „Пилар“. Мы отправились в шестидневное плавание с целью поиска подводных лодок. На борту были сыновья Хемингуэя Патрик и Грегори, Мышонок и Джиджи, как их называл отец, но из членов экипажа присутствовали только Фуэнтес, Уинстон Гест и я. Мы трое суток гонялись за „Южным крестом“, совершавшим морские испытания, которые представлялись нам бесконечными и бесцельными, слушали радио, время от времени перехватывая искаженные помехами голоса капитанов субмарин, переговаривавшихся друг с другом по-немецки; мы держали связь с маленькой базой на Кейо Конфитес, а нашей главной целью было дождаться, когда огромная яхта фонда „Викинг“ наконец приступит к действиям. На четвертый день разыгралась сильная буря, и мы потеряли корабль из виду. Однако, воспользовавшись данными пеленгатора и информацией подлодки, радировавшей из района Ки-Романо, на пятый день мы отправились туда. Мы приблизились к Ки-Романо в сумерках; Хемингуэй помогал мне в сложных навигационных расчетах. Первым делом мы пересекли устье Пунта Пратикос, пока не поравнялись с маяком Матерниллос на Ки-Сабинал. Тогда мы убавили обороты двигателя до минимума и с черепашьей скоростью поползли по коварному Старому Багамскому каналу. Фуэнтес стоял на носу, внимательно высматривая рифы и песчаные отмели. Оказавшись внутри архипелага, мы двигались по мелким проливам зачастую менее метра глубиной – многие из них вливались в ручьи и маленькие реки, бравшие начало на островах. В крохотной бухте стояла деревушка Версаль – с полдюжины домов, почти все на сваях, добрая половина пустующие. Мы бросили якорь у мыса под названием Пунта де Мангле и трое суток исследовали на „Крошке Киде“ ручьи и протоки, расспрашивая местных рыбаков, не видели ли они в главных каналах большую яхту или катер, и пытаясь запеленговать источник шифрованных радиопередач. День рождения Хемингуэя прошел довольно удачно, во всяком случае, для той ситуации, в которой мы оказались, – на борту „Пилар“, затерянные в глуши среди мангровых зарослей. Патрик и Грегори привезли для отца подарки в ярких обертках, Уинстон Гест преподнес Хемингуэю две бутылки очень хорошего шампанского, Фуэнтес вырезал маленькую деревянную фигурку, вызвавшую бурный восторг писателя, и в тот же вечер мы устроили праздничный ужин. Я, разумеется, ничего ему не подарил, но поднял бокал шампанского в его честь. На закуску подали миску спагетти. Фуэнтес привез с собой целый пучок макарон и, прежде чем опустить их в кипяток, разломил пополам. В ящике со льдом хранились цыплята, и он приготовил их в особом бульоне из говяжьих и свиных костей. Когда цыплята сварились, Фуэнтес процедил бульон, добавил к цыплятам осадок, оставшийся в дуршлаге, посолил и мелко нарубил. К этому времени по маленькому камбузу распространился такой замечательный запах, что я был готов немедля сесть за стол. Фуэнтес взял немного ветчины и хоризо – испанские сардельки – и также превратил их в фарш. Смешав его с куриным мясом и залив кипящим бульоном, он добавил паприки и тушил на медленном огне. Вынув спагетти из кипятка, он посыпал их щепоткой сахара. Выложив соус в отдельную миску, он расставил блюда на столе и трубным голосом велел всем бросать свои дела и нести свои задницы в камбуз, дабы наполнить тарелки. Пока мы поглощали чудесные спагетти, Фуэнтес закончил готовить главное блюдо. Тем утром он поймал меч-рыбу, загодя вырезал из нее шесть крупных ломтей и замариновал их. Мы доедали спагетти, разговаривали и пили славное вино, а Фуэнтес тем временем растопил фунт сливочного масла и обжарил ломти меч-рыбы на маленьком огне. Продолжая болтать с нами, он поливал куски лимонным соком и непрерывно переворачивал их, чтобы они равномерно подрумянивались. Запах был восхитительный, намного лучше, чем при жарке отбивных. Потом Фуэнтес выкладывал ломти на тарелки, добавлял свежего салата и припущенных овощей. Для Хемингуэя он поставил блюдечко с особым соусом из перца, петрушки, кинзы и каперсов, приготовленным в сковороде вместе с мелко нарезанной спаржей. – Мне очень жаль, Эрнесто, – сказал наш кок и первый помощник, пока мы поглощали яства. – Я хотел приготовить свежих крабов под лимонным соком и фрикасе из осьминога, но за эту неделю мы не поймали ни крабов, ни осьминогов. Хемингуэй хлопнул Фуэнтеса по спине и налил ему высокий бокал вина. – Я в жизни не ел ничего вкуснее твоей меч-рыбы, „сотrado“. У меня королевский день рождения. – Si, – согласился Фуэнтес.* * *
В ночь после дня рождения Хемингуэя мы вдвоем стояли „собачью вахту“, и у нас выдалась самая долгая беседа за время нашего знакомства. Сначала это был диалог – мы обсуждали шансы вновь напасть на след „Южного креста“, размышляли, что будем делать, если найдем его, обменивались осторожными замечаниями о тех странных перипетиях, которые постигли в минувшие недели „Хитрое дело“, потом столь же осторожно, но уже с горечью поговорили об уехавшей жене писателя – Геллхорн отправилась на Карибы по заданию „Кольерса“ – и наконец разговор стал монологом в темноте, которую рассеивали только приглушенный свет лампы компаса и сияние медленно движущихся звезд, раскинувшихся над нами, словно полог. Они не гасли, даже опускаясь к горизонту, а продолжали светить сквозь ветви и мангровые корни, обступившие крохотную бухту. – Что скажешь, Лукас? Сколько продлится эта война? Год? Два года? Три?.. Я пожал плечами в темноте. Мы пили пиво из бутылок, которые сохранились холодными в ледяном ящике „Пилар“. Ночь была жаркая, и бутылки запотели. – Я думаю, она затянется на пять лет, – продолжал Хемингуэй негромким голосом, вероятно, не желая разбудить мальчиков и двух спящих мужчин, но скорее он попросту устал, был немного пьян и, в сущности, обращался сам к себе. – А то и на десять. Или навсегда. Все зависит от того, какие цели мы поставим в этой войне. Одно несомненно – она обойдется очень дорого. Соединенным Штатам это бремя под силу… мы даже не прикасались к своим резервам… однако государства, вроде Англии, будут разорены, даже если Германия не захватит их. Такая война способна обанкротить их империю, даже если она выйдет победителем. Я молчал, глядя на писателя в тусклом свете. Две последние недели Хемингуэй отращивал бороду – он сказал, что солнце слишком раздражает его кожу, чтобы бриться, и его лицо покрылось густой пиратской растительностью. Я подозревал, что Хемингуэй бросил бриться в основном ради романтической внешности. – Мне тоже приходится вносить свою часть платы за войну, которой я не хотел, – продолжал писатель с отчетливой артикуляцией, подсказывавшей мне, что он изрядно захмелел. – Пришлось занять двенадцать кусков, чтобы заплатить сто тридцать тысяч долларов налога за прошлый год. Извини, что я упомянул о деньгах. Я никогда о них не говорю. Но, черт возьми – сто тридцать тысяч налога! Представляешь, Лукас? Кого бог захочет погубить, тому он сначала поможет преуспеть в его занятиях <Перефразировка греческой пословицы, перешедшей в латинский, а затем в английский язык: „Кого бог захочет погубить, у того он сначала отнимет разум“.>. Я имею в виду, что, заплатив эти поборы, буду вынужден вкалывать изо всех сил следующим летом, следующей зимой и так далее, чтобы не оказаться полностью разоренным, когда вернусь с этой войны. Если, конечно, отправлюсь на эту проклятую войну. Он допил пиво и откинулся на подушки. В мангровых зарослях в тридцати ярдах за кормой запела ночная птичка. – Моя вторая жена Полин ежегодно получает от меня пять тысяч долларов, Лукас. Пять тысяч, с которых не взимается налог. В этом году я мало работал… черт побери, я вообще почти ничего не сделал… и выплаты Полин – изрядная брешь в моих капиталах. За десять лет… сколько это будет? Шестьдесят тысяч. Меньше чем через пять лет я пойду по миру. Как видишь, судьба известного писателя не очень-то сладка. Якорный канат „Пилар“ скрипнул, и Хемингуэй, тяжело поднявшись на ноги, проверил кормовой якорь, после чего вернулся в рубку и сел рядом со мной. Лампа компаса освещала его темные глаза и обожженный солнцем нос. – Марти совершенно не разбирается в денежных делах, – медленно и негромко произнес он. – Трясется над каждым центом и бездумно расшвыривает огромные суммы. Она относится к деньгам, как ребенок, и не понимает, что, становясь старше, человек должен обеспечивать себе безбедное существование между выпусками новых книг, а с годами эти промежутки становятся все длиннее, Лукас. Во всяком случае, если ты пишешь только хорошие книги. Несколько минут прошло в молчании, которое нарушали только плеск волн о борта яхты и негромкий скрип – неизбежные звуки на любом малом судне. – Кстати, – заговорил наконец Хемингуэй, – ты видел золотую медаль за стрельбу, которой наградили Джиджи? – Нет, – ответил я. – Чертовски внушительная штука. – Голос Хемингуэя повеселел. – Там написано: „Джиджи в знак уважения от членов стрелкового клуба де Казадорес дель Серро“. Господи, Лукас, жаль, что тебя там не было на прошлой неделе. В девять лет он победил двадцатичетырехлетних мужчин, прекрасных стрелков, многие из которых – настоящие снайперы, попадают в летящих голубей. А ведь Джиджи стрелял из легкого ружья, в то время как его соперники – из крупнокалиберных винтовок. Вдобавок стрельба по живым голубям – куда более серьезное дело, чем по неподвижным мишеням. У каждой птицы своя повадка. А ты должен не просто попасть в нее, а убить, причем на определенной дистанции. Кстати, Патрик стреляет по голубям даже лучше Джиджи. Но он держится так скромно и тихо, что этого не замечает никто, кроме букмекеров и самых опытных снайперов, зато Джиджи уже величают в газетах „eljoven fenomeno Americano“ <Юное американское дарование.>, а накануне нашего отплытия… если, конечно, я не ошибаюсь… в какой-то статье его назвали „el popularisimo Gigi“ <Знаменитый Джиджи.>. Помолчав минуту, Хемингуэй повторил: – „El popularisimo Gigi“. Теперь мне приходится говорить: „Сходи на почту за письмами, „popularisimo“. Пора спать, „popularisimo“. He забудь почистить зубы, „popularisimo"“. Небо от зенита до горизонта прочертил метеор. Несколько минут мы сидели молча, запрокинув головы, дожидаясь следующего. Небо не обмануло наши надежды. – Хотел бы я увидеть, как кто-нибудь из поджигателей этой войны пойдет драться на фронт, прежде чем туда пошлют меня и моих парней, – чуть слышно произнес Хемингуэй. – Бэмби… это мой старший… ему придется воевать. Он купил подержанную машину. Когда он был здесь весной, мы только о ней и говорили. Его мать Хедли, моя первая жена… По всей видимости, Хемингуэй потерял нить мысли и несколько мгновений молчал. – Его мать недавно написала мне, что Бэмби хочет пересечь на этой развалине всю страну с запада на восток, – сказал он наконец. – Но я напишу ей, что в этом нет никакого смысла. За это время у автомобиля облысеют покрышки, а из-за нынешнего режима экономии бензина от машины не будет проку, даже если она доедет до места. К тому же Бэмби сказал, что у него даже нет запасного колеса, и я сомневаюсь, что автомобиль выдержит переезд через весь континент. Уж лучше пусть он оставит ее там, где купил, и заберет, когда вернется с войны. Если вернется. Должно быть, только теперь до Хемингуэя дошел смысл его последней фразы – он умолк, покачал головой и допил остаток пива. – Тебе понравилась меч-рыба, Лукас? – Да. – Правда, рыбалка – это великолепное занятие? Мне будет очень неприятно умирать, в любом возрасте. С каждым годом мне все больше нравятся рыбалка и охота. Сейчас я получаю от них такое же удовольствие, как в шестнадцать лет, я написал много хороших книг и могу отдаться рыбалке и охоте, предоставив трудиться другим. Мое поколение много поработало, и если ты не умеешь наслаждаться жизнью, если вся жизнь для тебя – сплошная работа, значит, ты не заслуживаешь иной доли. За кормой плеснула крупная рыба. Хемингуэй несколько мгновений прислушивался, потом опять повернул ко мне лицо. Его глаза сверкали, но в желтом свете компасной лампочки казались затуманенными. – Случилось так, что я проработал всю жизнь и сколотил капитал в ту пору, когда правительство забирает у людей все, что у них есть. В этом мне не повезло. Мне повезло в другом. Я успел вкусить радостей и насладиться жизнью… вернее, мы успели… особенно с Хедли. Особенно когда мы были так бедны, что не имели даже ночного горшка. Молодой и безработный, я писал рассказы, жил в Париже, кутил в кафе с друзьями до утренней зари, когда мальчишки в белых фартуках начинали поливать из шлангов улицы, потом заплетающимся шагом возвращался домой, чтобы заняться любовью, поспать несколько часов, выпить черного кофе… если у нас был кофе… и потом весь день напролет писать, и писать хорошо. Хемингуэй уютнее устроился на подушках. Разговаривая, он смотрел в небо. Казалось, он забыл о моем присутствии. – Я отлично помню бега в Эйнхене, наше первую самостоятельную поездку в Памполу, эту великолепную яхту… „Леопольдину“… помню Кортина-Д'Ампеццо и Черный лес. Последние ночи я провел без сна… не мог заснуть… вспоминал случаи из жизни, разные события, песни. У котенка пушистая шубка И острые коготки, Пушистый котенок будет жить вечно - О, бессмертие! У Хемингуэя был приятный тенор. – Ты обратил внимание на кошек в моей финке, Лукас? – Он вновь смотрел на меня, словно только теперь осознав, что я сижу рядом и слушаю. – Да, – ответил я. – Их трудно не заметить. Хемингуэй медленно кивнул. – Днем ты их почти не видишь… они бродят по всей усадьбе… но когда приходит время кормежки, начинается настоящее нашествие. Когда я не могу заснуть ночью, я беру в спальню трех кошек и рассказываю им истории. В последнюю ночь перед нынешним походом я взял с собой Тестер – дымчато-серую персиянку, – Диллинджера, черно-белого кота, которого мы называем также Бойсси Д'Англас, и котенка, мальтийскую полукровку по кличке Уилли. И я рассказывал им о других кошках, которые у меня были… мы всегда держали кошек. Я рассказывал им о Ф. Кисе, о нашем самом крупном, сильном и храбром коте Муки, который жил с нами в Европе и однажды обратил в бегство барсука. И стоило мне сказать: „Барсук!“ – Тестер спряталась под простынями, так она испугалась. Несколько минут мы сидели в звенящей тишине. По небу неторопливо плыли облака, заслоняя звезды. Слабый ветер утих, но волны продолжали медленно и ритмично колыхать яхту. Москитов не было и следа. – Ты еще не спишь, Лукас? – Нет. – Извини, что заставил тебя выслушивать эту ностальгическую чушь. Я промолчал, и Хемингуэй добавил: – Сорокатрехлетний человек имеет на это право. Если доживешь до моего нынешнего возраста, тебе станет ясно, что я имею в виду. Я кивнул, глядя, как он устало допивает пиво. – Что ж, еще один день погони за радиопризраками – и мы возвращаемся домой, – сказал он. – В воскресенье мы с Джиджи принимаем участие в кубинском чемпионате по стрельбе. Я хочу, чтобы перед состязаниями он провел спокойную ночь на суше. – Внезапно Хемингуэй заулыбался. – Ты видел, как вооружились парни, собираясь на охоту за подлодками? Пэт взял „ли энфилд“, а Джиджи вычистил и смазал старый „манлихер“ своей матери. Помнится, Полин брала его в Африку охотиться на львов… – Зачем вы взяли их с собой? – спросил я. – Я имею в виду мальчиков. Улыбка Хемингуэя увяла. – Кажется, ты меня осуждаешь, Лукас? – Нет, просто мне любопытно. – Если в походе нас будут ждать опасности, – ответил писатель, – мы оставим парней на базе Кейо Конфитеса, а сами отправимся искать субмарины. А до тех пор пусть наслаждаются плаванием. Жизнь достаточно суровая штука, чтобы лишать их радостей. Я допил пиво. Было уже поздно. Звезды спрятались за облаками, и во всем, даже в запахах, ощущалась глубокая ночь. – Господи, – выдохнул Хемингуэй, – как жаль, что в выходные с нами не будет Бэмби. Он отлично стреляет по голубям. Почти так же хорошо, как наш маленький „popularisimo“. Один из гаванских журналистов, специалист по стрельбе, написал, что во всей Кубе не найдется такой четверки стрелков, которые сумеют превзойти Бэмби, Папу, Джиджи и Мышонка. Мне очень хотелось бы, чтоб Бэмби был здесь в воскресенье – он стреляет столь же хладнокровно, как нервничает, играя в теннис. Хемингуэй поднялся на ноги, и я впервые за все время пребывания на яхте увидел, как он несколько мгновений покачивался, стараясь обрести равновесие. – Я спускаюсь вниз, Лукас. Посмотрю, как там мальчики, и лягу сам. Примерно через час тебя сменит Волфер. На рассвете мы отправимся к северному окончанию Ки-Романо… вдруг мы застанем там „Южный крест“, по счастливой случайности или по воле богов. Писатель вышел под тент мостика, скрылся в темноте и спустился по трапу к носовым каютам. Я слышал, как он негромко напевает, и разобрал слова: У котенка пушистая шубка И острые коготки, Пушистый котенок будет жить вечно - О, бессмертие!* * *
Мальчики появились в финке в середине июня, незадолго до отъезда Геллхорн. Я ничего не знаю о детях, кроме того, что они делятся на две категории – невыносимо надоедливые и умеренно надоедливые, – однако сыновья Хемингуэя приятно меня удивили. Оба были худощавые и веснушчатые, с всклокоченными волосами и открытыми улыбками, хотя Грегори, младший, улыбался чаще и выражал любые чувства более явно, чем его старший брат. Тем летом 1942 года Патрику исполнялось четырнадцать, день его рождения был в конце июня, и в его облике только начинала сквозить серьезная угловатость юноши. Хемингуэй хвастался своим девятилетним сыном, который побивает всех в стрельбе по голубям, но тем летом Грегори было уже десять. Мальчик сказал мне, что он родился 12 ноября 1931 года. Я не знал, насколько это обычное дело, когда родители забывают возраст собственных детей, но ничуть не удивился тому, что с Хемингуэем случилось такое – особенно если вспомнить, что он виделся с мальчиками раз или два в году. Ремонт главного вала „Южного креста“ длился целую вечность, и яхта еще дважды возвращалась в доки Касабланки для устранения все новых неполадок, поэтому она вышла в море только в июле, и капитан три недели испытывал ее на плаву, лишь изредка уходя от берега за пределы видимости. Тем не менее Хемингуэй с нетерпением ждал возможности пуститься по следу огромного корабля, и мальчики сразу же были зачислены в экипаж „Пилар“. Однажды жаркой ночью в середине июля я шел у задней стены финки, направляясь в „Первый сорт“, чтобы поужинать там в компании Дикарки, и услышал, как Геллхорн и Хемингуэй препираются из-за его решения взять мальчиков с собой в поход. Голос Геллхорн поднялся до того пронзительного скрежещущего визга, какой бывает у женщин во время семейных дрязг. Поначалу Хемингуэй отвечал мягко и сдержанно, но по мере того, как продолжался спор, говорил все громче. Я не стал задерживаться и подслушивать, однако по пути от заднего дворика до дорожки услышал вполне достаточно. – Ты сошел с ума, Эрнест? Что, если в своей дурацкой погоне занацистами ты столкнешься с настоящей субмариной, и в этот момент на борту будут мальчики? – Тогда они увидят, как я потоплю ее гранатами, – раздался голос Хемингуэя. – Их имена попадут во все газеты Штатов. – Они обязательно попадут в газеты, если ты рассердишь капитана, и он отведет лодку на тысячу ярдов и расстреляет „Пилар“ из шестидюймового палубного орудия. – Все так говорят, – проворчал Хемингуэй. – Но ничего подобного не случится. – Откуда тебе знать, что может случиться, Эрнест? Что ты знаешь о войне? О настоящей войне? Теперь в голосе Хемингуэя слышался гнев: – Уж не думаешь ли ты, что я незнаком с реалиями войны? У меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять над этими реалиями, когда хирурги миланского госпиталя извлекали из моей ноги двести тридцать семь кусков гребаной шрапнели… – Не смей говорить при мне такие слова! – бросила Геллхорн. – Вдобавок, когда ты рассказывал об этом в прошлый раз, кусков было двести тридцать восемь. – Это мелочи. – Милый, – ровным голосом произнесла Геллхорн, – на сей раз, если тебе хватит смелости подойти к подлодке вплотную и твои гранаты не попадут в люк, ты сам превратишься в двести тридцать восемь кусков. И мальчики тоже. – Не говори так, – сказал Хемингуэй. – Ты ведь знаешь, что я не подвергну Мышонка и Джиджи настоящей опасности. Но мой план разворачивается полным ходом, и я не могу его остановить. Оборудование испытано и налажено. Экипаж изнывает от нетерпения… – Твои люди изнывали бы от нетерпения, даже если бы ты пообещал бросить им говяжью кость, – перебила Геллхорн. – Марти, все они отличные парни… – Ну да, отличные парни, – язвительно произнесла Геллхорн. – Все сплошь интеллектуалы. На днях я застала Геста за чтением „Жизни Христа“. Я спросила, почему он так быстро переворачивает страницы, и Гест ответил, что ему не терпится узнать, чем все кончится. – Ха-ха-ха, – отозвался Хемингуэй. – Волфер замечательный человек и очень верный. Если бы я велел ему прыгнуть с самолета, сказав, что он получит парашют во время падения, он лишь ответил бы: „Слушаюсь, Папа“, – и сиганул бы в люк. – Вот и я о том же, – заметила Геллхорн. – Блестящий интеллект. —..вдобавок Волфер незаменим, – продолжал Хемингуэй, повышая голос. – У него огромный опыт морских путешествий. – Да, – сказала Геллхорн. – Кажется, его дядя утонул на „Титанике“. Я ждал ответа, но Хемингуэй промолчал. – И этот твой радист-пехотинец, – добавила Геллхорн. – Ради всего святого, Эрнест, он днями напролет читает комиксы. И, кстати, ты заметил, милый? У него ужасно воняют ноги. – Саксон – парень что надо, – проворчал Хемингуэй. – Обстрелянный ветеран. Да, он слишком много времени провел на войне… устал от боев. Что же до его ног, то он подцепил в джунглях кожную гниль. Грибок, распространенный в тихоокеанских тропиках. – Грибок или нет, ты должен что-то с этим сделать, прежде чем загонять своих друзей на борт несчастной „Пилар“. Вы и без того смердите после своих походов. – Что значит – смердим? – Я имею в виду, милый, что от вас дурно пахнет, когда вы сходите на берег. Вы все. Вы воняете рыбой, кровью, пивом и потом, вы облеплены рыбьей чешуей и грязью. Грязью, Эрнест. Почему бы тебе не мыться почаще? К этому времени я удалился на приличное расстояние, но все же до меня донесся голос Хемингуэя: – Марти, но ведь ни одна лодка не обходится без запахов рыбы, пива и пота. Мы не можем мыться, потому что вынуждены беречь пресную воду. Ты ведь знаешь, что… Пронзительный голос Гелдхорн был еще слышен: – Я говорю не только о яхте, Эрнест. Почему бы тебе не мыться почаще, когда ты находишься дома? – Черт побери, Марти! – вскричал Хемингуэй. – По-моему, тебе пора в отпуск. Ты устала от боев больше, чем Саксон. – Да, я страдаю от клаустрофобии сильнее любого из вас, – согласилась Геллхорн. – Вот и отлично, киска. Отмени свое дурацкое плавание. Вместо него мы отправимся к побережью Гуанбакоа, и ты сможешь написать тот, другой репортаж, который обещала „Кольерсу“… – Какой другой репортаж? – Ну, помнишь, о тамошних китайцах, которые сбывают огородникам человеческие фекалии… о том, как покупатели проверяют густоту продукта соломинкой. Я отвезу тебя на „Пилар“, дам тебе соломинку… Я зашагал по дорожке к коровнику и больше не разбирал слов, но шум ссоры доносился совершенно отчетливо.* * *
Вплоть до конца июля у меня создавалось впечатление, что Хемингуэя куда больше интересует, как развлечь своих сыновей, нежели операции „Хитрого дела“ и противолодочные маневры. Зато для мальчишек начались замечательные летние каникулы. Хемингуэй не только выставил их на стрелковые состязания в „Казадорес дель Серро“, дорогом клубе для избранных, расположенном в пяти милях от финки, но и, как только Патрик и Джиджи начинали донимать его, бросал утреннюю работу. Он выходил с ними в море на „Пилар“, играл в теннис и бейсбол. Организация бейсбольной команды началась с того, что Хемингуэй поймал несколько мальчишек из деревни Сан-Франциско дель Паула, швырявших камнями по манговым деревьям. Мысль о том, что милые его сердцу деревья могут пострадать, приводила писателя в бешенство. – Послушай, – сказал Пэтчи Ибарлусия, когда мы сидели во флигеле и печатали донесения, – неужели ты не хочешь, чтобы парни стали хорошими бейсболистами? Бросание камней – отличная тренировка для них. Хемингуэй, не сходя с места, решил, что лучшей тренировкой будет игра в бейсбол. Он заказал для сорванцов форму, купил биты, мячи и перчатки. Возраст игроков колебался от семи до шестнадцати лет. Они назвали себя „Лас Эстреллас де Джиджи“ – „Звездами Джиджи“ в честь Грегори, и тут же начали состязаться с другими дворовыми командами из окрестностей Гаваны. Хемингуэй возил их на отремонтированном фургоне и выступал в качестве директора команды. Через две недели на тренировку группы Джиджи явились еще пятнадцать мальчишек, и Хемингуэй заявил, что для его босоногой лиги требуется еще один коллектив. Он вновь выписал чек, и теперь каждый день и вечер на ровном пустыре между финкой и деревней тренировались две команды в полной экипировке. Агент 22, он же Сантьяго Лопес, состоял во второй команде и, несмотря на выпирающие ребра и тонкие, как тростинки, ноги и руки, зарекомендовал себя надежным подающим и великолепно вбрасывал мяч с левой стороны поля. По вечерам, после отъезда Геллхорн по заданию „Кольерса“, Хемингуэй возил сыновей ужинать в китайский ресторан „Эль Пасифико“ на верхнем этаже „Флоридиты“. Несколько раз я ездил с ними и подумал, что даже поездка на лифте до пятого этажа – хороший урок для мальчиков. Лифт был старый, открытого типа, со стальной решеткой вместо двери, и он останавливался на каждом этаже. На втором располагался танцевальный зал с китайским оркестром из пяти инструментов, издававших какофонию, которая напоминала ночные концерты кошек Хемингуэя. Третий этаж занимал бордель, в котором вновь хозяйничала Честная Леопольдина. Четвертый приютил опийную курильню, и когда лифт проезжал мимо распахнутых дверей, я заметил, как мальчики обменялись быстрыми взглядами при виде исхудавших до предела фигур, скорчившихся в продымленном помещении у своих трубок. К тому времени, когда мы поднимались до ресторана на пятом этаже, у всех появлялось ощущение увлекательного путешествия и разыгрывался аппетит. Для нас там всегда держали особый столик под хлопающим тентом, с прекрасным видом на ночную Гавану. Мальчики заказывали суп из акульего плавника и слушали рассказы отца о том, как он лакомился обезьяньими мозгами прямо из черепа, когда в прошлом году вместе с Мартой побывал в Китае. После ужина Хемингуэй порой возил сыновей во Фронтон на матч хай-алай. Патрику и Грегори нравился этот стремительный вид спорта, им нравилось наблюдать за тем, как игроки, многие из которых были их хорошими знакомыми, мчатся по площадке к стенам, ловят и бросают жесткие шары пятифутовыми выгнутыми корзинами „cestas“, притороченными к запястью. Мячи летали с такой скоростью, что были практически невидимы, и представляли собой нешуточную опасность. Мальчики обожали не только саму игру, но и ставки. Они менялись с каждым таймом, и через каждые тридцать очков происходил расчет. Больше всего Патрику и Джиджи нравилось вкладывать ставку Хемингуэя в пустой теннисный мяч и швырять его букмекеру, который неизменно возвращал мяч обратно, требуя, чтобы его бросили с большей силой. Молниеносные маневры игроков, мелькание стремительных шаров, неутихающие вопли голосов, объявляющих ставки, теннисные мячи с деньгами – каждую секунду в воздухе находилось хотя бы несколько – все это было для ребячьих сердец незабываемым праздником и кружило им головы. Хемингуэй был от этого в восторге. Я ничего не смыслю в воспитании детей, но мне казалось, что привязанность Хемингуэя к сыновьям граничит с недопустимым потворством. Будь то в финке или в ресторане, Патрик и Джиджи могли пить, сколько хотят, и выказывали явную склонность к спиртному. Как-то утром я читал донесение, сидя у флигеля, и увидел, как Грегори плетется к бассейну. Хемингуэй встретил его приветственным возгласом. Он уже закончил утреннюю работу и прохлаждался в тени с бокалом виски с содовой в руках. – Чем ты хочешь заняться сегодня, Джи? Пообедать во „Флоридите“? Грегори сказал, что сегодня слишком сильная волна, чтобы рыбачить, но мы могли бы ближе к вечеру пострелять по голубям. Десятилетний юнец добрался до кресла и рухнул в него. Лицо мальчика было бледным, руки тряслись. – А может быть, сегодня лучше отдохнуть, – продолжал писатель, подавшись к сыну. – Ты сегодня плохо выглядишь. – Кажется, я заболел, папа. Такое чувство, будто бы меня укачало. – А, – с облегчением произнес Хемингуэй. – Это всего лишь похмелье. Я сделаю тебе „Кровавую Мэри“. Пять минут спустя он вернулся с бокалом и увидел Патрика, бессильно распластавшегося в кресле рядом с Джиджи. – Ребята, – сказал Хемингуэй, подавая бокал младшему и внимательно присматриваясь к старшему. – Вам не кажется, что надо пить поменьше? Если вы не в состоянии справиться сами… – Он с наигранной суровостью сложил руки на груди, – то мы будем вынуждены укрепить дисциплину. Вы ведь не хотите в конце лета вернуться домой к маме с белой горячкой?* * *
В результате эпидемии полиомиелита, вспыхнувшей в Гаване тем летом, общественные мероприятия в городе были отменены; вскоре после дня рождения Хемингуэя у Грегори проявились тревожные симптомы. Он слег в постель с воспалением горла, высокой температурой, болью в ногах. Меня отправили на „Линкольне“ за доктором Сотолонго, и тот вызвал двух гаванских специалистов. Трое суток врачи появлялись и исчезали, простукивали колени мальчика, щекотали подошвы его ног, шепотом совещались, уходили и приезжали вновь. Было очевидно, что диагноз неутешителен, но Хемингуэй, не обращая внимания на врачей, выгнал всех из спальни Грегори и остался с ним один. Почти неделю он спал на койке рядом с кроватью мальчика, кормил его, измерял температуру каждые четыре часа. Днем и ночью мы слышали через открытое окно негромкий голос писателя и изредка – смех Грегори. Как-то вечером, когда мальчик уже поправлялся, мы сидели на склоне холма, и он вдруг заговорил о том, как проходило его затворничество. – Каждую ночь папа ложился со мной и рассказывал истории. Замечательные истории. – О чем? – спросил я. – О том, как жил в Мичигане, когда был маленьким. О том, как он поймал свою первую форель, какие красивые леса были там до тех пор, пока не появились заготовители древесины. И когда я признался, что боюсь полиомиелита, папа рассказал о своих детских страхах, о том, как ему снились мохнатые чудовища, которые с каждой ночью становились все больше и больше, и когда чудовище уже было готово проглотить его, вдруг перепрыгивало через забор. Папа объяснил, что страх – совершенно естественная вещь и его не нужно стыдиться. Он сказал, что я должен научиться управлять своим воображением и что он знает, как это трудно для ребенка. А потом он рассказывал мне истории о библейском медведе. – О библейском медведе? – Да, – подтвердил Грегори. – О медведе, о котором он прочел в Библии, когда был маленький и еще не научился как следует читать. О Глэдли, косоглазом медведе. – Вот оно что, – сказал я. – Но чаще всего, – продолжал мальчик, – папа рассказывал мне о том, как он рыбачил и охотился в лесах на севере Мичигана, что он хотел всю жизнь прожить там, навсегда остаться десятилетним, как я сейчас, и никогда не взрослеть. А потом я засыпал.* * *
Через неделю после того, как Грегори окончательно выздоровел, мы отправились на „Пилар“ по следу „Южного креста“ – Хемингуэй, мальчики, Фуэнтес и я, – и на обратном пути к порту Гаваны Хемингуэй взял курс на прибрежные коралловые рифы, чтобы Патрик и Джиджи смогли немного поплавать. В тот день я стоял на мостике, Хемингуэй с сыновьями гонялись за рыбами, а Фуэнтес на „Крошке Киде“ снимал добычу с их трезубых острог. Нам было невдомек, что Грегори надоело возвращаться к шлюпке с уловом, и он начал вешать рыб себе на пояс, цепляя их за жабры и оставляя в окружающей воде кровавый след. Внезапно он закричал: – Акулы! Акулы! – Где? – рявкнул Хемингуэй, плывший в сорока ярдах от мальчика. Фуэнтес и „Крошка Кид“ находились еще тридцатью ярдами дальше, а Патрик уже почти подплыл к „Пилар“, которая колыхалась на волнах в пятидесяти ярдах от шлюпки и в сотне от Грегори. – Ты видишь их, Лукас? Мне не потребовался бинокль. – Три штуки! – крикнул я в ответ. – У самого рифа по ту его сторону! Акулы были крупные, около шести метров длиной, и они мчались к Грегори плавными виражами, очевидно, следуя запаху крови загарпуненных мальчиком рыб. В голубой воде Гольфстрима их блестящие вытянутые тела казались черными. – Лукас! – Хемингуэй был встревожен, но держал себя в руках. – Возьми „томпсон“! Я уже соскользнул по трапу и бежал к ближайшему оружейному ящику. Я вновь поднялся на палубу, захватив не только автомат – дистанция была слишком велика для стрельбы из него, – но и одну из автоматических винтовок „браунинг“, имевшихся на борту. Эти массивные винтовки, приводимые в действие сжатым газом, лишь недавно появились на „Пилар“ взамен пулеметов 50-го калибра. Хемингуэй плыл навстречу сыну. И акулам. Я поднял „браунинг“ и положил его на ограждение мостика. Яхту сильно качало. Хемингуэй и мальчик оказались между мной и акульими плавниками, которые, набирая скорость, рассекали волны, бьющиеся о риф. Цели были видны очень плохо. – Все в порядке, малыш, – сказал Хемингуэй Грегори. – Успокойся. Брось в акул чем-нибудь, чтобы отвлечь их, и плыви ко мне. Сквозь прицел „браунинга“ я увидел, как мальчик, окунувшись в воду с головой, делает что-то со своим поясом. Мгновение спустя он швырнул в приближающихся акул три или четыре мелкие рыбы и поплыл прочь от рифа со скоростью Джонни Вейссмюллера. Хемингуэй встретился с Грегори на полпути и поднял его себе на плечи, стараясь, чтобы в воде оставалась как можно меньшая часть его тела. Потом он размашистыми гребками поплыл к шлюпке. Фуэнтес изо всех сил гнал „Крошку Кида“ им навстречу, и все же между ними оставалось сорок-пятьдесят ярдов открытого пространства. Я снял „браунинг“ с предохранителя, дослал патрон в ствол и прицелился чуть выше головы мальчика. Акулы задержались у самого рифа и, взбивая бурлящую воду плавниками, начали рвать рыбу друг у друга. Хемингуэй продолжал плыть с мальчиком на спине, время от времени оборачиваясь и потом глядя на меня. Как только они поравнялись с „Крошкой Кидом“, Фуэнтес помог ему поднять в шлюпку всхлипывающего Грегори, и только убедившись в том, что мальчику ничто не угрожает, Хемингуэй сам выбрался из воды. Потом, уже на „Пилар“, он негромко спросил меня: – Почему ты не стрелял? – Акулы были слишком далеко, а Грегори заслонял их. Если бы они пересекли риф, я бы открыл огонь. – „Браунинги“ только что доставили на яхту, – заметил писатель. – Мы еще не учились стрелять их них. – Я знаю, как ими пользоваться, – сказал я. – Ты хорошо стреляешь, Лукас? – Да. – Ты смог бы прикончить этих трех бестий? – Вряд ли, – ответил я. – По крайней мере, не всех. Вода – лучшая преграда от пуль, а акулам, чтобы добраться до вас, было бы достаточно перед нападением нырнуть на два метра. Хемингуэй кивнул и отвернулся. Через несколько минут Грегори признался, что держал на поясе рыб, и Хемингуэй начал при помощи слов выбивать дурь из его головы. Воспитательный процесс продолжался весь обратный путь до Кохимара.Глава 18
– Твой донесения не стоят выеденного яйца, Лукас, – заявил Дельгадо, от которого не укрылся тот факт, что за несколько недель не было сделано практически ничего. – Мне очень жаль, – отозвался я. Я не мог, да и не хотел излагать в рапорте свое ощущение, что в ближайшее время произойдет нечто важное. – Я серьезно. Можно подумать, я читаю сценарий одного из дурацких фильмов Энди Харди. В котором не участвует Джуди Гарланд. Я пожал плечами. Мы встретились на тупиковой дороге, ведущей из Сан-Франциско де Паула. Дельгадо прибыл на мотоцикле, я – пешком. Дельгадо сунул мой рапорт на двух страницах в свою кожаную сумку и забрался в седло. – Где сегодня Хемингуэй? – На яхте с сыновьями и парой друзей, – ответил я. – Опять гоняется за „Южным крестом“. – Тебе удалось услышать что-нибудь по рации яхты? – Ничего. Ни одной передачи с абверовским шифром. – Как же ты оказался на берегу, если Хемингуэй в море? Я вновь пожал плечами: – Он не пригласил меня с собой. Дельгадо вздохнул: – Ты позоришь звание разведчика, Лукас. Я промолчал. Дельгадо покачал головой, завел двигатель и уехал, оставив меня в облаке пыли. Я дождался, пока он исчезнет из виду, и вошел в густой лес у заброшенного сарая. Там меня ждал Агент 22 с маленьким мопедом, на котором он зачастую следил за лейтенантом Мальдонадо. – Слезай, Сантьяго, – велел я. Юнец спрыгнул на землю и, как только я сел на мопед, устроился за моей спиной. Он обхватил меня руками за пояс. Я обернулся и посмотрел в его темные глаза. – Сантьяго, зачем ты это делаешь? – Что делаю, сеньор Лукас? – Помогаешь сеньору Хемингуэю… рискуешь… может, это кажется тебе игрой? – Это не игра, сеньор. – Голос Сантьяго звучал вполне серьезно. – Тогда зачем?.. Он отвернулся к сараю, но я успел заметить слезы в его темных глазах. – Слово, которым называют сеньора Хемингуэя… в общем, я называю его так же. Человеком, которого у меня никогда не было. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, о чем он говорит. – Папа? – Si, сеньор Лукас, – отозвался мальчик и посмотрел на меня. Его худые руки крепче обхватили мой пояс. – Когда я хорошо выполняю его задания или хорошо играю при нем в бейсбол, Папа смотрит на меня, и в его глазах появляется такое выражение, как будто он смотрит на одного из своих сыновей. И тогда я представляю – только на мгновение, – что я тоже могу назвать его папой, и что это взаправду, и что он обнимает меня так же, как своих собственных детей. Я не знал, что сказать. – Пожалуйста, будьте осторожны с мопедом, сеньор Лукас, – велел мне десятилетний мальчишка. – Он нужен мне, чтобы вечером следить за Бешеным жеребцом, а когда-нибудь я должен буду вернуть машину джентльмену, у которого ее позаимствовал. – Не беспокойся, – заверил я его. – Я ведь ничего не сломал, правда? Держись крепче, дружище. – Крохотный мотор с треском завелся, и мы, набирая скорость, помчались по дороге вслед за Дельгадо.* * *
Пока Хемингуэй проводил почти все свое время с сыновьями, я мог без помех заниматься „Хитрым делом“ и изучать противоречивые развед-сводку, стекавшиеся ко мне. Эта операция с самого начала выглядела бессмысленной, и я пытался сложить кусочки мозаики. Почему директора так интересует ребяческая затея писателя? Зачем было Яну Флемингу из БКРГ и Уоллесу Филлипсу из ОСС входить со мной в контакт? Зачем назначать связным такого серьезного и опасного человека, как Дельгадо? С какой целью ликвидировали радиста „Южного креста“ и кто его убил? В чем заключалась истинная миссия яхты и почему ее возглавляет столь бездарный агент, как Теодор Шлегель? Участвует ли в этой операции Хельга Соннеман, и если да, то получает ли она приказы от Шлегеля или сама командует им? Хемингуэй обнаружил шифры Мартина Кохлера – случайность ли это или тщательно спланированный замысел? Зачем ФБР переправляет громадные суммы Национальной кубинской полиции, действуя через грязного убийцу Мальдонадо, которому платят также Шлегель и Абвер? Я от имени Хемингуэя разослал указания оперативникам „Хитрого дела“ и теперь ломал голову над поступавшими сведениями. После нескольких дней этих занятий я начал задумываться – уже не в первый раз, – на кого, собственно, я работаю. Я с самого начала проникся недоверием к Дельгадо, а теперь не верил и в побуждения, двигавшие Эдгаром Гувером. Меня лишили контактов с ОРС, я действовал независимо от местного отделения ФБР, если не считать того, что его агенты время от времени следили за мной. Меня прощупывали британская спецслужба и вновь организованный ОСС Донована, однако я не льстил себя мыслью, будто бы их занимают мои здоровье и благополучие. Оба агентства проявляли вполне законный интерес к этой нелепой операции… вот только я никак не мог уразуметь, в чем состоит их интерес. А пока я проводил дни напролет с Эрнестом Хемингуэем, шпионил по его заданию, шпионил за ним, сообщая ему только часть правды о ситуации, в которой мы оказались, и гадал, когда же мне велят предать его. Я решил продолжать сбор информации, пытаясь понять, что происходит, и только потом сделать окончательный вывод О том, на кого работаю. Это означало, что я должен следить за Дельгадо. Четыре последних дня я занимался этим все свое свободное время. Успехи ФБР в слежке объясняются тем, что у него достаточно агентов для любой работы. О том, чтобы за каждым объектом наблюдал лишь один человек, не может быть и речи, особенно если тот достаточно подготовлен и ловок. Чтобы осуществлять слежку должным образом, необходимы несколько пеших групп, одна или две – на автомобилях, и по меньшей мере одна группа, которая движется, опережая объект, а также несколько запасных, готовых включиться в игру, если наблюдаемый что-либо заподозрит. В моем распоряжении был только Агент 22. Но до сих пор мы справлялись неплохо.* * *
Мы сели на хвост Дельгадо в тот самый миг, когда он влился в плотный поток городского транспорта на Гаванароуд. Мы держались позади примерно в шестидесяти ярдах; по шоссе мчались завывающие автомобили и великое множество юрких мопедов, таких же, как наш. Я укрылся за грузовиком с высоким штабелем бревен и лишь чуть-чуть высовывался из-за него, чтобы не потерять Дельгадо из виду. Судя по всему, он вновь направлялся в центр города. Последние дни мы следовали за ним до его номера в дешевом отеле „Куба“, баров, ресторанов, однажды – до публичного дома, но не того, что находился под китайским заведением; дважды – до штаб-квартиры ФБР у парка и один раз до Малекона, где он долго прогуливался по набережной в компании лейтенанта Мальдонадо. Юный Сантьяго хотел приблизиться к нему вплотную и подслушать, о чем они разговаривают, однако мне удалось убедить его в том, что главная задача секретного агента внешнего наблюдения – не допустить, чтобы его разоблачили. Мы не хотели, чтобы Дельгадо или Мальдонадо заметили нас. Сантьяго нехотя согласился, и мы продолжали наблюдение с расстояния пятидесяти шагов. Сейчас был самый разгар дня 3 августа 1942 года, и еще до его окончания в моих руках должен был оказаться важнейший фрагмент мозаики, которому было суждено круто изменить ход событий. Июль завершился болезнью и выздоровлением Грегори, а Хемингуэй продолжал злиться на ФБР, морскую разведку и своих приятелей из посольства за то, что те не поздравили его с успехом „Хитрого дела“, предупредившего проникновение вражеских агентов в США через Амангасетт. Он поклялся больше не передавать им ни одного из перехваченных нами радиосообщений, пока мы сами не изучим их. – Мы доставим им следующую партию нацистских шпионов связанными, с кляпами во рту – и пусть попробуют сделать вид, будто бы ничего особенного не произошло, – заявил писатель. Август вновь принес скверные вести с фронтов. Немцы взяли Севастополь на Черном море и продолжали наступать, оттесняя русских по направлениям, которые свидетельствовали о намерении наци захватить Ленинград, Сталинград и Москву. Японцы оккупировали восточную Новую Гвинею, и в конце июля морским пехотинцам США было ведено готовиться к высадке на Гуадаканале либо одном из прочих Соломоновых островов, однако упорное противостояние на юге Тихого океана достигло поистине яростного накала. Японцы не отдавали без кровопролитной борьбы ни пяди оккупированных территорий. Тем временем французские коллаборационисты бросили все силы парижской полиции на поимку иностранцев еврейской национальности – по сообщениям прессы, тринадцать тысяч человек, – заперли их в Зимнем велодроме, после чего помогли немцам отправить арестованных неведомо куда. – Мы с Хедли часто катались там на велосипедах, – с печалью произнес Хемингуэй, выслушав это известие в конце июля. – От всей души надеюсь, что ад действительно существует и Пьеру Лавалю суждено вечно поджариваться там на сковородке. ФБР практически ежедневно сообщало об арестах все новых „нацистских агентов“ – за один только день 10 июля 158 человек, – однако я подозревал (и Дельгадо подтвердил это), что ими были просто иностранцы немецкого происхождения и сомнительной гражданской принадлежности, преступление которых ограничивалось тем, что они состояли в нью-йоркской американо-германской Лиге отпускников. Бои местного значения по-прежнему обходились без участия Марты Геллхорн – она путешествовала по кишащим подлодками районам Карибского моря в компании трех чернокожих слуг, – а наши наблюдения за Мальдонадо не выявили больше ни одного факта передачи денег. Теодор Шлегель в эти дни проводил почти все время на борту „Южного креста“, а Хельга Соннеман дважды плавала на „Пилар“ рыбачить вместе с Хемингуэем и его друзьями. Я сомневался, стоит ли это делать, ведь на борту находится оружие и сложная электроника, а мы подозревали, что фройляйн Соннеман – абверовский агент, однако, в ответ на мои упреки, Хемингуэй лишь пожал плечами и продолжал приглашать Хельгу в поместье и на ловлю марлинов. Ему нравилось бывать в ее обществе. Из боев местного значения можно упомянуть также следующее: редактор Хемингуэя Перкинс написал, что в середине июля состоялась премьера фильма „Гордость Янки“ с участием Гарри Купера. Перкинс похвалил игру Купера, но Хемингуэй лишь смеялся, читая мне эти строки. – Куп бросает мяч, как девчонка, – утверждал он. – У Джиджи рука в десять раз сильнее. Черт возьми, даже малыш Сантьяго бегает, бросает и бьет битой лучше Гарри. Боюсь, мы никогда не узнаем, зачем Купера взяли на роль Лу Герига. – В ту же неделю пришла телеграмма от Ингрид Бергман. Из нее можно было понять, что директору фильма „По ком звонит колокол“ надоели ежедневные истерики актрисы, которая должна была играть Марию, он уволил ее и предложил роль Ингрид. – Я же сказал, что все улажу, – самодовольно заявил Хемингуэй, складывая телеграмму. Вспомнив, чем он занимался последние два месяца, я усомнился в том, что он мог „уладить“ хоть что-нибудь. Хемингуэй отличался склонностью приписывать себе успехи в делах, к которым он не имел ни малейшего касательства. Что же до боев совсем уж местного значения, август ознаменовался осложнением отношений между мной и Марией Маркес.* * *
Я мог бы сказать, что сам не ведаю, как это получилось, но это была бы ложь. Это произошло из-за того, что мы спали вдвоем в одной комнате, из-за того, что на лежащей рядом женщине не было ничего, кроме тонкой ночной рубашки, и из-за моей собственной глупости. Той ночью, когда мы опасались, что к нам заявится Мальдонадо и убьет Марию, она подтащила свою койку к моей и положила руку мне на плечо, но я не оттолкнул ее и на следующий день не раздвинул койки. Иногда, возвращаясь в „Первый сорт“, я заставал Марию спящей у огня; порой я проводил несколько суток с Хемингуэем на „Пилар“, но всякий раз Мария дожидалась меня, на плите томился кофе, который приносил Хуан или кто-нибудь из слуг, а если день был прохладный, в камине негромко потрескивало пламя. Все это до такой степени напоминало домашнюю обстановку, что я обленился, привык к уюту и мне стало нравиться, что рядом находится женщина. Как-то в конце июля – вероятно, в воскресенье, когда состоялся чемпионат по стрельбе в клубе „Казадорес дель Серро“, поскольку весь вечер в финке не было ни души – я отправился спать в полночь, а Мария легла рядом. В ту ночь камин не горел. Днем стояла знойная жара, и все окна были распахнуты, ловя малейшее дуновение воздуха. Внезапно я очнулся и сунул руку под подушку, нащупывая „смит-и-вессон“. Что-то вырвало меня из крепкого сна. Сначала я решил, что во всем виновата буря, сверкание молний над постройками фермы и раскаты грома над холмом, но потом сообразил, что меня разбудила рука Марии. Честно признаюсь – я привык к тому, что она спит по соседству, привык к ее дыханию, чуть заметному запаху, к тому, что Мария каждую ночь клала руку мне на плечо, как будто она по-детски боялась темноты. Однако нынешней ночью в ее прикосновении не было ничего детского. Ладонь девушки забралась под резинку моих пижамных брюк, ее пальцы гладили и ласкали меня. Если бы я бодрствовал, то оттолкнул бы ее, но меня одолели эротические сны, несомненно, навеянные ее лаской, и теперь эти теплые сладостные прикосновения казались продолжением моих видений. Я лишь успел подумать – она ведь шлюха, „puta“, но потом ее рука сжалась крепче, задвигалась быстрее, и мое сознание затуманилось. Мария перебралась со своей постели на мою, и я вскинул руки, но не оттолкнул ее прочь, а привлек к себе и сорвал с нее ночную рубашку. Мария приподнялась надо мной, ее волосы рассыпались по щекам. Она потянула вниз мои брюки. На секунду свежий ночной воздух ошеломил меня, но лишь на мгновение – и вслед за теплом ее ладоней я ощутил жар ее тела, ее ног. Мы мягко, но быстро задвигались, не произнося ни слова, не соприкасаясь губами. Мария оседлала меня, выгнув спину; на ее груди выступили капли испарины, блестевшие при каждой вспышке молнии. Я уже не различал ударов грома, его заглушали толчки крови в ушах. Мое сердце яростно забилось, окружающий мир расплылся. Больше года у меня не было женщины, и наша схватка продолжалась от силы минуту. Вероятно, Мария изголодалась не меньше – она вскрикнула и бессильно распласталась на моей груди секунды спустя после того, как ко мне пришел оргазм. На этом следовало и закончить, но мы остались лежать рядом, задыхаясь, взмокшие, сплетенные, если не объятиями, то сброшенной одеждой, запутавшимися ногами и руками, и все началось вновь, в этот раз затянувшись на несколько минут. Наутро мы с Марией не обменялись ни словом о том, что произошло ночью. Не было ни улыбок, ни слез, ни понимающих взглядов, только молчание, становившееся все более многозначительным каждый раз, когда мы оказывались рядом. И следующим вечером, когда я вернулся после долгого совещания во флигеле с Хемингуэем, Ибарлусией, Гестом и другими, Мария бодрствовала и дожидалась меня. На старой каминной полке и на полу у постелей горели пять свечей. Потом была очередная жаркая ночь, только без бури в темноте – во всяком случае, за стенами дома. Однако внутри они продолжали бушевать еженощно, разумеется, если я не выходил в море на „Пилар“ или – в последнее время – не следил далеко за полночь за Дельгадо. Я не могу найти оправдания этим неделям нашей близости. Мария Маркес была проституткой, за которой гонялись несколько убийц, и меня связывала с ней исключительно обязанность защищать ее жизнь. Однако события, ежедневно происходившие в финке – все возраставшее отчуждение между Хемингуэем и его женой, тепло и уют, возникшие с приездом мальчиков, долгие летние дни и ночи в море, общее ощущение праздника и безвременья, охватившее всех обитателей усадьбы, – заставили меня расслабиться, с нетерпением ждать ужина в нашем с Марией домике, и еще более – ночей страстной, молчаливой любви. Как-то ночью, через две недели после того, как все это началось, Мария вдруг расплакалась. Она лежала у меня на груди, и я почувствовал ее слезы, ощутил, как ее тело содрогается от рыданий, которых она не могла сдержать. Я поднял ее лицо и поцелуями собрал слезы, потом поцеловал ее в губы. Это были первые наши поцелуи. За ними последовали другие, и им, казалось, не будет конца. Теперь я видел в ней не столько шлюху, сколько юную обманутую женщину из маленькой рыбачьей деревушки, которая бежала от жестоких мужчин, только чтобы столкнуться с еще большей жестокостью в Гаване. В своей жизни ей не приходилось выбирать – наверное, даже Леопольдина не спрашивала согласия Марии, когда сделала ей свое щедрое предложение. Вряд ли девушка сознавала, какими последствиями обернется ее „помощь“; но теперь она выбрала меня. А я выбрал обычную человеческую жизнь, которой не знал с детства – каждый вечер возвращаться домой к одной и той же женщине, если находился на суше; ужинать вместе с ней, а не в кухне усадьбы под враждебными взорами повара, потом ложиться в постель, зная и предвкушая, что произойдет дальше – и опять-таки с одной и той же женщиной. Я начал постигать ее желания, а она, в свою очередь, мои. Мне открылось нечто новое. Секс всегда был для меня лишь средством снять телесное напряжение, но сейчас… сейчас все было по-другому. Однажды в предутренний час, когда Мария лежала рядом со мной, обхватив меня ногами и уткнувшись лбом в ямку на моей груди, она вдруг прошептала: – Ты никому об этом не расскажешь, правда? – Ни одной душе, – шепнул я в ответ. – Все это останется между нами и морем. – Что? – переспросила девушка. – Не понимаю… Море? Я растерянно моргнул, глядя в потолок. Это было расхожее кубинское присловье. Уж конечно, она слышала его в своей маленькой деревне. С другой стороны, ее деревня находилась в холмах, в нескольких милях от берега. Вероятно, тамошние мужчины изъяснялись иначе, чем рыбаки из приморских селений. – Это наш секрет, – пояснил я. Кому я мог об этом рассказать? Неужели Мария опасается, что сеньор Хемингуэй станет относиться к ней хуже, узнав, что теперь она – „моя“ женщина? Чего теперь боится Дикарка? – Спасибо, Хосе, – прошептала она, прикоснувшись длинными пальцами к моей груди. – Спасибо. Лишь впоследствии я осознал, что она благодарит меня не только за согласие хранить нашу тайну.* * *
Как правило, когда мы с Сантьяго наблюдали за Дельгадо – даже во время его встреч с лейтенантом Мальдонадо, – он не предпринимал особых усилий, чтобы избавиться от слежки. Однако сегодня, 3 августа, Дельгадо пустил в ход все свое умение сбрасывать „хвост“. Тем не менее я был уверен, что он не заметил ни меня, ни мальчика. Двигаясь в плотном потоке машин, Дельгадо приехал в Старую Гавану, припарковал свой мотоцикл в аллее Прогрессо, вошел в отель „Плаза“, покинул его через кухонную дверь, пересек Монсеррат и вошел в причудливое здание „Бакарди-Билдинг“, увенчанное огромным изваянием летучей мыши на башне. Я ссадил Сантьяго на углу и объехал вокруг квартала. Когда я вновь оказался на Монсеррат, мальчик неистово замахал мне рукой с тротуара. – Он вышел через задний ход, сеньор Лукас. Он сел в автобус номер три, идущий вверх по О'Рили. – Сантьяго запрыгнул на мопед позади меня, я пришпорил двигатель и помчался по узкой улице О'Рили. Сантьяго ни на секунду не выпускал автобус из виду. Дельгадо все еще находился внутри и, несомненно, выглядывал через заднее окно переполненного салона, пытаясь определить, не следят ли за ним. Скрываясь в потоке транспорта, я обогнал автобус и еще несколько машин, шедших впереди, после чего убавил скорость, а Сантьяго тем временем наблюдал, оглядываясь поверх плеча. Дельгадо вышел на площади Кафедрального собора, Сантьяго спрыгнул с мопеда и увязался за ним, а я продолжал ехать по Сан-Игнацио, минуя храм. Развернувшись, я догнал мальчика, который мчался по тротуару. Забравшись в седло, он целую минуту не мог отдышаться и, не в силах говорить, указал на такси, ехавшее по улице Агиар. Следуя за такси, я развернулся на Ла Хабана Виеха, миновал „Флоридиту“, и мы остановились на Парк-Сентрал, всего в половине квартала от того места, где Дельгадо оставил свой мотоцикл. Мы продолжали скрываться за машинами, а Дельгадо перешел улицу и оказался в районе Парк-Сентрал. Я затормозил у тротуара под древними каменными стенами, некогда окружавшими Старую Гавану, и мы опустили подножку мопеда. – Он сдвоил след по Парк-Сентрал на тот случай, если за ним тянется „хвост“, – объяснил я мальчику. – Срежь угол парка и постарайся не потерять его из виду. Если он выйдет с южной или западной стороны, иди к углу Гран-Театро и следи за ним. Я поднимусь к отелю „Плаза“ и буду наблюдать за обоими перекрестками. Если он появится, взмахни своим платком на уровне пояса. Парк-Сентрал – не просто парк, а центр столицы, которую кубинцы, получившие независимость после испанско-американской войны, собирались превратить в город, не уступающий величием Парижу или Вене. Вокруг зеленых пальмовых рощ и над ними выросли затейливо украшенные частные и общественные здания в стиле рококо и нео-барокко – гордость Гаваны. Я увидел, как Дельгадо скрылся в толпе, обступившей белую мраморную статую Хосе Марти в центре тенистой площади, и понял, что он заметит всякого, кто вздумает идти за ним по парку. Дельгадо был настоящий мастер. Если мои предположения относительно того, где он намерен покинуть парк, окажутся ошибкой, мы его упустим. Я скрывался в густой толпе, текущей по тротуару у северного окончания Парк-Сентрал, прохаживаясь от отеля „Плаза“ на севере до внушительного здания отеля „Инглатерра“ на западе и обратно, вглядываясь в лица пешеходов. Миновало несколько минут, и я уже был почти уверен, что Дельгадо вновь сдвоил след, вышел у „Бакарди-Билдинг“ и исчез, когда на тротуаре напротив Гран-Театро появился Сантьяго. Он размахивал своим красным платком. Я бегом спустился по улице. Мальчик указывал на юг в сторону точной копии вашингтонского Капитолия. – Он вошел в Капитолио Насиональ, сеньор Лукас. – Молодец, Сантьяго, – сказал я, хлопнув по его тощему плечу. – Оставайся здесь. Я вошел в Капитолий, прошагал гулкими коридорами, миновав ромб в полу вестибюля, который считался географическим центром Гаваны. Центральный коридор был пуст, однако в одном из боковых послышался стук захлопнувшейся двери. Я двинулся туда, мягко ступая туфлями, в которых плавал на яхте, и стараясь, чтобы их подошвы не скрипели на полированном полу. Помедлив у стеклянной двери с морозным узором, я приоткрыл ее, заглянул в щелку и увидел, как в двадцати шагах от меня в тускло освещенном проходе мелькает парусиновый костюм Дельгадо. Внезапно он развернулся, но я успел притворить дверь. До сих пор я думал, что он остановится в конце коридора, проверяя, не следят ли за ним, но теперь, кажется, догадывался, куда он направляется. Я поспешно вернулся в вестибюль, взбежал по мраморным ступеням на второй этаж и быстрым шагом направился в восточное крыло здания, по пути дергая ручки дверей, пока не нашел незапертую, и очутился на балконе Национального музея естественных наук. Он являл собой жалкую пародию на музей, большинство его витрин пустовали, в оставшихся были выставлены плохо набитые чучела животных с пыльными стеклянными глазами, однако именно здесь Дельгадо было удобнее всего следить за тем, что происходит за его спиной, разглядывая отражения в стеклах. Я перемещался по балкону, пока не увидел его белые туфли в южной части главного выставочного зала, и быстро отступил назад, затаив дыхание. Через десять минут, показавшихся мне вечностью, Дельгадо развернулся и подошел к запертой южной двери музея. Чтобы стереть грязь и пыль с окна, мне пришлось действовать кулаком, но наконец я расчистил достаточно большой круг и увидел, как Дельгадо пересекает широкий бульвар к югу от Капитолия и входит в массивное здание табачной фабрики „Партагас“. Вряд ли это был его очередной маневр. Я был уверен, что он стремился именно туда. Я покинул музей через восточный выход и пересек бульвар на углу. Дельгадо вошел в фабрику через главную дверь, а я прошагал полквартала к югу и затем свернул в переулок, ведущий к погрузочным платформам. Оказавшись в огромном складском помещении здания, я понял, как трудно будет отыскать Дельгадо. Однако я знал, что большинство табачных фабрик держат маленькие бары позади цехов, в которых скручивают и упаковывают сигары. Если Дельгадо назначил здесь встречу, лучшего места нельзя было и придумать. Шагая с самоуверенным видом, как будто я явился на фабрику по делам и знаю дорогу, я вошел через ворота склада в главный цех. Более сотни рабочих сидели здесь на скамьях, своих „galeras“; они разрезали закругленными ножами табачные листы и скручивали их. На возвышении у дальней стены цеха сидел человек, читавший вслух отрывки из дешевого романа; я знал, что обычай развлекать чтением рабочих сигарных фабрик восходит к прошлому столетию, когда Хосе Марти заставлял их выслушивать за работой патриотическую пропаганду. Теперь ее место заняли газеты по утрам и приключенческие либо любовные повести во второй половине дня. Я двинулся между рядами „galeras“. Большинство крутильщиков были слишком заняты, чтобы оторваться от дела; другие вопросительно смотрели на меня. Я кивал им с одобрительным видом и шел дальше. Некоторые из них обрабатывали „tripa“, малый лист, определяющий форму сигары. Другие, покончив с „tripa“, скатывали „hoja de fortaleza“, „лист силы“, придающий ей аромат, третьи нарезали и сворачивали „hoja de combustion“, который обеспечивает равномерное горение. В последнюю очередь сигару смазывали рисовым клеем инакладывали большой верхний лист „сора“, придающий сигаре товарный вид. Половина крутильщиков были мужчинами, и большинство – как мужчины, так и женщины – курили за работой сигары. Чтобы пересечь обширный цех, мне потребовалось две минуты, и за это время старик, сидевший у выхода, успел нарезать все листы и свернуть сигару. Я прошел через боковую комнату, где „depalillos“ вынимали из тонких листьев жилки и передавали листья „rezgagdos“, которые раскладывали их по сортам. В дальней двери сортировочного цеха я мельком увидел „revizadores“, которые протягивали сигары через отверстия в деревянной доске, проверяя соответствие их размера стандарту. Рассказывая мне об этом контроле качества, существующем на каждой сигарной фабрике Кубы, Пэтчи Ибарлусия не мог удержаться от непристойных шуток. В темном коридоре за комнатой „revizadores“ я увидел деревянную дверь с матовым стеклом, ведущую в маленький бар, в котором подавали сигары, ром и кофе. На двери висела табличка „перерыв“. Выждав секунду, я чуть приоткрыл ее. Дельгадо сидел в третьей от двери кабинке спиной к входу. Мужчина, сидевший напротив, поднял лицо, как только дверь шевельнулась, но я закрыл ее, прежде чем он успел отчетливо меня рассмотреть. Мне же хватило одного взгляда на него. Я торопливо прошел по коридору и скрылся в мужском туалете; в тот же миг дверь бара распахнулась и послышался звук шагов. В туалете было замазанное мелом окно, ведущее в переулок. Я поднял окно, выбрался наружу, завис в двух метрах над грязным кирпичным тротуаром и спрыгнул. Поднявшись на ноги, я быстро скрылся за поворотом переулка, прежде чем кто-нибудь выглянул из открытого окна.* * *
Всю эту ночь мы с Марией занимались любовью, и наша страсть улеглась, только когда на рассвете в дверь „Первого сорта“ негромко постучали. Это был Сантьяго, которому я велел явиться с докладом как можно раньше, и он, следуя моим распоряжениям, один раз ударил в дверь и отправился во дворик фермы дожидаться моих инструкций. Не знаю, отчего мы с Марией были так возбуждены и что поддерживало наши силы всю эту долгую ночь. Может быть, она почувствовала произошедшие во мне перемены и поняла, что наш маленький выдуманный мир начинает рушиться и реальность вот-вот сметет его, будто ураган. Накануне вечером Хемингуэй объявил, что мы ранним утром выйдем в море на „Пилар“. Состояние ног Дона Саксона ухудшилось до такой степени, что в этом походе он не мог исполнять обязанности радиста, поскольку никто не смог бы терпеть его соседство на яхте, пока он не вылечится. Отныне управляться с электроникой предстояло мне. Военно-морская разведка прислала Хемингуэю зашифрованный приказ следовать вдоль кубинского побережья до пещер, в которых, по некоторым предположениям, была устроена база снабжения германских подлодок. Хемингуэй взял в плавание Фуэнтеса, Геста, Ибарлусию, Синдбада-морехода, Роберто Герреру, меня и двух сыновей – Грегори и Патрика. Он сказал, что мы проведем в море около недели, выслеживая „Южный крест“, направлявшийся в тот же район, но я решил, что Хемингуэй не воспринимает этот поход уж очень серьезно, если берет с собой мальчиков. – Я должен остаться здесь, – сказал я. – Кто будет присматривать за „Хитрым делом“? – После открытия, сделанного мной на сигарной фабрике, я не хотел покидать сушу. Хемингуэй ощерился и взмахом руки отмел мои возражения. – Несколько дней „Хитрое дело“ само позаботится о себе, – ответил он. – Ты отправляешься с нами, Лукас. Это приказ. Выйдя утром из „Первого сорта“, я отыскал Сантьяго, который терпеливо дожидался меня, сидя на невысоком каменном желобе в середине двора. Мы вместе зашагали по дорожке, ведущей мимо финки. – Сантьяго, я на несколько дней ухожу в море с сеньором Хемингуэем. – Да, сеньор Лукас. Я уже слышал. Я не стал спрашивать, откуда он это узнал. Агент 22 стремительно превращался в нашего лучшего оперативника. – Сантьяго, я не хочу, чтобы в наше отсутствие ты продолжал наблюдать за лейтенантом Мальдонадо. И за человеком, которого мы выслеживали вчера. И вообще за кем бы то ни было. На лице мальчика отразилась растерянность. – Но, сеньор Лукас, разве я плохо выполняю ваши задания? – Ты отлично выполняешь свою работу, – сказал я, положив руку ему на плечо. – Работу настоящего мужчины. Но, пока мы с сеньором Хемингуэем находимся в море, наблюдать за Бешеным жеребцом… и другими людьми, которых мы выслеживали, бессмысленно. – Разве вы не хотите выяснить, с кем встречается лейтенант? – озадаченно спросил Сантьяго. – Я думал, нам очень важно знать об этом. – Это действительно важно, – ответил я. – Но сейчас мы знаем вполне достаточно, и нет никаких причин продолжать наблюдение, до того как я вернусь. Мальчик вновь просиял. – Когда вы вернетесь, мы сыграем в бейсбол со „Звездами Джиджи“. Пусть сеньор Хемингуэй играет в команде своих сыновей, а вы – за противника. – Может быть, – сказал я. – Да, пожалуй, это хорошая мысль. Честно. – Я говорил правду. Я любил бейсбол и терпеть не мог скучать, сидя на траве, пока другие играют. Одним из немногих предметов, которые я повсюду возил в своем рюкзаке, была бейсбольная перчатка, подарок дяди на день рождения, когда мне исполнилось восемь лет. Я надевал ее, играя в колледже, в школе юриспруденции и уже будучи штатным агентом ФБР во время импровизированных матчей на лужайке Белого дома. Я был бы не прочь выбить Хемингуэя с поля. Мальчик улыбался и кивал: – Но что мне делать, пока вы будете в плавании, сеньор Лукас? Я дал ему три доллара. – Купи себе мороженого на улице Обиспо. Купи еды для своей семьи. – У меня нет семьи, сеньор Лукас. – Сантьяго, продолжая улыбаться, с сомнением посмотрел на купюры в своей руке и протянул их обратно. Я сложил пальцы мальчика, и деньги оказались у него в кулаке. – Купи миндальных пирожных. Пообедай в кафе, где тебя знают. Агент обязан поддерживать свои силы. Нас ждут тяжелые испытания. В глазах мальчика зажегся радостный огонек. – Si, сеньор Лукас. Вы очень щедры. Я покачал головой. – Это ваше жалованье, Агент 22. А теперь беги. И, пожалуйста, верни мопед таинственному незнакомцу. Мы достанем для тебя новый – на законных основаниях. Увидимся через неделю или даже раньше. Мальчик в клубах пыли помчался по дорожке мимо финки.* * *
Мягко урча двигателем, „Пилар“ вышла из порта Кохимара. Был безоблачный день, „brizas“ – так местные жители называли северо-восточный муссон – принес прохладу, но был слишком слаб, чтобы поднять волну в водах Гольфстрима. Хемингуэй пребывал в радужном настроении и показывал сыновьям береговые ориентиры – Ла Терреза, огромный старый дом, в котором находился их любимый прибрежный ресторан, высокое дерево позади Ла Терреза, под которым писатель частенько сиживал, выпивая и болтая с местными рыбаками, а потом он предложил мальчикам попытаться отличить рыболовов от „guarijos“, кубинских крестьян, на расстоянии трехсот ярдов и более. – Мы не можем разглядеть их лица на этой дистанции, папа, – возразил Грегори. Хемингуэй рассмеялся и положил руку на плечо младшему сыну. – Тебе нет нужды видеть их лица, Джиджи. Понимаешь, „guarijo“ очень нервничает, когда едет к морю или в город. Он надевает выходную рубашку со складками, обтягивающие брюки, широкополую шляпу и башмаки для верховой езды. – Ну да, конечно! – воскликнул Патрик, забравшийся на ходовой мостик с сильным биноклем. – Ты уже рассказывал об этом, папа. И еще они всегда берут с собой мачете. Их можно разглядеть даже без оптики. Грегори кивнул, уютно устроившись в отцовских объятиях. – Да, теперь я вижу, папа. Крестьянина легко отличить по костюму. А как насчет рыбаков? Хемингуэй вновь рассмеялся и указал на Фуэнтеса, который стоял в непринужденной позе на узком карнизе рубки по правому борту яхты. – Рыбаки – веселые и самоуверенные парни, Джиджи, – ответил он. – Носят все, что им заблагорассудится – старую одежду, лохмотья, тряпки. И если ты посмотришь в бинокль Мышонка, то сможешь отличить их от „guarijos“ по загорелым, мозолистым, покрытым шрамами рукам. – Но крестьяне тоже загорелые, – сказал младший. – Ты прав, Джиджи, но волосы на их руках темные. Однако даже на расстоянии ты можешь заметить, что волосы на руках рыбаков выгорели – они выбелены солнцем и солью. – Да, папа, – отозвался мальчик, хотя к этому времени яхта отошла от берега так далеко, что фигурки рыбаков были едва видны, а тем более – их обнаженные руки. В тот день мы шли юго-восточным курсом вдоль северного побережья Кубы. Мы рассчитывали заночевать на новой маленькой базе кубинского военно-морского флота на крохотном острове Кейо Конфитес, а утром отправиться к востоку на поиски пещер и „Южного креста“. Воды Гольфстрима переливались синевой и пурпуром, в небе не появлялось ни облачка, с востока продолжал задувать мягкий „brizas“, и море было усеяно бесчисленными рыбачьими лодками и прогулочными яхтами, большинство которых шли под парусом из-за нехватки горючего в военное время. Это был прекрасный день для плавания, но идиллия закончилась, едва стало известно, что „старший офицер“ Уинстон Гест забыл погрузить на борт три упаковки пива, объявленные Хемингуэем минимальным количеством для шести-, семидневного похода. Я сидел внизу, делая заметки и размышляя о последствиях, которыми грозило свидание Дельгадо на сигарной фабрике, когда с палубы донеслись крики и ругань на испанском, английском и французском языках. Я взбежал по трапу, решив, что на поверхность поднялась немецкая подлодка – чего они почти никогда не делали в дневное время, – и нас вот-вот возьмут в плен или потопят. Все, даже мальчики, громко проклинали Геста за забывчивость. Миллионер неподвижно стоял у штурвала, его щеки постепенно багровели, но глаза были опущены, а выражение лица становилось все более виноватым. – Ладно, не бери в голову, Волфер, – сказал Хемингуэй, прерывая поток ругани. – Надеюсь, мы получим пиво на Кейо Конфитесе вместе с остальными припасами. – А если нет, – с угрозой произнес Синдбад, – мы поднимем мятеж и вернемся на Кубу. – Или поплывем до Майами, – подал голос Пэтчи Ибарлусия. – Может быть, пиво найдется в секретных пещерах немцев, – сказал Патрик. – Ледяное баварское пиво, спрятанное в глубине пещеры среди штабелей бочек с горючим. – Баварское пиво, квашеная капуста и сосиски, – простонал Грегори. – Но мы будем вынуждены прорываться сквозь охранные посты с рычащими немецкими овчарками. – Я подожгу сеньора Геста и напущу на него собак, – посулил Синдбад. – А мы прорвемся внутрь, пока они будут терзать Волфера, – добавил Патрик с ходового мостика. – Оставим весь подводный флот Германии без выпивки и жратвы. Боевой дух нацистов упадет, и они покинут Карибы. Нас наградят серебряным крестом. – И золотыми открывалками для бутылок, – добавил Ибарлусия. Фуэнтес, следивший за происходящим сузившимися глазами, со страдальческим выражением на лице заявил: – От этих разговоров о пиве у меня разыгралась жажда. Хемингуэй поднялся по трапу на ходовой мостик и встал к штурвалу. Гест, до сих пор управлявший яхтой из рубки, вздохнул и уселся на скамью. – Смелее, парни! – крикнул Хемингуэй. – С господней помощью наши испытания скоро подойдут к концу! Я покачал головой и спустился вниз, продолжая размышлять о лжи и коварстве, грозивших захлестнуть „Хитрое дело“.Глава 19
Помещением для раздумий мне служила „радиорубка“ – бывший носовой гальюн „Пилар“, напичканный электроникой на сумму 35 тысяч долларов. Здесь едва хватало места, чтобы сидеть на крохотном табурете между панелями коротковолновых приемников и флотских передатчиков. Две книги, копии тех, что я видел на „Южном кресте“, лежали в непромокаемой сумке рядом с главной радиостанцией – там, где раньше висел рулон туалетной бумаги. Делая записи, я был вынужден класть блокнот на колено. При закрытой двери в рубке было очень жарко и тесно, но, по крайней мере, я мог уединиться. Теперь, когда на „Пилар“ плыли девять мужчин, здесь было не сыскать отдельного места для сна и отправления тех потребностей, для которых прежде предназначался гальюн. Как гласила наша самая расхожая шутка – особенно ее любили повторять мальчики, – первой жертвой военных действий в наших рядах станет тот, кто упадет за борт, опорожняя кишечник в море. Надев наушники, я почти не слышал голосов и шума, доносящихся сверху. Я пытался выбросить из головы мысли о нашем нелепом „походе“ и сосредоточиться на важных вещах.* * *
Человека, сидевшего напротив Дельгадо в баре сигарной фабрики, я рассматривал от силы две секунды, после чего закрыл дверь, но узнал его без малейшего труда. Я видел его фотографию два года назад, когда работал в Мехико, и совсем недавно заметил его имя и кличку в досье Теодора Шлегеля, которое мне показал Дельгадо. Это был тот самый человек: темные волосы, зачесанные назад по южноамериканской моде, доходящие на висках до ушей, те же печальные щенячьи глаза, правая бровь гуще левой (но именно левая бровь удивленно приподнялась, когда я приоткрыл дверь), полные чувственные губы с тонкой аккуратной полоской усов. На нем был светлый дорогой костюм и бордовый безупречно повязанный галстук со скромным узором из бриллиантов и золотым шитьем. Это был гауптштурмфюрер СС Иоганн Зигфрид Бекер, к нынешнему времени – капитан Бекер, если в апрельскую аналитическую сводку ОРС не закралась ошибка. В апреле стало известно, что в начале мая Бекера отзывают из Рио в Берлин для нового назначения, вероятно, с повышением. Бекеру исполнилось двадцать девять, он был почти моим ровесником. Он родился в Лейпциге 21 октября 1912 года и, закончив там колледж, сразу вступил в нацистскую партию. В 1931 году его назначили в СС. Невероятное событие – девятнадцатилетний юнец в рядах наводящей ужас организации чернорубашечников, „батальона охраны“, личных телохранителей Гитлера с 20-х годов, превратившейся в самую страшную из нацистских структур, которую отождествляли с Гестапо, концлагерями и ее собственной развед-службой, СД. – однако Иоганн Зигфрид Бекер был незаурядным молодым человеком. В партийных документах отмечались его талант организатора и неутомимость в работе. 20 апреля 1937 года Бекер получил звание второго лейтенанта и немедленно отправился в Буэнос-Айрес; он прибыл туда 9 мая на борту „Монте Паскуаль“ и работал под прикрытием должности представителя берлинской экспортной фирмы „Коммерсио Алеман“ вплоть до минувшего месяца, когда его вызвали в Берлин для очередного повышения и получения новых распоряжений. Сотрудники ФБР и ОРС в Южной и Центральной Америке считали Бекера самым искусным немецким агентом в Западном полушарии. В 1940 году аргентинской полиции почти удалось разоблачить Бекера, однако эсэсовец переехал в Бразилию и предложил свои услуги абверовской организации, возглавляемой Альбрехтом Густавом Энгельсом, шефом Теодора Шлегеля – тем самым Альфредо, который подписывал расшифрованные нами передачи. В сообщениях, адресованных Берлину и перехваченных BMP в 1941 году, Энгельс называл Бекера „единственным по-настоящему профессиональным агентом“ как в его собственной разведывательной сети, так и во всей Южной Америке, и признавался, что только „ум и энергия“ эсэсовского офицера поддерживают на плаву разветвленную шпионскую организацию в Рио-де-Жанейро. Когда я работал в Колумбии и Мексике, меня более всего изумлял тот факт, что Бекер служил в СД. разведывательном отделе СС, а Энгельс возглавлял операции Абвера. Сотрудники СД и Абвера ненавидели и презирали друг друга в той же мере, что и их руководители, Рейнхард Гейдрих и адмирал Канарис. Каждый из них мечтал, чтобы его организация была единственной разведывательной службой Третьего Рейха. Их соперничество было сродни противостоянию БКРГ и MI5, сродни крайней антипатии ФБР по отношению к ОСС Донована, с той лишь разницей, что в Германии борьба велась при помощи автоматного огня и удара ножом в спину – в буквальном смысле этого слова. И вот теперь Иоганн Зигфрид Бекер, офицер СС и агент СД. получил из рук фюрера новый чин и, вероятно, куда более широкие обязанности и полномочия, в сущности, беспрецедентные, поскольку они „объединяли“ усилия Абвера и СД в Южной Америке под единоличным руководством Бекера. И этот человек встречался на гаванской сигарной фабрике с моим связным и единственной ниточкой, ведущей от меня к Бюро, специальным агентом Дельгадо. Об этом следовало хорошенько поразмыслить. После сорокапятиминутного размышления я пришел к выводу, что существуют лишь четыре возможности. Первая состояла в том, что Дельгадо – двойной агент и встречался с Бекером, намереваясь предать меня, Хемингуэя, ФБР или Соединенные Штаты. Во-вторых, Дельгадо мог участвовать в куда более серьезной операции, нежели обеспечение моих каникул с „Хитрым делом“, – операции, включавшей в себя превращение гауптштурмфюрера Иоганна Зигфрида Бекера в двойного агента, работающего против Третьего Рейха. В-третьих, Дельгадо мог действовать под чужой личиной в роли оперативника либо платного осведомителя Бекера, либо предлагать свои услуги в качестве двойного агента с целью передачи дезинформации в Германию. В-четвертых, еще какой-либо вариант, который я не сумел выявить. Самым привлекательным выглядел третий; я застал Дельгадо в ситуации, в которой зачастую оказываемся мы, агенты ОРС (я и сам много раз проделывал нечто подобное, работая в условиях глубокой конспирации), и все же чувствовал себя неуютно. Я понял, что более всего меня беспокоят странное стечение обстоятельств и редкостное согласие между Абвером и СД. Обстоятельства казались странными не только из-за почти абсурдной концентрации агентов разведки на Кубе и вокруг любительской затеи Хемингуэя, но также и из-за того, что Шлегель и Бекер начали свою кубинскую операцию – в чем бы она ни заключалась – несколько месяцев спустя после того, как ФБР и бразильская полиция практически ликвидировали их шпионские сети. Возможно, что ни тот ни другой не знали об арестах и потоках дезинформации, поступавшей теперь из Рио, но вероятность такого развития событий казалась пренебрежимо малой. С другой стороны, Шлегель покинул Бразилию до того, как ему стал угрожать арест, а ОРС стало известно, что Бекер столкнулся с трудностями при возвращении в Берлин нынешней весной, поскольку итальянская авиакомпания отложила трансатлантические полеты после трагедии Пирл-Харбора. Еще сильнее меня тревожило сотрудничество СД и Абвера. За последние шесть лет я прочел об их взаимоотношениях больше любого другого агента ОРС. Вероятно, я изучил этот вопрос лучше, чем кто-либо в Западном полушарии, если не считать специалистов из ОСС Донована. Вот где пригодились мои познания в немецком, полученные в юридической школе. На первый взгляд, разграничение полномочий СД и Абвера выглядело вполне логичным: люди Гейдриха занимались политическим шпионажем по всему миру, а армейская разведка Канариса вела обширную деятельность по сбору военной информации. Данное положение установилось в конце 1936 года, когда вражда между гиммлеровским СС и традиционным разведывательным корпусом Абвера достигла такого накала, что Гитлер был вынужден лично призвать их к примирению. Это „примирение“ оказалось лишь еще одним громадным шагом СС и его разведывательного крыла, СД. на неуклонном пути к могуществу. Генрих Гиммлер вступил на этот путь в последний день июня 1934 года, в „ночь длинных ножей“, когда СС по прямому приказу фюрера ликвидировало Эрнста Рема и сотни прочих главарей коричневорубашечников СА, которые послужили Гитлеру ударной силой, когда он рвался к власти. Той кровавой ночью Гиммлер превратил СС из второстепенной организации в единственную ударную силу Третьего Рейха, уничтожив не только гомосексуалистов, руководивших СА, но также и их двухмиллионную уличную армию. Менее трех недель спустя после бойни Гиммлер назначил молодого Рейнхарда Гейдриха новым главой разведывательного крыла партии, СД. Начиная с 1934 года главным соперником Гейдриха была не служба внешней разведки, но священное детище Канариса, Абвер. После „примирения“ в 1936 году обе организации согласились подчиняться „десяти заповедям“ немецкой разведки и поделили между собой области ответственности. На практике Гейдрих и его шеф Гиммлер делали все возможное, чтобы подорвать авторитет Канариса и опорочить его в глазах фюрера. Их конечной целью было уничтожение Абвера, который существовал уже сто лет, и подчинение всех полицейских, шпионских и контрразведывательных сил службе безопасности нацистской партии. Генрих Гиммлер возглавлял как СС, так и СД. Рейнхард Гейдрих вплоть до его убийства в июне руководил Управлением безопасности Рейха, РСХА, состоявшей из следующих основных департаментов: РСХА I – отдел кадров, РСХА II – администрация, РСХА 111 – внутренняя разведка, РСХА IV – Гестапо, РСХА V – следственная группа, РСХААМТ VI – зарубежная разведка. В 1941 году директором АМТ был назначен юный красавец, бригадир СС Вальтер Шелленберг. Тридцати двух лет от роду, Шелленберг выглядел намного более культурным и здравомыслящим человеком, нежели его погибший босс, Гейдрих, завсегдатай публичных домов, хладнокровный влиятельный интриган, получивший прозвище „пражский мясник“ в ходе недолгого пребывания на посту наместника Богемии и Моравии, однако, по нашим сведениям, Шелленберг ничуть не уступал Гейдриху в решимости укротить и уничтожить Абвер. В шпионских кругах Шелленберг прославился дерзким похищением двух британских агентов в Голландии в 1936 году. Действуя под именем майора Шеммеля, он выразил желание примкнуть к заговору немецких генералов, планировавших убить Гитлера и заключить мир с Англией. Британская разведка проглотила наживку и направила в Голландию двух оперативников, которые должны были утром 9 ноября 1939 года встретиться с Шелленбергом в городе Венло. По сигналу Шелленберга его люди на большой скорости прорвались в автомобиле через пограничную заставу, после чего он сковал изумленных агентов наручниками и увез в Германию для допроса, отстреливаясь из пистолета от британской группы поддержки. Этот случай ничуть не повредил репутации Шелленберга в глазах Гейдриха и Гитлера. В 1940 году Шелленбергу почти удалось еще одно похищение – на сей раз герцога Виндзорского, бывшего английского короля Эдуарда VIII. Его восхваления в адрес Гитлера убедили нацистов в том, что слабоумный аристократ может оказаться полезен для пропаганды Третьего Рейха. Шелленберг задумал сложный план похищения герцога и герцогини в Испании, через которую бывший король и его супруга следовали к месту своей ссылки на Багамских островах. Однако тщательно продуманный замысел – БКРГ и ОРС узнали о нем значительно позже – дал осечку. Шелленберг не сумел выкрасть герцога, который в последний момент изменил свои планы и не появился в Испании. Тем не менее неудача не замедлила продвижение Шелленберга к вершинам власти; Гейдрих приблизил его к себе и в июне минувшего 1941 года назначил руководителем РСХА АМТ VI. Я с любопытством следил за деятельностью Шелленберга и АМТ VI. В то время как люди Абвера в Мексике и Южной Америке совершали одну за другой грубые ошибки, которые привели к аресту большинства его агентуры, оперативники СД действовали намного успешнее. Судя по всему, Шелленберг никому не доверял и превыше всего ценил личную отвагу. Штаб-квартира АМТ располагалась отдельно от прочих административных зданий СД – в северо-западном районе центра Берлина по адресу Беркаерштрассе, 32, на углу Гогенцоллерндамм. Британские агенты, побывавшие в кабинете Шелленберга, рассказывали, что в его столе спрятаны два пулемета, из которых он мог расстрелять любого, кто попытался бы его убить. Таков был человек, вызвавший Иоганна Зигфрида Бекера в Берлин, чтобы поручить ему особую операцию в Южной Америке либо в Карибском бассейне. Предполагалось, что эта операция одобрена – а возможно, и разработана – шефом Бекера Гейдрихом или даже самим главой СС Генрихом Гиммлером. Зачем они привлекли к этой операции Абвер? Какое отношение к ней имеют „Южный крест“ и смехотворный план Хемингуэя? И каким образом здесь замешан Дельгадо? Сквозь треск разрядов послышался шум, и я распахнул глаза. Я быстро натянул наушники поплотнее и потянулся к записной книжке и непромокаемой сумке. Кто-то вышел в эфир на частоте „Южного креста“, используя шифр из блокнота убитого радиста.* * *
Ни днем, ни вечером я не сумел выкроить время, чтобы наедине поговорить с Хемингуэем о радиопередачах. А рассказывать ему о них в присутствии посторонних мне не хотелось. В сумерках мы бросили якорь у Кейо Конфитес. Этот клочок земли был слишком мал, чтобы назвать его островом или даже островком. Малыш Грегори сказал, что он похож на каток в Рокфеллеровском центре – не более тридцати ярдов в диаметре, плоский и пустой, если не считать барака в середине. Кубинский военный флот выстроил этот барак и разместил в нем пост связи и базу снабжения для затеи Хемингуэя под названием „Френдлесс“ и нескольких других морских операций, но единственным признаком, выдававшим его военное назначение, была высокая радиоантенна над крышей и огромный флагшток по соседству. Пока яхта приближалась к острову, на нем развевался кубинский флаг, а, едва мы приготовились бросить якорь, из барака плотно сомкнутой группой вышли три кубинца в морской форме. Один из них встал у флагштока по стойке „смирно“, а офицер, посмотрев на часы, подал сигнал третьему, и тот извлек из ржавого горна каскад хриплых нот. – Гляди, папа, – сказал Грегори, – только офицер носит мундир, да и тот старый и обтрепанный. На остальных всего лишь шорты-хаки. – Ш-шш, Джиджи, – отозвался Хемингуэй. – Они надели то, что у них есть. Какая разница, что они носят? Грегори пристыженно умолк, и тут же Патрик театральным шепотом осведомился: – Что это за рыжая веревка на плече офицера, папа? – Кажется, это галун, – ответил Хемингуэй. Три кубинца опустили флаг, надоедливая труба утихла. Один из солдат понес флаг в помещение, а офицер и его второй подчиненный в шортах смотрели, как мы бросаем якорь. Еще до того как он зацепился за дно, Ибарлусия, Геррера и Гест спустили „Крошку Кида“ на воду и погребли к берегу. Десять минут спустя они отправились в обратный путь, и один взгляд на их лица подсказал нам, что на базе для нас не нашлось ни бутылки пива. Из шлюпки доносилось странное завывание, но мне было трудно поверить, что трое мужчин способны издавать такие звуки. – У них есть пиво? – крикнул Хемингуэй с кормы. – Нет! – Голоса мужчин смешивались с надсадным визгом. Казалось, они с чем-то борются. – Приказы для нас? – Нет, – ответил Роберто Геррера с носа шлюпки. Гест и Ибарлусия пытались удержать некий предмет, издававший стоны, будто ребенок, которого душат, но Геррера заслонял его. – Они видели „Южный крест“? – допытывался писатель. – Ага, – откликнулся Геррера. Шлюпка приблизилась к яхте на расстояние менее шести метров, и визг стал оглушающим. – Что-нибудь из продовольствия? – осведомился Фуэнтес. – Только бобы, – крикнул в ответ Ибарлусия. – Двадцать три банки бобов. И еще это. – Они с Уинстоном Гестом подняли в воздух визжащую свинью. Патрик и Грегори рассмеялись, хлопая себя по голым ногам. На лице Хемингуэя отразилось отвращение. – Зачем вы тащите ее на борт на ночь глядя? Хотите, чтобы проклятая тварь спала вместе с нами? Ибарлусия обратил к нам сияющую улыбку. В сумерках его зубы казались белоснежными. – Если мы оставим свинью на берегу, солдаты на завтрак полакомятся беконом, а на обед – бутербродами с ветчиной, и вряд ли они с нами поделятся. Хемингуэй вздохнул. – Оставьте животину в шлюпке. А ты… – прорычал он, указывая на Синдбада, который заливался грубым хохотом, стоя рядом с ним, – ты утром вычистишь „Крошку Кида“.* * *
Когда по соседству визжит свинья, а на яхте, занимая каждый сантиметр горизонтальной поверхности, храпят, постанывают и пускают газы девять мужчин, уснуть не так-то легко. Около трех утра я поднялся по трапу на ходовой мостик; Уинстон Гест стоял на вахте, выпрямившись и облокотившись о поручень. Я так и не понял, чего мы, собственно, ждем. Может быть, Хемингуэй опасается, что у рифа всплывет немецкая подлодка и расстреляет кубинский барак? – Прекрасная ночь, – прошептал Гест. Я встал у поручня напротив. Ночь действительно была славная: на берег с шелестом набегали волны, их фосфоресцирующие завитки почти сливались с сиянием Млечного Пути, протянувшегося в черном куполе над нашими головами. В небе не было ни облачка. – Не спится? – спросил миллионер. Мы находились всего в двух метрах над головами людей, лежавших на матрацах вокруг рубки, но плеск волн о корпус яхты, ветер и шум прибоя заглушали наш шепот. Я покачал головой. – Тревожитесь из-за завтрашнего дня? – допытывался Гест. – Думаете, в пещерах притаились подлодки? – Нет, – тихо ответил я. Гест кивнул. Даже в тусклом свете звезд я видел его обожженные солнцем щеки, и нос, и легкую улыбку. – Я тоже не боюсь, – сказал он. – Наоборот, хотел бы, чтобы они там оказались, и мы поймали хотя бы одну. Тем, как Гест произнес эти слова, он напомнил мне ребенка, который хочет звездочку с неба. Если Гест действительно агент – Британии или другой страны, – то он чертовски хороший актер. Однако, как я уже упоминал, все люди нашей профессии обладают этим даром. – Вы заметили, что Эрнест читает при свете фонаря, пока остальные спят? – спросил Гест. Я кивнул. – Знаете, что он читает? – Нет. – Я от всей души надеялся, что речь идет не о какой-нибудь чепухе вроде „новых распоряжений“. – Одну из рукописей Марты, – сообщил Гест, понизив голос до такой степени, что из-за шума прибоя я едва разобрал его слова. – Книгу, над которой она сейчас работает; Марта прислала ее из своего дурацкого путешествия. „Пурпурная орхидея“, или что-то в этом роде. Она хочет, чтобы Эрнест прочел ее и выразил свое мнение. Именно этим он сейчас занимается… отстояв за штурвалом четырнадцать часов. Я кивнул и посмотрел на кубинский барак, сверкавший в свете звезд. После наступления темноты там некоторое время горела лампа, но маленький гарнизон лег спать довольно рано. – Да, эти бедолаги застряли тут надолго, – заметил Гест. – Эрнесто сказал, что офицера загнали на этот островок за то, что он спал с женой командира, а остальные двое отбывают наказание за мелкое воровство. Я кивнул. Я поднялся на мостик не для того, чтобы почесать язык, но если Гест хочет поболтать, что ж, ради бога. Я продолжал размышлять о двух радиопередачах, которые перехватил днем. – Кстати, о женах, – прошептал Гест. – Как она вам понравилась? – Кто? – Я не имел ни малейшего понятия, кого он имеет в виду. – Марта. Третья супруга Эрнеста. Я пожал плечами. – Должно быть, у нее стальные нервы, если она до сих пор катается вокруг Кариб на маленькой лодчонке. Гест фыркнул. – Вы хотели сказать – стальные яйца, – чуть слышно прошептал он. – Марта всегда считала, что именно она настоящий мужчина в семье. Я окинул взглядом крупное тело Геста, силуэт которого выделялся на фоне светящихся волн, перехлестывавших через риф. После секундной заминки он продолжал торопливым шепотом: – Эрнест показал мне несколько страниц книги, которую она пишет… роман о муже и жене, которые живут в усадьбе, похожей на финку „Вихия“. Муж ходит босиком, в шортах, всегда грязный, слишком много пьет, говорит одни глупости и так далее. Эта книга взбесила меня, Лукас. Совершенно очевидно, что Марта описывает Эрнеста, выставляя его в дурном свете. А он, уставший как собака, с больной головой после четырнадцатичасовой погони за субмаринами под палящим солнцем, на полном серьезе читает ее стряпню и делает пометки. Марта просто использует его, вот и все. Я облокотился о поручень. Гест тяжело вздохнул. – Я знаю, мне не следовало бы все это говорить, но вы и сами живете в финке, Лукас. Если не в самой усадьбе, то достаточно близко. Вы видите Марту и Эрнеста и понимаете, что я имею в виду. Я промолчал, и Гест кивнул, словно я соглашался с ним. – За неделю до ее отъезда в это дурацкое путешествие по заданию „Кольерса“, – шепотом продолжал он, – Эрнест попросил меня отправиться на утреннюю пробежку вместе с ней… с Мартой. В тот день состоялся первый круг соревнований по голубиной стрельбе, и он не хотел, чтобы Марта бегала одна. И я побежал вместе с ней. Из нее никудышная бегунья. Поэтому я опередил ее на полмили, вернулся, опять убежал вперед на полмили и опять вернулся – убедиться, что она еще переставляет ноги… ну, вы понимаете. Над морем в свете звезд промчалась чайка. Мы с Гестом проводили ее взглядами. Она летела совершенно бесшумно. Гест поднял воображаемую винтовку и целился в чайку, пока она не скрылась за бараком кубинцев. – И вдруг, когда мы вновь поравнялись, чтобы пробежать бок о бок несколько шагов, – зашептал Гест, – она меня спросила, что я думаю о ее выборе мужа. „Вы об Эрнесте?“ – спросил я, и Геллхорн ответила: „Нет… я имею в виду, что вы думаете о моем выборе?“ – и, хватая воздух, словно собака, которая вот-вот свалится от усталости, объяснила, что вышла за Хемингуэя, потому что он очень хороший писатель – „не великий“, подчеркнула она, „но очень хороший“ – и что он поможет ей вырасти как литератору и сделать карьеру. „К тому же, – добавила она, – книги, которые он уже написал, всегда будут приносить доход. Это очень удобно“. – Меня словно обухом хватили, Лукас, – продолжал Гест. – Настоящая стерва, меркантильная эгоистичная сучонка! Говорить об Эрнесте такие вещи в моем присутствии! Она ни словом не обмолвилась о том, что любит его, вы понимаете, что я имею в виду? Говорила только о том, что он поможет ее карьере. Какова мерзавка! Гест шептал все громче, в его голосе слышалась нервная нотка, и я кивком указал на спящих. Хемингуэй спал в носовом трюме вместе с сыновьями, и все же кто-нибудь мог услышать возбужденный голос миллионера. Я приподнял бровь. Он виновато кивнул, и его голос упал до едва слышного шепота. – Вдобавок в Гаване и Кохимаре каждый человек… все, кроме Эрнеста, знают, что у Марты была интрижка с Хосе Регид ором. – El Canguro? – изумленно прошептал я. – Да, Кенгуру, – ответил Гест. – Красавец игрок хайалай. Он принадлежит к тому типу мужчин, которые больше всего нравятся Геллхорн. И считается хорошим другом Эрнеста. Мерзавец под стать Марте. Я с сомнением покачал головой, потом прошептал: – Я иду вниз. Если, конечно, вы не хотите, чтобы я вас сменил. День был долгий и трудный. – Через полчаса на вахту заступит Пэтчи. – Гест неловко потрепал меня по плечу. – Спасибо, Лукас. Спасибо за то, что поговорили со мной. – Не за что, – отозвался я и бесшумно спустился по трапу.* * *
Утром мы отправились на юго-восток. Кейо Конфитес и Кейо Верде остались за кормой, а к югу от нас на горизонте промелькнули Кейо Романо и Кейо Сабинал – в сущности, не острова, а вытянутые участки материка – после чего мы продолжали плыть вдоль побережья залива, минуя Пунта Матерниллос. Свинья не давала нам покоя. Ее оставили в шлюпке, но теперь она визжала, не умолкая. – Давай я забью ее, опалю и соскребу щетину, – предложил Фуэнтес. – Это вынудит ее заткнуться и сбережет нам нервы. – Я не хочу разводить грязь на палубе, – сказал Хемингуэй, стоя за штурвалом в рубке. – И не хочу останавливаться, чтобы ты занимался этим в шлюпке. Фуэнтес покачал головой. – Эта тварь сведет нас с ума, прежде чем мы доберемся до пещер. Хемингуэй кивнул: – У меня появилась идея. „Пилар“ свернула на север к крохотному островку, казавшемуся белым миражем над синим морем. Он был вчетверо меньше по площади, чем Кейо Конфитес, его высшая точка выступала из воды менее чем на полметра. Он был практически лишен растительности, и подход к нему не был закрыт рифом. По моим оценкам, островок находился примерно в двадцати пяти милях от Конфитеса и в двадцати – от Кубы. – Его нет на картах, – сказал Гест. Хемингуэй вновь кивнул: – Я заметил его, когда мы в прошлый раз патрулировали этот район. Он как нельзя лучше годится для нашей цели. – Для нашей цели? – переспросил Гест. Хемингуэй оскалил зубы. – Нам нужен загон для свиньи. – Повернувшись к Фуэнтесу, он добавил: – Иди на корму, Грегорио, переправь „е1 cedro“ на „Крошке Киде“ по мелководью и покажи ей новый дом. Мы захватим ее вечером или завтра утром на обратном пути. Мальчики со смехом смотрели, как свинья подбежала к воде и, окунув копытца в набегающие волны, взвизгнула и помчалась к противоположному берегу островка. – Ей нечего есть, – заметил Грегори. – И пить. – Я велел Грегорио разрубить кокосовый орех и налить в одну из его половинок воды, – сказал Хемингуэй. – Тогда поросенок не будет страдать от жажды до нашего возвращения. А завтра мы его съедим. – Кого? Поросенка или орех? – Свинью, – ответил Хемингуэй. Во второй половине дня мы добрались до подозрительных пещер. Сюда нас направила военно-морская разведка США, и, как это нередко случается, наш поход обратился чем-то вроде шутки, а не серьезным заданием. Хемингуэй причалил к деревне и спросил у местных жителей, знают ли они какие-либо крупные пещеры на берегу. Ему ответили, что, разумеется, знают, и это выдающийся туристический объект Кубы. Хемингуэю дали в проводники мальчика, сверстника Сантьяго. „Пилар“ проплыла вдоль берега около мили, и он велел бросить якорь. Фуэнтес остался на яхте, а остальные по очереди осмотрели малую пещеру. Выцветший плакат на белой полоске пляжа, безграмотно написанный по-испански, гласил: „ПОСЕТИТЕ ЖИВОПИСНЫЕ ПЕЩЕРЫ – ДЕСЯТОЕ ЧУДО СВЕТА“. – Живописные пещеры… – мрачно пробормотал Хемингуэй. Его лицо приняло багровый оттенок, который нельзя было объяснить воздействием солнца. Писатель явно пребывал в дурном настроении. – Парень утверждает, что с начала войны в пещерах не было туристов, – сказал Гест. – Здесь вполне могут прятаться немецкие подлодки. – Да, папа! – вскричал Грегори. – Пещеры напичканы едой и боеприпасами! – Надеюсь, там найдется хотя бы пиво, – пробурчал Ибарлусия. Он был настроен еще хуже, чем Хемингуэй. Вслед за провожатым мы прошагали по едва заметной тропинке, миновали нагромождение камней и вошли в самую широкую пещеру в скале. У Хемингуэя с собой был пистолет в старой кобуре, Ибарлусия нес автомат, Патрик прихватил „манлихер“ своей матери. Остановившись у входа в пещеру, мы могли видеть только каменный свод, исчезавший в темноте, но, судя по эху, пешера была очень длинная. Из ее глубин задувал холодный влажный ветерок, очень приятный после долгого дня под жарким солнцем. – У меня есть лампа, – сказал Роберто Геррера. – А у нас – фонарики! – наперебой закричали сыновья Хемингуэя. – Они не нужны, – заявил провожатый. – Я включу свет. – Свет? – переспросил Хемингуэй. Вспыхнули сотни разноцветных лампочек. Они опоясывали огромную пещеру, будто рождественские огоньки – елку, висели на сталактитах и между ними, окружали темные отверстия, а одна гирлянда была прикреплена к высшей точке свода пещеры почти в тридцати метрах над нашими головами. – Ух ты! – воскликнул Грегори. – Только этого не хватало, – проворчал Хемингуэй. – Гляди, папа! – крикнул Патрик, устремляясь вперед. – Пещера сужается! Это там немцы прячут свои припасы! Наверное, этот ход ведет в очередной крупный туннель. Не могли же они оставить свои вещи здесь, на виду! Мальчик-кубинец не знал, куда ведет туннель, только то, что туда любят забираться молодые парочки. Там не было электрического освещения, поэтому мы зажгли лампу, включили фонарики и вслед за Грегори и Патриком прошли несколько сотен шагов по узкому петляющему коридору. На одном из перекрестков Синдбад поранил руку об острый камень. У Геста был с собой носовой платок, но остановить кровотечение с его помощью не удалось, и Синдбад с Гестом Геррерой и нашим юным проводником отправились назад. – Принесите немецких сосисок и пива, и мы устроим пикник на берегу! – крикнул Гест, исчезая в узком проходе. Патрик, Грегори, Хемингуэй и я продолжали двигаться вперед. Я смотрел в затылок писателя, подныривавшего с лампой в руке под нависающие камни и сталактиты. Он пытался не отстать от сыновей. Кое-где нам приходилось брести по грязи, покрывавшей скользкие камни. В других местах мы переходили вброд небольшие озера, которые имели глубину несколько сантиметров, но вполне могли соединяться с бездонным морем. Туннель все не заканчивался. Мы шли, ползли и протискивались по нему, казалось, несколько часов. Зачем это Хемингуэю? Только теперь я начинал понимать, каким образом в его сознании перемешиваются реальность и фантазия. Хемингуэй не понаслышке знал, что такое война, знал, что ожидает человечество. Он понимал, что его старшему сыну придется воевать – вероятно, и младшим тоже, если война затянется надолго. В это последнее лето, перед тем как страшная бойня захлестнет Америку, он устроил сыновьям детское развлечение; „Хитрое дело“, охота за подлодками – это был способ превратить ужасную военную реальность в семейную игру, беззаботную и романтическую, с элементами опасности, но без тошнотворной кровавой трагедии настоящей войны. Либо он был безумцем. Я почувствовал прилив гнева, но тут же забыл о нем, услышав крик Джиджи: – Папа! Папа! Туннель сужается. Он меньше носового люка „Пилар“! Я готов спорить, что здесь находится вход в тайный склад! Мы присели на корточки у узкого отверстия под острым выступом большого камня, которое вело в темный наклонный туннель со склизким каменным полом. Мальчики были правы в одном: главный коридор здесь оканчивался. – Ты сможешь забраться туда, Лукас? – спросил Хемингуэй, лежа на животе и рассматривая туннель в свете фонарика. Тесный лаз загибался влево, к еще меньшему отверстию. – Нет, – ответил я. – Я могу, папа! – вскричал Патрик. – Хорошо, парни, – сказал Хемингуэй, возвращая фонарик младшему сыну. – Джиджи, ты меньше, тыпоползешь первым. Мышонок, ты вытянешь его за лодыжки, если он застрянет. – Можно я возьму пистолет, папа? – прерывающимся от волнения голосом спросил Патрик. – Твои руки должны быть свободны, иначе ты не сможешь ползти, – ответил Хемингуэй. – А если ты сунешь его в задний карман, он может зацепиться. Если тебе понадобится пистолет, я подам его тебе. На лицах мальчиков отразилось разочарование, но они согласно кивнули. Хемингуэй потрепал их по спинам. – Ползите до конца, парни, – если там есть конец. Желаю удачи. Я знаю, вы не отступитесь. Вы отлично понимаете, как важно для нас найти тайник. Мальчики кивнули, их глаза блестели в свете лампы. Грегори втиснулся в отверстие и исчез. Патрик последовал за ним секунды спустя. Они оба пробрались сквозь два первых сужения. После того, как сыновья исчезли из виду, Хемингуэй непрерывно окликал их, но из узкого туннеля доносился только голос Патрика, да и то едва слышно. Потом воцарилась тишина. Хемингуэй привалился спиной к стене пещеры. Я увидел на его щеках и носе лопнувшие сосуды – крохотные жилки, незаметные при солнечном свете. Он сиял от удовольствия. – Что, если мальчики застрянут? – спросил я. Хемингуэй посмотрел на меня бесстрастным взглядом. – Значит, такова их судьба, – ответил он. – Но я добьюсь, чтобы их представили к награде. Я покачал головой. Мы оказались наедине впервые с того дня, когда я перехватил две радиопередачи, но сейчас был не самый удачный момент, чтобы заводить о них разговор. Хемингуэй без труда смешивал реальность и выдумку, но я предпочитал разделять их. Десять минут спустя в туннеле послышался приглушенный звук, и в отверстии появились подошвы туфель Патрика. Мы помогли ему выбраться наружу, и еще через несколько секунд из туннеля выполз Грегори. Оба были вымазаны грязью с ног до головы, шорты Грегори были разорваны в нескольких местах. Он снял рубашку и завернул в нее какой-то объемистый предмет. Из узла доносилось позвякивание. Грязь на груди Грегори смешивалась с кровью из маленьких порезов, а на руки обоих мальчиков было страшно смотреть. Оба были чрезвычайно возбуждены. – У самого конца, папа! – произнес младший так громко, что его голос эхом отразился в темном туннеле. – У самого конца, там так тесно, что даже я не мог проползти, и уже подумал, что у нас ничего не выйдет… и вдруг нашел вот это! – Он нашел их, папа! Я помог ему завернуть их в рубашку… мы думали, что там ничего нет, но он нашел! – воскликнул Патрик с таким же возбуждением, что и младший брат. Хемингуэй поднес лампу поближе, а Грегори трясущимися пальцами развязывал узел. – Молодцы, парни. Отличная работа. – Хемингуэй волновался не меньше сыновей. Внезапно я почувствовал себя лишним, взрослым человеком, затесавшимся в ребячий мир. – Ты справился, Джиджи! Ты сумел! – приговаривал Хемингуэй, хлопая Грегори по спине с такой силой, что десятилетний мальчик едва не выронил узел. – Посмотрим, что ты принес. Грегори вынул четыре бутылки; кое-где сквозь грязь виднелось коричневое стекло. – Это бутылки из-под немецкого пива, папа, – сказал Патрик, стирая с одной из них грязь. – Мы заметили их в луче фонарика. Они взаправду немецкие! Хемингуэй взял бутылку, осветил ее лампой, и его лицо помрачнело. – Они были там, папа, – продолжал Грегори. – Немцы. Мы решили, что туннель кончился, но потом нашли бутылки. Наверное, их главный склад находится в одном из маленьких туннелей, которые ответвляются от главного коридора. Сегодня мы не успеем осмотреть их все, но можем вернуться сюда завтра утром! Я залезу в самые узкие. Я ни капли не боялся, папа, даже тогда, когда мои плечи застряли, и Патрику пришлось тянуть меня изо всех сил. Я ничуть не испугался, папа! Патрик следил за выражением отцовского лица. – Но ведь это действительно немецкие бутылки, правда, папа? На одной из них сохранилась этикетка с немецкими словами… Хемингуэй поставил бутылку на пол. – Да, это бутылки из-под немецкого пива, – сказал он. – Выпущенного в Штатах выходцами из Германии. Это пиво сварено в Висконсине. Должно быть, бутылки зашвырнули туда туристы, которые прошли до конца туннеля, чтобы… Воцарилась тишина, нарушаемая только шипением пламени лампы. Внезапно Грегори отвернулся к стене и залился слезами. Его плечи вздрагивали от беззвучных рыданий. Я заметил, что Патрик закусил губу; он тоже плакал. Казалось, и Хемингуэй готов расплакаться в любую минуту. Его огромная рука легла на маленькое плечо Грегори. – Ты действовал отважно и решительно, дружище. Я горжусь тобой. Более того… Хемингуэй выдержал паузу, но Грегори все еще плакал, отвернувшись к стене. Патрик поднял лицо. – Более того, я представлю вас к награде за то, что вы возглавляли экспедицию. А также… Теперь и Грегори обернулся. Он продолжал негромко всхлипывать, но уже слушал. – А также, – добавил Хемингуэй, усмехнувшись, – добьюсь, чтобы со временем вас перевели в морскую разведку.* * *
Мальчишка-кубинец получил за труды доллар – целое состояние – и отправился в деревню пешком. Той ночью мы встали на якорь в бухте Живописных пещер. Хемингуэй распорядился открыть ларец со спиртным, и каждый член экипажа, даже Патрик и Грегори, получили по три стаканчика виски. Мы разложили на берегу огромный костер из плавника и пробили существенную брешь в наших продовольственных запасах. Торопясь добраться до пещер, мы не поймали ни одной рыбы, поэтому Фуэнтесу пришлось выложить хлеб, говядину в банках, замороженных цыплят и тонко нарезанную ветчину из ящика со льдом, разнообразные овощи и свежеприготовленный картофельный салат. Хемингуэй съел несколько сэндвичей из сырого лука на черном ржаном хлебе и запил их своей порцией виски. Той ночью мы не выставляли вахту. Утром мы отплыли на несколько миль севернее к острову, названному мальчиками „Кейо „Cedro"“, чтобы забрать свою свинью. – Будь я проклят, – сказал Хемингуэй. – Наша свинья пропала, – отозвался Грегори. – Вместе с островом, – заметил Уинстон Гест. Разумеется, остров остался на месте, лишь ушел на метр под воду – крохотная песчаная полоска в двадцати милях от ближайшей суши. Грегори осмотрел горизонт в бинокль. – Интересно, куда поплыла наша „cedro“? – произнес он. – Наверное, прямиком на Кубу, – ответил Хемингуэй. – Разве что если мы подошли к островку не с юга, а севера. – Мне уже доводилось видеть такое, – объяснил Фуэнтес. – Риф достаточно высок, чтобы остров не залило во время прилива… но если прилив сильный, то он – фьюить – исчезает. – Бедная „cedro“, – сказал Грегори. – Надо было оставить ее у кубинцев, – добавил Синдбад. – К черту кубинцев, – заявил Хемингуэй. – Не будем задерживаться у Кейо Конфитеса и отправимся прямиком домой. Мы не можем гоняться за „Южным крестом“ и вообще за кем бы то ни было без провизии, которую для нас должны были завезти на Конфитес. Мы пополним запасы и вернемся через несколько дней. – Тебе опять придется день и ночь стоять у штурвала, Эрнест, – напомнил Гест. Хемингуэй пожал плечами. Ибарлусия обсудил с мальчиками, как следует обозначить на карте клочок суши, который то появляется, то пропадает, и сошлись на названии „Сауо Cedro Perdido“ – „Остров потерянной свиньи“.* * *
Вечером, на обратном пути к Кохимару, мне удалось на некоторое время уединиться с Хемингуэем на ходовом мостике. Я вынул шифровальный блокнот и показал писателю первую из перехваченных передач. – Проклятие, – сказал он. – Ее точно передали с „Южного креста“? – Тот же абверовский шифр, которым пользовался Кохлер, – ответил я. Хемингуэй закрепил штурвал и поднес фонарь к блокноту. ДВА АГЕНТА ВЫСАДЯТСЯ 13/8 ШИР 21°25 ДОЛГ 76°48 30“ 23-00 U516 – Проклятие, – вновь сказал он. – 13/8 – это, вероятно, 13 августа, меньше чем через неделю. U516 – это номер подлодки, которая высадит двух шпионов. Надо взглянуть на карту, но мне сдается, что точка с этими координатами находится поблизости от Бахия Манати, Пойнт Рома или Поит Иисус. – Именно так, – негромко произнес я. – Пойнт Рома. Я уже проверил по карте. – Почему ты не рассказал об этом раньше? – спросил Хемингуэй. – Не было удобного случая, – ответил я. – Мы договорились не посвящать остальных в эти дела. – Да, – произнес Хемингуэй, пристально глядя на меня в свете звезд. – Но… черт возьми, Лукас! – Он освободил штурвал и несколько минут всматривался в океан и темную массу приближавшегося берега. – Впрочем, неважно. Пойнт Рома – отличное место для высадки двух человек. Когда-то там был маяк, но он уже пять лет бездействует. Залив мелкий, но до самого мыса глубокая вода. Сахарную мельницу „Манати“ давно забросили, но ее дымовая труба отлично видна с океана, и, выбравшись на сушу, агенты могут дойти до шоссе по старой железнодорожной ветке. Несколько минут я молча ждал, пока он раздумывал. Наконец он сказал: – Мы не будем докладывать об этой шифровке, Лукас. Я ничуть не удивился. – В прошлый раз эти ублюдки из посольства и ФБР не поверили мне, – негромким, но весьма твердым голосом произнес Хемингуэй. – Теперь мы сами притащим им двух пленников и послушаем, что они скажут. – А если пленники не захотят, чтобы их куда-то тащили? – спросил я. Хемингуэй улыбнулся. – Захотят, Лукас, поверь мне. Некоторое время я смотрел в сторону земли. Сегодня волнение на море было сильнее вчерашнего, ветер дул к берегу, и мы мчались к нему, словно лошадь, которая спускается по крутому склону. – Ну, в чем дело? – спросил Хемингуэй. – Вы думаете, это всего лишь игра, – ответил я, не оборачиваясь. – Конечно, игра. – Я только слышал его голос, но буквально ощущал, как он улыбается у меня за спиной. – Все хорошее, что мы встречаем в жизни, все трудности и даже невзгоды – это всего лишь игра. Да что с тобой такое, Лукас? Я промолчал. На рассвете мы вошли в порт Кохимар.* * *
Утро выдалось серым и дождливым. Я вошел в усадьбу через главный вход и постучал в дверь спальни Хемингуэя. Он открыл мне, стоя на пороге в пижаме. Его волосы были всклокочены, глаза сонно моргали. С разворошенной кровати на меня свирепо взирала большая черная кошка – кажется, ее звали Бойсси. – Какого дьявола… – заговорил Хемингуэй. – Одевайтесь, – велел я. – Жду вас у ворот в машине. Хемингуэй вышел из дома две минуты спустя. У него в руках был пробковый термос. Я решил, что это чай, и только потом уловил запах виски. – Может быть, теперь ты объяснишь, какого дьявола… – вновь заговорил он. – Приходил мальчик, – сказал я, на высокой скорости ведя „Линкольн“ по раскисшей дорожке. Автомобиль выскочил в ворота, которые я открыл заранее, спустился по холму и помчался по шоссе в Гавану. – Какой мальчик? – спросил Хемингуэй. – Сантьяго? Один из… – Нет, – сказал я. – Чернокожий, мы его не знаем. Будьте добры, помолчите минуту. Заметив, с какой быстротой я гоню машину по залитым дождем дорогам, Хемингуэй более не открывал рта. Через шесть миль, у конца длинного спуска, по которому Хемингуэй всегда велел своему шоферу Хуану ехать по инерции, я свернул направо на проселок. Боковые стекла сразу забрызгало водой и грязью. Дорога уперлась в скопление заброшенных хижин, стоявших у проросшего сорняком тростникового поля. Там нас ждал чернокожий юнец с мопедом. Я остановил машину и вышел под дождь. Хемингуэй хлебнул из термоса, положил его на переднее сиденье и выбрался из салона. За канавой виднелся второй мопед. Его наспех замаскировали срезанными ветвями, но переднее колесо влажно поблескивало в тусклом свете. Спрятать тело даже не пытались. Сантьяго бросили в грязную канаву головой вниз. Под дождем его костлявые ноги казались белыми, к правому колену прилипли травинки, на левой ступне не было сандалии. Подошва была морщинистая, словно подушечка пальца после долгого купания. Я с трудом подавил нелепое желание надеть ему на ногу сброшенную сандалию. Он лежал головой вниз в скрюченной позе, и тем не менее его глаза были покойно прикрыты, лицо запрокинуто, он чуть заметно улыбался, словно наслаждаясь каплями, текущими по его лицу. Руки Сантьяго были раскинуты ладонями вверх, как будто он пытался поймать эти капли. Его горло было разрезано от уха до уха. Из груди Хемингуэя вырвался неясный звук. Он отступил на шаг от канавы. Я кивнул чернокожему мальчику, он завел двигатель мопеда и поехал к городу, стараясь не поскользнуться на разбитой грязной дороге. – Когда? – спросил Хемингуэй. – Приятель Сантьяго нашел его ночью, – ответил я. – Примерно в то время, когда мы увидели портовые огни. Хемингуэй спустился в канаву, не обращая внимания на грязь, чавкавшую под его башмаками, и опустился рядом с мальчиком на колено. Его огромная загорелая рука коснулась маленькой белой ладони Сантьяго. – Вы и теперь считаете, что все это лишь игра? – спросил я. Хемингуэй рывком повернул голову и взглянул на меня с неприкрытой ненавистью. Я смотрел на него с тем же чувством. Помедлив мгновение, писатель перевел взгляд налицо мальчика. – Вы догадываетесь, что будет дальше? – спросил я. С минуту слышались только удары капель по траве и лужам на дороге, по нашим спинам и телу мальчика. – Да, – сказал наконец Хемингуэй. Я молча ждал. – Первым делом мы похороним Сантьяго, – продолжал писатель. – Потом найдем лейтенанта Мальдонадо. Потом я убью его. – Нет, – сказал я. – Ничего подобного.Глава 20
„КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ АГЕНТА ФБР/СРС Дж. ЛУКАСА ДИРЕКТОРУ ФБР Дж. ЭДГАРУ ГУВЕРУ 9 АВГУСТА 1942 ГОДА. В согласии с Вашим заданием мне было поручено выявить и задокументировать „истинную суть“ Эрнеста Миллера Хемингуэя, гражданина США, 43 лет. Это донесение представляет собой попытку суммировать результаты моих наблюдений до настоящего времени. Я совершенно убежден, что Эрнест Хемингуэй не является сознательным либо невольным агентом какой-либо зарубежной страны, властной структуры либо группировки. Тем не менее он ведет жизнь глубоко законспирированного разведчика – одного из тех преданных своему делу, мнительных, упорных агентов, которые снятся в ночных кошмарах специалистам по контршпионажу. Причины, побудившие его замкнуться в раковине искусственно созданной личности, понять очень трудно. Эрнест Хемингуэй – человек, придающий большое значение словам и мыслям. Возвеличивая в своих литературных произведениях и самой своей жизнью действие, поступок, он зачастую смешивает их с импульсом, а реальность – с созданной им самим мелодрамой. Эрнест Хемингуэй без труда обзаводится друзьями и с еще большей легкостью теряет их. Он воспринимает лидерство в обоих смыслах слова „воспринимать“ и берет людей под опеку с естественностью аристократа. По отношению к знакомым он бывает как верен, так и вероломен. В его повседневной жизни великодушные поступки чередуются с периодами безжалостного жестокосердия. В течение одного дня он может проявлять сочувствие и сострадание и тут же показывает себя закоренелым эгоистом. В качестве доверенного лица он, как правило, надежен, но полностью полагаться на него нельзя. Умелый капитан яхты, наделенный инстинктами прирожденного морехода. С оружием аккуратен, но при этом в его поведении ощущается недостаток зрелости. Заботливый, но нередко чересчур беспечный отец. Как писатель… но мне трудно судить о литературных талантах Хемингуэя. Могу также сообщить, что Эрнест Хемингуэй ценит печатное слово больше, чем все люди, с которыми мне когда-либо доводилось общаться. Он читает газеты по утрам, повести – сидя в туалете, журналы „Нью-йоркер“ и „Харперз“ – выпивая у своего плавательного бассейна, исторические книги – за обедом, романы – в рубке своей яхты, пока кто-нибудь другой стоит за штурвалом, иностранные газеты – выпивая во „Флоридите“, письма – в промежутках между стрелковыми состязаниями, сборники рассказов – в открытом море, дожидаясь, пока на крючок попадется рыба, рукопись книги своей жены – при свете керосиновой лампы на борту яхты, стоящей на якоре у безымянного островка близ кубинского побережья во время операции по поиску подводных лодок. У Хемингуэя обостренная чувствительность к воспоминаниям и нюансам, а также к похвале и оскорблению. Можно решить, что подобные склонности характерны скорее для университетского профессора, пленника башни из слоновой кости, но вместо этого мы видим Хемингуэя таким, каким он создает себя для нас – дикарем с волосатой грудью, охотником на крупных зверей, искателем приключений, который много пьет и похваляется своими сексуальными подвигами. Эрнест Хемингуэй отличается внушительным обликом и ловкостью, однако бывает неуклюж, будто слон в посудной лавке. У него слабое зрение, и тем не менее он прекрасно бьет птиц влет. Он непрерывно причиняет себе травмы и раны. Я свидетель тому, как он вонзал рыболовный крючок в подушечку большого пальца, ранил собственные ноги багром и щепками, защемлял ступню автомобильной дверцей, а голову – в проеме ворот. Если у него есть какая-то религия, то это – упражнение и тренировка; Хемингуэй непрерывно принуждает окружающих к тем или иным тяжелым и небезопасным упражнениям, например, он заставил старшего офицера „Пилар“, миллионера по фамилии Гест, заниматься дорожными работами и ежедневно пробегать несколько миль в компании нынешней миссис Хемингуэй. Однако при малейшем признаке простуды или першении в горле Хемингуэй часами и даже сутками лежит в постели. Он привык вставать рано, но может проспать до обеда. Вряд ли вы умеете боксировать, господин директор – даже если вам доводилось спарринговать, вашим партнером наверняка был раболепный сотрудник Бюро, лояльный подчиненный, который предпочел бы оказаться в больнице с сотрясением мозга, чем нанести хороший удар по вашей бульдожьей физиономии, но Эрнест Хемингуэй – прекрасный боец. На прошлой неделе, когда он пьянствовал у бассейна со своим другом доктором Геррерой Сотолонго, я уловил в его речи замысловатую боксерскую метафору: „Первым делом я схлестнулся с Тургеневым и легко одержал верх. Усердно потренировавшись, я побил Мопассана, но лишь ценой четырех своих лучших рассказов. Я выстоял два раунда против Стендаля и, кажется, во втором из них имел преимущество. Но никому не удастся стравить меня с Толстым, разве что если я сойду с ума или мне дадут фору. Однако и в этом случае моей главной целью останется вышибить с ринга Шекспира, а это очень и очень трудно“. Я не имею ни малейшего понятия о писательском труде, господин директор, но понимаю, что эти слова Хемингуэя – извините за грубое выражение – дерьмо собачье. Был еще один случай с боксом, который, по моему мнению, гораздо лучше характеризует Хемингуэя, нежели его похвальбы. Не так давно, однажды ночью, когда мы вышли в море на яхте, он рассказал мне о тех временах, когда ему было шестнадцать или семнадцать лет и он учился в школе в Оук-Парк, штат Иллинойс; он увидел в чикагской газете объявление об уроках бокса. Хемингуэй очень хотел научиться боксировать, поэтому он записался на уроки и внес плату. По его словам, предложение звучало весьма заманчиво, поскольку среди инструкторов было несколько знаменитых боксеров Среднего Запада – Джек Блэкберн, Гарри Герб, Сэмми Лэнгфорд и другие. Хемингуэй даже не догадывался, что это старая как мир ловушка для простаков: ученики оплачивают уроки авансом, и уже после первого занятия их выносят с ринга. Лишь немногие появляются во второй раз. Первый учебный бой Хемингуэя прошел в полном согласии с упомянутым сценарием: его нокаутировал местный профессионал Янг А'Хирн (я однажды спарринговал с А'Хирном, господин директор, но к этому времени он стал пожилым человеком сорока пяти лет, изрядно ожиревшим, и кочевал из зала в зал, предлагая себя в качестве партнера всякому, кто соглашался поставить ему четвертак на выпивку). Как бы то ни было, Хемингуэй изумил мошенников тем, что в следующую субботу пришел на тренировку. На сей раз инструктор, некий Морти Хеллник, „проучил“ его, нанеся удар в живот после гонга. Юного Хемингуэя рвало целую неделю, а на очередной тренировке Хеллник намеренно ударил его ниже пояса. „Моя мошонка распухла до размеров кулака“, – сказал он мне. Но в следующую субботу он пришел опять. Главное в том, господин директор, что этот юнец прошел весь курс обучения, невзирая на трудности. Вероятно, он был единственным „учеником“, освоившим программу до конца. Он вновь и вновь возвращался на ринг, чтобы получить очередную порцию побоев. Я не знаю толком, кто он и что он, и зачем вы послали меня шпионить за ним, предать или даже убить его; но я должен предостеречь вас, господин директор – этот человек не сдается, не отступается и не складывает руки. Какое бы применение вы ни искали ему, знайте – он упрям, крепок, привычен к боли и невероятно настойчив. Этим и исчерпываются мои наблюдения и анализ“.* * *
Я сидел за пишущей машинкой во флигеле, перечитывая свое донесение Гуверу. Разумеется, я и не думал отправлять его, и даже не стал бы сочинять, если бы не провел всю ночь в размышлениях за бутылкой виски, однако мне доставило определенное удовольствие перечесть его при свете дня – особенно тот отрывок, в котором упоминается спарринг директора с раболепными подчиненными, слишком трусливыми, чтобы врезать ему по бульдожьей физиономии. Прежде чем сжечь лист и бросить его в огромную пепельницу, я минуту-другую раздумывал, не то ли это чувство свободы, которое приходило к Хемингуэю, когда он излагал в своих произведениях выдумки, вместо того чтобы придерживаться фактов. Наверное, нет – ведь я написал в своем донесении чистую правду. Я вложил в бурый бумажный конверт свой настоящий двухстраничный рапорт, сунул пистолет за пояс брюк, прикрыл его мешковатой футболкой, и, прежде чем ехать в Гавану на встречу с Дельгадо, отправился в главный дом усадьбы. После вчерашнего серого затяжного дождя наступило чудесное воскресенье – прохладное синее небо, ровный северо-восточный пассат. Проходя мимо бассейна, я слышал шорох пальмовых листьев. От подножия холма доносились крики „Звезд Джиджи“, игравших в бейсбол с командой „Los Munchanos“. Одного из „Munchanos“ не хватало, но о Сантьяго не спрашивал никто. Его место на поле занял другой, и игра продолжалась.* * *
Мы похоронили мальчика накануне, в субботу, в тот самый день, когда его нашли, – опустив простой сосновый гроб в могилу в отдаленной части кладбища между старым виадуком и дымовыми трубами Гаванской электрической компании. Присутствовали только Хемингуэй и я, если не считать седого старика могильщика, которого мы при помощи мзды уговорили добыть гроб в городском морге и выделить участок для захоронения. Даже Октавио, чернокожий приятель Сантьяго, обнаруживший его тело, не пришел на спешно организованную церемонию. После того как мы с Хемингуэем и могильщиком опустили маленький гроб в сырую яму, возникла неловкая заминка. Старик отступил на шаг и снял шляпу. Капли воды стекали по его лысине и морщинистой шее. На Хемингуэе была старая рыбачья кепка – он ее не снял, и дождь барабанил по длинному козырьку. Он посмотрел на меня. Мне нечего было сказать. Писатель подошел к краю могилы. – Этот мальчик еще мог жить, – негромко заговорил он; его слова едва слышались из-за шороха дождя. – Он не должен был умереть. – Хемингуэй посмотрел на меня. – Я принял Сантьяго в нашу… – Он оглянулся через плечо на могильщика, но подслеповатые глаза старика упорно смотрели в грязь. – Я принял Сантьяго в нашу команду, – продолжал Хемингуэй, – потому что каждый раз, когда я приезжаю во „Флоридиту“, чтобы попасть в посольство, мою машину окружает толпа мальчишек, прося денег, умоляя разрешить почистить мои ботинки или предлагая услуги своей сестры. Они уличные бродяги, изгои. Родители бросили их, либо умерли от туберкулеза или спились. Малыш Сантьяго был одним из них, но он никогда не протягивал руку за подаянием и не предлагал почистить мне обувь. Он ждал поодаль до тех пор, пока машина не трогалась и другие мальчишки не разбегались нищенствовать на перекрестках, и тогда он бежал рядом с автомобилем, не уставая, ничего не говоря, даже не глядя на меня – пока мы не оказывались у посольства или на шоссе. Хемингуэй умолк и посмотрел на высокие трубы Гаванской электрической компании. – Ненавижу эти проклятые трубы, – сказал он тем же тоном, которым произносил надгробную речь. – Когда ветер дует с гор, они наполняют вонью весь город. – Он вновь посмотрел на могилу. – Спи спокойно, юный Сантьяго Лопес. Мы не знаем, откуда ты появился в этом мире, знаем лишь, что ты уйдешь туда, куда со временем уходят все люди, куда в какой-то из дней последуем и мы. Хемингуэй вновь оглянулся на меня, словно внезапно осознав смысл своих слов. Потом он продолжал, повернувшись к узкой могиле: – Несколько месяцев назад еще один мой сын Джон, мой Бэмби, спросил меня о смерти. Он не боялся идти на войну, он боялся страха смерти. Я рассказал ему о том, что, когда меня впервые ранили в 1918 году, я очень боялся внезапно умереть – боялся до такой степени, что не мог спать без ночника, – но я рассказал ему также о своем храбром друге по имени Чинк Смит, который однажды прочел цитату из Шекспира, она очень понравилась мне, и я попросил его записать ее для меня. Это строки из второй части „Генриха Четвертого“, я выучил их наизусть, и с тех пор они всегда со мной, будто невидимая медаль Св. Кристофера. „Ей-богу, мне все нипочем; смерти не миновать. Ни в жизнь не стану труса праздновать. Суждено умереть – ладно, не суждено – еще лучше. Всякий должен служить своему государю, и что бы там ни было, а уж тот, кто помрет в этом году, застрахован от смерти на будущий“. Тебе не суждено увидеть будущий год, Сантьяго Лопес. Но ты был храбрым человеком, и не важно, сколько тебе было лет, когда тебя настигла безжалостная судьба. Хемингуэй отступил на шаг. Старый могильщик откашлялся. – Нет, сеньор, – сказал он по-испански. – Прежде чем предать земле этого ребенка, нужно прочесть из Библии. – Это обязательно? – с удивлением произнес Хемингуэй. – Разве Шекспира недостаточно? – Нет, сеньор, – ответил старик. – Без Библии нельзя. Хемингуэй пожал плечами: – Что ж, если это „nessessario“… – Он взял пригоршню земли – точнее, грязи, и вытянул руку над могилой. – Коли так, прочтем из Екклесиаста: „Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки… Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит“. – Хемингуэй бросил землю на маленький гроб, отодвинулся и посмотрел на старика, который стоял, опираясь на лопату. – Этого достаточно? – Si, senor.* * *
Когда мы возвращались с похорон в дождливых вечерних сумерках, Хемингуэй сказал: – Назови хотя бы одну причину, которая помешала бы мне охотиться за лейтенантом Мальдонадо. – Может быть, мальчика убил не он. Хемингуэй свирепо воззрился на меня: – А кто же? На прошлой неделе ты сам сказал мне, что Агент 22 следил за Бешеным жеребцом. – Не называйте его так. – Бешеным жеребцом? – Нет. Агентом 22. – Кто еще мог его убить, если не Мальдонадо? – осведомился писатель. Я отвел взгляд от залитого дождем лобового стекла. – Я запретил Сантьяго следить за ним и вообще за кем бы то ни было вплоть до нашего возвращения. Не думаю, что он ослушался меня. – И все-таки он за кем-то наблюдал, – заявил Хемингуэй. Я покачал головой. – Дорога, на которой его нашел Октавио, ведет к хижинам, где он ютился, когда была жива его мать. Еще Октавио сказал, что Сантьяго отсыпался там, когда в городе бывало слишком шумно. Несколько минут Хемингуэй вел машину молча. – Лукас, – заговорил он наконец, – кто еще мог убить мальчика? – Отвечу позже, – сказал я. – Отвечай немедленно, или у тебя не будет никакого „позже“, – потребовал писатель. – Объясни, кто ты такой, на кого работаешь и кто, по твоему мнению, мог убить мальчика, или вылезай из машины и не возвращайся в усадьбу. Я колебался. Если бы я ответил хотя бы на один из его вопросов, это означало бы, что я больше не работаю ни в ФБР, ни в ОРС. По лобовому стеклу метались „дворники“. Шум сильного дождя, бьющего по матерчатой крыше „Линкольна“, звучал, словно удары капель по гробу Сантьяго. Я понял, что уже не работаю ни на ФБР, ни на ОРС. – Я работал в ФБР, – заговорил я. – Эдгар Гувер прислал меня шпионить за вами и докладывать о ваших действиях через связника. Хемингуэй остановил машину на обочине. Мимо мчались грузовики, обдавая нас брызгами. Хемингуэй повернулся на водительском сиденье и, пока я говорил, не спускал с меня глаз. Я рассказал ему о Дельгадо, о досье Тедди Шлегеля, Инги Арвад, Хельги Соннеман, а также об Иоганне Зигфриде Бекере. Я объяснил, каким образом ФБР и Абвер передавали деньги Мальдонадо и его шефу, Хуанито Свидетелю Иеговы. Я рассказал о своей встрече с командором БКРГ Яном Флемингом по пути на Кубу и о беседе с Уоллесом Бета Филлипсом по прибытии сюда. Я рассказал о винтовочном выстреле во время нашей пиротехнической атаки на усадьбу Стейнхарта, а также о второй радиопередаче, которую я перехватил на пути к пещерам. – И что же говорится в этой, второй? – ровным голосом осведомился Хемингуэй. – Не знаю, – ответил я. – Ее закодировали неизвестным мне цифровым шифром. Думаю, она не предназначалась для наших ушей. – Ты имеешь в виду, что кто-то хотел, чтобы мы расшифровали первую передачу… о двух агентах, которые высадятся на сушу в следующий вторник? – Видимо, да, – ответил я. – Зачем? – Не знаю. Хемингуэй посмотрел в лобовое стекло. – Они взяли нас в кольцо – ФБР, может быть, BMP, британская группа… как бишь ее? – БКРГ, – сказал я. – Кажется, так. – ОСС, – продолжал Хемингуэй, – немецкая разведка… – Обе ее ветви, – перебил я. – Абвер и РСХА АМТ IV. – Впервые слышу, – проворчал Хемингуэй. – Я не знал даже, что в германской разведке существуют какие-то две ветви. – Я знаю, – сказал я. – А вы не имеете об этом ни малейшего понятия. Хемингуэй сердито посмотрел на меня. – А ты? – А я имею. – Почему ты мне рассказываешь все это? – спросил он. – И какого дьявола я должен тебе верить, если все, что ты говорил раньше, было враньем? Я ответил только на первый вопрос. – Я рассказываю вам об этом, потому что они убили мальчика. И еще потому, что они готовят нас к чему-то, чего я не понимаю. – Так кто же убил мальчика? – Это мог сделать Мальдонадо, – сказал я. – Если Сантьяго был неосторожен и лейтенант знал, что за ним наблюдают, он мог дождаться нашего отплытия, проследить за мальчиком до хижин и перерезать ему горло. – Кто еще? – Например, Дельгадо. – Сотрудник ФБР? – В голосе Хемингуэя зазвучало презрение. – Я думал, что вы стреляете только в людей, которые уклоняются от армейского призыва так же, как вы сами. – Дельгадо – особый случай, – объяснил я. – Если он именно тот, за кого я его принимаю, то ему уже доводилось убивать. И я не знаю наверняка, на кого он работает теперь. – Думаешь, он перекинулся к фрицам? – Возможно, – ответил я. – Немецкие разведывательные сети в нашем полушарии не стоят выеденного яйца, но у них много денег. Они вполне могли подкупить наемника вроде Дельгадо. – Кто еще, Лукас? Кто еще мог расправиться с парнишкой? Я пожал плечами. – Теодор Шлегель, хотя это не в его духе. Он скорее нанял бы для этой работы кого-нибудь из немцев или сторонников Германии, проживающих в Гаване. Это могла сделать Хельга Соннеман… – Хельга? Я процитировал ему несколько выдержек из ее досье. – Ради всего святого, – пробормотал Хемингуэй. – Можно подумать, каждый встречный-поперечный лично знаком с Гитлером. – Даже ваши гости, – сказал я. – Мои гости? – Ингрид Бергман встречалась с ним, помните? А Дитрих получила от немецкой разведки предложение работать на них. – И послала их ко всем чертям. – Так она говорит. Хемингуэй оскалился: – Ты мне не нравишься, Лукас. Ты совсем мне не нравишься. Я промолчал. После нескольких мгновений тишины – даже дождь прекратился – он сказал: – Назови мне хотя бы одну убедительную причину, которая помешала бы мне сейчас же вышвырнуть тебя из автомобиля и пристрелить, если ты появишься рядом с усадьбой или моими детьми. – Такая причина имеется, – ответил я. – Происходит что-то странное. Кому-то потребовалось, чтобы вы захватили двух агентов, которые высадятся тринадцатого. – Зачем? – Не знаю, – сказал я. – Идет сложная игра, и вы со своим дурацким „Хитрым делом“ – пешки в ней. Думаю, вам понадобится моя помощь. – Чтобы ты мог докладывать обо всем Эдгару Гуверу? – Моя работа в ФБР закончена, – ровным голосом отозвался я. – Как и прежде, я буду посылать отчеты, но не стану сообщать ничего важного до тех пор, пока мы разберемся, что происходит. – Думаешь, это опасно? – Да. – Для Джиджи и Мышонка или только для нас с тобой? Я помедлил. – Думаю, опасность грозит всем, кто вас окружает. Хемингуэй потер подбородок. – Неужели ФБР поднимет руку на американского гражданина, его семью и друзей? – Не знаю, – ответил я. – Гувер предпочитает устранять людей путем утечек сведений, намеков и шантажа. Но мы даже не знаем толком, действительно ли угроза исходит от ФБР. В этой игре замешаны британцы, ОСС и обе ветви германской разведки. – „Estamos copados“, – произнес Хемингуэй. „Нас обложили“. Я знал, что ему нравится звучание этой фразы, но сейчас он говорил всерьез. – Да, – сказал я. Хемингуэй вырулил на Центральное шоссе и погнал машину к финке „Вихия“.* * *
Прежде чем отправиться на свидание с Дельгадо, я зашел в главный дом усадьбы. Хемингуэй сидел в гостиной в своем расписанном цветами кресле рядом со столиком, ломившимся от бутылок и бокалов. У него на коленях сидела большая черная кошка, и еще восемь или девять лежали поблизости на ковре. Я заметил, что он вскрыл банку лососины и две маленькие жестянки сардин. Он держал на колене бокал с жидкостью, напоминавшей цветом неразбавленный джин. По его каменному взгляду и суровому выражению лица я догадался, что он сильно пьян. – А, сеньор Лукас, – заговорил он. – Кажется, я не успел представить вас своим лучшим друзьям, „los gatos“. – Нет, – сказал я. – Вот эта черная красотка – Бойсси Д'Англас, – произнес Хемингуэй, поглаживая по голове мурлыкающую кошку. – С Френдлесс ты уже знаком. Того, что поменьше, зовут Брат Френдлесс, хотя на самом деле это не он, а она. Вот Тестер, а этот заморыш – ее котенок-вундеркинд. Толстомордый кот на краю ковра – Волфер, рядом с ним Доброхот, названный так в честь Нельсона Рокфеллера, нашего многоуважаемого посланца доброй воли в несчастных, забытых богом и никому не нужных странах к югу от могущественных „Estado Unidos“. Все утро Френдлесс пил вместе со мной молоко с виски, Лукас, но с него уже довольно, и он и не захочет показывать тебе свои трюки. Знаешь ли, кошки никогда не делают то, чего им не хочется. Но они не откажутся выпить с тобой виски и молока, если они любят тебя, и если в этот момент им хочется выпить. Да, кстати, это Диллинджер, названный, как ты понимаешь, в честь бандита с большим членом. Я подозреваю, такое имечко создавало у него комплекс превосходства, но этому пришел конец… Пока мы гонялись за субмаринами, Диллинджера и остальных самцов кормила Марти. Вы знали об этом, сеньор Лукас?.. Сеньор шпион Лукас… сеньор соглядатай Лукас? „Я слышал твою похвальбу, слышал, как ты орал на нее, а она – на тебя“, – подумал я, но ничего не сказал. Хемингуэй ухмыльнулся. – Сука. – Он погладил Бойсси по голове. – Нет, это я не тебе, крошка. Сегодня я послал Марти телеграмму, Лукас. Понятия не имею, где она сейчас, поэтому отправил копии на Гаити, в Пуэрто-Рико, Сент-Томас, Сент-Бартс, в Антигуа, Бимини и все прочие пункты ее гребаного маршрута. Хочешь услышать, что было написано в телеграмме? Я молча ждал. – Там написано: „Кто ты – военный корреспондент или моя жена?“ – Хемингуэй с довольным видом кивнул и, аккуратно ссадив кошку на ковер, осторожно поднялся на ноги и налил в бокал еще на три пальца джина. – Хотите выпить, специальный агент Джо Лукас? – Нет, – ответил я. – Самодовольная сука, – сказал писатель. – Называет операцию „Френдлесс“ чушью и вздором. Говорит, мы все занимаемся онанизмом. И еще она заявила, будто бы после „По ком звонит колокол“ я не написал ни единого стоящего слова. „Ах ты, сука, – сказал я ей. – Мои книги еще долго будут читать, после того как тебя сожрут черви“. – Он уселся, сделал глоток и, прищурясь, посмотрел на меня. – Тебе что-нибудь нужно, Лукас? – Я еду в город. Беру вашу машину. Хемингуэй пожал плечами. – Ты точно не хочешь выпить? – спросил он. Я покачал головой. – Если ты не хочешь выпить со мной хорошего джина, – любезным тоном произнес он, – то я могу распорядиться, чтобы тебе приготовили чай со льдом. А можешь выхлебать ведро соплей или отсосать у дохлого ниггера. – Он вновь ухмыльнулся и указал на бутылки, ведерки со льдом и бокалы. – Спасибо, не хочу, – сказал я, вышел из дома, пересек террасу и спустился к машине, стоявшей на подъездной дорожке.* * *
Чтобы не вспоминать в тысячный раз о грядущей встрече с Дельгадо и возможной размолвке, по пути в город я думал о Марии. Разумеется, я не сказал ей о смерти мальчика, но она почувствовала, что со мной творится неладное, и весь вечер вела себя тихо и с пониманием отнеслась к моему желанию побыть одному. Когда я попытался уснуть, она легла на соседнюю койку и положила руку на мою постель, но меня даже не коснулась; я смотрел в потолок, и она не спускала с меня глаз. Когда я поднялся, чтобы отправиться во флигель и написать свой дурацкий доклад Гуверу, она отыскала мои парусиновые туфли и рубашку и принесла их мне, не говоря ни слова и грустно глядя на меня. На мгновение я представил себя обычным человеком, который может поделиться с другим своей печалью, поговорить о том, что его мучает. Прошлой ночью я отделался от этой мысли при помощи виски и воображаемого донесения директору; вот и сейчас, когда впереди показались дымовые трубы Гаванской электрической компании, я выбросил эту мысль из головы. Пистолет лежал рядом на пассажирском сиденье. Вести машину, заткнув его за пояс сзади, было неудобно. Я дослал в ствол патрон, чего, как правило, не делаю, и положил в карман с полдюжины запасных обойм. Это было глупо с моей стороны; если нам с Дельгадо придется улаживать кое-какие вопросы, все будет кончено еще до того, как я успею перезарядить оружие. С другой стороны, никогда не помешает иметь при себе несколько запасных обойм, но так и не пустить их в ход… и т, д. и т, п. Я припарковал машину в Старой Гаване и зашагал к явочному дому, до которого оставалось шесть кварталов. Я хотел прибыть туда точно в указанное время. Разумеется, Уоллес Бета Филлипс не ошибся, описывая происшествие на улице Симона Боливара в Веракрусе. Двое абверовских агентов явились на встречу за полтора часа до назначенного срока и расположились в прихожей, чтобы устроить для меня западню. Но я уже почти два часа находился в доме, укрывшись в шкафу в дальнем конце коридора. Филлипс упомянул, что один из соседей видел мальчишку, который „бросил камень во входную дверь“, после чего началась стрельба. Но это был не ребенок, а двадцатипятилетний карлик-пропойца по прозвищу Эль Гиганте, которому я заплатил сто пятьдесят песо и велел бросить камень и улепетывать во весь опор. Сегодня я не должен появиться раньше срока. Пистолет давил мне на поясницу, но я пристроил его таким образом, что Дельгадо смог бы заметить оружие, только если бы обыскал меня. На мне была свободная куртка, и я научился мгновенно выхватывать из-под нее пистолет и стрелять. Все же доставать оттуда оружие было неудобно, однако, держа его в наплечной или поясной кобуре, я бы сразу выдал себя, равно как если бы по привычке сунул пистолет за пояс брюк точно над левым передним карманом. Я поймал себя на мысли, что предпочел бы оружие покрупнее калибром – на тот случай, если придется стрелять сквозь стены или двери явочного дома, но скрыть пистолет большего размера было бы затруднительно. „Где бы я спрятался, будь я Дельгадо и пожелай я избавиться от специального агента Лукаса?“ Вероятно, снаружи либо внутри одной из полуразвалившихся хижин, стоявших на узкой улице. Однако нельзя было исключать, что Лукас придет в явочный дом переулком или каким-либо иным путем. „Значит, в доме? Но где?“ В маленькой комнате без окон, выходящей в гостиную. Лечь на пол в темноте, забаррикадировать черный ход, чтобы в него никто не мог войти, и дождаться, когда в проеме входной двери покажется силуэт Лукаса. Помедлить одну-две секунды, пока он прошагает по гостиной, в которой нет ничего, кроме маленького стола, за которым не спрячешься, а стена за его спиной остановит пули и заглушит выстрелы. Потом уйти, оставив труп крысам. Дверь явочного дома была чуть приоткрыта. За окнами без стекол было темно. Подавив желание нащупать пистолет за поясом, я поднялся на полусгнившее крыльцо и вошел внутрь. Дельгадо смотрел на меня со своего обычного места за столом. Он сидел верхом на стуле, подпирая подбородок тыльной стороной правой ладони, лежащей на спинке стула. Я знал, что он левша. Его левая рука висела вдоль тела, и ее не было видно. Вместо обычного белого парусинового костюма он надел свежую свободную рубашку. Его кожа казалась темнее, а волосы – светлее, чем прежде. Я положил на стол конверт и остался стоять, глядя в холодные серые глаза Дельгадо. В тусклом свете показалась его левая рука. Как всегда, он вскрыл запечатанный конверт и прочел донесение. – Издеваешься? – произнес он наконец. Я стоял в свободной позе, расставив ноги, сунув левую руку в карман и свесив правую вдоль бедра. – Дурацкая пещера для туристов, детишки с пивными бутылками, свинья, погибшая на затопленном песчаном островке? И это все? – Нас послала туда военно-морская разведка, – ответил я. Дельгадо фыркнул. – Морская разведка. – Он швырнул две странички на стол. Его левая рука опустилась под стол, он продолжал смотреть на меняледяным взглядом. – И за все это время вы ни разу не видели „Южный крест“? – Нет, – сказал я. – Он вернулся в порт Гаваны. Теперь он стоит на якоре неподалеку от Касабланки. – И вы не перехватили ни одной его передачи? Я покачал головой, внимательно следя за ним. В случае необходимости Дельгадо действовал молниеносно. Если он выхватит пистолет, я буду вынужден стрелять в корпус… целиться в голову слишком рискованно. Если бы я знал, где находится его оружие – вполне возможно, он держал его под столом, и в этот самый миг я был у него на мушке, иными словами, в безнадежном положении, – то исход решала бы не столько моя и его реакция, сколько наше хладнокровие во время перестрелки. Я зарядил патроны с пустотелыми пулями и насек их кончики ножом, поэтому, если хотя бы одна из них попадет в цель, все будет кончено. Но Дельгадо, разумеется, подготовился точно так же. Он быстро выдернул левую руку из-под стола. Я не испугался, и моя правая рука не шелохнулась. Он бросил на стол черно-белую фотографию. – Ты знаешь этого человека, Лукас? – Да, – безразличным тоном отозвался я. – Я видел его досье. Иоганн Зигфрид Бекер из СД. А что с ним? – Он уехал из Бразилии, – сообщил Дельгадо, глядя на меня. – Знаю, – сказал я. – В аналитическом бюллетене ОРС за май месяц указано, что он сейчас в Берлине. Дельгадо медленно покачал головой. – Бекер в Гаване. – Помолчав минуту, он добавил: – Не хочешь спросить, по какой причине? – Это имеет какое-либо отношение к моей нынешней работе? – спросил я. – Ни малейшего, – ответил Дельгадо. – В сущности, ты ведь не выполняешь здесь никакой работы, правда? По лужайке за окном пробежали два мальчика. Я смотрел на них, не отворачивая лица от Дельгадо. Входя в дом, я сместился влево, чтобы моя спина не была обращена к открытой двери. Я не знал, сколько людей работает на Дельгадо. Они вполне могли засесть в хижине напротив и ждать моего ухода, целясь и точку, которую я должен миновать, шагая по улице. Я никак не мог помешать им, мне оставалось лишь сосредоточиться и не позволить волоскам на своей шее встать дыбом. – Бекер приехал сюда, потому что его бразильская сеть находится на грани провала, – сказал Дельгадо. – И, уж конечно, наш гауптштурмфюрер не вернется в этот ад. Он начал переговоры с… э-ээ… с местными представителями, предлагая себя в качестве свидетеля обвинения либо двойного агента. – Зачем вы мне это рассказываете? – спросил я. Дельгадо потер нижнюю губу. Капли пота проступили на его щеках и стекали по подбородку. В тесной комнате было очень жарко. – Я рассказываю тебе об этом, Лукас, потому что мы не хотим, чтобы ты столкнулся с герром Бекером в каком-нибудь притоне и снес ему голову, либо сдал его здешней полиции, пока мы не завершим переговоры. – „Мы“? – переспросил я. – Я, – ответил Дельгадо. – Хорошо, – сказал я. – Что-нибудь еще? – По крайней мере, не от меня. Я отправился к выходу, стараясь не выпускать его из виду. – Лукас! – Его левая рука вновь исчезла под столом. В это мгновение я оказался в луче солнечного света и не мог как следует рассмотреть Дельгадо, сидевшего в полумраке. – Мне очень жаль, что так получилось с парнишкой. Я сунул руку за спину, сделав вид, что хочу почесаться. – Вы знаете, кто его убил? – Нет, конечно, – сказал Дельгадо. – Но я прослышал о похоронах и сделал надлежащие выводы. Передай своему дружку писателю, чтобы он не использовал детей в своих шпионских играх. – Вы даже не догадываетесь, кто расправился с Сантьяго? – спросил я, глядя ему в глаза. Дельгадо скривил губы, изображая улыбку: – Его звали Сантьяго?* * *
Когда я вернулся, усадьба казалась вымершей. Потом я вспомнил, что сегодня у слуг выходной, а Уинстон Гест и Пэтчи Ибарлусия собирались пригласить мальчиков на ужин в „Эль Пасифико“. Я постучался в дверь хозяйского дома и, не услышав ответа, вошел внутрь. Хемингуэй сидел там, где я его оставил – в своем цветастом кресле в центре комнаты, справа от подноса с выпивкой, но ни одной кошки здесь не оказалось. Колени, на которых прежде лежала Бойсси Д'Англас, стискивали взятый с яхты „манлихер“, дуло которого упиралось в шею под подбородком писателя. Приклад винтовки стоял на ковре. Хемингуэй разулся и просунул большой палец ноги в скобу, положив его на курок. – Ты вовремя, Джо, – сказал он. – Я ждал тебя. Хочу показать тебе кое-что интересное.Глава 21
Я стоял в пяти метрах от Хемингуэя и смотрел на дуло „манлихера“, упиравшегося ему в подбородок. Я не знал, заряжена ли винтовка. Мне не понравилось, что писатель назвал меня Джо. Наедине он никогда не обращался ко мне по имени. – „Estamos copados“, – сказал Хемингуэй. – И вот что мы делаем, когда нас окружают. – Он взялся за ствол обеими руками и наклонил его вперед, при этом палец его ноги сдвинул с места спусковой крючок. На Хемингуэе были только заляпанная синяя рубашка и грязные шорты-хаки. Я промолчал. – В рот, Джо, – произнес он. – Небо – самая мягкая часть черепа. – Он вдвинул ствол в рот на несколько сантиметров и нажал спусковой крючок пальцем ноги. Курок сухо щелкнул. Хемингуэй поднял голову и улыбнулся. В его улыбке мне почудился вызов. – Это было чертовски глупо, – сказал я. Хемингуэй аккуратно прислонил винтовку к подлокотнику кресла и поднялся на ноги. Он был сильно пьян, но без труда сохранял равновесие. – Что ты сказал, Джо? – спросил он, сжимая пальцы в кулаки. – Это было чертовски глупо, – повторил я. – А если и нет, то сунуть ружейный ствол в рот может только „maricon“. – Будь добр, повтори, Джо, – попросил Хемингуэй, отчетливо выговаривая слова. – Вы слышали, что я сказал. Хемингуэй кивнул, шагнул к черному ходу и жестом поманил меня за собой. Вслед за ним я вышел из дома. Остановившись у бассейна, он снял грязную рубашку, аккуратно сложил ее и повесил на спинку металлического кресла. – Тебе лучше раздеться, – по-испански сказал он. – Я намерен пустить тебе кровь, и как можно больше. Я покачал головой: – Мне не хочется этого делать. – Плевать мне, чего тебе хочется, – сказал Хемингуэй. – И на тебя мне плевать. – Вновь перейдя на испанский, он с сильным кубинским акцентом добавил: – Насрать мне на твою беспутную мать. – Мне не хочется этого делать, – повторил я. Хемингуэй встряхнул головой, словно прочищая мозги, потом быстро шагнул вперед и нанес удар слева мне в лицо. Я уклонился, поднял кулаки и начал смещаться вправо по дуге, памятуя о том, что он видит левым глазом хуже, чем правым. Хемингуэй вновь ударил. Я отразил удар. Его первые удары, как и кубинское ругательство, были всего лишь провокацией. Мне сразу стало понятно, что он, как и я, предпочитает контратаку. Начало боя между двумя сторонниками подобной тактики зачастую бывает вялым и монотонным. – Piropos, senor? – язвительно произнес я, улыбнувшись ему. – Pendeio. Puta. Maricon. Bujaron. Хемингуэй набросился на меня. За считанные мгновения я успел сообразить, что могу без труда убить его, но так и не понял, кто из нас сильнее в кулачном бою. Хемингуэй сильно ударил слева по моим губам. Я поставил блок, и он нанес правый хук, целясь в корпус. Я отскочил назад, и все же его огромный кулак вонзился мне в ребра, отчего я едва не задохнулся. Хемингуэй тут же добавил левый, а потом и правый удары сбоку в обход моего блока. Каждым из них он мог свернуть мне скулы, но удары пришлись в затылок. У Хемингуэя был сокрушительный прямой удар. Разумеется, это давало ему значительное преимущество, но оно зачастую обращается против боксеров-любителей, которые надеются завершить бой в первые минуты нокаутом или нокдауном. Порой они забывают о необходимости держать дистанцию. Хемингуэй вошел в клинч, схватил мою рубашку левой рукой и вновь нанес мне хук справа. Я подставил плечо, низко пригнулся и трижды ударил его в живот. Из его груди со свистом вырвался воздух, он крепко обхватил меня руками, чтобы отдышаться. У него оказался слабый живот, но он привык держать удар и не думал опускать руки. Он ухватил меня за волосы, но те были слишком коротки, чтобы надежно уцепиться за них. Используя преимущество в весе, он двинулся вперед, стремясь прижать меня спиной к стене дома. Я уперся подбородком ему в плечо, сопротивляясь изо всех сил; теперь он мог бить меня только сзади. Тем не менее его удары по почкам были очень болезненными. Упираясь ногами в землю и понимая, что, прижав меня к стене своим массивным телом, Хемингуэй сможет нанести мне серьезную травму, я боднул его в подбородок, и, как только голова писателя запрокинулась назад, оттолкнул его от себя. Хемингуэй смахнул пот с глаз и сплюнул кровь. Я ударил его по лицу тыльной стороной руки Он зарычал, метнулся вперед, и я встретил его сильным хуком справа. Он устоял на ногах. Я был не в лучшей форме для боя, но не до такой степени. Мой правый хук – даже если он пришелся сбоку, а не в челюсть – в прошлом сваливал противников и покрупнее. Бить Хемингуэя по голове было все равно, что лупить наковальню. Он вновь набросился на меня и схватил за руки. Его большие пальцы быстро задвигались, впиваясь между мышцами моих плеч и предплечий, стараясь передавить сухожилия бицепсов. Я резко поднял колено, но он молниеносно сместился в сторону, и удар пришелся не в промежность, а в бедро. Я ударил вновь, он выпустил мои руки, отпрянул назад, и я дважды попал кулаком ему в правое ухо. Ухо тут же начало расплываться, но я почувствовал, что его большие пальцы сделали свое дело – моя левая рука онемела, а в правой возникли жжение и пульсация, как будто я отлежал ее во сне. Уроки чикагского детства явно пошли ему впрок. Описывая круги, мы двинулись к бассейну. Хемингуэй тяжело дышал. Он наткнулся спиной на металлическое кресло и отшвырнул его прочь. В это мгновение я попытался провести комбинацию, но он отразил оба удара и, пока я отступал, угодил кулаком мне в лоб над левым глазом. Бровь сразу начала опухать, но не так быстро, чтобы глаз полностью заплыл, прежде чем кончится схватка. Хемингуэй вновь вошел в клинч, хватая ртом воздух. Его пот и дыхание пахли джином. Он сильно ударил справа, целясь мне в промежность, и наверняка превратил бы мои мужские сокровища в месиво, если бы я не отпрыгнул вверх и назад. Я подставил под удар внутреннюю часть бедра и почувствовал, как немеет моя правая нога; в ту же секунду левый кулак Хемингуэя врезался в мой правый висок с такой силой, что я закружился волчком. Несколько мгновений я видел только красные искры и слышал рев и шум крови, водопадом низвергавшейся внутри черепа. Но я удержался на ногах и, как только прекратилось вращение, нанес правый апперкот в ту точку, где, по моим расчетам, должен был находиться противник. Я промахнулся на несколько сантиметров, и все же мой кулак пробил его защиту и угодил ему в обнаженную грудь. Сквозь рев крови в ушах звук удара показался мне грохотом молота на скотобойне. Я отпрянул и закрылся, ожидая контратаки; я вновь отбросил в сторону кресло, затряс головой, чтобы прийти в себя, и надеясь, что не упаду в бассейн. Несколько секунд ничего не происходило, и за это время ко мне отчасти вернулось зрение, а шум крови утих. Хемингуэй стоял согнувшись, извергая содержимое желудка на камень. Его правое ухо распухло до непристойности и напоминало гроздь красного винограда, борода была испачкана кровью и блевотиной, а левый глаз почти закрылся от удара, которого я не мог припомнить. Я чуть опустил руки, которыми прикрывал голову, и, подволакивая ноги, шагнул вперед, собираясь предложить ничью. Все еще тужась от рвоты, Хемингуэй нанес справа удар наотмашь, который сорвал бы мою голову с плеч, если бы я не поднырнул под его кулак. Оставаясь в согнутом положении, я приблизился к нему и дважды ударил в живот. Хемингуэй вцепился в мою рубашку, словно ища опоры, вздернул меня кверху, выпрямился и ударил лбом мне в подбородок. У меня во рту хрустнул зуб. Я попытался отступить, но Хемингуэй вновь схватил меня левой рукой, правой круша мои ребра. Оскалив огромные зубы, он старался укусить меня за ухо и за горло. Я отбросил его двумя прямыми короткими резкими ударами в скулы и услышал, как трещит, разрываясь, моя рубашка. Хемингуэй раскрылся, и я без помех нанес сильный хук ему в солнечное сплетение, в последний момент сдержав силу удара, чтобы не убить его. Он сложился пополам и зашатался, но не упал. Секунду спустя, задыхаясь и отступая назад, он наткнулся на металлическое кресло и тяжело рухнул на каменные плитки. Я шагнул вперед, вытер кровь с левого глаза и замер в ожидании. Хемингуэй медленно поднялся на оба колена, потом на одно и, наконец, на ноги. Его правое ухо вздулось и кровоточило, на правой скуле расплывался пурпурный синяк, левый глаз закрыла опухоль, губы и борода были покрыты кровью, а волосы на груди еще и блевотиной. Он ухмыльнулся, показав окровавленные зубы и, покачиваясь, двинулся вперед, вновь поднимая руки и сжимая распухшие кулаки. Я схватил его за локти, подтянул к себе и зацепился подбородком за его плечо, чтобы он не мог боднуть или оттолкнуть меня. – Мир? – выдохнул я. – К черту… – прохрипел писатель и слабо ударил меня по ребрам. Я отпихнул его, попытался провести свинг в окровавленный подбородок, промазал и упал на колено. Хемингуэй сверху ударил меня по голове с такой силой, что в моих глазах вспыхнули искры, и уселся рядом на плитки. – Берешь… назад., слова насчет „maricon“? – выдохнул он. – Нет. – Проведя языком по вздувшимся губам и деснам, я нащупал осколок сломанного зуба и выплюнул его. – Идите к черту. Хемингуэй рассмеялся, тут же умолк, ощупал ребра, сплюнул кровь и усмехнулся, на сей раз осторожнее. – Muy buena pelea, – сказал он. Я качнул головой и сразу пожалел об этом – окружающий мир накренился и поплыл перед глазами. – Драка… не бывает… славной, – выдавил я, хватая ртом воздух. – Это пустая трата времени… и сил… – Я провел ладонью по губам. – А также зубов. Я посмотрел на свои руки. Костяшки пальцев распухли и были исцарапаны. Казалось, по ним проехал небольшой автомобиль. Хемингуэй перекатился на колени и двинулся ко мне. Я тоже поднялся на колени, готовясь встретить его, но мои руки поднимались так медленно, словно к запястьям были приторочены свинцовые грузы. „Этому сукину сыну сорок три года, – подумал я. – Можно себе представить, как он боксировал в моем возрасте“. Хемингуэй неловко обхватил меня руками. Я ждал тычков ударов и вдруг почувствовал, что он похлопывает меня по спине. Он что-то говорил, но я не слышал его слов из-за водопада, который вновь зашумел у меня в голове. —..в дом, Джо. Марти оставила в холодильнике бифштексы, – сказал писатель. – И бутылку хорошего виски на льду. – Вам хочется есть? – спросил я, пока мы помогали друг другу подняться на ноги, налегая друг на друга в поисках опоры. Плитки у бассейна были забрызганы кровью, ветер трепал какие-то длинные синие ленты – я узнал в них остатки своей рубашки. – Я голоден, как волк, – ответил Хемингуэй, разворачивая меня к двери дома. – Это и неудивительно. Мой желудок пуст.* * *
Тем вечером Мария обращалась со мной еще заботливее, чем накануне. – Бедный, бедный Хосе, – бормотала она, прикладывая холодные влажные полотенца к моим рукам, ребрам и лицу. – Я часто видела своих братьев в таком состоянии. Надеюсь, твоему противнику тоже досталось? – Еще как. – Холодное полотенце коснулось моих избитых ребер, и я поморщился. Я лежал на спине в одних трусах. На Марии была только просвечивающая ночная рубашка. Фитиль в лампе был прикручен до минимума. – На тебе осталось хотя бы одно живое место, Хосе? – прошептала девушка. – Только одно, – ответил я. – Покажи. Я показал ей без помощи рук. – Ты уверен, что оно не пострадало? – прошептала Мария. – Оно красное и воспаленное. – Заткнись, – сказал я и осторожно уложил ее на себя. – Мы не станем целоваться в губы, чтобы не потревожить твой рот, – шепнула она. – Но я могу целовать тебя в другие места, правда? – Да, – ответил я. – Нужно полечить твои опухоли. – Заткнись, – повторил я. Мы уснули только на рассвете.* * *
На следующий день мальчики отправились рыбачить с Гестом, Ибарлусией и Синдбадом. Мы с Хемингуэем бродили по усадьбе, словно два восьмидесятилетних старика, переживших крушение поезда. Мы решили, что нам необходимо подкрепиться, и сошлись в том, что подкрепление должно быть жидким. Откупорив вторую бутылку джина, мы заперли дверь и принялись за дела. Вскоре обеденный стол был завален картами. Хемингуэй искал лист номер 2682. Согласно легенде, изображенные на ней прибрежные воды были нанесены на карту в 1930 – 31 годах американским судном „Никомис“. – Долгота семьдесят шесть градусов, сорок восемь минут и тридцать секунд, – сказал Хемингуэй, сверившись с расшифрованным текстом и вновь повернувшись к карте. – Широта двадцать один градус двадцать пять минут. – Он постучал по бумаге распухшим пальцем. – Это Пойнт Рома, – сообщил он, подтверждая вывод, к которому мы пришли, изучая бортовые карты „Пилар“. Я вновь взглянул на карту. Пойнт Рома находился у северного побережья Кубы неподалеку от исследованных нами пещер. Его окружали крупные островки Сабинал, Гуахаба и Романо, к северо-западу располагался большой – Бахия де Нуэвитос. В этом районе „Южный крест“ проходил морские испытания, а „Пилар“ провела множество бесплодных дней. – Идеальное место для высадки, – заметил Хемингуэй. – Побережье там практически пустынное, между Нуэвитос и Пуэрто-Падре ничего нет. Вход в бухту Манати имеет ширину от пяти до шести саженей, но с тех пор, как закрылась сахарная мельница в юго-западной части бухты, он значительно сузился. Во всем районе лишь несколько хижин, а на этом берегу вообще ничего. – Он обвел пальцем протоку, ведущую к Бахия Манати. – Подлодка наверняка выберет именно этот путь. Я посмотрел на промеры глубины. У самого берега она составляла от пяти до восьми саженей, но уже в пятидесяти ярдах дно опускалось до ста девяносто пяти, а потом и двухсот двадцати пяти саженей. Субмарина могла легко проскользнуть мимо Пойнт Рома и Пойнт Иисус на расстоянии двухсот ярдов и войти в узкий канал, не опасаясь сесть на риф или песчаную отмель. – От входа в бухту видна старая труба мельницы, – продолжал Хемингуэй. – В дневное время они могут сориентироваться по ней через перископ, а с наступлением темноты отправить лодки в точку с указанными координатами. Я кивнул и ткнул пальцем в развилку железнодорожных путей, соединявших берег бухты с сахарной мельницей. – Они ведут к тростниковым полям? – Когда-то вели, – сказал Хемингуэй. – По короткому отрезку тростник доставляли к прессам и к причалу. Теперь все заброшено. – A „Doce Apostles“? – спросил я, указывая на россыпь точек по обе стороны узкой протоки, подходящей к рельсам. – Двенадцать Апостолов – это крупные скальные формации, – объяснил Хемингуэй. – Когда-то у их подножий стояли хижины рабочих, но теперь скалы заросли деревьями. – Он провел пальцем вдоль берега чуть к северу. – Видишь протоку Энсенада Хиррадура, сразу за Пойнт Рома и заброшенным маяком? Я кивнул. Если верить карте, протока была широкая и мелкая, глубиной три четверти сажени. – Уж не думаете ли вы, что они высадятся здесь? – Нет, – сказал Хемингуэй. – В этом нет нужды. Полагаю, они подплывут на плотике прямо к старому маяку на Пойнт Рома. Здесь нет ни камней, ни скал, ни деревьев, ни иных препятствий. Но мы могли бы войти в Энсенада на шлюпке и спрятать ее в мангровых зарослях. – На шлюпке, – повторил я. – На „Крошке Киде“? Хемингуэй покачал головой. – Я оставлю его у „Пилар“. Яхта не сможет пройти по такой мелкой воде, особенно при восточном ветре. В любом случае ее там негде укрыть. Придется раздобыть что-нибудь другое. – Плоскодонку? – спросил я. – Челнок? Хемингуэй поскреб щетину на подбородке и поморщился. – У меня на примете кое-что получше, – сказал он. – Быстроходная посудина, которая пройдет даже по дождевой луже. У Тома Шелвина есть отличный скоростной катер, он держит его в Кохимаре. Он мой должник и разрешает мне брать судно, когда я пожелаю. Кажется, катер называется „Лорейн“, в честь жены Тома. Шелвин не может плавать на нем из-за дефицита горючего. – Скоростной? – переспросил я. – Еще бы. На нем установлен двигатель мощностью сто двадцать пять лошадей – почти вдвое больше, чем у „Пилар“, а тянуть ему приходится меньше половины ее массы. Очень мелкая осадка. Топливные баки для сверхдальних плаваний. – Похоже, на нем перевозили спиртное во времена Сухого закона, – заметил я. – Именно, – ответил Хемингуэй и вновь указал на карту. – Лучшего места для высадки не придумаешь. В четверг капитан осмотрит окрестности при свете дня, а в темноте войдет в бухту. Какое время указано в передаче? – Одиннадцать вечера, – ответил я. Писатель кивнул. – Будет светить луна, но тринадцатого числа она взойдет только после полуночи. Агенты высадятся на Пойнт Рома и пойдут по железнодорожным путям к сахарной мельнице в юго-западной части бухты. Оттуда они отправятся вдоль тупиковой ветки, которая ведет от мельницы до города Манати в двенадцати милях в глубь суши. Там они сядут на попутную машину и доедут до дороги, проходящей через Ринкон и Сао-Гуасимадо Центрального шоссе, потом свернут направо к Гаване и американской военно-воздушной базе в Камагуэе, либо налево, к Гуантанамо. – Он посмотрел на меня. – Чтобы поймать их, мы должны быть на месте в двадцать три ноль-ноль тринадцатого, в четверг. Как ты думаешь, когда нам следует там появиться, Лукас? Тринадцатого на закате? Я вспомнил о событиях на улице Симона Боливара в Веракрусе. Там меня ждали. И я знал, что на Пойнт Рома нас тоже будут ждать. – Тринадцатого, задолго до заката, – сказал я. – До полудня. – Ты шутишь, черт побери? – Мне, черт побери, не до шуток. Хемингуэй вздохнул и погладил свою короткую бороду. Вновь поморщившись, он посмотрел на свои распухшие пальцы. – Так и быть. Отправляемся послезавтра. Как мы все это организуем? Оставим „Пилар“ и мальчиков дома? – Думаю, не стоит, – ответил я. – Лучше сделаем вид, как будто утром в среду отправляемся в обычный поход. Патрик и Грегори, вы, я, экипаж – вся компания. Высадите меня где-нибудь на побережье и вернетесь в Кохимар за катером Шелвина, а я встречу вас вечером в среду на базе Кейо Конфитес. Той же ночью мы отправимся в Бахия Манати. – Грегорио, Пэтчи, Волфер и другие ребята не захотят оставаться в тылу, – возразил Хемингуэй. Я посмотрел на него. – М-да, – сказал он. – Жаль, но ничего не поделаешь. – Он провел рукой по волосам. – Перед отправлением нам придется много поработать. Нужно перенести с „Пилар“ боеприпасы и пару „ninos“ <Детишки (исп.).>. Я знал, что Хемингуэй говорит не о детях. Он велел Фуэнтесу изготовить для автоматов Томпсона особые чехлы из овечьих шкур, пропитанных маслом. Когда экипаж яхты занимал места по боевому расписанию, чехлы висели на поручнях палубы и мостика. Ибарлусия заметил, что, когда чехлы покачиваются, они похожи на детские люльки, поэтому автоматы получили прозвище „ninos“. В моменты, когда у Хемингуэя случались подобные приступы остроумия, мне хотелось ударить его. Я посмотрел на свои вздутые кулаки и отложил это желание до лучших времен. Хемингуэй скатывал карты. – Итак, мы с тобой прячемся в кустах, среди мангровых корней или скал, а в одиннадцать вечера тринадцатого числа немецкие агенты выбираются на берег… и что тогда? – Мы узнаем это в одиннадцать вечера тринадцатого числа, – ответил я. Хемингуэй с отвращением посмотрел на меня. Я воспринял это так, что мне пора уходить, и вернулся во флигель, чтобы заняться „Хитрым делом“.* * *
Главной моей заботой была вторая из двух перехваченных радиограмм. Я не солгал Хемингуэю, когда говорил, что она закодирована другим шифром, который я не могу разгадать, но при этом я кое-что утаил. Послание было передано группами по пять цифр, такими же, как в книжном шифре: q-f-i-e-n/w-w-w-s-y/d-y-r-q-q/t-eo-i-o/ w-q-e-w-x/ и так далее. Беда лишь в том, что это был не книжный шифр. В тексте не были указаны ни номер страницы, ни ключевые слова, ни вступительная фраза. Мне уже доводилось сталкиваться с шифрами обеих немецких разведок, и я предположил, что имею дело с корреспонденцией СД. Внешняя разведка Рейха, в отличие от армейской, предпочитала пользоваться для быстрой надежной шифровки цифровыми системами. Ключ к этим кодам представляет собой группу цифр длиной в шесть или семь символов, случайным образом выбранных агентом, ведущим передачу. Он заранее сообщает эту последовательность человеку или людям, для которых предназначены его послания. Эти цифры означают, сколько позиций следует отсчитать вверх или вниз по алфавиту, чтобы получить нужные буквы. Если, к примеру, он выбрал строку 632914, то первую букву текста – q – следует заменить буквой, отстоящей от нее на шесть позиций, то есть w либо k. Вторая буква передачи, f, означает i либо с, расположенные в алфавите в трех позициях от нее, и так далее. Компетентные шифровальщики способны взломать такой код, если у них достаточно времени и вычислителей. „Вычислителями“ обычно работают люди, в основном женщины – сотрудники цифровых отделов криптографических лабораторий, которые подставляют всевозможные числа, изучают тысячи, десятки тысяч и миллионы комбинаций, анализируя повторы и частотность тех или иных букв, и тому подобные данные. Однако, если агент вставляет в текст ложные группы и пользуется другими нехитрыми трюками, расшифровка даже такого простого кода затягивается на месяцы и представляет собой весьма трудоемкий процесс. А я никогда не был силен в арифметике. Я был почти уверен – и это тревожило меня больше всего, – что первое сообщение, переданное книжным шифром, предназначалось для нас. Все получилось слишком просто – найти блокнот Кохлера и отыскать на „Южном кресте“ две книги; вдобавок последующие передачи шифровались прежним кодом. Кто-то постарался сделать так, чтобы мы узнали о высадке на Пойнт Рома. И этот же „кто-то“ сделал все, чтобы мы не прочли настоящее послание. Это не могло не беспокоить меня. Я не верю в интуицию и паранормальные способности – даже в „шестое чувство“, которое якобы появляется со временем у любого разведчика, но весь мой опыт и подготовка предостерегали меня на подсознательном уровне, что эта цифровая шифрограмма не сулит нам ничего хорошего. Дельгадо был у меня на подозрении, и я не мог просить его переправить радиограмму в лаборатории ФБР и ОРС для расшифровки. Также было немыслимо обратиться в гаванское отделение ФБР, рассказать о своем задании специальному агенту Ледди и ждать от него помощи, поскольку тем самым я навлек бы на себя гнев Гувера за то, что действовал в обход предписанных каналов и раскрыл свою легенду. Помимо всего прочего, расшифровка даже несложного цифрового кода заняла бы месяцы, а у нас не было столько времени. Я уже обдумывал один жестокий, но действенный способ дешифровки, когда во флигеле появились агенты 03 и 11. Агентом 03 звался пожилой швейцар из отеля „Амбос Мундос“. Агентом 11 был „черный священник“, друг Хемингуэя отец дон Андрее. Я нередко встречал его на воскресных вечеринках Хемингуэя, на которые он обычно приезжал в ярко-красной спортивной рубашке. Но сегодня на нем была черная сутана с воротником, застегнутым со спины. В этом облачении он выглядел старше и намного внушительнее. – Мы пришли сказать дону Эрнесто, что богатый человек с большой яхты, сеньор Шелл, уезжает через час, – заговорил отец Андрее. Швейцар энергично кивнул. – Вы уверены? – по-испански спросил я, переводя взгляд с одного на другого. – Да, сеньор Лукас, – ответил швейцар. – Наш портье, сеньор Альварес, забронировал для сеньора Шелла место на трехчасовом самолете. Сеньор Шелл потребовал подать машину к половине второго для поездки в аэропорт. Я кивнул. В минувшем месяце Тедди Шелл, он же Теодор Шлегель, почти все время проводил на берегу, переезжая из отеля в отель. Он больше двух недель не встречался с лейтенантом Мальдонадо и поднимался на борт „Южного креста“ только для коротких прогулок вдоль побережья. – Куда он летит? – спросил я. – В Рио-де-Жанейро, – ответил Черный священник. Недавно Хемингуэй объяснил мне, откуда взялось это прозвище. Хемингуэй здесь был ни при чем. Отца Андреев окрестили так после того, как его назначили в самый бедный приход Гаваны в наказание за былые грехи – в частности, за то, что он несколько лет был пулеметчиком на Гражданской войне в Испании. Большинство прихожан дона Андреса принадлежали к низшим слоям кубинского общества – иными словами, это были негры, отсюда и кличка Черный. – Это точно? – спросил я, хотя и знал, что в три часа дня из аэропорта Хосе Марти вылетает единственный рейс – в Рио. На лице швейцара появилась оскорбленная мина. – Да, сеньор Лукас. Я собственными глазами видел билет. – В оба конца или только в один? – допытывался я. – Только в Рио, – ответил швейцар. – Мы решили, что он сматывает удочки, – добавил дон Андрее. – И подумали, что сеньору Эрнесто следует об этом знать. – Правильно, – согласился я. – Я расскажу ему. Благодарю вас за усердие, джентльмены. – Это важно? – спросил швейцар, улыбаясь щербатым ртом. – Да, эти сведения могут оказаться очень ценными, – ответил я. Священник неловко замялся: – Не лучше ли нам лично доложить об этом Эрнесто? – Я передам ему ваше сообщение, отец, – сказал я. – Обещаю. Сейчас он отдыхает. Нынче утром у него болит голова. Священник и швейцар обменялись понимающими взглядами. – Нужно ли проследить за сеньором Шеллом до аэропорта? – спросил дон Андрее. Я покачал головой: – Мы позаботимся об этом. Еще раз благодарю вас за профессионализм. Когда они отправились восвояси, я прошел мимо плавательного бассейна и заросшего теннисного корта к маленькому гаражу. Шофер Хуан, мывший „Линкольн“ у его ворот, с подозрением воззрился на меня. Хуан частенько вел себя так, словно его мучает запор или иная хворь, и явно недолюбливал меня. – Чем могу служить, сеньор Лукас? – Слова были выбраны безупречно, однако в тоне его голоса угадывались надменность и вызов. Работники финки до сих пор не решили, как ко мне относиться – в их глазах я стоял выше наемного слуги, но, уж конечно, ниже почетного гостя. Вдобавок они возложили на меня ответственность за появление в их дружной семье проститутки. По всей видимости, Мария нравилась им, но, подозреваю, они затаили на меня зло за то, что я уронил престиж усадьбы. – Просто кое-что ищу, – сказал я, входя в полумрак тесного строения. Здесь царил уютный запах, свойственный всем гаражам, в какой бы части света они ни находились. Хуан отложил шланг и встал в воротах. – Сеньор Хемингуэй требует, чтобы никто, кроме него и меня, не прикасался к его инструментам. – Да, – сказал я, открывая металлический ящик и роясь в его содержимом. – Сеньор Хемингуэй весьма категоричен в этом требовании. – Да, конечно. – Я выбрал моток серой изоленты и большую плоскую отвертку длиной около двадцати сантиметров. Закрыв ящик, я обвел взглядом деревянный верстак. Там среди запыленного хлама стояли банки с краской и гвоздями… ага, вот что мне нужно. Я взял маленькую жестянку с тавотом и открыл крышку. Банка была заполнена на треть, вполне достаточно. Отыскав кусок свинцовой трубы, я сунул его в задний карман. – Сеньор Хемингуэй особенно настаивает, чтобы, кроме него и меня, никто не позволять трогать… – Негодование шофера достигло такой степени, что он начал путаться в грамматике. – Хуан! – отрывисто произнес я. Коротышка моргнул: – Да, сеньор? – У тебя есть форменная куртка и фуражка на тот случай, если нужно отвезти сеньора Хемингуэя или его гостей на официальное мероприятие? Хуан вновь прищурился. – Да, сеньор… но он редко просит… – Принеси их, – велел я достаточно суровым голосом, чтобы положить конец спорам, но не оскорбить его. Хуан моргнул и посмотрел на мокрый „Линкольн“. Он был вымыт, но его еще нужно было протереть. – Сеньор Лукас, я должен… – Пожалуйста, принеси форму и фуражку, – непререкаемым тоном проговорил я. – Сейчас же. Хуан кивнул и торопливо зашагал прочь. Его дом находился у подножия холма среди скопления крытых железом хижин под названием Сан-Франциско де Паула. Минуты спустя он вернулся с обоими предметами. Куртка и фуражка воняли нафталином. Как я и думал, куртка оказалась мала для меня, но фуражка пришлась впору. Я взял ее и сказал: – Протри машину, отполируй ее мастикой и подготовь к поездке через двадцать минут. – Слушаюсь, сеньор Лукас. Я отправился в „Первый сорт“. Домик был пуст. Мария помогала слугам наводить чистоту в финке. Я вынул из тайника „магнум“, проверил обойму и сунул тяжелый пистолет за пояс. Потом я подошел к бельевой веревке, на которой висел мой темный костюм, отглаженный Марией, и надел его. Темные брюки, пиджак и фуражка вполне могли сойти за форму. Когда я вернулся к „Линкольну“ с ключами, автомобиль сиял. Я захватил в доме бутылку виски и упаковал в бурый бумажный пакет вместе с отверткой, трубой, рулончиком изоленты и банкой тавота. Хуан стоял у машины и с сожалением поглядывал на фуражку. – Сеньор Хемингуэй спит, – сообщил я. – Не буди его, но, как только он проснется, скажи, что я ненадолго взял автомобиль. – Да, сеньор Лукас. Но… Я вывел „Линкольн“ на подъездную дорожку и выехал в ворота.* * *
Я не был похож на шофера – мои руки и лицо распухли и были покрыты синяками, и хотя за месяцы, проведенные под жарким солнцем, моя кожа потемнела еще сильнее прежнего, вряд ли кто-нибудь принял бы меня за кубинца. Все же я надеялся, что Шлегель не обратит внимания на скромного водителя и не вспомнит меня по совместному ужину в усадьбе. Он принадлежал к тем людям, которые не замечают слуг. Я проехал через Сан-Франциско дель Паула, под огромным испанским лавром, крона которого простиралась на всю ширину дороги, потом спустился по холму и свернул на Центральное шоссе. Мимо промчалось кафе „Эль Бриллианте“ с грубой настенной росписью, изображавшей гигантский сверкающий алмаз, и покатил по затяжному спуску к предместьям Гаваны. Воспоминания о вчерашней драке с писателем тревожили меня гораздо больше, чем ноющие костяшки пальцев и вздутая губа. Кулачный бой – самый яркий пример незрелости и глупости. Я спровоцировал Хемингуэя на драку, потому что узнал его взгляд, когда вошел в гостиную и увидел, как он смотрит на дуло „манлихера“. Полтора года назад я видел такое же выражение в глазах бывшего главы НКВД Вальтера Кривицкого в номере отеля „Бельвью“ в Вашингтоне, округ Колумбия. „Estamos copados“, – любил повторять Хемингуэй. – „Нас окружили“. Мне кажется, ему нравилось, как эта фраза звучит по-испански. Именно это я дал понять Кривицкому 9 февраля 1941 года, сидя вместе с ним в его номере. Он отличался силой и умом, уже четвертый год был в бегах, водил за нос русских разведчиков, убийц из ГПУ, агентов европейских и американских шпионских сетей Абвера, BMP и следователей ФБР. Однако сила и сообразительность могут выручать человека только до тех пор, пока его противники не ожесточились до предела. В глазах Кривицкого читалась усталость, и взгляд Хемингуэя выдавал такое же отчаяние загнанной жертвы. „Estamos copados“. В конце концов Кривицкий обратился ко мне за помощью. – Я здесь не для того, чтобы помогать вам, – сказал я. – Моя задача – не допустить, чтобы немцы захватили вас и допросили, прежде чем убить. – Но ФБР, несомненно… – Вы рассказали ФБР все, что знали, – ответил я бывшему русскому разведчику. – Все, что вы знали о Советском Союзе и Германии. ФБР больше не нуждается в вас. Вы никому не нужны. Кривицкий посмотрел на грязную стену своего номера и негромко рассмеялся. – Знаете, я обзавелся оружием. В Виргинии. Но я выбросил его в окно поезда. Я вынул из плечевой кобуры пистолет и протянул его щуплому человеку с кустистыми бровями. Кривицкий проверил, заряжен ли пистолет, и навел его в мою сторону. – Я могу убить вас, специальный агент Лукас. – Разумеется, – сказал я. – Но Ганс Веземанн и другие не спустят с вас глаз. Они ждут, что завтра утром вы попытаетесь скрыться. Кривицкий кивнул и сделал большой глоток из бутылки с водкой, стоявшей на прикроватном столике. Ганс Веземанн состоял в ликвидационной группе, единственным заданием которой было устранение одного-единственного человека, Вальтера Кривицкого. И Вальтер знал, что, если такая группа направлена по следу, жертва почти никогда не остается в живых. Мы проговорили всю ночь напролет. Темой нашей беседы была безнадежность. „Estamos copados“. В конце концов Кривицкий, разумеется, застрелился из моего пистолета, приставив дуло к правому виску, а не сунув его в рот. Хемингуэй был прав, утверждая, что небо – самая мягкая часть черепа, и стрелять в него надежнее всего – не все, но достаточно многие самоубийцы остаются живыми, ведя растительное существование, после того как пуля отразилась от их черепа внутри, повредив небольшую часть мозга. Однако пуля моего пистолета успешно положила конец страхам Вальтера Кривицкого. Утром, перед тем как мы принялись изучать морские карты, Хемингуэй показал мне свою только что завершенную рукопись. Я мельком глянул на нее. Это было предисловие к сборнику рассказов „Мужчины на войне“. Текст состоял из более чем десяти тысяч слов, около пятидесяти печатных страниц. Я изумился безграмотности Хемингуэя – к примеру, он редко опускал „е“ перед „– ing“ и делал иные элементарные ошибки, которые стоили бы мне должности, вздумай я подать в ФБР рапорт, написанный таким образом. Еще я удивился, увидев множество вставок, замен и исправлений. – Прочти, – велел Хемингуэй. Я прочел рукопись, в которой он утверждал, будто бы этот сборник послужит патриотическому воспитанию, знакомя американскую молодежь с истинной природой войн, на примере истории человечества. Хемингуэй рассказывал о том, что каждый июль, в годовщину своего ранения у Фоссалита ди Пьяве, он перечитывает повесть Фредерика Маннинга „Середина судьбы, или Ее личные мы“. „Это великолепная, достойнейшая книга о людях, оказавшихся на войне“, – писал он и объяснял, что вновь и вновь перечитывает ее, чтобы напомнить самому себе реальные события и быть честным перед собой. По его мнению, предназначение этого сборника в том, чтобы показать, какова война на самом деле, а не какой ее обычно представляют. Однако, посмотрев вчера утром в глаза Хемингуэя, я понял, что воображаемая война, романтическая схватка „Пилар“ с субмаринами в тропических морях до сих пор занимают его гораздо больше, чем лежащий в канаве труп мальчишки с перерезанным горлом. Кривицкий сознавал реалии бытия. „Estamos copados“. Он многие годы ходил по краю пропасти, гораздо дольше, чем Хемингуэй. Кривицкому хватило глотка водки, ночной беседы и пистолета, который я ему одолжил. „Не затем ли вы прислали меня сюда, господин Гувер? – думал я по пути к отелю „Амбос Мундос“. – Не к этому ли сводится ваша игра с Хемингуэем? Не в том ли заключается моя роль – пить с ним и разговаривать, пока не придет время вложить ему в руку пистолет?“* * *
Теодор Шлегель не узнал меня. На мгновение мне показалось, что он узнал „Линкольн“, но таксомоторный парк Кубы состоял из великого множества моделей и марок, поэтому, окинув машину любопытным взглядом, он забрался на заднее сиденье, а слуги отеля не без труда уложили два его чемодана в багажник. Он не дал им на чай, лишь сказал: „Aeroporto“ и кивком велел мне отправляться. Располагая громадными суммами от Абвера, он не оставил беднягам хотя бы несколько монеток. Пока мы выбирались из Гаваны, Шлегель читал газету. Он не опустил ее, даже когда я свернул в тупик за пределами пригородов. Он поднял глаза, лишь когда я остановил машину. – Зачем вы… – на плохом испанском заговорил он и запнулся, увидев дуло, нацеленное ему в лицо. – Выходите из машины, – распорядился я. Шлегель замер у „Линкольна“ с вытаращенными глазами. Он поднял ладони. – Опустите руки, – сказал я, открывая багажник и выбрасывая чемоданы на обочину одной рукой, а другой держа пистолет. Шлегель посмотрел на чемоданы, заморгал и обвел взглядом окрестности. Я остановил машину в десяти шагах от канавы, в которой мы нашли труп Сантьяго. В глазах пухлощекого абверовца читалось все возраставшее беспокойство, но это место явно было незнакомо ему. Тем самым он ответил на один из моих вопросов. – Я знаю вас, – вдруг сказал Шлегель, и в его дрогнувшем голосе прозвучало облегчение. – Вы были на… – Заткнитесь, – велел я. – Повернитесь кругом. – Я обыскал его. Оружия при нем не было. – Берите чемоданы и шагайте прямо к той хижине. – Что вы… – Заткнитесь! – прикрикнул я по-португальски и ударил стволом пистолета ему в шею, оставив красный след и выдавив несколько капель крови. – „Spazieren Sie! Schnell!“ <Идите! Быстро! (нем.)>. Мы отправились к ближайшему домику. Взбираясь по скользкому от грязи холму с тяжелыми чемоданами в руках, Шлегель слегка запыхался. Вокруг не было ни души. В зарослях кустов на задах хижин звенели насекомые. Домик сгорел несколько лет назад, осталась только обугленная стена без крыши. – Повернитесь кругом, – сказал я, как только мы вошли в тень домика. Шлегель выронил чемоданы. Я заметил, что он ступает осторожно, стараясь не выпачкать сажей и золой свой белый костюм. Там, где стена преграждала путь ветру, было очень жарко. – Послушайте, – заговорил Шлегель по-английски. – Вы запомнились мне как приличный, культурный человек. Вам нет никакой нужды целиться в меня из пистолета. Если вам нужны деньги, я мог бы… Его голос еще дрожал, но в нем зазвучали уверенные нотки. Он начал поворачиваться, и в тот же миг я ударил его сбоку по голове свинцовой трубой, обмотанной изолентой.* * *
Шлегель пришел в себя лишь через десять минут, и я уже начинал опасаться, что ударил его слишком сильно, когда он дернулся и застонал. За это время я обыскал еговещи: одежда, белье, бритвенный прибор, восемь галстуков, деловой дневник, в котором не было ничего, явно напоминавшего шифры или коды, и папка с документами, касавшимися его работы в компании „Акос Марафон“ в Рио. На дне большего чемодана я также обнаружил 9-миллиметровый „люгер“ и 26 тысяч долларов хрустящими сотенными купюрами. Шлегель вновь застонал и шевельнулся. Я стоял позади него чуть сбоку и следил за ним. Он опять шевельнулся. Я увидел, как дрогнули его ресницы. Вспомнив, что случилось, и осознав, где он находится и что с ним происходит, он широко распахнул глаза. Вероятно, труднее всего ему было понять, в чем, собственно, дело. Прямо перед ним, у него на виду стояли чемоданы – наверху переворошенного содержимого одного из них лежали пистолет и деньги, на стопке белья в другом – аккуратно сложенные белый пиджак, брюки, синяя сорочка, белые туфли и красный галстук. Я заметил, что Шлегель осматривает самого себя; он почувствовал, что его руки связаны изолентой за спиной и увидел, что на нем остались только трусы, майка и черные носки. Потом он обратил внимание на то, что его привязали к бочке из-под горючего, и опять застонал. Стон заглушила липкая лента, которой я заклеил ему рот. Я подошел поближе, поставил ногу ему на щиколотки и слегка надавил, так что он перекатился вместе со ржавой бочкой. Лицо Шлегеля побагровело от прилившей крови. В руке у меня были две полосы липкой ленты, и я прижал их поверх глаз немца, прежде чем он успел отвернуться. Из-под ленты на его губах послышался очередной стон. Я перекатил его обратно, так, чтобы его ноги коснулись земли и ему было легче дышать. – Слушайте меня внимательно, Шлегель, – быстро заговорил я по-немецки. – От того, что вы скажете в ближайшие несколько минут, будет зависеть ваша жизнь. Будьте очень осторожны. Говорите только правду и ничего не скрывайте. Вы меня поняли? Шлегель попытался что-то сказать, потом кивнул. – Sehr gut <Очень хорошо (нем.).>. – Я сорвал ленту с его рта. Шлегель вскрикнул, но я прижал острие ножа к его шее, и он умолк. – Имя! – отрывисто произнес я. Я уже давно решил, что немецкий – самый лучший язык в мире для допросов. – Теодор Шелл, – по-английски ответил Шлегель. – Я технический советник сталелитейной компании „Марафон“ в Рио-де-Жанейро, с филиалом в Сао… Ай! Не надо этого делать! Полегче! Я вспорол его майку вдоль спины, запустил лезвие ножа за резинку трусов и разрезал их. Кое-где на его теле выступила кровь. – Ваше имя, – повторил я. От страха Шлегель тяжело задышал. Он ерзал на бочке, его ноги в черных носках тщетно искали опоры в рыхлой почве, лицо еще больше покраснело. – Теодор Шлегель, – прошептал он. – Ваша кодовая кличка? Шлегель облизал губы. – О чем вы? У меня нет никакой… Я провел острием ножа по его ягодицам. Шлегель завизжал. – Можете орать, если хотите, – сказал я. – Вас никто не услышит. Но всякий раз, подняв шум, вы будете наказаны. Визг прекратился. – Ваше кодовое имя? – Салама. – На кого вы работаете – на Абвер или АМТ VI? Толстяк нерешительно замялся. Я переложил пистолет в левую руку, взял правой отвертку и окунул ее лезвие в тавот. – Кто вы? – зашептал Шлегель. – Что вам нужно? Кто вам платит? Хемингуэй? Я заплачу больше. Вы еще не видели деньги… А-а! Господи! Прекратите! Ради всего святого! – Заткнитесь, – велел я и, как только воцарилась тишина, нарушаемая лишь всхлипами Шлегеля, повторил: – Абвер или АМТ VI? – Абвер, – ответил Шлегель. – Пожалуйста, не повторяйте больше этот прием с ножом. Я заплачу вам любые… – Молчать! – Я принюхался. От страха Шлегель обмочил бочку и свои ноги. – Расскажите об Альфредо, – произнес я. – Альфредо? – переспросил Шлегель. – Подождите минуту! Стойте! Да… я вспомнил эту кличку. Альфредо – это Альбрехт Энгельс. Он находится в Бразилии. – А передатчик Альфредо? – Мы называем его „Боливар“. – Вы им пользовались? – Nein… nein! <Нет… нет! (нем.)> Это правда! В прошлом году я потратил двадцать „contos“… тысяч долларов из своих личных денег, чтобы установить передатчик в Гавее. – Имя радиста? – спросил я. – Первым был Георг Кнаппер. Год назад его переправили в Штаты. Теперь со мной работает Рольф Траутманн. „Работал“, – подумал я. Четыре месяца назад Траутманн был арестован в ходе совместной операции ФБР и бразильской полиции, пока Шлегель плавал на „Южном кресте“. – Какова роль гауптштурмфюрера Бекера в вашей нынешней деятельности? – спросил я. Я заметил, как напряглось тело Шлегеля. Какой бы ужас ни внушал ему я, куда больше он боялся Бекера. – Кто? – заговорил было он и тут же вскрикнул: – Нет! Не надо! Матерь божья… Стойте! Остановитесь! Я все скажу! Ради бога, прекратите! Я вынул лезвие отвертки и вытер ее о траву. – Итак, Бекер, – сказал я. – Он работал с нами в Бразилии, – выдохнул немец. Его ноги тряслись. Из-под липкой ленты вытекали слезы, подрагивая на щеках и подбородке. – Откуда он – из Абвера или СД? – спросил я. До сих пор я не задавал вопросов, на которые не имел ответов. – СД. – выпалил Шлегель. – АМТ VI. – Это он возглавляет вашу нынешнюю операцию? – спросил я, приложив нож к спине Шлегеля. – Да, да, да. – В чем она состоит? – ровным тоном произнес я. – Цели, задачи, расписание. Имена агентов. Нынешнее положение дел. – Я не… Да! Нет! Остановитесь! Прошу вас! Я дождался, пока он прекратит всхлипывать. – Операция „Ворон“, – выдохнул Шлегель. – Совместная операция Абвера и СД. Одобрена адмиралом Канарисом и майором Шелленбергом. – Ее смысл? – Проникновение в фонд „Викинг“. Использование… – Проникновение? – переспросил я. – Стало быть, „Викинг“ к ней непричастен? – Нет, они… Ох, прекратите! Это правда! Яхта куплена для них. Мы… я вносил деньги в фонд. Но они думают… они не знают… О господи! Я говорю правду! – Продолжайте. – Мы использовали радиооборудование „Южного креста“ для связи с подводными лодками и Гамбургом, – сказал Шлегель. – Задачи? – спросил я. Шлегель покачал головой. – Я их не знаю. Бекер не… А-а! На сей раз он кричал долго. Я оглянулся через плечо на открытую дверь. У меня не было гарантии, что в переделах слышимости никого нет, но я полагался на глубоко укоренившийся инстинкт самосохранения кубинцев и рассчитывал, что нас не потревожат. – Это правда, – сказал Шлегель, окончательно раскиснув. – Гауптштурмфюрер Бекер ничего не сообщил мне. Мы платили Кубинской национальной полиции, но я не знаю, для чего предназначены деньги. – Кто их получал? – Лейтенант Мальдонадо, – ответил Шлегель, содрогаясь всем телом. – Он передает их вышестоящему начальнику, некому Хуанито Свидетелю Иеговы. Тот, в свою очередь, платит генералу Валдезу. – Предназначение денег? – Не знаю. – Шлегель заранее затрясся, но я не шевельнулся. – Как получилось, что вы не знаете этого, дружище? – Клянусь! Клянусь своей матерью! Гауптштурмфюрер Бекер не доверял мне. – Имена остальных агентов, – произнес я и, на секунду прикоснувшись к спине Шлегеля ножом, переложил его в левую руку и вновь взял отвертку. Шлегель как заведенный мотал головой. – Я знаю только Бекера, нынешнего радиста „Южного креста“. Шмидта… он бывший сержант СС, болван и тупица… и больше никого… Подождите! Прошу вас, не надо! Остановитесь! Я остановился лишь на несколько секунд. К этому времени Шлегелю, должно быть, казалось, что лезвие добирается до его глотки, но пострадала только его гордость. Отвертка была стальная и холодная, но хорошо смазанная. Я подумал о предисловии Хемингуэя к „Мужчинам на войне“. Он похвалялся, будто бы знает, „какова война на самом деле, а не какой ее обычно представляют“. Он не имел об этом ни малейшего понятия. – Кто еще? – спросил я. Мне не терпелось побыстрее покончить с этим делом. – Вы пустили агентов по следу исчезнувшей проститутки. Кто эти люди? Шлегель замотал головой с такой силой, что капли пота с его лица долетели до меня, хотя я стоял в метре от него. – Правду, я говорю вам правду. Я больше никого не знаю. Для поисков девчонки мы привлекали фалангистов… сочувствующих. Но найти ее не удалось. Настоящие агенты в поисках не участвовали. Но должны быть высадки на сушу… одна из них намечена на тринадцатое… Не надо! Стойте! – В чем цель высадок? – спросил я. – Не знаю, клянусь! Это люди Абвера. Двое. Их выбросит подлодка, где-то у кубинского побережья, но где именно, я не знаю. – Зачем? – Я не рассчитывал получить ответ. – Чтобы встретиться с агентами ФБР, – выдохнул Шлегель. Я едва не выронил нож и отвертку. – Продолжайте, – с трудом произнес я после секундной заминки. Шлегель все еще вертел головой. – Я узнал об этом случайно. Поверьте. Гауптштурмфюрер Бекер ничего мне не говорил. Я узнал об этом от кубинца… от лейтенанта Мальдонадо, который сказал, что герр Бекер собирается связаться с ФБР, и после высадки агентов с подлодки эти контакты будут продолжены. – С кем именно из ФБР? – уточнил я. – Не знаю. Клянусь. Не знаю. Пожалуйста, отпустите меня. Прошу вас как мужчина мужчину. Умоляю вас как христианина. – Какова цель встреч с людьми из ФБР? – спросил я. – Прошу „вас. Умоляю. У меня жена. Я хороший человек. Вы не должны… Прекратите! Черт побери! Остановитесь! – Цель? – Я не должен этого знать… но догадываюсь… у нас в Рио прошли слухи… Бекер намекнул, хотя и косвенно… – Шлегель тяжело дышал и молол языком, мешая немецкие, португальские и английские слова. Я терпеливо слушал. – ФБР и Абвер сносятся через посредника, – говорил он. – Слухи об этом ходят уже по меньшей мере год. – И эта высадка каким-то образом связана с ним, – сказал я. – Думаю, да… не знаю. Возможно. Бекер сказал, что это очень важная операция. От нее зависит будущее Рейха. Пожалуйста, отпустите меня. – Кто убил мальчика? – спросил я. – Мальчика? Какого мальчика? – Было очевидно, что он не знает о гибели Сантьяго. – Имена агентов, кроме радиста и Бекера? Шлегель вновь замотал головой. – Подождите… нет, подождите! Подождите, остановитесь! На Кубе есть еще два наших человека. – Кто они? – Я сдерживал тошноту. Было очень жарко, от обугленной стены хижины несло гарью. – Где они находятся? – Не знаю. Это группа ликвидаторов. Группа людей, специально подготовленных для… – Их имена, – повторил я. – Я не знаю имен. Честно. – Хельга Соннеман – агент? – Не знаю… Шлегель вскрикнул, потом еще раз. Обретя наконец дыхание, он сказал: – Клянусь всем святым и моей верой в фюрера, я не знаю их имен. Я не знаю, кто такая Соннеман – агент или просто богатая вздорная сучонка. Я знаю только, что один из ликвидаторов связан с командой Хемингуэя. Бекер постоянно получает от него информацию о ходе любительской операции Хемингуэя. – Его кличка? – Панама. – Кличка его напарника? – Колумбия. – Группа ликвидаторов, – произнес я. – Вы уверены, что она состоит только из двух человек? – Их двое. Это точно. Бекер получает сообщения от двух человек. – Мужчины или женщины? – Не знаю. Клянусь, не знаю. – Кого они намерены ликвидировать? – негромко спросил я. Шлегель опять замотал головой, и капли пота долетели до углей и обгорелых балок. Он нахмурил брови, и серая лента на его глазах сморщилась. – Не знаю. Но, кажется, они до сих пор не получили радиограмму с приказом… завершить выполнение задания. Наконец-то мы добрались до причин всего происходящего. – Дайте мне ключ цифрового шифра, – сказал я. – У меня нет… О господи! Хватит! Прошу вас! – Ключ для шифра, – повторил я. – Вы должны мне поверить. Это шифр Бекера. Он передал его через меня радисту „Южного креста“, но у меня плохая память на цифры, и я забыл… Не надо! Крики постепенно утихли. – Если у вас плохая память, вы должны были где-то записать его, – сказал я. – Если хотите жить, герр Шлегель, то отыщете его для меня в течение десяти секунд. – Нет. Я не могу… Подождите! Да! Он в моем дневнике. На третьей страничке от конца. Там столбик телефонных номеров. Я вынул книжку и нашел нужную страницу. Рядом с фамилиями дельцов из Рио выстроились номера телефонов. В Бразилии использовалась семизначная нумерация. – Пятая строка сверху, – выдохнул Шлегель. – Я был вынужден записать его, чтобы не забыть. – Два-девять-пять, – произнес я. – Один-четыре-один три? – Напряжение, отразившееся на лице Шлегеля, подсказало мне, что он солгал. – Я его проверю, – негромко сказал я. – Вы уйдете отсюда только после проверки. И если он не подходит… Тело Шлегеля обмякло – только этим словом можно описать, что с ним произошло. Казалось, из него вышел весь воздух, он сдулся и превратился в желеобразную оболочку вокруг бочки из-под горючего, смутно напоминающую человека. К своему стыду, я вынужден признаться, что уже видывал такое. – Это тот самый номер, – громко простонал он. – Только его нужно читать наоборот. Я швырнул отвертку в угли, подошел ближе, поднял нож и разрезал ленту на его запястьях, потом сорвал повязку с его опухших красных глаз. Я поднял „люгер“ и сунул его в карман пиджака. Подойдя к двери и посмотрев на канаву, в которой мы нашли труп Сантьяго, я сказал: – Почиститесь. Оденьтесь. Упакуйте свои чемоданы. Десять минут спустя я подвел Шлегеля к машине. Он шагал, словно старик, его тело продолжало содрогаться. Я намеревался напоследок пустить в ход свинцовую трубу, облить Шлегеля виски, доставить его в аэропорт и заплатить какому-нибудь парню, чтобы тот помог моему „подвыпившему приятелю“ не пропустить свой рейс до Рио. Однако отпущенный мне на день запас удачи был израсходован с избытком, а толстому изнеженному Шлегелю и без того пришлось туго. Я знал, что он убьет меня, как только представится удобный случай, но не сегодня. И не слишком скоро. Я отвез его в аэропорт. Всю дорогу он просидел с обвисшими плечами, опустив лицо. Добравшись до места, я вынул его чемоданы из багажника и поставил их на обочину. К деньгам Шлегеля я даже не притронулся. Он стоял, дрожа всем телом и глядя себе под ноги. – Надеюсь, вы понимаете, что за вами будут следить до тех пор, пока вы не займете свое место в самолете. – негромко сказал я. – Если вы кому-нибудь позвоните или заговорите с кем-нибудь, мои люди вернут вас ко мне. Вы поняли? Шлегель кивнул; его лицо по-прежнему было опущено, ноги заметно тряслись. – Садитесь на самолет, – продолжал я. – Летите в Рио. Никогда не возвращайтесь на Кубу. Если вы никому не расскажете о нашей встрече, я тоже буду молчать. Никто не должен знать о нашем с вами разговоре. Шлегель кивнул. Его пальцы тряслись. Я никогда не понимал, зачем таких людей выбирают для шпионской деятельности. Не понимал я и того, почему мы, разведчики, не бросаем свою профессию. – Отправляйтесь домой, – сказал я и, сев в машину, уехал. На Центральном шоссе, ведущем к Сан-Франциско де Паула, я открыл бутылку виски, которым собирался облить одежду Шлегеля. Вместо этого я прикончил большую часть напитка, еще до того как въехал в ворота финки. – Estamos copados, – сказал я. В отличие от Хемингуэя, звук этих слов совсем не нравился мне.Глава 22
Мы нашли труп Сантьяго 8 августа, в субботу. Нелепая драка с Хемингуэем произошла 9 августа, в воскресенье. Я отвез Шлегеля в аэропорт 10 августа, в понедельник. Лейтенант Мальдонадо явился в усадьбу 11 августа, во вторник, накануне того дня, когда мы собирались выйти в море на „Пилар“ ловить агентов, которые должны были высадиться на сушу 13 августа. Большую часть утра Хемингуэй занимался погрузкой припасов на яхту. Он решил, что, помимо Грегори и Патрика, в поход отправятся только Уинстон Гест, Пэтчи Ибарлусия, выздоравливающий Дон Саксон в качестве радиста и незаменимый старший помощник Грегорио Фуэнтес. „Южный крест“ вышел из судоверфей Касабланки для короткого плавания в район Ки-Параисо и должен был до заката вернуться в порт. Закончив погрузку, Хемингуэй отправил „Пилар“ следить за ним. На время своего отсутствия он назначил капитаном Геста, а Саксона посадил за рацию. Сам он остался на берегу смазывать „ninos“ и изучать по картам подходы к Бахия Манати. Он отправил телеграмму Тому Шелвину, получил еще одно подтверждение тому, что миллионер и его скоростной катер находятся в море, и мы решили вечером выехать в Кохимар, чтобы встретить „Пилар“ и подготовить к плаванию „Лорейн“. – Том сказал, что в двигательном отсеке имеются два длинных тайника, – сообщил Хемингуэй. – Остались от времен контрабанды спиртного. Мы можем спрятать там „ninos“, гранаты и одну из винтовок „браунинг“. – Вы берете с собой „браунинг“? – спросил я. – Зачем? – На тот случай, если мы ввяжемся в бой с подлодкой, – ответил писатель. – Если мы ввяжемся в бой с подлодкой, нас уже ничто не спасет, – сказал я.* * *
После обеда в понедельник, воспользовавшись ключом Шлегеля, я за несколько минут расшифровал цифровую радиограмму, перехваченную во время нашего продолжительного похода. Первым делом я выписал текст в том порядке, какого принял: q-f-i-e-n/w-u-w-s-y/d-y-r-q-q/t-e-o-i-o/w-q-e-w-x-d/d-t-u-w-p/ c-m-b-x-x/ Затем я написал над текстом повторяющийся ключ: 3141592314159231415923141592314159 qfienwuwsydyrqqteoiowqewxddtuwpcmb Я не стал спрашивать Шлегея, в каком направлении отсчитывать буквы – вверх или вниз по алфавиту, – но вариантов было всего два, и в процессе расшифровки я быстро определил, что ключ смещает каждую букву вверх на количество позиций, указанное написанной над ней цифрой, а значит, я должен „спускаться“ на столько же букв вниз. Так, три позиции вверх от „q“ дало мне „п“, одна над „f“ – „е“, четыре над „i“ – еще одно „е“, и так далее. Я отбросил две „х“, заполнявшие последние места в заключительной пятерке символов. Теперь послание выглядело так: НУЖНЫ ИНСТРУКЦИИ И ДЕНЬГИ КОЛУМБИЯ И ради этого Шлегель принял мучения, а я утратил остатки чести и достоинства. Однако кое-какую информацию я все же получил. Во-первых, если верить Шлегелю – а я думал, что он рассказал мне все, что знал, – то это сообщение было передано в Гамбург через радиста „Южного креста“. Далее, капитан и экипаж, вероятно, не знали, что эти радиограммы посылаются их коротковолновым передатчиком. Вдобавок я получил подтверждение словам Шлегеля, будто бы на Кубе действует группа ликвидаторов СД из двух человек – Колумбия и некий Панама. Тот самый Панама, который, по утверждению Шлегеля, был связан с операцией Хемингуэя. А его напарник, Колумбия, требовал денег и инструкций. Кто он, этот Панама? Кто связан с „Хитрым делом“ достаточно тесно, чтобы получать надежные сведения о нем? Разумеется, Дельгадо, ведь вся моя информация шла через него. Уинстон Гест? Доктор Сотолонго сказал, что, по его мнению, Гест – британский агент. Что мешает ему быть двойным агентом и работать на немцев? Но мне было трудно представить порывистого, доброжелательного Волфера в роли убийцы из СД. Сам доктор Сотолонго отказывался присоединиться к команде Хемингуэя, но знал об операциях „Хитрого дела“ вполне достаточно, чтобы служить источником сведений. Кто еще? Один из басков? Синдбад, Пэтчи или Роберто Геррера? Черный священник? Кто-нибудь из слуг Хемингуэя, внедрившийся в его окружение много лет тому назад и все это время живший в условиях глубокой конспирации? Я видывал и не такое. Разумеется, этот человек необязательно должен принадлежать к числу близких Хемингуэя. В „Хитром деле“ участвовали более двадцати оперативников, а мер безопасности мы не предпринимали. Убийцей мог оказаться любой швейцар, официант, бродяга или собутыльник Хемингуэя, которого он привлек к своей смехотворной затее. Вполне вероятно, под кличкой Панама скрывается лейтенант Мальдонадо, который мог подкупить кого-нибудь из людей Хемингуэя деньгами, полученными от немцев. В таком варианте Панама мог поставлять Бекеру свежую информацию, не принимая непосредственного участия в повседневных операциях „Хитрого дела“. К тому же мы знали, что Мальдонадо убивал людей Он мог предложить свои услуги Германии и обучиться приемам и тактике ликвидационных групп. Но Мальдонадо не был арийцем. А СД очень тщательно подбирало своих хладнокровных душегубов. Колумбией мог оказаться сам гауптштурмфюрер Бекер. Но Шлегель утверждал, что Бекер получает сведения от обоих ликвидаторов. Если толстяк сказал правду, куда более разумным выглядело предположение о том, что наш приятель Иоганн Зигфрид Бекер возглавляет кубинскую операцию „Ворон“, а Колумбия – другой человек, которого я, вполне возможно, никогда не видел и о котором ничего не слышал. Двое убийц из РСХА СД АМТ VI ждут инструкций, ждут, когда их спустят с поводка, ждут приказа из Гамбурга или Берлина настичь свою жертву или жертв. Кто же их жертва? До сих пор мы имели два трупа: Кохлера, бывшего радиста „Южного креста“, и несчастного Сантьяго. У обоих были перерезаны глотки. Казалось вероятным, что Кохлера убил Мальдонадо, а мальчик следил за ним за день до своей гибели. Может быть, в данном случае СД пренебрегло своими расовыми предпочтениями. Наконец, был еще один фактор, который – я надеялся на это – оправдывал мучения, выпавшие на долю Шлегеля. Если по возвращении в Рио он не связался с Бекером – а Шлегель вряд ли захочет рассказывать о допросе и признаваться в том, что выдал агентов СД. – то Бекер и его ликвидаторы полагают, что их цифровой код не раскрыт. По меньшей мере несколько дней мы сможем перехватывать и расшифровывать их секретные радиограммы. „Несколько дней – все, что нам нужно“, – подумал я. В этот самый миг во флигель ворвалась Мария. Ее глаза были широко распахнуты от ужаса, голос дрожал так сильно, что я едва разбирал ее слова. – Хосе, Хосе, он здесь! Он пришел за мной! Он пришел, чтобы убить меня! – Успокойся! – Я схватил ее за плечи и встряхнул, чтобы она перестала закатывать глаза и дышать, словно загнанная лошадь. – О ком ты говоришь? – О лейтенанте Мальдонадо, – выдохнула девушка. – О Бешеном жеребце. Он в главном доме. Он приехал, чтобы забрать меня! В последнее время я держал свой пистолет за поясом. Я хотел дать его Марии на то время, пока пробуду в главном Доме, но мне не улыбалось столкнуться с Мальдонадо невооруженным. Я вышел в спальню флигеля и взял с ночного столика „люгер“ Шлегеля. Втолкнув Марию в ванную, я сунул ей пистолет, вложил в рукоятку обойму 9-миллиметровых патронов, дослал один в ствол и снял предохранитель. – Оставайся здесь, – велел я. – Запри дверь. Если Мальдонадо или другой чужак попытается войти, наведи на него пистолет и нажми спусковой крючок. Но, прежде чем стрелять, убедись, что это не я и не Хемингуэй. Мария негромко всхлипывала. – Хосе, я не знаю, как пользоваться таким… – Просто наведи пистолет и нажми спуск, если перед тобой окажется враг, – сказал я. – Но сначала убедись наверняка, что это действительно враг. Я вышел из ванной и ждал у двери, пока Мария не заперла ее. Потом я отправился в главную усадьбу.* * *
Еще никогда я не видел Хемингуэя таким разгневанным, даже в тот день, когда мы подрались. Он стоял в дверях, преграждая путь Мальдонадо и еще трем кубинцам в форме. От, его лица отхлынула кровь, губы побелели, он стискивал кулаки с такой силой, что я невольно поморщился, увидев, как костяшки его пальцев то краснеют, то белеют. – Сеньор Хемингуэй, – говорил лейтенант, мельком посмотрев на меня, когда я появился из-за спины писателя, и более не уделяя внимания моей персоне, – мы приносим извинения за то, что вторгаемся… – Никакого вторжения не будет, – бросил Хемингуэй. – Вы не войдете в этот дом. – К сожалению, мы обязаны это сделать, дон Эрнесто, – сказал Мальдонадо. – Мы облечены соответствующими полномочиями. К нам поступили данные о том, что в этом районе находится некая молодая женщина, подозреваемая в убийстве, и мы осматриваем все дома, в которых она может… – Вы не будете осматривать этот дом, – перебил его Хемингуэй. Их препирательства все больше смахивали на комедию. Мальдонадо говорил на английском, которого, вероятнее всего, не понимали его подчиненные. Хемингуэй отвечал официальным тоном по-испански. Всякий раз, когда он давал отпор Бешеному жеребцу, брови трех полицейских от изумления приподнимались чуть выше прежнего. Я и забыл, насколько высок Мальдонадо. На вид в нем было около двух метров роста, и казалось, что его тело состоит из одних костей и хрящей. Все черты его лица выглядели преувеличенными – вытянутый подбородок, массивные брови, скулы, отбрасывающие тени на щеки, – и даже усы казались гуще и длиннее, чем у обычного человека. Как правило, лейтенант ходил в гражданском, но сегодня на нем была полная форма, и, разговаривая с Хемингуэем, он цеплялся шишковатыми большими пальцами за черный пояс с кобурой. Он держался невозмутимо, словно забавляясь возникшей перепалкой, и это ввергало писателя в бешенство. На Хемингуэе были те же грязные рубашка и шорты, что в день нашей драки, но теперь за его широким поясом торчал револьвер. Казалось, Мальдонадо не замечает оружия, но три его спутника не сводили с револьвера глаз. Я опасался, что вызывающие манеры лейтенанта и его безупречный английский доведут Хемингуэя до такого каления, что он выхватит свой мелкокалиберный пугач и у дверей финки начнется перестрелка. Я подумал, что, если это произойдет, мне придется сначала уложить Мальдонадо, а уж потом взяться за его подручных. Я сомневался, что шестимиллиметровый револьвер Хемингуэя помешает Мальдонадо вынуть из кобуры свой крупнокалиберный „кольт“ и выстрелами вбить писателя внутрь дома до самой столовой. „Настоящее безумие“, – подумал я. Что за бесславный конец для опытного агента ОРС – погибнуть в перестрелке с кубинским полицейским! – Сеньор Хемингуэй, – говорил тем временем лейтенант, – мы произведем осмотр как можно быстрее и незаметнее… – Ничего подобного, – по-испански изрек Хемингуэй. – Никакого осмотра не будет. Этот дом и участок принадлежат Америке… это территория США. Мальдонадо моргнул. – Вы шутите, сеньор? – Я совершенно серьезен. – Один взгляд налицо писателя мог кого угодно убедить в том, что он сказал. – Однако, в согласии с международным законодательством, территорией США на кубинской земле являются только посольство Америки, а также военные базы Гуантанамо и Камагуэй, – спокойно возразил лейтенант. – Чушь, – по-английски заявил Хемингуэй и вновь перешел на испанский: – Я гражданин Соединенных Штатов. Это мой дом, моя собственность. Он находится под защитой законов США. – Однако, сеньор, в данном случае суверенитет Кубы… – Плевать мне на суверенитет Кубы, – отрезал Хемингуэй. Он внимательно смотрел в глаза Мальдонадо, словно верил в древнее правило дуэлянтов, будто бы глаза соперника выдают его намерение выхватить оружие. Его последнее заявление рассердило трех полицейских. Их руки метнулись к кобурам, висевшим на поясах. Мне стало любопытно, собирается ли Хемингуэй следить и за их глазами тоже. Сам я не отрываясь смотрел на правую ладонь Мальдонадо, лежавшую на ремне рядом с пистолетом. Лейтенант улыбнулся. У него были крупные безупречные зубы. – Я понимаю, что вы взволнованы, сеньор Хемингуэй. Мы не хотели вас оскорбить, но наш долг… – Тем не менее я оскорблен, лейтенант. Этот дом – американская собственность, и, вторгшись в него без разрешения, вы тем самым нарушили бы границы США, в то время, когда моя страна находится в состоянии войны. Мальдонадо поднял правую руку и потер свой длинный подбородок, словно пытаясь найти способ вразумить „gringo“. – Но если бы все иностранцы, проживающие на Кубе, объявили свои дома территорией их государств, сеньор, то… – Я говорю только о себе, – бросил Хемингуэй. – Я американский гражданин, участвую в осуществлении военных мероприятий, непосредственно возглавляемых послом США Спруиллом Браденом, полковником морской пехоты США Хейном Бойденом и руководителем военно-морской разведки США в Южной Америке полковником Джоном Томасоном-младшим. Незаконное проникновение в мой дом будет считаться актом войны. Казалось, лейтенант не знает, как ему быть с этой высокопарной демагогией. Трое его спутников держали руки на пистолетах и смотрели на своего рослого предводителя, ожидая знака. – Я сознаю, что сейчас непростые времена, сеньор Хемингуэй, и хотя наше право осмотреть ваш дом в поисках подозреваемой в убийстве неоспоримо, – заговорил Мальдонадо, – мы не желаем нарушать ваш покой и оскорблять чувства столь знаменитого гостя и друга Республики Куба. Мы готовы с пониманием отнестись к требованию о неприкосновенности вашего жилища, если вы дадите слово, что там нет разыскиваемой женщины, и ограничим свой осмотр прилегающими участками и дворовыми постройками. Трое полицейских с изумлением внимали потоку английских слов из уст своего начальника. – Я могу обещать только то, что, ступив на мою землю, вы и ваши люди будете расстреляны как нарушители частных владений, – сказал Хемингуэй, смерив Мальдонадо взглядом. Несколько мгновений они не мигая смотрели друг на Друга. Лейтенант чуть заметно кивнул. – Очень хорошо, сеньор. Мы уважаем ваши чувства и понимаем ваше стремление к уединению в эти тревожные времена. Если вы что-либо узнаете о женщине, которую мы ищем, либо увидите ее, свяжитесь со мной по… – Прощайте, джентльмены, – сказал Хемингуэй, только теперь перейдя на английский, и шагнул вперед, готовясь захлопнуть дверь перед носом у незваных гостей. Мальдонадо улыбнулся, отступил, кивком позвал спутников за собой и двинулся к зеленому „Шевроле“, стоявшему на подъездной дорожке. Хемингуэй закрыл дверь и подошел к окну убедиться, что они уехали. Я хотел сказать что-нибудь шутливое и разрядить обстановку, но, заметив бледность его лица и сжатые кулаки, передумал. Было совершенно очевидно, что, вздумай Мальдонадо переступить порог дома, Хемингуэй выхватил бы револьвер и открыл пальбу. – Я уверен, что это он убил Сантьяго, – прошептал писатель. Я промолчал. – Я отправил Дикарку во флигель, – сказал Хемингуэй, в первый раз посмотрев на меня. – Спасибо, что пришел. Я пожал плечами. – Это у тебя пистолет торчит или ты так рад меня видеть? – спросил он. Я распахнул полы пиджака и показал ему оружие, заткнутое за пояс. – Вы не устаете меня удивлять, специальный агент Лукас– Хемингуэй подошел к столику с бутылками, стоявшему рядом с цветастым креслом, и смешал себе „Том Коллинз“. – Хотите выпить, специальный агент Лукас? – Нет, спасибо, – ответил я. – Пойду скажу Марии, что они ушли. Хемингуэй пригубил коктейль и посмотрел на картину, висевшую на ближней стене. – Пожалуй, хватит так ее называть. – Как? – Дикаркой, – ответил Хемингуэй. – Девчонке угрожает реальная опасность. Ее действительно хотят убить. Я кивнул и отправился в обход бассейна к флигелю. Войдя в спальню, я окликнул Марию по имени, занес руку, чтобы постучать в ванную, подумал, отодвинулся в сторону от двери и постучал. Девятимиллиметровая пуля пробила дверь на уровне лица, вошла в стену чуть выше кровати и, возможно, пробила одну из пальм, окружавших главную усадьбу. – Черт побери, Мария! – рявкнул я. – Ох, Хосе, Хосе! – воскликнула проститутка. Распахнув дверь, она бросилась мне в объятия. Я вырвал у нее „люгер“ и успел поставить его на предохранитель, прежде чем Мария упала мне на грудь. Я едва подавил желание закатить ей оплеуху. Одно дело – погибнуть в дурацкой перестрелке с болванами из Кубинской национальной полиции и совсем другое – быть застреленным по ошибке кубинской шлюхой. Я не мог сказать, какое из этих событий больше повеселило бы моих бывших приятелей по Бюро. Я втолковал Марии, как Хемингуэй отделался от полицейских, что Бешеный жеребец и его придурки ушли, и, возможно, навсегда. Мария продолжала истерично рыдать. – Нет, Хосе, нет! – кричала она, превращая мою рубашку в мокрую тряпку. – Они вернутся. Они опять придут сюда. Они придут за мной. Завтра ты, сеньор Хемингуэй, его дети, вонючие матросы и все остальные уйдете на яхте сеньора Хемингуэя, и здесь некому будет присмотреть за мной, кроме сумасшедшего повара Рамона и шофера Хуана, который терпеть меня не может, но хочет затащить в постель, и тогда Бешеный жеребец вернется, и они изнасилуют меня и убьют за то, что сделала не я, а сам Бешеный жеребец, и потом вы вернетесь, и я уже не буду ждать тебя в доме, как каждый вечер, и тогда вы спросите – где Мария? А Мария уже будет мертвая и холодная, и… – Мария, – негромко произнес я, сжимая ее руки. – Мария, дорогая. Будь добра, заткни свою пасть. Она ошарашенно посмотрела на меня. – Я поговорю с сеньором Хемингуэем, – пообещал я. – Он возьмет тебя на яхту вместе с нами. – Ах, Хосе! – воскликнула проститутка и обняла меня так крепко, что мои многострадальные ребра едва не хрустнули.* * *
Вторая половина дня была наполнена хлопотами и наставлениями. Хемингуэй пригласил Марию пообедать в главном доме, и юная шлюха, отчаянно зардевшись, приняла его приглашение и побежала в „Первый сорт“ за своим лучшим платьем. Она страшно разволновалась, когда я сказал, что не буду обедать с ними – Хемингуэй меня не пригласил, – но обрадовалась, когда я добавил, что упакую ее вещи в рюкзак вместе со своими. Прежде чем отправиться на обед, Мария собрала свой скромный запас одежды, позаимствованной у Марты, расческу, косметичку и запасные сандалии. Когда она ушла, я аккуратно уложил их и заглянул в небольшую коробку, в которой она хранила свои пожитки. Ничего ценного там не оставалось. Потом я около часа бродил по усадьбе, осматривая „трупный колодец“ на вершине холма, ветхие постройки за заросшим теннисным кортом, навес, под которым хранились принадлежности для бассейна, гараж и односкатный сарай на его задах. Затем я вернулся в „Первый сорт“, обошел коровники и заглянул на сеновалы. Лейтенанта Мальдонадо и его людей нигде не было. Под гниющей соломой в дальнем углу одного из сеновалов я обнаружил продолговатый сверток, упакованный в парусину. Захватив его с собой, я поехал в Кохимар, чтобы осмотреть „Лорейн“ и погрузить на борт припасы. Мы собирались сделать это позже вечером, после возвращения „Пилар“, но Хемингуэй решил, что будет лучше вывести катер из порта при дневном свете и оставить его у частной пристани в старом прибрежном городке Гуанабо в десяти милях к северу. В Кохимар меня повез Хуан – он должен был ехать дальше в Гуанабо и взять меня там. Хуан был мрачен и молчалив, что устраивало меня как нельзя лучше, поскольку я и сам не хотел вступать в разговоры. Всю дорогу я провел в размышлениях. По прибытии на пристань Шелвина я велел Хуану отдохнуть в тени машины, пока я буду переносить вещи с заднего сиденья и из багажника на катер. „Лорейн“, великолепное восьмиметровое судно ручной работы с корпусом из красного дерева и хромированной стали, с кожаными сиденьями в рубке, отделанной дорогостоящими материалами, было сработано на американских верфях „Додж“ в середине 20-х годов, когда малое судостроение переживало времена наивысшего расцвета. К счастью, Шелвин заменил почти все механические устройства новейшими образцами: восьмицилиндровый V-образный двигатель „лайкоминг“ был выпущен всего два года назад и содержался в идеальном порядке, корпус недавно очистили от ракушек, рулевой механизм был модернизирован, на приборной панели красовался новенький магнитный компас, рядом с ветровым стеклом был установлен мощный прожектор-искатель. Ради удобства пассажиров Шелвин перепланировал катер, сместив двигательный отсек к корме и превратив две каюты в единое просторное помещение с кожаной обивкой. Никто, кроме Хуана, не видел, как я загружаю катер. Помимо парусинового свертка, я поднял на борт тяжелые коробки с продовольствием, шестигаллоновые канистры с питьевой водой, три больших ящика ручных гранат – Хемингуэй настойчиво продолжал называть их „фугасами“ – и два автомата Томпсона в „люльках“ из овечьих шкур. Хемингуэй потребовал погрузить дюжину запасных обойм для „ninos“, и я послушно принес их на катер и уложил на место. Все эти предметы я запер в правом кормовом тайнике, о котором нам рассказал Шелвин. Не зная заранее, что скрывается за длинными панелями позади сидений в рубке, тайники было невозможно обнаружить. В тайник левого борта я уложил шляпы-сомбреро, взятые с „Пилар“, два рулона зеленого брезента и один коричневый, пятьдесят метров бельевой веревки, несколько морских карт в картонных тубусах, парусиновые жилеты, запасные палубные туфли и другую одежду. Также я спрятал там армейскую аптечку, сверток запечатанных хирургических накидок, свой „магнум“ и шестьдесят патронов в непромокаемом мешке, две бутылки репеллента, два бинокля из финки, два мощных фонаря, маленький фотоаппарат „лейка“, два охотничьих ножа, две брезентовых сумки с лямками и пульверизатор, заряженный „флитом“. Поднявшись на причал, я устроил трап из двух широких досок и велел Хуану помочь мне закатить в рубку две пятидесятигаллоновые бочки горючего. Шофер недовольно заворчал, но все же помог мне установить тяжелые емкости у переборок, не поцарапав красное дерево и не испачкав кожу. Хуан отправился в машину выкурить сигарету, а я при помощи веревки закрепил бочки так, что они не сдвинулись бы с места даже в сильную волну. Запас горючего нарушил безупречную осадку катера, который заметно накренился на корму, но с этим ничего нельзя было поделать Убедившись, что все погружено и надежно принайтовлено, я махнул Хуану рукой, вынул из кармана ключ зажигания и запустил 125-сильный „лайкоминг“. Двигатель торжествующе взревел. Поставив его на холостые обороты, я собственноручно отдал носовые и кормовые концы, устроился в роскошном кожаном кресле, круто вывернул влево изящный деревянный штурвал автоматического рулевого управления системы „дизенберг“ и начал пробираться в плотном потоке возвращающихся рыбацких посудин, хозяева которых взирали на катер со смесью презрения и зависти. Оказавшись за волноломами, я пришпорил двигатель так, что стрелка тахометра вплотную приблизилась к красной черте. Катер тут же взмыл над водой, с легкостью ножа рассекая гребни невысоких волн. Корпус задрожал, но опасной вибрации не было Я чуть убавил обороты, но так, чтобы судно продолжало глиссировать. После жарких, душных, почти безветренных дней на суше я с радостью подставлял лицо потоку воздуха. Я поймал себя на мысли о том, что, будь у меня неограниченный запас топлива, я мог бы целыми сутками носиться по морю, делая тридцать пять узлов в час. Я прикрыл дроссельные заслонки, опуская на воду изящный нос катера, и лег на курс к востоку вдоль берега. Холмы и поля в окрестностях финки „Вихия“ там, где не выращивались орхидеи, были бесплодными, засушливыми, практически лишенными деревьев; но эта часть побережья к востоку от Кохимара, если смотреть на нее с моря с расстояния в полмили, казалась настоящим тропическим раем – длинные белые полоски пляжей, полумесяцы песчаных дюн, отбрасывавших тень на заросли винограда, ряды колышущихся кокосовых пальм, сверкавших золотом и зеленью в лучах предзакатного солнца. В Гуанабо не было порта, только плавный изгиб бухты, в центре которого утопал в зелени пальм старый городок, а у концов протягивались шеренги белоснежных бунгало Эти коттеджи выстроили в 20–30 годах, чтобы справиться с наплывом североамериканских туристов, но теперь краска на них облупилась, большинство стояли пустые с заколоченными окнами, дожидаясь окончания войны. Я бросил якорь у частной пристани на восточном краю бухты. Рубку „Лорейн“ полагалось закрывать особым тентом, и мне потребовалось немало времени, чтобы натянуть его при помощи бесчисленных хромированных крючков и эластичных петель. Пристань и склад рыбацкого снаряжения на ней принадлежали старому приятелю Хемингуэя, и он заверил меня, что прекрасный катер будет здесь в целости и сохранности. Я расплатился с ним долларовой купюрой и приветами от сеньора Хемингуэя. Некоторое время спустя появился Хуан на „Линкольне“, и мы поехали в финку в молчании, нарушаемом только раскатами грома в сумеречном небе, по которому приближались грозовые тучи. Мария была счастлива видеть меня, она предвкушала завтрашнее приключение, но самую большую радость ей принесли обед и долгая беседа с сеньором Хемингуэем. Писатель только что уехал в Кохимар, чтобы встретиться с сыновьями и приятелями, и мы с Марией наскоро поужинали в „Первом сорте“, наблюдая за вспышками молний на западе. Невзирая на приподнятое настроение, девушка призналась, что до сих пор боится возвращения Мальдонадо, и подпрыгивала на месте при каждом ударе грома. После того как была вымыта посуда и зажжены лампы, она отправилась к двери. – Куда ты, Мария? – На свою обычную вечернюю прогулку, Хосе. – Ты не боишься Бешеного жеребца? Мария улыбнулась, но в ее взгляде, брошенном в сторону темного двора, угадывалась тревога. – К тому же, – продолжал я, – у нас есть более приятные дела, чем прогулка. Вероятно, нам несколько дней не удастся побыть наедине. Глаза Марии расширились. Любовная инициатива практически неизменно исходила от нее. – Хосе, – прошептала она. Я подошел к ней, запер дверь и понес девушку к нашим сдвинутым кроватям.Глава 23
Поход начался радостно и оживленно, ни дать ни взять семейная прогулка в солнечный денек. Однако еще до его конца один из нас погибнет в открытом море, а мне придется выковыривать пули из позвоночника трупа. Хемингуэй снял „Пилар“ с якоря утром в среду, сразу после восхода солнца. Все члены экипажа, кроме меня, пребывали в радужном настроении – с Марией и обоими мальчиками на борту плавание напоминало воскресный пикник. Это впечатление лишь усиливала толпа рыбаков и приятелей, которые собрались на причале и махали руками, провожая „Пилар“ в путь. Среди них были Роберто Геррера, его брат доктор Сотолонго, Синдбад и Фернандо Меса; на берегу остались и другие члены команды, а также Черный священник дон Андрее и кучка завсегдатаев „Ла Терреса“, которые завтракали „КровавойМэри“. Марии понравилась яхта, но она боялась моря. Она призналась Папе, что не умеет плавать, что ее младший брат утонул на рыбачьей лодке неподалеку от Порт-Сантьяго и что ей будет лучше всего сесть в самой середине „Пилар“ и молить Пресвятую Деву, чтобы та посылала нам хорошую погоду на протяжении всего плавания. – Хорошо, дочка, – ответил Хемингуэй. – Ты молись, а я буду поглядывать на барометр. Нам очень нужна хорошая погода. Как только мы вышли в море, Патрик и Грегори взяли молодую проститутку под свое покровительство. Думаю, мальчики даже не догадывались, кто она такая и откуда взялась, и попросту сочли ее „еще одной симпатичной приятельницей папы“. Перебивая друг друга, они знакомили ее с устройством яхты, показывали рыбацкие снасти и свои остроги. Их испанский был далек от совершенства, однако ошибки в грамматике и синтаксисе с лихвой возмещались воодушевлением. – Когда мы доберемся до Кейо Конфитес, – услышал я голос Патрика, – я возьму вас на рыбалку с острогой. – Но я не умею плавать, – возразила Мария. Патрик рассмеялся, и я понял, что он, как и его младший брат, влюбился в гостью. – Чепуха, – заявил он. – В лагуне за рифом такая соленая вода, а волны такие слабые, что там невозможно утонуть. Достаточно надеть маску и опустить лицо в воду. – Если хотите, можете надеть спасательный жилет. – Грегори вступил в разговор, невзирая на недовольные гримасы брата, который явно пытался его оттеснить. – Но плавать в жилете труднее, – продолжал он, явно наслаждаясь обществом Марии. – Там есть акулы? – спросила девушка. – Да, их там десятки, – оживленно произнес Грегори, – но они редко заплывают за риф Кейо Конфитес, и только ночью. Я буду рядом с вами и сумею вас защитить. – Подвесив на пояс окровавленную рыбу, чтобы привлечь акул, – подал голос Патрик. Грегори сердито воззрился на старшего брата, но Мария лишь улыбнулась и спросила: – А барракуды там встречаются? – Барракуды нас не трогают, – сказал Патрик, вновь перехватывая инициативу. – Они могут наткнуться на вас, только если вода слишком мутная. Или если не сумеют хорошенько разглядеть вас и нападут по ошибке. Мы не охотимся с острогой, если вода замутнена. – Барракуды очень любопытны, – добавил Грегори. – Они все время кружат поблизости, но в конце концов уплывают. Они никогда не нападают на людей. – Разумеется, если на лезвии вашей остроги не висит рыба, – уточнил Патрик, продолжая вышучивать брата. – Или на вашем поясе. Но кому придет в голову такая глупость – вешать на пояс истекающую кровью рыбу? Грегори пропустил его слова мимо ушей. – Вы можете плавать со мной и Мышонком, Мария. В таком случае вам нечего бояться. Мария рассмеялась и встряхнула темными волосами: – Спасибо вам, спасибо вам обоим. Но я не умею плавать и буду сидеть на острове и смотреть, как вы поймаете и изжарите рыбу. – Никакой это не остров, – заявил Патрик. Он все еще злился на брата и был явно раздосадован тем, что гостья не хочет с ним купаться. – Это крохотный убогий клочок земли. – Слово „убогий“ он произнес по-английски. Мария кивнула и улыбнулась.* * *
„Пилар“ задержалась у входа в бухту Гуанабо, и мы с Хемингуэем поплыли к причалу на „Крошке Киде“. Маленький мотор фыркал и захлебывался, но все же работал, и шлюпка рассекала невысокие волны, словно паря над прозрачными водами бухты. – Вчера ты забыл погрузить вот это, – сказал Хемингуэй, хлопнув по длинному предмету, завернутому в два дождевика. Я откинул край одного из плащей. Винтовка „браунинг“. Хемингуэй толкнул ногой ящик с патронами. Я кивнул, смиряясь с тем, что нам придется тащить с собой тяжелое оружие. – Если не испортится погода, ты доберешься до Конфитеса раньше нас, – продолжал писатель. – Только не вздумай обыскивать Пойнт Рома в одиночку. – Ни за что, – отозвался я. Хемингуэй, прищурясь, оглянулся на „Пилар“, огибавшую мыс. Ее зеленый корпус блестел на солнце. Мальчики усадили Марию в кресло на корме и учили ее ловить рыбу. – Мне было бы гораздо спокойнее, если бы ты взял Дикарку с собой на „Лорейн“. Я предлагал ей, но она так боится воды, что отказалась плыть на катере. И, кажется, вы обещали больше не называть ее Дикаркой. Хемингуэй пожал плечами. Подведя шлюпку к пристани, он завел любезную беседу со стариком, а я тем временем снял с катера тент, спрятал „браунинг“, не снимая с него плащей, убрал подальше ящик с патронами, проверил насос и шланг для перекачивания горючего из запасных бочек и отвязал кормовой конец. Хемингуэй снял с тумбы петлю носового каната и выпрямился, глядя на меня. На нем была старая расстегнутая спереди охотничья рубашка с закатанными рукавами. Его предплечья и грудь лоснились от пота. Он казался загорелым дочерна. – Что ты сказал девчонке об этом путешествии? – спросил он. – Ничего. Только предложил плыть с нами. Писатель кивнул. – У меня на „Пилар“ две брезентовые палатки. Когда мы доберемся до Конфитеса, Грегорио поставит их, и Мария с мальчиками укроются внутри, пока Волфер и остальные будут заниматься… научными изысканиями. Я кивнул и посмотрел на „Пилар“. Парусина, ограждавшая ходовой мостик до уровня пояса, была скатана в рулон, а на ее месте красовались две широкие доски с надписью двадцатисантиметровыми буквами: „МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ“. – Не давайте Саксону заснуть, – сказал я. Морской пехотинец имел привычку клевать носом в раскаленной радиорубке, и мне не хотелось, чтобы он пропустил передачи. – Ага. – Хемингуэй прищурился и посмотрел на восток. В небе по-прежнему не было ни облачка. – Завтра утром мы отправим Волфера и остальных искать подлодки к северо-востоку от Конфитеса. Им ни к чему встречаться с „настоящей“ субмариной. Я невольно улыбнулся. Хемингуэй бросил мне свернутый канат. – Не сломай катер Тома, Лукас, – велел он и отправился к „Крошке Киду“. Я вывел „Лорейн“ из бухты на умеренной скорости и, оказавшись за мысом, лег на восточный курс. Хемингуэй был уже на полпути к „Пилар“. Патрик, Грегори и Мария помахали мне с кормы яхты. Я чуть приоткрыл дроссельные заслонки, и „Лорейн“ поднялась над водой. Эти трое больше всего напоминали загорелых детишек, радующихся морской прогулке.* * *
Лейтенант-кубинец и его люди обрадовались тому, что проведут нынешний вечер в компании, но появление женщины на острове смутило их. Пока Фуэнтес и остальные ставили старые охотничьи палатки, они скрылись в бараке, а когда появились вновь, на них по-прежнему были лохмотья, зато самые лучшие и чистые. Мария разговорилась с ними на пулеметном кубинском диалекте, а мы тем временем перенесли на берег коробки с провизией и кухонными принадлежностями. За минувшую неделю лейтенант не заметил ничего подозрительного и видел лишь несколько лодок-плоскодонок. Из Гуантанамо передали по радио, что три дня назад пост береговой охраны обстрелял к западу от Камагуэя подводную лодку, и лейтенант поднял своих людей по тревоге, объявив Кейо Конфитес угрожаемой зоной, но этим все и ограничилось. Хемингуэй поблагодарил его и солдат за бдительность при несении службы и пригласил к ужину. После заката, когда ветер отнес к юго-западу самые большие тучи москитов, Фуэнтес разложил огромный костер и начал поджаривать на углях куски мяса и запекать картофель. У нас было в достатке свежей зелени, и на сей раз Гест не забыл взять пиво. На десерт Фуэнтес испек лаймовый пирог, и после того, как с ним было покончено, каждый получил бутылочку виски, даже мальчики и Мария. В полночь кубинцы отправились спать, но мы еще около часа сидели и лежали на бревнах плавника, разглядывая искры, которые поднимались от костра и плыли среди созвездий, и беседовали о войне и подводных лодках. Когда мы говорили по-английски, на лице Марии отражалось непонимание, но она не переставала улыбаться и, по всей видимости, от души наслаждалась происходящим. – Когда настанет утро, – сказал Хемингуэй Волферу и Пэтчи, – вы отправитесь на „Пилар“ к Мегано де Казигуа. Смотрите в оба, ищите подводные лодки, а Саксон пусть не снимает наушников и ловит передачи субмарин, предназначенные для „Южного креста“ и агентов на Кубе. Сегодня он поймал лишь несколько немецких фраз откуда-то с севера. – Я надеялся увидеть „Южный крест“ по пути сюда, – сказал Гест. – Когда его заметили в последний раз, он шел в этом направлении. – Может быть, вы увидите его завтра, – отозвался Хемингуэй. – Если он вам попадется, идите за ним следом, не стесняйтесь. – А если на нем плывет сеньорита Хельга? – спросил Пэтчи, салютуя нам бутылочкой виски. – Не стесняйся и трахни ее вместо меня, – сказал Хемингуэй и тут же умолк, словно провинившийся мальчишка. Он посмотрел на девушку, но, по всей видимости, запас английских слов Марии не включал в себя основные термины ее профессии. – Как бы то ни было, – продолжал писатель, – мы с Лукасом отправимся на красотке Тома Шелвина мимо Пуэрто де Нуэвитос за Кейо Сабинал и осмотрим тамошние реки и протоки, нанесем район на карту и поищем места, пригодные для заправочных баз. Фуэнтес потер подбородок. – Странно, что сеньор Шелвин дал вам свой катер для такого дела. – Том такой же искатель приключений, что и мы, – сказал Хемингуэй, – и был рад оказать мне эту услугу. – Он посмотрел на Геста поверх угасающего костра. – Волфер, обеспечь мальчиков и Марию припасами на завтрашний день и всем необходимым для рыбалки с острогами. Гест кивнул. – Я оставлю им „Крошку Кида“, а лейтенант обещал присмотреть за ребятишками до нашего возвращения вечером. – Мы с Лукасом разобьем лагерь где-нибудь у Пуэрто Тарафа, – солгал Хемингуэй. – Увидимся утром в пятницу. Не отправляйтесь в патруль до тех пор, пока мы не вернемся. „Если вернемся“, – подумал я.* * *
Мы двинулись в путь до восхода. Хемингуэй заглянул в палатку к спящим сыновьям, и мы поплыли на „Крошке Киде“ к „Пилар“ и „Лорейн“, стоявшим на якоре. Утро было ветреное и на редкость холодное для нынешнего лета. Накануне вечером Фуэнтес долго возился с „Пилар“, и только бросив носовой и два кормовых якоря, уверился, что утренний ветер не тронет ее с места. „Лорейн“ же колыхалась и подпрыгивала на своем единственном якоре, будто собака, рвущаяся с поводка. Хемингуэй встал за штурвал и вывел катер в открытое море. На нем была та же охотничья рубашка, что вчера, а свою кепку с длинным козырьком он надвинул на самые глаза. Он держал малые обороты, чтобы не разбудить мальчиков. Когда мы шли мимо „Пилар“, на палубу вышел Фуэнтес и отдал хозяину честь, приложив к виску два пальца. Хемингуэй ответил на приветствие, и, как только мы оказались по ту сторону рифа и врезались в высокие волны, двигатель громко взревел. Писатель посмотрел на компас, положил катер на курс 100 градусов и опустил запястье на штурвал. – Мы взяли все, что нужно? – спросил он. – Да. – Ночью, пока все доедали ужин, я побывал на „Лорейн“ и проверил груз. Все было на месте. – Нет, не все, – сказал Хемингуэй. – Что же мы забыли? Хемингуэй оглянулся на корму, сунул руку в нагрудный карман рубашки, вынул оттуда две короткие толстые пробки и протянул мне одну из них. Я вскинул брови. – Затычки для задниц, – сказал он и повернулся к солнцу, встававшему из-за горизонта.* * *
Мы двигались к востоку архипелага Камагуэй по самому краю Гольфстрима, так, чтобы земля была едва видна на горизонте. Ветер и волнение оставались достаточно сильными, но солнце проникало сквозь разрывы в облаках, и день был очень жарким. Перед поворотом на юго-запад к Бахия Манати и Пойнт Рома я вынул из водонепроницаемого чехла бинокль и оглядел северный горизонт. – Что ты там выискиваешь, Лукас? – „Keyo Cedro Perdido“. Хемингуэй фыркнул. – Ты верно определил направление, но неудачно выбрал момент. Сейчас время самого высокого прилива. Остров Потерянной свиньи ушел под воду. Все из-за этого маленького мерзкого рифа. – Да, – сказал я. – Именно в этом я и хотел убедиться. Хемингуэй положил катер на курс 160 градусов, и набегающие волны начали бить нам в корму и левый борт. При меньшей тяге мы ощутили бы тошнотворную качку, но Хемингуэй открыл дроссельные заслонки ровно настолько, чтобы „Лорейн“ рассекала волны, не тратя слишком много горючего. Как только мы покинули голубые воды Гольфстрима, я посмотрел на север. Где-то там, на перископной глубине, сотни мужчин теснятся в холодных длинных отсеках, пропитанных сыростью и вонью пота, солярки, кислой капусты и грязных носков. Они провели в темноте многие недели, их кости и черепа сотрясает непрерывная вибрация машин и клапанов, двигающих лодку, их кожа зудит после долгих дней без мыла и бритвы, уши уже не замечают стонов и скрипа стального корпуса под давлением воды. Они проводят дни напролет в ледяных глубинах, всплывая лишь по ночам, чтобы подзарядить аккумуляторы и глотнуть свежего воздуха. Только капитану и старшему помощнику позволено смотреть в перископ, чтобы определиться по береговым ориентирам или сблизиться с жертвой. Остальные слушают и в молчании ждут приказов – занять места по боевому расписанию, выпустить торпеды – и потом опять ждут характерных звуков взрыва и треска корпуса тонущего торгового корабля. А потом опять ждут взрывов глубинных бомб, которые могут потопить их самих. Сущий ад. Если перехваченная мной радиограмма не была дезинформацией, двое из сидящих там людей в эту самую минуту готовятся к высадке на берег. Интересно, как себя чувствуют они в этот последний день на борту субмарины, в последний раз проверяя карты, шифры и снаряжение, переодеваясь в гражданское и вновь и вновь смазывая свои пистолеты? Разумеется, им не по себе. Они всего лишь люди. Но вместе с тем им не терпится покинуть смрадную темноту подлодки и заняться делом, к которому их готовили. „К чему их готовили?“ Судя по всему, Тедди Шелл не знал, какое задание они получили. Войти в контакт с ФБР? Мне было трудно поверить в это. – Мы на месте, – сказал Хемингуэй. – Доставай „ninos“. Мы решили, что, прежде чем выбрать наблюдательный пункт и укрытие, следует разведать прилегающий район. По пути в бухту Манати мы намеревались осмотреть мысы и внешний берег. Если это ловушка, то она, скорее всего, должна захлопнуться в дневное время после нашего прибытия. Я достал из тайника два автомата Томпсона и брезентовую сумку с запасными магазинами. Оружейный металл был маслянистым на ощупь. – И несколько фугасов, – послышался от штурвала голос Хемингуэя. Я вскрыл ящик с гранатами, вынул четыре штуки и уложил вместе с патронами. Гранаты были серые, тяжелые и холодные. – Береги „ninos“ от водяной пыли, – предостерег Хемингуэй. Он быстро вел „Лорейн“ к берегу с северо-восточного направления. Я положил автоматы между сиденьями, укрыв их от брызг за красным и тиковым деревом с хромированной отделкой, после чего осмотрел прибрежную линию в двадцатикратный бинокль. Если ты достаточно долго изучаешь карты, по прибытии на место оно кажется знакомым. До сих пор я не видел этих мысов и берега. Во время наших прошлых плаваний в этом районе мы находились слишком далеко в море, чтобы рассмотреть их в деталях. Теперь я видел все воочию, и реальность в общем-то совпадала с тем, что было изображено на бумаге. Вход в бухту Бахия Манати оказался шире, чем я ожидал, – около сорока ярдов от мыса до мыса. Восточный мыс, Пойнт Иисус, выдавался в море дальше, чем Пойнт Рома, но я сразу понял, почему маяк установили именно здесь, на западном берегу протоки: скалы на Пойнт Рома были выше, выступая над уровнем моря примерно на девять метров, в то время как скалы первого мыса – всего на три или три с половиной. К западу от Пойнт Рома виднелась длинная, плавно изогнутая протока Энсенада Хиррадура, исчезавшая среди болот и мангровых зарослей. Остальная часть береговой линии была четкой, вдоль Пойнт Иисус из воды выступали остроконечные камни, а к западу от Энсенада Хиррадура протянулись галечные отмели. Берег здесь практически отсутствовал, только под маяком виднелась узкая песчаная полоска. Я осмотрел маяк в бинокль. Конструкции здесь и там проржавели, явно лишенные ухода, оптика и светильник были сняты. Создавалось впечатление, что маяк не работает уже очень давно. За ним на прибрежных утесах простирались заброшенные тростниковые поля. Джунглей как таковых не было, я заметил лишь редкие кустарники и несколько пальм над мангровыми зарослями, но большую часть суши занимал тростник, вернувшийся к дикому состоянию. Кроме разбитого маяка, единственным признаком цивилизации, видимым с моря, была дымовая труба мельницы Манати, торчавшая над тростником на западном берегу бухты. – Мы войдем в бухту и осмотрим ее, – негромко сказал Хемингуэй. – Отправляйся на нос и приготовься спрыгнуть в воду с шестом, если каналы не обозначены. Не забудь захватить „ninos“. Я кивнул и взял автомат, повесив бинокль на шею. Автомат, лежащий на моих коленях, казался мне бесполезной игрушкой. Разумеется, в Квантико и Лагере „X“ я учился обращаться с оружием, но всегда недолюбливал „томми“. У них малая дальнобойность и низкая точность стрельбы. В сущности, они представляют собой тот же пистолет, только с огромной скорострельностью, и годятся лишь для того, чтобы поливать огнем цели на малой дистанции. Они хороши для кинофильмов, но не идут ни в какое сравнение с винтовкой для стрельбы на дальнем расстоянии или надежным пристрелянным пистолетом в ближнем бою. Катер замедлил ход и вошел в среднюю протоку. Волны захлестывали камни к востоку и риф к западу от нас. За входом в бухту узкие каналы были размечены вехами – шестами, воткнутыми в грязь на берегах. Нескольких явно не хватало, а другие покосились до такой степени, что были едва видны над водой. Хемингуэй уменьшил обороты почти до холостого хода и удерживал катер по оси протоки, а я осматривал мысы, скалы и поля по обе стороны, пытаясь уловить движение, блеск солнца на металле или стекле. Ничто не мешает наблюдениям так, как тростниковые заросли. Мы взяли чуть левее – канал отклонился к востоку, но впереди он опять сворачивал на юг. Мы были готовы к этому и прибыли сразу после высшей точки прилива, но даже и теперь замечали места, где протока обмелела из-за того, что ее не чистили несколько лет. Путь впереди нас был относительно свободен, и пока мне не приходилось спускаться с носа с шестом в руках, но позади катера вода превратилась в мутную жижу цвета кофе, в который добавили слишком много молока. – Катер поднимает со дна грязь? – напряженным голосом спросил Хемингуэй. – Только с правого борта. Нужно прижаться к левому берегу. Хемингуэй постучал пальцем по карте, расстеленной на приборной панели – Здесь указана глубина восемь саженей, шесть в той точке, где мы сейчас находимся, и пять – за поворотом канала. По-моему, здесь нет и двух. Ширина – от силы три метра. А дальше сплошная грязевая отмель. – Точно. – Слева от нас появились Двенадцать апостолов. Прибрежные скалы остались позади, тростниковые поля и мангровые заросли теперь спускались к самой воде, от бухты к двенадцати скалам, видневшимся сквозь листву, поднимался пологий склон, а у их подножий стояли несколько покосившихся хижин, оплетенных лианами. Вдоль берега к причалу вели тропинки, по которым, судя по всему, давно не ходили, а пристань обрушилась в бухту. Я всмотрелся в черные окна хижин и снял автомат с предохранителя. – Вот труба и рельсы, – негромко произнес Хемингуэй. Протока начала расширяться, впадая в бухту. Я заметил ее окончание примерно в миле от нас к юго-западу, и глубокий пролив, исчезавший к юго-востоку от Двенадцати апостолов. В середине бухты, прямо по курсу, виднелся поросший деревьями островок. По правому борту, там, куда смотрел Хемингуэй, в тростниковые поля уходили две ржавые железнодорожные ветки. В ста или ста двадцати метрах от южной линии возвышалась кирпичная труба. Рядом стояло несколько кирпичных зданий, некогда называвшихся Пуэрто-Манати, от рельсовых тупиков к бухте спускались две пристани, но стекла построек были разбиты, один из причалов повалился, другой оканчивался в воде глубиной не больше полуметра, а грунтовые дороги вдоль берега заросли травой. – Черт побери, – проворчал Хемингуэй. – Если верить карте, здесь должна быть глубина пять саженей, а на самом деле меньше одной. Прыгай в воду с шестом. Я перебросил автомат через плечо и спустился с носа. – Это была мель, – сказал я. – Дальше глубина почти целая сажень. Машина взревела, и катер двинулся вперед, поднимая за собой клубы мути. Впереди маячил островок, обозначенный на карте как Кейо Ларго. Справа над тростником поднимался еще один холм, примерно вдвое выше, чем Двенадцать апостолов. За ним у юго-восточного окончания бухты виднелось еще несколько разрушенных строений. – Это мельница Манати, – негромко сказал Хемингуэй, медленно поворачивая катер к островку. Там стояли хижины, но они почти полностью заросли деревьями и лианами. Внезапно с песчаного берега канала поднялись двадцать или тридцать фламинго, ошеломив нас звуком и вспышкой красок. Я вскинул автомат, наведя дуло в их сторону, потом пристыженно опустил оружие. Шумно хлопая крыльями, птицы промчались над юго-западным изгибом бухты и сели на другой пляж, обозначенный на карте под именем Эстеро Сан Иоаквин. – „Cocos“, – сказал Хемингуэй, заглушив двигатель и отдавая катер во власть слабого потока. Я посмотрел на холм, на который он указывал. В лагуне между заброшенными причалами, неподалеку от трубы и холмистого мыса, плескались с десяток древесных ирбисов. Чуть ближе, среди отмелей, возвышавшихся над водой даже во время высшей точки прилива, бродили две розовые цапли, грациозно переступая ногами. Почти вся площадь бухты лежала перед нами, но было очевидно, что большая ее часть непроходима даже для „Лорейн“ с его мелкой осадкой. – Готов спорить, здесь почти повсюду нет и двадцати сантиметров глубины, – сказал Хемингуэй, обводя просторы бухты рукой с распухшими пальцами. – Да, действительно, – согласился я. – Но на резиновом плотике можно проплыть. – Верно. Они могут появиться здесь ночью и двинуть прямиком к причалам или железнодорожным веткам, но, мне думается, они не станут этого делать. – Почему? Здесь им легче остаться незамеченными. – Совершенно верно, – согласился Хемингуэй. – Именно поэтому они не станут высаживаться в глубине бухты. Они предпочтут добраться до суши на виду у подлодки, чтобы сообщить об успешной высадке световыми сигналами или каким-либо иным способом. Я кивнул. Хемингуэй высказал интуитивную догадку, но мой опыт подсказывал, что он не ошибся. – Вдобавок, – продолжал писатель, – они появятся здесь за час до восхода луны, и им будет чертовски трудно пробираться по каналам в темноте, даже если осадка их плотика составляет лишь десять-пятнадцать сантиметров. Я сидел на разогретой солнцем деревянной палубе, держа на коленях шест и автомат. – Согласен, – сказал я. – По всей видимости, точка высадки – Пойнт Рома. Не пора ли нам отыскать укрытие для „Лорейн“? Несмотря на то что была середина дня и дул ощутимый ветер, в нашу сторону двигались тучи москитов и песчаных мух. – Да, – произнес Хемингуэй. – Давай убираться отсюда.* * *
Чтобы укрыть катер в болотистой излучине Энсенада Хиррадура, осмотреть территорию к северу от маяка и перенести на берег свое имущество, нам с Хемингуэем потребовалось чуть больше часа. Лучшим местом для „Лорейн“ была мангровая лагуна к западу от мыса, и, конечно же, там оказалось множество грязи и роящихся насекомых. Было бы гораздо удобнее выгрузить вещи на песчаной отмели, а уж потом прятать катер, но нам до такой степени не терпелось укрыть его и заняться устройством засады, что в конечном итоге мы совершили два перехода вверх и вниз по холму сквозь заросли, грязь и тучи кровососов. Определить место засады было непросто. Разумеется, мы должны были видеть мыс, но также нам требовался ясный обзор входной протоки на тот случай, если немецкие агенты обманут наши ожидания и поплывут в бухту Манати. Еще нам нужно было видеть море и иметь возможность беспрепятственно отступить, если бы потребовалось изменить свою позицию либо бежать к катеру. Вдобавок ко всему нас не должен был заметить противник. Это было испытание военных навыков Хемингуэя, и его выбор произвел на меня благоприятное впечатление. У вершины холма было идеальное место – на краю тростникового поля под ветвями невысокого дерева. Отсюда открывался почти круговой обзор с видом на маяк, входную протоку, северную часть бухты Манати и даже на канал Энсенада, если обернуться назад. К вершине подходила одна из железнодорожных веток, которая пересекалась с дорогой, ведущей к сахарной мельнице, и по ней нам было бы легче втащить наверх свой груз. Хемингуэй сразу указал туда и сказал: – Слишком очевидное место. Надо поискать ниже по холму. Он был прав. Одним из условий этой смертельной игры, которыми мы не имели права пренебрегать, было то, что наше появление здесь, скорее всего, предполагалось заранее. Было трудно понять, зачем немецкой разведке заманивать нас в ловушку, но если это действительно так, мы должны были максимально затруднить действия противника. Хемингуэй указал точку примерно в трети пути вниз по склону, ведущему к западной части мыса. На этом берегу не было дюн, однако в результате выветривания в невысоких скалах образовались бесчисленные впадины, и Хемингуэй выбрал одну из таких щелей на гребне, соединявшем мыс с протокой, в которой мы спрятали катер. В выходящей к океану северной его части щель была узкая, с крутыми склонами, однако у противоположного конца, тянувшегося вдоль тростникового поля на юго-западе, она становилась шире, и там росли деревья и густой кустарник. С высшей точки расщелины мы могли видеть маяк, рельсы, песчаную полоску у протоки и широкий участок открытого моря. Из расщелины мы могли переместиться под укрытие вершины гребня, чтобы осмотреть бухту и дорогу к мельнице, а заметив движение на ней либо на железнодорожной ветке за нашими спинами, отступить вниз по расщелине, либо спрятаться в тростниковом поле и оттуда спуститься к катеру. Было жарко. Мы втащили наверх два брезентовых полотнища и перекрыли ими узкую впадину, привязав в корням и камням, чтобы они не хлопали даже при сильном ветре, но так, чтобы они провисали и не выделялись на фоне расщелины. Потом мы замаскировали их, набросав сверху земли и веток. При свете дня наше укрытие было практически невозможно обнаружить с расстояния тридцати шагов, а ночью его не увидел бы даже человек, идущий по гребню. Песчаные мухи беспощадно жалили нас, на месте укусов сразу появлялись волдыри, но Хемингуэй побрызгал вокруг нашей норы „флитом“ и дал мне пузырек репеллента. Он согласился оставить „браунинг“ на борту – склон был слишком скользким, и если бы нам пришлось ночью оставить свою позицию и бежать к катеру, винтовку было бы трудно нести, – однако, прежде чем покинуть „Лорейн“, он вынул ее из чехла и снарядил пояс-патронташ. Думаю, он готовился отстреливаться, если бы нам пришлось вырываться из западни. Вместе с полотнищами брезента, автоматами Томпсона, сумками гранат и запасных обойм, биноклями, ножами, личными вещами, шляпами, аптечкой, пистолетами в кобурах по одному на каждого мы втащили по песчаному склону маленький холодильник с пивом и снедью. После полудня мы сделали перерыв на обед – бутерброды с консервированной говядиной для меня и с яичницей и сырым луком для Хемингуэя – и запили его холодным пивом из бутылок. Я невольно улыбнулся, представив, что сказал бы директор Гувер, узнай он о том, что один из специальных агентов Бюро пьет пиво в процессе организации засады. Но потом я вспомнил, что больше не работаю в ФБР, и моя улыбка увяла. Весь долгий день и начало вечера мы провели в расщелине, по очереди наблюдая в бинокль за океаном и стараясь не стонать, когда нас жалили песчаные мухи и москиты. Порой кто-нибудь из нас поднимался к вершине гребня, перебирался через него и осматривал бухту, Двенадцать апостолов, старую дорогу и заброшенную мельницу, пытаясь уловить признаки движения. Однако большую часть времени мы лежали в укрытии. Сначала мы переговаривались шепотом, но вскоре сообразили, что прибой за мысом Пойнт Иисус, волны, набегающие на низкие скалы к востоку от Пойнт Рома, и ветер в тростниковых полях за нашими спинами позволяют нам говорить обычным голосом, который не будет слышен уже в десяти шагах. Поздним вечером, когда солнце опустилось за поля и каменистый Пойнт Брава далеко к западу, а шум океана в сумерках усилился, у меня возникло ощущение, что мы прячемся здесь неделю, а то и больше. Мы по очереди дремали, чтобы быть свежими ночью, но, думаю, Хемингуэй не проспал и десяти минут. Он был в приподнятом настроении, не выказывая и следа нервозности, держался раскованно, говорил спокойным шутливым тоном. – Перед выходом в море я получил вести от Марти, – сообщил Хемингуэй. – Она отправила телеграмму из Бассетерри на Сент-Киттс. Ее чернокожие спутники устали от плавания и заманили Марти на этот остров. Телеграмма, естественно, прошла цензуру, но у меня возникло впечатление, будто бы она перебирается с острова на остров в поисках немецких подлодок и приключений. – Что-нибудь нашла? – Марти всегда находит приключения, – с улыбкой ответил Хемингуэй. – Теперь она собирается плыть на Парамарибо. – На Парамарибо? – переспросил я. – Это в Нидерландской Гвиане, – объяснил Хемингуэй, смахивая с глаз капли пота. Я заметил, как распухло его ухо, и мне стало неловко. – Я знаю, где находится Парамарибо. Но зачем ей туда? – Quien sabe? – произнес Хемингуэй. – Представления Марти о романтике заключаются в том, чтобы забраться как можно дальше, в глушь, лишенную элементарных удобств, и, положившись на волю случая, бесноваться и проклинать свою судьбу. Потом она напишет великолепное эссе, от которого читателей разбирает смех. Если, конечно, останется в живых. – Вы волнуетесь за нее? – спросил я, пытаясь представить, как бы я чувствовал себя, если бы был женатым человеком, а моя супруга бродила по джунглям и болотам, где я ничем не мог ей помочь, если случится беда. Я пытался представить, что это такое – быть женатым. Хемингуэй пожал плечами. – Марти вполне способна позаботиться о себе. Хочешь еще пива? – Он вскрыл очередную бутылку ручкой ножа. – Нет, спасибо. Я предпочту быть хотя бы отчасти трезвым, когда всплывет немецкая субмарина. – Зачем тебе это? – спросил Хемингуэй. Несколько минут спустя, когда сумрак начал сменяться настоящей тьмой, он продолжал: – Волфер, наверное, наговорил тебе о Марти много нелестного. Я молча поднял бинокль, оглядывая темнеющий горизонт. – Волфер ревнует, – сказал писатель. Его слова показались мне странными. Я опустил бинокль и прислушался к шороху ветра в тростниках. – Не верь всему, что Волфер наговорил тебе в гневе, – продолжал Хемингуэй. – Марти талантливая писательница. В этом-то и беда. – В чем именно? – спросил я. Хемингуэй негромко рыгнул и положил перед собой автомат. – Марти талантлива, – ровным голосом произнес он. – По крайней мере, во всем, что касается литературы. Но я талантливее ее. Самое страшное в жизни – постоянно иметь дело с человеком, способности которого для тебя недостижимы. Я знаю это по себе. Несколько минут Хемингуэй молчал. Последние фразы он произнес таким будничным тоном, что я сначала понял, что он не хвастается, и только потом – что он наверняка прав. – Что вы собираетесь писать дальше? – спросил я, сам изумившись своим словам. Однако мне было любопытно. Хемингуэй тоже удивился: – Тебя это интересует? Тебя? Человека, который всегда был невеждой в литературе и останется им до конца своих дней? Я вновь посмотрел в бинокль. Горизонт превратился в туманную полоску. В темноте шум прибоя казался очень громким. Я бросил взгляд на часы. Двадцать восемь минут десятого. – Извини, Лукас, – сказал Хемингуэй. Это был единственный случай, когда он просил у меня прощения. – Я еще не знаю, какой получится моя следующая книга. Может быть, когда-нибудь, когда кончится война, я напишу о нашем бестолковом предприятии. – Я заметил, что он смотрит на меня сквозь тьму. – Я выведу тебя в качестве одного из персонажей, но соединю в нем худшие черты, взятые у тебя и Саксона. У этого героя будет грибковая гниль на ногах и твой дерьмовый характер. Тебя все возненавидят. – Зачем вы это делаете? – негромко спросил я. Ветер сдул с моего лица несколько москитов. В темноте поблескивала линия прибоя. – Что? – Зачем вы описываете вымысел вместо реальных событий? Хемингуэй покачал головой. – Очень трудно быть хорошим писателем, если ты любишь мир, в котором живешь, и любишь незаурядных людей. Еще труднее, если ты любишь так много разных мест. Ты не можешь попросту копировать окружающий мир, это была бы фотография. Ты должен описывать его, как Сезанн, исходя из внутренних движений своей души. Это – искусство. Ты должен творить изнутри. Понимаешь? – Нет, – ответил я. Хемингуэй чуть слышно вздохнул и кивнул. – То же самое происходит, когда ты слушаешь людей, Лукас. Если их впечатления достаточно живы и красочны, они становятся частью тебя, вне зависимости от того, что тебе рассказывают – правду или выдумки. Это не имеет значения. По прошествии некоторого времени их впечатления становятся более живыми, чем твои собственные. Ты творишь, исходя из своего опыта и их впечатлений, и постепенно становится неважным, чьи это впечатления… где твое и где чужое, что правда и что вымысел. Отныне все это – правда. Твоя страна, ее климат… люди, которых ты знаешь. Но ты ни в коем случае не должен демонстрировать все свои впечатления, весь свой опыт… словно ведя пленных солдат маршем по столице… Именно этим занимались Джойс и многие другие авторы, и только потому их постигла неудача. – Он мельком глянул на меня. – Джойс – это мужчина, не женщина. – Знаю, – сказал я. – Видел его книгу на вашей полке. – У тебя хорошая память, Джо. – Да. – Ты мог бы стать отличным писателем. Я рассмеялся. – Мне нипочем не нагородить столько лжи. – Только произнеся эти слова, я понял их истинный смысл. Хемингуэй тоже рассмеялся. – Ты самый ловкий лжец из всех, кого я когда-либо знал, Лукас. Ты врешь с той же легкостью, что младенец сосет материнскую грудь. Тобой движет инстинкт. Я знаю. Я и сам сосал эту грудь. Я промолчал. – Писать прозу – то же самое, что грузить судно, но так, чтобы не потерять остойчивость, – продолжал Хемингуэй. – В каждую фразу нужно втиснуть бесчисленные нюансы, большинство из них – незаметно, намеком. Ты видел акварель Зена, Лукас? – Нет. – Тогда ты не поймешь, если я скажу, что Зен рисует ястреба, кладя на изображение неба голубой мазок… без ястреба. – Не пойму, – отозвался я, хотя какая-то часть моего сознания воспринимала его мысль. Хемингуэй указал на океан. – Это что-то вроде субмарины, которая в эту самую минуту плывет где-то там. Увидев только ее перископ, мы поймем, что под ним находится все остальное – ходовая рубка, торпеды, машинный зал с трубопроводами и штурвалами, дисциплинированные немцы, склонившиеся над мисками с кислой капустой… чтобы понять, что она тут, рядом, нам не нужно видеть ее целиком – только проклятущий перископ. Так же обстоят дела с хорошей фразой или абзацем. Теперь уразумел? – Нет, – ответил я. Писатель вздохнул. – В прошлом году мы с Марти были в Чунцине, и я встретился там с молодым флотским лейтенантом по имени Билл Ледерер. В этой забытой богом стране нечего пить, кроме рисовой водки с дохлыми змеями и птицами, но прошел слух, будто бы Ледерер приобрел на китайском рынке два ящика виски, и что этот болван до сих пор не откупорил ни одну из них… его вот-вот должны были перевести, и он приберегал спиртное для большой пирушки. Я сказал ему, что не пить виски – то же самое, что не спать с симпатичной девчонкой, когда представилась возможность, но он упрямо хранил бутылки для особого случая. Ты следишь за моей мыслью, Джо? – Пока да, – ответил я, вглядываясь в прибой. – Мне хотелось выпить, – продолжал Хемингуэй. – Я изнывал от жажды. Я предложил ему хорошие деньги… кучу долларов… но Ледерер отказался продать. В конце концов я в отчаянии сказал ему: „За полдюжины бутылок я отдам тебе все, что ты захочешь“. Ледерер почесал затылок и заявил: „Хорошо, я обменяю шесть бутылок виски на шесть уроков о том, как стать писателем“. Отлично. После каждого урока Ледерер дает мне по бутылке. На последнем занятии я ему сказал: „Билл, прежде чем ты сможешь писать о людях, ты должен стать цивилизованным человеком“. – „Что такое цивилизованный человек?“ – спрашивает Ледерер, и я отвечаю: „Быть цивилизованным – значит обладать двумя качествами – состраданием и умением держать удар. Никогда не смейся над человеком, которому не повезло. И если тебя самого постигнет неудача, не проклинай судьбу. Держи ее удары и сохраняй самообладание“. Точно так же, как я держал твои удары, Лукас. Ты чувствуешь, к чему я клоню? – Понятия не имею. – Это не важно, – сказал Хемингуэй. – Главное, что я дал тебе больше советов о том, как хорошо писать книги, чем лейтенанту Ледереру. Из всех советов, которые он от меня получил, самым ценным был последний. – Какой именно? – Я предложил ему отправиться домой и попробовать свой виски. – Хемингуэй заулыбался так широко, что я увидел в свете звезд его сверкающие зубы. – Китаезы всучили ему два ящика бутылок с чаем. Несколько минут мы молчали. Когда задувал ветер, брезент над нашими головами почти не шевелился, зато сухие тростниковые стебли трещали, будто игральные кости в оловянной кружке. – Самая главная трудность – писать правдивее правды, – заговорил наконец Хемингуэй. – Именно поэтому я предпочитаю вымысел реальности. – Он поднял свой бинокль и оглядел темный океан. Я понял, что тема исчерпана, но продолжал допытываться: – Книги живут дольше человека, ведь правда? Я имею в виду, дольше своего автора. Хемингуэй опустил бинокль и посмотрел на меня. – Да, Джо. Сдается мне, ты все-таки увидел подлодку и ястреба. Книги живут дольше. Если они хоть на что-нибудь годятся. А писатель всю жизнь проводит в одиночестве, каждый день заглядывая в бездну… Может быть, ты действительно понял. – Он опять поднес к глазам бинокль. – Расскажи мне все с самого начала. О том, как возникла эта путаница и как все запуталось еще сильнее. Я рассказал ему все, умолчав лишь о допросе Шлегеля и свертке, который лежал в коровнике. – Значит, ты полагаешь, что целью первой передачи было заманить нас сюда? – уточнил он. – Да. – Но не только нас с тобой. Вероятно, они ожидали, что мы притащим сюда „Пилар“ и остальных. – Возможно, – согласился я. – Но, по-моему, это несущественно. – Что же тогда существенно, Джо? – То, что мы с вами находимся здесь. – Почему? Я покачал головой. – Я и сам не все понимаю. Шлегель сказал, что в операции участвует ФБР, но, должно быть, он имел в виду только Дельгадо. Я не верю в то, что Гувер связался с немцами. Это чистый вздор. – Почему бы и нет? – возразил Хемингуэй. – Кого он больше всего боится? Нацистов. – Нет. – Коммунистов? – Нет. Гувер боится упустить власть… контроль над ФБР. Коммунистический переворот в Штатах страшит его куда меньше. – Какое же отношение к его страхам имеет эта запутанная кубинская история? – спросил Хемингуэй. – Ведь люди в первую очередь руководствуются страхом, а уж потом – другими эмоциями. Во всяком случае, так подсказывает мой опыт. Его слова заставили меня задуматься.* * *
Плотик пересек линию прибоя ровно в двадцать три ноль-ноль. Потом мы увидели две темные фигуры, тащившие плотик по мерцающим волнам на узкую песчаную полоску, которая отчетливо виднелась в свете звезд. Потом они вскрыли контейнер, вынули закрытый фонарь, повернули его окошком к темному океану и начали передавать сигналы. Десять секунд спустя на ходовом мостике в нескольких сотнях ярдов от нас блеснули едва заметные вспышки – две точки, два тире, одна точка. Потом вновь воцарилась темнота, в которой раздавался шорох прибоя. Мы с Хемингуэем следили за тем, как лазутчики выпустили воздух из плотика, уложили его в ближайшую впадину – в трех расщелинах от нашей – и закопали, звякая лопатами и негромко переругиваясь по-немецки. Потом они зашагали вверх по холму к тому самому дереву, которое мы отметили днем как „идеальное“ укрытие. Мы с Хемингуэем выползли из-под брезента и, опустившись на колени в зарослях, смотрели, как агенты поднимаются по склону в семидесяти шагах от нас. Ветер и прибой заглушали голоса, но ветер дул с их стороны, и мы услышали несколько слов по-немецки. Над зарослями возвышались только их плечи и головы, видимые в свете звезд, но потом и они исчезли, когда лазутчики вошли в тень дерева. Хемингуэй приложил губы к моему левому уху: – Мы должны двигаться следом за ними. Я кивнул. Внезапно их фонарь подал два сигнала. На гребне в тридцати ярдах от нас, едва видимая сквозь стебли и обломки тростника, мигнула одинокая вспышка другого фонаря, более слабого. – Будь я проклят, – шепнул Хемингуэй. Мы поползли по-пластунски вверх по склону, цепляя запястьями ремни автоматов и направляя их стволы прямо перед собой. И вдруг совершенно неожиданно началась стрельба.Глава 24
Огонъ велся не оттуда, где мы заметили вспышку второго фонаря – стрелявший находился неподалеку от точки, где мы в последний раз видели двух агентов. Я уткнулся лицом в песчаный склон, решив, что эти двое обнаружили нас и пытаются убить. Вероятно, Хемингуэй подумал о том же – переждав первые четыре выстрела, он поднял свой „томпсон“, по-видимому, собираясь открыть ответный огонь. Я ударом пригвоздил ствол его автомата к земле. – Нет! – прошептал я. – Они целятся не в нас! Стрельба прекратилась. Из тени под деревом на гребне послышался громкий, леденящий душу стон, потом вновь воцарилась тишина. Прибой продолжал мерно накатываться на берег,его звук сливался с шумом крови, бившейся в моих висках. Полумесяц луны еще не поднялся, и я поймал себя на том, что пытаюсь действовать, как на тренировках по стрельбе в условиях слабой освещенности – ловлю движение краешком глаза, определяя положение противника периферийным, а не прямым зрением. Хемингуэй лежал рядом, напрягшись, но, судя по всему, стрельба ничуть не испугала его. Он подался ко мне и прошептал: – Почему ты думаешь, что они целили не в нас? – Я не слышал свиста пуль над головой и шороха кустов, в которые они должны были угодить, – шепотом объяснил я. – В темноте люди стреляют выше цели, – заметил Хемингуэй, продолжая вжиматься в склон и быстро поворачивая голову из стороны в сторону. – Да. – Ты определил, из какого оружия стреляли? – спросил Хемингуэй. – Из пистолета либо одиночными из автомата, – прошептал я. – „Люгер“, может быть, „шмайссер“. Судя по звуку, девятимиллиметровый. Хемингуэй кивнул. – Они могут обойти нас справа. По тростниковому полю. – Мы бы услышали их, – возразил я. – Мы здесь в безопасности. – Пока нам действительно нечего было бояться. Несмотря на то что стрелявший находился выше нас, занимая более выгодную позицию, любой, кто попытался бы подобраться к нам слева по высоким скалам, либо справа через тростниковое поле, выдал бы себя громким шорохом или хрустом стеблей. Разделявший нас склон и гребень густо заросли кустарником; мы с Хемингуэем без труда поднялись на холм при дневном свете, однако ночью было практически невозможно напасть на нас, не издавая шума. Разве что если противник заранее тщательно изучил склон и мог ползти вслепую. Могло случиться и так, что в эту самую минуту, когда мы лежали здесь, сосредоточив внимание на гребне, из заболоченной бухты за нашими спинами по склону поднимались другие. – Иду вперед, – прошептал я. Хемингуэй крепко стиснул мое плечо: – Я тоже. Я придвинулся к нему вплотную, и теперь мой шепот был почти не слышен: – Кому-нибудь из нас придется ползти направо, туда, где мигал второй фонарь. Другой попытается приблизиться к дереву… чтобы проверить, там ли те двое или уже ушли… – Я понимал, что разделяться в темноте опасно – хотя бы из-за того, что мы могли начать перестрелку между собой – однако от одной мысли о человеке, затаившемся справа, у меня по спине пробегали мурашки. – Я пойду к дереву, – прошептал писатель. – Захвати фонарик. Нам ни к чему палить друг в друга. Мы загодя прикрыли стекла фонариков плотной красной материей, через которую проникали едва заметные лучи. Это и был наш опознавательный сигнал. – Осмотрев местность, встречаемся здесь же, – прошептал Хемингуэй. – Удачи! – Он начал протискиваться под низкими ветвями кустарника. Я прополз направо, спустился в нашу расщелину, выбрался с другой стороны, вплотную приблизился к тростниковому полю и только тогда стал подниматься по склону к гребню. Я не слышал ни звука, кроме шороха ветра в тростнике, шума прибоя и своего натужного дыхания. Я полз на коленях и локтях, не забывая держать задницу как можно ниже. Теперь в любую минуту могла взойти луна. О том, что я добрался до вершины гребня, я догадался только после того, как выполз из густого кустарника и почувствовал под собой травянистую, но плотно утоптанную тропинку. Слева от меня тропинка петляла по гребню, приближаясь к дереву. Справа от меня она изгибалась влево вдоль стены тростника и спускалась по восточному склону к дороге, которая шла берегом бухты к рельсам и заброшенной мельнице. Я торопливо пробежал по дорожке и, опустившись на корточки под кустом, осторожно и медленно поднял голову. Я не уловил движения ни слева, ни справа, не слышал, как Хемингуэй подбирался к дереву в пятнадцати метрах от меня. Я бросил взгляд в сторону бухты и не увидел ничего, кроме темной воды и пальмовых крон на противоположном берегу под Двенадцатью апостолами. Вероятно, я оказался точно в том месте, где вспыхивал второй фонарь, но в темноте не обнаружил никаких следов и решил, что его обладатель вернулся по тропинке на юг, к бухте, рельсам и мельнице. Либо он засел в кустах за поворотом тропинки. Я повесил автомат на шею, сунул ствол под левую руку, вынул из кобуры „магнум“, снял его с предохранителя и положил большой палец на ударник затвора. Перемещаясь на полусогнутых ногах и только короткими перебежками, я отправился по тропинке к югу, петляя из стороны в сторону и задерживаясь в укрытиях, чтобы отдышаться и прислушаться. До меня доносились только шорох тростника и звук все удалявшегося прибоя. Внизу холма тропинка проходила по открытому участку. Я стремительно перебежал его, непрерывно петляя. Мои внутренности сворачивались клубком в ожидании выстрела, но выстрела не было, и, оказавшись у подножия, я остановился на двадцать секунд, чтобы унять дыхание, после чего ступил на старую железнодорожную ветку, пробегавшую вдоль берега. Если Хемингуэй попал в беду, я мог бы за пару минут добраться до него, взбежав по склону и спустившись по гребню. И, возможно, угодить в очередную западню. „Не очень-то умно, Джо“, – сказал я себе и двинулся к югу, к старой дороге. Когда мельница работала, дорога, вероятно, была покрыта гравием, но теперь ее середина заросла травой и лианами по пояс – остались только две едва заметные колеи. Я бежал, пригибаясь и держа плечи на уровне травы, подняв пистолет, готовый к стрельбе. Инстинкт подсказывал мне, что в темноте и высокой траве нож удобнее огнестрельного оружия. Кто-то шевельнулся примерно в сотне шагов впереди – там, где стену тростника прорезали старые рельсы. Я упал плашмя и навел пистолет обеими руками, понимая, что этот „кто-то“ находится слишком далеко для прицельной стрельбы, и ожидая очередного движения. Все было тихо. Я досчитал до шестидесяти, поднялся на ноги и побежал дальше, перепрыгивая с колеи на колею через неравные промежутки. По моим ногам и локтям хлестала высокая трава. На дороге у тупика первой железнодорожной ветки никого не оказалось. Ржавые рельсы убегали в тростник, исчезая за поворотом в пятидесяти шагах от меня. Тростник был такой высокий и темный, что просека казалась туннелем. Далеко впереди и слева я видел два заброшенных причала, которые спускались к бухте. На обоих не было ни души. Полумесяц луны поднялся над горизонтом. Мои глаза привыкли к темноте, и у меня возникло такое ощущение, будто бы кто-то внезапно зажег поисковый прожектор и шарит его лучом по бухте и склону холма. Я сместился влево, в тень высокой травы, и быстрым шагом вернулся к точке, откуда были видны причалы и труба. В ста двадцати шагах впереди стояли два кирпичных здания, из которых обработанный тростник погружался на плоскодонные баржи. Теперь их крыши и окна с разбитыми стеклами могли послужить идеальной позицией для снайпера. Я лег в траву и обдумал возможные варианты действий. В этом месте дорога изгибалась вокруг холма по направлению к зданиям, второму холму, расположенному за ними, и к самой мельнице, которая стояла в четверти мили за причалами. Я мог двинуться сквозь джунгли и тростниковое поле за ближайшими зданиями либо обойти их по дороге, освещаемый со спины луной. Даже ползя по-пластунски, я был бы прекрасной мишенью для стрелков, засевших на вторых этажах или на крышах зданий. У меня с собой были „томпсон“ и „магнум“, но на протяжении шестидесяти-семидесяти ярдов они ничем не могли бы мне помочь. Расположившись у трубы со снайперской винтовкой, противник накроет меня, как только я высунусь из-за изгиба холма. Если огонь открыли не те два агента, которые высадились на берег, значит, где-то поблизости находились по меньшей мере еще два человека – один с фонарем, другой – тот, который и начал пальбу. Грохот выстрелов был похож на звук, издаваемый „люгером“ или „шмайссером“, но одному господу известно, какое еще оружие они могли принести с собой. И сколько там человек. Настало время праздновать труса. Я повернулся и пополз на животе, пока не оказался за поворотом, где меня нельзя было увидеть с причалов и зданий. Поднявшись на корточки, я торопливо двинулся назад путем, которым пришел сюда. На гребне по-прежнему царила тишина. Я мог проползти прямо и посмотреть, закончил ли Хемингуэй осмотр места, откуда велась стрельба, но решил сначала вернуться к нашей расщелине. Я пробрался по краю тростникового поля до сучковатого куста, служившего мне ориентиром, потом начал спускаться по холму к нашему укрытию. В десяти ярдах от него я чуть приподнялся и на мгновение зажег фонарь, обтянутый красной материей. Потом я вновь упал в траву и затаился в ожидании, держа пистолет наготове. Через пятнадцать секунд, показавшихся мне вечностью, в расщелине мигнул красный огонек. Я сунул „магнум“ в кобуру и пополз вперед.* * *
– Оба мертвы, – прошептал Хемингуэй, прихлебывая виски из серебристой фляжки. – Немцы, которые высадились с подлодки, – добавил он. – Оба холодные, лежат под деревом. Думаю, их застрелили со спины. – Видели кого-нибудь рядом? – спросил я. Он покачал головой. – Я осмотрел восточный склон до дороги в бухте. Прополз сквозь кусты по обе стороны гребня. Потом осмотрел эту сторону холма вплоть до „Лорейн“. Здесь никого нет. – Он еще раз глотнул из фляжки, но мне не предложил. Я рассказал ему о силуэте, который заметил у рельсов, и объяснил, почему решил вернуться. Хемингуэй лишь кивнул: – Мы можем осмотреться днем. – И окажемся еще лучшей целью для снайперов, – заметил я. – Нет, – возразил Хемингуэй. – Их уже след простыл. Они выполнили свою задачу. – Убили двух высадившихся агентов, – сказал я. – Да. – Но зачем им это? – спросил я, сознавая, что понапрасну трачу слова. – Зачем ликвидационной группе… если это действительно была она… расправляться со своими агентами? – Ты профессионал, – ответил Хемингуэй, засовывая фляжку в карман своей охотничьей рубашки – Тебе виднее. Некоторое время мы молчали, потом я спросил: – Что можно сказать о трупах? Хемингуэй пожал плечами: – Я не дополз до них. Тела могли заминировать. Два трупа. Мужские. Оба в немецкой армейской форме. Одного из них освещала луна. Молодой, совсем мальчишка Вокруг них валялись вещи и всякая дрянь… фонарь, которым они подавали сигналы, курьерская сумка, что-то еще… – В форме? – изумленно переспросил я. Тайные агенты, пробирающиеся на вражескую территорию на надувном плотике, как правило, не носят форму. – Да. Обычная пехотная форма Вермахта, если не ошибаюсь. Я не заметил знаков различия и нашивок с обозначением их подразделения… вероятно, спороты но, вне всякого сомнения, форма. Один из них лежал лицом кверху… тот самый, на которого падал свет… и я отчетливо заметил на его ремне пряжку со свастикой. На другом, лежавшем лицом вниз, была немецкая пехотная пилотка из фетра. – Вы уверены, что оба мертвы? – спросил я. Хемингуэй досадливо посмотрел на меня: – На них уже пируют крабы, Лукас. – Хорошо. Осмотримся с первыми лучами солнца. – До восхода пять часов, – заметил Хемингуэй. Я промолчал. Внезапно меня охватила страшная усталость. – Нужно установить наблюдение, – продолжал Хемингуэй. – На тот случай, если кто-нибудь явится, чтобы забрать тела. – Давайте дежурить по два часа. Я буду первым. – Вынув из сумки ложку и котелок, я начал выползать из расщелины, но Хемингуэй остановил меня, схватив за ногу. – Лукас, я повидал на своем веку немало мертвецов. Еще в Первую мировую. Работал корреспондентом в Турции, Греции, Испании. Горы трупов. Я видел, как погибают люди… на корриде, на поле боя. – Вот как? – По-моему, он выбрал не самое удачное время для похвальбы. Голос Хемингуэя изменился. Теперь он произносил слова так, как я говорил в детстве на исповеди: – Но я никогда не убивал людей, Лукас. По крайней мере, собственными руками, лицом к лицу. „Замечательно, – подумал я. – Дай-то бог, чтобы это не изменилось ни сегодня, ни завтра“. – Ладно, – сказал я и взобрался по склону расщелины.* * *
К пяти утра стало достаточно светло, чтобы осмотреть трупы. Хемингуэй оказался прав почти во всем. Два молодых человека – первый блондин, другой с коричневыми вьющимися волосами, – оба в форме, оба застрелены в спину, оба безнадежно мертвы. Сухопутные крабы поднялись с берега и, когда мы появились на рассвете, обгладывали тела. Лишь некоторые отползли в сторону, но с полдюжины сидели на лицах мальчишек и не выказали ни малейшего желания отступить. Хемингуэй вынул пистолет и прицелился в самого крупного краба, который принял оборонительную стойку, задрав клешни, но я прикоснулся к запястью писателя, указал на свое ухо, прося не шуметь, и отогнал крабов палочкой. Мы присели на корточки и склонились над трупами. Пока я осматривал их, Хемингуэй оперся на колено, обводя взглядом заросли и вершину гребня. Взрывных устройств я не обнаружил – тела не были заминированы. „Мальчишки“. Хемингуэй не ошибся. Обоим не было и двадцати. Блондин, лежавший на спине, выглядел сверстником Патрика. Крабы сожрали его глаза и уже трудились над вздернутым носом и пухлыми губами. Трупы давно окоченели и издавали сильный запах. Оба были застрелены в спину, очевидно, из укрытия на восточном склоне. Дистанция была самая подходящая – не более шести метров. – Нужно разыскать гильзы, – сказал я. Хемингуэй кивнул и начал спускаться по восточному склону, вглядываясь к гребень, но не забывая осматриваться вокруг. Через несколько минут он вернулся. – Песок кое-где взрыт, – сообщил он. – Следы башмаков без особых примет. Гильз я не нашел. – Наш убийца весьма осторожен, – негромко произнес я. Перевернув брюнета на спину, я обыскал его нагрудные карманы. Ничего. Хемингуэй был прав: обычная форма Вермахта, но без погон и нашивок. Очень странно. Оба получили по две пули: одну – в поясницу, другую – в верхнюю часть спины. Пуля, угодившая в легкие блондина, вышла с противоположной стороны, разворотив его грудь и открыв крабам удобный путь внутрь. Однако обе пули, настигшие темноволосого, застряли в его теле. Я перекатил его лицом вниз и обшарил карманы брюк. Пусто. У блондина – тоже. Брюки были из толстой шерсти. Если бы эти двое остались в живых и не переоделись, они бы уже изнывали от жары. – Думаешь, они собирались переодеться, после того как установят контакт? – Казалось, Хемингуэй прочел мои мысли. – Возможно. – У обоих агентов были „люгеры“. Оружие блондина осталось в кобуре; темноволосый успел выхватить пистолет, прежде чем его застрелили, и теперь „люгер“ валялся в траве в тридцати сантиметрах от его скрюченных пальцев. Я проверил оба пистолета. Из них не стреляли. Большая часть их снаряжения не заслуживала особого внимания – разбитый фонарь, складная лопатка, ящик из-под патронов с компасами, кухонной утварью и ракетницей; рюкзак с пончо и двумя парами гражданской уличной обуви; два стандартных армейских штыка в ножнах; несколько свернутых в трубочку карт – только Пойнт Рома и то место, где мы сейчас находились, были обведены несмываемым карандашом. Но одна из их брезентовых сумок казалась подозрительно тяжелой и мягкой. Хемингуэй открыл бронзовую защелку и забрался внутрь. Из непромокаемых кармашков сумки он доставал документ за документом. – Пресвятой господи Иисусе, – прошептал писатель, показывая мне один из них. Это была фотокопия морской карты залива Френчман в штате Мэн. На карте был проложен курс для подводной лодки U-1230 с отчетливо обозначенными местами утренних и дневных стоянок и небрежной подписью, из которой следовало, что в ночное время на мысу Пек-Пойнт к северу от острова Маунт-Дезерт должны высадиться два немецких агента. – Это подождет, – сказал я. – Сначала я хотел бы точно убедиться, что поблизости нет гильз. Ползая на коленях, мы обследовали песок расширяющимися кругами, в центре которых лежали трупы. Всякий раз, оказываясь с наветренной стороны от них, я испытывал едва ли не блаженство. Мы осмотрели местность вплоть до песчаной полоски под скалами на севере, восточную часть бухты и нашу расщелину, расположенную к западу. Хемингуэй был прав Мы увидели следы примерно в шести метрах от трупов на небольшом пятачке сразу за гребнем на восточном склоне, там, где убийца поджидал свои жертвы. Там побывал один человек. Следы безошибочно свидетельствовали об этом. Гильз там не оказалось. – Отлично, – сказал я, когда мы вернулись в наполненную смрадом тень дерева. – Сейчас мы разберем содержимое этой сумки. Думаю, в ней-то и заключена цель высадки. Но сначала я хочу кое в чем убедиться. – Я перевернул блондина на живот. Его руки закоченели до такой степени, что на ощупь он напоминал манекен из универмага. Входные отверстия пуль в рубашке и чуть ниже широкого ремня его шерстяных брюк выглядели гораздо скромнее выходного отверстия в груди. Я задрал рубашку трупа, его вылинявшую майку и, обхватив руками пояс, расстегнул пряжку ремня. Сняв ремень, я протянул его Хемингуэю и потянул вниз брюки, обнажая верхнюю часть ягодиц. Труп казался совершенно белым, кроме ягодиц и спины, куда за ночь прилила кровь. Эти места выглядели темно-багровыми, почти черными. Я снял с себя рубашку. – Какого черта ты вытворяешь, Лукас? – осведомился Хемингуэй. – Сейчас увидите. – Я раскрыл свой нож, вынул ложку, взятую из корзины для пикников, и начал рассекать спину юнца. К этому времени труп заметно раздулся от газов, хотя его еще не коснулись солнечные лучи, и кожа в этих местах была туго натянута, как на барабане. Я знал, что пуля прошла вверх от входного отверстия над самим копчиком, и все же мне пришлось изрядно потрудиться, прежде чем я нашел ее в третьем крестцовом позвонке. Тут-то и началась серьезная игра – извлекая расплющенный комочек металла, я затупил острый как бритва кончик своего ножа и однажды едва не сломал ложку. Я вычистил нож и руки о траву, убрал прочь согнутую ложку, вытер пулю своим носовым платком и подставил ее солнечным лучам. Головка пули расплющилась о кость, но ее темный кончик еще можно было различить. У донышка пули виднелся завиток нарезки. Я был доволен. Мне совсем не хотелось копаться в грудной клетке второго мальчишки, пока не найдется еще одна пуля. Я показал пулю Хемингуэю. Он пристально смотрел на меня. – Кто ты такой, Лукас? Я пропустил его слова мимо ушей. – Девять миллиметров, – сказал я, натягивая рубашку. – „Люгер“? – спросил писатель. Я покачал головой. – Черные головки. Автомат „шмайссер“. Хемингуэй моргнул и перевел взгляд на пулю. – Но убийца не выпускал очередей, – заметил он. – Нет. Он стрелял одиночными. Весьма метко. По одной пуле ниже пояса, еще по одной – в верхнюю часть спины. Он не спешил. – Для убийства человека более мерзких мест не придумаешь, – негромко произнес Хемингуэй, как бы обращаясь к самому себе. – Почему не в голову? – Было темно. – Я завернул пулю в платок и спрятал его в карман брюк. – Давайте ознакомимся с документами. – Хорошо, – отозвался Хемингуэй. – Но сначала переберемся на наветренную сторону.* * *
Пока мы изучали бумаги, солнце поднялось над горизонтом. Первым документом была фотокопия карты залива Френчман.– Это, верно, фальшивка? – спросил Хемингуэй. – Почему? – Это ведь… как это будет по-вашему, по-шпионски? Дезинформация. Немецким агентам совсем ни к чему тащить с собой все это, пробираясь на вражескую территорию, разве нет? – Ни к чему, – согласился я. – Разве что их заданием было передать кому-либо эти документы. Заметьте, что на карте не указана дата высадки. Если она еще не произошла, вполне возможно, что эта копия – нечто вроде приманки… дата и время высадки должны были стать предметом торга. Следующая фотокопия выглядела более загадочно:
– Шифр? – спросил Хемингуэй. – Похоже на попытку немцев разгадать коды русских, – ответил я. – В углу указана дата, 5 марта 1942 года. Довольно свежий документ. Получен из немецкой группы армий „Север“. По всей видимости, это перехват передачи из советской 122-й бронетанковой дивизии.
– Что-нибудь важное? – Откуда мне знать, черт побери? Следующий документ также был получен с Восточного фронта. – Перевод? – спросил Хемингуэй. – Я немного читаю по-немецки. „Ленинградский фронт – связь верховного командования“ Но что означают эти цифры? Килогерцы – это, вероятно, частоты передатчиков? – Правильно, – отозвался я – Похоже, это результат недавней пеленгации советских радиосетей Вот сеть КЗООа, обмен в которой ведется на частоте 3000 килогерц Немцы составляли карту работы передатчика, в позывных которого имеются буквы „ed“, принадлежащие, если не ошибаюсь, Восьмой армии русских Другая сеть, обозначенная L001, работает на частоте 2550 килогерц На этой диаграмме указано, каким образом организована связь между тыловыми и фронтовыми радиостанциями, а также аванпостом Полагаю, он обозначен узлом 8L Заметки в правой части листа, по всей видимости, перечисляют радиостанции Пятьдесят пятой армии и некой „2 St A“ – по-моему, русские называют ее Второй ударной армией – Кому все это предназначалось? – спросил Хемингуэй. – Понятия не имею – Зачем американской разведке подобные сведения о русских? Ведь они наши союзники – Не знаю, нужна ли американской военной разведке эта информация, – честно ответил я – Со временем сбор разведданных становится самоцелью Важно уже не то, за кем мы шпионим, а сам факт того, что мы „можем“ шпионить Хемингуэй выскреб песок из свой короткой бороды – Ты слишком циничен для разведчика, Лукас – Цинизма в нашей профессии хватает с избытком, – парировал я – Смотрите-ка Кажется, это копия карты Крыма. – „Разведданные батареи неприятеля“, – прочел Хемингуэй. – Прошлый ноябрь, – сказал я – В ту пору происходило сражение к югу от Севастополя – Это немецкие данные о позициях русских батарей в том сражении? – Да, – ответил я. – По-моему, это то, что называется „светозвуковой картой“. Немцы пронумеровали все советские орудия и позиции батарей, включая вот эту, помеченную корабликом. Похоже, они наносили по этой позиции ответные удары. – Если не считать карты залива Френчман, все эти сведения относятся к русским, – заметил Хемингуэй.
Я вынул из водонепроницаемого кармашка очередной документ и протянул его писателю. – Это не копия, – сказал я. – Это страничка, вырванная из чьего-то блокнота. – И что же? – А то, что это – исходные, необработанные разведданные Абвера. – О чем они? Я бросил взгляд на листок. – Думаю, это всего лишь перечень клейм, которые ставят на танки разные заводы СССР. Вероятно, таким способом Абвер оценивает объемы танкостроения русских.
– Это ценные сведения? – Не знаю, ценны ли сами сведения, – ответил я, – но вид, в котором они представлены, несомненно, заслуживает особого внимания. – Что ты имеешь в виду, Лукас? – Внезапно Хемингуэй оглянулся через плечо на гребень, проходивший под деревом Оттуда донесся какой-то звук. – К крабам прибыло подкрепление, – сообщил он, вновь усаживаясь на песчаный склон. – Почему важен вид, в котором они представлены? – Это необработанные данные немецкого агента, – повторил я. – Американская и английская военные разведки могли бы узнать из них не столько о русских танках, сколько о методах действий Абвера.
Хемингуэй кивнул. – Значит, дело не в том, что кто-то торгует сведениями о русских. Он выдает немецкие источники информации. – Да, – сказал я. – И если вы думаете, что здесь только разведданные с Восточного фронта, посмотрите сюда. Следующий документ представлял собой немецкую карту воздушной разведки района в Северной Африке. О сражении в пустыне к востоку от Бен Гардана сообщали в новостях менее полутора месяцев назад. Солнце нещадно припекало. Запах тления становился невыносимым. Он напомнил мне о том, чем грозили пометки на этой карте – горами трупов немцев и англичан, гниющих под пустынным солнцем. – Я могу это прочесть, – сообщил Хемингуэй. – Пятьдесят танков к югу от Бен Гардана. Сто машин собраны на западной окраине города. Сто автомобилей союзных войск, следующие в обоих направлениях по дороге к востоку от города и шестьсот – к западу. Но кому нужна карта двухмесячной давности? – Понятия не имею, – ответил я. – А это что такое? – спросил Хемингуэй, протягивая мне лист, напечатанный под копирку. – Вот дерьмо, – сказал я, сразу осознав значимость документа. – Это перехват немецкой шпионской станции, радировавшей в Гамбург. Перехват осуществлен ФБР, либо армейской или военно-морской разведками США. Пятое апреля. Это простейший книжный шифр Абвера, передача велась на частоте 14 560 килогерц. Станция-корреспондент отвечала на частоте 14 385 килогерц. Вот здесь, в середине текста, передающий агент сделал ошибку и отбил серию точек… буквы „Е“ означают „ошибка“… Следом он передал правильную группу символов. – Ты понял, что здесь написано? – Нет. – Почему же ты сказал „дерьмо“? – спросил Хемингуэй, глядя на меня и щурясь от яркого утреннего солнца. – Этот документ вложили сюда только для того, чтобы показать… людям, которым он предназначен… что у Абвера есть источник информации в ФБР или в американской военной разведке, – объяснил я. – Эта копия была куплена или похищена непосредственно в американских ведомствах. – Вот дерьмо, – сказал Хемингуэй. „Вот именно, – подумал я. – Пятого апреля нынешнего года Инга Арвад забавлялась с молодым лейтенантом военно-морской разведки Джеком Кеннеди, сыном посла Джозефа Кеннеди. Буквально накануне выхода в море „Южного креста“. – Действительно, дерьмо, – произнес я, смахивая пот и песок с ресниц. – Что там такое? Хемингуэй, посмеиваясь, листал толстую пачку отпечатанных на машинке бумаг. Я заметил на заголовке двойную молнию – символ СС. – Ничего особенного, – ответил Хемингуэй. – Всего лишь аккуратно напечатанный полный список персонала гамбургского отделения Абвера с указанием должностей и мест прохождения службы. Датирован 1 апреля 1942 года. Хочешь узнать, сколько там сотрудников контрразведки? Двадцать шесть. Четыре кадровых офицера, пятнадцать гражданских. Один радиотехник на контракте, двенадцать радистов. Семьдесят два стенографиста. Один фотограф. Один офицер в отставке, ведающий транспортом… думаю, это шофер… два мотоциклиста. Господи боже мой! Я кивнул. – Уложите бумаги в сумку. Мы заберем ее с собой. – Еще бы, черт побери. Мы обязательно заберем ее с собой и как можно быстрее доставим послу Брадену и остальным… если удастся, сегодня же вечером. – Нет, – твердо сказал я. – Мы не станем этого делать. Хемингуэй посмотрел на меня. – Нужно взять фотоаппарат, – продолжал я. – Мы обязаны сфотографировать трупы и их вещи, а также пули. Потом мы выкопаем их плотик и сфотографируем его. Потом его придется опять зарыть. А потом похоронить тела. – Нужно привезти сюда людей из военно-морской разведки, – сказал Хемингуэй. – Нет, – повторил я. – Мы не станем этого делать. Хемингуэй не спорил. Он молча ждал. Ветер на секунду утих, и мы вновь почувствовали смрад с вершины холма. – Я объясню вам все, когда мы выйдем в море на „Лорейн“, – пообещал я. Хемингуэй лишь покачал головой и отправился за фотоаппаратом и второй лопаткой.
Глава 25
Когда мы с Хемингуэем вернулись на Кейо Конфитес, „Пилар“ спокойно стояла на якоре, а экипаж и мальчики доедали поздний завтрак у костра. По пути к островку мы едва не пробили днище „Лорейн“, рассекая волны. Всю дорогу мы мчались на полных оборотах, выбрасывая позади себя струю брызг, похожую на петушиный хвост, словно пытаясь обогнать самого Сатану. Топливо в баках катера Тома Шелвина иссякло, и, прежде чем достичь островка, мы потратили изрядную часть резерва в бочках. Когда я обратил внимание Хемингуэя на расход горючего, он сказал: – Плевать… На Конфитесе для нас припасено еще. На обратном пути он доверил мне штурвал. Пока мы медленно плыли по каналу Энсенада Хиррадура и с крайней осторожностью пробирались сквозь проход в рифе, когда мы наконец начали набирать скорость и Пойнт Рома стал удаляться, Хемингуэй сидел в кожаном кресле на корме, держа на коленях заряженный „браунинг“ и поставив рядом сумку с осколочными гранатами. Я не задавал вопросов, но подозревал, что он надеется, что вчерашняя субмарина возникнет над синими водами Гольфстрима, словно чудовище, поднявшееся из холодных глубин Именно таким Хемингуэй запомнился мне тем летом – утомленный бородатый рыцарь, ждущий своего дракона. Во время обратного пути, проделанного с головоломной скоростью, мы не заметили и следа подлодки. Мужчины и мальчики, сидевшие у утреннего костра, встретили нас приветственными возгласами. – Как прошло ваше путешествие, папа? – спросил Патрик. – Вы отыскали заправочные базы? – осведомился Грегори, – Видели подводные лодки? – спросил Гест. – Мы заметили несколько летучих рыб, но ни одного немца, – сообщил Грегори. – Обнаружили что-нибудь важное? – спросил Ибарлусия. – Мы рады, что вы вернулись, папа, – сказал Грегори. Хемингуэй сел на бревно, взял металлическую кружку с дымящимся кофе, которую ему протягивал Гест, и сказал: – Ничего интересного, парни. Мы с Лукасом прошли по каналу за Кейо Сабинал и осмотрели несколько тупиковых проток. Заночевали на берегу. Там нет спасения от мух и москитов. – Где Мария? – спросил я. Ибарлусия указал на „Пилар“, стоявшую на якоре в двадцати метрах от берега. – Вчера вечером Саксон расхворался всерьез. Рвота, понос и все такое прочее. Он хотел остаться у рации, но Грегорио в конце концов уложил его на большую койку в носовом кубрике, и Мария провела с ним всю ночь. – Он мельком посмотрел на меня. – Я хотел сказать, ухаживала за ним всю ночь. Он действительно болен. – Как он чувствует себя теперь? – спросил я. – Спит, – ответил Гест. – Пару часов назад Грегорио и Мария приплывали сюда на „Крошке Киде“, чтобы позавтракать с нами. Потом она сама вернулась на яхту взглянуть на Саксона. – Гест уважительно покачал головой. – Девчонка жуть как боится воды, но управлялась с лодкой, словно заправский мореход. Если я заболею, пусть она ухаживает за мной. – Пожалуй, сплаваю к ней, поздороваюсь, – сказал я. – Она скоро должна вернуться на шлюпке, – сообщил Патрик. – Мы собирались показать ей риф, у которого вчера охотились с острогами. Я кивнул, вышел на берег, снял пропотевшую рубашку, брюки и туфли и поплыл на „Пилар“ в одних трусах. Лагуна уже прогрелась, но после жары, крови, песка, после долгой ночи и утра вода казалась мне очень приятной. Увидев, как я стою на палубе, почти голый, стряхивая с себя капли воды, Мария изумилась. Она отставила кружку с кофе, вспорхнула по последней ступеньке трапа камбуза и бросилась мне в объятия. Потом, зардевшись, она отступила на шаг, бросила застенчивый взгляд на трусы, облепившие мои бедра, и сказала: – Сеньор Саксон спит, Хосе, а маленькая лодка привязана вон там, и если ты… Я взъерошил ее волосы. – Хочу пригласить тебя на пикник. Ее глаза возбужденно расширились, словно у юной девушки. – Пикник, Хосе? Но мы только что позавтракали… Я улыбнулся. – Это неважно. До того места, которое я хочу тебе показать, путь неблизкий. Прихвати из камбуза все необходимое, а я отыщу свою сумку и оденусь. Мария улыбнулась, вновь обняла меня и побежала по трапу в камбуз. Я шлепнул ее по мягкому месту. Спустившись в маленький кубрик, в котором мы держали свои вещи, я натянул чистые шорты, поношенную холщовую рубаху и надел свои запасные туфли из парусины. Потом я вышел в большую носовую каюту и растолкал похрапывающего Саксона. – Тебе полегчало? – Хуже… некуда… – ответил пехотинец, глядя на меня прищуренными глазами и облизывая сухие губы. – Голова трещит, будто с похмелья. – Кто за тобой ухаживал прошлой ночью? Мария? – Да, она… – Саксон умолк и вновь прищурился. – Не подумай чего плохого, Лукас. Меня выворачивало наизнанку. Я едва соображал, где нахожусь. Мария всего лишь…. – Понятно, – сказал я. – Удалось ли тебе перехватить шифрованные сообщения во время вчерашнего патрулирования? – Да, – ответил пехотинец, поддерживая голову обеими руками. – И еще одно, после того как мы пристали к острову. Поздно вечером. Почти в полночь. – И ты сумел принять его, хотя плохо себя чувствовал? – Да. Я сидел в рубке на полу, держа между ног ведро и надев наушники. Хемингуэй очень настаивал, чтобы я слушал эфир всю прошлую ночь. – Ты записал текст? Саксон посмотрел на меня. – А как же. На двадцать шестой странице радиожурнала. Там больше нет записей. Но понять ничего не сумел. Какой-то новый шифр. Я похлопал его по плечу и вошел в крохотную радиорубку. Записи в „радиожурнале“ – блокноте на пружине – заканчивались переговорами британского эсминца и панамского торгового судна. Двадцать шестая страница отсутствовала. Я вернулся и опять разбудил Саксона. – Ты уверен, что записал передачу? Двадцать шестой страницы там нет. – Да. Уверен. Помнится, я… словом, когда меня тошнило, я чуток забрызгал ту страницу, но оставил ее в блокноте. – Ладно, не волнуйся, – сказал я. – Ты не запомнил хотя бы несколько групп? Саксон медленно покачал головой. Кожа его черепа под коротко остриженными волосами потемнела от загара. – Помню только, что это были пятисимвольные группы. Двенадцать или тринадцать штук. Почти без повторений. – Хорошо. Кстати, приемник рации не работает. – Проклятие, – отозвался Саксон. – Эта гребаная хреновина, этот вонючий флотский кусок дерьма из задницы ниггера вчера барахлил весь день. „Никогда не разговаривай с морским пехотинцем на его языке, если у него похмелье“, – подумал я и сказал: – Ничего страшного. Я сплавал к берегу на „Крошке Киде“, и Фуэнтес отвез меня на „Лорейн“; все это время Мария продолжала упаковывать корзину для пикника. Кубинцы помогли нам заправить баки из бочки, и я подвел катер к „Пилар“. Мария ждала меня на палубе. – Сеньор Саксон уснул, – сообщила она, осторожно переступая через борт катера и укладывая корзину на кормовую банку. На ней было чистое платье в голубую клетку. – Хорошо, – сказал я, отталкивая катер от яхты и беря курс на проход в рифе. Патрик и Грегори что-то кричали нам с берега; они явно были раздосадованы тем, что Мария покидает их, но я только помахал мальчикам рукой. – Мы действительно можем это сделать, Хосе? – спросила девушка. – Я имею в виду, уехать в такой день? Я помог ей забраться в пассажирское кресло; она взяла меня за руку и не выпускала ее. – Да, – ответил я. – Можем. Я попросил у сеньора Хемингуэя выходной. Я его заслужил. К тому же „Пилар“ выйдет в море только к вечеру. У нас достаточно времени. – Я вывел „Лорейн“ на открытое пространство и двинул вперед рукоятки газа, так что стрелка тахометра заплясала в двух делениях от красной черты. Мария все еще держала меня за руку. Было видно, что на маленьком судне ей не по себе, но примерно через полчаса она успокоилась. Она повязала голову красным шарфом, но из-за сильного ветра ее волосы выбились наружу, а на правой руке, лежавшей на борту катера, блестели капельки поднятых катером брызг. Был прекрасный день, солнце поднималось к зениту, а мы продолжали мчаться к востоку, рассекая едва заметные волны. – Мы так далеко заплыли, – сказала Мария, вглядываясь в южный горизонт, на котором туманной пеленой виднелась Куба. – И все для того, чтобы устроить пикник? – Не так уж далеко, – ответил я, убавляя обороты. В этом месте был опасный риф, хотя до прилива оставалось меньше часа. – Мы плывем туда, – добавил я, указывая на северо-восток. Крохотный островок был всего шести метров в поперечнике и возвышался над водой на тридцать сантиметров; волны захлестывали его, шурша галькой. Я аккуратно подвел к нему катер и бросил кормовой якорь в нескольких метрах от берега. Мария недоуменно посмотрела на меня. – Хосе, он такой низкий и неровный… на песке так много камней… – Это всего лишь вершина рифа, который обнажается при отливе, – объяснил я. – Он уйдет под воду… – я бросил взгляд на запястье, —..примерно через час. Давай перенесем корзину на берег и побыстрее примемся за еду. Мария надула губы, явно разочарованная. – Если не возражаешь, я поем в катере. Вода пугает меня. Ты ведь знаешь, я плохо плаваю. Я пожал плечами: – Как хочешь, крошка. Мария вынула из корзины мои любимые сэндвичи с говядиной и хреном, картофельный салат и несколько бутылок пива. Чтобы пиво не нагрелось, бутылки были завернуты в мокрое полотенце. Мария захватила даже высокие бокалы и откупорила пиво с некоторой торжественностью. Я поднял свой бокал, салютуя ей, и поставил его на скатерть, расстеленную на кожухе двигателя за нашими спинами – мне не хотелось оставлять влажные круги на красном дереве. – Чем ты вчера отравила Саксона? – негромко спросил я по-немецки. Мария непонимающе посмотрела на меня. – Что ты сказал, Хосе? – спросила она по-испански. – Я разобрала имя Саксона, однако… почему ты разговариваешь со мной на… что это за язык? – Это не имеет значения, – ответил я, продолжая говорить по-немецки. – Полагаю, ты уничтожила страничку из радиожурнала? Мария смотрела на меня во все глаза, явно озадаченная, но, по всей видимости, только тем, что я говорю с ней на незнакомом ей языке. Внезапно она широко заулыбалась. – Ты дразнишь меня, Хосе, – негромко сказал она. – Наверное, ты говоришь ласковые слова? Я улыбнулся и перешел на английский. – Я говорю, что убью тебя, сука, если у тебя не развяжется язык. Я в любом случае должен был убить тебя за то, что ты сделала с малышом Сантьяго, но дам тебе последний шанс – только если ты перестанешь валять дурака. Какое сообщение ты отправила сегодня утром, прежде чем вывести рацию из строя? Мария все еще смотрела на меня, робко улыбаясь. Судя по ее виду, она не была испугана, только смущена. – Ладно, – сказал я по-немецки. – Идем на корму. Я припас для тебя чудесные подарки. Во взгляде Марии по-прежнему читалось недоумение, и только когда я перебрался через сиденье и двинулся к выходу из рубки, она улыбнулась и взяла руку, которую я ей протягивал. Она прошла между сиденьем и приборной панелью и осторожно зашагала к корме. Я открыл один из тайников и вынул изогнутый нож, взятый у убитого немца. – Узнаешь, Мария? – спросил я по-испански. Она улыбнулась с таким видом, будто радуется тому, что я заговорил понятными для нее словами. – Si, – ответила она. – Это тростниковый нож. Такими ножами режут тростник. – Очень хорошо, – сказал я, продолжая говорить по-испански. – Ты знаешь, что это такое… но ты не знаешь выражение „между нами и морем“. А ты не могла этого не знать, Мария. Любая девчонка, выросшая на кубинском побережье, обязательно перенимает эту фразу от взрослых. Кто ты – испанка? Или немка с испанскими корнями? Кстати, твоему знанию кубинского диалекта можно позавидовать. Мария смотрела на меня широко распахнутыми глазами: – Что ты говоришь, Хосе? Я… – Если ты еще раз назовешь меня Хосе, я пристрелю тебя раньше, чем собирался, – сказал я, вынимая из тайника „магнум“ и наводя дуло в сторону Марии. – Sprechen Sie! – рявкнул я. Мария отпрянула, словно я закатил ей пощечину. Устав от притворства – Марии и своего собственного, – я ударил ее по лицу. Один раз, но от души. Она рухнула на подушки сидений и сползла на палубу. Потом поднесла ладонь к щеке, глядя на меня во все глаза, откинув голову на планшир. Кривой тростниковый нож лежал там, где я его оставил – на кормовом сиденье, чуть ближе ко мне, чем к ней. Я все еще держал в руке пистолет. – Итак, – заговорил я по-английски, – я начну по порядку, и если ошибусь, ты меня поправишь. Ты – один из двух членов ликвидационной группы Бекера. Панама. Это твоя постоянная кличка. Тебя забросили на Кубу несколько месяцев назад. Если я съезжу в твою деревню – как ты ее называла? Пальмарито, неподалеку от Ла Пруэба, в предместьях Сантьяго де Куба, – то наверняка выяснится, что там никто и не слыхивал о семье Маркес… во всяком случае, о семье Маркес, из которой сбежала девчонка, изнасилованная собственным братом. А может быть, Мария Маркес существовала, но ты убила ее? Мария все еще прижимала ладонь к багровеющей щеке и смотрела на меня, будто на ядовитую змею. – Очень хорошо, – сказал я, переходя на немецкий. – Мартин Кохлер, злосчастный радист „Южного креста“, приходит к тебе в бордель, как и было условлено. Или он должен был встретиться там с лейтенантом Мальдонадо? Впрочем, это несущественно. Дождавшись ухода кубинского полицейского, ты взрезала Кохлеру горло, заперлась в ванной и подняла шум. Очень тонко, Мария. Мы с Хемингуэем нашли шифровальный блокнот, который должен был попасть к нам в руки, а ты поселилась в финке. Господи, как ловко ты водила нас за нос! Мария моргнула, но на ее лице не отразилось ни удовольствия, ни злорадства. – Разумеется, ты и прежде бывала там, – продолжал я. – В первую ночь после моего приезда ты стреляла в нас, когда мы играли в ковбоев и индейцев в усадьбе Франка Стейнхарта. Но в кого ты стреляла, Мария? В Хемингуэя? Это бессмысленно. В меня? Это в равной степени бессмысленно, поскольку я нужен был вам, чтобы провести наивного писателя по этому лабиринту. Вам нужен был человек, который расшифрует радиопередачи и убережет Хемингуэя от смерти. Вам требовался человек, который поможет ему оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы мы послужили вам посыльными и передали вот это. Я вынул немецкую курьерскую сумку и швырнул ее на длинное сиденье рядом с тростниковым ножом. Мария посмотрела на нее так, как заблудившийся в пустыне смотрел бы на кружку с холодной водой. – Одерни юбку, Мария, – небрежно бросил я по-немецки. – Ты сидишь задрав колени, и я вижу твои трусы и торчащие из-под них волосы. Женщина еще сильнее покраснела и потянула подол платья. Потом ее руки замерли, и она впервые за все время посмотрела на меня с неприкрытой ненавистью. – Не огорчайся, – сказал я. – Тынастоящий профессионал. Просто у тебя выдался неудачный день. Мария встала и опустилась на край сиденья, подчеркнуто избегая смотреть на нож и курьерскую сумку, лежащие между нами. – Сеньор Лукас, – медленно заговорила она на кубинском диалекте, – вы принимаете меня за кого-то другого. Клянусь матерью. Я действительно немного знаю немецкий и английский… научилась у мадам, в доме которой… – Заткнись, – ровным голосом произнес я. – В кого ты стреляла той ночью? Или это была всего лишь декорация, призванная подхлестнуть мой интерес к игре? Или ты хотела предупредить кого-нибудь из нас, или даже убить? Например, другого агента? Может быть, английского? Уинстона Геста, к примеру? Ее взгляд оставался непроницаемым. Я пожал плечами. – Короче говоря, ты затесалась в нашу компанию, собирая информацию всеми доступными способами и передавая ее гауптштурмфюреру Бекеру… Ведь это Бекер руководил тобой, не так ли? Мария молчала. Ее лицо превратилось в каменную маску, на нем не дрогнул ни один мускул. – Отлично, – сказал я. – Потом ты убила малыша Сантьяго. Вероятно, тем же ножом, которым прикончила Кохлера. Ты отлично владеешь ножом, крошка. Мария не смотрела ни на нож, ни на „магнум“, который я небрежно бросил себе на колени. – В эпизоде, когда Мальдонадо, охотясь за тобой, появляется в усадьбе, вы дали маху, – продолжал я. – Как говорят британцы, переиграли. Но ваш замысел сработал… тебя взяли в плавание. Ну и что теперь, малышка? Ты вплотную приблизилась к своей цели… если твоя цель – Хемингуэй. – Я внимательно следил за мускулами вокруг ее глаз, но они словно одеревенели. – Ну да, конечно, именно он, – сказал я. – И, вероятно, я. Но когда ты должна была нас убрать? И зачем? По всей видимости, передав вот это, – я похлопал по парусиновой сумке, —..и сыграв свою роль, мы становились лишними и от нас следовало избавиться. Но зачем Колумбия, твой напарник по ликвидационной группе, убил прошлой ночью этих несчастных мальчишек? Неужели нельзя было устроить так, чтобы они потеряли документы, а мы их обнаружили? Мария закрыла ладонями глаза, словно собираясь расплакаться. – Нет, думаю, нельзя, – продолжал я. – Эти парни получали приказы от Канариса, от армии. Абвер даже не догадывается о том, что случилось, не правда ли, Мария? Если не ошибаюсь, военная разведка осуществляет одну операцию, а вы с Бекером, Гиммлером, почившим Гейдрихом и твоим партнером – совсем другую. Вы собирались торговать секретами Абвера. Но кому вы намеревались их сбыть? И что вы хотели получить взамен? Мария негромко всхлипнула. – Хосе… сеньор Лукас… пожалуйста, поверьте мне. Я не понимаю почти ничего из того, что вы говорите… Я не знаю, о чем вы… – Заткни свою грязную пасть. – Я глубоко сунул руку в тайник и вынул длинный сверток, который нашел на сеновале вечером накануне отплытия. Развернув парусину, я достал „ремингтон“ и с грохотом швырнул его на палубу. Шестикратный оптический прицел оставил на красном дереве вмятину. – С твоей стороны было крайне неосмотрительно держать винтовку у себя под боком, Мария, – сказал я по-немецки с грубым баварским акцентом. – С другой стороны, она могла понадобиться тебе в любую минуту, верно? Итак, ты – специалист по холодному и длинноствольному оружию, профессиональный агент-ликвидатор, „Todtagent“. Но мне хотелось бы узнать, являешься ли ты одним из суперагентов… „Grossagenten“, которых так боимся мы в ФБР? – Хосе… – начала женщина. Я ударил ее тыльной стороной ладони, вложив в удар всю силу. Ее голова откачнулась назад, но на сей раз она не сползла " с подушек, не прикоснулась пальцами к покрасневшей щеке и не вытерла кровь с губ. – Я предупреждал, что могу убить тебя, если ты назовешь меня Хосе, – едва слышно произнес я по-испански. – В этот раз я говорю совершенно серьезно. Она медленно кивнула. – Кто второй член группы? – отрывисто произнес я. – Дельгадо? Кто? Женщина, которую я несколько месяцев называл Марией, чуть заметно улыбнулась, но ничего не сказала. – Знаешь, как я разговорил Тедди Шлегеля? – спросил я по-немецки и, вынув из кормового ящика с инструментами длинную отвертку, положил ее рядом с тростниковым ножом. – С женщинами количество вариантов удваивается, – добавил я, оскалив в ухмылке зубы. Если бы ненависть во взгляде могла убивать, я уже был бы мертв. – Ты будешь говорить, – продолжал я, – и расскажешь мне все подробности операции. Снимай платье. Глаза Марии распахнулись: – Что? – по-испански спросила она. Я схватил оба запястья женщины и рывком поставил ее на ноги. Заткнув „магнум“ за пояс и удерживая ее запястья левой рукой, правой разодрал платье спереди, осыпая белыми пуговицами „ремингтон“ с пустой обоймой. Отпустив одну руку Марии, я порвал платье на клочки, выбрасывая их за борт. Мария ткнула пальцами свободной руки мне в глаза. Я ударом швырнул ее на подушки кормового сиденья. Я всегда обращал внимание на то, что для шлюхи у нее слишком белые трусики и лифчик. Белый хлопок сиял в ярком утреннем солнце. Мария полулежала, опираясь на планшир, и ее груди под лифчиком казались полными, светлыми и беззащитными. Ее бедра были бледными внутри. – Отлично, – сказал я, поворачиваясь, чтобы вновь забраться в тайник. – Сейчас я покажу тебе кое-что еще, и тогда… Она оказалась проворнее, чем я ожидал. Я едва успел развернуться и схватить ее правое запястье, прекращая движение тростникового ножа, который вонзился бы мне в почки, если бы я его не остановил. Окажись на его месте прямой клинок с острием, а не лезвие в форме косы, Мария свалила бы меня. Вдобавок она была крепче, чем я думал. Мне следовало понять это еще раньше, когда я целые ночи проводил в схватке с ней на постели и полу коттеджа, ощущая силу ее бедер и рук, которыми она меня обнимала. Ей почти удалось освободить нож от моей хватки, а ее левая рука цеплялась за мой пояс, пытаясь вытащить заткнутый за него „магнум“. Я обеими руками вырвал у нее нож, и он со звоном упал на уже исцарапанную палубу, но Мария умудрилась завладеть пистолетом. Она отпрыгнула в угол рубки и прицелилась мне в лицо, прежде чем я успел отнять у нее оружие. Она держала пистолет обеими вытянутыми руками, ее палец лежал на спусковом крючке. Я не смог бы преодолеть разделяющее нас расстояние до того, как она выстрелит. – Мария, – дрогнувшим голосом заговорил я, – или, может быть, тебя зовут иначе? Мы могли бы договориться… Об этом не знает никто, кроме меня, а я не стану… – Schwachsinniger! – крикнула она и нажала крючок. Боек ударил по пустому патроннику. У меня была секунда, прежде чем Мария вновь взвела механизм, но я не тронулся с места. Она опять нажала спуск, и боек вновь сухо щелкнул. Потом еще раз. – Я так и знал, – по-английски произнес я. – Но хотел точно убедиться. – Я подошел к ней и вынул бесполезный пистолет из ее пальцев. Мария ударила меня локтем и рванулась к тростниковому ножу, лежавшему на палубе. Хватая ртом воздух, я поймал ее за талию и оттащил назад. Мы оба повалились на подушки, и катер чуть закачался на воде. Мария еще раз попыталась вцепиться мне в глаза, но я уткнулся лицом в ее спину, и ногти женщины лишь прочертили кровавые царапины на моей шее. Я вновь толкнул ее в дальний угол и поднялся на ноги. Мария вскочила, словно дикая пантера, и приняла профессиональную боевую стойку. Ее правая рука была занесена для удара и напряжена, четыре пальца выставлены вперед клином и поддержаны согнутым пятым. Она шагнула вперед и нанесла мне в живот удар, который должен пробивать кожу и мышцы, проходить под ребрами и превращать сердце в бесформенную плоть. Я поставил блок левым предплечьем и ударил ее в подбородок. Мария рухнула спиной на палубу, будто тяжелая сумка с бельем, с такой силой ударившись головой о хромированный планшир, что раздавшийся звук напоминал выстрел. Она распласталась на палубе, раскинув ноги; на ее груди и в промежности белых трусиков выступил пот, глаза закатились. Прижав к доскам ее запястья, я похлопал ее по щекам, чтобы привести в чувство. Я ударил ее недостаточно сильно, чтобы убить или надолго оглушить, но голова Марии была повреждена серьезно. На планшире осталась кровь. Глаза женщины распахнулись. – Вряд ли ты сохранила страничку из радиожурнала, – сказал я. – Ты слишком умна, чтобы так поступить. Но это можно проверить. – Я приподнял ее одной рукой и разорвал лифчик и трусики. Бумаги там не оказалось, но я на это и не рассчитывал. Какая-то часть моего сознания с безразличием следила за происходящим, словно решая, нравится мне все это или нет. Кажется, я не испытывал ни малейшего удовольствия. Было такое ощущение, что меня вот-вот стошнит. – Отлично, – продолжал я. – Теперь займемся пикником. – Я поднял Марию с палубы и перевалил через борт. Вода привела ее в сознание, и она взмахнула руками, пытаясь ухватиться за катер. Я взял рыболовный багор и оттолкнул ее прочь. Она повернулась и по-собачьи поплыла к заливаемому водой островку, до которого было около десяти метров. Выбравшись на камни и песок рифа, она оглянулась на меня. По ее груди и коленям стекали капли. Я спрятал багор, „ремингтон“, тростниковый нож и парусиновую сумку, поднял якорь и швырнул за борт остатки снеди из корзины. Потом бросил Марии полную фляжку. Она поймала ее за ремешок одной рукой. Я завел двигатель и развернул катер к западу. – Возвращаюсь на Конфитес! – крикнул я. – Чтобы смазать йодом царапины на спине. Высшая точка прилива – примерно через тридцать пять минут. Риф уйдет под воду, будет очень сильная волна, но если ты зароешь ступни в песок и найдешь в кораллах нишу, то, может быть, удержишься на ногах. – Хосе! – взмолилась женщина, оставшаяся на песчаной полоске. – Я действительно не умею плавать! – Это не имеет значения, – ответил я. – До Конфитеса двадцать пять миль. – Я указал на юг. – А до Кубы или архипелага Камагуэй – двадцать. И лишь несколько мест, где кораллы не нарежут тебя лентами, если ты вздумаешь пробираться через рифы. – Лукас! – взвизгнула женщина. – Пораскинь мозгами, – сказал я. – Подумай над моими вопросами. Может быть, я еще вернусь. Платой за проезд будут твои ответы. Не хочешь ли поболтать прямо сейчас? Она повернулась ко мне спиной, глядя на волны, которые захлестывали остатки островка. Кем бы она ни оказалась, вражеским агентом или беспощадным убийцей, у нее была прекрасная фигура. Я двинул рукоятки газа вперед, и „Лорейн“ помчался на запад. Я оглянулся и посмотрел в бинокль, только отойдя на две мили. Остров Потерянной Свиньи исчез из виду, но, вероятно, еще торчал над водой, потому что я различил бледный силуэт Марии на фоне голубого неба и синевы Гольфстрима. Кажется, она смотрела в мою сторону. „Пилар“ маячила на горизонте точно на том месте, где мы условились встретиться. На борту был один Хемингуэй. Он спустился с ходового мостика и, едва катер подошел вплотную к черно-зеленому борту яхты, перебросил мне трап. – Она что-нибудь сказала? – спросил писатель, цепляя багром причальный брус „Лорейн“ и подтягивая катер к яхте. – Сказала, что я – Schwachsinniger, – ответил я. Хемингуэя это ничуть не рассмешило, как, впрочем, и меня. – Все думают, что мы с тобой сегодня сошли с ума, – сказал он, посмотрев в сторону Конфитеса. Я кивнул и поскреб щеку. За время похода я и сам отрастил небольшую бородку, хотя не собирался этого делать. Я бросил взгляд на часы. У меня болели внутренности в том месте, куда пришелся удар локтя Марии. А может быть, живот заболел сам по себе. – Что теперь? – спросил Хемингуэй. – Больше я не стану бить или пытать ее, – произнес я голосом, который показался мертвенным даже мне самому. – Я вернусь за ней, когда вода поднимется ей до колен, и если она не заговорит, нам останется лишь забрать ее с собой в Гавану. – И что прикажешь с ней делать? Отдать Мальдонадо или Национальной полиции? Твоему дружку Дельгадо? – Я доставлю ее в гаванское отделению Бюро, – ответил я. – Ледди и остальным это не понравится, и мы, вероятно, никогда не выясним цель этой операции, но, по крайней мере, они арестуют ее и Бекера. Может быть, Бекер расскажет им, кто еще участвовал в этом деле и что они замышляли. – Или замкнется в молчании, – возразил Хемингуэй, хмуро взирая на меня. Яхта и катер колыхались на волнах прибывающей воды. – Либо твои приятели из Бюро уже знают, в чем тут дело. И, может быть, Дикарка расскажет им о вчерашних трупах и о документах, и нам придется отдать все бумаги ФБР, и нас самих расстреляют как предателей, и, может быть, именно так все и замышлялось. – Все может быть, – сказал я, вновь посмотрев на часы. – Ясно одно: если я в ближайшие минуты не отправлюсь на Остров Потерянной Свиньи, все наши рассуждения лишатся смысла. У нас уже не будет пленника, которого можно допрашивать. Я вновь завел двигатель. Хемингуэй оттолкнул катер от „Пилар“ и втянул на борт трап. – Эй! – окликнул я его. – Вы окрестили ее этой кличкой Дикаркой… в шутку, не так ли? Вы не доверяли ей. С самого начала. – Нет, конечно, – ответил Хемингуэй и забрался на ходовой мостик.* * *
Я догнал „Пилар“ двадцать минут спустя. Конфитес все еще виднелся на самом горизонте к западу. Хемингуэй убавил обороты и воззрился на меня, но не спустился с верхнего мостика. Я заглушил машину. – Черт возьми, где она, Лукас? Что ты с ней сделал? – Он внимательно осматривал открытую рубку катера, словно подозревал, что я спрятал женщину под сиденьями. – Ничего, – ответил я. – Когда я вернулся, ее там уже не было. – Не было? – растерянно переспросил Хемингуэй и повернулся к востоку, прикрыв глаза ладонью, будто надеялся увидеть в океане плывущую женщину. – Не было, – подтвердил я. – Над водой оставалось несколько квадратных футов суши, но Мария исчезла. – Господи, – пробормотал писатель, снимая сомбреро и вытирая губы тыльной стороной ладони. – Я немного попетлял между островком и Кубой, – но ничего не увидел, – произнес я голосом, который вновь показался мне странным. – Наверное, она все же рискнула отправиться вплавь. – Мне казалось, она не умеет плавать, – отозвался Хемингуэй со своего насеста. Я свирепо посмотрел на него, но промолчал. – Может быть, акула сорвала ее с гребня рифа, – предположил писатель. Я хлебнул воды из фляжки, которую обнаружил на волнах в полумиле к югу от островка. Я пожалел, что на борту нет виски. – Уж не думаешь ли ты, что ее спасла вчерашняя подлодка? – спросил Хемингуэй. Я обдумал его слова. Они были не лишены мрачного юмора. Глядя на голую женщину, которая стоит на воде в двадцати милях от ближайшей земли, капитан субмарины, разумеется, не мог знать, что она – немецкий агент. И если Марию действительно взяли на борт подлодки, экипаж которой провел вдали от берега несколько месяцев, ее ждало кое-что пострашнее тех мер, которые я был готов применить, чтобы развязать ей язык. Разумеется, она постаралась бы объясниться и назвать себя на пулеметном немецком, но вряд ли исход был бы иным. – Это исключено, – отозвался я. – Она либо пустилась вплавь, либо утонула, сброшенная с острова волной. Хемингуэй посмотрел на восток и кивнул. – Перед тем как я отправился тебе навстречу, Сакеон сказал, что он проверил рацию. – Ну, и?.. – Она разбила одну из ламп. У Саксона нет запасной, поэтому мы не сможем принимать и отправлять передачи, пока не вернемся домой и не купим эту дурацкую стекляшку. Я промолчал. Из-за волнения моря и вида „Пилар“, колыхавшейся вверх-вниз, к моему горлу подступила тошнота. Впрочем, мне и до того было не по себе. – Хорошо, – сказал я. – Забираем мальчишек и ваших друзей и возвращаемся домой. – Как мы объясним исчезновение Марии? – Скажем, что она затосковала по дому, и я увез ее на Кубу, чтобы она могла отправиться в родную деревню, – ответил я, оглянувшись на юго-восток. Пальмарито, что близ Ла Пруэба, находилась где-то там. – Больше нам не удастся поговорить наедине, – сказал Хемингуэй. Он вновь надел потрепанное сомбреро, и на его лице поблескивали крохотные квадратики солнца. – Что, если мы вернемся, но не доставим курьерскую сумку туда, куда собирались? Я вновь отхлебнул из фляги, завинтил ее и швырнул в кресло у штурвала. Я вытер губы. Солнечный свет, отражавшийся от гребней волн и хромированных деталей, слепил меня. – Если мы не выполним свое предназначение, они либо отменят операцию и смотают удочки, либо… – Что? – спросил Хемингуэй. – Отправят по нашему следу оставшегося члена ликвидационной группы. – Ты хотел сказать – по „моему“ следу, – отозвался Хемингуэй. Я пожал плечами. – Нельзя ли их упредить? – спросил он. – Например, начать охоту за гауптштурмфюрером Бекером? – Можно попытаться, – ответил я. – Но, думаю, Бекер залег на дно. Он оставит инструкции своим людям и ближайшим кораблем отправится в Бразилию или в Германию. Возможно, он уже уехал. – Думаешь, это он был с фонарем вчера ночью? Наверное, погибшие парни встретились с ним, прежде чем их убил другой человек, скрывавшийся в зарослях. Бедолаги считали, что им ничто не угрожает. Думаешь, это Бекер сыграл роль Иуды? – Да. Может быть. Откуда мне знать, черт побери? – Не надо раздражаться, Лукас. – Хемингуэй посмотрел на восток. – Это никуда не годится. – Что именно? Хемингуэй стоял, расставив ноги, балансируя на качающейся палубе „Пилар“, и с улыбкой смотрел на меня сверху вниз. – Теперь нам придется переименовать на своих картах исчезающий островок. Как тебе название „Остров Пропавшей Шлюхи“? Я покачал головой, завел двигатель и взял курс на северо-запад.Глава 26
Я никогда не понимал, почему явочные дома называют „защищенными“. В таких местах может случиться все, что угодно. Я прибыл вовремя и вошел внутрь без стука и предупреждения. Дельгадо, как всегда, сидел в кресле напротив двери, по своему обыкновению оседлав его и кривя рот в своей обычной полуулыбке. Он выглядел очень загорелым и скучающим. Его белая „федора“ с широкими полями лежала на столе рядом с бутылкой мексиканского пива. Время от времени он подносил бутылку к губам. Я сел и положил руки на столешницу. – Ну что? Получил удовольствие от прогулки? – Как и прежде, его голос звучал насмешливо и язвительно. – Еще бы. – Все эти дни вы таскали с собой детей и женщин, – сказал Дельгадо, пронизывая меня взглядом светлых глаз. – Надеюсь, хоть какая-то часть потраченного вами горючего пошла на пользу государству? Я пожал плечами. Дельгадо вздохнул и поставил бутылку на стол. – Ладно. Где доклад? Я вытянул пустые руки. – Докладывать нечего. Ничего не видели, ничего не нашли. А поскольку рация сломалась, то ничего и не слышали. Дельгадо улыбнулся и приподнял брови. – Как же это она сломалась, Лукас? – Из-за неловкости пехотинца. Потом все устали, обгорели под солнцем, и мы вернулись домой. – Без доклада? – Без доклада. Дельгадо медленно покачал головой: – Ох, Лукас, Лукас. Я молча ждал. Дельгадо допил теплое на вид пиво и рыгнул. – Что ж, – негромко произнес он, – полагаю, было бы излишне объяснять, как твои действия в этой операции… и ты сам… разочаровали господина Лэдда и директора Гувера. И остальных. Я промолчал. Дельгадо указал в мою сторону большим пальцем. – Зачем у тебя за поясом „магнум“? – Гавана – опасный город, – ответил я. Дельгадо кивнул. – Ты раскрыл свою легенду перед Хемингуэем или тебе уже на все наплевать? – Не мне, а Хемингуэю на все наплевать, – объяснил я. – Ему безразлично, что я собой представляю и кто его противник. Ему надоело „Хитрое дело“ и охота за призраками субмарин. – И нам тоже. – Дельгадо смотрел на меня холодным, ничего не выражающим взглядом. – Кому „нам“? – спросил я. – Бюро, – ответил Дельгадо. – Твоим работодателям. Людям, которые платят тебе жалованье. – Нашим налогоплательщикам надоело „Хитрое дело“? – спросил я. Дельгадо не улыбнулся. Вернее, его кривая ухмылка осталась без изменений. – Надеюсь, Лукас, ты сознаешь, что в ближайшие дни тебя отстранят от операции и вызовут в Вашингтон с отчетом? Я пожал плечами: – Тем лучше. – Когда все кончится, ты запоешь иначе, – сказал Дельгадо, и в его голосе наконец прозвучало нечто большее, чем сарказм. Угроза. Он вновь вздохнул и поднялся. Я уже не в первый раз отметил, что он порой носит оружие в наплечной кобуре под левой рукой, и иногда – за поясом слева, так же, как я сам. Интересно, какими соображениями он руководствовался, выбирая тот или иной вариант? – Ладно, – сказал он, широко улыбнувшись. – Полагаю, наши с тобой дела завершены. Эта операция с самого начала была полной чепухой, и ты окончательно ее провалил. Я понапрасну потратил время и силы, и Бюро тоже. Сегодня или завтра я улетаю в Вашингтон для личного доклада. Лэдд или директор Гувер свяжутся с тобой по обычным каналам. Я кивнул, следя за его руками. Он протянул мне ладонь. – Ты не в обиде на меня, Лукас? Что бы ни случилось. Я пожал его руку. Дельгадо оставил на столе пустую бутылку и подошел к двери, щурясь от яркого солнца. – Надеюсь, в следующий раз меня назначат в более прохладное место. – Да, – сказал я. Он шагнул было вперед, но остановился и вдвинулся обратно в комнату, положив руку на дверной проем. – Кстати, как поживает твоя шлюшка? Когда вы вчера вечером швартовались в порту, я ее не заметил. Я вежливо улыбнулся: – У нее все хорошо. Она спала в каюте. – Должно быть, у нее крепкие нервы, если она не проснулась от ваших воплей и грохота. – Да, – сказал я. Дельгадо натянул свою белую шляпу, надвинул ее на глаза и отдал мне честь, приложив к виску палец. – Желаю тебе поладить с тем человеком, которого пришлют вместо меня. – С этими словами он исчез. – Да, – сказал я пустому дому.* * *
В воскресенье 16 августа Хемингуэй устроил вечеринку у бассейна, хотя и знал, что за ним вполне может охотиться беспощадный нацистский ликвидатор. В усадьбе собрались обычные завсегдатаи – посол Браден, его миловидная супруга и две дочери; Боб Джойс и его жена Джейн; господин и госпожа Эллис Бриггз с двумя детьми; Уинстон Гест в дорогом синем блейзере, с подстриженными и зачесанными назад волосами, полностью преобразившими его облик; Пэтчи, Синдбад и Кенгуру; Черный священник; кучка басков и спортсменов; братья Геррера; несколько приятелей Хемингуэя по стрелковому клубу „Казадорес“; Патрик, Грегори и с полдюжины их товарищей по бейсболу. Приехала даже Хельга Соннеман – она сообщила, что „Южный крест“ закончил свои дела в этих водах и готов отправиться в Перу. У меня не было времени, чтобы принять участие в вечеринке – впрочем, это не имело значения, поскольку меня не пригласили. Вчера вечером я проследил за Дельгадо до отеля, всю ночь ждал его на противоположной стороне улицы, а утром отправился за ним в аэропорт. Он вылетел одиннадцатичасовым рейсом в Майами. Женщина в кассе сказала, что он купил билет с пересадкой до Вашингтона. Разумеется, это ничего не означало. Окажись он вторым членом ликвидационной группы, его отъезд был бы мне на руку. Но с равным успехом он мог быть двойным агентом, покидающим страну, как, например, Шлегель. Но он мог быть и лояльным сотрудником ФБР, которым выглядел, и направляться в Департамент юстиции, чтобы доложить о своем успехе в деле вербовки Бекера, а заодно и о моем провале. Я оставил Хемингуэя одного, и это тревожило меня, однако Дельгадо был самым главным моим подозреваемым. Хемингуэй до такой степени увлекся подготовкой своего сборища, что не заметил, как агенты „Хитрого дела“ – по крайней мере, те, что не собирались участвовать в попойке, – подчиняясь моим распоряжениям, появляются в усадьбе и исчезают, пробираясь по полям и цветочным плантациям, будто крысы. Второй моей заботой был лейтенант Мальдонадо, но в последние несколько дней его видели в Гаване, и я пустил по его следу несколько официантов и портовых бродяг. Мальчишки из Сан-Франциско де Паула были готовы примчаться в усадьбу, если бы его автомобиль был замечен на Центральном шоссе. Оставшиеся оперативники „Хитрого дела“ выслеживали гауптштурмфюрера Иоганна Зигфрида Бекера в Старой Гаване, Кохимаре, в доках, на побережье – повсюду, где обитали либо появлялись сторонники фашистов. Своим лучшим юным соглядатаям я заплатил по двадцать пять долларов – бешеные деньги – и велел дожидаться в аэропорту возвращения Дельгадо, несколько раз предупредив, что они ни в коем случае не должны попасться ему на глаза, но при его появлении обязаны позвонить в финку и мчаться туда на своих мопедах. Наконец, мы с Доном Саксоном поделили суточное дежурство в радиорубке „Пилар“. Он оскорбился и едва не поднял бунт, да и самому мне было крайне неудобно ездить в Кохимар, расположенный на таком же расстоянии от усадьбы, что и Гавана, однако я не видел другого выхода. Единственная на всем кубинском побережье приличная рация, которой мы могли пользоваться, находилась на борту яхты Хемингуэя. Вероятность перехвата сообщений в Кохимаре была невелика, однако „Южный крест“ пока еще стоял в соседнем гаванском порту, у Ки-Параисо была замечена немецкая субмарина, а у меня возникло предчувствие, что связь с Колумбией будет осуществляться через местные радиосети. И опять-таки, у меня не было другого выбора. Весь день 17 августа прошел на редкость спокойно. Лейтенант Мальдонадо занимался своими полицейскими обязанностями, гауптштурмфюрер Бекер отсутствовал либо скрывался, от Дельгадо не было ни слуху ни духу, на стрелковом состязании в клубе „Казадорес“, посвященном окончанию летнего сезона, никто не пытался убить Хемингуэя и его сыновей, рация свистела, щелкала и принимала шифрованные военно-морские передачи, которые не значили для нас ровным счетом ничего, и порой выкрикивала искаженные помехами немецкие фразы с театра подводной войны в сотнях миль к северу. Сразу после часа ночи 18 августа меня разбудил знакомый писк коротковолновой морзянки в наушниках. Я начал записывать, еще не проснувшись до конца. Минуту спустя, читая свои записи при свете фонаря и стараясь не замечать храпа Саксона из носовой каюты, я сообразил, что передо мной книжный код на основе „Геополитики“, страница 198. Сигнал был сильный, вероятно, его источник находился в радиусе двадцати миль. Инстинкт подсказывал мне, что передача ведется с мощной наземной станции неподалеку от Гаваны, а не с судна в прибрежных водах. Чтобы заполнить сетку и расшифровать послание, мне хватило несколько минут. ОПЕРАЦИЯ ВОРОН ПРЕКРАЩЕНА ПОВТОРЯЮ ПРЕКРАЩЕНА Однако это сообщение было предназначено для нас. Тот, Кто его передавал, знал, что мы расшифруем текст. Через двадцать минут я вновь поймал сильный сигнал, явно переданный той же местной станцией. На этот раз он был закодирован цифровым шифром, который я вытянул из Шлегеля. Расшифровка и перевод с немецкого потребовали больше времени. КОЛУМБИЯ – ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ U296 И ГАМБУРГУ 29 АВГУСТА БРИТАНСКИЙ SC122 ПОКИДАЕТ ПОРТ НЬЮ-ЙОРК 3 СЕНТЯБРЯ БРИТАНСКИЙ НХ229 ПОКИДАЕТ ПОРТ НЬЮ-ЙОРК SC122 (51 СУДНО 13 КОЛОНН) НХ229 (38 СУДОВ 11 КОЛОНН) ТОЧКА АЛЬФ ASC122 КУРС 67 ГРАД ЗАТЕМ 49 ГРАД СЕВ 40 ГРАД ВОСТ ТОЧКА АЛЬФА НХ229 КУРС 58 ГРАД ЗАТЕМ 41 ГРАД СЕВ 28 ГРАД ВОСТ Это были настоящие разведданные, передаваемые с Кубы подводной лодке в Карибском море и в Гамбург. 29 августа британский конвой SC122 из 51 судна, идущих в 13 колонн, отправится из нью-йоркского порта. То же самое касалось конвоя НХ229 из 38 судов, отправляющегося 3 сентября. Цифры в последних двух строках указывали курс движения конвоев относительно некой „точки альфа“ в Северной Атлантике с координатами, известными группам немецких подлодок. Агент „Колумбия“ по-прежнему находился на Кубе и передавал субмаринам разведывательную информацию. Чуть позже трех утра „Колумбия“ пустил в эфир более длинное сообщение, зашифрованное „секретным“ кодом и предназначенное для командования РСХА в Гамбурге и Берлине. ВЕСЬМА СРОЧНО. ПОДТВЕРЖДАЮ ПРЕДЫДУЩИЕ СООБЩЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ СОЮЗНИКОВ ВЫСАДИТЬСЯ ВО ФРАНЦИИ. ОПЕРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СИЛАМИ ОДНОЙ ДИВИЗИИ. ЭТО НЕ, ПОВТОРЯЮ, НЕ ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. ЦЕЛЬ: ДЬЕПП И ПОЛЕВАЯ ШТАБ-КВАРТИРА ВЕРМАХТА В КВИБЕРВИЛЛЕ. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 2 КАНАДСКОЙ ДИВИЗИИ. КОМАНДИР ГЕНЕРАЛ КРИРЕР. КОДОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ОПЕРАЦИЯ РАТТЕР. ОПЕРАЦИЯ БЫЛА НАЗНАЧЕНА НАДЕНЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ, ОТЛОЖЕНА ИЗ-ЗА ПОГОДЫ НА ПЕРИОД 19–21 АВГУСТА. ПРОВЕРЬТЕ ЧЕРЕЗ AFUS В БРИТАНИИ ПОЛУЧИВ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, СООБЩИТЕ ВЕРМАХТУ ПАНАМА ИСЧЕЗ. ПЕРЕДАЧУ НЕ ПОВТОРЯЮ, АБВЕР НЕ ИНФОРМИРУЮ. КОЛУМБИЯ. Я во все глаза смотрел в блокнот, смахивая холодную испарину со лба. „Проверьте через AFUS в Британии“ означало, что военный радиообмен англичан перехватывают „Agentenfunkgerat“, агенты с тайными передатчиками, находящимися в Великобритании. Иными словами, немцы раскрыли по крайней мере некоторые шифры британской армии и флота. В четыре утра мне на смену явился Саксон. Я отправил его досыпать. В 4.52 поступило следующее сообщение, слабое, но отчетливое, переданное на коротких волнах с борта немецкой подлодки, затерянной где-то в Карибском море. КОМАНДОВАНИЕ – КОЛУМБИИ. С МАЯ МЕСЯЦА ОКМ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ СООБЩЕНИЯ RN, В КОТОРЫХ УПОМИНАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ „ЮБИЛЕЙ“. ЧТО ВАМ ИЗВЕСТНО О „ЮБИЛЕЕ“? Мои подозрения подтверждались. „ОКМ“ – это „Oberkommando der Marine“, военно-морской флот Германии. „RN“ – „Royal Navy“, Королевский британский флот. Очевидно, немцы разгадали флотские шифры Англии. В 5.22 я услышал сильный ясный сигнал передатчика, находящегося вблизи от „Пилар“: „ЮБИЛЕЙ – СЕКРЕТНОЕ КОДОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ РАТТЕР. ПОДРОБНОСТИ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕ ЖДУ ИНСТРУКЦИЙ. КОЛУМБИЯ. Двадцать минут спустя я принял ответ, зашифрованный кодом СД: ОБЪЯВЛЯЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ. ПРОДОЛЖАЙТЕ ПЕРЕДАЧИ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ОПЕРАЦИИ ВОРОН ЗАВЕРШЕНА. ПРЕДПИСЫВАЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ ГЕТЕ. УДАЧИ. ХАЙЛЬ ГИТЛЕР.* * *
– Повтори еще раз, – сказал Хемингуэй утром того же вторника. – Кого они, по-твоему, собираются убить? – Гете, – ответил я. – Так невежественные люди кличут всех писателей… а вы – единственный писатель, который хоть как-то причастен ко всей этой неразберихе. – Марти тоже писатель, – заметил Хемингуэй. – А ее прежняя фамилия начиналась с „Г“. – И в настоящее время она безмятежно пребывает… где? В Нидерландской Гвиане? – Но почему они воспользовались таким очевидным кодом? – сердито произнес Хемингуэй. Я покачал головой. – Вы забываете… эта передача была зашифрована цифровым кодом СД. Шлегель еще не признался, что выболтал его. К тому же Шлегеля, скорее всего, арестовали по возвращении в Бразилию. Его уже могли осудить и казнить. На лице Хемингуэя отразилось недоверие. – В ближайшие дни мы узнаем, насколько верна информация о совместном нападении англичан и канадцев на Дьепп, – добавил я. – Если это действительно так, – сказал Хемингуэй, прикасаясь к распухшему уху, – то там будет настоящая мясорубка. – Да, – согласился я, – но важнее другое. Если высадка состоится, мы поймем – наши оппоненты не догадываются о том, что мы разгадали их шифр. Они не пустили бы в эфир достоверную информацию, если бы опасались, что мы передадим ее ФБР, ОСР или BMP. – А мы передадим ее ФБР, ОСР и BMP? – спросил Хемингуэй. Я вновь покачал головой. – Даже если и передали бы, это ничего не изменит. Если даты вторжения верны, у нас остается лишь трое суток, чтобы отложить его. Такие крупные операции быстро не остановишь. – Но если канадцы высадятся на берег, а Вермахт будет их там поджидать… – Хемингуэй умолк, устремив взгляд в пространство. Я кивнул. – Такое случается сплошь и рядом. В настоящий момент американские и британские стратеги скорее позволят потопить корабли и даже сорвать операцию, чем выдать, что им известны немецкие и японские шифры. Я уверен в этом на все сто. Как правило, со временем такое поражение окупается. – Но только не для бедолаг канадцев, которых поджарят на берегу Дьеппа словно гамбургеры, – бросил Хемингуэй. – Вы правы, – негромко отозвался я. Хемингуэй замотал головой. – Твоя профессия воняет, Лукас. Воняет смертью, кровью и старческим маразмом. – Да, – сказал я. Он вздохнул и уселся в свое цветастое кресло. Большая черная кошка по кличке Бойсси вспрыгнула ему на колени и с подозрением прищурилась на меня. Когда я пришел, Хемингуэй пил „Том Коллинз“, и к этому времени лед в бокале растаял. Он все же допил коктейль, гладя кошку по шее. – Что же нам делать, Лукас? Как уберечь от опасности Джиджи и Мышонка? – Кем бы ни оказался второй ликвидатор, он настоящий профессионал, – ответил я. – По-моему, мальчикам ничто не угрожает. – Ты меня успокоил, – язвительно бросил писатель. – Он настоящий профессионал, стало быть, погибну только я. Если, конечно, ему не придет в голову взорвать финку, когда там спят мальчики. – Нет, – сказал я. – Думаю, он сделает это так, чтобы было похоже на несчастный случай. Погибнете только вы. От несчастного случая. – Почему? – осведомился Хемингуэй. – Точно не знаю, – ответил я. – Это часть операции „Ворон“… а я до сих пор не разобрался в ней до конца. Однако в сообщении сказано, что первая фаза операции завершена. Очевидно, для второй части вы не нужны. – Отлично, – сказал Хемингуэй. – Я собирался в конце этой недели выйти на „Пилар“ к архипелагу Камагуэй и проследить за уходящим „Южным крестом“. Хельга сказала, что капитан предпочитает обогнуть Южную Америку, чем идти по Панамскому каналу, и что они сделают остановку в Кингстоне. У нас с Волфером есть кое-какие соображения относительно того, где могут заправляться подлодки. Убедившись в том, что „Южный крест“ действительно покинул кубинские воды, мы могли бы осмотреть восточное окончание острова, потом отправиться на Гаити, по пути заглянув в Кингстон, и вернуться домой вокруг западного побережья Кубы. Мы рассчитывали пробыть в море неделю или две. Должен ли я отменить поход? – Нет. Так будет лучше всего, – ответил я после минутного размышления. – С плакатами Музея естественной истории на бортах мы очень приметны, – задумчиво произнес Хемингуэй. – Подлодка может обнаружить нас и потопить, тем самым облегчив задачу СД. – Вряд ли, – сказал я. – Мы перехватывали радиообмен между Колумбией и Гамбургом, а также между Колумбией и агентами СД на одной из субмарин. Сомневаюсь, что кому-нибудь из немецких капитанов известно, кто вы такой и в чем заключается операция „Ворон“. Вы будете в безопасности, как и всякое другое малое судно в этих водах. Хемингуэй помрачнел. – В воскресенье я говорил с Бобом Джойсом и парой ребят из флотской разведки. По их секретным прогнозам, в этом году будут потоплены еще более полутора тысяч грузовых кораблей союзников. Если немцы будут действовать нынешними темпами, в этом и следующем месяцах они уничтожат в Карибском бассейне от семидесяти до восьмидесяти судов, а до конца года – от двухсот до трехсот. Подумать только, ведь Марти плавает где-то там, в самом средоточии этой бойни… – Он посмотрел на меня. – Как ты считаешь, должен ли я взять с собой мальчиков? – А как вы собирались поступить с ними? – Оставить здесь, в финке, под присмотром слуг. Боб Джойс должен был время от времени навещать их. Я потер щеку. Прежде чем приехать сюда из Кохимара, я проспал час или два, но сильно устал. Несколько последних дней и ночей начинали путаться у меня в голове. Задаваясь вопросом о том, грозит ли нынешняя ситуация захватом заложников, я не мог ответить категорическим „нет“. – Будет лучше, если они поплывут с вами, – сказал я. – Хорошо, – произнес Хемингуэй и схватил меня за запястье. – Чего хотят эти люди, Лукас? Я имею в виду, помимо моей смерти? Я дождался, когда он выпустит мою руку. – Они хотят, чтобы мы передали по назначению документы, взятые у убитых немцев. В этом нет никаких сомнений. – И пока мы этого не сделаем, мне ничто не угрожает? – Не знаю точно, – ответил я. – Думаю, они в любом случае собираются вас убить. – Но зачем? – спросил Хемингуэй. В его голосе не было страха или жалобы, только любопытство. Я пожал плечами. Хемингуэй осторожно снял с колен кошку, встал и отправился в ванную. Прежде чем выйти из комнаты, он оглянулся на меня. – Для агента разведслужбы ты слишком многого не знаешь, Лукас. Я кивнул.* * *
Мне требовался второй радист либо второй я. Весь долгий жаркий вторник ко мне поступали донесения оперативников „Хитрого дела“ – о передвижениях Мальдонадо по Гаване, О безуспешных поисках Бекера, о том, что Дельгадо до сих пор не появлялся ни в аэропорту, ни в отелях – и, прежде чем отправиться на „Пилар“ и заступить на ночную вахту у рации, я попытался выкроить хотя бы несколько минут для сна. Мне не хотелось оставлять Хемингуэя одного. Теперь он не выходил из дома без револьвера за поясом, но помимо этого ничем не выказывал тревоги перед лицом смертельной опасности. В тот вечер он надел свежую рубашку, длинные брюки и отправился во „Флоридиту“ выпить с друзьями. „Они устроят несчастный случай“, – твердил я про себя. Не найдя в усадьбе ни одного надежного места для тайника, я повсюду носил немецкий курьерский мешок в наплечной сумке. Во время ночных дежурств у рации на „Пилар“ он лежал у меня в ногах. Мешок был увесистый, но я успокаивал себя тем, что всякий, кто пожелает им завладеть, должен будет отснять его у меня, а уж потом убить Хемингуэя. „А в нынешних обстоятельствах это совсем нетрудно“. Я был крайне утомлен. Я носил с собой таблетки, пролежавшие в моем багаже несколько лет, и глотал их, когда чувствовал себя слишком сонным, чтобы сосредоточиться на прослушивании эфира. Мы перехватили одну-единственную передачу – ранним вечером 18 августа, когда у рации дежурил Саксон. Он прислал запись в финку с Фуэнтесом. Текст был зашифрован цифровым кодом СД. Я отправился во флигель и расшифровал его. Четырнадцать строк с планами высадки канадских войск у Дьеппа. В начале передачи сообщалось о том, что малые суда уже вышли из порта и операция не будет отменена. В среду 19 августа гаванское радио сообщило о начале британского вторжения в прибрежный город Дьепп. Утверждалось, что храбрые союзные войска заняли шесть плацдармов. Голос диктора буквально звенел – ведь это, по всей видимости, открытие долгожданного Второго фронта! Подробности были скудные, но операцию называли вполне серьезной – транспортные суда и десантные катера высадили на берег тысячи канадских солдат при поддержке танков и британских истребителей. Назавтра, 20 августа, даже подцензурные выпуски передач не скрывали тот факт, что пробное вторжение обернулось катастрофой. Большинство солдат погибли или взяты в плен. Транспортные корабли взорваны, выброшены на берег либо ушли в море. Самолеты королевских ВВС уничтожены истребителями Люфтваффе, которые поднялись с окрестных аэродромов еще до начала высадки. Нацисты похвалялись неуязвимостью „Festung Europa“ и приглашали американцев и англичан вновь повторить попытку оккупации. – Пожалуй, это и есть то, что ты называешь „подтверждением“, – сказал тем вечером Хемингуэй. Мы сидели во флигеле, Патрик и Грегори с криками плескались в бассейне. – Твой Колумбия наверняка получит от СД награду за передачу в ночь понедельника. – Писатель посмотрел мне в глаза. – Но где он добывает все эти сведения? Откуда у немецкого агента на Кубе вся эта сверхсекретная информация об англичанах? – Хороший вопрос, – признал я. Около часа утра меня разбудил писк морзянки в наушниках. Я спал так крепко, что пропустил первые пять групп, однако отправитель любезно повторил передачу трижды с получасовыми интервалами. Это был старый книжный код на базе антологии немецких народных сказок. Передач, зашифрованных цифровым кодом СД. не последовало. После третьего повтора я включил двадцативаттную лампу над столом и впился взглядом в маленькую неряшливую тетрадь радиожурнала. КОЛУМБИЯ НАЗНАЧАЕТ ПАНАМЕ РАНДЕВУ 22 АВГУСТА В 2.40 ТАМ ГДЕ БЛЕДНАЯ СМЕРТЬ ПОСЕЩАЕТ ЛАЧУГИ И КОРОЛЕВСКИЕ ДВОРЦЫ ПОД СЕНЬЮ ПРАВОСУДИЯ. В тесной радиорубке было жарко и влажно – воздух, лениво втекавший в крохотные иллюминаторы, вонял дизельным выхлопом, дохлой рыбой, отбросами, разогретыми горячим дневным солнцем и душным ночным воздухом, но, пока я читал и перечитывал текст, моя кожа покрылась холодной испариной.. Я ни на секунду не поверил, что Панама – Мария – встречается с Колумбией в 2.40 завтрашнего утра, но место свидания было выбрано как нельзя удачнее. Судя по всему, Колумбия решил, что мы с Хемингуэем убили Марию, а теперь он, вероятно, заподозрил, что мы вдобавок разгадали шифр СД. В любом случае мне следовало показать Хемингуэю этот текст, как и предыдущие, и мы должны были присутствовать в точке смертельного „рандеву“, как при высадке обреченных немецких агентов. Только на сей раз никто из немцев не погибнет. Утром в пятницу мне пришлось долго уговаривать Хемингуэя. Я не рассказал ему о последнем радиоперехвате. Мы сидели во „Флоридите“, заправляясь крутыми яйцами и дайкири. Кроме нас, в баре был единственный посетитель, спавший на табурете у дальнего конца стойки. – Послушай, – сказал писатель, – „Южный крест“ отплывает не раньше воскресенья. Зачем нам выходить в море сегодня ночью? – У меня предчувствие, – чуть слышно произнес я. – Будет лучше, если вы увезете отсюда мальчиков на выходные. Хемингуэй посыпал солью яйцо и нахмурился. За лето его борода отросла, но там, где она кончалась, на коже виднелся солнечный ожог. Его поврежденное ухо почти зажило. – Лукас, если ты собираешься устроить какое-нибудь дешевое представление… – Просто хочу несколько дней заниматься „Хитрым делом“, не тревожась о вашей и своей безопасности. Мне будет намного легче, если вы с мальчиками и приятелями не станете путаться под ногами. Во взгляде Хемингуэя все еще читалось сомнение. – Вы можете доплыть до Ки-Параисо или до самого Конфитеса и подождать яхту там, – добавил я. – Соннеман сказала, что „Южный крест“ обогнет Кубу с востока… – Вряд ли ее можносчитать надежным источником, – проворчал Хемингуэй. – Что из того? Даже если они поплывут на запад, вы успеете догнать их, прежде чем они доберутся до Кингстона. Я отправлю ваших оперативников следить за „Южным крестом“, и мы радируем вам в обычном морском диапазоне либо свяжемся с Гуантанамо и попросим капитан-лейтенанта Бойля переправить вам наше послание через их мощные передатчики. – Значит, ты хочешь залечь на дно на недельку-другую? – спросил Хемингуэй. Я помассировал глаза: – Мне нужен отпуск. Хемингуэй рассмеялся. – Это точно, Лукас. Ты дерьмово выглядишь. – Gracias. – No hay de que! – Хемингуэй выскреб из скорлупы остатки яйца и потянулся за другим. – Что ты станешь делать, если тебе потребуется помощь здесь, в Гаване? – То же самое, – ответил я. – Вызову вас по рации из Кохимара или попрошу у Боба Джойса разрешения воспользоваться станцией Гуантанамо. – При помощи шифра? – У Хемингуэя разгорелись глаза. Я покачал головой. – У Саксона нелады с шифрами. Мы придумаем наш собственный код, который вы сможете понять. – Например? – Хм-мм… – протянул я, – если мне потребуется помощь, я передам, что кошки чувствуют себя одиноко и их нужно покормить. Если захочу увидеться с вами, но не здесь, то назначу встречу там, где кубинцы поднимают свой флаг. – На Кейо Конфитесе. – Да, – ответил я. – Поскольку вы отплываете ночью, вам следует поторопиться. У вас много дел. – Но зачем ночью? – спросил Хемингуэй. – Зачем выходить в море в темноте? Я допил свой дайкири. – Я хочу, чтобы никто не узнал о вашем отплытии, по крайней мере, до завтра. Этой ночью мне нужно многое сделать. – И ты, конечно, не расскажешь мне, что именно. – Расскажу позже, – ответил я. Хемингуэй заказал еще две порции коктейля в высоких бокалах и новую корзинку яиц. – Так и быть, – произнес он. – Я вызову Волфера и остальных, и мы отправимся с наступлением темноты. Мы будем ждать „Южный крест“ у Конфитеса. Большая часть снаряжения и провизии уже на борту, поэтому выйти в море сегодня ночью не составит особого труда. Но мне это не нравится. – Вы отправляетесь всего на день раньше запланированного срока, – заметил я. Писатель покачал головой. – Мне не нравится вся эта затея, – сказал он. – Она дурно пахнет. У меня чувство, что мы никогда больше не увидимся, Лукас. И что очень скоро кто-нибудь из нас, а то и оба погибнем. Моя рука с бокалом замерла на полпути к губам. – Типун вам на язык, – негромко произнес я. Хемингуэй внезапно улыбнулся и притронулся своим бокалом к моему. – Estamos copados, amigo, – сказал он. – К черту их. К черту их всех. Я чокнулся с ним и выпил.Глава 27
„Сementerio de Cristobal Colon“ – один из крупнейших в мире некрополей. Кладбище занимает территорию, равную десятку городских кварталов, в некотором отдалении от района отелей, между районами Ведадо и Нуэво Ведадо. Я добрался до него ночью, проехав вокруг порта, по южной границе Старой Гаваны и замкнув петлю с запада, мимо Кастилло дель Принсип. Кладбище было заложено в 60-х годах XIX века, когда в катакомбах церквей Гаваны не осталось места для захоронений. Хемингуэй рассказал мне, что проект некрополя был выбран на основе конкурса, который выиграл молодой испанец Каликсто де Лора Карадоза. Архитектор спланировал кладбище на средневековый манер с узкими проездами, идущими под прямым углом; их смыкающиеся перекрестки разделяли похороненных по общественному положению и классам. Расположенное к западу от Старой Гаваны, ширина улиц которой едва позволяла разъехаться двум повозкам, кладбище казалось продолжением города живых в город мертвецов. Хемингуэй сказал, что, завершив проект и воплотив его на местности, Каликсто де Лора Карадоза умер в возрасте тридцати двух лет и стал одним из первых обитателей кладбища. По всей видимости, эта история забавляла писателя. У главного входа на каменной плите был высечен латинский девиз: „Бледная смерть посещает лачуги и королевские дворцы“. Рандеву было назначено на 2.40. Я оставил „Линкольн“ Хемингуэя в боковом проулке и подошел к восточным воротам чуть позже часа ночи. Все ворота кладбища были на запоре, но я отыскал дерево, росшее вплотную к железной изгороди, и перебрался через нее, тяжело спрыгнув на траву по ту сторону. На мне были черные куртка, брюки и шляпа „федора“, низко надвинутая на глаза. На моем бедре в кобуре с вытяжным ремешком висел „магнум“, свой складной нож я сунул в карман брюк, а в карман куртки положил мощный фонарь, взятый с „Пилар“. На плечо я набросил свернутую бухтой десятиметровую веревку, также с „Пилар“. Я сам не знал толком, зачем мне веревка – чтобы связывать пленников, устраивать ловушки, перебираться через заборы, – но решил, что будет нелишне захватить ее с собой. Несколько месяцев назад Хемингуэй упомянул, насколько причудливо выглядит кладбище – состоятельные семейства Гаваны на протяжении почти восьмидесяти лет соперничали друг с другом, возводя все более пышные склепы и монументы, – однако я не ожидал встретить целые кварталы, заполненные образчиками надгробной архитектуры. Я держался вдали от пустынных тихих проездов, рассекавших кладбище, и пробирался узкими дорожками и тропинками между памятниками. В лунном свете мне казалось, что я очутился в каменном лесу – распятые Иисусы в предсмертной муке взирали на меня сверху вниз, вокруг высились замысловатые греческие часовни с фресками и белоснежными колоннами, над могилами, словно кружащие стервятники, парили ангелы, серафимы и херувимы; в темноте похожие на завернутых в саваны женщин маячили Мадонны с воздетыми кверху пальцами, которые напоминали револьверы, нацеленные в небо, готические мавзолеи с железными воротами отбрасывали черные тени поперек моего пути, тут и там виднелись урны, сотни дорических колонн, в тенях которых могли скрываться убийцы, и повсюду в прохладном ночном воздухе носилось зловоние гниющих цветов. Накануне вечером я заглянул в местное туристическое агентство и купил дешевую карту кладбища. Я сверился с ней при свете луны, не рискуя хотя бы на мгновение включать фонарь. Я оказался именно в той ситуации, в которую агентов ОРС учат никогда не попадать – пришел на встречу, которая практически наверняка является ловушкой, на территории врага, не зная, сколько человек меня поджидают, полностью предоставив инициативу противнику. „К черту“, – подумал я и, сложив карту, двинулся вперед. Я отыскал саркофаг с лежащей навзничь фигурой человека в натуральный размер и статуей собаки у его ног. За ней полутораметровый шахматный слон стоял на страже у каменной плиты, под которой покоились останки одного из величайших шахматистов Кубы. Все верно, именно так указано на карте… отсюда было несколько сотен шагов до памятника студентам-медикам. Я обошел темный монолит и увидел, что это надгробие в форме кости домино с двумя тройками. В пояснении на карте было указано, что здесь лежит женщина, фанатическая поклонница домино, умершая от сердечного приступа, когда во время важной партии ей не досталась тройка-дубль. Я свернул налево. Неподалеку от доминошницы стоял приземистый памятник, буквально утопающий в цветах. Это была могила Амелии де ла Хоц. Хемингуэй с удовольствием поведал мне ее историю. Амелию похоронили в 1901 году, а ее ребенка – в отдельной могиле в изножье памятника; несколько лет спустя труп по какой-то причине эксгумировали и обнаружили дитя в объятиях скелета. Кубинцы обожали подобные легенды. Хемингуэй – тоже. Эта могила стала объектом паломничества женщин со всего острова, отсюда и громадный холм цветов. Они благоухали, словно все похоронные процессии, в которых я когда-либо принимал участие. Памятник студентам-медикам находился в старейшей части кладбища. Здесь сходились несколько проездов. В 1871 году восемь кубинских юношей были казнены за осквернение могилы испанского журналиста, критиковавшего буржуазное движение независимости. Над памятником была воздвигнута высокая статуя Правосудия, однако на ней не было повязки беспристрастности, а весы в руке явно покосились на одну сторону. „Там, где бледная смерть посещает лачуги и королевские дворцы под сенью Правосудия“, говорилось в радиограмме. Было 1.40 ночи. Мне казалось, что я целую вечность искал это надгробие, и еще больше времени мне потребовалось, чтобы найти место для укрытия. На пешеходной дорожке, ведущей от памятника студентам-медикам, стоял мавзолей, похожий на Тадж-Махал в миниатюре, высотой около двенадцати метров. Он был украшен резными нишами, на всех фасадах высечены ангелы и горгульи, еще несколько ангельских фигур стояли на двух крышах, расположенных уступом, и один ангел в хитоне возвышался над сводом, напоминающим купол мечети. Если бы я сумел забраться по углу здания на нижнюю крышу, то спрятался бы за резным парапетом и мог наблюдать за памятником студентам-медикам, пустыми проездами и широкими перекрестками, за узкими дорожками и тропинками на подходах к монументу. Разумеется, когда убийцы вступят в игру, я окажусь на десятиметровой высоте, имея возможность обстреливать их, но лишенный путей к отступлению… впрочем, тут-то и пригодится веревка. Я обвяжу ее вокруг одной из угловых статуй и соскользну вниз за считанные секунды. Я похвалил себя за предусмотрительность, вошел в тень громадного мавзолея и начал подъем. Он занял десять минут и стоил мне дырки на колене брюк, но в конце концов я подтянулся на руках и перевалился через парапет. Здесь был трехметровый уступ и еще одна стена, которая поднималась к куполу, сиявшему в лунном свете. Надо мной вздымались статуи ангелов и святых с воздетыми руками. Парапет никак нельзя было назвать крепостной стеной – от верхнего края мраморного ограждения до прозаического асфальта с гравием, устилавших крышу, было всего около метра, – но я мог спрятаться за ним, сев на корточки и глядя через прорези орнамента. В случае необходимости я мог бы гусиным шагом обойти крышу и вести наблюдение во всех направлениях. Я обвязал веревку вокруг двухметровой статуи на юго-восточном углу и спрятал узел веревки за стеной. Потом я опустился на колени у южного фасада с видом на открытое пространство у памятника студентам-медикам. Сотни мраморных и гранитных статуй взирали на меня, словно бледное воинство мертвецов. С севера надвигалась буря. Луна еще не потускнела, но над Гаваной время от времени вспыхивали молнии и разносились раскаты грома. Было 2.00 ночи. В 2.32 я бросил взгляд на часы и услышал позади негромкий звук. Я начал поворачиваться, но в ту же секунду к моей шее прикоснулось что-то холодное и круглое. – Не двигайтесь, сеньор Лукас, – сказал лейтенант Мальдонадо.* * *
„Отличная работа, Джо“, – подумал я, решив, что это последняя мысль, которой суждено промелькнуть в моем мозгу, прежде чем за ней последует пуля из пистолета кубинца с рукояткой, украшенной пластинками из слоновой кости. Меня угораздило забраться в снайперское логово Мальдонадо, я не проверил заднюю часть крыши, не расслышал его шагов из-за неумолчного рокота грома. Ну и дурака же я свалял. Выстрела все еще не было. Чего он ждет? – Не двигайтесь, – шепотом повторил лейтенант. Я услышал щелчок взводимого курка „кольта“ и почувствовал чесночный запах дыхания кубинца. Он еще крепче прижал дуло пистолета к мягкой ложбинке моей шеи, ощупал меня с ног до головы левой рукой, вынул фонарь и „магнум“ и бросил их к дальнему краю крыши. Очевидно, нож показался ему слишком маленьким, чтобы опасаться его. Дуло „кольта“ отодвинулось от моей шеи, но я чувствовал, что оно наведено мне в затылок. – Медленно повернитесь и сядьте на свои руки, сеньор специальный агент Лукас. Я сделал то, что было ведено, не отрывая ладоней от грубой поверхности крыши. Сегодня Мальдонадо надел гражданское – такие же темные костюм и шляпу, что и я, но с синей рубашкой и галстуком. Я заметил, что кубинцы недолюбливают обычную, неофициальную одежду; Хемингуэй всегда шокировал их своими шортами и неряшливыми лохмотьями. „Думай, Джо, думай“. Я заставил свой неповоротливый ум отвлечься от размышлений о той отсрочке, которую мне дал громила полицейский. Я увидел, что Мальдонадо в одних носках. Должно быть, он оставил туфли по ту сторону купола, чтобы подобраться ко мне как можно незаметнее. Он мог не тревожиться об этом – раскаты грома были такими сильными, что можно было подумать, будто бы батарея Двенадцати апостолов замка Эль Морро на противоположном берегу залива начала обстреливать город. Луна все еще светила, но тучи быстро закрывали ее. Мальдонадо опустился на корточки и встал на одно колено, вероятно, для того, чтобы иметь возможность смотреть поверх парапета за моей спиной, самому оставаясь невидимым с земли. Либо ему было удобнее застрелить меня сидя, чем выпрямившись во весь рост. „Сосредоточься. Ты зачем-то нужен ему живым. Он без обуви – это дает тебе определенное преимущество, если начнется схватка“. Какую-то часть моего сознания занимала иная мыслю „Ты сидишь на собственных ладонях, а он целится тебе в лицо из крупнокалиберного „кольта“. Тебе нипочем не удастся приблизиться к нему и завязать драку“. „Заткнись!“ Я заставлял себя думать, хотя мое тело вел себя так, как обычно, когда меня брали на мушку: мышцы в паху сжались, кожа пошла пупырышками, меня охватило неодолимое желание спрятаться за чем-нибудь. За чем угодно. Я мысленно подавил реакцию плоти. Сейчас было не время праздновать труса. – Вы здесь один, сеньор специальный агент Лукас? – прошипел полицейский. В тени полей „федоры“ были видны только его длинный подбородок и белые зубы. – Вы пришли сюда в одиночестве? – Нет, – ответил я. – Хемингуэй и его приятели остались внизу. Мальдонадо улыбнулся, и его зубы сверкнули в лунном свете. – Вы лжете, сеньор. Я велел вам прийти одному, вы так и сделали. „Он ждал только меня“. Я едва успел унять сердцебиение, и оно вновь участилось. – Вы не Колумбия, – сказал я. – Кто? – без особого интереса спросил Мальдонадо. Я улыбнулся. – Ну да, конечно, вы не Колумбия. Вы грязный мексикашка, который получает приказы и подачки. Такой же, как все остальные „pendejos“. Его губы дрогнули и заулыбались еще шире. – Вы стараетесь меня рассердить, специальный агент Лукас. Зачем? Хотите быстрее умереть? Не беспокойтесь… это произойдет очень скоро. Я пожал плечами… по крайней мере, попытался. Это было не так-то легко сделать, сидя на собственных руках. – Хотя бы расскажите, кто приказал вам убить меня, – произнес я, подпустив дрожи в свой голос. „Это“ оказалось совсем нетрудно. – Дельгадо? Бекер? – Я ничего тебе не скажу, американская свинья, – отрезал лейтенант, но даже в тускнеющем свете луны я заметил, как при упоминании фамилии Бекера мускулы вокруг его губ чуть заметно дрогнули. „Стало быть, Бекер“. – Свинья? – переспросил я и, выждав секунду, добавил: – Чего же ты ждешь, Бешеный жеребец? – Не смей так называть меня, – сказал Мальдонадо. – Иначе твоя смерть будет намного мучительнее, чем это необходимо. – Ударил гром. Я видел, что теперь молнии пляшут среди приземистых зданий Старой Гаваны, менее чем в миле к северо-востоку. „Какие у меня козыри? – подумал я, заставляя себя углубиться в хладнокровный, бесстрастный анализ. – Их немного. Крупнокалиберная пуля мгновенно прикончит меня на такой дистанции, а Мальдонадо наверняка успеет дважды нажать спуск, прежде чем я преодолею разделяющее нас расстояние. Но он стоит на одном колене, и это затруднит его действия в случае быстрого развития событий. Он привык запугивать и убивать пьяниц, юнцов, трусов и непрофессионалов“. „К какой из этих категорий относишься ты?“ – спрашивала другая часть моего сознания. Я разочаровал самого себя. Уже не впервые в своей жизни и карьере я гадал, сколько миллионов людей погибли, в последнюю секунду перед смертью проклиная себя за глупость. Я подозревал, что эта традиция восходит к пещерным дикарям. Я следил за приближением грозы. Она разворачивалась за спиной Мальдонадо. Я слышал гром, но не видел, насколько близко от нас сверкают молнии и стоит стена дождя. Я посмотрел на темнеющий купол над головой лейтенанта, но не заметил там молниеотвода. Может быть, Мальдонадо убьет небесный огонь, прежде чем он застрелит меня. „Это едва ли не единственная твоя надежда, Джо“. Я почувствовал, как гравий впивается мне в ладони, и сжал пальцы обеих рук, собирая камешки в кулаки. Сидеть на согнутых пальцах было больно, вдобавок через пару минут они онемеют, но я не видел смысла беспокоиться о столь отдаленном будущем. Ни на мгновение не спуская с меня глаз, Мальдонадо поднес к лицу часы и посмотрел на циферблат. „Вот чего мы ждем. Назначенного времени рандеву, 2.40 ночи“. Срок явно миновал. Должно быть, Мальдонадо получил инструкции выждать несколько лишних минут, убедиться, что со мной никого нет, и только тогда убить меня. Я сообразил что по ту сторону купола у него, вероятно, спрятана винтовка. Мальдонадо затаился на крыше с длинноствольным оружием, увидел, как я подошел к мавзолею и выбрал это место, после чего он укрылся с другой стороны и сидел там, пока я, сопя и обливаясь потом, взбирался по углу строения. Должно быть, это его немало позабавило. – Какую винтовку вы взяли с собой? – спросил я на обыденном разговорном испанском. Казалось, вопрос удивил Мальдонадо. Он на секунду нахмурился, должно быть, соображая, даст ли мне его ответ какое-либо преимущество, и, вероятно, решил, что вряд ли. – „Ремингтон 30–06“ с шестикратным оптическим прицелом, – сообщил он. – При лунном освещении в самый раз. – Господи, – сказал я, выдавив смешок. – Неужели АМТ VI раздает их, словно профсоюзные билеты? Точно такую же я изъял у Панамы, прежде чем убить ее. Реакции не последовало. Либо Мальдонадо был хорошим актером, либо он не знал ее кличку. Но мне казалось, что он не играет. – Я имею в виду, у Марии, – добавил я. – Я отыскал „ремингтон“ Марии, а потом утопил ее. На сей раз Мальдонадо не остался безучастен. Его губы сжались, и я заметил, как его палец сдвинул с места спусковой крючок. – Ты убил Марию? – Раскат грома почти заглушил его слова. Может быть, он дожидался именно этого момента – никто не услышал бы выстрела, когда гроза бушует прямо над нами. – Ну конечно, я ее убил. – Я рассмеялся. – Зачем мне оставлять в живых лживую сучонку? Я надеялся взбесить его и вынудить к какому-нибудь поступку – лишь бы не к стрельбе, – но лейтенант вновь заулыбался. – В самом деле, зачем ей жить, этой кровожадной мерзавке? Я много раз говорил сеньору Бекеру, что ее нужно облить бензином и поднести горящую спичку. – Он опять посмотрел на часы и улыбнулся еще шире. – Вы арестованы, сеньор специальный агент Лукас, – сказал он, снимая большой палец с курка „кольта“. – За что? – быстро спросил я, предпочитая разговор пуле в лоб. Я заметил, что стена дождя накрыла здания Старой Гаваны, словно черная штора. Луна исчезла, уступив небо вспышкам молний над северной и восточной границами кладбища. Грохот был такой, что Мальдонадо мог прикончить меня из пушки, не опасаясь, что его выстрел услышат на улицах. – За убийство сеньора Эрнеста Хемингуэя, – с ухмылкой ответил лейтенант. Его слова прозвучали смертным приговором. – Разве вам не нужны документы? – торопливо спросил я. – Разве Бекер не велел вам забрать немецкие бумаги? Мальдонадо несколько секунд молчал. Я заметил, что его палец до предела сдвинул спусковой крючок. – Документы у Хемингуэя. – Его голос заглушил раскат грома; молния сверкнула в сотне шагов от нас. Я покачал головой, готовясь перекричать надвигающийся дождь. Мальдонадо не мог знать об этом. Решение о том, что Хемингуэй возьмет документы с собой, было принято буквально за минуту до отправления „Пилар“. Мы сочли, что документы будут сохраннее на борту яхты, чем если я стану носить их при себе целую неделю. – Нет! – крикнул я. – Они у меня в машине! Бекер выплатит вам за них особую награду! Мальдонадо чуть вздернул голову, и я наконец увидел его глаза. Он был жесток и хитер, но не слишком умен. Прошло три или четыре секунды, прежде чем он сообразил, что действительно сможет вытянуть у гауптщтурмфюрера еще больше денег, если принесет документы, но ему нет никакой нужды оставлять меня в живых, чтобы отыскать их в машине, если они и впрямь находятся там. Ничто не мешало ему застрелить меня, найти мою машину и забрать бумаги. Мальдонадо улыбнулся и прицелился тщательнее, опустив пистолет и наведя его мне в сердце. Молния не попала в купол. Должно быть, она угодила в статую Правосудия над монументом студентов-медиков. Тем лучше – вспышка произошла позади меня и на секунду-другую ослепила Мальдонадо, а удар грома разнесся в мавзолее под нашими ногами, словно взрыв. Я метнулся влево, упал на плечо и перекатился по направлению к Мальдонадо. Он выстрелил, но пуля пролетела над моим правым плечом и отколола кусок мраморного парапета позади меня. Он опять выстрелил, но я уже поднимался на ноги и пуля прошла в сантиметре от моей промежности и обожгла мне бедра изнутри. Мальдонадо попытался вскочить, и я швырнул ему в лицо две горсти камешков. Третья пуля царапнула мочку моего уха. Я ухватил обеими руками его правое запястье и начал выкручивать пистолет, одновременно пытаясь сбить Мальдонадо подсечкой. Мы тяжело рухнули на асфальт, но я был готов к этому и упал на лейтенанта сверху. Чесночный воздух со стонами вырывался из его рта. Мальдонадо взревел и вцепился мне в лицо левой рукой. Не обращая на это внимания, я сломал его правое запястье и отшвырнул пистолет прочь. Теперь мой „магнум“ лежал ближе, чем „кольт“ лейтенанта. Кубинец вскрикнул и рванулся в сторону, припечатав меня к мраморной стене у основания купола. Он вновь закричал, выругался по-испански и попытался встать, придерживая сломанную руку. Я сделал два шага, в точности повторяя движения футболиста, который разбегается перед штрафным ударом, и пнул Мальдонадо между ног с такой силой, что он буквально взмыл в воздух. Две молнии разом сверкнули над куполом – одна за нашими спинами, другая попала в высокий крест, который держала в руках мраморная статуя святого. Двойной удар грома почти заглушил вопль Мальдонадо, который сложился вчетверо, будто двухметровый аккордеон. Его шляпа покатилась по крыше. Я раскрыл нож, подошел к кубинцу и, упершись коленом в его торчащий кадык, всем весом прижал Мальдонадо к крыше. Хлынул дождь. Я склонился ниже и приставил нож к правому глазу полицейского. Острый словно бритва кончик клинка рассек кожу чуть ниже закругления его глазного яблока. – Говори, – велел я. – Кого послали убить Хемингуэя? Мальдонадо открыл рот, но, судя по всему, он боялся потерять глаз, если заговорит, двигая челюстью. Я чуть отодвинул нож и приподнял колено, готовый взрезать ему глотку, если он вздумает сопротивляться. Мальдонадо не сопротивлялся. Он хватал ртом воздух и стонал. – Умолкни, – сказал я и провел кончиком ножа от его уха до уголка губ, оставляя кровавый след. – Кого послали убить Хемингуэя? Мальдонадо закричал. К этому времени грозовое облако сместилось за пределы кладбища, но над ним по-прежнему разносились раскаты грома. Мальдонадо отчаянно замотал головой. – Кто второй член ликвидационной группы? Сколько их всего? Мальдонадо застонал. – Говори, – сказал я, поднося лезвие к его правому глазу. – Я не знаю, сеньор. Клянусь, не знаю. Клянусь. Я должен был подстеречь вас… Бекер сказал, что вы придете ночью один… я должен был для верности выждать десять минут и убить вас… если бы нас обнаружили, я должен был сказать, что застрелил вас при сопротивлении аресту. Если никто ничего не услышит, я должен был завтра днем доставить труп на берег… – Куда именно? – В одно место на востоке… оно называется Нуэвитос. Нуэвитос расположен к югу от архипелага Камагуэй – там, у острова Конфитес, сейчас находился Хемингуэй. – Кто отдал этот приказ? – Бекер. – Лично? – Нет, нет… Прошу вас, не так сильно… нож вонзился мне в глаз… – Лично? – Нет! – выкрикнул Мальдонадо. – По телефону. Издалека, не из Гаваны. – Но с территории Кубы? – Не знаю, сеньор. Клянусь вам. – Дельгадо участвует в этом деле? – Кто такой… Дельгадо? – с заминкой произнес лейтенант, явно оттягивая развязку, как и я сам минуты назад. Его руки по-прежнему были прижаты к бокам. Я сильнее налег коленом ему на горло и прижал лезвие к глазу, выдавив еще чуть-чуть крови. – Если ты шевельнешь хотя бы пальцем, я проткну ножом твой глаз, словно виноградину. Мальдонадо чуть заметно кивнул и положил ладони на асфальт. Я в двух словах описал Дельгадо. Лейтенант вновь кивнул. – Я встречался с этим человеком. Мы обговаривали передачу денег. – Для тебя? – Да… и для Национальной полиции. – Зачем? Мальдонадо осторожно покачал головой. – Мы обеспечиваем связь… безопасность. – Для кого? И для чего? – Для секретной встречи „gringos“ и немцев. – Какие „gringos“? И какие немцы? Бекер? – Бекер и другие. Я не знаю, кто и зачем встречается. Клянусь всевышним… Нет! Не надо, сеньор! Я понял, что эти расспросы ни к чему не приведут. – Когда должны убить Хемингуэя? – Капли дождя падали с моего носа и подбородка на запрокинутое лицо Мальдонадо. – Я не знаю… – начал было лейтенант и застонал, когда я всем весом налег ему на грудь. – Сегодня! – крикнул он, вскидывая руки, словно собирался схватить меня. – Сегодня… В субботу! Я встал и отправился за фонариком и „кольтом“ Мальдонадо, на две секунды повернувшись к нему спиной и следя за ним краем глаза. Он не терял времени зря, но бросился не к пистолету или ножу, а к углу крыши, и схватился за мою веревку. В ту самую секунду, когда я опустился на одно колено и взял его на мушку, он перевалился через парапет. Мальдонадо забыл о том, что у него сломано запястье. Выпустив веревку, он издал вопль и еще раз закричал за мгновение до того, как снизу донесся тяжелый звук падения. Я подошел к парапету и посмотрел вниз. Лейтенант падал всего десять метров, но его тело наткнулось на вертикальный мраморный столб, а ноги ударились об огромную урну. По меньшей мере одна его нога была вывернута под неестественным углом. Я обошел купол и обнаружил его „ремингтон“ у открытой двери в стене. Взяв винтовку с собой, я спустился по узкой лестнице в темное помещение мавзолея, при свете фонарика отыскал дверь в южном фасаде и вышел, громко скрипнув стальными воротами. Дождь все еще продолжался, но луна наполовину показалась из-за туч. Мальдонадо исчез. Я нашел его на узкой пешеходной дорожке, огибавшей мавзолей с севера. Он полз на локтях и левом колене. Его правая кисть висела плетью, а правая нога, судя по ее виду, претерпела сложный перелом. Что-то острое и белое пропороло его темные брюки и торчало над коленом. Услышав мои шаги позади, Мальдонадо перекатился на спину, застонал, пошарил рукой у пояса и вынул маленький пистолет, блеснувший в струях дождя. Шестимиллиметровая „беретта“. Я отнял у него крохотный пугач, вынул из кобуры „магнум“, отодвинулся на два шага от Мальдонадо и прицелился ему в голову. Я поднес к лицу левую ладонь, чтобы защитить его от кровавых брызг и осколков черепа. Мальдонадо не поднял рук, не моргнул, даже не шевельнулся, но я заметил, как он сжал челюсти и оскалил зубы, ожидая выстрела. – Вот дерьмо, – негромко произнес я и, шагнув вперед, с силой ударил его по голове стволом пистолета. Потом я ухватил лейтенанта за воротник, втащил в мавзолей и уложил на пол между двумя саркофагами. В кармане его пиджака лежал массивный бронзовый ключ. Дверь и ворота склепа, естественно, запирались снаружи; я закрыл их, швырнул ключ в скопление статуй и бегом покинул кладбище. Возвращаясь к „Линкольну“ Хемингуэя, я посмотрел на часы. 3.28 утра. Поистине время летит незаметно, когда ты развлекаешься.* * *
Во время головоломной поездки в Кохимар я превысил все общегосударственные и городские ограничения скорости. Дождь продолжался, луна вновь исчезла, и дороги были скользкими и опасными. Но я, по крайней мере, почти не встречал машин. Я пытался представить свой разговор с кубинским полицейским, если меня остановят за быструю езду и обнаружат „магнум“ у меня за поясом, „ремингтон“ и „кольт“ на заднем сиденье „Линкольна“ и кровь на моем костюме и ухе. „К черту, – решил я наконец. – Суну ему десять долларов и уеду. Это ведь Куба, в конце концов“. Отправление „Пилар“ из Кохимара семью часами ранее, сразу после заката, ничем не напоминало наше шумное отплытие неделю назад. На сей раз вокруг никого не было, кроме нескольких равнодушных рыбаков. Хемингуэй взял с собой Волфера, Дона Саксона, Фуэнтеса, Синдбада и сыновей. Пэтчи Ибарлусия тоже хотел отправиться с ними, но он должен был участвовать в матче хай-алай. Во время вечернего прощания даже мальчики – выглядели мрачными и подавленными. – Как быть, если ты не сможешь связаться со мной по радио? – спросил Хемингуэй, когда я подавал ему носовой конец. – Либо если я дам радиограмму в Кохимар или Гуантанамо о том, что обнаружил нечто важное и хочу, чтобы ты плыл туда? Я ткнул пальцем в сторону противоположного берега порта, у которого стоял скоростной катер Тома Шелвина. – Возьму „Лорейн“, если нам все еще разрешено им пользоваться. – После того как ты оставил на его палубе ту огромную вмятину, тебя нельзя подпускать к катеру на пушечный выстрел, – ответил Хемингуэй, но все же бросил мне ключи. Я с трудом припомнил крохотную выщерблину на красном дереве там, куда я уронил винтовку Марии. – Его бак полон, и мы доставили на борт две запасные бочки горючего, – продолжал писатель. – Если поплывешь на катере, будь с ним аккуратнее. Том миллионер, но порой он бывает крайне мелочен. Вряд ли у нею есть страховка. Я кивнул. Именно тогда мы решили, что Хемингуэй должен взять курьерскую сумку с собой. Я перебросил ее на яхту в тот самый миг, когда Фуэнтес оттолкнул корму от причала. – Удачи тебе, Джо, – сказал Хемингуэй, наклоняясь над полоской воды и пожимая мне руку.* * *
Я примчался в Кохимар незадолго до четырех утра. На нескольких лодках горел свет – рыбаки собирались выходить в море. „Лорейн“ у его причала не оказалось. Я облокотился о руль и потер ноющий лоб. „На что ты рассчитывал, Джо? Колумбия все время опережал тебя на шаг. Скорее всего, он увел катер, пока ты ехал на кладбище… стало быть, у него не так много времени в запасе“. Я обвел взглядом порт. В Кохимаре не было других скоростных судов, только рыбачьи лодки, шлюпки, два утлых каноэ, ялики, пара дырявых плоскодонок и двенадцатиметровая яхта, которая неделю назад приковыляла сюда из Бимини с неисправным двигателем и взбешенным хозяином-калифорнийцем на борту. „Лорейн“ очень быстрый катер.?н обгонит „Пилар“ на пути к тому месту, где Колумбия намерен затаиться в ожидании. Чтобы добраться туда до полуночи, мне нужно резвое судно. Но куда именно? В Нуэвитос? Я решил заняться поисками ответа на этот вопрос, после того как обзаведусь судном. Я вернулся в город с той же безумной скоростью, с которой примчался сюда полчаса назад. У городских пирсов стояло много быстрых катеров, я мог позаимствовать любой из них, однако хозяева хороших судов обычно предвидят подобную возможность и, уходя из порта, забирают с собой одну, а то и несколько важных деталей двигателя, наподобие того, как автовладельцы снимают „бегунок“, когда паркуют машину в неблагополучном районе. Самое лучшее судно в порту не было привязано к пирсу. „Южный крест“ стоял на якоре далеко в бухте, снаряженный всем необходимым, кроме продовольствия, для долгого плавания по каналу и к побережью Южной Америки. Согласно последним данным „Хитрого дела“, полученным вечером в пятницу, он должен был отчалить в понедельник утром. Выход в море был отложен на сутки из-за того, что новый радист яхты исчез, и его не удалось найти в барах и борделях, в которых он обычно пропадал. „Южному кресту“ явно не везло на радистов. Мы с Хемингуэем решили, что единственный немецкий агент на борту яхты, вероятно, покинул страну вслед за Шлегелем и Бекером. Я оставил машину на городском причале, перебрался через сетчатый забор, отыскал лодку по своему вкусу, спустил в нее свои вещи и погреб через всю бухту к огромной яхте. Даже ночью она казалась белой и прекрасной, прожектора на корме и носу высвечивали изящные борта судна и подходы к нему. Я заметил, что моя лодка течет, поэтому поднял свой рюкзак и „ремингтон“ на банку, прикрыл их клетчатым одеялом, взятым из „Линкольна“, и затянул песню на испанском. Похищение „Южного креста“ вряд ли можно было счесть разумным решением, поскольку на его борту находились около полутора сотен опытных матросов и офицеров, более тридцати исследователей, крупнокалиберные пулеметы, орудия и автоматы. Однако я и не думал угонять яхту. Чтобы разбудить дремлющих охранников катера, колыхавшегося на якорной цепи между судном и берегом, мне пришлось петь во всю глотку. Двое матросов растянулись на банках – один в носовом кубрике, другой в кормовом, – и я отчетливо слышал их громкий храп сквозь свои хмельные вопли. К тому времени, когда тот, что лежал на носу, очнулся и направил на меня прожектор, я приблизился к катеру на расстояние тридцати ярдов. – Эй, amigos, уберите свет! – крикнул я на невнятном кубинском диалекте. – Вы слепите меня! – Я продолжал кое-как грести. – Разворачивайся кругом, – велел первый охранник на чудовищном испанском с североамериканским акцентом. – Это запретная зона. – Его голос звучал сонно. Второй охранник тоже проснулся и таращился на меня, протирая глаза. Перед ними был одинокий человек в шлюпке – мужчина с небритым лицом под низко надвинутой шляпой, в мятом, грязном костюме. У него было окровавлено ухо. Он был явно пьян. Его лодка протекала. – Запретная зона? – с удивлением переспросил я. – Это порт Гаваны… порт столицы моей страны и моего народа. Как это он может быть запретным? Я должен поспеть на лодку своего двоюродного брата, иначе он уплывет без меня. – Я продолжал налегать на весла и приближался к катеру, двигаясь боком, словно краб. Охранник покачал головой. – Держи дистанцию! – крикнул он. – Не подходи к большой белой яхте ближе двухсот ярдов. Здесь нет лодки твоего брата… Я кивнул, продолжая прикрывать глаза от луча прожектора. Несколько звезд, показавшихся было из-за грозовых туч, исчезли; невзирая на дождь, небо начало бледнеть. – Где, вы сказали, лодка моего брата? – Неловким движением я вырвал весла из уключин и едва не повалился на дно. На шеях обоих охранников висели автоматы Томпсона, но ни один из них даже не подумал взять оружие на изготовку. – Черт побери! – крикнул тот, что стоял на корме, и схватил багор, собираясь оттолкнуть мою шлюпку от катера. – Не шевелитесь! – велел я по-английски, подняв ствол „магнума“ и тщательно прицелившись. – Погасите свет! Охранник на носу выключил прожектор. Во внезапно наступившем сумраке я заметил, что они оба готовятся действовать. – Пристрелю обоих, прежде чем вы поднимете шумиху, – сказал я, щелкая курком „магнума“ и переводя дуло с одного охранника на другого. Шлюпка ударилась о борт катера. – Эй ты, впереди, положи обе руки на лобовое стекло. Вот так. А ты… прислонись к корме. Чуть дальше. Отлично. Я перебросил свои вещи на катер и прыгнул в крохотный носовой кубрик. Охранник на корме шевельнулся, и я ударом сбил его с ног. Матрос, руки которого лежали на лобовом стекле, оглянулся через плечо. – Если двинешься, стреляю, – предупредил я. Он покачал головой. Я взял автоматы и бросил их на подушки кормового сиденья, продолжая целиться из „магнума“ в охранника, который оставался в сознании. Подчиняясь моим распоряжениям, он перевалил своего приятеля через борт в шлюпку. Тот застонал. Я оттолкнул шлюпку багром и левой рукой поднял маленький якорь, все еще держа на мушке боеспособного охранника. Свитер плотно обтягивал его мощное тело. Он явно пытался спасти лицо, нашаривая в памяти подходящую к случаю фразу из кино, которая показала бы, что он ни капли не испуган. – Это не сойдет тебе с рук, – заявил он. Я рассмеялся, завел двигатель, посмотрел на индикатор уровня топлива – бак был заправлен на три четверти – и сказал: – Уже сошло. – С этими словами я дважды выстрелил в шлюпку. Оба охранника моргнули и отпрянули. Девятимиллиметровые пули с насеченными головками пробили в гнилом дереве впечатляющие отверстия. Это было прекрасное дорогое судно – семиметровый катер „Крис-Крафт“ с двумя двигателями и полукруглым тентом, его носовая рубка была отделена декоративной перегородкой из красного дерева, а маленький носовой кубрик размещался в двух метрах позади машинного отсека с хромированными поручнями. После того как мы с Хемингуэем впервые увидели этот катер, я навел о нем справки. Он был новый, с иголочки – постройки 1938 или 1939 года и оснащен двумя моторами „Крис-Крафт Геркулес“ с литерами „L“ и „R“, что означало левое и правое вращение. Оси их винтов были развернуты наружу под углом – левый влево, правый вправо, обеспечивая высокую скорость и компенсацию взаимного вращательного момента. Такая конструкция придавала катеру изумительную маневренность – он мог развернуться кругом, пройдя расстояние, равное длине своего корпуса. – Если хотите, можете плыть, – крикнул я, перекрывая голосом рев машин, – но, думаю, вам известно, что акулы частенько появляются в бухте после захода солнца, чтобы поохотиться за рыбой, кормящейся городскими отбросами. А с яхты могут не успеть вовремя подать трап. На вашем месте я бы греб изо всех сил к причалу. Я открыл дроссельные заслонки и погнал катер к выходу из порта, лишь один раз оглянувшись, прежде чем пересечь линию волноломов. Опять полил дождь, но я увидел, как на „Южном кресте“ загораются огни. Шлюпка плыла к причалу. Охранник-атлет яростно орудовал веслами, а его напарник пригоршнями вычерпывал воду.Глава 28
Буря крепчала, топлива оставалось все меньше, и я уже не был уверен, что сумею добраться до Конфитеса. Я держал максимально возможные обороты, только чтобы не остаться без горючего на полдороге и не пробить днище на высоких волнах, хлеставших по корпусу катера. С северо-востока надвигался второй грозовой фронт, и через двадцать минут после выхода из гаванского порта я промок до нитки. Большую часть пути я был вынужден стоять за штурвалом, ухватившись одной рукой за лобовое стекло и вглядываясь вперед сквозь дождь и брызги, оставляя хвост из капель, которые срывал с меня встречный поток воздуха. Ревя двигателями, катер мчался на юго-восток. К этому времени вся кубинская береговая охрана уже наверняка знала о дерзком налетчике, который угнал из бухты порта Гаваны катер „Крис-Крафт“, принадлежащий научной организации дружественных Соединенных Штатов. Известно, что служащие береговой охраны расстреливали из пулеметов еврейских беженцев из Европы, пытавшихся высадиться на остров под покровом ночи; они будут только рады обратить свои крупнокалиберные орудия против отчаянного бандита. Около десяти утра я заметил два катера береговой охраны – серые с белым, примерно десяти метров длиной, – двигавшиеся к западу мне наперерез. Я свернул на север, и они скрылись в пелене сильного шквала, который едва не опрокинул мое судно. Этот маневр стоил мне дополнительных затрат времени и горючего. При первой возможности я вновь взял юго-западный курс и прибавил обороты. Из-за сильной тряски у меня заныли кровоподтеки и мучительно разболелась голова. Кейо Конфитес появился на горизонте в 13.45. Последние десять морских миль стрелка указателя топлива лежала на нуле, а запасного бака на катере не было. Прежде чем войти в крохотную бухту, я описал широкую дугу и на минуту возликовал, увидев, что „Пилар“ там нет. Потом я заметил палатки, мокрое кострище, людей, которые толклись у барака, и у меня упало сердце. Когда я плыл через проход в рифе, двигатели зачихали и умолкли. Лейтенант-кубинец и его подчиненные навели на меня ружья времен испано-американской войны, а на берег ринулись Гест, Геррера и Фуэнтес с „ninos“ в руках, и только тогда кто-то догадался посмотреть в бинокль. – Это Лукас! – крикнул Гест и взмахом руки велел кубинцам опустить оружие. Пока я искал весла и с натугой греб через лагуну – без помощи сильного штормового прибоя я не сдвинул бы катер с места, – из палаток выскочили Синдбад, Саксон и мальчики и бегом присоединились к остальным. – Где папа? – крикнул Патрик. – Что случилось с „Лорейн“? – спросил Гест. Он вошел в воду, ухватился за нос катера и помог мне втащить его на галечную отмель островка. – Где Эрнест? Я выпрыгнул из катера и выбрался на берег, а остальные тем временем закрепили судно на месте. Дождь не утихал, я насквозь пропитался морской водой и дрожал от холода. После долгих часов качки меня не держали ноги. Пытаясь заговорить, я только клацал зубами. Синдбад принес из палатки одеяло, а Фуэнтес подал мне кружку дымящегося кофе. Кубинские солдаты и экипаж „Пилар“ сгрудились вокруг меня. – Что случилось, Лукас? – спросил юный Грегорио. – Где папа? – О чем ты? – выдавил я. – Откуда мне знать? Все заговорили, перебивая друг друга. Саксон отправился в палатку и вернулся с мятым листом бумаги. Я узнал страничку из радиожурнала. – Эта радиограмма была передана сегодня около половины одиннадцатого утра на волнах флотского диапазона обычной морзянкой, – сказал морской пехотинец. ХЕМИНГУЭЮ – НЕОБХОДИМО ВСТРЕТИТЬСЯ В БУХТЕ У МЕСТА ГДЕ МЫ ЗАКОПАЛИ ЕВРОПЕЙСКИЕ УЛИКИ. Я ВСЕ ВЫЯСНИЛ. ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ДОКУМЕНТЫ. ВСЕ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ. МАЛЬЧИКАМ НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ. ПРИЕЗЖАЙТЕ ОДИН – ЛУКАС. – Ты ее не отправлял, – сказал Гест. Это было утверждение, а не вопрос. Я покачал головой и сел на походный стул. „Колумбия всегда опережает на шаг“. Теперь он разом получит Хемингуэя и курьерские документы. – Когда он отправился? – спросил я. – Через пятнадцать минут после приема сообщения, – ответил Синдбад. Я посмотрел на людей, собравшихся вокруг. Я молчал,но вопрос в моем взгляде – „И вы отпустили его одного?“ – был ясен без слов. – Эрнесто сказал, что вы договорились о встрече, и он должен плыть один, – произнес Геррера. – Дерьмо, вот дерьмо, ну и дерьмо, – сказал Гест и опустился на песок. Мне показалось, что он вот-вот заплачет. – Где папа? – спросил Грегори. Ему никто не ответил. Я встал и сбросил с себя одеяло. – Грегорио, – заговорил я, – принеси мне термос кофе и бутерброды. И лучший бинокль, какой у вас есть. Волфер, Синдбад и Роберто, вы поможете мне заправить катер. Лейтенант, вы разрешите мне залить бак и взять хотя бы одну запасную бочку? – Разумеется. – Патрик, – продолжал я, – и Грегори. Сбегайте в палатку и принесите несколько обойм патронов и „ninos“, которые оставил ваш отец. А также две гранаты из зеленого ящика. Будьте осторожны с ними… предохранительные кольца должны остаться на месте. – Мы пойдем с вами, – решительно заявил Уинстон Гест. – Нет, – непререкаемым тоном отозвался я. – Не пойдете.* * *
Когда впереди показался разрушенный маяк на Пойнт Рома, все еще шел дождь. Пока остальные заправляли катер, я без спешки вычистил и смазал „ремингтон“. Синдбад взял из катера два промокших „томпсона“ и отдал мне свой, смазанный и полностью заряженный. Мальчики принесли водонепроницаемую сумку с запасными обоймами и гранатами, Фуэнтес – запас пищи, кофе, бинокль и еще один непромокаемый резиновый мешок. Когда мы привязывали на корме запасную бочку с горючим, к нам подошел лейтенант. – Сеньор Лукас, – извиняющимся голосом заговорил он, – только что по радио передали, что из порта был угнан катер, по описанию похожий на ваш. Нам приказано арестовать либо застрелить похитителя, если мы его увидим. Я кивнул и посмотрел ему в глаза. – Вы видели его, лейтенант? Кубинец вздохнул и развел руками. – К сожалению, нет, сеньор Лукас. Однако я вынужден организовать круглосуточное наблюдение. – Правильное решение, лейтенант. Благодарю вас. – За горючее, сеньор? Оно предназначено для нужд сеньора Хемингуэя. – Спасибо за все, – сказал я, протягивая руку. Лейтенант крепко пожал ее. – Отправляйтесь с богом, сеньор Лукас.* * *
Возвращаясь на юг по направлению к Кубе, я еще раз обдумал свое решение не брать с собой людей. Возможно, я дал маху… Саксон, Фуэнтес и Синдбад – опытные бойцы, а Геррера и Гест не задумываясь отдали бы свою жизнь за „Эрнесто“. Шестеро вооруженных мужчин – куда лучше, чем один, когда предстоит опасное дело. Но я знал, что это не совсем так. Шесть человек на борту катера могли оказаться на линии стрельбы друг друга. Одна мысль о шестерых людях, палящих из автоматов, заставила меня поморщиться. Это был бы настоящий хаос. Никто из экипажа „Пилар“, кроме Саксона, не имел понятия о дисциплине, не бывал под огнем, и я не мог положиться на них в критической ситуации. Вдобавок даже Саксон вряд ли был готов слушаться моих приказов. Они недовольно поворчали, но все же отпустили меня одного, когда я сказал, что жизнь Папы подвергнется большей опасности, если мы все явимся за ним с оружием на изготовку. Еще я сказал, что он, может быть, вернется на остров, пока я буду его разыскивать, и будет лучше, если они останутся там, где Хемингуэй велел его ждать. – Пожалуйста, передайте папе, пусть возвращается, – сказал Патрик, глядя мне в глаза с взрослой решимостью и сосредоточенностью. Я кивнул и без всякой снисходительности хлопнул его по плечу, как это делают мужчины в столь серьезный момент. „Пилар“ не оказалось ни в протоке Энсенада, ни к северу, ни к югу вдоль берега. Яхта Хемингуэя была слишком велика, чтобы прятать ее в мангровых зарослях, как „Лорейн“, однако я отплыл от рифа и рассмотрел в бинокль все возможные укрытия. „Пилар“ не было и следа. Как только Куба показалась на горизонте, дождь прекратился, но штормовой прибой продолжал накатываться на риф к северу от Пойнт Брава, на камни Пойнт Иисус и к востоку от него. Погода была отвратительная. Высокие волны захлестывали песчаную полоску и бушевали у приземистой скалы рядом с маяком, у которого мы похоронили немцев. Когда я, борясь с сильным приливом и едва удерживая штурвал, вводил катер в протоку, мне в нос ударил запах разложения, хотя ветер дул в спину, а воздух был освежен ливнем. Крабы, а может быть, и твари покрупнее добрались до трупов. Потом запах исчез, я прошел устье бухты и круто положил катер на правый борт, чтобы не наткнуться на берег узкой протоки. Справа показались железнодорожная колея, заброшенная хижина и покосившиеся причалы, а слева – Двенадцать апостолов. Я дал задний ход, поднимая муть, и ослабил ремень „томпсона“, положив пальцы на спусковой крючок и предохранитель. Во дворце Морро у порта Гаваны Двенадцатью апостолами называлась артиллерийская батарея, а здесь – всего лишь большие камни, но, когда я проплывал мимо, мне казалось, что эти валуны и черные окна зданий держат меня на прицеле. „Пилар“ была здесь – стояла на якоре у крохотного островка в бухте, нанесенного на карты „Нокомис“ под названием Кейо Ларго, примерно в шестидесяти ярдах от западного побережья, напротив скалистого холма, который отделял заброшенные рельсы и дымовую трубу от юго-восточного изгиба бухты, где среди зарослей лиан и тростниковых полей стояла старая сахарная мельница. Оставив двигатели на холостом ходу, я рассмотрел в бинокль яхту Хемингуэя. Ни малейшего движения. Покрывшись гусиной кожей, я дожидался удара винтовочной пули, пущенной с берега, но все было спокойно. „Пилар“ удерживал на месте только кормовой якорь, и когда черно-зеленое судно чуть шевельнулось под напором ветра и водных потоков, я увидел, что позади него привязан „Лорейн“. Казалось, что на катере Шелвина тоже ни души. Я отвинтил лобовое стекло катера „Южного креста“ и положил его на нос, потом уперся коленом в носовую банку, вынул „ремингтон“ из непромокаемого чехла, который мне дал Гест, дослал патрон в ствол, обернул ремень вокруг левого предплечья и навел шестикратный оптический прицел на оба судна. Его увеличение было не таким сильным, как у бинокля, и все же я видел, что там ничто не движется. Странно. Если Колумбия находился на „Лорейн“, когда прибыл Хемингуэй, то он либо добрался до берега вплавь, либо у него была еще одна лодка, или же он до сих пор на борту „Пилар“. Яхта медленно поворачивалась на якоре, и я по очереди заглянул во все иллюминаторы носовой рубки под ходовым мостиком. Ее планширы понижались к корме, но все же были слишком высокими, чтобы заметить человека, лежащего за ними на палубе. Наконец оба судна развернулись ко мне носом – „Пилар“ под действием потоков поворачивалась вокруг якорного каната, а „Лорейн“ была привязана к ее правому борту у кормы, – и я увидел, что за штурвалом яхты и на сиденьях в рубке катера никого нет. Медленно тянулись минуты. Москиты жужжали вокруг моей головы, садились на лицо и шею и вонзали свои жала. Я стоял в позе стрелка, покачивая прицел следом за движениями яхты, готовый при необходимости мгновенно спустить курок. На мне были уличные туфли, рваные брюки и синяя рубашка, которые я носил с прошлой ночи. Пиджак лежал на задней банке рубки. Я держал „магнум“ на поясе в кобуре с вытяжным ремешком, а на шее у меня висел „томпсон“. Прошло еще несколько минут. Время от времени я поворачивал голову, осматривая берег слева и справа, порой оглядываясь назад. Все было спокойно. Другие суда не появлялись. Я уже почти решил, что Хемингуэй истекает кровью на палубе своей яхты, а я тем временем стою на одном колене и наблюдаю сквозь прицел, теряя бесценные мгновения, обрекая его на смерть. „Действуй! – требовало мое воображение. – Делай хоть что-нибудь!“ Я унял свои фантазии и сохранял прежнюю позу, не забывая размеренно дышать и моргать, шевелясь только тогда, когда требовалось возобновить кровообращение в руках и ногах. Миновало десять минут. Восемнадцать. Двадцать три. Вновь полил дождь. Несколько москитов улетели. Им на смену появились другие. Внезапно из рубки „Пилар“ выскочил человек и перепрыгнул на борт „Лорейн“. Пока он отвязывал катер, я убедился, что это не Хемингуэй – слишком худощав, низкоросл, чисто выбрит. Он был без шляпы, в коричневых слаксах и серой рубашке, с немецкой курьерской сумкой через плечо. В правой руке он держал автомат „шмайссер“. Я выстрелил в тот самый миг, когда завелся двигатель „Лорейн“. Лобовое стекло перед человеком раскололось, он отдернул левую руку, однако из-за движения всех трех судов и неожиданного ливня я не мог сказать, был ли мой выстрел точен. „Лорейн“ с ревом метнулся вперед и исчез за Кейо Ларго. Я стоял, опираясь о кронштейн снятого лобового стекла, продолжая следить за „Пилар“ и дожидаясь появления катера из-за восточного берега островка. Колумбии – если это был он – некуда было деваться в этой части бухты; глубина широкого заболоченного пространства составляла менее полуметра. Через десять секунд „Лорейн“ с ревом выскочил из-за острова, разворачиваясь к глубокому каналу за нашими спинами и рассекая илистую грязь. Человек за штурвалом управлялся с ним левой рукой, в которую, как я думал, мне удалось попасть, и стрелял в меня из автомата правой. Я увидел облачка дыма и почувствовал, как мой катер вздрогнул и завибрировал от ударов пуль, но мне некогда было обращать на это внимание – я прилагал все силы, чтобы устоять в скачущем катере и вести огонь. В борт моего судна угодила очередная пуля, я выстрелил, перезарядил винтовку и выстрелил вновь. Моя первая пуля разбила прожектор у штурвала „Лорейн“. Вторая ушла в пространство. Третья свалила противника с ног; он упал на палубу между сиденьями. Двигатель „Лорейн“ взревел на полных оборотах. Я открыл дроссельные заслонки „Крис-Крафта“ и описал дугу вокруг „Пилар“, продолжая следить за ней. Яхта представляла собой идеальное укрытие для снайпера, вздумай он уложить меня сейчас, но выстрела не последовало. Мужчина в серой рубашке бился на палубе „Лорейн“, словно огромная рыба, а катер продолжал мчаться по каналу между полузатопленных вех. Мой противник был ранен, но пытался встать на ноги и дотянуться до штурвала. Я дал полный газ и выглянул из-за приподнявшегося носа своего катера, лавируя из стороны в сторону, чтобы уклониться от выстрела, если мужчина в сером поднимет свой автомат и вновь откроет стрельбу. Пуля расколола левое ветровое стекло. Еще одна пробила кожу на сиденье рядом со мной и вырвала из него клочок набивки. Еще две или три попали в пятидесятигаллоновую бочку, и я сразу почувствовал запах горючего, хлынувшего в кормовую рубку катера. Однако ничто не взорвалось и не загорелось. Казалось, „Лорейн“ сам находит дорогу к выходу из порта – он мчался к протоке со скоростью тридцать пять узлов. Но я догонял его, разбрасывая грязь, когда слишком приближался к берегу справа – если бы я наткнулся на песчаную отмель, то меня бы выбросило поверх лобового стекла. Я отложил „ремингтон“, взял „томпсон“ и, подойдя к „Лорейн“ с правого борта, выпустил в его рубку полную обойму. Мужчина дернулся и подпрыгнул, словно марионетка в неумелых руках, потом привалился спиной к левому планширу. Я выбросил пустой магазин, вставил новый и продолжал стрелять, но снял палец с крючка, заметив, что оба судна мчатся прямиком к левому берегу. Я включил реверс правого двигателя и развернул катер, подняв стену воды, залив ею узкий илистый берег и едва избежав столкновения с ним. „Лорейн“ несся вперед, словно собираясь прорезать полоску каменистой суши и вырваться в открытое море. Мой катер наткнулся на две отмели и едва не вышвырнул меня в воду, но я успел дать полный вперед и вновь очутился в протоке кормой к ее устью. Сбросив обороты, я оглянулся в тот самый миг, когда „Лорейн“ врезался в камни и грязь. Верхняя часть великолепного катера Тома Шелвина раскололась и взмыла в воздух, рассыпая вокруг осколки стекла, хромированного металла, обломки красного дерева и провода; корпус „Лорейн“, хотя и треснул, продолжал мчаться вперед, увлекаемый завывающей машиной, рассекая отмели, берег и заросли лиан, пока наконец не распался на тысячи кусков у подножия холма, где мы похоронили немецких агентов. Тут и там вспыхивало пламя, но взрыва не было. Запахло горючим. Тело мужчины пролетело около двадцати метров, упало на живот в воду неподалеку от центрального канала и поплыло, раскинув руки и сочась кровью, которая смешивалась с тучами грязи. Я развернул „Крис-Крафт“ и медленно приблизился к нему, держа наготове автомат. Прошло три минуты; мужчина оставался неподвижен, только колыхался на слабеющих волнах, поднятых „Лорейн“. Содержимое курьерской сумки разлетелось, бумаги висели на верхушках деревьев, лежали на отмелях, тонули в главной протоке. Я и сам не смог бы придумать лучшего способа избавиться от них. Подплыв к мужчине вплотную, я заметил белую кость позвоночника, торчащую из-под лохмотьев его рубашки и растерзанной плоти. Я положил автомат на сиденье, взял багор, подтянул к себе труп и повернул его лицом вверх. Лицо почти не пострадало, и только рот был широко распахнут, словно в искреннем изумлении. Впрочем, то же самое можно было сказать почти обо всех нас. Я нагнулся, ухватил его за волосы и рубашку и втащил на борт. Вода, смешанная с кровью, потекла по палубе и зажурчала в сточных желобах. Я не знал этого человека. У него было худое, бледное, чуть заросшее лицо; короткие волнистые волосы; его ярко-голубые глаза уже начинали стекленеть. Очередь „томпсона“ попала ему в грудь и пах. На внутренней поверхности левого предплечья остался легкий шрам от первой пули „ремингтона“, а более широкое входное отверстие в боку указывало, куда угодил второй выстрел, сбивший его с ног. Во время столкновения катера с берегом ему почти оторвало правую руку. Я обыскал его. К моему удивлению, бумажник не выпал из кармана. На маленькой промокшей карточке без фотографии было указано имя – майор Курт Фридрих Дауфельдт, офицер управления имперской безопасности, СД АМТ IV. На отдельном листке бумаги под двойной эсэсовской молнией было напечатано, что майор СС Дауфельдт выполняет важное задание командования Третьего Рейха, и все служащие вооруженных сил, разведки и органов безопасности обязаны оказывать ему посильное содействие. Хайль Гитлер! Ниже стояли подписи рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, Рейнхарда Гейдриха и майора Вальтера Шелленберга, главы РСХА VI. Вот оно как. Я положил промокший листок в карман и всмотрелся в лицо трупа. – Привет, Колумбия, – сказал я. Я сомневался, что на Кубе найдутся другие агенты столь высокого ранга, с письмом от трех высших чинов СД. Один из них был убит в Чехословакии, однако письмо по-прежнему свидетельствовало о том, какая власть была вверена человеку, тело которого лежало передо мной. В чем бы ни заключалась операция „Ворон“, она имела огромное значение и проводилась с ведома верхов нацистской иерархии. Вряд ли Дауфельдт носил при себе письмо и удостоверение, выполняя свое секретное задание, но, вероятно, сегодня вечером, разделавшись с Хемингуэем, он намеревался бежать и захватил с собой свои верительные грамоты. – Прощай, Колумбия, – добавил я. – Прощайте, герр майор Дауфельдт. Aufwiedersehen. Труп ничего не сказал. Дождь почти прекратился, но мелкие капли продолжали падать на его запрокинутое лицо. Я заглушил двигатель и осмотрел „Крис-Крафт“ в поисках повреждений. В пятидесятигаллоновой бочке было три отверстия, и повсюду расплескалось горючее. Я недовольно покачал головой. Только по чистой случайности топливо не воспламенилось от пуль или разогретой машины, установленной чуть впереди кормовой рубки. На катере был маленький шкафчик, я обыскал его и нашел там ветошь, небольшое ведро и рулончик липкой ленты. Я, как мог, залепил ею пробоины, перекатил бочку отверстиями вверх и вновь закрепил ее на месте. Потом я вытер тряпками горючее и выбросил их за борт. Сняв с трупа рубашку, я как можно тщательнее собрал ею остатки разбрызганного топлива и, зачерпывая ведром морскую воду, несколько раз окатил палубу и сиденья, пока запах солярки не ослаб. Я осмотрел днище, решил, что туда просочилось совсем немного топлива и его пары не представляют опасности. Лотом я включил маленькую помпу, чтобы откачать горючее. Катер не взорвался. „Быстрее! – торопило меня подсознание. – Может быть, Хемингуэй ранен и умирает“. Но если бы я взлетел с катером на воздух в сотне ярдов от „Пилар“, это вряд ли помогло бы ему. Когда днище было осушено и остатки топлива испарились, я перебрался на нос, протащил труп через машинное отделение и уложил его на палубу в кормовой рубке под бочкой. Потом я отмыл от крови палубу носовой рубки. Пустившись в обратный путь, я следил за „Пилар“ в двенадцатикратный бинокль, по-прежнему не замечая там никакого движения. С другой стороны, его не было и перед тем, как майор Дауфельдт попытался прорваться к морю. Я свернул к западу и медленно подплыл к корме яхты Хемингуэя с „магнумом“ в руке, старательно держась подальше от илистого берега и песчаных отмелей. Отсюда я мог заглянуть в рубку и темный вход в носовые каюты. Ничего Приблизившись на шесть метров и вытянувшись во весь рост, я увидел палубу каюты почти до кормовой банки. Там лицом вниз лежало тело. Я увидел шорты, раскинутые ноги, массивный торс в свитере с обрезанными рукавами, бычью шею, короткие волосы и бороду. Это был Хемингуэй. Его затылок и виски были покрыты кровью. Волны покачивали „Пилар“ из стороны в сторону, и тягучая жидкость лениво переливалась Казалось, Хемингуэй не дышит. – Проклятие, – прошептал я „Крис-Крафт“ подплыл к правому борту „Пилар“ и уткнулся в него. Из носового отсека не слышалось ни звука. Боковое стекло слева от штурвала было разбито. Должно быть, когда раздался выстрел, Хемингуэй управлял яхтой. Но ведь кто-то должен был бросить кормовой якорь! Колумбия, он же Дауфельдт, застрелил писателя с берега, расположившись неподалеку от пирса, потом приплыл сюда на „Лорейн“ и поставил „Пилар“ на якорь А может быть, и нет. Я привязал катер к крюку на правом борту у кормы, там, где прежде стоял „Лорейн“, и, когда волны одновременно подбросили оба судна, перепрыгнул на борт яхты, держа в правой руке „магнум“, в левой – гранату и следя за трапом носового отсека и люком ходовой рубки над разбитым стеклом. Тишина и спокойствие. Я слышал только плеск волн. Наконец я отважился посмотреть на Хемингуэя. Было много крови, и по меньшей мере в одном месте с его черепа была содрана кожа – чуть выше и позади уха. Колыхание яхты мешало мне определить, дышит ли он. Кровь с его головы натекла на ухо, пострадавшее от моего кулака. При воспоминании о нашей драке меня вновь охватил стыд. Я повернулся к спуску в каюту, и в тот же миг из люка показалось дуло револьвера. Я вскинул „магнум“, но слишком поздно Раздались три коротких резких выстрела, я почувствовал два сильных удара в грудь Я завертелся волчком, пытаясь удержать „магнум“. Послышался еще один хлесткий звук, и в моем левом боку что-то взорвалось. Я выронил пистолет и гранату, упал на кормовую банку и перевалился через задний борт, срезанный ниже обычного по заказу Хемингуэя, чтобы было легче втаскивать крупную рыбу. Упав в воду, я услышал отдаленный всплеск. В моих глазах потемнело – то ли из-за того, что меня покинуло сознание, то ли потому, что я окунулся в черную жижу и пошел к илистому дну.Глава 29
– Будь ты проклят, Лукас, не вздумай умереть! Кто-то бил меня по лицу. Бил крепко. Боль от ударов не шла ни в какое сравнение с чувством, будто бы в моей груди и правой руке шевелятся горячие сверла, и казалась совершенным пустяком на фоне мучительного жжения в левом боку, однако пощечины удерживали меня от падения в уютную темноту воды и смерти. Я собрался с силами и открыл глаза. Дельгадо с улыбкой отодвинулся от меня и сел. – Вот и славно, – сказал он. – Ты можешь умереть в любую минуту, но прежде я хотел бы получить ответы на пару вопросов. – Он сидел на складном стульчике без спинки, установленном в центре рубки „Пилар“. Тело Хемингуэя все еще лежало на палубе слева от нас, уткнувшись лицом в лужу крови. К этому времени лужа растеклась еще шире. На Дельгадо были грязные белые брюки, матросские туфли и его обычная майка. У него были загорелые мускулистые плечи. Он держал в руке спортивный шестимиллиметрвый револьвер Хемингуэя и постукивал его стволом по своему колену. Я приподнял голову и сосредоточил на нем взгляд. Я качнулся к нему, стараясь схватить его, прежде чем он поднял пистолет. Меня охватила боль, голова закружилась, в глазах все расплылось. Мои руки были скованы за спиной, металл впивался в кожу запястий. Я понял, что сижу на банке вдоль правого борта рубки, и Дельгадо приковал меня к короткому отрезку декоративного бронзового поручня под планширом. Вода пропитала мою одежду и хлюпала в обуви. Я взирал на стекавшие с меня струи с тупым интересом, который не обострился и тогда, когда я заметил, что они в основном состоят из алой жидкости. Я буквально истекал кровью. Вероятно, Дельгадо выудил меня из воды и привел в чувство сразу после стрельбы. Он вновь ударил меня, на сей раз дулом пистолета в висок. Я старался сфокусировать взгляд, не обращая внимания на то, что он говорит. —..документы, Лукас? Документы Абвера? Скажи мне, где они, и я оставлю тебя в покое, обещаю. Я попытался заговорить. Должно быть, при падении я ударился лицом о корму, потому что мои губы были рассечены и вспухли. Либо Дельгадо трудился надо мной дольше, чем я полагал. —..в… бухте… – с трудом выдавил я. – Они… у Дауфельдта. Дельгадо усмехнулся. – Нет, Лукас, документы не у Дауфельдта. Дауфельдт – это я. Я вытащил тебя из воды только потому, что мне потребовались вот эти бумажки. – Он вытащил из кармана брюк промокшее эсэсовское удостоверение и письмо. – А теперь мне нужны документы Абвера. Где их прячет Хемингуэй? Я покачал головой. От этого движения по моей правой руке и левом боку разлилась боль и перед глазами вновь заплясали черные точки. – В бухте… и на берегу. Там… где разбился „Лорейн“. Дельгадо ударил меня ладонью. – Сосредоточься, Лукас. Курьерская сумка оказалась У Хемингуэя, иначе я бы его не убил. Но вместо абверовских документов там лежала какая-то дурацкая рукопись. Когда Крюгер попытался бежать, у него не было с собой документов. Где они? Мне потребовались все силы, чтобы приподнять голову и посмотреть на Дельгадо. – Кто… такой… Крюгер? Дельгадо искривил губы. – Сержант СС Крюгер. Мой бесценный верный радист с „Южного креста“. Ты только что выловил его из воды, Лукас. А теперь говори, куда Хемингуэй спрятал эти чертовы документы? Я покачал головой и уронил ее. – Это майор Дауфельдт… так написано в удостоверении. Дельгадо приподнял мою голову за волосы и наклонился к моему лицу. – Ты слышал, Лукас? Майор Дауфельдт – это я. Когда ты появился здесь, я уговорил трусливого бедолагу Крюгера взять „шмайссер“ и попытаться удрать на „Лорейн“. Как я и рассчитывал, ты прикончил его. Удостоверение и письмо принадлежат мне. Но где документы? – Хемингуэй… жив? – с трудом произнес я. Дельгадо мельком оглянулся через плечо. Над головой Хемингуэя и лужей крови, которая уже растеклась до его плеч, роились мухи. – Не знаю, – сказал Дельгадо. – Мне это безразлично. Если он еще жив, то скоро умрет. – Он вновь посмотрел на меня и улыбнулся. – Хемингуэй погиб от несчастного случая на воде. Ударился головой, когда „Пилар“ наткнулась на песчаную отмель. Я воспользовался багром, но это мот быть любой острый угол в рубке. Я очищу багор от волос и крови и выброшу его за борт. Потом я загоню яхту на мель. После того как труп несколько часов пролежит в воде, никто не сможет точно определить происхождение раны. Я уселся как можно прямее и попытался пошевелить руками в наручниках. Дельгадо затянул их очень туго, прекратив циркуляцию крови. Я не чувствовал свои пальцы и не мог ими двигать. А может быть, причиной онемения была кровопотеря. Кровь пропитала мою рубашку, брюки, туфли и кожу сиденья. Я старался сосредоточиться – не на Дельгадо, а на собственном самочувствии. Я запомнил три удара пуль: один в руку, другой – в верхнюю правую часть груди либо в плечо, и третий, самый опасный, в левый бок. Я посмотрел вниз. Разорванная мокрая рубашка, много крови. Это почти ничего не говорило мне. Но Дельгадо стрелял из мелкокалиберного револьвера, и это внушало определенные надежды. Однако кровотечение и прогрессирующая слабость были дурным знаком. Одна или две маленькие пули задели жизненно важные органы. – Ты слушаешь меня, Лукас? Я вновь сфокусировал взгляд: – Как это произошло? – Что именно? – Как вы расправились с Хемингуэем? Дельгадо вздохнул. – Что это – кульминационный эпизод киноленты, в котором я рассказываю тебе обо всем, прежде чем ты умрешь? Или, еще нелепее, – сбежишь? Я чувствовал, как наручники впиваются мне в запястья, и понимал, что о бегстве не может быть и речи. Даже если я высвобожу руки, даже если к ним вернутся ощущения, я слишком ослаб, чтобы действовать ими. Мне пришла мысль попробовать бороться с Дельгадо при помощи ног, но, сдвинув их на несколько сантиметров, понял, что они практически бессильны. Вероятно, мне удалось бы схватить его ногами за пояс и удерживать несколько секунд, но я не смог бы его повалить, а ему было достаточно выстрелить в меня из револьвера. Я решил сберечь остатки сил и ждать удобного момента. „Удобного для чего, Джо?“ Мой внутренний голос звучал устало и язвительно. Я смотрел на Дельгадо, стараясь не потерять сознания. – Что ж, – заговорил он, – я объясню, как заманил Хемингуэя в ловушку, а ты расскажешь, где он мог спрятать документы. Идет? Я кивнул, хотя все козыри были у Дельгадо, он знал об этом и мог ничего мне не рассказывать. В моем неповоротливом мозгу шевельнулась мысль о том, что заносчивость Дельгадо – моя последняя надежда. Несмотря на сарказм, с которым он упомянул об „эпизоде, в котором рассказывает мне обо всем“, я чувствовал, что, подобно большинству киногероев, он жаждет именно этого. Может быть, убежденность Хемингуэя в том, что вымысел – даже кинематографический – правдивее самой жизни, в конце концов окажется истиной. – Мы предоставили „Лорейн“ воле течений, и он сам подплыл к этому островку, – заговорил Дельгадо, по-прежнему кривя губы в своей вызывающей ухмылке. – Сержант Крюгер лежал в рубке лицом вниз, якобы раненый и без сознания. Тогда на нем была твоя зеленая рубашка, Лукас. Должно быть, в моих глазах что-то мелькнуло, потому что Дельгадо фыркнул. – Эльза украла ее для нас. – Эльза? Дельгадо покачал головой, словно взрослый, который разговаривает с тупым ребенком. – Мария. Впрочем, это неважно. Может быть, потом ты расскажешь, как ее убил, но сейчас это не имеет значения. Ты ведь хочешь дослушать до конца сказочку на сон грядущий? Я промолчал. – Итак, пока писатель окликал тебя по имени и привязывал катер, – продолжал Дельгадо, – я вплавь добрался до яхты с островка и встал за его спиной со „шмайссером“, ожидая, что он схватится за свой игрушечный револьвер. – Дельгадо вновь покачал головой. – Но этот болван вздумал затеять драку. Попытался отнять у меня „шмайссер“. Разумеется, я мог пристрелить Хемингуэя или убить голыми руками, в этом и заключался план номер один – представить дело так, будто бы его прикончил ты, – но до тех пор, пока Мальдонадо не доставил твой труп на Нуэвитос, мы вынуждены были создавать видимость несчастного случая. Итак, пока сержант боролся с Хемингуэем, я хватил его по затылку багром. Видишь ли, мы заметили в рубке курьерскую сумку и решили, что абверовские документы находятся там. Но в сумке оказалась дурацкая рукопись о парочке влюбленных, которые трахаются во Франции. Тогда я велел Крюгеру присматривать за твоим дружком, который валялся на палубе и истекал кровью, а сам обыскал яхту. Потом ты подоспел на выручку Хемингуэю, и я отважился на геройский поступок, отпустив беднягу Крюгера со своим автоматом и затаившись здесь, не имея под рукой ничего, кроме маленького пугача писателя. Я собирался ранить тебя тремя выстрелами, чтобы получить обратно свое удостоверение и выяснить, где находятся бумаги, однако одна из пуль оказалась смертельной – я понял это по тому, как ты извивался, прежде чем упасть. Мне очень жаль. Конец фильма. Где документы? Я покачал головой. Мне казалось, что поднявшийся ветер шуршит кронами пальм на соседнем островке, но потом я понял, что это шум крови в моих ушах. – Объясните… остальное… – слабым голосом попросил я. – Я не… понимаю. Документы. Бекер. Трупы немецких солдат. Зачем? Что все это значит? Не понимаю. Дельгадо учтиво кивнул. – Ты и не должен был понять, Лукас. Тебя выбрали именно поэтому. Ты умен… но не слишком. Но, боюсь, нашу беседу пора заканчивать, и даже если бы у нас было больше свободного времени, я ничего бы тебе не сказал. – Он поднял пистолет и навел его меж моих глаз. – Где абверовские документы? – Пошел ты… – произнес я и умолк, ожидая выстрела. Дельгадо чуть заметно искривил губы. – Крутой парень, – сказал он и пожал плечами. – Не хотелось бы тебя расстраивать, Джо, но эти документы мне в общем-то ни к чему. Там, откуда они взялись, найдутся еще. Наши партнеры полагают, что передача состоялась, и теперь, когда канал налажен, я могу в любое время подбросить очередную порцию абверовских документов. После событий на Пойнт Рома нам доверяют, и мы сделаем все, чтобы они и впредь пребывали в добром настроении. – В добром настроении… кто? – тупо спросил я, лихорадочно размышляя. „Ноги еще достаточно сильны, чтобы один раз пустить их в ход… сейчас самый удобный момент“. Но Дельгадо отодвинул брезентовый стульчик на метр и оказался в недосягаемости. Он покачал головой: – Извини, Лукас. Время вышло. Прощай, малыш. Черное отверстие пистолетного дула почти без остатка поглотило мое внимание, однако краем глаза я уловил движение. Хемингуэй встал на колени и застонал, пытаясь подняться на ноги. Дельгадо опустил пистолет и повернулся на пол-оборота. – О господи, – устало произнес он и, встав, терпеливо воззрился на Хемингуэя, который наконец поднялся и покачивался, будто пьяный, на залитой кровью палубе своей любимой „Пилар“. Лицо писателя было белым, как одинокое облачко, плывшее в небе за его спиной. Дельгадо смотрел, как встает Хемингуэй, и у меня опять мелькнула надежда, что его самонадеянность окажется сильнее инстинктивного порыва немедленно нажать спусковой крючок. – Поздравляю, – сказал Дельгадо, отступая на шаг от своего бледного противника. – Ты крепкий сукин сын. Мало кому удалось бы выжить после такого удара. Хемингуэй покачнулся и согнул руки, явно пытаясь сосредоточить взгляд на мне и Дельгадо. „Он стоит слишком далеко“, – подумал я. Мое сердце забилось с такой силой, что я испугался истечь кровью до смерти гораздо быстрее, чем рассчитывал. „Он слишком далеко, но это и неважно, поскольку Дельгадо без труда прикончил бы Хемингуэя голыми руками, даже если бы тот находился в наилучшей форме“. Дельгадо вздохнул. – Похоже, придется вернуться к плану номер один. Бездыханное тело писателя найдено рядом с трупом двойного агента, который его застрелил. – Он поднял пистолет и навел его в широкую грудь Хемингуэя. Я откинулся назад, не обращая внимания на пронзившую меня мучительную боль, и что было сил ударил ногами в поясницу Дельгадо. Он, спотыкаясь, шагнул вперед и удержал равновесие, но в тот же миг Хемингуэй взревел и обхватил его руками, стискивая в медвежьих объятиях. – Ну и ну! – Дельгадо рассмеялся и приемом дзюдо освободился от хватки, отбросив левую руку Хемингуэя рубящим ударом ладони по внутренней поверхности бицепса. Он прижал ствол пистолета к горлу писателя. Хемингуэй вновь взревел и обеими руками схватил запястье Дельгадо, выворачивая дуло пистолета наружу. Дельгадо мог свалить его на колени ударом свободной руки в пах либо опять прибегнуть к дзюдо, но он мгновенно сообразил, что Хемингуэй пытается навести на него пистолет, и вцепился левой рукой в запястье писателя, добавляя усилие, чтобы отвести оружие в сторону. Пистолет замер в вертикальном положении дулом к небу в узком пространстве между взмокшими лицами мужчин. Я вновь согнулся, борясь с дурнотой и готовясь ударить Дельгадо, если тот окажется рядом, но, хотя противники продолжали кружить по просторной рубке в неуклюжем смертоносном танце, они оставались вдали от меня. Дельгадо явно превосходил Хемингуэя в рукопашной борьбе, но его руки были заняты, обе ноги упирались в палубу для удержания равновесия, а писатель налегал на него всей своей огромной массой, пытаясь повалить. Хемингуэй спасал свою жизнь, а Дельгадо лишь выжидал удобного момента для выстрела. Решающим фактором было то, что его палец лежал на спусковом крючке, а обе руки Хемингуэя стискивали его запястье. Куда бы ни был направлен ствол, только Дельгадо мог спустить курок. Двое рослых мужчин описывали круги, натыкаясь на переборки и штурвал, потом врезались в правый планшир и вновь очутились в центре рубки. Хемингуэю удалось направить ствол в лицо Дельгадо, но это не имело значения: палец агента по-прежнему был продет в скобу. Они сделали еще рывок, и отверстие дула переместилось к лицу Хемингуэя. Дельгадо не успел нажать на спуск – Хемингуэй склонил голову на правое плечо, убирая лицо с линии огня; он рявкнул и вновь метнулся вперед. Ствол задрался кверху. Противники врезались в трап, ведущий на ходовой мостик. Дельгадо с быстротой молнии перехватил пистолет левой рукой, усиливая рычаг давления и вновь перемещая дуло к лицу Хемингуэя. Писатель лбом ударил Дельгадо в лицо и тоже переменил РУКУ рискуя получить пулю. Они опять затоптались по окровавленной палубе, скользя и скрипя обувью, но теперь правая ладонь Хемингуэя лежала поверх барабана револьвера, а указательный палец был втиснут в защитную скобу поверх пальца Дельгадо. Дельгадо ударил его коленом в пах. Писатель издал стон, но не дрогнул и продолжал борьбу, хотя его противник воспользовался секундной заминкой и сместил левую руку выше по стволу, наклоняя его вниз, так что выходное отверстие уперлось в горло Хемингуэя. Тот скосил глаза вниз. Ему не удавалось оттолкнуть оружие. Хватая ртом воздух и продолжая кривить губы в улыбке, Дельгадо вдавил ствол в ложбинку под его подбородком, взвел большим пальцем курок и нажал спуск. Однако Хемингуэй сумел сдвинуть ладонь на три сантиметра вниз и всунул мизинец между бойком и капсюлем. Боек расплющил верхний сустав и ноготь пальца Хемингуэя. Дельгадо потянул револьвер в сторону, срывая кожу с пальца писателя. Ему удалось высвободить оружие, и противники вновь закружились, едва не повалив друг друга на палубу; обретя равновесие, они вновь врезались в трап. От меня до них было два метра, я не мог нанести очередной удар. Я чувствовал, как вместе с кровью, заливавшей подушки сиденья, мое тело покидают силы и ноги начинают неметь. Дельгадо удалось освободить курок для следующего выстрела, но при этом он невольно повернул выходное отверстие к себе. Хемингуэй левой рукой схватил револьвер за ствол и начал выкручивать его. Дельгадо разжал ладонь и переместил ее выше по стволу, но это место уже занимала рука Хемингуэя. Они были похожи на мальчишек, которые выбирают сторону поля, все выше перехватывая бейсбольную биту, пока на ней умещаются пальцы. Я уже не видел ствол револьвера, только напряженные пальцы Дельгадо поверх ладони Хемингуэя. Их правые руки находились ниже – указательный палец Дельгадо лежал на спусковом крючке, поверх него – палец писателя. Хемингуэй оскалил зубы. На его могучей шее выступили жилы. Ствол уткнулся в мягкую плоть под нижней челюстью Дельгадо. Дельгадо с непостижимой быстротой отдернул голову, но деревянный поручень трапа за его затылком не позволил запрокинуть ее дальше. Хемингуэй приподнял ствол, вновь вжимая его в подбородок противника. Дельгадо беззвучно вскрикнул, но это был не вопль ужаса, а крик парашютиста, которым тот подбадривает себя, перед тем как прыгнуть из люка самолета в темноту и холод. Они продолжали бороться в полную силу. Хемингуэй нажал палец Дельгадо, лежащий на спусковом крючке. Уже несколько минут перед моими глазами плясали черные точки; теперь они слились в сплошную пелену, и я на время погрузился в обморок. Когда зрение вернулось ко мне, на ногах стоял только Хемингуэй, уронив пистолет и покачиваясь над телом Дельгадо, бессильно приникшим к трапу. Глядя на страшный шрам на голове писателя, можно было решить, что именно он, а не Дельгадо получил пулю. Выходного отверстия на черепе Дельгадо не было. Судя по обильному кровотечению из его глаз, ушей и носа, а также по тому, как была разворочена его нижняя челюсть, мелкокалиберная пуля прошла через мягкие ткани неба и несколько раз отрикошетировала внутри черепа. Хемингуэй глядел на труп, потом посмотрел на меня с выражением, которого я никогда не забуду. В нем не было торжества, сожаления или отчаяния. Единственное выражение, которым я могу его описать, – это бесстрастный могучий интеллект. Хемингуэй „фиксировал“ происходящее: он запоминал не только то, что видит, но и запахи, мягкое покачивание „Пилар“, слабый вечерний бриз, неожиданный крик чайки, донесшийся со стороны входной протоки бухты, даже терзавшую его боль и его собственные ощущения. В первую очередь – собственные ощущения. Потом Хемингуэй сосредоточил взгляд на мне и подошел ближе. Пляшущие черные точки опять начали сливаться в пелену, я почувствовал, что наручники соскальзывают с моих запястий, что я опять свободен… и больше ничто не мешает мне падать в темноту, в которой нет боли, где я свободен от всего происходящего и наконец могу уснуть вечным сном. И вновь меня привели в чувство сильные удары по лицу и требовательный голос – на сей раз звучный тенор Хемингуэя, повторявшего: – Будь ты проклят, Лукас! Не вздумай умереть! Не вздумай умереть, сынок! Я напряг все силы, чтобы выполнить его просьбу.Глава 30
В конечном итоге с того света меня вытащили братья Геррера. Роберто не обладал медицинским опытом своего брата, но знал и умел вполне достаточно, чтобы поддержать мою жизнь на обратном пути в Кохимар, где нас ждали доктор Сотолонго и его друг, хирург по профессии. Эрнест Хемингуэй также приложил руку к моему спасению. О том, что происходило после гибели Дельгадо, я сохранил лишь обрывочные воспоминания. Впоследствии Хемингуэй рассказывал мне, что первым его побуждением было взять „Крис-Крафт“, на котором мы могли добраться до Конфитеса и Кохимара гораздо быстрее, чем на „Пилар“. Но когда он вскрыл аптечку и забинтовал мои раны, я на несколько минут потерял сознание и, очнувшись, понял, что он втаскивает меня в катер. – Нет, нет… – пробормотал я, хватая его за руки. – Это судно угнано… – Знаю, – отрезал Хемингуэй. – Катер „Южного креста“. Но это не имеет значения. – Имеет, – возразил я. – Его ищет кубинская береговая охрана. А эти ребята сначала стреляют, а уж потом задают вопросы. Хемингуэй остановился. Он знал, с каким удовольствием береговая охрана открывает огонь. – Ты федеральный агент, – сказал он наконец. – Сотрудник ФБР и… как бишь его? ОРС. Ты реквизировал катер для осуществления своих функций. Я покачал головой. – Нет… больше не агент… меня ждет тюрьма. – Я рассказал Хемингуэю о своей полуночной стычке с лейтенантом Мальдонадо. Хемингуэй вновь уложил меня на подушки, сел рядом и потрогал свою голову. Он забинтовал рану на черепе, но сквозь белую марлю уже просачивалась кровь. Должно быть, рана причиняла ему ужасную боль. – М-да, – сказал он. – Если мы привезем тебя в больницу на „Крис-Крафте“, нам несдобровать. Капитан „Южного креста“ может предъявить тебе обвинения, и даже хотя Мальдонадо мертв, его босс, Хуанито Свидетель Иеговы, вероятно, знал, что лейтенанта послали убить тебя. Я опять покачал головой, и перед моим глазами вновь заплясали черные точки: – Никаких больниц. Хемингуэй кивнул. – Если мы поплывем на „Пилар“, то сможем радировать нашим и попросить, чтобы они подготовили доктора Сотолонго. Или даже доставили его в Нуэвитос или другой попутный порт. – Разве Дельгадо не испортил рацию? – спросил я. Мне было невыразимо приятно неподвижно лежать на мягком кормовом сиденье и смотреть в чистое небо. Там не осталось ни облачка. Буря миновала. – Нет, – ответил писатель. – Я только что проверял. Должно быть, Дельгадо попытался включить ее и увидел, что она не работает. – Разбита? – с трудом выдавил я. Мои мысли вновь начинали смешиваться. Внезапно я вспомнил, что Хемингуэй ввел мне ампулу морфия из армейской аптечки. Неудивительно, что меня охватили лень и оцепенение. Хемингуэй качнул было головой, но тут же негромко застонал. – Нет, – сказал он. – Я вынул несколько ламп и спрятал их. Мне потребовалось свободное место. Я посмотрел на него, прищурясь. То ли волнение в бухте усилилось, то ли у меня опять закружилась голова. – Место? Хемингуэй показал мне пачку бумаг в буром бумажном конверте. – Место для абверовских документов. Я решил спрятать их куда-нибудь, прежде чем отправляться в бухту Манати на встречу с тобой. И очень рад, что сделал это. – Он нехотя прикоснулся к окровавленной повязке на голове и посмотрел по сторонам. – Ладно. Поплывем на „Пилар“. – Фотографии, – сказал я. – Снимки. И еще мы должны избавиться от трупов. – Эта чертова бухта превращается в нацистское кладбище, – проворчал Хемингуэй. Я смутно помню, как он приволок два трупа, снял их „лейкой“ с всевозможных ракурсов, сфотографировал „Крис-Крафт“ и уложил тела в разных его рубках, покинул катер, отвел „Пилар“ в сторону и выстрелил в бочку с горючим из моего „магнума“. Рубка катера вновь заполнилась топливом, и его вонь привела меня в чувство; Хемингуэй поджег пропитанную горючим тряпку, в которой я узнал свою зеленую рубашку, и швырнул ее на катер. Над кормой „Крис-Крафта“ поднялся дымный гриб и взвились языки пламени, опалившие краску на правом борту „Пилар“. Хемингуэй стоял на мостике, защищая лицо от жара и огня. Ондвинул вперед рукоятки газа, разгоняя яхту и стараясь держаться по оси узкого канала, ведущего прочь от Кейо Ларго. Я на мгновение приподнялся и посмотрел назад. Этой секунды было достаточно. Катер целиком охватило пламя, а вместе с ним – трупы Дельгадо (майора Дауфельдта, поправил я себя) в носовой рубке и сержанта Крюгера в кормовой. Мы уже отплыли примерно на шестьдесят метров, когда взорвался главный бак и остатки топлива в бочке, и над бухтой взлетели пылающие куски красного дерева и раскаленные обломки хромированной стали. Несколько пальм на островке загорелись, но после недавнего дождя они были такими влажными, что огонь вскоре угас. Опаленные ветви шелестели в потоке воздуха, поднимавшегося от пожарища. Несколько горячих углей упали на палубу „Пилар“, но я слишком ослабел, чтобы выбросить их за борт, а Хемингуэй не мог оставить штурвал и спуститься с мостика. Они продолжали дымить все время, пока мы шли по каналу, над которым витал запах трупов, зарытых в песке на мысу, и, миновав проход между рифами, устремились на северо-северо-запад к глубоким водам Гольфстрима. Хемингуэй спустился по окровавленному трапу и багром сбросил с палубы тлеющие угли, погасил загоревшийся брезент огнетушителем, принесенным из камбуза, и вернулся взглянуть на меня. После бури море все еще было неспокойным, из-за качки на меня волнами накатывала боль, но благодаря чудодейственному морфину я ощущал ее как бы со стороны. Я смутно помню, каким бледным был Хемингуэй, с каким трудом он держался на ногах; вероятно, рана на голове была такой болезненной, что ему и самому не помешал бы морфин, но он не мог прибегнуть к его помощи, поскольку должен был доставить нас домой. – Лукас, – сказал он, прикоснувшись к моему здоровому плечу, – я радировал на Конфитес и сообщил, что у нас неприятности и что они должны приготовить большой медицинский набор. Роберто отлично разбирается в этих вещах. Он сообразит, что нужно сделать. Я закрыл глаза и кивнул. —..чертовы документы, – говорил тем временем Хемингуэй. Я понял, что он, вероятно, держит в руках абверовские бумаги. – Ты выяснил, зачем Дельгадо подкинул их нам? Из-за чего поднялась вся эта кутерьма? – Не знаю, – выдавил я. – Но… у меня есть догадки. Даже с закрытыми глазами я почувствовал, что Хемингуэй ждет продолжения. „Пилар“ мчалась на запад. – Я объясню… объясню все, если останусь в живых, – сказал я. – Уж постарайся, – отозвался писатель. – Мне очень хочется узнать, что у тебя на уме.* * *
Операцию без лишнего шума провели в доме доктора Сотолонго на холме неподалеку от финки. Первая пуля Дельгадо пробила аккуратное маленькое отверстие в мягких тканях моей правой руки и вышла наружу, не задев артерий и основных мышц. Вторая угодила в правое плечо, пронзила ключицу и засела над правой лопаткой, приподняв кожу бугорком. Геррера Сотолонго и его друг, хирург Альварес, сказали, что удалили ее практически голыми пальцами, без инструментов. По пути она вызвала значительное кровотечение, впрочем, не смертельное. Самыми серьезными последствиями грозил третий выстрел. Пуля вошла мне в левый бок, двигаясь прямиком к сердцу, сломала ребро и отклонилась ровно настолько, чтобы задеть край легкого, а не сердце. Она остановилась в миллиметре от позвоночника. – Весьма впечатляюще для шестимиллиметровой пули, – заметил впоследствии Геррера Сотолонго. – Если бы тот джентльмен стрелял из „шмайссера“, о котором вы говорили, то… – У него было обыкновение заряжать „шмайссер“ пустотелыми пулями с насеченными головками, – сказал я. Доктор Сотолонго потер подбородок. – Коли так, наш разговор вряд ли состоялся бы, сеньор Лукас. А теперь ложитесь и поспите. Я спал подолгу. Через трое суток после операции меня перевезли из дома доктора во флигель финки. Там меня продолжали пичкать таблетками и колоть шприцем, я по-прежнему много времени проводил во сне. Альварес и Сотолонго то и дело навещали меня, чтобы полюбоваться результатами своей работы и в очередной раз изумиться тому, как легко я отделался, учитывая количество чужеродного металла, побывавшего в моем теле. После того как Сотолонго наложил швы на голову Хемингуэя, тот также провел в постели пару дней. Доктор слово в слово повторил изречение Дельгадо: – Вы крепкий сукин сын, Эрнесто. Я говорю это с уважением и любовью. – Ага, – согласился Хемингуэй, сидевший в халате на краю моей постели. Мы втроем – врач, писатель и бывший агент – „принимали лечебные дозы“ неразбавленного джина. – Сотрясения мозга преследуют меня с детства. В Париже, когда Бэмби был еще младенцем, на меня свалилась люстра. Целую неделю у меня двоилось в глазах. С тех пор я набил немало шишек, в основном – на голове. Хуже всего мне пришлось в тридцатом, когда я ехал в Биллингс и опрокинул машину в кювет. То, что случилось с твоей правой рукой, Лукас, не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло тогда с моей. Ее внутренняя поверхность была похожа на остатки разделанной туши оленя, которые выбрасывают из-за непригодности в пищу. Она чем-то напоминала твое левое ребро, когда я бинтовал его на „Пилар“. – Великолепно, – отозвался я. – Нельзя ли сменить тему беседы? Как поживает миссис Хемингуэй? Хемингуэй пожал плечами. – Прислала мне короткую записку. Она побывала в Парамарибо на Суринаме. Пишет, что там нет ничего, кроме песчаных дюн, тепловых ударов и скучающих солдат. Еще она повидала Нидерландскую Гайану, колонию для заключенных, которую называют Французской Гайаной, и уже было собралась домой, но купила карту тамошних мест и передумала. – Что было на этой карте, Эрнесто? – спросил Геррера Сотолонго. – Ничего, – ответил Хемингуэй. – Она утверждает, что карта практически пуста, если не считать столицу, нескольких деревень на побережье и рек. Самая крупная река, Сарам кока, течет от Парамарибо через зелено-белое пространство. Она говорит, что зеленое – это джунгли, а белое – неизученные территории. Река – это синяя полоска, вьющаяся по зеленому и белому до маленького крестика, которым, как подозревает Марти, обозначено место гибели путешественника, забравшегося дальше всех. За этим крестом простираются неизведанные территории, даже река не разведана… всего лишь линия из голубых точек там, где она якобы протекает. Марти наняла местного чернокожего по имени Гомер, который взялся проводить ее вверх по реке до голубых точек на белом фоне. Доктор Геррера Сотолонго вздохнул. – Боюсь, это очень нездоровое место. Все болеют малярией и дизентерией, и еще там очень распространена лихорадка Денге, или, как ее еще называют, лихорадка-костолом. Весьма мучительный недуг. Подобно малярии, она длится с перерывами много лет. Хемингуэй устало кивнул. – Марти обязательно подцепит ее. Рано или поздно она заболевает всем подряд. Она не пользуется москитными сетками, пьет из местных источников, пробует местные блюда и потом удивляется, отчего ей так плохо. А я ничем не заражаюсь. – Писатель осторожно потрогал умело забинтованную голову. – Кроме сотрясений мозга, – добавил он. Доктор Сотолонго поднял свой бокал с джином. – За сеньору Геллхорн, – провозгласил он. Мы тоже подняли бокалы. – За сеньору Геллхорн, миссис Хемингуэй, – сказал Хемингуэй и выпил джин одним глотком.* * *
Разумеется, всем хотелось узнать, что с нами случилось. Только Грегорио Фуэнтес не задал ни одного вопроса о наших ранах, об исчезнувшем „Крис-Крафте“, сгоревшем „Лорейн“ и загадочной радиограмме, в которой было назначено наше рандеву. По всей видимости, отважный маленький кубинец решил, что если босс захочет что-либо рассказать, то сделает это по собственной воле. Однако остальные терзали нас расспросами. – Это секретная информация, – рычал Хемингуэй весь первый день после нашего возвращения, и больше от него ничего нельзя было добиться. Остальным – даже мальчикам – пришлось поклясться молчать обо всем, особенно о „Крис-Крафте“; они недовольно поворчали, но согласились. – Черт побери, что я скажу Тому Шелвину, когда он вернется? – то и дело повторял Хемингуэй в ту последнюю неделю августа. – Если он взыщет с меня за катер, мне конец. Жаль, что нельзя направить счет флоту или ФБР. Обсудив, стоит ли докладывать о случившемся Брадену или полковнику Томасону, мы решили ничего никому не говорить. Загадка операции „Ворон“ и абверовских документов продолжала беспокоить нас. – Заставьте Шелвина поклясться молчать и расскажите ему все без утайки, – предложил я. – Может быть, он возгордится тем, что послужил своей стране. – Думаешь, он пожалеет, что смог пожертвовать родине только один восьмиметровый катер? – осведомился Хемингуэй. – Всякое может быть, – с сомнением отозвался я. Хемингуэй подпер голову рукой. – Черт возьми, это был прекрасный катер. Помнишь его носовой прожектор, встроенный в планшир? А маленькую статуэтку русалки? А приборы, спроектированные тем самым конструктором, который строил в двадцатых роскошные малые суда „Гар Вуд“? А его штурвал „дейзенберг“ и… – Хватит, – перебил я. – Меня уже тошнит. Хемингуэй кивнул, все еще поддерживая голову ладонью. – Что ж, Том – щедрый человек и настоящий патриот. Если это не поможет нам вымолить прощение, останется только пристрелить его.* * *
В понедельник 31 августа, когда я сидел в постели, хлебая остывший суп, во флигель вошел Хемингуэй. – К тебе два посетителя, – сказал он. Надеюсь, мой взгляд не выразил ровным счетом ничего. – Британский хлыщ и карлик в двухсотдолларовом костюме, – добавил писатель. – Я сказал им, что они могут поговорить с тобой, но с тем условием, что я буду присутствовать при беседе. – Меня это устраивает, – ответил я, ставя поднос на прикроватный столик. В комнате появились еще два кресла, и после взаимных представлений Хемингуэй велел мальчику-слуге принести всем по бокалу виски. Дожидаясь его, мы болтали о пустяках. Я заметил, что Хемингуэй оценивающе присматривается к гостям, а командор Ян Флеминг и Уоллес Бета Филлипс, в свою очередь, к нему. Британец и карлик, казалось, остались довольны тем, что увидели и услышали; Хемингуэй продолжал терзаться сомнениями. – Мы так рады, что ты остался в живых, старина, – уже в третий раз повторил Флеминг. История с моим ранением начинала мне приедаться. – Значит, мы можем поговорить о том, как и отчего все это случилось? – спросил я. Флеминг и Филлипс посмотрели на Хемингуэя. – Не стесняйтесь, – произнес тот натянутым тоном. – Я его друг. К тому же я и сам набил несколько шишек и синяков. – Он прикоснулся к своей забинтованной голове. – И хотел бы знать, ради чего. Гости переглянулись и кивнули. Было жарко, я потел в пижаме. На Хемингуэе были мешковатая рубашка, шорты и сандалии, но и он взмок от испарины. Ян Флеминг маялся в своем шерстяном „тропическом“ блейзере, который выглядел именно шерстяным, но уж никак не тропическим. И только Уоллесу Бета Филлипсу зной был нипочем. Лысый коротышка казался таким подтянутым, безупречно сшитый костюм сидел на нем так ладно, как будто в комнате царила сухая прохлада, а не влажная жара. Я решил еще раз представить посетителей, чтобы Хемингуэй лучшее уяснил ситуацию. – Ян работает с ребятами из британской М16, – сообщил я. – Он сотрудничал с БКРГ Уильяма Стефенсона в нашем полушарии. Длиннолицый британец учтиво поклонился писателю и раскурил сигарету. Я заметил, что при виде длинного мундштука Хемингуэй нахмурился. – Господин Филлипс прежде служил в BMP, – продолжал я, – а теперь он работает у Билла Донована в КСК. – Теперь она называется ОСС, Джозеф, – негромко поправил меня Филлипс. – Да. Я оговорился. Но мне казалось, что вы переехали в Лондон, господин Филлипс. – Так и есть, – ответил коротышка. Его улыбка вызывала у меня совершенно иные чувства, нежели кривая ухмылка Дельгадо, – она помогала мне расслабиться и внушала симпатию к Филлипсу, а когда улыбался Дельгадо, мне хотелось убить его. „Своим возвращением вы обязаны Хемингуэю“, – подумал я и встряхнул головой – в это время суток лекарства мешали мне связно мыслить. – Я вернулся, чтобы поговорить с вами, – продолжал Филлипс. Он кивком указал на Хемингуэя. – С вами обоими. – Мы ждем ваших объяснений, – сказал Хемингуэй. – Или вы хотите сначала узнать, что произошло на минувшей неделе? Ян Флеминг вынул изо рта мундштук и стряхнул пепел в пепельницу для гостей, стоявшую у подноса с моим обедом. – Мы хорошо осведомлены об этих событиях, но с удовольствием выслушаем подробности о гибели майора Дауфельдта. Хемингуэй бросил на меня взгляд. Я кивнул. Он коротко, немногословно поведал им о случившемся. – А лейтенант Мальдонадо? – спросил Филлипс. Я рассказал о нашей встрече на кладбище. – Но лейтенант остался жив? – произнес Флеминг. Я кивнул. „Хитрое дело“ в изобилии поставляло нам информацию на эту тему. – На следующий день женщины, которые принесли цветы к памятнику Амелии де ла Хоц, услышали его крики из мавзолея. Мальдонадо доставили в гаванскую клинику, сумели спасти его ногу и приставили к нему круглосуточную охрану. – Зачем? – спросил Филлипс. – Чтобы обеспечить его безопасность, – ответил Хемингуэй. – Лейтенант спугнул десяток хулиганов-фалангистов, вознамерившихся осквернить памятник студентам-медикам. Он прогнал их, но Кубинская национальная полиция опасается возмездия. Всю эту неделю Мальдонадо оставался героем Гаваны… по крайней мере, для тех, кто не знал, что он за человек. – Думаешь, он захочет отомстить, старина? – спросил Флеминг, глядя на меня. – Вряд ли, – ответил я. – Мальдонадо был всего лишь мальчиком на побегушках, отнюдь не центральной фигурой. Он получал деньги как от ФБР, так и от СД. Он провалил одно из своих заданий. Сомневаюсь, что он пожелает довести его до конца. К тому же, по слухам, несколько ближайших месяцев он будет ходить на костылях. – Все это замечательно, – подал голос Хемингуэй, – так давайте же выслушаем объяснения. Лукас утверждает, что почти разобрался в происходящем, но мне не удалось вытянуть из него ни слова. Я поправил подушку за своей спиной. – Я решил отложить свои догадки до нынешнего совещания, – сказал я. – Будет проще, если кто-нибудь заполнит пробелы. – Ты ждал нас? – с удивлением спросил Флеминг. – По крайней мере, господина Филлипса, – ответил я. – Но надеялся, что появится и кто-нибудь из вашей группы, Ян. В конце концов, это был торг из-за ваших секретов. – Каких секретов? – вмешался Хемингуэй. – Ты имеешь в виду британские конвои и Дьепп? Господин Филлипс сцепил пальцы и вновь улыбнулся. – Изложите свои гипотезы, Джозеф. А мы добавим, если нам будет что сказать. – Хорошо, – отозвался я и выпил воды из стакана, стоявшего на моем подносе. – Думаю, все происходило примерно так… По-видимому, СД заключило некую сделку с американской контрразведкой… почти наверняка с ФБР, а то и с директором Гувером лично. Они прикрывались совместной разведывательной операцией СД и Абвера в Бразилии, Мексике и на Кубе. Тедди Шлегель и остальные оперативники Абвера, в том числе бедолаги солдаты, которых убили на берегу, не имели ни малейшего понятия о том, что происходит в действительности. – А именно? – спросил Флеминг, вертя в пальцах мундштук и чуть заметно улыбаясь. – Суть в том, что СД – Бекер, Мария и Дельгадо, а также их хозяева – намеревались сдать агентуру Абвера в Западном полушарии, а может быть, и в Европе. Хемингуэй прикоснулся к повязке. За последнее время его борода сильно отросла. – Одна шпионская организация нацистов предает другую? – произнес он. – Но это бессмысленно. Ведь они воюют с нами. – Господин Филлипс, – сказал я, – думаю, вы сумеете объяснить это лучше, чем я. Лысый коротышка пошевелил сцепленными пальцами и кивнул. – По правде говоря, господин Хемингуэй, СД отнюдь не считает американские разведывательные и контрразведывательные органы своими главными врагами. – Вы хотите сказать, их основной противник – Советы и Британия? – Да, в международных делах они имеют более высокий приоритет, – согласился Филлипс. – На самом же деле основным противником СД является… Абвер. – Он умолк и пригубил виски. – Джозеф наверняка объяснял вам, что разведывательная группа СД. АМТ IV, входит в состав РСХА, которая включает в себя Гестапо и СС и в настоящее время осуществляет организацию и управление концлагерей и лагерей смерти в оккупированной Европе. – Гиммлер, – сказал Хемингуэй. Филлипс вновь кивнул. – Рейхсфюрер Генрих Гиммлер. Вероятно, самый страшный из людей, ныне живущих на планете. Темные брови Хемингуэя приподнялись, скрывшись под повязкой. – Страшнее, чем даже Адольф Гитлер? Ян Флеминг стряхнул пепел и подался вперед. – В мозгу Адольфа Гитлера родятся кошмары, а рейхсфюрер Гиммлер воплощает их в жизнь. – Мы имеем достоверную информацию о том, что и поныне евреев бросают в лагеря смерти… заметьте, не в концентрационные лагеря, а в огромные колонии, созданные СС с единственной целью уничтожить иудейскую расу… в количествах, которые цивилизованный мир не в силах лаже представить, – добавил Филлипс. На лице Хемингуэя отразились интерес и отвращение одновременно. – Но при чем здесь Дельгадо и Мария, „Хитрое дело“ и я? – На первый взгляд адмирал Канарис со своей военной разведкой, рейхсфюрер Гиммлер и его РСХА, а также почивший генерал Рейнхард Гейдрих, глава СД. действовали в полном единстве и согласии во имя Тысячелетнего Рейха, – заговорил Филлипс. – На самом же деле Канарис ненавидит двух остальных, а Гиммлер с Гейдрихом уже давно замышляли погубить Абвер и репутацию адмирала. – Передав ФБР все эти сведения об Абвере, – сказал я. – А еще раньше Бекер, главарь местного отделения СД. уничтожил бразильскую и другие южноамериканские разведывательные сети Канариса. Потом они с Дельгадо организовали передачу секретных сведений об Абвере в ФБР через наши руки. По крайней мере, через нас – Дельгадо, а потом – Гуверу. Хемингуэй покачал головой. – Ничего не понимаю. Если у Дельгадо имелся канал связи с Гувером – господи, ведь тот был его начальником! – то зачем ему понадобились „Хитрое дело“ и мы в качестве перевалочной базы для этих документов! – Ошибаетесь, старина, – сказал Флеминг, усмехаясь себе под нос. – Человек, которого вы знаете под именем Дельгадо, уже организовал передачу документов через Кубинскую национальную полицию, но когда прошлой весной объявилось ваше „Хитрое дело“, все участники сговора – Дельгадо, Эдгар Гувер, Гейдрих, полковник Вальтер Шелленберг и сам Гиммлер – увидели, какие выгоды оно сулит. Любительская шпионская сеть, связанная со всеми основными контрразведывательными службами США, которой лично покровительствует посол Соединенных Штатов… и все это – в девяноста милях от побережья Америки! Идеальное прикрытие. – Прикрытие, – задумчиво произнес Хемингуэй. – Иными словами, если бы что-нибудь сорвалось, мы стали бы козлами отпущения. – Именно, – подтвердил Филлипс. – Насколько мы можем судить, Эдгар Гувер весьма встревожен провалом прошлогодней операции с участием Попова. ФБР располагало документальными свидетельствами того, что японцы собираются бомбить Пирл-Харбор, за много недель до нападения, однако Гувер и его люди утаили их. Уильям Донован подтверждает это. Гувер опасался, что президент Рузвельт узнает об этом и ослабит роль ФБР в разведке, либо, в самом кошмарном для Гувера варианте, снимет его с должности директора Бюро. – Гувер предпочел бы умереть, – негромко добавил я. – Совершенно верно, – сказал Филлипс. – Именно поэтому он согласился с планом, который ему предложил Дельгадо… майор Дауфельдт. С планом СД. С планом Гиммлера. Я поднял руку, словно школьник: – Но кто такой Дельгадо? Да, я знаю, он – майор СС Курт Фридрих Дауфельдт… но что он за человек? Ян Флеминг погасил сигарету и вынул окурок из длинного черного мундштука. Когда он заговорил, выражение его лица и голос были намного серьезнее, чем прежде. – Насколько нам известно, дружище, Дауфельдт – самый умелый разведчик Германии за все время, что она ведет войну. – Флеминг невыразительно улыбнулся Хемингуэю, сидевшему рядом. – Впрочем, это весьма сомнительная похвала. Нацисты проявили потрясающую некомпетентность в деле сбора полевой информации. – И это еще одна причина, по которой Гиммлер и прочие лидеры СД без колебаний провалили абверовские операции, – добавил Филлипс. – Почти все они заканчивались и продолжают заканчиваться катастрофой. Разведка немцев на Восточном фронте действовала несколько успешнее, но они уверены, что директор Гувер нипочем не поделится абверовскими данными о русских с самими русскими. – Но почему? – спросил Хемингуэй и улыбнулся собственной наивности. – Ему нужна фора в борьбе с Советами, верно? – Абсолютно, – подтвердил Филлипс. – По-моему, господин Гувер страшится коммунистов куда больше, чем японцев или нацистов, – сказал я. – Нынешняя война – досадная помеха для нашего друга Эдгара, – добавил Флеминг. – Он стремится покончить с ней, чтобы начать другую, настоящую. – Против Советов, – сказал Хемингуэй. Ян Флеминг широко улыбнулся, показав свои кривые желтые зубы: – Против всего международного коммунистического заговора. Я вновь поднял руку. – Прошу прощения, но мой вопрос остался без ответа. Кто такой Дельгадо? – Да, – откликнулся Филлипс. – В самом деле, кто он такой? Если вы помните, Джозеф, несколько недель назад я высказал предположение, что ваш Дельгадо – мифический агент Д., человек, которому приписывают убийство Диллинджера. Мордашки Нельсона и других врагов нации. Некто вроде „специального“ спецагента Гувера. – Это действительно он? – спросил я. – Мы так думаем, – ответил лысый коротышка. – Однако его настоящее имя нам неизвестно. Когда Дельгадо в 1933 году попал в поле зрения Гувера, его звали Джерри Фредериксом по кличке Датчанин, он был головорезом и информатором ФБР в Филадельфии. Однако теперь мы сомневаемся, что он уроженец Филадельфии, и полагаем, что Дельгадо еще до того внедрили в США по приказу Гиммлера. – Он был тогда очень молод, – заметил я. – Когда Гувер привлек его к э-ээ… к особым операциям, Дельгадо было двадцать шесть лет. Агент Д. говорил по-английски, по-немецки и по-испански, одинаково уютно чувствовал себя во всех трех культурах, а также в среде так называемой „мафии“ и преступного мира США. Убийство Диллинджера создало ему нежелательную славу в ФБР, и в 1937 году Фредерике уехал в Испанию, работал там на фашистов и впервые назвал себя Дельгадо. У нас есть сведения, что в 1939 году он находился в Берлине под именем майора Курта Фридриха Дауфельдта, но, как я уже говорил, выяснить, было ли это его настоящее имя, затруднительно. – Весьма деятельная личность, – заметил Хемингуэй. – Совершенно верно, – согласился Филлипс. – Естественно, появление Дельгадо-Фредерикса-Дауфельдта на Кубе нынешней весной обеспокоило нас. Точнее сказать, обеспокоило господина Стефенсона, командора Флеминга и БКРГ. Они сообщали нам о деятельности нашего друга Дельгадо. – Он кивком указал на Флеминга. Британский агент улыбнулся. – Видите ли, мы не знали точно, что замышляют Дауфельдт и Бекер, но не ждали от них ничего хорошего для своей страны. – И оказались правы, – добавил я. – Ведь директор Гувер скормил им секретные сведения о британских конвоях и перемещениях войск. Хемингуэй посмотрел на меня-, на гостей и вновь повернулся ко мне. – ФБР торговало британскими секретами в обмен на документы Абвера? – Ну конечно, старина, – ответил Флеминг, сдержанно усмехнувшись. – Уж не думаете ли вы, что директор Федерального бюро расследований стал бы расплачиваться со своими немецкими информаторами „американскими“ тайнами? Черт побери, да ведь он настоящий патриот! Хемингуэй сложил руки на груди и нахмурился: – Не верю своим ушам. Но зачем Гувер хотел убить меня? – Дельгадо хотел убить нас обоих, – поправил я, чувствуя, что действие лекарств начинает ослабевать. Мое сознание прояснилось, но его притупляла мучительная боль в боку и спине. – Однако не думаю, что решение ликвидировать нас было принято Гувером. – Это не в его обычаях, – пробормотал Флеминг. – Вы, ребята, должны были послужить прикрытием, коллективным козлом отпущения… если бы передача информации сорвалась. Но мне кажется, что Эдгар был против убийства кого-нибудь из вас, или обоих. Он скорее вызвал бы вас в сенатскую комиссию по коммунистической деятельности, дискредитировал бы вас или бросил в тюрьму. – В Сенате нет комиссий по охоте на ведьм, – возразил Хемингуэй. – Будет, дружище. Обязательно будет. – Приказ о нашем устранении исходил от СД. – сказал я. – Гиммлер и Гувер могли доверять друг другу, поскольку их власть зависела от того, будет ли сохранена в тайне эта операция, но мы слишком многое узнали. Как только мы добыли абверовские документы и передали их Гуверу через Дельгадо, наша песенка была спета. – Но мы не передавали их, – заспорил Хемингуэй. Его руки все еще были скрещены на груди, он продолжал хмуриться. – Нет, не передавали. Но это не имело особого значения. Мы оказались в нужном месте в нужное время. В случае необходимости Дельгадо мог скопировать сколько угодно абверовских документов. А после нашего исчезновения Кубинская национальная полиция продолжала бы выполнять роль передаточного канала. Мы были нужны, только чтобы свалить на нас вину, если начнется расследование. Филлипс отставил пустой бокал. – Между тем обвинить вас было бы совсем нетрудно. Вас должны были обнаружить мертвыми, очевидно, погибшими от руки друг друга, а поблизости – два недавно захороненных трупа немцев. Жестокое нападение Джозефа на несчастного кубинского лейтенанта лишь подкрепило бы подозрения. Ян Флеминг зажег очередную сигарету. – Чего мы не ожидали – так это убийства Дельгадо двух своих людей. – Значит, молодых немцев застрелил именно Дельгадо? – спросил Хемингуэй. – О, в этом почти нет сомнений. – Флеминг улыбнулся. – Тем вечером наши парни следили за Дельгадо и Бекером от Гаваны до Манати, но упустили их на заброшенной железнодорожной линии, ведущей к бухте. Я подозреваю, что солдатам было ведено дожидаться гауптштурмфюрера, и, по всей видимости, он осветил себя фонарем, чтобы унять их беспокойство, а через несколько секунд Дельгадо застрелил их из своего „шмайссера“. Разве можно было придумать лучший и более надежный способ передать вам документы? Я попытался устроиться удобнее, но легче мне не стало. – И, кстати, пока мы заполняем пробелы, – сказал я. – Как насчет Марии? Кто она такая? – Агент СД. дружище, – ответил Флеминг между двумя затяжками. – Один из двух членов так называемой ликвидационной группы, которая должна была устранить вас, после того как вы с господином Хемингуэем выполнили бы свое предназначение. – Черт побери, я знаю об этом, Ян, – сказал я, чувствуя, как боль до предела напрягает мои нервы. – Меня интересует, что она за человек. Филлипс положил ногу на ногу и провел ладонью по безупречной складке брюк. – Вероятно, это самая загадочная часть случившегося, Джозеф. Мы попросту не знаем, кто она такая. Скорее всего, немка, выросшая в Испании. Либо талантливая полиглотка. Она весьма успешно действовала в условиях глубокой конспирации. Она – настоящий кошмар для любого руководителя контрразведки. – Была, – поправил я. – Если, разумеется, у вас нет сведений о том, – что ей удалось вырваться живой с Кейо Пута Пердида. – Кейо… как ты сказал? – переспросил Флеминг. Он был шокирован. Филлипс покачал головой. – Мне очень жаль, но такими данными мы не располагаем. Агентов ОСС на Кубе немного, и они весьма загружены работой. Естественно, если эта дама появится где-нибудь, мы не спустим с нее глаз. – Дельгадо назвал ее Эльзой, – сообщил я. – Ага! – Филлипс вынул из кармана пиджака маленький блокнот в кожаном переплете. Отвинтив колпачок серебряной чернильной ручки, он сделал пометку. – Что с абверовскими документами? – спросил я. Филлипс улыбнулся. – Господин Донован и ОСС с огромным удовольствием примут их из ваших рук, Джозеф. Разумеется, мы не поделимся ими с господином Гувером и ФБР… только если будем вынуждены сделать это, и только в частном порядке, если директор вновь попытается ликвидировать нашу службу, чем он весьма усердно занимался несколько минувших месяцев. Также мы были бы рады получить копии снимков погибших немецких курьеров, трупов Дельгадо и Бекера, и… если это вас не очень затруднит… нотариально заверенные, датированные и скрепленные печатью показания. В них вы опишете события, в которых пострадали и которым были свидетелями. Я посмотрел на Хемингуэя. Писатель кивнул. – Хорошо, – сказал я, невольно улыбаясь, хотя мои плечи, спину, бок и руку терзала нестерпимая боль. – Вы помещаете директора под колпак, верно? Филлипс улыбнулся в ответ. – Верно, однако безопасность и интересы Соединенных Штатов Америки остаются нашим главнейшим приоритетом, – сказал он. – Будет лучше, если ОСС сосредоточит в своих руках сбор всей зарубежной информации. Нелишне также, чтобы власти директора столь могущественной организации, как ФБР, противостояла система… э-ээ… мягкого контроля и равновесия. Я на мгновение задумался над словами Филлипса. Я не мог не согласиться с ним. – Итак, – заговорил Флеминг, вынимая из мундштука второй окурок и допивая виски с таким видом, как будто намеревался уходить. – Кажется, мы во всем разобрались, нашли ответы на все загадки. – Кроме одной, – отозвался Хемингуэй. Гости внимательно ждали продолжения. – Что теперь делать нам с Лукасом? – осведомился писатель, свирепо выглядывая из-под повязки. – Джо потерял работу. Господи, ему даже нельзя отправиться на родину. Не сомневаюсь, что Гувер превратит его жизнь в ад, вздумай он приехать в Штаты и вернуться на свою должность. Представьте, что скажет КНБ. Ян Флеминг нахмурился. – Что ж, это и впрямь… – А как же я? – продолжал Хемингуэй. – Комиссия по надзору за бюджетом и без того жрет меня с потрохами. И если то, что вы говорили о любимом способе Гувера давать сдачи – правда, он объявит меня сторонником коммунистов, как только война подойдет к концу и русские уже не будут нашими союзниками. Черт побери, он, должно быть, уже начал собирать информацию обо мне. Я встретился взглядом с Филлипсом и Флемингом. Мы все видели досье Хемингуэя. Первые документы легли в него десять лет назад. – То, что вы сказали, заслуживает самого пристального внимания, господин Хемингуэй, – сказал Филлипс. – Однако позвольте заверить вас, что господин Донован и другие… эээ… влиятельные лица в ОСС не позволят директору Гуверу сорвать на вас свою злобу. И это еще одна причина, которая побуждает нас снять с вас показания. – В конце концов, вы – писатель, известный во всем мире, – вмешался Флеминг. – Гувер сам жаждет славы, но опасается того могущества, которое она обеспечивает другим людям. – Вдобавок ваш дом расположен на Кубе, – сказал я. – И это помешает ему добраться до вас, даже если ему этого захочется. – Вам не о чем беспокоиться, – заверил Хемингуэя Филлипс. – Несколько минут назад Джозеф весьма остроумно заметил, что директор „находится под колпаком“. Наша служба сделает все от нее зависящее, чтобы он там и оставался. И если вам, господин Хемингуэй, потребуется наша… Хемингуэй лишь взглянул на коротышку. Помолчав, он сказал: – Все это очень хорошо. Но, как только моя жена закончит свои изыскания за маленьким крестом на пустой карте, я попрошу ее слетать в Вашингтон, переговорить со своей подружкой Элеонор и старой леди в кресле на колесах насчет ошейника для этой собаки. – Крест на пустой карте? – переспросил Флеминг, переводя взгляд с Хемингуэя на меня и обратно с таким видом, как будто принимает шифрованную передачу. – Старая леди? Кресло на колесах? Собака? – Не обращайте внимания, Ян. – Филлипс усмехнулся. – Я объясню вам по пути в аэропорт. Все, кроме меня, поднялись, собираясь уходить. Я смотрел на них, жалея, что еще не пришло время принять очередную порцию болеутолителей. – Джозеф, – заговорил Филлипс. – Хотите узнать истинную причину, которая сегодня привела нас к вам? – Конечно. – Я размышлял о том, насколько был прав Хемингуэй, утверждая, что я больше не смогу вернуться в Штаты и к своей должности в контрразведке. Тут не было ничего нового, я знал об этом с того самого дня, когда решил рассказать Хемингуэю обо всем и работать на него, а не на своих истинных хозяев. Однако сама эта мысль опечалила меня, невзирая на действие морфина и боль, которая волнами накатывалась на мое тело. – Ваша… э-ээ… изобретательность произвела серьезное впечатление на господина Донована, Джозеф. Он был бы рад встретиться с вами и обговорить перспективы вашего дальнейшего трудоустройства. – За пределами страны, – уныло произнес я. – Что ж, это так. – Филлипс улыбнулся. – Но ведь именно там действует наша служба, не правда ли? Не могли бы вы приехать на Бермуды через пару недель? Разумеется, если позволит состояние вашего здоровья. – Конечно, – повторил я. – Но почему на Бермуды? – Это была территория Британии. – Дело в том, дружище, – пояснил Флеминг, – что господин Донован наметил поездку на Бермуды для разговора с вами, поскольку господин Стефенсон также хочет обмолвиться с вами словом, прежде чем вы примете решение относительно предложений ОСС. Уильяму… „нашему“ Уильяму… удобнее оставаться на британской земле, покуда не уляжется неизбежный гнев директора Гувера… если вы понимаете, о чем я. – Стефенсон? – тупо переспросил я. – Он хочет поговорить со мной? – Перспективы самые радужные, старина, – заверил меня Флеминг. – А после войны, когда Адольф, Того и Бенито, а также все остальные умалишенные будут помещены… как уже не раз было сказано сегодня, „под колпак“, нас ждут новые испытания. И Британия вполне может оказаться весьма уютным домом для молодого американца с хорошим жалованьем. – Предлагаете работать на MI6? – Я сам удивился своей тупости и наивности. Филлипс улыбнулся и потянул Флеминга за рукав. – Отложите решение до более подходящих времен, Джозеф, – сказал он. – Приезжайте к нам на Бермуды через пару недель… либо когда достаточно оправитесь, чтобы путешествовать. Господин Донован с нетерпением ждет встречи с вами. Хемингуэй проводил гостей до подъездной дорожки. Я сидел в постели, борясь с болью, чувствуя, как зудит кожа под повязками, и качая головой. „Работать на заклятую МI6?“ Несколько минут спустя Хемингуэй вернулся с таблетками. – Тебе нельзя принимать их со спиртным, – сказал он. – Знаю, – ответил я. Он протянул мне две таблетки и бокал виски. Он принес порцию и для себя. Я проглотил лекарство, и он поднял свой бокал. – „Estamos copados“, – сказал он вместо тоста. – Ну а пока – за смятение в рядах наших врагов! – За смятение в рядах наших врагов! – повторил я и выпил.Глава 31
В последний день, который я провел в море с Хемингуэем, нам наконец удалось выгнать субмарину из ее укрытия. На склоне лет человеку трудно вспомнить, каким молодым, крепким и здоровым он был в юности. Ноя действительно был молод и крепок. Я быстро поправился, если не считать мимолетных рецидивов из-за жары необычайно теплого августа и начала сентября на Кубе в 1942 году. Каждое утро Хемингуэй приносил с собой во флигель несколько газет, мы вместе пили кофе и читали: он в уютном кресле для гостей, я – чаще всего в постели, хотя к началу сентября уже проводил час-другой, сидя в кресле. Военные новости по-прежнему были неутешительными. Маршал Роммель начал месяц очередным наступлением на англичан в Египте. Старинный враг Хемингуэя в Испании, генерал Франко, низложил кабинет министров и установил в стране фашистскую диктатуру, тем самым окончательно погрузив Европу в мрак тирании. Германия развернула наступление на Сталинград – с воздуха его атаковали волны пикирующих бомбардировщиков, на земле осаждали полчища танков и сотни тысяч солдат, тесня и прорывая линии русских войск. Казалось, падение Сталинграда и Советского Союза – лишь вопрос времени. В США комиссия Баруха предсказывала „полный военный и гражданский коллапс“ из-за нехватки сырья для производства резины, которую вызвал захват Японией каучуконосных плантаций в Азии и южном тихоокеанском регионе. Что касается войны на море, то теперь стало общеизвестно, что немцы уже уничтожили корабли союзников совокупным водоизмещением более пяти миллионов тонн, что их подлодки в среднем каждые четыре часа пускают ко дну один наш корабль и что они строят свои субмарины быстрее, чем союзный флот и авиация успевают их топить. К концу года количество немецких подлодок в Атлантике должно было превысить четыре сотни. В середине сентября Патрику предстояло вылететь в Нью-Милдфорд, штат Коннектикут, чтобы начать занятия в католической школе для юношей под названием „Кэнтербри“. Вести с фронтов, реакция после летних событий, непрерывные головные боли и ощущение неминуемого распада „временной“ семьи угнетали писателя. Сыновья и друзья, бывавшие в финке, прониклись настроением Хемингуэя, и к началу сентября это было не самое веселое место для выздоровления от ран. Как всегда, именно Хемингуэй пытался воодушевить окружающих – сначала устройством бейсбольного чемпионата клуба „Казадорес“, в котором сам он сыграл на подаче несколько иннингов, а затем организацией прощального круиза операции „Френдлесс“, когда мы все четверо суток плавали на „Пилар“ вдоль побережья, останавливались у Конфитеса, чтобы Патрик и Грегори могли попрощаться с кубинцами и порыбачить на обратном пути. Доктор Сотолонго не советовал мне отправляться в этот поход, утверждая, что из-за одной только качки мои швы могут разойтись, но я заметил, что уезжаю на следующей неделе и ничто на свете не удержит меня в финке на время последнего плавания. Мы вышли из Кохимара ранним воскресным утром 6 сентября. Я настоял на том, чтобы самому подняться по трапу, но, если честно, так утомился при этом, что, оказавшись на борту, немедленно уселся. Хемингуэй не только велел мне занять широкую койку в носовой каюте, но и привез одно из легких кресел с набивными подушками, стоявших в гостиной комнате финки. Также они с мальчиками опутали помещение канатами, особым образом привязанными к тому самому бронзовому поручню, к которому я был прикован наручниками две недели назад, чтобы я мог сидеть, подняв ноги на боковую койку, не опасаясь соскользнуть на палубу. Их забота донельзя смущала меня, но я вытерпел. Все четыре дня стояла изумительная погода. Кроме мальчиков и меня, Хемингуэй взял с собой Волфера, Синдбада, Пэтчи, Роберто Герреру, своего незаменимого старшего помощника Грегорио Фуэнтеса и брата Роберто, доктора Сотолонго – чтобы я не умер и не испортил удовольствие остальным. Все еще кляня себя за ошибку в начале лета, Гест погрузил на борт столько пива, что даже потайные отсеки оказались забиты ящиками и бутылками. Желая еще более подчеркнуть ощущение праздника, Хемингуэй, Ибарлусия и Фуэнтес целую неделю трудились над созданием взрывного устройства для уничтожения подлодок, которое назвали попросту Бомбой. Она состояла из порохового заряда с детонатором из связки ручных гранат, заключенного в металлический корпус с маленькими ручками, напоминающий мусорный контейнер, и могла – а, по словам Хемингуэя, обязательно должна была – снести ходовую рубку любой подлодки, оказавшейся в пределах досягаемости. Разумеется, „предел досягаемости“ был невелик. После нескольких тренировочных бросков контейнера с песком и камнями вместо пороха и гранат выяснилось, что даже самые могучие атлеты, вроде Геста и Пэтчи, способны поразить цель на расстоянии не более двенадцати метров, и то если находятся в хорошей форме и при попутном ветре. – Плевать, все в порядке, – проворчал Хемингуэй. – Мы настигнем субмарину, приблизимся к ней вплотную, чтобы она не могла отбиваться торпедами и пушками, и тогда ей от нас не уйти. Однако в течение нескольких дней до отправления в прощальный круиз Хемингуэя и его сыновей видели в поле, вниз по холму от финки, за попытками изготовления различных модификаций гигантской катапульты из ветвей и старых водопроводных труб для повышения предела досягаемости Бомбы. В первый день плавания Фуэнтес прервал обед криком: – Ры-ыба! Папа! Рыба по правому борту! В тот миг Хемингуэй стоял за штурвалом, жуя бутерброд, но тут же швырнул его за борт и соскользнул по трапу с ходовой рубки, едва гигантская рыба попыталась длинным рылом сорвать наживку с крюка. Писатель немедленно потянул за линь, и тот пронзительно запел, уходя в синюю воду Гольфстрима. Пока линь разматывался, Хемингуэй повторял: – Один шимпанзе, два шимпанзе, три шимпанзе… – и на счете „пятнадцать шимпанзе“ он подсек морское чудовище. Он боролся с рыбой всего лишь восемнадцать минут, но это были поистине захватывающие минуты. Мы все разразились ободряющими криками, и доктор Сотолонго был вынужден напомнить мне о необходимости сохранять покой, чтобы мои раны и швы не разошлись. Марлин потянул на двести сорок килограммов, и я следил за тем, как Фуэнтес вырезал из огромной туши несколько филейных кусков, а остальное сбросил за борт в качестве приманки. Через двенадцать минут он вновь закричал: – Рыба! Рыба! Хемингуэй первым схватился за канат и на сей раз подсек добычу, сосчитав только до „пяти шимпанзе“. Борьба длилась намного дольше; марлин добрую сотню раз выныривал на поверхность великолепными прыжками, при виде которых мы таращили глаза, изумляясь красоте и мощи огромной рыбы и ее стремлению жить. Когда наконец Хемингуэй подтащил марлина к яхте, он велел Фуэнтесу выпустить рыбу на волю. Грегори, Патрик, Гест, Ибарлусия и доктор Сотолонго запротестовали во весь голос, но Хемингуэй был непреклонен. Пока Фуэнтес вынимал крюк, мальчики шумно возражали,требуя поднять марлина на борт, только чтобы сделать фотографии. – Я уезжаю через три дня, папа, – произнес Патрик голосом, близким к рыданию. – Я хочу, чтобы у меня осталась память о нем. Хемингуэй положил огромную ладонь на плечо сына. – Ты запомнишь его, Мышонок. Мы все будем помнить его. Мы навсегда запомним его прыжки. Такую красоту нельзя запечатлеть на снимке. Уж лучше я отпущу марлина, верну ему жизнь и позволю наслаждаться ею, чем „обессмертить“ его на шершавой бумаге. Лучшие мгновения жизни нельзя поймать и сунуть в карман. Единственный способ обессмертить их – это наслаждаться ими, когда они происходят. Патрик согласно кивнул, но продолжал хандрить еще несколько часов, после того как большая рыба уплыла. – Эта фотография отлично смотрелась бы на стене моей школьной спальни, – пробормотал он за ужином, когда мы уплетали стейки из марлина. Хемингуэй пропустил его слова мимо ушей и подал мальчику картофельный салат. На второй день „Пилар“ поравнялась с двадцатиметровой китовой акулой, которая нежилась на поверхности моря, следя огромным глазом за приближающейся яхтой, но не выказала ни малейшей тревоги или желания напасть на нас, даже когда Фуэнтес ткнул ее в бок багром. – О господи, – сказал старший помощник. – Вот так громадина. – Ага, – отозвался Хемингуэй. – Она почти в треть длины той подлодки, которую мы ищем. Тем вечером мы встали на якорь у Конфитеса. Хемингуэй с сыновьями улеглись в спальных мешках на палубе над моей каютой, и сквозь открытый люк я слышал их разговор о звездах и созвездиях. Не дождавшись конца беседы, я уснул. Прошлой зимой Хемингуэй подарил Патрику дорогой телескоп, и теперь старший мальчик без труда отыскивал в небе Полярную звезду, созвездие Ориона и множество других звезд. Следующее утро началось с неприятностей. „Пилар“ наткнулась на подводный камень к западу от Конфитеса; Хемингуэй немедленно дал задний ход, но звук был устрашающий, и все мы в тревоге забегали по яхте, открывая люки и поднимая доски нижней палубы, чтобы посмотреть, не вызвало ли столкновение течь в корпусе. Повсюду было сухо. Во время суматохи я следил за Хемингуэем; на нем не было лица. Как-то в начале лета малыш Грегори сказал: „По-моему, папа любит „Пилар“ больше всего на свете – после нас, разумеется; потом идут его кошки и Марта“. В конце концов мы немного воспряли духом, когда нас оторвал от завтрака крик Хемингуэя: – Все на палубу, amigos! Вижу шхуну, кажется, она села на риф! На самом деле шхуне ничто не угрожало; она не наткнулась на риф, а стояла на якоре рядом с ним. Это была „Маргарита“ из гаванского порта, и Хемингуэй дружил с братом ее капитана. Экипаж судна ловил неводом рыбу. Писатель сразу отвез мальчиков на шхуну, познакомил их со шкипером и на весь день оставил сыновей помогать рыбакам; они обогнули риф кругом с длинной сетью, которую тянули три легкие плоскодонки. Мы рыбачили с „Пилар“, наблюдая за тем, как экипаж и мальчики до вечера вытягивали бесконечную сеть; Патрик и Джиджи то и дело ныряли, чтобы отцепить ее от топляка или коралла. Когда улов наконец был извлечен на поверхность, вода вокруг рифа буквально вскипела от улепетывающих черепах и акул, а пойманные палометы, люцианы, барракуды и рыбы-парусники бились и извивались в прохладном вечернем воздухе Капитан „Маргариты“ пригласил экипаж „Пилар“ к ужину, и все, кроме меня и доктора Сотолонго, отправились в гости. Доктор имел весьма странное для жителя Кубы обыкновение рано ложиться спать, а я выбился из сил уже оттого, что наблюдал за происходящим весь день напролет. Погружаясь в дрему, я слышал взрывы смеха на борту шхуны и множество длинных официальных тостов, которые Хемингуэй произносил на своем правильном, но слишком чопорном испанском. Утром мы уже отправились в обратную дорогу, когда с ходового мостика донесся крик Уинстона Геста: – Подлодка! Субмарина! Пять секунд спустя Хемингуэй и мальчики взлетели на мостик, а остальные высыпали на палубу, вертя головами. – Где? – осведомился писатель. На нем были изорванная в лохмотья футболка, шорты и его любимая кепка с длинным козырьком. Он больше не носил повязку на голове, но с кормовой палубы я видел выстриженные волосы там, где врачи приладили клочок кожи к черепу. – Десять румбов справа по борту; она приближается, – доложил Гест, стараясь произносить слова по-военному хладнокровно, но его голос чуть дрожал от возбуждения. – Дистанция примерно тысяча ярдов. Она только что всплыла. Хемингуэй на несколько секунд поднес к глазам бинокль, опустил его и спокойным тоном скомандовал: – Всем занять места по боевому расписанию. Не торопиться, – добавил он. – Не совершать резких движений. Патрик, продолжай рыбачить. Вытягивай на борт все, что поймаешь. На подлодку не оглядывайся. – У меня на крючке барракуда, папа, но… – Держи снасть, Мышонок. Джиджи принесет тебе „ли энфилд“. Грегорио, достань „ninos“ и проверь масло в малом двигателе. Пэтчи и Роберто, будьте добры, сходите вниз и принесите сумку гранат и Бомбу. Все напустили на себя безразличный вид, но, едва Грегори скрылся из виду, мы услышали, как он припустил во весь опор, мечась из стороны в сторону. Схватив старый „манлихер“ матери и „ли энфилд“ брата, он торопливо принялся заряжать винтовки, роняя патроны на палубу. – Я спущусь вниз и возьму свою медицинскую сумку, – сказал доктор Герерра Сотолонго. – Святой Иисусе! – воскликнул Гест, поднеся бинокль к глазам. У него отвалилась челюсть. – Эта штука размером с линкор! Что твой авианосец! Я выбрался из своего привязанного кресла и облокотился о планшир, якобы наблюдая за тем, как Патрик вытягивает барракуду. Сощурив глаза, я присмотрелся к блесткам утреннего солнца на невысоких волнах и увидел субмарину. Она и впрямь казалась огромной. Из ее ячеистой надстройки и ходовой рубки белыми пенистыми потоками хлестала вода. Даже без бинокля я отчетливо видел колпак над одиноким палубным орудием крупного калибра. – Лукас, – негромко окликнул меня Хемингуэй, – пожалуйста, займи свое место. Увидев исхудавшего парня в цветастом кресле на кормовой палубе, немцы волей-неволей будут вынуждены подплыть к нам и взять на абордаж. Такое зрелище не оставит равнодушными даже нацистов. Всем сделать спокойные лица. Мы не знаем, насколько сильны их бинокли. Хемингуэй открыл дроссельные заслонки, передал штурвал Волферу, а сам соскользнул по трапу, чтобы помочь Роберто и Пэтчи протащить Бомбу через рубку и поднять ее на мостик. Фуэнтес принес автоматы и повесил их на ограждение мостика за ручки „колыбелек“ из овчины. Сейчас яхта была развернута кормой к субмарине, верхний мостик прикрывал парусиновый тент, и с лодки невозможно было увидеть Бомбу даже в самый лучший бинокль. Хемингуэй и Фуэнтес возились с детонатором, устанавливая запалы и отгибая усики. Внезапно я словно наяву представил, как Бомба поднимает „Пилар“ на воздух и все мы отправляемся к праотцам из-за какой-нибудь оплошности. – О господи, – сказал Гест, вновь оглядывая подлодку в двенадцатикратный бинокль. – Ну и громадина! – Но она не увеличивается, – заметил Хемингуэй, беря бинокль и нацеливая его на подлодку. Минуту спустя он вернул бинокль Гесту. – Волфер, это нам не кажется. Она удаляется от нас. – Голос Хемингуэя был спокоен, но я почувствовал, что в его душе закипает гнев. – И не просто удаляется, а набирает скорость. – Он перегнулся через ограждение мостика и крикнул Фуэнтесу, который открыл люк машинного отсека и копался в двигателе. – Черт возьми, Грегорио, нельзя ли поддать ходу? Щуплый кубинец развел руками: – „Пилар“ делает двенадцать узлов, Эрнесто. Это все, что можно из нее выжать, когда на борту столько людей и горючего. – Коли так, придется швырнуть кое-кого в море! – рявкнул Хемингуэй и вновь отнял у Геста бинокль. Теперь на яхте не было даже видимости спокойствия. Патрик и Грегори встали на корме; Патрик – у правого борта с дряхлым „ли энфилдом“, его младший брат в левом проходе с „манлихером“. Оба скалились, будто волчата. – Проклятие, – негромко произнес Хемингуэй. – Она уходит прочь от нас. Дистанция не меньше полутора тысяч ярдов. – Внезапно он рассмеялся и повернулся к Ибарлусии: – Пэтчи, ты смог бы зашвырнуть Бомбу на полторы тысячи ярдов? Игрок хай-алай широко улыбнулся, показав безупречные зубы: – Ты только прикажи, Папа, и я попробую. Хемингуэй стиснул его плечо. Напряжение, овладевшее всеми нами, начало ослабевать. Субмарина продолжала удаляться курсом на северо-северо-восток, и гладь утреннего моря нарушал только ее белый бурун. И, словно по сигналу, все, кто был на борту – в том числе и я, – разразились цветистыми ругательствами по-английски и испански. Ибарлусия встал на корме, раздвинув ноги, подняв кулак, и кричал: – Вернитесь и покажите, на что вы способны, желтые сукины дети! Через пять минут подлодка превратилась в крохотную точку на северо-восточном горизонте. Восемь минут спустя она исчезла из виду. – Лукас, – заговорил Хемингуэй, спускаясь с ходового мостика, – если хочешь, идем со мной вниз. Доложим по рации о подводной лодке, сообщим ее координаты, курс и скорость. Может быть, где-нибудь поблизости плавает американский эсминец, либо они отправят самолет с Камагуэя. Я отправился вместе с ним посылать радиограмму. Закончив передачу и повторив ее с десяток раз, Хемингуэй негромко сказал: – В любом случае я не хотел сближаться с ней, ведь на борту Мышонок и Джиджи. Я посмотрел на него. В крохотной рубке было тесно и душно, мы оба обливались потом. Мы услышали, как стих рев двигателей – Гест убавил обороты и положил яхту на первоначальный курс. – По-моему, подводники тоже сущие дети, – продолжал Хемингуэй. – Черт возьми, нет ничего банальнее разговоров о войне. Шерман сказал о ней все, что возможно. Война – это необходимость… порой. Может быть. Впрочем, как знать, Лукас. Как знать. Внезапно по трапу бегом спустились мальчики, гадая, вернется ли подводная лодка, надеясь, что это произойдет, и спрашивая, следует ли им в другой раз вести себя иначе. Хемингуэй обнял сыновей за плечи. – Вы оба действовали отлично, – сказал он. – Просто великолепно. – Он заговорил громче, изображая не то оратора, не то радиодиктора, не то Франклина Делано Рузвельта: – Что же касается меня, парни, то кому-то придется занять мое место в битвах на берегах, в холмах и борделях. Нынешний день, седьмое декабря, навеки останется днем позора, который искупят мужчины помоложе. Черт побери, смешай мне джин с тоником, Джиджи. Мы возвращаемся домой.Глава 32
Патрик отправился на учебу в пятницу, 11 сентября. Грегори готовился навестить мать и оттуда уехать в школу 14 сентября. Я должен был вылететь с Кубы на Бермуды 12 сентября. – Все мои парни разъезжаются, – ворчливо произнес Хемингуэй вечером в четверг, когда мы вернулись в Кохимар и в последний раз ставили „Пилар“ на якорь. Я не нашелся, что сказать, и лишь молча взглянул на него. В пятницу вечером приехали доктор Сотолонго и хирург Альварес, чтобы осмотреть меня. Они посоветовали мне отдохнуть еще две недели, прежде чем трогаться с места. Я сказал, что уезжаю на следующий день. Врачи пожелали мне удачи и добавили, что снимают с себя ответственность за мою жизнь. Хемингуэй предложил отвезти меня в аэропорт субботним утром. – Хуан не выключает двигатель, когда едет под уклон, – заявил писатель. – Он понапрасну тратит мое горючее. Путь до аэропорта Хосе Марти недолог, но Хемингуэй всю дорогу не закрывал рта. – Том Шелвин вернулся в город, – сообщил он. – Хм-мм… – Нет, все в порядке. Оказалось, „Лорейн“ все-таки был застрахован. Он не слишком расстроился. Он говорит, что собирается развестись, и в любом случае ему пришлось бы дать катеру новое имя. – Это хорошо, – отозвался я. – По крайней мере, мне так кажется. Несколько минут мы ехали молча. – Я решил отказаться от руководства „Хитрым делом“, – вдруг сказал писатель. – Вы прекращаете операцию? – Я уже сроднился с „Хитрым делом“. Доморощенный шпионский заговор сыграл для меня роль запального шнура. Хемингуэй, прищурившись, посмотрел на меня: – Нет, черт побери, не прекращаю. Мне и в голову не приходило такое. Просто я хочу больше времени уделять операции „Френдлесс“. – Гоняться за подлодками, – сказал я. – Ловить подлодки, – поправил Хемингуэй. – Топить подлодки. – Кто же будет заниматься „Хитрым делом“? – У меня мелькнула головокружительная надежда, что он хочет попросить меня остаться и взять руководство на себя. Господи, ведь я уже стал знаменит – разве Билл Донован и Стефенсон не вызвались проделать долгий путь до Бермуд, только чтобы встретиться со мной? А теперь еще и это. Я вдруг понял, что, запутав и сорвав операцию и получив три огнестрельных ранения, я тем самым совершил недурную карьеру. – Я решил пригласить своего друга Густаво Дюрана, пусть берет „Хитрое дело“ в свои руки, – произнес Хемингуэй. – Я уже рассказывал тебе о Густаво. Я объяснил Бобу Джойсу, что операцию должен возглавить настоящий профессионал. Хемингуэй действительно упоминал о Дюране. Он познакомился с будущим капитан-лейтенантом Густаво Дюраном еще в Париже, когда тот был студентом консерватории, музыкальным критиком и композитором. Весной 1937 года Хемингуэй отправился в Испанию, а Дюран в ту пору командовал 69-м дивизионом в Торрехон-де-Ардосе и Лехесе к востоку от Мадрида. Они возобновили дружбу, и восхищение Хемингуэя музыкантом, который стал солдатом, достигло степени едва ли не преклонения. Он признался мне, что вывел Дюрана в качестве одного из персонажей своей последней книги „По ком звонит колокол“. После майского визита Ингрид Бергман Хемингуэй рассказал, сколько сил он приложил, чтобы назначить Дюрана консультантом экранизации книги, но директор фильма Сэм Вуд до умопомрачения боялся „красной заразы“ и отказался взять в штат испанца, хотя Дюран никогда не состоял в коммунистической партии. Тогда Хемингуэй отправил Дюрану, который переживал нелегкие времена, чек на тысячу долларов. Однако чек сразу же вернулся. Внезапно заныла рана в моем левом боку, и только потом я осознал, что рана здесь ни при чем. – Лучшего человека, чем Густаво, не найти, – продолжал Хемингуэй. – Я уже уладил все с Эллисом Бриггеом и послом Браденом, и Боб Джойс уже отправил секретное послание в Госдеп. Я решил сохранить это дело в тайне, поскольку не хочу, чтобы Эдгар Адольф Гувер пронюхал о нас. – Ни в коем случае, – отозвался я. – Сейчас Густаво в Нью-Гэмпшире, получает американское гражданство. Письмо Джойса и кое-какие шаги с моей стороны ускорят этот процесс. Я сообщил ему об этом телеграммой лишь позавчера, но совершенно уверен, что он примет мое предложение. Густаво творил чудеса в испанской разведке. Он прибудет сюда в начале ноября, а его жена присоединится к нему позже. Я отдам им флигель. Они поселятся там, и Густаво сможет направлять оттуда дела. – Прекрасная мысль, – похвалил я. – Еще бы, – сказал Хемингуэй. До самого аэропорта мы молчали. Хемингуэй донес мою сумку до стойки и, когда я прошел регистрацию, вновь подхватил ее. Мы оказались на летном поле; там стоял серебристый „ДС-4“, по трапу поднимались пассажиры. – Ну что ж, Лукас… – Хемингуэй протянул руку. Я пожал ее и взял у него свою сумку. Я шагал к самолету, его правый винт уже начал вращаться, когда Хемингуэй закричал что-то мне вслед. – Что? – отозвался я. – Я говорю, ты должен когда-нибудь вернуться на Кубу! – Зачем? – Реванш! – услышал я сквозь рев двигателя. Я остановился и сложил ладони рупором: – Хотите вернуть себе титул? – Какого черта! – крикнул писатель, и в его бороде сверкнули зубы. – Я и не терял его! Я кивнул и зашагал к трапу. Предъявив стюардессе билет и вскинув сумку на плечо, я оглянулся, чтобы помахать Хемингуэю на прощание. Но он уже вернулся в аэровокзал, и я не смог рассмотреть его в толпе кубинцев и военных. Больше я никогда его не видел.Глава 33
Я записал те немногие беседы о литературном труде, которые вел с Эрнестом Хемингуэем. Лучше всех я помню ту, которая состоялась на скале над Пойнт Рома, когда мы поджидали немецких лазутчиков, хотя время от времени мне на ум приходит ночной разговор на борту „Пилар“, после празднования сорокатрехлетия писателя. Теперь я все чаще вспоминаю еще одну такую беседу. В тот раз Хемингуэй разговаривал не со мной, а с доктором Геррерой Сотолонго. Они сидели у бассейна в финке, а я случайно оказался поблизости. Доктор спросил Хемингуэя, как писатель узнает, что пора завершать произведение. – В то время как тебе хочется побыстрее разделаться с проклятущей книгой, – сказал Хемингуэй, – какая-та часть твоего сознания не желает заканчивать ее. Тебе не хочется прощаться с персонажами, ты не можешь заставить свой внутренний голос прекратить нашептывать на особом языке и диалекте этой книги. У тебя возникает чувство, как будто умирает твой друг. – Кажется, я понимаю, – с сомнением отозвался доктор. – Вы должны помнить, как два года назад я отказывался стричься, пока не закончу „По ком звонит колокол“. – Да, – сказал доктор. – С длинными волосами вы выглядели просто ужасно. – Так вот, я закончил книгу тринадцатого июля, но не прекратил писать. Я проработал свой день рождения, добавив в качестве эпилога пару глав, в одной из которых Карков, после провала наступления на Сеговию, встречается с генералом Гольцем, и они вместе едут в Мадрид, а в другой Андрее приезжает к Пилар в заброшенный лагерь Пабло и смотрит на разрушенный мост в ущелье… и тому подобную чепуху. – Почему чепуху? – спросил Сотолонго. – Разве это были неинтересные главы? – Они были лишние, – объяснил писатель, пригубив „Том Коллинз“. – Тем не менее я взял рукопись с собой в Нью-Йорк и в разгар самого жаркого со времен Сотворения лета работал над ней в отеле „Барклай“, чувствуя себя индейкой, попавшей в духовку. Каждый день мальчишка, которого я нанял курьером, доставлял в „Скрайбнерс“ двести страниц. В ту пору у меня гостил Густаво Дюран со свой очередной невестой, и я заставлял их вычитывать гранки, проверяя, правильно ли расставлены апострофы над испанскими словами, и не напутал ли я в грамматике. – И что же? – с интересом спросил доктор. – Ошибок почти не было, – проворчал Хемингуэй. – Но я хочу сказать о другом. Моему редактору Максу нравилось все подряд, включая заключительные главы, которые мне не следовало вставлять в книгу. Как всегда, он одобрил рукопись, отложив критику до той поры, когда я остыну от творческого угара. В конце августа издательство попросило меня исключить эпизод, в котором Роберт Джордан дрочит… – Дрочит? – переспросил доктор Сотолонго. – Мастурбирует. – Хемингуэй улыбнулся. – Совершает акт онанизма. Однако о ненужном эпилоге Макс не обмолвился ни словом. В конце концов, когда все остальное было улажено, я сообразил, что он по своему обыкновению воздействует на меня на подсознательном уровне. „Мне понравились заключительные главы, Эрнест, – говорил Макс. – И это естественно, ведь мне очень хотелось узнать, что будет дальше. Но обрати внимание – книга заканчивается тем, что Джордан лежит на сосновых иголках, дожидаясь смерти, точно так же, как лежал триста шестьдесят часов назад, во вступительном эпизоде первой главы. Великолепная симметрия, Эрнест. Блистательный круг“. „Ладно, Макс, – ответил я. – Можешь выбросить последние две главы“. – Значит, эпилоги никуда не годятся? – спросил доктор. Хемингуэй почесал бороду, глядя на мальчиков, плескавшихся в бассейне. – Эпилоги похожи на жизнь, Хосе Луис, – ответил он. – Жизнь продолжается, пока ты не умрешь… события сменяют друг друга. Романы обладают структурой. В них есть равновесие и замысел, которых не хватает настоящей жизни. Романы сами знают, когда им кончаться. Доктор согласно кивнул, но, по-моему, он ничего не понял. Решив доверить свои мысли бумаге, я сознавал, что Хемингуэй был прав тогда, ночью на Пойнт Рома, утверждая, будто бы хорошее литературное произведение сродни зрачку перископа, блеснувшему над водой. Впоследствии Хемингуэю приписывали слова, будто бы роман или повесть похожи на айсберг – семь восьмых его скрыты в глубине. Я знал, что именно так следует излагать свое повествование, но знал я и то, что недостаточно хорош для этого как писатель. Мне никогда не быть живописцем Заном, который изображает ястреба, кладя на холст мазок голубой краски. Что бы я ни задумал написать, я смог бы сделать это только тем образом, который Хемингуэй подверг критике ночью на Пойнт Рома – выстроить все факты и подробности и маршем прогнать их через книгу, словно пленных солдат по улицам столицы, предоставив читателю самому отделить важное от второстепенного. Итак, вот мой нескладный эпилог.* * *
Как и предсказывал Хемингуэй, Марта Геллхорн действительно заразилась лихорадкой Денге в своем путешествии по реке из голубых точек. В последний день, который она провела в Парамаримбо, приступы лихорадки были такими мучительными и болезненными, что у Марты отказали ноги, а при попытке выбраться из кресла ее ладонь соскользнула, и женщина сломала запястье. Не придав этому значения, она обмотала руку изолентой и покинула тропический ад. Тем не менее, получив телеграмму мужа, она отправилась прямиком в Вашингтон и обедала в Белом доме. Тот факт, что встреча Геллхорн с президентом и его супругой помогла защитить Хемингуэя от преследований Эдгара Гувера, зафиксирован в приводимой ниже переписке, доступ к которой я получил лишь пятьдесят пять лет спустя, благодаря Акту о свободе распространения информации. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ОТ ДИРЕКТОРА ФБР ЭДГАРА ГУВЕРА АГЕНТУ ФБР ЛЕДДИ. 17 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА Любые имеющиеся у вас данные о ненадежности Эрнеста Хемингуэя как информатора должны быть с соблюдением осторожности доведены до сведения посла Брадена. В этой связи имеет смысл упомянуть о недавнем донесении Хемингуэя, касающемся заправки субмарин в Карибском бассейне, которое оказалось недостоверным. Жду от вас немедленного доклада о результатах разговора с послом об Эрнесте Хемингуэе, его деятельности и помощниках. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ОТ АГЕНТА ФБР Д. М. ЛЭДДА ДИРЕКТОРУ ФБР ЭДГАРУ ГУВЕРУ. 17 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА Хемингуэй обвиняется в сочувствии коммунистам, хотя, как нам известно, он отрицал и продолжает энергично отрицать свое сотрудничество с ними и симпатии к ним. По имеющимся данным, Хемингуэй состоит в личной дружбе с послом Браденом и пользуется его безоговорочным доверием. Я позволю себе напомнить вам, что посол Браден весьма импульсивен и на протяжении достаточно долгого времени носился с навязчивой идей о взяточничестве и коррупции, якобы процветающих в кубинском правительстве. Агент Ледди (гаванское отделение) сообщил о том, что деятельность Хемингуэя приобрела новый характер, и теперь он и его информаторы снабжают посольство разнообразными данными о подрывных элементах. Агент Ледди высказал тревогу по поводу деятельности Хемингуэя, которая, вне всяких сомнений, способна вызвать значительные осложнения, если ее не прекратить. Как утверждает господин Ледди, Хемингуэй в настоящее время увлечен расследованием в отношении официальных лиц Кубы, напрямую связанных с кубинским правительством, в том числе – генерала Мануэля Бенитеса Валдеза, главы Кубинской национальной полиции; по словам Ледди, он уверен, что „кубинцы со временем узнают об этом, если Хемингуэй будет продолжать действовать, и это грозит серьезными неприятностями“. Господин Ледди предлагает заявить послу, что он, Ледди, не получал от Хемингуэя никаких сведений о коррупции в кубинском правительстве; что он не видит необходимости привлекать сотрудников Бюро к подобным расследованиям, которые никоим образом не относятся к нашей юрисдикции И предмет которых является внутренним делом Кубы, а если мы будем в них втянуты, нас выдворят с острова со всем имуществом. Также агент Ледди предлагает указать послу на чрезвычайную опасность ситуации, в которой таким информаторам, как Хемингуэй, дозволено беспрепятственно мутить воду и сеять беспорядок, который неизбежен, если этой ситуации не положить конец. Господин Ледди утверждает, что, невзирая на дружеские чувства посла к Хемингуэю и его очевидное доверие к нему, он, Ледди, способен убедить посла в необходимости полностью отказаться от услуг Хемингуэя в качестве информатора. Ледди предлагает обратить внимание посла на то, что Хемингуэй далеко не ограничивается ролью информатора и, в сущности, учредил свою собственную разведывательную службу, неподконтрольную каким-либо внешним организациям. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ОТ ДИРЕКТОРА ФБР ЭДГАРА ГУВЕРА АГЕНТАМ ТАММУ И ЛЭДДУ. 19 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА Касательно использования Эрнеста Хемингуэя послом США на Кубе: разумеется, я сознаю недопустимость подобных связей и отношений. По моему мнению, Хемингуэй никоим образом не пригоден к такой работе. Его взгляды небезупречны, а трезвость суждений, если она остается такой же, как несколько лет назад, весьма сомнительна. Тем не менее я не вижу смысла предпринимать что-либо по этому поводу и не считаю, что наши агенты в Гаване должны подталкивать к этому посла. Господин Браден несколько опрометчив, и я ничуть не сомневаюсь в том, что он немедленно сообщит Хемингуэю о возражениях со стороны ФБР. Хемингуэй не питает теплых чувств к Бюро и не преминет обрушиться на нас с диффамацией. Как вы помните, во время моего недавнего совещания с президентом он упомянул о послании Хемингуэя, переданном ему через общего друга (Марту Геллхорн), и о настойчивом требовании Хемингуэя дотировать кубинские власти суммой в пятьсот тысяч долларов на нужды интернированных лиц. Я не вижу, каким образом обсуждаемый вопрос может затрагивать наши взаимоотношения с Кубой, поскольку мы не получаем докладов непосредственно от Хемингуэя и не ведем с ним дел напрямую. Все, что он передает послу, а посол, в свою очередь, нам, мы можем принимать, ничего не опасаясь. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ОТ АГЕНТА ФБР ЛЕДДИ (ГАВАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) ДИРЕКТОРУ ФБР ЭДГАРУ ГУВЕРУ. 21 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА 1 апреля 1943 года сотрудник посольства в частном порядке предложил Хемингуэю распустить свою организацию и прекратить ее деятельность. Этот шаг был предпринят послом Браденом без каких-либо консультаций с представителями Федерального бюро расследований. Сейчас мы подготавливаем полный отчет о деятельности Хемингуэя и организации, которую он возглавлял, и в ближайшее время передадим ее в ФБР. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ОТ АГЕНТА ФБР ЛЕДДИ ДИРЕКТОРУ ФБР ЭДГАРУ ГУВЕРУ. 27 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА Господин Хемингуэй был связан с организациями так называемого коммунистического фронта и оказывал активную поддержку лоялистам в Испании. Мы не располагаем какими-либо сведениями о его непосредственной принадлежности к коммунистической партии в качестве ее члена, однако поступки Хемингуэя свидетельствуют о том, что он придерживается „либеральных“ взглядов и, вероятно, склонен одобрять политические воззрения коммунистов. По некоторым данным, в настоящее время он выполняет совершенно секретное задание Военно-морского департамента, который в этой связи оплачивает затраты на содержание яхты Хемингуэя, снабжает его оружием и навигационными данными для плаваний в районе Кубы. Бюро не производило расследований в отношении Хемингуэя, однако его фамилия упоминалась в связи с другими операциями ФБР и в многочисленных сведениях о нем, предоставленных добровольно многими источниками. В конце 1944 года Геллхорн развелась с Хемингуэем. Во время долгих противолодочных походов Хемингуэя на протяжении всего 1943 и весны 1944 года она с перерывами жила в финке. В своем письме, направленном Марте в Лондон, Хемингуэй жалуется, что в ее отсутствие ему одиноко в усадьбе, словно в Чистилище. После ее возвращения их ссоры становились все более ожесточенными, а примирения – менее искренними. Два года Геллхорн пыталась заставить Хемингуэя прекратить „играть в войну“ и отправиться на настоящий фронт, чтобы вести оттуда репортажи, но ее супруг упрямо не желал покинуть Кубу, свою яхту, друзей, кошек и финку „Вихия“. Наконец, в марте 1944 года он сквитался с Геллхорн за язвительные насмешки, причем таким образом, что она очень долго не могла забыть или простить это. Любой американский журнал был бы счастлив видеть Эрнеста Хемингуэя своим корреспондентом. Он вызвался писать для „Кольерса“, издания, в котором работала Геллхорн. Поскольку „Кольерс“ мог организовать и оплатить поездку только одного журналиста за раз, первым в Европу отправился Хемингуэй. Геллхорн хотела лететь с ним в качестве „вольного художника“, но Хемингуэй солгал, утверждая, будто бы женщин-корреспондентов не пускают в районы боевых действий. Лишь впоследствии Геллхорн узнала, что на протяжении всего полета рядом с Хемингуэем сидела актриса Гертруда Лоренс. Хемингуэй вылетел в Лондон 17 мая 1944 года. Он подшучивал над Лоренс, которая везла для своих друзей свежие яйца, собираясь устроить завтрак с пирожными, как только они доберутся до Англии. Хемингуэй во всеуслышание объявил, что он до сих пор сердит на свою жену за то, что та не попрощалась с кошками, покидая финку. Геллхорн отправилась в путь 13 мая и была единственным пассажиром на борту судна, перевозившего динамит. На протяжении драматического двенадцатидневного плавания конвой понес существенные потери. Друзья не очень удивились, когда прошел слух об их разрыве и разводе.* * *
Ингрид Бергман и Гарри Купер сыграли главные роли в экранизации книги „По ком звонит колокол“, премьера которой состоялась 10 июля 1943 года. Фильм был великолепен, как и сама Бергман с короткими волосами – однако обозреватели и публика критиковали его за вялость и чрезмерную затянутость. Гораздо большим успехом пользовался другой фильм, в котором Бергман снялась, нетерпеливо дожидаясь известий о том, возьмут ли ее на роль в „По ком звонит колокол“. Это была малобюджетная лента с наспех написанным сценарием и запутанным сюжетом. Она называется „Касабланка“.* * *
Густаво Дюран действительно приехал на Кубу и возглавлял „Хитрое дело“ вплоть до его ликвидации по взаимному соглашению в апреле 1943 года, однако он и его жена часто ссорились с Хемингуэем и Геллхорн и вскоре покинули флигель для гостей, поселившись в отеле „Амбос Мундос“. К середине 1943 года Густаво Дюран перешел на службу в разведке посла Брадена, а его супруга блистала в высшем свете Гаваны. После войны Дюран и Браден были обвинены в принадлежности к коммунистическим кругам и предстали перед Комиссией по антиамериканской деятельности. „Настоящий красный – это Хемингуэй, – заявил Дюран Сенату. – А я познакомился с Браденом в доме Хемингуэя“. Спруилл Браден, сломленный обвинением в нелояльности после долгих лет государственной службы, также свидетельствовал против Хемингуэя, утверждая, будто бы тот был американским коммунистом на Кубе. Затем Браден вылетел в Гавану просить прощения у писателя. „Он сказал, что ему очень жаль и что он был вынужден солгать, чтобы сохранить должность. При этом он всячески извинялся, и, похоже, искренне, – объяснял впоследствии Хемингуэй доктору Сотолонго. – В общем, я его простил“. Боб Джойс, связник Хемингуэя в посольстве, вышел в отставку и поступил на службу в ОСС примерно через восемь месяцев после меня. Год спустя я однажды видел Джойса в Европе, но в тот момент мы сидели в полутемном салоне самолета „Дакота“, ожидая ночной выброски над Восточной Европой, наши лица были вымазаны жженой пробкой, и я сомневаюсь, что он узнал меня.* * *
Я больше никогда не встречался с Грегори и Патриком. Джиджи стал преуспевающим врачом, как и его дед. Патрик охотился на крупную дичь в Африке, но по возвращении в Штаты приобрел известность как специалист по вопросам окружающей среды. Как ни странно, именно со старшим сыном Хемингуэя Джоном по прозвищу Бэмби, которого я так и не увидел на Кубе, мы повстречались в Гамбурге в январе 1945 года. Джон Хемингуэй вступил в ОСС в июле 1944 года. Три месяца спустя его выбросили с парашютом во Франции, у Ле Боске Д'Орб, в пятидесяти километрах к северу от Монпелира. Он должен был учить местных партизан искусству проникновения на вражеские позиции. В конце октября он в дневное время осуществлял рекогносцировку в долине Рейна вместе с капитаном американской армии и французским партизаном, когда их атаковало подразделение альпийских стрелков. Француз получил пулю в живот и погиб; Бэмби и капитан Джастин Грин были ранены. Во время допроса австрийский офицер, командир стрелков, вспомнил, что он встречался с Эрнестом, Хедли и двухлетним Бэмби в Шрунсе в 1925 году. Он прекратил допрос и доставил истекающего кровью молодого человека в эльзасский госпиталь. Мою группу направили в лагерь военнопленных неподалеку от Хаммельбурга, чтобы помочь им бежать. Юному Джону Хемингуэю удалось вырваться той ночью на свободу, однако четверо суток спустя его вновь поймали и бросили в лагерь „Шталаг Люфт III“ у Нюрнберга в Германии. Хемингуэй считал сына без вести пропавшим вплоть до его освобождения весной 1945 года. К этому времени Джон провел шесть месяцев в немецких лагерях для военнопленных, в каждом из которых кормили хуже, чем в предыдущем. В июне 1945 года он прилетел на Кубу и встретился с отцом, братьями и очередной невестой Хемингуэя Мэри Уэлш.* * *
Лейтенант Мальдонадо вернулся на свою должность в Кубинской национальной полиции, но до конца жизни ходил, подволакивая ногу. За несколько лет до того, как Хемингуэй навсегда покинул Кубу, Мальдонадо патрулировал окрестности финки и, по слухам, убил Черного Пса, который в то время был любимцем писателя. Говорили, что Мальдонадо насмерть забил собаку прикладом винтовки. В последние дни правления Батисты Мальдонадо прославился своим могуществом и жестокостью, разъезжая по провинциям на джипе „Виллис“ и расстреливая людей, подвернувшихся ему под руку. Однако Бешеный жеребец поставил не на ту лошадку, выбрал не того диктатора. Революционное правительство арестовало его в 1959 году и отдало под суд в числе последних приспешников Батисты. Все были уверены, что кровожадного громилу повесят, однако на суде Мальдонадо непрерывно заливался слезами, пока второй подсудимый, его помощник с рябым землистым лицом, не встал со скамьи и не сказал ему: „Эй, приятель, хватит рыдать, словно какая-нибудь шлюха. Ты убивал людей, и я тоже“. Помощника повесили, а Мальдонадо, вопреки всякой логике, приговорили к тридцати годам тюремного заключения. Местные жители буквально взбунтовались, требуя от революционного правительства осудить Бешеного жеребца на смерть. Однако на той неделе Фидель Кастро объявил о прекращении казней офицеров Батисты, повинных в убийствах. В ту пору Хемингуэй жил на Кубе, и в ту неделю он сказал кому-то из своих друзей: „Черт возьми, этот мерзавец помрет от старости, уж поверь мне. Ради блага города и страны следовало бы казнить и закопать его“. Говорят, Хемингуэй вызвался лично расстрелять Мальдонадо.* * *
Уинстон Гест в последнее время исчез из виду. В 1961 году, когда погиб Хемингуэй, он был владельцем „Гест Аэровиас де Мехико“, самой маленькой из трех международных авиакомпаний Мексики. В то десятилетие мы активно пользовались ее услугами для осуществления тайных операций ЦРУ. После кубинской революции Синдбад-мореход, Хуан Дунабетия, не пожелал перебраться в Штаты вместе с торговой морской компанией „Вард Лайн“, в которой служил. Он вернулся в Испанию, стал поставщиком корабельной провизии и некоторое время спустя умер. Грегорио Фуэнтес отпраздновал свой сотый день рождения на Кубе в 1977 году.* * *
В 60-х, когда я работал в Берлине, до меня дошли слухи о сорокалетней советской женщине-разведчице, завербованной в бывшей шпионской сети нацистов, которой руководил Рейнхард Гелен. Во время войны организация Гелена была самой эффективной и успешной разведывательной службой Германии. Слухи об этой женщине заинтересовали меня потому, что ее звали Эльза Хальдер и она была дальней родственницей Эрвина Роммеля и ничем не напоминала арийку – темные волосы и глаза, смуглая кожа, – однако выросла в семье немецкого дипломата, которая на протяжении 30-х проживала в Испании. Но самым примечательным для меня оказалось то, что на Олимпийских играх 1936 года она завоевала для сборной Германии бронзовую медаль по плаванию на дальние дистанции. Я не пытался выяснить ее личность и местопребывание и ни разу не сталкивался с ней в своих операциях.* * *
Рейхсфюрер Гиммлер не отказался от своего стремления к полной власти в нацистских разведывательных кругах и в самом Третьем Рейхе. У нас в ОСС никто не сомневался, что Гиммлер не только хочет быть заместителем Гитлера, но и стремится к тому, чтобы самому стать фюрером, когда придет время. Эта уверенность подстегивала нас, заставляя усерднее относиться к своей работе. Весь 1943 год Гиммлер и его коллеги по РСХА искали способы дискредитировать адмирала Канариса и его Абвер. В январе он назначил шефом РСХА Эрнста Кальтенбруннера, и тот первым делом поставил полковника Вальтера Шелленберга – соавтора Гиммлера и Гейдриха в разработке операции „Ворон“ на Кубе – во главе АМТ IV. Главной задачей Кальтенбруннера и Шелленберга было уничтожение Абвера. Такая возможность представилась им в январе 1944 года. В результате сложных махинаций СД агент Абвера в Стамбуле доктор Эрих Вермехен сдался британцам. 10 февраля британцы действуя по указаниям Уильяма Стефенсона и Яна Флеминга из М16, подтвердили факт предательства Вермехена. Гитлер был взбешен. Два дня спустя он подписал указ об упразднении Абвера как самостоятельной разведывательной службы, подчинил его РСХА и предоставил Генриху Гиммлеру полный контроль над зарубежной разведкой. Канариса немедленно сняли с поста, который он занимал в течение девяти лет. После неудавшегося покушения на Гитлера Шелленберг лично арестовал Канариса, единственным преступлением которого было то, что он знал о заговоре и не сообщил о нем фюреру. Бывшего руководителя разведки отвезли на мясоразделочную фабрику и несколько раз вздернули к потолку на крюке, проволокой стянув ему руки за спиной. Казнь заговорщиков сняли на пленку, и Гитлер целыми вечерами вновь и вновь просматривал эти кадры.* * *
Теодор Шлегель вернулся в Бразилию летом 1942 года и был немедленно арестован. Дельгадо и Бекер организовали разоблачение всех южноамериканских агентов Абвера, которых вскоре сменили люди из СД. В октябре того же года Шлегель и шесть его сподвижников предстали перед судом особого бразильского трибунала. Шлегель был приговорен к четырнадцати годам тюрьмы. На следующий день после того, как Дельгадо убил на Пойнт Рома двух немецких лазутчиков, гауптштурмфюрер Иоганн Зигфрид Бекер бежал в Бразилию и еще два с половиной года оставался на свободе, организуя разведывательные сети СД взамен ликвидированных абверовских, хотя в общем и целом его деятельность приносила скорее вред, нежели реальные результаты. Бекера арестовали в апреле 1945 года за считанные недели до падения Третьего Рейха и самоубийства его фюрера.* * *
Дж. Эдгар Гувер ушел из жизни 2 мая 1972 года национальной знаменитостью, хотя назвать его национальным героем было бы не совсем правильно. В тот год мне исполнилось шестьдесят, я руководил отделением ЦРУ в Калькутте – один из множества стареющих гражданских служащих, мечтающих о пенсии. Я не был в Штатах около тридцати лет. Весть о смерти Гувера я получил ночью по закрытой телефонной линии; я сразу схватил трубку другого аппарата и позвонил своему старому другу в Лэнгли, штат Виргиния. Тот связался со своим человеком в ФБР, который, в свою очередь, взялся доставить мое письмо новому директору Бюро, Л. Патрику Грею. Это письмо было передано через контору генерального прокурора, чтобы его не перехватили приспешники Гувера. На письме было указано – „Лично в руки адресату“. Грей прочел его 4 мая 1972 года. Письмо начиналось следующими словами: „Сразу после известия о смерти Гувера Клайд Толсон позвонил из резиденции директора в штаб-квартиру ФБР, вероятно, Дж. Р. Мору. Толсон распорядился вынести все конфиденциальные материалы, содержавшиеся в кабинете Гувера. К 11 часам утра они были перемещены в резиденцию Толсона. Находятся ли они по-прежнему там, неизвестно. Главное заключается в том, что Дж. П. Мор солгал вам, утверждая, будто бы этих материалов не существует. Они существуют. Их систематически скрывают от вас…“ Директор Л. Патрик Грей немедленно передал письмо в лабораторию ФБР для экспертизы. В лаборатории выяснили лишь, что при его составлении были использованы две пишущие машинки: конверт был напечатан на аппарате „Смит Корона“ шрифтом „элита“, а текст – на машинке „IBM“ шрифтом „пика“. Ни на конверте, ни на бумаге с текстом нет водяных знаков, и само письмо – копия, снятая прямым электростатическим способом, а не методом с промежуточной обработкой, таким, как ксерокс. Грей потребовал объяснений от своего заместителя Мора, который вновь заверил его, что никаких секретных и конфиденциальных материалов не существует. Грей собственноручно написал Мору записку: „Я вам верю!“ Мисс Гэнди, пятьдесят четыре года состоявшая личным секретарем Гувера, упаковала 164 папки в картонные ящики, которые сначала были доставлены в дом Клайда Толсона, а затем перевезены в подвал дома Гувера на Тринадцатой улице. Оттуда они исчезли. Мой друг из Лэнгли вновь позвонил мне в Калькутту 21 июня 1972 года. Его имя у всех на слуху. Он прославился тем, что выявлял информаторов в ЦРУ. Он ненавидел советских шпионов и почти в той же мере – соглядатаев из ФБР. В давние годы существования ОСС он был другом Билла Донована и работал со мной в специальном отделе, который занимался Британией и Израилем. Мы вместе обедали с Кимом Филби, прежде чем этот двойной агент бежал в Москву. И мы поклялись больше никогда не допускать подобную оплошность. – Они у меня, – сообщил мой друг по закрытомутелефонному каналу. – Все? – Все, – ответил мой друг. – Спрятаны в условленном месте. Несколько секунд я молчал. После долгих лет на чужбине я мог вернуться домой, если захочу. – Это очень интересные материалы, – сказал той ночью мой друг. – Если мы их опубликуем, они полностью перевернут жизнь в Вашингтоне. – Они перевернут весь мир, – заметил я. – Надеюсь, мы скоро встретимся. – Да, – ответил я и аккуратно положил трубку.Глава 34
Я не вернулся домой ни в 1972, ни в конце 1974 года, когда оставил службу в Управлении. Я приехал в Штаты четыре дня назад, почти пятьдесят шесть лет после того дня, как покинул страну, вылетев из Майами в Гавану, чтобы встретиться с человеком по имени Эрнест Хемингуэй. Никто не хочет становиться глубоким стариком и видеть, как друзья один за другим покидают этот мир, но такова была моя судьба. Мне сейчас почти восемьдесят шесть. В молодости в меня попали четыре пули, я пережил две серьезные автокатастрофы и одну авиационную, меня четыре дня и четыре ночи носило по волнам Бенгальского залива, и однажды я провел неделю, бродя по Гималаям в самый разгар зимы. Но я уцелел. По чистой случайности. Большинство событий в нашей жизни происходит по чистой случайности. Однако десять месяцев назад удача отвернулась от меня. Я велел своему водителю отвезти меня в Мадрид к врачу, которому регулярно показываюсь дважды в год. В свои шестьдесят два он выглядит стариком и всегда ругает меня за то, что я езжу к нему. „Сколько лет прошло с тех пор, когда даже в Испании можно было вызвать врача на дом?“ – обычно шучу я. Но в этот августовский день нам было не до шуток. Врач назвал мне этот недуг по-медицински и простыми словами объяснил, в чем он заключается. – Будь вы помоложе, – сказал он с искренней печалью во взгляде, – мы бы попробовали операцию. Но в восемьдесят пять лет… Я хлопнул его по плечу. – Хотя бы год вы мне дадите? Однажды Хемингуэй сказал, что для написания книги ему требуется год. – Боюсь, мой друг, я не могу обещать вам даже такой срок, – ответил доктор. – Ну, хотя бы девять месяцев?.. – Вряд ли моей книге будет суждено стать гениальным произведением, таким, как работы Хемингуэя, и я не сомневался, что мне хватит девяти месяцев. Девять месяцев казались мне довольно продолжительным периодом времени. – Может быть, – ответил врач. Тем вечером, возвращаясь домой в холмы, я велел шоферу остановиться у универсального магазина, чтобы купить бумагу и лазерный принтер.* * *
В 1961 году, в ту неделю, когда мне стало известно о смерти Хемингуэя, я твердо решил написать о тех нескольких месяцах, которые провел с ним в 1942 году. На прошлой неделе, спустя почти тридцать семь лет после этого обещания, я закончил черновик книги. Я знаю, что в нем следует многое переписать и поправить, но, боюсь, это невозможно. Я никогда не был уж очень дисциплинированным человеком и не намерен меняться на старости лет. До окончания Второй мировой войны я не читал литературных произведений. Я начал с Гомера и целое десятилетие посвятил изучению Чарльза Диккенса и Достоевского. Первую книгу Хемингуэя я прочел в 1974 году, в ту неделю, когда Никсон ушел в отставку. Это был роман „И восходит солнце“. Я вижу слабости прозы Хемингуэя, которая, как он утверждал, „обладает самосознанием“, а также слабости его еще более „самосознающих“ философских позиций. Порой – особенно это касается его поздних книг, например, „За рекой, в тени деревьев“ – критики справедливо замечают, что стиль Хемингуэя становится пародией на стиль Хемингуэя. Но как хорош он был в пору своего расцвета! В его творениях чувствуется тот самый гений, о котором он говорил ночью на песчаном склоне холма над маяком Пойнт Рома. Впервые я услышал живой голос Эрнеста Хемингуэя в его коротких рассказах. Именно там я начал видеть ястреба в мазке голубой краски на фоне неба. Именно в них я мельком уловил блеск… даже не перископа, а оставленной им едва заметной полоски на синих водах Гольфстрима, и сразу ощутил запах двигателей субмарины, запах пота ее экипажа и страха двух мальчишек, ждущих высадки на берег и гибели. Одним из немногих огорчений, преследовавших меня на протяжении минувших девяти месяцев, было то, что человеку очень трудно выкроить время для чтения, если он пишет по двенадцать часов в сутки. Меня занимал вопрос, как справляются с этим настоящие писатели. Я помню, что Хемингуэй читал в любое время дня и ночи – у бассейна, за едой, на борту „Пилар“. Вероятно, все дело в том, что его не так поджимали сроки.* * *
Соединенные Штаты Америки полностью изменились. Ничто не осталось таким, как я помню. Разумеется, о США можно узнать все, что хочешь, из газет, журналов, тысяч фильмов на видеокассетах и лазерных дисках, а в последнее время и через Интернет. Тем не менее страна совершенно изменилась. Я позвонил одному из своих немногих друзей, все еще работавших в Бюро, – молодому человеку, которого обучал на протяжении последнего года своей службы, а ныне высокопоставленному сотруднику конторы – и попросил об одолжении. Он некоторое время колебался, но в конце концов я получил по Федеральной экспресс-почте пакет. Там были паспорт, потертый, со множеством штемпелей и чужой фамилией под моей фотографией; кредитные карты, включая „золотой Америкэн Экспресс“; водительские права; карточка социального страхования и другие предметы, которые встречаются в бумажниках, даже лицензия на рыбную ловлю. Мой друг был не лишен чувства юмора. Но он кое-что знал обо мне и понимал, что мое краткое пребывание в Штатах никому не причинит вреда. Действие рыболовной лицензии истекало примерно в тот же срок, который был отпущен мне самому. Я въехал в страну через Торонто и из чистого упрямства решил отправиться в Айдахо на автомобиле. Вождение машины было приятным развлечением, и, хотя сам я считаю, что больному восьмидесятипятилетнему старику с одним работающим глазом ни в коем случае нельзя доверять руль, поездка по американскому шоссе федерального значения оказалась для меня чем-то совершенно новым. Оно было гораздо более просторным и пустынным, нежели европейский автобан. Я приобрел пистолет в Спирфише, штат Южная Дакота. Там произошла неизбежная заминка, в течение которой продавец выяснял, не числюсь ли я в розыске, но я был не против того, чтобы подождать. Путешествие утомило меня; еще больше сил отняло лекарство, которое я принимал. С другой стороны, без него я не смог бы совершить эту поездку. Лекарство, очень сильное, не было утверждено ни Федеральной фармакологической службой, ни соответствующими органами каких-либо иных стран. Оно убило бы меня, вздумай я принимать его больше месяца, но это меня ничуть не пугало. Через несколько дней продавец из оружейного магазина позвонил мне в мотель и сказал, что я могу в любое время забирать покупку. Мой паспорт был выписан на имя законопослушного здорового гражданина, за которым не было замечено ни преступлений, ни серьезных умственных расстройств. Я выбрал девятимиллиметровый „сиг сойер“, потому что никогда не имел такого пистолета и не пользовался им в своей практике. По сравнению с длинноствольными пистолетами моей юности он выглядел маленьким, компактным и угловатым. Я уже двадцать лет не носил с собой огнестрельное оружие. Вчера я приехал в Кетчум. С тех пор, как Хемингуэй в 1959 году купил здесь дом, город значительно разросся, однако по-прежнему сохранял вид шахтерского поселения. Я отыскал на карте ресторан „Кристина“, в котором, по утверждению Хемингуэя, за ним следили агенты ФБР и который он пожелал покинуть, не закончив ужин. Неподалеку я снял номер в мотеле и отправился в магазин, торгующий спиртным. Там я купил подарочный набор „Чивас Регал“ с двумя бокалами для виски, на которых была выгравирована эмблема производителя. Дом, купленный Хемингуэем и его женой в 1959 году, до сих пор стоит на месте. Он не производит особого впечатления – двухэтажное шале с крутыми крышами и стенами из грубого пористого бетона. С тех пор, когда здесь обитал Хемингуэй, гаревые дорожки заасфальтировали, а вокруг появились новые дома – на холме, который при жизни писателя, вероятно, был сплошь покрыт полынью, однако отсюда открывается все тот же вид: череда высоких вершин к северу и югу и двойная излучина Биг-Вуд-ривер к востоку. Вчера вечером, проезжая по городу, прежде чем вернуться в мотель, я обнаружил пустынную дорогу, две колеи в полыни, которая, казалось, до бесконечности протягивается по плоскогорью, исчезая в туманной дымке у подножия вершин. Именно туда я поеду сегодня во второй половине дня, после визита на кладбище. В „Таурусе“, взятом напрокат, лежит мой ноутбук „Тошиба“, и я не забуду записать на дискету эту последнюю страницу, прежде чем отправиться на прогулку в заросли полыни. Могила Хемингуэя расположена между двумя красавицами соснами, с видом на горы под названием „Зубья пилы“. Это зрелище, особенно в теплый весенний день, когда на вершинах еще лежат снежные шапки, поистине захватывает дух. У могилы были еще три посетителя, и мне пришлось почти полчаса ждать в „Таурусе“ их ухода. Мне и в голову не приходило, что могила Хемингуэя окажется местной достопримечательностью. В конце концов они уехали, и я отнес на могилу подарочный „Чивас Регал“. Я забыл очки и не смог как следует рассмотреть надписи на памятнике, но прочел его фамилию, даты рождения и смерти. Несмотря на жаркое солнце, у меня мерзли руки, и я не без труда сорвал с коробки упаковочный пластик. Крышка бутылки тоже долго не поддавалась. Как это противно – быть старым и хворым. Несколько минут назад я поставил на ровную площадку у памятника два бокала с виски. В лучах солнца он напоминал жидкое золото. Я всегда терпеть не мог киноэпизоды, в которых какой-нибудь занудный персонаж подолгу торчит у могилы, изливаясь во „внутреннем монологе“. Это выглядит натянуто и дешево. Я вообще не поехал бы в Кетчум, если бы мог отправиться на Кубу… возможно, в финку, превращенную в музей, на заднем дворе которого догнивает „Пилар“. Но такое путешествие мне заказано. Приближение смерти раздражает меня, и одна из причин этому – мысль, что Кастро меня переживет. Я лишь надеюсь, что ненадолго. Я поднял первый бокал. – За смятение в рядах наших врагов, – негромко произнес я и выпил золотистый виски одним глотком. Потом я поднял второй бокал. – „Estamos copados“, – сказал я. – „Estamos copados, Papa“… Примечания автора Невероятная история об Эрнесте Хемингуэе, который во время Второй мировой войны охотился на Кубе за шпионами и подводными лодками, изложенная в моем новом романе „Хитрое дело“, по-моему, выглядит еще более невероятной оттого, что она правдива на 95 процентов. Решение написать художественную версию шпионских приключений Хемингуэя на Кубе я принял несколько лет назад, обратив внимание на то, как скупо многие его биографы освещают события того периода с мая 1942 по апрель 1943 года. Как правило, они ограничиваются объяснениями следующего рода: „В первый год участия Соединенных Штатов в войне Хемингуэй оставался дома, на Кубе, хотя его жена и друзья отправлялись на фронт, чтобы вести оттуда репортажи либо сражаться самим. В это время Хемингуэй организовал контрразведывательную группу под названием „Хитрое дело“, состоявшую из его старых знакомых по Гражданской войне в Испании, а также барменов, проституток, сплетников, рыбаков, священников и прочих закадычных приятелей. Также он уговорил американского посла оснастить его яхту „Пилар“, чтобы попытаться выслеживать немецкие подлодки на поверхности океана и топить их гранатами и огнем из стрелкового оружия. Ему не удалось уничтожить ни одной субмарины, и его шпионская организация была ликвидирована в апреле 1943 года“. Биографы умалчивают о том, что похождения Хемингуэя до сих пор засекречены в объемистом досье, которое ФБР вело на него с 30-х. Однако нам достоверно известно, что на протяжении месяцев, в течение которых Хемингуэй руководил „Хитрым делом“ и морской операцией „Френдлесс“, его расследования шпионской деятельности на Кубе и вокруг острова и, в большей мере, вскрытые его агентами факты коррупции кубинского правительства и Национальной полиции служили поводом для серьезного беспокойства ФБР. В биографиях Хемингуэя, кроме самых современных, не указывается, что именно в этот период были созданы предпосылки мании преследования, мучившей писателя в последние годы жизни, когда он пребывал в уверенности, что за ним надзирает ФБР. Истина в том, что ФБР действительно следило за ним. Данный роман является вымышленной реконструкцией покрытых тайной событий тех месяцев, но и то, что мы знаем наверняка, достаточно любопытно. Приведем несколько фактов из „Хитрого дела“, достоверность которых не вызывает сомнений: Дж. Эдгар Гувер и ФБР были осведомлены о грядущем нападении японцев на Пирл-Харбор, однако не сумели его предупредить из-за междуусобицы с соперничающими разведывательными службами. „Хитрое дело“ Хемингуэя вскрыло источники интриг и коррупции на Кубе. Ян Флеминг, впоследствии создавший Джеймса Бонда, в то время вел активные разведывательные действия в США и Канаде. Дружеские отношения Хемингуэя с такими людьми, как Гарри Купер, Марлен Дитрих и Ингрид Бергман, длившиеся до его смерти, зародились именно в тот период времени. Практически все агенты и действия, описанные в романе, были реальными людьми и реальными операциями, порой такими же мелодраматическими и абсурдными, какими они выглядят. Вся переписка ФБР в романе настоящая и приводится без изменений. Отчеты ФБР о наблюдении за любовными свиданиями молодого флотского лейтенанта Джона Ф. Кеннеди с немецкой шпионкой Ингой Арвад также перепечатаны слово в слово. Секретные расшифровки стенограмм электронного и телефонного прослушивания разговоров Кеннеди и Арвад также воспроизводятся дословно по материалам ФБР. Незаконная слежка ФБР за вице-президентом США и Первой леди, Элеонор Рузвельт, описывается в точном согласии с фактами. Фонд „Викинг“, филантропическая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимавшаяся изучением руин инкских городов, действительно существовала, и ФБР действительно расследовало ее связи с нацистами. Девяностометровая яхта „Южный крест“, снаряженная германской разведкой и переданная фонду „Викинг“, существовала в реальности, и ФБР подозревало, что она обслуживает немецкие субмарины. Между Эдгаром Гувером и конкурентами Бюро, такими как ОСС и британская БКРГ, действительно велась ожесточенная борьба, зачастую в ущерб военным интересам, и Гувер действительно арестовал агентов ОСС, проникших в испанское посольство в Нью-Йорке. Гиммлер и Гейдрих, руководившие разведывательными службами СС, действительно замышляли дискредитировать адмирала Канариса и Абвер, и их усилия привели к тому, что Гитлер расформировал старую военную разведку. Со временем Канарис подвергся пыткам и был казнен. План БКРГ ликвидировать Гейдриха существовал в реальности и подготавливался в канадском Лагере „X“. Подробности операции „Френдлесс“, в ходе которой Хемингуэй пытался охотиться за немецкими подлодками и топить их с судна, якобы принадлежащего Музею естественной истории, вполне достоверны. Германские агенты в Южной Америке; упомянутые в „Хитром деле“, действительно существовали, и их постигла имен но та судьба, которая описана в романе. Абсурдная высадка немецких лазутчиков на Лонг-Айленде и нежелание ФБР поверить им, даже когда они попытались сдаться, имели место в реальности и были столь же нелепыми, какими они представляются в книге. Записи Хемингуэя в судовом журнале „Пилар“ во время противолодочных походов приводятся дословно. Подавляющее большинство диалогов между Хемингуэем и другими историческими персонажами основаны на фактическом материале, и все его замечания о литературном труде, о войне, о вымысле в сопоставлении с правдой, адресованные вымышленному Джо Лукасу, приводятся близко к тексту рукописей и высказываний Эрнеста Хемингуэя. Охота Хемингуэя за подводными лодками происходила именно так, как это описано в романе. Суть операции „Хитрое дело“ также изложена точно и правдиво. Страхи Хемингуэя перед ФБР в последние годы жизни, а также подробности его самоубийства подтверждены фактами, равно как и интерес Бюро к стареющему писателю, во многом оставшийся за печатью тайны. Эти сведения были получены из интервью, новейших биографических источников и материалов ФБР, рассекреченных в согласии с Актом о свободе распространения информации. Невзирая на то, что сюжет „Хитрого дела“ является вымыслом, подавляющее большинство подробностей, персонажей, действий, диалогов и военных событий реальны. Для меня было огромным удовольствием вплетать эти едва ли не фантастически звучащие факты в литературную канву книги, чтобы сделать ее „правдивее правды“, и я надеюсь, что читатель с радостью окунется в ее атмосферу. Дэн Симмонс Шрайк-Хилл, Виндуолкер, штат Колорадо.
Дэн Симмонс
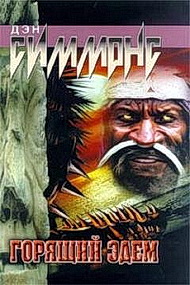 Костры Эдема (Горящий Эдем)
Костры Эдема (Горящий Эдем)
Роберту Блоху, который научил нас, что ужас только одна из любопытных составляющих жизни, любви и смеха

Глава 1
О, Пеле, – Млечный путь обращается вспять. О, Пеле, – краснеет водная гладь. О, Пеле, – изменилась ночная тьма. О, Пеле, – огонь озаряет туман. О, Пеле, – как сполохи в небе горят! О, Пеле, – задрожала твоя гора. О, Пеле, ухи-ухи, – гора поет. О, Пеле, восстань, – твой час настает![1]Вначале был только вой ветра. Ветер дул с запада, пролетая над четырьмя тысячами миль пустынного океана и не встречая на своем пути ничего, кроме белых гребней волн и случайных чаек. Только здесь, на Большом острове Гавайи, ветер разбивался о причудливые нагромождения остывшей лавы и разочарованно завывал, блуждая в этих темных лабиринтах. Звукам ветра вторили удары прибоя о берег и шорох листьев пальм, искусственно выращенных в этой лавовой пустыне. На острове соседствовали два типа лавы, которым гавайцы испокон веку дали имена. Пахоэхоэ была старше: волны и ветер сгладили ее почти до ровной поверхности. Более молодая аха образовывала гротескные башни и фигуры, напоминающие фантастических горгулий с краями острыми как нож. На побережье Южной Коны серые реки пахоэхоэ стекали от вулканов к морю, но все девяносто пять миль западного берега были покрыты полями аха, возвышающимися над морем, как черный строй окаменевших воинов. Теперь ветер завывал в этих лабиринтах, мечась между столбами лавы и врываясь в разверстые пасти старых лавовых трубок. Ветер выл все яростнее, над морем сгущалась тьма, поднимаясь от черных полей аха к подножию Мауна-Лоа. Вскоре тьма затопила громадный конус вулкана, заслоняющий небо на юго-востоке. Над кратером тускло светилось оранжевое облако вулканической пыли. – Так что, Марти? Ты будешь бить штрафной или нет? Три фигуры едва виднелись в полумраке, а голоса их почти терялись в вое ветра. Они стояли на поле для гольфа, вьющемся зеленой змейкой среди черных нагромождений аха. Вокруг тоскливо шелестели пальмы, и огни курорта Мауна-Пеле, казалось, сияли далеко-далеко. У каждого игрока была своя тележка, и три тележки тоже сбились вместе, затерянные в сгущающейся темноте. – Я говорю вам, что он в этих чертовых камнях, – сказал Томми Петрессио. Оранжевое вулканическое свечение отбрасывало отсвет на его загорелое лицо и красно-желтый спортивный костюм. В зубах он держал толстую незажженную сигару. – Нет, он не в камнях, – возразил Марти Дефрис, почесывая жирную волосатую грудь в распахнутом вороте рубашки. – Во всяком случае, не в траве, – заметил Ник Агаджанян. На нем была зеленая рубашка, обтягивающая солидное брюшко, и широкие шорты, под которыми виднелись белые дряблые ноги в черных носках. – Будь он в траве, мы бы его увидели. Здесь ведь только и есть, что эта чертова трава и чертовы камни, – ну точно как засохшее овечье дерьмо. – А ты когда-нибудь видел овечье дерьмо? – поинтересовался Томми, облокотившись на клюшку. – Я много чего видел, вот только вам не сообщил, – ответил Ник. – Ага, – сказал Томми, – должно быть, в молодые годы ты не раз влезал в овечье дерьмо, когда пытался трахнуть овцу. – Он сложил ладонь домиком, в пятый раз пытаясь зажечь спичку. Ветер тут же пресек эту попытку. – Вот черт! – Заткнитесь, – буркнул Марти. – Лучше бы поискали мой мяч. – Твой мяч в этом овечьем дерьме, – сказал Томми сквозь зубы, держа во рту сигару. – Это ведь была твоя идея – поехать на этот дерьмовый курорт. Всем им было за пятьдесят, все они работали менеджерами автосервиса в Ньюарке и много лет вместе ездили в отпуск – иногда с женами, иногда с подружками, но чаще втроем. – Вот и оказались в пустом доме рядом с этим чертовым вулканом, – подвел итог Ник. Марти подошел к краю лавового поля и начал вглядываться в черную поверхность, изборожденную трещинами. – Кто же знал? – бросил он. – Это самый шикарный курорт на Гавайях. Последняя игрушка Трамбо. – Ага, – усмехнулся Томми. – Большой Т уже сам не рад, что это затеял. – Хрен с ним, – сказал Марта. – Я хочу найти свой мяч. – Сделав пару шагов, он скрылся между глыбами аха размером с «фольксваген». – Да плюнь ты на него, Марти! – крикнул ему вдогонку Ник. – Уже темно. Я и своей руки не могу разглядеть. Марти вряд ли слышал его из-за воя ветра и шума прибоя. Поля для гольфа лежали к югу от пальмового оазиса в центральной части курорта, и волны разбивались о берег всего футах в сорока от них. – Эй, тут какие-то следы идут к воде! – крикнул Марти. – А вот и мой… нет, черт, это заячье дерьмо или… – Иди сюда и бей штрафной! – потребовал Томми. – Мы с Ником туда не полезем. Эта лава чертовски острая. – Точно, – подтвердил Ник Агаджанян. Теперь даже желтая кепка Марта скрылась за глыбами аха. – Упрямый болван нас не слышит, – сказал Томми. – Упрямый болван сейчас заблудится. Ветер сорвал с Ника кепку, и он пустился за ней и кое-как догнал возле тележки. Томми Петрессио скорчил гримасу: – Как можно заблудиться на поле для гольфа? Ник вернулся, отдуваясь и сжимая в руке вновь обретенную кепку. – Будь уверен, в этом овечьем дерьме заблудиться – раз плюнуть. – Он махнул клюшкой в сторону аха. Томми снова попытался зажечь спичку, и опять безуспешно. – Черт! – Я не пойду туда. Еще ногу сломаю. – Там, наверное, и змеи водятся, – предположил Томми. – На Гавайях же вроде нет змей? – Ага. Только удавы. И еще кобры… чертова уйма кобр. – Врешь. – Ты что, не видел утром в кустах этих тварей, похожих на хорьков? Марти сказал, что это мангусты. – Ну и что? Ник оглянулся. Солнце окончательно скрылось, и на бархатное небо высыпали ослепительные звезды. На северо-востоке так же зловеще мерцал кратер вулкана. – А знаешь, что едят мангусты? – Какое-нибудь дерьмо. Томми покачал головой: – Они питаются кобрами. – Пошли отсюда, – потребовал Ник. – Я вроде что-то слышал про этих хорьков. – Мангустов. Тут столько змей, что Трамбо и другие завезли мангустов для борьбы с ними. Ты вполне можешь проснуться ночью и обнаружить, что тебя обвивает удав, а кобра кусает за хер. – Врешь, – повторил Ник, но на всякий случай отступил к своей тележке. Томми сунул сигару в карман рубашки. – Пора сваливать. Все равно уже ни черта не видно. Если бы мы поехали в Майами, как собирались, могли бы всю ночь играть на освещенном поле. А вместо этого мы здесь. – Он безнадежно махнул рукой в сторону лавовых полей. – Ага, в этом змеином гнезде, – поддержал его Ник– Думаю, самое время двигать к ближайшему бару. – Точно. Если Марти не явится к утру, известим администрацию. И тут раздался крик.Халихиа ке аи (Поток изменчив)
* * *
Марти Дефрис двигался по тропинке, петляющей между глыбами аха. Он был уверен, что его мяч где-то здесь, на песке или в жесткой траве. Томми и Ник слишком трусливы, чтобы пойти за ним, но скоро он вернется и утрет им нос. У него всегда был хороший удар – натренировался в молодости, играя в Ньюарке в бейсбол. Он бы уже выиграл, если бы не этот проклятый мяч. Может, действительно лучше вернуться? В тележке у него еще есть мячи. Он повернулся к полю. Но где же это чертово поле? Со всех сторон его обступили утесы лавы. Тропинки, как две капли похожие на ту, по которой он пришел, разбегались в разные стороны. – Эй! – крикнул Марти, но ни Томми, ни Ник не откликнулись. – Эй, хватит прятаться, кретины! Марти понял, что подошел гораздо ближе к морю. Шум прибоя здесь был слышен куда лучше. Должно быть, из-за этого шума они его и не слышали. Марти пожалел, что они не поехали, как обычно, в Майами. – Эй! – крикнул он снова, но даже сам с трудом расслышал собственный голос. Глыбы лавы вокруг него вздымались футов на двадцать; их черная поверхность блестела в оранжевом свете вулкана. Туристический агент сказал им, что в южной части острова есть действующие вулканы, но он уверял, что они абсолютно безопасны. Он сказал, что многие специально едут на Большой остров, чтобы полюбоваться извержением. Гавайские вулканы не причиняют вреда никому, это просто громадные фейерверки – да, именно так он и сказал. «Так вот почему на этом чертовом курорте никого нет», – подумал Марти. Он пожалел, что не может сию же минуту добраться до обманщика-агента. – Эй! – крикнул он снова. Слева, со стороны моря, послышался какой-то звук, похожий на стон. – Ах, черт, – прошипел Марти. Конечно, кто-то из этих двух клоунов поперся его искать и сломал ногу. Марти понадеялся, что это Ник; он предпочитал играть с Томми, а провести остаток отпуска без дела было бы крайне обидно. Стон раздался снова – такой тихий, что прибой почти заглушал его. – Иду! – крикнул Марти и направился к морю, лавируя между лавовых глыб и ощупывая дорогу клюшкой. Похоже, этот идиот, кто бы он ни был, забрел далеко. Марти мог только надеяться, что не придется тащить его на себе, – и Томми, и Ник были весьма тучными. «А если это не Томми и не Ник?» – подумал он внезапно. Ему совсем не улыбалось вытаскивать отсюда какого-то незнакомца. Он не затем приехал на этот чертов остров, чтобы разыгрывать из себя доброго самаритянина. Если это окажется кто-нибудь из туземцев, он посоветует ему не волноваться и прямиком отправится в ближайший бар. Курорт почти пуст, но должен же быть кто-то, кто обязан вытаскивать отсюда пострадавших. Стон раздался ближе. Марти уже мог видеть море. Утесы лавы стали ниже, круто обрываясь вниз. Нужно быть осторожнее; не хватало еще завершить отпуск, загремев вниз головой в Тихий океан. Марти нашел тропинку и спустился к полосе прибоя. Там лежал человек – не Ник и не Томми. И человек этот был мертв. Марти сразу это понял. Кто бы ни стонал, это не мог быть этот несчастный. Подойдя ближе, Марти увидел, что это мужчина – невысокий, почти обнаженный, с узлами мышц под бледной кожей. Похоже было, что он утонул уже давно; кожа выбелилась водой, и пальцы напоминали жирных белых червей, копошащихся в песке. В длинных волосах его запутались водоросли, один глаз слепо глядел вверх, а на месте другого зияла впадина. Из открытого рта человека выполз маленький краб. Нет, он никак не мог кричать. Борясь с тошнотой, Марти подошел еще ближе. Теперь он чувствовал запах – сладкую вонь разложения, смешанную с йодистым ароматом водорослей. Труп лежал на берегу, на черном лавовом ложе, должно быть, занесенный сюда волнами. Он дотронулся до тела клюшкой, и оно легко перекатилось на бок. – Черт, – прошептал Марти. На спине у человека был горб, как у Квазимодо; кроме этого, все его тело казалось измятым и изломанным, как будто прибой долго колотил его о скалы. На горбе была замысловатая татуировка. Марти нагнулся над телом, стараясь не втягивать в себя воздух. Татуировка изображала акулью пасть, протянувшуюся по спине от одной подмышки до другой. Пасть была открыта, и ее наполняли белые острые зубы. Изображение было выполнено с поразительным искусством и казалось объемным. «Кто-то из местных», – решил Марти. Сейчас он вернется, пропустит пару стаканчиков с Томми и Ником, а потом сообщит администрации, что нашел утопленника. Спешить некуда – парню все равно уже ничем не поможешь. Марти потрогал черную поверхность татуировки клюшкой. Внезапно ее конец провалился в отверстие. Чертыхнувшись, Марти дернул клюшку на себя, но опоздал – акульи зубы сомкнулись на металле. Он потерял несколько драгоценных мгновений, пытаясь вырвать клюшку – это был подарок Ширли, его нынешней подруги, – но потом отдернул руки, будто клюшка жгла их, и повернулся, чтобы бежать. Не успел он сделать и трех шагов, как в скалах перед ним что-то зашевелилось. – Томми? – прошептал он. – Ник? – И тут увидел, что это не Томми и не Ник. В просветах лавовых глыб метались неясные тени. «Я не закричу, – подумал Марти, чувствуя, как по ногам его стекают горячие струйки мочи. – Я не закричу. Этого не может быть. Это просто какая-то дурацкая шутка, как в тот раз, когда Томми притащил на мой день рождения шлюху в полицейском мундире. Я не закричу». Приоткрыв рот, он сделал осторожный шаг назад. Акульи зубы сомкнулись на его запястье. Тут уже Марти не смог сдержать крик.Томми и Ник остановились и прислушались. Крики были настолько громкими, что заглушали вой ветра и неумолкающий грохот прибоя. Томми повернулся к Нику: – Должно быть, сломал свою чертову ногу. – Или это змея, – задумчиво предположил Ник. Его лицо в отблеске вулканического света было мертвенно-бледным. Томми извлек из кармана злополучную сигару и опять сунул ее в рот. – На Гавайях нет змей, балда. Я просто шутил. Ник метнул на него свирепый взгляд. Вздохнув, Томми направился к лавовому лабиринту. – Эй! – окликнул его Ник. – Ты что, собираешься лезть в это овечье дерьмо? – А ты что, предлагаешь бросить его? Ник на секунду задумался: – Может быть, сходить за помощью? Томми скорчил гримасу: – Ага, а он за это время куда-нибудь провалится. А мы вернемся домой и скажем Конни и Ширли, что бросили Марти умирать. То-то они нас похвалят. Ник кивнул, но не тронулся с места. – Так ты идешь? Или останешься здесь, чтобы Марти до конца дней считал тебя трусом? Ник, подумав, отошел от тележки, потом вернулся и взял клюшку. – Зачем это? – Не знаю. Может, там кто-то есть. Крики тем временем смолкли. – Конечно. Там Марти. – Я имею в виду, кто-то еще. Томми осуждающе покачал головой: – Слушай, это Гавайи, а не Нью-Йорк. Здесь не может быть никого, с кем мы не могли бы справиться. Он пошел по следам, оставленным кроссовками Марти на белом песке. Через минуту крики возобновились. На этот раз кричали двое. Поблизости не было никого, кто мог бы их услышать, и только вдалеке равнодушно мерцали огни курорта. Минуты через три все стихло, и остались только вой ветра и шум волн, накатывающихся на берег.
Глава 2
Славны дети Гавайев, Навеки с землей неразлучные, Когда близок приход Предвестника Зла вероломного, В ненасытном коварстве Извратившего сущность вещей.В Сентрал-парке шел снег. С пятьдесят второго этажа своей башни, выстроенной из стекла и бетона, Байрон Трамбо смотрел, как снег засыпает черные скелеты деревьев далеко внизу, и пытался вспомнить, когда он в последний раз гулял по парку. Очень давно. Похоже, еще до того, как заработал первый миллиард. Да, теперь он вспомнил – это было четырнадцать лет назад, когда он, двадцатичетырехлетний, явился из Индиана-полиса завоевывать Нью-Йорк. Он вспомнил, как смотрел на нависающие над парком громады небоскребов и думал, в каком из них разместит свою контору. Не так уж много времени спустя он выстроил свой собственный пятидесятичетырехэтажный небоскреб, на верхних четырех этажах которого размещались его офисы и пентхауз. Критики-архитекторы именовали башню Трамбо не иначе как «фаллическим монстром». Другие называли ее «башней Трамбо», но он постарался задвинуть это название подальше – оно слишком напоминало Дональда Трампа, которого он терпеть не мог. В итоге к зданию прилипло имя «Большой Т», как часто называли и его создателя. Трамбо нравилось это имя – оно хорошо подходило небоскребу, особенно его верхним этажам, похожим на капитанский мостик самого большого в мире корабля. Сейчас Трамбо крутил педали тренажера в своем кабинете, у стыка двух стеклянных стен, образующего как бы выступ высоко над Пятой авеню и парком. Снег валил так густо, что Трамбо с трудом мог разглядеть, что происходит внизу. Но в данный момент он не смотрел вниз. Он говорил по телефону, одновременно продолжая крутить педали. Лицо его покраснело от напряжения; хлопчатобумажная белая майка была мокрой от пота. – Что значит «еще трое туристов исчезли»? – Это значит, что они исчезли, – ответил голос Стивена Риддела Картера, менеджера курорта Мауна-Пеле на Гавайях, принадлежащего Трамбо. Голос был сонным – на Гавайях еще стояла глубокая ночь. – Черт возьми! А откуда ты знаешь, что они исчезли? Может быть, просто где-то гуляют. – Они не выходили с территории. На воротах круглосуточно дежурит человек. – Так они могут быть внутри курорта. В одной из этих – как их называют? – хале. В этих хижинах из травы. В трубке раздалось что-то похожее на легкий вздох. – Эти трое отправились вечером играть в гольф, мистер Трамбо. Когда они не вернулись к десяти, наши парни отправились на поле и нашли там их тележки. – Черт возьми, – повторил Байрон Трамбо, жестом подзывая к себе Уилла Брайента. Его первый помощник кивнул и снял вторую трубку. – Другие исчезали не на поле для гольфа, так ведь? – Да. Двух калифорниек в прошлом ноябре в последний раз видели на конной прогулке у скал с петроглифами. Семья Майерсов – родители и четырехлетняя дочь – пошла после заката погулять к бассейну и не вернулась. Повар Паликапу шел с работы через поле лавы к югу от тропы. Уилл Брайент показал шефу пятерню и еще четыре пальца на другой руке. – Итого, теперь их девять. – Простите, мистер Трамбо? – Ладно, Стив. Проехали. Слушай, ты должен хранить это в тайне хотя бы пару дней. – Пару дней? Мистер Трамбо, это невозможно. Репортеры все узнают от полиции, а она будет здесь, как только я позвоню. – Не звони. – Трамбо перестал крутить педали. В трубке замолчали. Потом жалобный голос сказал: – Это противозаконно, сэр. Байрон Трамбо, прикрывая трубку рукой, повернулся к Уиллу Брайенту: – Кто взял на работу этого мудака? – Вы сами, сэр. – Я взял, я и уволю. – Он убрал ладонь с трубки. – Стив, ты здесь? – Да, сэр. – Ты знаешь, что завтра у меня в Сан-Франциско встреча с командой Сато? – Да, сэр. – Ты знаешь, как важно для меня избавиться от этого чертова курорта, прежде чем мы потеряем большую часть вложенных в него денег? – Да, сэр. – Ты знаешь, как глупы Хироси Сато и его инвесторы? Картер промолчал. – В восьмидесятых эти парни потеряли половину своих денег, скупая недвижимость в Лос-Анджелесе, а теперь готовы потерять вторую половину, вложив ее в Мауна-Пеле и другие убыточные проекты на Гавайях. Поэтому, Стив… Эй, Стив? – Да, сэр. – Они глупцы, но не глухие и не слепые. Со времени последнего исчезновения прошло уже три месяца, и они, похоже, решили, что все кончилось. Особенно когда арестовали этого гавайского сепаратиста… как бишь его? – Джимми Кахекили, – сказал Картер. – Но он все еще в тюрьме в Хило, так что он не мог… – Мне плевать, мог он или нет. Главное, чтобы япошки не подумали, что убийца все еще бродит по острову. Они трусливы, как цыплята. Их туристы боятся ездить в Нью-Йорк, в Эл-Эй, в Майами и во все места Штатов, кроме Гавайев. Почему-то они думают, что раз они владеют половиной островов, то там безопаснее. В любом случае я хочу, чтобы Сато и его люди считали, что убийца – этот Джимми. Хотя бы дня три или четыре, пока не закончатся переговоры. Неужели я прошу слишком много? В трубке молчали. – Стив? – Мистер Трамбо, – сказал усталый голос, – вы знаете, как трудно было удержать здесь служащих после прошлых исчезновений? Людей приходилось возить на автобусе из Хило, а теперь, с этим извержением… – А разве туда ездят не из-за извержений? Так где же эти чертовы туристы теперь, когда извержение в разгаре? – …шоссе номер одиннадцать отрезано, и мы вынуждены нанимать временных рабочих в Ваймеа, – закончил Картер. – Те, кто нашел тележки, уже рассказали об этом своим близким. Даже если я нарушу закон и не сообщу властям, сохранить это в тайне не удастся. Кроме того, у этих пропавших есть семьи, друзья… Трамбо так сжал руль тренажера, что побелели костяшки пальцев. – На какой срок у этих мудаков… у этих пропавших были путевки? Пауза. – На семь дней, сэр. – А как давно они приехали? – Днем, сэр… вчера я имею в виду. – Значит, их ждут назад только через шесть дней? – Да, сэр, но… – А мне нужны только три дня, Стив. – Мистер Трамбо, я могу обещать вам только двадцать четыре часа. Мы можем представить это как внутреннее расследование. Но потом придется иметь дело с ФБР. Они и так остались недовольны нашим поведением после предыдущих исчезновений. Думаю, что… – Подожди минуту. – Трамбо отключил микрофон и повернулся к Брайенту: – Ну что? Его помощник отключил свой микрофон: – Думаю, он прав, мистер Т. Копы все равно об этом пронюхают, и если нас заподозрят в том, что мы что-то скрываем, будет еще хуже. Байрон Трамбо кивнул и опять посмотрел на парк. Снег падал на лужайки траурным крепом. Пруд превратился в белый лист бумаги. Он поднял голову и улыбнулся: – Какой у нас график на ближайшие дни? Брайенту не нужно было заглядывать в бумаги, чтобы ответить: – Сегодня вечером команда Сато приземлится в Сан-Франциско. На завтрашний день у вас запланировано начало переговоров с ними в нашем западном офисе. Если вы придете к соглашению, Сато хотел отвезти своих инвесторов в Мауна-Пеле и пару дней поиграть там в гольф. Улыбка Трамбо стала шире. – Значит, сейчас они еще в Токио? Брайент взглянул на часы: – Да, сэр. – Кто там с ними? Бобби? – Конечно, сэр. Бобби Танака говорит по-японски и отлично ладит с такими деятелями, как Сато. – Тогда мы сделаем вот что. Позвони сейчас Бобби и скажи, что встреча переносится на Мауна-Пеле. Пускай играют в гольф одновременно с переговорами. Уилл проверил свой галстук. В отличие от босса, который надевал костюм чрезвычайно редко, он относился к одежде весьма серьезно и сейчас был в бизнес-двойке от Армани. – Кажется, я понимаю ваш… – Еще бы! – Трамбо ухмыльнулся. – Где можно контролировать события лучше, чем там, где они происходят? – Но японцы терпеть не могут изменений в графике. Трамбо соскочил с тренажера и начал мерить комнату шагами, на ходу стирая полотенцем пот со лба. – Черт с ними! Кстати, вулканы… они сейчас действуют? – Оба сразу, сэр. Такого не было уже несколько… – Вот именно, – прервал Трамбо. – И такого может уже никогда не случиться за всю их жизнь, правда? – Он включил микрофон. – Стив, ты еще здесь? – Да, сэр, – опять сказал Стивен Риделл Картер, который был на пятнадцать лет старше Байрона Трамбо. – Значит, ты даешь нам двадцать четыре часа. Начинай внутреннее расследование, переверни все вверх дном, делай все, что считаешь нужным. Потом можешь сообщать копам. Но дай нам твердых двадцать четыре часа до того, как все это дерьмо полезет наружу. Ладно? – Да, сэр. – Голос менеджера никак нельзя было назвать радостным. – И подготовь президентский номер и мою личную хижину. Я прилечу вечером, и примерно в то же время прибудет команда Сато. – Сюда? – встрепенулся Картер. – Да, Стив, и если ты хочешь получить свой процент от сделки, сделай, чтобы все было тихо-мирно, пока мы любуемся вулканом и обсуждаем наши дела. Когда юристы поставят последнюю точку, можно будет оставить япошек наедине с этим психом. Но никак не раньше, ты понял? – Да, сэр, но здесь всего пара дюжин гостей. Сато и его люди могут заметить, что пятьсот комнат пустуют. – Скажем, что очистили курорт к их приезду, – нашелся Трамбо. – Скажем, что не могли упустить шанс полюбоваться этим чертовым вулканом. Плевать, что мы им скажем, главное – продать Мауна-Пеле как можно быстрее. Поэтому делай то, что я тебе сейчас сказал. – Да, сэр, только… Трамбо повесил трубку. – Ладно. Давай вертолет на крышу через двадцать минут. Позвони на аэродром, пускай готовят «Гольфстрим» к вылету. Позвони Бобби и скажи, что он должен подготовить группу Сато. Еще позвони Майе… нет, ей я сам позвоню, а ты позвони Бики и скажи, что я уезжаю на пару дней. Только не говори куда. Пошли второй «Гольфстрим» отвезти ее в дом на Антигуа и передай, что я прилечу, как только покончу с делами. И еще… где Кейт, черт бы ее побрал? – Она в Нью-Йорке, сэр. Ходит по адвокатам. Трамбо фыркнул. Он вышел в отделанную мрамором ванную рядом с кабинетом и включил душ. Стеклянная стена ванной тоже смотрела на парк, и если бы не головокружительная высота, все прохожие могли бы сейчас наблюдать голого миллиардера. – Черт с ней и с ее юристами. Позаботься, чтобы она не разнюхала, где я и где Майя. Уилл кивнул и вошел в ванную вслед за боссом. – Мистер Т, вулкан и правда ведет себя странно. – Что? – Я говорю, вулкан ведет себя чертовски странно. Доктор Гастингс утверждает, что такой сейсмической активности на юго-западном разломе не было с двадцатых годов… а может быть, и раньше. Трамбо, пожав плечами, полез под душ. – Я надеялся, что это поможет нам привлечь туристов! – крикнул он сквозь шум воды. – Да, сэр, но… Трамбо не слушал: – Поговорю об этом сГастингсом. А ты позвони Бики и вели Джесону приготовить мой гавайский чемодан. Да, еще передай Бриггсу, что со мной полетит только он. Незачем пугать япошек количеством охраны. – Может, это и разумно, но… – Давай шевелись. – Байрон Трамбо облокотился на стеклянную стену, глядя на заснеженный парк внизу. – Мы продадим этого чертова белого слона япошкам, таким же тупым, как те, что посоветовали Хирохито бомбить Перл-Харбор. Продадим и на эти деньги начнем новое дело. – Вода блестела на его толстых губах, как слюна жадности. – Шевелись, Уилл. Уилл Брайент начал шевелиться.Мэле'Аи Похаку (Песня Пожирателя Камней)
Глава 3
Я всегда хотел навеки остаться здесь, вдали от всего, на одной из этих гор на Сандвичевых островах, высоко над морем…Однажды, когда ее спросили, почему она не летает на самолетах, тетя Бини – тогда ей было семьдесят два года, а теперь девяносто шесть, и она все еще жива, – взяла книгу по истории работорговли и показала своей племяннице Элинор картинку – рабов, стиснутых между палубами в пространстве высотой не больше трех футов. – Смотри, как они лежат здесь, не в силах двинуться, все в грязи и нечистотах, – сказала тетя Бини, указывая на картинку своей костлявой рукой в старческих веснушках, рукой, почему-то всегда напоминавшей Элинор сухой корм для кошек. Тогда, двадцать четыре года назад, двадцатилетняя Элинор, только что окончившая колледж в Оберлине, где теперь преподавала, поглядела на изображение несчастных африканцев, сморщила нос и сказала: – Вижу, тетя Бини. Но как это связано с тем, что вы не хотите лететь во Флориду к дяде Леонарду? Тетя Бини покачала головой: – Знаешь, зачем этих бедных негров клали так тесно, как тюки с хлопком, хотя половина из них умирала в пути? Элинор опять сморщила нос при слове «негры». Тогда, в 1970-м, еще не было термина «политически корректный», но говорить «негры» уже считалось ужасно некорректным. Конечно, тетя Бини была на удивление чужда предрассудков, но ее язык выдавал тот факт, что родилась она еще в прошлом веке. – И зачем же их так клали? – Из-за денег. – Тетя сердито захлопнула книгу. – Из-за прибыли! Если они запихивали в трюмы шестьсот негров и триста из них умирали, они все же получали больше, чем если привозили четыреста и теряли из них сто пятьдесят. – Все равно не понимаю… – Тут Элинор поняла. – Но, тетя Бини, в самолетах же не так тесно! Старуха в ответ только подняла бровь. – Ну ладно, там тесно, – согласилась Элинор. – Но на самолете до Флориды всего несколько часов, и если кузен Дик встретит и проводит вас на машине, вся дорога займет не больше трех дней… Она запнулась на полуслове, когда тетя Бини снова показала ей картинку с рабами, словно говоря: «Думаешь, они так спешили попасть туда, куда их везли?» Теперь, двадцать четыре года спустя, Элинор летела на высоте двадцати пяти тысяч футов, зажатая между двумя толстяками в соседних креслах, слушала гул голосов трехсот пассажиров и думала о том, что тетя Бини опять оказалась права. Как ты летишь, так же важно, как и то, куда летишь. Но только не в этот раз. Элинор со вздохом достала из-под сиденья дорожную сумку и, порывшись в ней, извлекла дневник тети Киддер в кожаном переплете. Толстяк справа астматически засопел во сне и навалился потным плечом на руку Элинор, заставив ее отодвинуться к толстяку слева. Она не глядя открыла дневник на нужной странице – так знаком он стал за последнее время ее пальцам.Марк Твен
3 июня 1866 г., на борту «Бумеранга» Все еще в сомнениях относительно этой незапланированной поездки на Гавайи и еще больше – относительно перспективы провести скучную неделю в миссии мистера и миссис Лаймен в Гонолулу, я тем не менее дала вчера убедить себя, что это мой единственный в жизни шанс увидеть действующий вулкан, и тут же оказалась на корабле. С берега мне махали все те, кто наполнял предыдущие две недели таким весельем и смыслом. Что до нашей группы, то в нее входят старая мисс Лаймен, ее племянник Томас и няня, мисс Адамс, мистер Грегори Вендт, о котором я уже писала и который блистал на танцах в Гонолулу, напоминая пингвина в сюртуке, мисс Драйтон из сиротского приюта, преподобный Хеймарк (не тот красивый молодой священник, о котором я писала раньше, а монументальный старик, так громко чихающий и сморкающийся при каждом удобном случае, что я с удовольствием оставалась бы в своей каюте, если бы не тараканы) и вульгарный молодой журналист из сакраментской газеты, о котором я была бы рада вовсе не писать. Имя этого джентльмена – мистер Сэмюэл Клеменс, но он говорит, что наиболее серьезные свои статьи (как будто такому субъекту могут доверить что-то серьезное!) он подписывает «остроумным», по его мнению, псевдонимом «Томас Джефферсон Снодграсс». Помимо вульгарности и непомерного тщеславия, заставляющего его гордиться тем, что он оказался единственным журналистом на Сандвичевых островах две недели назад, когда там высадились спасшиеся пассажиры злосчастного клипера «Хорнет», мистер Клеменс еще незаурядный нахал и грубиян. Дурные манеры сочетаются у него с постоянными потугами на остроумие, но большинство его шуток выглядит так же жалко, как его усики. Сегодня, когда мистер Клеменс во время отплытия «Бумеранга» расписывал миссис Лаймен и другим сенсации, которые ему поведали пассажиры «Хорнета», я решилась задать ему несколько вопросов, основываясь на сведениях, полученных от миссис Эллуайт, супруги преподобного Патрика Эллуайта, который утешал этих несчастных в госпитале Гонолулу. – Мистер Клеменс, – спросила я, изображая восхищенную слушательницу, – так вы говорите, что беседовали с капитаном Митчеллом и другими спасшимися? – Да, конечно, мисс Стюарт, – сказал рыжеволосый журналист, не подозревая подвоха. – Мой долг и профессиональная обязанность – первым узнавать подробности. Он откусил кончик сигары и выплюнул его за борт, словно находился в каком-нибудь салуне. Мисс Лаймен поморщилась, но я сделала вид, что ничего не замечаю. – Тогда это обстоятельство должно помочь вашей карьере, мистер Клеменс. – Ну, мисс Стюарт, по крайней мере я надеюсь стать благодаря этому самым известным честным человеком на Западном побережье. – Улыбка его была совершенно мальчишеской, хотя, по моим данным, ему никак не меньше тридцати лет. – Да, мистер Клеменс, – подхватила я, – вам повезло, что вы оказались в госпитале, когда туда привезли капитана Митчелла и других. Ведь вы встречались с ними в госпитале, не так ли? Журналист выпустил клуб дыма и закашлялся, совершенно явно затрудняясь ответить. – Вы были в госпитале, мистер Клеменс? Он снова закашлялся. – Да, мисс Стюарт, интервью взято в госпитале, когда капитан Митчелл находился там на излечении. – Но вы сами там были, мистер Клеменс? – Мой голос стал более настойчивым. – Ну… знаете ли… нет, – выдавил из себя рыжеволосый борзописец. – Я послал вопросы через своего друга, мистера Энсона Берлингема. – Да-да! – воскликнула я. – Мистер Берлингем, наш новый посол в Китае! Я видела его на балу в миссии. Но скажите, мистер Клеменс, как журналист такого таланта и опытности мог доверить столь важное дело посреднику? Что помешало вам лично посетить капитана Митчелла и его спутников, которые едва не стали каннибалами? Эта моя фраза подсказала мистеру Клеменсу, что он имеет дело с лицом информированным, и он явно занервничал под взглядами нашей маленькой группы. – Я… Я был недееспособен, мисс Стюарт. – Надеюсь, не больны? – спросила я, будучи прекрасно осведомлена о причине, заставившей его прибегнуть к помощи мистера Берлингема. – Нет, не болен. – Мистер Клеменс обнажил зубы в улыбке. – Просто в предыдущие дни я слишком много ездил на лошади. Я закрылась веером, как пансионерка на первом балу. – Вы имеете в виду… – Да, я имею в виду мозоли от седла, – заявил он с дикарским торжеством. – Размером с серебряный доллар. Я не мог ходить почти неделю и вряд ли еще когда-нибудь в жизни сяду на спину какому-нибудь четвероногому. Хотел бы я, мисс Стюарт, чтобы на Оаху существовали языческие обряды с жертвоприношением лошади и чтобы на ближайшем из них в жертву принесли именно ту клячу, что причинила мне такие страдания. Мисс Лаймен, ее племянник, мисс Адамс и другие не знали, что и ответить на подобную тираду, пока я продолжала томно обмахиваться веером. – Что ж, спасибо мистеру Берлингему, – сказала я. – Будет только справедливо, если он тоже прослывет знаменитостью среди честных людей Западного побережья. Мистер Клеменс глубоко затянулся сигарой. Ветер крепчал по мере того, как мы уходили в открытое море. – Мистера Берлингема ждет карьера в Китае, мисс Стюарт. – Трудно судить, какая кого ждет карьера, – сказала я. – Можно только увидеть, делается она собственными силами или за счет других. После этих слов я пошла пить чай с мисс Лаймен.Закрыв дневник, Элинор Перри обнаружила, что на нее с любопытством смотрит толстяк слева. – Интересная книжка? – осведомился он, улыбаясь неискренней улыбкой коммивояжера. Он был лет на пять старше Элинор. – Интересная. – Элинор сунула дневник в сумку и ногой затолкала ее в узенький отсек под сиденьем. «Настоящий невольничий корабль». – На Гавайи? – опять спросил коммивояжер. Самолет летел без остановок от Сан-Франциско до аэропорта Кеахоле-Кона, поэтому Элинор не стала отвечать на этот вопрос. – Я из Ивенстона. Похоже, я летел с вами из Чикаго в Сан-Фран. «Сан-Фран»! Элинор ощутила приступ тошноты, не имеющей отношения к пребыванию в воздухе. – Да, – коротко сказала она. Ничуть не смутившись, коммивояжер продолжал: – Я торгую электроникой. В основном всякие игры. Я и еще двое парней из Среднезападного филиала получили эту поездку в поощрение. Едем в Вайколоа, где можно плавать рядом с дельфинами. Без шуток. Элинор кивнула, хотя сомневалась, доставит ли дельфинам удовольствие такое общество. – Я не женат. Если честно, разведен. Потому и еду один. Те двое поехали с семьями, но холостым компания дает только один билет. – Толстяк печально улыбнулся. – Вот так вот и лечу. Элинор тоже улыбнулась, ожидая, что следующим вопросом будет: почему она летит на Гавайи одна? – Вы на какой курорт едете? – Все же электронщик не решился это спросить. – Мауна-Пеле, – ответила Элинор. На маленьком телеэкране в пяти рядах от нее Том Хэнкс рассказывал что-то смешное жующим пассажирам. Электронщик присвистнул: – Ух ты! Это ведь самый дорогой курорт на Большом острове, так? Дороже Мауна-Лани и даже Мауна-Кеа. – Я и не знала. Это было не совсем так. Еще в Оберлине, когда она покупала путевку, дама из турагентства пыталась убедить ее, что другие курорты не хуже и намного дешевле. Конечно, она не упомянула про убийства, но сделала все, чтобы отговорить Элинор ехать в Мауна-Пеле. Когда Элинор все же настояла, от названной суммы у нее перехватило дыхание. – Этот Мауна-Пеле, говорят, построен специально для миллионеров, – продолжал делиться информацией электронщик. – Про это что-то говорили по ящику. Вы, должно быть, долго копили на эту поездку. – Он ухмыльнулся. – Или ваш муж очень неплохо зарабатывает. – Я преподаю. – Правда? И в каком классе? Вы похожи на мою учительницу из третьего класса. – Нет. Я работаю в Оберлине. – А где это? – Это колледж в Огайо. – Интересно, – промямлил электронщик голосом, из которого начисто пропал интерес– И что же вы преподаете? – Историю. В основном историю культуры восемнадцатого века. Просвещение, если говорить более точно. – М-м-м, – неопределенно заметил толстяк, уже сообразив, что ловить здесь нечего. – Так вот, Мауна-Пеле… его вроде бы недавно выстроили. Это дальше на юг, чем все другие курорты. Он явно пытался вспомнить все, что слышал про Мауна-Пеле. – Да, – подтвердила Элинор. – На берегу Южной Коны. – Убийства! – воскликнул вдруг электронщик, подняв кверху палец. – Там сразу же после открытия начались какие-то убийства. – Я ничего об этом не знаю. – Элинор стоило большого труда не выдать себя. – Точно вам говорю! Там пропала целая куча народу. Этот курорт построил Байрон Трамбо, Большой Т. Потом там арестовали какого-то чокнутого гавайца. Элинор вежливо улыбнулась, изучая объявления на спинке кресла. Том Хэнкс на экране отпустил очередную остроту, и пассажиры в наушниках захихикали, продолжая жевать. – Не знаю, как после всего этого можно туда… – начал электронщик, но его прервал голос из репродуктора. – Леди и джентльмены, прослушайте сообщение. Мы уже начали снижаться, когда из Гонолулу поступила информация, что все рейсы переведены из Коны в Хило на восточном побережье. Причина этого та же, по которой многие приезжают на Гавайи, а именно активность двух находящихся на южном берегу вулканов – Мауна-Лоа и Килауэа. Это совершенно безопасно… извержения не угрожают населенным пунктам, но в воздух поднялось много вулканической пыли. Повторяем, никакой опасности нет, но правила предусматривают в таких случаях посадку в другом районе. Поэтому мы приземлимся в международном аэропорту Хило в самом центре острова. Просим у вас извинения за вынужденные неудобства. Вам предоставляется возможность за счет компании добраться до берега Коны другими транспортными средствами. Еще раз примите наши извинения и, когда мы будем снижаться, обратите внимание на дело рук мадам Пеле. О любых изменениях в графике мы сообщим вам дополнительно. Махало! Воцарилось молчание, тут же сменившееся недовольным ропотом пассажиров. Толстяк справа проснулся и начал ругаться себе под нос. Сосед слева вроде бы не слишком расстроился. – Что такое «махало»? – спросил он. – «Спасибо». Он удовлетворенно кивнул: – Что ж, я все равно буду в Вайколоа вечером или завтра утром. Какое значение имеют лишние сто миль, когда едешь в рай! Элинор не отвечала. Она пододвинула к себе сумку и достала карту Большого острова, купленную еще в Оберлине. Вокруг острова шло только одно шоссе. На севере от Хило оно было обозначено номером 19, а на юге – 21. В любую сторону до Мауна-Пеле не меньше ста миль. – Черт, – пробормотала она. Электронщик не расслышал: – Вот и я говорю. Все равно ведь это Гавайи, верно? «Боинг-747» пошел на снижение.
Глава 4
…Только семь из тридцати двух извержений Мауна-Лоа с 1832 года произошли в юго-западной зоне разлома, и только в двух случаях толчки были там, где ожидалось.– С чего ты взял, что мы не можем сесть в Коне? – Байрон Трамбо был взбешен. Двадцать минут назад его «Гольфстрим-4» обогнал нагруженный пассажирами «Боинг-747» Элинор Перри и направился к югу от Мауи, готовясь совершить последний поворот на запад Большого острова. – Что за дерьмо? Я платил за модернизацию этого чертова аэропорта, а теперь они не желают меня пускать? Второй пилот кивнул. Откинувшись на спинку коричневого кожаного кресла, он смотрел на Трамбо, с остервенением крутящего педали тренажера. Мягкий закатный свет освещал коренастую фигуру миллиардера в майке, шортах и длинных спортивных носках. – Передай им, что мы садимся. Трамбо тяжело дышал, но этот звук заглушался рокотом моторов «Гольфстрима». Пилот покачал головой: – Нельзя, мистер Т. Ветер относит тучки пепла прямо к аэропорту Кеахоле. Правила не позволяют… – К черту правила, – сказал Байрон Трамбо. – Я должен быть там до прилета Сато… черт, это ведь значит, что самолет Сато из Токио тоже завернут? – Совершенно верно. – Пилот пригладил ладонью волосы. – Мы сядем в Кеахоле-Кона. И самолет Сато тоже. Сообщи в аэропорт. Пилот вздохнул: – Мы можем послать в Хило вертолет… – К черту вертолет! Если команда Сато прилетит в Хило и полетит потом в Мауна-Пеле на вертолете, они могут решить, что это полная зажопина. – Ну, – начал пилот, – он действительно… Трамбо перестал крутить педали. Его широкие, хоть и начавшие заплывать жирком, плечи напряглись: – Ты будешь звонить в аэропорт или мне это сделать? Уилл Брайент поднес ему телефонную трубку. «Гольфстрим» был оборудован системой связи, которой могли бы позавидовать ВВС. – Мистер Т, у меня идея получше. Я позвонил губернатору. Трамбо колебался всего пару секунд. – Отлично, – буркнул он и взял трубку, жестом отсылая пилота к его обязанностям, – Алло, Джонни, это Байрон Трамбо… да-да, я рад, что тебе понравилось. Мы это повторим, когда в следующий раз будешь в Нью-Йорке… Да, слушай, Джонни, у меня тут небольшая проблема. Я звоню с самолета… Да… Мы только собирались сесть в Кеахоле, как началась какая-то херня насчет извержения. Да, говорят лететь в Хило… Уилл Брайент присел на обитую кожей лавку, глядя, как его босс закатывает глаза и барабанит по столу, на котором еще стояли тарелки с остатками ужина. Из кухни появилась Мелисса, совмещавшая функции стюардессы и уборщицы, и начала собирать посуду. – Да-да, понимаю, – подал голос Трамбо и опустился в кресло перед иллюминатором, из которого открывался вид на Мауна-Кеа с блестящей на его склоне линзой обсерватории. – Но пойми и ты, Джонни, у меня сегодня вечером встреча с командой Сато, и если эти чертовы… извини. Так вот, если пустить их в обход, они могут решить, что так здесь всегда… Да. Понятно. – Трамбо опять закатил глаза. – Нет, Джонни, речь идет о восьмистах миллионах долларах вложений в этот район. Они планируют построить новые поля для гольфа и проложить к ним дороги… да, верно. У них членство в клубе – дорогое удовольствие, и выгоднее будет возить игроков сюда. Трамбо поднял голову, когда самолет миновал Мауна-Кеа, и его взгляд уперся в огромные дымные столбы, поднимающиеся от вершин Мауна-Лоа и Килауэа. Сильный ветер тянул пепельный шлейф к западу, заволакивая весь берег пеленой смога. – Вот черт! Извини, Джонни, это я не о том… просто мы облетели Мауна-Кеа и увидели эту хреновину. Да… впечатляет… но все равно я сяду в Кеахоле, и самолет Сато тоже. Да, я знаю про правила, но знаю и то, что вложил деньги в Кеахоле раньше, чем построил взлетную полосу у себя… из уважения к тебе. И еще знаю, что принес островам больше денег, чем кто-либо другой после Лоуренса Рокфеллера. Да… Джонни, я же не прошу отменить налог или что-то в этом роде. Я хочу только сесть здесь, провести переговоры и продать Мауна-Пеле за любые деньги. Иначе через пару лет там все зарастет травой, и жить там будут только чертовы хиппи и всякая наркота. Трамбо отвернулся от окна и пару минут внимательно слушал. Потом поглядел на Уилла Брайента и широко улыбнулся: – Да, спасибо, Джонни. Да, обещаю… увидишь, что мы устроим, когда пожалует Шварценеггер… Да, еще раз спасибо. Он положил трубку и отдал телефон Уиллу: – Скажи парням, пусть сделают несколько кругов, пока губернатор звонит этим мудакам в Гонолулу. Брайент кивнул, задумчиво глядя на дымные шлейфы: – Вы думаете, это безопасно? Трамбо фыркнул: – Безопасно только то, что не требует никаких усилий. Позвони-ка Гастингсу. – Он, должно быть, дежурит в вулканической обсерватории. – Достань его, даже если он сейчас дрючит свою старуху. – Трамбо достал из маленького холодильника под столом яблоко и вгрызся в него зубами. – Мне нужен Гастингс.Из официального бюллетеня, декабрь 1987 года
«Гольфстрим» кружил над побережьем Кохалы на высоте 23 тысячи футов, держась к северу от дымного облака, выползающего из кратера Мауна-Лоа. Солнце уже садилось, и западный край неба горел тусклым от пыли пожаром оранжево-красных оттенков. Когда самолет разворачивался на южном краю петли, Трамбо смог разглядеть сквозь дым само извержение – столб оранжевого пламени, взметнувшийся на тысячу футов над тринадцатью тысячами футов вулкана. Дальше к югу другой огненный столб извещал об извержении Килауэа. Пар от стекающей в океан лавы поднимался выше облаков, достигая высоты 30 тысяч футов. – Черт, все отели на острове наверняка переполнены теми, кто хочет на это посмотреть, а у нас пятьсот пустых комнат! Из кабины появился Уилл Брайент. – Звонили из аэропорта. Мы можем сесть через десять минут. Я нашел доктора Гастингса. – Он протянул Трамбо телефон. Миллиардер поставил аппарат в специальное углубление на ручке кресла: – Это хорошо, Уилл… Доктор Гастингс? – Мистер Трамбо? Вулканолог был старым, связь – плохой, и голос звучал, будто из какой-то отдаленной эпохи. – Да, это я. Со мной мой помощник, Уилл Брайент. Мы садимся в Кеахоле. В трубке какое-то время помолчали. – Но я думал, что аэропорт Кеахоле… – Он только что открылся снова, док. Я хотел бы узнать у вас кое-что об этом извержении. – Да, конечно, мистер Трамбо, я буду рад обсудить с вами это, но боюсь, что сейчас я очень занят и… – Понимаю, док, но загляните в наш контракт. Кстати, он заключен раньше, чем вас взяли на работу в эту обсерваторию, и мы платим вам больше, чем они. Если бы я захотел, я мог бы заставить вас слезть на Мауна-Пеле и отвечать там на вопросы туристов. Доктор промолчал. – Но я этого не хочу. Я даже не прерываю ваших занятий чистой наукой с этими вулканами. Но у нас тут небольшое дельце на шестьсот миллионов долларов, и нам требуется ваша помощь. – Хорошо, мистер Трамбо. – Вот так-то лучше. Итак, док, мы хотим знать, что здесь произошло. Среди потрескивания в трубке раздалось что-то вроде вздоха. – Ну, конечно, вы слышали об увеличении активности Моку-Авеовео в направлении юго-западного разлома и об извержении Оо-Купаианаха… – Полегче, док. Я знаю Мауна-Лоа и Килауэа. Про эти Моку-Поку и Оо-как-там-его в первый раз слышу. На этот раз вздох был явственно слышен. – Мистер Трамбо, это все было в моем отчете за прошлый год. – Перескажите-ка мне коротко. – Тон Байрона Трамбо не допускал возражений. – Извержение Килауэа к делу не относится. Что касается Оо-Купаианаха, то там происходит самый большой выброс лавы после тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года. Лава также выходит из Пуу-Оо и Хале-Маумау – это части вулканического комплекса Килауэа, – но она течет на юго-восток и непосредственно не угрожает курорту. Моку-Авеовео является центральной кальдерой Мауна-Лоа. – Скрипучий голос Гастингса становился все более увлеченным. – Извержение началось три дня назад, и изливающаяся лава быстро растеклась по старым трещинам и лавовым трубкам… – Погодите. – Трамбо поглядел в окно. – Это та огненная сеть, которая сейчас покрывает склон? – Совершенно верно. Нынешнее извержение почти повторяет сценарий тысяча девятьсот семьдесят пятого и тысяча девятьсот восемьдесят четвертого годов – лава выходит из Моку-Авеовео и распространяется по трещинам. Только в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом основной поток шел на северо-восток, а сейчас – на юго-запад… – Подождите, – перебил Трамбо. – Выходит, он идет прямиком к моему курорту? – Да, – коротко сказал Гастингс. – Это значит, что шестьсот миллионов долларов моих вложений, не говоря уже обо мне самом и япошках, окажутся через пару дней похороненными под слоем лавы? – Вряд ли. Дело в том, что выбросы лавы находятся на высоте семь тысяч футов. Трамбо опять поглядел в окно: – А кажется, что они возле самого моря. – Это только кажется, – сухо ответил вулканолог. – «Огненная сеть», как вы это назвали, распространяется на тридцать километров… – Двадцать миль! – воскликнул Трамбо. – Да, но лавовый поток, по нашим расчетам, обходит курорт с юга и должен выйти к океану в ненаселенном районе Кау к западу от Южного мыса. – А ваши расчеты надежны? Над Трамбо замигал сигнал «Пристегните ремни!», но он не обратил на него внимания. – Не на сто процентов, мистер Трамбо. Но крайне маловероятно, чтобы лавовый поток одновременно шел на восток и на запад. – Маловероятно? Что ж, это утешает. – Да. – Казалось, Гастингс не заметил сарказма в голосе миллиардера. – Доктор Гастингс, – вмешался Уилл Брайент, – помнится, в прошлогоднем отчете вы утверждали, что курорту больше угрожают штормы, чем извержения. – Совершенно верно. – В голосе ученого появилась гордость человека, чьи труды пользуются известностью. – Я писал, что район строительства… ну, теперь уже курорт… находится на юго-западном склоне Mayна-Лоа, выступающем в океан. Такие участки называют подвижными, так как в них велика вероятность тектонических сдвигов… – Я понимаю это так, что в один прекрасный день весь кусок берега вместе с моим курортом может сползти в океан? – Ну, вообще-то да. Но лично я так не считаю. Трамбо закатил глаза и откинулся в кресле. «Гольфстрим» шел на снижение, и мимо иллюминаторов проплывали струйки дыма. – А как считаете вы, док? – спросил он. – Я считаю… это также отражено в моем отчете… что даже минимальный тектонический сдвиг в этом районе может вызвать цунами. – Это такая большая волна, – шепнул Уилл Брайент. – Я знаю, что такое это чертово цунами, – огрызнулся Трамбо. – Простите? – Ничего, док. Продолжайте, а то мы скоро сядем. – Продолжать почти нечего. В тысяча девятьсот пятьдесят первом в районе, где сейчас находится Мауна-Пеле, произошло шестибалльное землетрясение. С тех пор там имели место больше тысячи вулканических явлений, к счастью, небольших… до последнего извержения. – Я понял, док. – Трамбо затянул ремень, когда «Гольфстрим» вошел в плотное облако вулканического пепла. – Если Мауна-Пеле не будет похоронен под лавой, его смоет цунами или он сам сползет в море. Спасибо, док. – Он бросил трубку. – Интересно, почему самолетам запрещают садиться в этом облаке? Брайент поднял голову от контракта: – В этих облаках встречаются камни, которые могут попасть в мотор самолета. Байрон Трамбо усмехнулся: – Хороший ответ. – Он повернулся к окну, за которым было черным-черно. Уилл поднял бровь. Уже не в первый раз он не понял шутки своего босса. – Ладно, – сказал наконец Трамбо. – Может быть, нам повезет, если мы сейчас грохнемся. Или если грохнутся япошки. Если этот чертов Сато не купит курорт, мы пожалеем, что не умерли. Уилл Брайент промолчал. – Удивляюсь я людям, Уилл. – Вы о чем, босс? Трамбо кивнул на черную пелену за окном: – Тысячи людей платят бешеные деньги, чтобы поглядеть на это, рискуя быть похороненными под слоем лавы… но стоит появиться какому-то несчастному убийце, стоит всего шести человекам пропасть, как все кидаются наутек. Странно, правда? – Девяти. – Что ты сказал? – Пропали девять человек. Не забывайте про этих троих вчера. Трамбо что-то буркнул и опять повернулся к окну. По фюзеляжу что-то забарабанило – как будто дети кидали камнями в медный бак. «Гольфстрим» продолжал снижаться.
Глава 5
У женщины и мужчины – разная суть. Женщина будет прекрасна, мужчина смел, Мужчина – тот, кто родился в первичной тьме, Женщина – та, что искала сквозь тьму путь.Элинор сверила карту, висевшую на стене агентства по прокату машин, с собственной дорожной картой. – Что, значит, я не могу отсюда попасть туда? Стройная блондинка за стойкой покачала головой: – Боюсь, что нет. Дорога на юг перекрыта. Лавовые потоки вторглись на шоссе номер одиннадцать вот здесь. – Женщина ткнула пальцем в черную ленточку, змеящуюся по южному краю острова. – Сразу за Национальным вулканическим парком. – Так это… в сорока милях отсюда? – Да. – Блондинка промокнула пот на лбу. – Но шоссе девятнадцать пока открыто. – Оно, кажется, ведет на север? До Ваймеа… или Камуэла? На картах я встречала оба названия. Блондинка пожала плечами: – Почта идет в Камуэлу, но все здесь зовут его Ваймеа. – Значит, до Ваймеа, – Элинор проследила путь пальцем, – к берегу Кохала и дальше на юг к Коне… – Там шоссе одиннадцать переходит в шоссе девятнадцать, – уточнила женщина. Жвачка, которую она жевала, пахла стертыми покрышками. – И оттуда уже недалеко до Мауна-Пеле, – закончила Элинор. – Кажется, сто двадцать миль? Женщина опять пожала плечами: – Где-то так. Вы уверены, что хотите ехать? Уже темнеет. Другие туристы остались на ночь в Хило, а утром их заберут автобусы с их курортов. Элинор нахмурилась: – Да, мне тоже предлагали, но я решила ехать. – Уже темнеет, – повторила женщина таким тоном, будто после захода солнца по Большому острову бродили привидения. – А вот эта дорога? – Палец Элинор уперся в тонкую линию, ведущую из Хило в центральную часть острова. – Конная тропа? Блондинка неумолимо покачала головой: – По ней ехать нельзя. – Почему? Элинор посмотрела в окно. Снаружи у здания вытянулась длинная шеренга прокатных машин. Напоенный влагой воздух пах морской солью и тысячей цветочных ароматов. Элинор не раз бывала в тропиках, но уже почти забыла это странное ощущение жаркой влажности и полного отдаления от цивилизации, охватывающее пришельца сразу же после выхода из самолета. Аэропорт Хило был достаточно маленьким и открытым, чтобы она испытала это чувство в полной мере. Но сейчас, как и раньше, когда она только пролетала Гавайи на пути к еще более далеким и экзотическим местам, ее неприятно поразила «американизированность» островов. – Почему я не могу ехать по Конной тропе? – повторила Элинор. – Это быстрее, чем огибать весь остров по шоссе. – Нельзя. Это нарушает арендное соглашение. – Она протянула Элинор листок, который та только что заполнила. – Разве оно не заасфальтировано? – Нет, асфальт там есть… но ехать по нему все равно нельзя. Там нет техобслуживания. Вообще нет жилья. Если машина сломается, вы даже не сможете вызвать помощь. Элинор улыбнулась: – Я только что арендовала джип. За семьдесят долларов в день. А теперь вы говорите, что он так легко может сломаться. Женщина заломила руки в театральном отчаянии: – Вы не должны там ехать. Эта дорога даже не нанесена на нашу карту. – Это я заметила. – Вы нарушаете условия контракта. – Я знаю. – Элинор опять поглядела в окно, за которым быстро темнело. – Не могли бы вы поскорее дать мне ключи от джипа?«Кумулино», гавайская «Песнь творения», около 1700 года
Элинор больше получаса искала то место в пригородах Хило, откуда начиналась Конная тропа. Миновав последние перед горами домики и пальмовые рощи, она поглядела в зеркало. С востока наползали тяжелые тучи: похоже, милей дальше по побережью вовсю лил дождь. Она потратила еще пятнадцать минут на осмотр джипа. Это был новый «рэнглер», всего с двадцатью милями на спидометре, с автоматической трансмиссией, за которую ей пришлось заплатить дополнительно. При этом ни сзади, ни под сиденьем не нашлось даже простенького тента. Элинор брала напрокат машины на четырех континентах, и даже в самом разбитом «лендровере» всегда была какая-нибудь тряпка на случай непогоды. – А, вы имеете в виду «автобикини», – догадалась блондинка, когда Элинор вернулась за тентом. – Не знаю уж, как вы это называете, но мне нужно то, чем закрываться от дождя. – Они у нас на складе. Элинор попробовала посчитать про себя до десяти по-гречески. Обычно это помогало в общении с идиотами. – Почему? – спросила она наконец, стараясь говорить как можно тише. Женщина по-прежнему жевала жвачку. – Их часто теряют. Их или застежки к ним. Элинор с улыбкой склонилась к ней: – Вы живете в Хило, мисс? – Да, конечно… а что? – Вы знаете, сколько в этой части острова выпадает осадков? Сколько миллиметров в год? Женщина равнодушно пожала плечами. – Я здесь не живу, но могу назвать вам примерную норму. Сто пятьдесят в год, а в горах до двухсот. – Она придвинулась еще ближе. – А теперь дайте-ка мне тент, иначе я поставлю машину у вас на крыльце и прямо отсюда позвоню президенту компании. Теперь «автобикини» хлопало на ветру, пока Элинор вела джип по Вайануэуэ-авеню и дальше по Радужному спуску к Конной тропе, но она надеялась, что этот несерьезный кусок винила сможет защитить ее хотя бы от небольшого дождя. На закате она миновала повороты к пещерам Каумана и Гольф-клубу Хило и выехала в предгорья. Дорога здесь сузилась, но покрытие оставалось гладким, да и машин навстречу почти не попадалось. Дождь застал ее в десяти милях к западу от Хило. Дизайн компании «Крайслер» будто нарочно предусмотрел, что вода с хлопающего тента будет прямиком литься ей за шиворот и на ветровое стекло. Снаружи неуклюжие дворники кое-как протирали стекло, но изнутри ей пришлось вытирать воду салфеткой. Заднее сиденье мгновенно промокло, и Элинор переложила дорожную сумку вперед. На западе еще полыхал дивный тропический закат, но от туч и дождя небо потемнело раньше времени. Элинор бросила последний взгляд в зеркало на огни Хило, и дорога перевалила через холм. Теперь она не видела ничего, кроме нависших с двух сторон вулканических громад и невысоких деревьев на обочине. Впереди не было никаких огней, и казалось, что она едет по бесконечному темному туннелю. Элинор включила радио, но обнаружила только помехи и принялась напевать себе под нос, заглушая противный скрежет дворников. Внезапно долина расступилась, и в просвете туч глазам Элинор предстало во всем великолепии зрелище двух вулканов, – на заснеженных вершинах играли последние блики заката. На склоне Мауна-Кеа блеснуло что-то металлическое – должно быть, телескоп обсерватории. Еще более впечатляло оранжевое облако над вершиной Мауна-Лоа. Элинор показалось, что она едет по коридору горящего дома, между массивными каменными колоннами. На западе закат, смешиваясь с вулканическим заревом, окрашивал небо буйством красок. Справа от джипа Элинор увидела радугу и проехала прямо сквозь нее, хотя где-то читала, что по законам оптики к радуге нельзя приблизиться вплотную. Потом дождь пошел снова, и зарево превратилось в тусклое мерцание. Элинор начала понимать, почему в агентстве так не хотели, чтобы она ехала по Конной тропе. Дорога виляла туда-сюда, словно пытаясь сбросить машину под откос. Деревья вокруг были низкими и уродливыми, но заслоняли обзор настолько, что Элинор на каждом повороте была вынуждена сбавлять скорость до минимума. Дважды ей попадались другие машины, и каждый раз она замечала их всего за несколько секунд до встречи. За пятнадцать или двадцать миль пути Элинор проехала только один поворот – к Национальному парку Мауна-Кеа и к самому вулкану. Из путеводителя она знала, что эта дорога заканчивается тупиком на высоте восьми тысяч футов. Она представила, как астрономы, которые живут и работают там, каждое утро идут в обсерваторию и коченеющими руками поворачивают свои телескопы, пока кислородное голодание не уложит их в больницу. Элинор никогда не нравилась академическая научная среда, но там по крайней мере можно было дышать. За поворотом на Мауна-Кеа дорога стала хуже. Еле видные в темноте знаки запрещали останавливаться и предупреждали о том, что вблизи дороги могут оказаться неразорвавшиеся снаряды. Пару раз ей попадались тяжелые военные вездеходы, продиравшиеся через кусты слева от дороги. Элинор пришлось резко надавить на тормоза, когда четыре этих бронированных бегемота пересекли дорогу прямо перед ней, уминая гусеницами асфальт. Когда они уехали, она с бьющимся сердцем осторожно пустила машину вперед. Только тут она разглядела на обочине заляпанный грязью знак: «Осторожно! Здесь проезжает военная техника». Элинор решила, что в долине находится какая-то военная база; если не это – значит, США объявили войну Гавайям. Она продолжала путь, чувствуя, что вся спина у нее промокла. Брезентовые туфли тоже вымокли в луже двухдюймовой глубины, натекшей на пол машины. Взгляд ее метался взад-вперед, готовый в любую секунду увидеть очередной караван танков или даже целое стадо динозавров. Впереди показалась какая-то темная масса, и Элинор в очередной раз нажала на тормоза, чувствуя, как сердце у нее уходит в пятки. Но это оказались не танки, а большая темно-серая машина, наполовину съехавшая в кювет. Над ее левым крылом склонилась человеческая фигура. Тяжелый джип проскочил мимо машины, и, поглядев в зеркало, Элинор увидела, что серый автомобиль вместе с человеком скрылся за невесть откуда взявшимся холмом. Чертыхнувшись, она кое-как развернулась и поехала обратно. Незнакомец не просил о помощи, но в памяти Элинор, когда она проезжала мимо, осталось женское платье, насквозь промокшее от дождя. Протирая на ходу стекла салфеткой, она подъехала к машине и остановилась. Фигура, склонившаяся над левым крылом, выпрямилась. – Чертов кусок дерьма, – сказал хриплый, но, несомненно, женский голос. – Эта громоздкая дрянь, которую они сдают напрокат, не может довезти даже до ближайшей бензоколонки. Бок машины был поднят домкратом, но казалось, что асфальт под ним прогибается, погружая злополучный автомобиль еще глубже в канаву. – Вы в порядке? – спросила Элинор. Женщина была невысокой и круглолицей; ее короткие волосы мокрыми прядками липли ко лбу. Тонкое платье, больше похожее на халат, тоже промокло, подчеркивая массивные бедра и маленькую крепкую грудь. Прищурившись, она поглядела на Элинор сквозь пелену дождя: – Я собираюсь бросить эту пакость здесь. Пусть сами ее вытаскивают. Вы едете на западное побережье? – Да. Подвезти вас? Прежде чем она договорила, женщина распахнула дверцу своей машины, выволокла оттуда два толстых чемодана и засунула их на заднее сиденье джипа, не обращая внимания на то, что там было полно воды. Сама она села вперед, взяв в руки сумку Элинор. – Ничего, если я положу это назад? – Пожалуйста. – Там она промокнет, но здесь тоже не так уж сухо. Элинор кивнула: – Да-да, кладите назад. Она не была профессором Хиггинсом, но гордилась своим умением по диалекту определять происхождение человека. Женщина явно была нездешней – наверное, Средний Запад, скорее всего из Иллинойса, хотя не исключаются также Индиана и Огайо. Она тронула джип с места и опять начала подъем. Дорога продолжала петлять между низкими деревьями. То там, то тут причудливо поблескивали отражения зарева Мауна-Лоа. – Вы съехали с дороги? – спросила Элинор, чувствуя, как в ее собственную речь вторгается средне-западный акцент, от которого она почти избавилась в Гарварде до того, как вернуться в Оберлин. Женщина вытерла лицо рукой, запачканной машинным маслом. Элинор отметила, что она сделала это не по-женски, чересчур резко. – Нет, я не просто съехала, – сердито ответила она. – Один из этих чертовых БАТов чуть не расплющил меня на дороге, вот я и угодила в кювет. Хорошо хоть не стала последней жертвой «Бури в пустыне». – А что такое БАТ? – Элинор взяла еще одну салфетку, чтобы протереть стекло. Дождь, казалось, усиливался. – Большой артиллерийский тягач. Они с военной базы Похакулоа. Играют здесь в войну. Элинор кивнула. – Вы как-то связаны с армией? – Я? – Женщина рассмеялась хриплым смехом, который тетя Бини сразу бы назвала «пропитым». – Нет, конечно, – сказала она, отсмеявшись. – Просто двое из шести моих сыновей там служат. – О! – Элинор почувствовала легкое разочарование. Почему-то ей казалось, что эта крепко сбитая, решительная женщина непременно должна быть связана с армией. – Так вот откуда вы знаете про этот БАТ. Женщина опять рассмеялась: – Да нет, совсем не оттуда. Разве вы не смотрели телерепортажи во время войны в Заливе? – Честно говоря, нет. – Их голоса срывались, когда машину подбрасывало на ухабах, которых становилось все больше. Женщина пожала плечами: – Одним словом, мой Гарри был там, я еще и поэтому не пропускала ни одного репортажа. Признаюсь, после Вьетнама и этой истории с заложниками в Иране было приятно посмотреть, что мы все же можем дать кому-то прикурить. Словно вспомнив, она протянула ей руку. Элинор пожала ее, почувствовав твердость мозолей на ладони женщины. – Меня зовут Корди Стампф… с «ф» на конце, и я очень вам благодарна. Я могла бы проторчать на дороге очень долго, учитывая то, как здесь мало машин. Конечно, кроме этих чертовых БАТов, но я вряд ли захотела бы поехать с ними. – Элинор Перри. – Элинор отдернула руку и, ухватившись за руль, помогла джипу миновать очередной поворот. – Вы сказали, что едете на западное побережье. А куда именно? – На один из чудных курортов. – Корди Стампф потерла руки, словно ей было холодно. Элинор вдруг поняла, что на этой высоте, в дождь, ночью и вправду холодно. – На какой? – Она включила обогреватель. – Лично я еду в Мауна-Пеле. – И я. Элинор вопросительно взглянула на нее. Было трудно поверить, что эта женщина в халате, с двумя пузатыми чемоданами направляется на один из самых дорогих курортов на Гавайях. Ей самой пять лет пришлось копить на эту поездку… на это дурацкое приключение… – Да-да. По-моему, вы тоже летели на том рейсе, который завернули в Хило. – Да. – Элинор не видела женщину на борту, но там было больше двухсот пассажиров. Она гордилась своей наблюдательностью, но эта женщина ничем не выделялась среди прочих, разве что простотой. – Я летела в первом классе. – Корди как будто читала ее мысли. – Вы, наверное, летели сзади. В этом предположении не слышалось никакого снобизма. Элинор снова кивнула: – Я редко летаю первым классом. Корди опять рассмеялась своим хриплым смехом: – А я вообще первый раз. Пустая трата денег. Но эти билеты были частью выигрыша. – Выигрыша? – «Отдыхай с миллионерами». – Корди усмехнулась. – Помните, «Пипл» проводил такой конкурс? – Нет, как-то пропустила. – Элинор читала «Пипл» раз в год, во время визитов к гинекологу. – Я тоже. Это мой сын Хови послал им письмо от моего имени и выиграл. От Иллинойса. – От Иллинойса? Хоть тут она не ошиблась. Но не в Чикаго. Где-нибудь в глубинке. – Да, идея была отправить по одному счастливчику от каждого штата на неделю в Мауна-Пеле, где отдыхают одни миллионеры. Это последняявыдумка Байрона Трамбо, который построил этот курорт… ну, так писали в «Пипл». Вот я и стала чем-то вроде «Мисс Иллинойс»… хотя я не мисс уже с шестьдесят пятого года. Но самое странное, что все выигравшие, кроме меня, отказались ехать. Они взяли выигрыш деньгами, а мне эти подонки из «Пипл» ничего не сказали. – А почему? – спросила Элинор, хотя уже могла догадаться. Корди Стампф покачала головой: – Вы разве не слышали, что здесь пропали шесть человек? Говорят, на самом деле их больше, но Трамбо и его люди это скрывают. Про это писали в «Инкуайрере». «Туристы исчезают на самом дорогостоящем курорте, построенном на месте древнего гавайского кладбища». Что-то вроде этого. Дорога стала прямее, хотя и продолжала идти в гору. Долина разошлась, но по сторонам ее все еще стояли, как исполинские стражи, громады Мауна-Лоа и Мауна-Кеа. – Я тоже что-то про это читала. – Элинор почувствовала себя лгуньей. Она собрала неплохую коллекцию вырезок об исчезновениях, включая даже нелепую статью в «Нэшнл инкуайрер». – Вас это беспокоит? Корди опять рассмеялась: – Что? Что курорт выстроен на старом кладбище и привидения по ночам лопают туристов? Я пересмотрела на эту тему кучу фильмов. Мои ребята вечно таскали их в дом. Элинор решила переменить тему: – У вас правда шесть сыновей? И сколько им лет? – Старшему двадцать девять, – сказала Корди. – В сентябре будет тридцать. Младшему – девятнадцать. А сколько лет вашим? Обычно Элинор злили такие вопросы, но у Корди Стампф они выходили так естественно, что сердиться было глупо. Она говорила так же, как действовала, – размашисто, порой грубо, но без всяких задних мыслей. – У меня нет детей. И мужа нет. – И не было? – спросила Корди. – И не было. Я учитель, и работа отнимает у меня много времени. К тому же я люблю путешествовать. – Учитель? – Корди, казалось, чуть сдвинулась на сиденье, чтобы лучше разглядеть Элинор. Дождь кончился, и высохшие дворники неприятно скрипели. – В школе мне не очень-то везло с учителями, но я думаю, вы преподаете в колледже. История? Изумленная Элинор кивнула. – А на каком периоде вы специализируетесь? В голосе Корди звучал неподдельный интерес. Элинор это удивило еще больше. Обычно люди реагировали, как тот коммивояжер в самолете – потухший взгляд, равнодушные глаза. – В основном я преподаю и изучаю духовную культуру эпохи Просвещения. – Элинор повысила голос, пытаясь перекричать гудение мотора джипа. – Это восемнадцатый век. Корди Стампф, очевидно, поставившая целью ее удивить, кивнула: – Вы имеете в виду Руссо, Вольтера и всю эту компанию? – Именно. – Элинор вспомнила, как тетя Бини учила ее тридцать лет назад: «Нельзя недооценивать людей». – Вы читали… я имею в виду, вы знаете их произведения? Корди рассмеялась еще громче: – Что вы, дорогая! У меня хватает времени только на юмористические журналы. Нет, Элинор, конечно, я их не читала. Просто Берт – это мой второй муж – хотел стать образованным и заказал целую Британскую энциклопедию. А с ней и другую серию… «Великие книги», кажется. Знаете ее? Элинор кивнула. – Так вот, у этих «Великих книг» на обложке написано, кто из этих типов когда жил и все такое. Потом мы с Хови заклеивали этими обложками окна. Элинор опять кивнула, вспомнив, что еще ей говорила тетя Бини тридцать лет назад: «И нельзя переоценивать». Внезапно дорога резко пошла под уклон, и их глазам открылась панорама того, что должно было быть западным побережьем Большого острова Гавайи. На западе в сизой дымке расстилался Тихий океан. Элинор показалось, что на севере она видит какие-то огни. Впереди показалась развилка. На север показывал знак с надписью «Ваймеа». – Нам на юг, – сказала Корди Стампф.
На побережье было намного теплее. Элинор поняла, как холодно было на Конной тропе, только когда ветер с гор на прощание дохнул им в спину. По шоссе № 19 они выехали к Вайколоа и направились вдоль берега навстречу огням первого из прибрежных курортов. Ощущение тропиков вернулось с запахом моря и хорошо уже различимым сквозь шум мотора грохотом прибоя. Движения на дороге в этот час почти не было, но даже редкие машины после безлюдья Конной тропы казались признаком цивилизации. Элинор думала, что этот район более населен, но, кроме огней Ваймеа в тридцати милях от них и редких домов Вайколоа, других населенных пунктов не было видно. Прожекторы освещали границы лавовых полей, и, подъехав ближе, путешественницы начали различать надписи. Слова и целые предложения были выложены белыми коралловыми обломками на черной лаве. В основном обычные подростковые излияния – «ДОН И ЕГО КРОШКА», «ПОЛА ЛЮБИТ МАРКА», «ПРИВЕТ ОТ ТЕРРИ», но Элинор не нашла здесь обычных непристойностей, словно трудный поиск подходящих обломков кораллов заставлял пишущих задуматься. Много было приветствий: «АЛОХА ТАРА! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ГЛЕНН И МАРСИ!», «ДЭВИД ПРИВЕТСТВУЕТ ДОНА И ПАТТИ. МАХАЛО ЛАЙМЕНАМ!» – и Элинор поймала себя на том, что ищет собственное имя, ожидая приветствия от этой радушной земли. Сами курорты оставались невидимыми, проявляясь на шоссе только отблесками света, запертыми воротами и тропинками, проложенными к морю сквозь залежи лавы. По пути на юг они проехали Вайколоа, куда направлялся толстяк электронщик, потом, после десяти миль пустынного шоссе, залитый светом Кона-Вилледж и, наконец, аэропорт Кеахоле, над которым виднелись яркие огни. – Самолеты садятся, – заметила Корди Стампф. Элинор, погруженная в свои мысли, начисто забыла о ее присутствии и едва не подпрыгнула, услышав ее голос. – Должно быть, аэропорт уже открыли, – сказала она, поглядев на звезды вверху. – Наверное, пепел отнесло к югу. – Или в этом самолете летят пассажиры поважнее нас, – усмехнулась Корди. – Для больших людей можно и отменить правила. Элинор нахмурилась, но ничего не сказала. В нескольких милях от аэропорта на западе показались огни Калуа-Кона. Въехав в город, она нашла всего одну бензоколонку, на которой, к ее удивлению, не оказалось самообслуживания. Заспанный рабочий залил ей бак, и она еще больше удивилась, когда он сказал ей, что уже полночь. На то, чтобы проехать восемьдесят миль от Хило, у нее ушло почти три часа. – Далеко до Мауна-Пеле? – спросила она рабочего-гавайца, почти ожидая, что в ответ он изречет что-то вроде: «Вы не должны туда ехать» – как в старом добром «Доме ужасов Хаммера». Вместо этого гаваец буркнул, даже не отрываясь от помпы: – Двадцать две мили. С вас семь пятьдесят пять. За Коной дорога стала более коварной, скалы круто обрывались к морю, а небо снова заволокли тучи. – О господи, – вздохнула Корди, – а до этого райского местечка не так-то легко добраться. – Может, нам лучше было бы остаться в Хило с остальными? – сказала Элинор, борясь с дремотой. – Пускай бы они отвезли нас завтра. – Она поглядела на часы. – Вернее, сегодня. Корди в темноте покачала головой: – Вот еще! Мне полагается семь дней и шесть ночей, включая сегодняшнюю, и я не собираюсь ее терять. Элинор улыбнулась. К востоку, где в тумане угадывалась громада Мауна-Лоа, тянулись пологие холмы. За тучами едва просвечивало оранжевое зарево извержения. К югу от Коны, казалось, не было ничего, кроме скалистых отрогов и лавовых полей. Даже выложенные кораллами надписи исчезли, сделав поля аха темнее и мрачнее. Миль через двадцать дорога отошла от прибрежных скал на пару миль в глубь острова. На черном асфальте шоссе, сливающемся с чернотой лавы вокруг выделялась только белая разделительная полоса. – Как вам здесь? Не похоже на Средний Запад? – обратилась Элинор к своей спутнице, чтобы человеческим голосом развеять ощущение жути, навалившееся на нее. От долгого пути у Элинор заболела голова. – Да, в Иллинойсе я такого не видела, – согласилась Корди Стампф. – И в Огайо тоже. Хотя у вас в Оберлине очень мило. – Вы там бывали? – У моего предпоследнего мужа были какие-то дела с вашим колледжем. Когда он сбежал с танцовщицей из Лас-Вегаса, мне пришлось взять дела на себя, и я тоже к вам ездила. – А какие у него были дела? – О, что-то насчет макулатуры… Смотрите, что это там? Впереди они увидели каменную стену с воротами и будкой охранника в виде гавайской хижины. Все это освещалось десятком газовых фонарей. Большие медные буквы на стене возвещали: «МАУНА-ПЕЛЕ». Почему-то Элинор вспомнился «Парк юрского периода». – Нашли. – Корди откинулась на сиденье и пригладила рукой свои гладкие волосы. Из будки, от которой к воротам тянулась толстая цепь, вышел заспанный охранник. – Алоха, – сказал он. – Чем могу служить? – У нас заказаны места в Мауна-Пеле. Элинор поглядела на часы. Было 12.30 ночи. Охранник кивнул и достал из кармана какой-то список: – Ваши фамилии, пожалуйста. Элинор назвала их фамилии со странным чувством, что она и эта странная, почти незнакомая женщина в домашнем халате – старые подруги и путешествуют вместе. Она отнесла это чувство к обычным последствиям путешествия. Она любила путешествовать, но в первые дни вне дома ей всегда было не по себе. – Добро пожаловать, – сказал охранник, сверившись со списком. – Мы думали, что все, кто прилетел вечером, остались в Хило. – Он снял с ворот цепь, которая с лязгом упала на дорогу – Езжайте по этой дороге. Она не очень хорошая из-за строительных работ но ближе к Большому хале станет лучше. Никуда не сворачивайте… впрочем, в худшем случае вы упретесь в будку строителей. Машину можете оставить в «порт-кошер»… это в двух милях отсюда… они ее припаркуют. – А что такое Большой хале? – спросила Элинор. Охранник улыбнулся: – «Хале» означает «дом». В Мауна-Пеле двести обычных хале – это как тростниковые хижины, только комфортабельнее, – но Большой хале представляет собой семиэтажное здание с магазинами, столовой и конференц-залом. Там больше трехсот комнат. – Спасибо, – сказала Элинор. – Махало. Охранник кивнул и отошел в сторону, давая им заехать. В зеркало Элинор увидела, как он снова закрывает ворота на цепь. – А что такое «порт-кошер»? – спросила Корди. Года примерно в три Элинор начала панически бояться задавать глупые вопросы. С тех пор она самостоятельно искала ответы в книгах и подозревала, что от этого и пошла ее научная карьера. Она в очередной раз позавидовала способности Корди напрямик спрашивать о вещах, которых не понимаешь. – Крытая секция у входа, – объяснила она. – Здесь, в тропиках, там часто ставят машины. Дорога была еще хуже, чем Конная тропа. Джип подпрыгивал на разбитом асфальте, и Элинор пришлось напрячь все внимание, чтобы не заехать в лавовые стены, тянущиеся с обеих сторон. У дороги стояли строительные машины, и дважды они видели жестяные будки, окруженные изгородью. – Не очень-то презентабельно для одного из самых дорогих курортов мира, – заметила Элинор. – А сколько они берут в день за номер… то есть за хале? – По-моему, пятьсот… включая завтрак. – Да за такие деньги можно вымостить эту дорогу золотом! – воскликнула Корди. Постепенно дорога стала ровнее, потом разделилась на две полосы, между которыми пролегла широкая клумба с тропическими цветами. По сторонам тянулись ряды пурпурной бугенвиллеи, освещенные установленными через каждые тридцать футов газовыми фонарями. Элинор поняла, что гладкая, аккуратно размеченная плоскость сбоку от дороги – это поле для гольфа. Воздух наполнился ароматами цветов и влажной земли. Большой хале – отель, выстроенный в форме гигантской травяной хижины, неуловимо напоминал аттракцион Диснейленда. С каждого балкона низвергались водопады лиан, словно здесь задались целью превзойти висячие сады Семирамиды. У входа их встретила грузная женщина в травяной юбке-муумуу, надела на шею приветственные гирлянды – Элинор помнила, что они называются «леи», – и повела внутрь здания. Элинор выбралась из джипа чуть живая. Спина у нее болела, голова раскалывалась. Запах цветов от леи наплывал откуда-то издалека, как сквозь туман. Она прошла вслед за Корди и женщиной в муумуу, назвавшейся Калани, в просторный вестибюль, где вход охраняли золоченые будды. В клетках высотой тридцать футов спали разноцветные птицы; за окнами шуршали пальмы в таинственном свете фонарей. Последовали формальности занесения в книгу постояльцев и записи номеров кредитных карт. От Корди кредитной карты не требовалось, и она просто выслушала поздравления с замечательным выигрышем от Калани и маленького темнокожего мужчины, выскочившего из-за стойки, как чертик из табакерки. На нем были гавайская рубашка и белые брюки, и улыбался он так же широко, как Калани. Она распрощалась с Корди, которую повели к лифту, – очевидно, почетные гости жили в Большом хале, – после чего мужчина вывел ее на террасу. Элинор увидела, что Большой хале стоит на склоне холма, обращенного к морю; терраса обрывалась в тридцати футах от земли. Портье свел ее вниз по лестнице к электрокару, в котором уже лежала ее сумка. – Вы остановились в таитянском хале номер двадцать девять? – спросил мужчина. Элинор поглядела на свой ключ, но ему не требовалось ответа. – Там очень хорошие хале. Очень хорошие. Оттуда не слышен шум Большого хале. Элинор оглянулась на Большой хале, когда они ехали прочь по узкой асфальтовой дорожке между пальмами. В здании было темно; только в нескольких окнах за плотно закрытыми занавесками горел свет. Она усомнилась в том, что там бывает очень уж шумно. Они спустились вниз по холму, мимо тропических зарослей, от благоухания которых у нее еще больше разболелась голова, проехали по узким мостикам через лагуны – оттуда были видны океан и белые гребни волн – и вернулись к пальмовым зарослям. Элинор увидела среди деревьев маленькие домики футов десяти высотой, тускло освещенные электрическими лампами, укрытыми в листве. Стоящие повсюду фонари не горели – очевидно, их выключали на ночь. Элинор со странной уверенностью поняла, что в большинстве этих хале так же пусто, как и в Большом хале, – пусто и темно везде, кроме островка света в вестибюле и вагончиков, где прячутся рабочие. Они объехали еще одну небольшую лагуну, свернули влево и остановились перед стоящим на возвышении хале, к которому вели несколько каменных ступенек. – Таитянский двадцать девять, – объявил ее провожатый. Захватив ее сумку, он поднялся по ступенькам и открыл дверь. Элинор вошла в хале, засыпая на ходу. В домике было довольно тесно – маленький холл вел в открытую ванную, рядом с которой разместились такие же открытые гостиная и спальня. Огромная кровать была покрыта ярким вышитым пледом, по углам горели две лампы. Под высоким потолком медленно вращались лопасти вентилятора. Сквозь плетеную дверь Элинор видела очертания своего личного ланаи и слышала приятный гул наливающейся в ванну горячей воды. – Очень хорошо, – повторил ее провожатый с едва заметным оттенком вопроса. – Очень хорошо, – согласилась Элинор. Мужчина улыбнулся: – Меня зовут Бобби. Если у вас будут какие-нибудь пожелания, скажите мне или любому из наших сотрудников. Завтрак сервируется на террасе Большого хале и в ланаи Кораблекрушения с семи до половины одиннадцатого. Впрочем, здесь все написано. – Он показал на толстую пачку бумаг на тумбочке возле кровати. – У нас нет знака «Не беспокоить», но в случае чего можете выставить на крыльцо вот этот кокосовый орех, и никто к вам не войдет. – Он показал ей кокос с вулканической эмблемой Мауна-Пеле. – Алоха! «Чаевые», – подумала сонно Элинор и полезла в сумочку. Она нашла только десятку, но, когда повернулась, Бобби уже ушел. Снаружи донеслось гудение отъезжающего кара, и все стихло. Несколько минут она изучала хале, проверяя, все ли двери заперты. Потом села на кровать, слишком усталая, чтобы раздеваться или распаковывать вещи. Она еще сидела там, в полудреме вспоминая Конную тропу и продирающихся сквозь заросли металлических динозавров, когда за ее окном раздался пронзительный крик.
Глава 6
Когда я уже засыпал, некий голос нарушил тишину ночи, и из дальней дали, оттуда, где только океан до края земли, повеяло чем-то знакомым, домашним… И я услышал слова: «Ваикики лантони оэ Каа хооли хооли ваухоо», – в переводе это значит: «Когда мы маршируем по Джорджии».Марк Твен
7 июня 1866 г., Хило, Гавайи Наш мистер Клеменс становится просто невыносимым. Двухдневное путешествие из Гонолулу на остров Гавайи вряд ли можно отнести к самым приятным впечатлениям моей жизни. Волны немилосердно швыряли наш ветхий «Бумеранг», и большинству пассажиров оставалось спасаться в обманчивом уединении своих углов. «Обманчивом» потому, что эти углы спального отсека были лишь тонкой перегородкой отделены от «салона», где все, волею судьбы оказавшиеся вместе – гавайцы, китайцы, британские леди и ковбои-паниоло, – ели, пили, вели беседы на разных языках и играли в карты. После моей уже описанной словесной победы над докучливым мистером Клеменсом я спустилась в свою мрачную каюту, где прямо на постели меня ожидали два таракана. Я уже упоминала о том, что боюсь тараканов больше, чем медведей гризли, но следует добавить, что это были необычные тараканы. У этих чудовищ размером с омара были красные глаза и усы, на которые можно было повесить шляпку и зонтик. Кроме этого, со всех сторон раздавались неделикатные звуки, с которыми пассажиры извергали из себя обильные завтраки, поглощенные в Гонолулу, и храп менее чувствительных пассажиров, лежащих по углам, как вязанки дров. Миссис Уиндвуд использовала ноги одного из этих спящих в качестве вешалки, и я только потом увидела, что это был губернатор Мауи. Осторожно поглядывая на тараканов, которые, казалось, расположились на моей кровати надолго, я опять отступила к верхнему деку и расположилась около транца. Оказалось, что мистер Клеменс тоже собирается провести путешествие на палубе, «где только и можно дышать», и таким образом мы снова оказались вместе. Несколько часов, пока усталость не разогнала нас по углам, мы говорили о разных и зачастую не связанных друг с другом вещах. Похоже, корреспондент был удивлен, обнаружив в моем лице благодарную слушательницу и рассказчицу. Конечно, меня продолжали раздражать его вульгарные манеры и привычка курить дешевые сигары, но в долгом путешествии по Дикому Западу я почти привыкла к отсутствию манер. Признаюсь, что беседа с корреспондентом несколько отвлекла меня от опасностей, ждущих меня в постели. Когда я упомянула о своем отвращении к тараканам, мистер Клеменс признался, что они были одной из причин его пребывания на палубе. – Мои, – сказал он, – величиной с кленовый лист, с бешеными глазами и огромными усищами. Они щелкают зубами, как табачные черви, и вечно чем-то недовольны. Я описала ему омароподобных тварей, притязавших на мою подушку. – Я пыталась прогнать их зонтиком, но они отобрали его у меня и использовали в качестве тента, – сказала я. – Хорошо, что вы отказались от дальнейшей битвы, – сказал Клеменс– Я слышал от надежных свидетелей, что эти твари часто обгрызают ногти на ногах у спящих матросов. Поэтому я и предпочел спать здесь под дождем. Подобной дурацкой болтовней мы и занимались весь вечер. В пять утра корабль прибыл в Лахаину, самое большое селение на зеленом острове Мауи, и мистер Клеменс одним из немногих выразил желание сойти на берег. На наше с ним несчастье, капитан «Бумеранга» распорядился отправить только ряд припасов, и корреспонденту осталось стоять на палубе и развлекать меня рассказами о своем посещении этого благоухающего сандалом острова три месяца назад. Мы покинули Мауи в самом начале дня и сразу обнаружили, что пролив между этим островом и его старшим братом на юге опаснее для плавания, чем все воды, которыми мы плыли ранее. Пересечение его заняло у нас почти шесть часов, в продолжение которых большинство пассажиров жестоко страдало от морской болезни. Мистер Клеменс, как и я сохранявший относительную бодрость, признался со своим неподражаемым «остроумием», что «вытошнил свое», когда работал штурманом на Миссисипи еще до войны. Я спросила, почему он сменил это ремесло на журналистику. Облокотившись на перила и закурив очередную удушливую сигару, мистер Клеменс с неожиданной серьезностью ответил: – Будь моя воля, никогда бы этим не занялся – я имею в виду литературу. Я искал честную работу – пусть Господь сделает меня методистом, если я говорю неправду. Искал, но не нашел и поддался искушению легкой жизни. Тогда я спросила, жалеет ли он о своей прежней профессии. Вместо очередной неуклюжей остроты рыжеволосый корреспондент вгляделся в океанскую даль, словно различал на горизонте что-то, скрытое не пространством, а временем. – Я любил работу штурмана, как, может быть, больше никогда и никого не полюблю, – сказал он взволнованным голосом. – На реке я был свободен, как только может быть свободно человеческое существо. Я никем не командовал и никому не подчинялся. Удивленная его искренностью, я спросила: – Так, по-вашему, река прекраснее этого не такого уж Тихого океана? Мистер Клеменс глубоко затянулся своей ядовитой сигарой. – Мои первые дни на реке были не менее прекрасны, чем прогулка по Лувру, мисс Стюарт. Повсюду меня поджидала красота, и я был не совсем к этому готов – как сказал ковбой, найдя змею в своем сапоге. Но когда я приобрел опыт, эта красота пропала. – Сделалась привычной? – предположила я. – Нет. – Мистер Клеменс швырнул остатки сигары в океан. – Просто я узнал язык реки. Я смотрела на него, не понимая. Он опять улыбнулся своей широкой мальчишеской улыбкой: – Река как книга, мисс Стюарт. Как древний, но недавно открытый манускрипт, написанный на мертвом языке. Когда я изучил этот язык – язык опасных плавучих коряг, тайных мелей и лесистых берегов, которые я помнил не из-за их красоты, а из-за опасности, что подстерегала судно возле них, – эта книга открыла мне свои тайны и красота ее померкла, как будто не существовала без тайн. Признаюсь, что преображение джентльмена из хамоватого писаки во вдохновенного поэта на какое-то время лишило меня дара речи. Возможно, мистер Клеменс заметил это или же его увлек поток собственной фантазии – во всяком случае, он выудил из кармана еще одну сигару и взмахнул ею, как волшебной палочкой. – В любом случае, мисс Стюарт, река могла убить вас – мог взорваться котел, или мель могла в одну секунду пропороть днище парохода, – но не заставляла выворачиваться наизнанку, как этих бедняг пассажиров. После этого я оставила мистера Клеменса и вступила в оживленный разговор с Томасом Лайменом, мистером Вендтом и преподобным Хеймарком о миссионерах и эффекте их деятельности на островах. Мистер Вендт и мистер Лаймен придерживались новомодной точки зрения, согласно которой миссионеры оказали исключительно дурное влияние на экономику и быт Гавайев, а преподобный Хеймарк защищал традиционный взгляд – островитяне были язычниками и людоедами, пока его отец и братья поколение назад не приобщили их к благам цивилизации. Когда дискуссия зашла в тупик, я невольно подумала, что сказал бы по этому поводу мистер Клеменс. Но он устроился на матрасе в тени брезента и проспал весь день, пока не спала жара. К концу дня мы увидели остров Гавайи, но плотные облака скрывали все, кроме покрытых снегом вершин двух могучих вулканов. Одна мысль о снеге в таком климате наполнила меня любопытством, и я готова была нарушить клятву, данную моим друзьям-миссионерам в Гонолулу, которые заставили меня пообещать, что я ни в коем случае не буду подниматься на Мауна-Лоа или на его брата-близнеца. Было уже темно, когда мы встали на якорь в Каваихаэ на северо-западном берегу острова. Снова произошел обмен почтой и грузами, после чего мы двинулись дальше по проливу, отделяющему Гавайи от Мауи. Хотя небо было чистым, а звезды – более яркими, чем даже в Скалистых горах, – море волновалось еще сильнее, превратив спальное помещение внизу в настоящую юдоль страданий. В ту ночь не было бесед на палубе с мистером Клеменсом или с кем-либо еще; я заняла матрас возле вентилятора и провела следующие семь часов, хватаясь за все подручные предметы, чтобы не сползти на корму. Тем не менее, проснувшись, я обнаружила, что матрас вместе со мной все же отползал к перилам, но вернулся на прежнее место, когда корабль сменил курс. Я начала понимать, почему его назвали «Бумерангом». Встало солнце во славе лучей и радуги, и море тут же успокоилось, будто разглаженное невидимой рукой. Теперь северо-восточный берег лежал перед нами как на ладони, разительно отличаясь от покрытого черной лавой северо-западного берега, который мы видели накануне. Здесь все сияло тысячей оттенков зелени – от изумрудного до тускло-бурого, а вдали возвышались зубчатые скалы, тоже покрытые зеленью, которая непонятно как держалась на такой крутизне. Скалы прорезали причудливо извивающиеся ущелья, из которых с высоты не меньше тысячи футов стекали искрящиеся на солнце водопады. Надо всем этим великолепием стоял несмолкающий грохот прибоя, очень похожий, как заверил меня преподобный Хеймарк, на гром пушек минувшей войны. Волны разбивались о прибрежные скалы, вздымая вверх столбы пены и брызг. На протяжении тридцати миль спокойствие этого дивного пейзажа не нарушалось человеческим жильем, за исключением сделанных из трав небольших храмов, воздвигнутых на площадках среди скал, но милях в десяти от Хило начали встречаться сахарные плантации, еще более зеленые, чем та зелень, что мы видели раньше. С этим бездумным великолепием природы контрастировали аккуратные белые домики с печными трубами, из которых шел дым. Домиков становилось все больше, в то время как местность делалась более ровной, напомнив мне в конце концов такие привычные берега Новой Англии, и наконец мы увидели Хило. С того момента, как мы вошли в бухту в форме полумесяца, я увидела, что Хило – настоящий тихоокеанский рай, на который не могут смотреть без зависти такие псевдогорода, как Гонолулу. Благодаря влажному климату и прекрасной плодородной почве город буквально тонул в зелени. Повсюду росли высокие кокосовые пальмы, панданусы, хлебные деревья и тысячи других видов растений, которые вместе с вездесущими лианами совершенно скрывали здания. Здесь шум прибоя напоминал уже не артиллерию, а нежный хор детских голосов, которому, казалось, вторили деревья, дома и все великолепие дел Природы и человеческих рук. Казалось, что наш корабль и его пассажиры, настрадавшиеся за последние два дня от болезней и насекомых, вдруг перенеслись в сияющее преддверие рая. Это был волнующий момент, и он мог бы заставить меня поверить в совершенство – если бы в этот миг невозможный мистер Клеменс не чиркнул спичкой о подошву сапога и не сказал жизнерадостно: – Эти деревья похожи на стаю кур, в которую попала молния, вы не находите? – Нет, – ответила я как можно более холодно, все еще пытаясь сохранить чувство благоговения перед красотой. – А эти травяные хижины, – продолжал он, – кажутся такими лохматыми, словно их сделали из медвежьей шкуры. Я молчала, надеясь, что это заставит его почувствовать мое неодобрение. Но рыжеволосый невежа, не смутившись, выпустил клуб ядовитого дыма, чем совершенно заслонил мне обзор. – Черепов не видно, – сказал он, – а ведь еще недавно старикан Камехамеха и его ребята приносили на этом берегу пленников в жертву и украшали их головами стены храмов. Я открыла зонтик и отвернулась, не желая больше слушать эту чушь. Но прежде чем я отошла к борту, где собрались мои спутники, я услышала, как корреспондент пробормотал будто про себя: – Какой стыд – цивилизовать это дивное место! Теперь это только аттракцион для туристов.
Глава 7
Когда на душе тоскливо, Когда смурно и паршиво, Просто вруби хюлу — И станет не хило. Врубай хюлу, въезжай в хюлу, в добрую хюлу; Слушай, друг, старый хюловый блюз.Утро на курорте Мауна-Пеле было ясным и прохладным. Солнце выкатилось из-за южного края вулкана, заставив раскрыться ему навстречу тысячи пальмовых крон, в то время как ветер отнес к югу облако пепла и сделал небо безупречно синим. Море было спокойным, и прибой лишь нежно трогал белый песок на пляже. Но Байрона Трамбо все это не интересовало. Японцы прилетели вечером точно в назначенное время, приземлившись на только что открытом аэродроме. Хироси Сато и его спутников привезли в Мауна-Пеле со всеми почестями и поселили в «королевском номере» – пентхаузе, по роскоши почти не уступающем «президентскому номеру», где расположился сам Трамбо. Они сразу же легли спать, ссылаясь на трудности перелета, но Трамбо не спал. Он приказал окружить Большой хале тремя кольцами охраны. Рано утром менеджер курорта Стивен Риддел Картер доложил ему, что троих пропавших так и не нашли, но по крайней мере за эту ночь никто больше не пропал. Это немного улучшило ему настроение. – Какой у нас график на сегодня? – спросил он Уилла Брайента. – Первая встреча после завтрака? – Именно так. Вы встречаетесь на террасе, обмениваетесь с мистером Сато приветствиями и подарками, а потом идете играть в гольф, пока делегации согласовывают предварительные цифры. – Делегации? – Трамбо нахмурился над чашкой кофе. – Ваша делегация – это я, – пояснил с улыбкой Брайент. На нем был легкий серый костюм от Перри Эллиса. Его длинные волосы – единственное отступление от делового стиля – были аккуратно собраны в пучок. – Нужно покончить с этим за пару дней, – сказал Трамбо, игнорируя замечание Брайента. Он был одет в свой обычный гавайский костюм – яркую рубашку, линялые шорты и тапочки. Он знал, что Сато тоже может позволить себе небрежность в одежде – например, костюм для гольфа, – в то время как его спутники будут париться в серых костюмах. Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Уилл Брайент покачал головой: – Переговоры будут трудными. – Они станут еще труднее, если кого-нибудь из них за это время грохнут, – заметил Трамбо. – Мы должны закончить дело сегодня или завтра, дать Сато поиграть в гольф и отправить их обратно, когда чернила на договоре еще не успеют высохнуть. Понял? – Да. – Уилл Брайент аккуратно сложил бумаги в папку и убрал ее в свой кожаный портфель. – Готовы к началу игры? Байрон Трамбо, усмехнувшись, поднялся на ноги.Популярная песня 30-х годов
Элинор проснулась от птичьего пения. Какое-то время она не могла сообразить, где находится, потом увидела пробивающийся сквозь ставни яркий свет, отраженный листьями пальм, почувствовала на лице дуновение теплого воздуха, вдохнула аромат цветов и все вспомнила. – Мауна-Пеле, – прошептала она тихо. Она вспомнила нечеловеческий крик под окном, раздавшийся среди ночи. Тогда она поискала что-нибудь тяжелое, нашла в шкафу старый зонтик и, вооружившись им, отперла дверь. Вопли раздавались из листвы у тропинки, ведущей в хале. Элинор подождала несколько минут, и на тропинку вышел павлин. Высоко поднимая ноги, словно боясь запачкаться, он испустил последний крик и скрылся в кустах. – Добро пожаловать в рай, – сказала Элинор вслух. Она видела павлинов и раньше и как-то в Индии жила в палатке в лесу, полном ими, но никак не могла привыкнуть к их крикам. К тому же она никогда не слышала, чтобы павлины кричали ночью. Она встала, приняла душ, с удовольствием вдыхая аромат цветочного мыла, пригладила щеткой короткие волосы и оделась – шорты, сандалии и белая блузка без рукавов. Потом положила в сумочку, где уже лежал дневник тети Киддер, брошюру о курорте и карту и вышла. Буйство красок и легкий ветерок с моря подействовали на нее, как на всех жителей умеренных широт, – заставили удивиться, почему она живет и работает в стране, где зима и темнота занимают такое большое место. Асфальтовая дорожка вела вдоль зарослей, из которых то и дело вылетали птицы самых невообразимых расцветок. Сверяясь по карте, Элинор шла мимо лагун, дорожек, деревянных мостиков, переброшенных через искусственные каналы. Справа в просветах листвы изредка мелькали черные лавовые поля. На северо-востоке по-прежнему виднелась громада Мауна-Лоа, но облако пепла над ним уже стало еле различимой серой чертой на горизонте. Слева океан возвещал о своем присутствии всем пяти чувствам: бликами света на воде, запахом водорослей, тихим рокотом прибоя, легким ветерком и вкусом соли на ее губах. Элинор свернула влево, на лестницу, вырубленную в вулканической породе среди пожара цветов, прошла мимо пустого бассейна и вышла на пляж Мауна-Пеле. Длинная полоса белого песка упиралась слева в невысокие скалы, а справа – в лавовые поля. Она могла видеть над берегом более дорогие хале – большие дома самоанского типа из красного дерева – и семиэтажную глыбу Большого хале, выглядывающую из пальмовой рощи. У входа в бухту гуляли нешуточные волны, разбиваясь о скалы веером брызг, но на защищенный берег волны накатывались мягко, с ласковым шелестом. На идеально чистом пляже не было никого, кроме двух рабочих, просеивающих песок, бармена за стойкой возле бассейна и Корди Стампф, раскинувшейся в шезлонге у самого края океана. Элинор улыбнулась. На ее спутнице был закрытый купальник в цветочек, выглядевший так, будто его купили в 50-е годы и с тех пор не надевали. Тяжелые руки и бедра Корди были молочно-белыми, но круглое лицо уже подрумянилось на утреннем солнце. Темных очков она не носила и прищурилась, когда Элинор подошла к ней ближе, увязая в горячем песке. – Доброе утро. – Элинор посмотрела вдаль, туда, где у границы бухты встали на страже тяжелые волноломы. – Отличный день. Корди Стампф только хмыкнула. – Вы знаете, что они тут подают завтрак только в половине седьмого? Как можно загорать на голодный желудок? – М-м-м, – согласилась Элинор. Часы она оставила в хале, но думала, что уже больше семи. Ей приходилось рано вставать на работу, но, предоставленная самой себе, она читала до двух-трех ночи и спала до девяти. – И где вы в конце концов позавтракали? Корди махнула рукой в сторону Большого хале: – Они накрывают там. Знаете что, – она прищурилась, – или эти богачи долго спят, или тут не так много народу. Элинор кивнула. Солнце и шепот волн наполняли ее истомой. Она не могла поверить, что в таком месте может происходить что-то страшное. Машинально она дотронулась до сумки, чувствуя боком переплет дневника тети Киддер. – Пойду поем. Надеюсь, мы еще увидимся. – Ага. – Корди смотрела на гладь лагуны. Элинор уже прошла мимо бара, расположившегося в травяной хижине, – она знала, что он называется баром Кораблекрушения, – когда Корди крикнула ей вслед: – Эй, а вы ничего не слышали ночью? Элинор улыбнулась. Конечно, Корди Стампф никогда не слышала крика павлинов. Она коротко объяснила, что это было, и Корди кивнула. – Да, но я не имела в виду птиц. Там было что-то другое. – Она мгновение колебалась, прикрыв рукой глаза. – Скажите, вы не видели собаку? – Собаку? Нет. – Элинор ждала продолжения. Ждал и бармен, облокотившись на полированную стойку. – О'кей-жокей, – сказала Корди Стампф и опять откинулась в кресле. Элинор подождала немного, обменялась недоуменными взглядами с барменом и отправилась завтракать.
Завтрак, как и планировалось, состоялся в закрытом ланаи, выходящем на океан. После завтрака Байрон Трамбо повел гостей на экскурсию. Вереницу тележек для гольфа выкатили из подземного гаража в порядке, предусмотренном протоколом: на первой тележке ехали Трамбо и Хироси Сато, на второй – Уилл Брайент и престарелый Масаёси Мацукава, главный советник Сато в вопросах бизнеса. В той же тележке на заднем сиденье разместились Бобби Танака, человек Трамбо в Токио, и молодой Инадзу Оно, собутыльник Сато и его эксперт по переговорам. Третьей тележкой правил менеджер курорта Стивен Риддел Картер, одетый так же консервативно, как японцы, а сидели в ней доктор Тацуро, врач Сато, его помощник Сэйдзабуро Сакурабаяси и Цунэо, Санни Такахаси. Еще в трех тележках ехали юристы и партнеры по гольфу двух главных участников переговоров. На почтительном расстоянии следовали три тележки с охраной. Тележки проехали по гладкой асфальтовой дорожке мимо Китового ланаи, через Приморский луг, засаженный идеально зеленой травой и экзотическими цветами. По лугу текли искусственные ручьи, водопадами стекая с лавовых скал и сливаясь в большую лагуну, отделяющую Большой хале от пляжа. Миновав шеренгу кокосовых пальм, они поехали вдоль пляжа. – Через эти ручьи каждый день проходит двадцать два миллиона галлонов морской воды, – похвастался Трамбо. – И еще пятнадцать миллионов галлонов уходит на обновление воды в лагуне. – Вода восстанавливается? – спросил Хироси Сато. Трамбо колебался с ответом. Он услышал: «Вова восстанавриваися?» Сато мог говорить по-английски чисто, когда хотел, но хотел он редко. – Конечно, восстанавливается, – ответил он наконец. – Но наша гордость не это, а бассейны и пруды для карпов. У нас три больших бассейна для гостей плюс двадцать шесть бассейнов в хале класса люкс на Самоанском мысе. И такое же количество воды потребляют карповые пруды – до двух миллионов галлонов ежедневно. – О, карпы! – Сато мечтательно улыбнулся. – Кои! Трамбо повернул тележку на север от бухты Кораблекрушения. – Еще у нас есть бассейн с мантами, подсвеченный галогеновыми лампами в две тысячи ватт. Ночью мы их включаем, и можно стоять на скале и любоваться, как плавают манты. Сато опять улыбнулся. – Этот пляж сейчас лучший во всей Южной Коне, – продолжал Трамбо. – Мы соби… завезли на него восемь тысяч тонн белого песка. Сато кивнул, спрятав подбородок в складках жира на шее. Лицо его в лучах восходящего солнца было совершенно бесстрастным. Процессия прогудела мимо обеденных павильонов, садов и лагун и подъехала к новой шеренге пальм, за которой на возвышениях стояли большие, украшенные резьбой хале. – Это Самоанский мыс, – объявил Трамбо, пока они ехали вдоль аккуратно подстриженных цветочных клумб. – Здесь находятся самые большие хале. В каждом могут с комфортом разместиться десять человек. Вон в тех крайних есть свои бассейны и свой штат прислуги. – Сколько? – спросил Сато. – Простите? – Сколько в них стоит одна ночь? – Три тысячи восемьсот за ночь в Большом самоанском бунгало, – сказал Трамбо. – Не включая еды и чаевых. Сато улыбнулся, и только тут Трамбо понял, что переговоры действительно будут нелегкими. Оставалось надеяться на гольф. Миновав полуостров, тележки въехали в пальмовую рощу. – Это одна из трех теннисных площадок. На каждой по шесть кортов с мягким покрытием. За деревьями лодочная станция, где можно взять напрокат все – от каноэ до моторного катера. У нас их шесть, и каждый стоит около восьмидесяти тысяч долларов. Еще мы предлагаем гостям плавание с аквалангом, катер на подводных крыльях – дальше по берегу, здесь, в лагуне, это запрещено инструкцией, – парусный спорт, серфинг и прочее дерьмо. – Пирочее теримо, – согласился Сато. Казалось, он вот-вот заснет. Трамбо повел процессию назад к Большому хале. – Какова величина курорта? – осведомился Сато. – Три тысячи семьсот акров, – сказал Трамбо. Он знал, что эти данные указаны в проспекте, который Сато, конечно, читал. – Включая четырнадцать акров заповедника… знаменитые поля петроглифов. Тележки миновали лагуну с лениво плавающими золотыми карпами и проехали двадцатиметровый бассейн, где плескалось лишь несколько человек. Навстречу им за все время пути попалось всего трое прохожих. Сато не интересовался, почему на курорте так мало народу, – может быть, потому, что было еще рано. – Сколько всего мест? – спросил Сато. – Э-э-э… двести двадцать шесть хале… то есть бунгало… и триста двадцать четыре комнаты в Большом хале. Многим гостям нравится уединение. У нас бывали знаменитости, которые не вылезали из своих хале по две недели. К нам часто наезжают Норман Мейлер и Тед Кеннеди, как и сенатор Харлен. Они очень любят самоанские хале. В каждом бунгало есть кокосовый орех, и если его выставить на крыльце, вас никто не побеспокоит. Другие любят кабельное телевидение, факсы в комнатах и видеофоны. Мы стараемся угодить всем. Губы Сато скривились, будто он попробовал что-то горькое. – Шестьсот номеров, – тихо сказал он. – Два поля для гольфа. Восемнадцать теннисных кортов. Три больших бассейна. Трамбо подождал, но Сато больше ничего не сказал. Думая, что пора высказать свое мнение, он начал: – Да, мы не гонимся за количеством. Мы не можем соперничать с Ваймеа по числу туристов – говорят, там до тысячи двухсот номеров, с Кона-Вилледж – по тишине, с Мауна-Кеа – по вложенным средствам. Но обслуживание у нас лучше, дизайн отвечает самым изысканным вкусам, а снабжение ничуть не хуже, чем в Беверли-Хиллз… или в Токио. У нас отличные рестораны – пять штук плюс обслуживание в номерах Большого хале и в самоанских бунгало. И у нас лучшие на Гавайях поля для гольфа. – Гольф. – Хироси Сато произнес это слово почти нежно, наконец-то правильно выговаривая «л». – Следующая остановка. – Трамбо достал пульт дистанционного управления и направил его на лавовую скалу. В скале открылся проход размером с гаражную дверь, и процессия въехала по узкой асфальтовой дорожке в ярко освещенный туннель.
Сидя за столиком в Китовом ланаи – двухэтажном обеденном комплексе, поднявшемся над цветочными зарослями, как палуба океанского корабля над волнами, – Элинор наблюдала за караваном тележек. Все лица, которые она смогла разглядеть, были японскими. Она видела такие процессии японских туристов повсюду, но не думала, что они проявляют коллективизм и на курортах экстра-класса. Окна ланаи были распахнуты, и каждое дуновение ветра приносило снизу одуряющий аромат цветов. Пол был сделан из полированного эвкалипта, столы – из светлого дерева, стулья – из дорогих пород бамбука.На столах стояли хрустальные бокалы для воды. В зале могло разместиться человек сто, но Элинор видела не больше дюжины. Вся обслуга состояла из гавайских женщин, грациозно двигающихся в своих муумуу. Из репродукторов тихо струилась классическая музыка, но настоящей музыкой было шуршание пальмовых крон, которому вторил неумолкающий шум прибоя. Элинор изучила меню, отметив деликатесы наподобие португальской ветчины и французских тостов с кокосовым сиропом, и выбрала английские оладьи и кофе. Кофе оказался превосходным, и она блаженно откинулась в кресле, попивая его мелкими глотками. Из всех посетителей только она завтракала одна. Элинор Перри привыкла чувствовать себя одиноким мутантом на планете, заселенной парными особями. Путешествия, кино, рестораны – даже в постфеминистской Америке одинокая женщина в общественном месте вызывала интерес. А в некоторых странах, где побывала Элинор за время своих летних отпусков, это было просто опасно. Она привыкла. Ей казалось естественным ее одиночество в этом ланаи, как и во многих других местах. Она с детства читала за обедом – и сейчас дневник тети Кидцер лежал рядом с ее тарелкой, – но еще в колледже Элинор поняла, что чтение служит ей своеобразным щитом против одиночества среди счастливых семей и пар. С тех пор она никогда не открывала книгу в начале обеда, предпочитая наслаждаться разыгрывающимися вокруг маленькими драмами. Она жалела счастливые семьи, за своими обычными разговорами упускавшие захватывающие психологические поединки, разыгрывающиеся за каждым столиком. Происходили они и в это утро на ланаи Мауна-Пеле. Занято было только шесть столиков – все около окон, и за всеми сидели семейные пары. Элинор мигом оценила их; все американцы, кроме молодой японской четы и пожилых супругов, которые могли быть немцами. Дорогая курортная одежда, выбритые щеки у мужчин, модные стрижки и слабый в эпоху рака кожи загар у женщин. Разговаривали мало; мужчины перелистывали страницы «Уолл-стрит джорнел», женщины составляли план на день или просто сидели, глядя на море. Элинор тоже поглядела за пальмы, на маленькую бухту и огромный океан. Внезапно что-то большое и серое вырвалось из моря на горизонте и нырнуло обратно, подняв столб брызг. Элинор, затаив дыхание, смотрела туда, пока ярдах в двадцати не показался мощный фонтан. Китовый ланаи оправдывал свое название. Никто, казалось, ничего не заметил. Женщина за соседним столом громко жаловалась на плохие магазины и хотела домой на Оаху. Ее муж кивнул и откусил кусок тоста, не отрывая глаз от газеты. Вздохнув, Элинор взяла листок бумаги, сообщавший о мероприятиях этого дня на курорте Мауна-Пеле. Мероприятия были напечатаны изящным курсивом на дорогой плотной бумаге. Среди обычной курортной дребедени ее внимание привлекли два сообщения: в 9.30 экскурсия по курорту, которую будет вести доктор Пол Кукали, курирующий в Мауна-Пеле искусство и археологию. В 13.00 прогулка к Скалам петроглифов во главе с тем же доктором Кукали. Элинор улыбнулась. Она успеет надоесть бедному доктору еще до конца дня. Посмотрев на часы, Элинор попросила ожидающую неподалеку официантку налить ей еще кофе. На горизонте кит-горбач снова вспенил воду, приветствуя, как ей показалось – хотя она тут же выругала себя за антропоморфизм, – чудесный день.
Трамбо вез процессию по туннелю, вырубленному в черной лаве. – Проблема большинства курортов, – сказал он Хироси Сато, – это то, что приходится приглашать обслугу извне. Но у нас такого нет. На повороте он свернул вправо. Им навстречу попался электрокар, потом женщина на велосипеде в форме служащей. Большие зеркала на стенах позволяли ездокам и пешеходам заглядывать за повороты. – У нас здесь имеются все необходимые службы, – продолжал Трамбо, указывая на освещенные окна, мимо которых они проезжали. – Вот прачечная… в разгар сезона у нас стирки больше, чем в любом другом месте на Гавайях. Двадцать шесть фунтов ткани в каждом номере или хале. А вот это… чувствуете запах? Булочная, восемь рабочих в штате, работает всю ночь. Вот здесь у нас садовник – у нас контракт с ботаническим садом, но кто-то же должен срезать и разбирать десять тысяч букетов, необходимых каждую неделю. Здесь офис нашего астронома… то есть вулканолога. Сейчас доктор Гастингс на вулкане, но завтра утром он будет здесь и побеседует с нами. Здесь мясник… мясо мы получаем из Ваймеа, из края паниоло… это гавайские ковбои… а вот офис куратора искусства и археологии. Пол – отличный парень, он коренной гаваец, учился в Гарварде и был нашим злейшим врагом во время строительства курорта. Вот я и… нанял его. Он чертовски много знает. Хироси Сато смотрел на миллиардера ничего не выражающим взглядом. Трамбо повернул влево. Выглядывавшие из дверей люди узнавали хозяина и махали ему. Он махал в ответ, иногда называя сотрудников по именам. – Так, здесь охрана… здесь хозяйственный отдел… специальный офис по воде… океанолог… зоолог… Хироси, у нас тут полно всяких зверей, птицы, белки, мангусты и еще чертова уйма. А здесь транспортная служба. – Сколько всего? – Чего? – Позади них Уилл Брайент рассмеялся над чем-то, что сказал мистер Мацукава. – Сколько служащих? – Примерно тысяча двести. – Это на пятьсот номеров? То есть примерно на восемьсот гостей? Трамбо кивнул. Хироси Сато считал хорошо. – То есть полтора служащего на каждого гостя? – Да. Но это гости мирового класса. Среди них есть те, кто снимает целые этажи в бангкокском «Ориентале», а зиму проводит в частных отелях в Швейцарии. Они вправе рассчитывать на самое лучшее обслуживание. И они платят за это. Сато кивнул. Трамбо вздохнул и направил тележку к выходу. Открылась автоматическая дверь, и они снова оказались под ярким солнцем тропиков. – Но это все детали, Хироси. Вот то, ради чего мы сюда приехали. Процессия направилась через пальмовую рощу к приземистому стеклянному сооружению. – О-о! – В глазах Хироси Сато впервые зажглось нечто вроде интереса. – Гольф!
Глава 8
Вьется дым над Килау, и лес поник, Больше уж нет табу на лехуа моих. Птицы огня сжирают лехуа мои И превращают цветы в живые огни. Меркнет небесный свет, Больше лехуа нет.Песнь Хий'ака, сестры Пеле
14 июня 1866 г., вулкан Килауэа Трещащие кости, ноющие мышцы и ни с чем не сравнимая усталость – все это препятствует мне тратить дополнительные силы на дневник, но ничто не может удержать меня от того, чтобы запечатлеть в памяти восторг, отчаяние и неописуемый ужас последних двадцати четырех часов. Пишу это при свете грозных творений мадам Пеле. Кажется, я уже писала, что Хило показался мне настоящим раем с его белыми домишками, утопающими в цветах улицами и обилием экзотической флоры: лаухала, или панданус, повсюду распускает листву и стремит свои воздушные корни на мостовую, словно намереваясь присоединиться к пешеходам, бананы вздымают свои гордые пурпурные шапки, и в каждом дворе растут гардении, эвкалипты, гуавы, бамбук, мангустаны, деревья камани, кокосы и всевозможные цветы, названий которых я не знаю. Миссионеры, населяющие этот земной рай, окружили меня таким вниманием, что только через неделю я смогла вырваться из пут их несколько надоедливого гостеприимства и начать свое путешествие к вулкану. По какой-то причине мистер Клеменс тоже задержался, и мы отправились в путь вместе. Следует упомянуть, что жители Хило, как туземцы, так и приезжие, с необыкновенным искусством ездят на лошадях, причем все, кроме самых пожилых леди, сидят в седле по-мужски. Поэтому, когда я выбрала себе лошадь – красивого чалого жеребчика с мексиканским седлом, расшитым бисером, и кожаными стременами, сделанными в виде футляра для защиты ног от колючек, – мне пришлось перенять местный обычай. Все лошади, выбранные для путешествия, были связаны друг с другом длинной веревкой и везли сумки, полные хлеба, бананов и бутылок с холодным чаем. В нашу группу вошли младший из братьев Смитов, молодой Томас Магуайр (племянник миссис Лаймен), преподобный Хеймарк и наш бравый корреспондент мистер Клеменс. Мистер Вендт, который и предложил, собственно, это рискованное путешествие в царство Пеле, внезапно заболел и попросил нас отправиться в путь без него. Признаюсь, что при известии о присоединении к нам мистера Клеменса я испытала противоречивые чувства. С одной стороны, его цинизм грозил разрушить очарование этого необычного путешествия, но с другой – Смит и Магуайр были непроходимыми тупицами, неспособными поддержать даже простейшую беседу, а тучный преподобный интересовался, казалось, только едой и Посланием апостола Павла к галатам. Поэтому я была искренне рада видеть рыжую шевелюру и воинственные усы мистера Клеменса. Наш проводник Ханануи, одетый по неподражаемой туземной моде, не тратя времени на объяснения, пустил коня вскачь и повел нашу разношерстную группу прочь от Хило. У меня был выбор: притвориться, что я управляю конем, или вцепиться покрепче в луку седла и отдаться на волю животного. Я выбрала второе. Вскоре мы оставили позади домики и сады Хило, продрались сквозь тропические заросли и начали подниматься в гору по тропинке застывшей лавы шириной не более двадцати дюймов. Цепляясь за седло, в то время как завязки новой, купленной в Денвере шляпки с мягкими полями врезались мне в горло, я могла только уклоняться от встречных веток, чтобы не быть сброшенной моим скакуном. Я решила назвать его Лео, не зная еще, что почти так звучит гавайское название лошади – «лио». Примерно через час, когда лес сменился полями сахарного тростника, Ханануи остановился и раздал всем оловянные чашки с холодным чаем. После чаепития мы выехали на гигантское поле гладкой лавы, или пахоэхоэ, простирающееся почти до горизонта. Одного вида этой зловещей черной равнины хватило бы нестойкому путнику, чтобы повернуть назад, если бы ее не оживляли пробивающиеся то тут, то там кустарники. Среди них я узнала изящную микролению, вьющуюся глихению гавайскую и метиросидерос с маленькими красными цветами – здесь его называют «охио». К сожалению, человеческие особи были не так разнообразны. Тропа на лавовом поле стала шире, и путешественники разбились на пары. Возглавляли шествие Ханануи и мистер Клеменс, следом ехали Магуайр и надутый Смит, тяжело переживающий временную потерю любимого брата. В хвосте плелись я и преподобный Хеймарк. Он не очень уютно чувствовал себя в седле, но и его лошадь была не в восторге от веса почтенного служителя церкви, и это взаимное недовольство загнало их в конец колонны. Мистер Вендт предупреждал нас, что дорога будет нелегкой – больше тридцати миль по лавовым полям, на высоте более четырех тысяч футов, но я не была готова к усталости, которая навалилась на меня, когда мы достигли того, что Ханануи назвал «привалом». Слово рождало заманчивые образы удобных кресел и горячего чая, но все свелось к маленькой травяной хижине. Впрочем, мы были рады и этому, так как пошел дождь, совершенно промочивший мою шляпку. Ханануи был явно обеспокоен тем, что мы можем не достичь нашей цели до темноты, поэтому он обошел всех нас и убедился, что мы привязали шпоры – тяжелые мексиканские орудия пыток с дюймовыми шипами. Допрошенный мистером Клеменсом, проводник сознался, что нам предстоит еще не менее пяти часов пути без привала и каких-либо источников воды. Я отставала все сильнее, поскольку у меня даже не было сил пришпоривать моего скакуна. Кроме того, вода со шляпки стекала мне за шиворот, и мне приходилось ехать с неестественно вытянутой шеей. Внезапно я увидела рядом с собой мистера Клеменса. Рассерженная таким проявлением жалости (если это была жалость), я пришпорила Лео, но упрямый корреспондент не отставал. Он закурил очередную удушливую сигару, закрывая ее от дождя полями своего гигантского сомбреро. С завистью я отметила, что на нем надет плащ из какой-то блестящей материи, очевидно, непромокаемой. Мои же юбки и бриджи для верховой езды насквозь промокли и весили, казалось, сотню фунтов. – Впечатляет, правда? – спросил бывший штурман. Я согласилась самым недружелюбным тоном. – Очень мило со стороны туземцев так надушить для нас воздух. И устроить эту иллюминацию. – Иллюминацию? Мистер Клеменс кивком указал назад, и я впервые за несколько часов повернулась в седле и поглядела на восток. На лавовом поле, где мы находились, по-прежнему шел дождь, но вдалеке заходящее солнце окрашивало океанские волны золотом и багрянцем. Облака отбрасывали на гладь океана тени, мечущиеся по поверхности, как огромные рыбы. Слева от нас, в долине между вулканами Мауна-Лоа и Мауна-Кеа, солнечный свет пробивался сквозь тучи и падал вниз струями жидкого золота, освещая ярко-зеленые кроны деревьев. – Вы, наверное, удивляетесь, глядя на это, почему язычники не обратились в христианство еще до прибытия первых миссионеров? – осведомился мистер Клеменс. Он восседал на коне с гордостью бывалого наездника, и дождевая вода ручьями стекала с его сомбреро. Я села прямо, сжав поводья левой рукой, как будто правила своим конем. – Вы противник церкви, мистер Клеменс? Мой непрошеный спутник выпустил облако ядовитого дыма. – Какой церкви, мисс Стюарт? – Христианской, мистер Клеменс. Я устала, промокла и была не настроена обсуждать тему, которой хватило бы на поездку от Миссури до Калифорнии. – Какую из христианских церквей вы имеете в виду? Даже здесь, на Гавайях, у язычников есть большой выбор. – Вы отлично знаете, что я имею в виду, мистер Клеменс. В ваших словах заключено презрение к нашим отважным миссионерам. И к вере, которая завела их так далеко от дома. Мгновение помолчав, мистер Клеменс кивнул и рукой стряхнул воду со шляпы. – Я знал одну миссионерку, посланную сюда, на Сандвичевы острова. С ней случилась ужасная вещь. Вернее, я знал не ее, а ее сестру. Удивительно щедрая женщина, могла дать вам все, о чем попросите… если у нее это было. Казалось, корреспондент был полностью поглощен приятными воспоминаниями, и, подождав несколько минут, я спросила: – Так что же с ней случилось? Мистер Клеменс недоуменно взглянул на меня: – С кем? – С миссионеркой. Сестрой вашей знакомой, которую послали на Сандвичевы острова. – А-а! Ее съели. – Прошу прощения? – Съели, – повторил корреспондент сквозь зубы, в которых была зажата сигара. – Туземцы? – спросила я в ужасе. – Гавайцы? – Конечно туземцы. Неужели вы думаете, что я имею в виду других миссионеров? – Какой ужас! Он кивнул: – Они потом очень жалели об этом. Туземцы то есть. Когда родственники бедной леди приехали за ее вещами, туземцы говорили им, что очень сожалеют. Они говорили, что это произошло случайно. Я смотрела на него, не в силах произнести ни слова. Наши кони мягко ступали по намокшей лаве. – Случайно, – повторила я упавшим голосом. Он стряхнул пепел с сигары. – Согласен с вами, мисс Стюарт. Такие вещи случайно не происходят. – Он назидательно поднял вверх палец. – Это часть космического плана… если угодно, Божественного Провидения! Я молчала. Мистер Клеменс ухмыльнулся в усы и, пришпорив коня, обогнал преподобного Хеймарка и двух джентльменов, впавших в сонное оцепенение, и опять присоединился к Ханануи. Впереди, за неожиданно возникшей перед нами рощей деревьев, вставало сияние более яркое и свирепое, чем отраженный закат. Лужи вокруг нас сделались багровыми, и я невольно подумала о туземцах, совершавших на этих черных скалах человеческие жертвоприношения и оставлявших за собой лужи крови. Вулкан возвышался перед нами во всей своей славе. Мы вступили во владения грозной богини Пеле.Чтобы убить время до лекции, Элинор решила прогуляться по курорту. Понемногу она начинала ориентироваться. К востоку от Большого хале находились сады, пальмовая роща, один из трех теннисных центров и оба поля для гольфа – одно уходило вдоль берега на север, второе – на юг. К западу расположились Приморский луг, лагуны, бар Кораблекрушения, манговый пруд и протянувшийся на четверть мили пляж. К югу от пляжа можно было увидеть густые заросли, где находилось большинство хале, в том числе и ее. К северу от пляжа, на длинном скалистом мысе стояли самоанские бунгало – шикарные коттеджи с двориками-ланаи и бассейнами. С севера, востока и юга курорт ограждали поля аха. К океану можно было подобраться только в районе пляжа и лодочной пристани, находящейся на северном краю полуострова. Элинор уже узнала, где находятся петроглифы – на узкой тропе, ведущей к берегу через лавовые поля на юге, сразу же за полем для гольфа. Маленькая табличка в начале тропы сообщала, что рисунки на скалах сделаны древними гавайцами и охраняются администрацией курорта. Другая табличка просила гуляющих вернуться до темноты, поскольку поля аха полны трещин и лавовых трубок и могут представлять опасность. Она вернулась к Большому хале за двадцать минут до начала экскурсии. Миновав выход в Китовый ланаи и несколько закрытых ресторанов, она вышла в просторный атриум. Похоже, Большой хале был курортом в курорте, не выходя из которого можно было наслаждаться экзотическим отдыхом. Внешний вид здания был обманчив: стилизованная крыша и обвивающие стены лианы создавали колорит туземной хижины, но внутри все семь этажей были обставлены с предельной элегантностью. Входящему в Большой хале со стороны океана предстояло пройти сначала через бамбуковую рощу, мимо прудов с карпами и цветущих орхидей. В здание они входили как бы незаметно благодаря открытому атриуму и обилию лиан и растений в кадках. Элинор подумала, что так могли выглядеть дворцы древнего Вавилона. В двухэтажном вестибюле блестели натертые полы, у входа таинственно улыбались золоченые будды. По стенам расположились торговые киоски, но большинство их было закрыто. По залу бродили без видимой цели несколько рабочих, но они не могли избавить Элинор от ощущения пустоты и тишины, которую нарушали только отдаленный шум прибоя и крики птиц, сидящих в клетках, – здесь были какаду, макао, птицы-носороги и многие другие экзотические пернатые. В свое время у Элинор был продолжительный роман с архитектором, и теперь она могла оценить кедр и резное красное дерево, полированные медные ручки, мраморные подоконники, карнизы из железного дерева и японские веранды, одновременно традиционные и изысканные. Здесь не было диснеевской агрессивности в отношении материала – во всяком случае, так сказал бы ее бывший ухажер. Почему-то Элинор подумала, что ей нужно отпустить волосы. Обычно она стриглась коротко – кто-то из друзей сказал, что она похожа на Амелию Эрхарт, – но весной позволяла волосам отрасти, чтобы подстричь их во время летнего путешествия. Обычно в незнакомом городе она оставляла вещи в отеле и отправлялась на поиски женской парикмахерской – она до сих пор называла их про себя салонами красоты, хотя еще тетя Бини смеялась над этим словом. Там, выясняя, какая стрижка в этом сезоне считается самой модной, Элинор очень быстро ломала языковой и культурный барьер и находила общий язык с женщинами. За время стрижки и сушки волос они успевали сообщить ей, где найти хорошие рестораны и магазины, что стоит посмотреть, и иногда сами показывали ей эти места. Она стриглась в Москве и Барселоне, Рейкьявике и Бангкоке, Гаване и Стамбуле… какой бы ужасной ни была стрижка, волосы отрастали, и осенью она стригла их у себя в кампусе. Теперь Элинор интересовало, где стригут волосы женщины, работающие в Мауна-Пеле. Конечно, не здесь. Здешний салон красоты по ценам конкурировал с Беверли-Хиллз. Она знала, что большинство служащих привозят на автобусах издалека – иногда из самого Хило. Поглядев на часы, она увидела, что настало время начала экскурсии. В программе говорилось, что желающие должны собраться у будд в вестибюле, но Элинор никого не видела. Будды были сделаны из кованой бронзы и при ближайшем рассмотрении оказались вовсе не буддами. Она достаточно путешествовала по Азии, чтобы узнать так называемых послушников, сложивших ладони в молитвенной медитации. Сделаны они были, скорее всего, в Камбодже или Таиланде. – Таиланд, – сказал приятный голос позади нее. – Конец восемнадцатого века. Обернувшись, Элинор увидела мужчину одних с ней лет, лицо которого безошибочно говорило о его полинезийском происхождении. Его коротко подстриженные волосы с проседью заметно курчавились, а глаза за круглыми очками в тонкой оправе были большими и выразительными. Кожа его имела оттенок темного дерева, которое украшало интерьеры Большого хале. Этот оттенок еще больше подчеркивали рубашка из голубого шелка и светлые хлопчатобумажные брюки. – Доктор Кукали? – Элинор протянула руку. Его рукопожатие было мягким, как шелк его рубашки. – Пол Кукали. Похоже, на сегодня вы составляете всю группу. Можно узнать ваше имя? – Элинор Перри, – сказала она. – Рад познакомиться, мисс Перри. – Раз уж наша группа такая маленькая, зовите меня просто Элинор. – Она опять повернулась к скульптуре. – Превосходные послушники. Пол Кукали с удивлением взглянул на нее: – Вы знаете, кто это? Тогда, может быть, вы знаете и для какой цели служили эти статуи? Заметили какие-нибудь различия? Элинор покачала головой: – Вряд ли. Носы немного отличаются. И одежда. У обоих длинные уши, что означает королевское происхождение… – Лакшана, – сказал куратор по искусству. – Да, но у одного уши больше. Кукали подошел ближе и положил руку на золоченую поверхность: – Это идеализированные портреты дарителей. То же мы видим в христианских храмах эпохи Возрождения. Даритель редко мог справиться с искушением увековечить себя в предметах поклонения. Элинор оглядела скульптуры, резные столики, ширмы и буддийские алтари, украшавшие вестибюль и прилегающие коридоры. – Здесь хватит экспонатов на целый музей. – Это и есть музей. – Кукали улыбнулся. – Только я убедил мистера Трамбо не прикреплять ни к чему таблички. В Мауна-Пеле лучшая коллекция восточного и тихоокеанского искусства на Гавайях. Конкурировать с ней может лишь коллекция Мауна-Кеа, которую собирал сам Лоуренс Рокфеллер. – А почему вы против табличек? – Элинор пересекла вестибюль, чтобы поближе рассмотреть громадную японскую вазу. – Я аргументировал это тем, что туристы должны чувствовать себя не в музее, а как бы в гостях у друга, где можно расслабиться. – Понятно. Теперь Элинор рассматривала резные тайские скульптуры. – И еще я хотел подстраховаться от того, что кто-нибудь из гостей ненароком засунет одну из этих вещиц в карман. Элинор рассмеялась. Куратор сделал приглашающий жест в сторону выхода, и экскурсия началась.
В Мауна-Пеле было два поля для гольфа – «легкое», площадью 6825 ярдов, и более новое, площадью 7321 ярд, считавшееся «трудным». Оба они напоминали извилистые зеленые прорези в черном бархате лавовых полей. Байрон Трамбо решил для начала отвезти Сато на «легкое» поле, оставив «трудное» на завтра. Первые шесть лунок прошли хорошо. Ведущую четверку могли бы составить Трамбо, Сато, Уилл Брайент и Инадзу Оно, но, к раздражению босса, Брайент играть отказался, вызвавшись постеречь тележки. Четвертым пришлось взять Бобби Танаку, который играл в гольф куда хуже, чем вел переговоры. К тому же манера игры Сато оказалась такой же агрессивной, как у Трамбо. Трамбо знал, что для удачи сделки нужно подыгрывать Сато, и, скрежеща зубами, пропустил несколько хороших ударов. Он взял с собой своего всегдашнего подавальщика Гаса Ру, а Сато подавал мячи старик японец, более уместный в рыбачьей деревне на Хонсю, чем на пятизвездочном курорте. День оставался ясным и теплым, от моря тянуло приятной прохладой, и Сато почти догнал Трамбо, у которого тем не менее оставался небольшой перевес. Трамбо так же любил выигрывать в гольфе, как и во всем остальном, но был готов проиграть хоть сейчас, если бы это помогло продать проклятый курорт. Такой исход казался вполне вероятным – светило солнце, тучи пепла отнесло далеко на восток, и не было видно никаких бурлящих рек лавы, грозящих поглотить играющих. Все начало портиться после восьмой лунки. Уилл Брайент отозвал его к тележке: – Шерман звонил с Антигуа, босс. Плохие новости. Бики в слезах. Она чуть не задушила Феликса, и ему пришлось взять ее в самолет. – Черт! – Сато промазал, и Трамбо сочувственно улыбнулся ему. – И куда она летит? – Сюда. – Сюда? – Именно. – Черт! Но кто сказал ей, что я здесь? Уилл Брайент только пожал плечами: – Это еще не самое плохое, босс. Байрон Трамбо уставился на него, ожидая продолжения. – Четыре часа назад миссис Трамбо и ее адвокат вылетели из Нью-Йорка. – Только не говори, что они летят сюда. Это же просто смешно. – Они летят сюда. Должно быть, попытаются наложить лапу на Мауна-Пеле. У Кестлера на такие дела нюх. Трамбо представил себе лошадиную физиономию и седые, связанные в хвост волосы Майрона Кестлера – адвоката по разводам, когда-то защищавшего «черных пантер» и антивоенных демонстрантов, – и попытался вспомнить телефон наемного убийцы, с которым его когда-то знакомили в Детройте. – Кэтлин, Кэтлин, девочка, – прошептал он тихо. – Почему я не задушил тебя раньше? – Это еще не все, – сказал Брайент. Трамбо поглядел на Сато, заносящего для удара свою коротенькую клюшку. – Майя? Брайент кивнул. – И она летит сюда? Трамбо в который раз попытался представить всех своих трех женщин вместе, и снова у него ничего не получилось. – Барри точно не знает. Вчера она поехала по магазинам и не вернулась. Трамбо улыбнулся. У Майи был свой самолет. – Выясни. Если она летит сюда, пусть ей не дают посадки. Если она все же начнет садиться, отправь туда Бриггса с зенитной ракетой. Уилл Брайент оглянулся на неулыбчивого охранника, но ничего не сказал. – Мать твою… – проникновенно сказал Трамбо. – Точно, – согласился его помощник. Сато закатил шар в лунку и улыбнулся сопернику. – Знаешь что? Скажи, пусть собьет их всех, – сказал Трамбо и пошел прочь.
Экскурсия по плану длилась час, но прошло девяносто минут, прежде чем Элинор и Пол Кукали вспомнили о времени. Бродя по семи этажам Большого хале и по прилегающему саду, они осматривали древнюю гавайскую керамику, пятифутовые ритуальные маски из Новой Гвинеи, японские статуи четырнадцатого века, бронзовых крылатых львов у входа в «президентский номер», китайскую лягушку из красного лакированного дерева и другие редкости. Элинор редко так наслаждалась, говоря об искусстве. Еще во время экскурсии она узнала, что он вдовец, а он – что она никогда не была замужем. Он угадал в ней преподавателя, но удивился, когда она сказала, что занимается эпохой Просвещения. Они обнаружили, что оба интересуются дзэн-буддизмом, любят тайскую кухню и терпеть не могут политику. – Извините, что я так бежал, – сказал Кукали, когда они опять оказались в вестибюле. – Это все из-за того Будды. Он очень сильно на меня влияет. – Ничего. Спасибо, что показали мне «колесо судьбы» на его ладони. Куратор улыбнулся: – Вы правильно сделали, что вложили ему в руку цветок. Элинор поглядела на часы: – Знаете, не хотелось бы вам докучать, но я собиралась и на экскурсию к петроглифам. Если других желающих нет, может, сейчас и отправимся? Пол широко улыбнулся, показав белые ровные зубы: – Тогда и эта экскурсия может кончиться поздно. – Он поглядел на свои часы. – У меня идея. Если хотите, можем пообедать вместе в ланаи и прямо оттуда отправиться на экскурсию… Черт, это напоминает заигрывание, правда? – Нет, – сказала Элинор. – Это напоминает приглашение, и я его принимаю. На ланаи собралось меньше десятка туристов, но среди них была Корди Стампф, замотавшаяся в пляжное полотенце. Она потягивала что-то из высокого бокала и, нахмурившись, смотрела в меню, будто оно было написано на иностранном языке. – О, – обрадовалась Элинор, – вот и моя знакомая. Может, она захочет к нам присоединиться? – Может быть, – сказал Кукали с выражением, похожим на облегчение. Корди Стампф, прищурясь, посмотрела на них. Нос у нее уже обгорел. – Что стоите? Присаживайтесь. Верите ли, они подают здесь дельфина! Я как раз думаю, смогу ли одолеть сандвич с Флиппером.
Для Байрона Трамбо все окончательно испортилось на четырнадцатой лунке. Игра Сато шла к черту, у Танаки и Инадзу Оно дела тоже шли неважно, и Трамбо просто стоял на краю поля со своим подавальщиком Гасом и смотрел, как они зашиваются. Ему хотелось, чтобы все они быстрее запустили шары в лавовое поле и покончили с этой дурацкой игрой. Наконец Сато отошел к своему подавальщику, который с поклоном поднес ему шелковое полотенце. – Пожалуйста, играйте, Байрон-сан. «Пожаруста, игирайде». – Давайте вы, Хироси. – Трамбо широко улыбнулся. Брайент только что сообщил ему, что Кэтлин в самом деле подлетает к Кеахоле-Кона и уже заказала себе и адвокату номера в Мауна-Пеле. Его тошнило, но он не мог, не должен был этого показать. – Прошу. – Он сделал международный жест «только после вас». Сато покачал головой, впервые выказав что-то вроде раздражения: – Нет, играйте, а я пока подумаю, за какие грехи мне послана такая неудача. Трамбо, хмыкнув, ударил по шару. Гас поспешил к флагу, нагнулся, чтобы поднять его, и вдруг замер. – Подними его. Гас. – Но, мистер Т… – Подними и отходи. – Мистер Т, тут… – Подавальщик неотрывно глядел себе под ноги. – Я сказал: подними этот чертов флаг и убирайся! – Трамбо повысил голос до критических высот. Втянув голову в плечи, подавальщик поднял флаг и пошел назад какой-то странной походкой. Трамбо подумал: уж не хватил ли его удар? Только этих проблем ему недоставало! Чертыхнувшись, Трамбо поспешил к лунке, чтобы взять шар самому, пока японец ничего не заметил. К счастью, Сато был занят разговором с Инадзу Оно. Сперва он не понял, что происходит. Когда его пальцы коснулись пальцев другой руки, ему просто показалось, что кто-то из-под земли хочет с ним поздороваться. В следующую секунду он замер, чувствуя, как волосы у него встают дыбом. Он нагнулся и заглянул в лунку. Его шар лежал там, зажатый в пальцах посиневшей человеческой руки, отделенной от тела. Оглянувшись, он увидел, что Сато и Оно все еще заняты разговором, а Бобби Танака только что промазал и теперь шел за шаром. Гас Ру стоял на краю поля, беспомощно опустив руки. Лицо у него было очень бледным для гавайца. В руке он по-прежнему держал флаг, и Трамбо заметил, что древко его испачкано кровью. Он криво улыбнулся, глядя в сторону Сато. Почему-то в голове промелькнула мысль: «Что, если эта штука сейчас оживет и потащит меня вниз?» – Отличный удар, Байрон-сан, – похвалил его Сато. Трамбо продолжал улыбаться, застыв в неудобной позе. Уилл Брайент встревоженно смотрел на него – он уже понял, что с боссом что-то неладно. Собравшись с духом, Трамбо взял шар из холодных пальцев, сунул его в карман и медленно выпрямился. – Кто хочет выпить? – спросил он внезапно охрипшим голосом. Сато нахмурился: – Выпить? Но, Байрон-сан, мы ведь только на четырнадцатой лунке. Трамбо пошел к нему, стараясь заслонить своим телом лунку. – Ну и что? Стало жарко, мы устали, вот я и подумал, что пора передохнуть и выпить в тени чего-нибудь холодного. – Он показал на пальмовую рощицу неподалеку. – Я буду играть, – заявил Сато, очевидно, заподозрив соперника в неуклюжей попытке замять его поражение. – Все равно промажете, – сказал Трамбо, все еще по-дурацки улыбаясь. – Промажете? – Не попадете в лунку. – Почему это не попаду? – Сато нахмурился еще сильнее. – Потому что сегодня жарко, Хироси. Игнорируя нахмуренные брови Сато и остальных японцев, он кивком отозвал Брайента на край поля. – Там в лунке какая-то дрянь, – прошипел он в самое ухо помощнику. – Возьми у Гаса полотенце и выбрось ее, только так, чтобы япошки ничего не заметили. Поглядев на босса, Уилл Брайент коротко кивнул и пошел к подавальщику. Трамбо вернулся к японцу и похлопал его по плечу, отчего тот едва заметно поморщился. – Позвольте вам кое-что показать. – Он достал из дипломата Брайента планы курорта и проспекты и эффектным жестом разложил их на сиденье тележки. Сато, Танака и Оно собрались вокруг, глядя на него, как на ненормального. Почему-то тут же оказался и старик подавальщик. «Может, я и правда спятил?» – подумал Трамбо. – Хироси, во время игры я думал вот о чем. Что, если устроить вот здесь… и здесь… и вот здесь новые поля и превратить это все в эксклюзивный суперклуб для токийских миллионеров? Сато недоуменно смотрел на него. Он с самого начала хотел сделать из Мауна-Пеле такой клуб, и обе стороны прекрасно это знали. – Все это хорошо, но я хочу играть. – Сато повернулся к полю. Уилл Брайент склонился над лункой, зажав в руках полотенце. Гас Ру сидел на лавовом склоне, согнувшись и обхватив голову руками. – Вы только взгляните на это. – Трамбо чуть ли не силой повернул маленького японца назад к карте. Он чувствовал, как по коже Сато пробегают мурашки отвращения. – Я имею в виду, срыть здесь все бульдозером, устроить лагуны, сады и всякое такое, как на Западе… Как вам такой план? – Байрон, – вмешался Бобби Танака, – я думаю, мы… – Заткнись. – Трамбо оглянулся. Уилл Брайент с полотенцем убегал за лавовую гряду. – Просто я хотел об этом сказать. Нужно делиться с партнерами новыми идеями, так ведь? А теперь можно вернуться к игре. Инадзу Оно что-то сказал своему боссу. – По-моему, следующим бьет мистер Сато, – обратился он к Трамбо. – Конечно-конечно. Среди японских слов Трамбо уловил «американец» и «сумасшедший». Плевать. Сато взялся за клюшку, и в ту же минуту из-за лавовых глыб появился Брайент. Никто, казалось, его не заметил. Как ни странно, Сато с одного удара попал в лунку. Все зааплодировали, кроме Гаса Ру, который до сих пор не поднял головы. По пути к пятнадцатой лунке Брайент подошел к боссу и шепнул ему: – Мне кажется, я заслужил премию.
Глава 9
Для полинезийской культуры характерно бинарное видение мира, при котором категории устанавливаются в противопоставлении. Наиболее распространенной является дихотомия мужчины к женщине, где «мужские» качества – это доброта, сила, а «женские» – слабость и нечто темное, опасное, но парадоксальным образом по сути своей дающее жизнь. Уильям Эллис, «Полинезийские исследования» После ленча Элинор, Корди и Пол Кукали отправились на поле петроглифов. Тропа петляла между глыб аха, как гладкая лента, брошенная на каменистый пляж. Справа тянулись прибрежные скалы, слева остались пальмовые рощи и поля для гольфа. Элинор морщилась, когда к звукам ветра и волн добавлялись крики игроков. – Когда Трамбо начал строить курорт, – сказал куратор, – мы обратились в Верховный суд штата, чтобы защитить петроглифы и древние рыбные пруды. – А где же пруды? – спросила Корди Стампф. – Вот именно. – Пол Кукали горько улыбнулся. – Прежде чем вышло решение суда, они засыпали пруды. Я угрожал международным скандалом, и петроглифы не тронули… только проложили рядом с ними беговую дорожку. Они остановились перед табличкой, поставленной рядом с невысокой скалой, на которой была изображена еле различимая мужская фигура. – Это и есть петроглифы? – спросила Корди. – Да. – И сколько им лет? Она наклонилась над рисунком, расставив свои крепкие ноги. – Никто не знает. Но поселения здесь одни из самых древних на острове… возможно, они относятся ко времени прибытия первых полинезийцев. Это было тысяча четыреста лет назад. Корди присвистнула. – А это что за круглые дырки? Пол и Элинор тоже склонились над скалой. – Их называют «пико», – объяснил куратор. – Когда младенцам обрезали пуповину, ее клали в эти отверстия и закладывали их маленькими камнями. Люди шли издалека, чтобы спрятать здесь пуповину своих детей. Можно только догадываться, почему этому месту приписывалась такая большая мана. Корди хотела задать очередной вопрос, но Элинор опередила ее. – Мана – это духовная сила, – сказала она. Пол кивнул: – Древние гавайцы считали, что маной обладает все, но некоторые места вроде этого считались особенно могущественными. Элинор встала и подошла к скале, на которой между отверстиями-пико было нарисовано несколько человеческих фигур. Она посмотрела на одну из них – с птичьими ногами, торчащими волосами и огромным пенисом. Корди подошла к ней: – Ну и член у этого парня! Это, наверное, значит, что у него много маны? Пол Кукали улыбнулся: – Вполне возможно. Все, что гавайцы делали или думали, вертелось вокруг маны, или капу. – Табу? – переспросила Элинор. Пол сел на скалу и бережно дотронулся до рисунка, которым любовалась Корди. – Капу – это не просто правила или запреты. Многие сотни лет гавайцами управляла мана – духовная сила, исходящая от богов, от земли или от других людей. А капу помогало удерживать эту силу… не давало ее похитить. Корди почесала нос: – Они думали, что силу можно похитить? Куратор кивнул: – Когда алии – вожди – проходили мимо простых людей, те должны были падать ниц и прятать лица. Если даже их тень падала случайно на вождя, их за это убивали. Вожди обладали маной, от которой зависела жизнь всего их рода, и за попытки похитить ее жестоко наказывали. Корди поглядела на лавовые поля. – Так здесь… совершались человеческие жертвоприношения? – Скорее всего. В этой части острова много хеиау – древних храмов, где приносились жертвы. При основании любого из них в фундамент полагалось заложить тело раба. – Тьфу ты! – воскликнула Корди. – Но были и другие храмы, вроде Пуухонуа-о-Хонаунау вниз по побережью. Там, в так называемом селении Беглецов, простые люди могли спастись от смерти. – Скажите, – спросила Элинор, – нет ли среди здешних хеиау того, что был, согласно легенде, выстроен за один вечер Идущими в Ночь? Пол Кукали поглядел на нее с удивлением: – Да. Это именно здесь, хотя никаких следов храма не сохранилось. Но именно по этой причине мы так боролись за сохранение этого места в целости. – Идущие в Ночь? – спросила Корди. Куратор, повернувшись к ней, улыбнулся: – Это процессии мертвых… точнее, покойных вождей и воинов. Тем, кто встречался с ними, грозила серьезная опасность. По преданию, именно эти мертвецы выстроили здесь хеиау за одну ночь в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году. А откуда вы об этом знаете? – От Марка Твена, – ответила Элинор. – Ах да, я и забыл о его гавайских записках. Он был на Большом острове именно в ту осень. Но, по-моему, письмо, где он писал об Идущих в Ночь, так и не было опубликовано? Элинор промолчала. – А вы чистокровный гаваец? – спросила Корди с детским любопытством. – Да. Нас, по правде говоря, осталось не так уж много. На гавайское происхождение на островах претендуют сто двадцать тысяч человек, но чистокровных, как вы выразились, из них всего несколько сотен. Может, это и хорошо? – В разнообразии – сила человека, – возразила Элинор. – Что ж, может быть, продолжим осмотр? Часть петроглифов все-таки уничтожили, но еще остались любопытные экземпляры, вроде человека с головой ястреба. Никто не знает, что это значит. Они направились по тропинке, углубляясь все дальше в черные лавовые поля.Трамбо казалось, что проклятый гольф будет продолжаться вечно. Он отослал Гаса, дрожащего как осиновый лист, и теперь шары ему подавал племянник Гаса, Ники Ру. Несколько раз он посылал Уилла Брайента проверить, нет ли в лунках чего-нибудь… такого. – Нужно заявить об этом, – шепнул Брайент, в очередной раз вернувшись. – О чем? – прошипел в ответ Трамбо. – О том, что на поле стоимостью двенадцать миллионов долларов валяются отрезанные руки? Или что ты оттащил улику в лавовые поля, чтобы не смущать Хироси? Копам это очень понравится. Брайент не сдавался: – Мы должны об этом заявить. – Сперва ты должен вернуться и забрать эту штуку. Трамбо оглянулся туда, где Сато оживленно болтал по-японски со своими людьми. Последние несколько лунок ублюдку везло. – Прямо сейчас? – Нет, черт побери, не сейчас. Сначала проверь оставшиеся лунки. Я не хочу, чтобы Хироси наткнулся на отрезанную башку или что-нибудь в этом роде. Побледневший Брайент кивнул. – Потом найди Стиви Картера и скажи ему, что мы, похоже, нашли одного из тех парней из Ньюарка… частично. Слушай, а это точно мужская рука? – Да. Правая. Ногти наманикюрены. Трамбо поморщился: – Знаешь, казалось, что эта штука… эта рука подает мне шар. – Нужно сообщить копам. Байрон Трамбо покачал головой: – Только после заключения сделки. – Сокрытие улик… – …потребует от меня гораздо меньших расходов, чем те убытки, которые я понесу, если не удастся продать этот проклятый курорт. Так ведь? – Да, сэр. Но что я скажу Картеру, когда он потребует вызвать копов? – Напомни, что он обещал мне двадцать четыре часа. Они еще не прошли. – Он оглянулся на японцев. – Иди и не забудь проверить кусты. Это три человека, и тут могут быть разбросаны еще десятка два маленьких сюрпризов. Я не хочу найти в восемнадцатой лунке хер кого-нибудь из них. Брайент, вздрогнув, поспешно кивнул и пошел прочь. Теперь Трамбо немного расслабился, восседая за круглым столом с напитками вместе с Сато, Бобби Танакой, Инадзу Оно, Масаёси Мацукавой, доктором Тацуро, Санни Такахаси и Сэйдзабуро Сакурабаяси. Стол стоял в саду, из которого открывался вид на пальмовые заросли и крышу Большого хале. Облегчение длилось недолго. К столу с озабоченным видом приблизился Стивен Риддел Картер, все еще одетый в тропический костюм. Глазами приказав ему молчать, Трамбо громко сказал: – Присаживайся, Стив. Мы тут обсуждаем последние лунки Хироси.Отличная игра. – Его взгляд говорил: «Одно слово, и ты будешь менеджером мотеля в Жопенвилле, штат Айова». – Можно поговорить с вами, мистер Трамбо? – Сейчас? – Миллиардер кивнул на свой почти полный бокал с ломтиком ананаса на краю. – Если можно, сэр. – В голосе Картера таилось что-то, похожее на панику. Вздохнув, Трамбо извинился перед Сато и отошел с менеджером к теннисному корту за клубной террасой. – Слушай, если ты будешь настаивать на том, чтобы мы вызвали полицейских, скажу сразу: этого не будет. Слишком многое поставлено на… – Дело не в том, – сказал Картер ровным, ничего не выражающим голосом. – Мистер Брайент отвел меня туда, чтобы показать руку, но ее там не было. – Не было? – Нет. – Черт. Так это ваша новость? Может быть, крабы… – Нет, – сказал менеджер. – Не это. Трамбо нахмурился, ожидая продолжения. – Мистер Уиллс пропал. – Уиллс? – Конрад Уиллс… наш штатный астроном. – Когда? – только и смог выдавить Трамбо. – Этим утром. Последний раз его видели за завтраком, а в полдень он не появился на собрании сотрудников. – Где это случилось? – По всей видимости, в катакомбах. – Где? – В катакомбах… так называют служебные туннели. – А почему именно там? – Его офис… лучше вам самому взглянуть, мистер Трамбо. Там сейчас Диллон. Это ужасно, просто ужасно… Байрону Трамбо хотелось влепить менеджеру пощечину, чтобы он прекратил истерику. Но он этого не сделал. – Ну что ж, нам ведь не нужен астроном в ближайшие дни? Я имею в виду, не ожидается никакого затмения. Стивен Риддел Картер непонимающе глядел на него. Только сейчас Трамбо заметил, что он носит парик. «Неудивительно, что он всегда такой прилизанный», – подумал миллиардер. – Мистер Трамбо! – В голосе менеджера слышался шок. – Ну-ну, не пойми меня превратно. Конечно, мы будем искать бедного мистера… как его? – Уиллса. – Точно. Мы предпримем все возможное и сообщим в полицию завтра или когда-нибудь… а может, он просто решил, что пока не очень нужен, и отлучился? – Не думаю… – Но ты же не знаешь наверняка. – Трамбо положил руку Картеру на плечо и прищурился. – Никто не знает. И пока это не выяснено, вряд ли стоит поднимать шум из-за некоторых… нарушений. – Нарушений, – тупо повторил менеджер. Он казался накачанным наркотиками. Трамбо сдавил его плечо так, что Картер поморщился. – Пусть Диллон делает свою работу, а я буду делать свою, договорились? Тогда все будет хорошо. Картер выглядел так, будто подавился слишком большим куском. – Но офис… – Какой еще офис? – Голос Трамбо сделался почти вкрадчивым. Этот тон хорошо действовал на истеричных американских старух, подействует и на этого гомика в парике. – Офис мистера Уиллса. – А что с ним такое? Менеджер глубоко вдохнул, набираясь смелости: – Вам лучше самому взглянуть, мистер Трамбо. Миллиардер взглянул на свой «ролекс». Сато и его банда должны были пообедать на своем ланаи до очередной встречи, и у него было немного времени. – Ладно, покажи. – Он дружески хлопнул Картера по спине. – Они не хотят там оставаться. – Кто? – Разговор снова заходил в тупик. – И где? – Служащие. Все, кто работает в туннелях или ходит там. Им никогда там не нравилось. Ходили слухи… – Черт с ними. – Трамбо надоело разыгрывать добряка. – Они будут работать там или не будут работать вообще. – Но офис мистера Уиллса… это невозможно описать. – И не надо. – Трамбо опять посмотрел на часы. – Я сам все увижу.
– А что это за дырки в земле? – спросила Корди, указывая на зияющие отверстия в лавовых полях. – Лавовые трубки, – объяснил Пол Кукали. Он указал на восток. – Они усеивают весь склон Мауна-Лоа… на протяжении двадцати миль. – Неплохо. – Неплохо, – согласился куратор по искусству. – Лавовые трубки тоже были источником маны? – спросила Элинор. Пол кивнул: – По нуи хо-олахолако. Великая питающая ночь. По преданию, эти жерла ночи подобны утробам женщин, и через них из земли выходит мана. Корди хмыкнула и нагнулась над черным отверстием. – Осторожнее, – предупредил Пол. – Это и есть туннель, – сказала Корди удивленно, явно не поверив объяснениям куратора. – Я вижу, как он изгибается и уходит вбок. Стены какие-то морщинистые. – Это следы остывания лавы, – сказал Пол. – Ага. Мы могли бы спуститься прямо туда. Это не запрещено? Пол пожал плечами: – Во всяком случае, не поощряется. – Из-за летучих мышей? – спросила Корди. – Нет. На Большом острове мыши живут на деревьях. Просто там можно провалиться куда-нибудь. Эти туннели очень длинные. – Может, так и случилось со всеми этими исчезнувшими? Пол Кукали остановился, словно разом вспомнив о последних событиях на курорте. Элинор пристально посмотрела на него: – Кажется, полиция задержала кого-то по подозрению в этих убийствах? Пол опять кивнул: – Его зовут Джимми Кахекили. Но его скоро выпустят. – Почему? – Потому что он ни в чем не виноват. Кроме того, что у него длинный язык и он помешан на идее независимости. Корди отошла от отверстия и вернулась на дорожку. – Какой еще независимости? – удивилась она. – Довольно много гавайцев… коренных жителей… хотят, чтобы Соединенные Штаты вернули их островам независимость, – объяснил Пол. – А разве у вас была независимость? Я думала, здесь просто жили туземцы в травяных хижинах и все такое. Элинор слегка поморщилась, но Пол Кукали только рассмеялся. – Да, здесь были туземцы и травяные хижины, – сказал он, – но до января тысяча восемьсот девяносто третьего года было и собственное правительство. Белые плантаторы и американские моряки свергли королеву Лилиуокалани и аннексировали острова. Не так давно президент Клинтон письменно извинился за это перед гавайским народом. Большинство гавайцев этим удовлетворились, но другие, как Джимми Кахекили, продолжают требовать независимости. Корди Стампф только фыркнула: – Это как индейцы требуют назад Манхэттен? Пол развел руками: – Конечно, никто в здравом уме не думает, что американцы уйдут отсюда и оставят нам все отели и военные базы. Но, может быть, возможен какой-то ограниченный суверенитет… как у тех же индейцев. – В резервациях? – спросила Элинор. Куратор потер подбородок: – Вы слышали о Кахоолаве? – Да, конечно, – ответила Элинор. – А что это? – одновременно спросила Корди. – Кахоолаве – это крошечный остров, на который никого сейчас не пускают. Он считался священным у гавайцев, и там до сих пор много хеиау и других древних построек. – А почему туда никого не пускают? – спросила Корди. – До тысяча девятьсот сорок первого года островом владел один человек – белый плантатор, – а после Перл-Харбора американские военные корабли начали тренироваться там в бомбометании и делают это до сих пор. Корди улыбнулась, показав маленькие и довольно острые зубы: – Так гавайцы хотят независимости на полигоне? Уж лучше бы просили Мауна-Пеле. Куратор улыбнулся: – Я тоже так думаю. Но мы отклонились от темы. – От какой? – спросила Корди. – Кто убил туристов? – Нет. – Пол взглянул на часы. – От петроглифов. Время экскурсии уже почти вышло. Они продолжали идти по асфальтовой дорожке, петляющей среди черных скал. За весь день им не встретился ни один человек. – Расскажите нам о Милу и о входе в подземное царство, – попросила Элинор. Куратор удивленно поднял брови: – А вы хорошо знаете местный фольклор. – Не очень. Я читала об этом входе в том же письме Марка Твена. Он ведь находится где-то здесь? Прежде чем Пол Кукали успел ответить, Корди щелкнула пальцами: – Тогда все ясно! Курорт выстроен на древнем гавайском кладбище, и к тому же здесь находится этот, как его… вход в подземное царство. Вот все эти боги и духи и таскают туристов себе на ужин. Отличный сюжет для фильма. У меня одна подруга замужем за парнем из Голливуда, надо попробовать ему это загнать. Пол опять улыбнулся: – Да нет здесь никакого кладбища. А вход, о котором говорила Элинор, находится в долине Вайпио, на другом конце острова. – Черт. – Корди сняла очки и вытерла их о платье. – Тогда идея отпадает. – А скажите, – спросила Элинор, – не было ли другого входа в подземное царство на этом берегу? – По Марку Твену – может быть, – сказал куратор сухо. – Но по преданиям нашего народа, существует только один вход, который закрыла Пеле после великой битвы с темными богами. С тех пор никто из демонов или злых духов не беспокоил людей. Весь вопрос в том, кому верить: гавайцам или Марку Твену, который был здесь несколько недель и слышал все эти истории из вторых рук. – Вы правы, Пол. – Элинор опять посмотрела на часы. – Уже почти три. Извините, что задержали вас. Было очень интересно. – Точно, – поддержала ее Корди. – Занятные картинки. Особенно тот мужчина с членом. Они уже повернули назад к Большому хале, продолжая обсуждать петроглифы, когда от черной лавовой скалы отделился большой черный пес. Он вышел на тропинку, слегка помахивая хвостом. В зубах пес держал человеческую руку.
Глава 10
Я видел Везувий, но это просто игрушка, вулкан для детишек, котелок для супа в сравнении с этим.Марк Твен, описание Килауэа
14 июня 1866 г., вулкан Килауэа Мы прибыли в дом у подножия кратера около десяти. Сцена прибытия освещалась багровым светом извержения, в котором глаза лошадей сверкали, как рубины, а наша кожа казалась охваченной пламенем. За полчаса до того, как мы увидели «Дом у вулкана», в ноздри нам ударил запах серы. Я закрыла лицо шарфом, заметив, что мистер Клеменс никак не реагирует на зловоние. – Разве вас не беспокоит этот запах? – спросила я, на что он ответил: – Грешнику нужно привыкать к нему. За это остаток пути я с ним не разговаривала. Порой мне казалось, что я слышу шум прибоя, но океан находился в тридцати милях от нас. Очевидно, шумела лава, клокочущая внизу под нашими ногами. Когда мы подошли ближе, стали видны столбы пара, вздымающиеся вверх к низким тучам, будто подвижные колонны. Лошади, хотя и не в первый раз шли этим путем, выкатывали глаза и беспокойно ржали. Я рассчитывала на отдых в «Доме у вулкана», и он не так разочаровал нас, как предыдущий «привал». Встречать нас вышел сам хозяин заведения, а его служащие-туземцы занялись нашими измученными лошадьми. Он хотел накрыть нам ужин за большим общим столом, а потом развести по комнатам, но, несмотря на усталость, все мысли у нас были о вулкане, и мы вышли на веранду, в буквальном смысле нависавшую над кратером. – Великий боже! – воскликнул преподобный Хеймарк, выразив тем самым, как мне кажется, общее мнение. Вулкан Килауэа составляет в окружности около девяти миль, и глазам нашим открылась бездна глубиной не менее тысячи футов. Хозяин гостиницы показал нам наверху хрупкое строение, которое он назвал «смотровым домиком», упомянув о том, что оно находится всего в трех милях от жерла вулкана. – Похоже на ласточкино гнездо над сводами собора, – подал голос мистер Клеменс. Между нами и смотровым домиком простирался хаос сталкивающихся потоков лавы и огня, густой дым от которых поднимался к багровому небу, нависшему над кратером, как полог из красного шелка. Я взглянула на потрясенные лица моих спутников и увидела, что глаза у них так же искрятся красным, как у наших лошадей. – Правда, мы похожи на недожаренных чертей? – спросил, улыбаясь, неугомонный мистер Клеменс. Мне захотелось промолчать, чтобы пресечь его дальнейшие шуточки, но момент был слишком волнующим. – Скорее на падших ангелов, – сказала я. – Только не таких прекрасных, как у Мильтона. Рассмеявшись, мистер Клеменс повернулся к грозному зрелищу и зажег очередную сигару. Дым ее был таким же багровым, как серные испарения кратера. Большая часть кратера была покрыта реками и ручейками текущей лавы, в то время как багровый свет исходил в основном от огненного озера в южной его части – Хале-Маумау, или «Дом вечного огня», где, по местной мифологии, обитает ужасная богиня Пеле. Несмотря на удаленность, это озеро испускало больше огня и света, чем весь остальной кратер. – Я хочу туда, – сказал внезапно мистер Клеменс. Остальные были в шоке. – Прямо сейчас? – спросил хозяин, заметно побледнев. Я увидела, как огонек сигары корреспондента утвердительно качнулся. – Да. Прямо сейчас. – Невозможно, – сказал хозяин. – Никто из проводников не пойдет сейчас в кратер. – Почему это? Хозяин откашлялся: – Сейчас лава гораздо более подвижна, чем обычно. Там есть тропинка, но в темноте ничего не видно, даже с фонарем. Если вы сойдете с тропинки, то застывшая лава может вас не выдержать, и вы упадете с высоты тысячи футов. Я вздрогнула, представив себе эту картину. – М-м-м. – Мистер Клеменс передвинул во рту сигару. – Пожалуй, мне хватит и девятисот. – Прошу прощения? – Знаете, я все равно хотел бы попробовать. Не будете ли вы так любезны дать мне фонарь и показать тропу? – Он оглядел собравшихся. – Кто-нибудь желает пойти со мной? – Думаю, лучше выспаться и дождаться рассвета, – сказал молодой Магуайр. – Правильно, – поддержал его Смит, содрогаясь от одной мысли лезть в кратер ночью. К общему удивлению, преподобный Хеймарк отер лицо платком и сказал: – Знаете, я уже был там и могу… показать вам дорогу. Я помню эту тропу и, вероятно, смогу отыскать ее и ночью. Хозяин снова начал говорить об опасностях предполагаемого путешествия, но мистер Клеменс только улыбнулся еще шире и сказал, повернувшись ко мне: – Если мы не вернемся к рассвету, мисс Стюарт, позаботьтесь, пожалуйста, о моей лошади. – Можете попросить об этом кого-нибудь другого, – завила я. – Джентльмены, я отправляюсь с вами. – Но… но послушайте, леди, – начал преподобный, побагровев еще сильнее. Я отмела все возражения одним аргументом: – Если это неопасно для вас, то неопасно и для меня. А если опасно… что ж, тогда мы все останемся в дураках. Мистер Клеменс опять покачал своей сигарой. – Ничего не могу возразить. Поистине, мисс Стюарт – достойный член нашей дурацкой экспедиции. Преподобный Хеймарк издал негодующий звук, но так и не смог выразить свое мнение о словах корреспондента. Итак, пока слуги накрывали ужин для Магуайра и клюющего носом Смита, мы втроем отправились в путешествие по самому удивительному участку нашей удивительной Земли.Байрон Трамбо и Стивен Риддел Картер нашли своих охранников – начальника охраны курорта Диллона и личного охранника Трамбо Бриггса – у входа в катакомбы. Они составляли гротескную пару – шестифутовый громадный Бриггс с лысой головой и нервный бородатый крепыш Диллон. Трамбо обоим им доверял и использовал для самых разных надобностей. – Нашли твои ребята что-нибудь? – спросил он Диллона. Оба охранника переглянулись, потом Диллон открыл рот: – Мистер Трамбо, у нас проблема. Они спустились в гулкий туннель. – Понятно. Конечно, это проблема, когда по всему курорту валяются куски туристов. – Я не о том, – возразил Диллон. – То есть, конечно, это проблема, но… дело в том, что куратор по искусству Кукали и две туристки обратились к нам. Они утверждают, что видели собаку с человеческой рукой в пасти. Трамбо остановился так резко, что остальные трое едва не налетели на него. – Собаку с рукой? Где? Из окон и дверей офисов на них уставились бледные лица. Похоже, все уже знали об исчезновении астронома. Диллон подергал бороду и неопределенно улыбнулся. Казалось, происходящее забавляло его. – На беговой дорожке, между южным полем для гольфа и берегом. – Черт. – Трамбо понизил голос, чтобы не слышали служащие. – Вы говорите, это видели трое? – Да, сэр. Доктор Кукали и… – Кукали у нас в штате? – Да, куратор по искусству и археологии. Он… – Он тот чертов гаваец, что доставал нас с петроглифами и рыбными прудами, – закончил миллиардер. – Черт. Я нанял его, чтобы он заткнулся. Теперь вы думайте, как заставить его молчать насчет сегодняшнего. Где они сейчас? – Я собирался отвести их в свой офис, – сказал Диллон, – но эта проблема с мистером Уиллсом… – Это еще кто? Ах да, астроном! Знаешь, Стив, я отложу экскурсию. Сперва поговорю с Кукали и остальными. Менеджер покачал головой: – Это всего в сотне ярдов, мистер Трамбо. Думаю, вам нужно на это взглянуть. А потом я вместе с вами побеседую с мистером Кукали. – Ладно, веди, если это так чертовски важно! – рявкнул Трамбо. Маленькое окошко было занавешено. Вывеска на двери гласила: «Начальник астрономической службы». Картер отпер ключом дверь. – Она была заперта, когда мы пришли, – сказал менеджер. Трамбо кивнул и шагнул вслед за Картером в маленькую комнату. Его встретило зрелище, к которому он совсем не был готов. В комнате размером двенадцать на пятнадцать футов не было других дверей, не было даже шкафа. Большую ее часть занимали письменный стол, картотека и большой телескоп на штативе. О том, что в комнате что-то произошло, говорили только поваленный стул и трещина в стене, тянущаяся от пола до потолка. И еще кровь. – О господи, – прошептал Трамбо. Кровь пятнами покрывала стол, белые стены, единственный стул для гостей в углу, артериальными сгустками запеклась на глянцевых астрономических плакатах и на трубе телескопа. – О господи, – повторил Трамбо и шагнул назад в коридор. Быстро оглядев его в обоих направлениях, он вошел обратно. – Кто-нибудь это уже видел? – Нет, – сказал Диллон. – Только мисс Уиндемир из бухгалтерии. Она первая начала искать мистера Уиллса и была здесь, когда мы отперли дверь. Только тут до Трамбо дошло, что он говорит: – Дверь была заперта? И с Уиллсом сделали это, когда он сидел за запертой дверью? – Он взглянул на трещину. Человек через такую не пролезет. – Куда она уходит? И что это все значит, черт побери? – Мы не знаем. – Диллон больше не улыбался. Он достал из куртки фонарик и посветил в трещину. Ее изломанная поверхность была измазана чем-то… чем-то липким. – Эта почва пронизана лавовыми трубками. При строительстве их находили сотни. Возможно, стена провалилась в одну из них. Трамбо подошел к трещине, стараясь не наступать на кровавые пятна. – Ни с того ни с сего? Что-то я не заметил никакого землетрясения. – Он повернулся к Картеру: – Было землетрясение? Менеджер был очень бледен. Казалось, его вот-вот стошнит. – Что… да, я позвонил мистеру Гастингсу, и он мне сообщил, что сегодня имели место более двадцати толчков, но ни один из них не ощущался здесь. И те, кто работает в ката… в служебных туннелях, тоже ничего не заметили. – А почему дверь была заперта? – обратился Трамбо к Диллону. Тот взял со стола астронома раскрытый журнал. Его страницы были тоже залиты кровью, но Трамбо разглядел фото голой женщины, лежащей на спине с раскинутыми ногами. – Чудесно! Наш ученый муж решил взбодриться перед ленчем. Слушай, а кто эта мисс Уиндемир? Может, она застала Уиллса за таким чтением, взревновала и порешила его топором или еще чем-нибудь? Менеджер долго молчал, потом ответил: – Вряд ли, сэр. Когда она увидела все это, то сразу упала в обморок. Она до сих пор в медпункте. – Отлично. Сколько ее можно там продержать? – Прошу прощения, сэр? – Нельзя сейчас отпускать ее домой. Вызовите ко мне доктора Скамагорна. Может, придется пару дней подержать ее под наркозом. Выражение лица Стивена Риддела Картера ясно говорило о его отношении к этому плану. Трамбо снова оглядел комнату и подозвал Бриггса: – Что это могло быть? Охранник пожал могучими плечами: – Что угодно, босс. Вы упомянули топор. Кроме него, такое количество крови можно выпустить большим ножом или даже автоматом вроде «узи». В человеке не так уж много крови. Трамбо кивнул. – Все это хорошо, но есть проблема, – вмешался Диллон, глаза которого беспокойно метались под густыми бровями. – И что же это? – Все эти виды оружия оставляют кровь, но они оставляют и тело. Или хотя бы его части. – Он обвел комнату рукой. – Если только нашего мистера Уиллса не утащили туда. – Диллон показал на трещину. – Для этого его пришлось бы разорвать на куски, – заметил Бриггс, в котором явно проснулся профессиональный интерес. Он достал свой фонарик и при свете его начал вглядываться в трещину. – Там она вроде бы расширяется. Похоже на какой-то туннель. – Пришлите сюда людей с кувалдами, – скомандовал Трамбо. – Пускай сломают стену, и ты с Диллоном посмотришь, что там. – Сэр, у нас будут неприятности с полицией, – заявил Картер. – Здесь произошло преступление, и уничтожать улики… Трамбо потер лоб. У него ужасно разболелась голова. – Стив, мы не знаем, произошло ли преступление. Не знаем, мертв ли Уиллс. Может быть, он сейчас в стриптиз-баре в Коне. Я вижу только неизвестно чью кровь и опасную трещину в стене. Нужно выяснить, насколько далеко она уходит. Диллон? – Да, сэр. – Я хочу, чтобы стену разломали вы с Бриггсом. Незачем пускать сюда лишних людей. Бородач нахмурился, но Бриггсу, казалось, доставлял удовольствие любой приказ босса. Стивен Риддел Картер хотел что-то сказать, но в это время в дверь постучали. На пороге стоял обеспокоенный Уилл Брайент: – Мистер Т, можно вас на минуту? Трамбо вышел в коридор, заслоняя от своего помощника дикую сцену. – У нас проблема, – сказал Брайент. – Что-нибудь с Сато? – Нет, с ними все в порядке. Они кончают обедать, и через час у вас встреча. – Что тогда? Еще кто-нибудь пропал? Брайент покачал головой: – Самолет миссис Трамбо только что сел. Я послал за ней лимузин. Через полчаса она будет здесь. Трамбо молчал. Он все еще пытался представить существо, способное пробраться в комнату через трещину в стене, разорвать несчастного астронома на части и утащить их с собой. Он подумал, не может ли эта тварь проделать то же с новоанглийской стервой по имени Кэтлин Соммерсби Трамбо. – Это еще не все. Трамбо едва не расхохотался: – А что, Уилл? Что еще? Выкладывай. Уилл Брайент нервно пригладил свои длинные волосы. Трамбо давно не видел, чтобы его помощник так нервничал. – «Гольфстрим» Майи Ричардсон связался с аэропортом. Он приземлится через два часа. Трамбо прислонился к стене. Влажный камень приятно холодил его вспотевшие ладони. – Остается эта сучка Бики. Наверное, она прямо сейчас прыгает сюда с парашютом. – Был звонок из аэропорта Сан-Диего. Они заправились там час назад. Самолет должен прибыть в Кону в восемь тридцать восемь по местному времени. Байрон Трамбо молча кивнул. Ему хотелось хохотать. Картер, Диллон и Бриггс вышли из офиса астронома и заперли за собой дверь. Миллиардер хлопнул своего помощника по плечу. – Ладно, Уилл, встреть Кэтлин и этого засранца Кестлера. Навесь на них леи и посели в Номере вождей на севере Большого хале. Скажи, что я приду, как только расспрошу куратора по искусству о собаке… нет, этого не говори. Брайент кивнул в знак понимания. Кортеж двинулся назад по тускло освещенному коридору.
Элинор устала повторять одно и то же. Бородатый гомункулус, назвавшийся мистером Диллоном, попросил их пересказать все дружелюбному негру по фамилии Фредриксон, а сам куда-то убежал. – Вот, – терпеливо рассказывал Пол Кукали, – у этой собаки в зубах была человеческая рука. Ее нужно как можно скорее поймать, а то она убежит. Скорее всего, остаток тела где-то недалеко. Мистер Фредриксон сверкнул улыбкой: – Конечно, сэр. Обязательно. Но прошу вас, повторите еще раз. Куда побежала эта собака? – В лавовое поле у морского берега. – Корди Стампф поглядела на часы. – Слушайте, мы рассказываем вам эту историю уже сорок пять минут. Время вышло. Я намереваюсь продолжить свой отдых. Она встала, и за ней поднялись все. В это время дверь распахнулась и вошел мистер Диллон, сопровождаемый агрессивного вида мужичиной в шортах и выцветшей гавайской рубашке. Элинор сразу узнала его по фотографиям в «Тайм». – Пол! – Трамбо бросился к куратору и начал энергично трясти ему руку. – Как давно я вас не видел! Пол Кукали пожал руку начальника с гораздо меньшим энтузиазмом: – Мистер Трамбо, мы видели… – Слышал, слышал! – Трамбо повернулся к Корди и Элинор. – Ужасно! А кто эти милые леди? Корди Стампф скрестила руки на груди: – Эти милые леди только что видели собаку, бегающую по вашему курорту с чьей-то рукой в зубах. И по моему мнению, все это чертовски странно. Трамбо продолжал улыбаться, но улыбка начала слегка дергаться. – Да-да, мистер Диллон рассказал мне. – Он повернулся к куратору. – Пол, а вы уверены, что это была рука? Знаете, бывают белые крабы… – Это была рука. Мы все это ясно видели. Трамбо кивнул, как бы оценивая новую информацию, и снова повернулся к женщинам: – Что ж, леди, примите мои глубокие извинения за этот прискорбный инцидент. Мы самым тщательным образом его расследуем. Надеюсь, ничто больше не омрачит вашего отдыха, а если мы можем сделать что-нибудь, чтобы вы поскорее забыли об этом происшествии, – он заговорщически улыбнулся, – дайте нам знать, и вы это получите. Конечно, за счет курорта. – Вы о чем? – спросила Корди, нахмурившись. – Простите? – Мы говорим вам, что по вашему курорту бегает собака с человеческой рукой в зубах, а вы предлагаете нам взятку, чтобы мы помалкивали? Так вас следует понимать? – Мисс… – Стампф. И «миссис». – Миссис Стампф, мы так же, как и вы, обеспокоены этим инцидентом. Но позвольте объяснить вам его причину. Элинор и Корди посмотрели на миллиардера. – Дело в том, что в нескольких милях от курорта на днях утонул местный житель. Его тело нашли, но акулы… вы понимаете? Так что этот пес… очевидно, бродячий, в Мауна-Пеле не держат собак… этот бродячий пес наверняка нашел эту руку на берегу и притащил сюда. Еще раз просим извинения за понесенную вами психическую травму. Пол Кукали нахмурился: – Вы говорите про того самозванца с Милолии? Трамбо вопросительно поглядел на Диллона, который поспешно кивнул. – Но это было три недели назад. К тому же тело нашли там же, на юге. Рука, которую мы видели, принадлежала белому человеку. Диллон фыркнул: – После трех недель в воде… – Я знаю, – не сдавался Пол. – Но эта рука не белая и не раздутая. На ней ясно можно видеть загар. Сомневаюсь, что она вообще побывала в воде. – Не вижу причин больше беспокоить леди. – Трамбо кивнул в сторону Корди и Элинор. – Я уверен, что миссис Стампф и миссис… – Перри, – сказала Элинор. – Мисс. – …что миссис Стампф и мисс Перри предпочтут отдохнуть, пока мы с вами все это обсуждаем. – Он достал из бумажника две визитные карточки и расписался на них. – Леди, если вы покажете это Ларри из бара Кораблекрушения, он сделает вам мой любимый коктейль. Рецепт я держу в тайне. Я назвал его «Пламя Пеле». Корди поглядела на карточку, потом на миллиардера: – Все это хорошо, Трамбо, но для меня тут и так все бесплатно. Я один из победителей вашей лотереи «Отдыхай с миллионерами». Штат Иллинойс. – О, Иллинойс! Прекрасный штат! – Улыбка словно приклеилась к губам Трамбо. – Я хорошо знаю одного из ваших сенаторов. – Да? И кого же? – Старшего… – Казалось, Трамбо не мог сразу вспомнить имя старого приятеля. – Сенатора Харлена. Корди усмехнулась: – Значит, мы с вами коллеги. – В каком смысле? – Да так. – Она переглянулась с Элинор. – Вам не надоела эта чушь? Элинор кивнула и посмотрела на миллиардера: – Мы правда видели эту руку. Похоже, ее отрезали чем-то острым. И Пол прав… это рука белого человека. Ногти наманикюрены, и непохоже, что она находилась в воде… Улыбка Трамбо наконец померкла: – Послушайте, мисс Перри… Элинор замолчала. – Очень прошу не говорить об этом другим гостям. Это может нарушить спокойствие и помешать расследованию. – А если мы промолчим, вы нам расскажете? – спросила Корди. – Прошу прощения? – Расскажете, когда что-нибудь найдете? – Конечно! – Трамбо посмотрел на шефа охраны. – Мистер Диллон, прошу вас, отметьте: держать миссис Стампф и мисс Перри в курсе расследования. Бородатый коротышка достал из кармана ручку и что-то черкнул на листке. – Думаю, с нами захочет побеседовать местная полиция, – предположила Элинор. – Конечно, – подтвердил Трамбо. – Я здесь до конца недели. Мой адрес у вас записан. – Да-да, мы обязательно вас известим. – Трамбо повернулся к Корди. – У вас есть еще вопросы, миссис Стампф? – Да нет. – Корди открыла дверь, не дожидаясь, пока это сделает кто-нибудь из мужчин. – Только передайте привет Джимми, когда увидите его в следующий раз. – Джимми? – Старшему сенатору. – Корди вышла из комнаты вслед за Элинор.
14 июня 1866 г., вулкан Килауэа С преподобным Хеймарком в качестве не очень-то надежного проводника мы с мистером Клеменсом приготовились к опасному спуску в кратер вулкана. Опасность редко удерживала меня раньше, не удержала и сейчас. Приготовления наши длились недолго: хозяин гостиницы вручил нам фонари, грубые посохи и сумку с хлебом, сыром и бутылкой вина. Ни Ханануи, ни другие местные проводники не решились нас сопровождать – казалось, что котел извержения вот-вот перекипит через край, – но наш бывший проводник довел нас до «лестницы» – тропинки, прорубленной в стене кратера на полпути от «Дома у вулкана» до смотровой площадки. Преподобный Хеймарк сказал, что шел именно этим путем, и двинулся вперед. Я шла в середине, а бравый журналист прикрывал наш тыл. Так мы начали спуск по тысячефутовой тропе к темному дну кратера. Наши фонари светили очень слабо, но это казалось благом, поскольку не давало увидеть ужасную судьбу, которая постигла бы нас, если бы мы оступились или сошли с тропы. Внизу, на дне кратера, стало ясно, что поверхность застывшей лавы, которая сверху казалась твердой, пронизана тысячами трещин и расщелин, в которых видна еще текущая огненная лава. Преподобный Хеймарк крикнул, что помнит дорогу, и мы пошли за ним, стараясь выбирать более прочные участки. Хоть и застывшая, лава под ногами была такой горячей, что жгла ноги через подошвы туфель. Я не могла представить, какова температура лавы, что текла в нескольких десятках футов от нас, громоздясь выше человеческого роста. – Трудно будет только несколько сот футов, – прокричал преподобный и поспешил вперед. Я шла за ним, путаясь в юбках, которые нагрелись и обжигали мне ноги. Мистер Клеменс не отставал, и в этом аду не выпуская изо рта сигару. Хорошо хоть серное зловоние заглушало ее ужасный запах. Невозможно спустя так мало времени описать с надлежащей подробностью все чудеса вулканического извержения. Постепенно глаза наши начали доверять не зыбкому свету фонарей, а красному сиянию вулкана, и мы смогли рассмотреть вокруг фантастический мир: террасы из черного камня, реки текущего огня, рушащиеся горы пепла, зияющие пропасти, полные дыма и серных испарений. Килауэа тяжело дышал, грозно хохотал и изрыгал огонь, так же равнодушный к нам, как древний бог Вулкан – к трем мухам, ползущим по его могучему телу. А тело это было поистине могучим. Кажется, даже корреспондент осознал опасность, так как догнал замедлившего шаг преподобного Хеймарка и спросил, перекрикивая треск лопающихся от жара камней: – Вы уверены, что мы идем правильно? – Днем идти легче. Особенно с проводником. Очевидно, на наших лицах ясно отразилась тревога, поскольку священнослужитель поспешил добавить: – Но трудная часть скоро кончится. Потом это будет просто прогулка. На «трудной части», которая тянулась больше чем на четверть мили, нам пришлось буквально перепрыгивать трещины, где в сотнях футов внизу бушевала лава. Страшно было даже подумать о последствиях таких прыжков, и я прыгала, зажмурив глаза. Один раз я провалилась в невидимую яму и почувствовала, как огонь лижет мои туфли. Не дожидаясь помощи от джентльменов, которые даже не увидели моего падения в слабом свете фонарей, я ухватилась за камни и кое-как встала. Камень оказался таким горячим, что мои кожаные перчатки почернели, а на руках появились ожоги, словно я дотронулась до раскаленной печки. Я ничего не сказала своим спутникам, только подняла повыше фонарь и поспешила вслед за преподобным Хеймарком. Наш путь по кратеру Килауэа занял, должно быть, не больше часа, но из-за невыносимого жара, постоянной опасности и необходимости следить за каждым шагом он показался нам бесконечным. Внезапно, без всякого предупреждения, мы очутились на берегу огненного озера – прославленного Хале-Маумау. Обычные слова ничего здесь не значили. Все, что приходило на ум – «огонь», «извержение», «взрыв», «поток», – не могло даже в малой степени передать охватившее меня ощущение грозной, нечеловеческой силы и ужасающего величия, представших перед нами. Озеро в разных частях имело ширину от пятисот футов до полумили. Берега его были образованы той же черной «остывшей» лавой, на которой я стояла и которая заставляла мои туфли дымиться от жара. Самые высокие лавовые утесы поднимались на высоту двухсот футов, возвышаясь подобно Дуврским скалам над огненными проливами. Кипящая в облаках серного тумана лава изливалась из невидимого жерла вулкана, пылая всеми оттенками красного и оранжевого. Но прежде всего мое внимание привлекло само огненное озеро. Ручьи кипящей лавы обрушивались в него, накатываясь на черные прибрежные утесы, и свивались на его поверхности в тысячу свирепых водоворотов. Прямо перед нами из озера вырывались и падали обратно одиннадцать огненных фонтанов. Повсюду слышались треск камней, шипение пара, вырывающегося из тысяч трещин, стон содрогающейся земли и надо всем этим – мощные приливы и отливы этого огненного океана, этого вместилища первозданной природы, дышащего прямо у наших ног. Я повернулась к преподобному Хеймарку, но он с отвисшей челюстью уставился на огненное озеро, повторяя: «Я никогда не видел это ночью. Я никогда не видел это ночью». Мистер Клеменс выплюнул свою сигару и смотрел вперед с выражением священного ужаса на лице. Словно почувствовав мой взгляд, он повернулся ко мне, открыл рот, но так ничего и не сказал. Я только кивнула и повернулась к потрясающему зрелищу. Почти два часа мы стояли на краю Хале-Маумау, обиталища Пеле, и смотрели, как остывающая лава то громоздит в огне причудливые острова и башни, то опять рушится в огненные глубины, чтобы вновь подняться новыми каменными ликами и формами. Не в силах оторваться от бесконечного разнообразия стихии, мы там же съели хлеб и сыр, запивая вином из стаканов, которые уложил нам в сумки предусмотрительный хозяин. – Пора возвращаться, – сказал наконец преподобный Хеймарк охрипшим голосом, будто он эти два часа кричал, а не благоговейно молчал вместе с нами. Мы с мистером Клеменсом посмотрели друг на друга, словно протестуя, словно желая остаться здесь и дождаться еще одной ночи в царстве Пеле. Но, конечно, мы не подчинились этому порыву, хотя ясно прочитали его в глазах друг друга. Вместо этого мы пошли прочь от огненного озера, оглядываясь до тех пор, пока благоразумие не подсказало нам внимательнее смотреть под ноги. Признаюсь, что при виде озера я поставила фонарь на землю и не взяла его, когда уходила, – слишком переполняло меня восхищение величием представшего передо мной огня, чтобы довольствоваться этим тусклым светом. Я машинально переставляла ноги по дымящейся лаве, лишь смутно замечая, что мои спутники по-прежнему идут впереди и позади меня. Очнулась я, когда услышала встревоженный крик преподобного Хеймарка: – Стойте! Мы с мистером Клеменсом застыли как вкопанные в нескольких десятках ярдов от него. – Что там? – спросил корреспондент с тревогой. – Мы сбились с пути, – ответил священник. Я услышала дрожь в его голосе, и мои ноги тоже задрожали. Мои спутники подняли фонари и попытались рассмотреть окружающую местность, но вокруг была темнота, нарушаемая только зловещим мерцанием лавы в трещинах. – Здесь поверхность выше, – сказал преподобный. – Слой лавы тоньше. Я заметил изменение звука, когда шел, но не обратил внимания. Мы с мистером Клеменсом ничего не сказали. Наконец корреспондент тихо заметил: – Если вернуться назад по следам… Фонарь преподобного Хеймарка описывал в воздухе дуги, временами освещая его встревоженное лицо. – Это будет очень трудно, сэр. Нам приходится делать большие шаги, прыгать. Один неверный шаг, и мы пробьем корку лавы и рухнем вниз с высоты тысячи футов. – Нам хватит и девятисот, – повторил мистер Клеменс свою недавнюю шутку, пытаясь отвлечь нас от тяжести нашего положения. Я едва могла дышать – так ужасна была мысль о том, что мы заблудились в этом аду. – Нужно дождаться рассвета, – сказала я, уже зная, что мы не сможем провести здесь целую долгую ночь. – Придется осторожно идти вперед, – сказал преподобный. – Может, нам удастся нащупать путь. Один шаг – и он пробил лавовую корку и упал. Мой крик ужаса был, должно быть, совсем не слышен в грохоте лавы и шипении пара, вырывающегося из трещин.
Глава 11
Да будет слава Капиолани Высоким светом над островами, Пусть вечной славой Гавайев станет, Сияньем слепя взоры. Пускай жарким солнцем оденет горы, Пусть ветром поет на морском просторе, Пусть лавой горячей кипит в озерах, С пространством и временем споря.Начальник охраны курорта Мэтт Диллон был не в таком уж плохом настроении, когда вошел в дверь с надписью «Служебный вход» и спустился в катакомбы под Мауна-Пеле. Диллон недолго работал в ФБР, потом – по слухам – семь лет провел в ЦРУ, прежде чем заняться частной охраной. Его специальностью была борьба с терроризмом, особенно с терроризмом широкого охвата. Он прекрасно знал методы террористов и умел при случае их применять. Его пытались даже привлечь к операции по спасению американских заложников в Иране, задуманной идиотами из окружения президента Картера. Диллон был очень рад, что ФБР тогда не отдало его армии и он не сел в лужу вместе с пентагоновцами. Он уже пять лет работал частным охранником, когда Пит Бриггс, которого он когда-то учил основам охранной службы, подкатил к нему с предложением работать на Байрона Трамбо. Диллона мало интересовала такая работа – он терпеть не мог сидеть на одном месте, – но Бриггс настаивал. Его отвезли на самолете из Сан-Диего в Нью-Йорк, и Трамбо лично говорил с ним. Диллон понял, что ему предназначается роль не простого охранника, а своего рода контролера обширной империи отелей, казино и предприятий. Это ему подходило, да и платить обещали вдвое больше, чем он получал даже во времена похищений с баснословными выкупами. Года два ему нравилось мотаться по свету, разыскивая шантажистов, разоблачая жуликов в казино, принадлежащих Трамбо, и иногда даже слегка попугивая несговорчивых конкурентов. Диллон без колебаний обходил закон, если этого требовала работа. Трамбо, казалось, чувствовал это и использовал его соответственно. Шесть месяцев назад в Мауна-Пеле начали исчезать люди, и Диллон первым же самолетом вылетел на запад. Он планировал пробраться на курорт незамеченным, чтобы почувствовать обстановку. Весь первый день он просидел в баре «Кораблекрушение», притворяясь болваном-туристом и собирая сведения. Он не обнаружил ничего подозрительного. Стивен Риддел Картер был умелым администратором, а тогдашний шеф охраны, гаваец по имени Чарли Кане, проводил расследование без лишнего рвения, но вполне компетентно. Местные копы проверили всех подозрительных – уволенных служащих, местных сумасшедших, людей, недовольных строительством курорта, – но тоже ничего не нашли. После недели наблюдений Диллон раскрыл свое инкогнито и начал работать вместе с Кане. Опять ничего. Потом Трамбо уволил гавайца и попросил Диллона побыть начальником охраны, «пока все не уляжется». Он согласился, думая, что это не больше чем на несколько недель. Оставлять дела нераскрытыми было не в его стиле. Сейчас, шесть месяцев спустя, Мэтта Диллона тошнило от Гавайев, от Мауна-Пеле, от свежего воздуха и вечно теплого океана. Ему хотелось в Нью-Йорк, к слякотной зиме и грубым таксистам. Ему хотелось навести шороху на казино мистера Т в Вегасе или Атлантик-Сити, где никто не знает, день сейчас или ночь, и никому до этого нет дела. Теперь еще это. Кусок тела на поле для гольфа. Трое пропавших туристов. Лужи крови в кабинете астронома. Мэтт Диллон усмехнулся и на ходу нащупал кобуру. Такая жизнь нравилась ему куда больше. Офис астронома был не заперт. Диллон вытащил из кобуры свой 9-миллиметровый «глок» и бесшумно скользнул внутрь. В центре комнаты стоял Пит Бриггс, сжимающий в руках громадную кувалду. Диллон спрятал пистолет. – Ты что, правда собираешься долбить эту стену? Бриггс даже не повернул головы. Диллон знал, что, несмотря на внешность самца гориллы, Бриггс был довольно неглупым человеком. И весьма квалифицированным охранником. – Да, – сказал он кратко. – Местные копы говном изойдут. – Да, – повторил Бриггс, явно не интересуясь мнением местных копов. – Я ждал тебя. Диллон вопросительно поднял бровь. Бриггс кивнул на фонарик с шестью батарейками: – Думаю, одному из нас надо светить, пока другой долбит. – Хорошо. – Диллон взял фонарь. Бриггс натянул на свои лапищи резиновые перчатки, одной рукой отодвинул стол и поднял кувалду, целясь в самую широкую частьтрещины. – Лучше отойди, – предупредил он. Отходить было особенно некуда, но Диллон отступил к дальней стене и поднял фонарик. – Достань пушку, – попросил Бриггс. – Зачем еще? Думаешь, Уиллс выйдет к нам с распростертыми объятиями? Бригге только пожал плечами, но в его поведении было что-то, что заставило Диллона послушно извлечь из кобуры «глок» и нацелить его в темнеющее отверстие. Фонарь он взял в левую руку так, чтобы луч его шел параллельно стволу пистолета. – Готово, – сказал он. Пит Бригге поднял кувалду и изо всех сил обрушил ее на стену.Альфред лорд Теннисон, «Капиолани», 1892 год
Элинор понаблюдала за закатом с небольшого пляжа возле своего хале, а потом направилась в бар Кораблекрушения. Там собралось довольно много людей, но они занимали лишь небольшую часть столиков под пальмовой крышей и на террасе, выходящей на пляж. Элинор села на террасе, заказала джин с тоником и медленно потягивала его, глядя, как небо на западе из пурпурного становится нежно-фиолетовым. На востоке вулканический отблеск все так же подсвечивал облака пепла, которые сменили направление и двигались теперь к берегу Коны. Пляж был пуст, если не считать гавайца в набедренной повязке, который бежал вдоль набережной с факелом в руках и зажигал один за другим газовые фонари. Она как раз думала обо всех странных событиях этого дня и о еще более странных событиях столетней давности, которые привели ее сюда, когда перед ней возникла Корди Стампф с бутылкой пива. – Привет, Нелл, я к вам. – Конечно, – улыбнулась Элинор. «Нелл»? Ей даже понравилось такое обращение. Все незамужние женщины в ее семье вошли в историю под такими сокращенными именами-прозвищами – тетя Кидцер, тетя Бини, тетя Митти. Почему бы ей не стать «тетей Нелл»? – Достали они нас сегодня, правда? – спросила Корди, отхлебывая пиво. Элинор кивнула, все еще глядя в небо. – Трамбо наверняка пытается замять это дело. Ко мне не приходили никакие копы. А к вам? – Нет. – Ручаюсь, он их и не вызывал. – Но почему? – спросила Элинор. Далеко в океане на фиолетовом горизонте вырисовывался силуэт плывущего корабля. Несмотря на поднимающийся ветер, морская гладь была спокойной, и волны лениво накатывались на песок в пятидесяти футах от нее. – Чтобы избежать огласки, – пожала плечами Корди. Элинор повернулась к ней: – Как это у него получится? Мы расскажем кому-нибудь… позвоним в полицию. Мы можем это сделать хоть сейчас. Корди допила пиво и облизала пену с губ: – Можем, но не сделаем. Мы же на отдыхе. Элинор не могла понять, шутит она или нет. – Кроме того, похоже, что Трамбо пытается продать курорт. Может быть, он хочет скрыть это от япошек, с которыми сегодня разъезжал. При слове «япошки» Элинор поморщилась. – Откуда вы знаете все это про Трамбо? – Из «Нэшнл инкуайрер» и «Кэррент эффер», – ответила Корди. – Вы не читали там про его жену и подружек? Элинор покачала головой. – Это похуже, чем со стариком Дональдом Трампом и этой, как ее там… Трамбо разводится с женой, на деньги которой создал свою империю, во всяком случае, так утверждает ее адвокат. Одновременно он связался с этой супермоделью… – Майей Ричардсон. – Элинор отхлебнула из своего бокала. Корди улыбнулась: – Так вы все же читаете «Национальный сплетник»? – Просто видела заголовок в очереди в супермаркете. – Понятно. Так вот, «Эффер» пишет, что он завел интрижку еще с одной моделью, о чем Майя пока не знает. – Корди жестом подозвала официанта. Когда он подошел, она сунула ему под нос карточку с правом свободного выбора напитков. – Сделайте-ка нам любимый коктейль мистера Трамбо. «Волосы Пеле». – Вы имеете в виду «Пламя Пеле»? Официант был красивым, загорелым блондином и говорил чуть свысока, как всегда говорят такие типы с женщинами. – Точно. Две штуки. – Не уверена, что хочу смешивать напитки, – сказала Элинор, когда официант отошел. – Так вы тоже хотите? – удивилась Корди. Помолчав немного, она улыбнулась. – Неужели после того, что мы видели, у вас не пропал аппетит? – Я уже начинаю сомневаться, что мы это видели, – призналась Элинор. – Не сомневайтесь. Мы видели то, что видели. Мне приходилось видеть вещи и похуже. Элинор хотела спросить, что это за вещи, но Корди заговорила снова: – Вы рассмотрели ту собаку? – Не очень. Только то, что она была черная. И большая, вроде Лабрадора. Корди наклонилась к ней: – Я видела ее утром. Прямо на рассвете. Она бежала по пляжу. – Да, я помню, вы спросили, не видела ли я черную собаку. Я только сейчас вспомнила. – Вы не заметили ее зубы? Я поэтому и спрашивала утром, не видели ли вы ее. – Зубы? – Она попыталась вспомнить. Собака была перед ними всего несколько секунд, и Элинор помнила лишь шок от того, что у нее было в пасти, и общее чувство того, что с этой собакой что-то неладно. Но зубов она не видела. – Нет. А что? Корди откинулась назад, когда им принесли бокалы. Официант ушел, и она снова придвинулась к Элинор: – У нее были человечьи зубы. Элинор молчала. – Точно. – Корди пододвинула к себе ярко-красное питье с ломтиком апельсина на краю бокала. – Бог свидетель, у этого чертова пса были человечьи зубы. Я заметила это еще утром, когда он оскалился на меня. Когда у него в пасти была рука, я могла этого не заметить, но я уже знала, на что глядеть. Да, человечьи зубы. Элинор расстроилась. Ей понравилась Корди Стампф, и она не хотела, чтобы та оказалась сумасшедшей. Чтобы скрыть смятение, она отпила из своего бокала. – Сладко. Интересно, что они туда кладут? – Всего понемногу. Похоже на холодный чай с вишневым ликером и еще четырьмя видами алкоголя. Еще пара бокалов, и я начну голая танцевать на стойке. Элинор попыталась представить это зрелище, но быстро отогнала возникшую перед ней картину. – Кстати, как вам этот Пол? – А что с ним такое? Корди улыбнулась: – По-моему, Нелл, он к вам неравнодушен. Никто на памяти Элинор не произносил таких фраз в ее адрес. Она долго собиралась с ответом. – Вам показалось. – Ага, – согласилась Корди. – Мне совсем не интересен доктор Кукали. Она сама слышала, как деревянно это звучит – и к чему ей оправдываться? – но ничего не могла с собой поделать. – Я знаю. – Корди продолжала улыбаться. – Но не уверена, что он испытывает те же чувства. Мужчины иногда такие непонятливые. Элинор решила переменить тему: – В любом случае, доктор Кукали сегодня уезжает в Хило. Он приезжает в Мауна-Пеле только раз в неделю. – Не думаю. По-моему, он сегодня остался здесь. Элинор отпила еще глоток. «Пламя Пеле» было сладким, но приятным на вкус. – Почему вы так думаете? Корди кивнула в сторону входа в бар: – Потому что он только что вошел сюда и сейчас идет к нам.
14 июня 1866 г., вулкан Килауэа Когда преподобный Хеймарк провалился сквозь корку лавы, моей первой мыслью было: «Сейчас огонь вырвется оттуда и пожрет нас всех!» Этого не случилось, так как грузный служитель церкви застрял в отверстии, хватаясь за его край руками. – Не приближайтесь! – закричал преподобный, но его альтруизм пропал зря – ни я, ни мистер Клеменс все равно не могли сделать и шагу, чтобы спасти нашего проводника. Ужас приковал нас к месту. Кое-как преподобный сам выкарабкался из дыры и на четвереньках отполз в сторону. Потом он подобрал фонарь и, шатаясь, поднялся на ноги, освещенный красным мерцанием магмы. – Ищите тропу, – сказал он дрожащим голосом. – Она должна быть тверже, чем эта поверхность. Мы с мистером Клеменсом начали оглядываться, не двигаясь с места, но поверхность везде казалась одинаковой. Если тропа и отличалась чем-то, эти отличия были не видны в зыбком свете фонарей. Мы безнадежно заблудились на этой тонкой кромке над бездонным озером лавы. – Быстрее, – скомандовал преподобный Хеймарк, – потушите фонари. Мы с мистером Клеменсом усомнились в действенности подобного средства, но последовали примеру нашего проводника. Все погрузилось в темноту, подсвеченную только адским светом лавового озера и многочисленных трещин. – Я заметил, что мы сбились с пути, не по виду поверхности, а по звуку. – Преподобный говорил шепотом, словно от любого громкого звука лавовая корка могла проломиться под нами. – Как это? – спросил мистер Клеменс. – Тропа гладкая. А эта поверхность покрыта иголками лавы. Вот послушайте. – Он шаркнул ногой, и мы явственно услышали хруст ломающихся тоненьких иголочек. – По этому звуку я понял, что мы заблудились. Я опять всмотрелась в темноту. Ничего похожего на тропу не было видно. – Закройте глаза, – скомандовал преподобный и сам сделал это, осторожными движениями ощупывая почву вокруг себя. Мы с мистером Клеменсом сразу поняли мудрость такого маневра и, закрыв глаза, начали шаркать по поверхности ногами, вслушиваясь в звук. Со стороны мы могли показаться смешными – трое путешественников, стоящие в кромешной темноте на одной ноге, а другой выделывающие балетные па, содрогающиеся от страха с каждым новым шагом в неизвестность. Я все время ожидала, что сейчас вся поверхность треснет и проломится у нас под ногами, как подтаявший лед. – Нашел! – крикнул внезапно Сэмюэл Клеменс. Открыв глаза, мы с преподобным увидели, что корреспондент ушел далеко влево и, широко расставив ноги, топает одной из них. Не знаю, как он ухитрялся сохранять равновесие в такой забавной позе. – Звук другой, – сказал он. – Нужно сделать еще пару шагов, чтобы убедиться. – Прошу вас, осторожнее, мистер Клеменс, – сказала я, сознавая всю абсурдность своих слов. Корреспондент улыбнулся мне из-под густых усов. Красный отблеск делал его похожим на демона. – Мисс Стюарт? – Что? – Если эта корка не выдержит, передадите послание в Калифорнию? Мое сердце екнуло: – Конечно, мистер Клеменс. – Будьте так любезны, скажите каждой из тех юных леди, по которым я страдал, что ее имя было последним на моих устах. На эту бестактную тираду я ответила только: – Идите, мистер Клеменс. Корреспондент прыгнул вперед и приземлился на обе ноги, как играющий мальчишка. Поверхность выдержала. Он нагнулся, ощупал ее руками и крикнул: – Тропа здесь! Я ее вижу! Через несколько шагов мы с преподобным Хеймарком стояли на твердой поверхности. Так закончился мой самый долгий в жизни путь. Убедившись, что это именно та тропа, по которой мы шли к огненному озеру, мы пошли обратно, внимательно глядя под ноги. Узкие трещины, которые так пугали меня по пути туда, теперь казались детскими игрушками по сравнению с ужасами Хале-Маумау и нашего пути назад. Уже почти рассвело, когда мы вскарабкались по тысячефутовой лестнице и достигли края кратера. Ханануи ждал нас там, встрепенувшись при нашем появлении, как верный пес, радующийся возвращению хозяев. Однако из его сбивчивого рассказа стало ясно, что его привела сюда не любовь к нам. Ночью в «Доме у вулкана» произошло что-то страшное. – Тихо, тихо. – Преподобный положил свои тяжелые руки на плечи взволнованного гавайца, словно успокаивая ребенка. – Говори медленнее. – Миссионеры, они приходить с Кона. – Глаза маленького Ханануи возбужденно блестели в свете фонарей. – Они убегать. Мистер Клеменс закуривал сигару, словно празднуя наше удачное возвращение. – Убегать от кого? – спросил он. – От Пауна-эвы! – выдохнул гаваец. – От Ку и Нанауэ! Преподобный Хеймарк шагнул назад с написанным на лице отвращением. – Что-что? – Мистер Клеменс выпустил большое облако дыма. На лице его появилось выражение профессионального интереса. Священнослужитель раздраженно махнул рукой: – Это местные боги. Вернее, божки. Чудовища. Мистер Клеменс подошел ближе к дрожащему от страха гавайцу. – И что там с этими богами? – Плохо. Все плохо. – Ханануи затряс головой. – Они убили много людей в Коне. Убили почти всех миссионеров. Те, что в доме, успели убежать. Они бегут в Хило. Глаза мистера Клеменса загорелись любопытством: – Говоришь, в Коне убили миссионеров? Ханануи кивнул, но, очевидно, не это беспокоило его больше всего. – Ворота Милу открылись, – сказал он. – Милу – это их бог подземного царства, – объяснил преподобный Хеймарк. – Что-то вроде Плутона. Ханануи отрицательно покачал головой: – Милу – это место. Земля, где живут духи. Преподобный вздохнул и поднял фонарь. – Пошли скорее. Если в Коне что-то случилось, мы должны узнать об этом. Мы направились к гостинице. Корреспондент шел сзади, продолжая расспрашивать о чем-то смятенного гавайца, но я слишком устала, чтобы вслушиваться в их разговор.Торжественный ужин в честь Сато и его людей – торжественность заключалась в том, что Байрон Трамбо надел белую рубашку и брюки, – уже подходил к концу, когда снова начались плохие новости. Во-первых, испортилась погода. Сменивший направление ветер заполнил воздух вулканическим дымом. Под ланаи Сато на седьмом этаже ветер рвал кроны пальм. Запахло дождем. Ланаи был закрыт от дождя, но порывы ветра затрудняли разговор и уносили со стола салфетки. Потом к Уиллу Брайенту начали подходить его помощники с плохими новостями, тоже большей частью идущими с востока. Выслушав несколько сообщений, Брайент подошел к боссу и прошептал ему на ухо, закрываясь салфеткой: – Миссис Трамбо и ее адвокат хотят немедленно переговорить с вами. Они у себя в апартаментах. Трамбо только покачал головой, и Уиллу пришлось самому отправляться на съедение дракону. Через десять минут он вернулся и прошептал: – Она настаивает. Говорит, что это очень важно. Она сказала, что если вы не придете, она явится сюда и прервет ужин. Она знает про переговоры с Сато. – Черт, – прошептал Трамбо, широко улыбаясь сидящему напротив доктору Тацуро. Собственный адвокат Трамбо, Бенни Шапиро, по кличке Мясник, был еще в Нью-Йорке. Кэтлин играла не по правилам. В семь сорок пять, когда в перерыве между супом и рыбным салатом подали шербет, Уилл сообщил очередную новость: – Прибыла мисс Ричардсон. Я поселил ее в Главном таитянском хале на мысе. Трамбо кивнул. Мыс был точкой, наиболее отдаленной от Большого хале и от Кэтлин. К счастью, в таитянском хале имелись бассейн, прикрепленный слуга и заказ блюд из ресторана. На какое-то время все это должно задержать Майю. – Она просила передать, что должна срочно поговорить с вами, – прошептал Брайент. – Что, прямо сейчас? – Немедленно. – Черт, – повторил Трамбо и еще шире улыбнулся доктору Тацуро, голова которого тряслась, как у куклы. В восемь тридцать, за главным блюдом, приготовленным из говядины с ранчо Паркера, Уилл Брайент прошептал: – Прилетела Бики. Едет сюда. Обычно помощник Трамбо называл людей по фамилии, но Бики для всех была просто Бики, восходящей звездочкой, готовой встать в один ряд с Мадонной, Принцем и другими обладателями нарицательных имен. Трамбо нравилась простота этого имени, контрастирующая с кольцом в носу и проколотым языком его последней привязанности. Он терпеть не мог целовать ее, чувствуя языком перекатывающиеся стальные шарики. Она говорила: «Представь, что сосешь леденцы», но ему еще меньше улыбалось целоваться с кем-то, у кого полный рот леденцов. Поэтому поцелуйную часть они обычно пропускали, да она и не была такой уж важной. Трамбо удалось настоять, чтобы она не вставляла ничего в соски и в то, что ниже. Бики повздыхала, но смирилась. – Куда ты ее хочешь деть? – шепотом спросил он. – В старый сарай строителей. Трамбо подумал, что Уилл решил пошутить, но потом вспомнил о комфортабельном домике, выстроенном к югу от бухты во время строительства Мауна-Пеле. «Сарай» имел три спальни и находился сразу за южным полем для гольфа. Там не было пляжа, зато открывался изумительный вид на бухту и южный полуостров. В «сарае» жили только сам Трамбо да кое-кто из почетных гостей, вроде сенатора Харлена из Иллинойса, который запирался там со своими странными приятелями. – Отличная идея. Эта дура и не заметит, в какую глушь ее засунули. Только проследи, чтобы ее хорошо кормили. – Прослежу, – пообещал Брайент, отходя на свое место. – Стой! Бриггс приставил кого-нибудь к Майе и Бики? – Судьба Кэтлин и ее гребаного адвоката Трамбо не волновала. – Я приставил Майерса к мисс Ричардсон, а Кортни – к Бики. – Ты? А где Бриггс? – С ним проблема. Сато, доктор Тацуро и Санни Такахаси, как по команде, посмотрели на Трамбо. Ему показалось, что его вырвет, если он еще раз услышит слово «проблема». – Какая еще проблема? – выдавил он, стараясь выглядеть спокойным. – Мистер Бриггс и мистер Диллон, кажется, исчезли. Трамбо с трудом удержался, чтобы не вцепиться в волосы себе или Уиллу Брайенту. – Я же велел им сломать стену в офисе астронома. Уилл кивнул. Он улыбался, как будто сообщал боссу, как прекрасно тот выглядит. – Да. Стена исчезла. И Бриггс с Диллоном тоже. Там какая-то пещера. Мистер Картер спрашивает, не послать ли кого-нибудь их искать. Трамбо задумался. – Черт с ними, – сказал он наконец и повернулся к гостям. – Отличное мясо, правда? – Очень нежное, – сказал Хироси Сато. – Очень вкусное, – сказал Санни Такахаси. – Очень полезное для сосудов, – сказал доктор Тацуро.
С приближением шторма Элинор, Корди и Пол Кукали перешли из бара в столовую Китового ланаи. Сильный ветер снаружи завывал в кронах пальм и раскачивал бугенвиллеи. Пол объяснил, что остался проследить за развитием событий. – Нам надо было самим сообщить в полицию, – сказала Элинор. – Я сообщил. Моему другу Чарли Вентуре, шерифу Коны. Он сказал, что это входит в компетенцию полиции штата. – Опять кивают друг на друга? – спросила Корди. Пол Кукали пожал плечами: – Во всяком случае, он сказал, что вряд ли сюда пришлют кого-нибудь сегодня. Полиция штата занята расчисткой дорог, а у ребят Чарли проблемы с наплывом туристов в Кону. – Но они пошлют кого-нибудь? – спросила Элинор. – Конечно. Но он сказал, что никто не сообщал им о пропавших на курорте людях. – Надеюсь, Трамбо не выгонит вас из-за этого с работы. Кукали улыбнулся: – Невелика потеря. Я же останусь в университете. Конечно, платят здесь хорошо… я смог купить себе дом в Ваймеа. Но я не поэтому взялся за эту работу. Они поговорили про Ваймеа, про охрану памятников, про археологию, а потом ветер и голод загнали их в столовую. – Думаю, руки было мало, – сказала Корди, когда они уселись за стол. – Может быть, если бы он еще пару раз пробежал мимо с разными частями тела, мы бы и потеряли аппетит, но сейчас я готова съесть целую лошадь. – Лошадей здесь не подают, – заметил Пол. – Могу порекомендовать аху. – Это что, лава? – Нет. Лава – это аха. Аху – это марлин, или рыба-меч. Дороговато, но очень вкусно. Корди взяла меню: – О'кей-жокей. Я все равно ни за что не плачу. Аху так аху. Пол тоже заказал аху, а Элинор выбрала улуа – большую плоскую рыбу, которую она ела под другим названием в Южной Америке. Официант спросил, что они будут пить, и, прежде чем кто-либо успел возразить, Корди заказала всем «Пламя Пеле». Потом разговор перешел на работу Элинор. – Имея дело с философией Просвещения, – сказал Пол, – вы должны свысока смотреть на мифологию моих предков. – Вовсе нет. Философы отвергали непосредственно предшествующую им мифологию, то есть иудеохристианскую, но пытались вернуться к язычеству. – Она сделала глоток красной жидкости из бокала. – Конечно, с рационалистическим уклоном. – Да, с точки зрения науки. Элинор кивнула: – Для этих философов мифология была первой попыткой объяснения явлений природы. Корди смотрела на них, как на игроков на теннисном корте. – Нельзя спорить с тем, что мифология затемняла явления не меньше, чем объясняла, – ответил Пол, рассеянно ковыряя вилкой салат. – Но с падением этой волшебной завесы вашей и нашей мифологии исчезло и чувство единства с природой, осознание всех окружающих вещей как вместилища сил. – Вашей мифологии? – переспросил Пол. – Я имею в виду дохристианскую Европу. К тому же среди моих предков были индейцы… кажется, сиу. – Да, для гавайцев все было источником силы. Источником маны. И знаете, мне трудно представить себе, чтобы Дидро или Вольтер приняли такую картину мира. Официант унес пустые тарелки из-под салата. За открытыми окнами прибой продолжал петь свою древнюю колыбельную. – Борьба между мифологическим и рациональным мышлением началась гораздо раньше века Просвещения, – продолжала Элинор, чувствуя, как по телу разливается тепло напитка. Ей вдруг подумалось, что странно в зимний вечер сидеть в блузке без рукавов у открытого окна. – В «Природе вещей» Лукреция не раз повторяется, что только солнце разума развеет предрассудки. Только знание природы позволит не бояться ее. Пол опять улыбнулся: – Мои предки, жившие здесь пятнадцать столетий назад, отлично знали природу – всех животных, растения, вулканы. Корди подалась вперед, как будто ждала этого слова: – Расскажите нам про вулкан. – Про Килауэа или Мауна-Лоа? – Про оба. – Странно, что они активны в это время. Мы привыкли к извержениям, но они угрожают только тем зданиям, которые построены в неудачном месте. – А Мауна-Пеле построен в таком месте? Пол замялся. – По данным ученых, нет. Здесь проходили лавовые потоки, но не в этом столетии. Как вы сами можете видеть, даже при сильном извержении отсюда видны только облака пепла и отраженный свет. Корди одним глотком допила свой коктейль: – Я как-то видела фильм… там еще играли Пол Ньюмен, Эрнест Борнин и другие звезды. Старый, дурацкий фильм ужасов о курорте в тропиках, погребенном под лавой. И Пол, и Элинор ждали продолжения. – Вот мне и стало интересно – не может ли такое случиться здесь? Пол покачал головой: – Конечно, Мауна-Пеле построили напрасно, но не думаю, что он в ближайшее время будет погребен под лавой. – В голосе его слышалось сожаление. – Хотелось бы взглянуть на эти вулканы поближе, – услышала Элинор свои слова. Алкоголь явно подействовал на нее сильнее, чем она ожидала. – Это трудно сделать. Во время извержений Вулканический национальный парк закрывают… туристы бродят повсюду, а многие вулканические газы могут быть смертельны. – Помнится, когда-то враги короля Камехамеха были отравлены такими газами? – спросила Элинор. По крыше ланаи забарабанили первые капли дождя. Запах мокрой растительности был почти эротическим. – Да, – сказал Пол. – В тысяча семьсот девяностом году вождь Кеоуа решил напасть на Камехамеха. Он разделил войско на три части и приказал им собраться в кратере и просить покровительства Пеле. Когда две группы воинов достигли расположения третьей, они увидели, что все – мужчины, женщины и дети – убиты облаком отравленного газа. – Не очень-то много морали в этой истории, – сказала Элинор. – На следующий год Кеоуа был разбит и принесен в жертву, а Камехамеха стал единственным правителем острова. – Это было далеко отсюда? – спросила Корди. – Что? – То место, где отравились воины. – Нет. Это на склоне того же юго-восточного разлома. Там в окаменевшей грязи до сих пор видны следы ног армии Кеоуа. Принесли рыбу, и в следующие несколько минут единственными словами были похвалы искусству поваров. Потом Элинор сказала: – Все же хотелось бы подобраться к вулкану. – Это можно сделать на вертолете. Конечно, во время извержений они все заняты на недели вперед. В это время стоимость воздушных экскурсий возрастает со ста до пятисот-шестисот долларов. Элинор покачала головой: – Слишком дорого. К тому же не хочется ждать несколько недель. Пол отложил вилку: – Может, я смогу это устроить. Она недоверчиво взглянула на куратора. Он не улыбался. – Право, это не так уж… Он жестом остановил ее: – У одного моего друга на Мауи есть вертолет. Завтра он будет здесь и, надеюсь, не откажет мне в этой маленькой просьбе. Конечно, это может быть поздно, но ночью лучше всего смотреть на извержение. – Я не хотела доставлять… – снова начала Элинор, но Пол только махнул рукой. – Я сам с удовольствием посмотрю на это зрелище. Если вы не хотите, то конечно, но я совершенно серьезно предлагаю вам завтра совершить эту прогулку. Элинор колебалась недолго: – Что ж, это было бы чудесно! – Она повернулась к Корди. – Вы полетите? – Увольте. Я боюсь огня, не люблю взрывов и терпеть не могу летать. Потом вы мне все расскажете. Элинор и Пол пытались ее переубедить, но она была непреклонна: – В мой план отдыха не входит падение с вертолета в кратер вулкана. Так что извините. Они немного помолчали, вслушиваясь в нарастающий грохот прибоя. Внезапно электричество мигнуло и погасло. На столах уже стояли свечи, но официанты кинулись зажигать аварийные лампы. Скоро зал наполнился мягким, интимным освещением, позволявшим лучше разглядеть оранжевое зарево на востоке. – Это часто случается? – спросила Элинор Пола. – Я имею в виду свет. – Иногда. Курорт имеет свой генератор для таких случаев. Нужно поддерживать работу холодильников, освещать катакомбы… – Катакомбы? – Корди насторожилась. Пол объяснил, что так называют служебные туннели. – Вот их я хотела бы посмотреть. – В четверг будет экскурсия. – Не люблю экскурсии, – сказала Корди. – А катакомбы посмотреть хочется. Пол улыбнулся: – Там находится мой офис. Могу сводить вас туда хоть сейчас. Конечно, это против правил, но после сегодняшнего мне уже нечего терять. Они еще немного помолчали, и Элинор тихо спросила: – Что вы можете рассказать о Пауна-эве, Ку и Нанауэ? Пол положил вилку на стол. – Почему вы заговорили об этом? – Я что-то читала о них. Куратор с серьезным видом кивнул: – Это чудовища. Боги или духи. – Он поглядел на Корди Стампф. – Здесь нет древнего кладбища, но эти существа действительно похоронены где-то неподалеку. Глаза у Корди загорелись: – Расскажите-ка нам. Они сидели втроем в мягком свете фонарей, за раскрытыми окнами шумел океан, и Пол Кукали рассказывал о Пауна-эве, Нанауэ и Ку.
Глава 12
Огонь, огонь одевает луну и звезды, Месяцы холода жжет пламени поступь, Пылью покрылись равнины, потрескались скалы, И пересохло море, и неба не стало. Кипит вода океана, пламенем жарким веет, Лава течет потоком по Килауэа, Гибель над миром встает — Пеле восстает!Бриггс и Диллон углубились в лавовую трубку уже футов на сто, освещая фонариком кровавый след на черном базальте, когда Диллон сказал: – Что-то здесь не так. Оба держали наготове пистолеты – Диллон свой полуавтоматический «глок», а Бриггс – полицейский 38-го калибра. Диллон по-прежнему направлял в темноту луч фонарика. Когда кусок стены наконец рухнул внутрь, открыв их глазам уходящий в неизвестность ход, Бриггс отложил кувалду и без колебаний шагнул через пролом. Стены лавовой трубки были глаже, чем у большинства пещер, с продольными полосами, оставленными застывающей лавой. Узкий лаз диаметром около десяти футов напоминал Диллону стенки кишечника, и нельзя сказать, чтобы это сравнение его радовало. Они шли вполне профессионально, как два копа там, где недавно совершилось убийство, – плечом к плечу, пистолеты наготове. Ничего подозрительного вокруг не было. Гладкий базальтовый пол пещеры, казалось, слегка поднимался вверх и уходил вправо, в направлении океана. Потом впереди появилась развилка, влево от которой уходил кровавый след. – Пора идти за помощью, – сказал Диллон, когда они остановились перед поворотом. – Да, – согласился Бриггс, – но давай сперва заглянем за угол. Может, этот, как его… Уиллс там. Он шагнул вперед, и Диллону волей-неволей пришлось последовать за ним. Через сотню футов он пожалел, что не отпустил Бриггса одного. – Что-то тут не так, – повторил он снова. Диллон уже устал держать пистолет в положении огня. Они шли медленно, каждые несколько секунд останавливаясь и прислушиваясь. Луч фонарика скользил по гладкому базальту и черным потекам лавы. – Далеко же утащили этого Уиллса, – прошептал Бриггс, вытирая пот со лба. Диллон кивнул. На полу по-прежнему поблескивал кровавый след. – Ты видел этот фильм… «Чужие»? – Тихо, – свирепо шепнул Бриггс– Посвети-ка вот сюда. Он нагнулся над базальтовым выступом. Нацелив на него фонарик, Диллон увидел лоскут ткани. – Что это? – Думаю, кусок от костюма этого бедняги. Ткань серая, в мелкую клетку. – Да. Уиллс всегда одевался элегантно. – Она мокрая. Как будто… – Как будто что? – Диллон быстро осветил пространство вокруг фонариком. Ничего. – Как будто ее жевали. – Пошли назад, – решительно заявил Диллон. – Я соберу людей с передатчиками и автоматами. Можно послать человек тридцать. Кто бы ни утащил Уиллса, здесь его нет. А эти туннели могут тянуться бог знает куда. – Сдрейфил? Диллон вздохнул. Сколько этих горилл ни учи, они все равно путают гормоны с мозгами. – Я ухожу, – сказал он. – Если хочешь, оставайся. Только фонарик я забираю. Повернувшись, он через пару секунд услышал за спиной шаги Бриггса. Диллон подсознательно ожидал, что в эту минуту кто-нибудь – например, толпа гавайских националистов с боевыми топорами – кинется на них, но по-прежнему единственными звуками в пещере оставались их шаги и хриплое дыхание. Скоро впереди показалась полоска света, пробивающегося из офиса Уиллса. Диллон не забывал светить фонариком по сторонам и даже посмотрел, не прячется ли кто-нибудь в офисе, – было бы обидно, если бы их накрыли у самого выхода. Офис был пуст; лампы казались невыносимо яркими после мрака пещеры. Они постояли немного у выхода. – У мистера Т будут неприятности с этой стенкой, – сказал Бриггс. Диллон пожал плечами. Это была не его проблема. – Мы не наберем тридцать человек. Надо ведь еще охранять мистера Т и японцев. Я прилетел сюда один. – Хорошо, пошлем десять человек с передатчиками и автоматами. Главное, чтобы мы с тобой не ползали тут вдвоем с одним фонариком, как придурки из фильма ужасов. Помнишь: «Давай разделимся. Ты иди сюда, а я туда». Бриггс не улыбнулся. – Как ты думаешь, кто это может быть? – Откуда я зна… – Тут погас свет. Они реагировали быстро, вскинув оружие. Диллон снова зажег фонарик и теперь водил им взад и вперед по туннелю. – Давай в комнату, – прошептал он. – Я за тобой. В случае чего прикроешь. Бриггс уже занес ногу, когда Диллон услышал позади какой-то звук. – Тише! – прошипел он. Что-то двигалось по туннелю в направлении выхода. Диллон встал на одно колено, направляя в темноту одновременно пистолет и фонарик. – Что за черт? – прошептал Бриггс. Звук напоминал то ли хрюканье, то ли сопение, и издавал его кто-то большой. Диллону представился борец сумо, страдающий астмой. – Предупредительный выстрел, – прошептал он. Мистер Т предпочтет получить этого типа живым. – Да, – шепнул в ответ Бриггс– Мой предупредительный будет в голову. А ты стреляй в грудь. Диллон промолчал. Хрюканье раздавалось все ближе, теперь уже за поворотом. Что-то цокало по камню – ноги? копыта? Больше похоже на две ноги. Теперь сквозь хрюканье пробивалось тяжелое дыхание. Он уже убедился, что пистолет снят с предохранителя, и теперь прижал палец к курку. Перед поворотом шаги остановились, тяжелое дыхание на момент замерло, и Диллон бессознательно тоже затаил дыхание. Рядом присел Бриггс, сжимая обеими руками ствол своего 38-го. Из-за поворота показалось что-то темное. – Что за черт? – Бриггс встал. Это был гигантский кабан, футов четырех высотой и шести длиной, на ногах с острыми копытами, чересчур тонких для такой туши. Диллон мог только приблизительно прикинуть, сколько он весит – должно быть, фунтов четыреста. Кабан остановился футах в двадцати от них; его дикие глаза отливали красным в свете фонаря. – Что за черт? – повторил Бриггс, опуская пистолет. – Осторожнее, – предупредил Диллон. – Эти кабаны чертовски опасны. Их много тут в горах. Этот кабан не выглядел особенно опасным. Казалось, яркий свет на какое-то время ослепил его. Только глаза у животного какие-то необычные… странно… что-то тут не так, только вот что? – Погоди-ка, – настороженно прошептал Бриггс– Ты хочешь сказать, что эта тварь пробила стену, протащила Уиллса сквозь восьмидюймовое отверстие, а потом сожрала? – Нет, но… Черт! Только сейчас Диллон заметил, что у кабана с глазами. Их было слишком много – не меньше четырех с каждой стороны громадного рыла. Они располагались близко друг к другу, но были хорошо видны теперь, когда кабан подошел ближе. Диллон отвел фонарик, но глаза животного все так же горели красным. Когда луч фонарика вернулся на морду кабана, тот открыл пасть. Зубы у него были не свиные, а заостренные, как у тигра. Они тоже блестели. – О господи, – прошептал Бриггс, рывком поднимая пистолет. Тут кабан бросился вперед, высекая копытами искры из базальта. Туннель наполнился вспышками пламени, когда Бриггс и Диллон открыли огонь.Песнь Пеле
15 июня 1866 г., вулкан Килауэа Очень странный день. Я так устала от приключений вчерашней ночи и сегодняшних не менее тревожных событий, что с трудом могу держать перо. Спала я плохо, мучаясь кошмарными видениями. К тому же мы рано поднялись, чтобы выслушать рассказ пяти миссионеров, нашедших убежище в «Доме у вулкана» по пути в Хило. Ханануи не преувеличил серьезности положения. Пятеро миссионеров – три женщины, мальчик и старик – прибыли в гостиницу среди ночи вместе с двумя крещеными туземцами, которые, рискуя жизнью, привели хаоле (белых людей) в безопасное место. Есть более близкие пути в Хило – в первую очередь тропа между великими вулканами Мауна-Лоа и Мауна-Кеа, – но миссионеры были уверены, что там их ждет засада, и выбрали более долгий и трудный путь по побережью. Перечислю имена беглецов: мисс Черити Уистер (сестра преподобного Уистера из Кона), мистер Эзра Уистер (престарелый отец преподобного Уистера), миссис Констанция Стэнтон (замужняя дочь преподобного Уистера), ее девятилетний сын Теодор и миссис Тейлор, сестра пастора из миссии. Все беглецы находились в смятенном состоянии, и только у миссис Стэнтон хватило сил связно описать события той страшной ночи, заставившие их бежать в горную глушь. Преподобный Уистер, которого преподобный Хеймарк встречал в Гонолулу, высадился в Коне десять месяцев назад. Хотя, по мнению миссис Стэнтон, туземцы на этом отдаленном берегу срочно нуждались в спасении их душ, там уже имелась христианская церковь. По словам преподобного Хеймарка, ее выстроил преподобный Титус Коэн, друг и соратник знаменитого отца Лаймена из Хило. Даже я во время короткого пребывания в Хило слышала об этом подвижнике, который прошел по острову три сотни миль пешком и в каноэ и окрестил, по его приблизительной оценке, двенадцать тысяч взрослых и до четырех тысяч детей. В свете любви, которую питали туземцы к преподобному Коэну, становилось понятным их настороженное отношение к более суровым («менее либеральным», по словам миссис Стэнтон) проповедям преподобного Уистера. За все десять месяцев ему удалось обратить всего одного гавайца, да и тот был позднее изгнан из общины за участие в каком-то языческом празднике. Поэтому примерно месяц назад он вместе со своей семьей и другими членами миссии перебрался в менее населенный район к югу от бухты Кеалакекуа, где в 1779 году был убит капитан Кук. Миссис Стэнтон говорила обо всех этих фактах с горечью, словно видя в них перст судьбы, преследующий ее семью. Муж ее, мистер Стэнтон, был родом из Амхерста, штат Массачусетс, где преподобный Уистер подбирал людей для миссии. Сначала все шло хорошо. Гавайцы, живущие в уединенных деревушках среди лавовых полей, не слышали проповедей преподобного Коэна и с интересом внимали Слову Божию из уст Уистера. Очевидно, его гневная риторика впечатлила их, живущих в буквальном смысле в преддверии геенны огненной. Успех его был еще большим, когда в прошлом месяце началось извержение Килауэа, которое и привело меня на этот остров. Потом, две недели назад, начались угрозы. Миссис Стэнтон рассказала, что местные поклонники культа Пеле – богини огня, о которой я уже писала, – угрожали туземцам Южной Коны, которые успели принять христианство. Церковь в это время только строилась. Местные кахунаэ, или жрецы Пеле, брат и сестра – миссис Стэнтон клялась, что каждый из них весил по меньшей мере четыреста фунтов, – вступили в конце концов в открытую борьбу с новой религией. Сначала это выразилось в «предупреждении» жреца преподобному Уистеру. Жрец сказал, что скоро случится нечто ужасное, откроются врата преисподней и христиане (говоря его словами, «безбожники, не защищенные милостью Пеле») окажутся в очень большой опасности. – А в какой опасности? – спросил мистер Клеменс, наклоняясь ближе с тем блеском в глазах, что всегда возникает у пишущей братии при новостях о чужом несчастье. Миссис Стэнтон объяснила, что жрец нес какую-то чепуху, говоря, что откроются врата в Царство мертвых, закрытое когда-то Пеле, и злые демоны заполнят побережье. По словам жреца, раньше демоны были весьма активны в этом районе, но Пеле милостиво загнала их под землю перед приходом короля Камехамеха. – Конечно, все это чушь! – презрительно воскликнула миссис Стэнтон. – Негодяи просто прикрывали свои подлые намерения. Тут, к общему изумлению, ее прервал наш проводник. – Нет-нет! – закричал он. – Царство Милу существует! В него есть два входа – в Вайпио, где мертвые становятся духами, и в Коне, где живут самые злые демоны. Госпожа Пеле своей милостью закрыла вход в Коне. – Молчи! – крикнул хозяин гостиницы, разозленный вмешательством маленького гавайца. Но мистер Клеменс, в свою очередь, заставил хозяина замолчать повелительным движением руки. – Все в порядке, Ханануи, – сказал он ласково. – Расскажи нам, кто живет в этом царстве. Ханануи робко посмотрел на сердитое лицо хозяина и нахмуренные лбы миссионеров, но все же заговорил: – Я уже говорить вчера – Пауна-эва, он очень злой, Нанауэ, человек-акула, и Ку, который появляется иногда в виде собаки. Все они очень злые. Мистер Клеменс кивнул, явно желая услышать больше, но боясь рассердить миссис Стэнтон и ее коллег. Я забыла упомянуть, что в течение этого разговора миссис Уистер тихонько всхлипывала, мальчик Теодор и его дедушка спали, а миссис Тейлор сидела неподвижно, уставясь в одну точку. Поджав губы, миссис Стэнтон продолжала: – Так эти люди изводили моего отца нелепыми угрозами. А потом, четыре ночи назад, начались страшные события. На этом месте даже она начала проявлять признаки волнения, но хозяин принес ей стакан воды, и, слегка успокоившись, она продолжала: – Сперва начали появляться… видения. Странные вещи по ночам. – Какие странные вещи? – спросил мистер Клеменс, оседлав свой стул, будто он до сих пор ехал на лошади. – Я как раз говорю об этом, сэр, – ледяным тоном ответила миссис Стэнтон. – Туземцы распространяли слухи об ужасных существах. Об огромной… – Она неприязненно взглянула на Ханану. – Об огромной ящерице. О диком кабане. О черной собаке. Конечно, все это говорилось, чтобы нас запугать. Слушая этот рассказ, я почувствовала, что мое сердце бьется сильнее обычного. Здесь, у подножия извергающегося вулкана, эти дикарские суеверия звучали достаточно правдоподобно. – Мы смеялись над этими рассказами, пока не начался кошмар, – продолжала миссис Стэнтон. – Первым погиб мой муж. В комнате было не меньше дюжины человек, и все они, затаив дыхание, слушали миссис Стэнтон. Тяжело вздохнув, она продолжала: – Четыре ночи назад по селению разнесся страшный крик. Наш дом находился ближе всех. Отец и мать жили в доме побольше возле временной церкви. Мой муж: Август… мистер Стэнтон… схватил мушкет и выбежал из дома. Я умоляла его не ходить, говоря, что не стоит ради спасения язычников рисковать жизнью христианина. Но он сказал, что мы пришли в это отдаленное место, чтобы подавать язычникам пример, велел маленькому Теодору беречь меня в его отсутствие и вышел. С ним был Колуна, один из наших крещеных гавайцев. Август в ту ночь не вернулся. В темноте раздавались крики, и я была уверена, что нас всех убьют, но больше никто не вышел из дома, и я тоже… я была так напугана… Утром отец собрал мужчин – дедушку, мистера Тейлора и двух крещеных гавайцев, которые заслуживали доверия, – и они отправились на поиски. Колуна лежал на краю селения весь в крови. Он был жив, но ничего не помнил о событиях прошлой ночи. Августа нашли в лавовом поле… Тут миссис Стэнтон замолчала, не в силах говорить далее, и преподобный Хеймарк принялся ее успокаивать. Все, кто был в комнате, по-прежнему молчали. Остальное рассказали хозяину гостиницы двое гавайцев, которые привели беглецов к вулкану. Он пересказал это мистеру Клеменсу и остальным. От меня старались скрыть ужасающие подробности, но в тесноте гостиницы я то и дело слышала обрывки разговоров на эту тему. Мистера Стэнтона нашли на лавовом поле, горло его было перекушено каким-то животным. В ту ночь все белые собрались в большом доме преподобного Уистера возле церкви. По сбивчивым описаниям гавайцев, это была ужасная ночь – странные звуки, нечеловеческий хохот, чудовища, крадущиеся среди лавовых глыб, – и все это освещалось тем же зловещим светом Хале-Маумау, что я видела накануне. Кто-то скребся и царапался в стены дома, и мужчины всю ночь держали наготове мушкеты, а женщины поднимали вверх зажженные фонари. Никто не пытался ворваться в хижину, хотя ее тростниковые стены неудержали бы даже крысу. Преподобный Уистер сказал, что это знак власти Иисуса над силами тьмы, но неизвестно, имел он в виду демонов или кровожадных туземцев. Утром – всего четыре дня назад, когда я развлекалась в Хило! – христиане с опаской вышли из дома и обнаружили, что все их лошади буквально разорваны на куски. Об этом все особенно остерегались говорить при мне, как будто убийство лошадей было хуже, чем убийство бедного мистера Стэнтона. После этого мистер Тейлор предложил послать за помощью в Кону. Миссис Тейлор была против, но все понимали, что с ребенком и стариком они не доберутся до Коны меньше чем за два дня, в то время как один человек легко дойдет туда за сутки даже пешком. В десять утра мистер Тейлор отправился в путь вместе с туземцем, уже упомянутым Калуной. Около пяти часов Колуна вернулся – опять один. Дрожащим голосом он рассказал, что в четырех милях от селения на них напала гигантская ящерица с глазами человека. Мистер Тейлор выстрелил в нее из мушкета с расстояния не более шести футов, но не причинил никакого вреда. Колуна сказал, что голова мистера Тейлора раскололась, как кокосовый орех, и, пока ящерица пожирала его, он, Колуна, успел убежать. Он сказал еще, что маленькие создания, похожие на гномов, гнались за ним две мили, но потом отстали. Тут терпение преподобного Уистера лопнуло, и он обвинил Колуну в том, что он лжет и предает христиан жрецам Пеле. В разгар спора Колуна поднял нож:, чтобы поклясться на нем, как это принято у язычников, но преподобный неправильно истолковал этот жест и выстрелил в безвинного гавайца. Колуна умер спустя несколько часов. После этого опять наступила ночь, и несчастным христианам опять пришлось слушать крики и царапанье в дверь. Наконец, по словам туземцев, измученные женщины и мальчик заснули в другой комнате, а преподобный Уистер и его жена остались сторожить. Спящих разбудили нечеловеческие крики и выстрелы. Миссис Стэнтон попыталась открыть дверь в другую комнату, но тут дружественно настроенные туземцы вывели всех оставшихся в живых через пролом в стене и повели их куда-то по темной тропинке через лавовые поля. Сзади они видели, как горят церковь и оставленный ими дом. Они достигли кратера после сорока часов изнурительного пути. Их никто не преследовал, хотя проводники видели среди лавы странные тени и слышали нечеловеческие голоса. Выслушав эту историю, Смит и Магуайр потребовали у Ханануи немедленно доставить их в Хило. Хозяин гостиницы также решил уехать утром, заперев «Дом у вулкана» и оставив его на милость ветра и сырости. Туземцы – как проводники миссионеров, так и гостиничные слуги – боялись ехать ночью, но еще больше боялись остаться наедине с ужасом, идущим с Коны. Пока все собирались, я услышала на веранде разговор между мистером Клеменсом и преподобным Хеймарком. – Я не поеду с вами в Хило, – сказал корреспондент. – Я должен узнать, что здесь происходит. Даже если это не более чем месть языческого колдуна, репортаж об этом будет поинтереснее, чем о гибели «Хорнета». Преподобный нахмурился, услышав о таком эгоистическом отношении к трагедии, но неожиданно для меня сказал: – Я поеду с вами. Уверен, что Магуайр, Смит и остальные смогут доставить женщин в Хило и без моей помощи. Корреспондент тоже был удивлен подобным решением и попытался настоять на своем праве встретить опасность в одиночку. Но преподобный Хеймарк отверг все возражения: – Я иду не стеречь вас, сын мой. Я хорошо знаком с преподобным Уистером и его зятем. Мы не знаем пока, что с ними случилось. Все, что мы слышали, – это женские страхи и языческие суеверия. Я хочу найти их и, если им ничем уже нельзя помочь, предать их тела христианскому погребению. Я уверен, что мы с вами будем в Хило даже раньше остальных… если ничего не случится. Двое мужчин пожали друг другу руки. Я пошла в свою комнату, собрала вещи и надела самые прочные башмаки и самую скромную юбку. Мистер Клеменс и преподобный Хеймарк еще не знали, что я тоже отправляюсь с ними в Кону.Сато и его свита удалились в свои номера, и у Трамбо осталось три часа на то, чтобы разобраться со всеми несчастьями. Они с Уиллом Брайентом на лифте поднялись в апартаменты жены Трамбо и ее адвоката в северном крыле Большого хале. Перед дверью Трамбо тронул Брайента за рукав: – Пять минут. Ни одной гребаной минутой больше. Можешь устроить взрыв, что угодно. Пять минут. Брайент коротко кивнул и исчез за кадкой с пальмой. Трамбо позвонил в дверь, стараясь придать лицу как можно более невозмутимое выражение. Открыл ему Майрон Кестлер. Седые волосы адвоката, как обычно, были связаны в хвост, а одет он был в махровый халат с эмблемой Мауна-Пеле. В руке он держал бокал с остатками виски. – Хорошо устроились, Майрон? – дружелюбно спросил Трамбо. – Еще не пробовали наше джакузи? Майрон Кестлер натянуто улыбнулся: – Миссис Трамбо ждет вас. – Да-да. – Трамбо перешагнул порог. Все вокруг сверкало мрамором, кожей и дорогой тканью. Это сверкание не заглушали даже толстые персидские ковры на полу и стенах. Штормовой ветер развевал длинные, от пола до потолка, занавески на западном окне. Пахло сандаловым деревом и лаком. – Где она? – спросил Трамбо. – На террасе. К неудовольствию Трамбо, адвокат последовал за ним на ланаи. Днем оттуда можно было увидеть вершину Мауна-Лоа и заснеженную громаду Мауна-Кеа за ней. Сейчас вместо этого свет фонарей выхватывал из темноты только бьющиеся на ветру кроны пальм. Кэтлин Соммерсби Трамбо тоже была в халате с эмблемой курорта и тоже держала в руках бокал. Трамбо знал, что это чистая водка со льдом. Она сидела в шезлонге, закинув ногу на ногу и обнажив неправдоподобно гладкое бедро. Лампа над головой отбрасывала каскад теней на ее длинные, медового оттенка волосы. Трамбо почувствовал на миг вожделение, которое и заставило его жениться на ней… не считая того, что у нее было несколько сотен миллионов. Жаль, что она оказалась такой стервой. – Кэт! – воскликнул он. – Рад тебя видеть. Какой-то момент она молча смотрела на него. Раньше он думал, что глаза у нее небесно-голубые; теперь ему в голову пришло, что к ним больше подошло бы определение «льдисто-голубые». – Ты заставил меня ждать, – сказала она наконец. Трамбо всегда плохо разбирался в оттенках ее тона: капризная девчонка, деловая женщина, Снежная королева – все они были одинаково стервозными. – Я был занят. – С отвращением Байрон Трамбо услышал в своем голосе знакомые оправдательные нотки. Кэтлин Соммерсби Трамбо сморщила свой изящный нос. Прежде чем она заговорила, Трамбо попытался перехватить инициативу: – Ты нарушила условия раздельного проживания, приехав сюда. – Ничего я не нарушала, и ты это прекрасно знаешь, – парировала она. – Это не твой дом, а отель, где каждый может поселиться. – С Майроном? – Трамбо усмехнулся. – Осторожнее, Кэт. Может быть, я установил видеокамеру у тебя в спальне? Она вздернула подбородок: – Что ж, это на тебя похоже. Большому Т всегда больше нравилось смотреть, чем делать, не так ли? Улыбка сошла с лица Трамбо. – Чего ты хочешь? – Ты знаешь. – Мауна-Пеле ты не получишь. Она задрала подбородок еще выше. – Мы хотим не так уж много. – За это «не так уж много» я отвалил восемьдесят гребаных миллионов. – Не смей выражаться при мне! Кестлер откашлялся: – Я считаю, что… – Заткнись, Кестлер! – рявкнул Трамбо. – Замолчи, Майрон, – попросила Кэтлин. Адвокат откинулся в кресле и сделал большой глоток виски. – Послушай, Кэт… – Трамбо пытался сгладить напряженность. – Это неразумно. Подожди, пока я сплавлю курорт япошкам, и получишь свою долю. Его отдельно живущая жена посмотрела на него поверх очков в тонкой оправе. – Я хочу Мауна-Пеле. – Зачем? Ты никогда здесь не была, у тебя не связано с этим местом никаких сентиментальных воспоминаний. И ты отлично знаешь, что это убыточное предприятие. – Я хочу, – повторила Кэтлин тоном, не оставляющим места для споров. – Если ты продашь его мне, получишь деньги. Если нет – я все равно отберу его у тебя. – Ну уж нет! Я его сожгу! А еще вернее, я успею его продать. Кэтлин безмятежно улыбнулась: – Мистер Сато знает обо всех этих убийствах в прошлом году? – Исчезновениях, – поправил Трамбо. – Шесть убийств. Это место опаснее, чем Сентрал-парк ночью. Думаешь, Сато или кто-нибудь из его инвесторов захотят купить Сентрал-парк? – Не суйся к Сато. – Трамбо удивился, обнаружив, что способен говорить сквозь стиснутые зубы. – А то что будет? – Или ты узнаешь, как опасно здесь может быть… – Я все слышал! – Кестлер вскочил с места. – Угроза насилия! – Это просто предупреждение. – Трамбо повернулся к адвокату, наставив на него палец как револьвер. – Предупреждаю, здесь и вправду опасно. Я приставил к Сато охрану, но я не могу охранять всех незваных гостей. – Еще угроза, – обрадовался Кестлер. – Мы можем пойти в суд и… – Замолчи, Майрон, – повторила Кэтлин и устремила на Трамбо ледяной взгляд. – Значит, ты отказываешься его продать? Трамбо ответил не менее ледяным взглядом: – Кэт, когда-то я был готов подарить его тебе. Я едва не сделал это на Рождество три года назад. Но теперь я не сделаю этого, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. В дверь позвонили, и Кестлер впустил Уилла Брайента с телефонной трубкой. – Босс, простите, что беспокою, но звонит доктор Гастингс из обсерватории. Он говорит, что лава из Мауна-Лоа не двинулась к югу, как предполагали. Она течет по старому разлому в направлении Мауна-Пеле. Трамбо вздохнул: – Сейчас разберемся. – У самого выхода он повернулся к Кэтлин. – Я сказал, что Мауна-Пеле ты не получишь. Она, отставив бокал, одарила его взглядом, который мог бы заморозить весь кислород в комнате. – А я сказала, что получу. Трамбо поспешно вышел. У самого лифта он взглянул на часы: – Бики до рассвета просмотрит телевизор, так что пойду к Майе, пока она не явилась сюда за мной. Лава течет на Мауна-Пеле? Господи, Уилл, я просил подыскать предлог, но это слишком мрачно. – Это не предлог, босс. – Уилл Брайент протянул ему телефон. – Гастингс просил вас срочно перезвонить ему. Он считает, что курорт сегодня же нужно эвакуировать.
Глава 13
И пришли те дни, когда стала горячей земля, Когда обратилось небо в черную мглу, Когда перестало солнце над миром сиять, Чтобы заставить отныне светить луну. Тогда в тишине Плеяды в ночи взошли, И липкий ил оказался сутью земли.Элинор не хотела лезть в катакомбы с Полом Кукали и Корди Стампф. Ужин был прекрасным, несмотря на шторм, бушующий за стенами ланаи, и тусклый свет аварийных ламп. Через час дали свет, и сидящие на террасе начали недовольно щуриться. В начале разговора Пол говорил о мифах своего народа слегка скованно, но, не обнаружив никакого пренебрежения со стороны берлинского профессора, стал более разговорчив. Он объяснил разницу между «моолело» – сказаниями о деяниях богов – и «каао», историями о людях, какие рассказывают ночами у костра. Рассказал он и об иерархии гавайских сверхъестественных существ: «аумакуа», или главные боги, «капуа», их дети, жившие среди людей подобно Гераклу и другим греческим героям, «акуа капу», обычные духи, которые пугали людей и насылали на них несчастья, и, наконец, «акуа лии», завершающие сложный гавайский пантеон души деревьев, источников, облаков и всех других природных явлений. – И все это связано с маной, – сказал Пол, делая глоток кофе. – Охраняет ману, похищает ее или открывает новые ее источники. – Власть, – сказала внимательно слушавшая Корди. – Да. Власть над собой. Власть над людьми. Власть над силами природы. – Ничего не изменилось, – грустно сказала Корди вместо обычных шуточек. Официантка, полногрудая гавайка с этикеткой «Бетти», пришпиленной к ее муумуу, спросила, хотят ли они десерт. Пол и Элинор отказались, а Корди, согласившись, выслушала нескончаемый перечень, состоящий в основном из кокоса в разных видах. Она выбрала простое мороженое, и ей принесли вазочку… с кокосовым наполнителем. Элинор пожалела, что не заказала того же, но официантка уже ушла. Она спросила: – А как выглядел этот Ку? Пол отставил кофейную чашку. – Ку был богом войны древних полинезийцев и приплыл на острова вместе с ними. Ему приносили человеческие жертвы. Людям он являлся в разных обличьях. – И в собачьем? – спросила Корди, облизав ложку. – Да. Особенно часто. Вы думаете, это его мы видели сегодня? – Он сам улыбнулся нелепости такого предположения. – Конечно, – сказала Корди без улыбки. – Тогда вынужден вас разочаровать. Ку – во всяком случае, его собачье воплощение – был убит верховным вождем Полихале много веков назад. Части его тела превратились в камни, и их до сих пор можно увидеть в Оаху. – Можно убить собаку, но убить бога нельзя, – сказала Корди, доедая мороженое. На верхней губе у нее остался белый след. Пол посмотрел на Элинор: – Думаю, Вольтер и Руссо с этим бы не согласились. Элинор вместо ответа спросила: – Ку, когда умер, попал в царство Милу? Пол пожал плечами: – Некоторые кахуна, жрецы, так считают. – Но в Милу обитают души людей? – Да. – И там же находятся капуа и моо? – Про капуа я говорил. Но не помню, чтобы я упоминал моо. – А кто это? – тут же спросила Корди. – Моо – это очень опасные демоны, – ответил Пол. – Они имеют власть над природой и могут принимать разные обличья. Капуа и моо оказались в царстве Милу после кровавой битвы с Пеле. Едва он произнес это имя, за окном полыхнула ослепительная молния. Все трое улыбнулись. – Ну хватит, – сказал Пол, оглядев пустой ланаи. – Пора уходить, скоро закроют. Хорошо хоть электричество дали. Вы еще не раздумали идти в катакомбы? – обратился он к Корди. – Нет. – Элинор, а вы идете с нами? – Думаю, нет. Я пойду к себе в хале. Пол показал пальцем на стену дождя: – Вы живете на южной стороне? – Да. За бухтой и маленьким прудом, – ответила Элинор, думая, что же предложит ей куратор. – Вы можете взять зонтик, но советую лучше пойти с нами. Один из выходов катакомб находится совсем недалеко от вашего хале. – Не знаю… – начала Элинор. – Пойдемте, Нелл, – прервала ее Корди. – Что ж, если это короче… – Короче, – сказал Пол Кукали. – Мы с миссис Стампф проводим вас до дому и вернемся в Большой хале. А по пути посмотрим катакомбы. Они вышли, попрощавшись с Бетти и метрдотелем. Дождь за открытой стеной вестибюля лил вовсю. На лифте они спустились в подвал, и Пол подвел их по длинному спуску к двери с надписью «Служебный вход». Он сунул в отверстие свою карточку, засветился зеленый огонек, и дверь открылась.«Кумулино», гавайская «Песнь творения»
– Что это за чушь насчет эвакуации Пеле? – проревел Трамбо в телефонную трубку доктору Гастингсу. Голос ученого был усталым: – Я просто прошу, чтобы вы оценили ситуацию и приняли разумное решение. Власти уже предупредили администрацию курорта Кахуку… – Это же на юге. – Да, но открылись старые трещины, которые могут направить лавовый поток на север до мыса Кеанануионана. – Все равно это южнее, – не сдавался Трамбо. – Каждый поток может вызвать побочные явления в месте прохождения. Напомню вам апрель тысяча восемьсот шестьдесят восьмого, когда весь этот район оказался жертвой цунами, лавового потока и катастрофического оползня на разломе Хилина-Пали… – А я вам напомню, что мне плевать, что там было в тысяча восемьсот гребаном году! Я хочу знать, что будет сейчас. Наступило долгое молчание, и Трамбо решил даже, что старик-вулканолог повесил трубку. Потом он заговорил снова: – В тысяча восемьсот шестьдесят восьмом все начиналось очень похоже. Периодические извержения Мауна-Лоа и Килауэа с отголосками по всему юго-западному разлому. Миссионеры, жившие как раз там, где находится ваш курорт, сообщали, что земля перекатывалась у них под ногами, как морские волны. На Южную Кону обрушился оползень, который меньше чем за три минуты снес все находившиеся там поселения. Тут же на побережье нахлынули волны высотой до шестидесяти футов и смыли в море все, что осталось. Пять дней спустя началось новое извержение, и неожиданно на месте нынешнего Кахуку открылась трещина, извергающая лаву. – И что? – мрачно спросил Трамбо. – Каков ваш прогноз? Вулканолог вздохнул: – Рекомендую эвакуировать курорт. – Почему мне не сказал этого губернатор? – Губернатор боится вас, мистер Трамбо. Он не скажет вам того, что вы не хотите слышать. – Но вы же не побоялись. – Я ученый. Это моя работа – собирать новые данные и делать из них выводы. А ваша работа – беречь жизни ваших туристов и персонала. – Я рад, доктор Гастингс, что вы понимаете, кто за что отвечает. Вулканолог откашлялся. – Но я должен предупредить – если будет доказано наличие угрозы для берега Коны, я обращусь в прессу. Миллиардер прикрыл рукой трубку и выругался. Потом заговорил снова: – Понимаю, доктор. Я знаю, что вы должны были завтра посетить нас, но думаю, теперь ваши обязанности… – Наоборот. Я планировал коротко ознакомить ваших туристов с… – О, не беспокойтесь! – поспешно воскликнул Трамбо. – Мы сами это сделаем. А вы следите за вулканом и в случае чего звоните нам. Договорились? – Он положил трубку прежде, чем Гастингс смог ответить. – Ну все, Уилл. Я еду к Майе. – Там дождь, – заметил помощник. – Плевать. Я возьму радио, держи со мной связь. Я хочу, чтобы ты спустился вниз и узнал, что с Бриггсом и Диллоном. Уилл Брайент без энтузиазма кивнул. – После Майи я загляну в сарай и посмотрю, как там Бики. Попробую уговорить ее улететь завтра, так что проследи, чтобы ее самолет был готов. Потом вызови ко мне Бобби Танаку… нужно прикинуть, как завершить это дело завтра. Необходимо, чтобы Сато все подписал и убрался отсюда до завтрашнего вечера. Вопросы есть? Брайент покачал головой. – Хорошо. Встретимся около часа. Байрон Трамбо сел в свою тележку для гольфа и покатил к полуострову.
– Большинство служб уже закрыто, – объяснил Пол Кукали, – но в прачечной и булочной работа только начинается. Они втроем шли по бесконечной череде туннелей. Только однажды мимо них проехал электрокар. Две сидевшие в нем женщины поздоровались с куратором. – Вас тут знают, – сказала Корди. – В основном те, с кем я познакомился вне Мауна-Пеле. Молли и Тереза были моими студентками в Хило. Остров большой, но людей здесь не так много. – Сколько? – спросила Элинор. – Около ста тысяч, из них треть в Хило. Здесь самая маленькая плотность населения из всех островов архипелага. Они свернули влево, задержавшись на минуту у окон прачечной, где кипела работа, Элинор с удовольствием вдохнула запах пара и нагретой ткани. – А мистеру Трамбо не трудно находить рабочих? – поинтересовалась Корди. – И да, и нет. На острове полно безработных, и многих привлекает высокая зарплата. С упадком сахарной отрасли люди подались в основном в сферу обслуживания – здесь ведь нет заводов. Но мистеру Трамбо действительно трудно найти рабочих из-за удаленности курорта и… – И из-за слухов о том, что здесь опасно, – закончила Корди. – Да. – Пол как-то виновато улыбнулся. – Вот мой офис… ничего особенного здесь нет. А это офис астронома… странно, дверь открыта. В этот момент опять погас свет. Элинор однажды была в пещере во Франции, и экскурсовод на несколько минут выключил свет, чтобы продемонстрировать эффект полной темноты. Ей после этого до сих пор снились кошмары. Сейчас у нее перехватило дыхание: давящая темнота как обручем сдавила ей грудь. – Черт! – воскликнул Пол. – Ничего, скоро включат аварийный генератор. Потерпите немного. Свет не включался. – Не понимаю. Им же нужно только протянуть руку. – Т-с-с, – послышался в темноте голос Корди. – Слушайте! Элинор прислушалась. Звуки, наполнявшие коридор минуту назад – шорох вентиляторов, гудение огромных стиральных машин, легкое жужжание неоновых ламп на потолке, – все разом исчезли. Их окружало молчание, такое же абсолютное, как и темнота, как будто все, что находилось в катакомбах, перестало существовать вместе со светом. – Не знаю, что… – начал Пол Кукали. – Тише! – прошипела Корди. Элинор услышала звук слева, где находились лишь несколько запертых офисов. Звук напоминал то ли хрип, то ли скольжение чего-то мокрого по камню. Элинор до боли в глазах всматривалась в окружающую темноту. Тут раздался другой звук – звяканье ключей. – Оставайтесь на месте, – сказал Пол. – Я сейчас открою кабинет. В шкафу у меня есть фонарик. – Не двигайтесь! Голос Корди был таким властным, что Элинор с Полом застыли на месте. Внезапно вспыхнул свет, и они увидели, что Корди стоит на одном колене, высоко подняв горящую зажигалку. Элинор так обрадовалась, увидев свет, что даже не заметила, как Корди достала из сумочки револьвер. В ее руках он выглядел до абсурда большим и тяжелым. Теперь со стороны прачечной доносились голоса. – Посветите туда, – попросил Пол. – Я отыщу дверь в мой офис. – Не двигайтесь, – повторила Корди тем же повелительным тоном. Она встала и, твердой рукой сжимая пистолет, направилась к источнику странных звуков. Элинор поспешила за ней, боясь очутиться вне спасительного круга света. Сперва она увидела блестевшие в темноте глаза. Корди тоже заметила их, но не остановилась. – Вот черт, – пробормотала она. Элинор не сразу узнала в бородатом человеке, прижавшемся к стене туннеля, начальника охраны, с которым они беседовали несколько часов назад. Сейчас он тупо глядел на них, не узнавая, и, подойдя ближе, Элинор поняла причину этого. Диллон выглядел так, будто он попал в автомобильную катастрофу, – рукав пиджака оторван, белая рубашка разорвана в клочья, лицо в крови, из приоткрытого рта на бороду капает слюна. Пол кинулся вперед и подхватил охранника как раз в тот момент, когда он готов был упасть. – Нужно вызвать доктора, – сказал куратор. Внезапно Корди резко повернулась и нацелила револьвер в ту сторону, откуда они пришли. Из темноты быстро приближались чьи-то шаги.
17 июня 1866 г., берег Коны Я не обращалась к дневнику два дня, потому что это время было переполнено событиями настолько невероятными, что их осмысление требовало хотя бы небольшой перспективы. Даже сейчас, когда я сижу с дневником на коленях в жалкой хижине и слушаю, как за ее стенами снова раздаются жуткие звуки, могущие означать нашу скорую и безжалостную смерть, я не могу поверить до конца собственным чувствам. Кажется, целую вечность назад я вызвалась сопровождать корреспондента и священнослужителя в их рискованном путешествии на берег Коны. Как ни странно, они особенно не протестовали – видимо, наши приключения предыдущего дня убедили их в том, что я могу служить им достойным спутником. Теперь я почти жалею, что так получилось. Как бы то ни было, утром Ханануи, Смит, Магуайр, хозяин гостиницы и беглецы-миссионеры отправились в Хило. В гостинице нашлось достаточно лошадей и мулов, чтобы по крайней мере никто из белых не шел пешком. У хозяина гостиницы и его слуги были мушкеты, которые они зарядили перед отбытием. Возник спор относительно вооружения нашей маленькой группы. Преподобный Хеймарк отказался от револьвера, который предложил ему хозяин, в то время как мистер Клеменс счел это неплохой идеей. В конце концов сошлись на револьвере. – Вы умеете стрелять? – спросил хозяин, явно сомневаясь в способностях корреспондента. – Сэр, – ответил мистер Клеменс с неподражаемым миссурийским акцентом, – я имел честь состоять в милиции конфедератов. Хозяин посмотрел на него с уважением. – И дезертировал через три недели, – закончил корреспондент. – М-м-м? – Хозяин недоуменно поднял бровь. Мистер Клеменс, обследовав ветхий пистолет, сунул его в карман куртки. – Вскоре Юг пал, – закончил мистер Клеменс. Прежде чем приступить к описанию следующих ужасных дней, должна заметить, что шутки журналиста иногда бывали удачными. Одним из примеров была книга отзывов в гостинице. Записи в ней в основном относились к извержениям, и среди них были как поэтические, так и чрезвычайно грубые – последние исходили, как правило, от англичан. Американцы были более романтичны, например: «9 июня 1865 г. Спустился в кратер и нанес визит госпоже Пеле. Обнаружил огненное озеро, бушующее как море. Зрелище пугающее, но чрезвычайно величественное». Или это: «4 августа 1865 г. Профессор Уильям Т. Бригем и мистер Чарльз Уолкотт Бруггс спустились в кратер и провели ночь в десяти футах от кипящей бездны. Самое необычное зрелище в жизни, едва не ставшее последним, так как утром упомянутые джентльмены едва успели убежать от большого облака серного газа». Я переписала в дневник запись, сделанную мистером Клеменсом:
«“Дом у вулкана”, 15 июня 1866 г. Я прибыл сюда, как все предыдущие, тем же путем. Я знал, что всех нас хранит Провидение, и не испытывал страха. К тому же нам повезло с погодой: мы заключили с ней сделку на половинных условиях. Моими спутниками были преподобный Хеймарк и мисс Стюарт из Огайо… но такие откровения не вполне уместны в книге, посвященной извержениям, так что вернемся к нашей теме. В кратере мы намеревались провести всю ночь, но бутылка с нашими припасами разбилась, и мы вынуждены были вернуться. Стоя у озера, мы увидели кучу грязи размером с кусочек мела, и я сразу понял, что должно случиться что-то необычное. Куча тряслась-тряслась, а потом вдруг упала в озеро. О боже! Это было ужасно. Мало кому выпадает на долю подобное приключение. Чтобы успокоить нервы, мы немного выпили, и тут показалось облако серного газа. Мы тут же бросились наутек, следуя моде, принятой среди туристов. Вернувшись к озеру, мы выпили еще немного, созерцая величественное проявление власти высших сил, но тут наш достопочтенный духовный спутник провалился в геенну огненную, о которой так часто говорил в проповедях. Расстроенный этим обстоятельством, он второпях разбил нашу бутылку с ужином. Вызволив нашего Вергилия из недр земли и отругав его за столь небрежное отношение к провизии, мы с мисс Стюарт из Огайо решили прекратить восторги и вернуться».
Преподобный Хеймарк громко смеялся над этим описанием, но я нашла в нем только несерьезность, присущую мистеру Клеменсу в самые опасные минуты. Никто из туземцев не согласился нас сопровождать, хотя мистер Клеменс предлагал им щедрую плату. В конце концов мы нагрузили своих лошадей трехдневным запасом провизии, взяли не слишком надежную карту, выданную нам хозяином, и тронулись в путь. Спуск с вулкана прошел без приключений, если не считать таковыми встречающиеся по пути потоки лавы и висящие над нами, как ядовитые облака, столбы сернистых газов. Справа от нас поднималась на высоту четырнадцати тысяч футов вершина Мауна-Лоа, превышавшая Килауэа на четыре тысячи футов. Огня над ней не было, но облако дыма вырывалось из кратера и тянулось в нашу сторону, как дурное знамение. Пейзаж здесь был скучен – бесконечные лавовые поля сменялись голыми базальтовыми плато и каменными столбами, напоминая то ли Дантов ад, то ли промышленный Питтсбург. Тропа, которую гавайцы называют Айнапо, уходила на юго-восток между Мауна-Лоа и прибрежными скалами. За несколько часов из растительности нам попадались только колючие деревья охиа и пышные кустарники амау, которые, по словам преподобного Хеймарка, посадили на лавовых полях всего год назад. Эта тропа была избита меньше, чем дорога из Хило до Килауэа, и мы успели проехать двадцать миль до поступления темноты. Я должна описать закат: мы проехали достаточно далеко на запад, чтобы видеть вдали берег Большого острова. С высоты двух тысяч футов над уровнем моря нашим глазам открывался вид на бескрайнее пространство океана на юге и западе. На востоке горизонт заслоняли гигантские конусы вулканов, а над нами нависало чистое небо, с каждой минутой становившееся все темнее. Мы прервали разбивку лагеря, чтобы полюбоваться идеальным солнечным кругом, остановившимся у самого края горизонта словно затем, чтобы попрощаться с нами. Наконец оно скрылось за узкой полоской облаков, на которые я смотрела в романтическом настроении, пока мистер Клеменс с его штурманским опытом не сказал: – Если ветер не переменится, эти облака могут к утру прибавить нам хлопот. Мы перекусили сушеным мясом и, как могли, улеглись среди поля аха, подложив под голову седла, снятые с лошадей, которые паслись неподалеку, привязанные к дереву лаухала. Глядя на россыпи звезд над головой, я слушала, как мужчины договариваются о порядке дежурства. Преподобный Хеймарк высказал опасения, что это может потревожить леди, на что мистер Клеменс, рассмеявшись, сказал: – Думаю, эту леди вряд ли что-то в этом мире может испугать. Честно говоря, я не знала, как мне отнестись к подобному комментарию. Похоже, дежурить они все же не стали, так как за ночь я несколько раз просыпалась от храпа преподобного. Утром предсказание мистера Клеменса сбылось: нас разбудил мелкий дождь. Мы подогрели кофе на хилом огоньке, который разжег корреспондент, и наскоро собрали вещи для дальнейшего путешествия. Уже тогда я в первый раз пожалела, что отправилась в это путешествие. Лошади пустились вскачь, звонко цокая копытами по черной лаве, и мне снова, как по дороге из Хило, пришлось напрягать все силы, чтобы не отстать от своих спутников. Тогда я еще не знала, сколь незначительными покажутся мне эти неудобства через несколько часов. Весь день мы потратили на спуск с гор на южной границе Мауна-Лоа в направлении берега Коны. С высоты более тысячи футов мы могли разглядеть полоску яркой зелени вдоль берега моря за прибрежными скалами. Даже с такого расстояния мы видели, с какой яростью разбиваются об эти скалы океанские волны. На всем протяжении берега было лишь несколько бухт, куда могли причалить корабль или вельбот. В одной из этих бухт нашли свою смерть несчастные миссионеры. Возможно, место их гибели закрывали клубящиеся на западе облака. – Я думал, здесь будет посуше, – сказал лаконично мистер Клеменс. – Да, необычно для июня, – подтвердил преподобный Хеймарк из-под шляпы, с полей которой капала вода. – И как это погода всегда бывает необычной не к месту? – пробормотал корреспондент. Когда мы спустились ниже, тучи нависли вокруг нас, и солнце уже не показывалось до самого заката. Добравшись до лесистой долины в полумиле от моря, мы спустились вниз, ведя коней в поводу. – Это главная тропа, связывающая миссии в Коне и Кау, – сказал преподобный Хеймарк. – Уже скоро? – спросила я, стараясь задать этот вопрос так, чтобы он не походил на нытье. – Еще миль восемъ-десять. – Преподобный с трудом влез на своего коня. – Боюсь, что лошади устали и мы не достигнем миссии до рассвета. – Может, это и к лучшему, – мрачно заметил мистер Клеменс, окончательно испортив мне настроение. Мы не знали, что ждало нас впереди. Если жители деревни и в самом деле убили миссионеров, вряд ли будет разумно встречаться с ними в ночное время. Преподобный Хеймарк кивнул: – В миле или двух отсюда есть старый языческий храм. Я думаю, мы сможем заночевать там. Так мы попали вечером в хеиау, где начались все ужасы вчерашней ночи. Уже наше прибытие туда было достаточно зловещим: мы проехали между двух каменных стен, по тому самому пути, где языческие жрецы проводили своих несчастных пленников к месту жертвоприношения. – Этот храм построил Камехамеха Великий перед тем, как отправился завоевывать Оаху, – объяснил преподобный, остановив коня у подножия ужасного здания. – Мне снился Камехамеха сегодня ночью, – сказал корреспондент серьезным против обыкновения тоном. – Он появился в нашем лагере и повел меня назад к вулкану. Там, в подземной гробнице, он указал мне на огромную плиту и сказал: «Вот могила последнего короля!» Я налег на плиту плечом, она сдвинулась, и я увидел мумию. – Неприятный сон, – сказал преподобный, вытирая платком раскрасневшееся лицо. – Дальше было еще хуже. Мертвый король положил мне на плечо костяную руку и попытался что-то сказать. Из его зашитых губ вылетел только чуть слышный стон, но мне показалось, что он хочет о чем-то меня предупредить. – Неподходящее место для историй с привидениями, – сказала я, глядя на жертвенник. Казалось, мистер Клеменс очнулся ото сна: – Да-да. Извините. Удивившись этому извинению – первому за все время нашего знакомства, – я перенесла свое внимание на храм. Хеиау имел форму неправильного прямоугольника длиной около двухсот футов. Его стены, сложенные из лавовых глыб, имели до двадцати футов в высоту и двенадцати футов толщины в основании, сужаясь вверху до шести футов. Со стороны моря стены были частично разрушены и имели высоту около семи футов, с плоской вершиной, на которой во время церемонии стояли вожди и воины. С южной стороны находился внутренний дворик, где, по словам преподобного Хеймарка, стоял главный идол Таири в шлеме, украшенном красными перьями, – свирепый бог войны, которому поклонялся Камехамеха. Именно там сотнями, а то и тысячами приносили в жертву людей, чтобы боги снизошли к просьбам короля. Дождь тем временем пошел сильнее, и я совсем упала духом. Все вокруг было мокрым и серым. Место казалось не просто безжизненным – из него будто вынули душу, если понятно, что я имею в виду. Невдалеке от заброшенного хеиау стояли три травяные хижины, в одной из которых мы и решили провести ночь. Мистер Клеменс сумел развести в хижине огонь, и мы выпили кофе с остатками сушеного мяса и плодами манго. Я предпочла бы чай, но горячая жидкость подбодрила нас, и в сгущающейся темноте мы занялись обсуждением планов на следующий день. Преподобный Хеймарк твердо считал, что все случившееся явилось результатом козней местного жреца, но предполагал, что Уистер и другие могут быть еще живы. – А как же чудовища? – спросил мистер Клеменс – Ящерица Ханануи, человек-собака и прочие? Преподобный высказал свое недоверие к подобным языческим предрассудкам. – Но из этого все равно можно сделать хорошую статью, – задумчиво сказал корреспондент. Я не выдержала: – Почему ваши коллеги так любят всякие ужасы? – Потому что это наш хлеб, – улыбнулся мистер Клеменс– Большинство людей учатся читать только для того, чтобы выискивать в газетах леденящие кровь истории. Чем больше крови, тем вкуснее для них завтрак. – Это, без сомнения, свойство нашей испорченной эпохи. – Да, – согласился он, – и всех эпох до и после нас. Народы появляются и вымирают, машины изобретаются и уходят в небытие, моды расцветают и вянут, как цветы осенью, но хорошее убийство к завтраку, мисс Стюарт, всегда будет в цене. Если эта история будет такой же сенсационной, как гибель «Хорнета», я смогу продать ее в любую газету, будь то в тысяча восемьсот шестьдесят шестом, тысяча девятьсот шестьдесят шестом или две тысячи шестьдесят шестом году. Я только покачала головой в ответ на эту чепуху, и тут наши лошади за стеной хижины начали ржать и храпеть, что безошибочно говорило об охватившей их панике.
Глава 14
О остров лехуа, о милый Пауна-эва, Леса, в которых охайя зрели на древах! Погибли цветы лехуа, что были алы, Засохли охайя, и красных плодов не стало. Голо и пусто на острове Пауна-эва. Дым над землею вьется, несется к небу, Рвется на волю пламя, пылает алым…Байрон Трамбо лежал, обнаженный и обессиленный, на широкой кровати, глядя, как наверху медленно вращаются лопасти вентилятора. На плече его дремала Майя. Тела их покрывала тонкая пленка пота. Трамбо уже успел забыть, как утомительны постельные встречи с Майей Ричардсон. Женщина, спящая на его плече, была невероятно красива, богата, знаменита и пылка в любви. Он встречался с ней уже два года, почти столько же времени обещал на ней жениться, и в бульварных газетах не раз появлялись их фотографии. Трамбо не признавался себе, что устал от Майи, но так оно и было; он устал от ее профессионального самолюбования, от ее британского акцента и британского остроумия, от ее отточенной техники секса, вполне способной заменить чувство. Ответом на все это была Бики – черная певичка тинейджерского возраста, уравновешивающая стервозность Кэтлин и манерность Майи. Неуклюжая пылкость Бики помогала ему выносить фригидность Кэтлин и расчетливую страсть Майи. Трамбо иногда удивляло то, что он способен жить только с тремя женщинами одновременно, но это было так. Труднее всего было поддерживать это состояние. Не было сомнений, что Майя не потерпит существования Бики, если узнает об этом, поэтому Трамбо постарался, чтобы она не узнала. Только одна газета позволила себе намекнуть на новое увлечение миллиардера, а Майя редко читала газеты. – М-м-м, – простонала супермодель, открывая глаза, и пригладила элегантными пальчиками волосы на груди Трамбо. – Сама такая. – Трамбо потрепал ее по идеальной заднице. – Подвинься, детка, мне пора одеваться. – Не-ет, – проныла Майя, приподнявшись на локте. – Останься на ночь. – Прости, детка. Меня ждут. Утром встреча с Сато, и нам с Уиллом надо еще поработать. – М-м-м… Как тебе мой сюрприз? Трамбо, натягивающий брюки, повернулся и взглянул на нее. Майя лежала, обнажив маленькие, но округлые груди с розовыми сосками. – То, что я прилетела сюда, – пояснила она, тщательно подчеркивая английский акцент. Все газеты писали, что Майя родилась и окончила школу в Англии, но Трамбо знал, что она выросла в Нью-Джерси, а акцент приобрела за полгода интенсивных занятий со специалистами. – Молодец. Но я очень занят. Ты знаешь, как для меня важна эта сделка. Он начал застегивать рубашку. – Я не буду тебе мешать. – Конечно не будешь. Потому что утром ты улетишь обратно. – Нет! – Да. – Ты два года обещал свозить меня на Мауна-Пеле. – Господи, Майя, умеешь ты выбрать момент! Ты же знаешь, я продаю этот курорт. Она натянула на себя простыню. – Поэтому я и хотела успеть на него взглянуть. Трамбо покачал головой и оглянулся, разыскивая тапочки. – Ты должна улететь утром. – Почему? У тебя тут кто-то еще? Трамбо медленно повернулся к ней: – Что ты имеешь в виду? Майя вскочила с кровати, вытащила что-то из сумочки и положила на кровать. Трамбо взял вырезку, поглядел на заголовок и отбросил: – Ты веришь этой галиматье? – Наверное, ты говорил то же Кэт, когда газеты начали писать о нас. Трамбо рассмеялся: – Слушай, ты, наверное, шутишь. Я даже ни разу не видел эту девку по телевизору. – Правда? – В голосе Майи было что-то обиженно-детское. – Правда. – Это хорошо. Потому что, если бы это было не так, я бы нашла, о чем рассказать газетам. Майя опять легла, выставив из-под простыни одну идеальную грудь, и начала копаться в сумочке. – О господи! – Трамбо, не веря своим глазам, увидел в ее руке сверкающий никелем пистолетик. Пистолетик был маленький, но он уважал огнестрельное оружие любых размеров. – Детка, ты шутишь? – Я не шучу, Байрон, – сказала она со своим четким английским произношением. – И не советую никому шутить со мной. Трамбо почувствовал нарастающую злость. События явно выходили из-под контроля. Ему хотелось вырвать у этой сучки пистолет и лупить ее до тех пор, пока она не завопит. С плетеного стула заквакал радиотелефон. – Алло! – Босс, вам лучше поскорее приехать, – раздался голос Уилла Брайента. Трамбо продолжал смотреть на Майю. Она отложила пистолет и любовалась своими ногтями. Ладонь его заныла от желания влепить ей пощечину. – Почему? – рассеянно спросил он. – Бриггс и Диллон… – Что с ними такое? – Вам лучше приехать. – Скоро буду. – Он выключил телефон и повернулся к Майе. – Дай-ка мне это. Глаза супермодели блеснули. – Нет. – Ты можешь попасть в себя. – Газетам бы это понравилось. Трамбо шагнул к ней, потом остановился: – Ладно, дорогая. Скажу честно: здесь Кэтлин и ее адвокат. Они прилетели сегодня вечером. – Что этой стерве надо? – Она хочет сорвать сделку с Сато. Они с Кестлером рассчитывают купить у меня Мауна-Пеле по смехотворной цене. Глаза Майи наполнились гневом. – Неужели она тебя не знает? – Выходит, нет. Она уронила оружие в сумку. Трамбо хотел было выхватить сумку из ее рук, но потом передумал. – Мне нужна твоя помощь, дорогая. – Какая? – Она подняла голову, подставляя мягкому свету свечей свое идеальное лицо. – Улетай утром. Иначе Кэтлин найдет тебя здесь и пополнит список моих грехов. Нижняя губа Майи капризно оттопырилась. Трамбо сел на кровать и погладил ее по ноге через простыню. – Послушай, детка. Это все продлится еще не больше месяца. Потом я стану свободным и мы с тобой поженимся. Сейчас для меня главное – продать Мауна-Пеле. Поверь, мы найдем, где провести медовый месяц. Майя наклонила голову: – У тебя правда ничего не было с этой… этой Бики? – Я о ней почти и не слышал. Она прижалась к нему: – Хорошо. Только вернись сегодня ко мне. Трамбо колебался не больше секунды: – Ладно. Давай сюда пистолет. – Нет. Я боюсь. Ты же сам говорил, что здесь пропадают люди. Трамбо вздохнул. «Тогда зачем ты приехала, идиотка?» – подумал он. – Я прямо сейчас пошлю сюда двух охранников. Майя оглянулась на незанавешенные окна. – Они не будут подсматривать, – пообещал он. – Тут на западе только скалы и океан. Отдай пистолет. – Отдам, когда ты вернешься. Трамбо пожал плечами. Он хорошо знал этот тон и был рад,что вел дела в основном с мужчинами. – Ладно, детка, но это будет не скоро. У меня уйма дел. Майя укрылась простыней до самых глаз и хитро посмотрела на него: – Я подожду. Трамбо поцеловал ее в макушку. Едва выйдя из дома, он включил радиотелефон: – Уилл? – Да, босс. – Что там с Бриггсом и Диллоном? В трубке протрещали помехи. – Не знаю, стоит ли… – Стоит. – Диллон в медпункте. Бриггс пропал. Трамбо облокотился на перила хале. В тридцати футах от него о лавовые скалы с грохотом разбивались волны. – Что случилось? – Неизвестно. Диллон не может говорить. Похоже, что-то внизу… Ударил гром, и новые помехи проглотили конец фразы. – Уилл? Ты меня слышишь? – Да. – Я сейчас приеду. – Он оглянулся на закрытую дверь. – Только заеду в сарай. Пускай Фредриксон пошлет еще человека к дому Майи, а сам встретит меня у сарая через сорок пять минут. Пусть он ждет снаружи. – Хорошо, мистер Т. Но я думал, вы захотите… – Увидимся через час, – сказал Трамбо и отключил телефон. Он сел в тележку и поехал по асфальтовой дорожке, уходящей с полуострова. Фары освещали мокрую листву и косые струи дождя. Через тридцать футов они нащупали фигуру в дождевике и бейсбольной кепке. – Майклс? – Да, сэр. – Где второй? – На северной стороне. Мы патрулируем. Трамбо кивнул: – Скоро Фредриксон пришлет подкрепление. У тебя есть радио? – Конечно. – Майклс показал ему радиотелефон на поясе. – Дай-ка мне пистолет. Тебе принесут другой. – Другой… да, конечно. – Охранник протянул ему оружие. – Это браунинг, мистер Трамбо. Девятимиллиметровый, с затвором… – Да, да. Попроси Фредриксона передать тебе другой. Он уже собирался ехать, но охранник умоляюще протянул к нему руку. – Что еще? – Мистер Трамбо… – Что? – Не могли бы вы вернуть мне пистолет? Это подарок моей первой жены… я очень им дорожу… – Все с ума посходили, – сказал Трамбо и поехал прочь.
17 июня 1866 г., берег Коны Мы прятались от дождя в заброшенной хижине возле древнего хеиау, когда лошади начали в панике ржать и рваться с привязи. Мы все вскочили, а мистер Клеменс выхватил из кармана куртки пистолет. Сгрудившись у порога, мы напряженно вглядывались в темноту. Среди каменных стен хеиау горели факелы. За ржанием лошадей можно было расслышать дробь барабанов и дикие звуки флейт. В каком-то странном оцепенении мы вышли на крыльцо, продолжая смотреть на мечущиеся тени факелов. «Капу о моэ! – раздался крик из каменного лабиринта. – Капу о моэ!» – Что это? – прошептала я. Преподобный Хеймарк, пытавшийся успокоить лошадей, ответил: – Это приказ зажмуриться и упасть ниц. Он употребляется только во время шествия королей или Идущих в Ночь. – Идущие в Ночь? – прошептал корреспондент, все еще сжимающий в руке пистолет. – Призраки? – Туземцы верят, что их знатные предки таким образом выходят из Царства мертвых. – Преподобный повысил голос, чтобы показать свое отношение к подобным суевериям. – Иногда в этих шествиях участвуют даже боги. Свет факелов и музыка двигались в нашу сторону. Неожиданно оттуда подул сильный ветер, хотя до этого он дул со стороны моря. Несмотря на увещевания преподобного Хеймарка, лошади продолжали рваться с привязи. – Пойдемте, – неожиданно для себя сказала я и выбежала под дождь. Мистер Клеменс последовал за мной, а преподобный Хеймарк, немного поколебавшись, проверил, крепко ли привязаны лошади, и быстро пошел за нами. Пройдя ярдов двадцать, мы укрылись за стеной, за которой находился двор хеиау. Музыка и монотонное пение слышались теперь с другой стороны храма. – Не похожи они на призраков, – сказала я мистеру Клеменсу. – Смотрите. – Корреспондент указал на дорогу к жертвеннику, по которой мы только что прошли. Глина от дождя размокла, и на ней отчетливо отпечатались наши следы. Следов процессии не было, хотя она, несомненно, прошла той же дорогой. – Нам нужно вернуться, – сказал преподобный, тяжело дыша. С полей его шляпы стекали струйки воды. – У нас нет ни факелов, ни свечей. Словно в ответ, среди камней храма вспыхнул яркий огонь. – Я должен увидеть это, – сказал мистер Клеменс и, спрятав пистолет в карман, направился к храму. Я пошла за ним, и преподобный был вынужден присоединиться к нам, хоть и бормотал что-то неодобрительное. Когда мы достигли северной стороны храма, процессия уже скрылась в близлежащей роще. Оттуда еще слышались возгласы: «Капу о моэ!» Перед нами громоздились стволы упавших пальм. – Как они повалили их? – спросил мистер Клеменс. – И зачем? – По традиции, когда идут боги, ничто не должно возвышаться над ними. Но по той же традиции богов не сопровождает музыка. Под музыку шествуют только покойные вожди. В призрачном сиянии я увидела, что мистер Клеменс удивленно поднял брови: – Вы поразительно много знаете о традициях этих язычников. – Я работал с мистером Хирамом Бингемом на Оаху, когда он собирал материалы о туземцах Сандвичевых островов, – пояснил преподобный, словно оправдываясь. Мистер Клеменс кивнул и показал пальцем на удаляющуюся процессию: – Что ж, если мы не последуем за ними, ваши знания останутся неполными. Мы так и не узнаем, что заставило туземцев Сандвичевых островов в такую погоду выйти из домов без зонтиков. Мы углубились в джунгли в свете молний, которые освещали наши следы на вязкой глине. Следов процессии по-прежнему не было видно. Тропу усеивали ветки и листья, будто невидимая рука сбивала все, что возвышалось над процессией, хотя некоторые деревья достигали высоты шестидесяти футов. В четверти мили от хеиау мы уже готовы были повернуть назад. Гроза ушла в глубь острова, и ничто больше не освещало нам дорогу. Я выругала себя за то, что забыла взять из седельной сумки свечи. Отсвет факелов еще виднелся вдали, но музыка почти стихла. Наконец прекратился и дождь, хотя его с успехом заменяли потоки воды с деревьев. Мое платье промокло насквозь. Мы вышли на полянку и остановились, готовые повернуть, когда последняя вспышка молнии осветила сцену вокруг нас. Тропа сворачивала на восток и круто шла вниз, к одному из тех пляжей, что мы видели сверху. Сквозь завесу деревьев был виден удаляющийся свет факелов. В траве вокруг нас валялись ветки и сучья вместе с кокосовыми орехами, похожими на лохматые отрубленные головы. Через минуту я заметила неподалеку настоящую голову, а под ней – белеющие в темноте плечи. Мой крик заставил мистера Клеменса вздрогнуть и схватиться за пистолет. Вокруг нас на поляне лежало с полдюжины обнаженных тел, застигнутых смертью в самых причудливых позах. Молния погасла, и все вновь погрузилось в темноту, не нарушаемую даже отдаленным оранжевым светом Килауэа. В этой темноте я внезапно услышала недоуменный возглас преподобного Хеймарка, и тут же за мою лодыжку ухватилась холодная рука.Хорошо, что Корди Стампф сохранила самообладание и не выпалила в темноту. Элинор была так испугана, что сделала бы именно это, хотя вряд ли сумела бы попасть в того, кто надвигался на них из темноты. В маленьком круге света появился молодой человек в дорогом костюме, с длинными волосами, связанными в хвост. – Мистер Диллон! – Человек сразу же устремился туда, где Пол Кукали поддерживал бесчувственного начальника охраны. Он помахал рукой перед глазами Диллона, потом встревоженно оглядел присутствующих. – Что случилось? – Не знаю, – ответил Пол. – Мы шли, и вдруг погас свет. – Кто вы? – подозрительно спросила Корди, убирая пистолет обратно в сумочку. – Я Уилл Брайент, помощник мистера Трамбо. А вы победительница… миссис Стампф, правильно? Что вы делаете с этим пистолетом? – Подумайте сами, мистер Брайент. Мы ведь с вами в таком месте, где люди исчезают, как бутерброды на вечеринке. Уилл Брайент что-то пробурчал и повернулся к Полу: – Не поможете мне поднять мистера Диллона наверх? – Конечно, но ведь… – В этот момент зажегся свет. Корди, сощурившись, выключила фонарик. – Больница здесь, – закончил Пол. Брайент покачал головой: – Служебные туннели на какое-то время придется закрыть. Мы отведем его в медпункт в Большой хале. – Ему нужно в больницу, – возразила Корди. Брайент и куратор подхватили Диллона под руки и повели к выходу. Диллон не возражал, но и не проявлял к их действиям никакого интереса. – Он сказал, что случилось? – поинтересовался Уилл. – Ничего он не сказал. – Элинор указала на приоткрытую дверь с табличкой «Астрономическая служба». – Он пришел оттуда. Уилл Брайент кивнул: – Доктор Кукали, не могли бы вы подержать его минуту? – Он подошел к двери, заглянул в нее и, не говоря ни слова, вернулся. Коридор заполнился людьми из булочной и прачечной, спешащими к выходу. – Все в порядке, – крикнул им Уилл Брайент. – Старшие, подойдите к мистеру Картеру, остальные свободны. С возгласами облегчения служащие начали подниматься наверх, в Большой хале. – Я был в главном коридоре, когда погас свет, – сказал Брайент, когда они подтащили Диллона к лифту. – Я увидел свет фонарика и пошел к вам. Я не хотел вас пугать. – Я и не испугалась, – сказала Корди. – Вам лучше сдать пистолет на хранение администратору. Правила не позволяют гостям курорта иметь огнестрельное оружие. Корди ехидно спросила: – А ваши правила позволяют собакам бегать по курорту с человечьими руками в пасти? Уилл Брайент промолчал. – Я оставлю пистолет у себя. А если мистеру Трамбо это не понравится, пусть поцелует мою иллинойсскую задницу. Так ему и передайте. Брайент слабо улыбнулся: – Вот мы и пришли. – Они поднялись на лифте в холл, где уже ждал доктор Скамагорн. – Леди, спасибо за помощь. Доктор Кукали, не мог бы я переговорить с вами? – Я должен проводить леди в их номера, – возразил Пол. – Не надо нас провожать. – Корди перекинула через плечо тяжелую сумку. – Дайте нам зонтик, и я дойду с Элинор до ее хижины. Элинор хотела сказать, что ее надо проводить, но что-то в тоне Корди дало ей понять, что той нужно с ней поговорить. Они вместе вышли из вестибюля, по лестнице прошли мимо Китового ланаи и вышли на тропу, ведущую к пляжу. Ветер утих, но мелкий дождь моросил по-прежнему. Сзади них сиял огнями Большой хале, а тропу освещали газовые фонари и укрепленные у самой земли электрические лампы. Они молчали, пока не дошли до хале Элинор. Свет на крыльце зажегся автоматически, но в комнате за закрытыми жалюзи было темно. – Что вы хотели… – начала Элинор, отпирая дверь. Корди приложила палец к губам, одновременно извлекая из сумки пистолет. Только когда они вошли внутрь и включили свет, она заговорила: – Не хочется говорить, как в романах, но день был жуткий. Мне и сейчас кажется, что кто-то вот-вот выпрыгнет из темноты. Элинор прошла мимо нее и включила лампы возле постели. В хале было уютно и так же чисто… нет, еще чище: пока ее не было, кто-то убрал постель и оставил на подушке цветок. Элинор положила его на столик и показала Корди на плетеный стул рядом. Сама она села на другой. – Вы хотели поговорить? – Да. – Корди спрятала пистолет и достала из сумки что-то более крупное. Элинор увидела плоскую бутылку с невыразительной этикеткой. – «Шип Дип», – прочла она, пока Корди ходила за бокалами. – Настоящее? – Настоящее. – Корди поставила бокалы на стол. – Из самой Англии. Вы пьете виски? Элинор кивнула. Она наслаждалась многими сортами виски, когда была в Шотландии, но такое видела впервые. – Это и еще «Свиной пятачок» – мои любимые сорта. – Корди налила на три пальца желтоватой жидкости в каждый бокал и протянула один из них Элинор. – Без разбавки? – спросила Элинор. – Безо льда? – Зачем портить хороший напиток? До дна, Нелл! Они выпили. Элинор удовлетворенно кивнула, чувствуя, как виски теплой волной струится вниз, в желудок. – Так о чем мы говорим? Корди быстро поглядела за окно, потом повернулась и подняла бокал. – О том, зачем мы обе сюда приехали. Только по-настоящему, без дураков. Элинор какое-то время смотрела на нее. – Ладно, – сказала она наконец. – Только вы первая. Корди отпила виски и улыбнулась: – Думаю, начать надо с детства. – С детства? – У меня было странное детство. Я пережила много приключений… можно так сказать. Вот поэтому, когда я услышала про то, что происходит в Мауна-Пеле, я подумала, что это может стать хорошим приключением. Элинор кивнула: – Но потом поняли, что домой возврата может и не быть. – Томас Вулф, – откликнулась Корди, не без удовольствия глядя на изумленное лицо Элинор. – Да, я все же прочитала некоторые из тех книг. И вы правы, я это поняла. Но не только это. – А что еще? – В жизни мне пришлось поработать. Видите ли, я родилась почти что на помойке, поэтому неудивительно, что первой моей работой был вывоз мусора в Пеории. Потом я вышла замуж за владельца этой компании. Он умер, я унаследовала дело, и второй муж женился на мне уже из-за денег. Когда мы развелись, Хьюби достались деньги и дом, а мне компания. Мой третий муж… у него был свой бизнес, и мы, можно сказать, образовали консорциум. – Корди улыбнулась и осушила бокал. – Давайте, Нелл, а то я вас обгоняю. Элинор отпила из своего бокала. – Так вот, когда мои дети подросли, мне начало казаться, что компания – это вся моя жизнь. Понимаете, о чем я? Элинор кивнула. – Три месяца назад я ее продала. А два месяца назад у меня нашли рак яичников. Они собрались их удалить, и я сказала: «Валяйте, они мне больше не понадобятся». Вот они их и удалили. Она задумчиво провела пальцем по ободку бокала. – Я быстро оправилась после операции. У меня всегда было лошадиное здоровье. Потом я выиграла этот отдых с миллионерами и решила, что удача опять со мной. Но в тот же день доктор сказал мне, что боится метастазов. Я должна была пройти курс облучения, но попросила их подождать неделю и уехала сюда. Элинор старалась не смотреть собеседнице в глаза. Она знала, как часто рак яичников дает метастазы. Ее мать умерла от этой же болезни. – Я надеялась, что тут найдется какой-нибудь монстр. Или, на худой конец, маньяк с топором. Что-то страшное, но… внешнее. Что-то, с чем можно бороться. – Да. Я понимаю. – Знаешь, когда я увидела это место, я подумала: почему бы тут не устроить госпиталь для раковых больных, чтобы они отдыхали, купались, дышали чистым воздухом? Тот госпиталь в Чикаго, где меня оперировали, был больше всего похож на тюрьму. – Вы имеете в виду хоспис? – Хоспис? Это где ты умираешь, а специалисты по умиранию говорят каждый день, на какой ты стадии? «С вами все, а теперь извините, нас ждут другие». Нет уж, я имею в виду место, где можно было бы купаться и загорать, пока у тебя выпадают волосы. Элинор кивнула и выглянула в окно. Почему-то запах мокрой растительности навевал на нее грусть. – Тогда это будет очень дорогой госпиталь, – заметила она. Корди усмехнулась: – Рак вообще дорогая болезнь. Что ж, можно будет разыгрывать путевки в лотерею. Что-то вроде «Умирай с миллионерами». Элинор налила себе еще виски, которое обжигало, как жидкое пламя. – Боюсь, у мистера Трамбо другие планы. Скорее всего, он уже продал это место японцам. – Да. – Корди потерла подбородок. – Как будто миру больше всего нужны новые поля для гольфа. Слушай, Нелл, ты когда-нибудь любила? Элинор решила больше не сопротивляться попыткам перейти на «ты». – Да. Корди кивнула, удовлетворенная этим коротким ответом. – Я тоже. Один раз. Конечно, я любила людей, и двух своих мужей, и всех детей, но это не то. По-настоящему я любила только раз, еще девочкой. – Она замолчала, и стало слышно, как с пальм за окном стекает вода. – Думаю, он об этом даже не знал. – Ты ему не сказала? – Нет. Это был парень с соседней улицы. Потом он уехал во Вьетнам, там его ранило, и он стал священником. Католическим священником, а им нельзя жениться. – И ты не говорила с ним после этого? – Нет. Я давно уже не была в этом городишке. Кто-то говорил мне, что несколько лет назад он перестал быть священником и женился, но это ведь не важно. Просто последние недели я думаю о том же, что и все раковые больные. О потерянных возможностях. О том, что жизнь прошла зря. – У тебя она не прошла зря. – Вот и мои парни так считают. Правильно, я была занята тем, что растила их и добывала для них деньги. – Она отставила в сторону бокал. – Ну ладно, Нелл. Зачем ты сюда приехала? – А ты не думаешь, что я приехала просто отдохнуть? Корди покачала головой: – Не думаю. Ты не из тех, кто в свободное время болтается по дорогим курортам. Больше похоже, что ты лазаешь по горам в Непале или плаваешь по Амазонке. Элинор улыбнулась: – Прямо в точку. В Непале я была два года назад, а на Амазонке – в восемьдесят седьмом. – Ну? – Корди прикончила остаток «Шип Дип». – И зачем же ты здесь? Элинор достала из сумки дневник тети Киддер и бережно протянула его Корди. – Можно взглянуть? – Да. Корди выудила из сумки очки и начала перелистывать пожелтевшие страницы, прочитывая отдельные параграфы. Потом подняла глаза и присвистнула: – А это, похоже, как-то связано с тем, что происходит здесь сейчас. – Похоже. – Эта Лорена Стюарт что, какая-нибудь важная персона? Вторая жена Эйба Линкольна или что-то в этом роде? – Да нет. Правда, она написала несколько популярных путеводителей, но их давно уже забыли. Это моя дальняя родственница. В старости все звали ее тетя Киддер, потому что она все время носила перчатки из козьего пуха. – И из-за этого дневника ты сюда приехала? Элинор помолчала, удивляясь про себя, что рассказывает этой женщине то, чего не говорила никогда и никому. – В этой книге несколько загадок. Правда ли то, о чем тетя Киддер писала? И загадка потруднее – почему она не вышла замуж за Сэмюэла Клеменса. – Это который Марк Твен? – Да. – Я была на его родине, в Ганнибале. Миленький городишко. – Я тоже там была. «Каждые два года, – могла бы она добавить. – Посещала его дом и пыльный музей, словно надеялась найти там решение загадки тети Киддер». – И что, он хотел на ней жениться? – Ну… можешь прочитать об этом, если хочешь. – С тех пор как в двенадцать лет тетя Бини вручила ей этот дневник, Элинор никому его не давала. Корди уважительно кивнула: – Спасибо за доверие, Нелл. Я прочту его сегодня ночью и завтра верну тебе в целости и сохранности. Элинор поглядела на часы: – Господи, уже час ночи! Корди встала, опираясь одной рукой на стол, и положила дневник в сумку. – Плевать. Мы же на отдыхе. – Как ты пойдешь в Большой хале одна? – А что? Дождь же кончился. – Да, но… Здесь ведь… – Монстры, – договорила Корди и улыбнулась. – Надеюсь, что так. Очень надеюсь. – Она достала револьвер и шагнула к выходу. – Увидимся завтра, Нелл. И не беспокойся о дневнике. Пока я жива, никто его не получит. – До завтра, – сказала Элинор, и через минуту ее гостья скрылась за стеной деревьев.
Глава 15
К солнцу взлетели обломки скал, Час разрушенья и смерти настал. В море ударило пламя у Пуна, Вскипела вода у Кукий в лагунах. Темные боги встали у врат, В лесах скелетов кости гремят.Только около пяти Байрон Трамбо добрался до кровати и рухнул рядом с Майей, чтобы провести полтора часа в тяжелом полусне. В семь утра ему предстоял завтрак с Сато. Сцена в сарае воплотила все его юношеские фантазии. Бики встретила его у двери уже раздетая и буквально накинулась на него, прежде чем он успел хотя бы закрыть дверь. На веранде стояла ванна с горячей водой, в которую Трамбо усадил поп-звезду, на ходу срывая с себя одежду. Она втащила его в ванну еще до того, как он снял трусы. Трамбо никогда не считал себя слабаком, но девяносто минут с Бики после вечера с Майей и трудного дня едва не заставили его уснуть в ванне. Кое-как он взбодрился, оделся, пожаловался Бики на Кэтлин, пытающуюся разрушить его сделку с Сато, – и напрасно: она никогда не интересовалась его делами, – и попросил улететь утром. – Ау-у-у, – зевнула семнадцатилетняя звезда, зарывшись в великанскую подушку. – А мне здесь нравится. Я тебя удивила, Т? – Удивила, удивила, – проворчал Трамбо, застегивая рубашку. – И не зови меня Т, сколько тебе говорить. – Хорошо, Т, – промурлыкала Бики. – Почему ты меня все время гонишь? Трамбо молчал. Бики была родом из Селмы, штат Алабама, и обычно его забавляли ее южные словечки. Сегодня они злили его так же, как новоанглийский выговор Кэтлин и напускной британский акцент Майи. К тому же в пылу страсти он попытался поцеловать ее взасос и едва не выпрыгнул из ванны, когда нащупал языком два металлических шарика. – Ты меня отвлекаешь, детка. Для этих переговоров я должен напрячь мозги. Бики закинула на подушку ногу и медленно сгибала и разгибала ее. – Меня интересуют в тебе не мозги, Т. – Я знаю, детка, но это чувствительная штука. Она погладила тонкими пальцами его бедро: – Ну, о чувствительных штуках я знаю все. Трамбо поцеловал ее пальцы, взял с пола радиотелефон и 9-миллиметровый браунинг и пошел к двери. – Ладно, детка. Я навешу тебя днем, но завтра ты должна быть на Антигуа. – Завтра будет завтра, – резонно заметила звезда. Трамбо покачал головой и поспешил к своей тележке. Он подпрыгнул на фут и схватился за пистолет, когда из джунглей навстречу ему вышла черная как ночь фигура. – Черт, – сказал он, непослушными пальцами засовывая оружие за пояс. – Ты меня напугал. – Простите, мистер Трамбо, – сказал Ламонт Фредриксон. Помощник начальника охраны был одет во все черное. Трамбо совсем забыл, что час назад велел Фредриксону его встретить. Он оглянулся на незанавешенное окно, в котором была прекрасно видна нагишом раскинувшаяся на кровати Бики. – Нравится шоу? – хмуро спросил Трамбо. У охранника хватило ума не улыбнуться. – Что там с Диллоном? Фредриксон пожал плечами: – Мистер Брайент ничего мне не сказал. – А Бриггс? – Так и не нашелся. – Ладно. Придется тебе взять на себя службу охраны. – Да, сэр. – Прежде всего ты должен помешать этому непонятно чему угробить кого-нибудь из японцев. – Да, сэр. – Вторая твоя обязанность – охранять вот эту юную леди и мисс Ричардсон и держать их подальше друг от друга и от моей жены. Понятно? – Да, сэр. – Третья обязанность – как можно лучше прятать твоих людей. Не хочу, чтобы Сато думал, что у нас тут военный лагерь. И перестань твердить «Да, сэр». – Да, сэр… то есть… – И четвертая твоя обязанность – найти ублюдка, который все это вытворяет, и остановить его. – Должен ли я связаться с полицией или «Пять-О»? – Нет, ты не должен связываться с полицией или «Пять-О». Ты должен остановить его. Пристрелить, если понадобится. Фредриксон нахмурился: – А пятая обязанность, сэр? Скорее ее можно назвать первой. – Ты о чем? Трамбо забрался на мокрое сиденье тележки и всмотрелся сквозь туман в далекие огни Большого хале, где, должно быть, в эту минуту Кэтлин лежала в постели с ублюдком Кестлером. – Я о вас, сэр. Если Бриггса нет, то кто будет вас охранять? Байрон Трамбо вздохнул: – Как-нибудь обойдусь. Ты, главное, делай то, что я сказал. Оставив охранника, он поехал к главному зданию мимо пустых темных хале, мимо бассейнов и бара «Кораблекрушение» и по извилистой дорожке мимо Китового ланаи. В вестибюле Большого хале его встретил Уилл Брайент. – Как Диллон? – первым делом спросил Трамбо. – Серьезные порезы, сломанная ключица, следы зубов на лбу. Доктор Скамагорн говорит, что он в шоке. – А чьи зубы? Брайент покачал головой: – Доктор не может сказать. Какого-то крупного животного. – Крупного животного, – повторил Трамбо, морщась, как от зубной боли. – Отлично. А где Бриггс? – Похоже, его утащили в туннель. Мы с мистером Картером спустились вниз, но… – Погоди. В какой туннель? Они сели в лифт и поехали на верхний этаж. – В тот, что находится за стеной офиса астронома. Помните, вы велели Бриггсу и Диллону спуститься туда? – Да, но я не велел им позволять себя есть. Черт, теперь Бриггса нет, Диллон отключился, а нам остается ждать, пока нас самих сожрут. Они вышли из лифта и быстрым шагом направились к президентским апартаментам. – Опять звонил доктор Гастингс, – сообщил помощник. – Я сказал, что вы временно недоступны. – Ну и черт с ним. – Трамбо поздоровался с Бобби Танакой и остальными и пошел к себе в спальню переодеваться. – Но он говорит, что лавовый поток увеличил скорость. Он боится за… – Я боюсь только того, что он разведет панику. Ты уже согласовал текст контракта? – Мы с Бобби как раз этим занимаемся. – Отлично. Когда мы в семь встретимся с Хироси и этим маленьким засранцем Инадзу Оно, все должно быть готово. – Оно трудно провести, – заметил Брайент. Байрон Трамбо сверкнул зубами в улыбке.Песнь Пеле
В половине седьмого Трамбо вылез из-под душа в самоанском бунгало Майи. Модель подозрительно взглянула на него из-под простыни: – Ты чего так сияешь? – Сегодня великий день, детка. – Почему это? – Во-первых, потому, что ты возвращаешься на свой показ в Чикаго. – В Торонто. – Значит, в Торонто. – Не полечу. – Полетишь. Без всякого стеснения Майя встала и обнаженная подошла к открытым дверям веранды. Солнце золотом играло на ее восхитительно гладкой коже. – Я еще раз спрашиваю, Байрон. Что сегодня должно случиться? Трамбо поцеловал ее в щеку. – Все, – сказал он и вышел. Он даже не подозревал, насколько близко к истине окажется это заявление.
17 июня 1866 г., берег Коны Я не успела даже закричать. Мистер Клеменс выхватил револьвер, и я услышала, как он идет ко мне в темноте. – Нет! – крикнула я. – Оставайтесь на месте! Я наклонилась, осторожно отцепила руку от своего запястья и нащупала гладкую кожу предплечья. – Преподобный Хеймарк, – тихо спросила я, – у вас есть огонь? Свечей у нас не было, но я услышала чирканье спички и в ее свете увидела склонившегося рядом преподобного. Перед нами лежал туземец, истекающий кровью. Он был совсем молодой… и совершенно обнаженный. – Нужно отнести его в хижину, – сказала я так же тихо. Факелы призрачной процессии уже скрылись, но кто-то из ее участников мог отстать. – Что с остальными? – Боюсь, что они мертвы, – сказал мистер Клеменс. Он переходил от тела к телу, осматривая их с хладнокровием, заставлявшим усомниться в его насмешках над своей службой в армии. Закончив, он подошел к нам. – Его ударили камнем или каким-то тупым орудием, – сказал он, ощупав череп раненого. – Вы правы, мисс Стюарт. Нужно отнести его в хижину и осмотреть его раны при свете. – Он обратился к преподобному Хеймарку: – Можете донести его сами? Я зажгла еще одну спичку, чтобы преподобному было легче взвалить юношу на плечи. – А вы разве не с нами? – спросила я. Глаза корреспондента блестели. Он кивнул в направлении удаляющейся процессии: – Я взгляну и сразу вернусь. – Может быть, я… – начала я. – Нет, – отрезал мистер Клеменс и скрылся среди деревьев. Когда мы вернулись к хижине, лошади уже почти успокоились, но все еще тревожно ржали. В хижине не было даже пучка соломы, поэтому преподобный Хеймарк осторожно опустил юношу на землю в самом сухом углу, а я зажгла две свечи и вытащила из своей сумки чистую тряпку. Как могла, я промыла рану дождевой водой и замотала голову туземца разорванной на полосы тряпкой. Подняв глаза, я увидела, что преподобный снимает с себя плащ. – Если вас смущает его нагота… – начал он. – Он дитя Божье, – сказала я. – Невинность не может смущать. Преподобный выглянул наружу. Дождь прекратился, но ветер все еще раскачивал пальмы. – Не думаю, что эти события так уж невинны, – сказал он. Скоро раненый очнулся. Сперва он заговорил на родном языке, но, разглядев нас, перешел на вполне сносный английский. Его звали Халеману, и он был крещен в «Ора лоа иа Йесу» (Вечную жизнь с Иисусом) преподобным Титусом Коэном, когда ему было семь лет… за шесть лет до нынешнего несчастья. Жил он в деревне Айнепо на северной стороне бухты Кеалакекуа, недалеко от места, где погиб капитан Кук. Потом он сел, прислонясь спиной к травяной стене хижины, и мы дали ему воды и плодов манго. Глаза его лихорадочно блестели – очевидно, от страха, который ему довелось испытать. Халеману шел на юг с дядей и другими людьми из его деревни, так как местный кахуна, или жрец, предупредил их, что на долину Коны надвигается большая беда. Это было первое путешествие мальчика, которое вполне могло оказаться последним. Накануне они побывали в деревне, где жил преподобный Уистер. Деревня была пуста, и дядя Халеману сказал, что в ней побывали злые духи. Они направлялись дальше на юг, в деревню, где жила знаменитая жрица Пеле, которая могла упросить богиню прогнать зло. Наступила ночь, но путники не хотели оставаться в этом страшном месте и решили идти дальше. Здесь, в миле от деревни жрицы, их и настигли Идущие в Ночь. – Мальчик, ты же христианин, – сказал преподобный Хеймарк. – Неужели ты веришь этим языческим сказкам? Халеману посмотрел на него так, словно он говорил полную чушь. – Там было два Ка-уакаи-о-капо, две группы Идущих. Мы пытались убежать, но они нас легко догнали. Первыми шли вожди и воины древних времен, и среди них – алокапу, вождь такой знатности, что любой, кто видел его, человек, зверь или птица, должен был умереть. Вожди прокричали «Капу о моэ!» – чтобы предупредить живых сородичей, но мы не могли сдвинуться с места. Дядя велел нам раздеться и пасть ниц, и мы сделали это. Я слышал флейты и барабаны, а потом раздался мертвый голос одного из вождей: «Позор!» Мы все закрыли глаза, и я слышал, как вожди говорили: «Они позорят нас своей наготой. Не касайтесь их!» Они прошли, но следом подошла вторая Ка-уакаи-о-капо. На этот раз не было музыки и никто не кричал: «Капу о моэ!» Я открыл глаза и увидел ярко горящие красные факелы – пять спереди, пять в середине и пять сзади, священное число. Еще до того, как дядя шепотом сказал об этом, я понял, что в этой Ка-уакаи-о-капо шествуют боги. Богов было шестеро, трое мужчин и три женщины, и моему дяде показалось, что он узнал в первом ряду Хииака-каполи-о-Пеле, младшую сестру Пеле. Дядя прошептал, чтобы мы закрыли глаза и лежали как мертвые. Тут Халеману прервался, чтобы выпить воды, и я бросила взгляд на преподобного Хеймарка. Он смотрел на меня, нахмурившись, и качал головой, словно хотел предупредить, чтобы я не верила рассказу раненого юноши. Я выглянула за дверь. Вода все еще стекала с крыши хижины, но дождь прекратился. Мистера Клеменса нигде не было. – Когда шествуют боги, – сказал Халеману, – не слышно музыки, только молния от их факелов и гром от возглашения их имен и великих деяний. Они прошли тем же путем, что и вожди, но не говорили «Позор!» Они подходили по очереди к каждому из нас и кричали: «Встать!» Человек вскакивал, и тогда призрачный воин, который охранял богов, бил его по голове своей призрачной дубинкой. Наконец остались только мой дядя и я, и дядя прошептал: «Халеману, не беги, когда они закричат: „Встать!“» Потом бог подошел к дяде и крикнул: «Встать!» – и дядя не побежал, но воин все равно разбил ему череп дубинкой. Потом воин подошел ко мне, и бог крикнул: «Встать!» – и… – Откуда ты знаешь, что это были духи и боги? – прервал его преподобный Хеймарк. Халеману наморщил лоб. – Ну… боги были очень высокие, выше кокосовых пальм. Духи намного ниже, но тоже высокие… футов семь. И их ноги не касались земли. Преподобный Хеймарк только хмыкнул. – Продолжай, Халеману, – сказала я, стирая кровь с его лица влажной тряпкой. – Что случилось, когда бог крикнул «Встать!»? – Воин поднял дубинку, чтобы ударить меня, но я помнил совет дяди и не побежал. И тут одна из богинь крикнула: «Не надо! Он мой!» И воин отклонил удар так, что дубинка только слегка задела меня. «Он мой», – повторила богиня, и тогда воин отошел на свое место. Боги ушли, а я попытался поднять дядю, но увидел, что глаза у него открыты и в них затекает дождь. Другие тоже были мертвы. Больше я ничего не помню до тех пор, пока не вспыхнула молния и я не увидел рядом богиню. Я тронул ее за ногу, чтобы поблагодарить, но это была не богиня, это были вы. Вы ведь не боги? – Нет, Халеману, я не богиня, – сказала я. – Тебе нужно отдохнуть. Пальцы мальчика вцепились в мой рукав. – Нельзя здесь оставаться! Боги пришли сюда потому, что Пануа-эва и его демоны вышли из Милу. Сестра Пеле и другие боги строят новый хеиау, чтобы остановить Пауна-эву. Будет страшная битва. Если вы останетесь здесь, вы все умрете еще до восхода солнца. В этот момент что-то ворвалось в дверь хижины и рухнуло на пол, сшибив при этом одну из свечей. Это был мистер Клеменс. Волосы его были всклочены еще больше, чем обычно, одежда выпачкана в грязи. – Мисс Стюарт! – воскликнул он дрожащим голосом, и снова: – Мисс Стюарт! – Вы не ранены? – Я склонилась над ним, как только что склонялась над юношей. – Нет, не ранен. Но я видел такое… – Он нервно рассмеялся. – Что же вы видели, мистер Клеменс? Тут он схватил меня за плечи и притянул к себе. Не скрою, что я была скорее встревожена, чем возмущена таким странным поведением. – Я видел ужасные вещи, мисс Стюарт. Ужасные вещи!Несмотря на недолгий сон и распитую накануне бутылку, Элинор проснулась в половине восьмого без всякой головной боли. Она давно знала, что виски дает самое легкое похмелье. Вместо того чтобы идти завтракать на ланаи или в кафе на пляже, Элинор сварила себе кофе на маленькой кофеварке, которая нашлась в хале. Кроме кофеварки, курорт предоставлял туристам кофе в зернах из Коны и кофемолку. Она выпила чашку, сидя на крыльце. В верхушках пальм радостно перекликались птицы, по тропинке прохаживались павлины; на востоке, над черным полем лавы, синел бесконечный горизонт. На юге небо застилала дымка, но вершина Мауна-Лоа четко вырисовывалась на юго-западе. Оставив немного кофе на потом, Элинор вышла из хале и побежала трусцой по тропинке мимо искусственных лагун и поля для гольфа. Скоро она оставила позади пальмовый оазис и оказалась среди черного безмолвия глыб аха. Временами дорожка подходила ближе к прибрежным утесам, и тогда оттуда на Элинор веяло свежестью волн. В воздухе вокруг нее плясали радуги. Через четверть мили она натолкнулась на знак, предупреждавший, что дальнейший путь по лавовым полям может быть опасен. Элинор на минуту остановилась, разглядела среди скал неасфальтированную тропинку, ведущую под уклон, и продолжила свой путь по ней. Через десять минут она оказалась на полуострове, ограждающем Мауна-Пеле с юга. Скалы здесь были выше, футов сорок над уровнем океана, и волны яростно бились о них, поднимая в воздух каскад белых брызг. Элинор остановилась, любуясь открывшимся видом. С севера Мауна-Пеле казался живописной пальмовой рощей на берегу неправдоподобно красивой бухты. Из зелени поднималась верхушка Большого хале, а за ней на севере возвышалась заснеженная вершина Мауна-Кеа. На горизонте толпились холмы и холмики, поросшие бурой зеленью. Элинор подумала, что мало кто из туристов видит Гавайи такими. На юге все заслоняли зубчатые утесы, похожие на клыки древних чудовищ. За ними виднелся юго-западный склон Мауна-Лоа, и Элинор ясно видела дым, поднимающийся от стекающих с него потоков лавы. Ее внимание привлек еще один более высокий столб дыма, и она поняла, что это испаряется вода океана, встречаясь с раскаленной лавой. По коже ее пробежали мурашки, когда она подумала о чудовищной энергии природы, высвобождающейся здесь. Она побежала дальше, думая о своем. Ее удивляло, как легко она отдала Корди дневник тети Киддер. Хотя ей действительно нравилась странная женщина из Иллинойса, что могло побудить ее доверить ей такую важную вещь? Теперь она задумалась об этом. Может быть, ей нужен союзник? Усмехнувшись этой мысли, Элинор смахнула с лица пот. Скорее ее союзником мог быть Пол Кукали – гаваец, хорошо знающий легенды своего народа, знакомый с людьми, с которыми ей рано или поздно придется войти в контакт, красивый, обаятельный и по-своему сексуальный. Элинор опять усмехнулась и потрясла руками, чтобы восстановить кровообращение. Она знала много мужчин не менее обаятельных, чем Пол Кукали, и никто из них не мог понять, почему его обаяние не действует на одинокую и уже немолодую преподавательницу по имени Элинор Перри. Но ей нужны были знания и связи Пола. Может быть, это значило, что она хочет его использовать? «Ерунда, – сказала она себе. – Он выиграет куда больше меня, если мы разгадаем эту древнюю загадку». Тропа сузилась и превратилась в цепочку следов среди скал. Элинор решила вернуться и остановилась передохнуть. Тут-то она и услышала звук. Звук был странным, похожим на шум прибоя, но не совпадающим с ним по ритму: сначала удар волн о скалы, потом, через десять-пятнадцать секунд, этот другой звук, напоминающий дыхание гиганта. Элинор повернула направо и двинулась через лавовое поле к источнику звука. Первое, что она увидела, – это фонтан брызг, похожий на выдох кита. Она подошла ближе к обрыву, туда, где в камне зияло отверстие. Из него и вырывались сначала завывания, подобные стонам казнимых в аду, а следом – брызги, мелкие, как атомы. В первый момент Элинор отпрянула, ожидая, что с этими брызгами из-под земли вырвется нечто живое. Потом она успокоилась и уже собралась уходить, когда за звуками воды и ветра услышала что-то другое. Голоса. В лавовой трубке раздавались голоса. Когда из отверстия вырвался очередной фонтан брызг, она стала на колени и заглянула вглубь. Да, это были голоса, мерно поющие какое-то бесконечное заклинание. Опустившись в отверстие по плечи, Элинор разглядела, что оно уходит вглубь футов на пятнадцать и соединяется с какой-то пещерой. Видимо, это было продолжение трубки, которая сужалась в сторону океана до ширины трех футов и расширялась к востоку, к лавовым полям. Оттуда исходил колеблющийся свет, которого Элинор вначале не заметила, похожий на свет факелов, но зеленоватый. С другой стороны донесся грохот прибоя, и Элинор вдруг поняла, что слишком надолго задержалась в отверстии. Она рванулась назад, чтобы успеть высвободить плечи, пока не ударила волна. Едва ей это удалось, как чьи-то тяжелые руки легли на ее плечи.
– Ты что, шутишь? – рявкнул Байрон Трамбо, когда Уилл Брайент сообщил ему новость о сбежавшем убийце. – Я никогда не шучу такими вещами, сэр, – последовал ответ. Трамбо нахмурился, ударил по шару и промахнулся. Хироси Сато не смог скрыть усмешку. Тихо выругавшись, Трамбо вышел с поля, таща за собой Брайента. Утренняя встреча прошла успешно. Команда Сато вышла на переговоры с предложением приобрести Мауна-Пеле за 183 миллиона долларов. Трамбо запросил 500 миллионов за курорт и принадлежащую ему собственность. Теперь японцы предлагали 285 миллионов. Трамбо намеревался остановиться на цифре 300. Это позволило бы ему покрыть убытки, понесенные в Атлантик-Сити и Лас-Вегасе, отойти от гостиничного бизнеса и вернуться в сферу торговли акциями и недвижимостью. И тут, когда он собирался закатить шар в четвертую лунку на северном поле, Уилл Брайент прошептал ему в ухо: – К вам шериф Вентура. – Черт! – Трамбо извинился перед Сато и отошел под сень пальм, где его ждал шериф. Вентура был загорелым, как настоящий гаваец, хотя Трамбо знал, что он родился в Айове. – Отлично выглядите, Чарли, – сказал Трамбо, с преувеличенной радостью пожимая шерифу руку. За время строительства курорта он постарался узнать все, что мог, о политиках и официальных лицах берега Коны. – Мистер Трамбо… – начал шестифутовый Вентура. – Уилл мне сказал, что сбежал этот Джимми… как его… в общем, убийца. – Кахекили, – поправил шериф спокойным голосом. – И вы не хуже меня знаете, что он не убийца. Джимми Кахекили мог покалечить кого-нибудь по пьянке, но не мог убить шестерых невинных людей. Трамбо кивнул: – Но вы все равно пришли предупредить меня насчет него. – Мистер Трамбо, Джимми не сбежал. Его выпустили из тюрьмы в Хило под залог. Судья снизил сумму с пятидесяти тысяч до тысячи ввиду отсутствия улик, и семья Джимми внесла залог. Трамбо молчал. – Этим утром охранник тюрьмы узнал от сокамерника Джимми, что тот считает вас виновным во всех своих несчастьях. Якобы он сказал этому сокамернику, что, когда выйдет на свободу, первым делом доберется до вас. Трамбо вздохнул: – Вы можете что-нибудь сделать? Вентура махнул рукой: – Полиция получила предписание задержать Джимми и допросить его относительно этих угроз, но его нигде не могут найти. – Он ведь живет где-то неподалеку, не так ли? – Да. У дороги на Хоопулоа. Я уже говорил утром с его матерью и двумя братьями. Они утверждают, что не видели его, но я передал, что если он попытается привести свои угрозы в действие или просто появится в Мауна-Пеле, то я сам его найду. Трамбо молчал. Он знал, что Кахекили очень сильный человек… намного сильнее шерифа… настоящий великан. Однажды в баре в Южной Коне он разрубил стойку двумя топорами, держа по одному в каждой руке. – Мистер Трамбо, я знаю, что у вас здесь полно охранников. Предупредите их насчет Джимми. У него горячая голова, и он прекрасно знает местность. – Ага. – Трамбо как раз думал о том, что его охранник пропал, шеф безопасности в коме и теперь его охраняет тупица Фредриксон. – Спасибо, шериф. – И еще, – сказал Вентура. – Вы сообщили в полицию о той собаке и о руке? «Черт побери, откуда он знает?» Вентура воспринял молчание миллиардера как отрицательный ответ. – Так вот,сегодня они будут здесь. Они должны допросить свидетелей и составить акт. – Хорошо, шериф. «Проклятый куратор, – подумал Трамбо. – Ну погоди у меня!» – Если будут новости о Джимми, я вам сообщу. – Спасибо, – повторил Байрон Трамбо и побрел к полю. Навстречу ему быстрым шагом шел Брайент. Миллиардер остановился, наставив на него палец, как ствол пистолета: – Если опять плохие новости, я тебя просто убью. Его помощник судорожно сглотнул: – Три вопроса, сэр. Во-первых, Гастингс говорил с мистером Картером и тот обещал ему информировать туристов об опасности лавовых потоков. Он имел в виду ядовитые газы и… – Вот вонючка! – воскликнул Трамбо, уже решивший уволить менеджера одновременно с куратором по искусству. – И что он успел натворить? – Утром на курорте было семьдесят три туриста. Сорок два из них уже выписались. Трамбо улыбнулся. Ему казалось, что поле для гольфа медленно плывет у него под ногами. Может, он и правда спятил? – Говори самую плохую новость, Уилл. Помощник молчал. – Ты слышишь? – Во-вторых, пропал Диллон. – Как пропал? Он же утром был в больнице! Уилл кивнул: – Около восьми он стукнул доктора Скамагорна табуреткой по голове и сбежал. Сестра говорит, что видела, как он бежал по коридору в пижаме. Трамбо поглядел на лавовое поле, будто ожидал увидеть там бородатого начальника охраны, перепрыгивающего с одной глыбы аха на другую. – Ладно. Это поправимо. Прикажи Фредриксону, пусть ищет своего шефа одновременно с этим… Джимми-как-его. Что еще? Уилл Брайент опять замялся. – Ну давай. Сато ждет. Что третье? – Цунэо Такахаси. – Да, Сато сказал, что Санни допоздна сидел с какими-то девушками и пропустил завтрак. Сато сердит на него. И что? – Он пропал, – сказал Уилл. – Все знают о его привычках, поэтому никто не входил к нему в комнату, но Фредриксон увидел, что стена ланаи проломлена снаружи. Тогда он вошел и увидел, что в комнате все разгромлено, а Санни нет. Трамбо крепко сжал в руках клюшку. – Без паники, – прошептал он еле слышно. – Сэр? – Уилл Брайент наклонился ближе к нему. – Без паники, – прошептал Трамбо еще тише и пошел к пятой лунке на негнущихся ногах. – Без паники. Без паники.
Глава 16
Вот ягоды охело, Пеле, Склонись же к моим дарам, Смиренно их приношу тебе, Но съем немного и сам.Миссис Корди Стампф, урожденная Корделия Кук из Иллинойса, проснулась на рассвете без всякого похмелья, но с постоянной болью, которую пыталась заглушить вот уже два месяца. Она вышла на крыльцо, где ее встретило радостное пение птиц. Она никогда не бегала по утрам, и сама мысль об этом казалась ей абсурдной. Корди дождалась завтрака на открытом ланаи и умяла большую тарелку пирожков с кокосовым сиропом, яичницу с тостами, три стакана превосходного апельсинового сока и чашку кофе. Дневник, который ей дала Нелл, лежал у нее в сумке, и она не доставала его, пока ела. Корди прочла в жизни не так много книг, но эту книжку в кожаной обложке намеревалась прочесть с начала до конца. После завтрака она прогулялась по магазинам у подножия Большого хале. Большинство дорогих бутиков было закрыто, как и парикмахерская, и центр массажной терапии. Похоже было, что на курорте началась забастовка. Когда она спустилась к пляжу, навстречу ей вышел Стивен Риддел Картер. – Миссис Стампф, – сказал он, нервно перелистав список проживающих. – Хорошо, что я вас поймал. – Обожаю, когда меня ловят, – сказала Корди. Не обратив внимания на ее сарказм, менеджер повторил то, что сказал уже десяткам людей за утро. Двойное извержение привело к выходу значительных лавовых потоков. Конечно, непосредственной опасности они не представляют, но, посоветовавшись со специалистами, администрация Мауна-Пеле решила предложить гостям покинуть курорт с полной компенсацией их расходов. – А я ничего не платила, – напомнила Корди. – Я отдыхаю с миллионерами. Картер улыбнулся: – Да, конечно. Вы сможете продолжить отдых на другом курорте или вернуться сюда, как только минует… непосредственная опасность. – А как же билет на самолет? Меня повезут бесплатно второй раз? – Конечно, миссис Стампф. Корди усмехнулась: – Спасибо, мистер, но, пожалуй, я останусь. – Боюсь, что… – А вы не бойтесь. Я уже взрослая девочка. – Она похлопала бледного менеджера по плечу. – Позвольте пройти. Я иду на пляж, хочу почитать кое-что. Вообще-то Корди не собиралась читать на пляже – накануне она порядочно обгорела, да и дневник лучше было не подставлять солнцу и соленому ветру. Вместо этого она нашла уединенную плетеную скамеечку в двадцати шагах от бара «Кораблекрушение». Убедившись, что солнечные лучи не падают на нее, она села на скамеечку и погрузилась в чтение. Обычно Корди читала медленно, но к полудню она прочла весь рассказ о приключениях на берегу Коны сто тридцать лет назад.Песнь Пеле
18 июня 1866 г., безымянная деревня на берегу Коны Когда я день и ночь назад сделала последнюю запись, я еще не подозревала, что скоро окажусь в мире, который могла представить себе только в ночных кошмарах. Но правдивый путешественник не может умолчать даже о нисхождении в ад, поэтому я продолжаю писать. Прошлая ночь, после спасения Халеману, после возвращения мистера Клеменса с безумными глазами… – все это кажется сейчас таким далеким, но именно на этом месте я остановилась в прошлый раз и должна теперь начать с него. – Ужасные вещи! – воскликнул мистер Клеменс, и мы с преподобным Хеймарком устремились к нему, желая услышать рассказ о его приключениях и совсем забыв о мольбах юноши как можно скорее покинуть это место. Узнав, что он отсутствовал всего полчаса, мистер Клеменс достал из кармана часы, убедился, что это и в самом деле так, и вдруг начал хохотать. Преподобный Хеймарк подошел к обезумевшему корреспонденту, крепко сжал его предплечье и протянул ему серебряную фляжку. – Виски? – спросил мистер Клеменс, прервав свой смех и понюхав фляжку. – В медицинских целях, – скромно сказал преподобный. Уже не в первый раз за этот день он удивлял нас. Мистер Клеменс сделал большой глоток и вытер усы дрожащей рукой. – Извините меня, – сказал он, глядя в сторону. – Вы поймете, когда я расскажу вам, что со мной случилось… какие ужасные вещи я видел. Мы молча слушали рыжеволосого журналиста, миссурийский акцент которого стал от волнения еще заметнее. – Хотя я хорошо видел факелы на берегу, стоило большого труда спуститься вниз по скалам, не будучи замеченным. Пришлось вспомнить детство, когда я немало полазал по деревьям и крутым откосам. Наконец я спустился и отыскал большой камень у того места, где кончались деревья и начинался песок. Оттуда можно было наблюдать за процессией, которая находилась всего в двухстах футах от меня. Тогда я впервые ощутил… ну, может быть, не страх, но волнение, от которого у меня пересохло в горле. То, что я увидел, могло бы сделать из меня методиста. В первой процессии, которая как раз возвращалась назад, шли семифутовые гиганты, кожа которых светилась тем же жемчужным светом, что и их факелы. Потом показалась вторая процессия, еще более удивительная. В тот момент я продал бы душу за самую простую подзорную трубу вроде той, что была у меня на Миссисипи. Всего там было больше сотни Идущих в Ночь. Среди них были мужчины и женщины… они были почти обнажены, и я ясно мог разглядеть их в свете факелов. Некоторые из них явно были вождями, поскольку сидели или стояли на носилках, какие я видел у вождей на Оаху. Носилки тащили рабы – я достаточно пожил на Юге, чтобы это определить. Другие рабы с проворством муравьев исчезали в джунглях и появлялись оттуда, таща целой командой громадные каменные блоки в четыре фута длиной. Думаю, из таких же блоков выстроен храм, возле которого мы находимся. Я смотрел, как боги – именно так я теперь думал о семифутовых великанах, настолько благородными были их походка и поступь, – указали место, где следовало положить первые блоки. Рабы сделали это и поспешили в джунгли за новыми. Так я наблюдал за постройкой храма… а это был именно храм. Те же широкие ступени для жертвоприношений, те же стены для защиты. Теперь вы понимаете мое удивление? Я притаился за камнем и час за часом смотрел, как воздвигается целый храм, а оказывается, что это длилось всего полчаса! В один из моментов я удивился, почему не наступает рассвет, но, взглянув на часы, обнаружил, что прошло всего лишь десять минут с тех пор, как я в последний раз посмотрел на них перед тем, как спуститься со скал. Я был уверен, что часы сломались, и действительно, когда я поднес их к уху, они не тикали. Время шло. Все новые глыбы ложились в основание храма, пока боги и вожди молча и надменно наблюдали за строительством. Горели факелы, били барабаны, торжественное пение заглушало шум прибоя. Храм был уже почти готов, а солнце все не вставало, словно наступило какое-то бесконечное затмение. Я снова поглядел на часы – прошло двадцать пять минут. Долгие минуты я ждал, пока секундная стрелка не сдвинулась, дрогнув, на одно деление. Наконец храм был построен, и боги, вожди и их рабы столпились вокруг него. Словно по высшему велению, с океана подул сильный ветер. Факелы погасли, и теперь берег освещался только призрачными телами Идущих. Мальчишкой я часто ловил светляков и приносил их домой в банке. Этот свет был похож: на тот: такой же зеленоватый, вызывающий мысли о смерти и разложении. Потом началось самое жуткое. Я плохо видел из своего укрытия, но музыка смолкла, пение утихло, и призрачные фигуры выстроились на берегу, словно чего-то ожидая. Ожидание длилось недолго – из моря появилось несколько фигур, перед которыми Идущие расступились, открыв им дорогу к храму. Они поднялись к основанию хеиау, потом на его вершину. Я говорю «фигуры», потому что внешность вышедших из океана была совершенно фантастической. В центре шел тот, кто больше других напоминал человека, но при этом вся его фигура была какой-то расплывчатой, словно состоящей из тумана… или морской пены… чего-то бестелесного. На этом месте Халеману воскликнул: – Это Пауна-эва! – Чепуха, – сказал преподобный Хеймарк. – Паунаэва – это миф. Юноша даже не взглянул на него, продолжая говорить с мистером Клеменсом: – У Пауна-эвы много тел. Его туманное тело называется Кино-Оху. В этом теле он напал на Хииаку, сестру Пеле. – Так вот, – сказал мистер Клеменс, успевший за время паузы зажечь свою ядовитую сигару, – это действительно было туманное тело, через которое я мог видеть его спутников. Среди них был обычного вида человек – туземец – в каком-то странном капюшоне. Он подвел ближе козу, и этот ходячий туман… – Пауна-эва! – опять воскликнул Халеману. – Хорошо, назовем его Пауна-эва. Человек в капюшоне подвел козу к Пауна-эве и поднял ее на плечи, как делают пастухи. Капюшон упал с него, а потом коза страшно закричала, и к этому звуку добавился другой – как будто ломались кости. А потом коза исчезла. – Как исчезла? – переспросил преподобный Хеймарк, который все еще держал в руках флягу с виски. – Исчезла, – повторил мистер Клеменс немного громче. – Провалилась в какую-то щель на спине этого человека. Теперь я видел, что под капюшоном скрывался большой горб, в котором было отверстие. – Пасть, – сказал Халеману. – Это Нанауэ, человек-акула. Он всегда служил Пауна-эве. Мы все посмотрели на юношу. Потом мистер Клеменс сказал: – Там еще были маленькие человечки, очень уродливые, в чешуе и перьях… – Это ээпа и капуа, – прокомментировал Халеману. – Очень злые и коварные. Они тоже служат Пауна-эве. Мистер Клеменс вынул изо рта сигару и подошел поближе к мальчику, который глядел на него со страхом. – Потом из моря появилась еще одна фигура, – сказал он тихо. – Собака. Большая черная собака, которая подошла и встала по правую руку туманного человека. – Ку, – просто сказал Халеману. – Ку, – повторил мистер Клеменс и опустился на грязный пол. Он посмотрел на меня. – Когда коза исчезла, туманный человек поднял руки и… не знаю, как это описать… в общем, он стал меняться. Я видел чешуйчатый хвост и желтые горящие глаза, но у него остались руки, и он по-прежнему поднимал их кверху. Потом сверкнула молния, и я на мгновение ослеп. – Мистер Клеменс недоуменно взглянул на сигару в своей руке, сунул ее в рот и чиркнул спичкой. – Когда я снова смог видеть, все исчезли – боги, вожди, рабы, человек-ящер и черная собака. – А храм? – спросила я. – Нет, – сказал мистер Клеменс. – Храм все еще был там. Я посмотрел на часы. По всем моим ощущениям, прошли многие часы… может быть, дни… но по моим часам прошло всего полчаса. Потом я вернулся сюда. Какое-то время мы молча, расширенными глазами смотрели друг на друга. Наконец я спросила: – Что же нам делать? Тут Халеману потянул меня за рукав. – Погоди, – сказала я, но он продолжал тянуть. Рассерженная, я повернулась к нему: – В чем дело? – Уходим скорее! – сказал он. – Мы должны обсудить… – Уходим скорее! – повторил юноша, побелев от страха. – Почему? – спросил его мистер Клеменс. – Птицы, – ответил туземец. – Маленькие птицы. Я улыбнулась такому его страху перед безобидными Божьими созданиями и поглядела в окно. Никаких птиц не было видно. – Птицы – братья Пауна-эвы! Они улетели, значит, он идет сюда!Элинор вырвалась из отверстия за секунду до того, как в него ударил гейзер водяных брызг. Промокшая, но невредимая, она обернулась к тому, кто все еще держал ее за плечи. Это оказался Пол Кукали. – Чер-рт побери! – прорычала она, чувствуя, как ее руки сжимаются в кулаки. – Что вы тут делаете, позвольте спросить? Пол снял темные очки, глядя на нее невинными глазами: – Простите, доктор Перри… Я увидел, что вы попали в затруднительное положение, и решил помочь… – То есть подтолкнуть меня? Она чувствовала, как в ней клокочет злость. Если она захочет ударить этого человека, то не будет бестолково барабанить ему в грудь, как киношные барышни. Как-то в Порт-о-Пренсе на нее напали – простое ограбление, ее не изнасиловали и даже сильно не избили, – она той же осенью пошла на курсы самообороны и повторила их год назад. Если она ударит Пола, то сразу в нос, в солнечное сплетение или еще в какое-нибудь чувствительное место. – Я вас не толкал, – тихо сказал Пол. В его курчавых волосах блестели капельки воды. – Я пытался привлечь ваше внимание. Разве вы не слышали, как я вас звал? Она не слышала. Она была слишком поглощена тем, что происходило в пещере. – Мне очень жаль, если я напугал вас– Пол водрузил очки на место. – Эти лавовые трубки очень опасны. Я боялся, что вы не услышите прибоя. – Это едва не случилось. – Элинор опустила руки. – Простите, что сорвалась. Вы очень меня напугали. – Понимаю. Еще раз извините. Послышался клокочущий звук, и они едва успели отойти от отверстия, когда оттуда вырвался очередной гейзер. – Но что вы здесь делаете? – спросила Элинор, выжимая край своей спортивной майки. Пол улыбнулся: – По правде говоря, ищу вас. Мой друг шериф Вентура хочет задать вам несколько вопросов по поводу этого… этого пса. Я нашел миссис Стампф, но она не знала, где вы. Садовник сказал, что видел на дорожке бегущую женщину, и я сразу понял, что это вы. Потом нашел ваши следы на тропе и пошел следом. – Жаль, что я не вернулась раньше. Пол Кукали пожал плечами: – Чарли скорее всего уже уехал. С его стороны это неофициальное расследование. Потом мы можем ему позвонить. Но у меня была и другая причина вас искать. Элинор молчала. Они дошли до конца тропы и вышли на асфальт. Она вспомнила о том, что видела в пещере. Интересно, знает ли об этом Пол? – Я наконец связался с моим другом-вертолетчиком. Как я и думал, он весь день занят на Мауи, но вечером согласен прокатить нас к вулкану. – О, отлично. – Она почти забыла об экскурсии к вулкану. – Скажите, Пол… – Да? – Я хотела попросить… Куратор поднял вверх обе руки: – После того как я вас так напугал, я согласен выполнить любую просьбу. Говорите. – Я бы хотела посетить местного кахуну. Желательно такого, который бы служил Пеле. Пол Кукали остановился: – Кахуну? Жреца? Зачем вам это, Элинор? Она посмотрела ему в глаза: – У меня есть свои причины. Мне нужно поговорить с ним. Пол опять улыбнулся: – Вы решили отречься от рационализма? Элинор осторожно тронула его за руку. – Я знаю, я прошу немало, но это очень много для меня значит. В молчании она смотрела на свое отражение в темных очках Пола. Его глаз она не видела. – Почему вы решили, что я знаком с кахуной? – спросил наконец Пол. – Вы со всеми знакомы. Нет так нет. Не могу же я вас заставить. Пол вздохнул: – Я знаю двоих… они живут в нескольких милях отсюда, там, куда течет сейчас лава. Не исключено, что их эвакуировали. Когда вы хотите ехать? Элинор широко улыбнулась: – Как только переоденусь. Корди дочитала бы дневник тети Киддер до конца, если бы ее не отвлек детский крик. Он доносился с пляжа, и Корди, подняв голову, увидела за стеной пальм мальчика лет семи, который бегал по берегу и громко кричал. Взрослых поблизости не было. Она вспомнила, что с полчаса назад мимо нее прошли двое мальчиков, один из которых нес под мышкой надувной матрас. Корди сунула дневник в сумочку и быстрым шагом пошла в направлении пляжа. Крик мальчика становился все громче, заглушая все прочие звуки. Мальчик подбежал к ней, протянув руки в поисках защиты. По лицу его текли слезы. Она ласково обняла его за плечи, одновременно оглядываясь в поисках родителей или спасателя. Никого не было. – Ну-ну, успокойся, дружок. Что случилось? Мальчик ткнул пальцем в сторону лагуны. – Мой бра… брат, – прохныкал он. – Я ему го… говорил не заплывать так далеко… Корди всмотрелась в блестящее на солнце море. Вдалеке она увидела мальчика на красном надувном матрасе. Он был всего на пару лет старше брата и так же испуган. Для этого были причины – плот отдалился от берега ярдов на сто и стремительно несся в открытый океан, словно его влекла какая-то сила. Она снова оглянулась. Пляж был пуст. Только за стойкой бара виднелась фигура бармена, но он был очень далеко. Чертов спасатель, куда он подевался, когда тонут дети? Невдалеке на берегу сохла узкая гоночная лодка. – Беги к родителям, – сказала она мальчику. – Я помогу твоему брату. «Если кто-нибудь поможет мне», – мрачно закончила она про себя. Корди Стампф не умела плавать. В сделанной из стекловолокна лодке была узкая дырка для гребца, в которую Корди едва пролезла. Хорошо еще, лодка была легкой, и она смогла дотащить ее до воды. Мальчик не убежал за родителями. Он стоял по колено в воде и что-то кричал ей вслед. Корди прислушалась. – Грегори уплыл туда из-за… из-за акулы! – Акулы? – Корди посмотрела на матрас. Он за это время уплыл еще на пятьдесят футов, и вокруг него гуляли волны. Плавника нигде не было. – Я не вижу никакой акулы. – Мальчики купались в той самой бухте, где по ночам плавали манты. – Может быть, это манта! – крикнула она мальчику. – Она его не тронет! – Во всяком случае, Корди не слышала, чтобы манты нападали на людей. Мальчик помотал головой: – Нет, это была акула. Только без плавника. И с ногами. Корди вдруг стало холодно, несмотря на восьмидесятипятиградусную жару. – Ладно. Беги к родителям, а я займусь твоим братом. Эй, постой! Принеси-ка мне вон ту сумку. – Почему-то она хотела, чтобы дневник тети Киддер был с ней. Мальчик принес сумку и бросил ее в лодку, уже отплывшую от берега. Корди едва смогла поймать ее, не вывалив содержимое в воду. Она пропихнула сумку в отверстие и сильными гребками короткого весла погнала лодку к тонущему ребенку.
– Врешь, – сказал Байрон Трамбо сам себе. Они были уже на семнадцатой лунке, почти в конце поля (Хироси Саго шел на пять ударов впереди, чем был очень доволен), когда Трамбо поднял голову и увидел невдалеке огромного гавайца. Он весил по меньшей мере пятьсот фунтов, и в руке у него был топор. – О-о-о, – сказал Сато, подняв голову от шара, по которому собирался ударить. – Что это? Трамбо оглянулся. Бобби Танака и Брайент играли на другом поле. С ним были только Сато, Инадзу Оно и старый Мацукава. Великан-гаваец перекидывал топор из одной руки в другую, как ребенок камешек. Трамбо протянул руку к поясу, на котором висели радиотелефон и девятимиллиметровый браунинг. Они все время мешали ему играть. – Успокойтесь, Хироси. – Трамбо криво улыбнулся. – Этот парень просто подстригает кусты. Работает у нас, понимаете? Бейте, а я сейчас. Он положил шар в карман рубашки и направился к гиганту. По пути он включил радиотелефон. – Фредриксон! Фредриксон? Один треск. – Майклс? Смит? Даннинг? Молчание. В двадцати шагах от гавайца он переключился на другую волну: – Уилл? – Да, босс? – Бегом сюда. Трамбо спрятал радио. Гаваец был без рубашки, и на его толстой, как дерево, шее болтался амулет из чьих-то зубов, подозрительно напоминающих человеческие. В пяти шагах от него Трамбо остановился: – Вы, должно быть, Джимми Кахекили? Гигант хмыкнул и перебросил топор в другую руку. Трамбо показалось, что живот у него больше, чем капот машины. С живота, а также с груди и рук свисали складки жира. – Итак, Джимми, что вам нужно? – Трамбо демонстративно поглядел на часы. – Мне пора возвращаться к моим друзьям. Гаваец опять что-то проворчал, и Трамбо с трудом понял, что он произносит слова. Прислушавшись, он разобрал: – Ты украл нашу землю. – Я заплатил за вашу чертову землю. И я плачу деньги твоим друзьям и соседям, которые здесь работают. – Ты украл всю нашу землю. Все острова. – Гигант угрожающе поднял топор. – А-а-а. – Рука Трамбо застыла в дюйме от револьвера. – Ты имеешь в виду американский империализм? Так все делают, болван. Все захватывают чужие страны. Но меня тогда здесь не было, так что извини. Он пытался определить настроение гиганта по его глазам, но они тоже были закрыты складками жира. – Ты погубил наши рыбные пруды, хаоле. – Ворчание стало более громким. – Пруды? Ах да… но я спас петроглифы. – У тебя нет ни капли заботы об аина… о земле. Ты готов все погубить ради прибыли. Трамбо пожал плечами: – Не стану спорить. Я капиталист… губить все ради прибыли – моя профессия. Я сделал с вашими прудами то же, что сто лет назад сделали американские моряки с вашей королевой. И что ты сделаешь? Зарубишь меня этим топором? Джимми Кахекили поднял топор обеими руками. Трамбо подумал: «В обойме девять пуль. Боюсь, этого не хватит. Интересно, с какой скоростью бегает этот бегемот?» Вслух он сказал: – У меня есть другое предложение. Пыхтение гиганта стало чуть тише. Воспользовавшись этим, Трамбо широким жестом указал на поляну: – Смотри, Джимми. – Он показывал на японцев, сбившихся в кучку в сорока футах. – Я продаю курорт. Теперь тебе придется иметь дело вот с этими людьми. Не думаю, что они будут лучшего мнения о твоем народе, если ты разрубишь главу их корпорации на кусочки. Ответом было тихое ворчание. – Но твоя цель мне симпатична. И эту симпатию я оцениваю в… десять тысяч долларов. Складки жира нахмурились. Миллиардер поднял руки: – Слушай, я тебя не обманываю. Оставь нас в покое всего на три дня, и деньги твои. Черт возьми, да забирай их хоть сегодня! Наличными. Топор опустился. – Ну что, по рукам? Гигант протянул руку, и рука миллиардера совершенно исчезла в его огромной ладони. На миг Трамбо подумал, что Джимми сейчас вырвет ему руку – «Кэтлин бы это понравилось», – но потом рука появилась снова. К ним спешили Уилл Брайент, Майклс и Смит. Руки охранников сжимали пистолеты под пиджаками. – Уилл, отведи мистера Кахекили в Большой хале и вели мистеру Картеру выдать ему десять тысяч долларов из дежурного фонда. Пусть запишет их в графу «Хозяйственные расходы». – Босс? – переспросил Уилл. – Я сказал. – Трамбо улыбнулся гиганту. – Спасибо, Джимми. Мы скоро увидимся. Повернувшись к гавайцу спиной, Трамбо зашагал к ожидающим его японцам. Вернувшись в хале, Элинор быстро приняла душ, выпила еще чашку кофе, надела рубашку с короткими рукавами и брюки и пошла к Большому хале, где ее ждал Пол. По пути она оглядывалась, ища Корди, но ее не было ни на пляже, ни на ланаи. В вестибюле она сказала: – Я хочу найти Корди Стампф. – Конечно. – Казалось, куратор боится оставаться с ней наедине. Элинор позвонила Корди в номер, но там никто не отвечал. Тогда она заглянула в Китовый ланаи и обнаружила пустой ресторан. Весь курорт казался более пустым, чем раньше. Она оставила Корди записку у портье и вернулась к Полу, миновав молчаливых бронзовых послушников у входа. – Боюсь, нам не удастся арендовать джип, – сказал он. – У меня «таурус», но не знаю, сможем ли мы на нем доехать. – У меня есть джип. – Элинор помахала ключами, которые вытащила из сумочки. – А где миссис Стампф? – осведомился Пол, когда они вышли из вестибюля в благоухающий коридор бугенвиллей. – Я не смогла ее найти. Придется, сэр, нам ехать вдвоем. Пол Кукали только улыбнулся. Когда они вошли на стоянку, Элинор остановилась в изумлении. Кроме ее джипа там стояло всего пять или шесть машин. – Похоже, за ночь отсюда все сбежали. Забираясь на пассажирское сиденье джипа, Пол сказал: – Это еще одна причина, по которой я искал вас. Мистер Картер велел предупредить гостей об опасности лавовых потоков. Элинор вставляла ключи в зажигание. – Лавовых потоков? Но они же далеко на юге. – Да, но они выделяют ядовитые газы. И доктор Гастингс… человек Трамбо в вулканической обсерватории… считает, что к поверхности могут выйти и другие потоки. – По лавовым трубкам? – Именно. Элинор, прикусив губу, завела мотор и поехала по длинной аллее, мимо теннисных кортов и рядов бугенвиллей. Она увидела людей на поле для гольфа и одинокого садовника, но больше им никто не встретился. За полем дорога уходила в лавовые поля, но под ярким дневным небом, в виду палевой стены Мауна-Лоа чернота лавы казалась не такой угрожающей, как ночью, когда она ехала с Корди. Когда они выезжали из ворот, им помахал сонный охранник. – Кто-то еще работает, – заметил Пол. – А что, люди не выходят на работу? Его темные очки повернулись к ней: – Большинство из них. – Это из-за вулкана или из-за этих странных событий? Они выехали на шоссе № 11 и поехали на юг. Элинор могла видеть вдали скалы и полуостров, мимо которых недавно пробегала. – К вулкану здесь все привыкли. Это из-за странных событий. Они ехали на юг, к Пуухонуа-о-Хонаунау, иначе называемому Убежищем. За придорожным городишком Кеалиа местность стала почти необитаемой: единственными признаками жизни были дороги, уходящие на восток, к городкам Хоопулоа и Милолии. Пол сказал, что их уже эвакуировали. Задолго до того, как они впервые увидели лаву, Элинор поразилась количеству дыма и пара вокруг. Слева от дороги вставала стена сизого дыма, а прямо впереди возвышался столб белого пара высотой не меньше пятидесяти тысяч футов. Им навстречу попалось несколько завалов и заграждений, потом машину остановил дорожный патруль. – Дорога закрыта, мэм, – сообщил офицер-гаваец, но почему-то с голубыми глазами. – Здесь и дальше ее перерезал лавовый поток. Вам лучше вернуться. О… привет, Пол! – Здравствуй, Юджин. Что-то вас мало. – У нас полно дел. – Офицер ухмыльнулся. – Все курорты эвакуируют туристов из-за газов, и большинство едут в Хило. На дорогах пробки. Большинство наших там или на вертолетах. Пока он говорил, над дорогой прожужжал маленький вертолетик. – Могу я показать мисс Перри, как выглядит свежая лава? – Конечно. Только не подходите слишком близко. Утром одна туристка из Мауна-Лани упала в обморок. Слишком жарко, да еще эти газы. Пол кивнул. Они оставили машину у заграждения и пешком пошли туда, где дорогу застилал серый дым. – Невероятно, – сказала Элинор, и так оно и было. Стена лавы высотой в девять-десять футов перегородила дорогу на пути от Мауна-Лоа к побережью. Там, где серые складки пахоэхоэ соприкасались с асфальтом, можно было разглядеть оранжевую свежую лаву. Ее брызги летели из отверстий, сжигая траву и кусты. К счастью, ветер дул в другую сторону, но из-за невыносимой жары им пришлось остановиться футах в двадцати. Пока Элинор смотрела, поверхность остывающей лавы треснула, как яйцо, и оттуда вылилась струя жидкого огня. Все, чего касалась лава, исчезало в пламени. – Невероятно, – повторила она, закрываясь от жара рукой. – Этот поток пересек шоссе сегодня утром, – сказал Пол. – Теперь дорога перерезана по меньшей мере в пяти местах. Элинор поглядела на вулкан, большая часть которого была окутана дымом. – А их движение можно предсказать? – Обычно да. Но этот поток вырвался из старой лавовой трубки в паре миль отсюда. Власти удивлены, потому и эвакуируют население. Никто не знает, что вулкан еще может выкинуть. Элинор поглядела на юго-восток, где к небу поднимался столб пара. – Поглядеть бы, как это выглядит у моря. – Оглянувшись на полицейских, она спросила: – Значит, мы не сможем увидеться с вашими друзьями-кахунами? Пол Кукали задумался. – Есть один путь. Зная их, я почти уверен, что они не позволят властям их выгнать. Но нам придется пересечь это. – Он махнул рукой в сторону стены дыма и огня между шоссе и берегом. – Пересечь? Вы имеете в виду старую аха? – Нет. – Голос Пола был спокойным. – Я имею в виду свежую лаву. – Как это возможно? На ее глазах еще одно серое яйцо взорвалось струей жидкого огня. Пол пожал плечами: – На джипе мы можем по крайней мере подъехать ближе, а там уже решим. Это единственный способ добраться до кахунов. Элинор поглядела на куратора, силуэт которого колебался в волнах горячего воздуха. – Поехали, – сказала она решительно. Они пошли назад к джипу.
Корди была уже на полпути к матрасу, когда увидела тень, лениво скользящую под водой футах в пятнадцати от поверхности. Тень была ближе к испуганному мальчику, чем к ней, но даже с такого расстояния Корди могла разглядеть раскрытую пасть, полную острых зубов. Ребенок на пляже был прав: в бухте появилась акула. Она начала грести быстрее, чувствуя, как вода брызгает ей на лицо и руки. Лодка скользила вперед, подчиняясь мощному ритму весел. Заныли мускулы, протестуя против непредвиденной нагрузки. Корди почувствовала, как боль колет иголками низ живота, где еще не зажили швы от операции. – Осторожнее! – крикнул мальчик, когда она приблизилась к нему на расстояние тридцати футов. – Здесь акула! От крика он едва не свалился с матраса. – Держись! – крикнула в ответ Корди. На миг она перестала грести и тут же почувствовала мощное течение, уносящее матрас с мальчиком из бухты. Если она снова не возьмется за весло, это течение или что бы там ни было утащит их к высоким волнам, разбивающимся о коралловые рифы всего в тридцати ярдах от них. Отсюда их удары звучали как пушечные выстрелы. Она оглянулась, – обгоревшие плечи отчаянно болели: берег Мауна-Пеле казался невозможно далеким. – Держись! – крикнула она снова мальчику. – Не упади! Матрас наполовину сдулся, и мальчик держался не столько на нем, сколько на бешеном желании остаться как можно дальше от воды. Он был тощим и незагорелым, с веснушками на спине. Его короткие светлые волосы слиплись теперь в мокрые пряди. – Сзади! Она сзади! – Он показывал рукой за матрас. Корди оглянулась, чтобы рассмотреть то, что было в воде. Существо ушло глубже, но вода была прозрачной, и Корди могла так же хорошо видеть ощерившуюся акулью пасть. Но за ней вместо обтекаемого корпуса акулы находилось нечто бесформенное, белое, с какими-то выступами. Похожее на спину человека с акульей пастью посередине. – Держись за матрас! – крикнула Корди. – Не двигайся! Я сейчас тебя сниму! – Нет! – завопил мальчик, явно не желающий покидать свое утлое убежище. – Я не дотронусь до тебя, пока ты не будешь готов, – сказала Корди. Отражающийся от воды солнечный свет слепил ее, и она прикрыла глаза рукой. Волны здесь были выше, чем у берега, и лодка оказывалась то в трех футах над матрасом, то под ним. Но это нельзя было и сравнить с буйством прибоя там, куда их несло течение. Она принялась отчаянно грести. Она еще не знала, как запихнуть мальчика в узкое отверстие лодки, но нужно было спешить: матрас быстро сдувался. – Сзади! – опять крикнул мальчик, и в этот момент что-то со страшной силой ударило в дно лодки. Свет померк. Все вокруг закружилось, и Корди поняла, что не успеет глотнуть воздуха, как лодка перевернется. Она сто раз видела такое по телевизору, в репортажах о состязаниях по гребле, но там гребец – обычно дюжий молодой парень – моментально восстанавливал равновесие. Она попыталась это сделать, но вес лодки давил на нее. Зажатая в узком отверстии, она не могла ни выправить лодку, ни выплыть к поверхности воды. Корди почувствовала, как последний воздух выходит из ее легких и рассыпается в воде каскадом серебряных пузырьков. Она попыталась вылезти из лодки. Конечно, она не умеет плавать, но, может быть, ей удастся ухватиться за лодку и использовать ее как плот. А как же дневник тети Киддер? Мысль о нем наполнила ее паникой, и она едва не впустила в легкие воду. Она отчаянно попыталась перевернуть лодку, рванувшись левым боком к поверхности в четырех футах от нее. В поле ее зрения попало что-то большое и белое, всплывающее из глубины. Напрягая все силы, Корди уперлась грудью в корпус маленькой лодки. В следующий миг она оказалась на поверхности, давясь воздухом и выплевывая соленую воду. Где-то недалеко закричал мальчик. Корди протерла глаза и увидела руки, вцепившиеся снизу в лодку и раскачивающие ее. Инстинктивно она расставила руки, пытаясь удержать равновесие, и в этот момент лодка опять перевернулась. На этот раз Корди не оказалась в воде. Руки ее оставались расставленными, и она сумела отчаянным усилием выправить лодку. Мальчик ушел в воду почти по грудь; только концы матраса остались на поверхности и торчали, как большие красные крылья. – Рядом! – закричал он, и лодка завертелась волчком. Мелькнул белый силуэт, и Корди увидела чуть повыше ватерлинии восемнадцатидюймовый след от зубов. Силуэт сделал круг в направлении мальчика и повернул назад к лодке. Корди запустила руку во внутренность лодки. Какое-то время она не могла нащупать сумку и подумала даже, что та упала в воду. Потом сумка нашлась, и она, покопавшись в ней, ощутила знакомую рубчатую рукоятку револьвера 38-го калибра, принадлежавшего ее первому мужу. Зубы проскрипели по стекловолокну, и лодка опять едва не перевернулась, но Корди выправила ее и прицелилась в белую тень под водой, плывущую к матрасу. Теперь из воды торчала только голова мальчика. Корди выстрелила четыре раза, прекратив огонь, когда акула подплыла слишком близко к мальчику. Какой-то жуткий миг она ожидала, что голова мальчика рывком уйдет под воду. Но акулообразная тварь скрылась, а мальчик так же беззвучно плакал, цепляясь за остатки матраса. – Плыви! – крикнула она ему. – Сюда! Скорее! Мальчик поплыл, но, казалось, он не двигается с места. Корди поискала глазами весло, но потом поняла, что не сможет грести с пистолетом в руке, и начала загребать воду одной рукой. Вот оно! Белая тень вырвалась из воды и вцепилась зубами в опустевший матрас. Раздался свист вырывающегося из дырки воздуха, и акула, поняв свою ошибку, рванулась вслед добыче. За мелькающими ногами мальчика Корди увидела раскрытую пасть с треугольными белыми зубами, руки, черные волосы. Она прицелилась и выпустила последние две пули, изо всех сил стараясь не попасть в мальчика. По крайней мере одна из пуль попала в цель – она услышала глухой удар, и акулья тень скрылась в глубине. Мальчик доплыл до лодки и перевернул бы ее, если бы Корди не поймала его рукой и не уложила поперек корпуса, как цыпленка на противень. Она сунула бесполезный пистолет в сумку и оглянулась на волны, до которых оставалось уже не больше пятнадцати ярдов. – К черту, – пробормотала она и начала грести руками. – Помогай, – приказала она мальчику, который распростерся на носу лодки, как белая лягушка, стараясь держать руки и ноги подальше от воды. – Но эта штука может… – Помогай, или я тебя скину, – сказала она ровным голосом, заставляющим поверить в ее искренность. Мальчик начал грести, шмыгая носом. В четыре работающие конечности они понеслись к берегу, преодолевая странное течение. Путь к берегу занял не больше десяти минут, но Корди они показались вечностью. Она вспомнила о Сэме Клеменсе и его остановившихся часах и подумала, что, если бы у нее были часы, показывающие страх, на них бы сейчас прошли дни. Они оба постоянно оглядывались, ожидая, что вот-вот из воды перед ними вырвутся руки или распахнутая акулья пасть. Наконец они достигли берега. – Помоги мне вытащить эту… – начала Корди, но мальчик уже сорвался с места, пролетел ярдов десять буквально по поверхности воды и выскочил на берег, где его ждали родители и младший брат. Родители, высокие и светловолосые, сразу же принялись кричать на него, а брат смеялся и плакал одновременно. Корди была уверена, что, попытайся она сейчас вылезти из лодки, акулообразная тварь налетит и утащит ее в море. – Эй, помогите мне… – снова начала она, но семья уже уходила прочь. Отец и мать, продолжая кричать, попеременно шлепали плачущего ребенка. – Добро пожаловать, – сказала Корди. Кое-как она вылезла из тесного отверстия и встала на дно – здесь глубина была по колено. Никто на нее не нападал. Она оттащила лодку на безопасные двадцать футов от воды и тяжело опустилась рядом с ней. На левой стороне лодки виднелись две цепочки отметин от зубов. На корме пониже ватерлинии был выхвачен такой кусок, что только пластиковая внутренняя обшивка не дала лодке затонуть. Выглядело это так, будто кто-то откусил кусок от сандвича… только рот кусающего был шириной в три фута. На Корди упала тень, и она машинально подпрыгнула, пока не поняла, что над ней стоит спасатель – молодой Адонис с глубоким загаром и мощными мышцами, выпирающими на животе над узкой полоской плавок. – Что вы сделали с нашей лодкой? – сердито спросил он. Корди встала и вложила в удар все оставшиеся силы. Она метила в солнечное сплетение и, очевидно, попала, так как красавец издал звук, напомнивший ей разорванный зубами акулы матрас, и осел на песок. – Где вы шляетесь, когда вы нужны? Она достала из лодки сумку и с облегчением убедилась, что вода не попала на дневник. Чуть пошатываясь, она направилась к бару под пальмами. Бармен, толстый гаваец примерно ее лет, улыбнулся ей, облокотись на стойку. – Привет, Эрни. Сделай-ка четыре «Пламени Пеле». Можно двойных. Давай-давай, не робей. Приказ мистера Трамбо. И чего-нибудь себе. Когда напитки принесли, Корди отпила большой глоток, открыла дневник тети Киддер и погрузилась в чтение.
Глава 17
О Камапуаа, великий кабан морей! Дыбом щетина встает на спине твоей! О зверь, великая рыба, что бродит в морях! О юный бог, который приносит страх!Древняя песнь Камапуаа, богу-кабану, который иногда обращается рыбой Хумухуму-накунаку-а-руаа
18 июня 1866 г., безымянная деревня на берегу Коны Хотя дождь кончился, казалось безумием покидать сухую и освещенную хижину по совету раненого туземного юноши, настаивающего, что безобидные птицы – братья и шпионы демона Пауна-эвы. Тем не менее мы пошли. Перед уходом разгорелся спор между преподобным Хеймарком и мистером Клеменсом. Первый называл слова юноши чепухой, языческим суеверием, в то время как корреспондент настаивал на том, что половина случившегося с нами за эту ночь может показаться языческим суеверием. Наконец оба мужчины повернулись ко мне. – Мисс Стюарт, не могли бы вы вернуть этого… литератора к реальности? – запальчиво спросил преподобный Хеймарк. Мистер Клеменс, фыркнув, сказал: – Если у нас демократия – вы ведь верите в демократию, святой отец? – значит, вам принадлежит решающий голос. Рассудите нас, мисс Стюарт. Я задумалась. Халеману смотрел на меня испуганными глазами. Наконец я сказала: – Нам лучше идти. И как можно быстрее. – Но мисс Стюарт, глупо думать… – начал преподобный, лицо которого казалось еще краснее в мерцании свечей. – Я голосую за то, чтобы уйти, – прервала я его протесты, – не из-за страха перед какими-то призраками, а из-за того, что у нас на руках раненый, которому необходима помощь… и из-за того, что видел мистер Клеменс. Мы находимся в святом месте язычников, вокруг которого бродят эти Идущие, явно враждебно настроенные… Преподобный Хеймарк открыл рот, чтобы возразить. – Мальчик говорит, что в миле отсюда есть деревня, – продолжала я. – У него там родственники, и там живет так называемая жрица Пеле, которая наверняка знакома с медициной и может ему помочь. Если я в самом деле имею решающий голос, я голосую за то, чтобы добраться до этой деревни. – Вот-вот, – сказал мистер Клеменс. Я нахмурилась, собираясь с мыслями: – Я повторяю, что никого не боюсь. Тем более языческого бога, сделанного из тумана. Мистер Клеменс хмыкнул и зажег новую сигару. Мы отправились быстро, но без спешки. Лошади выказывали тот же страх, что и раньше, при приближении Идущих в Ночь, и мужчинам пришлось помочь мне влезть на моего обычно спокойного Лео. Мальчика мистер Клеменс усадил на седло перед собой. Признаюсь, что я затаила дыхание, когда мы выбрались на тропинку между каменными стенами, полубессознательно ожидая, чтокто-нибудь из богов и мертвых вождей, о которых рассказывал мистер Клеменс, выйдет оттуда и набросится на нас. В такой темноте мы бы не разглядели бы за этими древними, пропитанными кровью камнями даже целую орду каннибалов. Никто нас не тронул. Халеману указал нам еле заметную тропинку, уходящую на восток, и мы опять двинулись вверх по склону вулкана – мистер Клеменс с мальчиком во главе, за ними я на своем верном Лео и в хвосте – преподобный Хеймарк. Я поминутно оглядывалась, чтобы удостовериться, что никакое чудище с акульей пастью на спине не стащило его с лошади и не подбирается ко мне. Было темно, но я могла разглядеть приземистый силуэт священнослужителя и ясно слышала его астматическое дыхание. Постепенно небо украсилось звездами, и в их мерцании я могла разглядеть окружавшую нас растительность: кусты охиа и охело (разновидность голубики), садлерии, серебристую траву и множество ягод, отсвечивающих в свете звезд мертвенно-голубым. Росло там и множество пальм, свечных и хлебных деревьев, но по мере подъема в гору эта пышная растительность уступала место языкам гладкой лавы, или пахоэхоэ. Наши лошади осторожно пробирались по поросшим жесткой травой глыбам базальта, а Халеману очнулся от забытья и стал показывать нам дорогу. Один раз мы остановились, тревожно прислушиваясь к отдаленны звукам, напоминающим ритмическое пение или рокот набегающих волн – хотя мы и отошли довольно далеко от моря. – Это Идущие? – тревожно спросил мистер Клеменс, но ему никто не ответил. Мы пришпорили лошадей и продолжили путь. К рассвету мы добрались до деревни, хотя это было слишком громкое название для полудюжины жалких хижин, где, казалось, никто не жил. Нигде не горел огонь, и ни одна собака не выбежала нам навстречу. Мы застыли на лошадях, почти уверенные, что те, кто расправился с преподобным Уистером, добрались и до родственников Халеману. Но тут мальчик сбивчиво заговорил по-гавайски, и я уловила в потоке певучих звуков слова «вахине хаоле» (белая женщина), «ваи лио» (напоить лошадей) и «ка-уакаи-о-капо», что, как я помнила, означало «Идущие в Ночь». Внезапно из темноты к нам метнулась дюжина теней, и к нам потянулись быстрые, но не враждебные руки. Я позволила им снять себя со спины Лео и усадить на траву. Мистер Клеменс и преподобный пытались протестовать, но тоже были спешены. Халеману снова заговорил, ему ответил старческий голос, и нас без дальнейших разговоров подняли и отвели в ближайшую и самую большую хижину. Оказалось, что деревня вовсе не пуста. Восемь стариков, три сравнительно молодые женщины и древняя как мир «туту», что значит «бабушка», вошли в хижину вслед за нами и уселись вдоль стен. Их лица были еле видны в свете двух коптилок с маслом свечного дерева. Нас усадили напротив, причем Халеману оказался в самом темном углу. Старик, севший напротив преподобного Хеймарка, заговорил снова. Его беззубую речь было бы трудно понять, даже если бы он говорил по-английски, но Халеману легко перевел: – Дедушка спрашивает, почему вы путешествуете в такую недобрую ночь. За нас ответил мистер Клеменс: – Скажите ему, что мы едем в деревню, где жил преподобный Уистер. Старик сказал еще что-то. – Дедушка говорит, что там все убиты. Никого не осталось в живых. Это теперь плохое место. Капу. Преподобный Хеймарк попросил: – Спроси, кто убил проповедника и людей в деревне. Халеману заговорил медленно, тщательно подбирая слова, и ему ответил другой старик. – Мой другой дедушка говорит, что один кахуна молился об их смерти. – Молился о смерти? – недоверчиво переспросил преподобный. – Да, – подтвердил Халеману. – Но белые не умерли, а только заболели. Тогда мои дедушки древними заклинаниями открыли ворота Милу, чтобы ээпа, капуа и сам Пауна-эва прогнали белых. – Прогнали нас? – спросил мистер Клеменс. – Да. – Халеману от боли прикрыл глаза. – Дедушки велели моему дяде и другим привести вас к храму, чтобы принести в жертву. Я пошел с ними как самый младший кахуна. К несчастью, на пути нам встретились Ка-уакаи-о-капо и всех убили. Меня пощадили потому, что я ношу имя самого знаменитого аумакуа, который служил Пау-на-эве. Мистер Клеменс и преподобный Хеймарк попытались вскочить, но старик, сидящий у двери, сделал знак, и двое мужчин навалились на них так, что они не могли пошевелиться. Я даже не пробовала подняться. – Халеману, – начала я, но юноша сказал: – Замолчи, женщина. Голос его сделался низким и хриплым. Старики начали петь заклинания. Голова у меня закружилась, глаза сами собой начали закрываться. Я видела, как преподобный Хеймарк и мистер Клеменс пытаются вырваться из рук схвативших их туземцев, но без успеха. Я посмотрела на Халеману и увидела, что тело мальчика начало таять и колыхаться, как отдаленный мираж в пустыне. Плоть его темнела и размягчалась, сливаясь вниз, в невидимый сток. На его месте остался сгусток тумана, который, уплотняясь, приобрел очертания громадного человека, голова которого почти касалась потолка высотой десять футов. Из тумана, клубящегося в свете коптилок, донесся голос, похожий на рычание зверя из глубокой пещеры. – Я беру то, что принадлежит мне! Капу о моэ, хаоле канака! Туман в человеческом образе двинулся в нашу сторону.Элинор выехала обратно на шоссе № 11 и довела джип до поворота на Милолии и Хоопулоа. Узкую дорогу преграждала полицейская баррикада. – Объехать нельзя, – сказал Пол Кукали. – Аха порежет нам все шины. Он вылез, подошел к заграждению и с усилием отодвинул в сторону рогатку. Дорогу окружали те же лавовые поля, что отделяли Мауна-Пеле от шоссе. Элинор ехала медленно, ожидая, что вот-вот полицейские преградят им дорогу и заставят вернуться. Другие машины им не попадались. Милолии показался им рыбачьей деревушкой, где остановилось время. Несколько домов были пусты, а на единственном общественном здании, магазине, висел плакат, предостерегающий от разграбления. Ветер, блуждающий между кокосовых пальм, нес с собой клочья дыма. На пляже лежали перевернутые каноэ. Солнечные лучи, проходя сквозь дым, играли бликами и световыми пятнами, делая пейзаж неповторимо прекрасным. – Надо выехать на дорогу, идущую параллельно пляжу, – сказал Пол Кукали. «Дорога» оказалась едва заметной колеей среди тропической зелени. – Люди здесь живут как рыбы, – сказал Пол. – Это одна из последних настоящих рыбацких деревень на Гавайях. Они получают доход и от выращивания папоротников, но землю для этого приходится завозить. Сами видите, эти лавовые поля не слишком плодородны. Элинор это видела. Дорога оставила позади пышную зелень и проходила теперь среди безжизненных черных глыб лавы. В сотне ярдов справа о прибрежные скалы разбивались белые гребни волн. Меньше чем за милю к небу поднималась стена дыма от лавового потока. Дым стал гуще, блуждая между базальтовыми утесами, как туман. Элинор продолжала ехать на юг, стараясь не проколоть шины о пересекавшие тропу выступы аха. Через несколько минут, когда дым почти совсем уже застлал дорогу, Пол скомандовал: – Стойте. Они вышли из джипа и пошли вперед. Здесь тот же лавовый поток, что они видели на шоссе, был в два раза выше, наползая на старые пласты аха и пахоэхоэ. Элинор молча смотрела на шипящую и потрескивающую стену лавы, которая поднималась на высоту десяти футов, а на востоке и западе исчезала в дыму. Кусты и маленькие деревья по обе стороны лавового потока были сожжены или еще горели, подожженные свежей лавой, вытекающей из десятка трещин. Запах напомнил Элинор горящие листья, но за ним ощущался другой запах, незнакомый и опасный, – зловоние серы и ядовитых газов. – Надеюсь, мы не поедем через это, – сказала она. Пол отступил назад, закрывая лицо красным платком. Его глаза слезились. – Джентльмены, которых вы хотели видеть, живут в полумиле отсюда. Элинор недоверчиво взглянула на него: – И вы думаете, что они еще здесь? – Они упрямы, – пожал плечами Пол. – Я тоже, – сказала Элинор и пошла вдоль потока, выискивая место, где оранжевый отсвет свежей лавы был бы слабее всего. Найдя такое, она подошла как можно ближе и осторожно поставила ногу на серую поверхность. Она была очень горячей. Элинор пожалела, что не надела что-нибудь посерьезнее тапочек. Но подошвы не загорелись, и корка лавы не проломилась под ее весом. – Я попытаюсь перейти, – сказала она, поднимаясь на гребень остывающей лавы. Пол Кукали издал протестующий возглас, но последовал за ней. Элинор шла медленно и очень осторожно, как будто переходила бурный поток по скользким камням. Вокруг нее дышали жаром трещины, в которых клокотала свежая лава. Из трещин вырывались сернистые газы, смешиваясь с дымом и паром, которые совсем заслонили солнце. Она чувствовала, как подошвы тапочек становятся мягче, и шла как можно быстрее, стараясь не думать о том, что случится, если корка вдруг проломится под ней. – Там внизу, – сказал Пол Кукали на середине, – лава течет, как настоящая река. В этом месте корка тоньше всего. – Спасибо, – сердито сказала Элинор и закашлялась. – Я как раз пыталась не думать об этом. Она сделала еще шаг. Справа от нее лава с шипением и бульканьем, напоминавшим радиопомехи, включенные на полную громкость, изливалась в Тихий океан. Один раз поверхность все же треснула, и Элинор пришлось буквально запрыгнуть на более высокую глыбу лавы, чтобы спастись от жара и жидкого огня, хлынувшего из трещины. Еще несколько минут она стояла, не в силах унять дрожь. Ей всегда казались удивительными приключения тети Киддер – с тех пор, как она прочитала дневник, – но только теперь она могла оценить мужество женщины, которая прошла по дну кратера во время извержения. Она подумала, что, может быть, тяга к опасности передается в их семье из поколения в поколение. Еще шаг… и еще. Найти выход оказалось нелегко, но наконец она спрыгнула с лавовой террасы на дымящуюся траву. Элинор отошла подальше от жара и встала на твердый камень, чувствуя дрожь в ногах. Одновременно ей казалось, что она вот-вот взлетит – обычное следствие выброса в кровь адреналина. К ней подошел Пол, все лицо у него было в саже, так же как – она поняла – и у нее. – Нам придется так же возвращаться, – сказал он. – Хорошо еще, если лава за время нашего отсутствия не зальет джип. Элинор сделала глубокий вдох. Ей в самом деле надо было поставить машину подальше от лавы. Она еще не так опытна в общении с вулканом. Но она научится, обязательно научится. Они пошли по еле заметной тропинке, продолжающейся и по эту сторону лавы. Кахуны встретили их на пороге своего старого трейлера. Оба были гавайцами лет семидесяти – по крайней мере так казалось, – в джинсах, выцветших рубашках и ковбойских сапогах. Схожесть их лиц и манер заставила Элинор подумать, что они близнецы. – Алоха, – сказал тот из них, что курил сигарету – неправдоподобное зрелище среди густых клубов дыма, затягивающего небо, океан и все вокруг. – Мы вас ждем. – Он выплюнул сигарету и растер ее ногой. – Уйдем с плохого воздуха. Трейлер внутри пропах жиром и старыми тряпками. Все четверо кое-как втиснулись за обеденный стол – Элинор с Полом с одной стороны, кахуны – с другой. В другом конце трейлера на продавленной кушетке сидела старуха с длинными седыми волосами. Элинор кивнула ей, мужчины же, включая Пола, не обратили на нее никакого внимания. – Элинор, это мои дядюшки Леонард и Леопольд Камакави. Капуна, это доктор Элинор Перри. Она хочет с вами поговорить. Леопольд – тот, что курил, – положил руки на стол в древнем жесте приветствия и улыбнулся. Несколько зубов у него отсутствовали, но остальные были очень белыми. – Доктор. – Он удовлетворенно кивнул. – Хорошо, что вы приехали. У меня как раз разболелось плечо. – Я не тот… – начала Элинор и тут поняла, что старик шутит. Она ответила ему улыбкой. – Вы можете снять рубашку. Здесь так жарко. Он замахал руками: – Нет-нет! Я никогда не снимаю рубашку перед красивой вахине… пока не выпью пару рюмок– Тут же он достал с полки бутылку и четыре пыльных бокала. Леонард Камакави не улыбался. – Пол, – спросил он, – это твоя новая ипо? Ты вела какао? – Нет, капуна. Доктор Перри просто гость. Элинор он объяснил: – «Капуна» значит «дед», но может означать еще и «мудрый». Иногда употребляется из лести. Леопольд хихикнул. – Вольем-ка немного мудрости. – Он разлил по бокалам темную жидкость. Они чокнулись и выпили. Жидкость, пахнущая керосином, огненной струей устремилась в желудок Элинор. – Что это? – спросила она, хватая ртом воздух. – Околехау, – любезно пояснил дядя Леопольд. – Это значит «железное дно». Делается из корня дерева ти. Варят его в железном котелке, отсюда и «хау» в названии. – Что ж, оно едва не перевернуло меня кверху «околе», – сказала Элинор, отпивая еще глоток. Тут засмеялся даже хмурый Леонард. Когда смех утих, дядя Леопольд спросил: – Так что вам нужно, Элинор Перри? Элинор решила сразу открыть карты: – Пол сказал мне, что вы кахуны. Старики молчали, к чему Элинор была готова. В этом случае она намеревалась спросить, кто они – «кахуна-анаана» или «кахуна-лапаау». Первый был чародеем, владеющим черной магией, а второй – жрецом, исцеляющим телесные и душевные недуги. Не успела она задать вопрос, как дядя Леопольд спросил: – Вы что, хотите, чтобы мы вымолили кому-то смерть? – Нет, но откуда вы… Дядя Леонард повелительным жестом остановил ее: – Есть кахуны, сочетающие оба дара. Элинор медленно кивнула: – Или близнецы, разделяющие их? Старики опять промолчали. – Это не мое дело… – Вот именно. – Леопольд Камакави отпил еще глоток околехау. – Это не мое дело, но мне кажется, вы попытались вымолить смерть курорту Мауна-Пеле. Мне кажется, вы открыли Милу и выпустили заключенных там демонов – Пауна-эву, Нанауэ, Ку и других. Мне кажется, что из-за вас гибнут люди и вы должны это остановить. Элинор замолчала, чувствуя, как у нее бьется сердце. Она вдруг поняла, что находится вдали от цивилизации, в окружении трех мужчин, причастных к колдовству, среди потоков разъяренной лавы. Она уже думала об этом, когда оставила на столе записку для Корди. В наступившей тишине ясно слышались треск и шипение лавы, стекавшей в океан в четверти мили от них. В закопченное окошко Элинор видела только вьющийся дым. Казалось, они вместе с трейлером летят среди облаков. Да они и могли улететь – куда-нибудь на вулкан, где кахуны принесли бы ее в жертву. «Успокойся, – сказала она себе. – Возьми себя в руки». Наконец Леонард сказал: – Мы не хотели гибели людей. Можете в это поверить. Леопольд пожал плечами и отпил еще глоток «железного дна». – По правде говоря, мы и не думали, что старые заклинания сработают. Пол тронул ее за руку: – Это не только дядя Леонард и дядя Леопольд. Кахуны со всех островов одновременно прочли древние заклинания. Это я виноват. Я сказал им, что нет другого средства, после того как суд отказался признать наши права. Леонард покачал головой: – Я говорил, что этого нельзя делать. Моко должны оставаться под землей. – Он отпил большой глоток. «Леонард – „кахуна-лапаау“, целитель, – поняла она в шоке. – Темными силами повелевает улыбчивый Леопольд». Словно прочитав ее мысли, Леопольд улыбнулся. – Можете вы остановить это? – спросила она. Оба старика покачали головами. – Все кахуны уже пытались, – сказал Леонард. – Заклинания открыли Милу, но не смогли его закрыть, не смогли вернуть демонов под землю. – А Пеле… Леопольд безнадежно махнул рукой: – Пеле сердита на нас– Он указал на дым за окном. – И она нас не слышит. – Уже несколько поколений, – добавил Леонард. – Мы лишились древних способов связи с ней. Элинор наклонилась ближе: – А кахуны Пеле? Тайный орден жриц, которые раньше общались с Пеле? – Откуда ты знаешь об этом, хаоле? – спросил Леопольд. – Она читала. В голосе Пола Кукали сквозил еле заметный оттенок иронии. Элинор оглянулась на куратора и опять повернулась к близнецам: – Разве я не права? – Нет, – сказал дядя Леонард. – Сто лет назад у нас были кахуны Пеле. Но теперь они все умерли и никому не передали своих секретов. Никого не осталось. – Никого? – переспросила Элинор, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Весь ее тщательно продуманный план шел насмарку. Она оглянулась на женщину на кушетке, но ее взгляд оставался неподвижным. Элинор подумала, что она, должно быть, слепа. – Никого, кроме Молли Кевалу, – сказал Пол. Дядя Леопольд фыркнул: – Молли Кевалу – пупуле. Сумасшедшая. – И она ни с кем не говорит, – добавил дядя Леонард. Леопольд опять безнадежно махнул рукой: – Она живет на вулкане, далеко от дорог. Чтобы добраться до нее, нужен не один день. Может быть, ее уже поглотила лава. – Но как она живет там? – спросила Элинор. – На вулкане ничего не растет. – Ее кормят женщины. – Леопольд опять фыркнул. – Они верят, что она обладает маной, и носят ей еду вот уже пятьдесят лет или больше. Но она всего лишь сумасшедшая, пупуле. Элинор вопросительно взглянула на Пола, но тот покачал головой: – Молли Кевалу считает, что говорит с Пеле, но это же считает половина женщин, которые лежат в больнице Хило со старческим слабоумием. – Но… Пол остановил ее тем же повелительным жестом, что и его дядя: – Элинор, вы слышали, что нельзя брать с вулкана ни одного камня, чтобы не разгневать Пеле? – Конечно. Об этом знают все туристы. Богиня не любит, когда крадут ее лаву. – Поэтому каждый год национальный парк завозит тонны камней – в основном из Японии. Четыре раза в год эти камни привозят на грузовиках к вулкану и оставляют там с подношением… обычно это бутылка джина. – Ну и что? – А то, что нет такого поверья и нет табу. – Капу, – поправил дядя Леопольд. – Я проследил происхождение этого суеверия в одной из своих статей, – продолжал Пол Кукали. – «Древнее табу» было придумано в пятидесятых годах водителем автобуса, которому надоело выгребать из салона пыль и лавовую крошку. Элинор рассмеялась, чувствуя, как у нее в желудке переливается «железное дно». – Это правда? – Сущая правда, – сказал Пол. Она так же сокрушенно махнула рукой. – А при чем тут Молли Кевалу? – Тоже легенда, ни на чем не основанная. В принципе, любая старуха на Гавайях может решить, что общается с Пеле. Никаких подтверждений этому нет. – Где она живет? – спросила Элинор. – В Кау. В пещере на лавовом поле, далеко от дорог. Эту местность раньше называли Кахау-комо, потому что там растут только два дерева хау. – «Хау»? Это железное дерево? Леонард продолжал: – Пещера Молли Кевалу находится рядом с большим камнем, который древние называли Хопоэ. Он стоит на таком маленьком основании, что даже ветер может качать его. Потому его и назвали Хопоэ – в честь знаменитого танцора из Пуны, который учил танцам Хииаку, младшую сестру Пеле. – Он помолчал, потом закончил: – Камень рухнул, когда Пеле разгневалась на людей в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году. Элинор взяла стариков за руки, и они удивленно взглянули на нее из-за своих бокалов. – Вы освободили этих демонов. Неужели нет силы, способной опять отправить их в подземное царство? Безнадежный взгляд обоих был достаточно красноречивым ответом. Старуха по-прежнему молчала. Пол поглядел на часы. – Пора возвращаться. – Он одним глотком опорожнил свой бокал. – Может, лава уже добралась до джипа. Элинор пожала плечами: – Он все равно прокатный. Выходя, она кивнула молчаливой старухе, удивленная, что ни Пол, ни другие как бы не замечают ее присутствия. Пейзаж снаружи был таким же сюрреалистическим. Дым теперь струился быстрее, гонимый ветром с юга. От океана ясно слышалось шипение выкипающей при столкновении с лавой воды. – Капуна, – сказал Пол, – лава движется быстро. Уже эвакуированы все селения отсюда до Мауна-Пеле. Может, вы поедете с нами? Леонард Камакави покачал головой, Леопольд Камакави рассмеялся, и оба вернулись в свой трейлер. На обратном пути лавовый поток показался им еще более зыбким и опасным. Элинор засомневалась, удастся ли его пересечь, но все случилось быстрее, чем она дала своим страхам волю. Дерево возле джипа уже горело, но сама машина была невредима. – Нам нужно поговорить, – сказал Пол, когда они достигли шоссе № 11 и повернули на север. Полуденный свет отпечатал их тень на черной лавовой гряде справа от них. Дым здесь был еще гуще, а запах серы – сильнее. – Хорошо, – сказала она. – Марк Твен никогда не писал о том, как Идущие в Ночь построили хеиау на том месте, где сейчас находится Мауна-Пеле. Мы… кахуны знают об этом из преданий. Вы узнали откуда-то еще. Элинор попыталась сменить тему: – Вы полноправный кахуна, Пол? Куратор печально улыбнулся. «Совсем как дядя Леонард», – подумала Элинор. – Я никогда не стану настоящим кахуной. Мое западное образование лишило меня необходимой для этого веры. Мои глаза хаоле затуманены рационализмом. – Но вы верите в то, что ваши дяди и другие сделали с Мауна-Пеле? Пол в упор посмотрел на нее: – Я видел пса… Ку… с рукой его жертвы. Я видел и другие вещи. Элинор не стала спрашивать о других вещах. Вместо этого она спросила: – Так как насчет вертолетной экскурсии? Он просиял: – Вы еще хотите? – Конечно. – Мой друг приземлится в Мауна-Пеле через несколько часов… перед закатом. Если, конечно, к тому времени курорт не эвакуируют или его не зальет лавой. Еще просьбы будут? – Скажите, кто та старушка? – спросила она, когда они подъехали к воротам Мауна-Пеле. Дыма здесь почти не было; с юга дул теплый сладковатый ветерок. – Какая старушка? Вы имеете в виду Молли Кевалу? Сторож узнал их и приветственно махнул рукой. Они поехали дальше через черные поля аха. До берега было не больше двух миль, но и он, и курорт тонули в дыму. – Нет, – сказала она. – Та старушка в трейлере. Пол странно посмотрел на нее: – Какая старушка? Там больше никого не было.
– Мы их раздели, – сказал Байрон Трамбо. – И что дальше? Уилл Брайент поморщился от такой вульгарности. – Мистер Сато беспокоится о Санни. – Черт, – сказал Трамбо. При всем идиотизме ситуации переговоры шли по плану. В три часа, после ленча на открытом ланаи седьмого этажа, сопровождаемого хулой в исполнении пяти профессиональных танцовщиц, выписанных с Оаху, стороны перешли к торгам. В 16.15 они сошлись на сумме 312 миллионов и начали готовить соглашение. Сато привез с собой целый взвод юристов; у Трамбо их было восемь, но он никого не привез, свалив все на верного Брайента. У него был диплом юриста, как и у Бобби Танаки, и эти двое целый час обсуждали условия сделки. В 17.30 готовые документы лежали на столе красного дерева в президентских апартаментах. Но Хироси Сато беспокоился о Санни Такахаси. – Черт, – сказал Трамбо уже в двадцатый раз за час– Фредриксон так ничего и не нашел? – Ничего. – Уилл Брайент продолжал перечитывать документ, превращавший курорт Мауна-Пеле в японский гольф-клуб. Связанные в хвост волосы и очки-«черепашки» делали его похожим на прилежного студента. Из образа выбивался только костюм от Донны Каран стоимостью три тысячи долларов. – А что с Бриггсом? – Неизвестно. – А с Диллоном? – Пока неизвестно. – Ты говорил с Бики об отъезде? – Нет. Она купается. – А Майя? – Все еще хочет остаться. – Кэтлин? – Она и мистер Кестлер звонили в Нью-Йорк. Похоже, они еще надеются вынудить вас согласиться на их условия. Два раза она пыталась пробиться к Сато, но охрана ее не пустила. Трамбо лег на диван, задрав ноги в тапочках на пуфик. – Боже, как я устал! Уилл Брайент кивнул, продолжая перелистывать страницы контракта. – Вы уверены в том, что платежи Сато должны проходить через нашу компанию «Майами энтертэйнмент»? – Да. Так будет легче избавиться от налогов. На компании куча долгов, под шумок мы ее ликвидируем и вместе с ней загоним два казино. Это даст достаточно денег, чтобы войти в синдикат спутниковой связи и профинансировать сделку с Эллисоном. Брайент кивнул: – Это должно сработать. – Это сработает. – Трамбо сел. – Как думаешь, Хироси не купится на историю, что Санни всю ночь развлекался с девочками, а сейчас где-нибудь отмокает? Брайент положил контракт на кофейный столик. – Санни любит развлекаться. Но после этого всегда приходит на работу вовремя. Боюсь, мистер Сато вам не поверит. – Бобби прослушивал разговоры? В номерах японцев были установлены подслушивающие устройства. Все разговоры записывались на магнитофон, а потом их прослушивал Бобби Танака, знающий язык. – Он говорит, что мистер Мацукава против сделки. – Старый пердун! Лучше бы эта штука сцапала его, а не Санни. – Зато Инадзу Оно «за». А он ближайший друг и советник мистера Сато. Трамбо закрыл глаза. – За четыре миллиона этот ублюдок Оно мог бы уговаривать и получше. Наверное, Сато обещал ему порядочный кусок курорта, если он будет торговаться до последнего. – Наверное. Во всяком случае, все в порядке, кроме подписи. – Подписать нужно сегодня. Проклятый вулкан дымит все сильнее. Не думаю, что нам удастся удержать дела под контролем еще хотя бы день. Сколько туристов осталось? – М-м-м… – Уилл заглянул в блокнот. – Одиннадцать. – Одиннадцать, – упрямо повторил Трамбо. – Одиннадцать человек на пятьсот номеров. – Мистер Картер предупредил их… – Картер? Этот тип еще здесь? – Да, но… вы же его еще не уволили. – Просто я вспомнил… где этот жирный гаваец? – Джимми Кахекили? – Точно. Он еще здесь? – Он в столовой, ест пирожные. Топор все еще с ним. За ним следит Майклс. – Отлично. Он может понадобиться, когда кругом ходят такие типы, как Кэтлин, Майрон Кестлер и этот Картер. Трамбо с застывшей улыбкой потер виски. – Босс, у вас болит голова? Тут зазвонил радиотелефон. – Алло, Трамбо слушает! – Мистер Трамбо, – голос принадлежал Фредриксону, – мы нашли Санни Такахаси. Прием. Трамбо вскочил с дивана: – Он жив? – Да, сэр. Насколько я могу судить, даже не ранен. Прием. Байрон Трамбо ухватил своего помощника за плечи и исполнил с ним несколько замысловатых па. Уронив Брайента в кресло, он схватился за трубку: – Давай его скорее сюда. Получишь премию. В трубке протрещали помехи. – Лучше вам приехать, мистер Трамбо. Прием. Миллиардер нахмурился: – Где ты находишься? – На поле петроглифов. Знаете, там, где беговая дорожка уходит в скалы. Прием. – Черт, я знаю, где это! Зачем мне туда ехать? Санни с тобой? – Да, сэр. Он здесь и мистер Диллон тоже. Прием. Трамбо обменялся недоуменными взглядами с Уиллом Брайентом. – Диллон? Слушай, Фредриксон, давай скорее сюда Санни, а с тем можешь не… – Я думаю, вам нужно на это взглянуть, мистер Трамбо. – Голос охранника был странно гулким, словно он говорил через трубу. – Черт, давай сюда этого япошку или… Фредриксон! Фредриксон? Черт! Трамбо рванулся к двери, на ходу вытаскивая браунинг. Брайент поспешил за ним. – Нет! – Миллиардер сделал отрицательный жест. – Оставайся здесь и собери всех в конференц-зале. Я притащу Санни через десять минут. Пусть из него хоть мозги вышибли, главное, чтобы он присутствовал. Скажи Сато, что его дорогой мальчик нашелся, и все ждите нас. Он поехал на лифте вниз, а Брайент направился к номеру Сато. Трамбо быстрым шагом прошел через вестибюль в ресторан, потом в столовую. Джимми Кахекили сидел у стойки и поедал пирожные, придерживая другой рукой топор. Из угла за ним как ястреб следил Майклс. – Мистер Трамбо! – воскликнул Бри, шеф-повар, размахивая руками. – Эта гора жира сидит тут уже три часа! Как хорошо, что вы пришли! – Замолчи, Бри. – Трамбо подошел к стойке. – Слушай, мне надо прогуляться на поле петроглифов. Пошли, будешь меня охранять. – Да, сэр. Майклс вскочил, застегивая пиджак, из-под которого торчала рукоятка револьвера. – Да не ты. – Трамбо ткнул пальцем в пятисотфунтового гавайца. – Ты. Джимми Кахекили продолжал уписывать пирожные, не обращая никакого внимания на Трамбо. – Десять тысяч долларов! – крикнул миллиардер ему в ухо. Гигант оттолкнул блюдо, встал со стула, жалобно заскрипевшего под его тяжестью, и пошел к выходу. Кахекили не влезал в тележку, поэтому Трамбо решил идти пешком. Пока они шли на юг к бару Кораблекрушения, тень гавайца закрывала его, как зонтик. Они уже дошли до большого пруда, когда Трамбо остановился так резко, что Джимми Кахекили едва не налетел на него. Впереди их ждали Кэтлин Соммерсби Трамбо, Майя Ричардсон и Бики. Улыбающийся Майрон Кестлер расположился в сторонке под кокосовой пальмой. Все три женщины о чем-то оживленно болтали, но, увидев Трамбо, все они скрестили руки на груди и вопросительно воззрились на него. Солнце играло на отлакированных ногтях. – Мистер Трамбо, – новоанглийский акцент Кэтлин был так же безупречен. – Мы вас давно ждем.
Глава 18
На Пауна-эва приходит ночь, буря приходит с ней. Вырваны с корнем стволы дерев, брошены средь камней. Листья лехуа под ветром шумят, падают наземь цветы Бог Пауна-эва грозно рычит среди потоков воды. О Пауна-эва! Я шлю тебе зло! К битве готовься, время пришло. Гибель нахлынет, точно волна, Будет жестокой наша война!Заклинание от врагов Пеле
18 июня 1866 г., безымянная деревня на берегу Коны Возникшее из тумана существо избрало своей жертвой преподобного Хеймарка и набросилось на него столь стремительно, что даже мистер Клеменс не успел сдвинуться с места, – к тому же я видела, что его продолжают удерживать невидимые руки. Существо, бывшее прежде юношей Халеману, обволокло несчастного священнослужителя, словно пожирая его. Преподобный пытался кричать, но крик раздавался откуда-то издалека, как сквозь вату. Я не могла встать, прикованная к месту той же силой, что держала двух моих спутников. Из тумана донесся леденящий душу звук – надеюсь никогда больше не слышать ничего подобного. Похоже было, что огромный, невыразимо безобразный зверь грызет рядом с нами свою добычу. Наконец преподобный Хеймарк затих, и туманное создание – Пауна-эва? – начало сгущаться в темную фигуру. Чавкающие звуки сменились бульканьем, как будто зверь, торопясь, лакал воду. Потом все смолкло. Старик, сидевший напротив преподобного, запел что-то по-гавайски. Туманный зверь отстранился от тела нашего бедного спутника и переместился в угол. Силуэт его, все еще расплывчатый, напоминал теперь не человека, а гигантскую рептилию. Старики продолжали произносить заклинания, в которых все время повторялось имя Пауна-эвы. Рептилия раскачивалась в такт пению, переводя с мистера Клеменса на меня свои желтые глаза, в которых мне чудилась насмешка. Я посмотрела на корреспондента, но он был целиком поглощен созерцанием твари. Рот его был приоткрыт, глаза выпучены. Преподобный Хеймарк лежал без движения, и я поняла, что произошло самое худшее. Наконец старики прекратили пение и по одному стали выходить из хижины, пока в ней не остались только старая женщина в углу, мы с мистером Клеменсом, бесчувственное тело нашего спутника и чудовище, именуемое Пауна-эвой. – Ваши души принадлежат мне, хаоле, – заговорило оно по-английски. – Я вернусь за ними. С этими словами ящерообразная тварь начала зарываться в мягкий пол хижины и в мгновение ока исчезла с глаз. Освободившись от невидимых пут, я чуть не упала, но тут же выпрямилась и устремилась к преподобному. Мистер Клеменс уже был около него. Пока я пыталась нащупать пульс, он изучал дыру, оставленную в земле удивительной тварью. – Интересно, – проговорил он сквозь зубы. – Очень интересно. Я в шоке смотрела на него. – Он умер, – сказала я. – Пульса нет. Еще больше, чем отсутствие пульса, меня шокировала температура тела нашего спутника: его кожа была холодна как лед. Широко раскрытые глаза застыли, как голубые льдинки. Подошедший мистер Клеменс подтвердил мой диагноз. – Мертв как камень, – пробормотал он. – Он не мертв, – сказала вдруг сидящая в углу старуха. Она говорила по-английски медленно, но почти без акцента. Мы оба уставились на нее. Признаться, мы просто забыли о ее присутствии – настолько тихо она вела себя во время предыдущих ужасных событий. Потом мистер Клеменс пригладил усы и сказал: – Вынужден не согласиться с вами, леди. Наш друг холодный, как лягушка в замерзшем пруду. – Он не жив, – возразила старуха, – но он и не мертв. Мы с мистером Клеменсом поглядели друг на друга. – Кто вы? – спросила я у женщины. Она молчала. Старики снаружи снова принялись петь заклинания. – Зачем ваши друзья убили нашего друга? – спросила я. – Зачем они вызвали этого демона? – Эти каува кахуна, эти безумные чародеи – не друзья мне. Они так ничтожны, что не видят меня. Только вы можете меня видеть. Мы снова переглянулись. Слова женщины были абсурдны, но абсурдно было все, что случилось с нами за эти бесконечные день и ночь. – Они и нас хотят убить? – спросил мистер Клеменс. – Они сейчас молятся о вашей смерти, слышите? Но их молитвы бесплодны. Мистер Клеменс поглядел на бесчувственное тело священнослужителя: – Ну, демона они смогли вызвать. Старуха нахмурилась: – Вызвать демона – детская забава. Они как дети. Пауна-эва мог забрать душу только одного из вас, и они выбрали его, потому что он ваш кахуна. – Она плюнула на пол. – Эти болваны решили, что он самый сильный из вас. Я посмотрела на отверстие, в котором скрылась тварь: – А он… оно… вернется? – Нет, – ответила старуха. – Он боится. – Чего? – спросил мистер Клеменс. – Меня, – просто сказала старуха и поднялась. Не встала, а именно поднялась, оставшись сидеть, и повисла в трех футах над земляным полом. По выражению лица мистера Клеменса я узнала, как сама выгляжу в этот момент. – Послушайте меня, – сказала старуха. – Вы должны уйти отсюда. Оставьте здесь тело вашего друга… – Мы не можем… – начал мистер Клеменс. – ТИШЕ! – Казалось, голосу женщины вторил грохот вулкана. Мистер Клеменс замолчал, но старики снаружи все так же продолжали распевать заклинания. – Оставьте здесь тело вашего друга. С ним ничего не случится… хуже того, что уже случилось. Я сама буду следить за ним. Вы же должны спасти его душу. – Его душа… – начал мистер Клеменс и тут же осекся. – Чтобы сделать это, – продолжала женщина, – вы должны добраться до входа в Царство мертвых, который эти каува… эти безумцы открыли, не ведая, что творят. Теперь они не знают, как его закрыть. Пытаясь изгнать белых кахуна, они разбудили страшное зло. Вы подойдете к отверстию и спуститесь в него. – Голос женщины стал ритмичным, возвышаясь и затихая в такт заклинаниям за стенами хижины. – У входа вы должны сбросить с себя нелепые одежды хаоле… Я поглядела на свои юбку, блузку, перчатки. Что такого нелепого в этих одеждах? Я купила их в лучшем денверском магазине. – Когда вы сбросите эти тряпки, намажьтесь маслом из гнилых орехов кукуи. Тогда духи не учуют вас. Мистер Клеменс поднял брови, но благоразумно удержался от комментариев. – Потом вы спуститесь в Царство мертвых по веревке из лиан иее. Только вы не должны показывать духам и демонам, что вы живые, не такие, как они. – Она предостерегающе подняла палец. – Если это случится, они заберут ваши души и даже я не смогу вам помочь. Я закрыла глаза в тайной надежде, что все это окажется сном и я сейчас проснусь в Хило… или в «Доме у вулкана»… или где-нибудь еще. Но пение за стеной и голос старухи не умолкали. Я открыла глаза – наша таинственная собеседница по-прежнему парила в трех футах над землей. – Вы должны отыскать не только дух вашего друга, но и все души хаоле, похищенные с тех пор, как эти безумцы открыли вход две недели назад. Заберите их с собой. Если вход будет закрыт, ни одна душа хаоле не должна остаться в царстве Милу. Мы оба подняли головы, глядя в темные неподвижные глаза женщины. Только сейчас мы заметили, что и губы ее не двигаются, когда она произносит слова. – А если эти люди снаружи захотят нас остановить? – спросил мистер Клеменс. – Пристрелите их, – последовал ответ. Мистер Клеменс послушно кивнул. – И еще одно, – сказал он. – Как мы найдем это… этот вход? И где достать гнилые орехи кукуи и лианы иее? – ИДИТЕ! – повелела старуха, указывая на дверь. В ее голосе слышалась досада матери, которой надоели непослушные и непонятливые дети. Мы пошли, оглядываясь на неподвижное тело преподобного Хеймарка. Старуха вернулась на свое место в углу хижины. Старики снаружи уставились на нас, словно удивляясь, что мы еще живы. Когда мистер Клеменс начал отвязывать лошадей, они прекратили пение и двинулись в нашем направлении. Тут корреспондент достал револьвер и прицелился в обнаженную грудь идущего впереди. Услышав щелчок затвора, старик вскинул руки и поспешно отскочил. – Волшебство хаоле тоже иногда срабатывает, – заметил с улыбкой мистер Клеменс, садясь на свою лошадь. Мы поспешили покинуть предательскую деревню и поехали назад, петляя среди лавовых полей. Позади нас на востоке разгорался мутный от дыма рассвет. – Что будем делать? – спросила я, когда мы отъехали от деревни на безопасное расстояние. Мистер Клеменс сунул пистолет в карман. – Единственное разумное решение – ехать в Кону за помощью. Я оглянулась на черные скалы, за которыми скрылась деревня. – Но преподобный Хеймарк… – Вы и правда думаете, что нам удастся вернуть его к жизни? – Голос корреспондента был острым, как скалы, по которым стучали копыта наших коней. – Таких чудес я давно не видел. Я молчала. В горле у меня першило, и в этот момент я готова была расплакаться. – А-а, ладно, – махнул он рукой. – Незачем изображать благоразумие, когда кругом сплошное безумство. Поехали в Царство мертвых. – Но как мы его найдем? – спросила я, вытирая глаза. Мистер Клеменс, натянув вожжи, остановил лошадь. Я посмотрела вперед и увидела, что в десяти футах от нас висит над землей голубоватый сгусток света, похожий на болотный огонек. Казалось, он терпеливо ждал нас, как верный пес. Мистер Клеменс, чертыхнувшись, погнал коня в объезд, и огонек тут же весело отскочил, как играющий щенок. Оглянувшись на быстро светлеющее небо и прошептав что-то вроде молитвы, я пустила Лео вслед за ним.На страницу упала тень, и Корди Стампф, прищурясь, подняла голову. – Интересно? – спросила Элинор. Корди пожала обгоревшими плечами: – Ничего. Характеры интересные, а вот сюжет подкачал. Улыбнувшись, Элинор присела на соседний стул. Сильный юго-западный ветер унес большую часть дыма, и небо над пальмами было ярко-синим. Корди повернулась спиной к морю, чтобы свет солнца падал на страницы. – А серьезно? Что ты думаешь? Корди закрыла кожаную обложку дневника. – Если серьезно, то теперь я понимаю, почему ты здесь. Элинор поглядела на подругу. Ее круглое лицо порозовело от солнца, но губы были белыми. Это значило, что ее опять мучают боли. – Я знала, что ты поймешь. – Я уже прочла, а сейчас перечитываю отдельные места. Некоторые детали кажутся мне важными. Элинор кивнула. – Где ты была с утра? Гуляла с нашим куратором? – Можно сказать и так. – Элинор вкратце рассказала про свой визит к кахунам. – Когда мы вернулись, он кое-что мне рассказал. Это была не его идея – вызвать древних демонов, но когда дядюшки это предложили, он не смог отказаться. Он сам кахуна, только недавно посвященный. – Так ты рассказала ему, что его пращуры накололись так же, как он со своими дядюшками? – Нет, – сказала Элинор. – Но он знает, что мне известна информация, которая никогда не публиковалась… о Марке Твене и всех этих событиях. Корди хмыкнула. – А как у тебя? Все спокойно? – В общем, да. Немного поплавала на лодке. И она рассказала всю историю. Когда она закончила, Элинор открыла рот, потом закрыла и открыла снова: – Похоже, ты стреляла в Нанауэ. Человека-акулу. Корди улыбнулась: – Ну, человеческой части я не очень испугалась. Вот акулья – совсем другое дело. Твоя тетя мало писала про Нанауэ. Ты что-нибудь про него знаешь? Элинор на мгновение задумалась, прикусив губу. – Только то, что говорят легенды. – Не знаю, что там говорят легенды, но какой-то хрен с акульей пастью на спине едва не сжевал мою лодку, и я хочу знать, кто он такой. – Мне кажется, тебя это не очень волнует. – Напротив, амига. Меня всегда волнует, когда мной пытаются позавтракать. – Ты понимаешь, о чем я. Проблема в том, что это невероятно… все, что здесь происходит. Корди перестала улыбаться: – Ну, ты можешь сказать, что я до сих пор не выросла из моей маленькой мифологической вселенной. Может быть, я с детства готовилась к этому, только сама не знала. Сегодня кто-то пытался меня убить, и я хочу знать, кто это был. Элинор кивнула: – Тогда слушай. Давным-давно, когда здесь поселились первые люди, на Гавайях был бог по имени Камохоалии, Вождь акул. Как большинство гавайских богов, он мог являться в естественном облике – как акула – или в образе человека. Однажды он влюбился в женщину по имени Калеи. Он вышел из воды на северном берегу Большого острова, принял человеческий облик и женился на этой женщине. Они поселились в долине Вайпио, через которую мы проезжали, и у них родился сын, которогоназвали Нанауэ. У него был горб, и на нем родимое пятно в форме акульей пасти. Элинор замолчала. – Продолжай, Нелл. Ты очень хорошо рассказываешь. – Так вот, по легенде, Камохоалии вернулся в море, оставив жену… – Типичный мужчина, – прокомментировала Корди. – …но предупредил, чтобы она никому не показывала родимого пятна Нанауэ и не позволяла мальчику есть мясо животных. Калеи выполняла его наказ, пока Нанауэ не достиг совершеннолетия и не стал есть с мужчинами. Он ел очень много мяса, а когда плавал, превращался в акулу. Одни легенды говорят, что он целиком принимал облик акулы, другие – что он был наполовину акулой, наполовину человеком. – Правы вторые. Продолжай, Нелл. – Так вот, тайна Нанауэ была раскрыта. Он приобрел дурную привычку заманивать жителей долины в воду и там съедать. Когда его попытались убить, он спасся в море, но долго жить там не мог. Легенда говорит, что кахуны загнали его на остров Мауи, потом на Молокаи и там схватили его и отвезли назад на Большой остров. Дальше версии расходятся. Одна легенда гласит, что его разрубили на куски на холме Пуумано, другая – что его заточили в царство Милу вместе с другими демонами. Корди улыбнулась: – Ну, теперь ясно, какая из версий держится на воде… в буквальном смысле. Элинор откинулась на плетеном стуле. Небо на востоке посерело от пепла, но над Мауна-Пеле оно еще было синим. Элинор попыталась представить отдых на этом дивном курорте: теннис, купание без страха перед человеком-акулой, вечернее гулянье без боязни того неведомого, что подкрадывается в темноте. Она вздохнула. – Я хотела бы еще послушать эти легенды. – Корди протянула ей дневник. – Если уж мы работаем вместе, я должна знать то же, что и ты. – Да. Прости, что я так долго держала тебя в неведении. Только зря ты ввязываешься во все это. Корди Стампф рассмеялась: – Нелл, детка, я уже ввязалась. И не развяжусь, пока все не кончится. – Она оглянулась на солнце, которое медленно клонилось к закату. – А мне сдается, это будет сегодня ночью. Нам нужно выработать план. Кстати, нас собираются кормить обедом? Или Пауна-эва уже слопал шеф-повара? – Пол говорит, что почти все уехали. Но столовая еще работает, как и другие службы. Мистеру Трамбо очень важно поддержать видимость спокойствия, и он обещал щедрые премии тем, кто останется. – Хорошо. – Корди встала и взяла полотенце и сумку. – Я что-то проголодалась. Как ты смотришь на то, чтобы перекусить и пропустить по паре бокалов «Пламени Пеле»? Кстати, я хочу все знать и об этой даме. Элинор тоже встала и поглядела на часы: – Я собираюсь на вертолетную экскурсию… – Я знаю. До заката еще пара часов. Ты все успеешь. – Видя колебания Элинор, она добавила: – Эта ночь будет долгой, Нелл. Элинор кивнула: – Хорошо. Увидимся в ресторане через пятнадцать минут. И она пошла в свой хале переодеваться.
Трамбо остановился. Три женщины загородили ему дорогу. На Кэтлин были белые курортные шорты и блузка, в руке она сжимала такую же белую сумочку. В центре стояла Майя в гавайском цветастом парео поверх оранжевого купальника, в котором она в прошлом году красовалась на обложке «Спортс иллюстрейтед». Губы и ногти она выкрасила в ярко-алый цвет. Бики была в туфлях на платформе и в темном купальнике под цвет кожи. Казалось, на ней вовсе нет одежды, кроме золотых колец и браслетов, позвякивающих, когда она воинственно переминалась с ноги на ногу. – Привет, девочки, – сказал Байрон Трамбо. Целую минуту единственными звуками были шум прибоя и сопение Джимми Кахекили позади. Потом Кэтлин Соммерсби Трамбо сказала: – Ах ты, козел вонючий! – Дерьмовый ублюдок! Британский акцент Майи был, как всегда, безупречен. – Привет, Т! Бики изобразила ослепительную улыбку, размноженную десятками телепрограмм. – Привет, Бик. – Мы тут посовещались и решили. Решили отрезать тебе хер и яйца и взять по штуке на память. – Извините, девочки. Я спешу. Трамбо попытался обойти их слева, но они закрыли ему дорогу слаженно, как ковбои на линии огня. Майрон Кестлер отделился от дерева и сделал шаг. – Мистер Трамбо… Байрон, боюсь, что открывшиеся обстоятельства полностью меняют дело. В свете их законные требования моей клиентки, как мне кажется, требуют существенного пересмотра. Трамбо взял Кахекили за руку, которая была толще, чем его бедро. – Джимми, если этот ходячий геморрой скажет еще одно слово, убедительно прошу тебя разрубить его на такие маленькие кусочки, чтобы ими можно было кормить мышей. Понимаешь? Громада за спиной Трамбо издала одобрительный звук. Кестлер побледнел, оглянулся на женщин, словно призывая их в свидетели, но промолчал. – Слушайте, я с удовольствием поболтал бы с вами. Знаю, вам очень интересно познакомиться друг с другом и все такое. Но я правда спешу. – Он сделал шаг влево. Кэтлин достала из сумочки револьвер – больше, чем у Майи, – и нацелила его в живот супругу. – Что, у Бергдоффа была распродажа? – осведомился он, останавливаясь. Кэтлин сжимала оружие обеими руками. Две другие женщины смотрели на нее без выражения. – Убьешь меня – не получишь денег, детка. Тебя, может быть, сунут в ту же камеру, что и ту корову, что пристрелила своего диетолога. Кэтлин подняла пистолет так, что он оказался нацеленным в лицо Трамбо. – Повторяю, у меня нет времени на эту ерунду, – сказал он, глядя на часы. До обеда ему надо было еще встретиться с Сато. – Пошли, Джимми. Майя отступила. Кэтлин сделала то же, продолжая целиться. Бики смотрела так, как может смотреть только афроамериканка, оскорбленная в лучших чувствах. Майрон Кестлер молча стоял под пальмой, боясь пошевелиться. Только отойдя на десяток шагов от молчащих женщин, Трамбо вздохнул с облегчением. – Пошли скорее, Джимми. Мы должны привести Санни, прежде чем Хироси выйдет из себя. – Ты лоло смелый. Эти хаоле вахине устроить большой ху-ху. – Угу, – согласился Трамбо, выходя на беговую дорожку, уводящую к полям петроглифов. Фредриксон ждал их в конце дорожки. Он нервно сжимал пистолет, то и дело оглядываясь на темные лавовые поля. – Где он? – Трамбо увидел, что охранник в изумлении уставился на гиганта с топором. – Не обращай на него внимания. Где Санни? Фредриксон облизал губы: – И Диллон… Диллон тоже там. – Плевал я на Диллона! Мне нужен Санни Такахаси. Если ты вызвал меня, чтобы смотреть на этого… Миллиардер и Джимми Кахекили одновременно шагнули вперед. – Мистер Трамбо… сэр… вам надо взглянуть самому. Я никому больше не сказал, потому что это… это… – Он повернулся и побрел в лавовое поле. Отверстие в лаве ждало их меньше чем в сотне ярдов от дорожки. Похоже, это была прорвавшаяся на поверхность лавовая трубка. Фредриксон осторожно приблизился к краю, подняв револьвер. – И как эта дрянь связана с… – начал Трамбо и замолчал. Трубка уходила вглубь футов на пятнадцать, переходя в идущую горизонтально пещеру. Один ее край обвалился, но другой был невредим. В этом черном эллипсе стояли друг Сато Санни Такахаси, начальник службы безопасности Диллон и… кабан ростом с шотландского пони. Диллон и Санни были обнажены, и их тела мерцали зеленым светом, словно их раскрасили флуоресцентной краской. Глаза их были открыты, но неподвижны. У стоящего между ними кабана – он был выше плеча Диллона – глаза состояли из отдельных ячеек, горящих оранжевым блеском, напомнившим Трамбо купальник Майи. Кабан ухмыльнулся, показав большие, но вполне человеческие зубы. Трамбо повернулся и посмотрел на Фредриксона. Тот лишь беспомощно пожал плечами. – Он велел привести вас, сэр. – Он? Какого черта… – Да-да, я, – сказал кабан. Трамбо выхватил из-под рубашки браунинг. Кабан ухмыльнулся еще шире. Его многочисленные глаза влажно поблескивали, и Трамбо мог поклясться, что видит в них довольное выражение. – Не стоит, Байрон, – сказал кабан. – У нас слишком много общего, чтобы так начинать знакомство. – Голос был именно таким, какого можно было ожидать от тысячефунтового зверя. Байрон Трамбо почувствовал, как по спине у него стекает струйка пота. Он повернулся, ища помощи Джимми Кахекили, но гаваец исчез, бросив свой топор. – Т-с-с, – сказал кабан. – Иди сюда. Трамбо опять повернулся к пещере – ухмыляющийся кабан и двое безмолвных людей по-прежнему были там. – Диллон! – Бывший начальник службы безопасности не шевелился; глаза его оставались такими же стеклянными. – Да нет же, Байрон. Это я хочу с тобой поговорить. Трамбо облизал губы: – Ладно. Что тебе нужно? – А что нужно тебе, Байрон? – осведомился кабан. – Мне нужен Санни Такахаси. Диллона можешь оставить себе. Кабан рассмеялся. Звук напоминал стук пересыпающихся камней. – Все не так просто. Об этом я и хотел с тобой поговорить. – К черту разговоры! – Трамбо прицелился животному между глаз. – Если нажмешь на курок, – задушевно сказал кабан, – я поднимусь и отгрызу тебе яйца. – Попробуй, – сказал сквозь зубы Трамбо, продолжая целиться. Кабан опять усмехнулся. – Тебе нужен вот этот? – Он кивнул в сторону загипнотизированного японца. Трамбо кивнул. – Что ж, бери его. – Кабан мигнул своими восемью глазами, и Диллон с Такахаси отступили в глубь пещеры, двигаясь, как сомнамбулы. – Только сначала тебе придется спуститься и поговорить со мной. – Он легко, почти грациозно повернулся и исчез в темноте, откуда донесся его голос: – Только поторопись – через пару часов начнется самое интересное. Копыта зверя простучали по базальту, и наступила тишина. Трамбо опустил пистолет. – Твою мать, – сказал Фредриксон и тяжело сел на лаву. Лицо у него было пепельного цвета. – Только в обморок не падай, идиот! – рявкнул Трамбо. – Я подумал сперва, что это бред… но я даже наркотиков не употреблял. Этот… это существо велело мне связаться с вами… – Ладно, – прервал его Трамбо, засовывая пистолет за пояс– Кто-нибудь еще знает? Фредриксон мотнул головой: – Он сказал, что, если я кому-нибудь скажу… он пустит мои кишки на подвязки. Да, так и сказал… на подвязки. Трамбо на миг представил этот образ. – Ладно, – буркнул он снова. Фредриксон поднял голову. Его лицо потихоньку приобретало нормальный цвет. – Сэр, вы ведь не пойдете туда? Трамбо посмотрел на него. – Не ходите. Я думаю, если взять всех наших… и людей Сато… и дать им «узи» и гранаты и… – Заткнись, – бросил Трамбо, глядя на часы. – Черт, опоздал на встречу с Хироси. Оставайся здесь и карауль выход, пока я… Охранник вскочил на ноги: – Черт меня возьми, если я останусь в этом чертовом месте, где какой-то чертов кусок бекона… – Ты останешься здесь, – повторил Трамбо, отчетливо выговаривая слова. – Получишь десять тысяч. Десять тысяч долларов. Если из этой дырки кто-нибудь вылезет, можешь бежать, но дай мне знать по радио. Понял? Если ты этого не сделаешь, Фредриксон, я найду тебя где угодно… тебя и всех твоих родичей до пятого колена. Ты меня понял? Охранник глядел на него стеклянным взглядом, до удивления напоминающим взгляд Санни и Диллона. – Вот и хорошо. Я пошлю к тебе кого-нибудь с едой. Он потрепал застывшего охранника по плечу и быстро пошел по тропинке по направлению к Мауна-Пеле. Ветер опять подул с юга, неся с собой влажную, липкую жару. Трамбо вспомнил, что этот ветер называется «кона» и что он дал название целому участку побережья. Дым от подступающих потоков лавы уже заволакивал местность туманной дымкой. В наступившем сумраке тоскливо шелестели пальмовые деревья и свистел ветер, пробираясь сквозь поля аха. Трамбо в последний раз взглянул на часы и поспешил к темнеющему вдали пальмовому оазису.
– С чего начать? – спросила Элинор, когда они прикончили по второму «Пламени Пеле». Они сидели на террасе Китового ланаи, глядя на закат, окрашенный пеплом. – С Пеле. – Корди подняла бокал в молчаливом тосте. – М-м-м… ну, Пеле – богиня с обычным для функциональных божеств набором атрибутов и… – Нет, Нелл. Говори человеческим языком. Оставь эту ученую муть для своего колледжа. Элинор отпила еще глоток, откашлялась и начала снова: – Пеле – не самая древняя из богов, но она происходит из хорошей семьи. Ее отцом был Моэ-моэа-алии, или «Вождь, предвидящий беды», но он рано исчез и не упоминается в дальнейших мифах о Пеле… – Типичный мужчина, – пробормотала Корди. – Продолжай. – Вот… матерью Пеле была Хаумеа, известная также как Хина, или Лаилаи, которая была верховным женским божеством плодородия, матерью младших богов и всех людей и женским соответствием мужского творческого начала… – Ага! – Корди торжествующе подняла палец. – Ты выпила уже два… – нахмурилась Элинор. Корди наклонилась и тронула ее руку. – Будь уверена, Нелл, уж с «Пламенем Пеле» я справлюсь. – Так вот, Пеле черпает силу из плодоносящих недр Матери-Земли, которую гавайцы называют Папа. – Мама, папа… не поймешь… ох, извини, Нелл! Я больше не буду. – Древние верили, что Вселенная основана на единстве противоположностей. Мужской свет проникает в женскую тьму и рождает мир, состоящий из тьмы и света. Корди кивнула, но ничего не сказала. – Пеле пришла на острова поздно, – продолжала Элинор своим «сказочным» голосом. – Ее каноэ вел Камохоалии… – Это тот бог-акула? Папаша урода, который сегодня пытался меня сожрать? Извини, Нелл, молчу. – Да. Камохоалии был братом Пеле. На Бора-Бора, откуда они оба родом, его также называли Вождем драконов. Так или иначе, он привел каноэ Пеле к Гавайям. Сперва она высадилась на Ниихау, потом перебралась на Кауаи. У нее была волшебная палка под названием Паоа, и ею она выкопала в земле ямы с огнем, где могла бы жить, – она ведь была богиней огня. Но море везде заливало огонь, и в конце концов она дошла до Большого острова и обосновалась на Килауэа. Тут воздух прорезал пронзительный крик. Поглядев вниз с террасы, обе женщины увидели, что это всего-навсего две яркие тропические птицы не поделили ветку. – Перед тем как поселиться здесь, Пеле пришлось выдержать на Мауи битву со своей старшей сестрой Намака-о-кахаи, богиней моря… – У меня не было старшей сестры. Одни братья, но тоже редкие мерзавцы, кроме одного, который умер маленьким. Извини, Нелл. Продолжай. – Они сражались, пока Пеле не была убита. – Убита? – У богов есть и смертные тела. Пеле потеряла свое, и это сделало ее еще могущественнее как богиню. Поскольку она умерла здесь, на Гавайях, ее дух получил свободу не только на вулканах Мауна-Лоа и Килауэа, но и на всем острове. – А я думала, что она может появляться в человеческом облике, – сказала Корди, когда им принесли третью порцию «Пламени». – Может. Но смертного тела у нее нет. – Не понимаю. Ну да ладно. Продолжай. – Это сложно, – согласилась Элинор. – Например, Пеле – богиня огня, но она не может зажечь огонь… это мужская прерогатива. Она может управлять огнем, и это ее главная функция. У нее есть несколько братьев, которые управляют громом, лавовыми потоками и так называемым огненным дождем – шумными, но менее важными аспектами огня. – Типично, – опять пробормотала Корди. – Сама Пеле контролирует громадную силу вулканов. Обычно она не участвует в делах людей, но несколько раз помогала вождям, в которых влюблялась… – Камехамеха? – Да. – Элинор отодвинула третий бокал. – Лучше прекратить. Не хочу, чтобы Пол и его друг-пилот решили, что я пьяна. Корди пожала плечами: – А мне плевать, кто что думает. – Подошел официант и спросил, желают они есть на террасе или внутри. – Что скажешь, Нелл? Лично мне больше хочется остаться здесь. – Согласна, – сказала Элинор. Они сделали заказ. Элинор выбрала пирожок ахи с яичным белком, помидоры с козьим сыром из Пуны и лук с Мауи. Корди предпочла запеканку из лобстера с горчичным винегретом. В качестве главного блюда обе заказали мясо ягненка с молодым картофелем и тимьяном. Еду принесли быстро, и она оказалась восхитительной на вкус. В середине обеда у их столика появился Пол Кукали – только чтобы сказать Элинор, что вертолет прилетит через полчаса. Казалось, куратор чем-то расстроен. – Вернемся к Пеле, – сказала Корди, когда ягненок исчез. – Проблема в том, не она ли устроила всю эту заварушку. Или она на нашей стороне. – Ты знаешь, что я думаю. – Да, я прочла дневник. Элинор подняла руку и заметила, что она слегка дрожит. – Я думаю, что здесь действуют силы, враждебные Пеле. Глаза Корди блеснули: – Да, но какие именно? – Не знаю. У Пеле множество врагов. Кроме богини моря Намака-о-кахаи это Плиаху, богиня снежных вершин, живущая на Мауна-Кеа. Когда-то они влюбились в одного мужчину. Корди хмыкнула. Им принесли десерт – сырные пирожки лиикои, лимонное мороженое с орехами для Корди и кофе, который заказала Элинор. – Мы знаем, что в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году и сейчас против Пеле выступает Пауна-эва, но он недостаточно силен, чтобы самому решиться на такое восстание. – Кто еще? – спросила Корди, облизывая ложку. – Большинство младших богов. И даже старшие боги вроде Лоно и Ку, которые завидуют почестям, достающимся Пеле. – Мужское свойство, – вздохнула Корди. – Что? – Ничего. – Она попробовала мороженое. – О, здорово! Хочешь попробовать? – Нет. – Элинор отпила крепкий кофе, чувствуя, как проходит опьянение. – На чем я остановилась? – На зависти. – Да… мы видели Ку в образе черного пса. – А этот… как его… Лоно? В каком образе появляется он? – Не знаю. Он может принимать облик человека, но редко появляется в нем. Это самый могущественный из старших богов, и именно ему приносилось большинство человеческих жертв на островах. Но у него нет особых причин враждовать с Пеле. – Значит, ее главные враги – Ку и Пауна-эва с его дружками – демонами? Элинор посмотрела на часы. Скоро ей предстояло лететь с Полом на вертолете, и она вдруг обнаружила, что немного боится этого. – Или кто-то еще. Недалеко отсюда у Пеле была битва с ее младшей сестрой Хииакой – опять из-за мужчины. – Я молчу, – сказала Корди. – Хииака была знаменитой танцовщицей. Она любила Пеле и устояла перед ухаживаниями любовника сестры, человека по имени Лохиау. Но Пеле подумала, что между ними что-то было, и напала на сестру на этом берегу. Обе женщины посмотрели на берег, освещенный лучами заходящего солнца. Вдоль линии прибоя тянулся туман, окрашенный солнцем в красно-оранжевый цвет. Волны приобрели оттенок крови. – И кто победил? – спросила Корди. – Что? Трудно сказать. Случайно Пеле убила Лохиау. Корди кивнула: – Ага, семейная ссора в Чикаго. – Но у этой истории счастливый конец. Один из братьев Пеле встретил душу Лохиау над океаном и вернул ее назад в тело. – Как в дневнике тети Киддер? – Да. Хииака и Лохиау вместе отправились на Кауаи, и не исключено, что у нее осталась обида на старшую сестру. Она тоже довольно могущественна… Корди шумно вздохнула и откинулась в кресле. – Знаешь, Нелл, не думаю, что Пол и его кахуны позвали на помощь богиню-женщину. Скорее уж они должны были прибегнуть к помощи какого-нибудь кабана-мужчины… Элинор широко улыбнулась. – Ты чего? – Бог-кабан. Камапуа. Он тоже враг Пеле… и ее бывший любовник. Корди наклонилась ближе. Последние лучи солнца обагрили ее лицо. – Ну-ка расскажи. – Кабан – самое большое сухопутное животное, которое знали полинезийцы. Воплощение мужской силы. Камапуа принимает облик кабана или красивого мужчины. Он – могущественный бог, хотя редко покидает дождливую подветренную сторону острова. Он ассоциируется с дождем и темнотой. Похоть часто впутывала его в истории. Однажды он пытался изнасиловать Капо, сестру Пеле, но она спаслась от него, вырвав у себя вагину и отбросив прочь… извини за такую подробность. – Ничего, Нелл… я просто подумала, что это интересная мысль. – За столетия Камапуа не один раз насиловал Пеле. На южном берегу острова есть место под названием Калуа-о-Пеле, где вся земля изрыта, и легенды говорят, что именно там Камапуа впервые одолел Пеле и… овладел ею. – То есть трахнул? Элинор кивнула: – Я видела фотографии этого места. Похоже на смятые простыни. – Жаль, что у Пеле не хватило сил справиться с этим ублюдком, – сказала Корди задумчиво, когда официант унес последние тарелки. – Она пыталась. Это была страшная битва – огонь Пеле против потоков дождя Камапуа. Он послал тысячи свиней, которые съели всю растительность, чтобы Пеле было нечего жечь. Пеле превратила в пар его дождь и залила лавой его земли, но он все же стал одолевать. Она была готова скорее умереть, чем подчиниться Камапуа, но братья заставили ее это сделать, чтобы спасти сестру от смерти. Они боялись, что с ее смертью погаснут все огни на Земле. – Типично, – опять прокомментировала Корди. – Камапуа может стоять за всем этим, но должно было произойти что-то сверхъестественное, чтобы он покинул влажную часть острова. – Черт побери! – Корди смотрела куда-то за плечо Элинор. Обе женщины встали и подошли к перилам. В последних отраженных лучах солнца повисли тысячи мерцающих красных нитей. Они лежали на траве, на песке, покрывали воду, как распущенные женские волосы. – Что это? – прошептала Корди. – Волосы Пеле, – ответил голос сзади. Повернувшись, они увидели Пола Кукали, лицо которого все еще было обеспокоенным. – Это стекловидные образования, вылетающие из кратера при сильных извержениях. Они редко залетают так далеко. – Он поглядел на запад, где разгоралось багровое зарево. Казалось, в этот вечер на острове было два заката. – Извержение становится сильнее. Они сошли с террасы, и Элинор, наклонившись, коснулась остывшей стеклянной нити. – Значит, мы не сможем лететь? – Почему? Вертолет здесь, можно отправляться. Только быстрее, пока пепла не стало больше. Элинор оглянулась на Корди: – Ты уверена, что… – Уверена. Я мало чего боюсь, Нелл, но при мысли о полете у меня внутри все переворачивается. Жалко будет потерять такой вкусный обед, правда? Они сели на тележку для гольфа, которую привел Пол, и поехали вокруг Большого хале, мимо теннисного корта и северного поля для гольфа, к вертолетной стоянке, вырубленной в поле аха. Здесь небо было светлее, но пепельное облако так же висело в нескольких тысячах футов над землей. Вертолет стоял в центре асфальтового круга, и его лопасти медленно вращались. Он был значительно меньше, чем представляла Элинор – кабинка лифта с хвостом и винтом. За багровым от заката плексигласом кабины вырисовывались смутные очертания пилота. Повернувшись, Элинор взяла Корди за руку: – Увидимся через пару часов. – Будь осторожна, Нелл. Если найдешь того, кого ищешь… как я думаю… передай от меня привет. Элинор улыбнулась и пошла в кабину. Отступив, Корди смотрела, как они с Полом сели в кабину. Затарахтел мотор, лопасти завертелись быстрее, и маленькая машина взвилась в воздух, как стрекоза. Она сделала круг над курортом и удалилась в сторону моря. – Удачи тебе, Нелл, – прошептала Корди и пошла назад к темному оазису Мауна-Пеле.
Глава 19
Прекрасны подземные боги в обличье грозном. В Вавау боги ночные сияют, как звезды. Прекрасны темные боги и яснолики. Теснятся боги у трона Пеле великой.Молитва Пеле
18 июня 1866 г., безымянная деревня на берегу Коны Солнце не смогло пробиться сквозь пелену туч, и небо сделалось бледно-серым к тому времени, как блуждающий огонек довел нас до входа в подземное царство Милу. Последняя миля спуска к берегу прошла по дороге, покрытой белым камнем. Мой уставший Лео, немного взбодрившись, застучал копытами по гладким камням. Дорога явно была древней, сооруженной с большим искусством. – Похоже на древние римские дороги, которые рисуют на гравюрах, – заметил мистер Клеменс, который смог наконец ехать рядом со мной. Синий огонек впереди целеустремленно спешил вперед, и наши лошади следовали за ним без малейшего страха. – Лучше бы мы ехали в Рим, – сказала я. – Согласен. Предпочитаю быть принятым Папой Римским, а не королем духов. Несмотря на теплый воздух, я вздрогнула. – Хватит об этом. – Я подумала, что проявила резкость, и решила переменить тему. – А вы были в Риме? – Увы, нет, – сказал корреспондент, – но надеюсь побывать. Если выберусь отсюда. А вы, мисс Стюарт? Вы были в Риме? Я вздохнула: – Я только начала путешествовать, мистер Клеменс. Я так мало видела и больше всего боюсь не увидеть всего, что хочу. Вообще-то я собиралась посетить Рим во время этого путешествия. Мой спутник удивленно поднял брови: – Вы же говорили, что следуете на запад? – Да. Я проехала через Скалистые горы и начала свои записки… – Слишком поздно я поняла, что проговорилась. – Вы пишете! – воскликнул мистер Клеменс. – Путевые заметки! Значит, мы коллеги. Я потупилась, ругая себя за то, что слишком разоткровенничалась. – Пока это только статьи, которые я посылала сестре. Их опубликовали частным образом… собственно говоря, это даже не книга… – Ну и что? – воскликнул мистер Клеменс– Надо же, я путешествую с коллегой! Мы оба забросили честную работу ради литературного разбоя. Крепко сжав поводья, я попыталась опять сменить тему: – С Сандвичевых островов я планирую поехать а Австралию. Потом в Японию и, может быть, в Китай… мой кузен работает там в миссии… потом в Индию, в Святую землю, а оттуда в Европу… в Рим… Мистер Клеменс кивнул: – Впечатляющее путешествие для такой юной леди. – Он порылся в кармане, ища сигары, и, не найдя их, нахмурился. – И какое время вы отводите на все это? Я повернула лицо навстречу свежему ветерку с моря. Океан, теперь уже хорошо видный, был таким же серым, как небо. – Года два или больше. – И что, ничего не держит вас в Огайо? Вместо прямого ответа я сказала: – Мой отец оставил мне солидное наследство. Несколько лет я страдала от слабости здоровья, и врачи посоветовали мне сменить климат. – Но они вряд ли советовали вам огибать земной шар. – Мистер Клеменс привстал в седле. – Узнай ваш доктор, какие приключения ждут вас на Сандвичевых островах, он наверняка исключил бы их из вашего маршрута. Отчаявшись переменить тему разговора, я поглядела направо. – Как странно. До моря не меньше мили, а шум прибоя так ясно слышен. Мистер Клеменс оглянулся через плечо: – Вы не наблюдали любимую игру туземцев? Я покачала головой. Лошади резво трусили по ровной дороге, и даже синий огонек впереди уже не казался чем-то необычным. – Купание в волнах, – пояснил корреспондент, тщетно обыскивая карманы в поисках сигары. – Нет. Я слышала об этом в Гонолулу, но видеть не приходилось. – Захватывающее зрелище. На второй день на Оаху я имел удовольствие наблюдать, как юные туземки купаются в волнах прибоя. Я умолял их выйти, поскольку волны достигли опасной высоты, но они так и не вышли. Я отвернулась, чтобы он не видел моей улыбки, и вспомнила слова женщины: «Вы должны сбросить с себя нелепые одежды хаоле». – Потом, – продолжал мистер Клеменс, – к девушкам присоединились юноши, у каждого из которых была с собой короткая доска. Они заплывали в море на три-четыре сотни ярдов, ждали, пока накатит достаточно высокая волна, и поднимались на своих досках на самый ее гребень. Это было удивительно! Они неслись со скоростью курьерского поезда, махали друг другу, иногда даже брались за руки, а потом падали вниз с головокружительной высоты. Я еще раз улыбнулась, на этот раз, чтобы показать свое недоверие. – А сами вы не пытались заняться этим спортом, мистер Клеменс? – спросила я. – Конечно! – При этом воспоминании корреспондент нахмурился. – Признаюсь, что я потерпел фиаско. Я правильно расположил доску, но не удержался на ней. Когда доска ударилась о берег, я уже был на дне с парой галлонов воды внутри. Подозреваю, что этим искусством могут вполне овладеть только гавайцы. Небо стало ярче, но его все еще затягивали тучи, а солнце было скрыто за глыбой вулкана на востоке. Я вздохнула. Конечно, мой спутник своими разговорами пытался отвлечь меня от грядущей опасности, но она была такой же реальной, как синий огонек, который теперь покинул дорогу и углубился в прибрежное поле лавы. Наши лошади замешкались, но мы в конце концов заставили их последовать за нашим непонятным вожатым. Стараясь говорить в том же легком, небрежном тоне, что и мистер Клеменс, я сказала: – Боюсь, мне будет трудно вывести духи хаоле из Царства мертвых. Я ведь не верю в духов. Откашлявшись, словно он собирался рассказать еще какую-нибудь историю, корреспондент сказал: – Я тоже не верил, до одной ночи в Карсон-Сити два года назад, когда… Он замолчал и остановил лошадь. Перед нами расстилался тысячефутовый склон лавы, уступами спускающийся в лазурную бухту. Внизу виднелись кокосовая роща и несколько разрушенных хижин. – Похоже, это бухта Кеалакекуа, – сказал мистер Клеменс тихо, словно боясь, что нас подслушивают. – Здесь был убит капитан Кук. Полукруг гладкой лавы рассекала единственная глубокая расщелина – очевидно, обвалившаяся лавовая трубка, одна из тех, какие мы встречали по пути. Лошади отказались подходить ближе чем на тридцать футов к расщелине, которая представляла собой единственный путь вниз, поэтому мы спешились и привязали уставших животных. Мистер Клеменс взял с собой длинную веревку, и мы приблизились к черному отверстию. Из-за темноты и каменных выступов, закрывавших обзор, нельзя было сказать, какова глубина трещины – шесть футов или шестьсот. Корреспондент привязал к веревке маленький камешек и бросил его вниз. Камешек ударился о скалу на глубине двадцати футов. – Отлично, – сказал он, сматывая веревку. – Мерка два – то бишь «марк твен», я полагаю. Это старый термин речников, означает глубину в двенадцать футов, которая подходит для больших судов. – Как же мы спустимся с такой высоты? Это в тот момент интересовало меня больше, чем какие-то речные термины. – Старуха говорила что-то про лианы иее, но эта веревка может за… – Он умолк, глядя мне за спину с выражением, заставившим меня обернуться. Футах в шести от нас стояла молодая женщина. Мы не услышали, как она подошла. Это была туземка с яркими черными глазами, смуглой кожей и черными, как вороново крыло, волосами. В руках она держала бутыль из тыквы и моток веревки, сплетенной из лиан. Прежде чем мы обрели дар речи, женщина заговорила: – Поспешите. Пауна-эва и остальные спят до рассвета, но их сон чуток. Быстрее снимайте тряпки хаоле! Голос ее был юным… но, без сомнения, это был голос старухи из хижины. – Быстрее! – сказала женщина, делая повелительный жест. – Раздевайтесь!– Да, я говорил со свиньей, – сказал Байрон Трамбо, приканчивая второй бокал водки со льдом. – С распроклятой свиньей. Уилл Брайент кивнул, оглядываясь на Сато и других, сидящих за накрытым столом. – Понимаю. Миссис Трамбо отказалась уйти, а ее адвокат требует… – Да не с этой свиньей, идиот! Я говорил с настоящей свиньей! С большущим жирным кабаном! Помощник прищурился и ничего не сказал. – Черт, не смотри на меня так! – рявкнул Трамбо достаточно громко. Сато и старый Мацукава с любопытством уставились на него. Трамбо отошел чуть дальше, волоча за собой Уилла. – Не смотри на меня так, будто я спятил! – прошипел он. – Там правда был громадный кабан, который уволок Санни Такахаси. А Санни был весь зеленый, как чертов марсианин. У него было восемь глаз… я имею в виду кабана. – Трамбо схватил своего помощника за рубашку. – Ты мне веришь? Скажи, что веришь! – Я вам верю, мистер Трамбо. – Брайент осторожно высвободил рубашку. Трамбо подозрительно взглянул на него. – Верю, верю. Тут случилось уже столько странных вещей… Если вы утверждаете, что разговаривали с кабаном, значит, так оно и было. Миллиардер хлопнул Брайента по плечу: – За что люблю тебя, Уилл, за то, что у тебя под гарвардским лоском прячется старый добрый лакей. Извини. – Ничего, сэр. Собственно, я искал вас, чтобы сообщить, что мы нашли Санни Такахаси. Трамбо чуть не выронил водочную бутылку, которую держал в руках. – Он вышел из пещеры? Кабан отпустил его? – Не знаю насчет кабана, но его нашли в морозильнике ресторана. Доктор Скамагорн сказал, что он мертв уже двенадцать часов. Я еще не сообщал об этом мистеру Сато, так как хотел сначала посоветоваться с вами, а вас не было. Тело мистера Диллона тоже там. Доктор хочет провести вскрытие после того, как власти… Трамбо опять схватил своего помощника за руку. – Позвони… нет, иди туда сам и проследи, чтобы их отвезли назад в морозильник. Навесь замок и никого туда не пускай. Уилл Брайент тяжело вздохнул: – Босс, все кончено. Сато никогда не подпишет соглашение после того, как здесь погиб его друг. Все кончено. Мы должны… – Ты что, не понял? Полчаса назад я видел Санни! Конечно, он был зеленый и двигался, как чертов зомби, но он был живой. Если доктор говорит, что он мертв уже двенадцать часов, значит, кабан взял в заложники его душу или… – Душу? – Тут произошло еще одно чудо: не притрагивающийся к спиртному Уилл Брайент потянулся к бутылке водки. – Душу, призрак, какая разница? – Трамбо понизил голос до хриплого шепота. – Я не разбираюсь в этих гавайских суевериях. Главное то, что кабан обещал отдать мне Санни, если я заключу с ним какую-то сделку… да, я уверен, что речь шла о сделке. – Да, сэр, но Санни и Диллон мертвы. – Диллон может оставаться мертвым, а Санни я вытащу. Он… этот кабан сказал, что отдаст мне Санни, если я спущусь в эту дыру и поговорю с ним. Уилл осторожно поставил пустой бокал на столик. – Пора идти к гостям. Нас уже давно ждут. Трамбо рассеянно кивнул. – А ты уверен, что они подпишут, если Санни вернется? – Все бумаги готовы. Сато не любит работать по ночам, но я слышал, что они хотят улететь завтра утром. Трамбо кивнул: – Ладно, постараемся успеть до утра. Я попробую вернуть Санни, а ты проследи, чтобы оба тела вернули в морозильник. Уилл скорчил гримасу. – Ничего, можешь после этого вымыть руки. Запрети Скамагорну вскрывать тела… Диллона тоже. Может, кабан вернет и его. Не забудь, иначе Санни вернется в этот мир без мозгов… хотя их и раньше было немного. Иди, а я пока повеселю Хироси. Уилл Брайент кивнул и пошел к выходу. У самой двери он обернулся. – Что еще? – Я просто подумал… что будет дальше? Тут погас свет. Элинор отправилась на вертолетную экскурсию вскоре после заката, когда было еще светло. Внизу курился дым от лавовых потоков. Пол Кукали забрался на заднее сиденье, а Элинор заняла единственное пассажирское кресло впереди. Из-за шума мотора она прослушала фамилию пилота, которого звали Майк. Прежде чем он надел летные очки, Элинор успела заметить самые красивые серые глаза, какие она видела у мужчины. Майку было за сорок, как и ей, и он обладал приятной улыбкой и аккуратно подстриженной бородой. Ногами в тапочках он нажимал педали управления, под которыми сквозь плексиглас виднелась быстро несущаяся земля. Пол надел наушники и жестом велел Элинор сделать то же самое. Она взяла наушники из углубления перед ней, надела их и настроила микрофон. – Так лучше? – спросил Майк. – Машина отличная, только немного шумная. Лучше переговариваться таким образом. Вам хорошо слышно? – Да, – сказал Пол. Элинор кивнула и тоже сказала: «Да». – Хорошо… рад познакомиться, Элинор. Майк протянул руку. Очевидно, Пол уже рассказал ему о ней. Элинор пожала руку, отметив про себя ее силу и одновременно мягкость. – Ну что, летим? А то скоро стемнеет. Элинор кивнула, и в ту же секунду маленький вертолет подпрыгнул и понесся прочь с такой скоростью, что у Элинор буквально перехватило дыхание. Дверь с ее стороны была плотно закрыта, но в окошке виднелся зазор, и ей казалось, что ее ничего не отделяет от верхушек пальм, проносящихся в каких-то футах от нее. – Можете держаться за эту рукоятку, – сказал Майк, – но смотрите, не трогайте педали. Спасибо. Элинор опять кивнула. Они пронеслись над Большим хале и баром «Кораблекрушение». По тропинке шла Корди, и Элинор рискнула помахать ей, но не успела увидеть, помахала ли Корди в ответ. Потом они полетели вдоль пляжа, внизу мелькнули крыши хале, и вот уже под ними заплескались волны, меняя цвет с зеленых на темно-синие, когда они перелетели коралловые рифы. – Скоро с запада налетит шторм, – сказал Майк, махнув рукой в сторону океана. – Часа через два. За это время нам нужно закончить полет, чтобы я успел вернуться домой. – Домой – это куда? – спросила Элинор, слыша, как ее голос гулко отдается в наушниках. – Майк живет на Мауи, – сказал Пол, и Элинор обернулась к нему. Куратор по искусству согнулся в три погибели на задней скамейке. – Недалеко от Ханы. – Кипаулу, – уточнил Майк. – Ни электричества, ни воды, но нам нравится. – Майк женат на знаменитой исследовательнице, и у них двое ребятишек. Дом у них обставлен в японском стиле. – А какими исследованиями занимается ваша жена? – спросила Элинор, чтобы что-то спросить. – Она медик, – коротко ответил Майк, откидываясь в кресле. Они полетели на юг, держась в миле от прибрежных скал, напомнивших Элинор заставку какого-то старого сериала. Она увидела поля петроглифов, беговую дорожку и белую струю гейзера. – Вы профессиональный пилот? – спросила она Майка. Тот улыбнулся, и вокруг глаз его собрались веселые морщинки. – Вроде как. У меня контракт с научным городком в Халеакала… это большой потухший вулкан на востоке Мауи. Там работает Кэт… это моя жена… и я каждое утро отвожу ее на работу. От ангара до ее лаборатории ровно десять тысяч футов… в высоту. Элинор представила себе этот каждодневный перелет из тропической жары в высокогорный холод. – А что делает врач так высоко? Майк только пожал плечами. Правую руку он продолжал держать на рычаге. – Наверное, там меньше микробов. Во всяком случае, Кэт – единственный человек на Гавайях, который ходит на работу в куртке на гагачьем пуху. – Вертолет пролетел над полуостровом с каменными руинами и резными деревянными статуями, обращенными лицом к морю. – Это город Убежища. Вскоре показался первый лавовый поток. Сквозь густой дым Элинор видела серую асфальтовую полосу, идущую к морю рядом с деревней Милолии. Там, где лава встречалась с морем, вставал столб пара высотой пятьдесят тысяч футов. – Лучше не подлетать слишком близко, – сказал Майк и дернул рычаг. Вертолет облетел струю пара слева, и Элинор вдруг узнала пейзаж. – Смотрите, – сказала она громко. Внизу горели трава и деревья на том месте, где стоял трейлер кахун Леонарда и Леопольда Камакави. – Что-нибудь важное? – спросил Майк. – Нет-нет, все в порядке, – сказал Пол. – Их машины нет. – Куда они уехали? – Элинор поглядела в обе стороны. На юго-востоке ядерным грибом вставал столб пара. На востоке лава, вытекающая из кратера Мауна-Лоа, перерезала шоссе, отделив берег Коны от юга острова эффективнее, чем минные поля. – С ними все в порядке, – повторил Пол. – Дядя Леонард и дядя Леопольд упрямые… но не сумасшедшие. – Ладно, – сказал пилот. – Ну что, полетим к вулканам? – Да, – сказала Элинор. – Пожалуйста. Они пролетели над южной оконечностью острова, держась подальше, как объяснил Пол, от облаков пепла, нависших над Мауна-Лоа. – Пол, может быть, говорил вам, что это первое за многие годы одновременное извержение Мауна-Лоа и Килауэа, – сказал Майк, когда они подлетели к драконьему хребту на краю острова. Последние лучи заката погасли, но земля впереди была объята огнем. – Да. – Похоже, в последний раз из Мауна-Лоа выливалось столько лавы в тысяча девятьсот пятидесятом году, – продолжал Майк, снимая свои очки. Вертолет поднялся и летел теперь в тысяче футов над черными лавовыми полями Кау. – Лава движется со скоростью пять-шесть миль в час и может за четыре часа залить весь берег. В придачу к этому она проходит по десяткам лавовых трубок. Днем я возил к вулкану ученых из Коны, и мы видели, как из-под земли вырвался новый поток… это было как раз рядом с вашим курортом. Элинор слушала, но ее внимание было отвлечено сценой, разворачивающейся прямо перед ними. Оранжево-красные ручьи текли от Килауэа впереди и его старшего брата слева от них, покрывая огненной сетью долину до самого моря. Между сизо-черными облаками пепла поднимались фонтаны огня, рассыпаясь на тысячи маленьких огоньков, – это горели деревья, кустарники и, должно быть, человеческие жилища. – Верите или нет, эта штука может подняться на высоту Мауна-Лоа – тринадцать тысяч футов. Но мы не станем забираться так высоко. Нужно увидеть оба извержения и одновременно сохранить кислород. Элинор уже видела оба извержения. В десяти милях от них пылал Килауэа, окутанный по склонам густым дымом. Но прежде всего внимание привлекал Мауна-Лоа. Вершина его была скрыта такой же пепельной шапкой, а юго-западный склон представлял собой паутину оранжевых ручейков, напоминающих трещины в крыше ада. Отдельные потоки достигали длины в шесть миль, и Элинор видела поднимающиеся от них столбы ядовитых газов. В некоторых местах били вверх лавовые фонтаны высотой до девятисот футов. – О боже, – прошептала она. – Именно, – согласился Пол. Они пролетели в двухстах футах над сплошной стеной огня. Машина нырнула вниз, и Майку пришлось подергать какие-то рычаги, чтобы она выправилась. Элинор почувствовала, как жар обжигает ее подошвы, и еще раз тихо сказала: «О боже». Они пролетели к югу от кратера и направились к огненной буре, которую представлял собой Килауэа. Уже совсем стемнело, и земля и небо превратились в темныеберега бесчисленных огненных рек, каждая из которых распадалась на отдельные ручьи и протоки. На их пути горели мириады огней – каждое горящее дерево охиа превратилось в маяк, горящий одновременно с другими, но отдельно от них. Поднимающийся к небу дым иногда заслонял огненные реки, но не мешал видеть всю картину. Вертолет пролетел в трехстах футах над бурлящим озером Хале-Маумау. Глядя вниз, в бурлящий котел магмы, Элинор представила, что будет, если вертолет сейчас упадет, и тут же отогнала от себя эту мысль. Снизу дохнуло непереносимым жаром – и вот уже огненное озеро вместе с кратером осталось позади, и они полетели над одним из лавовых потоков, над которым черными деревьями поднимались гигантские столбы дыма. – Все действуют, – сказал Майк. – Все старые кратеры и огненные озера. Мауна-Улу, Пуу-Оо, Пуу-Хулу-хулу, Хале-Маумау… все. Элинор поглядела вниз и увидела в горящем озере нагромождение лавы, вздыбившейся на сотни футов над гладью пахоэхоэ. Его черную набухшую поверхность прорезали сотни оранжевых трещин, делавших его похожим на глобус с градусной сеткой. Потом она поняла, что Майк показывает за это озеро, на громадный лавовый фонтан, бьющий из юго-западного разлома. Над колонной огня кружила крохотная серебристая щепка, и она поняла, что видит еще один вертолет. Майк включил радио и что-то проговорил в микрофон, потом повернулся к ней: – Ученый, которого я возил сегодня, считает, что только из этого фонтана выливается в сутки миллион кубических ярдов лавы. А таких фонтанов в этом разломе девять. Элинор только покачала головой. – Уже поздно, – продолжал пилот. – Отвезу-ка я вас назад и полечу домой ужинать. Они повернули на запад. Над океаном сгущались штормовые тучи, но на западном склоне вулкана еще играли последние отблески заката. Лавовые потоки тянулись внизу по всей выжженной равнине Кау. Элинор тронула Майка за руку, и он вопросительно взглянул на нее. – Майк… огромное спасибо за этот полет. Я перед вами в долгу… но не могли бы вы… знаете ли вы местность под названием Кахаукомо? – Кахаукомо? «Хау» здесь значит «железо»? – Да. – Слышал. – Он поглядел на темную равнину в тысяче футов внизу. – Где-то здесь, но в темноте не найти. А что вам там нужно? – Там есть камень под названием Хопоэ… – Элинор, – тихо сказал Пол, – это неудачная идея. Она повернулась к нему: – Ваши дядюшки тоже так думали. Но они ничего сделать не могут. А делать что-то надо. Тут заговорил Майк: – Я знаю этот камень. Мы проводили по нему навигационное ориентирование. Трудно сказать точно, но, по-моему, это здесь. – Он кивнул вниз, где проносились бесконечные каменные глыбы, окруженные потоками лавы. – Там живет женщина. Мне нужно ее повидать. На лице Майка, подсвеченном зеленоватым светом приборов, появилось удивленное выражение: – Молли Кевалу? – Ты ее знаешь? – настал черед удивиться Полу. – Я думал, это сказка. – Так и есть, – сказал Пол. – Нет, – возразила Элинор. – Она существует, она живет в пещере под камнем Хопоэ, и ей, возможно, требуется помощь. – Я могу вызвать спасателей по радио, – сказал Майк. – А они полетят ночью? Майк задумался: – Нет. Первый вылет на рассвете. Теперь Элинор указала вниз, на лавовые потоки, которые здесь были еще шире. – У нас уйдет минут пять на то, чтобы найти Хопоэ, но, похоже, я смогу это сделать. Мы сейчас совсем недалеко. Элинор поняла, что все еще держит пилота за руку. – Спасибо. Спасибо большое. – Вряд ли там удастся сесть. Под вашим сиденьем есть канат со страховочным узлом. Если хотите, можете спуститься с его помощью, а я посвечу вам прожектором. – Я это сделаю, – сказала Элинор. – И еще… в вертолете всего одно место. Если у Молли Кевалу там дети и внуки, то лучше все это не затевать. – Она одна, – сказал Пол. Голос его был бесстрастным. – Что ж, тогда будем искать. Элинор поглядела вниз, но увидела только нагромождение камней размером с дом, освещенных оранжевыми отблесками лавы. – Доставайте канат, – сказал Майк. – Снижаемся.
Когда погас свет, Корди сидела на своем ланаи, глядя на океан. Она была готова к этому и заранее положила на столик спички, свечи и фонарик. Теперь она включила фонарик, осмотрела номер – двери и окна были надежно заперты – и вернулась на ланаи, чтобы зажечь свечи. На западе набухала черная туча, подсвеченная вспышками молний. «Хоть бы Нелл скорее вернулась», – подумала Корди. С ланаи она могла услышать шум снижающегося вертолета. Она зажгла в каждой из трех комнат по свече, а на ланаи вынесла лампу. Ветер подул сильнее, и верхушки пальм тревожно шелестели, как публика в театре перед захватывающим последним актом. Корди достала из сумочки пистолет и коробку с патронами и начала заряжать обойму. В дверь постучали. – Минутку. – Корди зарядила последний патрон, закрыла патронник и щелкнула затвором. – Кто там? Мужской голос ответил что-то неразборчивое. Спрятав пистолет за спину, Корди приоткрыла дверь. Там стоял Стивен Риддел Картер с газовой лампой. – Миссис Стампф, простите за беспокойство, но мы просим всех гостей собраться на седьмом этаже. – Почему это? – Корди не спешила открывать дверь пошире. Менеджер откашлялся: – Э-э-э… там действует запасной генератор, и мы думаем, что так будет удобнее… – Мне и так удобно. Холодильник немного подтекает, но в остальном все очень романтично. Картер замялся. Волосы его были, как всегда, аккуратно причесаны, но сам он показался Корди куда более старым и измученным, чем во время последней встречи. – Видите ли, миссис Стампф… большинство гостей уехали, и мы считаем, что… в интересах безопасности… оставшимся лучше собраться вместе. – Безопасности от чего, мистер Картер? Менеджер нервно облизал губы: – В последние дни на курорте произошли некоторые… неприятные события. – Я знаю об этом, мистер Картер. – И вы уверены, что не хотите присоединиться к нам на седьмом этаже? Номера там… еще комфортабельнее, чем этот. Корди улыбнулась: – Благодарю вас. Но я уже привыкла к здешней кровати. Да и друзья могут забеспокоиться, если не найдут меня здесь. Так что извините. – Она попыталась закрыть дверь, но Картер придержал ее рукой. – В чем дело? – Миссис Стампф, прошу вас… будьте осторожны. Корди показала ему пистолет: – Буду. Менеджер кивнул и ушел. Его шаги долго отдавались эхом в пустом и темном коридоре. Корди заперла дверь и вышла на ланаи. Ветер крепчал. – Возвращайся, Нелл, – прошептала она в небо, на котором среди туч сияли крупные звезды. – Возвращайся скорее. Внизу зашуршало что-то, непохожее на пальмы. Корди прошла чуть подальше по террасе и увидела, как из джунглей в тень Большого хале юркнул кто-то темный, четвероногий. Следом проковыляла вторая тень, двуногая, волоча за собой хвост. Корди вернулась к двери номера, сжимая пистолет. Внизу опять было пусто. – Возвращайся, Нелл, – прошептала она.
18 июня 1866 г., безымянная деревня на берегу Коны – Раздевайтесь! – скомандовала нам молодая женщина. Мне кажется, что до этого момента все приключения на Сандвичевых островах, какими бы необычными они ни были, представлялись мне всего лишь экзотикой, непременным антуражем путешествия молодой христианки по языческим землям, чем-то, о чем можно написать интересную заметку в газету. Я наблюдала поразительные, нередко страшные события – но они не затрагивали меня в полной мере. – Раздевайтесь! – повторила женщина. – Быстрее! Я подумала о мертвом преподобном Хеймарке, лежащем в туземной хижине в нескольких милях отсюда, о всех странных вещах, что мы уже видели и, без сомнения, увидим еще, и начала расстегивать жакет. – Мисс Стюарт, – сказал мистер Клеменс, потупившись, – мне кажется, я должен спуститься туда один. Это не место для… Я так и не узнала, для чего это не место, так как женщина прервала его: – Нет! Спуститься должны хаоле и хаоле вахине. Женские духи пойдут только за женщиной. Торопитесь, Пауна-эва скоро проснется. Мы, отвернувшись друг от друга, быстро разделись. Я сняла шляпку, подаренную мне в Хило, красный шейный платок, жакет и юбку для верховой езды. Потом, оглянувшись по сторонам, расстегнула блузку и положила ее на груду вещей. – Быстрее! – опять сказала женщина, держа в руках бутыль с маслом и моток веревки. Вокруг нее распространялся свет, достаточно яркий для того, чтобы читать. Хотела бы я в тот момент читать в своей комнате в Хило! Я поняла, что куда лучше узнавать о приключениях из книг, чем переживать их самой. Я сняла нижнюю юбку, ботинки, носки и осталась в корсете, панталонах и рубашке, дрожа больше от стыда, чем от прохладного утреннего ветерка. Я поглядела на женщину, но на ее полных губах не было и тени улыбки. – Вы должны сойти в Милу обнаженными, – напомнила она. Чувствуя румянец на своих щеках, я расшнуровала корсет, сняла панталоны и рубашку и положила их на остальную одежду. – Мы должны идти босиком? – спросила я. – Мы же порежем ноги. – Ничего, – сказала женщина. – Посмотрите на меня. Мы с мистером Клеменсом посмотрели на нее, стараясь при этом не глядеть друг на друга. Все же я успела заметить, что грудь корреспондента поросла густым волосом, блестящим, как медь, в исходящих от женщины лучах. Женщина – в тот момент я была уверена, что это сама Пеле, – протянула мистеру Клеменсу моток лиан. – Оставьте один конец в этом мире, – предупредила она. – Иначе вам никогда не выбраться из Милу. Подойдите сюда. Мы подошли ближе, и я смущенно отодвинулась, почувствовав тепло ноги мистера Клеменса. Однако мы забыли о своей наготе и отшатнулись, когда женщина открыла бутыль. Зловоние, исходившее от нее, было невыносимым. – Нет, – сказала женщина. – Запах кукуи помешает духам учуять вас. Они не любят плохих запахов. – Думаю, сегодня они нанюхаются их на всю жизнь, – сказал мистер Клеменс, скривившись от отвращения, когда женщина принялась лить зловонную жидкость ему на руки. – Разотрите по всему телу, – велела она. – Воняет хуже скунса, – брякнул корреспондент, но подчинился. Настала моя очередь. Женщина пролила на меня масло торжественно, словно совершала какой-то обряд. Может, так оно и было – в языческом смысле. – Разотри, – повторила она, и я принялась втирать масло в плечи, груди, живот. Ощущение было бы довольно приятным, если бы не непереносимый запах. Отступив на шаг, женщина полюбовалась нами. – Очень хорошо. Вы пахнете, как мертвые хаоле. – А что, – осведомился мистер Клеменс, – мертвые хаоле пахнут хуже, чем мертвые гавайцы? Женщина не ответила. Она ни разу не улыбнулась, словно этого не позволяло ее высокое положение. – Берегитесь кабана, – сказала она неожиданно. – Прошу прощения? – переспросил мистер Клеменс. – Пауна-эва и Нанауэ спят, хотя сон у них чуткий. Ку вряд ли учует ваш запах из-за масла кукуи. Но если вы встретите Камапуа, он надругается над тобой, вахте, и съест твою хихио. – Съест мою хихио? – Я задумалась над возможным значением этого гавайского слова, но ни одно из них не показалось мне привлекательным. – Твою блуждающую душу, – последовал ответ. – Душа становится хихио, когда покидает кино… тело. Если Пауна-эва убил вашего друга-кахуну, там будет его лапу. – Лапу? – Его дух. – Значит, в Милу мы можем встретить хихио, или души живых, и лапу, или души мертвых? – спросила я. – Да. Если вы выведете их, хихио вернутся в свои тела, а лапу отправятся туда, куда отправляются души хаоле после смерти. – Куда? – спросил мистер Клеменс. Женщина в первый раз улыбнулась. – Почему ты меня спрашиваешь? Ты же хаоле, а не я. Мистер Клеменс хотел спросить еще что-то, но тут женщина вручила ему моток и пустой кокосовый орех. – В этот орех вы спрячете души хаоле. Мы с сомнением посмотрели на орех, но промолчали. – Привяжите лиану хорошенько, – сказала женщина. – Это ваш единственный путь назад. Мистер Клеменс приблизился к расщелине, и я, все еще стыдясь своей наготы, присоединилась к нему. – А к чему ее привязать? – спросила я. – До деревьев она не достанет. Может быть, к одному из камней? Мистер Клеменс хотел что-то сказать, но тут мы уловили едва заметное движение воздуха и повернулись. Молодая женщина исчезла. В десяти ярдах от нас стоя спали привязанные лошади. За ними к океану уходили бесконечные лавовые утесы. Сохрани мы в тот момент хоть крупицу здравого смысла, нам следовало бы немедленно одеться и ехать прочь. До заката мы могли бы достичь Коны и сообщить властям обо всем случившемся. Они послали бы людей за телом преподобного Хеймарка. Но здравого смысла у нас не осталось. Мы стояли обнаженные посреди лавового амфитеатра и готовились к спуску в языческое Царство мертвых. Мы подошли к расщелине, и мистер Клеменс привязал лиану к одному из камней. С ловкостью, выработанной долгим опытом, он навязал на конце ее несколько узлов, позволяющих держаться. Осталось ярдов пятнадцать свободной длины. – Мисс Стюарт. – Он повернулся ко мне. – Я все еще считаю, что могу пойти один. – Ерунда. Вы же слышали – должны спуститься мужчина и женщина. Мы посмотрели друг на друга и молча согласились с тем, что у безумия свои законы, которые лучше не нарушать. Мистер Клеменс взял свободный конец лианы, но замешкался, не решаясь набросить его мне на плечи. Я догадалась, какие противоречивые чувства его обуревают, и сама обвязала веревкой грудь и плечи. Мистер Клеменс, покраснев, все же решился покрепче затянуть узел. Чтобы рассеять напряженное молчание, я сказала: – Мистер Клеменс, я думаю, насколько права пословица «Одежда делает человека». – То есть? – Люди без одежды вряд ли могут рассчитывать на влияние в обществе. После секундного молчания громкий смех моего спутника заглушил шум прибоя. – Тише, – сказала я, – или вы разбудите Пауна-эву. – Или Ку. – Или Камапуа. Мы продолжали улыбаться, и тут я почувствовала, как вокруг нас распространяется какая-то энергия. Может быть, это было воодушевление, подобное тому что испытывают солдаты перед битвой, но мне показалось, что в этом присутствует что-то еще. – Мисс Стюарт, – сказал корреспондент, – это напоминает мне пожар в Сан– Франциско. На четвертом этаже горящего дома находилась женщина, и все потеряли головы и не знали, как ей помочь. Все, кроме меня, – я заметил привязанную рядом лошадь, мгновенно отвязал ее и бросил веревку той женщине, а потом крикнул ей спасительный совет. – И что же вы крикнули? – спросила я, стоя на краю расщелины. – Я крикнул: «Прыгайте! Я вас поймаю!» Мы постояли еще мгновение, чувствуя, как странная энергия окружает нас подобно сиянию. – Спускайтесь, мисс Стюарт, – тихо сказал он. – Я вас держу. Я перешагнула край расщелины и ступила в пустоту.
Глава 20
О высокие боги, пусть дождь придет! Пусть жизнью на землю он упадет! Пусть треснет Паоа, заступ Пеле, Пусть дождь поет, как некогда пел. О тучи Ику – как дым черны, Падите на землю грозой войны. О великие тучи – нет силы ждать, Обрушьтесь на землю потоком дождя; О боги, земля устала страдать, Пошлите бурю на острова!Чувство нереальности происходящего преследовало Элинор весь день, а сейчас, когда она спрыгнула на поверхность Танцующего Камня Хопоэ, это чувство сделалось настолько сильным, что напомнило ей сон. Только во сне возможны были такая быстрая смена событий, такая головокружительная легкость движений. Майк дал ей десять минут. Расход горючего и приближающийся шторм сделали даже это время чрезмерным. Они договорились, что он будет кружить над Хопоэ и, увидев пять вспышек фонарика, спустится и заберет ее. Элинор проверила фонарик и тут же выключила его. Вокруг и так было светло от лавового потока, который протекал всего в пятнадцати ярдах. Прыгая с камня на камень, Элинор спустилась к подножию скалы. У основания огромного камня зияла чернота, которая могла быть входом в пещеру. Черно-красная струя лавы неслась со скоростью поезда, и Элинор пришлось рукой заслониться от жара. В сотне ярдов от нее бил лавовый фонтан высотой не меньше пятидесяти футов. Элинор вспомнила фейерверки, которые видела в детстве в Огайо, и подумала, что они похожи на этот… если не считать размеров. Вниз по склону огненные гейзеры били вплоть до самого моря, до которого отсюда было миль восемь. Она подумала, что, возможно, лавовые потоки уже похоронили под собой Мауна-Пеле. Вертолет совсем скрылся в тучах пепла и дыма. Тут и там на земле поблескивали стекловидные «волосы Пеле». – Элинор, – сказал голос. В темном устье пещеры стояла женская фигура. – Вы Молли Кевалу? – Входи. – Женщина отступила в тень. Элинор поглядела на часы: у нее оставалось семь минут. Внутри пещера освещалась тремя керосиновыми лампами. Элинор разглядела ковер на полу, стол с двумя стульями, кресло-качалку, книги на полке, блестящую кухонную утварь. Занятая осмотром, она даже забыла спросить, откуда женщина знает ее имя. – Садись, – сказала Молли Кевалу. Элинор ожидала, что она окажется старухой из трейлера, но это была не она. Сумасшедшая Молли Кевалу оказалась довольно благообразной и даже похожей на главу кафедры английской литературы в Оберлине. Ее волосы были стянуты в пучок и заколоты черепаховым гребнем. На лице почти без морщин выделялись густые брови и пытливые глаза, которые трудно было счесть безумными. На ней были простая юбка и красная шелковая блузка с открытым воротом, на шее ожерелье из бирюзы. – Садись. – Молли Кевалу указала ей на кресло, а сама села на стул рядом. – Я на минуту. – Элинор села, опять подумав, реально ли это все. Это было реально: она чуяла запах серы от лавового потока и слышала треск керосиновых ламп. – Знаю. – Молли Кевалу наклонилась и дотронулась до колена Элинор. – Знаешь ли ты, во что ввязалась, Элинор Перри из Огайо? – В войну Пауна-эвы и других демонов… Молли махнула рукой: – Пауна-эва – ничтожество. Это Камапуа воюет с Пеле за власть над островом. Это он использовал хаоле, чтобы проложить ему путь. – Проложить путь? – Кровь застучала в ушах Элинор. – Да, тогда Киддер и Марк Твен видели кабана… – Кахуны думают, что служат Пеле, но на самом деле они служат кабану. – Кабану, – повторила Элинор. Молли Кевалу придвинулась еще ближе. – Ты храбрая, Элинор Перри. Ты думаешь, что спустишься в Милу, как твоя родственница. «Откуда она об этом знает?» – Ты погибнешь, если попытаешься сделать это. Но не теряй храбрости, Элинор Перри. Тихая храбрость женщин всегда превозмогает громкую храбрость мужчин. Наша храбрость рождена темнотой и рождает темноту, понимаешь, Элинор? – Нет, – прошептала Элинор. – Хочу понять, но не понимаю. – Слушай. – Молли Кевалу встала и заговорила нараспев:
О Пеле, приношу тебе в жертву свинью, Пред тобою, богиня, смиренно стою, Прими же мой дар, молю! О Пеле, царица горящих камней, Пусть жизнь твоя станет жизнью моей, О ты, что играешь цветами огней, Прими же жертву мою!Песнь сотворения Вэла-ахи-лани-нуи, первого человека
– Байрон-сан, – сказал Хироси Сато, когда принесли улиток, запеченных с томатной пастой и белым вином, – здесь не слишком надежное электричество. На длинном столе мигали лампы. Официанты уносили блюда из-под малазийского салата с креветками и лесными орехами. – У нас есть запасной генератор. – Трамбо кивнул Бобби Танаке, который включил свет и тут же опять выключил. – Просто при свечах совсем другая обстановка. Тех, кто не ел креветок, официанты в белых ливреях обнесли греческим салатом из шпината с чесночным соусом. К нему подали выделяющийся на фоне зелени козий сыр и теплые, только что из печи, булочки. Престарелый эксперт по винам Андре откупорил бутылки, и Трамбо дал команду наливать. – Мы продолжаем беспокоиться о нашем друге Цунэо, – прошептал Сато, наклонясь к самому уху гостеприимного хозяина. – При всем его легкомыслии он никогда не пропускал деловых мероприятий. – О, я уверен, что с Санни все в порядке. Думаю, он придет на подписание соглашения. Сато издал тихое рычание, которое у японцев означает вежливое сомнение, и занялся улитками. – Извините, Хироси. Трамбо увидел в конце комнаты Уилла Брайента и коршуном бросился ему навстречу. Они вышли на террасу, где бешено свистел ветер. По небу неслись тучи, подсвеченные снизу вулканом. – Тела в морозильнике, – доложил помощник, стараясь говорить тише. – Люди Майклса стерегут вход. – А что Фредриксон? – Он звонил несколько минут назад. Говорит, что надвигается шторм, и просит разрешения уйти. – Пускай остается на месте. – Трамбо подвел Брайента ближе к перилам. – Уилл, у меня для тебя есть работа. Помощник ждал. Глаза его за увеличивающими линзами очков казались удивленными. – Помнишь, я говорил про пещеру и кабана? И про Диллона и Санни, похожих на зомби? Уилл Брайент кивнул. – Кабан обещал мне вернуть Санни, если я спущусь и поговорю с ним. – Да, сэр. – Вот я и хочу, чтобы это сделал ты. Брайент медленно поднял голову и посмотрел боссу в глаза: – Сэр, я только что положил тело Санни в морозильник. – Да, но я думаю, кабан забрал его душу или что-то такое. Спустись, забери ее, и мы попробуем вернуть ее в тело до подписания соглашения. Глаза Уилла приобрели еще более удивленное выражение: – То есть вы хотите, чтобы я в шторм вышел отсюда, нашел Фредриксона, спустился в пещеру, побеседовал с кабаном и забрал у него душу Санни? И все это до подписания соглашения? – Да. Когда инструкции были четкими, Уилл Брайент всегда выполнял их неукоснительно. – Пошли вы на хер, – сказал помощник. – Что? – Пошли вы на хер. – Подумав, Уилл добавил: – Сэр. Трамбо с трудом подавил желание схватить гарвардского выпускника за тощую шею и выбросить с седьмого этажа. – Что ты сказал? – Я сказал: «Пошли на хер». Погибла уже уйма людей, и я пока не готов присоединиться к ним. Это не входит в мои служебные обязанности. Трамбо на всякий случай спрятал руки за спину. – Я заплачу, – сказал он сквозь зубы. – Десять тысяч долларов. Уилл Брайент рассмеялся. – Хорошо, пятьдесят. Можно было послать кого-нибудь из охраны, но эти парни слишком тупы. Бобби Танака – трус, а Картера он уволил. Оставался Брайент. Помощник покачал головой. – Ладно, черт побери! Сколько? – Пять миллионов. Наличными. Перед глазами у Трамбо замелькали красные пятна. Немного успокоившись и придя в себя, он выдавил: – Миллион. – Пошли на хер, – последовал ответ. Оставалось удавить чертова вымогателя или уйти. Трамбо выбрал второе и вернулся в зал, где официанты как раз разносили главное блюдо – ягненка, зажаренного с медом и кокосом, под имбирным соусом. – Вы в порядке, Байрон-сан? – осведомился Сато. – У вас лицо цвета лобстера. Он сказал «робстера». – В порядке. – Трамбо взял нож, с наслаждением представляя, как втыкает его в горло предателя. – Давайте лопать эту дрянь.
18 июня 1866 г., безымянная деревня на берегу Коны Я оказалась в царстве Малу. Стены пещеры слабо светились, и откуда-то доносились странные звуки, похожие на отдаленные голоса. Каменный пол холодил мне босые ноги. Торопясь, я развязала узлы и подергала веревку, давая знать мистеру Клеменсу, что он может спускаться. Я отвернулась, чтобы не видеть его, и повернулась, лишь услышав рядом его голос. – Опять этот свет, – прошептал корреспондент. В полумраке наша нагота была менее заметна, и мы, преодолев неловкость, отправились в путь. У поворота мы остановились, и мистер Клеменс осторожно заглянул за каменную стену. – Духи, – прошептал он. – Сколько их? – Сейчас скажу… ага, девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать один. Я изумленно взглянула на него. – Откуда я знаю, сколько их? Много! Я не привык считать духов. Этой игре меня не учили. – А откуда вы знаете, что это духи? – спросила я. – Потому что ожидали их встретить? Корреспондент кивнул, пытаясь отыскать на голой груди отсутствующий карман с сигарами. – Да, мисс Стюарт. Они светятся, как огни Святого Эльма, и я могу видеть сквозь них. Конечно, это могут быть не духи, а сенатский комитет в поисках кворума, но это вряд ли, потому что все они голые. Остается предположить, что это духи. – Приняв мое молчание за страх, он спросил: – Пойдем дальше или вернемся? – Пойдем дальше, – сказала я твердо. Заметив на щеках мистера Клеменса румянец, я успокоила его: – Вы не должны стыдиться нашего вида, сэр. Наши прародители Адам и Ева чувствовали себя в этом состоянии достаточно комфортно. – В их времена не было духов, – прошептал в ответ мистер Клеменс, и я не могла не засмеяться. Он протянул мне руку, и мы вошли в Царство мертвых чинно, как пара разодетых жителей Сан-Франциско на благотворительный бал. В открывшейся нам широкой зале находилось множество духов. Все они на первый взгляд были туземцами и занимались теми же делами, что при жизни. Некоторые спали, другие играли в какие-то игры или ели – мы увидели целую толпу вокруг большого котла с пурпурной пастой пои, которой в основном питаются гавайцы. Мы медленно шли вперед, на каждом шагу озираясь. Скоро выяснилось, что масло кукуи заставило наши тела светиться так же, как призрачные тела духов. Несколько раз духи подходили к нам, чтобы приветствовать, но, учуяв запах, поспешно отходили, корча гримасы. Казалось, они говорили друг с другом – их рты открывались, но не было слышно никаких звуков, кроме тоскливого воя ветра в многочисленных щелях и трещинах. Мистер Клеменс схватил меня за руку и кивнул в сторону углубления в стене пещеры. Там спал огромный кабан весом не меньше тысячи фунтов, ворча и хрюкая во сне. Эти звуки почти заглушались воем ветра. Помня о предупреждении женщины, я начала отступать в противоположную сторону, чтобы не разбудить страшилище, но мистер Клеменс опять удержал меня за руку. В нише недалеко от спящего кабана жались несколько душ, непохожих на остальные. Без сомнения, это были души хаоле – в основном мужчины, но я заметила и одну женщину. Это могла быть супруга преподобного Уистера, который стоял рядом – пожилой тощий мужчина. Пытаясь вспомнить детали рассказанного нам в «Доме у вулкана», я узнала молодого мистера Стэнтона и мистера Тейлора. Я помнила, что у мистера Стэнтона выпили всю кровь, а голова мистера Тейлора была расколота, «как кокосовый орех», но здесь на них не было никаких следов повреждений. Только отсутствующее выражение в глазах указывало, что их вряд ли удастся вернуть к жизни. Мистер Клеменс опять кивнул, и я увидела знакомую фигуру. Преподобный Хеймарк облокотился не плоский камень, напоминающий кафедру, и явно что-то проповедовал собравшимся, которые внимали ему с сонным видом, обычным для пресвитерианских проповедей. Мистер Клеменс прошептал, приблизив губы к моему уху: – Как же мы засунем его в кокосовый орех? Я покачала головой. Прежде всего, чтобы добраться до пленных душ, одному из нас предстояло перешагнуть через рыло гигантского кабана. Одна мысль об этом заставила меня вздрогнуть. Словно поняв, о чем я думаю, мой спутник прошептал: – Оставайтесь здесь. Я попробую это сделать. Я помотала головой. Несмотря на запах масла, вокруг нас собиралось все больше любопытных духов, и мне совсем не хотелось оставаться одной в их призрачном кольце. Итак, мы отправились в путь вместе. Пол под ногами был неровным, и я ощутила нарастающий ужас от мысли, что сейчас споткнусь и упаду прямо на щетинистое рыло чудовища. Вблизи он оказался еще больше, размером с небольшого слона. Когда я подняла ногу, чтобы перешагнуть через него, я увидела, что у кабана не два глаза, а по меньшей мере восемь. Из-под опущенных ресниц мерцал желтый свет, и на секунду я была уверена, что монстр только притворился спящим, чтобы подпустить нас поближе. Я представила, как его пасть раскрывается и громадные желтые зубы, поразительно напоминающие человеческие, смыкаются на моей лодыжке. Потом он поднимет голову величиной с бочку и проглотит то, что от меня останется. Мистер Клеменс подхватил меня прежде, чем я упала в обморок. Я действительно чуть не свалилась на рыло кабана, и только сильная рука бывшего штурмана удержала меня. Скоро мы оказались рядом с духами хаоле. Если бы чудовище сейчас проснулось – а скоро это неминуемо должно было произойти, – мы были бы заперты в ловушке. Я вспомнила предупреждение женщины, что он может изнасиловать меня и съесть мою хихио, и на меня накатила липкая волна отвращения. Мистер Клеменс опять удержал меня, подхватив рукой под спину. Еще час назад я убила бы его за такую фамильярность, теперь же она была встречена с благодарностью. Мы приблизились к скоплению духов. Хотя мы искали одного преподобного Хеймарка, женщина велела нам вывести отсюда все души хаоле. Но ни я, ни мистер Клеменс не представляли, как это сделать. Проблема решилась сама собой. Наш запах не понравился душам христиан так же, как и гавайцам, и они расступились, открывая нам проход к кафедре, где продолжал проповедовать преподобный Хеймарк. Мистер Клеменс тронул его за руку, и, как ни странно, наш друг узнал его, поскольку он повернулся и пошел за ним. Я поняла секрет, когда коснулась руки женщины, миссис Уистер. Рука была бесплотной и напоминала прикосновение холодного ветра, но душа подчинилась и последовала за мной к свободе. Полдюжины походов мимо кабаньего рыла – и вот уже все духи хаоле выведены из ниши. Сначала я боялась, что кто-нибудь из них случайно заденет кабана, но потом я заметила, что их ноги при ходьбе не касаются земли. Когда я в последний раз проходила мимо морды чудовища, мне опять показалось, что он вот-вот проснется. Теперь я ясно видела его огромные сверкающие зубы. Из угла рта стекала струйка темной слюны. Все обошлось благополучно. Мы направились к выходу, окруженные духами, и я подумала: что, если они будут сопровождать меня и в обычном мире? Я решила, что разберусь с этой проблемой потом. К нашей процессии присоединились и другие духи. Никто не поднимал тревоги, и никаких звуков по-прежнему не было слышно, кроме посапывания спящего кабана. Большинство их вернулось назад, когда мы достигли дна расщелины, но один, привлекательный юноша с невидящими глазами, продолжал следовать за нами. Я была почти уверена, что это христианин Колуна, застреленный по ошибке преподобным Уистером. Женщина не велела нам выводить из Милу души туземцев, но нам и не пришлось этого делать – у самого выхода дух повернул назад, бросив на нас грустный взгляд. – Я вылезу первым и вытащу вас, – прошептал мистер Клеменс. Мне не очень хотелось оставаться одной с этими бессловесными существами, но пришлось согласиться. Однако мой спутник, перед тем как подняться, совершил невероятное. Он поднес кокосовый орех к лицу преподобного Хеймарка и начал им трясти. К моему величайшему удивлению, дух съежился и начал, как дым, всасываться в отверстие ореха. Мистер Клеменс энергично работал пальцами, заталкивая в орех остатки почтенного священнослужителя. Позже он признался мне, что это было нелегко – «как протаскивать парус в маленькое кольцо», – сказал он. Закончив, он заткнул орех пробкой и начал подниматься. – А с этими что делать? – спросила я, кивая на оставшихся духов. Мистер Клеменс пожал плечами и прошептал: – Лучше оставить их здесь. Судя по тому что нам сказали, им некуда возвращаться. Это лапу, духи мертвых, в отличие от хихио – живой души нашего друга. – Глядя на него, я в шоке поняла, что почти привыкла к его обнаженному виду. – Кроме того, боюсь, что в орехе все равно не осталось места. Он исчез наверху, и я осталась одна среди молчаливых призраков. Внезапно что-то заставило меня обернуться, и я уже готова была увидеть выбегающего из пещеры кабана или другое создание тьмы. Я не сразу поняла, что так подействовало на меня. Это оказалось отсутствие звука, ставшего уже почти привычным. Кабан перестал сопеть.Корди услышала вертолет еще до того, как он приземлился. Луч прожектора скользнул по Большому хале, затарахтел мотор, и легкая тень скрылась в темноте. Корди знала, что задумала Элинор. Она хотела спуститься в Милу, как это сделала сто лет назад ее тетя, и вывести оттуда души хаоле, чтобы Пеле могла сражаться с врагами, не опасаясь за судьбу заложников. Еще она хотела взять с собой красавчика куратора, следуя древнему правилу: спускаться должны мужчина и женщина. Корди не хотела никого спасать. Она только хотела, чтобы она и ее подруга Нелл остались живы. Она была готова пойти на вертолетную площадку, чтобы предупредить Нелл и Пола об опасности… но это значило оказаться в темноте среди тварей, которых вряд ли остановит ее револьвер. – Черт! – громко сказала маленькая круглолицая женщина и, проверив еще раз содержимое сумки, открыла дверь. В коридоре шестого этажа было темно. Сверху слышались музыка и голоса, но ниже все тонуло в темноте. Корди была уверена, что лифт отключен, а это значило, что ей придется спускаться по наружной лестнице, освещаемой только газовыми фонарями с улицы да дьявольским светом вулкана. «Достаточно, чтобы разглядеть кабана в тысячу фунтов», – решила Корди, запирая за собой дверь. Сделав несколько шагов, она нахмурилась, сняла туфли и засунула их в сумку. Лучше издавать как можно меньше шума.
Элинор почти не помнила остаток полета, настолько ее переполняли противоречивые мысли и чувства. Пилот проявил обеспокоенность положением Молли Кевалу, и она с трудом убедила его, что в пещере действительно никого не было. Пол на заднем сиденье молчал. Они подлетели к Мауна-Пеле с моря. – Света нет, – заметил Майк, включая прожектор. Элинор увидела внизу кроны пальм, пустые хале, заброшенный бар Кораблекрушения. – Не знаю, стоит ли оставлять вас здесь. – Пилот повернулся к ней. – Не похоже, что они включили аварийные генераторы. Должно быть, утром курорт эвакуируют. Может, забросить вас в Кону? – Все будет в порядке, – сказал Пол Кукали. Голос у куратора был усталый. – Не знаю. Мы видели недалеко новую трещину. Всего в трех милях отсюда бьет фонтан лавы, и неизвестно еще, что делается в лавовых трубках. – Все будет в порядке, – повторил Пол. Майк пожал плечами и направил вертолет на посадку. Они сели на темную площадку, и Элинор еще раз смогла оценить искусство пилота. – Спасибо большое, – сказала она. – Этот полет был очень важен для меня. Я его никогда не забуду. Майк кивнул, хотя в глубине его серых глаз таились невысказанные вопросы. – Как ты доберешься до Мауи? – спросил Пол. – Из Кеахоле сообщают, что до настоящего шторма еще полчаса. Успею. – Он улыбнулся Элинор. – Дети уже легли, но Кэт всегда ждет, чтобы поужинать со мной. Ну ладно, желаю удачи. Элинор и Пол вылезли из кабины, наклонив головы, чтобы не попасть под лениво вращающиеся лопасти. Даже здесь, в окружении деревьев, ветер был сильным. Майк помахал им и включил мотор. Через секунду вертолет взлетел и взял курс на север, мигнув на прощание красным сигнальным огоньком. – Молли ведь была там? – спросил Пол, когда они остались одни. – Да. – И что она сказала? Элинор замялась: – Не знаю. Она что-то пела и одновременно говорила со мной… как будто по другому каналу. – Жрицы Пеле умеют это, – кивнул Пол. – Во всяком случае, так их слышат женщины. В его голосе мелькнул оттенок горечи. Элинор кое-что поняла. – Так вы пытались молиться Пеле? Вы с вашими дядюшками взывали к Пеле, прежде чем выпустить Камапуа, Пауна-эву и остальных? Пол промолчал, но по выражению его лица Элинор поняла, что она права. – Старые молитвы не действуют, – глухо сказал куратор. – Пеле не отозвалась на наши призывы. – Это из-за насилия. – Что? – Из-за насилия, – повторила Элинор, чувствуя, как фрагменты мозаики в ее голове складываются в схему. – Много раз за столетия ваш кабан… Камапуа… насиловал Пеле. Их битвы были частью мирового порядка, но насилие нарушило его. – Она показала на поле для гольфа за цветущими бугенвиллеями. – Как этот курорт… он тоже нарушил порядок. Прежде чем Пол успел что-нибудь сказать, их ослепил свет фар. Завизжали тормоза, и рядом остановился джип. – На вашем месте я бы села, – сказала Корди. – Сейчас хлынет дождь. Они залезли в джип – Пол назад, а Элинор на пассажирское сиденье, как в вертолете. Они уже ехали к Большому хале, когда Элинор спросила: – Слушай, это же мой джип, а ключи я не оставляла. Как ты его завела? – Проволочкой, – невозмутимо ответила Корди. – И это не так легко, как показывают в кино. – Почему? – спросил Пол. – Что, почему не так легко? – Нет. Почему вы приехали за нами? Корди повернулась к ним: – Сегодня здесь случится что-то нехорошее. Но вы и сами это знаете. Во всяком случае, ты, Нелл. Элинор кивнула: – Сегодня ночью мы должны спуститься. Спуститься в Царство мертвых. – Сегодня? Ты что, подруга? – Это невозможно, – сказал сзади Пол. Джип въехал в раскрытые ворота. Охранника возле них не было, свет в будке не горел. – Почему невозможно? – спросила Элинор. – Боги спят только короткое время на рассвете. Днем Милу недоступно, а ночью… ночью Камапуа съест вашу душу. – Хрен с ним, – сказала Элинор и сама удивилась сказанному. Пол нахмурился: – Камапуа – бог, часть нашей религии. Он так же важен, как и Пеле. – Да, но он еще и насильник, – сказала Элинор. – Если Пеле может одолеть его и помешать убивать людей, мы должны вывести из Милу души хаоле. – Это сказала вам Молли Кевалу? – И да, и нет. Я не помню точно, что она сказала. Но нам нужно сегодня спуститься туда. Вам тоже, Пол. – Я пойду с тобой, Нелл, – хрипло сказала Корди. – Спасибо. Но это должны быть мужчина и женщина. Ты же читала дневник. – Может, он устарел? – Нет, – твердо сказала Элинор. – Мужчина и женщина. Пол, вы идете со мной? Куратор надолго замолчал. Корди слышала, как вокруг шепчутся пальмы. – Да, – сказал он наконец. – Но не ночью. Это верная смерть. Пойдем на рассвете. – Ладно, – вздохнула Элинор. – Договорились? Тогда дайте мне сказать. Они прислушались к Корди. – Если все будет как в фильмах, которые смотрели мои парни, то сейчас хорошие парни разбредутся кто куда и монстры переловят их поодиночке. На этом месте я всегда начинаю болеть за монстров, потому что они умнее, чем хорошие парни. Понимаете, о чем я? – Согласен, – сказал Пол. – Нам лучше держаться вместе. – Или уехать. На этом джипе мы можем за полчаса добраться до Коны или Мауна-Лани или… – Нет, – сказала Элинор. – Майк сказал, что утром курорт эвакуируют. Если мы уедем, нас уже не пустят обратно. – Вот жалость-то, – заметила Корди. Элинор посмотрела на нее в упор: – Ты читала дневник. Ты должна понимать, как все это важно. – Ладно. Тогда я предлагаю подняться сейчас по лестнице в мой номер, зажечь лампы, запереть двери и окна и до рассвета играть в покер. Идет? – Согласна. Но сперва я должна заехать в мой хале. – Это еще зачем? – удивилась Корди. – Я оставила там дневник. – Черт. Ладно, поехали,только побыстрее. И туда мы пойдем вместе. Развернувшись на покрытой гравием дорожке возле Большого хале, джип поехал назад, к бару «Кораблекрушение» и дальше, к темнеющим среди деревьев хале. Начался дождь. Остановив машину перед хале Элинор, Корди скомандовала: – Пол, садитесь за руль, а мы сейчас вернемся. – Корди, я сама… – Помолчи, Нелл. – Корди вышла из машины. – Черт, даже фонари не горят. Иди открывай дверь, а я посвечу. Это звучало мелодраматически, как в полицейских фильмах, но Корди на полном серьезе отпрянула, нацелив в темноту за дверью одновременно фонарик и пистолет. В хале все осталось как было. Элинор взяла дневник тети Киддер, побросала в сумочку кое-какие туалетные принадлежности и вышла. Они поехали назад к Большому хале. Возле бара «Кораблекрушение» поперек дороги лежало упавшее дерево. – Черт! – сказал Пол, который теперь сидел за рулем. – Объезжайте через кусты, – посоветовала Корди. – Нет, они слишком густые. Придется искать другой путь. – Через пляж, – сказала Элинор. Это в самом деле был лучший вариант. Пляж лежал всего в двадцати ярдах слева, и по нему можно было легко доехать до самого Большого хале. Пол развернул машину и поехал назад. Еще одно упавшее дерево придавило бы Корди, но благодаря хорошей реакции она успела выпрыгнуть из машины. – Корди! – Элинор вскочила с места. Джип остановился, придавленный пальмовым стволом. – Черт, – сказал снова Пол Кукали, и что-то в его голосе заставило Элинор обернуться. На дороге в нескольких шагах от них стояли большой черный пес, сгорбленный человек-акула, ящер, окруженный клубящимся туманом, и кабан размером с автомобиль. Кабан и пес скалили человеческие зубы; человек-акула повернулся спиной, показывая другие зубы, еще более страшные. В кустах копошились тени. Мотор заглох. Пол стиснул руль и закрыл глаза. Элинор опять повернулась, пытаясь разглядеть Корди, но тут сильные руки схватили ее и выволокли из машины. – Я не могу касаться тебя, женщина, – сказал кабан глубоким низким голосом. – Но другие могут. Пауна-эва двинулся к ней, облизывая челюсти раздвоенным туманным языком. Крики скоро превратились в дикие вопли, но Большой хале был далеко, и гости Байрона Трамбо ничего не услышали за воем ветра и игрой привезенного из Хило оркестра.
Глава 21
Горели высокие звезды, Горел раскаленный воздух. Земля островов вздымалась — Пеле на свет выбиралась. И волны были, как горы, И месяцы шли, как годы, И ливень с небес падал, И падали камни градом. И ветры на волю рвались и в скалах выли… Громом гремят барабаны Икува, поры ливней.Песнь о сотворении Вэла-ахи-лани-нуи, первого человека
18 июня 1866 г., безымянная деревня на берегу Коны Едва я поняла, что гигантский кабан перестал храпеть, как земля вздрогнула и внезапный толчок швырнул меня на пол пещеры. Сверху посыпались камни, и духи вокруг меня заколыхались, как светящийся планктон, разгоняемый руками пловца. В ту секунду я была убеждена, что мне предстоит умереть в царстве Милу, но тут сверху упала веревка с уже завязанной петлей. Земля продолжала содрогаться, но я уже встала и, торопясь, обвязала веревкой талию, как показывал мне мистер Клеменс. Еще через секунду я подымалась вверх, отталкиваясь ногами от каменных стен. Духи хаоле поднимались вместе со мной, кружась в воздухе, как пыль в лучах солнца. Снизу слышался рев, но я не знала, что это – грохот землетрясения или рычание проснувшегося чудовища. Я вскарабкалась на край расщелины, жадно хватая ртом свежий воздух и совсем позабыв о своем неподобающем виде. Земля продолжала содрогаться, в воздухе запахло серой, и налетел сильный ветер, подхвативший и унесший злополучных духов. Не замечая всего этого, я вдруг расхохоталась так, что какое-то время не могла сдвинуться с места. – В чем дело? – Мистер Клеменс отпустил веревку, но продолжал сжимать в руке кокос с остатками нашего преподобного друга. – Они были нужны мне для упора. Но я продолжала смеяться, совсем забыв про свой костюм Евы, не подобающий христианке, – настолько уморительным был вид мистера Клеменса, голого, с кокосовым орехом и в высоких сапогах, которые он каким-то образом успел надеть. Бросив веревку, он держал орех перед собой наподобие фигового листа. – Ну хватит, – сказал он довольно свирепо. – Пора выбираться отсюда. Одевайтесь скорее. Похоже, мадам Пеле принялась за свои труды. Я посмотрела вдаль. По склону амфитеатра в миле от нас сползал поток лавы, дробясь на сотни ручейков, окруженных клубами сернистого газа. Скоро лава должна была достичь места, где мы стояли, пройдя по многочисленным старым трубкам. Мысль об этом мгновенно придала мне серьезность. Я быстро оделась, опустив некоторые детали своего обычного туалета. Признаюсь, было странно снова надевать на себя одежду, словно краткое пребывание в первобытном виде воскресило во мне воспоминания о блаженном состоянии наших прародителей в раю. Но я сразу обрадовалась юбке, когда вспомнила о предстоящей нам конной прогулке. Лошади были на месте, хотя мистеру Клеменсу пришлось приложить немало сил, чтобы их успокоить. Усевшись в седла, мы направились на северо-восток мимо уже пылавших деревьев и кустов. На этот раз нас не сопровождал блуждающий огонек, но мистер Клеменс запомнил дорогу, и лошади неслись прочь от вулкана со всей возможной скоростью, несмотря на усталость. Орех мистер Клеменс держал перед собой, прижав его к луке седла. – Надо беречь его, – сказал он. – Представляете, как будет обидно, если мы его уроним, перепутаем и вернемся с душой какого-нибудь местного барышника. – В этом нет ничего смешного, мистер Клеменс, – сказала я, хотя такая перспектива была довольно забавной. Несколько раз во время нашего пути земля содрогалась так сильно, что нам приходилось спешиваться и удерживать испуганных лошадей. Сверху скатывались огромные камни, а за нашей спиной поднимались облака дыма и пепла, закрывая солнце. Во время одной из остановок мистер Клеменс указал мне на длинный склон, спускающийся к морю. Сначала я ничего не видела из-за дыма, но потом разглядела в океане стремительно идущую к берегу огромную волну. Мы находились в нескольких милях над уровнем моря, и бояться было нечего, но все же вид этой волны – кажется, японцы называют их цунами – наполнил меня ужасом. Сверху мы видели, как гигантский водяной вал накатился на берег, затопил прибрежные пальмы, ломая их, как спички, и понесся дальше. С такого расстояния не было видно причиненных волной разрушений, но я могла представить, какая участь постигла все, что встретилось на ее пути. Волна достигла ближайшего лавового потока, и небо заволокло таким количеством горячего пара, что я невольно зажмурилась, опасаясь быть сваренной, как креветка в кастрюле. Облако пара не дошло до нас, но закрыло самую ужасающую часть сцены – возвращение волны назад вместе со своей добычей: деревьями, домами туземцев и живыми существами, имевшими несчастье очутиться на берегу. Мы поехали дальше. Несколько раз я обнаруживала, что заснула в седле – настолько велика была усталость. Мои руки, ноги и бока были исцарапаны о камень во время подъема и спуска, и от меня все еще исходило зловоние масла кукуи, но даже это не могло удержать меня ото сна. Примерно за час до деревни, в которую мы ехали, мистер Клеменс остановил лошадей. Сначала я даже не поняла причины остановки, но, поглядев на своего Лео, увидела, что он нагнул голову и жадно пьет. Мы наткнулись на редкий в этой выжженной местности ручей с чистой, прозрачной водой. Спешившись, я зачерпнула восхитительную влагу в ладони, но потом, поколебавшись, прибегла к более простой методе мистера Клеменса, который лег на живот и лакал воду, как собака. Признаюсь, что этот способ оказался более эффективным. Когда мы напились, настало время смыть с наших тел зловонное масло. По обоюдному согласию мы отгородились друг от друга большим камнем и, частично раздевшись, попытались избавиться от мерзкого запаха. Конечно, масло пропитало одежду, и, хотя у меня в седельной сумке нашлись лишние нижняя юбка и панталоны, наши усилия не дали особых результатов. Мистер Клеменс поднял орех. – Знаете, мисс Стюарт, мне хочется налить сюда воды, чтобы преподобный Хеймарк тоже помылся. – Помолчав, он добавил: – Но что-то мне подсказывает, что этого делать не надо. – А мне по-прежнему что-то подсказывает, что мы не в своем уме, – отозвалась я. Мистер Клеменс кивнул, а потом сделал странную вещь. Он положил руку мне на плечо, и я сперва подумала, что он хочет поправить мне воротник или пригладить волосы, но он просто держал руку на моем плече, а потом наклонился ко мне и поцеловал меня в губы. Я была так удивлена, что даже не возмутилась, и только после второго поцелуя оттолкнула его из последних оставшихся у меня сил. – Простите, мисс Стюарт, – сказал он смущенно, – но мне хотелось это сделать еще с того вечера на корабле, когда мы обсуждали вечные темы при свете звезд. Я прошу извинения за мою неуклюжесть, но не за сам поступок. Не следовало подвергать свои чувства риску из-за минутного порыва. Я не могла вымолвить ни слова. Наконец я пролепетала: – Но, мистер Клеменс… – чем заставила его покраснеть еще сильнее. Пока я приводила себя в порядок, мои мысли с неизбежностью вращались вокруг чувств, которые я испытала, когда его губы прижались к моим, а сильные, но чувствительные пальцы коснулись моих плеч. – Мисс Стюарт, если хотите, я извинюсь еще раз… – начал он. – Поговорим об этом потом, – сказала я строго, может быть, более строго, чем намеревалась. – Нам нужно спешить. Неизвестно, сколько дух преподобного Хеймарка может пробыть в этом вместилище. Издав звук, который мог означать согласие, мистер Клеменс сел на своего коня, и мы поехали по склону Мауна-Лоа. Около полудня впереди показалась деревня. Жители, видимо, разбежались, что несколько уменьшило мою тревогу, хотя я не сомневалась, что мистер Клеменс в случае необходимости мог пристрелить кого-нибудь из них. После нашего небольшого приключения у ручья он находился в приподнятом настроении и воинственно озирался, разыскивая возможных противников. Старуха ждала нас в хижине, где лежало тело преподобного Хеймарка. Я вгляделась в него, пытаясь увидеть признаки разложения, которые убедили бы меня в том, что события предыдущих часов были горячечным бредом. Однако тело миссионера осталось точно в таком же положении, что и двенадцать часов назад. – Вы принесли его. Тон старухи больше напоминал утверждение, чем вопрос. Я с облегчением увидела, что она уже не парит в воздухе, а сидит на плетеной циновке. Мистер Клеменс показал ей орех. – Хорошо, – бесстрастно сказала старуха. Я вгляделась в ее черты, но уже не была уверена, что она и молодая женщина, встретившая нас у пещеры, – одно и то же лицо. Я вообще не была ни в чем уверена – настолько я устала. Тут старуха ударила меня по щеке. В шоке я прижала ладонь к пылающему лицу. – Ты не должна спать, – сказала она. – Ты должна помнить и видеть каждый свой шаг, иначе душа твоего друга-кахуны никогда не вернется в тело. Я молча смотрела на нее. – Давайте, я это сделаю. Мистер Клеменс шагнул вперед, но старуха отстранила его: – Нет, только женщина, служительница Пеле, может сделать это. – Но я не служительница Пеле! – запротестовала я. – Я христианка из Америки. Старуха только улыбнулась и подала мне бутыль из тыквы с мутной жидкостью. – Выпей это, – приказала она. Я выпила и тут же почувствовала могучий приток энергии. – Теперь начнем, – сказала старуха. И тут дверь хижины распахнулась. – О боже, – громко сказал мистер Клеменс. В дверном проеме стоял гигантский кабан из царства Милу. Пасть его была приоткрыта, и из нее стекала слюна. – Продолжайте, – коротко сказала старуха. – Он не может войти. – Протянув к кабану морщинистую руку, она воскликнула: – Камапуа, знай, что эта хаоле вахине и все ее потомки находятся под охраной Пеле! Ты не можешь их трогать. Кабан обнажил зубы в улыбке: – Но я могу съесть их души. – Ты не можешь войти. Я беру эту хижину под защиту Килауэа. У тебя нет здесь власти. Кабан гневно засопел. – Делай все, что я скажу, – обратилась старуха ко мне. – Один неверный шаг – и душа твоего друга покинет тело навсегда. Она запела, и ритуал начался.Корди очнулась среди измятых пальмовых листьев. Она не падала в обморок и помнила, где она находится и что произошло. Она знала, что их поймали в ловушку и она выпрыгнула из джипа, спасаясь от падающего дерева. Она не знала только, случилось это минуту или три часа назад. Дождь еще шел, хотя и не такой сильный, но это ничего не значило – тропический ливень начинается и утихает мгновенно. Борясь с тошнотой, Корди выбралась из вороха листьев и нащупала руками бампер джипа. Что-то мокрое и волосатое коснулось ее ноги, и она едва не вскрикнула, но потом поняла, что это крыса. Их здесь множество, и наверняка по ней пробежал не один десяток, пока она здесь валялась. Корди выросла среди помоек и привыкла к крысам, хотя терпеть их не могла. Прежде чем встать, она нашарила сумку и обнаружила, что пистолет и фонарик целы. Нацелив их перед собой, она подошла к машине. Джип был пуст. Включенные фары освещали дорогу, но на ней никого не было. Сзади тоже никого не оказалось. Слева послышался звук, заставивший ее отшатнуться и прицелиться в ту сторону. Звук раздался снова – слабый стон, доносящийся с цветочной клумбы. Посветив фонариком, Корди увидела, что рядом с табличками «гибискус» и «лантана» из цветов торчит босая нога. Это оказался Пол Кукали. Рубашка и брюки куратора были изодраны в клочья. Левая сторона лица превратилась в сплошной синяк, левая рука была сломана, а на правой отсутствовал палец. Правая лодыжка была странно вывернута в сторону. – О господи, – прошептала Корди, – вот бедняга. Ей не очень нравился этот мужчина, но еще меньше нравилось видеть его в таком состоянии. Куратор снова застонал. Прижав руку к его груди, Корди обнаружила, что он дышит и сердце у него бьется нормально. – Пол, где Элинор? Он не реагировал. Корди встала. Она понимала, что ему лучше дождаться помощи здесь – у него могла быть сломана спина или отбиты внутренности. Но она понимала также, что в такую ночь ее могут схватить по дороге к Большому хале, и тогда помощь так и не придет. – Я сейчас, – сказала она и принялась водить фонариком вокруг. Смятые цветы, множество следов – человеческих и других, – но никаких признаков Нелл. Потом шагах в двадцати, возле упавшего дерева, луч фонарика нащупал что-то светлое. Корди пошла туда. Дождь усилился; капли его стучали по листьям со звуком, который в других обстоятельствах мог бы быть успокаивающим. Это была Элинор. Видимых следов повреждений на ней Корди не заметила и, сунув пистолет за пояс, попыталась нащупать пульс. Пульс отсутствовал, как и дыхание. Кожа Элинор была холодной на ощупь. – Черт, – сказала Корди. Зажав фонарик в зубах, она вытащила Элинор на дорогу. Ушибленная голова отчаянно болела, и ей пришлось присесть на камень, чтобы унять головокружение. После этого она осторожно подняла тело Элинор и уложила его на сиденье джипа. Пол Кукали перестал стонать, но еще дышал. Корди перевязала платком его кровоточащую правую руку с оторванным пальцем и втащила его в джип. Пол громко стонал, особенно когда его сломанная нога цеплялась за борт, но в себя так и не пришел. Усадив куратора на переднее сиденье, Корди завела джип испытанным способом – с помощью проволоки – и несколько минут сидела за рулем, думая, что ей делать. Дорогу загораживали упавшие деревья, но переднее было достаточно тонким. К тому же можно было объехать завал по цветочным клумбам. Решившись, она повела машину через клумбы и дальше, сквозь густой кустарник. В треске веток она каждую секунду ожидала услышать рычание, но все обошлось. Вскоре она выехала на асфальтированную дорожку, ведущую к Большому хале, и смогла прибавить скорость. Гавайский оркестр из пяти человек сначала отказался ехать в Мауна-Пеле, но Трамбо предложил музыкантам тысячу сверху, и теперь они усердно играли на укулеле и дудели в саксофоны в банкетном зале, освещенном мигающими лампами. Трамбо был рад музыке – она заглушала звуки шторма и напряженную тишину в здании и позволяла ему спокойно думать. Думать было над чем. Хироси Сато упрямо отказывался подписывать бумаги, пока не найдется Санни Такахаси. Но Санни был если и не мертв, то взят в заложники гигантским говорящим кабаном, который требовал, чтобы он, Байрон Трамбо, спустился в пещеру и поговорил с ним. Трамбо не был суеверен и не интересовался сверхъестественными явлениями, но вполне признавал их существование. К тому же ему не раз приходилось совершать чудеса в сфере бизнеса. Теперь ему предстояло совершить самое трудное чудо – продать Мауна-Пеле, а для этого необходимо было учитывать и говорящего кабана, и другую говорящую свинью по имени Кэтлин Соммерсби Трамбо. Майклс, временно исполняющий обязанности начальника охраны, уже сообщил ему, что миссис Трамбо и две другие леди вместе с адвокатом Кестлером находятся в безопасности на седьмом этаже. Трамбо было жаль, что все так вышло, хотя роман с Майей уже исчерпал себя. Но вот Бики… может, удастся с ней помириться? Отогнав эту мысль, он обратился к более насущным делам. Они заключались в том, что Сато необходимо было вынудить поставить подпись. Трамбо подозревал, что события на курорте не остались незамеченными для людей Сато, и исчезновение Санни оказалось только последним штрихом. Несмотря на свою воинственную историю, современные японцы боятся насилия и имеют на него нюх. К тому же Трамбо знал, что покупка Мауна-Пеле была первым самостоятельным шагом молодого Хироси, жившего до этого в тени своего отца. От удачи этой сделки зависела деловая репутация не только его самого, но и всей корпорации, и это вынуждало его быть особенно осторожным. В зале было довольно мрачно. Трамбо мог приказать включить аварийный генератор, но он берег электричество для лифтов и для освещения конференц-зала в момент подписания соглашения… если оно будет подписано. Музыканты уже вспотели. Уилл Брайент подошел к столу, но благоразумно держался подальше от шефа. Трамбо говорил о какой-то ерунде с Сато и старым Мацукавой, когда в зал вошел Майклс. Извинившись, Трамбо поспешил ему навстречу. – Две вещи, сэр, – сказал охранник. – Во-первых, Фредриксон не выходит на связь. – Хочешь сказать, его нет на месте? – Нет, сэр. Мы оставили ему открытую линию, и ему надо было только спустить воду. – Спустить воду? Трамбо ненавидел все эти профессиональные термины. – Ну да. Это со времен Вьетнама… сэр. Означает, что он мог связаться с нами, просто нажав на кнопку. Так мы связывались с разведчиками, когда не хотели, чтобы вьетконговцы… – Ну хватит. Сейчас не время для военных историй. Значит, он не нажимает на кнопку? – Да, сэр. Похоже, кто-то разбил радиотелефон. – Или проглотил, – задумчиво сказал Трамбо. – Простите, сэр? – Ничего. – Может, послать туда еще человека? – Не надо. Если Фредриксон жив, он сделает свое дело, а если нет… зачем терять людей? Что еще случилось? – Вас хочет видеть дама. – Которая? Кэтлин, что ли? – Нет, сэр. Одна из гостей, миссис Стампф. – А разве не все сбежали? – Нет, сэр. Она победительница конкурса… – Знаю. Что ж, скажи, что я приму ее после завтрака. Майклс замялся: – Сэр, она говорит, что это очень важно. Что это касается пса, акулы и кабана. Она сказала, что вы поймете, что она имеет в виду. Трамбо оглядел зал. Официанты разносили десерт – мороженое с местными фруктами, шоколадные пирожные и кофе. Он решил, что сможет на несколько минут покинуть гостей. – Ладно. Где она? Она сидела в вестибюле. Трамбо уже встречал эту женщину – это она приходила к нему сообщить насчет собаки вместе со своей подругой и этим ублюдком-куратором, – но теперь она выглядела куда хуже. Волосы ее слиплись от дождя, платье было разорвано. – Миссис Стампф! – воскликнул он, взмахивая руками, словно собираясь ее обнять. – Мы так рады, что вы решили перебраться на более удобный седьмой этаж! Что мы можем сделать для вас? – Отошлите охранника, – сказала Корди. Майклс кашлянул. – О, не волнуйтесь, миссис Стампф, ему можно доверять. Все, что вы скажете, останется между… – Я сказала: пусть убирается, – повторила маленькая круглолицая женщина. Улыбка сошла с лица Трамбо. – Убирайся, – бросил он охраннику. Майклс снова кашлянул, но послушно скрылся за дверью вестибюля, где его ждал коллега. – Ну, – сказал Трамбо, – так что там насчет кабанов? – Байрон, у вас две проблемы. Во-первых, ваш курорт кишит мифическими чудовищами. Когда я поднималась, я видела в нижнем саду диких свиней, а на втором этаже – пса с человеческими зубами. – Не беспокойтесь, миссис Стампф. Я понимаю, все эти вещи кажутся… необычными, но поверьте моему слову – завтра все войдет в норму. Я попрошу охранника проводить вас в безопасное место. Он взял ее за руку, почувствовав под мокрой тканью солидные мускулы. – Я сказала, что у вас две проблемы. – Ну? Корди Стампф вздохнула, вытащила из своей сумки пистолет 38-го калибра и ткнула его под ребра Трамбо. – Это вторая, – сказала она. – Вы понимаете, что вы не в своем уме? – Понимаю. Посмотрите на меня. Трамбо посмотрел в маленькие блеклые глаза женщины. Совсем недавно ему угрожала пистолетом разгневанная жена, но он мог видеть пределы ее безумия. Здесь пределов не было. – Ладно, – сказал он, – мне не нужны никакие проблемы. Опустите эту штуку, и я сделаю все, что вы захотите. – Опущу, когда дойдем до места. – Голос Корди был слабым, но твердым. – Или когда спущу курок. Трамбо вздрогнул, но послушно повернулся и вышел в холл, сопровождаемый Корди. Пистолет она засунула в сумочку, и он чувствовал его мушку через материю. Они подошли к лифту, где дежурил верзила-охранник. – Хотите спуститься вниз, мистер Т? Мне ехать с вами? Трамбо покачал головой и сел в лифт, продолжая ощущать под ребрами холод пистолетной мушки. – Какой этаж? – Шестой. На шестом этаже они отыскали номер миссис Стампф. – Пол Кукали ранен, – сказала она. – Я сдала его вашим охранникам. Они обещали вызвать врача. – Доктор Скамагорн, – автоматически уточнил Трамбо. – Он работает у нас с… – Да, – прервала Корди, отпирая дверь номера и пропуская Трамбо вперед. На кровати, застланной гавайским пледом, лежало тело женщины. – О боже. – Трамбо потрогал холодное запястье. Это была ее подруга, мисс Перри. Кожа ее была такой холодной, будто ее вытащили из моря. – Что случилось? «Кабан. Каким-то образом это связано с проклятым кабаном». – Это был кабан. – Корди словно читала его мысли. – Но кабан не мог коснуться ее из-за заклятия, поэтому он натравил на нее Пауна-эву. Трамбо посмотрел на женщину так, будто она говорила на суахили. – Я ее предупреждала. Хотела, чтобы она переждала ночь у меня. Думала, эти гады ее у меня не найдут. По-моему, до меня им дела нет. – Гады? Конечно, Трамбо был взбешен, что эта маленькая домохозяйка, тыча ему под ребра пистолетом, заставляет его выслушивать всякий вздор, но это было не более чем маленькой абсурдной вишенкой на большущем торте абсурда, который ему пришлось слопать за последние дни. – Ладно. Я не о том. Корди вывела его из номера, заперла дверь, и они оказались в темном коридоре. Снизу раздавались какие-то шорохи, а один раз Трамбо показалось, что он услышал низкое рычание. – Не шумите, – прошептала она, когда они вышли на лестницу. Он послушался, хотя его теннисные тапки и так ступали почти беззвучно. Они спустились на первый этаж и через темный вестибюль прошли в ресторан. Он был заперт. – Надеюсь, у вас есть ключ? В кустах за статуями будд что-то шуршало. Трамбо не хотел признаваться, что у него есть ключ, но это шуршание изменило его планы. Выбрав ключ из связки, он отпер дверь и запер ее за ними. Корди осветила длинный зал фонариком, не отвлекаясь, однако, настолько, чтобы Трамбо успел вытащить пистолет. Ну ничего. Скоро. – Это кухня? – шепотом спросила она, увидев дверной проем. – Да. Они прошли на кухню, где в свете фонарика мертвенно блестели стальные шкафы и мойки. – В кладовую, – прошептала она, и он подчинился, думая, уж не маньячка ли она, готовая обожраться до смерти в его присутствии. Кажется, это называется булимия. В любом случае, ему надо спешить, если он хочет побыстрее вернуться к Сато. – Что вам нужно? – спросил Трамбо, видя, что она осматривает длинные ряды консервных банок и мешков. Корди колебалась недолго. – Паштет из анчоусов, – сказала она, обшаривая фонариком нижнюю полку. Трамбо поднял брови, но послушно взял с полки банку. – Берите две. И еще вон тот тюбик с чесночным соусом. Миллиардер поднял тяжелый тюбик с жидким чесноком, чувствуя себя, как муж-подкаблучник в супермаркете. – А что в той черной баночке? – «Мармайт», – сказал Трамбо. – Это такая штука, которую наши гости из Англии любят намазывать на тосты и… – Я знаю. Была как-то в Лондоне. Эта дрянь воняет так, будто в банку залезла мышь и померла там года два назад. Отлично, берите и ее. «Что за сандвич она готовит? Я его есть не стану, пускай лучше застрелит сразу». – Теперь сыр, – сказала Корди, когда они подошли к холодильнику. – Слушайте, если вы голодны, давайте поднимемся со мной наверх… – Замолчите. – Корди сделала угрожающий жест револьвером. – Захватите лимбургский. И вон тот синий. – Мне нужен нож. – Трамбо повернулся к выходу. – Ломайте руками. А еще лучше, возьмите целый круг. – Он весит десять фунтов, – заметил Трамбо, все еще держа банки с анчоусами и чесноком. – У вас достаточно сил. Она открыла дверь, и они опять вошли в темный ресторан. – Куда теперь? – прошептал Трамбо. Он подумал: «Если она подойдет еще на два шага, я могу оглушить ее этим чертовым сыром». От лимбургера тянуло таким ароматом, что его затошнило. Корди прислушалась к скребущим звукам, доносящимся со второго этажа. – Придется подниматься по лестнице. Ваши охранники заметят, если мы воспользуемся лифтом. Они пошли к двери, и тут она остановилась: – Чертова дура! – В чем дело? Вы забыли хлеб? – У меня же нет кокосового ореха! – Какая жалость, – сказал Трамбо. – Это испортит весь пикник. Она не слушала его: – Где у вас винный погреб? На таком шикарном курорте он обязательно должен быть. Трамбо кивнул на дверь рядом с кухней. В винном погребе, выложенном камнем, Корди долго ходила от полки к полке, глядя на этикетки. – Какое самое лучшее? Трамбо пожал плечами: – Понятия не имею. Самое дорогое – вот это. «Лафит-Ротшильд» сорок восьмого года. – О'кей-жокей. – Корди вытащила из сумки ножик, срезала с бутылки крышку и, зажав ее между колен, ловко выдернула пробку. Трамбо в это время пришлось стоять в десятке шагов от нее под прицелом пистолета, который она продолжала держать в руке. – Эй, эта бутылка стоит… – Вот и хорошо, – перебила она и начала выливать благородную жидкость на пол. – О боже! – разъяренный Трамбо нагнулся, чтобы положить сыр, но, подняв голову, увидел черное дуло 38-го калибра. – В чем дело? Хотите глоточек? – Я упеку тебя в дурдом до конца жизни, чертова сука, – промурлыкал миллиардер самым нежным голосом. Корди кивнула: – Может, это будет и неплохо. Но сейчас нам некогда, Байрон. Берите-ка сыр и пошли. Хотя погодите. Пол Кукали говорил, что у вас пропали какие-то люди, так что вам тоже может понадобиться бутылка. – Что за херню вы городите? – Это бутылки для душ. В каждую влезает только одна. Если вам нужно кого-то вытащить, возьмите еще. – Бутылки для душ? Это самая идиотская идея, какую я… – Внезапно он осекся. – Да, пожалуй, мне понадобится бутылка. – Одна? – Да, хватит одной. Да не этого, – простонал он, видя, что рука Корди опять тянется к «Лафиту». – Возьмите вон то, дешевое. – Пожалуйста. – Корди, пожав плечами, откупорила бутылку «Галло» и вылила содержимое на землю. – Теперь по лестнице вниз. – Черт, там же… – Катакомбы. В такую погоду будет легче пройти милю или две под землей. Я думаю, все эти лавовые трубки сообщаются, и именно оттуда выползло то, что слопало ваших парней. – О чем вы говорите? – Идите. Корди ткнула пистолетом в темную пасть коридора. – Не пойду я туда. – Пойдете. – Корди прицелилась. – Не пойду. Можете стрелять. Грохнул выстрел. Пуля оцарапала мочку уха Трамбо и рикошетом ударилась о стенку туннеля. Кисло запахло порохом. Трамбо выронил сыры, банки и тюбик и схватился за ухо с воплем: – Не надо! Не стреляйте! – Тише, придурок! Вы не ранены. Пока не ранены. Я могу прострелить вам достаточно мягких частей, и вы еще сможете идти. Так что лучше идите сразу. Трамбо шарил по полу, собирая продукты. – Вашему духу повезло, что бутылка не разбилась, – заметила Корди. Трамбо просипел что-то непонятное. – Вот так-то лучше. Пошли. – Но куда? Голос женщины был тихим: – К началу пещеры. Там мы разденемся и натремся этой дрянью.
Глава 22
Чтобы представить себе все эти слои лавы, изобилующие странными формами, требуется некоторая доля воображения. Пожалуй, больше всего это напоминает допотопных чудовищ, воссозданных в Стеклянном дворце для нашего просвещения: гигантские ящеры и чудовищные каракатицы.Мисс С. Ф. Гордон-Каминг, «Огненные фонтаны», 1883 год
18 июня 1866 г., безымянная деревня на берегу Коны Я склонилась над телом преподобного Хеймарка вместе со старухой. Мистер Клеменс сидел поодаль. За стенами хижины бесновались демоны, разъяренные запретом Пеле. Старуха протянула мне кокос с духом нашего друга: – Будь тверже. Душа не хочет возвращаться в клетку тела, она привыкла к свободе. Ты должна принудить ее. – Принудить, – повторила я. – Да. Ты должна загнать ее в тело и удерживать там, пока не почувствуешь тепло. Если она ускользнет… – Старуха показала на открытую дверь. – Камапуа или Паунаэва съедят ее, и ты никогда не увидишь своего друга живым. Сейчас моя лава заполняет Царство мертвых. Очень скоро мои враги уйдут, но с ними уйдут и духи. – Принудить, – повторила я и взяла в руки кокосовый орех. – А куда впускать душу? Старуха дотронулась до уголка глаза преподобного Хеймарка: – Это луа-ухане, дверь души. Отсюда Пауна-эва высосал душу, как влагу из кокосового ореха. Но не впускай ее сюда! Дух должен вернуться через ноги. Сними с них одежду. Я заколебалась. Никогда мне не приходилось раздевать мужчину. К счастью, мистер Клеменс вовремя подоспел мне на помощь и стащил со священнослужителя сапоги и носки. Одна мысль о том, что мне придется коснуться этих мертвых, холодных пальцев, вызывала у меня тошноту. Старуха положила мне руку на плечо: – С этого момента ты становишься жрицей Пеле. Ты говоришь ее голосом. Мои слова будут твоими словами. Мои руки – твоими руками. Жди, Пеле будет говорить. В ту же секунду я почувствовала новый прилив сил. По расширенным глазам мистера Клеменса я увидела, что даже облик мой непостижимо изменился. Я откупорила орех, и дух преподобного Хеймарка вышел наружу в виде густого дыма, образуя в воздухе фигуру мужчины. Мне казалось, что старуха что-то поет, но ее голос звучал как из-под земли. Дух потянулся к двери, но я помнила, что мне надо делать, и несколько раз шлепнула его рукой. Ощущение было такое, словно трогаешь горячий дым. Дух потерял человеческие очертания и сделался просто туманным столбом. Откуда-то на ум мне пришли слова, и я начала петь:Стоя в офисе астронома и освещая фонариком черную дыру в стене, Корди скомандовала: – Ну все, пора раздеваться. – Забудьте про это. Уж такого издевательства Байрон Трамбо никак не мог допустить. Корди, устало вздохнув, подняла пистолет: – Куда вы предпочитаете? В бедро или в плечо? В любом случае идти вы сможете. Чертыхнувшись, Трамбо принялся расстегивать рубашку. Пока он раздевался, ему на память пришли все ругательства, которые он знал. Наконец он остался в одних носках. Корди, оставившая себе только сумку и фонарик, продолжала целиться в него из пистолета. – Ну и что теперь? Вы меня изнасилуете? – Слушайте, я недавно ела. Вы что, хотите, чтобы меня стошнило? Снимайте носки. – Я порежу ноги. Корди пожала плечами: – Духи не носят носков, значит, и мы не должны. Снимайте. Трамбо, стиснув зубы, стянул с ног носки. – А плетеные сумки они носят? – Плевать. Не могу же я оставить тетин дневник. – Чей дневник? – Ничей. Начинайте намазываться. Думаю, лучше начать с чеснока. Следующие несколько минут добавили кое-что новое к жизненному опыту Байрона Трамбо. Под дулом пистолета он намазался чесночным соусом, потом перешел к анчоусному паштету. – Теперь сыр, – скомандовала Корди, морщась от невыносимого зловония. – Твою мать. – Трамбо начал крошить сыр. – Он не мажется. – Намажется, если помогу вот этим. – Она опять подняла пистолет. Трамбо размазал лимбургер по волосатой груди. Крошки застряли у него в подмышках и в паху. – Отлично. – Корди намазалась остатками сыра. Трамбо старался не смотреть на нее. С тех пор как он сделал первый миллион, все его женщины были молоды и красивы. Теперь ее маленькие груди, отвисший живот и складки жира на бедрах напомнили ему о его матери, о смерти и о всех других вещах, которые он старался забыть. Внезапно ему захотелось плакать. – Теперь мармайт, – сказала Корди. – Натрите им волосы и лицо. Открыв банку, Трамбо едва не лишился всего, что он съел на банкете. Отвратительный запах смешался с уже исходящими от него ароматами. – Поблюйте, если хотите, – сочувственно посоветовала Корди. – Это добавит вони. Трамбо отверг предложение. – Какого черта мы делаем это? – спросил он, втирая мармайт в редеющие волосы. – Это написано в дневнике. Духи не любят плохих запахов. Если они узнают, что мы живые, они съедят наши души, как Пауна-эва съел душу бедной Нелл. Жаль, что у нас нет кошачьих консервов. По-моему, от их запаха вывернет любого духа. – Значит, вы хотите, чтобы я полез к духам вместе с вами? – Так надо, – сказала Корди, втирая в волосы черную пасту. – Но почему я? – Нужны один мужчина и одна женщина. Простите, но другого мужчины под рукой не нашлось. Такова жизнь. Проглотив эту мудрость, Трамбо напрягся, готовясь вцепиться ей в глотку. – Эй, эй! Оставьте это, Байрон! – Она подняла пистолет. Сжав кулаки, Трамбо шагнул в пролом стены. – Там темно, – пожаловался он. – Ничего, Байрон. Я с тобой.Тут хижина затряслась, как травяная юбка туземки во время танца. Мистер Клеменс упал на колени, продолжая смотреть на меня и на тело преподобного Хеймарка. Пронесся порыв ветра, и непостижимым образом я поняла, что Пауна-эва и его демоны изгнаны и царство Милу вновь закрыто. Я принялась загонять дух преподобного в ноги. Он сопротивлялся, но понемногу отступал. Я обернулась, и старуха подала мне сосуд с водой, которой я окропила тело клирика, продолжая петь:О вершина Килауэа!О пять углов бездны!Огонь женщины – капу.Когда небеса дрожат,Когда земля трескается,Загорается молния Кане.Кане владеет ночью.Мой сон проходит.Э ала э! Проснись!Просыпаются небеса.Просыпается земля.Просыпается море.Проснись! Проснись!Внезапно дух перестал сопротивляться, и я шлепками загнала его в ноги, а потом и в остальные части тела. Несколько минут, показавшихся мне часами, – и преподобный Хеймарк издал кашляющий звук. Его глаза открылись. Он начал дышать. Очевидно, мистер Клеменс поймал меня, когда я упала без чувств.Я велю тебе расти, Кане!Я, Лорена Стюарт, велю тебе!Пеле, богиня, велит тебе это.Вот вода жизни.Вставай! Проснись!Капу смерти окончено,Жизнь возвращается.Вставай! Вставай!
Вверху, на небесах и на земле, продолжалась битва. Вулкан Мауна-Лоа возвышается на 13 677 футов над уровнем моря, но в море он продолжается еще на 18 000 футов. Если бы океан высох, Мауна-Лоа стал бы величайшим на земле горным пиком. Килауэа высотой всего в 4075 футов в этом случае достиг бы высоты 22 000 футов. Сейчас из резервуара магмы в семи милях под вершиной Мауна-Лоа чудовищная сила исторгла огромные количества раскаленной лавы. Натиск стихии вызвал землетрясения по всему Большому острову. На курорте Мауна-Пеле толчок заставил привыкших к землетрясениям японцев броситься к дверям, пока Уилл Брайент звонил доктору Гастингсу и в вулканическую обсерваторию. Никто не отвечал. Гастингс и его коллеги были слишком заняты, наблюдая за самым сильным извержением с 1935 года. Они знали также, что таких мощных одновременных извержений Мауна-Лоа и Килауэа не было с 1832 года. За десять минут в районе Мауна-Пеле было отмечено не менее десятка подземных толчков. Извержение все еще было слабее, чем извержения вулканов Сент-Хелен в штате Орегон и Руис в Колумбии в 1985 году (последнее погубило двадцать три тысячи человек). Однако лава и ядовитые газы, выходящие из десятков трещин и лавовых трубок, серьезно угрожали населенным пунктам на всем протяжении юго-западного разлома. Камень, ставший пористым за тысячелетия нагревания и остывания, наполнился лавой и начал трескаться, усиливая землетрясение. К облакам дыма и пепла присоединились облака сернистого газа, вырвавшиеся из-под земли. Вулканическая обсерватория зафиксировала выход более семьсот тысяч кубических футов лавы. На пути потоков горели леса. Дороги исчезли под тридцатифутовым слоем лавы. Огненная река подхватывала брошенные автомобили, как детские игрушки, и дым сгорающей краски вливался в ядовитый шлейф, тянущийся над землей. Над всем этим изливались потоки дождя, которыми Камапуа поливал остров, как садовник из шланга. В тысячах мест столбы пара обозначали встречу лавовых потоков с морем. От прибрежных скал разбегались волны, но навстречу им не шли валы цунами – этому помешала Пеле, устроившая ночное извержение. Как часть древней стратегии Камапуа, тысячи диких свиней объедали траву и кусты, лишая топлива огонь Пеле. Большинство их изжарилось заживо во время нового наступления лавы. К запаху серы и горящей растительности прибавилось зловоние паленого мяса. Стоя на террасе банкетного зала в президентских апартаментах Мауна-Пеле, Хироси Сато наблюдал, как лавовые струи вливаются в море менее чем в пятистах футах от курорта. – Черт возьми, – повторял он снова и снова. – Я думаю, мы уже близко, – сказала Корди. Казалось, туннели тянутся на мили – одна лавовая трубка переходила в другую, и ни Корди, ни Трамбо не знали, в каком направлении они идут. В любой момент они могли окунуться в море или свалиться в кальдеру вулкана. Вместо этого они достигли места, где стены начали светиться. – Хороший знак, – сказала Корди. – В дневнике говорится, что в Царстве мертвых стены светятся. – Прекрасно, – отозвался Трамбо. Его ноги были изрезаны острыми камнями, кожа покрылась зловонной коркой. Несколько раз подземные толчки сбивали их с ног, и каждую минуту в туннель могла хлынуть прорвавшаяся лава. – Просто прекрасно. Скоро показались духи – туманные силуэты, двигающиеся парами или небольшими группами. Когда пещера расширилась, стали видны сотни духов, которые ели, спали, играли в какие-то игры. – Все как в дневнике, – сквозь зубы сказала Корди. Несколько духов подплыли к ним и тут же отпрянули. Трамбо вполне их понимал. – Теперь нужно молчать, – прошептала Корди ему в ухо. – Духи не говорят. А если и говорят, мы их не слышим. Трамбо кивнул, думая, что еще может вырвать у женщины пистолет Только зачем? Пусть все идет как идет. В конце концов, эта смерть ничуть не хуже, чем любая другая. Он только жалел, что не довел до конца сделку с Сато. Духи продолжали заниматься своими делами. Все они, мужчины, женщины и дети, были голыми. «Если это загробная жизнь, я пас, – подумал Трамбо. – Похоже на нудистский пляж в Филадельфии». – Вот! – прошептала Корди. Тут же Трамбо увидел, что она имела в виду, – небольшую пещеру, в которой стояли несколько духов, отличавшихся от остальных. Потом он разглядел их получше. Диллон, Фредриксон и его охранник Бриггс играли в карты с тремя толстыми мужчинами, которые явно были торговцами автомобилями из Нью-Джерси. У одного из них не было руки. Семья туристов ела невидимую пищу за невидимым столом. Санни Такахаси, присев на камень, считал невидимые деньги, а бывший астроном Мауна-Пеле читал невидимый журнал. Дух Элинор Перри стоял отдельно, вглядываясь вдаль, как будто отыскивал выход. – Нелл, – прошептала Корди и шагнула вперед. Меньше чем через минуту дух Элинор всосался в бутылку. – Дотроньтесь до других, – шепотом велела Корди, – и они пойдут за вами. Того, кого хотите вывести, посадите вот сюда. Она протянула ему бутылку. Трамбо заколебался. Бриггс и Фредриксон служили ему на совесть. Диллона не убили, только похитили у него душу. Жаль было и астронома, и других. Но возвращение Санни Такахаси сулило ему деньги. Взяв бутылку, Трамбозапихнул в нее дух Санни. Это оказалось не так трудно, но в последнюю секунду туда же юркнул бородатый дух Диллона. – Смотри. – Трамбо пожал плечами. – Если там есть место, я буду рад. Место нашлось. Трамбо заткнул бутылку пробкой. – Пора уматывать, – сказал он. Корди кивнула. Они повернулись и замерли – дорогу им преграждал сам Камапуа. 23 июня 1866 г., на борту «Бумеранга» Я читаю свои взволнованные записи, сделанные меньше чем неделю назад, и не могу поверить, что это я их написала. Кажется, это было в другой жизни. Сейчас я плыву в Лахаину, где намереваюсь неделю отдохнуть у своих друзей, а потом отправиться в Гонолулу, где мне уже заказан билет на пароход «Коста-Рика». Мистер Клеменс и преподобный Хеймарк отплыли в Гонолулу вчера на каботажном судне «Килауэа» – преподобный отправился в свою миссию на Оаху, а корреспондент держал путь в Калифорнию. За те дни, что прошли после чудесного спасения нашего преподобного друга, память моя ослабла. Я не могу вспомнить многих деталей, описанных в дневнике. Помню, как мы прибыли в Кану. Помню, как два дня назад мистер Клеменс сделал мне предложение. Помню, как я ему отказала. Моему другу было больно, и это заставило меня страдать. Помню, как сняла перчатку и ласково погладила его по щеке. – Это окончательный отказ, мисс Стюарт? – спросил он. – Сэм, – я единственный раз назвала его по имени, – мой отказ не означает, что я не хочу выйти за вас замуж: или что я не люблю вас… просто я не могу стать вашей женой. Я увидела удивление на его лице. – Когда старуха коснулась меня, – начала я объяснять то, что объяснить не могла, – я почувствовала что-то… свою судьбу. Я должна путешествовать, и писать, и утвердить в жизни свое имя, каким бы скромным оно ни было… вместо того чтобы называться миссис Клеменс, – я улыбнулась, – или даже миссис Марк Твен. Мой друг не улыбнулся мне в ответ. – Не понимаю, – грустно сказал он. – Я тоже хочу путешествовать и писать. Я уже предложил своей газете совершить кругосветное путешествие и посылать им отовсюду такие же корреспонденции, как с Сандвичевых островов. Почему бы нам не заниматься этим вместе? Я только вздохнула. Как объяснить моему непонятливому другу, что он мужчина, а я женщина и, значит, наши пути расходятся? Но в эту минуту я хотела быть с ним! С моим храбрым товарищем. С моим любимым. – Я буду любить вас вечно, – тихо сказал он, когда заходящее солнце обагрило полоску неба на горизонте. – Я никогда не женюсь на другой женщине. Я опять погладила его по щеке. Я знала, что судьба, предсказанная им для себя, будет моей, в то время как он очень скоро изменит свое решение. Я обнаружила, что не могу описать ни радость преподобного Хеймарка, когда он осознал, что жив, ни изумление жителей Коны, не чаявших увидеть нас живыми. По молчаливому соглашению мы никому не рассказывали о том, что пережили, – на Гавайях еще нет сумасшедшего дома, но достаточно уединенных мест, куда отправили бы нас, если бы мы заговорили о Пеле или о царстве Милу. Я не могу признаться даже себе, как опечалена я была, когда без сил опустилась на пол травяной хижины и обнаружила, что старуха исчезла. Я знала, что каким-то непостижимым образом всегда буду связана с ней, как и мои потомки… по крайней мере женского пола. После расставания с моей покровительницей мне пришлось расстаться и с моим лучшим другом. Мы с мистером Клеменсом обменялись формальным рукопожатием на пирсе, но он смотрел мне в глаза и видел в них слезы. Сейчас я тоже плачу и не могу этому помешать. Прекращаю писать, пока не восстановлю контроль над собой. Только что таракан размером с ложку пробежал по моей подушке, нагло глядя на меня и шевеля усами. Он знает, что я боюсь тараканов и не смогу дотронуться до него. Но он ошибается. Я смотрела в лицо опасностям куда страшнее этого насекомого, и теперь мгновения его жизни сочтены. Свобода от страха – прекрасная вещь, пьянящая, как виски, и она может справиться со всеми тараканами на этом суденышке и на всей планете.
– Байрон, – сказал кабан, – как мило, что ты зашел! А это что, дар мне? Он посмотрел на Корди. Трамбо поглядел на Корди, потом опять на кабана. – Конечно. – Я займусь ею потом. Сначала поговорим о нашем деле. Трамбо молчал. – Тебе нужна душа Санни? Миллиардер пожал плечами: – Мне показалось, у вас тут самообслуживание. – Ты прав. И все же я хочу кое-чего в обмен. – Мою душу? – Зачем она мне? Я говорю о бизнесе. Брови Трамбо поднялись, но он ничего не сказал. – Когда я одолею эту стерву Пеле и завладею островом, – продолжал Камапуа, – я планирую на пару десятков лет принять человеческий облик. Я слишком долго сидел под землей и смотрел, как здесь все менялось. Пора самому вступить в игру. Я мог бы опять стать вождем здесь, на Гавайях, но у меня другие планы. – Бизнес? – Именно, – подтвердил кабан. Он подошел поближе, и Корди почувствовала жар его дыхания и увидела стекающую с пасти слюну. – Мы можем заключить выгодную сделку. – Но почему я должен это делать? – спросил Трамбо. Кабан сделал еще шаг, обдавая его вонючим дыханием. – Потому что иначе я сжую твои кишки и отправлю душу в самый дальний угол этой пещеры, где она будет мучиться вечно. – Ладно. Я слушаю. – Ты заберешь душонку Санни, вернешься к японцам и получишь свои триста миллионов. А потом вернешься сюда и мы заключим сделку. – Тебе нужны деньги? Кабан усмехнулся: – Болваны кахуны вызвали нас, чтобы мы уничтожили тебя. Но у нас другие планы. Пеле – вот кого я хочу уничтожить. А с тобой, Байрон, мы похожи. Мы рождены властвовать. Подчинять себе женщин, земли, обстоятельства. Я хорошо понимаю твою страсть к разрушению. Мне не нужны твои деньги. – А что тогда? Камапуа опять усмехнулся. Его восемь глаз ярко заблестели. – Мы на время поменяемся местами, Байрон. Я стану тобой, а ты мной. Лицо Трамбо оставалось спокойным. – Погоди-ка… дай сообразить. Значит, тебе нужно мое тело? Кабан кивнул. – Значит, ты станешь магнатом с домами и женщинами на трех континентах, а я должен двадцать лет провести в вонючем свином логове под землей? – Таковы условия, Байрон. – И на кой черт мне такая сделка? – Во-первых, – сказал кабан низким утробным голосом, – я не сожру тебя. Ты останешься жить. Во-вторых, я гарантирую, что за эти двадцать лет увеличу твою империю до невиданных размеров. Ты из кожи вон лезешь, чтобы продать дурацкий курорт за жалкие триста миллионов. Когда ты вернешься в свое тело, ты будешь владеть миром. Я не преувеличиваю. – Я могу добиться этого, оставаясь в своем теле, – возразил Трамбо. – В-третьих, – продолжил кабан, не слушая его, – ты станешь королем Царства мертвых и получишь неограниченную власть над всеми духами и демонами. Ты сможешь повелевать дождем, громом и волнами. Ты вкусишь власти, о которой не мог мечтать ни один из смертных. – То есть ты отдашь мне всю свою власть? Камапуа покачал щетинистой головой: – Я не дурак, Байрон. Если бы я отдал тебе всю власть, ты очень скоро захватил бы и верхний мир. Нет, большую часть власти я оставлю себе, чтобы сделать тебя богатым и могущественным сверх всяких пределов. Но и того, что достанется на твою долю, тебе хватит. Ты еще будешь жалеть о должности властелина подземного царства. – А если ты решишь навсегда остаться человеком? – Что ты! Конечно, у людей есть свои преимущества, но они смертны. Я не хочу умирать. Я же бог. – И еще одно. Через двадцать лет мне будет почти шестьдесят. Человеческие зубы кабана сверкнули в тусклом свете. – Я буду беречь твое тело, Байрон. Надеюсь в обмен на ту же любезность. А богатство, которое я завоюю для тебя, с избытком заменит тебе молодость. – Значит, таковы условия сделки? – Да. Если ты откажешься, твои тело и душа сгниют здесь. Если согласишься – получишь богатство, власть и сможешь почувствовать себя богом. Ну как, Байрон Трамбо, по рукам? Трамбо, казалось, задумался. Когда он поднял голову, в его глазах была решимость: – Слушай мой ответ, Камапуа. Иди-ка ты в жопу. Корди увидела, что морда кабана тоже может выражать изумление. – Иди в жопу вместе со своей свинячьей матерью, – уточнил Трамбо. Камапуа, теперь по-настоящему разъяренный, взревел: – Как ты смеешь отказывать мне, смертный?! Трамбо пожал плечами: – Что делать? Я никогда не любил свинину. Кабан оскалил зубы. – С удовольствием сожру вас, – прорычал он. – А потом проглочу ваши души. – Смотри! – крикнула Корди, указывая за его спину. В двадцати шагах от них стояла молодая гавайка с цветком в волосах. Она казалась очень юной, но ее темные глаза прожигали насквозь. – Убирайся отсюда! – взревел Камапуа. – Это мои владения, а эти смертные – мой обед. Женщина не шелохнулась. – Сейчас они умрут. Кабанье рыло повернулось к людям. Корди выхватила из сумки револьвер, но чудовище отбросило его прочь одним движением щетинистой морды. Тут земля содрогнулась. Корди и Трамбо упали как подкошенные, и даже гигантский кабан пошатнулся. – Убирайся! – снова прорычал он. – Говорю, это мои владения. С тобой я разберусь потом. Трамбо и Корди Стампф услышали грохот еще до того, как почувствовали жар. Что-то неслось по пещере со скоростью курьерского поезда. Стены осветились оранжевым блеском. – Лава! Трамбо повернулся, чтобы бежать, но времени у него не оставалось. Кабан расхохотался: – Так вот чего ты хотела, идиотка? Нет, они умрут от моих клыков, прежде чем их поглотит твой проклятый огонь! Он разинул пасть, и тут Корди выдернула пробку из бутылки. Дух Элинор Перри вылетел наружу и замер перед мордой кабана туманным облаком. Другие духи беспокойно метались по пещере, почуяв приближение лавы. – Уйди с дороги! – рявкнул кабан, но Элинор продолжала неподвижно висеть перед ним, отделяя его оскаленные клыки от лица Корди. – Ты не можешь коснуться ее, – слабым голосом сказала Корди. – Так велела Пеле. Кабан повернулся к Трамбо, но дух Элинор тут же передвинулся к нему. Камапуа отпрянул, не в силах нарушить капу, наложенное богиней более ста лет назад. От потолка начали отваливаться куски. Свет приближающейся лавы становился все ярче. – Быстрее ко мне! – крикнула женщина Корди. Кабан еще раз попытался схватить ее, но опять натолкнулся на призрак Элинор. Смертные были проворнее, и не успел он повернуться на своих тонких ногах, как они уже преодолели расстояние, отделявшее их от Пеле. – НЕТ! – Рев кабана заполнил пещеру грохотом. Он оттолкнулся от пола и прыгнул вперед, как бык на арене. Трамбо и Корди зажмурились, но в трех шагах от них невидимая преграда отбросила кабана назад. Женщина подняла руки. Голос ее был таким же красивым, как и она сама:
Глава 23
Земля и небо наконец Пришли на круги своя, И закружился созвездий венец, И встретилась с небом земля. И в изумрудной морской дали, Пение волн ловя, Как птичья стая на воды легли Прекрасные острова. Что было раздельным – слилось навек, И небо взметнулось ввысь, И, проливая на землю свет, Огни в вышине зажглись. И скорые тучи начали бег, И солнце вскоре взойдет, И смотрит радостно человек В высокий небесный свод.Корди и Элинор спали долго, не слыша гудения садящихся и взлетающих вертолетов. Разбудило их пение птиц. Элинор подошла к огромной кровати, где раскинулась Корди, так и не успевшая снять грязную рубашку и джинсы, которые она надела в Большом хале. – Доброе утро. Корди приоткрыла один глаз. Элинор протягивала ей чашку с горячим кофе. – Где ты его нашла? – спросила она, едва шевеля губами. – В твоем шкафу. Всем постояльцам полагаются кофеварка и запас кофе. – Она поморщилась. – Как болит голова! – Да. Ты помнишь, что случилось? – Нет. Так, какие-то обрывки. – А как ты себя чувствуешь помимо головной боли? – Ничего. Только пятки ноют. Корди усмехнулась: – Я хорошо их побила, когда загоняла обратно твою душу. – Знаешь, что странно? – спросила Элинор. – Что? – Я никогда не верила в жизнь после смерти. – Я тоже. – И еще… я и сейчас в это не верю. Корди отхлебнула кофе. – Я понимаю, о чем ты говоришь, Нелл. Все это кажется нереальным. Как будто мы попали в параллельный мир или еще какую-нибудь ерунду из фантастических фильмов. – Когда я очнулась, то подумала, что мне будет трудно вернуться к изучению Просвещения. Но сейчас я понимаю, что это не так. Может быть, я даже лучше пойму его. Элинор помолчала. – Что скажешь, если я сейчас оденусь и мы посмотрим, что осталось от этого места? – Прекрасная идея. Только мне придется принять душ и надеть что-нибудь посвежее. Элинор принюхалась: – Какие у вас интересные духи, леди! – О, это новинка сезона. «Лимбургский чеснок с анчоусами». Прекрасно отпугивает духов. Элинор встала: – Слушай, я даже еще не поблагодарила тебя. Не знаю, как и… – Никак, – отрезала Корди. – Просто мы теперь… – Как сестры. В радости и в горе. – Да. – Корди отпила еще глоток. – А вот кофе, Нелл, ты варишь паршивый.«Кумулина», гавайская «Песнь творения»
Первый этаж был засыпан обломками мебели и черепками посуды. На грязном полу валялись сломанные деревья и вырванные с корнем цветы. В миле к северу и югу виднелись столбы дыма от лавовых потоков, но сам курорт не пострадал, хотя шторм причинил ему немало разрушений. Повсюду сновали рабочие и спасатели в желтых комбинезонах, блестящих на ярком утреннем солнце. Северный ветер отогнал тучи пепла далеко в океан, но иногда к свежему дыханию моря еще присоединялся запах серы. У входа в здание суетились репортеры. На Элинор с Корди тут же направили телекамеры, но они отмахнулись и поднялись наверх, миновав спящих охранников. Байрона Трамбо они нашли в разоренном банкетном зале. Миллиардер стоял на террасе и глядел вдаль. На нем были гавайская рубашка, шорты и сандалии. Рядом примостился Уилл Брайент. – Привет, – сказала Корди. Трамбо хмуро поглядел на нее: – Я еще не забыл прошлой ночи. – Я на это и не рассчитываю. Как Пол? – Его отправили в больницу, – сказал Брайент. Он был одет в белый полотняный костюм и показался Элинор чем-то похожим на Марка Твена. – И как он? – спросила она. – Врачи говорят, будет жить. Этой ночью у нас одни раненые. Ни одного смертельного случая. – А Кэтлин, Майя и Бики? – спросил Трамбо. – С ними тоже все в порядке? – Да, сэр. – Черт, – сказал миллиардер. – Они улетели вместе на рассвете. И взяли с собой Джимми Кахекили. – О господи! Это еще зачем? – Похоже, они собираются нанять гавайских сепаратистов, чтобы убить вас, – бесстрастно доложил помощник. Байрон Трамбо только хмыкнул. – А что японцы? – спросила Элинор. – Эти улетели еще до рассвета, – ответил Трамбо. – Сейчас они уже на полпути к своей гребаной Японии. – Что, сделка сорвалась? – В конце концов они предложили мне тридцать пять миллионов. – И что их больше всего напугало? Лавовые потоки? Или демоны? Трамбо невесело улыбнулся: – Ни то ни другое. Корди, вы помните, как загоняли в тело душу Санни Такахаси? – Конечно. – Я в спешке совсем забыл, что в этой чертовой бутылке два духа. А помните, как потом душа Диллона не хотела входить в тело? – Помню. Уилл Брайент посмотрел на Элинор: – Ну скажите, как здоровые люди могут вести подобные разговоры? – Не спрашивайте меня, – сказала она. – Я тоже там была. – Так вот, – продолжал Трамбо. – Мы поменяли их местами. Представляете, я вручаю Сато его любимого друга, ожидая, что теперь он подпишет все, что угодно, а тот вдруг начинает говорить голосом Диллона. А потом встает Диллон и начинает что-то тараторить по-японски. Тут-то все и полетело к черту. Все четверо некоторое время молчали, любуясь восходом солнца на фоне кокосовых пальм. – А может, их поменять местами? – предложила Корди. – В том-то и дело, что и Санни, и Диллону понравились их новые тела. Они решили пожить в них. Уилл Брайент покачал головой. Трамбо посмотрел на своего помощника: – Разве я не уволил тебя ночью? – По правде говоря, нет. После того как улетели японцы и мы с вами пропустили по несколько рюмок, вы сказали, что относитесь ко мне, как к родному сыну. – Что за чушь? – Да-да, – заверил Брайент. – И еще вы сказали, что всякий, кто согласился бы войти в ту пещеру, был бы слишком глуп, чтобы работать на вас. Поэтому вы решили меня не увольнять. – Черт! – Трамбо почесал в затылке. Элинор оглядела остатки банкета: – Что это для вас значит, мистер Трамбо? В финансовом смысле, я имею в виду. – В финансовом смысле это значит, что я разорен. Все, что осталось, заберет моя жена. Снова карабкаться наверх мне придется из долговой ямы. – Он улыбнулся Корди. – Но это не самое худшее, что могло со мной случиться, правда? – Не самое, – согласилась она. – Но все поправимо. Сколько предложил вам Сато, когда вы готовились подписать соглашение? – Триста миллионов, – вздохнул Трамбо. – Я предлагаю триста двадцать пять, если мы подпишем бумаги сегодня же. Байрон Трамбо начал смеяться, потом остановился: – Наличными? – Если хотите, хотя, думаю, нам обоим будет лучше расплатиться акциями. – Миссис Стампф из Чикаго… Кук… Это Кук? Элинор и Брайент застыли на месте, не в силах вымолвить ни слова. Трамбо хлопнул себя по лбу: – Как же я не догадался! «Чикагская компания очистки и утилизации»! Крупнейшая фирма по уборке мусора во всей гребаной Америке! Они обслуживают все колледжи и половину школ от Небраски до Вермонта. Стампф… он умер год назад, и дела приняла его жена. По слухам, она и раньше вела их. – Слухи верны, – спокойно сказала Корди. – Два месяца назад компанию продали, – уточнил Уилл Брайент. – Консорциуму «Ричи-Уорнер-Мацу», за три четверти миллиарда долларов. – Это только наличными, – сказала Корди, облокотившись на перила. – Ну, что скажете, Байрон? Мои люди могли бы привезти деньги сегодня… и даже бесплатно вывезти мусор. Трамбо открыл рот и снова закрыл. – Корди, ты… ты правда собираешься заняться гостиничным бизнесом? – спросила Элинор, все еще не веря собственным ушам. – Нет, конечно. Просто я вспомнила, как мне хотелось открыть здесь госпиталь для раковых больных. – Госпиталь? – переспросил Трамбо. – Вы в своем уме? Корди пожала плечами. – Вы не были ни в одном из таких заведений в Америке? Посмотрите как-нибудь. Может, поймете, почему я хочу устроить такое заведение в месте, где люди могут купаться и загорать… даже если они умирают. – Почему бы нет? – спросил Уилл Брайент сам себя. – Кроме того, экономика островов в упадке. По-моему, местным уже надоело работать официантами и прачками. Если здесь появится крупный онкологический центр, кто-то из них сможет сделать карьеру в медицине. Трамбо молча смотрел на нее. – Что скажете, Байрон? Мои юристы прилетят к обеду. Успеете подготовить бумаги? – Она протянула ему свою маленькую мозолистую ладонь. Трамбо поглядел на ладонь, потом на Уилла Брайента, потом опять на ладонь – и пожал ее. Корди с Элинор спустились вниз и пошли по асфальтовой дорожке к пляжу. Там они остановились, любуясь на отражение солнца в чистой воде и слушая тихий шелест прибоя. – Это будет самый красивый госпиталь в мире, – сказала Элинор. Корди только кивнула. – Как ты думаешь, больше не будет неприятностей с… – С Камапуа? С Пауна-эвой? С Ку? – Да. Со всеми. – Не думаю. – Корди улыбнулась. – Теперь они залягут на дно еще на несколько столетий. Элинор тоже улыбнулась. Солнце уже нагрело песок, и она сняла сандалии и с удовольствием прошлась босиком. – Нелл, что ты теперь собираешься делать? – Не знаю. У меня осталась неделя отпуска, и в принципе я хотела попросить нового владельца курорта – нельзя ли провести это время здесь. Корд и потерла лоб: – Мне кажется, новый владелец даже предоставит тебе президентские апартаменты. А сейчас он предлагает пойти в бар Кораблекрушения и чего-нибудь выпить. Она тоже сняла туфли, и две женщины подошли к самому краю прилива. – Луи, – просипела Корди, имитируя какого-то киноактера, – по-моему, это может быть началом очень крепкой дружбы. – Отлично сказано. Элинор подняла камешек и пустила его по воде навстречу сверкающему отражению солнца. Письмо, найденное в дневнике тети Киддер
18 июня 1905 г. 21, Пятая авеню, Нью-Йорк. Мисс Лорене Стюарт, 3279, бульвар Паттона, Хаббард, Огайо Дорогая мисс Стюарт! Мне очень стыдно, что я не ответил на ваше письмо, полученное больше года назад. Как вы знаете, 5 июня прошлого года, во Флоренции, я потерял мою дорогую Ливию. За весь этот год не было ни одного дня, когда бы мне не хотелось поскорее присоединиться к ней. Но, как мы с вами усвоили много лет назад на Сандвичевых островах, у живых есть долг перед живыми, и ваше прекрасное письмо еще раз напомнило мне об этом. В письме вы просили меня рассказать, как мы встретились с Ливией и как мы поженились. Думаю, настало время выполнить вашу просьбу. Вы, может быть, помните, что, когда мы с вами расстались, я попросил газету отправить меня в кругосветное путешествие. Будучи в Святой земле, я познакомился с молодым американцем по имени Чарли Лэнгдон, и он показал мне вырезанную из слоновой кости миниатюру его сестры. Удивительно, но я влюбился в эту девушку с первого взгляда. Следующей зимой я впервые увидел ее воочию. Она была юной, по-девичьи озорной и в то же время удивительно женственной. Два года спустя мы поженились. Это звучит просто, но истинная любовь никогда не обходится без испытаний. Я провел у Лэнгдонов целую неделю, но ни разу не мог остаться с Ливией наедине. И вот, когда они отвозили меня на станцию, плохо закрепленное заднее сиденье повозки отвалилось и мы с Чарли вылетели на дорогу. Я получил сотрясение, и меня пришлось отнести в дом и накачать таким количеством бренди, которое свалило бы с ног самого дюжего ирландца. Все время, пока я лежал без чувств, Ливия прикладывала мне компрессы и поправляла подушки, а потом я открыл глаза, и мы в первый раз говорили без свидетелей. Я провел у них еще три дня, а потом мы с Ливией писали друг другу письма. Ее отец прочел одно из них и вызвал меня к себе. «Что вы за человек? – спросил он меня. – Есть ли у вас какая-либо опора в жизни?» «Нет», – честно признался я. «Хорошо, – сказал он. – Тогда я буду вашей опорой. Берите мою дочь». Четвертого февраля 1869 года я надел ей на палец обручальное кольцо, а еще через год оно превратилось в венчальное. С тех пор оно всегда было у нее на пальце – до того летнего дня в Италии, когда смерть на короткое время сделала ее опять юной. Да, она лежала юная и прекрасная, как будто снова была невестой. Они хотели снять кольцо с ее пальца, чтобы отдать детям, но я не дал этого сделать. Она легла с ним в землю. Признаюсь вам, мисс Стюарт, когда перед свадьбой моя дорогая Ливия спросила меня, как все невесты, нет ли у нее соперницы, я честно рассказал ей о вас – о запахе сандалового дерева и теплого моря, о багровом свете вулкана и о том, как мы с вами предприняли нелегкое путешествие – или нам это приснилось? – чтобы вернуть в тело душу нашего почтенного друга. Теперь, когда я вспоминаю об этом, меня немного утешает знание того, что душа Ливии ждет меня где-то. И еще меня утешает сознание того, что ваш отказ принять мое скоропалительное предложение в том далеком июне был неверно истолкован мной. С тех пор я прочитал все ваши прекрасные путевые записки: «Нехожеными тропами Японии. Визит американки ко двору микадо», «Леди из Огайо в Скалистых горах», «По Сахаре на верблюде» и другие. Увы, я так и не дождался книги о Сандвичевых островах. Вы знаете, что я такую книгу написал. Первые наброски были сделаны мною еще тогда, а в 1884-м я засел за роман о древних королях, о странных языческих обрядах и христианских миссионерах, но постепенно этот замысел изменился до неузнаваемости и съежился в маленький роман под названием «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Однако роман о Гавайях все еще живет во мне, и если мои старые кости проскрипят еще немного, я намереваюсь написать его, как написал давно лелеемую книгу о Гекльберри Финне. Может быть, я продиктую этот роман своей дочери Джин, которая теперь живет со мной. Мисс Стюарт, мне трудно писать. Не знаю, как высказать вам благодарность не только за сочувствие, высказанное по поводу моей прошлогодней утраты, но и за память о наших приключениях в далеком краю на берегу океана. Я не путешествовал так много, как вы, но все же повидал немало, и из всех виденных мной стран по-прежнему одна остается самой прекрасной и желанной. Другие страны меняются, но эта остается неизменной. Все так же там блестит на солнце морская гладь, все так же веет теплый ветер. Я помню ее пышную зелень, помню величественные вершины гор и мрачные лавовые пустыни, и ноздри мои жадно вдыхают аромат ее бесчисленных цветов. И среди всех этих видений, мисс Стюарт, мне неизменно видится ваш образ. Мне слышится ваш смех, я вижу нас обоих юными, невинными, не тронутыми временем и жизненными невзгодами, и мечтаю о том, как наши души, освободившись от старых и немощных тел, вместе полетят в эти волшебные края. Я надеюсь, что это будет так. Не верю, но надеюсь. Я представил бы вас с Ливией друг другу, и мы летали бы среди цветов блуждающими огоньками, навсегда забыв, что за пределами этих зачарованных островов есть другой мир. Прошу вас, напишите мне, мисс Стюарт. Я знаю и люблю ваш стиль и хотел бы продолжить знакомство с ним. Остаюсь в ожидании, ваш старый, но преданный слугаСэмюэл Ленгхорн Клеменс.
Дэн Симмонс
 «Молитвы разбитому камню»
«Молитвы разбитому камню»
Посвящается Карен, с любовью
Вступление
Рано или поздно приходит время, и ты понимаешь: ничего нового или значительного больше не совершить. Тогда остается только достать огромный гроссбух и подвести итоги — что же такого ценного можно оставить потомству. Тут проявил себя молодцом, тут храбрецом; в таком-то году историю добротную рассказал; в таком-то десятилетии поучаствовал в важном общественном движении. Дети тоже учитываются. И книги. Преданные друзья. Мужья и жены. Братья наши меньшие. Холм в честь тебя назвали. А потом столь тщательно заготовленные лавры берут и рассыпаются в прах. Культурная амнезия. Мы похоронили вчерашний день. Кто сегодня помнит Криспуса Эттакса[1] или Эдуарда Яшинского,[2] Бетти Пейдж[3] или Уэнделла Уилки,[4] Элвина Роя[5] или Мемфис Минни Дуглас?[6] Человек семь на всем белом свете помнят их: вы, да я, да еще пятеро.Артур Гитерман. О тщете земного величия[7]
Всему виной Эд Брайант;[11] теперь он близкий друг Дэна, но тогда они не были знакомы. Мы с Эдом давно приятельствовали; думаю, именно поэтому жарким дождливым летом тысяча девятьсот восемьдесят первого я и согласился выступить в качестве почетного гостя на писательской конференции в колледже Колорадо Маунтин. Нужно было провести семинар для группы амбициозных дилетантов — еще больших любителей, чем те начинающие авторы, с которыми я неоднократно работал на клэрионских конференциях.[12] Меня от этой мысли бросало в дрожь. Условия не очень-то способствовали плодотворному общению: душные аудитории, стулья с плоскими спинками, страшно неудобные жесткие парты, прямо как в третьем классе. Они еще и стояли рядами. В середине комнаты — возвышение, с которого, как предполагалось, восседающий лицом к слушателям «наставник» будет сеять разумное, доброе, вечное в малообразованные умы. Кошмар какой-то… особенно если вспомнить Клэрион, где уютные кресла и диваны составлены в круг, всем друг друга хорошо видно и лектор не доминирует над слушателями. К тому же в Колорадо Маунтин группа была слишком большая — со всеми поработать никак не успеешь. Я приехал накануне вечером, и мне выдали пачку рукописей для разбора на семинаре. Никто не объяснил, в каком порядке рассказы будут обсуждаться, поэтому я принялся читать наугад, не особенно впечатленный качеством материала, но в надежде, что именно эти работы окажутся первыми в списке.
И вот на следующее утро добираюсь я до вестибюля, где участники толкутся и пьют кофе с булочками, и проверяю этот самый список. Вообразите себе мою «радость»: оказывается, я даже не открыл те три-четыре рассказа, которые предполагается обсудить в первую очередь, а потратил всю ночь на чтение тех, что отнесены на конец недели. Быстро хватаю со стенда непрочитанные рассказы, забиваюсь в дальний угол библиотеки и принимаюсь наверстывать упущенное. Первые три написаны прилично, но ничего особенного. Четвертый — просто ужас какой-то. До пятого добраться не успеваю… объявляют начало семинара. Я вошел в аудиторию, увидел толпу людей за партами и пустой стул на возвышении, ожидавший меня, словно странствующего миссионера-возрожденца, который приехал проповедовать Слово Божье, — и сердце мое упало. Утро обещало быть чертовски трудным. Поймите, я не верю в то, что «писать может каждый». Каждый (или каждая) способен складывать слова в некоторую осмысленную последовательность, если обладает элементарными языковыми навыками и хотя бы минимальным читательским опытом. Этого вполне достаточно, чтобы сочинять письма, кандидатские диссертации или заниматься «творчеством», но недостаточно для того, чтобы быть писателем. Именно писателем, а не «автором», коих, увы, сегодня расплодилось немало: Джудит Кранц,[13] Эрик Сигал,[14] К. В. Эндрюс,[15] Сидни Шелдон — список можете продолжить сами. Чтобы быть писателем, нужно слышать музыку. Лучше не могу объяснить. Нужно просто слышать музыку. Пусть синтаксис хромает, пусть ошибок миллион, пусть тема сырая, но ты читаешь и понимаешь — это писатель. Сбивчиво, слова подобраны неверно, но страницы наполняет музыка. И по-другому не бывает, что бы там ни думали любители или чрезмерно сердобольные души. Поэтому когда меня приглашают вести семинар, я считаю своим долгом быть честным до конца. Допустим, кто-то изо всех сил работает в надежде стать писателем, но при этом не слышит музыки. Я могу искренне ему сочувствовать, но если выберу простой и легкий путь и постараюсь «не оскорбить чьи-то чувства» (мои собственные в том числе — ведь слыть бессердечным чудовищем тоже не очень приятно), то просто-напросто предам свое ремесло, подведу тех, кто меня пригласил на семинар, и тех, кто принес на него работы. Хуже нет, чем врать человеку, который, по моему мнению (а я, как и все, вполне могу ошибаться), не слышит музыки. Врать в такой ситуации — просто подло. Фланнери О'Коннор однажды сказала: «Меня всюду спрашивают: „Не кажется ли вам, что университетское образование душит писателей?“ На мой взгляд, оно их душит недостаточно. Сейчас выпускается множество таких бестселлеров, появление которых мог бы предотвратить хороший учитель». Вот и я считаю своим долгом отбить охоту писать у как можно большего числа «многообещающих авторов». Потому что у настоящего писателя отбить охоту писать невозможно. Я говорил об этом сотни раз. Сломайте настоящему писателю руки, и он или она будет выстукивать рассказ на машинке пальцами ног или носом. Именно с таким настроем я уселся на тот стул перед толпой взволнованных молодых и совсем не молодых мужчин и женщин, которые пришли в надежде, что некий гуру сейчас скажет им: «Да, у вас есть шанс». (В последнее время я почти не провожу семинаров. Невыносимо во имя священного дела настоящей литературы причинять столько боли. Пусть кто-нибудь другой этим занимается.) Участник, чей рассказ шел первым, отсутствовал. Был, я так полагаю, на семинаре по поэзии. Так что мы начали со второго. Я спрашивал мнение присутствующих, а потом уже говорил сам. Комментарии следовали не особо выразительные — обычные «очень понравилось» или «восемьдесят шесть из ста, я бы под такое сплясал».[16] Никакого серьезного разбора, но он и не требовался: это был неплохой рассказ, не более того. С третьим — почти так же. А потом мы добрались до четвертого. Дилетантское месиво из банальнейших клише, никакого изящества, ошибки в каждом втором слове, повсюду типичные ляпы, которыми грешат те, кто, по выражению Стэнли Эллина,[17]«принимает любовь к чтению за писательский талант». Да, разговор явно предстоял неприятный. Отзывов из аудитории последовало мало. Большинство присутствующих, по крайней мере, сознавали, что рассказ просто ужасен. Они притихли, я еще немного поспрашивал, ответа не дождался, и в комнате повисла смущенная тишина. Слушатели замерли, словно перед выступлением воздушных акробатов: впервые! смертельный номер! групповое тройное сальто-мортале. Я попросил автора назваться. Если уж придется это сделать, надо хотя бы набраться храбрости и посмотреть ему в глаза. Руку поднял пожилой человек, худой и высокий, явно повидавший жизнь, но на вид добрый и мягкий. Имени не припомню. И я ему сказал. Сказал, что, если судить исходя из моей многолетней практики в качестве критика и редактора, из опыта работы в многочисленных семинарах, где я был слушателем и лектором, из обширного и постоянного чтения, из бесконечных попыток улучшить собственную писанину, из всех моих знаний, предположений и догадок о писательском ремесле — он, с моей точки зрения, литературным талантом не обладает. Ни маленьким, ни большим. Никаким. Я не стремился его задеть, но сказал все прямо, честно и жестко. Пока я говорил, в комнате сгущались тени. Одни участники съежились за партами, будто хотели спрятаться от моего взгляда. Другие отворачивались, прикрывшись рукой. На некоторых лицах я видел выражение, с каким, наверное, солдаты в окопе виновато, но облегченно вздыхают, когда пуля попадает не в них, а в товарища. Я не мог остановиться, не показав постранично то чудовищное неумение и ту абсолютную глухоту, которыми был полон рассказ. Наконец я закончил и спросил, первый ли это рассказ или он уже что-нибудь пытался опубликовать. Это был приятный, очень сдержанный человек, он ответил без всякой злобы: — Я написал шестьдесят четыре романа. Меня никогда не печатали. Сердце мое было разбито, но что я мог поделать? Я сказал: — Может быть, вам лучше заняться каким-нибудь ремеслом или искусством, к которому у вас есть талант. Он покачал головой. Мы как будто остались вдвоем в той комнате — неразрывно и навечно связанные, этот прекрасный пожилой человек и я. Твердым голосом он ответил: — Я ценю ваши слова и понимаю: вы говорили честно, вы в это верите. Но меня вам не переубедить, я хочу быть писателем и буду пытаться. Но все равно спасибо. (Не проходит и недели, чтобы я не вспоминал об этом человеке, чье имя успел позабыть. Я вспоминаю о нем всякий раз, когда сажусь за письменный стол.) Нам всем срочно требовался перерыв.
Продолжать семинар было просто невозможно. Каждый из этих людей требовал особого подхода. Так что я объявил пятнадцатиминутную паузу. Аудитория мгновенно опустела; никто не подошел ко мне поговорить или спросить о чем-либо. Я испугался, что перегнул палку, хотя твердо верил: быть честным — мой долг. Выходить в коридор к участникам семинара не хотелось. Я знал: они не хотят сюда возвращаться — боятся, что дальше будет то же самое, и жалеют, что не выбрали другую секцию. Я их не винил. Получился и правда какой-то фильм ужасов. Так что я взял пятый рассказ, верхний в стопке. Как ни погано было у меня на душе, за оставшиеся пятнадцать минут требовалось его прочитать. Ничего хорошего я не ждал. Вот достанется сейчас этому автору, несчастному сукину сыну. Название вполне обычное, но первые несколько предложений написаны уверенно и хорошим слогом. Помню, я еще подумал: «Ну слава богу. Здесь, по крайней мере, обойдемся без побоища». И стал читать дальше. И где-то на середине понял, что плачу. А в конце ощутил, что меня задело за живое, перевернуло, захватило, как всегда происходит в тех случаях, когда читаешь превосходную литературу. Я испытал ту внутреннюю дрожь, ради которой обычно и берешься за книгу. Вышел из аудитории глотнуть свежего воздуха: меня действительно пробрало. А в коридоре участники семинара сидят на полу и плачут; держатся за стенки и плачут; собрались в кучки и плачут. Совершенно очевидно — перед нами не просто добротная работа, перед нами настоящий писатель, чертовски талантливый. Перерыв закончился, все собрались, я прочитал название и предложил начать обсуждение. Желающих высказаться было немного, но рассказ они похвалили. А потом словно прорвало плотину: все начали говорить одновременно, перебивая друг друга, — признавались, как глубоко тронул их этот чудесный рассказ. А потом настала моя очередь. Все посмотрели на меня с тревогой: неужели этот жуткий человек сейчас разнесет в пух и прах даже такую выдающуюся работу? Неужели он просто-напросто ехидное и высокомерное чудовище? Ему что,удовольствие доставляет калечить нежные души? — Кто из вас Дэн Симмонс? — спросил я. В третьем или четвертом ряду поднялась рука. Тихий мужчина, я его и не заметил, около тридцати лет, обычного телосложения, просто мужчина — ничего экстравагантного или даже необычного. Он смотрел мне прямо в глаза. Помню отчетливо лишь немногое из сказанного ему тогда (сам-то Дэн помнит почти все), но суть была такова: — Это не просто хороший, или добротный, или оригинальный рассказ. Это великолепный рассказ. Вы сотворили настоящее чудо. Именно про такое сами писатели говорят: «хорошо написано». В этом рассказе налицо необычайная опытность и умение, которые приходят после долгих лет проб и ошибок. Он оригинален и исполнен человечности. Вы создали что-то, чего до вас в мире просто не существовало. Участники семинара остолбенело молчали. Пятнадцать минут назад у них на глазах я выпотрошил одного человека, а сейчас превозносил другого, делал из него символ всего того, чем они сами так жаждали стать. (Я не смог бы лучше продемонстрировать разницу, даже если бы все спланировал заранее. В реальной жизни обычно не сталкиваешься с такими явными, показательными противоположностями. Реальная жизнь неупорядочена и редко становится сценой подобных откровений. Но вот, пожалуйста, я каким-то образом умудрился выпасть из реальной жизни.) Затем я сказал: — А теперь я раз и навсегда изменю вашу жизнь. Мистер Симмонс, вы — писатель. И вы навсегда останетесь писателем, даже если больше ничего не напишете. Возможно, здесь есть и другие писатели, но я сомневаюсь, что кто-нибудь еще в этой комнате является писателем в столь полном и точном смысле этого слова. Я должен сказать и еще кое-что: вы теперь не сможете, никогда не сможете бросить. Вы все знаете и поэтому обречены принести остаток жизни в жертву этому одинокому и священному ремеслу. Пострадает личная жизнь; жена и дети, если таковые имеются, рано или поздно вас возненавидят; каждая влюбленная в вас женщина будет презирать свою вечную соперницу — вашу профессию; из-за постоянных дедлайнов вы перестанете ходить в кино; из-за проблем с вдохновением будете не спать ночи напролет; финансы запоют романсы, потому что писателям обычно не заработать ни на жилье, ни на игрушки детям. А самое ужасное знаете что? Большинство из вас думают: он разнес в пух и прах вон того человека (и я указал на пожилого мужчину), а теперь поет дифирамбы вот этому. А правда заключается в том, что я пытался спасти жизнь того господина, а Симмонса только что приговорил к бесконечному труду, возможно без всякой славы и признания, к проклятию, от которого теперь не избавиться до самой смерти! Вы писатель, мистер Симмонс. Знаете, как это проверить? Вы точно писатель, если другой писатель так говорит. Можно я представлю ваш рассказ на конкурс в журнал «Сумеречная зона»?
Ну и тут все в аудитории попадали в обморок.
Дэн может рассказать обо всем этом гораздо лучше меня. Он почти дословно помнит, что происходило в то утро. Но чего он рассказать не сможет — так это какое у него было в те минуты лицо. Изумленное, радостное, ошеломленное, испуганное. Бедный грязный мальчишка-конюх узнал, что он наследный принц волшебного измерения. Конечно же, Дэн выиграл тот конкурс. Если говорить о мастерстве исполнения, то был еще один не менее сильный претендент на первое место. Но судьям (включая Питера Страуба, Роберта Блоха и Ричарда Матесона) рассказ Симмонса просто крышу снес. Дэн одержал победу, обойдя тысячи других участников. Рассказ назывался «Стикс течет вспять», и за ним последовало множество других работ и множество других наград и премий. Дэн рассказал мне, что три года пытался что-нибудь кому-нибудь продать, но безуспешно. Продал один рассказ журналу «Галактика», но тот закрылся, не успев его напечатать. Продал еще один журналу «Галилей», но тот закрылся, не успев его напечатать. Три года Дэн бился головой о стену. На жизнь зарабатывал преподаванием в начальной школе, учил одаренных детей. Семинар в Колорадо был его последней надеждой. Дэн и Карен, его жена, ждали ребенка и понимали: семью надо как-то обеспечивать. Карен всегда верила в писательский дар мужа, видела его мучения и поэтому настояла, чтобы он поехал на семинар. Дэн ей пообещал: «Если там мне не скажут, что у меня есть хоть какой-то талант, я брошу. Это будет мой Рубикон». И он победил в конкурсе. И продал повесть журналу «OMNI». И у него появился литературный агент, и агент продал роман «Песнь Кали», и «Песнь Кали» стала первым в мире дебютным романом, который получил Всемирную премию фэнтези в номинации «лучший роман». И он написал «Гиперион» и получил премию Хьюго. И я спросил у Дэна однажды вечером (он был в Лонгмонте, Колорадо, а я в Лос-Анджелесе): — Я когда-то сказал правду и сказал, что она решительно и навсегда изменит твою жизнь. Ты тогда поверил? — Да. — А теперь поверишь, если я скажу иную правду, которая изменит твою жизнь снова? — Да. И я сказал тихо-тихо, через ночь и разделявшее нас расстояние: — Дэн, ты станешь знаменитым. Я не про богатство, это-то как раз самое легкое. Ты станешь одним из самых значительных писателей нашего времени. Тебя будут узнавать на улицах, твое имя станет известным. Люди будут спрашивать у тебя совета, бизнесмены начнут искать твоего общества. Ты будешь не просто большим писателем, нет: ты будешь знаменитым писателем. И тебе лучше узнать об этом прямо сейчас, потому что происходить все будет очень быстро. Малыш, приготовься, они набросятся на тебя в мгновение ока, времени разбираться не будет. Я бывал в том положении, в котором Дэн Симмонс оказался сейчас, а также в том, в котором он скоро окажется. Может, я и сейчас там, а может, смогу побывать там еще раз. Но одно я знаю точно: если меня и запомнят потомки, то, вполне возможно, именно потому, что я открыл Дэна Симмонса. Вот ведь! Харлан Эллисон
Стикс течет вспять
~ ~ ~
Есть расхожая фраза: литературные произведения сродни детям. Как и в большинстве клише, в этом имеется доля правды. Когда тебя осеняет идея рассказа или романа, ты переживаешь миг чистого вдохновения, миг зачатия, настолько близкий к экстазу, насколько это возможно в литературном творчестве. Собственно написание произведения, особенно романа, занимает примерно столько же времени, сколько вызревает человеческий зародыш, сопровождается определенным дискомфортом, иногда тошнотой и всегда — абсолютной уверенностью в том, что роды будут мучительными. Наконец рассказы или повести начинают жить собственной жизнью после публикации и вскоре полностью выходят из-под контроля творца. Они разъезжают по всему свету, посещают страны, которых автор никогда не увидит, овладевают языками, из которых автор не знает ни слова, добиваются внимания читателей, неизмеримо более состоятельных и образованных, чем автор, и — что, наверное, самое возмутительное — живут еще долго после того, как творец обратился в прах, в полузабытое примечание петитом. И эти неблагодарные щенки даже писем домой не пишут. «Стикс течет вспять» был задуман дивным августовским утром 1979 года, в беседке за домом родителей моей жены в Кенморе, штат Нью-Йорк. Я помню, как напечатал первый абзац, помедлил и сказал себе: «Это будет моя первая публикация». Так и вышло, но по прошествии двух с половиной лет и множества злоключений. Через неделю после того, как закончил черновик «Стикса», я отправился из западного Нью-Йорка в Рокпорт, штат Мэн, — надо было забрать мою жену Карен после занятий в летней фотомастерской. По пути я заехал в Эксетер, штат Нью-Гэмпшир, чтобы встретиться и побеседовать с уважаемым писателем, которого знал только по переписке. Его совет гласил: посылай свои сочинения в маленькие журналы, годами — если не десятилетиями — нарабатывай репутацию на «лимитированном» рынке, где гонорары выдаются авторскими экземплярами, прежде чем помыслить о том, чтобы взяться за роман, потом еще сколько-то лет печатай книжки-крошки в малоизвестных издательствах с охватом максимум в тысячу читателей, набирая критическую массу. Я забрал Карен из Рокпорта, и мы покатили назад в Колорадо; путь был долгим. Почти всю дорогу я молчал, обдумывая полученный совет. Совет был, конечно, мудрый — лишь одному начинающему писателю из сотен, если не из тысяч, удается опубликоваться. Из тех же, кто публикуется, буквально единицы могут как-то прожить своим литературным трудом, и то чаще за чертой бедности. А уж вероятность стать автором бестселлеров не выше, чем угодить под молнию, одновременно подвергаясь нападению белой акулы. Так что в пути от Рокпорта до Передового хребта, от Мэна до Колорадо я размышлял. И решил, что совет безусловно здравый, и осознал, что именно «дорогой маленьких журналов» имеет смысл двигаться, и понял как будто, что моя заветная цель — стать «массовым» автором качественных произведений — совершенно химерично, а следовательно, должна быть забыта. А потом, увидев, как над равниной перед нами вырастают Скалистые горы, я сказал: «Ну уж нет». Вопреки разумению, я решил замахнуться на максимально широкую аудиторию. Монтажная склейка: лето 1981-го, два года спустя. Удрученный, отчаявшийся, сломленный бесконечными отказами, наказанный за гордыню суровой реальностью, я бросил попытки пробиться в печать и сделал то, что делать зарекался: поехал на писательский семинар. Более того: заплатил, чтобы поехать на писательский семинар. «С чего начать», «как подготовить вашу рукопись к подаче», «сядем в круг и дружно покритикуем» — такого рода писательский семинар. Это была моя лебединая песня. Задачу я себе поставил двоякую: поглядеть на других писателей и переключиться в своем подходе к писательству с наваждения на хобби. Потом я встретил Харлана Эллисона. Не стану утомлять вас подробностями этой встречи. Не стану описывать предшествовавшую бойню, когда легендарный анфан-терриблъ[18] декапитировал, потрошил и вообще расчленял несчастных кандидатов в писатели, приславших рассказы для критического разбора. В перерывах между выступлениями, пока Харлан Эллисон отдыхал и потягивал воду «Перье» устроители семинара поспешно уволакивали разбросанные органы, смывали из шлангов кровь со стен, посыпали пол свежими опилками и готовили аудиторию к следующему жертвоприношению. Как выяснилось, следующей жертвой был я. — Кто тут Симмонс? — взревел Эллисон. — А ну встань, рукой помаши, покажись, черт бы тебя побрал! Что за монструозный эгоманьяк такой, что за отъявленный наглец осмелился запендюрить на этот семинар долбанный рассказ в пять тысяч долбаных слов? Покажись, Симмонс! В приливе редкой отваги (читай: совсем спятив), я приподнял руку, шевельнул пальцами. Встал. Эллисон уставился на меня поверх очков. — Ну что ж, Симмонс, при такой длине это должен быть отличный, нет, блин, гениальный рассказ, если хочешь выйти отсюда живым. Comprende? Capisci?[19] Я вышел оттуда живым и здоровым. Более того, настолько живым я не ощущал себя уже несколько лет. И дело не только в том, что рассказ Эллисону понравился. Эллисон с Эдом Брайантом и еще с несколькими бывшими там писателями… они отыскали в рассказе все до единого изъяны, уловили все фальшивые ноты и простучали фальшпанели, нащупали все места, где я отделался скороговоркой, а надо было копнуть глубже, безжалостно оголили каждую искалеченную фразу и каждый халтурный оборот. Но главное — они отнеслись к моему рассказу серьезно. И Харлан Эллисон сделал гораздо больше. Он сказал мне то, что я знал уже давно, но в чем в последнее время малодушно разуверился, — он сказал, что я в любом случае должен продолжать писать, как бы там ни складывалось с публикациями, и что другого выбора у меня нет. Он сказал, что немногие слышат музыку, но те, кто слышит, обязаны следовать за флейтистом, другого выбора у них нет. Он сказал, что если я не сяду снова за машинку и не буду работать, он прилетит в Колорадо и с корнем вырвет мой долбаный нос. Я снова сел за машинку. Эд Брайант щедро позволил мне стать первым участником Милфордского семинара, не имевшим за плечами публикаций… Там я научился катать шары с большими ребятами. Той же осенью я отправил переработанный вариант рассказа «Стикс течет вспять» в журнал «Сумеречная зона» на их первый ежегодный конкурс начинающих авторов. Потом «сумеречники» сказали мне, что рассказов поступило девять тысяч с лишним, и все их нужно было прочесть и оценить. «Стикс» поделил первое место с рассказом У. Г. Норриса. Вот так мой первый рассказ попал на журнальные прилавки 15 февраля 1982 года. По чистой случайности в тот же день родилась Дженет, наша дочь. То, что меня наконец опубликовали, было замечено не сразу, в том числе мною самим. Аналогии дело хорошее, параллелей между процессом сочинительства и беременностью можно провести сколько угодно, однако если говорить о рождении, дети — это настоящее дело. Итак, на ваш суд представляется (как говаривал один джентльмен)[20] история о любви и утрате, а также о печальной необходимости порой отказаться от того, что возлюбил всем сердцем.~ ~ ~
Я очень любил маму. После того как ее похоронили, после того как гроб опустили в могилу, семья вернулась домой и стала ждать маминого возвращения. Мне тогда было всего восемь лет. Из обязательной церемонии я помню очень мало. Помню, что воротник прошлогодней рубашки жал, а галстук с непривычки казался петлей на шее. Помню, что июньский денек был слишком хорош для такого скорбного сборища. Помню, что дядя Вилли в то утро сильно пил, помню, как на обратном пути с кладбища он достал бутылку «Джека Дэниелса». Помню лицо отца. День потом тянулся слишком медленно. На домашних посиделках мне было делать нечего, взрослые не обращали на меня внимания. Так что я бродил из комнаты в комнату со стаканом теплого порошкового лимонада, пока наконец не ускользнул на задний двор. Но и этот знакомый пятачок, где я привык играть один, утратил всякое очарование: за соседскими окнами маячили бледные, расплюснутые лица. Они ждали. Надеялись увидеть пусть краешком глаза. Мне же хотелось кричать, кидаться в них камнями. Вместо этого я сел на старую тракторную покрышку, служившую нам песочницей. Сосредоточенно вылил красный лимонад в песок, глядя, как струя выкапывает себе ямку. Вот и ее сейчас выкапывают. Я подбежал к качелям, запрыгнул и принялся раскачиваться, сердито отталкиваясь ногами от сухой земли. Ржавые качели поскрипывали, одна стойка норовила выскочить из своей лунки. Да нет, идиотина, уже выкопали. А сейчас подключают ее к большим машинам. Чтобы снова закачать в нее кровь. Я представил висящие бутыли, капельницу. Вспомнил толстых красных клещей, которые присасывались летом к нашей собаке. Я сердито отталкивался ногами от земли, сильнее и сильнее, хотя взлететь выше качели уже не могли. Интересно, что сначала — пальцы начинают дергаться? Или у нее просто распахнутся глаза, как у проснувшейся совы? Я достиг высшей точки своей дуги и спрыгнул. На мгновение став невесомым, завис над землей, как Супермен, как покидающий тело дух. Но тяготение тут же заявило на меня свои права, и я тяжело упал на четвереньки. Расцарапав ладони, запачкав травой правое колено. Мама будет ругаться. Ее сейчас расхаживают. Может, одевают — как манекен в витрине лавки мистера Фельдмана. Во двор вышел мой брат Саймон. Он был старше меня всего на два года, но тогда показался мне взрослым. Не просто взрослым — старым. Его светлые волосы, подстриженные так же недавно, как и мои, липли челкой к бледному лбу. Взгляд — усталый. Саймон почти никогда не кричал на меня, но в тот день прикрикнул: — Давай в дом! Сейчас уже приедут. Я зашел вслед за ним через заднее крыльцо. Большинство родственников разъехались, но из гостиной был слышен голос дяди Вилли. Дядя Вилли кричал. Мы замерли в коридоре, вслушиваясь. — Я тебя умоляю… Лес, еще не поздно… Просто нельзя так делать, нельзя! — Все уже сделано. — Бога ради… подумай о детях!.. Голоса звучали невнятно — дядя Вилли успел крепко добавить. Саймон приложил палец к губам. Повисла пауза. — Лес, да ты прикинь, какая это куча денег. Четверть всего, что у тебя есть. На сколько там лет? Подумай о детях!.. — Вилл, все уже сделано. Такого голоса мы у папы никогда еще не слышали. Папа не спорил, как бывало, когда они с дядей Вилли засиживались допоздна и толковали о политике. В голосе не было грусти, как в тот день, когда папа говорил с Саймоном и со мной, забрав маму из больницы в первый раз. Теперь в отцовских словах была только непреклонность: решение принято, и точка. Спор на этом не закончился. Дядя Вилли опять развопился. Даже тишина в паузах звучала сердито. Мы пошли на кухню за колой. Когда возвращались, дядя Вилли чуть нас не сшиб, так он спешил убраться. За ним захлопнулась дверь. Больше он к нам никогда не приходил.Что возлюбил всем сердцем, остается,все остальное — шлак.Что возлюбил всем сердцем,не отнимут.Что возлюбил всем сердцем —есть настоящее твое наследье.Эзра Паунд. Cantos LXXXI[21]
Маму привезли домой, когда уже стемнело. Мы с Саймоном смотрели через витражное окно и чувствовали, что соседи тоже смотрят. С нами остались только тетя Хелен и еще несколько ближайших родственников. Папа явно удивился, когда увидел подъехавшую машину. Не знаю, чего он ждал — может, длинного черного катафалка, такого же, как тот, который утром увез маму на кладбище. Они подъехали в желтой «тойоте». С мамой в машине были четверо мужчин. И не в темных костюмах, как на папе, а в пастельных рубашках с короткими рукавами. Один из мужчин вышел первым, отворил дверцу и помог маме выйти. Хотелось распахнуть дверь и броситься к маме бегом, но Саймон схватил меня за руку; так мы и стояли в коридоре, пока папа и остальные взрослые открывали дверь. Они приближались по дорожке в свете газовых ламп. Мама шла между двумя мужчинами, но те не поддерживали ее, только слегка направляли. На ней было голубое платье, которое она купила в «Скотте» перед тем, как заболела. Я ожидал увидеть восковую бледность, как в тот день, когда заглянул сквозь дверную щелку в спальню, прежде чем приехали гробовщики и забрали тело, — но на ее лице был здоровый румянец, чуть ли не загар. Вот они взошли на крыльцо, и я понял, что на ней много косметики. Мама никогда не пользовалась косметикой. Мужчины тоже были розовощекими. И у всех троих одинаковые улыбки. Они вошли в дом, и все мы отступили на шаг — кроме папы. Он взял маму за плечи и долго смотрел на нее, потом поцеловал в щеку. Она, кажется, поцелуем не ответила. Так и продолжала улыбаться. У папы текли по щекам слезы. Мне было очень неудобно. Воскресенцы что-то говорили. Папа и тетя Хелен кивали. Мама же просто стояла с вежливой улыбкой и смотрела на мужчину в желтой рубашке, который шутил и хлопал папу по спине. Потом пришла наша очередь обнимать маму. Тетя Хелен выдвинула вперед Саймона, я цеплялся за его руку. Он чмокнул маму в щеку и сразу отодвинулся, встал рядом с папой. Я же обхватил ее за шею и поцеловал в губы. Мне очень не хватало мамы. Кожа ее не показалась холодной. Просто другой. Мама смотрела прямо на меня. Бакстер, наша овчарка, завыл и принялся скрести заднюю дверь. Папа отвел воскресенцев в кабинет. До нас, оставшихся в коридоре, доносились обрывки разговора. — Думайте об этом как об инсульте… — Как долго она… — Вы же понимаете, десятина необходима — затраты на уход и… Родственницы выстроились около мамы в кружок. До них не сразу дошло, что она ничего не говорит. Тетя Хелен протянула руку и тронула сестру за щеку. Мама улыбалась как улыбалась. Тут снова появился папа, заговорил громко и бодро. Он объяснял, что это похоже на микроинсульт — как у дяди Ричарда, помните? Потом расцеловал всех и поблагодарил. Воскресенцы уехали, со своими улыбками и подписанными бумагами. За ними потянулись на выход и оставшиеся родственники. Папа всех проводил к двери и сердечно распрощался. — Считайте, что она болела и выздоровела, — говорил он. — Что вернулась домой из больницы. Последней ушла тетя Хелен. Она долго сидела с мамой рядом, тихо говорила и всматривалась в мамино лицо, ожидая реакции. Наконец тетя Хелен заплакала. — Считай, что она болела и выздоровела, — повторял папа, ведя ее к машине. — Что вернулась домой из больницы. Кивая и плача, тетя Хелен уехала. Кажется, она все понимала, как и мы с Саймоном. Мама вернулась домой не из больницы. Она вернулась из могилы.
Ночь тянулась долго. Несколько раз мне чудилось шарканье маминых шлепанцев в коридоре, и я, затаив дыхание, ждал, что отворится дверь. Но дверь не отворялась. Лунная полоска лежала поперек моих ног, высвечивала кусок обоев у комода. Цветочный узор напоминал морду большого печального зверя. Перед самым рассветом Саймон потянулся ко мне со своей кровати и прошептал: «Да спи же ты, дурачок». И я заснул.
Первую неделю папа с мамой ночевали в их спальне. Утром у него было осунувшееся лицо, он рявкал на нас, пока мы завтракали. Потом он переселился в свой кабинет и спал там, на старом диване.
Лето стояло очень жаркое. Никто не хотел с нами играть, так что мы играли вдвоем с Саймоном. У папы в университете были только утренние пары. Мама бродила по дому и часто поливала цветы. Как-то на глазах у нас с Саймоном она облила секретер — стоявший там цветок засох и был выкинут еще в апреле, когда она лежала в больнице. Мама не замечала, как вода стекает на пол. Когда мама выходила на улицу, ее будто манил лесок за нашим домом. Может быть, потому, что там было темно. Нам с Саймоном нравилось вечером играть на опушке, ловить светлячков в стеклянные банки или ставить палатки из одеял, но после того, как опушку облюбовала мама, Саймон проводил вечера дома или на передней лужайке. Я же оставался на заднем дворе, ведь мама могла заблудиться в сумерках; тогда я брал ее за руку и вел к дому. Мама надевала то, что предлагал папа. Иногда он, торопясь на занятия, говорил ей: «Надень красное платье», и весь июльский день она ходила в тяжелом шерстяном платье. Она совсем не потела. Иногда утром он забывал сказать, чтобы она спустилась, и тогда она оставалась в спальне до его возвращения. В такие дни я упрашивал Саймона, чтобы поднялся со мной проведать ее, но он лишь таращился да мотал головой. Папа стал больше пить, как дядя Вилли, и ни с того ни с сего кричать на нас. Когда он так вопил, я плакал, но Саймон не плакал больше никогда. Мама совсем не моргала. Сперва я не обратил внимания, но потом мне становилось не по себе, когда я замечал, что она не моргает. И все равно я любил ее так же сильно. Ни Саймон, ни я никак не могли заснуть. Раньше мама подтыкала нам одеяла и рассказывала длинные истории о волшебнике по имени Янди, который забирал нашу собаку, Бакстера, на поиск невероятных приключений всякий раз, когда мы с Бакстером не играли. Отец историй не придумывал, он читал нам из толстой книги — «Кантос» Паунда. Я почти ничего не понимал, но слова звучали приятно, особенно те, которые он называл греческими. Теперь никто не заглядывал к нам после вечернего умывания. Я, было, попробовал придумывать истории и рассказывать Саймону, но они получались никудышные, и через несколько дней Саймон сказал «хватит».
Четвертого июля Тони Видермейер, в прошлом году учившийся со мной в одном классе, утонул в новом бассейне. В тот вечер мы все сидели на лужайке за домом и смотрели фейерверк, устроенный в полумиле от нас, на ярмарочной площади. Не знаю, что там происходило на земле, — мешали деревья, — но салют был виден как на ладони. Сперва яркая вспышка и только потом звук, секунды, наверное, через четыре-пять. Я повернулся что-то сказать тете Хелен и заметил в окне второго этажа маму. На фоне темной комнаты ее лицо казалось очень бледным, краски фейерверка будто стекали по нему.
Вскоре после четвертого я обнаружил в леске мертвую белку. Мы с Саймоном играли в солдат и индейцев, по очереди искали друг друга, стреляли и умирали в траве. Только в этот раз я долго не мог его найти. Зато нашел поляну. Это было укромное место, со всех сторон окруженное кустарником, густым, как наша живая изгородь. Я продрался сквозь него на четвереньках и, не успев еще встать, увидел белку. Крупную, рыжеватую и довольно давно убитую. Головка была скручена чуть ли не на полный оборот, возле уха запеклась кровь. Левая передняя лапка стиснута в кулачок, правая расслабленно откинута. Одного глаза нет, а другой буравит кроны деревьев. Рот чуть приоткрыт, зубы на диво большие, пожелтевшие у корней. Я увидел, как из белкиного рта вылез муравей, прополз по мордочке и вскарабкался на черную бусинку глаза. «Вот они какие, мертвые», — подумал я. Кусты зашуршали, как от ветра, но воздух был неподвижен. Я испугался и рванул прочь, напролом, на четвереньках, отбиваясь от колючих веток, хватавших за рубашку.
Осенью я вернулся в школу имени Лонгфелло, но потом меня перевели в частную. К воскресенцам тогда относились плохо, это была настоящая дискриминация. Другие дети издевались над нами, обзывались, не хотели водиться. В новой школе с нами тоже никто не играл, но хотя бы не обзывались. В нашей спальне стенного выключателя не было — старая лампа свисала посреди комнаты на проводе, и рядом шнур-выключатель. Чтобы зажечь свет, надо пройти в темноте через полкомнаты и нашарить шнур. Как-то Саймон допоздна засиделся с уроками, и я пошел наверх один. Водя рукой в поисках шнура, я вдруг нащупал мамино лицо. Зубы были гладкие и холодные. Я отдернул руку и, наверное, с минуту стоял впотьмах, пока наконец не нашел шнур и не включил свет. — Здравствуй, мама. — Я сел на край кровати и поднял голову. Мама стояла, неподвижно глядя на пустую постель Саймона. Я потянулся и взял маму за руку. — Я по тебе соскучился. Я говорил что-то еще, всякие глупости, потом сбился и умолк, держа ее за руку, надеясь на какое-никакое ответное пожатие. Рука затекла, но я так и сидел, вцепившись в мамины пальцы, пока не поднялся Саймон. Он замер на пороге и уставился на нас. Я опустил голову и разжал пальцы. Через несколько минут мама вышла.
Перед самым Днем благодарения папа усыпил Бакстера. Пес был еще не старый, но вел себя как дряхлая развалина — вечно рычал и гавкал, даже на нас, и ни за что больше не заходил в дом. Когда он убежал в третий раз, нам позвонили собачники. Папа не стал разводить с ними долгих бесед. — Усыпите его, — буркнул он и повесил трубку. Они прислали счет.
На папины занятия ходило все меньше и меньше студентов, и тогда он взял академотпуск, чтобы закончить свою книгу об Эзре Паунде. Целый год сидел дома, но почти ничего не написал. С утра он иногда наведывался в библиотеку, но к часу уже был дома и смотрел телевизор. До обеда начинал пить и просиживал перед телевизором допоздна. Иногда вместе с ним сидели и мы с Саймоном, но большинство вечерних передач нам не нравились.
Примерно тогда Саймону и начал сниться тот сон. Как-то утром он рассказал по дороге в школу. Сон, по его словам, был каждый раз один и тот же. Снилось ему, что он еще не спит, а сидит в кровати и читает комикс. Потом закрывает его и кладет на тумбочку, но промахивается, и книжка падает на пол. Он наклоняется за ней, а из-под кровати высовывается мамина рука и хватает его белыми пальцами. Хватка очень крепкая, и откуда-то приходит понимание, что мама хочет утащить его к себе, под кровать. Он изо всех сил цепляется за одеяло, но знает, что вот-вот соскользнет вместе с постелью. А прошлой ночью, сказал он, сон был чуть-чуть другим. Теперь мама высунула из-под кровати голову (как автомеханик из-под машины, сказал Саймон). Она оскалилась — не улыбнулась, а именно оскалилась, очень широко. Зубы у нее были подточены, заострены. — Тебе такое никогда не снится? — спросил он, явно уже сожалея, что рассказал мне. — Нет, — ответил я. Маму я любил.
В том апреле близнецы Фарли из соседнего квартала случайно заперлись в выброшенном холодильнике и задохнулись. Нашла ребят наша уборщица миссис Харгилл, на пустыре за их гаражом. Томас Фарли был единственным, кто еще приглашал Саймона к себе поиграть. Теперь у Саймона остался только я.
Перед самым Днем труда и началом учебного года Саймон составил план побега. Я убегать не хотел, но любил Саймона. Он был моим братом. — И куда нам бежать? — Главное — прочь отсюда, — сказал он. Конечно, это не ответ. Но Саймон собрал вещи, не забыл и карту города. Проложил маршрут — через лесок, по виадуку на Лорел-стрит через Шерман-ривер и прямо к дому дяди Вилли, не ступив ни на одну из главных улиц. — Заночуем в лесу. — Саймон показал отрезанный кусок бельевой веревки. — Будем работать у дяди Вилли на ранчо. Он возьмет нас с собой, когда весной туда поедет. Выдвинулись мы в сумерках. Я не хотел уходить перед самой темнотой, но Саймон сказал, что папа хватится нас только утром, когда проснется. У меня был рюкзачок, набитый едой, которую Саймон незаметно утащил из холодильника. За спиной у Саймона — тяжело набитая скатка из одеяла, связанная бельевой веревкой. Пока мы не углубились в лесок, было довольно светло. Ручей громко журчал — похожие звуки доносились из маминой комнаты в тот вечер, когда она умерла. Корни и ветви росли очень густо, поэтому Саймон как включил фонарик, так и не выключал, отчего казалось, что кругом еще темнее. Довольно скоро пришлось устроить привал. Саймон натянул веревку между двумя деревьями, я перекинул через нее одеяло, а потом мы ползали вокруг на четвереньках в поисках камней. В темноте, под гортанное бульканье ручья, мы поужинали сэндвичами с болонской колбасой. Несколько минут поговорили, но наши голоса казались слабыми и жалкими, и вскоре мы оба уснули на холодной земле, укрывшись куртками, подложив пустой рюкзак под голову, а лес полнился вечерними звуками. Я проснулся посреди ночи. Было очень тихо. Мы лежали, свернувшись калачиком каждый под своей курткой, Саймон храпел. Не шелестела листва, куда-то пропали все насекомые, и даже ручей умолк. Вход-выход из палатки выделялись в окружающей темноте бледноватыми треугольными проемами. Я сел, у меня колотилось сердце. Приблизил голову к проему и не увидел ничего. Но точно знал, что там снаружи. Натянув куртку на голову, я отодвинулся от проема подальше. Я ждал чьего-то прикосновения сквозь ткань одеяла. Сперва подумал, что это мама шла за нами через лес, а острые сучья так и норовили выцарапать ей глаза. Но это была не мама. Нашу маленькую палатку окружала ночь, холодная и тяжелая. Черная, как глаз мертвой белки. И ночь хотела проникнуть внутрь. Впервые в жизни я понял, что темнота не кончается с первым утренним светом. Зубы стучали. Я свернулся в клубок, прижался к Саймону и похитил у него немного тепла. На щеке я чувствовал его дыхание, тихое и медленное. Чуть погодя я растолкал его и заявил, что с рассветом мы отправляемся домой, с меня хватит. Он стал было спорить, но расслышал что-то в моем голосе, чего не понимал, и, устало тряхнув головой, улегся спать дальше. К утру одеяло намокло от росы, и кожа была липкой на ощупь. Мы собрали наши пожитки, оставили камни лежать тем же неровным узором и зашагали к дому. По пути не разговаривали.
Когда мы вернулись, отец еще спал. Саймон закинул рюкзачок и скатку в нашу спальню и вышел на солнце. Я же спустился в подвал. Там было хоть глаз коли, но зажигать свет я не стал, сел на ступеньки так. Ни звука не доносилось из мглистых углов, но я знал, что мама в одном из них. — Мы убежали, но вернулись, — наконец сказал я. Сквозь узкие щели в жалюзи я видел зеленую траву. С громким вздохом включился разбрызгиватель. Где-то неподалеку кричали дети. Мне же не было дела ни до чего, кроме этой мглы. — Саймон хотел идти дальше, — сказал я, — но я сделал так, чтобы мы вернулись. Это я предложил идти домой. Я посидел еще несколько минут, но больше в голову ничего не приходило. Наконец поднялся, отряхнул штаны и пошел наверх немного поспать.
Через неделю после Дня труда папа настоял, чтобы на выходные мы выбрались на море. Выехали мы в пятницу после обеда и без остановок покатили до Оушен-Сити. Мама сидела одна на заднем сиденье фургона. Папа и тетя Хелен сидели впереди. Мы с Саймоном забились сзади, среди багажа, но Саймон отказывался считать со мной коров, или разговаривать, или даже играть с самолетиками, которые я прихватил в дорогу. Мы остановились в гостинице прямо у променада. Ее порекомендовали воскресенцы из папиной вторничной группы, но гостиница пахла дряхлостью, гнилью и скребущимися в стенах крысами. Коридоры были блекло-зелеными, двери — темно-зелеными, две трети ламп давно перегорели. В этом тусклом лабиринте надо было дважды повернуть, чтобы найти лифт. Все, кроме Саймона, просидели субботний день в номере у кондиционера, смотрели телевизор. Воскрешенных вокруг стало гораздо больше, судя по характерному шарканью в коридоре. После заката они вышли на берег, и мы последовали их примеру. Я попытался устроить маму поудобней. Усадил ее на расстеленное полотенце, повернул лицом к морю. К этому времени уже поднялась луна, и задул прохладный бриз. Я накинул маме на плечи свитер. За нами переливались огнями аттракционы, грохотали американские горки. Я бы не отошел, если бы меня так не раздражал папин голос. Папа говорил слишком громко, без причины смеялся и часто прихлебывал из бутылки в бумажном пакете. Тетя Хелен больше молчала, грустно смотрела на папу и пыталась улыбаться, когда он смеялся. Мама сидела совершенно спокойно, так что я, извинившись, отправился на поиски Саймона. Мне было без него одиноко. Аттракционы еще работали, но дети с родителями давно разошлись. Каждые несколько минут от американских горок доносился визг, когда последние катающиеся ухали вниз на самом крутом куске трассы. Я сжевал хот-дог и огляделся, но Саймона нигде не было видно. Бредя обратно вдоль берега, я заметил, как папа склонился к тете Хелен и чмокнул ее в щеку. Мама успела куда-то уйти, и я, чтобы скрыть навернувшиеся злые слезы, вызвался сбегать и найти ее. Я прошел мимо места, где на прошлых выходных утонули двое подростков. То и дело на глаза попадались воскрешенные, они сидели у воды со своими семьями; но мамы — ни следа. Я уже подумывал, не повернуть ли назад, когда почудилось какое-то шевеление под променадом. Там было невероятно темно. Узкие лучики света, причудливо располосованные деревянными опорами и укосинами, падали из щелей над головой. Шум аттракционов и шаги казались ударами кулаков по крышке гроба. Мне вдруг представилось, что здесь прячутся десятки воскрешенных, в том числе мама, накрытые тонкой и редкой световой сетью, так что взгляд выхватывает то руку, то рубашку, то недвижно уставившийся на тебя глаз. Но их там не было. И мамы не было. Зато был он. Не знаю, что заставило меня поднять голову. Очередные шаги над головой. Еле заметное кружение во мраке. Вот здесь он вскарабкался по укосине, тут оперся ногой, там подтянулся на руках и вылез на широкую поперечину. Ничего сложного, мы тысячу раз так лазали. Я смотрел ему прямо в лицо, но первой узнал веревку.
После смерти Саймона папа уволился из университета. Он так и не вышел из академотпуска, а наброски к книге о Паунде отправились в подвал с прошлогодними газетами. Воскресенцы помогли ему устроиться охранником в ближайший торговый центр, и обычно он возвращался домой не раньше двух часов ночи. После Рождества я уехал в другой штат, чтобы жить и учиться в интернате. К этому времени воскресенцы уже открыли институт, к ним обращалось все больше и больше семей. Потом я получил полную стипендию и поступил в университет. Несмотря на уговор, я редко приезжал домой в те годы. А когда приезжал, папа был всякий раз пьян. Однажды я напился вместе с ним; мы сидели на кухне и плакали. Он почти совсем облысел, не считая нескольких седых прядей с боков, глаза глубоко запали, лицо покрылось морщинами, а еще, из-за пьянства, густой сетью лопнувших кровеносных сосудов, и казалось, на нем больше косметики, чем на мамином лице. Миссис Харгилл позвонила за три дня до моего выпуска. Отец набрал полную ванну теплой воды, затем провел лезвием вдоль вены, а не поперек. Зря, что ли, он читал Плутарха. Миссис Харгилл нашла его только через двое суток, и когда на следующий день я приехал, в ванне еще бурела запекшаяся кровь. После похорон я разобрал все его старые бумаги и нашел дневник, который он вел несколько лет. Дневник я сжег вместе со стопками набросков к его книге.
Несмотря на обстоятельства, институт выплатил страховку, что помогло мне продержаться несколько лет. Моя работа — больше чем работа: я верю в то, чем занимаюсь, и у меня хорошо получается. Это я предложил сдавать пустующие школьные здания в аренду нашим новым центрам взаимопомощи. На прошлой неделе я попал в пробку, и, когда наконец дополз до места аварии, когда увидел накрытую одеялом маленькую фигурку и россыпь стеклянных осколков, я также заметил у обочины целую толпу их. Они сейчас на каждом шагу. Раньше у меня была доля в кондоминиуме в одном из последних освещенных районов города, но когда наш старый дом был выставлен на продажу, я долго не раздумывал. Прежнюю обстановку я сохранил, а утраченную восстановил, так что теперь дом выглядит почти как прежде. Содержать такой старый дом — недешевое удовольствие, но я зря денег не расходую. После работы многие из института отправляются выпить в какой-нибудь бар, но не я. Убрав инструменты и отчистив железные столы, я еду прямо домой. Там моя семья. Она меня ждет.
Те глаза, что и во сне страшно встретить[22]
~ ~ ~
Лето 1969 года выдалось жарким. Особенно жарко было в Джермантауне, в районе гетто, где я тогда жил. До начала Войны за независимость Джермантаун был маленькой, симпатичной пенсильванской деревенькой, а к 1969 году превратился в один из центральных районов Филадельфии. На улицах все кипело, и не только из-за погоды: росло недовольство, назревали расовые и социальные конфликты. За тридцать пять долларов в месяц я арендовал мансарду у местного благотворительного центра, он же центр по планированию семьи, он же поликлиника. Маленькую такую мансарду. Иногда по вечерам комнатка-приемная на втором этаже освобождалась, и я использовал ее в качестве гостиной и кухни. Но освобождалась она редко. Из своего круглого окошка я наблюдал за стычками уличных банд, один раз даже видел самые настоящие массовые беспорядки. Лучше всего помню вид, открывавшийся по вечерам с крылечка: кирпичное ущелье, наполненное шумом и эхом людских голосов, протяженная Брингхерст-стрит, ряды домов, тусклый желтый свет фонарей, мальчишки и девчонки выкрикивают дразнилки, скачут через двойную скакалку, бесконечный людской поток, смех, разговоры. Я сидел на ступеньках и то и дело отодвигался в сторону, чтобы дать кому-нибудь войти или выйти. Мне и сегодня не дает покоя вопрос: почему теперь в пригородах мы сидим на огороженных забором задних дворах? Какая блажь изгнала нас с выходящих на общую оживленную улицу крылечек в эти вызывающие клаустрофобию замкнутые пространства? Тем далеким жарким летом 1969-го я работал помощником учителя в Упсалъской школе для слепых. Там учились не только слепые, но и глухие, и умственно отсталые дети, многие были такими с рождения. Работая в подобном заведении, очень быстро узнаешь одну прекрасную вещь: люди, даже те, кто страдает от ужасных, неизлечимых недугов, не только умудряются сохранить в себе человечность, стремления, присутствие духа — их каким-то образом не покидает способность бороться, чего-то достигать, одерживать победу. В то жаркое лето 1969 года человек впервые ступил на Луну, и мы с учениками это отпраздновали. Все очень радовались и волновались. Среди нас был один подросток, Томас, слепой и умственно отсталый; он мог слышать и самостоятельно выучился играть на фортепиано. Другая ученица (она тоже могла слышать, но сильно отставала в развитии из-за пережитых в детстве побоев) предложила Томасу сыграть в конце нашего праздника государственный гимн. И он сыграл. Сыграл «Мы все преодолеем».[23]~ ~ ~
Бремен вышел из больницы, где лежала его умирающая жена, сел в автомобиль и поехал на восток, к морю. Повсюду было полно машин: в выходные жители Филадельфии бежали из города. Приходилось внимательно следить за дорогой, и Бремен сохранял связь с сознанием жены лишь еле уловимым касанием. Одурманенная лекарствами, Гейл спала. В своем прерывистом сне она искала маму и бродила по бесконечным анфиладам, заставленным викторианской мебелью. Машина ехала через заросшие соснами песчаные равнины, и вечерние тени за окном перемежались образами из сна. Бремен как раз поворачивал на обсаженную деревьями аллею, когда жена проснулась. В первые секунды после пробуждения она не чувствовала боли — открыла глаза и, увидев лучи вечернего солнца на голубом покрывале, на мгновение подумала, что сейчас утро и они на ферме. Гейл мысленно потянулась к мужу, и тут вернулось головокружение, левый глаз словно пронзило насквозь. Бремен, который в этот момент собирался расплатиться за въезд на шоссе, скривился и уронил монетку. — Что с тобой, парень? — спросил из своей будки дежурный. Бремен помотал головой, на ощупь отыскал доллар и бросил его не глядя; зашвырнул сдачу на захламленную приборную доску своего «триумфа»,[24] а потом энергично вдавил педаль газа в пол. Боль Гейл немного унялась, но от путаницы в ее мыслях на него накатывали волны тошноты. Она быстро сумела собраться, хотя полотнища страха плескались вокруг ее ментального щита, словно занавески на ветру. Проговорила мысленно, сузив спектр ощущений, чтобы воссоздать подобие собственного голоса: «Джерри, привет». «Это тебе привет, малыш». Он свернул с трассы в направлении Лонг-Айленда и послал Гейл мысленное сообщение — поделился увиденным: зелень травы и сосен мешается с золотистым августовским светом, а по асфальту прыгает тень от машины. Неожиданно подул соленыйатлантический ветер, он поделился с Гейл и этой такой узнаваемой свежестью. Прибрежный городок глаз не радовал: ветхие ресторанчики с меню из морепродуктов, дорогущие мотели, возведенные из шлакоблоков, и бесконечные пристани. Но вид был таким до боли знакомым, что вселял уверенность и спокойствие, поэтому Бремен постарался ничего не упустить. Гейл немножечко расслабилась и начала получать удовольствие от поездки. Присутствие жены стало настолько осязаемым, что Джерри даже повернул голову, чтобы заговорить с ней, и не успел подавить пронзительный укол разочарования и замешательства. Заполонившие пляж семьи распаковывали вещи, разгружали микроавтобусы, таскали провизию. Бремен ехал на север, к Барнегатскому маяку. Из окна автомобиля он мельком увидел стоявших вдоль берега рыбаков, их тени косо ложились на белые пенные буруны. «Моне», — подумала Гейл. Бремен кивнул, хотя ему в тот момент вспомнился Евклид. «Математик до мозга костей», — подумала Гейл. Боль нарастала, и ее голос звучал все глуше. Фразы распадались, словно облака, которые сдувало сильным ветром. Бремен припарковал «триумф» около маяка и через низкие песчаные дюны направился к воде. Кинул на землю дырявое одеяло. Сколько раз они приносили его сюда, это одеяло. Вдоль линии прибоя бегали дети. Белоногая девчушка лет девяти, в купальнике, из которого она года два как выросла, скакала на мокром песке, безотчетно исполняя вместе с волнами замысловатый танец. Между полосками жалюзи померк вечерний свет. Зашла сестра поменять бутылочку в капельнице и померить пульс. От нее пахло сигаретами и слежавшейся пудрой. В коридоре продолжал громко и требовательно вещать интерком, но сквозь сгущавшуюся дымку боли было трудно разобрать, что они там говорят. Около десяти заглянул новый доктор, но Гейл его почти не замечала — все ее внимание было поглощено медсестрой и заветным шприцем. Прикосновение влажной ваты к руке обещало долгожданное избавление от боли, гнездившейся прямо за левым глазом. Доктор что-то говорил. — …ваш муж? Я думал, он останется на ночь. — Прямо тут, доктор. — Гейл похлопала рукой по одеялу и одновременно по мокрому песку. Холодало, и Бремен натянул нейлоновую ветровку. Высокие облака закрывали почти все звезды. Далеко у самого горизонта по морю полз, переливаясь огнями, невероятно длинный нефтяной танкер. За спиной Бремена ложились на песок желтые прямоугольные отсветы из окошек прибрежных домов. Ветер принес аромат жареного мяса. Ел он сегодня что-нибудь или нет? Бремен обдумывал, стоит ли вернуться к маяку и зайти в мини-маркет за сэндвичем, но потом нашел завалявшуюся в кармане куртки шоколадку и принялся сосредоточенно пережевывать окаменевший арахис. Из коридора по-прежнему доносилось эхо чьих-то шагов, как будто целая армия вздумала маршировать там на ночь глядя. Кто-то куда-то спешил, дребезжали подносы, гудели чьи-то голоса. Гейл вспомнила детство: она лежит в своей комнате и прислушивается, как родители что-то празднуют внизу, на первом этаже. «А помнишь ту вечеринку, где мы встретились?» — мысленно спросил Бремен. Бремен не очень-то любил вечеринки. Это Чак Гилпен его вытащил. Джерри никогда не умел толком поддержать светскую беседу, и это психическое напряжение, неумолчный мысленный шум, от которого приходилось многие часы закрываться ментальным щитом, всегда награждали его головной болью. Вдобавок на той неделе он как раз начал читать аспирантам курс тензорного анализа. Нужно было вернуться пораньше и хорошенько подзубрить основные принципы. Но Бремен все равно пошел на вечеринку в Дрексел-Хилл.[25] Это Гилпен его доконал, а еще страх прослыть занудой и бирюком в новом университете. Музыка вопила за полквартала. Будь он на своей машине — сразу уехал бы домой. Едва Бремен ступил на порог, как кто-то немедленно сунул ему стакан со спиртным, — и вдруг он почувствовал совсем рядом еще чей-то ментальный щит. Джерри осторожно потянулся вперед, и мысли Гейл буквально затопили его, высветили, как луч прожектора. Их обоих это ошеломило. Они рефлекторно подняли щиты и отпрянули, как два испуганных броненосца, но вскоре поняли, что продолжают неосознанно ощупывать друг друга. Ни Гейл, ни Джерри прежде не встречали настоящих телепатов — разве что наделенных примитивными, неразвитыми способностями. Оба считали себя исключением из правил, существами уникальными и неуязвимыми. И вот они стояли там, обнаженные, одни в пустом пространстве. Неожиданно, повинуясь какому-то порыву, мужчина и женщина захлестнули друг друга потоками представлений, воспоминаний, идеальными образами самих себя, секретами, ощущениями, желаниями, тайными страхами, чувствами и отголосками чувств. Все нараспашку. Каждая мелкая гадость, предубеждение, неловкость, секс вперемешку с прошедшими днями рождения, бывшими любовниками, родителями, бесконечными житейскими пустяками. Не всякий так хорошо знает свою половину, даже прожив в браке пятьдесят лет. А несколько минут спустя они впервые встретились. Каждые двадцать четыре секунды над головой Бремена проплывал луч маяка. Теперь в море горело куда больше огней, чем на берегу. После полуночи задул ветер, и Джерри пришлось закутаться в одеяло. Во время последнего обхода Гейл отказалась от укола, но мысли ее все равно туманились. Бремен поддерживал контакт исключительно силой воли. Жена всегда боялась темноты. За шесть лет, что они прожили вместе, он не раз просыпался ночью и тянулся к ней, мысленно или физически, чтобы успокоить. Теперь Гейл опять превратилась в испуганную маленькую девочку, которую родители оставили одну, на втором этаже большого дома на Берлингейм-авеню, и под ее кроватью притаилось нечто страшное. Бремен прорывался сквозь ее боль и неуверенность. Делил с ней рокот волн, свернулся клубком в песке, чтобы она почувствовала рядом его тело, рассказывал истории о проделках Джернисавьен, их пятнистой кошки. Постепенно Гейл расслабилась и уступила течению его мыслей. Ей даже удалось пару раз вздремнуть, и во сне она видела звезды в просветах между облаками и чувствовала терпкий запах океана. Бремен вспоминал для нее ферму и повседневные тамошние заботы, стройную красоту преобразований Фурье, начерченных мелом на доске в кабинете, солнечное чувство радости, с которым он посадил около дома персиковое дерево. Вспоминал их зимнее путешествие в Аспен и неожиданный испуг, вызванный лучом прожектора с проходившего мимо корабля. Вспоминал те немногие стихи, которые знал наизусть, но слова растворялись в потоке чувств и образов. Ночь все не кончалась. Бремен разделял с женой холодную ясность воздуха, окутывая ее теплотой любви. Разделял все мелочи, надежды на будущее. Тянулся через семьдесят пять миль и дотрагивался до ее руки. Один раз ненадолго задремал, разделив с ней и сон тоже. Гейл умерла перед самым рассветом, когда первый луч зари еще не успел коснуться небес. Декан хаверфордского факультета математики уговаривал Бремена взять отпуск на несколько месяцев или даже на год, если нужно. Но Джерри поблагодарил и подал заявление об уходе. Дороти Паркс с факультета психологии целый вечер объясняла ему, как и почему человек горюет. — Пойми, Джереми, — говорила она, — многие люди, пережившие серьезную утрату, совершают эту ошибку — они хотят двигаться дальше. Ты думаешь, перемена обстановки поможет тебе забыть, а на самом деле это всего лишь отсрочка неизбежной борьбы с тоской. Бремен внимательно слушал и кивал в нужных местах. На следующий день он выставил ферму на продажу, продал «триумф» знакомому механику на Конестога-роуд, сел в автобус и поехал в аэропорт. Там он подошел к стойке компании «Юнайтед эрлайнс» и купил билет на первый попавшийся рейс. Он проработал год грузчиком в одной портовой компании во Флориде, неподалеку от Тампы. Следующий год вообще не работал, пробирался потихоньку на север: сначала Эверглейдс, потом река Чаттуга в северной Джорджии. В марте его арестовали за бродяжничество в Чарлстоне, Южная Каролина. В мае Бремен провел две недели в Вашингтоне, из комнаты выходил только затем, чтобы сходить в Библиотеку Конгресса или за спиртным. Июньской ночью его ограбили и сильно избили возле автобусного вокзала в Балтиморе. Через день он вышел из больницы и на том же самом вокзале сел на автобус до Нью-Йорка, где жила его сестра. Она и муж хотели, чтобы Джерри пожил у них какое-то время, но на третий день рано утром он оставил под солонкой на кухне записку и уехал. Добравшись до Филадельфии, купил на вокзале газету с объявлениями о работе. Бремен двигался по характерной траектории, закономерной и предсказуемой, как та изящная эллиптическая кривая, которую вычерчивает летающий взад-вперед йо-йо.Шестнадцатилетний Робби весил восемьдесят килограммов, не видел, не слышал и был умственно отсталым с самого рождения. Наркотики, которые мать принимала во время беременности, и плацентарная дисфункция неотвратимо лишили его всех чувств; так тонущий корабль задраивает переборки, сопротивляясь натиску морской воды. Запавшие глаза, темневшие необратимой, безнадежной слепотой. Оттянутые вниз веки, под которыми дергались едва видимые зрачки. Пухлые оттопыренные губы, редкие гнилые зубы, широкий нос, сросшиеся брови, торчащие пучки черных волос. Над верхней губой пробивались темные усы. Тоненькие белесые ножки едва держали полное, обрюзгшее тело. Ходить Робби научился в одиннадцать лет, но и сейчас мог проковылять лишь несколько шагов, а потом неизбежно падал. Он передвигался шаткой голубиной походкой, вытянув пухлые ручки, похожие на сломанные крылья — запястья торчали под странным углом, пальцы растопырены. Как многие другие слепые и умственно отсталые дети, он любил подолгу раскачиваться на одном месте, прикрыв ладонями невидящие глаза, будто загораживая их от света. Робби не умел говорить, только иногда бессмысленно хихикал или, еще реже, тоненько взвизгивал в знак протеста громким фальцетом. В челтонскую школу для слепых Робби ходил уже шесть лет. Что происходило с ним до этого — неизвестно. Нашел мальчика социальный работник, который пришел к его матери поговорить о предписанной судом метадоновой терапии. Квартира стояла нараспашку, и работник услышал какой-то шум. В ванной поперек проема была прибита доска, а внутри среди клочков мокрой бумаги и собственных экскрементов валялся голый Робби. Кран забыли закрыть, и кафельный пол залило водой. Мальчик, подергиваясь, катался в этом грязном болоте и протяжно, по-кошачьи, кричал. Его на четыре месяца забрали в больницу, еще месяц с лишним он провел в богадельне, а потом был возвращен под опеку матери. Суд постановил, что отныне Робби шесть дней в неделю должен ездить на автобусе в Челтон на пятичасовые сеансы терапии. И вот теперь он ежедневно путешествовал на автобусе, в полной темноте и тишине. Будущее, которое простиралось перед Робби, было прямым и безрадостным, как уходящая в бесконечность, ни с чем не пересекающаяся прямая.
— Черт, Джер, завтра ты присматриваешь за парнем. — Почему это? — Да потому что в чертов бассейн он не пойдет. Ты же сам сегодня видел. Смитти ему только ноги в воду опустила, а он как завопит, как задергается. Словно стаю кошек тянут за хвост. Так что доктор Уилден сказала, завтра никакого бассейна. А в автобусе, говорит, ему будет слишком жарко, так что посиди с ним. Это только пока у Маклеллан помощница из отпуска не вернется. — Ну, здорово. — Бремен подергал пропитанную потом рубашку, прилипшую к коже. Нанимался школьный автобус водить, а теперь вот помогает кормить и одевать этих бедолаг, присматривать за ними. — Просто здорово, Билл. И что прикажешь с ним делать полтора часа, пока вы, ребята, плещетесь в бассейне? — Посиди с ним в классе. Попробуй книжку подсунуть — пусть поработает. Помнишь ту страницу, где петельки и крючки, как на лифчике? Пусть расстегивает-застегивает. Я как-то сам с ней баловался, с закрытыми глазами. — Здорово, — повторил Бремен и зажмурился: солнце палило вовсю. Джерри сел на крыльцо и вылил в стакан остатки скотча. Время давно за полночь, а на улице все еще полно детишек. Два чернокожих подростка дразнились, а товарищи их вовсю подначивали. Под фонарем девчонки прыгали через скакалку и пели, и словно в такт их пению в желтом свете беспорядочно кружились мотыльки. На крылечках однотипных домов сидели взрослые и без всякого интереса смотрели друг на друга. Почти никто не шевелился. Было очень жарко. «Пора двигаться дальше». Слишком долго он здесь торчит. Проработал в школе почти два месяца — перебор. И к тому же начал интересоваться этими детьми, задавать вопросы. «Может быть, Бостон. Или еще дальше на север. Мэн». Задавать вопросы и получать на них ответы. Джен Маклеллан рассказала ему про Робби. Про то, откуда у мальчика синяки, кто сломал ему руку два года назад. Про игрушечного медвежонка, которого подарила слепому мальчишке одна медсестра. Эта игрушка впервые пробудила в нем какие-то эмоции. Робби неделями с ней не расставался, отказывался без нее идти на рентген. А однажды утром, спустя несколько дней после возвращения домой, сел в автобус и принялся кричать и стонать. Мишка пропал. Доктор Уилден позвонила матери, а та ответила, что гребаная штука потерялась. «Гребаная штука» — именно так, по словам Маклеллан, мать и сказала. Никакого другого мишку Робби не хотел. Он кричал и стонал еще три недели. «Ну и?.. Я-то что могу сделать?» Бремен знал, что может сделать. Знал уже давно. Он покачал головой и еще выпил, на всякий случай нарастив и без того прочный ментальный щит. Щит, который отделял его от бесчувственного мира, приносившего столько мучений и боли. «Черт, для Робби будет только лучше, если я не стану этого делать». Подул ветерок. Откуда-то из-за угла доносились вопли: там на маленькой площадке две дружественные уличные банды резались в баскетбол. В открытых окнах трепетали занавески. Где-то загудела и смолкла сирена. Ветер закружил вокруг канализационного люка бумажки и взметнул платья у прыгавших через скакалку девчонок. Бремен попробовал представить, каково это — жить ничего не слыша и не видя. «Да черт возьми!» Подхватив пустую бутылку, он поднялся к себе.
По дугообразной дорожке автобус подъехал к школе. Бремен помог детям выгрузиться, очень осторожно и медленно — сказывался опыт, к тому же ему было жаль этих малышей, да еще сегодня очень болела голова. Сначала Скотти — улыбается и руки раскинул, знает, что кто-нибудь из взрослых его подхватит. Томми Пирсон — колени сведены, локти прижаты к груди. Если бы Бремен его не поймал, слабенький мальчик ткнулся бы носом прямо в мостовую. Тереза — выпрыгивает, как обычно, с радостными воплями, готовая осыпать восторженными слюнявыми поцелуями всех, кто подвернется под руку. Робби остался сидеть в автобусе. Бремену и Смитти пришлось вдвоем его вытаскивать. Мальчик не сопротивлялся, неподвижный и податливый, как сгусток жира. Голова его неловко свесилась в сторону, то из одного, то из другого уголка рта вываливался язык. Приходилось уговаривать его делать один голубиный шажок за другим. Робби и шел-то только потому, что за много лет уже привык это делать. Казалось, утро никогда не кончится. Перед обедом пошел дождь, и плавание чуть было не отменили. Но потом вновь выглянуло солнце и осветило цветочные клумбы перед школой. Бремен смотрел на сияющие капли на лепестках роз, которыми так гордился Турок, и слушал гудение газонокосилки. Значит, сегодня он это сделает. После обеда помог им собраться. Мальчикам нужно было помочь надеть плавки. Бремен с грустью смотрел на лобковые волосы и развитые пенисы мальчишек, ментально навсегда застрявших в семилетнем возрасте. Томми, как обычно, лениво мастурбировал, пока Джерри не тронул его за руку и не помог натянуть трусы. Все ушли. В коридоре затихли детский визг и смех взрослых. Бело-голубой автобус медленно вырулил на дорогу. Бремен вернулся в класс. Робби никак не отреагировал на его приход. Мальчик выглядел так нелепо в зеленой полосатой футболке и оранжевых шортах, которые были ему малы и толком не застегивались. Бремену вспомнился разбитый бронзовый будда, которого он однажды видел в Осаке. Может, и в этом ребенке таится глубинная мудрость, выпестованная долгими годами затворничества от мира? Робби поерзал, громко пукнул и снова замер. Бремен со вздохом уселся на маленький детский стульчик. Колени нелепо торчали в разные стороны, чувствовал он себя невероятно глупо. Джерри ухмыльнулся сам себе. Сегодня же ночью сядет на автобус и уедет на север. Лучше даже автостопом. За городом-то уж точно прохладнее. Много времени это не займет. Даже не надо устанавливать полный контакт. Односторонняя ментальная связь. Очень легко. Всего несколько минут. Выглянет в окошко так, чтобы Робби тоже увидел, полистает книжку с картинками, возможно, поставит кассету с музыкой. Как мальчик воспримет новые ощущения? Подарок напоследок. Анонимный. Только это, и ничего больше. И лучше не показывать Робби, как он сам выглядит. Ладно. Бремен опустил ментальный щит, но тут же дернулся и снова поднял. Он давно уже не позволял себе быть настолько уязвимым, почти сроднился с прочной, словно шерстяное одеяло, защитой, которую алкоголь только усиливал. Сознание резанул внезапный неумолчный гомон — Джерри называл его «белый шум». Как будто месяцы просидел в темной пещере, а сейчас неожиданно вышел на яркий свет. Бремен сконцентрировался на Робби и снова опустил щит, потом отключился от нейрогомона и заглянул глубоко в разум мальчика. Ничего. Бремен был в замешательстве — на мгновение ему показалось, что он потерял способность фокусировать силу мысли. Он опять сосредоточился и услышал, как в саду Турок монотонно размышляет о сексе, как доктор Уилден, садясь в «мерседес» и проверяя, нет ли «стрелок» на чулках, думает о делах. Секретарь читала «Чумных псов» Ричарда Адамса. Джерри одолел вместе с ней несколько строк. Читала она ужасно, раздражающе медленно. Во рту стало приторно от ее вишневых леденцов. Бремен вгляделся в Робби. Мальчик прерывисто дышал. Рот открыт, слюнявый язык почти вывалился, на губах и щеках — остатки обеда. Джерри сузил и усилил касание, сфокусировал его, словно яркий луч света. Ничего. Хотя нет. Постойте-ка. Там что-то было. Что-то? Скорее отсутствие чего-то. Поток нейрошума словно обтекал пустоту в том месте, где должны были звучать мысли Робби. Бремен столкнулся с ментальным щитом, причем щитом невероятной силы. Даже Гейл не умела ставить такие интенсивные барьеры. Джерри был обескуражен, даже потрясен, а потом до него дошло: ум Робби поврежден; возможно, бездействуют целые сегменты. Органы чувств не работают, реакции на внешний мир минимальны — неудивительно, что сознание (или то, что от него осталось) обратилось внутрь самого себя. Это не мощный ментальный щит, а всего-навсего плотный комок интроспекции, гораздо более плотный, чем при аутизме. Воплощенное одиночество. Потрясенный, Бремен на секунду прекратил попытки, несколько раз глубоко вдохнул, а потом потянулся снова, еще осторожнее, еще аккуратнее. Он ощупывал невидимую преграду, словно брел в темноте, держась за шершавую каменную стену. Где-то должна быть брешь. И она нашлась. Даже не брешь — скорее податливое место, упругая точка среди твердых камней. Под ней едва уловимо трепетали мысли, Бремен чувствовал их, как пешеход чувствует дрожание подземки под мостовой. Он сосредоточился. Рубашка взмокла от напряжения. Из-за колоссального волевого усилия начали ослабевать зрение и слух. Ну и ладно. Только бы установить контакт, а там уж он сможет расслабиться и медленно открыть зрительный и слуховой каналы. Щит слегка поддался, упругая точка чуть уступила непреклонному давлению Джерри. У него на висках вздулись вены. Сам того не ведая, он гримасничал, изо всех сил напрягал шею. Щит прогнулся. Мысль Бремена превратилась в таран, непрерывно ударявший в непроницаемую студенистую массу. Еще немного. Он сконцентрировался настолько, что в эту минуту мог бы двигать силой мысли предметы, крошить кирпичи, останавливать птиц в полете. Щит продолжал гнуться. Бремен, превратившись в единое волевое усилие, подался вперед, словно его подталкивал в спину сильный ветер. И вдруг — прорыв, волна тепла, падение. Джерри потерял равновесие, замахал руками, открыл рот, пытаясь закричать. Не было никакого рта. Бремен падал. Проваливался. Краешком сознания он уловил размытый образ собственного тела, которое билось в эпилептическом припадке. Потом опять падение. Падение в безмолвие. В пустоту. Пустота. Джерри очутился внутри. За пределами. Он погружался в слоистые воздушные потоки. Вращались трехмерные бесцветные колеса. Ослепляя его, разрывались черные сферы. Водопады прикосновений, потоки запахов, хрупкая ниточка равновесия на беззвучном ветру. Бремена поддерживали тысячи рук — касались, изучали. Пальцы залезали в рот, ладони хлопали по груди, скользили по животу, трогали член, спускались ниже. Его зарыли в землю. Опустили под воду. Подняли ввысь в темноту. Бремен не мог дышать. Он задергался, и ладони затрепыхались, проходя сквозь какие-то вязкие потоки. Наверх. Его закопали в песок. Джерри забил ногами и руками. Голову словно зажало в тисках и потащило наверх. Субстанция двигалась, перемещалась. Тысячи невидимых рук сдавили, сжали Бремена и протолкнули сквозь сужавшееся отверстие. Он вынырнул на поверхность, открыл рот и закричал; в легкие, как вода в горло утопающему, тут же рванулся воздух. Бремен все кричал и кричал. Я! Очнулся он на пустынной равнине. Небо исчезло, но отовсюду исходил рассеянный нежно-персиковый свет. Составленная из отдельных маленьких чешуек плоскость уходила в бесконечность. Горизонта тоже не было. Сухую оранжевую землю рассекали зигзагообразные трещины, как пойму реки во время засухи. Над головой — бесцветное слоистое вещество. Как будто Бремен находился на первом этаже прозрачного пластикового небоскреба. Пустого небоскреба. Он лег на спину и уставился в вышину, сквозь бесконечную многоэтажную хрустальную пустоту. Потом сел. По коже словно прошлись наждачкой. Одежды не было. Он провел рукой по животу, дотронулся до лобка, нащупал шрам на колене, который заработал в семнадцать лет в мотоциклетной аварии, и встал. Накатило головокружение. Он шагал, шлепая босыми ногами по гладким теплым плитам-чешуйкам, не зная и не думая, куда идет. Как-то в штате Юта он перед самым закатом прошагал подобным образом целую милю по дну высохшего соленого озера Бонневиль. Бремен шагал. «На трещину наступишь — жди беды», совсем как в детстве. Наконец он остановился. Точно такое же место, пейзаж ничуть не изменился. Болела голова. Джерри лег на спину и представил, что он глубоководное морское создание, придонная рыба, смотрящая вверх, сквозь изменчивые океанские течения. Персиковый свет окутывал его теплом. Тело сияло. Бремен закрыл глаза и заснул.
Он резко сел. Ноздри его трепетали, уши дергались, силясь различить едва уловимый звук. Вокруг была непроницаемая темнота. В ночи что-то двигалось. Бремен припал к земле и прислушался, стараясь не замечать шума собственного прерывистого дыхания. Эндокринная система переключилась на древнюю программу, возникшую миллионы лет назад. Кулаки сжались, глаза забегали, сердце застучало как бешеное. В ночи что-то двигалось. Совсем близко, он это чувствовал. Что-то сильное, огромное, оно легко ориентировалось в темноте. Это что-то было рядом с ним, над ним. Ощутив на себе пронзительный слепой взгляд, Бремен опустился на колени и сжался в комок. Его что-то коснулось. Джерри еле сдержал рвущийся из горла крик. Его схватила гигантская рука — что-то шероховатое, громадное. Да нет, не рука. Его подняли в воздух. Какая силища — от давления заныли ребра. Существо могло бы легко расплющить его в лепешку. И снова это чувство — словно тебя осматривают, изучают, взвешивают на невидимых весах. Голый и беспомощный, он, как ни странно, не боялся, словно лежал под рентгеновской установкой и знал, что все тело пронизывают невидимые лучи — исследуют, выискивают скрытые болезни. Его опустили на землю. Ни звука не донеслось, но он почувствовал, как удаляются шаги гигантских ног. Напряжение спало, и он всхлипнул. В конце концов Бремен сумел подняться на ноги и позвать куда-то в пустоту. Слабенький голос Джерри тут же затерялся в пространстве, и он даже не был уверен, что сам его слышал.
Взошло солнце. Веки Бремена затрепетали, глаза открылись, и он уставился на далекое сияние, а потом снова зажмурился. До него постепенно дошла суть увиденного. Солнце взошло! Он сидел на траве. Вокруг до самого горизонта расстилалась бесконечная, заросшая высокой травой прерия. Бремен сорвал стебелек, ободрал листья и высосал сладкую сердцевину. Совсем как в детстве. Он поднялся и зашагал. Трава колыхалась под теплым ветерком, слышался тихий шелест. От этого звука чуть ослабла головная боль, которая по-прежнему гнездилась где-то за зрачками. Шагать было приятно: трава приминалась под босыми ступнями, тело пригревало солнце и ласково обдувал ветер. Дело близилось к полудню. Теперь Бремен шагал к расплывчатому пятну на горизонте. Постепенно пятно превратилось в далекие деревья, и незадолго до заката он оказался под сенью леса, в тени высоких дубов и вязов, словно вышедших из его пенсильванского детства. Перед Бременом бежала по траве его длинная тень. Впервые за все это время Джерри почувствовал усталость и жажду. Сухой язык отяжелел и распух. Бремен брел сквозь удлинявшиеся тени, время от времени поглядывая наверх, сквозь ветки деревьев — нет ли на небе облаков, и внезапно чуть не свалился в пруд. Круглое озерцо обрамляли осока и тростник. На берегу росла усыпанная ягодами вишня. Он приблизился к пруду, ожидая, что тот вот-вот исчезнет, и ринулся вперед. Вода доходила ему до пояса и была совершенно ледяной.
Она появилась перед самым рассветом. Бремен проснулся и сразу же заметил какое-то движение. Не веря своим глазам, он неподвижно застыл в тени, среди деревьев. Она ступала очень осторожно, кротко и неуверенно, словно шла босиком. Травяные метелки гладили ее по ногам. Бремен все отчетливо видел в ясном прозрачном воздухе, пронизанном косыми лучами восходящего солнца. Женщина, казалось, излучала свет. Груди — левая чуть полнее правой — мягко колыхались при каждом шаге. У нее были короткие черные волосы. Вот она на миг остановилась, потом снова пошла вперед. Бремен с замиранием сердца смотрел, как ритмично двигаются при ходьбе ее крепкие бедра, как она идет, не подозревая, что за ней наблюдают. Вот она уже совсем близко. Теперь Джерри различал прозрачные тени на грудной клетке, бледные розовые соски, большой синяк на сгибе локтя. Бремен вышел из-под сени деревьев. Женщина остановилась, инстинктивно вскинув руки и прикрываясь ладонями, а потом побежала к нему, раскрыв объятия. Джерри почувствовал нежный запах ее волос, прикосновение кожи, ощутил под пальцами знакомый изгиб спины. Оба плакали и сбивчиво что-то говорили. Бремен опустился на колени и уткнулся лицом ей в грудь. Она наклонилась и прижала к себе его голову. Мужчина и женщина ни на мгновение не выпускали друг друга из объятий. — Зачем ты меня оставила? — прошептал Бремен, не отрываясь от жены. — Зачем ушла? Гейл ничего не ответила, только прижала его к себе еще крепче и заплакала. А потом, по-прежнему не говоря ни слова, тоже опустилась на колени.
Утренний туман рассеивался. Они вышли из леса. Впереди раскинулись залитые солнечным светом, поросшие травой холмы, похожие на чье-то загорелое бархатистое тело, которое можно было потрогать, просто вытянув руку. Мужчина и женщина тихо разговаривали и время от времени брались за руки. Почти сразу же выяснилось, что при попытке телепатического контакта голову пронзает ослепляющая боль. Поэтому Гейл и Джерри просто разговаривали и касались друг друга. Дважды они занимались любовью в высокой, мягкой траве под теплым взглядом золотого солнца. Ближе к полудню они взобрались на небольшой холм и увидели внизу маленький сад, а за ним — что-то большое и белое. — Наша ферма! — изумленно воскликнула Гейл. — Как такое может быть? Бремен не удивился — ни в этот момент, ни когда они подошли к старому, высокому дому. Все на месте, даже покосившийся амбар, куда он ставил машину, и подъездная дорожка, которую давно следовало посыпать гравием. Только вот там, где раньше начиналось шоссе, теперь ничего не было. Длинная изгородь из ржавой проволоки терялась среди высокой травы. Гейл поднялась на крыльцо и заглянула в окошко. Бремен чувствовал себя нарушителем, незваным гостем, который рассматривает чей-то дом, не зная, можно ли туда забраться и живет ли там кто-нибудь. Повинуясь старой привычке, муж и жена повернули к задней двери. Гейл отодвинула проволочную сетку и чуть не подпрыгнула от громкого скрипа петель. — Прости, я обещал их смазать, помню. Внутри было темно и прохладно и все точно так, как они оставили. Бремен заглянул в кабинет и увидел, что на дубовом письменном столе все еще лежат его бумаги, а на доске написано мелом какое-то давно забытое преобразование. На втором этаже солнечный луч падал через маленькое оконце в крыше, которое Джерри, помнится, с таким трудом застеклил давним сентябрьским днем. Гейл ходила из комнаты в комнату, дотрагивалась до вещей и иногда тихо вскрикивала от радости. В спальне царил привычный порядок: постель заправлена, голубое одеяло тщательно подоткнуто под матрас, лоскутное покрывало, сшитое ее бабушкой, — в ногах кровати. Они улеглись спать на прохладных, чистых простынях. Занавески то и дело колыхал ветерок. Гейл что-то бормотала во сне и тянулась к мужу. Когда Бремен проснулся, за окном уже почти стемнело, опустились долгие летние сумерки. Снизу доносился какой-то шум. Джерри долго лежал не шевелясь. В комнате в неподвижном сгустившемся воздухе висела почти осязаемая тишина. И вот опять кто-то зашумел. Бремен вылез из постели, стараясь не разбудить жену. Она свернулась калачиком, положив руку под голову, на подушке осталось влажное пятно от слюны. Джерри босиком спустился по деревянной лестнице, проскользнул в кабинет и тихонько выдвинул нижний правый ящик стола. Точно, сверток там, под пустыми папками. От «смит-вессона» тридцать восьмого калибра пахло смазкой, он выглядел совсем новеньким, как в тот день, когда шурин подарил его Джерри. Бремен проверил револьвер — заряжен, пули засели в барабане плотно, как яйца в гнезде. Шершавая рукоять, прохладный на ощупь металл. Бремен печально улыбнулся, осознавая всю абсурдность своих действий, но оружие не убрал. В кухне хлопнула металлическая сетка. Медленно и беззвучно он подошел к кухонной двери. Свет не горел, но глаза быстро привыкли к темноте. Призрачно белел холодильник. Джерри стоял на пороге и слушал его урчание. Наконец, опустив револьвер, Бремен шагнул вперед и ступил на холодный кафель. Что-то зашевелилось, и он поднял пистолет, а потом снова опустил. О его ноги потерлась Джернисавьен, их своенравная пятнистая кошка. Подошла к холодильнику и просительно посмотрела на Джерри, потом вернулась и снова потерлась о его лодыжки. Бремен присел и машинально почесал ее за ухом. Револьвер в его руке выглядел нелепо. Он ослабил хватку.
Когда они ужинали, за окном всходила луна. В морозилке в подвале нашлись бифштексы, в холодильнике — ледяное пиво, а в гараже — несколько мешков с углем. Пока жарилось мясо, Гейл и Джерри накрыли стол во дворе, около старого насоса. Джернисавьен, конечно, уже покормили, но она все равно с многозначительным видом уселась возле большого деревянного кресла. Бремен облачился в любимые хлопковые штаны и синюю рабочую рубашку, а Гейл надела одно из тех свободных белых платьев, в которых обычно путешествовала. Вокруг раздавались до боли знакомые звуки: стрекотали сверчки, в саду пели ночные птицы, возле далекого ручья на разные лады квакали лягушки, в сарае время от времени чирикали воробьи. На белых бумажных тарелках крест-накрест чернели ножи, Бремен разложил бифштексы и простой салат: редиска и лук с огорода. Взошла почти полная луна, но звезды все равно светили нестерпимо ярко. Бремен вспомнил, как однажды ночью они лежали в гамаке и ждали, пока по небу проплывет желтый уголек орбитальной космической лаборатории. Сегодня звезды были даже ярче, чем тогда, ведь их великолепия не затмевали огни шоссе и зарево далекой Филадельфии. Гейл отодвинула тарелку с едой. «Где мы, Джерри?» Мысленное прикосновение получилось нежным и не вызвало нестерпимой головной боли. Он глотнул холодного «будвайзера». — Мы дома, малыш, тебе не нравится дома? «Нравится. Но где мы?» Бремен взял в руку маленькую редиску и принялся сосредоточенно ее рассматривать. На вкус редиска была соленой, терпкой и прохладной. «Что это за место?» Гейл посмотрела на темный сад, где среди деревьев мигали светлячки. «Гейл, назови последнее, что ты помнишь». — Я помню, как умерла. Ее слова ударили Бремена прямо в солнечное сплетение. На мгновение он потерял дар речи. — Я никогда не верила в жизнь после смерти, Джерри. «Лицемерные родители-фундаменталисты, мать напивалась и рыдала над Библией». Ты же понимаешь… Я не… Как мы можем… — Нет. — Он поставил тарелку на подлокотник и наклонился вперед. — Должно быть объяснение. «Как мне начать? Потерянные годы, Флорида, жаркие городские улицы, школа для слепых и умственно отсталых детей». Гейл открыла рот от изумления, когда увидела эту часть его жизни. Жена почувствовала ментальный блок, но не стала выспрашивать, что именно он от нее скрыл. «Робби. Установить короткий контакт. Может быть, поставить кассету с музыкой. Падение». Он прервался, чтобы глотнуть пива. Хором стрекотали сверчки. Дом чуть светился в призрачном сиянии луны. «Джерри, где мы?» — Гейл, как ты очутилась здесь? Что ты помнишь? Они уже поделились друг с другом этими образами, но, проговаривая, вспоминать было гораздо легче. — Темно, потом мягкий свет. Покачивание. «Вернее, меня покачивали. Я держала что-то, меня держали». Потом я шла. Увидела тебя. Бремен кивнул и с наслаждением прожевал последний, подгоревший кусок бифштекса. «Это же очевидно, мы вместе с Робби». И он послал ей образы, которые невозможно было выразить словами. Водопады касаний. Пейзажи запахов. Сила, движущаяся в темноте. «С Робби? — эхом откликнулась Гейл. — Как это?» «У него в сознании». — Но как? К Джерри на колени вспрыгнула кошка, он лениво погладил ее и посадил обратно на землю. Джернисавьен раздраженно вздернула хвост и повернулась к нему спиной. — Ты же читала множество историй о телепатах. Когда-нибудь встречала полностью осмысленное объяснение этого феномена? Почему одним телепатия доступна, а другим нет? Почему одни думают громко, как в мегафон, а другие — едва слышно? Гейл задумалась. Кошка смилостивилась и позволила почесать себя за ушком. — Ну, была одна неплохая книга… нет, им удалось передать эти ощущения только приблизительно. Нет. Обычно это описывают как нечто вроде радио или телевидения. Ты же сам все знаешь, Джерри. Сколько раз мы об этом говорили. — Ага. Он уже пытался передать Гейл свою мысль. Ментальные прикосновения смешивались со словами. Образы сыпались один за другим, как листы бумаги из неисправного принтера. Бесконечные кривые Шредингера говорили гораздо яснее слов. Коллапс вероятности изгибался в биноминальной прогрессии. — Словами, — попросила Гейл. Джерри в очередной раз удивился: после всех прожитых вместе лет она до сих пор не всегда может смотреть на вещи его глазами. — Помнишь мой последний проект, тот, на который я грант получил? — Про волны? — Да. Помнишь, о чем он был? — О голограммах. Ты показывал мне работу Голдмана в университете, — ответила Гейл. В сгущавшейся темноте она казалась расплывчатым белым пятном. — Я тогда почти ничего не поняла. А вскоре заболела. — Они изучали голографию, — быстро прервал жену Бремен. — Но на самом деле группа Голдмана работала над аналогом человеческого сознания… мысли. — И какое отношение Голдман имеет… ко всему этому? — Рука Гейл изящным жестом очертила задний двор, ночь, яркие звезды над головой. — Некоторое имеет. Предшествующие теории умственной деятельности многого не объясняли — например, последствий удара или инсульта, способности к обучению, функций памяти, не говоря уж о самом процессе мышления. — А теория Голдмана это объясняет? — А это пока не совсем теория. Просто совершенно новый подход, который объединял недавние исследования в области голографии и определенное направление математического анализа, разработанное в тридцатых годах одним русским математиком. Вот тут им как раз и нужен был я. На самом деле довольно просто. Группа Голдмана снимала сложные электроэнцефалограммы и томограммы, а я брал их данные, проводил анализ Фурье и затем включал их в различные модификации волнового уравнения Шредингера. Мы выясняли, работает ли это по принципу стоячей волны. — Джерри, мне пока не очень понятно. — Черт, Гейл, оно именно так и работает. Человеческое сознание действительно можно описать как совокупность стоячих волн. Такая вот суперголограмма или, вернее, голограмма, составленная из нескольких миллионов маленьких голограмм. Она наклонилась вперед. Даже в темноте Бремен разглядел на лице жены знакомые морщинки — она всегда так сосредоточенно хмурилась, когда он рассказывал ей о своей работе. Очень тихо Гейл спросила: — Джерри, а что тогда с разумом… с мозгом? Теперь и Бремен тоже нахмурился. — Думаю, тогда получается, что древние греки и разные религиозные чудики были правы, разграничивая одно от другого. Мозг можно назвать… ну, скажем, таким электрохимическим генератором и одновременно интерферометром. А вот разум… разум тогда не просто комок серого вещества, а нечто гораздо более прекрасное. Джерри мыслил теперь математическими преобразованиями, синусоидами, танцующими под волшебную музыку Шредингера. — Так значит, существует душа, способная пережить смерть? — Гейл говорила немного вызывающе и ворчливо, как всегда, когда речь заходила о религии. — Да нет, черт возьми. — Бремена немного раздражало, что приходится снова думать вслух и подбирать слова. — Если Голдман был прав, если личность — сложная волновая система, вроде серии взаимосвязанных голограмм, интерпретирующих реальность, тогда пережить смерть мозга она, конечно, не может. Тогда уничтожаются и сам образ, и генератор, создающий голограмму. — А как же мы? — почти беззвучно прошептала Гейл. Джерри наклонился и взял жену за руку, которая оказалась очень холодной. — Разве ты не понимаешь, почему я так заинтересовался этими исследованиями? Мне казалось, они могут объяснить наши… ммм… наши способности. Гейл пересела поближе к нему в широкое деревянное кресло, и Бремен обнял ее, ощутив рукой прохладную кожу нежного предплечья. Неожиданно небо прочертил метеорит, оставив после себя мимолетный светящийся след на сетчатке глаза. — И что? — прошептала Гейл. — Все просто. Если представить человеческую мысль как серию стоячих волн, которые пересекаются между собой и создают интерферограмму, а эту интерферограмму, в свою очередь, можно записать и размножить при помощи голографических аналогов — тогда все сходится. — Хм… — Сходится-сходится. Получается, по какой-то причине наш разум резонирует не только с теми волнами, что исходят от нас, но и с теми, которые исходят от других. — Да, — жена возбужденно схватила его за руку, — помнишь, мы делились впечатлениями о наших способностях, когда впервые встретились? Мы оба решили, что невозможно объяснить мысленное прикосновение тому, кто ни разу его не испытывал. Это как описывать цвета слепому… Она осеклась и огляделась по сторонам. — Итак, — продолжил Бремен. — Робби. Когда я установил контакт, то подключился к замкнутой системе. У бедного парня почти не было информации, с помощью которой он мог бы сконструировать модель реального мира. А та информация, что была, — это в основном болезненные ощущения. Так что он шестнадцать лет строил собственную вселенную. Я совершил ошибку: недооценил — черт, да вообще даже не подумал, — какой силой мальчишка может в этой вселенной обладать. Он затянул меня внутрь, Гейл. А вместе со мной и тебя. Поднялся легкий ветерок, зашелестели листья в саду — печально и как-то по-осеннему. — Хорошо, — промолвила наконец Гейл, — допустим, тогда понятно, как ты сюда попал. А я? Джерри, я что — плод твоего воображения? Бремен чувствовал, как она дрожит, как ей холодно. Он взял жену за руку и принялся растирать ладонь, согревая ее. — Ты что, Гейл, подумай. Ты была для меня не просто воспоминанием. Мы ведь с тобой шесть лет были единым целым. Поэтому когда ты… поэтому я и спятил маленько, два года пытаясь полностью закрыть свой разум. Ты была в моем сознании. Но собственное эго, или что там еще, позволяет нам оставаться в здравом уме и не сливаться с нейрошумом других людей… короче, эта штука внушала мне, что ты только воспоминание. Ты была таким же плодом моего воображения… как и я сам. Господи Иисусе, мы оба были мертвы, пока этот слепой, глухой, умственно отсталый мальчишка, этот овощ, черт побери, не выдернул нас из одного мира и не предложил взамен другой. Они замолчали. Первой нарушила тишину Гейл: — Но как это все может быть настолько реальным? Бремен поерзал в кресле и нечаянно смахнул с подлокотника бумажную тарелку. Джернисавьен от неожиданности подпрыгнула и укоризненно посмотрела на них. Гейл погладила ее обутой в сандалию ногой. Джерри сдавил банку из-под пива, сминая алюминиевые бока. — Помнишь Чака Гилпена? Ну того, который притащил меня на вечеринку в Дрексел-Хилл? Когда я в последний раз о нем слышал, он работал в лаборатории Лоренса Беркли, в группе фундаментальной физики. — И что? — А то, что в последние годы они искали мельчайшие частицы, пытались выяснить, что же на самом деле представляет собой реальность. А когда добрались, наконец, до этой самой реальности, знаешь, что ониобнаружили на базовом, самом глубоком уровне? — Бремен допил остатки пива из смятой банки. — Серию уравнений, которые показывают совокупности стоячих волн. Очень похоже на те закорючки, что присылал мне Голдман. Гейл сделала глубокий вдох. Снова поднялся ветер, и шелест листвы почти заглушил ее вопрос: — А где Робби? Когда мы увидим его мир? — Не знаю. — Бремен нахмурился, сам того не замечая. — Он, похоже, позволил нам самим формировать реальность. Не спрашивай почему. Возможно, ему нравится эта новая вселенная. А может, он просто ничего не может с этим поделать. Они просидели во дворе еще несколько минут. Джернисавьен терлась о кресло, ей совсем не нравилось, что люди зачем-то торчат на улице, в темноте и холоде. Джерри все еще слегка придерживал ментальный щит: он не хотел показывать Гейл то, о чем год назад написала ему сестра. Маленькую пятнистую кошку сбила машина, там, в Нью-Йорке. Ферму купила и перестроила одна вьетнамская семья. А «смит-вессон» тридцать восьмого калибра он эти два года повсюду возил с собой, поджидая удобного случая застрелиться. — Джерри, что нам теперь делать? «Мы пойдем спать». Бремен взял ее за руку и повел в дом.
Во сне ему привиделось, как ногти скребут по бархату, как щека прижимается к холодной плитке, как обгоревшую на солнце кожу царапает шершавое шерстяное одеяло. Он с удивлением наблюдал, как двое занимались любовью на золотом холме. Парил под потолком в белой комнате, где сновали безмолвные белые фигуры, и слышался размеренный пульс машины. Плыл, ощущая безжалостную силу приливных течений и правящих ими светил. Из последних сил боролся с беспощадным потоком. Его тащило на глубину, накатывала усталость. Над головой сомкнулись волны, и он испустил последний отчаянный крик, оплакивая свою утрату. Выкрикнул собственное имя.
Бремен проснулся. Вопль эхом отдавался в голове, но сон стремительно распадался и таял, ускользал из памяти. Джерри резко сел. Гейл нигде не было. Уже на лестнице он услышал, как жена зовет его со двора, вернулся в комнату и выглянул в окно. Гейл, одетая в летний голубой сарафан, махала мужу рукой. Когда Бремен спустился, она уже хозяйничала в кухне — торопливо кидала припасы в корзину для пикника и кипятила воду для чая. — Просыпайся, соня. У меня для тебя сюрприз. — Не уверен, что нам нужны еще какие-нибудь сюрпризы. — Этот нужен. Она побежала наверх, что-то напевая под нос, и вскоре загромыхала там дверцами шкафов.
Они несли корзину для пикника. Позади плелась недовольная Джернисавьен. Тропинка вела в том же направлении, что и шоссе, которое когда-то пролегало прямо возле дома, — на восток, через луг на небольшой холм. Бремен всю дорогу пытался угадать, в чем сюрприз, а Гейл отказывалась давать подсказки. Тропинка взобралась на холм и закончилась. Бремен уронил корзину прямо в траву. Там, где раньше была пенсильванская развязка, теперь плескался океан. — Чтоб меня! — тихонько воскликнул Джерри. Не Атлантика; по крайней мере, не побережье Нью-Джерси, которое он так хорошо помнил. Больше похоже на Мендосино в Калифорнии, где они провели медовый месяц. В обе стороны, куда ни посмотри, простирались скалистые пляжи. Огромные волны разбивались о черные камни и белый песок. Высоко над водой кружили чайки. — Чтоб меня! — повторил Бремен. Они устроили пикник на пляже. Чуть поодаль в заросших травой дюнах Джернисавьен охотилась на разных букашек. Пахло морем, летом и солью. Побережье простиралось, наверное, на тысячи миль, и кроме них двоих вокруг не было ни души. Гейл скинула сарафан. Под ним обнаружился закрытый купальник, и Бремен захохотал, запрокинув голову: — Так вот что ты искала в шкафу! Купальник! Боялась, спасатели оштрафуют? Она кинула в него горсть песка и побежала к океану. Три широких прыжка — и вот уже можно плыть. Бремен видел, как она напрягла плечи, — значит, вода холодная. — Давай сюда! — смеялась Гейл. — Вода в самый раз! Бремен сделал шаг по направлению к ней.
С неба, с земли, с моря налетел мощный порыв ветра. Джерри сбило с ног, голова Гейл ушла под воду. Изо всех сил работая руками и ногами, она добралась до мелководья и, тяжело дыша, выползла на четвереньках на берег. НЕТ!!! Ветер ревел, в воздух взвивались огромные тучи песка. Небо морщилось и сминалось, как простыня на бельевой веревке, его цвет изменился с голубого на лимонно-желтый, потом на серый. Море гигантской волной медленно откатилось назад, оставив за собой сухую, мертвую землю. Вокруг все дрожало и колебалось. На горизонте сверкнула молния. Когда землетрясение прекратилось, Бремен бросился к лежавшей на песке Гейл и поднял ее, крепко выругавшись. Дюн и скал больше не было; океан исчез, на его месте расстилались ровные солончаки. Цвет неба продолжал меняться, становясь все более темным. Далеко на востоке, в пустыне, опять вставало солнце. Нет, не солнце. Свет двигался. Что-то перемещалось по пустоши. Приближалось к ним. Гейл начала вырываться, но Бремен крепко держал ее. Свет приближался, становился все ярче, пульсировал — сияние было таким мощным, что им обоим пришлось прикрыть глаза ладонью. Запахло озоном, волоски на руках наэлектризовались и встали дыбом. Джерри крепко обнимал Гейл и пригибался — будто противостоял сильному ветру. Позади по земле бешено метались их тени. От неведомого явления исходила невероятная сила, мужчину и женщину словно окатило взрывной волной. Через растопыренные пальцы они глядели на странное существо. Сквозь сияющий ореол проступили два силуэта — человек верхом на громадном звере. Так, наверное, выглядел бы Господь Бог, если бы вдруг решил сойти на землю. От безликого чудовища кроме света исходило еще… тепло? Ощущение мягкости? Перед ними был Робби верхом на игрушечном медвежонке. СЛИШКОМ СИЛЬНО НЕ МОГУ ДЕРЖАТЬ! Он пытался разговаривать, хотя и не умел толком этого делать. Его мысли стегали разум, как электрические разряды. Гейл упала на колени, но Бремен помог ей подняться. Джерри пытался мысленно коснуться пришельца, но тщетно. Как-то еще в Хаверфорде они вместе с одним студентом оказались на стадионе, где шли приготовления к рок-концерту, Бремен подошел к возвышению с колонками, и тут как раз начали проверять звук. Похожее ощущение. Теперь они стояли на плоской, испещренной трещинами равнине. Горизонта больше не было. Со всех сторон надвигались высокие волны белого тумана. Свет померк, только мерцала огромная, космическая фигура верхом на медведе. Туман приближался, и все, чего он касался, исчезало. — Джерри, что… — Гейл была на грани истерики. И снова мысли Робби ударили их почти физически ощутимо. Он больше не пытался разговаривать, просто обрушил на них каскад образов. Картины расплывались, переливались странными цветами, окутанные аурой неожиданности и новизны. Джерри и Гейл дрогнули под их натиском.
Вместе с образами пришли эмоции, интенсивность которых казалась нестерпимой: открытие, одиночество, изумление, усталость, любовь, печаль, печаль, печаль. Бремен и его жена упали на колени и заплакали, сами того не осознавая. Стремительный натиск прекратился, и в наступившей тишине мысли Гейл прозвучали нарочито громко: «Зачем он это делает? Почему не оставит нас в покое?» Бремен схватил ее за плечи и всмотрелся в бледное лицо, на котором как никогда отчетливо проступили веснушки. «Гейл, разве ты не понимаешь? Это не он». «Не он? А кто?..» Гейл пребывала в замешательстве. Она изо всех сил пыталась собраться с мыслями, стремительно обмениваясь с Джерри фрагментами образов, обрывками вопросов. «Это я, Гейл, я! — Бремен пытался заговорить, но звука не было, существовали только кристаллические грани их мыслей. — Он все это время пытался сделать так, чтобы мы были вместе. Это я. Я чужой здесь. Робби так старался ради меня, так хотел помочь мне остаться, но он больше не может противостоять течению». Гейл в ужасе озиралась по сторонам. Клубящийся туман подступал все ближе, тянул к ним длинные щупальца, смыкался вокруг богоподобного человека на звере. Сияющий ореол угасал. «Коснись его». Она закрыла глаза. Бремен почувствовал: мысль жены потянулась вперед; как птица, задела его крыльями. Женщина изумленно выдохнула. «Джерри, боже мой, он же просто ребенок. Испуганный ребенок!» «Если я не уйду сейчас, то всех нас уничтожу». К этой мысли Бремен добавил эмоции, которые слишком сложно было выразить словами. Гейл поняла, что он собирается сделать, попыталась воспротивиться, но не успела додумать свой протест; Джерри притянул ее ближе и обнял — крепко, отчаянно. Ментальное прикосновение усилило жест, донесло те чувства, которые невозможно передать во всей полноте ни словом, ни объятием. Потом Бремен оттолкнул жену и побежал к надвигавшейся стене тумана. Робби приник к шее медвежонка, от них остался только едва заметный мерцающий контур. Джерри коснулся мальчика на бегу. Пять шагов в холодном, плотном тумане — и ничего стало не видно, даже собственного тела. Еще три шага — и земля ушла из-под ног. Падение.БЕЛАЯ КОМНАТА… БЕЛОЕ
БЬЕТСЯ ПУЛЬС МАШИНЫ
СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ НА ПРОСТЫНЯХ
УКОЛ ОСТРОЙ ИГЛОЙ
ГОЛОСА… ДВИГАЮТСЯ БЕЛЫЕ ФИГУРЫ
ДУЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ ВЕТЕР
ТЕЧЕНИЕ УТЯГИВАЕТ, УТЯГИВАЕТ,
УТЯГИВАЕТ ПРОЧЬ
Белая комната, белая кровать, белые окна. От его руки к бутылочкам на капельнице тянулись тоненькие трубки. Все болело. На запястье болтался зеленый пластиковый браслет: «Бремен, Джереми X.». Доктора в белых халатах. Кардиомонитор выстукивал его пульс. — Как же вы нас напугали, — сказала женщина в белом. — Это просто чудо, — вмешался мужчина слева от нее. Он говорил чуточку рассерженно. — Пять дней энцефалограмма ничего не показывала, но вы выкарабкались. Чудо. — Мы никогда не сталкивались с такими случаями, — продолжала женщина. — Очень сильные приступы, один за другим. У вас в семье были эпилептики? — В школе ваших медицинских данных не нашли. У вас есть близкие, с кем мы могли бы связаться? Бремен со стоном закрыл глаза. Врачи о чем-то посовещались, руку кольнула холодная игла, гул голосов стал удаляться. Джерри что-то сказал, закашлялся, попробовал снова. — В какой палате? Доктора непонимающе переглянулись. — Робби, — хрипло прошептал он. — В какой палате Робби? — В семьсот двадцать шестой, в отделении интенсивной терапии. Бремен кивнул и снова закрыл глаза.
В свое маленькое путешествие он отправился рано утром. В темных коридорах царила тишина, только изредка шуршали юбками медсестры и из палат доносились прерывистые стоны. Бремен шел медленно, временами опираясь о стену. Дважды он прятался в темных палатах, когда мимо спешили, шаркая резиновыми подошвами, санитары. На лестнице приходилось постоянно делать передышки, цепляться за металлические перила. Джерри тяжело дышал, сердце неистово стучало в груди. Наконец он добрался. Робби лежал на дальней кровати. На мониторе над его головой горел один-единственный огонек. Толстый обрюзгший мальчик свернулся на смятых простынях в позе зародыша. От него пахло. Запястья и лодыжки были неестественно вывернуты, пальцы растопырены, голова склонилась на сторону, открытые глаза слепо уставились в пустоту. Губы слегка подрагивали, на белой наволочке темнело пятнышко слюны. Робби умирал. Бремен присел на краешек кровати. Вокруг почти осязаемо сгущалась плотная предутренняя темнота. Где-то пробили часы, кто-то застонал. Джерри ласково положил ладонь на щеку мальчика. Теплая, мягкая щека. Робби дышал прерывисто, с трудом. Нежно, почти благоговейно Бремен погладил его по макушке, взъерошив непослушные черные волосы, а потом встал и вышел из палаты.
Бремен резко свернул, чтобы не столкнуться с трамваем, и подвеска взятого напрокат «фиата» царапнула по кирпичной мостовой. Стояло раннее утро, на мосту Бенджамина Франклина почти не было машин, на двухполосном шоссе в Нью-Джерси — тоже чисто. Бремен осторожно опустил ментальный щит и поморщился, когда на израненный разум накатила волна нейрошума. Быстро поднял обратно. Не сейчас. Джерри сосредоточился на дороге. В голове пульсировала боль. Сквозь гул чужих мыслей он не услышал знакомого голоса. Бремен глянул на закрытый бардачок, в котором лежал небольшой сверток. Когда-то, давным-давно, он воображал, как сделает это, и почти убедил себя, что револьвер, словно какая-нибудь волшебная палочка, принесет ему мгновенное избавление. Но теперь-то он знал: не избавление, а убийство. Смерть не освободит его, не позволит сознанию воспарить. Пуля пройдет сквозь череп и навсегда прервет волшебный математический танец. Джерри вспомнил о слабеющем, бессловесном мальчике на больничной койке и прибавил газу. Припарковался возле маяка, завернул револьвер в коричневый бумажный пакет и запер автомобиль. Горячий песок набился в сандалии и обжег ноги. Пляж был почти пуст. Бремен уселся в прозрачной тени дюны, посмотрел на море и зажмурился от яркого утреннего света. Он снял рубашку, аккуратно положил ее на песок и развернул пакет. Металл холодил руку. В его воспоминаниях револьвер был гораздо тяжелее. От оружия пахло смазкой. «Мне нужна помощь. Если есть какой-то другой способ, помоги мне его найти». Бремен убрал ментальный щит. В разум вонзились миллионы чужих бесцельных мыслей, острые и болезненные, как уколы. Непроизвольно он чуть не загородился снова, но сдержался. Впервые в жизни Джерри полностью открылся, открылся перед болью, перед миром, перед миллионом голосов, взывавших из своего одиночества. Принял их. По доброй воле. Неумолчный хор ударил по нему, словно гигантский волшебный посох. Бремен искал один-единственный голос. Слух померк и обратился в ничто. Бремен больше не чувствовал на коже горячий песок, почти не ощущал солнечный свет. Он сконцентрировался настолько, что в эту минуту мог бы двигать силой мысли предметы, крошить кирпичи, останавливать птиц в полете. Забытый револьвер упал на землю. К воде подбежала девочка в темном купальнике, который был ей слишком мал. Она смотрела только на море, а море дразнило, выбрасывало гладкие волны на берег и снова ускользало. Девочка исполняла беззвучный танец на мокром песке, мелькали обгоревшие ноги, то приближаясь к кромке Мирового океана, то вновь удаляясь. Неожиданно в вышине закричали чайки. Малышка отвлеклась, остановилась на мгновение, и волны с торжествующим шипением захлестнули ее лодыжки. Чайки нырнули вниз, опять поднялись в вышину и заскользили куда-то на север. Бремен забрался на дюну. Ветер приносил с океана соленые брызги. На волнах отражался солнечный свет. Девочка снова танцевала вальс вместе с морем. А с вершины дюны, щурясь от ясного, прозрачного утреннего света, за ней глазами Бремена наблюдали трое.
Ванни Фуччи жив-здоров и передает привет из ада
~ ~ ~
В Америке конца двадцатого века, где полным ходом идет «десятилетие скидок» (купите то-то и то-то всего за какие-нибудь 19,95 доллара), «прогресс» и «благо» фактически воспринимаются как равнозначные понятия, и усомниться в таком превосходном тождестве — почти богохульство. Но возьмем, к примеру, современную теологию. Да, вот именно. Что есть «Ад» Данте Алигьери? Допустим, это концентрат авторской злобы, сдобренный щедрой порцией садомазохизма. Но рассматривать «Божественную комедию» лишь с такой точки зрения — значит ограничить себя рамками современного зацикленного сознания. Не стоит забывать, сам Данте тоже был зациклен на призраке прекрасной Беатриче и в еще большей степени — на «Энеиде» Вергилия и «Сумме теологии» Фомы Аквинского. И тогда становится вполне очевидно: «Ад» представляет собой невероятно сложную теологию, которая одновременно охватывает и вопросы вселенского устройства, и сугубо личный, авторский страх смерти, «столь горький, что смерть едва ль не слаще»[26] («Ад», песнь первая, стих седьмой). Для Данте этот страх служил превосходным источником поэтического вдохновения, и, пожалуй, с четырнадцатого века тут мало что изменилось. А теперь давайте включим телевизор. Во что превратилась теология спустя шесть с половиной веков? Вместо поэтического слога «Энеиды» — завывания взмокшего телепроповедника-южанина. Вместо совершенных умозрительных построений «Суммы теологии» — прилизанные, напомаженные и зашпаклеванные румянами кривляки вбивают в головы зрителей посредством электродов, частот и спутников одну-единственную мысль: «Пришлите нам ваши денежки». Согласитесь: язык не поворачивается назвать телепроповедников представителями современной теологии. К тому же эти господа стали чрезвычайно легкой мишенью после серии недавних разоблачений — достаточно вспомнить непристойности, приписываемые Джимми Своггарту, чушь, которую нес Рекс Гумбарт, интрижки Джимми Бэккера.[27] Пусть мне послужит хоть каким-то оправданием то, что я написал своего «Ванни Фуччи» еще до вышеупомянутых событий. Но подобные разоблачения необходимо продолжать, покуда мы живем в мире, где теология — это помесь Ф. Т. Барнума[28] и Джонни Карсона,[29] где эти паразиты проникают в наши дома через кабельное телевидение, радио и спутниковую связь… В общем, как говорила малышка с одной классической карикатуры журнала «Ньюйоркер»: «Это никакая не брокколи, а самый настоящий шпинат. И к черту его!»~ ~ ~
В последний день своей земной жизни брат Фредди поднялся спозаранку. Принял душ, выбрил многочисленные подбородки, уложил волосы, загримировался, облачился в фирменный костюм-тройку, белые ботинки, розовую рубашку и черный галстук-бабочку и спустился в офис «Утреннего клуба „Аллилуйя“». Там его уже ожидали к завтраку. Джордж, брат Билли Боб, сестры Донна Лу и Бетти Джо жевали сладкие булочки и потягивали кофе. За десятиметровой стеклянной стеной (пуленепробиваемой и тонированной) на светло-сером алабамском небе занимался рассвет. На фоне предутреннего сумрака постепенно проступали очертания многоэтажных кирпичных зданий Библейского колледжа «Аллилуйя» имени брата Фредди и Высшей христианской школы экономики имени брата Фредди. На востоке за ореховой рощей виднелись Христианский конференц-центр и верхушка аттракциона «Синайские американские горки», который был изюминкой Библияленда — семейного парка развлечений для новообращенных имени брата Фредди. Неподалеку изогнутым полукружием темнел краешек Божественной антенны — таких громадных спутниковых тарелок в Библейском центре теле- и радиовещания имени брата Фредди было шесть. Фредди с улыбкой смотрел на свинцовые облака. Неважно, какая погода там, в реальном мире. В уютной студии «Утреннего клуба „Аллилуйя“» всегда радовало глаз «окно с видом на залив» — огромный экран стоимостью 38 тысяч долларов. Каждое утро на нем прокручивалась одна и та же пятидесятиминутная запись чудесного майского восхода. Вечная весна. — Что у нас на сегодня? — Манерно оттопырив мизинец, Фредди поднес к губам кофейную чашку; в свете прожектора блеснуло украшенное розовым камнем кольцо. До эфира оставалось восемь минут. — Брат Бо зачитает стандартное приветствие, потом ваша вступительная речь, потом молитва за наших уважаемых партнеров — это полчаса. Еще шесть с половиной минут на хор «Утреннего клуба» — будут петь «Чудо нас ждет» и другие христианские хиты на бродвейские мотивы, а потом уже появятся гости, — отчитался брат Билли Боб Граймз, студийный администратор. — Кто именно? Брат Билли Боб заглянул в папку. — Чудесные тройняшки-миссионеры Мэтт, Марк и Люк.[30] Бубба Дитерс. Снова будет рассказывать, как Господь повелел ему кинуться на гранату во время Вьетнамской войны. Брат Фрэнк Флинси со своей новой книгой «Последние дни». А еще Дейл Эванс.[31] — К нам вроде собирался сегодня Пэт Бун,[32] — нахмурился Фредди. — Пэт мне нравится. — Да, сэр. — Брат Билли Боб покраснел и принялся чиркать что-то на одной из многочисленных бумажек. — Пэт сожалеет, что не сможет приехать. Вчера он выступал на шоу Своггарта, а сегодня днем должен быть в Бейкерсфилде с Полом и Джан. А завтра слушания в сенате по поводу тех сатанинских посланий, ну, когда прокручиваешь компакт-диски задом наперед. До эфира оставалось четыре минуты. — Ну ладно, — вздохнул брат Фредди. — Но уж в следующий понедельник постарайтесь его заполучить. Пэт мне нравится. Донна Лу, душенька, как там у нас обстоят дела с Промыслом Господним? Донна Лу Паттерсон была главным бухгалтером гигантской организации брата Фредди, а точнее, целого конгломерата освобожденных от уплаты налогов организаций, куда входили религиозные миссии, колледжи, корпорации, парки развлечений, а также сеть мотелей для новообращенных. Сестра поправила усыпанные стразами очки. Строгость бежевого делового костюма подчеркивало единственное украшение — брошка «Утреннего клуба „Аллилуйя“», тоже со стразами. — В текущем бюджетном году мы рассчитываем на прибыль в размере около ста восьмидесяти семи миллионов долларов. Это на три процента больше, чем в прошлом году. Активы миссии составляют двести четырнадцать миллионов долларов, невыплаченные долги — шестьдесят три миллиона, плюс-минус триста тысяч — все будет зависеть от решения брата Карлайла. Он собирается заменить наш «Гольфстрим» класса люкс реактивным самолетом другой модели. Брат Фредди удовлетворенно кивнул и повернулся к Бетти Джо. До эфира оставалось три минуты. — Как вчера все прошло, сестра? — Рейтинг по «Арбитрону» — двадцать семь процентов; по «Нильсену»[33] — двадцать пять и пять, — отозвалась худенькая женщина, облаченная в белое. — Три новых кабельных центра: два — в Техасе, один — в Монтане. На данный момент число подписчиков кабельной сети составляет три миллиона триста семьдесят тысяч семей, это на шесть десятых процента больше, чем в прошлом месяце. В почтовую службу вчера поступило семнадцать тысяч триста восемьдесят пять отправлений; таким образом, за неделю набралось восемьдесят шесть тысяч двести семнадцать. Девяносто шесть процентов вчерашних писем включали пожертвования, тридцать девять процентов — просьбы о Заступнической молитве. Всего за этот год поступило три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч двести двадцать писем, и до конца бюджетного года мы прогнозируем еще около двух с половиной миллионов. Брат Фредди улыбнулся и обратил благосклонный взор на Джорджа Коэна, юрисконсульта Миссии для новообращенных имени брата Фредди. — Джордж, а что у вас? До эфира оставалось две минуты. Тощий адвокат в темном костюме прочистил горло и неторопливо начал: — Налоговое управление снова под нас подкапывается, но крыть им нечем. Все филиалы миссии освобождены от уплаты налогов, так что декларировать ничего не придется. В Хантсвилле дом вашей дочери оценили в полтора миллиона, им также известно, что ее дом и ранчо вашего сына построены на три миллиона, взятые в долг у миссии. Но про зарплаты им неизвестно ничего. Даже если и разнюхают — а они никогда не разнюхают, — ваша официальная годовая зарплата в совете директоров составляет только девяносто две тысячи триста долларов, и треть из нее вы жертвуете миссии. Разумеется, ваши жена, дочь, зять и еще семеро членов семьи имеют гораздо более значительный доход, но я не думаю, что… — Благодарю вас, Джордж, — прервал его брат Фредди. Он поднялся, потянулся и подошел к своему рабочему компьютеру. — Сестра Бетти Джо, вы говорили, там несколько тысяч просьб о Заступнической молитве? — Да, брат. — Женщина в белом положила изящную ручку на расположенный рядом с креслом пульт. Фредди улыбнулся юрисконсульту. — Я говорю с телеэкрана этим людям, что буду лично молиться за каждого, кто пошлет пожертвование во имя любви к Господу. Вот прямо сейчас этим и займемся. До брата Бо ведь целых полминуты. Бетти Джо? Сестра с улыбкой нажала на кнопку. По компьютерному монитору побежали имена. Тысячи имен и цветные буковки кода: каждый даритель, отправляя пожертвование, ставил галочку в специальной графе: З — здоровье, СП — семейные проблемы, $ — денежные проблемы, ДР — духовное руководство, ПГ — прощение грехов и так далее, всего двадцать семь категорий. В почтовой службе брата Фредди трудились двести человек, и каждый ежедневно обрабатывал до четырехсот просьб о Заступнической молитве. Они рассортировывали содержимое конвертов на чеки и наличные и одновременно заносили индивидуальные данные в соответствующий шаблон ответа. — Господь милосердный, — произнес нараспев брат Фредди, — услышь наши молитвы, ответь страждущим, ибо просят они во имя Сына Твоего Иисуса… Имена и коды на экране мелькали все быстрее, пока не слились в сплошной поток, а потом список подошел к концу и на черном поле снова замигал курсор. — Аминь. Фредди развернулся на каблуках и в сопровождении семенящего эскорта поспешил в студию «Утреннего клуба „Аллилуйя“». Заставка программы уже мелькала на всех шестидесяти двух мониторах Библейского центра теле- и радиовещания, а бесконечные коридоры, кабинеты и конференц-залы наполняла торжественная вступительная мелодия.На восемнадцатой минуте ток-шоу что-то пошло наперекосяк. Брат Фредди сразу понял это, когда вместо Дейл Эванс в студии появился высокий и смуглый незнакомец. С первого взгляда было ясно, что он иностранец: длинные темные локоны до плеч, дорогой костюм-тройка (судя по всему, шелковый), безукоризненно начищенные итальянские ботинки из превосходной кожи, белоснежные накрахмаленные манжеты и воротничок, золотые запонки, сияющие в свете софитов. «Здесь явно какая-то ошибка», — подумал Фредди. Новообращенные гости передачи, конечно, были людьми небедными, но они, как правило, предпочитали полиэстеровые рубашки пастельных тонов и коротко стриженные волосы — хотя бы для того, чтобы быть ближе к своей аудитории. Брат Фредди бросил взгляд на свои заметки, а потом беспомощно посмотрел на студийного администратора. В ответ брат Билли Боб только растерянно пожал плечами. Ведущий такого жеста позволить себе не мог, ведь на камерах ярко светились красные датчики. «Утренний клуб „Аллилуйя“» транслировался во всех трех часовых поясах страны в прямом эфире и гордился этим. Поэтому Фредди лишь чертыхнулся про себя и улыбнулся вошедшему. Ну почему, почему они не записывают программы на пленку, как это делают их основные конкуренты? В свою очередь, сам брат Фредди всегда обходился без обычного для телестудии миниатюрного наушника и тоже этим гордился. Ему не нужны были комментарии и наставления режиссера — зачем? Вполне хватало жестов Билли Боба и собственного чувства времени, доведенного до совершенства. Он поднялся пожать руку загорелому чужаку и снова мысленно чертыхнулся. Ну почему, почему у него нет наушника, чтобы узнать, в чем дело? И почему они никогда не делают перерывов на рекламу? Хоть бы кто-нибудь объяснил ему, что, собственно говоря, происходит. — Доброе утро, — любезно приветствовал он гостя, выдергивая руку из его железной хватки. — Добро пожаловать в «Утренний клуб „Аллилуйя“». Брат Билли Боб что-то отчаянно шептал в нагрудный микрофон. Камера номер три плавно описала полукруг, чтобы снять крупный план незнакомца. Камера номер два по-прежнему была нацелена на длинный диван — там теснились чудесные тройняшки-миссионеры, Бубба Дитерс и Фрэнк Флинси, чьи по-военному подстриженные усы топорщила неестественная улыбка. На мониторах отображался крупный план самого Фредди, который вежливо улыбался и краснел от натуги, а еще потел, но разве что совсем чуть-чуть. — Благодарю вас, я так давно ждал этой возможности, — низким глубоким голосом ответил незнакомец и уселся в плюшевое гостевое кресло рядом с кафедрой ведущего. Говорил он на безупречном английском, хотя и с легким итальянским акцентом. Брат Фредди тоже сел, не переставая улыбаться, и посмотрел на администратора. Билли Боб снова пожал плечами и махнул рукой — дескать, продолжайте. — Прошу прощения, я, наверное, вас неправильно представил, ведь вы же явно не моя добрая знакомая Дейл Эванс. В карих глазах гостя плескались невероятная энергия и злость, поразившие брата Фредди. «Пусть это окажется всего лишь ошибкой в расписании, — взмолился он про себя. — Не дай бог, если какой-нибудь политический экстремист или чокнутый пятидесятник[34] пробрался мимо охраны». Сейчас на них смотрело более трех миллионов зрителей, и Фредди хорошо отдавал себе в этом отчет. — Да, я не Дейл Эванс. Меня зовут Ванни Фуччи. Оба раза он сделал ударение на первый слог. И снова этот едва уловимый итальянский акцент. Против итальянцев брат Фредди, в общем-то, ничего не имел. В алабамском Гринвилле, где он вырос, их почти не было; позже, в юности, преподобный твердо усвоил: макаронники — слово ругательное. В сущности же большинство итальянцев ведь католики, правильно? А значит, не христиане; а значит, никакого интереса для его миссии не представляют. Вот только от этого непонятного итальянского типа явно добра не жди. — Мистер Фуччи, — улыбнулся брат Фредди, — расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, откуда вы. Ванни обратил на телекамеру гневный взор. — Родился я в Пистойе, но последние семьсот лет провел в аду. Улыбка застыла на лице брата Фредди, он осторожно посмотрел на Билли Боба. Тот суматошно вычерчивал на левом нагрудном кармане звезду. Какой-то малоизвестный религиозный символ? А! Администратор имеет в виду, что уже позвали охрану или даже полицию. Позади софитов и телекамер триста человек из живой студийной аудитории прекратили шебуршать и шептаться, ерзать на стульях и кашлять в кулак. Воцарилась мертвая тишина. — Понимаю вас, мистер Фуччи, — ласково усмехнулся брат Фредди. — В каком-то смысле все те из нас, кто согрешил, отбывают свое наказание в аду. Избежать же вечных мук мы можем только благодаря милосердию Господа нашего Иисуса. Расскажите, когда вы приняли Христа? Когда к вам пришло Спасение? — А оно ко мне и не приходило. — Смуглый Ванни Фуччи оскалил в улыбке белоснежные зубы. — В мое время нельзя было, как вы, фундаменталисты, это называете, «обрести спасение». Нас всех крестили во младенчестве. В юности я совершил несколько мелких проступков, и ваш так называемый Спаситель ничтоже сумняшеся приговорил меня к бесчеловечным пыткам, вечным пыткам в седьмой «злой щели» восьмого круга ада. — Хм… — выдавил брат Фредди и, повернувшись в кресле, махнул рукой камере номер один. Пусть дадут самый крупный план. Теперь на всех мониторах отображалась только его физиономия. — Итак, чрезвычайно приятно было побеседовать с нашим гостем, мистером Ванни Фуччи. К сожалению, сейчас мы вынуждены будем на минутку прерваться — я ведь обещал вам показать одну запись. Мы с братом Бо на прошлой неделе установили и освятили новую спутниковую антенну в Амарильо. Давайте посмотрим. Бо? Одновременно Фредди несколько раз чиркнул себя правой рукой по горлу, но так, чтобы в кадр жест не попал. Билли Боб усиленно закивал в ответ, повернулся к кабине режиссера и что-то зачастил в микрофон. — Нет, — вмешался Ванни Фуччи, — давайте не будем прерывать нашу беседу. Мониторы отобразили общий план. Чудесные миссионеры-тройняшки разинули рты от изумления, их свисавшие с дивана ножки походили на восклицательные знаки. Преподобному Буббе Дитерсу, наверное, захотелось почесать в затылке — он поднял правую руку и уставился на торчавший из нее стальной крюк (напоминание о воле Господней, явленной ему во время Вьетнамской войны), а потом медленно опустил ее обратно. Фрэнк Флинси, сам профессиональный ведущий, с изумлением переводил взгляд с камер на мониторы: датчики не горели, но на экранах по-прежнему отображалось все происходящее в студии. Брат Фредди так и застыл с ладонью поперек горла. Невозмутимым оставался один лишь Ванни Фуччи. — Рой Роджерс, муж вашей ненаглядной Дейл Эванс, помнится, сделал из верного скакуна чучело и поставил его в гостиной. Как думаете, если бы старушка Дейл сыграла в ящик раньше лошади — из нее бы он чучело делать стал? — спросил итальянец. — Хы-ы-ы? — прохрипел брат Фредди. Звук собственного голоса напомнил ему кряхтение спящего столетнего старика. — Это я так, к слову. Может, все-таки продолжим разговор? Брат Фредди кивнул. Краем глаза он видел, как трое вооруженных людей в форме пытаются подняться на сцену, но вокруг участников ток-шоу словно выросла невидимая прозрачная стена. — На самом деле я провел в аду не все семьсот лет, а лишь шестьсот девяносто. Но вы же понимаете, в подобной ситуации время течет ох как медленно. Прямо как на приеме у зубного. — Да, — почти пропищал брат Фредди. — А вы знали, что всего одной проклятой душе из целой болджии и всего один раз за вечность позволено прервать страдания и ненадолго вернуться в мир смертных? Прямо как у вас, американцев: «Вы арестованы и имеете право на один телефонный звонок». — Нет, — прокашлялся брат Фредди. — Не знал. — Именно так. Думаю, основная идея состоит в том, чтобы мы вспомнили о земных наслаждениях, когда-то и нам доступных. Тем самым по возвращении пытка становится еще горше. Что-то в этом духе. К тому же время ограничено — всего пятнадцать минут. Так что наслаждениям предаться не очень-то и успеешь, верно? — Да. К радости брата Фредди, его голос звучал уже гораздо увереннее. Всего одно короткое «да», зато в нем слышались и мудрость, и легкое недоумение, и отеческое наставление. Надо подумать над подходящей цитатой из Библии, которую ему следует произнести, когда он возьмет ситуацию в свои руки. — Ни то ни се, — продолжал меж тем Ванни Фуччи. — Суть же заключается в том, что все проклятые души из седьмой болджии восьмого круга ада единодушно проголосовали за меня. Я должен был явиться сюда, на ваше шоу. — Гость наклонился вперед, и свет прожекторов эффектно заиграл на золотых запонках. — А вы знаете, брат Фредди, что такое болджия? — А? Нет… — Вопрос отвлек брата Фредди от размышлений. Он уже выбрал цитату, но как-то именно сейчас она была не очень к месту. — Или нет, знаю. Это вроде такая герцогиня или графиня, она была отравительницей в Средние века. — Нет. — Ванни Фуччи со вздохом откинулся в кресле. — Вы путаете с семейством Борджиа. Болджия — итальянское слово, обозначающее ров, а еще сумку или карман. В восьмом круге ада десять таких рвов, до краев наполненных дерьмом и грешниками. Все зрители в студии одновременно выдохнули от изумления, даже у оператора отвисла челюсть. Брат Фредди бросил тоскливый взгляд на мониторы и в отчаянии прикрыл глаза. Его единственный и неповторимый «Утренний клуб „Аллилуйя“», самая рейтинговая христианская программа в мире (ну разве что специальный выпуск «Крестового похода Билли Грэма»[35] однажды их опередил), только что стал первой программой в истории телеканалов Ти-би-эн и Си-би-эн, где в прямом эфире употребили слово «дерьмо». Что скажут члены попечительского совета миссии? Семеро из одиннадцати были его родственниками, но это никак не меняло сути дела. — Послушайте, вы… — сурово начал брат Фредди. — Вы читали «Комедию»? — прервал его Ванни. Что-то еще плескалось в его глазах, кроме энергии и злости. Наверняка он больной, сбежавший из психиатрической клиники. — Комедию? А может, какой-нибудь актер-комик с наклонностями психопата? Пытается провернуть некий рекламный трюк? Операторы на площадке разворачивали тяжелые камеры и проверяли объективы. Но мониторы по-прежнему выдавали картинку с ведущим и его гостем. Брат Билли Боб перебегал от камеры к камере, спотыкаясь о кабели, дергаясь на проводе собственного микрофона, как обезумевшая такса на коротком поводке. — Он назвал это «Комедией», а лизоблюды-потомки окрестили ее «Божественной». — Итальянец, нахмурившись, грозно смотрел на брата Фредди, словно строгий учитель на нерадивого ученика. — Простите, я не… Один из операторов принялся разбирать камеру. Все объективы были направлены в сторону от сцены, но картинка на мониторах не менялась. — Алигьери! Мерзкий плюгавенький флорентиец, вожделевший восьмилетнюю девочку! За всю свою ничтожную жизнь написал одно-единственное удобоваримое произведение! — Ванни Фуччи нетерпеливо повернулся к остальным гостям. — Ну же! Вы что — читать не умеете? Пятеро христиан на диване дружно шарахнулись от него. — Данте! — завопил смуглый иностранец. — Данте Алигьери! Да что с вами такое, джентльмены? Будущим фундаменталистам что, делают лоботомию? Или у вас в голове вместо мозгов алабамская кукуруза насыпана? Данте! — Минуточку… — Брат Фредди привстал с кресла. — Да что вы, собственно говоря… — Фрэнк Флинси тоже поднялся со своего места. — Да кто вы, собственно говоря… — Бубба Дитерс, потрясая крюком, вскочил с дивана. — Эй! Эй! Эй! — закричали хором чудесные тройняшки, безуспешно пытаясь спрыгнуть на пол. — СИДЕТЬ! — прорычал итальянец. Этот рык мало походил на человеческий голос. По крайней мере, без микрофона человек не способен издать подобный звук. Брату Фредди однажды здорово не повезло: во время выездной кампании он случайно встал прямо перед тридцатью огромными колонками, и тут режиссер как раз решил проверить аппаратуру, причем врубил полную громкость. В этот раз эффект получился сходный, только гораздо сильнее. Брат Билли Боб и другие работники студии упали на колени, одновременно пытаясь сорвать с себя наушники. Наверху раскололось несколько стеклянных плафонов. Зрители разом вжались в стулья и дружно всхлипнули, словно заскулил один гигантский трехсотголовый зверь, а затем наступила мертвая тишина. Похоже, никто даже не дышал. Фредди плюхнулся обратно в кресло, его гости попадали на диван. — Это сделал Алигьери, — как ни в чем не бывало продолжал Ванни Фуччи обычным голосом. — Умственное ничтожество с воображением как у навозного жука, но именно он это сделал. А все почему? Всего лишь потому, что никто не сделал этого до него. — Сделал что? — спросил брат Фредди, с ужасом взирая на психопата в плюшевом кресле. — Создал ад. — Чушь! — завопил преподобный Фрэнк Флинси, автор четырнадцати монографий о конце света. — Ад создал Господь наш Иегова, ад и все остальное тоже. — Да ну? — усмехнулся Ванни. — И где же именно, позвольте спросить, об этом написано в вашей Библии? В вашей насквозь шовинистической книжонке, составленной из подобранных наугад примитивных преданий? Брат Фредди испугался, что вот сейчас, в прямом эфире собственного телешоу, на глазах у трех миллионов трехсот тысяч американских семей его хватит удар. Сердце ведущего судорожно сжималось, лицо стало малиновым, но даже в этот трудный момент мозг преподобного работал не переставая. Он все еще искал подходящую цитату из Писания. — Я расскажу вам об одном эксперименте, проведенном в тысяча девятьсот восемьдесят втором году в университете Париж-юг, — не унимался Ванни Фуччи. — Группа ученых, специалистов в области квантовой физики, под руководством Алена Аспе[36] изучала поведение двух фотонов. Эти фотоны летели в противоположных направлениях от источника света. В ходе эксперимента подтвердилась одна из основных теорий квантовой механики: измерение одного фотона немедленно сказывалось на природе второго. Фотоны, да будет вам известно, джентльмены, перемещаются со скоростью света. Очевидно, что скорость передачи информации не может превышать скорость света. Но сам процесс определения природы одного фотона мгновенно изменяет природу другого. Вывод очевиден. Улавливаете? — Хы-ы-ы? — прогнусавил брат Фредди. — Хы-ы-ы? — отозвались с дивана пятеро гостей. — Вот именно, — согласился Ванни Фуччи. — Ваш эксперимент лишь подтвердил то, что нам в аду уже давно известно. Реальность созидает обратившийся к ней великий разум, разум того, кто первым решился ее измерить. Новые идеи формируют новые законы природы, и Вселенная послушно меняется. Это Ньютон создал законы тяготения, а потом космос подстроился под его концепцию. Эйнштейн определил соотношение времени и пространства и тем самым перекроил Вселенную. А Данте Алигьери, полоумный идиот-невротик, начертал первую подробную карту ада, и ад появился, чтобы потрафить всеобщему представлению о нем. — Но это же абсурд, — выдавил из себя брат Фредди. Он напрочь забыл о камерах, зрителях, вообще обо всем, захваченный чудовищной, порочной, но самое главное — богохульной логикой сумасшедшего итальянца. — Если бы это… была правда, мир… все вокруг… безостановочно бы менялось. — Вот именно. — Ванни Фуччи снова улыбнулся, продемонстрировав маленькие белоснежные зубки, очень острые на вид. — Ну… тогда… ад бы менялся тоже… — тужился брат Фредди. — Данте написал о нем много лет назад. Триста, четыреста лет, а то и больше… — Он умер в тысяча триста двадцать первом году. — Да… ну… и вот… — Вы ничегошеньки не поняли, — покачал головой Ванни Фуччи. — Если концепция по-настоящему значительна, детальна и всеохватна, если она способна перекроить под себя Вселенную — она будет доминировать сколь угодно долго. До тех пор, пока не сформулируют другую столь же мощную парадигму, которую примет общественное сознание. К примеру, ваш ветхозаветный Бог держался тысячи лет… А потом его вытеснил гораздо более цивилизованный, хотя и довольно шизофренический новозаветный Господь. И даже эта новейшая и явно более слабая версия протянула целых полторы тысячи лет и лишь теперь рискует окончательно загнуться от приступа аллергии, вызванного современной наукой. Брат Фредди не сомневался, что сейчас его хватит удар. — Но ад-то кто возьмется перекраивать? — трагическим тоном возгласил Ванни Фуччи. — В нынешнем столетии немцам это почти удалось, но они потерпели крах прежде, чем их идеи успели закрепиться в массовом сознании. Так что у нас в аду все по-старому. Все те же вечные пытки. В вашем мизинце на ноге, в вашем аппендиксе смысла и то больше. «Это же, наверное, демон», — осенило наконец брата Фредди. Сорок с лишним лет он проповедовал, устрашая паству демонами, рассказывал о свойствах демонов, искалдемоническое влияние во всем, начиная с рок-музыки и заканчивая постановлениями Федеральной комиссии связи. Демоны, учил он, повсюду: в школах, в компьютерных играх, на логотипах кукурузных хлопьев. Фредди считался одним из главных экспертов по демонам в стране и сколотил на этом немаленькое состояние. Теперь же прямо перед ним сидел человек, вполне вероятно одержимый демоном, а возможно, и сам являвшийся таковым, и эта мысль брата Фредди почему-то немного смущала. Ничего подобного он в жизни своей не видел, разве что когда у жены преподобного Джима Бэккера, Тэмми Фэй,[37] разыгрались «демоны-шопоголики». Это было еще до скандального развода. Брат Фредди схватил левой рукой Библию, а правую грозно воздел над головой Ванни Фуччи. — Изыди, сатана! — заголосил он. — Изгоняем тебя, всякая сила сатанинская, всякий посягатель адский враждебный… Изгоняем! Из этого благочестивого места! Именем и добродетелью Господа нашего И-и-и-и-суса! Именем и добродетелью Господа нашего И-и-и-и-суса! — Заткнитесь, — отозвался Ванни Фуччи и посмотрел на золотые наручные часы. — Самого главного я еще не сказал, а времени в обрез. Брат Фредди так и остался сидеть с воздетой правой рукой. Правда, через минуту она затекла, пришлось ее опустить. Зато с Библией он не расстался. — Мое преступление было сугубо политическим, — продолжал Фуччи, — хотя узколобый флорентиец и запихал меня в болджию для воров. Да-да, вижу — вы не имеете ни малейшего понятия, о чем это я. В те времена сражались между собой черные и, чтоб их, белые гвельфы. Больше трети своего треклятого «Ада» Данте посвятил этому политическому противостоянию. Конечно же, сегодня никто не помнит, за что боролись обе партии. Через семьсот лет ваших республиканцев и демократов тоже помнить не будут. Так вот. В тысяча двести девяносто третьем году мы с друзьями ограбили ризницу Пистойского собора. Нашей партии нужны были деньги. В числе прочего украли чашу для причастия. Но нет — я загремел в Дантов ад не из-за ничтожного ограбления, в мои времена такое было обычным делом, как у вас супермаркет обчистить. Нет, я загремел в седьмой ров восьмого круга ада только потому, что я был черным гвельфом, а Данте — белым. Нечестно, дьявол вас всех дери! Брат Фредди закрыл глаза. — Целая вечность в канаве, полной дерьма и раскаленных углей, — такое возмездие удовлетворило бы любое психически больное божество, склонное к садомазохизму, но нет. — Ванни Фуччи развернулся к сидевшим на диване гостям. — Я признаю, у меня очень вспыльчивый характер. Когда я выхожу из себя, то показываю Господу кукиш. Фрэнк Флинси, преподобный Дитере и чудесные тройняшки непонимающе уставились на итальянца. — Кукиш, — повторил тот, сжал руку в кулак, просунул большой палец между указательным и средним и выразительно им пошевелил. Зрители в студии затаили дыхание — значение жеста всем было очевидно. Ванни Фуччи снова наклонился к ведущему. — А после этого, разумеется, каждый вор, находящийся в радиусе ста ярдов от меня, превращается в рептилию. А это значит, просто-напросто все поголовно в проклятущей седьмой болджии становятся рептилиями. — Рептилиями? — прохрипел брат Фредди. — Кенхры, якулы, ехидны, фареи, двухголовые амфисбены — и всякие прочие. Алигьери постарался. И разумеется, каждая чертова змея бросается на меня. Меня охватывает пламя, и я осыпаюсь дымящейся кучкой пепла и горелых костей… Брат Фредди послушно кивал. Краем глаза он видел, как сестры Донна Лу и Бетти Джо вместе с тремя охранниками пытаются стулом проломить невидимый барьер. Безуспешно. — Так-то вот. — Ванни Фуччи наклонился еще ближе. — Чертовски неприятно… «Ладно, — подумал брат Фредди, — когда все это закончится, я отправлюсь в небольшой отпуск, в свое христианское убежище на Багамы». — А ведь это при всем при том ад, — продолжал Ванни Фуччи, — так что останки — мои, между прочим, останки — не умирают. Они собираются воедино — очень-очень болезненная процедура, скажу я вам, — и я снова оказываюсь во плоти. Нечестно, ужасно нечестно, меня это просто бесит… так что я… ну, вы поняли… — Опять показываете кукиш? — закончил за него брат Фредди и тут же испуганно зажал себе рот ладонью. — Два кукиша, — печально кивнул итальянец. — И опять все по новой. — Он посмотрел прямо в камеру номер один. — Но и это еще не самое худшее. — Не самое худшее? — ужаснулся брат Фредди. — Не самое худшее? — эхом откликнулись пятеро сидевших на диване. — Ад на самом деле очень похож на парк развлечений. Администрация постоянно старается выдумать какие-нибудь новые аттракционы, разнообразить приевшиеся увеселения. И лет десять тому назад наш небесный начальничек, большой шутник, решил пытки усовершенствовать. Знаете как? — Ванни Фуччи уже почти кричал, разъяряясь все больше и больше. Брат Фредди и его гости энергично помотали головами. — ОН НАМ ПОКАЗЫВАЕТ «УТРЕННИЙ КЛУБ „АЛЛИЛУЙЯ“» БРАТА ФРЕДДИ! — Ванни Фуччи вскочил на ноги. — ВОСЕМЬ РАЗ В ДЕНЬ! В НАШЕЙ СЕДЬМОЙ БОЛДЖИИ ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ СЕМЬ МЕТРОВ ВИСЯТ ТРЕКЛЯТЫЕ ДЕВЯНОСТОДЮЙМОВЫЕ ТЕЛЕЭКРАНЫ! Брат Фредди вжался в кресло. Разгневанный итальянец брызгал слюной прямо на его кафедру. — ЛАДНО БЫ ЕЩЕ, — неистовствовал Ванни Фуччи, вперяя пылающий гневом взор куда-то ввысь, поверх прожекторов, — ЛАДНО БЫ ЕЩЕ ПРОВЕСТИ ВЕЧНОСТЬ, ПОДЖАРИВАЯСЬ В ОГНЕННОМ АДУ, КОГДА ТЕБЯ КАЖДЫЕ ТРИ МИНУТЫ РВУТ НА ЧАСТИ ПРОКЛЯТУЩИЕ ЗМЕИ, НО ЭТО… ЭТО! И он воздел к потолку обе руки. — Нет! — закричал брат Фредди. — Нет! — вторили ему пятеро гостей. — КАК ЖЕ МЕНЯ ЭТО БЕСИТ! — завопил Ванни Фуччи и показал Господу кукиш. Вернее, два кукиша. Далее события разворачивались с головокружительной быстротой. Даже медленно прокручивая запись передачи, кадр за кадром, довольно трудно разобраться, что и как случилось, но так видно хотя бы что-то. Первым был брат Фредди. Преподобный согнулся пополам (выглядело это так, словно некая незримая сила решила, что он подавился, и кинулась отрабатывать на нем прием Геймлиха[38]), разинул рот, но закричать не смог. Конечно, закричишь тут, когда у тебя не рот, а пасть, из которой в три ряда торчат длинные клыки. Раньше чем можно было бы выговорить «новообращенный», у ведущего отросли хвост и чешуя. Метаморфоза произошла столь внезапно, а видоизмененный брат Фредди двигался столь стремительно, что никто толком не успел ничего рассмотреть. Большинство зрителей сходятся на том, что Фредди напоминал помесь болотной лягушки и оранжевого питона. В следующее же мгновение после трансформации он (вернее, оно) оттолкнулся толстенным хвостом от пола, перескочил через кафедру, кинулся на Ванни Фуччи и обвился кольцами вокруг итальянца. Преобразился и Фрэнк Флинси. За доли секунды почтенный специалист по Армагеддону мутировал в подобие шестиногого тритона с зазубренным хвостовым жалом — вылитый монстр из фильма «Чужие». Чудовище, оскалив клыки, тоже бросилось на злополучного Фуччи, жало при этом волочилось по полу и оставляло повсюду — на диване, на ковре — глубокую борозду. Специалисты предполагают, что Флинси превратился, по всей видимости, в фарея, а брат Фредди стал кенхром. Зато уж касательно Буббы Дитерса нет никаких сомнений: обретший Господа во вьетнамском окопе проповедник сначала съежился и стал похож на холмик зеленой плесени, а потом обратился в полосатую амфисбену. Двухголовая гадина тут же поспешила присоединиться к остальным. Из чудесных тройняшек получились маленькие склизкие твари с остроконечными головками. Они сиганули в воздух прямо с дивана, оставляя за собой зеленый инверсионный след, и вцепились в Ванни Фуччи. Ученые уверены: именно так выглядит упоминаемый Данте и святым Лукой якул. Но большинство тех, кто смотрел запись, называют их просто «склизкие ракеты». Ванни Фуччи мгновенно скрылся из виду, превратился в кишащий, трепыхающийся чешуйчатый клубок, но на этом трансформации не закончились. Билли Боб так и не успел надеть обратно свои наушники. Ближайший к нему оператор позднее сравнивал брата Билли с «четырехметровой аспидной змеей, страдающей от проказы». Еще один оператор якобы сказал: «Да ну, Билли Боб и не поменялся вовсе; знаете, эти администраторы для меня все на одно лицо». Свою работу в миссии он после этого потерял. Донна Лу и Бетти Джо рухнули на пол и поползли на сцену в виде двух гигантских розовых червей. Много уже писали о фаллической символике, заключенной в данной метаморфозе. Увы, три сотрудника охраны совершенно испортили момент: выпустили в сестер по целой обойме из своего табельного оружия и со всех ног кинулись прочь. Изменился и кое-кто из аудитории. Ванни Фуччи утверждал, что в рептилий обращаются все воры в радиусе ста ярдов. Из трехсот девятнадцати присутствовавших на передаче зрителей на следующий день недосчитались двухсот двадцати двух. Те, кто остался человеком, вопя от ужаса, наблюдали, как их мужья, жены, родители или просто соседи по ряду мгновенно мутируют в змей, клыкастых ящеров, безногих жаб, игуан, удавов с лапками и уже упоминавшихся кенхров, якулов, фареев, ехидн и амфисбен. Один алабамский университет через месяц после этих событий провел небольшое исследование. Выяснилось, что большинство обращенных в рептилий воров при жизни работали в сфере продаж, но, кроме того, среди них оказались восемь адвокатов, трое политиков, тридцать один проповедник, один психиатр, двое рекламщиков, четверо судей, четверо докторов, двенадцать брокеров, семеро домовладельцев, трое бухгалтеров и один автоугонщик. Последний затесался в аудиторию, чтобы скрыться от двоих патрульных (которые, кстати, тоже превратились в змей).
Все эти чешуйчатые ядовитые гады моментально бросились на Ванни Фуччи. Итальянец изо всех сил пытался высвободить хотя бы одну руку и показать Господу еще один кукиш. Брат Фредди, вернее кенхр, вонзил клыки в горло нечестивцу, и того сразу охватило пламя. В студии нестерпимо запахло серой. Тысячи подписчиков кабельной сети позже клялись, что чувствовали запах даже у себя дома, сидя у телевизоров. Ванни Фуччи и весь змеиный клубок загорелись и исчезли в яркой оранжево-зеленой вспышке пламени. Остаточное свечение от этой вспышки на цветных видеокамерах RCA составило сорок секунд. Студия «Утреннего клуба „Аллилуйя“» внезапно опустела. Лишь тихонько тлели на сцене останки дивана, кафедры и плюшевого кресла. Сработала противопожарная система, с потолка полилась вода, и «окно с видом на залив» взорвалось, усыпав все вокруг искрами и осколками. Закончился бесконечный майский восход. Тем же вечером программа «Найтлайн»[39] прокрутила злополучную запись и получила шестидесятипроцентный рейтинг. Тед Коппель[40] и профессор Карл Саган[41] официально заявили с телеэкрана, что все случившееся вполне можно объяснить естественными причинами. В ту неделю подписчики «Утреннего клуба „Аллилуйя“» брата Фредди прислали в миссию пожертвования на сумму 23 миллиона 267 тысяч 894 доллара 79 центов. Настоящий рекорд, ну разве что специальный выпуск «Крестового похода Билли Грэма» их как-то опередил.
Кошмарным скрипом колыбели[42]
~ ~ ~
Вот еще один рассказ о телепроповедниках. Погодите, не закрывайте книгу! Вы не подумайте, клеймление этих жалких склизких тварей — не единственный доступный мне способ самовыражения. Сейчас я все объясню. Однажды Эдвард Брайант, увенчанный наградами писатель, предложил мне поучаствовать в одном проекте. Некое издание из штата Колорадо хотело опубликовать в своем рождественском номере четыре рассказа. Издание это… ну как бы вам сказать… в общем, это был каталог комиксов. Зато очень хороший. Это был даже больше чем каталог: Эд вел там свою колонку, посвященную книжным новинкам, а весьма разборчивый критик Лианн Харпер — превосходный раздел о кино. Короче, четыре писателя должны были написать четыре рассказа, а Эд — историю-обрамление (сочинить такую историю — всегда задачка не из легких). Единственные ограничения — длина и жанр: очень короткий рождественский рассказ и чтобы в нем упоминался «неожиданный подарок». В проекте участвовали Стив Резник Тем, Конни Уиллис и Синтия Фелис — сплошь колорадская мафия. Синтия объявила, что ее история будет веселой и жизнерадостной, так что все остальные могли спокойно расползтись по своим склепам и перетряхнуть их на предмет всяческих демонов. В результате, как и следовало ожидать, мы получили рассказ Уиллис, остроумный, гнетущий и, как всегда, блестящий; рассказ Стива Тема, неподражаемо яркий и по-настоящему мрачный; и мой собственный рассказ, приведенный ниже. Оригинальному обрамлению Эда Брайанта удалось каким-то образом увязать все эти абсолютно разные истории воедино. А вот Синтия Фелис выбыла из игры из-за других неотложных дел. Поэтому в итоге читателю достались в подарок три столь непозволительно мрачных рассказа, что он, наверное, попросил у Санты на Новый год бритву поострее или капсулу цианида. Для каталога это был первый опыт публикации художественной литературы. Говорят, после прочтения издателя немедленно хватил удар. Он крутился и бегал по стенкам, как Линда Блэр[43] в фильме про экзорсиста, и, сколько его ни кормили аменазином, очухался только после Нового года. По правде говоря, я настолько разошелся с этим рассказом, что включил туда несколько персональных шуток — одну про моего издателя и одну про редактора, которого на самом деле очень уважаю. «Да ну, кому вздумается читать каталог комиксов?» — подумал я. Вздумалось, по-моему, всем. Вдобавок рассказы потом купил и напечатал «Журнал научной фантастики Айзека Азимова», тем самым отравив массе народу еще и следующее Рождество. Мало того, Брайант разослал всем знакомым по экземпляру в качестве подарка, а у него в приятелях ходят все издатели, редакторы, да, по-моему, вообще все жители нашей галактики. Так что очень скоро про меня начали говорить: а, это тот самый человек, который зарезал Рождество ножом для выживания[44]; да Гринч и Скрудж по сравнению с Симмонсом — просто добрые рождественские эльфы! И ничего не помогало, хотя я оправдывался как мог, и объяснял всем и каждому, что Рождество — мой самый любимый праздник (после Хеллоуина, конечно), и что каждое двадцать четвертое декабря мы с женой и маленькой дочуркой идем к ближайшему заснеженному холму смотреть на сани Санта Клауса, и что в пятом классе я играл Сиротку Билли (на самом деле Иисуса Христа), и что… Нет, ничего не помогало и, наверное, уже не поможет. Но вы подумайте-ка вот о чем: когда наконец случится Большая Ошибка, компьютеры станут сами себе хозяева, польют нас каким-нибудь Адским Дезинфектором и начнут вымывать и выжигать с лица земли; когда все то оружие, которое мы заготавливали последние сорок лет, будет пущено в ход — только потому, что кому-то захочется проверить, сработает ли оно; когда рассеются ядерные облака и на смену ядерной зиме придет серенькая ядерная весна… спросите себя: эй, милый, а у какой организации в Штатах была достаточная инфраструктура, чтобы пережить такой атас? У кого система спутников на мази, кто уже забрался в наши дома и только и ждет, чтобы повести всех за собой, призывно зашептав в ядерной ночи? У кого миллионы последователей… фанатичных, готовых слепо подчиняться, с радостью крушить и резать, чтобы, пока все остальные выкапывают из руин все остальное, не прекращалась великая программа? Ну, догадались? Потеснитесь-ка, мистер Уолтер Ф. Миллер.[45] И напоследок, для будущих биографов и библиографов: наиболее проницательные, наверное, заметили, что и в этом рассказе, и вообще во всех моих рассказах и романах, в которых упоминаются жадные, бесчестные, себялюбивые, во всех смыслах слова двуличные телепроповедники, штаб-квартиры их организаций непременно располагаются в Дотане, штат Алабама. Кто-то из вас, возможно, интересуется: «Что же такого случилось в Дотане, штат Алабама? Кто же его там так сильно обидел? О такой жути, может, даже в книжке не напечатаешь? Почему же на безупречное зерцало славного южного города легло несмываемое пятно такого позора?» Ну уж я-то точно вам ничего не скажу.~ ~ ~
В канун Рождества брат Джимми-Джо Билли-Боб нес Слово Божие жителям Нью-Йорка. На своем длинном, выдолбленном из цельного ствола каноэ он проплыл на восток по Сорок второй улице до перекрестка, свернул на север и стал подниматься против течения по Пятой авеню. Там, под темной толщей воды, мерцала зеленоватым светом крыша публичной библиотеки. Стоял тихий холодный вечер. Солнце село (такой же великолепный кроваво-красный закат, как и все предыдущие двадцать пять лет, минувшие со времен Большой Ошибки девяносто восьмого года). Повсюду на верхушках разрушенных башен загорались костры, люди готовили пищу. Высокие руины, выраставшие из моря, напомнили брату Джимми-Джо детство: торчащие из трясины обуглившиеся остовы болотных кипарисов. Брат Джимми-Джо греб осторожно: с длинным каноэ было трудно управляться, к тому же он вез очень ценный груз, вез издалека. На корме между банками лежала похожая на гигантский котел Священная тарелка. Ухо Господне, обращенное к пылающим небесам, словно уже готовое улавливать сигналы Пресвятого транслятора. Сам транслятор остался в Дотане, штат Алабама, брат Джимми-Джо Билли-Боб покинул его больше года назад. Позади Священной тарелки пристроился Святой кинескоп, тщательно упакованный и перевязанный, а еще — обернутый прозрачным полиэтиленом велосипед Господень. Генератор фирмы «Коулман», размещенный на носу каноэ, частично загораживал гребцу обзор, зато уравновешивал священные реликвии. Джимми-Джо Билли-Боб двигался на север, мимо решетчатых обломков Рокфеллеровского центра, мимо покореженного шпиля собора Святого Патрика. В этой части Внешнего залива высились многочисленные обитаемые башни; наверху, на оплетенных вьюнком ржавых руинах, мерцали сотни огоньков. Но они брата не интересовали, ему нужно было дальше на север — к дому номер 666 по Пятой авеню. Здание до сих пор не рухнуло, во всяком случае, уцелели первые тридцать пять этажей, двадцать восемь — над уровнем моря. Медленно-медленно каноэ подплыло к основанию башни. Брат встал, осторожно балансируя, перевесил за спину свой «хеклер-унд-кох» НК-91 — полуавтоматическую штурмовую винтовку Христианского общества по выживанию — и поднял руки. В провалах среди остатков громадных стекол притаились темные фигуры. Заплакал ребенок, кто-то на него зашикал. — Я несу благую весть о воскресении Христовом! — Громкий голос Джимми-Джо Билли-Боба эхом разносился над водой. — Благую весть о грядущем спасении от горестей и скорби! Повисла напряженная тишина, а потом кто-то крикнул: — Кого ты ищешь? — Самый старший клан. Клан с самым сильным тотемом, я принесу ему свои дары и Слово Божие, Слово Истинной Церкви, Церкви милосердного Христа. Снова эхо, и опять тишина. Откуда-то сверху послышался женский голос: — Это наш клан, клан Красного Петуха. Добро пожаловать, странник. Знай же, нам уже ведомо Слово Божие. Будь с нами, раздели наш огонь, мы готовимся к священному празднику. Джимми-Джо Билли-Боб кивнул и привязал каноэ к ржавой арматуре. Святой Дух еще не говорил с ним. Брат еще не знал, как именно откроется священный путь. Одно он знал точно: через двое суток эти люди будут поклоняться ему или же возненавидят и постараются убить. Ни того ни другого он не допустит.Весь следующий день они поднимали на крышу его дар — Священную тарелку. На лестничных клетках было слишком тесно, а в лифтовых шахтах болтались многочисленные веревочные лестницы, канаты, шкивы, лианы. Брат руководил сооружением системы блоков, необходимой для того, чтобы поднять тарелку на двести пятьдесят футов. Даже ловкие обитатели башни, члены клана Красного Петуха, опасались забираться по лестничным пролетам выше обитаемого двадцать пятого этажа. — Нужно расчистить путь, разобрать завалы на ступеньках, — настаивал брат. — Как только Пресвятой транслятор донесет вам Слово Божие, придется постоянно сюда подниматься. Не только мне или вам, но и другим кланам из Торговой лиги Внешнего залива. Нужно разобрать мусор, чтобы смогли пройти и самые юные, и самые старые. Старая сморщенная Маккарти, глава клана Красного Петуха, в ответ на это только пожала плечами и отрядила группу женщин разгребать завалы. Мужчины в это время тащили тарелку наверх. К тому времени, когда закат окрасил небо в кроваво-красный цвет, все было готово. В самой высокой точке крыши надежно закрепили Священную тарелку. Брат со всем доступным ему умением при помощи заржавленного секстанта направил ухо Господне. Под тарелкой поставили пластиковый алтарь, протянули кабели — вниз, в общую комнату клана на двадцать пятом этаже, где разместили генератор; во время утренних служб сильнейшие охотники по очереди будут крутить педали велосипеда Господня. Брат как раз убирал пластиковые ведра, когда кто-то подергал его за куртку. Пятилетняя малышка Тара с личиком маленького эльфа спросила: — Уже почти стемнело, ты пойдешь к елке, будешь открывать подарки? — Да. — Брат Джимми-Джо Билли-Боб посмотрел на вытатуированный у нее на руке красный знак Петуха. — Я буду проповедовать.
Стены огромной комнаты почернели от копоти костров, истлевшее ковровое покрытие устилали камышовые циновки. Вокруг Святого кинескопа и маленькой алюминиевой елки возле очага собрались семнадцать членов клана Красного Петуха. Горели свечи. Верхушку елки украшала детская бумажная звезда. Брат посмотрел на кучку бесформенных подарков и закрыл глаза. Старая Маккарти откашлялась. В мерцании свечей татуировка петуха у нее на лбу казалась еще краснее. — Возлюбленный мой клан, в эту священную ночь, согласно нашему обычаю, мы возносим благодарственную хвалу Господу и открываем подарки, которые принес Санта. Но в этом году к нам приехал брат из Дотана, из Истинной Церкви… — Она сглотнула, словно в рот ей попало что-то горькое. — Сейчас он расскажет о празднике и прочтет нам Слово Божие. Брат Джимми-Джо Билли-Боб вышел в центр комнаты, прислонил винтовку к столу (так, чтобы в случае чего легко было дотянуться), достал из котомки потертую Библию с логотипом ХОВ и пристроил ее на Святом кинескопе. — Братья и сестры мои во Христе, завтра утром встанет солнце, расчистится путь, Пресвятой транслятор осветит тьму, и вы снова услышите Слово Божие и присоединитесь к Истинной Церкви милосердного Иисуса Христа. Я проделал долгое и трудное путешествие, преодолевая вражьи козни. Пятеро моих братьев во Христе погибли ради того, чтобы я смог добраться сюда. Джимми-Джо замолк и поглядел на слушателей. Хмурилась старая Маккарти, некоторые мужчины смотрели с интересом, некоторые — с безразличием, на лицах многих женщин и детей застыл почти благоговейный страх. — Скорбные времена пришли, долго жили мы под их тяжким гнетом. Но как Спаситель говорил с миром через восьмерых своих евангелистов, так и через это Богом избранное место Слово Истины донесется до всех земель. Он снова замолчал и снова оглядел освещенные пламенем лица. Кое-кто из детей смотрел на подарки. — Слушайте же, ибо написано. — Брат открыл Библию. — Откровение, глава тринадцатая: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». На слове «начертание» Джимми-Джо Билли-Боб делал особый акцент. В толпе поднялось легкое волнение. Брат перевернул страницу и продолжил, не заглядывая в книгу, поскольку знал текст наизусть. — Откровение, глава четырнадцатая: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его». — Джимми-Джо закрыл глаза и улыбнулся. — Я прочту вам еще из Евангелия от Иоанна, из третьей главы: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Верьте в Господа нашего Иисуса Христа и спасетесь».[46] — Брат открыл глаза. — Аминь. — Аминь, — откликнулась Маккарти. — Давайте посмотрим, что нынче принес нам Санта.
Снова послышались смех и разговоры. Клан собрался вокруг елки. К брату Джимми-Джо прижалась маленькая Тара. — Боюсь, тебе не достанется подарка. — Малышка чуть не плакала. — Санта принес их во второе воскресенье рождественского поста. Он, наверное, не знал, что ты придешь. — Не важно. И елка, и подарки — это языческие обычаи. Не существует никакого Санта-Клауса. Тара вытаращилась на него, и тут встрял ее девятилетний брат Шон: — Он прав, Тари. Подарки принесли охотники вместе с дядей Лу еще в ноябре, когда ходили на склады. А потом спрятали на двадцать седьмом этаже. Я все видел. — Санта подарил мне эту куклу, — едва слышно ответила Тара. — Он иногда возвращается в канун Рождества и приносит консервированные фрукты. Наверное, он и тебе что-нибудь принесет, если вернется. Можешь пока поиграть с моей куклой, если хочешь. Брат Джимми-Джо Билли-Боб покачал головой. — Глядите! — закричал Шон. — Там и правда еще один подарок! — Мальчишка залез под ель и вытащил обернутую голубой бумагой коробку. — А спорим, я знаю, откуда здесь это. В прошлом месяце умер дядя Генри, и его подарок просто забыли убрать. Джимми-Джо хотел уже было положить подарок обратно, но тут с ним заговорил Святой Дух, и брат весь затрясся. Люди в комнате притихли и молча наблюдали за происходящим. Наконец преподобный успокоился, разорвал бумагу, достал из коробки длинные кожаные ножны и обнажил сверкающее лезвие. — Ух ты! — выдохнул Шон, выхватил пожелтевшую листовку и громко прочитал: — «Поздравляем, вы стали счастливым обладателем ножа для выживания LINAL М-20 от Христианского общества по выживанию. Каждый LINAL М-20 — это двенадцать дюймов превосходной стали, идеально сба… сбалан… сбалансированных, так что нож как будто является продолжением вашей руки. Лезвие изготовлено из четыреста двадцатой нер… нержавеющей стали, легко разрубает дерево и кости. В рукоять вашего LINAL М-20 вмонтирован сверхточный гидрокомпас RX-360. Компас откручивается, под ним вы найдете полный неприкосновенный аварийный запас: спички в водонепроницаемой оболочке, полдюжины рыболовных крючков, грузила, нейлоновую леску, набор швейных игл, восемнадцатидюймовую канатную пилу, способную распилить небольшое дерево, и, конечно же, миниатюрный экземпляр Библии от Христианского общества по выживанию». Мальчишка снова восхищенно вздохнул и покачал головой. Старая Маккарти тоже покачала головой и вопросительно оглянулась на Лу. — Не припомню, чтобы мы выносили такое со склада, — раздраженно сказала она. Старший охотник пожал плечами и ничего не ответил. Джимми-Джо Билли-Боб убрал лезвие в ножны, а ножны повесил на пояс. Голос Святого Духа в его голове шептал все тише. Брат улыбнулся толпе и тихо проговорил: — А сейчас я отправлюсь на крышу, подготовлю путь. Утром мы соберемся там и услышим Слово Божие. Он повернулся к выходу, но тут Тара робко подергала его за штанину. — А ты придешь подоткнуть нам одеяло? Брат Джимми-Джо оглянулся на Риту, мать девочки. Женщина взяла детей за руки и смущенно кивнула. Все вместе они направились в темный коридор.
Когда-то на этом этаже располагалась издательская компания, и в спальне Тары и Шона раньше был небольшой книжный склад. Дети залезли в кучи ветоши и тряпья, заменявшие им постель, а брат Джимми-Джо тем временем оглядывал полки. На корешках гниющих книг красовалась маленькая эмблема — красный петух. Рита поцеловала детей, пожелала им доброй ночи и вышла в коридор. — Ты всю ночь будешь сидеть на крыше? — спросила Тара, прижимая к себе новую тряпичную куклу. — Да. — Джимми-Джо вернулся в комнату. — Тогда ты увидишь Санту и его оленей! Брат открыл было рот, чтобы ответить, но передумал. Потом улыбнулся. — Да, думаю, увижу. — Но ты же сказал… — начал Шон. — Любой, кто поднимется сегодня на крышу, увидит Санта-Клауса и его оленей, — сурово оборвал его Джимми-Джо Билли-Боб. — А теперь помолимся, — вмешалась Рита. Тара кивнула и склонила голову, глаза у нее блестели. — Боженька, благослови маму, и всех нас, и призраков папочки и дяди Генри. — Аминь, — подытожил Шон. — Нет, есть другая молитва, — сказал Джимми-Джо. — Какая? — хором спросили дети. — Марк, Матфей, Иоанн, Лука, защити нас на века. — Дети повторили стишок, и он продолжил: — Джим и Тэмми, Дженис, Пол,[47] демонов гоните вон. Дети повторили, и Тара спросила: — А ты правда увидишь Санту? — Да. Спокойной вам ночи.
Джимми-Джо навестил членов клана, перед тем как отправиться на крышу. Около елки перешептывались несколько человек, слушая старую Маккарти, но, заметив пристальный взгляд брата, охотники быстро разбрелись по своим кроватям. Глава клана поднялась, с минуту они с Джимми-Джо всматривались друг в друга, а потом женщина тоже опустила голову и, шаркая, побрела прочь — всего-навсего усталая старуха. На крыше брат встал на колени перед алтарем и несколько минут громко молился. Наконец он поднялся и снял с себя одежду. Было очень холодно. Изгиб Священной тарелки и обнаженное тело белели в лунном свете. Джимми-Джо достал пластиковые ведра и установил их вокруг алтаря, потом вынул клинок из ножен, поднял его, поймал лезвием лунный луч и взял нож в зубы. Джимми-Джо неслышно прокрался к лестничному пролету, затаился среди теней и опустился на колени. Маленькие камешки царапали голые ноги, сталь холодила губы. Потом все чувства и ощущения отступили, осталось только нарастающее возбуждение. Ждать пришлось недолго. На лестнице послышались легкие шаги, из темноты выступила неясная фигура, и тихий голосок прошептал: — Брат Джимми-Джо? «Значит, не старуха, — подумал брат. — Так тому и быть». — Брат Джимми-Джо? — Малышка подошла к алтарю, и лунный луч осветил тряпичную куклу. — Санта? Билли-Боб прочитал про себя молитву, вытащил изо рта нож и неслышно двинулся вперед. Грядущий день надлежало отпраздновать.
Вспоминая Сири
~ ~ ~
Примечательно, что тонкие проницаемые границы между научной фантастикой и ужасами, между жанровой литературой и так называемым мейнстримом пересекают лишь немногие писатели. Точнее говоря, крайне любопытно, что очень немногие из тех, кто пересекает эти границы, впоследствии возвращаются обратно. Отчасти причина заключается в значительной психологической разнице: одно дело — измышлять мрачные ужасы, и совсем другое — конструировать рациональную научную фантастику; одно дело — порхать в легком жанре, и совсем другое — когда тебя сковывает по рукам и ногам гравитация «серьезной» литературы. Писать то и другое — действительно сложно, поскольку для этого требуется довольно болезненное душевное напряжение: надо, чтобы одно полушарие мозга взяло верх над другим и пинками заставило его подчиняться. Возможно, именно поэтому, что бы там кто ни думал, одни и те же читатели редко отдают предпочтение научной фантастике и ужасам, жанровой литературе и литературе, типичной для журнала «Ньюйоркер». Как бы то ни было, обидно, что многие писатели сковывают себя рамками одного жанра — иногда в силу ограниченности таланта или специфики интересов, но гораздо чаще из коммерческих соображений или просто-напросто потому, что именно в этой области они однажды добились успеха. Конечно же, существуют весьма любопытные исключения. Джордж Р. Мартин легко меняет жанры и обманывает ожидания, редко повторяется и всегда умеет удивить. Дин Кунц стал звездой в научной фантастике и покинул ее — быть может, почувствовал, что ему судьбой предназначено стать сверхновой где-нибудь еще. Эдвард Брайант несколько лет назад взял в НФ отпуск и с тех самых пор пишет первоклассные ужасы. Курт Воннегут и Урсула Ле Гуин, «выпускники» НФ, получили признание в мейнстриме (отдадим Воннегуту должное — он хотя бы честен и открыто признается: время от времени, когда одолевает тоска по прошлому, он открывает нижний ящик стола, где лежат его старые НФ-опусы, и мочится на них). Дорис Лессинг и Маргарет Этвуд (и не только они) создали самые значительные свои романы именно в жанре НФ, но при этом отказываются признавать себя фантастами. Ни одна из достопочтенных дам вроде бы не писает в ящик письменного стола, но, всучи им кто «Хьюго» или «Небьюлу», вполне вероятно, такое желание и появится. Харлан Эллисон устроил революцию в нескольких жанрах, но никогда не заявлял о своей принадлежности к какому-либо из них. Мы все слышали истории о том, как миллионный по счету репортер, ведущий или критик выпытывает у несчастного Эллисона, что же поставить после слова «автор»? Автор НФ? Автор фэнтези? Автор ужасов? — А сказать просто «автор» вы не можете? — ласково, как кобра, шипит в ответ Харлан. Ну да, не могут — в маленьких, хиленьких, но аккуратных умишках некоторых полуграмотных стоят маленькие аккуратные коробочки, и, как ни бейся, в газетной статье непременно напишут (или скажут по радио, или покажут по телевидению) что-нибудь вроде: «Этот НФ-чувак говорит, что его НФ-роман — это не НФ». А дальше, на следующем же конвенте (ах, простите, их нынче принято называть «кон»), кто-нибудь непременно выйдет к микрофону и крикнет: «Почему вы всегда говорите в интервью и всем вокруг, что вы не просто НФ-автор? Я читаю научную фантастику (или ужасы, или фэнтези, или… сами вставьте нужное) и горжусь этим!». Зрители рычат от негодования, в воздухе пахнет скорой и справедливой расправой. Представьте себе: вы чернокожий, которого на собрании афроамериканской партии «Черных пантер» уличили в симпатии к белым; или вы еврей в варшавском гетто, оказавшийся пособником нацистов (вы им железнодорожное расписание подправляли); или еще того хуже — вы фанат группы «Grateful Dead», у которого во время концерта в наушниках играет Моцарт. Иными словами, вы пришли на конвент (простите, кон), который парень с микрофоном считает своим. Как же ему объяснить, что писатель вынужден мириться с тысячами разных ограничений, постоянно сужающими его горизонты? Агентам надо, чтобы тебя покупали, и они рвут на себе волосы, потому что ты упорно обгоняешь своих читателей. Издателям надо сделать из тебя продукт. Редакторам надо, чтобы ты, бога ради, хоть раз хоть чему-то соответствовал. Книжным магазинам надо тебя продать, и они жалуются: твои книги смотрятся на полке нелепо — последний НФ-роман рядом с романом, получившим Всемирную премию фэнтези (а вообще-то он про Калькутту и вовсе не фэнтези), а дальше — другой НФ-роман, а дальше — толстый роман в жанре ужасов (а это что — разве ужасы? На обложке ни крови, ни голограмм, ни детей с демонически горящими глазами…), а дальше… да, дальше!.. выходит новая книга… это… это… Господи Иисусе, да это вообще мейнстрим! Как же объяснить, что любое определение после слова «автор» — это еще один гвоздь в крышку гроба твоих надежд — надежд написать о том, что для тебя важно? Вот и смотришь на парня с микрофоном, вглядываешься в лица насупившихся издателей, сбрасываешь звонок редактора и думаешь: «Я все объясню. Я объясню им, что быть писателем — замечательно именно потому, что можно свободно исследовать все жанры, можно наслаждаться… и в то же время со всей силой своего дарования придавать форму тем образам, которые посылает муза. Посылать эти образы другим, не думая о том, будут тебя читать или нет. Я объясню, как зарождается желание написать хорошую книгу, — и не важно, сможет ли иллюстратор подобрать подходящую картинку на обложку. Я объясню, как страшно браться за что-то новое, когда директор местного книжного запихал твой последний роман на полку с брошюрами по оккультизму, а потом попросил… нет, потребовал у поставщика никогда больше не присылать ему книг этого шизофреника. Я все объясню. Я смогу втолковать каждому читателю, каждому агрессивному шовинисту от научной фантастики, каждому фанату ужасов, каждому нью-йоркскому критику воображале, каждому читателишке „серьезной литературы“, что такое быть настоящим писателем!» А потом опять смотришь на парня с микрофоном и думаешь: «Да пошло оно…», и говоришь: «Следующий роман я напишу в жанре научной фантастики». Следующий рассказ как раз в жанре научной фантастики. Я писал его с наслаждением и с наслаждением вернулся в ту же реальность, когда позже использовал «Вспоминая Сири» в качестве основы для романов «Гиперион» и «Падение Гипериона». А кристаллом-затравкой для рассказа, в свою очередь, послужила вот такая идея (она пришла ко мне однажды ночью, в полудреме): «Что, если бы Ромео и Джульетта не умерли?» Ну, помните — Ромео и Джульетта? Тот писака навалял, автор НФ/фэнтези/ужасов? В свободное время он еще кропал ситкомы и исторические мыльные оперы? Отслеживайте аллюзии. И иллюзии.~ ~ ~
Я поднимаюсь по крутому склону к гробнице Сири. Сегодня острова возвращаются в неглубокие моря Экваториального архипелага. Прекрасный день, но как же я его за это ненавижу. Безмятежное голубое небо, совсем как в сказках про океаны Старой Земли; пятнистые ультрамариновые отмели в лучах солнца; теплый ветерок ерошит высокую красно-коричневую траву на холме. Лучше бы было темно и тоскливо. Лучше бы низкие облака и серый сумрак. Лучше бы густой туман — такой каплями оседает на мачтах кораблей в Порто-Ново, когда из спячки пробуждается рог на маяке. Лучше бы морской самум — такие приходят с холодного юга и гонят вперед плавучие острова и пастырей-дельфинов, заставляют их искать убежища в наших атоллах и прибрежных скалах. Что угодно, только не этот теплый весенний день, когда солнце медленно ползет по сводчатому синему небосводу и хочется бегать, прыгать и валяться в траве, как тогда, когда мы впервые пришли сюда вместе с Сири. Сюда, на это самое место. Останавливаюсь и оглядываюсь вокруг. С юга налетают порывы соленого ветра, и щучья трава пригибается, напоминая мех на спине у огромного неведомого зверя. Прикрываю глаза рукой и всматриваюсь в горизонт — пусто. Вдалеке за лавовым рифом море вспенивается, взлетают ввысь беспокойные волны. — Сири, — неожиданно для самого себя шепчу я. В сотне метров ниже по склону толпа замирает, все смотрят на меня и переводят дыхание после долгой ходьбы. Траурная процессия растянулась почти на километр — ее хвост заканчивается где-то среди белых городских строений. Во главе шествия мой младший сын — отсюда хорошо видно поседевшую лысеющую макушку и голубые с золотом одежды Гегемонии. Нужно бы его подождать, но он и другие престарелые члены совета шагают слишком медленно, им не угнаться за мной — ведь я молод, проворен, жизнь на корабле закалила меня. Существуют правила этикета: мне следует идти рядом с сыном, с моей внучкой Лирой и другими знатными дамами. Черт с ним, с этикетом. Черт с ними со всеми. Поворачиваюсь и взбегаю на холм. Хлопковая рубашка намокла от пота, но я добрался до изогнутой вершины. Отсюда видно гробницу. Гробницу Сири. Останавливаюсь. На солнце тепло, но от ветра меня пробирает дрожь. Ярко сияет безмолвный мавзолей из белоснежного камня. Рядом с запечатанным входом волнуется высокая трава. Вдоль узкой дорожки выстроились шесты из черного дерева, а на них трепещут праздничные флаги. Я нерешительно обхожу гробницу и замираю возле крутого скального обрыва. Трава здесь примята и вытоптана: виноваты любители пикников — хотя это и мавзолей, они частенько расстилают здесь свои покрывала. Даже несколько кострищ сложили из безупречно круглых белоснежных камешков, которые натаскали с обочины дорожки. Не могу сдержать улыбку. Как же хорошо знаком мне этот вид: дугой изгибается природный волнолом внешней гавани, белеют низенькие строения Порто-Ново, качаются на волнах разноцветные катамараны. По галечному пляжу рядом со зданием Городского собрания идет юная девушка в белой юбке, приближаясь к воде. На мгновение мне кажется — это Сири, и сердце начинает учащенно биться. Я едва не вскидываю руку в ответ на ее приветствие, только вот девушка меня не приветствует. Маленькая фигурка безмолвно поворачивает в сторону лодочного сарая и исчезает среди теней. Вдалеке в небе Томов ястреб описывает широкие круги над лагуной, поднимается с теплыми восходящими потоками. У птицы инфракрасное зрение, она всматривается в плавучие рощи голубых морских водорослей, выискивает тюленей и сомиков. «Глупая природа», — думаю я и усаживаюсь в мягкую траву. Глупая и бесчувственная — зачем устроила сегодня такой прекрасный солнечный день, зачем забросила в небеса хищную птицу, ведь ястребу никого не удастся поймать: город разрастается, и в грязных прибрежных водах больше никто не живет. Я помню другого Томова ястреба — видел его в ту первую ночь, когда мы пришли сюда вместе с Сири. Лунный свет играл на широких крыльях, странный, душераздирающий птичий крик эхом отражался от скал, пронзал темноту и ночной воздух над тускло освещенной газовыми фонарями деревней. Сири было шестнадцать… нет, даже меньше… Лунное сияние окутывало и ее, окрашивало нежную кожу молочно-белым светом, прорисовывало тени под плавными полукружиями грудей. Мы виновато оглянулись, услышав птичий крик, и Сири сказала: — Нас оглушил не жаворонка голос, а пенье соловья.[48] — Что? Мне было девятнадцать, а ей не исполнилось и шестнадцати. Но Сири знала неторопливую радость чтения книг, знала, как разыгрываются театральные представления при свете звезд. Я же знал только звезды. — Не бойся, юный корабельщик, — прошептала она и притянула меня к себе. — Томов ястреб наохоте, только и всего. Глупая старая птица. Иди сюда, корабельщик. Иди сюда, Марин. В тот момент над горизонтом появился «Лос-Анджелес» и, словно искра на ветру, поплыл на запад по усеянному странными созвездиями небу Мауи Заветной — мира, в котором жила Сири. Я улегся подле нее и стал рассказывать, как и почему движется огромный звездолет, как работают двигатели Хоукинга, как солнечный свет отражается от корпуса и почему мы видим, как он сияет в ночной темноте. Мои руки скользили по ее бархатистой нежной коже, опускались все ниже, под пальцами словно пробегали искры. Она учащенно дышала мне в плечо. Я поцеловал изгиб шеи, зарылся лицом в растрепанные благоухающие волосы. — Сири, — снова повторяю я, на этот раз вполне осознанно. Внизу, под холмом, под призрачным белым мавзолеем переминается с ноги на ногу толпа. Им надоело ждать. Они хотят, чтобы я распечатал вход, вошел и скорбел один в холодной безмолвной пустоте, которая поглотила живую и теплую Сири. Они хотят, чтобы я попрощался с усопшей, и тогда можно будет приступить к церемониям и ритуалам, наконец открыть портал для нуль-транспортировки, стать частью Великой сети, присоединиться к Гегемонии. Черт с ним, с порталом. Черт с ними со всеми. Срываю стебелек травы, высасываю сладкую сердцевину и вглядываюсь в горизонт — где же плавучие острова? Тени не спешат укорачиваться, ярко светит утреннее солнце. День только начался. Буду сидеть здесь и вспоминать. Я буду вспоминать Сири.Сири была… кем?.. думаю, когда я увидел ее в первый раз, она была птицей. Лицо скрывала маска из ярких перьев. Она сняла ее и присоединилась к цветочной кадрили, свет факелов заиграл на золотисто-рыжих волосах. Девушка раскраснелась, ее щеки ярко пламенели. В здании Городского собрания было много народу, но я разглядел ее даже в толпе: невероятно зеленые глаза, оттененные по-летнему яркими волосами и румянцем. Конечно же, праздничная ночь. Дул резкий морской бриз, плясало пламя факелов, сыпались искры, на волноломе флейтисты играли проплывавшим мимо островам, но музыку заглушали звуки прибоя и хлопавшие на ветру флаги. Сири было почти шестнадцать, и ее красота затмевала свет факелов на оживленной шумной площади. Я протолкался сквозь ряды танцующих к ней поближе. Для меня все произошло пять лет назад. Для нас минуло больше шестидесяти пяти лет. А кажется, это было только вчера. Да, рассказ выходит не очень-то связный. С чего мне начать?
— Парень, как насчет найти кого-нибудь перепихнуться? Приземистый Майк Ошо с пухлым личиком — точь-в-точь остроумная карикатура на будду — был тогда для меня богом. Мы все были богами: не бессмертные, но уж точно долгожители; не святые, но уж точно при деньгах. Нас выбрала Гегемония, мы стали членами команды одного из драгоценных квантовых звездолетов — конечно, мы все считали себя богами. Вот только Майк, замечательный, подвижный, насмешливый Майк был чуть старше юного Марина Аспика — и чуть выше рангом в корабельном пантеоне. — Ну да, никого мы здесь не найдем. Мы отмывались после двенадцатичасовой смены. Точка сингулярности располагалась в 163 тысячах километров от Мауи Заветной, и нам приходилось возить туда-сюда рабочих, занятых на строительстве портала; работенка не столь почетная, как четырехмесячный скачок из пространства Гегемонии. Во время полета мы были старшими специалистами — сорок девять первоклассных звездолетчиков против целого стада из двухсот перепуганных пассажиров. Теперь пассажиры нацепили тяжелые скафандры и приступили к работе (они бились над установкой громоздкой экранирующей сферы), а наша роль свелась к доблестному вождению автобуса. — Никого мы здесь не найдем, — повторил я. — Разве что эти жуки наземные построили бордель на том карантинном острове, который сдают нам в аренду. — He-а, не построили, — ухмыльнулся Майк. Нам с ним скоро полагалось три дня отпуска. Мы уже прослушали инструктаж капитана Сингха, к тому же товарищи по команде успели нажаловаться: свое время на планете нам предстояло провести на управляемом Гегемонией крохотном островке — семь миль в длину, четыре в ширину. Это был даже не один из плавучих островов, о которых мы столько слышали, а просто кусок вулканической лавы неподалеку от экватора. Мы могли рассчитывать на нормальную гравитацию, чистый, нефильтрованный воздух и, возможно, натуральную пищу. А также на то, что все контакты с колонистами Мауи Заветной сведутся к покупке сувениров в магазине беспошлинной торговли. Да и там, скорее всего, продавцами работают торговцы Гегемонии. Многие звездолетчики решили вообще не спускаться и провести свой отпуск на борту «Лос-Анджелеса». — Так как нам найти, с кем перепихнуться, Майк? Пока портал не запустили, мы не можем общаться с колонистами. А это будет через шестьдесят лет по местному времени. Или ты про старушку Мэг из бортового компьютера? — Держись меня, парень. Главное захотеть, тогда все получится. И я держался Майка. В спускавшемся челноке нас было только пятеро. Падение с орбиты в атмосферу меня всегда завораживало. Особенно если новый мир так напоминал Старую Землю, а Мауи Заветная ее очень напоминала. Сначала бело-голубой шарик планеты, потом постепенно обозначились низ и верх, под нами раскинулись моря, челнок вошел в атмосферу, приблизился к границе света и тени. Мы плавно скользили вниз в три раза быстрее шума собственных двигателей. Мы были богами. Но даже боги время от времени должны спускаться на землю из поднебесья.
Тело Сири всегда меня восхищало. Тогда, на архипелаге, мы провели три недели в огромном качающемся древесном доме, под вздувшимися древесными парусами, в сопровождении пастырей-дельфинов. Волшебные тропические закаты по вечерам, звездный полог ночью — а когда мы просыпались, внизу в море, повторяя небесный рисунок, переливались тысячи мерцающих вихрей. И все же лучше всего я помню тело Сири. В первые несколько дней она не надевала раздельный купальник — не знаю почему; может быть, стеснялась после стольких лет разлуки. Поэтому грудь и низ живота остались белыми, так и не успели загореть до моего отъезда. Помню наш первый раз. Треугольные пятна лунного света, мы лежим в мягкой траве на холме над Порто-Ново. Травяной стебель оставил зацепку на ее шелковых трусиках. Сири была тогда по-детски скромной, слегка колебалась, словно отдавала что-то раньше срока. А еще гордой. Такой же гордой, как и позднее, когда усмиряла разъяренную толпу сепаратистов на ступенях консульства Гегемонии в Южном Терне. В итоге они устыдились и разошлись по домам. Помню свой пятый спуск на планету, наше четвертое Воссоединение. Тогда она плакала — нечасто мне доводилось это видеть. Мудрая, знаменитая, почти что королева. Ее четырежды избирали в Альтинг, совет Гегемонии обращался к ней за рекомендациями. Независимость окутывала ее, как королевская мантия, гордость горела в ней ярко как никогда. Но когда мы остались одни в каменном особняке к югу от Февароны, она первая отвернулась от меня. Я не находил себе места, меня пугала эта могущественная незнакомка — а Сири с прямой спиной и гордым взглядом отвернулась к стене и проговорила сквозь слезы: «Уходи. Марин, уходи. Не хочу, чтобы ты меня видел. Я превратилась в старую каргу, слабую и немощную. Уходи!» Должен признать, я был тогда груб с ней. С силой, удивившей меня самого, я схватил Сири левой рукой за запястья, одним движением разорвал шелковое платье сверху донизу. Я целовал ее плечи, шею, следы растяжек на упругом животе, шрам на левом бедре, оставшийся после крушения воздушного глиссера лет сорок назад. Целовал седеющие волосы, морщинки на когда-то гладких щеках. Целовал плачущие глаза.
— Господи Иисусе, Майк, это же противозаконно, как пить дать. Мой друг достал из рюкзака соколиный ковер. Остров 241 (именно так романтичные торговцы Гегемонии окрестили пустынный вулканический прыщ, на котором мы отбывали свой отпуск) располагался почти в пятидесяти километрах от старейшего поселения колонистов, но с таким же успехом мог бы располагаться и в пятидесяти световых годах. Ни один местный корабль не имел права к нему приставать, пока там находился кто-нибудь из экипажа «Лос-Анджелеса» или строителей портала. У жителей Мауи Заветной сохранилось несколько действующих древних глиссеров, но подписанный обеими сторонами договор исключал перелеты с острова и на остров. Для нас, звездолетчиков, там не было почти ничего интересного: общежитие, пляж да магазин беспошлинной торговли. Когда-нибудь «Лос-Анджелес» доставит в систему последние компоненты, портал запустят, и власти Гегемонии превратят остров 241 в туристический и торговый центр. Пока же гостей встречали необработанный кусок вулканической земли, приемник для челноков, новостройки из местного белого камня и скучающий персонал. Майк получил для нас двоих разрешение отправиться в пеший поход по скалам в самую отдаленную часть острова. — Господи прости, не хочу я ни в какой поход. Лучше бы остался на корабле и подключился к симулятору. — Замолкни и дуй за мной, — ответил Майк. И, как младший член пантеона, я замолк и подчинился старому и мудрому божеству. Два часа мы карабкались на крутые склоны, пробирались сквозь заросли корявых деревьев, обдирались о ветки и наконец вышли на лавовый гребень. В нескольких сотнях метров внизу бились морские волны. Остров располагался возле экватора, и на планете преобладал тропический климат, но на этом скальном карнизе завывал ветер, и я стучал зубами от холода. На западе заходящее солнце мутным красным пятном просвечивало сквозь темные тучи. Нет уж, оставаться под открытым небом ночью у меня не было никакого желания. — Ну же, — сказал я, — давай укроемся от ветра и разожжем костер. Это еще надо будет умудриться на этих скалах палатку поставить. Майк уселся на землю и прикурил косячок. — Парень, проверь свой рюкзак. Я колебался. Он говорил ровным, спокойным голосом — но именно таким голосом обычно и разговаривают за секунду до того, как тебе на голову выливается ведро воды или откалывается какая-нибудь похожая шутка. Присев на корточки, я принялся копаться в нейлоновом рюкзаке. Пусто — только куча старых пенолитовых упаковочных кубиков. А еще костюм арлекина, маска и туфли с бубенчиками. — Ты что… а это… Ты что, совсем спятил? — только и смог пролепетать я. Стремительно темнело. Шторм приближался: может быть, обойдет стороной, а может, и нет. Внизу голодным зверем ярился прибой. Если бы я только знал дорогу назад, я, наверное, скинул бы Майка Ошо вниз — на корм рыбам. — А теперь погляди, что в моем. Майк вытряхнул из своего рюкзака пенолитовую шелуху, а потом вытащил драгоценности (похожие вручную изготавливают на Возрождении), инерционный компас, лазерное перо (интересно, а служба корабельной безопасности подобное оружие разрешает?), еще один костюм арлекина (побольше моего) и соколиный ковер. — Господи Иисусе, Майк, — я провел рукой по изысканным тканым узорам, — это же противозаконно, как пить дать. — Ты видишь где-нибудь таможенников? — ухмыльнулся Ошо. — А у местных вряд ли существуют какие-то законы на этот счет. — Да, но… — Я замолчал и развернул ковер. Чуть меньше метра в ширину, около двух метров в длину. Ткань выцвела, но левитационные нити сияли свежевычищенной медью. — Где ты его достал? Он все еще на ходу? — На Саде. — Майк запихивал мой костюм и остальные вещи в свой рюкзак. — И да — на ходу. Первый соколиный ковер вручную изготовил для своей прелестной юной племянницы старик Владимир Шолохов, эмигрант со Старой Земли, разработчик электромагнитных систем и профессиональный лепидоптеролог. Это случилось более ста лет назад, на Новой Земле. По легенде, племянница с насмешками отвергла подарок, но игрушка стала впоследствии невероятно популярной — правда, не у детей, а у вполне взрослых богатеев. А потом ковры запретили почти во всех мирах Гегемонии: напрасная трата моноволокна, к тому же летать на них было довольно опасно, а в контролируемом воздушном пространстве так и вовсе почти невозможно. Соколиные ковры превратились в диковинку, их хранили в музеях, рассказывали про них сказки детям, и, возможно, на них летали в каких-нибудь отдаленных колониях. — Сколько же ты за него выложил? Небось целое состояние. — Тридцать марок. — Майк уселся на ковер. — Один старый торговец на карвнальском рынке продал, думал — бесполезная вещь. Действительно, бесполезная… для него. Притащил на корабль, зарядил, перепрограммировал инерционные чипы и — вуаля! Ошо погладил замысловатый узор, и ковер приподнялся над скалой. — Ну ладно… — Я с сомнением глядел на друга. — Но что, если… — Никаких «если». — Майк нетерпеливо похлопал по ковру позади себя. — Он полностью заряжен. Я знаю, как им управлять. Давай уже — залезай или оставайся. Нужно лететь, пока шторм сюда не добрался. — Но я не… — Давай, Марин. Решайся быстрее. Мне некогда. Я колебался еще пару секунд. Если нас поймают за пределами острова — обоих выкинут с корабля. А корабль был моей жизнью. Стал ею, когда я подписал контракт на восемь полетов в Мауи Заветную и обратно. От цивилизации нас отделяло двести световых лет или пять с половиной лет квантового скачка. Если даже нас отвезут обратно в пространство Гегемонии, путешествие обойдется в одиннадцать лет — одиннадцать лет жизни с семьей и друзьями. Невосполнимая утрата. Я забрался на ковер позади Майка. Он втиснул между нами рюкзак, велел держаться покрепче и легонько постучал пальцами по узору. Ковер поднялся метров на пять, ощутимо накренился влево и рванул вперед. Внизу, метрах в трехстах от нас, в сгущавшемся сумраке бушевали белопенные волны инопланетного океана. Мы набрали высоту и устремились на север, в ночь. Решение, принятое за какие-то секунды. Именно от таких решений и зависит порой целая жизнь.
Помню, как мы с Сири разговаривали во время нашего второго Воссоединения. Тогда мы впервые побывали в особняке на побережье возле Февароны, а потом гуляли по пляжу. Алон остался в городе под присмотром Магритт. И к лучшему: мне не удалось найти с мальчиком общий язык. Серьезный взгляд зеленых глаз, странно знакомые короткие черные кудри и вздернутый нос — вот и все, что связывало его со мной… с нами… во всяком случае, мне так казалось. А еще едва заметная, почти сардоническая ухмылка — он так улыбался втихомолку, когда Сири его отчитывала. Всего десять лет, а уже такая циничная, опытная усмешка. Я хорошо ее знаю и думаю, что подобное приходит с годами, а не передается по наследству. — Ты так мало знаешь, — говорила мне Сири. Она брела босиком по мелкой заводи, оставшейся после прилива, иногда вытаскивала из мутной воды тонкую, закрученную спиралью раковину, осматривала, находила какой-нибудь мелкий скол и выкидывала ее обратно. — Меня хорошо обучали. — Да, я в этом уверена, — откликнулась Сири. — Марин, я знаю, ты многое умеешь. Но ты так мало знаешь. Я злился и не знал, что ответить, просто брел за ней, опустив голову. Выкопал из песка белый лавовый камень и зашвырнул подальше в залив. На востоке у самого горизонта собирались дождевые облака. С какой радостью я вернулся бы обратно на корабль. Не хотел в этот раз прилетать, и, как выяснилось, правильно. Мой третий спуск на Мауи Заветную и наше второе Воссоединение, как его окрестили поэты. Название прижилось в народе. Через пять месяцев мне исполнялся двадцать один стандартный год. А Сири три недели назад отпраздновала тридцатисемилетие. — Я посетил такие края, где ты никогда не бывала. — Мой ответ даже мне показался лепетом обиженного ребенка. — Да-да. Она радостно захлопала в ладоши, и на мгновение я увидел перед собой прежнюю Сири — юную девушку, о которой мечтал во время долгого девятимесячного путешествия в Гегемонию и обратно. А потом вернулась суровая реальность: короткие волосы, дряблые мышцы на шее, выступающие вены на когда-то любимых руках. — Ты посетил края, где я никогда не бывала, — торопливо повторила Сири. Ее голос не изменился. Почти не изменился. — Марин, любовь моя, ты видел то, что я не могу даже вообразить. И наверное, знаешь о Вселенной больше, чем я могу себе представить. Но ты знаешь так мало, любимый. — Черт возьми, Сири, о чем ты? — Я уселся на торчавшее из воды бревно и обнял руками колени, как будто отгородившись от нее. Она вышла из заводи и опустилась передо мной на мокрый песок, взяла мои руки в свои. Мои ладони были крупнее, массивнее и шире, но я чувствовал ее силу. Силу, которую принесли ей прожитые без меня годы. — Чтобы что-то по-настоящему знать, любовь моя, нужно это прожить. После рождения Алона я многое поняла. Когда растишь ребенка — начинаешь острее видеть и ощущать, что на самом деле реально. — Как это? Сири на мгновение отвернулась, рассеянно заправила за ухо непослушную прядь. Левой рукой она по-прежнему держала мои ладони. — Не знаю, — мягко сказала она. — Думаю, начинаешь чувствовать, что важно, а что нет. Не знаю, как объяснить. Если ты тридцать, а не, например, пятнадцать лет подряд постоянно имел дело с незнакомыми людьми, то чувствуешь себя гораздо увереннее. Знаешь заранее, что тебя ожидает, что ответят эти люди. Ты готов. Если у них нет того, что тебе нужно, ты тоже ощущаешь это, предугадываешь ответ, не задерживаешься и спокойно идешь своим путем. Просто теперь ты знаешь больше — знаешь, что есть, а чего нет, и можешь моментально уловить разницу. Понимаешь, Марин? Хоть чуточку понимаешь? — Нет. Сири кивнула и прикусила нижнюю губу. Больше она не разговаривала — потянулась вперед и поцеловала меня. Сухие губы как будто просили о чем-то. Я не отвечал на поцелуй, смотрел на небо, мне нужно было время, нужно было подумать. А потом я почувствовал ее теплый язык и закрыл глаза. Позади поднимался прилив. Сири расстегнула мою рубашку и царапнула острыми ногтями по груди — внутри нарастало теплое возбуждение. На мгновение она отстранилась, я открыл глаза и увидел, как женщина расстегивает последние пуговицы на белом платье. Грудь у нее была больше, чем я помнил, полнее; соски увеличились и потемнели. Нас обдувал холодный ветер. Я скинул белую ткань с обнаженных плеч Сири, притянул ее ближе. Мы соскользнули вниз, на теплый песок. Я все сильнее сжимал ее в объятиях. И почему это она показалась мне такой сильной? Ее кожа была соленой на вкус. Она помогла мне руками. Короткие волосы рассыпались по обветренному дереву, по белой хлопковой ткани, по песку. Мое сердце билось сильнее прибрежных волн. — Ты понимаешь меня, Марин? — прошептала она, и мы соединились. — Да, — тоже шепотом ответил я. Но я ее не понимал.
Майк держал курс на запад к Порто-Ново. Мы летели уже около полутора часов в полнейшей темноте. Я съежился на ковре и все ждал, когда же ненадежная игрушка свернется и скинет нас обоих вниз. Первые плавучие острова показались где-то за полчаса до Порто-Ново. Хлопали на ветру древесные паруса, бесконечно длинная цепочка островов стремительно уходила от надвигавшегося шторма, покидала южные морские пастбища. На многих ярко горели фонари и разноцветные гирлянды, мерцали легкие, прозрачные покровы. — Мы правильно летим? Ты уверен? — прокричал я. — Да. Майк не повернул головы. Его длинные черные волосы, развеваясь на ветру, то и дело хлестали меня по лицу. Время от времени Ошо сверялся с компасом и корректировал курс. Наверное, проще было бы просто следовать за островами. Мы пролетели еще над одним — огромным, почти полкилометра длиной. Я силился разглядеть что-нибудь, но огни там не горели, только позади в воде стелился фосфоресцирующий след. В молочно-белых волнах мелькали темные тени. Я похлопал Майка по плечу и указал вниз. — Дельфины! — закричал он. — Именно из-за них и основали колонию, помнишь? Несколько добрячков еще во времена хиджры хотели спасти всех морских млекопитающих со Старой Земли. Но не вышло. Я хотел спросить еще кое о чем, но тут вдали открылся мыс гавани Порто-Ново. Прежде мне казались яркими звезды над Мауи Заветной; я думал, что необычайно ярко сияют разноцветные огни плавучих островов. Но все это меркло в сравнении с Порто-Ново, с его пламеневшими в ночи холмами и гаванью. Это напоминало корабль с факельным конвертором — я видел однажды, как такой звездолет вспыхнул плазменной сверхновой на фоне темного газового гиганта. Город состоял из белых строений и походил на пятиярусный пчелиный улей. Из дверей и окошек лился теплый свет, снаружи горели бесчисленные факелы. Казалось, светился даже белый лавовый камень. За городом раскинулись палатки и шатры, люди готовили что-то на кострах, вверх взметались высокие огненные языки — наверное, их зажгли, просто чтобы поприветствовать возвращавшиеся острова. У пристаней теснились лодки; на мачтах катамаранов звякали колокольчики; пестрели сияющими гирляндами массивные плоскодонные плавучие дома — такие обычно медленно дрейфуют из порта в порт в неглубоких и спокойных экваториальных водах; виднелось даже несколько настоящих океанских яхт, изящных и по-акульи проворных. На оконечности изогнутого рифа горел маяк. Луч света пробегал по волнам и островам и возвращался назад к пристани — к многоцветью людей и лодок. Даже на расстоянии двух километров были хорошо слышны шум и радостный праздничный гомон. Сквозь крики и неумолчный шепот волн доносилась такая знакомая мелодия флейтовой сонаты Баха. Позже я узнал, что это музыкальное приветствие транслировали по гидрофонам в Проливах — там дельфины выпрыгивали из воды под музыку. — Господи, Майк, как ты узнал об этом празднике? — Подключился к главному бортовому компьютеру. Соколиный ковер нырнул вправо, чтобы не попасть в луч маяка. Мы держались подальше от кораблей. Обогнули Порто-Ново с севера, спустились к темной продолговатой косе. Внизу на отмелях глухо бился прибой. — Они устраивают этот праздник каждый год, но сегодня стопятидесятилетняя годовщина. Народ веселится уже три недели и будет веселиться еще две. В этом мире живет около ста тысяч колонистов, и держу пари, Марин, половина из них сейчас тут. Ковер сбросил скорость, снизился и приземлился на плоской, выступавшей из воды скале неподалеку от пляжа. Шторм обошел нас стороной и теперь бушевал на юге. Горизонт озаряли молнии и мерцающие огни приближавшихся островов. Над головой ярко переливались звезды, чей свет не могло затмить даже сияние Порто-Ново, укрывшегося за гребнем холма. Здесь было теплее, морской ветерок доносил аромат цветущих садов. Мы свернули соколиный ковер и быстро облачились в карнавальные костюмы. Майк сунул в карман лазерное перо и драгоценности. — А это тебе зачем? Ошо спрятал рюкзак и ковер под большим валуном. — Это? — переспросил он, перебирая сделанное на Возрождении ожерелье. — Пригодится, если нужно будет просить об услуге. — Об услуге? — Да, об услуге. Если хочешь, чтобы прекрасная дама расщедрилась, придется что-нибудь ей предложить. Пусть обогреют бедных усталых космолетчиков. Парень, ты же хотел перепихнуться. — А, — откликнулся я, натягивая маску и прилаживая шутовской колпак. Колокольчики тихо позвякивали в темноте. — Пошли, а то все пропустим. Я кивнул и отправился следом за ним. Под звон бубенцов мы пробирались по камням, сквозь заросли кустарника, к манящему, зовущему свету.
Я сижу и жду. Сам точно не знаю, чего именно. Солнце припекает спину, белые камни гробницы Сири озаряет утренний свет. Гробницы Сири? В небе — ни облачка. Поднимаю голову и прищуриваюсь — но отсюда сквозь плотную атмосферу, конечно, не разглядеть ни «Лос-Анджелес», ни достроенный только что портал для нуль-транспортировки. Я знаю, что ни корабль, ни портал еще не поднялись над горизонтом. Я знаю, вплоть до секунды, сколько времени осталось до момента их вхождения в зенит. Но я не хочу об этом думать. «Сири, правильно ли я поступаю?» Неожиданно поднимается ветер. Громко хлопают флаги на шестах. Я чувствую, хотя и не вижу, растущее нетерпение толпы. Это наше шестое Воссоединение, и впервые за время нынешнего пребывания на планете я ощущаю скорбь. Нет, не скорбь, пока еще нет. В меня впивается острыми зубами печаль. Скоро она превратится в настоящее горе. Годами я мысленно разговаривал с Сири, думал над вопросами, которые задам ей когда-нибудь. Неожиданно ко мне приходит холодное и отчетливое понимание: мы больше никогда не поговорим, никогда не встретимся. Внутри нарастает щемящая пустота. «Сири, должен ли я это допустить?» Никто не отвечает, только все громче шепчутся в толпе. Еще несколько минут, и они отправят на холм Донела, моего младшего сына, теперь единственного, или Лиру, его дочь, чтобы поторопить меня. Отбрасываю в сторону стебелек травы. На горизонте появляется едва заметная тень. Может, облако. А может, один из островов — их гонят на родные экваториальные отмели инстинкт и весенний северный ветер. Неважно. «Сири, правильно ли я поступаю?» Никто не отвечает. А времени остается все меньше.
Иногда невежество Сири просто приводило меня в ужас. Она ничего не знала о моей жизни вдали от нее. Спрашивала, но вот нужны ли ей были ответы — я не всегда понимал. Часами я объяснял устройство звездолетов, волшебную физику двигателей Хоукинга, но Сири не понимала. Один раз подробно рассказал, в чем разница между «Лос-Анджелесом» и их древним маломощным кораблем, а она все выслушала и спросила: «Но почему же моим предкам понадобилось восемьдесят лет, чтобы добраться до Мауи Заветной, а вы долетаете сюда за сто тридцать дней?» Удивительно. Она не поняла вообще ничего. Историю Сири знала из рук вон плохо. Гегемония и Великая сеть были для нее красивым, но глупым мифом, детской сказкой. Ее равнодушие порой сводило меня с ума. Она очень хорошо знала о ранних днях хиджры — во всяком случае, о том, что касалось колонистов и Мауи Заветной. Иногда рассказывала что-нибудь забавное о древних временах, использовала какую-нибудь старомодную фразу. Но о том, что произошло после хиджры, она не знала ничего. Сад и Бродяги, Возрождение и Лузус — эти слова для нее были пустым звуком. Салмен Брей и генерал Гораций Гленнон-Хайт — эти имена для нее ничего не значили. Ничего. В последнюю нашу встречу Сири было семьдесят стандартных лет. За все эти семьдесят лет она ни разу не бывала за пределами своего мира, не использовала комлог, не пробовала алкоголя (кроме вина), не имела дела с психохирургами, не путешествовала через портал, не курила марихуану, не подвергалась генокоррекции, не подключалась к симулятору, не училась в школе или университете, не употребляла нуклеиновые медикаменты, не слышала о дзэн-христианстве и не летала ни на чем, кроме древнего «Виккена» — воздушного глиссера, который принадлежал ее семье. И ни с кем, кроме меня, не занималась любовью. Так она говорила. Я ей верил.
Во время нашего первого Воссоединения там, на архипелаге, Сири показала мне дельфинов. Мы проснулись перед восходом. С верхних уровней древесного дома лучше всего было наблюдать, как на бледном восточном горизонте занимается рассвет. В вышине розовели тонкие перышки облаков. Взошло солнце, и море превратилось в расплавленный металл. — Пошли поплаваем, — позвала Сири. Ее тело купалось в утренних лучах, на деревянную платформу позади девушки ложилась длинная тень. — Я так устал. Потом. Мы не спали почти всю ночь — разговаривали, занимались любовью, снова разговаривали и снова занимались любовью. Теперь меня слегка мутило от бессонницы, я чувствовал себя иссякшим и опустошенным. Под ногами подрагивал плавучий остров, голова кружилась, словно я был навеселе. — Нет, пошли сейчас. Сири схватила меня за руку и куда-то потащила. Я злился, но не спорил. Наше первое Воссоединение. Ей было двадцать шесть — на семь лет больше, чем мне. Но она оставалась все такой же порывистой, похожей на ту совсем юную Сири, которую я увел с праздника десять месяцев назад по моему времени. Тот же непринужденный грудной смех. Такой же нетерпеливый и пронзительный взгляд зеленых глаз. Густая копна золотисто-рыжих волос. Только вот тело стало более взрослым — то, что раньше только-только обещало расцвести, теперь созрело. Высокая, упругая, почти девическая грудь, веснушки, белая прозрачная кожа, сквозь которую просвечивали голубые жилки. Та же самая грудь, и в то же время другая. Она сама стала другой. — Так ты пойдешь со мной или так и будешь сидеть здесь и пялиться? Мы спустились на нижнюю платформу, и она сбросила длинное платье. У пристани все еще болтался наш маленький кораблик. Наверху на утреннем ветерке начали раскрываться древесные паруса. До этого Сири неизменно надевала купальник, когда отправлялась плавать. Теперь же на ней не было ничего. Ее соски на холоде увеличились и отвердели. — А мы сможем потом догнать остров? Я, прищурившись, оглядывал хлопающие паруса. Прежде мы всегда дожидались середины дня, когда остров останавливался и наступал штиль. Море становилось тогда зеркально-гладким. Сейчас же листья наполнялись ветром, натягивались кливерные лианы. — Не говори глупостей. Мы в любой момент можем ухватиться за килевой корень и вернуться по нему назад. Или за питающий усик. Пошли. Сири натянула осмотическую маску, а вторую бросила мне. Из-за прозрачной пленки ее лицо выглядело лоснящимся, словно его намазали маслом. Из кармана платья она достала большой медальон и повесила себе на шею. Темное украшение зловеще смотрелось на белой коже. — Это что такое? Сири не стала снимать маску и отвечать, а вместо этого обмотала вокруг шеи коммуникационный провод и вручила мне наушники. Ее голос доносился из них, как из консервной банки. — Диск-переводчик. Марин, а я-то думала, тебе про технику известно все. Последняя модель, разработан на основе морской фауны. Придерживая диск рукой, она шагнула в воду. Мелькнули бледные упругие ягодицы, Сири перевернулась и поплыла в глубину. Через мгновение она превратилась в размытое белесое пятно где-то внизу. Я натянул маску, тщательно приладил коммуникационный провод и тоже нырнул. Остров черным атласным пятном темнел на сияющей хрустальной поверхности. Я старался держаться подальше от питающих усиков, хотя Сири наглядно продемонстрировала, что они не опасны и улавливают лишь крошечный зоопланктон, который плясал вокруг нас в солнечных лучах, словно пылинки в пустом, ярко освещенном бальном зале. В фиолетовую глубину узловатыми сталактитами уходили на сотни метров килевые корни. Остров двигался. Чуть трепетали на ходу питающие усики. Наверху, в десяти метрах надо мной, пенилась кильватерная струя. На мгновение я захлебнулся, как будто вдохнул настоящую воду, а не гель в маске, потом расслабился, и в легкие свободно потек воздух. — Марин, поплыли глубже. Я моргнул, медленно-медленно — маска все еще прилаживалась к моему лицу, — и увидел, как Сири опустилась на двадцать метров ниже, ухватилась за килевой корень и теперь легко парит над холодными течениями, над темной глубиной, куда не проникал солнечный свет. Я подумал о многокилометровой бездне, о тех созданиях, что притаились там, — неведомых, неизвестных колонистам. От этих мыслей у меня все сжалось и похолодело в животе. — Давай вниз, — прожужжал в наушниках голос Сири. Я повернулся и принялся изо всех сил грести ногами. Плотность воды здесь была меньше, чем на Старой Земле, и все же столь глубокое погружение требовало немало усилий. Маска компенсировала давление и предотвращала появление азота в крови, но я все равно чувствовал глубину — кожей, ушами. В конце концов я сдался, ухватил килевой корень и просто пополз по нему вниз, к Сири. Мы парили рядом в полумраке. Девушка походила на призрак — длинные волосы окутывали ее лицо темным ореолом, тело беловато мерцало в сине-зеленых сумерках. Поверхность воды осталась неимоверно далеко. Кильватерный след расширился, усики трепетали все сильнее — остров теперь двигался быстрее, уплывал, повинуясь бездумному инстинкту, все дальше к морским пастбищам. — Где мы… — начал было я. — Тсс. Сири возилась с медальоном. И тут я услышал их — визги и трели, посвистывание и кошачье урчание, эхо вскриков. Глубина внезапно наполнилась загадочной музыкой. — Господи, — удивленно сказал я. Сири уже подключила наши коммуникационные провода к переводчику, и мои слова разнеслись по воде серией бессмысленных свистов. — Привет! — Ее приветствие вылетело из передатчика высоким птичьим криком, переходящим в ультразвук; и еще раз: — Привет! Через несколько минут появились любопытные дельфины. Необыкновенно, пугающе большие, они скользили мимо в неверном зеленоватом свете, под гладкой кожей играли мускулы. Один большой зверь проплыл всего в метре от нас и в последнюю секунду развернулся, продемонстрировав огромное белое брюхо. Темный глаз не выпускал меня из виду. Взмах хвостового плавника породил невероятно мощную волну, и я воочию убедился, насколько сильны эти животные. — Привет, — позвала Сири, но проворный зверь скрылся в дымчатой глубине, и внезапно наступила тишина. Сири выключила диск-переводчик. — Хочешь с ними поговорить? — Конечно. Но я не был до конца уверен. Несмотря на все усилия, за прошедшие триста лет контакт между людьми и морскими млекопитающими так и не удалось наладить. Майк как-то рассказывал, что структуры мышления у этих двух групп осиротелых выходцев со Старой Земли слишком уж различались, не хватало точек соприкосновения. Один специалист еще до хиджры сравнивал разговор с дельфином и с годовалым младенцем. И в том, и в другом случае обе стороны обычно получают удовольствие от взаимодействия, есть видимость беседы, но никто ничего из этой беседы для себя не выносит. Сири снова включила переводчик. — Привет, — сказал я. Минуту царила тишина, а потом зажужжали наушники, по воде эхом разнеслись пронзительные завывания. расстояние/нет-плавник/привет-интонация? /течение/вокруг меня/весело? — Что за черт? — Переводчик превратил мой вопрос в протяжные трели. Сири ухмылялась в своей маске. — Привет! — снова попытался я. — Привет вам… ммм… с поверхности. Как дела? К нам стремительно подплыл огромный дельфин… наверное, самец. Животное перемещалось в воде в десять раз быстрее меня, и, если что, мне бы даже ласты не помогли. На мгновение мне показалось, что он вот-вот врежется в нас, и я покрепче вцепился в килевой корень и прижал колени к груди. Но зверь направился куда-то ввысь, к поверхности. Нас с Сири закружила поднятая его плавниками волна и оглушили высокие, пронзительные вскрики. нет-плавник/нет-еда/нет-поплавать/нет-играть/нет-весело. Сири отключила медальон, подплыла ближе и легонько ухватила меня за плечи. Я все еще сжимал правой рукой килевой корень. Мы соприкоснулись ногами. Нас окутывало теплое течение. Наверху промелькнула стайка крошечных алых рыбок, а еще выше кружили темные силуэты дельфинов. — Ну что, тебе хватит? — Она положила ладонь мне на грудь. — Давай еще раз. Сири кивнула и включила диск. Нас снова обдало течением, и она обняла меня за талию. — Зачем вы сопровождаете и направляете острова? — спросил я носатые тени, резвившиеся в солнечных лучах. — Зачем это вам? звуки сейчас/старые песни/глубокие воды/нет-великие голоса/нет-акулы/старые песни/новые песни. Сири прижималась ко мне всем телом, приобнимая левой рукой. — Великие голоса — это были киты, — прошептала она. Морские потоки играли ее волосами. Левая рука девушки скользнула вниз, и она, казалось, удивилась тому, что там обнаружила. — Вы скучаете по великим голосам? — спросил я у теней. Никто не ответил. Сири обвила ногами мои бедра. В сорока метрах над нами светящейся рябью переливалась поверхность моря. — Океаны Старой Земли — по чему в них вы скучаете больше всего? Левой рукой я притянул Сири ближе. Провел по изгибу спины, по ягодицам, прижал ее к себе. Кружившимся в вышине дельфинам мы, наверное, казались единым существом. Сири чуть приподнялась, и мы действительно стали едины. Медальон теперь болтался у нее на плече. Я потянулся, чтобы выключить его, но вдруг в наушниках прожужжал ответ на мой вопрос: скучать акула/скучать акула/скучать акула/скучать акула/акула/акула/акула. Я выключил диск и покачал головой. Я не понимал. Как многого я тогда не понимал. Я закрыл глаза. Мы с Сири неспешно двигались в ритме течения, в собственном ритме. Вокруг проплывали дельфины, и их голоса и трели звучали печально и тихо, как плач по давно умершему.
Я сижу на солнышке и жду. Теперь я принял решение, но этого ли хотела Сири? Позади ярко сияет белый мавзолей. Солнечные лучи скользят по коже. Внизу на холме волнуется толпа. Несколько членов совета совещаются с Донелом. Сейчас он поднимется сюда и поторопит меня. Открытие портала задерживать нельзя. «Сири, ты этого хотела?» Как же мне нужно сейчас поговорить с ней! Спросить, кто же так искусно и ловко сотворил легенду о нашей любви. «Сири, это была ты?» Разве могла шестнадцатилетняя девчонка так прозорливо все спланировать? О лавовый волнолом бьется прибой. Маленькие кораблики покачиваются на якоре, на мачтах звенят колокольчики. Я сижу на солнце и жду. «Сири, где ты была, когда я проснулся тогда — в самый первый раз?» Где-то на юге кричит Томов ястреб. Больше никто мне не отвечает.
Утром следующего дня мы с Сири вернулись в город, на праздник. Целую ночь и весь день перед этим мы бродили по холмам, трапезничали с незнакомцами в шатрах из оранжевого шелка, купались вместе в ледяных водах Шри, танцевали под несмолкаемую музыку, которую музыканты играли для проплывавших мимо островов. Мы проголодались. Я проснулся на закате и увидел, что Сири рядом нет. Вернулась она перед восходом луны, рассказала, что ее родители на несколько дней отправились путешествовать с друзьями в плавучем доме. В Порто-Ново остался семейный глиссер. Теперь мы шли назад к центру города, мимо танцующих, мимо горящих костров. Мы собирались лететь на запад, в ее родовое поместье под Февароной. Несмотря на поздний час, по Порто-Ново все еще расхаживали гуляки. Я был счастлив. Девятнадцатилетний влюбленный парнишка, которому сила тяжести Мауи Заветной в 0,93g казалась еще меньше. Я мог взлететь, если б захотел. В тот момент я мог почти все. Мы остановились возле уличного лотка и купили по чашке черного кофе и пышке. Неожиданно я кое-что вспомнил. — А как ты узнала, что я корабельщик? — Тсс, тихо, друг Марин. Лучше ешь свой скудный завтрак. Когда доберемся до виллы, я приготовлю нормальную еду, и вынужденному посту придет конец. — Да нет, серьезно. — Я вытер масло с подбородка рукавом уже не совсем чистого арлекинового костюма. — Сегодня утром ты сказала, что сразу же поняла — я с корабля. Почему? Из-за акцента? Из-за одеяния? Мы с Майком видели такие же наряды на других парнях. Сири засмеялась и отбросила назад свою густую гриву. — Марин, любовь моя, радуйся, что именно я тебя раскусила. Будь на моем месте дядя Грешэм или кто-нибудь из его друзей, ты попал бы в беду. — Да? И почему это? Я взял с прилавка еще одну пышку, и Сири расплатилась. Мы шли сквозь поредевшую толпу. Играла музыка, люди танцевали и радовались, но я начал ощущать усталость. — Они сепаратисты. Дядя Грешэм недавно держал речь перед Альтингом и призывал сражаться. Он не хочет, чтобы нас поглотила Гегемония, говорит — нужно уничтожить портал, пока портал не уничтожил нас. — Да? А он не говорил, каким образом собирается это сделать? Я слышал, вам, ребята, не на чем улететь с планеты. — Увы, в последние пятьдесят лет действительно не на чем. Видишь, какими неразумными иногда бывают сепаратисты. Я кивнул. Капитан Сингх и советник Холмин проинструктировали команду насчет так называемых сепаратистов Мауи Заветной: «Обыкновенное сборище отсталых и оголтелых патриотов-колонистов. Мы еще и поэтому не спешим, пытаемся развить торговый потенциал этого мира до того, как заработает портал. Не дело, если такая вот деревенщина преждевременно попадет в Великую сеть. И в том числе из-за них мы хотим, чтобы строители и члены экипажа держались от местных подальше». — А где твой воздушный глиссер? Площадь быстро пустела. Музыканты убирали на ночь инструменты. На траве и на мостовой прямо среди мусора и погасших фонариков храпели разодетые гуляки. Лишь немногие еще продолжали веселиться — кто-то медленно танцевал под гитару, кто-то распевал песни пьяным голосом. Неожиданно я заметил Майка Ошо — с двумя девицами в обнимку, в пестром шутовском наряде, без маски. Вокруг собралась маленькая толпа, и он учил восторженных, но неумелых поклонников танцевать хору. Стоило кому-то из них споткнуться, и весь хоровод валился на землю. Майк заставлял их подняться на ноги, после чего все со смехом опять принимались неуклюже скакать под его медвежьи завывания. — Вон там. — Сири показала на глиссеры, припаркованные рядком возле Городского собрания. Я кивнул и помахал Майку, но он был слишком занят — обнимал своих прекрасных дам — и не заметил меня. Мы с Сири пересекли площадь, но тут кто-то крикнул: — Корабельщик! Повернись, ты, гегемонский сукин сын. Я застыл, а потом развернулся на каблуках, сжав кулаки. Но рядом никого не было. С небольшой трибуны спустились шестеро молодчиков и окружили Майка. Предводительствовал высокий и стройный юноша поразительной красоты. Двадцать пять или двадцать шесть лет, на хорошо подогнанный красный шелковый камзол ниспадают золотистые локоны, в правой руке метровый меч — похоже, из закаленной стали. Майк медленно повернулся. Даже отсюда я видел, как быстро слетел с него хмель — Ошо молниеносно оценивал ситуацию. Девицы, которых он обнимал, захихикали, к ним присоединились и несколько других гуляк — словно услышали что-то забавное. Майк не спешил расставаться с полупьяной улыбкой. — Вы, сударь, ко мне обращаетесь? — Да, к тебе, сын гегемонской шлюхи, — прошипел юноша. Его прекрасное лицо исказила злобная усмешка. — Это Бертоль, — прошептала Сири, — мой двоюродный брат. Младший сын Грешэма. Я кивнул и выступил вперед из тени здания. Сири схватила меня за руку. — Вы уже дважды нелестно отозвались о моей матушке,сударь, — небрежно бросил Майк. — Она или я вас чем-нибудь оскорбили? Тогда — тысяча извинений. И Ошо низко поклонился, кончик шутовского колпака чуть не подмел мостовую. Люди из толпы, собравшейся вокруг него, зааплодировали. — Меня оскорбляет твое присутствие, гегемонский ублюдок. От твоей толстой туши воняет, ты портишь наш воздух. Майк в притворном изумлении вздернул брови. Молодой человек в костюме рыбы, стоявший рядом, замахал руками. — Довольно тебе, Бертоль. Он просто… — Заткнись, Ферик. Я с этим толстым дерьмоглотом разговариваю, а не с тобой. — Дерьмоглотом? — повторил Майк все с тем же нарочито изумленным видом. — Я пролетел двести световых лет, чтобы меня тут дерьмоглотом обзывали? Не думаю, что я это заслужил. Он повернулся, одним изящным движением освободившись от обеих девиц. Я хотел подойти ближе, но Сири крепко держала меня и что-то умоляюще шептала. Я не слушал, отдернул руку. Майк все еще улыбался, все еще изображал дурачка, но его левая рука тянулась к оттопыренному карману. — Крэг, дай ему свой клинок, — пролаял Бертоль. Один из его банды бросил Майку меч, рукояткой вперед. Оружие, описав дугу, с лязгом упало на мостовую. — Ты шутишь, — ответил Майк тихим и совершенно трезвым голосом. — Идиот пустоголовый. Что, правда думаешь, если у тебя в заду свербит и охота покрасоваться перед этой деревенщиной — я тут буду дуэль изображать? — Возьми меч, или я тебя прямо так порежу на куски! — завопил Бертоль и шагнул вперед. Лицо его подергивалось от злости. — Да пошел ты. — В левой руке у Майка появилось лазерное перо. Такими перьями строители вырезали отметки на балках из армированного сплава. — Нет! — закричат я и выбежал на площадь. Все произошло очень быстро. Бертоль снова шагнул вперед, и Майк почти небрежно полоснул его зеленым лучом. Колонист вскрикнул и отпрыгнул в сторону, на его шелковом камзоле дымился косой черный разрез. Я колебался. Майк выставил на пере самую малую мощность. Двое приятелей Бертоля двинулись к Ошо, но он стегнул их лазером по ляжкам. Один с проклятиями упал на колени, а второй, причитая, поковылял прочь. Собиралась толпа. Майк снова низко поклонился, позвякивая бубенчиками на колпаке, и все засмеялись. — Благодарю вас. И матушка моя вас благодарит. Двоюродный брат Сири не мог сдержать рвавшийся наружу гнев — на губах и подбородке юноши выступила пена. Я протолкался ближе и встал между ним и Майком. — Эй, все, хватит. Мы уходим. Мы уже уходим. — Да черта с два, — сказал Майк. — Марин, прочь с дороги. — Хватит. — Я повернулся к нему. — Я вместе с девушкой, ее зовут Сири, и у нее есть… Бертоль шагнул вперед и сделал выпад прямо из-под моей руки. Я схватил его за плечо и швырнул на траву. — Вот черт, — сказал Майк, попятился и с усталым и немного недовольным видом уселся на каменную ступеньку. — Проклятье! — тихо проговорил он. На левом боку краснела небольшая рана. Черный ромб арлекинового костюма окрасился багряным, кровь потекла по объемистому животу Ошо. — Господи, Майк. Я оторвал полосу ткани от своей рубашки и попытался остановить кровотечение. Еще во время подготовки к полету нас обучали приемам первой помощи, но сейчас я ничего не мог вспомнить. Схватился за запястье, но комлога там не было. Мы их оставили на «Лос-Анджелесе». — Это ничего, Майк. Рана несерьезная, просто царапина. Его кровь текла по моим рукам. — Вполне хватит, — сказал Майк напряженным от боли голосом. — Проклятье. Гребаным мечом. Марин, ты представляешь? Сражен в самом расцвете сил и лет гребаным ножиком из гребаной грошовой оперы. Чертовы молодчики. — Из трехгрошовой оперы. Самодельная повязка промокла насквозь, я прижал ее другой рукой. — Знаешь, Марин, в чем твоя проблема? Вечно хочешь, чтобы последнее гребаное слово осталось за тобой. Охх… — Лицо у него побелело, а потом стало серым; Майк уронил голову на грудь и тяжело задышал. — Черт с ними со всеми, парень. Пошли домой, а? Я глянул через плечо. Бертоль в окружении своих головорезов медленно отступал от нас. Вокруг толпились испуганные зеваки. — Позовите врача! Позовите сюда медиков! — завопил я. Двое мужчин куда-то побежали. Сири нигде не было. — Погоди-ка! Погоди! — сказал Майк уже громче, словно вдруг вспомнил о чем-то важном. — Минуточку. И умер. Умер. По-настоящему. Смерть мозга. Гротескно распахнулся рот, глаза закатились, показались белки, а через минуту из раны перестала выливаться кровь. Я сидел там и, обезумев, проклинал небеса. По светлеющему небу полз «Лос-Анджелес», и я знал: если бы можно было сейчас доставить Майка туда — его бы спасли. Я закричал и разразился громкой тирадой, глядя ввысь. Толпа отпрянула. Наконец я повернулся к Бертолю. — Ты. Юноша был уже на краю площади. Он обернулся и безмолвно уставился на меня, его лицо было мертвенно-бледным. — Ты. Я поднял с земли лазерное перо, перевел мощность на максимум и пошел к Бертолю и его дружкам. Все было как в тумане — крики, горящая плоть. Я плохо осознавал происходящее. Глиссер сел посреди запруженной людьми площади, подняв облако пыли, и Сири велела мне забраться в кабину. Машина поднялась над огнями, над развернувшимся внизу безумием. Мои слипшиеся от пота волосы обдувал холодный ветер. — Мы летим в Феварону, — говорила Сири. — Бертоль был пьян. Сепаратисты — это всего-навсего маленькая кучка разгневанных людей. Никакой расправы не будет. Ты останешься со мной, пока Альтинг проводит расследование. — Нет. Вон там. Садись вон там. — Я показал на длинную отмель неподалеку от города. Сири не хотела спускаться, но все-таки уступила. Я нашел глазами большой валун, убедился, что рюкзак все еще там, и вылез из глиссера. Сири перегнулась через сиденье и притянула к себе мою голову. — Марин, любовь моя. Ее теплые губы звали и манили, но я ничего не чувствовал, мне словно сделали анестезию. Я шагнул прочь от глиссера и махнул рукой, чтобы она улетала. Сири откинула назад волосы и смотрела на меня зелеными глазами, полными слез. Машина поднялась, развернулась и устремилась на юг, сверкая в лучах восходящего солнца. «Погоди. Минуточку», — чуть не выкрикнул я. Потом уселся на скалу, обнял руками колени и несколько раз надрывно всхлипнул. Наконец я поднялся, зашвырнул лазерное перо подальше в волны, вытащил рюкзак и высыпал содержимое на землю. Соколиный ковер пропал. Я снова сел на камень. Сил не осталось ни чтобы плакать, ни чтобы смеяться, ни чтобы куда-то идти. Солнце поднималось все выше. Когда через три часа большой черный глиссер корабельной службы безопасности тихо опустился на отмель, я так и сидел там.
— Отец? Отец, уже поздно. Поворачиваюсь. Позади стоит Донел, облаченный в синие с золотом одежды советника Гегемонии. На красной лысине блестят капельки пота. Моему сыну сорок три года, но выглядит он гораздо старше. — Пожалуйста, отец. Киваю и поднимаюсь на ноги, отряхиваю со штанов землю и травинки. Вместе мы подходим к входу в гробницу. Толпа придвинулась ближе. Люди беспокойно переминаются с ноги на ногу, скрипит белый гравий. — Мне пойти с тобой, отец? Я смотрю на пожилого незнакомца — своего сына. Он почти ничего не унаследовал ни от меня, ни от Сири. Дружелюбное румяное лицо, раскрасневшееся после долгой ходьбы. Я чувствую в нем открытость и прямодушие, которые некоторым заменяют ум и сообразительность. Невозможно сравнивать этого лысеющего тюленя с Алоном — молчаливым, темноволосым Алоном, с его сардонической усмешкой. Но Алон умер тридцать три года назад. Погиб в глупой стычке, которая не имела к нему никакого отношения. — Нет. Я войду туда один. Спасибо, Донел. Он кивает и отодвигается. Над головой у застывшей толпы хлопают на ветру флаги. Поворачиваюсь к гробнице. Вход запечатан. Его можно открыть, приложив к замку ладонь. Нужно просто дотронуться до датчика. Последние несколько минут я сидел на солнце и фантазировал. Эти фантазии были свободны от грусти, вызванной теми событиями, первопричиной которых стал я сам. Сири не умерла. Лежа на смертном одре, она созвала докторов и немногочисленных техников, и они восстановили старую анабиозную камеру, одну из тех, что колонисты использовали во время космического перелета двести лет назад. И сейчас Сири просто спит. Мало того, к ней волшебным образом вернулась юность. Я разбужу ее, и это будет та Сири, которую я помню по нашей первой встрече. Мы вместе выйдем на солнечный свет и, когда портал откроется, первыми пройдем сквозь него. — Отец? — Да. Делаю шаг вперед и кладу ладонь на дверь усыпальницы. Стрекочут моторы, и белая каменная панель отъезжает в сторону. Нагнувшись, я вхожу в гробницу Сири.
— Черт, Марин, закрепи тот конец, пока тебя не снесло за борт. Скорее! Я поспешно выполнил приказ. Мокрую веревку страшно трудно было сбухтовать и еще труднее закрепить. Сири с отвращением покачала головой, наклонилась и сама одной рукой завязала булинь. Наше пятое Воссоединение. Я опоздал — три месяца назад она отметила свой день рождения. На празднество собралось более пяти тысяч гостей. Президент Альтинга сорок минут зачитывал поздравительную речь. Поэт декламировал свои последние любовные сонеты. Посол Гегемонии подарил памятную грамоту и новенький батискаф с термоядерным двигателем, таких на Мауи Заветной еще не было. У Сири было восемнадцать кораблей. Ей принадлежал флот из двенадцати быстрых катамаранов, которые сновали с товарами между странствующими островами архипелага и Родными островами. Две прекрасные гоночные яхты, которые выходили в море лишь дважды в год — чтобы выиграть регату Основателей и Заветную гонку. И еще четыре старые рыбацкие лодки — непритязательные и нескладные суденышки в хорошем состоянии и на плаву. Теперь эта флотилия пополнилась еще и батискафом. Но мы отправились в плавание на старой посудине под названием «Джинни Пол» и вот уже почти неделю рыбачили вдвоем на отмелях в экваториальных водах. Забрасывали и тянули сети, расхаживали по трюму, заваленному вонючей рыбой и хрустящими под ногами трилобитами, боролись с волнами, снова забрасывали и тянули сети, по очереди несли вахту и в редкие минуты затишья засыпали, как усталые дети. Мне еще не исполнилось двадцати трех. Я считал себя человеком, привыкшим к тяжелому труду, — на «Лос-Анджелесе» приходилось много работать, к тому же почти каждую смену я по часу занимался на тренажере с силой тяжести в 1,3 g. Но теперь мои руки и спина нестерпимо ныли, ладони покрылись мозолями и волдырями. Сири только что исполнилось семьдесят. — Марин, возьми рифы на фоке. Потом на кливере. А потом иди вниз и приготовь бутерброды. Побольше горчицы. Я кивнул и отправился брать рифы. Уже почти двое суток мы играли со штормом в прятки — то шли впереди него, то закладывали галс и подставлялись ветру и волнам. Сначала я обрадовался этой передышке, ведь больше не нужно было беспрестанно забрасывать, вытягивать и штопать сети. Но через несколько часов адреналин иссяк, его сменили оцепенение, постоянная тошнота и жуткая усталость. Море и не думало смилостивиться над нами. Волны взмывали ввысь на шесть метров и более. Грузная неуклюжая старушка «Джинни Пол» качалась из стороны в сторону. Все вещи вымокли. Я сам вымок насквозь в трехслойном непромокаемом костюме. Сири так проводила свой долгожданный отпуск. — Это еще что, — сказала она глубокой ночью, когда на палубу и исцарапанную пластиковую рубку обрушивались огромные волны. — Ты бы видел, что творится в сезон самумов. На горизонте низкие облака сливались с серыми волнами, но море немного успокоилось. Я намазал горчицей бутерброды с говядиной и разлил по большим белым кружкам дымящийся черный кофе. Даже в невесомости и то легче было бы его не расплескать, чем на ходившем ходуном трапе. Сири молча взяла у меня полупустую кружку. Мы сидели, с наслаждением жевали говядину и пили обжигающий кофе. Я встал к штурвалу, а Сири спустилась вниз принести еще. Серый день незаметно тускнел, приближалась ночь. Сири вернулась с кофе и уселась на длинную скамейку, которая опоясывала рубку. — Марин, а что будет, когда запустят портал? Я удивился. Мы почти никогда не обсуждали будущее присоединение Мауи Заветной к Гегемонии. Оглянувшись на Сири, я поразился: яркие огни приборной панели, озарявшие снизу ее лицо, превращали его в мозаику из теней и трещин, высвечивали скрывавшиеся под бледной, прозрачной кожей кости. Прекрасные зеленые глаза той Сири, которую я когда-то знал, тонули в непроглядной темноте. Резко выдавались острые скулы. Мокрые короткие седые волосы торчали в разные стороны. На дряблой шее, на запястьях проступали узлы сухожилий. Годы наложили на Сири свою печать. — Ты про что? — Что случится, когда они откроют портал? — Ты же знаешь, что сказал совет. — Я говорил нарочито громко, как будто она плохо слышала. — Для Мауи Заветной начнется новая эра — эра торговли и технологий. Вам больше не нужно будет довольствоваться одним маленьким мирком. Вы станете гражданами, и все смогут пользоваться порталом. — Да, — устало согласилась Сири. — Марин, все это я уже слышала. Но что будет? Кто первым явится к нам через этот портал? Я пожал плечами. — Думаю, сначала дипломаты. Специалисты-культурологи. Антропологи. Этнологи. Морские биологи. — А потом? Я молчал. Стемнело. Море почти успокоилось. Наша лодка сияла красными и зелеными ходовыми огнями. Мне было неспокойно, почти так же неспокойно, как два дня назад, когда на горизонте появились первые признаки шторма. — Потом придут миссионеры. Нефтеразведчики. Морские фермеры. Застройщики. Сири глотнула кофе. — Я думала, экономика Гегемонии достаточно развита и не нуждается в нефти. Я засмеялся и закрепил штурвал. — Всем нужна нефть. Если она есть. Мы не сжигаем ее, если ты об этом. Но она нужна для изготовления пластика, синтетики, пищевой основы, кероидов. Двести миллиардов людей — знаешь, сколько им нужно пластика? — А на Мауи Заветной есть нефть? — Конечно. — Я больше не смеялся. — Под одними только Экваториальными отмелями огромные залежи — миллиарды баррелей. — Как они будут ее добывать, Марин? Построят платформы? — Да, платформы. Батискафы. Подводные колонии, где будут работать специальные рабочие с Бродяг и с Тау-Кита. — А как же плавучие острова? Они ведь должны каждый год возвращаться на отмели, они там кормятся голубыми водорослями и оставляют потомство. Что станет с островами? Я снова пожал плечами. Слишком много кофе — во рту остался горький привкус. — Не знаю. Звездолетчикам особо много не говорят. Но во время первого перелета Майк слышал, что они планируют застроить как можно больше островов, поэтому некоторые удастся защитить. — Застроить? — В голосе Сири впервые прозвучало удивление. — Как они собираются застраивать острова? Даже семьи основателей-колонистов, чтобы построить там древесные дома, должны спрашивать разрешение у морского народа. Морской народ — так здесь называют дельфинов. Я улыбнулся. Жители Мауи Заветной так по-детски себя ведут, когда дело касается их распрекрасных дельфинов. — Все уже решено. На ста двадцати восьми тысячах пятистах семидесяти трех плавучих островах, таких, где можно что-нибудь построить, земля давно распродана. Острова поменьше, наверное, уничтожат. Из Родных островов сделают зоны отдыха. — Зоны отдыха, — повторила за мной Сири. — И сколько же людей из Гегемонии заявится сюда через портал для… отдыха? — Поначалу? В первый год всего несколько тысяч. Пока действует только один портал, на острове двести сорок один, в торговом центре, — их будет немного. На следующий год, когда построят второй портал в Порто-Ново, — возможно, пятьдесят тысяч. Это будет довольно дорогое удовольствие. Всегда так бывает, когда новая колония присоединяется к Великой сети. — А потом? — Через пять лет? Построят тысячи порталов. Думаю, в первый же год, когда вы получите гражданство, сюда прибудут двадцать или тридцать миллионов поселенцев. — Двадцать или тридцать миллионов. Компас бросал отсвет на ее морщинистое лицо. Все еще очень красивое лицо. Не разгневанное и не потрясенное, как я боялся. — Но вы же сами к тому времени станете гражданами, — продолжил я. — Получите право отправиться в любую точку Великой сети. В любой из шестнадцати новых миров. Может, их к тому времени станет больше. — Да, — согласилась Сири. Она поставила пустую кружку на скамью. По стеклу рубки стекали дождевые капли. На примитивном, оправленном в дерево радаре не видно было других кораблей. Шторм закончился. — Марин, а правда, что у жителей Гегемонии есть дома в нескольких мирах? Я имею в виду, когда в одном доме разные окна выходят в небеса разных планет? — Конечно. Но не у всех. Такое могут позволить только богачи. Сири улыбнулась и положила мне на колено руку, испещренную старческими пигментными пятнами, изрезанную выступающими венами. — Но ведь ты, корабельщик, очень богат? Я отвернулся. — Нет, пока еще нет. — Но скоро станешь, Марин, очень скоро. Сколько тебе осталось, любовь моя? Еще две недели здесь, потом обратный перелет в эту вашу Гегемонию. За пять месяцев твоего времени вы доставите сюда последние элементы. За несколько недель закончите работу. Ты станешь богачом и отправишься домой. Шагнешь через двести световых лет. Как странно… но о чем это я? Сколько получается? Меньше стандартного года. — Десять месяцев. Триста шесть стандартных дней. Триста четырнадцать ваших. Девятьсот восемнадцать смен. — И тогда закончится твое изгнание. — Да. — Двадцать четыре года, и ты богач. — Да. — Я устала, Марин, и хочу спать. Мы запрограммировали курс, включили аварийную сигнализацию и спустились вниз. Поднялся небольшой ветер, старая посудина скользила вверх-вниз по волнам. В каюте под потолком покачивалась тусклая лампа. Мы разделись, и я первым забрался в койку под одеяло. В первый раз за все время плавания мы ложились спать одновременно. В прошлое наше Воссоединение на вилле Сири стеснялась и стыдилась, поэтому я решил, что сейчас она погасит свет. Но она просто стояла посреди холодной каюты обнаженная, спокойно опустив худые руки. Годы наложили на Сири свою печать, но обошлись с ней не так уж сурово. Отвисшие груди и ягодицы. Она сильно похудела. В холодном свете качавшейся лампы я разглядывал выпирающие ребра и ключицы и вспоминал шестнадцатилетнюю девочку, по-детски пухленькую, с теплой бархатистой кожей; вспоминал, как белела в лунном свете упругая грудь. И все-таки каким-то непостижимым образом передо мной стояла та же самая Сири. — Марин, подвинься. Она скользнула под одеяло рядом со мной. Простыни приятно холодили кожу, шершавое одеяло согревало. Я выключил свет. Кораблик мерно покачивался на волнах, жалобно скрипели мачты и такелаж. Утром снова придется закидывать, вытаскивать и чинить сети, зато теперь можно поспать. Я задремал под шуршание волн. — Марин? — Да? — А что, если сепаратисты нападут на туристов Гегемонии или на новых поселенцев? — Я думал, сепаратисты давно бежали на острова. — Да. Но что, если они восстанут? — Гегемония пошлет сюда войска, и сепаратистов порвут в клочья. — А что, если нападут на портал… если его уничтожат перед активацией? — Невозможно. — Да, знаю, но если вдруг? — Тогда через девять месяцев «Лос-Анджелес» вернется с войсками Гегемонии на борту и сепаратистов порвут в клочья… не только их — любого жителя Мауи Заветной, кто встанет у них на пути. — Девять месяцев по корабельному времени. Одиннадцать лет по нашему. — Но так или иначе, конец один. Давай поговорим о чем-нибудь другом. — Хорошо. Но больше мы не разговаривали. Скрипел и вздыхал корабль. Сири свернулась клубком в моих объятиях и положила голову мне на плечо. Дышала она глубоко и размеренно — наверное, заснула. Я и сам опять задремал, но тут ее теплая рука скользнула по бедру, опустилась ниже. Я вздрогнул, хотя и почувствовал знакомое возбуждение. — Нет, Марин. Старость ничего не меняет, — шепотом ответила Сири на мой молчаливый вопрос. — Во всяком случае, тепла и близости хочется по-прежнему. Но ты должен сам решить, любовь моя. Я приму любое решение. И я решил. Мы заснули ближе к рассвету.
Гробница пуста. — Донел, иди сюда! Он поспешно заходит, в гулкой тишине громко шуршит ткань. Гробница действительно пуста. Никакой анабиозной камеры (да я и не надеялся), никакого саркофага или гроба. Белые стены и потолок, яркая лампочка. — Донел, что это, черт возьми, такое? Я думал, это усыпальница Сири. — Так и есть, отец. — Где ее похоронили? Бога ради, она что — лежит под полом? Донел потирает лоб. Да, конечно, я же говорю о его матери. К тому же для него со времени кончины прошло уже два года, он привык. — Никто тебе не сказал? — Не сказал что? — Меня захлестывают злость и растерянность. — Мне велели срочно явиться сюда прямо с посадочной площадки, сказали, что я должен прийти на могилу Сири до запуска портала. Что еще? — Согласно маминой последней воле, ее кремировали, а пепел развеяли с самой высокой платформы нашего семейного острова, в Великом Южном море. — Тогда зачем построили этот… этот склеп? — Я тщательно подбираю слова, чтобы не задеть чувств Донела. Он снова трет лоб и оглядывается на дверь. Толпе снаружи нас не видно. Мы явно не укладываемся в расписание. Некоторые члены совета уже поспешно спустились с холма и присоединились к другим чиновникам на высоком помосте. Сегодня мои неторопливые страдания не просто сорвали им все планы, но превратили все в какой-то скверный спектакль. — Мама оставила определенные указания. Мы их выполнили. Он дотрагивается до стены, небольшая панель отъезжает в сторону, за ней открывается ниша, а там лежит металлическая коробка. На ней выгравировано мое имя. — Это что такое? — Личные вещи. — Донел качает головой. — Мама оставила их тебе. Подробности знала только Магритт, а она умерла прошлой зимой, так ничего никому и не сказав. — Хорошо. Спасибо. Я выйду через минуту. Донел смотрит на часы. — Через восемь минут начнется церемония. Портал запустят через двадцать минут. — Знаю. — Я действительно это знаю, точно знаю, сколько осталось времени. — Выйду через минуту. Донел мешкает на пороге, но потом все-таки уходит. Прикладываю к датчику ладонь и закрываю за сыном дверь. Ставлю на пол необычайно тяжелую коробку и усаживаюсь на корточки. Еще один датчик, поменьше. Опять прикладываю ладонь. Крышка отъезжает в сторону. — Чтоб меня, — тихо говорю я. Не знаю, что я ожидал увидеть — может быть, какие-то памятные мелочи, приятные напоминания о проведенных вместе ста трех днях. Высушенный цветок, который я когда-то ей подарил, или витую ракушку — за такими мы вместе ныряли под Февароной. Ничего подобного. В коробке маленький ручной лазер Штейнера-Джинна — мощное оружие, одно из самых мощных на сегодняшний день. Аккумулятор силовым кабелем подсоединен к термоядерной батарее, которую Сири, наверное, выдрала из своего нового батискафа. К батарее также подключен древний комлог — настоящий антиквариат с жидкокристаллическим дисплеем. Зеленый индикатор показывает полный заряд. В коробке еще два предмета: диск-переводчик, которым мы пользовались так давно, и… я грустно улыбаюсь и тихо говорю: — Ах ты маленькая чертовка. Теперь понятно, где была Сири, когда я проснулся на закате один, там, на холмах над Порто-Ново. Я качаю головой и снова улыбаюсь. — Моя милая чертовка. В коробке лежит аккуратно свернутый соколиный ковер, который Майк Ошо купил за тридцать марок на карвнальском рынке. Все контакты правильно подсоединены. Я откладываю ковер и отсоединяю комлог. Очень старая вещь; наверное, изготовлена еще до хиджры. Видимо, его передавали в ее семье из поколения в поколение со времен первых колонистов. Скрестив ноги, усаживаюсь на холодный каменный пол и подношу палец к дисплею. Свет в склепе меркнет, и неожиданно передо мной появляется Сири.
Меня не выкинули с корабля после гибели Майка, хотя могли бы. И не отдали на милость местному суду, хотя тоже могли бы. Два дня меня допрашивали сотрудники корабельной службы безопасности, один раз даже приходил капитан Сингх. А затем я вернулся к своим обязанностям. Четыре долгих месяца обратного пути я изводил себя, вспоминая о смерти Майка. Я ведь отчасти был виноват в ней: его убили из-за моей неуклюжести. Дежурил в свои смены, по ночам просыпался в поту от кошмаров и гадал: уволят или не уволят, когда доберемся до Великой сети. Могли бы сразу сказать, но не сказали. Не уволили. Отправили в обычный отпуск в Гегемонии, но в системе Мауи Заветной мне отныне было запрещено высаживаться на планету. А еще выговор и временное понижение в должности. Вот чего стоила в их глазах жизнь Майка — выговора и понижения в должности. Как и другие члены команды, я отправился в трехнедельный отпуск. Но в отличие от них, обратно на корабль возвращаться не собирался. Шагнул через портал на Эсперансу повидать родных — типичная для звездолетчика ошибка. Двух дней в полном народу жилом улье мне вполне хватило. Потом на Лузусе три дня проторчал в борделях на Рю де Ша. Настроение мое ухудшилось, я перебрался на Бродяг и просадил почти все заработанные марки, делая ставки на кровавых поединках со Шрайком. В конце концов меня занесло на станцию в Старую систему. Там я взял корабль и отправился в двухдневное паломничество в кратер Эллады. Никогда прежде я не бывал ни в Старой системе, ни на Марсе. Возвращаться я не собирался, но десять дней, проведенных в одиноких блужданиях по пыльным, полным призраков коридорам монастыря, все же побудили меня вернуться. Вернуться на корабль. Вернуться к Сири. На Марсе я часто выходил из красного мегалитного лабиринта, облачившись в тонкий скафандр и маску, простаивал в одиночестве долгие часы на одном из бесчисленных каменных балконов и разглядывал в небе бледно-серую звезду, которая когда-то была Старой Землей. Иногда размышлял о тех глупых и отважных идеалистах, что отправлялись на медленных, утлых кораблях в черную пустоту, везли с собой, с равным трепетом оберегая их, зародыши и идеи. Но в основном старался ни о чем не думать — просто стоял в фиолетовой ночи, и ко мне приходила Сири. На том самом месте, где многие более достойные пилигримы так и не достигли просветления, оно было даровано мне — в виде воспоминаний о шестнадцатилетней девчонке, которая прижималась ко мне, в то время как в вышине лунный свет играл на крыльях Томова ястреба. Когда «Лос-Анджелес» совершил квантовый скачок обратно к Мауи Заветной, Сири была со мной. Через четыре месяца я послушно отбывал смены, возил туда-сюда строителей, подключался к симулятору и спал как убитый на протяжении всего отпуска. И тут пришел капитан Сингх. — Тебе надо спуститься на планету. Я ничего не понял. — За последние одиннадцать лет местные жители из вашей с Ошо лажи раздули целую легенду, так ее. Ты там славно покувыркался с одной девчонкой, а теперь это настоящий культурный миф. — Вы о чем? — Я злился и был напуган. — Хотите вышвырнуть меня с корабля? Сингх что-то промычал и рассеянно подергал себя за правую бровь. Вспыхнул золотом браслет у него на запястье. — Ты что, не знал, что эта девчонка из семьи звездолетчиков — основателей колонии? Местная знать. — Сири? — непонимающе спросил я. — Она растрепала про ваше… про ваш, скажем так, роман всем подряд. О нем стихи пишут. На одном из их дрейфующих островов каждый год играют об этом пьесу. Устроили настоящий культ. Ты герой романтической истории, по которой вся эта деревенщина сходит с ума. — Вы хотите вышвырнуть меня с корабля? — Аспик, не глупи, — прорычал Сингх. — Проведешь три недели отпуска внизу. Эта планета нужна Гегемонии. Посол говорит, пока портал не запустят и не введут оккупационные войска, нам нужно их сотрудничество. Если этот идиотский миф о разлученных возлюбленных нам хоть чуть-чуть поможет, замечательно. Специалисты считают, ты будешь полезнее для Гегемонии там, внизу. Посмотрим. — Сири? — повторил я. — Собирайся, — приказал Сингх. — Ты спускаешься на планету. Целый мир пребывал в ожидании, в толпе раздавались приветственные крики, Сири махала мне рукой. В гавани мы погрузились в желтый катамаран и отчалили на юго-восток, к архипелагу, к плавучему острову, который принадлежал ее семье. — Привет, Марин. Темную гробницу заполняет образ Сири. Голограмма не лучшего качества: края изображения размыты. Но это Сири. Такая, какой я помню ее с нашей последней встречи. Седые, коротко стриженные волосы, высоко поднятая голова, осунувшееся лицо. — Привет, Марин, любовь моя. — Привет, Сири. Дверь мавзолея закрыта, меня никто не может услышать. — Прости, Марин, меня не будет на нашем шестом Воссоединении. Я его так ждала. — Сири замолкает и смотрит вниз, на свои ладони; сквозь голограмму пролетают пылинки, и изображение слегка дергается. — Я тщательно обдумала, что сказать тебе. Как сказать. Доводы. Указания. Но теперь знаю — все это бесполезно. Либо я уже все сказала и ты меня услышал, либо говорить не о чем и лучше просто помолчать. С возрастом голос у нее стал еще красивее. Его наполняет спокойствие, которому может научить только боль. Сири убирает руки, на голограмме их больше не видно. — Марин, любовь моя, как странно мы прожили эти дни — вместе и врозь! Каким удивительным образом нас связала прекрасная и нелепая легенда! Мои дни были для тебя мгновениями. Как же я тебя за это ненавидела! Ты был словно зеркало, жестокое правдивое зеркало. Видел бы ты свое лицо в начале каждого нашего Воссоединения! По крайней мере, мог бы скрыть свое потрясение… мог бы сделать для меня хотя бы это. Но ты не просто неуклюжий простачок, Марин, в тебе было… что?.. что-то было. За бездумным эгоизмом и неопытностью, с которыми ты не расстаешься, скрывается что-то. Быть может, неравнодушие. Или хотя бы уважение. Именно на это неуловимое нечто я и возлагала столько надежд все эти годы, Марин. На неравнодушие, что пробивалось даже сквозь недалекость мальчика, рожденного в улье и воспитанного на корабле. Я верю… нет, я знаю, что иногда что-то значила для тебя. А если я для тебя что-то значила, то и мой мир тоже. За те немногочисленные часы, что мы провели вместе, ты, возможно, что-то понял. Только на это мы и надеемся. Это наш единственный шанс на спасение. Признаюсь, я ничего такого не замышляла, когда крала твой дурацкий летающий ковер. Вообще, не знаю, о чем я думала, позволяя увести себя с праздника. Наверное, хотела тебя похитить. Или соблазнить и задержать, выпытать какую-нибудь информацию, полезную дяде Грешэму. Может, даже мечтала, что ты присоединишься к нам, мы вместе будем плавать с морским народом и защитим Заветную. А потом Бертоль все испортил… Я скучаю по тебе, Марин. Сегодня вечером спущусь в гавань, буду смотреть на звезды и думать о тебе. Я и раньше так делала. Прости, Марин, на этот раз я не дождусь нашей встречи. Но тебя дождется наш мир. Море, которое я услышу сегодня, споет тебе ту же песню. Нужно сохранить эту песню, любовь моя, в этом есть смысл. Они не смогут контролировать планету, не подчинив себе острова, а островами управляет морской народ. Я веду дневник с тринадцати лет. Здесь было несколько сотен записей, но я сотру их все и оставлю лишь несколько. Наша любовь не только легенда и хитрый расчет. Мы стали друзьями, мы провели вместе несколько счастливых дней, ведь так? Прощай, Марин. Прощай и будь здоров.
Я отключаю комлог и целую минуту сижу в тишине. Снаружи волнуется толпа, но толстые стены гробницы почти не пропускают звуков. Набираю в грудь побольше воздуха и щелкаю по дисплею. Снова появляется Сири. Ей далеко за сорок. Я сразу же узнаю день, когда была сделана запись. Помню плащ, кулон из миножьего камня, прядь волос на лице, выбившуюся из заколки. Очень хорошо помню тот день. Последний день нашего третьего Воссоединения. Мы с друзьями отправились в горы неподалеку от Южного Терна. Донелу было десять. Мы уговаривали его скатиться вместе с нами с ледяной горки. Он плакал. Показался воздушный глиссер, и Сири отошла от нас. Из машины вышла Магритт. У Сири изменилось лицо, и мы сразу же поняли: что-то случилось. То же самое лицо смотрит на меня сейчас. Она рассеянно заправляет непослушную прядь за ухо. Глаза покраснели от слез, но голос твердый. — Марин, сегодня они убили нашего сына. Алону был двадцать один год, и они его убили. Ты был в таком замешательстве, все повторял: «Какая ужасная ошибка. Как такое могло случиться?» Ты не очень хорошо знал нашего сына, но я видела, ты скорбел, когда услышал о его гибели. Марин, это не несчастный случай. Даже если уцелеет только эта запись, даже если ты никогда не поймешь, почему я подчинила свою жизнь слезливой легенде, знай: Алон погиб не из-за несчастного случая. Он был с сепаратистами, когда нагрянула полиция. Он мог бы сбежать. Мы вместе заранее подготовили ему алиби. Ему бы поверили. Но он решил остаться. Сегодня, Марин, ты восхищался тем, что я сказала толпе… той шайке… около консульства. Знай, корабельщик, я имела в виду именно то, что сказала: «Теперь не время показывать свою злость и ненависть». Именно так. Теперь не время. Но наш день придет. Непременно придет. И в этот день им не удастся так просто завладеть Заветной, Марин. Мы боремся и сейчас. Те, кто забыл про нас, сильно удивятся, когда придет наш день.
Образ бледнеет, на него накладывается другой: сквозь черты сорокалетней Сири проступает лицо двадцатишестилетней девушки. — Марин, я жду ребенка. Я так счастлива. Ты улетел больше месяца назад, и я скучаю. Тебя не будет десять лет. Даже больше. Марин, почему же ты не позвал меня с собой? Я не смогла бы полететь, но обрадовалась бы, если б ты попросил. Но я жду ребенка, Марин. Доктора говорят, мальчик. Любовь моя. Я расскажу ему о тебе. Быть может, однажды вы с ним отправитесь на архипелаг и будете вместе слушать песни морского народа, как мы с тобой совсем недавно. Может, тогда ты сможешь их понять. Марин, я скучаю. Пожалуйста, возвращайся скорее. Голограмма дергается и мерцает. Передо мной разгневанная шестнадцатилетняя девчонка. По обнаженным плечам и белой ночной рубашке в беспорядке рассыпались длинные волосы. Она говорит торопливо, сквозь слезы: — Корабельщик Марин Аспик, мне жаль твоего друга, правда жаль. Но ты даже не попрощался со мной. Я так мечтала… что ты поможешь нам… что мы вместе… а ты даже не попрощался. Плевать мне, что с тобой будет. Возвращайся в свой вонючий гегемонский улей. Чтоб ты там сгнил. Знаешь, Марин Аспик, не хочу тебя больше видеть, ни за какие деньги. Прощай. И она поворачивается ко мне спиной. Голографическое изображение меркнет. В гробнице темно, но до меня доносится голос Сири — она тихо смеется и говорит (не знаю, сколько ей лет на этой записи): — Адью, Марин. Адью. — Адью. — Я выключаю комлог.
Выхожу из гробницы, щурясь от яркого света. Толпа расступается. Люди возмущенно перешептываются: сначала сорвал им церемонию, а теперь вот улыбается. Даже на холме слышно, как вещают громкоговорители. — … начало новой эры сотрудничества и взаимодействия, — глубоким голосом говорит консул. Ставлю металлическую коробку на траву и достаю соколиный ковер. Любопытная толпа жмется ближе. Ткань выцвела, но левитационные нити сияют свежевычищенной медью. Усаживаюсь на ковер и ставлю позади себя коробку. — … и даже больше, время и пространство уже не будут помехой. Прикасаюсь пальцами к тканым узорам, и ковер поднимается в воздух. Люди в испуге отшатываются. Я вижу крышу гробницы и море. Острова возвращаются с Экваториального архипелага. Сотни островов плывут с юга, их подгоняет теплый ветер. — Итак, я с огромным удовольствием замыкаю эту цепь. Колонисты с Мауи Заветной, добро пожаловать в сообщество Гегемонии Человека. В зенит устремляется тонкий луч церемониального лазера. Раздаются аплодисменты, играет оркестр. Я, прищурившись, смотрю в небо, где вспыхивает новая звезда. Я знаю вплоть до миллисекунды, что там сейчас происходит. Портал запущен. На несколько миллисекунд время и пространство действительно перестают быть помехой. А потом из-за взрывной волны искусственно созданной сингулярности срабатывает термальный заряд, который я поместил на внешнюю экранирующую сферу. Этот маленький взрыв с планеты не виден, но через секунду радиус Шварцшильда поглощает собственную оболочку и хрупкий тридцатишеститонный двенадцатигранник превращается в пламенеющий шар диаметром в несколько тысяч километров. Вот это уже хорошо видно с планеты, и зрелище получилось великолепное: в чистом голубом небе вспыхивает миниатюрная сверхновая. Оркестр больше не играет. В разные стороны с воплями разбегаются люди. Совершенно напрасно. Портал схлопывается, и выделяется радиация, но она не опасна: атмосфера Мауи Заветной ее не пропустит. Еще одна плазменная вспышка: «Лос-Анджелес» отходит подальше от небольшой, быстро распадающейся черной дыры. Ветер усиливается, море волнуется. Сегодня приливы будут вести себя немного странно. Хочется сказать какие-нибудь важные слова, но в голову ничего не приходит. Да и толпа не в настроении слушать речи. Я убеждаю себя, что среди воплей ужаса звучат и радостные крики. Прикасаюсь к узорам на соколином ковре и взлетаю над скалами и гаванью. Лениво паривший в теплых воздушных потоках Томов ястреб испуганно шарахается в сторону при моем приближении. — Пусть приходят! — кричу я вслед птице. — Пусть приходят! Мне будет тридцать пять, я буду не один, пусть приходят, если осмелятся! Опускаю кулак и смеюсь. Ветер ерошит волосы, обдувает разгоряченные грудь и руки. Я уже успокоился. Разворачиваю ковер и беру курс на самый дальний из островов. Мне не терпится увидеть остальных. Более того, мне не терпится рассказать морскому народу, что в океанах Мауи Заветной наконец появится акула. Позднее, когда мы выиграем битву и отдадим им этот мир, я расскажу про Сири. Я буду петь им про Сири.
Метастаз
~ ~ ~
Очень странно, если вдуматься: в концентрационных лагерях вроде Освенцима или даже в лагерях смерти вроде Треблинки и Собибора, предназначенных исключительно для истребления человеческих существ, жили вполне обычные люди. Жены комендантов сажали цветы, дети высокопоставленных немецких офицеров ходили в школу и занимались спортом, на званых ужинах музыканты играли Моцарта, Баха и Малера, женщины заботились о фигуре, мужчины — о редеющих волосах, — обычные повседневные дела, которыми сегодня заняты и мы. А совсем рядом людей морили голодом, забивали до смерти, травили газом и сжигали в печах. На розовые бутоны в садах легким облачком опускался пепел, что всего часом раньше был человеческой плотью. От лагерей футбольные поля отделяла тонкая колючая проволока. До бараков долетала музыка Моцарта, и ее слушали, содрогаясь на нарах вместе с другими живыми скелетами, бывшие музыканты, композиторы и дирижеры. В своем уютном домике комендант лагеря рассматривал в зеркале лысину. Его жена тоже изучала свое отражение; покрутившись туда-сюда, надменно надувала губки и думала, что, пожалуй, нынче вечером не станет есть пирожное на десерт. Кто отражался в зеркале — люди или нелюди? Конечно, люди. Человек почти ко всему привыкает. В тринадцатом веке в Европе свирепствовала эпидемия чумы, известная как «черная смерть». Вымирали целые деревни, ночью по улицам громыхали похоронные дроги и возницы выкрикивали: «Собираем трупы!», а позже хоронить покойников стало и вовсе некому. Многие пытались заигрывать со смертью: по вечерам на кладбищах Парижа плясали обрядившиеся в жуткие карнавальные костюмы гуляки. И в то же самое время с привычным скрипом и обычной скоростью продолжало вращаться колесо повседневной жизни. Возможно, сегодня происходит то же самое? Меня всегда передергивает, когда вместо слова «убить» кто-нибудь использует слово «децимация». Так обычно описывают военные сражения: «Индейцы сиу подвергли децимации солдат Джорджа Кастера».[49] Слово это — латинского происхождения (decimat(us) — причастие прошедшего времени от глагола decimare — казнить одного из десяти), и сама процедура тоже восходит к древним римлянам. Если в захваченной ими провинции кто-то выказывал неповиновение или убивал римского солдата, они устраивали нечто вроде лотереи и убивали каждого десятого. В Европе и Польше не выбирали каждого десятого еврея, просто уничтожали всех подряд. В тринадцатом веке в Европе не выбирали каждого десятого: погибла четверть или даже половина всего населения. И чума возвращалась снова и снова. Люди ничего не знали о бактериях-возбудителях, и потому для них эти невидимые убийцы вроде как и не существовали вовсе. Видимым был лишь результат: каждую ночь из города на похоронных дрогах вывозили горы трупов; свет уличных факелов отражался в мертвых распахнутых глазах, играл на ощеренных зубах. Во второй половине двадцатого века рак не выбирает каждого десятого. Статистика гораздо страшнее. Выбор падает на каждого шестого. А возможно, уже на каждого пятого. Ситуация ведь постоянно ухудшается. А мы тем временем сажаем цветы, играем в игры, слушаем музыку, смотримся в зеркало. Стараясь не увидеть ничего лишнего.~ ~ ~
В тот день Луису Стейгу позвонила Ли, его сестра, и сообщила, что мать после обморока госпитализирована в денверскую больницу и у нее обнаружили рак. Луис запрыгнул в свой «шевроле камаро» и на максимальной скорости рванул в Денвер. У шоссейной развязки на выезде из Боулдера[50] его занесло на гололеде, и машина перевернулась семь раз. В результате — перелом основания черепа, серьезное сотрясение мозга, кома. Девять дней он провалялся без сознания, а когда очнулся, узнал, что у него в левой лобной доле засел крошечный осколок кости. Луис пролежал в больнице еще почти три недели (в другой больнице, не там, куда поместили маму), а потом выписалсяс невообразимой головной болью и расфокусированным зрением. «Велика вероятность органического повреждения мозга», — предупредили доктора. А Ли сказала, что у матери последняя стадия заболевания и надежды нет. Но худшее было впереди. Маму он смог навестить только через три дня. Голова раскалывалась по-прежнему, зрение оставалось нечетким — словно помехи в телевизоре. Зато прекратились приступы адской боли и тошнота. Ли отвезла Луиса и Дебби, его девушку, в городскую больницу Денвера. — Почти все время спит, но это из-за лекарств, — рассказывала она. — Ей дают сильное снотворное. Она, скорее всего, не узнает тебя, когда проснется. — Понимаю. — Доктора сказали, она, вероятно, чувствовала опухоль… понимала, что происходит… это продолжалось около года. Если бы только… Пришлось бы сразу же удалить грудь; может, даже обе, но они могли бы… — Ли глубоко вздохнула. — Я провела с ней все утро. Я не могу… Луис, я просто не могу сегодня пойти туда снова. Надеюсь, ты понимаешь. — Да. — Хочешь, я пойду с тобой? — спросила Дебби. — Нет.Почти час он просидел возле матери, держа ее за руку. Спящая женщина на кровати казалась ему незнакомкой. Зрение по-прежнему туманилось, но он все равно отчетливо видел: она лет на двадцать старше мамы. Землисто-серая кожа, выступающие вены, синяки от капельниц, дряблые, ослабевшие мышцы. Тело под больничным халатом усохло и съежилось. От нее плохо пахло. Закончились приемные часы, Луис провел в палате еще тридцать минут, а потом головная боль вернулась, и он собрался уходить. Мать так и не проснулась. Он поцеловал ее в лоб, погладил шершавую ладонь и направился к двери. И вдруг, уже стоя на пороге, краем глаза заметил какое-то движение в зеркале. Там отражались спящая мама и кто-то еще — кто-то сидел на том самом стуле, с которого Луис только что встал. Он обернулся. На стуле никого не было. Боль раскаленным железным прутом пронзила левый глаз. Луис подошел к зеркалу, стараясь двигаться медленно, чтобы не усугублять мигрень и головокружение. Отражение было невероятно четким, он уже много дней не видел так ясно. Кто-то сидел на стуле. Луис сморгнул и подошел ближе, вгляделся, слегка прищурившись. Фон отчетливый, а вот фигура немного размытая, но при этом совершенно реальная. Сперва Луису показалось, что это ребенок — хилый, изможденный десятилетний малыш. Стейг подался вперед, стараясь не обращать внимания на боль, и внезапно увидел, что никакой это не ребенок. Над его матерью склонило большую бритую голову маленькое худое существо с тоненькой шеей. Белая кожа (бумажно-белая, цвета рыбьего брюха), вместо рук — обмотанные жилами и кожей кости, огромные бледные ладони, пальцы дюймов шесть длиной. Существо вытянуло их над покрывалом. Луис всмотрелся и понял: голова не бритая, а просто-напросто лысая, сквозь прозрачную плоть проглядывают вены. Череп странной, неправильной формы, точно у брахицефала, и настолько же несоразмерный телу, как на фотографиях эмбрионов, которые доводилось видеть Стейгу. Словно в ответ на его мысли, создание покачало головой взад-вперед, как будто шея отказывалась держать такую тяжесть. Еще это зрелище напоминало змею, настигающую добычу. Луис не мог отвести взгляд от бледной синюшной плоти и выпирающих костей. На ум приходили цеплявшиеся за колючую проволоку узники концентрационных лагерей; всплывшие на поверхность утопленники, которые неделю пробыли в воде и стали похожи на гнилую белую резину. Только это выглядело намного хуже. У существа не было ушей. Вместо них в безобразном черепе зияли два неровных, обрамленных красноватой плотью отверстия. В глубоких черно-синих глазницах застряли желтоватые шарики, словно запихнутые туда каким-то шутником. Кроме того, странное создание, несомненно, было слепым: его глаза затягивала многослойная слизистая пленка катаракты. И все-таки они бегали туда-сюда, эти желтые глаза, как у хищника на охоте. Чудовище склонило огромную голову к спящей матери Луиса. Оно видело, но как-то по-своему. Стейг развернулся, чувствуя, что вот-вот закричит, сделал два шага к кровати и внезапно остановился. Сжав кулаки, он стоял возле пустого стула. Наружу все еще рвался крик. Луис вернулся к зеркалу. У монстра не было рта, не было губ, но под тонким длинным носом челюстные кости сильно выдавались вперед, образуя нечто вроде обтянутой белой плотью трубки. Длинное конусообразное хрящевое рыльце заканчивалось круглым отверстием. Бледно-розовый сфинктер сжимался и разжимался в такт сердцебиению или дыханию, и поэтому казалось, что дырка слегка пульсирует. Пошатываясь, Луис ухватился за спинку стоявшего рядом пустого стула. Волнами накатывали слабость, тошнота и головная боль. Он зажмурился. На свете не могло быть более отвратительного зрелища, чем то, что он сейчас увидел. Стейг открыл глаза. Нет, могло. Чудовище медленно, почти с нежностью, потянуло на себя одеяло и склонило уродливую голову над грудью спящей. Омерзительный хоботок дергался теперь всего в нескольких дюймах от цветастого халата. В круглом отверстии появилось что-то серозеленое, кольчатое, влажное. Показалась маленькая мясистая антенна. Существо наклонилось еще ниже, сфинктер сократился, и из него неторопливо вылез пятидюймовый слизняк. Он свисал с отвратительного рыльца, раскачиваясь прямо над матерью Луиса. Стейг наконец-то закричал. Пытался повернуться и разжать пальцы, мертвой хваткой вцепившиеся в стул; пытался не смотреть в зеркало. И не мог. Под антеннами-полипами у слизняка обнаружилась пасть, огромная разинутая пасть, как у глубоководного паразита. Червяк упал женщине на грудь, чуть поизвивался и быстро вполз внутрь. В его мать. Не осталось ни следа, ни отметины, ни даже дырки на выцветшем больничном халате. Только легонько вздулась и опала бледная кожа. Похожее на ребенка существо обернулось, и Луис встретился с ним глазами в зеркале. Потом чудовище снова склонилось над спящей. Второй слизень появился, упал, заполз внутрь. Затем третий. Луис снова закричал и наконец, смог стряхнуть оцепенение. Он бросился к кровати и принялся молотить руками воздух, пинком отбросил пустой стул в угол палаты, сорвал с матери одеяло и халат. На крики прибежали две медсестры и дежурный по этажу. Стейг, склонившись над обнаженной матерью, царапал ногтями ее покрытую морщинами и шрамами кожу в том месте, где до операции была грудь. На мгновение все застыли в ужасе, а потом Луиса схватили за руки, и медсестра вколола транквилизатор. Перед тем как отключиться, он успел посмотреть в зеркало, указать взмахом руки на противоположную сторону кровати и еще раз закричать.
— Вполне объяснимо, — сказала Ли, после того как на следующий день отвезла его обратно в боулдерскую больницу. — Совершенно естественная и понятная реакция. — Да, — отозвался Луис. Он стоял в пижаме возле кровати, а сестра поправляла одеяло. — Доктор Кирби говорит, поражения в этой части мозга могут вызвать необычные эмоциональные реакции, — подхватила сидевшая у окна Дебби. — Как у… как его там… у рейгановского пресс-секретаря, в которого попала пуля. Только это, конечно, временно. — Ага. — Луис лег, устраиваясь поудобнее на высоких подушках. Он не сводил взгляда с зеркала на стене. — Сегодня мама ненадолго очнулась. По-настоящему очнулась. Я ей рассказала, что ты приходил. Она… она, конечно, этого не помнит. Хочет повидаться. — Наверное, завтра. В зеркале отражались они трое. Только они трое. Солнечный луч падал на перетянутые желтой резинкой рыжие волосы Дебби, на руку Ли. Ярко белели наволочки подушек. — Хорошо, давай завтра, — согласилась сестра. — Или послезавтра. А сейчас выпей лекарство, которое прописал доктор Кирби, и поспи. А к маме вместе съездим, когда тебе станет лучше. — Завтра, — повторил Луис и закрыл глаза. Он провалялся в постели шесть дней, вставал только в туалет или чтобы переключить канал в маленьком телевизоре. Головная боль не отпускала, но была вполне терпимой. В зеркале — ничего необычного. На седьмой день Стейг проснулся в десять утра, принял душ, аккуратно и медленно надел шерстяные штаны, белую рубашку, синюю куртку и как раз собирался позвать Ли и сказать, что готов ехать к маме. Но тут она сама вошла в палату. Глаза у сестры были заплаканные. — Только что позвонили. Мама умерла двадцать минут назад.
Похоронное бюро располагалось к востоку от денверского Капитолийского холма, среди старых, пришедших в запустение кирпичных зданий, которые теперь по большей части сдавали внаем. Там по ночам обычно устраивали разборки банды латиносов. Всего в двух кварталах от маминого дома. Они переехали туда из Де-Мойна, когда Луису было десять, в этом доме он вырос. В соответствии с распоряжениями матери для денверских друзей в похоронном бюро устроили церемонию прощания. Потом гроб самолетом перевезут обратно в Де-Мойн. Там в церкви Святой Марии будет отпевание, затем погребение — на маленьком местном кладбище, где лежит отец Луиса. Прощание с покойной, лежавшей в открытом гробу, казалось Стейгу каким-то доисторическим варварством. Он стоял возле двери, здороваясь с гостями, и старался по возможности не приближаться к усопшей — только изредка окидывал взглядом сложенные на груди руки, нарумяненные щеки и нос. Мытарство продолжалось около двух часов. Пришло около шестидесяти человек, в основном семидесятилетние старики и старухи — мамины сверстники. Соседи, которых Луис последний раз видел лет пятнадцать назад, новые знакомые, которых она завела в центре для престарелых или за партией в бинго. Из Боулдера приехали несколько друзей самого Стейга, в том числе два товарища по колорадскому клубу альпинистов и двое коллег из университетской физической лаборатории. Дебби не покидала его ни на минуту, вглядывалась в бледное, взмокшее лицо, время от времени брала за руку, когда у Луиса возобновлялись приступы головной боли. Церемония уже почти подошла к концу, и тут он не выдержал: — У тебя пудреница есть? — Что? — непонимающе отозвалась Дебби. — Ну, пудреница, такая маленькая штука с зеркальцем. Девушка покачала головой. — Луис, ты хоть раз видел у меня что-нибудь подобное? Погоди-ка, — она принялась рыться в сумочке, — есть вот такое небольшое зеркальце, оно мне нужно для… — Давай сюда. Луис поднял маленький прямоугольник в пластиковой оправе и повернулся к двери для лучшего обзора. Приглушенными голосами переговаривалось около десятка гостей. Пахло цветами. Тускло светили лампы. В холле кто-то рассмеялся и тут же смолк. Около гроба стояла Ли в непроницаемо черном платье и тихо беседовала с соседкой, старушкой Нартмот. Но в зале был и еще кое-кто: двадцать или тридцать низеньких фигур тенями скользили между рядами складных стульев и одетыми в черное людьми. Похожие на детей существа по очереди подходили к гробу, медленно и неторопливо, покачивая огромными головами, словно исполняли замысловатый танец. Бледные тела и лысые макушки испускали зеленовато-серое свечение. Каждый на мгновение останавливался перед усопшей и неторопливо, почти благоговейно склонял голову. Стейг задыхался, руки так тряслись, что зеркальце подпрыгивало. Это напоминало первое причастие… или животных, выстроившихся в очередь к кормушке. — Луис, что случилось? — спросила Дебби. Стейг стряхнул ее руку и бросился к гробу, проталкиваясь через толпу скорбящих. В животе пульсировал холодный комок: неужели сейчас он проходит сквозь эти белесые создания? — Что такое? — Ли с застывшим на лице озабоченным выражением взяла его за руку. Луис стряхнул ее и заглянул в гроб. Открыта была только верхняя половина крышки. Там, на шелковой бежевой подкладке, очень мягкой на вид, лежала его мать в своем лучшем синем платье. Из-за косметики лицо казалось почти здоровым. Пальцы опутывали старые четки. Луис посмотрел в зеркало, а потом медленно поднял левую руку и вцепился в край гроба. Он как будто стоял на палубе парохода, а вокруг бушевало море, и надо было изо всех сил держаться за ограждение, чтобы не выпасть за борт. Гроб до самых краев наполняли сотни кишащих слизняков, которые ползали поверх тела. Они побелели и увеличились в размерах, очень сильно увеличились. Некоторые превосходили в обхвате его руку, некоторые были в фут длиной. Мясистые антенны-рожки уменьшились, на их кончиках появились желтые глазки, миножьи пасти вытянулись конусообразными хоботками. Стейг все смотрел и смотрел. Справа к гробу приблизилось очередное чудовище, положило на край бледные пальцы — прямо рядом с рукой Луиса — и опустило вниз вытянутое рыло, словно на водопое. И втянуло в себя четырех длинных слизней. Лицо дергалось и сокращалось, заглатывало мягкую бледную плоть почти с сексуальным наслаждением. Желтые глаза смотрели не мигая. К гробу подходили все новые и новые, чтобы тоже приобщиться. Луис повернул зеркальце — из его матери выползло еще два паразита, они с легкостью проскользнули сквозь синее платье и влились в кишащую массу. Позади Стейга с полудюжины бледных монстров терпеливо ждали, пока он отойдет. Размытые, бесполые тела, очень длинные, заостренные пальцы, голодные глаза. Луис не закричал и не убежал. Он очень бережно спрятал зеркальце, разжал сведенные судорогой пальцы и медленно пошел прочь. Прочь от гроба. Прочь от Ли и Дебби, которые выкрикивали какие-то вопросы ему в спину. Прочь из похоронного бюро. Остановился он только через несколько часов, возле каких-то странных темных складских и фабричных зданий. Встал в ртутном свете уличного фонаря, поднял зеркальце повыше, покрутил его во все стороны, убедился, что вокруг никого нет, а потом сжался в калачик прямо на земле около фонарного столба, обняв руками колени, покачиваясь взад-вперед и что-то напевая себе под нос.
— Думаю, это раковые вампиры, — сказал Луис психиатру. Сквозь щели в деревянных жалюзи на окнах кабинета виднелись верхушки Флатиронских скал. — Они откладывают слизняки-опухоли, а те потом вылупляются и растут внутри людей. Мы называем их опухолями, а на самом деле это яйца. В конце концов вампиры забирают их назад. Психиатр кивнул, в очередной раз набил трубку и чиркнул спичкой. — Вы не хотите рассказать мне побольше… о… подробнее описать свои видения? — Врач выпустил клуб дыма из трубки. Луис покачал головой и замер, сраженный новым приступом жуткой боли. — За последние несколько недель я все обдумал. К примеру, назовите мне какого-нибудь знаменитого человека, который умер от рака лет сто назад. Давайте. Доктор затянулся. Рабочий стол стоял около занавешенного окна, и лицо психиатра оставалось в тени, его освещала только зажженная трубка. — Прямо сейчас не смогу припомнить. Но наверняка от рака умирали многие. — Вот именно. — Луис, сам того не желая, повысил тон. — Смотрите, сегодня мы привыкли к тому, что люди умирают от рака. Каждый шестой. Возможно, каждый четвертый. Ну, к примеру, я не знаю ни одного человека, который погиб во Вьетнаме, но каждый из нас знает кого-нибудь, обычно даже кого-нибудь из родных, кто умер от рака. А вспомните всех известных актеров и политиков. Да он повсюду. Чума двадцатого века. Доктор кивнул и заговорил, старательно избегая снисходительных интонаций: — Вижу, к чему вы клоните. Раньше просто не существовало современных методов диагностики, но это вовсе не значит, что в прошлые века никто не умирал от рака. К тому же, как показывают исследования, современные технологии, загрязнение окружающей среды, пищевые добавки и прочее увеличили риск возникновения канцерогенов, которые… — Да, канцерогены, — засмеялся Луис. — Я тоже в это верил. Господи, док, вы когда-нибудь читали официальные списки канцерогенов, составленные Американской медицинской ассоциацией или Американским обществом раковых больных? Туда же входит все — все, что мы едим, чем дышим, что надеваем, чего касаемся, чем развлекаемся. То есть вообще все. С таким же успехом можно сказать, что они просто не знают. Читал я весь этот бред. Они просто-напросто не знают, от чего появляется опухоль. Доктор скрестил пальцы рук. — А вы считаете, что знаете, мистер Стейг? Луис вытащил из нагрудного кармана одно из своих зеркал и повертел головой. В комнате вроде бы никого не было. — Виноваты раковые вампиры. Не знаю, сколько они уже тут. Может, мы что-то сотворили такое в этом столетии, и они смогли проникнуть сюда через… через какие-нибудь ворота или как-то еще. Не знаю. — Из другого измерения? — спросил доктор будничным тоном. От его трубки пахло летним сосновым лесом. — Может быть, — пожал плечами Стейг. — Не знаю. Так или иначе, они здесь. Кормятся… и размножаются… — А почему, как вы думаете, вы единственный, кто их видит? — почти весело поинтересовался психиатр. — Черт возьми, — Луис потихоньку закипал, — я не знаю, единственный я или нет. Знаю только, что это началось после аварии… — Мы ведь можем… с той же вероятностью предположить, что травма вызвала некие очень реалистичные галлюцинации? Вы же сами рассказывали, как ухудшилось ваше зрение. — Доктор вытащил изо рта погасшую трубку, нахмурился и принялся искать спички. Луис сжал подлокотники кресла, головная боль и раздражение накатывали волнами. — Я побывал в клинике. Они не обнаружили никаких признаков необратимых повреждений. Зрение немного пошаливает, но это только потому, что я теперь вижу больше. Ну, больше цветов, больше разных вещей. Чуть ли не радиоволны вижу. — Хорошо, допустим, вы видите этих… раковых вампиров. — С третьей затяжки трубка у доктора наконец разгорелась, и в кабинете еще сильнее запахло нагретыми на солнце сосновыми иглами. — Значит ли это, что вы можете их контролировать? Луис потер лоб рукой, словно пытаясь избавиться от мигрени. — Не знаю. — Простите, мистер Стейг. Я не расслышал… — Не знаю! Я не пробовал до них дотрагиваться. Ну то есть не знаю, смогу ли… Боюсь, они… Пока эти твари… раковые вампиры… не обращали на меня внимания, но… — Если вы их видите, не означает ли это, что и они видят вас? Луис встал, подошел к окну и потянул за шнурок, открывая жалюзи. Кабинет наполнился вечерним светом. — Думаю, они видят то, что хотят видеть, — отозвался он, глядя на далекие холмы и поигрывая зеркальцем. — Может, мы для них лишь размытые тени. Но когда приходит пора откладывать яйца, они моментально нас находят. Врач сощурился от яркого света, вынул изо рта трубку и улыбнулся. — Вы говорите «яйца», но то, что вы описывали, больше похоже на кормежку. Это несоответствие и тот факт, что… что видения… начались именно возле постели умирающей матери, — может, это все имеет для вас другое, более глубокое значение? Мы все пытаемся контролировать неподвластные нам вещи — вещи, которые трудно принять. Особенно когда речь идет о родной матери. — Слушайте, — вздохнул Луис, — бросьте вы эту фрейдистскую ерунду. Я только потому сюда пришел, что Деб уже несколько недель… — Он замер и поднял зеркальце. Доктор оглянулся, одновременно старательно вытряхивая трубку. Рот у него был приоткрыт: белые зубы, крепкие здоровые десны, кончик языка чуть приподнят от напряжения. Из-под этого приподнятого языка показались сначала мясистые рожки-антенны, а потом и весь серо-зеленый слизняк. Всего несколько сантиметров длиной. Взобрался повыше, прополз сквозь кожу и мускулы, исчезая и вновь появляясь из щеки, словно личинка из компостной кучи. А в глубине, где-то в горле у доктора, шевелилось еще что-то, что-то большое. — Но мы же можем об этом поговорить. В конце концов, я ведь хочу вам помочь. Луис кивнул, убрал зеркальце в карман и, не оглядываясь, вышел из кабинета. В продаже, оказывается, было полно всевозможных дешевых зеркал в рамах и без: в магазинах, где торговали подержанной мебелью, на барахолках, у старьевщиков, в скобяных и посудных лавках. Одно Луис нашел в куче мусора на обочине. Меньше чем через неделю он увешал зеркалами всю квартиру. Лучше всего защищена была спальня. Весь потолок заклеен зеркалами, и еще двадцать три на стене. Сам приклеивал, тщательно и аккуратно. С каждым новым блестящим квадратиком ему становилось чуточку спокойнее. В субботу, погожим майским днем, Стейг лежал на кровати, рассматривал собственные отражения и обдумывал недавний разговор с сестрой. И тут позвонила Дебби, сказала, что хочет зайти. Он предложил встретиться в торговом центре на Перл-стрит. В автобусе вместе с Луисом ехало трое пассажиров — и еще двое тех, других. Один — на заднем сиденье, а другой вошел прямо через закрытую дверь, когда машина остановилась на светофоре. Когда Стейг в первый раз увидел, как раковые вампиры проходят сквозь предметы, он почувствовал почти что облегчение: слишком уж нематериальными они были, чтобы представлять серьезную угрозу. Теперь он так не думал. Они не проходили сквозь стены с бестелесным изяществом призраков, нет — существо буквально протиснулось в закрытую дверь автобуса, с трудом проталкивая вперед лысую голову и костлявые плечи, словно продиралось через толстый полиэтилен. Еще это напоминало новорожденного хищника, который выбирается из амниотического мешка. Под широкими полями шляпы Луиса крепилось на проволоке несколько зеркал. Он повернул одно и увидел, как вновь прибывший вампир присоединился к товарищу. Вместе они подошли к пожилой даме с покупками. Старушка сидела очень прямо, сложив руки на коленях, и не мигая смотрела перед собой. Вампир поднял сморщенный хоботок к ее горлу, нежно и трепетно, словно для поцелуя. Стейг впервые увидел синеватые хрящи, идущие по внутреннему краю рыльца, на вид острые как бритва. Что-то зеленовато-серое переползло в шею женщины. Второй вампир склонил массивную голову к ее животу, точно усталый ребенок, укладывающийся к матери на колени. Луис поднялся, нажал на кнопку остановки и вышел — за пять кварталов до нужного ему места.
Зайдя в торговый центр на Перл-стрит, Луис подумал, что вряд ли где еще в Штатах увидишь столько показной роскоши и благополучия. С окрестных холмов на западе легкий ветерок приносил аромат сосен, повсюду сновали покупатели, прогуливались туристы, лениво прохаживались местные. Большинство — подтянутые загорелые люди под тридцать, достаточно состоятельные, чтобы одеваться в неброские вещи с искусственными прорехами и потертостями. Мимо торгового центра трусцой пробегали юноши в коротких шортах, поглядывая на часы и на собственную великолепную мускулатуру. Почти все девушки, попадавшиеся навстречу, щеголяли худобой и отсутствием лифчиков. Они смеялись, демонстрируя превосходные белые зубы, сидели на траве и на скамейках, решительно вытянув длинные ноги, совсем как модели из журнала «Вог». Цветущие подростки с торчавшими во все стороны волосами самых жутких расцветок лизали мороженое (батончики «Дав» — по два доллара, рожки «Хаген-денц» — по три). Весеннее солнце освещало мощенные кирпичом дорожки и цветочные клумбы; казалось, грядет вечное и прекрасное лето. Луис и Дебби сидели возле тележки с хот-догами и наблюдали за толпой. — Слушай, я в последнее время вижу такие непотребные ужасы, что в это не так-то просто поверить. Может, эту сволочь все могут видеть, да только не хотят. Он покрутил два маленьких зеркальца и посмотрел по сторонам. На полях шляпы — шесть зеркал, и еще несколько — в карманах. Как-то пробовал черные очки с зеркальными стеклами, но не сработало: монстры показывались только в нормальном отражении. — Луис, я не понимаю… — Я серьезно, — огрызнулся тот. — Мы как те жители Освенцима или Дахау — смотрим на колючую проволоку, на поезда, которые каждый день привозят все новых заключенных, вдыхаем дым из печей… и делаем вид, что ничего не происходит. Пускай забирают кого-нибудь другого, главное, чтоб не меня. Вон! Видишь того толстяка около книжного? — И что? — Дебби уже почти плакала. — Погоди. Луис достал из кармана зеркало и повернул его под нужным углом. Мужчина в коричневых штанах и просторной гавайке явно не стеснялся выпирающего живота. Потягивал что-то из красного пластикового стаканчика и читал свежий номер «Боулдер дейли». Вокруг толпились четыре низеньких существа. Одно из них ухватилось пальцами за горло толстяка и подтянулось вверх. — Погоди, — повторил Луис и подошел ближе, стараясь держать зеркало под тем же углом. Трое вампиров даже не оглянулись, четвертый тянулся длинным хоботком к лицу мужчины. — Стойте! — завопил Стейг и, запрокинув голову, ударил наотмашь. Кулак прошел сквозь монстра, висевшего на шее толстяка. Едва ощутимое сопротивление воздуха, как будто рука окунулась в желатин. Пальцы похолодели. Вся четверка вампиров уставилась на него слепыми желтыми глазами. Луис всхлипнул и ударил снова, кулак опять прошел сквозь чудовище и отскочил от груди толстяка. Двое белесых существ медленно развернулись к нему. — Эй, ты что делаешь! — закричал мужчина и ударил Луиса в ответ. Зеркало выскочило у Стейга из рук и разбилось о кирпичную мостовую. — Господи Иисусе, — шептал Луис, пятясь назад. — Господи. А потом повернулся и побежал, дергая зеркальце на полях шляпы. Но на ходу ничего нельзя было разглядеть. Луис рывком поднял Дебби на ноги. — Бежим! И они побежали.
Луис проснулся около двух часов ночи, не понимая, где находится, — словно очнулся от наркотического сна. Дебби рядом не было. Правильно, они занимались любовью, а потом он вернулся к себе в квартиру. Он лежал в темноте, гадая, что же его разбудило. Ночник не горел. Неожиданно Стейг ощутил страх, выругался, перекатился на бок и зажег прикроватную лампу. Зажмурился от яркого света, и в ответ на потолке, стенах и двери тут же зажмурились многочисленные отражения. В комнате был кто-то еще. Сквозь дверь протиснулось бледная голова с желтыми глазами, за косяк уцепились длинные пальцы, и чудовище подтянулось в комнату, как альпинист на скальный выступ. Еще одна голова высунулась справа от кровати — жутко, внезапно, как в дурном сне. К одеялу потянулась тощая рука. Луис всхлипнул и скатился с кровати. Единственная дверь в комнате была заперта. Он посмотрел на зеркальный потолок — и как раз вовремя: первое чудовище выкарабкалось наружу и теперь преграждало ему путь к выходу. В потолке отражался сам Стейг: он лежал в пижаме на коричневом ковре и, разинув рот, наблюдал, как что-то белое вспучивается на полу прямо возле него. Омерзительный изгиб широкой головы, потом спина; существо медленно показывалось из ковра, как пловец, бредущий к берегу по колено в воде. Настолько близко, что Луис мог бы дотронуться до желтых глазок. Из круглого хобота пахнуло мертвечиной. Стейг откатился вбок, вскочил, вышиб окно стулом и зашвырнул его куда-то за спину. Бывший сосед по квартире, законченный параноик, требовал, чтобы в доме было что-нибудь на случай пожара (они ведь жили на третьем этаже), поэтому на спинке кровати до сих пор болталась веревочная лестница. Луис опять глянул на потолок: белые монстры приближались. Тогда он выбросил из окна свободный конец лестницы и, царапая руки и колени о кирпичную стену, вылез наружу. На улице было темно и холодно. Здесь не было никаких зеркал, так что возможную погоню засечь не удастся.
Они покинули город на машине Дебби, устремившись на запад, через каньон, в горы. Луис нарядился в старые джинсы, зеленый свитер и заляпанные краской кроссовки — все это валялось дома у Деб с тех самых пор, как он в январе помогал ей с ремонтом. В ее квартире висело только одно зеркало — над камином, в красивой старинной раме, восемнадцать на двадцать четыре; он содрал его со стены и тщательнейшим образом проверил салон автомобиля перед тем, как позволить девушке сесть внутрь. — Куда мы едем? Они как раз повернули к югу от Недерленда, на автостраду Пик Хайвей. Справа в тусклом лунном свете сверкали горы Американского континентального водораздела. Фары выхватывали из темноты черные сосны и полоски снега. Узкая дорога спиралью уходила все выше. — В летний домик Ли. На запад от перевала Роллинз. — Я знаю, где это. А Ли там? — Нет, все еще в Де-Мойне, — ответил Луис и быстро моргнул. — Звонила сегодня, как раз за несколько минут до тебя. У нее нашли… опухоль. Ходила в местную больницу, завтра прилетит сюда, чтобы сделать биопсию. — Луис, мне… — начала было Дебби. — Вон там сверни. Следующие две мили никто из них не произнес ни слова.
В домике был маленький генератор, но Луис решил не возиться с ним в темноте. Лампы и холодильник могли потерпеть до утра. Он велел Деб оставаться в машине, а сам вошел в дом, зажег две толстые свечи (Ли держала их на каминной полке) и обследовал все три маленькие комнатки с зеркалом в руках. В нем отражалось только колеблющееся пламя свечей, его собственное бледное лицо и испуганные глаза. Потом Стейг затопил камин, разложил диван в гостиной и позвал девушку. Дебби смотрела устало. В пляшущем свете свечей и камина ее рыжие волосы казались огненными. — До утра осталось всего ничего. Как проснемся — съезжу в Недерленд за продуктами. — Луис, — Деб взяла его за руку, — ты можешь объяснить, что происходит? — Погоди, погоди. — Луис внимательно вглядывался в темные углы комнаты. — Еще кое-что. Раздевайся. — Луис… — Раздевайся! — Сам он уже стягивал с себя штаны и рубашку. Луис поставил зеркало на стул, и оба они голышом медленно покрутились туда-сюда. В конце концов, убедившись, что все чисто, Стейг опустился на колени и посмотрел на Дебби. Девушка стояла неподвижно, скачущие тени метались по ее белой груди, треугольничку рыжих волос на лобке. В неверном свете веснушки на плечах и ключицах, казалось, сияли. — Господи. — Луис закрыл лицо руками. — Господи. Деб, ты, наверное, думаешь, я совсем слетел с катушек. Она присела рядом, погладила его по спине и прошептала: — Луис, я не знаю, в чем дело. Но я знаю, что люблю тебя. — Я объясню… — начал Стейг, чувствуя, как из сдавленной груди рвутся наружу рыдания. — Утром. — Дебби нежно поцеловала его.
Любовью они занимались медленно и торжественно, время тоже словно замедлилось. Поздняя ли ночь тому виной, незнакомое место или пережитый страх опасности, но чувства их странным образом обострились. Когда оба уже почти не могли сдерживаться, Луис прошептал: «Погоди», лег на бок и принялся ласкать и целовать ее грудь, от его поцелуев соски снова затвердели. Потом прикоснулся губами к мягко изгибавшейся линии живота, раздвинул рукой бедра, соскользнул вниз. Стейг закрыл глаза и представил себе котенка, лакающего молоко. Дебби становилась все более влажной, открывалась ему навстречу. На вкус она была как солено-сладкое море. Луис гладил ладонями нежные напряженные бедра. Девушка дышала прерывисто, все быстрее, тихонько вскрикивала от удовольствия. И вдруг позади них послышалось шипение. Заколыхалось пламя свечи. Он обернулся, привстав на одно колено. Сердце бешено стучало. Возбужденные и обнаженные, сейчас они были особенно уязвимы. Неожиданно Луис задохнулся от смеха. — Что? — испуганным шепотом спросила Дебби. — Просто свечка на полу, почти вся расплавилась. Сейчас я ее задую. Потушив свечу и поворачиваясь обратно к кровати, Луис украдкой, словно вуайерист, бросил один-единственный взгляд в зеркало, которое все еще стояло на стуле. В нем отражались двое любовников. Приглушенный свет камина, раскрасневшийся Стейг, белоснежные ноги Дебби, влажные, усеянные капельками пота. Пляшущие язычки пламени освещали ее медные лобковые волосы, розоватый овал влагалища. Мягкая чувственная картина, совсем не порнографическая. Луис почувствовал в груди нарастающую волну любви и возбуждения. Он уже собирался вернуться к прерванному занятию, но в последний миг краешком глаза заметил в зеркале шевеление. Между розовыми половыми губами мелькнуло что-то зеленовато-серое. Всего несколько сантиметров. Показались мясистые рожки. Они медленно подергивались, исследуя окружающее пространство.
— Не знал, что ты интересуешься онкологией. — Доктор Фил Коллинз сидел за столом, заваленным бумагами, и улыбался. — Думал, так и торчишь сутки напролет в этой своей физической лаборатории. Луис посмотрел на бывшего одноклассника. На дружеские подколки сил уже не осталось. Он не спал больше двух суток, в глаза как будто насыпали песку или битого стекла. — Мне нужно посмотреть, как происходит радиационное облучение во время химиотерапии. Коллинз забарабанил по краю стола ухоженными пальцами. — Луис, мы же не можем каждому желающему экскурсии устраивать. — Слушай, Фил, — Стейг старался говорить спокойным, ровным голосом, — несколько недель назад моя мать умерла от рака. Сестре только что сделали биопсию — опухоль злокачественная. Моя девушка как раз сегодня легла в боулдеровский центр. Рак шейки матки, и они думают, сама матка тоже затронута. Может, все-таки разрешишь мне взглянуть? — Господи. — Коллинз посмотрел на часы. — Пошли, Луис. У меня как раз сейчас обход. Мистер Тейлор записан на сеанс рентгенотерапии через двадцать минут. Тейлору было сорок семь, но выглядел он лет на тридцать старше. Щеки впалые, изможденное лицо казалось желтоватым в свете флюоресцентных ламп. Волос на голове не осталось, под кожей виднелись маленькие сгустки крови. Они с Коллинзом стояли за толстым свинцовым экраном и наблюдали через смотровое окошко. — Тут очень важны лекарства. Они усиливают и дополняют воздействие радиации. — А радиация убивает рак? — спросил Луис. — Не всегда. К сожалению, она убивает и здоровые, и больные клетки. Стейг кивнул и поднял карманное зеркальце. Когда заработала рентгеновская установка, он невольно задохнулся от удивления. Наконечник установки ослепительно засиял, и комнату наполнил нестерпимый сиреневый свет. В точности как электрические ловушки для жуков, которые обычно включают ночью во дворе. Там свет так же переливается, раздражая глаза. Только здесь это было в тысячу раз ярче. Появились слизняки. Суматошно шевеля рожками, они выползали из головы мистера Тейлора, привлеченные ярким светом; подпрыгивали вверх на целых десять дюймов, пытаясь дотянуться до установки, поскальзывались на гладком металле. Некоторые падали на пол, взбирались обратно на стол, заползали в тело мужчины и мгновение спустя снова выпрыгивали у него из головы. Те, кому удавалось добраться до источника излучения, замертво падали на пол. Свет померк, уцелевшие паразиты вернулись обратно. — … Надеюсь, увиденное помогло тебе составить хоть какое-то представление о терапии, — говорил Коллинз. — Очень туманная область. К несчастью, мы не совсем понимаем, как именно это работает, но метод постоянно совершенствуется. Луис моргнул. Мистера Тейлора в комнате уже не было. Сиреневый свет погас. — Да, — ответил Стейг. — Думаю, очень помогло.
Прошло двое суток. Луис сидел в полумраке больничной палаты подле спящей сестры. Вторая кровать пустовала. Он проскользнул сюда посреди ночи. Было очень тихо, только приглушенно шипела вентиляция, и в коридоре кто-то время от времени шаркал резиновыми подошвами по линолеуму. Стейг вытянул руку в перчатке и дотронулся до запястья Ли, чуть пониже зеленого больничного браслета с именем. — Думал, будет легче, малыш, — прошептал он. — Помнишь, в детстве мы смотрели разные фильмы? Помнишь Джеймса Арнесса в «Нечто»?[51] Важно понять, как его убить, и дело в шляпе. Снова накатила волна тошноты. Луис опустил голову, с шумом втягивая воздух, но уже через минуту выпрямился. Хотел было вытереть холодный пот со лба и удивленно нахмурился, словно в первый раз увидел на руке толстую кожаную перчатку. Он снова взял сестру за руку. — В жизни все не так просто, малыш. Я записался поработать в вечернюю смену в университетской энерголаборатории. Мак сварганил небольшой рентгеновский лазер, чтобы демонстрировать второкурсникам ионизирующее излучение. Так что там проще простого что-нибудь облучить. Ли перевернулась и тихонько застонала во сне. Где-то далеко часы пробили три, и снова наступила тишина. По коридору, переговариваясь шепотом, прошли две дежурные медсестры. У них был перерыв. Луис положил руку в перчатке рядом с ладонью сестры. — Господи, Ли. Я вижу весь чертов спектр, даже ниже ста ангстремов. И они тоже видят. Я был уверен: вампиров притянет к источнику радиации, так же как притянуло слизняков. Взял несколько облученных предметов и пришел сюда вчера ночью проверить. И они появились, малыш, но их не убило. Толпились вокруг зараженных вещей, как мотыльки, слетевшиеся на огонь, но не умирали. Даже для слизняков нужна большая доза, чтобы прикончить их всех. Понимаешь, я начал с миллибэров — тот же уровень, что и в химиотерапии, — но этого оказалось мало, слишком мало. Чтобы убить наверняка и всех сразу, нужно около трехсот-четырехсот рентген. Понимаешь, малыш, это уже получается Чернобыль. Луис встал, быстро зашел в туалет, стараясь не шуметь, и склонился над унитазом. Его стошнило. Неуклюже вымыл лицо, так и не снимая толстых перчаток, и вернулся к Ли. Она слегка хмурилась во сне. Стейг вспомнил, как в детстве прокрадывался в спальню и пугал сестру то подвязочной змеей, то водяным пистолетом, то пауком. — А, гори оно все… — Он снял перчатки. Руки засияли в темноте, как два пятипалых бело-голубых солнца. В маленьких зеркалах, прикрепленных к полям его шляпы, пылало яркое холодное пламя. — Малыш, больно не будет, — прошептал Стейг, расстегивая верхние пуговицы ее пижамы. Маленькая грудь, почти такая же маленькая, как тогда, когда он подглядывал за пятнадцатилетней сестрой в душе. Луис улыбнулся, вспомнив, как ему за это досталось, и положил руку прямо на сердце Ли. В первое мгновение ничего не происходило. Потом из плоти показались мягкие перископы рожек-антенн, и на поверхность выползли слизняки. В ярком сиянии рук Луиса они казались почти белыми. Паразиты проникали внутрь него — сквозь ладонь, через запястье. Луис задохнулся от омерзения, почувствовав легкое шевеление под кожей. Тошнотворное ощущение, будто тебе под местной анестезией вставляют в вену катетер. Он насчитал шесть… нет, восемь слизней, переползших с груди Ли в его сияющую бело-голубую руку. Еще целую минуту Стейг не убирал ладонь. Когда один из червяков начал карабкаться по его предплечью, легко проходя сквозь мускулы, Луис еле-еле сдержался, чтобы не отдернуть пальцы и не закричать. Чтобы не упустить ни одного, Луис поводил руками над грудью, горлом и животом сестры. Ли ворочалась, тщетно пытаясь превозмочь действие снотворного и проснуться. Еще один слизняк, длиной чуть больше сантиметра, пролез сквозь туго натянутую под ее ключицей кожу и тут же вспыхнул и сгорел от прикосновения к светящимся ладоням, свернувшись, как сухой листок от пламени костра. Стейг встал и медленно снял тяжелую, теплую одежду, не сводя глаз с большого зеркала на стене. Все тело светилось, ярко переливалось белым, бело-голубым, сиреневым, еще какими-то цветами, которые даже он уже не мог различить. Луису снова вспомнилась нестерпимо яркая электрическая ловушка для жуков на каком-то загородном патио, ощущение рези в глазах. Свет отражался и преломлялся в зеркальцах, прикрепленных к полям шляпы. Он аккуратно сложил одежду и оставил ее на стуле возле постели Ли, нежно поцеловал сестру в щеку и вышел. Сиреневое свечение освещало ему путь, наполняя коридор бело-голубыми тенями, радугами непостижимых оттенков. На посту дежурного никого не было. Кафельный пол холодил босые ноги. Луис переходил из палаты в палату и занимался наложением рук. Некоторые больные спали, некоторые в изумлении следили за ним, но никто не отшатывался и не кричал. Стейг недоумевал почему, а потом посмотрел на свои ладони и понял, что видит, видит без зеркала сияние облученной плоти и костей. Его тело превратилось в мерцающую звезду. Он слышал шелест и треск радиоволн, похожий на шепот далекого леса. Слизняки покидали своих жертв и заползали в него. На этаже лежали не только раковые больные, но почти в каждой палате к нему незамедлительно бросались зеленовато-серые и белесые паразиты. Он забирал всех. Его тело распухло от копошившихся внутри чудовищ. Один раз его стошнило. В животе что-то бурлило и сжималось, но Луис не обращал внимания. В палате Дебби Стейг стащил со спящей девушки покрывало, задрал короткую ночнушку и прижался щекой к теплому мягкому животу. Слизни переползали в его горло, в лицо, и Луис с радостью выпивал их из нее. Наконец он поднялся, покинул спящую возлюбленную и пошел в просторную длинную комнату, где лежали раковые больные в последней стадии смертельного недуга. Вампиры шли за ним по пятам. Появлялись из стен, вырастали из пола. Похожие на толпу мертвых детей, они следовали за ним, словно за сияющим Гамельнским крысоловом. Когда он добрался до палаты смертников, вампиров набралось уже больше двадцати. Но Стейг не позволял им приблизиться. Он переходил от кровати к кровати, забирая в себя последних паразитов, и наблюдал, точно в каком-нибудь сюрреалистическом сне, за тем, как внутри больных вылупляются до срока яйца, как вылезают на поверхность новорожденные чудовища. Собрав всех слизней, он встал в центре комнаты и поднял руки. Вампиры обступили его. Луис как будто отяжелел, его тело налилось смертью. Сияющие руки и живот кишели извивавшимися паразитами. Он поднял руки еще выше, запрокинул голову и закрыл глаза. Пусть теперь кормятся. Вампиры с жадностью накинулись на добычу. Их притягивало мерцание облученной плоти и неслышные призывы собственных личинок. Они толкались и пихались, стараясь подобраться поближе к Луису. Он скривился, чувствуя легкие уколы хоботков, его как будто даже слегка приподняло над полом — прикосновение кошмарных созданий вдруг стало ощутимым. Изогнув уродливую голову, похожие на мертвых детей монстры окунались, погружались внутрь него. Стейг снова закрыл глаза и открыл их, только когда все было кончено. Его шатало. Чтобы не упасть, Луис ухватился за спинку кровати. Вампиры, пришедшие за ним в палату, насытились, но в нем все еще копошились многочисленные слизни. Стейг огляделся по сторонам. Ближайший к нему монстр раздулся, словно собравшийсяоткладывать яйца паук. В прозрачном белесом теле неистово сновали слизняки, похожие на светящихся золотых рыбок. Превозмогая тошноту и боль, Луис улыбнулся. С помощью радиоактивных паразитов он, несомненно, нарушил репродуктивный цикл этих существ. Один из вампиров споткнулся и наклонился, выставив вперед свои чудовищно длинные пальцы, чтобы не упасть. От этого его сходство с пауком только усилилось. Бок существа рассекла бело-голубая прореха. Оттуда вывалились два распухших, бешено извивавшихся слизня. Вампир выгнул спину и запрокинул вверх хоботок, издав жуткий вопль, который звучал так, будто кто-то нарочито медленно водил гвоздем по гладкой грифельной доске. Из распоротого брюха на пол посыпались паразиты. Они извивались в луже ультрафиолетовой крови, исходили паром, а потом высыхали и сморщивались, точно настоящие слизняки, когда их посыплешь солью. Раковый вампир бился в конвульсиях, пытаясь пальцами стянуть расходившиеся края раны, а потом пару раз судорожно дернулся и умер. Медленно сомкнулись костлявые руки — словно лапки раздавленного паука. Кто-то кричал, люди и нелюди, но Луис не обращал на это внимания. Вокруг агонизировали светящиеся вампиры. Он видел все, без всякого зеркала, очень отчетливо. Лежавшие на кроватях больные казались размытыми тенями на фоне пылающего ультрафиолетового и инфракрасного зарева, ярче всего сияло его собственное бело-голубое тело. Стейга опять начало тошнить. Согнувшись пополам, он изрыгнул сгусток крови и двух умиравших, светящихся слизняков. Ничего, главное держаться. Он точно знал, что сможет продержаться еще целую вечность. Луис посмотрел вниз, прямо сквозь пол, сквозь пять этажей. Больница была сооружена из прозрачного пластика, пронизанного светящимися линиями электропроводки, усеянного сгустками энергии светильников, техники, живых существ. Множества живых существ. Мягким оранжевым светом мерцали здоровые люди, бледно-желтым переливались инфекции, серым — разлагавшаяся плоть, черным — будущая смерть. Выпрямившись, он перешагнул через тела умиравших вампиров, через кислотные лужи, оставшиеся от слизняков, распахнул широкие двери, которые теперь свободно проницал его взор, и вышел на террасу, овеваемую свежим ночным ветром. Внизу, привлеченные нестерпимым светом, ждали они. Сотни желтых глаз в глубоких черно-синих глазницах, сотни мертвых лиц и пульсирующих ртов. К больнице стекались все новые и новые вампиры. Луис тоже посмотрел вверх и увидел в ночном небе немыслимое количество звезд, бесчисленные мерцающие источники излучения, протуберанцы невообразимых цветов. Он опустил глаза: тысячи бледных лиц горели, как свечи во время крестного хода. Стейг взмолился о чуде. Взмолился, чтобы его хватило накормить их всех. — Сегодня ты, о смерть, — прошептал он так тихо, что не услышал собственного голоса, — сама умрешь.[52] Луис ступил на перила, воздел руки к небу и спустился к тем, кто ждал его.
Жертвоприношение
~ ~ ~
Сейчас осень 1989 года. Совсем недавно я предложил свой роман «Утеха падали» для экранизации одной кино- и телекомпании. Хотелось попробовать на зубок ремесло сценариста — а вдруг из меня выйдет еще один Бен Хект.[53] — Ладно, — сказали продюсеры. — Только давайте сперва посмотрим, как вы справитесь с получасовым эпизодом для телесериала. Я никогда раньше не писал ни пьес, ни сценариев, но ведь я родился и вырос во второй половине XX века и потому ощущаю себя так, словно прожил большую часть жизни в кино. В писательских кругах ходят разные страшилки про работу в этой весьма своеобразной среде: якобы там постоянно требуют все переделать из-за какой-нибудь ерунды; у подружки продюсера вдруг появляется «светлая» идея, и твой сценарий уродуют почем зря; они не очень-то жалуют писателей в принципе («Слышала про ту польскую старлетку, которая недавно приехала в Голливуд? Чтобы пробиться, ей пришлось спать с писателями! Вот ужас-то!»); приходится идти на бесконечные уступки из-за сокращения бюджета, или предполагаемых запросов рынка, или чьей-то причуды… да из-за чего угодно. Словом, чего только не рассказывают. Но, как ни забавно, первый мой сценарный опыт получился довольно приятным и интересным. Переписать просили не очень много, да и поправки пошли тексту на пользу. Я имел дело с профессионалами, а работа с ними всегда доставляет мне удовольствие, будь они хоть плотники, хоть продюсеры. Конечно же, литературный агент уверял, что дело в простом везении: именно эта студия оказалась приличной, но уж следующая точно сведет меня в могилу. Мой агент настоящий джентльмен, и притом друг, и потакает мне во всем, но я-то знаю — в глубине души он надеется, что я брошу эту затею, пока не попал впросак. Ну, может, и так. Вот только напишу для еще одного телешоу — и брошу. Ну и еще один фильм. Маленький какой-нибудь фильмик… ну и, возможно, мини-сериал часов на двадцать. А уж потом… А пока суд да дело, вдруг вам будет интересно посмотреть, как я адаптировал для телевидения «Метастаз». Сценарии — не самое легкое и не самое увлекательное чтение, так что, если вы пропустите эту часть сборника, я не обижусь. Но если все же возьметесь читать, возможно, вам будет интересно также узнать, какие ограничения накладывает на работу писателя производство малобюджетного телесериала. Во-первых, не больше двадцати двух — двадцати трех страниц, чтобы уложиться в получасовой формат. В среднем получается одна страница на минуту эфирного времени, а оставшиеся семь-восемь минут тратятся на какую-нибудь рекламную белиберду, из-за которой многие из нас и не смотрят такие сериалы. Во-вторых, как вы наверняка знаете, самые «захватывающие» моменты должны идти аккурат перед перерывом на эту самую рекламу (им чихать, что будет происходить в последние несколько минут фильма, главное — чтобы вы досмотрели до последнего перерыва, остальное уже неважно). В-третьих, из-за бюджетных ограничений в этом эпизоде могло быть только три-четыре персонажа — по крайней мере, с репликами. Никаких натурных съемок (правда, режиссер захотел съемку в автомобиле в самом начале). Только два интерьера, которые легко было бы смонтировать. Спецэффекты по минимуму: один или два визуальных эффекта, несколько секунд простой анимации и кто-нибудь в костюме или в маске монстра. В-четвертых, они захотели изменить название. «Метастаз» не годился. Они боялись, что, прочитав такое зловещее, болезненное слово, зрители тут же переключат канал. В-пятых, одна шишка решила, что нужно вообще выкинуть из сюжета раковых вампиров. Ну слушайте, должен же быть какой-то предел. Я увещевал. Приводил логические аргументы. Напоминал, что именно из-за этой идеи они и купили права на рассказ. Потом вдохнул поглубже, посинел от натуги, затопал ногами по линолеуму и пригрозил завалить их по факсу тонной дурацких писем, если мне не разрешат оставить ракового вампира. Они уступили. Ну, там еще много чего было, но, думаю, суть вы уловили. Передо мной встал вопрос: смогу ли я сохранить суть рассказа, выбросив по вышеупомянутым причинам чуть ли не все основные элементы сюжета, композиции, добрую половину героев и фактуру? Задачка трудная, но интересная. Я пишу это вступление, а студия как раз заканчивает съемки «Жертвоприношения». Понятия не имею, когда смогу его увидеть. Не знаю, каких взяли актеров. И могу только догадываться, какие изменения внесли по ходу съемок. Если вам интересно, эпизод войдет в состав сериала под названием «Монстры», его покажут где-нибудь между одиннадцатью ночи и четырьмя утра по большинству местных каналов. Одному Господу Богу известно, где и в какое время он будет идти, когда эта книга попадет вам в руки. Любопытно было бы узнать, как вам эта переделка.~ ~ ~
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Выход из затемнения
1. Нат. Машина. Ночь
Эпизод открывается последовательно смонтированными кадрами: сверхкрупный план — стеклоочиститель смахивает с лобового стекала дождевые капли; крупный план Луиса — привлекательный молодой человек, небритый, в данную минуту очень взволнован, напряженно вглядывается вперед, щурится от света встречных фар; совершенно очевидно, что он чем-то расстроен. Неожиданная вспышка света, слишком яркая для встречной машины; визг тормозов, скрежет металла… Глазами героя мы видим, как все вращается, переворачивается, сияние становится ярче, звук удара, вселенная наполняется нарастающим шумом и движущимся светом.
Наплыв
2. Инт. Больничная палата. День
Рассеянный свет, затем изображение фокусируется, и мы видим, что это фонарик, который держит в руке доктор Хаббард, добродушный пожилой мужчина в белом халате поверх костюма.Доктор Хаббард. Луис? Луис, ты меня слышишь? Луис?
Луис пытается поднять голову, но врач останавливает его.Тихо, тихо, Луис. Не двигайся. Ты понимаешь, где ты?
Голова у Луиса вся в бинтах. Он стонет, пытается поднять руки и замирает, смотрит на браслет с собственным именем, на иглу капельницы, торчащую из левого запястья, на больничную пижаму, с изумлением оглядывается вокруг. Он вертит головой очень медленно, совершенно очевидно — ему невероятно больно. Сощурившись, смотрит на доктора.Луис. Доктор Хаббард? Да, я понимаю, где я… в больнице… но почему? Что случилось?
Доктор улыбается, поигрывая курительной трубкой.Доктор Хаббард. Мы так волновались за тебя, Луис. Очень сильное сотрясение мозга. Ты пролежал без сознания почти трое суток. Помнишь аварию? Луис. Аварию? Хм, не помню никакой… Погодите, помню: это вы мне позвонили… сказали, что маму забрали в больницу Маунт-Синай…[54] что вам пришлось оперировать… Боже мой, я помню… рак! У нее рак! Как у папы.
Луис пытается сесть, но из-за приступа острой боли едва не теряет сознание. Доктор Хаббард поддерживает его за плечи и осторожно помогает лечь обратно на подушки.Доктор Хаббард (нарочито веселым тоном). Луис, я ведь просил тебя приехать в больницу, я не просил тебя сюда ложиться. Ты помнишь, как произошла авария?
Луис лежит с закрытыми глазами, пытается справиться с приступом боли. Наконец качает головой, он не может вспомнить.Я сообщил тебе о матери. Ты помчался сюда как сумасшедший. По всей видимости, на шоссе машина попала в полосу гололеда. Полицейский сообщил, что она перевернулась четыре или пять раз. Луис, ты так неосторожен. Во всяком случае, с тех пор как…
Доктор Хаббард вынимает изо рта трубку, хмурится, видя, что там нет табака, и качает головой.Луис (хриплым голосом). Кто-нибудь еще пострадал? Доктор Хаббард. Нет… кроме тебя, никто не пострадал. А тебе, мой мальчик, просто повезло. Затронута левая лобная доля мозга. В общем, все могло быть гораздо серьезнее. Можно сказать, ты легко отделался: неделю-две голова поболит, возможно, в глазах будет немного двоиться.
Луис открывает глаза и пристально смотрит на доктора. Совершенно очевидно: собственное состояние мало его беспокоит.Луис. Доктор Хаббард, как мама? По телефону вы сказали, что ее придется немедленно оперировать. Операция уже была? Опухоль вырезали? Или… или как у папы. Слишком поздно?
Доктор Хаббард снова вынимает изо рта трубку, вертит ее в руках, не глядя на Луиса.Доктор Хаббард. Дурная привычка. Бросил курить год назад, но все еще ношу трубку с собой, никак не могу без нее.
Луис садится, превозмогая боль, хватает доктора за халат и притягивает поближе к постели.Луис. Скажите же, черт возьми! Как мама? Насколько это серьезно? С ней все будет в порядке? Доктор Хаббард. Луис, я знаю вашу семью уже много лет. Я лечил твоего отца, ты тогда был еще ребенком. Он так долго боролся…
Доктор Хаббард смотрит Луису в глаза. Теперь он совершенно серьезен и говорит отрывисто.Когда я говорил с тобой, еще до операции… до аварии… оставалась надежда, что с помощью хирургического воздействия мы победим рак. Но метастаз распространяется быстрее, чем мы рассчитывали. Теперь… теперь нужно действовать постепенно. Есть разные методы.
Луис поражен, лишился дара речи. Доктор Хаббард стискивает его плечо.Мы попробуем лучевую терапию, Луис. Есть новые лекарства, препараты, помогающие справиться с болью… с той болью, которую она будет испытывать в ближайшие недели. Будем надеяться, что болезнь отступит. Методы лечения постоянно совершенствуются. Луис. Где она, доктор Хаббард? Мама лежит где-то тут? Доктор Хаббард. На этом же этаже, Луис. Палата две тысячи сто девятнадцать. Через пару дней сможешь ее навестить… когда тебе станет лучше. С такой черепно-мозговой травмой нужно быть очень осторожным — возможны неприятные побочные эффекты.
Луис пытается встать с кровати.Луис. Мама!
Доктор Хаббард удерживает его, силой укладывает обратно на подушки.Доктор Хаббард (кричит через плечо). Сестра!
Ему приносят шприц. Доктор проверяет содержимое и вводит успокоительное Луису в капельницу.Ты увидишь маму завтра. А сейчас нужно поспать. Это поможет тебе заснуть.
Камера вновь перемещается на точку зрения Луиса. Мы видим, как силуэт доктора расплывается, свет ламп на потолке становится все ярче.(Говорит как будто издалека.) Луис, сегодня ты ничего не можешь сделать. Отдыхай. Поспи.
Смена кадра
3. Ночь. Больничная палата
Луис просыпается и оглядывает темную палату. Вокруг соседней кровати по периметру задернута штора. Дождь барабанит по оконному стеклу, над постелью горит лампочка ночника, на противоположной стене — длинные тени. Луис со стоном садится, отсоединяет капельницу и спускает ноги с кровати. Его все еще пошатывает.Луис. Мама, прости, что меня не было рядом. Они не пускали меня, не пускали к папе. Я был еще маленьким…
Луис встает и, качаясь, бредет к дальней стене. Держась за нее, движется к двери.Мама, я иду.
Смена кадра
4. Инт. Другая больничная палата. Ночь
Дверь палаты медленно отворяется, и мы видим Луиса в больничной пижаме. Пациент буквально висит на дверной ручке. Видно, что он едва держится на ногах и ему очень больно. Пошатываясь, входит и прислоняется к стене, чтобы не упасть. В палате только одна кровать. Свет не горит, и занавеска вокруг постели почти полностью задернута, но сквозь щель Луис видит голову и плечи матери. Она спит, по всей видимости, находясь под действием сильного снотворного. Луис пораженно смотрит на нее.Луис. Мама! Мама, это я!
Луис делает шаг к кровати и отдергивает занавеску.Господи…
Над его матерью склонилось некое существо. Оно ростом с ребенка, но это не ребенок. Худое белое тело цвета рыбьего брюха, вместо рук — обмотанные жилами и кожей кости. Бледные, очень большие ладони, пальцы в три раза длиннее человеческих. Огромная голова неправильной формы, как у больных брахицефальным синдромом, напоминает фотографии зародышей. В двух сине-черных впадинах глазниц глубоко сидят желтые, похожие на стеклянные шарики глаза, заплывшие слизью, покрытые катарактой. Создание, по всей видимости, слепо, хотя при этом глаза осмысленно бегают туда-сюда. Рта нет, но челюстные кости сильно выдвинуты вперед и образуют нечто вроде обтянутой белой плотью трубки; это длинное конусообразное хрящевое рыльце заканчивается круглым отверстием. В такт дыханию сокращается бледно-розовый сфинктер, и потому кажется, что отверстие пульсирует. Это раковый вампир.Господи боже мой…
Луис, пошатываясь, приближается к монстру, хватается за спинку стула, чтобы не упасть. Отвращение на его лице сменяется ужасом: он наблюдает за тем, как раковый вампир медленно, почти с нежностью, тянет на себя одеяло. Чудовище склоняет голову, омерзительный хоботок теперь всего в нескольких дюймах от груди спящей. Раздается скользящий, скрежещущий звук. В круглом отверстии что-то появляется… что-то серо-зеленое, кольчатое, влажное. Сфинктер сокращается, и оттуда неторопливо выползает пятидюймовый слизняк-опухоль; он свисает с рыльца вампира, раскачиваясь прямо над матерью Луиса.
Затемнение
Конец первого действия
Выход из затемнения
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
5. Инт. Больничная палата. Ночь
Влажный слизняк с тихим шлепком падает на грудь спящей матери Луиса. Мгновение он извивается, а потом быстро вползает внутрь. Прямо в плоть. В его мать.Луис. Стой! О нет… нет.
Луис, пошатываясь, подходит к раздвижному столику, хватает стакан и швыряет его в вампира. Существо поднимает голову, словно почувствовав присутствие Луиса, встает, вытягивает руку с невероятно длинными пальцами, делает шаг и исчезает за кроватью. Быстро и внезапно проваливается в пол, словно его уносит вниз гидравлический подъемник.(Всхлипывая.) Нет… нет… нет… нет…
Луис бросается к материнской кровати, падает, уцепившись за одеяло, сползает на пол, все еще всхлипывая, а потом теряет сознание.
Наплыв
6. Ночь. Больничная палата
Луис просыпается в своей палате. Оглядывается по сторонам, не понимая, где находится. Все еще темно, дождь по-прежнему барабанит по стеклу, на стене — все те же длинные тени. Луис лежит в своей постели, капельница — на месте. Он стонет и дотрагивается до головы.Луис. Боже мой, это… это мне приснилось?
Неожиданно Луис обращает внимание на влажный, причмокивающий звук. От этого звука он и проснулся, мы слышали его все это время. Причмокивания становятся громче. Луис понимает: они доносятся из-за занавески, скрывающей вторую кровать. Когда приходил доктор Хаббард, кровать была пуста.(Шепотом.) Кто здесь?
Причмокивания продолжаются.(Громче.) Кто здесь? Здесь кто-то есть?
Звук не прекращается, наоборот — становится еще громче. Луис наклоняется, тянется вперед, насколько позволяет капельница, поднимает руку и отдергивает занавеску.Ой.
На него поднимает глаза старик, Джек Уинтерс. Это он, причмокивая, пьет из стакана виски через соломинку. Рядом на столике стоит почти пустая бутылка с дешевым пойлом. Лицо Джека освещают ночник и сверкающие за окном молнии — жалкое зрелище: старик бледен, его, по всей видимости, снедает тяжелая болезнь, волос не осталось, только седая жесткая щетина на морщинистых щеках. Он улыбается Луису беззубой улыбкой, продолжая с причмокиванием тянуть виски через трубочку.Господи… Простите… Я не знал, что тут есть кто-то еще. Джек. Да ничего, парень. Я Джек Уинтерс. Давно тут с тобой валяюсь. Дрыхнешь уже три дня кряду. А вчера, когда ты проснулся, я, видать, был внизу, на лучевой терапии.
Луис падает обратно на подушки.Луис. Боже, мне приснился такой ужасный сон!
Джек улыбается беззубым ртом и наливает еще виски.Джек. Хаверсмит, ночная сиделка, злобная такая, не сестра, а просто пес цепной, — она так и сказала, когда тебя пару часов назад принесли обратно. Ты вроде как ходил во сне. Сказала, ты у своей мамы в палате кричал и буянил. У меня двоюродный брат тоже во сне ходил, так они его привязывали, слышь, бельевой веревкой.
Во время этого монолога Луис почти засыпает, но вдруг до него неожиданно доходит смысл сказанного. Он моментально просыпается, садится в постели, наклоняется и хватает Джека за руку.Луис. Что? Что ты сказал про меня и мамину палату?
Джек прячет от него бутылку, как будто Луис хочет ее отнять.Джек. Парень, я только рассказываю, что говорила сестра Хаверсмит, когда тебя сюда приволокли. Она сказала, ты зашел в палату к матери и вырубился или еще чего…
Луис отпускает Джека и падает на подушки.Луис (тихонько, себе под нос). Это был не сон. Я видел…
Джек отодвигается на другую сторону кровати, подальше от Луиса, и снова принимается, причмокивая, пить виски. От спиртного настроение у него улучшается.Джек. Черт тебя дери, парень, ты же везунчик, просто по башке ударило и малость спятил. А ведь на этом этаже почти у всех зверюга… Луис. Зверюга? Рак? Джек. Рак, будь он неладен. Посмотри на меня, парень. Три месяца здесь лежу, они оттяпали все, чего у меня было по две штуки, и кое-что, чего было по одной… столько всего навырезали — оставили лишь то, без чего я никак не протяну. Теперь вот пичкают радиацией и таблетками, от которых все время выворачивает. (Улыбается беззубым ртом.)Так что я сам себе прописал лекарство. Эстер Мей, дочка моя, принесла втихаря. (Поразмыслив, протягивает Луису бутылку.)Не хочешь на ночь тяпнуть? Луис (качает головой и морщится от боли). Нет. Спасибо, мистер… ох… мистер Уинтерс. Джек. Просто Джек. Луис. Джек. Вы говорите, это раковое отделение?
Джек смеется, но смех быстро переходит в хриплый кашель. Он откладывает соломинку и выпивает остатки виски прямо из бутылки. Кашель прекращается.Джек. Не должно быть никакого ракового отделения, но уж что есть, то есть. Обычные пациенты не любят лежать со смертничками — сестра Хаверсмит нас так зовет, когда думает, что не слышим, — вот доктор Хаббард и другие раковые врачи всех здесь и собрали. (Потом тихо, самому себе.) А проклятым ночным тварям до нас так легче добраться…
Джек неуклюже шарит под подушкой и вытаскивает вторую бутылку. Наполняет стакан и берет новую соломинку.Луис. Что?! Что вы сказали? Какие ночные твари?
Джек замирает с соломинкой во рту и подозрительно смотрит на Луиса.Джек. Ничего я такого не говорил. Луис. Говорили. Про ночных тварей. Джек. Ну, когда наклюкался, видел кое-что. Просто глюки, парень. Луис. Никакие это не глюки. Вы на самом деле что-то видели… что-то, чего не должно быть. Не должно существовать на свете.
Похоже, что Джек собирается что-то сказать — открыть, что видел поздно ночью здесь, в раковом отделении, но вместо этого он смотрит на Луиса, отмахивается, словно отгоняя нечистую силу, наклоняется и задергивает занавеску. В комнате как будто стало еще темнее. Причмокивание за занавеской возобновляется.
Смена кадра
7. Инт. День. Больничная палата
Комнату наполняет солнечный свет. На складном столике у стены — ваза со свежими цветами. Джека Уинтерса в палате нет — он на одной из своих процедур, его кровать аккуратно застелена. У постели Луиса сидит доктор Хаббард, вертит в руках трубку и внимательно слушает. Луис меряет шагами комнату. Поверх его пижамы надет халат, но на голове все еще повязки, взгляд у него взволнованный. Он жестикулирует, торопливо и сбивчиво говорит что-то, почти как безумный.Луис. Давайте предположим, что я и правда что-то видел прошлой ночью. Просто предположим, хорошо? Предположим чисто теоретически, что я видел, что мне не померещилось. Мы можем допустить это хотя бы на мгновение? Доктор Хаббард. Хорошо, Луис, допустим. Что ты видел?
Луис на секунду останавливается, обхватывает себя руками, словно от воспоминаний его пробрала холодная дрожь.Луис. Ну, это не был человек, но… Доктор Хаббард. Да-да, ты мне уже несколько раз описывал это существо. Но что оно такое? Допустим, ты его видел, но что это было? Привидение? (Успокаивающе улыбается.)Может, инопланетянин? Инопланетный доктор, который интересуется нашей медициной?
Луис не обращает внимания на сарказм Хаббарда; погруженный в свои мысли, он подходит к окну и смотрит на улицу невидящим взглядом, подставляет лицо солнечным лучам. Потом снова заговаривает.Луис. Я не знаю, что это. Это… это существо принесло с собой слизней, я вам уже говорил. Может, из другого измерения или как-то еще. Может, они постоянно вертятся вокруг нас, живут рядом с нами, но мы их не видим. (С печальным видом дотрагивается до забинтованной головы.) Вернее, видим, но только после сильного сотрясения мозга и вследствие воздействия на определенные сегменты левой лобной доли…
Доктор Хаббард продолжает улыбаться, но он так потрясен абсурдностью рассуждений Луиса, что машинально пытается затянуться пустой трубкой.Доктор Хаббард. Хорошо, Луис, допустим, ты видел не человека. И допустим, только ты можешь их видеть — из-за травмы. Оно напало на твою мать? Луис. Да… нет… Слушайте, оно маму каким-то образом использовало. Доктор Хаббард. Но ты сказал, оно что-то оставило… оставило слизняка. Говорил, оно поместило что-то в тело твоей матери. Так зачем же ему… Луис. (перебивает, снова начиная взволнованно расхаживать по палате, говорит громко и торопливо). Слушайте, я не знаю! Может, это как-то связано с тем, что у мамы рак. Может, они откладывают слизняков, а те растут внутри людей. Может, то, что мы принимаем за опухоли, на самом деле яйца… яйца этих… Мы для них как инкубатор. Или, может, слизняки внутри размножаются — это ведь похоже на рак, правда, доктор? — а потом эти существа возвращаются и собирают слизней, кормятся. Как вампиры… (Останавливается, пораженный догадкой.) Господи, конечно… это раковые вампиры!
Доктор Хаббард кивает, притворяется, что слушает внимательно — только бы Луис успокоился. Луис останавливается и взмахивает руками, словно обращаясь к суду присяжных.(Взволнованно.) Послушайте, доктор, все сходится! Ну, назовите мне какого-нибудь знаменитого человека, который умер от рака лет сто назад. Давайте. Доктор Хаббард. Не понимаю. Луис. Смотрите, эпидемия рака — это как вторжение. Вторжение раковых вампиров. Совсем недавно началось. Назовите хоть кого-нибудь, кто умер от рака сто лет назад. Доктор Хаббард. Луис, прямо сейчас я не могу никого припомнить. Но наверняка многие… Луис. Вот именно! Смотрите, сегодня мы привыкли, что люди умирают от рака. Каждый шестой. Возможно, каждый четвертый. Эти существа, наверное, повсюду, используют нас. Выращивают в нас своих слизней. Каждый знает кого-нибудь, кто умер от рака. Возьмите мою семью. Сначала папа, еще тогда, много лет назад. Теперь мама. Эти чудовища, видимо, повсюду… кормятся, а мы просто их не видим! Доктор Хаббард. Хорошо, хорошо. Но эту, назовем ее так, эпидемию рака можно объяснить и без твоих… хм… раковых вампиров. В современном мире существует множество канцерогенов… Луис. (смеясь почти истерически). Ах да, канцерогены! Я тоже в это верил. Почитаешь официальный список канцерогенов — так они во всем: во всем, что мы едим, чем дышим, что надеваем… Да ну! Вы, доктора, хотите, чтобы все поверили в «канцерогены», а сами даже не знаете, почему появляется опухоль. Доктор Хаббард (сердится, но старается этого не показывать). А ты знаешь? Луис. Да. Из-за раковых вампиров!
С торжествующим видом Луис усаживается на край кровати, он выглядит усталым. Доктор Хаббард вынимает изо рта трубку, наклоняется и берет Луиса за плечи.Доктор Хаббард. Хорошо, Луис, я слушал тебя достаточно. Теперь ты меня выслушай, ладно?
Луис кивает. Он совершенно измотан.Я думаю, ты очень беспокоишься о матери и очень подавлен тем, что у нее рак. А еще у тебя большая субдуральная гематома, которая вызывает галлюцинации. Переживания за мать влияют на характер этих галлюцинаций. (Замолкает, но потом решительно продолжает.) Сказать по правде, Луис, ты сильно изменился после смерти отца. Ты был таким счастливым мальчиком, общительным, открытым, а в последние годы стал замкнутым, мрачным, у тебя постоянно меняется настроение — ты ведешь себя безрассудно, а иногда вообще похож на параноика. (Устало.) Я знаю, тебе хотелось бы видеть что-то… что-то осязаемое, что-то, с чем можно бороться, а не слышать постоянно про какие-то неведомые пораженные клетки. Но, Луис, это галлюцинация, расстройство зрения, и чем скорее ты это поймешь, тем скорее поправишься, а тебе нужно поправиться, чтобы помочь выздороветь твоей матери.
Луис потрясенно смотрит на доктора, с усилием кивает.(Раскрасневшись, снова засовывает в рот трубку, чтобы успокоиться.) Хорошо. Мистера Уинтерса в эту самую минуту готовят к лучевой терапии. Через несколько дней это предстоит и твоей маме. Хочешь посмотреть?
Луис снова кивает. Он все еще смотрит на доктора.Отлично. Постарайся вести себя разумно. Забудь весь этот бред про раковых вампиров. (Улыбается.) Ты можешь расстроить мистера Уинтерса и других пациентов.
Луис снова кивает.Превосходно. Тогда я пойду посмотрю, готов ли он к процедуре. Потом пришлю за тобой кого-нибудь из санитаров. (Замечает, что во рту у него трубка, вынимает ее и улыбается.) Ну как, Луис, тебе получше?
Луис в последний раз кивает. Мы видим сверхкрупный план лица доктора Хаббарда с точки зрения Луиса: рот приоткрыт, обнажены белые зубы, крепкие здоровые десны и кончик языка. Из-под языка появляются сначала мясистые рожки-антенны, а потом и весь серо-зеленый слизняк-опухоль. Он выглядывает наружу и затем прячется обратно.
Затемнение
Конец второго действия
Выход из затемнения
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
8. Инт. Кабинет лучевой терапии и пульт управления. День
Луиса привезли в кабинет на кресле-каталке, он встает и вглядывается через толстое смотровое окошко. На кушетке лежит Джек Уинтерс, над ним нависает массивная терапевтическая установка с радиоактивным кобальтом. Джек выглядит маленьким, слабым и очень уязвимым — он частично прикрыт свинцовыми «передниками», верхняя половина тела обнажена, на груди яркой краской нарисован крест (туда направят мощные рентгеновские лучи). Джек часто дышит, его впалая грудь поднимается и опадает. В просторном кабинете белые приборы, черно-белая плитка, черные тени. Единственное цветное пятно — Джек. Луис и доктор Хаббард становятся рядом с пультом управления. Над многочисленными переключателями склонился радиолог.Доктор Хаббард. Это предпоследний сеанс терапии мистера Уинтерса. Опухоль хорошо поддается лечению. (Торопливо оглядывается на Луиса.) Со времени, когда заболел твой отец, лучевая терапия и химиотерапия шагнули далеко вперед.
Радиолог нажимает на кнопки и смотрит на мониторы, машина, нависшая над Джеком, начинает гудеть, двигается, нацеливает свой «глаз» на крест, нарисованный на груди старика. Из агрегата вырывается луч света и падает на Уинтерса.Луис (прокашливается, явно впечатленный и немного напуганный). Какая доза нужна, чтобы победить рак? Доктор Хаббард. Мы рассчитываем, что семи тысяч рад будет достаточно, чтобы справиться с этой опухолью. Луис (отворачиваясь от окошка). Семь тысяч рад? Наверное, это много. А рад — это сколько? Доктор Хаббард. Ну, чтобы тебе было понятнее, обычный снимок — к примеру, тот, что тебе делали после аварии, — это около пяти миллибэр, а это, в свою очередь, пять тысячных рада. Луис. Боже мой… семь тысяч рад… это же в миллион раз больше. (Снова смотрит через окошко на Уинтерса.) Как он такое выдерживает? Доктор Хаббард. Мы облучаем маленькими дозами. Даже единовременную дозу всего в семьсот рад выдержал бы далеко не каждый. Так что мы делаем все потихоньку, понемногу за раз, и все равно есть побочные эффекты. (Быстро меняет тему, чтобы Луис увидел и положительные стороны.)Луис, лучевая терапия — опробованный метод. Он работает, это научно доказано. Луис (задумчиво, все еще глядя на Джека). С мамой будет так же? Доктор Хаббард. Смотря как она будет поправляться после операции, что покажет биопсия. Да, так же. (Кивает радиологу.)Мы готовы.
Радиолог включает рубильник. Луис поражен: сиреневый свет льется через окошко и падает ему на лицо.Луис. Я вижу! Доктор Хаббард. Радиацию на самом деле увидеть нельзя.
Но ее можно увидеть. По крайней мере, Луис ее видит, и мы вместе с ним: кабинет наполняется сиреневым мерцанием, линза рентгеновской установки сияет ярче всего, лучи переливаются, преломляются, падают на Джека. Кроме Луиса, никто ничего не замечает. Камера делает наезд на изумленное лицо Луиса, на котором играют сиреневые отблески, внезапно его выражение меняется — он видит, как слизни-опухоли начинают выползать из груди Джека.Луис. Смотрите! Они… (Замолкает, чтобы не выдать себя доктору Хаббарду.) Доктор Хаббард. Что, Луис? Луис (старательно изображая улыбку). Ничего. Ничего, доктор.
Из груди Уинтерса вылезают слизняки, их притягивает яркий свет рентгеновской установки. Первый, второй, третий… Некоторые показываются только наполовину, другие вылезают полностью — как будто не могут устоять перед сиянием. Радиолог выключает рубильник. Гудение прекращается, постепенно гаснет сиреневый свет. Те слизняки, что вылезли целиком, сморщиваются и умирают, оставшиеся заползают обратно.(Будучи не в силах сдерживаться.) Надо дольше. Слишком мало! Доктор Хаббард (проверяет датчики). Двадцать восемь целых и шесть десятых секунды. Для этого сеанса вполне достаточно.
Луис принимается объяснять, но доктор Хаббард смотрит на него очень внимательно, и тот замолкает, продолжая что-то лихорадочно обдумывать.Луис. Что… что служит источником радиации? Радиолог. В этой машине — радиоизотопы кобальта-шестьдесят. Луис. А можно посмотреть?
Радиолог оглядывается на доктора Хаббарда, тот кивает. Он все еще надеется убедить своего молодого пациента. Радиолог подходит к вмонтированному в стену сейфу и быстро набирает код. Луис очень внимательно наблюдает за ним, и мы тоже успеваем увидеть комбинацию: семнадцать — направо, сорок три — налево, одиннадцать — направо. Радиолог натягивает нарочито большие, толстые перчатки, открывает дверцу и достает тяжелый свинцовый контейнер. На продолговатом цилиндре — знак радиационной опасности.Это изотопы? Доктор Хаббард. Это специальные свинцовые контейнеры. Сами изотопы намного меньше, они очень опасны. Одного хватает, чтобы установка работала много часов. Каждый изотоп без оболочки излучает порядка нескольких тысяч рад. Единовременно. Луис. А как их помещают в установку? Доктор Хаббард. Очень-очень бережно. С помощью особых манипуляторов. Все надевают свинцовые передники, ставится заграждение. Непростая процедура. Ну что, доволен демонстрацией? (Кивает радиологу, и тот возвращает контейнер в сейф.)
Луис смотрит на Джека, тот поворачивается к окошку и улыбается. Старик дрожит от холода. На его обнаженной груди лежит почерневший мертвый слизень.Луис (самому себе). Да, вполне доволен.
Смена кадра
9. Инт. Ночь. Палата Луиса
Луис внезапно просыпается. Темно. Откуда-то из коридора доносится шарканье резиновых подошв по линолеуму, где-то тихо бьют часы. Но Луиса разбудило что-то другое. Из-за занавески вокруг кровати Джека слышится причмокивание… намного громче, чем прошлой ночью.Луис (сонно). Джек?
Луис отдергивает занавеску. Джек мертв. Он лежит с разинутым ртом, согнутые пальцы напоминают когти, глаза широко раскрыты и смотрят в пустоту. По его телу ползают слизни-опухоли, это они издают те причмокивающие звуки. Видно, как они копошатся под пижамой, некоторые даже показываются из-под нее. Над телом склонился раковый вампир, опустил голову, погрузил хоботок прямо в грудь Джека, словно какой-то чудовищный комар. Причмокивание становится громче.Ах…
Вампир поднимает голову. С длинного рыльца свисают слизни, один заползает в круглое отверстие, издавая при этом скрежещущий звук. Вампир смотрит прямо на Луиса, близоруко прищурив заплывшие желтые глазки.Ы-ы-ы…
Луис шарит рукой по подносу, оставшемуся после ужина, нащупывает нож и со всей силы швыряет его. Нож вонзается вампиру в грудь с неприятным мягким звуком и медленно погружается в бледную мясистую плоть, как будто его уронили в лужу с патокой. Своими длинными пальцами монстр спокойно вытаскивает нож и отбрасывает в сторону. Лезвие не причинило ему вреда. Он протягивает к Луису руку.Нет… ы-ы-ы…
Луис встает с кровати и пятится, сбивает капельницу, смахивает на пол складной столик. Падает ваза с цветами. Прижавшись к стене, юноша идет к двери, стараясь держаться от вампира как можно дальше. Камера делает наезд: слепые желтые глаза, чудовище медленно поворачивает голову. Из коридора доносится звук удаляющихся шагов Луиса.
Смена кадра
10. Инт. Ночь. Кабинет лучевой терапии
В темный кабинет вваливается Луис и на секунду останавливается в дверях, пытаясь отдышаться. Его никто не преследует. Он оглядывается по сторонам и включает тусклую лампочку над пультом. В отгороженной части кабинета, где раньше лежал Джек, свет не горит. Луис лихорадочно крутит головой, видит сейф со значком радиационной опасности и делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. Он знает, как нужно действовать. Луис возится с кодом. Сверхкрупный план: семнадцать — направо, сорок три — налево, одиннадцать — направо. Распахивается дверца сейфа, Луис отступает назад, пораженный тем, как легко у него все получилось. Внутри лежат похожие на бомбы свинцовые цилиндры. Луис бросает взгляд через плечо, осматривается, находит тяжелые перчатки. Надевает их, вынимает контейнеры и аккуратно раскладывает на столе.
Наплыв
11. Инт. Ночь. Кабинет лучевой терапии
Луис сидит на корточках возле стола. Мы видим только его голову и плечи. Перед ним — свинцовые контейнеры. Все остальное тонет во тьме. На руках Луиса — толстые перчатки. Он возится с замком первого цилиндра.Луис. Черт.
Он стягивает перчатки, без усилия ломает пломбу, щелкает замком и снимает крышку. Его лицо озаряется ярким сиреневым светом. Луис вытряхивает изотоп на ладонь, свет усиливается. Крошечная крупинка кобальта нестерпимо сияет. Он поднимает ее обеими руками.(Шепотом.) Должен быть какой-то другой способ. (Устало.) Но я его не знаю.
Луис вздыхает и трясущимися руками поднимает изотоп еще выше. Он как будто совершает некий обряд, собирается принять причастие. Едва не подавившись, он глотает изотоп кобальта-60.О боже…
Он открывает еще один контейнер, поднимает изотоп. Свет в комнате постепенно меркнет.
Наплыв
12. Инт. Ночь. Палата матери Луиса
Крупный план матери Луиса: голова на подушке, женщина стонет, беспокойно ворочается, возможно, на грани пробуждения от сна, вызванного седативным препаратом. Камера показывает ее плечо, руку, ладонь. Неожиданно в кадре появляется что-то большое, громоздкое и неуклюже берет ее за руку. Это Луис, он снова в тяжелых защитных перчатках. Камера отъезжает, мы видим сидящего возле кровати Луиса. В комнате темно. За окном неслышно вспыхивают молнии.Луис (очень тихо). Помню, когда я был маленьким… наверное, сразу после папиной смерти… проснулся ночью, а за окном — гроза, прямо как сейчас. Ты сидела рядом со мной, как будто защищала от грозы.
Комнату освещает молния. Луис быстро оглядывается. Вампира нигде нет.Я притворился, что сплю, но мне хотелось сказать тебе: «Никого нельзя защитить». Ни от грозы, ни от смерти. (Устало.) Хотелось сказать, что нам остается только бежать, бежать от тех, кого мы больше всего любим, и тогда, если не сможешь их защитить, не будет так больно.
Он стискивает руку матери.Мам, наверное, я больше не буду убегать. (Снова оглядывается.) Я видел, видел этих… раковых вампиров. Они почти в каждой палате на этом этаже. (Содрогается.) Везде в темных палатах белеют размытые пятна. Это они. Они ждут. Люди для них — пища. (Глубоко вздыхает.) Пора. Мама, пора проверить, получится ли у меня.
Луис снимает одну перчатку. Рука сияет сиреневым светом. Он снимает вторую перчатку. Его кисти отбрасывают на стены причудливые отблески и тени. Луис поднимает обе руки и смотрит на них.Мама, больно не будет.
Он проводит сияющей ладонью в дюйме от ее горла, ждет. Кожа слегка вздувается, на поверхность к свету вылезает первый слизень. Луис морщится, но руку не убирает. Паразит шевелит влажными антеннами-рожками и заползает в его ладонь. За ним — второй, третий. Луис продолжает держать руку над спящей матерью, но слизняков больше нет.(Задыхаясь, на грани обморока.) Думаю, это все.
Он поднимает руку, и мы видим, как вздуваетсясияющая сиреневая кожа предплечья, под которой копошатся слизни. Луис отодвигается от постели, опускает голову почти к самым коленям, прижимает руку к груди.Ну вот. Мама, а теперь… теперь мы подождем.
Беззвучно сверкают молнии за окном. Наверху, позади Луиса, из стены появляются голова и плечи ракового вампира. Он похож на новорожденного хищника, который выбирается из амниотического мешка. Луис ничего не видит. Существо неслышно вытягивает руки, невероятно длинными пальцами хватается за стену и вытаскивает себя в комнату, как пловец, вылезающий из бассейна. Словно ящерица, вампир соскальзывает со стены и исчезает за сгорбившимся на стуле Луисом. Спящая женщина стонет, юноша встает, поворачивается и ударом ноги отшвыривает от себя стул.(Вампиру, дрожащим голосом.) Эй! Сюда… я здесь… черт бы тебя побрал.
Вампир склонился над матерью Луиса, но вот он поднимает голову, тянется длинными пальцами и хоботком к светящемуся человеку.Сюда… еда… правильно, еда.
Луис вскидывает руки, и его жест опять напоминает какой-то обряд или ритуал. Вампир неслышно скользит к нему, наклонив жуткую голову, тянется к раскинутым сияющим рукам.Хорошо… возьми… ешь.
Хоботок погружается прямо в протянутую ладонь Луиса. В его предплечьях под кожей копошатся слизни. Доносится причмокивание. Вампир закончил трапезу, внезапно он запрокидывает голову и начинает содрогаться.(Торжествующе, шепотом.) Сегодня ты, о смерть, сама умрешь.[55]
Вампир бьется в конвульсиях. Сиреневый свет становится все ярче. Слышен шипящий звук, как будто кислота прожигает лист плотной бумаги. Вампир падает, сворачивается в клубок, сморщивается. По-прежнему раздается шипение. Длинные пальцы медленно сжимаются, как лапки раздавленного паука. Луис, шатаясь, подходит к кровати, оседает на край и надевает перчатки.Мама, я бы так хотел остаться. Может, доктор Хаббард смог бы мне помочь. Я хотел бы быть рядом с тобой, когда он скажет, что опухоль исчезла.
Крупный план лица матери: теперь она спит спокойно. Луис снова берет ее за руку, неуклюже похлопывая по ладони тяжелой перчаткой.Я бы так хотел остаться, но я не могу, внутри все горит. Так горячо. (Хватается за живот, сгибается пополам, а потом снова распрямляется.) Тут столько людей, мама… и столько этих… они ждут. (Оглядывается на дверь.) Мне страшно. Но теперь я, по крайней мере, знаю, что должен делать.
Сверхкрупный план: рука матери дергается. Возможно, это просто случайность, а может быть, она отвечает на его движение. Луис встает и смотрит в темный коридор.(Шепотом.) Надеюсь, что смогу накормить их всех.
Луис в последний раз прикасается к руке матери и идет к двери. На пороге он оборачивается.Мама, я люблю тебя.
Он выходит в коридор и исчезает в темноте. Камера с низкой точки показывает кровать со спящей на ней женщиной и дверь. Мы слышим удаляющиеся шаги. На мгновение наступает тишина, потом раздаются причмокивание и скрежет, которые становятся все громче, сливаются в единый хор. Но одновременно с этими звуками появляется несущий надежду теплый сиреневый свет, он разгорается все ярче, сначала в коридоре, потом заполняет дверной проем, всю палату, и мы…
Затемнение
Электронный билет во Вьетнамленд
~ ~ ~
Я родился в 1948 году. В 1960-м президентом США стал Джон Кеннеди. К моменту его избрания Вторая мировая война уже казалась далекой, седой древностью, и думаю, не только мне одному (для двенадцатилетнего мальчишки любая история — седая древность), но и почти всем американцам. Ветераны вернулись домой, и, хотя многие из них получили психологические травмы, большинство постарались так или иначе выбросить прошлое из головы: одни, воспользовавшись законом о переходе военнослужащих на гражданское положение, поступали в университет, другие заводили семьи, обустраивали дома, начинали все с чистого листа. За годы войны многие из поколения моих родителей сильно изменились, но в основном это были перемены к лучшему. Мужчины закалились в странствиях и сражениях, стали более зрелыми; женщины обрели уверенность, работа для нужд фронта расширила их жизненные горизонты. Вся Америка стала другой: мы больше не были обособленной деревенской нацией, которая никак не может оправиться от Депрессии. Я родился в величайшей державе мира. У нас было все — атомная бомба, экономическое благополучие, светлое будущее и молодой президент с политикой «Новых рубежей». Вторая мировая война казалась седой древностью. С нашей победы над диктаторами минуло пятнадцать лет, и всеобщий оптимизм не смогла пошатнуть даже жуткая генеральная репетиция в Корее[56]. Это была не настоящая война, настоящая война давным-давно закончилась. Сегодня, когда я пишу это вступление, минуло уже пятнадцать лет с тех пор, как последние американцы покинули Вьетнам. Семнадцать лет — с того момента, как мы вывели оттуда войска. Двадцать лет (а это одна пятая века) — со времени самых горячих боев. А мне кажется, мы только теперь наконец начинаем потихоньку успокаиваться, примиряться с тем, что тогда произошло. Вероятно, кто-то уже предлагал подобную аналогию (и вполне возможно, сейчас это стало клише), но я думаю, реакцию американцев на страшные события во Вьетнаме вполне можно сравнить с давно описанными стадиями психологической реакции человека на смерть близкого. Достаточно вспомнить фильмы на эту тему, снятые за последние двадцать лет. Сперва отрицание: никаких фильмов о войне. Ничего. Потом, в конце семидесятых, — злость: очистительное «Возвращение домой» Хэла Эшби, фильм-переосмысление, где ветераны изображаются либо антивоенными мучениками, либо психами; следом — многочисленные ревизионистские фантазии, начало которым положил «Рэмбо». Следующая стадия — депрессия. Единственный по-настоящему выдающийся фильм, относящийся к этой стадии, — вышедший в 1979 году «Апокалипсис сегодня». Но Коппола опередил события, забежал вперед в процессе нашего выздоровления, и потому его картина не получила должного признания. Вот если бы режиссер дождался, пока мы переболеем всевозможными «Рэмбо», тогда его работу приняли бы совсем по-другому. И наконец, стадия принятия, наступившая во второй половине восьмидесятых: «Взвод» Оливера Стоуна, «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика, «Военные потери» Брайана Де Пальмы и другие посттравматические фильмы. Какую бы вокруг них ни поднимали шумиху, следует признать: им уже недостает содержательности и философичности. Но что там несомненно присутствует, так это ужасающе правдивая фактура: почти уловимый запах пота и пахового грибка; на удивление достоверный язык; едва ли не физически ощутимые усталость и клаустрофобия, которые одолевают бредущий по джунглям отряд; от актеров на экране исходит настоящий, неподдельный ужас, он передается зрителям, растекается по залу, как вонь от лежалого трупа. Прошло двадцать лет, новому поколению тема войны уже порядком приелась, простая каждодневная жизнь поменялась так, что мы до сих пор не можем в это поверить. И все же мне кажется, только теперь мы наконец по-настоящему прочувствовали, пусть даже и не поняли до конца, истинный масштаб жуткой национальной катастрофы под названием Вьетнам. Но некоторые из нас еще находятся в самом начале этого пути.~ ~ ~
Ровно в трех метрах над летным полем стройной колонной шли двадцать восемь боевых «хьюи». Оглушительный грохот винтов заполнял пространство, отдаваясь в зубах, в костях, в паху. Над лесом машины набрали высоту и разделились, образовав четыре ступенчатых клина. Шум слегка поутих, и теперь его можно было перекричать. — Первый раз? — завопил экскурсовод. — Что? Через открытую боковую дверь Джастин Джефрис наблюдал, как тень вертолета скользит по зеркальной поверхности заливных рисовых полей. Чтобы хоть что-то расслышать, ему пришлось наклониться к гиду близко-близко, и они едва не столкнулись шлемами. — Я спрашиваю — первый раз здесь? Гид был очень маленьким, слишком маленьким даже для вьетнамца, и все время широко ухмылялся. На его форме пестрела черно-желтая нашивка американского Первого отряда.[57] Джастин Джефрис был очень дородным, слишком дородным даже для американца. Зеленые шорты, цветастая гавайка, спортивные сандалии от «Найк», дорогой комлог фирмы «Ролекс», армейский шлем, вышедший из употребления приблизительно тогда, когда сам Джастин появился на свет. Увешанный камерами, Джефрис (компактная однолинзовая «Яшика», «Полароид холистик-360» и новенький «Никон») тоже широко улыбнулся. — В первый раз. Приехали с тестем. Хизер присоединилась к разговору, для чего ей тоже пришлось наклониться поближе: — Папа служил здесь, когда… ну, знаете, когда была война. Врачи сказали, тур «Ветераны» пойдет ему на пользу. И она кивком указала на седого приземистого старика, который сидел совсем рядом с дверью и страховочной сетью, прислонившись к пулеметной установке. Он был единственным человеком в кабине вертолета, на ком отсутствовал шлем. По синей рубашке на его спине расползалось пятно пота. — Да-да, — улыбнулся экскурсовод и подсоединил микрофон к небольшому разъему в железной перегородке. В каждый шлем были вмонтированы маленькие колонки, и теперь его голос доносился до всех, словно из консервной банки. — Дамы и господа, пожалуйста, обратите внимание вон на те деревья справа. Пассажиры переместились в указанном направлении, и вертолет слегка накренился. Десятилетний Сэмми Джефрис и его восьмилетняя сестра Элизабет протолкались поближе к дедушке. Девочка случайно царапнула дулом пластмассовой винтовки М-16 по обгоревшей на солнце шее старика, но тот ничего не сказал, даже головы не повернул. Неожиданно на краю рисового поля, среди деревьев, что-то полыхнуло. Оттуда поднялся пламенеющий шквал трассирующих пуль, которые просвистели всего в нескольких метрах от вертолетного винта. Пассажиры разом выдохнули. В ту же минуту одна из машин отделилась от клина, нырнула вниз, выписала великолепную дугу и расстреляла рощицу из мини-пушки, добавив несколько ракет. Гид подтолкнул Сэмми к небольшому лафету. Мальчик ухватился обеими руками за рукоять тяжелого пулемета М-60, с трудом развернул его в направлении удалявшихся деревьев и открыл огонь. Пассажиры вскинули руки к шлемам, инстинктивно пытаясь прикрыть уши. На металлический пол посыпались тяжелые гильзы, горячие, но не настолько, чтобы кто-то о них обжегся. Рощица взорвалась, в воздух метров на пятьдесят взметнулись сияющие огненные полотнища, вспыхнуло несколько пальм. Горящие обломки падали на залитое водой рисовое поле. Все смеялись и аплодировали. Сэмми радостно улыбался и, согнув руку в локте, демонстрировал бицепсы. Элизабет наклонилась к деду и прокричала ему в ухо: — Дедушка, смотри, как весело! Старик не успел ответить — экскурсовод объявил, что они подлетают к месту назначения и скоро его можно будет увидеть по левому борту. Девочка кинулась к двери, нетерпеливо отталкивая брата, чтобы лучше разглядеть в мареве и дыму приближавшуюся деревню.Вечером того же дня на террасе пятого этажа сайгонского отеля «Оберой-Шератон»[58] собрались пятеро мужчин. На четвертом этаже располагался бассейн, и оттуда то и дело доносился смех и слышались всплески. Было почти десять, но теплые, влажные тропические сумерки все не спешили заканчиваться. — Вы ведь были сегодня утром на боевом экскурсионном вылете в деревню? — спросил Джастин Джефрис у соседа по столику. — Да, был. Весьма интересно. Молодой мужчина, азиат, держался спокойно и небрежно, но что-то выдавало в нем военного — возможно, выправка, или безупречно отутюженный костюм-сафари, или пристальный взгляд. — Вы японец? — Сосед с улыбкой кивнул, и Джастин продолжил расспросы: — Так я и подумал. А здесь выполняете какое-то военное задание? — Нет, просто отпуск. Как у вас говорят, отдыхаю и набираюсь сил. — Господи, — вмешался тучный американец, сидевший рядом с тестем Джефриса, — вы же наверняка были на севере, в Китае, и сражались с генералами Чана? — Именно так, — согласился японец и протянул Джастину руку. — Позвольте представиться: лейтенант Кейго Нагучи. — Джастин Джефрис из Канзас-Сити. — Ручища Джастина стиснула ладонь лейтенанта. — А это мой тесть Ральф Дисантис. — Очень приятно, — коротко кивнул японец. — Рад знакомству, — отозвался старик. — Я, по-моему, видел вас сегодня в деревне, — продолжал Нагучи, — вместе с внуками, правильно? Дисантис кивнул и глотнул пива. Джастин махнул рукой в сторону толстяка. — А это мистер… Сирс, правильно? — Сэйерс, Роджер Сэйерс. Рад знакомству, лейтенант. Как там идут дела? Вы уже выкурили этих мерзавцев из пещер? — Дела идут замечательно. К началу сезона дождей ситуация должна стабилизироваться. — Мозги японские, а кровь вьетнамская, я прав? — засмеялся Сэйерс и, повернувшись к пятому мужчине за столом, молчаливому вьетнамцу в белой рубашке и темных очках, торопливо добавил: — Без обид. Всем известно, что из вьетнамских крестьян получается лучшая в мире пехота. Сорок лет назад вы нам это продемонстрировали, ммм… мистер? — Мин. — Маленький вьетнамец пожал присутствующим руки. — Нгуен Ван Мин. На его лице почти не было морщин, и волосы совсем не поседели, но ладони и глаза выдавали возраст — никак не меньше шестидесяти, ровесник Дисантиса. — Я вас видел в самолете, на денверском рейсе, — вспомнил Джастин. — Навещали родных? — Нет, с семьдесят шестого года я гражданин Америки. Это мой первый визит на родину, но родственников здесь у меня не осталось. — Мин повернулся к Нагучи. — Лейтенант, я удивлен, что вы решили посвятить отпуск развлекательному туру «Американские ветераны». Японец пожал плечами и отпил немного джин-тоника. — Тут можно много занимательного увидеть — совсем непохоже на современные методы, — пояснил он. — Там, на севере, я скорее техник, а не солдат. К тому же любому, кто увлекается военной историей, интересно узнать, как проходили первые войны с применением вертолетов. Мистер Дисантис, вы тогда воевали? Старик кивнул и снова отхлебнул пива. — А я не успел. — В голосе Сэйерса звучало сожаление. — Для Вьетнама был слишком молод, а для Банановых войн слишком стар, черт подери. — Ну, вы не очень-то много упустили, — фыркнул Джастин. — А вы служили в это время? — уточнил Нагучи. — Конечно, все, кому в эпоху скидок стукнуло двадцать один, попали на Банановые войны. Если здешние рисовые поля заменить на кофейные плантации — получится точь-в-точь гондурасская Тегусигальпа или гватемальская Эстансуэла. — Расскажите. — Сэйерс сделал знак официанту. — Всем еще по одной. Где-то около бассейна ударили в барабаны музыканты, без особого успеха пытаясь соединить американские шлягеры, карибские мотивы и местные мелодии. Звук вяло растекался в плотном, влажном воздухе. Наконец наступила ночь, в жаркой тропической дымке даже звезды, казалось, светили тусклее обычного. Нагучи взглянул на яркое созвездие возле зенита, а потом на собственный комлог. — Проверяете азимут по локатору? — поинтересовался Джастин. — Я тоже от этой привычки никак отвязаться не могу. — Извините, джентльмены, что не останусь выпить с вами еще по одной. — Дисантис поднялся с места. — Сказывается разница во времени. Мне нужно хорошенько выспаться. И он удалился с террасы в ярко освещенный холл отеля, откуда веяло прохладой кондиционера.
Перед сном Дисантис заглянул в номер к Хизер и детям. Дочь уже улеглась, а Сэмми и Элизабет скармливали терминалу фотографии с отцовского «Никона». Изображения тут же выводились на широкий настенный экран. Ральф прислонился к дверному косяку и молча наблюдал за внуками. — Это ЗВ! — взволнованно выкрикнул Сэмми. — А что такое ЗВ? — спросила сестра. — Зона высадки, — огрызнулся тот. — Ты вообще хоть что-нибудь запомнила? На стене мелькали картинки: пыль, вертолетные винты, хищные тени «хьюи» на фоне неба, туристы и туристки в форме защитного цвета одной рукой придерживают шлем, другой — болтающийся на груди фотоаппарат, сумочку или пластмассовую М-16. Вот они пригибаются к земле, хотя винты и так достаточно высоко; вот перебегают группками вдоль рисового поля. — Смотри, это дедушка! — крикнула Элизабет. Дисантис увидел себя: обрюзгший старик отказывается от помощи гида и, тяжело пыхтя, сам вылезает из вертолета. Сэмми пощелкал клавишами на терминале: картинка увеличилась, зернистое лицо Ральфа расплылось на весь экран. Мальчик переключал цвета и растягивал изображение, пока голова деда не превратилась в багряно-лиловый воздушный шар, готовый вот-вот лопнуть. — Прекрати, — захныкала Элизабет. — Плакса, — поддразнил брат. Тут он неким шестым чувством ощутил на спине чей-то взгляд, обернулся и увидел в дверях деда. Мальчик ничего не сказал, но фотографию с экрана убрал и перешел к следующим снимкам. Ральф, моргая, смотрел на резко сменявшие друг друга кадры: заброшенная деревня, по обеим сторонам узкой дороги — отряды туристов; крупные планы: они обыскивают убогие хижины, Хизер появляется в низком дверном проеме лачуги, щурится на солнце, неловко поднимает игрушечную М-16 и машет фотокамере. — Вот тут начинается интересное, — выдохнул Сэмми. Они как раз возвращались к зоне высадки, как вдруг из канавы вдоль дальнего рисового поля по ним открыли огонь. Сначала туристы замешкались и засуетились, но в конце концов, побуждаемые гидом, со смехом залегли в траву. Джастин остался стоять, он тщательно снимал все происходящее. Изображения появлялись на стене чуть медленнее, чем бывает при обычном просмотре видео. Справа на экране вспыхивали столбики цифр и данных. Вот сам Дисантис падает на одно колено, хватает за руку Элизабет. Он тогда еще обратил внимание, что трава искусственная. Туристы открыли ответный огонь. Отдача, вспышки пламени — все как у настоящих винтовок, только пули из игрушечных М-16 не вылетали. А еще стоял ужасный грохот — какой-то двухлетний малыш рядом с Джастином даже расплакался. Наконец одна молодая супружеская пара с помощью экскурсовода вызвала по рации подкрепление. Буквально через минуту в небе появились три палубных штурмовика «Дуглас А-4 Скайхоук». Крылья самолетов украшали старомодные эмблемы американской военно-морской пехоты, ярко выделявшиеся на белом фоне. Оглушительно ревели двигатели, истребители снизились почти до полутора сотен метров. Загремели взрывы, и камера в руках Джастина задергалась. На рисовые поля ложились отсветы пламени, туристы, хотя и были почти в полукилометре от места бомбежки, испуганно вжались в землю. Джастин сумел как-то выровнять фотоаппарат. Вовсю полыхал напалм. — Гляди. Сэмми выбрал и увеличил один кадр. На фоне яркого оранжевого пламени стали видны крошечные черные силуэты людей. Мальчик укрупнил изображение еще немного. Теперь можно было различить детали: чья-то оторванная рука, развевающаяся рубашка, остроконечная соломенная шляпа. — Дедушка, как они это делают? — не оборачиваясь, спросил Сэмми. — Наверное, голограммы, — пожал плечами Дисантис. — Нет, не голограммы, — снисходительно ответил внук. — Слишком уж ярко. И даже видно, как куски разлетаются. Спорим, это манекены-роботы. Элизабет перекатилась с живота на спину и посмотрела на деда. На ее пижаме красовалась мультяшная чудо-утка. — Дедушка, а про что мистер Сэйерс говорил, когда мы летели обратно? — спросила внучка. — Когда? — В вертолете, он сказал: «Мы сегодня задали Чарли перцу». А кто такой Чарли? — Глупая, — вмешался брат. — Чарли[59] — это вьетконговцы. Плохие парни. — Дедушка, а почему вы их называли Чарли? Взрыв на экране бросил оранжевый отсвет на лицо девочки. — Не помню. — Дисантис немного помолчал. — Ложитесь-ка лучше спать, пока отец не вернулся. Завтра будет тяжелый день. В номере Ральфа тишину нарушало лишь монотонное гудение кондиционера. Он сидел и безуспешно пытался вспомнить, почему же вьетконговцев называли Чарли. А может, он и не знал никогда. Старик выключил свет, открыл стеклянные двери и вышел на балкон. Его окутала влажная темнота. Дисантис слышал, как тремя этажами ниже на террасе смеются Джастин, Сэйерс и остальные. Смеху вторили отдаленные раскаты грома. На темном горизонте вспыхивали молнии.
На следующий день по дороге на пикник Сэйерс наступил на противопехотную мину. Под руководством экскурсовода туристы отправились патрулировать узкую тропинку в джунглях. Сэйерс шел во главе колонны, разговаривал с преподобным Дьюиттом, телепроповедником из алабамского Дотана, и совсем не смотрел под ноги. Джастин и Хизер шагали рядом с Ньютонами, молодой супружеской парой из Хартфорда, а Дисантис плелся в самом хвосте и держал за руки Сэмми и Элизабет — следил, чтобы они не ссорились друг с другом. Сэйерс зацепил ногой растяжку, установленную поперек тропы; в воздух взметнулся столб земли, мина подлетела метра на три и взорвалась, оставив после себя белое облачко. — Вот черт, — выругался Роджер. — Простите, преподобный. Гид выступил вперед и с виноватой улыбкой надел на руки американцам повязки; Сэйерсу — красную с надписью «убит», а преподобному Дьюитту и Тому Ньютону — желтые, на которых значилось «ранен». — Теперь я не попаду на пикник? — поинтересовался «убитый». Гид снова улыбнулся и показал остальным туристам, как обустроить на прогалине посадочную площадку для медицинского вертолета. Мин и лейтенант Нагучи вырубали подлесок при помощи мачете, Хизер и Сью Ньютон помогали раскладывать сигнальные полотнища из блестящего оранжевого пластика. Сэмми разрешили запустить зеленую дымовую ракету. Ветер, поднятый приземлившимся эвакуационным вертолетом, примял высокую траву и сорвал с Дисантиса белую кепку. Сэйерс, Дьюитт и Ньютон сидели, упершись локтями в землю, и, когда выгрузили носилки, замахали санитарам руками. Машина взлетела, шум винтов вскоре стих в отдалении, и патруль отправился дальше. Джастин, который теперь шел впереди, двигался медленно и осторожно, то и дело поднимал руку и останавливал отряд. Они нашли еще две растяжки и целую заминированную поляну. Экскурсовод показал, как проверять дорогу штыком. Затем они и вовсе сошли с тропы и последние полкилометра пробирались вдоль нее по густой траве. Крытая тростником беседка для пикников располагалась на холме с видом на море. Их ожидали три накрытых стола — хлеб, всевозможные начинки для бутербродов, салаты, фрукты и охлажденное пиво. Сэйерс, Ньютон и Дьюитт были уже здесь и вместе с двумя служащими парка жарили на костре гамбургеры и хот-доги. — Вы чего так задержались? — смеясь, спросил Сэйерс. После обеда некоторые туристы спустились на пляж — искупаться, полежать на солнышке или просто вздремнуть. Сэмми нашел в джунглях неподалеку от беседки сеть туннелей, и экскурсовод научил детей, как кидать туда шашки со слезоточивым газом, фугасы и осколочные гранаты. Потом ребятня и несколько взрослых, кто был помоложе, ползком двинулись исследовать туннели. Дисантис сидел в одиночестве за столом, пил пиво, смотрел на море и слушал их радостные крики. А еще он хорошо слышал разговор Хизер и Сью Ньютон, лежавших совсем рядом на пляжных полотенцах. — Мы хотели папу взять, но он отказался ехать, — рассказывала Сью Ньютон. — А Томми и говорит: «Какого черта, раз правительство спонсирует тур, давай поедем сами». Вот мы и поехали. — Мы решили, что отцу это пойдет на пользу, — ответила Хизер. — Когда он приехал с войны, в семидесятых, меня еще на свете не было, он не вернулся к матери, а отправился куда-то в леса, в Орегон, или Вашингтон, или еще куда-то, и жил там несколько лет. — Да ты что! — воскликнула Сью. — Мой папа так с ума не сходил. — Ну, потом ему полегчало. Последние десять лет или около того вообще ведет себя нормально. Но врач сказал, что тур «Ветераны» ему поможет. А у Джастина в конторе как раз дела идут хорошо, так что он смог взять отпуск. Затем женщины заговорили о детях. Вскоре пошел дождь, и три «хьюи» и один неуклюжий транспортный «чинук» доставили их обратно в «Шератон». По дороге туристы распевали «Девяносто девять бутылок пива».[60]
Дождь кончился. На вторую половину дня планов не было. Часть отдыхающих решили отправиться за покупками в один из торговых центров, которые располагались между парком развлечений и гостиничным комплексом. Дисантис сел в электробус и укатил в Сайгон. Там он бродил по улицам до самой темноты. Новое название так и не прижилось, поэтому в начале девяностых город переименовали из Хошимина обратно в Сайгон. Он сильно изменился и теперь мало напоминал ту оживленную мешанину из пешеходов, мопедов, борделей, баров, ресторанов и дешевых гостиниц, которую помнил Дисантис. Иностранный капитал в основном пошел на развитие парка развлечений и туристической зоны, так что в самом городе ощущалось, скорее, наследие серой эпохи нового социализма, а не лихорадочной жизни прежнего Сайгона сорокалетней давности. Бульвары, запруженные людьми, безликие здания, многоэтажки из стекла и стали. Иногда, правда, Ральф замечал замусоренные боковые улочки и вспоминал конец шестидесятых, шумную, изящную улицу Ту До. Дисантис стоял у перехода на бульваре Тонг Нджут и ждал, когда на светофоре загорится зеленый. Тут его и окликнул Нгуен Ван Мин: — Мистер Дисантис. — Мистер Мин. Они прошли мимо парка, где раньше стоял Дворец Независимости. Низенький вьетнамец поправил очки и спросил: — Наслаждаетесь видами? Нашли что-нибудь знакомое? — Нет, а вы? Мин огляделся по сторонам, словно никогда прежде не задавался подобным вопросом. — Не совсем, мистер Дисантис, — ответил он немного погодя. — Я, конечно же, в Сайгоне бывал не часто. Моя деревня в другой провинции. Наше подразделение базировалось под Данангом. — Армия Республики Вьетнам? — Первый корпус. «Хак бао», отряд быстрого реагирования «Черные пантеры». Помните таких? Ральф покачал головой. — Мы, говорю это без хвастовства, мы были самым грозным отрядом во всем Южном Вьетнаме. Нас боялись даже больше, чем американцев. Десять лет «Черные пантеры» вселяли ужас в сердца мятежников-коммунистов, пока война не закончилась. Дисантис остановился возле лотка купить лимонного мороженого. На бульваре зажигались фонари. — Видите там посольство? — Мин указал на старое шестиэтажное здание за узорчатой решеткой. — Бывшее посольство США? — равнодушно спросил Ральф. — Я думал, его давным-давно снесли. — Нет-нет, теперь там музей. Его почти полностью восстановили. Дисантис кивнул и посмотрел на комлог. — Я стоял вот тут, — продолжал вьетнамец, — прямо тут, и наблюдал, как вертолеты забирают последних американцев с крыши посольства. Это было в апреле семьдесят пятого. Мой третий визит в Сайгон. Меня тогда только что освободили после четырехдневного заключения. — Заключения? — Ральф повернулся к Мину. — Да, меня арестовали по приказу правительства. Наш отряд захватил последний в Дананге «Боинг семьсот двадцать семь», на нем мы и улетели в Сайгон. Пришлось сражаться, чтобы попасть на борт, сражаться с мирным населением, с женщинами, детьми. Я был лейтенантом, мне было двадцать три года. — Так вы покинули Вьетнам во время паники? — Когда меня выпустили из тюрьмы, армия Северного Вьетнама уже подступала к городу. Я смог уехать только через несколько месяцев. — Морем? Было очень тепло. Лимонное мороженое быстро таяло. Мин кивнул. — А вы, мистер Дисантис, когда вы покинули Вьетнам? Ральф выбросил в урну бумажную обертку и облизал пальцы. — Я приехал сюда в начале шестьдесят девятого. — А уехали когда? — не отставал Мин. Дисантис поднял голову, словно принюхиваясь к вечернему воздуху. Пахло тропическим лесом, цветущей акацией, стоячей водой, гнилью. Старик перевел взгляд на Мина, в его голубых глазах играли темные отблески. — А я никуда и не уезжал.
В дальнем углу гостиничного бара сидел в одиночестве экскурсовод. К нему подошли Джастин, Сэйерс и Ньютон. Американцы мялись и нерешительно переглядывались; наконец Джефрис выступил вперед. — Привет. — Добрый вечер, мистер Джефрис. — Мы… хм… в смысле, мы трое и еще пара ребят, мы хотели бы с вами кое о чем переговорить. — Что-то не так? Вы недовольны туром? — Нет-нет, все в полном порядке. — Джастин оглянулся на остальных, потом сел за столик, наклонился поближе к вьетнамцу и хрипло зашептал: — Мы… ммм… мы хотели бы кое-чего еще. — Да? — Уголки губ гида приподнялись, но он не улыбался. — Да, ну вы знаете, за дополнительную плату. — Дополнительную плату? Теперь вперед выступил Роджер Сэйерс. — Мы бы хотели на специальное задание, — сказал он. — Хм… — Экскурсовод осушил стакан. — Нам Нэт Пендрейк рассказал. — Джастин наклонился еще ближе и громко прошептал: — Он сказал, что… ммм… мистер То помог ему все устроить. — Мистер То? — ровным голосом спросил вьетнамец, теперь он улыбался. — Ага. Нэт сказал, за… за специальное задание берут около тысячи. — Две тысячи, — тихо поправил его гид. — С каждого. — Да ну, — вмешался Сэйерс. — Нэт здесь был всего пару месяцев назад, и… — Помолчи, — прервал его Джефрис. — Хорошо. Мы согласны. Держите. Американец протянул свою универсальную карту, но экскурсовод снова улыбнулся и убрал руку. — Наличными, пожалуйста. Сегодня вечером, пусть каждый принесет с собой. Американскими долларами. — Не знаю… — опять начал Роджер. — Где именно? — спросил Джастин. — На дороге за гостиницей. В двадцать три ноль-ноль. — Гид поднялся из-за столика. — Хорошо, увидимся там. — Удачного дня. — И экскурсовод вышел из бара.
Они ехали на грузовике по джунглям, а потом дорога закончилась. Пятеро мужчин выпрыгнули из машины и вслед за гидом направились куда-то в темноту. После недавнего дождя грязная тропинка размокла, по вымазанным жженой пробкой лицам то и дело хлестали мокрые листья. Джастин Джефрис и Том Ньютон держались поближе к экскурсоводу. Позади, спотыкаясь во мраке, плелись Сэйерс и преподобный Дьюитт. Замыкал шествие лейтенант Нагучи. Все были одеты в военную форму и экипированы винтовками М-16. — Черт, — прошипел Сэйерс, когда по его лицу хлестнула ветка. — Заткнись, — прошептал Джефрис. Гид сделал знак рукой, все остановились и сгрудились вокруг него. Сквозь просветы в листве видно было поляну: дюжина лачуг, из дверных проемов падает холодный свет керосиновых ламп. — Сторонники Вьетконга, — прошептал гид. — Они знают, где штаб. Все жители деревни знают. — Ага, — ответил Сэйерс. — Значит, наша задача — добыть информацию? — Да. — Сторонники Вьетконга? — переспросил Ньютон. — Да. — Сколько их? — тихо поинтересовался Нагучи. Звук падавших капель почти заглушал его голос. — Около тридцати. Не больше тридцати пяти. — Оружие? — продолжал лейтенант. — Может, что-то спрятано в хижинах. Осторожнее с молодыми, тут наверняка есть вьетконговцы. Хорошо обученные. Повисла тишина. Мужчины вглядывались в безмолвную деревню. Наконец Джастин поднялся и со щелчком снял винтовку с предохранителя. — Пошли. Пятеро американцев вышли на поляну.
Ральф Дисантис и Нгуен Ван Мин сидели в темной кабинке старого бара неподалеку от бывшей улицы Ту До. Было уже поздно. Мин основательно напился, а Дисантис умело изображал пьяного. Древний музыкальный автомат в углу наигрывал современные японские хиты и старые добрые песни восьмидесятых. — Много лет после падения моей страны я думал, что американцы — бесчестный народ. — Понять, что Мин пьян, можно было только по тому, как тщательно он подбирал каждое слово. — Я жил в Америке, работал в Америке, стал гражданином Америки, но все равно был убежден — у нее нет чести. Американские друзья рассказывали: во время Вьетнамской войны по радио и телевидению каждый день передавали новости, каждый вечер. А потом пал Сайгон — и ничего. Ни слова. Как будто моей страны больше не существовало. — Ммм… — Дисантис осушил бокал и сделал бармену жест, чтоб принесли еще. — Но вы, мистер Дисантис, вы человек чести. Я знаю. Я чувствую. Вы человек чести. Ральф кивнул официанту, вытащил пластмассовую сабельку из очередного коктейля и положил ее рядом с семью другими. Мистер Мин последовал его примеру. — Вы человек чести и поймете, почему я вернулся отомстить за свою семью. — Отомстить? — За брата, который умер, сражаясь с армией Северного Вьетнама. За отца, который был учителем, восемь лет провел в концлагере и умер сразу после освобождения. За сестру, которую новое правительство выслало… якобы за преступления против нравственности. Переполненная лодка затонула где-то между Сайгоном и Гонконгом, сестра погибла. — Отомстить, — повторил Дисантис. — Каким образом? Мин выпрямился и бросил взгляд через плечо. Поблизости никого не было. — Я отомщу за честь своей семьи, я покараю тех мерзавцев, из-за которых гибнет моя нация. — Да, но каким образом? У вас есть оружие? Мин замолчал и облизнул губы. В это мгновение он выглядел почти трезвым. Потом вьетнамец наклонился и схватил Ральфа за локоть. — У меня есть оружие. Я контрабандой провез винтовку и свой табельный пистолет времен «Хак бао». — Мин снова замолк, а потом повторил, но уже с вопросительной интонацией: — Вам я могу рассказать, мистер Дисантис. Вы ведь человек чести? — Да. Расскажите.
Две хижины полыхали. Джастин и его товарищи кричали и палили в воздух из винтовок. Никто не сопротивлялся: посреди деревни стояли на коленях все ее жители — тридцать два человека, в основном дети и старики. Сэйерс опрокинул керосинку в одной из лачуг, тростник и бамбук моментально вспыхнули. Дородный американец принялся суматошно сбивать пламя, но его окликнул Джефрис: — Да плюнь ты на нее, иди сюда! Том Ньютон размахивал оружием, обратив дуло в сторону съежившихся в пыли вьетнамцев, и вопил: — Где вьетконговцы? — Вьетконговцы! — присоединился Роджер. — Где их проклятые туннели? Говорите, черт вас дери! Женщина, стоявшая на коленях и прижимавшая к груди ребенка, склонилась почти к самой земле. Пламя отбрасывало на пыльную дорогу странные зловещие тени, пахло дымом, и ноздри мужчин трепетали. — Они не понимают, — сказал преподобный. — Черта с два они не понимают, — огрызнулся Джастин. — Просто не хотят говорить. Вперед выступил Нагучи. Лейтенант казался спокойным и уравновешенным, но ни на минуту не опускал винтовку. — Мистер Джефрис, если вы хотите устроить допрос, я постою на карауле. — Допрос? — Вон там, в стороне от огня, есть пустая хижина. Допрашивать их лучше порознь. — Да, помню, — отозвался Джастин. — Том, ну-ка отбей нам парочку от стада. Шевелись! Ньютон схватил за руки молодого парня и старуху и подтолкнул их к хижине. — Не ее. Слишком старая. Вон ту. — Джефрис показал на испуганную девчушку лет пятнадцати-шестнадцати. — У нее наверняка брат или парень — вьетконговец. Ньютон толкнул старуху обратно и рывком поднял девушку на ноги. У Джастина пересохло во рту. Загорелась третья хижина, в вышину поднялся столп искр, они мерцали так же ярко, как звезды в небе.
Перед Дисантисом лежали рядком уже девять пластмассовых сабелек. — А с боеприпасами что? Мин улыбнулся. — Три тысячи патронов для винтовки. — Вьетнамец медленно-медленно поднял бокал, отпил, проглотил. — Три обоймы для автоматического пистолета сорок пятого калибра. Вполне хватит… — Он замолчал, пошатнулся, потом опять выпрямил спину. — Хватит, чтобы все сделать? Дисантис бросил на стол цветную бумажку — плата за выпивку, помог Мину подняться и дойти до двери. Маленький вьетнамец остановился, обеими руками ухватил Ральфа за локоть и притянул его поближе. — Хватит, да? — Хватит, — кивнул американец.
— Черт, — выругался Том Ньютон. — Он нам ничего не расскажет. Перед ними на коленях стоял молодой вьетнамец. Черная рубашка задрана, руки вывернуты, на уголках губ и под ноздрями запеклась кровь, на груди — многочисленные ожоги от сигарет. — Тащи девчонку, — велел Джастин. Сэйерс заставил девушку опуститься на колени, схватил за волосы и грубо рванул, запрокинув ее голову назад. — Где вьетконговцы? — спросил Джефрис; в открытую дверь хижины просачивался дым. — Туннели? Вьетконг? Девушка молчала. Темные глаза расширились от ужаса. Рот ее был приоткрыт, обнажая мелкие белые зубы. — Держите ее за руки, — приказал Джастин Тому и Роджеру. Он достал из ножен у пояса длинный нож, поддел кончиком пуговицу на ее рубашке и рванул вверх. Ткань рвалась и трещала. Девушка задохнулась от страха и забилась, но двое американцев держали крепко. У нее были маленькие груди, заостренные, влажные. — Господи, — захихикал Ньютон. Джастин сдернул с извивавшейся девочки черные штаны, схватил ее за ногу и распорол остатки ткани ножом. — Эй! — завопил Сэйерс. Молодой вьетнамец, пошатываясь, встал на колени и пытался высвободить руки из рубашки. Джастин развернулся, выронил нож, поднял свою М-16 и три раза выстрелил. Пули изрешетили мальчику грудь, горло и щеку. Он упал на спину, дернулся и затих. Вокруг растекалась красная лужа крови. — Господи, — повторил Ньютон. — Господи, просто класс. — Заткнись! — Прикладом винтовки Джастин опрокинул ошеломленную девочку на грязный пол. — Раздвиньте ей ноги. Все по очереди.
Дисантис проводил Мина до номера и уложил спать, а потом вернулся к себе и уселся на балконе. Где-то после трех ночи из темноты материализовались его зять и еще четверо мужчин и расселись вокруг одного из столиков на пустынной террасе. Ральф слышал, как они разговаривают, как открывают все новые банки с пивом, а пустые жестянки выбрасывают в урну. — А кто и какого черта начал палить? — спрашивал в темноте Джастин. Остальные разразились пьяным смехом. — Один из них побежал, — отозвался ровный голос с японским акцентом. — Преподобный открыл огонь. Я присоединился, чтобы предотвратить побег. — … Чертовы мозги все забрызгали. — Дисантис узнал Сэйерса. — Как они, интересно знать, это делают? — Под синтетической плотью — заряды и контейнеры с искусственной кровью где-то через каждые шесть сантиметров, — промямлил кто-то, кажется, тот молодой Ньютон. — Я раньше работал на компанию Диснея. Знаю все про этих роботов. — Если это и правда были роботы, — откликнулся Сэйерс. Кто-то захихикал. — Да, черт тебя дери; конечно роботы, — вмешался Джастин. — Мы даже не выходили из этого проклятого парка. Десять штук баксов, чтоб их. — Это было… совсем как по-настоящему. — Дисантис узнал голос телепроповедника. — Но… пуль-то не было. — Нет, конечно. Какого черта, — согласился Ньютон. — Простите, преподобный. Они не могут использовать настоящие снаряды. Клиенты же перестреляют друг друга по ошибке. — Тогда как… — Ультрафиолетовые сигналы лазером, — предположил Джефрис. — Заряды под кожей, — добавил Ньютон. — Их легко заменить. — Но кровь, — сомневался преподобный Дьюитт. — И еще… мозги. Осколки кости… — Ну хватит уже! — завопил Сэйерс, и остальные на него зашикали. — Хватит уже. Согласись, свои деньги они отработали. На такую сумму можно купить кучу запасных деталей. — На такие деньги можно кучу новых узкоглазых купить, — вмешался Ньютон, и за этим последовал взрыв смеха. — Господи, вы видели, как она корчилась, когда Джефрис ей первый раз засадил… Дисантис послушал еще немного, потом вернулся в номер и тихо закрыл балконную дверь.
Наступило ясное, пригожее утро. На востоке высоко над морем собирались белые облака. Все семейство не торопясь завтракало в ресторане на террасе. Сэмми и Элизабет достались яичница, тосты и кукурузные хлопья. Хизер заказала омлет. Дисантис пил кофе. Чуть позже спустился Джастин. Он держался руками за голову и сразу попросил у официанта «Кровавую Мэри». — Дорогой, ты вчера поздно вернулся. Джастин старательно тер виски. — Ага. Мы с Томом и еще парой ребят спустились вниз и играли в покер до самой ночи. — Сегодня утром было так весело, а ты все пропустил, папа, — вставил Сэмми. — Да, а что было? — Джефрис отхлебнул коктейль и поморщился. — Утром арестовали мистера Мина, — радостно сообщил мальчик. — Да? — Джастин оглянулся на жену. — Да, дорогой. Его арестовали. Что-то там незаконно провез в багаже. — Да, — не унимался Сэмми. — Я слышал, как один дяденька сказал, что у него была винтовка. Ну, такая же, как у нас, только настоящая. — Чтоб мне, — выругался Джефрис. — Так его теперь будут судить или как? — Нет, — вступил в разговор Дисантис. — Его просто попросили уехать. Посадили на утренний рейс до Токио. — Вокруг столько психов, — пробурчал отец семейства и открыл меню. — Я, пожалуй, позавтракаю. У нас еще осталось время до начала утреннего тура? — Да-да, — успокоила его Хизер. — Вертолеты отправятся только в десять тридцать. Полетим куда-то к реке. Папа говорит, будет очень интересно. — Здесь так скучно, — захныкала Элизабет. — Тебе все скучно, глупая, — поддразнил Сэмми. — А ну-ка тихо, вы оба! — прикрикнула на детей Хизер. — Мы все здесь ради дедушки. Доедайте свои хлопья.
Двадцать восемь боевых «хьюи» двигались стройной колонной. Оказавшись над лесом, машины разделились, образовав клинья, и поднялись на три тысячи футов. Внизу мелькали автомагистрали и жилые кварталы, потом их сменили рисовые поля и джунгли — теперь туристы летели над территорией парка; показалась река, отряд повернул на запад. Вверх по течению плыли маленькие лодочки,крестьяне отталкивались шестами; вот на них упала тень от вертолета, и они замахали руками. Дисантис сидел возле открытой двери, уцепившись за страховочную сеть и свесив ноги вниз. На спине у старика болтался синий рюкзачок Сэмми. Джастин дремал на скамейке. Элизабет забралась к матери на колени и жаловалась на жару. Ее брат крутил тяжелый М-60 и громко стрекотал, как пулемет. Экскурсовод подсоединил микрофон к разъему в железной перегородке. — Дамы и господа, сегодня у нас миссия на реке Меконг. Нужно выполнить две задачи: прекратить противозаконный сплав по реке и проверить джунгли рядом с шоссе номер один — там видели войска Вьетнамской народной армии. Выполнив задание, мы отправимся в древний буддистский храм, ему уже восемьсот лет. Потом обед. Вертолет летел на северо-запад. Элизабет хныкала, что хочет есть. Преподобный Дьюитт пытался уговорить пассажиров спеть походную песню, но желающих нашлось не много. Том Ньютон рассказывал жене, где именно они пролетают. Джастин проснулся ненадолго, пощелкал «Никоном» и улегся снова. Через какое-то время опять заговорил гид: — Сейчас мы повернем на юг. Пожалуйста, посмотрите на реку. Нас интересуют любые подозрительные лодки, особенно те, которые попытаются скрыться при нашем приближении. Мы будем у реки через несколько минут. — Нет, не будем, — сказал Дисантис. Он достал из-под цветастой рубашки тяжелый пистолет сорок пятого калибра и нацелил его в лицо гиду. — Пожалуйста, прикажите пилоту повернуть на север. Пассажиры загудели, но экскурсовод улыбнулся, и все примолкли. — Мистер Дисантис, я боюсь, шутка получилась не очень удачная. Пожалуйста, позвольте мне… Ральф выстрелил. Пуля вошла в переборку в трех сантиметрах от головы вьетнамца. Послышались крики, экскурсовод зажмурился и прикрыл голову руками. Дисантис перекинул ноги в кабину. — На север, будьте добры. Немедленно. Гид быстро заговорил в микрофон и что-то отрывисто пролаял в ответ на вопрос пилота. «Хьюи» отделился от клина и полетел на север. — Папа, — пролепетала Хизер. — Ральф, какого хрена ты делаешь? — спросил Джастин. — Ну-ка, отдай мне сейчас же этот чертов антиквариат, пока никто не… — Заткнись, — оборвал его тесть. — Мистер Дисантис, — вмешался преподобный Дьюитт, — на борту этого вертолета женщины и дети. Может, мы просто поговорим о… — Убери чертову пушку, Ральф, — прорычал Джастин и встал со скамьи. — Тихо. — Дисантис перевел пистолет на Джефриса, и тот замер на месте. — Любого, кто будет болтать, я пристрелю. Сэмми открыл рот, посмотрел на деда и закрыл рот. Следующие несколько минут слышно было только, как гудят винты и тихо всхлипывает Хизер. — Садитесь здесь, — велел наконец Ральф; все это время он внимательно осматривал джунгли — проверял, выбрались ли они за пределы парка. — Прямо здесь. Сначала экскурсовод молчал, но потом опять что-то зачастил в микрофон по-вьетнамски. «Хьюи» начал снижаться, сделал круг над прогалиной. С востока быстро приближались два черных вертолета сайгонской полиции — они летели в десяти метрах над джунглями, ветер от их винтов пригибал ветки деревьев. Опоры «хьюи» коснулись земли, вокруг волновалась высокая трава. — Детки, пошли. Дисантис двигался необычайно быстро: помог Элизабет выпрыгнуть на землю, сдернул Сэмми вниз, прежде чем Хизер успела схватить мальчика, и сам спрыгнул следом. — Да чтоб тебя! — заревел Джастин и тоже вывалился из вертолета. Дисантис и дети прошли несколько метров и присели в высокой колыхавшейся траве. Ральф повернулся и выстрелил зятю в левую ногу. Джастин покачнулся и повалился спиной в открытую дверь кабины. Люди в вертолете кричали и тянули к нему руки. — Все по-настоящему, — тихо сказал Дисантис. — Прощай. Он два раза пальнул по кабине пилота, потом взял Элизабет за руку и потащил ее в джунгли. «Хьюи» начал взлетать. Несколько рук подхватили болтавшегося Джастина и втащили в вертолет, который быстро набрал высоту и исчез за деревьями. Сэмми замешкался, потом посмотрел в пустое небо и заковылял вслед за дедушкой и сестрой. Мальчика сотрясали рыдания. — Тихо, — сказал Дисантис и взял его за руку. Они вошли под сень леса. В темноту уходила узенькая тропинка. Ральф снял синий рюкзачок, достал патроны, вытащил из пистолета старую обойму и основанием ладони вогнал на место новую. Потом схватил детей за руки и бегом обогнул прогалину, с которой они только что ушли, против часовой стрелки. Из-под прикрытия деревьев он не выходил. Наконец Дисантис посадил внуков за упавший ствол. Элизабет громко заплакала. — Тихо, — повторил Ральф. На поляну быстро опустился «хьюи», из него выскочил экскурсовод, вертолет снова взмыл в воздух и набрал высоту, двигаясь по спирали. Через мгновение рядом с гидом приземлилась первая из двух машин сайгонской полиции. Оттуда выпрыгнули двое в черной защитной броне и с автоматами «узи» в руках. Экскурсовод указал на то место в джунглях, где Дисантис скрылся. Полицейские подняли оружие. Дисантис вышел на поляну у них за спиной, приблизился на расстояние пяти метров, припал на одно колено, прицелился, держа пистолет обеими руками, и, как только они повернулись, открыл огонь. Первому полицейскому пуля угодила в лицо, второму Дисантис дважды попал в грудь. Второй мужчина успел поднять автомат, но выстрелы, хотя и не смогли пробить броню, свалили его наземь. Ральф шагнул вперед, прицелился и прикончил его, выбив ему пулей левый глаз. Гид повернулся и бросился в лес. Ральф пальнул ему в спину, а потом почувствовал спиной волну горячего воздуха и ничком упал в траву, загородившись телом мертвого полицейского. Старик открыл огонь из подобранного «узи» по зависшему в десяти метрах над землей вертолету, и машина повернула к деревьям. Дисантис даже не целился толком, просто стрелял вверх, оружие тряслось — две тысячи стреловидных пуль в секунду. Мелькнуло лицо пилота, стекло кабины взметнулось тучей белых осколков. Машина круто накренилась и упала в джунгли. Взрыва не было — только шум ломавшихся веток. В небе появился второй вертолет. Дисантис перебежал под прикрытие деревьев. Машина сделала круг над поляной, а потом вертикально взмыла вверх. Ральф схватил детей за руки и снова потащил их в обход прогалины. Они выбрались на то место, где экскурсовод скрылся в лесу. В темноту уходила узкая тропа. Дисантис присел на корточки и провел рукой по траве. Сквозь листья деревьев падал свет. На зарослях вдоль тропы пламенели капли свежей крови. Ральф понюхал пальцы и посмотрел на побелевшие лица внуков. Сэмми и Элизабет больше не плакали. — Все в порядке, — успокаивающим голосом произнес дедушка. Где-то наверху грохотали винты, гудели двигатели. Мягко, почти нежно он развернул притихших, покладистых детей и повел их в джунгли. Там было безмолвно, темно и прохладно. На тропинке алели капли крови. Дети шагали быстро, стараясь не отставать от деда. — Все в порядке, — снова прошептал он, положив руки им на плечи. — Все в порядке. Я знаю, куда идти.
Могильники Айверсона
~ ~ ~
У нас, американцев, есть удивительный талант — превращать самые важные и любимые национальные святыни в безвкусицу и вульгарщину. Возможно, мы еще слишком молоды, и не в состоянии ощущать историю по-настоящему. А может, все дело в том, что, если не считать Гражданской войны, Америку никогда не бомбили, не оккупировали и вообще она ни разу не подвергалась нападению извне (и не уговаривайте меня, англо-американская война 1812 года не в счет; да, англичане тогда спалили Вашингтон, но мало кто из американцев это заметил, а тем, кто заметил, было наплевать). Может, именно поэтому от наших святынь и не веет жертвенностью. Есть, конечно, несколько памятников, которые просто невозможно опошлить, как ни старайся. Например, придя ночью к Мемориалу Линкольна, трудно не почувствовать себя главным героем фильма «Мистер Смит едет в Вашингтон»[61]. После первого такого визита я, помнится, три дня запинался, как Джимми Стюарт. Но постойте у монумента чуть подольше, и вы почти наверняка услышите, как там, за мраморными стенами, шушукаются бюрократы и разработчики из компании Уолта Диснея. Через полгодика приедете посмотреть на памятник, а старик Линкольн встанет, зачитает голосом Хэла Холбрука[62] свою вторую инаугурационную речь, перейдет вброд фонтан и отправится на улицу Конституции бить чечетку. Бездна вкуса, кто спорит. Еще есть поля сражений Гражданской войны. Вы наверняка бывали в Геттисберге[63]. Многие честные и искренние люди старались этого не допустить, но город и окрестности все равно испакостили всевозможными статуями и монументами. Служба национальных парков воздвигла жуткую фаллическую башню, причем на самом высоком холме, так что теперь никому не избежать созерцания типичного для двадцатого века уродства. В музее переливаются огоньками компьютеризированные диорамы, а в окрестных магазинах можно купить соответствующие футболки. Бог с ним со всем. Это все равно не имеет значения. Ведь, как и на других, менее знаменитых полях сражений той войны, в Геттисберге ощущается особое напряжение, которое воздействует на зрителя почти физически; поверить в такое трудно — нужно побывать там и прочувствовать самому. Одержимое место во всех смыслах слова, полное призраков. Ни в одном шотландском замке, ни в одном капище друидов, ни в одной египетской пирамиде вы не услышите такого громкого хора мертвых голосов, взывающих к живым. И тем не менее трудно найти место более трогательное и спокойное. Этот рассказ вырос — в буквальном смысле слова — из одного маленького примечания в книге, но я изо всех сил старался достоверно передать исторические детали. Могильники существуют на самом деле. Как писал Гленн Такер в классическом труде «Геттисбергская кульминация», утверждают, что по этим землям до сих пор бродят беспокойные души солдат из Северной Каролины, погибших во время Геттисбергской бойни. Лейтенант Монтгомери побывал там в 1898 году, тридцать пять лет спустя, и Джон С. Форни рассказал ему про суеверия и страхи местных жителей. Фермеры категорически отказываются работать в полях после наступления темноты.Мой полковник Айверсон, разумеется, вымышленный персонаж. Настоящий полковник Альфред Айверсон-младший действительно послал свою бригаду на смерть, и его действительно отстранили от командования после того, как немногие выжившие солдаты отказались ему подчиняться. Но про настоящего Айверсона достоверно известно лишь, что он, скорее всего, был политическим ставленником, ничего не смыслившим в военном деле. Также следует отметить, что некий Джессуп Шидс действительно построил дом на геттисбергских полях, как раз там, где Двадцатый северокаролинский полк столкнулся с Девяносто седьмым нью-йоркским. Местные историки утверждают, что Шидс частенько угощал прохожих вином. Виноград он выращивал на плодородной почве могильников Айверсона.
~ ~ ~
В детстве я не боялся темноты, зато к старости стал умнее. Хотя причаститься к той тьме, которая теперь подступает все ближе, мне пришлось именно тогда, в десять лет, далеким летом 1913 года. Хорошо помню ее вкус. Даже теперь, спустя три четверти века, когда я вскапываю землю в саду или ступаю ночью на зеленую траву на заднем дворе моего внука, по спине у меня пробегают ледяные мурашки. Прошлое осталось в прошлом, умерло и похоронено — так обычно говорят. Но даже глубоко в земле ничто не умирает, наоборот — тянется в настоящее, выступает на поверхность узловатыми искривленными корнями. Я сам похож на такой корень. Но кому мне поведать свою историю, кому рассказать обо всем? Дочь умерла от рака в 1953 году. Внук уже и сам не молод, типичный отпрыск эйзенхауэровской эры, — тогда все только и делали, что готовились к светлому будущему, такие сытые, довольные. Уже четверть века Пол преподает в старшей школе естественные науки, и расскажи я ему про тот жаркий июльский день 1913 года, он решит, что я спятил. Вернее, впал в старческий маразм. Правнук и правнучка относятся к странному поколению, которое обращает мало внимания даже на разницу между полами, подумаешь — мелочь какая. Они не в состоянии постичь мое детство, пришедшееся на годы перед Первой мировой, — конечно, для них это седая древность. Что уж говорить о задубевшей кровавой истории Гражданской войны, связь с которой я до сих пор храню. Правнуки страшно похожи на тех безмозглых разноцветных гуппи, что Пол держит в своем дорогущем аквариуме: никаких тебе пугающих океанских течений всемирной истории, уютное невежество, и плевать им на то, что было до них самих, до MTV и гамбургеров. И вот я сижу в одиночестве у Пола на террасе и рассматриваю старый снимок, на котором изображен серьезный десятилетний парнишка в скаутской форме. Почему мы теперь никогда не сидим на крыльце перед домом, не смотрим на прохожих, на оживленные улицы, почему вечно прячемся в огороженных заборами задних двориках? Я уже и забыл, как и когда мы так изменились. Парнишка одет явно не по погоде, ведь день выдался жаркий. На мальчике тяжелые, мешковатые шерстяные штаны и гимнастерка, широкополая форменная шляпа, голени затянуты в краги почти до самых коленей. Не улыбается, серьезный донельзя — типичный американчик в миниатюре, хотя так американских пехотинцев станут называть только спустя четыре года, когда начнется Первая мировая. Разумеется, это я стою ясным июньским днем возле фургона мистера Эверетта, развозчика льда, готовый отправиться в путешествие. Никто тогда и не догадывался, каким долгим оно окажется, в какие неизведанные края заведет. Внимательно вглядываюсь в снимок. Развозчиков льда теперь помнят лишь древние старики. Здание на заднем плане давным-давно снесли, на его месте построили многоквартирный дом, а потом тоже снесли, нынче там торговый центр. Шерстяная скаутская форма истлела много лет назад, уцелели только латунные пуговицы. Да и сам десятилетний мальчик затерялся где-то в прошлом. Пол как-то объяснял: все клетки в теле этого серьезного парнишки успели несколько раз смениться другими. Перемены явно не к лучшему. Сама ДНК не меняется — так, во всяком случае, твердит внук. Он вечно пускается в длинные объяснения, стараясь доказать, что единственная связь между мной тогдашним и мной нынешним — маленький тупой генетический паразит, нахально засевший в каждой клеточке меня-ребенка и меня-старика. Нет уж, все это дерьмо коровье. Смотрю на худенькое мальчишеское личико, тонкие губы, зажмуренные от солнечного света глаза. Солнце тоже было тогда моложе на целых семьдесят пять лет и, я точно знаю, грело намного жарче, и пусть Пол со своим здравым смыслом и школьной премудростью не убеждает меня в обратном. Я отчетливо ощущаю тождество, связующее подобно нити того ничего не подозревающего юнца — не по годам самоуверенного, бесстрашного — и нынешнего старика, который хорошо научился бояться темноты. Как жаль, что я ни о чем не могу предупредить того мальчишку. Прошлое осталось в прошлом, умерло и похоронено. Но теперь мне достоверно известно: то, что живет там, глубоко под землей, может легко выбраться на поверхность, особенно когда меньше всего этого ждешь.Летом 1913 года штат Пенсильвания готовился к крупнейшему в истории страны нашествию ветеранов. Военное министерство разослало участникам Гражданской войны приглашения: великое воссоединение было приурочено к пятидесятой годовщине трехдневной битвы при Геттисберге. Всю весну филадельфийские газеты взахлеб расписывали подробности. Ожидалось прибытие более сорока тысяч ветеранов. К середине мая цифра выросла до пятидесяти четырех тысяч, и Генеральной ассамблее пришлось проголосовать за увеличение армейского бюджета. Мамина двоюродная сестра Селия писала из Атланты, что «Дочери Конфедерации» и другие культурноисторические общества, входящие в Объединенную конфедерацию ветеранов, из кожи вон лезут, чтобы в последний раз отправить своих бравых южан на Север. Отец ветераном не был. Испанскую войну он пренебрежительно называл «личной войной мистера Херста»[64] (это было еще до моего рождения), а войну в Европе — «личной войной мистера Вильсона».[65] Последняя разразилась пять лет спустя после Геттисбергской годовщины. Я как раз поступил в старшую школу, и одноклассники все как один рвались записаться в армию и показать немчуре, почем фунт лиха. Но к тому времени я повидал уже достаточно «военного наследия» и их взглядов не разделял — мне были хорошо понятны отцовские чувства. Тогда же, весной и летом 1913 года, я бы отдал все на свете, чтобы поехать на встречу ветеранов, послушать их рассказы, поглазеть на боевые знамена, забраться в Берлогу Дьявола[66] и увидеть, как старики в последний раз разыграют атаку Пикетта.[67] И такая возможность представилась. Бойскаутом я стал еще в феврале, сразу же после дня рождения. Первые скаутские отряды начали появляться всего тремя годами ранее, организация была довольно молодой. Но к 1913 году все мои друзья уже либо вступили в нее, либо мечтали вступить. Мы жили в Честнат-Хилле (этот маленький, когда-то самостоятельный городок теперь превратился в пригород Филадельфии). Преподобный Ходжес собрал там первый скаутский отряд. В него принимались только благонадежные мальчики с твердыми моральными принципами — иначе говоря, пресвитериане. На протяжении трех лет я пел в пресвитерианском юношеском хоре на Пятой авеню, поэтому мне и разрешили вступить через три дня после моего десятого дня рождения, хотя я был совершеннейший хиляк и не мог правильно завязать ни одного узла. Отец не слишком обрадовался. Мы в своей скаутской форме выглядели жалкими копиями кавалеристов из добровольного отряда времен испано-американской войны. Настоящие маленькие солдаты: подбитые гвоздями полусапоги, краги, широкополые шляпы, безразмерные гимнастерки цвета хаки, неукротимое армейское рвение. Каждые вторник и четверг с четырех до шести и каждое субботнее утро с семи до десяти Ходжес муштровал нас на футбольном поле возле школы. Мы занимались строевой подготовкой и учились оказывать друг другу первую помощь. В конце каждой такой тренировки отряд становился похож на толпу мумий-недоростков: неизменное хаки проглядывало сквозь торопливо наложенные повязки. Вечером в среду в церковном подвале преподобный обучал нас семафорным сигналам и азбуке Морзе, или многоцелевому военному коду, как он ее называл. Отец ехидно интересовался, не собираемся ли мы развязать очередную бурскую войну,[68] но я не обращал внимания на его подколки и продолжал самозабвенно и упорно тренироваться, в разгар мая пыхтя от жары и натуги в шерстяной военной форме. И вот однажды в июне преподобный Ходжес явился к нам домой и сообщил родителям, что штат затребовал от каждого скаутского отряда Пенсильвании выслать в Геттисберг представителей — оказать помощь в организации великого воссоединения ветеранов. Несомненно, в мою судьбу вмешалось Провидение: целых пять дней в Геттисберге, в компании с самим преподобным, тринадцатилетним Билли Старджиллом (спустя несколько лет во время Первой мировой он погибнет в Аргоннском лесу[69]) и еще одним толстым, похожим на девчонку мальчиком, не помню, как его звали. Отец не хотел меня отпускать, а вот мама согласилась сразу же — понимала, какая это честь для семьи. Так что утром тридцатого июня доктор Ловелл, владелец похоронного бюро Честнат-Хилла и по совместительству местный фотограф, запечатлел меня на фоне фургона мистера Эверетта. А спустя несколько часов мы вместе с Ходжесом и двумя боевыми товарищами погрузились в поезд и отправились в трехчасовое путешествие до Геттисберга.
Как официальные участники встречи ветеранов, мы оплачивали проезд по специальному военному тарифу — цент за милю. Всего вышло один доллар двадцать один цент. Я никогда прежде не бывал в Геттисберге и вообще никогда не уезжал так далеко от дома. До места мы добрались уже вечером. Я устал, взмок от жары и нестерпимо хотел в туалет (в поезде слишком стеснялся туда сходить). В маленьком Геттисберге царил настоящий хаос: шум, суматоха, лошади, машины, толпы солдат в пропахшей нафталином военной форме. Мы трусили за преподобным Ходжесом по грязным улочкам мимо увешанных флагами домов. Мужчин вокруг было вдесятеро больше, чем женщин. На центральных улицах волновалось настоящее море соломенных шляп и форменных фуражек. Преподобный завернул в гостиницу «Орел» — получить инструкции от руководства скаутского движения, а я выскользнул на улицу и побежал искать общественную уборную. Спустя полчаса мы затащили свои походные котомки в небольшой автомобиль. Палаточный городок, где разместили ветеранов, находился к юго-востоку от Геттисберга. Вместе с нами в грузовик набилось около дюжины скаутов и начальников отрядов, все кое-как теснились на трех скамьях. Машина с трудом пробилась через заторы на Франклин-стрит, проскочила между временным госпиталем Красного Креста и припаркованными у обочины медицинскими фургонами, выехала на Лонг-лейн и нырнула в необозримое палаточное море. Был восьмой час вечера. Яркое закатное солнце освещало тысячи остроконечных шатров, простиравшихся, наверное, на сотни акров. Я изо всех сил тянул шею: может быть, тот далекий холм — это Кладбищенский хребет? А вон те скалы — Круглая вершина?[70] Грузовик проехал мимо конного полицейского, мимо запряженных мулами военных фургонов, мимо поленьев, сложенных в огромные штабеля, мимо походных пекарен, над которыми все еще витал аромат свежеиспеченного хлеба. — Боюсь, мальчики, мы пропустили вечернюю кормежку, — повернулся к нам Ходжес. — Но вы ведь не очень хотите есть? Я помотал головой, хотя желудок сводило от голода. Мать приготовила в дорогу обед — жареного цыпленка и лепешки, но в итоге куриная ножка досталась преподобному, а все остальное выклянчил толстый мальчик. Я же слишком волновался и думать не мог о еде. Мы свернули вправо на Ист-авеню — широкую дорогу, вытянувшуюся вдоль аккуратных палаточных рядов. Я тщетно искал глазами главную палатку, о которой столько писали в газетах: огромный шатер, где поставили тринадцать тысяч стульев, именно там президент Вильсон должен был сказать свою речь в пятницу, четвертого июля. Багряное солнце опускалось за дымчатый западный горизонт, в пыльном воздухе растекался запах примятой травы и нагретого брезента. Нестерпимо хотелось есть, на зубах скрипел песок, в волосах запутался какой-то мусор. Это был самый счастливый момент в моей жизни. Грузовик пересек лагерь пенсильванских ветеранов, миновал шеренгу полевых кухонь. В сотне ярдов от них, в западном конце Ист-авеню, расположился скаутский штаб. Ходжес показал наши палатки и велел поскорее возвращаться — получить распоряжения на следующий день. В палатке, оказавшейся невдалеке от уборной, я сгрузил котомку на койку, разложил спальный мешок и вещи и, наверное, немного замешкался, потому что, когда поднял голову, толстый мальчик уже спал на соседней кровати, а Билли и след простыл. Футах в пятидесяти от нас взревел поезд — видимо, геттисбергский или гаррисбергский. Неожиданно меня охватила паника: как же я умудрился отстать? Я бросился в скаутский штаб. Билли и преподобного Ходжеса там не оказалось, зато за письменным столом, наспех сооруженным из какой-то доски, грозно топорщил светлые усы дородный дядька в чересчур тесной скаутской форме и очках с толстыми стеклами. — Ко мне, скаут! — рявкнул он. — Да, сэр? — Уже получил задание? — Нет, сэр. Толстяк хмыкнул и принялся рыться в куче разложенных перед ним желтых картонных ярлыков. Выудил один своей огромной лапищей, мельком глянул на бледно-синие машинописные буковки и привязал к латунной пуговице на моем нагрудном кармане. Я вытянул шею и прочитал: «МОНТГОМЕРИ, П. Д., кап., 20-й сев. — кар. полк, СЕКТ. 27, МЕСТО 3424, ветераны из Северной Каролины». — Ступай же, мальчишка! — пролаял начальник. — Слушаюсь, сэр. — Я бросился прочь, но у самого выхода остановился. — Сэр? — Ну что еще? — Тот уже привязывал ярлычок другому скауту. — Куда мне идти, сэр? — Найди ветерана, к которому ты прикреплен, что тут непонятного? — Он нетерпеливо взмахнул рукой, словно отгоняя назойливое насекомое. Я скосил глаза на ярлык. — Капитана Монтгомери? — Да-да, если там так написано. Я набрал в грудь побольше воздуха и выпалил: — А где мне его искать? Начальник нахмурился, встал, подошел ко мне и рассерженно уставился на желтую бумажку через свои толстенные стекла. — Двадцатый северокаролинский… Сектор двадцать семь… Вон туда. — И он широким жестом очертил железнодорожные пути, рощу, облачко паровозного дыма и соседний палаточный лагерь. Почти опустились сумерки, и предзакатное красное солнце освещало сотни остроконечных шатров, раскинувшихся на холме. — Простите, сэр, а что мне делать, когда я найду капитана Монтгомери? — спросил я, когда начальник уже возвращался на место. Толстяк глянул на меня через плечо с плохо скрываемым омерзением. Мне раньше и в голову не приходило, что взрослый может так смотреть на ребенка. — Делай все, что он скажет, тупица. Иди же! Я развернулся и бегом припустил к далекому лагерю конфедератов.
Там уже зажигали фонари. Повсюду среди бесконечных палаточных рядов толпились старики: они сидели на складных стульях, походных койках, скамьях и просто деревянных чурках, курили, болтали и временами сплевывали куда-то в сгущавшуюся между шатрами темноту. Сотни стариков, почти все с длиннющими бакенбардами и в тяжелой серой военной форме. Дважды я терялся и спрашивал у них дорогу. Ветераны отвечали на тягучем южном наречии, и я ни слова не мог разобрать, словно это был и не английский вовсе. В конце концов я все же вышел к северокаролинскому подразделению, зажатому между секторами Алабамы и Миссури, чуть в стороне от ветеранов из Западной Виргинии. Позднее, годы спустя, я часто спрашивал себя: почему верных Союзу виргинцев поместили в самую гущу бывших войск Конфедерации? Сектор двадцать семь находился в последнем ряду на восточной стороне, а место тридцать четыре-двадцать четыре — в самой крайней платке. Свет там не горел. — Капитан Монтгомери? — спросил я почти шепотом. Ответа не последовало; вероятно, ветеран куда-то отлучился; чтобы удостовериться, я заглянул внутрь. «Я не виноват, я же не знал, что он уйдет, — мысленно сказал я себе. — Вернусь утром, провожу его на завтрак, помогу найти туалет, отыскать товарищей, еще что-нибудь, если он захочет. Утром. А теперь надо бежать обратно, преподобный и Билли, наверное, уже там. Может, у них осталось немного печенья». — Парень, я как раз тебя жду. Я замер. Голос доносился из темной палатки, южный говор, но слова четкие, словно угольные росчерки, по-старчески ломкие. Таким голосом мертвые, должно быть, разговаривали с живыми из своих могил. — Поди сюда, Джонни. Пошевеливайся! Я, моргая, зашел в прогретый, пахнувший брезентом полумрак, и на секунду у меня перехватило дыхание. На койке полулежал, приподнявшись на локтях, старик. Его сгорбленные плечи торчали из бесформенной груды серой одежды и выцветших позументов, словно сложенные хищные крылья. Смятый головной убор, когда-то в незапамятные времена, несомненно, гордо именовавшийся шляпой, бросал глубокую тень на серое, в тон форме, лицо. Глаза ветерана были широко раскрыты, над клочковатой седой бородой выступал острый клювоподобный нос. Несколько острых зубов блестели в обрамленном лиловатыми губами зияющем отверстии рта, и, глядя на него, я впервые в жизни осознал, что это — врата, ведущие внутрь черепной коробки. Впалые щеки, заостренные скулы и темные брови обрамляли черные провалы глазниц. Неестественно белые, огромные старческие руки, изуродованные артритом, покрылись коричневыми пятнами. Одна нога капитана была обута в высокий сапог, а вторая заканчивалась чуть пониже колена. Из закатанной штанины торчала аккуратная культя — обмотанный бледной, зарубцевавшейся кожей обломок кости. — Черт тебя дери, парень, где фургон? — Простите, сэр? — прощебетал я чуть слышно, как сверчок. — Фургон, чертов фургон, Джонни. Он нам нужен. Да что с тобой, парень? — Старик сел, спустил с койки здоровую ногу и страшный обрубок и начал неуклюже натягивать на себя мундир. — Простите, капитан Монтгомери… э-э-э… вы же капитан Монтгомери, сэр? Старик утвердительно хрюкнул. — Сэр, капитан Монтгомери, я не Джонни, меня зовут… — Черт тебя дери, парень! — проревел тот. — Заткнись уже наконец и ступай за треклятым фургоном! Нам нужно добраться до могильников раньше Айверсона. Я открыл было рот, но так ничего и не ответил, потому что Монтгомери вынул откуда-то пистолет. Громадный серый пистолетище, от которого пахло смазкой. Сумасшедший старик, по всей видимости, намеревался пристрелить меня на месте. Я стоял, от ужаса лишившись дара речи, задохнувшись, словно дряхлый конфедерат ударил меня своим оружием прямо в солнечное сплетение. Тем временем капитан положил пистолет на койку и вытащил из-под нее какую-то громоздкую конструкцию из красного дерева, увешанную ремнями и пряжками. Деревянная нога! — Ну же, Джонни, — ворчал старик, пристегивая страшную деревяшку. — Я так долго тебя ждал. Раздобудь фургон, будь хорошим мальчиком. Я подожду здесь. Раздобудь фургон и возвращайся за мной. — Есть, сэр, — выдавил я, развернулся и выбежал из палатки.
Мои дальнейшие действия не поддаются разумному объяснению. Всего-то и нужно было — и каждая клеточка моего испуганного существа вопила об этом — вернуться в штаб скаутов, найти преподобного, рассказать ему, что вместо ветерана мне достался вооруженный безумец, и спокойно лечь спать. Пусть бы взрослые разбирались. Но в тот момент я плохо соображал. Да и, честно говоря, разве десятилетние мальчишки вообще способны хорошо соображать? Я устал, хотел есть, чувствовал себя неуютно вдали от дома, почти полностью потерялся во времени и пространстве и самое главное — не имел привычки нарушать приказ. И все-таки дело решила именно деревянная нога: если бы я не оглянулся напоследок и не увидел, как он мучительно прилаживает ее к ужасному обрубку, то наверняка бы не раздумывая бросился в скаутский штаб. Я и по сей день твердо верю, что поступил бы именно так. Но как можно было убежать после такого? Ведь он стоял бы там со своим чудовищным протезом, один в сгущавшейся темноте, и напрасно бы ждал меня. Судьбе было угодно, чтобы в какой-то сотне ярдов от палатки тридцать четыре-двадцать четыре стояла запряженная повозка. В кузове лежали свернутые одеяла, но ни возницы, ни грузчиков поблизости не оказалось. Я неуклюже ухватил старых сгорбившихся коняг под уздцы и кое-как развернул телегу. Смирные сивые лошадки послушно потрусили за мной вверх по холму. Никогда прежде не доводилось мне ездить на лошади или править упряжкой. К 1913 году их успели вытеснить автомобили. По улицам Честнат-Хилла, конечно, иногда проезжали коляски, но их уже расценивали как чудачество. Мистер Эверетт, развозчик льда, кататься в своем фургоне мальчишкам не позволял, а его конь имел обыкновение кусать зазевавшихся малышей. Так что я вел упряжку очень осторожно, опасливо поджимая пальцы. Мне даже в голову не приходило, что это воровство. Капитану Монтгомери нужен был фургон. Я выполнял его приказ. — Молодец, Джонни. На улице, в свете фонарей, старик по-прежнему выглядел довольно внушительно в своем длинном помятом мундире. Пистолет он спрятал, но наверняка держал его где-нибудь наготове. На правом плече у ветерана болталась тяжелая холщовая сумка. Я разглядел эмблему на шляпе и три маленькие медали на груди. Ленточки так выгорели, что цвет было не различить. Голая шея капитана походила на узловатое переплетение веревок, совсем как те, что дома, в Честнат-Хилле, свисали с ворота старого колодца. — Вперед, парень. Нужно поторапливаться, если мы хотим опередить этого сукина сына Айверсона. Монтгомери взгромоздился на облучок, описав в воздухе дугу деревянным обрубком, и сжал в кулаке поводья. Руки его напоминали древесные корни. Не раздумывая ни минуты, я вспрыгнул на сиденье слева от него.
Тем поздним вечером тридцатого июня в Геттисберге царила суматоха и горело множество огней, но мы как будто проехали через город в полнейшей темноте. Все вокруг казалось мне таким далеким, не имевшим отношения к цели нашего путешествия, хотя, что это за цель, я толком не знал. Освещенные окна домов и гостиницы походили на бледные, тающие искорки умирающих светлячков. Через несколько минут мы миновали последний дом в северной части города и свернули на северо-запад, где, как я позже выяснил, начиналась дорога на Маммасберг. Повозка нырнула под сумрачный лесной свод, но я успел оглянуться и бросить прощальный взгляд на Геттисберг и палаточный лагерь. Окна домов выглядели бледными и тусклыми на фоне яркого пламени сотен походных костров. Я смотрел на бесчисленные оранжевые созвездия: там в темноте толпилось столько ветеранов, что хватило бы на целую армию. Может, именно такое зрелище открылось пятьдесят лет назад конфедератам, подступавшим к Кладбищенскому хребту и Калпову холму? Неожиданно меня пробрала дрожь: ведь пятьдесят лет назад вечеринку здесь закатывала сама смерть. Сто сорок тысяч гуляк прибыли по ее приглашению, облачившись в похоронные наряды. Отец рассказывал, что, отправляясь в бой, солдаты прикалывали к мундирам маленькие ярлычки, чтобы после окончания бойни можно было опознать тела. Я оглянулся на капитана, пытаясь рассмотреть в темноте желтый клочок бумаги, пришпиленный к форме, с указанием имени, звания, родного города. А потом до меня дошло: ярлычок болтался на груди у меня самого. Я снова бросил взгляд на далекие огни и подивился про себя странному стечению обстоятельств: спустя пятьдесят лет после кровавого празднества пятьдесят тысяч выживших снова вернулись сюда. Лагерь ветеранов скрылся из виду. Вокруг шелестел лес. Ночную тьму освещали лишь последние отблески заката на летнем небе да мерцавшие вдоль дороги светлячки. — Парень, ты помнишь Айверсона? — Нет, сэр. — Смотри. Монтгомери сунул что-то мне в руку. Я наклонился, силясь разглядеть предмет: это оказался старый, потрескавшийся от времени ферротип.[71] На нем едва можно было различить бледное квадратное лицо с какими-то темными разводами — наверное, усами. — Проклятая годовщина — в списках его нет, — прошептал старик, выхватывая у меня портрет. — Весь день проверял, черт его дери. Не приехал. Так я и думал. Два года назад в газете написали, он умер. Черта с два. — Да. Лошадиные копыта приглушенно стучали по пыльной дороге. В голове моей было так же пусто, как и в раскинувшихся вокруг полях. — Черта с два, — продолжал капитан. — Он вернется сюда. Так ведь, Джонни? — Да, сэр. Упряжка взобралась на бровку холма, и старик слегка натянул поводья. Во время езды его протез ритмично постукивал по деревянным козлам, и теперь, когда лошади замедлили шаг, этот ритм поменялся. Мы по-прежнему ехали через лес, но справа и слева в просветах между деревьями то и дело мелькали возделанные поля, огороженные каменными стенами. — Черт возьми. Парень, ты видел — мы уже проехали дом Форни? — Я… Нет, сэр. Вряд ли, сэр. Откуда мне было знать, проезжали ли мы дом Форни? Я понятия не имел, кто такой этот Форни. И еще я знать не знал, почему блуждаю ночью по лесу с каким-то странным стариком. Я с удивлением понял, что вот-вот заплачу. Капитан меж тем дернул вожжи, лошади съехали с дороги и остановились в небольшой рощице. Кряхтя и сопя, Монтгомери принялся слезать с облучка. — Помоги мне, парень. Надо устроить привал. Я обежал повозку и протянул ему руку, ветеран навалился мне на плечо и неуклюже спрыгнул на землю. От него странно пахло — какой-то кислятиной, почти как от того древнего, вонявшего мочой матраса, который лежал в сарае за школой, у самой железной дороги. Билли утверждал, что там ночуют бродяги. Окончательно стемнело. На той стороне дороги над полем взошла Большая Медведица. Древесные лягушки и сверчки вовсю готовились к ночному концерту. — Парень, принеси-ка парочку одеял. Монтгомери подобрал длинную ветку и, опираясь на нее как на посох, заковылял куда-то в лес, а я вытащил из повозки одеяла и поспешил за ним. Мы пересекли пшеничное поле, небольшую рощицу, пробрались через луг и устроили привал под большим деревом. Листья тихо шуршали на ночном ветерке. Капитан показал, как правильно раскинуть походную постель, а потом опустился на подстилку, прислонившись спиной к стволу и пристроив деревянную ногу поверх здоровой. — Парень, есть хочешь? Я кивнул. Старик выудил что-то из холщовой сумки. Полоска вяленого мяса на вкус скорее напоминала соленый ошметок задубевшей кожи. Я жевал и жевал; наверное, прошло целых пять минут, прежде чем кусок размяк настолько, чтобы я смог его проглотить. Губы и язык пульсировали от жажды. Капитан Монтгомери протянул мне бурдюк с водой и показал, как из него пить. — Вкусная солонина, да, парень? — Очень, — искренне согласился я и вгрызся во второй кусок. — Поганый стервец этот Айверсон, никуда негодный стервец. — Капитан тоже откусил мяса. Он как будто продолжал прерванный рассказ, который начал полчаса назад в повозке. — Вполне безобидный, в сущности, стервец, если бы не эти пустоголовые негодяи из Двадцатого северокаролинского: им непременно нужно было выбрать его начальником лагеря еще тогда, до войны. А потом уже заработала армейская машина, и он автоматически пошел на повышение и получил полковника. И когда началась заваруха на Севере, этого чертова мерзавца поставили во главе целой бригады, входившей в состав дивизии Родса.[72] Монтгомери замолчал и впился в солонину немногочисленными уцелевшими зубами. Я ни разу до этого не слышал, чтобы кто-нибудь так ругался и сквернословил. Пожалуй, разве что мистер Болтон: престарелый начальник пожарной бригады обычно усаживался перед пожарной станцией на Третьей улице и травил байки новобранцам, начисто забывая про вертевшихся неподалеку мальчишек и потому не стесняясь в выражениях. Может, так ругаются вообще все люди в форме, подумал я. — Его звали Альфред, — продолжал капитан тихим задумчивым голосом. Южный акцент усилился, и мне приходилось внимательно вслушиваться в каждое слово. Как будто лежишь в постели и уже сквозь сон различаешь голоса родителей, поднимающихся в спальню. Или как если бы вдруг волшебным образом научился разбирать иноземную речь. Я закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться. — Альфред, так же, как его папочку. А папочка был сенатором в Джорджии, водил дружбу с президентом. Даже с закрытыми глазами я почувствовал на себе взгляд старика. — С президентом Дэвисом. Именно от Дэвиса, который тогда еще был сенатором, младший Айверсон получил первое звание. Во время мексиканской кампании. А уж когда началась настоящая война, папочка выхлопотал для сынка полк. В те времена если проклятым богачам хотелось поиграть в солдатиков, они просто покупали себе полк. Платили за чертову форму, лошадей и все остальное. Становились офицерами. Треклятые богачи играли в солдатиков, понимаешь, парень? Только вот война-то началась не понарошку, Джонни, а солдатиками были мы. Я открыл глаза. Надо мной сияло невероятное количество звезд — никогда в жизни столько не видел. Небо над лугом до самого горизонта было усыпано созвездиями, сквозь ветви деревьев тоже проглядывали звезды. Млечный Путь походил на искрящийся мост или на следы прошедшей здесь когда-то армии. — Нам просто чертовски не повезло с Айверсоном. Бригада-то была что надо, а Двадцатый северокаролинский полк — так вообще самый лучший полк в корпусе Юэлла.[73] — Старик повернулся и снова пристально посмотрел на меня. — Тебя ведь с нами не было тогда, в Шарпсберге, Джонни? Я покачал головой. По спине побежали холодные мурашки: он опять называл меня чужим именем. Где, интересно знать, теперь тот Джонни? — Да нет, конечно не было. Это ведь шестьдесят второй год, ты еще в школу ходил. А полк после окончания похода стоял в Фредриксберге. Тогда еще затеяли торжественное построение, Нэт и его ребята затянули «Хотел бы я быть в Дикси».[74] И вдруг на другом берегу реки Раппаханнок заиграли янки, и тоже «Дикси». Черт возьми, парень. Их было отлично слышно, мы играли как один оркестр. Потом наши ребята из Двадцатого северокаролинского вдарили «Янки-дудл».[75] Чудно получилось, скажу я тебе: стоим на построении, залитые холодным солнечным светом, закончили «Янки-дудл» и начали «Дом, милый дом»,[76] и опять одновременно с янки, будто весь день вместе репетировали. И я, и Перри, и старина Томас, и Джеффри — запели, как-то не раздумывая даже, а потом вообще все: и лейтенант Уильямс, и сам мистер Оливер, да вся бригада. И чертовы янки хором с нами с того берега реки, вроде как мы один хор, только по ошибке разделились. Говорю тебе, парень, мы будто с привидениями пели. Будто и сами стали привидениями. Я закрыл глаза, прислушиваясь к низким голосам, выводившим грустную, щемящую мелодию. Получается, что иногда даже взрослым, даже солдатам бывает одиноко и они тоскуют по дому, совсем как я сегодня вечером? Собственная печаль растворилась, я находился там, где должен был находиться, вместе с капитаном, в его армии, во всех армиях сразу, в походном лагере, вдали от родных. Я не ведал, что принесет день грядущий, но рядом были верные друзья, боевые товарищи. Печальные голоса звучали наяву, такие же настоящие, как шелест летней листвы над головой. Монтгомери прокашлялся и сплюнул. — А потом мерзавец Айверсон нас прикончил. Я услышал, как капитан отстегивает деревянную ногу, и открыл глаза. Старик закутался в одеяло и перевернулся на бок. — Спи, парень, — донеслось до меня его приглушенное ворчание. — Завтра снимемся спозаранку, прямо на рассвете. Я тоже закутался в одеяло и улегся прямо на землю, все еще вслушиваясь в звуки песни. Но голоса уже стихли. Только ночь злобно шептала что-то, шелестя листвой.
Перед самым рассветом я проснулся, и первое, что я увидел в предутреннем сумраке, было лицо спящегоМонтгомери. Его шляпа съехала на бок, обнажив бугристую, покрасневшую кожу, испещренную коричневыми пятнами, язвами и пучками поседевших волос. Капитан сердито и сосредоточенно хмурился, изгибая густые темные брови, из-под полуприкрытых век виднелись тоненькие полоски белков. По усам стекала ниточка слюны. Из открытого рта, похожего на изломанное горло кувшина, с тихим храпом вырывалось сухое старческое дыхание — словно мертвым воздухом веяло из древней пещеры, которую распечатали после столетий забвения. Изборожденное временем лицо было совсем-совсем близко — только руку протяни. Я смотрел на него, на распухшие искривленные пальцы, по-детски вцепившиеся в одеяло. В тот миг ко мне пришло ясное и жуткое озарение: я осознал собственную недолговечность и постиг неумолимую старость, это страшное проклятие, неотвратимую человеческую болезнь. Медленно и мучительно сводит она в могилу обреченных — всех тех, кому не посчастливилось умереть в детстве. Может быть, именно поэтому юноши с такой охотой шли на войну умирать. Я накрылся одеялом с головой. Второй раз я проснулся после восхода. Старик уже встал. Удалившись от нашего привала шагов на десять, он внимательно разглядывал местность в направлении Геттисберга. Там над деревьями виднелся белый купол, позолоченный первыми солнечными лучами. Я выпутался из одеяла и тоже поднялся, дивясь на странное промозглое оцепенение, сковавшее мое тело. Никогда прежде мне не приходилось спать под открытым небом. Преподобный Ходжес не раз обещал сводить нас в поход, но все время уходило на строевую подготовку и семафорную азбуку. Пожалуй, теперь поход с чистым сердцем можно было пропустить. Я еле ковылял на затекших ногах. Как же это капитан умудрился не разбудить меня, когда пристегивал свою деревяшку? Выйдя из-за деревьев, где справлял малую нужду, я увидел, что Монтгомери все еще вглядывается в белый купол на юго-востоке. — С утречком, парень, — поприветствовал он меня. Мы перекусили солониной и водой прямо там, под деревом. Я гадал, что досталось на завтрак Билли, преподобному и другим скаутам. У них как раз под боком стояли полевые кухни. Наверное, блинчики. Вполне возможно, с беконом. И, конечно же, по большому стакану молока. — Мы стояли здесь вместе с мистером Оливером, когда утром первого июля протрубили сбор, — скрипучим голосом начал капитан. — Тысяча четыреста семьдесят человек личного состава. Сто четырнадцать офицеров. Я тогда офицером еще не был, только сержантом. Нашивки получил после битвы в Глуши.[77] Ну и вот, накануне пришли вести от лейтенанта Хилла: на юге собирались союзные войска. Наверняка хотели нас отрезать. Наша бригада первой получила приказ и повернула на юг. На подходах к Гейдлерсбергскому пику мы услышали стрельбу. И генерал Родс повел нас через лес к Дубовому холму. — Монтгомери развернулся на своей деревянной ноге и посмотрел на восток, прикрывая глаза от солнца. — Где-то там вроде. Пошли, Джонни. Я поспешно скатал одеяла и поспешил следом за ним вниз с холма, туда, где на юго-востоке белел далекий купол. — Мы спустились с западной стороны вот этой гряды. Помнишь, парень? Деревья тогда росли не так густо. На марш поднялись еще засветло и сюда дотопали как раз к обеду. Час дня, наверное; может, полвторого. Перекусили на ходу галетами. Вроде как сделали тут ненадолго привал, пока Родс готовил орудия. Мы с Перри обрадовались донельзя. Он затеял очередное письмо нашей матушке, но я ему сказал, что он не успеет его закончить. Так и получилось, но как же я жалею, что не дал ему дописать чертово письмо. Отсюда хорошо было видно, как на геттисбергской дороге собираются янки. Мы понимали: сегодня будет бой. Черт возьми, парень, да брось ты уже одеяла. Нам они больше не понадобятся. Я вздрогнул от его окрика и уронил одеяла прямо в траву. Мы добрались до дальнего конца луга. Впереди за прохудившимся забором из жердей извивалась дорога — вероятно, та самая, по которой мы ехали вчера ночью. Капитан перекинул через изгородь деревянную ногу. Мы выбрались на пыльную обочину и остановились. Воздух загустевал от жары, глухо стучало в висках. Неожиданно откуда-то с юга донеслись едва слышные звуки музыки и аплодисментов. Монтгомери достал из кармана грязный красный носовой платок и промокнул лоб и шею. — Треклятые идиоты. Веселятся, будто это ярмарка деревенская. Чертова проклятая тупость. — Да, сэр, — откликнулся я по привычке. На самом же деле меня невероятно будоражила мысль о том, что я приехал на годовщину и прямо сейчас с настоящим ветераном, причем с моим собственным ветераном, шагаю по всамделишним полям сражений. Какой-нибудь прохожий, завидев нас издалека, мог бы даже принять меня за солдата. В тот миг я не раздумывая променял бы скаутскую форму цвета хаки на серый мундир конфедерата — и так же не раздумывая бросился бы вслед за капитаном куда угодно, отправился бы на край света завоевывать эскимосов, лишь бы маршировать с войском, сниматься вместе с товарищами с привала на рассвете, готовиться к бою, чувствовать себя по-настоящему живым, таким, каким я чувствовал себя в ту минуту. Капитан, наверное, заметил что-то такое в моем взгляде. Он наклонился близко-близко, тяжело опираясь на изгородь, и посмотрел мне прямо в глаза. — Черт тебя дери, Джонни, неужели ты снова купишься на эту чушь? Думаешь, поганые стервецы вернулись бы сюда, проехали бы столько миль, будь они по-настоящему честны с собой? Здесь празднуют годовщину бойни, но у них кишка тонка это признать. Я удивленно хлопал глазами. Старик распухшими пальцами схватил меня за ворот гимнастерки. — Ты разве не видишь, парень? Здесь устроили чертову скотобойню, скотобойню для людей. А теперь это старичье травит развеселые байки, плачет от умиления и вспоминает старые добрые времена, вспоминает, как нас отправили на убой. — Монтгомери ткнул пальцем в направлении купола. — Разве не видишь? Загоны, убойные цеха. Только везло далеко не всем — не всем прошибали череп с одного удара. Кое-кому в дробилке перемалывало ногу или руку, и мы валялись на солнцепеке, а рядом раздувались от жары трупы наших товарищей. Чертова скотобойня, парень. Тебя убивали и потрошили… выкидывали внутренности и принимались за следующего дурачка… срезали мясо и перемалывали кости на удобрения, потом кромсали оставшуюся требуху, набивали ею твои же собственные кишки и продавали любезной публике в виде колбасы. Парады. Героические истории. Воссоединение ветеранов. Всего-навсего колбаса, парень. — Тяжело дыша, капитан отпустил меня, сплюнул, вытер усы и молча уставился в небо. — Скотоводы, отправляя овец на бойню, обычно ставят во главе отары козла-вожака, иначе они идти отказываются. А нас привел на убой Айверсон, — вымолвил наконец старик бесцветным голосом. — Помни об этом, парень.
Мы пересекли дорогу, спустились с пологого холма к широкому полю и обогнули заброшенную ферму. Второй этаж усадьбы выгорел во время какого-то давнишнего пожара; окна первого заколотили досками. Вокруг фундамента все еще росли ирисы, они обрамляли и заросшую тропинку, что вела к осевшим надворным постройкам. — Старый дом Джона Форни, — объяснил капитан. — Он еще жил тут, когда я приезжал в девяносто восьмом. Говорил, работники отказываются оставаться на ферме после наступления темноты. Все из-за могильников. — Из-за чего, сэр? Я щурился на солнышке. Становилось все жарче, днем, наверное, воздух прогреется до тридцати. В пыльной траве скакали бестолковые кузнечики. Монтгомери, похоже, не расслышал вопроса. Мы уже подошли к роще, и белый купол скрылся за верхушками деревьев. Капитан внимательно вглядывался в поле, растянувшееся где-то на четверть мили между холмом и густой лесной порослью на юго-востоке. Он достал пистолет и со щелчком взвел курок. Сердце мое подпрыгнуло в груди. — Запомни, парень, он самовзводный. Мы продрались сквозь живую изгородь и медленно вышли на поле. Тихо стучала по земле капитанская деревяшка. Чертополох и осока цеплялись за штаны. — Айверсон, чертов мерзавец, сюда не спустился. Олли Уильямс слышал, как он отдал приказ там, на холме, возле родсовских пушек. Велел: «Задайте им перцу», а сам вернулся в тенек, отобедать. У него там и вино было. Мы воду лакали из канавы, а у него всегда было припасено вино к обеду. Нет, Айверсону сюда не резон соваться, зачем? Он подождет, пока все кончится, а потом заявит, что мы хотели капитулировать, скомандует мертвецам подняться и отдать честь генералу. Пошли, парень. Мы брели через поле. Отсюда было видно каменную изгородь на опушке, прятавшуюся в кружевной тени деревьев. Она как будто заросла спутанной травой, или это был вьюнок? — Бригада Дэниела осталась справа. — Монтгомери, чуть не сбив с меня шляпу, взмахнул пистолетом, указывая куда-то на юг. — Но когда они подошли, нас уже расстреляли как пушечное мясо. Они наткнулись на Сто сорок девятую пенсильванскую бригаду Роя Стоуна… чертовски меткие стрелки, мы их называли оленехвостыми, не помню уж почему. А мы-то оказались лишены всякого прикрытия, спустились сюда одни, раньше Дэниела, Рамсера, О’Нила[78] и всех остальных. Айверсон отдал приказ преждевременно: Рамсеру потребовалось еще полчаса, чтобы сюда добраться, а бригада О’Нила повернула назад, даже не добравшись до маммасбергской дороги. Мы уже дошли почти до середины поля. Оставшуюся слева дорогу скрывали ветви деревьев. До каменной стены было не больше трехсот ярдов. Я испуганно оглядывался на пистолет в руке капитана, но Монтгомери, похоже, совершенно забыл про него. — Вот так мы и спустились сюда. Бригада растянулась чуть не на половину пашни, шли наискось — с северо-востока на юго-запад. Слева — Пятый северокаролинский, а наш Двадцатый как раз тут, я топал в первой шеренге, и нас таких было две сотни. А Двадцать третий и Двенадцатый плелись позади, там, справа. Правый фланг Двенадцатого полка — на полпути к той чертовой железной дороге. Я внимательно всматривался в южную оконечность поля, но никакой железной дороги не видел — только нагретую солнцем широкую луговину, заросшую ежевикой и меч-травой. Возможно, когда-то раньше тут сеяли зерно. Капитан остановился, опершись на здоровую ногу. Он тяжело дышал. — А знаешь, Джонни, чего мы не знали? Мы не знали, что за той стеной залегли проклятущие янки. Тысячи солдат. Хорошо спрятались — не видно было ни флагов, ни ружей, ни фуражек. Притаились и ждали. Ждали, пока скотина не доберется до убойного цеха, ждали сигнала, чтобы начать резню. А полковник Айверсон даже не приказал пустить вперед стрелковую цепь. Да я в жизни не видел, чтобы в наступление шли без стрелковой цепи. А мы вот шли, шли через это чертово поле, а Айверсон восседал на Дубовом холме, обедал и попивал вино. Капитан взмахнул пистолетом в направлении рощи. Я испуганно отступил в сторону, думал — он выстрелит, но Монтгомери лишь скрежещущим голосом продолжил свой рассказ. — Помнишь? Дошли вот досюда… почти до того места, где растет эта чертова лоза. И тут янки поднялись из укрытия и открыли огонь. Растянулись почти на четверть мили вдоль проклятущей стены. Словно из-под земли выпрыгнули. И не выдали себя ни единым звуком: тишина, мы бредем через поле, под ногами шелестит трава, а в следующий миг — раз, и они дают залп. Будто небо на землю упало. Все вокруг исчезло в дыму и огне. На таком расстоянии промазать не могли даже янки. А оттуда из-за деревьев выбегали еще и еще… — Капитан махнул рукой туда, где слева стена изгибалась на северо-запад и спускалась к дороге. — Парень, мы оказались под анфиладным огнем. Пятый северокаролинский словно серпом выкосило. Тогда здесь росла пшеница, но к тому времени от нее осталось одно жнивье — прятаться негде, бежать некуда. Можно было отступить назад, к холму, но мы, бравые северокаролинские ребята, не приучены были бегать от врага. Поэтому нас косило и косило. Вперед не двинешься — чертову стену заволокло дымом и огнем, не прорваться. Я видел, как подполковник Дэвис — солдаты еще звали его стариной Биллом — увел свой Пятый полк вон туда, к югу, в маленькую низину. Видишь, там, где кустарник растет? Всего-навсего канава, но хоть какое-то укрытие. А нашему Двадцатому и Двадцать третьему капитана Тернера деваться было некуда — только и оставалось, что покорно подставляться под огонь. Старик медленно прошел около дюжины ярдов и замер. Около стены зеленая трава росла особенно густо, переплетаясь с длинными вьющимися стеблями и образуя настоящую чащобу. Я с удивлением увидел, что на самом деле это не вьюнок, а виноградная лоза. Монтгомери вдруг тяжело уселся на землю, взмахнув протезом, и бережно положил на колени пистолет. Я плюхнулся подле него, скинул шляпу и расстегнул гимнастерку. На пуговице нагрудного кармана по-прежнему болтался желтый ярлычок. Было неимоверно жарко. — Янки все палили и палили, — продолжал капитан хриплым шепотом, по его лицу и шее стекали капельки пота. — Федералы выскочили вон из того леса… там, где железная дорога… и открыли анфиладный огонь по старине Биллу и его парням, по нашему правому флангу. А мы не могли им ответить. Ни черта не могли! Только голову с земли поднимешь прицелиться — тут же схлопочешь в лоб пулю старика Минье.[79] Рядом лежал мой брат Перри, я видел, как ему прострелило глаз. Звук такой, словно говядину отбивают молотком. Он вроде как привстал и тут же рухнул обратно прямо подле меня. Я закричал, а потом заплакал, лицо все в грязи, в соплях и слезах. И вдруг чувствую, Перри вроде как опять норовит подняться. Вздрагивает, будто кто-то дергает его за ниточки. И еще. И еще. Но я же видел дырку у него в голове, видел, как его мозги вперемешку с осколками черепа размазало по моей правой штанине. И все равно чувствовал, как он приподнимается и дергается, словно пытается привлечь мое внимание, куда-то меня зовет. Только потом я понял, в чем дело: янки продолжали палить, в него попало еще несколько пуль, и каждый раз тело немного отбрасывало назад. Когда мы позже вернулись его похоронить, голова у брата оказалась разворочена так, будто дыню со всей силы грохнули оземь. Там со многими такое было, парень. Тела многих ребят буквально разорвало снарядами. Нас словно серпом выкосило. Или скорее это походило на мясорубку. Я сидел в траве и слушал его с открытым ртом. От черной земли и виноградных лоз исходил насыщенный сладкий аромат, от которого кружилась голова и слегка подташнивало. Жара усиливалась, окутывая все вокруг плотным влажным одеялом. — Кое-кто из наших не выдержал, вскочил и пытался бежать, — невидящими глазами уставясь в пустоту, тянул Монтгомери все тем же хриплым, монотонным голосом. Обеими руками он сжимал взведенный пистолет, направив его на меня, хотя уже явно и думать забыл о моем существовании. — Их всех перестреляли. Слышно было, как пули попадают в живую плоть, этот звук… Этот звук не мог заглушить даже грохот выстрелов. Дым от пальбы сдувало ветром в сторону леса, так что и такого прикрытия мы были лишены. Я видел, как лейтенант Олли Уильямс встал и закричал, чтобы ребята из Двадцатого не двигались, и прямо на моих глазах в него угодило два снаряда. Мы попытались открыть заградительный огонь, лежа в траве, но не успели толком дать залп, как янки выскочили из-за стены и бросились вперед, стреляя на ходу, орудуя штыками. Я видел, Джонни, как закололи тебя и двух других маленьких барабанщиков. Штыками. Старик замолчал и впервые за все это время взглянул на меня. Он казался растерянным. Медленно-медленно капитан опустил пистолет, осторожно убрал палец со взведенного курка и дотронулся до лба дрожащей рукой. Голова все еще кружилась, меня по-прежнему немного мутило. — Именно тогда вы потеряли… Вы повредили ногу, сэр? Монтгомери снял шляпу. Редкие пучки седых волос слиплись от пота. — Что? Ногу? — Старик недоуменно уставился на деревянный протез, словно в первый раз его увидел. — Нога. Нет, парень, это уже потом. Бой у воронки.[80] Янки тогда сделали подкоп и заложили взрывчатку, подорвали нас, пока мы спали. Поскольку я не откинулся прямо там, меня транспортировали домой в Роли и присвоили капитанское звание. За три дня до окончания войны. Нет, тогда… на этом поле… никаких серьезных ранений я не получил, хоть меня и задело несколько раз. Одной пулей оторвало каблук на правом сапоге; другая разнесла в щепки приклад ружья, у меня еще в щеке остались занозы; третья откромсала кусок уха. Но черт побери, слышать я от этого хуже не стал. Только вечером, когда ворочался, пытаясь заснуть, обнаружил, что еще одна пуля попала в ногу, чуть пониже задницы, но, видимо, уже на излете, так что я отделался простым синяком. Мы сидели и молчали. В траве шелестели какие-то букашки. Наконец капитан снова заговорил: — И только когда потом, много позже, подоспел Рамсер со своими ребятами и выбил отсюда северян, поганый сукин сын Айверсон спустился с холма. Я лежал где-то на поле, между трупами Перри и Нэта, весь заляпанный их кровью и мозгами. Проклятые янки меня и не заметили, просто перепрыгнули через нас троих и побежали дальше добивать раненых штыками, брать пленных. Я видел, как они со смехом забили прикладами старину Кейда Тарлтона. Черт их дери, они захватили наше полковое знамя. Его уже просто некому было защищать. Рамсер (в ричмондских газетах его еще называли южным рыцарем Баярдом,[81] уж не знаю, что это значило) спускался с холма и тоже попал бы в засаду, но лейтенанты Кродер и Даггер успели его предупредить. Рамсер был офицером, да, но зато дураком не был. Пересек дорогу дальше к востоку и обрушился на правый фланг янки с той стороны стены. Отогнал их к самому зданию семинарии. В живых из наших почти никого не осталось. Кто-то пытался отползти к дому Форни, кто-то просто неподвижно лежал, истекая кровью. А сукин сын Айверсон тем временем рапортовал генералу Родсу, что полк поднял белый флаг и сдался янки. Подлая ложь, слышишь, парень. Никто не сдался, в плен захватывали только раненых, уводили под ружейным прицелом. Никаких белых флагов, черта с два. Уж точно не у наших ребят. Осколками белых костей поле было усеяно, это да. Я все ползал в траве в поисках целой винтовки, когда приехали Родс и Айверсон. Генерал хотел, чтобы ему показали, где именно полк сдался в плен. Их кони переступали через тела убитых, через тела солдат Двадцатого северокаролинского полка, и тут этот мерзавец Айверсон… Голос у капитана надломился. Старик надолго замолчал, потом откашлялся, сплюнул и продолжил: — Мерзавец Айверсон увидел мертвецов, семьсот человек — отборнейшие ребята, лучшая бригада Конфедерации, лежали ровными рядами, как на торжественном построении. И Айверсон решил, что они живы, просто пригибаются от выстрелов, хотя Рамсер и отогнал янки. Тогда он привстает на стременах, его чертов гнедой чуть не наступил на Перри, и орет что есть мочи: «Встать, встать и отдать честь генералу, солдаты! Встать немедленно!» Он так и не понял, что перед ним мертвецы, пока Родс ему не сказал. Капитан задыхался от гнева, он судорожно глотал ртом воздух и едва мог говорить. Мне тоже было трудно дышать: вокруг плотным облаком висела тошнотворная сладковатая вонь, исходившая от травы, вьющихся лоз и темной земли. Я уставился на виноградную гроздь; вздувшиеся ягоды напоминали израненную, перетянутую изломанными венами плоть. — Если бы я нашел винтовку, то пристрелил бы мерзавца прямо там. — Монтгомери прерывисто вздохнул. — Они вместе с Родсом вернулись на холм, и больше я никогда Айверсона не видел. Командование полком, вернее тем, что от него осталось, принял капитан Хелси. Когда на следующее утро бригаду собрали, вместо тысячи четырехсот семидесяти человек, что откликались на перекличке накануне, на построение вышло триста шестьдесят два. Айверсона отозвали обратно в Джорджию, сделали его начальником почетного караула или кем-то в этом роде. Ходили слухи, что президент Дэвис спас его шкуру от трибунала. Было ясно, что никто из нас никогда не будет служить под началом этого жалкого негодяя. Знаешь, парень, что записано на последней странице полковой истории Двадцатого северокаролинского? — Нет, сэр, — тихо ответил я. Старик прикрыл глаза. — Полк впервые принял участие в военных действиях в битве у Семи Сосен,[82] понес неизмеримые потери в битве при Геттисберге, сдался во время Аппоматтокской кампании.[83] Помоги мне подняться, парень. Нужно найти укрытие. — Укрытие, сэр? — Да, черт его дери. — Капитан встал, опираясь на мое плечо, как на костыль. — Нужно подготовиться, ведь сегодня здесь непременно появится Айверсон. — Словно в ответ на мой невысказанный вопрос, он взмахнул пистолетом. — Когда он придет, мы должны быть готовы.
Подходящее укрытие отыскалось уже ближе к полудню. Я трусил следом за прихрамывавшим Монтгомери. Часть меня билась в панической истерике, призывала бежать, не участвовать в этом безумии. Зато другая, более сильная часть спокойно принимала происходящее и его извращенную логику. Полковник Альфред Айверсон-младший вернется сегодня на место своего позора, мы подкараулим его и пристрелим. — Видишь, парень, там впадина в земле? Прямо где растут эти чертовы гроздья? — Да, сэр. — Могильники Айверсона. Так их местные прозвали, мне в девяносто восьмом рассказывал Джон Форни. Знаешь, что это такое? — Нет, сэр. — Я соврал, потому что в глубине души знал — знал очень хорошо. — В ночь после битвы… нет, черт подери, после бойни… те немногие из нашего полка, кто остался в живых, вернулись сюда вместе с саперами генерала Ли и выкопали неглубокие ямы, а потом свалили ребят туда всех вместе. Они лежали так же, как полегли под пулями — в боевом порядке. Нэт и Перри — плечом к плечу. Прямо тут, где до этого лежал я. Видишь, могильники начинаются? Небольшая впадина, и трава выше растет. — Да, сэр. — Форни говорил, там трава всегда росла выше, и пшеница тоже, когда они еще сеяли. Он не очень-то много сеял на этом поле. Жаловался, что фермерские не хотят здесь работать. Он своим ниггерам втирал, что волноваться не о чем, мол, после войны приезжали из Объединенной организации ветеранов, всех выкопали и отвезли останки обратно в Ричмонд. Но это не совсем так. — Не так, сэр? Мы медленно пробирались через густой кустарник. Виноградная лоза обвилась вокруг лодыжки, и мне пришлось приложить усилие, чтобы высвободить ногу. — Здесь особо и не копали, — отозвался капитан. — По полю было разбросано столько костей — они отрыли кое-кого и быстренько свернулись. К тому же работать тут никто не хотел, прямо как ниггеры Форни. Даже днем. Место настолько пропиталось гневом и стыдом… чувствуешь, парень? — Да, сэр, — машинально отозвался я, хотя в тот момент не чувствовал почти ничего — меня тошнило и хотелось спать. Капитан остановился. — Черт его дери, откуда здесь этот домишко? В проломе стены открывался вид на маленький дом — скорее даже хижину — из темного, почти черного дерева. Строение пряталось в тени деревьев. Не было ни подъездной аллеи, ни дорожки, но через поле в лес вела едва заметная тропинка, как будто сквозь пролом время от времени проезжали лошади. Старик Монтгомери, казалось, оскорбился до глубины души: кто-то воздвиг себе жилище почти на том самом месте, где полег его любимый Двадцатый северокаролинский полк. В доме явно никого не было, и мы двинулись дальше вдоль стены. Чем ближе мы подходили к стене, тем труднее становилось идти. Трава там вымахала вдвое выше, спутанные лозы разрослись шире, чем школьное футбольное поле, на котором наш скаутский отряд занимался строевой подготовкой. Идти было трудно не только из-за травы и цеплявшихся за одежду побегов: повсюду под переплетением зеленых стеблей подстерегали зияющие ямы — луговину испещряли десятки, дюжины дыр. — Чертовы кроты, — ругался капитан. Но отверстия были почти вдвое шире всех когда-либо виденных мною кротовых или сусличьих нор. И обычных в таких случаях земляных холмиков рядом с ними не оказалось. Монтгомери дважды попадал ногой в эти дыры. Во второй раз его деревяшка угодила так глубоко, что мы вдвоем еле-еле ее вытащили. Я тянул изо всех сил, ухватившись за протез, и в какой-то момент мне вдруг показалось, что кто-то или что-то тянет с другой стороны. Жуткое ощущение, словно старика пытались затащить под землю. Монтгомери тоже явно стало не по себе, потому что, выдернув наконец ногу из дыры, он нетвердым шагом добрался до стены, тяжело уселся и пропыхтел: — Все, парень, тут и будем ждать. Место идеально подходило для засады: виноградные лозы вымахали здесь в половину человеческого роста, они скрывали нас, а нам было видно почти все поле. Тылы защищала каменная стена. Монтгомери снял мундир, положил на землю холщовую сумку и принялся разбирать и чистить пистолет. Я валялся в траве неподалеку и размышлял обо всем на свете: гадал, что сейчас происходит в Геттисберге и как бы уговорить капитана вернуться, пытался представить себе Айверсона, вспоминал домашних. В конце концов все мысли куда-то улетучились, и я впал в странное состояние на грани сна и яви. В каких-то трех футах от нас чернел один из многочисленных провалов. Сквозь дрему я смутно ощущал растекавшийся оттуда аромат, тот же самый, что и тогда, у стены, — сладковатый и тошнотворный. Теперь он стал более густым, насыщенным, даже чувственным, обретя легкий привкус тления и разложения, — так пахнут мертвые морские создания, высыхающие на солнце. Много лет спустя я очутился на заброшенной скотобойне в Чикаго, куда меня привел друг — агент по продаже недвижимости. Так вот, там пахло почти так же: смрад давно покинутого склепа, пропитанного застарелыми кровавыми воспоминаниями. День все тянулся и тянулся, в траве стрекотали насекомые, густой плотный воздух плавился от жары. Я дремал, просыпался, вглядывался вместе с капитаном в безлюдное поле и засыпал снова. Один раз вроде бы ел галеты, которые Монтгомери вытащил из холщовой сумки, и запивал их остатками воды из бурдюка. Неясные воспоминания о том дне навсегда слились для меня с видениями и снами — я помню, что рядом сидели другие, жевали тот же скудный походный паек, переговаривались тихими голосами. Слов было не различить, но казавшийся таким знакомым и привычным южный акцент слышался явственно. Помню, как один раз я проснулся от звука проезжавшего по маммасбергской дороге автомобиля. Проснулся, хотя до этого тоже вроде бы не спал — сидел, прислонившись к стене, и думал, что бодрствую. Шум мотора словно выдернул меня из беспамятства. Дорогу скрывали росшие на краю поля деревья, звук постепенно стих, и я снова забылся размытым, почти наркотическим сном. Но один сон, который привиделся мне тогда, я хорошо помню до сих пор. Я лежал посреди поля, уткнувшись щекой в землю, раненый и беспомощный. Правый глаз не мигая уставился в голубое летнее небо. По лицу прополз муравей, затем еще один и еще; наконец их собралась целая вереница. Они ползали по лбу, забирались в ноздри и открытый рот. Я не мог ни пошевелиться, ни моргнуть. Чувствовал, как они копошатся, вытаскивая кусочки съеденного на завтрак бекона, застрявшие между зубами; как пробираются по нежному мягкому нёбу, как залезают в горло. Мне не было неприятно. Я смутно ощущал, как внутрь меня проникают другие создания, как какие-то крошечные существа шевелятся, ползая в моих распухших кишках, откладывают яйца в уголках высохшего глаза. Я ясно видел кружившего в вышине ворона. Птица спускалась все ниже, потом приземлилась, сложила крылья, засеменила в мою сторону, подпрыгнула и оказалась совсем рядом. Вблизи ее клюв показался мне невероятно огромным. Одним ловким движением она выклевала мне глаз. Наступила темнота, но я все равно ощущал свет и тепло. Тело, в котором теперь жили сотни, тысячи микроорганизмов, распухало от жары. Свободный когда-то ворот рубашки стягивал вздувшуюся плоть. Я чувствовал, как мои собственные бактерии отчаянно пытаются вырвать у смерти еще хотя бы несколько часов: лишенные привычной пищи, они принялись за разлагавшийся под кожей жир, прогорклую кровь. Я ощущал, как рассыхаются и истончаются губы, обнажая оскал, как все шире расходятся челюсти в тихой и печальной усмешке, как гниют связки и мускулы, как их глодают мелкие лесные хищники. Личинки вылуплялись и тут же яростно принимались за работу. Быстрее, быстрее. Я становился легче и невесомее. Тело постепенно уходило в рыхлую почву. Рот открывался все больше, силясь проглотить неумолимо приближавшуюся землю. Я стал одним целым с земным прахом. Там, где раньше был мой язык, прорастали стебли травы. Во влажном укрытии черепа на плодородной почве проклюнулся цветок, развернул склоненную головку и сквозь отверстие глазницы рванулся вверх. Я погружался в состояние покоя, сливался с кислой черной землей и все это время чувствовал присутствие других. Случайные, медленно менявшиеся почвенные токи доносили до меня их прикосновения — частички истлевшей плоти, шерсти, кости перемешивались, соединялись в единое целое в робкой и одновременно порывистой страстности первого любовного прикосновения. Я растворился, слился со злобной темнотой, от меня остались лишь кости, ломкие осколки памяти, забытые острые куски боли — они упорно сопротивлялись неминуемому уходу в безболезненное небытие. И в самой сердцевине разлагавшегося костного мозга, глубоко в черном, глинистом забытьи, во мне жила память. Я помнил. И ждал.
— Парень, проснись! Это он. Это Айверсон! Торопливый шепот капитана выдернул меня из забытья. Я ошалело огляделся вокруг, все еще чувствуя во рту привкус земли, к которой прижимался губами. — Черт подери, я знал, что он придет! — сипел Монтгомери, указывая куда-то влево. Из пролома в стене вышел человек, одетый в черное. Я помотал головой. Давешний сон никак не хотел меня отпускать. В глазах потемнело, и я тер их руками, пока не понял, что на самом деле стемнело вокруг — наступил вечер. Как это я умудрился проспать весь день? Мужчина в черном шагал через серое, сумеречное поле, странным образом напоминавшее мои жутковатые, лишенные света видения. В полумраке смутно белели рубашка и бледное лицо. Он шел в нашу сторону, расчищая себе путь резкими, отрывистыми взмахами трости. — Боже мой, это он, — прошипел капитан и трясущимися руками поднял пистолет. Я с ужасом наблюдал, как он взводит курок. Мужчина был уже совсем рядом, где-то в двадцати пяти футах от нас. Черные волосы, черные усы, глубоко посаженные глаза. Действительно похож на тот ферротип, что я разглядывал накануне при свете звезд. Монтгомери покрепче перехватил пистолет левой рукой и прищурился. По мере приближения незнакомца стало слышно его свистящее дыхание; чуть позднее я понял, что он насвистывает на ходу какую-то мелодию. Капитан положил палец на спусковой крючок. — Нет! — завопил я, схватился за пистолет и дернул вниз. Курок больно прищемил кожу между большим и указательным пальцами. Оружие не выстрелило. Старик изо всех сил оттолкнул меня левой рукой и снова начал прицеливаться. Я вцепился ему в запястье и закричал: — Нет! Он ведь совсем не старый! Посмотрите же. Он ведь молодой! Ветеран замер, все еще сжимая пистолет, и вгляделся в незнакомца, который стоял теперь в десяти футах от нас. Все верно. Он не мог быть полковником Айверсоном — слишком молод. Удивленный бледный мужчина лет тридцати. Монтгомери опустил оружие и поднес дрожащие руки к вискам. — Боже мой, боже мой, — шептал он. — Кто здесь? — Несмотря на явное удивление, человек в черном говорил резким, уверенным голосом. — Покажитесь. Я помог капитану подняться. Усатый незнакомец, несомненно, заметил какое-то движение в траве за виноградными лозами, но точно не видел ни пистолета, ни отчаянной борьбы. Старик опустил оружие в глубокий карман мундира, поправил шляпу и исподлобья посмотрел на мужчину. Я чувствовал, как он дрожит. — Так вы ветеран! — воскликнул неизвестный и шагнул вперед, приветственно протягивая руку и одновременно ловко отодвигая тростью вьющиеся плети.
В сгущавшихся сумерках мы обошли могильники. Наш новый знакомый шагал нарочито медленно, чтобы ковылявший следом капитан не отставал. Он рассказывал, одновременно указывая тростью в нужном направлении: — Здесь был бой еще до начала основной битвы. Сюда мало кто приходит, в основном ведь все слышали только про знаменитые поля сражений на юге и на западе. Но местные жители или те, кто, как я, приезжает на лето, знают про такие вот местечки. Смотрите, как интересно — вон там как будто небольшая впадина, видите? — Да, — отозвался капитан. Он уставился в землю, старательно избегая смотреть в лицо незнакомцу. Тот назвался Джессупом Шидсом и объяснил, что живет в маленьком домике, который мы заметили еще днем. Монтгомери погрузился в какое-то растерянное забытье, поэтому мне пришлось представляться за нас обоих. Ни того ни другого, казалось, не заинтересовало, как меня зовут. Капитан наконец искоса глянул на Шидса, как будто все еще не веря, что ошибся, что это не тот человек, чье имя мучило его последние полвека. Шидс тем временем прокашлялся и указал на переплетенные виноградные заросли. — На самом деле вон там случилась небольшая перестрелка еще до начала основного боя. Солдаты Конфедерации широкой линией шли в наступление, но их на какое-то время задержала атака федералов, прятавшихся за той стеной. Однако южане быстро вернули себе прежние позиции. Они одержали в этот день маленькую победу, но днем позже попали в незавидное, почти безвыходное положение. — Шидс улыбнулся капитану. — Вы ведь наверняка знаете все это лучше меня, сэр. Как вы сказали, в каком подразделении вы имели честь служить? Губы у старика задрожали, и он с трудом выдавил: — Двадцатый северокаролинский полк. — Конечно же! — воскликнул Джессуп и хлопнул его по плечу. — Часть прославленной бригады, которая на этом самом месте одержала такую великолепную победу. Сэр, для меня было бы огромной честью, если бы вы и ваш юный друг перед возвращением в лагерь подняли вместе со мной бокалы за Двадцатый северокаролинский полк. Вы согласны, сэр? Я подергал капитана за рукав. Мне внезапно захотелось оказаться как можно дальше от этого поля. Голова кружилась от голода, а еще от какого-то странного, необъяснимого страха. Но старик выпрямил спину и ответил — на этот раз громко и отчетливо: — Мы с мальчишкой почтем за честь, сэр.
К крыльцу небольшого чернильно-черного дома была привязана оседланная и взнузданная вороная лошадь явно благородных кровей. Позади строения громоздились многочисленные валуны и непроходимой стеной высился лес — подобраться сюда с той стороны было, наверное, практически невозможно. Внутри дом выглядел каким-то нежилым. Из крошечной прихожей открывались две двери: в гостиную, где стояла немногочисленная мебель, укутанная белыми простынями, и в столовую — туда нас и повел Шидс. В узком помещении с единственным окошком не было ничего, кроме сколоченного из досок стола и высокого буфета, заставленного бутылками, консервными банками и грязными тарелками. На столе горела старомодная керосиновая лампа. За грязными занавесками виднелась еще одна комнатка, на полу которой я мельком заметил матрас и стопки книг. В дальнем конце столовой уходила наверх, в черную квадратную дыру в потолке, крутая лестница. Я не мог разглядеть, что там было — вероятно, чердак. Джессуп Шидс прислонил тяжелую трость к столу, чем-то загремел возле буфета, а потом принес три стакана и графин. Лампа шипела, ее колеблющееся пламя заставляло наши тени хаотично метаться по грубо оштукатуренной стене. Я посмотрел в окно, но ничего не увидел: уже наступила ночь, и только темнота таращилась на меня через стекло. — Мальчик будет пить вместе с нами? — Рука Шидса с графином вопросительно замерла над третьим стаканом. Никогда раньше я не пробовал вина, да и вообще спиртного. — Да, — отозвался капитан, пристально глядя на Джессупа. Лампа подсвечивала лицо старика снизу, заостряя скулы и превращая густые брови над клювообразным носом в подобие двух распахнутых крыльев. Тень Монтгомери на стене, казалось, принадлежала какой-то другой эпохе. Мы взяли стаканы. Я с сомнением глядел на вино: густую темно-красную жидкость пронизывали тоненькие черные нити. Игра света? Или нет? — За Двадцатый северокаролинский полк. — Шидс торжественно поднял стакан, в точности как преподобный Ходжес — чашу для причастия. Мы с капитаном выпили. К вкусу винограда примешивался вкус меди. Месяцем раньше в школьной драке один дружок Билли Старджилла разбил мне губу, во рту кровоточило несколько часов. Ощущения были похожие. Монтгомери хмуро посмотрел на свой стакан. На его усах повисли винные капли. — Местного производства, — холодно улыбнулся Джессуп, демонстрируя окрашенные алым зубы. — Сугубо местного. Мы с вами только что побывали на винограднике. Я уставился на густую жидкость. Виноград, выращенный на плодородной почве могильников Айверсона. — Еще один тост! — воскликнул Шидс, да так громко, что я невольно вздрогнул. — За славного храбреца, который повел Двадцатый северокаролинский полк в бой. За полковника Альфреда Айверсона. И он поднес стакан к губам. Я стоял как громом пораженный. Капитан Монтгомери грохнул стаканом об стол. Цвет его лица мало чем отличался от цвета пролитого вина. — Да гореть мне в аду, если… — задыхался старик. — Да я… Никогда! Мужчина, назвавшийся Джессупом Шидсом, осушил свой стакан и улыбнулся. Лицо его было таким же белоснежным, как рубашка; волосы и длинные усы — в тон черной одежде. — Отлично, — сказал он, а потом чуть громче добавил: — Дядя Альфред? Еще пока он пил, я краем уха слышал чьи-то тихие шаги на лестнице и теперь повернул голову, все еще сжимая стакан. На нижней ступеньке стоял невысокий мужчина. На вид ему было лет восемьдесят с лишним, но, в отличие от капитана Монтгомери, его лицо не бороздили морщины, наоборот — кожа старика была по-младенчески розовой и гладкой, почти прозрачной. Мне вспомнилось гнездо с новорожденными крысятами, обнаруженное мной в соседском амбаре предыдущей весной. Омерзительно дергавшаяся бледно-розовая плоть, до которой я зачем-то дотронулся. До Айверсона я бы дотрагиваться не стал. У полковника была почти такая же белоснежная борода, как на портретах Роберта Ли, но на этом сходство заканчивалось. Высокое скорбное чело и взгляд генерала туманила печаль, Айверсон же пристально смотрел на нас широко раскрытыми глазами, в которых переливались желтые крапинки. Волос у него почти не осталось, и туго натянутая розоватая кожа на голове усиливала сходство с младенцем. Монтгомери с открытым ртом уставился на Айверсона. Капитан тяжело и прерывисто дышал, а потом схватился за воротник, словно ему не хватало воздуха. Полковник заговорил тихим, немного шепелявым голосом, почти женским, с хнычущими интонациями вздорного ребенка: — Все вы рано или поздно возвращаетесь. — Он вздохнул. — Когда-нибудь придет этому конец? — Ты… — выговорил наконец капитан, тыча в Айверсона пальцем. — Избавьте меня от ваших гневных излияний, — отрезал тот. — Думаете, вы первый меня разыскали? Первый пытаетесь оклеветать меня и тем самым оправдать собственную трусость? Мы с Сэмюелем научились справляться с подобными отбросами. Я лишь надеюсь, что вы последний. Капитан шарил рукой в кармане мундира. — Ты чертов сукин сын… — Молчать! — скомандовал полковник. Взгляд его широко раскрытых глаз метался по комнате, меня он словно не замечал. Уголки губ на розовом лице ходили ходуном. Я снова вспомнил про крысят. — Сэмюель, принеси трость. Этого человека следует покарать за дерзость. — Он посмотрел на Монтгомери безумным взглядом. — Перед тем как мы закончим, вы отдадите мне честь. — Сперва я посмотрю, как ты отправишься в ад, — ответил капитан и вытащил из кармана пистолет. Нажать на курок старик не успел. Невероятно быстрым движением племянник Айверсона поднял тяжелую трость и выбил пистолет из руки Монтгомери. Я стоял неподвижно, все еще сжимая стакан с вином. Капитан нагнулся подобрать оружие, протез делал его медлительным и неуклюжим. Тогда без всякого видимого усилия Сэмюель схватил Монтгомери за воротник и отбросил назад, точно ребенка. Ветеран ударился спиной о стену, задохнулся и осел вниз, вытянув ноги. Деревяшка царапнула по неровному дощатому полу. Лицо старика стало одного цвета с его серым мундиром. Племянник Айверсона нагнулся, поднял пистолет и положил на стол. Полковник с улыбкой кивнул, губы его все еще дергались в кривой усмешке. Но я смотрел только на капитана. Схватившись за горло, старик скорчился у стены. Тело его билось в конвульсиях, он тяжело хватал ртом воздух, дышал все более хрипло и прерывисто. Лицо сделалось даже не серым, а лиловым, почти черным. Язык вывалился изо рта, на усах блестели капельки слюны. Осознав, что с ним произошло, капитан в ужасе вытаращил глаза и неотрывно смотрел на Айверсона. В его взоре читалось безмерное отчаяние: полвека ждал он этой встречи, был одержим ею, и вот теперь его предавало собственное тело. Старик еще два раза с шумом втянул в легкие воздух, а потом перестал дышать. Подбородок упал на впалую грудь, кулаки почти разжались, устремленный на Айверсона взгляд помутнел. В тот миг с меня внезапно спало оцепенение: я закричал, выронил стакан с вином и бросился к капитану Монтгомери. Из гротескно распахнутого рта не вырывалось ни вздоха. Глаза уже начали подергиваться прозрачной пленкой. Я дотронулся до изуродованных артритом рук, похолодевших и помертвевших, и почувствовал, как что-то сжимается в моей собственной груди. Это было не горе, нет. Слишком мало и слишком недолго я его знал, слишком странными были обстоятельства нашего знакомства, чтобы его смерть вызвала у меня приступ острого горя. Мне стало трудно дышать оттого, что где-то внутри меня разверзлась необозримая пустота, вызванная ужасным открытием: на свете не всегда есть место справедливости, в жизни все порой бывает очень нечестно. Нечестно! Я держал мертвого старика за руки и плакал, оплакивая и его, и себя. — Пошел прочь. — Племянник Айверсона оттолкнул меня в сторону и склонился над телом. Он встряхнул Монтгомери за ворот мундира, грубо похлопал по лиловым щекам, приложил ухо к груди. — Сэмюель, он мертв? — безразличным тоном спросил Айверсон. — Да, дядя. —Племянник выпрямился и взволнованно подергал себя за усы. — Да-да, — повторил полковник с той же вздорной, немного безумной интонацией. — Какая, в сущности, разница. — Он раздраженно взмахнул маленькой розовой ручкой. — Сэмюель, тащи его на улицу, пусть присоединится к остальным. Лже-Шидс застыл на мгновение, а потом удалился в заднюю комнату, вернувшись оттуда с фонарем, мотыгой и лопатой. Рывком подняв меня на ноги, он сунул мне в руки лопату и фонарь. — Дядя, а что с мальчишкой? Айверсон уставился желтыми глазами на ступеньку лестницы, потер гладкие ручки и прохныкал: — На твое усмотрение, Сэмюель. На твое усмотрение. Племянник зажег фонарь, схватил капитана одной рукой и поволок его к двери. Ремешки, крепившие деревянную ногу, теперь болтались, и я не мог отвести взгляд от зазора между протезом и обрубком кости. Сэмюель потащил тело через прихожую на улицу и дальше, куда-то в ночь. Неподвижный как статуя, я стоял возле дома с лопатой и шипящим фонарем и молился, чтобы они забыли про меня. На затылок опустились холодные, тонкие пальцы. Тихий, требовательный голос прошептал: — Пошевеливайтесь, молодой человек. Не заставляйте нас ждать.
Могилу младший Айверсон выкопал совсем рядом с тем местом, где мы с капитаном лежали в засаде. Если бы кто-то и проехал случайно в тот момент по маммасбергской дороге, он не заметил бы нас: даже при свете дня деревья и виноградные плети надежно прикрывали эту часть поля. Но никто не проехал. Стояла зловещая, кромешная тьма. Небо заволокли тучи, и звезд не было видно. Единственными источниками света служил мой фонарь да еще слабое свечение, которое исходило от дома, оставшегося в сотне ярдов позади. Вороная лошадь проводила взглядом странную процессию. На крыльце с головы капитана свалилась шляпа, и я растерянно наклонился ее поднять. Все это время Айверсон держал меня за шею. Рассыпчатая, влажная почва легко поддавалась лопате. За двадцать минут племянник Айверсона вырыл яму в три фута глубиной. Луч фонаря высвечивал кучу сырой земли, в которой белели обрывки корней, кусочки камня и чего-то еще. — Довольно, Сэмюель. Покончим с этим. Племянник взглянул на дядю. В холодном свете лицо молодого человека превратилось в бледную маску, усыпанную блестящими капельками пота. Широкими росчерками угля кто-то набросал на ней усы, брови и грязное пятно на левой щеке. Отдышавшись, мужчина кивнул, положил лопату и столкнул тело Монтгомери вниз. Старик упал на спину. Глаза и рот его все еще были раскрыты. За край ямы зацепилась болтавшаяся на ослабших ремешках деревянная нога. Младший Айверсон, прикрыв глаза рукой, посмотрел на меня, а потом сбросил протез прямо на грудь капитану. Не глядя больше на тело, он схватил лопату и начал быстро зарывать его. Я же продолжал смотреть. Горсть земли упала моему ветерану на щеку, другая — на лоб, еще две засыпали незрячие глаза, сперва левый, затем правый. Землей наполнился разинутый рот. Комок в моем горле вздулся, а потом внезапно прорвался наружу: меня затрясло от неслышных рыданий. Меньше чем за минуту от капитана остался лишь едва заметный холмик на дне неглубокой могилы. — Сэмюель, — прошепелявил Айверсон. Тот застыл на мгновение и оглянулся на дядю. — Что скажешь насчет… того, другого? Я едва расслышал тихий голос полковника сквозь шипение фонаря и бешеный стук собственного сердца. Племянник вытер щеку тыльной стороной кисти, еще больше размазав угольно-черный росчерк, и медленно кивнул. — Думаю, нам придется, дядя. Мы не можем позволить… не можем рисковать. Особенно после того, что случилось во Флориде… — Хорошо, — вздохнул Айверсон. — Делай, что должен. Я приму любое твое решение. Племянник снова кивнул, в свою очередь тяжело вздохнул и потянулся к куче свежевскопанной земли за мотыгой. «Беги же!» — отчаянно закричал мой внутренний голос, но я только и мог, что стоять там, на краю жуткой ямы, сжимая в руке фонарь, и глубоко вдыхать исходивший от Сэмюеля запах пота и еще какую-то вонь, густую, всепроникающую, которую испускали могила и виноградники. — Поставьте фонарь, молодой человек, — прошептал мне Айверсон почти в самое ухо. — Осторожно поставьте на землю. Шею еще сильнее сдавили холодные пальцы. Я осторожно опустил фонарь так, чтобы он не опрокинулся, и полковник подтолкнул меня к краю могилы. Племянник с мотыгой в руках стоял в яме почти по пояс и не сводил с меня пристального взгляда, в котором читалось что-то вроде сочувствия, смешанного с опасением. Крупными белыми руками он поудобнее перехватил ручку. Я чуть было не сказал ему: «Все в порядке». И тут решимость на лице младшего Айверсона сменилась изумлением. Сэмюель дернулся, словно на секунду потерял равновесие, потом еще раз. Как будто под ним была плита, которая вдруг резко опустилась на фут, а затем еще дюймов на восемнадцать. Кромка могилы теперь доходила ему до подмышек. Он отбросил мотыгу и ухватился за край ямы, пытаясь выбраться на поверхность. Но земля вокруг ходила ходуном. Мы с полковником, спотыкаясь, отступили назад, потому что под ногами все затряслось, а потом поплыло как во время оползня. Левой рукой племянник вцепился мне в лодыжку, а правой старался ухватить виноградную лозу. Айверсон все еще сжимал мою шею, от его хватки я чуть не задохнулся. Неожиданно раздался грохот, как будто у могилы провалилось дно и пласт земли, проломив потолок, обрушился в какую-нибудь давно заброшенную шахту или пещеру. Племянник Айверсона рванулся вверх, наполовину выбравшись из ямы, и навалился грудью на скользкий край. Он выпустил мою ногу и теперь скреб по глинистой земле, пытаясь ухватиться за извивавшиеся стебли. Сэмюель напоминал альпиниста на отвесном уступе, вцепившегося пальцами в скалу и бросающего вызов силе тяготения. — Помогите, — прошептал он сиплым от напряжения голосом, словно все еще не веря в происходящее. Полковник отступил еще дальше, увлекая меня за собой. Сэмюелю почти удалось выбраться. Левой рукой он нащупал воткнувшуюся в землю мотыгу и воспользовался ею как рычагом, подтягиваясь вверх и упираясь в край ямы правым коленом. И тут край заскользил вниз. Куча земли, насыпанная возле могилы, устремилась, обтекая ручку мотыги, вытянутую руку Сэмюеля, его плечо, вниз — назад в яму. Еще за несколько минут до этого почва была влажной и податливой — теперь же она походила на грязевой поток, на воду… на черное вино. Племянник Айверсона съехал обратно в могилу, в которой плескалась вязкая грязь. На поверхности черной, зыбкой почвы теперь оставались только его лицо и вытянутые пальцы. Внезапно раздался громкий звук, как будто что-то большое двигалось вокруг нас, ворочалось под покровом травы. Шелестели листья. Ломались виноградные лозы. При этом царило полное безветрие. Племянник Айверсона хотел закричать, но открывшийся рот тотчас же затопила волна черной земли. Он смотрел звериным, нечеловеческим взглядом. Неожиданно вокруг опять все затряслось, и Сэмюель мгновенно пропал из виду — точно пловец, которого утянула на дно гигантская акула. А потом послышался зубовный скрежет. Полковник заскулил, как маленький мальчик, которого оставили одного в темной комнате, и ослабил хватку на моей шее. В последний раз вынырнуло лицо Сэмюеля, его вытаращенные глаза были забиты грязью. Кто-то откусил огромный кусок от его правой щеки. Мы услышали страшный звук — он пытался кричать, но в его горле и дыхательных путях застряли комья земли. А потом его снова утянуло вниз. Полковник сделал еще три неуверенных шага назад и выпустил меня. Я схватил фонарь и бросился наутек.
Услышав крик, я на миг обернулся и увидел, как полковник Айверсон, спотыкаясь, сопя от напряжения, протискивается через пролом в стене. Он все-таки выбрался с поля. Я бежал настолько быстро, насколько способен испуганный десятилетний мальчишка. В правой руке болтался фонарь, выхватывая из мрака листья, ветки, камни. Мне нужен был этот фонарь, нужен был свет. В голове билась единственная мысль: Сэмюель оставил пистолет капитана на столе. Оседланная лошадь рвалась с привязи, вытаращив обезумевшие глаза: она, наверное, испугалась меня и колеблющегося света фонаря, или воплей бежавшего следом Айверсона, или той жуткой вони, растекавшейся с полей. Я пронесся мимо нее, распахнул дверь, пересек прихожую, ворвался в столовую и там остановился, тяжело дыша, оскалившись в торжествующей и в то же время испуганной ухмылке. Пистолет исчез. Несколько секунд или даже минут я стоял неподвижно, ничего не соображая. Потом, не выпуская из рук фонарь, принялся искать под столом, в буфете, в маленькой задней комнатке. Пистолета нигде не было. Я рванулся к двери, услышал звук шагов на крыльце, метнулся к лестнице и замер в нерешительности. — Вы не это… не это ищете… молодой человек? — На пороге столовой стоял запыхавшийся Айверсон. Левой рукой он опирался о дверной косяк, а правой нацелил на меня револьвер. — Клевета, сплошная клевета, — произнес он и нажал на крючок. Капитан говорил, что пистолет самовзводный. Щелкнул, вставая на место, курок, но выстрела не последовало. Айверсон посмотрел на оружие и снова прицелился. И тут я швырнул ему в лицо фонарь. Полковник отбил его в сторону. Стекло разбилось, и тут же вспыхнули занавески, пламя рванулось к потолку, опалив полковника. Он выругался и выронил пистолет. Перескочив через перила, я схватил со стола лампу и бросил ее в заднюю комнату. Разлился керосин, и тут же занялись матрас и книги. На четвереньках я устремился к пистолету, но старик пнул меня в голову. Он двигался медленно, и я быстро откатился в сторону, но в тот же миг на пистолет упала горящая занавеска. Полковник потянулся к нему, отдернул руку и, чертыхаясь, выбежал из дома. С мгновение я не двигался, сжавшись в комок и тяжело дыша. Пламя вырывалось из щелей на полу, трещали сухие сосновые доски, дом полыхал как спичка. Снаружи бешено ржала лошадь, обезумев от запаха дыма и попыток полковника взобраться в седло. Ничто не могло теперь помешать ему умчаться куда-нибудь на юг или на восток, в леса, в город, прочь от могильников. Я сунул руку в огонь и беззвучно закричал. Рукав гимнастерки моментально обуглился, на ладони и запястье вздулись волдыри, но я все-таки вытащил пистолет и теперь стоял, перебрасывая раскаленное оружие из правой руки в левую и обратно. Лишь много позднее я задал себе вопрос: почему не взорвался порох в патронах? Тогда же, баюкая оружие в обожженных руках, я проковылял наружу. Айверсон уже забрался в седло, но успел вдеть в стремя только одну ногу. Он изо всех сил тянул уздечку, пытаясь развернуть испуганную лошадь к лесу. Кобыла пятилась от полыхавшего дома и явно нацеливалась бежать через пролом в стене. К могильникам. Айверсон старался ее остановить. В итоге животное нарезало круги, косясь закатившимся глазом. Спотыкаясь, я спустился с крыльца горящей хижины и поднял тяжелый пистолет. Айверсону как раз удалось остановить лошадь, и он нагнулся вперед — подобрать поводья. Полковник яростно пришпорил скотину, намереваясь проскакать мимо меня в лес, а может, и затоптать меня по дороге. Большим пальцем я взвел курок — было ужасно больно, полопались многочисленные волдыри — и выстрелил. Целиться было некогда. Пуля задела ветку в десяти футах над головой Айверсона. Отдача едва не заставила меня выронить пистолет. Кобыла снова развернулась. Полковник опять заставил ее сделать вольт и всадил ей в бока каблуки своих черных сапог. Второй выстрел пришелся в землю в пяти футах передо мной. Я в третий раз взвел курок, ободрав обгорелую плоть на пальце, и навел дуло промеж двух обезумевших лошадиных глаз. Пистолет был ужасно, невероятно тяжелый. Слезы застилали глаза, и я почти не видел Айверсона, зато отчетливо слышал, как он проклинает кобылу, которая отказывалась приближаться к горящему дому и к источнику шума. Я вытер слезы обгорелым рукавом. Полковник отъехал от пожарища и ослабил поводья. Третий выстрел снова угодил мимо, но тут лошадь не выдержала и галопом умчалась во тьму, прочь с ненадежной тропинки. Перепрыгнула каменную стену с запасом как минимум в два фута. Я побежал следом, все еще рыдая. Два раза споткнулся в темноте, но пистолет не выпустил. Дом позади был уже целиком охвачен пламенем, красные огненные полотнища, испуская вверх снопы искр, отбрасывали багровые отблески на лес и поля. Я вспрыгнул на стену и замер, пошатываясь, хватая ртом воздух. Лошадь, миновав стену, успела проскакать около тридцати ярдов и потом встала на дыбы. Поводья болтались, и старик отчаянно цеплялся руками за гриву. Виноградники двигались. Под мятущимися листьями перемещались какие-то неясные фигуры, переплетенные лозы вздыбились выше лошадиной головы. Сама земля вспучивалась, образуя пригорки и гребни. И дыры. Я ясно видел их в свете пожара. Кротовые норы. Сусличьи норы. Но только очень широкие, куда мог бы целиком поместиться человек. А еще ребристые изнутри, усеянные рядами кроваво-красных хрящей. Как будто смотришь в разверстую змеиную пасть, жадно пульсирующую в предвкушении добычи. Только много хуже. Если вам приходилось видеть, как кормится морская минога, вы поймете, что я имею в виду. В этих дырах росли зубы. В несколько рядов, кругами. Сама земля распахнулась, демонстрируя алое нутро, усаженное острыми белыми зубами. От ужаса кобыла как будто приплясывала на месте, но эти дыры тоже двигались. За стеной образовалось широкое круглое пространство, очищенное от виноградных лоз, и они перемещались там неслышно, словно тени. А вокруг из виноградника вставали неясные, темные фигуры. Айверсон завопил. Спустя мгновение исступленно заржала и лошадь. Дыра сомкнулась на ее правой передней ноге. Я явственно расслышал, как хрустнула кость. Кобыла рухнула, и полковник скатился с ее спины. Снова хруст. Животное подняло голову и безумными белыми глазами наблюдало за тем, как земля смыкается вокруг четырех обрубков, оставшихся от его ног, кромсает связки и мускулы, отрывая куски плоти с той же легкостью, с какой обычно обгладывают куриную ножку. Спустя двадцать секунд от кобылы осталось только изувеченное туловище. Оно каталось по черной земле, залитой черной кровью, тщетно пытаясь избежать зубастых дыр. Потом очередная пасть сомкнулась на лошадиной шее. Полковник встал на колени, вскочил на ноги. Я отчетливо различал треск горящего дерева, шелест виноградных лоз и прерывистое дыхание Айверсона. Он истерически хихикал. Земля задрожала, вспучилась бороздами пятьсот ярдов длиной, они выстраивались рядами, как на торжественном параде, точно в боевом порядке. Черная земля заворачивалась складками, вздымались и падали трава и виноградные гроздья, напоминая тонкое покрывало, под которым снуют крысы, или флаг, волнующийся на ветру. Вокруг Айверсона разверзлись дыры. Он завопил. Каким-то образом полковник умудрился закричать и во второй раз, когда верхняя половина его туловища, отделившись от нижней, покатилась по голодной земле. Одной рукой старик пытался нащупать опору в волнообразно колебавшейся грязи, другая отчаянно шарила вокруг, ища потерявшиеся таз и ноги. Дыры снова сомкнулись. Криков больше не было, только в черной пыли двигалось что-то маленькое и розовое. Но я уверен, и буду уверен до самого своего смертного часа, что видел, как беззвучно открывался обрамленной белой бородой рот, как моргнули, сверкнув желтым, глаза. Дыры сомкнулись в третий раз. Я кое-как спустился со стены, но перед этим со всей силы зашвырнул пистолет подальше в поле. Пылавший дом обрушился, но от него по-прежнему исходил нестерпимый жар. Мне моментально опалило брови, от пропитанной потом одежды шел пар, но я все равно старался как можно дольше держаться поближе к огню. Поближе к свету.
Я не помню, как пожарные отыскали меня, как на рассвете принесли в город. На среду, второе июля, был назначен Военный день великого воссоединения. Непрерывно шел дождь, но в главной палатке все равно произнесли множество речей. Выступали сыновья и внуки генералов Джеймса Лонгстрита, Джорджа Пикетта и Джорджа Мида. Помню, как проснулся в госпитальной палатке и услышал барабанивший по брезенту дождь. Кто-то кому-то втолковывал, что здесь условия лучше, чем в старой городской больнице. Руки мои оказались забинтованы, лоб пылал от жара. — Отдыхай, малыш, — сказал преподобный Ходжес. Лицо у него было взволнованное. — Я телеграфировал твоим родителям. Отец приедет к вечеру. Я кивнул и, уже проваливаясь в сон, еле-еле сдержал рвавшийся наружу крик. Перестук дождевых капель напомнил мне звук глодающих кость зубов. На четверг, третье июля, был назначен Гражданский день. Ветераны из бригады Пикетта и бывшие солдаты из войск Союза (Филадельфийская ассоциация) построились в две шеренги с южной и северной сторон стены на Кладбищенском хребте. Здесь во время Геттисбергского сражения армия Конфедерации продвинулась дальше всего на север. Южане и северяне скрестили над стеной боевые знамена, и над ними символично подняли звездно-полосатый американский флаг. Все аплодировали. Ветераны обнимались. Отрывочно помню, как в то утро мы ехали домой, как отец приобнял меня в поезде. Помню мамино лицо, когда она встречала нас на станции в Честнат-Хилле. На пятницу, четвертое июля, был назначен Национальный день. В одиннадцать утра президент Вильсон произнес речь в главной палатке, обращаясь ко всем ветеранам. Говорил о зарубцевавшихся ранах, о том, что нужно забыть разногласия и старые обиды. Говорил о доблести и славе, которые не тускнеют с годами. После его речи сыграли гимн, и почетный караул дал артиллерийский залп. А потом старики разъехались по домам. Помню, что мне снилось в тот день. Я вижу эти сны до сих пор. Несколько раз я с криком просыпался. Мама хотела взять меня за руку, но я не давался. Я не хотел, чтобы до меня что-нибудь дотрагивалось.
Со времени моего первого путешествия в Геттисберг минуло семьдесят пять лет. Много раз я возвращался туда. Местные лесники и библиотекари знают меня в лицо. Некоторые называют историком, что, безусловно, приятно. Во время воссоединения 1913 года умерло девять ветеранов. Пятеро — от сердечного приступа, двое — от солнечного удара, один — от пневмонии. В девятом свидетельстве о смерти значится: «умер от старости». А один ветеран просто исчез — зарегистрировался на торжестве, а потом не вернулся домой, в центр для престарелых в Роли. Имя капитана Пауэлла Д. Монтгомери, ветерана Двадцатого северокаролинского полка, не значится в списке умерших в дни воссоединения. У него не было семьи, и потому на протяжении нескольких недель после годовщины его никто не хватился. Джессуп Шидс действительно построил домик к юго-востоку от владений Форни, там, где Девяносто седьмой нью-йоркский полк тихо поджидал, прячась за каменной стеной, солдат полковника Альфреда Айверсона. Шидс построил свой летний домик весной 1893 года, но никогда там не жил. Его описывали как низенького, плотного рыжего мужчину, гладко выбритого, любителя хорошего вина. Именно он незадолго до своей смерти от сердечного приступа, случившейся в том же самом 1893 году, и посадил виноградные лозы. Вдова через агентов сдавала дом на лето до тех пор, пока в 1913 году он не сгорел. О съемщиках никаких сведений не сохранилось. Полковник Альфред Айверсон-младший окончил войну генерал-майором, хотя его и отстранили от командования после неких осложнений, возникших во время перестрелки под Геттисбергом. После войны Айверсон занимался бизнесом в Джорджии, а затем во Флориде. Занимался не особенно успешно. Оба штата он покинул при невыясненных обстоятельствах. Во Флориде полковник вместе с племянником Сэмюелем Стралем торговал цитрусовыми. Сэмюель был преданным членом ку-клукс-клана и яростно отстаивал доброе имя двоюродного дядюшки. Поговаривали, что от руки Страля во время тайных дуэлей погибло как минимум два человека. Его якобы разыскивали в округе Броуард в связи с пропажей семидесятивосьмилетнего Фелпса Роулинза. Роулинз служил в Двадцатом северокаролинском полку. Жена Сэмюеля объявила его пропавшим без вести, после того как он в 1913 году отправился на месяц поохотиться и не вернулся. Она жила в Мейконе, штат Джорджия, вплоть до самой своей смерти в 1948 году. Различные источники сообщают, что Альфред Айверсон-младший умер в 1911, или в 1913, или в 1915 году. Историки часто путают его с отцом, сенатором Айверсоном. И хотя оба они должны покоиться в фамильном склепе в Атланте, в записях Оклендского кладбища упоминается, что там захоронен лишь один гроб.
Много раз с тех самых пор мне снился сон, который я впервые увидел тем жарким июльским днем, лежа среди виноградников. От раза к разу в этом сне меняется только зрительный ряд: иногда это голубое небо, ветви деревьев и каменная стена; иногда — траншеи и колючая проволока; иногда — рисовое поле и низкие дождевые облака; иногда — обледеневшая грязь и замерзшая река; иногда — густые тропические джунгли, не пропускающие солнечного света. Недавно мне снилось, что я лежу посреди обгоревших развалин города, а с неба падает снег. Но виноградно-медный привкус земли остается прежним — как и чувство молчаливого приобщения к походя и случайно загубленным, к забытым в чужой земле. Иногда я размышляю обо всех тех братских могилах, которые мы выкопали в этом столетии, и оплакиваю внука и правнуков. Я давно уже не возвращался в Геттисберг. В последний раз ездил туда двадцать пять лет назад, тихой весной 1963 года, за три месяца до того, как там началось полное безумие по случаю столетней годовщины. Дорогу на Маммасберг расширили и заасфальтировали. От дома Форни уже давно ничего не осталось, но я все-таки заметил ростки ирисов там, где раньше стоял фундамент. Геттисберг, конечно же, разросся. Но исторические общества запрещают строить в округе новые дома. Многие деревья, которые росли вдоль стены, погибли от голландской болезни и других напастей. Да и от самой стены уцелело лишь несколько ярдов — камни уже давно растащили на камины и террасы. Через поля хорошо виден город. Теперь уже и не скажешь, где были могильники Айверсона. Я говорил с местными, но никто их не помнит. Невозделанные поля здесь необычайно зелены, а на возделанных собирают замечательный урожай. Но так, пожалуй, дела обстоят во всей Пенсильвании. Мой друг, тоже историк-любитель, написал прошлой зимой, что небольшая археологическая экспедиция из Пенсильванского университета устроила пробные раскопки около Дубового холма. Написал, что там обнаружили несметные сокровища: пули, латунные пуговицы, осколки походных котелков, пять почти целых штыков, кусочки костей — все то, что остается, когда истлевает плоть; маленькие исторические примечания. А еще они нашли зубы, писал мой друг. Очень много зубов.
Побриться и постричься — всего за два укуса
~ ~ ~
Когда я был маленьким, наша семья часто переезжала. А переезд всегда связан с хлопотами, сколько бы тебе ни было лет: каждый раз нужно искать нового доктора, нового зубного, новую любимую бакалею… и нового парикмахера. Когда мне было восемь, мы перебрались в Бримфилд — маленький городок в штате Иллинойс. Меньше тысячи жителей, всего один магазин, всего один доктор, всего одна школа, но при этом две парикмахерских. Помню, мама взяла и отвела нас с братом в первую попавшуюся. А это оказалась не та парикмахерская. Помню, на подоконнике стоял высохший кактус и валялись дохлые мухи. Помню, внутри было темно, пахло затхлостью, застарелым потом и жевательным табаком, а зеркала на стенах, казалось, поглощали свет. Помню, мы вошли, а в разные стороны, как тараканы, прыснули какие-то непонятные старики в фартуках и халатах. Помню, как удивился нашему приходу пожилой парикмахер. В тот день постригли меня, а не Уэйна. Подстригли просто ужасно: я три недели не снимал скаутскую шляпу — ни на улице, ни в помещении. Мама потом узнала, что настоящая парикмахерская располагалась дальше по улице, через квартал. А в ту, куда мы забрели по ошибке, не ходил никто. Там иногда сидели старые фермеры, но все они были лысые или вообще никогда не посещали парикмахера. Интересно в этой истории вот что: в каждом городе, куда меня потом заносило, я встречал точно такую же парикмахерскую (ну или очень похожую). В Чикаго такая цирюльня ютилась на безымянной боковой улочке рядом с Килдер-авеню. В Индианаполисе — через квартал от памятника солдатам и матросам. В Филадельфии — на Джермантаун-авеню, через дорогу от старинного особняка под названием Грамблторп, в котором водились привидения. В Калькутте (а там вообще всех стригут и бреют уличные цирюльники — дела они обычно ведут прямо на мостовой, а клиентов усаживают в канаву) такая парикмахерская пряталась под баньяновым деревом неподалеку от Чоурингхи-роуд. Дерево неимоверно разрослось, и говорили, что ему уже не одна сотня лет. В Колорадо, где я живу сейчас, она располагается на Мейн-стрит, между Третьей и Четвертой авеню. Это, конечно же, другая цирюльня, она просто… ну, в общем-то, та же самая. Посмотрите по сторонам, и вы найдете ее в своем городе. Вы там никогда не стрижетесь, никто из ваших друзей и знакомых там не стрижется. Цены, выставленные в витрине, не менялись уже лет десять, если не сто. Но… поспрашивайте местных. Они покачают головами, словно припоминая давешний сон, и ответят: «А, ну да, она там всегда была. И этот парикмахер там всегда работал. Не знаю, по-моему, к нему в последнее время никто не ходит. Интересно, как он сводит концы с концами». Давайте наберитесь храбрости и зайдите внутрь. Не обращайте внимания на мумифицированный кактус и дохлых мух на подоконнике, на стариков, которые, как только вы войдете, выбегут через заднюю дверь. Попробуйте подстригитесь там. Ну как, струсили?~ ~ ~
На улице возле дверей стекает вниз по спирали кровавая струйка. Останавливаюсь у входа в цирюльню. Совершенно обычная цирюльня, ничего выдающегося. У вас в городе наверняка есть точно такая же. У входа на традиционном шесте-вывеске закручивается вниз красно-белая спираль. На большой витрине красуется обшарпанная надпись, золотая краска облупилась от времени. В наши дни дорогие салоны обычно называют именами владельцев, а сетевые парикмахерские в торговых центрах пускаются во все тяжкие: «Волосипед», «Охотник за головами», «На волоске от стрижки», «Раз/Стрига» и еще миллион других столь же тошнотворных названий. А вот имя этой цирюльни вы сразу же забудете. И не случайно. Здесь не предлагают стильных причесок или стрижек в стиле унисекс. Если голова грязная — так и постригут, и мыть с шампунем вас никто не будет. В сетевой парикмахерской за обычную стрижку вы заплатите от пятнадцати до тридцати долларов, а здесь цены не менялись уже лет десять, а то и больше. Каждому потенциальному клиенту с первого взгляда ясно: таких цен не бывает, ведь на подобный доход просто невозможно прожить. А никто и не пытается. И потенциальные клиенты обычно поспешно ретируются. Их все смущает: цены слишком низкие, в зале темно, само место чересчур пыльное и древнее. Такое же древнее, как и немногочисленные дряхлые посетители, которые молча на вас пялятся. В спертом воздухе витает странное напряжение, почти угроза. У входа я на мгновение останавливаюсь и вглядываюсь в витрину. Там отражаются улица и неясный мужской силуэт, похожий на призрачную тень. Это я сам. Что внутри — разглядеть трудно, нужно подойти поближе и прильнуть к самому стеклу. Жалюзи опущены, но между ними осталась маленькая щель. Смотреть особо не на что. На пыльном подоконнике выстроились в ряд три высохших кактуса, валяются дохлые мухи. Из мрака проступают два старомодных кресла, таких больше не делают: черная кожа, белая эмаль, высокий подголовник. Вдоль стены стоят шесть пустых жестких стульев и два стола, заваленные старыми журналами с порванными обложками или вовсе без них. На стенах висят зеркала, но никакого дополнительного света они не дают; наоборот, возникает впечатление, что длинная, узкая комната — сама всего-навсего смутный образ в потемневшем от времени стекле. Возле кожаного кресла стоит мужчина. Как и я сам, он скорее похож на тень, а не на человека. Как будто меня дожидается. Он действительно меня ждет. Вхожу с залитой солнцем улицы в парикмахерскую.— Вампиры, — сказал Кевин. — Они оба вампиры. — Кто? — спросил я, кусая яблоко. Мы сидели у Кевина на заднем дворе. Там, в ветвях дерева, в двадцати футах от земли, располагался наш самодельный дом (честно говоря, даже не дом, а просто грубая дощатая платформа). Кевину было десять, а мне девять. — Мистер Иннис и мистер Денофрио. Они вампиры. Я оторвался от журнала с комиксами про Супермена. — Они не вампиры, а цирюльники. — Ну да, цирюльники и вампиры. Я это только что понял. Я глубоко вздохнул и уселся поудобнее, прислонившись к стволу. Стояла поздняя осень, листья почти облетели. Пройдет еще несколько недель, и дом на дереве опустеет до следующей весны. Когда мой друг объявлял, что он что-то понял, это обычно означало: жди беды. Кевин О’Тул был старше всего на год, но иногда мне казалось, что между нами добрых пять лет разницы, причем он выглядел одновременно и старше, и младше. Кев много читал, и воображение у него было будь здоров. — Рассказывай. — Томми, ты знаешь, что обозначает красный цвет? — Красный цвет? — На шесте-вывеске у цирюльников. Та красная полоска, что спиралью закручивается вниз. — Она обозначает, что это цирюльня. — Я пожал плечами. Теперь настала очередь Кевина глубоко вздыхать. — Ну да, Томми, понятно, но почему именно красный? И почему спираль? Я не ответил, потому что хорошо знал это его настроение. Лучше подождать: не выдержит и сам все расскажет. — Кровь, — трагическим шепотом провозгласил мой друг. — Струйка крови стекает вниз по спирали. Этот символ цирюльники используют уже почти шестьсот лет. Умудрился-таки меня зацепить. Я отложил в сторону комиксы. — Хорошо, верю. И почему же они его используют? — Это был знак гильдии. В Средние века, если ты делал что-то полезное, то обязательно принадлежал к какой-нибудь гильдии. Ну, как профсоюз на пивоварне, где работают наши отцы. И… — Ну да, да. Но почему кровь? Смышленые мальчишки вроде Кевина вечно ходят вокруг да около. — Сейчас объясню. Я тут кое-чего читаю, и там сказано, что в Средние века цирюльники были еще и хирургами. А больных они лечили так — пускали им кровь, и… — Пускали кровь? — Ага. У них же не было никаких настоящих лекарств, ничего такого. Если кто-то заболевал или ломал ногу, хирург… вернее, цирюльник только и мог, что пустить кровь. Они часто и лезвие использовали одно и то же — для бритья и для кровопускания. А случалось, ставили больным пиявок. — Жуть. — Да, но это вроде как помогало. Иногда. Думаю, из-за кровопускания или пиявок понижается давление, и тогда можно, например, снять жар или как-то так. Но чаще всего больные просто умирали быстрее. Им бы переливание, а не пиявок-кровососов. Я сидел и размышлял над его словами. Кевин иногда выдавал такие странные вещи. Раньше я думал, он врет, а потом в четвертом и пятом классе как-то услышал, как друг поправляет учителей… и они с ним соглашаются. Так что нет, не врал. Странноватый малость, но не врун. Ветерок зашуршал редкими увядающими листьями. Получился очень грустный звук, ведь мы так любили лето. — Ладно. А при чем здесь вампиры? Цирюльники ставили людям пиявок двести лет назад, и поэтому ты думаешь, что Иннис и Денофрио вампиры? Господи, Кев, ты чокнутый! — Средние века закончились больше пятисот лет назад, Найлз. — (Всегда страшно хотелось его стукнуть, когда он называл меня по фамилии, да еще таким противным учительским голосом.) — Но именно знак гильдии натолкнул меня на эту идею. Подумай, в каких еще ремеслах сохранился подобный знак? Я пожал плечами и завязал рваный шнурок. — Ладно, пускай на шесте кровь, но это еще не значит, что они вампиры. Глаза у Кевина всегда становились зеленее обычного, когда он был чем-нибудь увлечен или взволнован. Сейчас они стали совсем-совсем зелеными. Друг наклонился ко мне. — Только подумай, Томми. Когда исчезли вампиры? — Исчезли? Думаешь, они вообще существовали? Да ну тебя, Кев! Мама говорит, ты единственный талантливый ребенок, которого она знает, но мне иногда кажется, ты просто шизик. Кевин не ответил. Его вытянутое, худое лицо из-за стрижки ежиком казалось еще более худым. На бледной коже золотыми пылинками проступали веснушки. Губы, такие же полные, как и у его сестер (говорили, что девушкам это очень идет), сейчас дрожали. — Я много читал про вампиров. Очень много. Почти во всех серьезных книжках написано: в семнадцатом веке легенды о вампирах в Европе стали сходить на нет. Люди в них по-прежнему верили, но уже не боялись так сильно. А за несколько сотен лет до этого вампиров постоянно выслеживали и убивали. Получается, они как будто ушли в подполье. — Или люди стали умнее. — Да нет, сам подумай. — Кевин схватил меня за руку. — Может, вампиров просто истребили. Люди научились с ними бороться. — Кол в сердце и все такое? — Наверное. Ну и им пришлось спрятаться, исчезнуть. Но кровь-то все равно была нужна. А как легче всего ее достать? Я как раз подыскивал подходящий язвительный ответ, но, посмотрев на его убийственно серьезное лицо, передумал и просто покачал головой. Мы ведь были лучшими друзьями. — Вступить в гильдию цирюльников! — торжествующе выкрикнул Кевин. — Больше не надо было вламываться в чужие дома по ночам, рисковать, оставляя обескровленные тела, — теперь они сами приглашали людей к себе. И клиенты не сопротивлялись, когда им пускали кровь или ставили пиявок. Мало того, они — или семья умершего больного — платили за это деньги. Понятно, почему цирюльники до сих пор так держатся за свой символ. Они же вампиры, Томми! Я облизнул губы и почувствовал на языке металлический привкус — оказывается, губу прикусил до крови, пока слушал его разглагольствования. — Все? Каждый цирюльник и парикмахер? — Точно не знаю. Может, и не все. — Кевин нахмурился и выпустил мою руку. — Но ты думаешь, Иннис и Денофрио точно? — Нужно это выяснить. — Глаза у друга опять позеленели, а губы растянулись в ухмылке. Я закрыл глаза, но потом все-таки задал этот неизбежный роковой вопрос: — Как, Кев? — Будем за ними следить. Проверять. Если они вампиры — мы увидим. — А если правда? — Что-нибудь придумаем, — все еще ухмыляясь, пожал плечами Кевин.
Захожу. В цирюльне мне все хорошо знакомо. Глаза быстро привыкают к полумраку. Пахнет тальком, розовым маслом и тоником для волос. Пол вымыт. На конторке на белой льняной салфетке разложены инструменты. Тусклый свет играет на больших и маленьких ножницах, отражается на перламутровых рукоятках многочисленных бритв. Подхожу к молчаливому мужчине возле кресла. Поверх рубашки с галстуком у него надет белый халат. — Доброе утро. — Доброе утро, мистер Найлз. Он достает с полки большую полосатую салфетку и ловко, быстро расправляет ее, как тореадор мулету. Я усаживаюсь в кресло, и мужчина одним текучим неуловимым движением оборачивает ткань вокруг моей шеи. — Вас сегодня подровнять? — Думаю, нет. Просто побрейте, пожалуйста. Цирюльник кивает и отворачивается. Ему надо смочить горячей водой полотенца и приготовить бритву. Я жду. Я вглядываюсь в глубины зеркала и вижу там бесконечность.
Беседа в доме на дереве состоялась в воскресенье. А к четвергу мы уже вызнали массу всего интересного. Кев хвостом ходил за Иннисом, а я не отставал от Денофрио. После школы мы встретились у Кевина. Кровать в его комнате была завалена книгами, комиксами, полуразобранными радиоприемниками, электронными лампами, пластмассовыми модельками и одеждой. Его мать тогда еще была жива, но уже довольно долго болела и редко обращала внимание на такие мелочи, как спальня родного сына. Да и на самого сына внимания не очень-то обращала. Кевин разгреб нам местечко, мы уселись на кровати и принялись проверять записи. Свои я нацарапал на обрывках бумаги и на обороте специальной формы, которую заполнял, когда доставлял по утрам газеты. — Ладно. Что у тебя? — Они не вампиры. Мой так уж точно нет. — Томми, еще рано судить, — нахмурился мой друг. — Глупости. Ты мне дал список примет — как распознать вампира. Денофрио чист абсолютно по всем пунктам. — Выкладывай. — Ладно. Номер один в твоем глупом списке: «Вампира редко увидишь днем». А вот и нет! Денофрио и Иннис оба целый день сидят в своей цирюльне. Мы же проверяли? Кевин привстал на коленях и потер подбородок. — Да, но, Томми, там внутри темно. Я же говорил: только в кино вампиры сгорают от солнечного света. В старых книгах написано, что они его просто не любят. Но могут, если надо, спокойно выходить днем. — Ну да. Но эти-то двое работают каждый день, как наши отцы. Регулярно закрываются в пять и засветло идут домой. — Томми, они оба живут одни. — Кевин копался в своих записях. — Это же о чем-то говорит. — Ага. О том, что они мало зарабатывают и поэтому никак не могут жениться и завести семью. Папа сказал, они цены не поднимали уже лет сто. — Вот именно! Так почему к ним почти никто не ходит? — Стригут плохо, вот и все. — Я заглянул в свой список, пытаясь разобраться в торопливых каракулях. — Ладно. Номер пять: «Вампиры не могу пересечь текучую воду». Денофрио живет за рекой, Кев. Я три дня за ним слежу, и каждый день он ее пересекает туда-сюда. Мой друг привстал было на коленях, но тут плюхнулся обратно, голова его поникла. — Я тебе говорил, что по поводу этого пункта не уверен. Стокер про это пишет в «Дракуле», но других упоминаний мало. — Номер три: «Вампиры ненавидят чеснок», — торопливо зачитал я следующий признак. — Кев, Денофрио во вторник ужинал «У Луиджи». Когда вышел, от него разило чесноком футов за двадцать. — Третий пункт не самый важный. — Хорошо. — У меня был припасен последний убийственный аргумент. — Только не говори, что вот этот не важный. Номер восемь: «Все вампиры ненавидят кресты, боятся их и всеми силами избегают». Я выдержал театральную паузу. Кевин уже понял, к чему я веду, и опустил голову еще ниже. — Кев, мистер Денофрио ходит в церковь Святой Марии. Каждое утро перед работой. Ты сам туда ходишь, Кев. — Да, а Иннис ходит в пресвитерианскую церковь по воскресеньям. Папа говорил мне про Денофрио. Правда, я его ни разу в нашей церкви не видел, потому что он приходит только на раннюю мессу. — Как вампир может ходить в церковь? — Я бросил записи на кровать. — Получается, он каждое утро там сидит и целый час пялится на добрую сотню крестов. — Папа ни разу не видел, как он причащается, — с надеждой в голосе сказал Кевин. — Здорово. — Я скорчил рожу. — То есть если ты не священник, то обязательно вампир. Просто блестяще, Кев. Он выпрямился и скомкал собственные записи. Я уже читал их в школе: Иннис тоже ни под какие Кевиновы пункты не подходил. — Томми, он не боится креста, но это… ничего не доказывает. Я все обдумал. Эти существа присоединились к гильдии, чтобы спрятаться, замаскироваться. Тогда получается, им нужно не выделяться и среди прихожан. Может, они выработали особый иммунитет к крестам. Нам же делают прививки, и мы потом не болеем оспой и полиомиелитом. Я еле сдержал презрительную усмешку. — А к зеркалам у них тоже иммунитет? — Ты о чем? — Кев, я тоже кое-что знаю про вампиров. В твоем глупом списке этого нет, но всем известно: они не любят зеркал. Потому что в них не отражаются. — Неверно, — зачастил Кевин своим противным учительским голосом. — Это в кино они в зеркалах не отражаются, а в старых книгах написано: зеркал вампиры избегают, потому что видят в них свою истинную сущность… ну, вроде в зеркале они старые, или неживые, или как-то так. — Как-то так. В любом случае, трудно придумать для них место хуже цирюльни. Разве что комната кривых зеркал в парке аттракционов. У них, часом, нет своей гильдии и знака, а, Кев? Кевин упал на кровать, как будто я сразил его наповал, но через мгновение уже снова стоял на коленях и рылся в записях. — Была одна странность. — Ну да. Какая? — Они не работали в понедельник. — Да, очень странно. Все цирюльни на свете по понедельникам закрыты! Но нет, ты прав. Не работают в понедельник, значит, точно вампиры. Что и требовалось доказать, как любит говорить на геометрии миссис Тупит. Ты такой умный, Кевин, уж куда мне до тебя. — Миссис Дубит. — Кевин, единственный из нашего класса, математичку любил. — Странно не то, что они не работают по понедельникам, Томми. Странно то, чем они занимаются в этот день. Иннис, по крайней мере. — Тебе-то откуда знать? Ты в понедельник заболел и сидел дома. — А вот и нет, — улыбнулся мой друг. — Напечатал объяснительную записку и подписался вместо мамы. А они не стали проверять. Весь день ходил за Иннисом. У него, слава богу, машина старая и очень медленно ездит. На велике можно догнать. Я сполз на пол и принялся разглядывать какой-то агрегат, который Кевин забросил, так и не доделав до конца. Нечто вроде радио, а к нему еще что-то подсоединено. Я изо всех сил изображал безразличие, хотя ему снова удалось меня зацепить — впрочем, как всегда. — И куда же он ездил? — К Мирам. В поместье старика Эверетта. К мисс Планкмен по двадцать восьмому шоссе. А еще в особняк, который в прошлом году купил тот богатей из Нью-Йорка. — Ну и?.. Богатые люди. Иннис, наверное, стрижет их на дому. — Мне было приятно, что сам Кевин до этого не додумался. — Ну да. Что же может быть общего между самыми богатыми людьми в округе? Они все стригутся у самого плохого в целом штате парикмахера. Даже у двух самых плохих парикмахеров: я и Денофрио видел. Они встретились у цирюльни, а потом разъехались в разные стороны. Денофрио наверняка поехал за реку в поместье Уилксов. Руди, тамошний сторож, говорит: либо Денофрио, либо Иннис каждый понедельник к ним наведывается. — С богачами часто так бывает: экономят на всем, вот и за стрижкуноровят поменьше заплатить, — пожал плечами я. — Может, и так. Но самое странное не это. Самое странное вот что: они оба загрузили в багажник машины какие-то маленькие бутылочки. А от Миров, от Эверетта и Планкмен Иннис вынес большие бутыли. По два галлона — не меньше. Томми, они были тяжелые, туда явно что-то налили. Бутылочки из цирюльни наверняка тоже не были пустыми. — И что в них? Кровь? — Может быть. — Вампиры вроде кровью питаются, а не развозят ее по домам, — засмеялся я. — Может, кровь была в больших бутылках. Они ее забрали, а взамен отдали маленькие, из цирюльни. — Ага. Кровь в обмен на тоник для волос! — Томми, не смешно. — Очень даже смешно! — Я нарочно засмеялся еще громче. — Молодцы твои вампиры — кусают только богатеев. Предпочитают кровь высшего качества! Я катался по журналам с комиксами, задыхаясь от смеха, и старался ненароком не раздавить какую-нибудь электронную лампу. Кевин подошел к окну и уставился куда-то в сгущавшиеся сумерки. Мы оба не любили, когда темнело рано. — Ты меня не убедил. Но сегодня мы все выясним. — Сегодня? — Я больше не смеялся. — А что сегодня будет? Мой друг глянул на меня через плечо. — На задней двери цирюльни старый замок. Я такой могу за секунду открыть: у меня есть детский набор для фокусов. После ужина пойду туда и все проверю. — После ужина будет уже темно. Кевин пожал плечами и снова посмотрел в окно. — Ты что — один пойдешь? Друг снова оглянулся на меня. — А вот это зависит от тебя. Я молчал.
Когда точат бритвенное лезвие о кожаный ремень, получается особенный звук — его ни с чем не спутаешь. На моем лице лежат теплые полотенца. Я спокойно и расслабленно слушаю, как парикмахер готовит бритву. В наши дни мужчины больше не ходят бриться к профессиональным цирюльникам, а я вот не отказываю себе в этом удовольствии. Он убирает полотенца, промокает мне виски и щеки сухой тканью и в последний раз проводит лезвием по кожаному ремню. От горячих полотенец кожу на лице пощипывает, а к шее приливает кровь. — В детстве один мой друг пытался меня убедить, что цирюльники на самом деле вампиры. Мужчина молча улыбается. Он уже слышал эту историю. — Мой друг ошибался, — сказал я, слишком расслабленный, чтобы поддерживать разговор. Цирюльник больше не улыбается: его лицо становится сосредоточенным — он наклоняется вперед, помешивая в миске маленькой кисточкой, а потом мажет меня пеной для бритья. Затем приходит черед острой бритвы — ловким движением мужчина откидывает мою голову назад, и я подставляю горло под нож. Закрываю глаза и чувствую прикосновение холодного лезвия к теплой коже.
— Говорил, за секунду откроешь! — рассерженно шепчу я. — А сам уже пять минут возишься с этим дурацким замком! Мы с Кевином сидели на корточках возле задней двери цирюльни в переулке рядом с Четвертой авеню. Было холодно, из мусорного бачка неприятно пахло. На улице шумели машины, но шум этот словно доносился откуда-то из неимоверного далека. — Давай уже! Замок щелкнул, лязгнул, и дверь распахнулась. — Вуаля! — сказал Кевин. Он запихал свои проволочки, отмычки и прочую ерунду в игрушечный чемоданчик (кожаный, совсем как у настоящего фокусника), а потом ухмыльнулся и постучал по табличке на двери. — Прекрати, — прошипел я. Мой друг вошел в цирюльню, ощупью пробираясь в темноте. Я покачал головой и двинулся следом. Дверь закрылась. Кевин включил маленький фонарик и взял его в зубы — точно как шпион в каком-то фильме. Я ухватился за полу его ветровки, и мы прошли по короткому коридору в большой зал. Огляделись. На витрине и на двери жалюзи были опущены, и Кевин сказал, что фонариком можно пользоваться спокойно. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Тоненький луч отражался в зеркалах, выхватывал из темноты отдельные предметы: конторку, кресла в центре комнаты, стулья для посетителей, журналы, раковину, занавешенную снизу черной тканью. В коридоре мы нашли небольшую дверь, за которой прятался крошечный туалет. Ножницы и бритвы аккуратно лежали в шкафчиках. Кевин открыл ящики и все тщательно облазил, но обнаружил лишь бутылки с тоником, полотенца и два комплекта парикмахерских инструментов. Он взял бритву и открыл ее, свет заиграл на лезвии. — Давай заканчивай, — прошептал я, — и уходим. Кевин аккуратно положил бритву на место, и мы направились к выходу. Луч фонарика царапнул по стене, по дождевику на крючке и высветил что-то еще. — Здесь дверь. — Мой друг отодвинул плащ в сторону и подергал ручку. — Вот черт. Заперто. — Пошли отсюда. Я уже давно не слышал ни одной машины. Весь город словно примолк и затаил дыхание. Кевин снова взялся за шкафы. — Где-то здесь должен быть ключ, — сказал он, на этот раз чересчур громко. — Наверняка лестница в подвал: дом-то одноэтажный. — Пошли! — прошипел я, хватая его за куртку. — Надо уходить отсюда. Нас арестуют. — Еще минутку… Кевин замер на полуслове, а у меня чуть сердце не остановилось в груди. Мы услышали, как в замке поворачивается ключ. В окне темнел чей-то силуэт. Я заметался, хотел броситься бежать, но Кевин выключил фонарик, схватил меня за свитер и потянул вниз, под раковину, где как раз хватило места для нас двоих. Мы скорчились там, и мой друг задернул черную занавеску. Дверь открылась, и кто-то вошел. В первые мгновения ничего не было слышно, только кровь шумела в ушах. А потом я понял: по комнате ходили двое. Тяжелая мужская поступь. Мне не хватало воздуха, я не мог ни выдохнуть, ни вдохнуть — боялся, что нас услышат. Один из вошедших остановился возле кресла, а второй направился к дальней стене. Хлопнула дверь, потом спустили воду в унитазе. Кевин пихнул меня в бок. Я не решился ему ответить — под раковиной было страшно тесно, и я боялся пошевелиться, чтобы не выдать себя. Так что просто задержал дыхание и ждал. Кто-то вышел из туалета и подошел к входной двери. Они даже свет не включили. Если бы это были полицейские, мы увидели бы через жалюзи мигалки патрульной машины. Кевин снова пихнул меня в бок. Я знал, что он имеет в виду: это Иннис и Денофрио. Мужчины прошли к выходу, хлопнула дверь. Наконец-то можно вздохнуть. Я был на грани обморока. Какой-то шум. Чья-то рука отдернула занавеску. Кто-то схватил меня и вытащил из-под раковины. Кевин закричал — его тоже выволокли наружу. Кто-то с силой дернул меня вверх за грудки, так что пришлось привстать на цыпочки. В темноте казалось, что неизвестный ростом чуть ли не до потолка и кулак у него размером с мою голову. От мужчины пахло чесноком. Наверное, Денофрио. — Пустите нас! — вопил Кевин. Послышался звонкий и отчетливый звук пощечины. Мой друг затих. Меня швырнули в кожаное кресло, а Кевина силком усадили в соседнее. Глаза приспособились к темноте, и я смог разглядеть их лица. Иннис и Денофрио. Темные костюмы, худые, очень бледные лица — наверное, поэтому Кевин и принял их за вампиров. Чересчур глубоко посаженные глаза, чересчур острые скулы, чересчур злобный изгиб губ, а еще возраст: на вид им было около сорока, но почему-то казалось, что они гораздо старше. — Что вы здесь делаете? — спросил у Кевина Иннис. Он говорил тихо и бесстрастно, но от его голоса меня пробрала дрожь. — Просто игра! — выкрикнул Кевин. — Нам нужно было украсть ножницы из цирюльни, чтобы старшие ребята нас приняли. Простите. Мы не хотели! Еще одна пощечина. — Лжешь. В понедельник ты следил за мной. А твой друг весь вечер ходил за мистером Денофрио. И вы оба околачивались вокруг цирюльни. Ну-ка говори правду. Быстро. — Мы думали, что вы вампиры, и решили проверить. Я открыл рот от изумления. Мужчины посмотрели друг на друга. В темноте не видно было, улыбаются они или нет. — Мистер Денофрио? — спросил Иннис. — Мистер Иннис? — спросил Денофрио. — Можно мы пойдем? — спросил Кевин. Иннис наклонился и что-то сделал с креслом, в котором сидел мой друг. Подлокотники выдвинулись вперед и перевернулись — с обратной стороны обнаружилось нечто вроде двух белых желобков. Руки Кевина теперь удерживали два кожаных ремня. Подголовник разошелся на две половины, опустился и зафиксировал его шею. Похоже было на специальный поднос в кабинете у зубного, туда еще нужно сплевывать. Кевин не кричал. Я думал, Денофрио сейчас и с моим креслом сделает то же самое, но тот просто положил свою большую руку мне на плечо. — Мальчик, мы не вампиры, — сказал Иннис. Он подошел к шкафчику, открыл ящик, достал лезвие, с которым совсем недавно баловался Кевин, и раскрыл его. — Мистер Денофрио? Второй мужчина сдернул меня с кресла и потащил к двери, что вела в подвал. Отпер замок. На пороге я успел оглянуться: мой друг в ужасе смотрел, как Иннис медленно проводит лезвием по его руке. В белый эмалированный желоб хлынула кровь. Денофрио поволок меня вниз, в темноту.
Цирюльник заканчивает, подравнивает мне височки и поворачивает кресло к зеркалу. Провожу пальцами по щекам и подбородку: идеально гладко и ни одного пореза. Острое лезвие в руках искусного мастера — после такого бритья не чувствуешь никакого зуда или раздражения. Киваю. Он едва заметно улыбается и убирает полосатую салфетку. Встаю и снимаю пиджак. Цирюльник вешает его на крючок, а я усаживаюсь обратно в кресло и закатываю левый рукав рубашки. Мужчина включает маленький радиоприемник, из которого звучит музыка Моцарта.
В подвале горело множество свечей. Почти как в церкви, которую посещал Кевин. Он как-то водил меня туда и рассказывал, что такие свечки ставят за здравие или за упокой. Платишь деньги, зажигаешь и читаешь молитву. Только друг точно не знал, обязательно ли платить деньги, чтобы молитву услышали. Почти все пространство этого узкого помещения занимала двадцатифутовая каменная плита. На ней лежал кто-то огромный, весом не менее полутонны. Гладкие серые складки опускались и поднимались в такт дыханию. Рук не было видно. В толстых жировых морщинах едва намечались ноги. Повсюду торчали какие-то трубки, виднелся заржавленный раструб. Я перевел взгляд на голову существа. Представьте себе гигантскую пиявку весом в полтонны, десяти футов длиной и пять-шесть футов в обхвате. Существо лежало на спине. Его покрывали наслоения серо-зеленой слизи, с туловища свисали ошметки кожи. Под прозрачной, похожей на заляпанный пластик плотью что-то двигалось и шевелилось — вероятно, внутренние органы. Создание громко дышало и невыносимо смердело. Представьте себе какое-нибудь морское животное, ну, скажем, небольшого кита, которое неделю пролежало на берегу и уже начало разлагаться, — вот так пахло в этом подвале. Существо испустило негромкий звук, и маленькие глазки повернулись ко мне. Их покрывала желтая слизистая пленка, и они явно ничего не видели. Сквозь гладкие жировые складки на бесформенной, лишенной шеи голове смутно проступали лицо (возможно, когда-то это было человеческое лицо) и огромный рот — вообразите, что вам вдруг улыбнулась морская минога. — Нет, человеком он никогда не был. — Мистер Денофрио все еще крепко держал меня за плечо. — Когда они пришли в нашу гильдию, им уже тогда было невозможно сойти за людей. Но они сделали предложение, от которого мы не могли отказаться. Ни мы, ни наши клиенты. Мальчик, знаешь, что такое симбиоз? Тсс! Наверху закричал Кевин. Послышалось бульканье, как будто вода побежала по трубам. Существо обратило взгляд своих слепых глаз к потолку. Его рот жадно пульсировал. Задрожали трубки, наполнился раструб. Струйка крови стекала вниз по спирали.
Цирюльник возвращается. Я сжимаю ладонь в кулак, и он легонько ударяет меня по запястью. Вдоль тыльной стороны руки тянется широкий рубец, похожий на застарелый, плохо заживающий шрам. Это и есть застарелый шрам. Мужчина открывает нижний ящик и достает лезвие. На золотой рукоятке блестят маленькие драгоценные камни. Обеими руками он поднимает инструмент над головой, и тусклый свет отражается на острие. Цирюльник подходит ближе, проводит лезвием прямо по рубцу — шрам расходится, как оболочка куколки, из которой вот-вот появится бабочка. Я не чувствую боли. Мужчина споласкивает бритву и убирает ее на место, потом спускается в подвал. Я слышу, как булькает кровь в маленьких желобах, вделанных в подлокотники кресла, и закрываю глаза. Вспоминаю, как кричал наверху Кевин, как пламя свечей отбрасывало отсветы на каменные стены подвала. Сквозь раструб лилась красная жидкость, и существо громко урчало и насыщалось. Огромная пасть раскрывалась все шире, она тянулась к раструбу — так младенец тянется к материнской груди. Вспоминаю, как мистер Денофрио поднял лежавший около каменной плиты молоток и еще какой-то инструмент — с острым зубцом и чем-то вроде крана. Я стоял и смотрел, а он загнал инструмент прямо в плоть существа. Тогда я понял: это старые рубцы и шрамы виднеются под слоями серо-зеленой слизи. Вспоминаю, как из крана в хрустальную чашу, чашу для причастия лилась красная жидкость. Нигде в мире не встретишь такого яркого и чистого красного цвета. Вспоминаю, как сделал глоток, как осторожно, очень осторожно нес чашу наверх, Кевину. А потом сам уселся в кожаное кресло.
Цирюльник возвращается. В его руках чаша. Порез уже закрылся. Опускаю рукав и делаю глоток. Потом облачаюсь в свой собственный белый халат. Цирюльник уже ждет меня, сидя в кресле. — Вас подровнять сегодня? — Думаю, нет, — отвечает он. — Просто побрейте, пожалуйста. Работаю очень тщательно. В конце он проводит пальцами по гладким щекам и подбородку и одобрительно кивает. Совершаю обычный ритуал и спускаюсь вниз. В склепе Хозяина тихо, на полу горят свечи. Я жду, пока кровь очистится, и размышляю о бессмертии. Хозяин по-настоящему бессмертен, ему уже миллионы лет… ему и другим Хозяевам, но маленькую частичку своей вечности он милостиво даровал нам. Этой частички вполне достаточно. Мой коллега выпивает свою порцию, и я убираю чашу на место. Пора поднять жалюзи и открыть цирюльню. Кевин становится возле своего кресла, а я занимаю место рядом с соседним. Музыка стихла, и в комнате воцарилась тишина. На улице возле дверей стекает вниз по спирали кровавая струйка.
Гибель кентавра
~ ~ ~
Я проработал учителем восемнадцать лет. Не в колледже и даже не в старшей школе, а «всего-навсего» в начальной. Преподавал в третьих, четвертых и шестых классах и год выполнял обязанности методиста (этакого спасателя, который не дает детям переучиться). Карьеру свою на этом поприще завершил в округе, где училось семь тысяч младшеклассников: на протяжении четырех лет разрабатывал и внедрял специальные программы для «одаренных и талантливых» (ну, то есть для умных и сообразительных). Все это связано с нижеследующим рассказом. Учитель — это не вполне профессия. Еще четверть века назад школа могла хоть как-то компенсировать низкую зарплату: во-первых, преподаватель получал удовольствие от своего занятия (а для хорошего учителя это значит очень много), во вторых, в глазах местного сообщества он обладал определенным статусом. Несколько лет назад я работал в Колорадо, преподавал в шестых классах. И как-то зимой в вечерних небесах вдруг вспыхнули загадочные огни. Северное сияние, конечно же. Невероятно яркое для тех широт. Я стоял на улице и любовался этим потрясающим зрелищем, и тут из-за угла появилась моя юная ученица со своей мамой. Они спросили, что происходит, и я объяснил. — Надо же, — удивилась мама девочки. — А я думала, конец света настал, как предсказано в Откровении. Но Джесси сказала, вы наверняка знаете, что это. Временами я вспоминаю тот случай. Именно так раньше и воспринимали учителей: не совсем мудрецы, но, уж по крайней мере, уважаемая и необходимая интеллектуальная прослойка общества. Сейчас же на родительском собрании зачастую выясняется, что родители знают больше и образованы лучше учителей. И уж точно намного больше зарабатывают. Конечно, люди уходят из профессии не только из-за маленького заработка. Виновата не какая-то одна причина, а множество разных факторов. Учителям мало платят, общество их не уважает, равно как и администрация школы или округа (им профессиональные учителя вообще в тягость — гораздо проще взять новичка, у которого tabula совершенно rasa[84], и забить ему голову всей той ерундой, что активно продвигают власти), и к тому же многие дети нынче недолюбливают школу. А еще никому не нужны, творческие учителя. Воображение для этой работы больше не требуется, и наделенные им люди в школу не идут. К чему я веду? Именно сейчас нам позарез нужны квалифицированные учителя. Именно сейчас наше интеллектуальное будущее как никогда зависит от педагогов, которые смогут по настоящему заставить детей думать (а для таких учителей награда всегда одна — чаша цикуты или распятие). Именно сейчас семья и другие традиционные социальные институты не делают почти ничего, чтобы превратить юных варваров в граждан: не учат их ни этике, ни даже основам гигиены — все свои обязанности они переложили на школу! И именно в такой момент в школах недостает маленького, но критического числа умных, творческих и преданных делу людей. А ведь именно на таких людях всегда и держалась система. Чтобы хоть как-то компенсировать вышеупомянутые недостатки профессии, в учительских вешают разные плакаты. Например: «Влияние учителя бесконечно». Может быть, может быть. Но поверьте мне, я там восемнадцать лет проработал: да, правда — хорошие учителя на вес платины и гораздо важнее президентов, но влияние плохого учителя тоже вполне себе бесконечно.~ ~ ~
Учитель и мальчик вскарабкались на крутой склон, откуда открывался вид на крайнюю южную излучину реки Миссури. Они то и дело оглядывались на величавый кирпичный особняк на холме, в застекленных дверях и высоких окнах которого отражалась мозаика из серого неба и изломанных, голых веток. Дом, скорее всего, пустовал, ведь владелец проводил здесь только несколько недель в году. Оба нарушителя знали об этом, но все равно приятно было пощекотать себе нервы, вторгшись в чужие владения. А заодно полюбоваться замечательным видом. Они уселись под деревом где-то в сотне футов от поместья; широкий ствол укрывал и от ветерка, и от случайных взглядов. Солнце пригревало вовсю. Обманчивое тепло: весна пока не вступила полностью в свои права, и впереди наверняка поджидал еще не один снегопад. Земля постепенно оттаивала, и обширный луг, спускавшийся к железной дороге и реке, покрылся едва заметной зеленоватой дымкой. В воздухе пахло субботой. Молодой учитель сорвал травинку, помял между пальцами и рассеянно сунул в рот. Мальчик тоже подобрал стебелек, прищурившись, рассмотрел его со всех сторон и последовал примеру мужчины. — Мистер Кеннан, а река разольется, как в прошлом году? Опять все затопит? — Не знаю, Терри. — Учитель не смотрел на собеседника, просто закрыл глаза и подставил лицо теплым лучам. Мальчишка искоса глянул на рыжебородого Кеннана, а потом тоже прислонился к шершавой коре старого вяза. Но уже через секунду он не вытерпел и открыл глаза. — А Мэн затопит, как думаете? — Сомневаюсь, Терри. Такие большие наводнения случаются лишь раз в несколько лет. Учитель спокойно рассуждал о том, чего на самом деле никогда не видел, но Терри ему верил. Кеннан проработал в маленьком городке в штате Миссури немногим больше полугода — приехал в сентябре жарким воскресным днем, как раз перед началом занятий, тогда и услышал про знаменитое наводнение. А Терри Бестер за свои десять лет видел три таких половодья и хорошо помнил, как в прошлом апреле ранним утром отец топал ногами и чертыхался в темной кухне, потому что пожарные вызвали его помогать на плотине. С юга послышался свисток паровоза: в теплом весеннем воздухе пронзительный допплеровский визг прозвучал нежно и мелодично. Учитель открыл глаза и смотрел, как внизу с ревом проносится одиннадцатичасовой товарняк из Сент-Луиса. И Кеннан, и Терри считали про себя вагоны. Стучали колеса, свисток надрывался громче прежнего, а потом хвост состава скрылся за поворотом — там, где они сами прошли совсем недавно. — Ух, здорово как, что мы оттудова уже ушли, — громко сказал Терри. — Оттуда. — Чего? — Мальчик взглянул на Кеннана. — Что мы оттуда уже ушли, — чуть раздраженно повторил бородач. — Ага. Они замолчали. Учитель опять закрыл глаза и прислонился к дереву. Мальчик принялся кидать в особняк воображаемые камни. Его спутник явно не одобрил это занятие, так что вскоре Терри бросил кривляться, прижался щекой к теплому стволу и стал, прищурившись, разглядывать высокие ветви, по которым скакала белка. — Двадцать шесть. — Чего двадцать шесть? — Вагонов в поезде. Я сосчитал — двадцать шесть. — Ммм, — промычал учитель. — А у меня получилось двадцать четыре. — Ага. И у меня. Я так и хотел сказать. Точно, двадцать четыре. Кеннан выпрямился, вытащил изо рта травинку и снова покрутил ее меж пальцев. Его мысли витали где-то далеко. Терри скакал вокруг дерева на воображаемом коне и громко цокал, имитируя стук копыт. Потом «выстрелил» из винтовки, схватился за грудь, упал с лошади, покатился по траве и, наконец, «умер» почти у самых ног учителя. Кеннан посмотрел на него, а затем на реку. Миссури степенно несла мимо кофейно-коричневые воды, закручивала все новые водовороты и течения, ни разу не повторяясь. — Терри, а ты знаешь, что это самая южная излучина Миссури? Прямо перед нами? — Ммм. — Именно так. — Мужчина вгляделся в дальний берег. — Мистер Кеннан? — Да? — А что в понедельник будет? — Ты о чем? — Но на самом деле Кеннан прекрасно знал, о чем идет речь. — Ну, вы ж знаете, сказка. Учитель засмеялся и отбросил травинку. Бросал он неумело, как девчонка, но Терри тут же заставил себя выкинуть эту мысль из головы. — Терри, ты же знаешь, я не могу тебе рассказать. Разве это было бы честно по отношению к остальным? — Эх, — нарочито грустно вздохнул мальчик, но он явно не очень расстроился и, похоже, был даже доволен ответом. Они встали, и Кеннан отряхнул штаны, а потом погладил Терри по голове, смахивая травинки с растрепанных волос. Учитель и ученик спустились с холма к железной дороге и вернулись в город.Кентавр, неокошка и чародей-орангутанг пробирались сквозь безбрежное Травяное море. Маленькую Джернисавьен высокие заросли скрывали с головой, поэтому ей пришлось ехать на спине у Рауля, который легко раздвигал лимонно-желтую траву широкой грудью. Кентавр не возражал, ведь неокошка почти ничего не весила, к тому же так они могли на ходу наслаждаться приятной беседой. Позади по-человечьи широко и неуклюже шагал Добби и неразборчиво напевал себе под нос отрывки из разных песенок. Вот уже девять дней брели странники по Травяному морю. Позади остались Призрачные руины и грозные крысы-пауки. Впереди поджидали Туманные горы. Там у них было важное дело. По ночам Добби отвязывал со спины огромную котомку и раскидывал шелковый шатер. Синий, похожий на зонтик купол украшали замысловатые оранжевые узоры. Джернисавьен нравилось слушать, как шуршит на ветру необозримое море и шелестит легкая ткань палатки. Костер приходилось разжигать очень осторожно — ведь от одной случайной искры трава могла моментально вспыхнуть, и тогда им грозила бы неминуемая гибель. По вечерам Рауль охотился с луком и обычно возвращался в лагерь с обмякшей тушей какого-нибудь травоядного в руках. Путешественники готовили ужин, а потом тихо беседовали или слушали, как Добби играет на странном ветряном инструменте, найденном в Человечьих руинах. После наступления темноты чародей показывал им созвездия — Лебедя, Лук Меллама, Хрустальную Небесную Лодку, Малую Лиру. А Рауль рассказывал древние предания, которые уже шесть поколений передавались от отца к сыну воинами из клана кентавров, — предания о храбрости и самопожертвовании. Однажды вечером, когда звезды ярко сияли на ночном небе, они аккуратно затушили костер, и Джернисавьен вдруг спросила тоненьким, едва слышным голоском, который почти заглушали вздохи ветра в высокой траве: — Каковы наши шансы найти портал? — Мы не знаем, — спокойно и твердо ответил Рауль. — Нужно идти на юг и делать все, что в наших силах, — это единственное, что мы можем. — Но что, если Маги доберутся туда раньше нас? — упорствовала золотисто-коричневая неокошка. — Не надо, — вмешался Добби. — Моя бабушка говорила, что после наступления темноты не стоит поминать всуе чешуйчатых тварей. Утром они позавтракали, не разводя костер, сверились с волшебной иглой на компасе Добби и снова пустились в путь. Солнце уже почти добралось до зенита. И вдруг Рауль замер и указал на восток. — Смотрите! Чтобы хоть что-то увидеть, Джернисавьен пришлось уцепиться за гриву кентавра и встать в полный рост на его широкой спине. Паруса! В лазурном небе трепетали туго натянутые белые паруса. А под ними скрипел двадцатифутовыми деревянными колесами огромный корабль. И он приближался!
Страшно некрасивый и неуютный класс переделали из складского помещения, и на стенах до сих пор чернели длинные царапины и отметины, оставшиеся от коробок и железных футляров с картами. И в классе, и в самой школе трудно было найти что-либо живописное: старое здание мало чем напоминало ностальгические иллюстрации Нормана Рокуэлла.[85] На потолки кое-как налепили звукоизоляционную плитку, отчего они сразу сделались ниже, а верхней трети окон вообще как не бывало. Сверху на серых железных штырях торчали длинные трубки ламп дневного света. Полы, когда-то гладкие и лакированные, теперь потрескались, и, сняв в дождливый день промокшие кроссовки и оставшись босиком, ученики рисковали нахватать заноз себе в стопы. Когда-то давно в классе стояли в три ряда старые деревянные парты, которые вели свою историю еще из прошлого столетия, а теперь туда втиснули двадцать восемь современных серо-розовых пластиковых столов. На кривых исписанных крышках были вырезаны разные надписи, а уродливые металлические ножки царапали и без того донельзя ободранный пол. Если кто-то из учеников клал на парту карандаш, тот немедленно скатывался вниз, а когда ребенок поднимал крышку, чтобы достать книгу, раздавался жуткий металлический скрежет, а тетрадки неизбежно падали на пол. Высокие кривые окна не открывались. В минувшем сентябре, когда стояла жара под тридцать, а на площадке перед школой плавился асфальт, в классе, освежаемом лишь редким дуновением ветерка с улицы, почти невозможно было находиться. Огромная трещина рассекала надвое крошечную четырехфутовую доску. Кеннан как-то очень удачно показал на ней, как выглядит разлом Сан-Андреас. В свой самый первый день он обнаружил, что в классе нет ни мела, ни линейки, ни глобуса, ни книжных полок, а есть только одна губка для доски, одна карта (да и та времен Первой мировой) и часы, навеки замершие на двадцати трех минутах второго. Кеннан подал заявку на новые настенные часы третьего сентября, а повесили их только в январе. И конечно, они были не новыми и периодически останавливались, так что пришлось купить дешевый будильник. Теперь он громко тикал на учительском столе и иногда звонил в конце какой-нибудь контрольной или урока самостоятельного чтения. Перед рождественскими каникулами будильник зазвонил ровно в два, возвестив о начале часовой новогодней вечеринки. В других классах на праздник выделили только двадцать минут, и директор после этого отчитал Кеннана за нарушение правил. Но зато этот случай подтвердил бродившие по школе слухи: учиться в классе мистера Кеннана действительно здорово. То Рождество всегда потом ассоциировалось у него с темной и пропахшей плесенью лавкой Рирдона. В этом грошовом подвальном магазинчике на Уотер-стрит он поздно вечером покупал подарки своим четвероклашкам. Кеннан тщательно выбирал дешевые кольца, мыльные пузыри, пластмассовых солдатиков, пробковые самолетики, конструкторы — каждому свой индивидуальный сюрприз, — а потом до поздней ночи упаковывал их у себя дома. На обшарпанные стены класса он повесил плакаты и даже карту Бостона, которая три года подряд украшала его комнату в университетском общежитии. Доска объявлений теперь обновлялась каждые три недели. Сейчас там красовалась огромная карта планеты Сад, на которой были обозначены основные события Сказки. От витавшего в классе запаха плесневелой штукатурки и канализации избавиться было невозможно, равно как и от мерзкого гудения мигающих ламп дневного света. Зато Кеннан купил на блошином рынке старое кресло и одолжил у хозяина квартиры ковер, и теперь каждый день в десять минут второго, как раз после обеда и перед уроком чтения, он усаживался в уголке, а вокруг на ковре собирались двадцать семь учеников — послушать Сказку.
Джернисавьен и Добби отдали последние две кредитные монеты за вход на огромную арену. Там Рауль должен был сразиться с Непобедимым Шрайком. Стадион располагался в самом сердце легендарного Карвнала, среди темных улочек и остроконечных крыш. Неокошка и чародей протолкались вместе с толпой по входному туннелю в многоярусный амфитеатр, где сотни факелов отбрасывали на трибуны зловещие тени. Здесь собрались представители всех рас Сада — вернее, представители всех тех рас, которые не погибли в войне со злыми Магами: друиды в плащах с капюшонами, цепкие древесные обитатели Великого Леса, пушистики в ярко-оранжевых одеяниях, приземистый болотный народец и сотни разнообразных мутантов. Повсюду шипели и смеялись крикливые солдаты-ящеры. В ночном воздухе витали странные ароматы и раздавались странные звуки. Торговцы вопили на все лады, расхваливая товар: жареные крылышки арготов и холодное пиво. Внизу на арене темнели свежие лужи крови — там совсем недавно погибли от рук Шрайка неудачливые бойцы. Служители присыпали лужи песком. — Ему обязательно сражаться? — спросила Джернисавьен, усаживаясь возле Добби. — Завтра утром нам нужно сесть на небесный галеон, отплывающий на юг. А это стоит тысячу кредитов — как иначе достать такие деньги? — шепотом объяснил Добби. Рядом с ними на жесткую скамью опустился мутант, и чародей еле-еле успел подобрать полу своей фиолетовой накидки. — Но почему бы просто не уйти из города пешком или не отправиться на юг на пароме? — недоумевала маленькая неокошка, подергивая хвостом. — Рауль ведь объяснял: Магам известно, что мы в Карвнале. Они наверняка поставили охрану у городских ворот и в доках. К тому же их летающие платформы нам не обогнать — ни пешком, ни на пароме. Нет, Рауль прав. Это наш единственный шанс. — Но Шрайка никому не одолеть! Ведь так? Это совершенная боевая машина, его же специально вырастили генетики во время Войн с Магами, — мрачно сказала Джернисавьен, прищурившись, словно от света факелов у нее болели глаза. — Да, но чтобы получить деньги, Шрайка и не надо побеждать. Просто продержаться на арене три минуты и остаться в живых. — А кому-нибудь это удавалось? — гневно прошептала кошка. — Ну… Думаю… Добби не успел договорить: громко заиграли трубы. Факелы, казалось, вспыхнули еще ярче, а в каменной стене поднялась тяжелая решетка. Толпа затихла — все ждали, когда появятся гладиаторы. (— А что такое гладиаторы?) Это такие люди, которые сражаются на арене. Ну так вот, зрители не сводили глаз с открывшейся в стене черной дыры. Все молчали, и в полной тишине слышно было даже, как шипит и потрескивает пламя светильников. И тут появился Шрайк. Чудовище семи с половиной футов ростом сверкало и переливалось полированной сталью. Из гладкого металлического экзоскелета выдавались невероятно острые изогнутые лезвия, напоминавшие серпы. Локти и колени прикрывал панцирь, утыканный короткими шипами. Длинный шип торчал и посреди высокого лба, прямо над красными фасеточными глазами, сверкавшими, как два рубина. Вместо пальцев на каждой руке существа было по пять изогнутых металлических когтей. Они сжимались и разжимались так быстро, что рябило в глазах. Вжик-вжик. Шрайк выдвинулся в центр арены неуклюже и медленно — точно железная статуя, которая вдруг решила научиться ходить. Чудовище вскинуло голову, щелкнуло страшным клювом и посмотрело на собравшуюся толпу, словно выискивая жертву. Неожиданно все зрители разом закричали, заулюлюкали и принялись швырять на арену что попало. Шрайк стоял молча и неподвижно, не обращая внимания ни на вопли, ни на град летевших в него предметов. Шевельнулся он только раз: когда прямо ему в голову зашвырнули большую дыню. Но какой это был прыжок! На добрых двадцать футов в сторону, да так стремительно, что никто толком не успел ничего разглядеть. Толпа в ужасе примолкла. Снова заиграли трубы. Открылась большая деревянная дверь, и вошел первый гладиатор Смертельных Игр — каменный гигант. Почти такой же преследовал Добби в Туманных горах, только этот был гораздо больше — почти двенадцать футов ростом. И он, казалось, состоял из одних мышц. — Надеюсь, ему не удастся победить Шрайка и забрать деньги, — сказал Добби, а Джернисавьен неодобрительно покосилась на чародея. Двадцать секунд, и все кончено. Вот двое воинов стоят друг напротив друга в колеблющемся свете факелов — а в следующее мгновение Шрайк уже опять один посреди арены, тогда как от каменного гиганта остались лишь разбросанные по песку фрагменты. Некоторые из них еще продолжали подергиваться. За первым несчастным последовало еще четверо участников. Двоих толпа громко освистала: у них явно не было никаких шансов. Потом вышел пьяный солдат-ящер с огромным арбалетом, а после него грозный мутант с собственным панцирем-броней и боевым топором размером с двух неокошек. Никто не продержался против Шрайка и минуты. Затрубили глашатаи, и на арену галопом выбежал Рауль. Джернисавьен сквозь пальчики, которыми закрыла глаза, смотрела на величавого кентавра, чей могучий, обмазанный маслом торс блестел в свете факелов. Рауль был вооружен только охотничьим копьем и легким щитом. Нет, постойте — у него на шее болталась на шнурке какая-то маленькая бутылочка. — Что это? — жалобным, дрожащим голосом спросила Джернисавьен у Добби. Чародей не сводил взгляда с арены. — Это снадобье я нашел в Человечьих руинах. Боги, только бы я правильно смешал все компоненты! Шрайк бросился вперед.
Огромный небесный галеон плыл между высокими кучевыми громадами, подсвеченными розовым закатным сиянием. На палубе Рауль, Добби и Джернисавьен наблюдали, как похожее на огненный шар солнце медленно тонуло в облаках внизу. Время от времени капитан Кокус громко выкрикивал какую-нибудь команду, и матросы-шимпанзе принимались ловко носиться по снастям и такелажу. А иногда он наклонялся к первому помощнику и что-то тихо шептал ему на ухо, а тот передавал распоряжение вниз через металлическую переговорную трубу. Тогда неокошка чувствовала, как едва заметно меняется высота — это под палубой регулировали в баках уровень антигравитационной жидкости. Закатный свет померк. На небе показались первые мерцающие звезды, а из облаков вынырнули две небольшие луны. Тогда матросы зажгли мощные ходовые огни на мачтах и на рангоутах. Погасли последние розовые отсветы, и Добби предложил спуститься вниз, ведь скоро начнется праздник весеннего солнцеворота. И какой же замечательный получился праздник! Длинный капитанский стол был уставлен редкими винами и роскошными яствами: и сочный жареный бизон из Северных степей, и рыба-меч из Южного залива, и тропические фрукты с далекого Экваториального архипелага. Тридцать гостей ели и смеялись так громко, как никогда прежде; смеялись даже обычно угрюмые друиды. Официанты непрестанно наполняли бокалы, вино и застольные речи лились рекой. Добби провозгласил тост за капитана Кокуса и его великолепный корабль. Чародей обратился к суровым седым корабельщикам: «Мои славные собратья-антропоиды», но не смог выговорить последнее слово и под дружный хохот пирующих начал все сначала. Капитан ответил на любезность и тоже поднял тост — за неустрашимую троицу и блистательную победу Рауля на карвнальских Смертельных Играх. Он ни словом не обмолвился о том, что за тремя пассажирами гнались по пятам два отряда солдат-ящеров, а галеону пришлось отчалить от якорной башни второпях и тайком. Гости зааплодировали и разразились одобрительными возгласами. А потом начался солнцеворотный бал. Тарелки убрали, скатерть свернули, а сам стол разобрали и унесли. Все стояли на нижней палубе с бокалами в руках. Потом к ним спустился корабельный оркестр, и музыканты принялись настраивать инструменты. Когда все было готово, Кокус хлопнул в ладоши, и воцарилась тишина. — Позвольте снова поприветствовать вас на борту «Попутного ветерка», — громко провозгласил он, — и пожелать радостного и удачного солнцеворота. А теперь — танцы! Капитан снова хлопнул в ладоши, матросы притушили фонари, заиграл оркестр, а огромные деревянные экраны, прикрывавшие корабль снизу, раздвинулись в стороны, и удивленные пассажиры увидели под ногами хрустальный пол и бездонное ночное небо. Все невольно отступили ближе к бортам, охая и ахая от изумления. Потом раздались смех и аплодисменты, и начались танцы. Все дальше и дальше уносили великолепный небесный галеон воздушные течения. Наверху горели только ходовые огни, да время от времени с марсовой площадки доносился громкий выкрик впередсмотрящего: «Все в порядке!» Зато снизу корабль сиял и искрился, и слышались древние и прекрасные песни (их, если верить легендам, играли еще на Старой Земле). На высоте пяти тысяч футов над укутанными ночным сумраком холмами кружились в танце лесные нимфы и демимы. Один раз даже благоразумная Джернисавьен пустилась в пляс с кентавром: Рауль поднял ее своими сильными руками высоко-высоко и принялся выстукивать копытами замысловатый ритм на прочном и гладком прозрачном полу. Через какое-то время внизу началась гроза, и капитан велел погасить огни. Несколько минут вся честная компания любовалась в тишине черными грозовыми тучами и змеившимися под ногами молниями. А потом оркестр заиграл гимн солнцеворота, и Джернисавьен, удивляясь сама себе, пела вместе со всеми старинную грустную балладу и плакала. Затем пришла пора ложиться спать. Веселые гуляки, пошатываясь и спотыкаясь, разбрелись по каютам. В ночном воздухе еще звучали последние аккорды отгремевшей бури, но пассажиры так устали, что заснули, даже несмотря на гром. Добби лежал на спине, раскинув руки, улыбался во сне и громко храпел, широко раскрыв большую обезьянью пасть. Рядом на подушке темнел его фиолетовый берет. Джернисавьен не понравилось на большой койке, и неокошка свернулась клубком в одном из выдвижных ящиков, который чуть приоткрывался и снова закрывался, когда корабль легонько покачивало. Только Раулю не спалось. Он посмотрел на мирно посапывавших друзей и поднялся на палубу. Ежась на прохладном ветру и наблюдая, как первые клубящиеся облака постепенно розовеют от рассветных лучей, кентавр предавался невеселым мыслям. Если их не перехватят воздушные машины Магов, они доберутся до Южного залива всего через несколько дней, а затем — еще дней пять пешком до того места, где, по их сведениям, находился портал. Троице вряд ли удастся дожить до конца этой недели: слишком уж близко они подобрались к твердыне Магов. Рауль поигрывал пристегнутым к поясу кинжалом и любовался восходом.Дорогая Уитни!
Да, ты права, я тут действительно в седьмом круге адовом — в круге запустения. Бреду иногда вниз по улице (мой «дом» находится на вершине холма, если, конечно, меблированные комнаты в старом полуразвалившемся кирпичном бараке можно назвать «домом»), смотрю на реку Миссури и вспоминаю, как мы на четвертом курсе, во время весенних каникул веселились на море. Помнишь, как мы поехали кататься по пляжу, и вдруг разразилась гроза, и Гранатка страшно перепугалась? И нам пришлось… ммм… пережидать непогоду в лодочном сарае? Я рад, что тебе нравится работать на сенатора. Скажи-ка, все барышни из Уэллсли[86] так же удачно устроились или большинство все таки трудятся в славной школе секретарей Катарины Гиббс? Прости, пожалуйста, не мне кидаться камнями и шпильками — сам-то застрял тут в Миссури, в столице трубок из кукурузных початков. А ты знала, что в этом городке изготавливают такие трубки для всей Америки? Представляешь, у меня на подоконнике и на капоте машины каждый день оседает по нескольку дюймов белой сажи! Нет, я не часто езжу в Сент Луис. До него около пятидесяти миль, а мой «вольво» вот уже месяц стоит на приколе. Прокладка головки цилиндра полетела, а здесь надо запасных частей дожидаться лет по десять, не меньше. Мне еще повезло — в моей мастерской хотя бы есть метрические инструменты. Так что в Сент-Луис ездил три недели назад на автобусе. Отправился в пятницу после школы и вернулся в воскресенье вечером: как раз успел подготовить план уроков и впасть обратно в уныние. В городе не очень много видел — посмотрел три фильма и обошел кучу книжных. Еще залез на Врата[87] (нет — этими подробностями утомлять тебя не буду). Самая лучшая часть путешествия — приличный гостиничный номер со всеми удобствами. Отвечаю на твой вопрос: нет, я не особенно жалею, что приехал сюда и поступил в магистратуру в Сент-Луисе. Очень повезло с программой — всего одиннадцать месяцев, но вот не рассчитал и остался совсем без денег, поэтому и пришлось задержаться на целый год и наняться в школу в этом чертовом штате. И все бы ничего, если бы я смог устроиться где нибудь в Уэбстер Грувз или Юниверсити-Сити… но эта вот столица трубок из кукурузных початков? Такое впечатление, что я попал прямиком в фильм «Избавление».[88] Но я тут всего на год, и, если получу работу в академии Хован или в экспериментальной школе (ты давно, кстати, видела Фентворта?), здешний опыт мне очень пригодится. Ты, кажется, просила рассказать об учениках? Что тут скажешь — четвероклашки-селяне. Я уже писал о некоторых проделках Чокнутого Дональда. Он бы точно загремел в какое нибудь специальное исправительное заведение, если бы в этом богом забытом захолустье таковые водились. За неимением лучшего мне всякий раз приходится накидывать на него лассо, чтобы никого не покалечил. Кто у меня там еще? Моника. Наша девятилетняя секс-бомба. Положила на меня глаз, но в случае чего вполне утешится Крейгом Стирзом из шестого класса. Сара. Очень милая, вся в кудряшках, лицо сердечком — настоящая лапочка. Она мне нравится. Ее мать в прошлом году умерла, и, по-моему, девочке недостает любви и заботы. Брэд. Местный дурачок. Не верится, но он даже глупее Дональда. Два раза оставался на второй год (да, в этом штате ставят двойки на экзаменах и… шлепают детей). Зато никаких проблем с дисциплиной — просто глупый, дурной детина в джинсовом комбинезоне, стриженный под горшок. Тереза. Уит, тебе бы она точно понравилась. Просто повернута на лошадях. Участвует на собственном мерине в соревнованиях в Миссури и Иллинойсе. Но, боюсь, она насквозь ковбойская девочка — не имеет ни малейшего понятия, что такое английское седло. В класс является в ковбойских сапогах и со скребком в кармане. Есть еще Чак, и Орвилль (!), и Уильям «Зовите меня Билл», и Тереза (еще одна), и Бобби Ли, и Элис, и ее сестра близнец Агнес, и так далее, и тому подобное. Да, я еще в прошлый раз писал о Терри Бестере и очень хочу рассказать о нем подробнее. Обыкновенный мальчишка, прикус неправильный, подбородок срезанный, волосы лезут в глаза (мать его, наверное, секатором стрижет). Каждый день приходит в одной и той же грязной клетчатой рубашке и дырявых сапогах (на одном каблук давно отвалился). Представляешь себе эту картинку? Словно прямиком вышел из песни «Табачная дорога». Но он мой любимчик. В свой самый первый день я им что-то рассказывал и принялся, как обычно, махать руками, а Терри (он сидит, в отличие от большинства мальчишек, за первой партой) вдруг пригнулся и едва не свалился со стула. Я сначала решил, что мальчишка балуется, и очень разозлился, а потом увидел его лицо. Он напугался до смерти, представляешь? Его, по всей видимости, дома постоянно бьют, вот и пригнулся по привычке. Терри словно списан с книжки про несчастного сироту и будто нарочно старается соответствовать образу. Таскает с собой повсюду коробку с ваксой и зарабатывает деньги — чистит ботинки этим деревенщинам около гостиницы, «ДьюДроп» и гриль-бара Берринджера. Там его отец частенько выпивает. Короче говоря, я провожу с парнем очень много времени. Терри приходит ко мне на заднее крыльцо между пятью и шестью вечера, иногда я приглашаю его на ужин, а иногда говорю, что занят. Он совсем не обижается и на следующий вечер приходит опять. Временами я читаю и вспоминаю о нем только в десять, а то и в одиннадцать. Родителям, похоже, плевать, где их сын и когда вернется домой. Когда я приехал из Сент-Луиса, старина Терри так и сидел на крыльце с этой своей ваксой. Наверное, с самой пятницы никуда не уходил. В минувшие выходные мальчик совершенно спокойным тоном рассказал мне жуткую историю. Год назад, когда он еще учился в третьем классе, «папа сильно отдубасил маму». Мать успела запереть входную дверь, когда пьяный мистер Бестер вышел на крыльцо наорать на соседей; тот разозлился еще больше и начал кричать, что всех их убьет. Терри рассказал, как обнимал шестилетнюю сестренку, как мама плакала и кричала, а отец бился в дверь. Наконец папаша вломился внутрь, ударил жену кулаком в лицо, а детей затащил в грузовик. Отвез их по лесопильной дороге в ближайший заповедник, выгнал из машины и вытащил ружье (тут все держат в машинах ружья, Уит, и я подумываю прикрутить себе на крышу «вольво» специальный багажник для двустволки). И вот, представь себе, Терри мне все это рассказывает, то и дело останавливается, чтобы челку убрать с глаз, но при этом говорит совершенно спокойным, ровным голосом, как будто это сюжет какого-то телевизионного сериала. Значит, отец тащит восьмилетнего Терри и его шестилетнюю сестру в лес и велит им встать на колени и помолиться, потому что он их сейчас пристрелит. По словам мальчика, старый пьяница наставил ствол прямо на них, и маленькая Синди просто-напросто «наделала в штаны прямо там». Потом мистер Бестер нетвердым шагом удалился в чащу и несколько минут проклинал небеса, после чего запихал детей обратно в грузовик и отвез домой. Мать в полицию не сообщила. Видел я этого Бестера в городе — точная копия как-там-его из экранизации «Убить пересмешника». Помнишь, фермер-расист, которого убивает Страшила Рэдли. Погоди минутку, сейчас найду книгу. Боб Юэлл! Понимаешь, почему мы так много времени проводим вместе? Ему нужна какая-то позитивная модель вместо отца, а еще нормальный взрослый, с которым можно поговорить и у которого можно чему-нибудь научиться. Если бы я мог, я бы его усыновил. Вот так приблизительно и живет твоя половинка. И именно поэтому год в Миссури так важен для меня, хоть это натуральное хождение по мукам. С одной стороны, жду не дождусь, когда наконец смогу вернуться к тебе, к морю, в настоящий город, где люди разговаривают на понятном языке и где можно спокойно заказать фраппе и на тебя не будутпялиться как на умалишенного. Но с другой стороны, эта работа очень важна и для меня, и для детей. Даже придуманная мной сказка — так у них будет хотя бы некоторое представление о преданиях и словесном искусстве. Ладно, бумага кончается, и час ночи уже, а завтра в школу. Уит, передавай от меня привет своим, и пусть сенатор трудится так же усердно. Если повезет (ну и если мне все-таки заменят прокладку головки цилиндра), увидимся где-нибудь в середине июня. Береги себя. Пиши, пожалуйста, почаще. Я тут скучаю один в лесах Миссури. Целую,Пол
Мистер Кеннан стоял на асфальтированной площадке и улыбался весеннему солнышку, а вокруг бегали четвероклассники. Хотя день был теплым и погожим, на учителе красовались спортивная кепка и армейская куртка, которую так любили обсуждать ученики. Время от времени учитель ухмылялся, просто так, без особой причины, и поглаживал рыжую бороду. Какой же прекрасный выдался день! Малыши тоже радовались совсем по-весеннему. Зимой маленькая площадка превращалась в мрачный тюремный прогулочный плац, зато теперь тут было просто замечательно. Повсюду на земле валялись куртки и свитера, дети свисали с турников, бегали по боковой дорожке, играли в бейсбол около кирпичной школьной стены. Дональд и Орвилль сосредоточенно запускали в луже какую-то палочку. Даже Терри радостно носился по двору. Кеннан услышал, как он говорит Брэду: «Ты будешь Добби, а я Раулем, мы сражаемся с крысами-пауками». Третий мальчишка, Билл, начал спорить — не хотел становиться неокошкой даже на десять минут перемены, ведь Джернисавьен была девчонкой. Учитель глубоко вздохнул и снова улыбнулся. После долгих месяцев ледяного забытья жизнь возвращалась в норму. Кто бы мог подумать, что в Миссури (они же состояли в Конфедерации?.. или хотели туда вступить) такие серые, холодные и бесконечные зимы? Даже занятия несколько раз отменяли из-за снегопада. После одного такого случая Кеннан с ужасом осознал, что четыре дня вообще ни с кем не разговаривал. А если бы умер — его хватились бы? Нашли бы его мертвого в меблированных комнатах, за кривым письменным столом, среди бумаг и книжек в мягких обложках? Пол улыбнулся собственным жалостливым фантазиям, но зима и вправду выдалась долгой, так что мрачные мысли были вполне объяснимы. Центральный принимающий прозевал мяч, и тот прикатился прямо к ногам Кеннана (вокруг учителя, как обычно, толпились малолетние поклонницы). Он картинно размахнулся и сделал передачу вопящему кетчеру. Бросок вышел не очень удачным, и мяч отскочил от окна класса рисования. В соседнем дворе зацветала яблоня, на дорожке пробивалась зеленая трава, а в воздухе пахло рекой, что текла всего в четырех кварталах отсюда. До начала каникул оставалось меньше двух недель! Кеннан ждал конца учебного года с некоторой грустью и в то же время с искренним облегчением. Мечтал, как наконец сможет упаковать книги и немногочисленные вещи, сесть в машину (ее как раз недавно починили) и по летнему солнышку отправиться на восток. Подробно рисовал в воображении неторопливый побег из Миссури: сначала бесконечные кукурузные поля, потом оживленная пенсильванская развязка, попутные города, знакомый массачусетский съезд, запах моря… С другой стороны, это его первый год в школе: он никогда не забудет этих детей, а они никогда не забудут его. Может, будут потом внукам рассказывать ту длинную сказку, которую он для них сочинил. В последнюю неделю Полу пару раз даже приходила в голову шальная мысль остаться еще на год. От стайки девочек отделилась Сара и, как заправская кокетка, взяла Кеннана под руку. Он улыбнулся, рассеянно погладил девочку по голове и отошел от учеников. Стоя в сторонке, Пол достал из кармана мятое письмо и в десятый, наверное, раз перечел, а потом уставился на север, туда, где текла незримая река. Неожиданно закричали бейсболисты. Учитель очнулся от раздумий, раздраженно посмотрел на часы и дунул в пластмассовый свисток. Перемена окончилась. Дети подобрали разбросанные на земле куртки и выстроились в шеренгу.
На побережье Южного залива было намного теплее. Рауль, Добби и Джернисавьен направлялись на запад — туда, где, если верить легендам, располагался портал для нуль-транспортировки. Они пользовались старинной картой, которую чародей много месяцев назад отыскал в Человечьих руинах. До конца путешествия оставалось всего несколько дней. На шее Джернисавьен покачивался ключ, который они отыскали в архивах Карвнала и за который их доброму другу Фенну пришлось заплатить жизнью. Если старые книги не обманывали, с помощью ключа можно будет активировать так долго бездействовавший портал и присоединить Сад ко Всемирной сети. Тогда тирании злобных Магов придет конец. Путешественники продвигались на запад почти под носом у этих самых Магов. На севере громоздились Рогатые горы, где среди острых уступов и скрывалась жуткая твердыня врагов. Друзья пробирались под покровом густого тропического леса и непрестанно поглядывали на небо — ведь летающие платформы Магов могли появиться в любую минуту. Джернисавьен дивилась огромным пальмам больше сотни футов высотой. Вечером третьего дня они разбили лагерь неподалеку от устья маленькой речушки, которая впадала в Южное море. Добби поставил под деревьями шелковую палатку, и тонкая ткань затрепетала на морском ветру. Рауль прикрыл шатер так, чтобы его нельзя было заметить с воздуха, и все уселись ужинать. Странники решили не разжигать костров на побережье Южного залива и теперь довольствовались галетами и вяленым мясом, купленными еще на «Попутном ветерке». После еды они любовались роскошным тропическим закатом, а потом на ночном небе вспыхнули необычайно яркие звезды. Добби показал Южного Стрелка — это созвездие всходило только на юге, а все трое были родом с севера и раньше его никогда не видели. Джернисавьен затосковала по дому, но постаралась скорее прогнать грустные мысли: неокошка поигрывала древним ключом, висевшим у нее на шее, и воображала, как замечательно будет открыть портал, ведущий в сотню новых миров. Она глядела на небо и гадала: на какой же из этих звезд живут люди? Где прячутся неведомые миры? Добби словно услышал ее мысли. — Не верится, что мы почти добрались, — произнес он. Рауль встал, потянулся и отправился на разведку к реке. — Я все вспоминаю о предсказании того пушистика, — сказала Джернисавьен. — Помнишь, тогда, в древесном доме Тар-тюффеля. Добби кивнул. Загадочное маленькое создание приоткрыло для каждого из них завесу над страшным будущим. Как такое забудешь? — Многое уже сбылось, — проворчал чародей. — Даже встреча со Шрайком. — Да, но только не мой сон — тот, где я в страшной маленькой комнате, а вокруг столпились Маги. Действительно. Вещий сон маленькой неокошки оказался самым зловещим. Они старались пореже о нем вспоминать. «Она лежала, связанная и беспомощная, на стальном операционном столе. Вокруг столпились Маги. Их лица скрывали темные капюшоны. Вот один, самый высокий, вышел вперед, его осветил кроваво-красный луч… медленно откинулся капюшон…» Джернисавьен содрогнулась. Добби, наверное, решил сменить тему разговора — он встал и огляделся в темноте. — А где Рауль? Он увидел, как над джунглями взошли две круглые луны. И вдруг сообразил, что для них было еще слишком рано… — Беги! — закричал орангутанг и подтолкнул неокошку к деревьям. Но слишком поздно. В воздухе загрохотали воздушные машины. Летающие платформы испускали тонкие лучи, и от них верхушки деревьев вспыхивали в мгновение ока. Джернисавьен свалило на землю взрывной волной, а мех и усы неокошки опалило близкое пламя. Враги приближались. На платформах толпились закутанные в плащи с капюшонами Маги, а вниз на землю с громкими воплями спрыгивали солдаты-ящеры. Добби сражался храбро и отчаянно, хотя всегда и называл себя трусом. Чародей поднырнул под пику первого ящера, ухватился за древко и выдернул оружие из рук противника. Пронзив горло шипевшему врагу, орангутанг обернулся, чтобы лицом к лицу встретить еще пятерых. Добби одолел двоих, а третьего поднял высоко в воздух своими могучими руками, но тут сзади на него обрушился подлый удар. Джернисавьен закричала и рванулась к упавшему другу. Но вдруг перед ней выросла высокая чешуйчатая фигура, и что-то ударило неокошку по голове. В глазах у нее потемнело. Она пришла в себя только через несколько минут, когда ее и Добби уже погрузили на одну из летающих платформ. Машина поднялась в воздух. И тут раздался громкий, веселящий сердце звук, который она так хорошо знала: Рауль громко и яростно затрубил в свой сладкозвучный боевой рог. Пять чистых нот прорезались сквозь гул платформ и треск лесного пожара. Он галопом выскочил на поляну, подняв щит и копье, и испустил боевой клич клана кентавров. Рауль смел солдат-ящеров, словно кегли. Маги выстрелили смертоносным лучом, но кентавр отразил его волшебным щитом из священного металла. Охотничье копье поразило сразу трех ящеров, которые пытались спрятаться друг за друга, и переломилось от натуги. Отбросив его в сторону, воин вытащил из ножен короткий, но грозный меч, вновь испустил боевой клич и ринулся на вооруженную толпу врагов. Джернисавьен почувствовала, как замерла летающая платформа. Маг, который стоял возле пульта управления, проскрежетал какой-то приказ, и тридцать ящеров вскинули арбалеты. Дружно запели оперенные стрелы. Они пронзили и кентавра, и оставшихся на земле солдат. Послышались громкие крики. Сердце неокошки едва не остановилось от горя: она видела, что из груди и боков Рауля торчит не меньше полудюжины древков. Храбрый воин опустился на землю, в окружении поверженных врагов, чьи чешуйчатые лапы и зеленые хвосты дергались в предсмертной агонии. Джернисавьен испустила пронзительный скорбный вопль, а потом ей на голову снова опустился кулак и она впала в блаженное забытье.
20 мая, четверг. Сегодня потеплело. На улице около двадцати. Вечер, казалось, никогда не закончится. Немного посидел в библиотеке. Отправил резюме еще в три школы: в Филлипс-Эксетер, католическую школу и Грин-Маунтин. Уитни пока ничего не написала про экспериментальную школу. Еще три недели назад отослал ей все анкеты, и она обещала сразу же переговорить с доктором Фентвортом. Поел куриных ножек в «Кентукки фрайд чикен». В округе появились признаки жизни: через открытое окно с площадки доносятся детские крики и смех. Скоро десять, но все еще светло. Поздно ночью слышно, как по реке поднимаются баржи — гудят двигатели, а потом волны бьются о цементные сваи на Локаст-стрит. Побеседовал с Эппертом и Нортом (помощником инспектора школьного округа). Готовы взять меня на следующий год, если вдруг захочу (вот уж вряд ли). Учителя, как настоящие стервятники, нарезают круги вокруг моего класса. Кайл приклеила на шкаф ярлык со своим именем, а Рирдон (старая жадная корова, работала бы лучше в магазине у мужа, там и орала бы на детей, чтоб не брали комиксы) застолбила кресло, глобус (мы его только-только в марте получили) и книжную полку. Дождаться не может, когда же я уеду. Тогда у них опять будет только два четвертых класса. После моего отъезда школа скатится прямиком в Средневековье. Неудивительно, что Т.С. и другие называют это все климактерическим заведением. На реке громко гудят корабли и звонят в рынду. Похоже на Ярмут: там к мачтам на маленьких суденышках привязывали колокольчики. В сказке все идет по плану. Сегодня плакали Донна, Сара и Элис. И некоторые мальчики тоже, хотя и тайком. Ничего, обрадую их в понедельник. Старине Раулю пока рано умирать — не сейчас, умрет потом, в лучших традициях жанра. По крайней мере, эта сказка учит дружбе, преданности и чести. Конец будет грустный: Рауль пожертвует собой ради остальных, задержит Магов, а друзья активируют портал. Но надеюсь, что последняя часть всех немножечко утешит: Джернисавьен и Добби вернут на Сад людей и разгромят врагов. Грядет мощная финальная сцена. Надо будет все это записать! Может, летом займусь. Совсем стемнело. В мое окно сквозь кленовую листву светит фонарь. Поднялся ветерок. Пойду, наверное, прогуляюсь к реке, а потом поработаю.
Джернисавьен очнулась. Ее хлестали порывы ледяного ветра. Девять летающих машин скользили в разреженном воздухе над заснеженными горными вершинами, которые мерцали и переливались в свете звезд. Рука неокошки свисала с края платформы, если бы она откатилась чуть в сторону, то упала бы вниз и погибла. Сквозь застлавшую глаза пелену Джернисавьен смутно различала на фоне неба другие платформы, и на каждой стояли облаченные в капюшоны Маги. Добби нигде не было видно. Внезапно один из Магов зашипел на ящера, управлявшего машиной. Неокошка увидела, что они подлетают к горе, похожей на старый сломанный зуб. Курс и скорость не менялись, и казалось, аппарат вот-вот врежется в обледенелую скалу. Джернисавьен приготовилась к прыжку, но в последний миг солдат нажал на кнопку, и платформа сбросила скорость. Кусок породы отъехал в сторону, прямо в горе открылся огромный туннель. Из проема лился зловещий кроваво-красный свет. Платформа влетела внутрь, и каменная дверь вернулась на место. Джернисавьен оказалась в плену в твердыне Магов.
Утром в субботу Кеннан взял Сару, Монику и Терри на прогулку. Мальчик не очень обрадовался двум хихикающим девчонкам: он с хозяйским видом забрался на переднее сиденье и старательно не обращал внимания на их шепот и глупые смешки. Учитель шутил всю дорогу до заповедника, и маленькие кокетки каждый раз прыскали от смеха и принимались громко шушукаться, а Терри, как обычно, тянул слова и шуток не понимал. Кеннан припарковался, и они отправились бродить по лесу и карабкаться по камням. Потом Терри сходил к машине и принес плетеную корзину для пикника. Все четверо уселись на скале в приятной тишине и пообедали сандвичами из местного супермаркета, кукурузными чипсами и шоколадным печеньем. Запивали колой. Кеннан, как всегда, подивился детскому аппетиту. После обеда он повез их обратно через мост, на север по шоссе, а затем опять на запад вдоль реки. Четырнадцать миль, и они оказались в Германне — маленьком немецком поселении, живописном и по-викториански очаровательном, в отличие от остальной округи. Там готовились к Майфесту. Кеннан прокатил детей на здоровенном чертовом колесе и угостил в кафе шоколадным мороженым. На улице женщины в ярких крестьянских платьях танцевали с пожилыми мужчинами в национальных тирольских костюмах (забавное и немного нелепое зрелище), а оркестр на белом деревянном помосте задорно играл для небольшой толпы слушателей одну польку за другой. Домой вернулись почти к ужину. Моника ныла и канючила всю дорогу, и пришлось пересадить ее вперед вместо Терри. В итоге никто не обрадовался: Терри и Сара сидели, молча насупившись, а Моника нервно ерзала и дергалась всякий раз, когда Пол к ней обращался или вообще смотрел в ее сторону. Наконец остановились на заправке под предлогом посещения туалета, а потом пересели как раньше. Девчонки выпалили свое обязательное «Спасибо-большое-было-очень-весело» и убежали сломя голову. Кеннан нарочито громко выдохнул, когда Моника скрылась из виду, и повернулся к последнему пассажиру. — Ну, Терри, тебя куда подбросить? Хочешь, остановимся где-нибудь и перекусим горячими сосисками? — А может, лучше жареная рыба? — неожиданно предложил мальчик. Пол совсем забыл, что в тот день на берегу устраивали большой пикник. Праздник проходил каждый год в трех милях от города возле кемпинга «Лосиный домик». Большое событие. — Ладно, рыба так рыба. Там собралось полгорода. В двух огромных палатках местные жадно поедали жареного сома, картошку и капустный салат. В траве рядом с парковкой установили несколько ветхих каруселей. На самодельных лотках продавали пироги, сбивали мячиком бутылки и разыгрывали в лотерею цветной телевизор. На бейсбольном поле мужчины играли в софтбол. Чуть подальше на лугу подвесили бочку, и две команды пожарных поочередно лупили по ней из шлангов. Под радостные возгласы зрителей бочка раскачивалась взад-вперед. Кеннан и Терри уселись за длинный стол и поужинали жареным сомом, а потом отправились бродить вдоль лотков. С учителем все здоровались, а он узнавал разве что каждого десятого. Посмотрели софтбол. Солнце село, зажглись гирлянды фонариков. Карусель со скрипом играла одну за другой четыре почти одинаковые песенки. На краю леса мерцали светлячки. Несколько мальчишек посовещались между собой и позвали Терри в свою компанию. Пол вложил в ладонь пораженного мальчика два доллара, и тот умчался с остальными кататься на аттракционах. Учитель еще немного посмотрел на игроков, а потом вернулся к палатке купить пива и там встретил Кей Беннет, окружного школьного психолога. Они разговорились, и Кеннан заказал себе еще порцию. Кей приехала из Калифорнии, работала здесь уже второй год, и, как и Полу, это маленькое провинциальное болото казалось ей тюрьмой. Они взяли пластиковые стаканы и отправились гулять по темным тропинкам, которые вели от «Лосиного домика» к маленьким коттеджам среди деревьев. Над лугом взошла полная луна. Дважды Кей и Пол натыкались на миловавшихся в темноте старшеклассников и оба раза тихо обходили парочки, переглядываясь и понимающе улыбаясь. Кеннан сам чувствовал радостное волнение оттого, что гуляет с молоденькой девушкой при свете луны. Позже по дороге домой он в сердцах ударил по рулю, досадуя, что они с Кей встретились только сейчас. Случись это раньше, зима могла бы сложиться для него совсем по-другому. У себя в комнате Пол достал бутылку «Чивас ригал» и уселся за кухонный стол с томиком Вольтера. Сквозь сетку дул легкий прохладный ветерок. После двух стаканов Кеннан принял душ и забрался в постель. Решил не делать сегодня записи в дневнике, но при этом улыбнулся, перебирая в памяти насыщенный событиями день. — Черт! Кеннан сел в постели, потом вскочил, быстро обулся, позабыв про носки, и натянул нейлоновую ветровку прямо поверх пижамы. Полная луна светила так ярко, что можно было ехать с выключенными фарами. «Вольво» потряхивало на резких поворотах. На парковке не осталось машин, а все поле было испещрено следами протекторов и глубокими колеями. Укутанные в чехлы аттракционы ждали завтрашней погрузки. Сперва Кеннан никого не обнаружил на лугу и с облегчением перевел дух. А потом он заметил на пустом бейсбольном стадионе маленькую фигурку, сидевшую на самой верхней скамейке. Когда Пол подошел ближе, то увидел, что на пыльном лице мальчика остались дорожки от слез. Кеннан стоял внизу и пытался что-то сказать, но не смог и лишь беспомощно пожал плечами. — Я знал, что вы вернетесь. — В голосе Терри, казалось, прозвучала радость. — Я знал, что вы вернетесь.
Рауль был жив. Кентавр с трудом выбрался из-под вражьих трупов. Его спасла рубашка. Эту ярко расшитую тунику, которую Фенн подарил ему в Древесных вершинах, он не снимал с самого Карвнала. Что тогда сказал маленький загадочный пушистик? «Не просто украшение». В самом деле. Рубашка остановила целых шесть арбалетных стрел, в то время как неудачливых солдат-ящеров не спасли даже кольчуги. Кентавр поднялся на ноги и сделал четыре неуверенных шага на подгибавшихся ногах. Сколько же он пролежал без сознания? Как трудно дышать. Возможно, сломано ребро. Рауль ощупал грудную клетку. Не важно. Воин обошел поляну, подобрал лук и все стрелы, которые сумел найти. Короткий меч пронзил вражьи щит и шлем и остался торчать в черепе ящера — пришлось его вытаскивать. Копье сломалось, но Рауль взял себе другое, а от своего отломил наконечник из священного металла и положил в колчан. Вооружившись, он поскакал прочь с поляны. Высокие пальмы все еще дымились. Маги не могли уйти далеко, и Рауль знал, куда они направились. На севере сияли высокие пики Рогатых гор. Поморщившись от боли, кентавр повесил за спину щит и лук, а потом легким размеренным галопом припустил в направлении горной гряды.
Ночь. Вокруг ртутных фонарей танцуют стаи мошкары. В телефонной будке возле маленького бакалейного магазина стоит Кеннан. Магазин закрыт, его окна тонут во тьме. На улице ни души. В темноте слышится голос Кеннана: — Да, Уит, я получил… Нет, я знаю… Я знаю, как трудно увидеться с Фентвортом… Конечно хочу. Но, Уит, не все так просто. Мне нужно не только… Я же договор подписал, а там сказано… Последние дни на самом деле очень важны… Так что он сказал?.. Слушай, какая разница, встречусь я с ним сейчас или в августе, когда он вернется? Если решение принимает он, до его возвращения никого на это место не возьмут, правильно? Если просто договориться о… Да? Да, понимаю. До его отъезда? Да. Да. О, понимаю… Нет, Уит, для меня важно, что ты там будешь. Просто… просто у меня нет денег на самолет. И потом надо будет лететь обратно за вещами. Да. Да. Может, и так, но я не могу себе позволить пропустить последние несколько… Не знаю. Думаю, да, а что? Черт, Уитни, ты ведь уже была в Европе… Почему бы… Почему бы тебе не сказать своим, что ты подъедешь только в конце июня или… Да. Правда? Их там уже не будет? А эта… как ее зовут?., экономка, да, Милли… Когда? Черт. Да, действительно очень здорово… Нет-нет, Уитни, я очень ценю. Ты даже не представляешь, что это для меня значит… Да. Э-э-э, я все понимаю, но послушай, мне трудно объяснить. Нет, слушай, завтра пятница. Да… потом в понедельник будет выходной, День памяти.[89] Потом вторник, среда, а четверг — последний день перед каникулами. Нет… только табели заполнить. Слушай, ну не может это подождать всего одну неделю?.. Ох. Да. Хорошо, понимаю. Ладно, давай я обо всем подумаю и завтра решу?. Знаю… но он же будет в субботу? Хорошо, слушай, завтра перезвоню… да, в пятницу вечером… и скажу… черт возьми, нет, Уит, у меня плохо с деньгами, но не настолько же, я не хочу, чтобы твоим родителям пришел счет за… слушай, я перезвоню в девять, это… ммм… по-вашему, одиннадцать вечера, ладно?.. Ну, ты можешь ему позвонить в субботу и сказать, что я буду к среде, или я просто подожду, вдруг повезет и появится еще одна вакансия. Ммм, э-э-э… Погоди, давай просто… Давай, я хорошенько все обдумаю, ладно? Да… хорошо, приму это к сведению, не волнуйся. Слушай, Уит, у меня четвертаки кончаются. Да. В девять… Ну, в одиннадцать. Нет… Я тебя тоже. Очень рад был услышать твой голос… Да. Хорошо. Тогда завтра поговорим. Да… Очень хочу тебя увидеть… Я тебя тоже. Пока, Уит.
Добби пытался сбежать, но его поймали и подвесили на цепях у стены. Джернисавьен лежала рядом, привязанная к столу, и видела: орангутанг еще дышит. В зловещем красном свете казалось, что с чародея живьем содрали кожу. В кровавом полумраке бродили высокие, закутанные в плащи тени. Когда Маги не смотрели в ее сторону, неокошка возобновляла попытки освободиться, но стальные оковы на запястьях и лодыжках не поддавались ни на дюйм. Все бесполезно. Джернисавьен оглядела металлический стол. В гладкой поверхности были проделаны маленькие отверстия, а по бокам шли специальные стоки-желобки. Интересно зачем? Неокошка ужаснулась своей догадке и решила больше об этом не думать. Сердце ее билось как бешеное, так и норовя выскочить из груди. Но зато вчера, когда Добби пытался бежать, стражники ненадолго отвлеклись, и она сумела проглотить заветный ключ. Вперед из тени вышла высокая фигура, и ее осветил кроваво-красный луч. Медленно-медленно Маг откинул капюшон. Джернисавьен в ужасе уставилась на покрытую чешуей морду, похожую на голову богомола, на огромные холодные кроваво-красные глаза, на клыки, с которых капала слизь. Маг сказал что-то на своем непонятном языке и медленно поднял костлявую чешуйчатую лапу. В грязных когтях он сжимал скальпель… А всего в полумиле от логова Магов Рауль карабкался в гору, пробираясь через большие сугробы и поскальзываясь на ледяных скалах. Дважды он падал и дважды чудом спасался, подтянувшись на могучих руках. Падение означало бы верную смерть. Волшебная рубашка Фенна кое-как согревала кентавра, но лошадиная часть туловища страшно мерзла. Руки быстро онемели, и Рауль понял, что в следующий раз ему уже не удастся подтянуться. Вдобавок ко всем неудачам начало садиться солнце. На такой высоте кентавру не пережить еще одну ночь. Только бы найти вход! Рауль уже почти отчаялся, как вдруг где-то внизу упал камень и невдалеке кто-то тихо выругался. Кентавр подполз к краю заснеженного скального выступа и увидел всего лишь в каких-то тридцати футах двух ящеров-стражников. Они стояли возле белой железной двери, которую почти невозможно было заметить на фоне утопавшего в снегу горного склона. Если бы ледяной ветер не донес до него ругательство, ящеров он тоже не увидел бы — их хорошо скрывали белые плащи и капюшоны. Солнце село. Пронзительный ветер швырял в дрожавшего от холода кентавра пригоршни снега. Рауль припал к земле и непослушными пальцами отстегнул со спины лук.
Разросшаяся молодая листва почти закрыла обзор реки, но с просторной веранды особняка на холме было видно, как по травянистому уступу карабкаются мальчик и молодой мужчина. Они шли медленно, мужчина что-то говорил, а мальчик смотрел на него снизу вверх. Бородач сел под деревом и похлопал рукой по земле, но его спутник покачал головой и сделал два шага назад. Мужчина снова заговорил, широко вытянул руки, растопырив пальцы, и наклонился вперед, словно хотел обнять мальчика, но тот отступил еще дальше. Молодой человек поднялся, а малыш повернулся и быстро зашагал вниз с холма, а потом побежал. Через минуту он уже скрылся за поворотом, там, куда уходила железная дорога, а мужчина остался на холме один.
Маленькая «вольво» свернула в узкую боковую улочку и остановилась около дома Терри. Кеннан долго сидел в машине, не убирая рук с руля. Когда он уже собрался выходить, с крыльца спустился мистер Бестер в одном мешковатом джинсовом комбинезоне, без рубашки. Он наклонился и заглянул под фундамент, и на седые, коротко стриженные волосы упал луч света. Учитель выждал секунду-другую и тронулся с места.
В два часа ночи Пол все еще паковал книги. Проходя мимо занавешенного окна, он услышал на улице какой-то звук, положил на пол очередную стопку и выглянул в подсвеченную фонарем ночную тьму. — Терри? Никто не ответил. Тень листвы неподвижно лежала на лужайке. Кеннан подождал пару минут и затем вернулся к своим книгам и коробкам.
Он собирался выехать в воскресенье рано утром, но закончил погрузку только к десяти. Похолодало, со свинцово-серого неба упало несколько дождевых капель. Домовладельца Кеннан не застал (наверное, тот отправился в церковь) и поэтому просто бросил ключ в почтовый ящик. Дважды он проехал через город и четыре раза мимо школы, а потом тихо выругался и свернул на запад, на шоссе. На пятьдесят пятой автостраде машин почти не было, а немногочисленные путешественники ехали с включенными фарами. По ветровому стеклу забарабанил дождь. Пол остановился позавтракать на западной окраине Сент-Луиса, но официантка сказала, что время завтрака уже закончилось, и принесла ему гамбургер и кофе. Из-за непогоды кафе выглядело темным и холодным. Когда он проезжал через центр Сент-Луиса, начался настоящий ливень. Приходилось то и дело менять полосу движения, поэтому Врата на Запад Кеннан прозевал. Под мостом текла Миссисипи, такая же серая и неспокойная, как и небо над головой. В Иллинойсе «вольво» свернула на семидесятое шоссе, устремившись на восток. Шуршание шин по мокрому асфальту и равномерное щелканье дворников нагоняли на Кеннана тоску, и он включил радио. Там, как ни странно, шла прямая трансляция гонок «Индианаполис 500». Он слушал, как ревели моторы и кричали болельщики. Навстречу ему по шоссе сквозь пелену дождя проносились огромные фуры. Через полчаса комментатор объявил, что на западном горизонте показались грозовые облака, и Пол выключил радио. Было ясно, что гонки сейчас остановят. В тишине Кеннан ехал на восток.
Во вторник после Дня памяти четвероклашки мистера Кеннана вернулись в класс, а там за учительским столом восседала миссис Борчердинг. Ее все хорошо знали по предыдущим заменам, а некоторые дети учились у нее в первом классе — она тогда отрабатывала свой последний год перед пенсией. Миссис Борчердинг, казалось, вся сплошь состояла из морщин, двойных подбородков и жира. На обрюзгших руках колыхались толстые складки. Чулки туго стягивали вздувшиеся лодыжки. Лицо и ладони испещряли многочисленные пигментные пятна. От нее слегка пахло тлением, и этот запах вскоре заполнил всю комнату. Дети сидели необычайно тихо, положив одну руку на другую, и молча наблюдали. — Мистер Кеннан уехал по срочному делу, — сказало жутковатое видение невыразительным голосом, мало похожим на человеческий. — Кажется, у него заболел кто-то из родных. Как бы то ни было, оставшиеся три дня вас буду учить я. И я хочу, чтобы в этом классе все работали, понятно? Мне не важно, сколько осталось до каникул — три дня или триста. И мне не важно, как вы работали раньше. Придется хорошенько потрудиться. С этого момента и до четверга будете корпеть в поте лица. Ваши табели уже заполнены, но это совсем не значит, что можно валять дурака. Мистер Эпперт разрешил мне в случае необходимости исправить оценки. В том числе за поведение. Если за эти четыре дня мне что-то не понравится, я вполне могу оставить кого-нибудь на второй год. Вопросы есть? Нет? Очень хорошо, достаньте учебники арифметики, будем писать проверочную.
Во время утренней перемены Терри со всех сторон засыпали вопросами. Он стоял неподвижно и молчаливо, и волны любопытства и отчаяния разбивались о него, как о скалу. Но кое-что мальчик все-таки рассказал, и ученики заволновались и загомонили, словно массовка в какой-нибудь мелодраматической сцене. Только ближе к обеду один из них набрался храбрости и обратился к миссис Борчердинг. Конечно же, это была Сара. Все делали упражнение по чистописанию, и в мертвой тишине тоненький девчачий голосок прозвучал как назойливое пчелиное жужжание. Учительница выслушала, нахмурилась и сердито посмотрела на первую парту. — Терри Бестер. — Да, мэм. — Ммм… Салли говорит, ты… хм… ты хочешь нам что-то рассказать. Класс захихикал, потому что она перепутала имя, но тучная женщина пристально оглядела всех своими маленькими глазками, и ученики тут же смолкли. — Хорошо, раз, как выясняется, все этого столько ждали, мы покончим с этой… этой сказкой… прямо сейчас, а потом перейдем к обществознанию. — Нет, мэм, — тихо ответил Терри. — Это что еще такое? Миссис Борчердинг смерила мальчика тяжелым взглядом, готовясь при малейшем признаке неповиновения подняться и подойти ближе. Терри вежливо молчал, сложив руки на парте. Только тонкие губы сжались слишком уж непокорно. — Лучше всего покончить с этим прямо сейчас. — Нет, мэм. — Терри говорил очень быстро, так, чтобы изумленная толстуха не успела его перебить. — Мне велели рассказать ее в последний день. В четверг. Он мне так велел. Миссис Борчердинг уставилась на Терри и хотела что-то сказать, но только открыла рот, как с громким стуком его закрыла. Потом собралась и начала снова: — На большой перемене в четверг. Перед уборкой. Если кто-то не захочет идти на перемену, может остаться и послушать. Остальные пойдут играть во двор. — Да, мэм. Терри вернулся к чистописанию.
Утро среды выдалось жарким, почти летним. Дети с надеждой входили в класс, но быстро опускали глаза, увидев за учительским столом все ту же необъятную миссис Борчердинг. Она редко поднималась со стула и запрещала вставать ученикам, хотя мистер Кеннан обычно разрешал разбиваться на группы и раздавал специальные карточки-задания. На каждой перемене все окружали Терри и пытались вызнать хоть какие-то подробности. Как ни странно, их внимание ничуть ему не льстило. Мальчик забивался в дальний угол площадки и кидал камешки в школьную ограду. В четверг пошел слух, что «вольво» мистера Кеннана минувшим вечером заметили на главной улице: Моника Дэвис ужинала в «Угольке» и явственно видела, как учитель проехал мимо. Сара самолично обзвонила одноклассников и кротко снесла упреки разгневанных родителей, которым ее звонки спозаранку пришлись не очень-то по душе. В полдевятого, за сорок пять минут до начала первого урока, почти все собрались на площадке. Билл вызвался пойти на разведку. Вернулся он через три минуты с таким унылым лицом, что все сразу все поняли. — Ну? — все-таки спросил Брэд. — Борчердинг. — Может, он попозже придет, — робко предположила Моника, но почти никто в это не верил, и девчонки совсем сникли под осуждающими взглядами одноклассников. Когда прозвенел звонок, перед детьми предстала все та же мрачная реальность в том же фиолетовом ситцевом платье, что и во вторник. В открытые окна не задувал ветерок, а время ползло неописуемо медленно, как всегда бывает в последний день перед каникулами. С утра они напряженно работали — вдвойне обидно, потому что в школе не осталось почти ни души: остальные классы ушли на пикник. Мистер Кеннан обещал, что они отправятся на весь день в парк к реке, «играть в софтбол до умопомрачения и есть сладости». Ученики даже распределили, кто что принесет, но теперь об этом никто уже не заикался. Малыши поднимали глаза от тетрадок, когда миссис Борчердинг давала какие-нибудь указания, и в глазах у всех читалось одно и то же выражение. На них словно откровение снизошло: мир ненадежен, и в любой момент без всякого предупреждения могут распахнуться двери в страшную реальность. Дети и раньше это знали, но опрометчиво забыли, ненадолго оказавшись внутри защитного магического круга. В полдень класс пообедал в практически пустой столовой: кроме них, там сидели только наказанные за что-то первоклассники и пятеро рыдавших учеников мисс Картер из класса для трудных подростков. На площадке почти никто не кричал и не подходил к Терри. Мальчик не выказывал никаких признаков волнения — просто стоял возле шеста для тетербола, сложив на груди руки. Потом они сдали библиотечные книги (Брэду и Дональду пришлось заплатить за потерянные и порванные учебники) и молча ждали, пока миссис Борчердинг тщательно их проверит. Все знали: следующие полтора часа придется драить парты, снимать со стен плакаты и оборачивать бумагой книжные полки. Совершенно бессмысленное и бесполезное занятие: ведь через неделю придут рабочие и уберут из класса мебель, а потом вымоют помещение снова. А еще все знали, что миссис Борчердинг будет тянуть сколько можно и раздаст табели в самый последний момент, всячески намекая, что кого-то не перевели — или перевели незаслуженно — в пятый класс, хотя на второй год точно никто не остался. Без пяти два учительница, отдуваясь, поднялась со стула и оглядела двадцать семь притихших учеников. Вокруг, как мешки с песком в окопе, громоздились стопки книг. — Хорошо, можете идти на перемену. Никто не двинулся с места, только Брэд вскочил, в замешательстве посмотрел на одноклассников и с идиотской ухмылкой уселся снова. Борчердинг сделалась пунцовой, начала говорить, потом одернула себя и тяжело шлепнулась на стул. — Терри, ты что-то собирался нам рассказать, — просипела она и оглянулась на настенные часы (которые опять встали), а потом на будильник (который дети тайком продолжали заводить). — У вас есть тридцать минут, молодой человек. И не расходуйте зря время, отведенное на перемену. — Да, мэм. Мальчик встал, вышел к доске для объявлений и молча указал на нарисованный фломастером треугольный горный хребет, который раскинулся возле южного побережья волшебного континента. Дети кивнули. Терри опустил руку и вышел на середину класса. Его вельветовые брюки громко шуршали. Шур-шур. Малыш повернулся и посмотрел на одноклассников. В комнате неподвижно застыл нагретый воздух, за окном приглушенно жужжали насекомые, откуда-то доносились детские крики. Терри откашлялся. Губы его побелели от напряжения, но он твердым и тихим голосом начал рассказ.
Рауль был на холме, а внизу были два ящера, которые охраняли дверь. Дверь вела в то место, где Маги держали Добби и Джернисавьен. Помните, тот большой Маг как раз достал нож и, наверное, собирался разрезать Джернисавьен и вытащить ключ. Ну и вот, пальцы у Рауля замерзли, но он знал: надо убить тех ящериц очень быстро или его поймают. Дул ветер, шел снег, стало темно. Ящеры наклонились друг к другу и что-то такое шептали или шипели. А у них были толстые плащи, и Рауль понимал, что надо хорошо прицелиться, иначе ему их не прострелить насквозь. А у них там, может, еще и доспехи были. И вот он достал две стрелы. Одну воткнул в снег, а вторую вставил в лук. У него на руках как будто толстые перчатки — потому что холодно и пальцы онемели. И он очень волновался, что не сможет выстрелить, что стрела сорвется слишком рано и ящеры его заметят. Но старался не думать об этом и натянул тетиву изо всех сил. Помните, это же особенный кентаврский лук — в наследство достался от папы, самого главного кентавра-воина. И никто, кроме Рауля, этот лук не мог натянуть. А он мог. Вот он его натягивает и ждет, прицеливается. А сам замерз и весь дрожит. Но он глубоко вдыхает и держит лук ровно… нацеливает на первого ящера, который стоиту самой двери. Темно уже, но от двери идет красноватый свет. Шух! Рауль отпускает тетиву. Одна стрела улетела, а он уже берет вторую и опять стреляет. Первый охранник — ну тот, ближе к двери, — чуть вскрикивает, а стрела попадает ему прямо в горло и выходит с другой стороны. А другой отвернулся, а когда поворачивается обратно — шух! И у него тоже стрела торчит из горла. Он падает со скалы и скользит прямо по замерзшему льду вниз, целых две мили. Но крикнуть не успевает. А Рауль спускается на четырех ногах, скользит немного и подкатывается прямо к двери. Такая большущая железная дверь, и никакой ручки нет, и заперто. Но у первого ящера, который мертвый, на поясе висит шестнадцать больших ключей. И один подходит к двери. Повезло Раулю, что ключи у этого, а не у того, который вниз упал. Рауль берет ключ и открывает дверь, та откатывается в сторону, а там длинный туннель, все прямо и прямо, а потом поворот. И везде красный свет и очень страшно. Он идет туда, но что-то такое задевает или там специальный электрический глаз стоял, только вдруг поднимается звон, точно как сигнализация. «Ну, все», — думает Рауль и галопом бежит по коридору, быстро-быстро. Он уже успел лук повесить обратно и достать меч. Помните, Джернисавьен была привязана к стальному столу, а над ней стоял Маг и собирался разрезать ей живот и достать ключ от портала? Он вынул нож — такой, как у врачей, страшно острый, таким можно масло резать. И вот он там стоит и думает, где бы разрезать поудобнее, а тут звенит сигнализация. — Это Рауль! — кричит Добби; он висит на стене, но живой еще. А маг поворачивается быстро-быстро и включает разные кнопки, и загораются такие небольшие телевизоры. На них видно, как бегут ящеры-солдаты, как Маги озираются, а на одном видно, как Рауль бежит по коридору. Маг что-то такое говорит по-змеиному другим Магам, и они все вместе выбегают из комнаты. А Добби и Джернисавьен остались там одни, но ничего не могут сделать, могут только телевизор смотреть. Они же связаны. А Рауль выбегает из-за поворота, а там целая куча ящериц, и у всех арбалеты, а у него только меч. Но они тоже удивились, больше него, поэтому Рауль успевает пригнуться и броситься вперед. А они не успели зарядить арбалеты, и он замахал мечом, и полетели во все стороны головы и хвосты. И всякое другое тоже. Джернисавьен и Добби видят это по телевизору и кричат от радости. Но они видят на другом телевизоре ящериц, а еще Магов, которые идут к Раулю. И Добби начинает раскачиваться на своих цепях, сильно-сильно. Помните, у него же очень сильные руки, он ведь еще тогда один держал древесный дом Тар-тюффеля. — Что ты делаешь? — спрашивает Джернисавьен. — Пытаюсь туда дотянуться! — кричит Добби и показывает на стол, где Маги работали, а там куча пробирок и бутылочек и всякие штуки. — А зачем? — спрашивает Джернисавьен. — Это ядринное топливо, — говорит Добби. — А вон та синяя штука — антигравитационная, как на небесном галеоне. Если их смешать… И Добби дергает и дергает, у него уже вены вздулись сильно-сильно, но потом — раз! — и одна цепь рвется. Добби теперь привязан только за одну руку, но он очень устал и больше не может. — Подожди минутку, — говорит Джернисавьен и смотрит в телевизор. Рауль порубил ящеров на куски и уже подошел близко-близко к комнате Добби и Джернисавьен, всего сто футов осталось. Но он не знает, что там четыре или целых пять Магов и у них огненные пистолеты. Он еле-еле успевает поднять щит. У него грива обгорела и волосы. А еще все стрелы сгорели, вообще все, что было на спине. И папин лук тоже. Поэтому он отступает и видит, что его пытаются отрезать, отовсюду бегут ящерицы. Рауль поворачивается и скачет галопом, но Маги идут за ним, и если они смогут выстрелить как следует — ему крышка. Поэтому Рауль останавливается, поднимает арбалет и стреляет в них, и ему удается ненадолго их задержать. И вдруг он забегает в большую комнату, где Маги держат свои летающие платформы. Рауль бежит, перескакивает через ограду и прыгает прямо на одну из платформ. Он ищет, как ею управлять, нажимает на кнопки, и вдруг стена поднимается — это дверь в горе. Рауль смотрит туда, смотрит на звезды, на простор, на горы. А потом смотрит назад, а там, у двери, куча ящериц и Маги. А у них пистолеты. И Рауль понимает, что если останется, то всех не одолеет. Он не боится, что умрет, но боится, что его очень больно поранят и привяжут там, как Добби и Джернисавьен. И Рауль жмет на кнопки, и платформа взлетает. Маги стреляют из пистолетов, но он уже вылетел наружу, а там темно, и им не прицелиться хорошенько, а он еще и летит зигзагами. А внутри Джернисавьен и Добби по телевизору все видят. У Добби всегда лицо грустное, но тут оно стало совсем-совсем грустное. — Ты можешь вторую руку освободить? — говорит Джернисавьен. Он не может — только мотает головой. Нужен рычаг. Джернисавьен знает, что у нее в животе ключ. И она знает, что Маги хотят его взять и завоевать все другие миры во Всемирной сети. Может, люди смогут их победить, но им трудно будет — они ведь Магов не ждали совсем. Джернисавьен вспоминает, как трое друзей обсуждали, как найдут портал, вместе поедут на разные планеты и увидят разных людей. — Нам ведь было так здорово? — говорит Добби. — Да, — говорит Джернисавьен. — Давай. Делай, как собирался. Добби ее понимает. Он улыбается, грустно так, но все равно радостно, а потом тянется далеко-далеко и отталкивается от стены. И тут они слышат, как по коридору идут Маги. Тогда Добби начинает размахивать правой рукой, на которой висит кусок цепи. Цепь попадает на ядринное топливо, и все перемешивается. Рауль уже улетел на пять миль, но тут видит, что гора взорвалась. Верхушка отскочила, и как будто вулкан заработал. Рауль уже далеко и очень высоко, поэтому его и не разметало взрывом. И он знает, кто это сделал. И почему. Я не знаю, что он думает. Только теперь он совсем один. Летит на платформе, а вокруг течет лава и сыплются искры. Ему некуда идти. Портал теперь не заработает. Ключ ведь был у Джернисавьен, и только Добби знал, что с ним нужно делать. Рауль висел там один в темноте долго-долго, а потом повернул платформу и улетел. И на этом конец.
Ученики сидели молча и неподвижно, как каменные. Терри вернулся на место. Громко шуршали вельветовые брюки. Шур-шур. Он сел за парту. Девочки начали всхлипывать, а многие мальчишки опустили глаза или подняли крышки парт, чтобы скрыть слезы. Миссис Борчердинг ничего не понимала. Она сердито посмотрела на настенные часы, а потом на будильник, подняла его, показала классу и рявкнула: — Посмотрите, что вы наделали, молодой человек: вы лишили одноклассников перемены, а теперь мы еще и опаздываем с уборкой. Ну-ка быстро все. Сейчас будете драить парты! Дети вытерли слезы, вздохнули и послушно взялись за уборку, которая одна только и стояла на их пути к свободе.
Две минуты сорок пять секунд
~ ~ ~
Эллен Датлоу — мой любимейший издатель, а может, и вообще любимейший человек на всем белом свете. Она — литературный редактор научно-фантастического журнала «OMNI». Некоторое время все называли ее «Эллен, мать киберпанка», но, думаю, просто потому, что путали с матерью Терезой. В один прекрасный день Эллен позвонила мне, сообщила, что журналу требуется несколько очень коротких научно-фантастических рассказов в жанре ужасов, и поинтересовалась — возьмусь ли я написать такой? — Эллен, ты же специально все так устроила, чтобы не платить три тысячи баксов за какую-нибудь одну писанину, а осчастливить сразу семерых или восьмерых из нашей братии? — Ну да. — И ты специально так сделала, чтобы опубликовать в номере восемь вещей вместо одного жалкого рассказишки, которого от тебя ждут в этом месяце? — Ясное дело. Еще вопросы есть? — А мне ты звонишь, потому что точно знаешь: беру я мало, работаю быстро и вообще — готов землю целовать, по которой ты ходила? — Конечно. И к тому же ты нам должен, ну за тот раз, когда тебе два года назад позволили сидеть за нашим столом во время банкета на Всемирном конвенте фэнтези. Вот я и подумала, что смогу взять твой гонорар за этот рассказ в уплату того долга. — Я в деле. Эллен поставила только одно условие. Все остальные рассказы (они были уже набраны и сверстаны, но в макете удачно передвинули рекламу презервативов и поэтому осталось местечко для еще одного) представляли собой обычные ужастики. — Они забыли, что это должна быть смесь ужасов и научной фантастики. Так что напиши-ка ты ужасы в стиле хай-тек. — Ужасы в стиле хайтек. Конечно. Без проблем. Я повесил трубку, запустил компьютер, похрустел для разминки пальцами, выключил компьютер и спросил себя: «А что такое, черт побери, ужасы в стиле хайтек?» Теперь-mo я знаю. «Две минуты сорок пять секунд» — это и есть ужасы в стиле хайтек. Пожалуй, к сказанному стоит добавить, что я провел кучу времени, совещаясь по телефону с адвокатами журнала «OMNI» по поводу этого рассказа. Прилагаю расшифровку одного такого разговора.Адвокат «OMNI»: Так рассказ действительно о крушении шаттла «Челленджер»? Я: Конечно же, рассказ действительно о крушении шаттла «Челленджер». Адвокат: Нет, на самом-то деле он вовсе не о крушении «Челленджера». Я: Конечно же, он вовсе не о крушении «Челленджера». Э… а о чем же тогда? Адвокат: Совершенно очевидно, он про альтернативную реальность, слышите? Альтернативную. И в той реальности взорвался некий безымянный шаттл. Возможно, это было связано с преступной халатностью некой безымянной корпорации. Или даже вымышленной корпорации. Все совпадения с реальными корпорациями, людьми или планетами нашей Галактики случайны. Правильно? Я: Хм, правильно. Я именно это и имел в виду. Адвокат: И еще кое-что. Вам придется поменять рабочее название. Я: Конечно же! Поменяю. А зачем? Адвокат: Мы… ммм… не рекомендуем называть рассказ «Посвящается корпорации „M*rt*n Th**k*l“». Я: Ну ладно. А как насчет: «О том, как корпоративная жадность и должностные преступления погубили семерых американских астронавтов и едва не погубили нашу космическую программу»? Адвокam: Мы подумаем над вашим предложением и перезвоним.
Эпилог этой истории. Недавно Эллен включила «Две минуты сорок пять секунд» во второй выпуск «Лучшего фэнтези за год», подготовленный ею вместе с Терри Уиндлингом. В предисловии к моему опусу Эллен, в частности, пишет: «Это короткий и леденящий душу рассказ о чувстве вины, частично основанный на хорошо всем известном событии из нашего недавнего прошлого, а именно — на трагедии, которая произошла с шаттлом „Челленджер“». А теперь простите, мне пора. В прихожей надрывается телефон, в дверь стучит судебный пристав, а на лужайке перед домом только что приземлился корпоративный вертолет.
~ ~ ~
Роджер Кольвин закрыл глаза. Опустилась стальная страховочная перекладина, начался крутой подъем. Они с лязгом карабкались на первый гребень американских горок, и он отчетливо слышал, как грохочет тяжелая цепь, как вращаются на стальных стержнях колеса. Позади кто-то нервно засмеялся. Сердце бешено стучало в груди. Он боялся высоты. Не отнимая рук от лица, Кольвин опасливо посмотрел сквозь щелочку между пальцами. Белые деревянные планки, два металлических рельса, плавно уходящие ввысь. Он сидел в первом вагончике. Роджер изо всех сил вцепился в страховочную перекладину. Эту железку сжимали до него многие потные ладони. Сзади захихикали. Кольвин повернулся — совсем чуть-чуть — и глянул в сторону. Так высоко, а подъем еще не закончился. Парк аттракционов и парковка сделались крошечными, группки отдыхающих превратились в подобие разноцветных ковриков, а отдельных людей отсюда вообще было не разглядеть. Вид внизу менялся: сложная мозаика из улиц и огоньков, и вот уже весь город как на ладони, затем весь округ. С лязгом и грохотом они поднимались все выше и выше. Небо стало темно-синим. В туманной голубой дали заворачивалась вниз линия горизонта. Они были уже не над озером: сквозь деревянные перекладины Кольвин видел, как там, далеко-далеко внизу солнечный свет поблескивает на гребнях океанских волн. Вагончик нырнул в холодное облако, и Роджер зажмурился, но через мгновение снова открыл глаза: цепь теперь громыхала иначе, уклон поменялся, они приближались к вершине. И вот они уже там. Перед ним раскинулось ничто. Рельсы, изгибаясь, уходили вниз и обрывались в пустоте. Вагончик рванулся вперед, Кольвин вцепился в перекладину и разинул рот, готовясь завопить. Падение началось. — Ну-ну, худшее уже позади. Роджер открыл глаза. Ему протягивал стакан Билл Монтгомери. Над головой, заглушая монотонное гудение двигателей реактивного «Гольфстрима», тихо шипел маленький кондиционер. Кольвин прикрутил вентилятор, взял выпивку и выглянул в окно. Бостонский аэропорт уже скрылся из виду. Внизу можно было различить массачусетское побережье, крошечные треугольнички парусов и залив, переходивший в открытый океан. Они все еще набирали высоту. — Черт возьми, Роджер, мы рады, что в этот раз вы решили лететь с нами, — сказал Монтгомери. — Здорово, что вся команда снова в сборе. Как в старые добрые времена. — Билл улыбнулся, остальные трое сидевших в салоне самолета подняли стаканы. Поигрывая лежавшим на коленях калькулятором, Кольвин глотнул водки, потом вздохнул и снова закрыл глаза. Он боялся высоты всю свою жизнь. В шесть лет упал с сеновала в амбаре. Падал бесконечно долго, время замедлилось, неумолимо приближались острые вилы, торчавшие из сена. От удара перехватило дыхание. Роджер шлепнулся лицом в солому, стальные зубцы прошли в каких-то трех дюймах от правого глаза. — Компанию ждут перемены к лучшему, — заявил Ларри Миллер. — Два с половиной года не было покоя от журналистов — хватит с нас. Завтра посмотрим на запуск. И снова все закрутится. — За нас, за нас! — вмешался Том Вейскотт. Уже наклюкался, а ведь еще только утро. Кольвин открыл глаза и улыбнулся. Потом еще раз посчитал: на борту четыре корпоративных вице-президента. Вейскотт все еще заведовал проектами. Прижавшись щекой к иллюминатору, Роджер наблюдал, как внизу проплывает залив Кейп-Код. Высота, наверное, одиннадцать или двенадцать тысяч футов. Они по-прежнему поднимались. Кольвин представил себе здание высотой в девять миль. Устланный ковром коридор последнего этажа. Он заходит в лифт. Дно стеклянное. Внизу четыре тысячи шестьсот этажей. На каждом светятся галогенные светильники. Девять миль черноты, разлинованные галогенными полосками, которые внизу сливаются в сплошное мутное свечение. Он поднимает голову и видит, как обрывается кабель. И падает, отчаянно цепляясь за стенки. Стенки стали скользкими, как будто они тоже стеклянные. Мимо проносятся огни, уже видно бетонное дно шахты — крошечный синий квадратик в нескольких милях внизу, который стремительно увеличивается по мере падения кабины. Кольвин знает: осталось около трех минут, квадратик будет расти, надвигаться и в конце концов расплющит его в лепешку. Роджер кричит, и капельки слюны повисают в воздухе, они ведь падают с той же самой скоростью. Мимо проносятся огни. Синий квадратик приближается. Кольвин выпил еще, поставил стакан в выемку на широком подлокотнике и застучал по клавишам калькулятора. Падающие объекты в гравитационном поле повинуются точным математическим законам. Таким же ясным и понятным, как векторы силы в кумулятивных зарядах и скорость горения ракетного топлива (этим Кольвин занимался уже двадцать лет). На скорость горения оказывает влияние кислород, а на падение тела — воздух. Скорость падения зависит не только от гравитации, но и от атмосферного давления, распределения массы, площади поверхности. Кольвин прикрыл глаза и сразу же увидел знакомую картину — ее он видел каждую ночь, когда, лежа в своей кровати, пытался заснуть. Во все стороны вздувается белое облако, словно в замедленной съемке, темно-синее небо перечеркивает косая клубящаяся черта. Полыхает багровым азотный тетроксид, за твердотопливными ракетными ускорителями тянутся два инверсионных следа, и за ними едва-едва удается разглядеть размытый крутящийся квадратик фюзеляжа с кабиной астронавтов. Никаких других деталей не видно, даже если максимально увеличить картинку. Неповрежденную, герметичную кабину, где находились люди, опалил с правой стороны пошедший вразнос ускоритель. Она начала падать, полетела вниз, оставляя позади обрывки проводов и кабеля, осколки фюзеляжа — словно рвалась пуповина, отделялась плацента. На записи всего этого не было видно, но Роджер держал в руках искореженные обломки, видел, что случилось после столкновения с безжалостным океаном. На вздувшейся коже наросли слоями крошечные морские организмы. Кольвин отчетливо представлял падение и поджидавшую в конце холодную тьму. На корм рыбам. — Роджер, — спросил Стив Кэхил, — почему вы боитесь летать? Кольвин лишь пожал плечами и допил водку. — Не знаю, — признался он. Он летал во Вьетнаме. До сих пор, вспоминая эту страну, Кольвин старался думать о месте, а не о состоянии. Его, молодого специалиста по кумулятивным зарядам и топливу для реактивных двигателей, транспортировали на вертолете в долину Бонг Сон недалеко от побережья. Одному из корпусов Армии Республики Вьетнам требовалось проверить, почему не детонирует партия стандартной пластиковой взрывчатки С-4. В полете у их «хьюи» отлетела с винта затяжная гайка, и машина рухнула в джунгли с высоты двухсот восьмидесяти футов, пропорола плотные тропические заросли и повисла винтом вниз на лианах в десяти футах от земли. Кабину пронзил древесный сук, и пилота аккуратненько насадило на него, как на вертел. Второй пилот размозжил себе череп о ветровое стекло. Пулеметчика выбросило наружу, он сломал позвоночник в нескольких местах и умер на следующий день. Кольвин отделался растяжением лодыжки. Теперь они пролетали над островом Нантакет. Роджер посмотрел вниз. Навскидку восемнадцать тысяч футов. Подъем продолжался. Они должны были набрать тридцать две тысячи, он хорошо это знал. Гораздо ниже сорока шести тысяч футов, да еще без вертикального вектора тяги, но тут важна площадь поверхности. Как-то в детстве, в пятидесятых, Кольвин увидел в старом номере газеты «Нэшнл инкуайрер» фотографию женщины, которая спрыгнула с Эмпайр-стейт-билдинг и приземлилась прямо на машину. Одна нога небрежно закинута за другую; на пальце порвался чулок. Крышу автомобиля расплющило, вдавило внутрь — это было похоже на большую пуховую перину, в которой утопает мирно спящий человек. Голова женщины как будто глубоко погрузилась в мягкую подушку. Кольвин стучал по клавишам. Спрыгнув с Эмпайр-стейт-билдинг, она пролетела почти четырнадцать секунд и упала на машину. Падение внутри металлической коробки с высоты в сорок шесть тысяч футов заняло две минуты сорок пять секунд, а потом — столкновение с поверхностью океана. О чем она думала во время полета? А они, о чем думали они? «Популярные рок-композиции и видеоклипы обычно длятся около трех минут», — подумал Кольвин. Вполне подходящий отрезок времени: заскучать не успеешь, и как раз достаточно, чтобы поведать историю. — Черт побери, как же мы рады, что вы с нами, — повторил Билл Монтгомери.— Черт побери, — прошептал Билл на ухо Кольвину два с половиной года назад в холле перед входом в зал для телеконференций, — вы с нами или против нас? Не телеконференция тогда получилась, а настоящий спиритический сеанс. Они сидели в тускло освещенных комнатах за сотни или даже тысячи миль друг от друга и переговаривались с голосами, которые, казалось, звучали из ниоткуда. — Вот так у нас здесь обстоят дела с погодой, — говорили из Космического центра Кеннеди. — Что будем делать? — Мы прочитали ваш телефакс, но все равно не понимаем. — Это уже из Космического центра Маршалла. — Объясните, почему необходимо все отменять из-за столь незначительной аномалии? Вы же уверяли, что все стопроцентно безопасно, что можно их хоть ногами пинать и ничего не будет? Фил Макгуайр, ведущий инженер из команды Кольвина, заерзал в кресле и заговорил, зачем-то повышая голос. Около каждого участника телеконференции были установлены четырехпроводные передающие устройства, которые улавливали даже самую тихую речь. — Не понимаете? — Макгуайр почти кричал. — Да вся проблема в сочетании факторов! Воздействие холодных температур и возможной электрической активности в облачном слое. Во время пяти предыдущих запусков было три кратковременных сбоя в проводке, соединяющей удлиненные кумулятивные заряды в ракетных ускорителях и антенны командной связи… — Кратковременные сбои, — ответил и из центра Кеннеди, — но ведь все в пределах необходимых параметров? — Ну да… — Казалось, Макгуайр вот-вот расплачется. — Но мы же постоянно перекраиваем эти чертовы параметры, подписываем все новые бумажки. Только поэтому и не выходим за пределы. Мы просто-напросто не знаем, почему наблюдался нестационарный ток между зарядами си-двенадцать-би в ракетных ускорителях и внешних топливных баках, ведь никаких сигналов при этом не поступало. Роджер думает, что, может, лазерная связь виновата или сам корпус си-двенадцать иногда пропускает статический разряд и возникает подобие командного сигнала… Роджер, ну скажи же им, ради бога! — Мистер Кольвин? — Голос из центра Маршалла. Роджер откашлялся. — Мы наблюдаем это явление уже некоторое время. Предварительные данные показывают, что при температурах ниже двадцати восьми градусов по Фаренгейту остаточный оксид цинка в си-двенадцать-би инициирует ложный сигнал… если есть достаточный статический разряд… теоретически… — Но никаких исчерпывающих данных по этому вопросу нет? — уточнили из центра Маршалла. — Нет. — И во время последних трех запусков вы подписали документ об отклонениях, удостоверяющий готовность к полету? — Да. — Ладно, — подытожил голос из центра Кеннеди. — Мы выслушали мнение инженеров, как насчет менеджмента компании? Билл Монтгомери объявил пятиминутный перерыв, и все собрались в холле. — Черт побери, Роджер, вы с нами или против нас? Кольвин смотрел в пол. — Я говорю серьезно, — пролаял Монтгомери. — В этом году космический сектор принес компании двести пятнадцать миллионов чистого дохода. Роджер, ваши усилия — это весомый вклад в наш успех. А теперь вы готовы пустить все коту под хвост из-за каких-то дурацких временных сбоев. Да что они могут значить по сравнению с огромной работой, которую проделала наша команда! Через несколько месяцев откроется вакансия вице-президента, Роджер. У вас неплохие шансы, подумайте о них, не теряйте голову, как этот ваш истерик Макгуайр. — Готовы? — спросили через пять минут из центра Кеннеди. — Запускайте, — сказал вице-президент Билл Монтгомери. — Запускайте, — сказал вице-президент Ларри Миллер. — Запускайте, — сказал вице-президент Стив Кэхил. — Запускайте, — сказал руководитель проекта Том Вейскотт. — Запускайте, — сказал руководитель проекта Роджер Кольвин. — Хорошо, — подытожили в центре Кеннеди. — Мы передадим ваши рекомендации. Жаль, что вы, джентльмены, не сможете завтра быть здесь и своими глазами увидеть запуск.
— Ой, кажется, я вижу Лонг-Айленд! — воскликнул, глядя в свой иллюминатор, Билл Монтгомери. Кольвин оглянулся. — Билл, — спросил он, — сколько в этом году компания заработала на перепроектировке си-двенадцать-би? Монтгомери глотнул спиртного и с удовольствием вытянул ноги. — Думаю, порядка четырехсот миллионов. А что? — А агентство не собиралось отказаться от наших услуг и обратиться к кому-нибудь еще… после? — Черта с два, — подключился Том Вейскотт. — А на кого им нас менять? Мы их держим за жабры. Подумали несколько месяцев, а потом приползли обратно. Роджер, вы же лучший в стране специалист в области самовоспламеняющихся составов и систем безопасности. Кольвин кивнул, еще немного повозился со своим калькулятором и закрыл глаза. Опустилась стальная страховочная перекладина, вагончик с лязгом карабкался все выше и выше. Разреженный воздух становился все холоднее, скрежет вращавшихся на металлическом стержне колес перерос в пронзительный визг, они миновали отметку в шесть миль. «В случае разгерметизации салона кислородная маска автоматически выпадет из отсека в потолке над вашим креслом. Наденьте ее так, чтобы она закрывала нос и рот, закрепите резинку на затылке и спокойно дышите». Кольвин опасливо посмотрел вверх на жуткий изгиб американских горок. Вершина приближалась. Впереди ждала пустота. Небольшие приспособления с маской и кислородной емкостью назывались ЛЭКБ — личный эвакуационный кислородный баллон. Со дна океана подняли четыре из пяти таких устройств. Все они были активированы. Из рассчитанного на пять минут запаса воздуха каждый член экипажа израсходовал немногим более половины. Объем, соответствующий двум минутам сорока пяти секундам. Кольвин смотрел на приближавшуюся вершину. Раздался громкий металлический скрежет, вагончик накренился, миновал высшую точку и рванулся вниз. Позади Кольвина вопили, громко и безостановочно. Роджер согнулся пополам и ухватился за страховочную перекладину. Девять миль падения в пустоту. Он открыл глаза и глянул в иллюминатор. Установленные им кумулятивные заряды с хирургической точностью отделили половину левого крыла. При таком угле падения обломок правого крыла обеспечит достаточную площадь поверхности. Конечная скорость будет чуть ниже максимума. Две минуты сорок пять секунд, плюс-минус четыре секунды. Кольвин потянулся к калькулятору, но тот взлетел в воздух, сталкиваясь с парящими вокруг бутылками, стаканами, подушками и другими объектами, которые не закрепили надлежащим образом. Вопили в салоне очень громко. Две минуты сорок пять секунд. Успеешь о многом подумать. И может быть — вряд ли, но все же, — он наконец успеет вздремнуть, спокойно и без сновидений, после двух с половиной лет бессонницы и кошмаров. Кольвин закрыл глаза.
Утеха падали
~ ~ ~
Некоторые читатели этого сборника, наверное, знают, что рассказ «Утеха падали» со временем перерос в большой роман с тем же названием.[90] Я всегда ощущаю некоторый дискомфорт, когда рассказ или новелла превращается в роман. Меня в таких случаях гложет вопрос: возможно, рассказ был недоделан? Или, может быть, роман просто чрезмерно растягивает сюжет новеллы? Попробую ответить здесь на эти вопросы. Рассказ «Утеха падали» — моя попытка (в своем роде уникальная) исследовать психологию абсолютной власти, развращенной абсолютно. А одноименный роман (все полмиллиона слов) — моя первая и последняя попытка изучить влияние такой власти на людей, которые отказываются ей подчиняться. Думаю, рассказ имеет право на существование… Он обладает своими собственными достоинствами и, соответственно, заслуживает собственного читателя. Не только потому, что из него, как из маленького кристалла-затравки, выросло другое, более объемное произведение, но в первую очередь потому, что это чистая субстанция. Неразбавленная. Только скотч — никакой воды или льда. Яд семейства Борджиа без какого-либо противоядия. Сделайте глоток. И наслаждайтесь.~ ~ ~
Я знала, что Нина отнесет смерть битла Джона на свой счет. Полагаю, что это проявление очень дурного вкуса. Она аккуратно разложила свой альбом с вырезками из газет на моем журнальном столике красного дерева. Эти прозаические констатации смертей на самом деле представляли собой хронологию всех ее Подпиток. Улыбка Нины Дрейтон сияла, как обычно, но в ее бледно-голубых глазах не было и намека на теплоту. — Надо подождать Вилли, — сказала я. — Ну конечно, Мелани, ты, как всегда, права. Какая я глупая. Я ведь знаю наши правила. — Нина встала и начала расхаживать по комнате, иногда бесцельно касаясь чего-то или сдержанно восторгаясь керамическими статуэтками и кружевами. Когда-то эта часть дома была оранжереей, но теперь я использую ее как комнату для шитья. Растениям здесь по-прежнему доставалось немного солнечного света по утрам. Днем комната выглядела теплой и уютной благодаря солнцу, но с приходом зимы ночью здесь было слишком прохладно. И потом, мне очень не нравилось впечатление темноты, подступающей к этим бесчисленным стеклам. — Обожаю этот дом. — Нина повернулась ко мне и улыбнулась. — Просто не могу передать, как я всегда жду возвращения в Чарлстон. Нам нужно проводить здесь все наши встречи. Но я-то знала, как Нина ненавидит и этот город, и этот дом. — Вилли может обидеться, — сказала я. — Ты же знаешь, как он любит похвастаться своим домом в Голливуде. И своими новыми девочками. — И мальчиками. — Нина засмеялась. Она здорово изменилась и потускнела, но ее смех остался прежним. Это был все тот же хрипловатый детский смех, который я услышала впервые много лет назад. Именно из-за этого смеха меня тогда потянуло к ней; тепло одной девчушки притягивает другую одинокую девочку-подростка, как пламя — мотылька. Теперь же смех этот лишь обжег меня холодом и заставил еще больше насторожиться. За прошедшие десятилетия слишком много мотыльков слеталось на пламя Нины. — Давай выпьем чаю, — предложила я. Мистер Торн принес чай в моих самых лучших фарфоровых чашках. Мы с Ниной сидели в медленно передвигающихся квадратах солнечного света и тихо разговаривали о всяких пустяках: об экономике, в которой обе ничего не понимали; о совершенно вульгарной публике, с которой приходится теперь сталкиваться, летая самолетами. Если бы кто-нибудь заглянул из сада в окно, то подумал бы, что видит стареющую, но все еще привлекательную племянницу, навещающую любимую тетушку. (Никто не мог бы принять нас за мать и дочь — тут я не уступлю.) Обычно меня считают хорошо одетой, если не совсем стильной женщиной. Господь свидетель, я довольно дорого плачу за шерстяные юбки и шелковые блузки, которые мне присылают из Шотландии и Франции. Но рядом с Ниной мой гардероб всегда выглядит безвкусным. В тот день на ней было элегантное светло-голубое платье, которое обошлось ей в несколько тысяч долларов, если я правильно угадала модельера. Этот цвет так оттенял ее лицо, что оно казалось еще более совершенным, чем обычно, и подчеркивал голубизну ее глаз. Волосы Нины поседели, как и мои, но она по-прежнему носила их длинными, закрепив бареткой, и это ее не портило; напротив, Нина выглядела шикарно и моложаво, а у меня было ощущение, что мои короткие искусственные локоны блестят от синьки. Вряд ли кто мог бы подумать, что я на четыре года моложе Нины. Время обошлось с ней не слишком сурово. К тому же она чаще искала и получала Подпитку. Она поставила чашку с блюдцем на столик и вновь беспокойно заходила по комнате. Это было совсем на нее непохоже — проявлять такую нервозность. Остановившись перед застекленным шкафчиком, она обвела взглядом вещицы из серебра и олова и замерла в изумлении. — Господи, Мелани… Пистолет! Разве можно в таком месте хранить старый пистолет? — Это антикварная вещь, — пояснила я. — И очень дорогая. Вообще ты права, глупо держать его тут. Но во всем доме нет больше ни одного шкафчика с замком, а миссис Ходжес часто берет с собой внуков, когда навещает меня… — Так он что, заряжен?! — Нет, конечно, — солгала я. — Но детям вообще нельзя играть с такими вещами… — Я неловко замолчала. Нина кивнула, но в ее улыбке была изрядная доля снисходительности, которую она даже не пыталась скрыть. Она подошла к южному окну и выглянула в сад. Будь она проклята! Нина Дрейтон даже не узнала этого пистолета, и этим о ней все сказано.В тот день, когда его убили, Чарлз Эдгар Ларчмонт считался моим кавалером уже ровно пять месяцев и два дня. Об этом не было официально объявлено, но мы должны были пожениться. Эти пять месяцев представили, как в микрокосмосе, всю ту эпоху — наивную, игривую, подчиненную строгим правилам настолько, что она казалась манерной. И еще романтичной. Романтичной в первую очередь и в самом худшем смысле этого слова — подчиненной слащавым либо глупым идеалам, к которым могли стремиться только подростки. Мы были как дети, играющие с заряженным оружием. У Нины — тогда она была Ниной Хокинс — тоже имелся кавалер, высокий, неуклюжий англичанин, исполненный самых благих намерений. Звали его Роджер Харрисон. Мистер Харрисон познакомился с Ниной в Лондоне годом раньше, в самом начале поездки Хокинсов по Европе. Этот долговязый англичанин объявил всем, что он сражен — еще одна нелепость той ребяческой эпохи, — и стал ездить за Ниной из одной европейской столицы в другую, пока ее отец, скромный торговец галантереей, вечно готовый дать отпор всему свету из-за своего сомнительного положения в обществе, довольно сурово не отчитал его. Тогда Харрисон вернулся в Лондон — чтобы привести в порядок дела, как он сказал, а через несколько месяцев объявился в Нью-Йорке, как раз в тот момент, когда Нину собрались отправить к тетушке в Чарлстон, чтобы положить конец другому ее любовному приключению. Но это не могло остановить неуклюжего англичанина, и он отправился за ней на юг, строго соблюдая при этом все правила протокола и этикета тех дней. У нас была превеселая компания. На следующий день после того, как я познакомилась с Ниной на июньском балу у кузины Целии, мы наняли лодку и отправились вчетвером вверх по реке Купер к острову Даниэл на пикник. Роджер Харрисон обо всем судил серьезно и даже немного напыщенно и потому был отличной мишенью для Чарлза с его совершенно непочтительным чувством юмора. Роджер, похоже, совсем не обижался на добродушное подтрунивание; во всяком случае, он всегда присоединялся к общему смеху со своим непривычным британским хохотом. Нина была без ума от всего этого. Оба джентльмена осыпали ее знаками внимания, хотя Чарлз всегда подчеркивал, что его сердце отдано мне, но все понимали: Нина Хокинс — одна из тех девушек, которые неизменно становятся центром притяжения мужской галантности и внимания в любой компании. Общество Чарлстона тоже вполне оценило шарм нашей четверки. В течение двух месяцев того, теперь уже такого далекого, лета ни одна вечеринка, ни один пикник не могли считаться удавшимися, если не приглашали нас, четверых шалунов, и если мы не соглашались участвовать в этом. Наше первенство в светской жизни было столь заметным и мы получали от него столько удовольствия, что кузина Целия и кузина Лорейн уговорили своих родителей отправиться в ежегодную августовскую поездку в штат Мэн на две недели раньше. Не могу припомнить, когда у меня с Ниной возникла эта идея насчет дуэли. Возможно, в одну из тех долгих жарких ночей, когда одна из нас забиралась в постель к другой и мы шептались и хихикали, задыхаясь от приглушенного смеха, едва послышится шорох накрахмаленного передника, выдававший присутствие какой-нибудь горничной-негритянки, копошащейся в темных холлах. Во всяком случае, идея эта естественно возникла из романтических притязаний того времени. Эта картинка — Чарлз и Роджер дерутся на дуэли из-за какого-то абстрактного пункта в кодексе чести, касающегося нас, наполняла меня и Нину прямо-таки физическим возбуждением. Все это выглядело бы совершенно безобидным, если бы не наша Способность. Мы так успешно манипулировали поведением мужчин (а общество того времени ожидало от нас такого поведения и одобряло его), что ни я, ни Нина не подозревали о существовании чего-то необычного в нашей способности переводить свои капризы в действия других людей. Парапсихологии тогда не существовало, или, точнее говоря, она сводилась к стукам и столоверчению во время игр в гостиных. Как бы то ни было, мы несколько недель забавлялись, предаваясь фантазиям и шепотом их обсуждая, а потом кто-то из нас, или мы обе, воспользовался нашей Способностью, чтобы перевести фантазию в реальность. В некотором смысле то была наша первая Подпитка. Я уже не помню, что послужило предлогом для дуэли — возможно, преднамеренное недоразумение, связанное с какой-то шуткой Чарлза. Не помню, кого Чарлз и Роджер уговорили стать секундантами во время той противозаконной прогулки. Я помню только обиженное и удивленное выражение на лице Роджера Харрисона. Оно было просто карикатурой на тяжеловесную ограниченность и недоумение человека, попавшего в безвыходную ситуацию, созданную вовсе не им самим. Помню, как поминутно менялось настроение Чарлза — веселье и шутки внезапно переходили в депрессию и мрачный гнев; помню слезы и поцелуи в ночь накануне дуэли. То утро было прекрасным. С реки поднимался туман, смягчивший жаркие лучи восходящего солнца. Мы направлялись к месту дуэли. Помню, как Нина порывисто потянулась ко мне и пожала мою руку — это движение отдалось во мне электрическим током. Большая же часть происшедшего в то утро — провал, белое пятно. Возможно, из-за напряжения того первого, неосознанного случая Подпитки я буквально потеряла сознание, меня захлестнули волны страха, возбуждения, гордости… Я поняла, что все это происходит наяву, и в то же время ощущала, как сапоги шуршат по траве. Кто-то громко считал шаги. Смутно помню, как тяжел был пистолет в чьей-то руке… Наверное, то была рука Чарлза, но теперь я этого уже никогда не узнаю в точности… Помню миг холодной ярости, затем выстрел прервал нашу внутреннюю связь, а острый запах пороха привел меня в чувство. Убит был Чарлз. Никогда не изгладится из моей памяти вид невероятного количества крови, вылившейся из маленькой круглой дырочки в его груди. Когда я подбежала к нему, его белая рубашка уже была алой. В наших фантазиях не было никакой крови. Там не было и этой картины: голова Чарлза запрокинута назад, на окровавленную грудь изо рта стекает слюна, а глаза закатились так, что видны только белки, как два яйца в черепе. Когда Роджер Харрисон рыдал на этом поле погибшей невинности, Чарлз сделал последний судорожный вздох. Что случилось потом, я не помню. Только на следующее утро я открыла свою матерчатую сумку и нашла там среди своих вещей пистолет Чарлза. Зачем мне понадобилось его сохранить? Если я хотела взять что-то на память о своем погибшем возлюбленном, зачем было брать этот кусок металла? Зачем было вынимать из его мертвой руки символ нашего безрассудного греха? Нина даже не узнала этого пистолета. И этим о ней все сказано.
Прибыл Вилли. О приезде нашего друга объявил не мистер Торн, а компаньонка Нины, эта омерзительная мисс Баррет Крамер. По виду она была унисексуальна: коротко подстриженные черные волосы, мощные плечи и агрессивный взгляд, который ассоциируется у меня с лесбиянками и уголовницами. По моему мнению, ей было лет тридцать пять. — Спасибо, милочка, — сказала Нина. Я вышла поприветствовать Вилли, но мистер Торн уже впустил его, и мы встретились в холле. — Мелани! Ты выглядишь просто великолепно! С каждой нашей встречей ты кажешься все моложе. Нина! — Когда он повернулся к Нине, голос его заметно изменился. Мужчины по-прежнему испытывали легкое потрясение, видя Нину после долгой разлуки. Далее пошли объятия и поцелуи. Сам же Вилли выглядел еще ужаснее, чем когда-либо. Спортивный пиджак на нем был от прекрасного портного, а ворот свитера успешно скрывал морщинистую кожу шеи с безобразными пятнами, но, когда он сдернул с головы веселенькую кепку, длинные пряди седых волос, зачесанные вперед, чтобы скрыть разрастающуюся плешь, рассыпались, и картина стала неприглядной. Лицо Вилли раскраснелось от возбуждения, на носу и щеках проступали красные капилляры, выдавая чрезмерное пристрастие к алкоголю и наркотикам. — Милые леди, вы, кажется, уже знакомы с моими компаньонами — Томом Рэйнольдсом и Дженсеном Лугаром? — Двое мужчин подошли ближе, и теперь в моем узком холле собралась, казалось, целая толпа. Мистер Рэйнольдс оказался худым блондином; он улыбался, обнажая зубы с прекрасными коронками. Мистер Лугар — огромного роста негр с массивными плечами, на его грубом лице застыло угрюмое, обиженное выражение. Я была абсолютно уверена, что ни я, ни Нина никогда прежде не видели этих приспешников Вилли. — Что ж, пройдемте в гостиную, — предложила я. Толкаясь и суетясь, мы поднялись наверх и в конце концов втроем уселись в тяжелые мягкие кресла вокруг чайного столика Георгианской эпохи, доставшегося мне от дедушки. — Принесите нам еще чаю, мистер Торн. Мисс Крамер поняла намек и удалилась, но пешки Вилли по-прежнему неуверенно топтались у двери, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на выставленный хрусталь, как будто от одного их присутствия что-нибудь могло разбиться. Я бы не удивилась, если бы это действительно случилось. — Дженсен! — Вилли щелкнул пальцами. Негр немного постоял в нерешительности, затем подал дорогой кожаный кейс. Вилли положил его на столик и открыл застежки своими короткими, толстыми пальцами. — Ступайте отсюда. Слуга мисс Фуллер даст вам чего-нибудь выпить. Когда они вышли, он покачал головой и улыбнулся Нине: — Извини меня, дорогая. Нина тронула Вилли за рукав и наклонилась с таким видом, словно предвкушала что-то: — Мелани не позволила мне начать Игру без тебя. Это так ужасно с моей стороны, что я хотела сделать это, правда, Вилли, дорогой? Тот нахмурился. Пятьдесят лет прошло, а он все еще дергался, когда его называли Вилли. В Лос-Анджелесе он был Большой Билл Борден. А когда возвращался в свою родную Германию — не очень часто, из-за связанных с этим опасностей, — то снова становился Вильгельмом фон Борхертом, владельцем мрачного замка, леса и охотничьего выезда. Нина назвала его Вилли в их самую первую встречу в Вене в 1925 году, и он так и остался для нее Вилли. — Начинай, Вилли, — сказала Нина. — Ты первый. Я еще хорошо помню, как раньше, встречаясь после долгой разлуки, мы по нескольку дней проводили за разговорами, обсуждая все, что случилось с нами. Теперь у нас не было временидаже на такие салонные беседы. Обнажив в улыбке зубы, Вилли вытащил из кейса газетные вырезки, записные книжки и стопку кассет. Он едва успел разложить свои материалы на столике, как вошел мистер Торн и принес чай, а также альбом Нины из оранжереи. Вилли резкими движениями расчистил на столе немного места. На первый взгляд Вильгельм фон Борхерт и мистер Торн были чем-то похожи, но только на первый, ошибочный взгляд. Оба — краснолицы, но если цвет лица Вилли свидетельствовал об излишествах и разгуле эмоций, то мистер Торн не знал ни того ни другого уже много лет. Вилли стыдливо прятал свою лысину, проступающую тут и там, как у ласки, заболевшей лишаем, а обнаженная голова мистера Торна была гладкой, как колено, даже трудно представить, что у него когда-то были волосы. У обоих серые глаза (романист назвал бы их холодными), но у мистера Торна глаза были холодны от безразличия, во взгляде светилась ясность, порожденная абсолютным отсутствием беспокойных эмоций и мыслей. В глазах же Вилли таился холод порывистого зимнего ветра с Северного моря, их часто заволакивало переменчивым туманом обуревавших его чувств — гордости, ненависти, желания причинять боль, страсти к разрушению. Вилли никогда не называл использование Способности — Подпиткой; похоже, только я мысленно применяла это слово; но он иногда говорил об Охоте. Возможно, он вспоминал о темных лесах своей родины, когда выслеживал жертв на стерильных улицах Лос-Анджелеса. Я подумала: интересно, а снится ли Вилли этот лес? Вспоминает ли он охотничьи куртки зеленого сукна, приветственные крики егерей, кровь, хлещущую из бока умирающего кабана? Или он вспоминает топот сапог по мостовым и стук кулаков в двери — кулаков его помощников? Возможно, у Вилли Охота все еще связана с тьмой европейской ночи, с горящими печами, за которыми присматривал и он сам. Я называла это Подпиткой, Вилли — Охотой. Однако я никогда не слышала, как это называла Нина. Пожалуй что никак. — Где у тебя видео? — спросил он. — Я все записал на пленку. — Ах, Вилли, — раздраженно сказала Нина. — Ты же знаешь Мелани. Она такая старомодная. У нее нет видео. — У меня нет даже телевизора, — призналась я. Нина рассмеялась. — Черт побери, — пробормотал Вилли. — Ладно. У меня тут имеются и другие записи. — Он раскрыл небольшие черные записные книжки. — Просто на пленке было бы гораздо лучше. Телекомпании Лос-Анджелеса уделили много внимания «голливудскому душителю», а я еще кое-что добавил… Ну, неважно. — Он бросил кассеты в кейс и с треском захлопнул крышку. — Двадцать три, — продолжил он. — Двадцать три, с нашей последней встречи год назад. Как время пролетело… — Покажи. — Нина снова наклонилась вперед, ее голубые глаза блестели. — Я иногда думала, что ты имеешь к нему отношение, после того как увидела этого «душителя» в «Шестидесяти минутах». Значит, он был твой, да, Вилли? Он имел такой вид… — Ja, ja,[91] он был мой. Вообще-то он никто. Так, пугливый человечек, садовник одного моего соседа. Я оставил его в живых, чтобы полиция могла допросить его, снять любые сомнения. Он повесился в камере через месяц после того, как пресса потеряла к нему интерес. Но тут есть кое-что более любопытное. Смотрите. — Вилли бросил на стол несколько глянцевых черно-белых фотографий. — Исполнительный директор Эн-би-си убил пятерых членов своей семьи и утопил в плавательном бассейне пришедшую в гости актрису из «мыльной оперы». Потом он несколько раз ударил себя ножом в грудь и кровью написал «И еще пятьдесят» на стене строения, где был бассейн. — Вспоминаешь старые подвиги, да, Вилли? — спросила Нина. — «Смерть свиньям» и все такое прочее? — Да нет же, черт возьми. Я считаю, мне положены лишние очки за иронию. Девица все равно должна была утонуть в своем сериале. Так написано в сценарии. — Трудно было его использовать? — Этот вопрос задала я, поневоле испытывая какой-то интерес. Вилли поднял бровь: — Не очень. Он был алкоголиком, да к тому же прочно сидел на игле. От него мало что осталось. Семью свою он ненавидел, как и большинство людей. — Возможно, большинство людей в Калифорнии, но не везде. — Нина поджала губы. Довольно странная реплика в ее устах. Отец Нины совершил самоубийство — бросился под троллейбус. — Где ты установил контакт? — спросила я. — На какой-то вечеринке. Обычное дело. Он покупал наркотик у режиссера, который довел до ручки одного из моих… — Тебе пришлось повторить контакт? Вилли нахмурился, глядя на меня. Он пока сдерживал злость, но лицо покраснело. — Ja, ja. Я видел его еще пару раз. Однажды я просто смотрел из окна автомобиля, как он играет в теннис. — Очки за иронию дать можно, — сказала Нина. — Но за повторный контакт очки надо снять. Если он — пустышка, как ты сам говоришь, ты должен был использовать его после первого же контакта. Что еще? Дальше шел обычный набор: жалкие убийства в трущобах, пара бытовых убийств в семье, столкновение на шоссе, закончившееся стрельбой и смертью. — Я был в толпе, — сказал Вилли. — Я сразу установил контакт. У него в бардачке был пистолет. — Два очка, — улыбнулась Нина. Один добротный случай Вилли оставил напоследок. Нечто странное приключилось с человеком, когда-то в молодости бывшим знаменитостью, кинозвездой. Он вышел из своей квартиры в Бел-Эйр, а пока его не было дома, она заполнилась газом, потом он вернулся и зажег спичку. Взрыв, пожар, кроме него погибли еще два человека. — Очки только за него, — сказала Нина. — Ja, ja. — А ты уверен, что все так и произошло? Это мог быть обычный несчастный случай… — Не смеши, — оборвал ее Вилли и повернулся ко мне: — Его было довольно трудно использовать. Очень сильная личность. Я стер в его памяти информацию о том, что он включил газ. Надо было заблокировать ее на целых два часа, а потом заставить его войти в комнату. Он бешено сопротивлялся, не хотел зажигать спичку. — Надо было заставить его чиркнуть зажигалкой. — Он не курил, — проворчал Вилли. — Бросил в прошлом году. — Да, — улыбнулась Нина. — Кажется, я помню; он говорил об этом Джонни Карсону. Я не могла понять, шутит она или говорит серьезно. Потом мы втроем подсчитали очки, как бы исполняя ритуал. Больше всех говорила Нина. Вилли сначала хмурился, потом разошелся, потом снова стал угрюмым. Был момент, когда он потянулся ко мне и со смехом похлопал меня по колену, прося помощи. Я никак не отреагировала. В конце концов он сдался, подошел к бару и налил себе бокал виски из графина моего отца. Сквозь цветные стекла эркера пробивались последние, почти горизонтальные лучи вечернего солнца и падали красным пятном на Вилли, стоявшего рядом с буфетом мореного дуба. Глаза его казались крохотными красными угольками, вставленными в кровавую маску. — Сорок одно очко, — подвела итог Нина. Она посмотрела на нас блестящими глазами и подняла калькулятор, как будто он мог подтвердить какой-то объективный факт. — Я насчитала сорок одно очко. А ты, Мелани? — Ja, — перебил ее Вилли. — Прекрасно. Теперь глянем на твою заявку, милая Нина. — Он говорил тусклым, бесцветным голосом. Даже Вилли начинал терять интерес к Игре. Не успела Нина начать, как вошел мистер Торн и объявил, что обед подан. Прежде чем мы перешли в столовую, Вилли налил себе еще из графина, а Нина взмахнула руками, изображая отчаяние из-за того, что пришлось прервать Игру. Когда мы сели за длинный стол красного дерева, я постаралась вести себя как подобает настоящей хозяйке дома. По традиции, в течение уже нескольких десятков лет разговоры об Игре за обеденным столом были запрещены. За супом мы обсудили последний фильм Вилли и Нинину покупку еще одной из модных лавок. Ежемесячная колонка Нины в «Вог», похоже, будет снята, но ею заинтересовался газетный синдикат, готовый продолжить это дело. Запеченный окорок был встречен восторженными похвалами, но мне показалось, что мистер Торн пересластил соус. Когда мы перешли к шоколадному муссу, за окнами стало совсем темно. Отблески отраженного света люстры танцевали на локонах Нины, мои же волосы больше обычного отдавали синевой — во всяком случае, так мне казалось. Внезапно со стороны кухни послышался какой-то шум. В дверях появился негр-гигант. На его плече лежали чьи-то белые руки, от которых он пытался освободиться, а на лице застыло выражение обиженного ребенка. — Какого черта мы тут сидим, как… — Но руки тут же уволокли его. — Извините меня, дорогие леди. — Вилли прижал салфетку к губам и встал. Несмотря на возраст, он все еще сохранял грацию движений. Нина ковыряла ложкой в шоколадном муссе. Мы услышали, как из кухни донеслась резкая, короткая команда, потом звук удара. Вероятно, бил мужчина: звук был жесткий и хлесткий, как выстрел из малокалиберной винтовки. Я подняла глаза. Мистер Торн убирал тарелки из-под десерта. — Пожалуйста, кофе, мистер Торн. Всем кофе. Он кивнул, мягко улыбаясь.
Франц Антон Месмер знал об этом, хотя и не понимал, что это такое. Я подозреваю, Месмер сам имел намек на Способность. Современная псевдонаука изучала это, нашла для этого новые названия, уничтожила большую часть этой мощи, перепутала ее источники и способы использования, но это остается лишь тенью того, что открыл Месмер. У них нет никакого представления о том, что значит ощущать Подпитку. Я в отчаянии от разгула насилия в нынешние времена. Иногда я целиком отдаюсь этому отчаянию, падаю в глубокую пропасть без какого-либо будущего — пропасть отчаяния, названного Хопкинсом утехой падали. Я смотрю на эту всеамериканскую скотобойню, на все эти покушения на президентов, римских пап и бесчисленное количество других людей и иногда задумываюсь: может быть, в мире есть много таких, как мы, обладающих нашей Способностью? Или такая вот бойня стала теперь просто образом жизни? Все человеческие существа питаются насилием, они питаются властью над другими, но лишь немногие испытали то, что испытываем мы, — абсолютную власть. Без этой Способности очень немногим знакомо несравненное наслаждение в момент лишения человека жизни. Без этой Способности даже те, кто питается жизнью, не могут смаковать поток эмоций в охотнике и его жертве, абсолютный восторг нападающего, который ушел далеко за грань всех правил и наказаний, и то странное, почти сексуальное чувство покорности, охватывающее жертву в последнее мгновение истины, когда уже нет никакого выбора, когда всякое будущее уничтожено, все возможности стерты в акте подчинения другого своей абсолютной власти. Меня приводит в отчаяние нынешний разгул насилия, безличность и случайность и то, что насилие стало доступным столь многим. У меня был телевизор, но потом я его продала, в самый разгар войны во Вьетнаме. Эти стерильные кусочки смерти, принесенные издали линзой камеры, совершенно ничего мне не говорили. Но, наверное, они что-то значили для того сброда, который нас окружает. Когда закончилась война, а вместе с ней ежевечерние подсчеты трупов по телевидению, этот сброд потребовал: «Еще! Еще!» И тогда с экранов на улицы городов этой милой умирающей нации была выброшена масса посредственных убийств на потребу толпе. Я-то хорошо знаю эту наркотическую тягу. Все они упускают главное. Насильственная смерть, если ее просто наблюдать, — всего лишь грустная перепачканная картинка смятения и хаоса. Но для тех из нас, кто испытал Подпитку, смерть является таинством.
— Теперь моя очередь! Моя! — Голос Нины все еще напоминал интонации красавицы, приехавшей в гости и только что заполнившей танцевальную карточку именами кавалеров на июньском балу кузины Целии. Мы вернулись в гостиную. Вилли допил свой кофе и попросил у мистера Торна коньяку. Мне стало стыдно за Вилли. Когда допускаешь даже намек на небрежность в поведении в присутствии самых близких людей, это верный признак ослабевающей Способности. Нина, казалось, ничего не замечала. — Тут у меня все разложено по порядку. — Она раскрыла свой альбом с вырезками на чайном столике, который был уже прибран. Вилли аккуратно просмотрел все. Иногда он задавал вопросы, но чаще ворчал что-то, выражая согласие. Время от времени я тоже давала понять, что согласна, хотя ни о чем из перечисленного не слышала. Разумеется, за исключением этого битла. Нина приберегла его под конец. — Боже мой, Нина, так это ты? — Вилли был чуть ли не в ярости. Нина кормилась в основном самоубийствами на Парк-авеню и ссорами между мужем и женой, заканчивавшимися выстрелами из дорогих дамских пистолетов малого калибра. А случай с этим битлом был больше похож на топорный стиль Вилли. Возможно, он счел, что кто-то вторгается на его территорию. — Я хочу сказать… ты же сильно рисковала! Черт побери… Такая огласка!.. Нина засмеялась и положила калькулятор. — Вилли, дорогой, но не в этом ли весь смысл Игры? Он подошел к буфету и снова налил себе коньяку. Ветер трепал голые сучья перед окнами синеватого стекла эркера. Я не люблю зиму. Даже на юге она угнетает дух. — Разве этот… как его… разве он не купил пистолет на Гавайях или где-то там еще? — спросил Вилли, все еще стоя в противоположном углу. — По-моему, он сам проявил инициативу. Я хочу сказать, если он уже подбирался к этому… — Вилли, дорогой. — Голос Нины стал таким же холодным, как ветер, что трепал голые сучья за окном. — Никто не говорит, что он был уравновешенным человеком. А разве кто-нибудь из твоих людей был уравновешенным? И все же именно я заставила его сделать это. Я выбрала место, выбрала время. Неужели не ясно, насколько удачен выбор места? После той милой шалости с режиссером колдовского фильма несколько лет назад? Все прямо по сценарию… — Не знаю. — Вилли тяжело опустился на диван, пролив коньяк на свой дорогой пиджак. Он ничего не заметил. Свет лампы отражался на его лысеющем черепе. Возрастные пятна вечером проступали отчетливее, а шея там, где ее не прикрывал ворот свитера, казалось, вся состояла из жил и веревок. — Не знаю. — Он поднял на меня глаза и вдруг заговорщицки улыбнулся. — Тут все как с тем писателем, правда, Мелани? Возможно, именно так. Нина опустила глаза и теперь смотрела на свои руки, сложенные на коленях. Кончики ее ухоженных пальцев побелели.
«Вампиры мозга». Так этот писатель собирался назвать свою книгу. Иногда я думаю: а мог ли он вообще что-нибудь написать? Как же его звали?.. Что-то русское. Однажды мы оба, Вилли и я, получили телеграммы от Нины: «Приезжайте как можно скорее. Вы нужны мне». Этого было достаточно. На следующее утро я полетела в Нью-Йорк первым же рейсом. Самолет был очень шумный, винтовой, и я большую часть времени пыталась убедить сверхзаботливую стюардессу, что мне ничего не нужно и я вообще чувствую себя прекрасно. Она явно решила, что я — чья-то бабушка, впервые путешествующая самолетом. Вилли ухитрился прилететь на двадцать минут раньше меня. Нина совершенно потеряла голову: я никогда не видела, чтобы она была так близка к истерическому припадку. Оказалось, что двумя днями раньше она гостила у кого-то в нижнем Манхэттене (она, конечно, потеряла голову, но не настолько, чтобы отказать себе в удовольствии упомянуть, какие важные лица присутствовали) и там, в укромном уголке гостиной, обменялась заветными мыслями с молодым писателем. Точнее, это писатель поделился с нею кое-какими заветными мыслями. По словам Нины, это был довольно замызганный тип: жиденькая бороденка, очки с толстыми линзами, вельветовый пиджак, старая фланелевая рубашка в клетку — в общем, один из тех, кто непременно попадается на удавшихся вечеринках, как утверждает Нина. Слово «битник» уже вышло из моды, и Нина это знала, поэтому она его и не называла так, а слово «хиппи» еще никто не употреблял, да оно и не подходило к нему. Он был из тех писателей, что едва-едва зарабатывают себе на хлеб, по крайней мере в наше время: сочинял вздор с трупами и кровью и писал романы по телесериалам. Александр… фамилию не помню. У него была идея — сюжет для новой книги, над которой он уже начал работать, и она заключалась в том, что многие из совершавшихся тогда убийств на самом деле задумывались небольшой группой убийц-экстрасенсов (он называл их «вампирами мозга»), которые использовали других людей для исполнения этих кошмарных деяний. Он сказал, что одно издательство, специализирующееся на массовых карманных книжках, уже проявило интерес к его заявке и готово заключить с ним контракт хоть сейчас, если он заменит название и добавит немного секса. — Ну и что? — спросил Вилли почти с отвращением. — И из-за этого ты заставила меня лететь через весь материк? Я бы и сам купил такую идею и сделал бы по ней фильм. Мы воспользовались этим предлогом, чтобы хорошенько допросить Александра, когда Нина на следующий день устроила экспромтом небольшую вечеринку. Меня там не было. Вечер прошел не очень удачно, по словам Нины, но он дал Вилли шанс как следует побеседовать с этим молодым многообещающим романистом. Писателишка выказал прямо-таки суетливую готовность угодить Биллу Бордену, продюсеру «Парижских воспоминаний», «Трое на качелях» и еще пары фильмов, которые память отказывалась удерживать, но которые тоже шли во всех открытых кинотеатрах тем летом. Оказалось, что «книга» представляет собой довольно потертую тетрадку с изложением идеи и десятком страниц заметок. Однако он был уверен, что за пять недель сможет сделать развернутый конспект сценария, — может быть, даже за три недели, если отправить его в Голливуд, к источнику «истинного творческого вдохновения». Поздно вечером мы обсудили и такую возможность. Но у Вилли как раз было туго с наличностью, а Нина настаивала на решительных мерах. В конце концов молодой писатель вскрыл лезвием «жилетт» бедренную артерию и выбежал с истошным воплем в узкий переулок Гринвич-Виллидж, где и умер. Я уверена, что никто не потрудился разобрать оставшиеся после него заметки и прочий хлам.
— Может быть, все будет как с тем писателем, ja, Мелани? — Вилли потрепал меня по колену. — Он был мой, а Нина пыталась отнести его на свой счет. Помнишь? Я кивнула. На самом же деле ни Нина, ни Вилли не имели к этому никакого отношения. Я не пошла тогда к Нине, чтобы позднее установить контакт с молодым человеком, который и не заметил, что за ним кто-то идет. Все оказалось проще простого. Помню, как я сидела в слишком жарко натопленной маленькой кондитерской напротив жилого дома. Все закончилось так быстро, что я почти не ощутила Подпитки. Потом я вновь услышала звук шипящих радиаторов и почувствовала запах ванили, а люди бросились к дверям посмотреть, кто кричит. Я помню, как медленно допила свой чай, чтобы не пришлось выходить раньше, чем уедет «скорая». — Вздор, — сказала Нина, снова занявшись своим крохотным калькулятором. — Сколько очков? — Она посмотрела на меня, потом на Вилли. — Шесть. — Он пожал плечами. Нина сделала вид, что складывает все очки. — Тридцать восемь. — Она артистично вздохнула. — Ты опять выиграл, Вилли. Точнее, обыграл меня. Мы еще послушаем Мелани. Ты сегодня что-то очень уж тихая, моя дорогая. У тебя, наверное, какой-то сюрприз для нас? — Да, — кивнул Вилли. — Твоя очередь выигрывать, Мелани. Ты ждала этого несколько лет. — У меня — ничего. — Я ожидала взрывного эффекта, потока вопросов, но тишину нарушало лишь тиканье часов на каминной полке. Нина смотрела в угол, словно пыталась увидеть что-то прячущееся в темноте. — Ничего? — переспросил Вилли. — Ну, был… один, — призналась я наконец. — Хотя это просто случай. Я увидела их, когда они грабили старика за… Просто случай. Вилли разволновался. Он встал, подошел к окну, повернул старый стул спинкой к нам и сел на него верхом, сложив руки. — Что это значит? — Ты отказываешься играть в Игру? — Нина в упор посмотрела на меня. Я промолчала — ответ был ясен. — Но почему? — резко спросил Вилли. От волнения у него снова прорезался немецкий акцент. Если бы я воспитывалась в эпоху, когда молодым леди было позволено пожимать плечами, я бы сейчас пожала плечами. А так — просто провела пальцами по воображаемому шву своей юбки. Вопрос задал Вилли, но когда я в конце концов ответила, мои глаза смотрели прямо на Нину. — Я устала. Все это тянется так долго. Наверное, я старею. — Если не будешь охотиться, еще не так постареешь, — констатировал Вилли. Его поза, голос, красная маска лица — все говорило о том, как он зол, он еле сдерживался. — Боже мой, Мелани, ты уже выглядишь старухой. Ты ужасно выглядишь, ужасно! Мы ведь ради этого и охотимся, разве не ясно? Посмотри на себя в зеркало! Ты что, хочешь умереть старухой, и все только потому, что устала их использовать? — Вилли встал и повернулся к нам спиной. — Вздор! — Голос Нины был твердым и уверенным. Она снова четко владела ситуацией. — Мелани устала, Вилли. Будь с ней поласковее. У всех бывают такие моменты. Я помню, как ты сам выглядел после войны. Как побитый щенок. Ты ведь даже не мог выйти из своей жалкой квартиры в Бадене. Даже когда мы помогли тебе перебраться в Нью-Джерси, ты просто сидел, хандрил и жалел себя. Мелани придумала Игру, лишь бы поднять твое настроение. Так что не шуми. И никогда не говори леди, если она устала и немного подавлена, что она ужасно выглядит. Ну правда, Вилли, ты иногда такой Schwachsinniger.[92] И к тому же жуткий хам. Я предвидела разные реакции на свое заявление, но вот этой боялась больше всего. Это означало, что Нине тоже наскучила Игра и она готова перейти на новый уровень поединка. Другого объяснения не было. — Спасибо, Нина, милая, — сказала я. — Я знала, что ты поймешь меня. Она потянулась ко мне и коснулась колена, словно желая подбодрить. Даже сквозь шерсть юбки я почувствовала, как холодны ее пальцы.
Мои гости ни за что не хотели оставаться ночевать у меня. Я умоляла их, упрекала, сказала, что их комнаты готовы, что мистер Торн уже разобрал постели. — В следующий раз, — сказал Вилли. — В следующий раз, Мелани, моя радость. Мы останемся на весь уик-энд, как когда-то. Или на целую неделю! Настроение Вилли заметно улучшилось после того, как он получил по тысяче долларов от меня и от Нины в качестве приза. Сначала он отказывался, но я настаивала. А когда мистер Торн принес чек, оформленный на Уильяма Д. Бордена, видно было, что ему это пришлось по душе. Я снова попросила его остаться, но он сообщил, что у него уже заказан билет на самолет до Чикаго. Нужно было встретиться с автором, который только что получил какую-то премию, и договориться насчет сценария. И вот он уже обнимал меня на прощание, мы стояли в тесном холле, его компаньоны — у меня за спиной, и я на мгновение ощутила ужас. Но они ушли. Светловолосый молодой человек продемонстрировал свою белозубую улыбку, негр на мгновение втянул голову — это, наверное, была его манера прощаться. И вот мы остались одни. Мы с Ниной. Но не совсем одни. Мисс Крамер стояла рядом с Ниной в конце холла. Мистер Торн находился за дверью, ведущей в кухню. Его не было видно, и я оставила его там. Мисс Крамер сделала три шага вперед. На мгновение я перестала дышать. Мистер Торн поднял руку и коснулся двери. Но эта крепкая брюнетка подошла к шкафу, сняла с вешалки пальто Нины и помогла ей одеться. — Может, все же останешься? — Нет, Мелани. Я обещала Баррет, что мы поедем в отель. — Но уже поздно… — Мы заранее заказали номер. Спасибо. Я непременно свяжусь с тобой. — Да… — Правда, правда, милая Мелани. Нам обязательно нужно поговорить. Я тебя понимаю, но ты должна помнить, что для Вилли Игра все еще очень важна. Нужно будет найти способ положить этому конец так, чтобы не обидеть его. Может, мы сможем поехать к нему весной в Каринхалле, или как там называется этот его старый мрачный замок в Баварии? Поездка на континент очень помогла бы тебе, дорогая Мелани. Очень. — Да. — Я обязательно свяжусь с тобой, как только закончу дела с покупкой магазина. Нам нужно побыть немного вместе, Мелани… Ты и я, никого больше… как в старые добрые времена. — Она поцеловала воздух рядом с моей щекой и на несколько секунд крепко сжала мои локти. — До свидания, дорогая. — До свидания, Нина.
Я отнесла коньячный бокал на кухню. Мистер Торн молча взял его. — Посмотрите, все ли в порядке, — велела я. Он кивнул и пошел проверять замки и сигнализацию. Было всего лишь без четверти десять, но я чувствовала себя очень уставшей. «Возраст», — подумала я, поднимаясь по широкой лестнице — пожалуй, самому замечательному месту в этом доме. Я переоделась ко сну. За окном разразилась буря, в ударах ливневых струй по стеклу слышался нарастающий печальный ритм. Я расчесывала волосы, жалея, что они такие короткие, когда в спальню заглянул мистер Торн. Я повернулась к нему. Он опустил руку в карман своего темного жилета. Когда он вытащил руку, сверкнуло тонкое лезвие. Я кивнула. Он сложил нож и закрыл за собой дверь. Было слышно, как его шаги удалялись вниз по лестнице, к стулу в передней, где ему предстояло провести ночь. Кажется, в ту ночь мне снились вампиры. А может, я просто думала о них перед тем, как заснуть, и обрывок этих мыслей застрял в голове до утра. Из всех ужасов, которыми человечество пугает себя, из всех этих жалких крохотных чудовищ только в мифе о вампирах есть какой-то намек на внутреннее достоинство. Как и человеческими существами, которыми он питается, вампиром движут его собственные темные влечения. Но в отличие от своих жалких человеческих жертв, вампир ставит себе единственную цель, которая может оправдать грязные средства, — бессмертие в буквальном смысле. Тут есть какое-то благородство. И какая-то печаль. Вилли прав — я действительно постарела. Этот последний год отнял у меня больше, чем предыдущее десятилетие. И все же я не прибегала к Подпитке. Несмотря на голод, несмотря на свое стареющее отражение в зеркале, несмотря на темное влечение, правившее нашей жизнью вот уже столько лет, я ни разу не прибегала к Подпитке. Я заснула, пытаясь вспомнить черты лица Чарлза. Я заснула голодной.
Когда я проснулась, сквозь ветви пробивались яркие лучи солнца. Был один из тех хрустальных зимних дней, из-за которых стоит жить на юге: совсем не то, что на севере, где эти янки просто с тоской пережидают зиму. Над крышами виднелись зеленые верхушки пальм. Когда мистер Торн принес мне завтрак на подносе, я велела ему слегка приоткрыть окно. Я пила кофе и слушала, как во дворе играют дети. Несколько лет назад мистер Торн принес бы вместе с подносом утреннюю газету, но я уже давно поняла, что читать о глупостях и мировых скандалах — лишь осквернять утро. По правде сказать, жизнь общества все меньше занимала меня. Уже двенадцать лет я обходилась без газет, телефона и телевизора и никак от этого не страдала, если только не назвать страданием растущее чувство самоудовлетворения. Я улыбнулась, вспомнив разочарование Вилли, когда он не смог показать нам свои видеокассеты. Вилли такой ребенок! — Сегодня суббота, не так ли, мистер Торн? — Когда он кивнул, я приказала ему жестом убрать поднос. — Сегодня мы выйдем из дому. На прогулку. Возможно, поедем к форту. Потом пообедаем «У Генри» — и домой. Мне надо сделать кое-какие приготовления. Мистер Торн слегка задержался и чуть не споткнулся, выходя из комнаты. Я как раз завязывала пояс халата, но тут остановилась — прежде мистер Торн не позволял себе неловких движений. До меня как-то сразу дошло, что он тоже стареет. Он поправил блюда на подносе, кивнул и вышел. В такое прекрасное утро я не собиралась огорчать себя мыслями о старости. Меня наполняли новая энергия и решимость. Вчерашняя встреча прошла не слишком удачно, но и не так плохо, как могло быть. Я честно сказала Вилли и Нине о том, что намерена выйти из Игры. В следующие несколько недель или месяцев они, или, по крайней мере, Нина, начнут задумываться над возможными последствиями этого решения, но к тому моменту, когда они соберутся действовать, вместе или поодиночке, я исчезну. Новые, да и старые документы уже ожидали меня во Флориде, Мичигане, Лондоне, Южной Франции и даже в Нью-Дели. Хотя Мичиган был пока исключен — я отвыкла от сурового климата. А Нью-Дели стал теперь не так гостеприимен к иностранцам, как перед войной, когда я недолго жила там. В одном Нина была права: возвращение в Европу пойдет мне на пользу. Я чувствовала, что уже тоскую по яркому солнечному свету в моем загородном доме близ Тулона, по сердечности местных крестьян и их умению жить. Воздух был потрясающе свежим. На мне было простое ситцевое платье и легкое пальто. Когда я спускалась по лестнице, артрит в правой ноге немного мешал мне, но я опиралась на старую трость, принадлежавшую когда-то моему отцу. Молодой слуга-негр вырезал ее для отца в то лето, когда мы переехали из Гринвилла в Чарлстон. Во дворе нас обдало теплым ветром, и я невольно улыбнулась. Из своего подъезда вышла миссис Ходжес. Это ее внуки играли со своими друзьями вокруг высохшего фонтана. Уже два столетия двор этот был общим для трех кирпичных зданий. Из них только мой дом не разделен на дорогие городские квартиры. — Доброе утро, миз Фуллер. — Доброе утро, миссис Ходжес. Прекрасный день сегодня. — Замечательный. Собираетесь пройтись по магазинам? — Нет, всего лишь на прогулку, миссис Ходжес. Странно, что мистера Ходжеса не видно. Мне казалось, по субботам он всегда работает во дворе. Миссис Ходжес нахмурилась. Мимо пробежала одна из ее маленьких внучек, а за ней с визгом промчалась ее подружка. — Джон сегодня на причале. — Днем? — Мне всегда было забавно лицезреть мистера Ходжеса, отправляющегося по вечерам на работу: форма охранника аккуратно выглажена, из-под фуражки торчат седые волосы, сверток с едой крепко зажат под мышкой. Мистер Ходжес был похож на пожилого ковбоя, с его дубленой кожей и кривыми ногами. Он был из тех людей, которые вечно собираются уйти на пенсию, но понимают, что образ жизни пенсионера — это нечто вроде смертного приговора. — Да. Один из этих цветных из дневной смены бросил работу в хранилище, и они попросили Джона заменить его. Я сказала ему, что он не так уж молод, чтобы работать четыре ночи в неделю, а потом еще и в субботу, но вы же знаете, что это за человек… — Ну что ж, передайте ему привет от меня. — Мне уже становилось не по себе от этой детской беготни вокруг фонтана. Миссис Ходжес проводила меня до наших кованых железных ворот. — Вы куда-нибудь едете отдыхать, миз Фуллер? — Вероятно, миссис Ходжес. Вполне вероятно. И вот уже мы с мистером Торном идем не торопясь по тротуару к Батарее. По узкой улочке медленно проехали несколько автомобилей с туристами, которые глазели на дома в нашем старом квартале, но в общем день обещал быть спокойным и безмятежным. Мы свернули на Брод-стрит, откуда уже виднелись мачты яхт и парусных лодок, хотя до воды было еще далеко. — Пожалуйста, купите билеты, мистер Торн, — попросила я. — Мне бы хотелось посмотреть форт. Как и большинство людей, живущих по соседству с известной достопримечательностью, я уже много лет просто не замечала ее. Сегодняшнее посещение форта для меня сентиментальный поступок. Я все больше примирялась с мыслью, что мне придется навсегда покинуть эти места. Одно дело планировать какой-то шаг, и совсем другое — столкнуться с его неизбежной реальностью. Туристов было мало. Паром отошел от причала и двинулся в путь по спокойной воде гавани. Солнечное тепло и мерный стук дизеля навевали сон, и я слегка задремала. Проснулась я, когда паром уже причаливал к острову у темной громадины форта. Некоторое время я двигалась вместе с группой туристов, наслаждаясь катакомбной тишиной нижних уровней и даже получая удовольствие от бессмысленно-певучего голоса девушки-экскурсовода. Но когда мы вернулись в музей с его пыльными диорамами и мишурными наборами слайдов, я снова поднялась по лестнице на внешние стены. Жестом велев мистеру Торну оставаться у лестницы, я вышла на бастион. У стены стояла только одна пара — молодые люди с ребенком в ужасно неудобном на вид рюкзачке и с дешевым фотоаппаратом. Момент был очень приятный. С запада надвигался полуденный шторм, он служил темным фоном для все еще освещенных солнцем шпилей церквей, кирпичных башен и голых ветвей города. Даже на расстоянии двух миль можно было видеть, как по тротуару Батареи прогуливаются люди. Опережая темные тучи, налетел ветер и стал швырять белые комья пены в борта покачивающегося парома и на деревянную пристань. В воздухе пахло рекой и предзакатной сыростью. Нетрудно было представить себе, как все происходило в тот давний день. Снаряды падали на форт, пока не превратили его верхние этажи в кучи щебня, которые все же давали какую-то защиту. С крыш за Батареей люди вопили «ура» при каждом выстреле. Яркие цвета разодетой толпы и солнцезащитных зонтиков, наверное, приводили в ярость артиллеристов-северян, и в конце концов один из них выстрелил из орудия поверх крыш, усеянных людьми. Отсюда, должно быть, забавно было наблюдать за последовавшей затем паникой. Мое внимание привлекло какое-то движение в воде. Что-то темное скользило по серой поверхности, темное и молчаливое, как акула. Мысли о прошлом улетучились: я узнала силуэт подлодки «Поларис», старой, но все еще действующей. Она беззвучно разрезала волны, которые пенились о корпус. На рубке стояли несколько человек, закутанных в тяжелую одежду и в низко надвинутых фуражках. На шее одного из них висел необычайных размеров бинокль; наверное, это был капитан. Он указывал пальцем куда-то за остров Салливана. Я пристально смотрела на него. Периферийное зрение понемногу исчезло, когда я вошла в контакт с ним через все это водное пространство. Звуки и ощущения доносились до меня, словно с большого расстояния. Напряжение. Удовольствие от соленых брызг, бриз с норд-норд-веста. Беспокойство по поводу запечатанного конверта с инструкциями внизу, в каюте. Песчаные отмели по левому борту. Внезапно я вздрогнула: кто-то подошел ко мне сзади. Я повернулась, и контакт с лодкой тут же пропал. Рядом стоял мистер Торн, хотя я его не звала. Я уже открыла было рот, чтобы отослать его назад к лестнице, когда поняла причину, по которой он приблизился. Молодой человек, до того снимавший свою бледную жену, шел ко мне. Мистер Торн сделал движение, чтобы остановить его. — Извините, мисс, можно вас попросить об одолжении? Вы не могли бы снять нас? Вы или ваш муж. Я кивнула, и мистер Торн взял протянутый фотоаппарат, который выглядел очень маленьким в его длинных пальцах. Два щелчка, и эта пара могла чувствовать себя удовлетворенной: их присутствие здесь останется увековеченным для потомства. Молодой человек заулыбался как идиот, кивая головой. Младенец заплакал: подул холодный ветер. Я оглянулась на подводную лодку, но та ушла уже далеко; ее серая башенка виднелась как тонкая полоска, соединяющая море и небо.
Так получилось, что, когда мы плыли обратно и паром уже поворачивал к причалу, совершенно незнакомый человек рассказал мне о смерти Вилли. — Ведь это ужасно, правда? — Какая-то болтливая старуха увязалась за мной, когда я пошла на палубу. Хотя ветер был довольно холодный и я дважды меняла место, чтобы оградить себя от ее глупой болтовни, эта дура явно выбрала меня в качестве мишени своего словоизвержения на все оставшееся время поездки. Ее не останавливали ни моя сдержанность, ни хмурый вид мистера Торна. — Просто ужасно, — продолжала она. — И все ведь случилось в темноте, ночью. — О чем вы? — спросила я, движимая нехорошим предчувствием. — Ну как же, я про авиакатастрофу. Вы что, не слышали? Это, наверное, было так страшно, когда они упали в болото, и все остальное. Я сказала своей дочери утром… — Какая катастрофа? Где? Старуха немного опешила от резкости моего тона, но дурацкая улыбка так и осталась у нее на лице как приклеенная. — Прошлой ночью. Или сегодня рано утром. Я сказала дочери… — Где? Что за самолет? — Уловив тон моего голоса, мистер Торн придвинулся ближе. — Самолет из Чарлстона, — продребезжала она. — Там в кают-компании есть газета, в ней все сказано. Ужасно, правда? Восемьдесят пять человек. Я сказала дочери… Я повернулась и пошла вниз, оставив ее у поручня. Около стойки буфета лежала скомканная газета, и в ней под огромным заголовком из четырех слов были напечатаны немногочисленные подробности смерти Вилли. Рейс сто семнадцать до Чикаго вылетел из международного аэропорта Чарлстона в 12.18. Через двадцать минут самолет взорвался в воздухе недалеко от города Колумбия. Обломки фюзеляжа и тела пассажиров упали в болото Конгари, где и были обнаружены рыбаками. Спасти никого не удалось. ФБР и другие ведомства начали расследование. В ушах у меня громко зашумело, и пришлось сесть, чтобы не упасть в обморок. Влажными руками я ухватилась за виниловую обивку. Мимо меня к выходу потянулись люди. Вилли мертв. Убит. Нина уничтожила его. Голова моя шла кругом. В первые несколько секунд я подумала, что, возможно, это заговор, хитрая ловушка, в которую Вилли и Нина хотят заманить меня, заставив думать, будто опасность угрожает мне теперь только с одной стороны. Хотя нет, на это непохоже. Если Нина вовлекла Вилли в свои планы, для таких нелепых махинаций просто не было резона. Вилли мертв. Его останки разбросаны по вонючему, никому не известному болоту. Очень легко вообразить себе его последние минуты. Он наверняка сидел в роскошном кресле салона первого класса со стаканом в руке, возможно, переговаривался с кем-нибудь из своих компаньонов. Потом — взрыв, крики, внезапная тьма, жуткий крен и падение в небытие. Я вздрогнула и стиснула металлическую ручку кресла. Как Нине удалось это сделать? Она вряд ли прибегла к помощи кого-то из свиты Вилли. Нине было вполне по силам использовать одного из его подручных, особенно если учесть ослабевшую Способность Вилли, но у нее не было причины делать это. Она могла использовать любого человека, летевшего тем рейсом. Конечно, это непросто. Нужно проделать сложные приготовления: изготовить бомбу, потом стереть всякую память об этом, что требует немалого усилия; наконец, она должна была совершить невозможное: использовать кого-то как раз тогда, когда мы сидели у меня и пили кофе с коньяком. Но Нина сделала это. Да, сделала. И потом, ведь выбор именно этого времени мог означать только одно. Последний турист поднялся на палубу. Я почувствовала легкий толчок и поняла, что мы причалили. Мистер Торн стоял у двери. Выбор момента означал, что Нина пыталась справиться с нами обоими сразу. Очевидно, она спланировала все это задолго до нашей встречи и моего робкого заявления о выходе из Игры. Как оно, должно быть, позабавило Нину! Неудивительно, что она так великодушно отреагировала. Но она все же сделала одну большую ошибку. Нина сначала принялась за Вилли, полагая, что я ничего не узнаю об этом, а она тем временем займется мною. Она знала, что я не слежу за ежедневными новостями и даже не имею такой возможности, к тому же теперь редко выхожу из дому. И все же это было непохоже на Нину — оставлять хоть что-то на волю случая. А может, она решила, что я совершенно потеряла Способность и Вилли представляет большую угрозу? Мы вышли из кают-компании на серый послеполуденный свет. Я тряхнула волосами. Ветер продувал мое тонкое пальто насквозь. Трап я видела сквозь пелену и только тут поняла, что глаза мои застилают слезы. По кому я плакала? По Вилли? Вилли был напыщенный, слабый, старый дурак. Или из-за предательства Нины? Не знаю, может быть, просто от резкого ветра. На улицах Старого города почти не было пешеходов. Под окнами роскошных домов голые ветви постукивали друг о друга. Мистер Торн держался рядом со мной. От холодного воздуха правую ногу до самого бедра пронизывала артритная боль. Я все тяжелее опиралась на трость. Каким будет следующий ход Нины? Я остановилась. Кусок газеты, подброшенный ветром, обернулся вокруг моей щиколотки, потом полетел дальше. Как она попытается добраться до меня? Вряд ли с большого расстояния. Она где-то здесь, в городе. Я была в этом уверена. Вообще-то можно использовать человека и на большом расстоянии, но это требует тесного контакта, почти интимного знакомства с этим человеком, и если потерять этот контакт, то восстановить его на расстоянии очень трудно, почти невозможно. Никто из нас не знал, почему так происходит, но теперь это было неважно. Мысль о том, что Нина все еще где-то поблизости, заставила учащенней забиться мое сердце. Нет, большое расстояние исключено. Человек, которого она будет использовать, нападет на меня, и я увижу нападающего. Я была в этом уверена, иначе и быть не могло, иначе это была бы не Нина. Конечно, гибель Вилли вовсе не являлась Подпиткой, а была всего лишь простой технической операцией. Нина решила свести со мной старые счеты, и Вилли являл для нее препятствие, небольшую, но вполне отчетливую угрозу, которую следовало устранить, прежде чем продолжать выполнение главного плана. Мне было нетрудно представить, что сама Нина считала свой способ убрать Вилли чуть ли не актом сострадания. Со мной — другое дело. Я знала, Нина постарается дать мне понять, хотя бы на мгновение, что именно она стоит за нападающим. В каком-то смысле ее тщеславие само подаст мне сигнал тревоги. Во всяком случае, я на это надеялась. Огромным соблазном было уехать сейчас же, немедленно. Мистер Торн мог завести «ауди», и через час мы были бы уже вне пределов ее досягаемости, а еще через несколько часов я могла бы начать новую жизнь. В доме, конечно, останутся ценные вещи, но при тех средствах, что я запасла в разных местах, их легко можно будет заменить, по крайней мере большую их часть. Возможно, стоило оставить все здесь вместе с отброшенной личиной, с которой эти вещи были связаны. Нет, я не могу уехать. Не сейчас. Стоя на противоположной стороне улицы, я смотрела на свой дом: он казался темным и зловещим. Я не могла вспомнить, сама ли я задернула шторы на втором этаже. Во дворе мелькнула тень — это внучка миссис Ходжес и ее подружка перебегали от одной двери к другой. Я в нерешительности стояла на краю тротуара и постукивала отцовской тростью по темной коре дерева. Я понимала, что медлить было глупо, но мне уже давно не приходилось принимать решения в напряженной обстановке. — Мистер Торн, идите и проверьте дом. Осмотрите все комнаты. Возвращайтесь быстрее. Я наблюдала, как темное пальто мистера Торна сливается с мракомдвора. Вновь подул холодный ветер. Оставшись в одиночестве, я чувствовала себя весьма уязвимой и поймала себя на том, что посматриваю по сторонам: не мелькнут ли где-нибудь в конце улицы темные волосы мисс Крамер? Но никаких признаков движения не наблюдалось, только молодая женщина далеко от меня катила по тротуару детскую коляску. Штора на втором этаже взлетела вверх, и с минуту там маячило бледное лицо мистера Торна, выглядывавшего наружу. Потом он отвернулся, а я продолжала напряженно смотреть на темный прямоугольник окна. Крик во дворе заставил меня вздрогнуть, но то была всего лишь маленькая девочка — забыла ее имя, — она звала свою подружку. Кэтлин, вот как ее зовут. Дети уселись на край фонтана и занялись пакетиком с печеньем. Я наблюдала за ними некоторое время, потом расслабилась и даже слегка улыбнулась: все-таки у меня определенно мания преследования. На секунду я подумала: не использовать ли мистера Торна напрямую? Но мне вовсе не хотелось стоять здесь на улице совершенно беспомощной, и я отказалась от этой идеи. Когда находишься в полном контакте, органы чувств работают, но как бы на большом расстоянии. «Быстрее». Я послала эту мысль почти без волевого усилия. Двое бородатых мужчин шли по тротуару с моей стороны улицы. Я перешла проезжую часть и остановилась перед калиткой своего дома. Мужчины смеялись и, разговаривая, жестикулировали. «Быстрее». Мистер Торн вышел из дома, запер за собой дверь и пересек двор, направляясь ко мне. Одна из девочек что-то сказала ему и протянула печенье, но он не обратил на нее внимания. Затем он отдал мне большой ключ от парадной двери, я опустила его в карман пальто и испытующе глянула на мистера Торна. Он кивнул. Его безмятежная улыбка была невольной насмешкой над овладевшим мною ужасом. — Вы уверены? — спросила я. Он снова кивнул. — Вы проверили все комнаты? Всю сигнализацию? Кивок. — Вы посмотрели подвал? Есть какие-нибудь признаки посторонних? Мистер Торн отрицательно покачал головой. Прикоснувшись рукой к металлической ограде, я остановилась. Беспокойство наполняло меня, как разлившаяся желчь. «Глупая, уставшая старуха, дрожащая от холода!» Но я не могла заставить себя открыть ворота. — Пойдемте. — Я пересекла улицу и быстро зашагала прочь от дома. — Мы пообедаем «У Генри», потом вернемся. Однако я шла вовсе не к старому ресторану, а уходила подальше от дома, охваченная слепой, безрассудной паникой. Я стала понемногу успокаиваться, только когда мы добрались до гавани и пошли вдоль стены Батареи. По улице ехало несколько автомобилей, но тому, кто захочет приблизиться к нам, придется сначала пересечь широкое открытое пространство. Серые тучи опустились совсем низко, сливаясь с серыми вздымающимися волнами бухты. Свежий воздух и сгущающиеся сумерки придали мне бодрости, теперь я могла отчетливее соображать. Каковы бы ни были планы Нины, мое отсутствие в течение всего дня почти наверняка расстроило их. Вряд ли Нина осталась бы здесь, если бы ей угрожала хоть малейшая опасность. Нет, она, скорее всего, уже возвращается самолетом в Нью-Йорк — именно сейчас, когда я стою здесь у Батареи, дрожа от холода. Утром я получу телеграмму. Я могла даже в точности представить себе, что она там напишет: «Мелани. Как ужасно то, что случилось с Вилли. Скорблю. Могла бы ты полететь со мной на похороны? Целую. Нина». Я начала понимать, что, кроме всего прочего, причиной моей нерешительности было желание вернуться в тепло и комфорт собственного дома. Я просто боялась сбросить с себя этот старый кокон. Но теперь я могла это сделать. Подожду в каком-нибудь безопасном месте, а мистер Торн вернется в дом и возьмет там единственную вещь, которую я не должна оставлять. Потом он пригонит машину, и к тому времени, когда придет телеграмма Нины, я буду уже далеко. Тогда уже Нине придется шарахаться в сторону при виде любой тени в последующие месяцы и годы. Я улыбнулась и стала продумывать необходимые команды. — Мелани. Я резко повернула голову. Мистер Торн молчал двадцать восемь лет. И вот он заговорил. — Мелани. — Лицо его было искажено улыбкой, похожей на гримасу трупа, видны были даже коренные зубы. В правой руке он держал нож. Как раз в тот момент, когда я повернулась, из рукоятки выскочило лезвие. Я глянула в его глаза и поняла все. — Мелани. Длинное лезвие описало мощную дугу, и я ничего не могла сделать, чтобы остановить его. Оно прорезало тонкую ткань рукава пальто и ткнулось мне в бок, но, когда я поворачивалась, моя сумочка качнулась вместе со мной. Нож прорвал кожу, прошел сквозь содержимое сумочки, распорол ткань пальто и до крови оцарапал тело у нижнего левого ребра. В общем, сумочка спасла мне жизнь. Я подняла тяжелую отцовскую трость и ударила мистера Торна прямо в левый глаз. Он пошатнулся, но не издал ни звука. Затем снова взмахнул ножом, рассекая перед собой воздух по широкой дуге, но я сделала два шага назад, а он теперь плохо видел. Ухватив трость обеими руками, я опять подняла ее, потом опустила неловким рубящим движением. Это было невероятно, но палка снова попала ему в глаз. Я сделала еще три шага назад. Кровь заливала левую сторону лица мистера Торна, его поврежденный глаз свисал на щеку. Он по-прежнему улыбался этой улыбкой мертвеца. Подняв голову, потянулся левой рукой к щеке, вырвал глаз — при этом какая-то серая жилка лопнула со щелкающим звуком — и выбросил его в бухту. Потом он двинулся ко мне. Я повернулась и побежала. Точнее сказать, я попыталась бежать. Через двадцать шагов боль в правой ноге заставила меня перейти на шаг. Еще через пятнадцать торопливых шагов легкие мои задохнулись без воздуха, а сердце готово было выскочить из груди. Я чувствовала, как что-то мокрое течет по моему левому бедру; там, где лезвие ножа коснулось тела, было немного щекотно, словно к коже прижали кубик льда. Один взгляд назад, и я увидела, что мистер Торн шагает за мной быстрее, чем я ухожу от него. При обычных обстоятельствах он нагнал бы меня в два счета. Когда используешь кого-то, трудно заставить его бежать, особенно если тело человека в это время реагирует на шок и травму. Я снова оглянулась, едва не поскользнувшись на гладком тротуаре. Мистер Торн криво ухмыльнулся. Кровь хлестала из его пустой глазницы, окрашивая зубы. Вокруг никого не было видно. Я побежала вниз по лестнице, цепляясь за поручни, чтобы не упасть, и вышла на улицу. Фонари на столбах мерцали и вспыхивали, когда я проходила мимо. За моей спиной мистер Торн перескочил через ступени в два прыжка. Торопливо поднимаясь по дорожке, я благодарила Бога, что надела туфли на низком каблуке, когда собиралась на прогулку в форт. Интересно, что бы мог подумать случайный свидетель этой нелепой гонки двух старых людей, словно в замедленной съемке? Но свидетелей не было. Я свернула на боковую улицу. Закрытые магазины, пустые склады. Если пойти налево, я попаду на Брод-стрит. Но тут справа, где-то посередине квартала, из темного подъезда магазина появилась одинокая фигура, и я направилась в ту сторону, совсем уже медленно, почти теряя сознание. Артритные судороги в ноге причиняли мне страшную боль, я чувствовала, что вот-вот просто рухну на тротуар. Мистер Торн шел сзади, шагах в двадцати, и расстояние между нами быстро сокращалось. Человек, к которому я приближалась, оказался высоким худым негром в коричневой нейлоновой куртке. В руках у него была коробка с фотографиями в рамках. Когда я подошла ближе, он взглянул на меня, потом посмотрел через мое плечо на привидение шагах в десяти от нас. — Эй! — успел только выкрикнуть негр, и тут я стремительно установила с ним контакт и резко толкнула его. Он дернулся, как марионетка в неловких руках. Челюсть его отвисла, глаза подернулись пеленой, и, пошатываясь, он шагнул навстречу мистеру Торну, как раз когда тот уже протянул руку, чтобы схватить меня за воротник пальто. Коробка взлетела в воздух, стекла в рамках разбились на мелкие осколки от удара о кирпичный тротуар. Длинные коричневые пальцы негра потянулись к белому горлу мистера Торна, вцепились в него, и оба закрутились, как неловкие партнеры в танце. Я дошла до поворота в переулок и прислонилась лицом к холодному кирпичу, чтобы прийти в себя. Я не могла позволить себе отдохнуть хотя бы секунду: нужно было огромное усилие, чтобы сосредоточиться на управлении этим незнакомцем. Глядя, как двое высоких мужчин неуклюже топчутся на тротуаре, я попыталась сдержать совершенно нелепое желание рассмеяться. Мистер Торн взмахнул ножом и дважды вонзил его в живот негра. Своими длинными пальцами негр старался выцарапать единственный глаз мистера Торна, а его крепкие зубы щелкали вблизи сонной артерии соперника. Я ясно ощутила, как холодная сталь вонзилась в плоть в третий раз, но сердце незнакомца все еще билось, и его все еще можно было использовать. Негр подскочил, зажав тело мистера Торна между ног, а его зубы вонзились в мускулистое горло. Ногти рвали белую кожу, оставляя кровавые полосы. Оба тут же упали на асфальт беспорядочной массой. Убей его! Пальцы негра почти нащупали здоровый глаз мистера Торна, но тот вытянул левую руку и переломил худое запястье. Безжизненные пальцы продолжали дергаться. Огромным усилием мистер Торн уперся локтем в грудь негра и поднял его тело над собой — так отец мог бы подбросить своего ребенка. Зубы вырвали кусок плоти, но серьезных повреждений не было. Мистер Торн поднял нож вверх, влево, потом резко вправо. Вторым движением он почти надвое перерезал горло негра, и их обоих залило кровью. Ноги незнакомца дважды дернулись, мистер Торн отбросил его тело в сторону, а я повернулась и быстро пошла по переулку. Я снова вышла на свет и поняла, что загнала себя в ловушку. Здесь вплотную к воде подступали задние стены складов и металлический корпус причала без единого окна. Налево уходила извилистая улица, но она была слишком темной, слишком пустынной и длинной, чтобы пытаться уйти по ней. Я оглянулась и увидела, что в конце переулка уже появился темный силуэт. Я попыталась установить контакт, но там ничего не было. Ничего. Мистер Торн был просто дырой в пространстве. Позже мне долго будет не давать покоя мысль: как Нина добилась этого? Боковая дверь эллинга была заперта. До главного входа было метров сто, но я не сомневалась, что и она заперта. Мистер Торн стоял, поворачивая голову то влево, то вправо, разыскивая меня. В тусклом свете его лицо, залитое кровью, казалось почти черным. Шатаясь, он двинулся ко мне. Я подняла отцовскую трость, ударила по нижней части застекленной двери и просунула руку внутрь, стараясь не пораниться об острые торчащие осколки. Если там задвижки сверху и снизу, я погибла. Оказалось, на двери всего лишь простой засов рядом с дверной ручкой. Мои пальцы сначала только скользили по холодному металлу, но потом засов поддался, и дверь открылась, как раз когда мистер Торн шагнул на тротуар за моей спиной. В следующее мгновение я влетела в помещение и задвинула засов. Внутри было очень темно, от цементного пола тянуло холодом. Было слышно, как множество суденышек у причала потихоньку колышутся на волнах. Метрах в пятидесяти из окон конторы лился свет. Я надеялась, что на эллинге есть сигнальная система, но здание, видно, было слишком старым, а суда — слишком дешевыми, чтобы устанавливать ее. Рука мистера Торна разнесла в куски оставшееся в двери стекло, и я пошла к свету. Рука исчезла. От страшного удара ногой панель около засова проломилась, дверь сорвалась с верхней петли. Я глянула в направлении конторы, но оттуда доносился только слабый звук радио. Последовал еще один удар в дверь. Я повернула направо, прыжком преодолела расстояние около метра и оказалась на носу небольшого катера. Еще пять шагов, и я спряталась в закутке, который хозяева, наверное, называли носовой кабиной. Закрыв за собой тонкую панель, я глядела наружу сквозь мутный пластик. Третьим ударом мистер Торн вышиб дверь, которая повисла на длинных полосах расщепленного дерева. Его темная фигура заполнила собой весь проем. В свете далекого фонаря лезвие поблескивало в его руке. Если в конторе кто-то есть, они должны были услышать шум, но оттуда по-прежнему доносился лишь звук радио. Мистер Торн сделал несколько шагов, остановился, потом прыгнул на первую из стоявших в ряд лодок. Это была открытая моторка, и через несколько секунд он снова стоял на цементном полу. На второй лодке имелась небольшая кабина. Послышался треск дерева — это мистер Торн ударом ноги проломил крохотный люк и тут же вернулся назад. Мой катер стоял в ряду восьмым. Я не понимала, почему он сразу не может найти меня по стуку бешено колотящегося сердца. Переместившись к левому борту, я снова выглянула. Свет просачивался сквозь пластик какими-то полосами и узорами. В освещенном окне конторы мелькнули седые волосы, слышно было, как радио переключили на другую станцию, и громкая музыка разнеслась гулким эхом по длинному помещению. Я метнулась назад, к правому иллюминатору. Мистер Торн выходил из четвертой лодки. Закрыв глаза и задержав дыхание, я попыталась припомнить те бессчетные вечера, когда я наблюдала, как фигура этого кривоногого старика удаляется по улице. Мистер Торн закончил осмотр пятой лодки — это был длинный катер с кабиной и множеством скрытых мест — и вернулся на причал. Шестая лодка оказалась небольшой. Он глянул на нее, но спускаться не стал. Седьмым стоял парусник с опущенной мачтой, накрытой парусиной. Нож мистера Торна рассек толстую ткань. Перепачканные кровью руки отбросили парусину, словно саван, срываемый с тела. Он прыжком выскочил назад. Когда мистер Торн ступил на нос моего катера, я почувствовала, как он качнулся под его весом. Спрятаться было решительно негде, тут стоял только крохотный сундучок под сиденьем для хранения всякого добра, но он был чересчур мал. Я развязала парусиновые тесемки, крепившие подушку к скамье. Мое свистящее дыхание, казалось, отдавалось эхом в этом малом пространстве. Я свернулась в углу, загородившись подушкой, и в этот момент ноги мистера Торна мелькнули в иллюминаторе правого борта. Через секунду его лицо, отделенное тонкой перегородкой, оказалось не далее как в тридцати сантиметрах от моего лица. Улыбка мертвеца, и так неправдоподобно широкая, стала еще шире. Мистер Торн пригнулся над дверью кабины. Я попыталась упереться в крошечную створку ногами, но правая нога не слушалась. Кулак мистера Торна пробил тонкую перегородку, рука его схватила меня за щиколотку. — Эй! — Это был дрожащий голос мистера Ходжеса. Он направил луч своего фонарика на наш катер. Мистер Торн налег на дверь. Я согнула ногу и ощутила резкую боль. Левой рукой, просунутой сквозь сломанную перегородку, он крепко держал мою лодыжку, а его правая рука с ножом появилась в открывшемся люке. — Эй! — снова крикнул мистер Ходжес, и в это мгновение я направила на него всю силу своей Способности. Старик остановился, бросил фонарь и расстегнул кобуру револьвера. Мистер Торн раз за разом наносил удары ножом. Он чуть было не выбил подушку из моих рук; обрывки поролона разлетелись по всей кабине. Лезвие слегка задело кончик моего мизинца. Стреляй! Сейчас же! Мистер Ходжес вскинул револьвер обеими руками и выстрелил. В темноте он промахнулся; звук выстрела эхом разнесся по всему помещению. Ближе, болван. Подойди ближе! Мистер Торн снова налег на дверь и попытался протиснуться в образовавшееся отверстие. Когда он на секунду отпустил мою щиколотку, я потянулась к выключателю на потолке и зажгла свет. Изувеченное лицо с пустой глазницей смотрело на меня сквозь сломанную перегородку. Я метнулась в сторону, но его рука ухватила меня за пальто. Он опустился на колени, намереваясь нанести удар. Вторым выстрелом мистер Ходжес попал в бедро мистеру Торну. Тот немного осел, издав нечто среднее между стоном и рычанием. Пальто мое порвалось, на палубу со стуком посыпались пуговицы. Нож вонзился в переборку рядом с моим ухом, и рука тут же поднялась для нового замаха. Мистер Ходжес нетвердо ступил на нос катера, чуть было не потерял равновесие, но потом начал медленно продвигаться вдоль правого борта. Я ударила по руке мистера Торна крышкой люка, однако он не отпускал пальто и продолжал тянуть меня к себе. Я упала на колени. Последовал очередной удар ножом. Лезвие прошло сквозь поролон и рассекло ткань пальто. То, что осталось от подушки, вывалилось у меня из рук. Я остановила мистера Ходжеса в полутора метрах от нас и заставила упереть ствол револьвера в крышу кабины. Мистер Торн приготовился к удару, держа нож, как матадор держит шпагу. Всем своим существом я ощущала немые вопли триумфа, доносившиеся до меня, словно зловонный дух из этого рта с испачканными кровью зубами. В единственном выпученном глазу горел огонь безумства Нины. Мистер Ходжес выстрелил. Пуля пробила позвоночник мистера Торна и ударилась в правый борт. Тело его выгнулось, и, раскинув руки, он рухнул на палубу, как огромная рыба, только что выброшенная на берег. Нож упал на пол кабины; белые закостеневшие пальцы судорожно шарили по палубе. Я заставила мистера Ходжеса шагнуть вперед, приставить ствол к виску Торна над оставшимся глазом и нажать на курок. Выстрел прозвучал приглушенно, как в пустоту.
В туалете конторы нашлась аптечка. Я приказала старику сторожить у двери, пока перевязывала мизинец. Еще я выпила три таблетки аспирина. Пальто мое было изодрано, ситцевое платье перепачкано кровью. Я сполоснула лицо и, как могла, привела в порядок волосы. Невероятно, но моя сумочка все еще была при мне, хотя половина ее содержимого высыпалась. Переложив ключи, бумажник и очки в большой карман пальто, я бросила сумочку за унитаз. Отцовской трости со мной уже не было, и я не могла вспомнить, где потеряла ее. Когда я осторожно высвободила тяжелый револьвер из руки мистера Ходжеса, его пальцы так и остались согнутыми. Провозившись несколько минут, я ухитрилась открыть барабан. В нем оставались два патрона. Этот старый дурак ходил с полностью заряженным барабаном! «Всегда оставляй патронник под бойком незаряженным». Так учил меня Чарлз в то далекое беззаботное лето, когда оружие было всего лишь предлогом поехать на остров, чтобы пострелять по мишени. Мы с Ниной много и нервно смеялись, а наши кавалеры направляли и поддерживали нам руки при мощной отдаче от выстрелов, когда мы чуть не падали в крепкие объятия к своим чрезвычайно серьезным учителям. «Всегда надо считать патроны», — поучал меня Чарлз, а я в полуобморочном состоянии прислонялась к нему, вдыхая сладкий мужской запах крема для бритья и табака, исходивший от него в тот теплый, яркий день. Мистер Ходжес слегка пошевелился, как только мое внимание ослабло. Рот его широко раскрылся, вставная челюсть нелепо отвисла. Я взглянула на поношенный кожаный пояс, но запасных патронов там не увидела и понятия не имела, где он их хранит. В мозгу у старика мало что осталось, кроме путаницы мыслей, в которой бесконечной лентой прокручивалась одна и та же картинка: ствол, приставленный к виску мистера Торна, вспышка выстрела и… — Пошли. — Я поправила очки на его безучастном лице, вложила револьвер в кобуру и вышла вслед за ним из здания. Снаружи было очень темно. Мы двигались от фонаря к фонарю и прошли уже шесть кварталов, когда я заметила, как он дрожит, и вспомнила, что забыла приказать ему надеть пальто. Я крепче сжала мысленные тиски, и он перестал дрожать. Дом выглядел точно так же, как сорок пять минут назад, света в окнах не было. Я открыла ворота и прошла через двор, пытаясь отыскать в набитом всякой всячиной кармане ключ. Пальто мое было распахнуто, холод ночи пробирал до костей. Из освещенных окон с другой стороны двора послышался детский смех, и я поспешила, чтобы Кэтлин, не дай бог, не увидела, как ее дедушка идет в мой дом. Мистер Ходжес вошел первым, с револьвером в вытянутой руке. Прежде чем переступить порог, я заставила его включить свет. Гостиная была пуста, все стояло на своих местах. Свет люстры отражался на полированных поверхностях. Я присела на минутку в старинное кресло в холле, чтобы сердце немного успокоилось. Мистер Ходжес по-прежнему держал револьвер в вытянутой руке, и я даже не позволила ему отпустить взведенный курок. Рука его начала дрожать от напряжения. Наконец я встала, и мы пошли по коридору к оранжерее. Мисс Крамер вихрем вылетела из двери кухни, тяжелая железная кочерга в ее руке уже описывала дугу. Револьвер выстрелил, пуля застряла в деревянном полу, не причинив никому вреда, а кисть старика повисла, перебитая страшным ударом. Револьвер выпал из безжизненных пальцев, мисс Крамер замахнулась для нового удара. Я повернулась и побежала назад по коридору. За спиной я услышала звук, словно раскололся арбуз, — это кочерга опустилась на череп мистера Ходжеса. Вместо того чтобы выбежать во двор, я стала подниматься по лестнице. Это было ошибкой. Мисс Крамер оказалась у двери спальни уже через несколько секунд после того, как я туда добралась. Мельком увидев ее широко распахнутые сумасшедшие глаза и поднятую кочергу, я захлопнула тяжелую дверь прямо перед ее носом и заперлась. Брюнетка обрушилась на дверь с другой стороны, но она даже не дрогнула. Удары сыпались один за другим. Проклиная свою глупость, я оглядела знакомую комнату, но в ней не было ничего, что могло бы помочь мне: ни телефона, ни кладовки, в которой я могла бы спрятаться. Имелся только старинный гардероб. Я быстро подошла к окну и подняла верхнюю створку. Если я закричу, кто-нибудь может услышать, но это чудовище доберется до меня прежде, чем подоспеет помощь. Она уже пыталась поддеть край двери кочергой. Я выглянула наружу, увидела тени в окне через двор и сделала то, что должна была сделать. Две минуты спустя дерево вокруг замка начало просить о пощаде, но я едва отдавала себе в этом отчет. Будто во сне я слышала скрежет кочерги, которой эта женщина пыталась выломать металлическую пластину. Затем дверь в спальню распахнулась. Искаженное лицо мисс Крамер было покрыто потом, нижняя челюсть отвисла, с подбородка капала слюна. В глазах ее не было ничего человеческого. Ни она, ни я не слышали, как за ее спиной раздались тихие шаги. Иди, иди. Подними его. Оттяни курок назад. До конца. Обе ими руками. Целься. Но что-то предупредило мисс Крамер об опасности. Не мисс Крамер, конечно, — такого человека больше не существовало, — что-то предупредило Нину. Брюнетка повернулась. Перед ней на верхней ступеньке лестницы стояла маленькая Кэтлин с тяжелым дедушкиным револьвером в руках. Курок его был взведен, а ствол направлен прямо в грудь мисс Крамер. Вторая девчушка осталась во дворе, она что-то кричала своей подруге. На этот раз Нина знала, что ей надо убрать эту угрозу. Мисс Крамер замахнулась кочергой, и в это мгновение револьвер выстрелил. Отдача отбросила Кэтлин назад, и она покатилась по лестнице, а над левой грудью мисс Крамер расплылось красное пятно. Хватаясь за перила, чтобы не упасть, она кинулась вниз по лестнице за ребенком. Я оставила девочку в тот момент, когда кочерга опустилась на ее голову, затем поднялась и вновь опустилась. Я подошла к верхней ступеньке лестницы. Мне надо было видеть. Мисс Крамер оторвалась от своего жуткого занятия и подняла на меня глаза. На ее забрызганном кровью лице виднелись только белки глаз. Мужская рубашка была залита ее собственной кровью, но брюнетка все еще двигалась, все еще могла действовать. Левой рукой она подняла револьвер. Рот ее широко раскрылся, оттуда раздался звук, похожий на шипение пара, вырывающегося из старого радиатора. — Мелани… Мелани… Это существо принялось карабкаться вверх по лестнице. Я закрыла глаза. Подружка Кэтлин влетела в открытую дверь, ее маленькие ноги так и мелькали. В несколько прыжков она одолела лестницу и плотно стиснула шею мисс Крамер своими тонкими белыми ручками. Они обе покатились по ступенькам, через тело Кэтлин, к самому основанию широкой лестницы. Девочка, похоже, отделалась синяками. Я спустилась к ним и оттащила ее в сторону. На скуле у нее расплывалось синее пятно, на руках и лбу краснели царапины и порезы. Она бессмысленно моргала голубыми глазами. У мисс Крамер была сломана шея, голова ее запрокинулась под совершенно неестественным углом, но она еще была жива. Тело явно парализовано, по полу растеклась лужа мочи, хотя глаза все еще мигали, а зубы омерзительно пощелкивали. Я подняла револьвер и ногой отбросила кочергу в сторону. Надо было торопиться. Из дома Ходжесов послышались голоса взрослых. Я повернулась к девочке: — Вставай. Она еще раз моргнула и, преодолевая боль, поднялась на ноги. Я закрыла дверь и сняла с вешалки коричневый плащ. Мне понадобилось не больше минуты, чтобы переложить содержимое карманов и сбросить безнадежно испорченное весеннее пальто. Голоса раздавались уже во дворе. Встав на колени рядом с мисс Крамер, я схватила ее голову и стиснула, чтобы прекратить это жуткое щелканье зубов. Глаза ее снова закатились, но я резко встряхнула ее, пока не появились зрачки. Потом наклонилась так низко, что наши лица почти соприкоснулись, и прошептала: — Я доберусь до тебя, Нина. — И этот шепот был громче вопля. Отпустив голову мисс Крамер так, что та стукнулась об пол, я быстро прошла в оранжерею — мою комнату для шитья. Времени на то, чтобы сходить наверх и взять ключ, не оставалось, поэтому я разбила стулом стеклянную дверцу шкафчика. То, что я оттуда взяла, еле поместилось в кармане плаща. Девочка осталась в холле. Я отдала ей пистолет мистера Ходжеса. Ее левая рука висела плетью — скорее всего, она была сломана. В дверь постучали, кто-то пробовал повернуть ручку. — Сюда, — прошептала я и провела девочку в столовую. По дороге мы переступили через тело мисс Крамер, прошли через темную кухню; стук стал громче, но мы уже выходили из дома в переулок, в ночь.
В этой части Старого города было три отеля. Один из них — дорогой, современный, кварталах в десяти, который я сразу же отвергла. Второй — маленький, уютный, всего в квартале от моего дома, приятное, но слишком общедоступное местечко, в точности такое, какое я сама выбрала бы, если бы приехала в другой город. Его я тоже отвергла. Третий находился в двух с половиной кварталах — старый особняк на Брод-стрит, небольшой, с дорогой антикварной мебелью в номерах и нелепо высокими ценами. Туда я и поспешила. Девочка быстро шагала рядом. Револьвер она по-прежнему держала в руке, но я заставила ее снять свитер и накрыть им оружие. Нога у меня болела, и я часто опиралась на ее плечо, пока мы вот так торопливо шли вдоль улицы. Администратор «Мансарды» узнал меня. Брови его поползли вверх, когда он заметил мой непрезентабельный вид. Девочка осталась в фойе, метрах в трех-четырех, почти неразличимая в тени. — Я ищу свою подругу, — оживленно сказала я. — Мисс Дрейтон. Администратор открыл было рот, затем невольно нахмурился. — Извините. У нас нет никого с такой фамилией. — Возможно, она зарегистрировалась под девичьей фамилией, — сказала я. — Нина Хокинс. Это пожилая женщина, но очень привлекательная. На несколько лет моложе меня, с длинными седыми волосами. Возможно, ее зарегистрировала подруга… Симпатичная, молодая, темноволосая леди по имени Баррет Крамер… — Извините, — снова проговорил администратор каким-то вялым, сонным голосом. — Никто под такой фамилией здесь не значится. Что передать, если ваша знакомая появится позже? — Ничего. Ничего не надо передавать. Я провела девочку через холл, и мы свернули в коридор, ведший к туалетам и боковым лестницам. — Простите, — обратилась я к проходившему мимо коридорному. — Не могли бы вы помочь? — Да, мэм. — Он остановился, явно недовольный, и откинул назад свои длинные волосы. Задача у меня была непростая. Если я хотела удержать девочку, действовать надо было быстро. — Я ищу знакомую, — пояснила я. — Пожилая леди, но очень привлекательная. Голубые глаза, длинные седые волосы. С ней должна быть молодая женщина с темными вьющимися волосами. — Нет, мэм. Я такой не видел. Я вытянула руку и взяла его повыше локтя. Затем отпустила девочку и сосредоточилась на коридорном. — Ты уверен? — Мисс Харрисон, — сказал он. Глаза его смотрели мимо меня. — Номер двести семь. Северная сторона с фасада. Я улыбнулась. Мисс Харрисон. Бог мой, до чего же она глупа, эта Нина! Девочка вдруг заскулила и привалилась к стене. Я быстро приняла решение. Мне нравится думать, что тут сыграло роль сострадание, но иногда я вспоминаю, что ее левая рука никуда не годилась. — Как тебя зовут? — спросила я, нежно поглаживая ребенка по волосам. Глаза ее скользнули влево, потом вправо; она явно была в замешательстве. — Как твое имя? — снова задала я вопрос. — Алисия, — прошептала она наконец еле слышно. — Хорошо, Алисия. Теперь ты пойдешь домой. Иди быстро, но бежать не нужно. — У меня болит рука. — Она всхлипнула, губы задрожали. Я снова коснулась ее волос и толкнула: — Ты идешь домой. Рука у тебя не болит. Ты ничего не будешь помнить. Все это сон, который ты забудешь. Иди домой. Торопись, но не беги. — Я взяла у нее револьвер, завернутый в свитер. — До свидания, Алисия. Она моргнула и пошла через холл по направлению к двери. Оглянувшись по сторонам, я отдала револьвер мальчишке-коридорному. — Засунь его под жилет, — велела я.
— Кто там? — послышался из номера беззаботный голос Нины. — Альберт, мэм. Коридорный. Ваш автомобиль у подъезда. Я мог бы сейчас отнести ваши чемоданы. Щелкнул замок, дверь приоткрылась, но цепочка осталась на месте. Альберт прищурился от хлынувшего света и застенчиво улыбнулся, откидывая волосы назад. Я вжалась в стену. — Хорошо. — Нина сняла цепочку и отступила в сторону. Она уже отвернулась и закрывала замок чемодана, когда я вошла в комнату. — Привет, Нина, — тихо сказала я. Спина ее выпрямилась, но даже это движение было грациозным. На покрывале осталась вмятина — там, где она только что лежала. Она медленно повернулась. На ней было розовое платье, которого я никогда прежде не видела. — Привет, Мелани. — Она улыбнулась, глядя на меня своими небесно-голубыми глазами. Я мысленно отдала приказ мальчишке-коридорному вытащить револьвер и прицелиться. Рука его была тверда, он со щелчком взвел курок. Нина неотрывно следила за мной. — Почему? — спросила я. Она слегка пожала плечами. В какой-то момент я решила, что Нина рассмеется. Я бы не вынесла этого ее чуть хрипловатого детского смеха, который так часто трогал меня в прошлом. Вместо этого она закрыла глаза, по-прежнему улыбаясь. — Почему «мисс Харрисон»? — Ну как же, дорогая. У меня такое чувство, что я ему чем-то обязана. Я имею в виду бедного Роджера. Разве ты не знаешь, как он умер? Конечно нет. Но ведь ты никогда и не спрашивала. — Глаза ее открылись. Я посмотрела на коридорного, но он все так же, не шелохнувшись, целился в нее. Оставалось только нажать на курок. — Он утонул, моя дорогая, — продолжала Нина. — Бедный Роджер бросился в океан с того самого парохода, на котором плыл назад в Англию. Так странно. А ведь перед этим он написал мне письмо с предложением выйти за него замуж. Ужасно печальная история, правда, Мелани? И почему он так поступил, как ты думаешь? Наверное, мы никогда не узнаем правды. — Наверное. — Я кивнула и мысленно отдала приказ коридорному нажать на спусковой крючок. Но… ничего не произошло. Я быстро глянула вправо. Молодой человек поворачивал голову ко мне. Я ему этого не велела! Его вытянутая рука с револьвером двигалась в мою сторону равномерно, как кончик флюгера, подгоняемый ветром. Нет! Я напряглась так, что у меня на шее вздулись жилы. Движение замедлилось, но не остановилось, пока ствол не оказался направленным мне в лицо. Нина рассмеялась. Этот звук показался очень громким в маленькой комнате. — Прощай, Мелани, дорогая моя. — Она снова рассмеялась и кивнула молодому человеку. Я не отрываясь смотрела в черное отверстие. Курок щелкнул по пустому патроннику. Еще раз. И еще. — Прощай, Нина. — Я улыбнулась и вытащила из кармана плаща длинноствольный пистолет Чарлза. Отдача от выстрела ударила меня в грудь, комната заполнилась синим дымом. Точно посередине лба Нины появилась маленькая дырка, меньше десятицентовой монеты, но такая же аккуратная, круглая. Какую-то долю секунды она продолжала стоять, словно ничего не произошло, потом покачнулась, ударилась о высокую кровать и упала ничком на пол. Я повернулась к коридорному и заменила его бесполезное оружие своим древним, но ухоженным револьвером. Я только сейчас заметила, что мальчишка немного моложе, чем был когда-то Чарлз. И волосы у него были почти такого же цвета. Я наклонилась и слегка коснулась губами его губ. — Альберт, — прошептала я, — в револьвере еще четыре патрона. Патроны всегда надо считать, понял? Иди в холл. Убей администратора. Потом застрели еще кого-нибудь — ближайшего, кто к тебе окажется. А после этого вложи ствол себе в рот и нажми на спуск. Если будет осечка, нажми еще раз. Револьвер спрячь, никому не показывай, пока не окажешься в холле. Мы вышли в коридор. Там царила паника. — Вызовите «скорую»! — крикнула я. — Произошел несчастный случай. Вызовите «скорую», кто-нибудь! Несколько человек кинулись выполнять мою просьбу. Я покачнулась и прислонилась к какому-то седовласому джентльмену. Люди толпились вокруг, некоторые заглядывали в номер и что-то кричали. Вдруг в холле раздался выстрел, потом другой, третий. Паника и суматоха усилились, а я тем временем проскользнула к черной лестнице и через пожарный выход выбежала на улицу.
Прошло много времени. Теперь я живу на юге Франции, между Каннами и Тулоном, но, увы, не слишком близко от Сен-Тропеза. Я здесь счастлива. Из дому я выхожу редко. Необходимые покупки делают Анри и Клод. Иногда я позволяю им вывезти себя в Италию, к югу от Пескары, что на берегу Адриатического моря. Но и эти поездки становятся все реже. В холмах за моим домом раскинулось брошенное аббатство, до него рукой подать, и я часто прихожу туда посидеть среди развалин и диких цветов. Я думаю об одиночестве и воздержании, а также о том, насколько все зависят друг от друга. Теперь я себя чувствую помолодевшей. Убеждаю себя, что это из-за климата, а вовсе не следствие той последней Подпитки. Иногда я скучаю по знакомым улицам Чарлстона, по оставшимся там людям. Увы, это бесплодные мечты. Мечты, вызванные голодом. Порой я просыпаюсь от голосов, когда мимо моего дома на велосипедах проезжают девушки, направляющиеся на молочную ферму. В такие дни утро кажется мне особенно теплым. Я поднимаюсь, завтракаю и иду к развалинам аббатства, сижу на лугу, вдыхаю аромат белых цветов, и больше мне ничего не нужно — лишь сидеть здесь и радоваться тишине и солнцу. Но в другие дни, холодные и темные, как сегодня, когда с севера наплывают тучи, я вспоминаю безмолвное тело подводной лодки, рассекающей темные воды залива, и думаю: неужели мое добровольное воздержание было напрасным? В эти дни я представляю, как омолодит мой организм такая грандиозная последняя Подпитка. Как говаривал Вилли, предлагая свою очередную выходку: а что я, собственно, теряю? Похоже, завтра будет теплее, и мое настроение улучшится. А сегодня меня что-то знобит, одолела меланхолия. Я совсем одна, мне не с кем поиграть. Близится зима. И я очень, очень проголодалась…
Дэн Симмонс
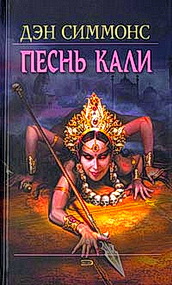 Песнь Кали
Песнь Кали
Харлану Эллжону, который слышал песнь, а также Карен и Джейн, которые являются моими другими голосами.
…Есть тьма. Она для всех. Лишь некоторые из греков и их почитателей в своем текучем расцвете, где дружба красоты с человеческими существами была идеальной, считали, что они отчетливо отделены от этой тьмы. Но и эти греки находились в ней. Но все равно завязшее в грязи, терзаемое голодом, загнанное в сутолоку улиц, ввергнутое в войны, страдающее, несчастное, суетящееся, получающее удары в живот, убитое горем, бесхребетное человечество продолжает восхищаться ими; все его множество, кто из-под клубов черного дыма хаоса Везувия, кто среди вздымающейся калькуттской полночи, вполне сознавая, где они.Сол Беллоу
Но это Ад; и я не вышел из него.Есть места, слишком исполненные зла, чтобы позволить им существовать. Есть города, слишком безнравственные, чтобы испытывать страдания. Калькутта – именно такое место. До Калькутты я бы только посмеялся над такой идеей. До Калькутты я не верил в зло – во всяком случае, в качестве силы, отдельной от действий людей. До Калькутты я был глупцом. Захватив Карфаген, римляне истребили мужчин, продали в рабство женщин и детей, разрушили громадные сооружения, раздробили камни, сожгли развалины, усыпали солью землю, чтобы ничто более не произрастало на том месте. Для Калькутты этого недостаточно. Калькутта должна быть стерта. До Калькутты я участвовал в маршах мира против ядерного оружия. Теперь я грежу о ядерном грибе, поднимающемся над неким городом. Я вижу дома, превращающиеся в озера расплавленного стекла Я вижу улицы, текущие реками лавы, и настоящие реки, выкипающие громадными сгустками пара. Я вижу фигуры людей, вытанцовывающих, как горящие насекомые, как вихляющие богомолы, дергающихся и лопающихся на ослепительно красном фоне полного разрушения. Город этот – Калькутта Не могу сказать, чтобы мне были неприятны эти видения. Есть места, слишком исполненные зла, чтобы позволить им существовать.Кристофер Марлоу
1
Сегодня в Калькутте бывает все что угодно… Кого мне винить?– Не езди, Бобби,– сказал мой друг.– Не стоит оно того. Шел июнь 1977 года, когда я приехал из Нью-Гемпшира в Нью-Йорк, чтобы обговорить с редактором из «Харперс» последние детали моей поездки в Калькутту. После этого я решил заскочить к своему другу, Эйбу Бронштейну. Скромное конторское здание на окраине, приютившее наш маленький литературный журнальчик «Другие голоса», выглядело весьма непритязательно после нескольких часов созерцания Мэдисон-авеню с разреженных высот апартаментов издательства «Харперс». Эйб в одиночестве сидел в своем захламленном кабинете и трудился над осенним номером «Голосов». Несмотря на открытые окна, воздух в комнате был таким же вонючим и сырым, как и потухшая сигара, которую жевал Эйб. – Не езди в Калькутту, Бобби,– повторил Эйб.– Пусть это будет кто-нибудь другой. – Эйб, все уже решено,– ответил я.– Мы вылетаем на следующей неделе.– После некоторых колебаний я добавил: – Платят очень хорошо и берут на себя все расходы. – Гм-м,– молвил Эйб, передвинув сигару в другой уголок рта и хмуро уставившись в наваленную перед ним кучу рукописей. Глядя на этого потного, всклокоченного человечка, больше, чем кто бы то ни было, напоминавшего заезженного букмекера, никто бы и подумать не мог, что он возглавляет один из наиболее уважаемых «малых журналов» страны. В 1977 году «Другие голоса» не затмевал старый «Кэньон ревью» и не вызывал необоснованного беспокойства по поводу конкуренции у «Хадсон ревью», но мы рассылали нашим подписчикам ежеквартальные номера журнала; пять повестей из тех, что впервые опубликовал наш журнал, были отобраны для антологий на премию О'Генри; а в посвященный десятилетней годовщине юбилейный номер пожертвовала повесть сама Джойс Кэрол Оутс. В разное время я перебывал в «Других голосах» помощником редактора, редактором отдела поэзии и корректором без жалованья. Теперь же, после того как я в течение года предавался раздумьям среди нью-гемпширских холмов и только что выпустил книгу стихов, я был лишь одним из уважаемых авторов. Но я по-прежнему считал «Другие голоса» нашим журналом, а Эйба Бронштейна – близким другом. – Но какого черта, Бобби, они посылают именно тебя? – спросил Эйб.– Почему «Харперс» не отправит туда кого-нибудь из своих боссов, раз уж это настолько важно, что они даже расходы берут на себя? Эйб попал в точку. Мало кто слышал о Роберте С. Лузаке в 1977 году, даром что «Зимние призраки» удостоились половины колонки обозрения в «Таймс». И все же во мне теплилась надежда на то, что люди – во всяком случае, те несколько сотен, чье мнение чего-то стоит,– слышали обо мне, и слышали нечто многообещающее. – «Харперс» вспомнил обо мне из-за моей прошлогодней статьи в «Голосах»,– сказал я.– Помнишь, та, о бенгальской поэзии. Ты еще сказал тогда, что я слишком много времени убил на Рабиндраната Тагора. – Как же, помню,– откликнулся Эйб.– Удивительно еще, что эти клоуны из «Харперс» знают, кто такой Тагор. – Мне позвонил Чет Морроу. Он сказал, что статья произвела на него глубокое впечатление.– Я решил опустить тот факт, что Морроу забыл имя Тагора. – Чет Морроу? – проворчал Эйб.– Он разве уже не пишет кинороманы по телесериалам? – Пока он работает временным помощником редактора «Харперс»,– ответил я.– Он хочет получить статью о Калькутте к октябрьскому номеру. Эйб покачал головой. – А как насчет Амриты и крошки Элизабет-Регины… – Виктории,– закончил я за него. Эйб знал, как зовут мою малышку. Когда я впервые сообщил ему, как мы назвали девочку, Эйб заметил, что имя довольно удачное для потомства индийской принцессы и чикагского полячишки. Этот человек был воплощением чуткости. Хоть Эйбу и было далеко за пятьдесят, он так и жил вместе со своей матушкой в Бронксвилле. Он с головой ушел в издание журнала и казался безразличным ко всему, что напрямую с этим не связано. Как-то зимой у него в конторе сломалось отопление, и большую часть января он проработал там, закутавшись в шерстяное пальто, прежде чем пошевелил пальцем, чтобы сделали ремонт. В то время Эйб общался с людьми в основном по телефону или по почте, но его язык от этого не становился менее язвительным Я начал понимать, почему никто не занял мое место ни на посту помощника редактора, ни в должности редактора отдела поэзии. – Ее зовут Виктория,– повторил я. – Не важно. А как Амрита отреагировала на то, что ты собираешься сбежать и бросить ее одну с ребенком? Кстати, сколько девочке?Месяца два? – Семь месяцев. – Не рано ли уезжать в Индию и оставлять их одних? – Амрита тоже едет. И Виктория. Я убедил Морроу в том, что Амрита может переводить мне с бенгальского. Это не совсем соответствовало истине. Именно Морроу предложил мне взять с собой Амриту. По правде говоря, эту работу я получил благодаря имени Амриты. До звонка мне «Харперс» обращался к трем авторитетам в области бенгальской литературы, двое из которых были индийскими писателями, живущими в Штатах. Все трое отвергли предложение, но последний из них упомянул в разговоре Амриту, и – хотя ее специальностью была математика, а не литература – Морроу за это уцепился. «Она ведь говорит по-бенгальски?» – спросил Морроу по телефону. «Конечно»,– ответил я. На самом же деле Амрита знала хинди, маратхи, тамильский и немного пенджаби, а также говорила по-немецки, по-русски и по-английски, но только не по-бенгальски. «Один черт»,– подумал я. – А Амрита хочет ехать? – спросил Эйб. – Ждет не дождется,– ответил я. В Индии она не была с тех пор, как ее отец перевез семью в Англию,– тогда ей было семь лет. Да и в Лондоне по дороге в Индию она хочет немного побыть, чтобы ее родители посмотрели на Викторию.– Насчет последнего я уже не покривил душой. В Калькутту с ребенком Амрита ехать не хотела, пока я не убедил ее в том, что эта поездка исключительно важна для моей карьеры. Остановка в Лондоне стала для нее решающим фактором.. – Ладно,– буркнул Эйб.– Валяй, езжай в свою Калькутту. Его тон, однако, отчетливо выражал, что он думает по поводу этой затеи. – Объясни, почему ты против этой поездки,– потребовал я. – После. Для начала расскажи-ка про этого самого Даса, о котором болтает Морроу. Еще я хотел бы знать, почему ты хочешь, чтобы я забил половину весеннего номера «Голосов» для очередной писанины этого Даса. Терпеть не могу перепечатки, а среди его стихов не найдется и десяти строчек, чтобы не печатались и не перепечатывались до тошноты. – Верно, речь о Дасе,– сказал я.– Но не перепечатки. Новые вещи. – Рассказывай. И я стал рассказывать.Санкха Гош
– В Калькутту я собираюсь, чтобы разыскать там поэта М. Даса,– начал я.– Разыскать, поговорить с ним и привезти кое-что из его новых работ для публикации. Эйб уставился на меня. – Угу,– произнес он.– Не получится. М. Дас умер. Преставился годков эдак шесть-семь тому назад. Кажется, в семидесятом. – В июле тысяча девятьсот шестьдесят девятого года,– уточнил я, не сумев удержаться от самодовольной нотки в голосе.– Он исчез в июле шестьдесят девятого, когда возвращался после похорон, точнее, кремации своего отца в одной деревне в Восточном Пакистане – сейчас это Бангладеш,– и все решили, что его убили. – Ага, припоминаю,– сказал Эйб.– Я тогда останавливался на пару дней у вас с Амритой, на вашей бостонской квартире, когда Союз поэтов Новой Англии проводил мемориальные чтения в его честь. Ты еще читал что-то из Тагора и отрывки из эпических поэм Даса про… как ее… эту монахиню – мать Терезу. – А еще ему были посвящены две вещи из моего чикагского цикла,– добавил я.– Но, кажется, мы немного поторопились. Дас, судя по всему, снова всплыл в Калькутте – во всяком случае, появились его новые стихи и письма «Харперс» заполучил кое-какие образчики через одно тамошнее агентство, с которым они работают, и те, кто знал Даса, утверждают, что эти новые вещи написаны наверняка им. Но никто не видел его самого. Так вот, «Харперс» хочет, чтобы я попробовал раздобыть что-нибудь из его новых работ, но основной темой статьи будет что-то вроде: «В поисках М. Даса». А теперь хорошая новость. «Харперс» имеет право первого выбора из тех стихов, которые я заполучу, но все остальное мы можем тиснуть в «Других голосах». – Паршивые объедки,– буркнул Эйб, принявшись жевать сигару. За годы совместной работы с Бронштейном я привык к подобному изъявлению глубокой благодарности. Я промолчал, и в конце концов он заговорил сам: – И где же, Бобби, этот самый Дас пропадал восемь лет? Я пожал плечами и сунул ему фотокопию, полученную от Морроу. Эйб изучил ее, повертел на вытянутых руках, повернул боком, как журнальный разворот, и швырнул обратно. – Сдаюсь,– сказал он.– Что это за хреновина? – Это кусок новой поэмы, которую, как предполагают, Дас написал за последние годы. – Это на хинди? – Нет, в основном санскрит и бенгали. А вот английский перевод. Я подал ему другую копию. По мере того как Эйб читал, его потный лоб покрывался все более глубокими морщинами. – Боже праведный, Бобби, и для этого я должен оставить весенний номер? Да здесь про какую-то дамочку, которая трахается на собачий манер и одновременно пьет кровь из безголового мужика. Или я чего-то не понял? – Все точно. Именно про это. Правда, в этом отрывке всего несколько строф. И перевод довольно приблизительный. – Я думал, что поэзия Даса лирична и сентиментальна. Вроде того, как ты описываешь в своей статье стихи Тагора. – Он таким был. И есть. Но не сентиментальный, а оптимистичный.– Эту фразу я использовал неоднократно для защиты Тагора. Черт возьми, да этой же фразой я обычно отстаивал и свои собственные труды. – Угу,– согласился Эйб.– Оптимистичный. Особенно мне нравится вот этот оптимистический кусочек: «Kama Rati kame/viparita kare rati». Судя по переводу, это означает: «Обезумевшие от похоти, Кама и Рати сношаются, как собаки». Мило, ничего не скажешь. Да, Бобби, здесь явно заметна этакая игривость. Что-то вроде раннего Роберта Фроста. – Это отрывок из бенгальской народной песни,– пояснил я.– Обрати внимание, как Дас вплел ее ритм в весь пассаж. Он переходит от классической ведической формы к народной бенгальской и снова возвращается к ведической. Даже с учетом того, что это перевод, здесь чувствуется усложненный стилистический подход… Я заткнулся. Я просто повторил то, что услышал от Морроу, а тот, в свою очередь, передал мне то, что узнал от кого-то из своих «консультантов». В маленькой комнатушке было очень жарко. В открытое окно врывался монотонный гул машин и почему-то успокаивающий, далекий звук сирены. – Ты прав,– заговорил я.– Совершенно не похоже на Даса. Почти невероятно, что такие строки принадлежат перу того же человека, который написал поэму о матери Терезе. По-моему, Даса нет в живых, а это все какое-то надувательство. Эйб уселся поглубже в свое вращающееся кресло, и я на какое-то мгновение поверил, что он и в самом деле собирается вынуть изо рта огрызок сигары. Вместо этого он насупился, погонял сигару во рту слева направо и обратно, откинулся на спинку и сцепил на затылке короткие пальцы. – Бобби, а я никогда не рассказывал тебе, как однажды побывал в Калькутте? – Нет.– Я удивленно моргнул. Эйб много поездил в бытность свою репортером, пока не написал первый роман, но редко заговаривал о том времени. Приняв у меня когда-то статью о Тагоре, он между прочим заметил, что однажды провел месяцев девять при лорде Маунтбеттене в Бирме. Рассказы его о репортерской работе были редкими, но неизменно интересными. – Во время войны? – спросил я. – Нет. Сразу после. Во время волнений в связи с разделом между мусульманами и индусами в тысяча девятьсот сорок седьмом году. Британцы тогда уносили ноги, разрезав Индию на два государства и предоставив возможность двум религиозным группировкам истреблять друг друга. Было это задолго до тебя, верно, Роберто? – Я об этом читал, Эйб. И ты отправился в Калькутту делать репортажи о волнениях? – Нет. В то время люди не хотели больше читать про войну. А в Калькутту я поехал, потому что Ганди… Махатма, не Индира… туда собирался, а мы писали о нем. Человек Мира, Святой в Накидке и прочая фигня. Как бы там ни было, в Калькутте я пробыл около трех месяцев. Эйб умолк и провел рукой по редеющим волосам. Казалось, он не может подобрать слова. Я ни разу не видел, чтобы Эйб затруднялся в речи – писал ли он, говорил или орал. – Бобби,– после паузы спросил он,– а известно ли тебе, что означает слово «миазмы»? – Ядовитая атмосфера,– скорее раздраженно, чем озадаченно, ответил я.– Как на болоте. Или еще чем-нибудь отравленная. Происходит слово, вероятно, от греческого «miainein», что значит «загрязнять». – Точно,– подтвердил Эйб, снова погоняв во рту сигару. Он не обратил внимания на мой небольшой выпендреж. Эйба Бронштейна не удивлял тот факт, что его бывший редактор отдела поэзии знает греческий. – Так вот, единственное слово, которое могло бы охарактеризовать для меня Калькутту тогда… или сейчас… это «миазм». Я даже слышать не могу одно из этих двух слов, чтобы тут же не вспомнить про другое. – Город был построен на болоте,– заметил я, все еще чувствуя раздражение Не привык я выслушивать от Эйба такую бредятину. Как если бы надежный старый сантехник вдруг начал разглагольствовать на темы астрологии.– И поедем мы туда в сезон дождей, то есть не в самое лучшее время года, как я понимаю. Но не думаю, что… – Да я не про погоду,– перебил Эйб.– Хоть это и самая жаркая, самая влажная, гнусная дыра, что мне только приходилось видеть. Хуже, чем Бирма в сорок третьем. Хуже, чем Сингапур во время тайфуна. Бог ты мой, да это хуже, чем Вашингтон в августе. Нет, Бобби, я говорю не о месте, черт бы его побрал. Есть что-то… что-то миазматическое в этом городе. Ни разу не приходилось мне бывать в месте, столь подлом или дерьмовом, а бывал я в самых грязных городах мира. Калькутта испугала меня, Бобби. Я кивнул. Из-за жары у меня начиналась головная боль – она уже пульсировала за ушами. – Эйб, ты проводил время не в тех городах,– легкомысленно сказал я.– Попробуй провести лето в северной Филадельфии или на южной окраине Чикаго, где я рос. После этого Калькутта покажется Городом Веселья. – Да,– сказал Эйб. На меня он больше не смотрел.– Понимаешь, дело не столько в самом городе. Я хотел убраться из Калькутты, и шеф моего бюро… бедолага, что помер через пару лет от цирроза печени… в общем, этот говнюк дал мне задание осветить открытие моста где-то в Бенгалии. Я хочу сказать, что там не было еще даже железной дороги, соединяющей два куска джунглей через реку шириной ярдов двести и глубиной дюйма три. Но мост тем не менее был построен на одно из первых денежных поступлений из Штатов после войны. Вот я и должен был освещать открытие.– Эйб замолчал и выглянул из окна. Откуда-то с улицы донеслись сердитые выкрики на испанском. Эйб, казалось, не слышал их.– Так что работенка была не из самых приятных. Проектировщики и строители уже исчезли, а открытие представляло собой обычную мешанину из политики и религии, что для Индии вполне обычно. В тот вечер было слишком поздно возвращаться на джипе – как бы там ни было, я не спешил вернуться в Калькутту,– и я остался в маленькой гостинице на окраине деревни. Возможно, эта деревня ускользнула от глаз британской инспекции во времена раджей. Но ночь была чертовски душной – когда даже пот не стекает с кожи, а висит в воздухе,– а москиты просто сводили меня с ума. В общем, где-то после полуночи я встал с постели и пошел к мосту. Выкурив сигарету, я отправился назад. Если бы не полнолуние, я бы этого не увидел. Эйб вынул сигару изо рта. Он скривился с таким видом, будто она была такой же противной, как и его физиономия. – Ребенку вряд ли было больше десяти лет, а может, и меньше. Он висел на куске арматуры, торчавшем из бетонной опоры с западной стороны моста. Наверное, он умер не сразу и еще некоторое время боролся за жизнь, после того как штыри пронзили его… – Он что, забирался на новый мост? – спросил я. – Тогда я так и подумал,– ответил Эйб.– Именно это представители местной власти и сообщили во время расследования. Но пусть меня повесят, если я могу объяснить, как он умудрился наткнуться на те штыри… Ему пришлось бы оттолкнуться и спрыгнуть с самой верхотуры. Уже потом, через несколько недель, когда господин Ганди закончил поститься, а в Калькутте прекратились волнения, я отправился в тамошний британский консулат, чтобы раздобыть экземпляр повести Киплинга «Строители моста». Ты ведь читал эту повесть? – Нет,– ответил я.– Терпеть не могу ни поэзию, ни прозу Киплинга. – А стоило,– заметил Эйб.– Малая проза Киплинга весьма недурна. – И о чем повесть? – спросил я. – В общем, она о том, что строительству любого моста приходит конец. А у бенгальцев на этот счет была тщательно разработанная религиозная церемония. – И в этом нет ничего необычного? – спросил я, почти догадавшись, к чему он клонит. – Ни капли,– сказал Эйб.– В Индии любому событию посвящена какая-то религиозная церемония. Именно бенгальские обычаи и побудили Киплинга написать эту повесть.– Эйб сунул сигару обратно в рот и продолжал говорить сквозь сомкнутые зубы: – По окончании строительства любого моста приносили человеческую жертву. – Правильно,– сказал я.– Великолепно.– Собрав фотокопии, я сунул их в папку и встал, намереваясь уйти.– Если вспомнишь еще что из киплинговских сказок, обязательно позвони, Эйб. Амрита получит большое удовольствие. Эйб тоже поднялся, опершись о стол. Его толстые пальцы уткнулись в стопки бумаг. – Черт бы тебя побрал, Бобби, я бы предпочел, чтобы ты вообще не ввязывался в эти… – Миазмы,– подсказал я. Эйб кивнул. – Буду держаться подальше от новых мостов,– пообещал я, направляясь к двери. – Как бы там ни было, подумай еще разок, стоит ли брать Амриту с ребенком. – Мы поедем,– сказал я.– Все решено. Остается один вопрос: хочешь ли ты увидеть вещи Даса, если это Дас, и могу ли я зарезервировать права на издание? Что скажешь, Эйб? Эйб снова кивнул. Сигару он засунул в забитую пепельницу. – Я пришлю тебе открытку из бассейна калькуттского гранд-отеля «Оберой»,– сказал я, открывая дверь. Я взглянул на Эйба в последний раз. Он стоял, вяло вытянув руку,– то ли махал мне на прощание, то ли просто демонстрировал усталую покорность судьбе.
2
Вам хотелось бы знать Калькутту? Тогда приготовьтесь забыть ее.Ночью накануне вылета мы с Амритой, кормившей Викторию, сидели на террасе нашего дома в Нью-Гемпшире. На фоне темной полосы деревьев мигали огоньки светлячков, словно передававших кому-то свои загадочные послания. Кузнечики, древесные лягушки и несколько ночных птиц вплетали свои голоса в ковер фонового ноктюрна. До Эксетера было всего несколько миль, но временами здесь стояла такая тишина, словно мы находились в другом мире. Такую оторванность я ценил, пока сидел за письменным столом – а я провел за ним практически всю зиму,– но теперь ощущал, что меня точит какое-то беспокойство, что именно эти месяцы отшельничества породили во мне страстное желание попутешествовать, увидеть незнакомые места, лица. – Ты точно хочешь ехать? – спросил я. Мой голос слишком громко прозвучал в ночи. Амрита подняла глаза, когда ребенок закончил есть. Тусклый свет из окна озарял выступающие скулы Амриты и ее нежную смуглую кожу. Ее темные глаза, казалось, излучают внутреннее сияние. Иногда она была такой красивой, что я испытывал физическую боль при мысли о том, что мы могли бы не встретиться, не пожениться, не завести ребенка. Она слегка приподняла Викторию, и я успел заметить нежную линию груди и набухший сосок, прежде чем блузка была застегнута. – Я не прочь слетать,– ответила Амрита– Очень приятно будет повидать родителей. – Ну а Индия? Калькутта? Туда-то ты хочешь? – Я не против, если смогу чем-то помочь. Уложив мне на плечо сложенную чистую пеленку, она подала мне Викторию. Я погладил дочке спинку и ощутил ее тепло, вдохнул запах молока и детского тельца. – Ты уверена, что это не помешает твоей работе? – спросил я. Виктория заворочалась у меня в объятиях, потянувшись пухленькой ручонкой к моему носу. Я подул на ее ладошку, она хихикнула и срыгнула. – Никаких проблем,– ответила Амрита, однако я понимал, что проблемы будут. После Дня труда она собиралась преподавать математику старшекурсникам в Бостонском университете, и я знал, сколько ей нужно готовиться. – Ты хочешь снова побывать в Индии? – спросил я. Виктория придвинула головенку поближе к моей щеке и теперь радостно пускала слюни мне на воротник. – Любопытно сравнить с той, что я помню,– сказала Амрита. Голос у нее был нежным, отшлифованным тремя годами учебы в Кембридже, но она никогда не сбивалась на ровное британское произношение. Ее речь напоминала поглаживание твердой, но хорошо смазанной ладонью. Амрите было семь лет, когда ее отец перевел свою инженерную фирму из Нью-Дели в Лондон. Воспоминания об Индии, которыми она со мной делилась, не выходили за рамки расхожих представлений о культуре, где в одну кучу смешались шум, сумятица и кастовое неравенство. Трудно было представить что-нибудь более чуждое характеру самой Амриты: она воплощала в себе спокойное достоинство, терпеть не могла суету и беспорядок в любых проявлениях, переживала из-за несправедливости, а ее интеллект был вымуштрован упорядоченными ритмами лингвистики и математики. Амрита однажды рассказывала о своем доме в Дели и квартире дяди в Бомбее, где проводила с сестрами летние месяцы: голые стены с пятнами сажи и застарелыми отпечатками пальцев, открытые окна, грубые простыни, ползающие ночами по стенам ящерицы, беспорядочная дешевость во всем. Наш же дом под Эксетером был чист и открыт, как мечта скандинавского архитектора: повсюду некрашеное дерево, удобное модульное расположение, безукоризненно белые стены и подсвеченные рассеянным светом произведения искусства. Деньги, позволившие нам иметь этот дом и небольшую коллекцию предметов искусства, принадлежали Амрите. Она называла их шутя своим «приданым». Поначалу я сопротивлялся. В 1969 году, в первый год нашей семейной жизни, я записал в налоговой декларации годовой доход в пять тысяч семьсот тридцать два доллара. К тому времени я оставил преподавание в колледже Уэлсли и занимался исключительно литературным трудом и редактированием. Мы жили в Бостоне, в такой квартире, где даже крысам приходилось ходить пригнувшись. Я ни на что не обращал внимания и ради искусства был готов страдать бесконечно долго. Но Амрита не разделяла моей готовности. Она никогда не спорила, с пониманием отнеслась к моему категорическому отказу использовать средства из ее доверительной собственности, но в 1972 году внесла базовый залог за дом с четырьмя акрами земли и купила первую из девяти наших картин: небольшой этюд маслом Джейми Уайета. – Заснула,– сказала Амрита– Можешь не качать. Я убедился в ее правоте, взглянув на дочь. Виктория спала с открытым ртом, полусжав кулачки. Ее частое дыхание обдувало мне шею. Я продолжал ее покачивать. – Может быть, занесем ее в дом? – спросила Амрита.– Холодает. – Одну минутку,– ответил я. Моя ладонь была шире спины ребенка. Когда Виктория появилась на свет, мне было тридцать пять, а Амрите – тридцать один. Много лет я говорил всем, кто хотел меня слушать, и кое-кому из тех, кто слушать не хотел, о тех чувствах, которые у меня вызывает появление на свет. Упоминал я и о перенаселении, и о том, как жестоко сталкивать младшее поколение с ужасами двадцатого века, и о безрассудстве тех, кто обзаводится нежеланным потомством И снова Амрита не стала со мной спорить – хотя я подозреваю, что с ее подготовкой в формальной логике она разнесла бы по кочкам все мои аргументы за пару минут,– но где-то в начале 1976 года, приблизительно во время первичных выборов в нашем штате, Амрита в одностороннем порядке отказалась от таблеток. А 22 января 1977 года, через два дня после того, как Джимми Картер вступил в должность и въехал в Белый дом, у нас родилась дочь Виктория. Я бы никогда не назвал ее Викторией, но в глубине души очень радовался этому имени. Впервые его предложила Амрита, в один прекрасный жаркий июльский день, и мы отнеслись к этому как к шутке. Кажется, одним из самых ранних ее воспоминаний было то, как она приезжает в Бомбей на вокзал «Виктория». Это громадное сооружение – один из уцелевших памятников британского владычества, и поныне, по всей видимости, продолжающего оказывать влияние на Индию,– всегда вызывало у Амриты благоговение. С той поры имя Виктория всегда ассоциировалось в ее душе с красотой, изяществом и чем-то таинственным. Так что поначалу мы просто шутили насчет того, что малышку назовем Викторией, но к Рождеству 1976 года мы уже знали, что никакое другое имя не подойдет нашему ребенку, если это будет девочка. До рождения Виктории я имел обыкновение выражать недовольство теми нашими знакомыми парами, которые, как мне казалось, отупели после рождения детей. Люди с отточенным интеллектом, прежде наслаждавшиеся вместе с нами нескончаемыми разговорами о политике, прозе, о смерти театра, о закате поэзии, теперь бубнили только о первом зубе своего мальчика или часами делились захватывающими подробностями первого дня маленького Хэзера в подготовительном классе. Я поклялся, что никогда не опущусь до этого. Но с нашим ребенком все было иначе. Развитие Виктории было достойно самого серьезного изучения. Оказалось, что я совершенно заворожен первыми же издаваемыми ребенком звуками и ее самыми неуклюжими движениями. Даже тягостная процедура смены пеленок могла вызывать самые приятные чувства, когда моя девочка – мой ребенок! – размахивала пухленькими ручками и смотрела на меня с таким выражением, которое я принимал за изъявление любви и оценки по достоинству того, что ее отец – печатающийся поэт – снисходит ради нее до таких мирских забот. Когда в возрасте семи недель она однажды утром одарила нас первой улыбкой, я тут же позвонил Эйбу Бронштейну, чтобы поделиться столь замечательной новостью. Эйб, привычка которого не вставать раньше половины одиннадцатого утра была известна не меньше, чем его чутье на хорошую прозу, поздравил меня и мягко заметил, что на часах всего лишь пять сорок пять. Теперь Виктории исполнилось уже семь месяцев, и стало еще более очевидно, что ребенок она одаренный. Уже с месяц, как она научилась играть в «козу», а за несколько недель до того освоила прятки. В шесть с половиной месяцев она начала ползать – верный признак высокого интеллекта, хоть Амрита и утверждала обратное,– и меня совершенно не волновало, что при попытках ползти вперед Виктория почему-то неизменно двигалась в противоположном направлении. С каждым днем все отчетливее проявлялись ее лингвистические способности, и хоть мне никак не удавалось выделить из потока звуков «папа» или «мама» (даже когда я прокручивал запись на вдвое меньшей скорости), Амрита уверяла меня с еле заметной улыбкой, что она уже слышала от дочери целые русские и немецкие слова, а однажды даже целую фразу на хинди. А между тем я каждый вечер читал Виктории вслух, перемежая «Сказки матушки Гусыни» Уордсвортом, Китсом и тщательно отобранными отрывками из «Кантос» Паунда. Явное предпочтение она оказывала Паунду. – Не пойти ли нам спать? – спросила Амрита.– Завтра надо встать пораньше. Что-то в ее голосе привлекло мое внимание. Иногда она говорила: «Не пойти ли нам спать?», а иногда: «Не пойти ли нам спать?» На этот раз прозвучал второй вариант. Я отнес Викторию в кроватку и с минуту постоял рядом, наблюдая, как она в окружении мягких игрушек лежит на животике под легким одеяльцем, положив голову на подушечку. Лунный свет падал на нее как благословение. Потом я спустился, запер двери, выключил свет и вернулся наверх, где Амрита уже ждала меня в постели. Позже, в заключительные мгновения нашей близости, я повернулся, чтобы заглянуть ей в лицо, как бы пытаясь отыскать там ответ на невысказанные вопросы… Но на луну набежала туча, и все скрылось во внезапно наступившей темноте.Сушил Рой
3
В полночь этот город – Диснейленд.В Калькутту мы прилетели в полночь, зайдя на посадку с юга, со стороны Бенгальского залива. – Бог ты мой!..– прошептал я, и Амрита перегнулась со своего места, чтобы выглянуть из иллюминатора. По совету ее родителей мы воспользовались самолетом ВОАС и долетели до Бомбея, чтобы пройти таможенный контроль там. Все шло отлично, но внутренний рейс «Эйр-Индия» до Калькутты был по техническим причинам отложен на три часа. В конце концов нам разрешили подняться на борт, чтобы еще час проторчать рядом с терминалом, в то время как в салоне не работали ни освещение, ни кондиционер, потому что были отсоединены внешние источники питания. Какой-то бизнесмен, сидевший впереди, заметил, что рейс Бомбей—Калькутта задерживается каждый день на протяжении трех недель из-за конфликта между пилотом и бортинженером. Уже в воздухе мы отклонились от маршрута далеко на юг из-за сильной грозы. Почти весь вечер Виктория вела себя беспокойно, но сейчас спала на руках у матери. – Бог ты мой,– снова произнес я. Под нами раскинулись 250 квадратных миль территории Калькутты – море огней после полной темноты заоблачных высот и Бенгальского залива. Во многие города мне приходилось прилетать по ночам, но ничего подобного я еще не видел. Здесь не было привычных правильных рядов электрических огней: Калькутта в полночь светилась бесчисленными фонарями, открытым огнем и странным неярким сиянием, исходившим из тысяч невидимых источников и напоминавшим фосфоресцирующие грибы. Вместо пересекающихся прямых линий упорядоченной городской планировки – с улицами, шоссе, автостоянками – мириады хаотически разбросанных огней Калькутты были перемешаны в беспорядочную кучу и походили на некое созвездие, разорванное лишь темным изгибом реки. Мне представилось, что именно такими – горящими – во время войны выглядели Лондон или Берлин в глазах потрясенных экипажей бомбардировщиков. Потом колеса коснулись земли, в прохладный салон ворвался насыщенный влагой воздух и мы вышли, став частью шаркающей компании, бредущей к багажному отделению. Аэропорт был небольшим и грязным. Несмотря на позднее время, повсюду сновали шумные скопища потных людей. – А нас никто не должен встретить? – спросила Амрита. – Должен,– ответил я, выхватывая четыре сумки с потрепанной ленты транспортера. Мы встали рядом с ними, в то время как толпа накатывала и откатывалась, подобно приливным волнам. От мужчин в белых рубашках и женщин в сари, сгрудившихся в небольшом здании, исходили импульсы какой-то истерии. – Морроу связался с Союзом бенгальских писателей. Была договоренность, что некто по имени Майкл Леонард Чаттерджи отвезет нас в отель. Но мы задержались на несколько часов. Наверное, он уже уехал домой. Я попробую найти такси. Бросив взгляд в сторону выхода, я увидел, что он забит толкающимися, орущими людьми и остался рядом с сумками. – Мистер и миссис Лущак. Роберт Лущак? – Лузак,– машинально поправил я.– Да, я Роберт Лузак. Я оглядел человека, который пробился к нам. Он был высок, худощав, в грязно-коричневых штанах и белой рубашке, казавшейся серой и не слишком чистой при зеленоватом флуоресцентном освещении. Внешне он выглядел довольно молодо – где-то под тридцать, пожалуй. Гладко выбрит, но черные волосы торчали огромными наэлектризованными пучками, а пронзительный взгляд темных глаз производил впечатление такой силы, что это граничило с ощущением сдерживаемой страсти к насилию. Его темные густые брови почти срослись над хищным ястребиным носом. Отступив на полшага, я поставил сумку, чтобы освободить правую руку. – Мистер Чаттерджи? – Нет, я не видел мистера Чаттерджи,– ответил он пронзительным голосом– Меня зовут М. Т. Кришна.– Поначалу из-за шума толпы и напевного акцента мне послышалось «пустой Кришна»[1]. Я протянул руку, но Кришна повернулся и пошел вперед по направлению к выходу. Правой рукой он раздвигал толпу. – Сюда, пожалуйста. Быстрее, быстрее. Кивнув Амрите, я поднял три сумки. Невероятно, но Виктория, несмотря на жару и сумасшедшую толчею, продолжала спать. – Вы из Союза писателей? – спросил я. – Нет-нет.– Отвечая, Кришна даже не повернул головы.– Я, видите ли, работаю преподавателем на неполной ставке. И поддерживаю связь с Американским фондом образования в Индии. К моему инспектору, мистеру Шаху, обратился его очень хороший и давний друг, мистер Бронштейн из Нью-Йорка, который попросил меня оказать эту любезность. Быстрее. На улице воздух показался еще более тяжелым и влажным, чем в наполненном испарениями помещении. Над дверями терминала прожектора высвечивали серебристую надпись. – Аэропорт «Дум-Дум»,– вслух прочитал я. – Да-да. Именно здесь делали эти пули, пока они не были запрещены после Первой мировой войны,– пояснил Кришна.– Сюда, пожалуйста. Внезапно мы оказались в окружении десятка носильщиков, домогающихся возможности отнести нашу немногочисленную поклажу,– тощих, как стебли тростника, голоногих, завернутых в коричневое тряпье. Один из них был одноруким. Другой выглядел так, будто пережил страшный пожар: кожа у него на груди спеклась большими складками шрамов. Очевидно, он не мог говорить, хотя из покалеченного горла и вырывались требовательные булькающие звуки. – Отдайте им багаж,– бросил Кришна. Он сделал повелительный жест, в то время как носильщики лезли друг на друга, чтобы добраться до сумок. Нам пришлось пройти лишь около шестидесяти футов по закругляющейся дорожке. Насыщенный влагой воздух был темен и тяжел, как промокшее армейское одеяло. Потеряв на какую-то секунду ориентацию, я решил, что идет снег, так как воздух казался наполненным белыми хлопьями; лишь потом я сообразил, что это миллионы насекомых кружатся в лучах прожекторов аэропорта. Кришна махнул носильщикам и показал на машину. Я остановился в изумлении. – Микроавтобус? – спросил я, хотя бело-голубой машине больше подошло бы название «раздолбанный драндулет». Вдоль борта шла надпись USEFI. – Да-да-да Удалось раздобыть только это. Теперь побыстрее. Один из носильщиков, проворством напоминающий обезьяну, забрался сзади на крышу автобуса. Все наши четыре сумки были поданы наверх и закреплены на багажнике. Когда через багаж перебросили черную пластиковую ленту, у меня мелькнула невольная мысль: а почему нельзя было уложить все в салон? Пожав плечами, я вытащил две бумажки по пять рупий, чтобы дать носильщикам. Кришна забрал у меня из руки деньги и вернул мне одну бумажку. – Нет. Слишком много,– сказал он. Я снова пожал плечами и помог Амрите войти в салон. Из-за криков возбужденных носильщиков Виктория все-таки проснулась и теперь присоединила свой визг к общей суматохе. Кивнув сонному водителю, мы уселись на места справа. Кришна стоял у двери и переругивался с тремя носильщиками, которые несли наши вещи. Амрита не в полной мере поняла поток бенгальской речи, но все же сумела разобрать, что носильщики расстроены из-за невозможности поделить пять рупий на троих и требуют еще одну. Кришна крикнул что-то и стал закрывать дверцу автобуса. Старейший из носильщиков, лицо которого представляло собой лабиринт глубоких морщин, поросших седой щетиной, вышел вперед и встал на пути закрывающейся двери. Остальные носильщики переместились со своего места рядом с входом в здание аэропорта. Крики перешли в вопли. – Ради Бога,– сказал я Кришне,– вот, возьмите, дайте им еще несколько рупий. Поехали отсюда. – Нет! – Взгляд Кришны метнулся в мою сторону, и на этот раз ярость в нем уже не сдерживалась. Такое выражение можно наблюдать на лицах тех, кто участвует в кровавых развлечениях.– Слишком много,– твердо заявил он. Теперь у двери стояла целая ватага носильщиков. Вдруг они захлопали ладонями по борту автобуса. Водитель выпрямился и нервно поправил кепку. Старик в дверном проеме поднялся на нижнюю ступеньку, будто собирался войти в салон, но Кришна приставил три пальца к его обнаженной груди и резко толкнул. Старик упал спиной в море силуэтов в коричневых одеяниях. В приоткрытое стекло рядом с Амритой вдруг вцепились шишковатые пальцы, и на нем, как на перекладине, подтянулся носильщик с обожженным лицом. Его губы отчаянно шевелились в нескольких дюймах от нас, и мы разглядели, что у него не было языка. На запыленное окно брызгала слюна. – Черт возьми, Кришна! – Я приподнялся, чтобы дать носильщикам деньги. Тут из тени вышли трое полицейских. Они носили белые шлемы, ремни под Сэма Брауна и шорты цвета хаки. Двое из них держали в руках латхи – индийский вариант полицейской дубинки: трехфутовые палки из тяжелого дерева с металлическим сердечником в рабочем конце. Толпа носильщиков продолжала шуметь, но расступилась, чтобы пропустить полицейских. Лицо со шрамами исчезло из окна со стороны Амриты. Первый полицейский стукнул палкой по радиатору машины, и старый носильщик повернулся к нему, чтобы выкрикнуть свои жалобы. Полицейский поднял свое смертоносное орудие и что-то рявкнул в ответ. Кришна воспользовался представившейся возможностью и повернул ручку, запиравшую дверцу автобуса. Он бросил пару слов водителю, и мы двинулись, набирая скорость, по темной дорожке. По задней стенке автобуса громыхнул брошенный камень. Затем мы покинули территорию аэропорта и выехали на пустую четырехрядную трассу. – VIP-шоссе! – крикнул Кришна, не отходя от двери.– Ездят только очень важные персоны. Справа промелькнул выцветший щит. Незатейливая надпись на хинди, бенгали и английском гласила: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЛЬКУТТУ». Мы ехали с выключенными фарами, но внутреннее освещение в автобусе продолжало гореть. Вокруг чудесных глаз Амриты легли темные тени усталости. Виктория – слишком измотанная, чтобы спать, утомленная от плача – потихоньку хныкала на руках у матери. Кришна сел боком впереди от нас. Ястребиный профиль его сердитого лица освещался лампочками над головой и редкими уличными фонарями. – Я учился в университете в Штатах почти три года,– сообщил он. – Правда? – откликнулся я.– Как интересно. Мне хотелось врезать по физиономии этому тупому сукиному сыну за устроенную им бучу. – Да-да Я работал с черными, чиканос, краснокожими индейцами. Угнетенными людьми вашей страны. Болотистые темные поля, окружавшие шоссе, внезапно уступили место беспорядочному скоплению лачуг, подступавших прямо к обочине. Сквозь джутовые стены просвечивали фонари. В отдалении, у костров, на фоне желтого пламени судорожно двигались резко очерченные силуэты. Без заметного перехода мы выехали из сельской местности и теперь крутились по узким, залитым дождем улочкам, проходившим мимо кварталов заброшенных многоэтажек, протянувшихся на многие мили трущоб с крышами из жести и бесконечных рядов обветшалых, почерневших фасадов лавок. – Мои профессора были глупцы. Консервативные глупцы. Они думали, что литература состоит из мертвых слов в книгах. – Да,– произнес я, не имея представления, о чем толкует Кришна. Улицы были затоплены. Местами вода поднималась на два-три фута. Под рваными навесами полулежали, спали, сидели на корточках закутанные фигуры и смотрели на нас глазами, в которых виднелись лишь белки, окруженные тенью. В каждом переулке взгляду представали открытые помещения, резко освещенные дворы, тени, передвигающиеся среди теней. Какому-то хилому человечку, толкавшему тяжело груженную тележку, пришлось отскочить в сторону от нашего автобуса, обдавшего его самого и его груз водяной завесой. Он потрясал кулаком, изрыгал неслышные нам проклятия. Здания выглядели гораздо старше своего истинного возраста и казались некими заброшенными осколками какого-то давно забытого тысячелетия – еще до появления человека,– поскольку все эти тени, углы, проемы и пустоты отнюдь не походили на произведения архитектуры. И все же на каждом втором или третьем этаже в открытых окнах этих друидских жертвенников мелькали свидетельства присутствия человека: покачивающиеся неприкрытые лампочки, дергающиеся головы, ободранные стены с отвалившейся от белых ребер зданий штукатуркой, аляповатые картинки с многорукими божествами, выдранные из журналов и криво налепленные на стены или окна… Слышались крики играющих, носящихся по темным переулочкам ребятишек, почти неслышное хныканье младенцев – и повсюду, куда ни кинешь взгляд, суматошное движение, шуршание автобусных покрышек по раскисшей глине и гудрону, закутавшиеся фигуры, будто трупы, лежащие в тени тротуаров. Меня охватило ужасное ощущение уже виденного. – Я ушел с омерзением, когда один дурак-профессор не стал брать мою работу о долге Уолта Уитмена перед дзен-буддизмом. Высокомерный провинциальный дурак. – Да,– сказал я.– Как вы думаете, нельзя ли выключить внутреннее освещение? Мы подъезжали к центру города. Гниющие трущобы уступили место строениям покрупнее, еще более гнилого вида. Уличные фонари попадались редко. Слабые отблески зарниц отражались в глубоких черных лужах, растекшихся на перекрестках. Казалось, что перед каждым темным фасадом лавки лежали или приподнимались посмотреть на приближающийся автобус закутанные в тряпье фигуры, напоминавшие тюки невостребованного белья в прачечной. В желтом свете внутри автобуса мы выглядели как бледные трупы. Теперь я понимал, что должны чувствовать военнопленные, которых провозят по улицам вражеской столицы. Впереди в круге черной воды на ящике стоял мальчик и, как мне показалось, крутил за хвост дохлого кота. Он швырнул его в подъехавший автобус, и только тогда, когда покрытая шерстью тушка с глухим звуком отскочила от ветрового стекла, я сообразил, что это была крыса. Водитель выругался и направил машину на ребенка. Мальчик отпрыгнул, мелькнув коричневыми пятками, а ящик, на котором он стоял, разлетелся под правым колесом. – Вы понимаете, конечно, потому что вы поэт,– продолжал Кришна, ощерив мелкие, острые зубки. – Как насчет освещения? – спросил я, чувствуя, что начинаю закипать. Амрита коснулась моей руки левой ладонью. Кришна бросил что-то по-бенгальски. Водитель пожал плечами и буркнул в ответ. – Выключатель сломан,– пояснил Кришна. Мы выехали на от1фЬ1тое,пространство. То, что могло быть парком, жирной черной линией рассекало лабиринт покосившихся строений. Посреди захламленной площадки стояли два заброшенных трамвая, а рядом с ними под провисшим навесом сгрудились с десяток семейств. Снова начинался дождь. Внезапно обрушившийся ливень колотил, словно кулаками, с неба по железу автобуса. Щетка была лишь со стороны водителя, и она лениво боролась с водяной завесой, которая вскоре отделила нас от города сплошной пеленой. – Мы должны поговорить о мистере М. Дасе,– сказал Кришна. Я моргнул. – Я хочу, чтобы свет был выключен,– медленно и отчетливо произнес я. Иррациональная ярость накапливалась во мне с самого аэропорта. Через секунду я уже не сомневался, что придушу этого ограниченного, бесчувственного идиота: буду душить, пока эти лягушачьи глаза не вылезут из его дурацкой башки. Я ощущал, что злость, как тепло от крепкого алкоголя, растекается по телу. Амрита, должно быть, почувствовала, что я вот-вот взбешусь, поскольку ее пальцы сжались на моей руке, как клещи. – Очень важно, чтобы я поговорил с вами о мистере М. Дасе,– сказал Кришна. Духота в автобусе была почти невыносимой. Пот застывал на лице, как волдыри от ожога. Наше дыхание, казалось, зависло в воздухе облаком пара, в то время как мир вокруг оставался сокрытым за стеной грохочущего ливня. – Я выключу этот проклятый свет,– проговорил я и начал подниматься. Если б не Виктория, Амрита вцепилась бы в меня сзади обеими руками. Кришна удивленно поднял широкие брови, когда я навис над ним. Правую руку я высвободил как раз в тот момент, когда Амрита сказала: – Уже не имеет значения, Бобби. Мы приехали. Смотри, вот отель. Я застыл и наклонился, чтобы выглянуть в окно. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался, и лишь слегка моросило. Моя злость улетучилась вместе с затихающим стуком дождя по крыше. – Мы, наверное, поговорим попозже, мистер Лузак,– настаивал на своем Кришна.– Это весьма важно. Наверное, завтра. – Хорошо. Я взял Викторию на руки и первым вышел из автобуса. Сумрачный фасад гранд-отеля «Оберой» напоминал гранитную скалу, но из-за двойных дверей проникало немного света. Потрепанный тент доходил до бордюра. На другой стороне улицы стояли с десяток молчаливых темных фигур под лоснящимися от дождя зонтами. Некоторые из них держали намокшие плакаты. На одном я разглядел серп и молот и английское слово «НЕСПРАВЕДЛИВО». – Забастовщики,– пояснил Кришна и щелкнул пальцами сонному швейцару в красном жилете. Я пожал плечами. Линия пикета перед черным фасадом отеля в полвторого ночи в залитой муссонным дождем Калькутте меня не удивила. За предыдущие полчаса ощущаемая мной реальность уже не раз теряла очертания. Какой-то гул, вроде звука скребущихся лапок бесчисленных насекомых, стоял в ушах. «Последствия перелета»,– подумал я. – Спасибо, что подвезли,– поблагодарила Амрита, когда Кришна запрыгнул обратно в автобус. Он ответил гримасой акульего детеныша. – Да-да. Я поговорю с вами завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вход в отель, как оказалось, представлял собой несколько темных коридоров, которые неким защитным лабиринтом отделяли вестибюль от улицы. В самом вестибюле было довольно светло. Щеголеватый клерк выглядел отнюдь не сонным и выразил радость, увидев нас. Да, места для мистера и миссис Лузак забронированы именно здесь. Да, они получили наш телекс насчет задержки. Пожилой носильщик успел поагукать Виктории, пока мы поднимались в лифте на шестой этаж. На прощание я дал ему десять рупий. Наш номер был таким же пещерообразным и темным, как и все остальное в этом городе, но зато сравнительно чистым, а на двери имелся массивный засов. – О нет! – раздался из ванной голос Амриты. Я в три прыжка оказался там, ощущая, как колотится сердце. – Здесь нет полотенец,– сообщила Амрита.– Только салфетки. И тут мы оба начали смеяться. Если кто-то из нас останавливался, то другой мгновенно заливался хохотом снова. Десять минут у нас ушло, чтобы устроить на пустой кровати гнездышко для Виктории, содрать с себя пропотевшую одежду, наскоро ополоснуться и вдвоем заползти под тонкое покрывало. Кондиционер почавкивал и глухо похрипывал. Где-то рядом послышался взрывной звук спускаемой воды. Пульсирующий гул у меня в ушах был отголоском реактивных двигателей самолета. – Сладких снов, Виктория,– сказала Амрита. Девочка тихонькобормотала во сне. Мы заснули через две минуты.Субрата Чакраварти
4
И на большом дворе после прорыва местных барьеров Законченное общение между людьми, приятные шатания начинаются.– В утреннем свете все выглядит гораздо лучше,– сказала Амрита. Мы завтракали в кафе «Сад» при отеле. Виктория счастливо гукала на высоком стульчике, который принес услужливый официант. Кафе располагалось рядом с садиком во внутреннем дворе. Весело перекликались рабочие на лесах. Я пил чай, жевал горячую сдобу и читал калькуттскую газету на английском.. Передовица призывала к более современной транзитной системе. В рекламных объявлениях предлагались сари и мотоциклы. Улыбающаяся индийская семья поднимала бутылки с кока-колой. Рядом на этой же странице была помещена сделанная крупным планом фотография трупа – разлагающегося, с напоминающим взорвавшуюся покрышку лицом, с выпученными остекленевшими глазами. Тело было обнаружено в невостребованном стальном сундуке на железнодорожной станции Хоура как раз вчера – во вторник, 14 июля. Каждому, кто мог бы помочь в опознании, предлагали обратиться к инспектору полиции отделения станции Хоура и сослаться на дело № 23 от 14.7.77 u/s 302/301 I. P. С. (S. R 39/77). Сложив газету, я бросил ее на стол. – Мистер Лузак? Доброе утро! Я поднялся, чтобы пожать руку подошедшему к нам индийскому джентльмену средних лет – низенькому, светлокожему, почти лысому, в очках с толстыми стеклами в роговой оправе. На нем был безупречный тропический костюм из шерстяной ткани, а рукопожатие его отличалось деликатностью. – Меня зовут Майкл Леонард Чаттерджи,– представился он.– Весьма приятно познакомиться с вами, мистер Лузак. Слегка поклонившись, он взял Амриту за руку. – Мои самые искренние извинения, за то что не встретил вас в аэропорту ночью. Мой шофер ошибочно сообщил мне, что бомбейский рейс задерживается до утра. – Ничего страшного,– ответил я. – Но ведь это прискорбно и негостеприимно – не встретить и не принять должным образом. Прошу у вас прощения. Мы очень рады, что вы уже здесь. – Кто это «мы»? – спросил я. – Присаживайтесь, прошу вас,– пригласила Амрита. – Спасибо. Какое красивое дитя! У нее ваши глаза, миссис Лузак. А «мы» – это Союз писателей Бенгалии, мистер Лузак. Мы постоянно держим контакт с мистером Морроу, следим за его прекрасными публикациями и надеемся поделиться с вами последними работами лучшего в Бенгалии… нет, в Индии поэта. – Значит, мистер Дас все еще жив? Чаттерджи мягко улыбнулся. – О, в этом нет никаких сомнений, мистер Лузак. За последние шесть месяцев мы получили от него немало писем. – Но вы его видели? – продолжал я давить.– Вы уверены, что это мистер Дас? Почему он исчез на восемь лет? Когда я смогу с ним встретиться? – Всему свое время, мистер Лузак,– сказал Майкл Леонард Чаттерджи.– Всему свое время. Я организовал для вас ознакомительную встречу с исполнительным комитетом нашего Союза писателей. В два часа дня вас устроит? Или вы с миссис Лузак желаете сегодня отдохнуть и осмотреть город? Я взглянул на Амриту. Мы уже договорились, что если мне не понадобится переводчик, то она останется с Викторией в отеле и отдохнет. – Сегодня в два вполне устроит,– ответил я. – Чудесно, чудесно. В половине второго я пришлю за вами машину. Мы смотрели, как Майкл Леонард Чаттерджи покидает кафе. Позади нас рабочие на бамбуковых лесах весело перекликались со служащими отеля, проходившими по садику. Виктория громко забарабанила по столику на своем стульчике и присоединилась к общему веселью.Пурненду Патри
На площади через улицу от отеля стоял щит с рекламой Объединенного банка Индии. Картинки там не было, лишь черные буквы на белом фоне: «Калькутта: Культурная столица страны? – Символ непристойности?» Мне показался странным такой способ рекламировать банк. Машина была небольшим черным «премьером» с водителем в кепке и шортах цвета хаки. Мы двинулись по Чоурингхи-роуд, и, пока пробивались сквозь напряженное движение, у меня появилась возможность разглядеть Калькутту при свете дня. Сумасшедшая круговерть вокруг производила почти потешное впечатление. Пешеходы, армады велосипедистов, восточного вида рикши, автомобили, украшенные свастиками грузовики, бесчисленные мопеды и поскрипывающие повозки, запряженные волами,– все это боролось и сражалось за нашу узенькую полоску разбитой мостовой. Свободно расхаживавшие коровы то останавливали движение, то просовывали головы в лавки, то пробирались через кучи мусора, наваленного по бордюрам или посреди проезжей части. В одном месте отбросы окаймляли улицу на протяжении трех кварталов подобием вала высотой по колено». Люди тоже ползали по этим кучам, соперничая с коровами и воронами за кусочки чего-нибудь съедобного. Чуть дальше улицу переходили гуськом школьницы в строгих белых блузках и синих юбках, в то время как полицейский с коричневым ремнем остановил для них транспортный поток. На следующем перекрестке доминировал небольшой красный храм, стоявший точно посередине улицы. С проводов и обветшалых фасадов свисали красные флаги. И повсюду – непрестанное движение коричневокожих людей – почти приливный поток снующих, облаченных в белые и светло-коричневые одеяния местных жителей, от влажного дыхания которых, казалось, сгущается сам воздух. Калькутта в светлое время производила сильное, пожалуй, слегка пугающее впечатление, но не вызывала того необъяснимого страха или гнева, что накануне ночью. Прикрыв глаза, я попытался проанализировать ярость, охватившую меня в автобусе, но жара и шум не позволили мне сосредоточиться. Казалось, все велосипедные звонки на свете слились с автомобильными сигналами, криками и нарастающим шепотом самого города для того, чтобы воздвигнуть стену из шума, ощущавшегося почти физически. Союз писателей помещался в сером неуклюжем строении рядом с площадью Далхаузи. У подножия лестницы меня встретил мистер Чаттерджи и проводил на третий этаж. С закопченного потолка большой комнаты без окон на нас смотрели выцветающие фрески, а от покрытого зеленым сукном стола на меня обратили взгляды семеро людей. Нас представили друг другу. Я и в более благоприятных условиях плохо запоминаю имена, а тут и вовсе почувствовал что-то вроде головокружения, пытаясь соотнести длинные бенгальские созвучия с коричневыми интеллигентными лицами. Единственную присутствовавшую там женщину с усталым лицом и седыми волосами, постоянно поправлявшую на плече тяжелое зеленое сари, звали, кажется, Лила Мина Басу Беллиаппа. Первые несколько минут разговора оказались нелегкими из-за разницы в произношении. Я обнаружил, что стоит расслабиться и позволить потоку напевного индийского английского омывать меня, как смысл сказанного довольно быстро становится понятным. Прерывистый ритм их речи оказывал странно успокаивающее, почти гипнотическое воздействие. Внезапно из тени появился официант в белой куртке и подал всем выщербленные чашки, наполненные сахаром, буйволовым молоком и небольшим количеством чая. Я сидел между женщиной и директором исполнительного совета, неким мистером Гуптой – высоким человеком среднего возраста с тонкими чертами лица и грозно выступающими верхними клыками. Я невольно пожалел, что со мной нет Амриты. Ее бесстрастность послужила бы буфером между мной и этими эксцентричными незнакомцами. – Полагаю, что мистер Лузак должен выслушать наше предложение,– неожиданно заговорил Гупта. Остальные кивнули. Как по сигналу погас свет. В помещении без окон наступила кромешная тьма. Из разных концов здания послышались крики, а потом принесли свечи. Перегнувшись через стол, мистер Чаттерджи заверил меня, что это самое обычное происшествие. По всей видимости, когда в каких-то частях города потребление электроэнергии превышало норму, электричество отключалось. Темень и сияние свечей каким-то образом усиливали жару. Я почувствовал легкое головокружение и уцепился за край стола. – Мистер Лузак, вы отдаете себе отчет в уникальности привилегии получить шедевр такого великого бенгальского поэта, как М. Дас? – Пронзительный голос мистера Гупты напоминал звук гобоя. Тяжелые ноты повисали в воздухе.– Даже мы еще не видели окончательный вариант его произведения. Надеюсь, что читатели вашего журнала по достоинству оценят оказанную им честь. – Безусловно,– откликнулся я. С кончика носа мистера Гупты свисала капелька пота. Неверный свет свечей отбрасывал наши тени четырнадцатифутовой высоты.– А вы получали еще какие-нибудь рукописи от мистера Даса? – Пока нет,– ответил Гупта. Его темные влажные глаза полускрывались под тяжелыми веками.– Наш комитет должен вынести окончательное решение по размещению англоязычной версии его эпического произведения. – Я хотел бы встретиться с мистером Дасом,– сказал я. Сидевшие за столом переглянулись. – Это не представляется возможным. Заговорила женщина. Ее высокий визгливый голос походил на скрежет ножовки по металлу. Раздражающие гундосые звуки никак не стыковались с ее почтенной наружностью. – Отчего же? – М. Дас недоступен уже много лет,– ровным голосом пояснил Гупта.– Некоторое время мы даже считали его умершим. И уже оплакали потерю национального сокровища. – А откуда вам известно, что он жив сейчас? Его кто-нибудь видел? Снова наступило молчание. Свечи уже наполовину сгорели и отчаянно трещали, хотя в комнате не ощущалось ни малейшего дуновения. Из-за страшной жары меня слегка подташнивало. На какое-то мгновение в голове промелькнула дикая мысль, что свечи догорят, а мы будем продолжать разговор во влажной темноте – бесплотные духи, посещающие ветхое здание во чреве мертвого города. – У нас имеется корреспонденция,– ответил наконец Майкл Леонард Чаттерджи. Он извлек из портфеля с полдюжины хрустящих конвертов.– Она подтверждает с несомненной убедительностью, что наш друг все еще живет среди нас. Чаттерджи послюнявил пальцы и пролистал плотную пачку тонкой почтовой бумаги. При тусклом освещении строки индийских букв напоминали магические руны, какие-то зловещие заклятия. В доказательство своих слов мистер Чаттерджи зачитал вслух несколько выдержек. Там спрашивалось о родственниках, упоминались общие знакомые. Был и вопрос к мистеру Гупте по поводу короткого стихотворения Даса, оплаченного много лет назад, но так и не опубликованного. – Хорошо,– сказал я.– Но для моей статьи очень важно, чтобы я лично увидел мистера Даса и смог бы… – Прошу прощения,– перебил меня мистер Чаттерджи, подняв руку. В стеклах его очков, в той точке, которая находилась напротив зрачков, отражались двойные огоньки.– Надеюсь, следующие строки объяснят, почему это невозможно. Он сложил листок, прокашлялся и стал читать: – «…Итак, сами видите, друг мой, меняется все, но не люди. Я вспоминаю один день в июле 1969 года. Это было во время праздника Шивы. В „Таймс“ сообщили, что люди оставили следы на Луне. Я возвращался из деревни моего отца: это место, где люди вот уже пять тысяч лет оставляют следы на земле за своими рабочими быками. В деревнях, мимо которых проезжал наш поезд, крестьяне выбивались из сил, протаскивая через грязь свои священные колесницы. На обратном пути в наш возлюбленный город посреди шумной толпы меня все время терзала мысль о том, какой пустой и тщетной была вся моя жизнь. Отец мой прожил долгую и полезную жизнь. Каждый житель его деревни – будь то брахман или харьян – пожелал присутствовать при его сожжении. Я проходил через поля, которые мой отец орошал, возделывал, отвоевывал у капризной природы задолго до моего рождения. После похорон я оставил братьев и удалился под сень огромного баньяна, посаженного отцом еще в юности. Повсюду вокруг меня были свидетельства трудов моего отца. Казалось, сама земля скорбит о его кончине. А что, спрашивал я себя, сделал я? Через несколько недель мне исполнится пятьдесят четыре года, а во имя чего я прожил свою жизнь? Написал несколько стихотворений, радовал своих коллег и раздражал некоторых критиков. Я соткал паутину иллюзий, убедив себя в том, что продолжаю традиции нашего великого Тагора. Но впоследствии сам запутался в собственной паутине обмана. К тому времени, когда мы достигли станции Хоура, я уже увидел всю пустоту своей жизни и творчества. Более тридцати лет я жил и работал в нашем возлюбленном городе – сердце и драгоценном камне Бенгалии,– и никогда мои жалкие труды не выражали, более того, даже не содержали намека на сущность этого города. Я пытался определить душу Бенгалии, описывая ее самые поверхностные черты, пришельцев из других краев и ее наименее честное лицо. Как если бы я попытался описать душу красивой и одаренной женщины, перечисляя детали ее одежд, взятых напрокат. Ганди однажды сказал: «Человек не может жить полноценно, если он не умирал хотя бы раз». Покидая свой вагон первого класса на станции Хоура, я уже осознал неопровержимость этой великой истины. Чтобы жить – в своей душе, в своем искусстве,– я должен избавиться от всего принадлежащего моей старой жизни. Я отдал оба своих чемодана первому попавшемуся нищему. Мне до сих пор приятно вспоминать его изумленный вид. Не имею ни малейшего представления, что он сделал потом с льняными рубашками, парижскими галстуками и множеством взятых мною книг. По мосту Хоура вошел я в город, зная лишь одно: я умер для своей старой жизни, умер для своего старого дома и прежних привычек и, конечно, умер для всех, кого любил. Лишь заново войдя в Калькутту – как около тридцати трех лет назад вошел я в нее исполненным надежд, заикающимся юношей из небольшой деревушки,– смогу я увидеть незамутненным взглядом, что мне требуется для итоговой работы. И именно этой работе… моей первой истинной попытке рассказать историю о городе, питающем нас… посвятил я жизнь. С того дня в течение многих лет новая жизнь приводила меня в места, о существовании которых в моем возлюбленном городе – городе, который я по глупости своей считал очень близко мне знакомым,– я даже не подозревал. Это заставило меня искать путь среди заблудившихся, владеть только тем, от чего отказались неимущие, трудиться с неприкасаемыми, набираться мудрости у дураков из парка Керзон, а добродетели – у проституток с Саддер-стрит. И потому мне пришлось признать присутствие тех темных богов, что держали в своих руках это место еще до того, как родились сами боги. Найдя их, я обрел самого себя. Прошу вас, не пытайтесь встретиться со мной. Вы не найдете меня, если станете искать. Вы не узнаете меня, если найдете. Друзья мои, поручаю вам выполнить мои инструкции, относящиеся к этой последней работе. Поэма пока не закончена. Предстоит еще большая работа. Но времени становится все меньше. Мне хочется, чтобы уже имеющиеся фрагменты были распространены как можно шире. Реакция критиков не имеет никакого значения. Авансы и авторские права тоже не важны. Это должно быть опубликовано. Отвечайте по обычным каналам». Чаттерджи замолчал и в воцарившейся тишине слышалось лишь далекое многоголосие улицы. Мистер Гупта кашлянул и задал вопрос об авторских правах в Америке. Я разъяснил, как мог, и условия «Харперс», и гораздо более скромные предложения «Других голосов». Последовала череда реплик и вопросов. Свечи уже почти догорели. Наконец Гупта обратился к остальным и скороговоркой произнес что-то по-бенгальски. И снова я пожалел, что со мной нет Амриты. Майкл Леонард Чаттерджи повернулся в мою сторону. – Будьте любезны, подождите немного в холле, мистер Лузак, пока совет проголосует по вопросу публикации рукописи М. Даса. Поднявшись на затекших ногах, я проследовал за слугой со свечой. На площадке имелись стул и круглый столик, на который и поставили ту свечу. По лестничному колодцу поднимался слабый свет от матовых окон, выходивших на площадь Далхаузи, но от этого тусклого света углы лестничной площадки и прилегающие к ней коридоры казались погруженными в еще более густой мрак. Я просидел около десяти минут и чуть не задремал, но вдруг заметил какое-то шевеление в тени. У самого круга света что-то крадучись передвигалось. Я поднял свечу и увидел неподвижно застывшую крысу размером с небольшого терьера. Она остановилась на краю площадки, смачно постукивая хвостом по доскам. От границы между светом и тенью на меня смотрели зловеще мерцающие глазки. Крыса продвинулась на полшага, и меня охватил озноб отвращения. Своими повадками это существо больше всего напоминало кошку, крадущуюся за добычей. Я вскочил и схватился за хлипкий стул, приготовившись швырнуть его. Неожиданный громкий звук за спиной заставил меня буквально подпрыгнуть на месте. Тень крысы слилась с тьмой коридора, и там послышался звук множества когтей, скребущих по дереву. Из черного проема двери, ведущей в комнату, где заседал совет, появились мистер Чаттерджи и мистер Гупта. Язычки пламени свечей отражались в стеклах очков мистера Чаттерджи. Мистер Гупта шагнул в круг дрожащего света Его напряженная улыбка обнажала длинные желтые зубы. – Решение принято,– сказал он.– Рукопись вы получите завтра. О деталях вам сообщат дополнительно.
5
Нет мира в Калькутте; Кровь зовет в полночь…Слишком просто. Такая мысль пришла мне в голову на обратном пути в отель. До приезда сюда я воображал себя пытливым журналистом в полупальто – это в такую-то жару! – тщательно выискивающим улики, чтобы собрать воедино картину таинственного исчезновения и появления бенгальского поэта-призрака. И вот загадка разрешена в первый же день моего пребывания в городе. Завтра, в субботу, я получу рукопись и смогу улететь домой вместе с Амритой и ребенком Разве на таком материале можно сделать какую-нибудь статью? Слишком просто. Организм настойчиво утверждал, что сейчас раннее утро, но наручные часы показывали пять часов пополудни. Из носящих явные следы времени зданий офисов по соседству с отелем выходили служащие – они напоминали белых муравьев, выбирающихся из серых каменных остовов. На разбитых тротуарах целые семейства кипятили воду для чая, а мужчины с кейсами перешагивали через спящих детей. Человек в лохмотьях присел в сточной канаве помочиться, а не далее чем в шести футах от него другой в это время купался в луже. Я протиснулся через пикет коммунистов и вошел в охлаждаемое кондиционерами святилище отеля. В вестибюле меня ожидал Кришна. Администратор наблюдал за ним с таким видом, будто Кришна был известным террористом Неудивительно. Вид у него был еще более дикий, чем раньше: черные волосы торчали как наэлектризованные восклицательные знаки, а глаза, напоминающие жабьи, округлились и побелели под темными бровями еще больше, чем обычно. Завидев меня, он широко ухмыльнулся и с протянутой рукой пошел мне навстречу. Я ответил на рукопожатие, и только потом до меня дошло, что этим сердечным приветствием Кришна продемонстрировал администратору правомочность своего присутствия. – А, мистер Лузак! Очень приятно снова вас увидеть! Я пришел, чтобы помочь вам в поисках поэта М. Даса. Он продолжал трясти мою руку. На нем была та же засаленная рубашка, что и накануне ночью, и несло от него резким одеколоном и потным телом Я же ощущал, что благодаря мощному кондиционированию пот на моей коже начинает подсыхать, уступая место мурашкам. – Спасибо, мистер Кришна, но в этом нет необходимости.– Я отнял свою руку.– Я уже обо всем договорился и завтра закончу здесь все свои дела. Кришна застыл как вкопанный. Улыбка на его лице угасла, а брови еще ближе сошлись над крупным кривым носом. – Ага, понимаю. Вы побывали в Союзе писателей. Верно? – Да. – Да-да, конечно. Они, вероятно, поведали вам очень убедительную историю о нашем прославленном М. Дасе. Вас удовлетворила эта история, мистер Лузак? Последнюю фразу Кришна произнес почти шепотом, а вид у него при этом был настолько заговорщицкий, что администратор в другом конце вестибюля нахмурился. Одному Богу известно, что он подумал насчет высказанного мне предложения. Я колебался, ибо не знал, какое отношение имеет ко всему этому Кришна, и не хотел тратить время на выяснения. В душе я обложил Эйба Бронштейна последними словами за то, что он сунулся в мои приготовления и невольно свел меня с этим слизняком. В это же время я остро осознавал, что меня ждут Амрита и Виктория, и ощущал раздражение из-за того, что дело приняло столь неожиданный оборот. Кришна, расценивший мои колебания как неуверенность, подался вперед и схватил меня за предплечье. – У меня есть один человек, с которым вы должны встретиться, мистер Лузак. Один человек, который расскажет вам правду про М. Даса. – Что вы подразумеваете под правдой? Кто этот человек? – Я предпочел бы не говорить,– прошептал Кришна. Ладони у него были влажными. В глазах проступали тоненькие желтые прожилки.– Вы поймете, когда услышите его рассказ. – Когда? – отрывисто спросил я. Лишь чувство незавершенности, которое я ощутил в машине, удержало меня от того, чтобы послать Кришну ко всем чертям. – Немедленно! – ответил Кришна с торжествующей ухмылкой.– Мы можем встретиться с ним сейчас же! – Невозможно.– Я резко вырвал руку.– Я поднимаюсь наверх. Приму душ. Я обещал жене, что мы поужинаем вместе. – Да-да.– Кришна кивнул и втянул воздух через нижние зубы.– Конечно. Тогда я договорюсь на девять тридцать. Это вас устроит? Я колебался. – Ваш друг хочет получить плату за информацию? – О, нет-нет! – Кришна поднял ладони.– Он себе такого не позволит. Лишь с большим трудом мне удалось убедить его с кем-то поговорить об этом. – В девять тридцать? – переспросил я. Мысль о том, что придется выходить на улицы Калькутты вечером, вызывала у меня легкую тошноту. – Да. Кофейня закрывается в одиннадцать. Мы встретимся с ним там. Кофейня. В этом слове было нечто безобидно знакомое. А что, если вдруг обнаружится какая-нибудь изюминка, которой я смог бы сдобрить статью?.. – Хорошо,– сказал я. – Я буду ждать вас здесь, мистер Лузак.Суканта Бхаттачарджи
Женщина, державшая моего ребенка, не была Амритой. Я застыл, вцепившись в дверную ручку. Так бы я и стоял или даже вышел бы в замешательстве обратно в коридор, не появись в этот момент из ванной Амрита. – Ой, Бобби, это Камахья Бхарати. Камахья, это мой муж, Роберт Лузак. – Очень приятно познакомиться с вами, мистер Лузак. Ее голос звучал дуновением ветерка по весенним цветам. – Рад познакомиться с вами, мисс… э-э-э… Бхарати. Я тупо заморгал и посмотрел на Амриту. Я всегда считал, что красота Амриты, с ее бесхитростными глазами и правильными чертами лица, близка к совершенству, но сейчас рядом с этой юной женщиной я отчетливо увидел признаки надвигающейся зрелости на теле Амриты, намечающийся двойной подбородок и шишечку у нее на переносице. Остаточное изображение молодой красавицы запечатлелось на сетчатке моих глаз, как оптическое эхо электрической лампочки. Ее черные как смоль волосы опускались до плеч. Лицо имело форму вытянутого овала с безупречными чертами, среди которых особенно выделялись нежные, слегка подрагивающие губы, созданные, казалось, для смеха и высших проявлений чувственности. Глаза у нее были потрясающие: невероятно большие, подчеркнутые тенями и тяжелыми ресницами, с такими черными, бездонными зрачками, что взгляд ее пронзал подобно темным звездам В них явственно ощущалось что-то неуловимо восточное, и в то же время безошибочно угадывалась присущая Западу почти подсознательная внутренняя борьба бесплотного и земного. Камахья Бхарати выглядела молодо – не старше двадцати пяти,– и шелковое сари на ней выглядело таким легким, что создавалось впечатление, будто оно парит в дюйме над ее телом, поддерживаемое неким неуловимым импульсом женственности, исходившим от нее подобно благоухающему ветерку. Слово «сладострастие» у меня всегда отождествлялось с рубенсовскими формами, массой соблазнительной плоти, но почти видимое под колышущимися слоями шелка тонкое тело этой женщины окатило меня такой волной сладострастия, что во рту пересохло, а из головы вылетели все мысли. – Камахья – племянница М. Даса, Бобби. Она пришла узнать насчет твоей статьи, и мы проговорили с ней целый час. – Что? Я посмотрел на Амриту, а затем снова перевел взгляд на девушку. Больше я не нашел что сказать. – Да, мистер Лузак. До меня дошли слухи, что мой дядя общался с некоторыми из своих прежних коллег. Мне захотелось узнать, не видели ли вы моего дядю… все ли с ним в порядке… Она опустила взгляд и замолчала. Я присел на край кресла. – Нет,– ответил я,– то есть… я его не видел, но с ним все в порядке. Мне бы тоже хотелось встретиться с ним. Я собираюсь написать статью… – Понимаю.– Камахья Бхарати улыбнулась и усадила Викторию на середину кровати, где лежали ее одеяло и медвежонок Винни-Пух. Изящные коричневые пальцы провели по щечке ребенка ласковым жестом.– Больше не стану вас беспокоить. Я только хотела узнать о здоровье дяди. – Конечно! – кивнул я.– Очень хорошо. Думаю, нам стоит с вами поговорить, мисс Бхарати. Дело в том, что, если вы хорошо знали вашего дядю… это помогло бы мне в работе над статьей. Если вы можете задержаться на несколько минут… – Я должна идти. Необходимо быть дома к приходу отца. Улыбнувшись, она обратилась к Амрите: – Возможно, мы сможем поговорить, когда встретимся завтра, как условились. – Чудесно! – ответила Амрита. После Лондона я впервые увидел ее в таком расслабленном состоянии. Она повернулась ко мне. – Камахья знает хорошего торговца сари неподалеку отсюда, возле кинотеатра «Элита». Мне очень хотелось бы купить немного ткани, пока мы здесь. И если завтра я тебе не нужна, Бобби… – М-м-м трудно сказать,– ответил я.– Ладно, планируй сама. Я еще не знаю, на сколько мне завтра назначат встречу. – Тогда я позвоню вам утром,– пообещала Ка-махья Бхарати. Девушка улыбнулась Амрите, и я почувствовал укол ревности из-за того, что эта милость дарована не мне. Она встала и подала Амрите руку, одновременно поправив сари грациозным движением, столь характерным для индийских женщин. – Прекрасно,– сказала Амрита. Камахья Бхарати слегка поклонилась мне и направилась к двери. Я кивнул в ответ, и она вышла. В воздухе остался легкий, дразнящий аромат. – Боже милостивый! – произнес я. – Расслабься, Роберт.– В безупречном британском произношении Амриты угадывались веселые нотки.– Ей всего двадцать два года, но она уже одиннадцать лет помолвлена. В октябре она выходит замуж. – Ужасная потеря,– вздохнул я, падая на кровать рядом с ребенком. Виктория повернула ко мне голову и замахала ручонками, готовая начать игру. Я подбросил ее вверх. Малышка издавала довольные звуки и болтала ножками. – Девушка действительно племянница Даса? – Она помогала ему с рукописями. Точила карандаши, ходила для него в библиотеку. Так она говорит, по крайней мере. – Да? Ей было, должно быть, лет десять. Виктория взвизгнула, когда я качнул ее, перевернул и качнул в обратную сторону. – Ей было тринадцать, когда Дас исчез. Между братьями, очевидно, случилась размолвка незадолго до смерти их отца. – Их отца? А разве у Даса… – Да. В любом случае его имя много лет не упоминалось в этой семье. У меня создалось впечатление, что она слишком застенчива, чтобы связаться с Чаттерджи или Союзом писателей. – Но на нас она вышла. – Это другое,– сказала Амрита.– Мы иностранцы. Мы не в счет. Мы все-таки будем ужинать? Я опустил Викторию к себе на живот. Личико у нее раскраснелось от удовольствия, а теперь она решала, плакать или не плакать. Упершись коленками в мой живот, она начала елозить у меня на груди. Пухленькая ручонка мертвой хваткой вцепилась в воротник моей рубашки. – Где поедим? – спросил я, рассказав Амрите о назначенной на девять тридцать встрече с Таинственным Незнакомцем Кришны.– Сейчас уже поздновато выходить в город. Закажем в номер или спустимся в «Комнату Принца»? Я слышал, там выступает Фатима – экзотическая танцовщица. – Виктория наверняка будет шуметь.– Амрита слегка пожала плечами.– Но мне кажется, что Фатиму она предпочтет ужину в номере. – Согласен,– кивнул я. – Я буду готова через минуту.
Экзотическая танцовщица Фатима оказалась полноватой индианкой средних лет, танец которой не боясь скандала вполне могли смотреть бойскауты из младшей эксетерской дружины. Тем не менее толпа состояла из тучных парочек, преимущественно мужских, среднего возраста и должным образом возбужденных ее выступлением. На Викторию же танец впечатления не произвел. Она расплакалась, и нам троим пришлось ретироваться посреди второго сеанса вращений Фатимы. Вместо того чтобы вернуться в номер, мы с Амритой прошлись по неосвещенному дворику отеля. Почти весь вечер шел дождь, но сейчас в просветах между зеленовато-желтыми облаками мы уже могли разглядеть несколько звезд. Большинство выходящих во двор окон были задернуты тяжелыми шторами, и виднелось лишь несколько тонких полосок света. Мы по очереди несли хныкающую Викторию, пока всхлипы не стали реже, а потом и вовсе прекратились. Остановившись у бассейна, мы присели на низенькую скамеечку рядом с темным кафе. Отсветы от подводных прожекторов плясали по густой листве и опущенным бамбуковым шторам Я заметил темное пятно на воде в мелкой части бассейна и, приглядевшись, обнаружил, что это утонувшая крыса. – Виктория уснула,– сказала Амрита. Бросив взгляд на дочь, я увидел сжатые кулачки и закрытые глаза. Такой умиротворенный вид обычно бывает у детей, уснувших после надрывного плача. Вытянув ноги, я откинул голову назад и только сейчас осознал, до какой степени устал. Возможно, все еще сказывались последствия перелета. Я выпрямился и посмотрел на Амриту. Она легонько покачивала ребенка, а у нее самой взгляд стал отсутствующим и задумчивым, как это часто бывало, когда она работала над какой-нибудь сложной математической проблемой. – Ну, каковы ощущения? – поинтересовался я. Амрита перевела на меня взгляд и заморгала. – Что, Бобби? – Каково возвращаться в Индию? Она потрепала хохолок на головке Виктории и передала ее мне. Я пристроил ребенка на сгибе локтя и стал смотреть, как Амрита подходит к краю бассейна и разглаживает свою светло-коричневую юбку. Свет от бассейна освещал снизу ее острые скулы. «Моя жена красавица»,– подумал я уже, наверное, в тысячный раз после нашей свадьбы. – Ощущение сродни deja vu,– ответила она очень тихо.– Нет, не совсем верное выражение. Скорее, это напоминает повторение уже не раз виденного сна. Жара, шум, язык, запах – все знакомое и одновременно чужое. – Извини, если расстроил. Амрита покачала головой. – Нет, Бобби, это меня не расстраивает. Это пугает меня, но не расстраивает. Я нахожу это очень соблазнительным. – Соблазнительным? – Я уставился на нее.– Что же, скажи ради Бога, мы увидели здесь такого соблазнительного? Не в привычках Амриты было бездумно бросаться словами. Она часто выражала свои мысли гораздо точнее, чем я. Она улыбнулась. – Ты хочешь сказать, не считая Камлахьи Бхарати? Она сбросила босоножку и побултыхала ногой в воде. Утонувшая в другом конце бассейна крыса отсюда видна не была. – Серьезно, Бобби, все это кажется мне каким-то странным образом соблазнительным. Как если бы все эти годы я использовала лишь часть своего рассудка, а теперь вступает в действие другая его часть. – Тебе хотелось бы остаться здесь подольше? – спросил я.– Я имею в виду, когда все дела будут закончены… Я смешался. – Нет,– сказала Амрита, и ее голос не оставлял сомнений в окончательности ответа. Я покачал головой. – Извини, что оставил тебя одну после обеда и согласился на эту встречу вечером… Думаю, что мы неправильно сделали, приехав сюда втроем. Я недооценил, насколько трудно тебе будет с Викторией. Откуда-то сверху послышалась серия резких приказаний на языке, напоминавшем арабский, после чего последовал поток носового бенгальского. Хлопнула дверь. Амрита снова подошла ко мне и села рядом. Она взяла Викторию и положила ее к себе на колени. – Ничего, Бобби. Я знала, как все это будет. Подозревала, что, скорее всего, не понадоблюсь тебе в качестве переводчика, пока ты не получишь рукопись. – Извини,– повторил я. Амрита снова посмотрела на бассейн. – Когда мне было семь лет,– сказала она,– летом, накануне переезда в Лондон, я видела призрака. Я посмотрел на нее. Большего удивления или недоверия я не испытал бы, если бы Амрита сообщила мне, что влюбилась в немолодого посыльного и собирается от меня уходить. Амрита была – по крайней мере до настоящего момента – наиболее рациональным человеком из всех, кого я знал. Ее интерес к сверхъестественному и вера в потустороннее до сих пор никак не проявлялись. Мне никогда не удавалось заинтересовать ее даже дрянными романами Стивена Кинга, которые я каждое лето таскал с собой на пляж. – Призрака? – только и смог выговорить я наконец. – Мы ехали поездом из дома в Нью-Дели к нашему дяде в Бомбей,– заговорила Амрита.– Ежегодная поездка с сестрами и матерью в Бомбей в июле всегда была волнующей. Но в том году заболела моя сестра Сантха. Мы сошли с поезда к западу от Бхопала и два дня прожили в железнодорожной гостинице, пока местный врач лечил ее. – С ней ничего не случилось? – спросил я. – Нет, у нее была всего лишь корь,– ответила Амрита.– Но я оставалась единственной, кто еще не болел корью, поэтому спала не в номере, а на маленьком балкончике, выходившем на лес. Пройти на балкон можно было только через ту комнату, где спали мои сестры и мать. Сезон дождей в то лето еще не наступил, и было очень жарко. – И ты увидела призрака? Амрита слегка улыбнулась. – Я проснулась среди ночи от звука плача. Сначала я решила, что плачет мать или сестра, но потом увидела пожилую женщину в сари, которая сидела на краю моей кровати и всхлипывала. Помню, страха я не ощутила – лишь удивилась, как это моя мать позволила чужой женщине пройти через комнату и устроиться на балконе рядом со мной. Ее плач был очень тихим, но почему-то чрезвычайно пугающим. Я протянула руку, чтобы утешить ее, но не успела я прикоснуться к ней, как она перестала плакать и посмотрела на меня. Оказалось, что она не такая уж и старая, просто ее состарило какое-то ужасное горе. – А что потом? – не выдержал я.– Откуда ты узнала, что это призрак? Она растаяла, ушла по воздуху, превратилась в кучу грязи и тряпья – или что? Амрита покачала головой. – Луна на несколько секунд скрылась за облаками, а когда снова стало светло, этой женщины уже не было. Я закричала, мать и сестры выбежали на балкон и заверили меня, что никто не проходил через комнату. – Гм,– пробормотал я.– Звучит не слишком убедительно. Тебе было семь лет, и ты, наверное, спала. А даже если и не спала, то откуда ты знаешь, что это не была какая-нибудь горничная, взобравшаяся по пожарной лестнице, или еще кто-нибудь в этом роде? Амрита взяла Викторию на руки и прислонила головкой к плечу. – Согласна, что это не самая страшная история про призраков. Но она напугала меня на многие годы. Видишь ли, прямо перед тем, как луна скрылась, я посмотрела прямо в лицо этой женщине и очень хорошо знала, кто она такая. Амрита похлопала девочку по спинке и посмотрела на меня. – Это была я. – Ты? – Тогда я и решила, что хочу жить в стране, где я не увижу призраков. – Неприятно тебе об этом говорить, маленькая,– сказал я,– но Великобритания и Новая Англия по привидениям занимают не последнее место. – Возможно.– Амрита поднялась, крепко прижимая к себе Викторию.– Но я их не вижу.
В девять тридцать я сидел в вестибюле, мучаясь все нарастающей головной болью, вызванной жарой и усталостью, испытывая тошноту из-за чрезмерного количества выпитого за ужином плохого вина и перебирая разнообразные отговорки для Кришны, когда тот появится. К девяти пятидесяти я решил сказать ему, что заболела Амрита или Виктория. В десять я понял, что мне уже ничего не придется говорить, и поднялся, чтобы пойти наверх, но тут внезапно появился он, расстроенный и возбужденный. Глаза у него покраснели и опухли, будто он плакал. Он подошел и пожал мне руку с таким мрачным видом, словно вестибюль был траурным залом, а я потерял ближайшего родственника. – Что случилось? – спросил я. – Очень, очень прискорбно,– сказал он. Его высокий голос пресекся.– Очень страшная новость. – Что-то с вашим другом? – спросил я, ощутив облегчение при неожиданной мысли о том, что его таинственный информатор сломал ногу, попал под троллейбус или лежит с инфарктом. – Нет-нет. Вы, должно быть, уже знаете. Мистер Набоков скончался. Великая трагедия. – Кто? – Из-за его акцента мне послышалось очередное дребезжащее бенгальское имя. – Набоков! Набоков! Владимир Набоков! «Бледный огонь». «Ада». Величайший стилист среди прозаиков, пишущих на вашем родном языке. Огромная потеря для всех нас. Всех деятелей литературы. – О-о-о,– только и протянул я. Я так и не собрался прочитать «Лолиту». А когда я вспомнил, что решил не идти с Кришной, мы уже оказались на улице, во влажной темноте, и он вел меня к коляске, в которой на красном сиденье подремывал тощий, иссохший рикша. При мысли о том, что меня потащит по грязным улицам это человекообразное чучело, внутри меня все запротестовало. – Давайте возьмем такси,– предложил я. – Нет-нет. Он прислан за нами. Поездка короткая. Наш друг ждет. Сиденье отсырело от вечернего дождя, но неудобным назвать его было нельзя. Человечек соскочил с коляски, шлепнув босыми ногами, ухватился за оглобли, сноровисто подпрыгнул в воздух и опустился, держа руки прямо, со знанием дела уравновесив нашу тяжесть. У коляски не было габаритных огней, за исключением керосинового фонаря, висевшего на железном крюке. Не слишком успокаивало меня и то, что машины, которые, сигналя, объезжали нас, тоже ехали без габаритов. Трамваи еще ходили, и в нездоровой, желтой пелене освещения салонов виднелись потные лица, теснившиеся за окнами, забранными проволочной сеткой. Несмотря на поздний час, весь общественный транспорт был заполнен: автобусы кренились под тяжестью висевших на зарешеченных окнах и наружных поручнях людей, а из черных вагонов проезжавших поездов торчали бесчисленные головы и туловища. Улицы практически не освещались, но переулки и мелькающие дворы фосфоресцировали тем бледным, гнилостным светом, который я заметил еще из самолета. Темнота не приносила никакого облегчения от жары. Напротив, сейчас, казалось, было даже жарче, чем днем. Тяжелые тучи нависали прямо над зданиями, и их сырая масса словно отражала уличное тепло прямо на нас. Меня вновь охватывала тревога, однако природу этого напряжения я объяснить не мог. Оно почти не имело отношения к ощущению физической опасности, хотя я чувствовал себя нелепым образом беззащитным, когда наша повозка дребезжала по незакрепленным камням мостовой, кучам мусора и трамвайным рельсам. Я вспомнил, что у меня в бумажнике еще оставались дорожные чеки долларов на двести. Но не в этом состояла истинная причина моей нервозности, желчью подступавшей к горлу. Было нечто в самой калькуттской ночи, что напрямую воздействовало на самые темные закоулки моего рассудка. Короткие приступы почти детского страха когтями вцеплялись в мое сознание, но тут же подавлялись рассудком взрослого человека. Ночные звуки – отдаленные крики, шипящее царапанье, случайные обрывки приглушенных разговоров, когда мы проезжали мимо закутанных фигур,– сами по себе не несли никакой угрозы, но все эти звуки, невольно привлекающие внимание, оказывали то же переворачивающее все внутренности воздействие, что и звук чьего-то дыхания рядом с твоей постелью глубокой ночью. – Каликсетра,– произнес Кришна. Голос его прозвучал тихо, почти неслышно за тяжелым дыханием рикши и шлепаньем его босых подошв по мостовой. – Простите? – Каликсетра. Это означает «место Кали». Вы, конечно, знали, что именно отсюда пошло имя нашего города? – Э-э-э… нет. Хотя… может быть, и знал. Должно быть, забыл. Кришна повернулся ко мне. В темноте я не мог достаточно хорошо разглядеть его лицо, но ощущал тяжесть его взгляда. – Вы должны это знать,– ровно сказал он.– Каликсетра стала деревней Каликата. Каликата была местом великого Калигхат, самого священного из храмов Кали. Он до сих пор стоит. Меньше чем в двух милях от вашего отеля. Вы наверняка должны это знать. – Гм-м,– произнес я. Из-за угла на скорости выскочил трамвай. Наш рикша внезапно резко свернул с рельсов, чудом избежав столкновения с вагоном. По широкой пустынной улице вслед нам понеслись сердитые крики. – Кали была богиней, если не ошибаюсь? – сказал я.– Одной из супруг Шивы? Несмотря на весь мой интерес к Тагору, прошло немало лет с тех пор, как я читал что-либо из вед. Кришна издал какой-то непонятный звук. Поначалу я решил, что был взрыв насмешливого хохота, но, обернувшись, увидел, что, зажав одну ноздрю пальцем, он шумно сморкается в левую руку. – Да-да,– подтвердил он.– Кали – священная сакти Шивы.– Кришна изучил содержимое ладони, почти удовлетворенно кивнул и потряс пальцами за боковиной повозки.– Вы, конечно, представляете себе ее внешность? От одного из темных, полуразвалившихся домов, мимо которых мы проезжали, донеслись вопли нескольких ссорившихся женщин. – Ее внешность? Кажется, нет. Она… статуи… у них по четыре руки, верно? Я огляделся вокруг, пытаясь определить, насколько мы близки к месту назначения. Здесь было мало лавок. Мне с трудом верилось, что среди этих развалин может оказаться кофейня. – Конечно! Конечно! Она – богиня. Общеизвестно, что у нее четыре руки! Вы должны посмотреть большого идола в Калигхат. Это «жаграта», «очень бдительная» Кали. Очень страшная. Восхитительно страшная, мистер Лузак. Ее руки изображают abhaya и vara mud-ras – избавляющие от страха и дарящие благоденствие мудры. Но очень страшная. Очень высокая. Очень худая. У нее раскрыт рот. У нее длинный язык. У нее два… как это… зубы у вампира? – Клыки? Я схватился за мокрый тент над сиденьем и попытался понять, к чему ведет Кришна. Мы повернули на ещеболее темную, узкую улицу. – Ах да, да. Она единственная из богов покорила время. Она, естественно, пожирает всех живых существ. Purusam, asvam, gam, avim, ajam. Она не одета. Ее прекрасные ноги попирают труп. В руках у нее pдsa… аркан, khatvanga… как это?.. Палка, нет, шест с черепом, khadga… меч и отрубленная голова. – Отрубленная голова? – Конечно, вы должны это знать. – Послушайте, Кришна, черт возьми, что все это… – Ага, приехали, мистер Лузак Сходите. Быстрее, пожалуйста. Мы опаздываем. Кофейня закрывается в одиннадцать. Небольшая улица – точнее, переулок – была залита нечистотами и дождевой водой. Не было ни малейшего признака какой-нибудь лавки, не то что кофейни. Стены домов тонули во тьме, если не считать тусклого отблеска фонаря, горевшего в одном из окон наверху. Рикша опустил оглобли и раскуривал маленькую трубочку. Я остался сидеть. – Быстрее, пожалуйста,– повторил Кришна и щелкнул пальцами. Такой жест я видел, когда он общался с носильщиками. Он остановился над спавшим на тротуаре человеком и открыл дверь, которую я не заметил. Одинокая лампочка освещала крутую узкую лестницу. Сверху до нас донеслись приглушенные звуки разговора. Я спрыгнул и ступил за ним в пятно света. Еще одна дверь на площадке второго этажа вела в широкий коридор. – Вы видели университет дальше по улице? – спросил Кришна через плечо. Я кивнул, хотя не заметил ни одного здания, более внушительного, чем универмаг. – Это, конечно, университетская кофейня. Нет, неправильно. Кофейный домик Точно как в Гринвич-Виллидж. Да. Кришна повернул налево и провел меня в комнату, очень похожую на пещеру. Высокий потолок, тяжелые колонны и глухие стены напомнили мне один гараж возле Чикаго-Луп. При тусклом свете виднелось не меньше пятидесяти-шестидесяти столиков, но лишь немногие из них были заняты. В нескольких местах за грубыми, выкрашенными в темно-зеленый цвет столиками группками сидели серьезного вида юноши в свободных белых рубашках. С двадцатифутового потолка свисали медленно вращающиеся вентиляторы; ощутимого движения воздуха не наблюдалось, но, несмотря на это, немногочисленные, редко расположенные лампочки слегка мигали, придавая всей сцене характер кадров из немого фильма. – Кофейный домик,– тупо повторил я. – Пройдите сюда. Мимо плотно составленных столиков Кришна провел меня в самый дальний угол. На закрепленной в стене скамье сидел молодой человек лет двадцати. Когда мы приблизились, он поднялся. – Мистер Лузак, это Джайяпракеш Муктанандаджи,– представил его Кришна и добавил что-то по-бенгальски, обращаясь уже к юноше. Глубокие тени не позволяли мне отчетливо разглядеть черты лица молодого человека, но в момент влажного, неуверенного рукопожатия я отметил худощавое лицо, очки с толстыми стеклами и такие прыщи, что гнойнички едва ли не светились. Мы молча постояли. Молодой человек потер руки и украдкой взглянул на студентов за другими столиками. Некоторые из них обернулись при нашем появлении, но сейчас уже никто не смотрел в нашу сторону. Как только мы уселись, старик с седой щетиной на щеках и подбородке принес кофе. Чашки были сильно выщерблены и покрыты трещинами, бледными разветвлениями, расходившимися по эмали. Кофе оказался крепким и на удивление неплохим, если не считать добавленной в него изрядной дозы сахара и свернувшегося молока. И Кришна, и Муктанандаджи смотрели на меня, пока старик безмолвно стоял у столика, и я, покопавшись в бумажнике, извлек оттуда банкноту в пять рупий. Старик повернулся и ушел, даже не подумав дать сдачу. – Мистер Муктанандаджи,– заговорил я, гордый тем, что сумел запомнить его имя,– вы располагаете какой-то информацией о калькуттском поэте М. Дасе? Склонив голову, юноша сказал что-то Кришне. Кришна резко ответил и обратился ко мне, сверкнув острозубой улыбкой: – Мистер Муктанандаджи, к моему сожалению, не говорит так бегло по-английски. На самом деле он вообще не говорит по-английски. Он попросил меня переводить для него. Если вы готовы, мистер Лузак, он теперь расскажет вам свою историю. – Я думал, что это будет интервью,– заметил я. Кришна выставил перед собой правую ладонь. – Да-да. Вы должны понимать, мистер Лузак, что мистер Джайяпракеш Муктанандаджи разговаривает с вами лишь в качестве личного одолжения мне, его бывшему преподавателю. Он делает это с большой неохотой. Если позволите, он начнет свой рассказ, а я постараюсь как можно точнее его переводить. Потом, если у вас будут вопросы, я передам их мистеру Муктанандаджи. «Дьявол! – подумал я– Вот уже второй раз за день я делаю ошибку, не взяв с собой Амриту». Я прикинул, не отказаться ли от встречи или не договориться ли на другое время, но отбросил эту мысль. Лучше покончить со всем сейчас. Завтра я получу рукопись Даса, а вечером при любом раскладе мы уже будем лететь домой. – Очень хорошо,– сказал я. Молодой человек кашлянул и поправил очки. Голос у него был еще выше, чем у Кришны. Через каждые несколько предложений он замолкал и машинально потирал лицо, пока Кришна переводил. Поначалу эта задержка раздражала меня, но мелодичное течение бенгальского языка и певучий акцент Кришны воздействовали на меня как мантра, оказывая гипнотический эффект. Это напоминало состояние повышенной концентрации и вовлеченности на просмотре иностранного фильма, порожденное усилиями, затрачиваемыми на чтение субтитров. Несколько раз я прерывал их, чтобы задать вопросы. Однако мое вмешательство, судя по всему, сбивало Муктанандаджи, поэтому уже через несколько минут я довольствовался тем, что попивал остывающий кофе и слушал. Несколько раз Кришна обращался к юноше по-бенгальски, тот отвечал, а я сидел, проклиная себя за то, что так и остался одноязыким балбесом. Я сомневался, что даже Амрите удалось бы вникнуть в смысл этих молниеносных переговоров на бенгальском. Когда рассказ начался, я поймал себя на том, что мысленно исправляю зачастую корявые фразы Кришны или подбираю замену для забавных оборотов его речи. Иногда я делал пометки в блокноте, но вскоре обнаружил, что даже это отвлекает рассказчика, и отложил ручку. Над головой медленно вращались вентиляторы, свет мигал, как отдаленные зарницы летней ночью, а я со всем вниманием следил за развитием событий в рассказе Джайяпракеша Муктанандаджи, переданном голосом Кришны.
6
ПРОСЬБА Когда я умру Не выбрасывайте мясо и кости Но сложите их в кучу И Пусть они скажут Своим запахом Чего стоит жизнь На этой земле Чего стоит любовь В конце.«Я бедный человек из касты шудр. Я один из одиннадцати сыновей Джагдисварана Бибхути Муктанандаджи, который был вместе с Ганди во время его похода к морю. Мой дом в деревне Ангуда, неподалеку от Дургалапура, что находится на железной дороге между Калькуттой и Джамшедпуром. Это бедная деревня, и никто извне не проявлял к ней ни малейшего интереса, кроме того случая, когда тигр съел двух сыновей Субхоранджана Венкатесварани, а из бхубанешварской газеты появился человек, чтобы спросить Субхоранджана Венкатесварани, что тот чувствует по этому поводу. Я мало что знаю о том несчастье, поскольку произошло оно во время войны, то есть лет за пятнадцать до моего рождения. Наша семья не всегда была бедной. Мой дед, С. Мокеши Муктанандаджи, когда-то ссужал деньгами деревенского ростовщика. К тому времени, когда я появился на свет, будучи восьмым из одиннадцати сыновей, нам уже давно с лихвой возместили все деньги деда. А чтобы оплатить часть процентов по его долгам, отцу пришлось продать шесть акров своей самой плодородной земли – что была ближе всего к деревне. После этого на одиннадцать сыновей осталось пятнадцать акров, разбросанных на многие мили. На таком клочке земли невозможно вырастить даже достаточное количество тростника, чтобы прокормить пару буйволов. Положение немного улучшилось, когда в 1971 году мой старший брат Мармадешвар отправился выполнять патриотический долг и был сразу же убит пакистанцами. Тем не менее перспективы для нас, оставшихся, были не слишком хорошими. Тогда у отца появилась идея. Я восемь лет проходил неполный курс обучения при Христианской сельскохозяйственной академии в Дургалпуре. Покровителем школы был очень богатый мистер Деби из Бенгальского племенного центра. Это была маленькая школа. У нас было мало учебников и лишь два учителя, один из которых медленно лишался рассудка из-за сифилиса. Тем не менее я был единственным из семьи, кто вообще ходил в школу, и отец решил, что я должен поступить в университет. Он хотел, чтобы я стал врачом или – что еще лучше – торговцем и принес в семью много денег. Кроме того, это решало проблему с моей, пусть и скудной, долей земли. Отцу было ясно, что врачу или процветающему коммерсанту не понадобится столь маленький клочок. Что касается меня, то я испытывал неоднозначные чувства по поводу этой затеи. Я никогда не удалялся больше чем на восемь миль от Ангуды и ни разу не ездил ни в поезде, ни в автомобиле. Я мог читать очень простые книжки и писать элементарные фразы на бенгальском, но не знал ни английского, ни хинди, а на санскрите мог лишь прочитать наизусть несколько строк из «Рамаяны» и «Махабхараты». Короче говоря, я не был уверен в своей готовности стать врачом. Отец одолжил еще денег – на этот раз на мое имя – у деревенского ростовщика. Школьный учитель в своем помешательстве написал мне рекомендацию для поступления в Калькуттский университет и отправил ее туда своему старому преподавателю. Даже мистер Деби, который в свои еще дохристианские годы поклялся Ганди, что будет смиренно работать на благо наших деревень, а свой пепел завещает развеять над главной дорогой Ангуды, тоже отослал в университет письмо, в котором просил проявить доброту и принять бедного невежественного крестьянского мальчика из низшей касты под своды многочтимого храма науки. В прошлом году появилась вакансия. Большую часть взятых в долг денег я заплатил в качестве бакшиша своему учителю и секретарю мистера Деби, после чего уехал в огромный город. Как же я был напуган! Не стану описывать, какое впечатление произвели на меня все чудеса Калькутты. Достаточно сказать, что каждый час приносил все новые открытия. Вскоре, однако, я оказался в затруднительном положении. Моих скудных средств едва достало, чтобы внести плату за обучение в первом семестре, а оставшихся денег не хватало на дорогую комнату в студенческой гостинице рядом с университетом. Первую неделю в городе я спал под кустами в районе Майдана, но после того, как начались муссонные дожди и меня дважды поколотили полицейские, я убедился, что нужно искать комнату. Первые четыре занятия не принесли ничего, кроме разочарования. На занятия по введению в национальную историю собралось больше четырехсот студентов. Учебник для меня был роскошью, и редко удавалось сесть достаточно близко от лектора, чтобы его слышать. Он говорил неразборчиво, причем исключительно по-английски, а этот язык я не понимал. Поэтому я целыми днями подыскивал жилье и мечтал снова оказаться дома, в Ангуде. Я знал, что если даже ограничу питание рисом и шапати один раз в день, то все равно через несколько недель деньги закончатся. Если повезет и я найду подходящую комнату, то голод ждет меня гораздо раньше. Затем я ответил на одно объявление в газете «Стьюдент форум», в котором приглашали соседа по комнате, и все переменилось. Комната располагалась в шести милях от университета на седьмом этаже здания, заселенного преимущественно беженцами из Бангладеш и Бирмы. Студент, изъявивший желание разделить пополам расходы на жилье, учился на предпоследнем курсе. Это был выдающийся человек, на несколько лет старше меня. Он изучал фармакологию, но хотел стать когда-нибудь великим писателем, а если не получится, то ядерным физиком. Звали его Санджай, и, впервые увидев его среди гор бумаг и нестираной одежды, я почему-то понял, что отныне моя жизнь никогда не будет прежней. За половину комнаты он хотел двести рупий в месяц. Должно быть, мое лицо выражало отчаяние. К этому времени в кармане у меня было меньше сотни рупий. Я понял, что совершил двухчасовую прогулку напрасно. Тогда я спросил, можно ли присесть. Подошвы мои страшно болели, после того как меня в одну из предыдущих ночей отколотили палками-латхи. Потом я обнаружил, что полицейские сломали мне своды ступней. Услышав об этом, Санджай сразу же проникся ко мне жалостью. А рассказ о побоях и размерах взяток, которые требуют служащие университетского общежития, привел его в ярость. Как я вскоре узнал, смена настроений Санджая напоминала муссонные бури. В данную минуту он мог быть спокоен, задумчив, неподвижен, как статуя, но уже в следующую мог распалиться до неистовства из-за какой-нибудь социальной несправедливости, пробить кулаком прогнившие доски стены или спустить по черной лестнице какого-нибудь бирманского ребенка. Санджай состоял сразу и в Маоистской студенческой коалиции, и в Коммунистической партии Индии. Тот факт, что две эти группировки терпеть не могли друг друга и часто вступали в потасовки, казалось, совершенно его не волнует. Своих родителей, которые владели в Бомбее небольшой фармацевтической компанией и каждый месяц присылали ему деньги, он обозвал «загнивающими капиталистическими паразитами». Поначалу родители отправили его учиться за границу, но он вернулся, чтобы «возобновить контакты с революционным движением в своей стране». Еще большую обиду он нанес им, выбрав для получения диплома скандальный и плебейский калькуттский университет, вместо того чтобы найти какой-нибудь колледж попрестижнее в Бомбее или Дели. Рассказав все это о себе и выслушав мою историю, Санджай тут же снизил мою долю до пяти рупий в месяц и предложил одолжить мне денег на первые два месяца. Признаюсь, я плакал от радости. В течение нескольких недель Санджай обучал меня искусству выживания в Калькутте. По утрам, еще до восхода солнца, мы ехали в центр города на грузовиках с водителями из неприкасаемых, отвозившими мертвый скот к топильщикам. Именно Санджай просветил меня, объяснив, что в таком огромном городе, как Калькутта, кастовые различия не имеют никакого значения и вскоре, с приходом грядущей революции, исчезнут. Я соглашался со взглядами Санджая, но воспитание по-прежнему не позволяло мне сесть в автобусе рядом с незнакомцем или взять кусок лепешки у уличного разносчика, не поинтересовавшись инстинктивно, к какой касте тот принадлежит. Как бы там ни было, Санджай показал мне, как без билета проехать в поезде, где можно бесплатно побриться у уличного цирюльника, обязанного моему другу какими-то услугами, как проскользнуть в кинотеатр во время перерыва на трехчасовом ночном сеансе. В это время я вообще перестал посещать занятия в университете, а мои оценки поднялись от четырех F до трех В, а потом и до одного А. Санджай научил меня покупать старые билеты и контрольные у студентов старших курсов. Для этого мне пришлось одолжить у моего соседа еще триста рупий, но он не имел ничего против. Поначалу Санджай брал меня на собрания МСК и КПИ, но нескончаемые политические выступления и бесцельные перепалки нагоняли на меня сон, и через некоторое время он перестал настаивать, чтобы я ходил с ним. Гораздо больше пришлись мне по вкусу редкие посещения ночного клуба отеля «Лакшми», где танцевали полураздетые женщины. Такое было почти немыслимо для правоверного индуиста вроде меня, но, должен признаться, это было необыкновенно волнующее зрелище. Санджай назвал его «буржуазным упадком» и объяснил, что наш долг – засвидетельствовать проявления тошнотворного разложения, которые неминуемо сметет революция. Мы прожили в одной комнате не меньше трех месяцев, прежде чем Санджай рассказал мне о своих связях с гундами и капаликами. Я и до этого подозревал, что Санджай имеет какое-то отношение к гундам, но о капаликах мне вообще ничего не было известно. Даже я знал, что в течение нескольких лет банды азиатских тугов и местных калькуттских гундов контролировали целые районы города. Они собирали дань с беженцев из разных мест за въезд и право поселиться в заброшенном жилье; они контролировали потоки наркотиков, проходившие через город и оседавшие здесь; они убивали любого, кто вмешивался в их традиционные дела, связанные с защитой, контрабандой и преступностью в городе. Санджай рассказал, что даже жалкие обитатели трущоб, каждый вечер выбиравшиеся на лодках из своих жилищ, чтобы для каких-то целей украсть с реки синие и красные навигационные фонари, платили дань гундам. Эта сумма утроилась после того, как зафрахтованный гундами грузовой корабль, направлявшийся в Сингапур с опиумом и контрабандным золотом, сел на мель в Хугли из-за отсутствия огней в канале. Санджай сказал, что большая часть доходов от этого груза ушла на взятки полицейским и портовому начальству, чтобы вытащить судно из грязи и отправить его по назначению. В это же время в прошлом году страна переживала последние этапы чрезвычайного положения. Газеты подвергались цензуре, тюрьмы были забиты политическими заключенными, раздражавшими госпожу Ганди, и прошел слух, будто молодых людей на юге стерилизуют за безбилетный проезд в поездах. В Калькутте, однако, ее собственное чрезвычайное положение было в самом разгаре. За последнее десятилетие население города неимоверно выросло за счет беженцев. Одни полагали – на десять миллионов. Другие – на пятнадцать. К тому времени, когда я поселился у Санджая, в городе за четыре месяца шесть раз сменилось правительство. В конце концов к власти, конечно, пришла КПИ – просто уже некому было,– но даже коммунистам мало что удалось сделать. Настоящие хозяева города оставались в тени. Даже сейчас полиция Калькутты не рискует появляться в большинстве городских районов. В прошлом году пробовали организовать патрули по два-три человека в дневное время, но после того, как гунды вернули несколько таких патрулей в виде семи-восьми обрубков, комиссар отказался посылать своих людей в эти районы без солдат. А наша армия заявила, что у нее и без того есть чем заняться. Санджай признался, что вступил в контакт с калькуттскими гундами благодаря своим знакомствам в фармацевтических кругах. Но к концу первого курса, как он сказал, его обязанности расширились и стали включать сбор денег с однокурсников за защиту, а также функции связного между гундами и Союзом нищих в северной части города. Эти занятия не давали ему больших доходов, но зато повысили его положение. Именно Санджай передал приказ Союзу временно уменьшить количество похищений детей, когда газета «Таймс оф Индиа» затеяла очередную недолговечную кампанию по обличению подобной практики. А потом, когда газета обратила взыскующий взгляд на убийства из-за приданого, именно Санджай передал нищим разрешение восполнить истощившиеся запасы за счет увеличения числа похищений и случаев нанесения увечий. А через нищих Санджай получил возможность присоединиться к капаликам. Общество капаликов было гораздо старше Братства гундов, старше даже самого города. Капалики, естественно, поклоняются Кали. Многие годы они открыто проводили свои церемонии в храме Калигхат, но их обычай каждую пятницу приносить в жертву мальчика стал причиной того, что в 1831 году британцы наложили на Общество запрет. Капалики ушли в подполье и с тех пор процветали. Национально-освободительная борьба за последнее столетие многих заставила искать возможности присоединиться к ним. Но цена посвящения была высока, и вскоре нам с Санджаем пришлось в этом убедиться. В течение нескольких месяцев Санджай пытался установить с ними контакт. Поначалу его и близко не подпускали. Потом, прошлой осенью, ему предоставили такую возможность. Тогда мы уже крепко подружились с Санджаем Мы вместе принесли клятву Братству, и я выполнил несколько мелких поручений, передав послания разным людям, а однажды собирал деньги, когда Санджай заболел. Предложение Санджая вступить в Общество капаликов вместе с ним стало для меня полной неожиданностью. Оно меня удивило и испугало. В моей деревне стоял храм Дурги, богини-матери, поэтому даже такое ужасное ее воплощение, как Кали, было мне знакомо. И все же я колебался. Дурга была символом материнства, а Кали имела репутацию распутницы. Изображения Дурги были скромными, в то время как Кали изображалась голой – не обнаженной, но бесстыдно голой,– и одеждой ей служил лишь покров тьмы. Тьма и ожерелье из человеческих черепов… Исполнять культ Кали вне ее праздника означало следовать Vamachara – извращенной, сомнительной тантре. Я вспоминаю, как в детстве один из моих двоюродных братьев показывал всем типографскую картинку с изображением женщины, богини, совершавшей бесстыдное совокупление с двумя мужчинами. Мой дядя застал нас, когда мы ее рассматривали, забрал картинку и ударил брата по лицу. На следующий день к нам привели одного старого брахмана, прочитавшего лекцию об опасности такой тантрической чепухи. Он назвал это «ошибкой пяти „М“»: мадья, мамса, матсия, мудра, майтхун. Это были, конечно, панча макары, которые вполне могли потребовать капалики: алкоголь, мясо, рыба, жесты и совокупление. По правде говоря, совокупление немало занимало мой ум в то время, но перспектива впервые испытать его в качестве составной части культовой службы была по-настоящему пугающей. Однако я многим был обязан Санджаю. Собственно говоря, я уже начал понимать, что, возможно, никогда не смогу вернуть ему долг. Потому я и пошел с ним на первую встречу с капаликами. Они встретили нас вечером на пустой рыночной площади возле Калигхат. Не знаю, чего я ждал – в основе моих представлений о капаликах были истории, которыми пугают непослушных детей,– но те двое мужчин, что поджидали нас, не имели ничего общего с моими представлениями и предчувствиями. Одеты они были как бизнесмены – у одного даже был в руках портфель,– говорили негромко, отличались изысканностью манер и обращались вежливо с нами обоими, несмотря на классовые и кастовые различия. Церемонии производили очень величественное впечатление. В торжествах в честь Дурги был день новолуния, и перед статуей Кали на железную пику насадили голову быка. Кровь еще капала в мраморный бассейн внизу. Поскольку я верой и правдой поклонялся Дурге с самого раннего детства, мне не составило труда присоединиться к службе, посвященной Кали и Дурге. Запомнить некоторые ее особенности было несложно, хотя несколько раз я по ошибке взывал к Парвати и Дурге, а не к Кали и Дурге. Оба встречавших нас господина улыбались. Лишь один отрывок отличался от известного мне настолько, что пришлось выучить его заново:Камела Дас
Кришна прервал перевод. Голос у него заметно охрип. – У вас еще не возникли какие-нибудь вопросы, мистер Лузак? – Нет,– ответил я.– Продолжайте.
«Санджай очень волновался в течение всего месяца. Я выяснил, что он не получил того религиозного воспитания, которое, по счастью, досталось мне. Как и все члены Коммунистической партии Индии, Санджай имел дело с политическими верованиями, непримиримыми по отношению к его более глубоким индуистским корням. Вы должны понимать, что для нас религия не более абстрактное „верование“, требующее „акта веры“, чем дыхательный процесс. Воистину проще заставить чье-то сердце не биться, чем отнять у кого-то самоощущение индуиста Быть индуистом, особенно в Бенгалии, значит воспринимать все предметы как воплощения божественного и никогда не отделять по искусственным признакам священное от мирского. Санджай разделял это знание, но тонкий слой западного мышления, окутавший его индийскую душу, отказывался это принять. Однажды я спросил, почему он решил добиваться вступления в капалики, если не способен по-настоящему молиться богине. Он очень на меня тогда рассердился и обругал всякими словами. Он даже пригрозил поднять плату за комнату или взыскать с меня долги. Затем, вероятно вспомнив о нашей клятве Братству и увидев печаль в моем лице, извинился. – Власть,– сказал он,– мне это нужно ради власти, Джайяпракеш. Мне уже в течение некоторого времени известно, что капалики обладают могуществом, значительно превосходящим их численность. Гунды ничего не боятся… ничего… кроме капаликов. Туги, как бы глупы и жестоки ни были, никогда не встанут поперек дороги человека, о котором известно, что он капалика. Обыватели ненавидят капаликов или делают вид, что это Общество больше не существует, но эта ненависть замешана на зависти. Они страшатся одного имени капалика. – «Уважают», пожалуй, лучшее слово,– заметил я. – Нет,– возразил Санджай,– страшатся. В первую ночь новолуния, последовавшую за праздником Дурги, в первую ночь обряда в честь Кали, на заброшенной рыночной площади нас встретил человек в черном, чтобы проводить на встречу Общества капаликов. По пути мы миновали улицу Глиняных Идолов, и сотни воплощений Кали – соломенные кости, пронизывавшие незавершенную глиняную плоть,– наблюдали за нами. Храм находился в большом складе, часть которого нависала над рекой, то есть был зданием в здании. Путь обозначался свечами. По холодному полу свободно ползали несколько змей, но в темноте я не мог определить, кобры это, гадюки или безобидные пресмыкающиеся. Я счел это мелодраматическим штрихом. Изображение Кали здесь было меньшего размера, чем в храме Калигхат, но мрачнее, темнее, с более пронзительным взглядом и в целом гораздо ужаснее. В тусклом неровном свете казалось, что рот то приоткрывался шире, то смыкался в жестокой усмешке. Статую недавно покрасили. Груди ее увенчивались красными сосками, промежность была темной, а язык – темно-алым.. Длинные зубы казались во мраке очень-очень белыми, а узкие глаза наблюдали за нашим приближением. В храме имелись еще два явных отличия. Во-первых, труп, на котором танцевал идол, был настоящим. Мы поняли это, как только вошли внутрь. Трупный запах смешивался с густым ароматом благовоний. Тело было мужским – с белой плотью и проступающими под пергаментной кожей костями. Его поза – словно благодаря мастерству ваятеля – обладала всеми признаками смерти. Один глаз был приоткрыт. Присутствие покойника не слишком меня удивило. В обычае капаликов было носить ожерелья из черепов, а перед каждой церемонией они насиловали девственницу и приносили ее в жертву. Лишь за несколько дней до этого Санджай пошутил, что в качестве девственницы вполне могли бы выбрать меня. Но сейчас, под сводами погруженного во тьму храма, ощущая запах разложения, я был весьма рад тому, что не вижу ни малейших свидетельств соблюдения такой традиции. Второе отличие статуи не так бросалось в глаза, но было еще более пугающим Кали по-прежнему в ярости вздымала свои четыре руки: с одной из них свисала петля, с другой – череп, третья занесла меч. Но четвертая рука оказалась свободной: вместо отрубленной головы пальцы идола сжимали пустоту. Сердце у меня застучало сильнее, а при взгляде на Санджая я понял, что и он старается скрыть страх. Запах нашего пота смешивался со священными ароматами благовоний и вонью мертвой плоти. Вошли капалики. На них не было ни мантий, ни каких-либо особых одежд. Большинство были облачены в простые белые дхотти, столь распространенные в сельской местности. Одни мужчины. Тьма не позволяла разглядеть какие-нибудь кастовые отметки брахманов, но я предположил наличие среди вошедших нескольких священников. Всего собралось около пятидесяти человек. Люди в черном, которые привели нас на склад, отступили во тьму, царившую на большей части пространства храма, и я не сомневался, что там скрываются еще много невидимых фигур. Кроме нас с Санджаем было еще шесть посвящаемых. Я не узнал никого из них. Мы образовали перед статуей неровный полукруг. Капалики встали за нами и запели. Мой неповоротливый язык едва успевал произносить ответные слова, и я все время на мгновение запаздывал. Санджай оставил попытки влиться в общий хор и весь молебен простоял с едва заметной улыбкой. Лишь побелевшие губы выдавали его напряжение. То и дело мы оба невольно посматривали на пустую руку Кали. Эту песню я помнил с детства. Ее сентиментальные слова ассоциировались у меня с солнечным светом на камнях храма, с предвкушением праздничных торжеств, с ароматом разбросанных цветочных лепестков. Теперь же, когда я пел ее ночью и запах разлагающегося мяса наполнял влажный воздух, слова приобретали другое значение:
7
Калькутта, Калькутта, ты – охваченное ночью поле, беспредельная жестокость, Подобный змее разнородный поток,по которому я плыву, Неизвестно куда.Кришна замолчал. Рассказывая, он хрипел все сильнее, пока его квакающий голос не стал идеально сочетаться с лягушачьими глазами. Мне потребовалось усилие, чтобы отвести взгляд от Муктанандаджи. Оказывается, я настолько увлекся, что совершенно забыл о присутствии Кришны. Теперь он вызвал у меня такое же раздражение, какое может появиться из-за неисправного магнитофона или забарахлившего в самый неподходящий момент телевизора. – В чем дело? – спросил я. Кришна мотнул головой, и я оглянулся. К нам подходил хозяин с седой щетиной. Незаметно для меня огромное помещение невероятным образом опустело. На всех остальных столах были расставлены неуклюжие стулья. Вентиляторы остановили свое медленное вращение. Я посмотрел на часы. Было одиннадцать тридцать пять. Владелец заведения – если это был он – что-то пробурчал Кришне и Муктанандаджи. Кришна устало махнул рукой, и старик повторил фразу уже громче, раздраженнее. – В чем дело? – снова спросил я. – Он должен закрывать,– проквакал Кришна.– Он платит за электричество. Я посмотрел на несколько еще горящих тусклых лампочек и чуть не расхохотался. – Мы можем закончить завтра,– сказал Кришна. Муктанандаджи, сняв очки, устало потирал глаза. – К черту,– возразил я. Я перебрал несколько индийских купюр, лежавших в моем кармане, и подал старику бумажку в двадцать рупий. Он остался стоять, бормоча что-то про себя. Я дал ему еще десять рупий. Он поскреб свою щетину и шаркающей походкой направился к стойке. Сумма, с которой я расстался, составляла меньше трех долларов. – Продолжайте,– велел я.Сунилкумар Найди
«Санджай не сомневался, что до полуночи нам удастся найти два трупа. Ведь это в конце концов Калькутта. Утром по пути в центр города мы спросили у перевозчиков мертвых животных, не приходилось ли им когда-нибудь перевозить в своих грузовичках тела людей. Нет, ответили они, для этого городская муниципальная корпорация нанимает других людей – бедняков, но людей из касты. Они выходят по утрам на улицы и подбирают тела, неизменно разбросанные по тротуарам. Но это делалось только в деловой и центральной частях города. В более отдаленных районах, в кварталах больших трущоб, тела оставляли семьям и псам. – А куда свозят тела, собранные в центре? – спросил Санджай. – В морг Сассун,– ответили ему. В половине одиннадцатого утра, позавтракав лепешками на Майдане, мы с Санджаем пришли в морг Сассун. Морг занимал первый и два подвальных этажа в одном из зданий в старом английском квартале города. Ступени у входа все еще охраняли каменные львы, но дверь была заперта и забита досками. Ею явно не пользовались уже много лет. Для всех надобностей служил черный ход, к которому то и дело подъезжали грузовики. Помещение было переполнено. Закрытые простынями тела лежали на тележках в коридорах и даже перед служебными помещениями. Стоял очень сильный запах. Это меня удивило. Человек в белой форменной одежде, с блокнотом в руках, вышел из комнаты, улыбнулся и спросил: – Чем могу помочь? Я не знал что ответить, но Санджай заговорил сразу же, причем довольно убедительно: – Мы из Варанаси. Приехали в Калькутту, потому что двое наших родственников, к несчастью лишившихся земли в Западной Бенгалии, недавно перебрались в город, чтобы найти работу. Как ни печально, но, по всей видимости, они заболели и умерли на улице, так и не найдя приличной работы. Жена моего бедного двоюродного брата написала нам об этом, прежде чем сама вернулась к своей семье в Тамил-Наду. Эта шлюхадаже не попыталась отыскать тело мужа. Теперь приехали мы, хоть это и дорого обошлось, чтобы отвезти их в Варанаси для достойного сожжения. – А,– смотритель скривился.– У этих проклятых южанок нет ни малейшего представления о приличиях. Животные. Я согласно кивнул. Все так просто! – Мужчина или женщина? Старый, молодой или ребенок? – спросил служитель морга утомленным голосом. – Извините? – Другой родственник. Я догадываюсь, что уехавшая жена была замужем за мужчиной, но какого пола другой родственник? А каков возраст каждого из них? И еще: в какой день их могли подобрать? Прежде всего – какого пола? – Мужчина,– ответил Санджай. – Женщина,– в один голос с ним произнес я. Служитель остановился по дороге в другое помещение. Санджай окинул меня испепеляющим взглядом. – Прошу прощения,– ровным тоном сказал Санджай.– Конечно же, Камила, несчастная двоюродная сестра Джайяпракеша, женщина. У меня в мыслях только мой собственный брат, Самар. Я и Джайяпракеш не кровные родственники. – Ага,– произнес служитель, но прищурился, переводя взгляд с меня на Санджая.– А вы, случайно, не студенты университета? – Нет,– улыбнулся Санджай.– Я работаю в ковровой лавке у отца в Варанаси. Джайяпракеш помогает своему дяде по крестьянской части. Я имею некоторое образование. Джайяпракеш нигде не учился. А почему вы спросили? – Просто так, просто так,– сказал служитель. Он посмотрел на меня, и я испугался, как бы он не услышал стук моего сердца. – Иногда случается,– пояснил он,– что студенты-медики из нашего университета… м-м-м… теряют своих возлюбленных на улице. Сюда, пожалуйста. Просторные и сырые подвальные помещения охлаждались кондиционерами. Вода струилась по стенам и полу. На каталках и столах лежали обнаженные трупы. В их размещении не было никакого порядка, за исключением грубого деления по возрасту и полу. Детское помещение, которое мы миновали, было переполнено. Датой смерти наших родственников Санджай назвал день неделей раньше и добавил, что нашему брату Самару было, кажется, за сорок. В первой комнате, в которую мы вошли, лежали примерно двадцать покойников. Все они находились на разных стадиях разложения. В комнате было не слишком прохладно. Вода капала прямо на трупы, безуспешно пытаясь охладить их. Мы с Санджаем закрыли носы и рты рубашками. Глаза у нас слезились. – Черт бы побрал эти перебои с электричеством,– буркнул служитель.– За последние дни отключают по нескольку раз в день. Ну что? Он прошел дальше, сдернул простыни с нескольких накрытых фигур и развел руки, словно предлагая купить вола. – Нет,– произнес Санджай, угрюмо вглядываясь в лицо первого покойника, и подошел к другому.– Нет. Нет. Подождите… нет. Трудно сказать. Санджай переходил от тележки к тележке, от стола к столу. Ужасные лица смотрели на него: подернутые пленкой глаза, отвисшие челюсти с вываливающимися распухшими языками. Несколько трупов непристойно ухмылялись, как бы поощряя наш выбор. – Нет,– время от времени бормотал Санджай.– Нет. – Здесь все, что поступили за последнюю неделю. Вы уверены, что не ошиблись с датой? Служитель морга и не пытался скрыть скучающе-скептические нотки в своем голосе. Санджай кивнул, и я попытался понять, какую игру он затеял. «Узнай кого-нибудь и дай нам уйти!» – мысленно уговаривал я приятеля. – Подождите,– сказал он.– А вон тот, в углу? Покойник одиноко лежал на стальном столе, будто его швырнули туда не глядя. Колени и предплечья у него были слегка приподняты, кулаки сжаты. Труп с почти лысым черепом был повернут лицом к мокрой стене, будто стыдился своей уродливой наготы. – Слишком старый,– буркнул служитель. Однако мой друг сделал несколько быстрых шагов в угол. Он наклонился, чтобы заглянуть в лицо. Поднятый белый кулак трупа скользнул по задранной рубашке и голому животу Санджая. – Брат Самар! – воскликнул Санджай, почти всхлипнув, и сжал застывшую руку. – Нет-нет,– возразил служитель морга и высморкался в полу своей грязной куртки– Он поступил только вчера. Слишком свежий. – Тем не менее это мой бедный брат Самар,– сдавленным голосом произнес Санджай. В его глазах я увидел неподдельные слезы. Служитель пожал плечами и полистал блокнот. Ему пришлось просмотреть несколько бланков. – Не опознан. Привезли во вторник утром Найден голым на Саддер-стрит… Сходится, а? Предполагаемая причина смерти – перелом шеи в результате падения или удушения. Вероятно, ограблен из-за одежды. Предполагаемый возраст – шестьдесят пять лет. – Брату Самару было сорок девять лет,– сказал Санджай. Он вытер глаза и снова закрыл нос рубашкой. Служитель опять пожал плечами. – Джайяпракеш, почему ты не ищешь сестру Камилу? – обратился ко мне Санджай.– Я договорюсь насчет перевозки брата Самара. – Нет-нет,– возразил служитель. – Нет?! – удивленно воскликнули мы с Санджаем в один голос. – Нет.– Человек, нахмурившись, заглянул в свой блокнот.– Вы не можете увозить тело, пока оно не будет опознано. – Но я же только что его опознал. Это мой двоюродный брат Самар,– возразил Санджай, по-прежнему сжимая шишковатый кулак трупа. – Нет-нет. Оно должно быть официально опознано. Это нужно сделать на почте. – На почте? – переспросил я. – Да-да. Там находится Бюро по розыску пропавших без вести и неопознанным телам городской администрации. Третий этаж. После того как будет подтверждено опознание, нужно заплатить в городскую казну двести рупий. То есть по двести рупий за каждого опознанного любимого человека. – Ого! – воскликнул Санджай.– За что это двести рупий? – За официальное опознание и его оформление, естественно. Затем вам надо сходить в управление муниципальной корпорации на Ватерлоо-стрит. Для посетителей они открыты только по субботам. – Но это же целых три дня! – воскликнул я. – А зачем нам туда идти? – поинтересовался Санджай. – Чтобы заплатить сбор в пятьсот рупий, естественно. За их транспортные услуги.– Служитель вздохнул.– Итак, прежде чем выдать тело, я должен получить справку об опознании, квитанцию об уплате за опознание, квитанцию об уплате сбора и, естественно, копию вашей лицензии на перевозку усопших. – А-а-а,– произнес Санджай. Он отпустил руку брата Самара.– А где мы возьмем такую лицензию? – В Бюро лицензий при администрации штата неподалеку от Радж-Бхава. – Естественно,– сказал Санджай.– И стоит это… – Восемьсот рупий за каждого усопшего, которого вы желаете перевезти. Существует и ставка за групповую перевозку, если количество превышает пять единиц. – И это все, что нам нужно? – спросил Санджай, и в его голосе я услышал нотку, знакомую мне по тем случаям, когда он бросался на стенку или лупил бирманских детишек, устраивавших беспорядок во дворе и на лестнице. – Да-да,– подтвердил служитель.– Не считая свидетельства о смерти. Это я сам могу сделать. – Ага,– выдохнул Санджай.– По какой цене? – Всего лишь пятьдесят рупий,– улыбнулся служитель.– А потом еще плата за хранение. – Хранение? – переспросил я сквозь рубашку. – Да-да. У нас все переполнено, как видите. Плата составляет пятнадцать рупий за место в сутки.– Он заглянул в блокнот.– Хранение вашего брата Самара обойдется в сто пять рупий. – Но ведь он пробыл здесь всего один день! – воскликнул я. – Верно, верно. Но, боюсь, нам придется считать за всю неделю, поскольку для него использовалось специальное оборудование, так как он… м-м-м… находится уже не на первой стадии. А теперь поищем вашу кузину Камилу? – Это же будет нам стоить почти две тысячи рупий! – взорвался Санджай.– За каждое тело! – Да-да,– с улыбкой кивнул служитель.– Надеюсь, что торговля коврами в Варанаси в наше время дает неплохой доход? – Пошли, Джайяпракеш.– Санджай повернулся к выходу. – А как же сестра Камила? – воскликнул я. – Пошли! – резко бросил Санджай и потащил меня из комнаты. Возле морга стоял белый грузовик. Санджай подошел к водителю. – Покойники,– спросил он.– Куда они идут? – Что? – Куда деваются невостребованные покойники, когда их отсюда увозят? Водитель сел прямо и нахмурился. – В инфекционную больницу Найду. Большинство. Там от них избавляются. – Где это? – По Аппер-Читпур-роуд. Нам целый час пришлось добираться туда в трамвае по запруженным машинами улицам. Старая больница была переполнена людьми, надеявшимися на выздоровление или ожидавшими смерти. Длинные коридоры, заставленные кроватями, напомнили мне морг. Сквозь оконные решетки залетали птицы и прыгали среди смятых простыней в надежде найти завалявшиеся крошки. По обшарпанным стенам ползали ящерицы, и я увидел какого-то грызуна, скрывшегося под кроватью, когда мы проходили мимо. Усатый врач-интерн преградил нам путь. – Вы кто? Санджай, застигнутый врасплох, назвал наши имена. Я видел, что он лихорадочно думает, пытаясь состряпать какую-нибудь подходящую историю. – Вы ведь насчет трупов? – требовательно спросил врач. Мы моргнули. – Ведь вы репортеры? – допытывался врач. – Да,– согласился Санджай. – Черт. Мы знали, что это выплывет,– буркнул врач.– Но это не наша вина!! – Почему же? – поинтересовался Санджай. Он достал из кармана рубашки старый, потрепанный блокнот, в котором вел учет выплат Союза нищих, записывал наши счета за прачечную и делал списки покупок. – Не хотели бы вы сделать заявление? Он лизнул кончик сломанного карандаша. – Пойдемте сюда,– бросил врач. Он провел нас через тифозное отделение в примыкающую к нему кухню и вывел на улицу мимо мусорных куч. За больницей на несколько акров раскинулось пустое поле, поросшее сорняками. Вдалеке виднелись джутовые навесы и крытые железом крыши расползающихся трущоб. В зарослях сорняков стоял ржавеющий бульдозер, к которому прислонился старик в мешковатых шортах, вооруженный старинным шомпольным ружьем. – Эй! – крикнул врач. Старик подскочил и вскинул ружье. – Вон там! Там! – закричал врач и показал рукой на сорняки. Старик выстрелил, и звук выстрела эхом отразился от высокого здания позади нас. – Дерьмо! Дерьмо! – завопил врач и быстро наклонился за большим камнем. Из травы на звук выстрела подняла голову серая собака с выступающими ребрами и посмотрела в нашу сторону. Тощее животное развернулось и, поджав хвост, пустилось наутек, держа в зубах что-то розовое. Врач швырнул камень, который пролетел лишь половину расстояния, отделявшего нас от собаки. Старик возле бульдозера возился с затвором ружья. Врач выругался и повел нас через поле. Повсюду были рытвины и кучи земли, будто бульдозер многие годы скреб здесь почву, как огромная кошка. Мы остановились на краю неглубокой выемки, в которой только что видели собаку. – Ой! – вырвалось у меня, и я попятился. Разлагавшаяся человеческая рука, торчавшая из земли, скользнула по моей сандалии и коснулась голой ноги. Виднелись и еще какие-то останки. Затем я заметил другие ямы и собак в отдалении. – Десять лет назад все было хорошо,– сказал врач,– но сейчас, когда эти промышленные районы подошли так близко… Он прервался, чтобы вновь швырнуть камень в стаю собак. Животные спокойно потрусили в кусты. Старику, стоявшему позади нас, удалось извлечь стреляную гильзу, и теперь он заново заряжал ружье. – Это были мусульмане или христиане? – спросил Санджай, держа карандаш наготове. – Скорее всего, индусы. Кто знает? – бросил врач.– Крематории не хотят заниматься ими бесплатно. Но проклятые собаки уже несколько месяцев здесь роются. Мы хотели платить, пока… Подождите. Так вы слышали, что случилось сегодня? Ведь вы здесь именно поэтому? – Конечно,– вкрадчиво подтвердил Санджай.– Но, может быть, вы хотели бы рассказать, как все было, с вашей точки зрения. Я почти не слушал, оглядываясь вокруг. Куски и клочья выпирали из перекопанной земли, как дохлая рыба всплывает на поверхность пруда. Судя по тому, что я видел, нам с Санджаем едва ли стоило надеяться найти здесь целую жертву. Над головами кружили вороны. Старик присел на гусеницу трактора и вроде задремал. – Насчет сегодняшнего случая пришло много жалоб,– сказал интерн.– Но нам надо было что-то делать. Обязательно сообщите, что больница готова оплатить кремацию. – Да,– кивнул Санджай и что-то записал. Мы повернули обратно в здание больницы. Семьи пациентов размещались во временных палатках и хижинах возле гор мусора. – Мы должны были что-то делать,– повторил интерн.– Перебои с электричеством, сами знаете. А из-за этих собак уже невозможно продолжать прежнюю многолетнюю практику. Вот мы и заплатили муниципальной корпорации за транспортировку и сегодня утром загрузили тридцать семь свеженьких из холодильника, чтобы отвезти в крематорий Ашутош. Откуда мы знали, что они пришлют открытый грузовик, а он застрянет в пробке на несколько часов? – И вправду! – поддакнул Санджай и застрочил в блокноте. – А потом, после того как груз был свален на территории крематория, там вдобавок оказалась праздничная толпа. – Да-да,– вмешался я.– Сегодня начинается Кали-Пуджа. – Но откуда мы могли знать, что церемония соберет десять тысяч человек именно в этом месте сожжения? – раздраженно спросил интерн. Я не стал напоминать ему, что Кали – богиня всех мест сожжения и мест смерти, включая даже поля битв и неиндуистские кладбища. – Вы знаете, сколько времени занимает полное и пристойное сожжение – даже в новых электропечах, что появились в городе? – спросил интерн.– Два часа,– ответил он сам себе.– Два часа на каждого! – И что же случилось с этими телами? – поинтересовался Санджай с таким видом, будто данный предмет его не очень занимал. День был уже в самом разгаре. До полуночи оставалось десять часов. – Ох уж эти жалобы! – простонал врач.– Несколько богомольцев упали в обморок. Сегодня утром было очень жарко. Но нам пришлось так и оставить большую часть. Водители отказались возвращаться сюда или в морг Сассун с полным грузом в дневном потоке машин. – Благодарю вас,– сказал Санджай и пожал врачу руку.– Наши читатели будут рады узнать точку зрения больницы. Да, кстати, а сторож останется здесь с наступлением темноты. Санджай кивком показал на дремавшего старика. – Да-да,– торопливо ответил вспотевший интерн.– Что бы ни случилось. Эй! Он закричал и нагнулся за камнем, чтобы бросить его в слюнявую собаку, тащившую что-то большое в кусты. На территорию крематория Ашутош мы приехали в десять вечера. Санджай договорился насчет фургончика «премьер», который нищие использовали, чтобы развозить и собирать своих изувеченных подопечных. Тесный отсек сзади не имел окон, и из него очень дурно пахло. Я не знал раньше, что Санджай умеет водить машину. После поездки без всяких правил, с неумолкающим клаксоном, мигающими фарами и перескакиваниями из ряда в ряд я продолжал в этом сомневаться. Ворота на территорию крематория оказались запертыми, но мы пробрались туда через прилегавшую к ней прачечную зону. Вода уже не текла по открытым трубам, бетонные плиты и корыта были свободны, а работники из касты стиральщиков разошлись с наступлением темноты. Крематорий отделялся от прачечной каменной стеной, но в отличие от многих стен в городе на этой не было ни битого стекла, ни бритвенных лезвий, что позволило преодолеть ее без особого труда. Очутившись по другую сторону, мы почувствовали некоторую неуверенность. Небо усеяли звезды, но луна еще не взошла. Было очень темно. Покрытые жестью павильоны крематория смотрелись серыми силуэтами на фоне ночного неба. Ближе к основным воротам виднелась еще одна тень: огромная высокая платформа со сводом, установленная на гигантских деревянных колесах. – Колесница богов для Кали-Пуджа,– выдохнул Санджай. Наружную раму закрыли жестяными заслонками, но мы оба знали, что внутри прячется нечто огромное, злое, четырехрукое. Подобная праздничная статуя редко считалась жагратой, но кто знал, какую мощь она могла приобретать ночью, в одиночестве, в обители смерти? – Сюда,– прошептал Санджай и направился к самому большому павильону, ближайшему от кругового проезда. Мы миновали поленницы дров – топливо для сожжения покойников из денежных семей – и кучки сушеных коровьих лепешек, предназначавшихся для более скромной кремации. Павильон без крыши для похоронного оркестра выглядел при свете звезд пустой серой пластиной. Мне показалось, что это плита из морга, поджидающая труп какого-то огромного божества. Я нервно оглянулся на закрытую колесницу богов. – Здесь,– сказал Санджай. Они лежали неровными рядами. Если бы светила луна, то тень от колесницы падала бы прямо на них. Я шагнул в их сторону и отвернулся. – Ох,– произнес я.– Завтра я сожгу свою одежду. Можно себе представить, каково пришлось толпе при дневной жаре. – Молись, чтобы завтра вообще наступило,– прошипел Санджай и стал перешагивать через разбросанные тела. Некоторые из них были прикрыты брезентом или одеялами Большинство лежали под открытым небом Глаза мои привыкли к слабому свету звезд, и я мог различать бледные отсветы и белое свечение костей, освободившихся от плоти. То здесь, то там над не имевшей четких очертаний кучей торчала скрюченная конечность. Я вспомнил руку, которая, казалось, схватила меня за ногу возле больницы, и содрогнулся. – Быстрее! – Санджай выбрал тело во втором ряду и поволок его к задней стене. – Подожди меня! – отчаянным шепотом окликнул я его, но он уже растворился в тени, и я остался один на один с темными препонами под ногами. Я двинулся в середину третьего ряда, но тут же пожалел об этом. Невозможно было поставить ногу, чтобы не наступить на что-нибудь тошнотворное, размазывающееся от прикосновения. Подул легкий ветерок, и в нескольких футах от меня затрепетали обрывки какой-то одежды. Вдруг в ближнем от смутно вырисовывавшейся колесницы ряду что-то зашевелилось и послышался какой-то звук. Я стоял навытяжку, сжав немощные кулаки. Это была птица – огромная, слишком тяжелая, чтобы летать, хлопающая черными крыльями. Она запрыгала по трупам и исчезла в темноте под убежищем богини. Грохочущие звуки незакрепленных жестяных заслонок отдались эхом. Я представил, как огромный идол пришел в движение и протянул четыре руки к деревянной раме, в которую был заключен, как он открывает слепые белесые глаза, чтобы осмотреть свои владения. Вокруг моей лодыжки что-то сомкнулось. Я издал вопль, отскочил в сторону, споткнулся и упал в сплетение холодных конечностей. Рукой я уперся в ногу трупа, уткнувшегося лицом в траву. Хватка на моей ноге не ослабевала. Более того, что-то тянуло меня назад. Я с усилием поднялся на колени и изо всех сил дернул правую ногу. При этом у меня вырвался такой крик, что я ожидал появления сторожей от главных ворот. Я надеялся, что кто-нибудь прибежит. Но тщетно. Я позвал Санджая, однако ответа не последовало. В том месте, где кто-то сжимал мою лодыжку, ощущалось сильное жжение. Я заставил себя не дергаться и все-таки встал. Хватка ослабла. Я опустился на колено и посмотрел, что меня держит. Тело было накрыто гладким брезентом с множеством привязанных к нему нейлоновых веревок. В одну из свободных петель я и наступил, а со следующим шагом затянул ее. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы распутать веревку. Я улыбнулся. Лишь бледная рука, белая, как личинка, при свете звезд, торчала из блестящего савана. Носком сандалии я запихнул руку обратно под покров. Отлично. Пускай Санджай возится с мертвой плотью, как какой-то там топильщик из неприкасаемых. Не дотрагиваясь до фигуры под саваном, я закатал ее получше в шелковистые складки, увязал свободными веревками, взвалил мягкую массу на плечо и пошел, быстро минуя темные павильоны. Когда я отошел подальше от колесницы, шум внутри ее прекратился. Санджай ждал меня в тени стены. – Торопись! – прошипел он. Шел двенадцатый час. Мы находились в нескольких милях от храма капаликов. Общими усилиями мы перевалили трупы через стену. Поездка от крематория к храму капаликов была кошмаром – нелепым кошмаром. Наш груз перекатывался сзади, пока Санджай выскакивал из потока машин и нырял обратно, заставлял съезжать с дороги запряженные буйволами повозки, вынуждал пешеходов отпрыгивать в кучи отбросов по обочинам – иначе они были бы раздавлены,– отчаянно мигал фарами, предупреждая ехавшие навстречу грузовики, что не собирается уступать им дорогу. Дважды мы тряслись по тротуарам, когда он забирал влево. Наш путь по Калькутте в ту ночь был отмечен потоком раздававшихся вслед ругательств. В конце концов случилось неизбежное. Возле Майдана на перекрестке Санджай попытался пересечь три ряда встречного движения. С огромной тракторной шины, с которой он регулировал движение, соскочил полицейский и поднял руку, приказывая нам остановиться. В течение какого-то сумасшедшего мгновения я был уверен, что Санджай хочет на него наехать. Потом он ударил обеими ногами по педали тормоза и потянул на себя руль, словно пытался удержать вожжами убегающего вола. Наш фургончик развернуло боком, он чуть не перевернулся и застыл в футе от вытянутой руки полицейского. Двигатель заглох. Один из трупов швырнуло вперед, и его босая нога вылезла между мной и водительским сиденьем. К счастью, саван по-прежнему закрывал оба тела. Я торопливо натянул покров на ногу как раз в тот момент, когда разъяренный регулировщик подошел к фургончику со стороны Санджая. Он наклонился к правому окну, и лицо его чуть ли не лопалось от злости. – Какого дьявола вы, долбаные ублюдки, тут вытворяете? Широкий шлем полицейского подпрыгивал, пока он орал. Я возблагодарил всех богов, что нам попался не сикх. Он кричал на нас на западнобенгальском диалекте. Свои вопли он подкреплял ударами тяжелой палки-латхи по двери Санджая. Сикх – а большинство государственных полицейских были сикхами – прошелся бы дубинкой по нашим головам. Странные они люди, эти сикхи. Не успел Санджай выдумать ответ или завести мотор, как полицейский отступил и прикрыл лицо ладонью. – Фу! – заорал он.– Какого дьявола вы там везете? Я вжался в сиденье. Все потеряно. Полиция нас арестует. Нас засадят пожизненно в ужасную тюрьму Хугли, но просидим мы всего несколько дней, потому что капалики нас убьют. Но Санджай широко осклабился и высунулся из окна. – О высокочтимый сэр, вы ведь наверняка узнаете эту машину, сэр? Он похлопал по мятой дверце. Полицейский сильно нахмурился, но отступил еще на шаг. – Гм-м,– произнес он, не отнимая руки от лица. – Да-да,– воскликнул Санджай, все так же глупо ухмыляясь.– Это личная собственность Гопалакришны Нирендренатха Г. С. Махапатры, главного нищего Союза Читпура и Верхнего Читтаранджана! А сзади в машине шесть его самых доходных и жалких прокаженных. Очень доходные нищие, уважаемый сэр! Санджай завел машину левой рукой и широким жестом правой обвел грузовое отделение машины. – Я уже на час опаздываю с возвращением имущества господина Махапатры к месту их кормления и ночлега, высокочтимый сэр. Он оторвет мне голову. Но если вы нас арестуете, почтенный констебль, у меня, по крайней мере, будет оправдание за мою недостойную медлительность. Пожалуйста, если желаете нас арестовать, я открою для вас заднюю дверь. Эти прокаженные, сэр, хоть и приносят хороший доход, ходить уже не могут, так что помогите мне вынести их оттуда. Санджай принялся нащупывать снаружи ручку на дверце, будто собрался выходить. – Нет! – воскликнул полицейский. Он затряс дубинкой-латхи над рукой Санджая, шарившей по дверце.– Убирайтесь! Немедленно! С этими словами он повернулся к нам спиной и быстро зашагал к центру перекрестка. Здесь он принялся размахивать руками и дуть в свисток на сигналящую массу образовавших пробку машин, которые за то короткое время, что его не было на шине, успели блокировать три улицы. Санджай воткнул передачу, объехал затор по газону Плаца-арка и повернул навстречу движению на Стренд-роуд-саут. Мы остановились как можно ближе к складу. На улице было очень темно, но в машине сзади имелся фонарь. Санджаю пришлось зажечь его, чтобы мы могли распутать веревки от савана на наших приношениях. По моим часам, подаренным Санджаем, было без десяти двенадцать. Часы, однако, часто отставали. При внезапно вспыхнувшем свете фонаря я увидел, что Санджай притащил из крематория жалкие останки старика. У трупа отсутствовали зубы, торчала лишь одна прядь волос, а на обоих глазах была катаракта. Его опутывала паутина веревок от покрова моего покойника. – Проклятье! – пробормотал Санджай.– Прямо как вонючий парашют. Нет, это долбаная сетка, спутанная с брезентом. В конце концов Санджаю пришлось перекусывать веревку зубами. – Быстрее,– сказал он мне.– Снимай тряпку со своего. Они не захотят, чтобы он был закрытым. – Но я не думаю… – Шевелись, тебе говорят! – рявкнул Санджай, дав волю ярости. Казалось, глаза выскочат из орбит на его побагровевшем лице. Фонарь шипел и брызгался. – Дерьмо! Дерьмо! – взорвался он.– Надо было использовать тебя, как я и собирался сначала. Это было бы так чертовски просто. Дерьмо! Санджай злобно поднял свой труп под мышки и потащил его, стремясь освободить от разорванных веревок. Я застыл как вкопанный, лишившись дара речи. Даже начав медленно развязывать последние узлы и стягивать оставшиеся веревки, я не соображал, что делают мои руки, а в голове звучали слова Санджая: «Вот что я тебе скажу, Дкайяпракеш. Ты – жертва социальной несправедливости. Твое положение трогает меня. Я уменьшу плату за комнату с двухсот до пяти рупий в месяц. Если тебе нужно взять в долг на первые два-три месяца, я буду рад оказать тебе эту услугу». Слезы стекали по моим щекам и падали на саван. Откуда-то издалека доносился крик Санджая, подгонявшего меня, но мои руки двигались медленно и методично, разбирая последние из запутанных веревок. Я вспомнил, как проливал слезы благодарности, когда Санджай пригласил меня жить к себе в комнату, мое удивление и чувство признательности за то, что он предложил мне вступить вместе с ним в Общество капаликов. «Надо было использовать тебя, как я и собирался сначала». Я порывисто вытер глаза, сердито сорвал саван и отшвырнул его в дальний угол фургона. – А-а-а-а! Крик рвался из меня. Я отшатнулся назад и ударился о стенку фургона, чуть не повалившись вперед на то, что открылось передо мной. Фонарь перевернулся и покатился по металлическому полу. Я снова закричал. – Что такое? – Санджай снова подбежал к фургону, остановился и схватился за дверь.– Ох… То, что я, как невесту, тащил из крематория, возможно, и являлось когда-то человеком. Но сейчас – нет. Ничего похожего. Раздувшееся тело было раза в два больше человеческого – оно скорее напоминало гигантскую, разложившуюся морскую звезду, а не человека. Бесформенное лицо представляло собой белую массу со сморщенными по краям дырками и щелочками там, где когда-то могли быть глаза, рот и нос. Этот предмет представлял собой слабое подобие человеческой фигуры, грубо слепленное из гниющих грибков и мертвого, бесформенного мяса. То, что я принес, было белым, совершенно белым – белым, как брюхо дохлого сазана, выброшенного на берег водами Хугли. Кожа имела строение выцветшей, трухлявой резины, чего-то содранного и скроенного из нижней поверхности шляпки ядовитой поганки. Тело распирало ужасное давление накопившихся в нем газов и раздувшихся так, что вот-вот лопнут, внутренних органов. То здесь, то там виднелись осколки костей и ребер, торчавших из распухшей массы наподобие палочек, воткнутых в поднимающееся тесто. – Ах! – выдохнул Санджай.– Утопленник. Как бы в подтверждение слов Санджая, до нас донесся мерзкий запах речной тины, а в одной из черных глазниц появилось нечто, напоминающее слизня. Блестящие щупальца потрогали ночной воздух и спрятались в тень. В этой разбухшей массе я почувствовал шевеление множества других существ. Прижавшись спиной к стенке фургона, я заскользил к задней дверце, готовый протиснуться мимо Санджая и убежать в гостеприимную темноту. Но он загородил мне дорогу, впихнул обратно в тесный кузов, где лежало тело. – Возьми его,– велел Санджай. Я смотрел на него. Упавший фонарь отбрасывал между нами невообразимые тени. Я мог только смотреть. – Возьми его, Джайяпракеш. До начала церемонии осталось меньше двух минут. Возьми его. Я мог бы наброситься тогда на Санджая. Я бы с радостью душил его, пока остатки жизни не вылетели бы с хрипом из его лживой глотки. Но тут я увидел пистолет. Он появился у него в руке, как пальма внезапно появляется из цветка лотоса у искусного бродячего фокусника. Пистолет был небольшим. Он выглядел совсем маленьким, чтобы быть настоящим. Но он был таковым. Я в этом не сомневался. А черное отверстие ствола метило мне прямо между глаз. – Возьми его. Ничто на свете не могло заставить меня взять то, что лежало на полу за моей спиной. Ничто. Кроме абсолютной уверенности в том, что через три секунды я буду мертвым, если не подчинюсь. Мертвым. Как то, что в фургоне. Лежать с ним. На нем. Вместе с ним. Опустившись на колени, я поставил фонарь, пока из него все не вылилось или он не поджег саван, и засунул руки под труп. Казалось, он поощряет мои объятия. Одна рука скользнула по моему боку, словно в робком прикосновении застенчивого любовника. Мои пальцы глубоко погрузились в белую ткань. Плоть была прохладной и упругой, и я не сомневался, что в любую секунду рискую прорвать кожу. Бескостные существа ползали и шевелились внутри, пока я пятился из фургона и нащупывал ногой землю. Ноша навалилась на меня, и на секунду я почувствовал ужасную уверенность в том, что труп превратится в жижу и окатит меня, как сырая речная глина. Я поднял лицо к ночному небу и побрел вперед. Санджай взвалил на плечи свой хладный груз и последовал за мной в храм капаликов.
8
Sa etan panca pasun apasyat – purusam, asvam, gam, avim, ajam… Purusam prathaman alabhate, puruso hi prathamah pasunamm…Мы пели священные слова из «Сатапатха Брахмана»: «И последовательность жертв будет такова… сначала человек, потом лошадь, бык, баран и козел… Человек идет прежде животных и более всего угоден богам…» Мы опустились в темноте на колени перед жаграта Кали. Нас одели в простые белые дхотти, однако ноги оставались босыми. Лбы наши были помечены. Мы, семеро посвящаемых, стояли на коленях, плотным полукольцом окружая богиню. За нами дугой стояли свечи и внешний круг капаликов. Перед нами лежали тела, принесенные нами же в качестве жертв. На животе каждого из трупов священник капаликов поместил маленький белый череп. Черепа были человеческими, слишком маленькими, чтобы принадлежать взрослым. Пустые глазницы смотрели на нас так же пристально, как и голодные глаза богини.
Голос Кришны с трудом проквакал перевод последней фразы. Я моргнул и огляделся по сторонам. Ноги хозяина торчали из-под стойки, где он спал на полу. В помещении было тихо. С улицы не доносилось ни единого звука. Мои часы показывали два двадцать. Я резко поднялся, нечаянно уронив стул. Спина ныла, и я чувствовал слабость из-за смены часового пояса и утомительного перелета. Я потянулся и размял болевшие мышцы в районе позвоночника. Муктанандаджи выглядел измотанным. Сняв свои толстые очки, он устало потирал глаза и переносицу. Кришна протянул руку за остатками холодного кофе Муктанандаджи, допил его и сделал несколько попыток прокашляться. – У вас… кхе-кхе… у вас есть вопросы, мистер Лузак? Я посмотрел на них обоих. Я не доверял собственному голосу. Кришна шумно сморкнулся, сплюнул на пол и снова заговорил: – Есть ли у вас какие-нибудь вопросы, сэр? Прежде чем ответить, я еще несколько секунд безразлично смотрел на них. – Только один вопрос,– сказал я. Кришна с вежливым вниманием поднял брови. – Какого черта…– начал я,– какого дьявола это… эта байка. Какое отношение она имеет к поэту М. Дасу? Мой кулак, казалось, сам по себе грохнул по столу. Кофейные чашки подпрыгнули. Теперь уже Кришна вперился в меня взглядом. Таким взглядом, по-моему, смотрела на меня воспитательница в детском саду, когда в пятилетнем возрасте я однажды намочил трусики во время тихого часа. Обратившись к Муктанандаджи, Кришна произнес пять слов. Юноша устало водрузил очки на место и ответил еще лаконичнее. Кришна поднял глаза на меня. – Вы наверняка должны знать, что именно о М. Дасе мы и говорили. – Который? – тупо спросил я.– Кто? Что вы хотите сказать, черт возьми? Вы имеете в виду, что священник и был великим поэтом М Дасом? Вы шутите? – Нет,– ровно ответил Кришна.– Не священник. – Тогда кто… – Жертва,– медленно, будто объясняя что-то глуповатому ребенку, сказал Кришна.– Жертва. Мистер М. Дас был тем, кого мистер Муктанандаджи принес в качестве жертвы.
9
Калькутта, ты продаешь на рынке Веревки, чтобы затянуть на шее.Той ночью мне снились коридоры и пещеры. Потом место действия переместилось в оптовый мебельный магазин в ближнем Саут-сайде в Чикаго, где я работал летом после второго курса в колледже. Магазин был закрыт, но я все ходил по бесконечным анфиладам демонстрационных помещений, плотно заполненных мебелью. Воздух пропитался запахами обивочной ткани и дешевого лака. Я побежал, протискиваясь между почти впритык расставленными гарнитурами. Я вдруг только что вспомнил, что Амрита с Викторией еще где-то в магазине, и если я не смогу быстро их найти, то нас здесь запрут на ночь. Я не хотел оставлять их одних, ожидающих меня, запертых в темноте. Я бежал, перемещался из комнаты в комнату, звал их по именам… Раздался звонок. Я дотянулся до дорожного будильника, стоявшего на тумбочке рядом с кроватью, но звук не затихал. Было пять минут девятого. И когда я уже сообразил, что этот шум исходит от телефона, из ванной вышла Амрита и сняла трубку. Пока она разговаривала, я дремал. Звук включенного душа снова вырвал меня из сна. – Кто это был? – Мистер Чаттерджи,– отозвалась Амрита, перекрикивая шум воды.– Ты не сможешь получить рукопись Даса до завтра. Он извинился за задержку. Все, кроме этого, решено. – М-м-м Черт. Еще один день. – В четыре мы приглашены на чай. – Да? Куда? – К мистеру Майклу Леонарду Чаттерджи. Он пришлет свою машину. Ты не хочешь спуститься и позавтракать со мной и со своей дочерью? Я что-то промычал, накрылся еще одной подушкой и опять заснул. Мне показалось, что прошло минут пять, прежде чем в комнату вошла Амрита с Викторией на руках. За ней следовал с подносом в руках официант в белом Будильник показывал десять двадцать восемь. – Благодарю вас,– сказала Амрита. Она опустила ребенка на ковер и дала официанту несколько рупий. Виктория захлопала в ладоши и откинула головку, чтобы посмотреть, как официант уходит. Амрита взяла поднос, поставила его на руку и поднесла кончик пальца к подбородку, одновременно грациозно присев в реверансе. – Намасти и с добрым утром, сагиб. Руководство отеля желает вам чудесного и приятного дня, хотя, к сожалению, большая его часть уже прошла. Да-да-да. Я уселся в кровати, а она обмахнула мои колени салфеткой и аккуратно поставила поднос. Затем она снова сделала реверанс и протянула руку ладонью вверх. Я бросил в ладонь веточку петрушки. – Сдачу оставьте себе,– сказал я. – О, благодарю вас, благодарю, великодушный сагиб,– пропела Амрита, пятясь с подобострастными поклонами. Засунув три пальца в рот, Виктория подозрительно смотрела на нас. – По-моему, сегодня ты собиралась поохотиться на сари,– заметил я. Амрита раздвинула тяжелые шторы, и я прищурился от серого света. – Господи! – воскликнул я.– Неужели это солнце? В Калькутте? – Мы с Камахьей уже сходили за покупками. Очень неплохой магазин. И совсем недорогой. – Что-нибудь подыскала? – Да конечно. Ткань принесут позже. Мы накупили много-много ярдов. Я истратила, наверное, весь твой аванс. – Черт! – Я опустил глаза и скривился. – Что такое, Бобби? Кофе холодный? – Нет, кофе нормальный. Очень даже неплохой. Просто я сообразил, что упустил возможность снова увидеть Камахью. Черт возьми! – Переживешь,– сказала Амрита, укладывая Викторию на кровать, чтобы переодеть. Кофе действительно был хорошим, и маленький металлический кофейник еще не опустел. Открыв тарелку, я обнаружил на ней два яйца, гренки с маслом и… о чудо из чудес… три кусочка настоящей грудинки. – Фантастика,– выдохнул я.– Спасибо, маленькая. – А, пустяки,– откликнулась Амрита.– Кухню, конечно, и не собирались открывать, но я сказала им, что это для знаменитого поэта из шестьсот двенадцатого номера. Поэт почти всю ночь обменивается байками с какими-то ребятами, а потом возвращается и при этом хихикает достаточно громко, чтобы разбудить жену и ребенка. – Прости. – О чем вы там говорили ночью? Ты что-то бормотал во сне, пока я тебя не пихнула. – Прости, прости, прости. Приладив Виктории новый подгузник, Амрита выбросила старый, снова подошла ко мне и присела на краешек кровати. – А если серьезно, Бобби, с какими откровениями выступил Таинственный Незнакомец Кришны? Это реально существующий человек? Я предложил ей ломтик гренки. Она отрицательно покачала головой, а потом взяла его у меня из пальцев и откусила кусочек. – Ты точно хочешь услышать эту историю? – спросил я. Амрита кивнула. Глотнув кофе, я решил опустить детали и начал рассказывать легким, слегка саркастическим тоном. Иногда прерывая рассказ, чтобы выразить свое отношение к некоторым местам повествования покачиванием головы или коротким замечанием, я умудрился уложить трехчасовой монолог Муктанандаджи меньше чем в десять минут. – О Господи,– произнесла Амрита, когда я закончил. Она казалась расстроенной, даже встревоженной. – В общем, в любом случае это было неплохим завершением моего первого дня в прекрасном городе Калькутте,– сказал я. – Ты не испугался, Бобби? – Помилуй Бог, нет. А почему я должен был испугаться, малышка? Волновался я лишь о том, чтобы вернуться в отель, сохранив при себе бумажник. – Да, но… Амрита умолкла, подошла к Виктории, сунула ей обратно в руку оброненную пустышку и вернулась к кровати. – Я хочу сказать, что если за этим больше ничего нет, то тогда, Роберт, ты провел вечер с сумасшедшим. Жаль… жаль, что я не была там, чтобы переводить. – Я тоже жалею,– искренне признался я.– Насколько я понимаю, Муктанандаджи декламировал снова и снова Геттисбергскую речь Линкольна по-бенгальски, а Кришна тем временем сочинял страшилку. – Значит, ты думаешь, что юноша рассказывал неправду? – Неправду? – повторил я, хмуро уставившись на нее.– Что ты хочешь этим сказать? Оживающие трупы? Мертвые поэты, извлекаемые из речного ила? Но ведь М. Дас, дорогая, исчез восемь лет назад. Из него получился бы весьма несвежий зомби, верно? – Нет, я не об этом,– сказала Амрита. Она улыбнулась, но улыбка получилась усталая. Я понял, что не надо было брать ее с собой. Я так волновался, что мне понадобится переводчик – кто-нибудь, кто поможет разобраться с местной культурой. Дубина! – Я просто подумала, что юноше, возможно, казалось, что он рассказывает правду,– пояснила Амрита.– Вполне вероятно, что он пытался присоединиться к капаликам, или как они там называются. Он мог увидеть нечто, чего не понял. – Да, возможно,– согласился я.– Не знаю. Парень был в ужасном виде: красные глаза, плохая кожа, весь издерганный… Наркотиками накачался, насколько я могу судить. У меня сложилось впечатление, что Кришна многое добавлял или менял. Это вроде той старой шутки из комедии, когда иностранец что-нибудь буркнет, а переводчик десять минут распинается. Понимаешь, что я хочу сказать? Как бы там ни было, вполне возможно, что он пытался вступить в это тайное общество, а они разыграли эти штучки с призраками. Но, по-моему, зачинщик здесь – Кришна. Амрита взяла поднос и поставила на туалетный столик. Не глядя на меня, она принялась переставлять с места на место чашку и серебряный прибор. – А зачем? Они просили денег? Отбросив простыню, я встал и подошел к окну. По середине улицы двигался трамвай, на ходу подбиравший и высаживавший пассажиров. Небо все еще было усеяно низкими тучами, но солнечного света хватало, чтобы отбрасывать тени на разбитую мостовую. – Нет,– сказал я.– Не напрямую. Но Кришна завершил вечер остроумным маленьким эпилогом, совсем sotto voce [2] объясняя, как необходимо его другу выбраться из города, попасть в Дели или еще куда-нибудь – возможно, даже в Южную Африку. Он не оставил никаких сомнений в том, что несколько сотен долларов были бы приняты с благодарностью. – Он просил денег? – Тяжеловесные британские гласные звучали у Амриты гораздо резче, чем обычно. – Нет. Напрямую – нет… – И сколько же ты им дал? – Она не проявляла ни тени раздражения, лишь любопытство. Я подошел к своему чемодану и начал вытаскивать оттуда чистое белье и носки. Я в очередной раз получил подтверждение того, что самым сильным аргументом против брака, абсолютно неопровержимым аргументом против многолетней жизни с одним человеком является разрушение иллюзии свободы воли постоянным осознанием своей полной предсказуемости для супруга. – Двадцать долларов,– ответил я.– Самый мелкий дорожный чек, что у меня был. Большую часть индийских денег я оставил тебе. – Двадцать долларов… – задумчиво пробормотала Амрита.– По нынешнему курсу это примерно сто восемьдесят рупий. Ты вписал имя Муктанандаджи? – Нет, оставил незаполненным. – Непросто ему будет добраться до Южной Африки на сто восемьдесят рупий,– мягко сказала она. – Черт побери, да мне все равно, даже если на мои деньги эти двое купят себе кокаина. Или пустят их на благотворительность – Фонд спасения Муктанандаджи от клятвы капаликам. Налоговые льготы. Деньги вперед. Амрита промолчала. – Взгляни на это с другой стороны,– сказал я.– Мы в любом случае не можем за двадцать долларов нанять няню, отправиться в Эксетер на паршивый фильм, а после этого еще и заглянуть в «Макдональдс». Его рассказ был гораздо интереснее, чем некоторые из фильмов, на которые мы ездили в Бостон. Как назывался этот дурацкий детский фильмец, на который мы спустили пять долларов, когда перед самым отъездом ходили в кино с Дэном и Барб? – «Звездные войны»,– ответила Амрита.– Как ты думаешь, можно из этой истории что-нибудь взять для статьи в «Харперс»? Я завязал пояс на банном халате. – Саму встречу и кафе можно. Я попробую показать, насколько сюрреалистичны и нелепы некоторые персонажи в моих… Как это назвал Морроу?.. В моих поисках М. Даса. Но бредовые излияния Муктанандаджи я не смогу использовать. Разве что малую часть. Упомяну, конечно, но все эти штуки с капаликами уж больно потусторонни. Подобные россказни про богиню-убийцу канули в Лету с последними киносериалами. Я еще проверю то, что касается шайки,– возможно, капалики представляют собой разновидность калькуттской мафии,– но остальное слишком сверхъестественно, чтобы вставлять в серьезную статью о превосходном поэте. Это даже патологией не назовешь, это… – Извращение? – Нет, никто не будет возражать, если я напишу о небольшом здоровом извращении. Я имел в виду слово «банальность». – Избави нас Господь от штампов, так? – Правильно понимаешь, детка. – Ладно, Бобби. Что мы будем делать теперь? – Гм-м-м… Хороший вопрос,– задумчиво протянул я. Я играл в прятки с Викторией. Мы оба использовали край простыни в качестве укрытия. Вместе хихикали, когда я поднимал ткань, как занавес между нами. Потом Виктория закрывала глазки пальчиками, а я с растерянным видом озирался по сторонам, пытаясь ее найти. Малышке это нравилось. – Пожалуй, для начала я приму душ,– сказал я.– Потом мы посадим тебя и нашу крошку на дневной рейс до Лондона. Пока у меня еще ни разу не было необходимости привлекать тебя в качестве переводчицы, разве что для того, чтобы понять бормотание носильщика. Я устал платить за прокорм лишних ртов. Тебе нет нужды просиживать здесь еще целый день, даже если мне придется дожидаться, чтобы вместе с Чаттерджи все оформить. Сегодня суббота. Можешь на некоторое время остановиться в Лондоне, навестить сегодня вечером родителей, а в Нью-Йорк мы прилетим почти одновременно… Скажем, во вторник вечером. – Извини, Бобби, но это невозможно по нескольким причинам. – Чепуха,– возразил я.– Нет ничего невозможного. Мы с Викторией нашли друг дружку и захихикали. – Перечисли свои возражения,– предложил я,– а я их отмету. – Во-первых, на четыре мы приглашены к Чаттерджи на чай… – Я передам твои извинения. Дальше. – Во-вторых, ткань на сари из лавки еще не принесли. – Я сам привезу. Что еще? – В-третьих, мы с Викторией будем по тебе скучать. Будем, бесценная? Виктория оторвалась от игры ровно настолько, чтобы вежливо зевнуть матери. Затем она поменяла правила и стала натягивать край простыни себе на голову. – Мне жаль, но счет – три—ноль,– сказал я Амрите.– Ты вышла из игры. Мне вас тоже будет не хватать, ребята, но, может быть, если вы уедете, я смогу провести время с твоей подругой Камахьей. По-моему, сегодня в два часа есть рейс на Лондон. Если нет, то я останусь с вами до более позднего рейса. Амрита собрала часть игрушек ребенка и положила их в ящик. – Есть еще и четвертая проблема,– сказала она. – Какая же? – «БОАК» и «ПанАм» отменили все полеты из Калькутты, кроме транзитного рейса «БОАК» из Таиланда в шесть сорок пять утра. С погрузкой багажа трудности, как мне сказали. Я звонила вчера вечером, когда затосковала. – Дьявол. Ты шутишь. Проклятье! Виктория почувствовала перемену тона и уронила простыню. Она сморщила личико, готовая расплакаться. – Должна же быть хоть какая-то возможность выбраться из этой вонючей задницы… прости, маленькая… из этого города. – Да, конечно. Все внутренние рейсы «Эйр-Индия» функционируют. Мы могли бы пересесть в Дели на «ПанАм» или еще на чей-нибудь трансатлантический маршрут там же или в Бомбее. Но мы пропустили сегодня утренний рейс на Нью-Дели, а на всех остальных предусмотрены жутко длинные промежуточные стоянки. Лучше подожду тебя, Бобби. Не хочу без тебя разъезжать по этой стране. Мне ее в детстве хватило. – Ладно, сладкая моя.– Я обнял Амриту одной рукой.– Что ж, тогда попробуем попасть на утренний рейс «БОАК» в понедельник. Господи Иисусе! Полседьмого утра! Ничего, зато это будет полет с завтраком. Не возражаешь, если я все-таки выполню свой план насчет душа? – Да,– сказала Амрита, беря ребенка на руки.– Я все узнала у работников «БОАК», и с твоим душем нет никаких проблем.Тушар Рой
В тот день нас потянуло на осмотр достопримечательностей. Я засунул Викторию в детский рюкзак, и мы вышли в жару, шум и суматоху. И температура, и влажность болтались где-то в районе отметки «100». Мы более чем прилично позавтракали в заведении, именовавшемся «Шахиншах», после чего доехали на такси по Чоурингхи до Индийского музея. У входа висело небольшое объявление: «„КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ЙОГОЙ В ПАРКЕ!“ Внутри стояла страшная жара, витрины покрывал толстый слой пыли, а в самом здании было на удивление безлюдно, если не считать шумной и противной группы немецких туристов. Меня мало интересовали антропологические залы на первом этаже, но в конце концов мое внимание привлекла археологическая экспозиция. – Что там? – спросила Амрита, увидев, что я склонился над стеклянной витриной. На этикетке рядом с маленькой черной статуэткой было написано: «Изображение богини Дурги в воплощении Кали. Ок. 80 г. до. н. э.». Ничего особо пугающего в ней не наблюдалось. Я не увидел никаких признаков петли, черепа или отрубленной головы. Одна рука держала нечто напоминающее сучок, другая – опрокинутую рюмку для яйца, в третьей руке был зажат предмет, который мог бы быть трезубцем, но больше напоминал открытый складной ножик, а четвертую богиня протягивала вперед – вверх ладонью, на которой лежал крохотный желтый пирожок. Как и у всех скульптурных изображений богини, что я видел в музее, у этой статуэтки была высокая талия, упругие груди и продолговатые уши. Лицо у нее было нахмуренным, многочисленные зубы – острыми, но я не разглядел ни вампирских клыков, ни высунутого языка. Ее головной убор составляли языки пламени. На мой взгляд, скульптура, обозначенная как «Дурга», выставленная в другой витрине неподалеку, имела куда более свирепый вид. У того, по всеобщему мнению, более добродушного воплощения Парвати, было десять рук, каждая из которых сжимала оружие, одно страшнее другого. – Твоя подруга Кали не кажется такой уж ужасной,– заметила Амрита. Даже Виктория высунулась из своего заплечного убежища, чтобы взглянуть на витрину. – Этой штуковине две тысячи лет,– откликнулся я.– Возможно, с тех пор она стала более злобной и кровожадной. – Некоторым женщинам возраст не идет на пользу,– согласилась Амрита и двинулась к следующей витрине. Виктории, судя по всему, приглянулся бронзовый идол Ганеша – веселый бог благосостояния со слоновьей головой,– и в оставшееся время в музее мы занимались игрой, которая заключалась в том, чтобы найти как можно больше изображений Ганеши. Амрита хотела бы посетить Мемориальный зал королевы Виктории, чтобы посмотреть реликвии колониальных времен, но времени уже не оставалось, и мы довольствовались тем, что проехали мимо на такси и показали ребенку впечатляющее белое сооружение, названное, как мы ей сказали, в ее честь. В гостиницу мы бежали под проливным дождем, быстро переоделись, а когда вышли, то обнаружили, что нас ожидает машина Чаттерджи, а ливень закончился. Впервые за несколько дней я надел галстук и, когда машина влилась в транспортный поток, чувствовал себя неуютно, дергал за узел и мечтал о том, чтобы воротник был посвободнее или шея потоньше. Белая рубашка с короткими рукавами уже взмокла на спине, и я вдруг обратил внимание, какими потертыми и замызганными выглядели мои старые добрые туфли. В общем, я чувствовал себя помятым, растрепанным и пропотевшим.. Я взглянул искоса на Амриту. Она – как и всегда – держалась хладнокровно и сдержанно. На ней было белое хлопчатобумажное платье, которое она купила в Лондоне, и ожерелье из ляпис-лазури, подаренное мной еще до свадьбы. Волосы ее, по всем законам, должны были свисать безвольными прядями, но вместо этого пышно и глянцево ниспадали на плечи. Мы ехали около часа, и эта поездка напомнила мне, что Калькутта по площади больше Нью-Йорка. Движение было диким и суматошным, как всегда, но молчаливый водитель Чаттерджи выбрал среди этой сумятицы кратчайший маршрут. Мою тревогу по поводу безопасности движения не слишком-то успокаивали большие белые щиты с надписями на бенгали, хинди и английском, установленные в центре нескольких хаотических круговых развязок, которые мы проезжали: «БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ЗА РУЛЕМ! НА ЭТОМ УЧАСТКЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ПОГИБЛИ … ЧЕЛОВЕК!». Пропуски были заполнены съемными табличками с цифрами, подобные которым можно увидеть на старых бейсбольных площадках. Самым большим числом, попавшим нам на глаза, было 28. У меня невольно возник вопрос, имеется ли в виду весь участок дороги или лишь несколько квадратных футов мостовой. Кое-где мы проезжали по шоссе, зажатому с обеих сторон огромными чольями – невероятными трущобами с жестяными крышами, стенами из джутовых мешков и немощеными грязными улицами,– которые прерывались лишь серыми монолитами заводов, извергающих пламя и сажу в сторону муссонных облаков. Я обнаружил, что распространяющиеся философские мировоззрения – вроде экологии и контроля за загрязнением окружающей среды – являются роскошью, доступной лишь для наших передовых промышленных стран. Воздух Калькутты, и без того насыщенный запахами нечистот, паленого кизяка, миллионов тонн отбросов и постоянно горящих бесчисленных костров, становился почти непереносимым из-за примеси неочищенных автомобильных выхлопов и промышленных выбросов. Сами заводы представляли собой гигантские скопления выветренного кирпича, ржавеющей стали, разросшихся сорняков и выбитых окон – картинки мрачного будущего, когда индустриальную эру постигнет судьба динозавров, но от нее останутся раскиданные окрест разрушающиеся остовы. Однако от большинства этих развалин поднимался дым, а из черных утроб выходили фигуры в лохмотьях. Я не мог представить себя работающим на каком-нибудь из этих зловещих заводов и живущим в одной из тех лачуг с земляным полом. Амрита, должно быть, думала о том же, поскольку ехали мы молча, разглядывая проносящуюся мимо окон машины панораму человеческой безысходности. Затем в течение всего нескольких минут мы промчались по мосту над многочисленными железнодорожными путями, миновали ряд небольших лавчонок и вдруг оказались в старом, обжитом районе с усаженными деревьями улицами и большими домами, обнесенными стенами с решетчатыми воротами. Неяркий солнечный свет отражался от бесчисленных осколков битого стекла, заделанного в верхние гребни гладких стен. В одном месте по верху высокой стены шла чистая полоса примерно в ярд шириной, но остальная часть каменной кладки грязного цвета пестрела темными пятнами. В конце длинных подъездных дорожек возле домов стояли сверкающие автомобили. На увенчанных железными пиками воротах виднелись небольшие таблички с надписью: «Осторожно, собака», сделанной не меньше чем на трех языках. Не требовалось особой проницательности, чтобы сообразить, что когда-то здесь располагался жилой квартал англичан, отделенный от адской городской сутолоки настолько, насколько мог себе позволить правящий класс. Запустение оставило следы даже здесь: часто попадались обшарпанные стены, крыши без кровли, грубо заколоченные досками окна,– но это было контролируемое запустение, арьергардные бои с неистовой энтропией, царившей, казалось, по всей Калькутте. Ощущение распада слегка смягчали яркие цветы и другие очевидные свидетельства усиленных попыток обиходить дворы, которые проглядывались за высокими воротами. Мы свернули к одним из таких ворот. Шофер вышел и открыл висячий замок ключом, болтавшимся на цепочке у него на поясе. Над круговой подъездной дорожкой, окаймленной высокими цветущими кустами, нависали ветки деревьев. Нас приветствовал Майкл Леонард Чаттерджи: – О, мистер и миссис Лузак! Добро пожаловать! Его жена тоже стояла у двери вместе с малышом, которого я сначала принял за их сына, но потом сообразил, что это, должно быть, внук. Госпоже Чаттерджи было шестьдесят с небольшим, и это позволило мне сделать вывод, что ее супруг старше, чем казался на первый взгляд. Мистер Чаттерджи был одним из тех гладколицых, постоянно лысеющих джентльменов, которые по достижении пятидесяти застывают в этом возрасте лет на двадцать. Мы перекинулись несколькими словами на крыльце. Виктория получила должные комплименты, а мы похвалили хозяйского внука. Нам быстро показали дом, прежде чем проводить на широкую террасу, выходящую в переулок. Их дом меня заинтересовал. Мне впервые представилась возможность посмотреть, как живет индийская семья из высших слоев. Сразу бросились в глаза несоответствия: просторные, с высокими потолками парадные помещения, в которых краска отслаивалась от грязноватых стен; прекрасный ореховый буфет, испещренный царапинами, а на нем – чучело мангуста с покрытыми пылью стеклянными глазами и вытертым мехом; дорогой кашмирский ковер ручной работы, положенный на обшарпанный линолеум; большая, некогда современная кухня, заставленная запыленными бутылками, старыми ящиками, нечищеными кастрюлями, а прямо посередине – угольный очаг. Следы копоти покрывали когда-то белый потолок. – На свежем воздухе будет гораздо удобнее,– пояснил Чаттерджи, открывая для Амриты дверь. Каменный пол еще оставался мокрым после недавнего ливня, но мягкие стулья были сухими, а стол накрыт к чаю. Взрослая дочь Чаттерджи, полная молодая женщина с чудесными глазами, присоединилась к нам лишь для того, чтобы несколько минут пощебетать с Амритой на хинди, а затем удалилась вместе с сыном.. Чаттерджи, казалось, был поражен лингвистическими способностями Амриты, и спросил ее о чем-то по-французски. Амрита ответила без запинки, и они рассмеялись. Он переключился на другой язык – как я узнал позже, тамильский,– но Амрита отреагировала и на этот раз. Затем они начали перебрасываться простыми фразами на русском. Я отпил чаю и улыбнулся госпоже Чаттерджи. Она улыбнулась в ответ и предложила мне сандвич с огурцом Мы улыбались друг другу в течение еще нескольких минут, пока продолжалась трехъязычная шутливая беседа, а потом Виктория заворочалась. Амрита взяла ребенка, а Чаттерджи заговорил со мной: – Не хотите еще чаю, мистер Лузак? – Нет, спасибо, все было очень вкусно. – Может быть, что-нибудь покрепче? – Э-э-э… Чаттерджи щелкнул пальцами, и тут же появился слуга. Через несколько секунд он принес поднос с графинами и стаканами. – Вы пьете виски, мистер Лузак? «Католик ли Папа Римский?» – подумал я. – Да. Амрита меня предупреждала, что индийское виски – жуткое пойло, но, судя по первому же глотку, в графине у Чаттерджи содержалось патентованное виски, почти наверняка двенадцатилетней выдержки и почти наверняка импортное. – Великолепно. – Это «Гленливет»,– сказал он.– Чистое. Я считаю его гораздо более оригинальным, чем смешанные марки. Несколько минут мы говорили о поэзии и поэтах. Я пытался подвести разговор к М. Дасу, но Чаттерджи не захотел обсуждать без вести пропавшего поэта и лишь упомянул о том, что Гупта уладил все детали завтрашней передачи рукописи. Мы пустились в рассуждения о трудностях, поджидающих серьезного литератора в обеих наших странах в его попытках обеспечить себе достойное существование. У меня сложилось впечатление, что Чаттерджи деньги достались по наследству и что у него есть и другие интересы, вложения и доходы. Беседа неизбежно скатилась к политике. Чаттерджи весьма красноречиво поведал о том, каким облегчением для страны было поражение госпожи Ганди на последних выборах.. Возрождение демократии в Индии очень меня интересовало, и кое-что я собирался использовать в статье о Дасе. – Она была тираном, мистер Лузак. Так называемое чрезвычайное положение было не более чем уловкой для прикрытия уродливого лица тирании. – Значит, вы считаете, что она никогда не вернется в национальную политику? – Никогда! Никогда, мистер Лузак. – Но мне казалось, что у нее по-прежнему остается сильная политическая база, а Национальный конгресс все еще способен обеспечить себе твердое большинство, если нынешняя коалиция дрогнет. – Нет-нет.– Чаттерджи отрицательно замахал рукой.– Вы не понимаете. С госпожой Ганди и ее сыном покончено. В течение ближайшего года они попадут в тюрьму. Помяните мои слова. Ее сын уже находится под следствием из-за разных скандалов и непотребного поведения. Когда же выплывет вся правда, его счастье, если удастся избежать смертной казни. Я кивнул. – Я читал, что многих людей он оттолкнул радикальными программами по контролю за рождаемостью. – Он был свиньей,– без признака эмоций произнес Чаттерджи.– Высокомерной, невежественной свиньей с диктаторскими замашками. Его программы мало чем отличаются от попыток устроить геноцид. Он обманывал бедных и необразованных людей, хотя сам изрядный невежда. Даже его мать боялась этого чудовища. Появись он сейчас в толпе, его бы разорвали голыми руками. Я сам бы с радостью принял в этом участие. Еще чаю, миссис Лузак? По тихому переулку за железным забором проехал автомобиль. Несколько дождевых капель упали на широкие листья баньяна у нас над головой. – Каковы ваши впечатления от Калькутты, мистер Лузак? Неожиданный вопрос Чаттерджи застиг меня врасплох. Я выпил виски и, прежде чем ответить, подождал секунду, пока тепло от напитка разольется по телу. – Калькутта завораживает, мистер Чаттерджи. Это слишком сложный город, чтобы всего за два дня составить о нем хоть какое-то мнение. Нам должно быть совестно, что мы не сможем провести здесь больше времени, чтобы осмотреть все как следует. – Вы дипломатичны, мистер Лузак. На самом деле вы хотите сказать, что находите Калькутту отвратительной. Она уже успела оскорбить ваши чувства, не так ли? – «Отвратительной» – не совсем точное слово,– возразил я.– Правда в том, что бедность производит на меня ужасное впечатление. – Ах да, бедность… – произнес Чаттерджи, улыбнувшись, словно это слово имело оттенок глубокой иронии.– Действительно, здесь много бедности. Много нищеты, по западным меркам. Это должно оскорблять американский разум, поскольку Америка неоднократно устремляла свою великую волю на искоренение бедности. Как это выразился ваш бывший президент Джонсон?.. Объявить войну бедности? Можно подумать, что ему было мало войны во Вьетнаме. – Война с бедностью – это еще одна проигранная нами война. В Америке по-прежнему немало бедняков. Я поставил пустой стакан, и тут же рядом возник слуга, чтобы подлить виски. – Да-да, но мы говорим о Калькутте. Один наш неплохой поэт назвал Калькутту «полураздавленным тараканом». А другой писатель сравнил город с престарелой умирающей куртизанкой, окруженной кислородными баллонами и гниющими апельсиновыми корками. Вы согласны с этим, мистер Лузак? – Я бы согласился с тем, что это очень сильные метафоры, мистер Чаттерджи. – Ваш супруг всегда так осмотрителен, миссис Лузак? – поинтересовался Чаттерджи и с улыбкой посмотрел на нас поверх своего стакана.– Нет-нет, не беспокойтесь, что я могу обидеться. Я уже привык к американцам и к их реакции на наш город. Она сводится к двум вариантам: Калькутту либо считают «экзотичной» и стремятся в полной мере насладиться всеми доступными здесь для туристов удовольствиями, либо сразу же пугаются, испытывают омерзение и спешат забыть то, что видели и не поняли. Да-да, американская душа так же предсказуема, как и стерильная и уязвимая американская пищеварительная система при столкновении с Индией. Я метнул взгляд в сторону госпожи Чаттерджи, но она подбрасывала Викторию у себя на коленях и, казалось, не слышала заявлений мужа. В ту же секунду на меня посмотрела Амрита, и я воспринял это как предостережение. Я улыбнулся, чтобы продемонстрировать нежелание ввязываться в спор. – Возможно, вы правы,– сказал я,– хотя я не взял бы на себя смелость утверждать, что понял «американскую душу» или «индийскую душу» – если таковые вообще существуют. Первые впечатления всегда поверхностны. Я это понимаю. Я давно восхищался индийской культурой, еще даже до встречи с Амритой, а она, конечно, поделилась со мной частицей этой красоты. Но могу признать, что Калькутта немного пугает. Есть, по-видимому, что-то уникальное… уникальное и вызывающее беспокойство в городских проблемах Калькутты. Возможно, это только из-за ее масштабов. Друзья мне говорили, что Мехико при всей его красоте имеет те же проблемы. Чаттерджи кивнул, улыбнулся, поставил стакан. Сложив ладони пальцами вверх, он посмотрел на меня взглядом учителя, который никак не может определить, стоит или не стоит тратить на этого ученика время. – Вы не много путешествовали, мистер Лузак? – В общем-то, мало. Несколько лет назад я прошелся с рюкзаком по Европе. Некоторое время провел в Танжере. – Но в Азии не бывали? – Нет. Чаттерджи опустил руки с таким видом, словно его точка зрения получила весомое подтверждение. Но урок еще не закончился. Хозяин дома щелкнул пальцами, отдал распоряжение, и мгновение спустя слуга принес какую-то тонкую голубую книжку. Название я не смог разглядеть. – Скажите, пожалуйста, мистер Лузак, является ли это описание Калькутты справедливым и обоснованным,– молвил Чаттерджи и начал читать вслух: «…плотное скопление домов настолько ветхих, что того и гляди упадут, через которое, изгибаясь и виляя, проходят узенькие, кривые переулки. Здесь нет уединения, и кто бы ни отважился явиться в этот район, обнаружит на улицах, названных так из вежливости, толпы праздношатающихся, разглядит сквозь частично застекленные окна комнаты, до отказа заполненные людьми… застоявшиеся сточные канавы… заваленные мусором темные проходы… покрытые копотью стены, двери, сорванные с петель… И повсюду кишат дети, облегчающиеся всюду, где им угодно». Он остановился, закрыл книгу и поднял брови, изобразив вежливый вопрос. Я ничего не имел против игры в прямолинейность, раз уж это доставляет удовольствие хозяину дома. – Многое сходится,– сказал я. – Да.– Чаттерджи улыбнулся и поднял в руке книгу.– Это, мистер Лузак, описание Лондона, сделанное современником в 1850 году. Следует принять во внимание тот факт, что Индия только начинает свою промышленную революцию. Беспорядок и сумятица, которые вас так шокируют,– нет-нет, не отрицайте! – есть неизбежные побочные продукты такой революции. Вам повезло, мистер Лузак, что ваша культура уже давно миновала эту точку. Я кивнул, подавив в себе желание признаться, что зачитанное описание вполне подошло бы и для районов в южной части Чикаго, где я вырос. Мне все-таки казалось, что стоит предпринять еще одну попытку прояснить свою точку зрения. – Это очень верно, мистер Чаттерджи. Я понимаю значение сказанного вами. По дороге сюда я думал примерно о том же, а вы расставили все акценты. Но должен добавить, что за время нашего краткого пребывания здесь я ощутил нечто… Видите ли, есть в Калькутте нечто иное. Не могу точно определить, что это. Странное ощущение… насилия, пожалуй. Ощущение насилия, бурлящего прямо у поверхности. – Или, может быть, безумия? – ровным голосом спросил Чаттерджи. Я ничего не ответил. – Многие исследователи нашего города, мистер Лузак, отмечают это мнимое ощущение всепроникающего насилия. Видите ту улицу? Да, именно ту? Я проследил за направлением его пальца. Запряженная быками повозка двигалась по пустынному переулку. Если убрать тащившуюся повозку и баньяны с многочисленными стволами, то подобный вид можно было бы отнести к старому, изрядно обветшавшему району любого американского города. – Да,– сказал я.– Вижу. – Некоторое время тому назад я сидел здесь за завтраком и наблюдал, как там убивали семью. Нет, «убивали» не то слово. Их кромсали, мистер Лузак, кромсали! Там Именно на том месте, где сейчас проезжает повозка. – Что же произошло? – Это было во время столкновений индусов и мусульман. Там у местного врача жила бедная мусульманская семья. Мы привыкли к ним. Глава семьи был плотником, и мой отец неоднократно пользовался его услугами. Их дети играли с моим младшим братом. Потом, в 1947 году, во время самых ожесточенных столкновений они решили перебраться в Восточный Пакистан. Я увидел, как они едут по улице в телеге, запряженной лошадью. Их было пятеро, в том числе и самый маленький на руках у матери. Я как раз завтракал, когда услышал шум Их перехватила толпа. Мусульманин спорил. Напрасно он ударил плеткой вожака того сборища. Толпа подалась вперед. Я сидел на том самом месте, где сейчас сидите вы, мистер Лузак. И все отлично видел. Те люди пустили в ход дубинки, булыжники, голые руки. Вполне возможно, и зубы. Когда все закончилось, плотник-мусульманин и его семейство превратились в грязные кучи посреди улицы. Погибла даже их лошадь. – Боже праведный! – только и произнес я и, нарушив наступившую тишину, спросил: – Вы хотите сказать, мистер Чаттерджи, что согласны с теми, кто усматривает в этом городе налет безумия? – Совсем напротив, мистер Лузак. Я упомянул об этом инциденте, поскольку в разъяренной толпе были… и остаются таковыми… мои соседи: господин Гольвалькар, учитель, господин Ширшик, пекарь, старик Мухкерджи, что работает на почте рядом с вашей гостиницей. Они были обычными людьми, мистер Лузак, которые вели нормальную жизнь до того прискорбного случая и после вновь вернулись к нормальной жизни. Я упомянул об этом, потому что сей факт доказывает глупость тех, кто делает из Калькутты эпицентр бенгальского безумия. Про любой город можно сказать, что в нем есть «насилие, бурлящее прямо у поверхности». Вы видели сегодняшнюю газету на английском? – Газету? Нет. Чаттерджи развернул газету, лежавшую возле сахарницы, и подал ее мне. Местом действия заметки на первой полосе был Нью-Йорк. Накануне вечером там произошла авария в электросетях, самая серьезная со времени полного отключения электроэнергии в 1965 году. Как по команде по гетто и бедным районам города прокатилась волна грабежей. Тысячи людей приняли участие в явно бессмысленных актах вандализма и хищений. Под одобрительные выкрики из толпы целые семьи разбивали витрины магазинов и тащили все, что можно было унести: телевизоры, одежду… Сотни из них были арестованы, но мэрия и полиция признали свое бессилие перед проблемой такого размаха. Были здесь и перепечатки из американских газет. Либералы видели в этом возрождение социального протеста и поносили спровоцировавшие его дискриминацию, бедность и голод. Консервативные комментаторы ядовито указывали на то, что голодные люди не станут воровать в первую очередь стереосистемы, и призывали к решительной борьбе с правонарушителями. Аргументированные комментарии казались бессмыслицей на фоне извращенной спонтанности самого события. Все выглядело так, будто большие города защищены от повального варварства лишь тонкой стеной электрического света. Я передал газету Амрите. – Ужасно, мистер Чаттерджи. Ваша точка зрения хорошо обоснована. Я, конечно, не хотел выглядеть слишком самоуверенным в своих убеждениях о том, что касается проблем Калькутты. Чаттерджи улыбнулся и снова сложил ладони вместе. В его очках отражался серый свет и темные очертания моей головы. Он слегка кивнул. – Как вы понимаете, мистер Лузак, это проблема всех городов. Проблема, усугубляемая уровнем нищеты и нравами иммигрантов, наводнивших Калькутту. Она переживает буквально нашествие необразованных чужаков. Наши трудности вполне реальны, но мы не видим в них ничего уникального. Я молча кивнул. – Я не согласна,– вмешалась Амрита. Мы с Чаттерджи удивленно повернулись к ней. – Я совершенно не согласна, мистер Чаттерджи,– повторила она.– По-моему, это прежде всего проблема культуры, во многих отношениях присущая Индии, если не одной Калькутте. – Неужели? – Чаттерджи забарабанил пальцами сложенных вместе ладоней. Несмотря на самоуверенную улыбку, его явно удивлял и раздражал тот факт, что ему противоречит женщина.– Что вы имеете в виду, миссис Лузак? – Что ж, поскольку, судя по всему, сейчас вполне уместно иллюстрировать гипотезы случаями из жизни,– тихо заговорила Амрита,– позвольте мне рассказать о двух происшествиях, которые я наблюдала вчера. – Извольте.– Улыбка Чаттерджи теперь больше походила на гримасу. – Вчера я завтракала в открытом кафе в «Оберое»,– начала она.– Мы с Викторией сидели за столиком одни, но вокруг было много народу. За соседним столиком расположились летчики из «Эйр-Индия». В нескольких футах от нас женщина из касты неприкасаемых подстригала траву ручными ножницами… – Прошу прощения,– перебил Чаттерджи, и неприятная гримаса явственно проступила на его гладком лице.– Мы предпочитаем говорить «лицо определенного класса». Амрита улыбнулась. – Да, я это знаю,– сказала она.– Определенный класс, или хариджан, «возлюбленные Бога». Я выросла при этих условностях. Но это не более чем эвфемизмы, мистер Чаттерджи, и вам это хорошо известно. Она относится к определенному классу, потому что появилась на свет в этой касте – и в ней же умрет. Ее дети почти навернякапроведут жизнь за той же холуйской работой, что и она. Она – неприкасаемая. От улыбки Чаттерджи повеяло холодом, но он промолчал. – Одним словом, она приседала, подрезала по травинке за раз, передвигаясь по двору походкой, которая показалась мне очень болезненной. Никто не замечал ее. Эта женщина оставалась для всех такой же невидимой, как и трава, которую она подстригала. Накануне ночью с галереи упал электропровод. Он повис над газоном во дворе, но никто и не подумал починить линию или отключить ток. Официанты просто пригибались, проходя в сторону бассейна. Неприкасаемая женщина наткнулась на него во время работы и хотела убрать с дороги. А провод не был изолирован. Когда она до него дотронулась, ее сильно тряхнуло, но она не смогла выпустить провод из рук. Боль, наверное, была адская, однако женщина издала лишь один страшный вопль. Она буквально извивалась на земле, убиваемая током прямо на наших глазах. Я говорю «на наших», мистер Чаттерджи. Официанты стояли сложив руки и смотрели. Рабочие на возвышении рядом с этой женщиной безучастно поглядывали вниз. Один из летчиков рядом со мной отпустил какую-то шутку и снова принялся за кофе. Я не очень-то быстро соображаю, мистер Чаттерджи. Всю свою жизнь я старалась повернуть обстоятельства так, чтобы другие делали за меня даже самые простые вещи. Я всегда просила сестру покупать для нас билеты на поезд. Даже сейчас, если мы с Бобби заказываем пиццу на дом, я прошу его позвонить по телефону. Но когда прошло с полминуты и стало ясно, что никто из присутствующих – а там было не меньше дюжины мужчин – не спасет бедняжку от смерти, я сорвалась с места. Особого ума или смелости не потребовалось. Возле двери стояла метла. Я убрала провод с ее руки при помощи деревянной ручки. Я уставился на свою жену. Амрита мне об этом ничего не сказала. Чаттерджи как-то растерянно кивал, но я первым обрел дар речи. – Она сильно пострадала? – По всей видимости, нет,– ответила Амрита.– Был разговор, чтобы послать ее в больницу, но через пятнадцать минут она уже снова подстригала траву. – Да-да,– заговорил Чаттерджи.– Все это очень интересно, но не должно рассматриваться вне контекста… – Второй случай произошел примерно через час после первого,– ровным голосом продолжала Амрита.– Мы с приятельницей покупали ткань для сари возле кинотеатра «Элита». Пробка тянулась на несколько кварталов. Посреди улицы стояла старая корова. Люди кричали и сигналили, но никто не пытался сдвинуть ее с места. Вдруг корова стала мочиться и выпустила на мостовую целый поток. На тротуаре возле нас стояла девочка – очень милая, лет пятнадцати, в свежей белой блузке и красной косынке. Эта девочка тут же выбежала на проезжую часть, погрузила руки в поток мочи и плеснула себе на лоб. В тишине слышался лишь шелест листвы. Чаттерджи посмотрел на свою жену, затем вновь перевел взгляд на Амриту. Кончики его пальцев бесшумно барабанили друг о друга. – Это и есть второй случай? – спросил он. – Да. – Миссис Лузак, хоть вы с детства и не были в своей стране – в Индии,– вы наверняка должны помнить то уважение, которое мы питаем к коровам как символам нашей религии. – Да. – И вам должно быть известно, что не все люди в Индии разделяют… э-э-э… страх западного человека перед идеей классовых различий. – Да. – А разве вам неизвестно, что моча… особенно моча человека… по мнению многих местных жителей, обладает сильными духовными и медицинскими качествами? Знаете ли вы, что наш нынешний премьер-министр, мистер Мораджи Десаи, каждое утро выпивает по нескольку унций своей собственной мочи? – Да, я это знаю. – Тогда, признаюсь честно, миссис Лузак, не понимаю, о чем говорят ваши «случаи», кроме как разве что о несовпадении культур и вашем отвращении к национальным традициям родной страны. Амрита покачала головой. – Дело не в различии культур, мистер Чаттерджи. Как математик, я стараюсь рассматривать разные культуры достаточно абстрактно, в виде соприкасающихся систем с определенными общими элементами. Или, если угодно, в качестве серии человеческих экспериментов, определяющих, как жить, думать, как вести себя по отношению друг к другу. Возможно, благодаря собственному прошлому – потому что я еще в детстве много путешествовала – я достаточно объективно отношусь к различным культурам, с которыми сталкивалась и в окружении которых жила. – Да? – А в индийской системе культурных установок, мистер Чаттерджи, я нахожу некоторые элементы, присущие не многим культурам… А если такого рода особенности и присутствовали в культурах некоторых стран, то их предпочли не сохранять. В своей собственной стране я нахожу укоренившийся расизм, который, вероятно, находится за пределами обычных сравнений. Я нахожу, что та философия ненасилия, на которой я воспитана – и которая мне больше всего по душе,– продолжает разрушаться преднамеренными и бессердечными проявлениями дикости среди ее сторонников. А тот факт, что ваш премьер-министр, мистер Чаттерджи, выпивает несколько стаканов своей мочи в день, не делает подобную практику привлекательной для меня. Как и для большей части остального мира. Мой отец часто напоминал мне, что, когда Махатма ходил от деревни к деревне, первое, что он проповедовал, было не братство людей, не антибританские акции или ненасилие, но основы – самые элементарные основы – гигиены человека. Нет, мистер Чаттерджи, будучи индианкой, я не могу согласиться, что трудности Калькутты представляют собой миниатюрную копию повсеместных городских проблем. Чаттерджи смотрел на нее поверх пальцев. Госпожа Чаттерджи беспокойно ерзала. Виктория подняла взгляд на мать, но не издала ни звука. Не знаю, как бы продолжился разговор, но именно в эту секунду вокруг нас начали падать первые большие капли дождя. – Думаю, нам будет гораздо удобнее в доме,– сказала миссис Чаттерджи, когда гроза разошлась в полную силу.
Присутствие шофера Чаттерджи сдерживало нас во время обратной поездки в гостиницу, однако мы все же смогли пообщаться посредством изощренных кодов, известных только супружеским парам. – Тебе бы в ООН работать,– заметил я. – Я и работала на ООН,– ответила Амрита.– Ты забываешь, что как-то я проработала там целое лето в качестве переводчика. За два года до нашей встречи. – Гм, затеяла какую-нибудь войну? – Нет. Я предоставила это профессиональным дипломатам. – Ты не говорила мне, что видела во время завтрака женщину, которую чуть не убило током. – Ты не спрашивал. Бывают моменты, когда даже муж понимает, что ему следует заткнуться. Сквозь подвижную завесу дождя мы смотрели на проносящиеся мимо трущобы. Некоторые люди на улице даже не пытались спрятаться от ливня, а лишь тупо приседали на корточках в грязь, склонив головы под потоками воды. – Видишь детей? – негромко спросила Амрита. До сих пор я не обращал на это внимания, но теперь увидел: девочки лет семи-восьми стояли, держа на бедрах детей еще меньше. Только сейчас до меня дошло, что это был один из наиболее часто встречавшихся нам за последние пару дней образов: дети, державшие детей. Поскольку лил дождь, они укрылись под навесами, мостками и насквозь промокшими полотнами. Их оборванная одежда была ярких цветов, но даже ослепительный красный или царский голубой не скрывали грязи и изношенности. На худеньких запястьях и лодыжках девочки носили золотые браслеты. Их будущее приданое. – Здесь очень много детей,– сказал я. – И почти ни одного ребенка,– произнесла Амрита так тихо, что слова ее прозвучали почти как шепот. Мне потребовалось лишь несколько секунд, чтобы убедиться в ее правоте. У большинства детей, которых мы видели, детство уже осталось позади. Нянчить младших сестренок и братишек, тяжко трудиться, рано выйти замуж и растить уже свое потомство – вот их непосредственное будущее. Многие из детей, которые сейчас бегали голыми по грязи, не проживут и нескольких последующих лет. Те, кто достигнет нашего возраста, встретят новое столетие среди миллиардного народа, стоящего перед угрозой голода и социального хаоса. – Бобби,– заговорила Амрита,– я знаю, что в американских школах не очень серьезно относятся к математике, но ведь ты учил Евклидову геометрию в средней школе? – Да, малышка, этому учат даже в американских средних школах. – Тогда ты должен знать, что существует и неевклидова геометрия. – Доходили до меня какие-то грязные сплетни на этот счет. – Я серьезно, Бобби. Я пытаюсь кое в чем здесь разобраться. – Продолжай. – Так вот, мне в голову пришла одна мысль, когда я упомянула в разговоре с Чаттерджи про альтернативные системы и эксперименты. – Угу. – Если индийская культура была экспериментом, то тогда мои западные предрассудки говорят, что он оказался неудачным. Во всяком случае, в том, что касается приспособления людей к жизни и их защиты. – Бесспорно. – Но если это просто другая система, то тогда моя метафора наводит на мысль о гораздо худшей возможности. – Какой же? – Если размышлять в рамках теории систем, я прихожу к убеждению о полной несовместимости двух моих культур. А я есть производная этих двух культур. Общий элемент в системах, общих элементов не имеющих. – Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись? – Ты ведь понимаешь мою проблему, Бобби? – Возможно, хороший семейный консультант смог бы… – Помолчи, пожалуйста. Эта метафора навела меня на еще более устрашающую аналогию. Что, если различия, на которые мы реагируем в Калькутте, есть результат того, что культура не другая система, а другая геометрия? – А какая разница? – Я думала, ты знаешь Евклида. – Нас представили друг другу, но близко мы так и не сошлись. Амрита вздохнула и стала смотреть на тот промышленный кошмар, мимо которого мы проезжали. У меня мелькнула мысль, что это образ индустриальной пустыни из «Гэтсби» Фицджеральда, возведенный в десятую степень. А еще мне пришло в голову, что мои личные литературные ассоциации стали испытывать пагубное влияние математических метафор Амриты. Я видел, как на обочине присел человек, собравшийся испражняться. Он задрал рубаху на голову и приготовил небольшую бронзовую чашечку с водой для пальцев левой руки. – Системы и теории чисел пересекаются,– сказала Амрита. По ее напряженному голосу я вдруг понял, насколько серьезно она настроена.– Геометрии не пересекаются. Разные геометрии основываются на разных теоремах, постулируют разные аксиомы и дают начало разным реальностям. – Разным реальностям? – переспросил я.– Как это реальности могут быть разными? – Возможно, не могут,– согласилась Амрита.– Возможно, «реальна» лишь одна. Возможно, лишь одна геометрия истинна. Но тогда возникает вопрос: что будет со мной, со всеми нами, если мы выбрали ложную?
По возвращении в гостиницу нас ждала полиция. – Один джентльмен желает вас видеть, сэр,– сообщил помощник управляющего, подавая мне ключ от номера. Я повернулся, ожидая увидеть Кришну, но с темно-фиолетового дивана поднялся высокий бородатый человек в тюрбане – очевидно, сикх. – Мистер Лук-зак? – Лу-зак. Да, это я. – Я – инспектор Сингх из калькуттской государственной полиции. Он показал мне значок и выцветшую фотографию на удостоверении в пожелтевшем пластике. – Инспектор? Я не стал протягивать ему руку. – Мистер Лузак, мне хотелось бы поговорить с вами в связи с делом, которое расследует наш отдел. «Кришна втравил меня в какую-то историю»,– мелькнуло в голове. – О каком деле идет речь, инспектор? – Об исчезновении М. Даса. – Ага,– произнес я и подал ключ от номера Амрите. Я не испытывал желания приглашать полицейского к себе.– А с моей женой вы не будете разговаривать, инспектор? Нашей малышке пора кушать. – Нет. Я займу у вас всего минуту, мистер Лузак. Прошу прощения, что побеспокоил вас в этот вечер. Амрита понесла Викторию к лифту, а я тем временем осмотрелся. За нами с любопытством наблюдали помощник управляющего и несколько портье. – Не возражаете, инспектор, если мы пройдем в лицензионное помещение? – Этим эвфемизмом в индийских отелях называли бар. – Очень хорошо. В баре было темнее, но, заказав джин с тоником, в то время как инспектор попросил принести чистый тоник, я смог как следует рассмотреть рослого сикха. Инспектор Сингх держался с беззастенчивой властностью человека, привыкшего повелевать. Его голос носил отпечаток лет, проведенных в Англии: не «оксбриджскую» тягучесть, но отрывистую точность Сэнд-херста или какой-нибудь другой военной академии. На нем был хорошо подогнанный светло-коричневый костюм, которому не хватало самой малости, чтобы стать униформой. Тюрбан был цвета красного вина. Глядя на инспектора, я вспоминал то немногое, что знал о сикхах. Будучи религиозным меньшинством, они составляют наиболее активную и производительную часть индийского общества. Как народ в целом они лучше разбираются в технике, и, хоть большинство сикхов населяет Пенджаб, их можно увидеть водителями такси и операторами тяжелого оборудования по всей стране. Отец Амриты однажды сказал, что девяносто процентов работающих у него бульдозеристов – сикхи. Кроме того, именно сикхи составляют верхние эшелоны армии и полиции. Судя по тому, что мне говорила Амрита, лишь сикхи смогли извлечь выгоду из Зеленой революции и совершить прорыв в своих обширных кооперативных хозяйствах на севере Индии. Но именно сикхи несли ответственность за многие массовые убийства мусульман во время волнений, связанных с разделом страны. – Ваше здоровье,– сказал инспектор Сингх и отхлебнул тоника. О массивные наручные часы звякнул стальной браслет. Браслет служит неизменным символом его веры, равно как борода и небольшой традиционный кинжал, который он должен носить. В четверг в бомбейском аэропорту охранник спросил у сикха, стоявшего в очереди перед нами: «У вас есть другое оружие, кроме вашего клинка?» Мы все прошли личный досмотр, но сикх прошествовал дальше, лишь буркнув на ходу отрицательный ответ. – Чем могу помочь, инспектор? – Вы можете поделиться любой имеющейся у вас информацией о местонахождении поэта М. Даса. – Дас пропал уже очень давно, инспектор. Удивлен, что вас до сих пор интересует его исчезновение. – Дело М. Даса все еще не закрыто, сэр. Расследование в 1969 году пришло к выводу, что он, скорее всего, стал жертвой какой-то грязной игры. А у вас в стране действует срок давности по отношению к убийствам? – Нет… кажется, нет,– ответил я.– Но в Штатах, чтобы завести дело об убийстве, необходимо предъявить тело. – Совершенно верно. Поэтому для нас весьма ценна любая информация, которой вы можете поделиться. У М. Даса осталось много влиятельных друзей, мистер Лузак. С тех пор – а с момента исчезновения поэта прошло уже восемь лет – многие из этих людей заняли еще более высокое положение. Для всех нас было бы большим облегчением завершить наконец это расследование. – Хорошо,– сказал я и поведал ему о своих делах с «Харперс» и о договоренности с Бенгальским союзом писателей. Прикинув, стоит ли рассказывать о Кришне и Муктанандаджи, я решил, что столь фантастическая история способна вызвать лишь осложнения с полицией. – Значит, вы не имеете доказательств того, что М. Дас жив, если не считать поэмы, которую вы то ли получите, то ли нет от Союза писателей? – спросил Сингх. – Да, это и еще письмо, которое мне прочитал Майкл Леонард Чаттерджи на встрече с исполнительным советом. Сингх кивнул, словно был хорошо осведомлен о переписке, и задал следующий вопрос: – Так вы собираетесь забрать рукопись завтра? – Да. – Где это будет? – Не знаю. Мне еще не сказали. – В котором часу? – И это мне пока неизвестно. – Вы встретитесь с Дасом в это время? – Нет. Во всяком случае, не думаю. Нет, уверен, что не встречусь. – Почему же? – Понимаете, все мои просьбы о том, чтобы встретиться с великим человеком и воочию убедиться в его существовании, натыкались на каменную стену. – Каменную стену? – Отрицательный ответ. Решительный отказ. – Ага. И вы не планируете встретиться с ним позже? – Нет. Я надеялся на личную встречу. Для моей статьи совсем не помешало бы интервью. Но, по правде говоря, инспектор, я буду просто счастлив получить эту проклятую рукопись, улететь завтра утром из Калькутты вместе с женой и ребенком и предоставить литературоведам решать, действительно ли эту поэму написал М. Дас. Сингх кивнул, словно счел мой подход вполне разумным. Затем он сделал пометки в своем маленьком блокноте на спирали и допил тоник. – Благодарю вас, мистер Лузак. Вы оказали нам большую услугу. Еще раз прошу прощения за то, что отнял у вас время в субботний вечер. – Ничего страшного. – Ах да,– сказал он.– Чуть не забыл. – Слушаю вас? – Завтра, когда вы отправитесь за упомянутой рукописью Даса, будете ли вы возражать, если за вами скрытно последуют офицеры полиции? Это могло бы помочь нам в расследовании. – Хвост? – поинтересовался я, допивая свой джин. Если откажусь, то могу навлечь на себя неприятности, а полицейские все равно наверняка будут следить за нами. Кроме того, наличие поблизости полиции значительно ослабит некоторую тревогу, которую я ощущал в связи с предстоящей встречей. – Ваши партнеры ни о чем не узнают,– добавил Сингх. Я кивнул. Плевать я хотел, даже если Чаттерджи, Гупта и весь Союз будут вовлечены в это дело. – Хорошо,– сказал я.– Мысль неплохая. Если это поможет вашему расследованию. Лично я не имею ни малейшего представления, жив ли Дас на самом деле. Буду рад помочь. – Ага, отлично.– Инспектор Сингх поднялся, и мы в конце концов обменялись рукопожатием.– Хорошей поездки, мистер Лузак. Желаю удачи в ваших трудах. – Благодарю, инспектор.
Дождь продолжался. Остатки нашего с Амритой желания провести субботний вечер где-нибудь в городе, исчезли при виде грязи, муссонного ливня и вопиющей нищеты, когда мы открыли шторы. Тропические сумерки стали кратковременным переходом от серого дождливого дня к черной дождливой ночи. На другой стороне залитой водой площади под навесами горели несколько фонарей. Уставшая Виктория раскапризничалась, и поэтому мы рано уложили ее спать. Затем мы сделали по телефону заказ и примерно час дожидались его доставки. Появившийся наконец ужин послужил мне уроком, лишний раз продемонстрировав, до какой степени неразумно заказывать сандвичи с холодным ростбифом в стране индусов. Я выпросил у Амриты часть ее отличного китайского ужина. В девять вечера, когда Амрита принимала душ перед сном, раздался стук в дверь. Из лавки прибежал мальчик с тканью для сари. Подросток промок до нитки, но материал был надежно упакован в пластиковый пакет. Я дал ему на чай десять рупий, но он настоял, чтобы я разменял на две бумажки по пять. Десятирупиевая банкнота была слегка разорвана, а при повреждении индийские деньги, очевидно, выходят из обращения. Этот обмен подпортил мне настроение, а когда появилась Амрита в шелковом халате, ей было достаточно одного взгляда на пакет, чтобы заявить о досадной ошибке. В лавке перепутали ее рулон с тканью Камахьи. Потом мы потратили двадцать минут на поиски нужного номера Бхарати в телефонной книге, но, как выяснилось, эта фамилия была не менее распространенной, чем Джонс в нью-йоркском телефонном справочнике. В конце концов Амрита высказала мысль, что семья Камахьи, возможно, вообще не имеет телефона. – Черт с ней, с этой тканью,– сказал я. – Легко тебе говорить. Попробовал бы ты целый час выбирать материал. – Камахья, наверное, принесет твою покупку. – Тогда лучше бы завтра, если в понедельник утром мы улетаем. Мы улеглись рано. Один раз Виктория проснулась, слегка всхлипывая из-за какого-то детского сна, заставлявшего ее испуганно подергивать ручками и ножками. Я поносил ее по комнате, пока она крепко не заснула, довольно пустив слюни мне на плечо. В течение следующих двух часов в комнате становилось то жарче, то холоднее. Стены дребезжали от разнообразных механических шумов. Звуки были таковы, что казалось, будто все здание набито лифтами, которые поднимаются при помощи цепей и лебедок. Через пару номеров по коридору шумно развлекалась компания арабов, у которых и в мыслях не было перенести свое веселье в комнату и закрыть дверь. Примерно в половине двенадцатого я поднялся с влажных простыней и подошел к окну. Дождь продолжался. На улице не было ни одной машины. Я открыл свой чемодан. С собой я взял лишь две книги: свою последнюю – в твердом переплете и купленное в лондонском книжном магазине пингвиновское издание поэзии Даса в мягкой обложке. Усевшись на стул возле двери, я включил торшер. Признаюсь, что первой я взял в руки собственную книгу. Она раскрылась на заглавной поэме «Зимние настроения». Я попытался читать, но казавшийся раньше очень тонким образ старухи, бродящей по своему дому на ферме в Вермонте и общающейся с мирными привидениями, в то время как снег засыпает поля, совсем не стыковался с жаркой калькуттской ночью и завываниями безжалостного муссона, сотрясающего оконные стекла. Я взялся за другую книгу. Поэзия Даса сразу же увлекла меня. Из коротких вещей в начале самое большое удовольствие я получил от «Семейного пикника» с его юмористическим, но ничуть не снисходительным взглядом на необходимость терпеливо сносить чудачества родных. Лишь беглая ссылка на «голубые, насыщенные акулами воды Бенгальского залива/Не затмеваемые парусом или дымом далекого парохода» и краткое описание «храма Махабалипурам/песчаника, истертого морем, возрастом и молитвой/ставшего теперь игрушкой со сглаженными углами/для карабкающихся детских коленок и фотографий дядюшки Нани» определяли местом действия Восточную Индию. На «Песнь матери Терезы» я смотрел уже другими глазами. Теперь я меньше внимания обращал на академичное влияние Тагора в разработке этой многообещающей темы, и гораздо очевиднее казались мне прямые указания на «смерть на улице, смерть на обочине,/безнадежные одиночества, среди которых она шла,/теплый детский плач о помощи/на холодной груди не имеющего молока города». И тогда я попытался представить, будет ли когда-нибудь признано эталоном сострадания, каковым, как я чувствовал, оно и является, это эпическое произведение Даса о юной монахине, услышавшей зов во время переезда в другую миссию и отправившейся в Калькутту, чтобы помочь бесчисленным страждущим, хотя бы предоставив им место, где бы они могли упокоиться в мире. Я повернул книгу, чтобы взглянуть на фотографию М. Даса. Она успокоила меня. Высокий лоб и печальные, чистые глаза напомнили мне фотографии Джавахарлала Неру. В лице Даса было то же аристократическое изящество и достоинство. Лишь очертания рта – полноватые губы с приподнятыми уголками – наводили на мысль о чувственности и некотором эгоцентризме, столь необходимых поэту. Я вообразил, что понимаю, откуда у Камахьи Бхарати такая чувственная красота. Выключив свет и пристроившись рядом с Амритой, я уже с гораздо большим оптимизмом ожидал наступления грядущего дня. А дождь на улице продолжал поливать перенаселенный город.
10
Калькутта, Владычица Нервов, Зачем хочешь ты уничтожить меня без остатка? У меня есть конь и вечное убежище. Я еду в свой город.Воскресным утром на встречу в связи с передачей рукописи собралась пестрая компания. Гупта позвонил без пятнадцати девять. К тому времени мы уже два часа были на ногах. За завтраком в открытом кафе Амрита объявила о своем решении на этот раз поехать со мной, и я не мог ее отговорить. В сущности, эта идея вызвала у меня облегчение. Разговор по телефону Гупта начал в неподражаемом стиле, присущем всем телефонным разговорам в Индии. – Алло,– сказал я. – Алло, алло, алло. Звук был такой, словно мы использовали для связи две консервные банки и несколько миль бечевки. Сплошной скрежет и пощелкивание. – Мистер Гупта? – Алло, алло. – Как поживаете, мистер Гупта? – Замечательно. Алло, мистер Лузак? Алло! – Да, слушаю. – Алло. Все приготовления… алло! Мистер Лузак! Вы слышите? – Да, я слушаю. – Алло! Все приготовления закончены. Вы будете один, когда мы заедем за вами в ваш отель сегодня в десять тридцать утра. – Прошу прощения, мистер Гупта. Моя жена поедет со мной. Мы решили, что… – Что? Что? Алло! – Я говорю, со мной поедут мои жена и ребенок. Куда мы собираемся? – Нет-нет. Обо всем уже условились. Вы должны быть один. – Ничего подобного,– возразил я.– Или моя семья будет сегодня вместе со мной, или я вообще не поеду. Честно говоря, мистер Гупта, я немного устал от всего этого шпионского дерьма. Я преодолел двенадцать тысяч миль для того, чтобы получить литературное произведение, а не красться по Калькутте в одиночку. Где должна состояться встреча? – Нет-нет. Будет лучше, если вы поедете один, мистер Лузак. – Почему? Если это опасно, я хочу знать… – Нет! Конечно, это не опасно. – Где состоится встреча, мистер Гупта? У меня действительно нет времени для этой чепухи. Уехав с пустыми руками, я все равно напишу какую-то статью, но вы, вероятно, получите весточку от юристов журнала. Это было пустой угрозой, но в результате наступила тишина, прерываемая лишь шуршанием, потрескиванием, глухими щелчками, обычными для здешней связи. – Алло! Алло, мистер Лузак! Вы слушаете? – Да. – Очень хорошо. Мы, конечно, будем весьма рады видеть вашу супругу. Мы встретимся с представителем М Даса в доме Тагора… – В доме Тагора? – Да-да Это музей, как вы знаете. – Превосходно! – сказал я.– Я надеялся посетить дом Тагора. Отлично. – Тогда мы с мистером Чаттерджи будем ждать вас в отеле в десять тридцать. Алло, мистер Лузак, вы слушаете? – Да. – Всего доброго, мистер Лузак. Гупта и Чаттерджи не появились до одиннадцати, но зато, когда мы спустились в вестибюль, там уже крутился Кришна. На нем были все те же мятые брюки и грязная рубашка. При нашем появлении он выразил величайшую радость: поклонился Амрите, потрепал волосенки Виктории и дважды пожал мне руку. По его словам, он пришел, чтобы сообщить мне, что «наш общий друг Муктанандаджи» воспользовался моим в высшей степени великодушным даром, чтобы вернуться в свою деревню – в Ангуду. – По-моему, он говорил, что никогда не вернется домой. – А-а-а,– произнес Кришна и пожал плечами. – Что ж, тогда, как мне кажется, и он, и Томас Вулф ошиблись,– сказал я. Кришна непонимающе смотрел на меня примерно секунду, после чего расхохотался так громко, что Виктория заплакала. – Вы получили рукопись Даса? – поинтересовался он, когда и его смех, и плач Виктории стихли. – Нет, мы собираемся получить ее прямо сейчас,– опередила меня с ответом Амрита. – Ага.– Кришна улыбнулся, и я заметил блеск в его глазах. Под воздействием безотчетного импульса я спросил: – Не хотели бы проехаться с нами? Возможно, вам будет интересно узнать, что за рукопись способен произвести на свет труп утопленника. – Бобби! – предостерегающе воскликнула Амрита. Кришна лишь кивнул, но его улыбка в этот момент еще больше, чем когда-либо, напоминала акулий оскал.Пранабенду Дас Гупта
Гупта и Чаттерджи испытали легкое потрясение при виде нашей многочисленной делегации. У меня не было желания говорить им, что за нами последует еще и неизвестное количество калькуттских шпиков. – Мистер Гупта,– представил я,– моя жена, Амрита. Последовал обмен любезностями на хинди. – Джентльмены, это наш… гид, мистер М. Т. Кришна. Он также будет нас сопровождать. Джентльмены сухо кивнули, но Кришна просиял. – Мы уже знакомы! Мистер Чаттерджи, вы меня не помните? Майкл Леонард Чаттерджи нахмурился и поправил очки. – А, не помните. А вы, мистер Гупта? Ну хорошо, это было несколько лет тому назад, когда я вернулся из прекрасной страны мистера Лузака. Я тогда подавал заявление о вступлении в Союз писателей. – Ах да,– сказал Чаттерджи, хотя явно ничего не вспомнил. – Да-да,– улыбнулся Кришна.– Мне тогда сказали, что моей прозе «недостает зрелости, стиля и строгости». Стоит ли говорить, что я не удостоился приема в Союз. Все почувствовали себя в высшей степени неловко, кроме Кришны. И меня. Я начинал получать от этого удовольствие. И уже радовался тому, что взял с собой Кришну.
Мы поехали от отеля в восточном направлении в небольшом, битком набитом «„премьере“. На переднее сиденье втиснулись Гупта, Чаттерджи и водитель Чаттерджи в униформе. Насколько я мог видеть, одну руку водитель высунул из окна, другой все время поправлял фуражку, а рулил коленями. Результат не отличался от обычного. Я сидел сзади, зажатый между Кришной и Амритой, державшей на коленях Викторию. Все мы обильно потели, но Кришна, по-моему, начал раньше, чем остальные. Стояла невероятная жара. После того как мы покинули отель с кондиционером, в фотоаппарате Амриты и очках Чаттерджи успели запотеть стекла. Было не меньше ста десяти градусов, и моя рубашка почти сразу же прилипла к спине. На захламленной площади напротив отеля сидели на корточках, задрав колени выше подбородка, сорок или пятьдесят мужчин. Перед ними на мостовой были разложены мастерки, доски для замеса извести, отвесы. Картина напоминала очередь безработных. Я спросил у Кришны, что они здесь делают, но он только пожал плечами и изрек «„Воскресное утро“. Такое высказывание, достойное дельфийского оракула, судя по всему, удовлетворило всех, так что я промолчал. Проехав по Чоурингхи, мы свернули направо перед Радж-Бхаван – старым Домом правительства – и дальше проследовали по улице Дхарамтала. Влетавший в открытые окна воздух не приносил прохлады, а царапал кожу, как горячая наждачная бумага. Спутанные волосы Кришны шевелились, точно змеиное гнездо. Возле каждого знака «Стоп» или регулировщика водитель глушил двигатель, и мы сидели в потной тишине, пока машина не трогалась снова. Мы проехали в восточном направлении по Верхней кольцевой трассе, а потом свернули на улицу Раджа Динендра, извилистую дорогу, которая шла параллельно каналу. От стоялой воды несло нечистотами. Голые дети плескались на коричневых отмелях. – Взгляните,– приказал Чаттерджи, показывая направо, где стоял неимоверно красивый храм.– Храм Джаин. Очень интересный. – Священники Джаин ни у кого не отнимают жизнь,– пояснила Амрита.– Когда они выходят из храма, то заставляют слуг подметать перед ними дорожку, чтобы не наступить по неосторожности на какое-нибудь насекомое. – Они носят хирургические маски,– сказал Чаттерджи,– чтобы не проглотить нечаянно какое-нибудь живое существо. – Они не моются,– добавил Кришна,– из уважения к бактериям, живущим у них на теле. Я кивнул, подумав про себя, что Кришна, должно быть, особо чтит этот пункт из устава служителей Джаин. Под воздействием обычных уличных запахов Калькутты, вони нечистот и Кришны я начинал понемногу шалеть. – Их религия запрещает им есть все, что является живым или некогда таковым было,– радостно сообщил Кришна. – Минуточку,– не выдержал я.– Тогда им вообще ничего нельзя. Чем же они тогда питаются? – Ага – Кришна улыбнулся.– Хороший вопрос! Мы ехали все дальше.
Дом Рабиндраната Тагора находится в Читпуре. Оставив машину в узком переулке, мы вошли через калитку в еще более узкий дворик и, прежде чем войти в двухэтажное здание, разулись в небольшой прихожей. – Из уважения к памяти Тагора этот дом почитают как храм,– торжественно объявил Гупта. Кришна скинул сандалии. – У нас в стране каждый общественный памятник рано или поздно становится храмом,– засмеялся он.– В Варанаси правительство построило здание с рельефной картой Индии внутри, чтобы просвещать невежественных крестьян в области национальной географии. Теперь это священный храм. Я видел, как люди там молятся. Есть даже свой праздник. У рельефной карты! – Потише,– бросил Чаттерджи. Он повел нас по темной лестнице. В комнатах Тагора почти отсутствовала мебель, но стены были увешаны фотографиями и заставлены витринами, в которых можно было увидеть все – от подлинных рукописей, которые, по-видимому, стоили целое состояние, до жестянок с любимым нюхательным табаком Мастера. – Мы, кажется, одни,– заметила Амрита. – О да,– подтвердил Гупта с улыбкой, делавшей его еще больше похожим на грызуна.– Музей обычно закрыт по воскресеньям. Нам предоставлена честь побывать здесь лишь благодаря особым договоренностям. – Великолепно,– бросил я в пространство. Вдруг из динамиков на стене послышались записи высокого, писклявого голоса Тагора, читающего отрывки из своих стихотворений и напевающего некоторые из баллад.– Чудесно. – Скоро должен появиться представитель М. Даса,– сказал Чаттерджи. – Спешить некуда,– заметил я. На стене висели большие полотна с написанными маслом картинами Тагора. Его стиль напомнил мне Н. С. Уайета – иллюстраторский вариант импрессионизма. – Он получил Нобелевскую премию,– сказал Чаттерджи. – Да. – Он сочинил наш национальный гимн,– сообщил Гупта. – Верно. Я просто забыл,– признался я. – Он написал много великих пьес,– поведал Гупта. – Он основал большой университет,– добавил Чаттерджи. – Он умер вон там,– сказал Кришна. Мы все остановились и проследили за направлением пальца Кришны. В углу было пусто, не считая нескольких сгустков пыли. – Это было в 1941 году,– продолжал Кришна.– Старик умирал, угасая, как часы, в которых кончился завод. Здесь собрались несколько его учеников. Потом еще. И еще. Вскоре все комнаты заполнились людьми. Некоторые из них никогда даже не видели поэта. Проходили дни. Старик умирал медленно. В конце концов началась вечеринка. Кто-то съездил в американский военный штаб… в городе уже были солдаты… и вернулся с кинопроектором и фильмами. Они смотрели Лорела и Харди, мультфильмы с Микки-Маусом. Старик лежал без сознания, всеми забытый в этом углу. Время от времени он выплывал из своего смертного сна, как всплывает на поверхность рыба. Представьте его замешательство! Он смотрел мимо спин своих друзей и голов незнакомцев и видел мелькающие изображения на стене. – А здесь ручка, которой пользовался Тагор, создавая свои знаменитые пьесы,– громко сказал Чаттерджи, пытаясь отвлечь нас от Кришны. – Он написал об этом поэму,– продолжал Кришна.– О том, как умирал под Лорела и Харди. Этими днями он и датировал свои стихотворения, зная, что каждое из них может стать последним Потом во время коротких выходов из комы он стал подписывать и час. Исчез его сентиментальный оптимизм Ушло мягкое bonhomie [3], которым отмечены столь многие из его популярных произведений. Поскольку, как вы сами понимаете, теперь между стихами он видел перед собой темный лик смерти. Он был напуганным стариком. Но эти стихи… ах, мистер Лузак… эти последние стихи прекрасны. И болезненны. Как его смерть. Тагор всматривался в изображения на стене и задавался вопросами: «Неужели мы все – лишь иллюзии? Недолговечные тени, брошенные на стену ради досужего развлечения скучающих богов? И это все?» А потом он умер. Прямо там. В углу. – Пойдемте дальше,– бросил Гупта. – Там гораздо больше интересного. Там и впрямь было на что посмотреть. Фотографии друзей и современников Тагора, в том числе портреты с автографами Эйнштейна, Дк. Б. Шоу и очень молодого Уилла Дюрана. – Мастер оказал сильное влияние на мистера У. Б. Йейтса,– сказал Чаттерджи.– Знаете ли вы, что «грубое животное» из «Второго пришествия» – лев с человеческой головой – был списан с присланного Тагором Йейтсу описания пятого воплощения Вишну? – Нет,– ответил я.– По-моему, я этого не знал. – Да,– подал голос Кришна. Он провел рукой по пыльной витрине и улыбнулся Чаттерджи.– А когда Тагор прислал Йейтсу сборник своей бенгальской поэзии, знаете, что произошло? Кришна не обращал внимания на нахмурившихся Гупту и Чаттерджи. Он присел на корточки и помахал невидимым оружием, как будто сжимая его обеими руками. – А вот что. Йейтс метнулся через гостиную своей лондонской квартиры, схватил подаренный ему когда-то самурайский меч и рубанул книгу Тагора. Вот так!.. Йе-е-е! – Неужели? – спросила Амрита. – Да, именно так, миссис Лузак. А потом Йейтс закричал: «Будь проклят Тагор! Он поет о мире и любви, когда кровь есть ответ!» Магнитофонная запись голоса Тагора внезапно остановилась. Мы все повернулись к вошедшему в комнату мальчику лет восьми. В руках у него была небольшая холщовая сумка, слишком маленькая и неровная, чтобы вместить рукопись. Прежде чем подойти ко мне, он обвел взглядом все лица. – Вы мистер Лузак? – Слова звучали заученно, словно мальчик не говорил по-английски. – Да. – Следуйте за мной. Я доставлю вас к М. Дасу.
Во дворе ждал рикша. Места рядом с мальчиком хватило для меня, Амриты и Виктории. Гупта и Чаттерджи поспешили сесть в машину, чтобы последовать за нами. У Кришны был такой вид, словно он потерял ко всему интерес, и он остался у двери. – Вы не едете? – окликнул я его. – Сейчас нет,– ответил Кришна.– Увидимся позже. – Мы улетаем утром,– крикнула Амрита. Кришна пожал плечами. Мальчик сказал что-то рикше, и мы выехали на улицу. «Премьер» Чаттерджи держался за нами. За полквартала позади нас от обочины отъехал еще и небольшой серый седан, а за ним с грохотом тащилась запряженная быками повозка, на которой сидели с полдюжины людей в лохмотьях. Я внутренне позабавился, представив, что погонщик быков и есть полицейский, приставленный следить за нами. Мальчик выкрикнул фразу по-бенгальски, а рикша проорал что-то в ответ и ускорил шаг. – Что он сказал? – спросил я у Амриты.– Куда мы едем? – Мальчик сказал: «„Поторопись“,– с улыбкой ответила Амрита.– Рикша ответил, что эти американцы – тяжелые свиньи. – Гм-м.
Мост Хоура мы переезжали в гуще бурлящего движения, по сравнению с которым меркли все пробки, что я видел прежде. Пешеходов было не меньше, чем колесного транспорта, и вся эта масса до отказа заполняла оба уровня моста. Затейливая головоломка серых решеток и стальной сетки тянулась более чем на четверть мили над грязной ширью реки Хугли. Мост выглядел так, словно был собран из детского конструктора, и я взял у Амриты камеру, чтобы сфотографировать его. – Зачем ты это делаешь? – Обещал твоему отцу. Мальчик замахал на меня обеими руками и произнес что-то настойчиво и сердито. – Что он говорит? Амрита сдвинула брови. – Не уверена, хорошо ли понимаю его диалект, но, кажется, что-то насчет строгого запрета фотографировать мост – мол, это противозаконно. – Скажи ему, что все в порядке. Она заговорила на хинди, а мальчик нахмурился и ответил на бенгали. – Он говорит, что не в порядке,– перевела Амрита.– Он говорит, пусть для нас, американцев, шпионят наши спутники. – О Господи! Рикша остановился перед бесконечным кирпичным зданием – железнодорожным вокзалом Хоура. В стекающей с моста мешанине не было ни малейших признаков «премьера» Чаттерджи или серого седана. – Что теперь? – спросил я. Повернувшись, мальчик подал мне холщовый мешок. Я распустил завязку и заглянул внутрь. – Боже милостивый,– произнесла Амрита.– Это монеты. – Не просто монеты,– уточнил я, вынимая одну.– Это полудоллары времен Кеннеди. Здесь их штук пятьдесят-шестьдесят. Мальчик показал на вход в здание и затараторил. – Он говорит, что ты должен войти и отдать их,– перевела Амрита. – Отдать? Кому? – Он говорит, тому, кто попросит их у тебя. Мальчик удовлетворенно кивнул, сунул руку в мешок, достал оттуда четыре монеты и, выскочив из коляски, скрылся в толпе. Виктория потянулась к монетам. Я туго затянул завязку и посмотрел на Амриту. – Ну что ж,– сказал я,– теперь, я думаю, нам пора идти. – После вас, сэр.
В детстве самым большим зданием, что я только мог себе представить, был крытый рынок в Чикаго. Потом, в конце шестидесятых, я получил возможность побывать в ракетосборочном цехе Центра космических исследований имени Кеннеди. Приятель, который меня туда водил, сказал, что иногда внутри здания появляются облака. Вокзал Хоура производил еще более грандиозное впечатление. Это было сооружение исполинских масштабов. Одновременно можно было видеть десяток железнодорожных путей. Пять паровозов стояли неподвижно, несколько – выпускали пар; бесчисленные разносчики торговали чем-то непонятным – от их тележек поднимались клубы едкого дыма; тысячи потных людей беспорядочно передвигались, толкая друг друга; еще больше – сидели на корточках, спали, готовили еду, иными словами – жили здесь; и над всем – какофония звуков, настолько оглушительных, что невозможно было услышать собственный крик, не говоря уж о мыслях. Таким предстал перед нами вокзал Хоура. – Матерь Божья! – только и вымолвил я. В нескольких футах от моей головы из решетки высовывался самолетный пропеллер и медленно месил густой воздух. Рокот десятков таких же вентиляторов вливался в океан шума. – Что? – закричала в ответ Амрита. Виктория сильнее прижалась к материнской груди. – Ничего! Мы пошли наугад, протискиваясь сквозь толпу, двигаясь в неизвестном направлении. Амрита вцепилась в мой рукав, а я наклонился к ней, чтобы она могла говорить прямо мне в ухо. – Не подождать ли нам мистера Чаттерджи и мистера Гупту? Я покачал головой. – Пусть они получат свои полудоллары. – Что? – Да так. К нам приблизилась низкорослая женщина. У нее на спине висело нечто, что вполне могло бы быть ее мужем. Позвоночник у него был беспощадно скручен, одно плечо росло из середины горбатой спины, а ноги представляли собой бескостные щупальца, исчезавшие в складках сари женщины. Черная, костлявая, почти бесплотная рука с открытой ладонью преградила нам путь. – Баба! Баба! После некоторых колебаний я залез в мешок и подал ему монету. Его жена широко раскрыла глаза и протянула к нам обе руки. – Баба! – Отдать ему все, что ли? – закричал я Амрите, но не успела она ответить, как к моему лицу потянулся десяток рук. – Баба! Баба! Я попытался отступить, но в спину мне уткнулось еще большепротянутых в мольбе ладоней. Я принялся торопливо раздавать монеты. Руки хватали серебро, исчезали в лохмотьях, а потом тянулись снова. Краем глаза я увидел метрах в трех поодаль Амриту с Викторией и порадовался, что они не рядом. Толпа росла как по волшебству. Только что здесь было десять или пятнадцать вопящих и тянущих руки людей, а через несколько секунд толпа выросла до тридцати, потом до пятидесяти человек. Мне представилось, что это Хэллоуин, а я раздаю сласти ватаге детишек, но эта безобидная иллюзия исчезла, как только из толпы вынырнула изъеденная проказой рука и по моему лицу скользнули шершавые пальцы. – Эй! – закричал я, но этот слабый звук утонул в шуме толпы. Не меньше сотни людей проталкивались к середине сжимающегося круга со мной в эпицентре. Давление было ужасающим Чья-то наугад протянутая рука случайно распахнула мою рубашку, оставив на груди параллельные полосы. Чей-то локоть ударил меня сбоку по голове, да так, что я наверняка упал бы, если бы не сдавливавшие меня со всех сторон тела. – Баба! Баба! Баба! Толпа сдвигалась к краю платформы. До стальных рельсов внизу было метра два. Женщина, тащившая на себе калеку, завопила, когда ее ношу сорвали со спины и швырнули в напирающую кучу людей. Мужчина рядом со мной закричал и стал бить другого по лицу. – К черту все это,– проговорил я и подбросил мешок с монетами. Холщовая сумка лениво перевернулась в воздухе и изрыгнула монеты над толпой и вопящим разносчиком риса. Вопли перешли в визг, и возбужденная толпа отхлынула от края платформы, но перед этим я услышал, как кто-то или что-то тяжелое упало на рельсы. В нескольких сантиметрах от моего лица орала какая-то женщина, брызгая на меня слюной. Получив увесистый удар в спину, я полетел вперед, ухватился за чье-то сари и приземлился на колени. Толпа все плотнее сжималась вокруг меня, и на какое-то мгновение я запаниковал и прикрыл голову руками. Ноги в грязных штанинах… острые колени, бьющие меня по лицу… Кто-то упал на меня, и на краткий миг мне на спину навалился груз всей толпы, прижимая лицом к полу, расплющивая меня о него… Сквозь звериный рев толпы до меня доносились отдаленные крики Амриты. Только я раскрыл рот, чтобы тоже заорать, как грязная голая нога ударила меня по лицу. Кто-то наступил мне на икру, и ногу пронзила жгучая боль. На некоторое время я очутился в темноте среди мечущихся фигур, но уже через секунду увидел над головой свет, льющийся через разбитую стеклянную крышу, и склонившуюся надо мной Амриту. На левой руке она держала Викторию, а правой распихивала последних толкающихся нищих. Потом толпа пропала, и Амрита помогла мне сесть на грязной платформе. Все происшедшее напоминало появившуюся ниоткуда приливную волну, которая отдала свою буйную энергию и откатилась обратно, в бурное море людской толпы и заводи сгрудившихся семейств. Неподалеку над большим котелком с кипящей водой, чудом не расплескавшейся во всеобщей сумятице, скрючился старик. – Прости, прости,– заладил я, как только сумел перевести дух. Теперь, когда опасность уже миновала, Амрита начала всхлипывать и смеяться, обнимая меня и помогая подняться на ноги. Мы посмотрели, нет ли у Виктории ушибов или царапин, и именно в этот момент девочка расплакалась так громко, что нам обоим пришлось утихомиривать ее ласками и поцелуями. – Прости,– снова повторил я.– Так глупо все получилось. – Смотри! – воскликнула Амрита. У моих ног лежал плоский коричневый портфель. Я поднял его, и мы принялись прокладывать себе путь в густой толпе гомонящих рикш, наперебой предлагавших свои услуги. Отыскав сравнительно свободное пространство возле улицы, мы прислонились к кирпичному столбу, в то время как нас обтекал поток людей. Я еще раз осмотрел Викторию. Она осталась невредимой и лишь помаргивала от более яркого света, явно прикидывая, не заплакать ли опять. Амрита схватила меня за руку. – Давай посмотрим, что в портфеле, и уйдем отсюда. – Потом открою. – Открой сейчас, Бобби,– настаивала она.– Довольно глупо, если окажется, что ты прошел через все это только ради того, чтобы умыкнуть завтрак какого-то бизнесмена. Я кивнул и щелкнул застежками. Там был не завтрак. Там лежала рукопись из нескольких сотен страниц. Некоторые из них были отпечатаны на машинке, другие написаны от руки на листах бумаги не меньше десятка разных размеров и цветов. Я просмотрел достаточное количество страниц, чтобы удостовериться, что это поэзия и что текст написан по-английски. – Ладно,– сказал я.– Пойдем отсюда. Я закрыл портфель, и мы уже собрались ловить такси, как вдруг перед нами со скрежетом затормозил «премьер», из которого выскочили возбужденно галдящие Чаттерджи и Гупта. – Всем привет,– устало произнес я.– Почему вы задержались?
11
Я думаю своими телом и душой о женщинах Калькутты…Образина в зеркале предстала жуткая: волосы всклокочены, рубаха разодрана, белые штаны испачканы, а на груди царапины от ногтей. Скорчив себе рожу, я сбросил рваную рубаху на пол. Я скривился еще раз, когда Амрита приложила к моим ранам тампон, смоченный перекисью. – Ты не очень-то обрадовал мистера Чаттерджи и мистера Гупту,– сказала она. – Не моя вина, что там не оказалось варианта рукописи на бенгали. – Им хотелось бы иметь больше времени на изучение английской версии, Бобби. – Ладно. Тогда они могут прочитать отрывки в «Харперс» или дождаться весеннего номера «Других голосов». И то если эксперты Морроу решат, что это написано Дасом. Я что-то сомневаюсь. – А ты не будешь читать ее сегодня? – Нет. Просмотрю завтра в самолете, а подробнее изучу уже дома. Кивнув, Амрита закончила протирать царапины у меня на груди. – Пусть доктор Хейнц посмотрит, когда приедем. – Ладно. Мы перешли в другую комнату и присели на кровать. Электричество отключили, кондиционер не работал, и в номере было как в парилке. Открыв окна, мы лишь впустили уличный шум и вонь. Виктория сидела на полу на своем одеяле. На ней были только подгузник и резиновые трусики. Малышка боролась с большим мячом с бубенчиками внутри. Мяч оказался сверху и, судя по всему, побеждал в схватке. Я сам удивился тому, что не стал сразу же читать рукопись. Я никогда не сдерживал свое любопытство и не откладывал на потом любые удовольствия. Но я чувствовал себя уставшим и подавленным и испытывал совершенно необъяснимое отвращение при одной мысли о том, что следует хотя бы бегло просмотреть рукопись,– во всяком случае до тех пор, пока мы все трое не выберемся в целости и сохранности из этой страны. А где же была полиция? Серого седана я больше не видел и теперь сомневался, ехал ли он за нами вообще. Что поделаешь, кажется, в Калькутте ничто не работает как надо. А чем полиция лучше всего прочего? – Ну, чем мы сегодня займемся? – спросила Амрита. Развалившись на кровати, я взял путеводитель для туристов. – Так, можем осмотреть впечатляющий Форт-Вильям, или обозреть импозантную мечеть Находа – которая, между прочим, сделана по образцу гробницы Акбара, кем бы этот самый Акбар ни был,– или снова перейти реку, чтобы прогуляться по ботаническому саду. – До чего жарко,– сказала Амрита. Она переоделась в шорты и футболку с надписью: «МЕСТО ЖЕНЩИНЫ ДОМА – И В СЕНАТЕ». Интересно, что подумал бы Чаттерджи, если бы увидел ее в таком наряде. – Можно посетить Мемориал королевы Виктории. – Спорить готова, что у них там нет даже вентиляторов,– сказала она.– Где бы найти прохладное место? – Может, бар? – Сегодня воскресенье. – Ну да. Я как раз хотел спросить. Почему в стране индусов все закрывается по… – Парк! – сказала Амрита.– Можно пройтись по Майдану – возле ипподрома, что мы видели из такси. Там должен быть ветерок. Я вздохнул. – Давай попробуем. Там наверняка гораздо прохладнее, чем здесь.Ананда Багчи
Прохладнее там не было. Небольшие кучки попрошаек – тягостное напоминание о совершенной утром глупости – приставали к нам повсюду. Даже частые кратковременные ливни не могли остудить их пыл. Хоть я уже давно освободил свои карманы от мелочи, их настойчивые вопли становились все громче. Мы заплатили две рупии, чтобы нырнуть в находившийся в парке зоосад. В клетках было совсем немного животных, с несчастным видом отмахивавшихся хвостами от туч насекомых. Языки у них были высунуты от жары. Вонь зверинца смешивалась со сладковатым, тяжелым запахом от протекавшего мимо парка притока реки. Мы показали Виктории усталого тигра и нескольких угрюмых обезьян, но девочке хотелось лишь поуютнее устроиться, прижавшись к моей влажной рубашке, и поспать. Когда снова разразился дождь, мы спрятались в небольшой беседке, в которой кроме нас оказался еще и мальчик лет шести-семи, присматривавший за младенцем, лежавшим на треснувшем камне. Время от времени мальчик помахивал рукой, чтобы отогнать вьющихся над лицом ребенка мух. Амрита попробовала заговорить с мальчуганом, но он продолжал молча сидеть на корточках, глядя на нее большими карими глазами. Она сунула ему в руку несколько рупий и шариковую ручку, и мы ушли. Электричество в гостинице включили, но кондиционер так и не смог сколь-нибудь заметно охладить комнату. Амрита первой пошла в душ, а я только-только стащил пропотевшую рубашку, как раздался громкий стук в дверь. – А, мистер Лузак! Намасти. – Намласти, мистер Кришна.– Я остался стоять в дверях, загораживая вход. – Передача рукописи закончилась успешно? – Да, спасибо. Тяжелые брови поднялись. – Но вы еще не читали поэму мистера Даса? – Нет, еще не читал.– Я ждал, что он попытается выклянчить у меня на время рукопись. – Да-да. Не буду вам мешать. Я хочу передать вам это в связи с предстоящей встречей с мистером М. Дасом. С этими словами Кришна подал мне мятый бумажный пакет. – Я не планирую встречаться с… – Да-да.– Кришна выразительно пожал плечами.– Но кто знает? До свидания, мистер Лузак. Я пожал протянутую руку. Не успел я заглянуть в пакет, как Кришна уже пошел по коридору в сторону лифта, посвистывая по дороге. – Кто это был? – спросила Амрита из ванной. Я присел на кровать. – Кришна,– ответил я, открывая пакет. Внутри лежал какой-то предмет, не очень туго завернутый в тряпки. – Чего он хотел? Я смотрел на то, что держал в руках. Автоматический пистолет: металлический, хромированный, небольшой. Он был таким же маленьким и легким, как те пистонные пистолеты, с которыми я играл в детстве. Но отверстие ствола выглядело вполне настоящим, а когда я разобрался, как вытаскивается обойма, патроны тоже оказались никак не игрушечными. На рукоятке было выбито мелкими буковками: «GUISEPPE. 25 CALIBRE». – Чтоб тебе пусто было,– тихо пробормотал я. – Я спрашиваю, чего он хотел? – крикнула Амрита. – Ничего,– рявкнул я в ответ и оглянулся. Четыре шага – и я возле стенного шкафа.– Просто попрощался. – Что ты сейчас сказал? – Ничего. Я по отдельности засунул в сумку пистолет и обойму, туго замотав их тряпками, и запихнул сумку как можно глубже на широкую полку над плечиками. – Ты что-то бормотал,– настаивала Амрита, выходя из ванной. – Просто хотел тебя поторопить,– сказал я и, достав из шкафа зеленую трикотажную рубашку и коричневые штаны, закрыл дверцы. Мы заказали такси в аэропорт на четыре сорок пять утра и легли пораньше. Я несколько часов не мог заснуть, разглядывая очертания мебели, медленно материализовавшейся перед моими глазами, постепенно привыкавшими к темноте. Заявление, что я был недоволен собой, прозвучало бы слишком мягко. Я лежал сырой калькуттской ночью, прокручивал в памяти свои действия за время пребывания в этом городе и приходил к выводу, что каждый мой поступок объяснялся нерешительностью или отсутствием конкретной цели, а то и всем сразу. Половину времени я вел себя как безмозглый турист, а остальное время со мной как с туристом обращались местные жители. Что я смогу написать? Как я дал запугать себя городу без всяких основательных на то причин? Страх… безымянный, тупой страх управлял моими поступками куда настойчивее, чем любая логика. Кришна. Ненормальный сукин сын. Для чего пистолет? Я пытался убедить себя, что этот подарок был просто еще одним бессмысленным, мелодраматическим жестом Кришны. Но что, если это составная часть какого-нибудь изощренного надувательства? Что, если он заключил сделку с полицией и сообщил, что американец незаконно носит оружие? Я сел в кровати. Кожа у меня покрылась липким потом Нет. Какая в этом для Кришны выгода? Разве пистолеты в Калькутте запрещены? Насколько я знал, Калькутта считалась центром Национальной стрелковой ассоциации. Около полуночи я встал и включил небольшую настольную лампу. Виктория спала кверху попой под тонкой простыней. В тишине негромко щелкнули застежки портфеля. Пожелтевшие, истрепанные листы были беспорядочно разбросаны внутри портфеля, но зато пронумерованы жирно выписанными чернильной ручкой цифрами, и мне потребовалось всего несколько минут, чтобы разложить их по порядку. Здесь было около пятисот страниц, что составляло довольно увесистую стопку. Я грустно усмехнулся, представив редактора любого американского журнала, перед которым вывалили пятьсот страниц стихов. Я не нашел ни титульного листа, ни названия, ни сопроводительного письма, ни имени автора на страницах. Если бы я не знал, что эта объемистая работа предположительно написана М. Дасом, то из рукописи об этом никак невозможно было догадаться. Первая страница имела вид плохой копии, напечатанной через копирку. Придвинувшись поближе к свету, я начал читать:
«Куда: В Центральное Инженерное Управление От кого: «И. А. Топф и Сыновья», Эрфурт Предмет: Крематории 2 и 3. Подтверждаем получение вашего заказа на пять тройных печей, включая два электроподъемника для трупов и один запасной подъемник. Также заказаны удобные приспособления для перемешивания угля и для перевозки пепла. Мы гарантируем эффективность упомянутых печей и топок, а также их долговечность, применение лучших материалов и наше безупречное мастерство. В ожидании ваших дальнейших сообщений остаемся к вашим услугам, «И. А. Топф и Сыновья», Эрфурт».
А потом сразу, без перехода, стиль перешел на самбхаву пятого века.
Шлюха на Саддер-стрит убила своего любовника и алчно сожрала его тело во имя любви. Наступил Век Кали. Вопли вырываются из мертвых утроб миллионов, погубленных в наше время; хор негодования доносится из массовых захоронений, удобривших наше столетие. Сейчас звучит Песнь Кали. Силуэты играющих детей навечно остались на разрушенной стене, когда бомба мгновенно дочерна опалила бетон. Наступил Век Кали. Отец терпеливо дожидался возвращения из школы последней из четырех дочерей. Он мягко приставил револьвер к ее виску, дважды выстрелил и уложил ее теплое тело рядом с матерью и сестрами. Полиция обнаружила его тихо напевающим нежную колыбельную неподвижным фигурам. Сейчас звучит Песнь Кали.
Я отложил чтение, когда осталось не больше сотни страниц. Глаза мои закрывались сами собой, и я дважды засыпал, уронив голову на грудь. Кое-как засунув рукопись в портфель, я посмотрел на свои часы, лежавшие на тумбочке. Без пятнадцати четыре. Через несколько минут зазвонит будильник, и мы будем собираться в аэропорт. Полет с учетом пересадки в Лондоне займет двадцать восемь часов. Я застонал от изнеможения и заполз в постель рядом с Амритой. Впервые комната казалась приятно прохладной. Натянув простыню, я закрыл глаза всего на несколько минут. Несколько минут вздремнуть, прежде чем зазвонит будильник, а потом пора будет одеваться. Всего несколько минут…
Я где-то проснулся. Кто-то принес меня сюда. Здесь темно, но я и так знаю, где я. Это Храм Кали. Богиня стоит передо мной. Ее нога поднимается над пустым пространством. Все ее четыре руки пусты. Я не вижу ее лица, потому что лежу на полу сбоку от статуи. Я не испытываю страха. Я замечаю, что на мне нет одежды. Не имеет значения. Я лежу на тростниковой циновке, которая холодит кожу. Пламя нескольких свечей озаряет статую. В воздухе пахнет мускусом и ладаном!. Где-то негромко поют высокие мужские голоса. Возможно, это лишь звук бегущей воды. Не важно. Идол двигается. Кали поворачивает голову и смотрит на меня. Я не чувствую ничего, кроме изумления. Я восхищаюсь ее красотой. У нее овальное, совершенной формы, румяное лицо. Полные и влажные губы. Она улыбается мне. Я поднимаюсь. Босыми подошвами я ощущаю структуру плетеной циновки. От сквозняка по моему обнаженному животу прокатывается дрожь. Кали шевелится. Двигаются пальцы. Руки ее сгибаются, удерживая равновесие. Ее ступня опускается на пьедестал, и она легко становится на обе ноги. Ее светящиеся глаза неотрывно смотрят в мои. Я прикрываю веки, но видение не исчезает. Я вижу слабое свечение, исходящее от ее тела. У нее упругие, полные, тяжелые, соблазнительные груди. Крупные соски выступают над нежными кружочками. Ее высокая, невероятно узкая талия переходит в полные бедра, как бы созданные для того, чтобы принять на себя напор жаждущего мужчины. Нижняя часть ее живота представляет собой рельефный полумесяц, оттеняющий темную промежность. Бедра не трутся друг о друга, но в месте стыка чувственно закругляются внутрь. У нее небольшие ступни с высоким подъемом. Браслеты на лодыжках позвякивают при каждом движении. Ее ноги раздвигаются, и я вижу складки в треугольнике тени – нежную, с загнутыми внутрь краями расщелину. Мой член шевелится, твердеет, встает навстречу ночному воздуху. Мошонка сжимается, по мере того как я ощущаю берущую там начало, растекающуюся по мне энергию. Кали легко сходит с пьедестала. Ее ожерелье тихо побрякивает, браслеты на щиколотках издают слабый звон, а босые пятки негромко шуршат по каменному полу. Она в пяти шагах от меня. Движения ее рук напоминают колыхание тростника при неощутимом ветерке. Все ее тело покачивается под пульсирующий ритм плеска речной воды, левое колено поднимается, поднимается, пока не касается локтя ее поднятой руки. От ее благовонного тела исходит обволакивающий меня аромат женщины. Я хочу подойти к ней, но не могу пошевелиться. Бешено колотящееся сердце наполняет мою грудь барабанным ритмом пения. Бедра мои начинают двигаться сами по себе, непроизвольно совершая толчки вперед. Все мое сознание сосредоточено в основании пульсирующего члена. Кали делает левой ногой круговое движение и опускает ее. Она шагает в мою сторону. Браслеты позвякивают. «Уннала-набхи-памке-руха»,– поет река, и я отлично ее понимаю. Четыре руки колышутся в безмолвном танце. Пальцы сгибаются, соприкасаются кончиками, грациозно движутся сквозь сладкий воздух в мою сторону. Груди тяжело покачиваются. Победное выражение на лице Дочери Горы. Она делает еще один шаг вперед. Ее пальцы извиваются, ласкают мою щеку, легонько касаются плеча. Голова у нее откинута назад, глаза полуприкрыты от страсти. Я вижу совершенство ее черт, румянец щек и трепещущий рот.
Водителями всех такси, курсирующих между городом и аэропортом «Дум-Дум», были ветераны индо-пакистанской войны 1971 года. У нашего водителя вся правая щека представляла собой сплошной шрам, а глаз был закрыт широкой черной нашлепкой, заставившей меня невольно задуматься о его монокулярном зрении и оценке расстояний, когда мы крутились в густом потоке машин на шоссе для VIP-персон. Снова шел дождь. Все приобрело цвет грязи: облака, дорога, громоздящиеся друг на друга хибары из полотна и жести, отдаленные заводы. Лишь красные и белые полоски, нанесенные на изредка попадавшиеся придорожные баньяны, скрашивали пейзаж хоть какими-то цветовыми пятнами. Ближе к окраине поднимались новые жилые дома. То, что они новые, я смог определить лишь по строительным лесам из бамбука и стоявшим поблизости в грязи бульдозерам, но сами сооружения выглядели такими же запущенными, покрывшимися пятнами от старости, как и древние развалины в центре города. За бульдозерами виднелись скопления навесов, под которыми прятались тесно сгрудившиеся фигуры. Кто они – семьи строителей или новые жильцы, ожидавшие въезда? Скорее всего, эти отверженные были ядром новой чольи – растущей окраины двухсот пятидесяти квадратных миль сплошных трущоб. Слева промелькнул белый щит, который я заметил еще тогда, ночью. С этой стороны на нем были слова: «КАЛЬКУТТА ГОВОРИТ ВАМ ДО СВИДАНИЯ. ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ». Женщина с кастрюлями и большим бронзовым кувшином на голове присела на корточки в грязи за щитом. В аэропорту было людно, но не так, как в ту ночь, когда мы прилетели. Все билеты на делийский рейс уже были распроданы, но один только что сдали. Да, самолет «ПанАм» вылетает из Нью-Дели в семь вечера. Билеты можно будет приобрести. После досмотра багажа мы прошлись по залу. Свободных мест не было, и нам пришлось поискать тихий уголок, чтобы сменить Виктории подгузник. Затем мы заглянули в небольшое кафе – выпить чего-нибудь прохладительного. Мы почти не разговаривали. Амрита казалась погруженной в свои мысли, а у меня все еще трещала голова. Время от времени перед глазами мелькали обрывки сна, и тогда все сжималось в животе от напряжения и замешательства. – При худшем раскладе, если вдруг не успеешь на «ПанАм»,– сказал я,– можешь переночевать у своей тетки в Дели. – Хорошо. – Или остановиться в какой-нибудь хорошей гостинице рядом с аэропортом. – Да, конечно. В кафе ввалилась толпа туристов из Бельгии. Одна из них, невообразимая уродина в сетчатых штанах, тащила здоровенную гипсовую фигуру бога Ганеши со слоновьей головой. Все они оглушительно гоготали. – Позвони Дэну и Барб, когда доберешься до Бостона. – Ладно. – Я прилечу на следующий день после вас. Кстати, ты будешь звонить родителям из Хитроу? – Бобби, но я и вправду не прочь остаться еще на день. Тебе может понадобиться помощь… с переводом. Ведь речь пойдет о рукописи, да? Я покачал головой. – Слишком поздно, детка. Багаж уже погружен. Без лишних нарядов ты обойдешься, но без запаса разовых подгузников здесь нечего делать. Амрита не улыбнулась. – Серьезно,– сказал я, взяв ее за руку.– Просто мне нужно кое-что закончить с Гуптой и этими клоунами. Черт возьми, мне все еще не хватает материала на статью. Одного дня будет достаточно. Амрита постучала по моему кольцу. – Хорошо, но будь поосторожнее. Не пей сырую воду. А если Камахья придет поменять ткань, постарайся, чтобы она дала тебе только ее – и ничего больше. Я ухмыльнулся. – Договорились. – Бобби, а почему ты не пустил горничную? – Что? – Убраться в номере. Перед уходом ты ей велел подождать до завтра. – Из-за рукописи Даса,– торопливо ответил я.– Не хочется, чтобы там кто-нибудь шнырял. Амрита кивнула. Я допил остатки «фанты», посмотрел на маленького геккона, прошмыгнувшего по стене, и постарался отделаться от мысли об автоматическом пистолете двадцать пятого калибра, лежавшем на полке стенного шкафа в гостиничном номере. Самолет уже подали на посадку, и я поцеловал обеих на прощание. Но тут Амрита вдруг вспомнила: – Ой, слушай, а если Камахья вдруг не появится в гостинице, ты не смог бы заскочить к ней домой и забрать ткань? Она принялась копаться в сумочке. – Это так важно? – Нет, но я была бы тебе признательна. – А почему ты просто не поменяла ткань в лавке? – Все было разрезано по мерке. И я не сомневалась, что мы еще раз с ней увидимся. Черт, я же точно положила бумажку сюда. Ничего. Я помню адрес. Достав книжечку спичек, прихваченную из гостиницы, она написала адрес на внутренней стороне обложки. – Только если у тебя будет время. – Хорошо. Времени у меня не будет. Мы еще раз поцеловались. Виктория, озадаченная толчеей и шумом, вела себя беспокойно. Я положил ладонь на головку ребенка, ощутив бесконечную нежность ее волосиков. – Хорошего вам полета. Увидимся через пару дней. В аэропорту «Дум-Дум» не было галерей для посадки в самолет. Пассажиры проходили по мокрому гудрону и забирались по трапу на борт «Эйр-Индия». Прежде чем скрыться внутри аэробуса французского производства, Амрита повернулась и помахала мне пухленькой ручонкой Виктории. Мельком взглянув на часы, я быстро пошел через зал к телефонам. Гупта поднял трубку после пятого гудка. – Все решено, мистер Лузак. Запишите адрес… Я полез за записной книжкой, но вместо нее извлек спички, которые дала Амрита. Номер улицы я чиркнул рядом с адресом Камахьи. – Э-э-э… и еще, мистер Лузак… – Да, слушаю. – На этот раз вы пойдете один.
Дождь уже прекратился, когда я вышел из такси. От мостовой вздымался пар и проплывал между старыми зданиями. В адресе, полученном мною от Гупты, указывалось пересечение улиц в старой части города, но по дороге сюда я не заметил знакомых мне ориентиров. Улицы после ливня были заполнены людьми. Проезжали велосипеды, позвякивая звонками. Выхлопные газы от мотоциклов делали насыщенный паром воздух еще гуще. Старый вол, спину которого сплошь покрывали струпья и открытые язвы, тяжело разлегся посреди проезжей части. Плотный поток машин осторожно огибал животное. Я стоял и ждал. Тротуаром здесь считалась четырехфутовая полоска неровной грязи между сточной канавой и стенами старых домов. Между зданиями были трехфутовые щели, и, когда до меня донеслась ужасная вонь, я подошел поближе, чтобы заглянуть в одну из этих узких скважин. Мусор и органические отходы, наваленные футов на восемь-двенадцать в высоту, тянулись по всей длине протяженного прохода. Очевидно, жильцы в течение многих лет сбрасывали мусор из верхних окон. По вонючим кучам передвигались темные фигуры. Я тут же отпрянул и застыл перед отделяющим тротуар от проезжей части потоком дождевой воды, смешанной с нечистотами. Я всматривался в каждого человека в снующей толпе. Как и в любом большом городе, на лицах пешеходов лежала печать суетливой раздраженности. Многие мужчины были одеты в жесткие полиэстеровые рубашки и свободные штаны из того же материала. Меня это поразило: в стране, производящей, возможно, лучшую в мире и в то же время относительно дешевую хлопчатобумажную одежду, средний класс считает престижным щеголять в более дорогом, не пропускающем воздух полиэстере. Иногда какое-нибудь потное лицо под умасленнымичерными волосами поворачивалось в мою сторону, но никто не останавливался, кроме нескольких детей, одетых лишь в замызганные шорты цвета хаки. Они приплясывали вокруг меня некоторое время, выкрикивая: «Баба! Баба!» – и хихикая. Я не стал раздавать монетки, и через пару минут они убежали, разбрызгивая грязь. – Вы мистер Лузак? Я вздрогнул от неожиданности. Пока я смотрел на проезжающие машины, сзади ко мне подошли двое мужчин. Один был облачен в обычный полиэстер, а на другом было загвазданное хаки обслуживающих классов. Оба не отличались ни смышленостью, ни приятной внешностью. Высокий и худой в пестрой рубашке обладал треугольным лицом с острыми скулами и узким ртом. Мужчина в хаки был пониже, потяжелее, с еще более туповатой, чем у его приятеля, физиономией. Сонное, презрительное выражение его глаз заставило меня вспомнить всех громил, с которыми доводилось когда-либо сталкиваться. – Да, я Лузак. – Пойдемте. Они двинулись в толпу так стремительно, что мне пришлось припустить трусцой, чтобы не отстать. Я задал несколько вопросов, но их молчание и уличный шум убедили меня в том, что лучше успокоиться и следовать за ними. Мы шли больше получаса. Я и сначала-то не очень понял, в какую сторону мы движемся, но вскоре полностью потерял ориентацию. Плотная облачность не позволяла мне воспользоваться даже солнцем в качестве ориентира. Мы проходили по многолюдным боковым улицам, не шире переулка и по настоящим переулкам, заполненным людьми и мусором Несколько раз мои провожатые поворачивали в короткие тоннели, выводившие нас во дворы жилых зданий. Повсюду носились, верещали и сидели на корточках дети. Женщины, прикрывая лица краями сари, недоверчиво поглядывали темными глазами. Старики с неподвижными лицами смотрели вниз, облокотясь на проржавевшие перила. Кричали младенцы. От разведенных на бетонных площадках костров для приготовления пищи поднимался дым и повисал в туманном воздухе. По очередному тоннелю мы вышли в переулок, тянувшийся на несколько кварталов. Народу здесь толпилось больше, чем на иных главных улицах американских городов. Переулок вывел нас в район, где дома были снесены, но среди куч каменных обломков торчали палатки и импровизированные укрытия. Одна большая выемка, служившая когда-то, по всей видимости, подвалом, была заполнена дождевой водой и отвратительными нечистотами. Десятки мужчин и подростков плескались и кричали в коричневом водоеме, а другие прыгали в него из окон вторых этажей зданий, расположенных вокруг. Тут же двое голых мальчишек, смеясь, втыкали палочки в нечто, напоминающее утонувшую, раздувшуюся крысу. Затем, оставив позади район жилых домов, мы оказались в трущобах – среди множества сложенных из камней и джутовых мешков жилищ и многоярусных конструкций из старых щитов, листового железа и выцветшей на солнце фанеры. На открытой площадке испражнялись, сидя на корточках, двадцать или тридцать мужчин. Чуть подальше, на каменистой террасе, расположились молоденькие девушки. Сидя позади своих младших сестренок и братишек, они тщательно выбирали вшей из их спутанных волос. Когда мы проходили, от нас шарахнулся какой-то тощий пес, но никто здесь, судя по всему, не испытывал никаких чувств из-за появления чужаков на своей территории. Из глубоких теней дверных проемов лачуг за нами следили человеческие глаза. Время от времени откуда-нибудь выбегал ребенок с протянутой рукой, но окрик невидимого взрослого тут же возвращал его обратно. Неожиданно воздух наполнился едким запахом благовоний. Мы миновали ветхое зеленое строение. По звуку колокольчиков и доносившемуся из внутреннего дворика нестройному пению можно было заключить, что это храм. Возле зеленого храма старуха с внучкой выгребали из большой корзины коровий навоз и лепили из него горючие лепешки размером с гамбургер для вечернего огня. Стена храма на протяжении футов тридцати была в несколько рядов облицована вылепленными вручную кругляшами, разложенными для просушки. На другой стороне грязной немощеной улицы несколько человек делали бамбуковый каркас для хижины размером не больше переносной туристской палатки. Перестав беззлобно перекрикиваться, они молча проводили нас взглядами. Если у меня и оставались некоторые сомнения по поводу того, являются ли мои провожатые капаликами, то теперь их окончательно рассеяла тишина, сопровождавшая нас по пути. – Далеко еще? Снова начинался дождь, а зонтик я оставил в гостинице. Мои белые штаны покрылись грязью до самых коленей. Светло-коричневым башмакам никогда больше не удастся вернуть прежний вид. Я остановился и снова спросил: – Далеко еще? Коренастый в хаки оглянулся и мотнул головой. Он показал пальцем на стену серого промышленного здания, показавшегося сразу же за морем лачуг. Последнюю сотню метров нам пришлось взбираться по раскисшему склону, и я дважды падал на колени. Верхушку холма окружал сетчатый забор с колючей проволокой сверху. Сквозь сетку я увидел ржавые металлические бочки и пустые железнодорожные ветки между зданиями. – Что теперь? Я оглянулся и окинул взглядом панораму трущоб. Жестяные крыши были придавлены бесчисленными камнями – черное на сером. То там, то здесь в темных проемах виднелись огни. Далеко, в той стороне, откуда мы пришли, плотная дымка скрывала из виду многоквартирные дома. Дым поднимался от сотен костров и растворялся в серо-коричневом небе. – Пошли. Высокий отогнул кусок проволочной сетки. Я заколебался. Сердце бешено стучало – и не только из-за подъема по склону холма. Меня наполняла пьянящая, холодящая живот легкость, которую можно ощутить, встав на край трамплина. Наконец я кивнул и шагнул в образовавшуюся в заборе дыру. На территории завода царила тишина. Теперь я понял, насколько привык к постоянному гулу человеческих голосов, к движению… к людям в этом перенаселенном городе. А здесь по мере перемещения от одного затененного прохода к другому тишина постепенно становилась такой же густой, как и влажный воздух. Я не мог поверить, что этот производственный комплекс еще работает. Небольшие кирпичные здания почти сплошь заросли сорняками и вьющимися растениями. В расположенном высоко в стене окне, состоявшем когда-то не меньше чем из сотни квадратных стекол, уцелело не больше десяти-двенадцати. На месте остальных зияли черные дыры с зазубренными краями, сквозь которые время от времени порхали маленькие птички. Повсюду виднелись пустые бочки, когда-то ярко-красные, желтые, голубые, а сейчас покрытые коростой ржавчины. Мы свернули в еще более узкий проход, этакий cul-de-sac [4]. Я резко остановился. Рука невольно потянулась к нижнему правому карману рубашки-сафари, к тяжелому, размером с кулак камню, который я подобрал, пока мы взбирались по склону. Может показаться невероятным, но, очутившись здесь, я испытывал не страх, а лишь сильное любопытство по поводу того, что эти двое собираются делать дальше. Я бросил взгляд через плечо, чтобы убедиться, что сзади никого нет, мысленно наметил пути к отступлению в лабиринте проходов и снова повернулся к двум капаликам.. «Присматривай за коренастым»,– твердила мне какая-то часть рассудка. – Туда. Тот, что в хаки, указал на узкую наружную деревянную лестницу. Дверь наверху находилась чуть выше, чем полагалось бы на обычном втором этаже. Кирпичную стену покрывали заросли плюща. Окна отсутствовали. Я не тронулся с места и крепче сжал в руке камень. Мои провожатые подождали, переглянулись, резко повернулись и пошли обратно – в ту сторону, откуда мы пришли. Я отступил вбок, встал спиной к стене и позволил им уйти. Они явно и не ждали, что я последую за ними. Некоторое время до меня доносился шум их шагов по гравию, но вскоре тишину нарушало лишь мое тяжелое дыхание. Я посмотрел наверх, вдоль крутой лестницы. Высота стен и узкая полоска неба вызвали у меня легкое головокружение. Вдруг из темного пространства под крышей вылетела стая голубей и тут же устремилась прочь. Их крылья хлопали точно ружейные выстрелы. Они кругами поднимались в свинцовое небо. Для половины четвертого пополудни казалось слишком темно. Я вернулся на место пересечения проходов и посмотрел в обе стороны. Не более чем через сто шагов все терялось во мраке. Я ощущал в руке прохладу и тяжесть камня, орудия пещерного человека. Его гладкая поверхность была испачкана красной глиной. Я поднес камень к щеке и снова посмотрел на дверь, видневшуюся футах в тридцати вверху. Стекло в ней было замазано краской – и, похоже, давно. На секунду прикрыв глаза, я успокоил дыхание. Затем, опустив камень в карман рубашки, начал взбираться по прогнившей лестнице навстречу неизвестности.
12
…Ты, шлюха Калькутта, Ты мочишься желтой проказой, как желтушной мочой, Как великой художественной фреской…Комната была очень маленькой и очень темной. Небольшая лампа – открытое пламя, потрескивающее над поверхностью прогорклого масла,– стояла посреди квадратного деревянного стола, но и ее слабый свет поглощался висевшими со всех сторон рваными черными шторами. Помещение напоминало не столько комнату, сколько убранный в черное склеп. У стола в ожидании стояли два стула. На неровной поверхности стола лежала книга, название которой трудно было разобрать при слабом свете. Но я понял, что это за книга, и не разглядывал обложку. «Зимние призраки», сборник моих стихов. Открыв дверь, я сначала попал в коридор, настолько узкий и темный, что я чуть не улыбнулся, вспомнив аттракционы в парке Ривервью. Плечами я задевал отслаивающуюся с обеих сторон штукатурку. Спертый воздух пропитался запахом древесной гнили и плесени, навевавшим воспоминания о том, как. я в детстве лазил под наше зарешеченное крыльцо, чтобы поиграть там в темноте и сырости. Я не стал бы входить в этот узкий коридор, если б сюда не просачивался слабый отсвет масляной лампы. Ступив в комнату, я сразу же наткнулся на черную марлевую занавеску. Она довольно легко отошла в сторону, распадаясь от моего прикосновения, словно старая паутина. Если экземпляр моей книги был положен сюда, чтобы меня заинтриговать, он достиг цели. Если же предполагалось, что, увидев свой сборник, я расслаблюсь, то затея не увенчалась успехом. Я остановился примерно в двух шагах от стола. Снова у меня в руке оказался камень, но выглядело это жалко, по-детски. Я опять вспомнил аттракционы в парке Ривервью и на этот раз ухмыльнулся помимо своей воли. Если из занавешенной темноты на меня что-нибудь выпрыгнет, оно получит добрую порцию гранита по физиономии. – Эй! Темные шторы поглощали мой крик так же эффективно, как и свет лампы. Язычок пламени заплясал от движения воздуха. – Эй! Олли Оксен на свободе! Игра окончена,! Присоединяйтесь! Где-то в глубине души у меня таилось желание рассмеяться над нелепостью ситуации. Оно соседствовало с рвущимся наружу криком.. – Ладно, продолжим этот балаган,– произнес я, шагнул вперед и, выдвинув стул, подсел к столу. На свою книгу я положил камень, напоминавший теперь неуклюжее пресс-папье. Затем сложил руки и сел тихо и прямо, как школьник в первый день занятий. Прошло несколько мгновений. До меня не долетало ни единого звука. Было так жарко, что пот капал у меня с подбородка, оставляя кружочки на пыльной поверхности стола. Я ждал. Неощутимое движение воздуха поколебало язычок пламени. Кто-то пробирался сквозь черные шторы. Высокая фигура раздвинула драпировку, приостановилась, по-прежнему оставаясь в тени, а потом неуверенной шаркающей походкой вышла на свет. Сначала я увидел глаза – влажные, умные глаза, в которых оставило след время и великое знание человеческого страдания. Сомнения прочь. Это были глаза поэта. Передо мной возник М. Дас. Он подошел поближе, и я судорожно вцепился в края стола. Я смотрел на существо из могилы. Серые тряпки, в которые была облачена эта фигура, вполне могли сойти за остатки савана. Зубы блестели в невольном оскале – от сгнивших губ оставались лишь обрывки бесформенной плоти. Нос практически отсутствовал – на его месте виднелась влажная пульсирующая пленка обнаженной ткани, не закрывавшая двойное отверстие в черепе. Когда-то впечатляющий лоб не подвергся столь же опустошительным разрушениям, как нижняя часть лица, но неровные чешуйчатые пятна испещрили кожу головы, оставив странно торчавшие пучки седых волос. Левое ухо представляло собой бесформенную массу. М. Дас выдвинул второй стул, чтобы сесть, и я заметил, что от двух средних пальцев его правой руки осталось по одной фаланге. Остатки кисти были обернуты тряпкой, которая, впрочем, не маскировала очаги разложения на запястье, где взгляду открывались мышцы и сухожилия. Он тяжело уселся. Массивная голова покачивалась, словно тонкая шея не могла ее удержать, а лохмотья на впалой груди быстро поднимались и опускались. Комнату наполнили звуки неровного дыхания. – Проказа. Это слово я произнес шепотом, но мне казалось, что закричал. Язычок пламени отчаянно затрепетал, готовый вот-вот погаснуть. Светло-карие глаза смотрели на меня из-за масляного светильника, и я увидел теперь, что и веки тоже были частично разъедены. – Боже мой! – прошептал я.– О Господи! Что с вами сделали, Дас? Это проказа. – Да-а-а… Я не нахожу слов, чтобы точно описать тот голос. Отсутствие губ делало многие звуки невозможными, а другие воспроизводились за счет свистящего шуршания, возникающего при соприкосновении языка с оскаленными зубами. Не знаю, как ему вообще удавалось говорить. Безумие происходящего усугублялось все еще различимым оксфордским акцентом и изящным синтаксисом натужных, шипящих фраз. Слюна увлажняла обнаженные зубы и летела на пламя светильника, но слова звучали разборчиво. Я не мог ни пошевелиться, ни заставить себя смотреть в сторону. – Да-а-а,– произнес поэт М. Дас,– проказа. Но в наше время это называется заболеванием Хансена, мистер Лузак. – Да, конечно. Извините. Я кивнул, моргнул, но так и не смог отвести взгляд. И только теперь осознал, что все еще крепко сжимаю край стола. Шершавое дерево каким-то образом помогало мне не утратить связи с реальностью. – Боже мой,– тупо повторил я,– как это случилось? Чем я могу помочь? – Я читал вашу книгу, мистер Лузак,– прошелестел М. Дас.– Вы сентиментальный поэт. – Как вам удалось ее найти? – «Идиот, возьми себя в руки!» – Я хотел сказать, почему вы считаете эти стихи сентиментальными? Дас медленно моргнул. Остатки век опустились словно истрепанные оконные занавески, так и не закрыв полностью белки. Теперь, когда умный взгляд пропал из виду, призрак напротив меня казался в тысячу раз ужаснее. Я подавил в себе желание сбежать и затаил дыхание, пока он не посмотрел на меня снова. В голосе Даса я сумел уловить оттенок мечтательности. – В Вермонте действительно так много снега, мистер Лузак? – Что? А, вы хотите сказать… да. Да. Не всегда, но в некоторые зимы. Особенно в горах. Обочины дорог и почтовые ящики тогда размечают шестами и маленькими оранжевыми флажками. Я нес чушь, но это было все же лучше, чем затыкать рот костяшками пальцев, чтобы подавить рвущиеся оттуда иные звуки. – Ах-х-х,– вздохнул Дас, и звук этот напоминал выходящий из умирающего морского животного воздух.– Хотелось бы на это посмотреть. Да-а-а. – Я читал вашу поэму, мистер Дас. – Да-а-а? – Я имею в виду, поэму о Кали. Вы знаете, конечно. Вы же ее мне прислали. – Да-а-а. – Почему? – Почему – что, мистер Лузак? – Почему вы посылаете ее для публикации за пределы страны? Почему вы отдали ее мне? – Она непременно должна быть опубликована.– Впервые в странном голосе Даса отчетливо прорезались эмоции.– Вам она не понравилась? – Нет, она мне не понравилась,– сказал я.– Совсем не понравилась. Но отдельные места в ней весьма… примечательны. Ужасны и примечательны. – Да-а-а. – Почему вы ее написали? М. Дас снова закрыл глаза. Страшная голова наклонилась вперед, и мне показалось на секунду, что он уснул. При свете лампы пятна на голове приобрели серо-зеленую окраску. – Она должна быть опубликована,– хрипло прошептал он.– Вы мне поможете? Я колебался. У меня не было уверенности в том, что последняя фраза была вопросом. – Хорошо,– сказал я наконец.– Скажите, почему вы это написали. Что вы здесь делаете? Дас снова посмотрел на меня и каким-то магнетическим сигналом дал понять, что мы здесь не одни. Я бросил взгляд в сторону, но ничего, кроме черноты, не увидел. – Как вы… – Я колебался.– Как вы стали таким? – Прокаженным… – Да. – Я уже много лет такой, мистер Лузак. Я не обращал внимания на признаки. Чешуйчатые пятна у меня на руках. Боль, после которой наступило онемение. Даже когда я раздавал автографы во время поездок и вел семинары в университете, мои руки и щеки ничего не чувствовали. Я знал правду задолго до появления открытых язв, задолго до той недели, когда я поехал на восток – на похороны своего отца. – Но ведь сейчас уже есть препараты! – вскричал я.– Вы же наверняка должны были знать… Лекарства! Это уже умеют лечить. – Нет, мистер Лузак, это не вылечить. Даже те, кто верит в лекарства, признают, что можно контролировать только симптомы, иногда задерживать их развитие. Но я был последователем философии здоровья Ганди. Когда выступила сыпь и появилась боль, я голодал, соблюдал диеты, я делал клизмы и очищал как тело, так и душу. Много лет… Не помогло… Я знал, что не поможет. Сделав глубокий вдох, я вытер руки о штаны. – Но если вы знали, что… – Послушайте, пожалуйста,– прошептал поэт.– У нас мало времени. Я расскажу вам одну историю. Было лето 1969 года – сейчас мне то время кажется другой эпохой, другим миром. Моего отца кремировали в небольшой деревушке, где я родился. Кровоточащие язвы были видны уже много недель. Я сказал братьям, что это аллергия. Я хотел одиночества. Я не знал, что делать. Во время долгой поездки обратно в Калькутту у меня было время подумать. Вы когда-нибудь видели лепрозорий в нашей стране, мистер Лузак? – Нет. – Лучше не видеть. Да-а-а… Я мог уехать за границу. У меня были деньги. Врачи в столь просвещенных государствах, как ваше, мистер Лузак, редко сталкиваются с заболеванием Хансена на поздних стадиях. В наиболее развитых современных государствах проказы, как вы знаете, собственно, и не существует. Это болезнь грязи, нечистот и антисанитарных условий, забытая на Западе со средних веков. Но она не забыта в Индии. Знаете ли вы, мистер Лузак, что в одной только Бенгалии полмиллиона прокаженных? – Нет,– ответил я. – Вот и я не знал. Но мне сказали. Большинство, видите ли, умирает по другим причинам, до того, как болезнь разовьется. На чем я остановился? Ах да. Я прибыл на станцию Хоура вечером, к тому времени уже решив, что делать дальше. До этого я подумывал о поездке за границу на лечение и искал способы пережить многолетнюю боль, по мере того как болезнь будет медленно распространяться по телу. Я размышлял о том, как подчиниться унижению и изоляции, которых потребует такое лечение. Я все обдумал, мистер Лузак, но в результате отверг саму идею. И как только я принял решение, в душе наступил мир. В тот вечер, глядя на огни станции Хоура из окна вагона первого класса, я был вполне в ладу с самим собой и со всей вселенной. Верите ли вы в Бога, мистер Лузак? Я не верил. Не верю и сейчас… ни в одного бога света, пожалуй. Есть другие… Но на чем я остановился? Да. Я покинул вагон в умиротворенном состоянии духа. Мое решение позволяло избежать не только боли немощи, но и боли разлуки. По крайней мере, я так думал. Я отдал свои вещи изумленному нищему там же, на станции. Ах да, вы должны простить меня, мистер Лузак, за избранный мной вчера способ передать вам рукопись. Ирония – одно из немногих оставшихся у меня удовольствий. Жаль только, что я при этом не присутствовал. Так о чем мы? Да, я покинул вокзал и пошел к чудесному сооружению, которое мы называем «мост Хоура». Вы его видели? Да, конечно, видели. Как глупо с моей стороны. Я всегда считал его восхитительным образцом абстрактной скульптуры, мистер Лузак, совершенно неоцененным произведением искусства, каковым он является. Той ночью мост был сравнительно безлюдным – лишь несколько сотен пешеходов шли по нему. Я остановился посередине. Колебался я недолго, потому что не хотел оставлять себе время на раздумья. Должен признаться, что сочинил небольшой сонет – прощальное стихотворение, можно сказать. Я тоже когда-то был сентиментальным поэтом. Я прыгнул. С центрального пролета. До темной воды Хугли было больше сотни футов. Падение казалось вечным. Если б я знал об этом нескончаемом ожидании между началом и развязкой самоубийства подобного рода, я бы изменил планы, уверяю вас. Удар о воду с такой высоты был все равно что падение на бетон, мистер Лузак. Когда я столкнулся с водой, у меня в черепе словно расцвел цветок. Что-то в спине и шее треснуло. Громко. Будто сломалась толстая ветка. Потом мое тело утонуло. Я говорю «мое тело», потому что я умер тогда, мистер Лузак. В этом не было сомнения. Но произошло нечто странное. Душа не отлетает сразу же после смерти, но, скорее, следит за развитием событий примерно так же, как мог бы смотреть посторонний наблюдатель. Как еще я могу описать ощущения при виде чьего-то перекрученного тела, опускающегося в ил на дно Хугли? При виде рыб, рвущих чьи-то глаза и мягкие ткани Что еще можно сказать, когда видишь все это и не испытываешь ни тревоги, ни страха, а лишь слабый интерес? Таковы впечатления, мистер Лузак. Так выглядит вызывающий страх процесс умирания… такой же банальный, как и все неизбежные процессы, составляющие наше жалкое существование. Не знаю, в течение какого времени пролежало там мое тело, становясь единым целым с речным илом, прежде чем волны или, возможно, кильватерная струя какого-то судна вынесла мою бренную оболочку на берег. Дети нашли меня. Они тыкали в меня палочками и смеялись, когда те проникали в мою плоть. Потом пришли капалики. Они отнесли меня – осторожно, хотя такие понятия в то время для меня были пустым звуком – в один из своих многочисленных храмов. Я проснулся в объятиях Кали. Она – единственное божество, бросающее вызов смерти и времени. Она воскресила меня тогда, мистер Лузак, но лишь для своих собственных потребностей. Лишь для своих собственных потребностей… Как видите, Темная Мать не сочла нужным избавить меня от бремени недуга, когда вновь вдохнула в меня жизнь. – Каковы же были эти потребности, мистер Дас? – спросил я. Безгубая гримаса поэта выглядела вымученной попыткой улыбнуться. – И так должно быть очевидно, на что ушли мои слабые силы,– ответил Дас.– Я – поэт богини Кали. И я, недостойный, служу ей в качестве поэта, жреца и воплощения.Тушар Рой
В течение всего разговора какая-то часть меня испытывала ощущение отстраненного наблюдения, о котором упоминал Дас. Казалось, словно эта доля моего сознания парит под потолком и с холодным спокойствием, граничащим с безразличием, следит за диалогом. Другая часть моего «я» хотела истерически рассмеяться, закричать, перевернуть стол в близком к ярости неверии и бежать из этой гнусной темноты. – Такова моя история,– произнес Дас.– Что скажете, мистер Лузак? – Я скажу, что из-за болезни вы сошли с ума. – Да-а-а? – Или что вы в полном рассудке, но по чьей-то воле должны играть роль. Дас промолчал, но метнул в сторону угрюмый взгляд. – Еще одна неувязка в вашей истории,– продолжал я, удивившись твердости своего голоса. – Какая же? – Если ваше… ваше тело было обнаружено только в прошлом году, я сомневаюсь, что от него что-то осталось. За семь-то лет. Голова Даса дернулась вверх, как у кошмарного игрушечного чертика из шкатулки. В занавешенной темноте послышался скребущий звук. – Да? И кто же вам сказал, что тело было обнаружено в прошлом году, мистер Лузак? У меня перехватило горло. Не раздумывая, я объяснил: – Как рассказывал мистер Муктанандаджи, именно тогда произошло мифическое воскрешение. Горячий ветерок шевельнул пламя, и тени заплясали по разрушенному лицу Даса. Его страшная ухмылка осталась неизменной. Тени колыхнулись снова. – А-а-а,– выдохнул Дас. Его перевязанная искалеченная рука рассеянным жестом скребла по столу.– Да-а, да-а-а. Бывают… время от времени… определенные изменения законов. Подавшись вперед, я уронил руку поближе к камню. Мои глаза пытались разглядеть человеческое существо в этой прокаженной туше, сидевшей по другую сторону стола. Мой голос звучал горячо, настойчиво. – Но почему, Дас? Ради Бога, скажите почему? Почему капалики? Зачем эта эпическая непристойность о Кали, возвращающейся, чтобы править миром,– или о каком еще дерьме там понаписано? Когда-то вы были великим поэтом. Вы пели о правде и чистоте. Собственные слова казались неубедительными мне самому, но я не знал, как выразиться иначе. Дас грузно откинулся назад. Дыхание с хрипом вырывалось из его открытого рта и ноздрей. Сколько можно прожить в таком состоянии? Там, где болезнь не уничтожила плоть, кожа выглядела почти прозрачной и хрупкой, как пергамент. Когда этот человек мог последний раз видеть солнце? – В богине есть великая красота,– прошептал он. – Красота в смерти и разложении? Красота в насилии? Дас, с каких пор ученик Тагора поет гимн насилию? – Тагор был слепцом! – Свистящий шепот обрел новую силу.– Тагор не видел. Может быть, только когда умирал. Может быть. Если б он смог тогда видеть, он обратился бы к ней, мистер Лузак. Все мы обратимся к ней, когда Смерть войдет в наш ночной приют и возьмет нас за руку. – Бегство к какой бы то ни было религии не оправдывает насилия,– возразил я.– Не оправдывает зла, о котором вы пели… – Зло! Тьфу! – Дас выплюнул комок желтой мокроты на пол.– Вы ничего не знаете. Зло! Зла не существует. Насилия нет. Есть только власть. Власть – единственный великий организующий принцип вселенной, мистер Лузак. Лишь власть – априорная реальность. Любое насилие – это попытка осуществить власть. Насилие есть власть. И если мы чего-то боимся, то это происходит из-за того, что некая сила распространяет на нас свою власть. Все мы желаем свободы от такого страха. Все религии являются попытками достичь власти над силами, что способны управлять нами. Но она – наше единственное прибежище, мистер Лузак. Лишь Пожирательница Душ способна наделить нас абхайа мудрами и лишить всех страхов, поскольку лишь она одна имеет конечную власть. Она – воплощение власти, силы вневременной и непостижимой. – Это отвратительно,– сказал я.– Жалкое оправдание жестокости. – Жестокости? – Дас расхохотался. Его смех напоминал грохот перекатывающихся камней в пустой посудине.– Жестокости? Наверняка даже сентиментальный поэт, который лепечет о нетленных истинах, должен знать, что так называемая жестокость есть единственная реальность, признаваемая вселенной. Жизнь питается насилием. – Я этого не приемлю. – Неужели? – Дас дважды моргнул. Медленно.– Вы ни разу не отведали вина власти? Вы ни разу даже не пытались осуществить насилие? Я колебался. Не признаваться же ему, что большую часть своей жизни я провел, стараясь обуздать собственный норов. Бог ты мой, о чем мы говорим?! Что я вообще здесь делаю? – Нет,– сказал я. – Чепуха. – Это правда, Дас. Нет, я дрался несколько раз, но всегда стремился избежать насилия. Мне было девять или десять лет. Cape – семь или восемь, когда в роще у опушки заповедника я приказал: «Снимай шорты! Быстро!» – Это неправда. Каждый отведал кровавого вина Кали. – Нет. Вы ошибаетесь. Лишь незначительные мелкие происшествия. Детские шалости. Я отвесил ей пощечину. Одну. Другую. Поток слез и медленное подчинение. Мои пальцы оставили красные следы на ее тонкой руке. – Не бывает незначительной жестокости,– сказал Дас. – Это нелепо. Ужасное, всеохватывающее возбуждение. Не просто от вида ее бледной наготы, от странной сексуальной привлекательности этой наготы. Нет, не только от этого. Из-за ее полной беспомощности. Ее покорности. Я мог делать все, что хотел. – Посмотрим. Все, что хотел…
Дас тяжело поднялся. Я отодвинул назад свой стул. – Вы опубликуете поэму? – Его голос потрескивал и шипел, как угольки в угасающем очаге. – Наверное, нет,– ответил я.– Почему бы вам не поехать со мной, Дас? Вам не нужно оставаться здесь. Поедемте со мной. Опубликуете ее сами. Однажды, когда мне было семнадцать лет, мой безмозглый двоюродный братец подбил меня сыграть в русскую рулетку с револьвером его отца. Он вставил один патрон и крутанул барабан. Я помню ту секунду напускной бездумной бравады, когда поднял револьвер, поднес ствол к виску и нажал на курок. Боек тогда ударил по пустому гнезду, но с тех пор я и близко не хотел подходить к оружию. Теперь среди калькуттской тьмы я чувствовал, что вновь приставляю ствол к своей голове, не имея на то основательных причин. Молчание затянулось. – Нет. Вы должны опубликовать ее. Это важно. – Но почему? Неужели вы не можете отсюда уйти? Что они могут сделать вам из того, чего еще не сделали? Поедемте со мной, Дас. Дас полуприкрыл глаза, и теперь существо передо мной больше не походило на человека. Могильным запахом несло от его лохмотьев. Позади меня из темноты уже совершенно отчетливо доносились какие-то звуки. – Я решил остаться здесь. Но очень важно, чтобы вы доставили «Песнь Кали» в вашу страну. – Почему? – снова спросил я. Язык Даса напоминал маленького розового зверька, который касался лоснящихся зубов и шмыгал затем назад. – Это больше чем просто заключительная работа. Считайте это объявлением… Объявлением о рождении. Вы опубликуете мою поэму? Молчание длиной в десять ударов сердца привело меня на край какой-то темной непонятной ямы. Потом я слегка наклонил голову. – Да. Она будет опубликована. Возможно, не полностью, но свет она увидит. – Хорошо,– произнес поэт и направился к выходу. Потом он остановился в неуверенности и обернулся почти застенчиво. Впервые я услышал в его голосе нотки человеческой тоски: – Есть еще… еще кое-что, мистер Лузак. – О чем вы? – Но тогда вам придется вернуться сюда. При мысли о том, что я буду вынужден еще раз войти в эту гробницу, после того как сейчас покину ее, у меня чуть не подкосились ноги. – О чем речь? Он слабо махнул рукой в сторону все еще лежавших на столе «Зимних призраков». – Мне практически нечего читать. Они… те, кто заботится о моих нуждах… иногда достают мне книги, когда я точно определяю названия. Но часто они приносят не те книги. А я так мало знаю о новых поэтах. Не могли бы вы… если это возможно… несколько книг на свое усмотрение? Старик сделал три шатких шага вперед, и на какое-то страшное мгновение я решил, что он собирается схватить своими гнилыми лапами меня за руку. Он остановился, прервав движение на середине, но его поднятые, замотанные руки выглядели еще трогательнее в этом жесте умоляющей беспомощности. – Да, я раздобуду для вас несколько книг.– «Но сюда не вернусь,– подумал я.– Я отдам несколько книг вашим друзьям-капаликам, только бы не возвращаться». Но не успел я высказать эту мысль вслух, как Дас заговорил снова: – Особенно мне хотелось бы прочитать произведения этого нового американского поэта, Эдвина Арлингтона Робинсона,– заторопился он.– Я читал лишь одну его новую поэму – «Ричард Кори», но финал ее настолько прекрасен, настолько отвечает моему нынешнему положению, моим личным устремлениям, что я постоянно об этом мечтаю. Не могли бы вы принести что-нибудь этакое? Мне оставалось лишь хлопать глазами. «Этого нового американского поэта?» В конце концов, не зная, что еще сказать, и боясь ляпнуть что-нибудь лишнее, я кивнул. – Да,– выдавил я.– Постараюсь. Печальная скрюченная фигура повернулась и вышла из комнаты. Секундой позже я сделал то же самое. Черные шторы на мгновение прилипли ко мне, как бы удерживая, не давая бежать, но вскоре я очутился на свободе. Свободен!
Калькутта казалась мне прекрасной. Слабый солнечный свет, пробивающийся сквозь облака, толпы, разгул послеобеденного движения на дорогах – я смотрел на все это с радостным облегчением, делавшим зрелище еще лучезарнее. Потом я вспомнил последние слова Даса, и сомнения охватили меня. Нет уж, подумаю об этом потом Потому что сейчас я свободен! Двое капаликов дожидались меня у подножия лестницы. Их услуги в качестве провожатых потребовались мне лишь на несколько минут – чтобы не заблудиться в трущобах и выйти на главную улицу, где мне удалось поймать такси. Прежде чем расстаться, один из них подал мне засаленную бумажку, на которой было нацарапано: «Перед Калигхат – 9:00». – Сюда я должен принести книги? – спросил я у худого. Его кивок стал одновременно и подтверждением, и прощанием. Затем черно-желтое такси начало крутиться среди еле двигающегося потока машин, а я в течение десяти минут просто наслаждался состоянием покоя и расслабления. До чего же странный случай! Морроу ни за что не поверит. Я сам уже верил с трудом. Сидеть там, возможно, в окружении психованных калькуттских уличных головорезов, разговаривать с тем, что осталось от одного из великих поэтов мира. До чего же странный случай! В «Харперс» такая история не пройдет никогда в жизни. В «Нэшнл инквайерер», может быть, но только не в «Харперс». Я расхохотался в голос, и маленький потный таксист повернулся, чтобы взглянуть на сумасшедшего американца. Я ухмыльнулся и несколько минут набрасывал варианты завязки, прикидывая, каким боком повернуть историю, чтобы в глазах Морроу она выглядела достаточно сухой и циничной. Слишком поздно до меня дошло, что надо бы проследить свой путь, но к тому времени мы оказались уже в нескольких милях от места, где я поймал такси. Наконец я стал узнавать крупные здания – верный признак того, что мы приблизились к центру города. За пару кварталов от гостиницы я вышел перед обшарпанным фасадом магазина с вывеской «КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ МЭННИ». Интерьер состоял из лабиринта металлических стеллажей и высоких стопок книг: старые и новые, некоторые покрыты толстым слоем пыли, в основном английские издания. С полчаса я потратил, чтобы отыскать восемь книжек хорошей свежей поэзии. Сборник Робинсона я не нашел, но зато в «Карманной книге современной поэзии» был «Ричард Кори», а также «Темные холмы» и «Уолт Уитмен». Я вертел в руках книжку в желтой бумажной обложке, хмуро ее разглядывая. Неужели я неправильно понял Даса? Вряд ли. Так ничего и не решив, я тем не менее еще несколько минут выбирал последние две книги, основываясь исключительно на их объеме. Когда продавец отсчитал мне сдачу монетами странной формы, я спросил, где найти аптеку. Он насупился и покачал головой, но после нескольких попыток удалось объяснить ему, что мне нужно. – Ax да, да,– произнес он.– Химик. Он направил меня в лавку, расположенную где-то между книжным магазином и гостиницей. До «Обероя» я добрался почти в шесть вечера. Пикетчики-коммунисты сидели на корточках вдоль бордюра и кипятили чай на маленьких жаровенках. Я помахал им едва ли не радостно и вошел в прохладу другого, безопасного, мира.
Я лежал в полудреме, пока Калькутта погружалась в сумерки. Лихорадочное возбуждение и облегчение уступили место бремени изнеможения и нерешительности. Я все продолжал прокручивать в уме дневную встречу, тщетно пытаясь избавиться от ощущения невероятного ужаса, испытанного при виде изуродованного Даса Чем старательнее я гнал от себя образы, мелькающие перед моим внутренним взором, тем страшнее становилась их реальность. «…Настолько прекрасен, настолько отвечает моему нынешнему положению, моим личным устремлениям, что я постоянно об этом мечтаю». Мне не нужно было открывать только что купленную книгу, чтобы вспомнить поэму, о которой говорил Дас. И Ричард Кори в тихий летний вечерок Пришел домой и пулю в лоб себе пустил. Именно этот образ получил широкую известность в шестидесятых благодаря песне Саймона и Гарфункеля. «… Я постоянно об этом мечтаю». Часов в семь я переодел штаны, умылся и сошел вниз, чтобы заказать легкий ужин из риса с перцем и жареного теста, которое Амрита всегда называла «пури», но в меню оно почему-то носило имя «лучи». Под еду я выпил две кварты холодного бомбейского пива и, вернувшись в номер примерно через час, чувствовал себя уже не так угнетенно. Шагая по коридору, я вроде бы расслышал звонок телефона в номере, но пока возился с ключом, звук пропал. Коричневый сверток по-прежнему лежал на полке шкафа, куда я его и засунул. Пистолет был меньше, чем мне казалось поначалу. Возможно, именно его игрушечность и помогла мне решить, что делать дальше. Из пакета с аптечными покупками я извлек пачку бритвенных лезвий и пузырек клея. Затем прикинул размеры трех книг побольше, но лишь сборник стихов Лоуренса Даррелла в твердой обложке показался подходящим… За дело я принялся с тяжелым сердцем: сама мысль о том, что можно испортить книгу, всегда была мне ненавистна. Минут сорок я кромсал страницы, все время рискуя порезать пальцы. И вот наконец работа была закончена. Мусорная корзинка наполнилась лоскутками бумаги. Внутри книга теперь выглядела так, словно крысы грызли ее не один год, но пистолет отлично лег в приготовленное для него углубление. При одном его виде у меня учащался пульс. Я продолжал твердить себе, что всегда волен передумать и выбросить эту штуку где-нибудь в переулке. Книга и вправду могла послужить удобным тайником для того, чтобы вынести пистолет из гостиницы и зашвырнуть куда-нибудь подальше. По крайней мере, я пытался себя в этом убедить. Однако я достал пистолет из гнезда и осторожно дожал снаряженную обойму, пока не сработала защелка, потом поискал предохранитель, но не нашел. После этого я уложил пистолет обратно в книгу и аккуратно склеил листы в нескольких местах. «… Я постоянно об этом мечтаю». Покачав головой, я спрятал книги в коричневый пакет с надписью «КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ МЭННИ». Даррелл лег третьим снизу. Было без десяти девять. Заперев номер, я быстро пошел по коридору. И как раз в этот момент открылись двери лифта и передо мной появилась Амрита с Викторией на руках.
13
И полночные звериные крики… Кто кому враг, кто… В свирепости этого лживого города?– Бобби, это было ужасно! Рейс в час дня отложили до трех. Мы пересаживались с места на место, а кондиционеры большую часть времени не работали. Стюардесса сказала, что задержка вызвана техническими причинами, но бизнесмен, сидевший рядом, объяснил, что между пилотом и бортинженером нечто вроде междоусобицы и что две последние недели такое случалось несколько раз. Потом самолет снова отбуксировали к аэропорту, и всем нам пришлось сойти. Виктория меня всю обслюнявила, и у меня не было времени даже надеть другую блузку, которую я уложила в сумку. О, Бобби, это было ужасно! – Угу,– буркнул я и посмотрел на часы. Ровно девять. Амрита сидела на кровати, а я все еще стоял возле открытой двери. До меня никак не доходило, что она и ребенок действительно здесь. Проклятье! Проклятье! Проклятье! Я испытывал желание схватить Амриту и жестоко ее встряхнуть. Меня мутило от усталости и путаницы в мозгах. – Потом нам велели перейти на другой рейс до Дели с посадками в Бенаресе и Хаджурахо. Я бы как раз успела на «ПанАм», если бы мы вылетели вовремя. – Но не вылетели,– ровным голосом констатировал я. – Конечно нет. А наш багаж так и не перегрузили. И все же я планировала улететь в семь тридцать рейсом на Бомбей, а оттуда на «Би Эй» до Лондона, но самолету из Бомбея пришлось садиться в Мадрасе из-за неисправности посадочных огней в калькуттском аэропорту. Рейс перенесли на одиннадцать, но я, Бобби, так устала, а Виктория проплакала несколько часов… – Понимаю. – Ах, Бобби, я все названивала и названивала, но тебя не было. Администратор обещал передать то, что я просила. – Он не передал,– заметил я.– Я видел его, когда вошел, но он ничего не сказал. Амрита вполголоса выругалась. – Он же обещал! Она никогда не прибегала к ругательствам, разве что только на каком-либо непонятном языке. Она знала, что я не говорю по-русски. Чего она не знала, так это того, что именно это русское непристойное выражение охотно употреблял мой дедушка-поляк, чтобы охарактеризовать всех русских. – Не важно,– сказал я. Это меняло все дело. – Прости, но у меня все мысли были только о холодном душе, о том, чтобы покормить Викторию и вылететь с тобой завтра. – Правильно,– сказал я. Подойдя к Амрите, я поцеловал ее в лоб. Не помню, чтобы видел хоть раз жену такой расстроенной. – Все хорошо. Завтра утром уедем.. Я снова бросил взгляд на часы: восемь минут десятого. – Сейчас вернусь. – Ты уходишь? – Да, на несколько минут. Надо передать кое-кому эти книги. Совсем ненадолго, детка– Я стоял в дверях.– Слушай, проверь, чтобы все было закрыто и накинь цепочку, ладно? Не открывай никому – только мне. Если телефон зазвонит, пусть себе звонит. Не бери трубку. Договорились? – Но почему? Что… – Сделай так, как я сказал, черт побери. Я вернусь минут через тридцать. Амрита, пожалуйста, сделай, о чем я прошу. Объясню потом. Я шагнул было прочь, но остановился, увидев, как Виктория дрыгает ручками и ножками на одеяле, куда ее уложила Амрита, чтобы переодеть. Я прошел в комнату, подбросил дочку в воздух и подул ей на животик. Она была голенькая, мягкая и ерзала от избытка чувств. Девочка улыбнулась мне во весь рот и потянулась пухленькими ручонками к моему носу. От нее пахло детским шампунем, а кожа была невообразимо нежной. Я уложил дочь на спинку и сделал ее ножонками велосипед. – Присмотри за мамочкой, пока я не вернусь. Ладно, маленькая? Я поцеловал ее в животик, коснулся губами щеки Амриты и быстро вышел. К Калигхат я так и не попал. Только я вышел из гостиницы и начал соображать, как избавиться от книги Даррелла, рядом со мной остановился черный «премьер». За рулем сидел коренастый в хаки. Какой-то незнакомец открыл заднюю дверь. – Садитесь, пожалуйста, мистер Лузак. Я отступил назад, прижав пакет с книгами к груди. – Я… я собирался пойти… встретиться с кем-то возле Калигхат,– растерянно пробормотал я. – Садитесь,пожалуйста. На несколько секунд я застыл как вкопанный. Потом посмотрел вдоль улицы – сначала в одну, потом в другую сторону. До входа в гостиницу было всего шагов двадцать. Молодые, состоятельные на вид супруги-индийцы смеялись, стоя под навесом, а портье в это время выносили их багаж из серого «мерседеса». – Вот,– сказал я.– Это то, что я ему обещал. Завернув верхнюю часть пакета, я протянул его человеку на заднем сиденье. Он даже не шевельнулся, чтобы забрать книги. – Пожалуйста, садитесь, мистер Лузак. – Но зачем? Он вздохнул и потер нос. – Поэт хочет вас видеть. Это ненадолго. Он сказал, что вы согласны. Плотный водитель нахмурился и повернулся вполоборота, как бы желая что-то сказать. Человек сзади слегка прижал ладонью его запястье и снова заговорил: – У поэта есть нечто, что он хотел бы вам передать. Садитесь, пожалуйста. Я удивился сам себе, когда пригнул голову, чтобы забраться в машину. Дверца захлопнулась, и мы влились в автомобильный поток. В калькуттскую ночь. Дождь и свет. Шоссе, примыкающие улицы, переулки и раскисшие колеи возле нагромождений развалин. Мерцание фонарей и отражения городских огней. И среди всего этого я ждал, что капалика вот-вот обратится ко мне и потребует книги для проверки. И еще я опасался, что вслед за этим последуют крики и удары. Мы ехали в молчании. Пакет с книгами лежал у меня на коленях, а я сидел, повернувшись к окну, хотя, как помню, кроме своего бледного отражения почти ничего не видел. Наконец мы остановились перед высокими железными воротами. Где-то неподалеку две долговязые кирпичные трубы извергали в небо пламя. Днем я приходил сюда с другой стороны. Из пелены мороси возник человек в черном, открыл ворота и пропустил нас. Фары высвечивали пустые кирпичные строения, железнодорожные ветки и небольшую горку грязи, на которой валялся заброшенный грузовик, полузаросший бурьяном. Остановились мы перед широкой дверью, освещенной желтой лампочкой. В пятне света кружилась мошкара. – Выходите, пожалуйста. Внутри было много дверей и коридоров. К нам присоединились двое в черном с фонариками. Откуда-то доносились приглушенные звуки ситара и барабанный бой. Наверху узкой лестницы мы остановились, и люди в черном резко обратились к водителю. Потом начался обыск. Один из них взял пакет с книгами. Я покорно стоял, пока грубые руки похлопывали меня по бокам, ощупывали бедра, скользили вверх-вниз по ногам. Водитель открыл пакет и достал три верхние книжки в бумажных обложках. Он перелистал их почти сердито, швырнул обратно и извлек из пакета книгу побольше, в переплете. Он показал ее остальным. Это был не Даррелл. Человек в хаки бросил ее обратно, завернул пакет и отдал мне, не говоря ни слова. Я остался на месте. Ко мне возвращалась способность дышать. Капалика в черном махнул фонариком, и я последовал за ним по еще одной короткой лестнице, а потом направо, по узкому проходу. Он открыл дверь, и я вошел. Комната была не больше той, где мы с Дасом встретились в первый раз, но здесь не было занавесей. Керосиновая лампа стояла на деревянной полке рядом с фарфоровой чашкой, деревянными мисками, несколькими книгами и бронзовой статуэткой Будды. Странно, что воплощение Кали держит у себя изображение Будды. На полу рядом с низким столиком, сгорбившись и скрестив ноги, сидел Дас. Он изучал тонкую книжечку, но при моем появлении поднял взгляд. Более яркий свет делал его недуг еще очевиднее. – А, мистер Лузак. – Это я, мистер Дас. – Очень любезно, что вы пришли еще раз. Я оглядел комнатушку. Открытая дверь сзади вела в темноту. Откуда-то доносился запах ладана. Я едва слышал нестройное бренчание ситара. – Это книги? – спросил Дас, сделав неуклюжий жест замотанными в тряпки руками. – Да. Я опустился на колени на деревянный пол и положил пакет на столик. Жертвоприношение… Фонарь зашипел. Зеленовато-желтый свет освещал чешуйчатые пятна разложения на правой щеке поэта. Глубокие борозды на голове казались белыми в сравнении с темной кожей. Сгустки слизи закрывали изуродованные ноздри Даса, и свист его дыхания отчетливо слышался на фоне шипения лампы. – А-а-а,– вздохнул Дас. Он почти благоговейно положил руки на мятую бумагу.– Книжная торговля Мэнни. Да, мистер Лузак, когда-то я был хорошо с ним знаком. Однажды во время войны я продал Мэнни свое собрание романтической поэзии, поскольку не хватало денег на жилье. Он отложил книги до тех пор, пока я не смог выкупить их через несколько лет. Большие влажные глаза Даса вновь остановились на мне. И я в очередной раз невольно испытал потрясение от застывшего в них выражения боли. – Вы принесли мне Эдвина Арлингтона Робинсона? – Да,– ответил я. Голос мой дрожал, и я резко прокашлялся.– Не уверен, что ставлю его столь же высоко, как вы. Возможно, вы измените свое мнение. Его «Ричард Кори» недостоин поэта. Здесь нет надежды. – Иногда надежды нет,– прошептал Дас. – Хоть капля надежды есть всегда, мистер Дас. – Нет, мистер Лузак. Иногда остается только боль. И покорность перед болью. Да еще, возможно, неприятие мира, требующего такой боли. – Неприятие есть одна из форм надежды – разве не так? Дас долго смотрел на меня. Потом он бросил быстрый взгляд в сторону затемненной задней комнаты и поднял книгу, которую читал. – Это вам, мистер Лузак. Он положил ее на столик, чтобы не передавать из рук в руки. Книга была старая, тонкая, в красивом переплете, с плотными, тяжелыми пергаментными листами. Я провел рукой по тисненому матерчатому переплету и раскрыл ее. Тяжелые листы не пожелтели и не стали хрупкими от времени. Корешок не приобрел жесткость. Все в этом тонком томике говорило о мастерстве его создателей и бережном отношении. Некоторые из стихов были на бенгальском, другие – на английском. Стихи на английском я узнал сразу. Длинная надпись на форзаце была на бенгальском, но та же самая рука нанесла заключительные слова на английском «Юному Дасу, самому многообещающему из моих „Избранных Восьми“. С любовью…» Подпись была неразборчива, но точно такую же я видел недавно в витрине музея, торопливо нацарапанную под речью нобелевского лауреата. «Рабин-дранат Тагор, март 1939». – Я не могу принять это, сэр. Дас лишь посмотрел на меня. В его усталом взгляде человека, потерявшего счет времени, застыла печаль, но теперь его озаряла целеустремленность, которой я до этого не замечал. Под этим взглядом я больше не стал спорить. Дрожь прокатилась по телу поэта, и я осознал, каких усилий требовал от него сосредоточенный разговор. Я поднялся, чтобы уйти. – Нет,– прошептал Дас.– Ближе. Я опустился на одно колено. От распадающейся плоти несчастного исходила вонь. У меня самого по коже побежали мурашки, когда я наклонился, чтобы лучше слышать. – Сегодня,– заскрежетал он,– я говорил о власти. Все насилие есть власть. Она – именно такая власть. Она не знает пределов. Время ничего не значит для Нее. Боль для Нее имеет сладкий запах жертвы. Сейчас Ее время. Ее песня не имеет конца. Ее время прошло еще один круг. Он перешел на бенгали, потом – на ломаный французский, потом заговорил на хинди. Он бредил. Глаза смотрели куда-то в пространство, а болезненный, свистящий поток слов уходил в пустоту. – Да,– печально сказал я. – Насилие есть власть. Боль есть власть. Сейчас Ее время. Вы видите? Разве вы не видите? Он сорвался на крик. Я хотел успокоить его, прежде чем ворвутся капалики, но мог лишь стоять, преклонив колено, и слушать. Огонь в лампе потрескивал в такт его возбужденному шипению. – Центр не может выдержать. Мир охвачен чистой анархией! Песнь Ее только началась… Старик подался вперед, из его источенных легких вырывалось хриплое дыхание. Потом он, казалось, пришел в себя. Дикое, рассеянное выражение глаз сменилось страшной усталостью. Изъеденная проказой рука поглаживала стопку книг на столе, словно кошку. Заговорил он уже спокойным, почти будничным голосом. – Знайте, мистер Лузак: это век невыразимого. Но есть деяния за пределами невыразимого. Я взглянул на него, но Дас на меня не смотрел. Он вообще не смотрел на какой-либо предмет в комнате. – Мы всегда были способны совершать невыразимое,– прошептал он.– Она же способна совершать немыслимое. Теперь мы вольны следовать. Дас замолчал. Слюна растеклась по его подбородку. Теперь я не сомневался, что он повредился в рассудке. Тишина растянулась на несколько минут. Наконец ценой больших усилий ему удалось вывести себя из этого состояния, и он сосредоточил взгляд на мне. Гниющий обрубок руки, замотанной в грязные, прелые тряпки поднялся в благословляющем жесте. – Ступайте. Теперь ступайте. Идите же. Меня отчаянно трясло, когда я шаткой походкой вышел в коридор. Лучи фонарей вспыхнули в темноте мне навстречу. Грубая рука забрала у меня томик Тагора, повертела, отдала обратно. Сжав книгу обеими руками, я пошел за кругом света по лабиринту коридоров и лестниц. Мы были уже рядом с открытой дверью, я уже видел машину и ощущал запах дождя, как вдруг грянули выстрелы. Два отрывистых хлопка прозвучали почти одновременно – категорически и бесповоротно. Четверо сопровождавших остановились, заорали что-то друг другу на бенгали и взбежали обратно по лестнице. На несколько секунд я остался один у открытой двери. Я безучастно смотрел в темноту и дождь. Я онемел, не веря происходящему, боясь действовать, почти утратив способность думать. Потом по ступенькам слетел коренастый в хаки, схватил меня за рубашку на груди и поволок наверх. Рядом бежали другие люди. От лампы по-прежнему исходил холодный белый свет. Лучи фонарей прыгали и сходились в одну точку. Меня выпихнули вперед, заставив протолкнуться меж чьих-то плечей через кольцо шума в центр тишины. Дас, казалось, положил голову на стол. Маленький хромированный пистолет, крепко зажатый в левой руке, был непристойно всунут в разбухший рот. Один глаз был почти закрыт, а второй, на месте которого виднелся только белок, вздувался, словно в разнесенном черепе продолжало накапливаться огромное давление. Темная кровь, непрекращающимся потоком вытекающая изо рта, ушей, ноздрей, уже образовала целую лужу. В воздухе витал запах ладана и пороховой гари. Слышались резкие возгласы. В комнате было человек восемь-девять, еще больше собралось в темном коридоре. Кто-то орал. Один из присутствовавших, разведя руками, случайно ткнул меня в грудь. Человек в хаки протянул руку и вырвал пистолет из сомкнутых челюстей Даса, сломав поэту передний зуб. Он помахал окровавленным пистолетом и испустил высокий, тонкий вопль, который в равной степени мог быть и молитвой, и проклятием. В комнату набилось еще больше народу. Это не могло происходить наяву. Я почти ничего не ощущал. В ушах у меня стоял громкий гул. Толкотня вокруг казалась чем-то далеким, не имеющим ко мне отношения. Вошел еще один человек – пожилой, лысый, в простом крестьянском дхотти. Однако непритязательность его обличья не соответствовала той почтительности, с которой расступилась перед ним толпа. Он бросил беглый взгляд на тело Даса, потом коснулся головы прокаженного – мягко, почти благоговейно, так же, как поэт касался подаренных мною книг, затем обратил свои черные глаза в мою сторону и что-то негромко сказал толпе. Чужие пальцы вцепились в мою рубашку и руки, и меня поволокли в темноту.Сиддхесвар Сен
Не знаю, сколько я просидел в пустой комнате. Из-за двери доносились какие-то звуки. Небольшая масляная лампа давала неяркий свет. Сидя на полу, я пытался думать об Амрите и ребенке, но не мог. Я вообще ни на чем не мог сосредоточиться. Голова болела. Через некоторое время я взял оставленную мне книгу и прочитал несколько стихов Тагора на английском. Чуть позже вошли трое мужчин. Один из них протянул мне маленькую чашку и блюдце. Я увидел поднимающийся от темной поверхности чая пар. – Нет, спасибо,– отказался я и вернулся к чтению. – Пей,– произнес коренастый. – Нет. Человек в хаки взял меня за левую руку и одним движением кисти вверх сломал мне мизинец. Я закричал. Книга упала на пол. Я схватил покалеченную руку и принялся раскачиваться от боли. Мне снова протянули чай. – Пей. Я взял чашку и отпил. Горький напиток обжег язык. Я закашлялся, выплеснув часть жидкости обратно, но все трое продолжали смотреть, пока я не допил. Мой отогнутый назад мизинец выглядел почти комично, но по кисти и руке к основанию шеи катилась огненная волна. Кто-то забрал у меня чашку, и двое вышли. Коренастый ухмыльнулся и потрепал меня по плечу, как ребенка. Затем ушел и он, оставив меня одного, с горьким привкусом чая и малодушия во рту. Я попробовал вправить палец, но от одного только прикосновения к нему невольно закричал и чуть не потерял сознание. Мгновенно покрывшаяся потом кожа стала холодной и липкой. Правой рукой я поднял книгу, открыл ее на той странице, где читал, и попытался сосредоточиться на стихотворении о случайной встрече в поезде. Я все еще слегка раскачивался, постанывая от боли. Горло горело от чего-то намешанного в чай. Через несколько минут слова на странице странным образом уехали влево и исчезли полностью. Я попытался подняться, но именно в эту секунду масляная лампа ослепительно вспыхнула и погасла. Комната погрузилась в темноту.
Темнота. Боль и темнота. Боль перенесла меня из моей собственной уютной тьмы во мрак не столь милосердный, но не менее полный. Я лежал, судя по ощущениям, на холодном каменном полу. Не было ни малейшего проблеска света. Я сел и тут же громко вскрикнул от боли, пронзившей левую руку. С каждым ударом сердца тупая боль все нарастала. Я пошарил вокруг правой рукой. Ничего. Холодный камень и горячий сырой воздух. Мои глаза еще не привыкли к темноте. В таком полном мраке я оказался лишь однажды, когда лазил с приятелями по пещерам в Миссури – в тот раз мы одновременно погасили наши карбидные лампы. Эта темнота вызывала клаустрофобию, раздавливала. Я застонал при внезапной мысли: «Вдруг меня ослепили?» Но веки на ощупь были в порядке. Нигде на лице не ощущалось боли; оставалось лишь тошнотворное головокружение, вызванное чаем. «Нет, спасибо»,– сказал я тогда и хихикнул, но тут же подавил эти дурацкие звуки. Я пополз, бережно прижимая к груди левую руку. Пальцами я нащупал стену – гладкая кладка или камень. Я в подземелье? Едва я поднялся на ноги, головокружение усилилось. Я припал к стене, приложившись щекой к ее холодной поверхности. Одного прикосновения было достаточно, чтобы убедиться, что они оставили на мне мою собственную одежду. Я решил обшарить карманы. В карманах рубашки была квитанция авиакомпании, одна из двух записных книжек – та, что поменьше, фломастер и комочки глины от камня, который я клал сюда. В карманах брюк нашлись ключ от номера, бумажник, мелочь, клочок бумаги и спички, которые мне дала Амрита. Спички! Я заставил себя удерживать книжечку спичек дрожащей левой рукой, пока зажигал, прикрывал и поднимал спичку. Комната оказалась нишей: три капитальные стены и черная штора. Во мне нарастало ощущение уже виденного. Я успел приподнять край шторы и почувствовать за ней еще более обширную темноту, прежде чем спичка погасла, опалив мои пальцы. Я ждал, прислушивался. Потоки воздуха обдували лицо. Я не решился зажечь еще одну спичку – а вдруг кто-то поджидал меня в большем помещении снаружи? На фоне собственного неровного дыхания я слышал тихий, шелестящий звук. Вздохи великана. Или реки. Проверяя пол впереди себя ногой, я проскользнул через тяжелую ткань и выбрался в огромное открытое пространство. Я ничего не видел, но чувствовал, что оно именно огромное. Воздух здесь казался более прохладным и перемещался беспорядочными потоками, донося до меня аромат ладана и чего-то более крепкого, насыщенного и густого, как запах пролежавших неделю отбросов. Я передвигался маленькими шажками, осторожно водя перед собой правой рукой, и старался не вспоминать образы, которые все равно лезли в голову. Пройдя двадцать пять шагов, я ни на что не наткнулся. Капалики могли вернуться в любую секунду. Они и сейчас могли находиться здесь. Я побежал. Я несся в темноте без оглядки, широко открыв рот, прижимая к груди левую руку. Что-то ударило меня по голове. Перед глазами расплылись разноцветные круги, и я упал, ударился о камень, снова упал. Приземлился я на левую руку и завопил от боли и сотрясения. Книжечка со спичками выскользнула из пальцев. Я встал на колени и начал отчаянно шарить по полу, не обращая внимания на боль, ожидая в любой момент второго удара. Правая рука нащупала картонный квадратик. Меня так трясло, что первую спичку я зажег только с третьей попытки. Я посмотрел вверх. Я стоял на коленях у основания статуи Кали. Оказалось, что я ударился головой о ее нижнюю, опущенную, руку. Я моргнул, потому что в глаз с правой брови стекла струйка крови. Я поднялся, несмотря на страшное головокружение, ибо не мог стоять на коленях перед этим созданием. – Ты меня слышишь, сука? – громко обратился я к темному каменному лицу в четырех футах надо мной.– Я не стою перед тобой на коленях. Ты слышишь меня? Пустые глаза даже не смотрели в мою сторону. Зубы и язык словно сошли с ужасных картинок из детских комиксов. – Сука,– сказал я, и спичка догорела. Я побрел с невысокого помоста – подальше от идола, в черную пустоту. Через десять шагов я остановился. Теперь нет смысла обшаривать темноту. Времени было в обрез. Я зажег спичку и держал ее, пока не вытащил квитанцию. Мой маленький факел высветил круг радиусом метров в пять, когда я поднял его над собой, чтобы поискать дверь или окно. И тут я застыл… Очнулся я, лишь когда горящая бумага обожгла пальцы. Статуя исчезла. Пьедестал и помост, где она стояла, были пустыми. Что-то скреблось и царапалось за пределами угасающего света. Слева наблюдалось какое-то движение… Я уронил горящую бумагу, и темнота вернулась. Я зажег следующую спичку. Ее хилый огонек еле освещал меня. Я вытащил записную книжку из кармана рубашки, вырвал несколько листков зубами и поменял руки. Спичка догорела. Не далее чем метрах в трех от меня послышался какой-то звук. Еще одна спичка. Я выплюнул смятые листочки, опустился на колени и поднес к ним язычок пламени, прежде чем угас голубоватый огонек. От маленького костра распространился свет. Существо застыло на середине движения, скрючившись на шести конечностях, словно громадный безволосый паук, но пальцы на этих конечностях шевелились и извивались. Лицо на изогнутой шее было обращено в мою сторону. Груди свисали, будто яичники на брюхе у насекомого. Ты не настоящая! Кали разомкнула губы и зашипела на меня. Рот у нее широко открылся. Алый язык выполз наружу на пять дюймов, на десять… он раскатывался, как красный тающий воск, пока не коснулся пола, где кончик его завернулся, будто змея в охотничьей стойке, и стремительно заскользил по каменному полу ко мне. Тогда я закричал и бросил в огонь остатки записной книжки Потом поднял горящую картонку и шагнул навстречу шипящему кошмару. Язык метнулся наискось, чуть не зацепив мою ногу, и чудовище попятилось назад на шести согнутых конечностях, пока не исчезло в темноте за пределами неверного света. Записная книжка уже жгла мне пальцы. Я отшвырнул догорающий факел в направлении скребущих звуков, повернулся и побежал в другую сторону. Я бежал во всю мочь, ничего не видя, ничего не ощущая, прижав руки к туловищу, и если бы не зажег еще одну спичку на бегу, я врезался бы головой прямо в стену. Но я все равно налетел на нее и вскрикнул, когда спичка погасла. Я развернулся, одновременно чиркая другой спичкой. Справа от меня холодно светились глаза. Слышался звук, напоминавший кошачье рыгание. Я прижался спиной к деревянной стене. Если бы там была какая-нибудь занавеска, хоть что-нибудь легковоспламеняющееся, я бы устроил поджог. Лучше сгинуть в ослепительном пламени горящего здания, чем дрожать в темноте наедине с этим. Я скользил по стене влево, зажигая спичку за спичкой, пока не осталось лишь несколько штук. Глаза больше не показывались. Покалеченной рукой я нащупывал доски, щепки, гвозди, но только не дверь и не окно. Скребущие звуки слышались отовсюду, хрящи царапали по камню и дереву. Головокружение усилилось, я еле держался на ногах. Должен же здесь быть выход! Я остановился, поднял вверх согнувшуюся спичку, сделал вдох и зажег все оставшиеся. Короткая, яркая вспышка высветила в трех футах у меня над головой очертания окна. Стекла уцелели, но были замазаны черным. Умирающее пламя опалило мои пальцы. Свет погас. Бросив догорающую картонку, я присел и прыгнул. Оконная рама была утоплена, и пальцами я нащупал ручку. Ногами я засучил по гладкой стене, пытаясь найти опору. Каким-то образом мне удалось опереться локтем об узкий подоконник, коснувшись щекой затемненного квадратика стекла. Я старался удержать равновесие, руки мои неодолимо тряслись, и я готовился разбить предплечьем закрашенное стекло. Что-то схватило меня за ноги. Невольно перенеся вес на сломанный палец, я непроизвольно дернулся, откинулся назад, потеряв ненадежное равновесие, соскользнул по стене и растянулся на твердом полу. Темнота была абсолютной. Я поднялся на колени и тут ощутил рядом чье-то присутствие. Четыре руки сомкнулись на мне.
Четыре руки грубо подняли меня и понесли. «Душа не отлетает сразу же после смерти, но, скорее, следит за развитием событий примерно так же, как мог бы смотреть посторонний наблюдатель». Слышались отдаленные голоса. По векам ударил свет и пропал. Холодные дождевые капли падали мне на лицо и руки. Дождь? Снова голоса, на этот раз спорившие на повышенных тонах. Где-то затарахтел двигатель машины, забарабанили выхлопные газы. Под колесами захрустела щебенка. Я ощущал боль во лбу, нестерпимо ныла левая рука, а нос страшно чесался. Смерть не может быть такой. Четырехцилиндровый двигатель очень сильно шумел. Я попытался осмотреться, но обнаружил, что правый глаз не открывается. Он был наглухо запечатан запекшейся кровью из рассеченной брови. Рука идола. Слегка приоткрыв левый глаз, я увидел, что меня поддерживают – почти тащат – коренастый в хаки и еще один капалика. Несколько других, в том числе и лысый, оживленно переговаривались под дождем. Можешь снова заснуть. Нет! Дождь, боль в руке и невыносимый зуд не дали мне снова скатиться по темному склону в беспамятство. Один из поддерживавших повернулся ко мне, и я быстро закрыл глаз, но перед этим успел заметить зеленый фургон с помятой дверцей со стороны водителя и выбитым задним стеклом Меня охватило болезненное чувство узнавания. Мужчины продолжали спорить, срываясь на визг. Я слушал, словно вдруг стал понимать бенгали. Я не сомневался, что они обсуждают, куда деть мое тело после того, как будут выполнены распоряжения лысого относительно меня. В конце концов человек в хаки что-то пробурчал и вместе с другим капаликой потащил меня к фургону. Мои ноги волочились по гравию. Они бросили меня в практически лишенное воздуха пространство кузова. Головой я стукнулся сначала о борт грузовика, а затем – о металлический пол. Я осмелился на мгновение приоткрыть глаз, и этого было достаточно, чтобы увидеть, как коренастый и другой капалика забираются в машину сзади, а еще один запрыгивает слева, на место пассажира. Водитель повернулся и о чем-то спросил. Коренастый резко ткнул меня в бок. У меня перехватило дыхание, но я не шелохнулся. Капалика рассмеялся и сказал что-то, начинавшееся со слова «нэй». Твой долг растет, жирная свинья. Злость помогла. Ее обжигающее пламя очистило рассудок и разогнало наполнявший меня туман страха. И все же, когда фургон тронулся и сквозь металл до моего слуха донесся хруст щебенки, я совершенно не знал, что делать. Подобные эпизоды я видел в бесчисленных фильмах – там герой после жестокой схватки одолевал своих похитителей. Я не мог драться с ними. Я сомневался, смогу ли сесть без посторонней помощи. И причиной моей слабости было не только то зелье, что они подмешали в чай. Меня уже покалечили. Я не хотел, чтобы они нанесли мне еще какие-нибудь увечья. Мое единственное оружие – продолжать симулировать бессознательное состояние и молиться, чтобы это позволило выиграть еще несколько минут, прежде чем они возобновят свои издевательства. Он сломал мне палец! Я еще ни разу ничего не ломал. Даже в детстве. И даже испытывал некоторую гордость по этому поводу, как и за отличную посещаемость в школе. И вот этот потный мерзавец сломал мне палец, приложив не больше усилий, чем требуется для того, чтобы повернуть ручку телевизора. Именно полное равнодушие, с каким это было сделано, убедило меня, что бандиты не собираются просто высадить меня где-либо и позволить самостоятельно добраться до гостиницы. «Любое насилие – это попытка осуществить власть». Я не стал умолять их отпустить меня, ибо меня удерживал сильнейший страх. Меня сковывала туманная неопределенность их дальнейших действий. Но где-то в сумятице путаных мыслей таилось осознание того, что, пока их гнев сосредоточен на мне, Амриту и Викторию оставят в покое. Поэтому я молчал и ничего не предпринимал – просто валялся в горячей темноте, вдыхал запах сухого дерьма и старой блевотины, слушал оживленную болтовню и сморкания четырех капаликов и благословлял каждую драгоценную секунду, проходившую без дополнительной боли. Фургон разогнался и уже на приличной скорости выскочил на мощеный участок улицы. Несколько раз грохот выхлопных газов отдавался эхом, словно мы проезжали между зданиями. Иногда я слышал рев грузовиков, а один раз даже удалось украдкой увидеть пробегающие по внутренним стенкам фургона прямоугольники света от фар встречной машины. Секунду спустя капалика в хаки тихо, насмешливо сказал мне что-то по-бенгальски. Сердце у меня начало колотиться. Потом мы остановились. Тормоза взвизгнули, и другой капалика в кузове, которого швырнуло вперед, сердито закричал. Наш водитель проорал в ответ какое-то ругательство и несколько раз резко хлопнул по кнопке сигнала. Снаружи в ответ донесся крик. Послышался удар кнута, за которым последовал сердитый рев быка. Ругаясь на чем свет стоит, водитель налег на клаксон. Через минуту я услышал, как открываются передние двери фургона, и водитель вместе с сидевшим впереди капаликой выскочили из машины, костеря некое препятствие на дороге. Третий капалика протиснулся вперед, тоже выбрался наружу и присоединился к невидимой перебранке. Теперь в фургоне со мной оставался лишь коренастый в хаки. Это мой шанс! Я понимал, что должен действовать, но этого было недостаточно, чтобы заставить меня даже пошевелиться. Я знал, что мне нужно метнуться к открытой двери и наброситься на сидевшего на корточках рядом со мной человека. Нужно хоть что-нибудь делать. Но, хотя я ни на миг не сомневался, что это мой последний шанс добиться внезапности, последняя возможность бежать, я никак не мог воплотить свои мысли в поступки. Мне казалось, что, только лежа здесь, я гарантирую себе еще несколько минут без побоев. Без новой боли. Без смерти. Вдруг задняя дверь с грохотом распахнулась. Коренастый получил мощный толчок в бок и завалился на пол. Чья-то рука схватила меня за локоть и грубо подняла в сидячее положение. Мои ноги вывалились наружу, я зажмурился от боли, и корочка запекшейся крови на правом глазу лопнула. – Пошли! Вставайте! Быстро! Голос принадлежал Кришне. Это и был Кришна собственной персоной – с растрепанными волосами, с острыми зубами, оскаленными в веселой, маниакальной ухмылке. И именно худая правая рука Кришны заставила меня выпрямиться и поддержала, когда я чуть не грохнулся лицом вперед. – Нахин! – заорал капалика и выпрыгнул из фургончика. Он был раза в два шире Кришны, и лицо его перекосилось от ярости.– Муте! Жестом регулировщика, останавливающего поток машин, Кришна выбросил вверх выпрямленную левую руку. Твердое, как кирпич, основание ладони пошло навстречу лицу приближающегося капалики. Нос коренастого сплющился, как раздавленный банан. Он вскрикнул и, отброшенный назад, врезался головой в заднюю дверцу фургона, рухнул на колени и стал заваливаться вперед. Так и поддерживая меня правой рукой, Кришна стремительно поднял левую ногу по крутой траектории, закончившейся, когда его голень столкнулась с горлом коренастого в районе кадыка. Раздался звук, похожий на треск лопнувшей пластмассы, и крик капалики резко оборвался. – Пошли! Быстрее! Кришна поволок меня за собой, рывками заставляя держаться прямо, едва я начинал заваливаться набок. Я ковылял со всей возможной быстротой, пытаясь обрести равновесие, однако ног своих совершенно не ощущал. Я оглянулся через плечо на поверженного капалику, на фургон с распахнутыми словно крылья дверцами, на запряженную быками повозку, перегородившую перекресток и узкую улочку. Рядом с повозкой стояли, застыв на месте, трое капаликов. Несколько секунд они ошарашенно смотрели нам вслед, а потом бросились в погоню, что-то крича и жестикулируя. У одного из них в руке уже виднелось нечто напоминающее длинный нож. Быки вместе со скрипучей повозкой исчезли в темноте. – Бежим! – закричал Кришна. Он так резко потянул меня за собой, что треснула рубашка. Размахивая руками, я полетел головой вперед и чуть не упал, но Кришна успел ухватиться за разорванную ткань и дернул меня вверх. Мы побежали налево, в совершенно темный переулок, потом снова повернули налево, в залитый светом фонарей двор. Когда мы вошли в открытую дверь, на нас изумленно уставилась какая-то старуха. Кришна отвел в сторону занавеску из бус, и мы побежали к заднему ходу, перепрыгивая через фигуры спящих людей, лежавших на полу темной комнаты. Когда мы выскочили в очередной двор, позади нас послышались крики и вопли. Как только мы нырнули еще в один узкий проход между зданиями, в темном дверном проеме появились трое капаликов. Отбросов здесь было по щиколотку, и нам пришлось бежать, оскальзываясь, подпрыгивая и разбрызгивая жижу. Даже тут сидели на корточках завернувшиеся в простыни молчаливые фигуры. Они сбились в кучу, пытаясь укрыться от воды, все еще стекавшей с крыши и скапливавшейся в углублениях почвы. Кришна буквально перепрыгнул через костлявые колени скрюченной фигуры, больше напоминавшей труп, чем живого человека. Я не мог угнаться за Кришной и, когда мы пробежали два пролета деревянной лестницы, упал на колени прямо на неосвещенной площадке, хватая ртом воздух. Во дворе внизу перекрикивались капалики. Кришна втолкнул меня в распахнутую дверь. В комнате сидели на корточках с десяток людей. Одни устроились у открытого огня, другие прислонились спинами к потрескавшимся доскам стены. В центре помещения обвалилась часть потолка, и на образовавшейся куче штукатурки и камня они и разожгли свой костер. По стенам и просевшему потолку струился дым. Кришна прошипел короткую фразу, и, как мне показалось, я разобрал слово «Кали». Никто не поднял на нас взгляд – все продолжали смотреть на невысокие языки пламени. На лестнице послышались шаги. Кто-то закричал. Крепко схватив за локоть, Кришна повел меня в маленькую комнатушку, в которой не было ничего, кроме нескольких бронзовых горшков и статуэтки Ганеши. Открытое окно выходило на узенькую улочку между зданиями. Кришна шагнул к окну и прыгнул. Я встал на невысокий подоконник и застыл в замешательстве. Между зданиями было не больше пяти футов. До земли, невидимой в темноте, было по крайней мере футов двадцать. Я услышал хлюпающий звук в том месте, куда приземлился Кришна, и больше ничего. Я знал, что не смогу броситься в этот беспросветный провал. И тут у входа в предыдущую комнату я услышал вопли капаликов. Взвизгнула женщина. Прижав к себе левую руку, я прыгнул. Отбросов на месте моего приземления было футов на семь-восемь. Я вошел туда по бедра и завалился набок во что-то мягкое и мерзкое. Вдоль стен с писком носились крысы. Я ничего не видел. По мере того как я пытался продвинуться вперед в этом узком пространстве, ноги мои с чавканьем увязали все глубже. Опустившись в податливую, зловонную массу по живот, я начал панически метаться в разные стороны. – Тс-с-с. Кришна схватил меня за плечи и придержал, чтобы я не дергался. В тусклом прямоугольнике света наверху возник силуэт мужчины, высунувшегося из окна. Потом он снова скрылся в комнате. – Быстрее! Кришна схватил меня за руку, и мы побрели по вонючей канаве. Оттолкнувшись от стены, я попытался плыть сквозь мягкие отбросы. В поисках опоры мы цеплялись друг за друга, но это было все равно что пробираться по пояс в иле. Вдруг позади нас, из окна, откуда мы только что выпрыгнули, кто-то высунул горящую доску и бросил ее в грязь переулка. Доска разок подскочила, плюхнулась снова, и от нее начали тлеть какие-то засаленные тряпки. Мы с Кришной застыли. Хоть мы и не могли выглядеть иначе, чем пара теней среди окружавших нас груд отбросов, но один из капаликов показал в нашу сторону и что-то крикнул остальным. Не знаю, прыгнул ли человек с ножом сам или его вытолкнули, но, как бы то ни было, он с криком упал неподалеку от нас. Факел уже начинал угасать среди жидкой грязи и человеческих нечистот, но света от него и горящих тряпок еще хватало, чтобы разглядеть сотни лохматых, извивающихся существ – некоторые размером с кошку,– спасающихся от дыма, переваливающих через кучи отбросов в нашу сторону. По телу у меня пошли волны отвращения. Я не знал, что такая реакция физически возможна. Кришна прыгнул обратно в ту сторону, откуда мы пришли. Капалика поднимался, как ныряльщик на поверхность бассейна. Он размахивал руками, а в правой у него поблескивала сталь. Огонь уже полностью погас, и Кришна, приближавшийся к капалике, казался всего лишь тенью. Их хрипы были еле слышны на фоне нарастающего пронзительного визга разбегающихся крыс. Жирные, влажные тушки касались моих голых рук… В конце концов меня вырвало, вывернуло наизнанку в зловонную темноту. Двое капаликов наверху перегнулись из окна, пытаясь что-нибудь разглядеть, но переулок снова погрузился в почти абсолютную тьму. Мне чудилось, что я вижу Кришну и того, другого, передвигающихся неловкими толчками, словно двое неуклюжих танцоров в замедленной съемке. Отлетели искры, когда рука капалики с ножом несколько раз ударилась о кирпичную стену. Потом мне показалось, что я вижу Кришну позади соперника, что он оттягивает его длинные волосы и вдавливает лицом в податливую массу. Я сощурился в темноту и уже решил, что вижу, как Кришна упирается коленом в изгибающуюся спину капалики, заставляя того погружаться все глубже, глубже… но тут Кришна появился рядом и поволок меня за собой, подальше от окна. Двое капаликов исчезли из тусклого прямоугольника над нами. Наши движения были ужасно медленными, как в кошмарном сне. Как только один из нас увязал, так тут же использовал тело другого в качестве опоры, чтобы выбраться. Я преодолел уже большую часть переулка. Впереди света не было. И вдруг меня снова затошнило от неожиданной мысли. «А что, если мы ошиблись и идем к какой-нибудь кирпичной стене, в тупик?» Оказалось, что нет. Еще пять трудных шагов – и переулок резко повернул направо, и слой отбросов уменьшился. Еще пятнадцать шагов – и мы выбрались. Пошатываясь, мы вышли на мокрую, пустую улицу. Разбегавшиеся в панике крысы касались наших ног, подскакивали, разбрызгивали воду в заполненных канавах. Я огляделся по сторонам, но не увидел ни малейших признаков двух оставшихся капаликов. – Быстрее, мистер Лузак,– прошипел Кришна. Мы перебежали улицу, торопливо пересекли тротуар с вывороченными плитами и растворились в густой тени под провисшими металлическими навесами. Мы бежали от лавки к лавке. Иногда в мокрых дверных проемах попадались фигуры спящих, но никто нас не окликнул, никто не пытался нас задержать. Мы свернули на другую улицу, потом проскочили по короткому переулку и оказались на еще более широкой улице, по которой только что проехал грузовик. Здесь были фонари, а из многочисленных окон лился электрический свет. Над нами на ветру трепыхался красный флаг. До моего слуха доносился шум машин с близлежащих улиц. Мы остановились на минуту в темном дверном проеме забранной решетками и жалюзи лавки. Мы оба тяжело дышали, согнувшись от боли и изнеможения, но на узком лице Кришны я увидел все то же сияющее, кровожадно-радостное выражение, что и в автобусе в ночь прилета. Он прервал молчание, глубоко вдохнул и выпрямился. – Теперь я вас покидаю, мистер Лузак,– сказал он. Я смотрел на него. Сложив пальцы лодочкой, он слегка поклонился и, повернувшись, направился прочь. Его сандалии тихо чмокали по лужам. – Подождите! – окликнул я его. Он не оглядывался.– Одну минуту. Эй! Он уже почти скрылся в тени. Я шагнул в бледный круг света от фонаря. – Остановитесь! Санджай, остановитесь! Он застыл на месте. Потом повернулся и медленно сделал два шага в мою сторону. Его длинные пальцы, казалось, судорожно подергиваются. – Что вы сказали, мистер Лузак? – Санджай,– повторил я, но на этот раз почти шепотом.– Ведь я не ошибаюсь, да? Он стоял словно некий василиск – со спутанным венцом темных волос, служивших обрамлением страшного взгляда. Потом на лице его появилась улыбка. Она становилась все шире, пока не переросла в нечто худшее, чем акулий оскал. Это была ухмылка голодного вурдалака. – Я ведь не ошибся, Санджай? – Я замолчал, чтобы перевести дыхание, не зная, что сказать дальше. Но мне нужно было что-то сказать – хоть что-нибудь,– чтобы припугнуть его.– Какую игру вы ведете, Санджай? Что происходит, черт возьми? Он не шевелился несколько секунд, и я почти ожидал безмолвного броска, тянущихся к моему горлу длинных пальцев. Вместо этого он откинул голову и рассмеялся. – Да-да,– сказал он.– Есть много игр, мистер Лузак. Эта игра еще не закончена. До свидания, мистер Лузак. Он повернулся и быстро зашагал в темноту.
14
Калькутта – ужасный камень в моем сердце.Если бы я поймал такси раньше… Если бы я поехал прямо в гостиницу… До гостиницы я добирался около часа. Поначалу я брел от улицы к улице, стараясь держаться в тени, застывая на месте, как только видел, что ко мне кто-то приближается. В одном месте я пробежал через пустой двор, чтобы попасть на широкий проспект, с которого доносился шум машин. Из темного прохода навстречу мне вышел человек. Я завопил, отскочил назад, инстинктивно подняв кулаки. И вскрикнул еще раз, попытавшись согнуть мизинец вместе с остальными пальцами левой руки. Человек – старик в лохмотьях, с красной банданой вокруг головы – отшатнулся, пробормотал нечто похожее на «баба» и сам завопил от страха. Двор мы покидали в противоположных направлениях. Я вышел на проспект и увидел проезжающие грузовики, рыскающие среди велосипедистов легковушки и, что больше всего порадовало, автобус, медленно кативший по улице. Я забарабанил по борту машины, страстно желая в нее забраться. Водитель только часто заморгал, когда я вывалил ему полный карман монет. Кроме положенной платы за проезд там заключался, должно быть, его заработок за несколько дней в американских деньгах. Автобус был битком набит, и я протиснулся между стоявшими пассажирами, чтобы подыскать местечко, не так заметное с улицы. Ремней не было. Вцепившись в металлическую штангу, я повис на ней, пока автобус, раскачиваясь и гремя коробкой передач, ехал от остановки к остановке. На некоторое время я впал в полудрему. После сверхнапряжения последних нескольких часов во мне не осталось ничего, кроме желания стоять здесь и ощущать себя в безопасности. Мы миновали не один квартал, прежде чем я заметил, что вокруг меня образовалось широкое пустое пространство, а остальные пассажиры смотрят на меня во все глаза. «Американца, что ли, никогда не видели?» – подумал я. И только потом взглянул на себя словно со стороны. Промокшая одежда неимоверно воняла отбросами, по которым пришлось пробираться. Рубашка была разорвана по меньшей мере в двух местах, и никто бы не догадался, что когда-то она отличалась белизной. На руках запеклась корка нечистот, а правое предплечье еще благоухало блевотиной. Мизинец на левой руке торчал под немыслимым углом. Судя по ощущениям в районе лба, у меня там начинал проявляться заметный синяк, а засохшая кровь по-прежнему украшала бровь, веко и щеку. Нет сомнений, что мои волосы и выражение лица являли собой куда более дикое зрелище, чем даже Кришна на пике своего безумия. – Привет,– сказал я, неуклюже махнув пассажирам Женщины закрыли лица краями сари, а вся толпа отпрянула, пока водитель не заорал, чтобы на него не напирали. Тут меня будто стукнуло. Где я оказался, черт возьми? Насколько я знал, это мог быть ночной экспресс на Нью-Дели. В любом случае очень велики были шансы, что я еду не туда, куда надо. – Кто-нибудь говорит по-английски? – спросил я. Глазеющие пассажиры отступили от меня еще дальше. Наклонившись, я стал всматриваться в зарешеченное окно. Через несколько кварталов я увидел залитый неоновым светом фасад гостиницы или кафе. Здесь же стояли несколько черно-желтых такси. – Стой! – закричал я.– Я здесь выйду. Я протиснулся сквозь быстро расступающуюся толпу. Водитель со скрежетом затормозил посреди улицы. Дверь отсутствовала. Толпа освободила мне проход.Суниль Тангопадхьей
Я несколько минут спорил с таксистами, прежде чем вспомнил, что бумажник остался при мне. Трое водителей лишь взглянули на меня и решили, что я не стою их времени. И только после этого я, спохватившись, достал бумажник и повертел двадцатидолларовой банкнотой. Все трое вдруг разулыбались, стали кланяться и открыли для меня дверцы своих машин. Забравшись в ту, что стояла первой, я произнес: «Отель „Оберой“» – и закрыл глаза. Мы помчались по лоснящимся от дождя улицам. Через несколько минут я обнаружил, что часы все еще на мне. Циферблат было трудно разглядеть, но когда мы проезжали освещенный перекресток, я разобрал все-таки, который час. Одиннадцать двадцать восемь… Но это невозможно! Значит, с тех пор как меня привезли на машине к Дасу, прошло всего два часа? А кажется, миновала целая жизнь. Я постучал по стеклу, но секундная стрелка передвигалась исправно. – Быстрее! – приказал я водителю. – Атча! – радостно откликнулся он. Ни один из нас не понял другого.
Администратор увидел, как я вхожу в вестибюль, и уставился на меня с выражением ужаса. Он поднял руку. – Мистер Лузак! Я помахал ему и вошел в лифт. Мне не хотелось с ним разговаривать. Прилив энергии и бездумное возбуждение сменились тошнотой, усталостью и болью. Прислонившись к стенке кабины лифта, я придерживал левую руку. Что я скажу Амрите? Мозги ворочались с трудом, и я остановился на самом простом меня ограбили. Когда-нибудь я расскажу ей все остальное. Может быть. Несмотря на полночный час, в коридоре толпились люди. Дверь нашего номера была открыта, словно там шла гулянка. Потом я увидел портупеи на двух полицейских и знакомые бороду и тюрбан инспектора Сингха. Амрита, наверное, позвонила в полицию. Ведь я сказал, что вернусь через полчаса. Несколько человек повернули головы в мою сторону, а инспектор Сингх шагнул мне навстречу. Я начал придумывать детали ограбления – ничего настолько серьезного, чтобы продержать нас в Калькутте еще один день,– и помахал полицейскому почти беспечно. – Инспектор! Кто сказал, что полицейского не сыскать, когда он нужен? Сингх ничего не ответил. Затем представшая глазам сцена дошла до моего истощенного мозга. Другие постояльцы отеля толклись вокруг, глядя на открытую дверь нашего номера. Открытую дверь! Я бросился мимо инспектора внутрь. Не знаю, что я ожидал увидеть, но мое бешено колотившееся сердце стало успокаиваться, когда я обнаружил, что Амрита сидит на кровати и беседует с полицейским, который что-то строчит в блокноте. Напряжение отпустило меня, и я привалился спиной к двери. Все хорошо. Потом Амрита взглянула на меня, и по вымученному спокойствию ее бледного, абсолютно бесстрастного лица я понял, что все не хорошо. И, возможно, никогда хорошо не будет. – Они забрали Викторию,– сказала Амрита.– Они украли нашего ребенка. – Почему ты ее впустила? Я же просил тебя никого не впускать. Почему ты ее впустила? Этот же вопрос я уже задавал три раза. Амрита трижды отвечала. Я сидел на полу, прислонившись спиной к стене, положив руки на поднятые колени. Белел торчавший сломанный палец. Амрита сидела очень прямо на краю кровати, чопорно накрыв ладонь ладонью: Инспектор Сингх устроился неподалеку на стуле и внимательно изучал нас обоих. Дверь в коридор закрыли. – Она сказала, что принесла ткань. Она хотела ее обменять. Мы с тобой должны были улетать утром. – Но… О Господи, малышка… Я умолк, опустив голову. – Ты же не сказал, Бобби, чтобы я не разговаривала с ней. Ведь я же знала Камахью. Инспектор Сингх кашлянул. – И все-таки было очень поздно, миссис Лузак. Неужели вас это совсем не встревожило? – Да,– ответила Амрита, повернувшись к Синг-ху.– Не снимая цепочки, я спросила у нее, почему она пришла так поздно. Она объяснила… она выглядела очень смущенной, инспектор… она объяснила, что не могла уйти из дому, пока не заснет отец. Сказала, что перед этим звонила дважды. – А она звонила, миссис Лузак? – Телефон звонил два раза, инспектор. Бобби говорил, чтобы я не брала трубку. Я и не брала. Они одновременно посмотрели на меня. Я встретился с Сингхом взглядом. Смотреть в глаза Амрите я не мог. – Вы уверены, мистер Лузак, что вам не нужна медицинская помощь? В этом заведении есть дежурный врач. – Нет необходимости. После первых нескольких минут, когда Сингх спросил, что со мной случилось, я выложил ему все. Вряд ли история получилась связной, но я не утаил ничего, кроме того, что именно я передал пистолет Дасу. Инспектор Сингх кивал и делал пометки у себя в блокноте с таким видом, будто подобные рассказы ему приходилось выслушивать каждый вечер. Это не имело значения. Он снова обратился к Амрите: – Простите, что снова приходится к этому возвращаться, миссис Лузак, но не могли бы вы примерно определить, в течение какого времени вас не было в комнате? Сквозь ледяную маску Амриты было видно, что ее немного трясет, и я понимал, что под внешним спокойствием кроется состояние, близкое к истерике, и великое горе. Мне хотелось подойти и взять ее на руки. Но я не двинулся с места. – Около минуты, инспектор. Пожалуй, даже меньше. Я разговаривала с Камахьей, когда вдруг почувствовала сильное головокружение. Я извинилась, пошла в ванную, чтобы ополоснуть лицо холодной водой, и вернулась. Все это заняло секунд сорок пять. – А ребенок? – Виктория?.. Виктория спала вон там. На кровати возле окон. Мы пользуемся… мы используем подушки и валики в качестве… ей нравится устраивать гнездышко, инспектор. Она любит упираться во что-нибудь головой. А когда там валик, она не скатится. – Да, конечно. С трудом поднявшись на ноги, я подошел к изножию кровати Амриты. Куда угодно, только бы не смотреть на другую кровать, не видеть пустой круг из подушек, бело-голубое одеяльце Виктории, все еще смятое и влажное в том месте, которое она натянула во сне на личико. – Вы уже все это слышали, инспектор,– сказал я.– Когда вы перестанете задавать вопросы и начнете поиски… поиски человека, укравшего нашего ребенка? Сингх посмотрел на меня своими темными глазами. Я вспомнил страдальческий взгляд Даса и теперь намного лучше начал понимать, что боль может не иметь пределов. – Мы ищем, мистер Лузак. Оповещены все подразделения городской полиции. Никто в гостинице не заметил, как уходила эта женщина. Люди на улице не помнят, чтобы видели кого-нибудь похожего с ребенком или свертком. Я послал машину по адресу, который миссис Лузак запомнила в магазине сари. Как видите, мы протянули дополнительные телефонные линии из соседних номеров, чтобы не терять связь, пока ваш номер остается свободным. – Остается свободным? Зачем? Сингх опустил глаза, провел большим пальцем по безукоризненной складке на своих брюках и снова посмотрел на меня. – Для требования выкупа, мистер Лузак. Мы не должны исключать, что получение выкупа входит в планы похитителей. – А-а-а,– протянул я и тяжело опустился на кровать. Его слова словно железки с острыми краями рвали душу.– Понимаю. Ясно. Я взял руку Амриты. Ее ладонь была холодной и вялой. – Но что вы скажете о капаликах? – спросил я.– Что, если они имеют к этому отношение? Сингх кивнул. – Мы работаем в этом направлении, мистер Лузак. Не забывайте, что уже очень поздно. – Но ведь я описал вам заводскую территорию, где встречался с Дасом. – Да, и это может оказаться весьма полезным. Но вы должны понимать, что в старой части Калькутты, возле Хугли, есть десятки подобных мест. Даже сотни, если считать еще и территории складов и доков к северу. И все они являются частной собственностью. Многими владеют иностранцы. Вы уверены, мистер Лузак, что это место было возле реки? – Нет. Не совсем. – А не вспомните какие-нибудь ориентиры? Названия улиц? Какие-нибудь легко узнаваемые приметы? – Нет. Только две трубы. Там еще были трущобы… – Были ли там какие-нибудь признаки постоянного пребывания этих людей? Любые свидетельства длительного проживания? Я нахмурился. Кроме полки со скудными пожитками Даса, таких признаков не было. – Там была статуя,– сказал я наконец.– Они использовали это место в качестве храма. Такую статую было бы непросто перевозить с места на место. – Статуя, которая ходила? – уточнил Сингх. Если бы я уловил в его голосе хоть намек на сарказм, я бы бросился на него, несмотря на сломанный палец и все другие обстоятельства. – Да. – Но ведь мы не знаем, что они имеют к этому отношение. Ведь так, мистер Лузак? Придерживая левую руку, я пристально посмотрел на него. – Она – племянница М. Даса, инспектор. Она просто не может не иметь к этому отношения. – Нет. – Что вы хотите сказать этим «нет»? Сингх достал золотой портсигар. Впервые я увидел, как кто-то в реальной жизни постукивает сигаретой о портсигар, прежде чем прикурить. – Я хочу сказать, что она не племянница М. Даса,– ответил он. Амрита охнула, будто ее ударили. Я только хлопал глазами. – Вы заявили, мистер Лузак, что мисс Камахья Бхарати является племянницей поэта М. Даса. По ее собственным словам, она – дочь младшей сестры Даса. Верно? – Да. – У М. Даса нет сестер, мистер Лузак. Во всяком случае, таких, которые бы не умерли в детстве. У него живы четыре брата, все четверо – крестьяне и живут в одной деревне в Бангладеш. Видите ли, дело об исчезновении М. Даса уже восемь лет находится у меня. Я хорошо осведомлен об обстоятельствах его жизни. Если бы вы упомянули о знакомстве с этой женщиной во время нашей беседы, мистер Лузак, я бы сообщил вам об этом факте. Сингх выпустил дым и убрал с языка табачную крошку. Зазвонил телефон. Мы все посмотрели в его сторону. Это был один из дополнительных аппаратов. Сингх взял трубку, ответил, долго слушал. – Шукрия,– сказал он наконец.– Очень хорошо, сержант. – Что там? – требовательно спросил я. Инспектор Сингх затушил окурок и поднялся. – Боюсь, что нам вряд ли удастся сделать что-нибудь сейчас. Я вернусь утром. Мои люди останутся в соседних комнатах на всю ночь. Любой звонок в ваш номер будет контролироваться полицейским на коммутаторе внизу. А звонил мой сержант. В магазине Камахья Бхарати оставила, естественно, ложный адрес. За тканью она заходила сама. Моим людям не потребовалось много времени, чтобы обнаружить нужный дом по номеру, который она оставила в магазине, поскольку в том месте мало зданий. Тут Сингх остановился в некотором замешательстве и посмотрел на меня. – По адресу, который она дала,– сказал он,– находится общественное место для стирки и территория крематория.
В течение последующих часов и дней Амрита из нас двоих оказалась куда мужественнее и сообразительнее. После ухода Сингха я так и сидел бы на кровати, если бы она не взяла все в свои руки, не стянула с меня вонючую одежду и не вправила бы, как могла, сломанный палец, воспользовавшись маленьким держателем в качестве лубка. Меня снова стошнило, когда она ставила на место палец, но блевать было уже нечем, и сухие спазмы скоро бы перешли во всхлипы ярости и бессилия, если бы Амрита не затолкала меня под душ. Тепловатая вода еле текла, но ощущение было чудесным. Я стоял там с полчаса и даже задремал на некоторое время, пока вода смывала с меня бремя воспоминаний и страхов. Лишь обжигающие тоска и замешательство пробивались сквозь усталость, когда я переоделся в чистое и присоединился к безмолвной вахте Амриты. Утро вторника застало нас сидящими вместе, наблюдающими, как калькуттский рассвет отбрасывает тускло-серый свет в незашторенное окно. С первым светом до нас донеслись звуки колоколов в храмах, звонки трамваев, выкрики уличных торговцев, беспорядочный уличный шум. – С ней все будет хорошо,– повторял я время от времени.– Я знаю, малышка. С ней все будет хорошо. Амрита в ответ не проронила ни слова. Ровно в пять тридцать пять зазвонил телефон – аппарат, установленный в нашем номере. Я ринулся к нему через комнату. – Алло! Мне казалось, что звуки на линии стали еще глуше, чем обычно. Я говорил словно в пещеру. – Алло! Алло! Мистер Лузак? – Да. Кто это? – Алло! Это Майкл Леонард Чаттерджи, мистер Лузак. – Слушаю вас. Уж не посредник ли ты? Имеешь ли ты, ублюдок, к этому отношение? – Мистер Лузак, ночью ко мне приходили полицейские. Они сообщили о пропаже вашего ребенка. – Да? Если он звонит, чтобы выразить сочувствие, я повешу трубку. Но речь шла не о сочувствии. – Полиция разбудила меня, мистер Лузак. Они разбудили мою семью. Они вторглись в мой дом. Создалось впечатление, будто они считают меня каким-то образом замешанным в данное происшествие. Они допрашивали меня посреди ночи, мистер Лузак. – Да? И что же? – Я звоню, чтобы выразить решительный протест по поводу очернения моей репутации и вторжения в частную жизнь,– сказал Чаттерджи. Когда он сорвался на крик, голос его стал еще выше и пронзительнее.– Вам не следовало упоминать мое имя, мистер Лузак. Я занимаю некоторое положение в обществе. Я не позволю пятнать мою репутацию, сэр. Вы не имеете на это права. – Что? – Это было единственное, что я смог сказать. – У вас нет на это права, сэр. Я предупреждаю вас, что любые выдвинутые вами обвинения, любое упоминание моего имени, любое увязывание Союза писателей с вашими личными проблемами, мистер Лузак, приведет к возбуждению против вас дела моим адвокатом. Я предупреждаю вас, сэр. Послышался глухой щелчок, когда Чаттерджи повесил трубку. Шум и треск на линии продолжался еще несколько секунд, а потом послышался еще один звук, когда полицейский на коммутаторе тоже отключился. Амрита стояла рядом со мной, но я на какое-то время потерял дар речи. Я так и застыл, сжимая трубку, как если бы она была шеей Чаттерджи. А моя ярость приближалась к той точке, когда лопаются сосуды или рвутся жилы. – О чем речь? – резко спросила Амрита, тряхнув меня за руку. Я ей объяснил. Она кивнула. Телефонный звонок каким-то образом разбудил в ней желание действовать. Сначала она позвонила по одному из дополнительных телефонов своей тетке в Нью-Дели. В Бенгалии тетка никого не знала, но у нее имелись друзья, у которых были друзья в Лок-Сабха, одном из правительственных учреждений. Амрита просто рассказала ей о похищении и попросила помочь. Я никак не мог сообразить, в какой форме может быть оказана эта помощь, но лишь оттого, что Амрита действует, на душе полегчало. Потом она позвонила в Бомбей брату своего отца. Ее дядя тоже владел строительной компанией и пользовался некоторым влиянием на западном побережье субконтинента. Несмотря на то что звонок племянницы, от которой он лет десять не имел никаких вестей, вырвал его из сладкого сна, он пообещал вылететь в Калькутту ближайшим самолетом. Амрита сказала, чтобы он пока не прилетал, но попросила связаться с любыми учреждениями Бенгалии, которые могли бы помочь. Он пообещал это сделать и добавил, что будет держать с нами связь. Я сидел, слушая изящные фразы на хинди, и смотрел на свою жену глазами чужака. Когда она потом пересказала мне содержание разговоров, я почувствовал себя гораздо спокойнее – как ребенок, который слышит, как одни взрослые обсуждают с другими взрослыми важные проблемы. До появления в половине девятого инспектора Сингха Амрита обзвонила три главные больницы Калькутты. Нет, за ночь не поступали никакие американские дети или любые дети со светлой кожей, к которым подходило бы данное описание. Потом она позвонила в морг. Я ни за что не стал бы туда звонить. Я не мог стоять рядом с ней, когда она, выпрямившись, ровным голосом выясняла у какого-то сонного незнакомца, не поступало ли туда этой темной калькуттской ночью тело моего ребенка. Ответ был отрицательным. Лишь после того, как она поблагодарила служителя морга и повесила трубку, я увидел, как у нее дрожат ноги, как дрожь распространяется по телу и как затряслись руки, когда она закрыла ими лицо. Я подошел к ней и обнял. Она еще не потеряла контроль над собой, но уткнулась лицом мне в шею, и мы стали раскачиваться вместе вперед-назад, ничего не говоря, раскачиваться, разделяя боль и муку.
Ничего нового инспектор Сингх не сообщил. Мы сидели вместе с ним за маленьким столиком в комнате и потягивали кофе. Входили и выходили какие-то люди в шлемах, приносили бумаги, получали инструкции. Сингх сказал, что службы безопасности в аэропортах и на железнодорожных вокзалах предупреждены. Он спросил, нет ли у нас фотографии ребенка. У меня сохранилась одна, сделанная два месяца назад. Тогда у Виктории было гораздо меньше волосиков. Ее личико получилось не очень отчетливо. Под ее ножонками с ямочками я увидел оранжевое одеяло – забытое напоминание о том далеком беззаботном пикнике в День памяти. Фотографию я отдавал скрепя сердце. Сингх задал еще несколько вопросов, произнес что-то успокоительное и ушел. Тощий полицейский сержант просунул голову в дверь и на ломаном английском напомнил, что будет находиться в соседней комнате. Мы кивнули. Время шло. Амрита заказала обед в номер. Есть мы не стали. Я дважды подолгу принимал душ, оставляя дверь ванной открытой, чтобы услышать в случае чего Амриту или телефон. От моей кожи еще пахло грязью предыдущего вечера. Я настолько устал, что не чувствовал собственного тела. Одни и те же мысли прокручивались в голове, как закольцованная магнитофонная пленка: «Если бы я не уехал. Если бы я не стал садиться в машину. Если бы я вернулся раньше». Я выключил воду и врезал кулаком по кафелю.
Около трех пополудни вернулся Сингх с двумя другими полицейскими чинами. Один по-английски не говорил. Другой где-то умудрился обзавестись акцентом кокни. Их доклад был неутешительным. Никто по имени М. Т. Кришна в настоящее время не работал в университете. За последнее десятилетие там преподавали пять человек по имени Кришна. Двое уволились. Двоим было под шестьдесят. Одной из них оказалась женщина. Не нашлось никаких свидетельств связи некоего Кришны с Американским фондом образования в Индии. Выяснилось, что в Калькутте вообще нет представительства этого фонда. Ближайшее отделение находилось в Мадрасе. Туда звонили, но в Мадрасе не располагали сведениями о каком-нибудь Кришне или Санджае. Встретить нас в калькуттском аэропорту никого не посылали. В Фонде образования вообще не знали, что я в Индии. В Калькуттском университете было много студентов по имени Санджай. Ни один из тех, кого удалось найти, не соответствовал описанию, которое я дал полиции. Полиция продолжала работать в этом направлении, но разыскать всех выявленных Санджаев удастся, возможно, лишь в течение нескольких недель. Ведь сейчас идут летние каникулы. Было получено подтверждение, что некий Джайяпракеш Муктанандаджи обучался в университете, но во время последнего семестра он не появлялся. Однако всего два дня назад официант видел Муктанандаджи в университетском кафе. – Это уже после того, как я встречался с ним,– заметил я. Похоже на то. Муктанандаджи показал своему приятелю-официанту купленный им железнодорожный билет. Он сказал, что собирается вернуться в родную деревню Ангуду. С тех пор официант не видел молодого человека. Сингх позвонил комиссару полиции в Жамшедпуре, а тот должен был отбить телеграмму констеблю провинции в Дургалапур. Констебль же отправится в Ангуду, чтобы найти Муктанандаджи и доставить его в Дургалапур для допроса. Вести оттуда ожидаются к исходу дня в среду. – Завтра! – Да, мистер Лузак. Это отдаленная деревня. В телефонной книге Калькутты оказалось множество семей по фамилии Бхарати. Ни у кого из опрошенных Бхарати не оказалось дочери двадцати с лишним лет по имени Камахья. Это имя вдобавок было весьма необычным. – В каком смысле? – спросил я. – Позже объясню,– ответил Сингх. Были установлены контакты с информаторами в подпольных организациях гундов. Никаких стоящих сведений пока получено не было, но переговоры продолжались. Кроме того, полиция допросит членов Союза нищих. У меня похолодело в животе при этих словах. – А как насчет капаликов? – спросил я. – Насчет чего? – поинтересовался другой инспектор. Сингх сказал что-то по-бенгальски и снова повернулся ко мне. – Вы должны понять, мистер Лузак, что Общество капаликов пока остается – формально – мифом. – Черт возьми, но ведь не миф, что кто-то пытался меня убить вчера ночью. И то, что наша девочка пропала, тоже не миф. – Согласен,– ответил Сингх.– Но пока у нас нет твердых доказательств участия в этом деле тугов, гундов или так называемых капаликов. Дело осложняется еще и тем, что различные криминальные элементы нередко прибегают к извращенным тантрическим формам мистики, часто призывают себе на помощь какие-то местные божества – Кали в данном случае,– чтобы произвести впечатление на новичков или запугать обывателей. – Вот как,– пробормотал я. Скрестив руки, Амрита посмотрела на троих полицейских. – Следовательно, ничего существенного у вас нет? – спросила она. Сингх бросил взгляд на коллег. – Сдвигов нет. Амрита кивнула и сняла трубку. – Алло, это номер шесть-двенадцать. Не могли бы вы соединить меня с американским посольством в Нью-Дели? Да. Очень важно. Благодарю вас. Полицейские заморгали. Я проводил их до двери, пока Амрита ждала звонка. В коридоре двое полицейских пошли прочь, а я ненадолго задержал Сингха. – В чем необычность имени Камахьи Бхарати? Сингх провел рукой по усам. – Камахья… это имя не распространено в Бенгалии. – Почему? – Это религиозное имя. Одного из воплощений… Парвати. – Кали, вы хотите сказать. – Да. – Так почему же оно не распространено, инспектор? Ведь Рам и Кришн вокруг немало. – Да,– согласился Сингх, смахнув ворсинку с манжета. Блеснул стальной браслет на запястье.– Да, но имя «Камахья», или его разновидность «Камакши», ассоциируется с одним очень непривлекательным воплощением Кали, которому когда-то поклонялись в большом храме в Ассаме. Некоторые из их ритуалов были очень вредными. Этот культ запрещен несколько лет тому назад. Храм заброшен. Я кивнул. На это сообщение я никак не отреагировал. Вернувшись в номер, я стал спокойно дожидаться, когда Амрита закончит разговор по телефону. И все это время во мне нарастал безумный смех и наружу рвались вопли ярости.
Часов в пять того нескончаемого дня я спустился в вестибюль. Ощущение клаустрофобии довело меня до того, что стало трудно дышать. Но в вестибюле было не намного лучше. В сувенирной лавке я купил сигару, но продавец не сводил с меня глаз, а сочувствие во взгляде администратора граничило с презрением. Мне показалось, что мусульманская чета в вестибюле перешептывается обо мне, а когда из кафе вышли несколько официантов и стали показывать друг другу в мою сторону и пялиться на меня, это уже нельзя было приписать одному лишь разыгравшемуся воображению. Я торопливо поднялся на шестой этаж, перепрыгивая через ступеньки, чтобы выпустить энергию. Английский обычай называть второй этаж первым позволил мне получить лишнюю нагрузку. Тяжело дыша, весь потный, я вышел в коридор нашего этажа. Амрита спешила мне навстречу. – Есть что-нибудь? – спросил я. – Я только что вспомнила очень важную вещь,– выпалила она, переводя дыхание. – Что же? – Эйб Бронштейн! Кришна упоминал Эйба Бронштейна, когда встречал нас той ночью в аэропорту. Кришна должен иметь какую-то связь с Фондом образования или с кем-то оттуда. Амрита пошла к полицейскому сержанту в шестьсот четырнадцатый номер, а я тем временем заказал разговор со Штатами. Несмотря на то, что на коммутаторе сидел полицейский, помогавший ускорить дело, прошло не меньше получаса, прежде чем удалось дозвониться. У меня защемило в груди, когда я услышал из Нью-Йорка знакомое ворчание. – Бобби, с добрым утром! Откуда ты звонишь, черт возьми? Звуки такие, будто ты с луны говоришь по какому-нибудь дешевому уоки-токи. – Эйб, послушай. Послушай, пожалуйста. По возможности коротко я рассказал ему об исчезновении Виктории. – Ах ты, дьявол,– простонал Эйб.– Вот уж дерьмо так дерьмо. Даже через десять тысяч миль дурной связи я ощущал глубокую боль в его голосе. – Эйб, старина, ты меня слышишь? Один из подозреваемых в этом деле – парень по имени Кришна… М. Т. Кришна… но мы думаем, что его настоящее имя – что-то вроде Санджая. В четверг он встречал нас в аэропорту. Ты меня слышишь? Хорошо. Этот самый Кришна сказал, что работает в Фонде образования… это американский фонд… да… и что он встречает нас по просьбе своего шефа. Ни Амрита, ни я не помним, как он назвал шефа. Но он упомянул и твое имя, Эйб. Он особо выделил твое имя. Ты слышишь? – Шах,– произнес Эйб сквозь гулкий шум. – Что? – Шах. А. Б. Шах. Я связался с ним сразу же после твоего вылета в Лондон и попросил протянуть тебе руку помощи, если понадобится. – Шах,– повторил я, быстро записывая.– Отлично. Эйб, а где его искать? Он в Калькутте? – Нет, Бобби. Шах – редактор «Таймс оф Индиа», но еще он работает советником по культуре при Фонде образования в Дели. Я познакомился с ним несколько лет назад, когда он учился в Колумбийском университете. Я никогда не слышал об этом сукином сыне Кришне. – Спасибо, Эйб, ты очень помог. – Черт возьми, Бобби, я так сожалею. Как Амрита? – Превосходно. Кремень. – Ага. Все будет хорошо, Бобби. Ты должен верить. Они вернут тебе Викторию. С ней ничего не случится. – Да, конечно. – Дай знать, как пойдут дела. Буду у матери. У тебя есть ее телефон? Обязательно сообщи, если понадобится какая-нибудь помощь. О дьявол! Все будет хорошо, Бобби. – Пока, Эйб. Спасибо.
Амрита не ограничилась одной лишь передачей информации Сингху; теперь она разговаривала по телефону с редакцией третьей из трех крупнейших газет Калькутты. Инструкции она выдавала повелительным тоном на хинди. – Надо было сделать это раньше,– сказала она, положив трубку.– Теперь объявления не появятся до завтрашнего утра. Амрита дала объявления на половину полосы в каждую из газет. Курьеры заберут копии фотографии, которую мы одолжили полиции. Награда в десять тысяч долларов назначается за любые сведения по данному делу; пятьдесят тысяч – за благополучное возвращение Виктории или любые сведения, которые приведут к ее возвращению, причем никаких вопросов не последует. – Господи Иисусе,– тупо произнес я,– где же мы возьмем пятьдесят тысяч? Амрита выглянула в окно на вечернюю уличную круговерть. – Я предложила бы вдвое больше,– сказала она.– Но это составит почти миллион рупий. А указанная мной сумма более правдоподобна, в нее легче поверят, а потому она выглядит более соблазнительно для тех, кто жаден до денег. Я покачал головой. Кажется, я уже потерял способность что-либо соображать. Я быстро позвонил Сингху и передал ему сообщение о Шахе. Он пообещал незамедлительно все проверить. Примерно на час я задремал, хоть и не собирался спать. Я присел на стул у окна, наблюдая за угасанием остатков вечернего серого света, а в следующую минуту вздернул голову, и на улице был уже вечер, а по стеклу барабанил сильный дождь. Зазвонил один из установленных полицией телефонов. Из коридора вошла Амрита, но я опередил ее. – Мистер Лузак? – Это был инспектор Сингх.– Мне удалось застать мистера А. Б. Шаха у него дома, в Дели. – И что? – Он именно тот человек, которому звонил ваш знакомый, мистер Бронштейн. Мистер Шах, питающий глубокое уважение к вашему другу, немедленно направил сюда одного из своих подчиненных по Фонду, молодого человека по имени Р. Л. Дхаван, чтобы он предложил вам свои услуги в качестве гида и переводчика. – Направил? Из Дели в Калькутту, вы имеете в виду? – Совершенно верно. – Так где же он? – Именно это и заинтересовало мистера Шаха. И нас это заинтересовало. Мы взяли очень подробное описание внешности этого джентльмена и его одежды на тот момент, когда его видели в последний раз. – И что? – А то, мистер Лузак, что мистер Р. Л. Дхаван, судя по всему, все это время находился у нас. Его тело было обнаружено в сундуке на вокзале Хоура в прошлый четверг во второй половине дня. В начале одиннадцатого отключили электричество. Ярость разбушевавшейся за окнами бури превосходила все виденные мной раньше. Каждые несколько секунд ночное небо рассекали молнии, освещавшие комнату лучше, чем те две свечки, которые принес портье. Улицы были залиты водой в первые же минуты начавшегося потопа, а устрашающий ливень усиливался с каждым часом. На Чоурингхи не было видно ни одного огонька. Я попытался представить, как миллионам обитателей трущоб, живущих в хижинах из мешковины, и бездомным на улицах удается пережить такие ночи. А Виктория где-то там… Я громко застонал и принялся мерить шагами комнату. Взялся за один, потом за другой телефон, чтобы позвонить Сингху. В трубках была тишина. На наш этаж поднялся администратор, чтобы объясниться с сонным полицейским в соседнем номере и принести нам извинения. В нашем районе отключились тысячи телефонов. Он посылал курьера в телефонную компанию, но их контора оказалась закрытой. Никто не знал, когда восстановится связь. Иногда для этого требовалось несколько дней. Когда он ушел, я перевесил нашу одежду из шкафа, на трубу в ванной. – Что ты делаешь? – спросила Амрита. Язык у нее слегка заплетался. Она не спала больше сорока часов. Глаза ее потемнели и взгляд был усталым. Ничего не ответив, я вытащил из шкафа тяжелую круглую деревянную палку, на которой перед этим висели плечики. Она была фута четыре длиной, и я ощущал ее приятную тяжесть. Я поставил ее за стулом возле двери. За окнами где-то неподалеку сверкнула молния, на мгновение озарив ослепительным светом картину потопа. В десять минут двенадцатого в дверь сильно постучали. Амрита, сидевшая в кресле, вздрогнула, выйдя из полудремотного состояния, а я уже стоял у двери с палкой в руках. – Кто там? – Инспектор Сингх. На инспекторе был пробковый шлем и мокрый черный плащ. В коридоре у него за спиной стояли двое промокших полицейских. – Мистер Лузак, могу я попросить вас пройти с нами по одному очень важному делу? – Куда, инспектор? Сингх стряхнул воду со шлема. – В морг «Сассун».– Уловив непроизвольный вскрик Амриты, он поспешил договорить: – Произошло убийство. Убитый – мужчина. – Мужчина? Это имеет отношение к… как его… к Дхавану? Сингх пожал плечами. Вода капала на ковер. – Мы не знаем. Э-э-э… стиль убийства наводит на мысли о гундах. Капаликах, если вам угодно. Мы попросили бы вас помочь в опознании трупа. – А вы как думаете, кто это? Еще одно пожатие плеч. – Так вы поедете, мистер Лузак? Моя машина ждет. – Нет,– отрезал я.– Безусловно нет. Я не оставлю Амриту. И не думайте. – Но для опознания… – Сделайте фотографию, инспектор. Ведь в вашем управлении найдется фотоаппарат? Если нет, дождусь снимков крупным планом в утренних газетах. Жителям Калькутты, по-моему, нравится разглядывать фотографии трупов не меньше, чем нам в Штатах – просматривать комиксы. – Бобби! – вмешалась Амрита. Голос ее звучал хрипло. Мы оба вымотались.– Инспектор лишь старается помочь нам. – Нет,– сказал я.– Ни за что. Я тебя больше не оставлю. Амрита взяла сумочку и зонтик. – Я тоже поеду. Мы с Сингхом одновременно уставились на нее. – Телефоны не работают,– сказала она.– Никто не сможет нам дозвониться. Прошли уже сутки, а выкупа так никто и не потребовал. И вообще никаких контактов. Если это поможет, давайте сделаем это сейчас.
Молния осветила заколоченные досками окна и двух залитых дождем каменных львов, оставшихся со старых, более безобидных времен. К входу в морг с обратной стороны вела дорожка, петлявшая среди мокрых зданий и куч раскисшего под ливнем мусора. Смятая штора закрывала широкие двери, ведущие в морг «Сассун». В кабинете недалеко от входа нас встретил человек в жеваном костюме. Даже здесь воздух был густо насыщен запахом формалина, характерным для факультетов естественных наук. Керосиновые лампы отбрасывали тени позади шкафов для бумаг и штабелей папок на каждом столе. Человек сложил пальцы лодочкой, слегка поклонился мне и обратился к промокшему инспектору с длиннющей тирадой на бенгальском. – Он сказал, что миссис Лузак может остаться здесь,– перевел Сингх.– Мы будем в соседней комнате. Амрита кивнула и добавила: – А еще он сказал, инспектор, что моргу требуется генератор для экстренных случаев. Он призвал муниципальных чиновников оторвать свои задницы от кресел и прийти сюда, чтобы понюхать розы. Правильно? Это идиома. – Все верно,– согласился Сингх, выдавив мрачную улыбку. Он бросил несколько слов служителю морга, тот покраснел и повел нас с Сингхом через вращающиеся двери в короткий, выложенный кафелем коридор. Покачивающийся фонарь освещал помещение, которое могло бы быть операционной в представлении Джека-Потрошителя. Повсюду валялись бумаги, чашки и разный мусор. Ножи, скальпели, пилы для костей были разбросаны по ржавым подносам и столам Огромная осветительная тарелка с лампами, которые в данный момент не горели, а также сверкающий стальной стол с открытыми сточными желобами безошибочно свидетельствовали о назначении комнаты. Как и тело, лежавшее непокрытым на столе. – Ага,– произнес инспектор и подошел поближе, нетерпеливым жестом подзывая меня к себе. Служитель морга снял с крючка на стене фонарь и повесил его на выступ округлого операционного светильника. От качающегося фонаря по сияющей стали закружились причудливые тени. В детстве родители подарили мне комплект «Иллюстрированных энциклопедий Комптона». Больше всего мне нравилась глава о человеческом организме. Здесь имелись странички из прозрачной папиросной бумаги. Сначала перед вами было тело, покрытое кожей, а по мере того как вы перелистывали тоненькие листочки, вы все глубже погружались в тайны сложнейшего внутреннего строения человеческой плоти. Все было аккуратненьким раскрашено разными цветами и снабжено подписями.
Лежавшее передо мной тело представляло собой вторую страничку – «МЫШЦЫ И СУХОЖИЛИЯ». От шеи и ниже кожа была разрезана и содрана. Она лежала скомканной под трупом, как сырая, измятая накидка. Но на мышцах здесь не было аккуратных этикеточек; тело напоминало тушу сырого мяса с поблескивающими на свету влажными, маслянистыми участками; толстые, белые волокна исчезали в кровоточащих, розовых неровностях, а желтоватые сухожилия тянулись окровавленными ремнями. Сингх и работник морга повернулись ко мне. Если они ожидали от меня вскрика или приступа тошноты, то их постигло разочарование. Я кашлянул. – Вы уже начали вскрытие? Сингх кратко перевел мой вопрос. – Нет, мистер Лузак. В таком виде он поступил два часа назад. На это я отреагировал. – Боже праведный! Зачем кому-то понадобилось убивать человека, а потом сдирать с него кожу? Сингх покачал головой. – Он еще был жив, когда его увидели на Саддер-стрит. По свидетельствам очевидцев, он кричал, бежал. Потом упал. Через некоторое время крики прекратились. В конце концов кто-то вызвал полицию. Я непроизвольно отступил на два шага. У меня в ушах эхом отдавался голос матери, кричавшей с площадки третьего этажа на Пуласки-стрит «Роберт Лузак, иди сюда сейчас же, не то я с тебя шкуру спущу». Это не было пустой угрозой. – Вы его знаете? – нетерпеливо спросил Сингх. Он подал знак, чтобы добавили света. Голова трупа, застывшая в последней агонии из-за быстрого окоченения, была откинута назад. – Нет,– ответил я сквозь сжатые зубы.– Подождите. Я заставил себя войти в узкий кружок света. Лицо осталось неповрежденным, если не считать искаженных черт. Узнавание обрушилось на меня ударом кулака. – И все же вы знаете его,– произнес Сингх. – Да. Ведь это же я назвал его имя! Боже мой, я назвал его имя во время разговора с Дасом! – Это мистер Кришна? – Нет,– ответил я, отвернувшись от освещенного стола. Да, это я назвал его имя.– На нем нет очков, а он их носил. Его имя Джайяпракеш Муктанандаджи.
Мы с Амритой проспали до девяти утра. Нам ничего не снилось. Шум дождя через открытое окно смывал все сны. Электричество и кондиционер включились, наверное, ближе к рассвету, но мы этого не почувствовали. В одиннадцать Сингх прислал машину, чтобы нас отвезли в полицейское управление. Любой звонок нам в отель автоответчики переадресовали бы туда. Полицейское управление оказалось очередным темным пещерообразным помещением в очередном сумрачном здании-лабиринте. Столы были завалены огромными стопками папок и пожелтевших бумаг, за которыми почти терялись люди без лиц, сгорбившиеся над пишущими машинками, имевшими такой допотопный вид, словно на них работали еще при королеве Виктории. Мы с Амритой несколько часов перелистывали гигантские альбомы с фотографиями. После нескольких сотен женских лиц я начал сомневаться, узнаю ли я Камахью Бхарати, если увижу ее. Ничего, узнаю. Удалось сделать лишь одно открытие. Внимательно изучив темную, выцветшую фотографию коренастого человека в серой тюремной робе, я с некоторой долей сомнения опознал в нем капалику в хаки, который сломал мне палец. – Но вы не уверены? – спросил Сингх. – Нет. Он был старше, массивнее и с волосами подлиннее. Сингх что-то буркнул и передал кому-то фотографию вместе с указаниями. Он так и не сказал мне, как звали этого человека и за что тот когда-то сидел. Треск ломающейся хрупкой пластмассы… В середине дня мы вернулись в гостиницу. Нас поразило, что на полицейский номер, который мы давали в газетных объявлениях, поступило больше сотни звонков. Конкретной информацией не располагал ни один из звонивших. Несколько человек утверждали, что видели ребенка то ли в одном, то ли в другом месте, и теперь по этим сигналам шла проверка. Но сержант был настроен скептически. Большинство звонивших мужчин и женщин просто хотели всучить нам хоть какого-нибудь ребенка за объявленное вознаграждение. Я с грохотом захлопнул дверь, мы вместе улеглись на кровать и стали ждать. Вечерние часы той среды я почти не помню. В памяти встают отдельные картинки, но они кажутся никак не связанными между собой. Некоторые из них я не могу отделить от снов, преследующих меня с того времени. Часов в восемь вечера я поднялся, поцеловал на прощание задремавшую Амриту и вышел из гостиницы. Мне вдруг стало совершенно ясно, как все можно уладить. Я пойду по Калькутте, найду капаликов, скажу им, что сожалею о случившемся, и сделаю все, что они от меня потребуют. И тогда они отдадут ребенка. Все очень просто. Если не получится, я разыщу богиню Кали и убью эту гадину. Я вспоминаю, как пешком прошел много кварталов, потом ехал на такси, пристально вглядываясь в лица людей, заполнивших тротуары, и не сомневаясь, что вот-вот увижу Камахью. Или Кришну. Или Даса. Позже такси остановилось под баньяном, дожидаясь меня, пока я перелезал через ворота с острыми кольями, а затем, пригнувшись, бежал по окаймленной цветами подъездной дорожке. Огни в доме не горели. Я стучал по ставням. Я барабанил в двери. «Чаттерджи!» – кричал я. Дом оставался темным. В другой раз я шел по берегу реки. Надо мной в последнем сумеречном свете перед наступлением полной темноты вырисовывался мост Хоура. Мощеные улицы сменились грязными переулками и темными трущобами. Вокруг пританцовывали дети. Я швырнул им всю мелочь, что имел при себе. Помню, как однажды оглянулся и увидел не стайку детишек, а нескольких следовавших за мной мужчин. Губы у них шевелились, но я ничего не слышал. Образовав полукруг, они начали осторожно приближаться ко мне с чуть поднятыми руками. – Капалики? – с надеждой в голосе спросил я, а быть может, мне только показалось, что спросил.– Вы капалики? Кали? Капалики? Они заметно стушевались и переглянулись, как бы подзуживая друг друга. Я окинул взглядом их лохмотья, исхудалые тела с напрягшимися в ожидании мышцами и понял, что никакие они не капалики. И не туги. И не гунды. Они всего лишь нищие, голодные люди, готовые убить иностранца ради его денег. – Ну ладно! – воскликнул я тогда. Я усмехался. И не мог удержаться от этой ухмылки, хотя чувствовал, как вместе с ней что-то острое прорезает во мне дыру. Несколько последних дней, ночь, Виктория – все стягивалось при этом в тугой узел чистого восторга. – Ну ладно! – заорал я.– Подходите! Подходите! Пожалуйста! Я широко развел руки. Я бы обнял их. Я бы прижал их к себе смертельной хваткой и стал бы рвать зубами их тощие глотки. Наверное, я бы так и сделал. Не знаю. Они переглянулись, попятились и растворились во тьме переулков. Я чуть не заплакал, когда они исчезли. Не знаю, до или после встречи с оборванцами оказался я в небольшом храме. Там было аляповатое скульптурное изображение опустившейся на колени черной коровы с красно-белым ожерельем. Старики приседали на корточки, плевали в дымную мглу и в страхе смотрели на меня. Какое-то древнее пугало несколько раз показывало на мои ноги, что-то бормоча при этом. Думаю, старикан хотел, чтобы я разулся. – Насрать,– вполне разумным голосом сказал я.– Не важно. Просто скажи им, что они выиграли, ладно? Передай им, что я сделаю все, что они скажут. Договорились? Обещаю. Правда, обещаю. Богом клянусь. Честное скаутское. По-моему, я в конце концов заплакал. Во всяком случае, я видел сквозь застилавшие глаза слезы, как какой-то старик, у которого почти не осталось передних зубов, бессмысленно улыбался, похлопывал меня по плечу и при этом раскачивался вперед-назад на своих костлявых ногах. Затем был обширный пустырь с какими-то лачугами и старыми автопокрышками, лежавшими под дождем, а я брел по грязи много миль в сторону высоких труб и открытых огней, отбрасывавших на все вокруг красный отсвет, удалявшихся от меня, как я ни старался сократить расстояние. Кажется, это место существовало на самом деле. Не знаю. Отныне оно надолго впишется в ландшафт моих сновидений.
Эту маленькую девочку я обнаружил при первом проблеске зари. Она лежала прямо на улице, то есть на грязной немощеной дорожке, которая в этих местах заменяла улицу. Ей было лет пять, не больше. Длинные черные волосы перепутались, и она лежала, свернувшись калачиком под тонким светло-коричневым одеялом, еще мокрым после ночного ливня. Меня чем-то привлек ее безмятежный крепкий сон. Я опустился на колено прямо на грязную дорожку. Уже появились первые пешеходы и велосипедисты. Они старательно огибали нас. Глаза девочки были крепко зажмурены, а ротик слегка приоткрыт. Под щеку она засунула маленький кулачок. Скоро ей придется вставать, разжигать огонь, прислуживать мужчинам, нянчить малышню… Детство, которое ей едва ли придется узнать, закончится, практически даже не начавшись. Скоро она перейдет в личное пользование мужчины старше ее собственного отца и в тот день услышит традиционное благословение индусов: «Да будет у тебя восемь сыновей». Но сейчас она мирно спала, сжав кулачок, прильнув смуглой щечкой прямо к земле, крепко зажмурившись от утреннего света. Я тряхнул головой и огляделся. Почти рассвело. Воздух после дождя был почти чистым, и я ощутил пронзительно совершенные запахи свежих цветов и влажной почвы. Я отчетливо помню, как на рикше возвращался в гостиницу. Звуки и краски были настолько чистыми, что заполняли все мои чувства. В голове у меня тоже наступила полная ясность. Лишь быничего не случилось, пока я отсутствовал… А вдруг я был нужен Амрите?.. Несмотря на рассветный час, Амрита встречала меня в вестибюле. От радости она всплеснула руками, а в глазах у нее впервые с тех пор, как все началось, показались слезы. – Бобби, о, Бобби,– произнесла она.– Только что звонил инспектор Сингх. Он заедет за нами. Сейчас он будет здесь. Нас отвезут в аэропорт. Они нашли ее, Бобби. Они нашли ее!
Мы мчались по почти пустынному VIP-шоссе. Насыщенные потоки горизонтального света придавали всему ландшафту отчетливую рельефность, а тень нашего автомобиля неслась по мокрым полям. – Вы уверены, что с ней ничего не случилось? – спросил я. – Да-да,– ответил Сингх с переднего сиденья, не оборачиваясь.– Нам позвонили всего двадцать пять минут назад. – Вы уверены, что это Виктория? – спросила Амрита. Мы подались вперед, опершись локтями о спинку переднего сиденья. Пальцы Амриты непроизвольно складывали и разворачивали пеленку, которую она держала. – Работник службы безопасности полагает, что это она,– ответил Сингх.– Именно поэтому он и задержал пару, проходившую с ребенком. Они не знают, что их задержали. Старший смены сказал им, что у них небольшие осложнения с визой. Они думают, что ждут какого-то чиновника, который проставит им печати. – А почему их просто не арестовали? – спросила Амрита. – За какое преступление? – спросил в свою очередь Сингх.– Пока не опознан ребенок, они виноваты лишь в том, что желают улететь в Лондон. – А кто заметил Викторию? – поинтересовалась Амрита. – Работник, про которого я говорил,– ответил Сингх и зевнул.– Он видел ваше объявление в газете. В низком голосе Сингха прозвучал легкий укор. Я взял Амриту за руку, и мы стали смотреть, как мимо проносится уже знакомый пейзаж. Мы прилагали мысленные усилия, чтобы заставить небольшую машину ехать быстрее. Когда какой-то пастух надолго, как нам показалось, перегородил своими овцами мокрую дорогу, мы хором закричали водителю, чтобы он посигналил и постарался проехать дальше. Потом мы снова стали набирать скорость, обогнали громыхающую повозку, доверху нагруженную тростником, и опять оказались одни в левом ряду. Справа пролетали направлявшиеся в город пестрые грузовики, люди в белых рубашках махали нам смуглыми руками. Я заставил себя откинуться на спинку и несколько раз глубоко вдохнуть. В любое другое время красота восхода восхитила бы меня. Даже пустые изуродованные многоэтажки и односкатные халупы посреди раскисших полей выглядели очищенными солнечной благодатью. Женщины, несшие высокие бронзовые сосуды, отбрасывали трехметровые тени на зеленые кюветы. – Вы уверены, что с ней ничего не случилось? – снова спросил я. – Мы уже почти приехали,– сказал Сингх. Мы проскочили по извилистому проезду мимо черно-желтых такси с россыпями сверкающих дождевых капель на крышах. Водители подремывали, раскинувшись поперек передних сидений. Не успела наша машина остановиться, как мы уже распахнули двери. – Куда нам? Сингх обошел машину и показал. Мы быстро вошли в здание аэропорта. Заразившись нашим нетерпением, Сингх обежал растянувшихся на кафельном полу людей. Одни спали просто в одежде, другие – завернутыми кто во что горазд. – Сюда,– сказал он, открывая обшарпанную дверь с надписью на английском и бенгальском: «ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». В коридоре сидела на корточках женщина из неприкасаемых, сметавшая в маленький совок грязь и бумажки. Пройдя шагов пятнадцать, мы попали в огромное помещение, разделенное перегородками и стойками. Я услышал лязг работающих телетайпов и пишущих машинок. Я сразу же увидел эту индийскую пару, забившуюся в дальний угол. Молодая женщина прижимала к груди ребенка. Раньше я их не видел. Они сами казались еще почти детьми. Мужчина был невысоким, с бегающими глазами. Каждые несколько секунд он поднимал правую руку, чтобы пригладить жиденькие усики. Девушка выглядела еще моложе своего спутника. Вид у нее был самый непритязательный, почти беспризорный. Накидка на ее голове не закрывала ни жестких волос, ни смазанного малинового кружка в середине лба. Но мы с Амритой, остановившись от них футах в двадцати, не сводили глаз с закутанного в многочисленные тряпки свертка, который быстро покачивала молодая женщина. Лица ребенка не было видно, за исключением маленького фрагмента бледной щечки. Мы подошли поближе. Где-то под ложечкой у меня начала пульсировать ужасная боль, распространившаяся по всей груди. Я старался не обращать на нее внимания. Инспектор Сингх махнул рукой облаченному в форму работнику службы безопасности, который и поднял тревогу. Он что-то грубо бросил молодому человеку. Тот сразу же поднялся со скамейки и нервными шагами приблизился к стойке. Когда он встал, девушка подвинулась, чтобы его пропустить, и в складках покрывала мы увидели лицо ребенка. Это была Виктория. Спящая, бледная чуть ли не до свечения, но… Да, вне всяких сомнений, это была Виктория. Амрита закричала, и все тут же пришли в движение. Молодой человек попытался бежать, но работник службы безопасности и другой мужчина, выскочивший из-за стойки, молниеносно заломили ему руки. Девушка съехала по скамейке в самый угол, прижала ребенка к груди и стала быстро-быстро укачивать девочку, бормоча что-то вроде колыбельной. Амрита, инспектор и я стремительно надвинулись на нее, как бы желая отрезать все возможные пути к отступлению, но девушка лишь повернулась лицом к зеленой стене и заныла еще громче. Сингх попытался удержать Амриту. И все же она сделала три быстрых шага, резко оттянула назад за волосы голову молодой женщины, а левой рукой вырвала у нее Викторию. Все кричали. Я почему-то отступил на несколько шагов, когда Амрита высоко подняла нашу дочь и стала разворачивать грязное бордовое покрывало. Вырвавшийся у Амриты вопль заглушил остальные звуки, и все в комнате притихли. Я продолжал пятиться, пока не наткнулся на стойку. Когда Амрита закричала, я медленно отвернулся, опустил стиснутые кулаки на прохладную поверхность стойки и прижался к ней лицом. – Ой,– произнес я. Этот забытый звук далекого детства прозвучал очень тихо. – Ой,– повторил я.– Ой, не надо, пожалуйста. Я еще крепче приник щекой к поверхности стойки и зажал кулаками уши. Бесполезно. Я отчетливо слышал крики Амриты, которые постепенно перешли в рыдания.
У меня до сих пор хранится где-то рапорт – копия отосланного Сингхом в Дели. Как и все прочее в Индии, это дешевая, низкосортная бумага. Буквы пропечатаны настолько слабо, что их почти не видно: наивное детское представление о тайном послании. Не важно. Мне не нужно заглядывать в этот рапорт, чтобы дословно вспомнить его содержание: «22.7.77. УПР. ПОЛ. КАЛЬКУТТЫ/СЛ. БЕЗ. АЭР. ДУМ-ДУМ 2671067. РАБОТНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЖАГМОАН (ЯШПАЛ, АЭР. ДУМ-ДУМ СЛ. БЕЗ. 1113) ПРОВЕЛ ДОСМОТР СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ, ПО ДОКУМЕНТАМ ЧОУДРИ, ШУГАТА И ДЕВИ, СЛЕДУЮЩИХ С РЕБЕНКОМ В ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ЦЕЛЬ: ОТДЫХ. В 04:28/21.7.77. РАБОТНИК ДЖАГМОАН ЗАДЕРЖАЛ СУПРУГОВ ЧОУДРИ В ТАМОЖЕННОЙ СЕКЦИИ. В-11 ПО ПРИЧИНЕ ВЕРОЯТНОГО ПРИЗНАНИЯ ВЫШЕУПОМЯНУТОГО РЕБЕНКА ПРОПАВШИМ РЕБЕНКОМ АМЕРИКАНСКИХ ГРАЖДАН ЛУЗАК, ОБЪЯВЛЕННОГО ПОХИЩЕННЫМ 18.7.77. [СМ. ПОЛИЦ. УПР. КАЛЬКУТТЫ ДЕЛО № 117. нач. 18.7.77. (С. Р. 50/) СИНГХ ] ИНСПЕКТОР ЯШВАН СИНГХ (ПОЛИЦ. УПР. КАЛЬКУТТЫ 26774) И СУПРУГИ ЛУЗАК (РОБЕРТ С. И АМРИТА Д.) ПРИБЫЛИ В АЭРОПОРТ С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В 05:41/21.7.77. РЕБЕНОК ОПОЗНАН КАК ВИКТОРИЯ КЭРОЛИН ЛУЗАК, род. 221.77. ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ ОСМОТРЕ РЕБЕНКА МАТЕРЬЮ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО РЕБЕНОК ВИКТОРИЯ К. ЛУЗАК БЫЛА УБИТА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ НАЗАД. ЗАТЕМ СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА, НОСЯЩАЯ ФАМИЛИЮ ЧОУДРИ, АРЕСТОВАНА И НАПРАВЛЕНА В УПР. ПОЛИЦИИ ЧОУРИНГХИ: ПОДОЗРЕНИЕ В СГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ПОХИЩЕНИЯ РЕБЕНКА, В СГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ УБИЙСТВА И ПОПЫТКЕ ПЕРЕВОЗА КРАДЕНОГО ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ. АКТ ВСКРЫТИЯ [ СМ. ЛУЗАК – УПР. ПОЛ. КАЛЬКУТТЫ/МЕДЭКСПЕРТИЗА 2671067/21.7.77 ] ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО РЕБЕНОК ЛУЗАК БЫЛ УБИТ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ПЯТЬ (5) И НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА (2) ЧАСА ДО ОСМОТРА И ЧТО ТЕЛО ВЫШЕУПОМЯНУТОГО РЕБЕНКА БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО В КАЧЕСТВЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРАДЕНЫХ ТОВАРОВ. СПИСОК И ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРИЛАГАЮТСЯ: РУБИНЫ (6) РУПИЙ 1 115 000 САПФИРЫ (4) РУПИЙ 762 000 ОПАЛЫ (4) РУПИЙ 136 000 АМЕТИСТЫ (2) РУПИЙ 742 000 ТУРМАЛИНЫ (5) РУПИЙ 380 000 С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОДРОБНОСТЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ К СИНГХУ (ЯШВАН ПОЛИЦ. УПР. КАЛЬКУТТЫ 26774). КОНЕЦ РАПОРТА».
15
Калькутта убила меня.Калькутта не спешила отпускать своих пленников. Город еще два дня продержал нас в цепких зловонных объятиях. Мы с Амритой не хотели оставлять Викторию одну. Даже во время полицейского вскрытия и приготовлений к похоронам мы находились в соседних помещениях. Сингх сказал, что нам придется пробыть в Калькутте еще несколько недель, пока не закончится слушание дела. Я ответил категорическим отказом.. Свои показания мы дали усталому стенографисту. Прибыл чиновник из американского посольства в Дели. Это был услужливый, похожий на кролика человечек по имени Дон Уорден. Его политика по отношению к не желавшим помочь индийским бюрократам заключалась в том, что он беспрестанно перед ними извинялся и все время объяснял нам, насколько мы осложнили дело своим настойчивым требованием как можно быстрее доставить домой тело ребенка. В субботу мы поехали в аэропорт в последний раз. Уорден, Амрита и я втиснулись на заднее сиденье взятого напрокат старенького «шевроле». Шел сильный дождь, и в салоне закрытого автомобиля было очень душно и влажно. Я не замечал этого. Я смотрел только на белый санитарный фургончик, за которым мы ехали. На нем не стали включать мигалку, чтобы миновать густой поток машин. Торопиться было некуда. В аэропорту случилась последняя заминка. Вместе с Уорденом к нам вышел служащий аэропорта. Они оба качали головами. – В чем дело? – спросил я. Индиец пригладил свою затертую белую рубашку и выпалил раздраженным тоном несколько фраз на хинди. – Ну что еще? – снова спросил я. Амрита перевела. Она была настолько измотана, что не поднимала головы, а голос ее был еле слышен: – Он говорит, что гроб, за который мы заплатили, нельзя грузить в самолет. Металлический гроб авиакомпании здесь есть, но необходимые бумаги для перевозки… тела… не подписаны ответственными за это официальными лицами. Он говорит, что в понедельник мы можем поехать в муниципалитет, чтобы получить соответствующие документы. Я выпрямился. – Что скажете, Уорден? Посольский пожал плечами. – Мы должны уважать их законы и культурные традиции,– ответил он.– И вообще, я с самого начала считал, что все было бы гораздо проще, если бы вы согласились кремировать тело здесь, в Индии. Кали – богиня всех мест сожжения. – Пройдемте сюда,– сказал я. Я поманил их обоих к двери, ведущей в помещение рядом с той комнатой, где лежало тело Виктории. У индийского чиновника вид был скучающий и нетерпеливый. Взяв Уордена за руку, я отвел его в угол. – Мистер Уорден,– спокойно сказал я.– Я собираюсь пройти в соседнюю комнату и переложить тело моей дочери в гроб. Если вы войдете в ту комнату или хоть как-то помешаете мне, я вас убью. Вы меня поняли? Уорден моргнул несколько раз и кивнул. Затем я подошел к чиновнику и объяснил ему то же самое. Я говорил очень спокойно, слегка касаясь пальцами его груди, но он заглянул в мои глаза и, судя по всему, увидел там нечто, заставившее его хранить молчание и не позволившее двинуться с места, когда я закончил свою речь и прошел через вращающуюся дверь в слабо освещенную комнату, где ждала Виктория. В длинном помещении было почти пусто, если не считать нескольких груд коробок и невостребованного багажа. В конце на стойке рядом с транспортером стоял уже открытый стальной гроб, принадлежавший авиакомпании. У противоположной стены на скамейке рядом с погрузочной платформой поставили серый гробик, купленный нами в Калькутте. Я подошел и, не раздумывая, открыл его. В ту ночь, когда Виктория появилась на свет, мне пришлось участвовать в ритуале, ставшем причиной моих волнений и переживаний нескольких предшествовавших недель. Я знал, что в эксетерской больнице свежеиспеченным отцам позволяли отнести новорожденных из родильной палаты в расположенный по соседству процедурный кабинет, где ребенка обязательно взвешивали и обмеряли, прежде чем вернуть матери в реабилитационную палату. Я очень тревожился по этому поводу. Я боялся уронить ребенка. Это было глупо, но даже после пережитого волнения и радостного возбуждения, связанных с рождением малышки, сердце у меня все равно учащенно билось, когда врач поднял ее от живота Амриты и спросил, не желаю ли я пронести свою маленькую доченьку по коридору. Я в ответ кивнул, улыбнулся и… испугался. Я вспоминаю, как положил головенку на ладонь, поднес маленькое, еще мокренькое тельце к груди и плечу и проделал путь в тридцать шагов от родильной до процедурного кабинета, чувствуя, что с каждым шагом во мне нарастают уверенность и радость. Казалось, будто Виктория помогает мне. Помню, как расплылся в глуповатой улыбке, когда вдруг окончательно осознал, что несу своего ребенка. Самое счастливое воспоминание в моей жизни. На этот раз я не волновался. Я осторожно поднял мою доченьку, положил на ладонь ее головку, прижал ее к груди и плечу, как делал уже столько раз, и прошел путь в тридцать шагов, отделявших меня от выстланного белым шелком стального гроба авиакомпании. Взлет откладывали несколько раз. Во время всего полуторачасового ожидания мы с Амритой сидели, держась за руки, а когда огромный «Боинг-747» начал наконец разгоняться по взлетной полосе, не смотрели в иллюминаторы. Все наши мысли были сосредоточены на небольшом гробике, за погрузкой которого мы наблюдали незадолго до этого. Мы не разговаривали, пока самолет набирал высоту. Мы не любовались облаками, окончательно закрывавшими панораму Калькутты. Мы забрали нашу девочку и летели домой…Кабита Синха
16
Ясно, что откровение близко.Похороны Виктории состоялись 26 июля 1977 года, во вторник, на небольшом католическом кладбище на холме, с видом на Эксетер. Маленький белый гробик сиял в ярком солнечном свете. Я не смотрел на него. Во время недолгой службы я разглядывал пятно голубого неба прямо над головой отца Дарси. В промежутке между деревьями виднелась кирпичная башня одного из старинных зданий Академии. На фоне летнего неба покрутилась стайка голубей. Незадолго до окончания службы послышались детские голоса и смех, но внезапно утихли, когда дети увидели нашу группу. Мы с Амритой одновременно повернулись, чтобы проводить взглядом компанию ребятишек, которые изо всех сил крутили педали велосипедов, приближаясь к длинному пологому спуску в город.Уильям Батлер Йейтс
Осенью Амрита собиралась вернуться к преподаванию в университете. Я ничего не делал. Через три дня после нашего возвращения она прибрала комнату Виктории, а потом переоборудовала ее в комнату для рукоделия. Она никогда там не работала, а я вообще туда не заходил.
Решившись в конце концов выбросить кое-что из одежды, которую я привез обратно из Калькутты, я проверил карманы разорванной грязной рубашки, что была на мне в тот вечер, когда я принес Дасу книги. Книжечки со спичками не оказалось ни в одном из карманов. Я удовлетворенно кивнул, но в следующее мгновение обнаружил в другом кармане свою маленькую записную книжку. Наверное, в ту ночь у меня были с собой обе записные книжки.
Эйб Бронштейн приехал на день в конце октября. Он присутствовал на похоронах, но наше общение тогда ограничилось соболезнованиями. Поговорил я с ним в другой раз. Это был поздний бестолковый телефонный разговор, после того как я напился. Эйб слушал почти час, а потом мягко сказал: «Иди спать, Бобби. Ложись спать». В то октябрьское воскресенье мы сидели в гостиной с сухим вином и обсуждали, как удержать «Другие голоса» на плаву, а также шансы на успех новой программы Картера по экономии энергии, направленной на устранение нехватки топлива. Амрита вежливо кивала, время от времени улыбалась, оставаясь где-то бесконечно далеко в течение всего разговора. Эйб предложил прогуляться по лесочку за домом. Я удивленно заморгал, зная, до какой степени он ненавидит любые физические нагрузки. В этот чудесный осенний день он был одет как обычно: серый мятый костюм, узенький галстучек и черные туфли с загнутыми носами. – С удовольствием,– ответил я без малейшего энтузиазма, и мы направились по тропинке в сторону пруда. Лес стоял во всей красе. Тропинку устилал слой ярко-желтых листьев с вязов, а на каждом повороте мы ступали в целые охапки пламенеющей красной листвы кленов и сумаха. На кустах боярышника виднелись и колючки, и маленькие осенние плоды. На фоне ослепительно голубого неба белела береза. Эйб достал из кармана пальто наполовину выкуренную сигару и, рассеянно пожевывая ее кончик, шел с опущенной головой. Мы прошли примерно две трети круга мили в полторы и приближались к гребню небольшого холма, возвышавшегося над дорогой. Здесь Эйб присел на поваленную березу и начал методично очищать свои ботинки от грязи и кусочков веток. Я сел неподалеку и оглянулся на пруд, который мы только что обогнули. – Рукопись Даса все еще у тебя? – внезапно спросил Эйб. – Да. Если бы он сейчас попросил поэму для «Других голосов», то независимо от моего согласия или отказа нашей дружбе пришел бы конец. – Гм– Эйб кашлянул и сплюнул.– Ребята из «Харперс» не выступают из-за того, что ты не пишешь статью? – Нет.– Где-то за дорогой я услышал стук дятла.– Я вернул им аванс. Но они все-таки настояли на том, чтобы взять на себя хотя бы дорожные расходы. Ты же знаешь, Морроу у них больше не работает. – Угу.– Эйб закурил сигару. Запах дыма отлично сочетался с осенней свежестью.– Еще не решил, что будешь делать с этой долбаной поэмой? – Нет. – Не печатай ее, Бобби. Нигде. Никогда. Он бросил еще дымящуюся спичку в кучу листвы. Я подобрал ее и зажал между пальцами. – Нет,– сказал я. Мы немного помолчали. Налетел прохладный ветерок и взметнул хрупкие листья. Где-то вдалеке, к северу от нас, громко верещала белка. – А ты знал, Бобби, что во время войны я потерял почти всю семью? – неожиданно спросил Эйб, не глядя на меня. – Нет. Не знал. – Да. Мама выбралась, потому что они с Яном оказались в Лондоне по пути ко мне. Ян вернулся, чтобы попробовать вытащить Мойшу, Мутти и всех остальных. Больше их не видели. Я молчал. Эйб выдохнул дым от сигары в голубое небо. – Я упоминаю об этом, Бобби, потому что потом все кажется таким неизбежным. Понимаешь, о чем я? Тебе все время кажется, что ты мог бы все изменить, но не сделал этого… Вроде того, когда забываешь что-то сделать, а потом все срабатывает как часы. Ты меня понимаешь? – Да. – Но во всем этом нет неизбежности, Бобби. Просто не повезло, вот и все. Здесь нет ничьей вины. Ничьей, кроме тех ублюдков, которые все это устроили. Я долго сидел молча. Вокруг нас кружились листья, добавляя свою печальную прелесть к уже раскинувшемуся ковру из листвы. – Не знаю, Эйб,– заговорил я в конце концов. У меня так першило в горле, что трудно было продолжать.– Я все делал неправильно. Не надо было брать их с собой. Не надо было оставлять их одних, когда стало ясно, что все пошло наперекосяк. Надо было убедиться, что самолет взлетел. И я ничего не понимаю до сих пор. Кто виноват? Кто они такие? Кто такой Кришна? Что выигрывала эта самая Камахья? Какую роль она играла? Но хуже всего то, что я совершил непростительную глупость, передав Дасу пистолет, когда… – Два выстрела,– перебил Эйб. – Что? – Ты говорил, когда звонил, что слышал два выстрела. – Ну да, пистолет-то автоматический. – И что? Думаешь, после того как вышибешь себе мозги, сделаешь еще один выстрел для верности? Так? – К чему ты клонишь, Эйб? – Ты не убивал Даса, Бобби. Дас не убивал Даса. Возможно, у кого-нибудь из его друзей-капаликов имелись причины, чтобы все обернулось именно так. А твой приятель Кришна… Санджай… или как его там… Может, он просто хотел ненадолго стать поэтом номер один? – А почему?.. Я остановился и посмотрел на кружившую в восходящем потоке воздуха чайку в нескольких сотнях футов над нами. – Но какое отношение ко всему этому имела Виктория? Господи, Эйб… зачем могла понадобиться ее смерть? Я ничего не понимаю. Эйб поднялся и снова сплюнул. К его одежде прицепились кусочки коры. – Пойдем, Бобби, а? Мне еще надо успеть на автобус до Бостона, а там сесть на этот чертов поезд. Я первым начал спускаться с холма, но Эйб поймал меня за руку. – Бобби, ты должен уяснить одну вещь. Тебе не надо ничего понимать. Ты все равно не поймешь. Но и не забудешь. Не думай, что забудешь… нет, не сможешь. Но тебе надо держаться. Слышишь? День за днем надо держаться. Иначе победят ублюдки. Мы не можем им это позволить, Бобби. Ты меня понимаешь? Я кивнул и быстро зашагал по еле заметной тропинке.
Второго ноября мне доставили коротенькое письмо от инспектора Сингха. В нем сообщалось, что подозреваемый молодой человек, Шугата Чоудри, не предстанет перед судом. Во время содержания в тюрьме Хугли Чоудри «подвергся противозаконному обращению». Другими словами, кто-то затолкал ему во сне полотенце в глотку. Суд над женщиной по имени Деви Чоудури начнется, как ожидалось, через месяц. Сингх обещал держать меня в курсе. Больше я не получал от него никаких вестей.
В середине ноября, вскоре после первого сильного снегопада в ту суровую зиму, я перечитал рукопись Даса, в том числе и заключительные сто страниц, что не успел прочесть в Калькутте. Краткое резюме Даса оказалось точным: это было объявлением о рождении. Для понимания сути я бы порекомендовал «Второе пришествие» Йейтса. Йейтс был поэтом получше. Мне пришло в голову, что мои колебания относительно дальнейшей судьбы рукописи Даса странным образом напоминают трудности, испытываемые парсами в определении участи своих покойников. Парсы, вымирающее меньшинство в Индии, почитают землю, воздух, огонь и воду настолько священными, что не желают осквернять их телами мертвецов. Они нашли остроумное решение. Давным-давно Амрита рассказывала мне о расположенной в одном из парков Бомбея Башне Молчания, над которой в терпеливом ожидании кружатся стервятники. Я не стал сжигать рукопись, потому что не хотел, чтобы дым точно от жертвенного костра поднимался к тому темному созданию, которое, как я чувствовал, ждало за хрупкими стенками моего рассудка. Мое решение в конечном итоге оказалось куда прозаичнее Башни Молчания. Я вручную порвал на кусочки несколько сотен листов, ощущая исходящую от бумаги калькуттскую вонь, а потом запихал клочки в мусорный мешок, добавив туда еще и некоторое количество гнилых овощей, чтобы отпугнуть любителей покопаться в отбросах. Я проехал несколько миль до большой свалки и там проводил взглядом черный мешок, скатившийся по крутому склону горы мусора и пропавший из виду в большой луже грязной жижи. Уже на обратном пути я понял, что, избавившись от рукописи, отнюдь не заглушил Песнь Кали, отдающуюся эхом в моем рассудке.
Мы с Амритой продолжали жить в том же доме. Советы и бесконечные выражения сочувствия со стороны наших друзей причиняли нам немало страданий, но с наступлением морозной зимы мы все реже виделись с кем бы то ни было. Все реже виделись мы и друг с другом. Амрита решила закончить диссертацию и установила для себя жесткий распорядок дня: ранний подъем, занятия со студентами, чтение литературы в библиотеке, разбор бумаг вечерами, исследовательская работа и ранний отход ко сну. Я вставал очень поздно и часто уходил из дома, чтобы где-нибудь поужинать и провести большую часть вечера. Когда часов в десять вечера Амрита уходила из кабинета, его занимал я и читал там до утра. В эти сумрачные зимние месяцы я глотал все подряд: Шпенглера, Росса Макдональда, Малькольма Лаури, Гегеля, Стэнли Элкина, Брюса Кэт-тона, Йена Флеминга и Синклера Льюиса. Я перечитывал классику, десятилетиями стоявшую нетронутой на моих полках, и приносил домой бестселлеры. Я поглощал все без разбора. В феврале один мой приятель предложил мне временную преподавательскую работу в одном небольшом колледже к северу от Бостона. Я согласился. Поначалу я возвращался домой каждый день, но вскоре снял небольшую меблированную квартирку неподалеку от студенческого городка и стал приезжать в Эксетер только на выходные. Довольно часто я проводил в колледже и уик-энд. Мы с Амритой никогда не говорили о Калькутте. Мы никогда не упоминали имя Виктории. Амрита уходила в мир теории чисел и Булевой алгебры. Этот мир выглядел вполне подходящим для нее: мир, в котором соблюдаются правила, а таблицы истинности могут быть логически обоснованы. Я остался вне этого мира, не имея ничего, кроме громоздкого лингвистического инструментария и неповоротливой, бессмысленной машины реализма. В колледже я проработал четыре месяца и мог бы вообще не вернуться в Эксетер, если бы мне не позвонил один знакомый и не сообщил, что Амрита, кажется, больна. Врачи определили у нее острое воспаление легких, осложненное истощением. В больнице она провела восемь дней, а после этого целую неделю была слишком слаба и не вставала дома с постели. Все это время я оставался рядом с ней. Необременительные заботы по уходу вызвали во мне отзвуки былой нежности. Но вскоре Амрита объявила, что чувствует себя лучше, и в середине июня снова уселась за компьютер, а я вернулся в свою квартирку. Я ощущал нерешительность и потерянность, словно во мне все шире разверзалась некая огромная черная дыра, постепенно меня засасывавшая.
Тогда же, в июне, я купил «люгер». В апреле меня пригласил в свой стрелковый клуб Рой Беннет, невысокий молчаливый профессор биологии, с которым я познакомился в колледже. Много лет я был сторонником законов по контролю за оружием и с отвращением относился к стрелковому оружию вообще, но к концу того учебного года большинство суббот я стал проводить с Беннетом в тире. Даже дети здесь вполне профессионально, как мне казалось, освоили стойку на широко расставленных ногах для стрельбы с двух рук, знакомую мне лишь по кинофильмам. Когда кому-нибудь требовалось заменить мишень, все без возражений разряжали оружие и с улыбкой отходили от линии огня. Многие мишени имели очертания человеческой фигуры. Когда я выразил желание приобрести пистолет в личное пользование, Рой улыбнулся с тихой радостью добившегося успеха миссионера и посоветовал купить для начала спортивный пистолет 22-го калибра. Я кивнул в знак согласия и на следующий день потратил немалую сумму на коллекционный «люгер» калибра 7,65 мм. Продавшая мне пистолет женщина сказала, что он был предметом гордости и радости ее покойного мужа. За те же деньги я получил в придачу еще и симпатичный оружейный ящичек. Я так и не освоил понравившуюся мне стойку для стрельбы с обеих рук, но зато вполне профессионально научился делать дырки в мишени с расстояния в двадцать ярдов. Я не имел представления, о чем думают или что чувствуют другие, когда пуляют по вечерам, но каждый раз, поднимая смазанную, отбалансированную машину, я ощущал проходящий по мне ток заключенной в ней энергии, как после дозы крепкого виски. Медленное, осторожное нажатие спускового крючка, оглушительный выстрел, прокатывающаяся по напряженной руке отдача возбуждали во мне нечто близкое к экстазу. В один из уик-эндов после выздоровления Амриты, я привез «люгер» в Эксетер. Поздно вечером Амрита спустилась вниз и увидела, как я верчу в руках свежесмазанный заряженный пистолет. Она ничего не сказала, но долго смотрела на меня, прежде чем снова подняться к себе. Утром мы об этом не вспоминали.
– В Индии появилась новая книга. Писк моды. Кажется, эпическая поэма. Целиком посвященная Кали, одной из их богинь-покровительниц,– сказал книготорговец. Я приехал в Нью-Йорк на вечеринку в Даблдей, соблазнившись исключительно возможностью выпить на халяву. Стоя на балконе, я раздумывал, не взять ли четвертую дозу виски, как вдруг услышал разговор книготорговца с двумя коллегами. Я подошел к нему, взял под руку и отвел в угол балкона. Он только что вернулся с ярмарки в Дели. Он обо мне ничего не знал, и я представился поэтом, интересующимся современной индийской литературой. – Боюсь, что не смогу подробно рассказать об этой книге,– сказал он.– Я упомянул о ней, потому что это вряд ли будет здесь хорошо продаваться. Просто длинная поэма, вот и все. Как мне кажется, ею увлеклись индийские интеллектуалы. Нас это, конечно, не заинтересует. Поэзия у нас никогда хорошо не расходилась, особенно если… – Как она называется? – перебил я. – Как ни странно, название я запомнил,– ответил он.– «Калисамбвха»… или «Калисавба»… что-то в этом роде. А запомнил я это название, потому что работал как-то с девушкой по имени Келли Саммерс и заметил, что… – Кто автор? – Автор? К сожалению, не припоминаю. Я и книгу-то запомнил лишь потому, что у издателя была большая экспозиция, но никаких наглядных материалов. Понимаете? Просто огромная куча книг. А эта голубая обложка потом мне попадалась во всех книжных лавках гостиниц в Дели. Вы не бывали в Индии? – Дас? – Что? – Имя автора не Дас? – Нет, не Дас. Во всяком случае, мне кажется, что не Дас. По-моему, что-то типично индийское и труднопроизносимое. – Может быть, его звали Санджай? – К сожалению, не могу сказать,– ответил торговец, начиная раздражаться.– Послушайте, разве это имеет какое-нибудь значение? – Нет,– покачал головой я,– это не имеет никакого значения. Оставив его, я облокотился на ограждение балкона. Когда через два часа над зазубренным городским пейзажем взошла луна, я все еще стоял на том же месте.
Фотографию я получил в середине июля. Еще не разглядев штамп, я уже знал, что письмо из Индии. От тонкого конверта исходил запах страны. Штамп был калькуттским. Я встал под большой березой в конце подъездной дорожки и открыл конверт. Сначала я увидел подпись на обороте фотографии: «Дас жив» – и больше ничего. Фотография была черно-белой, зернистой; из-за неправильно установленной вспышки люди на переднем плане почти не пропечатались, в то время как те, что находились сзади, представляли собой лишь затемненные силуэты. Даса, однако, можно было узнать сразу. Лицо его покрывали струпья, нос был изуродован, но проказа не так бросалась в глаза, как при личной встрече. На нем была белая рубашка, а рука простиралась в профессорском жесте. Восемь мужчин на фотографии восседали на подушках вокруг низенького столика. Вспышка высветила за спиной Даса облупившуюся краску на стене и несколько грязных чашек на столике. Лица двоих мужчин были хорошо освещены, но я их не узнал. Мой взгляд перешел на фигуру человека, сидевшего справа от Даса. Лицо получилось слишком темным, чтобы различить черты, но благодаря выгодному ракурсу я узнал хищный клювообразный нос и торчащие темным нимбом волосы. В конверте не было ничего, кроме фотографии. «Дас жив». Каких выводов ждут от меня в связи с этим? Что М. Дас еще раз воскрешен своей мерзкой богиней? Я вновь бросил взгляд на фотографию и стоял теперь, постукивая ее ребром по пальцам. Невозможно определить, когда был сделан снимок. Была ли фигура в тени Кришной? Агрессивность позы подавшегося вперед человека наводила меня на мысль, что это именно он. «Дас жив». Я свернул с дорожки и углубился в рощу. Низкая поросль цепляла меня за лодыжки. Во мне была какая-то опрокинутая, вращающаяся пустота, грозившая перерасти в черную бездну. Я знал, что стоит только открыться бездонному мраку, как мне уже не выйти из него. В четверти мили от дома, возле ручейка, переходящего в заболоченное пространство, я опустился на колени и разорвал фотографию на мелкие кусочки. Потом я откатил большой камень и бросил обрывки на открывшийся клочок земли с выцветшей спутанной травой, после чего вернул камень на место. Возвращаясь домой, я старался удержать перед мысленным взором образ влажных белых существ, отчаянно пытавшихся зарыться в землю, чтобы избежать света.
Той ночью, когда я собирал вещи, в комнату вошла Амрита. – Нам надо поговорить,– сказала она. – Когда вернусь,– ответил я. – Куда ты собираешься, Бобби? – В Нью-Йорк. На пару дней. Я уложил еще одну рубашку, прикрыв ею «люгер» и шестьдесят четыре патрона. – Нам очень нужно поговорить. Это важно. Амрита коснулась моей руки. Я отстранился и застегнул молнию на сумке. – Когда вернусь,– повторил я. Машину я оставил дома, а до Бостона доехал поездом.. Здесь я добрался на такси до аэропорта «Логан Интернешнл» и в десять вечера сел на рейс «ТВА» на Франкфурт с последующей пересадкой на Калькутту.
17
…ныне зверь, дождавшийся часа, Ползет в Вифлеем к своему рождеству.Солнце уже поднялось, когда мы подлетали к побережью Англии, но, хоть на мои ноги и падали солнечные лучи, я ощущал себя в плену у ночи, которая никогда не закончится. Меня сильно трясло, и я остро осознавал, что заключен в хрупкую герметичную трубу, болтающуюся в тысячах футов над морем.. Еще хуже было то, что растущее внутреннее давление, которое я поначалу счел за проявление клаустрофобии, оказалось чем-то иным. Во мне набирало силу странное тошнотворное вращение, словно внутри зашевелилось некое могучее существо. Я сидел, вцепившись в ручки кресла, глядя на экран, где беззвучно раскрывали рты персонажи какого-то фильма, а внизу тем временем проплывала Европа. Я подумал о последних мгновениях жизни Тагора. Принесли еду, и я покорно и быстро расправился с ней. Позже я попытался провалиться в сон. Однако ощущение пустоты и головокружения становилось все сильнее, а в ушах слышалось постоянное зудение, словно от крыльев множества насекомых. Несколько раз я уже начинал было дремать, но тут же просыпался от звуков далекого издевательского смеха. В конце концов я отчаялся заснуть. Я заставил себя выйти вместе с другими пассажирами во время заправки в Тегеране. Пилот объявил, что температура снаружи составляет 33 градуса, и, лишь окунувшись в ужасную жару и влажность, я сообразил, что речь шла о температуре по Цельсию. Было уже поздно, ближе к полуночи, но в раскаленном воздухе пахло ожидающим своего часа насилием. Повсюду в гулком, ярко освещенном зале аэропорта висели портреты шаха, а вокруг крутились охранники и солдаты, без видимых причин державшие оружие на изготовку. Закутанные в черное мусульманские женщины проплывали как призраки сквозь зеленую, флюоресцирующую пустоту. Старики спали на полу или стояли на коленях на своих молитвенных ковриках среди окурков и кусков целлофана, а какой-то американский мальчонка лет шести – светловолосый, в рубашке в красную полоску, казавшейся неуместной среди темных тонов,– примостился за стулом и поливал из игрушечного автомата таможенную стойку. По громкоговорителю объявили, что до посадки на наш рейс остается пятнадцать минут. Я проковылял мимо старика с красным шарфом и очутился в общественном туалете. Здесь было очень темно, ибо единственным освещением служила одинокая лампочка перед входом. Во мраке перемещались темные силуэты. Я испугался, что случайно угодил на женскую половину, и мне даже показалось, что в темноте я различаю чадры, но потом я услышал низкие голоса, переговаривающиеся на гортанном наречии. Где-то капала вода. В ту же секунду на меня навалился приступ тошноты, куда более сильный, чем прежде, и я, скрючившись над азиатским унитазом, сблевал без остатка съеденное в самолете. Но еще долго после этого по пищеводу прокатывались спазмы. Я свалился набок и растянулся во весь рост на прохладном кафельном полу. Пустота во мне теперь была почти абсолютной. Я дрожал, и выступивший на теле пот смешивался с солеными слезами. Беспрестанное гудение насекомых усилилось настолько, что я стал отчетливо различать голоса. Песнь Кали теперь звучала очень громко. Я обнаружил, что уже преступил границы ее нового владения. Через несколько минут я поднялся в темноте, почистился, как мог, и быстро зашагал навстречу зеленоватому свету, чтобы встать в очередь пассажиров, ожидавших рейса на Калькутту.Уильям Батлер Йейтс
Мы вышли из облаков, сделали один круг и сели в аэропорту «Дум-Дум» в три десять ночи. Я присоединился к пассажирам, спускавшимся по трапу на мокрый гудрон летного поля. Город казался охваченным огнем. Низкие облака отбрасывали оранжевый свет, красные маячки отражались в бесчисленных лужах, а лучи прожекторов, вырывавшиеся из-за здания аэровокзала, только усиливали иллюзию. Я не слышал больше ничего, кроме хора визгливых голосов, когда вместе с остальными брел к таможенному отделению. Год назад Амрита, Виктория и я потратили час с лишним, чтобы пройти таможню в Бомбее. На этот раз вся процедура заняла не больше пяти минут. Меня совершенно не волновало, станут ли досматривать мой багаж. Низкорослый человечек в засаленном хаки нанес мелом крест на мою сумку как раз на том месте, где во внешнем кармане лежал пистолет с боеприпасами, после чего я вышел в главный зал аэропорта и направился к выходу. «Кто-нибудь будет меня встречать,– говорил я себе.– Может быть, Кришна-Санджай. Он скажет мне, где разыскать эту падаль Камахью, прежде чем умрет сам». Несмотря на то что было всего половина четвертого утра, толпа в аэропорту не уступала размерами той, что я видел здесь раньше. При слабом свете мигающих люминесцентных ламп кричали и толкались люди, но я почти не слышал шума, перешагивая через киплинговских «завернутых мертвых», не слишком заботясь о том, чтобы не наступить на тела спящих людей. Я позволил толпе нести меня. Я не чувствовал ни рук, ни ног, они лишь подергивались, как у неумело управляемой марионетки. Я закрыл глаза, чтобы лучше слышать Песнь и ощутить энергию, исходящую от оружия всего в нескольких дюймах от моей правой руки. «Чаттерджи и Гупта тоже должны умереть,– продолжал размышлять я.– Сколь незначительным ни было их соучастие, они должны умереть». Я тащился вместе с толпой, словно человек, захваченный страшной бурей. Шум, запах, давление колышущейся массы идеально сочетались с нарастающей во мне пустотой, и все это воплощалось в темном цветке, который распускался в моем сознании. Смех теперь стал очень громким. Из-под закрытых век я видел Ее образ, вздымающийся над серыми башнями умирающего города, слышал Ее голос, солирующий во все нарастающем распеве, видел Ее руки, двигающиеся в ритме ужасного танца. «Открыв глаза, ты увидишь кого-нибудь, тебе знакомого. Не нужно ждать. Пусть это начнется прямо здесь». Я заставил себя не открывать глаза и лишь схватился за сумку обеими руками и прижал ее к груди. Я ощущал, как толпа несет меня вперед, к открытым дверям. Теперь до меня отчетливо доносились крики носильщиков и запахи нечистот калькуттских улиц. Моя правая рука непроизвольно начала расстегивать молнию на внешнем отделении сумки, где лежал заряженный пистолет. «Пусть это начнется здесь». По-прежнему не открывая глаз, я увидел, как передо мной, словно раскрывающиеся двери, словно утроба громадного зверя, каковым и был этот город, разворачиваются события следующих нескольких минут, и я чувствовал, как во мне распускается темный цветок и как я поднимаю холеное совершенство «люгера»… А потом начинается действо – и мощь оружия протекает по моей руке, вливается в меня и исходит из меня во вспышках пламени в ночи… И падают бегущие силуэты, а я вставляю с ласкающим слух щелчком в пистолет новую обойму, и из меня исторгаются боль и мощь; а бегущие фигуры падают, и плоть отлетает от плоти при ударе пули… А огни из труб освещают небо, и при их красноватом свете я отыщу свой путь среди улиц и переулков и найду Викторию – на этот раз вовремя. Я вовремя найду Викторию и убью всех, кто отнял ее у меня, и убью всех, кто встанет на моем пути, и убью всех, кто… «Пусть это начнется сейчас». – Нет! – закричал я и открыл глаза. Мой крик лишь на секунду заглушил Песнь, но за это время я выдернул руку из открытого отделения сумки и изо всех сил рванулся влево. До дверей оставалось лишь десять шагов, и толпа неумолимо, теперь уже гораздо быстрее, целеустремленнее, катилась к ним. Сквозь дверной проем я увидел человека в белой рубашке, стоявшего возле бело-голубого автобуса. Волосы этого человека торчали в разные стороны, словно пики темного электричества. – Нет! Я воспользовался сумкой в качестве тарана, чтобы пробиться к стене. Какой-то высокий человек в толпе толкнул меня, а я ударил его в грудь, и тогда он уступил дорогу. Теперь я был лишь в трех шагах от раскрытых дверей, и толпа с неудержимостью взрывной волны тащила меня за собой. «Пусть это начнется сейчас». – Нет! Не знаю, кричал ли я в голос. Я ринулся вперед, расталкивая толпу, словно брел по грудь в воде. Наконец я вцепился левой рукой в поручень на какой-то боковой двери без надписи, которая вела в служебные помещения аэропорта. Каким-то образом мне удалось удержать сумку, в то время как на меня налетали человеческие фигуры, а чьи-то пальцы и руки в сутолоке случайно натыкались на мое лицо. Я вломился в дверь и побежал. Сумка колотилась по правой ноге, а изумленные работники аэропорта расступались, чтобы освободить мне дорогу. Песнь гремела еще громче, чем раньше, вызывая такую боль, что мне хотелось изо всех сил зажмурить глаза. «Пусть это начнется здесь. Пусть это начнется сейчас». Я резко остановился, налетев на стену, и отступил назад из-за сильной отдачи. Руки и ноги тряслись и подергивались, словно в эпилептическом припадке. Я сделал два шага в сторону зала. – Будь ты проклята! – закричал я (кажется, закричал) и шагнул обратно, к стене. Но там оказалась дверь, и я ввалился на четвереньках в длинное, темное помещение. Дверь закрылась и наступила тишина. Настоящая тишина. Я остался один. Комната была продолговатой, тускло освещенной и пустой, если не считать нескольких стопок невостребованного багажа, каких-то коробок и сундуков. Я сел на бетонный пол и огляделся. Потрясенный, я постепенно узнавал обстановку. Посмотрев направо, я увидел обшарпанную стойку, на которой когда-то стоял гроб авиакомпании. Песньсмолкла. Несколько минут сидел я на полу, тяжело дыша. Пустота внутри меня была теперь почти приятной: она воспринималась как отсутствие чего-то черного, ядовитого. Я закрыл глаза. Я вспомнил, как держал Викторию, когда она появилась на свет, как брал ее на руки потом, вспомнил исходивший от нее детский молочный запах и те тридцать шагов от родильной палаты до процедурного кабинета. Не открывая глаз, я схватил за ручку свою сумку, поднял повыше и швырнул как можно дальше вдоль длинного помещения. Она сбила пыльную полку и с грохотом исчезла из виду в груде коробок. Я выбрался оттуда, прошел двадцать шагов по пустому коридору – и оказался в зале, всего лишь в десяти шагах от единственной работавшей кассы. Я купил билет на ближайший рейс. Задержек не произошло. Когда через двадцать минут самолет «Люфтганзы», летевший до Мюнхена, поднялся в воздух, на его борту было всего с десяток пассажиров. У меня и мысли не возникло посмотреть на Калькутту в последний раз. Я заснул еще до того, как убрали шасси.
В Нью-Йорке я приземлился на следующий день и пересел на рейс до Бостона. Здесь у меня окончательно сдали нервы, и я ничего не мог поделать с дрожью в голосе, когда позвонил Амрите, чтобы попросить ее приехать за мной. К тому времени, когда она примчалась в красном «пинто», меня уже всего трясло и я не вполне ориентировался в окружающей обстановке. Она хотела было закинуть меня в больницу, но я вдавился поглубже в черное виниловое сиденье и умоляюще попросил: – Поезжай. Поезжай, пожалуйста. Мы направились на север по шоссе 1-95, а вечернее солнце отбрасывало длинные тени на середину дороги. Поля были еще влажными после недавнего ливня. Зубы у меня стучали помимо моей воли, но я все равно не умолкал. Амрита вела машину молча, время от времени поглядывая на меня бездонными, темными глазами. – Я понял, что это именно то, чего они от меня хотели. Чего Она от меня хотела,– сказал я, когда мы подъезжали к границе штата.– Не знаю почему. Возможно, Она хотела, чтобы я занял его место, как он занял место Даса. А может быть, Кришна спас меня, поскольку знал, что когда-нибудь они вернут меня туда для какого-нибудь другого безумства. Не знаю. И не хочу знать. Ты понимаешь, что действительно важно? Амрита посмотрела на меня и ничего не сказала. Вечерний свет окрашивал золотом ее смуглую кожу. – Я обвинял себя каждый день и знал, что так и буду каяться до самой смерти. Я думал, что это моя вина. Это и было моей виной. А теперь я понял, что и ты винила себя. – Если бы я тогда не впустила ее…– заговорила Амрита. – Да! – Голос мой сорвался почти на крик.– Я знаю. Но мы должны остановиться. Если мы не переступим через это, мы лишь уничтожим друг друга и самих себя, разрушим то, что значили мы втроем. Мы станем частью тьмы. Амрита остановилась на площадке неподалеку от выезда из Солсбери-Плейнс. Она убрала руки с руля. Несколько минут мы сидели в тишине. – Я тоскую по Виктории,– сказал я, впервые после Калькутты произнося имя нашей малышки в присутствии Амриты.– Мне не хватает нашей девочки. Я тоскую по Виктории. Она опустила голову мне на грудь. Ее слова заглушала моя рубашка и начинавшиеся рыдания. Потом наступило просветление. – И я тоскую, Бобби. И мне не хватает Виктории. Мы сидели, прижавшись друг к другу, а мимо, взвихривая воздух, с шумом проносились грузовики, и постепенно иссякающий поток машин заполнял шоссе выцветшими красками и шорохом покрышек по асфальту.
18
Если в сердце ни злобы, ни зависти больше нет, То душа обретает свой первозданный цвет, Понимая вдруг, что покойна себе сама, Сама себе сладостна и сама же себе страшна, Ее светлая воля с волей Небес заодно; Она может, пусть хмуры все лица, Пусть везде непогода злится И ревет толпа – счастливой быть все равно. [5]Сейчас мы живем в Колорадо. Весной 1982 года меня пригласили в один местный колледж для организации небольшого семинара, и на восток я возвращался лишь для того, чтобы забрать Амриту. Наш продолжительный визит перешел в более или менее постоянное проживание. Дом в Эксетере мы сдали в аренду вместе с обстановкой, но восемь картин сейчас висят здесь, на грубой стене нашего жилища, и этюд маслом Джейми Уайета, приобретенный нами в 1973 году, лучше всего передает богатую игру света, которую мы видим из окна. В первые же месяцы нашего пребывания в Колорадо великолепие этого света овладело нашим воображением, и мы с Амритой предприняли, поначалу робкие, попытки писать маслом. По бостонским стандартам колледж оборудован бедновато, жалованье мы получаем небольшое, но дом, в котором мы живем, когда-то был сторожкой лесничего, и из большого окна можно разглядеть заснеженные вершины милях в ста к северу. Свет настолько резкий и прозрачный, что от него болят глаза. В основном мы ходим в джинсах, а Амрита научилась управлять полноприводным «Бронко» и в слякоть, и в снег. Нам не хватает океана. Более того, мы скучаем по некоторым из наших друзей и преимуществам прибрежной цивилизации. Ближайший город теперь в восьми милях от нас, вниз по склону от студенческого городка. В разгар летнего сезона его население не превышает семи тысяч человек. Самый изысканный здешний ресторан называется «Ля Кочина», а кроме него мы можем выбирать между пиццерией «Пицца-Хат», «Приютом для завтраков» Норы, гриль-баром Гэри и работающей круглосуточно забегаловкой у стоянки для грузовиков на федеральном шоссе. Летом мы с Амритой усиленно налегаем на мороженое в «Тейсти Фриз». До постройки нового городского центра местная библиотека расположилась в автоприцепе. Денвер находится в трех часах езды, и зимой оба перевала часто бывают закрыты на много дней. Но здешний воздух кажется нам особенно чистым, и мы чувствуем себя гораздо лучше по утрам, словно высота здесь несколько уменьшает силу тяжести, диктующую свои условия остальному миру. А свойства здешнего дневного света – не просто приятное для нас явление. Для нас – это форма ясности. Целительной ясности. Эйб Бронштейн умер прошлой осенью. Он как раз закончил работу над зимним номером журнала, в котором была небольшая вещица Энн Битти, и по дороге к метро у него случился обширный инфаркт. Мы с Амритой вылетели на похороны. После погребения, когда мы пили кофе с другими собравшимися в небольшой квартирке, где он жил со своей матушкой, старуха жестом позвала нас с Амритой в комнату Эйба. Книжные полки от пола до потолка, занимавшие большую часть площади трех стен, уменьшали и без того небольшую спальню. Восьмидесятишестилетняя миссис Бронштейн выглядела слишком хрупкой, чтобы держаться прямо, когда она присела на край кровати. В комнате пахло сигарами Эйба и кожей книжных переплетов. – Возьмите, пожалуйста,– сказала старуха, на удивление твердой рукой подавая мне небольшой конверт.– Абрахам распорядился, чтобы вы получили это письмо, Роберт. Наверное, ее гортанный голос был когда-то красивым и волнующим.. Теперь же, отмеряя слова точным произношением неродного языка, он оставался лишь красивым. – Абрахам велел передать вам это письмо лично, даже если, как он выразился, мне придется пойти пешком в Колорадо, чтобы вас разыскать. В любое другое время образ хрупкой старой женщины, голосующей на дорогах где-нибудь в прериях, вызвал бы у меня улыбку. Но сейчас я лишь кивнул и развернул письмо.Уильям Батлер Йейтс, «Молитва о моей дочери»
«Бобби. 9 апреля 1983 г. Раз ты читаешь это письмо, значит, оба мы не слишком потрясены последними событиями. Я только что вернулся от своего врача. Хоть он не отговаривал меня покупать долгоиграющие пластинки, однако и не пытался всучить долгоиграющую справку о здоровье. Надеюсь, что тебе (и Амрите?) не пришлось откладывать какие-нибудь важные дела. Если в той Богом забытой глуши, которую ты называешь домом, вообще может быть что-нибудь столь же важное, как то, о чем здесь написано. Недавно я пересмотрел свое завещание. Сейчас я сижу в парке неподалеку от своего старого друга Мэда Хэттера, наслаждаюсь доброй сигарой и разглядываю довольно скудно одетых девиц, пытающихся убедить себя в том, что весна уже в полном разгаре. День теплый, но не слишком, и нетрудно заметить, что они покрылись гусиной кожей. Если матушка еще не успела тебе сказать, то сообщаю, что по новому завещанию все переходит к ней. Все, кроме первых изданий Пруста, переписки с авторами, что находится в моем сейфе, а также прав, названий, скромного счета и поста главного редактора «Других голосов». Это я оставляю тебе, Бобби. А теперь наберись терпения. Я не хочу быть обвиненным в том, что вешаю хомут на твою беззаботную польскую шею. Ты волен избавиться от журнала, как только сочтешь нужным. Если ты предпочтешь передать его какому-нибудь другому ответственному лицу – прекрасно. Наделяю тебя всеми юридическими полномочиями для подобных действий. Бобби, вспомни лишь, каким мы хотели видеть журнал. Не отдавай его какой-нибудь долбаной шайке, которой нужно лишь скостить налоги и которая наймет какого-нибудь придурка, не способного отличить хорошую прозу от дерьмовой однодневки. Если ты предпочтешь не снижать стандарты, а законсервировать журнал, возражать не стану. Если ты все-таки решишься продолжать – хорошо. Ты удивишься, насколько транспортабельным может оказаться такой журнал. Забери его в любую дыру, в которой сейчас живешь. (Миллер все равно собирается повысить арендную плату.) Если ты намерен удержать «Голоса» на плаву, не ломай голову, как бы продолжить «старую редакционную политику Эйба». У Эйба не было никакой редакционной политики! Просто печатай хорошие вещи, Роберто. Следуй своим инстинктам. Впрочем, еще одно. Лучшая литература – это не обязательно «Голый завтрак». Многие поступления будут тебя чертовски угнетать. Если что-либо хорошо написано, то оно достойно публикации, но всегда остается место для вещей, авторы которых не утратили надежду на человечность. Во всяком случае, я так думаю. Тебе это известно лучше, чем мне, Бобби. Ты был ближе к огню пожирающему, но сумел вернуться. Пора идти. На меня пялится полицейский, и мне кажется, что он вполне справедливо уже отнес меня к категории «мерзких старикашек». Можешь прочитать это письмо маме – она не успокоится, пока ты этого не сделаешь. Только прошу: пропусти «долбаную» перед «шайкой» и «дерьмовую однодневку». Ладно? Пусть это будет твоей первой редактурой. Наилучшие пожелания Амрите. Эйб».
Эйб был прав. Журнал оказался вполне транспортабельным. Руководство колледжа пришло в восторг при одной мысли, что «Другие голоса» будут появляться на свет именно здесь, и любезно сократило мне учебные часы без снижения жалованья. Подозреваю, что они платили бы мне, если бы я вообще не преподавал, лишь бы мое присутствие удержало Амриту на математическом отделении. Амриту же радует свободный доступ к компьютерной базе колледжа, связанной с каким-то чудовищным компьютером «Крей» в Денвере. Недавно она заметила по этому поводу, что «местечко здесь вполне на уровне». Она явно не разглядела по дороге к зданию математического факультета ни спальных корпусов из гофрированного железа, ни шлакоблочных строений, ни крошечной библиотеки. Мне оказалось достаточно просто редактировать литературный журнал Восточного побережья, сидя на горе в Колорадо, хотя раз пять-шесть в год и приходится совершать поездки, чтобы договориться с печатниками и встретиться кое с кем из писателей и спонсоров. Амрита втянулась в издательскую работу и зарекомендовала себя на удивление хорошим читателем. Она говорит, что ее лингвистическая и математическая подготовка дает ей чувство символического равновесия – уж не знаю, что это значит. Но именно по ее настоянию я попробовал печатать побольше авторов с запада, в том числе Джоан Гринберг и Ковбойского Поэта. Результаты обнадеживающие. Подписка за последнее время увеличилась, мы организовали несколько своих торговых точек, а наша старая читательская аудитория, кажется, сохраняет нам верность. Поживем – увидим.
Стихов я не пишу. После Калькутты.
Песнь Кали никогда не умолкает совсем. Она постоянно звучит во мне фоном – вроде музыки по радио при плохой настройке. Мне все еще снится, как я пересекаю раскисшие грязные пустыри, где под ногами лежат завернутые в серое тела, а виднеющиеся вдали трубы извергают языки пламени, лижущие низкие облака. Иногда по ночам поднимается ветер, и тогда я встаю, подхожу к окну, смотрю в темноту и слышу царапанье шести конечностей по скалам Тогда я жду, но узкое лицо с голодным ртом и алчными глазами остается в темноте, удерживаемое… Чем? Не знаю. Но Песнь Кали все звучит. Недавно неподалеку от здешних мест одна пожилая женщина со своей взрослой дочерью – они назвали себя «добропорядочными христианками» – зажарили в печи малыша, чтобы изгнать из него демонов, заставлявших мальчика плакать по вечерам. Один из моих студентов состоит в отдаленном родстве со школьником из Калифорнии, который недавно изнасиловал и убил свою подружку, а потом в течение трех дней приводил своих приятелей посмотреть на мертвое тело. Один мальчик бросил кирпич на труп, чтобы убедиться, что девушка действительно мертва. Никто из четырнадцати приглашенных ребятишек и не подумал заявить в полицию. В прошлом месяце я познакомился у Адамсонов в Нью-Йорке с одним из новых печатников, Сьемом Ри, сорокадвухлетним беженцем из Пномпеня. У него там была своя типография, и несколько лет тому назад он сумел проложить себе взятками дорогу сначала в Таиланд, а потом и в Штаты. Выбился он и у Адамсонов, начав у них учеником. После нескольких порций спиртного Ри поведал мне о насильственном выселении из города и восьмидневном марш-броске, во время которого погибли его родители. Спокойным голосом рассказывал он мне о трудовом лагере, в который попала его жена, про то утро, когда он, проснувшись, обнаружил, что трое его детей переправлены в «воспитательно-трудовой лагерь» в отдаленной части страны. Ри рассказал мне и о поле, на которое наткнулся, когда бежал. Он сказал, что на том месте, занимавшем площадь примерно в пол-акра, черепа были навалены кучами высотой по три-четыре фута. Век Кали наступил.
На прошлой неделе я сходил в библиотеку в прицепе и прочитал про так называемую Черную Дыру Калькутты: до сих пор это понятие было для меня лишь пустым звуком. Исторические подробности не имели отношения почти ни к чему. В общих чертах. Черная Дыра – просто помещение без воздуха, куда запихали слишком много людей во время одного из стихийных бунтов в начале девятнадцатого века. Но это выражение все преследует меня. Я разработал целую теорию насчет Калькутты, хотя «теория» – слишком громкое слово для точки зрения, основанной на одной интуиции. Думаю, что черные дыры существуют в действительности. Черные дыры человеческого духа. И в тех местах на Земле, где из-за перенаселенности, нищеты или просто людской извращенности распадается связь вещей, эта черная сердцевина в нас поглощает все остальное. Я читаю газеты, смотрю вокруг, и меня не покидает леденящее ощущение, что эти черные дыры все разрастаются, что они становятся все привычнее и в полной мере удовлетворяют свой гнусный аппетит. Они не ограничены чужими городами в далеких странах. Ничего заранее не объяснив Амрите, я спросил у нее недавно, что такое черные дыры в астрономии. Она дала пространные комментарии, большая часть которых основывалась на математических выкладках из труда некоего Стивена Хоукинга и, таким образом, являлась для меня темным лесом. Но кое-что из рассказанного меня заинтересовало. Во-первых, Амрита сказала, что, по всей видимости, свет и другие виды поглощенной энергии все-таки могут вырваться из астрономических черных дыр. Подробности ее рассуждений вылетели у меня из головы, однако сложилось впечатление, что хоть из черной дыры и невозможно выбраться, но энергия может как бы по туннелю попасть в другое место и время. А во-вторых, по ее словам, если даже черные дыры захапают всю материю и энергию во вселенной, это будет означать лишь, что масса сошлась в очередном Глобальном Столкновении, которое положит начало так называемой Новой Вселенной с новыми законами, новыми формами и новыми лучезарными галактиками света. Может быть. Я сижу на горе, высасываю из пальца вымученные метафоры и беспрестанно вспоминаю краешек бледной щечки в складках грязного покрывала. Иногда я прикасаюсь к ладони, пытаясь воскресить в памяти то, что ощутил, когда в последний раз взял на руку головку Виктории. «Присмотри за мамочкой, пока я не вернусь. Договорились, малышка?» А за окном поднимается ветер, и звезды колышутся в ночной прохладе.
Амрита беременна. Мне она еще не говорила, но я знаю, что два дня назад это подтвердил ее врач. По-моему, ее беспокоит, как я к этому отнесусь. Ей нет нужды волноваться. Месяц назад, перед началом занятий в сентябре, мы с Амритой доехали на «Бронко» до конца одной старой дороги на рудник, а потом отмахали с рюкзаками еще мили три вдоль хребта. Вокруг не раздавалось ни единого звука, кроме шума колеблемых ветром сосен внизу. В здешних долинах или никто не селился, или люди из них ушли, когда истощились старые разработки. Мы облазили несколько котлованов, а потом перебрались через еще один хребет, откуда могли видеть снежные вершины, расходящиеся во всех направлениях за горизонт и дальше. Там мы замешкались, чтобы понаблюдать за ястребом, молчаливо парившим кругами в восходящих потоках в полумиле над нами. На ночь мы остановились на берегу горного озера – небольшого правильного круга до боли холодной ледниковой воды. Примерно в полночь взошел полумесяц, бледное сияние которого осветило вершины вокруг. Лунный свет озарял пятна снега на каменистом склоне неподалеку от нас. В ту ночь мы с Амритой любили друг друга. Не в первый раз после Калькутты. Но именно сейчас мы смогли забыть обо всем на свете, кроме друг друга. Потом Амрита уснула, положив голову мне на грудь, а я лежал и смотрел, как метеориты прорезают ночное августовское небо. Я сосчитал до двадцати восьми и тоже провалился в сон. Сейчас Амрите тридцать восемь, точнее, почти тридцать девять лет. Я уверен, что доктор посоветует ей сделать пункцию плода. Хочу настоять, чтобы она не делала этого. Амниоцентез имеет смысл в основном в тех случаях, когда родители решили сделать аборт из-за генетических отклонений. Не думаю, что мы на это пойдем. Я чувствую – и это очень сильное чувство,– что отклонений не будет. Лучше всего, если на этот раз у нас будет мальчик, но если и не мальчик, все равно хорошо. С появлением ребенка в дом вернутся мучительные воспоминания, но это будет не та боль, которую мы так долго разделяли.
Я по-прежнему верю в то, что некоторые места слишком безнравственны, чтобы испытывать страдания. Иногда мне снятся облака ядерного взрыва, поднимающиеся над городом, и человеческие фигурки, корчащиеся на фоне пожарища, что когда-то было Калькуттой. Где-то существуют темные хоры, готовые провозгласить Век Кали. Я в этом уверен. Как уверен и в том, что всегда найдутся слуги, готовые исполнить Ее повеления. «Любое насилие – это попытка осуществить власть». Наш ребенок родится весной. Я желаю ему – или ей – познать все радости жизни на горных склонах под прозрачными небесами, радость от горячего шоколада зимним утром и смеха на лужайке в субботу летом. Я хочу, чтобы наш ребенок услышал дружеские голоса хороших книг и еще более дружелюбную тишину в компании хороших людей.
Стихов я не сочиняю уже несколько лет, но недавно я купил большую книгу в хорошем переплете, с чистыми листами и пишу в ней каждый день. Это не поэзия. Это не для публикации. Это рассказ – если точнее, цикл рассказов – о похождениях невероятных друзей. Там есть говорящий кот, бесстрашная, развитая не по годам мышь, учтивый, но одинокий кентавр и тщеславный орел, который боится летать. Это история об отваге и дружбе, о небольших путешествиях в интересные места. Это книга историй на ночь. Песнь Кали с нами. Она с нами уже очень долго. Ее хор становится все громче, громче, громче. Но можно услышать и другие голоса. Можно петь и другие песни.
Дэн Симмонс
 Террор
Террор
Посвящаю, с любовью и благодарностью за неизгладимые полярные впечатления, Кеннету Тоби, Маргарет Шеридан, Роберту Корнуайту, Дугласу Спенсеру, Дэйви Мартину, Уильяму Селфу, Джорджу Финнеману, Дмитрию Тёмкину, Чарльзу Ледереру, Кристиану Найби, Говарду Хоуку и Джеймсу Арнессу.
Белизна, лишенная приятных ассоциаций и соотнесенная с предметом и без того ужасным, усугубляет до крайней степени его жуткие качества. Взгляните на белого полярного медведя или на белую тропическую акулу; что иное, если не ровный белоснежный цвет, делает их столь непередаваемо страшными? Мертвенная белизна придает торжествующе-плотоядному облику этих бесчеловечных тварей ту омерзительную вкрадчивость, которая вызывает еще больше отвращения, чем ужаса. Вот почему даже свирепый тигр в своем геральдическом облачении не может так пошатнуть человеческую храбрость, как медведь или акула в белоснежных покровах.Герман Мелвилл. «Моби Дик», 1851
1. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы Октябрь 1847 г.Поднявшись на палубу, капитан Крозье видит свой корабль под натиском небесных фантомов. Над ним — над «Террором» — мерцающие складки света выстреливают вперед, но в следующий миг отпрядывают назад, точно разноцветные руки агрессивных, но все-таки нерешительных призраков. Эктоплазматические пальцы протягиваются к кораблю, растопыриваются, готовясь схватить, и отдергиваются. Температура воздуха минус пятьдесят градусов по Фаренгейту[1] и быстро падает. Из-за тумана, сгустившегося ранее, в течение единственного часа бледных сумерек, до которого теперь сократился день, укороченные мачты (стеньги, брам-стеньги, верхний рангоут и такелаж были сняты и убраны, чтобы свести к минимуму опасность обрушения на палубу льда и вероятность опрокидывания судна из-за веса ледяных наростов на них) сейчас похожи на обледенелые деревья с грубо обрубленными ветвями и спиленными верхушками, отражающие сполохи полярного сияния, пробегающие по небу от одного еле различимого горизонта до другого. Пока Крозье смотрит, торосистые ледяные поля вокруг корабля становятся голубыми, потом багрово-фиолетовыми, а затем ярко-зелеными, как холмы его детства в Северной Ирландии. На краткий миг возникает ложное впечатление, будто гигантский айсберг, находящийся почти в миле впереди по правому борту и загораживающий от взгляда второй точно такой же корабль, «Эребус», источает цветное сияние изнутри, полыхая своим собственным холодным пламенем, сокрытым в недрах. Подняв воротник и запрокинув голову по сорокалетней привычке проверять состояние мачт и такелажа, Крозье замечает, что звезды над головой горят холодным ровным светом, но над горизонтом они не только мигают, но также, если смотреть на них пристально, перемещаются, прыгая влево-вправо и вверх-вниз. Крозье видел такое и прежде — не только в этих водах во время предыдущих экспедиций, но и в Антарктике, вместе с Россом, — и один ученый, ходивший с ними в плавание к Южному полюсу, человек, который провел первую зиму во льдах, шлифуя и полируя линзы для своего телескопа, сказал Крозье, что, вероятно, такое поведение звезд объясняется быстро меняющимся углом преломления света в холодном воздухе, лежащем тяжелыми, но подвижными массами над скованными льдом морями и невидимыми полярными землями. Другими словами, над новыми материками, доселе сокрытыми от глаз человека. «Или по крайней мере, — думает Крозье, — здесь, в Арктике, — от глаз белого человека». Крозье со своим другом и тогдашним начальником экспедиции Джеймсом Россом открыли именно такой новый континент — Антарктику — без малого пять лет назад. Они назвали море, залив и материк именем Росса. Они назвали горы именами своих друзей и покровителей. Они нарекли два вулкана, видневшихся на горизонте, в честь своих кораблей — вот этих самых кораблей, — дав дымящимся горам названия Террор и Эребус. Крозье удивило, что они не назвали какой-нибудь значительный географический объект в честь корабельного кота. Они ничего не назвали в честь его. И сейчас, вечером зимнего сумеречного дня в октябре 1847 года, ни один арктический или антарктический материк, остров, залив, фиорд, горный хребет, вулкан или паршивый айсберг не носит имени Френсиса Родона Мойры Крозье. Крозье глубоко плевать на это. Едва подумав об этом, он осознаёт, что малость пьян. «Ну что ж, — думает он, машинально удерживая равновесие на обледенелой палубе, теперь наклоненной на двенадцать градусов к правому борту и на восемь градусов к носу, — последние три года я чаще пьян, чем трезв, не так ли? В пьяном виде я по-прежнему остаюсь лучшим моряком и капитаном, чем жалкий бедолага Франклин — в трезвом. Или его розовощекий шепелявый пуделек Фицджеймс, коли на то пошло». Пьян с тех самых пор, как София… Крозье трясет головой и направляется по обледенелой палубе к носу и к единственному вахтенному, которого он может разглядеть в мерцающем свете полярного сияния. Это низкорослый, похожий на крысу Корнелиус Хикки, помощник конопатчика. Здесь, на посту, в темноте все мужчины выглядят одинаково, поскольку все обеспечены одинаковым зимним обмундированием — толстой непромокаемой шинелью, под которую надеваются фланелевые и шерстяные рубахи, фуфайки и свитера; округлыми пухлыми рукавицами, торчащими из широких рукавов; так называемым «уэльским париком», то есть толстой вязаной шапкой с «ушами», плотно прилегающей к черепу и часто надеваемой в комплекте с длинным шерстяным шарфом, который наматывается на голову так, что остается виден только кончик обмороженного носа. Но каждый мужчина вносит в свое обмундирование что-то своеобычное — порой добавляя к нему шарф, взятый из дома, дополнительный «уэльский парик», который натягивается поверх первого, либо, возможно, разноцветные перчатки, связанные любящей матерью, женой или подругой и торчащие из-под форменных рукавиц военно-морского флота Великобритании, — и Крозье научился распознавать всех своих оставшихся в живых пятьдесят девять офицеров и матросов даже со значительного расстояния и в темноте. Хикки смотрит неподвижным взглядом вперед, за обросший сосульками бушприт, передние десять футов которого сейчас утоплены в гряде торосов, поскольку корма британского военного корабля «Террор» под давлением льда поднялась, а нос, соответственно, опустился. Помощник конопатчика так глубоко погружен в свои мысли или так сильно застыл, что не замечает приближения капитана, пока Крозье не становится рядом с ним у поручня, превратившегося в алтарь изо льда и снега. К этому алтарю прислонен дробовик вахтенного. Никому неохота притрагиваться к железу на морозе, даже в рукавицах. Хикки слегка вздрагивает, когда Крозье опирается на поручень рядом с ним. Капитан «Террора» не видит лица двадцатишестилетнего парня, но клубы пара от дыхания — моментально превращающиеся в облачка ледяных кристаллов, искрящиеся в свете сполохов, — вырываются из-под туго намотанных на голову поверх «уэльского парика» шерстяных шарфов. Зимой во льдах члены экипажа обычно не отдают честь, даже не прикасаются небрежно пальцами ко лбу, каковым жестом положено приветствовать офицеров в плавании, но тепло закутанный Хикки легко шаркает ногой, пожимает плечами и чуть наклоняет голову, как принято делать при встрече с капитаном на палубе. Из-за мороза время дежурства сократили с четырех часов до двух — видит бог, думает Крозье, на нашем переполненном корабле достаточно людей для этого, даже если удвоить число вахтенных, — и по медленным движениям Хикки он понимает, что парень окоченел от холода. Сколько бы раз он ни повторял часовым, что они должны постоянно двигаться, ходить взад-вперед, совершать бег на месте, прыгать при необходимости, не отвлекаясь от наблюдения за льдами, они все равно предпочитают большую часть времени стоять неподвижно, словно находятся в южных морях, одетые в тропическую хлопчатобумажную (форму, и высматривают в воде русалок. – Капитан. – Мистер Хикки. Что у вас? – После тех выстрелов — ничего… после того одного выстрела… почти два часа назад. А совсем недавно я услышал, то есть мне показалось, что я услышал… может, крик или что-то вроде, капитан… из-за того айсберга. Я доложил лейтенанту Ирвингу, но он сказал, что, вероятно, это просто лед трещит. Два часа назад Крозье сообщили о звуке выстрела, раздавшегося со стороны «Эребуса», и он мгновенно поднялся на палубу, но, поскольку звук не повторился, не отправил посыльного на другой корабль и никого не отрядил обследовать лед. Выходить на лед в темноте сейчас, когда это… существо… сторожит там, среди торосов и высоких заструг, равносильно смерти. Теперь сообщения с корабля на корабль передавались только в течение короткого и неуклонно сокращающегося периода света около полудня. Через несколько суток дня как такового вообще не будет, только полярная ночь. Круглые сутки. Сто суток полярной ночи. – Вероятно, это был треск льда, — говорит Крозье, задаваясь вопросом, почему Ирвинг не доложил о похожем на крик звуке. — И выстрел тоже. Просто треск льда. – Да, капитан. Просто треск льда, сэр. Ни один, ни другой не верит в это — выстрел мушкета или дробовика ни с чем не спутаешь, даже на расстоянии мили, и звук разносится почти сверхъестественно далеко и отчетливо здесь, на Крайнем Севере, — но паковые льды, сжимающиеся все плотнее вокруг «Террора», действительно постоянно громыхают, стонут, трещат, хрустят, ревут. Больше всего Крозье беспокоят крики, будящие его каждую ночь, когда он на час-другой погружается в крепкий сон. Звуки ледового треска слишком напоминают громкие мучительные стоны матери в последние дни жизни… и еще сказки старой тетушки о привидениях-плакальщицах, вопли которых в ночи предвещают смерть кого-нибудь в доме. И первые и вторые лишали его сна в детстве. Крозье медленно поворачивается. Ресницы у него заиндевели, а верхняя губа уже покрылась коркой льда, от замерзшего пара дыхания и соплей. Мужчины научились прятать бороды под шерстяными шарфами и воротами свитеров, но все же им часто приходится прибегать к помощи ножей, чтобы отрубить пряди волос, примерзшие к одежде. Как большинство офицеров, Крозье продолжает бриться каждый день, хотя по причине экономии угля «горячая вода», которую приносит ему вестовой, представляет собой скорее едва растаявший лед, и процедура бритья бывает весьма болезненной. – Безмолвная леди все еще на палубе? — спрашивает Крозье. – О да, капитан, она почти всегда здесь, — отвечает Хикки, теперь шепотом, словно это имеет значение. Даже если Безмолвная и слышит их, она не понимает английскую речь. Но мужчины верят — все больше и больше с того дня, как существо во льдах начало преследовать их, — что молодая эскимоска является ведьмой, обладающей таинственными способностями. – Она с лейтенантом Ирвингом, на посту у левого борта, — добавляет Хикки. – С лейтенантом Ирвингом? Его вахта должна была закончиться более часа назад. – Так точно, сэр. Но в последние дни где Безмолвная, там и лейтенант, сэр, коли мне будет позволено заметить. Пока она не сходит вниз, он тоже не сходит вниз. Я имею в виду, если только у него нет такой необходимости… никто из нас не может оставаться на морозе так долго, как эта ве… эта женщина. – Следите за льдом и не отвлекайтесь от своего дела, мистер Хикки. От резкого голоса Крозье помощник конопатчика снова вздрагивает, но отдает честь пошаркиванием ног и коротким пожатием плеч и опять обращает свой побелевший нос в сторону тьмы, сгустившейся за бушпритом. Крозье широким шагом направляется к посту на левый борт. Готовя корабль к зиме в прошлом месяце — после трех недель тщетной надежды вырваться из ледового плена в августе, — он снова приказал развернуть нижние реи вдоль продольной оси судна, чтобы использовать их в качестве конькового бруса. Потом они опять соорудили шатер из парусины, покрывающий большую часть главной палубы, снова поставив каркас из брусов, убранных в трюм во время трех недель неоправданного оптимизма. Но хотя люди работают ежедневно по несколько часов, прокапывая лопатами дорожки в снегу, футовый слой которого оставлен на палубе с целью теплоизоляции, скалывая лед ломами и зубилами, а потом выгребая ледяную крошку, забившуюся под парусиновую крышу, и наконец посыпая песком дорожки, здесь всегда остается корка льда, и движение Крозье по наклоненной к носу и к правому борту палубе порой больше напоминает изящное скольжение конькобежца, нежели ходьбу. Вахтенный на левом борту, по графику несущий дежурство сейчас, гардемарин Томми Эванс — Крозье узнает самого молодого члена экипажа по нелепой зеленой шапочке с помпоном (вероятно, связанной матерью мальчика), которую юный Эванс всегда натягивает поверх объемистого «уэльского парика», — отошел на десять шагов в сторону кормы, чтобы предоставить молодому третьему лейтенанту Ирвингу и леди Безмолвной подобие уединения. При виде этого у капитана Крозье возникает желание дать кому-нибудь — всем — крепкого пинка под зад. Эскимоска, похожая на толстого медвежонка в своей меховой парке с капюшоном и меховых штанах, стоит спиной вполоборота к высокому лейтенанту. Но молодой третий лейтенант подобрался к ней вдоль фальшборта почти вплотную — он еще не касается женщины, но стоит гораздо ближе, чем офицер и джентльмен позволил бы себе стоять возле дамы на вечеринке в саду или на прогулочной яхте. — Лейтенант Ирвинг. Крозье не хотел произносить приветствие таким резким, лающим голосом, но нисколько не расстраивается, когда молодой человек подпрыгивает, словно уколотый кинжалом, чуть не теряет равновесие, хватается за обледенелый поручень левой рукой и — как он упорно продолжает делать, хотя теперь знает правила этикета, принятые на корабле во льдах, — отдает честь правой рукой. Нелепый жест, думает Крозье, и не только потому, что из-за неуклюжих рукавиц, «уэльского парика» и многочисленных теплых поддевок под зимней шинелью молодой Ирвинг малость смахивает на отдающего честь моржа, но также потому, что парень стянул шерстяной шарф со своего чисто выбритого лица — вероятно, с целью показать Безмолвной, как он привлекателен, — и теперь у него под ноздрями болтаются две длинные сосульки, придающие ему еще большее сходство с моржом. — Отставить! — рявкает Крозье. «Чертов болван», — добавляет он мысленно, но достаточно громко, чтобы молодой лейтенант мог без труда расслышать непроизнесенные слова. Ирвинг стоит неподвижно, бросает взгляд на Безмолвную — во всяком случае, на затылок мехового капюшона — и открывает рот, собираясь заговорить. Очевидно, никакие слова не идут ему на ум. Он закрывает рот. Губы у него такие же белые, как обмороженная кожа. — Сейчас не ваша вахта, лейтенант, — говорит Крозье, снова слыша в своем голосе металлические нотки. — Нет, сэр. То есть да, сэр. То есть капитан прав, сэр. То есть… Ирвинг снова решительно захлопывает рот, но впечатление несколько портит стук зубов. После двух-трех часов на таком морозе зубы порой разрушаются — буквально взрываются, разлетаясь осколками эмали между стиснутыми челюстями. Иногда, по опыту знает Крозье, вы слышите треск эмали за мгновение до разрушения зубов. — Почему вы все еще здесь, Джон? Ирвинг пытается моргнуть, но застывшие веки не слушаются, словно намертво примерзшие к глазным яблокам. — Вы приказали мне заняться нашей гостьей… присмотреть за ней… позаботиться о Безмолвной, капитан. Крозье вздыхает, выпуская облачко ледяных кристаллов, которые на мгновение повисают в воздухе, а потом падают на палубу россыпью крохотных алмазов. – Я не имел в виду находиться при ней неотлучно, лейтенант. Я велел вам проверить и доложить мне, чем она занимается, с целью уберечь ее от возможных неприятностей на корабле, а также позаботиться о том, чтобы никто из мужчин не сделал ничего такого… что может ее скомпрометировать. Как по-вашему, здесь, на палубе, она рискует оказаться скомпрометированной, лейтенант? – Нет, капитан. — Слова Ирвинга звучат скорее как вопрос, чем как ответ. – Вы знаете, за какое время происходит фатальное отморожение открытых частей тела при такой температуре воздуха, лейтенант? – Нет, капитан. То есть да, капитан. Думаю, довольно быстро, сэр. – Вам следует знать, лейтенант Ирвинг. У вас уже шесть раз было обморожение, а ведь календарная зима еще даже не наступила. Лейтенант Ирвинг скорбно кивает. – Чтобы палец, нос или любая другая часть тела промерзла насквозь, требуется меньше минуты, — продолжает Крозье, который прекрасно знает, что это просто треп. При каких-то минус пятидесяти для этого требуется гораздо больше времени. Но он надеется, что молодой Ирвинг этого не знает. — Затем отмороженный член откалывается, как сосулька, — добавляет Крозье для пущего эффекта своего весьма эффектного выступления. – Да, капитан. – Так вы действительно полагаете, что наша гостья нисколько не рискует… оказаться скомпрометированной… находясь здесь, на палубе, мистер Ирвинг? Молодой Ирвинг, похоже, задумывается, прежде чем ответить. Возможно, осознает Крозье, лейтенант уже слишком много размышлял над данным вопросом. – Ступайте вниз, Джон, — говорит Крозье. — И обратитесь к доктору Макдональду по поводу своего лица и пальцев. Богом клянусь, если у вас опять серьезное обморожение, я удержу месячное жалованье из вашего общего заработка и в придачу напишу вашей матери. – Есть, капитан. Благодарю вас, сэр. Ирвинг собирается снова отдать честь, потом передумывает и ныряет под парусину в сторону главного трапа, по-прежнему держа одну руку наполовину поднятой. Он не оглядывается на Безмолвную. Крозье снова вздыхает. Молодой Ирвинг нравится ему. Парень поступил к нему добровольцем — вместе с двумя своими товарищами с военного корабля «Экселлент», вторым лейтенантом Хобсоном и старшим помощником капитана Хорнби, — но трехпалубник «Экселлент» был старым еще во времена, когда Ной не затеял возню со своей посудиной. Корабль стоял без мачт на постоянном приколе в Портсмуте более пятнадцати лет, служа учебным судном для самых многообещающих артиллерийских офицеров военно-морского флота. «К сожалению, джентльмены, — сказал Крозье мальчикам в первый день их пребывания на борту (тогда капитан был пьян сильнее обычного), — вы заметите, коли посмотрите вокруг, что ни на „Терроре“, ни на „Эребусе“ — флагманский корабль капитана сэра Джона стоит на якоре вон там, — так вот, вы заметите, что ни на „Терроре“, ни на „Эребусе“, хотя оба были построены как линейные суда, джентльмены, нет ни одной пушки. Мы безоружны, как новорожденный младенец, — если не считать мушкетов и дробовиков. Безоружны, как чертов Адам в своем чертовом костюме Адама. Другими словами, джентльмены, вы, знатоки артиллерийского дела, нужны нам в этой экспедиции как собаке пятая нога». Сарказм Крозье в тот день не охладил энтузиазма молодых артиллерийских офицеров — Ирвинг и двое других пуще прежнего загорелись желанием отправиться на несколько зим мерзнуть во льдах. Конечно, дело происходило теплым майским днем в Англии в 1845 году. — А теперь несчастный молокосос влюбился в эскимосскую ведьму, — вслух бормочет Крозье. Словно поняв его слова, Безмолвная медленно поворачивается к нему. Обычно ее лицо остается невидимым в тени глубокого капюшона или наполовину прикрытым широким воротником из волчьего меха, но сегодня Крозье видит крохотный нос, огромные глаза и полные губы. В этих черных глазах мерцают отсветы сполохов. На вкус капитана Френсиса Родона Мойры Крозье она непривлекательна; в ней слишком много дикарского, чтобы она могла показаться вполне человеческим существом, тем более физически привлекательной женщиной — даже ирландцу-пресвитерианину; вдобавок ум Крозье и области подсознания все еще полны живыми воспоминаниями о Софии Крэкрофт. Но капитан понимает, почему молодой Ирвинг, находясь вдали от дома, семьи и возлюбленной, мог влюбиться в эту дикарку. Одна ее странность и, возможно, даже, зловещие обстоятельства ее появления на корабле и смерть ее спутника, мистически связанные с первыми нападениями жуткого существа, таящегося там, в темноте, — все это наверняка сыграло роль огня, на который летит порхающим мотыльком такой безнадежный молодой романтик, как лейтенант Джон Ирвинг. С другой стороны, Крозье (как сам он понял и во время своего пребывания на Ван-Дименовой Земле в 1840 году, и в течение месяцев, проведенных в Англии перед этой экспедицией) для романтики слишком стар. И слишком ирландец. И слишком зауряден. В данный момент он просто хочет, чтобы эта молодая женщина пошла прогуляться по ледяному полю в темноту и не вернулась обратно. Крозье вспоминает, как четыре месяца назад доктор Макдональд явился с докладом к нему и Франклину после осмотра эскимоски, проведенного в тот же день, когда ее спутник скончался, захлебнувшись собственной кровью. Макдональд высказал мнение, что девушке от пятнадцати до двадцати лет (установить точный возраст аборигенов очень трудно), что она достигла половой зрелости, но по всем признакам девственница. Он доложил также, что эскимоска не произносила ни слова и не издавала ни звука — даже когда ее отец или муж умирал от пулевого ранения, — поскольку у нее нет языка. По мнению доктора Макдональда, язык у нее был не отрезан, но откушен — либо самой Безмолвной, либо еще кем-то. Крозье был поражен — не столько фактом отсутствия языка, сколько тем обстоятельством, что эскимоска все еще девственница. Он провел в Арктике достаточно много времени — особенно в ходе экспедиции Пари, когда они зимовали близ эскимосской деревни, — чтобы знать: здешние аборигены относятся к половым отношениям так легко, что мужчины спокойно предлагают своих жен и дочерей китобоям или путешественникам в обмен на самые дешевыебезделушки. Порой, он знал, женщины сами предлагали себя просто забавы ради, хихикая и болтая со своими товарками или детьми, пока моряки трудились, пыхтели и стонали между ног смеющейся эскимоски. Они были как животные. Меха и шкуры, которые они носили, вполне могли бы быть их собственными звериными шкурами, насколько понимал Френсис Крозье. Капитан подносит руку в перчатке к козырьку фуражки, которая примотана к голове толстым шерстяным шарфом и потому не может ни свалиться, ни сползти набекрень, и говорит: — Мое почтение, мадам. Я посоветовал бы вам подумать о том, чтобы спуститься в вашу каюту в самом скором времени. Здесь становится холодновато. Безмолвная пристально смотрит на него. Она не моргает, хотя длинные ресницы у нее почему-то не заиндевели. Разумеется, она ничего не говорит. Она наблюдает за ним. Крозье снова символически притрагивается к козырьку и продолжает обход палубы: поднимается на задравшуюся под давлением льда корму, потом спускается обратно по правому борту, останавливается поговорить с двумя другими вахтенными, давая Ирвингу время сойти вниз и снять верхнюю одежду, чтобы не возникало впечатления, будто капитан неотступно преследует своего лейтенанта. Он заканчивает разговор с последним дрожащим от холода вахтенным, матросом Шанксом, когда рядовой Уилкс, самый молодой из морских пехотинцев на корабле, выскакивает из-под парусины. Уилкс накинул поверх формы лишь две широкие поддевки, и зубы у него начинают выбивать дробь еще прежде, чем он передает сообщение. – Мистер Томпсон свидетельствует капитану свое почтение, сэр, и инженер просит капитана спуститься в трюм как можно скорее. – В чем дело? Крозье знает: если паровой котел в конце концов вышел из строя, им всем крышка. — Прошу у капитана прощения, сэр, но мистер Томпсон говорит, что капитан нужен, поскольку матрос Мэнсон почти взбунтовался, сэр. Крозье выпрямляется. – Взбунтовался? – Почти, так выразился мистер Томпсон, сэр. – Изъясняйтесь внятно, рядовой Уилкс. – Мэнсон не желает больше носить мешки с углем мимо мертвецкой, сэр. И не желает больше спускаться в трюм. Он говорит, что отказывается самым почтительным образом. Он не желает подниматься наверх, но сидит на заднице у подножья трапа и отказывается носить уголь в котельную. – Что за глупости такие? — Крозье приходит в страшное раздражение. – Дело в привидениях, капитан, — говорит рядовой морской пехоты Уилкс, стуча зубами. — Мы все слышим их, когда таскаем уголь или спускаемся за чем-нибудь в трюм. Вот почему люди больше не спускаются ниже средней палубы, если только не получают приказ от офицеров, сэр. Там, в трюме, в темноте что-то скрывается. Что-то скребется и стучит внутри корабля, капитан. Это не лед. Мэнсон уверен, что это его старый товарищ, Уокер, — он… оно… и остальные трупы, сложенные в мертвецкой, пытаются выбраться наружу. Крозье подавляет побуждение успокоить рядового морской пехоты фактами. Возможно, молодой Уилкс не сочтет факты особо успокоительными. Первый простой факт заключается в том, что скребущие и царапающие звуки, доносящиеся из мертвецкой, почти наверняка производят сотни или тысячи огромных черных крыс, лакомящихся окоченелыми трупами товарищей Уилкса. Крысы — как Крозье знает лучше молодого морского пехотинца — являются ночными животными, а следовательно, они бодрствуют круглые сутки в течение долгой арктической зимы, и зубы у этих существ постоянно растут. Это, в свою очередь, означает, что чертовы твари должны постоянно грызть, грызть и грызть, — и капитан видел, как они прогрызают дубовые бочки, жестяные баки со стенками толщиной в дюйм и даже свинцовую обшивку. У крыс там, внизу, не больше трудностей с окоченелыми останками матроса Уокера и пяти его злополучных товарищей по команде (включая трех из лучших офицеров Крозье), чем у человека, жующего кусок холодного вяленого мяса. Но Крозье не думает, что Мэнсон и остальные слышат просто крыс. Крысы, как Крозье знает по печальному опыту тринадцати проведенных во льдах зим, обычно поедают трупы чьих-либо товарищей быстро и тихо, если не считать визга, сопровождающего частые драки обезумевших ненасытных тварей. Звуки, раздающиеся в трюмной палубе, производят не крысы. Крозье решает не объяснять Уилксу и второй простой факт, заключающийся в том, что, хотя на трюмной палубе обычно безопасно, но холодно, поскольку она находится ниже ватерлинии или поверхности замерзшего моря, сейчас под давлением льда корма «Террора» поднялась на дюжину с лишним футов выше нормы. Корпус корабля там по-прежнему надежно огорожен со всех сторон, но только несколькими сотнями тонн вздыбленного льда и дополнительными тоннами снега, наваленного людьми вдоль бортов по самые фальшборты с целью обеспечения лучшей теплоизоляции зимой. Какое-то существо, подозревает Френсис Крозье, прорыло ход сквозь эти тонны снега, пробило тоннель сквозь твердые, как железо, ледяные глыбы, чтобы добраться до корпуса корабля. Неким непостижимым образом оно почуяло, какие отсеки, расположенные вдоль корпуса (например, отсеки с водяными цистернами) обшиты изнутри железом, и нашло одно из нескольких складских помещений — мертвецкую, — через которое можно проникнуть прямо в недра корабля. И теперь оно стучит и скребется, пытаясь забраться внутрь. Крозье знает, что лишь одно существо на Земле обладает такой силой, непреклонным упорством и умом. Обитающее во льдах чудовище пытается добраться до них снизу. Не сказав более ни слова морскому пехотинцу Уилксу, капитан Крозье спускается вниз, чтобы поразмыслить над ситуацией.
2. Франклин
Лондон. 51°29′ северной широты, 0°00′ западной долготы. Май 1845 г.Он был — и навсегда останется — человеком, который съел свои башмаки. За четыре дня до отплытия капитан сэр Джон Франклин заболел инфлюэнцей, которую подхватил, он был уверен, не от одного из простых матросов или грузчиков в лондонском порту и не от одного из ста тридцати четырех своих матросов и офицеров — все они были здоровы как ломовые лошади, — а от какого-то хилого лизоблюда из круга светских знакомых леди Джейн. Человек, который съел свои башмаки. У жен героических исследователей Арктики существовала традиция шить флаг для водружения в некой самой северной точке маршрута или, как в данном случае, для поднятия на мачте по завершении экспедиции через Северо-Западный проход, и жена Франклина Джейн заканчивала шить шелковый «Юнион Джек», когда он вернулся домой. Сэр Джон вошел в гостиную и рухнул на набитый конским волосом диван рядом с ней. Он не помнил, чтобы снимал туфли, но, очевидно, кто-то его разул — либо Джейн, либо кто-то из слуг, — ибо в скором времени он лежал на спине в полузабытьи, с головной болью, с сильной тошнотой, какой ни разу не испытывал в море, с пылающей от жара кожей. Леди Джейн рассказывала про свой исполненный забот день, не делая пауз. Сэр Джон пытался слушать, увлекаемый от берега яви переменчивыми горячечными волнами болезни. Он был человеком, который съел свои башмаки, вот уже двадцать три года — с тех пор, как вернулся в Англию в 1822 году после своей первой неудачной сухопутной экспедиции по северу Канады, предпринятой в попытке найти Северо-Западный проход. Он помнил смешки и шуточки, раздававшиеся тогда. Франклин съел свои башмаки — и он ел дрянь и почище во время того провального трехлетнего путешествия, включая мерзкую жидкую кашицу, приготовленную из лишайника, соскобленного со скал. На третьем году экспедиции, умирая от голода, он и его люди (Франклин, уже в полубессознательном состоянии, разделил свой отряд на три группы, предоставив двум другим группам выживать своими силами или погибнуть) сварили голенища сапог, чтобы остаться в живых. В 1821 году сэр Джон — тогда еще просто Джон, он был произведен в рыцари за некомпетентность после следующего своего сухопутного путешествия и неудачной морской экспедиции за полярным кругом — много дней подряд жевал лишь полоски недубленой кожи. Его люди съели свои спальные мешки из бычьей кожи. Потом некоторые перешли к другим вещам. Но он никогда не ел человечину. Франклин по сей день задавался вопросом, сумели ли другие участники экспедиции, включая его доброго друга и старшего лейтенанта доктора Джона Ричардсона, устоять перед таким искушением. Слишком много всего случилось за время, пока три группы по отдельности тащились по арктическим пустыням и лесам, отчаянно пытаясь добраться обратно до сооруженного Франклином из подручных материалов маленького форта Энтерпрайз и настоящих фортов, Провиденс и Резольюшн. Девять белых мужчин и один эскимос погибли. Девять из двадцати одного, которых молодой лейтенант Джон Франклин, тридцатитрехлетний, плотный и уже тогда лысеющий, вывел из форта Резольюшн в 1819 году, плюс один из проводников-аборигенов, которых они нанимали по дороге, — Франклин не позволил эскимосу покинуть экспедицию, чтобы отправиться на поиски пропитания для себя одного. Двое мужчин были хладнокровно убиты. По крайней мере одного из них, несомненно, съели остальные. Но только один англичанин умер. Только один настоящий белый человек. Все прочие были просто французскими наемными рабочими или индейцами. Это был своего рода успех — всего один погибший англичанин, пусть даже остальные превратились в ходячие бородатые скелеты, бормочущие всякий вздор. Пусть даже остальные выжили только потому, что Джордж Бак, тот чертов сексуально озабоченный гардемарин, прошел на снегоступах 1200 миль, чтобы доставить продовольственные припасы и, самое главное, привести индейцев, которые позаботились о Франклине и его умирающих людях. Тот чертов Бак. Отнюдь не добрый христианин. Высокомерный. И не джентльмен в полном смысле слова, несмотря на то, что впоследствии он был произведен в рыцари за арктическую экспедицию, совершенную на этом самом корабле, «Терроре», теперь находящемся под командованием сэра Джона. В той экспедиции — экспедиции Бака — «Террор» попал в торосовую пробку и, сжатый вставшими на ребро льдинами, поднялся на пятьдесят футов в воздух, а потом упал вниз с такой силой, что все до единой дубовые доски корпуса дали течь. Джордж Бак довел текущее судно до побережья Ирландии и подошел вплотную к берегу за несколько часов до того, как оно должно было затонуть. Матросы обмотали корпус цепями, чтобы покрепче стянуть доски на время, достаточное для обратного пути домой. Все они страдали от цинги — почерневшие десны, кровоточащие глаза, выпадающие зубы — и от галлюцинаций, которыми цинга сопровождается. Разумеется, после этого Бака возвели в рыцарское достоинство. Именно так поступают Британия и Адмиралтейство, когда вы возвращаетесь из позорно провалившейся полярной экспедиции, понеся чудовищные потери в людях: если вы остаетесь в живых, вам присваивают титул и воздают почести. Когда Франклин вернулся из своей второй экспедиции, предпринятой в 1827 году с целью составления карты береговой линии самой северной части Северной Америки, он был произведен в рыцари лично королем Георгом IV. Парижское географическое общество удостоило его золотой медали. Он получил в награду звание капитана и прекрасный маленький двадцатишестипушечный фрегат британского флота «Рейнбоу», а также направление на службу на Средиземном море, о каковом назначении еженощно молится каждый капитан военно-морского флота Великобритании. Он сделал предложение — и получил согласие — одной из ближайших подруг своей покойной жены Элеоноры, энергичной, красивой и искренней Джейн Гриффин. — За чаем я объяснила сэру Джеймсу, — говорила Джейн, — что честь и репутация моего любимого сэра Джона мне бесконечно дороже любого эгоистического наслаждения обществом мужа, даже если ему придется покинуть меня на четыре года… или пять. Как там звали ту пятнадцатилетнюю краснокожую индианку, из-за которой Бак собирался драться на дуэли в форте «Энтерпрайз», где они зимовали? Зеленый Чулок. Точно. Зеленый Чулок. Девушка была порочна. Красива, спору нет, но порочна. Она не знала стыда. Сам Франклин, невзирая на все старания не смотреть в ее сторону, однажды лунной ночью видел, как она сбрасывает с себя дикарские одежды и идет голая через хижину. Тогда ему было тридцать четыре года, но она была первой голой женщиной, которую он видел в жизни, — и самой красивой. Смуглая кожа. Груди уже тяжелые, как налитые плоды, но еще девичьи, с маленькими сосками, со странными ареолами, гладкими темно-коричневыми кружками вокруг сосков, — видение, которое сэр Джон не мог стереть из памяти никакими усилиями за прошедшую с тех пор четверть века. Лобковые волосы у девушки росли не классическим аккуратным треугольником, какой Франклин впоследствии видел у своей первой жены Элеоноры (причем только раз и мельком, когда она готовилась принимать ванну, ибо, по настоянию Элеоноры, их редкие соития происходили в полной темноте), и не жидким растрепанным ворохом пшеничного цвета, представленном на стареющем теле его нынешней супруги, Джейн, — нет, у молодой индианки по имени Зеленый Чулок лобок украшала лишь узкая, но совершенно черная вертикальная полоска. Тонкая, как перо ворона. Черная, как сам грех. Гардемарин-шотландец, Роберт Худ, уже приживший внебрачного ребенка от другой индианки во время той первой бесконечно долгой зимы в хижине, названной Франклином фортом Энтерпрайз, мгновенно влюбился в юную скво Зеленый Чулок. До этого девушка спала с другим гардемарином, Джорджем Баком, но, когда Бак отправился на охоту, она поменяла партнера с легкостью, ведомой только язычникам и дикарям. Франклин по сей день помнил рычание и стоны страсти той долгой ночью — не одного трехминутного соития, какие он имел с Элеонорой (никогда не рыча и вообще не издавая ни звука, поскольку джентльмену такое не пристало), и даже не двух, как произошло у него в первую памятную ночь медового месяца с Джейн, но добрых полудюжины. Едва Худ и девушка затихали в смежной пристройке, как начинали все снова — смех, приглушенное хихиканье, потом тихие стоны, постепенно перерастающие в громкие крики, которыми бесстыдная девчонка подгоняла Худа. Джейн Гриффин было тридцать шесть лет, когда 5 декабря 1828 года она вышла замуж за новоиспеченного рыцаря сэра Джона Франклина. Они провели медовый месяц в Париже. Франклин не особо любил этот город, да и вообще французов, но гостиница была роскошной и еда — отличной. Франклин испытывал своего рода ужас при мысли, что во время путешествия по континенту они могут случайно встретиться с тем малым, Роже, — Питером Марком Роже, который снискал известное внимание читающей публики, издав свой дурацкий словарь, или что там это было, — с тем самым человеком, который однажды просил руки Джейн Гриффин и получил отказ, как все остальные поклонники, ухаживавшие за ней в прежние годы. Впоследствии Франклин тайком заглянул в дневники Джейн той поры (он оправдывал свой проступок нехитрым соображением: она наверняка хотела, чтобы он нашел и прочитал многочисленные тетради в переплете из телячьей кожи — иначе зачем стала бы оставлять их на видном месте?) и увидел фразу, написанную безупречным мелким почерком своей возлюбленной в день, когда Роже в конце концов женился на другой:
«Любовь всей моей жизни закончилась».Роберт Худ развлекался с Зеленым Чулком уже шесть бесконечно долгих арктических ночей, когда его товарищ-гардемарин, Джордж Бак, вернулся с индейцами с охоты. Двое мужчин условились драться на дуэли до смерти на рассвете — около десяти утра — следующего дня. Франклин не знал, что делать. Тучный лейтенант не мог добиться хотя бы подобия дисциплины от угрюмых наемников или высокомерных индейцев, не говоря уже о том, чтобы совладать со своевольным Худом или импульсивным Баком. Оба гардемарина были художниками и картографами. С тех пор Франклин не доверял художникам. Когда скульптор в Париже лепил руки леди Джейн и раздушенный содомит здесь, в Лондоне, почти месяц приходил к ним писать ее парадный портрет, Франклин ни разу не оставлял жену наедине с ними. Бак и Худ собирались на рассвете драться на дуэли насмерть, и Джону Франклину ничего не оставалось, кроме как спрятаться в хижине и молиться о том, чтобы смерть или увечье одного из дуэлянтов или обоих сразу не уничтожили последние остатки здравого смысла в участниках и без того бесславной экспедиции. В полученных им распоряжениях не оговаривалось, что он должен взять с собой продовольствие в путешествие протяженностью тысяча двести миль по арктическим пустошам, прибрежному морю и реке. На собственные деньги он закупил достаточно провизии, чтобы прокормить шестнадцать человек в течение дня. Франклин предполагал, что затем индейцы будут охотиться для них и сносно их кормить — точно так же, как проводники тащили его сумки и сидели на веслах в его каноэ из березовой коры. С каноэ из березовой коры он дал маху. Двадцать четыре года спустя Франклин был готов признать сей факт — по крайней мере перед самим собой. Всего через несколько дней, в покрытых ледяным салом водах у северного побережья, которого они достигли через полтора с лишним года после выступления из форта Резольюшн, хрупкие суденышки начали разваливаться. Слушая краем уха безостановочную болтовню Джейн, с закрытыми глазами, пылающим лбом и трещащей головой, Франклин вспомнил утро, когда он, крепко зажмурившись, лежал в своем спальном мешке, в то время как Бак и Худ разошлись на пятнадцать шагов перед хижиной, а потом приготовились стрелять. Чертовы индейцы и чертовы наемники — во многих отношениях такие же дикари — отнеслись к дуэли как к увеселительному представлению. Зеленый Чулок, помнил Франклин, тем утром излучала почти эротическое сияние. Лежа в спальном мешке, зажимая уши ладонями, Франклин все же слышал команду разойтись, команду развернуться кругом, команду прицелиться, команду стрелять. Потом два щелчка. Потом гогот толпы. Старый моряк-шотландец, сейчас отдававший дуэлянтам команды, грубый и неотесанный Джон Хепберн, ночью вынул заряды и пули из тщательно подготовленных пистолетов. Обескураженные непрекращающимся смехом наемных рабочих и хлопающих себя по коленкам индейцев, Худ и Бак плюнули и разошлись в разные стороны. В скором времени Франклин приказал Джорджу Баку вернуться в форты, чтобы закупить еще провизии у торговой компании «Гудзонов залив». Бак отсутствовал почти всю зиму. Франклин съел свои башмаки и питался соскобленным со скал лишайником — мерзкой слизью, от которой стошнило бы любого уважающего себя английского пса, — но он ни разу не ел человечины. Через долгий год после несостоявшейся дуэли, в отряде Ричардсона, тогда уже отделившемся от группы Франклина, угрюмый полусумасшедший ирокез, Майкл Тероахаут, застрелил художника и картографа Роберта Худа, всадив пулю в самый центр лба. За неделю до убийства индеец принес умирающим от голода людям странного вкуса окорок — как он утверждал, принадлежавший волку, либо забоданному насмерть оленем, либо убитому самим Тероахаутом при помощи оленьего рога — история индейца постоянно менялась. Оголодавшие люди поджарили и съели мясо, но прежде доктор Ричардсон заметил слабый след татуировки на коже. Позже доктор сказал Франклину, что он уверен: Тероахаут вернулся к телу одного из voyageurs[2] , умершего в пути несколькими днями ранее. Измученный голодом индеец и еле живой Худ находились одни, когда Ричардсон, соскабливавший лишайник со скалы, услышал выстрел. Самоубийство, утверждал Тероахаут, но, по словам доктора Ричардсона, повидавшего на своем веку немало самоубийц, положение пули в мозгу исключало вероятность, что Худ произвел выстрел сам. Теперь индеец был вооружен британским байонетом, мушкетом, двумя заряженными пистолетами и ножом длиной со свое предплечье. Два оставшихся англичанина — Хепберн и Ричардсон — имели лишь один пистолет и ненадежный мушкет на двоих. Ричардсон — ныне один из самых уважаемых ученых и хирургов в Англии, друг поэта Роберта Бернса, но тогда всего лишь подающий надежды экспедиционный врач и натуралист — дождался возвращения Майкла Тероахаута, ходившего за хворостом, убедился, что руки у него заняты, и потом поднял свой пистолет и хладнокровно выстрелил индейцу в голову. Позже доктор Ричардсон признался, что ел кожаную одежду покойного Худа, но ни Хепберн, ни Ричардсон — единственные выжившие из своей группы — никогда не упоминали о том, что еще они ели в течение следующей недели изнурительного пути до форта Энтерпрайз. В форте Энтерпрайз Франклин и его люди не могли ходить и даже стоять на ногах от слабости. Ричардсон и Хепберн казались не такими истощенными по сравнению с ними. Пусть он был человеком, который съел свои башмаки, но Джон Франклин никогда… — Кухарка готовит на ужин ростбиф, дорогой. Твой любимый. Поскольку она у нас недавно — я уверена, что та ирландка приписывала к счетам лишнее, ибо воровство для ирландцев так же естественно, как пьянство, — я напомнила ей, что ты требуешь, чтобы бифштекс сочился кровью при разрезании. Франклин, уносимый в забытье набегающими волнами лихорадки, попытался сформулировать ответ, но головная боль, тошнота и жар были слишком сильны. Нижняя рубашка и все еще пристегнутый воротничок у него насквозь промокли от пота. — Жена адмирала сэра Томаса Мартина прислала нам сегодня прелестную открытку и чудесный букет — хотя нам меньше всего нужны ее знаки внимания, я должна признать, что розы поистине великолепны. Они стоят в холле — ты видел? У тебя нашлось время поболтать с адмиралом Мартином на приеме? Конечно, он не особо важная персона, верно? Даже в должности инспектора военно-морского флота. Уж конечно, он не так влиятелен, как первый лорд Адмиралтейства или старшие уполномоченные, не говоря уже о твоих друзьях из Арктического совета. У капитана сэра Джона Франклина было много друзей — все любили капитана сэра Джона Франклина. Но никто его не уважал. Франклин признавал первый факт и отказывался признавать второй на протяжении десятилетий, но теперь знал, что это правда. Все любили его. Никто не уважал. После Земли Ван-Димена. После тасманийской тюрьмы, где он самым кошмарнейшим образом попал впросак. Элеонора, его первая жена, умирала, когда он отправился в свою вторую серьезную экспедицию. Франклин знал, что она умирает. Она знала, что умирает. Ее чахотка — и ясное понимание, что она умрет задолго до того, как муж погибнет в бою или экспедиции, — присутствовала с ними в качестве третьего лица на церемонии бракосочетания. За двадцать два месяца супружества она подарила Франклину дочь — его единственного ребенка, — молодую Элеонору. Хрупкая и слабая, но почти пугающе сильная духом, первая жена сказала Франклину отправляться во вторую экспедицию — по отысканию Северо-Западного пути, в долгое путешествие по суше и морем вдоль побережья Северной Америки, — хотя она харкала кровью и знала, что конец близок. Она сказала, что для нее будет лучше, если его не будет рядом. Он поверил. Или, по крайней мере, поверил, что так будет лучше для него. Глубоко религиозный человек, Джон Франклин молился о том, чтобы Элеонора умерла до его отбытия. Она не умерла. Он покинул Лондон 16 февраля 1825 года, написал своей любимой много писем по пути к Большому Невольничьему озеру и узнал о ее кончине 24 апреля на британской военно-морской базе в Пенетангишене. Она умерла вскоре после отплытия его корабля из Англии. Когда в 1827 году он вернулся из экспедиции, его ждала подруга Элеоноры, Джейн Гриффин. Прием в Адмиралтействе состоялся меньше недели назад — нет, ровно неделю назад, до чертовой инфлюэнцы. Капитан сэр Джон Франклин и все его офицеры и старшины с «Эребуса» и «Террора» присутствовали на нем, разумеется. А также все гражданские лица из числа участников экспедиции — ледовый лоцман «Эребуса» Джеймс Рейд и ледовый лоцман «Террора» Томас Блэнки, вместе с казначеями, врачами и интендантами. Сэр Джон выглядел эффектно в своем новом синем мундире, синих панталонах с золотыми лампасами, эполетах с золотой бахромой, в нельсоновской треуголке и с положенной по протоколу шпагой. Капитан его флагмана «Эребуса» Джеймс Фицджеймс, слывший самым красивым мужчиной военно-морского флота Британии, выглядел великолепно и держался скромно, как подобает герою войны, каковым он являлся. Фицджеймс очаровал всех в тот вечер. Френсис Крозье был по обыкновению скован, неуклюж и слегка пьян. Но Джейн ошибалась: в Арктическом совете у сэра Джона не было друзей. На самом деле никакого Арктического совета не существовало. Он являлся скорее почетным обществом, нежели реальной организацией, но также самым закрытым во всей Англии клубом для избранных. Они все присутствовали на приеме — Франклин, его старшие офицеры и высокие, худые, седовласые члены легендарного Арктического совета. Чтобы стать членом Совета, требовалось всего-навсего возглавить какую-нибудь арктическую экспедицию и… остаться в живых. Виконт Мелвилл — первая знаменитость в длинной цепочке встречающих, после прохождения которой Франклин обливался потом и еле ворочал языком, — являлся первым лордом Адмиралтейства и спонсором их спонсора, сэра Джона Барроу. Но Мелвилл не относился к числу бывалых исследователей Арктики. Поистине легендарные члены Арктического совета — в большинстве своем старики далеко за семьдесят — напоминали в тот вечер раздраженному Франклину скорее ведьм из «Макбета» или бледных призраков, чем живых людей. Все они являлись предшественниками Франклина в деле поисков Северо-Западного прохода, и все вернулись из экспедиций живыми, хотя и не вполне. «Вернулся ли хоть один из них, — думал Франклин в тот вечер, — по-настоящему живым после зимовья за полярным кругом?» У сэра Джона Росса, чье шотландское лицо обилием ломаных линий и резко очерченных граней напоминало айсберг, кустистые брови торчали вперед, словно шейные перья пингвинов, о которых рассказывал его племянник, сэр Джеймс Кларк Росс, после своего путешествия в Антарктику. Грубый голос Росса походил на скрип плиты песчаника, которую волокут по растрескавшейся палубе во время драйки. Сэр Джон Барроу, превосходящий летами самого Господа Бога и вдвое более могущественный. Организатор первых серьезных исследований Арктики. Все остальные присутствовавшие на приеме, даже седовласые семидесятилетние старцы, были просто детьми… детьми Барроу. Сэр Уильям Парри, джентльмен из джентльменов даже в окружении особ королевских кровей, который предпринял четыре попытки пройти по Северо-Западному морскому пути, но в результате увидел лишь смерть своих людей и гибель своего корабля «Фьюри», затертого во льдах, раздавленного и затонувшего. Сэр Джеймс Кларк Росс, недавно посвященный в рыцари, недавно сочетавшийся браком с женщиной, которая взяла с него клятву навеки покончить с экспедициями, — он занял бы должность начальника экспедиции, ныне доставшуюся Франклину, если бы захотел, и оба мужчины знали это. Росс и Крозье держались несколько обособленно от всех прочих, потягивая горячительные напитки и разговаривая приглушенными голосами, точно заговорщики. Чертов сэр Джордж Бак. Франклину глубоко претило делить звание сэра с простым гардемарином, некогда служившим под его началом и к тому же распутником. В тот торжественный вечер капитан сэр Джон Франклин почти пожалел, что двадцать пять лет назад Хадсон вынул порох и пули из дуэльных пистолетов. Бак был самым молодым членом Арктического совета и казался счастливее и самодовольнее всех остальных, даже после того, как разбил и чуть не потопил британский военный корабль «Террор». Капитан сэр Джон Франклин был трезвенником, но после трех часов шампанского, вина, бренди, шерри и виски остальные мужчины стали держаться непринужденнее, смех вокруг него зазвучал громче, разговоры в большом холле приняли менее официальный характер, и Франклин начал успокаиваться, осознав наконец, что этот прием, все эти золотые пуговицы, шелковые галстуки, сверкающие эполеты, изысканные яства, отличные сигары и любезные улыбки — все это для него. На сей раз виновником торжества был он. Поэтому он испытал легкое потрясение, когда старший Росс почти грубо оттащил его в сторону и — окутанный клубами сигарного дыма, со сверкающим в свете свечей хрустальным бокалом в руке — принялся резким тоном задавать вопросы. — Франклин, какого черта вы берете с собой сто тридцать четыре человека? — проскрипел песчаник по шероховатому дереву. Капитан сэр Джон Франклин моргнул. – Это крупная экспедиция, сэр Джон. – Слишком крупная, коли хотите знать мое мнение. Случись какая беда, и тридцать-то человек трудно провести по льдам, посадить в лодки и вернуть в цивилизованный мир. А сто тридцать четыре… — Старый путешественник громко прочистил горло, словно собираясь сплюнуть. Франклин улыбнулся и кивнул, желая, чтобы старик отвязался от него. — А вам, — продолжал Росс, — вам уже шестьдесят, черт возьми. — Пятьдесят девять, — холодно поправил Франклин. Его день рождения был почти два месяца назад. — Сэр. Старший Росс едва заметно улыбнулся, но лицо его оставалось похожим на айсберг больше, чем когда-либо. – Какое водоизмещение у «Террора»? Триста тридцать тонн? А у «Эребуса» около трехсот семидесяти? – Триста семьдесят две у моего флагмана, — сказал Франклин. — Триста двадцать шесть у «Террора». – И осадка девятнадцать футов у каждого, я прав? – Да, милорд. – Это чистой воды безумие, Франклин. В Арктику еще никогда не посылали судов с такой большой осадкой. Все наши исследования тех территорий свидетельствуют о том, что там, куда вы направляетесь, море мелководное, изобилующее отмелями, подводными скалами и льдами. У моей «Виктори» была осадка всего полтора фатома, но мы не смогли пройти через бар в заливе, когда зимовали там. Джордж Бак пробил днище, напоровшись на подводные льды, на вашем «Терроре». – Оба моих корабля дополнительно укреплены, сэр Джон, — сказал Франклин. Он чувствовал, как струйки пота стекают по груди и ребрам к толстому животу. — Сейчас они самые прочные суда в мире. – А что за дурацкая затея с паровыми локомотивными двигателями? – Затея вовсе не дурацкая, милорд. — Франклин услышал снисходительные нотки в своем голосе. Сам он ничего не смыслил в паровых двигателях, но с ним в экспедицию шли два опытных инженера и Фицджеймс, служивший в новом паровом флоте. — Это мощные двигатели, сэр Джон. Они позволят нам пройти через льды там, где не удавалось пройти на парусах. Сэр Джон Росс фыркнул. – Ведь ваши двигатели даже не судовые, верно, Франклин? – Да, сэр Джон. Но это лучшие паровые двигатели, какие смогла продать нам Лондонско-Гринвичская железнодорожная компания. Перестроенные для использования в море. Мощные звери, сэр. Росс отхлебнул виски. — Мощные, если вы планируете проложить рельсы по Северо-Западному пути и пустить по нему чертов паровоз. Франклин добродушно хихикнул, хотя не видел ничего смешного в грубом замечании Росса и почувствовал себя глубоко уязвленным. Он часто не понимал, когда другие шутят, и сам не умел шутить. — Но на самом деле не такие уж и мощные, — продолжал Росс. — Стопятитонная махина, которую затолкали в трюм вашего «Эребуса», выдает всего двадцать пять лошадиных сил. А двигатель Крозье и того меньше… максимум двадцать лошадиных сил. Корабль, который поведет вас на буксире к Шотландии, «Рэттлер», выдает двести двадцать лошадей, с паровым двигателем меньшего размера. Это судовой двигатель, рассчитанный на работу в море. На это Франклину было нечего сказать, и потому он просто улыбнулся и взял с подноса у проходящего мимо официанта бокал шампанского. Поскольку употребление алкоголя шло вразрез со всеми его принципами, ему оставалось лишь стоять с бокалом в руке, поглядывая на опадающую пену шампанского и выжидая удобного момента, чтобы незаметно от него избавиться. — Подумайте, сколько дополнительного продовольствия поместилось бы в трюмы ваших двух кораблей, если бы не эти чертовы двигатели, — настойчиво продолжал Росс. Франклин огляделся по сторонам, словно в поисках спасения, но все вокруг оживленно разговаривали друг с другом. — Продовольственных припасов нам хватит с избытком на три года, сэр Джон, — наконец сказал он. — На пять-семь лет, если придется урезать рацион. — Он снова улыбнулся, пытаясь очаровать сурового старика. — К тому же и на «Эребусе», и на «Терроре» имеется центральное отопление. Уверен, такую вещь вы оценили бы по достоинству на вашей «Виктори». Светлые глаза Джона Росса холодно блеснули. — «Виктори» раздавило льдами, как скорлупку, Франклин. Новомодное паровое отопление здесь не помогло бы, верно? Франклин осмотрелся вокруг, пытаясь встретиться взглядом с Фицджеймсом. Или хотя бы с Крозье. С кем угодно, кто пришел бы к нему на помощь. Казалось, никто не замечал старого сэра Джона и толстого сэра Джона, занятых здесь столь серьезным, пусть и односторонним разговором. Мимо прошел официант, и Франклин поставил ему на поднос нетронутый бокал шампанского. Росс пытливо смотрел на Франклина прищуренными глазами. – А сколько угля требуется, чтобы обогревать один из ваших кораблей в течение дня? — требовательно осведомился старый шотландец. – О, я толком не знаю, сэр Джон, — ответил Франклин с обаятельной улыбкой. Он действительно не знал. За паровые двигатели и уголь отвечали инженеры. Адмиралтейство наверняка произвело все необходимые расчеты. — А я знаю, — сказал Росс. — Вы будете тратить сто пятьдесят фунтов угля в день только на то, чтобы горячая вода поступала в трубы, обогревающие жилую палубу. И полтонны драгоценного угля в день, чтобы просто поддерживать кипение в паровом котле. В пути же — не ждите от ваших уродливых линейных кораблей скорости выше четырех узлов — вы будете сжигать от двух до трех тонн угля в день. И гораздо больше, если попытаетесь пробиться через паковые льды. Сколько всего угля вы берете с собой, Франклин? Капитан сэр Джон махнул рукой — небрежный, он осознал, если не женственный жест. — О, где-то около двухсот тонн, милорд. Росс снова прищурился. — Если точнее, по девяносто тонн на каждом корабле, — проскрипел он. — От которых останется гораздо меньше к тому времени, когда вы обогнете Гренландию и достигнете Баффинова залива, еще даже не войдя в настоящие льды. Франклин улыбнулся и ничего не ответил. — Предположим, вы достигаете места зимовки во льдах с семьюдесятью пятью процентами от ваших девяноста тонн, — продолжал Росс свое наступление с неумолимостью корабля, прокладывающего путь через льды. — Таким образом, что у вас получается… сколько дней работы парового в нормальных условиях, не во льдах? Дюжина дней? Тринадцать? Две недели? Капитан сэр Джон Франклин не имел ни малейшего представления. Его ум, хотя и являлся умом профессионального мореплавателя, просто не обладал способностью производить такие расчеты. Вероятно, в глазах у него мелькнул внезапный страх — вызванный не мыслью об угле, но сознанием, что он выставляет себя идиотом перед сэром Джоном Россом, — ибо старый моряк сжал плечо Франклина сильными цепкими пальцами, точно клещами. Когда Росс придвинулся ближе, капитан сэр Джон Франклин почувствовал исходящий от него запах виски. — Каковы планы вашего спасения, предусмотренные Адмиралтейством? — проскрипел Росс. Он говорил тихим голосом. Повсюду вокруг слышались смех и болтовня, обычные для заключительной части торжественного приема. – Спасения? — Франклин растерянно похлопал глазами. Мысль, что двум самым современным кораблям в мире — укрепленным для ледового плавания, оборудованным паровыми двигателями, обеспеченным продовольствием на пять или более лет во льдах и укомплектованным людьми, тщательно отобранными сэром Джоном Барроу, — потребуется или сможет потребоваться спасение, просто не укладывалась у Франклина в голове. Абсурдная мысль. – Вы планируете по пути устраивать склады провианта на островах? — прошептал Росс. – Склады? — переспросил Франклин. — Оставлять продовольствие по пути? Зачем, собственно говоря, мне это делать? – Чтобы иметь возможность обеспечить людей кровом и пищей, если вам придется возвращаться пешком по льду, — яростно прошипел Росс, сверкая глазами. – С какой стати нам возвращаться к Баффинову заливу? — спросил Франклин. — Наша цель — пройти Северо-Западным проходом. Сэр Джон немного отстранился. Он еще крепче стиснул плечо Франклина. — Так, значит, у вас нет ни спасательного корабля, ни хотя бы плана спасения? — Нет. Росс схватил другую руку Франклина и сжал так сильно, что дородный капитан сэр Джон чуть не поморщился. — Тогда, парень, — прошипел Росс, — если к сорок восьмому году мы не получим от вас никаких известий, я самолично отправлюсь на ваши поиски, клянусь. Франклин вздрогнул и очнулся. Он обливался потом. Он чувствовал головокружение и страшную слабость. У него бешено колотилось сердце, каждый удар которого отдавался подобием тяжкого колокольного звона в гудящей от боли голове. Он в ужасе уставился вниз. Нижнюю половину тела у него прикрывала шелковая ткань. — Что это? — в страхе вскричал он. — Что это такое? На мне флаг! Леди Джейн вскочила с места, ошеломленная. – Мне показалось, ты замерз, Джон. Ты весь дрожал. Я накрыла тебя им, как одеялом. – Боже мой! — возопил капитан сэр Джон Франклин. — Боже мой, женщина, да понимаешь ли ты, что ты наделала! Разве ты не знаешь, что флагом накрывают мертвецов?
3. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы. Октябрь 1847 г.Капитан Крозье спускается по короткому трапу в жилую палубу, проходит через утепленную двустворчатую дверь и едва не пошатывается от внезапно накатившей волны тепла. Хотя циркулирующую по трубам горячую воду отключили много часов назад, благодаря теплу пятидесяти с лишним мужских тел и остаточному теплу от камбузной плиты здесь, в жилой палубе, температура воздуха почти на восемьдесят градусов выше, чем снаружи. Человек, полчаса пробывший на верхней палубе, испытывает такие ощущения, словно входит в сауну полностью одетым. Поскольку Крозье собирается спуститься в неотапливаемые среднюю и трюмную палубы и потому не снимает верхнюю одежду, он не задерживается надолго здесь, в тепле. Но все-таки на мгновение останавливается — как сделал бы любой капитан, — чтобы оглядеться по сторонам и убедиться, что все тут не полетело к чертям собачьим за полчаса его отсутствия. Хотя это единственная спальная, столовая и жилая палуба на корабле, здесь все равно темно, как в уэльском руднике, поскольку днем маленькие световые люки занесены снегом, а ночь сейчас продолжается двадцать два часа. Там и сям масляные лампы, фонари или свечи отбрасывают узкие конусы света, но в большинстве своем люди двигаются во мраке по памяти, помня, где надо огибать бесчисленные, еле различимые груды провианта, одежды и снаряжения, а также других людей, спящих в своих парусиновых койках. Когда подвешиваются все койки — на каждого человека приходится четырнадцать дюймов в ширину, — здесь вообще не остается свободного пространства, кроме двух проходов шириной восемнадцать дюймов вдоль стенки корпуса с одной и другой стороны. Но сейчас подвешены лишь несколько коек — люди спят перед ночной вахтой, — и разговоры, смех, проклятия, кашель, звон кастрюль и вдохновенные ругательства мистера Диггла звучат достаточно громко, чтобы отчасти заглушить треск и стоны льда. Согласно чертежам корабля, высота межпалубного пространства семь футов, но в действительности расстояние между толстыми бимсами (и тоннами круглого леса и запасных досок, хранящимися на подвешенных к балкам рамам) над головой и палубным настилом под ногами меньше шести футов, и несколько по-настоящему высоких мужчин на «Терроре», вроде труса Мэнсона внизу, вынуждены постоянно ходить согнувшись. Френсис Крозье не настолько высок. Даже в фуражке и намотанном поверх нее шарфе ему не приходится пригибать голову, когда он поворачивается. Сейчас справа от Крозье находится подобие темного, низкого и узкого тоннеля, уходящего к корме, но на самом деле это коридор, ведущий к «офицерской части» — шестнадцати крохотным каютам и двум тесным столовым для офицеров и мичманов. Каюта Крозье такого же размера, как все прочие: шесть на пять футов. Ширина коридора всего два фута — за раз здесь может пройти лишь один человек, подныривая под свисающие сверху тюки с припасами, а дородным мужчинам приходится протискиваться боком. Офицерские каюты теснятся на шестидесяти футах общей девяностошестифутовой длины судна, а поскольку ширина «Террора» на уровне жилой палубы всего двадцать восемь футов, этот узкий коридор является единственным прямым путем в кормовую часть. Крозье видит свет в расположенной в кормовой части кают-компании, где — даже в таком адском мраке и холоде — несколько из оставшихся в живых офицеров отдыхают за длинным столом, куря трубки или читая книги из библиотеки в тысячу двести томов, хранящихся там на стеллажах. Капитан слышит звуки музыки — одна из металлических лент для музыкальной шкатулки играет мотивчик, который был популярен в лондонских мюзик-холлах пять лет назад. Крозье знает, что ленту поставил лейтенант Хобсон — это его любимая мелодия, и она приводит в дикое раздражение лейтенанта Эдварда Литтла, старшего помощника Крозье и любителя классической музыки. Поскольку на офицерской части явно все в порядке, Крозье поворачивается и бросает взгляд вперед. Жилое помещение постоянной судовой команды занимает оставшуюся треть длины корабля — но здесь теснятся сорок один матрос и гардемарин из первоначального состава сорок четвертого года. Сегодня вечером не проводится никаких занятий, и меньше чем через час они развернут свои койки и улягутся спать, поэтому большинство мужчин сидят на своих сундучках или грудах сложенной парусины, куря или разговаривая в полумраке. В центре помещения стоит гигантская патентованная плита Фрейзера, где мистер Диггл выпекает лепешки. Диггл — лучший кок во всем флоте, по мнению Крозье, и в буквальном смысле слова трофей, поскольку Крозье похитил шумливогокока прямо с флагмана капитана сэра Джона Франклина перед самым отплытием, — постоянно хлопочет у плиты, обычно выпекая галеты, и беспрерывно осыпает бранью, подгоняет тумаками и пинками своих помощников. Люди суетятся возле огромной плиты, часто исчезая в люке, чтобы принести нужные продукты с нижних палуб и избежать гнева мистера Диггла. Сама фрейзеровская плита, на взгляд Крозье, почти не уступает размерами локомотивному двигателю в трюме. Кроме гигантской духовки и шести огромных горелок громоздкая железная конструкция оснащена встроенным опреснителем и замечательным ручным насосом для накачивания воды либо из океана, либо из огромных цистерн, стоящих рядами в трюме. Но и в море, и в цистернах вода сейчас обратилась в лед, поэтому на горелках мистера Диггла булькают громадные кастрюли, в которых тают куски льда, отколотые в цистернах внизу и поднятые наверх для данной цели. За перегородкой, сооруженной из полок и буфетов мистера Диггла, на месте которой раньше находилась носовая переборка, капитан видит лазарет, устроенный в форпике корабля. Первые два года они обходились без лазарета. Форпик был загроможден от палубного настила до бимсов упаковочными клетями и бочонками, а члены команды, желавшие повидать корабельного врача или фельдшера в так называемый «час салаг», в 7.30 утра, являлись на прием к плите мистера Диггла. Но сейчас, когда количество продовольственных припасов сокращалось, а количество больных и раненых увеличивалось, плотники выгородили в форпике постоянное отдельное помещение под лазарет. И все же капитан видит проход между упаковочными клетями, ведущий к спальному месту, которое они отвели леди Безмолвной. Обсуждение данного вопроса заняло добрую половину дня в июне — Франклин категорически отказался брать эскимосскую женщину на свой корабль. Крозье принял ее на борт, но обсуждение вопроса о спальном месте для нее, происходившее у него с лейтенантом Литтлом, носило почти абсурдный характер. Даже эскимоска, они знали, замерзла бы до смерти на верхней палубе или в двух нижних, таким образом оставалась только главная жилая палуба. Безусловно, она не могла спать в кубрике судовой команды — хотя из-за обитающего во льдах существа у них к этому времени уже имелись свободные койки. Во времена, когда Крозье еще подростком служил простым матросом, а потом гардемарином, женщин, тайно проведенных на корабль, размещали в темной, душной и вонючей канатной в самой передней и самой нижней части судна, в пределах досягаемости от бака и счастливчика или счастливчиков, протащивших ее на борт. Но даже в июне, когда Безмолвная появилась, температура воздуха в канатной «Террора» уже опустилась ниже ноля. Нет, о том, чтобы разместить женщину в кубрике, не могло идти и речи. На территории офицеров? Возможно. После страшной гибели мистера Томпсона, разорванного на куски, там пустовала одна каюта. Но и лейтенант Литтл, и капитан быстро пришли к единодушному мнению, что присутствие женщины всего через несколько тонких переборок и раздвижных дверей от спящих мужчин крайне нежелательно и даже вредно. Что тогда? Не могли же они выделить гостье спальное место, а потом поставить над ней вооруженного часового на всю ночь. Именно Эдварду Литтлу пришла в голову мысль немного передвинуть упаковочные клети и бочонки, чтобы освободить между ними маленькое пространство для эскимоски в форпике, где размещается лазарет. Единственным человеком, бодрствовавшим всю ночь напролет, являлся мистер Диггл, исполнительно выпекавший свои лепешки и жаривший мясо к завтраку, а если мистер Диггл когда-нибудь и интересовался женщинами, то времена эти определенно давно миновали. Кроме того, рассудили лейтенант Литтл и капитан Крозье, близость фрейзеровской плиты не позволит гостье замерзнуть. Плита успешно справлялась со своей задачей. Леди Безмолвная изнемогала от жары и потому спала в чем мать родила на своих мехах в пещерке среди упаковочных клетей и бочонков. Капитан обнаружил это случайно, и видение обнаженной женщины запечатлелось у него в памяти. Теперь Крозье снимает с крючка и зажигает фонарь, поднимает крышку люка и спускается по трапу на среднюю палубу, покуда не начал таять, подобно одному из кусков льда на плите. Сказать, что на средней палубе холодно, значит выразиться очень и очень мягко, как Крозье выражался до своего первого путешествия в Арктику. При схождении по шестифутовому трапу с жилой палубы температура воздуха понижается самое малое на шестьдесят градусов. Здесь царит почти кромешная тьма. Как положено капитану, Крозье на минуту останавливается, чтобы оглядеться по сторонам. Фонарь светит тускло и освещает главным образом лишь клубы пара от дыхания, висящие в воздухе. Повсюду вокруг громоздятся упаковочные клети, огромные бочки, жестяные баки, бочонки, мешки с углем и накрытые парусиной груды провианта высотой от палубного настила до бимсов. Даже без фонаря Крозье легко нашел бы путь в кишащей попискивающими крысами темноте — он знает каждый дюйм своего корабля. Порой — особенно, когда стонет лед, — Френсис Родон Мойра Крозье сознает, что военный корабль «Террор» для него жена, мать, невеста и шлюха. Интимная близость с дамой, сделанной из дуба и железа, пакли и парусины, — единственный истинный супружеский союз, который у него может быть и будет когда-либо. Как он мог думать иначе в случае с Софией? В иные разы — еще позже ночью, когда стоны льда перерастают в пронзительные крики, — Крозье кажется, будто корабль превратился в его тело и разум. Там, за стенками корпуса, смерть. Вечная стужа. Здесь, на корабле, даже затертом льдами, продолжается пульсация тепла, разговоров, движения и здравого смысла — пускай сколь угодно слабая. Но спуск глубже в недра корабля, ясно понимает Крозье, подобен слишком глубокому проникновению в чье-то тело или сознание. Там можно столкнуться с вещами, весьма неприятными. Средняя палуба представляет собой брюхо. Здесь хранятся продовольствие и необходимые материальные средства, все уложенные в порядке предполагаемой надобности, легко доступные для людей, которых гонят сюда крики, пинки и тумаки мистера Диггла. Ниже, на трюмной палубе, куда он направляется, находятся кишечник и почки — водяные цистерны, большая часть запасов угля и еще один склад провианта, гниющего в темноте. Но сильнее всего Крозье тревожит аналогия с сознанием. Почти всю жизнь неотступно преследуемый меланхолией, видящий в ней свою тайную слабость, усугубившуюся за двенадцать зим, проведенных во льдах в арктической темноте, чувствующий недавнее ее обострение до жестокой муки, вызванное отказом Софии Крэкрофт, Крозье представляет частично освещенную и изредка отапливаемую, но вполне пригодную для жилья главную палубу как разумную часть своего существа. Средняя палуба сознания является местом, где он проводит слишком много времени в последние дни — прислушиваясь к крикам льда, со страхом ожидая, когда металлические болты и крепежные детали балок полопаются от мороза. Трюмная палуба внизу, со своим ужасным зловонием и ждущей новых поступлений мертвецкой, есть безумие. Крозье прогоняет эти мысли прочь. Он заглядывает в проход между установленными друг на друга клетями и бочками, ведущий к носовой части. Луч фонаря упирается в переборку мучной кладовой, и проходы по обеим сторонам от нее сужаются до коридорчиков, еще более узких, чем коридор к офицерским каютам в жилой палубе, — здесь людям приходится протискиваться между стенкой мучной кладовой и уложенными в несколько рядов последними мешками угля на «Терроре». Кладовая плотника находится впереди у правого борта, а кладовая главного боцмана — прямо напротив, у левого. Крозье поворачивается и светит фонарем в направлении кормы. Крысы разбегаются в стороны, хотя довольно вяло, прячась от света между бочонками солонины и упаковочными клетями с консервированными продуктами. Даже при тусклом свете капитан видит, что висячий замок на двери винной кладовой на месте. Ежедневно один из офицеров Крозье спускается сюда за порцией рома, необходимой для приготовления грога, скупо выдаваемого людям в полдень: четверть пинты выдержанного рома на три четверти пинты воды. В винной кладовой хранятся также запасы бренди и вина для офицеров, а равно две сотни мушкетов, абордажных сабель и шпаг. По принятому в военно-морском флоте обыкновению к винной кладовой ведут люки прямо из офицерской столовой и кают-компании, расположенных над ней. Если на корабле вспыхнет мятеж, офицеры первыми доберутся до оружия. За винной кладовой находится пороховая камера с бочонками пороха и картечи. По обеим сторонам от винной кладовой располагаются разнообразные хранилища, в том числе рундуки для якорных цепей, парусная кладовая с запасами парусины и всеми сопутствующими принадлежностями, а также баталерка, откуда мистер Хелпмен, заведующий вещевым довольствием, выдает людям верхнюю одежду. За винной кладовой и пороховой камерой находится капитанская кладовая, где содержатся личные, купленные на собственные деньги продукты некоего Френсиса Крозье — копченые окорока, сыры и прочие лакомства. По-прежнему жив обычай, предписывающий капитану корабля время от времени накрывать стол для своих офицеров, и хотя снедь в кладовой Крозье выглядит бледно по сравнению с деликатесами, которыми набита кладовая покойного капитана сэра Джона Франклина на «Эребусе», запасов провизии здесь — теперь почти полностью истощившихся — хватило на два лета и две зимы во льдах. К тому же, с улыбкой думает он, у него в кладовой имеется преимущество в виде приличного винного погреба, все еще служащего службу офицерам. Бедные лейтенанты и гражданские офицеры на борту «Эребуса» обходятся без спиртного вот уже два года. Сэр Джон Франклин капли в рот не брал и потому при жизни был головной болью для своих офицеров. По ведущему из кормовой части судна узкому проходу к Крозье приближается покачивающийся фонарь. Повернувшись, капитан видит некое подобие мохнатого черного медведя, протискивающегося между переборкой мучной кладовой и мешками угля. — Мистер Уилсон, — говорит Крозье, узнав помощника плотника по округлым очертаниям фигуры, а также по перчаткам из тюленьей кожи и кожаным штанам, какие были выданы всем людям перед отплытием, но которым лишь немногие отдавали предпочтение перед фланелевыми и шерстяными. После одной из отлучек с корабля помощник плотника сшил из волчьих шкур, купленных на датской китобойной базе в заливе Диско, неуклюжего покроя — но теплую, как он утверждал, — шубу. Если бы не внушительные габариты Уилсона, его часто путали бы в темноте с леди Безмолвной. — Капитан. Уилсон, один из самых толстых мужчин на борту, держит в одной руке фонарь, а другой рукой обхватывает и прижимает к боку несколько ящиков с плотницкими инструментами. — Мистер Уилсон, засвидетельствуйте мое почтение мистеру Хани и, пожалуйста, попросите его спуститься ко мне в трюмную палубу. – Есть, сэр. Куда именно? – К мертвецкой, мистер Уилсон. – Есть, сэр. Свет фонаря отражается в глазах Уилсона, когда он задерживает любопытный взгляд на капитане на секунду дольше, чем позволяют приличия. – И попросите мистера Хани прихватить лом. – Есть, сэр. Крозье отступает в сторону, втискиваясь между двумя бочонками, чтобы пропустить более крупного мужчину к трапу, ведущему на жилую палубу. Капитан понимает, что, возможно, он зря срывает плотника с места — заставляет человека невесть зачем натягивать поддевки и зимнюю шинель перед самым отходом ко сну, — но у него предчувствие, и лучше побеспокоить плотника сейчас, чем позже. Когда Уилсон протискивается в верхний люк, капитан Крозье поднимает крышку нижнего и спускается на трюмную палубу. Капитан никогда не читал «Божественную комедию» Данте, даже часть под названием «Ад», но, если бы читал, он мгновенно признал бы в трюме вполне узнаваемое земное подобие девятого круга Ада. Поскольку все междупалубное пространство здесь находится ниже уровня льда, в трюме почти так же холодно, как во враждебном мире снаружи. И темнее, поскольку здесь нет ни северного сияния, ни звезд, ни луны, светом своим рассеивающих вездесущую тьму. Здесь душно от угольной пыли и дыма — Крозье смотрит на черные струйки, обвивающиеся вокруг шипящего фонаря, точно костяные пальцы привидений-плакальщиц, — и воняет нечистотами и трюмной водой. Скребущие, шуршащие и снова скребущие звуки доносятся из темноты со стороны кормы, но Крозье знает, что это просто загребают лопатами уголь в котельной. Только остаточное тепло котельной не позволяет трехдюймовому слою зловонной воды, плещущей у подножья трапа, превратиться в лед. Впереди, где носовая часть погружена в лед глубже, палубный настил покрыт почти футовым слоем ледяной воды, хотя люди стоят у насосов по шесть и более часов ежедневно. «Террор», как любое другое живое существо, выдыхает влагу через посредство двух десятков своих жизненно важных органов — включая постоянно работающую плиту мистера Диггла, — и если жилая палуба всегда сырая и по бортам тронута изморозью, а средняя палуба выстужена, то трюм представляет собой подземную темницу со свешивающимися со всех бимсов сосульками и стоящей здесь водой выше щиколотки. Ощущение лютого холода усугубляют плоские черные бока двадцати железных водяных цистерн, выстроившихся вдоль стенок корпуса с одной и другой стороны. Наполненные тридцатью девятью тоннами пресной воды перед отплытием экспедиции, сейчас они представляют собой закованные в броню айсберги, и дотронуться до железа значит лишиться кожи. Магнус Мэнсон ждет у подножья трапа, как доложил рядовой Уилкс, но здоровенный матрос не сидит на заднице, а стоит — наклонив голову и сгорбившись под низкими бимсами. Его бледное мясистое лицо со стиснутыми челюстями напоминает Крозье очищенную подгнившую картофелину, засунутую под «уэльский парик». Он не желает встречаться взглядом со своим капитаном при режущем глаза свете фонаря. — В чем дело, Мэнсон? В голосе Крозье не слышится раздражения, которому он дал волю в разговоре с вахтенным и лейтенантом. Он говорит бесцветным, спокойным и уверенным тоном человека, в чьей власти выпороть и повесить своего подчиненного. — Это все привидения, капитан. Для столь крупного мужчины голос у Магнуса Мэнсона по-детски тонок и слаб. Когда в июле 1845-го «Террор» и «Эребус» останавливались в заливе Диско у западного побережья Гренландии, капитан сэр Джон Франклин счел нужным уволить из экспедиции четырех человек: рядового морской пехоты и матроса с «Террора» и парусника и оружейника с «Эребуса». Крозье высказался за увольнение матроса Джона Брауна и рядового морской пехоты Эйкина со своего корабля — они были немногим лучше инвалидов и совершенно зря нанялись на судно, идущее в такое тяжелое плавание, — но впоследствии он пожалел, что не отправил домой и Мэнсона тоже. Если этот здоровенный парень еще и не повредился рассудком, то уже настолько близок к помешательству, что разница практически не ощущается. – Ты знаешь, что на «Терроре» нет привидений, Мэнсон. – Да, капитан. – Посмотри на меня. Мэнсон поднимает голову, но в глаза Крозье не смотрит. Капитана изумляет, что на таком большом мясистом лице — и такие крохотные блеклые глазки. – Ты отказался выполнять приказ мистера Томпсона носить мешки с углем в котельную, матрос Мэнсон? – Нет, сэр. Да, сэр. – Ты знаешь, каковы последствия неподчинения приказам на этом корабле? У Крозье такое ощущение, будто он разговаривает с малым ребенком, хотя Мэнсону по меньшей мере тридцать лет. Лицо матроса светлеет, словно он услышал вопрос, на который может дать правильный ответ. – О да, капитан. Порка, сэр. Двадцать плетей. Сотня плетей, коли я не подчинюсь приказу вторично. И повешение, коли я ослушаюсь настоящего офицера, а не какого-то там мистера Томпсона. – Совершенно верно, — говорит Крозье. — Но известно ли тебе, что за проступок капитан может также наложить любое наказание, какое сочтет нужным? Мэнсон смотрит на него сверху вниз, с недоумением в светлых глазах. Он не понял вопроса. — Я имею в виду, что могу наказать тебя по своему усмотрению, матрос Мэнсон, — говорит капитан. На мясистом лице отражается облегчение. – О да, истинная правда, капитан. – Вместо двадцати плетей, — говорит Френсис Крозье, — я могу приказать запереть тебя в мертвецкой на двенадцать часов, без света. От лица Мэнсона, и без того бледного, отхлынуло столько крови, что Крозье приготовился отступить в сторону, если здоровенный парень грохнется в обморок. — Вы… не можете… — Голос ребенка-мужчины дрожит. Несколько долгих мгновений в нарушаемой лишь шипением фонаря тишине Крозье молчит, сознательно устрашая матроса выражением своего лица. Наконец он спрашивает: — Что за звуки, по-твоему, ты слышал, Мэнсон? Тебе кто-нибудь рассказывал истории про призраков? Мэнсон открывает рот, но, похоже, не может решить, на какой вопрос ответить в первую очередь. На толстой нижней губе у него образуется налет инея. – Уокер, — наконец говорит он. – Ты боишься Уокера? Джеймс Уокер — друг Мэнсона, примерно одного возраста с этим идиотом и немногим умнее — был последним человеком, погибшим на льду всего неделю назад. Корабельные правила предписывали членам команды держать открытыми лунки, просверленные во льду рядом с кораблем, — даже если толщина льда десять или пятнадцать футов, как сейчас, — дабы иметь доступ к воде в случае пожара, вспыхни таковой на борту. Уокер и два его товарища отправились в темноте вскрывать одну такую старую лунку, которая затянулась бы льдом меньше чем за час, если бы не металлические штыри, вколоченные по окружности. Белое чудовище, внезапно появившееся из-за торосной гряды, в считанные секунды оторвало матросу руку и раздробило грудную клетку — и исчезло прежде, чем вооруженные часовые на палубе успели вскинуть дробовики. – Уокер рассказывал тебе истории про призраков? — спрашивает Крозье. – Да, капитан. Нет, капитан. Джимми, он сказал мне за день до того, как существо убило его, «Магнус, — сказал он, — если это дьяволово отродье там во льдах доберется до меня когда-нибудь, я вернусь в белом саване, чтобы шептать тебе на ухо, как холодно в аду». Ей-богу, капитан, так Джимми сказал мне. И теперь я слышу, как он пытается выбраться из… Словно по сигналу, корпус судна глухо трещит, промерзшая палуба под ногами стонет, металлические скобы на бимсах стонут в ответ, точно сопереживая, и в темноте вокруг раздаются скребущие, царапающие звуки, которые как будто прокатываются от одного конца судна к другому. Лед неспокоен. – Ты такие звуки слышишь, Мэнсон? – Да, капитан. Нет, капитан. Мертвецкая находится в тридцати футах от них в сторону кормы, сразу за последней стонущей водяной цистерной, но, когда лед снаружи стихает, Крозье слышит лишь приглушенный скрежет и стук лопат в котельной, расположенной дальше к корме. Крозье сыт по горло этим вздором. – Ты знаешь, что твой друг не вернется, Магнус. Он лежит там, во вспомогательной парусной кладовой, надежно зашитый в свою парусиновую койку, вместе с другими пятью окоченелыми трупами, завернутыми в три слоя самой толстой парусины. Если ты и слышишь какие-то звуки, доносящиеся оттуда, то это чертовы крысы, которые пытаются добраться до них. Ты это знаешь, Магнус Мэнсон. – Да, капитан. – Я не потерплю неподчинения приказам на своем корабле, матрос Мэнсон. Ты должен принять решение. Либо ты таскаешь уголь, куда тебе велит мистер Томпсон. Приносишь продукты, когда мистер Диггл посылает тебя за ними вниз. Выполняешь все приказы быстро и без возражений. Либо ты предстанешь перед судом… передо мной… и вполне вероятно, сам проведешь холодную ночь в мертвецкой, в кромешной тьме, без фонаря. Не промолвив более ни слова, Мэнсон отдает честь, дотрагиваясь костяшками пальцев до лба, поднимает огромный мешок угля, брошенный на ступеньке трапа, и тащит в темноту, к корме.
Сам инженер разделся до нижней рубашки и вельветовых штанов и загребает лопатой уголь, работая бок о бок с дряхлым сорокасемилетним кочегаром по имени Билл Джонсон. Второй кочегар, Льюк Смит, сейчас спит в жилой палубе между сменами, а старший кочегар «Террора», молодой Джон Торрингтон умер первым в экспедиции, первого января 1846 года. Но его смерть наступила по естественным причинам: похоже, лечащий врач Торрингтона убедил девятнадцатилетнего парня отправиться в море, чтобы излечить чахотку, и он скончался через три месяца тяжелой болезни, когда корабли стояли во льдах в заливе у острова Бичи в первую зиму плавания. Доктора Педди и Макдональд сказали Крозье, что легкие у парня были забиты угольной пылью, точно карманы дымохода. — Благодарю вас, капитан, — говорит молодой инженер между двумя взмахами лопаты. Матрос Мэнсон только что свалил с плеч на пол второй мешок и пошел за третьим. — Не за что, мистер Томпсон. Крозье бросает взгляд на кочегара Джонсона. Он на четыре года младше капитана, но выглядит тридцатью годами старше. Все складки и морщины на отмеченном печатью времени лице Джонсона черные от глубоко въевшейся сажи и угольной пыли. Даже беззубые десны у него серые от копоти. Крозье не хочет выговаривать своему инженеру — а следовательно, офицеру, хотя и возведенному в офицерское звание только на время экспедиции, — в присутствии кочегара, но все же говорит: — Полагаю, мы больше не будем использовать морских пехотинцев в качестве посыльных, коли подобная ситуация возникнет в будущем, в чем я сильно сомневаюсь. Томпсон кивает, толчком лопаты с лязгом захлопывает железную решетку топки, потом опирается на лопату и велит Джонсону сходить наверх к мистеру Дигглу и принести кофе для него. Крозье рад, что кочегар ушел, но еще больше рад, что решетка закрыта: после холода снаружи от жары в котельной он чувствует легкую дурноту. При мысли о судьбе инженера капитан испытывает невольное изумление. Мичман Джеймс Томпсон, инженер первого класса, выпускник училища при фабрике паровых двигателей в Вулриче — лучшего в мире полигона для обучения нового поколения инженеров, — здесь, в грязной нижней рубашке, точно простой кочегар, бросает лопатой уголь в топку в котельной затертого льдами корабля, который за последний год с лишним не переместился ни на дюйм собственными силами. — Мистер Томпсон, — говорит Крозье, — к сожалению, у меня не было возможности побеседовать с вами сегодня после вашего возвращения с «Эребуса». Вам удалось переговорить с мистером Грегори? Джон Грегори — инженер на флагманском корабле. — Да, капитан. Мистер Грегори убежден, что с наступлением настоящей зимы они никакими силами не сумеют добраться до поврежденного ведущего вала. Даже если им удастся пробить тоннель во льду и заменить последний сломанный гребной винт на другой, изготовленный на скорую руку, со столь сильно погнутым валом «Эребус» все равно не сможет идти под паром. Крозье кивает. «Эребус» погнул свой второй вал, когда безрассудно пошел на штурм льдов больше года назад. Флагманский корабль — более тяжелый и с более мощным двигателем — тем летом прокладывал путь через паковые льды, открывая проход для второго судна. Но последнее ледяное поле, на которое они натолкнулись перед тем, как застряли во льдах, оказалось тверже, чем железо экспериментального гребного винта. Тогда же ныряльщики — которые все получили обморожение и едва не умерли — доложили, что не только винт сломался, но и ведущий вал погнулся и треснул. – Что у них с углем? — спрашивает капитан. – Угля на «Эребусе» хватит на… вероятно, месяца на четыре обогрева жилой палубы, если подавать горячую воду в трубы всего по часу в день, капитан. И не останется ни крошки, чтобы идти под паром следующим летом. «Если мы вообще вырвемся из ледового плена», — думает Крозье. После этого лета, когда лед не смягчился ни на день, он смотрит на вещи пессимистично. Франклин расточительно тратил запасы угля на «Эребусе» в последние несколько недель свободы летом 1846-го, уверенный, что, если они сумеют пробиться через последние мили паковых льдов, экспедиция достигнет открытых вод Северо-Западного прохода, пролегающего вдоль северного побережья Канады, и к концу осени они уже будут гонять чаи в Китае. – А что у нас с углем? — спрашивает Крозье. – Вероятно, хватит на шесть месяцев обогрева жилой палубы, — говорит Томпсон. — Но при условии, если мы сократим время подачи горячей воды в трубы с двух часов в день до одного. И я советую сделать это поскорее — не позднее первого ноября. До означенной даты оставалось меньше двух недель. — А как насчет возможности идти под паром? — спрашивает Крозье. Если следующим летом лед вообще подтает, Крозье планирует взять на борт «Террора» всех оставшихся в живых людей с «Эребуса» и предпринять отчаянную попытку вернуться обратно прежним путем: пройти безымянным проливом между полуостровом Бутия и островом Принца Уэльского, который они лихо миновали два лета назад; потом мимо мыса Уокер и по проливу Барроу; далее проскочить через пролив Ланкастер подобием вылетающей из бутылки пробки; а потом на всех парусах устремиться на юг, в Баффинов залив, сжигая вместо угля запасной рангоут и мебель, коли понадобится выжать из двигателя последнюю толику пара, — лишь бы только выйти в свободные от льда воды в окрестностях Гренландии, где их найдут китобойцы. Но даже если произойдет чудо и они вырвутся из ледового плена здесь, чтобы пробиться на север к проливу Ланкастер через дрейфующие в южном направлении льды, кораблю нужен пар. Крозье и Джеймс Росс выходили на «Терроре» и «Эребусе» из антарктических льдов, но тогда они плыли по течению, вместе с айсбергами. Здесь же, в проклятой Арктике, кораблям неделями приходится идти навстречу движущемуся от полюса потоку плавучего льда, чтобы хотя бы достичь проливов, открывающих путь к спасению. Томпсон пожимает плечами. У него изможденный вид. — Если в первый день Нового года мы прекратим отапливать жилую палубу и умудримся протянуть до лета, у нас может хватить угля, чтобы идти под паром в свободных от льда водах… ну… шесть дней? Пять? Крозье снова кивает. Это практически смертный приговор его кораблю, но необязательно — экипажам обоих кораблей. Из темного коридора доносится шум. — Благодарю вас, мистер Томпсон. Капитан снимает свой фонарь с железного крюка, выходит из озаренной отблесками огня жаркой котельной и шлепает по воде в темноте. Томас Хани ждет в коридоре; свеча у него в фонаре еле горит в спертом воздухе. Он держит перед собой лом, словно мушкет, и еще не открыл замкнутую на засовы дверь мертвецкой. — Спасибо, что пришли, мистер Хани, — говорит Крозье плотнику. Не вдаваясь в объяснения, капитан отодвигает засовы и входит в выстуженную кладовую. Крозье невольно поднимает фонарь и светит в сторону кормовой переборки, где сложены шесть мертвых тел, закутанных в парусиновый саван. Груда шевелится. Крозье ожидал этого — ожидал увидеть движение крыс под парусиной, — но он осознает, что видит также сплошную шевелящуюся массу крыс и поверх парусинового савана. Над палубным настилом на добрых четыре фута поднимается куча из сотен крыс, которые все борются за возможность подобраться к окоченелым трупам. От крысиного писка здесь чуть уши не закладывает. Другие крысы шмыгают под ногами у него и плотника. «Спешат на пиршество», — думает Крозье. И нисколько не боятся света фонарей. Крозье направляет луч света на стенку корпуса, поднимается по чуть наклонному (из-за легкого крена судна на правый борт) палубному настилу и идет вдоль изогнутой, немного завалившейся вперед стенки. Вот оно. Он подносит фонарь ближе. — Гореть мне в аду и болтаться на виселице, — говорит Хани. — Прощу прощения, капитан, но я не думал, что лед так скоро сотворит такое. Крозье не отвечает. Он приседает на корточки, чтобы получше рассмотреть погнутые доски обшивки. Они здесь сильно выпирают внутрь, выступая почти на фут из плавно изогнутой стенки борта. Доски последнего внутреннего слоя обшивки потрескались, и по меньшей мере две из них сорвались с гвоздей с одного конца. – Господи Иисусе Всемогущий, — говорит плотник, приседая на корточки рядом с капитаном. — Этот чертов лед, твою мать, он просто жуть какая силища, прошу у капитана прощения, сэр. – Мистер Хани, — говорит Крозье, выдыхая облачко крохотных ледяных кристаллов, которые, искрясь в свете фонаря, оседают на уже обледенелые доски, — что-нибудь, кроме льда, могло причинить такое повреждение? Плотник разражается смехом, но тут же умолкает, осознав, что капитан не шутит. Глаза у него округляются, потом прищуриваются. — Еще раз прошу прощения, капитан, но если вы имеете в виду… это невозможно. Крозье молчит. — Я имею в виду, капитан, первоначально корабль имел трехдюймовую обшивку из лучшего черешчатого дуба. А для этого путешествия — в смысле, для ледового плавания, сэр, — ее толщина была удвоена двумя слоями тикового дерева, по полтора дюйма каждый. И тиковые доски пущены по диагонали, сэр, что придает обшивке еще большую прочность, чем в случае, если бы они располагались горизонтально. Крозье разглядывает сорванные с гвоздей доски, стараясь не обращать внимания на море крыс за ними и вокруг них, а равно на царапающие и чавкающие звуки, доносящиеся от кормовой переборки. — Вдобавок, сэр, — продолжает Хани хриплым от холода голосом, выдыхая облачко пара, отдающее ромом и мгновенно замерзающее на морозе. — Поверх трех дюймов черешчатого дуба и трех дюймов тика наложены два двухдюймовых слоя канадского вяза, что увеличивает толщину обшивки еще на четыре дюйма. И вязовые доски пущены по диагонали, в перпендикуляр к тиковым. Таким образом, мы имеем пять слоев крепких досок, сэр… десять дюймов самой прочной древесины отделяют нас от моря. Плотник замолкает, осознав, что читает капитану лекцию о деталях выполненной на верфи работы, за которой Крозье самолично наблюдал в течение нескольких месяцев перед отплытием. Капитан поднимается на ноги и кладет руку в рукавице туда, где доски сорвались с гвоздей. Там образовалась щель шириной более дюйма. — Поставьте свой фонарь на пол, мистер Хани. Выломайте эти доски ломом. Я хочу посмотреть, что лед сделал с наружными дубовыми досками обшивки. Хани подчиняется. На несколько минут лязг лома о промерзшее дерево и кряхтенье плотника почти заглушают неистовую возню грызунов у них за спиной. Погнутые вязовые доски, поддетые и вывернутые ломом, отрываются и падают под ноги. За ними следуют потрескавшиеся тиковые доски. Теперь остаются только выгнутые внутрь дубовые доски первоначальной обшивки; Крозье подступает ближе и поднимает фонарь, чтобы лучше видеть. В проломе длиной в фут блестят в фонарном свете осколки и острые зубцы льда, но в самом центре они видят нечто, вызывающее гораздо сильнейшую тревогу: там чернота. Пустота. Дыра во льду. Тоннель. — Господи Иисусе, Боже Всемогущий, мать твою перемать, — единым духом выдыхает плотник. На сей раз он не извиняется перед капитаном. У Крозье возникает желание облизать пересохшие губы, но он знает, что здесь, при минус пятидесяти, этого делать не стоит. Однако сердце у него колотится столь бешено, что он также чувствует искушение схватиться рукой за стенку корпуса, чтобы удержаться на ногах, — как уже сделал плотник. Ледяной воздух снаружи врывается в пролом с такой силой, что едва не гасит фонарь. Крозье загораживает свободной рукой трепещущий язычок пламени, в неверном свете которого тени мужчин мечутся по палубному настилу, бимсам и переборкам. Две длинные наружные доски обшивки разломаны в щепы и вдавлены внутрь под воздействием некой непостижимой, непреодолимой силы. В свете слегка дрожащего фонаря отчетливо видны следы огромных когтей на растрескавшихся дубовых досках — следы когтей с размазанными пятнами немыслимо красной крови.
4. Гудсер
75°12′ северной широты, 61°06′ западной долготы Баффинов залив Июль 1845 г.
Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсера
11 апреля 1845 г.
В сегодняшнем письме к брату я написал: «Все офицеры исполнены надежды совершить переход по Северо-Западному пути и к концу лета достичь Тихого океана». Должен признаться, я лично надеюсь, как это ни эгоистично с моей стороны, что экспедиции потребуется чуть больше времени, чтобы достичь Аляски, России, Китая и теплых вод Тихого океана. Хотя я получил специальность анатома и нанялся в экспедицию сэра Джона Франклина простым фельдшером, на самом деле я не просто фельдшер, но доктор и должен признаться также, что, сколь бы неумелы ни были мои попытки, я надеюсь стать натуралистом в данном путешествии. Не знакомый на практике с арктическими флорой и фауной, я планирую лично познакомиться с жизненными формами Царства вечных льдов, к которому мы отплыли всего месяц назад. Особенно меня интересует белый медведь, хотя большинство рассказов о нем, какие слышишь от китобоев и старых полярников, слишком неправдоподобны. Я признаю, что вести личный дневник в плавании не принято — в судовом журнале, который я начну после нашего отплытия в следующем месяце, будут содержаться все заслуживающие упоминания обстоятельства моей профессиональной деятельности и отчеты о моем времяпрепровождении на борту британского военного корабля «Эребус» в должности фельдшера и в качестве участника экспедиции капитана сэра Джона Франклина, имеющей своей целью пройти по Северо-Западному проходу, — но мне представляется, что одного судового журнала недостаточно и требуются еще записи, более личного свойства, и даже если я никогда не дам ни одной живой душе прочитать свой дневник по возвращении из путешествия, мой долг — перед самим собой, если не перед другими, — сохранить сии путевые заметки. В данный момент мне известно лишь, что экспедиция под командованием капитана сэра Джона Франклина уже обещает стать величайшим приключением в моей жизни.
Воскресенье, 18 мая 1845 г.
Все люди уже на борту, и, хотя последние приготовления к завтрашнему отплытию все еще продолжаются (в частности, погрузка ящиков, содержащих, как уведомил меня капитан Фицджеймс, восемь тысяч жестянок с консервированными продуктами и доставленных в последнюю минуту), сэр Джон сегодня провел богослужение для судовой команды «Эребуса» и всех людей из экипажа «Террора», пожелавших присоединиться к нам. Я заметил, что капитан «Террора», ирландец по имени Крозье, не присутствовал. Ни один из присутствовавших сегодня на богослужении и слышавших очень длинную проповедь сэра Джона не мог не расчувствоваться до глубины души. Я задаюсь вопросом, было ли еще когда-нибудь в военно-морском флоте какой-либо страны судно под командованием столь религиозного человека. Несомненно, в предстоящем путешествии мы со спокойным сердцем, истинно и бесповоротно вверяем свою судьбу всемилостивому Господу.
19 мая 1845 г.
Какое отплытие! Никогда прежде не ходивший в море, тем более в качестве участника столь славной экспедиции, я совершенно не знал, чего ожидать, но ничто не могло подготовить меня к таким торжественным проводам. По оценке капитана Фицджеймса, свыше десяти тысяч доброжелателей и важных персон собралось на пристанях Гринхайта, дабы проводить нас. Речи звучали одна за другой, и под конец мне уже стало казаться, что нам не позволят отплыть, пока солнце еще стоит высоко в летнем небе. Играли оркестры. Леди Джейн, находившаяся на борту с сэром Джоном, спустилась по сходням под громкое многократное «ура!», исторгшееся из груди шестидесяти с лишним членов судовой команды «Эребуса». Играли оркестры. Потом, когда мы отдали концы, все разразились воодушевленными возгласами и криками, и несколько минут стоял такой оглушительный шум, что я не расслышал бы приказа, прокричи мне таковой в ухо сам сэр Джон. Накануне вечером лейтенант Гор и главный врач Стенли любезно уведомили меня, что обычай предписывает офицерам не выказывать эмоций во время отплытия, и потому, хотя я являюсь офицером лишь формально, я стоял вместе с офицерами, выстроившимися в ряд в своих великолепных синих мундирах, и старался сдерживать любые проявления чувств, пусть и вполне подобающих мужчине. Одни только мы хранили внешнюю невозмутимость. Матросы на вантах вопили во всю глотку и махали платками, и я видел множество нарумяненных портовых девок, машущих им в ответ. Даже капитан сэр Джон Франклин махал ярким красно-зеленым платком своей супруге леди Джейн, дочери Элеоноре и племяннице Софии Крэкрофт, покуда следующий за нами «Террор» не заслонил пристани от нашего взора. На данном отрезке пути нас тащат на буксире паровые суда и сопровождает «Рэттлер», новый фрегат с мощным паровым двигателем, а также наемное грузовое судно, везущее наши продовольственные припасы, «Баретто Джуниор». Перед самым отходом «Эребуса» от пристани на верхушку грот-мачты опустился голубь. Дочь сэра Джона от первого брака Элеонора — тогда еще хорошо видимая в толпе в своем ярко-зеленом шелковом платье и с изумрудного цвета зонтиком — закричала нам, тщетно силясь перекрыть рев толпы и гром духовых оркестров, а потом показала пальцем, и сэр Джон и многие офицеры посмотрели наверх, заулыбались и обратили внимание всех остальных членов команды на голубя. В сочетании со словами, прозвучавшими в ходе вчерашнего богослужения, я должен признать появление голубя лучшим предзнаменованием из всех возможных.
4 июля 1845 г.
Какой ужасный переход через Северную Атлантику к Гренландии! Тридцать штормовых дней, даже ведомый на буксире, наш корабль качался и метался на волнах, кренясь из стороны в сторону так сильно, что плотно закрытые пушечные порты по обоим бортам временами оказывались всего в нескольких футах над водой, и порой едва продвигаясь вперед. Двадцать восемь дней из тридцати я жестоко мучился морской болезнью. По словам лейтенанта Левеконта, мы ни разу не развили скорость выше пяти узлов, на каковой малой скорости, заверяет он, чрезвычайно трудно приходится любому обычному паруснику, не говоря уже о таком чуде техники, как «Эребус» и второе наше судно, «Террор», которые оба способны идти под паром, приводимые в движение своими неукротимыми гребными винтами. Три дня назад мы обогнули мыс Фарвелл на южной оконечности Гренландии, и должен признать, что вид этого огромного континента со скалистыми утесами и бесконечными ледниками, спускающимися прямо к морю, подействовал на мое душевное состояние так же тягостно, как действовала качка на мой желудок. Боже милостивый, какой пустынный, холодный край! А ведь сейчас июль. Наш боевой дух, однако, на высоте, и все полагаются на опыт и здравомыслие сэра Джона. Вчера лейтенант Фейрхольм, самый молодой из наших лейтенантов, доверительно сказал мне: «Я никогда прежде не ходил в плавание с капитаном, в котором видел бы настоящего товарища, какого вижу в нашем». Сегодня мы стали на якорь у китобойной базы здесь, в заливе Диско. Тонны продовольствия перегружаются с «Баретто Джуниор» на наши корабли, и десять живых быков, находившихся на борту грузового судна, были забиты днем. Все члены экипажей обоих экспедиционных кораблей нынче вечером полакомятся свежим мясом. Четыре человека были уволены из экспедиции сегодня — по рекомендации четырех корабельных врачей, включая меня, — и они вернутся в Англию на грузовом и буксирном судах. В числе уволенных один человек с «Эребуса» — некий Томас Берт, оружейник, — и три человека с «Террора»: рядовой морской пехоты по имени Эйкин, матрос по имени Джон Браун и старший парусник Джеймс Эллиот. Таким образом, общая численность двух судовых команд сократилась до ста двадцати девяти. Повсюду развешана вяленая рыба, купленная у датчан; в воздухе висит облако угольной пыли — сотни мешков с углем были сегодня перенесены с «Баретто Джуниор», — и матросы на «Эребусе» усердно скребут и скоблят палубу гладкими камнями, которые называют молитвенниками, а офицеры подгоняют их криками. Несмотря на дополнительную работу, все матросы находятся в приподнятом настроении ввиду обещанного вечером пиршества и добавочных порций грога. Помимо четырех человек, уволенных по состоянию здоровья, сэр Джон отправляет с «Баретто Джуниор» июньские отчеты, официальные сообщения и всю личную корреспонденцию. Ближайшие несколько дней все будут строчить письма. Следующее послание, которое получат наши любимые, будет отправлено из России или Китая!
12 июля 1845 г.
Два китобойных судна — «Принц Уэльский» и «Энтерпрайз» — встали на якорь неподалеку от места, где мы пришвартовались к плавучей ледяной горе. Я провел много часов, разговаривая с капитанами и членами команд о белых медведях. Я также испытал явственный ужас, если не удовольствие, поднявшись на этот огромный айсберг сегодня утром. Матросы взобрались на него вчера с утра пораньше, вырубив топорами в отвесной ледяной стене ступеньки, а потом натянув по сторонам от них тросы для менее ловких и проворных. Сэр Джон распорядился устроить обсерваторию на вершине гигантского айсберга, высотой превосходящего самую высокую нашу мачту в два с лишним раза, и, пока лейтенант Гор и несколько офицеров с «Террора» поднимали метеорологические и астрономические приборы наверх — накануне там установили палатку для людей, ночевавших на крутой ледяной горе, — наши ледовые лоцманы, мистер Рейд с «Эребуса» и мистер Блэнки с «Террора», провели всю светлую часть дня, всматриваясь в западный и северный горизонты сквозь медные подзорные трубы в поисках, как мне сказали, наиболее удобного пути через почти сплошное ледяное поле, уже образовавшееся там. Эдвард Кауч, наш весьма сведущий и словоохотливый помощник капитана, говорит, что в данную пору арктического сезона для кораблей уже поздно искать какие-либо проходы во льдах, а тем более легендарный Северо-Западный проход. При виде пришвартованных к айсбергу «Эребуса» и «Террора» внизу, путаницы веревок (которые теперь мне, как старому морскому волку, надлежит называть тросами), прочно связывающих суда с ледяной горой, и самых высоких на кораблях«вороньих гнезд» под моими ногами, нетвердо стоящими на скользкой ледяной вершине, столь высоко вознесшейся надо всем, я испытал своего рода болезненный, смешанный с ужасом восторг и головокружение. Восхитительно было стоять там, на высоте трехсот футов над морем — вершина айсберга представляла собой площадку размером с центральную часть крикетного поля, и палатка с нашей метеорологической обсерваторией казалась неуместной на голубом льду, — но мои надежды предаться в тиши возвышенным грезам были разрушены беспрестанной ружейной пальбой, ибо мужчины, рассыпавшиеся по вершине нашей ледяной горы, стреляли птиц (арктических крачек, как мне сказали) сотнями. Бесчисленные груды этих птиц будут засолены и убраны на хранение, хотя одному Богу ведомо, куда поставят дополнительные бочонки с солониной, ибо оба наших корабля уже трещат по всем швам и сидят в воде низко под тяжестью своего груза. Доктор Макдональд, фельдшер с «Террора», — мой коллега, собственно говоря, — держится мнения, что засоленная пища не столь полезна и богата витаминами, как свежие или не обработанные солью продукты, а поскольку члены обеих судовых команд предпочитают соленую свинину всем прочим блюдам, доктор Макдональд беспокоится, что пища сильного соления будет мало способствовать нашей защите от цинги. Однако Стивен Стенли, корабельный врач «Эребуса», считает подобные опасения беспочвенными. Он указывает, что помимо десяти тысяч банок консервов на борту одного только «Эребуса» наши запасы консервированных продуктов включают в себя вареную и жареную баранину, говядину, самые разные овощи, в том числе картофель, морковь, пастернак, овощные салаты, а также широкое разнообразие супов и 9450 фунтов шоколада. Почти столько же фунтов — 9300 — лимонного сока взяты на борт в качестве нашего главного противоцинготного средства. По словам Стенли, простые матросы терпеть не могут выдаваемый ежедневно лимонный сок, даже изрядно подслащенный сахаром, и одна из основных обязанностей экспедиционных врачей — следить за тем, чтобы они его исправно пили. Меня удивило, что офицеры и матросы обоих наших кораблей охотятся преимущественно с дробовиками. Лейтенант Гор заверяет меня, что на каждом корабле имеется полный арсенал мушкетов. Конечно, представляется целесообразным использовать дробовики при охоте на птиц, подобных тем, каких убивали сотнями сегодня, но даже в заливе Диско, когда небольшие отряды ходили охотиться на карибу и песцов, мужчины — даже морские пехотинцы, явно обученные обращению с мушкетами, — предпочитали брать с собой дробовики. Разумеется, дело здесь не столько в привычке, сколько в предпочтении: офицеры в большинстве своем английские джентльмены, которые никогда прежде не пользовались мушкетами или винтовками на охоте, и даже морские пехотинцы в прошлом охотились почти исключительно с дробовиками и пользовались однозарядными ружьями разве только в ближнем морском бою. Но интересно знать, хватит ли мощности дробовика, чтобы убить большого белого медведя? Мы еще не видели ни одного из этих поистине удивительных животных, хотя все бывалые офицеры и матросы заверяют меня, что мы встретимся с ними, как только войдем в паковые льды, а если не тогда, то уж наверняка во время зимовки — коли нам придется зимовать во льдах. Истории о неуловимых белых медведях, поведанные мне здесь китобоями, потрясают воображение и леденят душу. Пока я пишу сии строки, меня уведомляют, что течение, или ветер, или, возможно, некие требования китобойного промысла вынудили обоих китобойцев, «Принца Уэльского» и «Энтерпрайз», уйти от места нашей швартовки у ледяной горы. Капитан сэр Джон не будет сегодня вечером обедать с капитаном одного из них (кажется, капитаном Мартином с «Энтерпрайза»), как планировалось. Что более существенно, помощник капитана Роберт Серджент сию минуту сообщил мне, что наши люди спускают вниз астрономические и метеорологические приборы, сворачивают палатку и сматывают сотни ярдов веревки — то есть троса, — благодаря которым я взбирался на вершину айсберга сегодня. Очевидно, ледовые лоцманы, капитан сэр Джон, командор Фицджеймс, капитан Крозье и прочие офицеры определились с выбором пути через постоянно перемещающиеся паковые льды. Мы покинем наше временное ледяное пристанище через считанные минуты и продолжим путь, двигаясь на северо-запад, покуда позволяют арктические сумерки, кажущиеся бесконечными. Отныне мы будем вне досягаемости даже для самых отважных китобойцев. Что касается мира вне нашей бесстрашной экспедиции, то, как сказал Гамлет, дальнейшее — молчание.
5. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 9 ноября 1847 г.Крозье видит во сне пикник на берегу Утконосова пруда и Софию, ласкающую его под водой, когда слышит звук выстрела и просыпается, вздрогнув всем телом. Он рывком садится в койке, не зная, сколько сейчас времени, не зная, день сейчас или ночь — хотя теперь разницы между днем и ночью нет, поскольку как раз сегодня солнце окончательно скрылось, чтобы появиться только в феврале, через три с лишним месяца, — но, еще не успев зажечь маленький фонарь в своей каюте, чтобы посмотреть на часы, он понимает, что уже поздно. На корабле царят обычные тишина и покой — тишина, нарушаемая лишь мучительным скрипом дерева и металла внутри, храпом, бормотанием и попердыванием спящих людей да чертыханиями кока мистера Диггла; и покой, если не считать беспрестанного треска, скрежета, стона и глухого гула льда снаружи. Ко всему этому сегодня ночью добавился жуткий вой крепкого ветра, похожий на вопли призрака, предвещающие смерть. Но Крозье разбудил не шум льда или ветра, а выстрел. Приглушенный многослойной обшивкой корпуса и покровом из льда и снега — но именно выстрел, без сомнений. Крозье спал почти полностью одетым и теперь успел натянуть на себя почти все остальные поддевки и уже готов надеть верхнюю одежду, когда Томас Джопсон, его стюард, стучит в каюту на свой обычный манер: три отчетливых легких удара костяшками пальцев. Капитан открывает задвижную дверь. – Тревога на палубе, сэр. Крозье кивает. – Кто держит вахту сегодня ночью, Томас? Хронометр показывает без малого три пополуночи. Память, хранящая ноябрьский суточный график дежурств, подсказывает капитану имена за мгновение до того, как Джопсон произносит их вслух: — Билли Стронг и рядовой Хизер, сэр. Крозье снова кивает, берет с буфета пистолет, проверяет, заряжен ли он, сует за ремень и протискивается мимо вестового в офицерскую столовую, примыкающую к крохотной капитанской каюте со стороны правого борта, а потом быстро проходит через следующую дверь к главному трапу. Жилая палуба почти полностью погружена во тьму в столь ранний час — исключение составляет тусклый ореол света вокруг плиты мистера Диггла, — но в нескольких офицерских каютах зажигаются фонари, когда Крозье останавливается у подножья трапа, чтобы снять с крюка толстую зимнюю шинель и влезть в нее. Задвижные двери начинают открываться. Старший помощник капитана Хорнби подходит к трапу и останавливается рядом с Крозье. Первый лейтенант Литтл торопливо шагает по коридору, неся три мушкета и саблю. За ним следуют лейтенанты Ходжсон и Ирвинг, которые тоже несут оружие. Дальше за трапом матросы недовольно ворчат в своих койках, но второй помощник капитана Роберт Томас уже собирает рабочую группу, буквально вытряхивая спящих людей из коек и толкая к трапу, за верхней одеждой и оружием. – Кто-нибудь уже поднимался на палубу посмотреть, в чем там дело? — спрашивает Крозье своего старшего помощника. – Мистер Мейл, сэр, — отвечает Хорнби. — Он поднялся наверх сразу после того, как послал за вами вашего стюарда. Рубен Мейл — баковый старшина. Человек спокойный и выдержанный. Билли Стронг, несущий вахту у левого борта, раньше ходил в море, как известно Крозье, на военном корабле «Белвидер». Он не стал бы палить по привидениям. Вторым вахтенным был самый старший — и, по мнению Крозье, самый глупый — из оставшихся в живых морских пехотинцев, Уильям Хизер. Все еще рядовой в свои тридцать пять, часто хворый, слишком часто пьяный и ни к чему толком не годный, Хизер едва не отправился домой с острова Диско два года назад за компанию со своим лучшим другом Билли Эйкином, уволенным из экспедиции и отосланным обратно в Англию на «Рэттлере». Крозье засовывает пистолет в огромный карман своей толстой шерстяной шинели, берет у Джопсона фонарь, заматывает шарфом лицо и первым поднимается по накрененному трапу.
Снаружи темно, как у кита в брюхе: ни звезд, ни северного сияния, ни луны — и холодно: термометр показывал минус шестьдесят три градуса шесть часов назад, когда молодого Ирвинга посылали наверх произвести измерения, а теперь неистовый ветер с воем проносится над обрубками мачт и покатой обледенелой палубой, заметая все вокруг густым снегом. Выйдя из-под заиндевелого парусинового навеса над главным люком, Крозье прикрывает рукой в рукавице лицо, чтобы защитить глаза от снега, и видит слабый свет фонаря у правого борта. Рубен Мейл стоит на одном колене над рядовым Хизером, который лежит навзничь, без фуражки и «уэльского парика», а также, видит Крозье, без доброй половины черепа. Крови, похоже, нет, но Крозье видит мозг морского пехотинца, поблескивающий в свете фонаря — поблескивающий, осознает капитан, поскольку кашицеобразное серое вещество уже покрыто ледяными кристаллами. – Он еще жив, капитан, — говорит баковый старшина. – Господи Иисусе, твою мать, — бормочет один из матросов, толпящихся позади Крозье. – Отставить! — рявкает старший помощник. — Никакого сквернословия, мать твою. Держи свою чертову пасть закрытой, пока к тебе не обращаются, Крисп. — Голос Хорнби — нечто среднее между рычанием мастиффа и бычьим храпом. – Мистер Хорнби, — говорит Крозье. — Прикажите матросу Криспу бегом спуститься вниз и принести свой гамак, чтобы отнести в лазарет рядового Хизера. — Есть, сэр, — хором откликаются Хорнби и матрос. Частый топот тяжелых башмаков тонет в пронзительном вое ветра. Крозье поднимается на ноги и светит фонарем вокруг. Там, где рядовой Хизер стоял на посту у основания обледенелых вант, толстый планширь разбит в щепы. За проломом, знает Крозье, снежно-ледяной скат длиной тридцать или более футов уходит вниз подобием горки для катания на санках, но большая часть ската сейчас не видна за плотной снежной пеленой. В маленьком круге света от фонаря никаких следов на снегу не видно. Рубен Мейл поднимает мушкет Хизера. — Из него не стреляли, капитан. – В такую метель рядовой Хизер не мог увидеть зверя, пока тот не набросился на него, — говорит лейтенант Литтл. – А что Стронг? — спрашивает капитан. Мейл указывает рукой в сторону противоположного борта. — Он пропал, капитан. Крозье обращается к Хорнби: — Возьмите одного человека и оставайтесь с рядовым Хизером, пока Крисп не вернется с гамаком, а затем отнесите раненого вниз. Внезапно в круг света входят оба врача — Педди и его помощник, Макдональд. Макдональд одет легко. – Господи Иисусе! — восклицает главный корабельный врач, опускаясь на колени рядом с морским пехотинцем. — Он еще дышит. – Помогите ему, коли можете, Джон, — говорит Крозье. Он указывает на Мейла и полдюжины остальных матросов, сгрудившихся вокруг. — Все остальные — за мной. Держите оружие наготове, даже если для этого вам придется снять рукавицы. Уилсон, возьмите оба фонаря. Лейтенант Литтл, пожалуйста, спуститесь вниз и отберите еще двадцать надежных парней, выдайте всем полное обмундирование и мушкеты — не дробовики, а мушкеты. – Слушаюсь, сэр, — отвечает Литтл, пытаясь перекричать шум ветра, но Крозье уже ведет людей прочь, огибая наметенный сугроб и вибрирующий шатер посреди корабля и поднимаясь по наклонной палубе к посту часового у левого борта. Уильям Стронг сгинул. Клочья длинного шерстяного шарфа, запутавшиеся здесь в снастях, бешено бьются на ветру. Шинель Стронга, «уэльский парик», дробовик и одна рукавица валяются возле фальшборта с подветренной стороны палубного гальюна, где часовые обычно прячутся от ветра, но сам Уильям Стронг исчез. Обледенелый планширь — там, где матрос, вероятно, стоял, когда увидел огромную тень, надвигающуюся на него из снежного морока, — измазан кровью. Не говоря ни слова, Крозье знаком отправляет двух вооруженных мужчин с фонарями к корме, еще трех — к носу, а одного отсылает заглянуть с фонарем под парусиновый навес посреди палубы. — Сбросьте трап здесь, Боб, — говорит он Роберту Томасу. Второй помощник капитана тащит на плечах груду свежей — в смысле, не промерзшей — веревки, принесенной снизу. В считанные секунды веревочный трап сбрасывается с борта. Крозье спускается первым. На куче льда и снега, наваленной вдоль открытого левого борта, они видят еще кровь. Полосы крови — кажущиеся почти черными в фонарном свете — тянутся от пушечных портов к постоянно меняющемуся лабиринту заструг и торосов, не столько видимых взором, сколько ощутимых шестым чувством в темноте. – Оно заманивает нас туда, сэр, — говорит второй лейтенант Ходжсон, придвигаясь ближе к капитану, чтобы быть услышанным в шуме яростного ветра. – Разумеется, — говорит Крозье. — Но мы все равно пойдем. Возможно, Стронг еще жив. Нам не впервой видеть такое. Крозье оглядывается. Помимо Ходжсона, по трапу за ним спустились всего трое мужчин — остальные либо обыскивали верхнюю палубу, либо относили вниз рядового Хизера. У них всего два фонаря на пятерых. — Армитедж, — обращается Крозье к вестовому, чья белая борода уже густо запорошена снегом, — отдайте свой фонарь лейтенанту Ходжсону и идите с ним. Гибсон, вы останетесь здесь и скажете лейтенанту Литтлу, куда мы направились, когда он придет с основным поисковым отрядом. Скажите, чтобы он ни в коем случае не позволял своим людям открывать огонь, пока не убедятся, что целятся не в одного из нас. — Есть, капитан. Крозье обращается к Ходжсону: – Джордж, вы с Армитеджем пройдите ярдов на двадцать туда, в сторону носа, а затем двигайтесь параллельно нам, в южном направлении. Старайтесь, чтобы ваш фонарь оставался в нашем поле зрения, и не теряйте из виду наш. – Есть, сэр. – Том, — обращается Крозье к единственному оставшемуся человеку, молодому Эвансу, которому еще не стукнуло и двадцати, — ты пойдешь со мной. Держи винтовку наготове, но не снимай с предохранителя. – Есть, сэр. — У парня стучат зубы. Крозье ждет, когда Ходжсон отойдет на двадцать ярдов вправо — свет его фонаря еле пробивается сквозь летящий густой снег, — а потом ведет Эванса в лабиринт торосных гряд, двигаясь по прерывистым кровавым полосам на льду. Он знает, что даже трехминутного промедления хватило бы, чтобы еле заметный след напрочь замело снегом. Капитан даже не дает себе труда вынуть пистолет из кармана шинели. Меньше чем через сто ярдов, когда огни фонарей на палубе «Террора» теряются в снежной мгле, Крозье достигает нагромождения ледяных глыб, образовавшегося в месте стыка двух ледяных полей, со страшной силой напирающих друг на друга и трущихся краями одно о другое. Экспедиция сэра Джона Франклина видела, как такие торосные гряды появляются словно по волшебству, вздымаются ввысь с оглушительным треском и скрежетом, а потом вытягиваются по поверхности замерзшего моря — зачастую двигаясь быстрее, чем бегущий во весь дух человек. Эта гряда высотой по меньшей мере тридцать футов — колоссальное нагромождение ледяных глыб, каждая из которых размером с двухколесный экипаж, самое малое. Крозье идет вдоль гряды, подняв фонарь по возможности выше. Фонаря Ходжсона к западу от них больше не видно — видимость здесь сильно ограничена, ибо повсюду вокруг вздымаются ледяные башни, загораживающие обзор. В пределах мили, отделяющей «Террор» от останков «Эребуса», возвышается огромная ледяная гора, и еще с полдюжины таких же можно увидеть окрест лунной ночью. Но сегодня поблизости нет никаких айсбергов — только эта торосная гряда высотой с трехэтажное здание. — Здесь! — кричит Крозье, перекрывая шум ветра. Эванс подходит ближе, вскинув свою винтовку. Полоса черной крови на белой ледяной стене. Существо заволокло Уильяма Стронга на эту ледяную гору, поднявшись по крутому, почти отвесному склону. Крозье начинает взбираться наверх, держа фонарь в правой руке и шаря по сторонам левой в поисках щелей и трещин для своих замерзших пальцев и уже обледенелых башмаков. В спешке он забыл надеть свои особые башмаки, подметки которых Джопсон пробил длинными гвоздями для надежного сцепления с подобными ледяными поверхностями, и теперь обычные форменные башмаки безбожно скользят по льду. Но двадцатью пятью футами выше, прямо под неровным зубчатым гребнем торосной гряды, он находит еще пятна застывшей крови и потому крепко сжимает фонарь в правой руке, резко отталкивается левой ногой от покатой ледяной полки и с усилием взбирается на вершину, слыша скрип своей задубевшей на морозе шинели. Капитан не чувствует носа, и пальцы у него тоже онемели от холода. — Капитан, — кричит Эванс из темноты внизу, — мне подниматься за вами? Крозье слишком сильно запыхался, чтобы говорить, но через несколько секунд переводит дух и кричит вниз: — Нет… подожди там. Теперь он видит слабый свет фонаря Ходжсона на северо-западе — они с Армитеджем еще находятся в тридцати с лишним ярдах от торосной гряды. Размахивая руками, чтобы сохранить равновесие на ветру, сильно наклоняясь вправо, когда слева на него налетает мощный порыв, яростно трепля конец шарфа и грозя сбросить с гребня, Крозье направляет луч фонаря на южный склон гряды. Здесь склон круто, почти отвесно уходит вниз на тридцать пять футов. Ни следа Уильяма Стронга — никаких темных пятен на льду, никаких признаков, свидетельствующих о том, что какое-либо существо, живое или мертвое, спускалось здесь. Спуск по этой отвесной ледяной стене представляется Крозье делом абсолютно немыслимым. Крозье трясет головой — осознавая, что ресницы и веки у него почти смерзлись, и глаза открываются с трудом, — и начинает спускаться обратно. Дважды он чуть не срывается и не падает на острые зубцы льда внизу, но наконец съезжает по склону последние футов восемь к месту, где ждет Эванс. Но Эванс исчез. Винтовка валяется на снегу, по-прежнему поставленная на предохранитель. На вихрящемся под ногами снегу никаких следов — ни человеческих, ни каких-либо других. — Эванс!!! — За тридцать пять с лишним лет службы во флоте капитан Френсис Родон Крозье выработал зычный командный голос, способный перекрыть шум ураганного юго-западного ветра или рев снежной бури и вспененных валов в Магеллановом проливе. Сейчас он орет в полную силу легких: — Эванс!!! Никакого ответа — только вой ветра. Крозье поднимает винтовку, проверяет, заряжена ли она, и стреляет в воздух. Треск выстрела кажется еле слышным даже ему самому, но он видит, как фонарь Ходжсона вдруг поворачивает к нему, и различает в снежной мгле еще три тусклых огонька, приближающихся со стороны «Террора». Всего в двадцати футах от него раздается рев. Так мог бы реветь ветер, нашедший новый путь вокруг ледяного тороса, но Крозье знает: это не ветер. Он ставит фонарь на снег, роется в кармане, достает пистолет, стягивает зубами рукавицу с руки и держит бесполезное оружие перед собой. — Иди сюда, дьявол тебя подери! — истошно вопит он. — Иди и попробуй взять меня вместо мальчишки, ты, мохнатое, грязное, зловонное отродье сифилитичной хайгейтской шлюхи! По-прежнему никакого ответа — только вой ветра.
6. Гудсер
74°43′28″северной широты, 90°39′15″ западной долготы Остров Бичи, зима 1845-46 гг.
Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсера
1 января 1846 г.
Джон Торрингтон, кочегар с «Террора», умер сегодня рано утром. В первый день нового года. Пошел пятый месяц, как нас затерло льдами здесь, у острова Бичи. Смерть Торрингтона не стала неожиданностью. Уже несколько месяцев было ясно, что он болел чахоткой в поздней стадии, когда нанялся в экспедицию, и если бы симптомы проявились всего на несколько недель раньше, в конце лета, беднягу отправили бы домой на «Рэттлере» или даже на одном из двух китобойных судов, которые мы встретили перед тем, как двинуться на запад через Баффинов залив и пролив Ланкастера к арктическим пустыням, где сейчас зимуем. По злой иронии судьбы, лечащий врач Торрингтона сказал парню, что плавание благоприятно подействует на его здоровье. Разумеется, Торрингтона лечили старший судовой врач Педди и доктор Макдональд с «Террора», но я несколько раз присутствовал на консилиумах в период постановки диагноза и был препровожден на их корабль несколькими матросами «Эребуса» сегодня утром, после кончины молодого человека. Когда в начале ноября болезнь стала явной, капитан Крозье освободил двадцатилетнего кочегара от работы на плохо проветриваемой трюмной палубе — одной угольной пыли, висящей там в воздухе, достаточно, чтобы вызвать удушье у человека даже со здоровыми легкими, — и с тех пор состояние Джона Торрингтона неуклонно ухудшалось. И все же Торрингтон мог бы протянуть еще не один месяц, если бы не дополнительный фактор, ускоривший его смерть. Доктор Александр Макдональд говорит, что Торрингтон — который последние несколько недель ослаб настолько, что уже даже не мог совершать свои обычные прогулки по жилой палубе при помощи товарищей, — в Рождество свалился с пневмонией, и с тех пор они несли дежурство у постели умирающего. Увидев тело сегодня утром, я был поражен крайним истощением покойного Джона Торрингтона, но Педди и Макдональд объяснили, что последние два месяца аппетит у него неуклонно понижался и хотя корабельные врачи изменили рацион больного, введя в него больше консервированных супов и овощей, он продолжал терять в весе. Сегодня утром я наблюдал за тем, как Педди и Макдональд готовили покойного к погребению (Торрингтон был в свежей рубашке в полоску, с аккуратно подстриженными волосами и чистыми ногтями): подвязали чистым бинтом челюсть, чтобы она не отвисала, а потом обмотали тело с прижатыми к бокам руками длинными полосами белой бумажной ткани на уровне локтей и кистей и стянули бинтами лодыжки. Они сделали это, чтобы конечности не болтались при взвешивании бедного мальчика — весы показали всего 88 фунтов! — и произвели другие необходимые приготовления к погребению. Вопрос о вскрытии трупа не обсуждался, поскольку представлялось очевидным, что парня убила чахотка, осложненная пневмонией, и опасности заражения других членов команды нет. Я помог двум своим коллегам с «Террора» положить тело Торрингтона в гроб, со всем тщанием изготовленный искусным корабельным плотником Томасом Хани и его помощником по имени Уилсон. Трупного окоченения не наблюдалось. Дно гроба, столь аккуратно выструганного и сколоченного из красного дерева, плотники устлали стружками, насыпав в изголовье побольше, — и, поскольку запах разложения еще почти не ощущался, воздух был напоен ароматом свежих стружек.
3 января 1846 г.
Я все продолжаю думать о погребении Джона Торрингтона, состоявшемся вчера вечером. На скорбной церемонии присутствовала лишь немногочисленная группа представителей «Эребуса», но вместе с сэром Джоном, командором Фицджеймсом и несколькими офицерами я тоже прошел пешим ходом от нашего корабля до «Террора», а оттуда еще двести ярдов до берега острова Бичи. Я не в силах представить более ужасной зимы, чем нынешняя, которую мы проводим во льдах под прикрытием скалистого мыса острова Бичи, в свою очередь защищенного от ветра более крупным островом Девон, но командор Фицджеймс и остальные заверяют меня, что наше положение — даже с учетом коварных торосных гряд, жуткой тьмы, завывающих штормовых ветров и постоянно грозящих раздавить нас льдов — было бы в тысячу раз хуже в отдалении от места нашей стоянки, в открытом море, где поля льда движутся от полюса, подобно наступающим воинствам некоего грозного арктического божества. Товарищи Джона Торрингтона осторожно спустили гроб — уже накрытый тонкой шерстяной тканью синего цвета — с борта корабля, косо стоящего на высокой ледяной платформе, а другие матросы «Террора» привязали гроб к широким саням. Сэр Джон собственноручно накрыл гроб государственным флагом, а потом друзья и товарищи Торрингтона встали в упряжь и протащили сани примерно шестьсот футов до покрытого льдом галечного берега острова Бичи. Погребальная церемония происходила незадолго до наступления кромешной тьмы, поскольку в январе солнце не показывается здесь даже в середине дня и не показывалось вот уже три месяца. Говорят, пройдет еще месяц с лишним, прежде чем южный горизонт вновь поприветствует нашу огненную звезду. Так или иначе, вся процессия — гроб, сани, запряженные в них матросы, офицеры, врачи, сэр Джон, морские пехотинцы в полном обмундировании, сокрытом под грязно-коричневыми зимними шинелями, надетыми на всех нас, — освещалась лишь покачивающимися фонарями, когда мы двигались по скованному льдом морю к покрытому льдом берегу. Люди с «Террора» прорубили и расчистили проходы через несколько торосных гряд, недавно выросших между нами и отлогим галечным берегом, так что мы практически не отклонялись в сторону от нашего скорбного пути. В начале зимы сэр Джон распорядился установить ряд крепких столбов с натянутыми между ними тросами и подвесными фонарями по кратчайшему пути между нашими кораблями, а также усыпать галькой проход к нескольким построенным нами сооружениям — одно предназначалось для хранения значительной части провианта, перенесенного туда с кораблей на случай, если льды раздавят наши суда; другое служило своего рода аварийной ночлежкой и научной станцией; а в третьем находилась кузница оружейников, перемещенная туда, чтобы наши деревянные дома случайно не возгорелись от искр и вырывающихся из горна языков пламени. Но маршрут, отмеченный столбами и фонарями, пришлось забросить, поскольку лед постоянно движется, вздымается и опрокидывает или ломает все, установленное на его поверхности. Во время похорон шел снег. Дул сильный ветер, обычный в этой богом забытой арктической пустыне. К северу от места погребения вздымались отвесные черные скалы, столь же неприступные, как горы на Луне. Свет фонарей, горевших на «Эребусе» и «Терроре», еле пробивался сквозь снежную мглу. Время от времени из-за стремительно несущихся облаков выглядывал краешек холодной луны, но даже тусклый, бледный лунный свет быстро мерк в темноте за плотной завесой снега. Боже мой, сей мрачный, безотрадный край поистине сравним с преисподней. Сразу после кончины Торрингтона несколько самых сильных матросов с «Террора» работали практически без передышки несколько часов кряду, выкапывая лопатами и кирками могилу — глубиной в положенные пять футов, согласно приказу сэра Джона. Одного взгляда на яму, вырубленную в твердом, как железо, льду и промерзшем каменистом грунте, было достаточно, чтобы понять, какой колоссальный труд в нее вложен. «Юнион Джек» убрали, и гроб осторожно, почти почтительно опустили в узкую могилу. Крышку гроба мгновенно запорошило снегом, искрившимся в свете наших нескольких фонарей. Один из офицеров Крозье установил в изголовье могилы надгробную дощечку, вслед за тем вбитую в замерзшую землю несколькими ударами деревянного молота, которым орудовал гигантского роста моряк. Надпись, аккуратно вырезанная на дощечке, гласила:
ПАМЯТИ ДЖОНА ТОРРИНГТОНА, отошедшего в мир иной 1 января 1846 года от Р.Х. на борту корабля ее величества «Террор» в возрасте 20 лет.
Сэр Джон провел заупокойную службу и произнес надгробное слово. Оно продолжалось несколько минут, и тихий монотонный голос звучал в полной тишине, нарушаемой лишь шумом ветра да притопыванием людей, старающихся спасти от обморожения пальцы ног. Должен признаться, я плохо слушал надгробную речь сэра Джона, отвлекаясь на вой ветра и собственные блуждающие мысли, подавленный унылой суровостью местности, печальными думами о мертвом теле, обряженном в полосатую рубашку, со стянутыми бинтами конечностями, только сейчас опущенном в хладную могилу, и более всего подавленный вечной чернотой скал, нависающих над узким каменистым берегом. Наконец заупокойная служба завершилась. Матросы оттащили сани к лачуге оружейников и оставили там. Толпа разделилась на две группы — более многочисленная двинулась во главе с капитаном Крозье к «Террору», а мы направились к нашему дому на «Эребусе», находящемся чуть дальше от берега. Несколько раз я оглядывался на четыре фонаря, стоявших на земле рядом с четырьмя матросами, которые задержались, чтобы засыпать могилу мерзлой землей и камнями. В ближайшие дни, я знал, товарищи молодого Торрингтона собирались выложить вокруг одинокой могилы бордюр из ракушек и белых камешков. Мы еще не прошли и половины пути до корабля, когда фонари стали невидимы во мгле набирающей силу вьюги.
4 января 1846 г.
Еще один человек умер. На сей раз член нашей судовой команды, двадцатипятилетний матрос Джон Хартнелл. В самом начале седьмого часа вечера, по моей оценке, когда в кубрике спускали на цепях столы для ужина, Хартнелл пошатнулся, навалившись на своего брата Томаса, упал на пол, стал харкать кровью и через пять минут испустил дух. Врач Стенли и я находились рядом с ним, когда он умер, в расчищенной носовой части жилой палубы, отведенной под лазарет. Его смерть ошеломила нас. У Хартнелла не наблюдалось никаких симптомов цинги или чахотки. Командир корабля Фицджеймс присутствовал там с нами и не мог скрыть своего ужаса — если причиной смерти явилась некая разновидность чумы или цинга, начавшая распространяться среди команды, нам необходимо было выяснить это немедленно. Прямо на месте, пока занавески оставались задернутыми и никто не взялся готовить Джона Хартнелла к погребению, мы приняли решение произвести вскрытие трупа. Мы расчистили стол на территории лазарета, дополнительно отгородились от толпившихся в кубрике людей стенкой, наспех возведенной из упаковочных клетей, поплотнее задвинули занавески, и я принес свои инструменты. Стенли, хотя и занимающий должность старшего корабельного врача, высказал мнение, что производить вскрытие следует мне, поскольку я анатом по образованию. Я сделал первый разрез и принялся за работу. Я мгновенно осознал, что впопыхах сделал разрез в виде перевернутой «Y», какой обычно применял на практических занятиях в анатомическом театре, когда сильно спешил; в отличие от общепринятого Y-образного разреза, две косые линии которого тянутся вниз от плеч и сходятся у основания грудины, косые линии моего разреза начинались над бедрами и встречались у пупа Хартнелла. Стенли сделал мне замечание, и я сконфузился. — Лишь бы поскорее, — тихо сказал я своему коллеге. — Нужно сделать все быстро — люди страшно не любят, когда тела их товарищей вскрывают. Врач Стенли кивнул, и я продолжил. Словно в подтверждение моих слов, младший брат Хартнелла принялся кричать и вопить по другую сторону занавески. В отличие от медленного угасания Торрингтона с «Террора», давшего команде время смириться с мыслью о скорой смерти товарища и приготовить письма к его матери, неожиданная кончина Джона Хартнелла глубоко потрясла людей. Никому из них не нравилось, что корабельные врачи кромсают труп. Теперь только звание и выдержка командора Фицджеймса стояли между возмущенным братом и смятенными матросами — и нашим лазаретом. Я слышал, что товарищи младшего Хартнелла и присутствие Фицджеймса удерживают парня на месте, но, когда мой скальпель рассек ткани и нож проник в межреберное пространство, я услышал также злобное ворчание всего в нескольких ярдах за занавеской. В первую очередь я извлек сердце Хартнелла, отрезав с ним часть трахеи, и поднес к свету фонаря. Стенли принял сердце из моих рук, стер с него кровь тряпицей, и мы вдвоем внимательно его осмотрели. Оно выглядело вполне нормально, никаких видимых признаков болезни не наблюдалось. Пока Стенли держал орган близко к свету, я сделал разрез на правом желудочке, потом на левом. Раздвинув плотные мышечные ткани, мы со Стенли осмотрели сердечные клапаны. Они казались вполне здоровыми. Положив сердце обратно в брюшную полость, я быстрыми движениями скальпеля отсек нижнюю часть легких. — Вот оно, — сказал Стенли. Я кивнул. В легких имелись отчетливые рубцы и другие признаки чахотки, а равно свидетельства недавно поразившей моряка пневмонии. Джон Хартнелл, как и Джон Торрингтон, был туберкулезником, но этот матрос — старший годами, более сильный и, по словам Стенли, более грубый и шумный — скрывал симптомы, вероятно, даже от себя самого. До сего дня, когда он вдруг упал в приступе и скончался всего за несколько минут перед тем, как получить свою порцию солонины. Вырезав и вынув из брюшной полости печень, я поднес ее к свету, и мы со Стенли оба обнаружили на ней признаки, сопутствующие чахотке, а равно свидетельства многолетнего злоупотребления спиртным. Всего в нескольких ярдах от нас, за занавеской, брат Хартнелла Томас шумно изъявлял свое негодование, удерживаемый на месте лишь суровыми окриками командора Фицджеймса. По доносившимся до меня голосам я понял, что несколько других офицеров — лейтенант Гор, лейтенанты Левеконт и Фейрхольм и даже помощник капитана Дево — присоединились к попыткам успокоить толпу матросов. — Пожалуй, мы увидели достаточно? — прошептал Стенли. Я снова кивнул. Симптомов цинги на теле, на лице, в ротовой полости и на внутренних органов не имелось. Хотя оставалось загадкой, каким образом чахотка, или пневмония, или обе вместе столь быстро убили матроса, по крайней мере представлялось очевидным, что опасаться какой-либо инфекционной болезни нет причин. Шум голосов за занавеской усиливался, поэтому я торопливо засунул легкие, печень и прочие органы обратно в брюшную полость, вместе с сердцем — не трудясь разложить их по надлежащим местам, но запихав все вперемешку, — а потом вернул на место грудную клетку, то есть те части ребер и грудины, которые вырезал. (Позже я осознал, что впопыхах поставил ее вверх ногами.) Затем главный врач Стенли зашил вилкообразный разрез, орудуя большой иглой с толстой суровой нитью с проворством и ловкостью, какие сделали бы честь любому портному. Еще через минуту мы облачили покойника в одежду — трупное окоченение уже начинало создавать известные трудности — и отдернули занавеску. Стенли, чей голос ниже и звучнее моего, заверил брата Хартнелла, Томаса, и остальных людей, что теперь нам остается лишь обмыть тело их товарища, чтобы они могли подготовить его к погребению.
6 января 1846 г.
Почему-то эта похоронная церемония подействовала на меня тяжелее, чем первая. Мы снова прошли скорбной процессией от корабля к острову — на сей раз в ней участвовали только люди с «Эребуса», хотя доктор Макдональд, главный врач Педди и капитан Крозье с «Террора» присоединились к нам. Снова накрытый флагом гроб — матросы надели на Хартнелла три рубахи, в том числе лучшую рубаху его брата Томаса, но нижнюю часть тела лишь завернули в саван, и на несколько часов оставили гроб в убранном траурными лентами лазарете открытым в верхней половине, заколотив крышку гвоздями только перед самой церемонией. Снова медленное шествие за водруженным на сани гробом по скованному льдом морю к покрытому льдом берегу, с покачивающимися в кромешном мраке фонарями, хотя звезды нынче в полдень светили и снег не шел. Для морских пехотинцев нашлось дело, ибо три огромных белых медведя, шумно сопя носом, подошли довольно близко, похожие на белых призраков среди ледяных глыб, и людям пришлось стрелять из мушкетов, чтобы отогнать зверей, одного из которых ранили в бок. Снова надгробное слово сэра Джона — хотя на сей раз покороче, поскольку Харнетт пользовался не такой любовью, как молодой Торрингтон, — и снова мы двинулись назад по трещащему, скрипящему, стонущему льду, под пляшущими в холодном небе звездами, слыша позади лишь постепенно затихающий скрежет лопат, бросающих мерзлую землю в новую яму рядом с красиво убранной могилой Торрингтона. Возможно, именно черная скала, нависающая над берегом, произвела на меня столь тягостное впечатление во время вторых похорон. Хотя на сей раз я намеренно встал к ней спиной и поближе к сэру Джону, дабы слышать слова надежды и утешения, я каждую секунду сознавал присутствие этой холодной, черной, отвесной, безжизненной и бездушной каменной стены позади — подобной вратам в страну, откуда не возвращался ни один смертный. В сравнении с холодной реальностью этого черного тусклого камня даже прочувствованная и вдохновенная речь сэра Джона не оказала значительного действия. Моральный дух на обоих кораблях низок. Еще не прошла и неделя нового года, а уже двое в нашей экспедиции умерли. Мы, четверо медиков, условились встретиться завтра в уединенном месте — в кладовой плотника в средней палубе «Террора», — дабы обсудить меры, кои необходимо принять во избежание новых смертей в нашей — похоже, про клятой — экспедиции. Надпись, начертанная на надгробии на второй могиле, гласит:
ПАМЯТИ ДЖОНА ХАРТНЕЛЛА, матроса корабля ее величества «Эребус», скончавшегося 4 января 1846 г. в возрасте 25 лет.
«Так говорит Господь: обратите сердце ваше на пути ваши». Аггей, 1–7.
За последний час ветер заметно усилился; близится полночь, и почти все фонари здесь, на жилой палубе «Эребуса», погашены; и я прислушиваюсь к вою ветра и думаю о двух холодных каменных насыпях там, на открытом ветрам, черном каменистом берегу, и думаю о двух мертвецах, лежащих в холодных могилах, и думаю о черной отвесной скале, вздымающейся над ними, и словно воочию вижу, как секущие крупинки снега уже начинают свою работу по стиранию надписей на деревянных надгробиях.
7. Франклин
70°03′29″ северной широты, 98°20′ западной долготы Примерно 28 миль к северо-северо-западу от Кинг-Уильяма 3 сентября 1846 г.Капитан сэр Джон Франклин редко бывал так собой доволен. Прошлая зима, проведенная во льдах у острова Бичи, в сотнях миль к северо-востоку от нынешнего местоположения кораблей, была во многих отношениях тяжелой — он первый готов признать это перед самим собой или перед равным по положению, хотя у него нет равных по положению в этой экспедиции, — и смерть трех участников экспедиции (Торрингтона и Хартнелла в самом начале января, а затем рядового морской пехоты Уильяма Брейна третьего апреля, которые все умерли от пневмонии) стала для всех потрясением. Франклин не знал ни одной другой морской экспедиции, в которой бы три человека умерли по естественным причинам так скоро. Именно Франклин выбрал слова, начертанные на надгробье тридцатидвухлетнего рядового Брейна: «Изберите себе ныне, кому служить» (Иисус Навин, 24:15), — и недолгое время они казались столько же увещеванием для несчастных команд «Эребуса» и «Террора», еще не поднявших мятеж, но уже близких к этому, сколько посланием для несуществующего путника, который пройдет мимо одиноких могил Брейна, Хартнелла и Торрингтона на том ужасном, покрытом льдом, каменистом берегу. Тем не менее четыре врача посовещались после смерти Хартнелла и решили, что, возможно, начинающаяся цинга ослабляет организм людей, позволяя пневмонии и таким болезням, как чахотка, принимать смертельные формы, и именно врачи Стенли, Гудсер, Педди и Макдональд порекомендовали сэру Джону изменить рацион команд: по возможности питаться свежими продуктами. Во тьме полярной зимы представлялось практически невозможным охотиться на каких-либо животных, помимо белых медведей (а участники прежних полярных экспедиций обнаружили, что употребление в пищу печени этого огромного грузного зверя порой по неизвестной причине ведет к смертельному исходу). За неимением свежего мяса и овощей врачи советовали урезать порции засоленной свинины и говядины или птичьего мяса и больше налегать на консервированные продукты — овощные супы и тому подобное. Сэр Джон выполнил рекомендации, распорядившись изменить стол на обоих кораблях таким образом, чтобы половину рациона составляли блюда, приготовленные из консервированных продуктов. Казалось, это дало желаемый результат. Больше ни один человек не умер и даже не заболел серьезно за период времени между началом апреля, когда скончался рядовой Брейн, и концом мая, когда оба корабля освободились из ледового плена в бухте у острова Бичи. Затем в считанные дни лед вскрылся, и Франклин — следуя по разводьям и каналам, выбираемым двумя его опытными ледовыми лоцманами, — под паром и парусами понесся на юго-запад быстрее дыма из пакли, как выражались капитаны поколения сэра Джона. Вместе с солнцем и открытой водой вернулись звери, птицы и представители морской фауны в великом множестве. В течение томительно длинных дней арктического лета, когда солнце оставалось над горизонтом почти до полуночи и температура воздуха иногда поднималась выше точки замерзания, в небе пролетали бесчисленные стаи мигрирующих птиц. Франклин мог отличить буревестников от чирков, гаг от гагарок и маленьких вертких тупиков от всех прочих. Неуклонно расширяющиеся каналы вокруг «Эребуса» и «Террора» буквально кишели гренландскими китами, которые стали бы предметом зависти для любого американского китобоя, и воды изобиловали треской, сельдью и мириадами других разновидностей мелкой рыбы, а также белухой и горбачами. Люди спускали на воду шлюпки и ловили рыбу, зачастую подстреливая маленьких китов забавы ради. Каждый охотничий отряд возвращался с добычей к ужину — с битой птицей, само собой, но также с теми проклятыми кольчатыми нерпами и гренландскими тюленями, которых совершенно невозможно подстрелить или поймать в их подледных укрытиях зимой, но которые теперь безбоязненно выходили на открытый лед, представляя собой удобные мишени. Вкус тюленины людям не нравился — слишком масляный и терпкий, — но что-то в сале этих скользких жирных животных восполняло нехватку полезныхвеществ, образовавшуюся в организмах за зиму. Охотники также стреляли в огромных ревущих моржей, видных в подзорные трубы на берегах отдаленных островов, где они рыли клыками землю в поисках устриц, а иные охотничьи отряды возвращались со шкурками и тушками песцов. По-прежнему в изобилии встречались грузные и неповоротливые белые медведи, но люди не обращали на них внимания, если только эти развалисто ступающие звери не обнаруживали признаков агрессии или не пытались завладеть добычей охотников. Мясо белых медведей никому особо не нравилось — уж во всяком случае теперь, когда имелась возможность найти пищу гораздо вкуснее. Последний приказ, добавленный ко всем прочим в последнюю минуту перед отплытием, обязывал Франклина, в случае, «если южные подступы к Северо-Западному проходу окажутся перекрытыми льдом или иными препятствиями», взять курс на север и выйти через пролив Веллингтона в «Открытое Полярное море» — по сути, направиться к Северному полюсу, — и Франклин делал то, что без всяких вопросов делал всю жизнь: выполнял приказы. Этим летом ведомые Франклином «Эребус» и «Террор» прошли южнее острова Девон, мимо мыса Уокер в неизведанные воды покрытого льдами архипелага. Предыдущим летом казалось, что он скорее будет вынужден двинуться к Северному полюсу, нежели найдет Северо-Западный проход. Капитан сэр Джон Франклин пока имел причины гордиться своими успехами. В ходе укороченного летнего плавания в прошлом, 1845 году (из Англии они отбыли с опозданием, а из Гренландии даже еще позже, чем планировали) он все же в рекордные сроки пересек Баффинов залив, прошел через пролив Ланкастера южнее острова Девон, потом через пролив Барроу — и обнаружил, что путь на юг мимо мыса Уокер в конце августа уже прегражден льдом. Но ледовые лоцманы доложили о чистых водах вдоль западного берега острова Девон и севернее, вплоть до пролива Веллингтон, и потому Франклин выполнил второй приказ: повернул на север, где мог оказаться свободный для навигации проход в Открытое Полярное море и к Северному полюсу. Выхода в легендарное Открытое Полярное море они там не нашли. Массив суши — полуостров Гриннелл, который, насколько понимали участники экспедиции Франклина, мог являться частью неизвестного Арктического континента, — преградил кораблям путь, вынудив их проследовать открытыми водами на северо-запад, потом взять курс почти строго на запад, а затем, по достижении западной оконечности полуострова, снова повернуть на север, где они наткнулись на сплошной ледяной массив, простиравшийся к северу от пролива Веллингтон и казавшийся бесконечным. Пять дней плавания вдоль той высокой ледяной стены убедили Франклина, Фицджеймса, Крозье и ледовых лоцманов, что к северу от пролива Веллингтон никакого Открытого Полярного моря нет. По крайней мере, этим летом. Ухудшающиеся ледовые условия вынудили их повернуть на юг и обогнуть массив суши, прежде известный как Земля Корнуоллис, но на поверку оказавшийся островом Корнуоллис. На худой конец, знал капитан сэр Джон Франклин, его экспедиция хотя бы разгадала эту загадку. Поскольку тогда, в конце лета 1845 года, быстро становился паковый лед, Франклин закончил плавание вокруг огромного пустынного острова Корнуоллис, снова вошел в пролив Барроу к северу от мыса Уокер, убедился, что путь на юг по-прежнему прегражден льдами — теперь сплошными, — и нашел место стоянки у маленького острова Бичи, войдя в бухточку, которую они обследовали двумя неделями раньше. Они прибыли как раз вовремя, знал Франклин, ибо через день после того, как они стали на якорь в той мелководной бухте, последние свободные для навигации каналы в проливе Ланкастера замерзли и движущиеся паковые льды сделали дальнейшее плавание невозможным. Представлялось сомнительным, что даже такие шедевры современного кораблестроения, как укрепленные дубом и железом «Эребус» и «Террор», смогли бы пережить зиму во льдах пролива. Но теперь было лето, и они уже много недель подряд шли на юго-запад, при случае пополняя запасы провианта, следуя по каждому каналу во льдах, высматривая любые проблески чистой воды, какие только можно увидеть из «вороньего гнезда» высоко на грот-мачте, и пробиваясь через льды при необходимости. «Эребус» по-прежнему шел впереди, прокладывая путь, по праву флагмана и по обязанности более тяжелого судна, с более мощным (на пять лошадиных сил мощнее) паровым двигателем. Но — вот проклятье! — при столкновении с подводной льдиной длинный ведущий вал при гребном винте погнулся и вышел из строя, после чего место головного корабля занял «Террор». Когда Кинг-Уильям виднелся всего милях в пятидесяти впереди в южном направлении, корабли вышли из-под укрытия огромного острова к северу от них — того самого, что преградил им путь прямо на юго-запад мимо мыса Уокер, каковым курсом Франклину предписывалось следовать, и вынудил направиться на юг через пролив Пил и доселе неисследованные проливы, — и теперь льды к югу и западу от них стали подвижными и снова почти сплошными. Корабли потеряли скорость и еле ползли. Лед стал толще, айсберги встречались чаще, каналы сузились и отстояли друг от друга дальше. Утром 3 сентября сэр Джон собрал на совещание своих капитанов, старших офицеров, инженеров и ледовых лоцманов. Все свободно поместились в личной каюте сэра Джона; в кормовой части «Эребуса», где на «Терроре» находилась офицерская кают-компания с библиотекой и музыкальной шкатулкой. Апартаменты сэра Джона Франклина составляли двенадцать футов в ширину и аж целых двадцать футов в длину, с отдельным гальюном в спальне, размещавшейся по правому борту. Приватный гальюн Франклина почти не уступал размерами каюте капитана Крозье и всех прочих офицеров. Эдмунд Хор, стюард сэра Джона, раздвинул обеденный стол, чтобы за ним поместились все присутствующие офицеры — командор Фицджеймс, лейтенанты Гор, Левеконт и Фейрхольм с «Эребуса», капитан Крозье и лейтенанты Литтл, Ходжсон и Ирвинг с «Террора». Помимо перечисленных восьми офицеров, сидевших по обе стороны стола — сэр Джон занял место во главе оного, рядом с правой переборкой и входом в личную спальню, — на совещании присутствовали также два ледовых лоцмана, мистер Блэнки с «Террора» и мистер Рейд с «Эребуса», а равно два инженера, мистер Томпсон с корабля Крозье и мистер Грегори с флагмана, которые все стояли в нижнем конце стола. Сэр Джон попросил также явиться одного из судовых врачей, Стенли с «Эребуса». Стюард подал вино, сыры и галеты, и какое-то время за столом велась непринужденная беседа, прежде чем сэр Джон призвал собрание к порядку.
— Джентльмены, — сказал сэр Джон, — уверен, все вы знаете, зачем мы собрались здесь. Последние два месяца продвижение нашей экспедиции, по милости Божьей, происходило самым успешным образом. Мы удалились от острова Бичи почти на триста пятьдесят миль. Наши впередсмотрящие и санные разведчики по-прежнему докладывают о разводьях к югу и западу от нас. Возможно, нам еще удастся — с Божьей помощью — достичь открытой воды и пройти по Северо-Западному проходу этой осенью. Но лед к западу от нас, насколько я понимаю, становится толще и сплоченнее. Мистер Грегори докладывает, что главный ведущий вал «Эребуса» получил повреждение при столкновении со льдиной и что, хотя мы по-прежнему можем идти под паром, мощность флагманского судна снизилась. Наши запасы угля иссякают. Скоро наступит зима. Другими словами, джентльмены, мы должны решить — здесь и сейчас, — как нам действовать дальше и какого курса держаться. Думаю, справедливо будет сказать, что решение, принятое нами здесь, обусловит успех или неудачу нашей экспедиции. Последовало продолжительное молчание. Сэр Джон подал знак рыжебородому ледовому лоцману «Эребуса». — Вероятно, прежде чем высказать мнения и начать дискуссию, нам будет полезно выслушать наших ледовых лоцманов, инженеров и врача. Мистер Рейд, будьте любезны, сообщите присутствующим все, что вы доложили мне вчера насчет течений и прогнозируемых ледовых условий. Рейд, стоявший в нижнем конце стола со стороны, где сидели пять офицеров с «Эребуса», прочистил горло. Будучи по природе своей человеком замкнутым и необщительным, он густо покраснел, смущенный необходимостью держать речь перед столь высоким обществом. — Сэр Джон… джентльмены… ни для кого не секрет, что мы… что нам чертовски везло с ледовой обстановкой с тех пор, как корабли освободились из ледового плена в мае и в самом начале июня покинули бухту у острова Бичи. В проливах мы шли в основном через ледяное сало. Оно не проблема. Ночами — если говорить о тех нескольких часах темноты, которые мы здесь называем ночами, — мы резали носом ледяную шугу вроде той, какую наблюдаем последнюю неделю, ибо море постоянно находится на грани замерзания, но она тоже особой проблемы не представляет. Нам удавалось обходить стороной молодой лед вдоль берегов — а это штука посерьезнее. За ним находится припай, способный пробить обшивку судна, даже такого укрепленного, как наше и «Террор», идущий впереди. Но, как я сказал, мы обходили припай стороной… до сих пор. Рейд обливался потом и явно был бы рад закончить свое выступление, но он также понимал, что еще не полностью ответил на вопрос сэра Джона. Он кашлянул и продолжил: — Таким образом, сэр Джон и ваши благородия, что касается плавучего льда, то у нас не было особых проблем с шугой, более толстыми дрейфующими льдинами и флобергами — то бишь ледяными глыбами, отколовшимися от настоящих айсбергов; нам удавалось избегать столкновения с ними, поскольку мы находили широкие проходы между льдинами и большие разводья. Но такое положение дел подходит к концу. Сейчас, когда ночи становятся длиннее, блинчатый лед держится постоянно, и мы все чаще встречаем потоки кочковатого льда. Именно потоки кочковатого льда вызывают тревогу у нас с мистером Блэнки. — Почему же, мистер Рейд? — спросил сэр Джон. На лице у него отражалась скука, обычно владевшая им во время обсуждения различных ледовых условий. Для сэра Джона лед был просто льдом: чем-то, через что нужно пробиться, чтобы оставить позади. – Из-за снега, — сказал Рейд. — Там толстый слой снега на льдинах, сэр, и отметки уровня полной воды на боковых гранях. Такие льдины всегда свидетельствуют о старых паковых льдах впереди, сэр, о настоящем чертовом паке, и именно там нас затрет льдами. И на юге и западе, насколько хватает глаз у впередсмотрящих или санных разведчиков, повсюду паковый лед, если не считать возможного разводья к югу от Кинг-Уильяма. – Северо-Западный проход, — негромко заметил командор Фицджеймс. – Вероятно, — сказал сэр Джон. — В высшей степени вероятно. Но чтобы добраться туда, нам придется преодолеть более ста миль паковых льдов — а возможно, и все двести. Мне доложили, что у ледового лоцмана «Террора» есть соображения, касающиеся причин ухудшения ледовой обстановки к западу от нас. Мистер Блэнки? Томас Блэнки не покраснел. Речь старшего годами ледового лоцмана представляла собой частое стаккато слогов, четких и резких, как мушкетные выстрелы. — Входить в паковые льды — верная смерть. Мы и так уже зашли слишком далеко. Дело в том, что с тех пор, как мы вышли из пролива Пил, мы наблюдаем сплошной поток дрейфующих льдов, хуже которого к северу от Баффинова залива быть не может, и обстановка с каждым днем усугубляется. — Почему так, мистер Блэнки? — спросил командор Фицджеймс. — Сейчас, в конце сезона, насколько я понимаю, еще должны оставаться проходы между льдинами, покуда море не замерзнет окончательно, а ближе к материку — скажем, к юго-западу от полуострова Кинг-Уильям — свободные для навигации воды должны держаться еще месяц или больше. Ледовый лоцман Блэнки потряс головой. – Нет. Мы наблюдаем не блинчатый лед и не сало, джентльмены, а паковый лед. Он движется с северо-запада. И представляет собой подобие вереницы гигантских глетчеров, от которых откалываются айсберги, сплошь покрывающие море на сотни миль в своем движении на юг. Раньше мы были защищены от него, но теперь — нет. – Защищены чем? — спросил лейтенант Гор, поразительно привлекательный и представительный офицер. На вопрос ответил капитан Крозье, кивком головы велевший Блэнки отступить назад. – Всеми островами, которые находились к западу от нас, когда мы двигались на юг, Грэм, — сказал ирландец. — Как год назад мы установили, что Земля Корнуоллис является островом, так теперь мы знаем, что Земля Принца Уэльского на самом деле является островом Принца Уэльского, каковой массив суши отчасти преграждал путь дрейфующим льдам, пока мы не вышли из пролива Пил. Теперь мы видим, что это самый что ни на есть настоящий паковый лед, вынужденный двигаться на юг между островами к северо-западу от нас — возможно, до самого материка. Любые разводья, оставшиеся там вдоль побережья, долго не протянут. Как не протянем и мы, коли продолжим пробиваться вперед и попытаемся перезимовать среди паковых льдов в открытом море. – Это одно мнение, — сказал сэр Джон. — И мы благодарим вас за него, Френсис. Но теперь нам нужно определиться с планом наших дальнейших действий. Да… Джеймс? Командор Фицджеймс держался по обыкновению непринужденно и уверенно, как человек, облеченный властью. За время плавания он, подумать только, располнел, так что мундир на нем, казалось, трещал по всем швам. Щеки у него цвели здоровым румянцем, и белокурые вьющиеся волосы ниспадали более длинными локонами, чем он носил в Англии. Он улыбнулся всем сидящим за столом. – Сэр Джон, я согласен с капитаном Крозье в том, что оказаться затертыми паковыми льдами было бы весьма прискорбно, но я не думаю, что нас ждет такая участь, коли мы продолжим путь вперед. По моему мнению, нам необходимо продвинуться на юг возможно дальше, чтобы либо достичь свободной для навигации воды и осуществить нашу цель, состоящую в отыскании Северо-Западного прохода, либо же просто найти более безопасные воды близ побережья — возможно, какую-нибудь бухту, — где мы сможем перезимовать в сравнительно благоприятных условиях, как сделали у острова Бичи. В самом крайнем случае, из опыта предыдущих сухопутных экспедиций сэра Джона и предыдущих морских экспедиций мы знаем, что у берегов море обычно замерзает значительно позже — из-за стекающей в него более теплой воды рек. – А если мы не достигнем открытой воды или берега, коли возьмем курс на юго-запад? — тихо спросил Крозье. Фицджеймс вскинул ладони протестующим жестом. — По крайней мере, мы будем ближе к нашей цели к началу таяния льдов следующей весной. Какой у нас выбор, Френсис? Вы же не можете всерьез предлагать вернуться по проливу к острову Бичи или попытаться отступить к Баффинову заливу? Крозье потряс головой. – В данный момент мы можем так же легко обойти Кинг-Уильям с востока, как и с запада, — тем более легко, что из сообщений впередсмотрящих и разведчиков мы знаем, что к востоку от нее еще остаются значительные пространства открытой воды. – Обойти Кинг-Уильям с востока? — недоверчиво переспросил сэр Джон. — Френсис, это тупиковый путь. Да, мы будем находиться под прикрытием полуострова, но нас затрет льдами несколькими сотнями миль дальше к востоку, в каком-нибудь длинном узком заливе, где лед может не растаять следующей весной. — Если только… — промолвил Крозье, обводя взглядом присутствующих, — если только Кинг-Уильям тоже не является островом. В каковом случае мы получим такую же защиту от потока пакового льда, какую обеспечивал нам остров Принца Уэльского на протяжении последнего месяца плавания. Вполне вероятно, пространство свободной для навигации воды к востоку от Кинг-Уильяма простирается почти до берега, и мы сможем идти западным курсом в более теплых водах еще несколько недель и, возможно, найти какую-нибудь отличную гавань, если нам придется провести вторую зиму во льдах. В каюте наступило продолжительное молчание. Лейтенант Левеконт с «Эребуса» прочистил горло и негромко заметил: — Вы верите в гипотезы эксцентричного доктора Кинга. Крозье нахмурился. Он знал, что гипотезы доктора Ричарда Кинга — даже не моряка, а простого гражданского лица — не пользовались популярностью и решительно отвергались, главным образом потому, что Кинг считал — и во всеуслышание заявлял, — что такие крупные морские экспедиции, как экспедиция сэра Джона, являются предприятиями глупыми, опасными и бессмысленно дорогими. Кинг держался мнения (основываясь на своем опыте работы картографом в сухопутной экспедиции Бака много лет назад), что Кинг-Уильям — это остров, тогда как Бутия — мнимый остров, расположенный еще дальше к востоку от них, — на самом деле является длинным полуостровом. Кинг утверждал, что самый простой и безопасный способ найти Северо-западный проход — это послать небольшие исследовательские отряды в Северную Канаду и проследовать по теплым прибрежным водам на запад; что сотни тысяч квадратных миль северного моря представляют собой опасный лабиринт островов и ледяных потоков, способных поглотить тысячу «Эребусов» и «Терроров». Крозье знал, что в библиотеке «Эребуса» имеется экземпляр спорной книги Кинга — он взял и прочитал ее, и она по-прежнему лежала у него в каюте на «Терроре», — но знал также, что, кроме него, никто в экспедиции данную книгу не читал и читать не собирается. – Нет, — сказал Крозье, — я не ссылаюсь на гипотезы Кинга, я просто выдвигаю вполне резонное предположение. Послушайте… мы считали, что Земля Корнуоллис огромна и, возможно, является частью Арктического континента, но мы обошли вокруг нее за несколько дней. Многие из нас полагали, что остров Девон простирается на север и на запад вплоть до Северного Полярного моря, но два наших корабля нашли его западную оконечность, и мы увидели свободные для навигации проливы, ведущие к северу. Приказы предписывали нам двигаться прямо на северо-запад от мыса Уокер, но мы обнаружили на пути препятствие в виде Земли Принца Уэльского — и, что более существенно, она почти наверняка тоже является островом. А полоса невысокого льда, которую мы заметили к востоку от нас, когда шли на юг, вполне могла быть замерзшим проливом, отделяющим остров Сомерсет от Бутии и доказывающим, что Кинг ошибался в своем утверждении, будто Бутия является длинным сплошным полуостровом, тянущимся на север до самого пролива Ланкастера. – Ничто не доказывает, что полоса низкого льда, виденная нами, была проливом, — сказал лейтенант Гор. — Разумнее предположить в ней низкий, покрытый льдом перешеек вроде того, что мы видели на острове Бичи. Крозье пожал плечами. — Возможно, но в ходе этой экспедиции мы убедились, что массивы суши, прежде считавшиеся огромными или соединенными между собой, на самом деле являются островами. Я предлагаю изменить курс на противоположный, избежать встречи с паковыми льдами на юго-западе и двинуться вдоль восточного берега Кинг-Уильяма, который вполне может оказаться островом. По меньшей мере мы получим защиту от этого… порожденного морем глетчера, о котором говорит мистер Блэнки. А в худшем случае — если мы убедимся, что действительно зашли просто в длинный узкий залив, — нам, скорее всего, удастся снова повернуть на север, обогнуть оконечность Кинг-Уильяма и вернуться прямо сюда, ничего не потеряв. — Если не считать сожженного угля и времени, — заметил командор Фицджеймс. Крозье кивнул. Сэр Джон потер ладонью свои округлые, тщательно выбритые щеки. В наступившей тишине заговорил инженер «Террора», Джеймс Томпсон. – Сэр Джон, джентльмены, раз уж был затронут вопрос о запасах угля на кораблях, я бы хотел заметить, что близок, очень близок момент — и прошу понимать меня буквально, — когда ситуация станет безнадежной в том, что касается нашего топлива. За последнюю неделю, используя паровые двигатели при движении по окраинам пакового льда, мы израсходовали свыше четверти остававшихся запасов угля. Теперь у нас осталось чуть больше пятидесяти процентов от первоначального запаса… это меньше двух недель работы парового двигателя в нормальных условиях, но всего несколько дней работы при попытках пробиться через сплоченные льды, предпринимаемых нами в последнее время. Если нам снова придется зимовать во льдах, мы сожжем большую часть оставшегося угля, чтобы просто обогревать жилые палубы. – Мы всегда можем послать отряд на берег, чтобы нарубить деревьев на дрова, — сказал лейтенант Эдвард Литтл, сидевший слева от Крозье. С минуту все присутствующие, за исключением сэра Джона, смеялись от души. Шутка разрядила напряженную атмосферу. Вероятно, сэр Джон вспоминал свои первые сухопутные экспедиции в прибрежные северные районы, теперь находящиеся к югу от них: материковая тундра простиралась на девятьсот миль к югу от побережья, прежде чем взору являлось первое дерево или достаточно солидный куст. — Есть один способ максимально увеличить протяженность нашего пути под паром, — негромко сказал Крозье в более благодушной тишине, наступившей за взрывом смеха. Все головы разом повернулись к капитану «Террора». — Мы переместим всю команду и весь уголь с «Эребуса» на «Террор» и пойдем полным ходом, — продолжал Крозье. — Либо через льды на юго-запад, либо на разведку вдоль восточного берега Кинг-Уильяма. — Отчаянный рывок, — сказал ледовый лоцман Блэнки, нарушив молчание, теперь оторопелое. — Да, в этом есть смысл. Сэр Джон мог только хлопать глазами. Когда он наконец обрел дар речи, его голос звучал недоверчиво, словно Крозье тоже отпустил шутку, которая до него не доходит. — Бросить флагманский корабль? — наконец проговорил он. — Бросить «Эребус»? — Он обвел помещение глазами, словно не сомневаясь, что данный вопрос решится раз и навсегда, если офицеры просто посмотрят хорошенько на его каюту: тянущиеся вдоль переборок стеллажи с книгами, хрусталь и китайский фарфор на столе, три патентованных престонских иллюминатора над головой, в которые лился золотой солнечный свет позднего лета. — Бросить «Эребус», Френсис? — повторил он, теперь погромче, но тоном человека, желающего понять маловразумительную шутку. Крозье кивнул. — Главный ведущий вал погнут, сэр. Ваш собственный инженер, мистер Грегори, сказал нам, что его невозможно ни починить, ни снять — вне сухого дока. И уж во всяком случае, пока мы находимся в паковых льдах. Дальше будет только хуже. С двумя кораблями угля у нас хватит лишь на несколько дней или на неделю работы двигателей на полной мощности, необходимой для штурма пака. В случае неудачи нас затрет льдами — оба корабля. Если мы застрянем в открытом море к западу от Кинг-Уильяма, мы понятия не имеем, в каком направлении течение переместит лед, в который мы вмерзнем. Велика вероятность, что нас вынесет на отмели, тянущиеся здесь вдоль подветренного берега. А это означает верную гибель даже для таких замечательных кораблей, как эти. — Крозье окинул взглядом каюту, кивком показал на световые люки в потолке. — Но если мы объединим наши запасы угля на менее поврежденном судне, — продолжил он, — и особенно если нам повезет найти свободную для навигации воду с восточной стороны Кинг-Уильяма, у нас хватит топлива, чтобы гораздо больше месяца идти под паром вдоль берега на предельно возможной скорости. «Эребусом» придется пожертвовать, но мы сможем достичь — и достигнем — мыса Тернэген и знакомых мысов вдоль побережья за неделю. И завершим переход по Северо-Западному пути к Тихому океану в этом году, а не в следующем. — Покинуть «Эребус»? — в который раз повторил сэр Джон. Он не казался ни раздраженным, ни сердитым — только озадаченным абсурдностью предложения, здесь обсуждавшегося. — На борту «Террора» будет очень тесно, — заметил командор Фицджеймс. Похоже, он всерьез обдумывал предложение. Капитан сэр Джон повернулся направо и уставился на своего любимого офицера. На лице его медленно появилась просительная улыбка человека, которому намеренно не растолковали смысл шутки, но который очень хочет получить объяснения. – Тесно, но не настолько, чтобы не потерпеть месяц или около того, — сказал Крозье. — Мой мистер Хани и ваш плотник мистер Уикс организуют работы по сносу внутренних переборок — все офицерские каюты будут ликвидированы, за исключением кают-компании, которую можно отвести под апартаменты сэра Джона на борту «Террора», и, возможно, офицерской столовой. Таким образом мы получим достаточно места, даже для того, чтобы провести во льдах еще один год или больше. На худой конец, на этих старых военных кораблях полно свободного пространства в нижних палубах. – Но на перегрузку угля и провианта потребуется время, — сказал лейтенант Левеконт. Крозье снова кивнул. — Я попросил моего начальника хозяйственной части, мистера Хелпмена, сделать предварительные расчеты. Вы, наверное, помните, что мистер Голднер, поставщик консервированных продуктов для экспедиции, не уложился в сроки и подвез большую часть продовольствия всего за двое суток до отплытия, и нам пришлось производить погрузку практически заново. Однако мы успели управиться с делом ко дню отплытия. Мистер Хелпмен считает, что, если обе команды будут работать все светлое время суток и спать по расписанию полувахт, запасы угля и провианта можно будет перегрузить с «Эребуса» на «Террор» меньше чем за три дня. Несколько недель нам придется жить в тесноте, но наша экспедиция словно начнется заново: у нас будет с избытком угля, годовой запас провианта и корабль в совершенно исправном состоянии. — Отчаянный рывок, — повторил ледовый лоцман Блэнки. Сэр Джон потряс головой и хихикнул, словно наконец поняв шутку. — Что ж, Френсис, это очень… интересная… фантазия, но, разумеется, мы не бросим «Эребус». Как не бросим «Террор», приключись с вашим кораблем какая-нибудь незначительная неприятность. Итак, единственное, чего я не слышал сегодня за этим столом, так это предложения вернуться назад. Я прав в своем умозаключении, что никто такого не предлагает? В каюте царило молчание. Сверху доносился стук и скрип брусков пемзы, которыми матросы драили палубу второй раз за день. — Отлично. Значит, решено, — сказал сэр Джон. — Мы пойдем вперед. Не только потому, что наши приказы предписывают нам поступить так, но еще и потому, что, как указали несколько из присутствующих здесь джентльменов, наша безопасность возрастает с приближением к земле, даже если земля эта столь же негостеприимна, как ужасные острова, мимо которых мы проходили. Френсис, Джеймс, вы можете сообщить командам о принятом решении. Сэр Джон поднялся на ноги. Несколько секунд остальные капитаны, офицеры, ледовые лоцманы, инженеры и врач могли лишь ошеломленно таращиться, но затем морские офицеры быстро встали, кивнули и начали один за другим выходить из огромной каюты сэра Джона. Не в первый раз Крозье огляделся по сторонам и улыбнулся про себя при мысли, что вся его каюта на «Терроре» могла бы поместиться в гальюне сэра Джона. Корабельный врач — Стенли — подергал за рукав командора Фицджеймса, когда все двинулись по узкому коридору и затопали по трапу, ведущему на палубу. — Капитан, капитан, — сказал Стенли, — сэр Джон не предоставил мне слова, но я хотел поставить всех в известность о возрастающем количестве консервных банок с испорченным содержимым. Фицджеймс улыбнулся, но высвободил свою руку. – Мы найдем время, чтобы вы доложили об этом капитану сэру Джону наедине, мистер Стенли. – Но ему лично я докладывал, — упорствовал врач. — Я хотел сообщить именно всем остальным офицерам, на случай, если… — Позже, мистер Стенли, — сказал командор Фицджеймс. Врач продолжал говорить еще что-то, но Крозье уже вышел за пределы слышимости и махал рукой Джону Лейну, своему боцману, веля подогнать командирскую шлюпку к борту, чтобы по солнышку проплыть узким каналом обратно к «Террору», уткнувшемуся носом в постепенно нарастающий паковый лед. Из трубы головного корабля все еще валил черный дым.
Взяв курс на юго-запад, в паковые льды, два корабля медленно продвигались вперед еще четыре дня; «Террор» жег уголь в огромных количествах, вынужденный использовать паровой двигатель на полную мощность, чтобы пробиваться через неуклонно утолщающийся лед. Проблески возможного разводья далеко на юге исчезли, недоступные взору даже в солнечные дни. 9 сентября температура воздуха резко упала. Длинная узкая полоса открытой воды за кормой «Эребуса», следующего за головным кораблем, сначала покрывалась блинчатым льдом, а потом замерзала полностью. Море вокруг них уже превратилось в колеблющуюся сплошную белую массу гроулеров, полноценных айсбергов и внезапно возникающих торосных гряд. В течение шести дней Франклин перепробовал все до единого приемы из своего арктического опыта — посыпал черной угольной пылью лед впереди с целью ускорить таяние, днем и ночью посылал измученные отряды с гигантскими пилами, чтобы блок за блоком резать и убирать лед перед кораблями, перемещал балласт, отправлял по сотне человек за раз колоть лед кирками и ломами, устанавливал стоп-якоря в утолщающемся льду далеко впереди и медленно, ярд за ярдом лебедками продвигал вперед «Эребус», который занял позицию головного судна в последний день перед неожиданным похолоданием. Наконец Франклин приказал всем трудоспособным людям выйти на лед, взяв бакштовы для всех и санные упряжи для самых сильных, и попробовал тащить корабли по льду волоком, дюйм за дюймом, каждый из которых давался колоссальным напряжением сил, кровавым потом, криками, проклятьями и нарастающим в душе отчаянием. Свободные для навигации прибрежные воды, по заверениям сэра Джона, находились всего в тридцати или пятидесяти милях впереди. Они с таким же успехом могли находиться на луне. Удлинившейся ночью с 15 на 16 сентября 1845 года температура воздуха резко упала ниже нуля, и лед начал стонать и тереться о корпуса обоих кораблей. Утром все поднявшиеся на палубу увидели, что море превратилось в сплошную белую пустыню, простирающуюся до самого горизонта, куда ни кинь взгляд. Между внезапно налетавшими снежными шквалами и Крозье, и Фицджеймс сумели определить положение солнца в небе, чтобы вычислить свои координаты. Оба капитана установили, что застряли примерно на 70°05′ северной широты и 98°23′ западной долготы, примерно в двадцати пяти милях от северо-западного берега острова (или полуострова — вопрос оставался спорным) Кинг-Уильям. Они находились в открытом замерзшем море, среди движущихся паковых льдов, беззащитные перед мощным натиском «гигантских глетчеров» ледового лоцмана Блэнки, надвигавшихся на них из полярных областей на северо-западе, от невообразимого Северного полюса. Насколько они знали, в радиусе сотни миль здесь не было ни одной гавани, способной послужить укрытием, а если бы таковая и была, у них не имелось никакой возможности до нее добраться. В два часа пополудни 16 сентября капитан сэр Джон приказал прекратить интенсивную топку паровых котлов. Давление в обоих котлах упало. Теперь в них будет поддерживаться лишь давление, необходимое для циркуляции теплой воды в трубах, обогревающих жилую палубу каждого судна. Сэр Джон не сделал никакого объявления команде. В этом не было необходимости. Той ночью, когда люди устраивались в своих койках на «Эребусе» и Хартнелл шептал свою обычную молитву о покойном брате, тридцатипятилетний матрос Абрахам Сили, лежавший в соседней койке, прошипел: — Теперь мы в полном дерьме, Томми, и ни твои молитвы, ни молитвы сэра Джона не вытащат нас из дерьма… по меньшей мере в ближайшие десять месяцев.
8. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′западной долготы 11 ноября 1847 г.Прошел год, два месяца и восемь дней со дня знаменательного совещания, проведенного сэром Джоном на борту «Эребуса», и два затертых льдами корабля находятся примерно там же, где находились тем сентябрьским днем в 1846 году. Хотя вся масса льда постоянно движется под действием северо-западного течения, последний год оно медленно перемещало ледяные поля, айсберги, торосные гряды и оба попавшие в западню корабля британского военно-морского флота по кругу, раз за разом — так что их местоположение осталось приблизительно прежним: они намертво вмерзли в лед примерно в двадцати пяти милях к северо-северо-западу от Кинг-Уильяма и совершают медленное вращательное движение, точно пятнышко ржавчины на одном из металлических музыкальных дисков в кают-компании. Этот ноябрьский день — вернее, те часы темноты, которые прежде включали в себя дневной свет в качестве компонента, — капитан Крозье провел за поисками пропавших членов своего экипажа, Уильяма Стронга и Томаса Эванса. Разумеется, надежды найти живым хоть одного из них нет, и существует большой риск, что обитающее во льдах чудовище утащит еще кого-нибудь, но они все равно ищут. Ни капитан, ни команда не могут поступить иначе. Четыре отряда по пять человек каждый — один несет два фонаря, а четверо держат наготове дробовики или мушкеты — ведут поиски четырехчасовыми сменами. Когда одна группа возвращается, продрогшая до костей и дрожащая, следующая уже ждет на верхней палубе, тепло одетая, с прочищенным, заряженным и приведенным в боевую готовность оружием, с заправленными маслом фонарями, — и возобновляет поиски в секторе, только что покинутом предыдущим отрядом. Люди уходят от корабля дальше и дальше, двигаясь все расширяющимися кругами через нагромождения ледяных глыб, и их фонари то видны часовым на палубе, то скрываются за обломками айсбергов, застругами, торосными грядами или теряются во мраке в отдалении. Капитан Крозье и матрос с красным фонарем переходят от сектора к сектору, проверяя каждый отряд, коли находят, а потом возвращаются на «Террор», чтобы проследить за людьми и обстановкой там. Это продолжается уже двенадцать часов. Когда бьют две склянки — в шесть часов вечера, — последние поисковые отряды возвращаются, так и не найдя пропавших, но несколько матросов сконфужены тем, что стреляли в ветер, пронзительно воющий среди зубчатых ледяных гор, или в сами ледяные глыбы, приняв какой-нибудь серак за неясно вырисовывающегося в темноте белого медведя. Крозье поднимается на борт последним и спускается вслед за людьми на жилую палубу. Почти все матросы убрали на место мокрые шинели и башмаки и прошли в свою столовую — столы уже спущены на цепях, — а офицеры отправились ужинать в кормовой отсек к тому времени, когда Крозье сходит вниз по трапу. Его вестовой Джопсон и первый лейтенант Литтл спешат к нему, чтобы помочь снять заиндевелую верхнюю одежду. — Вы здорово замерзли, капитан, — говорит Джопсон. — У вас лицо обморожено, вон какая кожа белая. Ступайте в офицерскую столовую ужинать, сэр. Крозье мотает головой. — Мне нужно поговорить с командором Фицджеймсом. Эдвард, приходил ли посыльный с «Эребуса», пока я отсутствовал? – Нет, сэр, — отвечает лейтенант Литтл. – Пожалуйста, поешьте, капитан, — настаивает Джопсон. Для стюарда он имеет весьма внушительные габариты, и его низкий голос напоминает скорее грозное рычание, нежели жалобный скулеж, когда он упрашивает своего капитана. Крозье снова трясет головой. — Будьте любезны, заверните мне пару галет, Томас. Я погрызу их по пути к «Эребусу». Джопсон хмурится, выказывая свое недовольство столь глупым решением, но спешит в носовую часть, где мистер Диггл хлопочет подле своей огромной плиты. Сейчас, в обеденное время, на жилой палубе отнюдь не жарко, и такая температура воздуха — около сорока пяти градусов[3] — будет держаться здесь в любое время суток. В последние дни на отопление тратится очень мало угля. – Сколько человек вы возьмете с собой, капитан? — спрашивает Литтл. – Нисколько, Эдвард. Когда люди поедят, отправьте на лед по меньшей мере восемь поисковых отрядов, на последние четыре часа. — Но, сэр, следует ли вам… — начинает Литтл, но осекается. Крозье знает, что он собирался сказать. «Террор» от «Эребуса» отделяет всего лишь миля с малым, но это пустынная, опасная миля, и порой требуется несколько часов, чтобы ее преодолеть. Если налетает снежная буря или просто начинается метель, люди сбиваются с пути или не могут продолжать движение при встречном ветре. Крозье сам запретил людям ходить к другому кораблю поодиночке, и, когда нужно передать сообщение, он отправляет по меньшей мере двух человек, с приказом возвращаться назад при первых же признаках ненастья. Мало того, что теперь между кораблями вздымается айсберг высотой в двести футов, зачастую загораживающий даже вспышки сигнальных огней на «Эребусе», так еще и проложенная между ними тропа — хотя ее расчищают и разравнивают лопатами почти каждый день — в действительности представляет собой извилистый лабиринт среди постоянно перемещающихся сераков, ступенчатых торосных гряд, перевернутых гроулеров и беспорядочных нагромождений ледяных глыб. — Все в порядке, Эдвард, — говорит Крозье. — Я возьму компас. Лейтенант Литтл улыбается, хотя шутка несколько приелась за три года пребывания здесь. Если верить приборам, корабли находятся почти прямо над северным магнитным полюсом. От компаса здесь столько же пользы, как от «волшебной лозы» для отыскания руды. К ним подходит лейтенант Ирвинг. Щеки молодого человека блестят от мази, наложенной на места, где обмороженная кожа побелела, омертвела и слезла. — Капитан, — выпаливает он, — вы не видели там, на льду, Безмолвную? Крозье уже снял фуражку и шарф и вытряхивает сосульки из своих влажных от пота и тумана волос. – Вы хотите сказать, что эскимоски нет в ее маленьком укрытии за лазаретом? – Да, сэр. – Вы хорошо обыскали жилую палубу? Главным образом Крозье беспокоит предположение, что, пока большинство людей несло вахту или занималось поисками пропавших, эскимосская ведьма попала в какой-нибудь переплет. – Так точно, сэр. Ни следа Безмолвной. Я спрашивал людей, но никто не помнит, чтобы видел ее со вчерашнего вечера. В смысле, после… нападения. – Она была на палубе, когда зверь напал на рядового Хизера и матроса Стронга? – Никто не знает, капитан. Может, и была. Тогда на палубе находились только Хизер и Стронг. Крозье шумно выдыхает. Вот уж поистине нелепо, думает он, если их таинственную гостью — впервые появившуюся в тот самый день, когда этот кошмар начался шесть месяцев назад, — в конце концов утащило жуткое существо, появившееся здесь одновременно с ней. – Обыщите весь корабль, лейтенант Ирвинг, — говорит он. — Загляните во все потайные уголки, щели, кладовые и канатные ящики. Следуя логике, если не найдем женщины на борту, будем считать, что она… покинула нас. – Хорошо, сэр. Я отберу трех-четырех человек, чтобы помогли мне в поисках? Крозье мотает головой. — Только вы один, Джон. Я хочу, чтобы все продолжили поиски на льду в течение нескольких часов, пока в фонарях не выгорело масло, и, если вы не найдете Безмолвную, присоединитесь к любому из поисковых отрядов. — Есть, сэр. Вспомнив о тяжелораненом, Крозье направляется через матросскую столовую в лазарет. Обычно во время ужина, даже в столь темные дни, за столами слышатся разговоры и смех, несколько поднимающие настроение, но сегодня здесь царит тишина, нарушаемая лишь стуком и скрежетом ложек о металлические миски да изредка звуками отрыжки. Измученные люди сгорбившись сидят на своих матросских сундучках, служащих стульями, и капитан видит лишь усталые лица, пока протискивается к носовому отсеку. Крозье стучит о деревянный столбик справа от занавески, отделяющей лазарет от кубрика, и заходит. Судовой врач Педди, сидящий за столом посреди помещения и накладывающий шов на левое предплечье матроса Джорджа Канна, поднимает глаза от иголки с ниткой. — Что случилось, Канн? Молодой матрос крякает. — Да ствол чертового дробовика скользнул мне под рукав и прикоснулся, твою мать, прям к голой руке, когда я забирался на чертову торосную гряду, капитан, прошу прощения за бранные выражения. Я вытащил дробовик и вместе с ним — шесть дюймов чертова мяса. Крозье кивает и осматривается вокруг. Помещение лазарета мало, но сюда уже втиснуты шесть коек. Одна пустая. Три человека — по предположению Педди и Макдональда, тяжело больные цингой — спят. Четвертый, Дейви Лейс, неподвижным взглядом смотрит в потолок — он находится в сознании, но уже почти неделю ни на что не реагирует. На пятой койке лежит рядовой морской пехоты Уильям Хизер. Крозье снимает второй фонарь с крюка на переборке по правому борту и направляет свет на Хизера. Глаза мужчины блестят, но он не моргает, когда Крозье подносит фонарь ближе. Зрачки у него, похоже, постоянно расширены. Голова у него перевязана, но кровь и серое вещество уже проступают сквозь бинты. — Он жив? — тихо спрашивает Крозье. Педди подходит, вытирая тряпкой окровавленные руки. – Как ни странно, да. – Но мы видели его мозги на палубе. Они там до сих пор остались. Педди устало кивает. — Такое бывает. В других обстоятельствах он, возможно, даже выжил бы. Остался бы идиотом, конечно, но я бы вставил металлическую пластину взамен отсутствующей части черепа, и его семья, коли у него таковая есть, заботилась бы о нем. Как о своего рода домашнем животном. Но здесь… — Педди пожимает плечами. — Он умрет от пневмонии, или цинги, или истощения. — Когда? — спрашивает Крозье. Матрос Канн уже вышел за занавеску. – Одному Богу ведомо, — говорит Педди. — Поиски Эванса и Стронга продолжатся, капитан? – Да. — Крозье вешает фонарь обратно на переборку возле входа. Тени снова наплывают на рядового морской пехоты Хизера. – Уверен, вы понимаете, — говорит измученный врач, — что надежды на спасение молодого Эванса или Стронга нет, но можно с уверенностью утверждать, что с каждым следующим выходом поисковых отрядов на лед у нас будет увеличиваться число ран и обморожений, повышаться риск ампутации — каждый пятый человек уже лишился одного или нескольких пальцев ног — и возрастать вероятность, что кто-нибудь в панике подстрелит одного из своих товарищей. Крозье пристально смотрит на врача. Если бы один из офицеров посмел говорить с ним в таком тоне, он бы приказал выпороть наглеца. Капитан принимает во внимание штатский статус и измученное состояние Педди. Доктор Макдональд уже трое суток лежит в своей койке с инфлюэнцей, и Педди приходится работать за двоих. — Пожалуйста, предоставьте мнебеспокоиться об опасностях, сопряженных с дальнейшими поисками, мистер Педди. Вы же занимайтесь наложением швов людям, у которых хватает ума прижимать голый металл к коже при минус шестидесяти. Кроме того, если бы это существо утащило во тьму вас, разве вы не хотели бы, чтобы мы попытались вас найти? Педди невесело смеется. – Если именно этот представитель вида полярных медведей утащит меня, капитан, мне остается лишь надеяться, что мой скальпель будет при мне. Чтобы я мог вонзить его в свой собственный глаз. – В таком случае держите скальпель под рукой, мистер Педди, — говорит Крозье и, отодвинув занавеску, выходит в непривычно тихую матросскую столовую. В тусклом свете камбуза Джопсон ждет его с узелком горячих лепешек.
Крозье получает удовольствие от ходьбы, хотя от всепроникающего холода лицо, руки и ноги у него горят, словно в огне. Он знает, что это лучше, чем онемение. Прислушиваясь к протяжным стонам и внезапным взвизгам льда, движущегося под ним и вокруг него в темноте, и к непрерывному вою ветра, он исполняется уверенности, что кто-то следует за ним по пятам. На двадцать минут из двух часов ходьбы (сегодня почти на всем пути не столько ходьбы как таковой, сколько карабканья вверх и съезжания на заднице вниз по склонам торосных гряд) облака расступаются, и луна в последней четверти озаряет фантастический пейзаж. Луна достаточно яркая, чтобы вокруг нее образовалось сверкающее ледяными кристалликами гало — на самом деле, замечает Крозье, два концентрических гало, причем большее покрывает чуть не треть ночного неба на востоке. Звезд нет. Крозье уворачивает фитиль фонаря с целью экономии масла и продолжает шагать вперед, ощупывая взятым с корабля багром каждую складку черноты перед собой, чтобы убедиться, что это тень, а не трещина или расселина. Он уже достиг восточного склона айсберга, который теперь загораживает от него луну и отбрасывает черную, изломанных очертаний тень на добрую четверть мили. Джопсон и Литтл настойчиво советовали взять с собой дробовик, но Крозье сказал, что не хочет тащить лишний груз. Он не верит, что от дробовика будет какой-нибудь толк при встрече с врагом, о котором они думали. В настоящий момент Френсис Родон Мойра Крозье наслаждается своим двухчасовым одиночеством во льдах. Изредка останавливается, чтобы перевести дух после преодоления особо высокой, вновь образовавшейся торосной гряды — люди с «Террора» и «Эребуса» стараются поддерживать в проходимом состоянии свои участки тропы между кораблями (причем команда «Террора» в последние месяцы работает усерднее, чем команда «Эребуса»), но старательно выдолбленные кирками ступени и пробитые лопатами проходы сквозь торосные гряды и сераки постоянно заносит снегом и заваливает вследствие движения льда и обрушения сераков. Отсюда все эти неуклюжие восхождения и скользящие спуски, не говоря уже о частых отклонениях в сторону от пути. Сейчас, в минуту редкого затишья, когда странное безмолвие ледяной пустыни нарушает лишь его тяжелое дыхание, Крозье вдруг вспоминает похожий момент в далеком прошлом, когда он еще мальчишкой однажды зимой возвращался вечером домой после прогулки среди оснеженных холмов с друзьями — сначала бежал опрометью через покрытую инеем вересковую пустошь, чтобы добраться до дома засветло, но потом, примерно в полумиле от дома, остановился. Он помнит, как стоял там, глядя на огни деревни, в то время как последний скудный свет зимних сумерек погас в небе и окрестные холмы обратились расплывчатыми, черными, безликими громадами, незнакомыми маленькому мальчику, и наконец даже родной дом, видневшийся на окраине селения, утратил четкость очертаний в сгущающемся мраке. Крозье помнит, как пошел снег, а он все стоял там один в темноте за каменными овечьими загонами, зная, что получит взбучку за опоздание, зная, что чем позже он вернется, тем сильнее будет взбучка, но все еще не находя в себе сил двинуться на свет окон, наслаждаясь тихим шумом ночного ветра и мыслью, что он единственный мальчик — возможно даже, единственный человек, — который сегодня ночью здесь, среди открытых ветрам, посеребренных инеем лугов вдыхает свежий запах падающего снега, отчужденный от горящих окон и жарких очагов, ясно сознающий себя жителем деревни, но не частью оной в данный момент. Это было глубоко волнующее, почти эротическое чувство — тайное осознание отъединенности своего «я» от всех и вся в холоде и темноте, — и он испытывает его сейчас, как не раз испытывал за годы службы на разных полюсах Земли. Кто-то спускается с высокой торосной гряды позади него. Крозье выкручивает фитиль до упора и ставит масляный фонарь на лед. Круг золотистого света имеет не более пятнадцати футов в диаметре, и по контрасту с ним темнота за его пределами кажется еще непрогляднее. Стянув зубами и бросив под ноги толстую рукавицу с правой руки, теперь оставшейся лишь в тонкой перчатке, Крозье перекладывает багор в левую руку и вынимает из кармана шинели пистолет. Он взводит курок, когда хруст льда и скрип снега на склоне торосной гряды становятся громче. Он стоит в густой тени айсберга, загораживающего лунный свет, и может различить лишь смутные очертания громадных ледяных глыб, которые словно шевелятся и подрагивают при мерцающем свете фонаря. Потом какая-то мохнатая расплывчатая фигура движется вдоль ледяного выступа, с которого он только что спустился, всего в десяти футах над ним и менее пятнадцати футов к западу от него — на расстоянии прыжка. — Стой, — говорит Крозье, выставляя вперед тяжелый пистолет. — Кто идет? Фигура не издает ни звука. Она снова трогается с места. Крозье не стреляет. Бросив длинный багор на лед, он хватает фонарь и резко поднимает перед собой. Он видит пятнистый мех и чуть не спускает курок, но в последний момент сдерживается. Фигура спускается ниже, двигаясь по льду быстро и уверенно. Крозье возвращает ударник затвора в прежнее положение, кладет пистолет обратно в карман и, все еще продолжая держать фонарь в вытянутой вперед руке, приседает на корточки, чтобы поднять рукавицу. В круг света входит леди Безмолвная, похожая на округлых очертаний медведя в своей меховой парке и штанах из тюленьей шкуры. Капюшон у нее надвинут низко на лоб для защиты от ветра, и черты затененного лица неразличимы. — Черт побери, женщина, — тихо говорит он. — Еще секунда — и я пустил бы в тебя пулю. Где ты, собственно говоря, пропадала? Она подступает ближе — почти на расстояние вытянутой руки, — но ее лицо по-прежнему скрыто в густой тени капюшона. Внезапно по спине Крозье пробегают ледяные мурашки — ему вспоминается бабушкино описание прозрачного черепообразного лица привидения-плакальщицы под складками черного капюшона, — и он резко поднимает фонарь. Лицо молодой женщины вполне телесно, в широко раскрытых темных глазах отражается свет фонаря. Вид у нее бесстрастный. Крозье сознает, что ни разу не видел на лице эскимоски никакого выражения — разве только слегка вопросительное. Даже в тот день, когда они смертельно ранили ее мужа, или брата, или отца, и она смотрела, как мужчина умирает, захлебываясь собственной кровью. — Неудивительно, что люди считают тебя ведьмой и библейским Ионой в женском обличье, — говорит Крозье. На корабле он всегда держится с эскимосской девкой подчеркнуто вежливо и церемонно, но сейчас он не на корабле и не в присутствии своих подчиненных. Капитан впервые оказался один на один с чертовой бабой за пределами корабля. И он страшно замерз и очень устал. Леди Безмолвная пристально смотрит на него. Потом она вытягивает вперед руку в рукавице. Крозье немного опускает фонарь и видит у нее в руке некий бесформенный серый предмет, похожий на рыбу, из которой вынули все внутренности и кости, оставив одну кожу. Он понимает, что это матросский шерстяной чулок. Крозье берет его, нащупывает плотный комок в носке чулка и на мгновение исполняется уверенности, что комок окажется куском ступни, возможно, передней частью с пальцами, все еще розовой и теплой. Крозье доводилось бывать во Франции и водить знакомство с людьми, служившими в Индии. Он слышал истории о людях-волках и людях-тиграх. На Земле Ван-Димена, где он встретился с Софией Крэкрофт, она рассказывала ему местные предания о туземцах, умеющих превращаться в чудовище, которое там называют Тасманийским Дьяволом. Вытряхивая комок из чулка, Крозье смотрит в глаза леди Безмолвной. Они черны и бездонны, как проруби, в которые люди с «Террора» опускали своих мертвецов, пока даже эти проруби не замерзли. В чулке оказался кусок льда, а не часть ступни. Но сам чулок еще не заледенел. Он находился на шестидесятиградусном морозе недолго. Логично предположить, что женщина принесла его с корабля, но почему-то Крозье так не думает. — Стронг? — спрашивает капитан. — Эванс? Безмолвная никак не реагирует на имена. Крозье вздыхает, запихивает чулок в карман шинели и поднимает со льда багор. — Мы ближе к «Эребусу», чем к «Террору», — говорит он. — Тебе придется пойти со мной. Крозье поворачивается к эскимоске спиной — при этом вдоль позвоночника у него снова пробегают мурашки — и шагает против крепчающего ветра по скрипящему снегу, направляясь к теперь различимым во мраке очертаниям второго корабля. Минутой позже он слышит легкие шаги Безмолвной позади. Они преодолевают последнюю торосную гряду, и Крозье видит, что «Эребус» освещен ярче, чем когда-либо прежде. Дюжина, если не больше, фонарей висит на гике с обращенного к ним правого борта затертого льдами, нелепо приподнятого и круто накренившегося судна. Бессмысленная трата масла. «Эребус», знает Крозье, за последние два года пострадал сильнее «Террора». Помимо погнутого прошлым летом ведущего вала гребного винта (по замыслу конструкторов вал должен был убираться, но не успел вовремя сделать этого, чтобы избежать повреждения при столкновении с подводной льдиной во время июльского штурма льдов) и утраты самого гребного винта флагманский корабль за минувшие две зимы получил больше повреждений, чем второе судно. Под натиском льдов в сравнительно безопасной гавани у берега острова Бичи доски обшивки у «Эребуса» покоробились, растрескались и расселись сильнее, чем у «Террора»; руль флагмана сломался в ходе отчаянной попытки прорваться к Северо-Западному проходу, предпринятой прошлым летом; от мороза на корабле сэра Джона полопалось больше болтов, заклепок и металлических скоб; у «Эребуса» оторвалось или искривилось гораздо больше железных листов ледорезной обшивки; и хотя «Террор» тоже крепко сдавило льдами и малость приподняло, последние два месяца третьей зимы арктической экспедиции «Эребус» стоит в буквальном смысле слова на высоком ледяном пьедестале, причем под давлением пака в корпусе судна — в носовой части правого борта, в кормовой части левого и в срединной части днища — образовались длинные проломы. Флагманский корабль сэра Джона Франклина, знает Крозье — как знает нынешний капитан «Эребуса» Джеймс Фицджеймс, а равно вся судовая команда, — никогда больше не поплывет. Прежде чем выйти на освещенное фонарями «Эребуса» пространство, Крозье отступает за серак высотой футов десять и затаскивает Безмолвную себе за спину. — Эй, на корабле! — гаркает он самым зычным своим властным голосом, каким обычно пользуется на верфях. Грохает выстрел дробовика, и серак в пяти футах от Крозье взрывается фонтанчиком ледяных брызг, блестящих в тусклом свете фонаря. — Отставить, черт бы побрал твои слепые зенки, ты, тупоумный хренов придурок, твою мать! — в бешенстве ревет Крозье. На палубе «Эребуса» возникает лихорадочная возня: какие-то офицеры вырывают дробовик из рук тупоумного часового. — Все в порядке, — говорит Крозье эскимоске, съежившейся у него за спиной. — Теперь можно идти. Он останавливается — и не только потому, что леди Безмолвная не выходит вслед за ним на свет. Он видит лицо девушки в тусклых отблесках фонарей, и она улыбается. Эти полные губы, всегда неподвижные, чуть изгибаются в еле заметной улыбке. Словно она поняла его вспышку ярости и позабавилась. Но прежде чем Крозье успевает убедиться, что видит действительно улыбку, Безмолвная отступает в тень ледяных глыб и исчезает. Крозье трясет головой. Если эта сумасшедшая хочет замерзнуть там, черт с ней. Ему предстоит серьезный разговор с командором Фицджеймсом, а потом долгий путь домой в темноте, прежде чем он сможет отправиться на боковую. Только сейчас осознав, что последние полчаса не чувствовал своих ног, Крозье устало топает вверх по грязному снежно-ледяному скату к палубе разбитого флагмана покойного сэра Джона.
9. Франклин
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы Май 1847 г.Капитан сэр Джон Франклин был, наверное, единственным человеком на борту обоих кораблей, который сохранял наружное спокойствие, когда весна и лето просто не пришли в апреле, мае и июне 1847 года. Сэр Джон не стал официально объявлять, что они застряли во льдах по меньшей мере еще на год: в этом не было необходимости. Прошлой весной, у острова Бичи, матросы и офицеры с великим нетерпением наблюдали не только за возвращением солнца, но и за тем, как сплоченный пак распадается на раздельные ледяные потоки и превращается в рыхлую шугу, как появляются разводья, и лед разжимает свою хватку. В конце мая 1846 года они снова плыли. В этом году — нет. Прошлой весной матросы и офицеры видели возвращение многочисленных птиц, китов, рыбы, песцов, тюленей, моржей и прочих животных, не говоря уже о прозеленях лишайника и низкого вереска на островах, к которым они двигались в начале июня. В этом году — нет. Отсутствие открытой воды означало, что не будет ни китов, ни моржей, почти никаких тюленей (поймать или подстрелить нескольких кольчатых нерп, замеченных ими, сейчас оказалось не легче, чем было ранней зимой) и вообще ничего, кроме грязного снега и серого льда вокруг, насколько хватает глаз. Температура воздуха оставалась низкой, несмотря на то что солнце стояло в небе все дольше с каждым днем. Хотя в середине апреля Франклин приказал установить на обоих кораблях стеньги на мачты, рангоут, такелаж и новые паруса, в них не было толка. Если паровые котлы и топились, то единственно для нагрева воды в трубах отопительной системы. Дозорные докладывали о сплошной белой пустыне, простирающейся во всех направлениях до самого горизонта. Айсберги оставались на местах, где они вмерзли в лед в прошлом сентябре. Фицджеймс и лейтенант Гор совместно с капитаном Крозье с «Террора» по положению звезд удостоверились, что течение перемещает ледяной поток на юг со скоростью всего-навсего полторы мили в месяц, но ледяное поле, в котором они намертво застряли, всю зиму совершало круговое движение против часовой стрелки, и они постоянно возвращались к исходной точке. Торосные гряды продолжали неожиданно вырастать вокруг, похожие на белые отвалы гигантских сусликов. Лед становился тоньше — команды, бурившие пожарные лунки, теперь видели воду под ним, — но толщина его все еще составляла более десяти футов. Сохранять при всем этом спокойствие капитану сэру Джону Франклину помогали две вещи: сила веры и мысль о жене. Искренняя христианская вера служила для него своего рода спасательным буем, даже когда тяжкое бремя ответственности и разочарования пыталось увлечь его в пучину уныния. Он знал и всем сердцем верил, что все в мире происходит по воле Божьей. То, что другим кажется неизбежным, необязательно является таковым во вселенной, где правит сострадательный и милосердный Бог. Лед может внезапно вскрыться в середине лета, до которой теперь оставалось меньше шести недель, и даже всего за несколько недель плавания под парусами и под паром они успеют с триумфом достичь Северо-Западного прохода. Они будут идти на запад вдоль побережья, пока не иссякнут запасы угля, а остальной путь до Тихого океана проделают под парусами, уйдя подальше от опасных северных широт к середине сентября, когда на море снова встанет паковый лед. Одно его назначение на должность начальника этой экспедиции — в возрасте шестидесяти лет, после унижения, пережитого на Земле Ван-Димена, — было величайшим чудом. Как бы глубоко и искренне сэр Джон ни верил в Бога, его вера в жену была еще глубже и порой исполнена еще большего трепета. Леди Джейн Франклин была неукротимой женщиной — именно неукротимой, другого слова не найти. Ее воля не знала границ, и почти во всех обстоятельствах леди Джейн Франклин подчиняла произвольные и случайные извивы судьбы своей железной воле. Сэр Джон с уверенностью предполагал, что после двух полных лет неизвестности о судьбе экспедиции жена уже пустила в ход свои внушительные деньги, связи и силу воли, чтобы заставить Адмиралтейство, парламент и одному Богу ведомо, кого еще, организовать его поиски. Данное предположение несколько тревожило сэра Джона. Больше всего на свете он не хотел, чтобы его «спасали» — чтобы либо по суше, либо морем во время короткого периода летнего таяния льдов к нему на помощь подошла поспешно снаряженная экспедиция под командованием пропахшего виски сэра Джона Росса или молодого сэра Джеймса Росса (которого, сэр Джон не сомневался, непременно привлекут к делу по требованию леди Джейн, хотя он и отошел от арктических путешествий). Это означало бы для него позор и бесчестье. Но сэр Джон хранил спокойствие, поскольку знал, что Адмиралтейство ни в каких ситуациях не действует быстро, даже под напором такой мощной силы, как его жена Джейн. Сэр Джон Барроу и прочие члены мифического Арктического совета, не говоря уже о высших чинах военно-морского флота, прекрасно знают, что «Эребус» и «Террор» обеспечены провиантом на три года — и на больший срок, если урезать рацион, — и вдобавок имеют возможность заниматься рыболовством и охотой везде и всюду, где водится рыба и дичь. Сэр Джон знал, что его жена — неукротимая жена — непременно добьется организации спасательной экспедиции, коли дело дойдет до этого, но инертность военно-морского флота Великобритании служит верным залогом того, что подобная попытка спасения будет осуществлена в лучшем случае лишь весной и летом 1848 года, если не позже. Посему в конце мая 1846 года сэр Джон снарядил пять санных отрядов, призванных обследовать местность во всех направлениях в поисках чистой воды, причем один из них получил распоряжение отправиться назад по пути, уже пройденному кораблями. Они отбыли 21, 23 и 24 мая, и отряд лейтенанта Гора — самый главный из всех — отбыл последним и направился на юго-восток, в сторону Кинг-Уильяма. Помимо приказа произвести разведку первый лейтенант Грэм Гор получил еще одно важное задание: оставить в укрытии на берегу первое с начала экспедиции письменное сообщение сэра Джона. Капитан сэр Джон Франклин, впервые за все время службы в военно-морском флоте, вплотную приблизился к неповиновению приказам. Согласно предписаниям Адмиралтейства, на всем пути своего следования он должен был возводить пирамиды из камней и оставлять в сих укрытиях письменные сообщения — в случае, если корабли не появятся за Беринговым проливом в назначенный срок. Только из них спасательные суда британского военно-морского флота могли узнать, каким курсом Франклин проследовал и что явилось причиной задержки, — но сэр Джон не оставил подобного сообщения на острове Бичи, хотя у него было почти девять месяцев, чтобы подготовить отчет. По правде говоря, сэр Джон настолько возненавидел ту первую свою зимнюю стоянку, настолько стыдился смерти трех своих матросов от чахотки, что в тайне от всех решил оставить в качестве требуемых посланий лишь могилы. Если повезет, никто не найдет этих могил еще многие годы после того, как весть о его триумфальном прохождении по Северо-Западному морскому пути прогремит по всему миру. Но теперь прошло уже почти два года со времени последнего его письменного доклада, адресованного начальству, и потому Франклин продиктовал Гору отчет и положил его в воздухонепроницаемый медный цилиндр — один из двухсот, полученных перед отплытием. Он самолично объяснил лейтенанту Гору и второму помощнику Чарльзу Дево, где надлежит оставить послание, — в шестифутовой каменной пирамиде, возведенной на Кинг-Уильяме сэром Джоном около семнадцати лет назад, в самой западной точке маршрута его собственного плавания. В первую очередь именно там, знал Франклин, военно-морской флот станет искать сообщение от его экспедиции, поскольку это был последний объект местности, нанесенный на все географические карты. Сидя в одиночестве в своей каюте утром перед отбытием Гора и Дево с шестью матросами и глядя на одинокую загогулину, обозначавшую сей последний объект местности на его собственной карте, сэр Джон невольно улыбнулся. Семнадцать лет назад Росс дал самому западному мысу на обследованном побережье название Виктори-Пойнт, а потом в знак уважения (в котором, впрочем, ныне чудилась легкая ирония) назвал близлежащие нагорья мысом Джейн Франклин и мысом Франклина. «Такое впечатление, — думал сэр Джон, глядя на потрепанную карту с черными линиями контуров и обширными пустыми пространствами к западу от аккуратно прорисованного мыса Виктори-Пойнт, — будто сама Судьба или воля Божья привела сюда меня и всех этих людей». Продиктованное сообщение — написанное рукой Гора, — по мнению сэр Джона, получилось кратким и деловым:
«…мая 1847 г.(Гор должен был вписать число по прибытии к каменной пирамиде.)
Корабли ее величества „Эребус“ и „Террор“ зимовали во льдах на 70°05′ с. ш. и 98°23′ з. д. Зиму 1846-47 гг. провели у острова Бичи на 74°43′28″ с. ш. и 90°39′ 15'' з. д., предварительно поднявшись по проливу Веллингтона до 77° с. ш. и возвратившись обратно вдоль западного побережья острова Корнуоллис. Экспедицией командует сэр Джон Франклин. Все в порядке. Отряд, состоящий из двух офицеров и шести матросов, покинул корабли в понедельник 24 мая 1847 г. Лейт. Гор., пом. кап. Ч. Ф. Дево».Франклин наказал Гору и Дево обоим подписаться под посланием и проставить дату, прежде чем запечатать цилиндр и спрятать глубоко в каменной пирамиде Джеймса Росса. Чего Франклин — да и лейтенант Гор тоже — не заметил в ходе диктовки, так это того, что он назвал неверные даты зимовки у острова Бичи. В замерзшей бухте у Бичи они провели первую зиму 1845-46 гг.; нынешняя же ужасная зимовка в открытых паковых льдах происходила зимой 1846-47 гг. Не важно. Сэр Джон был убежден, что в данном случае он оставляет совершенно несущественное послание потомству — возможно, какому-нибудь историку военно-морского флота, желающему присовокупить сие письменное свидетельство к будущему отчету сэра Джона об Экспедиции (сэр Джон планировал написать книгу, за счет доходов от которой его личное состояние вырастет почти до размеров капитала супруги), — а не диктует серьезный документ, который кто-нибудь прочитает в ближайшем будущем. Утром, когда отбывал санный отряд Гора, сэр Джон тепло оделся и спустился на лед, чтобы пожелать счастливого пути. — Вы взяли все необходимое, джентльмены? — спросил сэр Джон. Первый лейтенант Гор — четвертый по старшинству положения после сэра Джона, капитана Крозье и командора Фицджеймса — кивнул, как и его подчиненный, помощник капитана Дево, мимолетно улыбнувшийся. Солнце светило ярко, и мужчины уже надели сетчатые очки, выданные мистером Осмером, старшим интендантом «Эребуса», для защиты глаз от ослепительных солнечных лучей. — Да, сэр Джон. Благодарю вас, сэр, — сказал Гор. – Небось «вязанок» немерено? — шутливо спросил сэр Джон. – Так точно, сэр, — ответил Гор. — Восемь поддевок из шерсти лучших нортумберлендских овец, сэр Джон. Девять, если считать подштанники. Пятеро матросов рассмеялись, позабавленные шутливой беседой своих офицеров. Люди, сэр Джон знал, любили его. – Ну как, готовы к ночевкам на льду? — спросил сэр Джон одного из матросов, Чарльза Беста. – Так точно, сэр Джон, — живо откликнулся невысокий, но крепко сбитый молодой матрос. — У нас с собой голландская палатка, сэр, и восемь больших одеял из волчьих шкур, чтобы в них заворачиваться. И еще двадцать четыре спальных мешка, сэр Джон, которые интендант пошил для нас из отличных шерстяных одеял. На льду нам будет теплее, чем на борту корабля, милорд. — Прекрасно, прекрасно, — рассеянно проговорил сэр Джон. Он смотрел на юго-восток, где полуостров Кинг-Уильям — или остров, если верить безумной гипотезе Френсиса Крозье, — выдавал свое местонахождение лишь едва заметным потемнением неба над самым горизонтом. Сэр Джон молил Бога (молил в буквальном смысле слова) о том, чтобы Гор со своими людьми — либо до, либо после того, как оставит в пирамиде послание от экспедиции, — нашел свободную для навигации воду близ побережья. Сэр Джон был исполнен решимости сделать все возможное и невозможное, чтобы провести два корабля, как бы сильно ни пострадал «Эребус», через подтаявшие льды, если только они подтают, в относительно безопасные прибрежные воды и к спасительной суше. Может статься, там они найдут тихую бухту или песчаную намывную косу, где плотники и инженеры сумеют произвести ремонт «Эребуса» — выпрямить ведущий вал, заменить гребной винт, укрепить погнутую железную арматуру внутри и, возможно, восстановить утраченную часть железной обшивки, — который позволит им продолжить путь. В противном же случае, думал сэр Джон (хотя он еще не поделился сей мыслью ни с одним из своих офицеров), они осуществят удручающий план Крозье, предложенный в прошлом году: поставят «Эребус» на якорь, перегрузят иссякающие запасы угля и команду на «Террор» и пойдут западным курсом вдоль побережья на переполненном (но ликующем, не сомневался сэр Джон, ликующем) втором корабле. В последний момент фельдшер с «Эребуса» Гудсер попросил у сэра Джона позволения присоединиться к отряду Гора, и, хотя ни лейтенант Гор, ни помощник капитана Дево не пришли в восторг от этой идеи (Гудсер не пользовался популярностью ни у офицеров, ни у матросов), сэр Джон дал такое разрешение. В качестве своего мотива фельдшер указал на необходимость собрать больше информации о пригодных в пищу формах животной и растительной жизни, которые можно использовать в борьбе с цингой — главным бичом всех арктических экспедиций. И его особенно интересует, сказал Гудсер, поведение единственного животного, имеющегося в наличии этим странным арктическим летом, совсем не похожим на лето, — белого медведя. Сейчас, когда сэр Джон наблюдал за людьми, заканчивающими закреплять на тяжелых санях свое снаряжение, тщедушный фельдшер — маленький бледный человечек, хилый на вид, со скошенным подбородком, нелепыми бакенбардами и странно-томным немигающим взглядом, который раздражал даже неизменно учтивого сэра Джона, — бочком подобрался к нему, чтобы завести разговор. — Еще раз благодарю вас за разрешение присоединиться к отряду лейтенанта Гора, сэр Джон, — промолвил тщедушный медик. — Возможно, сей поход окажется чрезвычайно важным для медицинских исследований противоцинготных свойств широкого разнообразия флоры и фауны, включая лишайники, постоянно произрастающие на камнях Кинг-Уильяма. Сэр Джон невольно поморщился. Однажды в молодости он несколько месяцев питался жидким супом из такого лишайника, чтобы не умереть с голоду. — Не стоит благодарности, мистер Гудсер, — сухо ответил он. Сэр Джон знал, что этот сутулый молодой хлыщ предпочитает слышать в свой адрес обращение «доктор», а не «мистер» — хотя едва ли заслуживает такой чести, ибо Гудсер, несмотря на свое благородное происхождение, получил образование простого анатома. По мнению сэра Джона, которое одно имело значение в этой экспедиции, гражданский фельдшер, пусть формально и равный по положению мичманам на борту обоих кораблей, достоин зваться лишь мистером Гудсером. Молодой врач залился краской, обескураженный сухостью своего начальника, только сейчас шутливо беседовавшего с матросами, дернул за козырек своей фуражки и неловко отступил назад на три шага. – О, мистер Гудсер, — добавил Франклин. – Да, сэр Джон? Молодой выскочка и впрямь густо покраснел и почти заикался от смущения. — Примите мои извинения за то, что в нашем официальном сообщении, которое будет оставлено в пирамиде сэра Росса на Кинг-Уильяме, речь идет только о двух офицерах и шести матросах, входящих в отряд лейтенанта Гора, — сказал сэр Джон. — Я продиктовал послание до того, как вы обратились ко мне с просьбой присоединиться к отряду. Если бы я знал, что вы войдете в него, я бы написал «офицер, мичман, фельдшер и пять матросов». Гудсер на мгновение смешался, не вполне понимая, что хочет сказать сэр Джон, но потом поклонился, снова дернул за козырек фуражки, пробормотал: «Хорошо, ничего страшного, я все понимаю, благодарю вас, сэр Джон», — и снова отступил назад. Через несколько минут, все с той же безмятежной улыбкой и по-прежнему невозмутимым видом глядя вслед восьми мужчинам — лейтенанту Гору, Дево, Гудсеру, Морфину, Терьеру, Бесту, Хартнеллу и рядовому Пинкинтону, — уходившим по льду все дальше на юго-восток, сэр Джон на самом деле размышлял о возможной неудаче. Еще одна зимовка — еще один полный год — во льдах станут для них роковыми. В экспедиции кончатся запасы продовольствия, угля, осветительного масла и рома. Истощение запасов последнего вполне может означать мятеж. Более того, еще одна зимовка или еще один полный год во льдах — если лето 1848-го будет таким же холодным и неуступчивым, каким обещает быть лето 1847-го, — погубит один из кораблей или оба сразу. Как в случае со многими предшествующими неудачными экспедициями, сэру Джону и его людям придется спасться бегством, волоча по рыхлому льду шлюпки и наспех связанные вместе сани, молясь о разводьях — а потом проклиная оные, когда сани начнут проваливаться под лед и крепкие встречные ветра станут относить тяжелые лодки назад к паку, — о разводьях, означающих круглосуточную греблю для измученных голодом людей. Затем, знал сэр Джон, предстоит сухопутный этап попытки спасения — восемьсот и более миль пути среди безликих скал и льдов, по порожистым рекам, усыпанным по дну валунами, каждый из которых способен разбить в щепы их небольшие лодки (на более крупных судах по рекам северной Канады не пройти, он знал по опыту), да еще встречи с эскимосами, чаще всего враждебно настроенными, вороватыми и лживыми, несмотря на свое показное дружелюбие. Сэр Джон продолжал смотреть, пока Гор, Дево, Гудсер и пять матросов с единственными санями не скрылись на юго-востоке в ослепительно сверкающих льдах, и задавался праздным вопросом, не следовало ли взять в плавание собак. Сэр Джон всегда выступал против собак в арктической экспедиции. Животные порой благотворно влияли на моральный дух людей — по крайней мере до момента, когда вставала необходимость пристрелить их и съесть, — но в конечном счете они были грязными, шумными и агрессивными зверями. На палубе корабля, везущего достаточное количество собак, чтобы оказаться полезными — то есть тащить сани в упряжке, как принято у гренландских эскимосов, — всегда стоял оглушительный лай, теснились конуры и постоянно воняло дерьмом. Он потряс головой и улыбнулся. Они взяли в экспедицию одного пса — дворнягу по имени Нептун, — не говоря уже о маленькой обезьянке по кличке Джоко, и такого бродячего зверинца, по твердому убеждению сэра Джона, было вполне достаточно для данного ковчега. Неделя после отбытия Гора тянулась мучительно долго для сэра Джона. Один за другим возвращались другие санные отряды, с изможденными продрогшими людьми, чьи шерстяные фуфайки были насквозь пропитаны потом от напряжения сил, которое требовалось, чтобы тащить сани через бесчисленные торосные гряды или вокруг них. Все докладывали одно и то же. На востоке, в направлении полуострова Бутия, чистой воды нет. Нет даже самого узкого канала. На северо-востоке, в направлении острова Принца Уэльского, откуда они прибыли в эту ледяную пустыню, чистой воды нет. Нет даже едва заметного потемнения неба над горизонтом, порой свидетельствовавшего о разводье. За восемь дней трудного пути люди так и не достигли острова Принца Уэльского, даже не заметили его вдали — там повсюду громоздилось такое количество айсбергов и торосных гряд, какого они не видели никогда прежде. На северо-западе, в направлении безымянного пролива, по которому ледяной поток двигался на юг, в их сторону, вдоль западного побережья и вокруг южной оконечности острова Принца Уэльского, нет ничего, кроме белых медведей и замерзшего моря. На юго-западе, в направлении предположительно находящегося там массива Земли Виктория и гипотетического пролива между островами и материком, чистой воды нет и нет никаких животных, кроме проклятых белых медведей, но имеются многие сотни торосных гряд и такое количество вмерзших в лед айсбергов, что лейтенант Литтл — офицер с «Террора», поставленный Франклином во главе данного отряда, состоящего из людей с «Террора», — доложил, что в своем движении на запад они словно пробирались через ледяной горный кряж, выросший на месте, где должен быть океан. В последние дни похода погодные условия ухудшились настолько, что трое из восьми человек серьезно обморозили пальцы ног и всех восьмерых в той или иной степени поразила снежная слепота, а сам лейтенант Литтл в последние пять дней ослеп полностью и страдал жестокими головными болями. Литтла — бывалого полярника, насколько знал сэр Джон, человека, шестью годами ранее ходившего к южному полюсу с Крозье и Джеймсом Россом, — на обратном пути пришлось уложить в сани, которые тащили несколько матросов, еще способных хоть что-то видеть. Нигде в пределах примерно двадцати пяти миль, обследованных ими, — двадцати пяти миль по прямой, для прохождения которых пришлось прошагать, наверное, добрую сотню миль, огибая и преодолевая всевозможные препятствия, — никакой чистой воды. Никаких песцов, зайцев, северных оленей, моржей и тюленей. Понятное дело, никаких китов. Люди были готовы тащить сани вокруг трещин и узких расселин во льду в поисках настоящих широких разводий, но поверхность моря до самого горизонта представляла собой сплошной белый панцирь, докладывал Литтл, у которого от солнечного ожога лупилась кожа на носу и щеках под белой повязкой, наложенной на глаза. В самой удаленной точке, достигнутой в ходе западной одиссеи, Литтл приказал человеку, меньше других пострадавшему по части зрения — боцманмату по имени Джонсон, — забраться на самый высокий из находившихся поблизости айсбергов. Джонсон трудился не один час, вырубая киркой в ледяной стене узкие ступени для ног, обутых в кожаные башмаки с гвоздями в подошвах, а поднявшись на вершину, моряк посмотрел в подзорную трубу лейтенанта Литтла на северо-запад, на запад, на юго-восток и на юг. Доклад был неутешительным. Никаких разводий. Никакой земли. Джунгли сераков, торосных гряд и айсбергов, простирающиеся до далекого белого горизонта. Несколько белых медведей, двух из которых они позже подстрелили, но медвежьи печень и сердце, как они уже выяснили, не годились в пищу человеку, а у людей, тащивших тяжелые сани через бесчисленные торосные гряды, уже иссякали силы, и потому в конце концов они вырезали из туш меньше сотни фунтов жилистого мяса, завернули в просмоленную парусину, чтобы отвезти на корабль, а потом содрали со зверя покрупнее теплую белую шкуру, бросив останки медведей на льду. Наконец десять дней спустя четыре отряда из пяти вернулись с плохими новостями и обмороженными ногами, и сэр Джон с еще большей тревогой стал ждать возвращения Грэма Гора. С наибольшей надеждой они всегда смотрели на юго-восток, в сторону Кинг-Уильяма. И вот третьего июня, через десять дней после отбытия Гора, дозорные высоко на мачтах прокричали, что с юго-востока приближается санный отряд. Сэр Джон оделся подобающим образом, допил свой чай, а затем присоединился к толпе людей, выбежавших на палубу, чтобы увидеть все, что только возможно. Теперь отряд могли разглядеть даже люди на палубе, а когда сэр Джон поднес к глазу свою прекрасную медную подзорную трубу — подарок от офицеров и матросов двадцатишестипушечного фрегата, которым Франклин командовал в Средиземном море пятнадцать лет назад, — смятение, явственно слышавшееся в голосах дозорных, сразу же получило объяснение. На первый взгляд казалось, что все в порядке. Пятеро человек тащили сани, как и во время отбытия Гора. Три фигуры бежали рядом с санями или позади, как в день, когда Гор выступил в поход. Значит, все восьмеро на месте. И все же… Одна из бегущих фигур не походила на человеческую. На расстоянии свыше мили, мелькая между сераками и нагромождениями ледяных валунов, на месте которых некогда здесь простиралось спокойное море, она походила на маленького мохнатого зверя, трусящего за санями. Что хуже, сэр Джон не видел впереди ни характерной высокой фигуры Грэма Гора, ни броского красного шарфа, которым он щеголял. Все остальные фигуры, тянущие сани или бегущие (а лейтенант, безусловно, не стал бы тянуть сани, пока подчиненные в состоянии идти в упряжи), казались слишком низкими, слишком сутулыми, слишком невнушительными. И что хуже всего, сани казались слишком тяжело нагруженными для обратного пути — они взяли в поход консервов с запасом, в расчете на неделю задержки, но предполагаемый крайний срок возвращения уже истек три дня назад. Сэр Джон исполнился было надежды, предположив, что люди убили карибу или другого крупного животного и везут свежее мясо, но потом отряд вышел из-за последней высокой торосной гряды, все еще на расстоянии свыше полумили от корабля, и сэр Джон увидел в подзорную трубу нечто ужасное. На санях лежала не оленья туша, но два человеческих тела, привязанных поверх снаряжения и уложенных одно на другое таким бесчувственным образом, каким могли уложить только мертвецов. Сэр Джон ясно различил две обнаженные головы, обращенные к одному и другому концу саней, причем на голове мужчины, лежащего сверху, виднелись длинные белые волосы, подобных которым не было ни у кого из участников экспедиции. Матросы уже сбрасывали веревочный трап с борта накренившегося «Эребуса», чтобы облегчить командиру спуск на крутой ледяной откос. Сэр Джон буквально на минуту сошел в каюту, чтобы добавить к своей форме парадную шпагу. Затем, надев поверх формы, медалей и шпаги теплую шинель, он поднялся на палубу, перелез через фальшборт и стал спускаться по склону — тяжело пыхтя и отдуваясь, опираясь на руку своего стюарда, — чтобы встретить тех, кто приближался к кораблю.
10. Гудсер
69°37′ северной широты, 98°41′ западной долготы Кинг-Уильям 24 мая — 3 июня 1847 г.Одной из причин, почему доктор Гарри Д. С. Гудсер рвался присоединиться к разведывательному отряду, являлось желание доказать, что он так же силен и вынослив, как почти все остальные товарищи по команде. Он очень скоро понял, что это не так. В первый день он настоял (невзирая на сдержанные возражения лейтенанта Гора и мистера Дево) на том, чтобы сменить одного из пяти матросов, поставленных тащить сани, позволив тому передохнуть и идти рядом. У Гудсера практически ничего не получалось. Сконструированная парусным мастером и интендантом кожаная упряжь, крепившаяся к тяговым тросам хитрым узлом, который матросы завязывали и развязывали в считанные секунды, но с которым Гудсер не мог справиться, хоть убей, оказалась слишком широкой для его узких плеч и впалой груди. Сколь бы туго он ни затягивал переднюю подпругу упряжи, она все равно соскальзывала с него. А он, в свою очередь, поскальзывался на льду и постоянно падал, заставляя остальных четырех мужчин сбиваться с ритма «рывок-пауза-вдох-рывок». Доктор Гудсер никогда прежде не носил таких башмаков-ледоступов и из-за набитых в подошвы гвоздей чуть не на каждом шагу цеплялся ногой за ногу. Он плохо видел сквозь тяжелые проволочные сетчатые очки, но когда поднял их на лоб, в считанные минуты чуть не ослеп от яркого блеска арктического солнца. Он надел слишком много фуфаек на рассвете, и теперь несколько нижних настолько пропитались потом, что он дрожал, даже будучи распаренным от чрезмерного напряжения сил. Упряжь давила на нервные сплетения и пережимала артерии, препятствуя циркуляции крови в худых руках и холодных кистях. Он то и дело ронял рукавицы. Его тяжелое прерывистое дыхание вскоре стало таким громким, что он застыдился. Через час таких нелепых потуг — когда он постоянно падал, а Бобби Терьер, Томми Хартнелл, Джон Морфин и рядовой Билл Пилкингтон (пятый матрос, Чарльз Бест теперь шел рядом с санями) останавливались, чтобы стряхнуть снег с его анорака, переглядываясь, но не говоря ни слова, — он принял предложение Беста сменить его и во время одного из коротких привалов выскользнул из упряжи и предоставил настоящим мужчинам тащить тяжелые, нагруженные с верхом сани с деревянными полозьями, так и норовившими примерзнуть ко льду. Гудсер валился с ног от усталости. Было еще утро первого дня похода, а он уже настолько уморился после часа мучений в санной упряжи, что с радостью расстелил бы свой спальный мешок на одеяле из волчьих шкур и проспал бы в нем до следующего дня. А ведь они тогда еще не достигли первой настоящей торосной гряды. Торосные гряды к юго-востоку от корабля были самыми низкими из всех доступных взору на протяжении первых двух миль или около того, словно сам «Террор» каким-то образом препятствовал образованию гряд со своей подветренной стороны, вынуждая оные отступать дальше. Но ближе к вечеру первого дня на пути у них встали первые настоящие торосные гряды. Они были выше тех, что вырастали между двумя кораблями во время зимовки, словно чудовищное давление ледяных плит друг на друга увеличивалось по мере приближения к Кинг-Уильяму. В случае с первыми тремя грядами Гор каждый раз вел отряд на юго-запад в поисках низких седловин, наиболее удобных и доступных для перевала, таким образом прибавляя к походу мили и часы пути, но зато избавляя людей от тяжелейшей необходимости разгружать сани, однако обходного пути вокруг четвертой гряды не оказалось. Каждая задержка, длившаяся свыше нескольких минут, приводила к тому, что одному из мужчин — чаще всего молодому Хартнеллу — приходилось доставать однуиз многочисленных бутылок жидкого топлива из тщательно закрепленной на санях груды снаряжения, разжигать спиртовку и растапливать снег в котелке — не для того, чтобы напиться, ибо жажду они утоляли из фляжек, которые держали под шинелями, чтобы вода не замерзала, но для того, чтобы полить кипятком по всей длине деревянные полозья, утопленные в снегу и намертво в него вмерзшие. И сани двигались по льду совсем не так, как санки и салазки, знакомые Гудсеру по поре довольно благополучного детства. Во время первых своих вылазок на паковый лед без малого два года назад он обнаружил, что бегать и скользить по нему, как он делал дома на замерзшей реке или озере, невозможно — даже в обычных башмаках. Какое-то качество морского льда — почти наверняка высокое содержание соли — увеличивало силу трения, сводя скольжение практически на нет. Легкое разочарование для человека, желающего прокатиться по льду, как в детстве, но колоссальное напряжение сил для команды мужчин, пытающихся тащить, толкать и тянуть по такому льду сотни фунтов снаряжения, нагроможденного на сани, сами по себе весящие не одну сотню фунтов. Это было все равно, что волочить громоздкий тысячефунтовый груз досок и барахла по неровной каменистой земле. А торосные гряды ничем не отличались от высоких — высотой с четырехэтажное здание — нагромождений каменных глыб и щебня, несмотря на сравнительную легкость перехода через них. Эта солидная гряда — первая из многих, преграждающих путь на юго-восток, насколько они видели, — имела в высоту футов шестьдесят, наверное. Они отвязали тщательно закрепленные сверху короба с продовольствием, ящики с бутылками горючего, спальные мешки и тяжелую палатку, а под конец выгрузили тюки и ящики весом от пятидесяти до ста фунтов, которые предстояло затащить по крутому склону на зубчатый гребень, прежде чем хотя бы попытаться тянуть наверх сани. Гудсер быстро осознал, что, если бы торосные гряды обладали спокойным характером — то есть просто мирно вырастали из сравнительно гладкой поверхности замерзшего моря, — переход через них не требовал бы таких нечеловеческих усилий, какие приходилось прикладывать. Но на подступах к каждой гряде, на расстоянии пятидесяти—ста ярдов от нее поверхность замерзшего моря превращалась в поистине безумный лабиринт спрессованных снежных заструг, рухнувших сераков и гигантских ледяных глыб — миниатюрных айсбергов, — и, прежде чем начать непосредственно восхождение, необходимо было пробраться через этот лабиринт. Само восхождение всегда происходило не по прямой, но по извилистой траектории, ибо приходилось искать опоры для ног на предательски скользком льду или выступы, чтобы цепляться руками, на шатких ледяных валунах, которые могли обвалиться в любой момент. В процессе восхождения восемь мужчин выстраивались на склоне по неровной диагонали, передавая тяжелые тюки и короба друг другу, вырубали кирками ступени в ледяных глыбах и старались не сорваться вниз или не оказаться на пути падающего сверху предмета. Ящики выскальзывали из обледенелых рукавиц и с грохотом разбивались внизу, что всякий раз исторгало короткий, но впечатляющий взрыв проклятий из уст пятерых матросов, который Гор или Дево пресекали строгим окриком. Все приходилось по десять раз распаковывать и перепаковывать. Наконец, и сами тяжелые сани, с по-прежнему закрепленной на них доброй половиной груза, приходилось тащить, пихать, волочить вверх по склону, выталкивая и вытягивая из расселин между валунами, накреняя набок, подпирая снизу, и снова тянуть, тянуть изо всех сил к неровному гребню гряды. Даже на вершине люди не могли передохнуть немного, ибо уже через минуту покоя насквозь пропитанные потом рубахи и свитера начинали заледеневать. Привязав тросы к стойкам и поперечинам задней стенки саней, несколько мужчин становились впереди, чтобы подпирать сани по ходу движения вниз (обычно эта обязанность ложилась на плечи Морфина, Терьера и рослого морского пехотинца Пилкингтона), в то время как остальные, крепко упираясь в лед усеянными гвоздями подошвами, спускали их на тросах под синкопированный хор натужных хрипов, предостерегающих криков и очередных проклятий. Потом они снова аккуратно укладывали груз в сани, тщательно проверяли, надежно ли он закреплен, растапливали снег в котелке, чтобы полить кипятком вмерзшие в снег полозья, и продолжали путь, пробираясь через запутанный лабиринт по другую сторону торосной гряды. Спустя полчаса они приближались к следующей гряде. Первая ночь во льдах до боли ясно запечатлелась в памяти Гарри Д. С. Гудсера. Врач никогда в жизни не ночевал на открытом воздухе, но он знал, что Грэм Гор говорил правду, когда со смехом сказал, что на льду на все уходит в пять раз больше времени: на то, чтобы распаковать вещи; разжечь спиртовые фонари и печки; вкрутить в лед металлические стержни с резьбой, служащие палаточными колышками, и установить коричневую голландскую палатку; раскатать многочисленные одеяла и спальные мешки; а особенно на то, чтобы подогреть консервированные суп и свинину. И все это время человеку приходится двигаться — постоянно шевелить руками и ногами, прихлопывать и притопывать, — иначе он закоченеет. Нормальным арктическим летом, напомнил Гудсеру мистер Дево, приведя в пример прошлое лето, когда они двигались через рыхлые льды на юг от острова Бичи, температура воздуха на этой широте солнечным и безветренным июльским днем может подниматься до тридцати градусов по Фаренгейту.[4] Но только не нынешним летом. Лейтенант Гор измерил температуру воздуха в десять часов вечера, когда они остановились на привал и солнце еще стояло над южным горизонтом в светлом небе, и она оказалась минус два градуса[5] и быстро опускалась. В середине дня, когда они останавливались выпить чаю с галетами, термометр показывал плюс шесть.[6] Голландская палатка была маленькой. В снежную бурю она спасла бы им жизнь, но первая ночь во льдах была ясной и почти безветренной, поэтому Дево и пятеро матросов решили спать снаружи на волчьих шкурах и просмоленной парусине, укрывшись в одних лишь спальных мешках, сшитых из плотных шерстяных одеял, — они переберутся в тесную палатку, коли разыграется ненастье, — и после минутного колебания Гудсер решил тоже улечься снаружи со всеми, а не внутри с лейтенантом Гором, сколь бы толковым и учтивым малым он ни был. Солнечный свет страшно раздражал. К полуночи он немного потускнел, но небо по-прежнему оставалось светлым, как в восемь часов вечера в Лондоне, и Гудсер не мог заснуть, хоть убей. Он чувствовал смертельную усталость, какой не знал никогда в жизни, и никак не мог заснуть. Боль в натруженных за день мышцах тоже мешала уснуть, понял он. Он жалел, что не взял с собой настойку опия. Маленький глоток этого снадобья принес бы ему облегчение и позволил бы забыться сном. В отличие от иных врачей, имеющих официальное разрешение прописывать наркотические препараты, Гудсер не был наркоманом — он принимал различные опиаты только с целью заснуть или сосредоточиться, когда необходимо. Не чаще двух раз в неделю. И было холодно. Поужинав разогретыми супом и говядиной из консервных банок и побродив по ледяным джунглям в поисках уединенного местечка, чтобы облегчиться, — тоже новый для него опыт походной жизни и отправление, осознал он, которое надлежит совершать быстро, коли не хочешь отморозить очень важные органы, — Гудсер устроился на большом, размером шесть на пять футов, одеяле из волчьих шкур, раскатал свою личный спальный мешок и забрался в него поглубже. Но недостаточно глубоко, чтобы согреться. Дево объяснил ему, что он должен снять башмаки и положить с собой в мешок, чтобы кожа не задубела на морозе — в какой-то момент Гудсер напоролся ступней на гвозди, торчащие из подошвы одного из башмаков, — но все мужчины легли спать в верхней одежде. Шерстяные свитера — все до единого, не в первый раз осознал Гудсер, — были насквозь мокрыми от пота после трудного длинного дня. Бесконечного дня. Около полуночи небо ненадолго померкло настолько, что стали видны несколько звезд — планет, теперь известных Гудсеру из лекции, прочитанной ему лично в импровизированной обсерватории на вершине айсберга два года назад. Но темнее так и не стало. Как не стало теплее. Сейчас, без движения и физических нагрузок, худое тело Гудсера было беззащитно против холода, который проникал в спальный мешок через слишком большое отверстие и поднимался от льда, проползая сквозь уложенные мехом вверх волчьи шкуры и толстые шерстяные одеяла, словно некая хищная тварь с ледяными щупальцами. Гудсер начал дрожать. Зубы у него стучали. Вокруг него четверо спящих мужчин (двое несли дозор) храпели так громко, что врач задался вопросом, не слышат ли люди на обоих кораблях, находящихся в нескольких милях к северо-западу отсюда, за бесчисленными торосными грядами — Господи, нам ведь придется снова переходить через них на обратном пути! — этот оглушительный храп, подобный скрежету и визгу пил. Гудсера била крупная дрожь. Так он не дотянет до рассвета, не сомневался он. Они попытаются разбудить его утром и обнаружат в спальном мешке лишь холодный скрюченный труп. Он заполз возможно глубже в спальный мешок и плотно стянул обледенелые края отверстия над головой, предпочитая вдыхать собственный кислый запах пота, чем снова высунуть нос на студеный воздух. Помимо коварного света и еще более коварного всепроникающего холода — холода смерти, осознал Гудсер, холода могилы и черных скал над надгробиями на острове Бичи, — не давал уснуть еще и шум. Врач полагал, что за две темных полярных зимы привык к скрипу деревянной обшивки корабля, резкому треску лопающихся от переохлаждения металлических деталей и неумолчному стону, визгу и гулу льда, сжимающего корабль в своих тисках, но здесь, где его тело отделяли от льда лишь несколько слоев шерстяной ткани и волчья шкура, треск и движение льда под ним наводили ужас. Все равно что пытаться заснуть на брюхе живого зверя. Колебание льда, пусть в значительной степени воображаемое, казалось все же достаточно реальным, чтобы у Гудсера, поплотнее свернувшегося калачиком, закружилась голова. Около двух часов ночи — он посмотрел на хронометр при слабом свете, сочившемся в стянутое отверстие спального мешка, — Гарри Д. С. Гудсер наконец начал впадать в полубессознательное состояние, отдаленно напоминающее сон, когда два оглушительных выстрела вернули его к действительности, напугав до полусмерти. Судорожно извиваясь в своем заледенелом спальном мешке, точно новорожденный младенец, пытающийся выбраться из утробы, Гудсер умудрился высунуть голову наружу. Студеный ночной воздух — поднялся легкий ветер — обжег лицо достаточно сильно, чтобы у него зашлось сердце. Небо уже стало светлее, озаренное солнцем. — Что? — выкрикнул он. — Что случилось? Помощник капитана Дево и три матроса стояли на своих спальных мешках, сжимая в руках в перчатках длинные ножи — видимо, они спали с ними. Лейтенант Гор выскочил из палатки, полностью одетый, с пистолетом в голой — голой! — руке. – Доложить, в чем дело! — рявкнул Гор одному из двух часовых, Чарли Бесту. – Это были медведи, лейтенант, — сказал Бест. — Два зверя. Громадные такие, паразиты. Они всю ночь шастали поблизости — мы видели их, прежде чем стали лагерем, примерно в полумиле отсюда, — но они подходили все ближе и ближе, двигаясь кругами, пока наконец нам с Джоном не пришлось пальнуть в них, чтобы отогнать прочь. Джоном, знал Гудсер, был двадцатисемилетний Джон Морфин, второй часовой. — Вы оба стреляли? — спросил Гор. Лейтенант забрался на самую вершину высившейся поблизости груды льда и снега и осматривал окрестности, глядя в медную подзорную трубу. Гудсер не понимал, почему его голые руки еще не примерзли к металлу. — Так точно, сэр, — сказал Морфин. Он перезаряжал свой дробовик, неловко возясь с патронами руками в шерстяных перчатках. – Вы в них попали? — спросил Дево. – Так точно, — ответил Бест. – Только толку никакого, — сказал Морфин. — Простые дробовики, да с расстояния тридцать с лишним шагов. У этих чертовых медведей толстые шкуры, а кости черепа еще толще. Однако мы всадили им достаточно крепко, чтобы они убрались. – Я их не вижу, — сказал лейтенант Гор со своего десятифутового ледяного холма над палаткой. – Мы думаем, они выйдут вон из тех небольших проломов во льду, — сказал Бест. — Медведь, что покрупнее, бежал в ту сторону, когда Джон выстрелил. Мы думали, он убит, но прошли в том направлении достаточно далеко, чтобы убедиться, что никакой туши там нет. Он исчез. Люди из разведывательного отряда уже прежде обратили внимание на такие отверстия во льду — имеющие форму неправильного круга, около четырех футов в поперечнике, слишком большие для крохотных отдушин, какие проделывают кольчатые нерпы, и явно слишком маленькие и слишком далеко отстоящие друг от друга для белых медведей, — всегда затянутые рыхлой ледяной коркой толщиной в несколько дюймов. Поначалу при виде их они исполнились надежды на близость разводий, но в конечном счете подобные проломы встречались так редко и находились на столь значительном расстоянии друг от друга, что представляли только опасность; матрос Терьер, шагавший перед санями вчера вечером, чуть не провалился в такую дыру — ступил в нее левой ногой, разом ушедшей в воду по середину бедра, — и им всем пришлось останавливаться и ждать, когда дрожащий от холода мужчина сменит башмаки, носки, шерстяные подштанники и штаны. – В любом случае Терьеру и Пилкингтону пора заступать на дежурство, — сказал лейтенант Гор. — Бобби, возьми мушкет из палатки. – Мне сподручнее с дробовиком, сэр, — сказал Терьер. – А я предпочитаю мушкет, лейтенант, — сказал рослый морской пехотинец. – Тогда ты возьми мушкет, Пилкингтон. Стрелять по этим зверям дробью значит только разозлить их. – Так точно, сэр. Бест и Морфин, явно дрожавшие скорее от холода после двухчасового дежурства, нежели от нервного напряжения, сонно разулись и заползли в свои спальные мешки. Рядовой Пилкингтон и Бобби Терьер с трудом натянули на опухшие ноги башмаки, извлеченные из спальных мешков, и поковыляли к ближайшей торосной гряде, чтобы заступить на пост. Трясясь еще сильнее прежнего, с онемевшими теперь — вдобавок к пальцам на руках и ногах — щеками и носом, Гудсер свернулся клубочком глубоко в спальном мешке и стал молить небо о сне. Но так и не сомкнул глаз. Через два с небольшим часа второй помощник Дево отдал приказ вставать и сворачивать спальные мешки. — У нас впереди трудный день, парни, — прокричал Дево жизнерадостным голосом. Они все еще находились в двадцати двух с лишним милях от берега Кинг-Уильяма.
11. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 9 ноября 1847 г.— Вы продрогли до костей, Френсис, — говорит командор Фицджеймс. — Пойдемте в кают-компанию, глотнем бренди. Крозье предпочел бы виски, но придется удовольствоваться бренди. Он идет впереди капитана «Эребуса» по длинному узкому коридору к помещению, прежде служившему личным кабинетом капитана сэра Джона Франклина, а ныне превращенному в аналог кают-компании «Террора» — библиотеку, место отдыха офицеров и, при необходимости, зал для совещаний. По мнению Крозье, то обстоятельство, что после смерти сэра Джона командор оставил за собой свою прежнюю крохотную каюту и переоборудовал просторное помещение в кормовой части под кают-компанию, временами использовавшуюся также под лазарет, делает Фицджеймсу честь. Кромешную тьму в коридоре рассеивает лишь свет из кают-компании, и палуба накренена круче, чем у «Террора», и в другую сторону: на левый борт, а не на правый, и к корме, а не к носу. Хотя корабли имеют практически одинаковую конструкцию, Крозье всегда замечает также и другие отличия. Запах на «Эребусе» сейчас не совсем такой, как на «Терроре», — помимо знакомого смрада осветительного масла, нечистых тел, грязной одежды, стряпни, угольной пыли, ведер с мочой и кислого дыхания людей, в холодном сыром воздухе чувствуется еще что-то. Почему-то на «Эребусе» острее ощущается тяжелый запах страха и безнадежности. В кают-компании два офицера курят трубки, лейтенант Левеконт и лейтенант Фейрхольм, но оба встают, кивают двум капитанам и удаляются, закрыв за собой задвижную дверь. Фицджеймс отпирает громоздкий застекленный шкафчик, достает бутылку бренди и наливает в один из хрустальных стаканов сэра Джона изрядную дозу для Крозье, а в другой — поменьше, для себя. Несмотря на обилие столового фарфора и хрусталя, взятого на борт покойным начальником экспедиции для себя и своих офицеров, графинов для бренди здесь нет. Франклин был убежденным трезвенником. Крозье не смакует бренди. Он осушает стакан в три глотка и позволяет Фицджеймсу налить еще. — Спасибо, что откликнулись так скоро, — говорит Фицджеймс. — Я ожидал письменного ответа, а никак не вашего прихода. Крозье хмурится. — Письменного ответа? Я уже неделю не получал от вас никаких сообщений, Джеймс. Фицджеймс несколько мгновений непонимающе смотрит на него. — Вы ничего не получали сегодня вечером? Около пяти часов назад я отправил к вам на корабль рядового Рида с запиской. Я решил, что он остался там на ночь. Крозье медленно качает головой. — О… черт, — говорит Фицджеймс. Крозье вынимает из кармана шерстяной чулок и кладет на стол. Даже при ярком свете висящего на переборке фонаря на нем не видно никаких следов насилия. – Я нашел это по дороге сюда. Ближе к вашему кораблю. Фицджеймс берет чулок и печально рассматривает. – Я покажу людям для опознания, — говорит он. — Возможно, он принадлежал одному из моих людей, — тихо говорит Крозье. Он вкратце рассказывает Фицджеймсу о нападении, произошедшем накануне вечером, о смертельном ранении рядового Хизера и об исчезновении Уильяма Стронга и молодого Тома Эванса. — Трое за один день, — говорит Фицджеймс. Он наливает еще бренди в оба стакана. — Да. Какого содержания сообщение вы мне посылали? Фицджеймс объясняет, что весь день среди нагромождений ледяных валунов, сразу за границей света от фонарей, бродил какой-то крупный зверь. Люди то и дело стреляли, но вышедшие на лед отряды не нашли ни пятен крови, ни каких-либо других следов. – Так что, Френсис, приношу свои извинения за стрельбу, открытую по вам этим идиотом Бобби Джонсом. Нервы у людей напряжены до предела. – Но не настолько же, надеюсь, чтобы воображать, будто таинственный зверь во льдах научился обращаться к ним по-английски, — сардонически замечает Крозье. Он отпивает еще глоток бренди. – Нет, нет. Разумеется, не настолько. Это был идиотизм чистой воды. Джонс будет лишен рома на две недели. Я еще раз прошу прощения. Крозье вздыхает. – А вот этого не надо. Спустите с малого шкуру, коли хотите, но не лишайте его рома. Атмосфера на вашем корабле и без того достаточно мрачная. Со мной была леди Безмолвная в своей чертовой мохнатой парке. Вероятно, ее-то Джонс и заметил. Я получил бы поделом, если бы он отстрелил мне башку. – Безмолвная была с вами? — Фицджеймс вопросительно вскидывает брови. – Я не знаю, какого черта она делала на льду, — хрипло говорит Крозье. У него страшно саднит горло, за день застуженное на морозе и надорванное криками. — Я сам чуть не выстрелил в нее в четверти мили от вашего корабля, когда она подкралась ко мне сзади. Молодой Ирвинг сейчас, наверное, переворачивает все на «Терроре» вверх дном. Я допустил огромную ошибку, когда поручил парню приглядывать за этой эскимосской сукой. — Люди считают, что она приносит несчастье. Голос Фицджеймса звучит очень, очень тихо. В битком набитой жилой палубе звуки легко проникают через переборки. – Почему бы им, собственно, не считать так? — Теперь Крозье чувствует действие бренди. Вчера вечером он не выпил ни капли. Алкоголь благотворно действует на желудок и утомленный мозг. — Женщина появляется в день, когда начинается этот кошмар, со своим отцом или братом-колдуном. Язык у нее вырван по самый корень. Почему бы людям не считать, что она и является причиной всех бед, черт возьми? – Но вы более пяти месяцев держите ее на борту «Террора», — говорит Фицджеймс. В голосе молодого капитана не слышится упрека, только любопытство. Крозье пожимает плечами. – Я не верю в ведьм. Да и во всяких ион тоже, коли на то пошло. Но я действительно верю, что, если мы выставим женщину на лед, зверь сожрет ее, как пожирает сейчас Эванса и Стронга. А возможно, и вашего рядового Рида. Кстати, не тот ли это Билли Рид, рыжий морской пехотинец, который очень любил поговорить о том писателе… Диккенсе? – Он самый, Уильям Рид, — говорит Фицджеймс. — Он показывал отличные результаты, когда люди устраивали состязание по бегу на острове Диско два года назад. Я подумал, что один человек, да такой проворный… — Он осекается и закусывает губу. — Мне следовало подождать до утра. – Зачем? — спрашивает Крозье. — Утром стоит такая же темень. Да и в полдень не многим светлее, собственно говоря. Отныне никакой разницы между днем и ночью нет — и не будет в ближайшие четыре месяца. И не похоже, чтобы чертов зверь охотился только по ночам… или только в темноте, коли на то пошло. Может, ваш Рид еще объявится. Наши посыльные и прежде не раз терялись во льдах и приходили через пять-шесть часов, дрожа от холода и ругаясь последними словами. – Возможно. — В голосе Фицджеймса слышится сомнение. — Утром я вышлю поисковые отряды. – Именно этого и ждет от нас зверь. — Голос Крозье звучит очень устало. – Возможно, — снова говорит Фицджеймс, — но вы только что сказали, что ваши люди вчера вечером и весь день сегодня искали во льдах Стронга и Эванса. – Если бы я не взял Эванса с собой, когда искал Стронга, мальчик был бы сейчас жив. – Томас Эванс, — говорит Фицджеймс. — Я его помню. Такой рослый парень. И в общем-то, уже не мальчик, верно, Френсис? На вид ему… сколько? Двадцать два — двадцать три года? – В мае Томми стукнуло двадцать, — говорит Крозье. — Первый свой день рожденья на борту он отметил на следующий день после нашего отплытия. У людей было отличное настроение, и они обрили малому голову по случаю его восемнадцатилетия. Похоже, он ничего не имел против. Все давние знакомые Томми говорят, что он всегда был рослым не по годам. Он служил на военном корабле «Линкс», а до этого на купце Ост-Индской компании. — Как и вы, кажется. Крозье невесело смеется. — Как и я. Не знаю, пошло ли мне это на пользу. Фицджеймс запирает бутылку бренди в шкафчик и возвращается к длинному столу. — Скажите, Френсис, вы действительно наряжались чернокожим лакеем, а Хоппнер изображал старую знатную леди, когда вы зимовали во льдах в… дай бог памяти… двадцать четвертом году? Крозье снова смеется, на сей раз повеселее. — Да, было дело. Я служил гардемарином на «Хекле» под командованием Парри, когда они с Хоппнером, командовавшим «Фьюри», в двадцать четвертом отправились на север с целью отыскать этот самый чертов Проход. Парри планировал провести корабли через пролив Ланкастера, а затем спуститься по проливу Принц-Регент — мы тогда еще не знали, что Бутия является полуостровом, это стало известно только в тридцать третьем, после плавания Россов. Парри думал, что сможет пойти на юг, обогнув Бутию, и нестись на всех парусах, пока не достигнет побережья, которое Франклин исследовал в ходе сухопутной экспедиции шестью-семью годами ранее. Но Парри припозднился с отплытием — почему эти чертовы начальники экспедиций всегда задерживаются с отправлением? — и нам повезло добраться до пролива Ланкастер только десятого сентября, месяцем позже намеченного срока. Но к тринадцатому сентября на море встал лед, и пройти через пролив не представлялось возможным, поэтому Парри на нашей «Хекле» и лейтенанту Хоппнеру на «Фьюри» пришлось удирать на юг, поджав хвост. Шторм отнес нас обратно в Баффинов залив, и нам чертовски повезло найти стоянку в чудесной крохотной бухте неподалеку от пролива Принц-Регент. Мы торчали там десять месяцев. Отморозили себе все, что только можно. — Но вы — и в роли чернокожего мальчишки-лакея? — Фицджеймс чуть заметно улыбается. Крозье кивает и отпивает маленький глоток бренди. — И Парри, и Хоппнер, оба просто жить не могли без костюмированных представлений во время зимовок во льду. Именно Хоппнер организовал этот маскарад, который назвал Большим венецианским карнавалом и назначил на первое ноября, когда моральный дух падает с исчезновением солнца на несколько месяцев. Парри явился закутанным в широченный плащ, который не сбрасывал, даже когда собрались все приглашенные, по большей части в маскарадных костюмах — у нас на обоих кораблях было по огромному сундуку с костюмами, — а когда он наконец все-таки разоблачился, мы увидели Парри в облике того старого моряка — помните, инвалида на деревянной ноге, что за гроши пиликал на скрипке близ Чатэма? Впрочем, нет, не помните, вы слишком молоды. Но Парри — я думаю, старый шельмец всегда больше хотел быть актером, чем капитаном корабля, — он все сделал правильно: принялся пиликать за скрипке, прыгая на деревяшке и выкрикивая: «Подайте грошик бедному Джо, отдавшему ногу за родину и короля!» Ну, люди чуть не полопались со смеха. Но Хоппнер, который, думаю, любил подобные игры с переодеваниями даже больше Парри, явился на бал в обличье знатной леди, нарядившись по последней парижской моде — платье с кринолином, оттопыренным на заднице, огромное декольте, все дела. А поскольку я в ту пору был жизнерадостен и весел сверх меры да вдобавок слишком глуп, чтобы думать головой, — иными словами, был сопляком двадцати с лишним лет, — я изображал чернокожего лакея, облачившись в настоящую ливрею, которую старый Генри Хопкинс Хоппнер купил в какой-то лондонской лавке и взял в плавание специально для меня. — И люди смеялись? — спрашивает Фицджеймс. — О, они снова так и покатились со смеху — Парри со своей деревяшкой напрочь лишился зрительского внимания, когда появился старый Генри, а за ним я, несущий шелковый шлейф. Почему бы им не посмеяться? Всем этим трубочистам, галантерейщицам, старьевщикам, носатым евреям, каменщикам, шотландским воинам, турецким танцовщицам и лондонским торговкам спичками? Эй! Это же молодой Крозье, еще даже не лейтенант, а гардемарин-переросток, который думает, что когда-нибудь станет адмиралом, забыв о том, что он всего-навсего очередной черномазый ирландец. С минуту Фицджеймс молчит. Крозье слышит храп и попердывания, доносящиеся из скрипучих подвесных коек в темной носовой части корабля. Где-то на палубе над ними часовой топает ногами, чтобы согреться. Крозье жалеет, что закончил свою историю таким образом, — он ни с кем так не разговаривает, когда трезв, — но он хочет также, чтобы Фицджеймс снова достал из шкафчика бутылку бренди. Или виски. – Когда «Фьюри» и «Хекла» вырвались из ледового плена? — спрашивает Фицджеймс. – Двадцатого июля следующего года, — говорит Крозье. — Но все остальное вам, вероятно, известно. — Я знаю, что вы потеряли «Фьюри». — Так точно, — говорит Крозье. — Через пять дней после того, как лед вскрылся, — все пять дней мы еле ползли вдоль берега острова Сомерсет, стараясь держаться подальше от пака, стараясь не попадать под чертовы глыбы известняка, вечно срывающиеся со скал, — очередной шторм выбрасывает «Фьюри» на каменистую отмель. Нам пришлось здорово попотеть и загнать в лед уйму якорей, пока мы стаскивали его оттуда, но потом оба корабля затирает льдами, и один проклятый айсберг, размером почти с этого стервеца, что стоит между «Эребусом» и «Террором», притирает «Фьюри» к берегу, выламывает у него руль, пробивает корпус, корежит металлическую обшивку, и команда день и ночь посменно работала на четырех насосах, пытаясь хотя бы удержать корабль на плаву. – И какое-то время вам это удавалось, — подсказывает Фицджеймс. – Две недели. Мы даже пытались пришвартовать «Фьюри» к айсбергу, но чертов конец лопнул. Потом Хоппнер пытался приподнять корабль, чтобы добраться до киля, — то же самое хотел сделать сэр Джон с вашим «Эребусом», — но снежная буря положила конец этим попыткам, и возникла опасность, что под напором льдов оба корабля вынесет на подветренный берег мыса. Наконец матросы стали просто падать прямо у помп — обезумевшие от усталости, они уже не понимали наших приказов, — и двадцать первого августа Парри приказал всем перейти на борт «Хеклы» и отвести корабль прочь, чтобы он не сел на мель, а бедный «Фьюри» вытолкнуло на берег несколькими айсбергами, которые крепко зажали его там, преграждая путь назад. У нас не было шансов вытащить «Фьюри» на буксире. Мы видели, как корабль раздавило льдами, точно скорлупку. Мы с великим трудом вывели оттуда «Хеклу» — только благодаря тому, что все до единого люди день и ночь стояли у насосов и плотник работал круглые сутки, укрепляя и латая обшивку. – Таким образом, мы и близко не подошли к Проходу — даже не открыли никакой новой земли, собственно говоря, — и потеряли корабль. Хоппнера судили морским судом, а Парри считал подсудимым и себя тоже, поскольку Хоппнер все время находился у него в подчинении. – Всех оправдали, — говорит Фицджеймс. — Даже похвалили, насколько я помню. – Похвалили, но не повысили в звании, — говорит Крозье. – Но вы все выжили. – Да. – Я хочу выжить в этой экспедиции, Френсис, — говорит Фицджеймс тихим, но твердым голосом. Крозье кивает. — Нам следовало поступить так, как в свое время поступил Парри: перебраться с «Эребуса» на борт «Террора» год назад и двинуться на восток в обход Кинг-Уильяма, — говорит Фицджеймс. Теперь настает очередь Крозье удивленно вскинуть брови. Не потому, что Фицджеймс признает Кинг-Уильям островом, — санные отряды, ходившие на разведку позже летом, внесли окончательную ясность в данный вопрос, — а потому, что он признает: им следовало двинуться туда в прошлом мае, бросив корабль сэра Джона. Крозье знает, что для капитана любого флота — но особенно военно-морского флота Великобритании — нет ничего страшнее, чем покинуть свой корабль. И хотя «Эребус» находился под общим командованием сэра Джона Франклина, настоящим капитаном всегда оставался командор Джеймс Фицджеймс. — Теперь уже слишком поздно. Крозье чувствует боль. Несколько переборок здесь наружные, а в потолке имеются три патентованных престонских иллюминатора, так что в кают-компании холодно — ясно виден пар от дыхания, — но все же на шестьдесят или семьдесят градусов[7] теплее, чем было на льду, и постепенно отогревающиеся ноги Крозье, особенно пальцы ног, болезненно покалывает, словно сотнями зазубренных булавок и докрасна раскаленных иголок. – Да, — соглашается Фицджеймс, — но вы поступили умно, отправив снаряжение и провиант на Кинг-Уильям в августе. – Это немалая часть того, что еще потребуется перевезти туда, коли нам придется расположиться там лагерем, — резко говорит Крозье. Он распорядился перевезти с кораблей и схоронить на берегу около двух тонн одежды, палаток, средств жизнеобеспечения и консервированных продуктов на случай, если вдруг возникнет необходимость спешно покинуть корабли зимой, но транспортировка грузов происходила до смешного медленно и в чрезвычайно опасных условиях. За несколько недель утомительных санных переходов на берег было доставлено всего лишь около тонны запасов — палатки, верхняя одежда, инструменты и консервированные продукты на несколько недель. И больше ничего. – Это существо не позволило бы нам остаться там, — тихо добавляет он. — Мы все могли бы перебраться в палатки в сентябре — как вы помните, я распорядился расчистить площадку для двух дюжин больших палаток, — но на кораблях будет безопаснее, чем в лагере. – Да, — говорит Фицджеймс. – Если корабли выстоят до конца зимы. – Да, — говорит Фицджеймс. — Вы слышали, Френсис, что некоторые матросы — на обоих кораблях — называют этого зверя Террором? – Нет! Крозье оскорблен. Он не желает, чтобы название его корабля использовали в таких гнусных целях, даже если люди шутят. Но он смотрит в зеленовато-карие глаза командера Джеймса Фицджеймса и понимает, что капитан совершенно серьезен, а значит, по всей видимости, и люди тоже. – Террор, — медленно произносит Крозье и чувствует вкус желчи во рту. – Они думают, что это не животное, — говорит Фицджеймс. — Они считают, что хитрость и коварство этого существа противоестественны… сверхъестественны… что там на льду, в темноте — демон. Крозье чуть не сплевывает от отвращения. – Демон, — презрительно повторяет он. — Это те самые моряки, которые верят в призраков, эльфов, ион, русалок и морских чудовищ. – Я видел однажды, как вы скребли ногтями по мачте, чтобы вызвать ветер, — с улыбкой замечает Фицджеймс. Крозье не отвечает. — Вы прожили на свете достаточно долго и достаточно много путешествовали, чтобы не раз видеть вещи, о существовании которых никто прежде не знал, — добавляет Фицджеймс, явно пытаясь разрядить обстановку. – Так точно. — Крозье испускает резкий лающий смешок. — Пингвины! Хотелось бы, чтобы они были здесь самыми крупными животными, какими, похоже, являются на Южном полюсе. – В южной Арктике нет белых медведей? – Во всяком случае, мы ни одного не видели. Как не видел ни один китобой или исследователь за семьдесят лет плаваний вдоль берегов того белого, изобилующего вулканами, одетого льдом материка. – И вы с Джеймсом Россом были первыми, кто увидел этот континент. И вулканы. – Да, верно. И сэру Джеймсу это принесло большую пользу. Он женат, произведен в рыцари, счастлив, вышел в отставку. А я… я… здесь. Фицджеймс прочищает горло, словно желая переменить тему разговора. — Знаете, Френсис… до этого путешествия я искренне верил в существование Открытого Полярного моря. Я нисколько не сомневался, что парламент поступил правильно, прислушавшись к мнению так называемых полярных экспертов — последней зимой перед нашим отплытием, помните? В «Таймс» много всего писалось о термобарическом барьере, о Гольфстриме, проходящем под льдами и нагревающем Открытое Полярное море, и неизвестном материке, находящемся там, — в парламенте даже предлагались к рассмотрению и принимались законы об отправке сюда заключенных Саутгейта и других тюрем с целью добывать уголь, которого на северном полярном континенте, всего в нескольких сотнях миль отсюда, должно быть полным-полно. На сей раз Крозье смеется от души. — Ну да, добывать уголь для обогрева гостиниц и обеспечения топливом паровых судов, которые будут регулярно курсировать через северное полярное море к шестидесятым годам, самое позднее. О боже, хотелось бы мне быть одним из заключенных Саутгейтской тюрьмы. У них камеры, согласно требованиям закона и элементарной гуманности, в два раза больше наших кают, Джеймс, и будущее сулило бы нам жизнь в тепле и безопасности, доведись нам сидеть спокойно в таких роскошных условиях и ждать известий об открытии и колонизации этого северного полярного континента. Теперь смеются оба мужчины. С верхней палубы доносится глухой стук — скорее частые шаги, нежели простое притопывание, — а потом слышатся громкие голоса, и по полу тянет холодным сквозняком, когда главный люк, расположенный в дальнем конце коридора, открывается и несколько пар ног грохочут вниз по трапу. Оба капитана молчат и ждут, пока не раздается тихий стук в дверь кают-компании. — Войдите, — говорит командор Фицджеймс. Часовой вводит двух людей с «Террора» — третьего лейтенанта Джона Ирвинга и матроса по имени Шанкс. – Прошу прощения, что побеспокоил вас, командор Фицджеймс, капитан Крозье, — говорит Ирвинг, слегка стуча зубами. Его длинный нос побелел от мороза. Шанкс все еще держит в руках мушкет. — Лейтенант Литтл послал меня со срочным донесением к капитану Крозье. – Продолжайте, Джон, — говорит Крозье. — Вы ведь не ищете до сих пор леди Безмолвную, надеюсь? Несколько мгновений Ирвинг тупо смотрит на него. Потом говорит: – О нет, сэр. Она вернулась на корабль, капитан. Правда, осталась на верхней палубе. Она объявилась, когда возвращались последние поисковые отряды. Нет, сэр. Лейтенант Литтл просил меня срочно привести вас обратно, потому что… — Молодой лейтенант умолкает, словно забыв, почему Литтл послал его за капитаном. – Мистер Кауч, — обращается Фицджеймс к вахтенному, приведшему двух людей с «Террора» в кают-компанию, — будьте любезны выйти в коридор и затворить дверь, благодарю вас. Крозье тоже заметил странную тишину, когда храп и поскрипывание коек в носовой части палубы прекратились. Слишком много матросов в кубрике проснулись и навострили уши. Когда дверь закрывается, Ирвинг говорит: — Это Уильям Стронг и Томми Эванс, сэр. Они нашлись. Крозье моргает. – Что значит «нашлись», черт возьми? Живые? — Впервые за много месяцев он испытывает прилив надежды. – О нет, сэр, — говорит Ирвинг. — Только… одно тело… на самом деле. Но оно было прислонено к кормовому фальшборту, когда его заметил кто-то из участников поисковых отрядов, возвращавшихся на корабль… около часа назад. Вахтенные ничего не видели. Но оно находилось там, сэр. По приказу лейтенанта Литтла мы с Шанксом поспешили сюда, чтобы поставить вас в известность, капитан. – Одно? — отрывисто спрашивает он. — Одно тело? Нашлось на корабле? — Капитан «Террора» ничего не понимает. — Мне показалось, вы сказали, что нашлись оба, Стронг и Эванс. Теперь все лицо лейтенанта Ирвинга белеет, точно обмороженное. — Так и есть, капитан, оба. По крайней мере половина каждого. Когда мы подошли взглянуть на тело, прислоненное там к фальшборту, оно упало и… в общем… Насколько мы можем судить, верхняя половина принадлежит Билли Стронгу, а нижняя Томми Эвансу. Крозье и Фицджеймс ошеломленно переглядываются.
12. Гудсер
69°37′42″ северной широты, 98°41′ западной долготы Кинг-Уильям 24 мая — 3 июня 1847 г.Отряд лейтенанта Гора прибыл к каменной пирамиде сэра Джеймса Росса на берегу Кинг-Уильяма поздно вечером 28 мая, после пятидневного тяжелого похода по замерзшему морю. Хорошая новость — обнаруженная лишь на самом подходе к острову, — заключалась в том, что неподалеку от берега на льду разливались широкие озерца пресной, пригодной для питья воды. Плохая новость заключалась в том, что образовались они преимущественно в результате слабого таяния почти сплошной цепи айсбергов — высотой до сотни футов и более, — вынесенных течением на отмели и берег и теперь стоявших подобием белой зубчатой крепостной стены, тянувшейся в одну и другую сторону, насколько хватало глаз. Другая плохая новость заключалась в том, что людям потребовался почти целый день, чтобы преодолеть эту преграду — причем пришлось оставить часть меховых одеял, топлива и провианта на морском льду, чтобы облегчить сани. Вдобавок к упомянутым неприятностям несколько банок консервированных супов и свинины, открытых на привале на льду, оказались испорченными, и их пришлось выбросить, вследствие чего на обратный путь у них осталось провианта меньше чем на пять дней — если исходить из предположения, что все остальные банки не испорчены. И в довершение ко всем прочим плохим новостям выяснилось, что даже здесь, у самой суши, толщина льда по-прежнему составляет семь футов. Самая плохая новость — по крайней мере для Гудсера — заключалась в том, что полуостров (или остров, как они узнали впоследствии) Кинг-Уильям стал для него самым жестоким разочарованием в жизни. Расположенные севернее острова Девон и Бичи были открыты всем ветрам, неблагоприятны для обитания животных даже в лучшее время года и лишены растительности, если не считать лишайников и низкорослых кустарников, но они представлялись истинным райским садом в сравнении с Кинг-Уильямом. Бичи мог похвастаться своими пустошами, наносами песка и земли, впечатляющими скалами и подобием отлогого каменистого берега. Ничего подобного на Кинг-Уильяме не было. Спустя полчаса после перехода через гряду айсбергов Гудсер все еще не понимал, находится он на суше или нет. Он приготовился отметить столь важное событие вместе с остальными, ибо впервые за год с лишним они должны были ступить ногой на землю, но морской лед за айсбергами сменился нагромождениями припайного, и определить, где кончается припай и начинается берег, представлялось невозможным. Повсюду вокруг был лед, снег, и снова лед, и снова снег. Наконец они достигли открытого всем ветрам, свободного от снега участка берега, и Гудсер и несколько матросов упали на гальку на четвереньки, словно вознося благодарение небу, но даже здесь округлые, насквозь промерзшие камешки казались тверже булыжника лондонских мостовых и в десять раз холоднее, и холод этот проникал сквозь штаны и шерстяные подштанники, прикрывавшие колени, в самые кости и проникал сквозь толстые рукавицы в ладони и пальцы, словно безмолвное приглашение в скованные льдом круги ада далеко внизу. Еще четыре часа у них ушло на поиски пирамиды Росса. Раньше лейтенант Гор сказал всем, что груду камней высотой предположительно шесть футов на Виктори-Пойнт или поблизости от него будет легко найти, но на этом не защищенном от ветра мысе груды льда часто имели высоту шесть футов и более, а крепкие ветра давно сдули с пирамиды верхние камни, что помельче. Небо в конце мая никогда не темнело полностью, но в тусклом сумеречном свете все вокруг казалось лишенным объема и полагаться на глазомер не приходилось. В полумраке выделялись одни лишь медведи — и то единственно благодаря движению. С полдюжины голодных любопытных зверей следовали за ними целый день, то приближаясь, то отставая. Помимо этих неуклюжих, развалисто ступающих животных, изредка попадавших в поле зрения, все вокруг терялось в тусклом серо-белом свечении. Серак, на глаз маячивший в полумиле впереди и возвышавшийся на пятьдесят футов, на деле находился всего в двадцати ярдах и имел высоту два фута. Клочок голой каменистой земли в сотне футов от них в действительности оказался в целой миле, далеко на открытом ветрам мысе. Но в конце концов они нашли пирамиду, в десять без малого вечера по все еще тикающему хронометру Гудсера.Все мужчины настолько уморились, что руки у них бессильно болтались, как у любимых приматов Дарвина, по причине крайней усталости никто не разговаривал, сани они оставили в полумиле к северу, где впервые ступили на берег. Гор достал первое из двух посланий — он снял с оригинала копию, чтобы спрятать на берегу южнее, согласно распоряжениям сэра Джона, — проставил в нем дату и нацарапал свою подпись. То же самое сделал второй помощник капитана Чарльз Дево. Они свернули лист бумаги в трубку, положили в один из двух медных герметичных цилиндров, взятых в поход, и опустили цилиндр в середину полой пирамиды, после чего установили на место камни, которые предварительно вынули, чтобы получить доступ к тайнику. — Ну что ж, — сказал Гор, — дело сделано. Вскоре после того, как они дотащились до саней, чтобы приготовить полночный ужин, разразилась буря. Дабы облегчить сани при переходе через гряду айсбергов, они оставили тяжелые одеяла из волчьих шкур, парусиновые подстилки и большую часть консервированных продуктов в укрытии на морском льду. Они рассудили, что, поскольку пища находится в запаянных жестяных банках, она не привлечет белых медведей, вечно вынюхивающих поживу, а даже если и привлечет, звери не смогут вскрыть банки. Они рассчитывали продержаться на острове два дня на урезанном пайке (плюс любая дичь, которую они сумеют подстрелить, разумеется, но при столкновении с суровой реальностью острова надежда эта начала угасать) и спать всем скопом в палатке. Дево, руководивший приготовлением ужина, достал патентованный набор продуктов из специальной тары, представлявшей собой несколько хитроумно вставленных одна в другую плетеных корзин. Но три из четырех банок, выбранных для первого ужина на суше, оказались испорченными. Таким образом, у них осталось лишь по полпорции вчерашней соленой свинины на каждого — свинину мужчины любили, поскольку она очень жирная, но такого количества явно не хватало, чтобы утолить голод после столь трудного дня, — и последняя неиспорченная банка с этикеткой
«Превосходный наваристый черепаховый бульон»который они терпеть не могли, по опыту зная, что бульон не превосходный, не наваристый, да и вряд ли черепаховый. Доктор Макдональд с «Террора» последние полтора года — со времени смерти Торрингтона у острова Бичи — буквально помешался на качестве консервированных продуктов и при участии других врачей постоянно экспериментировал, пытаясь найти наилучшую диету, предотвращающую развитие цинги, и от старшего годами врача Гудсер узнал, что некий Стивен Голднер, поставщик из Хаундитча, добившийся заключения контракта с экспедицией благодаря чрезвычайно низким запрошенным ценам, почти наверняка обманул британское правительство и Службу географических исследований при военно-морском флоте Британии, поставив некачественные — а возможно, и опасные для жизни — пищевые продукты. Мужчины разразились проклятиями, узнав, что содержимое банок протухло. — Успокойтесь, ребята, — сказал лейтенант Гор, пару минут не пресекавший поток матросских ругательств, чтобы дать людям выпустить пар. — Что вы скажете, если сейчас мы начнем открывать одну за другой банки из завтрашнего рациона, пока не найдем достаточно неиспорченной пищи, чтобы насытиться, и просто примем решение вернуться к нашему складу на льду завтра к ужину, даже если таковой состоится в полночь? Все дружным хором выразили согласие с поступившим предложением. Две из следующих четырех банок оказались нормальными: в одной содержалось странное постное «ирландское рагу», которое в лучших обстоятельствах едва ли сочли бы съедобным, а в другой некая смесь с аппетитным названием «бычьи щечки с овощами», относительно которой мужчины сошлись во мнении, что мясные ингредиенты взяты из дубильной мастерской, а овощи из заброшенного овощехранилища. Однако это было лучше, чем ничего. Но когда они поставили палатку, раскатали в ней спальные мешки, разогрели пищу на спиртовке и разобрали горячие металлические миски с едой, засверкали молнии. Первая ударила в землю меньше чем в пятидесяти футах от них, заставив всех разом подпрыгнуть и просыпать из мисок свои бычьи щечки с овощами и рагу. Второй удар пришелся еще ближе. Они бросились к палатке. Молнии одна за другой с оглушительным треском ударяли в землю вокруг подобием артиллерийских снарядов. Едва они успели забиться в коричневую брезентовую палатку — восемь мужчин в укрытии, рассчитанном на четырех человек с легким снаряжением, — как матрос Бобби Терьер взглянул на металлические шесты палаточного каркаса и со словами «ох, твою мать» рванулся к выходу. Снаружи шел град величиной с крикетный мяч, высекавший из льда осколки, взлетавшие на добрых тридцать футов. Полночные арктические сумерки озарялись молниями столь часто, что они накладывались друг на друга и небо сверкало ослепительными вспышками, оставлявшими черные пятна остаточных изображений на сетчатке глаза. — Нет, нет! — проорал Гор, перекрывая грохот грома. Он рывком оттащил Терьера от выхода обратно в переполненную палатку. — Куда ни сунься, мы здесь самые высокие существа. Отбросьте шесты по возможности дальше, но оставайтесь под брезентом. Заберитесь в спальные мешки и лежите пластом. Мужчины бросились выполнять приказ; пряди длинных волос, выбивавшиеся из-под «уэльских париков» или вязаных шапок, трепыхались и извивались подобием змей над шерстяными шарфами, обмотанными вокруг шеи. Гроза неистовствовала все сильнее, и от грохота грома закладывало уши. Град яростно молотил по спинам, прикрытым брезентом и одеялами, точно тысяча огромных кулаков, избивающих до синяков. На самом деле Гудсер стонал скорее от страха, нежели от боли, хотя непрерывно сыпавшиеся на голову и спину удары являлись самым жестоким избиением из всех, какие он претерпел со времени своего обучения в привилегированной частной школе. — Господи Иисусе, твою мать! — выкрикнул Томас Хартнелл, когда град усилился и молнии засверкали чаще. Все мало-мальски здравомыслящие мужчины уже лежали под своими спальными мешками, а не в них, прикрываясь от града двумя слоями плотного шерстяного одеяла вместо одного. Брезент палатки грозил всем смертью от удушья. Тонкая просмоленная парусина под ними нисколько не спасала от холода, поднимавшегося снизу, пробиравшего до костей, безжалостно остужавшего нагретый дыханием воздух. – Разве грозы бывают, когда так холодно? — прокричал Гудсер Гору, который лежал рядом с ним в куче перепуганных мужчин. – Такое случается, — проорал в ответ лейтенант. — Если мы решим перебраться с кораблей в лагерь на суше, нам придется взять с собой чертову уйму громоотводов! Именно тогда Гудсер услышал первый намек на вероятность, что они покинут корабли. Молния ударила в ледяной валун футах в десяти от палатки, возле которого они сидели во время своего прерванного ужина, и отрикошетила к валуну высотой не более трех футов, сверкнув у них прямо над головами, прикрытыми брезентом, — и все до единого мужчины прижались к земле плотнее, словно пытаясь продраться сквозь парусиновую подстилку и зарыться поглубже в мерзлую гальку. — О господи, лейтенант Гор, — выкрикнул Джон Морфин, чья голова находилась ближе прочих к входному отверстию рухнувшей палатки, — кто-то ходит там, в этом аду кромешном! Все восемь членов отряда находились в палатке. – Неужели медведь? — проорал Гор. — Бродит вокруг в такую грозу? – Слишком крупен для медведя, лейтенант, — прокричал Морфин. — Это… Тут молния опять ударила в ледяной валун неподалеку от палатки, а удар следующей молнии пришелся так близко, что наэлектризованный брезент над ними резко всколыхнулся, и все припали к земле еще плотнее, прижались лицом к холодной парусине и оставили всякие разговоры, чтобы вознести к небу мольбы о спасении. Яростная атака — а Гудсеру все происходящее представлялось некой атакой древних богов, разъяренных их самонадеянным решением зимовать в царстве Борея, — продолжалась почти час, пока наконец последние раскаты грома не стихли в отдалении и вспышки молний не стали реже и не переместились на юго-восток. Гор выбрался из-под брезента первым, но даже этот бравый лейтенант — практически не ведавший страха, насколько знал Гудсер, — не поднимался на ноги целую минуту, если не дольше. За ним все остальные на четвереньках выползли наружу и замерли на месте, ошеломленно озираясь вокруг и словно вознося мольбы или хвалы Всевышнему. В небе на востоке сверкали узоры разветвленных молний, гром все еще грохотал над плоским островом достаточно громко, чтобы они кожей ощущали звуковые волны и зажимали уши ладонями, но град прекратился — двухфутовый слой разбитых белых шариков устилал берег, насколько хватало глаз, — и минуту спустя Гор встал и начал оглядываться по сторонам. Потом все остальные поднялись на ноги, медленно, неуклюже, ощупывая конечности — сплошь покрытые синяками, полагал Гудсер на основании своих собственных болевых ощущений. Черные тучи затягивали сумеречное небо на юге достаточно плотно, чтобы казалось, будто на землю опускается настоящая ночная тьма. — Вы только посмотрите! — крикнул Чарльз Бест. Гудсер и все остальные столпились возле саней. Перед своим прерванным ужином они сложили в кучу консервные банки и прочие предметы на месте, где готовили, и молния каким-то образом ухитрилась ударить в низкую пирамиду банок, промахнувшись мимо самих саней. Все голднеровские консервированные продукты разметало вокруг, как если бы в пирамиду попало пушечное ядро — точный бросок шара в космическом кегельбане. Куски обугленного металла, все еще дымящиеся несъедобные овощи и тухлое мясо были разбросаны в радиусе двадцати ярдов. У левой ноги врача валялся черный от копоти, искореженный котелок, на боку которого виднелась надпись «варочное устройство». Он входил в походный комплект столовых принадлежностей и стоял на одной из спиртовок, когда они бросились в укрытие. Металлическая бутылка, содержавшая пинту древесного спирта, взорвалась, и разлетевшаяся во все стороны шрапнель лишь чудом не задела никого из них, когда они прятались под брезентом. Если бы молния ударила в деревянный ящик с бутылками горючего, стоявший на санях рядом с двумя дробовиками и коробкой патронов, они все погибли бы при взрыве. Гудсер почувствовал острое желание рассмеяться, но сдержался из опасения, что одновременно разрыдается. С минуту все молчали. Наконец Джон Морфин, взобравшийся на невысокую, изрешеченную градом ледяную гряду поблизости, крикнул: — Лейтенант, вы должны взглянуть на это! Они поднялись наверх, чтобы посмотреть, на что он там таращится. Вдоль низкой ледяной гряды, начинавшейся среди нагромождений льда к югу от них и терявшейся из виду на северо-западе, тянулась цепочка совершенно невероятных следов. Невероятных, поскольку они превосходили размерами следы любого из ныне существующих животных на этой старой доброй планете. За пять дней похода мужчины видели на снегу следы белых медведей, и некоторые из них были на удивление большими — до двенадцати дюймов длиной, — но эти отпечатки были в полтора-два раза больше. Иные казались длиной с руку мужчины. И они были свежими — в этом не приходилось сомневаться, — ибо вмятины остались не на старом снегу, а на толстом слое градин. Какое бы существо ни проходило мимо лагеря, оно появилось здесь в самый разгар грозы с градом, как и докладывал Морфин. – Что это? — сказал лейтенант Гор. — Быть такого не может. Мистер Дево, будьте добры, принесите мне дробовик и патроны из саней. – Есть, сэр. Еще прежде, чем помощник капитана вернулся с дробовиком, Морфин, рядовой морской пехоты Пилкингтон, Бест, Терьер и Гудсер двинулись вслед за Гором, который пошел по невероятным следам в северо-западном направлении. — Они слишком большие, сэр, — сказал морской пехотинец. Он был включен в состав отряда, знал Гудсер, поскольку являлся одним из немногих мужчин на обоих кораблях, имевших опыт охоты на дичь крупнее тетерева. — Я знаю, рядовой, — сказал Гор. Он взял дробовик у второго помощника Дево и спокойно загнал в ствол патрон. Увязая в ледяном крошеве, семеро мужчин шагали в направлении темных облаков за цепью айсбергов, тянувшейся вдоль береговой линии. – Может, это не следы, а что-то другое… скажем, арктический заяц или еще какой зверь прыгал по ледяному месиву, делая вмятины всем телом, — предположил Дево. – Да, — рассеянно сказал Гор. — Вероятно, так и есть, Чарльз. Но это были отпечатки лап. Доктор Гарри Д. С. Гудсер знал это. И все мужчины, шедшие рядом, знали это. Гудсер, никогда в жизни не охотившийся на зверя крупнее кролика или куропатки, точно знал, что это не вмятины от тела какого-то мелкого животного, прыгавшего влево-вправо, но скорее отпечатки лап некоего существа, которое шло сначала на четырех ногах, а потом — если верить следам — прошагало почти сотню ярдов на двух. Здесь они походили на следы человека, имеющего ступни длиной с предплечье Гудсера и покрывающего почти пять футов за один шаг, причем вместо отпечатков пальцев оставляющего бороздки от когтей. Они достигли незащищенного от ветра участка каменистого берега, где Гудсер упал на колени много часов назад. Поскольку градины здесь разбивались на мельчайшие осколки, под ногами у них лежал практически голый камень — и на нем следы обрывались. — Рассредоточимся, — сказал Гор, который по-прежнему небрежно держал дробовик под мышкой, словно прогуливаясь по своему родовому поместью в Эссексе. Он поочередно ткнул пальцем в каждого из мужчин и указал, в какую сторону тому надлежит направиться, чтобы поискать следы на границе каменистого участка, немногим превосходившего размерами центральную часть крикетного поля. Следов, ведущих прочь с гальки, не обнаружилось. Мужчины несколько минут бродили взад-вперед, внимательно глядя под ноги, стараясь не ступать на нетронутый снег, а потом все застыли на месте, растерянно переглядываясь. Каменистый участок имел форму почти правильного круга. Никаких следов, уводящих за пределы оного, не было. — Лейтенант… — начал Бест. — Помолчите минутку, — сказал Гор резко, но не раздраженно. — Я думаю. Сейчас он единственный двигался: широким шагом проходил мимо мужчин и напряженно вглядывался в снег и лед за пределами круга, словно пытаясь понять шутку, с ним сыгранную. Теперь, когда гроза ушла на восток, стало светлее (было почти два часа пополуночи по хронометру Гудсера), и снег с ледяной крошкой за границей усыпанного галькой пятачка оставался нетронутым. – Лейтенант, — настойчиво повторил Бест. — Я насчет Тома Хартнелла. – Да, что с ним? — отрывисто спросил лейтенант. Он начинал обходить участок по третьему разу. – Его здесь нет. Я только сейчас понял — я не видел Тома с момента, когда мы вышли из палатки. Гудсер резко вскинул и повернул голову одновременно со всеми остальными. В трехстах ярдах за ними находилась низкая ледяная гряда, загораживавшая рухнувшую палатку и сани. Никакого движения на всем обозримом серо-белом пространстве не наблюдалось. Все разом сорвались с места и побежали.
Хартнелл был жив, но без сознания, и по-прежнему лежал под брезентом палатки. На голове сбоку у него вздулась огромная шишка — толстый брезент прорвался от удара градины величиной с кулак, — и из левого уха сочилась кровь, но Гудсер скоро нащупал слабый пульс. Они вытащили Хартнелла из-под палатки, достали два спальных мешка и устроили пострадавшего по возможности удобнее. По небу опять плыли темные облака. — Насколько серьезна травма? — спросил лейтенант Гор. Гудсер потряс головой. — Пока неизвестно — узнаем, когда он очнется… если он очнется. Удивительно, что больше никто из нас не пострадал столь же тяжело. Это было поистине смертоносное низвержение твердых тел с небес. Гор кивнул. — Мне бы очень не хотелось потерять Томми после того, как его брат Джонни умер в прошлом году. Семья не перенесет такого удара. Гудсер вспомнил, как готовил к погребению Джона Хартнелла, одетого в лучшую фланелевую рубаху брата Томми. Он подумал об этой рубахе, находящейся под мерзлой землей и занесенными снегом камнями во многих милях к северу отсюда, о ледяном ветре под черными скалами, проносящемся между деревянными надгробиями, — и содрогнулся. – Мы все начинаем замерзать, — сказал Гор. — Необходимо поспать. Рядовой Пилкингтон, найдите опорные шесты и помогите Бесту и Терьеру снова установить палатку. – Есть, сэр. Пока двое мужчин искали опорные шесты, Морфин поднял брезент. Изрешеченная градом палатка походила на видавшее виды боевое знамя. — Боже мой, — сказал Дево. — Все спальные мешки промокли насквозь, — доложил Морфин. — Палатка внутри тоже промокла. Гор вздохнул. Пилкингтон и Бест вернулись с двумя почерневшими, погнутыми обломками шестов из металла и дерева. — В них попала молния, лейтенант, — доложил рядовой морской пехоты. — Похоже, ее притянул металлический стержень, сэр. От них теперь мало прока. Гор просто кивнул. – У нас в санях есть ледоруб. Принесите его и запасной дробовик, чтобы использовать в качестве опорных шестов. Растопите немного льда, чтобы залить их у основания. – Спиртовка испорчена, — напомнил Терьер. — Растопить лед не получится. – У нас в санях есть еще две спиртовки, — сказал Гор. — А в бутылках осталась питьевая вода. Сейчас она обратилась в лед, но засуньте бутылки за пазуху, чтобы он растаял. Залейте воду в ямку, которую прорубите во льду. Она мигом замерзнет. Мистер Бест? – Да, сэр? — откликнулся плотный молодой моряк, пытаясь подавить зевок. – Вычистите палатку изнутри возможно тщательнее, возьмите нож и распорите два спальных мешка. Получится два широких одеяла: одно мы используем в качестве подстилки, а другим накроемся, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не закоченеть. Нам нужно поспать. Гудсер внимательно наблюдал за находившимся в беспамятстве Хартнеллом, но молодой человек по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Врачу пришлось проверить, дышит ли он, чтобы удостовериться, что он еще не умер. — Мы двинемся обратно утром, сэр? — спросил Джон Морфин. — В смысле, чтобы забрать наши припасы из склада на льду, а потом направиться назад к кораблям? Теперь у нас провианта осталось всего ничего, не хватит на обратный путь, даже если урезать рацион до мало-мальски приемлемого минимума. Гор улыбнулся и помотал головой. – Двухдневный пост не повредит нам, дружище. Но поскольку Хартнелл ранен, я отправлю четверых к нашему складу, с ним на санях. Вы станете там лагерем, обустроившись со всем тщанием, а я тем временем возьму одного человека и направлюсь на юг, во исполнение приказа сэра Джона. Я должен спрятать в тайнике второе письмо Адмиралтейству, но самое главное, нам необходимо продвинуться на юг как можно дальше, чтобы проверить, нет ли там каких признаков чистой воды. Весь наш поход окажется напрасным, коли мы не сделаем этого. – Я готов пойти с вами, лейтенант Гор, — сказал Гудсер и поразился звуку собственного голоса. Почему-то для него было чрезвычайно важно продолжить путь с офицером. Гор тоже казался удивленным. — Благодарю вас, доктор, — мягко сказал он. — Но не разумнее ли будет, если вы останетесь с нашим раненым товарищем? Гудсер густо покраснел. – Со мной пойдет Бест, — сказал лейтенант. — До моего возвращения командовать отрядом будет второй помощник Дево. – Есть, сэр, — хором сказали оба мужчины. – Мы с Бестом выступим часа через три и постараемся пройти на юг возможно дальше, взяв с собой лишь немного соленой свинины, цилиндр для письма, по одной бутылке воды на каждого, несколько одеял на случай, если придется стать биваком, и один из дробовиков. Мы повернем назад около полуночи и постараемся встретиться с вами на льду к восьми склянкам завтрашнего утра. На обратном пути к кораблям санный груз у нас будет легче — если не считать Хартнелла, я имею в виду, — так что бьюсь об заклад, мы доберемся до дома не за пять дней, а за три, если не меньше. Если мы с Бестом не вернемся к лагерю на море послезавтра к полуночи, мистер Дево, берите Хартнелла и возвращайтесь к кораблям. – Есть, сэр. – Рядовой Пилкингтон, вы очень устали? – Да, сэр, — ответил тридцатилетний морской пехотинец. — То есть нет, сэр. Я готов выполнить любой ваш приказ, лейтенант. Гор улыбнулся. — Хорошо. Вы заступаете на дежурство на следующие три часа. Единственное, что я могу вам обещать, так это то, что вам первому позволят лечь спать, когда ваш отряд достигнет сегодня места стоянки у склада. Возьмите мушкет, не задействованный в качестве палаточного опорного шеста, но оставайтесь в палатке — просто выглядывайте наружу время от времени. — Слушаюсь, сэр. — Доктор Гудсер? Врач вскинул голову. — Будьте добры, перенесите мистера Хартнелла в палатку с помощью мистера Морфина и устройте там поудобнее. Мы положим Томми в середину нашей куча-мала, чтобы согревать своими телами. Гудсер кивнул и двинулся с места, чтобы поднять своего пациента за плечи вместе со спальным мешком. Шишка на голове Хартнелла теперь выросла до размеров маленького бледного кулака. — Хорошо, — стуча зубами, проговорил Гор, когда потрепанную палатку установили. — Теперь давайте расстелим одеяла, ляжем, прижмемся покрепче друг к другу, точно бедные сироты, каковыми, собственно, мы и являемся, и попытаемся поспать час-другой.
13. Франклин
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 3 июня 1847 г.Сэр Джон не верил своим глазам. Он видел восемь фигур, все верно, но наблюдал при этом некий… непорядок. Четверо из пятерых тянувших сани изможденных, бородатых мужчин в очках не вызывали недоумения — матросы Морфин, Терьер и Бест, с рослым рядовым Пилкингтоном впереди, — но пятым в упряжи шел второй помощник Дево, чье выражение лица наводило на мысль, что он побывал в аду. Матрос Хартнелл шел рядом с санями. Голова исхудалого матроса была перевязана, и он еле волочил ноги, словно французский солдат во время отступления Наполеона от Москвы. Врач Гудсер тоже шел рядом с санями, на ходу наклоняясь к кому-то — или чему-то, — лежащему в санях. Франклин высматривал красный шерстяной шарф лейтенанта Гора — длиной почти шесть футов, такой невозможно не заметить, — но странное дело: казалось, почти все темные, с трудом плетущиеся фигуры были в красных шарфах, только покороче. И наконец, за санями шагала низенькая, закутанная в парку фигура, лицо которой скрывалось под капюшоном, но которая могла быть только эскимосом. Но именно при виде самих саней капитан сэр Джон Франклин невольно воскликнул: «О господи!» Сани были слишком узкие, чтобы на них поместились два человека, лежащие бок о бок, и подзорная труба не обманула сэра Джона: одно тело покоилось на другом. Наверху находился еще один эскимос — спящий или погруженный в беспамятство старик с коричневым морщинистым лицом и белыми волосами, разметавшимися по меховому капюшону, стянутому назад и подоткнутому под голову подобием подушки. Именно над ним склонялся Гудсер, пока сани приближались к «Эребусу». Под лежащим навзничь эскимосом виднелись тело и почерневшее, искаженное и явно мертвое лицо лейтенанта Грэма Гора. Франклин, командор Фицджеймс, лейтенант Левеконт, первый помощник Роберт Серджент, ледовый лоцман Рейд, старший судовой врач Стенли, несколько младших офицеров, помощник боцмана Браун, грот-марсовый старшина Джон Салливан и стюард сэра Джона мистер Хор — разом бросились навстречу саням, как и сорок с лишним матросов, которые поднялись на палубу, услышав крик дозорного. В дюжине шагов от санного отряда Франклин и все остальные стали как вкопанные. То, что через подзорную трубу показалось Франклину серовато-красными шерстяными шарфами, на деле оказалось огромными красными пятнами на темных шинелях. Мужчины были измазаны кровью. Потом раздался взрыв голосов. Матросы в упряжи обнимались с товарищами, подбежавшими к ним. Томас Хартнелл рухнул на лед, и вокруг него столпились мужчины, пытавшиеся поднять его на ноги. Все говорили и кричали одновременно. Сэр Джон видел только труп лейтенанта Грэма Гора. Тело было накрыто спальным мешком, но он немного сполз вниз, являя взору сэра Джона красивое лицо, местами абсолютно белое, обескровленное, а местами — нос, щеки, виски, подбородок — дочерна обожженное арктическим солнцем, с искаженными чертами, с блестящими от инея белками закатившихся глаз под приоткрытыми веками, с отвисшей челюстью и вывалившимся изо рта языком, с губами, растянутыми точно в злобном оскале или в гримасе совершенного ужаса. — Снимите этого… дикаря… с лейтенанта Гора, — приказал сэр Джон. — Немедленно! Несколько человек бросились выполнять приказ: схватили эскимоса за плечи и за ноги, рывком подняли. Старик застонал, и доктор Гудсер воскликнул: — Осторожнее! Полегче с ним! У него мушкетная пуля рядом с сердцем. Отнесите его в лазарет, пожалуйста. Второй эскимос подошел к раненому старику — теперь, когда капюшон парки был откинут назад, сэр Джон ошеломленно обнаружил, что это молодая женщина. – Постойте! — вскричал сэр Джон, махнув рукой своему корабельному фельдшеру. — Лазарет? Неужто вы всерьез полагаете, что мы позволим поместить этого… аборигена… в наш лазарет?! – Этот человек — мой пациент, — заявил Гудсер с непочтительным упрямством, какого сэр Джон Франклин никогда бы не предположил в малорослом, щуплом враче. — Мне необходимо перенести раненого в место, где я смогу его прооперировать — извлечь пулю из тела, коли такое возможно. Остановить кровотечение, на худой конец. Отнесите его в лазарет, пожалуйста. Матросы, державшие эскимоса, вопросительно посмотрели на начальника экспедиции. Сэр Джон впал в такое замешательство, что лишился дара речи. — Пошевеливайтесь же, — приказал Гудсер уверенным тоном. Очевидно, приняв молчание сэра Джона за знак согласия, мужчины потащили седовласого эскимоса вверх по снежному откосу на корабль. Гудсер, эскимосская девушка и несколько матросов последовали за ними; двое поддерживали под руки молодого Хартнелла. Франклин, едва скрывавший свое потрясение и ужас, остался стоять на месте, по-прежнему глядя на труп лейтенанта Гора. Рядовой Пилкингтон и матрос Морфин развязывали тросы, крепившие тело к саням. – Бога ради, — промолвил Франклин, — прикройте ему лицо. – Слушаюсь, сэр, — откликнулся Морфин. Матрос натянул на лицо лейтенанту плотное шерстяное одеяло, сползшее вниз за время трудного полуторасуточного перехода по замерзшему морю, искрещенному торосными грядами. Сэр Джон по-прежнему видел провал рта под провисшим красным одеялом. – Мистер Дево! — рявкнул он. – Да, сэр. Второй помощник Дево, который наблюдал за матросами, отвязывавшими тело лейтенанта от саней, подошел шаркающей походкой и козырнул. Франклин видел, что заросший щетиной мужчина с обветренным и докрасна обожженным солнцем лицом настолько изможден, что едва сумел поднять руку, чтобы отдать честь. — Пусть лейтенанта Гора отнесут в его каюту, где вы с мистером Серджентом, под руководством присутствующего здесь лейтенанта Фейрхольма, проследите за тем, чтобы тело подготовили к погребению. — Есть, сэр, — хором сказали Дево и Фейрхольм. Терьер и Пилкингтон, несмотря на смертельную усталость, решительно отказались от посторонней помощи и сами подняли с саней тело своего лейтенанта. Одна рука у Гора была согнута в локте, и скрюченные окоченелые пальцы (рукавица и перчатка отсутствовали, и голая кисть почернела, то ли сожженная солнцем, то ли вследствие разложения тканей) словно пытались вцепиться в воздух. — Постойте, — сказал Франклин. Он сообразил, что, если поручит мистеру Дево такое задание, пройдет не один час, прежде чем он сможет получить официальный доклад от человека, бывшего заместителем командира в данном отряде. Даже чертов фельдшер теперь скрылся, забрав с собой двух эскимосов. — Мистер Дево, — сказал Франклин, — после того, как вы проследите за начальными приготовлениями лейтенанта Гора к погребению, зайдите ко мне в каюту. – Есть, сэр, — устало откликнулся помощник капитана. – Кстати, кто присутствовал при смерти лейтенанта Гора? — Мы все, сэр, — сказал Дево. — Но матрос Бест находился с ним последние двое суток нашего пребывания на Кинг-Уильяме и около. Чарли видел все, что случилось с лейтенантом Гором. – Хорошо, — сказал сэр Джон. — Продолжайте выполнять свои обязанности, мистер Дево. Вскоре я выслушаю ваш доклад. А вы, Бест, сейчас проследуйте за мной и командором Фицджеймсом. – Есть, сэр, — сказал матрос, перерезая ножом последний ремень своей упряжи, поскольку он был слишком утомлен, чтобы возиться с узлами. У него даже не хватило сил козырнуть.
Три престонских иллюминатора матово белели над головой от света никогда не заходящего солнца, когда матрос Чарльз Бест делал доклад сидящим за столом сэру Джону, командору Фицджеймсу и капитану Крозье — капитан «Террора» весьма кстати прибыл с визитом всего через несколько минут после того, как разведывательный отряд поднялся на борт. Эдмунд Хор — стюард сэра Джона, временами выполнявший обязанности секретаря, — сидел с офицерами, делая записи. Бест стоял, разумеется, но несколькими минутами ранее Крозье предложил дать изможденному мужчине немного бренди в медицинских целях, и, хотя на лице сэра Джона явственно отразилось недовольство, он соизволил попросить капитана Фицджеймса достать бутылку из своих личных запасов. Похоже, глоток спиртного несколько взбодрил Беста. Трое офицеров время от времени прерывали вопросами докладывавшего Беста, который стоял перед ними, пошатываясь от усталости. Когда описание трудного похода к острову Кинг-Уильям стало несколько затягиваться, сэр Джон попросил мужчину перейти к описанию событий последних двух дней. — Слушаюсь, сэр. В общем, после того как мы стали лагерем в первую нашу ночь на берегу, когда прошла страшная гроза с градом, а потом нашли эти… следы, отпечатки лап… на снегу, мы попытались поспать пару часов, но безуспешно, а затем мы с лейтенантом направились на юг с малым запасом провианта, а мистер Дево взял сани и то, что осталось от палатки и бедного Хартнелла, который тогда по-прежнему не подавал признаков жизни, и мы попрощались до завтра, и, значит, мы с лейтенантом двинулись на юг, а мистер Дево с остальными людьми двинулся обратно на морской лед. — Вы были вооружены, — сказал сэр Джон. – Так точно, сэр Джон, — подтвердил Бест. — У лейтенанта Гора был пистолет, а у меня один из двух наших дробовиков. Второй дробовик остался в отряде мистера Дево, а у рядового Пилкингтона был мушкет. – Объясните, почему лейтенант Гор разделил отряд, — потребовал сэр Джон. Казалось, Бест на мгновение смешался, но потом просветлел. – О, он сказал нам, что выполняет ваш приказ, сэр. Поскольку молния уничтожила запасы провизии и град повредил палатку, большей части отряда необходимо было вернуться к нашему складу на морском льду. Мы с лейтенантом Гором продолжили путь, чтобы спрятать второй цилиндр с донесением где-нибудь южнее на берегу и посмотреть, нет ли где дальше разводий. Там ничего не было. В смысле, разводий. Ни следа. Ни хре… ни единого потемнения в небе над горизонтом, свидетельствующего об открытой воде. – Как далеко вы продвинулись на юг, Бест? — спросил Фицджеймс. – Лейтенант Гор полагал, что мы прошли около четырех миль по этому снегу и обледенелым камням, когда достигли длинного узкого залива, сэр… похожего на бухту у Бичи, где мы зимовали год назад. Но вы знаете, сэр, что значит пройти четыре мили в тумане, да против ветра, да по льду. Вероятно, мы протопали миль десять, самое малое, чтобы покрыть четыре. Залив намертво скован льдом. Плотным, как пак здесь, вокруг кораблей. Там нет даже узкой полоски воды между берегом и льдом, какие бывают в любом заливе летом. В общем, мы пересекли его, сэр, а затем прошли еще с четверть мили по мысу, близ оконечности которого мы с лейтенантом Гором сложили из камней еще одну пирамиду — не такую высокую и красивую, как пирамида капитана Росса, я уверен, но прочную и достаточно высокую, чтобы сразу броситься в глаза любому. Местность там такая плоская, что выше человека там ничего нет. Поэтому мы сложили из камней пирамиду высотой примерно в уровень наших глаз и схоронили в ней второе послание, точно такое же, как первое, сказал лейтенант, в медном цилиндре. – Затем вы повернули назад? — спросил капитан Крозье. – Нет, сэр, — сказал Бест. — Не стану скрывать, я устал смертельно. Лейтенант Гор тоже. Нам весь день приходилось тяжко, даже заструги там такие твердые, что мы с трудом через них пробивались, но, поскольку было туманно, мы лишь изредка мельком видели берег перед собой, когда туман рассеивался, и потому, хотя мы закончили сооружать пирамиду и положили в нее послание лишь во второй половине дня, лейтенант Гор продолжил путь, и мы прошли еще шесть или семь миль по берегу на юг. Иногда видимость улучшалась, но большую часть времени мы почти ничего не видели. Но мы слышали. – Что вы слышали, дружище? — спросил Франклин. – Нас преследовало какое-то существо, сэр Джон. Крупное. Оно шумно дышало. И иногда точно погавкивало… на манер белых медведей, когда они издают такие кашляющие звуки, знаете, сэр? – Вы опознали в нем белого медведя? — спросил Фицджеймс. — Вы же сказали, что местность там плоская. Если за вами шел медведь, вы наверняка могли его видеть, когда туман рассеивался. – Да, сэр. — Бест так сильно нахмурился, что показалось, он сейчас заплачет. — То есть нет, сэр. Мы не опознали в нем ни медведя, ни какого другого зверя, сэр. В нормальных условиях мы смогли бы. Мы должны были бы, но мы не опознали и не имели такой возможности. Иногда кашель раздавался прямо у нас за спиной — футах в пятнадцати в тумане, — и я вскидывал дробовик, а лейтенант Гор взводил курок пистолета, и мы стояли и ждали, затаив дыхание, но, когда туман рассеивался, мы видели на добрую сотню футов назад, и там никого не было. – По-видимому, какой-то акустический феномен, — предположил сэр Джон. – Так точно, сэр, — согласился Бест, судя по тону не понявший замечания сэра Джона. – Возможно, звуки издавал припайный лед, — пояснил сэр Джон. — Или ветер. — О, так точно, так точно, сэр Джон, — сказал Бест. — Только ветра тогда не было. Но вот лед… может статься, звуки действительно издавал он, милорд. Такое всегда может быть. — Своим тоном он дал понять, что такого быть не могло. Сопя, словно от раздражения, сэр Джон сказал: – В самом начале вы сказали, что лейтенант Гор погиб… был убит… когда вы присоединились к шестерым людям на льду. Пожалуйста, перейдите этой части вашего повествования. – Слушаюсь, сэр. В общем, было, наверное, около полуночи, когда мы достигли самой южной точки нашего маршрута. Солнце скрылось, но небо светилось золотистым светом… ну, вы знаете, как здесь обычно бывает около полуночи, сэр Джон. Туман ненадолго рассеялся настолько, что, когда мы взобрались на небольшой каменистый холмик — то есть не холмик, а намывную косу, возвышавшуюся футов, наверное, на пятнадцать над плоским берегом, усыпанным мерзлой галькой, — мы увидели, что дальше к югу береговая линия изгибается и уходит к подернутому туманом горизонту, где смутно виднеются скопления айсбергов, прибитых к берегу. Никаких разводий. Сплошной лед, насколько хватает глаз. В общем, мы повернули и двинулись назад. У нас не было с собой ни палатки, ни спальных мешков — только замерзшая свинина, чтоб пожевать. Я сломал о нее здоровый зуб. Мы оба страшно хотели пить, сэр Джон. У нас не было спиртовки, чтоб растопить снег или лед, и мы взяли в дорогу лишь самую малость воды в бутылке, которую лейтенант Гор держал за пазухой, поближе к телу… В общем, мы шли всю ночь — час или два сумерек, которые здесь считаются ночью, а потом еще не один час, — и я с полдюжины раз засыпал прямо на ходу и ходил бы кругами, пока не упал, но лейтенант Гор то и дело хватал меня за руку, встряхивал и вел в верном направлении. Мы прошли мимо новой каменной пирамиды, пересекли залив и примерно к шести склянкам, когда солнце опять стояло высоко в небе, достигли места неподалеку от первой пирамиды, где стояли лагерем прошлой ночью. В смысле, пирамиды сэра Джеймса Росса — и на самом деле не прошлой ночью, а позапрошлой, во время первой грозы, — и мы потащились дальше, по санному следу, к прибрежным айсбергам, а потом на морской лед. – Вы сказали «во время первой грозы», — перебил Беста Крозье. — Что, были еще? У нас здесь прошло несколько, но самые страшные, похоже, бушевали на юге. – О да, сэр, — сказал Бест. — Каждые несколько часов, несмотря на густой туман, снова начинал греметь гром, а потом волосы у нас вставали дыбом, и все металлическое — пряжки ремней, дробовик, пистолет лейтенанта Гора — начинало светиться голубым светом, и тогда мы находили место, где распластаться на гальке, и лежали там, пытаясь слиться с землей, пока мир вокруг нас сверкал и грохотал, точно пушечная канонада при Трафальгаре, сэр. – Вы участвовали в Трафальгарском сражении, матрос Бест? — холодно осведомился сэр Джон. Бест растерянно моргнул. – Нет, сэр. Конечно нет, сэр. Мне только двадцать пять лет, милорд. – А я участвовал, матрос Бест, — сухо сказал сэр Джон. — В качестве офицера войск связи на британском военном корабле «Беллерофон», где тридцать три из сорока офицеров были убиты во время одного только этого боя. Пожалуйста, в дальнейшем воздержитесь от употребления метафор или аналогий, неизвестных вам по личному опыту. – Слушаюсь, сэр, — пролепетал Бест, теперь пошатываясь не только от усталости и горя, но еще и от ужаса, что допустил такую бестактность. — Я прошу прощения, сэр Джон. Я не хотел… я имею в виду… мне не следовало… то есть… – Продолжайте ваш рассказ, матрос, — сказал сэр Джон. — Но поведайте нам о последних часах жизни лейтенанта Гора. – Слушаюсь, сэр. Ну… я бы не смог перебраться через гряду айсбергов, если бы лейтенант Гор не помогал мне — благослови его, Господь, — но в конце концов мы перебрались и вышли на лед, откуда оставалась миля или две до лагеря, где мистер Дево и остальные ждали нас, но потом мы заблудились. – Как вы могли заблудиться, — спросил командор Фицджеймс, — если вы шли по санному следу? — Я не знаю, сэр, — сказал Бест бесцветным от горя и усталости голосом. — Был туман. Очень густой туман. Большую часть времени видимость не превышала десяти футов в любом направлении. От солнца все вокруг словно светилось и казалось плоским. Мне кажется, мы перебирались через одну и ту же торосную гряду три или четыре раза и после каждого раза все больше теряли ориентацию. А дальше на море были широкие участки голого льда, где снег смело ветром и сани не оставили следа. Но на самом деле, сэр, я думаю, мы с лейтенантом Гором спали на ходу и просто потеряли след, сами того не заметив. – Хорошо, — сказал сэр Джон. — Продолжайте. – Ну, потом мы услышали выстрелы… — начал Бест. – Выстрелы? — переспросил командор Фицджеймс. – Так точно, сэр. И мушкета, и дробовика. В таком тумане, да когда звук отражался от айсбергов и ледяных гряд вокруг, казалось, будто выстрелы доносятся сразу со всех сторон одновременно, но они раздались близко. Мы принялись кричать в туман и довольно скоро услышали ответные крики мистера Дево, а через полчаса — когда туман немного рассеялся, — мы наткнулись на стоянку. Ребята залатали палатку за тридцать шесть часов нашего отсутствия — более или менее залатали, — и она стояла подле саней. – Они стреляли, чтобы подать вам сигнал? — спросил Крозье. – Нет, сэр, — ответил Бест. — Они стреляли в медведей. И в старого эскимоса. — Объясните, — велел сэр Джон. Чарльз Бест облизал обветренные растрескавшиеся губы. — Мистер Дево сможет объяснить лучше меня, сэр, но суть дела такова: когда днем раньше они вернулись обратно к складу на море, они обнаружили, что все банки с продуктами измяты, продырявлены, разбросаны и испорчены — медведями, по всей видимости, — поэтому мистер Дево и доктор Гудсер решили завалить нескольких белых медведей, которые продолжали бродить вокруг лагеря. Они подстрелили самку и двух медвежат перед самым нашим появлением и принялись свежевать туши. Но затем они услышали звуки движения поблизости — то самое покашливание и шумное дыхание в тумане, которое я описывал, сэр, — а в следующую минуту два эскимоса — старик и женщина — вышли из-за торосной гряды в тумане в своих белых мехах, и рядовой Пилкингтон пальнул из мушкета, а Бобби Терьер пальнул из дробовика. Терьер промахнулся, но Пилкингтон всадил пулю в грудь мужчине. Когда мы с лейтенантом добрались до них, они уже притащили раненого эскимоса и куски медвежатины обратно в лагерь, оставив на льду кровавые полосы, сэр, по которым мы и шли последние ярдов сто, и доктор Гудсер пытался спасти жизнь старому эскимосу. — Зачем? — осведомился сэр Джон. На этот вопрос Бест не знал ответа. Все остальные хранили молчание. – Хорошо, — наконец сказал сэр Джон. — Через сколько времени после вашего воссоединения со вторым помощником Дево и прочими в лагере произошло нападение на лейтенанта Гора? – Не более чем через тридцать минут, сэр Джон. Может, раньше. — И что спровоцировало нападение? – Спровоцировало? — повторил Бест. Взгляд у него казался рассеянным. — Вы имеете в виду что-нибудь вроде стрельбы по белым медведям? – Я имею в виду, при каких именно обстоятельствах произошло нападение, матрос Бест? — сказал сэр Джон. Бест потер лоб, открыл рот, но прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он заговорил: — Да ничего не спровоцировало. Я разговаривал с Томми Хартнеллом — он лежал в палатке, с перевязанной головой, но снова в сознании, и ничего не помнил с момента начала первой грозы; мистер Дево присматривал за Морфином и Терьером, которые разжигали две спиртовки, чтобы приготовить медвежатину; доктор Гудсер снял с эскимоса парку и обследовал ужасную рану в груди старика; женщина стояла рядом, наблюдая за происходящим, но в тот момент я ее не видел, поскольку туман снова сгустился; а рядовой Пилкингтон стоял на часахс мушкетом, когда лейтенант Гор вдруг закричал: «Тише все! Тише!» — и мы все разом умолкли и застыли на месте. В тишине слышалось лишь шипение спиртовок да бульканье воды в больших котелках — мы собирались состряпать подобие рагу с медвежатиной, полагаю, — а потом лейтенант Гор достал пистолет, зарядил, взвел курок и отошел на несколько шагов от палатки, и… Бест осекся. Взгляд у него приобрел отсутствующее выражение, рот был по-прежнему открыт, и на подбородке блестела слюна. Он явно видел перед собой не каюту сэра Джона, а некую картину, вставшую у него перед мысленным взором. — Дальше, — велел сэр Джон. Бест судорожно пошевелил губами, но не издал ни звука. — Продолжайте, матрос, — сказал капитан Крозье более мягким голосом. Бест повернул голову в сторону Крозье, но глаза у него по-прежнему смотрели куда-то вдаль. – Потом… — начал Бест. — Потом… лед вдруг поднялся, капитан. Он просто поднялся и окружил лейтенанта Гора. – О чем вы говорите? — раздраженно спросил сэр Джон после следующей минутной паузы. — Лед не может просто взять и подняться. Что вы видели? Бест не повернул головы в сторону сэра Джона. – Лед просто поднялся. Наподобие торосных гряд, которые вдруг вырастают в считанные секунды. Только это была не гряда… не лед… что-то просто поднялось и приняло… форму. Белая призрачная фигура. Помню, я увидел… когти. Лап не видел — во всяком случае, поначалу, — но вот когти видел. Огромные. И зубы. Я помню зубы. – Медведь, — сказал сэр Джон. — Арктический белый медведь. Бест лишь помотал головой. — Громадного роста. Казалось, существо поднялось под лейтенантом Гором… вокруг лейтенанта Гора. Оно было… страшно высокое. В два с лишним раза выше лейтенанта Гора, а вы знаете, он был рослым мужчиной. Оно было по меньшей мере двенадцать футов ростом… думаю, даже выше… и огромное. Невероятно огромное. А потом лейтенант Гор вроде как исчез, когда существо… окружило его… и мы видели только голову и плечи лейтенанта да башмаки, а потом пистолет выстрелил — он не целился, думаю, пуля ушла в лед, — а в следующий миг мы все заорали дурными голосами, и Морфин бросился к дробовику, а рядовой Пилкингтон сорвался с места и побежал, на ходу целясь из мушкета, но он боялся стрелять, поскольку теперь чудовище и лейтенант слились в единое целое, а потом… мы услышали хруст и треск. — Медведь рвал зубами лейтенанта? — спросил командор Фицджеймс. Бест моргнул и посмотрел на румяного молодого человека. – Рвал зубами? Нет, сэр. Существо не пускало в ход зубы. Я даже не видел его головы… как таковой. Просто два черных пятна, парящие на высоте двенадцати-тринадцати футов в воздухе… черные, но с красным отблеском, как глаза бегущего на вас волка, в которых отражается солнце. Хрустели и трещали кости грудной клетки, рук и ног лейтенанта Гора. – Лейтенант Гор кричал? — спросил сэр Джон. – Нет, сэр. Он не издал ни звука. – Морфин и Пилкингтон выстрелили? — спросил Крозье. – Нет, сэр. – Почему? Бест, странное дело, улыбнулся. – Да стрелять было не во что, капитан. Секунду назад существо появилось — выросло над лейтенантом Гором и раздавило несчастного, как вы или я могли бы раздавить крысу в кулаке, — а в следующий миг оно исчезло. – Что значит «исчезло»? — осведомился сэр Джон. — Неужели Морфин и рядовой морской пехоты не могли выстрелить в него, пока оно не отступило в туман? – Отступило? — повторил Бест, еще шире улыбаясь своей неуместной, жуткой улыбкой. — Существо никуда не отступало. Оно просто ушло обратно в лед — как пропадает тень, когда солнце скрывается за облаками, — а когда мы добежали до лейтенанта Гора, он был уже мертв. Рот широко раскрыт. Даже крикнуть не успел. Тут туман рассеялся. Во льду не было никаких провалов. Никаких трещин. Ни даже маленьких отдушин, какие проделывают гренландские тюлени. Один только лейтенант Гор лежал там с переломанными костями — грудная клетка вдавлена, обе руки сломаны, из ушей, глаз и рта сочится кровь. Доктор Гудсер растолкал нас в стороны, но он ничего не мог сделать — Гор был мертв и уже начинал остывать, становясь холодным, как лед под ним. Растрескавшиеся кровоточащие губы мужчины затряслись, но все еще оставались растянутыми в безумном, раздражающем оскале, а глаза приобрели еще более бессмысленное выражение. — А что… — начал сэр Джон, но осекся, когда Чарльз Бест рухнул без чувств на палубный настил.
14. Гудсер
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы Июнь 1847 г.
Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсера
4 июня 1847 г.
Когда мы со Стенли раздели раненого эскимоса донага, я вспомнил, что на груди он носит амулет из плоского гладкого камня размером меньше моего кулака, в форме белого медведя — похоже, камень не подвергался обработке, но в природном своем состоянии имел очертания, в точности повторяющие линии длинной шеи, маленькой головы и сильных ног зверя, словно устремленного вперед. Я видел амулет, когда обследовал рану старика на льду, но тогда не обратил на него внимания. Пуля, выпущенная из мушкета рядового Пилкингтона, вошла аборигену в грудь дюймом ниже амулета, пробила мышечную ткань между третьим и четвертым ребрами, слегка изменила траекторию движения, зацепившись за верхнее из двух ребер, пробила левое легкое и застряла в позвоночнике, повредив многочисленные нервные волокна там. Я никак не мог спасти раненого — еще в ходе первого обследования я понял, что любая попытка извлечь мушкетную пулю вызовет мгновенную смерть, а остановить внутреннее кровотечение из легкого невозможно, — но я сделал все от меня зависящее, приказав отнести эскимоса в ту часть лазарета, где мы с врачом Стенли устроили операционную. Вчера, после моего возвращения на корабль, мы со Стенли с полчаса ковырялись в ране самыми жестокими нашими инструментами и энергично резали, пока не установили местоположение пули в позвоночнике и не подтвердили наш прогноз о неминуемой смерти. Но необычайно высокий, крепко сложенный седоволосый дикарь еще не согласился с нашим прогнозом. Он продолжал жить. Он продолжал с трудом дышать разорванным, кровоточащим легким, то и дело харкая кровью. Он продолжал пристально смотреть на нас своими неестественно светлыми — для эскимоса — глазами, следя за каждым нашим движением. Прибыл доктор Макдональд с «Террора» и по предложению Стенли отвел для обследования второго эскимоса — девушку — в заднюю часть лазарета, отгороженную от нас одеялом, служащим занавеской. Полагаю, врач Стенли хотел не столько подвергнуть девушку осмотру, сколько убрать ее из лазарета на время, пока мы копаемся в ране ее отца или мужа… хотя как самого пациента, так и девушку, похоже, нисколько не пугали ни кровь, ни рана, при виде которой любая лондонская леди да и немало начинающих врачей упали бы в обморок. И к слову об обмороках. Мы со Стенли только-только закончили обследовать умирающего эскимоса, когда в лазарет вошел капитан сэр Джон Франклин с двумя матросами, волочившими под руки Чарльза Беста, который, сообщили они, лишился чувств в каюте сэра Джона. Мы велели матросам положить Беста на ближайшую койку, и мне хватило минутного поверхностного осмотра, чтобы перечислить причины наступившего обморока: крайнее изнеможение, в котором находились все участники разведывательного отряда лейтенанта Гора после восьми с лишним дней непрестанного напряжения сил; голод (последние двое суток на льду мы практически ничего не ели, помимо сырой медвежатины); обезвоживание организма (мы не могли себе позволить тратить время, чтобы останавливаться и растапливать снег на спиртовках, и потому приняли неудачное решение жевать снег и лед, что ведет скорее к понижению, нежели к повышению содержания воды в организме); и причина, в высшей степени очевидная для меня, но, как ни странно, не принятая во внимание офицерами, допрашивавшими Беста, — бедняга стоял и докладывал капитанам, по-прежнему находясь в семи или восьми шерстяных фуфайках и свитерах, и лишь спустя какое-то время получил разрешение снять окровавленную шинель. После восьми дней на льду при средней температуре воздуха около нуля тепло на жилой палубе показалось мне чрезмерным, и я стащил с себя все свитера, кроме двух, едва только добрался до лазарета. Для Беста оно оказалось невыносимым. Выслушав мои заверения в том, что Бест оправится — доза нюхательной соли уже почти привела беднягу в чувство, — сэр Джон с видимым отвращением взглянул на нашего пациента-эскимоса, теперь лежавшего ничком, поскольку мы со Стенли обследовали спину раненого в поисках пули, и осведомился: – Он будет жить? – Недолго, сэр Джон, — ответил Стивен Сэмюел Стенли. Я опешил от таких слов, произнесенных в присутствии пациента, — при умирающих мы, доктора, обычно сообщаем друг другу наши прогнозы на латыни и бесстрастным голосом, — но сразу же сообразил, что эскимос едва ли понимает по-английски. — Переверните его на спину, — приказал сэр Джон. Мы осторожно сделали это, и, хотя наш седоволосый пациент, остававшийся в сознании все время, пока мы обследовали рану, наверняка по-прежнему испытывал мучительную, нестерпимую боль, он не издал ни звука. Его взгляд был прикован к лицу начальника экспедиции. Сэр Джон склонился над ним и, с расстановкой произнося слова — словно он обращался к глухому ребенку или идиоту, — прокричал: — Кто… ты… такой? Эскимос пристально смотрел на сэра Джона. — Как… твое… имя? — проорал сэр Джон. — Из какого… ты… племени? Умирающий не ответил. Сэр Джон потряс головой и поморщился от отвращения — хотя было ли оно вызвано зияющей раной на груди эскимоса или упрямым молчанием аборигена, я не знаю. — Где другой абориген? — спросил сэр Джон у Стенли. Старший врач, обеими руками зажимавший рану и накладывавший на нее окровавленные повязки в надежде хотя бы замедлить, если не остановить, пульсирующее истечение крови из легкого простым давлением на грудную клетку, кивнул в сторону занавески, отгораживавшей закуток в задней части лазарета. — С ней доктор Макдональд, сэр Джон. Сэр Джон бесцеремонно зашел за занавеску, я услышал оторопелый возглас, несколько бессвязных слов, а потом наш начальник экспедиции, пятясь, вышел обратно с таким ярко-красным лицом, что я испугался, как бы нашего шестидесятидвухлетнего командира не хватил удар. Потом красное лица сэра Джона побелело от потрясения. Я запоздало сообразил, что молодая женщина, вероятно, обнажена. Несколькими минутами ранее я заглянул за чуть отодвинутую занавеску и заметил, что, когда Макдональд знаком велел ей снять верхнюю одежду — парку из медвежьей шкуры, — девушка кивнула, скинула тяжелую шубу и под ней оказалась голой по пояс. Я занимался раненым на операционном столе, но машинально отметил про себя, что такой способ сохранять телесное тепло под широким меховым одеянием весьма разумен и гораздо эффективнее, чем многочисленные шерстяные поддевки, которые носили все участники разведывательного отряда бедного лейтенанта Гора. Нагое тело под звериной шкурой само согревается, когда холодно, и само охлаждается до нормы в случае необходимости — например, при напряжении сил, — поскольку пот быстро испаряется с кожи, поглощаясь волосками волчьей шкуры или медвежьего меха. Шерстяные свитера, которые носили мы, англичане, почти мгновенно промокали от пота насквозь, никогда толком не высыхали, быстро остывали, когда мы прекращали шагать или тянуть сани, и в значительной мере утрачивали свои теплоизоляционные качества — ко времени нашего возвращения на корабль мы, несомненно, тащили на своих плечах вес, почти вдвое превосходящий исходный. — Я вернусь в более удобное время, — заикаясь пробормотал сэр Джон и прошел мимо нас, по-прежнему пятясь. Увидел ли он в закутке за занавеской первозданную наготу молодой женщины или что другое, но выглядел капитан сэр Джон Франклин ошеломленным. Он покинул операционную, не промолвив более ни слова. В следующий миг Макдональд попросил меня подойти. Девушка — то есть молодая женщина (я уже заметил, что особи женского пола в дикарских племенах достигают половой зрелости гораздо раньше, чем юные леди в цивилизованных обществах) — успела надеть свою широкую парку и штаны из тюленьей шкуры. Сам доктор Макдональд казался возбужденным, почти расстроенным, и, когда я осведомился, в чем дело, он знаком велел эскимоске открыть рот. Потом он поднял фонарь и выпуклое зеркальце, чтобы сфокусировать лучи света, и я увидел все своими глазами. Язык у нее был ампутирован у корня. Оставшийся обрубок, как я увидел (и Макдональд согласился со мной), более или менее позволял девушке глотать и жевать почти всякую пищу, но безусловно, внятное произнесение сложных звуков, если можно, назвать эскимосский язык сложным в том или ином отношении, здесь абсолютно исключалось. Шрамы были старыми. Это случилось давно. Признаюсь, я отшатнулся в ужасе. Кто мог сотворить такое с малым ребенком — и зачем? Однако когда я употребил слово «ампутация», доктор Макдональд тихо поправил меня. — Взгляните еще раз, доктор Гудсер, — прошептал он. — Это не аккуратная хирургическая ампутация, даже произведенная столь примитивным инструментом, как каменный нож. Язык у бедной девочки был откушен в раннем детстве — причем так близко к корню, что она никак не могла сделать это сама. Я отступил на шаг от женщины. — У нее есть еще какие-нибудь увечья? — спросил я, по старой привычке переходя на латынь. Я читал о варварских обычаях, принятых на Черном континенте и у магометан, где женщины подвергаются жестокому обрезанию, пародирующему иудейский обряд. — Нет, больше никаких, — ответил Макдональд. По крайней мере теперь я понял причину внезапной бледности и явно шокового состояния сэра Джона, но, когда я спросил Макдональда, поделился ли он с нашим командиром данной информацией, врач ответил отрицательно. Сэр Джон просто вошел в закуток, увидел эскимосскую девушку без одежды и моментально удалился в некотором возбуждении. Затем Макдональд принялся сообщать мне о результатах своего беглого осмотра нашей пленницы, или гостьи, но нас прервал врач Стенли. В первый момент я решил, что эскимос умер, но оказалось, дело в другом. Явился матрос, вызывающий меня явиться к сэру Джону и другим капитанам для доклада. Я понял, что сэр Джон, командор Фицджеймс и капитан Крозье остались разочарованными моим докладом об известных мне обстоятельствах смерти лейтенанта Гора, и, хотя в любое другое время это расстроило бы меня, сегодня — вероятно, в силу моей смертельной усталости и психологических перемен, произошедших со мной за время похода отряда лейтенанта Гора, — разочарование моих начальников никак на меня не подействовало. Сначала я снова доложил о состоянии умирающего эскимоса и сообщил о загадочном факте отсутствия языка у девушки. Трое капитанов обменялись между собой приглушенными репликами по данному поводу, но вопросы последовали от одного только капитана Крозье. — Вы знаете, зачем такое могли сделать с ней, доктор Гудсер? — Не имею понятия, сэр. — Возможно ли, что это сделал какой-то зверь? — упорствовал он. Я немного помолчал. Такая мысль не приходила мне в голову. — Возможно, — наконец ответил я, хотя с трудом мог представить некое арктическое плотоядное животное, которое откусывает ребенку язык, однако оставляет его в живых. С другой стороны, хорошо известно, что эскимосы имеют обыкновение жить совместно с дикими псами. Я сам видел это в заливе Диско. Больше никаких вопросов касательно эскимосов не последовало. Затем они попросили со всеми подробностями рассказать о смерти лейтенанта Гора и описать существо, его убившее, и я сказал правду: что я пытался спасти жизнь эскимосу, раненному рядовым Пилкингтоном, и поднял глаза лишь в последнюю секунду, непосредственно в момент смерти Грэма Гора. Я объяснил, что, поскольку в воздухе колыхалась туманная пелена с разрывами, поскольку меня повергли в смятение крики, грохот мушкета, выстрел из пистолета лейтенанта, быстрое беспорядочное движение людей и пятен света, а также поскольку мое поле зрения ограничивали сани, возле которых я стоял на коленях, я ничего не разглядел толком: видел только огромную белую фигуру, обхватывающую злополучного лейтенанта, пламя из пистолета, вспышки других выстрелов — а потом все вокруг снова застило туманом. — Но вы уверены, что это был белый медведь? — спросил командор Фицджеймс. После минутного колебания я сказал: – Если это был медведь, то необычайно крупный представитель вида ursus maritimus. У меня осталось впечатление от животного явно плотоядного — громадное туловище, гигантские передние лапы, маленькая голова и обсидиановые глаза, — но на самом деле я видел все не так отчетливо, как можно предположить по моему описанию. Главным образом я помню, что существо возникло словно из пустоты — просто поднялось изо льда, обхватывая человека, — и что ростом оно вдвое превосходило лейтенанта Гора. От этого зрелища сердце уходило в пятки. – Нисколько не сомневаюсь, — сухо, почти саркастично промолвил сэр Джон. — Но что еще это могло быть, мистер Гудсер, если не медведь? Я не в первый раз заметил, что сэр Джон никогда не удостаивает меня моим законным званием доктора. В разговоре со мной он неизменно использовал обращение «мистер», какое мог бы употреблять по отношению к любому старшине или неопытному младшему офицеру. Мне понадобилось два года, чтобы понять: стареющий начальник экспедиции, которого я глубоко уважаю, не питает ни малой толики ответного уважения к простым корабельным фельдшерам. — Я не знаю, сэр Джон, — сказал я. Я хотел вернуться обратно к своему пациенту. – Насколько я понимаю, вы проявляли интерес к белым медведям, мистер Гудсер, — продолжал сэр Джон. — Почему? – Я выучился на анатома, сэр Джон. И до отплытия экспедиции я мечтал стать натуралистом. – Больше не мечтаете? — спросил капитан Крозье со своим легким ирландским акцентом. Я пожал плечами: – Я понял, что сбор фактического материала на местах — не мое призвание, капитан. – Однако вы проводили вскрытие белых медведей, которых мы убивали здесь и у острова Бичи, — упорствовал сэр Джон. — Изучали строение скелета и мускулатуры животных. Наблюдали за их поведением на льду, как и все мы. — Да, сэр Джон. — Как по-вашему, травмы лейтенанта Гора соответствуют телесным повреждениям, какие мог бы причинить подобный зверь? Я колебался лишь долю секунды. Я обследовал тело несчастного лейтенанта Гора, прежде чем мы погрузили его в сани перед кошмарным походом обратно через паковый лед. — Да, сэр Джон, — сказал я. — Белый полярный медведь, обитающий в данном регионе, насколько нам известно, является самым крупным хищником из всех на планете. Он может весить в полтора раза больше и в стойке на задних лапах быть на три фута выше, чем гризли — самый крупный и свирепый медведь Северной Америки. Сей хищный зверь обладает великой силой и вполне способен раздробить грудную клетку и сломать позвоночник человека, как в случае с бедным лейтенантом Гором. Вдобавок ко всему прочему, арктический белый медведь является единственным хищником, имеющим обыкновение охотиться на человека. Командор Фицджеймс прочистил горло. — Послушайте, доктор Гудсер, — негромко промолвил он, — однажды в Индии я видел довольно свирепого тигра, который — согласно показаниям деревенских жителей, — сожрал двенадцать человек. Я кивнул, в ту же секунду осознав, сколь страшная усталость владеет мной. Изнеможение действовало на меня, как изрядная доза крепкого спиртного. — Сэр… командор… джентльмены… в своих путешествиях по миру все вы повидали гораздо больше, чем я. Однако, насколько я понял из массы проштудированных мной материалов по данной теме, все прочие сухопутные плотоядные животные — волки, львы, тигры, другие виды медведей — убивают человеческих существ только в самом крайнем случае, когда доведены до бешенства, а некоторые из них — такие, как ваш тигр, командор Фицджеймс, — становятся людоедами вынужденно, в силу болезни или увечья, не позволяющих им охотиться на обычную свою добычу, но один только арктический белый медведь — ursus maritimus — имеет обыкновение целенаправленно выслеживать и убивать человеческих существ. Крозье кивал головой. – Откуда вы узнали все это, доктор Гудсер? Из ваших книг? – В известной мере — да, сэр. Но почти все время нашей стоянки в заливе Диско я посвятил разговорам с местными жителями на предмет поведения белых медведей, а также подробно расспрашивал капитана Мартина с «Энтерпрайза» и капитана Дэннерта с «Принца Уэльского», когда мы стояли на якоре рядом с ними в Баффиновом заливе. Два вышеназванных джентльмена ответили на все мои вопросы касательные белых медведей и свели меня с несколькими своими матросами, включая двух пожилых китобоев-американцев, каждый из которых провел во льдах дюжину с лишним лет. Они рассказали множество занимательных историй про белых медведей, которые охотились на местных эскимосов и даже утаскивали людей с кораблей, затертых льдами. Один старик — кажется, его звали Коннорс — сказал, что их судовая команда в двадцать восьмом году не потеряла никого, кроме двух коков, ставших жертвами медведя, — причем одного из них зверь утащил прямо с жилой палубы, где тот хлопотал у плиты, пока все остальные спали. Здесь капитан Крозье улыбнулся. — Вероятно, нам не стоит принимать на веру каждую историю, поведанную старым моряком, доктор Гудсер. — Да, сэр. Разумеется, не стоит, сэр. – Ладно, на этом закончим, мистер Гудсер, — сказал сэр Джон. — Мы вызовем вас снова, коли у нас возникнут еще какие-либо вопросы. – Да, сэр, — сказал я и устало повернулся, чтобы направиться обратно в лазарет. – О, доктор Гудсер, — окликнул меня командор Фицджеймс, едва я успел переступить порог каюты сэра Джона. — У меня есть один вопрос, хотя мне чертовски стыдно, что я не знаю ответа на него. Почему белого медведя называют ursus maritimus? Надеюсь, не потому, что он так любит пожирать моряков? – Нет, сэр, — сказал я. — Полагаю, такое имя даровано арктическому медведю, поскольку он является скорее морским млекопитающим, нежели сухопутным животным. Я читал сообщения об арктических белых медведях, замеченных в сотнях миль от побережья, в открытом море; а капитан Мартин с «Энтерпрайза» говорил мне, что белый медведь на суше или на льду нападает на жертву стремительно, развивая скорость до двадцати пяти миль в час и выше, что на море он является одним из сильнейших пловцов, способным проплыть шестьдесят-семьдесят миль без передышки. Капитан Дэннерт рассказывал, что однажды его корабль шел по ветру со скоростью восемь узлов, далеко от суши, и два белых медведя плыли рядом с кораблем около десяти морских миль, а потом просто перегнали его и поплыли к отдаленному ледяному полю со скоростью и легкостью белухи. Отсюда и название — ursus maritimus… млекопитающее, да, но обитающее в основном на море. – Благодарю вас, мистер Гудсер, — сказал сэр Джон. – Не стоит благодарности, сэр, — сказал я и удалился.
4 июня 1847 г. (продолжение)
Эскимос умер через несколько минут после полуночи. Однако перед смертью он заговорил. Я тогда спал, прислонившись спиной к переборке лазарета, но Стенли разбудил меня. Седоволосый старик, лежавший на операционном столе, подергивался всем телом, судорожно водил руками перед собой, словно пытаясь всплыть в воздух. Кровотечение из пробитого легкого усилилось, и кровь текла изо рта по подбородку и на перевязанную грудь. Когда я прибавил света в фонаре, эскимосская девушка вышла из угла, где она спала, и мы трое склонились над умирающим. Старый эскимос согнул крючком палец и ткнул себя в грудь, рядом с пулевым отверстием. После каждого судорожного вдоха он отхаркивал ярко-красной артериальной кровью, но с трудом прохрипел какие-то слова. Я взял кусок мела и записал их на дощечке, которой мы со Стенли пользуемся для общения, когда пациенты спят.
«Ангкут тукурук! Куарубвитчук… ангаткут туркук… пани-га… туунбак! Таник… налуабмиу тукутауксирук… умиакпак тукутайясирук… нанук тукуткаа! Панига… тунбак нанук… ангаткут кукурук!»
Затем кровотечение усилилось до такой степени, что он больше не мог говорить. Кровь забила у него изо рта фонтаном, он стал захлебываться — хотя мы со Стенли приподняли и посадили его, пытаясь поспособствовать прочищению дыхательных путей, — и под конец вбирал в легкие одну только кровь. Через несколько секунд ужасных мучений грудь у него перестала вздыматься, он повалился назад к нам на руки, и глаза его остекленели. Мы со Стенли опустили старика на стол. — Осторожнее! — выкрикнул Стенли. В первый момент я не понял предостережения коллеги — старик был мертв и недвижен, я не находил ни пульса, ни дыхания, склонившись над ним, — но потом обернулся и увидел эскимоску. Она схватила один из окровавленных скальпелей с нашего стола для инструментов и приближалась к нам, подняв оружие. Я сразу понял, что она не обращает на меня внимания, — ее пристальный взгляд был прикован к мертвому лицу и груди мужчины, вероятно приходившегося ей отцом или братом. За те несколько секунд перед умственным взором у меня, ничего не знающего об обычаях ее языческого племени, пронеслись тысячи самых диких образов: девушка вырезает сердце старика и, возможно, съедает оное во исполнение некоего ужасного ритуала; или извлекает глазные яблоки из глазниц мертвеца; или просто отсекает один из пальцев; или, возможно, добавляет новые шрамы к старым, сплошь покрывавшим тело мужчины подобием распространенных у моряков татуировок. Она не сделала ничего подобного. Прежде чем Стенли успел схватить ее за руку и пока я, не придумав ничего лучшего, наклонялся над столом в попытке загородить мертвеца своим телом, эскимосская девушка с ловкостью хирурга взмахнула скальпелем (очевидно, она всю жизнь пользовалась острыми как бритва ножами) и перерезала сыромятный ремешок, на котором висел амулет старика. Подхватив плоский белый, испачканный кровью камень в форме медведя, она спрятала его к себе под парку и положила скальпель обратно на место. Мы со Стенли ошеломленно переглянулись. Затем старший судовой врач «Эребуса» разбудил молодого матроса, состоявшего подручным при лазарете, и отправил его доложить вахтенному офицеру, а стало быть, и капитану, что старый эскимос умер.
4 июня (продолжение)
Мы похоронили эскимоса около половины второго пополуночи — когда пробили три склянки, — затолкав завернутое в парусину тело в узкую пожарную прорубь всего в двадцати ярдах от корабля. Эта пожарная прорубь, дававшая доступ к воде в пятнадцати футах под поверхностью льда, являлась единственной, которую удавалось предохранять от замерзания этим холодным летом, — больше всего на свете моряки боятся пожара, — и сэр Джон распорядился отправить тело туда. Пока мы со Стенли с помощью багров проталкивали тело вниз по узкому воронкообразному ледяному тоннелю, мы слышали стук ледорубов и редкие проклятия, раздававшиеся в нескольких сотнях ярдов к востоку от нас, где команда из двадцати матросов трудилась всю ночь, вырубая более пристойное отверстие во льду для погребения лейтенанта Гора, которое должно состояться завтра — вернее, уже сегодня. Среди ночи здесь было достаточно светло, чтобы прочитать стих из Библии (если бы кто-нибудь принес Библию, чтобы прочитать из нее стих, чего никто не сделал), и тусклый свет облегчал задачу нам — двум врачам и двум матросам, отряженным пособить нам, — пока мы проталкивали, пропихивали и под конец заколачивали тело эскимоса все глубже и глубже в голубой лед, под которым текла черная вода. Эскимоска безмолвно наблюдала за происходящим, с по-прежнему бесстрастным выражением лица. Дул северо-западный ветер, и ее черные волосы развевались над испачканным капюшоном парки и метались по лицу, точно взъерошенные перья ворона. На похоронах присутствовали одни мы — судовой врач Стенли, два запыхавшихся, тихо чертыхающихся матроса, аборигенка и я, — пока из-за пелены снегопада не выступили капитан Крозье и высокий долговязый лейтенант, которые последнюю минуту-две наблюдали за нашими усилиями. Наконец тело эскимоса с нашей помощью преодолело последние пять футов ледяного тоннеля и исчезло в черном потоке в пятнадцати футах под поверхностью льда. – Сэр Джон запретил пускать женщину на борт «Эребуса» на ночь, — негромко сказал капитан Крозье. — Мы пришли, чтобы забрать ее на «Террор». — Затем Крозье обратился к молодому лейтенанту, которого, теперь припоминаю, звали Ирвинг: — Джон, она переходит на ваше попечение. Найдите для нее спальное место подальше от мужчин — возможно, в форпике за лазаретом, среди ящиков, — и позаботьтесь о ее безопасности. – Слушаюсь, сэр. – Прошу прощения, капитан, — сказал я, — но почему бы не отпустить женщину к соплеменникам? Крозье улыбнулся. — В обычных обстоятельствах я бы согласился с таким образом действий, доктор. Но здесь в радиусе ста пятидесяти миль нет эскимосских поселений, ни одной самой крохотной деревушки. Эскимосы — кочевой народ, особенно так называемые северные горцы, — но что привело старика и молодую девушку так далеко на север летом, в паковые льды, где нет ни китов, ни моржей, ни тюленей, ни карибу, вообще никаких животных, помимо белых медведей, вселяющих страх? У меня не было ответа, но слова капитана едва ли имели отношение к моему вопросу. – Вполне возможно, настанет такое время, — продолжал Крозье, — когда наша жизнь будет зависеть от того, удастся ли нам подружиться с местными эскимосами. Стоит ли нам отпускать женщину, не подружившись с ней? – Мы убили ее мужа или отца, — заметил судовой врач Стенли, бросая взгляд на немую молодую женщину, которая по-прежнему смотрела в пустую теперь пожарную прорубь. — Наша леди Безмолвная едва ли питает к нам самые теплые чувства. – Вот именно, — сказал капитан Крозье. — И нам совершенно не нужно, чтобы вдобавок ко всем прочим нашим проблемам эта девушка вернулась к нашим кораблям с отрядом разъяренных эскимосов, исполненных решимости перебить нас во сне. Нет, я думаю, капитан сэр Джон прав… она должна оставаться с нами, пока мы не решим, что делать… не только с ней, но и с самими собой. — Крозье улыбнулся Стенли. За два года экспедиции, сколько я помню, я еще ни разу не видел, чтобы капитан Крозье улыбался. — Леди Безмолвная. Недурно, Стенли. Весьма недурно. Пойдемте, Джон. Пойдемте, миледи. Они двинулись сквозь метель на запад, к первой торосной гряде. Я поднялся по откосу обратно на «Эребус», вернулся в свою крохотную каюту, теперь казавшуюся мне истинным раем, и заснул крепким сном — впервые с того времени, когда лейтенант Гор повел нас на юго-юго-восток десять с лишним дней назад.
15. Франклин
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 11 июня 1847 г.Ко дню, когда ему суждено было умереть, сэр Джон почти оправился от потрясения, испытанного при виде голой эскимосской девки. Это была та же самая женщина — та же молоденькая индейская шлюха, которую дьявол послал искушать его во время первой злополучной экспедиции в 1819 году, распутная пятнадцатилетняя сожительница Роберта Худа по имени Зеленый Чулок, — сэр Джон не сомневался в этом. У искусительницы были та же самая кофейного цвета кожа, даже в темноте будто светившаяся, те же высокие, округлые девичьи груди, те же коричневые кружки вокруг сосков и та же темная, похожая на воронье перо полоска на лобке. Это был тот же самый суккуб. Увидев голую женщину на столе доктора Макдональда в лазарете — на своем корабле, — капитан сэр Джон Франклин испытал страшное потрясение, но он был уверен, что успешно скрывал свою реакцию от врачей и других капитанов до конца того бесконечно долгого, тревожного и тягостного дня. Похороны лейтенанта Гора состоялись в пятницу вечером, четвертого июня. Многочисленной команде матросов потребовалось более суток, чтобы пробиться сквозь лед к воде для проведения морского погребального обряда, и им пришлось использовать черный порох, чтобы взорвать верхние десять футов твердого, как камень, льда, а затем взяться за кирки и лопаты, чтобы расчистить широкую воронку от взрыва и прорубить последние пять футов. Когда они закончили работу около полудня, мистер Уикс, плотник с «Эребуса», и мистер Хани, плотник с «Террора», соорудили изящный помост над отверстием размером пять на десять футов, открывающим доступ в темные морские глубины. Рабочие бригады с длинными кирками, поставленные у воронки, следили за тем, чтобы прорубь не затягивалась льдом. На сравнительно теплой жилой палубе тело лейтенанта Гора начало быстро разлагаться, поэтому плотники изготовили массивный гроб из красного дерева, в который вставили ящик из ароматного кедра. Межстенное пространство заполнили свинцом, вместо традиционных двух пушечных ядер, какие кладутся в обычный парусиновый мешок для погребения, чтобы тело наверняка пошло ко дну. Кузнец мистер Смит выковал и покрыл гравировкой красивую мемориальную медную табличку, которую привинтили к крышке гроба красного дерева. Поскольку погребальный обряд представлял собой сплав сухопутного и более привычного морского похоронных ритуалов, сэр Джон особо оговорил, что гроб должен быть достаточно тяжелым, чтобы сразу пойти ко дну. Когда пробили восемь склянок в начале первой собачьей вахты — в четыре часа пополудни, — две судовые команды собрались на месте погребения в четверти мили от «Эребуса». Сэр Джон приказал присутствовать на похоронах всем, оставив на кораблях лишь наименьшее допустимое количество вахтенных, и вдобавок запретил надевать что-либо поверх форменной одежды — таким образом, к назначенному часу на льду собралось свыше сотни дрожащих, но одетых по всей форме офицеров и матросов. Гроб лейтенанта Гора спустили с борта «Эребуса» и привязали к огромным саням, дополнительно укрепленным для сей печальной цели. Гроб был накрыт собственным флагом сэра Джона. Затем тридцать два матроса — двадцать с «Эребуса» и дюжина с «Террора» — медленно протащили сани с гробом четверть мили до места погребения, в то время как четверо самых молодых матросов, все еще числившихся в списках личного состава юнгами — Джордж Чемберс и Дэвид Янг с «Эребуса», Роберт Голдинг и Томас Эванс с «Террора», — размеренно били в барабаны, обернутые черной тканью. Торжественную процессию сопровождали двадцать человек, включая капитана сэра Джона Франклина, командора Фицджеймса, капитана Крозье и большинство остальных офицеров и старшин в полном обмундировании, помимо тех, кто остался командовать на обоих почти пустых кораблях. На месте погребения салютная команда морских пехотинцев в красных мундирах стояла в ожидании по строевой стойке. Возглавляемая тридцатитрехлетним сержантом Дэвидом Байантом с «Эребуса», она состояла из капрала Пирсона, рядового Хопкрафта, рядового Пилкингтона, рядового Хили и рядового Рида с «Эребуса» (из контингента морских пехотинцев с флагманского судна здесь отсутствовал лишь рядовой Блэйн, умерший пятнадцать месяцев назад и похороненный на острове Бичи), а также сержант Тозер, капрал Хеджес, рядовой Уилкс, рядовой Хэммонд и рядовой Дейли с «Террора». Рядовой Хизер формально по-прежнему оставался жив, но потерял часть мозга и уже не мог возвратиться к исполнению своих обязанностей. Треуголку и шпагу лейтенанта Гора нес шагавший за погребальными санями лейтенант Левеконт, принявший на себя должностные обязанности покойного. Рядом с Левеконтом шел лейтенант Уолтер Фейрхольм, несший голубую бархатную подушечку, на которой лежали шесть медалей, заслуженных молодым Гором за годы службы в военно-морском флоте Великобритании. Когда похоронная процессия приблизилась к отверстию во льду, строй из двенадцати морских пехотинцев разомкнулся, морские пехотинцы встали в две шеренги, одна против другой, и застыли на месте, взяв оружие в положение прикладом вверх, пока процессия из тянущих сани матросов, погребальных саней, почетного караула и прочих скорбящих проходила между ними. Пока сто десять человек шагали к своим местам среди скопления офицеров, собравшихся у воронки (некоторые поднялись на торосные гряды, чтобы лучше видеть), капитаны во главе с сэром Джоном взошли на временный помост в восточной стороне воронки. Тридцать два матроса соединенными усилиями осторожно отвязали тяжелый гроб от саней и опустили на покатые доски настила, прямо над прямоугольником черной воды. Теперь гроб покоился не только на крайних досках помоста, но и на трех пропущенных под ним толстых тросах, которые держали с одной и другой стороны те же люди, что тянули сани. Когда глухой барабанный бой прекратился, все обнажили головы. Студеный ветер трепал длинные волосы мужчин, по сему скорбному случаю вымытые, аккуратно зачесанные назад и перевязанные ленточками. День был прохладный — термометр показал около пяти градусов во время последнего измерения температуры воздуха, проводившегося в шесть склянок, — но арктическое небо, сверкающее мириадами ледяных кристаллов, казалось твердым куполом золотистого света. Словно в честь лейтенанта Гора к солнечному диску над южным горизонтом, затянутому прозрачной искристой пеленой, присоединились еще три светила — ложные солнца, плавающие сверху и по обеим сторонам от настоящего, — связанные между собой кольцом радужного света. Многие мужчины склонили головы, потрясенные уместностью такого зрелища. Сэр Джон провел заупокойную службу, звучным голосом, явственно слышным всем ста десяти мужчинам, собравшимся вокруг. Ритуал был хорошо всем известен. Слова звучали утешительно и обнадеживающе. И пробуждали в душе знакомые чувства. К концу панихиды уже почти никто не обращал внимания на холодный ветер, разносивший над ледяным полем знакомые фразы: — И посему мы предаем тело его пучине, дабы оно обратилось в прах, и уповаем на воскресение тела в день, когда море отдаст своих мертвецов и новая жизнь мира приидет через Господа нашего Иисуса Христа, Который по пришествии Своем преобразит наше греховное тело, дабы оно уподобилось Его светоносному телу, могучей силой Своей, посредством коей Он подчиняет Своей воле все и вся. — Аминь, — хором сказали все собравшиеся. Одиннадцать морских пехотинцев салютной команды подняли мушкеты и дали три залпа, последний из которых состоял из трех выстрелов, а не из четырех, как два предыдущие. Когда грохнул первый залп, лейтенант Левеконт кивнул, и Сэмюел Браун, Джон Уикс и Джеймс Ригден вытащили доски из-под тяжелого гроба, который теперь висел в воздухе на трех тросах. При втором залпе гроб опустили к самой черной воде. А при последнем залпе мужчины принялись медленно выпускать тросы, пока тяжелый гроб с медной табличкой — медали и шпага лейтенанта Гора теперь лежали на крышке красного дерева — не исчез под водой. Ледяная вода слегка взбурлила, мужчины вытянули и отбросили в сторону тросы — и прямоугольник черной воды опустел. Ложные солнца и гало на юге исчезли, и теперь лишь сумрачное красное солнце пламенело под куполом небес. Люди молча разошлись к своим кораблям. Прошло всего две склянки первой собачьей вахты. Для большинства настало время ужина и второй порции грога.
Утром следующего дня, субботы пятого июня, обе судовые команды забились на жилые палубы своих кораблей, когда разразилась очередная летняя гроза. Дозорные в «вороньих гнездах» получили приказ спускаться вниз, а немногочисленные вахтенные, дежурившие на палубе, старались держаться подальше от металлических деталей и мачт, в то время как молнии с треском вспарывали туман, оглушительно грохотал гром, мощные электрические заряды снова и снова били в громоотводы на мачтах и крышах палубных надстроек, и голубые пальцы огня святого Эльма ползли вдоль рангоутного дерева и проскальзывали сквозь такелажную сеть. Изможденные вахтенные, спускаясь на жилую палубу после смены, рассказывали своим ошеломленным товарищам о шаровых молниях, катающихся и прыгающих по льду. Позже днем — когда молнии и разряды атмосферного электричества засверкали еще чаще и неистовее, — дозорные собачьей вахты доложили о некоем крупном, слишком крупном для обычного белого медведя существе, которое бродило в тумане вдоль торосных гряд, то сокрытое от взора, то озаряемое на секунду-другую вспышками молний. Иногда, сказали они, фигура передвигается на четырех ногах, как медведь. Но порой, клялись они, она свободно ходит на двух ногах, как человек. Это существо, по словам вахтенных, кружило вокруг корабля. Хотя барометр падал, к утру воскресенья прояснело, и температура воздуха упала на тридцать градусов — в полдень термометр показывал минус девять, — и сэр Джон оповестил обе команды, что сегодня присутствие на воскресном богослужении на «Эребусе» для всех обязательно. Еженедельные воскресные богослужения проводились в обязательном порядке для матросов и офицеров флагманского корабля — в течение темных зимних месяцев сэр Джон собирал людей на жилой палубе, — но лишь самые набожные члены судовой команды «Террора» совершали переход по льду, чтобы на них присутствовать. Поскольку они предписывались как традицией, так и уставом военно-морского флота, капитан Крозье тоже проводил воскресные богослужения, но за отсутствием на борту капеллана довольствовался сокращенным вариантом — порой сводящимся единственно к чтению корабельного устава, — и тратил на все про все двадцать минут против воодушевленных девяноста минут, а то и двух часов сэра Джона. В это воскресенье выбора не было. Во второй раз за последние три дня капитан Крозье повел по льду своих офицеров и матросов, на сей раз в зимних плащах и шерстяных шарфах поверх любой форменной одежды, и по прибытии на «Эребус» они с удивлением обнаружили, что сэр Джон собирается проводить богослужение на палубе и читать проповедь с капитанского мостика. Несмотря на бледно-голубое небо над головой — никакого золотистого купола из ледяных кристаллов или символических ложных солнц сегодня ненаблюдалось, — ветер был очень холодный, и собравшиеся под шканцами матросы жались друг к другу в поисках хотя бы иллюзии тепла, в то время как офицеры с обоих кораблей стояли позади сэра Джона с наветренной стороны палубы, точно толпа облаченных в шинели псаломщиков. Сэр Джон стоял у нактоуза, который был накрыт тем же самым флагом, что недавно накрывал гроб Гора, — дабы «служить кафедрой», согласно требованиям устава. Проповедь продолжалась всего лишь около часа, и потому дело обошлось без отмороженных пальцев на руках и ногах. Будучи по природе своей ветхозаветным человеком, сэр Джон вспомнил нескольких пророков и ненадолго остановился на суждении Исаии о земле: «Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих на ней», — и постепенно из потока слов даже самому недалекому матросу в толпе тепло закутанных людей на главной палубе стало ясно, что на самом деле командир говорит об их экспедиции, преследующей цель найти Северо-Западный морской проход, и о нынешнем их положении здесь, в ледяных пустынях, на 70°05′ северной широты и 98°23′ западной долготы. — Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо ГОСПОДЬ изрек слово сие, — продолжал сэр Джон. — Ужас, яма и петля для тебя, житель земли! Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный… И словно в подтверждение сего страшного пророчества, лед вокруг «Эребуса» громко затрещал и палуба сотряслась под ногами людей. Обледенелые мачты и реи над ними, казалось, задрожали, а потом покачнулись взад-вперед на фоне бледно-голубого неба. Никто не тронулся с места и не издал ни звука. Сэр Джон перешел от Исаии к Апокалипсису и нарисовал еще более ужасные картины будущего, ожидающего тех, кто отпал от своего Господа. — Но что станется с ним… с нами… кто не нарушил завета с нашим Господом? — вопросил сэр Джон. — Я призываю вас вспомнить Иону. Некоторые матросы вздохнули с облегчением. Иону они знали. — Господь повелел Ионе идти в Ниневию и обличить злодеяния сего города, — вскричал сэр Джон, и его зачастую слабый голос теперь набрал силу и зазвучал не хуже, чем голос любого вдохновенного англиканского проповедника. — Но Иона — как все вы знаете, друзья, — Иона бежал от этого поручения и от лица Господня, и пришел в Иоппию, и сел на первый попавшийся отплывающий корабль, который, как оказалось, направлялся в Фарсис — город, тогда находившийся за пределами известного мира. По глупости своей Иона полагал, что сможет бежать за пределы Царства Божия. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Остальное вы знаете — вы знаете, как моряки возвысили голос, спрашивая, за кого постигла их такая беда, и бросили жребий, и пал жребий на Иону. И они спросили его: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» И тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море — и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но поначалу моряки не бросили Иону за борт, верно, друзья мои? Нет, они были отважные люди и хорошие моряки, и они усиленно гребли, чтобы привести свой тонущий корабль к суше. Но в конце концов они выбились из сил и воззвали к Господу, а затем принесли Иону в жертву, бросив за борт. И в Библии говорится: «И подготовил Господь огромную рыбу, чтобы она поглотила Иону; и был Иона во чреве этой рыбы три дня и три ночи». Заметьте, друзья мои, в Библии не говорится, что Иону проглотил кит! Нет! То был не горбач, не черный кит, не кашалот и не финвал, каких мы можем видеть в полярных водах нормальным арктическим летом. Нет, Иону проглотила «огромная рыба», которую Господь подготовил для него, — то есть чудовище морской пучины, созданное Всемогущим Богом Иеговой при сотворении мира специально для этой цели: чтобы однажды она проглотила Иону; и в Библии это чудовище в облике огромной рыбы порой называется левиафаном. Так и мы были посланы с поручением за дальний предел известного мира, друзья мои, дальше, чем находился упомянутый Фарсис — который, в конечном счете, находился всего-навсего в Испании, — мы были посланы туда, где сами стихии, похоже, восстают против человека, где молнии с треском падают со студеных небес, где холод никогда не отступает, где белые медведи бродят по замерзшей поверхности моря и где ни один человек, ни цивилизованный, ни дикий, никогда не назовет подобный край своим домом. Но мы не покинули пределов Царства Божия, друзья мои! Как Иона ни проклинал свою судьбу и ни сетовал на постигшую его кару, но молился Господу своему из чрева рыбы, так и мы должны не протестовать, но смириться с волей Божьей, обрекшей нас на три долгие полярные ночи во чреве льдов; и подобно Ионе, мы должны молиться Господу, говоря: «Отринут я от очей Твоих, однако опять я увижу святый храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была моя голова. До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердного своего. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню. У Господа спасение!» И сказал Господь рыбе, и она извергла Иону на сушу. И вы, возлюбленные друзья мои, знайте в сердце своем, что мы должны по-прежнему гласом хвалы приносить Господу жертву. Мы должны исполнить, что обещали. Наш друг и брат во Христе Грэм Гор, да упокоится он с миром в лоне Господнем, увидел, что не будет нам спасения из левиафанова чрева зимы этим летом. Не будет нам спасения из холодного чрева льдов в этом году. Именно с таким сообщением вернулся бы он, когда бы остался жив. Но наши корабли целы, друзья мои. Провианта у нас хватит еще на год — и на дольший срок при необходимости… на много дольший. У нас есть уголь, чтобы согревать нас, но еще сильнее будет согревать нас наша дружба, а превыше всего — сознание, что Бог не оставил нас. Еще одно лето и еще одна зима во чреве этого Левиафана, друзья мои, а потом, я клянусь вам, милость Господня выведет нас из этого ужасного места. Северо-Западный проход существует, он находится всего в нескольких милях за юго-западным горизонтом. Лейтенант Гор почти увидел его собственными глазами всего неделю назад, и мы доплывем до него, пройдем по нему и достигнем Тихого океана за считанные месяцы, когда эта необычайно затянувшаяся зима закончится, ибо мы воззовем к Господу, спрашивая о причине постигшей нас беды, и Он услышит нас, вопиющих из чрева самого ада, ибо Он слышит мой голос и ваши голоса. Пока же, друзья мои, нас преследует темный дух этого левиафана, явленный в образе злобного белого медведя — но всего лишь медведя, всего лишь бессловесной твари, пусть она и старается служить Сатане, — однако, подобно Ионе, мы станем молиться Богу о том, чтобы сей ужас миновал нас, в уверенности, что Господь услышит наши голоса. Убейте этого зверя, друзья мои, и в день, когда он падет от руки любого из вас, я торжественно обещаю заплатить всем вам до единого по десять золотых соверенов из собственного кармана. В толпе, собравшейся на шкафуте, прокатился приглушенный гул голосов. — По десять золотых каждому, — повторил сэр Джон. — Не просто награда человеку, который убьет зверя, как Давид убил Голиафа, но поощрение каждому из вас, всем поровну. Вдобавок ко всему вы по-прежнему будете получать свое жалованье, назначенное вам Службой географических исследований, и плюс к нему, я даю вам слово, получите сумму, равную вашему авансу, в качестве вознаграждения — в обмен всего лишь на еще одну зиму во льдах, проведенную в сытости, в тепле и в ожидании таяния льдов! Если бы во время богослужения допускался смех, люди не сдержали бы радостного смеха. Вместо этого они просто принялись ошеломленно переглядываться, с уже побелевшими от мороза лицами. По десять золотых соверенов каждому! И сэр Джон пообещал вознаграждение в сумме, равной авансу, размер которого главным образом и побудил многих из матросов наняться в экспедицию: тридцать три фунта почти для всех! Когда можно снять комнату за шестьдесят пенсов в неделю… то есть за двенадцать фунтов в год. И это сверх жалованья, выплачиваемого Службой географических исследований, которое для простых матросов составляет шестьдесят фунтов в год — в три с лишним раза больше, чем может заработать любой чернорабочий на берегу! Семьдесят пять фунтов — для плотников, семьдесят — для боцманов и целых восемьдесят четыре фунта — для инженеров. Люди улыбались, продолжая незаметно притопывать ногами, чтобы не лишиться пальцев. — Я приказал мистеру Дигглу на «Терроре» и мистеру Уоллу здесь, на «Эребусе», приготовить нам праздничный обед в ознаменование нашей грядущей победы над временными трудностями и безусловно ожидающего нас успеха в деле открытия Северо-Западного морского прохода, — возгласил сэр Джон со своего места за накрытым флагом нактоузом. — На обоих кораблях я разрешил сегодня выдать добавочные порции рома. Люди с «Эребуса» могли лишь уставиться друг на друга, разинувши рты. Чтобы сэр Джон Франклин разрешил выдать грог в воскресенье — да к тому же с добавкой?! – Присоединитесь же ко мне в следующей молитве, друзья мои, — сказал сэр Джон. — Всеблагой Боже, обрати к нам снова лицо Твое и будь милосерден к слугам Твоим. Яви нам милость Твою, и поскорее, дабы мы возрадовались и ликовали до скончания своих дней. Утешь нас снова после того, как подвергал нас суровым испытаниям, во искупление тяжких лет, когда мы терпели бедствия. Яви слугам Твоим благую волю Твою и детям Твоим — славу Твою. Да пребудет на нас блистательное могущество Господа Бога нашего; благослови всякое дело рук наших, о Господи, благослови всякое наше начинание. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. – Аминь, — откликнулись хором сто пятнадцать голосов.
В течение четырех суток после проповеди сэра Джона, несмотря на налетевшую с северо-запада снежную бурю, ограничивавшую видимость и отравлявшую жизнь, по замерзшему морю день и ночь раскатывалось эхо от грохота дробовиков и треска мушкетов. Все мужчины, которые могли найти причину выйти на лед — охотничьи отряды, команды, следящие за состоянием пожарной проруби, посыльные, доставляющие сообщения с одного корабля на другой, плотники, испытывающие свои новые сани, матросы, получающие разрешение выгулять пса по имени Нептун, — брали с собой оружие и палили во все, что движется или производит в тумане впечатление объекта, способного двигаться. Никто из людей не погиб, но троим пришлось обратиться к доктору Макдональду или доктору Гудсеру с просьбой извлечь пули у них из бедер. В среду охотничий отряд, не сумевший найти тюленей, вернулся с тушей белого медведя, уложенной поперек на двое связанных вместе саней, и живым медвежонком размером с маленького теленка. Люди немного пошумели насчет десяти золотых соверенов, причитающихся каждому, но даже сами охотники, убившие зверя в миле к северу от корабля (чтобы завалить медведя, потребовалось произвести дюжину выстрелов из двух мушкетов и три из дробовика), вынуждены были признать, что он слишком малых размеров — меньше десяти футов в длину, когда разложен на окровавленном льду, — слишком худой и слишком похож на самку. Они убили медведицу, но оставили в живых скулящего медвежонка, которого притащили с собой, привязав к саням сзади. Сэр Джон спустился с корабля, чтобы осмотреть мертвого зверя, похвалил людей за добычу свежего мяса — хотя все терпеть не могли вареную медвежатину, а этот тощий медведь казался еще более жилистым и жестким, чем большинство остальных, — но указал, что он никак не может являться тем чудовищем — левиафаном, которое убило лейтенанта Гора. Медведица была изрешечена пулями, но в груди у нее не нашли ни старой раны от пистолетного выстрела, ни пистолетной пули. По ним, объяснил сэр Джон, они опознают настоящего чудовищного медведя. Одни мужчины хотели приручить медвежонка, поскольку он был уже отлучен от матери и мог питаться размороженной говядиной, а другие хотели зарезать его прямо здесь и сейчас, но, по совету сержанта морской пехоты Брайанта, сэр Джон приказал оставить детеныша в живых и посадить на цепь у вбитого в лед столба. Вечером той самой среды, девятого июня, сержанты Брайант и Тозер вместе с помощником капитана Каучем и старым Джоном Мюрреем, единственным оставшимся в экспедиции парусным мастером, попросили разрешения поговорить с сэром Джоном в его каюте. – Мы неправильно подходим к делу, сэр Джон, — начал сержант Брайант, выступавший от лица небольшой группы. — Я имею в виду, к охоте на зверя. – Почему? — спросил сэр Джон. Брайант махнул рукой, словно указывая на мертвую медведицу, которую в данный момент свежевали на окровавленном льду. – Наши люди не сведущи в охоте, сэр Джон. На борту обоих кораблей нет настоящих охотников. Самые опытные из нас хорошо стреляют птицу на суше, но не крупную дичь. О, мы сумеем завалить оленя или арктического карибу, коли нам еще доведется встретить таковых, но наш белый медведь — поистине грозный враг, сэр Джон. Раньше мы убивали медведей скорее по счастливой случайности, нежели благодаря своему мастерству. У этого зверя столь толстые кости черепа, что мушкетной пулей не пробить. На теле у него так много жира и мышц, что он подобен средневековому рыцарю, закованному в латы. Он настолько могуч — даже не самые крупные особи, каких вы видели, сэр Джон, — что даже выстрел из дробовика в брюхо или винтовочный выстрел в легкие для него не смертелен. Попасть медведю в сердце очень трудно. В эту тощую самку пришлось выстрелить дюжину раз из мушкета и дробовика с близкого расстояния, и даже тогда она сумела бы убежать, когда бы не осталась, чтобы защитить своего детеныша. – Что вы предлагаете, сержант? – Маскировочная палатка, сэр Джон. – Маскировочная палатка? – Как на утиной охоте, сэр Джон, — сказал сержант Тозер, морской пехотинец с фиолетовым родимым пятном на бледном лице. — У мистера Мюррея есть мысль, как это сделать. Сэр Джон повернулся к старому паруснику с «Эребуса». — Мы возьмем запасные железные прутья, предназначенные для замены шпинделей, сэр Джон, и изогнем их, придав нужную им форму, — сказал Мюррей. — Таким образом мы получим легкий каркас для маскировочной палатки, похожей на обычную. Только она будет не пирамидальной формы, как наши палатки, — продолжал Джон Мюррей, — а вытянутая и низкая, вроде ярмарочной парусиновой палатки, милорд. Сэр Джон улыбнулся. – Но разве медведь не заметит ярмарочную парусиновую палатку на льду, джентльмены? – Нет, сэр, — сказал парусник. — Я скрою, сошью и покрашу маскировочную палатку в белый цвет до наступления ночи или сумерек, которые мы здесь называем ночью. Мы установим ее возле низкой торосной гряды, с которой она будет сливаться. Видна будет только длинная узкая горизонтальная прорезь наподобие амбразуры. Из досок, пошедших на погребальный помост, мистер Уикс соорудит скамьи, чтобы стрелкам не пришлось морозить задницы на льду. – И сколько стрелков вы предполагаете разместить в этой… гм… маскировочной палатке? — спросил сэр Джон. – Шесть, сэр, — ответил сержант Брайант. — Беглый огонь такой мощи убьет медведя. Как тысячами убивал приспешников Наполеона в битве при Ватерлоо. – Но что, если у медведя чутье лучше, чем у Наполеона при Ватерлоо? — спросил сэр Джон. Мужчины хихикнули, но сержант Тозер сказал: — Об этом мы подумали, сэр Джон. В последние дни преобладает ветер с северо-северо-запада. Если мы поставим маскировочную палатку у низкой торосной гряды неподалеку от места, где упокоился бедный лейтенант Гор, сэр, все широкое пространство ровного льда к северо-западу будет отлично простреливаться. Почти сотня ярдов открытого пространства. Велика вероятность, что зверь спустится с более высоких торосных гряд со стороны, откуда дует ветер, сэр Джон. А когда он достигнет нужного нам места, получит разом десяток пуль в сердце и легкие, сэр. Сэр Джон задумался. — Но нам придется отозвать всех людей обратно на корабль, сэр, — сказал Эдвард Кауч, помощник капитана. — Пока столько народа бегает по льду, паля по каждому сераку и при каждом порыве ветра, ни один уважающий себя медведь не подойдет к кораблю ближе чем на пять миль, сэр. Сэр Джон кивнул. – Но что привлечет нашего медведя на это отлично простреливаемое открытое пространство, джентльмены? Вы подумали о приманке? – Так точно, сэр, — ответил сержант Брайант, теперь улыбаясь. — Этих убийц всегда привлекает свежее мясо. – У нас нет свежего мяса, — сказал сэр Джон. — Даже кольчатой нерпы. – Верно, сэр, — согласился сержант морской пехоты. — Но у нас есть медвежонок. Как только мы соорудим и установим маскировочную палатку, мы зарежем звереныша, выпустив из него побольше крови, сэр, и оставим тушку на льду ярдах в двадцати пяти от нашей огневой позиции. – Так вы полагаете, этот зверь пожирает себе подобных? — спросил сэр Джон. – О да, сэр, — сказал сержант Тозер, чье лицо слегка покраснело под фиолетовым родимым пятном. — Мы думаем, этот зверь сожрет все, что истекает кровью или пахнет мясом. А когда он примется за дело, мы откроем по нему бешеную пальбу, сэр, а потом получим по десять соверенов на каждого, потом перезимуем, потом пройдем по Северо-Западному проходу и с триумфом вернемся домой. Сэр Джон рассудительно кивнул. — Так и сделайте, — сказал он.
В пятницу одиннадцатого июня, во второй половине дня, сэр Джон с лейтенантом Левеконтом вышел на лед взглянуть на маскировочную палатку. Двоим офицерам пришлось признать, что даже с расстояния тридцати футов палатка практически невидима, встроенная в низкую ледяную гряду поблизости от места, где сэр Джон произносил надгробное слово. Белая парусина почти полностью сливалась со снегом, а в прорези амбразуры через неравные промежутки висели лоскуты, разбивающие сплошную горизонтальную линию. Парусник и оружейник натянули парусину на железные прутья каркаса так ловко, что даже на крепчающем ветру, сейчас гнавшем поземку по открытому льду, материя нисколько не хлопала. Левеконт провел сэра Джона по обледенелой узкой тропе за торосной грядой, держась вне сектора обстрела, а потом через низкий ледяной вал, к входному отверстию в задней стенке палатки. Там находился сержант Брайант с морскими пехотинцами с «Эребуса» — капралом Пирсоном и рядовыми Хили, Ридом, Хопкрафтом и Пилкингтоном; при появлении начальника экспедиции мужчины начали вставать. — О нет, нет, джентльмены, сидите, — прошептал сэр Джон. Скамья из длинных досок, положенных на железные скобы, вделанные в железные стойки в одном и другом конце длинной узкой палатки, имела значительную высоту, позволявшую морским пехотинцам вести прицельный огонь сидя, когда они не стояли у амбразуры. Под ногами у них был дощатый настил. Заряженные мушкеты стояли перед ними. В тесной палатке пахло свежим деревом, мокрой шерстью и ружейным маслом. — Давно вы ждете? — прошептал сэр Джон. — Пять часов без малого, — шепотом ответил сержант Брайант. — Вы, наверное, замерзли. — Нисколько, сэр, — приглушенным голосом сказал Брайант. — Ширина палатки позволяет нам прохаживаться взад-вперед время от времени. Морские пехотинцы с «Террора» под командованием сержанта Тозера сменят нас, когда пробьют две склянки. — Вы видели что-нибудь? — Пока нет, сэр, — ответил Брайант. Сержант и двое офицеров подались к амбразуре, и лица им обдало холодным воздухом. Сэр Джон видел тушку медвежонка, кричаще-красную на фоне льда. С него содрали шкуру, не тронув только маленькую белую голову, спустили кровь в ведра и разлили повсюду вокруг тушки. Ветер гнал поземку по открытому ледяному полю, и вид красной крови на фоне белого, серого и бледно-голубого действовал на нервы. – Нам еще предстоит проверить, пожирает ли наш враг себе подобных, — прошептал сэр Джон. – Так точно, сэр, — сказал сержант Брайант. — Не желает ли сэр Джон присесть к нам на скамью, сэр? Здесь вполне достаточно места. Места было не вполне достаточно, особенно когда широкий зад сэра Джона добавился к крепким мускулистым седалищам, уже размещенным одна к другой на досках. Но когда морские пехотинцы поспешно потеснились, скамьи как раз хватило на семерых мужчин, сидящих вплотную друг к другу (лейтенант Левеконт остался стоять). Сэр Джон обнаружил, что лед отсюда просматривается довольно хорошо. В этот момент капитан сэр Джон Франклин был счастлив настолько, насколько вообще мог быть в мужской компании. Сэру Джону потребовались многие годы, чтобы осознать, что он чувствует себя гораздо свободнее и непринужденнее в обществе женщин — в том числе утонченных и возбужденных, как его первая жена Элеонора, и сильных и неукротимых, как его нынешняя жена Джейн, — чем в обществе мужчин. Но в течение нескольких дней, прошедших с последнего воскресного богослужения, офицеры и матросы улыбались ему, приветливо кивали и бросали на него одобрительные взгляды чаще, чем когда-либо за пятнадцать лет его службы во флоте. Да, действительно, обещание заплатить по десять золотых соверенов каждому — не говоря уже об удвоении аванса, равного пятимесячному жалованью матроса, — было дано в неожиданном приливе добрых чувств, под влиянием момента. Но сэр Джон располагал значительными финансовыми средствами, а если с ними что случится за три с лишним года его отсутствия, он не сомневался, что сможет воспользоваться личным состоянием леди Джейн для покрытия этого нового долга чести. В общем и целом, рассудил сэр Джон, предложение денежного вознаграждения — и даже неожиданное разрешение употреблять грог на борту его корабля, где спиртное всегда находилось под строгим запретом, — было поистине блистательным ходом. Как и все остальные, сэр Джон был глубоко удручен внезапной смертью Грэма Гора, одного из самых многообещающих молодых офицеров во флоте. Скверные новости об отсутствии пригодных для навигации проходов во льдах и ужасная неизбежность еще одной зимовки здесь повергли всех в тяжелое уныние, но, пообещав по десять золотых соверенов каждому и устроив единственный праздничный день на двух кораблях, он временно решил эту проблему. Разумеется, имелась и другая проблема, о которой ему сообщили четыре медика только на прошлой неделе: среди консервированных продуктов все чаще и чаще находили испорченные (вероятно, дело было в плохо запаянных банках), — но сэр Джон решил пока не думать об этом. Ветер гнал по широкому ледяному полю поземку, временами скрывавшую от взора крохотную тушку в луже свертывающейся, замерзающей крови на голубом льду. Никакого движения среди окрестных торосных гряд и ледяных башен не наблюдалось. Мужчины справа от сэра Джона хранили полное спокойствие, один жевал табак, остальные сидели, положив руки в рукавицах на стволы своих мушкетов. Сэр Джон знал, что они сбросят рукавицы в мгновение ока, стоит только их левиафану появиться на льду. Сэр Джон улыбнулся, осознав, что запоминает эту сцену, этот момент, как интересный эпизод, который впоследствии расскажет Джейн, дочери Элеоноре и любимой племяннице Софии. В последние дни он часто поступал таким образом: рассматривал тяготы зимовки во льдах как ряд занимательных эпизодов и даже облекал оные в слова — не в избыточное количество слов, а ровно в такое, какое необходимо, чтобы завладеть восторженным вниманием слушателей, — для будущего использования в кругу своих милых дам и во время обедов в гостях. Этот день — дурацкая маскировочная палатка с амбразурой, набившиеся в нее мужчины, хорошее настроение, запах ружейного масла, шерсти и табака, даже низкие серые облака, снежная поземка и легкое напряжение в ожидании добычи — сослужит ему добрую службу в грядущие годы. Внезапно сэр Джон перевел взгляд влево и посмотрел через плечо лейтенанта Левеконта на погребальную воронку, находившуюся менее чем в двадцати футах от южного конца палатки. Прорубь давно замерзла, и сама воронка почти доверху наполнилась снегом со дня похорон, но от одного вида небольшого углубления во льду ныне сентиментальное сердце сэра Джона болезненно сжалось при воспоминании о молодом Горе. Но это была прекрасная заупокойная служба. И он — капитан сэр Джон Франклин — провел ее с достоинством и честью, подобающими военному человеку. Сэр Джон заметил два черных предмета, лежащих рядом на самом дне неглубокой ямы, — темные камушки, вероятно, пуговицы или монеты, оставленные здесь в память о лейтенанте Горе одним из матросов, проходившим мимо места погребения ровно неделю назад? — и в тусклом зыбком свете снежных вихрей крохотные черные кружочки, почти невидимые, если не знаешь точно, где искать, казалось, пристально смотрели на сэра Джона с печальным укором. Он задался вопросом, не остались ли там, в силу неких причудливых погодных условий, два крохотных отверстия в ледяной толще, которые не замерзли во время холодов и снегопадов и теперь являют взору два крохотных кружочка черной воды на фоне серого льда. Черные точки мигнули. — Э-э… сержант… — начал сэр Джон. Все дно погребальной ямы вдруг резко вздыбилось. Что-то огромное, бело-серое, могучее стремительно выпрыгнуло из воронки, бросилось к маскировочной палатке, вихрем пронеслось мимо и скрылось за пределами поля зрения, ограниченного амбразурой. Морские пехотинцы, явно ничего толком не разглядевшие и не понявшие, не успели отреагировать. Мощный удар обрушился на южную сторону палатки в трех футах от Левеконта и сэра Джона, сокрушая железный каркас и разрывая парусину. Морские пехотинцы и сэр Джон повскакали на ноги; толстая парусина над ними, позади них и сбоку от них с треском рвалась, раздираемая черными когтями длиной с охотничьи ножи. Все заорали хором. В нос ударил тошнотворный смрад падали. Сержант Брайант вскинул мушкет — существо находилось внутри, с ними, среди них, смыкая вокруг них кольцо лап, — но, прежде чем он успел выстрелить, на них накатила зловонная волна дыхания жуткого хищника. Голова сержанта отскочила от плеч, вылетела в амбразуру и покатилась по льду. Левеконт завопил, кто-то выстрелил из мушкета, попав лишь в морского пехотинца рядом, а в следующий миг парусиновый потолок с треском разошелся в стороны, и что-то громадное нависло над ними, заслоняя небо; и в тот момент, когда сэр Джон повернулся, чтобы броситься прочь из разодранной палатки, страшная боль пронзила ему ноги под самыми коленями. Потом все поплыло у него перед глазами и стало похоже на дурной сон. Казалось, он висел головой вниз, глядя на людей, которые кубарем катились по льду в разные стороны, точно кегли, на людей, выброшенных из растерзанной палатки. Выстрелил еще один мушкет, но оттого лишь, что морской пехотинец швырнул оружие на лед и попытался убежать на четвереньках. Сэр Джон видел все это, болтаясь вверх тормашками, самым немыслимым, самым нелепым образом. Боль в ногах стала невыносимой, потом раздался треск, подобный треску ломаемых молодых деревец, а в следующий миг он полетел в погребальную воронку, к черному пролому во льду, приготовленному для него. Он пробил головой тонкую ледяную корку, точно новорожденный младенец, прорывающий околоплодный пузырь. В обжигающе холодной воде бешено колотящееся сердце сэра Джона на несколько мгновений остановилось. Он попытался завопить, но захлебнулся соленой водой. «Я в море. Впервые в жизни я в самом море. Как странно». Потом он отчаянно молотил руками, переворачиваясь снова и снова, чувствуя, как разодранная в клочья зимняя шинель разваливается на нем, не ощущая больше боли в ногах и не находя никакой опоры в ледяной воде. Сэр Джон делал широкие гребки руками, не понимая в жуткой, непроглядной тьме, поднимается ли он наверх или погружается все глубже в черную бездну. «Я тону. Джейн, я тону. За долгие годы службы во флоте я рисовал в своем воображении самые разные картины своей смерти, но ни разу, дорогая моя, ни разу не думал о том, что утону». Сэр Джон ударился головой обо что-то твердое, едва не лишившись чувств, снова перевернувшись лицом вниз и снова захлебнувшись соленой водой. «А потом, мои дорогие, Провидение указало мне путь к поверхности или, во всяком случае, к дюймовой прослойке пригодного для дыхания воздуха между морем и пятнадцатифутовой толщей льда». Бешено работая руками (ноги у него по-прежнему не двигались), сэр Джон перевернулся на спину и стал судорожно царапать пальцами лед над собой. Он заставил себя успокоиться душой и телом, чтобы получить возможность высунуть нос в тончайшую воздушную прослойку между льдом и ледяной водой. Он дышал. Подняв подбородок, он откашлялся соленой водой и стал дышать ртом. «Благодарю Тебя, Господи Иисусе…» Подавив искушение закричать, сэр Джон забил по воде руками и принялся перемещаться по нижней поверхности льда, словно карабкаясь по стене. Снизу паковый лед был неровным: порой выступал вниз, в воду, не оставляя ни тончайшей воздушной прослойки, а порой отступал на пять-шесть дюймов вверх, позволяя поднять над водой почти все лицо. Несмотря на пятнадцатифутовую толщу льда над ним, сэр Джон видел тусклый свет — голубой свет, свет Господен, — преломленный шероховатыми гранями ледяных выступов всего в нескольких дюймах от глаз. Слабый дневной свет проникал сюда через прорубь — погребальную прорубь Гора, — в которую его только что швырнули. «И теперь, мои милые леди, моя дорогая Джейн, мне оставалось лишь найти путь к этой маленькой проруби — сориентироваться на местности, так сказать, — но я знал, что счет времени идет на минуты…» Не на минуты, а на секунды. Сэр Джон чувствовал, как ледяная вода неумолимо вымораживает из него жизнь. И с ногами творилось что-то ужасное. Он не просто не чувствовал ног — он чувствовал полное их отсутствие. И морская вода имела привкус крови. «А затем, леди, Всемогущий Господь указал мне свет…» Слева. Отверстие находилось ярдах в десяти слева от него. Лед здесь отстоял от черной воды достаточно высоко, чтобы сэр Джон сумел поднять голову, упереться лысой макушкой в шероховатый лед, глотнуть ртом воздух, сморгнуть воду и кровь с глаз и действительно увидеть свет Спасителя меньше чем в десяти ярдах от него… Что-то огромное и мокрое всплыло из глубины и заслонило свет. Стало темно как в могиле. Волна чудовищного смрада ударила в лицо, вытесняя пригодный для дыхания воздух. — Пожалуйста… — начал сэр Джон, захлебываясь и кашляя. Потом влажное зловоние обволокло несчастного, и огромные зубы сомкнулись у него на лице, с хрустом прокусывая череп.
16. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 10 ноября 1847 г.Пробило пять склянок (два тридцать пополуночи), и капитан Крозье, вернувшийся с «Эребуса», уже осмотрел трупы — вернее, половины трупов — Уильяма Стронга и Томаса Эванса на месте, где чудовище оставило их прислоненными к фальшборту на корме, распорядился отнести останки в мертвецкую и теперь сидел в своей каюте, пристально рассматривая два предмета на своем столе: новую бутылку виски и пистолет. Каюта Крозье имела такие же размеры, как каюты всех остальных офицеров и мичманов «Террора»: пять футов в ширину и пять футов одиннадцать дюймов в длину. Почти половину помещения занимала кровать, пристроенная к правому борту. Она походила на детскую колыбель с резными бортиками, выдвижными ящиками внизу и бугристым волосяным тюфяком, лежащим почти на уровне груди. Крозье всегда спал плохо на обычных кроватях и часто с тоской вспоминал подвесные койки, в которых провел так много лет, когда был гардемарином, потом молодым офицером, а прежде служил юнгой. Пристроенная к стенке корпуса, эта кровать была самым холодным спальным местом на корабле — холоднее, чем койки мичманов, чьи каюты находились посередине жилой палубы, и гораздо холоднее, чем подвесные койки счастливчиков матросов, расположенные в непосредственной близости от фрейзеровской плиты, на которой мистер Диггл готовил двадцать часов в сутки. Заставленные книгами стеллажи, пристроенные к чуть наклоненной внутрь стенке корпуса, обеспечивали известную теплоизоляцию, но не особо спасали от холода. Под потолком, поперек каюты висел еще один заставленный книгами стеллаж, нижний край которого находился в трех футах над раскладным столом, отделяющим спальную зону от приемной. Прямо над ним чернел круг престонского патентованного иллюминатора, выпуклое матовое стекло которого немного выступало над палубой, сейчас темной под парусиновым тентом и трехфутовым слоем снега. От иллюминатора постоянно катили волны студеного воздуха, похожие на холодное дыхание некоего существа, давно умершего, но все еще пытающегося дышать. Напротив стола находилась узкая полка с рукомойником. Воды в нем не держали, поскольку она там быстро замерзала. Стюард Крозье, Джонсон, каждое утро приносил своему капитану горячую воду с плиты. Между столом и рукомойником в тесной каюте оставалось только-только места, чтобы Крозье мог стоять или — как сейчас, — сидеть за своим столом на табурете, который задвигался под полку с рукомойником, когда не использовался. Крозье продолжал смотреть неподвижным взглядом на пистолет и бутылку виски. Капитан «Террора» часто думал о том, что не знает о будущем ничего — кроме того, что его корабль и «Эребус» уже никогда не пойдут ни под паром, ни под парусами, — но потом напоминал себе, что одно он все-таки знает наверняка: когда у него кончатся запасы виски, Френсис Родон Мойра Крозье пустит себе пулю в висок. Покойный сэр Джон Франклин заполнил свою кладовую дорогой фарфоровой посудой — с инициалами сэра Джона и фамильным гербом, разумеется, — хрусталем, серебряными столовыми приборами, весьма изысканными и тоже украшенными гербом, копчеными говяжьими языками в количестве сорока восьми штук, бочонками копченой вестфальской ветчины, бесчисленными кругами глостерского сыра, мешками чая дарджилинг, специально доставленного с плантации какого-то родственника, и горшками своего любимого малинового варенья. Хотя Крозье тоже запасся известным количеством деликатесных продуктов, предназначенных для офицерских обедов, которые придется время от времени устраивать, большую часть своих денег и места в своей кладовой он выделил на триста двадцать четыре бутылки виски. Это был не лучший шотландский виски, но и такой сойдет. Крозье знал, что уже давно стал такого рода пьяницей, для которого количество всегда важнее качества. Иногда — как, например, прошлым летом, когда он был очень занят, — бутылки ему хватало на две недели и даже на дольший срок. А порой — как, например, в течение прошлой недели — он выпивал бутылку за ночь. По правде говоря, он перестал считать пустые бутылки, когда перевалил за двести штук прошлой зимой, но знал, что запасы виски подходят к концу. В ночь, когда он выпьет самую последнюю бутылку и стюард доложит, что больше ни одной не осталось (Крозье знал, что это случится ночью), он твердо решил приставить пистолет к виску и спустить курок. Более рассудительный капитан, конечно, напомнил бы себе, что в винной кладовой внизу хранятся весьма значительные запасы живительной влаги, оставшиеся от первоначальных четырех тысяч пятисот галлонов — галлонов! — концентрированного рома, крепостью в 65–70 градусов. Ром выдавался людям ежедневно, по четверти пинты на три четверти пинты воды, и там еще оставалось достаточно галлонов, чтобы в нем плавать. Менее разборчивый и более бессовестный капитан-пьяница заявил бы о своих правах на ром, предназначенный для матросов. Но Френсис Крозье не любил ром. Никогда не любил. Он пил виски, и когда виски закончится, закончится и его жизнь. При виде тела Томми Эванса — нижней половины, с почти комично раздвинутыми ногами в штанах и башмаках, по-прежнему крепко зашнурованных, — Крозье вспомнил день, когда его вызвали к останкам маскировочной палатки в четверти мили от «Эребуса». Меньше чем через сутки, осознал он, будет ровно пять месяцев со дня катастрофы, произошедшей одиннадцатого июня. Поначалу Крозье и остальные офицеры, прибежавшие на место, впали в тяжелое недоумение при виде произведенных разрушений: парусина разорвана в клочья, железные прутья палаточного каркаса погнуты и сломаны, скамья разбита в щепки, а среди щепок лежит обезглавленное тело сержанта морской пехоты Брайанта, командира морских пехотинцев экспедиции. Его голова — еще не найденная ко времени прибытия Крозье, — прокатилась по льду почти тридцать ярдов, прежде чем остановилась рядом с освежеванной тушкой медвежонка. Лейтенант Левеконт получил перелом руки — пострадав, как выяснилось, не от чудовищного медведя, а при падении на лед; рядовой Уильям Пилкингтон был ранен навылет в левое плечо выстрелом морского пехотинца, находившегося рядом с ним, капрала Роберта Хопкрафта. У самого капрала были сломаны восемь ребер, раздроблена ключица и вывихнута левая рука — от скользящего удара громадной лапы чудовища, как он сказал позже. Рядовые Хили и Рид не получили серьезных повреждений, но покрыли себя позором, обратившись в паническое бегство, с истошными воплями и визгом, на четвереньках. Рид сломал три пальца на руке, пока полз. Но внимание Френсиса Крозье всецело поглотили две ноги сэра Джона Франклина, в штанинах и башмаках с пряжками, целые ниже колена, но находившиеся далеко одна от другой: одна валялась в разрушенной палатке, другая неподалеку от пролома во льду в погребальной воронке. Какого рода злобным разумом должно обладать животное, размышлял он за стаканом виски, чтобы оторвать человеку ноги по колено, а потом бросить еще живую жертву в прорубь и секундой позже последовать за ней? Крозье старался не думать о том, что произошло подо льдом в следующую минуту, хотя иногда по ночам, когда он пытался заснуть после нескольких стаканов виски, воображение рисовало ему кошмарную сцену, там разыгравшуюся. Он также не сомневался, что погребение лейтенанта Гора, состоявшееся ровно за неделю до страшного события, явилось не чем иным, как изысканным пиршеством, невольно устроенным для существа, уже сторожившего добычу и наблюдавшего за ними из-подо льда. Смерть лейтенанта Грэма Гора не повергла Крозье в глубокое горе. Гор относился к тому типу хорошо воспитанных, хорошо образованных, в прошлом закончивших привилегированную частную школу, исправно посещавших англиканскую церковь, стяжавших славу на войне офицеров военно-морского флота, рожденных для того, чтобы командовать, непринужденных в общении с начальством и с подчиненными, скромных во всех отношениях, призванных вершить великие дела — чертовых британских джентльменов с изысканными манерами, любезных даже с ирландцами, — которых постоянно продвигали по службе в обход Крозье на протяжении сорока с лишним лет. Он налил в стакан еще виски. Какого рода злобным разумом должно обладать животное, которое убивает, но не пожирает целиком свою добычу такой голодной зимой, а возвращает верхнюю половину трупа матроса Уильяма Стронга и нижнюю половину трупа молодого Тома Эванса? Эванс был одним из юнг, которые били в обернутые тканью барабаны на похоронах Гора пять месяцев назад. Какого рода существо станет утаскивать в темноте молодого парня, не тронув капитана, находящегося от него всего в трех ярдах, а потом возвращать половину трупа? Люди знали. Крозье знал, что они знают. Они знали, что там на льду Дьявол, а не какой-то арктический медведь небывало крупных размеров. Капитан Френсис Крозье не считал такое мнение ошибочным — несмотря на все свои презрительные высказывания, сделанные сегодня вечером за стаканом бренди в обществе капитана Фицджеймса, — но он знал еще одно, чего люди не знали, а именно: что Дьявол, пытающийся уничтожить их здесь, в Царстве Дьявола, это не только белое мохнатое чудовище, убивающее и пожирающее людей одного за другим, но всё, абсолютно всё здесь: неослабевающие холода, сдавливающие корабли льды, электрические бури, странное отсутствие тюленей, китов, птиц, моржей и сухопутных животных, неумолимое наступление пака, айсберги, передвигающиеся по белому замерзшему морю, но не оставляющие ни единой узкой полосы открытой воды за собой, внезапные мощные содрогания ледяного поля, сопровождающиеся появлением торосных гряд, пляшущие звезды, халтурно запаянные банки с продуктами, теперь превратившимися в отраву, так и не наступившее лето, так и не открывшиеся проходы — решительно все. Чудовище во льдах являлось просто-напросто еще одним воплощением Дьявола, который хотел их смерти. И хотел, чтобы они страдали. Крозье снова наполнил стакан. Он понимал Арктику лучше, чем себя самого. Древние греки были правы, думал Крозье, когда утверждали, что на диске Земли существует пять климатических поясов, четыре из которых равны, противоположны и симметричны друг другу, каковое соотношение свойственно многим понятиям и категориям, привнесенным греками в наш мир. Два из них — пояса умеренные, созданные для человека. Центральный пояс, экваториальный, не предназначен для разумных форм жизни — хотя греки ошибались в своем предположении, что человеческие существа не могут обитать там. Могут, только нецивилизованные, подумал Крозье, который мимоходом видел Африку и другие экваториальные страны и был уверен, что ничего ценного ни в одной из них никогда не появится. Две полярные зоны, предугаданные греками задолго до того, как исследователи достигли Арктики и Антарктики, враждебны человеку во всех отношениях — непригодны даже для того, чтобы по ним путешествовать, не говоря уже о том, чтобы жить там, пусть сколь угодно малое время. Так почему же, спрашивал себя Крозье, такая страна, как Англия, Божьей милостью помещенная в благодатнейшем и плодороднейшем из двух умеренных поясов, предназначенных для обитания рода человеческого, продолжает отправлять свои корабли и своих людей во льды северной и южной полярных областей, куда не отваживаются заходить даже дикари в меховых одеждах? И что самое главное, почему некий Френсис Крозье снова и снова возвращается в эти ужасные края, служа стране и правительству, никогда не отдававшимдолжного его способностям и заслугам? Возвращается, хотя в глубине души он уверен, что однажды умрет в морозной арктической тьме? Капитан вспомнил, что даже в детстве — до того, как он ушел в первое плавание в возрасте тринадцати лет, — он носил в сердце своем глубокую меланхолию, точно некую холодную тайну. Меланхолическая эта природа проявлялась в наслаждении, какое он испытывал, стоя поодаль от деревни зимними вечерами и глядя на постепенно меркнущий свет окон; в постоянном поиске укромных уголков, чтобы спрятаться (клаустрофобией Френсис Крозье никогда не страдал); и в таком страхе темноты — в детстве представлявшейся ему воплощением смерти, коварно похитившей мать и бабушку, — который заставлял его вопреки здравому смыслу искать с ней встречи, прячась в погребе, когда все остальные мальчики играли на солнце. Крозье хорошо помнил тот погреб: могильный холод, запах сырости и плесени, темноту и внутреннее напряжение, оставляющее человека наедине с его мрачными мыслями. Он наполнил стакан и отпил из него еще глоток. Внезапно лед затрещал громче, и корабль заскрипел в ответ — пытаясь поменять свое место в замерзшем море, но не в силах сдвинуться с места. Лед лишь сильнее сдавил корпус со всех сторон, и он протяжно застонал. Металлические крепежные скобы в трюмной палубе сжались под давлением, внезапный резкий треск напоминал пистолетные выстрелы. Матросы в носовом отсеке и офицеры в кормовом продолжали спать, давно привыкшие к ночным крикам льда, пытающегося раздавить корабль. На верхней палубе офицер, несший ночную вахту при минус семидесяти,[8] потопал ногами, чтобы восстановить кровообращение, и четыре глухих удара представились капитану голосом усталого родителя, велящего кораблю прекратить свои возмущенные жалобы. Сейчас Крозье с трудом верилось, что София Крэкрофт посещала этот корабль, стояла вот в этой самой каюте, вслух восхищалась тем, какая она опрятная, какая чистая, какая уютная, как походит на кабинет ученого со всеми своими книжными полками и как чуден свет австралийского солнца, льющийся в иллюминатор. Это было семь лет назад, с точностью почти до недели, в Южном полушарии, в весеннем месяце ноябре 1840 года, когда Крозье прибыл к Земле Ван-Димена, расположенной к югу от Австралии, на этих самых кораблях — «Эребусе» и «Терроре», — сделав там остановку по пути к Антарктике. Возглавлял экспедицию друг Крозье (хотя и всегда стоявший выше по общественному положению), капитан Джеймс Росс. Они зашли в порт города Хобарта, чтобы пополнить запасы провианта, прежде чем направиться в антарктические воды, и губернатор острова, служившего штрафной колонией, сэр Джон Франклин, настоял на том, чтобы два молодых офицера — капитан Росс и командор Крозье — жили в правительственной резиденции все время своего пребывания там. Это было чудесное время и — для Крозье — романтически роковое. Инспекция кораблей производилась на второй день после прибытия — корабли были тщательно вычищены, отремонтированы, почти полностью загружены провиантом, и молодые члены экипажей еще не заросли бородами и не отощали, как после двух предстоящих зимовок в антарктических льдах, — и Крозье вдруг оказался сопровождающим губернаторской племянницы, темноволосой и ясноглазой юной Софии Крэкрофт, в то время как капитан Росс лично принимал губернатора сэра Джона и леди Джейн Франклин. В тот день Крозье влюбился и унес нежный росток любви с собой во тьму следующих двух южных зим, где она расцвела пышным цветом, обратившись в наваждение. Долгие обеды под колеблемыми слугами опахалами в губернаторском доме, живые беседы — губернатор Франклин был усталым мужчиной пятидесяти с лишним лет, глубоко удрученным полным отсутствием признания своих заслуг, а также противостоянием местной прессы, богатых землевладельцев и чиновников на третьем году своего пребывания на Земле Ван-Димена, но и он и его жена, леди Джейн, воспрянули духом во время визита своих соотечественников из Службы географических исследований и, как любил называть своих гостей сэр Джон, «соратников». София Крэкрофт, напротив, не обнаруживала никаких признаков уныния. Она была остроумна, жизнерадостна, весела, порой вызывающе смела в своих высказываниях и дерзких замечаниях (в еще большей степени, чем ее строптивая и несговорчивая тетушка, леди Джейн), молода, красива и проявляла видимый интерес к суждениям и различным мыслям сорокашестилетнего холостого командора Френсиса Крозье. Она смеялась всем неуверенным шуткам Крозье — он не привык вращаться в столь высоких кругах и изо всех сил старался не ударить в грязь лицом, выпивая меньше своей давно установившейся нормы, причем ограничиваясь исключительно вином, — и неизменно отвечала на все его робкие остроты еще более остроумно. Для Крозье это было все равно, что учиться играть в теннис в паре с гораздо лучшим игроком. К восьмому и последнему дню их затянувшегося визита Крозье ощущал себя равным во всех отношениях любому приличному англичанину — пусть джентльменом ирландского происхождения, но человеком, прожившим интересную и насыщенную событиями жизнь, ни в чем не уступающим любому другому, — и мужчиной, превосходящим почти всех прочих в изумительных голубых глазах мисс Крэкрофт. Когда «Эребус» и «Террор» покинули порт города Хобарта, Крозье по-прежнему мысленно называл Софию «мисс Крэкрофт», но никак нельзя было отрицать тайную близкую связь, возникшую между ними: незаметный обмен быстрыми взглядами, понимающее молчание, общие шутки, проведенные наедине друг с другом минуты. Крозье знал, что влюбился впервые в своей жизни, в которой вся «любовь» прежде сводилась к грязным постелям портовых девок, к торопливым случкам в темных переулках, к соитиям с туземками, оказывающими услуги за побрякушки, и к нескольким непомерно дорогим ночам в лондонских публичных домах для джентльменов. Все это теперь осталось позади. Теперь Френсис Крозье понял, что самые соблазнительные и возбуждающие одеяния из всех мыслимых женских нарядов — это скромные закрытые платья, в каких София Крэкрофт выходила к обедам в губернаторском доме, скрывавшие линии ее тела, но тем самым позволявшие мужчине в полной мере насладиться блеском ее очаровательного ума. Затем последовали почти два года в паковых льдах, поверхностное знакомство с Антарктикой, вонь пингвиньих гнездовий, два дымящихся вулкана, названные в честь их усталых кораблей, зимняя тьма, весна, угроза оказаться затертыми льдами, поиски пути изо льдов, увенчавшиеся успехом, трудный переход под одними только парусами через море, ныне носившее имя Джеймса Росса, и наконец переход по бурному Южному морю и остановка в городе Хобарте на острове, где жили восемнадцать тысяч заключенных и один глубоко несчастный губернатор. На сей раз смотра «Эребуса» и «Террора» не проводилось: слишком уж тяжелый дух топленого сала, стряпни, пота и смертельной усталости стоял на кораблях. Мальчики, два года назад уходившие в южное плавание, теперь превратились в бородатых мужчин с ввалившимися глазами, которые никогда впредь не наймутся ни в одну экспедицию Службы географических исследований. Все, кроме командира «Террора», страстно хотели вернуться в Англию. Френсис Крозье страстно хотел одного: снова увидеть Софию Крэкрофт. Он отхлебнул еще глоток виски. Над ним, еле слышные сквозь покрытый толстым слоем снега палубный настил, прозвучали шесть ударов судового колокола. Три часа пополуночи. Люди искренне опечалились, когда сэр Джон погиб пять месяцев назад — главным образом потому, что знали: перспектива получить по десять золотых соверенов на каждого и аванс исчезла со смертью пузатого лысого старика, — но в действительности после гибели Франклина почти ничего не изменилось. Командор Фицджеймс теперь был официально признан капитаном «Эребуса», каковым фактически всегда являлся. Лейтенант Левеконт, со сверкавшим при улыбке золотым зубом, с висевшей на перевязи рукой, занял место Грэма Гора в служебной иерархии, не обнаружившей при такой перестановке видимых признаков распада. Капитан Френсис Крозье вступил в должность начальника экспедиции, но сейчас, когда они торчали здесь во льдах, он не мог сделать почти ничего такого, чего не сделал бы Франклин. Сразу по вступлении в новую должность он сделал одно: распорядился перевезти по льду свыше пяти тонн продовольственных припасов и снаряжения на Кинг-Уильям и устроить склад неподалеку от каменной пирамиды Росса. Теперь они не исключали возможности, что Кинг-Уильям является островом, поскольку Крозье — послав к черту чудовищного медведя, — неоднократно отправлял санные отряды обследовать местность. Он сам с полдюжины раз ходил на разведку с санными отрядами, помогая искать наиболее доступные — или по крайней мере наименее труднопроходимые — пути через торосные гряды и барьер айсбергов вдоль берега. Они переправили на берег запасные комплекты зимней одежды, палатки, строительные материалы для будущих лачуг, бочонки с сухими продуктами и сотни консервных банок, а также громоотводы — даже медные прутья кроватных спинок из принадлежавших сэру Джону кают, чтобы использовать оные в качестве грозовых разрядников, — и предметы первой необходимости, которые понадобятся обеим судовым командам, коли придется внезапно покинуть корабли посреди зимы. Четверых человек утащило обитающее во льдах существо — двух прямо из палатки во время одного из походов с участием Крозье, — но конец походам с гружеными санями положили возобновившиеся сильные грозы и густой туман. Более трех недель оба корабля стояли в густом тумане, под ударами молний, и на лед люди выходили лишь в случае крайней необходимости и на предельно короткое время — в основном охотничьи отряды и команды, прикрепленные к пожарной проруби. К тому времени, когда аномальные грозы прекратились и туман рассеялся, было начало сентября, и опять наступили холода и пошел снег. Тогда Крозье, несмотря на ужасную погоду, снова стал отправлять санные отряды с грузом на Кинг-Уильям, но после того, как второй лоцман Джайлс Макбин и один матрос были убиты всего в нескольких ярдах перед тремя санями — из-за сильной метели остальные матросы и офицер, второй лейтенант Ходжсон, ничего не увидели, но предсмертные крики слышали до жути отчетливо, — Крозье «временно» приостановил переправку припасов на берег. К настоящему моменту эта вынужденная пауза продолжалась уже два месяца, и к первому ноября ни один мало-мальски здравомыслящий член экипажа не подписывался на десятидневный поход в темноте. Капитан знал, что на берегу следовало схоронить по меньшей мере десять тонн припасов, а не пять, доставленных туда. Проблема заключалась в том (как он и прочие участники санного отряда убедились той ночью, когда чудовищный зверь разодрал палатку, стоявшую рядом с капитанской, и утащил бы матросов Джорджа Киннарда и Джона Бейтса, не пустись они наутек), что любой лагерь на плоском каменистом, открытом всем ветрам пятачке суши защитить от нападения не представлялось возможным. На кораблях, покуда они не развалились, обшивка корпуса и приподнятая верхняя палуба служили своего рода стенами, превращавшими оба судна в подобие крепости. На каменистом берегу и в палатках, сколь угодно тесно поставленных, потребуется по меньшей мере двадцать вооруженных человек, несущих дозор денно и нощно, чтобы охранять периметр лагеря, и даже тогда этот зверь может напасть на них прежде, чем часовые успеют среагировать. Все, кто ходил на Кинг-Уильям и ночевал там и на льду, знали это. И по мере того, как ночи становились длиннее, страх перед ночными часами в палатках укоренялся в душах людей все глубже. Крозье отпил еще виски. Был апрель 1843 года — ранняя осень в Южном полушарии, хотя дни еще стояли длинные и теплые, — когда «Эребус» и «Террор» возвратились на Землю Ван-Димена. Росс и Крозье снова гостили в губернаторском доме — который старожилы Хобарта официально называли правительственной резиденцией, — но на сей раз пасмурная тень уныния лежала на челе супругов Франклинов. Крозье, счастливый возможностью находиться рядом с Софией, не хотел замечать этого, но даже веселая и жизнерадостная София была подавлена тягостной атмосферой — событиями, заговорами, предательствами, разоблачениями, кризисами, — царившей в Хобарте в течение двух лет, проведенных «Эребусом» и «Террором» во льдах, и за первые два дня своего пребывания в правительственной резиденции он узнал достаточно, чтобы понять причину уныния, владевшего Франклинами. Похоже, местные мелкие землевладельцы, от имени которых выступал один подлый иуда в лице управляющего колонией капитана Джона Монтегю, на шестом году пребывания сэра Джона в должности губернатора решили, что он просто-напросто их не устраивает, как не устраивает его жена, прямодушная и неординарная леди Джейн. От самого сэра Джона Крозье услышал (на самом деле случайно подслушал, когда удрученный сэр Джон разговаривал с капитаном Россом в своем полном книг кабинете с горящим, несмотря на восьмидесятиградусную жару,[9] камином, где трое мужчин пили бренди и курили сигары) лишь одно пояснительное замечание: что местные жители «обнаруживают известную недоброжелательность и прискорбное непонимание общественных интересов». От Софии Крозье узнал, что сэр Джон — по крайней мере, в глазах общественности — из «человека, который съел свои башмаки» превратился сначала в «человека, который мухи не обидит» (каковое определение он сам к себе постоянно применял), а затем получил широко распространенное на острове прозвище «размазни и бабы». Последнее, по заверениям Софии, объяснялось неприязнью местных жителей к леди Джейн, а равно попытками сэра Джона и его супруги улучшить положение туземцев и заключенных, которые работали там в нечеловеческих условиях. – Понимаете, предыдущие губернаторы просто отдавали заключенных внаем для осуществления безумных проектов местных плантаторов и городских предпринимателей, получали свою долю прибыли и держали язык за зубами, — объяснила София Крэкрофт, когда они прогуливались в тенистых садах правительственной резиденции. — Дядя Джон никогда не играл в такие игры. – Безумные проекты? — переспросил Крозье. Он остро сознавал, что ладонь Софии лежит у него на руке, пока они идут и разговаривают приглушенными голосами, одни в теплых сумерках. – Если владелец плантации хочет проложить новую дорогу на своей земле, — сказала София, — предполагается, что губернатор должен дать ему внаем шестьсот изнуренных голодом заключенных — или тысячу, — которые будут работать с рассвета до глубокой ночи, в ножных и ручных кандалах, под палящим тропическим солнцем, без воды и пищи, подвергаясь жестокой порке, коли они упадут или споткнутся. – Боже мой, — сказал Крозье. София кивнула. Она продолжала смотреть себе под ноги, на белый булыжник садовой дорожки. — Управляющий колонии, Монтегю, решил, что заключенные должны вырыть карьер — хотя никакого золота на острове никогда не находили, — и несчастных поставили на эту работу. К тому времени, когда проект закрыли, глубина карьера превышала четыреста футов — он постоянно затапливался, уровень грунтовых вод здесь очень высокий, разумеется, — и говорят, каждый вырытый фут этого мерзкого карьера стоил жизни двум или трем заключенным. Крозье удержался от того, чтобы снова воскликнуть «боже мой», но, по правде говоря, только эти слова и пришли ему на ум. – Через год после вашего отплытия, — продолжала София, — Монтегю — этот скользкий тип, эта гадина — убедил дядю Джона уволить местного врача — человека, очень популярного среди приличных людей здесь, — по сфабрикованному обвинению в нарушении служебного долга. Это разделило колонию. Все общественное негодование обрушилось на голову дяди Джона и тети Джейн, хотя тетя Джейн с самого начала возражала против увольнения врача. Дядя Джон — вы знаете, Френсис, как он не любит конфликтовать, а тем более прибегать к каким-либо карательным мерам, вот почему он часто говорил, что мухи не обидит… – Да, — сказал Крозье, — я однажды видел, как он осторожно выносит муху из гостиной и отпускает на волю. – Дядя Джон, прислушавшись к совету тети Джейн, восстановил врача в прежней должности, но тем самым заимел заклятого врага в лице Монтегю. Перебранки и обвинения стали публичными, и Монтегю, в сущности, назвал дядю Джона лжецом. — Боже мой, — сказал Крозье. А подумал он следующее: «На месте Франклина я бы вызвал этого негодяя Монтегю на поле чести и там отстрелил ему яйца, прежде чем вышибить мозги». – Надеюсь, сэр Джон уволил мерзавца. – О да, — сказала София, печально усмехнувшись, — но от этого положение только усугубилось. Монтегю вернулся в прошлом году в Англию на том же корабле, с которым туда отправилось письмо дяди Джона с уведомлением об увольнении, и, на нашу беду, оказалось, что Монтегю является близким другом лорда Стенли, министра по делам колоний. «Да уж, губернатор действительно попал в хороший переплет», — подумал Крозье, в то время как они приблизились к каменной скамье в дальнем конце сада. – Плохо дело, — сказал он. – Хуже, чем дядя Джон и тетя Джейн могли себе представить, — сказала София. — Корнуэльская «Кроникл» опубликовала длинную статью под названием
«Бездарное царствование героя-полярника».Местная «Таймс» ополчилась на тетю Джейн. — Да в чем же леди Джейн-то виновата? София невесело улыбнулась. – Тетя Джейн, она вроде меня… ну, не такая, как все. Полагаю, вы видели ее комнату здесь, в резиденции губернатора? Когда дядя Джон показывал вам поместье во время прошлого вашего визита? – О да, — сказал Крозье. — Коллекция у нее замечательная. Будуар леди Джейн — в той своей части, куда они получили доступ, — был заполнен от покрытого коврами пола до потолка скелетами животных, осколками метеоритов, окаменелостями, дубинками и барабанами аборигенов, резными деревянными масками, десятифутовыми веслами, при посредстве которых британский военный корабль «Террор», наверное, мог бы идти со скоростью пятнадцать узлов, многочисленными чучелами птиц и по меньшей мере одним искусно выполненным чучелом обезьяны. Крозье никогда прежде не видел ничего подобного ни в одном музее или зоосаде, а уж тем более в дамской опочивальне. Разумеется, Френсис Крозье видел очень и очень мало дамских опочивален на своем веку. — Один человек, гостивший здесь, написал в хобартскую газету, что — я цитирую дословно, Френсис, — «личные апартаменты супруги нашего губернатора больше похожи на музей или бродячий зверинец, нежели на будуар леди». Крозье поцокал языком и устыдился своих мыслей аналогичного свойства. – Так этот Монтегю по-прежнему причиняет вам неприятности? — спросил он. – Больше, чем когда-либо. Лорд Стенли — эта гадина из гадин — вернул сюда Монтегю, восстановил в прежней должности и прислал дяде Джону письменный выговор столь ужасный, что тетя Джейн в разговоре со мной сравнила его с поркой кнутом. «Я бы отстрелил мерзавцу Монтегю яйца, а потом отрезал бы яйца лорду Стенли и подал бы их ему на завтрак сваренными в мешочек», — подумал Крозье. – Это ужасно, — сказал он. – Но дальше было хуже, — сказала София. В полумраке Крозье посмотрел, не плачет ли она, но никаких слез не увидел. София не относилась к числу плаксивых женщин. – Стенли обнародовал свой выговор? — предположил Крозье. – Этот… гнусный человек… отдал копию официального выговора своему другу Монтегю, прежде чем отослал письмо дяде Джону, а он, подлейший из подлецов, поспешил отправить ее сюда с самым скорым почтовым судном. Копии разошлись по городу, по рукам всех недоброжелателей дяди Джона, за несколько месяцев до того, как дядя Джон получил письмо в официальном порядке. Вся колония хихикала каждый раз, когда дядя Джон или тетя Джейн посещали какой-нибудь концерт или присутствовали в силу необходимости на каких-нибудь официальных мероприятиях. Я извиняюсь за свои выражения, неподобающие леди. «Я бы скормил лорду Стенли его поганые яйца, запеченные в куче собственного дерьма», — подумал Крозье. Вслух он не сказал ничего, но кивнул, давая понять, что прощает Софии выражения, неподобающие леди. – И когда дядя Джон и тетя Джейн думали, что хуже уже быть не может, — продолжала София слегка дрожащим голосом (но дрожащим от гнева, не сомневался Крозье, а не от слабости), — Монтегю послал своим здешним друзьям-плантаторам пакет, содержащий триста страниц частных писем, документов из архива губернаторской резиденции и официальных донесений, которые он использовал, чтобы скомпрометировать губернатора в глазах лорда Стенли. Означенный пакет хранится в Центральном банке колонии здесь, в столице, и дядя Джон знает, что две трети местных знатных семейств и крупных предпринимателей совершили паломничество в банк и ознакомились с содержанием бумаг. В них капитан Монтегю называет губернатора «круглым дураком»… и, насколько нам известно, это самое вежливое высказывание из всех, употребленных в этих отвратительных документах. – Похоже, положение сэра Джона здесь крайне неблагоприятно, — сказал Крозье. – Иногда я опасаюсь за его рассудок, если не за жизнь, — согласилась София. — Губернатор сэр Джон Франклин человек ранимый. «Он мухи не обидит», — подумал Крозье. – Он подаст в отставку? – Его отзовут в Англию, — сказала София. — Вся колония знает это. Вот почему тетя Джейн находится на грани нервного срыва… я никогда еще не видела ее в таком состоянии. Дядя Джон ожидает официального уведомления о своем отзыве к концу августа, если не раньше. Крозье вздохнул, выбрасывая вперед трость. Он мечтал о встрече с Софией два года в антарктических льдах, но теперь понимал, что их визит останется незаметным событием на фоне обычных политических дрязг и оскорбительных нападок на губернатора. Он подавил следующий вздох. Ему было сорок девять лет, а он вел себя как дурак. — Вы не хотели бы прогуляться к Утконосову пруду завтра? — спросила София. Крозье налил еще виски в стакан. Сверху донесся леденящий душу вопль, но то просто завывал арктический ветер в остатках такелажа. Капитан искренне сочувствовал вахтенным. Бутылка была почти пустой. Тогда и там Крозье решил, что они возобновят переправку провианта и снаряжения на Кинг-Уильям этой зимой, несмотря на темноту и снежные бури, несмотря на постоянную угрозу со стороны существа во льдах. У него не оставалось выбора. Если им придется покинуть корабли в ближайшие месяцы — а сдавленный льдами «Эребус» уже обнаруживал признаки неминуемого разрушения, — они не смогут просто стать лагерем здесь, на льду, рядом с местом гибели кораблей. В обычных обстоятельствах такое решение имело бы смысл — далеко не одна злополучная полярная экспедиция в аналогичной ситуации располагалась лагерем на льду и ждала, когда течение Баффинова залива отнесет их на сотни миль к югу, в открытое море, — но этот лед никуда не двигался, а здесь, на замерзшем море, защитить лагерь от чудовищного зверя будет еще труднее, чем на каменистом берегу полуострова или острова в двадцати пяти милях отсюда, в темноте. И он уже схоронил там свыше десяти тонн провианта и снаряжения. Остальное надлежит переправить туда до возвращения солнца. Крозье отхлебнул немного виски и решил, что сам возглавит следующий санный поход. Горячая пища являлась единственным средством, способным укрепить моральное состояние замерзших людей, лишенных надежды на скорое спасение и дополнительных порций рома, посему в ближайшее время он распорядится снять камбузные печи с вельботов — надежных шлюпок, оснащенных для продолжительного плавания на случай, если настоящие корабли придется бросить в море. Фрейзеровские патентованные плиты, установленные на «Терроре» и «Эребусе», слишком громоздки и неподъемны для транспортировки — и мистер Диггл будет выпекать на своей плите лепешки вплоть до момента, когда Крозье отдаст приказ покинуть корабль, — так что лучше воспользоваться печами с вельботов. Четыре железные печи — тяжеленные, что дьяволовы копыта, — тащить будет трудно, особенно вместе с дополнительным грузом снаряжения, продовольствия и одежды, но на берегу они будут в безопасности и их можно будет быстро растопить в любой момент, хотя сам уголь тоже придется перевезти по искрещенному торосными грядами замерзшему морю, преодолев двадцать пять миль выстуженного ада. На Кинг-Уильяме не росли ни деревья, ни кустарник, как не росли они нигде в пределах многих сотен миль к югу отсюда. Печи отправятся на берег в следующую очередь, решил Крозье, и он отправится с ними. Они поволокут груженые сани в кромешной тьме и лютом холоде — и пусть дьявол заберет отставших. Следующим апрельским утром 1843 года Крозье и София выехали к Утконосову пруду. Крозье ожидал, что они поедут в легкой двухместной коляске, на какой выезжали в Хобарт, но София распорядилась оседлать двух лошадей и погрузить на мула корзинку со съестными припасами и различные принадлежности для пикника. Она сидела в седле по-мужски. Предмет одежды, поначалу принятый Крозье за темную «юбку», на деле оказался гаучосами. Белая холщовая блузка, надетая с мешковатыми брюками, казалась одновременно по-женски изящной и по-мужски непритязательной. София была в широкополой шляпе, защищавшей лицо от солнца, и в высоких, до блеска начищенных сапожках из мягкой кожи, стоимость которых, вероятно, равнялась годовому капитанскому жалованью Крозье. Они двинулись на север от правительственной резиденции и столицы, по узкой дороге, которая пролегала между плантациями, мимо огороженных бараков штрафной колонии, тянулась через участок тропического леса, а затем снова выводила на открытую возвышенную местность. — Я думал, утконосы водятся только в Австралии, — сказал Крозье, тщетно пытаясь устроиться в седле поудобнее. Он никогда прежде не имел ни возможности, ни повода освоить искусство верховой езды. Голос у него по-дурацки вибрировал и пресекался от сильной тряски. София же сидела в седле абсолютно непринужденно; она и лошадь двигались слаженно, словно слившись в единое целое. — О нет, дорогой мой, — сказала София. — Эти странные маленькие животные водятся лишь в отдельных прибрежных районах континента к северу от нас, но на Земле Ван-Димена обитают повсюду. Однако они очень пугливы. В окрестностях Хобарта утконосы больше не встречаются. При словах «дорогой мой» у Крозье запылали щеки. — Они очень опасны? — спросил он. София весело рассмеялась. – Самцы действительно опасны в период брачного сезона. У них есть скрытые ядовитые шпоры на задних лапах, и в период спаривания яд становится довольно сильным. – Достаточно сильным, чтобы убить человека? — спросил Крозье. Предположение, что маленькие забавные зверьки, которых он видел лишь на картинках, могут быть опасны, он высказал в шутку. — Не всякого человека, — сказала София. — Впрочем, выжившие после укола утконосовой шпорой говорят, мол, боль такая дикая, что они предпочли бы умереть. Крозье бросил взгляд на молодую женщину, ехавшую справа от него. Иногда было непонятно, когда София шутит, а когда говорит серьезно. В данном случае, казалось, она говорила правду. — А сейчас у них, часом, не брачный сезон? — спросил он. София снова улыбнулась. — Нет, дорогой Френсис. Сезон у утконосов продолжается с августа по октябрь. Мы будем в полной безопасности. Если только не встретим дьявола. — С рогами и копытами? – Нет, дорогой мой. Так называемого тасманийского дьявола. – Я о них слышал, — сказал Крозье. — Говорят, это ужасные звери с пастью размером с трюмный люк. Они считаются свирепыми, ненасытными хищниками, способными проглотить коня или тасманского тигра целиком. София кивнула с серьезным выражением лица. — Истинная правда. Тасманийский дьявол — косматое чудовище с могучей грудью, прожорливое и яростное. И он издает такие жуткие звуки — не лай, не рычание, не рев, но скорее хриплые нечленораздельные вопли и леденящий душу вой, какие могут доноситься из горящего сумасшедшего дома, — что, ручаюсь вам, ни один человек, однажды их слышавший, — даже столь отважный путешественник, как вы, Френсис Крозье, — никогда не осмелится отправиться один в здешние леса или луга ночью. – А вы слышали? — спросил Крозье, снова вглядываясь в серьезное лицо девушки в попытке понять, не морочит ли она ему голову. – О да. Неописуемые звуки, нагоняющие смертельный ужас. Они повергают жертву в оцепенение на несколько секунд, которых дьяволу достаточно, чтобы разинуть свою громадную пасть и проглотить добычу целиком. Сравниться с ними могут только душераздирающие предсмертные крики самой жертвы. Однажды я слышала, как стадо овец истошно блеяло и визжало, пока один-единственный дьявол пожирал всех по очереди, не оставляя даже копыт. – Вы шутите. Крозье по-прежнему пристально всматривался в лицо Софии, пытаясь понять, так ли это. — Я никогда не шучу, когда речь идет о дьяволе, Френсис, — сказала она. Они снова въехали под сень тропического леса. — А утконосов ваши дьяволы едят? — спросил Крозье. Он задал вопрос совершенно серьезно, но был рад, что ни Джеймс Росс, ни любой из членов его судовой команды при этом не присутствует. Вопрос звучал глупо. – Тасманийский дьявол ест все, — сказала София. — Но опять-таки, вам повезло, Френсис. Дьявол охотится по ночам, и мы — если только не заблудимся очень уж сильно — увидим Утконосов пруд и самого утконоса, перекусим и вернемся домой до наступления темноты. Но избави бог нам оказаться здесь в лесу ночью одним. – Вы боитесь дьявола? — спросил Крозье. Он хотел задать вопрос беспечным, поддразнивающим тоном, но сам услышал напряженные нотки в своем голосе. — Нет, дорогой мой, — с придыханием прошептала молодая женщина. — Я боюсь не дьявола. Я боюсь за свою репутацию. Прежде чем Крозье успел сообразить, что ответить, София весело рассмеялась, пришпорила лошадь и галопом ускакала вперед по дороге. Виски в бутылке осталось меньше чем на два полных стаканчика. Крозье вылил большую часть, поднес стаканчик к глазам и посмотрел сквозь золотистую жидкость на свет мерцающего масляного фонаря, висящего на внутренней перегородке. Потом медленно выпил. Они так и не увидели утконоса. София уверяла, что зверька практически в любое время можно увидеть здесь, в крохотном круглом пруду меньше пятидесяти ярдов в диаметре, расположенном в четверти мили от дороги, в густом лесу, и что входы в его нору находятся под корявыми корнями огромного дерева, спускающимися по крутому склону к воде, но утконоса они так и не увидели. Зато он увидел Софию Крэкрофт обнаженной. Они устроили замечательный пикник на тенистом берегу пруда, расстелив на траве дорогую скатерть, на которой разместились корзинка с едой, стаканы, судки и они сами. София приказала слугам уложить завернутые в водоотталкивающую ткань ростбифы в то, что здесь ценилось на вес золота и ничего не стоило там, откуда прибыл Крозье, — в лед, — чтобы они не испортились за время утренней поездки. В судках оказались печеный картофель и вкуснейший овощной салат. София также прихватила бутылку очень хорошего бургундского с хрустальными, украшенными гербом бокалами из сервиза сэра Джона и выпила больше, чем Крозье. После ланча они полулежали, опершись на локоть, всего в нескольких футах друг от друга и с час болтали о том о сем, постоянно поглядывая на темную гладь пруда. – Мы ждем утконоса, мисс Крэкрофт? — спросил Крозье во время короткой паузы, возникшей в разговоре об опасностях и прелестях арктического путешествия. – Нет, я думаю, он бы уже давно объявился, если бы хотел показаться нам, — сказала София. — Я жду, когда мы пойдем купаться. Крозье недоуменно уставился на нее. Она явно не взяла с собой купального костюма. У него вообще не имелось купального костюма. Ясное дело, София снова шутила, но она неизменно сохраняла такой серьезный вид, что он никогда не чувствовал стопроцентной уверенности. От этого ее проказливое чувство юмора еще сильнее восхищало Крозье. Продолжая свою щекочущую нервы шутку, она поднялась на ноги, стряхнула сухие листья с темных гаучосов и огляделась по сторонам. — Пожалуй, я разденусь вон за теми кустами и войду в воду там, с травянистого мыска. Разумеется, Френсис, вы вольны присоединиться ко мне или нет — согласно вашим представлениям о правилах приличия. Он улыбнулся, стараясь принять вид искушенного джентльмена, но улыбка получилась неуверенной. София направилась к густым кустам, не оборачиваясь. Крозье остался лежать у скатерти в прежней позе, с понимающей шутливой улыбкой на чисто выбритом лице, но, когда он увидел, как белая блузка внезапно взмывает вверх, стянутая через голову тонкими бледными руками, и повисает на ветках высокого куста, лицо у него застыло. В отличие от члена. Под бриджами и слишком коротким жилетом мужское естество Крозье в две секунды перешло из положения «вольно» в положение «вытянуться по струнке». Темные гаучосы, трусики и прочие белые, оборчатые, безымянные предметы туалета присоединились к висящей на кусте блузке несколькими секундами позже. Крозье мог только пялиться. Его непринужденная улыбка превратилась в застывшую гримасу покойника. Он чувствовал, что глаза у него вылезают из орбит, но никакими усилиями не мог отвести взгляд в сторону. София Крэкрофт вышла на солнечный свет. Абсолютно голая. Со свободно опущенными вдоль тела руками, с чуть подвернутыми ладонями. Груди у нее были небольшие, но очень высокие и очень белые, с крупными сосками, розовыми, а не коричневыми, как у всех других женщин — портовых девок, редкозубых проституток, туземок, — которых Крозье доводилось видеть голыми прежде. Да видел ли он когда-нибудь прежде по-настоящему голую женщину? Белую женщину? Тогда он подумал: нет. А если и видел, знал он, это не имело ровным счетом никакого значения. Солнечный свет отражался от ослепительно белой кожи молодой Софии. Она не пыталась прикрыться. Оцепеневший Крозье — он по-прежнему полулежал в томной позе, с бессмысленной улыбкой на лице, не в силах пошевелиться, и только член у него набух еще сильнее и болезненно ныл, — осознал, что поражен тем, какие у этой богини, этого идеала английской женщины, этой прекрасной девушки, которую он умом и сердцем уже выбрал себе в жены и в матери своих детей, густые, буйно растущие лобковые волосы, местами словно стремящиеся вырваться за пределы отведенного им черного треугольника. Непокорные — было единственным словом, пришедшим Крозье в голову, во всех прочих отношениях пустую. София также вынула шпильки из прически, распустив по плечам свои длинные волосы. — Вы идете, Френсис? — негромко спросила она, останавливаясь на травянистом мыске, таким нейтральным тоном, словно интересовалась, не желает ли он съесть еще немного салата. — Или собираетесь просто таращиться? Не сказав более ни слова, она нырнула, описав в воздухе идеальную дугу; бледные руки рассекли зеркальную гладь пруда за долю секунды до того, как вся она ушла под воду. К этому моменту Крозье уже открыл рот, словно собираясь заговорить, но способность членораздельной речи явно еще не вернулась к нему. Мгновение спустя он закрыл рот. София легко плавала взад-вперед. Он видел ее выпуклые белые ягодицы под белой сильной спиной, на которой тремя раздельными прядями лежали мокрые волосы, похожие на три длинных мазка кистью, обмакнутой в чернейшие индийские чернила. Она остановилась в дальнем конце пруда, подле огромного дерева, на которое указала сразу по прибытии сюда, и приняла вертикальное положение, свободно перебирая ногами в воде. — Нора утконоса находится под этими корнями, — крикнула она. — Похоже, он не хочет выйти поиграть сегодня. Он пугливый. Не будьте таким же, Френсис. Пожалуйста. Словно в сомнамбулическом сне, Крозье встал и пошел к самым густым кустам, какие сумел найти рядом с водой на стороне пруда, противоположной той, где находилась София. Пальцы у него дико тряслись, пока он возился с пуговицами. Он вдруг осознал, что складывает свою одежду аккуратными плотными квадратиками, каковые квадратики укладывает на траве под ногами. Он был уверен, что на раздевание у него ушел не один час. Бешено пульсирующий член оставался в напряженном состоянии. Как бы Крозье ни хотел, как бы ни старался усилием воли снять эрекцию, тот упорно продолжал стоять торчком, поднимаясь к самому пупку и упруго покачиваясь, с красной, как сигнальный фонарь, тугой головкой, вылезшей из крайней плоти. Крозье в нерешительности стоял за кустами, слыша плеск воды: София продолжала плавать. Если он промедлит еще минуту, знал он, она вылезет из пруда и скроется за своим кустом, чтобы обсохнуть, а он будет до конца своих дней проклинать себя за трусость и глупость. Глядя сквозь ветки куста, Крозье дождался момента, когда леди повернулась к нему спиной и поплыла к дальнему берегу, а потом стремительно и неловко бросился в воду — скорее упав, нежели нырнув, наплевав на всякое изящество движений, лишь бы только укрыть свой предательски торчащий член под водой, пока мисс Крэкрофт не смотрит. Когда он вынырнул, отфыркиваясь и отдуваясь, она перебирала в воде ногами в двадцати футах от него и улыбалась. — Я очень рада, что вы решили присоединиться ко мне, Френсис. Теперь, если утконос со своими ядовитыми шпорами выйдет к нам, вы сможете защитить меня. Не осмотреть ли нам вход в нору? — Она грациозно развернулась и устремилась к огромному дереву, нависавшему над прудом. Поклявшись себе держаться по меньшей мере в десяти — нет, в пятнадцати — футах от нее, как сильно осевший корабль держится поодаль от подветренного берега, Крозье поплыл за ней по-собачьи. Пруд оказался на удивление глубоким. Остановившись в двенадцати футах от Софии и принявшись неуклюже перебирать ногами в воде, чтобы удержать голову над поверхностью, Крозье осознал, что даже здесь, у самого берега, где корни огромного дерева спускались по крутому откосу в воду и высокая трава нависала над ней, отбрасывая послеполуденные тени, он не может нашарить ногами дно. Внезапно София поплыла к нему. Должно быть, девушка увидела панику в глазах Крозье, который не знал, рвануться ли ему прочь от нее или же просто каким-то образом предупредить о своем непристойно возбужденном состоянии, ибо она остановилась на полугребке — и он увидел белые груди, колышущиеся под водой, — кивком указала налево и легко поплыла к узловатым корням, сползающим с откоса. Крозье последовал за ней. Они ухватились за корни — всего футах в четырех друг от друга, но вода здесь, по счастью, была темной ниже уровня груди, — и София указала на черный провал под путаницей корявых корней, который мог быть входом в нору или просто впадиной на крутом заиленном склоне. — Это становье, или логово холостяка, не гнездовье, — сказала София. У нее были восхитительные плечи и ключицы. — Что? — спросил Крозье. Он страшно обрадовался — и слегка изумился, — что дар речи вернулся к нему, но остался весьма недоволен странным, сдавленным звучанием своего голоса и тем фактом, что зубы у него стучали. Вода была отнюдь не холодной. София улыбнулась. Прядь темных волос прилипла у нее к впалой щеке. — Утконосы роют норы двух видов, — негромко сказала она. — Такие вот — так называемые «становья», по определению отдельных натуралистов, — которыми и самец и самка пользуются все время, кроме периода случного сезона. Здесь живут холостяки. «Гнездовье» же вырывает самка специально для размножения, а когда спаривание происходит, она вырывает еще одну маленькую норку, служащую своего рода «детской». – О, — сказал Крозье, цепляясь за корень так крепко, как, бывало, цеплялся за какой-нибудь такелажный трос, находясь на высоте двухсот футов на мачте во время урагана. – Утконосы, вы знаете, откладывают яйца, — продолжала София, — как рептилии. Но самки выделяют молоко, как млекопитающие. Сквозь воду он видел темные кружки в центре белых полушарий ее грудей. – Неужели? — сказал он. – Тетя Джейн, которая, вы знаете, сама немного натуралист, считает, что свои ядовитые шипы на задних лапах самец использует не только для того, чтобы драться с другими утконосами-самцами и незваными гостями, но и для того, чтобы прицепляться к самке, когда они плавают и спариваются одновременно. Вероятно, он не выделяет яд, когда случается с самкой. – Да? — сказал Крозье и задался вопросом, не следовало ли ему сказать: «Нет?» Он понятия не имел, о чем они разговаривают. Перехватываясь руками за корни, София приблизилась к нему вплотную и положила прохладную ладонь — на удивление крупную — ему на грудь. – Мисс Крэкрофт… — начал он. – Т-ш-ш, — сказала София. — Молчите. Она перенесла левую руку на плечо Крозье и теперь повисла на нем, как недавно висела на корне. Ее правая ладонь скользнула по груди вниз, провела по животу, по правому бедру, потом снова поднялась к животу и снова спустилась ниже. – О боже, — прошептала она Крозье в ухо. Теперь она прижималась щекой к его щеке, ее мокрые волосы лезли ему в глаза. — Не ядовитый ли шип я обнаружила здесь? – Мисс Крэ… — снова начал он. Она сжала ладонь. Она грациозно приподнялась в воде, внезапно зажав между своими сильными ногами его левое бедро, а затем опустилась на него всей своей теплой тяжестью и начала об него тереться. Крозье немного приподнял левую ногу, чтобы лицо Софии оставалось над водой. Глаза у нее были закрыты. Ее ягодицы плотно прижимались к его бедру, а груди — к его груди; правой рукой она принялась ласкать напряженный член. Крозье застонал, но то был лишь предупреждающий стон, не стон сладостного облегчения. София протяжно, шумно выдохнула, уткнувшись лицом ему в шею. Он чувствовал жар и влагу ее промежности на своем бедре. «Как может быть что-нибудь мокрее воды?» — подумал он. Потом она застонала в голос; Крозье тоже закрыл глаза — жалея, что не может видеть Софию, но не имея выбора, — а она еще крепче прижалась к нему, двигаясь вверх-вниз частыми резкими толчками, и заработала рукой быстрее — настойчиво, умело и требовательно. Крозье зарылся лицом в ее мокрые волосы, когда выбрасывал семя в воду, содрогаясь всем телом. Он думал, пульсирующее семяизвержение никогда не кончится,и он немедленно извинился бы перед Софией, если бы мог говорить. Вместо этого он снова застонал и едва не отпустил корень, за который держался. Они оба на несколько мгновений погрузились в воду выше подбородка, пуская пузыри. Что больше всего поразило Френсиса Крозье тогда (а тогда все на свете изумляло его и ничто на свете не волновало), так это тот факт, что леди столь энергично двигала тазом, столь сильно сдавливала бедрами его ногу, столь плотно прижималась щекой к его лицу, столь крепко зажмуривала глаза и столь громко стонала. Ведь женщины не могут испытывать такое же острое наслаждение, как мужчины? Да, некоторые портовые девки стонали, но, несомненно, потому лишь, что знали, что мужчинам это нравится, — они, ясное дело, ничего не чувствовали. И все же… София немного отстранилась, заглянула Крозье в глаза, непринужденно улыбнулась, поцеловала в губы долгим влажным поцелуем, а потом подтянула колени к груди, резко оттолкнулась ногами от корней и поплыла к берегу, где ее одежда покоилась на чуть колеблемом легким ветерком кусте. Невероятно, но они оделись, собрали и упаковали вещи, навьючили на мула корзины, сели на лошадей и доехали до резиденции губернатора, не проронив по дороге ни слова. Невероятно, но вечером во время обеда София Крэкрофт весело смеялась и болтала со своей тетушкой, сэром Джоном и даже с капитаном Джеймсом Кларком Россом, против обыкновения словоохотливым, тогда как Крозье почти весь обед просидел молча, уставившись в стол. Он мог только восхищаться ее… как там выражаются «лягушатники»?.. ее «порывом страсти», ибо ум и душа самого Крозье, казалось, находились в точно таком состоянии, в каком пребывало его тело в момент бесконечно долгого оргазма в Утконосовом пруду: словно распались на атомы и рассеялись по всем уголкам вселенной. И все же мисс Крэкрофт держалась с ним без малейшего намека на холодность или укоризну. Она приветливо улыбалась Крозье, обращалась к нему с разными замечаниями и пыталась вовлечь в разговор, как делала каждый вечер в губернаторском доме. И безусловно, ее улыбка была чуть теплее обычного? Чуть нежнее? Даже чувственнее? Должно быть, так. Когда Крозье после обеда предложил Софии прогуляться по саду, она с извинениями отказалась, сославшись на уже данное обещание составить партию в карты капитану Джеймсу Россу в главной гостиной, — и не желает ли командор Крозье присоединиться к ним? Нет, командор Крозье, в свою очередь, с извинениями отказался от такого предложения, поняв по теплым и непринужденным ноткам, подспудно звучавшим в неизменно теплом и непринужденном голосе Софии, что сегодня вечером — и вплоть до момента, когда они встретятся наедине, чтобы обсудить свое совместное будущее, — в резиденции губернатора все должно идти обычным порядком. Командор Крозье громко объявил, что у него слегка побаливает голова и что он прощается с ними до завтрашнего утра. Он проснулся, оделся в свою лучшую форму и принялся мерить шагами залы особняка еще до рассвета следующего дня, в полной уверенности, что Софии точно так же не терпится встретиться с ним пораньше. Он ошибался. Первым к завтраку вышел сэр Джон, который завязал бесконечную, невыносимо скучную беседу о разных пустяках с Крозье, никогда не владевшим пресным искусством пустой болтовни и уж тем более не способным поддерживать разговор о расценках, какие надлежит установить за сдачу заключенных внаем для рытья каналов. Следующей спустилась вниз леди Джейн, и даже Росс вышел к завтраку прежде, чем наконец соизволила появиться София. К этому моменту Крозье пил уже шестую чашку кофе (он научился отдавать предпочтение кофе перед чаем во время зимовок с Парри в северных льдах много лет назад), но он оставался за столом, покуда молодая леди управлялась со своими традиционными яйцами, колбасой, бобами, тостами и чаем. Сэр Джон куда-то исчез. Леди Джейн испарилась за ним следом. Капитан Росс удалился неспешной походкой. София наконец закончила свой завтрак. — Не желаете ли прогуляться по саду? — спросил Крозье. – Так рано? — сказала она. — Сейчас уже солнце припекает вовсю. Нынче очень жаркая осень. – Но… — начал Крозье, пытаясь выразить взглядом всю настойчивость своего приглашения. София улыбнулась. — Я с великим удовольствием прогуляюсь с вами по саду, Френсис. Они медленно прохаживались взад-вперед по мощеной дорожке томительно долгое время, ожидая, когда единственный садовник из заключенных закончит сгружать с подводы тяжелые мешки с удобрением. Когда наконец садовник ушел, Крозье повел Софию против ветра, к каменной скамье в дальнем и самом тенистом углу английского сада. Он помог ей усесться поудобнее и подождал, когда она раскроет свой зонтик. София подняла на него взгляд — Крозье был слишком взволнован, чтобы сидеть, и стоял над ней, нервно переминаясь с ноги на ногу, — и ему показалось, что она смотрит на него выжидательно. Наконец он совладал с собой настолько, чтобы опуститься на одно колено. – Мисс Крэкрофт, я прекрасно сознаю, что я простой командор военно-морского флота и что вы достойны внимания адмирала… нет, принца крови, повелевающего адмиралу… но вы должны знать — и я знаю, что вы знаете, — сколь сильные чувства я питаю к вам, и коли вы находите в душе своей ответные чувства. – О господи, Френсис, — прервала его София, — надеюсь, вы не собираетесь сделать мне предложение? Крозье не знал, что ответить. Стоя на одном колене, со стиснутыми, словно в молитве, руками, он ждал. София похлопала его по плечу: — Командор Крозье, вы замечательный человек. Истинный джентльмен, несмотря на все шероховатости, сгладить которые вряд ли когда-нибудь удастся. И вы человек умный — и как таковой, прекрасно понимаете, что я никогда не стану женой командора. Такой брак меня не устраивает. Такой брак решительно… неприемлем. Крозье попытался заговорить. Никакие слова не шли на ум. Часть его мозга, все еще работавшая, силилась закончить бесконечную фразу, содержавшую предложение о браке, которую он сочинял всю бессонную ночь. Он уже преодолел почти треть фразы, худо-бедно. София тихо рассмеялась и покачала головой. Она стрельнула глазами по сторонам, чтобы убедиться, что в пределах видимости и слышимости нет никого, даже какого-нибудь заключенного. — Пожалуйста, не беспокойтесь по поводу вчерашнего, командор Крозье. Мы провели чудесный день. Интерлюдия в пруду доставила удовольствие нам обоим. Это было естественное проявление моей… природы, а равно следствие взаимного чувства близости, которое мы испытывали те несколько минут. Но пожалуйста, дорогой Френсис, не впадайте в заблуждение, будто из-за нашей легкомысленной шалости вы обязаны или вынуждены предпринять какие-то шаги в моих интересах. Он смотрел на нее. София улыбнулась, но не так тепло, как прежде. — Не воображайте, — сказала она так тихо, что слова прозвучали в горячем воздухе лишь немногим громче настойчивого шепота, — будто вы скомпрометировали мою девичью честь, командор. — Мисс Крэкрофт… — снова начал Крозье и осекся. Если бы его корабль несло к подветренному берегу, с вышедшими из строя помпами и четырьмя футами воды в трюме, со спутанными снастями и изодранными в клочья парусами, он бы знал, какие приказы отдать. Знал бы, что сказать. В данный момент никакие слова не шли на ум. Он чувствовал лишь нарастающие в душе боль и удивление, которые язвили тем сильнее, что казались давно знакомыми и понятными. — Если бы я решила выйти замуж, — продолжала София, снова раскрывая зонтик и крутя его над головой, — я бы выбрала нашего удалого капитана Росса. Хотя быть женой простого капитана — тоже не мой удел. Сначала он должен получить звание рыцаря — впрочем, я уверена, это скоро случится. Крозье напряженно смотрел Софии в глаза, силясь уловить в них хоть слабейший намек на шутливость. – Капитан Росс помолвлен, — наконец проговорил он. Голос у него звучал хрипло, как у человека, проведшего много дней без воды на необитаемом берегу. — Они собираются пожениться сразу по возвращении Джеймса в Англию. – О, ерунда, — сказала София, вставая и снова крутя зонтик над головой. — Я тоже вернусь в Англию быстроходным пакетботом в ближайшем времени, еще до отзыва дяди Джона. Капитан Джеймс Кларк Росс видится со мной не в последний раз. Она посмотрела сверху вниз на Крозье, по-прежнему стоявшего перед ней в нелепой позе: преклонив колено на белом гравии. — Кроме того, — весело сказала она, — даже если капитан Росс женится на молодой претендентке, ждущей его на родине — а мы с ним часто разговаривали о ней, и могу вас заверить, она глупа, — брак не есть нечто необратимое и непоправимое. Это не гамлетовский «безвестный край, откуда нет возврата». Многие мужчины благополучно возвращались из брака и находили женщину, созданную для них. Помяните мое слово, Френсис. Тогда он наконец встал. Он встал и отряхнул белый песок со своих лучших парадных форменных брюк. — Мне пора идти, — сказала София. — Тетя Джейн, капитан Росс и я сегодня утром едем в Хобарт, чтобы посмотреть новых племенных жеребцов, на днях ввезенных компанией «Ван-Димен». Вы вольны поехать с нами, коли желаете, Френсис, только, бога ради, прежде перемените платье и выражение лица. Она легко дотронулась до руки Крозье и направилась обратно в дом, на ходу крутя зонтик над головой. Крозье услышал приглушенные удары судового колокола наверху, пробившего восемь склянок. Четыре часа утра. В обычных обстоятельствах, то есть во время плавания, матросы сейчас поднялись бы с постелей и уже через полчаса принялись бы драить палубы и начищать все, что только можно. Но здесь, в царстве льда и темноты, а также ветра (Крозье слышал, как он продолжает завывать в снастях, предвещая очередную пургу, а ведь сейчас только десятое ноября их третьей зимы во льдах), людям позволялось спать допоздна, бездельничать, покуда не пробьют четыре склянки утренней вахты. То есть до шести утра. Потом холодный корабль оживет: по нему разнесутся громкие крики старшин и послышится глухой стук ног в мокасинах о палубу, когда матросы начнут поспешно выпрыгивать из гамаков, пока старшины не выполнили свои угрозы срезать с крюков все гамаки, в которых еще находятся люди. По сравнению с напряженным графиком работы во время плавания это был праздный рай. Людям разрешалось не только спать допоздна, но и завтракать здесь, на жилой палубе, прежде чем приступить к выполнению своих утренних обязанностей. Крозье посмотрел на бутылку и стакан. Оба были пустыми. Он взял со стола тяжелый пистолет — дополнительно отягощенный полным зарядом пороха и пулей. Рука чувствовала разницу в весе. Потом он засунул пистолет в карман своего капитанского кителя, снял китель и повесил на крюк в переборке. Крозье тщательно протер стакан изнутри чистой тряпицей, которую Джопсон оставлял каждый вечер для этой цели, и убрал в выдвижной ящик стола. Затем он аккуратно поставил пустую бутылку в корзинку с крышкой, которую Джопсон оставлял у задвижной двери именно для этой цели. К тому времени, когда Крозье, выполнив свои служебные обязанности, вернется сюда на исходе темного дня, в корзинке будет стоять полная бутылка. На мгновение он задумался, не стоит ли одеться потеплее и подняться на палубу — сменить мокасины из оленьей кожи на настоящие башмаки, надеть шерстяной шарф, шапку, свитера и всю верхнюю одежду, чтобы выйти в ветреную ночь и подождать, когда люди встанут, а потом спуститься к завтраку с офицерами и провести целый день без сна. Он часто делал так по утрам. Но только не сегодня. Сегодня он валился с ног от усталости. И было слишком холодно, чтобы оставаться здесь хотя бы еще минуту всего в четырех шерстяных и хлопчатобумажных фуфайках. Четыре утра, знал Крозье, это самый холодный час ночи — и час, когда почти все тяжелобольные и тяжелораненые испускают дух и уносятся в тот самый поистине «безвестный край». Крозье забрался под одеяла и уткнулся лицом в ледяной волосяной тюфяк. Пройдет пятнадцать или более минут, прежде чем тепло его тела начнет нагревать постель. Если повезет, он уснет раньше. Если повезет, он урвет почти два часа пьяного сна, прежде чем начнется следующий день в царстве тьмы и холода. Если повезет, подумал Крозье, уже погружаясь в забытье, он вообще не проснется.
17. Ирвинг
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 13 ноября 1847 г.Безмолвная пропала, и именно третьему лейтенанту Джону Ирвингу вменялось в обязанность отыскать ее. Капитан не отдавал такого приказа… строго говоря. Но капитан Крозье действительно велел Ирвингу присматривать за эскимоской, когда капитаны решили оставить ее на борту «Террора» шесть месяцев назад, в июне, и капитан Крозье никогда не отменял того своего приказа, а потому Ирвинг чувствовал ответственность за нее. Помимо всего прочего, молодой человек был в нее влюблен. Он понимал, что глупо — и даже ненормально — влюбляться в аборигенку, причем некрещеную, и к тому же в аборигенку необразованную, неспособную произнести ни слова на английском языке да на любом другом, коли на то пошло, по причине отсутствия у нее языка как такового, но Ирвинг все равно влюбился в эскимоску. При виде девушки у высокого, сильного Джона Ирвинга почему-то подкашивались ноги. А теперь она пропала. Они впервые заметили, что женщины нет в отведенном ей спальном месте — маленьком закутке между ящиками и бочками в загроможденной носовой части жилой палубы, прямо перед лазаретом — в четверг, двумя днями ранее, но люди привыкли к странным исчезновениям и появлениям леди Безмолвной. Она отсутствовала на корабле столько же времени, сколько присутствовала, даже по ночам. В четверг одиннадцатого ноября, во второй половине дня, Ирвинг доложил капитану Крозье, что Безмолвная пропала, но капитан сказал, что видел ее на льду позапрошлой ночью, когда ходил на «Эребус». Капитан сказал не беспокоиться: она объявится. Но она не объявилась. Утром в четверг разыгралась снежная буря. Рабочие бригады, при свете фонарей восстанавливавшие ориентиры на тропе между «Эребусом» и «Террором» — четырехфутовые пирамиды из ледяных блоков, расположенные через каждые тридцать футов, — были вынуждены вернуться на корабли после полудня и с тех пор так и не выходили на лед. Последний посыльный с «Эребуса», прибывший в четверг вечером и вынужденный остаться на «Терроре» из-за сильной метели, заявил, что на борту корабля командора Фицджеймса Безмолвной нет. К утру субботы тринадцатого ноября вахтенные на палубе сменялись каждый час, и все равно люди спускались вниз в обледенелой одежде, трясясь от холода. Каждые три часа приходилось посылать рабочие бригады наверх, скалывать топорами лед с оставшихся реев и такелажных тросов, чтобы корабль не перевернулся под тяжестью ледяных наростов. Кроме того, падающий с мачт лед представлял опасность для вахтенных и повреждал палубный настил. Другие бригады расчищали лопатами обледенелую палубу накренившегося на нос «Террора» от снега, пока на ней не выросли такие сугробы, что будет невозможно открыть люки. Когда в субботу вечером, после ужина, лейтенант Ирвинг снова доложил капитану Крозье, что Безмолвная так и не нашлась, капитан сказал: — Если снежная буря застигла ее во льдах, она не вернется, Джон. Но вы получаете разрешение обыскать весь корабль сегодня ночью, когда большинство людей ляжет спать, — пусть для того лишь, чтобы убедиться, что она действительно пропала. Хотя дежурство Ирвинга закончилось много часов назад, лейтенант опять оделся потеплее, зажег масляный фонарь и снова поднялся по трапу на верхнюю палубу. Погодные условия не улучшились. Коли на то пошло, они даже ухудшились с момента, когда Ирвинг спустился к ужину пятью часами ранее. Яростно завывал северо-западный вьюжный ветер, ограничивавший видимость до десяти футов и меньше. Все вокруг обросло ледяным панцирем, хотя где-то перед установленным над люком парусиновым шатром, сильно провисшим под тяжестью снега, трудилась команда из пяти человек, скалывающая топорами лед. Ирвинг пробрался через наметенный под парусину свежий сугроб в фут высотой и поднял пляшущий на ветру фонарь, высматривая человека, который не размахивал бы топором в темноте. Сейчас обязанности вахтенного офицера выполнял Рубен Мейл, баковый старшина, и Ирвинг отыскал его, направившись на слабый свет фонаря у левого борта. Мейл представлял собой занесенную снегом бесформенную груду шерсти. Даже его лицо скрывалось под самодельным капюшоном, обмотанным несколькими толстыми шерстяными шарфами. Дробовик, зажатый у него под мышкой, покрылся ледяной коркой. Обоим мужчинам приходилось кричать, чтобы перекрыть шум ветра. — Видели что-нибудь, мистер Мейл? — прокричал лейтенант Ирвинг, наклоняясь к огромному шерстяному тюрбану, намотанному на голову бакового старшины. Мужчина пониже ростом немного оттянул вниз шарф с лица. Нос у него был белый, как сосулька. — Вы насчет ребят, что скалывают лед, сэр? Они скрылись с глаз, как только поднялись выше нижних реев. Я просто слушаю, сэр, пока заменяю на посту у левого борта молодого Киннэрда. Он работал на уборке снега во время третьей вахты, сэр, и до сих пор еще не оттаял. — Нет, я имею в виду — на льду! — прокричал Ирвинг. Мейл рассмеялся. Смех прозвучал глухо. — Никто из нас вот уже двое суток не видел ничего дальше чем на пять шагов, лейтенант. Вы сами знаете, сэр. Вы же дежурили на палубе сегодня вечером. Ирвинг кивнул и затянул потуже свой шарф, прикрывавший лоб и нижнюю часть лица. – Никто не видел Безмолвную… леди Безмолвную? – Что, сэр? — Мистер Мейл подался ближе к нему. – Леди Безмолвную? — проорал Ирвинг. — Нет, сэр. Насколько я понимаю, никто уже несколько дней не видел эскимоску. По всей видимости, она отдала концы, лейтенант. Замерзла где-нибудь там на льду — и слава богу, скажу я вам. Ирвинг кивнул, похлопал Мейла по объемистому плечу рукой в объемистой рукавице и направился к корме — обходя стороной грот-мачту, где сверху из снежной мглы падали один за другим здоровенные куски льда и с оглушительным грохотом рушились на палубу, точно артиллерийские снаряды, — чтобы поговорить с Джоном Бейтсом, стоявшим на посту у правого борта. Бейтс ничего не видел. Со своего места он даже не мог рассмотреть пятерых матросов с топорами, когда они только приступали к работе. – Прошу прощения, сэр, но у меня нет часов, и, боюсь, я не услышу колокола за всем этим стуком топоров, треском льда и воем ветра, сэр. Долго еще до конца вахты? – Вы услышите колокол, когда мистер Мейл пробьет в него, — прокричал Ирвинг, наклоняясь поближе к обледенелому шерстяному шару, бывшему головой двадцатишестилетнего мужчины. — И он придет проверить вас, прежде чем спуститься вниз. Продолжайте нести вахту, Бейтс. — Есть, сэр. Ветер пытался сбить Ирвинга с ног, пока он двигался вокруг парусинового навеса и дожидался минутного перерыва в низвержении льда сверху — слыша брань и крики мужчин на мачте среди глухо гудящих на ветру снастей. Затем лейтенант по возможности быстрее пробрался через вновь наметенный двухфутовый сугроб на палубе, нырнул под обледенелую парусину и спустился по трапу вниз. Разумеется, он уже множество раз обыскивал нижние палубы — особенно носовую часть перед лазаретом, загроможденную ящиками и бочонками, среди которых раньше находилось крохотное логово женщины, — но теперь Ирвинг направился к корме. В столь поздний час на корабле царила тишина, нарушаемая лишь тяжелыми ударами сколотого льда о палубу, храпом измученных матросов в подвесных койках, обычным звоном противней и проклятьями мистера Диггла у плиты, воем ветра да зловещим треском льда снаружи. Ирвинг ощупью пробирался по узкому темному коридору. Ни одна офицерская спальная каюта здесь, за исключением каюты мистера Мейла, сейчас не пустовала. В этом отношении «Террору» повезло. В то время как «Эребус» потерял нескольких офицеров, убитых чудовищным зверем, в том числе сэра Джона и лейтенанта Гора, ни один из старших офицеров и мичманов на «Терроре» еще не умер, если не считать молодого Джона Торрингтона, старшего кочегара, скончавшегося от естественных причин полтора года назад у острова Бичи. В кают-компании никого не было. В последнее время она редко прогревалась настолько, чтобы надолго задерживаться здесь, и даже книги в кожаных переплетах казались холодными на своих полках; деревянная музыкальная шкатулка, проигрывавшая металлические диски, давно молчала. Ирвинг заметил, что в каюте капитана Крозье все еще горит фонарь, когда проходил мимо, направляясь в пустые офицерские и старшинские столовые, а потом возвращался обратно к трапу. На средней палубе было, как всегда, очень холодно и очень темно. Поскольку люди все реже спускались сюда за продуктами, так как дневной рацион сильно урезали, когда врачи обнаружили множество испорченных консервных банок, и поскольку за углем тоже спускались все реже, так как запасы оного подходили к концу и корабль отапливался все реже, Ирвинг оказался один-одинешенек в выстуженном, погруженном во мрак пространстве. Черные деревянные шпангоуты и бимсы, покрытые инеем металлические крепежные скобы скрипели и стонали вокруг него, пока он пробирался сначала к носовой части, потом к корме. Густая тьма, казалось, поглощала свет фонаря, и Ирвинг с трудом различал слабое мерцание огня сквозь пелену ледяных кристаллов, в которые обращался пар от дыхания. Нигде в носовом отсеке леди Безмолвной не оказалось: ни в кладовой плотника, ни в кладовой старшего боцмана, ни в почти пустой мучной кладовой. В средней своей части нижняя палуба, в начале плавания «Террора» загроможденная до самого подволока ящиками, бочонками, тюками и прочими коробами с провиантом, теперь опустела. Леди Безмолвной не было и здесь. Лейтенант Ирвинг зашел в винную кладовую, отомкнув замок ключом, взятым на время у капитана Крозье. Там еще оставались бутылки с бренди и вином, как он увидел при слабом свете гаснущего фонаря, но он знал, что уровень рома в огромной главной бочке уже низок. Когда ром кончается, когда люди перестают получать свою обычную дневную порцию грога, тогда — знал лейтенант Ирвинг, как знали все офицеры военно-морского флота Британии, — вероятность мятежа значительно возрастает. Мистер Хелпмен, секретарь капитана, и мистер Годдард, трюмный старшина, недавно доложили, что, по их расчетам, запасов рома хватит еще примерно на шесть недель, но только при условии, если порцию в четверть пинты рома на три четверти воды урезать вдвое. Даже в таком случае люди возропщут. Ирвинг не думал, что леди Безмолвная могла проникнуть в винную кладовую, несмотря на все слухи о колдовских способностях эскимоски, но все же тщательно обследовал помещение, заглядывая под столы и стойки. Ряды абордажных сабель, клинковых штыков и мушкетов в козлах над головой тускло блестели в свете фонаря. Он зашел в пороховую камеру, где хранились оставшиеся запасы пороха, заглянул в личную кладовую капитана — здесь на полках оставались лишь последние бутылки виски, а все продукты за несколько минувших недель были распределены между офицерами, — а потом обыскал парусную кладовую, баталерку, кормовые канатные ящики и кладовую помощника капитана. Будь лейтенант Ирвинг на месте эскимоски, пытающейся спрятаться на борту корабля, он бы, наверное, выбрал парусную кладовую, с почти нетронутыми грудами и рулонами запасной парусины, парусов и давно не использовавшихся снастей. Но женщины там не было. Ирвинг вздрогнул в баталерке, когда его фонарь высветил высокую неподвижную фигуру в дальнем конце помещения, смутно вырисовывавшуюся на фоне темной перегородки, но это оказались лишь несколько висящих на крючке шерстяных шинелей и «уэльский парик». Заперев за собой дверь, лейтенант спустился по трапу в трюм. Третий лейтенант Джон Ирвинг, хотя и выглядевший моложе своих лет со своим мальчишеским, легко краснеющим лицом и белокурыми волосами, влюбился в эскимоску отнюдь не потому, что был жаждущим любви девственником. На самом деле Ирвинг имел больше опыта общения с прекрасным полом, чем многие хвастуны на корабле, рассказывавшие истории о своих бесчисленных любовных победах. Родной дядя привез Ирвинга в Бристольский порт, когда тому стукнуло четырнадцать, познакомил с опрятной и симпатичной портовой проституткой по имени Мол и заплатил за первый сексуальный опыт племянника — не торопливое совокупление в темном переулке, а целые вечер, ночь и утро в чистой комнате под крышей старой гостиницы с выходившими на набережную окнами. Не меньше везло Ирвингу и с дамами в приличном обществе. Он ухаживал за младшей дочерью влиятельнейшего бристольского семейства Дануитт-Харрисонсов, и эта девушка, Эмили, позволяла — и даже поощряла — такие интимные вольности, за право допускать которые почти любой молодой мужчина продал бы свое левое яйцо. Вернувшись в Лондон, чтобы закончить свое образование морского офицера-артиллериста на учебном судне «Экселлент», Ирвинг проводил выходные, наслаждаясь обществом нескольких привлекательных молодых леди из высшего света, включая любезную мисс Сару, застенчивую, но совершенно удивительную мисс Линду и ошеломляюще страстную и необузданную — наедине с ним — мисс Абигейл Элизабет Линдстром Хайд-Берри, с которой румяный третий лейтенант, неожиданно для себя, вскоре оказался помолвленным. Джон Ирвинг не имел намерения жениться. По крайней мере до тридцати лет — отец и дядя внушили ему, что в молодости он должен повидать мир и перебеситься, — а по всей вероятности, до сорока. Он не видел особой причины жениться и после сорока. Посему, хотя Ирвинг никогда не помышлял о Службе географических исследований (он с детства не любил холодную погоду, и мысль о зимовке во льдах на любом из полюсов казалась ему одновременно нелепой и ужасной), через неделю после того, как он осознал факт своей помолвки, третий лейтенант последовал совету своих старших товарищей, Джорджа Ходжсона и Фреда Хорнби, и условился о встрече с капитаном «Террора» с намерением просить о переводе на означенный корабль. Капитан Крозье, явно пребывавший в дурном расположении духа и мучившийся похмельем в то прекрасное весеннее субботнее утро, сердито хмурился, скептически хмыкал, подробно допрашивал молодых людей — презрительно посмеялся над военной подготовкой, которую они проходили на паровом судне, и осведомился, какой от них будет толк на экспедиционном парусном судне, имеющем на борту весьма незначительное количество оружия, — а затем язвительно спросил, готовы ли они «выполнять свой долг перед родиной, как подобает англичанам» (о каком таком долге может идти речь, подумал тогда Ирвинг, если упомянутые англичане сидят на затертом льдами корабле в тысяче миль от родины?), и тут же предоставил всем должность. Мисс Абигейл Элизабет Линдстром Хайд-Берри, разумеется, страшно огорчило и потрясло известие, что их помолвка затянется на многие месяцы или даже годы, но лейтенант Ирвинг сначала утешил девушку заверениями, что дополнительные деньги, полученные от Службы географических исследований, будут им совершенно необходимы, а затем объяснил свой поступок стремлением снискать почет и славу, а равно пережить приключения, которые, вполне возможно, побудят его написать по возвращении из путешествия книгу. Семья невесты поняла Ирвинга, даже если мисс Абигейл — нет. Потом, когда они остались наедине, он унял слезы и гнев девушки объятиями, поцелуями и искусными ласками. В процессе утешения он зашел весьма и весьма далеко (лейтенант Ирвинг знал, что сейчас, два с половиной года спустя, он вполне может являться отцом) и через несколько недель без сожаления помахал на прощание рукой мисс Абигейл, которая стояла на причале в Гринхайте в своем розово-зеленом шелковом платье под розовым зонтиком и махала такого же цвета шелковым платочком, пока «Террор» отдавал швартовы и выходил из гавани, влекомый двумя паровыми буксирами, а для того, чтобы вытирать обильные слезы, расстроенная молодая леди использовала другой, не такой дорогой хлопчатобумажный платок. Ирвинг знал, что сэр Джон намерен сделать остановку и в России, и в Китае по завершении плавания через Северо-Западный морской проход, и молодой лейтенант уже принял решение после экспедиции перевестись на какой-нибудь британский корабль, приписанный к тамошним водам — а возможно, даже уйти в отставку, написать книгу о своих приключениях и занять должность управляющего в дядиной шанхайской компании, торгующей шелком и галантереей. В трюме было еще темнее и холоднее, чем на средней палубе. Ирвинг ненавидел трюм, ибо тот еще сильнее, чем ледяная постель или тускло освещенная, выстуженная нижняя палуба, напоминал ему могилу. Он спускался сюда только в случае необходимости — главным образом, чтобы проследить за переноской завернутых в парусину трупов — или частей трупов — в запертую мертвецкую. И каждый раз он задавался вопросом, не придется ли в скором времени кому-нибудь следить за переноской его собственного трупа сюда. Он поднял фонарь и направился к корме сквозь сырой спертый воздух. На первый взгляд котельная казалась пустой, но потом лейтенант Ирвинг увидел тело на койке возле переборки у правого борта. Помещение освещалось еле-еле — не фонарем, а лишь слабым красным мерцанием углей за решеткой одной из четырех закрытых заслонок топки, — и в тусклом, красном, неверном свете длинное тело, вытянувшееся на койке, казалось мертвым. Открытые глаза мужчины смотрели в низкий потолок не мигая. И он не повернул головы, когда Ирвинг вошел и повесил свой фонарь на крюк над ящиком с углем. — Что привело вас сюда, лейтенант? — спросил Джеймс Томпсон, по-прежнему не поворачивая головы и не мигая. В прошлом месяце инженер перестал бриться, и его худое бледное лицо заросло неряшливой щетиной. Глаза у него глубоко ввалились. Спутанные волосы слиплись от сажи и пота. Когда пламя в топке заглушалось, даже здесь, в котельной, температура воздуха опускалась почти до нуля, но Томпсон лежал в одних штанах с подтяжками и нижней рубахе. — Я ищу Безмолвную, — сказал Ирвинг. Мужчина продолжал смотреть немигающим взглядом в потолок. – Леди Безмолвную, — пояснил молодой лейтенант. – Эскимосскую ведьму, — уточнил инженер. Ирвинг откашлялся. В воздухе здесь висела столь густая угольная пыль, что дышать было трудно. — Вы видели ее, мистер Томпсон? Или, может, слышали какие-нибудь необычные звуки? Томпсон, который по-прежнему ни разу не моргнул и не повернул головы, тихо рассмеялся. Смех звучал жутковато — дребезжание мелких камешков в кувшине — и закончился кашлем. — Прислушайтесь, — сказал инженер. Ирвинг повернул голову. Он слышал лишь привычные звуки, хотя и раздававшиеся громче здесь, в темном трюме: протяжные стоны сдавливающего корабль льда; громкий треск железных цистерн и металлических конструкций с одной и другой стороны от котельной; отдаленный вой ветра высоко над головой; тяжелые удары падающих кусков льда, порождающие вибрацию в шпангоутах; глухой скрип мачт, сотрясаемых в своих гнездах, и резкий скрип обшивки корпуса; неумолчное шипение, свист и гудение парового котла и труб отопительной системы. — Кто-то или что-то еще дышит здесь, в трюме, — продолжал Томпсон. — Вы слышите? Ирвинг напряг слух, но не услышал никакого дыхания, хотя котел издавал звуки, похожие на тяжелое частое дыхание некоего огромного существа. — Где Смит и Джонсон? — спросил лейтенант. Это были два кочегара, круглосуточно работавшие здесь с Томпсоном. Инженер равнодушно пожал плечами. — Поскольку последнее время в топку идет очень мало угля, они нужны мне лишь на несколько часов в день. Большую часть времени я провожу здесь один, ползая среди труб и клапанов, лейтенант. Регулируя. Заменяя детали. Пытаясь поддерживать эту… штуковину… в рабочем состоянии, позволяющем прогонять горячую воду через трубы жилой палубы по несколько часов в день. Через два — самое большее три — месяца необходимость в этом отпадет. У нас уже нет угля, чтобы идти под паром. Скоро у нас не останется угля на обогрев корабля. Ирвинг слышал такие разговоры в офицерской столовой, но сейчас не испытывал интереса к теме. Три месяца казались целой вечностью. В данный момент он хотел убедиться, что Безмолвной на борту нет, и доложить о результатах своих поисков капитану. Потом он попытается отыскать женщину за пределами «Террора». Потом он постарается прожить — остаться в живых — еще три месяца. И только потом обеспокоится по поводу нехватки угля. — До вас доходили слухи, лейтенант? — спросил инженер. Он по-прежнему лежал на койке совершенно неподвижно: ни разу не моргнул глазами и не повернул головы, чтобы посмотреть на Ирвинга. — Нет, мистер Томпсон. Какие слухи? – Что это… существо, этот призрак, этот дьявол… приходит на корабль, когда пожелает, и бродит по трюмной палубе поздно ночью, — сказал Томпсон. – Нет, — сказал лейтенант Ирвинг. — Я ничего подобного не слышал. – Останьтесь здесь один на достаточно долгое время, — сказал мужчина на койке, — и вы все услышите и увидите. – Спокойной ночи, мистер Томпсон. — Ирвинг снял с крюка свой шипящий, потрескивающий фонарь, вышел в коридор и двинулся в сторону носа. В трюме оставалось обыскать еще несколько мест, и Ирвинг твердо намеревался управиться с делом поскорее. Мертвецкая была заперта; лейтенант не попросил у капитана ключ и потому, проверив тяжелый висячий замок, прошел дальше. Он не испытывал желания увидеть источник царапающих и чавкающих звуков, доносившихся из-за толстой дубовой двери. Двадцать огромных железных цистерн, выстроенных вдоль стенки корпуса, исключали всякую возможность спрятаться здесь, и потому Ирвинг зашел в угольные бункеры, где его фонарь еле светил в спертом, насыщенном черной угольной пылью воздухе. Оставшиеся мешки с углем, некогда заполнявшие все бункеры от палубного настила до бимсов над головой, теперь просто лежали в несколько рядов по периметру каждого помещения. Лейтенант не верил, что леди Безмолвная устроила себе новое укрытие в одной из этих темных, зловонных, чумных дыр — трюмную палубу заливало нечистотами, и здесь повсюду шмыгали крысы, — но он должен был проверить. Закончив осматривать угольные бункеры и кладовые в средней части судна, лейтенант Ирвинг направился в заставленный оставшимися упаковочными клетями и бочонками форпик, расположенный прямо под спальной зоной матросов и огромной плитой мистера Диггла двумя палубами выше. Трап поуже спускался через среднюю палубу к носовому отсеку трюма, и тонны строительного леса свисали здесь с толстых бимсов, превращая пространство в подобие затейливого лабиринта и вынуждая лейтенанта передвигаться на полусогнутых ногах, но теперь тут осталось гораздо меньше упаковочных клетей, бочонков и ящиков, чем было два с половиной года назад. Но вот крыс стало больше. Значительно больше. Поискав между упаковочными клетями, заглянув в несколько самых поместительных ларей и убедившись, что стоящие в грязной вонючей воде бочки либо пусты, либо плотно закрыты, Ирвинг едва успел обогнуть вертикальный передний трап, когда увидел расплывчатое белое пятно, мелькнувшее сразу за пределами тусклого круга фонарного света, и услышал шорох лихорадочного движения. Там находилось некое крупное живое существо, причем явно не женщина. У Ирвинга не было с собой оружия. В первый момент у него мелькнула мысль бросить фонарь и опрометью пуститься обратно к главному трапу. Разумеется, он этого не сделал, и мысль о бегстве испарилась, еще не успев толком сформироваться. Он шагнул вперед и крикнул более громко и повелительно, чем сам мог ожидать: — Кто там? Назовитесь! Потом он увидел их в свете фонаря. Здоровенный идиот, Магнус Мэнсон, самый рослый мужчина на судне, торопливо натягивал штаны, неловко возясь с пуговицами толстыми грязными пальцами. В нескольких футах от него Корнелиус Хикки, помощник конопатчика, мозглявый парень пяти футов ростом, с крысиным личиком и глазками-бусинками, накидывал обратно на плечи спущенные подтяжки. У Джона Ирвинга отвалилась челюсть. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять смысл явившейся взору картины: содомиты. Он слышал о подобных вещах, шутил со своими товарищами по поводу подобных вещей, однажды являлся свидетелем порки с прогонкой сквозь строй, когда один младший лейтенант на «Экселленте» признался в таких делах, но Ирвинг никогда не думал, что окажется на корабле, где… будет служить с мужчинами, которые… Верзила Мэнсон угрожающе шагнул к нему. Он был столь высокого роста, что везде в нижних палубах ходил на полусогнутых, пригибая голову, чтобы не удариться о бимсы, и в результате настолько привык горбиться и шаркать ногами, что даже на открытом воздухе не менял осанки и походки. Сейчас, с чуть выставленными вперед, освещенными фонарем огромными руками, он походил на палача, подступающего к осужденному на казнь. — Магнус, — сказал Хикки. — Не надо. Челюсть у Ирвинга отпала еще сильнее. Никак эти… содомиты… угрожают ему? В британском военно-морском флоте содомия каралась смертной казнью через повешение, и двести ударов кошкой с прогонкой сквозь строй эскадры (когда осужденного секут поочередно на всех кораблях в гавани) считались в высшей степени мягким наказанием. — Да как вы смеете? — осведомился Ирвинг, сам толком не понимая, говорит ли он об угрожающей позе Магнуса или о противоестественном половом акте. — Лейтенант, — затараторил Хикки писклявым голосом с ливерпульским акцентом, — прошу прощения, сэр, мистер Диггл послал нас в трюм за мукой, сэр. Одна из этих чертовых крыс забралась матросу Мэнсону в штанину, сэр, и мы пытались вытряхнуть ее оттуда. Мерзкие, наглые твари, эти крысы. Ирвинг знал, что мистер Диггл еще не приступил к ночному выпеканию лепешек и что в кладовых кока наверху полно муки. Хикки даже не пытался лгать убедительно. Круглые блестящие глазки тщедушного человека напомнили Ирвингу о крысах, шныряющих в темноте вокруг. — Мы будем премного вам благодарны, коли вы никому не скажете, сэр, — торопливо продолжал помощник конопатчика. — Магнусу очень бы не хотелось, чтобы над ним смеялись из-за того, что он испугался какой-то паршивой крысы, взобравшейся по ноге. Молчание затянулось. Стонал лед, трущийся о корпус корабля. Скрипели шпангоуты. Крысы шмыгали взад-вперед поблизости. – Убирайтесь отсюда, — наконец сказал Ирвинг. — Сию же минуту. – Есть, сэр. Спасибо, сэр. — Хикки отодвинул заслонку маленького фонаря, стоявшего на палубном настиле рядом с ним. — Пойдем, Магнус. Двое мужчин поспешно вскарабкались по узкому носовому трапу и скрылись в темноте средней палубы. Несколько долгих минут лейтенант Ирвинг неподвижно стоял на месте, прислушиваясь, но не слыша скрипа и треска корабля. Вой ветра звучал подобием отдаленной погребальной песни. Если он доложит об этом капитану Крозье, будет трибунал. Мэнсон, игравший в экспедиции роль деревенского дурачка, пользовался расположением товарищей по команде, как бы они ни насмехались над ним из-за его боязни привидений и гоблинов. Он выполнял тяжелую работу за троих. Хикки никому из офицерского состава не нравился, но матросы уважали пронырливого малого за способность добывать для друзей дополнительные порции табака и рома или нужные предметы одежды. Крозье не повесит ни одного, ни другого, подумал Джон Ирвинг, но в последнее время капитан находится в прескверном настроении и может применить весьма суровые меры. Все на судне знали, что всего несколько недель назад он пригрозил запереть Мэнсона в мертвецкой, вместе с полуобглоданным крысами трупом его друга Уокера, если здоровенный идиот еще когда-нибудь откажется таскать мешки с углем в трюм. Никто не удивится, коли теперь он выполнит свою угрозу. С другой стороны, подумал лейтенант, что он сейчас видел, собственно говоря? Какие показания он мог бы дать, положив руку на Библию, перед следственной комиссией, соберись таковая на самом деле? Он не видел никакого противоестественного акта. Он не застал двух содомитов непосредственно в момент совокупления или… в любой другой противоестественной позе. Ирвинг слышал тяжелое пыхтенье, судорожные вздохи и испуганный шепот, раздавшийся при его приближении, а потом увидел двух мужчин, торопливо подтягивающих штаны и заправляющих рубахи. В обычных обстоятельствах этого было бы достаточно, чтобы одного из них или обоих вздернули. Но здесь, во льдах, когда впереди у них еще месяцы или годы без малейшей надежды на спасение? Впервые за много лет Джон Ирвинг почувствовал желание сесть и расплакаться. Его жизнь только что усложнилась сверх всякой мыслимой меры. Если он доложит о двух содомитах, никто из товарищей по команде — офицеров, друзей, подчиненных — никогда больше не будет относиться к нему в точности как прежде. А если не доложит, он станет жертвой бесконечной наглости Хикки — малодушное умолчание о случившемся даст последнему повод для своего рода шантажа в ближайшие недели и месяцы. И отныне лейтенант никогда не будет спать спокойно или чувствовать себя в безопасности во время вахты в темноте снаружи или в собственной каюте (насколько такое вообще возможно, когда белое чудовище убивает людей одного за другим), каждую минуту ожидая, что руки Мэнсона сомкнутся у него на горле. — Ох, так меня растак, — вслух сказал Ирвинг в холодную потрескивающую темноту трюма. Осознав буквальный смысл произнесенных слов, он рассмеялся — и смех прозвучал более странно, более безжизненно, но при этом более зловеще, чем слова. Лейтенант был готов отказаться от дальнейших поисков — он посмотрел повсюду, если не считать нескольких огромных бочек и канатного ящика в форпике, — но не хотел подниматься на жилую палубу, пока Хикки и Мэнсон не скроются с глаз. Ирвинг пробрался мимо плавающих в грязной воде пустых упаковочных клетей — здесь, ближе к опущенному вниз носу судна, вода поднималась выше щиколоток, и насквозь промокшие башмаки проламывали тонкую корку льда. Еще несколько минут — и он отморозит пальцы на ногах, как пить дать. Канатный ящик находился в самой передней части форпика, где корпус корабля сужался к носу, и представлял собой не помещение в полном смысле слова — две двери имели всеготри фута в высоту, а от палубного настила до подволока там было немногим более четырех футов, — но скорее каморку для хранения якорных концов. В канатном ящике всегда нестерпимо воняло речным илом — даже спустя месяцы после того, как корабль снимался с якоря в устье реки. Смрадный запах никогда не выветривался, и бухты толстых тросов, уложенные одна на другую, занимали почти все низкое, темное, зловонное помещение. Лейтенант Ирвинг с трудом открыл неподатливые двери канатного ящика и поднес фонарь к проему. Треск льда раздавался особенно громко здесь, где нос и бушприт вдавливались в движущийся пак. Леди Безмолвная резко вскинула голову, и глаза ее вспыхнули при свете фонаря, как у кота. Она сидела на расстеленной на полу бело-коричневой шкуре, совершенно голая, если не считать другой шкуры — вероятно, парки, — наброшенной на плечи. Пол канатного ящика был приподнят на фут с лишним над затопленным палубным настилом снаружи. Эскимоска раздвинула в стороны тяжелые бухты тросов и устлала мехом образовавшуюся низкую нору, сверху прикрытую грудой спутанных пеньковых веревок. Открытый огонь в жестянке, наполненной маслом или ворванью, давал слабый свет и тепло. Он застал женщину за едой, с поднесенным к измазанным жиром губам шматом красного, сырого, кровавого мяса. Она отсекала от него куски — которые тут же подхватывала зубами, — быстрыми движениями короткого, но явно очень острого ножа с костяной рукояткой, украшенной каким-то резным узором. Леди Безмолвная стояла на коленях, наклонившись над огнем и шматом мяса, и при виде свисающих маленьких грудей образованному лейтенанту Ирвингу пришли на ум иллюстрации, представляющие скульптурное изображение волчицы, вскармливающей младенцев Ромула и Рема. — Прошу прощения, мадам, — сказал Ирвинг и захлопнул дверь. Он пошатываясь отступил на несколько шагов назад, распугивая крыс громким плеском воды, и попытался собраться с мыслями после второго за ночь потрясения. Капитан должен знать о новом убежище Безмолвной. Одна опасность пожара от открытого пламени требует принятия срочных мер. Но где она достала нож? Он скорее походил на орудие, изготовленное эскимосами, нежели на кухонный, плотницкий или охотничий нож с корабля. Разумеется, они обыскали женщину шесть месяцев назад, в июне. Неужели она прятала его все это время? Что еще она могла прятать? И свежее мясо. На борту не было свежего мяса, Ирвинг точно знал. Неужели она охотилась? Зимой, в такую метель, в такой темноте? И если да, то на кого? Единственными животными там, на льду, были белые медведи и чудовищный зверь, преследующий людей с «Эребуса» и «Террора». Ужасная мысль пришла Джону Ирвингу в голову. На секунду он почувствовал искушение вернуться в кормовую часть трюма и еще раз проверить замок на двери мертвецкой. Потом ему в голову пришла еще более ужасная мысль. Они нашли лишь половины трупов Уильяма Стронга и Томаса Эванса. Неверной поступью, поскальзываясь на льду и грязной жиже, лейтенант Джон Ирвинг ощупью двинулся в сторону кормы, к центральному трапу, чтобы совершить трудное восхождение к свету, на жилую палубу.
18. Гудсер
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 20 ноября 1847 г.
Из личного дневника доктора
Гарри Д. С. Гудсера
Суббота, 20 ноября 1847 г.
У нас не хватит продовольствия, чтобы пережить еще одну зиму и лето здесь, во льдах. Предполагалось, что хватит. Сэр Джон обеспечил два корабля провиантом на три года при условии полного рациона для всей команды; на пять лет при условии вполне достаточной нормы пищевого довольствия для людей, ежедневно выполняющих тяжелую работу, но сокращенной для остальных; и на семь лет при условии значительно урезанного, но все же приемлемого дневного пайка для всех без исключения. По расчетам сэра Джона — и капитанов Крозье и Фицджеймса — продовольствия на «Эребусе» и «Терроре» должно было хватить до 1852 года. Но вопреки расчетам последние съедобные припасы у нас кончатся где-то следующей весной. Доктор Макдональд на «Терроре» уже давно сомневался в доброкачественности консервированных продуктов, и он поделился своими подозрениями со мной после смерти сэра Джона. Затем, во время первого нашего похода на Кинг-Уильям, история с испорченными и вредными для здоровья консервами (банки были взяты из самых нижних упаковочных клетей, хранящихся под жилой палубой) подтвердила наличие проблемы. В октябре мы, четверо врачей, обратились к капитану Крозье и командору Фицджеймсу с просьбой разрешить нам произвести полную инвентаризацию. Затем мы четверо — при содействии матросов, получивших задание помогать нам передвигать многие сотни упаковочных клетей, бочонков и тяжелых баков в обеих нижних палубах, средней и трюмной, а равно проверять выбранные образцы продуктов, — провели инвентаризацию дважды, во избежание ошибки. Свыше половины консервов непригодно в пищу. Три недели назад мы доложили об этом обоим капитанам в просторной, но холодной бывшей каюте сэра Джона — (Фицджеймса, номинально по-прежнему остающегося простым командором, Крозье, новый начальник экспедиции, называет «капитан», и все прочие следуют примеру). На тайном совещании присутствовали мы — четверо судовых врачей, — Фицджеймс и Крозье. Капитан Крозье (мне надо помнить, что он все-таки ирландец) впал в ярость, подобной которой я никогда прежде не видел. Он потребовал от нас исчерпывающих объяснений, словно мы, врачи, несли ответственность за запасы имущества и провианта в экспедиции Франклина. Фицджеймс же, с другой стороны, с самого начала сомневался в качестве консервированных продуктов и честности поставщика оных (единственный член экспедиции или Адмиралтейства, похоже, выражавший вслух подобные сомнения), но Крозье отказывался верить, что столь преступное мошенничество могло быть совершено на кораблях военно-морского флота Британии. Джон Педди, главный судовой врач «Террора», прослужил во флоте дольше всех из нас, четверых офицеров медицинской службы, но большую часть времени исполнял свои обязанности на военном корабле «Мери» — вместе с боцманом Крозье, Джоном Лейном, — в Средиземном море, где консервы составляли лишь самую малую часть продовольственных запасов. Мой номинальный начальник на «Эребусе», главный судовой врач Стивен Стенли, также никогда прежде не имел дела со столь огромными количествами консервированных продуктов на борту корабля. Придающий огромное значение разнообразным диетам, необходимым, дабы предупредить цингу, доктор Стенли потерял дар речи от потрясения, когда наша инвентаризация показала, что половина оставшихся банок с консервированными овощами, мясом и супами либо протухла, либо испорчена еще каким-нибудь образом. Один лишь доктор Макдональд, занимавшийся вопросами поставки продовольствия с мистером Хелпменом — секретарем капитана Крозье, — имел объяснения такому положению вещей. Как я записал в своем дневнике несколько месяцев назад, помимо 10 000 банок консервированной говядины на борту «Эребуса» мы располагаем запасами консервированных баранины, телятины, разнообразных овощей, в том числе картофеля, моркови и пастернака, различных супов, а также 9450 фунтами шоколада. Алекс Макдональд, представлявший нашу экспедицию в качестве медика, взаимодействовал с главным управляющим дептфордского продовольственного склада и с неким мистером Стивеном Голднером, поставщиком продовольствия, заключившим контракт с нашей экспедицией. В октябре Макдональд доложил капитану Крозье, что четыре поставщика назначили цену за снабжение экспедиции сэра Джона консервированными продуктами — компании Хогарта, Гэмбла, Купера и Эйвса, а также фирма вышеупомянутого мистера Голднера. Доктор Макдональд сообщил капитану — и премного удивил всех нас своими словами, — что цена, предложенная Голднером, составляет лишь половину от цены, запрошенной остальными тремя (гораздо более известными) поставщиками. Вдобавок, если другие компании планировали поставить продовольствие в течение месяца или трех недель, то Голднер пообещал произвести поставку немедленно (взяв на себя упаковку и перевозку). Разумеется, о немедленной поставке не зашло бы речи, и при столь низкой цене за свои услуги Голднер потерял бы целое состояние, если бы продукты были хорошего качества, причем приготовлены и законсервированы должным образом, но, похоже, никто, кроме капитана Фицджеймса, не обратил на это внимания. Адмиралтейство и три полномочных представителя Службы географических исследований — в отборе продуктов участвовали все, кроме опытного инспектора дептфордского продовольственного склада, — немедленно порекомендовали принять предложение Голднера и полностью выплатить запрошенную сумму, то есть более 3800 фунтов. (Целое состояние для любого человека, но особенно для иностранца, каковым, пояснил Макдональд, и являлся Голднер. Его единственная консервная фабрика, по словам Алекса, находилась в Галисии, в Молдавии.) Голднер получил один из крупнейших заказов на поставку продовольствия в истории Адмиралтейства: 9500 банок мясных и овощных консервов весом от одного до девяти фунтов и 20 000 банок консервированных супов. Макдональд принес на совещание одну из рекламных листовок Голднера с перечнем подлежащих поставке продуктов (Фицджеймс сразу ее узнал), и при виде ее у меня потекли слюнки: семь сортов баранины, приготовленная четырнадцатью разными способами телятина, тринадцать сортов говядины, четыре разновидности мяса молодого барашка. В списке значились зайчатина, куропатка, крольчатина (в луковом соусе или приправленная карри), фазан и с полдюжины других разновидностей дичи. Если Служба географических исследований желала запастись морепродуктами, Голднер брался поставить консервированных лобстеров, треску, мясо вест-индской черепахи, лососину и копченую селедку. Для праздничного обеда рекламная листовка Голднера предлагала — всего за пятнадцать пенни — фаршированного трюфелями фазана, телячий язык под соусом-пикант и говядину по-фламандски. — На самом деле, — сказал доктор Макдональд, — обычно мы получали соленую конину в лошадиных бочках. Я уже достаточно много времени провел в море, чтобы понять смысл выражения: матросы, которым постоянно давали конину под видом говядины, в конце концов стали называть бочки для провизии «лошадиными». Впрочем, они довольно охотно ели соленую конину. – Голднер обманул нас гораздо сильнее, — продолжал Макдональд, обращаясь к трясущемуся от ярости капитану Крозье и сердито кивающему командору Фицджеймсу. — Он подсунул нам дешевые продукты в банках с этикетками от значительно более дорогих — обычную тушеную говядину под видом тушеных ромштексов, например. Первая стоит по прейскуранту девять пенни банка, но он запросил четырнадцать, поменяв этикетку. – О господи, — взорвался Крозье, — да каждый поставщик выкидывает такие номера с Адмиралтейством. Обманывать флот заведено еще со времен Адама. Это не объясняет, почему у нас вдруг подошли к концу запасы провианта. – Да, капитан, — продолжал Макдональд. — Дело в обработке продуктов и в запайке банок. – В чем? — переспросил ирландец, явно стараясь держать себя в руках. Лицо Крозье под потрепанной фуражкой пошло красными и белыми пятнами. – В обработке и в запайке, — повторил Алекс. — Что касается обработки, то мистер Голднер похвалялся патентованным процессом, при котором он добавляет большое количество нитрата соды — хлористого кальция — в громадные чаны кипящей воды, чтобы повысить температуру обработки… главным образом для увеличения скорости процесса. – И что здесь такого? — осведомился Крозье. — Банки были просрочены. Требовалось что-нибудь сделать, чтобы у Голднера в заднице загорелся факел. Его патентованный процесс ускорил события. – Да, капитан, — сказал доктор Макдональд, — но огонь факела, горевшего в заднице Голднера, явно был горячее, чем огонь, на котором торопливо обрабатывали мясо, овощи и прочие продукты перед консервированием. Многие медики полагают, что при правильной обработке продуктов уничтожаются вредная флора, способная вызвать болезнь, но я самолично наблюдал за голднеровским процессом обработки, и он просто не обрабатывал мясо, овощи и супы достаточно долгое время. – Так почему же вы не доложили об этом полномочным представителям Службы географических исследований? — раздраженно спросил Крозье. – Он докладывал, — устало сказал капитан Фицджеймс. — И я тоже. Но единственным человеком, прислушавшимся к нам, был инспектор дептфордского продовольственного склада, а он не имел права голоса при принятии окончательного решения. – То есть вы говорите, что половина наших продуктов испортилась за три года по причине некачественной обработки? — Лицо Крозье по-прежнему расцвечивали красные и белые пятна. – Да, — сказал Алекс Макдональд, — но равным образом следует винить, нам кажется, некачественную запайку. – Запайку банок? — спросил Фицджеймс. В своих сомнениях относительно Голднера он явно не доходил до сей технической детали. – Да, командор, — сказал фельдшер с «Террора». — Консервирование продуктов в жестяных банках является новшеством — поразительным изобретением нашего века, — но за последние несколько лет употребления в пищу консервов мы узнали достаточно, чтобы прийти к заключению: правильная запайка швов на цилиндрических банках решительно необходима для предотвращения порчи содержимого. – И люди Голднера некачественно запаяли эти швы? — спросил Крозье голосом, напоминающим тихое угрожающее рычание. – Да, примерно на шестидесяти процентах банок, обследованных нами, — сказал Макдональд. — Вследствие небрежной запайки швы получились негерметичными. А негерметичность швов, похоже, стала причиной ускоренного гниения наших консервированных овощей, говядины, телятины, супов и прочих продуктов. – Но как такое возможно? — спросил капитан Крозье. Он тряс своей крупной головой, словно человек, оглушенный ударом. — Мы вышли в полярные воды вскоре после отплытия кораблей из Англии. Я думал, здесь достаточно холодно, чтобы любые продукты сохранились до самого Судного дня. — Судя по всему, вы ошибались, — сказал Макдональд. — Многие банки, оставшиеся от поставленных Голднером двадцати девяти тысяч, полопались. Другие уже раздулись от газов, образовавшихся в результате гнилостного процесса внутри. Вероятно, некие вредоносные пары просочились в банки еще в Англии. Возможно, некие микроскопические организмы, пока неизвестные медицине и науке, проникли в банки во время транспортировки или даже на консервной фабрике Голднера. Крозье нахмурился еще сильнее. — Микроскопические организмы? Давайте обойдемся здесь без фантастических домыслов, мистер Макдональд. Ассистент судового врача лишь пожал плечами. — Возможно, это звучит фантастически, капитан. Но вы, в отличие от меня, не провели сотни часов, напряженно глядя в окуляр микроскопа. Мы еще плохо понимаем, что представляют собой означенные организмы, но уверяю вас, если бы вы увидели, сколь великое множество оных присутствует в простой капле питьевой воды, вы бы сразу посмотрели на вещи трезво. Лицо Крозье, к этому моменту принявшее более или менее нормальную окраску, вновь побагровело при замечании, возможно, содержавшем намек на далеко не трезвое состояние, в каком капитан частенько находился. — Ладно. Часть продуктов испортилась, — отрывисто сказал он. — Как мы можем убедиться, что все остальные продукты пригодны в пищу? Я прочистил горло. — Как вы знаете, капитан, летний рацион людей состоял из фунта с четвертью соленого мяса в день, порции овощей в виде всего одной пинты бобов, плюс трех четвертей фунтов ячменя в неделю. Но они получали дневную норму лепешек и галет. С наступлением зимы, в целях экономии угля, ежедневный расход муки был сокращен на двадцать пять процентов за счет отказа от выпечки хлеба. Если бы мы просто начали подвергать оставшиеся консервированные продукты более длительной термической обработке и возобновили выпечку хлеба, мы бы не только предотвратили опасность отравления испорченными продуктами, но также предупредили бы распространение цинги. – Это невозможно, — раздраженно сказал Крозье. — Оставшегося у нас угля едва хватит, чтобы обогревать корабли до апреля. Если вы мне не верите, спросите инженера Грегори или инженера Томпсона здесь, на «Терроре». – Я вам верю, капитан, — печально промолвил я. — Я разговаривал с обоими инженерами. Но без длительной тепловой обработки консервированных продуктов опасность отравления чрезвычайно велика. Нам остается лишь выбросить за борт все лопнувшие банки и по возможности не трогать банки с плохо запаянными швами. Таким образом, количество съестных припасов у нас резко сокращается. – А как насчет спиртовок? — спросил Фицджеймс, слегка просветлев лицом. — Мы можем использовать походные спиртовки для кипячения супов и тепловой обработки прочих сомнительных продуктов. На сей раз Макдональд печально покачал головой. – Мы пробовали, командор. Мы с доктором Гудсером экспериментировали, нагревая банки с так называемой тушенкой на патентованных спиртовках, предназначенных для приготовления пищи. Бутылки эфира емкостью в пинту не хватает даже на время, необходимое для полного нагревания пищи, и температура огня невысокая. К тому же нашим санным отрядам — и всем нам, коли придется покинуть корабль, — понадобятся спиртовки, чтобы растапливать снег и лед для получения питьевой воды. Нам следует экономить спирт. – Я был с лейтенантом Гором во время первого санного похода на Кинг-Уильям — возможно, остров, но вероятнее всего, полуостров, — негромко добавил я. — Огня при нагревании консервированных супов хватало лишь до появления первых пузырей. Еда получалась чуть теплой. Последовало продолжительное молчание. — Вы говорите, что более половины консервированных продуктов, на которых мы рассчитывали продержаться еще год, а при необходимости и два, испорчено, — наконец сказал Крозье. — У нас нет угля, чтобы подвергать испорченную пищу тщательной тепловой обработке на больших фрейзеровских плитах или на маленьких железных печах с вельботов, и вы говорите, что у нас недостаточно жидкого топлива, чтобы использовать спиртовки. Что нам делать? Мы пятеро — четыре врача и капитан Фицджеймс — хранили молчание. Единственным ответом было покинуть корабль и отыскать местность погостеприимнее, предпочтительно на суше где-нибудь южнее, где можно охотиться на дичь. Словно прочитав наши мысли, Крозье улыбнулся (странно безумной, типично ирландской улыбкой, подумалось мне тогда) и сказал: — Проблема, джентльмены, заключается в том, что на борту обоих кораблей нет ни одного опытного охотника, даже среди наших уважаемых морских пехотинцев, способного поймать или убить тюленя или моржа — коли означенные животные еще когда-нибудь почтят нас своим присутствием, — либо подстрелить крупную дичь типа карибу, которых, впрочем, мы здесь ни разу не видели. Мы по-прежнему молчали. — Благодарю вас за усердие, проявленное при проведении инвентаризации, и за исчерпывающий доклад, мистер Педди, мистер Гудсер, мистер Макдональд и мистер Стенли. Мы продолжим отделять банки, которые вы считаете надежно запаянными и безопасными для здоровья людей, от банок, некачественно запаянных, лопнувших, раздутых или обнаруживающих иные признаки порчи. Мы сохраним нынешний, на треть урезанный, рацион до конца декабря, а затем я введу более суровую норму пищевого довольствия. Мы с доктором Стенли тепло укутались и поднялись на палубу, чтобы проводить доктора Педди, доктора Макдональда и почетный караул из четырех вооруженных дробовиками моряков, отправлявшихся в долгий путь обратно на «Террор» в темноте. Когда их фонари и факелы исчезли в снежной мгле, Стенли наклонился ко мне и прокричал, перекрывая вой ветра в снастях и неумолчный скрежет и треск льда, трущегося о корпус «Эребуса»: — Для них будет счастьем, если они собьются с пути и безнадежно заблудятся. Или если существо во льдах настигнет их сегодня. Я повернулся и в ужасе уставился на главного судового врача. — Голодная смерть — страшная вещь, Гудсер, — продолжал Стенли. — Поверьте мне. Я видел случаи голодной смерти в Лондоне и видел после кораблекрушения. Смерть от цинги еще ужаснее. Право, было бы лучше, если бы это существо расправилось со всеми нами сегодня же. Затем мы спустились в мерцающий слабыми отсветами огня мрак жилой палубы и в холод, почти не уступающий лютому холоду дантовского девятого круга арктической ночи.
19. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 5 декабря 1847 г.Во вторник третьей недели ноября, во время собачьей вахты, существо поднялось на борт «Эребуса» и утащило с поста у кормы главного боцмана, всеми любимого мистера Томаса Терри, оставив лишь голову мужчины на планшире. На месте, где Терри стоял вахту, не осталось ни капли крови: ни на обледенелой палубе, ни на обшивке корпуса. Все пришли к заключению, что существо схватило Терри, утащило на сотни ярдов в темноту, где сераки вздымались подобием ледяных деревьев в густом белом лесу, и там убило и разорвало на части несчастного — возможно, сожрало, хотя люди все сильнее сомневались, что белое чудовище убивает матросов и офицеров пропитания ради, — а потом вернуло голову мистера Терри, прежде чем вахтенные правого или левого борта заметили исчезновение боцмана. Матросы, в конце вахты нашедшие голову боцмана, целую неделю без устали рассказывали товарищам о жуткой гримасе, искажавшей лицо бедного мистера Терри: широко раскрытый рот, словно разодранный в диком вопле, оскаленные зубы, вылезающие из орбит глаза. На голове не было ни единого следа когтей или зубов — только кровавые лохмотья по неровной линии разрыва на шее, из которой торчала тонкая трубка гортани, точно серый крысиный хвост, и кусок белого спинного мозга. Внезапно более ста двадцати оставшихся в живых моряков обрели веру. Большинство людей на борту «Эребуса» два года недовольно ворчали по поводу утомительных богослужений сэра Джона Франклина, но теперь даже такие из них, которые в упор не узнали бы Библию, очнувшись рядом с ней после трехдневного запоя, испытывали острейшую потребность в какого-либо рода духовном утешении. Когда слухи об оторванной голове Томаса Терри распространились (капитан Фицджеймс приказал отнести парусиновый сверток в мертвецкую «Эребуса» в трюме), люди начали настаивать на проведении воскресного богослужения для обеих команд. Именно похожий на хорька Корнелиус Хикки, тщедушный помощник конопатчика, которого лейтенант Ирвинг двумя неделями раньше застал с Магнусом Мэнсоном в трюме (о чем молодой лейтенант так никому и не сказал), явился к Крозье поздно вечером в пятницу с данной просьбой. Немногим раньше Хикки работал в команде, восстанавливавшей ледяные пирамиды с факелами между кораблями, и переговорил с людьми с «Эребуса». – Все без исключения «за», сэр, — сказал помощник конопатчика, стоя в дверях крохотной каюты капитана Крозье. — Все люди хотели бы провести общее воскресное богослужение. Обе команды, капитан. – Вы выражаете желание всех до единого членов обоих экипажей? — саркастически осведомился Крозье. — Так точно, сэр. Хикки улыбнулся своей некогда обаятельной улыбкой, показывая по меньшей мере четыре из шести оставшихся к настоящему моменту зубов. Щуплый, похожий на грызуна, помощник конопатчика держался в высшей степени самоуверенно. — Сомневаюсь, — сказал Крозье. — Но я поговорю с капитаном Фицджеймсом и дам вам знать насчет богослужения. Независимо от нашего решения, вы уполномочены оповестить о нем всех людей. Крозье пил, когда Хикки постучал в дверь. И он никогда не любил назойливого тщедушного человечка. На каждом корабле есть свои критиканы, вечно всем недовольные, — они являются неотъемлемым элементом военно-морской жизни, как крысы, — и Хикки, несмотря на свою неправильную речь и полное отсутствие образования, показался Крозье именно таким критиканом, который в ходе тяжелого плавания вскоре начинает подстрекать команду к мятежу. – Одна из причин, почему всем нам хотелось бы собраться на таком богослужении, какие проводил для нас сэр Джон — да упокоит Господь его душу, капитан… – Я вас больше не задерживаю, мистер Хикки.
Крозье сильно пил на той неделе. Меланхолия, всегда окутывавшая душу туманом, теперь ощущалась подобием тяжелого душного одеяла. Он хорошо знал Терри и считал его в высшей степени толковым боцманом, и, конечно, бедняга погиб ужасной смертью, но Арктика — на обоих полюсах — предполагала тысячи разных вариантов достаточно ужасной смерти. Как и военно-морской флот, в мирное ли время, в военное ли. За долгие годы службы Крозье довелось видеть далеко не одну такую ужасную смерть, и потому, хотя гибель мистера Терри стояла в ряду самых жутких и хотя последняя эпидемия насильственных смертей произвела в их рядах большее опустошение, нежели любая настоящая эпидемия, какую он видел когда-либо на борту корабля, истинной причиной глубокого уныния, овладевшего Крозье, являлась главным образом реакция оставшихся в живых участников экспедиции на ситуацию. Джеймс Фицджеймс, похоже, падал духом. Герой Евфратской экспедиции в Месопотамию — провозглашенный героем в прессе еще до отплытия судна из Ливерпуля, когда молодой Фицджеймс прыгнул за борт, чтобы спасти тонущего таможенного инспектора, хотя привлекательный молодой офицер, как писала «Таймс»,
«был обременен пальто, шляпой и весьма ценными часами».Ливерпульские торговцы, знавшие цену (как прекрасно понимал Крозье) таможенному чиновнику, уже купленному и получившему плату за свои услуги, наградили молодого Фицджеймса серебряной тарелкой с гравировкой. Адмиралтейство сначала обратило внимание на серебряную тарелку, потом на героизм Фицджеймса — хотя во флоте, где служил Крозье, офицеры спасали утопающих чуть не каждую неделю, поскольку лишь очень немногие матросы умели плавать, — и наконец на тот факт, что Фицджеймс является «самым красивым мужчиной в военно-морском флоте», а равно учтивейшим молодым джентльменом. Не повредил репутации многообещающего молодого офицера и тот факт, что он дважды вызывался возглавлять отряды, совершавшие набеги на разбойников-бедуинов. Крозье прочитал в официальных донесениях, что во время одного из таких налетов Фицджеймс сломал ногу, а в ходе другого попал в плен к разбойникам, но самый красивый мужчина в военно-морском флоте сумел бежать, тем самым покрыв себя еще большей славой в глазах прессы и Адмиралтейства. Потом начались Опиумные войны, и в 1841 году Фицджеймс показал себя настоящим героем, удостоившись официальной благодарности от своего капитана и от Адмиралтейства не менее пяти раз. Лихой парень — двадцати девяти лет в ту пору — использовал ракеты, чтобы оттеснить китайцев с холмов у Цыци, снова использовал ракеты, чтобы вытеснить противника из Чепуа, принял участие в сухопутном сражении при Вусуне и вернулся к своим в ходе захвата Чин-Киан-Фу. Серьезно раненный, лейтенант Фицджеймс умудрился присутствовать — на костылях и в бинтах — при капитуляции Китая в ходе подписания Нанкинского договора. Получив звание командора в нежном возрасте тридцати лет, самый красивый мужчина в военно-морском флоте стал капитаном малого корвета «Клио», и его блестящее будущее казалось делом решенным. Но в 1844-м Опиумные войны закончились, и — как обычно случается со всеми многообещающими проектами в военно-морском флоте, когда внезапно разражается коварный мир, — Фицджеймс неожиданно для себя оказался без команды, на берегу и на половине жалованья. Френсис Крозье знал: если предложение возглавить экспедицию, поступившее сэру Джону Франклину от Службы географических исследований, стало неожиданным подарком судьбы для дискредитированного (после фиаско на Земле Ван-Димена) пожилого человека, то предложение принять на себя фактическое командование «Эребусом» было для Фицджеймса вторым блестящим шансом. Но теперь «самый красивый мужчина в военно-морском флоте» утратил свой румянец и искрометную веселость нрава. В то время как большинство офицеров сохраняли прежний вес даже при урезанном на треть рационе (ибо норма пищевого довольствия, полагавшаяся сотрудникам Службы географических исследований, по питательности превосходила обычный рацион девяносто девяти процентов англичан на суше), командор, а ныне капитан, Джеймс Фицджеймс похудел по меньшей мере на двадцать фунтов. Форма болталась на нем как на вешалке. Некогда крутые мальчишеские кудри теперь безжизненно свисали из-под фуражки или «уэльского парика». Лицо Фицджеймса — всегда слишком круглое и розовощекое на вкус старого морского волка Крозье — теперь казалось исхудалым и бледным в свете масляных ламп или керосиновых фонарей. На людях поведение командора — естественное сочетание добродушной шутливости и суровой властности — оставалось прежним, но наедине с Крозье Фицджеймс говорил меньше, улыбался реже и слишком часто имел смятенный и несчастный вид. Для человека вроде Крозье, с детства страдавшего жестокими приступами меланхолии, симптомы представлялись очевидными. Порой у него возникало впечатление, будто он смотрит в зеркало — разве только отмеченное печатью меланхолии лицо, которое он видел перед собой, принадлежало благородному, по-аристократически пришепетывающему английскому джентльмену, а не какому-то ирландскому ничтожеству. В пятницу третьего декабря Крозье зарядил дробовик и в одиночестве совершил долгий переход в холодной тьме от «Террора» к «Эребусу». Если обитающее во льдах существо возымеет желание убить его, подумал Крозье, еще несколько вооруженных мужчин никак не повлияют на ход событий. Как произошло в случае с сэром Джоном. Крозье добрался благополучно. Они с Фицджеймсом обсудили положение дел — низкий моральный дух людей, просьбу о богослужении, ситуацию с консервами и необходимость сократить рацион после Рождества — и сошлись во мнении, что мысль провести общее богослужении в следующее воскресенье, возможно, очень даже неплоха. Поскольку капелланов или самозваных священников на борту кораблей не имелось — до прошлого июня обе эти роли исполнял сэр Джон, — проповедь предстояло произнести обоим капитанам. Крозье думал о предстоящей миссии с еще большим содроганием, чем о посещении портового зубного врача, но понимал, что это надо сделать. Настроение людей вызывало серьезные опасения. Лейтенант Эдвард Литтл, старший помощник Крозье, доложил, что матросы на «Терроре» стали изготавливать ожерелья и прочие амулеты из зубов и когтей белых медведей, убитых летом. Лейтенант Ирвинг несколько недель назад доложил, что леди Безмолвная укрылась в носовом канатном ящике и что люди начали оставлять в трюме свои порции рома и пищи, словно принося ведьме жертвы в надежде на заступничество. — Я думал о вашем маскарадном наряде, — прошепелявил Фицджеймс, когда Крозье уже начал одеваться, собираясь откланяться. — Маскарадном наряде? – Большой венецианский карнавал, который устраивал Хоппнер, когда вы зимовали с Парри, — продолжал Фицджеймс. — Когда вы оделись чернокожим лакеем. – И что? — спросил Крозье, наматывая шарф на шею и голову. – Сэр Джон взял с собой три огромных сундука таких костюмов, — сказал Фицджеймс. — Я обнаружил их в его личной кладовой. — Неужели? Крозье удивился. Старый болтун, который, дай ему волю, проводил бы богослужения по шесть раз в неделю и который, несмотря на свой частый смех, никогда не понимал ничьих шуток, кроме своих, казался совершенно не того рода начальником экспедиции, который стал бы брать в плавание сундуки с фривольными нарядами, как это делал помешанный на театре Парри. — Они старые, — сказал Фицджеймс. — Возможно, иные из них принадлежали Парри и Хоппнеру — возможно, именно в них вы наряжались двадцать четыре года назад, когда зимовали в Баффиновом заливе, — но в сундуках свыше сотни потрепанных костюмов. Крозье, уже полностью одетый, стоял в дверях бывшей каюты сэра Джона, где два капитана вполголоса проводили свое совещание. Он не понимал, к чему Фицджеймс клонит. – Я подумал, мы можем устроить для людей маскарад, — прошепелявил Фицджеймс. — Разумеется, не такой роскошный, как ваш Большой Венецианский карнавал, и не такой веселый по причине этой… неприятности… на льду, но все же какое-никакое развлечение. – Возможно, — сказал Крозье, даже не пытаясь изобразить воодушевление. — Мы обсудим этот вопрос после чертового воскресного богослужения. – Да, конечно, — торопливо согласился Фицджеймс, пришепетывая сильнее обычного. — Мне послать кого-нибудь проводить вас до «Террора», капитан Крозье? – Не надо. И лягте спать пораньше сегодня, Джеймс. У вас усталый вид. Нам обоим нужно взбодриться и собраться с силами, если мы хотим достойно выступить с проповедью перед обеими командами в воскресенье. Фицджеймс послушно улыбнулся. Бледной странной улыбкой, вызывающей тревогу.
В воскресенье пятого декабря 1847 года Крозье оставил на корабле группу из шести человек под командованием первого лейтенанта Эдварда Литтла — который, как и Крозье, скорее согласился бы удалить себе почечные камни ложкой, чем присутствовать на богослужениях, — а также фельдшера Макдональда и инженера Джеймса Томпсона. Остальные пятьдесят с лишним оставшихся в живых матросов и офицеров двинулись по льду за своим капитаном, вторым лейтенантом Ходжсоном, третьим лейтенантом Ирвингом, старшим помощником капитана Хорнби и прочим начальством. Было почти десять утра, но под мерцающими звездами царила бы кромешная тьма, если бы не полярное сияние, которое пульсировало, играло, переливалось над ними, освещая длинную вереницу фигур, отбрасывающих пляшущие тени на трещиноватый лед. Сержант Соломон Тозер — огромное родимое пятно у него на лице особенно резко выделялось в разноцветном сверкании сполохов — возглавлял отряд вооруженных мушкетами морских пехотинцев, шагавших впереди, по сторонам и позади колонны. Белый зверь не стал трогать людей в это воскресное утро. В последний раз обе команды в почти полном составе собирались на богослужение — проведенное сэром Джоном незадолго до того, как жуткое существо унесло набожного руководителя экспедиции в черноту подо льдом, — на верхней палубе под холодным июньским солнцем, но поскольку сейчас температура воздуха была по меньшей мере минус пятьдесят, когда не дул ветер, Фицджеймс распорядился освободить место для богослужения на жилой палубе. Передвинуть огромную плиту не представлялось возможным, но люди подняли матросские обеденные столы на максимальную высоту, сняли передвижные переборки, отделявшие лазарет от кубрика, и убрали другие переборки, отгораживавшие спальную зону мичманов, крохотную каморку стюарда, а равно каюты старшего и второго помощников капитана и второго лоцмана. Кроме того, они сняли переборки офицерской столовой и каюты фельдшера. Образовавшегося свободного пространства хватит на всех, хотя и придется потесниться. Вдобавок ко всему плотник Фицджеймса, Томас Хани, соорудил низкий помост с кафедрой — приподнятый лишь на шесть дюймов за недостатком места под бимсами, с подвешенными к ним столами и запасами строительного леса, но достаточно высокий, чтобы Крозье и Фицджеймс были видны людям в задних рядах сплоченной толпы. — По крайней мере, мы не замерзнем, — шепнул Крозье Фицджеймсу, когда по знаку Чарльза Гамильтона Осмера, лысого старшего интенданта «Эребуса», собравшиеся затянули вступительный гимн. И действительно, от тепла сгрудившихся тел воздух в жилой палубе прогрелся сильнее, чем когда-либо с тех пор, как шесть месяцев назад на «Эребусе» перестали сжигать огромные груды угля и прогонять горячую воду по трубам отопительной системы. Фицджеймс также потратил бешеное количество масла на десять, если не больше, подвесных ламп, которые освещали обычно темное и задымленное помещение ярче, чем когда-либо с тех пор, как два с лишним года назад солнечный свет перестал литься в престонские патентованные иллюминаторы. Темные дубовые бимсы сотрясались от мощного хора звучных голосов. Матросы, по своему долгому опыту знал Крозье, любили петь практически в любых обстоятельствах. Даже во время богослужения, коли нет другого повода. Крозье видел в толпе макушку помощника конопатчика Корнелиуса Хикки, рядом с которым, сильно сгорбившись, чтобы не задевать головой бимсы, придурковатый великан Магнус Мэнсон басом ревел гимн столь фальшиво, что резкий скрежет льда снаружи казался почти благозвучным в сравнении. Эти двое совместно пользовались одним из потрепанных сборников церковных гимнов, выданных интендантом Осмером. Наконец закончился последний гимн, и наступила тишина, нарушаемая лишь шарканьем ног, покашливаниями и пошмыгиваниями носом. В воздухе разносился запах свежеиспеченного хлеба, поскольку на рассвете мистер Диггл явился сюда, чтобы помочь коку «Эребуса», Ричарду Уоллу, управиться с выпечкой. Крозье и Фицджеймс решили, что в такой особый день стоит потратить дополнительное количество угля, муки и масла, если это послужит укреплению морального состояния людей. Впереди еще оставались два самых темных зимних месяца. Теперь настало время для двух проповедей. Фицджеймс побрился, тщательно напудрился и позволил своему личному стюарду, мистеру Хору, ушить свой мешковатый жилет, брюки и мундир, так что сейчас он выглядел спокойным, собранным и привлекательным, с блестящими эполетами. Один только Крозье, стоявший позади него, видел, как Фицджеймс нервно сжимает и разжимает бледные пальцы, положив свою личную Библию на кафедру и раскрыв на Псалтире. — Сегодня мы обратимся к сорок пятому псалму, — провозгласил капитан Фицджеймс. Крозье слегка поморщился от аристократического пришепетывания, заметно усилившегося от волнения.
«Если человек отказывается подчиняться приказам вышестоящего офицера, он должен быть подвергнут порке или предан смертной казни, по усмотрению командира корабля. Если человек совершает содомитский акт с другим членом экипажа или с животным из поголовья скота, находящегося на борту, он должен быть предан смертной казни…»— и так далее. По увесистости и размерам Устав не уступал Библии и вполне отвечал требованиям Крозье. Но не сегодня. Крозье нагнулся и с полки под кафедрой достал тяжелую книгу в кожаном переплете. Он положил ее перед собой с обнадеживающим глухим стуком. — Сегодня, — нараспев произнес он, — я буду читать из Книги Левиафана, часть первая, глава двенадцатая… По толпе пробежал приглушенный гул. Крозье услышал, как беззубый матрос в третьем ряду проворчал: «Я знаю чертову Библию, и там нет никакой чертовой Книги Левиафана». Крозье подождал, когда наступит тишина, и начал: — Что же касается до веры, которая состоит в суждениях о природе Незримых Сил… Интонации Крозье и ветхозаветный ритм фраз не оставляли сомнений в том, какие именно слова выделены заглавными буквами. — …то из всех творений, наделенных именем, нет таких, какие не почитались бы среди языческих племен, в том или ином краю, за порождения Бога или Дьявола; или не представлялись бы воображению языческого Поэта одушевленными, населенными или одержимыми тем или иным Духом. Бесформенная материя Мира являлась Богом по имени Хаос. Небо, Океан, Планеты, Огонь, Земля и Ветры были Богами. Мужчина, Женщина, Птица, Крокодил, Телец, Пес, Змея, Лук репчатый и Лук-порей обожествлялись. Кроме того, древние народы населили почти все места духами под общим названием «демоны»: поля и луга — панами, или сатирами; леса — фавнами и нимфами; море — тритонами и другими нимфами; каждую реку или источник — одноименным духом и нимфами; каждый дом — ларами, или пенатами; каждого человека — собственным гением; ад — призраками и бесплотными служителями, как Харон, Цербер и фурии; а все места в ночное время — ларвами, лемурами, призраками мертвых и великим множеством эльфов и гоблинов. Они также приписывали божественную природу и возводили храмы простым случайностям, явлениям и качествам, как то: Время, Ночь, День, Мир и Согласие, Любовь, Раздор, Добродетель, Честь, Здоровье, Лихорадка и тому подобное, призывая или прогоняя которые молитвой, они молились так, словно призраки поименованных сущностей витали над ними, и отторгали или удерживали то Добро или то Зло, которое призывали или прогоняли своей молитвой. Они также сопрягли свой собственный разум с именем Муз; свое собственное невежество — с именем Фортуны; свою похоть — с именем Купидона; свою ярость с именем Фурий; свои интимные части — с именем Приапа; и приписали свои ночные семяизвержения инкубам и суккубам — поскольку решительно все, что Поэт мог ввести в свою поэму вкачестве персонажа, они относили либо к Богу, либо к Дьяволу. Крозье помолчал и обвел взглядом напряженные бледные лица слушателей. — Так кончается глава двенадцатая части первой книги Левиафана, — сказал он и закрыл толстый том.
На обед в тот день люди получили горячие галеты и полные порции своей любимой соленой свинины. Сорок с лишним матросов с «Террора» теснились за опущенными обеденными столами или использовали в качестве столов бочки, а сидели на матросских сундуках. Гул оживленных голосов радовал слух. Все офицеры с обоих кораблей ели за длинным столом в бывшей каюте сэра Джона. Помимо обязательного противоцинготного лимонного сока (доктор Макдональд теперь волновался, что сок в пятигаллонных бочонках теряет свои целебные свойства), все матросы получили по дополнительной порции грога перед обедом. Капитан Фицджеймс достал из своих личных запасов (сэр Джон не взял на борт спиртного для своих нужд) три бутылки отличной мадеры и две бутылки бренди для офицеров и мичманского состава. Около трех часов пополудни по гражданскому времени люди с «Террора» оделись, попрощались со своими товарищами с «Эребуса», поднялись по главному трапу, выбрались из-под заиндевелого парусинового навеса и спустились по утрамбованному снежному откосу на темный лед, чтобы двинуться в долгий путь домой под все еще играющими в небе сполохами. Люди перешептывались и тихо переговаривались по поводу проповеди Крозье — большинство было уверено, что Книга Левиафана есть где-то в Библии. Но откуда бы она ни взялась, никто не понимал толком, что хотел сказать капитан своим выступлением, хотя после двойной порции рома мнений и догадок на сей счет появилось великое множество. Многие мужчины по-прежнему украдкой нащупывали свои амулеты из зубов и когтей белого медведя. Крозье, возглавлявший шествие, был почти уверен, что по возвращении они найдут Эдварда Литтла и вахтенных убитыми, доктора Макдональда растерзанным на части, а инженера мистера Томпсона разорванным на куски, разбросанные среди труб и клапанов бесполезного парового двигателя. Все оказалось в порядке. Лейтенанты Ходжсон и Ирвинг раздали свертки с лепешками и мясом, которые были еще теплыми, когда они покидали «Эребус» без малого час назад. Люди, несшие вахту на морозе, получили разрешение сначала выпить дополнительную порцию грога. Хотя Крозье продрог до костей — после относительного тепла битком набитой жилой палубы «Эребуса» холод снаружи казался еще более лютым, — он оставался на верхней палубе, пока вахтенные не сменились; теперь на пост дежурного офицера заступил Томас Блэнки, ледовый лоцман. Крозье знал, что матросы внизу сейчас примутся за воскресную починку обмундирования, уже с нетерпением ожидая чаепития, а затем ужина, состоящего из жалкой порции «Бедного Джона» — соленой трески с галетой, — и надеясь получить унцию сыра в придачу к своей половине пинты бертонского пива. Крепчающий ветер гнал снег через усеянные сераками ледяные поля по эту сторону громадного айсберга, заслонявшего собой «Эребус» на северо-востоке. Плотные облака заволакивали полярное сияние и звезды. Полдневный мрак заметно сгустился. Наконец, с мыслью о виски в своей каюте, Крозье спустился вниз.
20. Блэнки
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 5 декабря 1847 г.Через полчаса после того, как капитан и все остальные, вернувшиеся с богослужения на «Эребусе», спустились вниз, Том Блэнки уже не видел из-за снега ни фонарей вахтенных, ни грот-мачты. Ледовый лоцман был рад, что метель разыгралась именно сейчас: начнись она часом раньше — и их обратный путь с «Эребуса» превратился бы в сущий кошмар. В этот черный вечер вахту под командованием мистера Блэнки несли тридцатипятилетний Александр Берри — парень не шибко умный, знал Блэнки, но надежный и расторопный, — а также Джон Хэндфорд и Дэвид Лейс. Последнему, Лейсу, в конце ноября стукнуло сорок, и матросы устроили в честь именинника знатную вечеринку. Но Лейс был уже совсем не тем человеком, который нанялся в экспедицию Службы географических исследований два с половиной года назад. В начале ноября — всего за несколько дней до того, как чудовищный зверь вышиб мозги рядовому морской пехоты Хизеру, дежурившему у правого борта, и утащил с поста у левого борта молодого Билли Стронга, а позже ночью уволок молодого Тома Эванса, светившего фонарем капитану, когда все искали Стронга, — Дейви Лейс просто улегся в койку и перестал разговаривать. Почти на три недели Лейс просто покинул свое тело — глаза у него оставались открытыми и смотрели в пустоту, но он не реагировал на голоса, свет, крики, тычки или щипки. Большую часть времени он провел в лазарете и несколько дней лежал рядом с бедным рядовым Хизером, который лишился части черепа и мозга, но еще каким-то образом умудрялся дышать, — и пока Хизер продолжал хрипеть и задыхаться, Дейви лежал там сам по себе, уставившись немигающим взглядом в подволок, словно уже мертвый. Потом приступ закончился — так же неожиданно, как начался, — и Дейви снова стал таким, как прежде. Или почти таким, как прежде. Аппетит к нему вернулся — он потерял почти сорок фунтов за время своего пребывания вне тела, — но чувство юмора, присущее прежнему Дейви Лейсу, бесследно исчезло. Как исчезла непринужденная мальчишеская улыбка и готовность поддержать любой разговор за починкой одежды или за ужином. И волосы Дейви, которые в первую неделю ноября были рыжевато-каштановыми, стали совершенно белыми к тому времени, когда он вышел из своего оцепенения через неделю после того, как половины трупов Стронга и Эванса были найдены у фальшборта на корме. Поговаривали, что леди Безмолвная напустила на Лейса порчу. Томас Блэнки, свыше тридцати лет прослуживший ледовым лоцманом, не верил в злые чары. Он стыдился за мужчин, которые носили амулеты из когтей, зубов и хвостов полярного медведя, якобы защищающие от сглаза и порчи. Он знал, что несколько из самых необразованных матросов — собравшихся вокруг помощника конопатчика, Корнелиуса Хикки, которого он никогда не любил и не уважал, — распускают слухи, будто существо на льду является каким-то демоном или дьяволом, и знал также, что люди из окружения Хикки уже приносят жертвы чудовищу, оставляя свои дары перед носовым канатным ящиком, где пряталась леди Безмолвная, эскимосская ведьма. Хикки и его придурковатый друг Мэнсон, похоже, являлись верховными жрецами данного культа — точнее, Хикки являлся жрецом, а Мэнсон прислужником, выполнявшим все приказания Хикки, — и единственными, кому разрешалось относить разнообразные приношения в трюм. Блэнки недавно спускался туда, в кромешную тьму, холод и вонь, и преисполнился отвращением при виде оловянных тарелок с едой, свечных огарков, крохотных порций рома и прочих языческих жертв, положенных на ступеньку перед дверью канатного ящика, над подернутой льдом грязной жижей. Томас Блэнки не был натуралистом, но он чуть не всю жизнь провел в Арктике, служа матросом или ледовым лоцманом на американских китобойцах, когда военно-морской флот Великобритании не имел в нем надобности, и знал полярный регион лучше любого другого участника экспедиции. Хотя место, где они находились сейчас, было ему незнакомо — насколько Блэнки знал, доныне еще ни один корабль не заходил так далеко на юг от пролива Ланкастера и так далеко на запад от полуострова Бичи, — ужасные погодные условия Арктики были ему знакомы не хуже, чем лето в Кенте, где он родился. На самом деле даже лучше, осознал Блэнки. Он не видел кентского лета почти двадцать восемь лет. Снежная буря, бушевавшая сегодня ночью, была ему хорошо знакома, как и сплошные ледяные поля, сераки, скрежещущие торосные гряды, выталкивавшие бедный «Террор» все выше на постаменте из льда, который напирал на корабль со всех сторон, по капле выдавливая из него жизнь. Ледовый лоцман «Эребуса», Джеймс Рейд — человек, пользовавшийся глубоким уважением Блэнки, — сегодня после богослужения сообщил ему, что старому флагману, несчастному «Эребусу», уже недолго осталось. Кроме того, что дневной расход угля на нем сократили еще сильнее, чем на слабеющем «Терроре», лед взял корабль сэра Джона в еще более тесные и неумолимые тиски, чем год назад, когда они впервые намертво застряли здесь. Рейд шепотом сообщил, что, поскольку «Эребус» накренен к корме — в отличие от «Террора», имеющего крен на нос, — неослабное давление льда на флагман сэра Джона значительно сильнее и возрастает гораздо быстрее, выталкивая скрипящий, стонущий корабль все выше над поверхностью замерзшего моря. Расколотый в щепки руль и поврежденный киль уже не подлежат восстановлению вне сухого дока. Листы кормовой обшивки уже сорвало — в кормовом отсеке трюма уже три фута замерзшей воды, и только мешки с песком и водонепроницаемые перемычки не позволяют ледяному месиву хлынуть в котельную, — и толстые дубовые бимсы, прослужившие не одно десятилетие в военное и мирное время, раскалываются. Что еще хуже, паутины железных конструкций, установленных в 1845-м для придания «Эребусу» прочности, теперь постоянно трещат под ужасным давлением льда. Время от времени металлические стойки малого сечения лопаются в местах соединений со звуком пушечного выстрела. Такое часто случается среди ночи, и люди рывком садятся в койках, определяют природу оглушительного треска и возвращаются ко сну с тихими проклятиями. Капитан Фицджеймс обычно спускается в трюм в сопровождении нескольких офицеров, чтобы обследовать очередное повреждение. Подкосы потолще выдержат, сказал Рейд, но при этом проломят деформированную дубовую и железную обшивку корпуса. Когда это произойдет, корабль затонет в любом случае. Ледовый лоцман «Эребуса» сказал, что корабельный плотник Джон Уикс проводит в трюме и на средней палубе все дни, а нередко и половину ночи, с командой из десяти человек, самое малое, устанавливая повсюду пиллерсы и подкосы из толстых досок — на каковое дело пошли все запасы строительного леса, имевшиеся на борту «Эребуса», и значительная часть материалов, потихоньку позаимствованных на «Терроре», — но возведенные деревянные конструкции укрепят корабль, в лучшем случае, лишь на время. Если они не вырвутся из ледового плена к апрелю или маю, сказал Рейд со слов Уикса, «Эребус» раздавит как скорлупку. Томас Блэнки хорошо знал лед. В начале лета 1846-го, когда он вел сэра Джона и его капитана на юг по длинному каналу и вновь открытому проливу к югу от пролива Барроу (в судовых журналах новый пролив оставался безымянным, но некоторые уже называли его именем Франклина, словно от того, что пролив, ставший ловушкой для покойного старого болвана, получил такое название, призраку последнего станет легче смириться с тем фактом, что жуткий зверь утащил его под лед), Блэнки постоянно находился на своем посту на верхушке грот-мачты, выкрикивая указания рулевому, пока «Террор» и «Эребус» медленно преодолевали более двухсот пятидесяти миль пути между перемещающимися ледяными полями, по неуклонно сужающимся разводьям и тупиковым протокам. Томас Блэнки был мастером своего дела. Он знал, что является одним из лучших ледовых лоцманов в мире. Со своего опасного поста на верхушке грот-мачты (на старых военных кораблях не было «вороньих гнезд», как на простом китобойце) Блэнки видел разницу между дрейфующим льдом и шугой на расстоянии восьми миль. Ночью во сне он всегда сразу слышал, когда корабль выходил из хлюпающего «сала» в скрежещущий блинчатый лед. Он с первого взгляда мог сказать, какие флоберги следует обойти стороной, а какие можно таранить. Каким-то образом его немолодые глаза различали скрытые под водой бело-голубые обломки айсбергов в бело-голубом море, ослепительно сверкающем в солнечных лучах, и даже видели, какие из них просто со скрежетом и грохотом проскользят вдоль корпуса корабля, а какие — как настоящие айсберги — представляют опасность для судна. Блэнки гордился работой, которую проделали они с Рейдом, проведя оба корабля на двести пятьдесят с лишним миль к югу, а потом к западу от места первого зимовья у островов Бичи и Девон. Но Томас Блэнки также ругал себя последними словами за то, что помог провести два корабля со ста двадцатью шестью душами на борту на двести пятьдесят миль к югу, а потом к западу от места зимовья у Бичи и Девона. Корабли могли вернуться от острова Девон к проливу Ланкастера и по нему пройти в Баффинов залив, даже если бы им пришлось переждать два — пусть три — холодных лета, чтобы вырваться из ледового плена. Маленькая бухта у Бичи защитила бы корабли от бесчинств, какие лед творит в открытом море. И рано или поздно лед в проливе Ланкастера начал бы таять. Томас Блэнки знал тот лед. Он был таким, каким и полагается быть арктическому льду, — коварным, смертоносным, готовым уничтожить вас после одного-единственного неверного решения или самой ничтожной оплошности, но предсказуемым. Но с таким льдом, подумал Блэнки, с притопом расхаживая взад-вперед по темной корме, чтобы ноги не замерзали, и видя тусклый свет фонарей у левого и правого борта, где расхаживали Берри и Хэндфорд со своими дробовиками, с таким льдом он еще не сталкивался никогда прежде. Они с Рейдом предупреждали сэра Джона и двух капитанов в позапрошлом сентябре, незадолго перед тем, как корабли вмерзли в лед. Блэнки посоветовал «сделать рывок», сойдясь с капитаном Крозье во мнении, что им следует обратиться в бегство, пока еще остаются хоть самые узкие каналы, и отыскать свободную от льда воду по возможности ближе к полуострову Бутия и по возможности быстрее. Там, рядом со знакомым берегом — по крайней мере, восточный берег полуострова был знаком ветеранам Службы географических исследований и старым китобоям вроде Блэнки, — море наверняка не замерзло бы еще неделю, а то и две, в том памятном сентябре, когда они упустили возможность спастись. Даже если бы они не смогли пройти под паром на север вдоль побережья из-за потоков кочковатого льда и из-за многолетнего пака — мертвого пака, по выражению Рейда, — они были бы в гораздо большей безопасности под прикрытием массива суши, который, как они знали теперь, после предпринятой прошлым летом санной экспедиции покойного лейтенанта Гора, является островом — или полуостровом — Кинг-Уильям, открытым Джеймсом Россом. Этот массив суши — пусть плоский, покрытый льдом, продуваемый ветрами и притягивающий молнии, как они теперь знали, — все же защитил бы корабли от посланного Дьяволом постоянного северо-западного арктического ветра, метелей, мороза и бескрайнего глетчерного морского льда. Блэнки никогда прежде не видел такого льда. Одним из немногих преимуществ пакового льда — даже если ваш корабль вмерз в него, точно мушкетная пуля, выпущенная в айсберг, — является то обстоятельство, что пак дрейфует. Корабли, с виду неподвижные, на самом деле движутся. Когда в тридцать шестом году Блэнки служил ледовым лоцманом на американском китобое «Плурибус», зима с ревущими снежными бурями наступила двадцать шестого августа, застав врасплох всех, включая бывалого одноглазого капитана, затерев корабль льдами в Баффиновом заливе в сотнях миль от залива Диско. Следующее арктическое лето выдалось скверное — почти такое же холодное, как нынешнее лето 1847 года, когда лед так и не растаял, воздух не прогрелся, и ни птицы, ни другие представители местной фауны не вернулись, — но китобоец «Плурибус» вмерз в предсказуемый паковый лед и более семисот миль дрейфовал с ним на юг, пока наконец в последних числах августа они не достигли полосы ледяных потоков и не умудрились пройти через моря «сала», узкие каналы и так называемые полыньи (таким словом один русский капитан, знакомый Блэнки, обозначал трещины во льду, открывающиеся прямо у вас на глазах) в чистые воды, откуда двинулись на юго-восток, в гренландский порт, чтобы встать на ремонт. Но здесь на такое рассчитывать не приходилось, знал Блэнки. Здесь, в этом поистине Богом забытом белом аду. Этот паковый лед, как он говорил капитанам год и три месяца назад, больше походил на бескрайний глетчер, принесенный течением с Северного полюса. И здесь — где к юго-западу от них простирались по большей части неисследованные территории канадской Арктики, а полуостров Бутия находился вне досягаемости к востоку и северо-востоку, — не наблюдалось никакого настоящего дрейфа льда, о чем постоянно говорили показания солнечных и звездных секстантов, — только тошнотворное вращение по кругу с длиной окружности в пятнадцать миль. Словно мухи, наколотые на штырьки одного из металлических музыкальных дисков, которыми никто в кают-компании уже давно не пользовался, они совершали бесконечное круговое движение, снова и снова возвращаясь к исходной точке. И этот паковый лед больше походил на сплоченный прибрежный лед, или припай, — только здесь, в открытом море, он имел толщину от двадцати до двадцати пяти футов вместо трех, обычных для припая, и при такой толщине льда капитаны не могли поддерживать в открытом состоянии пожарные проруби, которые все затертые льдами корабли держали открытыми всю зиму. Этот лед — этот порожденный Дьяволом глетчерный лед с полюса — даже не позволял им похоронить своих мертвецов. Томас Блэнки задался вопросом, не являлся ли он орудием зла — или возможно, просто глупости, — когда использовал весь свой тридцатилетний опыт ледового лоцмана, чтобы провести корабли по пути в двести пятьдесят миль, через непроходимые льды, и доставить сто двадцать шесть человек к этому ужасному месту, где им оставалось лишь умереть. Внезапно раздался крик. Потом грохот выстрела. Потом снова крик.
21. Блэнки
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 5 декабря 1847 г.Блэнки сдернул зубами рукавицу с правой руки, бросил ее на палубу и вскинул свой дробовик. Традиция предписывала дежурным офицерам нести вахту безоружными, но капитан Крозье приказом положил конец этой традиции. Все люди на верхней палубе в любой час дня и ночи должны были иметь при себе оружие. Тонкая шерстяная перчатка, надетая под рукавицей, позволяла Блэнки просунуть палец в спусковую скобу дробовика, но рука мгновенно застыла на ледяном ветру. Фонарь матроса Берри, стоявшего на посту у левого борта, исчез из вида. Казалось, выстрел раздался слева от зимнего парусинового навеса посреди палубы, но ледовый лоцман знал, что ветер и снег искажают звуки. Блэнки по-прежнему видел тусклый свет фонаря у правого борта, но он прыгал и двигался. — Берри? — крикнул Блэнки в сторону погруженного во тьму левого борта. Он почти физически почувствовал, как воющий ветер подхватил два слога и швырнул обратно к корме. — Хэндфорд? Теперь исчез и слабый свет фонаря у левого борта. Фонарь Дейви Лейса на носу был бы виден с кормы в ясную ночь, но эта ночь была отнюдь не ясной. — Хэндфорд? Мистер Блэнки двинулся вперед с намерением обойти парусиновый шатер со стороны левого борта, держа дробовик в правой руке, а фонарь в левой. В кармане у него лежали еще три патрона, но он по опыту знал, сколько времени потребуется, чтобы вытащить их и зарядить ружье на таком морозе. — Берри! — проорал он. — Хэндфорд! Лейс! Теперь, вдобавок ко всему прочему, существовала опасность, что трое мужчин перестреляют друг друга во вьюжной мгле на наклонной обледенелой палубе, хотя, судя по всему, Алекс Берри уже разрядил свой дробовик. Второго выстрела не последовало. Но Блэнки знал, что, если он начнет обходить заиндевелый парусиновый навес со стороны левого борта, а Хэндфорд и Лейс внезапно выйдут навстречу, напуганные мужчины могут пальнуть во что угодно — даже в движущийся фонарь. И все же он продолжал идти вперед. — Берри? — крикнул он, когда до поста у левого борта оставалось ярдов десять. Краем глаза он заметил какое-то движение во вьюжном мраке — неясная тень, много превосходящая размерами человеческую фигуру, — а потом раздался грохот громче любого ружейного выстрела. В следующий миг прогремел второй выстрел. Блэнки, шатаясь, отступил к корме шагов на десять; бочки, бочонки, ящики и прочие предметы корабельного имущества взлетели в воздух. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что произошло: обледенелый парусиновый шатер посреди палубы, растянутый к носу и корме, внезапно рухнул, разбросав во все стороны сотни фунтов скопившегося на нем льда и снега и разметав по палубе хранившиеся под ним припасы — в основном бочонки с легковоспламеняемой смолой, материалы для конопачения и ящики с песком, которым посыпали снег, намеренно оставленный на палубе для лучшей теплоизоляции; нижние реи грот-мачты, более года назад развернутые вдоль продольной оси судна и служившие своего рода коньковым брусом для навеса, с грохотом обрушились на главный люк. Теперь, когда тяжесть парусины, снега и реи придавливала крышку люка, Блэнки и остальные трое вахтенных не могли спуститься на жилую палубу, и оттуда никто не мог подняться наверх, чтобы выяснить причину грохота. Ледовый лоцман знал, что люди внизу вскоре бросятся к заколоченному на зиму носовому люку и начнут открывать его, но на это уйдет время. «Интересно, будем ли мы еще живы, когда они поднимутся на палубу?» — подумал Блэнки. Двигаясь со всей возможной осторожностью по усыпанному песком утрамбованному снегу, покрывавшему покатую палубу, Блэнки обошел груду обломков позади рухнувшего навеса и двинулся по узкому проходу, остававшемуся вдоль правого борта. Перед ним выросла расплывчатая фигура. Продолжая держать фонарь в левой руке, Блэнки вскинул дробовик, готовясь спустить курок. – Хэндфорд! — воскликнул он, увидев бледное пятно лица посреди темной массы накрученных на голову шарфов. «Уэльский парик» мужчины находился в беспорядке. — Где ваш фонарь? – Я уронил его. — Матрос был без рукавиц и перчаток и сильно дрожал. Он придвинулся ближе к Томасу Блэнки, словно ледовый лоцман являлся источником тепла. — Уронил, когда это существо сломало рей. Фонарь упал и погас. – Что значит «когда существо сломало рей»? — раздраженно осведомился Блэнки. — Ни один зверь на свете не в состоянии сломать рей. – А оно сломало! — сказал Хэндфорд. — Я услышал выстрел дробовика. Потом Берри прокричал что-то. Потом его фонарь погас. Потом я увидел, как что-то… громадное, страшно громадное… запрыгнуло на рей, и именно тогда все рухнуло. Я попытался выстрелить в существо, но ружье дало осечку. Я оставил его у планширя. «Запрыгнуло на рей?» — подумал Блэнки. Рей грот-мачты находился на высоте двенадцати футов над палубой. Ни один зверь не мог запрыгнуть на него. И сейчас, когда мачта обросла ледяным панцирем, ни один зверь не мог и залезть на нее. Вслух он сказал: — Нам нужно найти Берри. — Ничто на свете не заставит меня пойти к левому борту, мистер Блэнки. Делайте со мной что угодно, прикажите боцману Джонсону всыпать мне пятьдесят плетей, но я ни за какие блага в мире не пойду туда, мистер Блэнки. — Зубы у Хэндфорда стучали так сильно, что Блэнки с трудом разбирал слова. — Успокойтесь, — резко сказал Блэнки. — Никто никого не собирается наказывать. Где Лейс? Отсюда Блэнки должен был бы видеть фонарь Дэвида Лейса, горящий на носу. Но носовую часть палубы окутывала тьма. – Его фонарь погас одновременно с моим, — проговорил Хэндфорд, стуча зубами. – Подите возьмите свой дробовик. – Я не могу вернуться туда… — начал Хэндфорд. – Черт тебя побери! — проревел Томас Блэнки. — Если ты, твою мать, не возьмешь ружье сию же минуту, пятьдесят плетей покажутся тебе сущим пустяком по сравнению с тем, что тебя ожидает, Джон Хэндфорд. А ну, живо! Хэндфорд тронулся с места. Блэнки последовал за ним, ни на миг не поворачиваясь спиной к груде парусины посреди палубы. Свет фонаря еле рассеивал метельную тьму, образуя сферу диаметром всего лишь футов десять, если не меньше. Ледовый лоцман по-прежнему держал дробовик наготове. Обе руки у него ныли от усталости. Хэндфорд безуспешно пытался поднять дробовик явно онемевшими от холода руками. — Где, черт возьми, твои перчатки и рукавицы, приятель? — раздраженно спросил Блэнки. Он оттолкнул матроса в сторону и сам поднял дробовик. Убедившись, что ствол не забит снегом, он протянул оружие Хэндфорду. В конце концов Блэнки пришлось запихнуть ружье матросу под мышку, чтобы тот поддерживал его обеими окоченевшими руками. Зажав под мышкой свой собственный дробовик, Блэнки выудил из кармана патрон, зарядил ружье Хэндфорда и взвел курок. — Если из-за этой груды появится кто-нибудь крупнее меня или Лейса, — прокричал он в ухо Хэндфорду, перекрывая вой ветра, — целься и спускай курок, хоть своими чертовыми зубами. Хэндфорд сумел кивнуть. — Я пойду вперед, чтобы найти Лейса и помочь ему открыть передний люк, — сказал Блэнки. В носовой части палубы, среди темной груды обледенелой парусины, обломков рея и перевернутых ящиков, не наблюдалось никакого движения. — Я не могу… — начал Хэндфорд. — Просто стой, где стоишь, — резко сказал Блэнки. Он поставил фонарь на палубу рядом с до смерти напуганным мужчиной. — Не вздумай пальнуть в меня, когда я вернусь с Лейсом, — или, Богом клянусь, мой призрак будет преследовать тебя до самой твоей смерти, Джон Хэндфорд. Хэндфорд снова кивнул: бледное пятно лица качнулось вперед. Блэнки двинулся к носу. Через дюжину шагов он оказался за пределами круга света от фонаря, но ночное зрение все не возвращалось. Твердые крупинки снега болезненно секли лицо. Крепчающий ветер над головой завывал в остатках растрепанных, изорванных снастей. Здесь было так темно, что Блэнки пришлось взять дробовик в левую руку — руку в рукавице, — чтобы правой нащупывать обледенелый планширь. Насколько он мог судить, и здесь, ближе к носу, рей грот-мачты тоже сломался и обрушился на палубу. — Лейс! — крикнул он. Громадная фигура, мутно-белая в метельном мраке, выросла над грудой парусины и преградила Блэнки путь. В такой темноте ледовый лоцман не видел, является ли существо белым медведем или демоном и находится ли оно в десяти футах от него или в тридцати, но он ясно видел, что оно полностью преградило путь к носу. Потом оно встало на задние лапы. Блэнки видел только расплывчатый серый силуэт существа, о размерах которого мог судить лишь по тому, что оно заслонило его от вьюжного ветра, но зверь был поистине огромным. Крохотная треугольная голова — если там, в темноте, он видел действительно голову — поднималась выше уровня рея, недавно служившего коньковым брусом для парусиновой крыши. В белесом треугольнике головы он разглядел две черных дыры — глаза? — но они находились на высоте по меньшей мере четырнадцати футов над палубой. «Этого не может быть», — подумал Томас Блэнки. Существо двинулось к нему. Блэнки перекинул дробовик в правую руку, упер приклад в плечо, подхватил ложе рукой в рукавице и спустил курок. Когда полыхнуло пламя, ледовый лоцман на долю секунды увидел черные, мертвые акульи глаза, вперенные в него, — нет, вовсе не акульи, осознал он в следующий миг, ослепленный вспышкой выстрела, а два черных круглых глаза, гораздо более злобных и осмысленных, чем даже у акулы, — и безжалостный, неподвижный взгляд хищника, видящего в вас лишь добычу. И эти бездонные черные глаза находились высоко над ним — над широченными, шире размаха рук Блэнки, плечами — и стали приближаться к нему, когда громадная фигура подалась вперед. Блэнки швырнул в существо дробовик — времени перезаряжать его не было — и прыгнул к вантам. Только благодаря сорокалетнему опыту плаваний ледовый лоцман, даже не попытавшись ничего рассмотреть в метельной тьме, не промахнулся мимо обледенелых вант. Он вцепился в них правой рукой без рукавицы, рывком подтянул ноги, судорожно нашарил башмаками выбленки, стянул зубами левую рукавицу и начал карабкаться вверх, вися чуть не вниз головой на внутренней стороне косо натянутых над палубой тросов. В шести дюймах под ним что-то рассекло воздух с силой двухтонного тарана, раскачанного в полный размах. Блэнки услышал, как три толстых продольных троса трещат, рвутся… не может быть!.. и лопаются, со свистом взлетая вверх и едва не сбрасывая Блэнки на палубу. Он с трудом удержался. Перебросив левую ногу на внешнюю сторону уцелевших вант, он нашел опору на обледенелой выбленке и начал карабкаться выше, ни на секунду не останавливаясь. Томас Блэнки двигался с проворством мартышки, точным подобием которой он являлся в возрасте двенадцати лет, когда считал, что мачты, паруса, ванты и верхний такелаж трехмачтового военного корабля, где он служил юнгой, — все придумано и изготовлено служащими британского военно-морского флота единственно для его удовольствия и развлечения. Он находился уже на высоте двадцати футов над палубой и приближался к марсарею — развернутому, как положено, под прямым углом к продольной оси корабля, — когда жуткий зверь внизу снова ударил по вантам у основания, сбивая ледяной панцирь с планширя, с мясом вырывая болты, кофель-нагели и железные блоки из гнезд. Оборванные снасти взвились вверх, устремляясь к мачте. Блэнки знал, что от тяжелого удара обледенелых тросов он сорвется и кувырком полетит вниз, в лапы и зубы чудовища. По-прежнему ничего не видя в темноте дальше чем на пять футов, ледовый лоцман прыгнул к грота-марс-рею. Окоченевшими руками он ухватился за рей и леер над ним, одновременно найдя одной ногой пятнерс. Перемещаться по пятнерсам удобнее было бы босиком, знал Блэнки, но только не сегодня. Подтянувшись, он забрался на грота-марс-рей, находящийся на высоте более двадцати пяти футов над палубой, и обхватил обледенелый дубовый брус руками, припав к нему всем телом, точно перепуганный всадник на понесшем коне, и лихорадочно шаря ногами в поисках пятнерса, чтобы в него упереться. При обычных обстоятельствах, даже в темноте, на сильном ветру со снегом, любой приличный матрос без особого труда забрался бы еще на шестьдесят футов выше, к верхним реям и такелажу, и достиг бы салинга, откуда мог бы выкрикивать оскорбления своему обескураженному преследователю, словно шимпанзе, швыряющее вниз кокосы с абсолютно недосягаемой высоты. Но в эту декабрьскую ночь на «Терроре» не было верхних реев и такелажа. Здесь, наверху, не было места, где мог бы чувствовать себя в полной безопасности человек, удирающий от существа невероятной силы, способного сломать грота-рей. Год назад, в сентябре, Блэнки помогал Крозье и Гарри Пеглару, фор-марсовому старшине, когда они готовили «Террор» к зимовке во второй раз за время экспедиции. Работа была непростая и небезопасная. Они сняли и уложили на хранение под палубой реи и снасти бегучего такелажа. Потом с великой осторожностью сняли брам-стеньги и стеньги — с великой осторожностью, поскольку при малейшей ошибке в обращении с лебедкой и шкивом или при внезапном запутывании снастей тяжелые мачты могли рухнуть вниз, пробив все палубы и днище корабля, как массивное копье пробивает доспехи. Но если бы верхний рангоут остался на месте, за бесконечную зиму на нем наросли бы многие тонны льда. Тогда ледяные обломки постоянно сыпались бы вниз подобием снарядов, угрожая жизни вахтенных и прочих людей на палубе, а кроме того, от тяжести наросшего льда корабль мог перевернуться. Когда на палубе остались лишь три жалких обрубка мачт (для моряка зрелище столь же безобразное, как безногий инвалид для художника), Блэнки помог проследить за тем, чтобы все оставшиеся снасти стоячего такелажа были ослаблены: излишне сильно натянутая парусина и тросы просто не выдержали бы веса снега и льда. Даже шлюпки «Террора» — два больших вельбота и два тендера поменьше — были сняты со своих мест, перевернуты вверх днищем и уложены на лед. Сейчас Томас Блэнки находился на грота-марс-рее, на высоте двадцати пяти футов над палубой, и выше оставался всего один рей, причем все тросы, ведущие к третьему и последнему рею, обросли толстой и скользкой ледяной коркой. Сама грот-мачта представляла собой ледяной столб, облепленный спереди снегом. Ледовый лоцман покрепче обхватил рей ногами и напряженно всмотрелся в метельный мрак внизу. Там царила кромешная тьма. Хэндфорд либо погасил фонарь, либо кто-то сделал это за него. Блэнки решил, что матрос либо трусливо прячется в темноте, либо уже погиб; в любом случае помощи от него ждать не приходилось. Распластанный над пятнерсами Блэнки посмотрел налево и увидел, что на носу, где стоял вахту Дэвид Лейс, фонарь тоже не светит. Блэнки прищурился, силясь разглядеть получше существо внизу, но там все находилось в движении — разорванная парусина хлопала на ветру, по наклонной палубе катились бочонки и скользили упаковочные клети, — и он сумел различить в густом мраке лишь расплывчатую темную фигуру, которая пробиралась к грот-мачте, раскидывая в стороны трехсотфунтовые бочонки с песком, точно полые кегли. «Оно не сможет взобраться по мачте», — подумал Блэнки. Он чувствовал пронизывающий холод рея ногами, грудью и пахом. Пальцы рук в тонких перчатках начинали неметь. Он где-то потерял свой «уэльский парик» и шерстяной шарф. Он напряг слух и зрение, надеясь услышать стук откинутой крышки переднего люка и крики мужчин, надеясь увидеть горящие фонари многочисленной спасательной команды, но носовая часть палубы оставалась погруженной во тьму. «Неужели оно чем-то завалило и передний люк тоже? Ладно, по крайней мере оно не сможет залезть на мачту. Ни одно существо таких размеров не способно на это. Ни один белый медведь — если это белый медведь — не имеет подобного опыта». Существо начало карабкаться вверх по ослабленной грот-мачте. Блэнки чувствовал, как она сотрясается всякий раз, когда чудовище вонзает когти в дерево. Он слышал глухие шлепки, царапающие звуки и ворчание… густое, утробное ворчание… Существо карабкалось вверх. По всей вероятности, оно уже достигло уровня грота-рея. Блэнки напряженно всмотрелся в темноту и различил, как ему показалось, мохнатое мускулистое тело, голову и гигантские передние лапы — или руки — длиной в человеческий рост, которые уже вцепились когтями в мачту выше уровня грота-рея, в то время как мощные задние лапы, с такими же когтями, оперлись на расщепленные обломки, оставшиеся от грота-рея. Блэнки медленно пополз вперед по обледенелому грота-марс-рею, крепко обхватывая руками и ногами сотрясаемый ветром десятидюймовый круглый брус, словно неистовый любовник — предмет своей страсти. На обращенной к носу стороне неуклонно сужающегося рея, поверх ледяного панциря, налип двухдюймовый слой свежего снега. Блэнки упирался ногами в пятнерсы. Громадное существо на грот-мачте достигло уровня грота-марс-рея, на котором находился Блэнки. Ледовый лоцман мог видеть гигантского зверя, только сильно выворачивая голову и глядя через плечо, да и тогда различал чудовище лишь как огромную бледную пустоту, поглощающую часть мачты. Внезапно рей сотряс толчок столь мощный, что Блэнки буквально взлетел в воздух, а потом рухнул обратно, больно ушибив яйца и живот и задохнувшись от удара о брус. Он точно сорвался бы вниз, если бы обе руки и одна нога у него не были крепко опутаны пятнерсами, находящимися прямо под обледенелым реем. По ощущениям казалось, будто железная лошадь, взбрыкнув, подбросила Блэнки на два фута в воздух. Последовал второй удар, от которого Блэнки подкинуло бы на пять футов в темноту в тридцати футах над палубой, но он успел подготовиться, вцепившись в брус со всей мочи. Однако сотрясение было настолько сильным, что Блэнки соскользнул с обледенелого рея и беспомощно повис под ним, с по-прежнему запутанными в пятнерсах онемевшими руками и ногой. Он с трудом подтянулся и заполз обратно на рей, когда последовал третий и самый сильный удар. Ледовый лоцман услышал треск, почувствовал, как толстый брус подается вниз, и осознал, что всего через несколько секунд — или время, через которое передняя лапа невероятного размера и невообразимой силы нанесет заключительный удар, — он сам, рей, леера, пятнерсы, шкоты и бешено раскачивающиеся снасти стоячего такелажа рухнут с двадцатипятифутовой высоты на палубу, заваленную парусиной, обломками рея, бочонками и ящиками. Блэнки сделал невозможное. На наклонном, трещащем, обледенелом рее он поднялся сначала на колени, потом на ноги, разъезжавшиеся на покрытой снегом скользкой поверхности бруса, несколько секунд постоял, комично и нелепо размахивая руками, чтобы удержать равновесие на воющем ветру, а затем прыгнул в темноту, выставив вперед руки с намерением ухватиться за один из невидимых шкотов, который должен был находиться, мог находиться где-то там, если принять в расчет наклон корабля на нос и напор метельного ветра на тонкие тросы, а также сделать поправку на сильную вибрацию грота-марс-рея, сотрясаемого непрерывными ударами жуткого существа. Блэнки промахнулся руками мимо единственного троса, болтающегося в темноте. Он ударился об него замерзшим лицом, но в падении все же успел ухватиться за него, проскользил по нему всего футов на шесть вниз, а потом начал лихорадочно карабкаться вверх, к третьему и последнему рею на укороченной грот-мачте, находившемуся на высоте менее пятидесяти футов над палубой. Под ним раздался рев. Потом грохот рухнувшего на палубу грота-марс-рея со снастями бегучего и стоячего такелажа. Потом еще громче прозвучал рев чудовища, сидевшего на мачте. Этот шкот представлял собой тонкий пеньковый канат, болтающийся на расстоянии ярдов восьми от мачты. Он предназначался для того, чтобы быстро спускаться по нему с салинга или верхних реев, но не для того, чтобы по нему подниматься. Но Блэнки стал подниматься. Хотя трос был покрыт ледяной коркой и раскачивался на ветру, хотя Томас Блэнки больше не чувствовал пальцев на правой руке, он карабкался по тросу с проворством четырнадцатилетнего гардемарина, резвящегося на верхних вантах вместе с другими мальчишками после ужина тропическим вечером. Он не смог забраться на верхний рей, обросший слишком толстым ледяным панцирем, но нашел подвернутые обледенелые пятнерсы под ним и перелез на них с троса. Куски льда, отколовшиеся с распущенных пятнерсов, полетели вниз. Блэнки показалось, что он слышит стук и треск в носовой части палубы, словно Крозье и матросы взламывали наглухо задраенный передний люк топорами. Распластавшись на обледенелых пятнерсах, как паук, Блэнки посмотрел вниз и влево. Либо метель несколько утихла, либо ночное зрение у него отчасти восстановилось, либо и первое и второе. Он видел чудовище. Оно продолжало упорно карабкаться вверх, к третьему и последнему рею. Оно казалось таким огромным на грот-мачте, что походило на крупного кота, взбирающегося по слишком тонкому стволу молодого деревца. Только, разумеется, подумал Блэнки, у него нет решительно ничего общего с котом, если не считать того единственного факта, что оно передвигается, глубоко вонзая когти в обросшую ледяным панцирем дубовую мачту, укрепленную железными ободьями, от которой пушечные снаряды среднего калибра отскакивают, как мячики. Блэнки медленно перемещался по пятнерсам к концу рея; подвернутый замерзший парус трещал, точно перекрахмаленный миткаль, и куски льда дождем сыпались с него вниз. Гигантский зверь достиг уровня третьего рея. Блэнки почувствовал, как рей сотрясается, а потом проседает, когда громадное существо переносит на него часть своего веса. Представив, как оно забрасывает огромные передние лапы на рей по обе стороны от мачты, представив, как одна мощная лапа шириной с его грудь поднимается, чтобы нанести удар по брусу, более тонкому, чем два предыдущих, Блэнки пополз быстрее. Он уже находился почти в сорока футах от мачты, уже за пределами палубы, темневшей в пятидесяти футах внизу. Матрос, сорвавшийся с рея или с пятнерсов здесь, упал бы в море. Если Блэнки сорвется, он упадет на лед с высоты шестидесяти футов. Голова и плечи Блэнки внезапно запутались в каких-то тросах — все кончено, он попал в ловушку, — и в первый момент он едва не завопил от ужаса. Но в следующий миг понял, что это такое: снасти стоячего такелажа, ванты с выбленками, изначально натянутые между бортом и вторым салингом, но на зиму перекинутые на верхушку укороченной грот-мачты, чтобы рабочие команды могли скалывать здесь лед. Снасти такелажа правого борта, вырванные из многочисленных креплений на палубе двумя ударами гигантской лапы. Сейчас достаточно сильно обросшие льдом, чтобы сеть из продольных и поперечных тросов приобрела свойства паруса и, подхваченная ветром, отлетела далеко за правый борт судна. И снова Блэнки действовал без раздумий. Раздумывать над такого рода следующим шагом, на высоте шестидесяти с лишним футов над льдом, значило принять решение отказаться от него. Он перепрыгнул со скрипящих пятнерсов на раскачивающиеся ванты. Как он и ожидал, под тяжестью его тела ванты полетели обратно к грот-мачте. Он пронесся в футе от громадного мохнатого чудовища. В темноте было трудно рассмотреть что-либо, помимо общих очертаний ужасной фигуры, но треугольная голова, размером с туловище Блэнки, резко повернулась на шее, слишком длинной и гибкой, чтобы принадлежать существу посюстороннему, и зубы длиннее окоченевших пальцев Блэнки громко лязгнули, сомкнувшись в воздухе прямо у него за спиной. Ледовый лоцман почувствовал зловонное дыхание чудовища — жаркое дыхание хищного зверя, с запахом гнилого мяса, а не с тяжелым рыбным духом, исходившим из открытых пастей полярных медведей, которых они убивали и свежевали на льду. Смрадный запах разложившейся человеческой плоти, смешанной с серой, накатил на него горячей волной, точно струя воздуха, вырывающаяся из открытой топки парового котла. В тот момент Томас Блэнки понял, что матросы, которых он мысленно обзывал суеверными дураками, на самом деле правы: это существо являлось столько же демоном, сколько животным из плоти, крови и белого меха. Оно являлось воплощением некой силы, которую надлежало ублаготворять, которой следовало поклоняться — или же просто спасаться от нее бегством. Пролетая над серединой палубы, он на мгновение испугался, что тросы под ним зацепятся за обломки реев или наткнутся на снасти стоячего такелажа левого борта, и тогда существу останется лишь подтянуть наверх оборванные ванты вместе с ним, точно рыболовную сеть с большой рыбой, но инерция движения, приданная тросам весом Блэнки, унесла его на пятнадцать или больше футов запродольную ось судна, к левому борту. Теперь снасти собирались качнуться в обратном направлении и отнести Блэнки прямо к левой передней лапе чудовища, которую оно уже вытягивало в метельном мраке, чтобы схватить добычу. Блэнки извернулся всем телом, бросая свой вес в сторону носа, почувствовал, как неповоротливые обледенелые ванты меняют направление движения, а потом повис на руках, болтая ногами в попытке нашарить третий рей со стороны левого борта. Он зацепился за него башмаком, пролетая над ним. Подошва проехалась по обледенелому брусу и соскользнула, но, когда ванты качнулись в обратном направлении, Блэнки нашел рей обеими ногами и оттолкнулся от него изо всей силы. Ванты снова пролетели мимо грот-мачты, но на сей раз уклоняясь в сторону кормы. Блэнки по-прежнему висел на руках, дрыгая ногами в воздухе на высоте пятидесяти футов над рухнувшим парусиновым тентом и разбросанными по палубе запасами корабельного имущества, и он подтянулся к тросам по возможности ближе, когда проносился мимо грот-мачты и существа, подстерегавшего его там. Когтистая лапа рассекла воздух меньше чем в пяти дюймах от его спины. Несмотря на весь свой ужас, Блэнки почувствовал удивление, смешанное с восхищением: он знал, что после толчка ногами его отнесло почти на десять футов от грот-мачты. Должно быть, существо — или Дьявол — глубоко вонзило когти правой лапы — или руки — в мачту, а само повисло в воздухе, выбрасывая к нему левую когтистую лапу. Но оно промахнулось. Оно не промахнется, когда Блэнки качнется обратно, ближе к грот-мачте. Блэнки схватился за крайнюю ванту и заскользил вниз по ней с такой скоростью, с какой скользил бы по обычному канату, обдирая онемевшие пальцы о поперечные тросы, передвигаясь рывками и каждую секунду рискуя сорваться вниз, в темноту. Концы вант достигли крайней точки своей дуги — где-то за планширем правого борта — и начинали движение в обратном направлении. «Все еще слишком высоко», — подумал Блэнки, когда снасти качнулись назад к грот-мачте. Существо легко могло схватить тросы, пролетающие над средней линией судна, но теперь Блэнки находился двадцатью футами ниже уровня третьего рея и спускался все ниже, лихорадочно перебирая руками выбленки. Существо начало подтягивать наверх всю массу снастей. «Просто уму непостижимо, какая жуткая силища», — успел подумать Томас Блэнки, когда целая тонна или полторы обледенелых снастей с висящим на них человеческим существом стала рывками подниматься наверх, выбираемая с такой легкостью и уверенностью, с какой рыбак вытаскивает из воды сеть с рыбой. Ледовый лоцман сделал то, что решил сделать в последние десять секунд своего полета обратно к грот-мачте: продолжая скользить вниз по вантам, он одновременно принялся раскачиваться всем телом взад-вперед — представляя себя мальчишкой, раскачивающимся на канате, — увеличивая амплитуду своего движения по поперечной дуге, в то время как существо продолжало подтягивать снасти наверх. Как бы быстро он ни спускался, снасти поднимались с равной скоростью. Он достигнет нижнего конца вант к тому времени, когда существо подтащит его к себе, и опять окажется на высоте пятидесяти футов. Но пока длины вант хватало, чтобы он мог раскачиваться с амплитудой двадцать футов, держась обеими руками за продольные тросы и встав обеими ногами на поперечные. Он закрыл глаза и снова представил себя мальчишкой, раскачивающимся на канате. Меньше чем в двадцати футах над ним раздалось предупреждающее покашливание. Затем последовал сильный рывок, и снасти вместе с Блэнки взлетели еще на пять или восемь футов вверх. Не зная, находится ли он сейчас в двадцати футах над палубой или в сорока пяти, думая лишь о том, чтобы поймать момент, когда он окажется в максимальной близости от правого борта, Блэнки, дождавшись означенного момента, рывком развернулся вместе со снастями, оттолкнулся ногами от выбленки и взлетел в воздух над погруженным во тьму правым бортом. Падение казалось бесконечным. Первым делом Блэнки перевернулся в воздухе, чтобы не приземлиться на голову, или на спину, или на живот. Лед под ним не спружинит — разумеется, палуба или планширь тем более, — но теперь он уже ничего не мог поделать. Ледовый лоцман понимал, что сейчас его жизнь зависит от элементарных расчетов из области ньютоновской физики: он стал живой иллюстрацией к простейшей задачке из учебника баллистики. Блэнки почувствовал, что планширь правого борта проносится в нескольких футах под ним, и едва успел подтянуть ноги и выставить вперед руки, прежде чем приземлился на снежный откос, который спускался от приподнятого под давлением льда «Террора». За секунды своего слепого полета к правому борту ледовый лоцман произвел счисление пути с максимальной возможной точностью, постаравшись вылететь за твердую, как цемент, ледяную тропинку, по которой члены команды сходили с корабля и поднимались на борт, но также избежать приземления на место, где под трехфутовым слоем снега лежали перевернутые вверх днищем вельботы, накрытые парусиной. Он приземлился на снежный скат сразу за ледяной тропинкой и чуть ниже засыпанных снегом вельботов. От страшного удара у него перехватило дыхание. Что-то треснуло или хрустнуло в левой ноге — Блэнки успел вознести всем божествам, бодрствовавшим в эту страшную ночь, отчаянную мольбу о том, чтобы это оказалось порванное сухожилие, а не сломанная кость, — а потом он кубарем покатился по длинному крутому откосу, чертыхаясь и вскрикивая от боли, вздымая тучи снега посреди великой метели, бушевавшей вокруг корабля. Примерно через тридцать футов, на заснеженном морском льду, Блэнки остановился, перекатившись на спину. Он поспешно оценил свое состояние. Руки не были сломаны, хотя он повредил правую кисть. Голова, похоже, осталась целой. Ребра мучительно ныли, и он не мог дышать полной грудью, но вполне возможно, подумал он, здесь дело скорее в страхе и нервном напряжении, нежели в сломанных ребрах. Но вот левая нога болела жутко. Блэнки знал, что должен вскочить на ноги и бежать — сейчас же! — но не мог выполнить свой собственный приказ. Он чувствовал себя весьма недурно, лежа на спине с раскинутыми в стороны конечностями, отдавая тепло своего тела льду под собой и воздуху над собой, пытаясь отдышаться и собраться с мыслями. Теперь он явственно слышал крики людей на носу корабля. Появились круги света, не более десяти футов в диаметре, исчерченные горизонтальными линиями несомого ветром снега. Потом Блэнки услышал глухой грохот и треск, с которыми существо соскользнуло с грот-мачты на палубу. Снова раздались крики — теперь тревожные, хотя мужчины вряд ли могли отчетливо разглядеть существо, находившееся в отдалении от носа, среди груды сломанных реев, оборванных снастей такелажа и опрокинутых бочек посреди палубы. Грохнул выстрел дробовика. Преодолевая боль, Томас Блэнки встал на четвереньки. От тонких шерстяных перчаток ничего не осталось, обе руки у него были голые. И головной убор он потерял; длинные седые волосы, прежде заплетенные в косичку, расплелись во время его акробатических упражнений и теперь развевались на ветру. Он не чувствовал пальцев, лица, ступней, но все остальное так или иначе болело. Существо, освещенное светом фонарей, перемахнуло через низкий планширь правого борта, поджав все четыре огромные лапы. Блэнки в мгновение ока вскочил на ноги и секунду спустя уже бежал в темноту, окутывавшую замерзшее море. Только удалившись ярдов на пятьдесят от корабля — поскальзываясь, падая, поднимаясь и снова пускаясь бежать, — он ясно осознал, что с таким же успехом мог подписать свой собственный смертный приговор. «И это после всех усилий», — подумал он. Ему следовало оставаться поблизости от корабля. Следовало обежать заваленные снегом вельботы, уложенные вдоль носовой части правого борта, перелезть через бушприт, сейчас норовивший уйти поглубже в лед, и броситься к левому борту, взывая о помощи к людям на палубе. Нет, осознал Блэнки, тогда бы он погиб еще прежде, чем успел продраться сквозь путаницу снастей носового такелажа. Чудовищное существо настигло бы его через десять секунд. «Почему я побежал в этом направлении?» До намеренного падения со снастей у него был план. В чем, черт побери, он заключался? Блэнки слышал глухой топот и скрип снега позади. Кто-то (кажется, фельдшер с «Эребуса», Гудсер) говорил ему и другим матросам, какую скорость развивает белый медведь в погоне за жертвой — двадцать пять миль в час? Да, по меньшей мере. А Блэнки никогда не умел бегать быстро. И сейчас ему приходилось огибать сераки, торосные гряды и расселины во льду, которых он не видел в темноте, пока не оказывался в нескольких дюймах от них. «Вот почему я побежал в этом направлении. Вот в чем заключался мой план». Существо рысцой бежало за ним, огибая те же сераки и торосные гряды, между которыми неуклюже петлял в темноте Блэнки. Но ледовый лоцман задыхался и хрипел, точно порванные кузнечные мехи, в то время как громадный зверь позади него лишь слегка прихрюкивал — забавляясь? предвкушая? — глухо топая по льду лапами, каждый шаг которых имел длину в пять шагов Блэнки. Сейчас Блэнки находился ярдах в двухстах от корабля. Врезавшись правым плечом в ледяную глыбу, замеченную слишком поздно, чтобы успеть уклониться от нее в сторону, и почувствовав, как оно немеет, присоединяясь к прочим онемевшим частям тела, ледовый лоцман вдруг осознал, что был слеп как летучая мышь все время, пока мчался во весь дух по замерзшему морю. Огни фонарей на «Терроре» теперь остались далеко, далеко позади — страшно далеко, — и у него не было ни времени, ни причины оглядываться на них. Сейчас, когда он удалился на такое расстояние от корабля, они едва брезжили в темноте и могли только отвлечь Блэнки от дела, которое заключалось в том, осознал Блэнки, что он бежал, петляя и лавируя между препятствиями, по запечатленной в памяти карте изрезанных расселинами и утыканных малыми айсбергами ледяных полей, простиравшихся вокруг «Террора» до самого горизонта. За последний год с лишним Блэнки досконально изучил замерзшее море со всеми участками льда, торосными грядами, айсбергами, ледяными взбросами и на протяжении нескольких месяцев имел возможность заниматься своими наблюдениями при слабом свете арктического дня. Даже зимой выпадали такие часы вахты, когда при свете луны и звезд он обследовал ледяные поля вокруг корабля профессиональным взглядом. Здесь, примерно в двухстах ярдах от «Террора», за последней торосной грядой, через которую он только что перебрался (он слышал глухой топот существа меньше чем в десяти ярдах позади), находилось скопление наваленных друг на друга флобергов размером с крестьянский дом — маленьких айсбергов, отколовшихся от своих крупных собратьев и образовавших подобие крохотного горного массива. Словно поняв, куда направляется жертва, незримый преследователь позади злобно заворчал и прибавил скорость. Слишком поздно. Обогнув последний высокий серак, Блэнки оказался на участке, заваленном ледяными глыбами. Здесь мысленная карта местности подвела его — нагромождения миниатюрных айсбергов он видел только издалека или через подзорную трубу, — и он с разбегу врезался в ледяную стену, шлепнулся на задницу, а потом стремительно пополз по снегу на четвереньках, в то время как существо сократило дистанцию между ними до нескольких ярдов, прежде чем он успел перевести дыхание и собраться с мыслями. Щель между двумя ледяными валунами была меньше трех футов шириной. Блэнки юркнул в нее — по-прежнему на четвереньках, не чувствуя голых рук, казавшихся чужими и далекими, как черный лед под ними, — за долю секунды до того, как существо достигло расселины и запустило в нее гигантскую переднюю лапу. Усилием воли ледовый лоцман выбросил из головы все образы котов и мышей, когда огромные когти царапнули по льду, высекая фонтанчик ледяной крошки, в десяти дюймах от подошв его башмаков. Он с трудом встал на ноги в узкой расселине, упал, снова встал и, спотыкаясь, пошел вперед в кромешном мраке. Все без толку. Ледяной тоннель оказался слишком коротким — менее пяти футов — и вывел Блэнки на открытое пространство между обломками айсбергов. Он уже слышал, как существо, передвигаясь прыжками и утробно прихрюкивая, огибает ледяную глыбу справа от него. Он с таким же успехом мог стоять посреди крикетного поля — и даже узкая расселина, со стенами скорее из снега, чем из льда, представляла собой лишь временное убежище. Там можно прятаться в темноте лишь минуту-другую, пока существо не расширит вход в тоннель и не протиснется в него. Там можно только умереть. Отшлифованные ветром маленькие айсберги, которые он видел с корабля в подзорную трубу, находились… где же? Слева от него, подумал Блэнки. Он бросился налево, миновал ледяные башни и сераки, неспособные служить укрытием, перебрался через трещину во льду глубиной всего пару футов, вскарабкался на невысокую торосную гряду, сорвался, соскользнул обратно вниз, снова вскарабкался и услышал, как существо стремительно выскакивает из-за ледяной глыбы и останавливается в десяти футах позади него. Айсберги начинались сразу за этим ледяным валуном. За валуном с отверстием в нем, который он видел в подзорную трубу… …эти ледяные горы находятся в движении день и ночь… …они разрушаются, снова вырастают и меняют форму под давлением окрестных льдов… …существо карабкается по склону позади него, взбираясь на плоское, но ледяное плато, где сейчас стоит Блэнки… Расселины. Трещины. Ледяные тоннели. Ни одного достаточно широкого, чтобы он мог проскользнуть в него. Спрятаться, переждать. В маленьком перевернутом айсберге справа от Блэнки темнело единственное отверстие фута четыре высотой. В облаках образовался крохотный разрыв, через пять секунд затянувшийся, и при слабом свете звезд Блэнки успел рассмотреть черный провал овальной формы в серой ледяной стене. Он рванулся к нему и принялся протискиваться внутрь, не зная, уходит ли ледяной тоннель в глубину на десять ярдов или на десять дюймов. Он не пролезал в отверстие. Объемистое зимнее обмундирование — свитера, поддевки, толстая шинель — не давало пролезть. Блэнки принялся лихорадочно срывать с себя одежду. Существо преодолело последний участок склона и встало на задние лапы позади него. Ледовый лоцман не видел этого — он даже не обернулся, боясь потерять лишнюю секунду, — но почувствовал, что оно встает на задние лапы. Не оборачиваясь, он швырнул шинель и поддевки назад, в сторону чудовища, подкинув тяжелые одежды по возможности выше. Существо удивленно фыркнуло — волна смрадного серного запаха прокатилась в воздухе, — а потом раздался треск раздираемых когтями одежд, в следующий миг отброшенных далеко в сторону. Но своим отвлекающим маневром Блэнки выиграл секунд пять или больше. Он нырнул в отверстие в ледяной стене. Плечи проходили в него только-только. Блэнки отчаянно задергал ногами, скользя башмаками по льду, и наконец нашел точку опоры. Он бил коленями, судорожно царапал ногтями лед в попытке за него зацепиться. Блэнки успел углубиться в тоннель всего на четыре фута, когда существо предприняло попытку вытащить его оттуда. Для начала оно сорвало с него правый башмак и оторвало часть ступни. Ледовый лоцман почувствовал страшный удар когтистой лапы и подумал — понадеялся, — что она оттяпала ему только пятку, но у него не было возможности проверить, так ли это. Задыхаясь, преодолевая внезапную острую боль, пронзившую ногу, даже несмотря на онемение, он протискивался все дальше, извиваясь всем телом, вцепляясь скрюченными пальцами в лед. Тоннель становился все уже, все ниже. Огромные когти царапнули по льду и вонзились в левую ногу, разрывая мышцы и сухожилия как раз в том месте, которое Блэнки уже повредил при падении с вант. Он почувствовал запах собственной крови, и существо, похоже, тоже его почувствовало, поскольку на мгновение остановилось и взревело. В ледяном тоннеле рев прозвучал оглушительно. Плечи Блэнки плотно упирались в стены тоннеля, дальше он не мог продвинуться, и он знал, что нижняя половина его тела по-прежнему остается в пределах досягаемости для чудовища. Оно снова взревело. Сердце Блэнки сжалось от жуткого звука, но он не оцепенел от ужаса. Используя несколько секунд отсрочки, ледовый лоцман отполз немного назад, где тоннель был пошире, вытянул руки вперед, коленями оттолкнулся ото льда изо всех оставшихся сил и, сдирая с плеч ткань рубахи вместе с кожей, протиснулся в отверстие, явно не рассчитанное на человека даже средних размеров. Ледяной тоннель расширился и пошел под уклон. Блэнки расслабился и покатился вниз на животе по скользкому льду, дополнительно смазанному собственной кровью. Существо взревело в третий раз, но теперь ужасный рев прозвучал на несколько футов дальше. В последний момент, прежде чем выпасть из тоннеля на открытое пространство, Блэнки решил, что все усилия потрачены даром. Тоннель — вероятно, образовавшийся в процессе таяния много месяцев назад, — проходил сквозь маленький айсберг и теперь снова выбросил Блэнки наружу. Он лежал на спине под звездами. Он чувствовал запах своей крови, впитывающейся в свежевыпавший снег. Он также слышал, как существо прыжками огибает айсберг, сначала слева, потом справа, охваченное безудержным желанием поскорее добраться до него, но уверенное, абсолютно уверенное теперь, что дразнящий, возбуждающий запах человеческой крови приведет его к добыче. Ледовый лоцман получил слишком много телесных повреждений и потерял слишком много сил, чтобы ползти дальше. Пусть то, что должно случиться с ним, случится сейчас, и пусть по воле бога, покровительствующего морякам, провалится в тартарары проклятое существо, которое собирается сожрать его. Блэнки оставалось лишь надеяться, что какая-нибудь из его костей застрянет в глотке у гнусной твари. Прошло несколько минут, и зверь взревел еще с дюжину раз — каждый следующий рев звучал все громче и разочарованнее и доносился с нового румба черного компаса ночи, — прежде чем Блэнки осознал, что преследователю никак до него не добраться. Он лежал под звездным небом, но в своего рода ледяном ящике размером примерно четыре на шесть футов, образованном по меньшей мере тремя массивными айсбергами, сдвинутыми и притертыми друг к другу давлением морского льда. Один из накренившихся айсбергов нависал над ним подобием падающей стены, но Блэнки все равно видел звезды над головой. Он также видел свет звезд, пробивающийся сквозь две вертикальные щели в противоположных углах своего ледяного гроба, — и он видел громадную тень, заслонившую свет в одной из щелей, всего в пятнадцати футах от него, но щели между айсбергами имели ширину не более шести дюймов. Протаявший тоннель, через который Блэнки прополз, являлся единственным путем доступа сюда. Чудовище ревело и ходило кругами еще минут десять. Томас Блэнки с трудом сел, прислонился ободранной в кровь спиной к ледяной стене — от верхней одежды он избавился, а штаны, два свитера, шерстяные и хлопчатобумажные рубахи и шерстяная фуфайка превратились в окровавленные лохмотья, — и приготовился умереть от холода. Существо не уходило. Оно продолжало кружить вокруг трех айсбергов, служивших Блэнки укрытием, словно какой-нибудь беспокойный хищник в одном из новомодных лондонских зоосадов. Только сейчас в клетке сидел Блэнки. Он знал, что, даже если случится чудо и зверь уйдет, у него не осталось ни сил, ни воли к жизни, чтобы выбраться отсюда по узкому ледяному тоннелю. И даже если бы ему удалось проползти по тоннелю, он все равно с таким же успехом мог бы находиться на луне — на луне, которая сейчас выглядывала из-за стремительно несущихся облаков и заливала айсберги мягким голубым светом. И даже если бы он чудом сумел выбраться за пределы скопления айсбергов, триста ярдов до корабля ему не преодолеть никакими усилиями. Он больше не чувствовал тела и не мог пошевелить ногами. Со стороны щелей снова донесся шум, но Блэнки не обратил на него внимания. «Будь ты проклято, дьяволово семя», — пробормотал ледовый лоцман, с трудом шевеля онемевшими от холода губами. Возможно, он вообще не произнес ни слова. Он осознал, что умирать от холода — даже истекая кровью, хотя кровь, похоже, уже застывала на морозе и почти не лилась из рваных ран и глубоких царапин, — совсем не больно. По правде говоря, даже приятно… удивительно легко и приятно. Лучшей смерти не представить… Блэнки осознал, что в щели между ледяными стенами пробивается яркий свет. Существо использовало факелы, чтобы хитростью выманить его из убежища. Но он не попадется на эту старую удочку. Он будет сидеть тихо, пока свет не померкнет у него перед глазами, пока он не погрузится в блаженный вечный сон. Он не доставит зверю удовольствия услышать свой голос теперь, после долгой безмолвной дуэли. — Черт вас побери, мистер Блэнки! — гулко прогремел бас капитана Крозье в ледяном тоннеле. — Если вы там, откликнитесь, черт возьми, или мы оставим вас там. Блэнки моргнул. Вернее, попытался моргнуть. Ресницы и веки у него смерзлись. Что это, очередная коварная уловка демонического существа? — Здесь, — прохрипел он. Потом повторил погромче: — Я здесь! Минутой позже голова и плечи помощника конопатчика, Корнелиуса Хикки, одного из самых тщедушных мужчин на «Терроре», легко высунулись из отверстия в ледяной стене. В руке он держал фонарь. Блэнки вяло подумал, что помощник конопатчика сейчас похож на новорожденного гнома с крысиным личиком, вылезающего из материнской утробы.
В конечном счете за него взялись все четверо врачей. Время от времени Блэнки выплывал из блаженного забытья, чтобы посмотреть, как продвигаются дела. Иногда над ним трудились врачи с его собственного корабля — Педди и Макдональд, — а иногда костоправы с «Эребуса». Блэнки испытывал желание сказать Гудсеру, что полярные белые медведи способны развивать скорость значительно больше двадцати пяти миль в час, когда очень захотят. Но, с другой стороны, был ли то полярный белый медведь? Блэнки так не думал. Полярные белые медведи — существа земные, а это чудовище определенно явилось из каких-то иных миров. Блэнки в этом не сомневался. В конечном счете потери оказались не такими уж и большими. В действительности, минимальными. Джон Хэндфорд, как выяснилось, не пострадал. После того как Блэнки оставил его с фонарем, вахтенный правого борта погасил огонь и дал деру с корабля, бросившись в обход к левому борту, чтобы спрятаться, пока жуткая тварь карабкалась по мачте вслед за ледовым лоцманом. Александра Берри, которого Блэнки считал погибшим, нашли под грудой рухнувшей парусины среди опрокинутых бочек прямо там, где он стоял на посту у правого борта, когда существо появилось на палубе и сломало развернутый вдоль судна грота-рей, служивший коньковым брусом. Берри достаточно сильно ушиб голову, чтобы не помнить ничего из случившегося той ночью, но Крозье сказал Блэнки, что они нашли дробовик матроса и из него стреляли. Разумеется, ледовый лоцман тоже стрелял из своего дробовика, почти в упор, в громадную фигуру, нависавшую над ним подобием стены, но нигде на палубе не обнаружили ни капли крови чудовищного существа. Крозье спросил Блэнки, как такое возможно — чтобы два человека стреляли в зверя с близкого расстояния и не пустили ему кровь? — но ледовый лоцман не решился высказать свое мнение. В душе, разумеется, он знал. Дейви Лейс тоже оказался целым и невредимым. Тридцатидевятилетний матрос, несший вахту на носу, вероятно, слышал и видел многое — в том числе, предположительно, и первое появление существа на палубе, — но ничего не говорил. Дэвид Лейс снова впал в оцепенение и молчал, уставившись остекленелым взглядом в пустоту. Сначала его положили в лазарет «Террора», но, поскольку всем врачам требовалось это забрызганное кровью помещение для возни с Блэнки, Лейса перенесли на носилках в более просторный лазарет «Эребуса». Там Лейс снова лежал неподвижно, по рассказам словоохотливых посетителей ледового лоцмана, и смотрел немигающим взглядом в подволок. Сам Блэнки отделался не так легко. Чудовище оторвало ему правую пятку с доброй половиной ступни, но Макдональд и Гудсер, отрезав кровавые лохмотья и прижегши рану, заверили ледового лоцмана, что они, при содействии корабельного плотника, изготовят кожаный или деревянный протез на ремешках и он снова сможет ходить. С левой ногой дела обстояли хуже — в нескольких местах на голени мясо сорвано до кости, и сама кость серьезно повреждена когтями, — и впоследствии доктор Педди признался, что все четыре врача не сомневались, что ногу придется ампутировать по колено. Но одним из немногих плюсов арктического холода являлось замедленное течение воспалительных и гангренозных процессов в ране, и после вправления самой кости и наложения четырехсот с лишним швов нога Блэнки — хотя и искривленная, покрытая жуткими шрамами и местами лишенная целых волокон мышечной ткани — медленно заживала. «Твои внуки будут в восторге от этих шрамов», — сказал Джеймс Рейд, второй ледовый лоцман, пришедший навестить товарища. Холод тоже сделал свое дело. Блэнки умудрился сохранить все пальцы на ногах — они ему понадобятся, чтобы удерживать равновесие на покалеченной ноге, сказали врачи, — но потерял три пальца на левой руке и два на правой. Гудсер, явно знавший толк в подобных вещах, заверил ледового лоцмана, что с течением времени он научится писать и принимать пищу вполне изящно при помощи мизинца и безымянного пальца, оставшихся на левой руке, и сможет застегивать штаны и рубахи при помощи большого пальца, мизинца и безымянного на правой. Томасу Блэнки было по хрену, научится он застегивать штаны и рубахи или нет. Пока. Он был жив. Гнусная тварь сделала все возможное, чтобы отправить его на тот свет, но он все же выжил. Он мог понемногу есть, болтать с товарищами, выпивать свою ежедневную четверть пинты рома — он уже приноровился держать забинтованными руками оловянную кружку — и читать, если кто-нибудь устанавливал перед ним книжку. Он твердо решил прочитать «Векфилдского священника», прежде чем покинет сей бренный мир. Блэнки был жив и собирался оставаться в живых по возможности дольше. Тем временем он испытывал странное счастье. Ему не терпелось поскорее вернуться в свою крохотную каюту — расположенную между равно крохотными каютами третьего лейтенанта Ирвинга и капитанского вестового, — а это могло произойти в любой день теперь, когда врачи были абсолютно уверены, что закончили кромсать, зашивать и обнюхивать его раны. Тем временем Томас Блэнки испытывал счастье. Лежа на своей койке ночью, слыша ворчание, шепот, пердеж и приглушенный смех матросов в темном кубрике всего в нескольких футах за переборкой и грозное рычание мистера Диггла, отдающего приказы своим подчиненным за выпечкой лепешек в поздний час, Томас Блэнки прислушивался к скрежету и треску морского льда, пытающегося раздавить «Террор», и засыпал под эти звуки так крепко, как заснул бы под колыбельную, слетающую с безгрешных уст родной матери.
22. Ирвинг
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 13 декабря 1847 г.Третьему лейтенанту Ирвингу требовалось узнать, каким образом Безмолвная покидает корабль и возвращается обратно, оставаясь незамеченной. Сегодня, спустя ровно месяц со дня, когда он впервые обнаружил новое логово эскимоски, он собирался разгадать эту загадку, даже если это будет стоить ему пальцев на руках и ногах. Установив местонахождение женщины, Ирвинг на следующий же день доложил своему капитану, что эскимоска перебралась в канатный ящик на трюмной палубе. Он не сообщил, что она, похоже, ела там свежее мясо — главным образом, поскольку сам не знал толком, что именно он успел увидеть за несколько ужасных секунд, когда ошеломленно таращился в крохотное, тускло освещенное помещение. Он также не сообщил о гомосексуальном половом сношении, явно происходившем между помощником конопатчика Хикки и матросом Мэнсоном в трюме. Ирвинг понимал, что нарушает свои обязанности офицера Службы географических исследований военно-морского флота Британии, не докладывая капитану об этом возмутительном и важном факте, но… Но — что? Единственным объяснением, которое мог придумать Джон Ирвинг в оправдание столь серьезного нарушения своего служебного долга, было то, что на «Терроре» и так достаточно крыс. Но поистине загадочные исчезновения и появления леди Безмолвной — хотя и принятые суеверной командой за окончательное доказательство ее магической силы и игнорируемые капитаном Крозье и прочими офицерами, как плод воображения, — интересовали молодого Ирвинга гораздо сильнее, чем постыдные наслаждения, которым помощник конопатчика и корабельный идиот предавались в вонючей темноте трюма. «А вонь здесь действительно страшная», — на третьем часу дежурства подумал Ирвинг, сидевший на упаковочной клети над грязной жижей, за пиллерсом близ канатного ящика. Зловоние в холодном темном трюме заметно усиливалось днем. По крайней мере, на широкой ступени перед дверцей канатного ящика больше не стояли тарелки с недоеденной пищей, кружки с остатками рома на дне и не лежали разные языческие амулеты. Один из офицеров поставил Крозье в известность о данной практике вскоре после чудесного спасения мистера Блэнки от обитающего во льдах зверя, и капитан пришел в бешенство и пригрозил лишить ежедневной порции рома — навсегда — следующего матроса, достаточного глупого, достаточно суеверного и достаточно не крепкого в христианской вере, чтобы совершить жертвоприношение из остатков пищи или прекрасного, разбавленного водой индийского рома в попытке задобрить аборигенку, язычницу, темное дитя природы. (Хотя матросы, которым случилось украдкой подглядеть леди Безмолвную обнаженной или подслушать разговор врачей о ней, знали, что она вовсе не дитя, о чем и перешептывались друг с другом.) Капитан Крозье также совершенно недвусмысленно дал понять, что не потерпит никаких медвежьих амулетов. Он объявил накануне на богослужении — которое снова заключалось в чтении корабельного устава, хотя многие жаждали услышать очередной отрывок из Книги Левиафана, — что даст по одному дополнительному наряду на ночную вахту или по два наряда на уборку гальюна каждому человеку за каждый медвежий зуб, медвежий клык, медвежий хвост, новую татуировку или любой другой языческий фетиш, какой увидит на злополучном матросе. Внезапно увлечение амулетами перестало наблюдаться на «Терроре», хотя от своих товарищей с «Эребуса» лейтенант Ирвинг слышал, что там оно процветает вовсю. Несколько раз Ирвинг пытался проследить за скрытными передвижениями эскимоски по кораблю поздним вечером, но в своих стараниях оставаться незамеченным неизменно упускал ее. Сегодня он точно знал, что леди Безмолвная находится в своем канатном ящике. Он крадучись сошел следом за ней по главному трапу более трех часов назад, когда матросы уже поужинали и она тихо, почти незаметно получила от мистера Диггла свою порцию «бедного Джона», галету, стакан воды и спустилась с ними в трюм. Ирвинг поставил человека у носового люка, сразу за огромной плитой, а другому любопытному матросу велел наблюдать за главным трапом. Если эскимоска сегодня ночью поднимется по любому из двух трапов — а сейчас уже начало одиннадцатого, — Ирвинг будет знать, куда она направилась и когда. Но вот уже три часа дверцы канатного ящика оставались закрытыми. Темноту в носовом отсеке трюмной палубы рассеивал лишь слабый свет, сочившийся сквозь щели по периметру этих низких широких дверец. Женщина по-прежнему пользовалась каким-то источником света — либо свечой, либо другого рода открытым огнем. Узнай капитан Крозье об одном этом факте, он бы в два счета выдворил ее из канатного ящика и вернул обратно в маленькое логово среди бочек, хранящихся за лазаретом в жилой палубе… или просто вышвырнул бы на лед. Как любой бывалый моряк, капитан боялся пожара на корабле и вдобавок, похоже, не питал никаких нежных чувств к эскимосской гостье. Внезапно тусклые полоски света по периметру плохо подогнанных дверец канатного ящика погасли. «Она легла спать», — подумал Ирвинг. Он живо представил, как она, голая, заворачивается там в кокон своих мехов. Он также представил, как один из офицеров утром отправляется на его поиски и находит бездыханное тело, скрючившееся здесь, на упаковочной клети над подернутой ледяной коркой грязной жижей, — труп человека, явно замерзшего при попытке подсмотреть за единственной женщиной на борту. Не самое лучшее извещение о смерти, какое могут получить бедные родители лейтенанта Ирвинга. И тут волна ледяного воздуха прокатилась по выстуженному трюму. Такое ощущение, будто злой дух пронесся мимо в темноте. На секунду Джон Ирвинг почувствовал, как волоски у него на загривке встают дыбом, но в следующий миг его осенила простая мысль: «Это всего лишь сквозняк. Словно кто-то открыл дверь или окно». Теперь он знал, каким таким чудесным образом леди Безмолвная покидает корабль и возвращается обратно. Ирвинг зажег свой фонарь, спрыгнул с упаковочной клети, прошлепал по подернутой тонким льдом жидкой грязи к канатному ящику и подергал дверцы. Они были замкнуты изнутри. Ирвинг знал, что внутри носового канатного ящика нет замка — замка не было даже снаружи, поскольку никто не имел нужды красть якорные концы, — а значит, эскимоска сама нашла способ надежно закрыть дверцы. Ирвинг предусмотрел такой поворот событий. В правой руке он держал тридцатидюймовый ломик. Понимая, что ему придется объяснять любой причиненный материальный ущерб лейтенанту Литтлу, а возможно, и капитану Крозье, он просунул узкий конец лома в щель между низкими дверными створками и навалился на него. Раздался скрип, треск, но дверцы приоткрылись лишь самую малость. Продолжая придерживать ломик одной рукой, другой рукой Ирвинг залез под шинель, куртку, поддевки, жилет и вытащил из-за ремня нож. Леди Безмолвная умудрилась вбить в дверцы с внутренней стороны по несколько гвоздей и намотала на них петлями какие-то эластичные волокна — кишки? жилы? — таким образом прочно связав створки подобием белой паутины. Теперь Ирвинг никак не мог проникнуть в канатный ящик, не оставив явственных следов своего присутствия там — лом уже сделал свое дело, — а посему принялся перерезать ножом тесно переплетенные жилы. Дело оказалось не таким легким, как он думал. Острое лезвие брало жилы с еще большим трудом, чем сыромятную кожу или корабельный трос. Перепилив наконец последнюю жилу, Ирвинг распахнул дверцы и просунул шипящий фонарь в маленькое помещение с низким подволоком. За исключением той разницы, что сейчас тесную каморку освещал фонарь, а не язычок открытого пламени, здесь ничего не изменилось с тех пор, как лейтенант заглядывал сюда четыре недели назад — бухты тросов раздвинуты и уложены одна на другую таким манером, что между ними образуется крохотная пещерка, и по-прежнему налицо свидетельства, что женщина принимала здесь пищу: оловянная тарелка с жалкими остатками «бедного Джона», оловянная кружка из-под грога и какой-то мешок для хранения припасов, по всей видимости, сшитый Безмолвной из кусков пришедшей в негодность парусины. Также в канатном ящике находился маленький масляный фонарь — такой, в каком масла хватает ровно настолько, чтобы человек успел сходить с ним в отхожее место ночью. Он был еще горячим, как убедился Ирвинг, сняв рукавицу и перчатку. Но ни следа леди Безмолвной. Ирвинг мог бы подвигать туда-сюда тяжелые бухты и посмотреть за ними, но он по опыту знал, что вся остальная часть треугольного канатного ящика битком набита якорными тросами. Они отплыли два с половиной года назад, а тросы все еще хранили мерзкий запах Темзы. Но леди Безмолвная словно в воду канула. Ни в подволоке между бимсами, ни в стенках корпуса здесь не имелось никаких выходов. Значит, суеверные матросы не ошибались: она эскимосская ведьма. Шаманка. Языческая колдунья. Третий лейтенант Джон Ирвинг ни на секунду не поверил в это. Он заметил, что сильный сквозняк — поток ледяного воздуха, накативший на него в пятнадцати футах от канатного ящика в темноте трюма, — сейчас уже не ощущается. Однако язычок пламени в фонаре все еще плясал на каком-то слабом сквознячке. Вытянув руку, Ирвинг плавно повел фонарем в одну и другую сторону (свободного пространства в загроможденном канатном ящике хватало только для такой манипуляции) и остановился, когда пламя затрепетало сильнее всего: тянуло от правого борта в углу, где стенки корпуса сходились к носу. Он поставил фонарь на пол и принялся оттаскивать одну из бухт в сторону. Ирвинг моментально увидел, как ловко женщина уложила здесь толстый якорный трос: то, что он принял за очередную огромную бухту каната, на самом деле оказалось просто свернутым кольцами концом троса из другой бухты, который занимал пустое пространство и легко задвигался в логово эскимоски — теперь единственное свободное место в канатном ящике. За фальшивой бухтой находились широкие изогнутые тимберсы. И здесь тоже она сделала правильный выбор. Над и под канатным ящиком тянулись сложные конструкции из деревянных и железных балок, установленные в процессе подготовки «Террора» к эксплуатации во льдах за несколько месяцев до отплытия экспедиции. Здесь, в носовой части, вертикальные металлические стойки, дубовые поперечные балки, подкосы тройной толщины, железные треугольные опоры и массивные диагональные дубовые брусья — многие толщиной с ребра шпангоута, — образовывали частую решетку, являвшуюся составной частью защиты корабля, укрепленного для плавания в полярных льдах. Один лондонский репортер, знакомый лейтенанта Ирвинга, написал, что со всеми этими многотонными железными и деревянными конструкциями, вместе с дополнительными слоями обшивки из тикового дерева, канадского вяза и снова тикового дерева, добавленными к первоначальной дубовой обшивке, «толщина корпуса теперь составляет добрых восемь футов». Применительно к самому носу судна и стенкам корпуса данное высказывание почти соответствовало истине, знал Ирвинг, но здесь, где в канатном ящике и над ним борта сходились к носу, оставалось около пяти футов обшивки из крепких дубовых досок толщиной в первоначальные шесть дюймов вместо десяти, составлявших толщину многослойной обшивки во всех прочих местах. Конструкторы посчитали, что несколько футов правого и левого борта в непосредственной близости от хорошо укрепленного форштевня должны быть тоньше, чтобы гнуться и пружинить под страшным давлением льда. Так они и делали. Пять поясов прочных гибких досок по сторонам от усиленного форштевня в сочетании с укрепленным изнутри деревянно-металлическими конструкциями носом послужили к появлению чуда современной ледокольной техники, подобным которому не располагала ни одна в мире экспедиционная служба военно-морского или гражданского флота. «Террор» и «Эребус» могли пройти — и прошли — через такие льды, где ни одно другое судно на свете не имело бы шансов уцелеть. Этот носовой отсек являл собой истинное чудо. Но теперь он определенно утратил целостность. Ирвингу понадобилось несколько минут, чтобы найти повреждение в трехфутовой секции из толстых досок в полтора фута шириной, водя туда-сюда фонарем в поисках сквознячков, ощупывая окоченевшими голыми пальцами и пробуя лезвием ножа доски. Вот оно. Задний конец одной изогнутой доски был закреплен двумя длинными нагелями, теперь служившими подобием дверной петли. Передний же конец — находившийся всего в нескольких футах от здоровенного носового бруса, который тянулся по всей длине судна, — ни на чем не держался и был просто вдавлен на место. Отжав доску ломом (просто уму непостижимо, каким образом молодая женщина могла сделать это голыми руками), Ирвинг почувствовал дуновение холодного воздуха и обнаружил, что смотрит в темноту сквозь отверстие в корпусе размером восемнадцать дюймов на три фута. Быть такого не может! Молодой лейтенант знал, что в носовой части корпус «Террора» обшит снаружи дюймовыми листами особо прочного закаленного прокатного железа, плотно пригнанными друг к другу. Даже если во внутренней деревянной обшивке вдруг появятся бреши, вся носовая часть корпуса — почти треть длины судна — одета броней. Но только не здесь. Из черного провала за отжатой доской тянуло холодом. Здесь нос «Террора» ушел в лед из-за наклона корабля вперед, неуклонно увеличивавшегося по мере нарастания льда под кормой. Сердце лейтенанта Ирвинга бешено колотилось. Если завтра «Террор» каким-то чудом окажется в свободных от льда водах, он неминуемо затонет. Неужели леди Безмолвная сотворила такое с кораблем? Эта мысль ужаснула Ирвинга сильнее, чем любые предположения о магической способности эскимоски исчезать и появляться по желанию. Могла ли молодая женщина, которой не стукнуло еще и двадцати, отодрать железные листы наружной обшивки корпуса, вырвать толстые доски внутренней носовой обшивки, изогнутые и прибитые на место усилиями мастеров целой судостроительной верфи, — и при этом точно знать, в каком именно месте это нужно сделать, чтобы ни один из шестидесяти мужчин на борту, знавших корабль как свои пять пальцев, ничего не заметил? Уже стоя на коленях под низким подволоком, Ирвинг осознал, что часто дышит ртом, по-прежнему не в силах справиться с сердцебиением. Оставалось только предположить, что за два летних сезона ожесточенной борьбы со льдами — сначала при переходе через Баффинов залив, по проливу Ланкастера и на всем пути вокруг острова Корнуоллис, а через год при трудном продвижении по узкому каналу, а затем по проливу, ныне носящему имя Франклина, — некоторые железные листы носовой брони ниже ватерлинии разболтались и ближе к концу плавания оторвались, а толстая доска обшивки сместилась внутрь только после того, как корабль затерло льдами. «Но под давлением ли льда сорвалась дубовая доска с креплений? Или под действием некой иной силы — под напором некоего существа, пытавшегося проникнуть внутрь?» Сейчас это не имело значения. Леди Безмолвная покинула канатный ящик не более нескольких минут назад, и Джон Ирвинг был исполнен решимости последовать за ней — не толькодля того, чтобы узнать, где она вышла на поверхность и куда направилась там в темноте, но и для того, чтобы выяснить, не добывает ли она — самым чудесным, самым невероятным образом, если учесть толщину льда и лютый холод, — свежую рыбу или дичь для своего пропитания. Если добывает, знал Ирвинг, это может спасти их всех. Лейтенант, как и все остальные, слышал о порче консервированных продуктов. По обоим кораблям давно шел шепот, что к следующему лету запасы провианта кончатся. Он не мог протиснуться в отверстие. Ирвинг попытался подцепить и отжать ломом соседние доски, но все они, кроме одной, уже отжатой, сидели на месте как влитые. Отверстие размером восемнадцать дюймов на три фута являлось единственным выходом наружу. А он в него не помещался. Лейтенант снял непромокаемый плащ, толстую шинель, шарф, шапку и «уэльский парик» и пропихнул ворох одежды в дыру перед собой… плечи и верхняя половина туловища у него по-прежнему не пролезали в отверстие, хотя он был одним из самых худых офицеров на корабле. Дрожа от холода, Ирвинг стащил с себя жилет и шерстяной свитер, которые также затолкал в черный пролом. Если он и сейчас не пролезет, ему придется пережить несколько чертовски неприятных минут, объясняя, почему он вернулся из трюма без всей своей верхней одежды. Он пролезал. Еле-еле. Кряхтя и чертыхаясь, Ирвинг протискивался сквозь узкое отверстие, обрывая пуговицы с шерстяной рубахи. «Я за пределами корабля, подо льдом», — подумал он. Мысль плохо укладывалась в голове. Он находился в узкой полости во льду, наросшем вокруг носа и бушприта. За отсутствием здесь свободного пространства он не мог снова надеть шинель и прочие вещи и потому толкал ворох одежды перед собой. Он подумал, не вернуться ли обратно в канатный ящик за фонарем, но в небе стояла полная луна, когда несколькими часами ранее он исполнял обязанности вахтенного офицера. В конечном счете Ирвинг взял с собой лом. Ледяная пещера была длиной по меньшей мере с бушприт — свыше восемнадцати футов — и образовалась, по всей вероятности, под давлением тяжелого бушпритного бруса на лед во время коротких периодов таяния с последующим замерзанием, имевших место прошлым летом. Когда Ирвинг наконец выбрался из тоннеля, он полз на четвереньках еще несколько секунд, прежде чем осознал, что уже находится на поверхности льда — тонкий бушприт, масса подвязанных снастей и обледенелые концы кливера все еще нависали над ним, не только заслоняя от него небо, но и полностью загораживая его самого от вахтенного, дежурившего на носу. И здесь, где черная громада «Террора» неясно вырисовывалась в темноте, освещенная лишь несколькими тусклыми огнями фонарей, за бушпритом открывался путь к скоплению ледяных глыб и сераков. Трясясь всем телом, Ирвинг принялся натягивать на себя одежду. Руки у него дрожали так сильно, что он не сумел застегнуть жилет, но это не имело значения. Застегнуть толстую шинель на крючки тоже оказалось нелегко, но по крайней мере пуговицы на ней были гораздо больше. Молодой лейтенант продрог до костей к тому времени, когда наконец надел непромокаемый штормовой плащ. «Куда теперь?» В пятидесяти футах от носа судна начинался лес ледяных глыб и отшлифованных ветром сераков — Безмолвная могла пойти в любом направлении, — но от ледяного тоннеля, ведущего в трюм корабля, тянулась едва заметная, почти прямая тропинка. По крайней мере, она представляла собой путь наименьшего сопротивления — и обеспечивала наилучшую возможность остаться незамеченным с корабля. Поднявшись на ноги, взяв ломик в правую руку, Ирвинг двинулся по скользкому льду на запад.
Он никогда не нашел бы женщину, если бы не потусторонний звук. Ирвинг уже удалился на сотню ярдов от корабля, заплутал в ледяном лабиринте — ледяной голубой желобок под ногами давно исчез или, вернее, затерялся среди двух десятков таких же, — и хотя при свете полной луны и звезд видимость была не хуже, чем днем, он так и не замечал ни движения поодаль, ни следов на снегу. Потом раздался потусторонний протяжный стон. Нет, осознал Ирвинг, резко остановившись и дрожа всем телом (он трясся от холода уже не одну минуту, но теперь дрожь стала глубокой, нутряной), это не стон. Во всяком случае, не такой, какой способен издать человек. Звук напоминал пение некоего бесконечно странного музыкального инструмента… отчасти приглушенная волынка, отчасти рожок, отчасти гобой, отчасти флейта, а отчасти человеческий голос, тянущий заунывную песнь. Он был достаточно громким, чтобы доноситься до Ирвинга с расстояния нескольких десятков ярдов, но почти наверняка оставался неслышным людям на палубе корабля — тем более что ветер сегодня ночью против всякого обыкновения дул с юго-востока. Однако все тона сливались в звук одного инструмента. Ирвинг в жизни не слышал ничего подобного. Странная мелодия — которая начала набирать темп, а потом вдруг резко оборвалась, наводя на мысль скорее о кульминации, но уж никак не о чтении нот с листа, — доносилась с серакового поля за высокой торосной грядой, находившейся в тридцати ярдах к северу от отмеченной ледяными пирамидами с факелами тропинки между «Террором» и «Эребусом», по распоряжению Крозье постоянно содержавшейся в порядке. Сегодня ночью никто не восстанавливал там осыпавшиеся ледяные пирамиды; весь замерзший океан был в распоряжении Ирвинга — и того, кто извлекал звуки из диковинного музыкального инструмента. Лейтенант крадучись двинулся по залитому голубым светом лабиринту ледяных валунов и высоких сераков. Теряя ориентацию, он всякий раз смотрел на полную луну. Сегодня желтый шар больше походил на некую полноценную планету, внезапно появившуюся в звездном небе, нежели на любую из лун, какие Ирвингу доводилось видеть прежде за годы, проведенные на суше, или во время коротких морских плаваний. Воздух вокруг нее, казалось, дрожал от холода, словно собираясь сам обратиться в лед на морозе. Ледяные кристаллы в верхних слоях атмосферы служили к образованию двойного гало вокруг луны; нижняя часть обоих светлых кругов скрывалась за торосной грядой и окрестными айсбергами. На внешнем гало, точно бриллианты на серебряном кольце, ярко сверкали три креста. Лейтенант уже несколько раз наблюдал такое явление в течение двух долгих темных зим, проведенных здесь, вблизи от Северного полюса. Ледовый лоцман Блэнки объяснил, что это просто лунный свет преломляется ледяными кристаллами, как происходит при прохождении света сквозь алмаз, но сейчас зрелище небесных крестов усугубило чувство религиозного трепета и изумления, владевшее Ирвингом здесь, посреди блистающих голубых льдов, когда странный музыкальный инструмент снова завыл и застонал — теперь всего в нескольких ярдах от него, за ледяной грядой, — снова учащая свой темп почти до оргазмического, прежде чем внезапно умолкнуть. Ирвинг попытался представить леди Безмолвную, играющую на некоем невиданном эскимосском инструменте — скажем, подобии баварского корнета, изготовленном из оленьего рога, — но сразу же отверг это предположение как глупое. Во-первых, у эскимоски и ее спутника, впоследствии скончавшегося от ранения, не имелось при себе никакого такого инструмента. А во-вторых, у Ирвинга было странное чувство, что на этом незримом инструменте играет вовсе не леди Безмолвная. Перебравшись через последнюю низкую торосную гряду, отделявшую его от сераков, откуда доносились звуки, Ирвинг пополз дальше на четвереньках, чтобы снег не скрипел под толстыми рифлеными подошвами башмаков. Завывания и стоны — по всей видимости, раздававшиеся из-за ближайшего, отблескивающего голубым серака, обточенного ветром в подобие толстого, собранного в складки флага, — возобновились, быстро участив ритм и превратившись в самый громкий, самый глубокий, самый исступленный и неистовый звук из всех, какие Ирвинг слышал доселе. К великому своему удивлению (холод проникал сквозь толстую ткань штанов и рукавиц, пронизывая колени и ладони), молодой лейтенант обнаружил, что у него эрекция. Низкий, гулкий, вибрирующий голос инструмента дышал такой… животной страстью… что в буквальном смысле слова разжег огонь в чреслах Ирвинга, дрожавшего всем телом. Он осторожно заглянул за последний серак. Леди Безмолвная находилась в двадцати футах от него, на гладком голубом льду. Ровную площадку окружали ледяные валуны и сераки, и у Ирвинга возникло такое впечатление, будто он вдруг оказался посреди Стоунхенджа, залитого сиянием луны с двойным гало и сверкающими крестами. Даже тени здесь были синими. Голая, она стояла на коленях на толстой меховой подстилке (надо полагать, на своей парке). Спина Безмолвной была в три четверти повернута к Ирвингу, и он видел очертания ее правой груди, а также озаренные ярким лунным светом длинные черные прямые волосы и крепкие выпуклые ягодицы с серебряными бликами на них. Сердце у Ирвинга заколотилось так сильно, что он испугался, как бы женщина не услышала. Безмолвная была здесь не одна. Кто-то еще стоял в темном проеме между ледяными валунами размером со священные друидические камни, возвышавшимися на противоположной стороне площадки, сразу за эскимоской. Ирвинг знал: это оно, обитающее во льдах существо. Белый медведь или белый демон находился здесь вместе с ними — в непосредственной близости от молодой женщины, нависая над ней. Как бы лейтенант ни напрягал зрение, разглядеть толком неясную фигуру никак не получалось: бело-голубой мех на фоне бело-голубого льда; рельефные мускулы на фоне рельефной, складчатой поверхности оснеженных ледяных глыб; черные глаза, казавшиеся частицами кромешной тьмы, сгущавшейся позади существа. Треугольная голова на необычайно длинной и гибкой шее, теперь он видел, плавала и покачивалась в воздухе на змеиный манер в шести футах над коленопреклоненной женщиной. Ирвинг попытался оценить размеры головы — чтобы знать, с чем придется иметь дело в случае, если возникнет необходимость сразиться с чудовищем, — но установить точные очертания или размеры треугольного пятна с угольно-черными точками глаз представлялось невозможным из-за странного и непрерывного движения, которое оно совершало. Но существо подалось ближе к девушке. Его голова теперь находилась прямо над ней. Ирвинг знал, что должен закричать — броситься вперед с зажатым в руке ломом, поскольку он не взял с собой никакого другого оружия, помимо ножа, в настоящий момент вложенного в ножны, — и попытаться спасти женщину, но тело решительно отказывалось повиноваться подобному приказу. Он мог лишь наблюдать за происходящим, объятый ужасом, смешанным с сексуальным возбуждением. Леди Безмолвная вытянула вперед и в стороны руки ладонями вверх, точно католический священник, служащий мессу и призывающий чудо евхаристии. У Ирвинга был кузен-католик, проживавший в Ирландии, и во время одного из своих визитов к нему он ходил с ним на католическую службу. Те же самые чары странного магического обряда владели сейчас женщиной, облитой голубым лунным светом. За неимением языка Безмолвная не издавала ни звука, разумеется, но руки у нее были широко раскинуты в стороны, глаза закрыты, голова запрокинута назад — Ирвинг уже подполз достаточно близко, чтобы видеть ее лицо, — и рот разинут. Как у новорожденного птенца в ожидании кормежки. Или как у молящегося в ожидании причастия. С молниеносной быстротой атакующей кобры существо выбросило вперед и вниз голову на длинной шее, широко раскрыло пасть и сомкнуло челюсти на нижней половине лица леди Безмолвной, заглотив половину головы. Тут Ирвинг едва не испустил вопль. Только ритуальная… торжественность… момента и цепенящий страх воспрепятствовали этому. Существо не пожрало эскимоску. Ирвинг осознал, что смотрит на макушку бело-голубой головы чудовища (по меньшей мере втрое превосходящей размерами голову женщины), сомкнувшего, но не стиснувшего плотно, гигантские челюсти над ее раскрытым ртом и вскинутым подбородком. Безмолвная по-прежнему простирала руки в стороны, словно собираясь заключить в объятия гору мускулов и шерсти, нависавшую над ней. Затем вновь зазвучала странная мелодия. Ирвинг увидел, как обе головы — чудовища и эскимоски — плавно качаются, но прошло с полминуты, прежде чем он понял, что оргиастические трубные звуки и эротические волынко-флейтовые стоны исходят из… женщины. Чудовищное существо размером с ледяные валуны рядом — белый медведь или демон — дуло в открытый рот и горло эскимоски, играя на ее голосовых связках, как если бы человеческое тело являлось неким духовым инструментом. Переливчатые рулады, низкие стоны и басовые подвывания звучали все громче, все чаще, все настойчивее — он увидел, как леди Безмолвная немного приподнимает голову и изгибает шею в одну сторону, в то время как жуткий зверь опускает треугольную голову ниже и изгибает змееподобную шею в другую сторону: ни дать ни взять страстные любовники, желающие найти наилучшую позицию для максимально глубокого поцелуя с языком. Дикая мелодия звучала все громче, все неистовее (Ирвинг не сомневался, что она уже слышна на корабле и наверняка вызывает у всех мужчин такую же сильную и длительную эрекцию, как у него сейчас), а потом вдруг, без всякого предупреждения, оборвалась с внезапностью исступленного соития, разрешившегося оргазмом. Существо подняло голову, отстраняясь от женщины. Длинная шея свернулась кольцами. Леди Безмолвная бессильно уронила руки вдоль нагого тела, словно была слишком измучена или возбуждена, чтобы держать их раскинутыми в стороны, и свесила голову к посеребренным луною грудям. «Теперь оно сожрет ее, — подумал Ирвинг, все еще не в силах стряхнуть с себя оцепенение и поверить в реальность разыгравшейся сейчас сцены. — Разорвет на куски и съест». Но он ошибался. На несколько секунд громадный белый зверь скрылся за пределами ледяного Стоунхенджа, передвигаясь на четырех лапах, а потом вернулся, низко наклонил голову к леди Безмолвной и уронил что-то на лед перед ней. Ирвинг услышал глухой шлепок упавшего предмета, и звук этот показался смутно знакомым, но в данную минуту никакие логические связи в голове у него не выстраивались — он не понимал ровным счетом ничего из того, что видел и слышал. Белое существо неторопливо удалилось — Ирвинг ощущал вибрацию твердого морского льда, сотрясаемого гигантскими лапами, — а через минуту вернулось и снова положило что-то перед эскимоской. Затем то же самое повторилось в третий раз. А потом оно просто ушло… растворилось во мраке. Коленопреклоненная женщина осталась одна на ровной ледяной площадке, лишь груда неясных предметов темнела перед ней. Она сохраняла неподвижность еще с минуту — Ирвинг снова вспомнил католическую церковь своего ирландского родственника и старых прихожан, продолжавших истово молиться на скамьях после окончания службы, — а потом встала, проворно засунула босые ноги в меховые сапоги и надела парку. Лейтенант Ирвинг осознал, что его бьет крупная дрожь, по крайней мере отчасти вызванная холодом. Ему здорово повезет, если в теле у него осталось достаточно тепла, а в ногах — силы, чтобы вернуться на корабль живым. Безмолвная подхватила со льда принесенные существом предметы и бережно взяла в охапку почти так, как мать держала бы младенца, сосущего грудь. Похоже, она возвращалась обратно к кораблю, пересекая ледяную площадку в направлении проема между сераками, находившегося градусов на десять левее Ирвинга. Внезапно она остановилась, резко повернув покрытую капюшоном голову в сторону лейтенанта, и, хотя он не видел черных глаз женщины, он почувствовал, как пронзительный взгляд вперяется в него. Он стоял, по-прежнему на четвереньках, посреди открытого, залитого ярким лунным светом пространства — в трех футах от своего укрытия за сераком. Такое впечатление, будто в какой-то момент он забыл, что тоже обладает телесной оболочкой и материальной природой. Несколько долгих мгновений оба не двигались. У Ирвинга перехватило дыхание. Он со страхом ждал, когда она пошевелится, возможно, затопает по льду ногами (закричать-то она не могла), призывая на помощь жуткого зверя. Своего защитника. Жестокого мстителя. Женщина отвела взгляд и пошла дальше, в считанные секунды скрывшись между ледяными глыбами на юго-восточной стороне круглой площадки. Ирвинг подождал еще несколько минут, по-прежнему трясясь, словно в лихорадочном ознобе, а потом с трудом поднялся на ноги — он почти не чувствовал своего окоченевшего тела, которое сейчас давало о себе знать лишь жаром эрекции, уже спадающей, да безудержной крупной дрожью, — но вместо того, чтобы потащиться следом за девушкой к кораблю, двинулся к месту, где она стояла на коленях в лунном свете. Там на льду остались пятна крови, казавшиеся черными в ярком голубом свете луны. Лейтенант Ирвинг опустился на колени, стянул с руки рукавицу и перчатку, макнул палец в расползающуюся лужицу темной жидкости и осторожно попробовал на вкус. Да, это была кровь, но не человеческая. Жуткое существо принесло эскимоске сырое, теплое, свежее мясо. Кровь имела медный привкус, какой имела кровь самого Ирвинга или любого другого человека, но он допускал, что кровь недавно убитых животных тоже отдает медью, пока не замерзнет. А замерзнет она в считанные минуты. Чудовище убило животного, предназначенного в дар леди Безмолвной, совсем недавно, когда Ирвинг плутал в ледяном лабиринте, пытаясь найти женщину. Попятившись прочь от черного пятна на голубом льду, как он попятился бы от языческого алтаря, на котором только что принесли в жертву невинное создание, Ирвинг всецело сосредоточился на попытках выровнять дыхание — морозный воздух обжигал легкие при каждом судорожном вздохе — и заставить свои окоченевшие ноги и оцепенелый ум работать, чтобы добраться до корабля. Он не полезет обратно через ледяной тоннель и дыру в корпусе. Он привлечет внимание вахтенного у правого борта криками, оставаясь за пределами дальности ружейного выстрела, и поднимется на корабль по ледяному откосу, всем своим видом показывая, что не намерен отвечать ни на какие вопросы, покуда не поговорит с капитаном. Но расскажет ли он капитану о случившемся? Ирвинг понятия не имел. Он даже не знал, позволит ли ему обитающее во льдах существо — а оно наверняка оставалось где-то поблизости — вернуться к кораблю. Он не знал, хватит ли у него сил на долгий обратный путь. Он знал одно: никогда уже он не будет таким, как прежде. Ирвинг повернулся на юго-восток и снова углубился в ледяной лабиринт.
23. Хикки
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 18 декабря 1847 г.Хикки решил, что высокий тощий лейтенант — Ирвинг — должен умереть и что это должно произойти именно сегодня. Щуплый помощник конопатчика ничего не имел против наивного молодого джентльмена, но своим несвоевременным появлением в трюме месяц с лишним назад Ирвинг подписал себе смертный приговор. Проблема заключалась в расписании работ и вахт. Хикки уже дважды выпадало нести вахту, когда Ирвинг исполнял обязанности дежурного офицера, но оба раза Магнуса Мэнсона не было с ним на палубе. Хикки все спланирует и выберет нужный момент, но для осуществления плана ему нужен Магнус. Не то чтобы Корнелиус Хикки боялся убить человека: он перерезал глотку одному парню еще прежде, чем достиг возраста, когда сам стал оплачивать свои походы в бордель. Нет, дело было просто в средствах и способе убийства, которые требовали участия его придурковатого приспешника и сексуального партнера в этой экспедиции, Магнуса Мэнсона. Сейчас условия представлялись идеальными. Сегодня, в пятницу утром (хотя слово «утро» ничего не значит, когда стоит такая темень, как в полночь), рабочая команда из тридцати с лишним человек вышла на лед, чтобы привести в порядок увенчанные факелами ледяные пирамиды между «Террором» и «Эребусом». Дюжина вооруженных мушкетами морских пехотинцев — по шесть с каждого корабля — теоретически обеспечивала безопасность рабочих бригад, но в действительности цепь людей растянулась почти на милю, и под командованием каждого офицера трудилось всего по пять или меньше человек. Здесь, на восточной половине темной тропы, за работой следили три офицера с «Террора» — лейтенанты Литтл, Ходжсон и Ирвинг, — и Хикки помог сформировать бригады таким образом, что они с Магнусом занимались самыми дальними пирамидами под надзором Ирвинга. Морские пехотинцы большую часть времени находились вне поля зрения, теоретически готовые прибежать на помощь в случае тревоги, но на практике делавшие все возможное, чтобы оставаться в тепле близ огня, ревевшего в медной жаровне, установленной рядом с самой высокой торосной грядой меньше чем в четверти мили от корабля. Под надзором лейтенанта Ирвинга сегодня утром трудились также Джон Бейтс и Билл Синклер, но эти двое были приятелями — причем ленивыми — и старались держаться подальше от молодого офицера, без особого рвения работая над соседней ледяной пирамидой. День (хотя и темный, как ночь) нынче выдался не самый холодный — всего минус сорок пять, наверное, — и почти безветренный. Ни луны, не полярного сияния не было, но мерцавшие в утреннем небе звезды давали достаточно света, чтобы человек, далеко удалившийся от фонаря или факела, сумел найти дорогу обратно. Поскольку где-то там, в темноте, по-прежнему бродило чудовищное существо, не многие отваживались отходить на значительное расстояние. И все же необходимость отыскивать нужного размера куски льда для восстановления пятифутовых пирамид (похоже на работу по строительству каменной стены в каком-нибудь графстве, подумал Хикки, хотя сам он никогда не занимался ничем подобным) вынуждала людей постоянно выходить за пределы освещенного фонарями пространства. Ирвинг следил за ходом работ на обеих пирамидах, часто оказывая мужчинам помощь физическим трудом. Хикки только оставалось дождаться момента, когда Бейтс и Синклер скроются из вида за поворотом тропы, а лейтенант Ирвинг потеряет бдительность. Помощник конопатчика мог бы воспользоваться сотней разных железных или стальных инструментов с корабля — на любом судне военно-морского флота Британии имелся широчайший выбор орудий убийства, порой весьма оригинальных, — но он предпочитал, чтобы Магнус просто оглушил белобрысого хлыща неожиданным ударом, оттащил ярдов на двадцать в сторону от тропы, свернул парню шею, а потом — когда он уже окочурится, — сорвал с него часть франтовских одежек, раздробил грудную клетку, хорошенько потоптал довольное румяное лицо, выбил зубы, сломал руку и обе ноги (или ногу и обе руки) и оставил труп валяться на льду, пока не найдут. Хикки уже выбрал место убийства — среди высоких сераков, где гладкий лед не покрыт снегом, на котором Мэнсон наследил бы своими башмаками. Он строго-настрого наказал Магнусу не пачкаться в крови лейтенанта, не оставлять никаких следов своего присутствия там и, самое главное, не тратить времени на ограбление. Обитающее во льдах существо убивало людей самыми разными зверскими способами, и, если бедный лейтенант Ирвинг получит достаточно сильные телесные повреждения, ни у кого не возникнет ни малейших сомнений по поводу случившегося. Просто еще один завернутый в парусину труп для мертвецкой «Террора». Магнус отнюдь не прирожденный убийца — просто идиот от рождения, — но он уже убивал людей по приказу помощника конопатчика, своего господина и повелителя. Ему не составит труда сделать это еще раз. Корнелиус Хикки сомневался, что Магнус хотя бы задается вопросом, почему лейтенант должен умереть, — просто такова воля хозяина, которую он должен выполнить. Поэтому Хикки удивился, когда во время очередной отлучки лейтенанта верзила оттащил его в сторонку и прошептал довольно возбужденно: — Ведь его призрак не станет преследовать меня, правда, Корнелиус? Хикки похлопал по спине своего громадного дружка. – Конечно не станет, Магнус. Неужто я велел бы тебе совершить что-нибудь такое, после чего тебе станет докучать привидение, любимый? – Нет, нет, — пророкотал Мэнсон, тряся головой. Его растрепанные непокорные волосы и борода, казалось, так и рвались из-под шерстяного шарфа и «уэльского парика». Он нахмурил огромный лоб. — Но почему его призрак не станет преследовать меня, Корнелиус? Ежели я прикончу лейтенанта, хотя он не сделал мне ничего плохого? Хикки напряженно соображал, что ответить. Бейтс и Синклер сейчас направлялись дальше, к месту, где рабочая бригада с «Эребуса» возводила стену из снежных глыб вдоль участка тропы протяженностью в двадцать ярдов, где всегда дул ветер. Уже не один человек сбился там с пути и заблудился в белой мгле, а потому капитаны решили, что при наличии снежной стены у посыльных возрастут шансы отыскать следующие пирамиды. Ирвинг проследит за тем, чтобы Бейтс и Синклер приступили к работе там, а потом вернется сюда, где они с Магнусом одни возились с последней перед открытым участком местности пирамидой. — Вот почему призрак лейтенанта не станет преследовать тебя, Магнус, — прошептал он склонившемуся над ним великану. — Обычно ты убиваешь человека в пылу гнева, и именно поэтому призрак убитого возвращается и пытается свести с тобой счеты. Он возмущен и разозлен твоим поступком. Но призрак мистера Ирвинга, он будет знать, что ты поступил так не из личной неприязни, не со зла, Магнус. У него не будет причин возвращаться и докучать тебе. Мэнсон кивнул, но с видом человека, не вполне убежденного представленными доводами. — Кроме того, — продолжал Хикки, — призрак не сумеет найти дорогу обратно к кораблю, верно? Всем известно, что, если человек умирает так далеко от корабля, призрак просто бредет куда глаза глядят — у него не хватает ума правильно сориентироваться и отыскать путь через все эти ледяные гряды, айсберги и тому подобное. Призраки, они вообще не самые смекалистые ребята, Магнус. Поверь мне на слово, любимый. Великан просветлел. Хикки видел, что Ирвинг возвращается по тускло освещенной факелами тропе. Ветер крепчал, и пламя факелов бешено плясало. «Ветер нам на руку, — подумал Хикки. — Если Магнус или Ирвинг поднимут шум, никто ничего не услышит». — Корнелиус, — прошептал Мэнсон, чье лицо снова приняло встревоженное выражение. — А коли я умру здесь, значит ли это, что мой призрак не сумеет найти дорогу обратно к кораблю? Мне бы страшно не хотелось остаться здесь, на холоде, так далеко от тебя. Помощник конопатчика снова похлопал великана по могучей спине, подобной каменной стене. — Ты не умрешь здесь, любимый. Даю тебе слово. Теперь умолкни и приготовься. Когда я сниму шапку и почешу голову, ты набросишься на Ирвинга сзади и оттащишь его к месту, которое я тебе показывал. Помни: ты не оставляешь за собой следов и не пачкаешься в крови. – Я не буду, Корнелиус. – Вот и славно. Лейтенант выступил из мрака и вошел в круг света от фонаря, стоявшего на льду возле пирамиды. — Почти закончили здесь, Хикки? — Так точно, сэр. Сейчас уложим пару последних ледышек на самый верх — и пирамида готова, лейтенант. Прочная, как фонарный столб на ярмарке. Ирвинг кивнул. Казалось, ему было неприятно находиться наедине с двумя матросами, хотя Хикки говорил самым любезным и сладким тоном. «Ладно, твою мать, — думал помощник конопатчика, продолжая улыбаться широкой редкозубой улыбкой. — Тебе недолго осталось расхаживать тут с напыщенным видом, ты, белобрысый, розовощекий ублюдок. Еще пять минут — и ты превратишься в очередной кусок мороженого мяса, которому место в трюме. Прискорбно, что крысы нынче такие голодные, но здесь я ничего не могу поделать». — Отлично, — сказал Ирвинг. — Когда вы с Мэнсоном закончите здесь, пожалуйста, присоединитесь к мистеру Синклеру и мистеру Бейтсу, занятым на строительстве стены. А я сейчас схожу назад и приведу сюда капрала Хеджеса с его мушкетом. — Есть, сэр, — сказал Хикки. Он поймал взгляд Мэнсона. Они должны остановить Ирвинга, пока он не двинулся обратно к кораблю по тропе, отмеченной тусклым пунктиром факелов и фонарей. Хеджес или любой другой морской пехотинец им здесь совершенно не нужны. Ирвинг двинулся в восточном направлении, но остановился на самой границе освещенного фонарем пространства, явно ожидая, когда Хикки уложит два последних куска льда на самый верх восстановленной пирамиды. Нагнувшись за предпоследним ледяным блоком, помощник конопатчика кивнул Магнусу, зашедшему лейтенанту за спину. Внезапно темнота на западе взорвалась криками. Истошный мужской вопль. Потом еще один. Огромные руки Магнуса зависли в воздухе прямо за шеей лейтенанта — великан снял рукавицы, чтобы хватка была крепче, и черные перчатки смутно вырисовывались сразу за бледным лицом Ирвинга, озаренным светом фонаря. Снова крики. Выстрел мушкета. — Магнус, нет! — выкрикнул Корнелиус Хикки. Его приятель собирался свернуть Ирвингу шею, несмотря на поднявшийся шум. Мэнсон отступил назад в темноту. Ирвинг, сделавший три шага в направлении, откуда доносились крики, резко повернулся кругом, охваченный тревогой. Три человека бежали по ледяной тропинке со стороны «Террора». Одним из них был Хеджес. Низенький тучный капрал держал мушкет перед толстым брюхом и шумно пыхтел. — За мной! — выпалил Ирвинг и первым бросился на запад, где раздавались крики. У лейтенанта не было оружия, но он схватил фонарь. Все шестеро пронеслись между сераками и выбежали на открытое, тускло освещенное звездами пространство, где беспорядочно толклись несколько человек. Хикки разглядел знакомые «уэльские парики» Синклера и Бейтса и узнал в одном из трех людей с «Эребуса», уже находившихся там, Френсиса Данна, помощника конопатчика с другого корабля. Выстреливший мушкет принадлежал рядовому Биллу Пилкингтону, который сидел в засаде в прошлом июне, когда погиб сэр Джон, и был ранен в плечо одним из морских пехотинцев во время возникшей неразберихи и паники. Пилкингтон уже перезарядил мушкет и целился в темноту за обвалившейся секцией стены. — Что случилось? — резко спросил Ирвинг, обращаясь во всем сразу. Ответил Бейтс. Он, Синклер и Данн, а также Абрахам Сили и Джозефус Грейтер с «Эребуса» работали здесь на строительстве стены под надзором старшего помощника капитана «Эребуса» Роберта Орма Серджента, когда один из ледяных валунов, лежавших сразу за границей света от фонарей и факелов, вдруг ожил и обратился жутким существом. – Оно схватило мистера Серджента за голову и подняло в воздух на добрых десять футов, — проговорил Бейтс дрожащим голосом. – Истинная правда, — подтвердил помощник конопатчика Френсис Данн. — Секунду назад он стоял спокойно среди нас, а в следующую секунду взлетает в воздух, и мы видим лишь подошвы его башмаков. И этот ужасный звук… хруст костей… Данн осекся и снова тяжело задышал; клубы пара, на морозе мгновенно превращавшиеся в гало ледяных кристаллов, почти полностью заволокли его бледное лицо. – Я подходил к факелам, когда увидел, как мистер Серджент вдруг… просто исчез, — сказал рядовой Пилкингтон, опуская мушкет, зажатый в трясущихся руках. — Я успел выстрелить, когда громадное существо уходило обратно к серакам. Кажется, я попал в него. – Ты с таким же успехом мог попасть в Роберта Серджента, — сказал Корнелиус Хикки. — Возможно, он был еще жив, когда ты выстрелил. Пилкингтон посмотрел на помощника конопатчика с «Террора» с неприкрытой ненавистью. — Мистер Серджент не был жив, — сказал Данн, даже не заметив, как морской пехотинец и Хикки обменялись злобными взглядами. — Он испустил вопль, а чудовище разгрызло бедняге череп, точно грецкий орех. Я видел. Я слышал. Тут подбежали все остальные, включая капитана Крозье и капитана Фицджеймса, который казался изнуренным и бесплотным даже во всех своих многочисленных поддевках и толстой шинели, и Данн, Бейтс и прочие рассказали вновь прибывшим о случившемся. Капрал Хеджес и два других морских пехотинца, прибежавших с ним на шум, вернулись из темноты и доложили, что мистера Серджента нигде нет — только клочья одежды и кровавый след, уходящий в запутанный ледяной лабиринт в направлении айсбергов. — Оно хочет, чтобы мы последовали за ним, — пробормотал Бейтс. — Оно будет ждать нас там. Крозье растянул рот то ли в безумной ухмылке, то ли в злобном оскале. — В таком случае не станем его разочаровывать, — проговорил он. — Сейчас самое время снова устроить охоту на гнусную тварь. Люди уже на льду, света у нас достаточно, а морские пехотинцы могут принести мушкетов и дробовиков на всех. И след свежий. — Слишком свежий, — пробормотал капрал Хеджес. Крозье лающим голосом отдал приказы. Несколько человек отправились обратно к кораблям за оружием. Остальные разделились на охотничьи отряды под командованием морских пехотинцев, уже вооруженных. С рабочих площадок принесли факелы и фонари, которые распределили между отрядами. Крозье послал за докторами Стенли и Макдональдом, на случай, если Роберт Орм Серджент еще жив или если еще кто-нибудь пострадает. Получив в свое распоряжение мушкет, Хикки сразу замыслил «случайно» застрелить лейтенанта Ирвинга в темноте, но, похоже, молодой офицер остерегался и Мэнсона, и помощника конопатчика. Хикки заметил, как белобрысый хлыщ бросил несколько встревоженных взглядов в сторону Магнуса, прежде чем Крозье зачислил их в разные отряды, и понял, что Ирвинг либо мельком увидел у себя за спиной Магнуса с поднятыми руками за секунду до того, как раздались первые крики и выстрелы, либо же просто почуял что-то неладное, а значит, застать его врасплох в следующий раз будет уже сложнее. Но они сумеют. Хикки опасался, что возникшие подозрения заставят Джона Ирвинга доложить капитану о том, что он видел в трюме, а этого помощник конопатчика никак не мог допустить. Он боялся не столько наказания за мужеложство — теперь моряков редко вешали, да и пороли нечасто, коли на то пошло, — сколько позора. Помощник конопатчика Корнелиус Хикки не какой-нибудь там жалкий педераст. Он подождет, когда Ирвинг снова потеряет бдительность, а потом сделает все сам, коли придется. Даже если корабельные врачи установят факт убийства, никто не станет особо дергаться. В этой экспедиции дела и так обстоят хуже некуда. Просто появится еще один труп, о котором придется позаботиться с наступлением оттепели. В конечном счете тело мистера Серджента так и не нашли — кровавый след, усеянный клочьями одежды, оборвался на полпути к высоченному айсбергу, — но больше никто не пропал. Несколько человек напрочь отморозили пальцы на ногах, и все получили разного рода обморожения и тряслись от холода, когда наконец, через час после обычного времени ужина, поступил приказ прекратить поиски. Лейтенанта Ирвинга в тот день Хикки больше не видел. А вот Магнус Мэнсон премного удивил его, когда они устало тащились обратно к «Террору». Ветер начал завывать позади них, и морские пехотинцы плелись, держа оружие наготове. Хикки вдруг понял, что идущий рядом великан плачет. Слезы моментально замерзали на бороде Магнуса. – В чем дело, дружище? — спросил Хикки. – Мне тошно, Корнелиус, вот и все. – Отчего же? – Бедный мистер Серджент. Хикки бросил взгляд на своего приятеля. – Я и не знал, что ты питаешь столь нежные чувства к этим чертовым офицерам, Магнус. – Я не питаю, Корнелиус. Коли они все помрут и попадут в ад, мне наплевать. Но мистер Серджент умер здесь, на льду. – И что с того? – Его призрак не найдет дорогу обратно к кораблю. А капитан Крозье сказал, что все мы получим сегодня вечером по дополнительному глотку рома. Мне грустно, что призрака мистера Серджента не будет с нами, вот и все.
24. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 31 декабря 1847 г.Сочельник и Рождество на «Терроре» прошли тихо, почти незаметно, но второй Большой Венецианский карнавал в канун Нового года восполнит упущенное. На протяжении четырех суток бушевали снежные бури — столь сильные, что несколько предшествовавших Рождеству дней никто не покидал пределы корабля и время вахт пришлось сократить до часа, — и сочельник и сам священный день отмечали в полумраке жилой палубы. Мистер Диггл приготовил праздничные обеды, состряпав с полдюжины разных блюд из последних остатков неконсервированной соленой свинины и рубленой зайчатины, замаринованной в бочках. Вдобавок кок — по рекомендации интендантов мистера Кенли, мистера Рода и мистера Дэвида Макдональда, а равно под строгим контролем судовых врачей Педди и Александра Макдональда — отобрал несколько банок голднеровских консервов, сохранившихся лучше других, в том числе черепаховый суп, говядину по-фламандски, фаршированного трюфелями фазана и телячий язык. Помощники мистера Диггла очистили от плесени и нарезали последние головки сыра, оба дня подававшегося на десерт, а капитан Крозье пожертвовал последние пять бутылок бренди из тайных запасов винной кладовой, предназначенных для особых случаев. Настроение оставалось похоронным. И офицеры в холодной кают-компании, и матросы в своем чуть более теплом кубрике (оставшегося в трюме угля уже не хватало на дополнительный обогрев жилой палубы, даже в Рождество) несколько раз пытались запеть, но все песни замирали после нескольких куплетов. Светильное масло надлежало беречь, и потому жилая палуба выглядела не веселее уэльского рудника, освещенного несколькими мерцающими свечами. Брусья шпангоута и бимсы покрывала ледяная корка, одеяла и шерстяные вещи мужчин оставались влажными. Повсюду шмыгали крысы. Бренди немного подняло настроение, но не настолько, чтобы рассеять мрак, царивший на корабле и в душах людей. Крозье вышел в кубрик, чтобы поболтать с матросами, и несколько человек вручили ему подарки — крохотный кисет сэкономленного табака; резную фигурку бегущего белого медведя; большую картонную маску, изображающую человеческое лицо с выражением страха (преподнесенную, несомненно, в шутку и наверняка не без опасения, как бы грозный капитан не наказал дарителя за фетишизм); залатанную красную шерстяную фуфайку, принадлежавшую недавно умершему другу одного матроса; и полный комплект вырезанных из кости шахматных фигур от капрала морской пехоты Роберта Хопкрафта (одного из самых спокойных и скромных мужчин в экспедиции и того самого, который получил перелом восьми ребер, перелом ключицы и вывих руки во время нападения существа на маскировочную палатку сэра Джона в июне). Крозье поблагодарил всех, пожал каждому руку, похлопал по плечу и вернулся обратно в офицерскую столовую, где настроение было чуть повеселее благодаря неожиданному пожертвованию первого лейтенанта Литтла в виде двух бутылок виски, которые он тайно хранил почти три года. Пурга прекратилась утром 26 декабря — снега намело на двенадцать футов выше носа и на шесть футов выше планширя правого борта в передней четверти судна, — и, откопав «Террор» из-под снежных завалов и расчистив отмеченную ледяными пирамидами тропу между кораблями, люди занялись подготовкой к мероприятию, которое они называли Вторым Большим Венецианским карнавалом — первым, заключил Крозье, считался карнавал, в котором он принимал участие в бытность свою гардемарином во время неудачной полярной экспедиции Парри в 1824 году. Непроглядным темным утром 26 декабря Крозье и первый лейтенант Эдвард Литтл поручили наблюдение за рабочими бригадами, занятыми на расчистке корабля и прилегающей к нему территории от снега, Ходжсону, Хорнби и Ирвингу, а сами совершили трудный и долгий переход через снежные заносы к «Эребусу». Крозье испытал легкое потрясение, увидев, что Фицджеймс продолжает терять в весе — мундир и брюки теперь были ему велики на несколько размеров, хотя стюард явно предпринимал попытки ушивать их, — и испытал изрядное потрясение во время разговора с ним, когда осознал, что командир «Эребуса» его почти не слушает. Фицджеймс производил впечатление человека, который только делает вид, будто поддерживает беседу, но на самом деле прислушивается к музыке, играющей в соседнем помещении. — Ваши люди красят парусину там на льду, — сказал Крозье. — Я видел, как они готовят баки с зеленой, синей и даже черной краской. Для запасного паруса, находящегося в отличном состоянии. По-вашему, такое допустимо, Джеймс? Фицджеймс рассеянно улыбнулся. — Вы действительно полагаете, что парус нам еще понадобится, Френсис? — Очень на это надеюсь, — проскрежетал Крозье. Фицджеймс продолжал улыбаться слабой безмятежной улыбкой, приводившей Крозье в бешенство. – Вам следует заглянуть в наш трюм, Френсис. Разрушительный процесс ускорился со времени, когда мы обследовали повреждения в последний раз, за неделю до Рождества. «Эребус» не продержится на плаву и часа. Руль расколот в щепки, а он был запасным. – Можно поставить аварийный, — сказал Крозье, подавляя желание заскрипеть зубами и сжать кулаки. — Плотники могут укрепить треснувшие брусья шпангоута. Я планирую до наступления весенней оттепели вырубить во льду яму вокруг обоих кораблей, подобие сухого дока глубиной футов восемь. Таким образом мы получим доступ к наружной обшивке корпуса. — Весенней оттепели? — Фицджеймс улыбнулся почти снисходительно. Крозье решил переменить тему. — Вас не беспокоит намерение людей устроить этот венецианский карнавал? С полным безразличием к правилам хорошего тона Фицджеймс небрежно пожал плечами. — С какой стати мне беспокоиться? Не знаю, как на вашем корабле, Френсис, но на «Эребусе» Рождество прошло в самой тягостной атмосфере. Людям необходимо какое-то развлечение для поднятия духа. Относительно тягостной атмосферы Рождества Крозье ничего не мог возразить. – Но бал-маскарад на льду, в кромешной тьме зимнего дня? — сказал он. — Сколько матросов погибнет, став жертвой зверя, подстерегающего там добычу? – А скольких мы потеряем, коли спрячемся на кораблях? — спросил Фицджеймс, все с той же слабой улыбкой и рассеянным выражением лица. — И у вас же все прошло нормально, когда вы устраивали первый Венецианский карнавал с Хоппнером и Парри в двадцать четвертом году. Крозье потряс головой. — Он состоялся всего через два месяца после того, как нас затерло льдами, — мягко сказал он. — Вдобавок и Парри, и Хоппнер были просто помешаны надисциплине. При всей легкомысленности подобных забав и при всей любви обоих капитанов к театрализованным представлениям, Эдвард Парри всегда повторял: «маскарады без бесчинства» и «карнавалы без излишеств». У нас с дисциплиной дела обстоят хуже, Джеймс. Фицджеймс наконец утратил рассеянный вид. – Капитан, — холодно произнес он, — вы обвиняете меня в ослаблении дисциплины на моем корабле? – Нет, нет, нет, — сказал Крозье, сам не зная, обвиняет он молодого человека или еще нет. — Я просто говорю, что мы торчим во льдах третий год, а не третий месяц, как было в случае с Парри и Хоппнером. Ослабление дисциплины, сопутствующее болезням и упадку морального духа, в подобных обстоятельствах неизбежно. — Так не значит ли это, что тем более следует позволить людям развлечься? — спросил Фицджеймс, по-прежнему холодным тоном. Его бледные щеки слегка порозовели при замечании начальника, истолкованном как критическое. Крозье вздохнул. Теперь уже слишком поздно отменять чертов маскарад, осознал он. Люди закусили удила, и с особым воодушевлением подготовкой к карнавалу на «Эребусе» занимались именно те матросы, которые — как помощник конопатчика Хикки на «Терроре» — первыми поднимут мятеж, когда наступит момент. Искусство капитана, знал Крозье, заключается в том, чтобы не допустить наступления такого момента. Он действительно не знал, поможет карнавал делу или, наоборот, повредит. — Хорошо, — после долгой паузы сказал он. — Но люди должны понять, что не вправе потратить ни куска угля, ни капли светильного масла, древесного спирта или эфира для спиртовок. — Обещаю, будут только факелы, — сказал Фицджеймс. — И никакой дополнительной выпивки или еды в день карнавала, — добавил Крозье. — С сегодняшнего дня мы перешли на урезанный рацион и не станем менять норму довольствия на пятый день по случаю карнавала, который никто из нас не одобряет в полной мере. Фицджеймс кивнул. – Лейтенант Левеконт, лейтенант Фейрхольм и несколько человек, стреляющих лучше среднего, будут ходить на охоту в оставшиеся до карнавала дни в надежде добыть какую-нибудь дичь, но люди понимают, что придется довольствоваться обычным рационом — вернее, новым, урезанным, — коли охотники вернутся с пустыми руками. – Как они возвращались каждый раз в течение последних трех месяцев, — проворчал Крозье. Более дружелюбным голосом он сказал: — Хорошо, Джеймс. Мне пора. — Он остановился в дверях крохотной каюты Фицджеймса. — Кстати, зачем они красят паруса? Фицджеймс рассеянно улыбнулся. — Понятия не имею, Френсис.
Рассвет пятницы 31 декабря 1847 года (хотя в действительности никакого рассвета не было) выдался холодным, но тихим. Утренняя вахта, возглавляемая мистером Ирвингом, зафиксировала температуру минус 73 градуса.[10] Ветра не ощущалось. За ночь все небо от одного горизонта до другого затянуло облаками. Было очень темно. Большинству людей, похоже, не терпелось отправиться на карнавал сразу после завтрака — после введения нового рациона, занимавшего меньше времени против прежнего и состоявшего из одной галеты с джемом и неполной поварешки ячневой каши, основательно сдобренной сахаром, — но повседневные дела и обязанности требовали внимания, и Крозье согласился отпустить команду на празднество только по завершении всех дневных работ. Все же он дал согласие на то, чтобы матросы, сегодня свободные от служебных обязанностей — как то: драйка палубы, несение вахты, скалывание льда с мачт и такелажа, уборка снега, ремонтные работы, восстановление ледяных пирамид, учебные занятия, — приняли участие в последних приготовлениях к маскараду, и после завтрака около дюжины человек отправились на «Эребус», в сопровождении двух вооруженных мушкетами морских пехотинцев. К полудню, когда матросам выдали по порции сильно разбавленного рома, владевшее командой возбуждение стало явным. Крозье отпустил еще шестерых человек, закончивших свою работу на сегодня, и послал с ними второго лейтенанта Ходжсона. Во второй половине дня, расхаживая в темноте по палубе, Крозье уже видел яркий свет факелов сразу за огромным айсбергом, возвышавшимся между двумя кораблями. Ветер так и не поднялся, и звезды в небе не появились. К часу ужина оставшиеся на корабле мужчины изнемогали от нетерпения, не в силах усидеть на месте, словно малые дети в канун Рождества. Они расправились с ужином в рекордно короткое время — поскольку пятница была не «мучным днем», он состоял из скромной порции трески «Бедный Джон» с голднеровскими консервированными овощами и бертонского пива, налитого в кружку на два пальца, — и у Крозье не хватило духа задерживать людей в кубрике, пока офицеры заканчивали свой более неспешный ужин. К тому же оставшиеся на борту офицеры не меньше матросов рвались отправиться на карнавал. Даже инженер Джеймс Томпсон — который редко выказывал интерес к чему-нибудь за пределами машинного отделения и за последнее время так исхудал, что стал похож на ходячий скелет, — уже находился на жилой палубе, полностью одетый и готовый тронуться в путь. Поэтому к семи часам вечера капитан Крозье, одетый по возможности теплее, в последний раз проверил восьмерых человек, остававшихся дежурить на корабле, — за вахтенного офицера оставался старший помощник Хорнби, но до полуночи его сменит молодой Ирвинг, чтобы Хорнби со своей вахтой мог поприсутствовать на празднике, — а потом все спустились по ледяному скату на замерзшее море и резвым шагом двинулись по восьмидесятиградусному морозу[11] к «Эребусу». Вскоре толпа из тридцати с лишним человек растянулась в темноте длинной вереницей — на верхушке каждой пятой ледяной пирамиды горел просмоленный факел, освещавший путь, — и Крозье оказался рядом с лейтенантом Ирвингом, ледовым лоцманом Блэнки и несколькими унтер-офицерами. Блэнки шел медленно, опираясь на зажатый под правой рукой костыль, поскольку потерял правую пятку и еще не вполне приноровился ходить на протезе, но пребывал в отличном расположении духа. — Добрый вам вечер, капитан, — сказал ледовый лоцман. — Пожалуйста, не сбавляйте из-за меня шага, сэр. Мои товарищи — Толстяк Уилсон, Кинли и Билли Гибсон — позаботятся обо мне здесь. — Мне кажется, вы идете ничуть не медленнее нас, мистер Блэнки, — сказал Крозье. Проходя мимо пирамид с факелами, он всякий раз отмечал, что по-прежнему полное безветрие: языки пламени поднимались вертикально вверх. Тропа была хорошо утоптана, пробитые в торосных грядах проходы тщательно расчищены от снега. Громадный айсберг, все еще находившийся в полумиле впереди, казалось, источал сияние из своих недр, освещенный многочисленными факелами, горевшими с другой его стороны, и сейчас походил на некую фантасмагоричную крепостную башню, сверкающую в ночи. Крозье вспомнил, как в детстве ходил на местные ирландские ярмарки. В воздухе сегодня (хотя и чуть более холодном, чем летней ирландской ночью) чувствовалось такое же радостное возбуждение. Он оглянулся, чтобы удостовериться, что рядовой Хэммонд, рядовой Дейли и сержант Тозер замыкают шествие, держа оружие наготове. — Просто диву даешься, насколько люди рады карнавалу, верно, капитан? — сказал мистер Блэнки. Крозье лишь раздраженно фыркнул. Ближе к вечеру он допил свою последнюю бутылку виски и теперь с ужасом думал о предстоящих днях и ночах. Костыль не костыль, но Блэнки и его товарищи шагали так быстро, что Крозье пропустил их вперед. Он дотронулся до руки Ирвинга, и долговязый лейтенант отстал от лейтенанта Литтла, врачей Педди и Макдональда, плотника Хани и прочих. – Джон, — сказал Крозье, когда они оказались вне пределов слышимости для офицеров, но по-прежнему оставались достаточно далеко от замыкающих шествие морских пехотинцев, чтобы не быть услышанными, — есть какие-нибудь новости о леди Безмолвной? – Нет, капитан. Я самолично проверял канатный ящик меньше часа назад, но она уже вышла через свою маленькую заднюю дверь. Когда десятого декабря Ирвинг доложил Крозье о тайных вылазках эскимосской гостьи с корабля, а также о том, что видел женщину рядом с чудовищным существом (хотя Ирвинг не стал рассказывать обо всех невероятных подробностях разыгравшейся сцены, упомянув лишь о странной «музыке»), первым побуждением капитана было завалить узкий ледяной тоннель, надежно заделать отверстие в корпусе и вышвырнуть девку на лед раз и навсегда. Однако он не сделал ничего подобного. Вместо этого Крозье приказал лейтенанту Ирвингу поручить трем матросам по возможности держать леди Безмолвную под наблюдением, а самому попытаться еще раз проследить за ней, когда она предпримет очередную вылазку. До сих пор они еще ни разу не видели, чтобы она снова покидала корабль через свою заднюю дверь, хотя Ирвинг часами сидел в укрытии среди нагромождений ледяных глыб за бушпритом, подстерегая женщину. Складывалось такое впечатление, будто она видела лейтенанта во время своего колдовского свидания с чудовищем — хотела, чтобы он видел и слышал ее там, — и сочла, что этого достаточно. Похоже, в последние дни она довольствовалась матросским пайком и использовала канатный ящик только для сна. Крозье не изгнал аборигенку по самой простой причине: люди начинали медленно умирать голодной смертью. Из-за порчи значительной части консервированных продуктов, поставленных мошенником Голднером, у них не хватит продовольствия, чтобы продержаться до лета, а тем более до следующего года. Если леди Безмолвная действительно добывает свежее мясо на льду среди зимы — ловит петлей тюленей, а возможно, даже моржей, — члены обеих команд обязательно должны научиться у нее этому, чтобы получить хоть самые ничтожные шансы выжить. Среди сотни с лишним оставшихся в живых людей не было ни одного опытного охотника или специалиста по подледному лову рыбы. Крозье скептически отнесся к смущенному и весьма неуверенному рассказу лейтенанта Ирвинга, якобы видевшего, как зверь приносит в дар женщине мясо. Капитан в жизни не поверил бы, что Безмолвная обучила громадного белого медведя — если существо таковым являлось, — охотиться и приносить ей рыбу или тюленей, как благопристойный английский пойнтер приносит своему хозяину фазана. Но она выбрала именно сегодняшний день, чтобы снова исчезнуть с корабля. — Ладно, — сказал Крозье, чувствуя, как морозный воздух, даже просачиваясь сквозь толстый шарф, болезненно обжигает легкие, — когда вы вернетесь обратно со сменной вахтой, проверьте канатный ящик еще раз, и если ее там не окажется… Что это, Господи Иисусе?
Миновав последнюю торосную гряду, они вышли на открытый ровный участок замерзшего моря в четверти мили от «Эребуса». При виде представшей взору картины у Крозье отвалилась челюсть под шерстяным шарфом и высоко поднятыми воротниками. Капитан предполагал, что Второй Большой Венецианский карнавал будет проводиться на ровном морском льду в непосредственной близости от корабля, как происходило в 1824-м, когда Хоппнер и Парри устраивали маскарад на узкой полосе льда между «Хеклой» и «Фьюри». Но в то время как «Эребус», темный и с виду пустынный, стоял с задранным вверх носом на своем грязном ледяном пьедестале, великое оживление царило в четверти мили от него, рядом с громадным айсбергом. — Силы небесные, — проговорил лейтенант Ирвинг. В то время как «Эребус» казался темным остовом покинутого корабля, новая масса такелажа и парусов — настоящий город из разноцветной парусины, озаренный ярко горящими факелами, — выросла на широком ровном участке замерзшего моря, среди леса сераков и прямо под громадным сверкающим айсбергом. Крозье мог лишь стоять и ошеломленно хлопать глазами. Люди потрудились на славу. Некоторым пришлось подняться на сам айсберг, чтобы глубоко вбить огромные ледовые якоря в ледяную стену на высоте шестидесяти футов, закрепить тали и натянуть такое количество снастей бегучего такелажа из кладовых, какого хватило бы для того, чтобы полностью вооружить трехмачтовый военный корабль. Паутина из сотен обледенелых тросов спускалась с айсберга и тянулась к «Эребусу», поддерживая залитые светом разноцветные парусиновые стены (порой представлявшие собой полотнища парусов высотой в тридцать и более футов), которые снизу крепились с помощью колышков к морскому льду, серакам и ледяным глыбам, по сторонам — к вертикальным стойкам, а сверху держались на косо натянутых канатах. Крозье подошел ближе, по-прежнему часто моргая. Из-за наросшего на ресницах льда веки у него в любой момент могли смерзнуться, но он все равно продолжал моргать. Казалось, будто на льду установлено множество гигантских разноцветных шатров, только крыши у этих шатров отсутствовали. Вертикальные стены, освещенные изнутри и снаружи десятками факелов, тянулись зигзагом от открытого участка морского льда в лес сераков и вплоть до отвесной стены самого айсберга. Казалось, будто анфилады гигантских залов или разноцветных чертогов за ночь выросли на льду. Каждое следующее «помещение» располагалось под углом к предыдущему — натянутые полотнища парусов делали заметный поворот через каждые двадцать ярдов или около того. Первый зал выходил на восток. Здесь парусина была покрашена в ярко-синий цвет — цвет ясного неба, которого они не видели уже так давно, что сейчас при виде него у капитана Крозье к горлу подкатил ком, — и в свете установленных снаружи факелов синие стены сверкали и пульсировали. Крозье прошел мимо мистера Блэнки и его товарищей, остолбеневших от изумления с разинутыми ртами. Он услышал, как ледовый лоцман пробормотал: «Мать честная». Крозье подошел ближе — собственно говоря, вступил в пространство, огороженное сияющими синими стенами. Фигуры в диковинных ярких нарядах скакали и прыгали вокруг него — тряпичники с хвостами из разноцветных лохмотьев, волочащихся за ними; долговязые трубочисты в траурно-черных фраках и запачканных сажей цилиндрах, откалывающие коленца; легко пританцовывающие экзотические птицы с длинными золотыми клювами; арабские шейхи в красных тюрбанах, скользящие по темному льду; пираты в голубых масках мертвецов, занятые погоней за резво скачущим единорогом; генералы наполеоновской армии в белых масках театра кабуки, шествующие мимо торжественной процессией. Объемистая фигура, облаченная во все зеленое — лесной дух? — подбежала к Крозье и пропела фальцетом: «Для вас остался целый сундук костюмов, капитан. Присоединяйтесь к нам, коли желаете», — а потом видение исчезло, снова смешавшись с шумной толпой причудливо наряженных людей. Крозье двинулся дальше, углубляясь в лабиринт разноцветных чертогов. За синим залом находился пурпурный, длинный и резко поворачивающий направо. Крозье заметил, что устроители карнавала украсили каждое помещение коврами и гобеленами, поставили там и сям столы или бочки и покрасили все предметы обстановки в цвет сияющих парусиновых стен. За пурпурным залом оказался зеленый — теперь поворачивающий налево, но под таким странным углом, что Крозье пришлось бы посмотреть на звезды, будь таковые видны в небе, чтобы сориентироваться по сторонам света. В этом длинном помещении веселилось больше ряженых, чем в любом из двух предыдущих: еще экзотические птицы, принцесса в лошадиной маске, существа с сегментарными телами и суставчатыми конечностями, похожие на гигантских насекомых. Френсис Крозье не помнил, чтобы такие костюмы хранились в сундуках Парри на «Фьюри» и «Хекле», но Фицджеймс утверждал, что Франклин взял в плавание именно те тронутые тленом артефакты. Стены, предметы обстановки и освещение в четвертом зале были оранжевыми. Свет факелов, проникавший сквозь тонкую оранжевую парусину, казался таким густым, что хоть пей. Полотнища оранжевой парусины, разрисованные наподобие гобеленов, устилали морской лед, а в центре покрытого оранжевой простыней стола стояла огромная чаша для пунша. По меньшей мере тридцать гротескных фигур толпилось вокруг чаши, некоторые приподнимали свои клювастые или клыкастые личины, чтобы им не мешали пить. Крозье вдруг с великим изумлением осознал, что из пятого сегмента лабиринта доносится громкая музыка. Снова повернув направо, он вступил в белый зал. Покрытые простынями матросские сундуки и стулья из офицерской столовой стояли вдоль белых парусиновых стен, и фантастическая маска в дальнем конце помещения крутила ручку почти забытой музыкальной шкатулки из кают-компании «Террора», с чьих металлических дисков лились популярные танцевальные мелодии. Почему-то звуки музыки казались гораздо громче здесь, на льду. Группа ряженых выходила из шестого зала, и Крозье, прошагав мимо музыкальной шкатулки, круто повернул направо и вошел в фиолетовый покой. Взглядом опытного моряка капитан по достоинству оценил конструкцию из тросов, поднимавшихся от вертикальных стоек к подвешенному в воздухе брусу (к нему сходились многочисленные тросы из всех шести помещений), и толстых канатов, тянувшихся от центрального бруса к анкерам, вбитым высоко в стену айсберга. Мачтовые матросы с «Эребуса» и «Террора», придумавшие и возведшие этот парусиновый лабиринт, явно также отчасти утолили здесь свою тоску по привычному делу, которым не имели возможности заниматься в продолжение многих месяцев, пока томились бездействием на затертых льдами кораблях со снятыми стеньгами, реями и такелажем. Но в фиолетовом зале было мало ряженых — освещение в нем производило удивительно тягостное впечатление. Вся обстановка здесь состояла из десятка пустых упаковочных клетей посреди помещения, задрапированных фиолетовыми простынями. Несколько птиц, пиратов и тряпичников ненадолго задержались тут, чтобы осушить свои хрустальные бокалы, принесенные из белого зала, огляделись по сторонам, а потом быстро вернулись в предыдущие покои. В последнем зале, казалось, вообще не было света. Крозье вышел из фиолетового зала и, резко повернув направо, очутился в помещении, где царила кромешная тьма. Нет, не совсем так, осознал он. За черными парусиновыми стенами здесь тоже горели факелы, но свет едва пробивался сквозь них, почти не рассеивая мрака. Крозье пришлось остановиться, чтобы глаза привыкли к темноте, а когда это произошло, он испуганно попятился. Лед под ногами исчез. Казалось, он ступает прямо по черной воде арктического моря. Капитану понадобилось лишь несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. Матросы густо посыпали лед сажей, взятой из котельной и угольных бункеров, — старый прием, которым пользуются моряки, чтобы ускорить таяние морского льда поздней весной или капризным летом, — но сейчас, посреди полярной зимы с морозами до минус ста градусов,[12] таяния льда не происходило. От сажи и угля лед под ногами просто стал невидимым во мраке последнего ужасного зала. Когда глаза Крозье окончательно привыкли к темноте, он увидел, что в длинном черном помещении находится лишь один предмет обстановки, но стиснул зубы от гнева, когда рассмотрел, что это за предмет такой. Эбеновые напольные часы капитана сэра Джона Франклина стояли в дальнем конце черного зала, вплотную придвинутые к ледяной стене айсберга, в которую упирался парусиновый лабиринт. Крозье слышал размеренное тяжелое тиканье. А над тикающими часами из льда выступала, словно в попытке вырваться на свободу, мохнатая белая голова чудовища с желтыми клыками. Нет, снова поправил он себя, не чудовища. К ледяной стене каким-то образом прикрепили голову крупного белого медведя. Пасть зверя была широко раскрыта. В черных глазах отражался скудный свет факелов, пробивавшийся сквозь черные парусиновые стены. Одни только зубы и шерсть медведя смутно белели во мраке черного зала. Из разверстой пасти вываливался ярко-красный язык. Под мохнатой головой мерно тикали эбеновые часы. Охваченный безотчетной яростью, Крозье стремительно вышел из черного помещения, прошагал через фиолетовое, остановился в белом зале и грозным голосом крикнул офицера — любого офицера. Сатир в длинной маске из папье-маше и с приапическим конусом, торчащим из-под красного ремня, подбежал к нему на черных копытах, подвязанных к грубым башмакам. – Да, сэр? – Снимите эту чертову маску! — Есть, капитан, — откликнулся сатир, поднимая на лоб маску и оборачиваясь Томасом Р. Фарром, грот-марсовым старшиной «Террора». Стоявшая поблизости китаянка с огромными грудями стянула маску вниз, явив взорам круглую толстую физиономию кока, мистера Диггла. Рядом с Дигглом стояла гигантская крыса, которая приспустила свою мерзкую личину достаточно низко, чтобы показать лицо лейтенанта Джеймса Уолтера Фейрхольма с «Эребуса». — Что, черт побери, все это значит? — проревел Крозье. При звуках его голоса разнообразные фантастические существа съежились и попятились к белым стенам. — Что именно, капитан? — спросил лейтенант Фейрхольм. – Вот это! — рявкнул Крозье, широким взмахом обеих рук указывая на белые стены, снасти такелажа над головой, факелы… на все сразу. – Ничего не значит, капитан, — ответил мистер Фарр. — Это просто… карнавал. Крозье всегда считал Фарра надежным, здравомыслящим человеком и прекрасным грот-марсовым старшиной. — Мистер Фарр, вы участвовали в такелажных работах здесь? — резко осведомился он. — Да, капитан. – А вы, лейтенант Фейрхольм, вы знали о… о медвежьей голове… выставленной столь диким и несуразным образом в последнем помещении? – Да, капитан, — ответил Фейрхольм. На длинном обветренном лице лейтенанта не отразилось ни малейшего страха перед гневом начальника экспедиции. — Я самолично застрелил медведя. Вчера вечером. Если точнее, двух медведей. Самку и почти взрослого детеныша. Мы собираемся пожарить мясо между одиннадцатью и полуночью — устроить своего рода пиршество, сэр. Крозье буравил мужчин взглядом. Сердце у него бешено колотилось, в душе клокотал гнев, который — сейчас подогретый недавно выпитым виски и сознанием, что в грядущие дни придется обходиться без спиртного, — на суше частенько доводил его до рукоприкладства. Но здесь он должен соблюдать осторожность. — Мистер Диггл, — наконец обратился он к жирной китаянке с огромными грудями, — вы знаете, что печень белого медведя опасна для здоровья? Двойной подбородок Диггла запрыгал, как и подушечные груди под ним. — О да, капитан. В печени этого полярного зверя содержится какая-то гадость, которую оттуда не вытравить, сколько ни жарь. К сегодняшнему пиршеству я не собираюсь готовить ни печень, ни легкие, капитан, уверяю вас. Только свежее мясо — сотни фунтов свежего мяса, запеченного, прокопченного и прожаренного наилучшим образом, сэр. Голос подал лейтенант Фейрхольм. – Люди сочли за доброе предзнаменование тот факт, что мы натолкнулись на двух медведей на льду и сумели убить их, капитан. Все с нетерпением ждут полночного пиршества. – Почему мне не доложили о медведях? — осведомился Крозье. Офицер, грот-марсовый старшина и кок переглянулись. Стоявшие поблизости птицы и феи — тоже. — Мы убили самку и детеныша вчера поздно вечером, капитан, — наконец сказал Фейрхольм. — Полагаю, сообщение между кораблями сегодня осуществлялось в одностороннем порядке: люди с «Террора» приходили, чтобы принять участие в подготовке к карнавалу, но посыльные с «Эребуса» не отправлялись. Прошу прощения, что не поставил вас в известность, сэр. Крозье знал, что повинен в данном упущении Фицджеймс. И знал, что все мужчины вокруг знают это. – Хорошо, — после долгой паузы промолвил он. — Продолжайте развлекаться. — Но когда люди начали снова надевать маски, он добавил: — И молите Бога, чтобы часы сэра Джона остались в целости и сохранности. – Есть, капитан, — хором откликнулись все маски вокруг. Бросив последний, почти опасливый взгляд назад, в сторону ужасного черного зала (повергшего Френсиса Крозье в такой тяжелый приступ депрессии, какой он редко испытывал за пятьдесят семь лет своей хронической меланхолии), он вышел из белого покоя в оранжевый, из оранжевого в зеленый, из зеленого в пурпурный, из пурпурного в синий, а из синего на открытый темный лед. Только выйдя из разноцветного парусинового лабиринта, Крозье почувствовал, что в состоянии дышать ровно. Фигуры в причудливых нарядах боязливо сторонились сердито насупленного капитана, когда он шагал к «Эребусу» и темной, тепло укутанной фигуре, стоявшей на верху ледяного откоса. Капитан Фицджеймс стоял в одиночестве у фальшборта, на самом верху ската. Он курил трубку. — Добрый вечер, капитан Крозье. — Добрый вечер, капитан Фицджеймс. Вы заглядывали внутрь этого… этого… Не найдя подходящего слова, Крозье махнул рукой в сторону шумного, озаренного светом факелов города из парусиновых стен и хитроумно натянутых снастей такелажа. — Да, разумеется, — ответил Фицджеймс. — Я бы сказал, люди проявили поразительную изобретательность. На это Крозье было нечего сказать. — Теперь вопрос в том, — продолжал Фицджеймс, — пойдет ли весь этот многочасовой труд и вся эта изобретательность на пользу экспедиции… или же сослужит службу дьяволу. Крозье попытался заглянуть в глаза молодому офицеру, спрятанные под козырьком фуражки, поверх обмотанной шерстяным шарфом. Он не понимал, шутит Фицджеймс или говорит серьезно. — Кому принадлежала идея соорудить этот… лабиринт? — спросил Крозье. — Разноцветные отсеки? Черный зал? Фицджеймс затянулся, отнял трубку от рта и хихикнул. — Все это придумал молодой Ричард Эйлмор. — Эйлмор? — повторил Крозье. Имя он помнил, но человека едва ли. — Ваш стюард? — Точно. Крозье вспомнил щуплого мужчину с запавшими задумчивыми глазами, педантичными нотками в голосе и жидкими черными усами. — Откуда, черт возьми, он взял все это? — Эйлмор несколько лет жил в Соединенных Штатах, прежде чем вернулся домой в сорок четвертом году и нанялся на работу в Службу географических исследований, — сказал Фицджеймс. Его зубы легко постукивали по черенку трубки. — Он утверждает, что в сорок втором году, когда жил в Бостоне у своего кузена, читал один дурацкий рассказ с описанием точно такого маскарада, с такими вот разноцветными залами. В дешевом журнальчике под названием «Грэмз мэгэзин», если мне не изменяет память. Эйлмор не помнит толком сюжета рассказа, но помнит, что речь там шла о странном бале-маскараде, который устраивал некий принц Просперо… и он абсолютно уверен, что залы там располагались именно в такой последовательности, с ужасной черной комнатой в конце анфилады. Крозье мог лишь потрясти головой. — Френсис, — продолжал Фицджеймс, — в течение двух лет и одного месяца при сэре Джоне спиртное на нашем корабле находилось под строгим запретом. Тем не менее мне удалось тайно пронести на борт три бутылки прекрасного виски, подаренные мне отцом. У меня осталась одна бутылка. Вы окажете мне честь, коли выпьете со мной сегодня. Люди начнут жарить мясо медведей, подстреленных вчера, только через три часа… я разрешил нашему мистеру Уоллу и вашему мистеру Дигглу установить на льду две печи с вельботов, чтобы разогревать блюда типа консервированных овощей, и соорудить огромную жаровню в так называемом Белом зале для приготовления собственно мяса. На худой конец мы хотя бы поедим свежего мяса впервые за три с лишним месяца. Вы согласны посидеть со мной за бутылкой виски в бывшей каюте сэра Джона, пока не настанет время праздничного ужина? Крозье кивнул и проследовал за Фицджеймсом на корабль.
25. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 31 декабря 1847 г. — 1 января 1848 г.Крозье и Фицджеймс спустились с «Эребуса» на лед незадолго до полуночи. В кают-компании — бывшей каюте сэра Джона — было жутко холодно, но здесь, в ночи, холод набросился на них с лютой яростью неумолимого агрессора. За последние два часа поднялся легкий ветер, и повсюду вокруг факелы и трехногие жаровни (Фицджеймс предложил, а Крозье к концу первого часа посиделок за бутылкой виски согласился отослать участникам карнавала несколько мешков с углем и бочонок сырой нефти для открытых жаровен, во избежание серьезных обморожений) шипели и трещали на стоградусном морозе. Два капитана разговаривали очень мало, погруженные каждый в свои печальные мысли. Дюжину раз их уединение нарушали: лейтенант Ирвинг явился доложить, что возвращается со сменной вахтой на «Террор»; лейтенант Ходжсон явился сказать, что его вахта прибыла на карнавал; другие офицеры в нелепых маскарадных костюмах несколько раз являлись доложить, что на самом карнавале все в порядке; разные вахты и вахтенные офицеры «Эребуса» сменялись с дежурства и заступали на дежурство; инженер мистер Грегори пришел сообщить, что они вполне могут потратить часть угля на жаровни, поскольку оставшегося топлива все равно хватит лишь на два-три часа движения корабля под паром, коли наступит мифическая оттепель, а потом удалился, чтобы распорядиться о доставке нескольких мешков угля к разноцветному парусиновому городу на льду, где буйное веселье продолжало набирать силу; старый парусник мистер Мюррей — наряженный гробовщиком, в маске-черепе под высокой бобровой шапкой, каковая маска не особо отличалась от его собственного исхудалого костистого лица, — извинился и спросил, можно ли взять два запасных кливера, чтобы соорудить ветровой щит подле новых жаровен. Капитаны выслушивали доклады, давали свои разрешения, передавали приказы и рекомендации, не отвлекаясь от своих безрадостных мыслей, навеянных виски. Где-то между одиннадцатью и полуночью они снова тепло укутались и спустились с корабля на лед, когда Томас Джопсон и Эдмунд Хоар, стюарды Крозье и Фицджеймса соответственно, вместе с лейтенантами Левеконтом и Литтлом (все четверо мужчин были в причудливых маскарадных нарядах, натянутых поверх толстых шинелей и многочисленных поддевок под ними) явились в кают-компанию сообщить, что медвежатина уже жарится вовсю и самые лучшие куски мяса оставлены для капитанов — и не соблаговолят ли джентльмены присоединиться к праздничному ужину? Крозье осознал, что очень пьян. Обычно он пил, не обнаруживая видимых признаков опьянения, и люди привыкли к тому, что от капитана, всегда полностью контролирующего ситуацию, частенько пахнет спиртным, но он не спал последние несколько ночей, и сейчас, выйдя на жгучий стоградусный мороз и шагая к освещенному факелами парусиновому лабиринту, сверкающему айсбергу и толпам причудливых фигур, Крозье чувствовал, как виски горит у него в желудке и мозгу. Главная жаровня находилась в белом зале. Два капитана прошли через ряд разноцветных покоев, не перемолвившись ни словом ни друг с другом, ни с какой-либо из многих десятков гротескных масок, мельтешивших вокруг. Миновав синий, пурпурный, зеленый и оранжевый залы, они вошли в белый. Крозье ясно видел, что почти все мужчины тоже сильно навеселе. Как же они умудрились напиться? Они что, приберегали для праздника свои порции грога? Припрятывали бертонское пиво, обычно подававшееся к ужину? Он знал, что они не взломали винную кладовую «Террора», поскольку поручил лейтенанту Литтлу проверить, целы ли там замки, сегодня утром и ближе к вечеру. А винная кладовая «Эребуса» благодаря сэру Джону пустовала с самого начала плавания. Но мужчины каким-то образом крепко напились. Как моряк с сорокалетним стажем, начинавший службу простым юнгой, Крозье знал, что изобретательность британского матроса — по крайней мере, в части изготовления, тайного хранения или добывания спиртного — не знает границ. Огромные куски медвежатины, уложенные на металлическую решетку, жарились на открытом огне под наблюдением мистера Диггла и мистера Уолла; весело сверкающий золотым зубом лейтенант Левеконт и другие офицеры и вестовые с обоих кораблей раздавали оловянные тарелки с дымящимся яством выстроившимся в очередь мужчинам. Запах жарящегося мяса кружил голову, и Крозье обнаружил, что у него текут слюнки, несмотря на все данные себе клятвы не принимать участия в карнавальном пиршестве. Очередь расступилась перед двумя капитанами. Старьевщики, католические священники, французские придворные, эльфы, феи, нищие в пестрых лохмотьях, мертвец в саване, два римских легионера в красных плащах, черных масках и золотых нагрудных доспехах жестами пригласили Фицджеймса и Крозье проследовать в голову очереди и приветствовали проходивших мимо офицеров почтительными поклонами. Мистер Диггл — накладные груди наряженного китаянкой кока сейчас были спущены к поясу и колыхались там при каждом его движении — самолично отрезал самый лучший кусок мяса для Крозье, а потом еще один для капитана Фицджеймса. Шипящее жаркое подавалось на повседневных оловянных тарелках, а не на лучшем фарфоре сэра Джона, но Левеконт выдал вновь прибывшим столовые приборы из офицерской столовой и белые льняные салфетки. Лейтенант Фейрхольм налил пива в две кружки. — На таком холоде, джентльмены, — сказал Фейрхольм, — нужно приноровиться пить раздельными быстрыми глотками, точно птица, чтобы губы не примерзли к кружке. Фицджеймс и Крозье нашли место во главе задрапированного белым стола и уселись на стулья, услужливо отодвинутые для них по взвизгнувшему льду мистером Фарром, грот-марсовым старшиной, которому Крозье устроил строгий допрос несколько часов назад. Рядом с ними сидел мистер Блэнки со своим коллегой, ледовым лоцманом мистером Рейдом, а также Эдвард Литтл с полудюжиной офицеров с «Эребуса». Все четверо корабельных врачей расположились группой на другом конце белого стола. Крозье снял рукавицы, несколько раз согнул и разогнул замерзшие пальцы в шерстяных перчатках и осторожно попробовал мясо, стараясь не прикасаться губами к металлической вилке. Жаркое из медвежатины обожгло язык. Тут он едва не рассмеялся в голос: стоит стоградусный мороз, пар от дыхания висит перед ним облаком ледяных кристаллов, лицо спрятано глубоко в тоннеле из шерстяных шарфов, шапок и «уэльского парика» — а он только что обжег язык. Он повторил попытку, на сей раз прожевав и проглотив кусок. Стейка вкуснее он в жизни не пробовал. Это удивило капитана. Много месяцев назад, когда они в последний раз ели свежую медвежатину, жареное мясо показалось прогорклым на вкус и запах. Люди тогда сильно отравились печенью и, возможно, еще какими-то внутренними органами животного. Тогда они решили, что мясо белого медведя они станут есть только в самом крайнем случае: если над ними нависнет угроза голодной смерти. А теперь это пиршество… это роскошное пиршество. Все вокруг него в белом зале — и, очевидно, за покрытыми парусиной бочками, сундуками и столами в соседних оранжевом и фиолетовом залах — с жадностью уплетали мясо. Смех и болтовня счастливых людей с легкостью перекрывали и рев огня в жаровне, и хлопанье парусины на вновь поднявшемся ветру. Здесь, в белом зале, мало кто пользовался ножом и вилкой должным образом — иные просто натыкали кусок мяса на вилку и рвали зубами, но большинство ели прямо руками в рукавицах. Со стороны казалось, будто сто пятьдесят изголодавшихся хищников с упоением пожирают свою добычу. Чем дольше Крозье ел, тем с большей жадностью. Фицджеймс, Рейд, Блэнки, Фарр, Ходжсон и остальные — даже Джопсон, стюард капитана, сидевший за соседним столом с прочими стюардами, — похоже, поглощали мясо с таким же смаком. Один из помощников мистера Диггла, наряженный китайским младенцем, обходил столы, раскладывая на тарелки дымящиеся овощи со сковороды — Крозье видел железную печь с вельбота с булькающими кастрюлями на ревущих горелках, когда вошел, — но консервированные овощи, пусть замечательно горячие, казались просто безвкусными по сравнению с восхитительной свежей медвежатиной. Только положение начальника экспедиции не позволило Крозье протолкаться в начало очереди и потребовать добавки, когда он доел свой огромный стейк. Лицо Фицджеймса полностью утратило прежнее рассеянное, отстраненное выражение; казалось, молодой командор готов разрыдаться от счастья. Внезапно — в тот момент, когда большинство мужчин уже управились со своим мясом и принялись пить хмельное пиво, пока оно не превратилось в лед на морозе, — персидский король, стоявший у входа в фиолетовый зал, начал крутить ручку музыкальной шкатулки. Бурные аплодисменты — оглушительное хлопанье толстых рукавиц — раздались при первых же дребезжащих, бренчащих звуках, исторгнутых примитивным аппаратом. Многие ценители музыки на обоих кораблях жаловались на музыкальную шкатулку — мол, звучание вращающихся металлических дисков почти ничем не отличается от фальшивого голоса старой шарманки, — но эту мелодию все узнали мгновенно. Десятки человек поднялись на ноги. Другие запели хором, выдыхая клубы пара, которые всплывали над головами в ярком свете факелов, проникающем сквозь белые парусиновые стены. Даже Крозье расплылся в идиотской ухмылке, когда слова первой строфы отразились эхом от громадного айсберга, нависающего над ними в морозной ночи.
26. Гудсер
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 4 января 1848 г.
Из личного дневника доктора
Гарри Д. С. Гудсера
Вторник, 4 января 1848 г.
В живых остался я один. Я имею в виду, из врачей экспедиции. Все сходятся во мнении, что экспедиции невероятно повезло потерять всего только пять человек в ходе кошмарных событий и грандиозного пожара, случившихся при проведении Второго Большого Венецианского карнавала, но тот факт, что трое из пяти погибших являлись моими коллегами-медиками, представляется по меньшей мере экстраординарным. Двое главных корабельных врачей, доктора Педди и Стенли, умерли от ожогов. Фельдшер с «Террора», доктор Макдональд, спасся из огня и избежал встречи с разъяренным чудовищем, но пал от мушкетной пули, едва успев выбежать из горящих палаток. Двое других погибших тоже офицеры. Первый лейтенант Джеймс Фейрхольм с «Эребуса» скончался в черном зале, от раздробившего грудную клетку удара, предположительно нанесенного зверем. Хотя тело лейтенанта Фейрхольма, найденное в руинах парусинового лабиринта, сильно обгорело, вскрытие трупа показало, что он умер мгновенно, когда осколки сломанных ребер проткнули сердце. Последней жертвой новогоднего пожара и хаоса стал старший помощник капитана Фредерик Джон Хорнби, растерзанный зверем в так называемом белом зале. Смерть мистера Хорнби видится мне в известной мере иронией судьбы, поскольку именно сей джентльмен почти весь вечер стоял вахту на борту «Террора» и был сменен на посту лейтенантом Ирвингом меньше чем за час до нападения кровожадного хищника. Капитан Крозье и капитан Фицджеймс теперь остались без трех из своих четырех врачей, а равно без ценных советов и услуг двух самых своих верных офицеров. Еще восемнадцать человек получили различные телесные повреждения — шестеро серьезные — во время кошмара карнавальной ночи. В число упомянутых шести входят: ледовый лоцман «Террора» мистер Блэнки; помощник плотника Уилсон, с того же корабля (люди ласково называют его Толстяк Уилсон); матрос Джон Морфин, с которым я ходил на Кинг-Уильям несколько месяцев назад; стюард старшего интенданта «Эребуса» мистер Уильям Фаулер; матрос Томас Уорк, тоже с «Эребуса»; и боцман «Террора» мистер Джон Лейн. Я имею удовольствие доложить, что все они будут жить. (Хотя еще одна насмешка судьбы видится в том, что мистер Блэнки, всего только месяц без малого назад получивший менее тяжелые травмы при встрече с тем же самым существом — травмы, к заживлению которых приложили свои усилия и профессиональные знания все четверо судовых врачей, — не пострадал от огня в ходе пожара, но снова получил серьезное увечье правой ноги — от когтей или зубов обитающего во льдах зверя, полагает он, хотя и признает, что в момент нападения выбирался из горящих палаток и ничего толком не видел, — и на сей раз мне пришлось ампутировать ему правую ногу по колено. Мистер Блэнки сохраняет на удивление бодрое расположение духа для человека, столь сильно пострадавшего за столь краткий срок.) Вчера, в понедельник, все оставшиеся в живых участники экспедиции явились свидетелями порки. Я впервые присутствовал при данном телесном наказании, принятом во флоте, и молю Бога, чтобы мне никогда впредь не довелось увидеть ничего подобного. Капитан Крозье — который кипел неописуемым гневом со времени пожара, случившегося в пятницу ночью, — собрал всех оставшихся в живых членов экипажей обоих кораблей на жилой палубе «Эребуса» вчера в десять часов утра. Морские пехотинцы выстроились в шеренгу. Били барабаны. Стюард кают-компании «Эребуса» мистер Ричард Эйлмор и помощник конопатчика с «Террора» Корнелиус Хикки, а равно поистине огромный матрос по имени Магнус Мэнсон были выведены — в одних штанах и нижних рубахах, с непокрытыми головами — к месту перед главной плитой, где была вертикально установлена деревянная крышка люка, представляющая собой квадратную раму из перекрещивающихся брусьев. Одного за другим, начиная с мистера Эйлмора, всех троих привязывали к ней. Но предварительно, когда мужчины стояли там — Эйлмор и Мэнсон с опущенной головой, а Хикки с вызывающе вскинутой, — капитан Крозье зачитал обвинения. Эйлмор приговаривался к пятидесяти плетям за нарушение субординации и безответственное поведение, подвергшее опасности команду своего корабля. Если бы тихий стюард просто подал идею насчет разноцветных палаток — идею, по его признанию, почерпнутую из какого-то фантастического рассказа, напечатанного в американском журнале, — наказание было бы неизбежным, но не столь суровым. Но, выступив в роли главного идейного вдохновителя Большого Венецианского карнавала, Эйлмор вдобавок совершил непростительную ошибку, нарядившись обезглавленным адмиралом, — в высшей степени возмутительная выходка, если учесть обстоятельства гибели сэра Джона; за такое, как мы все понимали, Эйлмора вполне могли и повесить. Все мы слышали рассказы о свидетельских показаниях Эйлмора, данных двум капитанам в ходе закрытого допроса, в которых он описывал, как закричал, а потом лишился чувств в черном зале, когда понял, что обитающее во льдах существо находится там в темноте вместе с участниками рождественской пантомимы. Что подумало существо (если, конечно, оно обладает мыслительной способностью, как человек), снова увидев голову адмирала, на сей раз картонную, катящуюся по льду? Мэнсон и Хикки приговаривались к пятидесяти плетям за то, что сшили костюм из медвежьих шкур и нарядились в него — в нарушение всех запретов, ранее наложенных капитаном Крозье на подобные языческие фетиши. Все понимали, что в составлении плана мероприятия, покраске парусины и возведении декораций Большого карнавала участвовали еще пятьдесят с лишним человек и что Крозье мог бы приговорить каждого из них к равному количеству плетей. В известном смысле сия скорбная троица — Эйлмор, Мэнсон и Хикки — принимала наказание за неблагоразумие всей команды. Когда барабанный бой прекратился и означенные трое мужчин выстроились в ряд перед собравшимися членами обеих команд, капитан Крозье заговорил. Надеюсь, я точно воспроизведу его слова ниже: — Эти люди подвергнутся порке за нарушение корабельного устава и безрассудство, в котором принимали участие все до единого присутствующие здесь, — сказал он. — Включая меня самого… Пусть все собравшиеся здесь знают и помнят, — продолжал капитан Крозье, — что в конечном счете ответственность за безрассудство, в результате которого пятеро наших товарищей погибли, один лишился ноги, а почти двадцать навсегда останутся обезображенными шрамами и рубцами, лежит на мне. Капитан несет ответственность за все, что происходит на корабле. Начальник экспедиции несет двойную ответственность. Допустив осуществление данных планов, без должного к ним внимания и без вмешательства в происходящее, я стал повинен в преступной халатности и готов признать свою вину перед судом, который неизбежно состоится, — я имею в виду, в случае, если мы останемся в живых и вырвемся из ледового плена. Эти пятьдесят плетей — и больше — должны были бы достаться мне и достанутся, когда мне придется принять неизбежное наказание, определенное моим начальством. Тут я посмотрел на капитана Фицджеймса. Безусловно, любое самообвинение капитана Крозье относилось также и к командиру «Эребуса», поскольку именно он, а не Крозье, наблюдал за основными работами по подготовке к карнавалу. Лицо Фицджеймса было бесстрастным и бледным. Взгляд казался рассеянным. Он имел отсутствующий вид человека, занятого своими мыслями. — Пока же не наступил мой час расплаты, — в заключение сказал Крозье, — мы подвергнем наказанию этих людей, должным образом допрошенных офицерами «Эребуса» и «Террора» и признанных виновными в нарушении корабельного устава, а также в безответственном поведении, подвергшем опасности жизни их товарищей. Боцман Джонсон… Здесь дородный Томас Джонсон, толковый боцман «Террора» и старый товарищ капитана Крозье, пять лет служивший вместе с ним на «Терроре» в южных полярных льдах, выступил вперед и кивком головы велел привязать к решетке первого мужчину, Эйлмора. Затем Джонсон поставил на бочку обтянутый кожей ящичек и расстегнул фигурные медные замочки на нем. Внутри оказалась обивка из красного бархата. В должного размера углублении в красном бархате покоились кожаная, потемневшая от долгого пользования рукоятка и сложенные в несколько раз хвосты кошки. Пока два матроса крепко привязывали Эйлмора, боцман извлек орудие наказания и предварительно опробовал. То был не показной жест устрашения, но действительно подготовка к предстоящей отвратительной экзекуции. Девять кожаных хвостов кошки — о которых я слышал великое множество матросских шуток, — мелькнули в воздухе с сухим, отчетливым и ужасным щелчком. На конце каждого хвоста был завязан маленький узелок. Часть моего существа отказывалась верить в происходящее. Казалось невероятным, что здесь, на переполненной, провонявшей потом, полутемной жилой палубе с низким подволоком, под которым вдобавок хранились пиломатериалы и различное снаряжение, Джонсон сумеет нанести хоть один сильный удар плеткой. Выражение «так тесно, что кошка не поместится» я знал с малых лет, но только сейчас понял его смысл. — Приведите в исполнение приговор, вынесенный мистеру Эйлмору, — сказал капитан Крозье. Барабаны пробили короткую дробь и умолкли. Боцман Джонсон развернулся к Эйлмору боком и широко расставил ноги, как боксер на ринге, отвел кошку назад в опущенной вытянутой руке, а затем выбросил вперед резким, сильным, но плавным движением; кожаные хвосты с узелками на концах просвистели меньше чем в футе от передних рядов толпы. Звук удара девяти хвостов кошки о тело я не смогу забыть до скончания своих дней. Эйлмор испустил вопль — еще более нечеловеческий, чем жуткий рев, который я слышал в черном зале всего четыре дня назад. На худой бледной спине мужчины мгновенно появились багровые полосы, и капельки крови забрызгали лица людей, стоявших в непосредственной близости от решетки, в том числе и мое. — Один, — отсчитал Чарльз Фредерик Дево, который после гибели Роберта Орма Серджента в прошлом месяце вступил в должность старшего помощника капитана «Эребуса». Наблюдение за проведением данной экзекуции входило в обязанности обоих первых помощников. Когда боцман отвел кошку назад для следующего удара, Эйлмор снова завопил — несомненно, от дикого ужаса при мысли об оставшихся сорока девяти плетях. Признаюсь, я пошатнулся… от давки в толпе давно не мытых тел, от запаха крови, от гнетущего ощущения замкнутого пространства в смрадном полумраке жилой палубы у меня закружилась голова. Это был сущий ад. И я находился в нем. После девятого удара стюард потерял сознание. Капитан Крозье знаком велел мне проверить, дышит ли он. Он дышал. В обычных обстоятельствах, как я узнал позже, второй помощник вылил бы на осужденного ведро воды с целью привести в чувство, чтобы он претерпел всю меру физической муки. Но тем утром на нижней палубе «Эребуса» не было жидкой воды — вся вода замерзла. Даже капли крови на спине Эйлмора, казалось, застывали подобием ярко-красных дробинок. Эйлмор оставался в беспамятстве, но экзекуция продолжалась. После пятидесяти ударов Эйлмора отвязали от решетки и отнесли в бывшую каюту сэра Джона, которая по-прежнему использовалась под лазарет для пострадавших во время карнавала. На койках там лежали восемь человек, включая Дэвида Лейса, все еще не подававшего видимых признаков жизни с момента нападения зверя на мистера Блэнки в начале декабря. Я двинулся было к лазарету, чтобы позаботиться об Эйлморе, но капитан Крозье знаком велел мне оставаться на месте. Очевидно, правила требовали, чтобы все до единого члены команд присутствовали при порке всех осужденных, пусть даже Эйлмору суждено умереть от потери крови по причине моего отсутствия. Следующим был Магнус Мэнсон. Вторые помощники, привязывавшие его к решетке, казались пигмеями рядом с этим великаном. Если бы он решил оказать сопротивление, я уверен, на жилой палубе началось бы столпотворение, подобное творившемуся в семицветном лабиринте в новогоднюю ночь. Он не сопротивлялся. Насколько я мог судить, боцман Джонсон наносил Мэнсону бесконечные удары плеткой с точно такой же силой, как Эйлмору, — не большей и не меньшей. Кровь брызнула при первом же ударе. Мэнсон не закричал. Он сделал нечто гораздо худшее. Он заплакал, как малый ребенок. Заплакал навзрыд. Но по завершении экзекуции ушел в лазарет сам, в сопровождении двух матросов, хотя по обыкновению сильно горбился, чтобы не задевать головой бимсы. Когда он проходил мимо меня, я заметил кровавые лоскуты кожи и клочья мяса, свисающие с перекрестных рваных ран, оставленных кошкой у него на спине. Хикки, самый тощий и малорослый из трех осужденных, не издал практически ни звука в ходе долгой порки. Девятихвостая плеть рвала кожу и мясо на его узкой спине с большей легкостью, чем в случае с двумя предыдущими мужчинами, но он ни разу не вскрикнул. И не лишился чувств. Тщедушный помощник конопатчика, казалось, вперил яростный взгляд в некий незримый объект, находящийся над верхней палубой, и ни на миг не отвел от него горящих неприкрытой злобой глаз, выдавая свою боль лишь судорожным всхлипом после каждого из пятидесяти ударов. Он ушел во временный лазарет в кормовом отсеке сам, не приняв помощи от двух своих сопровождающих. Капитан Крозье объявил, что экзекуция была проведена в полном согласии с корабельным уставом, и распустил собравшихся. Даже не надев верхнюю одежду, я ненадолго поднялся на верхнюю палубу, чтобы пронаблюдать за отбытием людей с «Террора». Они спустились по ледяному скату и двинулись в долгий путь к своему кораблю в темноте — мимо страшного черного пожарища на подтаявшем льду. Крозье и его старший офицер, лейтенант Литтл, замыкали шествие. Ни один из сорока с лишним мужчин не произнес ни слова к тому времени, когда все они скрылись во мраке за пределами узкого пространства, освещенного фонарями «Эребуса». Восемь матросов остались в качестве своего рода дружеского конвоя, чтобы сопровождать Мэнсона и Хикки к «Террору», когда они оправятся после порки. Я поспешно сошел вниз и направился в кормовой отсек, чтобы позаботиться о своих новых пациентах. Я ничего не мог сделать для них, кроме как промыть и перевязать раны — кошка оставила ужасные глубокие рваные ссадины на спине каждого мужчины, но, думаю, шрамов после них не будет. Мэнсон перестал рыдать, и, когда Хикки резко приказал ему прекратить шмыгать носом, придурковатый верзила мгновенно подчинился. Хикки молча вытерпел болезненную процедуру обработки и перевязки ран и грубо велел Мэнсону одеться и следовать за ним. Телесное наказание совершенно лишило мужества стюарда Эйлмора. По словам молодого Генри Ллойда, нынешнего моего помощника, он безостановочно стонал и кричал в голос с той минуты, когда пришел в чувство. Он продолжал вопить все время, пока я промывал и перевязывал ему раны. Он по-прежнему громко стонал и не держался на ногах, когда несколько других мичманов — пожилой Джон Бриджес, офицерский стюард, мистер Хор, капитанский стюард, интендант мистер Белт и помощник боцмана Сэмюел Браун — явились, чтобы отвести его в каюту. Я слышал стоны и вопли Эйлмора все время, пока его вели, то есть практически несли на руках, по коридору в крохотную каюту, расположенную по правому борту за главным трапом, между ныне пустующей каютой Уильяма Фаулера и моей собственной. Я понимал, что вопли Эйлмора, доносящиеся из-за тонкой переборки, вероятно, не дадут мне уснуть всю ночь. — Мистер Эйлмор много читает, — сказал Уильям Фаулер со своей койки в лазарете. Стюард старшего интенданта получил сильные ожоги и серьезно пострадал от когтей зверя в карнавальную ночь, но за все четыре дня ни разу не вскрикнул от боли, когда я накладывал швы на раны или удалял лоскуты кожи. С ожогами и рваными ранами, равно на спине и животе, Фаулер пытался спать на боку, но ни разу не пожаловался Ллойду или мне. — Читающие люди очень впечатлительны и чувствительны, — добавил Фаулер. — Если бы бедняга не прочитал тот дурацкий рассказ в американском журнале, он не предложил бы соорудить разноцветный лабиринт для карнавала — идея, приведшая всех нас в восторг поначалу, — и ничего этого не случилось бы. Я не знал, что сказать на это. — Может, начитанность — своего рода проклятие, вот и все, — заключил Фаулер. — Может, человеку лучше жить своим умом. Мне захотелось сказать «аминь», непонятно почему. Все описанные выше события произошли два дня назад. В данный момент я нахожусь в бывшей каюте доктора Педди, судового врача «Террора», поскольку капитан Крозье приказал мне три дня в неделю, со вторника по четверг включительно, проводить на его корабле, а остальные четыре дня на борту «Эребуса». За моими шестью идущими на поправку пациентами в лазарете «Эребуса» сейчас присматривает Ллойд, а я, к великому своему прискорбию, обнаружил почти такое же количество тяжело больных людей здесь, на борту «Террора». Многие из них поражены болезнью, которую мы, арктические врачи, поначалу называем ностальгией, а потом анемией. Первые серьезные стадии данного заболевания — помимо кровоточащих десен, путаницы мыслей, слабости в членах, появления синяков по всему телу, кровотечения из толстой кишки — зачастую характеризуются также безумной, жгучей тоской по дому. От ностальгии общая слабость, замедленность мыслительных процессов, болезненная рассеянность внимания, кровотечение из ануса, открытые язвы и прочие симптомы усугубляются, покуда пациент не утрачивает всякую способность ходить или работать. Другое название ностальгии и анемии, которое все врачи не решаются произнести вслух и которое я пока еще не озвучил, это цинга. Между тем капитан Крозье вчера уединился в своей каюте и претерпевает ужасные муки. Я слышу его приглушенные стоны, поскольку каюты доктора Педди и капитана расположены рядом, в кормовой части судна по правому борту. Думаю, капитан Крозье грызет что-то твердое — вероятно, кожаный ремень, — чтобы сдержать стоны. Но Бог меня наградил (или наказал) отменным слухом. Вчера капитан передал командование кораблем и управление всеми делами экспедиции лейтенанту Литтлу — таким образом тихо, но решительно назначив начальником Литтла, а не Фицджеймса, — и объяснил мне, что он, капитан Крозье, борется с рецидивом малярии. Это ложь. Сдавленные стоны, которые сейчас доносятся до меня из-за переборки — и вероятно, будут доноситься все время, пока я не отправлюсь обратно на «Эребус» завтра утром, — свидетельствуют не только о страданиях малярийного больного. Благодаря своим дядьям и отцу я хорошо знаю демонов, с которыми капитан борется сегодня ночью. Капитан Крозье — человек, приверженный крепким спиртным напиткам, и сейчас либо запас означенных напитков иссяк, либо он решил своею волей избавиться от пагубной привычки во время своей болезни. Так или иначе, он претерпевает адовы муки и будет жестоко страдать еще много дней. Возможно, он повредится рассудком. Тем временем этот корабль и эта экспедиция остались без своего истинного командира и руководителя. Его приглушенные стоны — на корабле, пораженном тяжелым недугом и охваченном отчаянием, — просто разрывают сердце. Мне бы очень хотелось помочь капитану. Мне бы очень хотелось помочь дюжинам других страдальцев — израненных, обожженных, больных, истощенных, погруженных в меланхолическое отчаяние — на борту этого умирающего корабля. Мне бы очень хотелось помочь самому себе, ибо у меня уже появились первые симптомы ностальгии и анемии. Да поможет всем нам Бог.
27. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 11 января 1848 г.Этому не будет конца. Боли не будет конца. Тошноте не будет конца. Ознобу не будет конца. Ужасу не будет конца. Крозье корчится на своей койке под заледенелыми одеялами и хочет умереть. В редкие периоды ясного сознания Крозье страшно жалеет о самом разумном поступке, который он совершил перед тем, как уединиться со своими демонами; он отдал свой пистолет лейтенанту Литтлу, без каких-либо объяснений, единственно лишь наказав Эдварду не возвращать оружия, покуда он, капитан, не потребует его обратно. Сейчас Крозье заплатил бы любые деньги за свой заряженный пистолет. Эта боль невыносима. Эти мысли невыносимы. Его бабушка со стороны рано умершего отца, Мойра, была парией, отверженной и неприкасаемой в семействе Крозье. В свои восемьдесят с лишним лет Мемо жила через две деревни от них — огромное, уму непостижимое, непреодолимое расстояние, — и семья его матери никогда не приглашала ее на семейные праздники и никогда не упоминала вслух о ее существовании. Она была католичкой. Она была ведьмой. Крозье начал тайком от своей родни наведываться к ней в деревню — подъезжая на попутных телегах, запряженных малорослыми лошадками, — в возрасте десяти лет. Через год он уже ходил со старухой в католическую церковь. Его мать, тетя и бабушка по материнской линии умерли бы, когда бы узнали. Благопристойная ирландско-английская пресвитерианская ветвь семейства Крозье отреклась бы от него, изгнала бы из дома и стала бы презирать так, как военно-морское министерство и Арктический совет презирали Крозье все эти годы за то лишь, что он ирландец. И простолюдин. Мойра считала внука не таким, как все. Она говорила, что он обладает даром ясновидения. Эта мысль не пугала юного Френсиса Родона Мойру Крозье. Он любил таинственную атмосферу католического богослужения — когда высокий священник важно расхаживает, точно ворон, и произносит магические заклинания на мертвом языке; когда свершается мгновенное чудо евхаристии, возвращающее мертвых к жизни, и верующий, вкусив от плоти и крови Христовой, соединяется с Ним; когда сладко пахнет ладаном и звучат мистические песнопения. Однажды, в возрасте двенадцати лет, незадолго до своего побега из дома, он сказал Мойре, что хочет стать священником, и старуха рассмеялась обычным своим громким хриплым смехом и велела выбросить из головы эту чушь. «Быть священником — дело такое же заурядное и бесполезное, как быть ирландским пьяницей. Лучше используй свой дар, юный Френсис, — сказала она. — Используй дар ясновидения, который существовал в моем роду на протяжении многих десятков поколений. Я помогу тебе посетить места и увидеть вещи, каких еще никогда прежде не видел ни один человек на нашей скорбной земле». Юный Френсис не верил в ясновидение. Примерно в то же время он понял, что не верит и в Бога тоже. Он ушел в море. Он верил во все, что узнал и увидел там, а порой он узнавал и видел вещи поистине странные. Крозье качается на волнах тошноты, раз за разом низвергаясь в пучину боли. Он просыпается для того лишь, чтобы наблевать в ведро, которое Джопсон, его стюард, оставил здесь и меняет каждый час. У него болит все вплоть до полой полости в самом центре его существа, где прежде, он уверен, обитала его душа, пока не уплыла прочь по морю виски, выпитого за десятки лет. Все эти кошмарные дни и ночи, обливаясь холодным потом на ледяных простынях, он знает, что отказался бы от своей матери, своих сестер, от отцовского имени и даже от самой Мойры за один-единственный стакан виски. Корабль стонет под натиском льда, перед лицом неминуемой смерти. Крозье стонет под натиском демонов, перед лицом неминуемой смерти от дикой боли, лихорадочного озноба, тошноты и бесконечного сожаления. Он отрезал шестидюймовый кусок от старого ремня и грызет его в темноте, чтобы не стонать вслух. Но он все равно стонет. Он живо все представляет себе. Он видит все. Леди Джейн Франклин сейчас в своей стихии. Сейчас, когда уже три с лишним года от ее мужа нет никаких вестей, она в своей стихии. Неукротимая леди Франклин. Вдова леди Франклин, Не Желающая Быть Вдовой. Леди Франклин, Покровительница и Добрый Ангел Арктики, которая убила ее мужа… Леди Франклин, Которая Никогда Не Признает Подобного Факта. Крозье видит ее так ясно, словно действительно обладает даром ясновидения. Леди Франклин никогда не выглядела прекраснее, чем сейчас, в своей решимости, в своем нежелании горевать, в своей уверенности, что муж жив и что экспедицию сэра Джона непременно найдут и спасут. Прошло более трех с половиной лет. Командование флота знает, что сэр Джон взял на борт «Эребуса» и «Террора» продовольствия на три года и должен был объявиться в районе Аляски летом 1846-го и, уж конечно, не позднее августа 1847-го. Леди Джейн наверняка уже заставила действовать инертное командование флота и сонный парламент. Крозье словно воочию видит, как она пишет письма в Адмиралтейство, письма в Арктический совет, письма своим друзьям и бывшим поклонникам, заседающим в парламенте, письма королеве и, разумеется, каждый день пишет письма своему покойному мужу, пишет своим безупречным твердым почерком и говорит покойному сэру Джону, что знает: ее любимый жив, и с нетерпением ожидает неизбежной встречи с ним; и Крозье словно воочию видит, как она рассказывает об этом всему свету. Она отправляет сэру Джону толстые пачки писем с первыми спасательными кораблями сейчас… с военными кораблями, конечно же, но также, вполне вероятно, и с частными судами, нанятыми либо на деньги из тающего состояния леди Джейн, либо на средства, пожертвованные по подписке обеспокоенными и богатыми друзьями. Отвлекаясь от своих видений, Крозье пытается сесть на своей койке и улыбнуться. От озноба он трясется, точно брам-стеньга во время бури. Он блюет в почти полное ведро. Потом падает обратно на мокрую от пота, провонявшую желчью подушку и закрывает глаза, чтобы снова погрузиться в мир своих видений. Кого они пошлют на спасение «Эребуса» и «Террора»? Кого уже послали? Крозье знает, что сэр Джон Росс будет рваться возглавить любую спасательную экспедицию, но леди Джейн проигнорирует старика — грубого и развязного, по ее мнению, — и выберет его племянника, Джеймса Кларка Росса, с которым Крозье исследовал антарктические моря пять лет назад. Младший Росс обещал своей молодой невесте навсегда покончить с морскими исследовательскими экспедициями, но Крозье знает, что он не сможет отказать в такой просьбе леди Джейн. Росс решит отправиться с двумя кораблями. Крозье видит, как они идут под парусом летом 1848 года. Крозье видит, как два корабля идут на север от Баффиновой Земли, на запад через пролив Ланкастер, где «Террор» и «Эребус» под командованием сэра Джона проходили три года назад, — он почти различает названия на носу кораблей Росса, — но за проливом Принца-Регента и, возможно, за островом Девон сэр Джеймс натолкнется на тот самый беспощадный паковый лед, что сейчас держит в плену корабль Крозье. Следующим летом проливы, по которым их провели ледовые лоцманы Рейд и Блэнки, не освободятся от льда полностью. Сэр Джеймс Кларк Росс так и не подойдет к «Террору» и«Эребусу» ближе чем на триста миль. Крозье видит, как холодной ранней осенью 1848 года они поворачивают и возвращаются в Англию. Он плачет, стонет и яростно грызет кусок кожаного ремня. Кости у него обращаются в лед. Плоть горит как в огне. Ледяные мурашки бегают по коже. В этом, 1848 году от Рождества Христова на поиски отправятся и другие корабли, другие спасательные экспедиции — некоторые, скорее всего, одновременно с экспедицией Росса или раньше. Военно-морское министерство инертно и медлительно — эдакий морской ленивец, — но, однажды взявшись за дело, знает Крозье, оно имеет обыкновение усердствовать сверх всякой меры. Излишняя ретивость после бесконечной канители — обычная схема действий военно-морского министерства, знакомая Крозье уже четыре десятка лет. Горячечным мысленным взором Крозье видит по крайней мере еще одну спасательную экспедицию, отплывающую к Баффинову заливу нынешним летом 1848 года, и, скорее всего, даже третью эскадру, которая направляется к мысу Горн, чтобы, обогнув оный, предположительно встретиться с другими поисковыми экспедициями в районе Берингова пролива и продолжить поиски в восточной Арктике, на расстоянии тысячи миль от «Эребуса» и «Террора». Подобные масштабные операции продолжатся до 1849 года и дольше. А сейчас только начало второй недели 1848 года, и Крозье сомневается, что его люди дотянут до лета. Будет ли послана сухопутная экспедиция из Канады, чтобы пройти по реке Маккензи к арктическому побережью, а потом двинуться на восток к Земле Виктории в поисках пропавших кораблей, возможно севших на мель где-то на гипотетической линии Северо-Западного прохода? Крозье уверен, что будет. У такой сухопутной экспедиции нет ни единого шанса найти их здесь, в двадцати пяти милях к северо-западу от острова Кинг-Уильям. Такая экспедиция даже не будет знать, что остров Кинг-Уильям является островом. Объявит ли первый лорд адмиралтейства в палате общин награду за спасение сэра Джона и его людей? Вероятно, да. Но какую? Тысяча фунтов? Пять тысяч? Десять? Крозье зажмуривается и ясно видит — словно написанную на листе пергаментной бумаги у него перед глазами — сумму в двадцать тысяч фунтов, обещанную любому, кто «окажет действенную помощь в спасении жизни сэра Джона и его экспедиции». Крозье снова смеется, и смех вызывает очередной приступ рвоты. Он трясется от холода, боли и сознания явной абсурдности своих видений. Корабль вокруг него скрипит и стонет под неумолимым натиском льда. Капитан уже не отличает стонов корабля от своих собственных. Он видит восемь кораблей — шесть британских и два американских, — стоящих на расстоянии нескольких миль друг от друга в почти полностью замерзших естественных гаванях, похожих на бухты у острова Девон или, возможно, у острова Корнуоллис. По всем признакам, дело происходит в конце арктического лета, вероятно в последних числах августа, за считанные дни до того, как ударят морозы и все они окажутся в ледовом плену. У Крозье такое чувство, будто данное видение относится к будущему, отделенному двумя или тремя годами от сиюминутной ужасной реальности 1848 года. Крозье хоть убей не понимает, зачем восемь спасательных кораблей собрались здесь в одном месте, вместо того чтобы рассыпаться по тысячам квадратных миль арктического моря в поисках следов пропавшей экспедиции Франклина. Это галлюцинация, порожденная токсическим психозом. Суда самых разных размеров: от маленькой шхуны и суденышка величиной с яхту, слишком хрупкого для ледового плавания, до стосорокачетырехтонного и восьмидесятитонного американских кораблей незнакомого вида и равно незнакомого девяностотонного британского лоцманского судна, наспех оснащенного для плавания в арктических морях. Там находятся также несколько должным образом вооруженных британских военных кораблей, парусных и паровых. В своем воспаленном воображении Крозье видит названия судов: «Адванс» и «Рескью» — они под американским флагом; «Принц Альберт» — бывшее лоцманское судно; и «Леди Франклин» — корабль во главе стоящей на якоре британской эскадры. Еще два судна в сознании Крозье связываются со старым Джоном Россом: маленькая шхуна «Феликс» и абсолютно неуместная здесь крохотная яхта «Мери». И наконец, в эскадру входят два настоящих корабля британского военно-морского флота: «Ассистанс» и «Интрепид». Словно с высоты полета арктической крачки, Крозье видит, что все восемь судов находятся в пределах сорока миль друг от друга: два маломерных британских судна стоят у острова Гриффин, над проливом Барроу; оставшиеся четыре английских корабля — в заливе Ассистанс на южной оконечности острова Корнуоллис; а два американских корабля — дальше к северу, сразу за изгибом восточного побережья острова Корнуоллис, через пролив Веллингтона от места первой зимней стоянки сэра Джона у острова Бичи. Ни один из них не находится ближе чем в двухстах пятидесяти милях от затертых льдами «Эребуса» и «Террора» далеко на юго-западе. Минутой позже туман или облако рассеивается, и Крозье видит шесть судов из восьми — американских и британских, — стоящих на якоре в четверти мили один от другого, сразу за изгибом береговой линии маленького острова. Крозье видит людей, бегущих по покрытому льдом каменистому берегу под отвесной черной скалой. Люди возбуждены. Он почти слышит крики, разносящиеся в морозном воздухе. Это остров Бичи, он уверен. Они нашли деревянные надгробья и могилы кочегара Джона Торрингтона, матроса Джона Хартнелла и рядового морской пехоты Уильяма Брейна. К сколь бы близкому будущему ни относилось данное событие, пригрезившееся в бредовом забытьи, знает Крозье, оно решительно ничем не поможет экипажам «Эребуса» и «Террора». Сэр Джон покинул остров Бичи в безрассудной спешке, пустившись в плавание под парусами в первый же день, когда лед ослабил свою хватку настолько, чтобы позволить кораблям покинуть место стоянки. После девяти месяцев зимовки экспедиция Франклина не удосужилась оставить хотя бы записки с сообщением, в каком направлении она двигается. Тогда Крозье понимал, что сэр Джон не считает нужным извещать Адмиралтейство о том, что берет курс на юг, согласно полученному приказу. Сэр Джон всегда подчинялся приказам. Но факт оставался фактом: после девяти месяцев зимовки — соорудив на берегу надлежащую пирамиду из камней и даже пирамиду из наполненных галькой консервных банок Голднера — они ничего не положили в «почтовую» пирамиду. Ни самой краткой записки. Адмиралтейство и Служба географических исследований снабдили экспедицию Франклина двумястами герметичными бронзовыми цилиндрами, чтобы они оставляли в них послания с сообщениями о своем местопребывании и направлении дальнейшего движения на протяжении всего пути своего следования в поисках Северо-Западного прохода, а сэр Джон использовал… ровным счетом один. Бесполезный цилиндр, отправленный на остров Кинг-Уильям в двадцати пяти милях к юго-востоку от места, где они находятся ныне, и спрятанный там за несколько дней до гибели сэра Джона. На острове Бичи они не оставили ничего. На острове Девон, который они обследовали на своем пути, — ничего. На острове Гриффин, где они искали естественные гавани, — ничего. На острове Корнуоллис, который они обошли кругом, — ничего. На острове Сомерсет, на острове Принц Уэльский и на острове Виктория, вдоль которых они плыли на юг на протяжении всего лета 1846 года, — ничего. И теперь, в видении Крозье, спасатели на шести кораблях, уже тоже готовых вмерзнуть в лед, обращают взоры на север, в сторону пролива Веллингтона, еще не полностью скованного льдом, и Северного полюса. На острове Бичи они не нашли никаких путеводных нитей. И с волшебной высоты птичьего полета Крозье видит, что пролив Пил на юге, по которому «Эребус» и «Террор» сумели пройти полтора года назад во время короткого летнего периода таяния льдов, сейчас, этим летом, покрыт сплошным белым панцирем, насколько хватает глаз. Им даже не приходит в голову, что Франклин мог направиться на юг… что он мог выполнить приказ. Они намерены — в ближайшие годы, поскольку теперь сами затерты льдами в проливе Ланкастера, — продолжить поиски севернее. Дополнительный приказ, полученный сэром Джоном, предписывал — в случае, если он не сможет продолжить путь на юг и совершить переход по Северо-Западному проходу, — повернуть на север, пробиться через гипотетический ледяной пояс и выйти в еще более гипотетическое Открытое Полярное море. В сердце своем, сокрушенном тоской, Крозье знает, что капитаны и команды на восьми спасательных кораблях все пришли к заключению, что Франклин двинулся на север, — хотя в действительности он поплыл в противоположном направлении. Он просыпается ночью. Просыпается от собственных стонов. В каюте горит фонарь, но глаза не выносят света, поэтому он пытается понять, что происходит, по жгучей боли от прикосновений к телу и по режущим слух звукам. Двое мужчин — стюард Джопсон и корабельный врач Гудсер — снимают с него грязную, мокрую от пота рубаху, обмывают его восхитительно теплой водой и осторожно надевают на него чистую рубаху и носки. Один из них пытается покормить его супом с ложки. Крозье выблевывает жидкое месиво, но содержимое полного до краев ведра обратилось в лед, и он смутно сознает, что двое мужчин вытирают пол. Они заставляют его выпить воды, и он бессильно падает на холодные простыни. Один из них накрывает Крозье теплым одеялом — теплым, сухим, не заледенелым одеялом, — и ему хочется разрыдаться от счастья. Еще он хочет заговорить, но снова начинает погружаться в водоворот своих видений и не может найти и составить в фразы слова, а потом опять забывает все слова на свете. Он видит черноволосого мальчика с зеленоватой кожей, свернувшегося калачиком у кирпичной стены цвета мочи. Крозье знает, что мальчик страдает эпилепсией и находится в какой-то психиатрической клинике, в каком-то сумасшедшем доме. «Этот мальчик — я». Едва успев подумать так, Крозье понимает, что это не его страх. Это кошмар какого-то другого человека. Несколько мгновений он пребывал в чужом сознании. София Крэкрофт входит в него. Крозье стонет, яростно грызя кожаный ремень. Он видит ее голую и страстно прижимающуюся к нему в Утконосовом пруду. Он видит ее отчужденную и холодную на каменной скамье в саду губернаторского дома. Он видит ее в голубом шелковом платье, стоящую и машущую рукой — не ему — на причале в Гринхайте майским днем, когда отплывали «Террор» и «Эребус». Теперь он видит ее такой, какой никогда не видел прежде, — будущую Софию, явленную в настоящем, гордую, скорбящую, втайне довольную возможностью скорбеть, полную новых сил и возрожденную к новой жизни в качестве верной помощницы, компаньонки своей тетки, леди Джейн Франклин. Она повсюду сопровождает леди Джейн — две неукротимые женщины, так назовет их пресса. София — почти так же, как тетка, — всегда внешне исполнена уверенности и надежды, пылка, женственна, эксцентрична и готова умолять весь свет о спасении сэра Джона Франклина. Она никогда не упомянет имени Френсиса Крозье, даже при закрытых дверях. Это, сразу понимает он, идеальная роль для Софии: смелая, властная, убежденная в своем праве просить и требовать, способная кокетничать десятилетиями при наличии идеального оправдания своему нежеланию связывать себя обязательствами или настоящей любовью. Она никогда не выйдет замуж. Она будет путешествовать по миру с леди Джейн, видит Крозье, публично никогда не отказываясь от надежды найти пропавшего сэра Джона, но и после утраты истинной надежды продолжая наслаждаться своим правом на помощь и сочувствие, властью и положением, которые обеспечивает ей вдовство тетки. Крозье тужится, пытаясь вызвать рвоту, но желудок у него уже много часов или дней пустой. Он сворачивается под одеялом клубочком и борется с мучительными спазмами. Он находится в темной гостиной тесного, аляповато обставленного американского фермерского дома в Хайдсдейле, штат Нью-Йорк, милях в двадцати к западу от Рочестера. Крозье никогда не слышал ни о Хайдсдейле, ни о Рочестере в штате Нью-Йорк. Он знает, что дело происходит весной 1848 года, возможно, всего спустя несколько недель с настоящего момента. Сквозь узкую щель между задернутыми толстыми портьерами видны вспышки молний. Дом сотрясается от раскатов грома. — Иди сюда, мама! — кричит одна из двух девочек, сидящих за столом. — Уверяю, ты найдешь это занятным. — Я найду это ужасным, — говорит мать, неряшливая женщина средних лет, лоб которой — от туго зачесанных назад седоватых волос до густых насупленных бровей — разделяет пополам постоянная вертикальная морщина. — Не возьму в толк, как вам удалось уговорить меня на такое. Крозье может лишь удивляться безобразной невнятности американского произношения. Большинство американцев, с которыми он имел дело, были матросами флота Соединенных Штатов или китобоями. — Скорее, мама! Девочка, обращающаяся к матери столь повелительным тоном, это шестнадцатилетняя Маргарет Фокс. Она скромно одета и привлекательна на жеманный, глуповатый манер, как почти все немногие американки, с которыми Крозье доводилось встречаться в обществе. Вторая девочка за столом — это одиннадцатилетняя сестра Маргарет, Кэтрин. Младшая девочка, чье бледное лицо еле видно в мерцающем свете свечи, больше похожа на мать, вплоть до темных бровей, слишком туго зачесанных назад волос и уже наметившейся морщинки на лбу. В щели между пыльными портьерами сверкает молния. Мать и две девочки берутся за руки, взяв в кольцо круглый дубовый стол. Крозье замечает, что кружевная салфетка на столе пожелтела от времени. Все три закрывают глаза. Пламя единственной свечи трепещет при ударе грома. — Есть тут кто? — спрашивает шестнадцатилетняя Маргарет. Громкий удар. Не гром, но резкий стук, словно кто-то долбанул по столу деревянным молотком. Руки всех присутствующих покоятся на столе, на виду. — О Господи! — вскрикивает мать, явно готовая вскинуть руки и в страхе зажать рот. Две дочери крепко держат ее, не давая разорвать круг. Стол покачивается от их усилий. — Сегодня вы — наш проводник? — спрашивает Маргарет. Снова громкий СТУК. — Вы пришли, чтобы причинить нам зло? — спрашивает Кэти. Два СТУКА, даже громче предыдущих. — Вот видишь, мама? — шепчет Мегги. Снова закрыв глаза, она спрашивает театральным шепотом: — Вы — тот самый добрый мистер Сплитфут, который общался с нами вчера ночью? СТУК. — Благодарим вас за то, что вчера вы убедили нас в реальности своего существования, мистер Сплитфут, — продолжает Мегги. Она говорит так, словно находится в трансе. — Благодарим вас за то, что рассказали маме подробности, касающиеся ее детей, назвали возраст каждого и упомянули про шестого ребенка, который умер. Вы ответите на наши вопросы сегодня? СТУК. — Где экспедиция Франклина? — спрашивает маленькая Кэти. ТУК-ТУК-ТУК-тук-тук-тук-тук-ТУК-ТУК-тук-ТУК-ТУК… Стук продолжается с полминуты. — Это и есть Спиритический Телеграф, о котором вы говорили? — шепчет мать. Мегги шикает на нее. Стук прекращается. Крозье видит, словно проницая взглядом сквозь деревянную столешницу и шерстяную ткань юбок, что обе девочки обладают феноменальной подвижностью суставов и по очереди щелкают пальцами ног. Удивительно громкий звук для таких маленьких пальчиков. — Мистер Сплитфут говорит, что сэр Джон Франклин, которого, как пишут в газетах, все ищут, пребывает в добром здравии и находится со своими людьми, которые тоже пребывают в добром здравии, но очень напуганы, на кораблях во льдах возле острова, расположенного в пяти днях плавания от места, где они зимовали в первый год путешествия, — нараспев говорит Мегги. — Там, где они сейчас, очень темно, — добавляет Кэти. Снова раздается частый стук. – Сэр Джеймс просит свою жену Джейн не тревожиться за него, — переводит Мегги. — Он говорит, что скоро встретится с ней — на том свете, если не на этом. – О Господи! — снова восклицает миссис Фокс. — Мы должны позвать Мери Редфилд и мистера Редфилда, и Лию, конечно, и мистера и миссис Дьюслер, и миссис Хайд, и мистера и миссис Джуел… — Т-ш-ш! — шипит Кэти. ТУК-ТУК-ТУК, тук-тук-тук-тук-тук-тук, ТУК. — Проводник не хочет, чтобы ты разговаривала, когда Он ведет нас, — шепчет Кэти. Крозье стонет и грызет кусок кожаного ремня. Спазмы, начавшиеся в желудке, теперь превратились в мучительные конвульсии, сотрясающие все тело. Он то дрожит от холода, то сбрасывает одеяло, обливаясь потом. Он видит мужчину, одетого по-эскимосски: меховая парка, меховые сапоги, меховой капюшон, как у леди Безмолвной. Но мужчина стоит на дощатой сцене перед рампой. На заднике за ним нарисованы лед, айсберги, зимнее небо. Сцена усыпана фальшивым белым снегом. На ней лежат четыре распаренные собаки с высунутыми языками, похожие на лаек гренландских эскимосов. Бородатый мужчина в толстой парке говорит со своего испещренного белыми крапинками помоста: «Сегодня я обращаюсь к вашей человечности, а не к вашим кошелькам. — Американский акцент мужчины режет Крозье слух так же немилосердно, как акцент девочек. — И я ездил в Англию, чтобы поговорить с самой леди Франклин. Она пожелала удачи нашей следующей экспедиции — которая, разумеется, состоится только в том случае, если мы соберем необходимую для ее снаряжения сумму денег здесь, в Филадельфии, и в Нью-Йорке, и в Бостоне, — и говорит, что сыны Америки окажут ей великую честь, коли вернут домой ее мужа. И потому сегодня я взываю к вашей щедрости, но только во имя человечности. Я обращаюсь к вам от имени леди Франклин, от имени ее пропавшего мужа — и в твердой надежде принести славу Соединенным Штатам Америки…» Крозье снова видит мужчину. Бородатый парень уже снял парку и лежит голый в постели в нью-йоркском отеле «Юнион» с очень молодой голой женщиной. Ночь сегодня жаркая, и они отбросили одеяла в сторону. Упряжных собак нигде не видать. — При всех своих недостатках, — говорит мужчина — тихим голосом, поскольку окно открыто в нью-йоркскую ночь, — я, по крайней мере, любил тебя. Будь ты императрицей, дорогая Мегги, а не маленькой, никому не известной девочкой, занимающейся темным и сомнительным ремеслом, было бы то же самое… Крозье осознает, что молодая обнаженная женщина — это Мегги Фокс, только несколькими годами старше. Она по-прежнему привлекательна на жеманный американский манер. Мегги говорит голосом, гораздо более звучным и глубоким, чем девчоночий повелительный голос, недавно слышанный Крозье: — Доктор Кейн, вы знаете, я люблю вас… Мужчина трясет головой. Он взял трубку с ночного столика и теперь вытаскивает руку из-под головы девушки, чтобы набить трубку табаком и раскурить. – Мегги, дорогая, я слышу эти слова, слетающие с твоих маленьких лживых уст, и рад бы поверить им. Но тебе не подняться выше своего положения, дорогая. У тебя есть много достоинств, ставящих тебя выше твоего ремесла, Мегги… ты изящна, привлекательна и при другом воспитании была бы невинной и бесхитростной. Но ты не достойна моего постоянного внимания, мисс Фокс. – Не достойна… — повторяет Мегги. – У меня другие цели в жизни, дитя мое, — говорит доктор Кейн. — Не забывай, у меня есть свои амбиции, как у тебя и твоих жалких сестер и матери есть свои. Я также предан своему делу, как ты, бедное дитя, предана своему — если, конечно подобные дурацкие представления с вызыванием духов можно назвать делом. Просто помни, что доктор Кейн, исследователь арктических морей, любил Мегги Фокс, устроительницу спиритических сеансов. Крозье просыпается в темноте. Он не знает, где он находится и в каком времени. В каюте темно. Похоже, весь корабль погружен во тьму. Шпангоуты стонут — или то эхо его собственных стонов, испущенных за последние часы и дни? Очень холодно. Теплое одеяло, которым, он смутно помнит, его накрыли Джопсон и Гудсер, теперь такое же влажное и ледяное, как простыни. Лед сдавливает корабль. Корабль продолжает стонать в ответ. Крозье пытается встать, но он слишком слаб и истощен, чтобы пошевелиться. Он едва в состоянии двигать руками. Боль и видения накатывают на него мощной волной. Лица людей, которых он знал, или встречал, или видел в Службе географических исследований. Вот Роберт Макклюр, один из самых коварных и честолюбивых людей, каких Френсис Крозье знал в жизни, — очередной ирландец, исполненный решимости добиться успеха в английском обществе. Макклюр находится на палубе корабля, затертого льдами. Повсюду вокруг ледяные и каменные стены, иные высотой шестьсот или семьсот футов. Крозье никогда прежде не видел ничего подобного. Вот старый Джон Росс на корме маленького, похожего на яхту суденышка, которое держит курс на восток. Возвращается домой. Вот Джеймс Кларк Росс — сейчас он старше, толще и угрюмее, чем прежде. Обледенелые снасти на бушприте сверкают в лучах восходящего солнца, когда корабль выходит из льдов в чистую воду. Он возвращается домой. Вот Френсис Леопольд Макклинток — человек, невесть откуда знает Крозье, сначала участвовавший в поисках Франклина в составе экспедиции под командованием Джеймса Росса, а впоследствии снарядивший собственную экспедицию. Когда — впоследствии? Через сколько лет? В насколько отдаленном будущем? Видения мелькают перед мысленным взором Крозье, словно картинки волшебного фонаря, но не дают ответов на вопросы. Вот Макклинток идет по замерзшему морю с санным отрядом, двигаясь значительно быстрее, чем в прошлом ходили отряды лейтенанта Гора, или сэра Джона, или Крозье. Вот Макклинток стоит у каменной пирамиды и читает записку, извлеченную из медного цилиндра. Крозье думает, не записка ли это, оставленная Гором на Кинг-Уильяме семь месяцев назад. Покрытый льдом каменистый берег и серое небо за Макклинтоком выглядят всё так же. Потом вдруг Макклинток стоит один на каменистом берегу; отставший на несколько сотен ярдов санный отряд, едва различимый в метельной мгле, приближается к нему. Макклинток видит перед собой ужасное зрелище: большую лодку, крепко привязанную к огромным саням из дуба и железа. Такие сани мог бы изготовить плотник Крозье, мистер Хани. Они явно сооружались с расчетом на то, что прослужат целый век. Каждая деталь, каждый узел конструкции изобличают старание и тщание мастера. Сани тяжелые — весят не менее шестисот пятидесяти фунтов. На них покоится лодка весом еще в восемьсот фунтов. Крозье узнает лодку. Это один из полубаркасов «Террора», длиной двадцать восемь футов. Он видит, что полубаркас оснащен для речного плавания. Паруса свернуты, связаны и одеты ледяным панцирем. Взобравшись на высокий валун и заглянув в лодку, словно через плечо Макклинтока, Крозье видит два скелета. Два черепа скалят зубы Макклинтоку и Крозье. От одного скелета осталась лишь россыпь явно изгрызенных и обглоданных костей в носовой части лодки. Кости занесены снегом. Второй скелет сохранился в целости и все еще одет в лохмотья, похожие на офицерскую шинель и прочие теплые поддевки. На черепе у него остатки фуражки. Этот труп полусидит на кормовой банке, вытянув костяные руки к двум заряженным дробовикам, прислоненным к планширю. У обутых в башмаки ног трупа лежат стопки свернутых шерстяных одеял и парусины, а также частично занесенный снегом джутовый мешок, наполненный патронами. На дне шлюпки, между башмаками мертвеца — словно пиратские трофеи, подлежащие пересчету и восхищенному созерцанию, — лежат пять золотых хронометров и что-то похожее на куски шоколада, завернутые в ткань каждый по отдельности, общим весом тридцать или сорок фунтов. Поблизости валяются также двадцать шесть серебряных столовых приборов; Крозье видит — и знает, что Макклинток тоже видит, — личные знаки сэра Джона, капитана Фицджеймса, шести других офицеров и самого Крозье на различных ножах, ложках и вилках. Он видит блюда и два серебряных подноса с такими же гравировками, торчащие из льда и снега. Все двадцать пять футов дна полубаркаса, разделяющие два скелета, завалены разнообразными предметами, торчащими из-под слоя наметенного снега толщиной в несколько дюймов: два рулона листового железа, парусиновый лодочный чехол, восемь пар башмаков, две пилы, четыре напильника, куча гвоздей и два ножа рядом с мешком патронов, стоящим у ног скелета на корме. Крозье видит также весла, свернутые паруса и мотки бечевки возле одетого скелета. Ближе к кучке обглоданных костей на носу лежат стопка полотенец, куски мыла, несколько расчесок и зубная щетка, пара тапочек ручной работы (всего в нескольких дюймах от рассыпавшихся костей плюсны и пальцев), а также шесть книг — шесть Библий и «Векфилдский священник», который сейчас стоит на полке в кают-компании «Террора». Крозье хочет закрыть глаза, но не может. Он хочет прогнать это видение — все эти видения, — но не властен над ними. Внезапно смутно знакомое лицо Френсиса Леопольда Макклинтока расплывается, а потом вновь обретает четкость очертаний, превращаясь в лицо более молодого человека, которого Крозье видит впервые. Все вокруг остается прежним. Молодой человек — некий лейтенант Уильям Хобсон, теперь знает Крозье непонятно откуда, — стоит на том же самом месте, где стоял Макклинток, и смотрит в шлюпку с тем же самым болезненно-недоверчивым выражением, какое Крозье минуту назад видел на лице Макклинтока. А потом начинается самый ужасный кошмар из всех. Незнакомец — эта помесь Макклинтока и некоего Хобсона — теперь смотрит не в шлюпку с двумя скелетами в ней, а прямо на юного Френсиса Родона Мойру Крозье, втайне от семьи пришедшего на католическую мессу со своей бабкой-ведьмой Мойрой. Одним из самых больших секретов в жизни Крозье являлся этот поступок: он не только явился на запретное богослужение с Мойрой, но и принял участие в обряде католической евхаристии, в презренном и запретном приобщении святых тайн. Но фигура Макклинтока-Хобсона стоит там, точно прислуживающий в алтаре мальчик, когда Крозье — то ребенок, то испуганный мужчина пятидесяти с лишним лет — приближается к алтарной ограде, опускается на колени, запрокидывает голову, открывает рот и высовывает язык, готовясь принять запретную облатку, вкусить от плоти и крови Христовой — символический каннибализм с точки зрения семьи Крозье и всех прочих взрослых жителей деревни. Но происходит что-то странное. С нависающего над ним седовласого священника в белых одеяниях капает вода на пол, на алтарную ограду и на самого Крозье. И священник слишком большой, даже в представлении ребенка — огромный, мокрый, мускулистый, неуклюжий, он отбрасывает тень на коленопреклоненного причастника. Он — не человек. И Крозье голый стоит на коленях, запрокидывает голову, закрывает глаза и высовывает язык для святого причастия. В руке у священника, нависающего над ним, нет облатки. У него вообще нет рук. Мокрый призрак перегибается через алтарную ограду, склоняется низко над ним и открывает собственную нечеловеческую пасть, словно сам Крозье и есть облатка, которую надо проглотить. – Господи Иисусе, Всемогущий Боже, — шепчет фигура Макклинтока-Хобсона. – Господи Иисусе, Всемогущий Боже, — шепчет капитан Френсис Крозье. — Он очнулся, — говорит доктор Гудсер мистеру Джопсону. Крозье стонет. — Сэр, вы можете сесть? — спрашивает врач. — Вы можете открыть глаза и сесть? Вот и молодец. — Какое сегодня число? — хрипит Крозье. Тусклый свет, проникающий в открытую дверь, и еще более тусклый свет масляного фонаря с прикрученным фитилем режет болезненно-чувствительные глаза, точно ослепительные лучи солнца. – Сегодня вторник, одиннадцатое января, капитан, — говорит стюард. А мгновение спустя добавляет: — Год тысяча восемьсот сорок восьмой от Рождества Христова. – Вы были очень больны целую неделю, — говорит врач. — Несколько раз я думал, что вы умерли. Гудсер дает Крозье глотнуть воды. — Мне снились сны, — с трудом выговаривает Крозье, выпив немного ледяной воды. Он чувствует собственный смрадный запах, пропитавший скомканные заледенелые простыни и одеяла. — Последние несколько часов вы очень громко стонали, — говорит Гудсер. — Вы помните какие-нибудь сны? Крозье помнит лишь ощущение летучей невесомости снов, но одновременно ощущение тяжеловесности своих видений, уже улетевших прочь, словно клочья тумана, гонимые сильным ветром. – Нет, — говорит он. — Мистер Джопсон, будьте любезны принести мне горячей воды, чтобы помыться. И можете помочь мне побриться. Доктор Гудсер… – Да, капитан? – Будьте добры сообщить мистеру Дигглу, что капитан желает очень плотно позавтракать сегодня утром… – Сейчас шесть склянок вечера, капитан, — говорит врач. – Неважно. Я хочу плотно позавтракать. Галеты. Картофель. Кофе. Свинина или что-нибудь вроде… бекон, если таковой имеется. – Слушаюсь, сэр. – И еще, доктор Гудсер, — говорит Крозье врачу, уже двинувшемуся к двери. — Будьте добры также попросить лейтенанта Литтла явиться ко мне с докладом о происшествиях, случившихся за неделю моего отсутствия, а также попросите его принести… э-э… принадлежащую мне вещь.
28. Пеглар
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 29 января 1848 г.Гарри Пеглар устроил все таким образом, чтобы получить приказ отправиться с донесением на «Эребус» в день, когда вернулось солнце. Он хотел отметить это событие — насколько в настоящее время вообще можно отмечать какие-либо события — с некогда любимым человеком. Старший унтер-офицер Гарри Пеглар был фор-марсовым старшиной на «Терроре», избранным начальником над тщательно отобранными мачтовыми матросами, которые управляют верхним бегучим такелажем и парусами при свете дня и во мраке ночи, а равно во время самого страшного ненастья и самых жестоких штормов, какие небо может послать кораблю. Подобная должность требовала силы, опыта, авторитета и, самое главное, смелости — и Гарри Пеглара уважали за все перечисленные качества. В свой сорок один год без малого он сотни раз проявлял себя самым достойным образом не только перед командой «Террора», но и на десятках других кораблей, на которых успел послужить в прошлом. Не приходилось особенно удивляться тому, что Гарри Пеглар оставался неграмотным до двадцати пяти лет, в каковом возрасте носил звание гардемарина. В грамотного человека Пеглара превратил простой офицерский стюард на исследовательском барке «Бигль» — чтение стало тайным пристрастием Гарри, и за время этого путешествия он уже проглотил более половины из тысячи томов из библиотеки в кают-компании «Террора», — и тот же стюард десять с лишним лет назад заставил Гарри Пеглара задуматься над вопросом, что значит быть человеком. Этим стюардом был Джон Бридженс. Он являлся самым старым членом экспедиции, много старше остальных. Когда они отплыли из Англии, среди матросов на «Эребусе» и «Терроре» имела хождение шутка, что Джон Бридженс одного возраста с пожилым сэром Джоном, но в двадцать раз мудрее. Гарри Пеглар, со своей стороны, знал, что так оно и есть. Пожилые люди, носящие звание ниже капитанского или адмиральского, редко допускались к участию в экспедициях Службы географических исследований, и потому обе команды изрядно позабавились, когда узнали, что в официальном списке личного состава возраст Джона Бридженса записан наоборот — причиной чему явилась либо рассеянность, либо чувство юмора начальника интендантской службы — и обозначен числом «26». Седовласому Бридженсу пришлось выслушать немало шуточек по поводу своего юного возраста и предполагаемой сексуальной доблести. Стюард спокойно улыбался и ничего не отвечал. Именно Гарри Пеглар отыскал Бридженса, в ту пору более молодого, на корабле «Бигль» во время пятилетней кругосветной научно-исследовательской экспедиции под руководством капитана Фицроя, продолжавшейся с декабря 1831 по октябрь 1836 года. Пеглар перешел с первоклассного стодвадцатипушечного линейного корабля «Принц-Регент» на скромный «Бигль» вслед за офицером, под командованием которого служил там, лейтенантом по имени Джон Лорт Стоукс. «Бигль» был всего лишь десятипушечным бригом, переоборудованным в исследовательский барк — едва ли корабль того рода, какой выбрал бы честолюбивый гардемарин вроде молодого Пеглара в обычных обстоятельствах, — но уже тогда Гарри интересовался научными изысканиями и географическими исследованиями, и путешествие на маленьком «Бигле» под командованием Фицроя стало для него познавательным и полезным во многих отношениях. Бридженс тогда был восемью годами старше, чем Пеглар сейчас — без малого пятидесяти лет, — но уже слыл умнейшим и самым начитанным мичманом во флоте. Он также слыл содомитом, каковой факт совершенно не волновал двадцатипятилетнего Пеглара в то время. В британском военно-морском флоте было два типа содомитов: такие, которые искали удовлетворения только на берегу и никогда не предавались своему пороку в плавании, и такие, которые продолжали следовать своим наклонностям и в море, зачастую совращая юных мальчиков, служащих почти на всех кораблях военно-морского флота. Бридженс, как знали все на «Бигле» и во флоте, являлся представителем первого типа: мужчиной, который любил мужчин на берегу, но никогда не похвалялся этим и никогда не проявлял свои пристрастия в плавании. В отличие от помощника конопатчика на нынешнем корабле Пеглара, Бридженс не был педерастом. В обществе офицерского вестового мальчик в море находился в большей безопасности, чем в обществе викария в родной деревне. Кроме того, Гарри Пеглар сожительствовал с Роуз Мюррей, когда уходил в плавание в 1831 году. Пусть и не связанные брачными узами (будучи католичкой, она отказывалась выходить за него замуж, пока он не обратится в католическую веру, чего Гарри не мог заставить себя сделать), они жили душа в душу, когда Гарри возвращался на берег, хотя своей безграмотностью и полным отсутствием любознательности Роуз походила на молодого Пеглара, а не на человека, которым он станет впоследствии. Возможно, они поженились бы, если бы Роуз могла иметь детей, но она не могла — каковое обстоятельство полагала «Божьей карой». Роуз умерла, когда Пеглар находился в долгом плавании на «Бигле». Но он также любил Джона Бридженса. Еще до завершения пятилетнего путешествия исследовательского корабля «Бигль» Бридженс — поначалу принявший роль наставника с великой неохотой, но впоследствии уступивший пылкой настойчивости молодого гардемарина, — научил Гарри читать и писать не только на английском, но также на греческом, латинском и немецком. Он преподал ему основы философии, истории и естественной истории. Более того, Бридженс научил смышленого молодого человека думать. Через два года после того плавания Пеглар разыскал старшего мужчину в Лондоне — в 1838 году Бридженс находился в долгом увольнении на берег вместе с большинством служащих флота — и попросил продолжить занятия с ним. К тому времени Пеглар уже был фор-марсовым старшиной на военном корабле «Вандерер». Именно в те месяцы живого общения и дальнейших учебных занятий на берегу близкая дружба между двумя мужчинами переросла в отношения, больше напоминающие любовную связь. Неожиданный факт, что он оказался способен на такое, глубоко потряс Пеглара — поначалу удручил, но потом заставил пересмотреть все аспекты своей жизни, веры и самосознания. То, что он обнаружил, несколько смутило молодого человека, но, как ни странно, в сущности не изменило его представления о том, кто есть Гарри Пеглар. Еще сильнее потрясло его то обстоятельство, что именно он, а не старший мужчина, стал инициатором физической близости. Интимные отношения у них продолжались всего несколько месяцев и закончились по обоюдному желанию, а равно по причине долгих отлучек Пеглара, ходившего в море на «Вандерере» вплоть до 1844 года. Их дружба никак не пострадала. Пеглар начал писать длинные философские письма бывшему вестовому, причем писал все слова задом наперед, так что последняя буква последнего слова в каждом предложении оказывалась первой и прописной. Главным образом потому, что прежде неграмотный фор-марсовый старшина допускал чудовищные орфографические ошибки, Бридженс в одном из своих ответных посланий высказал мнение, что «ваш детский шифр, позаимствованный у Леонардо, разгадать практически невозможно». Теперь Пеглар вел записи в своих дневниках тем же самым примитивным шифром. Ни один из мужчин не сообщил другому, что обратился в Службу географических исследований с прошением об участии в экспедиции сэра Джона Франклина. Оба премного изумились, когда за несколько недель до отплытия увидели имена друг друга в официальном списке личного состава. Пеглар, уже более года не писавший Бридженсу, приехал из вулричских казарм на квартиру стюарда в северном районе Лондона, чтобы спросить, не откажется ли он от участия в экспедиции. Бридженс же настаивал на том, что именно он должен изъять свое имя из списка. В конечном счете они сошлись во мнении, что ни одному из них не следует упускать возможность пережить столь увлекательное приключение — безусловно, Бридженсу, в силу преклонного возраста, подобной возможности никогда больше не представится (начальник интендантской службы «Эребуса», Чарльз Гамильтон Осмер, являлся старым другом Бридженса и уладил вопрос о его зачислении на службу с сэром Джоном и офицерами, причем дошел даже до того, что скрыл настоящий возраст вестового, написав «26» в официальных списках). Ни Пеглар, ни Бридженс не говорили этого вслух, но оба знали, что давнюю клятву старшего мужчины никогда не следовать своим сексуальным склонностям в плавании они соблюдут оба. Эта часть их жизни, знали они, навсегда осталась в прошлом. Но в результате Пеглар почти не видел своего старого друга во время путешествия, и за три с половиной года они ни разу не оставались наедине.
Разумеется, было еще темно, когда Пеглар прибыл на «Эребус» около одиннадцати часов субботнего утра за два дня до конца января, но на юге — впервые за восемьдесят с лишним дней — наблюдалось едва заметное предрассветное свечение. Слабое это свечение нисколько не спасало от кусачего шестидесятипятиградусного мороза, и потому Пеглар не стал мешкать, завидев впереди фонари корабля. Вид сложенных на льду мачт «Эребуса» расстроил бы любого мачтового, но удручил Гарри Пеглара тем сильнее, что именно он, вместе с фор-марсовым старшиной «Эребуса» Робертом Синклером, помогал руководить работами по расснащению обоих кораблей и укладке стеньг на хранение на бесконечно долгие зимы. Подобное зрелище неизменно производило отвратительное впечатление, и сейчас странное положение «Эребуса», стоявшего с опущенной кормой и вздернутым носом в окружении наступающего льда, нисколько его не скрашивало. Пеглар, окликнутый часовым и приглашенный на борт, отнес послание капитана Крозье капитану Фицджеймсу, который сидел и курил трубку в офицерской столовой, поскольку в кают-компании по-прежнему размещался лазарет. Капитаны начали использовать медные цилиндры для переправки друг другу письменных посланий — посыльным данное нововведение пришлось не по вкусу: холодный металл обжигал пальцы даже сквозь толстые перчатки, — и Фицджеймс приказал Пеглару открыть цилиндр, поскольку тот еще оставался слишком холодным, чтобы капитан мог до него дотронуться. Пеглар стоял в дверях офицерской столовой, пока Фицджеймс читал записку Крозье. — Ответа не будет, мистер Пеглар, — сказал Фицджеймс. Фор-марсовый старшина козырнул и поднялся обратно на палубу. Около дюжины человек вышли посмотреть на восход солнца, и еще столько же одевались внизу, чтобы присоединиться к ним. Пеглар заметил, что в лазарете в кают-компании лежит около дюжины больных — примерно столько же, сколько на «Терроре». На обоих кораблях начиналась цинга. Пеглар увидел знакомую невысокую фигуру Джона Бридженса, стоявшего у фальшборта на корме. Он подошел и похлопал мужчину по плечу. – А, явленье Гарри в сумрачной ночи, — промолвил Бридженс, еще не повернувшись. – В ночи недолгой, — сказал Пеглар, глядя в водянисто-голубые глаза пожилого мужчины. — Как вы узнали, что это я, Джон? Лицо Бридженса не закрывал шарф, и Пеглар видел, что он улыбается. — Слухи о гостях распространяются быстро на маленьком корабле, затертом льдами. Вам нужно спешно возвращаться на «Террор»? — Нет. Капитан Фицджеймс не написал ответной записки. – Не желаете прогуляться? – С великим удовольствием, — сказал Пеглар. Они спустились по ледяному откосу с правого борта и двинулись в сторону айсберга и высокой торосной гряды на юго-востоке, с которой открывался лучший вид на светящийся южный горизонт. Впервые за много месяцев «Эребус» освещался не сполохами, не огнем фонарей или факелов, а светом иного происхождения. По пути к торосной гряде они миновали покрытый сажей и подтаявший участок льда на месте карнавального пожара. По приказу капитана Крозье там произвели основательную уборку в течение недели после несчастья, но дыры во льду, служившие гнездами для стоек каркаса, а равно намертво вмерзшие в лед клочья парусины и обрывки снастей остались. Прямоугольник черного зала по-прежнему ясно вырисовывался, даже после многочисленных попыток удалить сажу со льда и нескольких снегопадов. – Я читал того американского писателя, — сказал Бридженс. – Американского писателя? — Парень, из-за которого маленький Дик Эйлмор получил пятьдесят плетей за свои хитроумно установленные декорации к нашему прискорбному карнавалу. Странный тип по имени По, если мне не изменяет память. Очень меланхолические, болезненно-мрачные сочинения, местами просто патологически жуткие. В целом не особо хорошие, но очень американские в каком-то неопределимом смысле. Однако роковой рассказ, ставший причиной порки, мне не попадался. Пеглар кивнул. Он споткнулся о какой-то предмет, занесенный снегом, и наклонился, чтобы выломать его изо льда. Это оказался медвежий череп, который висел над эбеновыми часами сэра Джона, погибшими при пожаре. Мясо, кожа и шерсть сгорели дотла, кость почернела от огня, глазницы зияли пустотой, но зубы по-прежнему оставались желтовато-белого цвета. — О боже, думаю, мистеру По это понравилось бы, — сказал Бридженс. Пеглар бросил черепобратно в снег. Вероятно, работавшие на пожарище люди не заметили его среди кусков льда, отколовшихся от айсберга. Они с Бридженсом прошли еще пятьдесят ярдов, направляясь к самой высокой торосной гряде в округе, и взобрались на нее. Пеглар то и дело подавал руку старшему мужчине, помогая карабкаться наверх. Поднявшись на плоскую ледяную плиту на вершине гряды, Бридженс часто и тяжело дышал. Даже Пеглар, сильный и выносливый, как античные олимпийские атлеты, о которых он читал, слегка запыхался. Слишком много месяцев без настоящей физической нагрузки, подумал он. Южный горизонт светился приглушенным тускло-желтым светом, и большинство звезд на той половине неба побледнели. — Даже не верится, что оно возвращается, — сказал Пеглар. Бридженс кивнул. И внезапно оно показалось: край красно-золотого диска неуверенно выступил над темной грядой, которая походила на цепь холмов, но, по всей вероятности, являлась низкими облаками далеко на юге. Пеглар услышал, как несколько десятков мужчин на палубе «Эребуса» проорали троекратное ура и — поскольку звуки хорошо распространялись в очень холодном и совершенно недвижном воздухе — услышал точно такой же, только приглушенный расстоянием крик, донесшийся с «Террора», который едва виднелся почти в миле к востоку. — Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос, — произнес Бридженс по-гречески. Пеглар улыбнулся, слегка удивленный, что он помнит фразу. Прошло уже несколько лет с тех пор, как он читал «Илиаду» или любое другое сочинение на греческом. Он хорошо помнил свой восторг, испытанный при первом знакомстве с этим языком и с героями Трои, когда «Бигль» стоял на якоре у Сант-Яго, вулканическом острове в составе островов Зеленого Мыса, почти семнадцать лет назад. Словно прочитав его мысли, Бридженс спросил: – Вы помните мистера Дарвина? – Молодого натуралиста? — сказал Пеглар. — Любимого собеседника капитана Фицроя? Конечно помню. Человек, с которым проводишь пять лет кряду на борту маленького барка, так или иначе оставляет впечатление, даже если он был джентльменом, а ты нет. – И какое впечатление он произвел на вас, Гарри? — Бледно-голубые глаза Бридженса слезились, то ли от волнения при виде солнца, то ли просто от непривычного света, пусть и слабого. Красный диск, еще не успев полностью выйти из-за темной облачной гряды, снова начал опускаться. – Мистер Дарвин-то? — Пеглар тоже щурился — не столько от восхитительного сияния солнца, сколько пытаясь получше вспомнить худого молодого натуралиста. — Я находил его человеком приятным и учтивым, как положено джентльмену. Полным энтузиазма. Конечно, он постоянно заставлял людей таскать и укладывать в ящики этих чертовых мертвых животных — в какой-то момент мне показалось, что одни только вьюрки заполнят трюм до отказа, — но и сам не чурался грязной работы. Помните, как он помогал грести, когда мы буксировали старый «Бигль» вверх по реке? А в другой раз он спас лодку, подхваченную приливной волной. А однажды, когда рядом с нами плыли киты — неподалеку от побережья Чили, кажется, — я с удивлением обнаружил, что он самостоятельно забрался аж на салинг, чтобы рассмотреть их получше. Вниз он спускался уже с моей помощью, но прежде час с лишним наблюдал в бинокль за китами, стоя на салинге с развевающимися на ветру полами куртки. Бридженс улыбнулся. – Я почти ревновал, когда он дал вам почитать ту книгу. Что это было? Лайелл? – «Основные начала геологии», — сказал Пеглар. — Я ничего толком там не понял. Или, вернее, понял ровно столько, чтобы осознать, насколько опасна эта книга. – Вы имеете в виду лайелловское утверждение о возрасте вещей, — сказал Бридженс. — Совершенно нехристианскую идею, что все на планете меняется медленно, на протяжении огромных геологических периодов, а не стремительно, в силу каких-то грандиозных событий. – Да, — сказал Пеглар. — Но мистер Дарвин был страстным сторонником этой идеи. Он производил впечатление человека, пережившего религиозное обращение. – Полагаю, в известном смысле так оно и было, — сказал Бридженс. Теперь над грядой облаков виднелась только треть солнечного диска. — Я вспомнил мистера Дарвина, поскольку наши с ним общие друзья перед отплытием экспедиции сказали мне, что он пишет книгу. – Он уже опубликовал несколько своих сочинений, — сказал Пеглар. — Помните, Джон, мы с вами обсуждали его новую книгу, «Дневник изысканий по естественной истории и геологии стран, посещенных во время кругосветного плавания корабля „Бигль“», когда я пришел брать у вас уроки. Она была мне не по карману, но вы сказали, что читали ее. И кажется, мистер Дарвин опубликовал еще несколько томов, посвященных флоре и фауне, которые он исследовал во время плавания. – «Зоологические результаты экспедиции на „Бигле“», — сказал Бридженс. — Да, это сочинение я тоже приобрел. Нет, я имел в виду, что он работал над гораздо более важной книгой, по словам моего дорогого друга мистера Бэббиджа. – Чарльз Бэббидж? — спросил Пеглар. — Парень, который мастерит разные странные приборы, включая какую-то вычислительную машину? – Он самый, — сказал Бридженс. — Чарльз говорит, что все последние годы мистер Дарвин работал над чрезвычайно интересным трудом, посвященным эволюции органических форм. Очевидно, в него включены сведения из области сравнительной анатомии, эмбриологии и палеонтологии — которые все представляли предмет повышенного интереса для нашего бывшего корабельного натуралиста, если вы помните. Но по тем или иным причинам мистер Дарвин решительно не желает публиковать свою работу, и, по словам Чарльза, возможно, книга не выйдет в свет при нашей жизни. – Эволюция органических форм? — повторил Пеглар. – Да, Гарри. Противоречащая всем представлениям цивилизованного христианского мира идея, что виды растений и животных не оставались неизменными с момента творения, но изменялись и приспосабливались к условиям окружающей среды с течением времени… долгого времени. На протяжении огромных исторических периодов, описанных мистером Лайеллом. – Я знаю, что такое эволюция органических форм, — сказал Пеглар, стараясь не показывать своего раздражения, вызванного снисходительными пояснениями Бридженса. Проблема взаимоотношений учителя и ученика, не в первый раз осознал он, заключается в том, что они всегда остаются неизменными, когда все вокруг меняется. — Я читал труды Ламарка по данной теме. А также Дидро. И кажется, Бюффона. – Да, это старая теория, — сказал Бридженс смеющимся, но одновременно слегка извиняющимся тоном. — Монтескье тоже писал об этом, и прочие упомянутые вами авторы. Даже Эразм Дарвин, дед нашего бывшего товарища по плаванию, выдвигал подобную теорию. – Тогда почему сочинение мистера Дарвина представляется таким уж важным? — спросил Пеглар. — Идея эволюции живой природы не нова. Она отвергается церковью и другими натуралистами на протяжении многих поколений. – Если верить Чарльзу Бэббиджу и прочим нашим с мистером Дарвином общим друзьям, — сказал Бридженс, — в новой книге — если она когда-нибудь выйдет в свет — предлагаются доказательства подлинного механизма эволюции. И приводится тысяча — возможно, десять тысяч — убедительных примеров, наглядно показывающих данный механизм в действии. – И в чем же заключается механизм эволюции? — спросил Пеглар. Солнце уже скрылось за горизонтом. Розовое свечение в небе поблекло до бледно-желтого, предварявшего восход светила. Теперь, когда солнце исчезло, Пеглару с трудом верилось, что он его видел. — В естественном отборе, вытекающем из борьбы за существование внутри бесчисленных видов, — сказал пожилой офицерский вестовой. — В отборе, в ходе которого закрепляются и накапливаются полезные признаки особей и устраняются неблагоприятные — то есть такие, которые понижают вероятность выживания или размножения, — на протяжении огромных периодов времени. Лайелловских периодов времени. Пеглар с минуту обдумывал услышанное. — Почему вы завели этот разговор, Джон? – Из-за нашего хищного друга, обитающего здесь во льдах, Гарри. Из-за почерневшего черепа, который вы оставили на месте черного зала, где некогда тикали эбеновые часы сэра Джона. – Я не совсем понимаю, — сказал Пеглар. Он очень часто произносил эту фразу в бытность свою учеником Бридженса во время пятилетних странствий «Бигля», казавшихся бесконечными. Изначально путешествие планировалось завершить в двухлетний срок, и Пеглар обещал Роуз вернуться через два года или раньше. Она умерла от чахотки, когда шел четвертый год плавания «Бигля». — Вы полагаете, что обитающий во льдах зверь является некой жизненной формой, произошедшей в ходе эволюции вида от обычного белого медведя, каких мы столь часто встречали здесь? – Как раз наоборот, — сказал Бридженс. — Я задаюсь вопросом, не столкнулись ли мы с одним из последних представителей некоего древнего вида — с животным более крупным, умным, проворным и гораздо более свирепым, чем его потомок, полярный медведь, какие водятся здесь в великом множестве. Пеглар задумался. — С неким допотопным животным, — наконец сказал он. Бридженс хихикнул. — По крайней мере в метафорическом смысле, Гарри. Вы, вероятно, помните, что я никогда не разделял буквальной веры во Всемирный потоп. Пеглар улыбнулся. — Да, с вами было опасно общаться, Джон. — Он задумался еще на несколько минут. Свет постепенно мерк. В небе на юге снова высыпали частые звезды. — По-вашему, это… существо… этот последний представитель вида… ходил по земле, когда здесь обитали громадные ящеры? Тогда почему мы не нашли его ископаемых останков? Бридженс снова хихикнул. — Нет, я почему-то не верю, что наш хищник соперничал с гигантскими ящерами. Возможно, млекопитающие типа ursus maritimus вообще не сосуществовали с гигантскими рептилиями. Как показал нам Лайелл и как, похоже, понимает мистер Дарвин, Время… Время с большой буквы, Гарри… гораздо протяженнее, чем мы в силах себе представить. Несколько мгновений оба мужчины молчали. Поднялся легкий ветер, и Пеглар осознал, что на таком холоде не стоит задерживаться здесь долее. Он видел, что пожилой мужчина слегка дрожит. — Джон, вы считаете, что знание о происхождении зверя… или, вернее, существа, поскольку иногда оно кажется слишком разумным для простого зверя… поможет нам убить его? — спросил он. На сей раз Бридженс громко рассмеялся. — Ни в коей мере, Гарри. Между нами говоря, дорогой друг, я думаю, наше загадочное существо уже взяло верх над нами. Я думаю, наши кости станут ископаемыми останками прежде его костей… хотя, если подумать, огромное животное, которое живет почти исключительно в полярных льдах, не размножаясь и не обитая на суше, в отличие от обычных белых медведей, и, возможно, даже охотится на обычных белых медведей, вполне может не оставлять никаких костей, никаких следов, никаких окаменелостей… по крайней мере таких, какие мы в состоянии найти на дне замерзших полярных морей при современном уровне развития техники. Они двинулись в сторону «Эребуса». – Скажите, Гарри, что происходит на «Терроре»? – Вы слышали, что три дня назад у нас чуть не вспыхнул мятеж? — спросил Пеглар. — Дело действительно зашло так далеко? Пеглар пожал плечами. — Положение было угрожающим. Кошмарный сон любого офицера. Помощник конопатчика Хикки и еще два или три подстрекателя разожгли беспорядки среди матросов. Толпа впала в массовую истерику. Крозье блистательно разрядил взрывоопасную обстановку. Пожалуй, я еще не встречал капитана, который бы действовал перед лицом разъяренной толпы с таким тонким расчетом и железной выдержкой, какие Крозье проявил в среду. — И все началось из-за эскимоски? Пеглар кивнул, потом затянул потуже шерстяной шарф на голове. Ветер теперь стал пронизывающим. – Хикки и большинство матросов узнали, что перед Рождеством женщина проложила ход наружу, проделав дыру в корпусе. Еще до карнавала она покидала корабль из своего логова в канатном ящике и возвращалась обратно когда вздумается. Плотник мистер Хани со своими подручными заделал пролом в обшивке, а мистер Ирвинг завалил ведущий наружу тоннель на следующий день после карнавального пожара, и людям стало известно об этом. – И Хикки и остальные решили, что женщина имеет какое-то отношение к пожару? Пеглар снова пожал плечами — отчасти просто для того, чтобы согреться. – Насколько я знаю, они решили, что она и есть обитающее во льдах существо. Или по крайней мере его супруга. Большинство уже давно считают эскимоску языческой ведьмой. – Большинство людей на «Эребусе» разделяют такое мнение, — сказал Бридженс. Зубы у него стучали. Двое мужчин прибавили шагу, спеша обратно к накренившему кораблю. – Матросы под водительством Хикки собирались подстеречь девушку, когда она явится за своим ужином, — сказал Пеглар. — И перерезать ей горло. Возможно, с соблюдением неких формальностей. – Почему же этого не произошло, Гарри? – В подобных ситуациях всегда находятся осведомители, — сказал Пеглар. — Когда капитан Крозье прознал об этих планах — вероятно, за считанные часы до замышленного убийства, — он притащил девушку из трюма на жилую палубу и собрал там всех до единого матросов и офицеров. Он даже приказал вахтенным спуститься вниз — просто неслыханное дело. Бридженс повернул к Пеглару бледное лицо. Теперь быстро темнело, и дул крепкий северо-западный ветер. — Было время ужина, — продолжал Пеглар, — но капитан приказал матросам снова поднять к подволоку столы и всем сесть на палубу — не на бочонки, не на сундуки, а прямо на палубный настил, — а сам стоял перед ними, и офицеры, вооруженные пистолетами, толпились позади него. Он держал эскимоску за руку, словно собираясь швырнуть ее людям. Как кусок мяса шакалам. В известном смысле он так и поступил. – Что вы имеете в виду? – Капитан Крозье сказал команде, что, если они замыслили совершить убийство, они должны сделать это прямо сейчас… сию же минуту. Прямо здесь, на жилой палубе, где они едят и спят. Он сказал, что участвовать в расправе должны все — и матросы, и офицеры, — ибо убийство на корабле подобно раковой опухоли и поражает всех соучастников преступления. – Очень странно, — сказал Бридженс. — Но удивительно, что это остановило людей, одержимых жаждой крови. Пеглар снова кивнул. – Потом Крозье велел выйти вперед мистеру Дигглу, стоявшему на своем месте у плиты. – Ваш кок? — спросил Бридженс. – Он самый. Крозье спросил мистера Диггла, что у них на ужин сегодня и что будет на ужин весь следующий месяц. «"Бедный Джон", — ответил Диггл. — Плюс любые консервированные продукты, еще не протухшие и не ставшие отравой». – Интересно, — заметил Бридженс. – Затем Крозье спросил доктора Гудсера, который находился на «Терроре» в среду, сколько человек обратились к нему с жалобами на самочувствие за последние три дня. «Двадцать один, — ответил Гудсер. — И еще четырнадцать больных лежали в лазарете, покуда вы не вызвали их на собрание, сэр». Теперь кивнул Бридженс, словно поняв, куда клонил Крозье. — А потом капитан сказал: «Это цинга, ребята». За три года еще никто — ни врачи, ни капитан, ни даже матросы — не произносил вслух этого слова, — продолжал Пеглар. — «Мы заболеваем цингой, матросы, — сказал капитан. — Симптомы вам известны. А если неизвестны… или если у вас не хватает мужества думать об этом… вам нужно послушать сведущих людей». Затем Крозье велел доктору Гудсеру выступить вперед, встать рядом с девушкой и перечислить симптомы цинги. «Язвы, — сказал Гудсер. — Язвы и кровоизлияния по всему телу. Кровь из лопнувших сосудов собирается под кожей, течет из-под кожи. Течет из всех естественных отверстий тела — изо рта, из ушей, из глаз, из заднего прохода. Ригидность конечностей: ваши руки и ноги сначала болят, а потом теряют подвижность и перестают работать. Вы становитесь неуклюжими, как слепой вол. Потом выпадают зубы», — сказал Гудсер. Стояла такая тишина, что не было слышно даже дыхания пятидесяти мужчин, только скрип и треск корабля под давлением льда. «И когда начинают выпадать зубы, — продолжал врач, — ваши губы чернеют и растягиваются, обнажая десны. Как у мертвеца. Десны распухают и дурно пахнут. Вот причина ужасного зловония, исходящего от цинготного больного: десны гниют и разлагаются изнутри. Но это еще не все, — сказал далее Гудсер. — Ваши зрение и слух ухудшатся, ослабеют… и мыслительные способности тоже угаснут. Внезапно вам покажется в порядке вещей взять и выйти на пятидесятиградусный мороз без перчаток и головного убора. Вы забудете, как ориентироваться по сторонам света или как забить гвоздь. И ваши чувства не просто атрофируются, но восстанут против вас, — продолжал врач. — Если дать вам свежий апельсин, когда вы больны цингой, запах апельсина может вызвать у вас страшные судороги или в буквальном смысле слова свести с ума. Скрип санных полозьев по снегу может заставить вас корчиться от боли; выстрел мушкета может стать роковым. „Эй, послушайте! — крикнул в тишине один из приспешников Хикки. — У нас же есть наш лимонный сок!“ Гудсер лишь печально потряс головой. „Запасы сока подходят к концу, — сказал он. — И в любом случае, он уже не имеет особой ценности. По какой-то непонятной причине простые противоцинготные средства вроде лимонного сока утрачивают свои целебные качества через несколько месяцев. Сейчас, спустя три с лишним года, он практически бесполезен“. И вот тогда наступила ужасная тишина, Джон. Вот теперь действительно стало слышно дыхание мужчин, неровное и частое. И от толпы исходил тяжелый запах — запах страха и еще чего-то. Большинство собравшихся там людей, включая значительную часть офицеров, в последние две недели обращались к доктору Гудсеру с ранними симптомами цинги. Внезапно один из сторонников Хикки выкрикнул: «Какое все это имеет отношение к нашему решению избавиться от эскимосской ведьмы, приносящей несчастье?» Тогда Крозье выступил вперед, по-прежнему держа девушку, словно пленницу, по-прежнему словно собираясь отдать ее толпе на растерзание. «Разные капитаны и разные врачи испытывали разные средства предупреждения и излечения цинги, — сказал он. — Изнурительные физические упражнения. Молитва. Консервированные продукты. Но ни одно из этих средств в конечном счете не помогает. Какое единственное средство помогает в борьбе с цингой, доктор Гудсер?» Тут все присутствующие повернули головы, чтобы посмотреть на Гудсера. Даже эскимоска. «Свежая пища, — ответил врач. — Особенно свежее мясо. Недостаток каких бы полезных веществ в нашем рационе ни вызвал цингу, только свежее мясо способно излечить болезнь». И тогда все снова посмотрели на Крозье, — продолжал Пеглар. — Капитан вытолкнул вперед девушку. «Вот единственный на двух погибающих кораблях человек, который добывал свежее мясо осенью и зимой, — сказал он. — И она стоит перед вами. Эскимосская девушка… всего лишь девушка… но именно она знает, как находить, ловить в западню и убивать тюленей, моржей и песцов, в то время как ни один из нас не в состоянии даже отыскать звериный след во льдах. Что будет, если нам придется покинуть корабли… если мы окажемся на льду без запасов продовольствия? Она единственная из ста девяти оставшихся в живых человек знает, как добыть свежее мясо, чтобы выжить… и вы хотите убить ее?» Бридженс улыбнулся, показав свои собственные кровоточащие десны. Они уже приблизились к ледяному откосу, ведущему на «Эребус». — Да, пусть преемник сэра Джона человек незнатного происхождения, не получивший должного образования, — тихо сказал он, — но никто никогда не обвинял его — по крайней мере, при мне — в глупости. И насколько я понял, он сильно изменился после тяжелой болезни, случившейся с ним несколько недель назад. – Полная трансформация, — сказал Пеглар, с удовольствием пользуясь возможностью употребить выражение, впервые услышанное от Бридженса шестнадцать лет назад. – Как так? Пеглар почесал замерзшую щеку над шарфом. Обледенелая рукавица громко проскребла по щетине. — Трудно объяснить. Я лично полагаю, что капитан Крозье впервые за тридцать с лишним лет абсолютно трезв. Виски никогда внешне не сказывался на способностях этого человека — он превосходный моряк и офицер, — но алкоголь возводил своего рода преграду… стену между ним и миром. Теперь он здесь в большей мере против прежнего. Ничто не ускользает от его внимания. Я не знаю, как еще объяснить это. Бридженс кивнул. – Полагаю, всякие разговоры об убийстве ведьмы прекратились. – Напрочь, — сказал Пеглар. — Матросы какое-то время даже выдавали эскимоске дополнительные галеты, но потом она опять исчезла с корабля — ушла куда-то во льды. Бридженс начал подниматься по откосу, а потом повернулся. Очень тихим голосом, чтобы никто из вахтенных на палубе не услышал, он спросил: – Что вы думаете о Корнелиусе Хикки, Гарри? – Я думаю, он коварный маленький ублюдок, — сказал Пеглар, не потрудившись понизить голос. Бридженс снова кивнул. – Да, он такой. До меня доходили слухи о нем на протяжении многих лет, прежде чем я оказался в одной экспедиции с ним. В прошлом он имел обыкновение подчинять своей воле мальчиков, превращая практически в своих рабов. В последние годы, я слышал, он стал отдавать предпочтение мужчинам постарше, вроде этого идиота… – Магнуса Мэнсона, — сказал Пеглар. – Да, вроде Мэнсона, — сказал Бридженс. — Если бы Хикки заботился единственно о своем низменном удовольствии, у нас не было бы причин для беспокойства. Но этот маленький человечек гораздо опаснее, Гарри… гораздо опаснее, чем рядовой мятежник или злокозненный подстрекатель. Остерегайтесь Хикки. Не спускайте с него глаз, Гарри. Я боюсь, он может причинить большой вред всем нам. — Потом Бридженс рассмеялся. — Нет, вы только послушайте меня. «Причинить большой вред…» Можно подумать, мы все не обречены. Возможно, в следующий раз я увижу вас, когда все мы покинем корабли и двинемся по льду в последний долгий путь. Берегите себя, Гарри Пеглар. Пеглар ничего не сказал. Фор-марсовый старшина снял рукавицу, потом перчатку и дотронулся замерзшими пальцами до замерзшей щеки вестового Джона Бридженса. Прикосновение было очень легким, и ни один из мужчин не ощутил его уже потерявшей на морозе чувствительность кожей, но и такого прикосновения было для них достаточно. Бридженс стал подниматься по ледяному откосу. Не оглядываясь, Пеглар натянул перчатку и пустился в обратный путь к «Террору» в сгущающейся холодной тьме.
29. Ирвинг
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 6 февраля 1848 г.Было воскресенье, и лейтенант Джон Ирвинг выстоял две вахты подряд в темноте на морозе — одну за своего друга Джорджа Ходжсона, который слег с симптомами дизентерии, — в результате пропустив горячий ужин в офицерской столовой и получив взамен лишь маленький жесткий кусок соленой свинины и зараженную долгоносиком галету. Но теперь до следующего дежурства у него оставалось целых восемь блаженных часов. Он мог дотащиться до своей каюты, забраться в койку, немного нагреть заледенелые одеяла теплом собственного тела и проспать восемь часов кряду. Вместо этого Ирвинг сказал Роберту Томасу — старшему помощнику, заступавшему после него на пост вахтенного офицера, — что собирается прогуляться и скоро вернется. Потом Ирвинг перелез через фальшборт и спустился по ледяному откосу на темный паковый лед. Он отправился на поиски леди Безмолвной. Ирвинг пережил потрясение пару недель назад, когда капитан Крозье, казалось, вознамерился отдать женщину на растерзание толпе, которая сплотилась в едином порыве после того, как матросы наслушались подстрекательских нашептываний помощника конопатчика Хикки, а иные принялись кричать, что эскимоска приносит несчастье и надо либо убить ее, либо вышвырнуть вон с корабля. Когда Крозье стоял там, крепко держа за руку леди Безмолвную, а потом вытолкнул ее навстречу разгневанной толпе, как какой-нибудь римский император в свое время выталкивал христианина на арену со львами, лейтенант Ирвинг не знал толком, что делать. Как младший лейтенант, он мог лишь стоять и смотреть на своего капитана, даже если это означало смерть Безмолвной. Как молодой мужчина, страстно увлекшийся женщиной в радиусе четырех или пяти сотен миль, Ирвинг хотел выступить вперед и спасти ее. Когда Крозье склонил на свою сторону большинство матросов тем доводом, что она единственная среди них, кто умеет охотиться на зверя и ловить рыбу во льдах, Ирвинг испустил тихий вздох облегчения. Но эскимоска окончательно покинула корабль на следующий день после того собрания и теперь возвращалась к часу ужина раз в два-три дня, за галетами или редкими подарками в виде свечи, а потом снова исчезала в темных льдах. Где она жила и чем занималась там, оставалось загадкой. Сегодня ночью было не очень темно; в небе метались яркие сполохи, и луна светила достаточно ярко, чтобы сераки отбрасывали чернильно-черные тени. На сей раз третий лейтенант Джон Ирвинг отправился на поиски Безмолвной не по собственному почину. Только вчера капитан поговорил с ним наедине и предложил Ирвингу отыскать тайное убежище эскимоски на льду — коли такое возможно сделать, не подвергая себя излишней опасности. – Я отнюдь не шутил, когда сказал людям, что, возможно, она обладает опытом, который позволит нам выжить во льдах, — тихо проговорил Крозье, и Ирвинг подался к нему ближе, чтобы лучше слышать. — Но нам нельзя ждать: мы должны выяснить, где и как она добывает свежее мясо, прежде чем окажемся на льду без запасов провианта. Доктор Гудсер говорит, что цинга поразит всех нас, если до лета мы не найдем источник свежей пищи. – Но если я не выслежу Безмолвную непосредственно за охотой, — прошептал Ирвинг, — как я смогу выведать у нее секрет? Она же немая. — Я полагаюсь на вашу находчивость, лейтенант Ирвинг, — вот и все, что сказал Крозье в ответ. Сейчас впервые со времени разговора с капитаном Ирвингу представилась возможность проявить находчивость. В кожаной сумке через плечо Ирвинг нес несколько подарков на случай, если найдет Безмолвную и сумеет вступить с ней в общение. Там лежали галеты, гораздо более свежие, чем зараженная долгоносиком галета, которую он съел на ужин накануне. Они были завернуты в салфетку, но Ирвинг также прихватил очень красивый шелковый шейный платок, подаренный ему богатой лондонской любовницей незадолго до их… неприятного расставания. И в него был завернут главный подарок: маленькая баночка персикового джема. Доктор Гудсер бережно хранил и скупо выдавал джем в качестве противоцинготного средства, но лейтенант Ирвинг знал, что это угощение являлось одним из немногих, к которым эскимоска проявляла интерес, когда брала еду у мистера Диггла. Ирвинг видел, как загорались темные глаза девушки, когда она получала намазанную джемом галету. В течение последних месяцев он дюжину раз соскабливал лакомство со своих собственных галет, чтобы собрать драгоценное количество джема, которое сейчас он нес в крохотном фарфоровом судке, некогда принадлежавшем матери. Ирвинг уже обошел корабль кругом, пересек ровный участок льда по левому борту и теперь углублялся в ледяной лес сераков и айсбергов, начинавшийся ярдах в двухстах к югу. Он понимал, что сильно рискует стать очередной жертвой чудовищного существа, но оно уже пять недель не появлялось даже в пределах видимости. С карнавальной ночи оно не убило ни одного члена экипажа. «И вдобавок ко всему, — подумал Ирвинг, — еще никто, кроме меня, не выходил на лед один, даже без фонаря, и не блуждал среди сераков». Он остро сознавал, что вооружен одним только пистолетом, лежащим глубоко в кармане шинели. Через сорок минут безуспешных поисков Безмолвной в ледяном лесу, во мраке ветреной ночи при сорокапятиградусном морозе, Ирвинг уже почти принял решение проявить находчивость в какой-нибудь другой раз — предпочтительно через пару недель, когда солнце будет стоять над южным горизонтом дольше чем несколько минут каждый день. А потом он увидел свет. Жутковатое зрелище: целый снежный сугроб в ледяной балке между несколькими сераками словно излучал из своих недр золотистое сияние, как если бы под ним горел волшебный огонь. Или ведьмин огонь. Ирвинг осторожно подошел ближе, останавливаясь перед тенью каждого серака, чтобы убедиться, что это именно тень, а не очередная узкая расселина во льду. Ветер тихо свистел, проносясь между зазубренными верхушками сераков и ледяных башен. Фиолетовый свет сполохов метался повсюду вокруг. Сугроб имел форму (приданную ему либо ветром, либо руками Безмолвной) низкого купола с достаточно тонкими стенками, чтобы сквозь них проникал мерцающий желтый свет. Ирвинг спустился в маленькую ледяную балку — на самом деле представлявшую собой просто углубление между двумя плитами пакового льда, вытолкнутыми наверх давлением и приобретшими округлость очертаний благодаря лежащему на них слою снега, — и приблизился к маленькому черному отверстию, казавшемуся слишком низким для снежного купола в высоком сугробе, наметенном у края провала. Плечи Ирвинга едва проходили по ширине во входное отверстие — если оно действительно таковым являлось. Прежде чем заползти внутрь, он на миг задался вопросом, не стоит ли вытащить пистолет и взвести курок. «Не особо дружественный жест приветствия», — подумал он. Вдобавок он живо представил нож, пыряющий в лицо. Ирвинг с трудом протиснулся в отверстие. На протяжении первых трех футов узкий тоннель уходил вниз, а следующие футов восемь-девять поднимался. Высунув из него голову на свет, Ирвинг прищурился, поморгал, огляделся по сторонам, и у него отвалилась челюсть. В первую очередь ему бросилось в глаза, что леди Безмолвная лежит под своими меховыми одеяниями голая. А лежала она на помосте, высеченном из прессованного снега, футах в четырех от лейтенанта Ирвинга и почти тремя футами выше. Ее обнаженные груди были на виду — он видел маленький каменный талисман в форме белого медведя, висевший на шнурке между грудями, — но она не пыталась прикрыться, пристально глядя на него немигающим взглядом. Девушка не была напугана. Очевидно, она услышала шаги незваного гостя задолго до того, как он начал протискиваться во входное отверстие снежного купола. В руке она сжимала короткий, но очень острый нож, который он впервые увидел в канатном ящике. — Прошу прощения, мисс, — пробормотал Ирвинг. Он не знал, что делать дальше. Правила приличия требовали, чтобы он, пятясь задом, выполз прочь из будуара дамы, сколь бы нелепые и неуклюжие телодвижения ни пришлось бы произвести для этого, но он напомнил себе, что находится здесь по важному делу. От внимания Ирвинга не ускользнуло то обстоятельство, что сейчас, когда он зажат в узком тоннеле, Безмолвная запросто может перерезать ему горло и он не в состоянии оказать ей сколько-либо серьезного сопротивления. Ирвинг выполз из лаза полностью, затащил следом за собой кожаную сумку и поднялся на колени, а потом на ноги. Поскольку пол снежного дома был заглублен относительно уровня снега и льда снаружи, Ирвинг мог встать во весь рост в центре купола, и над головой у него еще оставалось несколько дюймов. Он осознал, что снежный дом, снаружи казавшийся всего лишь светящимся сугробом, на самом деле сложен из вытесанных блоков спрессованного снега, в высшей степени хитроумно установленных с наклоном внутрь. Ирвинг, получивший образование в лучшем артиллерийском училище военно-морского флота и всегда обнаруживавший способности к математике, сразу обратил внимание на верхнюю спираль снежных блоков, каждый из которых имел чуть больший наклон внутрь по сравнению с предыдущим, и на центральный, замковый блок свода, втиснутый на место сверху. Он увидел крохотное — не более двух дюймов в поперечнике — вытяжное отверстие дымохода рядом с замковым блоком. Как математик, Ирвинг сразу понял, что в разрезе купол имеет форму не правильного полукруга (купол круглой конструкции непременно рухнул бы), а скорее цепной линии, то есть кривой в виде подвешенной за два конца цепи. Как мужчина, Ирвинг понимал, что изучает купольный свод, снежные блоки и хитроумную конструкцию жилища для того только, чтобы не пялиться на голые груди и плечи леди Безмолвной. Решив, что он дал женщине достаточно времени, чтобы прикрыться меховыми одеяниями, он снова посмотрел в ее сторону. Она так и не прикрыла грудь. По контрасту с белым амулетом ее смуглая кожа казалась еще смуглее. Темные глаза, напряженно-внимательные и любопытные, но не враждебные, по-прежнему смотрели на него немигающим взглядом. В руке Безмолвная по-прежнему сжимала нож. Ирвинг шумно выдохнул и присел на покрытый паркой снежный помост, расположенный напротив спального места эскимоски. Он впервые осознал, что в снежном доме тепло. Не просто теплее, чем в морозной ночи снаружи, не просто теплее, чем на выстуженной жилой палубе «Террора», но по-настоящему тепло. Он уже начинал потеть в своих многочисленных жестких, грязных свитерах и прочих поддевках. Он видел капельки пота на светло-коричневой груди женщины, находящейся всего в нескольких футах от него. Снова с трудом отведя глаза в сторону, Ирвинг расстегнул шинель и осознал, что свет и тепло исходят от маленькой жестянки с парафином, по всей видимости украденной эскимоской с корабля. Он моментально устыдился последней своей мысли. Да, верно, это была жестянка с «Террора», но без парафина — одна из сотен пустых банок, которые они выбрасывали в огромную мусорную яму, выкопанную всего в тридцати ярдах от корабля. И горел в ней не парафин вовсе, а какой-то жир — не китовый, судя по запаху… может, тюлений? С длинного куска сала, привязанного к концу свитого из кишок или сухожилий шнура, свисавшего с потолка прямо над горящим светильником, в жестянку капал растопленный жир. Ирвинг сразу увидел, что, когда уровень топлива в банке понижается, фитиль, скрученный, похоже, из прядей якорного каната, становится длиннее, язычок пламени поднимается выше, продолжая растапливать сало, и банка снова наполняется жиром. Хитроумное приспособление. Жестянка из-под парафина являлась не единственным артефактом в снежном доме. Над самодельным светильником и чуть в стороне от него находилась затейливая конструкция из четырех ребер, похоже тюленьих (как леди Безмолвной удалось поймать и убить тюленя?), воткнутых вертикально в снежную полку, выступающую из стены, и соединенных между собой сложным переплетением жил. К ней была подвешена одна из больших прямоугольных консервных банок Голднера — очевидно, тоже подобранная на мусорной свалке близ «Террора» — с пробитыми по верхним углам дырками. Ирвинг сразу понял, что висящая низко над огнем банка с успехом заменяет кастрюлю или чайник. Леди Безмолвная так и не прикрыла грудь. Амулет в виде белого медведя слегка колебался в такт ее дыханию. Она продолжала пристально смотреть на Ирвинга. Молодой лейтенант прочистил горло. — Добрый вечер, мисс… гм… Безмолвная. Прошу прощения, что вторгся к вам… без приглашения… — Он умолк. Она вообще моргает когда-нибудь? — Капитан Крозье кланяется вам. Он попросил меня заглянуть к вам, чтобы узнать… э-э… как ваши дела. Ирвинг редко чувствовал себя настолько глупо. Он был уверен, что, несмотря на многие месяцы, проведенные на корабле, девушка не понимает ни слова по-английски. Соски у нее, невольно заметил он, встали торчком от короткого дуновения холодного воздуха, сопровождавшего его появление в снежном доме. Лейтенант вытер пот со лба. Потом снял рукавицы и перчатки, вопросительно склонив голову к плечу, словно испрашивая позволения у хозяйки дома. Потом он снова вытер покрытый испариной лоб. Просто уму непостижимо, как сильно нагрелось маленькое помещение под снежным куполом от огня единственного самодельного светильника. — Капитан хотел бы… — начал он и осекся. — Ох, черт возьми. Ирвинг залез в свою кожаную сумку и извлек оттуда галеты, завернутые в старую салфетку, и судочек с джемом, завернутый в прекраснейший азиатский шелковый платок. Он протянул оба свертка Безмолвной дрожащими — непонятно почему — руками. Эскимоска не пошевелилась. — Пожалуйста, — сказал Ирвинг. Безмолвная моргнула два раза, убрала нож под свои меха, взяла маленькие свертки и положила рядом с собой на ледяное ложе. Она по-прежнему лежала на боку, приподнявшись на локте, и сосок ее правой груди почти прикасался к шелковому платку. Ирвинг опустил взгляд и осознал, что тоже сидит на толстой шкуре, постеленной на узкую снежную скамью. «Откуда у нее вторая шкура?» — подумал он, но сразу же вспомнил, что более семи месяцев назад она получила в свое пользование парку своего спутника — седовласого старого эскимоса, который скончался на корабле, смертельно раненный выстрелом одного из людей Грэма Гора. Женщина развязала сначала старую камбузную салфетку, не выказав никаких эмоций при виде пяти завернутых в нее галет. Ирвинг провел немало времени, выбирая наименее источенные долгоносиком галеты, и почувствовал себя слегка уязвленным тем, что его старания остались неоцененными. Развернув второй сверток, с маленьким фарфоровым судком, сверху залитым воском, эскимоска поднесла к лицу китайский шелковый платок — с затейливыми узорами ярко-красного, зеленого и синего цвета — и на мгновение прижала к щеке. Потом отложила в сторону. «Все женщины одинаковы, везде и повсюду», — пронеслось в уме у Джона Ирвинга. Он осознал, что при всем своем богатом опыте сексуального общения с молодыми женщинами он никогда еще не испытывал столь сильного чувства… интимной близости… как сейчас, когда сидел самым невинным образом при свете самодельного светильника с этой юной аборигенкой. Когда леди Безмолвная подцепила пластинку застывшего воска и увидела джем, она снова вскинула взгляд и уставилась на Ирвинга. Казалось, она пытается прочесть его мысли. Он неловко изобразил жестами, как она намазывает джем на галеты и ест их. Эскимоска не пошевелилась. И не отвела от него пристального взгляда. Наконец она подалась вперед и вытянула правую руку, словно пытаясь достать до него. Ирвинг слегка отшатнулся, но в следующий миг понял, что она тянется к маленькой нише в стене — к узкой выемке, вырубленной в одном из ледяных блоков, — в головах снежного ложа, покрытого меховыми одеяниями, на котором он сидел. Он сделал вид, будто не заметил, что ее собственное меховое покрывало соскользнуло ниже, и постарался не пялиться на ее свободно болтающиеся груди. Женщина протянула Ирвингу что-то бело-красное, пахнущее дохлой и уже подтухшей рыбой. Он понял, что это еще один шмат сала — тюленьего или какого другого, — который хранился на холоде в ледяной нише. Он взял у нее сало, кивнул и продолжал неподвижно сидеть, держа шмат обеими руками над коленями. Он понятия не имел, что с ним делать. Может, он должен отнести его на корабль, чтобы вытапливать из него жир для своего собственного светильника? Губы Безмолвной слегка дрогнули, и на мгновение Ирвингу показалось, будто она улыбнулась. Она поднесла короткий острый нож ко рту и поводила лезвием вверх-вниз, словно собираясь отрезать свою полную нижнюю губу. Ирвинг смотрел на нее, по-прежнему держа в руках мягкий кусок сала и кожи. Громко вздохнув (Ирвинг почти забыл, что даже без языка молодая женщина все же в состоянии издавать некоторые звуки), Безмолвная снова подалась вперед, взяла у него шмат сала, поднесла к своим губам и отрезала от него ножом несколько тонких ломтиков, каждый раз пропуская короткое лезвие между белыми зубами прямо в рот. Она прожевала, а потом вернула Ирвингу сало с полоской эластичной тюленьей кожи (теперь он был почти уверен, что это тюлень). Ирвингу пришлось немного повозиться, чтобы добраться до спрятанных под зимней шинелью, курткой, свитерами и жилетом ножен на поясном ремне и вытащить нож. Он показал Безмолвной нож, чувствуя себя малым ребенком, ждущим похвалы за хорошо усвоенный урок. Она еле заметно кивнула. Ирвинг поднес вонючий скользкий шмат сала к открытому рту и быстро полоснул по нему ножом, как делала эскимоска. Он едва не оттяпал себе нос. Он точно отхватил бы себе нижнюю губу, когда бы нож не застрял в тюленьей коже (если она была тюленьей), мягком мясе и белом сале и не дернулся немного вверх. Однако единственная капелька крови все же сорвалась с рассеченного носа. Безмолвная не обратила внимания на кровь, еле заметно помотала головой и протянула Ирвингу свой нож. Он сжал в руке непривычно легкий нож и повторил попытку, уверенно резанув лезвием сверху вниз, в то время как капелька крови упала с его носа на шмат сала. Лезвие вошло в него легко, как в масло. Маленький каменный нож — просто уму непостижимо — был гораздо острее его собственного. Большой кусок сала оказался у него во рту. Ирвинг принялся жевать, пытаясь идиотскими гримасами и кивками выразить признательность женщине. На вкус оно походило на дохлого карпа трехмесячной давности, вытащенного со дна Темзы за вулричскими сточными трубами. Ирвинг почувствовал сильнейший рвотный позыв, хотел было выплюнуть комок полуразжеванного сала на пол снежного дома, потом решил, что подобный поступок не поспособствует выполнению его деликатной дипломатической миссии, и проглотил. Ухмыляясь в знак благодарности за лакомое угощение и с трудом подавляя не стихающие рвотные позывы — одновременно украдкой промокая свой слегка рассеченный, но сильно кровоточащий нос обледенелой рукавицей, в данный момент служащей носовым платком, — Ирвинг с ужасом увидел, что эскимоска недвусмысленным жестом предлагает ему отрезать и съесть еще сала. Продолжая улыбаться, он отрезал и проглотил второй кусок. По ощущениям все равно, что проглотить чью-то огромную густую соплю, подумал он. Удивительное дело, но пустой желудок Ирвинга громко заурчал, сведенный спазмом, и потребовал добавки. Похоже, вонючее сало удовлетворяло некую глубинную острую потребность организма, о которой он даже не догадывался. Его тело — если не разум — хотело еще. Следующие несколько минут наблюдалась сцена прямо-таки из семейной жизни: лейтенант Ирвинг сидел насвоей узкой снежной скамье, покрытой паркой из шкуры белого медведя, быстро, если не жадно, отрезая и глотая куски тюленьего сала, а леди Безмолвная ломала галеты, макала в судок его матери с таким проворством, с каким матрос подтирает с тарелки подливку корочкой хлеба, и поглощала джем с довольным гортанным урчанием. И все это время обнаженные груди женщины оставались открытыми для неотрывного, благодарного, пусть и не вполне безмятежного созерцания лейтенанта Ирвинга. «Что бы подумала мама, если бы увидела своего сына и свой судочек сейчас?» — подумал Ирвинг. Когда оба закончили — Безмолвная съела все галеты и опустошила судочек, а Ирвинг основательно потрудился над салом, — он попытался вытереть губы и подбородок своей рукавицей, но эскимоска снова дотянулась до ниши и выдала ему пригоршню рыхлого снега. Поскольку температура воздуха в маленьком снежном доме была определенно выше нуля, Ирвинг неловко вытер снегом жир с подбородка и губ, промокнул лицо рукавом и протянул девушке полоску тюленьей кожи с остатками сала. Она указала рукой на нишу для хранения продуктов, и он затолкал туда кусок по возможности глубже. «Теперь предстоит самое трудное», — подумал лейтенант. Как объяснить — с помощью одних только жестов и мимики, — что сотне с лишним голодных человек, которым угрожает цинга, необходимо узнать ее охотничьи и рыболовные секреты? Ирвинг разыграл целое пантомимическое представление. Под немигающим взглядом глубоких темных глаз леди Безмолвной он выразительно потер себе живот, изображая голодных людей; нарисовал в воздухе три мачты каждого корабля; затем показал, как люди заболевают, — высунул язык, скосил глаза к носу (мама всегда расстраивалась, когда он так делал) и повалился на меховую парку, — а потом указал рукой на Безмолвную и энергично изобразил, как она бросает копье, закидывает удочку и вытаскивает рыбу. Ирвинг несколько раз ткнул пальцем в нишу, куда минуту назад затолкал кусок сала, потом неопределенно махнул рукой, указывая далеко за пределы снежного дома, и снова потер живот, скосил глаза к носу и повалился на парку, а затем опять потер себе живот. Он указал на леди Безмолвную, на мгновение замялся, не зная, как сказать на языке жестов «покажи нам, как ты это делаешь», а потом повторил пантомимы с метанием копья и забрасыванием удочки, прерываясь, чтобы снова указать на эскимоску, изобразить растопыренными пальцами исходящие из глаз лучи-взгляды и снова потереть живот с целью представить голодных людей, которым необходимо преподать уроки охоты и рыболовства. Когда он закончил, по лицу у него градом катился пот. Леди Безмолвная пристально смотрела на молодого человека. Если она и моргнула, он не заметил этого в ходе своих шутовских кривляний. — Ох, чертово дело, — устало сказал третий лейтенант Ирвинг. В конце концов он просто застегнул все свои поддевки и шинель, затолкал салфетку и материнский судочек обратно в кожаную сумку и решил, что на сегодня довольно. Возможно, Безмолвная все-таки поняла смысл разыгранной пантомимы. Возможно, он никогда не узнает, так это или нет. Возможно, если он будет достаточно часто наведываться в снежный дом… Тут мысли Ирвинга приняли глубоко личное направление, и он резко осадил себя, как кучер осаживает четверню норовистых коней. Возможно, если он станет наведываться часто… однажды ему удастся отправиться с ней на ночную охоту на тюленя. «Но что, если пищу по-прежнему приносит ей обитающее во льдах существо?» — подумал он. Сейчас, спустя много недель после того, как он стал свидетелем непостижимой сцены, Ирвинг уже наполовину убедил себя, что не видел того, что видел. Однако более честная половина памяти и рассудка говорила лейтенанту, что он действительно видел это. Чудовищный зверь тогда принес эскимоске части тюленьей или еще чьей-то туши. Той ночью леди Безмолвная покинула то место среди ледяных валунов и сераков со свежим мясом. И еще был помощник капитана «Эребуса», Чарльз Фредерик Дево, со своими рассказами про мужчин и женщин, которые превращаются в волков. Коли такое возможно — а многие офицеры и все матросы, похоже, вполне допускали такое, — почему бы туземной женщине с амулетом в виде белого медведя на груди не превращаться в существо, похожее на гигантского медведя, по-человечески коварного и злонамеренного? Нет, он видел их обоих там на льду. Разве не так? Ирвинг слегка содрогнулся, закончив застегивать шинель. В маленьком снежном доме было очень тепло. И все же он вгонял в дрожь, как ни странно. Лейтенант почувствовал послабляющее действие сала на кишечник и решил, что пора идти. Ему повезет, если он успеет вовремя добраться до гальюна на «Терроре», и он не имел ни малейшего желания останавливаться на льду для совершения подобных жизненных отправлений. Он испытывал весьма неприятные ощущения, когда обмораживал хотя бы нос. Леди Безмолвная пристально наблюдала за ним, пока он укладывал в сумку старую салфетку и материнский судочек (предметы, дошло до него значительно позже, которые ей наверняка очень хотелось получить в свое пользование), но теперь в последний раз прижала к щеке шелковый платок и попыталась вернуть его Ирвингу. — Нет, — сказал Ирвинг, — это подарок от меня. Знак моей дружбы и глубокого уважения. Вы должны оставить его себе. Иначе я обижусь. Он отстранил ее руку с платком, стараясь не прикоснуться ненароком к обнаженной груди. Белый каменный амулет между грудей женщины, казалось, светился сам по себе. Ирвинг осознал, что ему очень, очень жарко. Он почувствовал легкое головокружение. Внутри у него все всколыхнулось, успокоилось, снова всколыхнулось. — Пока-пока, — сказал он — четыре слога, которые он вспоминал потом не одну неделю, корчась в постели от стыда, хотя женщина явно не могла понять нелепости, дурацкой игривости и неуместности подобных прощальных слов. Но все же… Ирвинг дотронулся до козырька фуражки, намотал на голову шарф, натянул рукавицы и перчатки, прижал сумку к груди и нырнул в ледяной тоннель, ведущий к выходу. Молодой человек не насвистывал на обратном пути к кораблю, но испытывал великое искушение засвистеть. Он почти забыл об огромном звере-людоеде, который мог прятаться в густых тенях сераков здесь, так далеко от корабля, но если бы такой зверь наблюдал за ним той ночью, он услышал бы, как лейтенант Джон Ирвинг разговаривает сам с собой и время от времени хлопает себя по лбу рукой в рукавице.
30. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 15 февраля 1848 г.— Джентльмены, настало время обсудить возможные варианты действия на ближайшие месяцы, — сказал капитан Крозье. — Мне нужно принять решение. Офицеры, несколько мичманов и другие специалисты — два гражданских инженера, марсовые старшины и ледовые лоцманы, а также последний оставшийся в живых врач — были созваны на собрание, проводившееся в кают-компании «Террора». Крозье выбрал «Террор» не для того, чтобы избавить от неудобств капитана Фицджеймса и его офицеров (которые совершили переход за короткий период дневного света и надеялись вернуться обратно до наступления кромешной тьмы), и не для того, чтобы подчеркнуть факт смены флагманского корабля, а просто потому, что на корабле Крозье в лазарете лежало меньше людей. Здесь было проще перевести нескольких больных во временный лазарет в носовой части, чтобы освободить кают-компанию для собрания офицеров: на «Эребусе» в два раза больше человек свалилось с симптомами цинги, и доктор Гудсер заявил, что нескольких тяжелых больных нельзя трогать. Сейчас пятнадцать мужчин сидели за длинным столом, который в январе был распилен на несколько частей, служивших операционными столами, но теперь снова приведен в прежнее состояние мистером Хани, плотником «Террора». Мужчины оставили свои шинели, рукавицы, «уэльские парики» и шарфы у главного трапа, но остались во всех прочих поддевках. В помещении стоял запах влажной шерсти и нечистых тел. В каюте было холодно, и сквозь престонские иллюминаторы над головой не проникал свет, поскольку на палубе по-прежнему лежал трехфутовый слой снега. Висевшие на переборках масляные лампы исправно мерцали, но едва рассеивали мрак. Собрание за столом походило на военный совет, проводившийся сэром Джоном Франклином на «Эребусе» восемнадцать месяцев назад, только теперь место во главе стола занимал Френсис Крозье. Слева от Крозье расположились шесть офицеров и мичманов, которых он попросил присутствовать. Рядом с ним сидел его старший помощник, первый лейтенант Эдвард Литтл, потом второй лейтенант Джордж Ходжсон и третий лейтенант Джон Ирвинг. Далее следовал гражданский инженер, Джеймс Томпсон, получивший в экспедиции звание мичмана, но сейчас выглядевший еще более худым, бледным и изнуренным, чем обычно. Слева от Томпсона размещались ледовый лоцман Томас Блэнки, в последние дни научившийся ходить на своей деревянной ноге, и фор-марсовый старшина Гарри Пеглар, единственный унтер-офицер, приглашенный Крозье. На другом конце длинного стола сидел капитан Фицджеймс, почти такой же худой и изможденный, как инженер «Террора». Крозье знал, что Фицджеймс уже несколько недель не давал себе труда бриться и отпустил рыжеватую бороду, как ни странно, тронутую сединой, но сегодня совершил над собой усилие — или приказал мистеру Хору, своему стюарду, побрить его. Без бороды лицо его стало казаться еще более худым и бледным, и сейчас оно было покрыто бесчисленными крохотными порезами и царапинами. Несмотря на множество свитеров и фуфаек, надетых на Фицджеймсе, было заметно, что за последнее время он здорово отощал. Слева от капитана Фицджеймса, по другую сторону длинного стола, разместились семь офицеров с «Эребуса». Рядом с ним сидел единственный помимо него военно-морской офицер, оставшийся на корабле после гибели сэра Джона, первого лейтенанта Гора и лейтенанта Джеймса Фейрхольма, убитых обитающим во льдах зверем, — лейтенант Г. Т. Д. Левеконт, чей золотой зуб поблескивал, когда он изредка улыбался. За Левеконтом сидел Чарльз Фредерик Дево, который принял должность старшего помощника после смерти Роберта Орма Серджента, убитого зверем во время работ по восстановлению ледяных пирамид в декабре. За Дево сидел единственный оставшийся в живых врач, доктор Гарри Д. С. Гудсер. Хотя формально теперь он являлся главным врачом экспедиции и подчинялся непосредственно Крозье, оба командира и сам Гудсер сочли, что ему подобает занять место среди бывших товарищей по службе на «Эребусе». Слева от Гудсера располагался ледовый лоцман Джеймс Рейд, а за ним — единственный присутствующий на собрании унтер-офицер с «Эребуса», фор-марсовый старшина Роберт Синклер. Ближе к другому концу стола сидели инженер «Эребуса» Джон Грегори, выглядевший гораздо лучше своего коллеги с «Террора», и сержант Тозер, который лишился расположения обоих капитанов после карнавальной ночи, когда его подчиненные открыли огонь по спасшимся из огня людям, но по-прежнему возглавлял свой сильно поредевший отряд «красномундирников» и присутствовал здесь в качестве представителя морских пехотинцев. Поскольку стюарды обоих капитанов лежали в лазарете с симптомами цинги, чай с источенными долгоносиком галетами подали собравшимся мистер Гибсон с «Террора» и мистер Бридженс с «Эребуса». — Давайте обсудим все по порядку, — сказал Крозье. — Первое: можем ли мы остаться на кораблях до предполагаемого летнего таяния льдов? И данный вопрос необходимо подразумевает еще один: смогут ли корабли плыть под парусами в июле или августе, если лед растает? Капитан Фицджеймс? Голос Фицджеймса, некогда звонкий и уверенный, теперь звучал еле слышно. Мужчины по обеим сторонам стола подались к нему, чтобы разобрать слова. — Я не думаю, что «Эребус» продержится до лета, и, по моему мнению — которое разделяют мистер Уикс и мистер Уотсон, мои плотники, а также мистер Браун, мой боцман, мистер Риджен, мой рулевой, и присутствующие здесь лейтенант Левеконт и старший помощник Дево, — корабль затонет, когда лед растает. В холодной сумрачной кают-компании, казалось, стало еще холоднее и сумрачнее. С полминуты все молчали. — За две зимы под давлением льда всю паклю выжало из щелей между досками обшивки, — продолжал Фицджеймс тихим хриплым голосом. — Гребной вал погнут и не подлежит починке — как все вы знаете, по замыслу конструкторов, он должен втягиваться в железную камеру до самой средней палубы во избежание повреждений, но сейчас его не поднять выше днища, — и у нас нет запасных валов. Сам винт раздавлен льдом, как и руль. Конечно, мы можем соорудить другой руль, но лед проломил днище судна по всей длине киля. Мы потеряли почти половину железной обшивки в носовой части и по бортам… И что самое скверное, — сказал далее Фицджеймс, — корабль сжало льдом с такой силой, что добавленные для укрепления корпуса железные поперечные балки и чугунные подкосы либо полопались, либо пробили обшивку в дюжине мест. Даже если мы заделаем все пробоины, если умудримся решить проблему с протекающей камерой гребного вала и корабль сможет держаться на плаву, у него не будет внутренних конструкций ледовой защиты. Вдобавок пущенные по бортам судна продольные деревянные брусья, которые с успехом препятствовали льду подняться выше планширя, сейчас, когда корабль стоит с сильным наклоном на корму, подвергаются давлению наступающего льда, вследствие чего обшивка корпуса вдоль них растрескалась. Казалось, Фицджеймс только сейчас заметил, что всецело завладел вниманием аудитории. Он отвел в сторону, а потом опустил рассеянный взгляд, словно в смущении. Снова подняв глаза через несколько секунд, он заговорил почти извиняющимся тоном: — Что самое плохое, под давлением льда ахтерштевень и доски обшивки сильно прогнулись внутрь, и весь корпус «Эребуса» значительно деформировался. Сейчас верхняя палуба вспучивается… доски палубного настила удерживаются на месте единственно весом снега… и никто из нас не верит, что мощности наших помповых насосов хватит для откачивания воды из многочисленных течей, если корабль снова поплывет. Я предоставлю мистеру Грегори доложить о состоянии парового котла, двигателя и запасов угля. Взоры всех присутствующих обратились к Джону Грегори. Инженер прочистил горло и облизал потрескавшиеся, кровоточащие губы. – Паровая установка на «Эребусе» вышла из строя, — сказал он. — Чтобы поставить на место погнутый и застрявший в камере на уровне днища гребной вал, нам понадобились бы бристольские сухие доки. К тому же оставшегося у нас угля не хватит и на день плавания под паром. К концу апреля у нас не останется угля на обогрев корабля, даже если подавать горячую воду всего по сорок пять минут в день и только в отдельные части жилой палубы. – Мистер Томпсон, — сказал Крозье, — каково положение «Террора» в данном отношении? Несколько долгих мгновений ходячий скелет смотрел на своего капитана, а потом заговорил неожиданно звучным голосом: – Если бы «Террор» сегодня поплыл, сэр, мы не смогли бы идти под паром более двух часов в день. Мы успешно втянули гребной вал полтора года назад, и винт находится в рабочем состоянии — вдобавок у нас есть запасной, — но запасы угля подходят к концу. Если бы мы перетащили сюда весь оставшийся уголь с «Эребуса» и стали просто обогревать корабль, мы смогли бы подавать горячую воду в трубы отопительной системы по два часа в день до… осмелюсь предположить… начала мая. Но тогда у нас не останется угля для плавания. А если принимать в расчет количество топлива на одном только «Терроре», нам придется прекратить обогрев жилой палубы к середине или концу апреля. – Благодарю вас, мистер Томпсон, — сказал Крозье негромким голосом, не выдававшим никаких эмоций. — Лейтенант Литтл и мистер Пеглар, будьте любезны дать свою оценку состоянию «Террора». Литтл кивнул и несколько мгновений смотрел в стол, прежде чем снова поднять взгляд на капитана. — Мы пострадали не так сильно, как «Эребус», но давление льда причинило значительные повреждения корпусу, элементам внутренней конструктивной защиты, наружной металлической обшивке и рулю. Некоторые из вас знают, что перед Рождеством лейтенант Ирвинг обнаружил, что у нас не только утрачена большая часть брони по правому борту, но также десятидюймовая дубовая обшивка в носовой части прогнулась и треснула на уровне канатного ящика в трюмной палубе; и впоследствии мы обнаружили, что дубовое днище толщиной тринадцать дюймов дало разной величины трещины в двадцати или тридцати местах. Мы заменили и укрепили доски обшивки в носовой части корпуса, но не можем везде добраться до днища, ибо в трюме стоит замерзшая вода… Я думаю, «Террор» поплывет, капитан, — заключил лейтенант Литтл, — но я не могу обещать, что насосы справятся с течью. Особенно после того, как корабль простоит под натиском льда еще четыре или пять месяцев. Гарри Пеглар прочистил горло. Он явно не привык выступать перед столь многочисленным собранием офицеров. – Если «Террор» будет держаться на плаву, сэр, марсовая команда установит стеньги, такелаж и паруса в течение двух суток после вашего приказа. Я не могу гарантировать, что нам удастся пройти на парусах через толстый лед, какой мы видели, когда двигались в южном направлении, но если под нами будет чистая вода, мы снова сможем идти под парусами. И если мне будет позволительно дать совет, сэр… я считаю, что с установкой стеньг лучше не тянуть. – Вы не опасаетесь, что под натиском наступающего льда корабль опрокинется? — спросил Крозье. — Или что куски льда будут сыпаться с мачт на людей, находящихся на палубе? У нас впереди еще несколько метельных месяцев, Гарри. – Так точно, сэр, — сказал Пеглар. — И вероятность опрокидывания всегда дает повод для тревоги, даже если наш корабль, столь сильно накрененный, перевернется здесь на льду. Но я все же считаю, что лучше установить стеньги и такелаж заранее — на случай неожиданной оттепели. Может статься, нам придется сняться с якоря в считанные минуты, сэр. И мачтовым матросам необходима практика и тренировка, сэр. А что касается падающих на палубу кусков льда… ну, это просто будет еще одно обстоятельство, которое заставит нас держать ухо востро и смотреть в оба. В дополнение к нашей злобной зверюшке. Несколько мужчин за столом хихикнули. Доклады Литтла и Пеглара, в целом обнадеживающие, несколько разрядили напряженную атмосферу. Мысль, что хотя бы один из двух кораблей сможет идти под парусами, ободрила людей. Крозье показалось, что в кают-компании стало теплее, — и возможно, так оно и было, поскольку все собравшиеся там, казалось, перевели дух и снова задышали свободно. — Благодарю вас, мистер Пеглар, — сказал Крозье. — Похоже, если мы собираемся уплыть отсюда, всем нам — обеим командам — придется воспользоваться «Террором». Никто из присутствующих офицеров не заметил вслух, что именно это Крозье предлагал сделать восемнадцать с лишним месяцев назад. Все присутствующие офицеры, похоже, подумали об этом. – Давайте поговорим о нашей злобной зверюшке, — сказал Крозье. — Она вроде не появлялась в последнее время. – С первого января ко мне в лазарет не поступал ни один раненый, — сказал Гудсер. — И никто не погиб и не пропал со времени карнавальной ночи. – Но люди видели что-то, — сказал лейтенант Дево. — Какое-то крупное существо среди сераков. И вахтенные слышали какие-то звуки в темноте. – Вахтенные вечно слышат какие-то звуки в темноте, — сказал лейтенант Литтл. — Начиная с античных времен. – Возможно, оно ушло, — предположил лейтенант Ирвинг. — Мигрировало. На север. Или на юг. Все снова погрузились в молчание, обдумывая слова Ирвинга. — Возможно, оно сожрало достаточно людей, чтобы понять, что мы не шибко вкусные, — сказал ледовый лоцман Блэнки. Несколько мужчин улыбнулись. В устах любого другого подобная мрачная шутка показалась бы недопустимой, но мистер Блэнки дважды пострадал от клыков и когтей зверя, потерял сначала ступню, а потом ногу по колено — и тем самым заслужил известные привилегии. – Мои люди искали зверя, согласно приказам капитана Крозье и капитана Фицджеймса, — подал голос сержант Тозер. — Мы подстрелили нескольких медведей, но все они недостаточно крупные для… нашего существа. – Надеюсь, ваши люди стреляли более метко, чем в карнавальную ночь, — заметил Синклер, марсовый старшина «Эребуса». Тозер метнул на него недобрый взгляд. – Такого больше не повторится, — сказал Крозье. — А пока нам следует исходить из предположения, что зверь по-прежнему жив и здоров и еще вернется. При планировании любых наших действий за пределами кораблей мы должны предусмотреть некий способ защиты от него. У нас недостаточно морских пехотинцев, чтобы обеспечить охрану каждого санного отряда — особенно если они вооружены и не тащат сани, — и потому, вероятно, нам останется лишь вооружить все отряды и увеличить численность каждого на несколько человек, чтобы все люди поочередно могли выполнять обязанности часовых и охранников. Даже если летом лед снова не вскроется, при постоянном дневном свете передвигаться по замерзшему морю будет легче. – Прошу прощения за прямоту, капитан, — сказал доктор Гудсер, — но главный вопрос заключается в том, можем ли мы позволить себе ждать до лета, прежде чем решить, следует ли нам покинуть корабли? — А как по-вашему, доктор? — спросил Крозье. — Мне так не кажется, — сказал врач. — У нас испортилось больше консервированных продуктов, чем мы думали. Все прочие продовольственные припасы подходят к концу. В настоящее время пищевой рацион уже значительно ниже нормы, необходимой для людей, ежедневно занятых физическим трудом на корабле или на льду. Все неуклонно теряют в весе и слабеют. Добавьте к этому резкое увеличение количества случаев цинги и… в общем, джентльмены, я просто считаю, что мало у кого на «Эребусе» или на «Терроре» — если сами корабли продержатся такой срок — останутся силы, чтобы совершить любой санный поход, если мы станем ждать таяния льдов до июня или июля. В кают-компании снова воцарилось молчание. В наступившей тишине Гудсер добавил: – Вернее, у немногих из нас вполне могут остаться силы, чтобы тащить по льду сани и лодки в надежде спастись или добраться до цивилизованного мира, но им придется бросить умирать голодной смертью подавляющее большинство остальных. – Здоровые и выносливые могли бы отправиться за подмогой и привести спасательные отряды к кораблям, — сказал лейтенант Левеконт. Теперь подал голос ледовый лоцман Томас Блэнки: – Любой, кто двинется в южном направлении — чтобы, скажем, дотащить по льду шлюпки до устья реки Фиш, а потом пройти вверх по ней еще восемьсот пятьдесят миль на юг, до Большого Невольничьего озера, где находится фактория, — доберется дотуда в лучшем случае только к концу осени или к началу зимы и не сможет вернуться обратно с сухопутным спасательным отрядом раньше августа сорок девятого года. К тому времени все оставшиеся на кораблях умрут от цинги и голода. – Мы можем нагрузить сани и все вместе двинуться на восток, к Баффинову заливу, — сказал старший помощник Дево. — Там могут оказаться китобойные суда. Или даже спасательные корабли и санные отряды, уже ищущие нас. – Так точно, — сказал Блэнки. — Это вариант. Но нам придется тащить сани сотни миль по открытому замерзшему морю, со всеми торосными грядами и, возможно, разводьями. Или же двигаться вдоль берега — а это путь в тысячу двести миль с лишним. А затем нам придется пересечь полуостров Бутия, со всеми горами и прочими препятствиями, чтобы достичь восточного побережья, где могут оказаться китобои. Одно я знаю наверное: если лед не вскроется здесь, он не вскроется и на нашем пути на северо-восток, к Баффинову заливу. – Груз будет значительно легче, если мы возьмем только сани с провизией и палатками, отправляясь на северо-восток, к Бутии, — сказал лейтенант Ходжсон. — Одна шлюпка весит самое малое шестьсот фунтов. – Более восьмисот фунтов, — тихо заметил Крозье. — Без поклажи. – Прибавьте к этому шестьсот с лишним фунтов на сани, способные выдержать тяжесть шлюпки, — сказал Томас Блэнки, — и получится, что каждой упряжной команде придется тащить груз весом от четырнадцати до пятнадцати сотен фунтов — и это только вес шлюпки и саней, не считая продовольствия, палаток, оружия, одежды и прочих вещей, которые нам придется взять с собой. Никто никогда не преодолевал с таким грузом расстояние свыше тысячи миль — причем по открытому морскому льду, коли мы направимся к Баффинову заливу. – Но тащить сани по льду — особенно если мы тронемся в путь в марте или апреле, пока лед не станет рыхлым и вязким, — все же легче, чем по слякоти, — сказал лейтенант Левеконт. – Я предлагаю оставить шлюпки и отправиться к Баффинову заливу налегке, взяв только сани и самые необходимые припасы, — сказал Чарльз Дево, сидевший рядом с Левеконтом. — Если мы достигнем восточного побережья острова Сомерсет до окончания китобойного сезона, нас непременно подберет какое-нибудь судно. И я готов побиться об заклад, что там окажутся спасательные корабли и поисковые санные отряды. – Если мы оставим шлюпки, — сказал ледовый лоцман Блэнки, — первая же протяженная полоса чистой воды станет для нас непреодолимым препятствием. Мы все умрем там на льду. – А почему, собственно говоря, спасатели должны оказаться у восточного побережья острова Сомерсет и полуострова Бутия? — спросил лейтенант Литтл. — Если они ищут нас, разве они не проследуют нашим курсом, через пролив Ланкастера к островам Девон, Бичи и Корнуоллис? Всем известно, какие приказы получил сэр Джон касательно пути следования. Они предположат, что мы прошли через пролив Ланкастера, поскольку он почти всегда свободен от льда летом. У нас нет шансов преодолеть такое огромное расстояние, двигаясь на север. – Возможно, в этом году ледовая обстановка в проливе Ланкастера такая же скверная, как здесь, — сказал ледовый лоцман Рейд. — Тогда поисковые экспедиции задержатся южнее, у восточных берегов Сомерсета и Бутии. – Может, они найдут послания, оставленные нами в пирамидах на Бичи, коли доберутся дотуда, — сказал сержант Тозер. — И пошлют санные отряды вслед за нами. Наступило гробовое молчание. — Мы не оставили никаких посланий на Бичи, — наконец сказал капитан Фицджеймс. В тишине, последовавшей за этими словами, Френсис Родон Мойра Крозье ощутил жжение странного, жаркого, чистого пламени в своей груди. Ощущения примерно такие, какие он испытал бы от первого глотка виски после многодневного воздержания, но одновременно совершенно другие. Крозье хотел жить. Вот и все. Он был исполнен решимости жить дальше. Он собирался пережить эту черную полосу вопреки всем враждебным обстоятельствам и богам, говорящим, что он не в силах сделать этого и не сделает. Этот огонь горел у него в груди даже в мучительные, тошнотворные часы и дни, последовавшие за лихорадочной схваткой со смертью в начале января. Этот огонь разгорался все сильнее с каждым днем. Возможно, лучше любого другого человека, сегодня сидевшего за длинным столом в кают-компании, Френсис Крозье понимал неосуществимость обсуждаемых планов. Было безумием направляться на юг, к реке «большой рыбной». Было безумием направляться к острову Сомерсет, надеясь преодолеть тысячу двести миль прибрежного льда с торосными грядами и открытыми каналами и пересечь неисследованный полуостров. Было безумием рассчитывать, что лед вскроется летом и позволит «Террору» — с двумя командами на борту и без продовольственных припасов — вырваться из западни, в которую завел их сэр Джон. И тем не менее Френсис Крозье был исполнен решимости выжить. Огонь горел у него в груди, точно крепкий ирландский виски. — Так мы отказались от мысли выплыть отсюда? — спросил Роберт Синклер. Джеймс Рейд, ледовый лоцман «Эребуса», ответил: – Нам пришлось бы проплыть почти триста миль на север, к безымянному проливу и проливу, открытому сэром Джоном, потом пройти через проливы Барроу и Ланкастер, а потом повернуть на юг и пересечь Баффинов залив, прежде чем лед снова сомкнется вокруг нас. В свое время при движении на юг мы пробивались через льды с помощью парового двигателя и брони. Даже если сейчас лед растает до такого состояния, в каком находился летом два года назад, мы не сможем преодолеть столь значительное расстояние под одними только парусами. И с ослабленным корпусом, лишенным металлической защиты. – Возможно, в этом году лед растает гораздо сильнее, чем в сорок шестом, — сказал Синклер. – Возможно, у меня из задницы выскочит стая мартышек, — сказал Томас Блэнки. Никто из офицеров не сделал замечания ледовому лоцману, принимая во внимание его тяжелое увечье. — Есть еще один вариант… как выплыть отсюда, я имею в виду, — сказал лейтенант Эдвард Литтл. Взоры всех присутствующих обратились к нему. Многие мужчины сумели приберечь по несколько порций табака, добавляя к оному самые немыслимые примеси, и сейчас с полдюжины курили трубки. От дыма в темной кают-компании, слабо освещенной неверным огнем масляных ламп, стало еще темнее. — Прошлым летом лейтенант Гор говорил, что вроде бы заметил землю к югу от Кинг-Уильяма, — продолжал Литтл. — Если он не ошибся, это должен быть полуостров Аделаида — исследованная территория, — где часто остается полоса чистой воды между припайным льдом и паковым. Если летом откроется достаточно разводий, чтобы «Террор» получил возможность пройти на юг — вероятно, всего лишь сотню с небольшим миль вместо трехсот, которые придется преодолеть, если возвращаться обратно через пролив Ланкастера, — мы смогли бы пройти по открытым каналам вдоль побережья на запад и достичь Берингова пролива. А за ним начинается исследованная территория. – Северо-Западный морской проход, — сказал третий лейтенант Джон Ирвинг. Таким тоном, словно произнес магическую формулу. – Но останутся ли у нас к концу лета здоровые люди, способные управлять кораблем? — спросил доктор Гудсер очень тихим голосом. — К маю цинга может поразить всех нас. И чем мы будем питаться в течение недель или месяцев нашего пути на запад? – Дальше на запад наверняка будет больше дичи, — сказал сержант морской пехоты Тозер. — Мускусные быки. Большие олени. Моржи. Песцы. Может статься, мы будем питаться не хуже турецких пашей к тому времени, когда достигнем Аляски. Крозье почти ожидал, что Томас Блэнки скажет: «Может статься, у меня из задницы выскочит стадо мускусных быков», — но обычно бойкий на язык ледовый лоцман промолчал, погруженный в свои мысли. Вместо него заговорил лейтенант Литтл: – Сержант, проблема состоит в том, что, даже если животные вдруг чудесным образом вернутся после двухлетнего отсутствия, никто из нас не умеет метко стрелять из мушкета… исключая ваших людей, разумеется. Но нескольких оставшихся в живых морских пехотинцев недостаточно для охоты. И похоже, никто из нас никогда не охотился на дичь крупнее птицы. Можно ли из дробовика убить животных, упомянутых вами? – Если подойти на достаточно близкое расстояние, — угрюмо ответил Тозер. Крозье пресек обсуждение данной темы, заговорив о другом: — Доктор Гудсер высказал совершенно верное соображение немногим ранее: если мы станем ждать до середины лета или даже до июня, чтобы посмотреть, вскроется ли лед, возможно, к тому времени все мы будем слишком больны и голодны, чтобы управлять кораблем. И тогда у нас точно останется слишком мало провианта, чтобы отправляться в санный поход. Мы должны исходить из предположения, что путешествие через замерзшее море к Баффинову заливу или вверх по реке «большой рыбной» займет у нас три или четыре месяца, а следовательно, если мы собираемся покинуть корабли и двинуться в путь в надежде добраться либо до Большого Невольничьего озера, либо до восточного побережья острова Сомерсет или Бутии, мы явно должны выступить еще до июня. Но когда именно? Снова воцарилось тяжелое молчание. – Я бы предложил — не позднее первого мая, — наконец сказал лейтенант Литтл. – Раньше, — сказал доктор Гудсер, — если только мы не найдем способ добывать свежее мясо в ближайшее время и болезнь не перестанет распространяться с такой скоростью, как сейчас. — Насколько раньше? — спросил капитан Фицджеймс. — Не позже середины апреля, — сказал Гудсер. Мужчины, окутанные облаками табачного дыма, переглянулись. Это меньше чем через два месяца. — И еще раньше, если положение станет хуже. — Как оно может стать хуже? — спросил второй лейтенант Ходжсон. Молодой человек предполагал пошутить, чтобы разрядить напряженную атмосферу, но был вознагражден мрачными и сердитыми взглядами. Крозье не хотел заканчивать военный совет на такой ноте. Офицеры, мичманы, унтер-офицеры и судовой врач за столом оценили все шансы на спасение и убедились (как и ожидал Крозье), что они ничтожны, но он не хотел, чтобы представители командного состава кораблей пали духом пуще прежнего. Крозье, всю свою жизнь страдавший меланхолией, не желал, чтобы она поразила еще кого-нибудь. — Кстати, — сказал он, — капитан Фицджеймс решил провести богослужение на «Эребусе» в следующее воскресенье — он прочитает особую проповедь, которую мне не терпится услышать, хотя из достоверного источника я знаю, что текст будет взят не из Книги Левиафана, — и я подумал, что раз уж обе команды соберутся вместе, надо бы выдать людям нормальные порции грога и приготовить полноценный обед. Мужчины заулыбались и стали оживленно переговариваться. Никто из них не рассчитывал сообщить своим подчиненным добрые новости после совещания. Фицджеймс чуть приподнял бровь. Он, понятное дело, впервые услышал о своей «особой проповеди» и воскресном богослужении, которое должно состояться через пять дней, но Крозье предположил, что отощавшему капитану пойдет на пользу, если он для разнообразия займется каким-нибудь делом и станет центром внимания. Фицджеймс едва заметно кивнул. — Прекрасно, джентльмены, — сказал Крозье несколько более официальным тоном. — Наш обмен мнениями и сведениями оказался весьма полезным. Мы с капитаном Фицджеймсом, вероятно, еще посоветуемся наедине с несколькими из вас, прежде чем принять окончательное решение касательно наших дальнейших действий. Все офицеры с «Эребуса» могут отправляться обратно на свой корабль до захода солнца. Удачи вам, джентльмены. Увидимся в воскресенье. Мужчины один за другим покинули кают-компанию. Фицджеймс обогнул стол, наклонился к Крозье и прошептал: «Возможно, я попрошу у вас на время Книгу Левиафана, Френсис», — после чего проследовал за своими людьми к трапу, где они влезали в свои обледенелые шинели. Офицеры «Террора» вернулись к выполнению своих обязанностей. Несколько минут капитан сидел в своем кресле во главе стола, размышляя о предметах, обсуждавшихся в ходе совещания. Огонь в его ноющей груди горел жарче, чем когда-либо. — Капитан? Крозье поднял глаза. Это был старый стюард с «Эребуса»… Бридженс. Он помогал Гибсону убирать со стола оловянные тарелки и чашки. – О, вы можете идти, Бридженс, — сказал Крозье. — Ступайте со всеми остальными. Гибсон обо всем позаботится. Нам не нужно, чтобы вы возвращались на «Эребус» в одиночестве. – Есть, сэр, — сказал старый офицерский стюард. — Но я хотел спросить, нельзя ли мне переговорить с вами, капитан. Крозье кивнул. Он не предложил стюарду сесть. Он всегда чувствовал себя неловко в обществе пожилого мужчины — слишком старого для участия в экспедиции. Если бы три года назад решение принимал Крозье, Бридженса ни за что не включили бы в список личного состава — и уж конечно, не записали бы под видом молодого человека двадцати шести лет от роду, чтобы одурачить комиссию, — но сэру Джону показалось забавным иметь на борту стюарда старше его годами, вот и все дела. — Я не мог не слышать, капитан Крозье, как вы здесь обсуждали три возможных варианта действий: остаться на кораблях в надежде на таяние льдов, направиться на юг к реке Фиш или двинуться по льду к Бутии. Если капитан не возражает, я бы хотел предложить четвертый вариант. Капитан возражал. Даже такой горячий приверженец равноправия, но обиженный и обойденный ирландец, как Френсис Крозье, слегка возмутился при мысли, что какой-то стюард вознамерился давать ему советы по жизненно важным вопросам. Но он сказал: — Продолжайте. Стюард подошел к книжному стеллажу, встроенному в кормовую переборку, взял с полки два толстых тома и с глухим стуком положил на стол. – Вам известно, капитан, что в тысяча восемьсот тридцать девятом году сэр Джон Росс со своим племянником Джеймсом прошли на корабле «Виктори» вдоль восточного побережья открытого ими полуострова, ныне носящего название Бутия. – Мне прекрасно известно это, мистер Бридженс, — холодно сказал Крозье. — Я хорошо знаю сэра Джона и его племянника, сэра Джеймса. После пяти лет, проведенных в антарктических льдах с Джеймсом Кларком Россом, подумал Крозье, он явно преуменьшает степень знакомства. – Да, сэр. — Бридженс кивнул, но не выказал смущения. — В таком случае, я уверен, вы знаете все обстоятельства их экспедиции. Они провели четыре зимы во льдах. В первую зиму сэр Джон стал на якорь в заливе, названном им Феликс-харбор, у восточного побережья Бутии… почти прямо на восток отсюда. – Вы сами участвовали в той экспедиции, мистер Бридженс? — спросил Крозье, желая поскорее закончить разговор. – Не имел такой чести, капитан. Но я прочитал два этих толстых тома, написанных сэром Джоном о своей экспедиции. Интересно знать, нашлось ли у вас время сделать то же самое, сэр. Крозье почувствовал, как в душе у него закипает ирландский гнев. Дерзость старого стюарда граничила с наглостью. — Разумеется, я просмотрел книги, — холодно сказал он. — У меня не было времени прочитать внимательно. Это имеет какое-то отношение к делу, мистер Бридженс? Любой другой офицер, мичман, унтер-офицер, матрос или морской пехотинец, служащий под командованием Крозье, уже все понял бы и сейчас, кланяясь, пятился бы к двери, но Бридженс, похоже, не замечал раздражения начальника экспедиции. – Да, капитан, — сказал старик. — Дело в том, что Джон Росс… – Сэр Джон, — перебил Крозье. – Конечно. Сэр Джон Росс тогда оказался в ситуации, очень похожей на нашу нынешнюю, сэр. – Чепуха. «Виктори» затерло льдами у восточного побережья Бутии, Бридженс, именно там, куда нам хотелось бы добраться, коли у нас хватит времени и необходимых средств. В сотнях миль к востоку отсюда. – Да, сэр, но на этой же широте, хотя благодаря полуострову Бутия «Виктори» не пришлось столкнуться с проклятым паковым льдом, постоянно идущим с северо-запада. Но они провели там три зимы, капитан. Джеймс Росс прошел с санным отрядом свыше шестисот миль на запад — через Бутию и замерзшее море до острова Кинг-Уильям, который находится всего в двадцати пяти милях к юго-востоку от нас, капитан. Он дал мысу название Виктори-Пойнт… тому самому мысу с каменной пирамидой, куда ходил бедный лейтенант Гор прошлым летом, до своей прискорбной гибели. – По-вашему, я не знаю, что сэр Джеймс открыл остров Кинг-Уильям и дал название мысу Виктори-Пойнт? — осведомился Крозье звенящим от раздражения голосом. — В ходе той экспедиции он также открыл чертов северный магнитный полюс, Бридженс. Сэр Джеймс является… являлся… самым выдающимся полярным ходоком на длинные дистанции. — Да, сэр, — сказал Бридженс. При виде слабой улыбки, тронувшей губы стюарда, Крозье захотелось его ударить. Капитан знал — знал еще до отплытия, — что старик всем известный содомит, по крайней мере на берегу. Крозье на дух не переносил содомитов. — Я хочу сказать, капитан Крозье, что после трех зим во льдах, когда его люди болели цингой так тяжело, как будут болеть наши к лету, сэр Джон решил, что им не выбраться изо льдов и затопил «Виктори» на глубине десяти фатомов там, у восточного побережья Бутии, прямо к востоку от нас, и они направились на север, где капитан Парри оставил продовольственные припасы и шлюпки… Крозье понял, что может повесить этого человека, но не может его заткнуть. Он молча смотрел на Бридженса и слушал. — Как вы помните, капитан, Парри оставил припасы и шлюпки на Фьюри-бич. Росс проплыл на шлюпках вдоль берега на север, к мысу Кларенс, со скал которого открывался вид на проливы Барроу и Ланкастера, где они надеялись найти китобойные суда… но Ланкастер был скован льдом, сэр. Лето в тот год выдалось такое же холодное, какими были два наших последних лета и, возможно, будет следующее. Крозье ждал. Впервые со времени своей январской смертельной болезни он мечтал о стаканчике виски. – Они вернулись к Фьюри-бич и провели там четвертую зиму, капитан. Больные цингой люди находились при смерти. В июле следующего лета… в тысяча восемьсот тридцать третьем, через четыре года после того, как они вошли во льды там… они направились в шлюпках на север, а потом повернули на восток и уже прошли по проливу Ланкастера мимо бухты Адмиралтейства и бухты Нэви-Бод, когда утром двадцать пятого августа Джеймс Росс… сэр Джеймс… увидел вдали парусное судно. Они махали руками, кричали и жгли огни. Корабль скрылся за горизонтом на востоке. – Я помню, сэр Джеймс упоминал об этом случае, — сухо сказал Крозье. – Да, капитан, нисколько в этом не сомневаюсь. — Бридженс снова улыбнулся своей слабой улыбкой, дико раздражавшей Крозье. — Но ветер стих, и люди гребли как сумасшедшие, сэр, и они все-таки нагнали китобойца. Это оказалась «Изабелла», капитан, — корабль, которым сэр Джон командовал в тысяча восемьсот восемнадцатом году… Сэр Джон, сэр Джеймс и команда «Виктори» провели четыре зимы во льдах на нашей широте, капитан, — продолжал Бридженс. — И у них умер только один человек — плотник Томас, страдавший расстройством пищеварения и предрасположенный к болезням. — К чему вы ведете? — спросил Крозье бесцветным голосом. Он знал, что за время его нахождения в должности начальника экспедиции они потеряли свыше дюжины человек. — На Фьюри-бич по-прежнему остались продовольственные припасы и шлюпки, — сказал Бридженс. — И мне кажется, любая спасательная экспедиция, посланная за нами, оставит там еще несколько шлюпок и запаспровианта. Адмиралтейство наверняка в первую очередь подумает о Фьюри-бич, как о месте, где надлежит оставить провиант для нас и для следующих поисковых экспедиций. Такое решение предопределяется фактом спасения сэра Джона. Крозье вздохнул. – Вы способны предугадывать ход мыслей Адмиралтейства, Бридженс? – Иногда — да, — сказал старик. — Такая способность выработалась у меня за несколько десятков лет. Когда имеешь дело с дураками, спустя какое-то время начинаешь понимать ход их мыслей. – Вы свободны, стюард Бридженс, — отрезал Крозье. – Слушаюсь, сэр. Но прочитайте эти два тома, капитан. Сэр Джон все подробно описывает здесь. Как выжить во льдах. Как бороться с цингой. Как отыскать и привлечь к охоте эскимосских аборигенов. Как строить маленькие дома из снега… – Вы свободны, стюард! – Слушаюсь, сэр. Бридженс козырнул и повернулся к двери, но прежде подтолкнул два толстых тома поближе к Крозье. Капитан сидел один в выстуженной кают-компании еще минут десять. Он прислушивался к топоту ног по трапу и верхней палубе: люди с «Эребуса» покидали корабль. Потом сверху донеслись прощальные крики офицеров «Террора», желавших своим товарищам счастливого пути. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь приглушенным гулом голосов и стуком оловянных тарелок и кружек: матросы усаживались за ужин с порцией грога. Потом Крозье услышал треск талей: столы в кубрике поднимали обратно к бимсам. Он услышал, как его офицеры с топотом спускаются по трапу, вешают на крюки шинели и направляются в свою столовую. Сегодня за ужином они переговаривались оживленнее, чем за завтраком. Наконец Крозье встал — с трудом двигая окоченевшими от холода и болезненно ноющими ногами, — взял со стола два увесистых тома и аккуратно поставил обратно на полку стеллажа, встроенного в кормовую переборку.
31. Гудсер
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 6 марта 1848 г.Врач проснулся от криков и воплей. С минуту он не мог сообразить, где находится, а потом вспомнил: в бывшей кают-компании сэра Джона, где ныне размещался лазарет «Эребуса». Все масляные лампы были погашены, и темноту рассеивал лишь свет, проникавший из коридора через открытую дверь. Гудсер заснул на свободной койке — на других койках спали семь тяжелых цинготных больных и один мужчина с камнями в почках. Последний был оглушен опиумом. Гудсеру снилось, что его пациенты пронзительно кричат перед смертью. В его сне они умирали, потому что он не мог их спасти. Получивший образование анатома, Гудсер хуже трех других экспедиционных врачей, ныне покойных, разбирался в главном деле военно-морских врачей: прописывании таблеток, микстур, трав и пилюль. Доктор Педди однажды объяснил Гудсеру, что большинство медицинских препаратов бесполезны в случаях специфических болезней, поражающих моряков, и в основном служат лишь для интенсивного очищения желудка или кишечника, и чем сильнее слабительное, тем больше верят матросы в эффективность лечения. По утверждению покойного Педди, именно вера в медицинскую помощь помогает матросам исцелиться. В большинстве случаев, когда речь не идет о хирургическом вмешательстве, либо тело исцеляется само, либо пациент умирает. Гудсеру снилось, что все они умирали — и пронзительно кричали перед смертью. Но крики звучали наяву. Похоже, они доносились с нижней палубы. Генри Ллойд, помощник Гудсера, вбежал в лазарет, с торчащим из-под свитеров подолом рубахи. Молодой человек держал в руке фонарь, и Гудсер увидел, что он в одних носках, без башмаков. Очевидно, он выскочил из подвесной койки и сразу бросился в лазарет. — Что происходит? — прошептал Гудсер. Доносящиеся снизу крики не разбудили больных. — Капитан велел вам подойти к главному трапу, — сказал Ллойд. Он не попытался понизить голос, звенящий от ужаса. — Т-ш-ш, — прошипел Гудсер. — Что случилось, Генри? – Чудовище проникло на корабль, доктор! — выкрикнул Ллойд, стуча зубами. — Оно внизу! Оно убивает людей там! – Присмотрите за больными, — распорядился Гудсер. — Сходите за мной, если кто-нибудь из них проснется и почувствует себя хуже. И подите наденьте башмаки и верхнюю одежду. Гудсер двинулся по коридору к трапу, проталкиваясь через толпу мичманов и унтер-офицеров, которые высыпали из своих кают, на ходу натягивая одежду. Капитан Фицджеймс стоял с Левеконтом у открытого люка. Он сжимал в руке пистолет. — Доктор, там внизу раненые. Вы пойдете с нами, когда мы спустимся за ними. Вам надо тепло одеться. Гудсер молча кивнул. Старший помощник Дево спустился по трапу с верхней палубы. У Гудсера на миг перехватило дыхание, когда на него накатила волна ледяного воздуха. Последнюю неделю бушевали сильные метели и стояли небывалые для весны морозы — порой снова доходящие до ста градусов. Врач не имел возможности проводить положенное время на «Терроре». По такой непогоде сообщения между двумя кораблями не было. Дево стряхнул снег с шинели. — Трое вахтенных ничего не видели, капитан. Я велел им оставаться на посту и быть в полной боевой готовности. Фицджеймс кивнул. – Нам понадобится оружие, Чарльз. – Сегодня мы выдали только три дробовика, которые находятся у вахтенных на палубе, — сказал Дево. Снизу снова донесся истошный вопль. Гудсер не понял, доносится ли он из средней палубы или из трюмной, расположенной ниже. Похоже, внизу были открыты оба люка. – Лейтенант Левеконт, — пролаял Фицджеймс, — возьмите трех людей, спуститесь через люк в офицерской столовой в винную кладовую и возьмите там столько мушкетов и дробовиков — а также сумок с патронами, порохом и дробью, — сколько сумеете унести. Я хочу, чтобы все люди здесь, в жилой палубе, были вооружены. – Есть, сэр. Левеконт поочередно ткнул пальцем в трех матросов, и они вчетвером принялись проталкиваться через толпу, собравшуюся в темном коридоре. – Чарльз, — обратился Фицджеймс к старшему помощнику, — зажгите фонари. Мы спускаемся вниз. Коллинз, вы идете с нами. Мистер Данн, мистер Браун — вы тоже. – Есть, сэр, — хором откликнулись помощник конопатчика и боцманмат. Генри Коллинз, второй лоцман, спросил: – Без оружия, сэр? Вы хотите, чтобы мы спустились вниз без оружия? – Возьмите ножи, — сказал Фицджеймс. — У меня есть это. — Он поднял однозарядный пистолет. — Держитесь за мной. В скором времени лейтенант Левеконт последует за нами с группой вооруженных людей и принесет оружие для нас. Доктор, вы тоже держитесь рядом со мной. Гудсер молча кивнул. Он надевал свою — или чужую — шинель и никак не мог попасть рукой в рукав, точно малый ребенок. Фицджеймс — в одной только потрепанной куртке, надетой поверх рубашки, и без перчаток — взял у Дево фонарь и начал быстро спускаться по трапу. Откуда-то снизу донесся грохот тяжелых ударов и треск, словно кто-то крушил там переборки или стенки корпуса. Истошные вопли больше не раздавались. Гудсер вспомнил приказ капитана держаться рядом с ним и ощупью двинулся вниз следом за двумя мужчинами, забыв взять фонарь. Он не прихватил с собой сумку с медицинскими инструментами и бинтами. Браун и Данн грохотали башмаками по ступенькам у него за спиной, а замыкал шествие безостановочно чертыхающийся Коллинз. Средняя палуба находилась всего семью футами ниже жилой, но казалась совершенно другим миром. Гудсер почти никогда не спускался сюда. Фицджеймс и старший помощник стояли поодаль от трапа, светя фонарями по сторонам. Врач осознал, что температура воздуха здесь должна быть градусов на сорок ниже, чем на жилой палубе, где они ели и спали, — а средняя температура воздуха на жилой палубе теперь была ниже ноля. Грохот и треск прекратились. Фицджеймс приказал Коллинзу замолчать, и пятеро мужчин окружили люк, ведущий в трюм. Все, кроме Гудсера, взяли с собой фонари и теперь светили вниз, хотя тусклые лучи рассеивали туманную морозную мглу лишь в радиусе нескольких футов. Пар от дыхания висел перед ними пеленой ледяных кристаллов. Частый топот ног в жилой палубе, казалось, доносился до них с расстояния многих миль. – Кто там дежурил сегодня ночью? — шепотом спросил Фицджеймс. – Мистер Грегори и один кочегар, — ответил Дево. — Кажется, Кави. А может, Плейтер. – И мистер Уикс со своим помощником Уотсоном, — возбужденно прошептал Коллинз. — Они там работали всю ночь, заделывали пролом в корпусе по правому борту, рядом с угольным бункером. Внизу раздался рев. Он звучал в сотню раз громче и свирепее, чем любой другой рев, какой Гудсеру доводилось слышать, — чем даже тот, что донесся из черного зала в полночь во время карнавала. Мощный звук отразился от всех шпангоутов, металлических конструкций и переборок в средней палубе. Гудсер был уверен, что вахтенные в завывающей метельной ночи двумя палубами выше слышат жуткий рев так ясно, как если бы существо находилось на палубе с ними. Яички у него сжались, и мошонка попыталась втянуться в тело. Рев доносился из трюма. — Браун, Данн, Коллинз, — резко сказал Фицджеймс. — Ступайте в носовую часть и задрайте передний люк. Дево, Гудсер, следуйте за мной. Фицджеймс засунул пистолет за пояс и, держа фонарь в одной руке, спустился по трапу в темноту. Гудсеру пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы просто не обмочиться. Дево быстро спустился вниз за капитаном, и только чувство стыда при мысли, что он не последует за ними, в сочетании со страхом, что он останется здесь один в темноте, заставило дрожащего врача двинуться вслед за старшим помощником. Руки и ноги у него были как деревянные, и Гудсер знал, что онемели они не от холода, а от страха. У подножья трапа — в холодном мраке, более непроницаемом и ужасном, чем любая арктическая тьма снаружи, — капитан и старший помощник стояли, держа фонари в левых руках. Фицджеймс выставлял вперед взведенный пистолет. Дево крепко сжимал обычный корабельный нож. Рука у него дрожала. Никто не шевелился и не дышал. Тишина. Грохот ударов, треск, крики прекратились. Гудсеру захотелось завопить. Он чувствовал присутствие какого-то существа в темном трюме. Какого-то огромного и враждебного существа. Оно могло находиться в двенадцати футах от них, сразу за границей тусклого круга света от фонарей. Вместе с уверенностью, что они здесь не одни, Гудсер почувствовал сильный запах, отдающий медью. Он хорошо знал этот запах. Свежая кровь. — Сюда, — прошептал капитан и двинулся по узкому коридору вдоль правого борта в сторону кормы. К котельной. Масляная лампа, всегда горевшая там, сейчас погасла. Лишь тусклые красно-оранжевые отсветы горящего в топке угля падали из открытой двери в коридор. — Мистер Грегори? — Оклик Фицджеймса прозвучал достаточно громко и достаточно неожиданно, чтобы Гудсер снова почувствовал острый позыв к мочеиспусканию. — Мистер Грегори? — повторил капитан. Ответа не последовало. Со своего места в коридоре врач видел лишь несколько квадратных футов пола котельной и несколько куч рассыпанного угля. Из котельной доносился такой запах, будто там кто-то жарил говядину. У Гудсера, против его воли, потекли слюнки. — Оставайтесь здесь, — велел Фицджеймс Дево и Гудсеру. Старший помощник напряженно всмотрелся сначала вперед, потом назад — водя фонарем по широкой дуге, крепко сжимая нож в поднятой руке, — в попытке разглядеть что-нибудь в темном коридоре за пределами освещенного пространства. Гудсеру оставалось лишь стоять на месте, сжимая замерзшие пальцы в кулак. От почти забытого запаха жарящегося мяса рот у него наполнился слюной и желудок заурчал, несмотря на владевший им страх. Фицджеймс завернул за косяк и скрылся в котельной. Целую вечность, продолжавшуюся от пяти до десяти секунд, оттуда не доносилось ни звука. Потом тихий голос капитана буквально прогремел в тишине: — Мистер Гудсер. Войдите, пожалуйста. В помещении находились два человеческих тела. В одном врач опознал инженера, мистера Грегори. У него были выпущены внутренности. Труп лежал в углу у кормовой переборки, но серые ленты кишок валялись по всему полу котельной, точно праздничные гирлянды. Гудсеру приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на них. Второе тело — коренастый мужчина в синем свитере — лежало на животе, с вытянутыми вдоль боков и повернутыми ладонями вверх руками, головой и плечами в топке котла. — Помогите мне вытащить его, — сказал Фицджеймс. Врач схватил мужчину за левую ногу и за дымящийся свитер, капитан взял за другую ногу и правую руку, и они вытянули труп из огня. Верхняя челюсть мертвеца на секунду зацепилась за фланец металлической решетки, но потом соскочила с нее, сухо щелкнув зубами. Гудсер перевернул тело на спину, а Фицджеймс снял куртку и забил язычки пламени, пляшущие в волосах трупа. У Гарри Гудсера возникло такое ощущение, будто он наблюдает за всем происходящим откуда-то издалека. Профессионал в нем отметил с отстраненной бесстрастностью, что низкое пламя в полупустой топке выжгло мужчине глаза, дотла сожгло нос и уши и превратило лицо в подобие пережаренного, пузырящегося пирога с малиной. – Вы узнаете его, доктор Гудсер? — спросил Фицджеймс. – Нет. – Это Томми Плейтер, — выдохнул Дево, стоявший в дверном проеме. — Я узнал его по свитеру и по сережке, вплавленной в ухо. – Черт возьми, лейтенант! — рявкнул Фицджеймс. — Стойте на страже в коридоре. – Есть, сэр, — сказал Дево и вышел прочь. Гудсер услышал характерные звуки рвоты. – Я хочу, чтобы вы… — начал капитан, обращаясь к Гудсеру. Со стороны носа донесся глухой удар страшной силы и такой громкий треск, что Гудсер решил: корабль раскололся пополам. Фицджеймс схватил фонарь и пулей вылетел за дверь, оставив свою дымящуюся куртку в котельной. Гудсер бросился следом, а Дево устремился за ним. Они пробежали мимо перевернутых бочек и раздавленных упаковочных клетей, а потом протиснулись по узкому проходу между черными железными стенками цистерн, где хранились оставшиеся запасы пресной воды, и сложенными в ряд последними мешками угля. Когда они пробегали мимо открытой двери угольного бункера, Гудсер бросил взгляд направо и увидел голую человеческую руку, перекинутую через железный порог. Он остановился и наклонился, чтобы рассмотреть, кто там лежит, но лучи света уже скользнули прочь, ибо капитан и старший помощник с фонарями продолжали бежать дальше. Гудсер остался в кромешном мраке — наедине с очередным трупом, надо полагать. Он выпрямился и бросился догонять мужчин. Снова треск и грохот. Крики, теперь доносившиеся сверху. Выстрел мушкета или пистолета. Еще один выстрел. Дикие вопли. Орали несколько мужчин. Гудсер, находившийся вне прыгающих кругов света от фонарей, выскочил из узкого коридора на открытое темное пространство и с разбегу налетел на толстый дубовый пиллерс, крепко ударившись головой. Он упал навзничь в полузамерзшую грязную жижу, покрывавшую палубный настил восьмидюймовым слоем. Он отчаянно пытался остаться в сознании, но никак не мог сфокусировать взгляд — фонари казались всего лишь плавающими расплывчатыми оранжевыми пятнами, — и все вокруг дурно пахло нечистотами, угольной пылью и кровью. — Трапа нет! — выкрикнул Дево. Теперь, когда в глазах у него перестало двоиться, Гудсер увидел: носовой трап, сколоченный из толстых дубовых досок и способный выдержать нескольких мужчин по двести фунтов весом, несущих на себе стофунтовые мешки с углем, был разнесен в щепки. Обломки досок висели под открытым люком наверху. Вопли доносились со средней палубы. — Подсадите меня, — выкрикнул Фицджеймс, который засунул пистолет за пояс, поставил фонарь на пол и теперь пытался ухватиться руками за край люка. Он начал подтягиваться. Дево наклонился, чтобы подсадить его. Внезапно над квадратным проемом с ревом полыхнул огонь. Фицджеймс выругался и упал навзничь в ледяную воду всего в нескольких шагах от Гудсера. Казалось, носовой люк и вся средняя палуба над ним охвачены пламенем. «Пожар», — подумал Гудсер. Он давно знал, что больше всего моряки боятся пожара — больше, чем боятся утонуть, замерзнуть или потеряться в открытом море, — и сейчас понял почему. Едкий дым заполз в ноздри. Бежать некуда. Снаружи стоит стоградусный мороз и бушует метель. Если корабль сгорит, они все погибнут. — Главный трап, — выдохнул Фицджеймс. Он вскочил на ноги, схватил фонарь и бегом пустился в сторону кормы. Дево последовал за ним. Гудсер пополз на четвереньках по полузамерзшей жиже, с трудом поднялся на ноги, упал, снова пополз, а потом опять встал и побежал следом за удаляющимися огнями фонарей. По средней палубе прокатился протяжный рев. Раздался треск мушкетных выстрелов, грохнул ружейный залп. Гудсер хотел остановиться возле угольного бункера, чтобы проверить, жив ли обладатель руки, но, когда он добежал дотуда, там было темно хоть глаз выколи. Он побежал дальше, наталкиваясь на стенки узкого коридора то одним, то другим плечом. Огни фонарей уже поднимались к средней палубе. Клубы дыма валили из люка вниз. Гудсер стал взбираться по трапу, получил по лицу башмаком капитана или старшего помощника (он не знал, кто находится перед ним), а потом оказался на средней палубе. Он не мог дышать. Он ничего не видел. Вокруг него плясали тусклые огни фонарей, но густой дым поглощал лучи света. Гудсер испытывал острое желание отыскать трап, ведущий в жилую палубу, и вскарабкаться по нему, потом подняться дальше, на свежий воздух, но справа от него — ближе к носу судна — кричали люди, и поэтому он упал на четвереньки. Здесь можно было дышать. Еле-еле. Он увидел оранжевый свет в носовой части, слишком яркий для фонарей. Гудсер пополз вперед, нашел коридор по левому борту, слева от мучной кладовой, и пополз дальше. Впереди, где-то в дыму, люди забивали огонь одеялами. Одеяла загорались. – Организуйте подачу воды по цепочке! — прокричал Фицджеймс из-за дымовой завесы впереди. — Передавайте сюда ведра с водой! – Воды нет, капитан! — провопил голос столь возбужденный, что Гудсер не узнал его. – Давайте ведра с мочой! — Голос капитана прорезался сквозь дым и шум подобием клинка. – Моча в них замерзла! — прокричал голос, который Гудсер узнал. Джон Салливан, грот-марсовый старшина. – Тогда давайте снег! — прокричал Фицджеймс. — Салливан, Синклер, Реддингтон, Сили, Покок, Джитер — выстройте людей цепочкой от верхней палубы до средней. Набирайте полные ведра снега. Засыпайте снегом огонь… — Фицджеймс поперхнулся и сильно закашлялся. Гудсер поднялся на ноги. Дым яростно вихрился вокруг него, словно кто-то распахнул настежь окно или дверь, потом на секунду расступился, и врач увидел, что творится в пятнадцати — двадцати футах впереди, возле кладовых плотника и боцмана — ясно увидел языки пламени, лижущие переборки, — но в следующий миг видимость сократилась до двух футов. Все кашляли, и Гудсер присоединился к ним. На него налетели мужчины, несущиеся к трапу, и Гудсер прижался спиной к переборке, задаваясь вопросом, не следует ли ему подняться на жилую палубу. Здесь от него не было пользы. Он вспомнил голую руку, переброшенную через порог угольного бункера в трюме. При мысли о том, чтобы снова спуститься в трюм, врача замутило. «Но чудовище здесь, на средней палубе». Словно в подтверждение этой мысли, совсем рядом, в десяти футах от врача, разом выстрелили четыре или пять мушкетов. Залп прозвучал оглушительно. Гудсер зажал ладонями уши и упал на колени, вспомнив, как объяснял матросам «Террора», что цинготный больной может умереть от одного только звука выстрела. Он знал, что у него появились первые симптомы цинги. – Отставить пальбу! — рявкнул Фицджеймс. — Прекратить! Здесь люди! – Но, капитан… — раздался голос, в котором Гудсер узнал голос капрала Александра Пирсона, самого старшего по званию среди четырех оставшихся морских пехотинцев на «Эребусе». — Прекратить, я сказал! Теперь Гудсер видел силуэты лейтенанта Левеконта и морских пехотинцев на фоне огня. Левеконт стоял, а морские пехотинцы, опустившись на одно колено, перезаряжали мушкеты, словно находились в гуще сражения. Врачу показалось, что стенки корпуса, переборки, шпангоут, разбросанные упаковочные клети и коробки в носовой части палубы — все охвачено пламенем. Матросы забивали огонь одеялами и кусками парусины. Искры разлетались в разные стороны. Из огня навстречу морским пехотинцам и матросам, шатаясь, вышел человек. – Прекратить пальбу! — проорал Фицджеймс. – Прекратить пальбу! — эхом повторил Левеконт. Горящий человек упал на руки Фицджеймсу. – Мистер Гудсер! — крикнул капитан. Джон Даунинг, интендант, прекратил сражаться с огнем в коридоре и принялся забивать языки пламени, пляшущие на дымящейся одежде раненого. Гудсер бросился к Фицджеймсу и подхватил тяжело оседающего на пол мужчину. Правая сторона лица у него почти полностью отсутствовала — не сожженная огнем, а сорванная когтями, с болтающимися лохмотьями кожи и выпавшим из глазницы глазным яблоком, — и по груди справа тянулись параллельные следы когтей, продравших многочисленные слои одежды и глубоко пропоровших тело. Жилет был насквозь пропитан кровью. Правая рука у мужчины отсутствовала. Гудсер осознал, что это Генри Фостер Коллинз, второй лоцман, которого Фицджеймс ранее послал в носовую часть средней палубы вместе с Брауном и Данном, боцманом и помощником конопатчика, чтобы задраить передний люк. — Мне нужна помощь, чтобы отвести его в операционную, — выдохнул Гудсер. Коллинз был крупным мужчиной, даже без руки, и теперь наконец ноги подкосились под ним. Врач умудрялся удерживать раненого в вертикальном положении только потому, что прижимал его спиной к переборке мучной кладовой. — Даунинг! — крикнул Фицджеймс, обращаясь к высокому интенданту, который сбивал пламя горящим одеялом. Даунинг отшвырнул одеяло в сторону и подбежал к ним. Не задавая лишних вопросов, интендант перекинул оставшуюся руку Коллинза через свое плечо и сказал: — После вас, мистер Гудсер. Гудсер начал подниматься по трапу, но дюжина мужчин с ведрами пыталась спуститься навстречу. — Дорогу! — проревел Гудсер. — Раненый поднимается. Мужчины, толкаясь, отступили обратно наверх. Пока Даунинг тащил вверх по почти вертикальному трапу Коллинза, теперь лишившегося чувств, Гудсер окинул взором палубу, где все они жили. Матросы застыли на месте и уставились на него. Врач осознал, что он сам, должно быть, походит на раненого: его руки, лицо и одежда были в крови после столкновения с пиллерсом, а также покрыты копотью. — В лазарет, — скомандовал Гудсер, когда Даунинг подхватил на руки обожженного и покалеченного мужчину. Интенданту пришлось развернуться боком, чтобы пронести Коллинза по узкому коридору. Позади Гудсера две дюжины мужчин, выстроившись цепочкой, передавали вниз по трапу ведра со снегом, а остальные сыпали снег на дымящиеся, шипящие доски палубного настила вокруг плиты и носового люка в кубрике. Если огонь перекинется на жилую палубу, понимал Гудсер, корабль погибнет. Генри Ллойд вышел навстречу из лазарета, с бледным лицом и вытаращенными глазами. — Мои инструменты приготовлены? — резко просил Гудсер. – Да, сэр. – Хирургическая пила? – Да. – Хорошо. Даунинг положил бесчувственное тело Коллинза на операционный стол посреди лазарета. — Спасибо, мистер Даунинг, — сказал Гудсер. — Будьте любезны, возьмите одного-двух матросов и помогите остальным больным перебраться в пустующие каюты, на любые свободные койки. — Есть, доктор. — Ллойд, отыщите мистера Уолла и скажите коку и его помощникам, что нам требуется столько горячей воды, сколько они в силах разогреть на плите для нас. Но сначала выкрутите до упора фитили в масляных лампах. Потом возвращайтесь сюда. Мне понадобятся ваши руки и фонарь. Весь следующий час доктор Гарри Д. С. Гудсер был так занят, что, если бы лазарет загорелся, он не заметил бы пожара, а лишь обрадовался бы дополнительному источнику света. Он раздел Коллинза по пояс — на холоде от открытых ран пошел пар — и вылил на них первую кастрюлю горячей воды, чтобы промыть по возможности лучше — не для дезинфекции, а с целью посмотреть, насколько они глубоки. Решив, что сами раны от когтей не представляют непосредственной угрозы для жизни, врач занялся плечами, шеей и лицом второго лоцмана. Правая рука была оторвана ровно — словно отсечена ножом огромной гильотины. Привыкший иметь дело с безобразными увечьями и ужасными рваными ранами, полученными в результате различных несчастных случаев на корабле, Гудсер рассматривал плечо Коллинза с чувством сродни восхищению, если не благоговейному трепету. Коллинз едва не умер от потери крови, но охвативший его огонь отчасти прижег открытую рану на плече. Это спасло ему жизнь. Пока. Гудсер видел лопаточную кость — блестящую белую шишечку, — но от плечевой кости не осталось ни самого малого обломка, который надлежало бы удалить. С помощью Ллойда, державшего фонарь в трясущейся руке и время от времени прижимавшего палец туда, куда указывал врач, — чаще всего к артерии, из которой била кровь, — Гудсер туго перетянул разорванные вены и артерии. С операциями такого рода он всегда справлялся успешно — его пальцы работали почти независимо от его воли. Удивительное дело, но в ране почти или вовсе не было обрывков ткани или прочих инородных тел. Таким образом вероятность смертельного сепсиса значительно снижалась, хотя и не исключалась полностью. Гудсер промыл рану горячей водой из второй и последней кастрюли, принесенной Даунингом, потом отрезал лохмотья кожи и мяса и наложил швы где возможно. По счастью, несколько кожных лоскутов оказались достаточно длинными, чтобы врач смог завернуть их на рану и пришить широкими стежками. Коллинз застонал и пошевелился. Теперь Гудсер работал так быстро, как только мог, торопясь закончить самую тяжелую часть операции, пока мужчина окончательно не пришел в сознание. Содранная правая половина лица висела у плеча Коллинза, точно спущенная карнавальная маска. Гудсер невольно вспомнил многочисленные аутопсии, в ходе которых он срезал кожу и мышцы лица и откидывал на макушку черепа, словно мокрую тряпку. Он велел Ллойду натянуть длинный лоскут лицевой кожи повыше и потуже — ассистент отошел на пару шагов, чтобы извергнуть содержимое желудка на пол, но сразу же вернулся, вытирая липкие пальцы о шерстяной жилет, — и Гудсер быстро пришил сорванную часть лица к толстому лоскуту кожи и мяса сразу под линией редеющих волос. Спасти второму лоцману глаз он не мог. Он попытался поставить глазное яблоко на место, но мешали осколки раздробленной подглазничной кости. Гудсер извлек осколки, но само глазное яблоко было слишком сильно повреждено. Он взял ножницы из трясущейся руки Ллойда, перерезал глазной нерв и бросил глаз в ведро, уже наполненное кровавыми лохмотьями кожи и клочьями мяса. — Держите фонарь ближе, — приказал Гудсер. — Прекратите трястись. Удивительно, но часть века уцелела. Гудсер оттянул веко книзу и проворно пришил к лоскуту кожи под глазницей — на сей раз мелкими, частыми стежками, ибо данному шву предстояло служить многие годы. Если Коллинз выживет. Сделав все, что в настоящий момент представлялось возможным сделать с изуродованным лицом второго лоцмана, Гудсер занялся ожогами и ранами от когтей. Ожоги оказались поверхностными. Раны от когтей были достаточно глубокими, чтобы в них местами проглядывали белые кости грудной клетки — зрелище, неизменно шокирующее. Велев Ллойду левой рукой накладывать мазь на ожоги, а правой держать фонарь поближе, Гудсер промыл раны, стянул края разорванных мышц и наложил швы где мог. Если огонь успел своевременно остановить кровотечение, вполне возможно, в теле второго лоцмана осталось достаточно крови, чтобы он сумел выжить. В лазарет вносили других пострадавших, но только с ожогами — порой серьезными, но не представлявшими угрозы для жизни, — и теперь, когда Гудсер оказал Коллинзу первую помощь, он повесил фонарь на медный крюк над столом и велел Ллойду заняться остальными: промывать ожоги водой, накладывать мазь и повязки. Он уже заканчивал с Коллинзом — давал очнувшемуся и пронзительно кричавшему мужчине опиум, чтобы тот заснул, — когда заметил капитана Фицджеймса, стоявшего рядом. Капитан был весь в крови и копоти, как и врач. — Он будет жить? — спросил Фицджеймс. Гудсер положил скальпель на стол и развел руками, словно желая сказать: «Одному Богу известно». Фицджеймс кивнул. — Пожар потушен, — сказал капитан. — Я подумал, вы должны знать. Гудсер кивнул. За последний час он ни разу не вспомнил о пожаре. – Ллойд, мистер Даунинг, — сказал он. — Будьте добры, перенесите мистера Коллинза вон на ту койку, что стоит ближе всех к передней перегородке. Там самое теплое место. – Мы потеряли весь инвентарь из кладовой плотника, — продолжал Фицджеймс, — а также значительную часть продуктов, хранившихся в упаковочных клетях в носовой части, и запасов муки в мучной кладовой. По моим оценкам, треть остававшихся у нас консервов и провианта в бочках погибла в огне. И мы уверены, что трюм сильно пострадал от пожара, хотя туда еще не спускались. – Как начался пожар? – По всей видимости, Коллинз или один из его людей уронил фонарь, когда зверь внезапно выпрыгнул из люка, — сказал капитан. — А что случилось с этим… существом? — спросил Гудсер. Внезапно он почувствовал такую слабость, что схватился за край залитого кровью операционного стола, чтобы не упасть. — Надо полагать, оно ушло с корабля тем же путем, каким пришло, — сказал Фицджеймс. — Спустилось обратно через носовой люк и скрылось через какой-то пролом в корпусе. Если только не затаилось в трюме. Я поставил вооруженных людей возле всех люков. На средней палубе так холодно и дымно, что нам придется сменять часовых каждый час… Коллинз лучше других разглядел зверя. Вот почему я пришел… хотел узнать, можно ли поговорить с ним. Все остальные видели лишь неясную фигуру за стеной огня — глаза, клыки, когти, белую массу или черный силуэт. Лейтенант Левеконт приказал морским пехотинцам открыть по нему стрельбу, но никто не видел, ранен ли он. Вся палуба за кладовой плотника залита кровью, но мы не знаем, есть ли там кровь зверя. Я могу поговорить с Коллинзом? Гудсер помотал головой: — Я только что дал второму лоцману опиат. Он будет спать много часов подряд. Я понятия не имею, проснется ли он вообще. У него мало шансов выжить. Фицджеймс снова кивнул. Капитан выглядел таким же измученным, каким чувствовал себя врач. – А что насчет Данна и Брауна? — спросил Гудсер. — Они пошли к носовому люку вместе с Коллинзом. Вы нашли их? – Да, — мрачно сказал Фицджеймс. — Они живы. Они убежали по коридору справа от мучной кладовой, когда начался пожар и чудовище набросилось на бедного Коллинза. — Капитан вздохнул. — Дым внизу рассеивается, мне нужно спуститься с несколькими людьми в трюм, чтобы вынести оттуда тела инженера Грегори и кочегара Томми Плейтера. – О господи, — сказал Гудсер. Он сообщил Фицджеймсу про руку, которую видел на пороге угольного бункера. – Я не заметил, — сказал капитан. — Я так спешил добраться до носового люка, что не смотрел под ноги — только вперед. – Мне тоже следовало бы смотреть вперед, — уныло сказал врач. — Я врезался в пиллерс или стойку. Фицджеймс улыбнулся. – Я вижу. Врач, исцели себя сам. У вас глубокая ссадина поперек лба и лиловая шишка размером с кулак Магнуса Мэнсона. – Правда? — Гудсер осторожно дотронулся до лба. Пальцы после прикосновения остались липкими, хотя он нащупал толстую корку запекшейся крови на огромной шишке. — Я зашью ссадину перед зеркалом или попрошу Ллойда сделать это позже, — устало сказал он. — Я готов идти, капитан. – Куда, мистер Гудсер? – В трюм, — сказал врач, подавляя приступ тошноты, вызванный одной этой мыслью. — Посмотреть, кто там лежит в угольном бункере. Возможно, он еще жив. Фицджеймс посмотрел ему в глаза. — Наш плотник, мистер Уикс, и его помощник Уотсон пропали, доктор Гудсер. Они работали в угольном бункере по правому борту, заделывали пролом в корпусе. Но они наверняка мертвы. Гудсер мысленно отметил обращение «доктор». Фицджеймс крайне редко называл так корабельных врачей, даже Стенли и Педди, главных врачей. Они — и Гудсер — всегда оставались просто «мистерами» для аристократа Фицджеймса. Но не на сей раз. – Мы должны спуститься в трюм и проверить, — сказал Гудсер. — Я должен спуститься в трюм и проверить. Возможно, один или другой еще живы. – Возможно, наш зверь тоже жив и поджидает нас там, — негромко проговорил Фицджеймс. — Никто не видел и не слышал, чтобы он покидал корабль. Гудсер устало кивнул. – Можно мне взять с собой мистера Даунинга? — спросил он. — Возможно, мне потребуется, чтобы кто-нибудь держал фонарь. – Я пойду с вами, доктор Гудсер, — сказал капитан Фицджеймс. Он поднял фонарь, принесенный Даунингом. — Прошу вас, сэр.
32. Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы 22 апреля 1848 г.— Лейтенант Литтл, — сказал Крозье, — пожалуйста, передайте команде приказ покинуть корабль. — Есть, капитан. Литтл повернулся в сторону переполненного кубрика и прокричал приказ. Прочие офицеры и оставшийся в живых второй помощник отсутствовали, и потому вслед за Литтлом приказ проорал боцман Джон Лейн. Томас Джонсон — второй боцманмат и человек, поровший Хикки и двух других мужчин в январе, — прокричал приказ в открытый люк, прежде чем закрыть и задраить его. На нижних палубах никого не осталось, разумеется. Крозье и лейтенант Литтл прошли по каждой палубе от кормы до носа, заглядывая во все помещения — от холодной котельной и пустых угольных бункеров до забитого тросами переднего канатного ящика в трюме. На средней палубе они проверили винную и оружейную кладовые и убедились, что оттуда вынесены все мушкеты, дробовики, боеприпасы и порох — лишь ряды абордажных сабель холодно поблескивали там в свете фонарей. Они удостоверились, что все запасы зимнего обмундирования за последние полтора месяца вынесены из баталерки, а потом заглянули в пустую кладовую капитана и равно пустую мучную кладовую. На жилой палубе Литтл и Крозье заглянули во все каюты, обратив внимание, в каком идеальном порядке офицеры оставили свои постели, полки и оставшиеся личные вещи; потом обошли кубрик, увидев подвесные койки, в последний раз свернутые и убранные на полки, и матросские сундучки, заметно полегчавшие, но по-прежнему стоявшие на своих местах, словно в ожидании ужина; потом проследовали в кормовой отсек и обнаружили заметно опустевшие стеллажи в кают-компании, где люди выбрали книги на свой вкус, чтобы взять с собой на лед десятки томов. Под конец, остановившись рядом с огромной плитой, впервые за почти три года холодной, лейтенант Литтл и капитан Крозье снова прокричали приказ покинуть корабль в открытый носовой люк, чтобы окончательно убедиться, что внизу никого не осталось. Они всех пересчитают по головам на верхней палубе, но таков был порядок. Потом они поднялись на верхнюю палубу, не задраив носовой люк. Приказ покинуть корабль не стал неожиданностью для людей, теперь собравшихся на палубе. Все они были предупреждены заранее. Сегодня утром на «Терроре» оставалось всего человек двадцать пять; остальные уже находились в лагере, расположенном в двух милях к югу от Виктори-Пойнт, или перевозили на санях корабельное имущество в лагерь, или охотились, или производили разведку в окрестностях лагеря. Примерно столько же людей с «Эребуса» ждали внизу на льду, стоя рядом с санями и грудами снаряжения там, где с первого апреля были установлены палатки для хранения продовольственных и прочих припасов «Эребуса», покинутого командой. Крозье наблюдал, как мужчины вереницей спускаются вниз по ледяному откосу, навсегда покидая корабль. Наконец на покатой палубе остались только он и Литтл. Пятьдесят с лишним человек внизу смотрели на них из-под низко натянутых на лоб «уэльских париков», щурясь от яркого утреннего света. — Идите первым, Эдвард, — тихо сказал Крозье. — Я за вами. Лейтенант козырнул, поднял тяжелый тюк с личными вещами и спустился сначала по трапу, потом по ледяному откосу, чтобы присоединиться к толпе внизу. Крозье огляделся вокруг. Холодное апрельское солнце озаряло бескрайнее царство льда, высоких торосных гряд, бесчисленных сераков и метелей. Натянув козырек фуражки пониже на лоб, капитан посмотрел на восток, прищурив глаза, и попытался запомнить чувства, которые испытывал в данный момент. Оставление корабля являлось самым позорным событием в жизни любого капитана. Это было признанием полного провала. Это было — почти всегда — концом долгой службы в военно-морском флоте. Для большинства капитанов, в том числе и многих знакомых Френсиса Крозье, это стало ударом, от которого они не оправятся до конца своих дней. Крозье не испытывал такого рода отчаяния. В данный момент для него гораздо больше значения имело голубое пламя решимости, маленькое, но жаркое, по-прежнему горевшее в груди: я буду жить. Он хотел, чтобы люди выжили, — по крайней мере, как можно больше людей. Если оставалась хоть самая слабая надежда, что кто-нибудь с «Эребуса» или «Террора» уцелеет и вернется в Англию, Френсис Родон Мойра Крозье собирался жить этой надеждой и не оглядываться в прошлое. Он должен покинуть корабль. И повести людей прочь по замерзшему морю. Осознав, что примерно пятьдесят пар глаз выжидательно смотрят на него, Крозье в последний раз похлопал рукой по планширю, спустился по трапу, приставленному к правому борту несколько недель назад, когда корабль стал круче крениться на левый борт, а потом сошел вниз по утоптанному ледяному скату. Закинув за плечи свой собственный вещевой мешок и встав в строй рядом с мужчинами, запряженными в сани, Крозье в последний раз посмотрел на корабль и сказал: — Он чертовски хорош, правда, Гарри? — Что верно, то верно, капитан, — согласился фор-марсовый старшина Гарри Пеглар. Верный своему слову, он со своими марсовыми матросами сумел за последние две недели установить все стеньги, реи и такелаж, несмотря на метели, морозы, грозы и крепкие ветра. Лед ослепительно сверкал повсюду на вновь установленных снастях теперь неустойчивого, перевешивающего в верхней части корабля. Крозье казалось, будто судно усыпано драгоценными камнями. После того как в последний день марта команда покинула «Эребус», Крозье и Фицджеймс решили, что, хотя «Террор» необходимо покинуть в ближайшее время, если они хотят попытаться пешком или на шлюпках добраться до безопасного места до наступления зимы, корабль следует полностью оснастить для плавания. Если они задержатся в лагере на Кинг-Уильяме до середины лета и лед вдруг чудесным образом вскроется, тогда они смогут — теоретически — вернуться на шлюпках обратно на «Террор» и попытаться вырваться из ледового плена. Теоретически. – Мистер Томас! — крикнул Крозье Роберту Томасу, второму помощнику, стоявшему первым в упряжи первых из пяти саней. — Трогайтесь, когда будете готовы! – Есть, капитан! — откликнулся Томас и налег на ремни упряжи. Несмотря на усилия семерых мужчин, сани не шелохнулись. Полозья вмерзли в лед. – А ну поднатужься, Боб! — рассмеялся Эдвин Лоуренс, один из матросов, стоявших с ним в упряжи. Сани затрещали, мужчины застонали, кожаные ремни заскрипели, лед хрустнул — и тяжело груженные сани поползли вперед. Лейтенант Литтл скомандовал трогаться вторым саням, где первым в упряжи стоял Магнус Мэнсон. Благодаря невероятной силище здоровенного Мэнсона вторые сани — хотя и нагруженные тяжелее первых — сразу сдвинулись с места, тихо скрипя деревянными полозьями по льду. Так и пустились в поход сорок шесть мужчин: тридцать пять тянувших сани на первом отрезке пути; пятеро шедших с мушкетами и дробовиками в ожидании своей очереди встать в упряжь; четыре помощника капитана с обоих кораблей и два старших офицера — лейтенант Литтл и капитан Крозье, — которые шагали рядом, изредка подталкивая сани и еще реже сами впрягаясь в них. Капитан вспомнил, как несколько дней назад, когда второй лейтенант Ходжсон и третий лейтенант Ирвинг собирались в очередной поход с санями и шлюпками к лагерю (оба офицера тогда получили приказ отправиться с людьми из лагеря на охоту и разведку на несколько дней), Ирвинг удивил своего командира просьбой оставить одного из двух мужчин, входивших в его отряд, на «Терроре». В первый момент Крозье удивился, поскольку всегда считал младшего лейтенанта Джона Ирвинга толковым офицером, способным справляться с матросами и обеспечивать выполнение любых приказов, но потом услышал имена означенных мужчин и сразу все понял. Лейтенант Литтл определил и Магнуса Мэнсона, и Корнелиуса Хикки в санный и разведывательный отряды Ирвинга, и Ирвинг почтительно попросил — не объясняя причин, — перевести одного из мужчин в другой отряд. Крозье немедленно удовлетворил просьбу: перевел Мэнсона в санный отряд, покидавший корабль последним, а тщедушного помощника конопатчика отправил с отрядом Ирвинга. Крозье тоже не доверял Хикки, особенно после беспорядков, имевших место несколько недель назад и едва не вылившихся в мятеж, и он знал, что маленький человечек гораздо опаснее, когда рядом с ним находится здоровенный идиот Мэнсон. Сейчас, удаляясь от корабля и видя Мэнсона, идущего в упряжи в пятидесяти футах впереди, Крозье намеренно смотрел вперед и только вперед. Он твердо решил не оборачиваться на «Террор» по меньшей мере первые два часа пути. Глядя на мужчин, налегающих на упряжные ремни и напрягающих силы, капитан думал о людях, которых с ними не было. Сегодня с ними не было Фицджеймса — он остался за старшего в лагере на Кинг-Уильяме, но истинной причиной его отсутствия являлся такт. Ни один капитан не желает покидать свой корабль на глазах у другого капитана, и все капитаны очень щепетильны в данном вопросе. Крозье, который наведывался на «Эребус» почти каждый день с тех пор, как корабль начал разрушаться под давлением льда через два дня после пожара и вторжения зверя в первыхчислах марта, твердо положил не присутствовать там в полдень 31 марта, когда Фицджеймс покидал корабль. На этой неделе Фицджеймс ответил ему любезностью на любезность, вызвавшись выполнять командирские обязанности далеко от «Террора». Большинство других людей отсутствовало по причине гораздо более печальной и прискорбной. Шагая рядом с последними санями, Крозье вызывал в памяти их лица. «Террору» повезло больше, чем «Эребусу», в части потерь среди командного состава. Из своих главных офицеров Крозье потерял старшего помощника, Фреда Хорнби, убитого зверем в ходе трагических событий карнавальной ночи, второго лоцмана Джайлса Макбина, убитого чудовищным существом во время санного похода в апреле прошлого года, и обоих своих врачей, Педди и Макдональда, тоже погибших во время новогоднего карнавала. Но его первый, второй и третий лейтенанты были живы и более или менее здоровы, равно как его второй помощник Томас, ледовый лоцман Блэнки и незаменимый мистер Хелпмен, его секретарь. Фицджеймс потерял своего начальника, сэра Джона, и своего первого лейтенанта, Грэма Гора, а также лейтенанта Джеймса Фейрхольма и старшего помощника Роберта Орма Серджента, которые все стали жертвами зверя. Таким образом, из офицеров у него остались лишь лейтенант Г. Д. Т. Левеконт, второй помощник Чарльз Дево, ледовый лоцман Рейд, корабельный врач Гудсер и старший интендант Чарльз Гамильтон Осмер. В холодной офицерской столовой, где в первые два года за столом собиралось много людей — сэр Джон, Фицджеймс, Гор, Левеконт, Фейрхольм, Стенли, Гудсер и интендант Осмер, — в последние несколько недель питались лишь капитан, единственный оставшийся в живых лейтенант, врач и интендант. И в последние дни, знал Крозье, когда «Эребус» под давлением льда накренился почти на тридцать градусов на правый борт, четверо мужчин в столовой представляли собой нелепое зрелище, вынужденные сидеть на полу, поставив тарелки на колени и крепко упираясь ногами в доски настила. Хор, стюард Фицджеймса, по-прежнему болел цингой, и потому обязанности стюарда здесь выполнял бедный старый Бридженс, который, по-крабьи неловко передвигаясь боком, сновал по столовой, обслуживая офицеров, сидящих на наклоненном под немыслимым углом к горизонтальной поверхности полу. «Террору» также больше повезло и в части потерь среди мичманов. Инженер, главный боцман и плотник у Крозье были живы и вполне дееспособны. «Эребус» лишился инженера, Джона Грегори, и плотника, Джона Уикса, растерзанных в марте, когда чудовищное существо проникло на корабль ночью. Боцман Томас Терри был обезглавлен зверем в прошлом ноябре. Больше у Фицджеймса не осталось в живых ни одного мичмана. Из двадцати одного унтер-офицера «Террора» — помощников боцмана, интендантов, баковых, трюмных, грот-марсовых и фор-марсовых старшин, рулевых, стюардов, конопатчиков и кочегаров — Крозье потерял лишь одного: кочегара Джона Торрингтона, первого человека, умершего в экспедиции давным-давно, 1 января 1846 года, у острова Бичи. И умер молодой Торрингтон, помнил Крозье, от чахотки, которой болел еще в Англии. Фицджеймс потерял очередного своего унтер-офицера, Томми Плейтера, в марте, когда зверь совершил налет на нижние палубы корабля. Только Томас Уотсон, помощник плотника, остался в живых после нападения чудовища той ночью, но лишился левой руки. После того как одного человека, оружейника Томаса Берта, отправили обратно в Англию из Гренландии, еще прежде, чем они вошли в настоящие льды, на «Эребусе» оставалось двадцать унтер-офицеров. В настоящее время одни из них — в том числе престарелый парусный мастер Джон Мюррей и стюард Фицджеймса Эдмунд Хор — слишком тяжело болели цингой, чтобы быть полезными; другие — в частности, Томас Уотсон и Генри Фостер Коллинз — были слишком сильно покалечены, чтобы исполнять служебные обязанности; а третьи — как, например, стюард кают-компании Ричард Эйлмор — находились в слишком глубокой депрессии, чтобы приносить сколько-либо ощутимую пользу. Крозье велел одному из мужчин, явно падавшему с ног от усталости, присоединиться к вооруженной охране и немного передохнуть, а сам встал в упряжь вместо него. Даже несмотря на соединенные усилия других шести мужчин, ослабленный организм капитана едва выдерживал ужасное напряжение сил, требовавшееся для того, чтобы тащить свыше пятнадцати сотен фунтов консервированных продуктов, оружия и палаток. Даже когда Крозье поймал ритм — он ходил с санными отрядами с марта, когда начал переправлять шлюпки и снаряжение на остров Кинг-Уильям, и вполне научился таскать сани, — боль от врезавшихся в ноющую грудь ремней, непомерная тяжесть груза и неприятные ощущения от пропитывавшего нижнюю одежду пота, замерзавшего, таявшего и снова замерзавшего, все равно страшно действовали на нервы и изматывали. Крозье жалел, что у них так мало матросов и морских пехотинцев. «Террор» потерял двух из своих старших матросов — Билли Стронга, разорванного пополам зверем, впоследствии вернувшим лишь верхнюю половину тела, и Джеймса Уокера, который был близким другом идиота Магнуса Мэнсона, пока последний не попал полностью под влияние мозглявого, похожего на крысу помощника конопатчика. Именно из страха встретить в трюме призрак Джимми Уокера, помнил Крозье, нескладный верзила Мэнсон едва не взбунтовался много месяцев назад. Хотя бы в этом отношении «Эребусу» повезло больше, чем «Террору». В ходе экспедиции Фицджеймс потерял только одного матроса, Джона Хартнелла, тоже умершего от чахотки и похороненного на острове Бичи в 1846-м. Налегая на упряжные ремни, Крозье вызвал в памяти имена и лица погибших — столь многих офицеров, столь немногих матросов, — и раздраженно заворчал при мысли, что зверь, похоже, намеренно охотится на руководителей экспедиции. «Не думай так, — приказал себе капитан. — Ты наделяешь зверя умственными способностями, которыми он не обладает». «Да неужели?» — спросила другая, более здравая часть его ума. Рядом шагал один из морских пехотинцев, с мушкетом под мышкой. Лицо мужчины полностью скрывалось под шапками и шарфами, но по неуклюжей походке Крозье опознал в нем Роберта Хопкрафта. Рядовой морской пехоты сильно пострадал от зверя почти год назад в июне, когда погиб сэр Джон, но, хотя все раны у него зажили, из-за раздробленной ключицы он остался скособоченным влево и, казалось, ходил по прямой с известным трудом. Вторым морским пехотинцем, сопровождавшим отряд сегодня, был рядовой Уильям Пилкингтон, которому прострелили плечо в маскировочной палатке в тот же самый день, когда чудовище убило сэра Джона. Крозье заметил, что сегодня Пилкингтон не щадит раненое плечо и руку. Сержант Дэвид Брайант, старший по званию морской пехотинец на «Эребусе», погиб тогда же, в июне, одиннадцать месяцев назад, обезглавленный зверем за считанные секунды до того, как сэра Джона постигла та же участь. За вычетом рядового Уильяма Брейна, умершего на острове Бичи в 1846-м, и рядового Уильяма Рида, который пропал во льдах прошлой осенью, 10 ноября, когда отправился с посланием на «Эребус» (Крозье точно помнил число, поскольку сам ходил на «Эребус» в тот первый день кромешной зимней тьмы), зверь сократил число морских пехотинцев, находившихся в распоряжении Фицджеймса, до четырех человек: капрала Александра Пирсона, принявшего командование, рядового Хопкрафта с раздробленной ключицей, рядового Пилкингтона с простреленным плечом и рядового Джозефа Хили. Отряд морских пехотинцев на «Терроре» потерял лишь рядового Уильяма Хизера, когда в прошлом ноябре зверь ночью поднялся на борт и вышиб мозги несшему вахту мужчине. Но Хизер — просто уму непостижимо! — отказывался умирать. Рядовой много недель пролежал в коматозном состоянии в лазарете, находясь между жизнью и смертью, но в конечном счете морские пехотинцы перенесли товарища в подвесную койку в кубрике и с тех пор каждый день одевали, раздевали, кормили, мыли и таскали в гальюн. Они относились к пускающему слюни мужчине с бессмысленным взглядом, как к своему домашнему животному. Его перевезли в лагерь только на прошлой неделе, тепло укутав и осторожно, почти почтительно усадив в специальные одноместные санки, изготовленные для него Толстяком Алексом Уилсоном, помощником плотника. Матросы не стали возражать против лишнего груза и вызвались по очереди тащить маленькие санки с живым трупом через замерзшее море и торосные гряды в лагерь. За вычетом Хизера у Крозье осталось пятеро морских пехотинцев: рядовые Дейли, Хэммонд, Уилкс, Хеджес и тридцатисемилетний сержант Соломон Тозер, невежественный болван, но ныне командир сводного отряда из девятерых оставшихся в живых и дееспособных морских пехотинцев в экспедиции сэра Джона Франклина. После первого часа в упряжи Крозье стало казаться, будто сани идут легче, и он начал дышать ровно — вернее, пыхтеть, как положено человеку, волочащему столь неподъемный груз по столь нескользкому льду. Он перебрал в уме все категории погибших людей. Кроме юнг, разумеется, этих молодых добровольцев, которые нанялись в экспедицию в последнюю минуту и значились в списке юнгами, даром что троим из четырех было по восемнадцать лет, а Роберту Голдингу так и все девятнадцать, когда они отплывали. Трое из четырех юнг остались в живых, хотя Крозье пришлось самолично выносить из горящего парусинового лабиринта Джорджа Чемберса в ночь пожара. Из юнг они потеряли одного только Тома Эванса, самого младшего не только по возрасту, но и по поведению; жуткий зверь утащил паренька буквально у Крозье из-под носа, когда они искали на льду в темноте пропавшего Уильяма Стронга. Джордж Чемберс, хотя и пришел в сознание через два дня после карнавала, стал совсем другим человеком. Получив при столкновении с чудовищем сильнейшее сотрясение мозга, прежде смышленый парень превратился в идиота, даже более тупого, чем Магнус Мэнсон. Джордж не был живым трупом, как рядовой Хизер, — он мог выполнять простые приказы, по словам боцмана «Эребуса», — но почти не разговаривал после ужасной новогодней ночи. Дейви Лейс, один из самых опытных участников экспедиции, являлся еще одним человеком, уцелевшим после двух встреч с белым зверем, но в настоящее время толку от него было не больше, чем от безмозглого в буквальном смысле слова рядового Хизера. После той ночи, когда чудовищное существо столкнулось с несшими вахту Лейсом и Джоном Хартфордом, а потом погналось в темноте за ледовым лоцманом Томасом Блэнки, Лейс вторично впал в полную прострацию и до сих пор из нее не вышел. Его перевезли в лагерь «Террор» — вместе с тяжелоранеными и тяжелобольными вроде второго лоцмана Коллинза и Хора, стюарда Фицджеймса, — тепло укутав и положив в одну из шлюпок, которую тащили на санях. В данный момент слишком много людей, обессиленных цингой, ранами и увечьями или глубокой депрессией, были мало полезны Крозье и Фицджеймсу. Рты, которые нужно кормить, и тела, которые нужно перевозить с места на место, когда все голодны и сами едва держатся на ногах. Еле живой от усталости после двух бессонных ночей, Крозье попытался подсчитать потери. Восемь офицеров с «Эребуса». Четыре с «Террора». Три мичмана с «Эребуса». Ни одного с «Террора». Один унтер-офицер с «Эребуса». Один с «Террора». Только один матрос с «Эребуса». Два с «Террора». Итого двадцать мертвецов, не считая трех морских пехотинцев и юнги Эванса. То есть экспедиция уже потеряла двадцать четыре своих участника. Огромные потери — на памяти Крозье за всю историю военно-морского флота ни одна арктическая экспедиция не теряла столько людей. Но была еще более важная цифра, и Френсис Родон Мойра Крозье постарался сосредоточиться на ней: сто пять живых душ, за которых он отвечает. Сто пять человек — включая самого Крозье, — оставшихся в живых ко дню, когда он был вынужден покинуть корабль и бежать через замерзшее море. Крозье опустил голову и посильнее навалился на упряжные ремни. Поднялся ветер, пелена летящего снега застилала все перед глазами, скрывая от взора сани и шагающих рядом пехотинцев. Правильно ли он подсчитал? Двадцать погибших, не считая трех морских пехотинцев и юнги? Да, все верно: они с лейтенантом Литтлом произвели утром перекличку и удостоверились в наличии ста пяти человек, распределенных между санными отрядами, лагерем и кораблем… но уверен ли он? Не забыл ли кого-нибудь? Не допустил ли ошибки в сложении и вычитании? С цифрами у него всегда было плохо. И он очень, очень устал. Нужно будет спросить у мистера Хелпмена. Старший секретарь никогда ничему не терял счета. Его отправили вперед, с Фицджеймсом и лагерной командой, чтобы он разобрал кучи продуктов и снаряжения, уже сваленных в двух милях от Виктори-Пойнт, но мистер Хелпмен поможет Крозье запомнить точное число живых и мертвых. Крозье мог напутать с подсчетами сейчас — он не смыкал глаз уже две… нет, три ночи и валился с ног от усталости, — но он не забыл ни одного лица и ни одного имени. И не забудет до конца жизни. — Капитан! Крозье вышел из транса, в который погрузился, пока тащил сани. Он понятия не имел, шел он в упряжи час или шесть часов. Все это время в мире для него не существовало ничего, кроме ослепительного блеска холодного солнца на юго-востоке, сверкания ледяных кристаллов в воздухе, собственного частого хриплого дыхания, ноющей боли во всем теле, тяжести груза позади, сопротивления льда и свежевыпавшего снега и — самое главное — странно-голубого неба с белыми облаками, клубившимися повсюду вокруг, при виде которого возникало впечатление, будто они идут по дну гигантской бело-голубой чаши. — Капитан! — На сей раз кричал лейтенант Литтл. Крозье осознал, что все мужчины, шедшие с ним в упряжи, остановились. Все сани прекратили движение. Впереди, на юго-востоке, примерно в миле за ближайшей торосной грядой, трехмачтовый корабль плыл с севера на юг. Паруса у него были убраны и подвязаны к реям, точно на якорной стоянке, но тем не менее он двигался, словно несомый сильным течением, медленно и величественно скользя, надо полагать, по широкой полосе чистой воды, скрытой за ближайшей высокой грядой. Спасение. Ровное голубое пламя надежды в болезненно-ноющей груди Крозье на пару секунд полыхнуло ярче. Ледовый лоцман мистер Блэнки, припадая на деревянную ногу, вставленную в подобие деревянного башмака, изобретенного и изготовленного плотником Хани, подошел к Крозье и сказал: – Мираж. – Разумеется, — сказал капитан. Даже несмотря на мерцающий дрожащий воздух, он почти сразу узнал характерные мачты и такелаж британского военного корабля «Террор» и на несколько мгновений впал в смятение, доходящее до головокружения, задаваясь вопросом, не сбились ли они с пути неведомо каким образом, не повернули ли назад и не возвращаются ли обратно на северо-запад, к кораблю, покинутому несколько часов назад. Нет. Крозье видел на льду глубокие, хотя и местами занесенные снегом, следы от санных полозьев, оставленные за месяц переходов к лагерю и обратно, которые тянулись прямо к высокой торосной гряде с узкими проходами в ней, пробитыми кирками и лопатами. И солнце по-прежнему светило впереди и справа от них, на юге. Три мачты за торосной грядой замерцали, на миг растворились в воздухе, а потом вновь обрели четкость очертаний — только на сей раз они оказались перевернутыми вверх ногами, и утопленный во льду корпус «Террора» завис над ними, сливаясь с белым небом. Крозье, Блэнки и многие другие не раз видели такое явление прежде — мнимые изображения различных объектов в небе. Однажды ясным зимним утром, находясь на затертом льдами корабле у берегов земли, получившей имя Антарктиды, Крозье увидел дымящийся вулкан — тот самый, что назвали в честь его корабля, — только он поднимался из замерзшего моря на севере. А в другой раз, уже в этой экспедиции, весной 1847 года, Крозье, поднявшись на верхнюю палубу, увидел черные сферы, плавающие в небе на юге. Сферы разделились пополам, превратившись в сплошные «восьмерки», и затем продолжили делиться, образовав подобие симметричной гирлянды черных воздушных шариков, а минут через пятнадцать бесследно растаяли в воздухе. Два матроса в упряжи саней упали на колени в изрытый колеями снег. Один громко рыдал, а другой безостановочно сыпал самыми крепкими матросскими ругательствами из всех существующих. — Черт побери! — проревел Крозье. — Вы не раз видели арктические миражи прежде. Прекратите распускать сопли и сквернословить — или будете тащить чертовы сани вдвоем, а я сяду на них и стану подгонять вас пинками. Поднимитесь на ноги, Бога ради! Вы мужчины, а не малодушные бабы! Что за хрень такая! Оба матроса встали и неловко отряхнули с коленей ледяные кристаллы и снег. Крозье не опознал мужчин по одежде и «уэльским парикам», да и не хотел опознавать. Вереница саней снова поползла вперед; мужчины кряхтели от натуги, но не чертыхались. Все знали, что высокая торосная гряда впереди — хотя санные отряды, за последние недели проходившие здесь бессчетное число раз, и проложили через нее путь, — преодолеть будет ой как непросто. Им придется затащить тяжелые сани по крутому откосу длиной по меньшей мере пятнадцать футов, по обеим сторонам которого нависают шестидесятифутовые ледяные стены, откуда в любой момент могут сорваться ледяные валуны. — Такое впечатление, будто какой-то злой бог хочет помучить нас, — почти весело заметил Томас Блэнки. Ледовый лоцман, освобожденный от обязанности тащить сани, по-прежнему ковылял рядом с Крозье. Капитан ничего не ответил, и через минуту Блэнки отстал от него и пошел рядом с одним из морских пехотинцев. Крозье велел одному из свободных в данный момент мужчин занять его место в упряжи — они научились сменять друг друга на ходу, не останавливая саней, — а потом отступил в сторону от колеи и взглянул на часы. Они шли около пяти часов. Оглянувшись назад, Крозье увидел, что настоящий «Террор» уже скрылся из вида, отделенный от них по меньшей мере пятью милями замерзшего моря и несколькими низкими торосными грядами. По-прежнему оставаясь руководителем злополучной экспедиции, Френсис Родон Мойра Крозье больше не являлся капитаном корабля Службы географических исследований военно-морского флота Британии. Эта часть его жизни — а служба во флоте сначала простым матросом, потом военно-морским офицером была всей его жизнью с отроческой поры — навсегда закончилась. После того как он потерял так много людей и оба корабля, Адмиралтейство никогда не доверит Крозье командования другим судном. До лагеря оставалось еще два дня пути. Крозье устремил взгляд на высокую торосную гряду впереди и устало потащился дальше.
33. Гудсер
69°37′42″ северной широты, 98°41′ западной долготы 22 апреля 1848 г.
Из личного дневника доктора
Гарри Д. С. Гудсера
22 апреля 1848 г.
Вот уже четыре дня я нахожусь в так называемом лагере «Террор». Думаю, он вполне оправдывает свое название. Шестьюдесятью людьми здесь, включая меня, руководит капитан Фицджеймс. Признаюсь, когда на прошлой неделе я впервые увидел издалека это место, на ум мне пришли картины из гомеровской «Илиады». Лагерь расположен на берегу довольно широкой бухты примерно в двух милях от каменной пирамиды, почти двадцать лет назад возведенной на мысе Виктори-Пойнт Джеймсом Кларком Россом. Это место несколько лучше всех прочих защищено от ветра со снегом, дующего со стороны пакового льда. Возможно, сцены из «Илиады» вспомнились мне при виде восемнадцати длинных лодок на берегу замерзшего моря — четыре лодки лежат на боку, остальные четырнадцать привязаны к саням. За лодками стоят двадцать палаток разного размера — от маленьких голландских, какими мы пользовались год назад, когда я сопровождал ныне покойного лейтенанта Гора к Виктори-Пойнт (в каждой такой палатке могут спать шесть человек, по трое в спальном мешке, сшитом из волчьих шкур и одеял, шириной пять футов), до палаток побольше, изготовленных парусником Мюрреем, в том числе двух предназначенных для капитана Фицджеймса и капитана Крозье с их личными стюардами, и наконец двух самых больших палаток, размером примерно с кают-компанию «Эребуса» и «Террора», одна из которых служит лазаретом, а другая матросской столовой. Несколько других палаток служат столовыми для мичманов, унтер-офицеров и офицеров и приравненных к ним по положению гражданских лиц, как инженер Грегори и я. Или, возможно, «Илиада» вспомнилась мне, поскольку при приближении к лагерю «Террор» ночью (а все санные отряды, отправлявшиеся с корабля «Террор», добирались до места назначения на третий день, после наступления темноты) в первую очередь в глаза бросается множество костров. Разумеется, топлива здесь нет, если не считать незначительного количества дубовых досок, привезенных с разрушенного «Эребуса» специально для этой цели, но за последний месяц сюда переправили все оставшиеся мешки угля с обоих кораблей, и многочисленные «угольные» костры ярко горели на берегу, когда я впервые увидел лагерь «Террор». Огонь пылал в открытых очагах, сложенных из камней, и в четырех высоких жаровнях, уцелевших после карнавального пожара. В результате берег озарялся светом многочисленных костров, а также горевших там и сям факелов и фонарей. Проведя в лагере «Террор» несколько дней, я решил, что он больше напоминает пиратскую лагерную стоянку, нежели лагерь Ахиллеса, Одиссея, Агамемнона и других гомеровских героев. Люди ходят в рваной, потрепанной, чиненой-перечиненой одежде. Большинство больны или хромают — либо и то и другое вместе. Заросшие густыми бородами лица бледны. Глаза у всех глубоко ввалились. Мужчины расхаживают — вернее, устало бродят — по лагерю с большими ножами, которые болтаются на самодельных перевязях, надетых поверх зимних плащей и шинелей, в звенящих ножнах, изготовленных из обрезанных ножен. Идея насчет перевязей и ножен принадлежала капитану Крозье, как и идея насчет очков, смастеренных из проволочной сетки, которые люди носят в солнечные дни, чтобы уберечься от снежной слепоты. В целом обитатели лагеря производят впечатление шайки разбойников, набранной из разного сброда. И теперь у большинства наблюдаются симптомы цинги. У меня было очень много работы в лазарете. Санные отряды приложили дополнительные усилия к тому, чтобы перевезти по льду и через ужасные торосные гряды дюжину коек (плюс две койки для капитанских палаток), но в данный момент у меня в лазарете находятся двадцать больных, и потому восемь человек лежат на одеялах, расстеленных прямо на холодной земле. Длинными ночами палатку освещают три масляные лампы. Большинство людей лежат в лазарете с тяжелой цингой, но не все. Сержант Хизер снова оказался на моем попечении — с золотым совереном в черепе, вставленным доктором Педди на место кости, выбитой у несчастного вместе с частью мозга чудовищным зверем. Морские пехотинцы на протяжении многих месяцев заботились о Хизере и собирались заботиться о нем и в лагере (сержанта перевезли сюда на маленьких санках, изготовленных мистером Хани), но охлаждение организма во время трехдневного перехода по замерзшему морю вызвало у него пневмонию. На сей раз сержант морской пехоты, явивший нам поистине небывалое чудо живучести, едва ли протянет долго. В лазарете находится также Дэвид Лейс, которого товарищи по команде называют Дейви. Его кататоническое состояние оставалось неизменным в течение многих месяцев, но после перехода через льды на прошлой неделе (он прибыл в лагерь с моим отрядом) он неспособен удержать в желудке даже самое малое количество жидкого бульона или воды. Думаю, Лейс не доживет до среды. По причине крайнего напряжения сил, потребовавшегося от людей, чтобы перевезти на санях тяжелые шлюпки и огромное количество имущества с корабля на остров (через торосные гряды, которые я преодолевал с трудом, даже когда не шел в упряжи), мне пришлось иметь дело с обычными в таких случаях ушибами и переломами. Среди прочих был один сложный перелом руки — у матроса Билли Шанкса, — и после оказания первой помощи я оставил его в лазарете, опасаясь общего заражения крови. (Кожа и мышечные ткани у него в двух местах пробиты острыми осколками кости.) Но главным убийцей, затаившимся в этой палатке, по-прежнему остается цинга. Мистер Хор, личный стюард капитана Фицджеймса, вполне может стать первым человеком, умершим от цинги. Он уже много дней не приходит в сознание. Как Лейса и Хизера, его пришлось везти на санях двадцать пять миль, отделяющих наш обреченный корабль от лагеря «Террор». Эдмунд Хор являет собой первый, но типичный пример цинги в поздней стадии. Стюард капитана молод: через две недели с небольшим — 9 мая — ему исполнится двадцать семь лет. Если он доживет. Для стюарда Хор крупный мужчина — шести футов ростом, — и по всем признакам он пребывал в добром здравии, когда экспедиция отплывала. Он быстро, ловко, толково и расторопно исполнял свои служебные обязанности и отличался необычными для стюардов атлетическим телосложением и физической силой. Во время соревнований по бегу налегке и с санями, часто проводившихся на льду у острова Бичи зимой 18451846 годов, он часто был победителем и предводителем различных спортивных команд. Начальные симптомы цинги появились у него прошлой осенью — слабость, вялость, учащающиеся приступы частичного затемнения сознания, — но болезнь приобрела более выраженные формы после трагических событий карнавальной ночи. Хор продолжал исправно исполнять обязанности стюарда капитана Фицджеймса по шестнадцать часов в день и больше, но в конце концов здоровье у него сдало. Первым явственным симптомом болезни у мистера Хора стал так называемый «терновый венец». Из-под волос Эдмунда Хора начала сочиться кровь. И не только из-под волос на голове. Сначала его шапки, потом нижние рубахи, а потом подштанники ежедневно были испачканы кровью. Я тщательно обследовал молодого человека и обнаружил, что кровь сочится из самих волосяных луковиц. Некоторые моряки пытались предупредить появление подобного раннего симптома, наголо обривая головы, но, разумеется, это не помогало. Когда «уэльские парики», шарфы, а потом и подушки у большинства людей стали постоянно пропитываться кровью, матросы и офицеры начали носить под шапками и подкладывать под голову на ночь полотенца. Такая мера, разумеется, не облегчала неудобств и страданий, вызванных кровотечением во всех частях тела, имеющих волосяной покров. Подкожные кровоизлияния у вестового Хора появились в январе. Хотя к тому времени спортивные игры на льду остались в далеком прошлом и обязанности мистера Хора редко требовали от него отлучек с корабля или значительного напряжения сил, любой ушиб или синяк на его теле проступал в виде огромного красно-фиолетового пятна. И уже не заживал. Любая царапина, случайно нанесенная ножом при чистке картошки или нарезании мяса, оставалась открытой и кровоточила неделями. К концу января ноги у мистера Хора опухли, став вдвое толще против прежнего. Ему пришлось одалживать грязные штаны у более крупных товарищей по команде, чтобы просто оставаться одетым, прислуживая своему капитану. Постоянно усиливающаяся боль в суставах не давала несчастному спать. К началу марта любое самое незначительное движение причиняло Эдмунду Хору невыносимые муки. Весь март Хор категорически отказывался ложиться в лазарет «Эребуса»: мол, он должен спать на своем месте и продолжать обслуживать и опекать капитана Фицджеймса. Его светлые волосы были постоянно слипшимися от запекшейся крови. Опухшие конечности и лицо начали походить на сырое тесто. Кожа изо дня в день теряла эластичность; за неделю до разрушения «Эребуса» дело уже зашло так далеко, что, если я сильно надавливал пальцем на любой участок тела Эдмунда Хора, там навсегда оставалось углубление и появлялся новый синяк, растекавшийся и сливавшийся со старыми подкожными кровоизлияниями. К середине апреля тело несчастного превратилось в бесформенную, сплошь покрытую синяками массу. Лицо и руки пожелтели от разлития желчи. Белки глаз стали ярко-желтыми и производили тем более жуткое впечатление, что из-под бровей постоянно сочилась кровь. Хотя мы с моим помощником старались переворачивать пациента в постели по несколько раз в день, ко времени, когда мы вынесли Хора с погибающего «Эребуса», пролежни по всему его телу превратились в коричневато-фиолетовые, постоянно гноящиеся язвы. Его лицо, особенно по обеим сторонам от носа и рта, тоже испещряли язвы, из которых беспрерывно сочились гной и кровь. Гной цинготного больного имеет необычайно отвратительный запах. Ко дню, когда мы доставили мистера Хора в лагерь «Террор», у него уже выпали все зубы, кроме двух. И это у молодого человека, который еще в Рождество мог похвастать самыми крепкими и здоровыми зубами в экспедиции! Десны у Хора почернели и размякли. Он находится в сознании лишь по несколько часов в день и испытывает чудовищные муки каждую секунду. Когда мы открываем несчастному рот, чтобы накормить его, оттуда идет зловоние почти невыносимое. За неимением возможности стирать полотенца мы постелили на койку Хора парусину, которая сейчас уже вся почернела от крови. Его обледенелая грязная одежда тоже заскорузла от крови и гноя. Как ни ужасны вид и страдания Эдмунда Хора, гораздо ужаснейшим представляется факт, что он может прожить в таком состоянии — ухудшающемся день ото дня — еще несколько недель или даже месяцев. Цинга — коварный убийца. Она долго мучает свою жертву, прежде чем даровать вечный покой. К моменту смерти человека от цинги даже самые близкие родственники зачастую не в силах узнать страдальца, и сам страдалец по причине помутненного сознания уже не в состоянии узнать своих близких. Но здесь такой проблемы нет. За исключением братьев, служащих вместе в нашей экспедиции (а Томас Хартнелл потерял старшего брата на острове Бичи), здесь ни у кого нет родственников, которые пришли бы на сей ужасный остров в царстве льдов, ветров, тумана и молний. Некому будет опознавать нас, когда мы умрем, — и уж тем более хоронить. Двенадцать из лежащих в лазарете людей умирают от цинги, и у более двух третей от ста пяти оставшихся в живых участников экспедиции наблюдаются ранние симптомы болезни. Запасы лимонного сока — самого нашего действенного противоцинготного средства, хотя и в значительной мере утратившего эффективность за последний год, — иссякнут через несколько дней. Тогда нам останется спасаться только уксусом. Неделю назад в палатках с запасами продовольствия, установленных на льду рядом с «Террором», я самолично наблюдал за переливанием остатков уксуса из больших бочек в восемнадцать бочонков поменьше — по одному на каждую лодку, перевезенную на санях в лагерь. Люди терпеть не могут уксус. В отличие от лимонного сока, едкость которого можно несколько приглушить примесью подслащенной воды или даже грога, уксус кажется на вкус чистым ядом людям, чьи нёба уже повреждены цингой, развивающейся в организме. Офицеры, употреблявшие в пищу больше голднеровских консервированных продуктов, чем матросы (те питались своей любимой — хотя и прогорклой — соленой свининой и говядиной, пока провиантские бочки не опустели), похоже, сильнее последних предрасположены к цинге. Данное обстоятельство подтверждает гипотезу доктора Макдональда, что в консервированных супах, овощах и мясе — в отличие от испорченных, но некогда свежих продуктов — отсутствует некий жизненно важный элемент или, наоборот, присутствует некий яд. Если бы мне чудом удалось открыть означенный элемент — ядовитый или животворный, — у меня появился бы не только шанс исцелить больных людей (возможно, даже мистера Хора), но и все шансы получить рыцарское звание, когда нас спасут или мы сами доберемся до безопасного места. Но в существующих условиях у меня нет такой возможности. Лучшее, что я могу сделать, это настойчиво порекомендовать людям есть любое свежее мясо, добытое нашими охотниками, — даже сало и внутренности животных, я уверен супротив всякой логики, могут в известной мере предохранить нас от цинги. Но наши охотники пока не нашли в окрестностях никакой дичи. И лед слишком толстый, чтобы пробивать в нем проруби для рыбной ловли. Вчера вечером капитан Фицджеймс заглянул в лазарет, как он делает в начале и конце каждого своего долгого, трудного дня, и когда он совершил традиционный обход спящих больных, расспрашивая меня о переменах в состоянии каждого, я набрался смелости, чтобы задать вопрос, уже несколько недель не дававший мне покоя. — Капитан, — сказал я, — я вас пойму, коли вы откажетесь отвечать мне по причине своей занятости или проигнорируете мой вопрос как заданный человеком несведущим, каковым я, безусловно, являюсь… но я уже давно ломаю голову: зачем мы взяли восемнадцать шлюпок? Похоже, мы забрали с «Эребуса» и «Террора» все шлюпки до единой, но ведь нас осталось всего сто пять человек. — Давайте выйдем наружу, если вы не возражаете, доктор Гудсер. Как всегда, я мысленно отметил (и внутренне смутился от сознания, что я всякий раз отмечаю данное обстоятельство) обращение «доктор», которое капитан стал использовать в разговоре со мной только после вторжения зверя на «Эребус» в марте. Я велел Генри Ллойду, своему помощнику, присматривать за больными и вышел вслед за капитаном Фицджеймсом из палатки. Еще в лазарете я заметил, что борода у него, прежде казавшаяся мне рыжей, на самом деле почти полностью седая и только окаймлена запекшейся кровью. Капитан взял из лазарета фонарь и двинулся с ним к покрытому галькой берегу. Разумеется, никакие волны не набегали с плеском на берег. Вдоль береговой линии по-прежнему тянулась гряда высоких айсбергов, стоявшая стеной между нами и паковым льдом. Капитан Фицджеймс поднял фонарь и осветил длинный ряд лодок. – Что вы видите, доктор? — спросил он. – Лодки, — рискнул предположить я, чувствуя себя тем самым несведущим человеком, которым отрекомендовался минуту назад. – Вы замечаете какую-нибудь разницу между ними, доктор Гудсер? Я пригляделся получше. — Четыре из них не на санях, — сказал я. На это я обратил внимание сразу, еще в первую ночь своего пребывания здесь. Я не понял, в чем дело с означенными четырьмя лодками, когда для всех остальных мистер Хани потрудился смастерить специальные сани. Это показалось мне вопиющим упущением. — Вы совершенно правы, — сказал капитан Фицджеймс. — Эти четыре лодки — вельботы с «Эребуса» и «Террора». Длиной тридцать футов. Легче остальных. Очень прочные. Шестивесельные. С острым носом и кормой, как каноэ… теперь видите? Теперь я увидел. Я никогда прежде не замечал, что вельботы одинаково сужаются с одного и другого конца, наподобие каноэ. – Будь у нас десять вельботов, — продолжал капитан, — наши дела обстояли бы значительно лучше. – Почему? — спросил я. – Они прочные, доктор. Очень прочные. И легкие, как я уже сказал. Мы смогли бы погрузить в них припасы и тащить их по льду, не изготавливая для них сани, как для всех прочих лодок. Если бы мы нашли разводье, то смогли бы спустить вельботы на воду прямо со льда. Я потряс головой. Понимая, что капитан Фицджеймс может счесть и наверняка сочтет меня за полного дурака, услышав следующий мой вопрос, я все же спросил: — Но почему вельботы можно тащить по льду, а остальные лодки нельзя, капитан? Капитан ответил, без тени раздражения в голосе: — Вы видите у них руль, доктор? Я посмотрел в один и другой конец вельбота, но никакого руля не увидел. О чем и сообщил капитану. — Вот именно, — сказал он. — У вельбота плоский киль и нет руля. Судном управляет гребец на корме. — Это хорошо? — спросил я. — Да, если вам нужна легкая, прочная лодка с плоским килем и без руля, который непременно сломается при волочении по льду, — сказал капитан Фицджеймс. — Вельбот легче всего тащить по льду, несмотря на то что он длиной тридцать футов и вмещает до дюжины человек вместе с изрядным количеством припасов. Я кивнул, как если бы все понял. Я и правда почти все понял — но я страшно устал. — Видите, какая у вельбота мачта, доктор? Я снова посмотрел. И снова не понял, что именно должен увидеть. В чем и признался. – У вельбота одна-единственная разборная мачта, — сказал капитан. — Сейчас она лежит под парусиной, натянутой на планшири. – Я заметил, что все лодки покрыты парусиной и досками, — сказал я, чтобы показать, что я не совсем уж ненаблюдательный. — Это для того, чтобы защитить их от снега? Фицджеймс зажигал трубку. Табак у него уже давно кончился. Я не хотел знать, чем он теперь ее набивает. — Для того чтобы под ними могли укрыться команды всех восемнадцати лодок, даже если в конечном счете мы возьмем с собой всего десять, — негромко сказал он. Большинство людей в лагере уже спали. Замерзшие часовые, притопывая ногами, расхаживали взад-вперед сразу за пределами освещенного фонарем пространства. — Мы будем прятаться под парусиной, когда пойдем по чистой воде к устью реки Бака? — спросил я. Мне никогда не представлялось, как мы сидим на корточках под парусиной и настилом из досок. Я всегда воображал, как мы весело гребем при ярком солнечном свете. — Возможно, мы не пойдем на лодках по реке, — сказал Фицджеймс, попыхивая трубкой, набитой чем-то похожим на сухие человеческие экскременты. — Если летом воды вдоль берега освободятся от льда, капитан Крозье примет решение плыть морем. – До самой Аляски и Санкт-Петербурга? — спросил я. – По крайней мере до Аляски, — сказал капитан. — Или, возможно, до Баффинова залива, если прибрежные проходы во льдах откроются к северу. — Он сделал несколько шагов вперед и осветил фонарем лодки на санях. – Вы знаете, что это за лодки, доктор? – А они что, отличаются от предыдущих, капитан? Я обнаружил, что страшная усталость побуждает человека высказываться честно, не испытывая смущения. – Да, — ответил Фицджеймс. — Вот эти две, привязанные к специальным саням мистера Хани, называются тендерами. Безусловно, вы видели их, когда они стояли на палубе или на льду рядом с кораблями в течение последних трех зим. – Да, конечно, — сказал я. — Но вы говорите, они отличаются от вельботов? – Сильно отличаются, — сказал капитан Фицджеймс, снова зажигая трубку. — Вы заметили на них мачты, доктор? Даже при тусклом свете фонаря я видел две мачты, торчащие над каждым судном. В парусиновом тенте были искусно прорезаны и аккуратно обметаны отверстия для них. Я сообщил капитану о своих наблюдениях. – Очень хорошо, — сказал он, без малейшего намека на снисходительность в голосе. – А эти разборные мачты не разобрали намеренно? — спросил я, скорее с целью показать, что я внимательно слушал все предшествовавшие пояснения, нежели по какой-либо иной причине. – Они не разборные, доктор Гудсер. Это мачты люгерного вооружения… или, возможно, они известны вам под названием гафельных. Они постоянные. И вы видите рули под кормой? И выступающие кили? Я видел. – Из-за рулей и килей эти лодки нельзя волочить по льду, как вельботы? — осмелился предположить я. – Совершенно верно. Вы правильно диагностировали проблему, доктор. – Разве рули нельзя снять, капитан? — В принципе, можно, доктор Гудсер. Но выступающие кили… их вдавит в днище или, наоборот, вырвет из него при прохождении через первую же торосную гряду, не правда ли? Я снова кивнул и положил руку в рукавице на планширь. – Мне кажется или эти четыре судна действительно несколько короче вельботов? – У вас отличный глазомер, доктор. Двадцать восемь футов длины против тридцати у вельботов. И они тяжелее. Вдобавок у них прямоугольная корма. Я только сейчас заметил, что у этих двух лодок, в отличие от вельботов, имеются резко выраженные нос и корма. Ничего похожего на каноэ. — Скольких человек вмещает тендер? — спросил я. – Десятерых. Это восьмивесельное судно. На нем хватит места для незначительного количества припасов и останется место, чтобы всем укрыться внизу во время шторма, даже в открытом море. За счет двух мачт парусность у тендеров вдвое больше, чем у вельботов, но, если нам придется подниматься по реке Бака, «большой рыбной», от тендеров будет меньше толка, чем от вельботов. – Почему? — спросил я, чувствуя, что мне уже следует знать ответ, что капитан уже объяснял мне. – У них осадка больше, сэр. Давайте взглянем на следующие две лодки… ялы. Я рассмотрел следующие два судна. — Они, похоже, длиннее тендеров, — заметил я. – Так и есть, доктор. Тридцать футов длиной… как вельботы. Но они тяжелее, доктор. Даже тяжелее тендеров. Тащить ялы по льду на санях — дело очень трудное, уверяю вас. Мы и досюда-то еле-еле доволокли их. Вполне возможно, капитан Крозье предпочтет оставить ялы здесь. – В таком случае не стоило ли просто оставить их у кораблей? — спросил я. – Нет, — помотал головой Фицджеймс. — Нам необходимо выбрать такие судна, на которых у сотни человек больше шансов продержаться несколько недель или месяцев в открытом море или даже на реке. Вам известно, доктор, что эти лодки — все эти лодки — оснащаются по-разному для морского и речного плавания? Теперь настала моя очередь помотать головой. — Неважно, — сказал капитан Фицджеймс. — Мы подробно разберем различия между речной и морской оснасткой судна как-нибудь в другой раз — предпочтительно теплым солнечным днем, когда будем находиться далеко к югу отсюда. Теперь оставшиеся восемь лодок… Первые две — это полубаркасы. Следующие четыре — корабельные шлюпки. И последние две — ялики. — Ялики вроде значительно короче остальных, — заметил я. Капитан Фицджеймс попыхал своей зловонной трубкой и кивнул, словно я изрек некий перл мудрости из Священного Писания. — Верно, — печально сказал он. — Длина яликов всего двенадцать футов против двадцати восьми у полубаркасов и двадцати двух у корабельных шлюпок. Но ни первые, ни вторые, ни третьи не оснащаются мачтами и парусами, и все они маловесельные. Боюсь, людям в них придется туго, коли мы выйдем в открытое море. Я не удивлюсь, если капитан Крозье решит оставить их здесь. «Открытое море?» — подумал я. Мысль о плавании налюбом из этих суденышек по любой акватории шире реки «большой рыбной», представлявшейся мне подобием Темзы, никогда прежде не приходила мне в голову, хотя я не раз присутствовал на различных совещаниях, где обсуждалась такая возможность. Глядя на маленькие и довольно хрупкие на вид полубаркасы, ялики и шлюпки, я подумал, что людям, вышедшим на них в море, останется лишь провожать взглядом двухмачтовые тендеры и одномачтовые вельботы, скрывающиеся за горизонтом. Но люди на маломерных суденышках будут обречены. Как людей разделят на команды? Или капитаны уже определили состав команд, втайне от всех? И к какой лодке приписали меня — на какую участь обрекли? — Если мы решим воспользоваться лодками малого размера, мы будем тянуть жребий, кому на какую сесть, — сказал капитан. — Места же в тендерах, ялах и вельботах будут распределены между санными командами. Должно быть, я испуганно уставился на него. Капитан Фицджеймс рассмеялся хриплым смехом, перешедшим в надсадный кашель, и выбил золу из трубки, постучав чашечкой о башмак. Ветер усилился, и стало очень холодно. Я понятия не имел, сколько сейчас времени, хотя знал, что уже за полночь. Стемнело часов семь назад, самое малое. — Не беспокойтесь, доктор, — тихо проговорил он. — Я не прочитал ваши мысли. Просто догадался, о чем вы думаете, по вашему выражению лица. Как я сказал, в случае с малыми лодками мы станем тянуть жребий, но, возможно, малыми лодками мы вообще не воспользуемся. Так или иначе, мы никого не бросим. Мы свяжем суда тросами, коли выйдем в открытое море. Я улыбнулся, надеясь, что в тусклом свете фонаря капитан увидит мою улыбку, но не мои кровоточащие десны. – Я не знал, что парусные суда можно привязывать к непарусным, — сказал я, снова обнаруживая свое невежество. – Как правило, нельзя, — сказал капитан Фицджеймс. Он легко похлопал меня по спине — я едва почувствовал прикосновение сквозь многочисленные слои одежды. — Теперь, доктор, когда вы узнали секреты, касающиеся мореходных качеств всех восемнадцати лодок в составе нашего маленького флота, не пора ли нам вернуться? Сейчас довольно холодно, и мне надо немного поспать, прежде чем отправиться на обход постов в четыре склянки. Я покусал губу, чувствуя вкус крови. — У меня один последний вопрос, капитан, если вы не возражаете. — Нисколько не возражаю. — Когда именно капитан Крозье решит, какие лодки мы возьмем, и когда мы спустим выбранные лодки на воду? — спросил я. Голос мой звучал хрипло. Капитан немного переместился в сторону и теперь вырисовывался черным силуэтом на фоне костра, горевшего возле палатки, где размещалась матросская столовая. Я не видел его лица. — Я не знаю, доктор Гудсер, — сказал он после долгой паузы. — Да и сам капитан Крозье вряд ли знает. Возможно, нам повезет, и лед вскроется через несколько недель… в таком случае я самолично доставлю вас к острову Баффина. Или, возможно, мы спустим какие-то из этих лодок на воду в устье «большой рыбной» через три месяца… может быть, мы еще успеем добраться до Большого Невольничьего озера и расположенного там поселения до наступления зимы, даже если достигнем реки только к июлю. Он похлопал по изогнутому борту ближайшего полубаркаса. Я исполнился странной тихой гордости от сознания, что способен распознать в лодке полубаркас. Или это один из двух ялов? Я старался не думать о состоянии Эдмунда Хора и об участи, которая ожидает всех нас, если мы не начнем трудное восьмисотпятидесятимильное путешествие вверх по реке Бака — носящей также название «большая рыбная» — через три месяца. Едва ли кому-нибудь из нас удастся выжить, коли мы тронемся в путь к Большому Невольничьему озеру несколькими месяцами позже. — Если же леди Удача отвернется от нас, — тихо продолжил Фицджеймс, — возможно, эти лодки вообще никогда больше не поплывут. Мне было нечего сказать на это. Слова звучали как смертный приговор всем нам. Я повернулся спиной к свету, собираясь направиться обратно к лазарету. Я уважал капитана Фицджеймса и не хотел, чтобы он видел мое лицо в тот момент. Капитан Фицджеймс положил руку мне на плечо, останавливая меня. — Коли такое случится, — горячо проговорил он, — нам просто придется топать домой пешком, верно?
34. Крозье
69°37′42″ северной широты, 98°41′ западной долготы 22 апреля 1848 г.Крозье, державший курс на заходящее арктическое солнце, знал график этого трудного похода. Сегодня они должны пройти по льду восемь миль до первого промежуточного лагеря. Завтра им предстоит преодолеть девять миль и, если все сложится удачно, добраться до второго промежуточного лагеря к полуночи. В третий и последний день похода они должны пройти еще восемь миль — самый трудный отрезок пути, где сани придется перетаскивать через барьер айсбергов на границе пакового и прибрежного льда, — и достичь сравнительно безопасного убежища, коим представлялся лагерь «Террор». Там команды обоих кораблей впервые соберутся вместе в полном составе. Если санный отряд Крозье в целости и сохранности доберется до места назначения — и будет держаться впереди зверя, следующего за ними по льду, — все сто пять человек соберутся вместе на продуваемом ветрами северо-западном побережье острова. Во время первых санных походов к острову Кинг-Уильям в марте, проходивших большей частью в темноте, скорость передвижения была столь мала, что зачастую люди с санями становились лагерем на льду в первую ночь еще в пределах видимости от корабля. Однажды, когда дул сильный встречный ветер, отряд Левеконта преодолел меньше мили за двенадцать часов непрерывных усилий. Но сейчас — при солнечном свете да по глубокому санному следу и через проложенные в торосных грядах проходы — идти стало гораздо легче. Крозье не хотел оставаться на Кинг-Уильяме. Визиты на мыс Виктори-Пойнт, несмотря на сваленные там огромные груды продовольствия и снаряжения и расчищенные под палатки площадки, не убедили капитана, что люди смогут долго продержаться там. Бурные ненастья, почти всегда наступавшие с северо-запада, были смертоносными зимой, опустошительными весной и осенью и опасными для жизни летом. Ужасные грозы вроде той, какую довелось пережить покойному лейтенанту Гору во время первого посещения острова летом 1847 года, повторялись снова и снова все лето и первый месяц осени. Среди первых вещей, которые Крозье распорядился доставить на остров прошлым летом, были запасные громоотводы с кораблей. До самого конца марта, когда разрушился «Эребус», Крозье надеялся, что они смогут двинуться к восточному побережью полуострова Бутия, где есть вероятность найти запасы провианта и снаряжения на Фьюри-бич, а равно вероятность быть замеченными китобоями, идущими из Баффинова залива. По примеру старого Джона Росса, они могли бы направиться пешком или на лодках на север вдоль восточного побережья Бутии к острову Сомерсет или даже к острову Девон, коли придется. Рано или поздно они увидели бы какое-нибудь судно в проливе Ланкастера. Вдобавок в том направлении находились эскимосские поселения. Крозье точно знал это: он видел их во время своего первого арктического путешествия с экспедицией Уильяма Эдварда Парри в 1819 году, совершенного в возрасте двадцати двух лет. Он вернулся туда с Парри двумя годами позже в попытке отыскать Северо-Западный морской проход, а потом еще через два года, чтобы продолжить поиски означенного пути, которые убьют сэра Джона спустя двадцать три года. «И еще могут убить всех нас», — подумал Крозье и энергично потряс головой, прогоняя прочь тяжелые мысли. Солнце стояло низко над южным горизонтом. Незадолго до заката они остановятся и съедят холодный обед. Потом снова впрягутся в сани и будут идти еще шесть-восемь часов в послеполуденной, вечерней и ночной тьме, чтобы добраться до первого промежуточного лагеря, расположенного в конце первой трети пути до Кинг-Уильяма и лагеря «Террор». Сейчас тишину нарушали лишь дыхание людей, скрип кожаных ремней и скрежет полозьев по льду. Ветер полностью стих, но воздух стал еще холоднее с постепенным угасанием тусклого послеполуденного солнца. Облака ледяных кристаллов висели над вереницей людей и саней подобием медленно тающих золотых шаров. Крозье — который сейчас, на подходе к высокой торосной гряде, шагал ближе к голове процессии, готовый помочь тянуть, толкать и тихо чертыхаться на первом участке подъема, — посмотрел на заходящее солнце и вспомнил, сколько сил он положил однажды в прошлом на поиски пути к Бутии и китобойным судам из Баффинова залива. В возрасте тридцати одного года он в четвертый и последний раз отправился с капитаном Парри в те воды — на сей раз с целью достичь Северного полюса. Они продвинулись далеко на север, установив рекорд, не побитый поныне, но в конце концов были остановлены паковым льдом, простиравшимся до северных пределов мира. Френсис Крозье больше не верил в существование Открытого Полярного моря: экспедиция, которая однажды достигнет полюса, не сомневался он, совершит данное путешествие на санях. Возможно, на запряженных собаками санках, какими обычно пользуются эскимосы. В Гренландии и на восточном побережье острова Сомерсет Крозье не раз видел легкие санки аборигенов — маленькие и хрупкие, совсем не похожие на массивные сани принятого в британском военно-морском флоте образца, — влекомые собаками. Они двигались гораздо быстрее, чем мог двигаться санный отряд Крозье при всем старании. Но он планировал направиться на восток (коли такое вообще возможно) главным образом потому, что где-то на востоке — на полуострове Бутия или за ним — обитают эскимосы. И эти аборигены — как леди Безмолвная, несколькими днями ранее отправившаяся в лагерь «Террор» вслед за санными отрядами лейтенантов Ходжсона и Ирвинга, — умеют охотиться и ловить рыбу в этом богом забытом белом мире. Когда в начале февраля Ирвинг доложил о невозможности проследить за леди Безмолвной или вступить с ней в достаточно осмысленное общение с целью выведать, где и как она добывает тюленье мясо и рыбу, которые, согласно клятвенным заверениям Ирвинга, он видел у нее, Крозье подумал, не пригрозить ли девушке пистолетом, чтобы она показала, как добывает свежую пищу. Но в глубине души он знал, чем закончится подобная попытка: безъязыкая эскимоска будет упорно молчать и смотреть немигающим взглядом огромных черных глаз на Крозье и остальных мужчин, пока ему не придется привести свою угрозу в исполнение. Таким образом он ничего не добьется. Посему капитан предоставил Безмолвной спокойно жить в маленьком снежном доме, описанном Ирвингом, разрешил мистеру Дигглу время от времени выдавать ей галеты или объедки и постарался выкинуть из головы всякие мысли о ней. Судя по раздражению, испытанному при напоминании об эскимоске, когда на прошлой неделе вахтенный доложил, что она последовала за отрядами Ходжсона и Ирвинга к лагерю «Террор», держась в нескольких сотнях ярдов позади, он мало преуспел в своих стараниях не думать о ней. Когда бы не страшная усталость, Крозье, наверное, сейчас испытывал бы легкую гордость за конструкцию и прочность разнообразных саней, которые люди тащили по замерзшему морю на северо-восток. В середине марта — когда еще не стало очевидным, что «Эребус» разломится под давлением льда, — он приказал мистеру Хани, оставшемуся в живых плотнику экспедиции, и его помощникам, Уилсону и Уотсону, трудиться день и ночь, чтобы сконструировать и соорудить сани, способные везти не только снаряжение, но и корабельные шлюпки. Как только они изготовили первый образец больших саней из дуба и железа, Крозье вывел людей на лед, чтобы опробовать и приноровиться половчее таскать новые сани. Он постоянно заставлял специалистов по такелажным работам, интендантов и даже мачтовых матросов совершенствовать конструкцию упряжи, чтобы люди могли производить максимально эффективные тяговые усилия без перебоев в движении. В самом скором времени они окончательно определились с конструкцией саней и решили, что для больших саней, везущих лодки, лучше всего использовать упряжь на одиннадцать человек, а для повозок поменьше, груженных различными припасами и снаряжением, — упряжь на семерых. Таким образом, они подготовились к первым походам, связанным с переправкой грузов в лагерь «Террор» на острове Кинг-Уильям. Крозье знал: если они приступят к делу позже, если промедлят до времени, когда одни слишком сильно ослабнут от болезни, чтобы тащить сани, а другие, возможно, так и вовсе умрут, каждую из восемнадцати лодок, нагруженных по самые планшири провиантом и снаряжением, придется тащить команде численностью меньше одиннадцати. А это потребует большего напряжения сил от больных цингой, истощенных людей, чье состояние к тому времени только ухудшится. К последней неделе марта, когда «Эребус» уже агонизировал, оба экипажа проводили на льду дни напролет, по большей части в темноте, устраивая состязания по бегу с разными санями, тщательно подбирая людей в упряжи, осваивая различные приемы и составляя лучшие упряжные команды из людей всех званий с обоих кораблей. Победители получали денежное вознаграждение золотыми и серебряными монетами, и, хотя в личной кладовой покойного сэра Джона, планировавшего купить множество товаров на Аляске, в России, Азии и на Сандвичевых островах, стояли набитые шиллингами и гинеями сундуки, Френсис Крозье производил выплаты из своего кармана. Крозье очень хотел отправиться к Баффинову заливу, как только дни станут достаточно долгими, чтобы можно было совершать переходы на значительное расстояние. Отчасти интуитивно, отчасти из рассказов сэра Джона и из книги Бака, описавшего свое восьмисотпятидесятимильное плавание вверх по реке «большой рыбной» к Большому Невольничьему озеру (данный том находился в библиотеке «Террора», а сейчас лежал в личном вещевом мешке Крозье на санях), он знал, что шансы благополучно закончить такое путешествие ничтожны. Даже первые сто шестьдесят с лишним миль пути, отделяющие «Террор» от устья «большой рыбной», могут оказаться непроходимыми, а ведь потом еще предстоит совершить труднейшее путешествие вверх по реке. Помимо сложностей, связанных с преодолением полосы припая, на этом пути существует опасность натолкнуться на открытые полыньи во льдах и оказаться перед необходимостью бросить сани — и в любом случае перетащить сани и лодки через сам плоский каменистый остров, продуваемый самыми яростными ветрами, представляется делом почти непосильным. Достигнув реки (коли они вообще до нее доберутся), они столкнутся с тем, что Бак описал как «извилистый бурный поток протяженностью в пятьсот тридцать географических миль, бегущий по скалистой местности, где нет ни единого деревца», на котором насчитывается «не менее восьмидесяти пяти водопадов, каскадов и порогов». Крозье слабо верилось, что еще через месяц или более у людей, измученных долгим санным походом, останутся силы, чтобы преодолеть восемьдесят пять водопадов, каскадов и порогов, даже в самых прочных лодках. Одни переправы волоком убьют их. Неделей раньше, перед своим отбытием в лагерь «Террор» с очередным санно-лодочным отрядом, судовой врач Гудсер сказал Крозье, что запасы лимонного сока — единственного оставшегося у них противоцинготного средства, пусть и выдохшегося — закончатся через три недели или раньше, в зависимости от количества людей, которые умрут за данный промежуток времени. Крозье знал, как быстро полномасштабное наступление цинги ослабит всех. Сейчас, совершая двадцатипятимильный поход к острову Кинг-Уильям с легкими санями и полностью укомплектованными упряжными командами, ежедневно получая половину нормы пищевого довольствия и двигаясь по тропе, проложенной во льду полозьями за месяц с лишним, они покрывали чуть более восьми миль в день. На пересеченной местности или на полосе припая у Кинг-Уильяма и южнее данное расстояние, вероятно, сократится вдвое, если не больше. Когда цинга начнет расправляться с ними, они будут преодолевать лишь по миле в день, а при отсутствии ветра едва ли смогут вести тяжелые лодки против течения реки на веслах или отталкиваясь от дна шестами. Переправа волоком на любое расстояние через несколько недель или месяцев станет для них делом просто непосильным. В пользу похода на юг к «большой рыбной» говорили лишь два обстоятельства: слабая вероятность, что поисково-спасательная экспедиция, посланная за ними, уже направилась вниз по реке от Большого Невольничьего озера, и тот простой факт, что по мере продвижения на юг будет становиться теплее. По крайней мере, они будут двигаться к зоне оттепели. И все же Крозье предпочитал остаться в более северных широтах и преодолеть более длинное расстояние, двигаясь на восток и север, к полуострову Бутия и через него. Он знал, что существует лишь один сравнительно безопасный способ предпринять такую попытку: добраться до Кинг-Уильяма, пересечь его, потом совершить относительно короткий переход по открытому льду, защищенному от яростного северо-западного ветра самим островом, к юго-западному берегу Бутии, а затем медленно двинуться на север вдоль полосы припая или непосредственно по прибрежной равнине и наконец перевалить через горную гряду, направляясь к заливу Фьюри и на каждом шагу надеясь встретить эскимосов. Это был безопасный путь. Но длинный. Тысяча двести миль — почти в полтора раза длиннее, чем путь на юг к реке Бака. Если по достижении Бутии они в самом скором времени не встретят дружественно настроенных эскимосов, все они погибнут за несколько недель или месяцев до возможного окончания подобного путешествия. И тем не менее Френсис Крозье предпочитал рискнуть всем и совершить бросок через замерзшее море в северо-восточном направлении — прямо через самые ужасные паковые льды — в отчаянной попытке повторить потрясающий воображение шестисотмильный санный поход своего друга Джеймса Кларка Росса, совершенный восемнадцатью годами ранее, когда «Фьюри» затерло льдами у противоположного берега полуострова Бутия. Старый стюард, Бридженс, был абсолютно прав. В свое время Джон Росс выбрал самый верный путь к спасению, когда направился с санями пешком на север, а потом поднялся на лодках в пролив Ланкастера и стал ждать там китобоев. И его племянник Джеймс Росс доказал, что для санного отряда преодолеть расстояние от Кинг-Уильяма до Фьюри-бич возможно — в принципе возможно.
«Эребус» еще находился в десятидневной агонии, когда Крозье отправил в испытательный поход упряжных с обоих кораблей — победителей соревнований, получивших самые крупные премии и последние деньги, остававшиеся у Френсиса Крозье, — с санями самой лучшей конструкции, предварительно приказав мистеру Хелпмену и старшему интенданту мистеру Осмеру обеспечить эту отборную упряжную команду всем необходимым для шестинедельного пребывания на льду. Это была команда из одиннадцати человек под началом старшего помощника с «Эребуса» Фредерика Дево, где первым в упряжи шел великан Мэнсон. Всем девятерым мужчинам предложили участвовать в походе на добровольных началах. Никто не отказался. Крозье хотел проверить, возможно ли совершить столь долгий поход по открытому льду с тяжелыми санями, везущими доверху нагруженную лодку. Одиннадцать мужчин тронулись в путь в шесть склянок 23 марта, в темноте, при температуре воздуха минус тридцать девять градусов,[14] под громкое троекратное «ура», выкрикнутое всеми членами обоих экипажей. Дево со своим отрядом вернулся через три недели. Никто не умер, но все были изнурены до крайности, и четверо получили серьезные обморожения. Из одиннадцати участников похода, помимо неутомимого Дево, один только Магнус Мэнсон не производил впечатления человека, находящегося при смерти от усталости и истощения. За три недели они смогли преодолеть расстояние в неполных двадцать восемь миль по прямой от «Террора» и «Эребуса». Позже Дево прикинул, что в действительности им пришлось пройти более полутора сотен миль, чтобы удалиться от кораблей на эти двадцать восемь, но двигаться через паковые льды по прямой не представлялось возможным. Дальше к северо-востоку погодные условия были еще хуже, чем в девятом круге ада, где они уже два года томились в ледовом плену. Торосных гряд там было не счесть. Многие вздымались на высоту свыше восьмидесяти футов. Даже держаться нужного курса было почти невозможно, когда облака заволакивали солнце и звезды скрывались за облачной пеленой по несколько восемнадцатичасовых ночей подряд. Компасы, разумеется, не действовали в такой близости от северного магнитного полюса. На всякий случай они взяли с собой пять палаток, хотя собирались спать только в двух. Ночью на открытом льду было так холодно, что последние девять ночей все одиннадцать мужчин спали — когда вообще могли заснуть — в одной палатке. Но выбора у них в любом случае не оставалось, поскольку четыре из пяти прочных палаток унесло прочь или разорвало в клочья ураганным ветром на двенадцатую ночь. Каким-то образом Дево заставлял людей продолжать движение на северо-восток, но погода с каждым днем ухудшалась, торосные гряды преграждали путь все чаще, вынужденные отклонения от курса стали длиннее и опаснее, и вдобавок сани получили серьезное повреждение в процессе переходов через торосные гряды, требовавших поистине геркулесовых усилий. Два дня они потратили на одну только починку саней под завывание метели. Старший помощник решил повернуть назад на четырнадцатое утро. Теперь, когда у них осталась всего одна палатка, шансы остаться в живых значительно снизились. Они попытались вернуться к кораблям по собственному санному следу, но из-за высокой активности льда — движения ледяных плит, перемещения айсбергов, появления новых торосных гряд — отыскать оный уже не представлялось возможным. Дево — лучший после Крозье навигатор в экспедиции Франклина — снимал показания с теодолита и секстанта, когда небо ненадолго прояснялось днем или ночью, но в конечном счете выбрал курс, основываясь главным образом на счислении пути. Он сказал людям, что точно знает местоположение отряда. Позже он признался Фицджеймсу и Крозье, что был уверен: он отклонится в сторону от кораблей миль на двадцать. В последнюю ночь на льду палатку разорвало ветром, и они вылезли из спальных мешков и пошли наобум дальше на юго-запад, чтобы не замерзнуть до смерти. Они избавились от излишков провианта и одежды и продолжали тащить сани только потому, что нуждались в воде, дробовиках, патронах и порохе. Какое-то крупное существо шло следом за ними в течение всего похода. Они слышали, как оно бродило вокруг них в темноте по ночам. Отряд Дево — по-прежнему двигавшийся прямо на запад, мимо «Террора», находившегося в трех милях к югу от них, — был замечен на северном горизонте рано утром на двадцать первый день похода. Их заметил вахтенный с «Эребуса», хотя сам корабль к тому времени уже погиб: раскололся в щепки и затонул. Дево и его людям крупно повезло, что вахтенный, ледовый лоцман Джеймс Рейд, еще до рассвета забрался на громадный айсберг, служивший частью декораций Венецианского карнавала, и увидел людей в бинокль при первом проблеске зари. Рейд, лейтенант Левеконт, судовой врач Гудсер и Гарри Пеглар возглавили отряд, который отправился вдогонку за санной командой Дево и привел людей обратно, мимо груды сломанных досок, мачт и спутанных снастей такелажа, оставшихся от затонувшего корабля. Пятеро мужчин из отборной команды Дево последнюю милю пути до «Террора» уже не могли идти сами, и их пришлось везти на санях. Шестеро человек с «Эребуса» из числа участников похода, включая самого Дево, не сдержали слез при виде своего разрушенного дома. О том, чтобы направиться коротким путем на северо-восток к Бутии, теперь говорить не приходилось. После беседы с Дево и прочими изнуренными мужчинами Фицджеймс и Крозье сошлись во мнении, что лишь немногие из ста пяти оставшихся в живых человек в состоянии проделать путь до Бутии, а большинство неминуемо погибнут на льду в таких условиях, даже если дни станут длиннее, температура воздуха немного повысится и солнце будет светить ярче. Вероятность наткнуться на открытые каналы во льдах только усугубляла опасность подобного предприятия. Теперь вопрос стоял так: либо они остаются на кораблях, либо становятся лагерем на Кинг-Уильяме и в скором времени выступают на юг, к реке Бака. Крозье решил начать эвакуацию на следующий день.
Перед самым заходом солнца и привалом на обед вереница саней наткнулась на отверстие во льду. Они остановились, и пять саней со своими упряжными встали кольцом вокруг дыры. Далеко внизу чернел круг воды — первая открытая вода, которую они увидели за последние двадцать месяцев. — На прошлой неделе, когда мы тащили полубаркасы в лагерь, этого здесь не было, — сказал матрос Томас Тадмен. — Видите, как близко проходят колеи от полозьев. Мы бы заметили дыру, точно. Здесь ничего не было. Крозье кивнул. Это была не обычная полынья — так русские называли редкие отверстия в паковом льду, не замерзавшие круглый год. Толщина льда здесь составляла свыше десяти футов — меньше, чем у твердого пака вокруг «Террора», но достаточно, чтобы выдержать каменное здание, — однако нигде поблизости не наблюдалось никаких сдвинувшихся под давлением ледяных плит и никаких трещин. Такое впечатление, будто кто-то взял гигантскую пилу вроде тех, что имелись на обоих кораблях, и пропилил идеально круглое отверстие во льду. Но корабельными пилами не пропилить лед толщиной десять футов. — Мы можем пообедать здесь, — предложил Томас Блэнки. — Перекусить на морском берегу, так сказать. Мужчины отрицательно потрясли головой. Крозье согласился с ними — он задавался вопросом, испытывают ли все остальные такую же смутную тревогу, какую вызывает у него идеально круглая дыра во льду и черная вода глубоко внизу. — Мы сделаем привал примерно через час, — сказал он. — Лейтенант Литтл, скомандуйте вашим саням двигаться первыми, пожалуйста. Прошло, наверное, минут двадцать — солнце скрылось за горизонтом с почти тропической внезапностью, и звезды уже дрожали и мерцали в холодном небе, а возглавлявшие процессию морские пехотинцы взяли с саней фонари, но еще не зажгли, — когда рядовые Хопкрафт и Пилкингтон, прикрывавшие отряд с тыла, бегом нагнали Крозье, шагавшего рядом с последними санями. — Капитан, — прошептал Хопкрафт, — за нами кто-то идет. Крозье вынул свою медную подзорную трубу из футляра, притороченного сверху к поклаже на санях, и на минуту остановился вместе с двумя мужчинами, в то время как сани продолжили путь в сгущающейся тьме, поскрипывая по снегу полозьями. — Вон там, сэр, — сказал Пилкингтон, указывая здоровой рукой. — Может, оно вылезло из той дыры во льду, капитан. Как вы думаете? Мы с Бобби думаем, что именно так и обстоит дело. Может, оно просто пряталось там в воде подо льдом, выжидая, когда мы пройдем дальше, а потом погналось за нами. Как по-вашему, сэр? Крозье не ответил. Он видел существо в подзорную трубу, еле различимое в сумерках. Оно казалось белым, но потому только, что на несколько мгновений вырисовалось на фоне грозовых туч, собиравшихся в черном небе на северо-западе. Когда существо поравнялось с сераками и ледяными валунами, мимо которых вереница саней проползла всего двадцать минут назад, стало легче оценить его размеры. Оно было очень крупным: выше Магнуса Мэнсона, даже когда передвигалось на четырех лапах, как сейчас. Для существа таких размеров оно двигалось легко и плавно — скорее по-лисьи грациозно, чем по-медвежьи неуклюже. Стараясь принять более устойчивое положение на крепчающем ветру, Крозье увидел, как зверь поднялся и пошел на двух ногах. Так он передвигался чуть медленнее, но все равно быстрее людей, волокущих сани весом в две тысячи фунтов. Теперь он возвышался над сераками, до вершины которых Крозье не достал бы, даже встав на цыпочки и вытянув руку вверх. Потом стало темно, и он больше не различал существа на фоне торосных гряд и сераков. Вместе с морскими пехотинцами капитан нагнал санный отряд и положил подзорную трубу обратно в футляр; мужчины впереди налегали на упряжь, кряхтели, пыхтели и отчаянно напрягали силы. — Держитесь поближе к саням, но постоянно поглядывайте назад и держите оружие наготове, — тихо сказал Крозье Пилкингтону и Хопкрафту. — Никаких фонарей. Вам придется полагаться только на свое зрение. Громоздкие фигуры кивнули и отошли немного назад. Крозье заметил, что охранники в голове процессии зажгли фонари. Он больше не видел людей — только круги света, обрамленные гало из ледяных кристаллов. Капитан подозвал Томаса Блэнки. Деревянная нога освобождала последнего от обязанности тащить сани, хотя подошва приделанного к протезу деревянного башмака была предусмотрительно утыкана гвоздями против скольжения. С ампутированной по колено ногой Блэнки просто не мог достаточно крепко упираться в лед и достаточно сильно налегать на упряжь. Но все знали, что ледовый лоцман скоро честно выполнит свою долю работы, если не физической, то умственной: знание ледовых условий станет жизненно важным, если они наткнутся на проходы во льдах и будут вынуждены спустить лодки на воду в предстоящие недели и месяцы. Сейчас Крозье использовал Блэнки в качестве посыльного. — Мистер Блэнки, будьте любезны, пройдите вперед и сообщите людям, которые сейчас не тащат сани, что привал отменяется. Пусть они достанут холодную говядину и галеты из соответствующих ящиков и раздадут пищу морским пехотинцам и людям в упряжи, чтобы ели на ходу и запивали водой из бутылок, которые несут за пазухой. А также, пожалуйста, попросите наших охранников держать оружие наготове. Возможно, они пожелают снять рукавицы. — Есть, капитан, — сказал Блэнки и скрылся во мраке. Крозье услышал скрип снега под его деревянным башмаком с утыканной гвоздями подошвой. Капитан знал, что через десять минут все участники похода поймут, что их преследует чудовищное существо.
35. Ирвинг
69°37′42″ северной широты, 98°40′58″ западной долготы 24 апреля 1848 г.Несмотря на то что Ирвинг ослаб от болезни и голода и едва не падал с ног от усталости, несмотря на то что у него кровоточили десны и два коренных зуба, похоже, шатались, это был один из счастливейших дней в его жизни. Весь этот день и предыдущий он и Джордж Ходжсон — давние товарищи, подружившиеся еще на учебном линейном корабле «Экселлент» задолго до экспедиции, — возглавляли отряды, вышедшие на охоту и тщательную разведку местности. Впервые за три года вынужденного бездействия богом проклятой экспедиции Франклина третий лейтенант Джон Ирвинг чувствовал себя настоящим исследователем. Да, действительно, остров, восточную часть которого он исследовал — тот самый остров Кинг-Уильям, куда он приходил с лейтенантом Грэмом Гором чуть более одиннадцати месяцев назад, — куска дерьма не стоил, будучи пустынным каменистым массивом суши с низкими холмами высотой не более двадцати футов над уровнем моря и снежными распадками, населенным лишь завывающими ветрами, но Ирвинг исследовал. Сегодня утром он уже успел увидеть вещи, которых не видел ни один белый человек, а возможно, и вообще ни один человек на планете. Разумеется, речь шла всего лишь о низких каменистых холмах и продуваемых ветрами снежных и ледяных равнинах, а даже не о песцовом следе или мумифицированном трупе кольчатой нерпы, но все это обнаружил он: двадцать лет назад санный отряд сэра Джеймса Росса проходил по северному берегу острова, направляясь к Виктори-Пойнт, но именно Джон Ирвинг — уроженец Бристоля, а впоследствии житель Лондона — первым исследовал глубинные районы Кинг-Уильяма. Ирвинг был не прочь назвать внутреннюю часть острова Землей Ирвинга. Почему бы нет? Мыс неподалеку от лагеря «Террор» носил — вот уже девятнадцать лет — имя жены сэра Джона, леди Джейн Франклин, а что сделала она, дабы заслужить такую честь, кроме того, что вышла замуж за толстого лысого старика? Разные упряжные команды уже начинали ощущать себя цельными, обособленными сообществами. Поэтому вчера Ирвинг взял на охоту свою группу из шести человек, в то время как Джордж Ходжсон отправился со своими людьми на разведку местности, согласно распоряжениям капитана Крозье. Охотники Ирвинга еще не нашли ни одного звериного следа на снегу. Поскольку вчера все его люди были вооружены дробовиками и мушкетами, а сам Ирвинг, как и сегодня, нес с собой один только пистолет в кармане шинели, надо признать, временами он испытывал легкое беспокойство при мысли о помощнике конопатчика Хикки, шагавшем позади него с ружьем в руках. Но сейчас, когда Магнус Мэнсон находился на корабле в двадцати пяти милях отсюда, Хикки держался с Ирвингом, Ходжсоном и прочими офицерами не просто вежливо, а даже почтительно. Джону Ирвингу невольно вспомнилось, как в родном бристольском доме учитель частенько отделял его и братьев друг от друга, когда они начинали шалить во время долгих скучных уроков. Он просто рассаживал мальчиков по разным комнатам старинного помещичьего особняка и часами проводил занятия с каждым по отдельности, переходя из одного помещения на втором этаже старого флигеля в другое и гулко стуча высокими каблуками украшенных пряжками туфлей по дубовым полам. Джон и его братья Дэвид и Уильям — доставлявшие мистеру Кандрие много хлопот, когда собирались все втроем, — почти робели, оставаясь наедине с бледным, сухопарым, долговязым учителем в белом парике. Ирвинг, поначалу страшно не хотевший обращаться к капитану Крозье с просьбой оставить Мэнсона на корабле, теперь был рад, что высказался. И тем более рад, что капитан не стал допытываться насчет причины подобной просьбы; Ирвинг так и не сообщил Крозье о сцене с участием помощника конопатчика и здоровенного матроса, которую видел однажды ночью в трюме, и не собирался сообщать. Но сегодня он не особо волновался по поводу Хикки или по любому другому поводу. Помимо самого Ирвинга с его пистолетом, единственным участником разведывательного отряда, имевшим при себе оружие, был Эдвин Лоуренс, вооруженный мушкетом. Стрельбы, произведенные близ выстроенных в ряд саней с лодками у лагеря «Террор», показали, что Лоуренс является единственным в данной группе человеком, способным более или менее сносно стрелять из мушкета, и посему сегодня он выступал в роли их охранника и защитника. Остальные взяли в поход лишь наскоро сшитые парусиновые сумки через плечо. Рубен Мейл, баковый старшина и весьма изобретательный малый, изрядно потрудился вместе со старым парусником Мюрреем, чтобы изготовить такие сумки для всех, и потому они естественным образом получили название мужских сумок. В своих мужских сумках люди носили пули или порох, галеты и вяленую свинину, неприкосновенный запас в виде банки голднеровских консервов, несколько свитеров, проволочные очки, смастеренные по приказу Крозье для предохранения от снежной слепоты, дополнительный запас пороха и дроби во время охоты и спальные мешки на случай, если в силу неких непредвиденных обстоятельств они не смогут вернуться в лагерь и будут вынуждены расположиться биваком на ночь. Сегодня утром отряд Ирвинга шел уже более пяти часов, направляясь в глубь острова. Они старались по возможности оставаться на небольших каменистых возвышенностях: там дул ветер покрепче и холоднее, но идти было легче, чем по заваленным снегом и льдом низинам. Пока они не увидели ничего такого, что могло бы повысить шансы экспедиции на выживание — ни зеленого лишайника, ни оранжевого мха на скалах. Из книг, прочитанных в библиотеке «Террора» (в том числе двух, написанных самим сэром Джоном Франклином), Ирвинг знал, что голодные люди могут варить своего рода супы из мхов и лишайников. Очень голодные люди. Когда разведывательный отряд остановился на привал, чтобы съесть холодный обед, утолить жажду водой и немного передохнуть в защищенной от ветра низине, Ирвинг на время передал командование грот-марсовому старшине Томасу Фарру, а сам пошел дальше один. Он сказал себе, что люди измучены тяжелыми санными походами последних нескольких недель и нуждаются в отдыхе, но на самом деле он просто хотел побыть наедине с самим собой. Ирвинг сказал Фарру, что вернется через час и что будет часто спускаться на занесенные снегом участки склонов, оставляя там следы — для себя самого, чтобы не заблудиться на обратном пути, или для остальных, чтобы по ним они отыскали его, коли он припозднится. Шагая дальше на восток в блаженном одиночестве, лейтенант грыз черствую галету. Он чувствовал, как сильно шатаются у него два зуба, а отняв галету ото рта, увидел на ней кровь. Несмотря на постоянное чувство голода, в последнее время у Ирвинга пропал аппетит. С трудом преодолев очередную занесенную снегом низину, Ирвинг вышел на каменистый склон и начал устало подниматься к вершине очередного холма, где дул пронизывающий ветер. Он остановился. По широкой заснеженной долине впереди двигались черные точки. Ирвинг зубами стянул рукавицы и принялся рыться в парусиновой сумке в поисках своей великолепной медной подзорной трубы, полученной в подарок от дядюшки по случаю вступления в военно-морской флот. Он не стал припадать глазом к окуляру, поскольку медный ободок последнего примерз бы к веку и щеке, едва до них дотронувшись, а так было труднее навести резкость, даже держа длинную подзорную трубу обеими руками. Руки у него дрожали. То, что Ирвинг принял за маленькую стаю мохнатых зверей, на деле оказалось группой людей. Охотничий отряд Ходжсона? Нет. Три фигуры были в толстых меховых парках наподобие той, какую носила леди Безмолвная. И через заснеженную равнину медленно пробирались десять фигур, шедших рядом, но не гуськом, в то время как Джордж ушел из лагеря всего с шестью мужчинами. И Ходжсон со своим отрядом сегодня направился на юг вдоль берега, а не в глубь острова. И у этих людей были маленькие сани. Отряд Ходжсона не взял с собой саней. И в лагере «Террор» вообще не было таких маленьких саней. Ирвинг попытался получше сфокусировать свою любимую подзорную трубу и затаил дыхание, чтобы она не дрожала. Сани тащила упряжка по меньшей мере из шести собак. Это были либо белые спасатели в эскимосских одеждах, либо настоящие эскимосы. Ирвингу пришлось отнять от глаза подзорную трубу, а потом бессильно упасть на одно колено на холодные камни и на несколько мгновений низко опустить голову. Все плыло у него перед глазами. Физическая слабость, которую он на протяжении многих недель сдерживал одной только силой воли, накатила на него, словно волна тошноты. «Это все меняет», — подумал он. Фигуры внизу (похоже, они по-прежнему не видели Ирвинга — возможно, потому, что он уже немного спустился вниз по склону и стал не очень заметен на фоне темных камней в своей темной шинели) могли быть охотниками из какой-нибудь неизвестной эскимосской деревни, расположенной неподалеку. Коли так, сто пять оставшихся в живых человек с «Эребуса» и «Террора» почти наверняка спасены. Аборигены либо станут кормить их, либо научат, как самим прокормиться здесь, на этом пустынном острове. Но может статься, это военный отряд, и примитивные копья, мельком увиденные Ирвингом в подзорную трубу, предназначаются для белых людей, о вторжении которых на свою территорию эскимосы каким-то образом прознали. Так или иначе, третий лейтенант Джон Ирвинг знал, что должен спуститься вниз, встретиться с ними и все выяснить. Он сложил подзорную трубу и аккуратно засунул между запасных свитеров в парусиновой сумке, а потом — вскинув вверх одну руку в надежде, что эскимосы истолкуют сей жест как миролюбивый знак приветствия, — начал спускаться по длинному отлогому склону холма навстречу десяти фигурам, внезапно остановившимся.
36. Крозье
69°37′42″ северной широты, 98°41′ западной долготы 24 апреля 1848 г.Третий день перехода по льду оказался чудовищно тяжелым. За последние шесть недель Крозье совершал путешествия от корабля в лагерь по меньшей мере дважды, с одними из первых и самых больших санных отрядов. Во время тех двух походов люди по очереди волокли два из четырех длинных вельботов прямо по льду и через торосные гряды, а на санях везли только провиант и снаряжение, но, даже несмотря на слабую укатанность тропы, идти тогда было гораздо легче. Он был здоровее. И не так измучен. Френсис Крозье не сознавал этого, но после того, как он оправился от почти смертельной болезни в январе, тяжелая меланхолия, владевшая им с юности, а возможно, даже с детства, приобрела форму бессонницы. Будучи матросом, а потом капитаном, Крозье всегда гордился — как большинство капитанов — своей способностью спать очень мало и пробуждаться от самого глубокого сна при любом изменении в состоянии корабля: при перемене курса, усилении ветра в парусах наверху, частом топоте слишком большого количества ног, бегущих по палубе во время какой-нибудь особой вахты, изменении звука воды, плещущей о борта… в общем, при любой, самой незначительной перемене обстоятельств. Но в последние месяцы, после схватки со смертью в начале января, Крозье спал все меньше и меньше с каждой ночью и наконец приобрел обыкновение дремать час-другой в середине ночи и порой урывать на сон полчаса или меньше в течение дня. Он говорил себе, что это просто следствие чрезвычайной занятости — нужно сделать слишком много дел и отдать слишком много приказов в последние недели и дни перед эвакуацией с корабля, — но на самом деле это меланхолия снова пыталась убить его. Почти все время сознание Крозье находилось в оцепенении. Его острый от природы ум отупел, отравленный усталостью. В последние две ночи, проведенные в первом и втором промежуточных лагерях на морском льду, никто не мог толком заснуть, несмотря на крайнюю усталость. Необходимости устанавливать палатки не было: уже несколько недель там постоянно стояли восемь палаток, и каждый следующий отряд устранял повреждения, причиненные ветром или снегом. Спальные мешки из оленьих шкур, рассчитанные на трех человек, были гораздо теплее мешков, сшитых из шерстяных одеял, и места в них распределялись по жребию. Крозье даже не стал участвовать вжеребьевке, но когда в первую свою ночь на льду он вошел в палатку, которую делил вместе с еще двумя офицерами, то обнаружил, что его стюард Джопсон расстелил спальный мешок из оленьих шкур, сшитый для него одного. И Джопсон, и двое других мужчин считали недопустимым, чтобы капитан делил спальный мешок с двумя другими храпящими, пердящими, толкающимися во сне мужчинами — пусть даже офицерами, — и Крозье не стал спорить. А равно не сказал ни Джопсону, ни другим, что спать в одноместном мешке гораздо холоднее, чем в трехместном. Только тепло лежащих рядом тел согревало людей достаточно, чтобы они могли спать ночью. Но Крозье и не пытался уснуть ни в первом, ни во втором промежуточном лагере. Каждые два часа он вставал и обходил лагерь, чтобы убедиться, что часовые сменились вовремя. Ветер ночью крепчал, и часовые прятались за наспех сооруженными невысокими снежными стенами. Из-за резкого ветра и метели они не увидели бы чудовищного существа, пока не столкнулись бы с ним нос к носу. Той ночью оно не появилось. Когда же Крозье изредка погружался в беспокойное забытье, он снова видел кошмарные сны, посещавшие его во время январской болезни. Некоторые сны повторялись так часто — заставляя капитана всякий раз просыпаться в холодном поту, — что он запомнил отдельные фрагменты. Девочки-подростки, проводящие спиритический сеанс. Макклинток и другой мужчина, в ужасе глядящие на два скелета в лодке, один из которых сидит в бушлате и полном зимнем обмундировании, а другой представляет собой лишь груду обглоданных костей. Крозье жил с подспудным сознанием, что один из скелетов — он сам. Но самым ужасным был сон о причастии, где он — маленький мальчик или больной старик — стоял голый на коленях у алтаря в церкви, а огромный, звероподобный священник — в насквозь промокшем изодранном белом одеянии, в прорехах которого виднелось багровое, сожженное до мяса тело, — нависал над ним, наклонялся ниже, смрадно дыша в поднятое лицо Крозье. Утром 23 апреля они встали в начале шестого. До восхода солнца еще оставалось почти четыре часа. Ветер продолжал дуть, хлопая коричневой парусиной голландских палаток и обжигая лица людей, собравшихся к завтраку. На льду пищу полагалось разогревать в маленьких жестяных емкостях с надписью «варочное устройство», используя спиртовки, которые заправлялись эфиром из бутылок. Даже в безветренную погоду заправить и зажечь спиртовки зачастую было трудно или почти невозможно; при сильном же ветре такая возможность вообще исключалась, даже если рискнуть и попытаться зажечь спиртовки в палатке. Поэтому — утешаясь мыслью, что голднеровские консервированные овощи, супы и мясо уже приготовлены, — мужчины просто поели замерзшего или полузамерзшего студенистого месива прямо из банок. Они умирали от голода, а им предстояло тащить сани весь бесконечно долгий день. Гудсер и три ныне покойных врача неоднократно говорили Крозье и Фицджеймсу о необходимости хорошо разогревать голднеровские консервированные продукты, особенно супы. Овощи и мясо, указывал Гудсер, действительно предварительно проварены или протушены, но супы — главным образом из дешевого пастернака, моркови и прочих корнеплодов — представляют собой просто «концентраты», которые нужно разводить водой и варить до готовности. Судовой врач не мог сказать, какие именно ядовитые вещества могут содержаться в некипяченых голднеровских супах, но продолжал настаивать на необходимости разогревать последние до температуры кипения, даже во время походов. Предостережения Гудсера и стали одной из главных причин, почему Крозье и Фицджеймс приказали перевезти в лагерь «Террор» тяжелые железные печи с вельботов. Но ни в первом, ни во втором промежуточном лагере никаких печей не было. Люди ели всю консервированную пищу холодной, прямо из банок, когда разжечь спиртовки не удавалось, — и даже когда эфир в них горел, топлива хватало только для того, чтобы растопить замерзшие супы, но уж никак не вскипятить. Придется довольствоваться этим, думал Крозье. Как только капитан покончил с завтраком, в животе у него снова заурчало от голода. Изначально они собирались снять все восемь палаток в обоих промежуточных лагерях и отвезти в лагерь «Террор», чтобы держать про запас на случай, если каким-нибудь отрядам вскоре снова придется выйти на лед. Но дул слишком сильный ветер, и люди слишком устали даже за первые сутки похода. Крозье посовещался с лейтенантом Литтлом, и они решили забрать из этого лагеря только три палатки. Возможно, завтра утром, выступая из второго промежуточного лагеря, они будут чувствовать себя лучше. На второй день похода, 23 апреля 1848 года, трое мужчин в упряжи сломались. Одного стало рвать кровью. Двое других просто упали на лед и потом весь день уже не могли тащить сани. Одного из этих двух пришлось везти дальше вместе с поклажей. Не желая сокращать количество вооруженных охранников, идущих впереди, позади и с флангов, Крозье и Литтл сами встали в упряжь и тащили сани почти весь тот бесконечно длинный день. В течение второго дня похода им не пришлось преодолевать очень уж высоких торосных гряд, а санный след на данном участке пути замерзшего моря пролегал подобием торной дороги, но сильный ветер и метель сводили эти преимущества на нет. Мужчины в упряжи не видели саней, ползущих в пятнадцати футах впереди. Вооруженные морские пехотинцы, охранявшие обоз, не видели никого и ничего, когда находились в двадцати футах от саней, и вынуждены были идти вплотную к ним, чтобы не потеряться. В качестве часовых они не приносили никакой пользы. Несколько раз в течение дня головные сани — обычно Крозье или Фицджеймса — сбивались с проложенного санного следа, и тогда всем приходилось останавливаться и ждать от нескольких минут до получаса, пока несколько мужчин — связавшись веревкой, чтобы не заблудиться в метели, — бродили справа и слева от вереницы повозок в поисках неглубоких санных следов во льду, которые быстро заносило снегом. Сбиться с дороги на середине пути значило бы не только потерять время: это вполне могло стоить всем им жизни. Некоторые упряжные команды, тащившие более тяжелые грузы, преодолевали эти девять миль относительно ровного льда менее чем за двенадцать часов и прибывали во второй промежуточный лагерь всего через несколько часов после захода солнца. Отряд Крозье добрался туда далеко за полночь и едва вообще не проскочил мимо лагеря. Если бы Магнус Мэнсон — обладавший слухом столь же необычным, как его размеры и тупость, — не услышал хлопанья палаток на ветру далеко по левому борту, они бы прошли мимо своего пристанища и склада продовольственных припасов. Яростный ветер, безостановочно дувший весь день, причинил лагерю значительные разрушения. Пять из восьми палаток унесло в темноту — хотя они прочно крепились ко льду металлическими штырями с винтовой резьбой — или просто разорвало в клочья. Еле живые от усталости и голода мужчины сумели поставить две палатки из трех, взятых в первом лагере, и сорок шесть человек, которым было бы вполне удобно, но довольно тесно в восьми палатках, битком набились в пять. Для часовых, посменно дежуривших той ночью — шестнадцати мужчин из сорока шести, — ветер, снег и мороз стали сущим адом. Крозье сам отстоял на посту с двух до четырех часов утра. Он решил воспользоваться возможностью двигаться, поскольку в своем одноместном спальном мешке все равно не мог заснуть от холода, даром что люди вокруг него в тесной палатке лежали чуть не штабелями. Последний день похода был самым тяжелым. Незадолго до подъема, состоявшегося в пять утра, ветер стих, но радость от перспективы увидеть наконец чистое голубое небо сводило на нет резкое понижение температура воздуха по меньшей мере на тридцать градусов. Лейтенант Литтл произвел замеры, и в шесть утра термометр показывал шестьдесят четыре градуса ниже ноля. «Всего-навсего восемь миль», — продолжал говорить себе Крозье, шагая в упряжи. Он знал, что все остальные думают то же самое. «Сегодня всего восемь миль, на целую милю меньше, чем вчерашний ужасный переход». Когда еще несколько мужчин упали, вконец обессиленные болезнью или усталостью, Крозье приказал охранникам положить винтовки, мушкеты и дробовики на повозки и встать в упряжь, как только покажется солнце. Все, кто мог идти, мог и тащить сани. Относительную безопасность им обеспечивала ясная погода. Кинг-Уильям показался вдали расплывчатой коричневой полосой, едва рассвело, — стена высоких айсбергов и нагромождения берегового льда вдоль нее вырисовывались четче, блистая вдали в бледных холодных лучах солнца, словно вал из битого стекла, и видом своим повергая в уныние, — но дневной свет служил залогом того, что они не собьются со старого санного пути и что чудовищное существо не подкрадется к ним незаметно. Однако существо продолжало преследовать отряд. Они видели его — маленькое пятнышко к юго-западу от них, передвигавшееся гораздо быстрее, чем могли двигаться запряженные в сани люди. Несколько раз в течение дня Крозье или Литтл бросали упряжь, доставали свои подзорные трубы и смотрели на зверя. Он находился по меньшей мере в двух милях от них и передвигался на четырех лапах. На таком расстоянии он вполне мог сойти за белого медведя, великое множество которых они успели убить за последние три года. То есть пока он не поднялся на задние лапы, возвышаясь над окружающими ледяными валунами и гроулерами, и не начал принюхиваться, пристально глядя в их сторону. «Он знает, где мы, — думал Крозье, глядя в свою медную подзорную трубу, потертую и исцарапанную за многие годы службы на обоих полюсах. — Он знает, куда мы направляемся. И хочет добраться туда первым». Они шли весь день, остановившись только после раннего заката, чтобы поесть замерзшего содержимого консервных банок. Соленая свинина и галеты у них кончились. Ледяные стены, отделявшие остров Кинг-Уильям от пакового льда, загорелись в лучах солнца, засверкали подобием города, озаренного десятью тысячами газовых фонарей, за несколько минут до того, как тьма стремительно расползлась по небу, точно пролитые чернила. До острова оставалось еще четыре мили. Восемь человек теперь лежали на санях, трое — без сознания. Они перевалили через большой ледяной барьер, отделявший паковый лед от суши, где-то после часа ночи. Ветер оставался слабым, но температура воздуха продолжала падать. Когда они ненадолго остановились, чтобы перевязать постромки для подъема саней на тридцатифутовую ледяную стену — проход через которую, проложенный за последние недели, в результате движения льда завалило тысячами новых ледяных валунов, сорвавшихся с громадных айсбергов по обеим сторонам от него, — лейтенант Литтл снова измерил температуру воздуха. Минус восемьдесят два. Крозье уже много часов тащил сани и отдавал приказы как во сне, оглушенный смертельной усталостью. На закате, когда он в последний раз посмотрел в подзорную трубу на юг, на исчезающее вдали существо, уже находившееся впереди них, уже поднимавшееся на стену айсбергов легкими прыжками, он неосмотрительно снял рукавицы и перчатки, чтобы сделать в своем журнале записи о местонахождении отряда. Он забыл надеть перчатки, прежде чем снова взять подзорную трубу, и кончики пальцев одной руки и ладонь другой у него мгновенно примерзли к металлу. Быстро отдернув руки прочь, он содрал кожу с мясом с четырех пальцев правой руки, включая большой, и лоскут кожи с левой ладони. Здесь, в Арктике, такие раны не заживали, особенно после появления первых симптомов цинги. Крозье отвернулся от остальных мужчин, и его вырвало от боли. Жгучая боль в поврежденных пальцах и ладони только возрастала в течение долгих ночных часов, пока он тащил, тянул, толкал и волочил сани. Когда около половины второго ночи они взбирались на последний ледяной барьер, под бескрайним ясным, но убийственно холодным небом, усеянным дрожащими, мерцающими звездами, Крозье тупо подумал о том, чтобы бросить здесь сани и совершить рывок по обледенелому каменистому, занесенному снегом берегу к лагерю «Террор». Другие могут вернуться вместе с ними завтра утром и помочь протащить немыслимо тяжелые повозки последнюю милю до места назначения. Но у Френсиса Крозье еще оставалось достаточно здравого смысла и чувства ответственности, чтобы сразу отвергнуть эту мысль. Конечно, он мог поступить так — бросить сани (чего еще не делал ни один отряд) и добрести до безопасного пристанища налегке, тем самым спасая жизни людям, — но тогда он навсегда потеряет авторитет в глазах своих ста четырех оставшихся в живых матросов и офицеров. От невыносимой боли в ободранных руках капитана часто рвало, пока они тащили и толкали сани вверх по склону ледяного хребта, — краешком сознания он отметил, что рвота у него жидкая и красная в свете фонарей, — но Крозье продолжал отдавать команды и оказывать посильную помощь, пока наконец тридцать восемь мужчин, еще способных напрягать силы, не спустились вместе с санями на лед и гальку берега. Не будь Крозье уверен, что на таком морозе у него сорвет кожу с губ, он бы, наверное, упал в темноте на колени и поцеловал благословенную землю, когда услышал долгожданный скрип крупного песка и камня под полозьями саней, вышедших на последнюю милю пути. В лагере «Террор» горели факелы. Крозье шел первым в упряжи головных саней, когда они вступили в лагерь. Все старались держаться прямо — или, по крайней мере, шататься, держась прямо, — пока тащили тяжеленные сани с лежащими на них в беспамятстве мужчинами последние сто ярдов по территории лагеря. Тепло укутанные мужчины поджидали их, собравшись перед палатками. Поначалу Крозье был тронут таким проявлением заботы, уверенный, что две дюжины человек, которых он увидел в свете факелов, уже собирались послать спасательный отряд на поиски своего капитана и товарищей. Изнемогая от жгучей боли в руках, из последних сил налегая на упряжь в стремлении поскорее преодолеть последние шестьдесят футов, остававшиеся до освещенного факелами пространства, Крозье заготовил шутку по случаю благополучного прибытия своего отряда — намереваясь объявить, что нынче снова настало Рождество, а потому всем разрешается спать всю следующую неделю, — но потом капитан Фицджеймс и несколько офицеров выступили вперед, чтобы поприветствовать их. Тогда Крозье увидел их глаза: глаза Фицджеймса, и Левеконта, и Дево, и Кауча, и Ходжсона, и Гудсера, и всех прочих. И он сразу понял — благодаря ли своему шестому чувству, полученному в наследство от бабушки Мойры, или своему безошибочному капитанскому чутью, или просто благодаря незамутненному мыслью, обостренному восприятию, какое присуще до крайности изнуренному человеку, — он понял: что-то случилось, и отныне все пойдет не так, как он планировал или надеялся.
37. Ирвинг
69°37′42″ северной широты, 98°40′58″ западной долготы 24 апреля 1848 г.Там стояли десять эскимосов: шестеро мужчин неопределенного возраста, один древний беззубый старик, мальчик и две женщины — одна старая, с ввалившимся ртом и изборожденным морщинами лицом, а другая очень молодая. «Возможно, это мать и дочь», — подумал Ирвинг. Все мужчины были малого роста: макушка самого высокого едва доходила до подбородка рослого лейтенанта. У двоих капюшоны были откинуты назад, являя взору растрепанные черные волосы, но все остальные пристально смотрели на Ирвинга из глубины своих капюшонов, отороченных у одних пышным белым мехом — возможно, песцовым, — а у других бурым и более жестким, похожим на росомаший. Все представители мужского пола, кроме мальчика, были вооружены либо гарпуном, либо коротким копьем с костяным или каменным наконечником, но, когда Ирвинг приблизился и показал свои пустые руки, прежде поднятые и наставленные на него копья разом опустились. Эскимосские мужчины (охотники, решил Ирвинг) стояли спокойно, расставив ноги, с оружием в опущенных руках, а старик позади них одной рукой придерживал сани, а другой обнимал за плечи мальчика. Сани — гораздо более короткие и легкие, чем самые маленькие складные сани на «Терроре», — были запряжены шестью дикими лохматыми псами, которые лаяли и рычали, злобно скаля острые клыки, пока старик не утихомирил их несколькими ударами резного шеста. Пытаясь сообразить, как бы вступить в общение с этими странными людьми, Ирвинг изумленно рассматривал их одеяния. У мужчин парки были короче и темнее, чем у леди Безмолвной или ее покойного спутника, но такие же пушистые. Ирвинг решил, что они сшиты, возможно, из оленьих или лисьих шкур, но белые штаны по колено — определенно из шкуры белого медведя. Одни эскимосы были в высоких меховых сапогах — похоже, тоже из оленьей шкуры, а другие в гладких и эластичных. Тюленья кожа? Или все та же оленья шкура, только вывернутая? Их рукавицы — сшитые явно из тюленьей кожи — казались теплее и мягче его собственных. Лейтенант рассматривал шестерых мужчин, пытаясь понять, кто у них главный, но определить это по виду представлялось затруднительным. Помимо старика и мальчика среди эскимосов выделялся только один: самый старший мужчина, с непокрытой головой, обхваченной затейливой головной повязкой из белой оленьей шкуры, с тонким поясным ремнем, увешанным странными вещицами, и с каким-то мешочком, висящим на шее. Однако мешочек не был простым амулетом вроде каменной фигурки белого медведя, какую носила на груди леди Безмолвная. «Безмолвная, как жаль, что тебя здесь нет», — подумал Джон Ирвинг. — Приветствую вас, — сказал он. Потом похлопал себя по груди рукой в рукавице. — Лейтенант Джон Ирвинг с британского корабля «Террор». Мужчины коротко переговорили друг с другом приглушенными голосами. Ирвинг расслышал слова вроде «каблуна», «каавак» и «миагорток», но, разумеется, не имел ни малейшего понятия, что они означают. Старший мужчина с непокрытой головой, поясным ремнем и мешочком на шее указал пальцем на Ирвинга и сказал: — Пиификсаак! Несколько мужчин помоложе отрицательно потрясли головой. Если эскимос употребил применительно к нему бранное слово, Ирвинг надеялся, что они выражают свое несогласие с товарищем. – Джон Ирвинг, — повторил он, снова дотрагиваясь до своей груди. – Сиксам иеа? — сказал мужчина, стоявший напротив него. — Суингне! Ирвинг мог только кивнуть на это. Он снова прикоснулся к своей груди. «Ирвинг». Потом указал рукой на грудь мужчины, с вопросительным видом. Мужчина пристально смотрел на него из-под опушенного капюшона. В отчаянии лейтенант указал на первого пса в упряжи, который по-прежнему лаял и рычал, удерживаемый стариком, немилосердно лупившим его палкой. — Собака, — сказал Ирвинг. — Собака. Эскимос, стоявший ближе всех к Ирвингу, рассмеялся. — Киммик, — отчетливо произнес он, тоже указывая на пса. — Тунок. — Мужчина потряс головой и хихикнул. Ирвинг, хотя и дрожавший от холода, почувствовал тепло, разлившееся в груди. Он чего-то достиг. Для обозначения лохматого пса эскимосы использовали либо слово «киммик», либо слово «тунок», либо оба. Он указал на сани. — Сани, — твердо заявил он. Десять эскимосов уставились на него. Юная женщина прикрыла лицо руками в рукавицах. У старухи отвисла челюсть, и Ирвинг увидел во рту у нее один зуб. — Сани, — повторил он. Шесть мужчин, стоявших впереди, переглянулись. Наконец эскимос, выступавший в роли собеседника Ирвинга, сказал: — Камотик? Ирвинг радостно кивнул, хотя понятия не имел, установилось ли уже между ними понимание. Вполне возможно, мужчина сейчас поинтересовался, не хочет ли он, чтобы его проткнули гарпуном. И все же младший лейтенант невольно расплылся в улыбке. Почти все эскимосы — кроме мальчика, старика, продолжавшего колотить пса, и мужчины без капюшона, с ремнем и мешочком на груди, — заулыбались в ответ. — Вы случайно не говорите по-английски? — спросил Ирвинг, сознавая, что несколько запоздал с вопросом. Эскимосы смотрели на него, улыбались и молчали. Ирвинг повторил вопрос на своем школьном французском и на чудовищном немецком. Эскимосы продолжали улыбаться и пристально смотреть на него. Ирвинг присел на корточки, и шестеро мужчин тоже присели на корточки. Они не стали садиться на обледенелые камни, хотя поблизости находилось несколько удобных валунов. После стольких месяцев, проведенных в этом холодном краю, Ирвинг хорошо их понимал. Он по-прежнему хотел узнать чье-нибудь имя. – Ирвинг, — сказал он, снова дотрагиваясь до своей груди. Он указал рукой на ближайшего мужчину. – Инук, — сказал мужчина, дотрагиваясь до своей груди. Он проворно стянул рукавицу зубами и поднял правую руку. На ней не хватало мизинца и безымянного пальца. — Тикеркат. — Он снова широко улыбнулся. – Рад познакомиться с вами, мистер Инук, — сказал Ирвинг. — Или мистер Тикеркат. Очень рад познакомиться с вами. Он решил, что для более или менее осмысленного общения придется прибегнуть к языку жестов, и указал рукой в сторону, откуда пришел, — на северо-запад. — У меня много друзей, — сказал он уверенным голосом, словно рассчитывая хоть в какой-то мере обезопасить себя от дикарей подобным сообщением. — Два больших корабля. Два… корабля. Почти все эскимосы посмотрели в сторону, куда указал Ирвинг. Мистер Инук слегка нахмурился. — Нанук, — тихо произнес он, а потом потряс головой, будто поправляя себя, и сказал: — Торнарссук. При последнем слове все остальные отвели глаза или отпустили голову, словно в страхе или благоговейном трепете. Но лейтенант был уверен, что чувства эти вызваны отнюдь не мыслью о двух кораблях или группе белых людей. Ирвинг облизал потрескавшиеся до крови губы. Лучше начать с ними меновую торговлю, чем завязывать длинный разговор. Медленно, чтобы не вспугнуть никого из них, он залез в свою парусиновую сумку с целью посмотреть, не найдется ли там какое-нибудь лакомство или безделушка, которые можно преподнести эскимосам в дар. Ничего. Он уже съел кусок соленой свинины и черствую галету, взятые на день. Тогда что-нибудь блестящее и занимательное… В сумке лежали только рваные свитера, пара вонючих запасных носков и тряпица, прихваченная на случай естественных отправлений на открытом воздухе. В тот момент Ирвинг горько пожалел, что отдал свой китайский шелковый платок леди Безмолвной — где бы девушка ни находилась сейчас, она незаметно скрылась из лагеря «Террор» на следующий день после прибытия и больше не появлялась. Он знал, что красно-зеленый шелковый платок понравился бы дикарям. Потом он наткнулся холодными пальцами на округлый медный бок подзорной трубы. Сердце у него радостно екнуло, потом сжалось от боли. Подзорная труба являлась, наверное, самой ценной из личных вещей Ирвинга: последний подарок любимого дяди, полученный незадолго до скоропостижной смерти последнего от сердечного приступа. Слабо улыбаясь эскимосам, выжидательно на него смотревшим, лейтенант медленно вынул инструмент из сумки. Он заметил, что смуглолицые мужчины сжали крепче свои копья и гарпуны.
Через десять минут все члены эскимосского семейства, или клана, или племени толпились вокруг Ирвинга, словно школьники вокруг любимого учителя. Все они — даже подозрительный, искоса поглядывающий на незнакомца старший мужчина в головной повязке, с поясным ремнем и мешочком на груди — по очереди смотрели в подзорную трубу. Даже две женщины дождались своей очереди — хотя Ирвинг предоставил мистеру Инуку, своему новому посреднику, вручить медный инструмент хихикающей юной девушке и старухе. Даже древний старик, удерживавший упряжных псов на месте, подошел, чтобы взглянуть в трубу и издать удивленный возглас, пока обе женщины тянули певучим речитативом:
38. Крозье
69°37′42″ северной широты, 98°41′ западной долготы 25 апреля 1848 г.Едва они добрались до лагеря «Террор», измученные люди разбрелись по палаткам и заснули мертвым сном, но сам Крозье не сомкнул глаз всю ночь 24 апреля. Сначала он зашел в палатку лазарета, поставленную для того, чтобы доктор Гудсер мог произвести вскрытие и подготовить тело к погребению. Труп лейтенанта Ирвинга, белый и окоченелый после долгого путешествия на реквизированных у дикарей санях, мало походил на человеческий. Кроме зияющей раны на горле — такой глубокой, что в ней виднелся белый позвонок и голова откидывалась назад, словно на оконной петле, — у молодого человека были отрезаны гениталии и выпущены кишки. Гудсер все еще бодрствовал и работал над телом, когда Крозье вошел в палатку. Врач исследовал несколько внутренних органов, извлеченных из трупа, тыкая в них каким-то острым инструментом. Он поднял глаза и посмотрел на Крозье странным, задумчивым, почти виноватым взглядом. Несколько долгих мгновений, пока капитан стоял над телом, оба мужчины молчали. Наконец капитан осторожно убрал со лба Ирвинга прядь светлых волос, почти касавшуюся открытых, помутневших, но все еще вперенных в пустоту голубых глаз. — Приготовьте тело к погребению завтра к полудню, — сказал Крозье. — Слушаюсь, сэр. Крозье направился к своей палатке, где его ждал Фицджеймс. Несколько недель назад, когда стюард Крозье, тридцатилетний Томас Джопсон, надзирал за погрузкой и транспортировкой в лагерь «капитанской палатки», Крозье пришел в бешенство, узнав, что Джопсон не только распорядился сшить палатку вдвое большего размера (капитан рассчитывал на обычную коричневую голландскую палатку), но также приказал людям перевезти на остров огромную койку, несколько массивных дубовых кресел из кают-компании и украшенный резьбой письменный стол, прежде принадлежавший сэру Джону. Теперь Крозье был доволен, что у него есть мебель. Он поставил тяжелый стол между входом в палатку и койкой, а два кресла задвинул за стол. Фонарь, висевший под высоким потолком палатки, ярко освещал пустое пространство перед столом, но Фицджеймс и Крозье, сидевшие в креслах, оставались в полумраке. Обстановка напоминала помещение военного суда. Именно это и нужно было Крозье. — Вам следует поспать, капитан, — сказал Фицджеймс. Крозье посмотрел на молодого капитана, который давно уже не выглядел молодо. Фицджеймс походил на живой труп — бледный до такой степени, что кожа казалась прозрачной, заросший бородой, покрытой запекшейся кровью, с впалыми щеками и глубоко ввалившимися глазами. Крозье уже несколько дней не смотрелся в зеркало и обходил стороной зеркало, висевшее в глубине его палатки, но страстно надеялся, что выглядит не так ужасно, как бывшая «восходящая звезда» военно-морского флота Британии, командор Джеймс Фицджеймс. — Вам самому следует поспать, Джеймс, — сказал Крозье. — Я могу допросить людей один. Фицджеймс устало помотал головой. — Я допрашивал их, разумеется, — сказал он бесцветным, монотонным голосом, — но я не был на месте преступления и не устраивал тщательного допроса. Я знал, что вы захотите сами сделать это. Крозье кивнул. — Я хочу быть на месте преступления к рассвету. — Оно находится часах в двух быстрой ходьбы в юго-западном направлении, — сказал Фицджеймс. Крозье снова кивнул. Фицджеймс снял фуражку и причесал грязными пальцами длинные сальные волосы. Они растапливали снег и лед на перевезенных в лагерь печах с вельботов, и полученной таким образом воды хватало для питья и на бритье — если кто-нибудь из офицеров желал побриться, — но на мытье уже ничего не оставалось. Фицджеймс улыбнулся. – Помощник конопатчика Хикки спрашивал, можно ли ему поспать перед допросом. – Помощник конопатчика Хикки вполне может потерпеть, как все мы, — отрезал Крозье. – Примерно так я и ответил, — тихо проговорил Фицджеймс. — Я поставил его в караул. Холод не даст ему заснуть. — Или убьет его, — сказал Крозье. Судя по тону, капитан не считал такой поворот событий наихудшим из всех возможным. Громким голосом он крикнул рядовому Дейли, стоявшему на часах у входа в палатку. — Пригласите сюда сержанта Тозера!
Каким-то образом дородный тупой сержант умудрялся оставаться в теле, когда все остальные мужчины страшно исхудали, питаясь впроголодь. Пока Крозье проводил допрос, он стоял по строевой стойке, без мушкета. – Какого вы мнения о сегодняшних событиях, сержант? – Самого хорошего, сэр. – Хорошего? — Крозье подумал об изуродованном теле лейтенанта Ирвинга, лежащем в медицинской палатке по соседству. – Да, сэр. Атака, сэр. Прошла как по маслу. Как по маслу. Мы спустились с того большого холма, сэр, опустив мушкеты, винтовки и дробовики так, словно настроены самым дружелюбным образом, сэр, а дикари смотрели, как мы приближаемся. С расстояния менее двадцати ярдов мы открыли огонь и дали прикурить ихней чертовой шайке, сэр. Дали прикурить как следует. – Они стояли строем, сержант? – Нет, капитан, не то чтобы строем, сэр. Скорее толпой, как и положено дикарям. – И вы перестреляли их? – О, так точно, сэр. С такого расстояния даже дробовики попадали в цель. Впечатляющее зрелище, сэр. – Все равно, что стрелять рыбу в дождевой бочке? – Так точно, сэр. — Красное лицо сержанта Тозера расплылось в ухмылке. – Они оказали сопротивление, сержант? – Сопротивление, сэр? Да в общем-то, нет. Сколько-либо серьезного сопротивления они не оказали, сэр. – Однако они были вооружены ножами, копьями и гарпунами. – О да, сэр. Двое-трое проклятых язычников метнули свои гарпуны, а один успел бросить копье, но они все уже были ранены и не причинили нам никакого вреда, если не считать небольшой царапины на ноге молодого Сэмми Криспа, который тут же вскинул свой дробовик и отправил дикаря, слегка ранившего его, прямиком в ад, сэр. Прямиком в ад. — И все же двое эскимосов убежали, — сказал Крозье. Тозер нахмурился. – Да, сэр. За это прошу прощения. Там была страшная неразбериха, сэр. И двое, которые упали на снег, поднялись на ноги и удрали, пока мы приканчивали чертовых псов. – Зачем вы убили псов, сержант? — подал голос Фицджеймс. Тозер казался удивленным. – Ну как, они лаяли, рычали и бросались на нас, капитан. И вообще они больше походили на волков, чем на собак. – А вы подумали о том, что собаки могут нам пригодиться? — спросил Фицджеймс. — Да, сэр. В качестве мяса. — Опишите двоих эскимосов, спасшихся бегством, — сказал Крозье. – Один такого малого росточка, капитан. Мистер Фарр предположил, что, возможно, это женщина. Или девушка. У нее капюшон был в крови, но она улизнула. – Очевидно, так, — сухо сказал Крозье. — А что насчет второго? Тозер пожал плечами. — Невысокий мужчина в головной повязке — вот и все, что мне известно, капитан. Он упал за санями, и мы решили, что он убит. Но он вскочил на ноги и убежал вместе с девкой, пока мы разбирались с псами, сэр. — Вы погнались за ними? — Погнались за ними, сэр? О да, разумеется. Мы бежали что есть мочи, капитан. И на ходу перезаряжали ружья и стреляли, сэр. Думаю, я еще раз ранил ту эскимосскую суку, но она нисколько не сбавила скорости, сэр. Они просто бежали гораздо быстрее нас. Но они не вернутся сюда в ближайшее время, сэр. Уж мы об этом позаботились. – А как насчет их друзей? — сухо спросил Крозье. – Прошу прощения, сэр? — Их племени. Деревни. Клана. Других охотников и воинов. Эти люди пришли откуда-то. Они явно не провели здесь во льдах всю зиму. Вероятно, они вернутся в свою деревню, если уже не вернулись. Вы подумали о том, что другие эскимосские охотники — люди, которые убивают дичь каждый день, — могут принять близко к сердцу тот факт, что мы убили восьмерых их соплеменников, сержант? Тозер несколько смешался. — Вы свободны, сержант. Пригласите сюда лейтенанта Ходжсона.
Ходжсон выглядел настолько же несчастным, насколько Тозер — самодовольным. Молодой лейтенант явно был глубоко потрясен смертью своего ближайшего друга и все еще испытывал дурноту после жестокой расправы с эскимосами, учиненной по его приказу, когда он случайно встретился с отрядом Ирвинга и увидел изуродованное тело последнего. – Вольно, лейтенант Ходжсон, — сказал Крозье. — Желаете присесть? – Нет, сэр. – Расскажите нам, как случилось, что вы объединились с группой лейтенанта Ирвинга. Капитан Фицджеймс отдал вам приказ двигаться к югу от лагеря «Террор». – Да, капитан. И мы так и делали почти все утро. Мы не нашли даже заячьего следа на снегу, пока шли берегом, сэр, и не могли выйти на морской лед, поскольку вдоль береговой линии там тянется сплошная стена громадных айсбергов. Поэтому около десяти часов мы повернули в глубь острова, надеясь отыскать там следы карибу, или песца, или мускусного быка, или еще какого-нибудь животного. – Но ничего не нашли? – Нет, сэр. Однако мы наткнулись на следы примерно десятка человек, обутых в сапоги с мягкими подошвами, наподобие эскимосских. И еще на санный след и отпечатки собачьих лап. – И вы пошли по этим следам обратно на северо-запад, вместо того чтобы продолжать охоту? – Да. – Кто принял такое решение, лейтенант Ходжсон? Вы или сержант Тозер, второй по старшинству после вас в вашем отряде? – Я, сэр. Я был единственным офицером там. Я принял это решение, и все остальные тоже. – Включая последнее решение атаковать эскимосов? – Да, сэр. Мы незаметно наблюдали за ними с минуту с вершины холма, где бедного Джона убили, выпотрошили и… ну, вы сами знаете, что они с ним сотворили, капитан. Казалось, дикари уже собирались уходить, возвращаться обратно на юго-запад. И тогда мы решили атаковать их всеми силами. – Каким количеством оружия вы располагали, лейтенант? – В нашем отряде было три винтовки, два дробовика и два мушкета. А в группе лейтенанта Ирвинга — только один мушкет. Ах да, и пистолет, который мы взяли у Джона… у лейтенанта Ирвинга из кармана шинели. — Эскимосы оставили пистолет у него в кармане? — спросил Крозье. Ходжсон немного помолчал с таким видом, словно прежде не задавался таким вопросом. – Да, сэр. – Они присвоили что-нибудь из его вещей? — Да, капитан. Мистер Хикки сообщил нам, что видел, как эскимосы отнимают у Джона… у лейтенанта Ирвинга… подзорную трубу и кожаную сумку, прежде чем убить его на вершине холма. Когда мы поднялись на тот холм, я увидел в свою подзорную трубу, как эскимосы роются в его сумке и передают его подзорную трубу из рук в руки там, в долине, где, полагаю, они остановились на привал после того, как убили лейтенанта Ирвинга и… изуродовали тело. – Там были следы? – Прошу прощения, сэр? – Следы… эскимосов… ведущие от места, где вы нашли тело лейтенанта, вниз по склону в долину, где эскимосы рылись в сумке с вещами. – Э-э… да, сэр. Кажется, да, капитан. Я имею в виду, я помню тонкую цепочку следов, которые я поначалу принял за следы Джона, но которые, вероятно, принадлежали также и эскимосам. Должно быть, они поднялись вверх и спустились вниз по склону гуськом, капитан. Мистер Хикки сказал, что они все окружили Джона на вершине холма, когда перерезали ему горло и… делали другие вещи, сэр. Он сказал, что там были не все эскимосы… женщина и мальчик остались внизу… кажется… но там были шестеро или семеро язычников. Охотники, сэр. Мужчины помоложе. – А старик? — спросил Крозье. — Насколько я понял, среди убитых аборигенов был беззубый старик. Ходжсон кивнул. – С единственным зубом, капитан. Я не помню, говорил ли мистер Хикки, что старик тоже находился среди охотников, убивших Джона. – Как получилось, что вы сначала встретились с группой мистера Фарра — с разведывательным отрядом лейтенанта Ирвинга, — если вы шли по следам эскимосов на север, лейтенант? Ходжсон энергично кивнул, словно испытав облегчение от того, что хоть на один вопрос может ответить определенно. – Мы потеряли следы аборигенов и саней примерно в миле к югу от места, где произошло нападение на лейтенанта Ирвинга, сэр. Вероятно, они двигались восточнее, а потом перешли через низкие возвышенности, частично покрытые льдом, но в основном каменистые, сэр… ну знаете, мерзлый щебень. Нигде в долинах мы не нашли следов — ни человеческих, ни собачьих, — поэтому продолжали двигаться строго на север, куда предположительно направлялись эскимосы. Спустившись с одного из холмов, мы увидели людей мистера Фарра — разведывательный отряд Джона, — которые как раз заканчивали обедать. К тому времени мистер Хикки уже вернулся и рассказал, что он видел всего пару минут назад, и думаю, своим появлением мы здорово напугали Томаса и остальных… они поначалу приняли нас за эскимосов, собирающихся напасть на них. – Вы не заметили ничего странного в поведении мистера Хикки? — спросил Крозье. — Странного, сэр? Крозье молча ждал ответа. – Ну… — продолжил Ходжсон, — он очень сильно дрожал. Словно припадочный. И голос у него был очень возбужденный, почти визгливый. И он… знаете, сэр… он смеялся. Вроде как хихикал. Но все это вполне естественно для человека, который минуту назад увидел то, что увидел мистер Хикки, — не так ли, капитан? – А что он увидел, Джордж? – Ну… — Ходжсон опустил глаза, пытаясь сохранить самообладание. — Мистер Хикки сказал грот-марсовому старшине Фарру, а потом повторил мне, что он отправился на поиски лейтенанта Ирвинга и поднялся на вершину холма как раз вовремя, чтобы увидеть, как шестеро или семеро эскимосов грабят лейтенанта, убивают и ругаются над телом. Мистер Хикки сказал… он все еще сильно дрожал, сэр, не оправившись от потрясения… что он видел, как они отрезают у Джона половые органы. – Вы увидели тело лейтенанта Ирвинга всего несколькими минутами позже, не так ли, лейтенант? – Так точно, сэр. Оно находилось минутах в двадцати пяти ходьбы от места, где группа Фарра устраивала привал. – Но вас не начала бить безудержная дрожь после того, как вы увидели тело Ирвинга, не так ли, лейтенант? Дрожь, продолжавшаяся двадцать пять минут или дольше? – Нет, сэр, — сказал Ходжсон, явно не понимая смысла вопроса. — Но меня вырвало. – А когда вы приняли решение атаковать и перебить всех эскимосов? Ходжсон шумно сглотнул. — Когда я увидел в подзорную трубу с вершины холма, как они роются в сумке Джона и играют его подзорной трубой, капитан. Как только все мы по очереди посмотрели в долину — мистер Фарр, сержант Тозер и я — и поняли, что эскимосы развернули сани кругом и собираются уходить. — И вы отдали приказ не брать пленных? Ходжсон снова опустил глаза. — Нет, сэр. Я вообще не думал, брать пленных или не брать. Я просто был… в ярости. Крозье молчал. – Я действительно сказал сержанту Тозеру, что нам надо расспросить одного из эскимосов насчет случившегося, капитан, — продолжал лейтенант. — Значит, надо полагать, до атаки я думал, что кто-нибудь останется в живых. Я просто был… в ярости. – Кто скомандовал открыть огонь, лейтенант? Вы, сержант Тозер, мистер Фарр или еще кто-нибудь? Ходжсон несколько раз подряд моргнул, очень быстро. — Я не помню, сэр. Я не уверен, что такая команда вообще прозвучала. Я помню только, что мы приблизились к ним на расстояние ярдов тридцати… может, меньше… и я увидел, как несколько эскимосов хватаются за гарпуны, или копья, или чем там они были вооружены, а в следующий миг все в нашем строю уже стреляли, перезаряжали ружья и снова стреляли. А аборигены пытались бежать, и женщины визжали… старуха вопила без умолку, как… ну, как привидение… такой пронзительный, переливчатый, протяжный вопль… даже после того, как в нее попали несколько пуль, она все продолжала визжать дурным голосом. Потом сержант Тозер подошел к ней с пистолетом Джона, и… все произошло очень быстро, капитан. Я никогда прежде не участвовал в подобной бойне. — Я тоже, — сказал Крозье. Фицджеймс промолчал. Он был героем нескольких кровавых кампаний во время Опиумных войн. Сейчас он сидел с потупленным взором, словно глубоко погруженный в свои мысли. — Если мы допустили какие-то ошибки, сэр, — сказал Ходжсон, — вся ответственность лежит на мне. После смерти Джо… лейтенанта Ирвинга… я был старшим по званию офицером в двух группах. Вся ответственность лежит на мне, сэр. Крозье посмотрел на него. Он сам чувствовал холодную бесстрастность своего взгляда. – Вы действительно были там единственным офицером, лейтенант Ходжсон. К счастью или к несчастью для вас, вся ответственность действительно лежала и лежит на вас. Часа через два я собираюсь отправиться с вооруженным отрядом к месту убийства лейтенанта Ирвинга и расправы с эскимосами. Мы выступим при свете фонарей и пойдем по вашему санному следу, но я хочу быть на месте к восходу солнца. Вы с мистером Фарром будете единственными из участников сегодняшних событий, которые пойдут с нами. Пойдите поспите, поешьте и будьте готовы выступить к шести склянкам. – Слушаюсь, сэр. – И пришлите сюда помощника конопатчика Хикки.
39. Гудсер
69°37′42″ северной широты, 98°41′ западной долготы 25 апреля 1848 г.
Из личного дневника доктора
Гарри Д. С. Гудсера
25 апреля 1848 г., вторник.
Мне очень нравился лейтенант Ирвинг. Он производил впечатление порядочного и внимательного к людям молодого человека. Мы с ним не водили близкого знакомства, но на протяжении всех трудных месяцев нашей экспедиции — особенно на протяжении многих недель, когда я проводил время не только на «Эребусе», но и на «Терроре», — я ни разу не видел, чтобы лейтенант уклонялся от своих служебных обязанностей, или разговаривал грубо с матросами, или обращался с ними или со мной иначе, чем с мягкостью и профессиональной учтивостью. Я знаю, что капитан Крозье особенно глубоко потрясен сей утратой. Он был так бледен, когда вошел в лагерь сегодня в третьем часу утра, что я мог бы поручиться своей профессиональной репутацией за то, что бледнее уже стать невозможно. Но капитан побледнел еще сильнее, когда услышал страшную новость. Даже губы у него стали белыми, как паковый лед, на который мы смотрим вот уже три года без малого. Но какие бы приязнь и уважение я ни питал к лейтенанту Ирвингу, я должен был выполнить свои профессиональные обязанности, отрешившись от всяких воспоминаний о наших с ним дружеских отношениях. Я снял с трупа оставшуюся на нем одежду — пуговицы на всех поддевках, начиная от жилета и кончая длинной нижней рубахой, были оторваны, и насквозь пропитанные кровью слои ткани заледенели и смерзлись, превратившись в твердую складчатую массу, — и велел своему ассистенту Генри Ллойду помочь мне обмыть тело лейтенанта Ирвинга. Вода, полученная из снега и льда, на растапливание которых помощники мистера Диггла тратили последние запасы угля с кораблей, была у нас на вес золота, но мы должны были оказать молодому Ирвингу такую честь. Разумеется, мне не пришлось делать обычного разреза в виде перевернутой «Y» от тазовых костей до пупка, поскольку убийцы лейтенанта Ирвинга уже позаботились об этом. В процессе работы я по обыкновению делал разные записи и пометки, с трудом шевеля ноющими от холода пальцами. Рана на шее лейтенанта Ирвинга была нанесена по меньшей мере двумя сильнейшими ударами незазубренного лезвия, и он умер от потери крови. Не думаю, чтобы в теле несчастного молодого офицера осталась хоть пинта крови. Трахея и гортань у него рассечены, и на шейном позвонке видны выбоины от лезвия. Брюшная полость вскрыта многократными пилящими движениями короткого лезвия, распоровшего кожу и мышечную ткань, и почти весь кишечник, тонкий и толстый, вырезан и удален из тела. Селезенка и почки лейтенанта тоже исполосованы и взрезаны каким-то острым инструментом. Печень отсутствует. Пенис лейтенанта ампутирован примерно у основания и тоже отсутствует. Мошонка разрезана вдоль срединной линии, и яички отрезаны. Для того чтобы прорезать мошоночную сумку и придатки яичек, потребовалось произвести многократные движения лезвием. Возможно, лезвие убийцы несколько затупилось к тому моменту. В то время как яички отсутствуют, остатки семенного канала, уретры и значительная часть мышечной ткани у основания пениса сохранились. Хотя на теле лейтенанта Ирвинга множество синяков — многие из них совместны с симптоматикой развивающейся цинги, — никаких других серьезных ран нигде не имеется. Интересно, что на руках и ладонях у него нет порезов, свидетельствующих о том, что он оборонялся. Представляется очевидным, что на лейтенанта Ирвинга напали совершенно неожиданно. Убийца или убийцы перерезали ему горло прежде, чем он получил хоть малейшую возможность защищаться. Потом они потратили какое-то время на то, чтобы извлечь из брюшной полости внутренности и ампутировать гениталии многократными пилящими движениями лезвия. Подготовляя тело лейтенанта к погребению, назначенному на сегодня, я зашил гортань и шею по возможности аккуратнее, а затем — предварительно поместив некоторое количество подверженного разложению волокнистого вещества (свернутый свитер из личных вещей лейтенанта, находившихся в сумке) в брюшную полость, чтобы она не казалась совсем пустой и впалой под мундиром, когда покойного будут опускать в могилу, — собрался зашить означенную брюшную полость по возможности аккуратнее (слишком много мышечной ткани отсутствовало). Но в последнюю минуту я заколебался и решил сделать нечто необычное. Я вскрыл желудок лейтенанта Ирвинга. Никакой особой причины делать это не было. Причина смерти молодого лейтенанта не вызывала сомнений. Проверять желудок на наличие патологий или хронических заболеваний тоже не имело смысла — все мы страдаем цингой в той или иной степени и медленно умираем от голода. Но я все же вскрыл желудок. Он казался странно раздутым — хотя на таком морозе едва ли мог увеличиться столь сильно в результате одной только деятельности микробов и вызванных ими гнилостных процессов, — а никакую аутопсию нельзя считать законченной без исследования подобной аномалии. Желудок был полон. Перед самой смертью лейтенант Ирвинг съел значительное количество тюленьего мяса с кусками кожи и много сала. Пищеварительный процесс едва успел начаться. Эскимосы накормили его, прежде чем убить. Или, возможно, лейтенант Ирвинг обменял свою подзорную трубу, сумку и несколько личных вещей на тюленье мясо и сало. Но это исключено, поскольку помощник конопатчика Хикки сообщил, что он видел, как эскимосы убивают и грабят лейтенанта. Тюленина и рыба находились на эскимосских санях, которые мистер Фарр использовал для перевозки тела лейтенанта Ирвинга в лагерь. Фарр доложил, что они повыбрасывали из саней прочие предметы — корзинки, примитивную кухонную утварь, вещи, уложенные и привязанные поверх тюленины и рыбы, — чтобы получше разместить труп лейтенанта на легких санях. «Мы хотели устроить лейтенанта Ирвинга как можно удобнее», — сказал сержант Тозер. Получается, эскимосы сначала угостили лейтенанта своей пищей, дали ему время съесть ее, если не переварить, а потом снова уложили свои пожитки в сани, прежде чем расправиться с ним столь жестоко. Чтобы выказать человеку дружеское расположение, а потом совершить столь зверское убийство и надругательство над телом… возможно ли поверить в существование народа столь вероломного, столь злобного и столь жестокого? Что могло вызвать такую внезапную и резкую перемену в настроении аборигенов? Может, лейтенант каким-нибудь своим действием или словом нарушил некое священное табу? Или они просто хотели ограбить его? Неужто медная подзорная труба стала причиной ужасной смерти лейтенанта Ирвинга? Существует еще одна вероятность, но настолько чудовищная и неправдоподобная, что мне не хочется писать здесь о ней. Эскимосы не убивали лейтенанта Ирвинга. Но такое предположение тоже лишено смысла. Помощник конопатчика Хикки заявил со всей определенностью, что ВИДЕЛ, как шесть или семь аборигенов убивают лейтенанта. Он ВИДЕЛ, как они забирают сумку лейтенанта, подзорную трубу и прочие вещи, — хотя странно, что впоследствии он не обыскал карманы убитого и не нашел пистолета. Помощник конопатчика Хикки сказал сегодня капитану Фицджеймсу (я присутствовал при разговоре), что он, Хикки, НАБЛЮДАЛ с расстояния за тем, как дикари извлекают внутренности из тела нашего друга. Он прятался и наблюдал за всем происходящим. Сейчас еще темно хоть глаз выколи и очень холодно, но капитан Крозье с несколькими людьми собирается через двадцать минут выступить к месту убийства и сегодняшней кровавой расправы над эскимосами, находящемуся в нескольких милях от лагеря. Вероятно, их тела все еще лежат там в долине. Я только что закончил зашивать брюшную полость лейтенанта Ирвинга. Несмотря на страшную усталость (я не спал больше суток), я велю Ллойду самому одеть покойного и произвести последние приготовления к сегодняшним похоронам. По воле Провидения Ирвинг принес с «Террора» свою парадную форму в сумке с личными вещами. В нее-то он и будет одет. Сейчас я намерен попросить у капитана Крозье разрешения сопровождать его, лейтенанта Литтла, мистера Фарра и прочих к месту убийства.
40. Пеглар
69°37′42″ северной широты, 98°40′58″ западной долготы 25 апреля 1848 г.В разрыве туманной пелены он увидел на замерзшей земле что-то похожее на огромный человеческий мозг: серое, с извилинами, свернутое кольцами, покрытое блестящей ледяной коркой. Гарри Пеглар осознал, что смотрит на внутренности Джона Ирвинга. — Вот это место, — сказал Томас Фарр. Пеглар несколько удивился, получив от капитана приказ отправиться с ним к месту убийства. Фор-марсовый старшина не входил ни в один из двух отрядов — Ирвинга и Ходжсона, — принимавших участие во вчерашних событиях. Но потом Пеглар увидел остальных людей, выбранных для предрассветного следственного похода, — лейтенанта Литтла, Тома Джонсона (помощника боцмана и старого знакомого Крозье, служившего на одном с ним корабле еще в южной полярной экспедиции), грот-марсового старшину Фарра, который был здесь вчера, доктора Гудсера, лейтенанта Левеконта с «Эребуса», старшего помощника Роберта Томаса и охрану из четырех вооруженных морских пехотинцев: Хопкрафта, Хили и Пилкингтона под командованием капрала Пирсона. Гарри Пеглар надеялся, что не льстит себе мыслью, что капитан Крозье, по каким-то своим причинам, выбрал для данного похода людей, которым больше всего доверял. Все недовольные остались в лагере «Террор»; вечный возмутитель спокойствия Хикки руководил группой, получившей приказ вырыть могилу для лейтенанта Ирвинга к похоронам, назначенным на вторую половину дня. Отряд Крозье выступил из лагеря задолго до рассвета и при свете фонарей двинулся на юго-восток по вчерашним следам, оставленным людьми и эскимосскими санями. На голых каменистых вершинах возвышенностей следы пропадали, но легко отыскивались в заснеженных долинах внизу. За ночь температура воздуха поднялась по меньшей мере на пятьдесят пять градусов, достигнув ноля или плюсовой величины, и на землю спустился густой туман. Гарри Пеглар, видавший на своем веку самые разные погодные условия почти на всех морях и океанах планеты, понятия не имел, откуда здесь мог взяться такой густой туман, если в радиусе многих сотен миль нет открытой, чистой от льда воды. Вероятно, просто низкие облака, плывущие над самой поверхностью пакового льда, наползали на этот богом забытый остров, самая высокая вершина которого поднималась всего на несколько сотен ярдов над уровнем моря. Восход солнца мало напоминал восход: лишь тусклое желтое свечение в клубящемся тумане, в какую сторону ни глянь. Несколько минут дюжина мужчин стояла в молчании на месте убийства. Там мало чего осталось для исследования. Фуражку Джона Ирвинга отнесло ветром к валуну неподалеку, и Фарр принес ее. На обледенелых камнях темнела застывшая лужа крови; рядом с ней лежала кучка человеческих внутренностей. И валялось несколько лоскутов изорванной одежды. — Лейтенант Ходжсон, мистер Фарр, — сказал Крозье, — вы видели здесь какие-либо следы присутствия эскимосов, когда мистер Хикки привел вас на это место? Казалось, Ходжсона вопрос привел в замешательство. Фарр ответил: — Кроме кровавого дела их рук, никаких, сэр. Мы подползли к вершине холма по-пластунски и посмотрели в долину, воспользовавшись подзорной трубой мистера Ходжсона, и там находились эскимосы. Все еще дрались из-за подзорной трубы Джона и прочих трофеев. — Вы видели, как они дрались между собой? — резко спросил Крозье. Пеглар никогда еще не видел своего капитана — или любого другого капитана, под командованием которого служил когда-либо, — таким усталым. За последние дни и недели глаза у Крозье глубоко ввалились, и голос его, всегда зычный и повелительный, теперь стал слабым и надтреснутым. Казалось, у него вот-вот начнется сочиться кровь из глаз. В последнее время Пеглар узнал на личном опыте, что такое кровотечения. Он еще не сказал Джону Бридженсу, но он остро чувствовал симптомы цинги. Мускулы у него, некогда бывшие предметом гордости, постепенно атрофировались. Все тело испещряли синяки. За минувшие десять дней он потерял два зуба. Каждый раз, когда он чистил оставшиеся зубы, на щетке оставалась кровь. И каждый раз, когда он облегчался, кал выходил с кровью. — Видел ли я, как эскимосы дрались между собой? — повторил Фарр. — Да в общем-то, нет, сэр. Однако они толкались, пихались и смеялись. И двое дикарей тянули друг у друга из рук медную подзорную трубу Джона. Крозье кивнул. — Давайте спустимся в долину, джентльмены. При виде крови Пеглару стало дурно. Фор-марсовый старшина никогда прежде не видел места сухопутного боя — даже такой незначительной схватки, — и, хотя он приготовился увидеть мертвые тела, он не представлял, насколько красным будет снег от крови. – Здесь кто-то был, — сказал лейтенант Ходжсон. – Что вы имеете в виду? — спросил Крозье. – Некоторые тела передвинуты, — пояснил молодой лейтенант, указывая сначала на одного мужчину, потом на другого, потом на старуху. — И с них снята верхняя одежда — меховые шубы вроде той, какую носит леди Безмолвная, а у некоторых пропали даже сапоги. И исчезла часть оружия… гарпуны и копья. Видите отпечатки на снегу, где они лежали вчера. Они исчезли. – Сувениры? — проскрипел Крозье. — Неужели наши люди?.. – Нет, сэр, — быстро и твердо сказал Фарр. — Мы выбросили с саней несколько корзин, горшков и прочих предметов, чтобы освободить место, и затащили сани на холм, чтобы погрузить на них тело лейтенанта Ирвинга. С той минуты и до самого нашего прибытия в лагерь «Террор» мы все находились вместе. Никто не отставал от отряда. – Несколько корзин и горшков тоже пропали, — сказал лейтенант Ходжсон. – Похоже, здесь есть более свежие следы, но утверждать это с уверенностью нельзя, поскольку сегодня всю ночь дул сильный ветер, — сказал помощник боцмана Джонсон. Капитан переходил от одного трупа к другому, переворачивая тела, если они лежали ничком. Казалось, он пристально всматривался в лицо каждого мертвеца. Пеглар заметил, что среди убитых не одни только мужчины. Там лежало тело маленького мальчика. И тело старухи, рот которой, навек разодранный в беззвучном вопле, зиял подобием черной ямы. Снег вокруг был сплошь залит кровью. Один из аборигенов получил полный заряд дроби в голову с близкого расстояния — вероятно, уже после того, как был ранен мушкетным или винтовочным выстрелом. Задняя половина черепа у него отсутствовала. Рассмотрев все лица, словно в надежде найти там ответы на мучавшие его вопросы, Крозье выпрямился. Судовой врач Гудсер, который тоже внимательно разглядывал убитых, что-то тихо проговорил на ухо капитану, стянув к подбородку свой шарф. Крозье отступил на шаг назад, посмотрел на Гудсера с видимым удивлением, но потом кивнул. Врач опустился на одно колено подле одного мертвого эскимоса и извлек из своей сумки несколько хирургических инструментов, включая очень длинный нож с изогнутым зубчатым лезвием, напомнившим Пеглару пилы, которыми они пользовались для вырезания кусков льда из железных цистерн с замерзшей водой в трюме «Террора». — Доктору Гудсеру необходимо исследовать желудки нескольких дикарей, — сказал Крозье. Пеглар предположил, что все остальные мужчины, помимо него самого, задались вопросом: зачем? Вслух никто ничего не спросил. Самые впечатлительные — в том числе трое морских пехотинцев — отвели глаза в сторону, когда щуплый врач распорол меховые одежды и принялся распиливать брюшную полость первого трупа. Пила врезалась в затвердевшую на морозе плоть с таким визгом, точно Гудсер пилил дрова. — Капитан, как вы думаете, кто забрал оружие и одежду? — спросил старший помощник Томас. — Один из двух сбежавших эскимосов? Крозье рассеянно кивнул. – Или другие жители их стойбища, хотя с трудом верится, чтобы на этом богом забытом острове было стойбище. Возможно, эта группа эскимосов являлась частью более крупного охотничьего отряда, устраивавшего стоянку неподалеку. – Они везли с собой очень много провианта, — сказал лейтенант Левеконт. — Представьте, сколько продовольствия может оказаться у главного охотничьего отряда. Возможно, нам удастся накормить досыта всех наших людей. Лейтенант Литтл улыбнулся поверх своего воротника, покрытого инеем от дыхания. – Вы готовы отправиться к ним в стойбище или на стоянку крупного охотничьего отряда и вежливо попросить у них немного пищи или совета относительно охоты? Теперь? После этого? — Литтл указал рукой на распростертые окоченелые тела и красный от крови снег. – Я думаю, теперь нам необходимо срочно покинуть лагерь «Террор» и этот остров, — сказал лейтенант Ходжсон. Голос у молодого человека дрожал. — Они перебьют всех нас во сне. Посмотрите, что они сделали с Джо… — Он осекся, явно устыдившись своих слов. Пеглар внимательно посмотрел на лейтенанта. Ходжсон обнаруживал все признаки истощения и усталости, как и остальные, но ни единого явного признака цинги. Фор-марсовый старшина задался вопросом, ослаб бы духом он сам до такой степени, когда и если увидел бы сцену, подобную той, какую видел Ходжсон менее суток назад. – Томас, — тихо обратился Крозье к своему боцманмату, — будьте любезны, поднимитесь на следующий холм и посмотрите, нет ли там чего-нибудь… в частности, следов, ведущих из долины… а коли таковые имеются, то в каком количестве и какого рода. – Слушаюсь, сэр. — Высокий помощник боцмана трусцой взбежал по склону, покрытому глубоким снегом, на голую каменистую вершину холма. Пеглар обнаружил, что наблюдает за Гудсером. Врач вскрыл серовато-розовый раздутый желудок первого эскимоса, потом занялся старухой, а затем мальчиком. Зрелище было тошнотворным. В каждом случае Гудсер — работая голыми руками — разрезал хирургическим инструментом малого размера желудок, извлекал из него содержимое и рылся в замерзшем комковатом месиве так, словно копался в куче вернувшегося из стирки белья, проверяя, все ли на месте. Иногда Гудсер с треском раскалывал застывшую массу на мелкие куски. Закончив с первыми тремя трупами, он медленно вытер снегом руки, натянул рукавицы и снова прошептал что-то на ухо Крозье. — Можете сказать всем, — громко произнес Крозье. — Я хочу, чтобы все это слышали. Тщедушный врач облизал потрескавшиеся, кровоточившие губы. — Сегодня утром я вскрыл желудок лейтенанта Ирвинга… – Зачем? — выкрикнул Ходжсон. — Желудок у бедного Джона оставался одним из немногих органов, которые проклятые дикари не изуродовали! Как вы могли… – Тихо! — рявкнул Крозье. Пеглар отметил, что прежний властный голос вернулся к капитану. Крозье кивнул Гудсеру: — Пожалуйста, продолжайте, доктор Гудсер. – Лейтенант Ирвинг съел так много тюленьего мяса и сала, что в буквальном смысле слова набил желудок до отказа, — сказал врач. — Он съел такую большую порцию пищи, какой никто из нас не ел уже много месяцев. Это, безусловно, была тюленина из запасов, лежавших на санях у эскимосов. Я хотел узнать, ели ли эскимосы вместе с ним — покажет ли содержимое их желудков, что они тоже ели тюленье сало незадолго до смерти. В случае с этими тремя представляется очевидным, что они ели. — Они преломили хлеб с лейтенантом… съели свое мясо с ним… а потом убили его, когда он собрался уходить? — спросил старший помощник Томас, явно озадаченный сообщением врача. Пеглар тоже пришел в недоумение. Это не имело смысла… если только эти дикари не отличались такими же переменчивостью и коварством нрава, как иные туземцы, встречавшиеся ему в южных морях во время пятилетнего плавания на старом «Бигле». Фор-марсовый старшина пожалел, что здесь нет Джона Бридженса, который бы высказал свое мнение по данному поводу. — Джентльмены, — сказал Крозье, обращаясь ко всем, включая даже морских пехотинцев, — я хотел, чтобы вы услышали это, поскольку, возможно, когда-нибудь в будущем мне понадобится ваша осведомленность в части данных фактов, но я не хочу, чтобы кто-нибудь еще узнал об этом. Пока я не сочту нужным довести это до всеобщего сведения. А вполне возможно, я никогда не сделаю такого. Если кто-нибудь из вас расскажет еще кому-нибудь — хотя бы одному-единственному человеку, своему закадычному другу, — или просто проговорится во сне, клянусь Богом, я непременно узнаю, кто ослушался моего приказа хранить молчание, и оставлю этого человека во льдах, не снабдив даже пустой кастрюлей, чтобы в нее срать. Вы хорошо меня поняли, джентльмены? Десять мужчин кивнули и пробормотали «да». Тут вниз по склону сбежал Томас Джонсон, пыхтя и отдуваясь. Он остановился и обвел взглядом группу молчащих мужчин, словно спрашивая, в чем дело. – Что вы увидели там, мистер Джонсон? — живо осведомился Крозье. – Следы, капитан, — ответил боцманмат, — но старые. Ведут на юго-запад. Двое эскимосов, скрывшихся вчера, — и люди, которые возвращались в долину за парками, оружием, горшками и прочим, — вероятно, бежали по ним. Никаких свежих следов там не видать. — Спасибо, Томас, — сказал Крозье. Туман вихрился вокруг них. Пеглар услышал далеко на востоке звуки, похожие на грохот пушек во время морского боя, но за последние два лета он не раз слышал такое. То грохотал отдаленный гром. В апреле. При температуре воздуха минус тридцать, самое малое. — Джентльмены, — сказал капитан, — нам нужно заняться похоронами. Двигаемся обратно? На обратном пути в лагерь Пеглар размышлял над всем увиденным: заледенелые внутренности офицера, вызывавшего у него симпатию; мертвые тела и все еще красная кровь на снегу; пропавшие парки, оружие и предметы утвари; омерзительное исследование содержимого желудков, проведенное доктором Гудсером; странное заявление капитана Крозье, что «возможно, когда-нибудь в будущем мне понадобится ваша осведомленность в части данных фактов», — словно он готовил их к выступлению в роли свидетелей на военном суде или следственной комиссии в неопределенном будущем… Пеглар предвкушал, как опишет все события сегодняшнего утра в своем личном дневнике, который вел уже очень давно. И он надеялся, что получит возможность поговорить с Джоном Бридженсом после похоронной службы, прежде чем люди с обоих кораблей разойдутся по своим палаткам, распределятся по своим артелям и упряжным командам. Он хотел услышать, что Бридженс скажет по поводу всего этого.
41. Крозье
69°37′42″ северной широты, 98°41′ западной долготы 25 апреля 1848 г.— Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа? Лейтенант Ирвинг служил под началом Крозье, но капитан Фицджеймс имел более благозвучный голос и лучше знал толк в Писании, и потому Крозье был благодарен, что он взял на себя проведение службы. На нее собрались все обитатели лагеря «Террор», кроме часовых, лежачих больных и людей, выполняющих важные обязанности, — как Ллойд в лазарете или мистер Диггл и мистер Уолл со своими помощниками, которые трудились у четырех печей с вельботов, готовя на обед рыбу и тюленину, доставшуюся от эскимосов. По меньшей мере восемьдесят человек стояли у могилы в сотне ярдов от лагеря, похожие на темных призраков в вихрящемся тумане. — Жало же смерти — грех, а силы греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не был тщетен пред Господом. Другие офицеры и два помощника капитана несли Ирвинга. В силу ограниченного запаса пиломатериалов в лагере «Террор» изготовить гроб не представлялось возможным, но плотник мистер Хани отыскал достаточно досок, чтобы сколотить носилки размером с дверь, на которых тело Ирвинга, сейчас надежно зашитое в парусину, можно было бы донести до могилы и опустить в нее. Хотя веревки были переброшены через могилу на принятый во флоте манер, как положено при любом погребении на суше, глубоко опускать тело не придется. Команда Хикки сумела выкопать яму глубиной всего только в три фута — ниже промерзшая земля была твердой, как камень, — и потому люди насобирали множество крупных булыжников, чтобы уложить их на тело, прежде чем засыпать могилу мерзлой землей и гравием, а сверху навалить еще булыжников. Никто по-настоящему не надеялся, что такая мера оградит могилу от посягательства белых медведей или других летниххищников, но проведенная работа являлась свидетельством добрых чувств, которые большинство людей питало к Ирвингу. Большинство людей. Крозье взглянул на Хикки, стоявшего рядом с Магнусом Мэнсоном и вестовым с «Эребуса», подвергшимся порке после карнавала, Ричардом Эйлмором. Вокруг них толпились другие недовольные — несколько матросов с «Террора», которые в январе рвались убить леди Безмолвную, даже если для этого придется поднять мятеж, — но, как и все остальные мужчины, собравшиеся у скорбной могилы, они сняли «уэльские парики» и фуражки и натянули шарфы до самого носа и ушей. Допрос Хикки, проведенный Крозье в капитанской палатке среди ночи, был напряженным и коротким. — Доброго вам утра, капитан. Желательно ли вам, чтобы я рассказал вам то, что рассказывал капитану Фицджеймсу и… – Снимите шинель, мистер Хикки. – Прощу прощения, сэр? – Вы меня слышали. – Так точно, сэр, но если вы хотите узнать, как все было, когда дикари на моих глазах убивали бедного мистера Ирвинга… – Лейтенанта Ирвинга, помощник конопатчика. Я слышал вашу историю от капитана Фицджеймса. Вы хотите что-нибудь добавить к ней или внести какие-то поправки? – Э-э… нет, сэр. – Снимите шинель. И рукавицы тоже. – Есть, сэр. Вот, сэр, готово. Мне просто положить одежду на… – Бросьте на пол. Куртки тоже снимите. – Куртки, сэр? Здесь чертовски холодно… есть, сэр. – Мистер Хикки, почему вы вызвались отправиться на поиски лейтенанта Ирвинга, когда он отсутствовал всего немногим более часа? Никто больше не беспокоился за него. – О, едва ли я сам вызвался, капитан. Насколько мне помнится, мистер Фарр попросил меня пойти поискать… – Мистер Фарр доложил, что вы несколько раз спрашивали, не запаздывает ли лейтенант Ирвинг, и сами вызвались отправиться на его поиски, пока все остальные отдыхали после обеда. Почему вы так поступили, мистер Хикки? – Если мистер Фарр говорит так… ну, наверное, мы волновались за него, капитан. То есть за лейтенанта. – Почему? – Можно мне надеть куртки и шинель, капитан? Здесь чертовски… – Нет. Снимите жилет и свитера. Почему вы волновались за лейтенанта Ирвинга? – Ну, вы понимаете, капитан. – Не понимаю. – Мы просто беспокоились, что один из нашего отряда вроде как пропал. Вдобавок, сэр, я здорово замерз, сэр. Мы сидели, пока ели холодную пищу, что была у нас с собой. И я подумал, что маленько согреюсь, коли пойду по следам лейтенанта и удостоверюсь, что с ним все в порядке, сэр. – Покажите мне руки. – Прошу прощения, капитан? – Ваши руки. – Слушаюсь, сэр. Извиняюсь за дрожь, сэр. Я весь день не мог согреться, а сейчас, когда разделся до рубашки… – Переверните их. Ладонями вверх. – Слушаюсь, сэр. – Не кровь ли это у вас под ногтями, мистер Хикки? – Возможно, капитан. Вы же знаете, почему так получается. – Нет. Расскажите мне. – Ну, мы уже много месяцев не мылись толком за отсутствием воды, сэр. А коли у тебя цинга и дизентерия, всегда выделяется кровь, когда справляешь большую нужду… – Вы говорите, что унтер-офицер британского военно-морского флота на моем корабле вытирает задницу пальцами, мистер Хикки? – Нет, сэр… я имею в виду… можно мне одеться теперь, капитан? Вы же видите, что я не ранен и ничего такого. На таком холоде недолго отморозить… – Снимите рубаху и нательное белье. – Вы серьезно, сэр? – Не заставляйте меня повторять дважды, мистер Хикки. У нас здесь нет гауптвахты. Любой человек, отправленный мной на гауптвахту, проведет время на привязи у одного из вельботов. – Вот, сэр. Пожалуйста. Тело как тело, только посиневшее от холода. Если бы моя бедная женушка видела меня сейчас… – В ваших бумагах не говорилось, что вы женаты, мистер Хикки. – О, моя Луиза уже семь лет как померла, капитан. От оспы. Да упокоит Господь ее душу. – Почему вы говорили нескольким матросам, что, когда настанет время убивать офицеров, лейтенант Ирвинг будет первым? — Я никогда не говорил ничего подобного, сэр. – Мне докладывали, что вы говорили это и другие подстрекательские вещи еще до карнавала, мистер Хикки. Почему вы выделили лейтенанта Ирвинга? Что плохого сделал вам этот офицер? – Да ничего, сэр. И никогда не говорил ничего подобного. Вызовите сюда человека, который сказал про меня такое, и я уличу его во лжи и плюну ему в глаза. – Что плохого сделал вам лейтенант Ирвинг, мистер Хикки? Почему вы говорили матросам и с «Эребуса», и с «Террора», что Ирвинг мерзавец и лжец? – Клянусь вам, капитан… извиняюсь, что у меня стучат зубы, капитан, но, ей-богу, на таком морозе нагишом страсть как холодно. Клянусь вам, я не говорил ничего подобного. Многие из нас относились к бедному лейтенанту Ирвингу как к сыну, капитан. Как к сыну. Только из беспокойства за него я решил пойти проверить, все ли с ним в порядке. И хорошо, что я так сделал, сэр, иначе мы никогда не поймали бы кровожадных ублюдков, которые… – Оденьтесь, мистер Хикки. – Слушаюсь, сэр. – Нет, не здесь. Одевайтесь снаружи. Убирайтесь с глаз долой. — Человек краткодневен и пресыщен печалями, — речитативом говорил Фицджеймс. — Как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается. Ходжсон и другие мужчины с величайшей осторожностью опускали носилки с завернутым в парусину телом на веревки, которые удерживали над мелкой могилой несколько самых здоровых матросов. Крозье знал, что Ходжсон и прочие друзья Ирвинга по одному зашли в медицинскую палатку, чтобы отдать лейтенанту дань уважения, прежде чем старый Мюррей зашил его в парусиновый саван. Посетители оставили несколько знаков любви подле тела покойного — возвращенную подзорную трубу с разбитыми во время стрельбы стеклами, золотую медаль с выгравированным на ней именем лейтенанта, которую он получил на соревнованиях на учебном корабле «Экселлент», и по меньшей мере одну пятифунтовую банкноту, словно какой-то старый долг, наконец отданный. По какой-то причине — оптимизм? юношеская наивность? — Ирвинг уложил в небольшую сумку с личными вещами свою парадную форму, и теперь его хоронили в ней. Крозье задался праздным вопросом, сохранятся ли в целости позолоченные пуговицы мундира — все с изображением якоря и короны, — когда от мальчика ничего не останется, кроме побелевших костей да золотой медали. — Посреди жизни мы окружены смертью, — читал по памяти Фицджеймс усталым, но подобающе звучным голосом. — У кого нам искать помощи, как не у Тебя, Господи, Который справедливо негодует на грехи наши? Капитан Крозье знал, что в парусиновый саван вместе с Ирвингом зашит еще один предмет, о котором никто не знал. Он лежал у него под головой, точно подушка. Это был красно-зелено-сине-золотой китайский платок, и Крозье застал дарителя врасплох, войдя в медицинскую палатку, когда Гудсер, Ллойд, Ходжсон и остальные уже удалились, а парусник Мюррей только собирался зайти, чтобы зашить саван, уже приготовленный и подстеленный под тело Ирвинга. В палатке находилась леди Безмолвная; склонившись над трупом, она укладывала что-то ему под голову. В первый момент Крозье невольно потянулся за пистолетом, лежавшим в кармане шинели, но в следующий миг застыл на месте, увидев глаза и лицо эскимосской девушки. Если в этих темных глазах, едва ли похожих на человеческие, и не стояли слезы, они блестели от какого-то чувства, определить которое он не мог. Горе? В такое капитану не верилось. Но несомненно, именно девушка аккуратно положила китайский шелковый платок под голову мертвого мальчика. Крозье знал, что платок принадлежал Ирвингу: лейтенант несколько раз повязывал его на шею по особым случаям — например, в день отплытия экспедиции в мае 1845-го. Неужели эскимоска украла у него платок? Похитила с мертвого тела только вчера? Неделю с лишним назад Безмолвная проследовала за санным отрядом Ирвинга с «Террора» в лагерь, а потом исчезла и больше не объявлялась. Все, включая Крозье, вздохнули с облегчением, когда она пропала. Но все сегодняшнее ужасное утро Крозье задавался вопросом, не причастна ли Безмолвная каким-либо образом к зверскому убийству офицера на голом каменистом холме, открытом всем ветрам. Может, она вела обратно к лагерю своих друзей, эскимосских охотников, с намерением совершить набег и по пути случайно встретилась с Ирвингом, сначала досыта накормила умирающего от голода человека, а потом хладнокровно убила, чтобы он никому не рассказал о своей встрече с ними? Не Безмолвная ли была той самой «возможно, женщиной», которую мельком видели Фарр и остальные, когда она убегала вместе с эскимосом в головной повязке? Она могла переменить парку, если возвращалась в свое стойбище на прошлой неделе, а все молодые эскимоски на первый взгляд кажутся на одно лицо. Крозье все утро обдумывал подобные предположения, но в то остановившееся во времени мгновение, когда он и молодая женщина вздрогнули и неподвижно замерли на несколько бесконечно долгих секунд, капитан посмотрел ей в лицо и понял — то ли сердцем своим, то ли шестым чувством, о котором неустанно повторяла его бабушка Мойра, — что в душе она горько оплакивает Джона Ирвинга и возвращает ему шелковый платок, полученный от него в подарок. Крозье предположил, что Ирвинг подарил Безмолвной платок во время своего февральского визита в снежный дом, о котором исправно доложил своему капитану… но не вдаваясь в подробности. Теперь Крозье задался вопросом, не состояли ли эти двое в любовной связи. А потом леди Безмолвная исчезла. Стремительно поднырнула под полог палатки и бесшумно скрылась. Когда позже Крозье спрашивал мужчин в лагере и часовых, не видели ли они чего, все отвечали отрицательно. Тогда в палатке капитан подошел к телу Ирвинга, посмотрел на бледное мертвое лицо, казавшееся еще бледнее на фоне подложенного под голову цветастого платка, а потом накинул парусину на лицо и тело лейтенанта и крикнул старому Мюррею войти и зашить саван. — И все же, Господи милосердный, Боже Всемогущий, — говорил Фицджеймс, — не предавай нас жестоким мукам вечной смерти. Ты знаешь, Господи, тайны наших сердец; не отвращай милосердного слуха Твоего от нашей молитвы, но пощади нас, о Боже Всевышний, Всемилостивый Спаситель, справедливейший судия предвечный, не дай нам в наш последний час отпасть от Тебя. Фицджеймс умолк и отступил назад на пару шагов. Крозье, глубоко погруженный в свои мысли, несколько долгих мгновений неподвижно стоял на месте, пока по шарканью ног и приглушенным покашливаниям не понял, что настала его очередь произносить надгробное слово. — Итак, мы предаем земле тело нашего друга, офицера Джона Ирвинга, — хрипло заговорил он, тоже читая по памяти, которая оставалась на удивление ясной, несмотря на туман в голове, порожденный крайней усталостью, — дабы оно обратилось во прах и восстало из праха, когда земля и море отдадут своих мертвецов… — Тело уже опустили на глубину трех футов, и Крозье бросил на него пригоршню мерзлой земли. Мелкие камешки упали на парусину над лицом Ирвинга и скатились в стороны с неожиданно отчетливым сухим шорохом, от которого болезненно сжималось сердце. — … и жизнь придет в мир через Господа нашего Иисуса Христа, Который по Своем пришествии изменит наше греховное тело, чтобы оно уподобилось Его светоносному телу, ибо Он всемогущ и подчиняет все Своей воле. Служба закончилась. Матросы вытянули веревки из-под носилок с телом. Мужчины затопали замерзшими ногами, натянули свои шапки и «уэльские парики», замотали потуже шарфы и сквозь туман потянулись вереницей в лагерь «Террор», где их ждал горячий обед. Ходжсон, Литтл, Томас, Дево, Левеконт, Блэнки, Пеглар и несколько других офицеров остались, отпустив матросов, ждавших приказа засыпать тело землей. Офицеры сами зарыли могилу лопатами и принялись укладывать первый слой камней. Они хотели похоронить Ирвинга наилучшим образом, возможным в данных обстоятельствах. По завершении работы Крозье и Фицджеймс направились в другую сторону. Они съедят свой обед гораздо позже — сейчас они собирались пройти две мили до мыса Виктори-Пойнт, где почти год назад Грэм Гор оставил в старой пирамиде Джеймса Росса медный цилиндр с оптимистическим посланием. Крозье хотел сегодня оставить там сообщение о положении дел в экспедиции, сложившемся за десять с половиной месяцев, прошедших со времени написания предыдущего послания, и о дальнейших шагах, которые он планировали предпринять. Устало бредя сквозь туман, слыша звон корабельных колоколов где-то за пеленой, клубящейся позади (разумеется, они перевезли в лагерь колокола и с «Эребуса», и с «Террора» в вельботах, когда покинули корабли), Френсис Крозье страстно надеялся, что определится с планом дальнейших действий к тому времени, когда они с Фицджеймсом достигнут пирамиды.
42. Пеглар
69°37′42″ северной широты, 98°41′ западной долготы 25 апреля 1848 г.Тюленьего мяса и рыбы оказалось недостаточно, чтобы приготовить полноценный обед на девяносто пять или сто едоков (несколько человек были слишком больны, чтобы есть твердую пищу), и даже мастерство мистера Диггла и мистера Уолла, постоянно творивших чудеса кулинарного искусства из скудных запасов корабельного продовольствия, не позволило им на сей раз преуспеть в полной мере (тем более что часть продуктов на эскимосских санях сильно испортилась), но всем до единого мужчинам удалось отведать — вместе с голднеровскими супами, тушенкой или овощами — восхитительно вкусного сала или рыбы. Гарри Пеглар поглощал пищу с аппетитом, хотя дрожал всем телом от холода и знал, что после такого обеда у него только усилится понос, которым он жестоко мучился каждый день. После обеда и перед тем как приступить к выполнению своих служебных обязанностей, Пеглар и вестовой Джон Бридженс вышли прогуляться с оловянными кружками чуть теплого чая в руках. Туман заглушал их голоса, хотя одновременно усиливал звуки, раздававшиеся вдали. Они ясно слышали, как в одной из палаток в противоположном конце лагеря мужчины спорят за карточной игрой. С юго-запада — со стороны, куда перед обедом направились два капитана, — доносился похожий на канонаду грохот грома, раскатывавшийся над паковым льдом. Гром гремел весь день, но гроза не пришла. Двое мужчин остановились возле длинного ряда лодок и саней, оттащенных на некоторое расстояние от нагромождений ледяных валунов, на месте которых окажется берег узкого залива, коли лед на море вообще когда-нибудь растает. — Скажите, Гарри, сколько лодок мы возьмем с собой, если нам придется снова выйти на лед? — спросил Бридженс. Пеглар отхлебнул из кружки и указал рукой. – Я не уверен, но, кажется, капитан Крозье решил взять десять из восемнадцати лодок. Теперь у нас осталось слишком мало достаточно здоровых людей, чтобы утащить с собой больше. – Тогда зачем мы перетащили в лагерь все восемнадцать? – Капитан Крозье не исключал возможности, что мы задержимся в лагере «Террор» еще на два или три месяца — возможно, чтобы дождаться, когда лед вокруг мыса растает. Мы чувствовали бы себя спокойнее с восемнадцатью лодками, держа несколько из них про запас на случай, если другие выйдут из строя. И тогда мы смогли бы взять с собой гораздо больше груза: продовольствия, палаток и прочего снаряжения. Если в каждую лодку сядет по десять и более человек, будет чертовски тесно и нам придется оставить здесь слишком много припасов. – Но вы думаете, что мы двинемся на юг всего с десятью лодками, Гарри? И скоро? – Надеюсь, — сказал Пеглар. Он поведал Бридженсу о том, что видел сегодня утром; о том, что сказал Гудсер по поводу содержимого желудков эскимосов, совпадающего с содержимым желудка Ирвинга; и о том, что Крозье разговаривал со всеми присутствовавшими там (возможно, за исключением морских пехотинцев), словно с потенциальными свидетелями. – Думаю, — тихо проговорил Бридженс, — капитан Крозье не уверен, что лейтенанта Ирвинга убили эскимосы. – Что? Но кто еще мог?.. Пеглар осекся. Озноб и тошнота, ни на минуту не отпускавшие его в последнее время, вдруг резко усилились. Он привалился плечом к вельботу, чтобы удержаться на ногах. Ему ни на миг не приходило в голову, что кто-то другой, кроме эскимосов, мог сотворить то, что сотворили с Джоном Ирвингом. Он вспомнил груду замерзших серых внутренностей на вершине холма. – Ричард Эйлмор говорит, что мы попали в переплет по вине офицеров, — тихо, почти шепотом, сказал Бридженс. — Он говорит всем, кто не станет доносить на него, что нам нужно перебить офицеров и распределить образовавшиеся излишки провианта между людьми. Эйлмор из нашего экипажа и помощник конопатчика из вашего говорят, что нам надо немедленно вернуться на «Террор». – Вернуться на «Террор»… — повторил Пеглар. Он знал, что из-за болезни и общего истощения туго соображает в последнее время, но подобная идея казалась напрочь лишенной смысла. Корабль затерт льдами далеко от острова и останется в ледовом плену еще не один месяц, даже если лето все-таки соизволит прийти в этом году. — Почему я не слышал ничего такого, Джон? Я не слышал никаких таких подстрекательских разговоров. Бридженс улыбнулся. – Они вам не доверяют, мой дорогой Гарри. – А вам доверяют? — Разумеется, нет. Но рано или поздно я слышу все. Стюарды, знаете ли, невидимы, поскольку они ни рыба ни мясо. К слову о рыбе и мясе — не правда ли, обед был превосходным? Вероятно, сегодня мы ели относительно свежую пищу в последний раз. Пеглар не ответил. Мысли теснились и путались у него в голове. – Каким образом мы можем предупредить Фицджеймса и Крозье? – О, они располагают информацией насчет Эйлмора, Хикки и прочих, — беззаботно сказал старый стюард. — У наших капитанов есть свои источники. — Все источники уже давно замерзли, — сказал Пеглар. Бридженс хихикнул. — Очень хорошая метафора, Гарри. Не столько ироничная, как буквальная. Пеглар потряс головой. Его до сих пор мутило от мысли, что сейчас, когда они находятся в столь отчаянном положении, один из них мог восстать на другого. – Скажите, Гарри, какие из этих лодок мы возьмем с собой, а какие оставим? — спросил Бридженс, похлопывая по корпусу первого перевернутого вверх днищем вельбота рукой в потрепанной рукавице. – Четыре вельбота мы возьмем точно, — рассеянно ответил Пеглар, все еще занятый мыслями о подстрекательствах к мятежу и о том, что он видел сегодня утром. — Судовые шлюпки имеют такую же длину, как вельботы, но чертовски тяжелые. Я бы их оставил, а взамен взял четыре тендера. У них длина всего двадцать пять футов, но они гораздо легче вельботов. Однако, возможно, у них слишком большая осадка для плавания по реке «большой рыбной» — если мы вообще до нее доберемся. Шлюпки поменьше, и ялики слишком легкие для плавания в открытом море и слишком хрупкие для долгого перехода через льды и путешествия по реке. – Значит, вы полагаете, четыре вельбота, четыре тендера и два полубаркаса? — спросил Бридженс. – Да. — Пеглар невольно улыбнулся. Несмотря на многие годы флотской службы и тысячи прочитанных книг, офицерский стюард Джон Бридженс по-прежнему очень слабо разбирался в некоторых вещах, связанных с морским делом. — Да, Джон, я думаю, эти десять. – В лучшем случае, — сказал Бридженс, — если большинство больных поправится, каждую лодку будут тянуть всего только десять человек. Нам такое по силам, Гарри? Пеглар снова потряс головой. – Все будет совсем не так, как при переходе через замерзшее море от «Террора», Джон. – Что ж, благодарение Господу за эту маленькую милость. – Нет, я имею в виду другое: мы почти наверняка потащим лодки через остров, а не по морскому льду. Нам придется гораздо труднее, чем при переходе с «Террора», когда мы тащили всего по две лодки за раз и могли поставить сколько угодно людей в одну упряжную команду, когда требовалось преодолеть препятствие. И сейчас лодки будут еще тяжелее прежнего нагружены провиантом, снаряжением и больными. Полагаю, каждую лодку будут тащить по двадцать или более упряжных. И даже тогда нам придется перетаскивать наши десять лодок поочередно. — Поочередно? — переспросил Бридженс. — Боже мой! Да нам потребуется целая вечность, чтобы дотащить даже эти десять лодок до места назначения, коли мы будем постоянно ходить взад-вперед. И чем больше мы будем слабеть от болезни и усталости, тем медленнее будем продвигаться. — Да, — сказал Пеглар. – Есть ли у нас хоть самый ничтожный шанс подняться на этих лодках по «большой рыбной» до Большого Невольничьего озера и фактории? – Сомневаюсь, — сказал Пеглар. — Возможно, некоторые из нас протянут достаточно долго, чтобы добраться с лодками до устья «большой рыбной», и если лодки исправны и идеально оснащены для речного плавания, и если… но нет, думаю, шансов у нас никаких. – Зачем же тогда капитанам Крозье и Фицджеймсу подвергать нас таким тяготам и мукам, коли у нас нет ни шанса? — спросил Бридженс. В голосе старшего мужчины не слышалось ни обиды, ни тревоги, ни отчаяния — одно только любопытство. В свое время Джон задавал Пеглару тысячи вопросов по астрономии, естественной истории, философии, ботанике и многим другим предметам именно таким вот мягким, слегка любопытным тоном. Большинство вопросов он задавал, как учитель, который знает ответ, но вежливо допрашивает своего ученика. В данном случае Пеглар был уверен, что Джон Бридженс не знает ответа на вопрос. — А какой у нас выбор? — спросил фор-марсовый старшина. — Мы могли бы остаться здесь, в лагере «Террор», — сказал Бридженс. — Или даже вернуться на «Террор», когда наша численность… сократится. – Зачем? — спросил Пеглар. — Чтобы просто ждать смерти? – Ждать в терпимых условиях. – Смерти? — Пеглар осознал, что почти кричит. — Кто, черт возьми, хочет ждать смерти в терпимых условиях? Если мы доберемся с лодками до побережья — хотя бы с несколькими лодками, — по крайней мере у некоторых из нас появится шанс. Возможно, к востоку от Бутии будет чистая от льда вода. Возможно, нам все-таки удастся подняться по реке. По крайней мере некоторым из нас. И те, кому удастся выжить, смогут рассказать родным и близким погибших о том, что с нами случилось и где мы похоронены, и о том, что в последние минуты жизни мы думали о них. – Вы мой родной и близкий человек, Гарри, — сказал Бридженс. — Из всех мужчин, женщин или детей на свете вы единственный, кому небезразлично, жив я или умер, не говоря уже о том, где упокоятся мои кости и какие мысли посетят меня перед смертью. У Пеглара, все еще раздраженного, учащенно забилось сердце. – Вы еще меня переживете, Джон. – О, в моем возрасте, с моей немощью и прогрессирующей болезнью мне едва ли… – Вы еще меня переживете, Джон, — с упором повторил Пеглар. Он сам удивился страстной настойчивости своего голоса, а Бридженс моргнул и умолк. Пеглар взял пожилого мужчину за кисть. — Обещайте мне сделать для меня одну вещь, Джон. – Разумеется. — В голосе Бридженса не слышалось обычной добродушной насмешки или иронии. – Мой дневник… он небольшой, в последнее время мне трудно даже просто ясно мыслить, а уж тем более писать… я очень болен проклятой цингой, и, похоже, она пагубно действует на мои умственные способности… но последние три года я вел дневник. Записывал свои мысли. Описывал события, происходившие с нами. Если бы вы взяли его, когда я… когда я покину вас… просто взяли с собой в Англию, я был бы очень вам благодарен. Бридженс только кивнул. — Джон, — сказал Гарри Пеглар, — я думаю, что капитан Крозье решит выступить в поход в скором времени. В самом скором. Он знает, что мы слабеем изо дня в день. Скоро мы вообще будем не в состоянии тащить лодки. В ближайшем будущем мы начнем умирать здесь десятками, и обитающему во льдах зверю не составит труда утаскивать нас из лагеря или убивать нас в своих постелях. Бридженс снова кивнул. Он смотрел вниз, на свои руки в рукавицах. — Мы с вами в разных упряжных командах, мы окажемся в разных лодках и, возможно, даже закончим поход порознь, если капитаны решат испробовать разные пути к спасению, — продолжал Пеглар. — Я хочу попрощаться с вами сегодня, раз и навсегда. Бридженс молча кивнул. Он смотрел на свои башмаки. Туман плыл над лодками и санями, клубился вокруг двоих мужчин, словно холодное дыхание некоего чуждого бога. Пеглар крепко обнял друга. Бридженс на мгновение застыл в напряженной позе, а потом тоже обнял Пеглара. Объятие вышло неловким, поскольку оба мужчины были в объемистых заледенелых шинелях и многочисленных поддевках. Потом фор-марсовый старшина повернулся и медленно двинулся обратно к лагерю «Террор» и к своей крохотной круглой палатке, где дрожащие, немытые мужчины, сейчас свободные от служебных обязанностей, тесно жались друг к другу в своих холодных спальных мешках.
43. Крозье
69°37′42″ северной широты, 98°41′ западной долготы 25 апреля 1848 г.Он заснул на ходу. Пока они шли сквозь туман к старой пирамиде Джеймса Росса, Крозье обсуждал с Фицджеймсом доводы в пользу и против того, чтобы задержаться в лагере «Террор» на дольший срок, когда вдруг Фицджеймс разбудил его, тряхнув за плечо. — Мы пришли, Френсис. Вот большой белый валун у полосы прибрежного льда. Мыс Виктори-Пойнт и пирамида должны находиться слева от нас. Вы действительно спали на ходу? — Нет, конечно, — проскрипел Крозье. — Тогда что вы имели в виду, когда сказали «не проглядите лодку с двумя скелетами» и «не проглядите девочек, проводящих спиритический сеанс»? Это лишено всякого смысла. Мы с вами обсуждали, следует ли доктору Гудсеру остаться в лагере «Террор» с тяжелобольными, пока самые здоровые из нас предпримут попытку добраться до Большого Невольничьего озера с четырьмя лодками. — Просто думал вслух, — пробормотал Крозье. — Кто такая Мойра? — спросил Фицджеймс. — И почему она не должна посылать вас к причастию? Поднимаясь по пологому склону, Крозье сдвинул шапку со лба и стянул к подбородку шерстяные шарфы, чтобы туманный морозный воздух обжигал лицо. – Где же пирамида, черт возьми? — раздраженно осведомился он. – Не знаю, — ответил Фицджеймс. — Даже в ясный солнечный день я всегда иду вдоль берега бухты до белого валуна рядом с айсбергами, а потом поворачиваю налево, к пирамиде на мысе. – Мы не могли проскочить мимо, — сказал Крозье. — Мы бы уже находились на чертовом паковом льду. Им потребовалось почти сорок пять минут, чтобы найти пирамиду в тумане. В какой-то момент, когда Крозье проворчал «этот треклятый белый зверь утащил ее куда-то и спрятал, чтобы сбить нас с толку», Фицджеймс лишь посмотрел на старшего по званию офицера и ничего не сказал. Наконец, двигаясь ощупью плечом к плечу, точно два слепца, — не рискуя расходиться в стороны в клубящемся тумане в уверенности, что даже не услышат криков друг друга сквозь неумолчный грохот приближающегося грома, — они буквально наткнулись на пирамиду. – Она стояла не здесь, — прохрипел Крозье. – Похоже на то, — согласился второй капитан. – Пирамида Росса с запиской Гора стояла на вершине возвышенности на оконечности мыса Виктори-Пойнт. А мы сейчас находимся ярдах в ста оттуда, почти в самом низу долины. – Очень странно, — сказал Фицджеймс. — Френсис, вы много раз бывали в Арктике. Этот гром — и молнии, коли таковые засверкают, — обычное явление здесь в это время года? – Я никогда прежде не слышал грома и не видел молний ранее середины лета, — проскрипел Крозье. — И вообще ни разу не слышал ничего подобного. Звучит как нечто ужасное. – Что может быть ужаснее грозы в конце апреля, когда температура воздуха еще минусовая? – Орудийный огонь, — сказал Крозье. – Орудийный огонь? — Со спасательного корабля, который прошел по открытым во льдах каналам от пролива Ланкастера и по проливу Пил для того лишь, чтобы обнаружить, что «Эребус» разрушен, а «Террор» покинут. Они будут палить из пушек двадцать четыре часа, чтобы привлечь наше внимание, а потом уплывут прочь. – Пожалуйста, Френсис, прекратите, — сказал Фицджеймс. — Иначе меня вырвет. А я уже отблевал свое на сегодня. – Извините, — сказал Крозье, роясь в карманах. – Неужели действительно есть вероятность, что это стреляют пушки? — спросил молодой капитан. — По звуку очень похоже. – Ни малейшей, — ответил Крозье. — Этот паковый лед простирается сплошняком до самой Гренландии. – Тогда откуда туман? — спросил Фицджеймс голосом скорее просто любопытным, нежели удрученным. — Вы что-то ищете в карманах, капитан Крозье? – Я забыл захватить с собой медный цилиндр для посланий, который мы взяли с «Террора», — признался Крозье. — Я чувствовал тяжесть в кармане по время панихиды и думал, что это цилиндр, но это всего лишь чертов пистолет. – А бумагу вы захватили? – Нет. Джопсон приготовил несколько листков, но я забыл их в палатке. – А ручку вы принесли? Чернила? Я выяснил, что чернила быстро замерзают, если не носить чернильницу в мешочке близко к телу. – Ни ручки, ни чернил, — признался Крозье. – Ничего страшного, — сказал Фицджеймс. — Я всегда ношу в кармане жилета и то и другое. Мы можем воспользоваться запиской Гора… написать прямо на ней. – Если мы нашли нужную пирамиду, — пробормотал Крозье. — Пирамида Росса была высотой шесть футов. А эта мне едва по грудь. Мужчины принялись вынимать камни с подветренной стороны пирамиды. Они не хотели разбирать все, а потом восстанавливать. Фицджеймс засунул руку в черную дыру, пошарил там и вытащил медный цилиндр, потускневший, но целый. — Будь я проклят! — сказал Крозье. — Это записка Грэма? – Должно быть. — Фицджеймс стянул зубами рукавицу, неловко развернул пергамент и начал читать:
«Двадцать восьмое мая тысяча восемьсот сорок седьмого года. Корабли ее величества „Эребус“ и „Террор“ перезимовали во льдах на семидесяти градусах пяти минутах северной широты и девяноста восьми градусах двадцати трех минутах западной долготы. Проведя зиму с тысяча восемьсот сорок шестого на сорок седьмой год у острова Бичи на семидесяти четырех градусах сорока трех минутах и двадцати восьми секундах северной широты…»— Фицджеймс прервал чтение. — Постойте, это ж не так. Мы провели у Бичи зиму с сорок пятого на сорок шестой год, а не с сорок шестого на сорок седьмой. – Записку продиктовал Грэму Гору сэр Джон перед тем, как Гор покинул корабль, — проскрипел Крозье. — Должно быть, сэр Джон тогда так же плохо соображал от усталости, как мы сейчас. – Еще никто никогда не соображал от усталости так плохо, как мы сейчас, — сказал Фицджеймс. — Так, далее в записке говорится:
«Экспедицией руководит сэр Джон Франклин. Все в порядке».Крозье не рассмеялся. И не расплакался. Он сказал: – Грэм Гор положил сюда записку всего за неделю до того, как обитающее во льдах существо убило сэра Джона. – И за день до того, как оно убило самого Грэма Гора, — сказал Фицджеймс. — «Все в порядке». Как будто речь идет о другой жизни, правда, Френсис? Вы помните время, когда любой из нас мог с чистой совестью написать такие слова? По краям листка остались поля — можете написать здесь, коли хотите. Двое мужчин присели на корточки с подветренной стороны пирамиды. Температура воздуха упала, и поднялся ветер, но туман продолжал клубиться вокруг них, словно не подверженный воздействию мороза и ветра. Начинало темнеть. С северо-запада по-прежнему доносился грохот канонады. Крозье подышал на маленькую карманную чернильницу, чтобы нагреть чернила, окунул в нее ручку, пробив тонкую корочку льда, вытер перо о свой обледенелый рукав и начал писать:
«25 апреля. Корабли ее величества „Террор“ и „Эребус“, затертые льдами с 12 сентября 1846 г., были покинуты 22 апреля в пяти лигах к северо-северо-западу отсюда. Офицеры и матросы, общим числом 105 человек, стали лагерем здесь — на 69°37′42″ с. ш. и 98°41′ з. д. Данная записка была найдена лейтенантом Ирвингом в пирамиде, предположительно построенной сэром Джеймсом Россом в 1831 г. и расположенной в четырех милях к северу от лагеря, куда была помещена покойным Гором в июне 1847 г. Однако пирамида Джеймса Росса не была найдена, и потому записка была перенесена сюда, в пирамиду, сооруженную сэром Дж. Россом…»Крозье остановился. «Что я пишу, черт возьми?» Он прищурился и перечитал последние строчки.
«…в пирамиде, предположительно построенной сэром Джеймсом Россом в 1831 г.»?Однако пирамида сэра Джеймса Росса не была найдена? Крозье устало вздохнул. Джон Ирвинг, в далеком августе прошлого года отправлявшийся на остров к месту будущего лагеря с первой партией корабельного имущества с «Эребуса» и «Террора», получил приказ сразу после прибытия снова отыскать Виктори-Пойнт и пирамиду Росса, а потом устроить склад провианта и снаряжения для лагеря в нескольких милях к югу от нее, на берегу узкой бухты, защищенной от ветра. На самых первых, приблизительных картах местности Ирвинг отметил местоположение пирамиды неверно — в четырех милях от склада, а не в двух, как в действительности, — но они быстро обнаружили ошибку во время последующих санных походов на остров. Сейчас затуманенный от чудовищной усталости ум Крозье продолжал настаивать на том, что цилиндр с посланием Гора был перенесен из какой-то мнимой пирамиды Джеймса Росса в эту настоящую пирамиду Джеймса Росса. Крозье потряс головой и взглянул на Фицджеймса, но второй капитан сидел на снегу, положив руки на подтянутые к груди колени, а на руки опустив голову. Он тихо похрапывал. Взяв листок бумаги, ручку и крохотную чернильницу в одну руку, другой рукой Крозье зачерпнул пригоршню снега и протер лицо, сморщившись и часто заморгав от обжигающего холода. «Сосредоточься, Френсис. Бога ради, сосредоточься». Он безумно жалел, что у него нет другого листка бумаги, чтобы начать записку заново. Глядя на мелкие каракули, тянувшиеся по полям листка — в середине уже заполненного набранными типографским шрифтом строками стандартного уведомления, гласящего:
«ЛЮБОМУ, нашедшему данную бумагу, предписывается немедленно передать ее военно-морскому министру»ниже повторенного на французском, немецком, португальском и других языках, и каракулями Гора, — Крозье не узнал собственного почерка. Почерк был прыгающим, корявым, неразборчивым — словно писал либо до смерти напуганный, либо окоченевший от холода, либо умирающий человек. «Это не имеет значения, — подумал он. — Все равно записку никто не прочитает, а если и прочитает, то спустя долгое время после нашей смерти. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Сэр Джон всегда понимал это — вот почему он не оставил ни одного послания на Бичи. Он с самого начала знал…» Он макнул перо в быстро замерзающие чернила и снова начал писать:
«Сэр Джон Франклин умер 11 июня 1847 г., и к настоящему времени экспедиция потеряла в общей сложности 9 офицеров и 15 матросов».Крозье снова остановился. Не ошибся ли он? Включил ли Джона Ирвинга в число погибших? Он никак не мог сосчитать. Вчера под его командованием оставалось сто пять человек… сто пять оставалось, когда он покинул «Террор», свой корабль, свой дом, свою жизнь… он не станет исправлять цифру. В самом верху листа, на оставшемся крохотном клочке свободного места, он нацарапал
«Ф. Р. М. Крозье»а потом приписал «капитан и старший офицер». Он разбудил Фицджеймса, легко толкнув локтем в бок. — Джеймс… Поставьте здесь свою подпись. Второй капитан протер глаза, уставился на бумагу, но, похоже, не потрудился ничего прочитать и поставил свою подпись там, куда указал Крозье. — Добавьте «капитан британского военного корабля „Эребус“», — сказал Крозье. Фицджеймс так и сделал. Крозье свернул листок, засунул обратно в медный цилиндр, плотно его закрыл и положил обратно в пирамиду. Он надел рукавицу и заложил камнями отверстие. — Френсис, вы сообщили в записке, куда мы направляемся и когда выступаем? Крозье осознал, что не сообщил. Он начал объяснять, почему… почему он считает, что все они погибнут в любом случае, останутся ли здесь или покинут остров. Почему он так и не решил, куда двигаться: к далекой Бутии или к легендарной, но ужасной реке Джорджа Бака, «большой рыбной». Он начал объяснять Фицджеймсу, что от того, что они приперлись сюда и потащатся прочь отсюда, ничего не изменится и что в любом случае никто никогда не прочитает чертову записку — так почему бы просто не… — Тш-ш-ш! — прошипел Фицджеймс. Кто-то ходил по кругу вокруг них, совсем близко, сразу за пределами видимости в клубящемся, вихрящемся тумане. Оба мужчины слышали тяжелые шаги по гальке и льду. Они слышали дыхание какого-то крупного существа. Оно передвигалось на четырех ногах, всего в пятнадцати футах от них, в густом тумане, и глухие удары огромных лап о землю отчетливо слышались сквозь отдаленные раскаты грома, похожие на грохот пушечных выстрелов. Пу-ух, пу-ух, пу-ух. Крозье слышал шумные выдохи, звучавшие в такт тяжелым шагам. Сейчас существо находилось позади них, двигаясь вокруг пирамиды, двигаясь вокруг них. Оба мужчины вскочили на ноги. Крозье неловко вытащил пистолет из кармана. Он зубами стянул рукавицу и взвел курок, когда шаги и дыхание стихли прямо перед ними, хотя существо по-прежнему оставалось невидимым в тумане. Крозье был уверен, что чувствует смрадный рыбный дух, исходящий от него. Фицджеймс, все еще державший в руке чернильницу и перо, возвращенные Крозье, и не имевший при себе пистолета, указал в туман, где предположительно находилось существо. Галька захрустела, когда зверь двинулся к ним крадущейся походкой. В тумане, на высоте пяти футов над землей, медленно проступили очертания треугольной головы. Мокрая белая шерсть сливалась с туманом. Холодные черные глаза пристально смотрели на них с расстояния всего шести футов. Крозье направил пистолет в точку пространства чуть выше головы. Рука у него была такой твердой, что ему даже не пришлось задерживать дыхание. Голова немного приблизилась, паря в воздухе, словно отдельно от тела. Потом из тумана выступили гигантские плечи. Крозье выстрелил. Выстрел прозвучал оглушительно. Белый медведь, еще почти медвежонок, испуганно рыкнул, попятился, развернулся кругом и бросился прочь, в считанные секунды исчезнув в тумане. Частый топот лап по гальке слышался еще целую минуту, удаляясь в северо-западном направлении. Потом Крозье и Фицджеймс принялись смеяться. Они никак не могли остановиться. Всякий раз, когда один начинал успокаиваться, второй заливался смехом с новой силой, и в следующий миг оба снова оказывались во власти безумной, бессмысленной веселости. Они хватались за бока от боли в грудной клетке, вызванной судорожными сокращениями диафрагмы. Крозье уронил пистолет, и оба расхохотались еще сильнее. Они хлопали друг друга по спине, указывали в туман и истерически смеялись до слез, которые градом лились по лицу и замерзали на щеках и бороде. Заходясь диким хохотом, они ухватились друга за друга, чтобы удержаться на ногах. Потом капитаны бессильно упали на землю и привалились спиной к пирамиде, каковое обстоятельство повергло обоих в очередной приступ буйной веселости. Наконец безудержный хохот сменился хихиканьем, хихиканье перешло в смущенное пофыркиванье, а потом, издав несколько сдавленных смешков напоследок, мужчины умолкли, часто и тяжело дыша. – Знаете, за что я бы сейчас отдал свое левое яйцо? — спросил капитан Френсис Крозье. – За что? – За стакан виски. То есть за два стакана. Один для меня, другой для вас. С меня выпивка, Джеймс. Я вас угощаю. Фицджеймс кивнул, смахивая замерзшие слезы с ресниц и сосульку с рыжеватых усов под носом. – Благодарю вас, Френсис. А я провозглашу первый тост за вас. Мне никогда прежде не выпадало чести служить под началом лучшего командира или лучшего человека. – Могу я еще раз воспользоваться чернильницей и ручкой? — спросил Крозье. Надев рукавицу, он снова вытащил несколько камней из стенки пирамиды, нашел там цилиндр, извлек из него лист бумаги, пристроил на коленях, потом опять стянул зубами рукавицу, проткнул пером корочку льда в чернильнице и на крохотном клочке свободного места под своей подписью нацарапал:
«И завтра, 26 апреля, мы выступаем к реке Бака, „большой рыбной“».
44. Гудсер
69°?'?" северной широты, 98°?'?" западной долготы Бухта Покоя 6 июня 1848 г.
Из личного дневника доктора
Гарри Д. С. Гудсера
Вторник, 6 июня.
Капитан Фицджеймс наконец скончался. Благодарение Богу. В отличие от всех остальных, умерших за последние шесть недель, которые прошли с начала нашего адски тяжелого похода на юг (с лодками, от обязанности тащить которые не освобождается даже единственный оставшийся в живых врач экспедиции), капитан Фицджеймс, на мой взгляд, умер не от цинги. Цингой он болел, здесь сомнений нет. Я только что закончил аутопсию этого славного человека, и синяки, кровоточащие десны, почерневшие губы говорят сами за себя. Но я думаю, убила его не цинга. Три последних дня своей жизни капитан Фицджеймс провел здесь: примерно в восьмидесяти милях к югу от лагеря «Террор», на обледенелом мысе в открытом всем ветрам заливе, где береговая линия Кинг-Уильяма резко поворачивает на запад. Впервые за шесть недель мы распаковали все палатки, включая большие, и воспользовались углем из одного из нескольких мешков, взятых с собой, и железной печью с вельбота, которую одна упряжная команда дотащила так далеко. Все шесть недель мы питались холодной пищей или лишь слабо разогретой на крохотных спиртовках. Последние два дня мы ели горячую пищу — в недостаточном количестве, составляющем всего треть нормы, необходимой людям, занятым столь непосильным трудом, — но все же горячую. Два утра подряд мы просыпались на одном и том же месте. Люди называют егобухтой Покоя. Мы остановились главным образом для того, чтобы дать капитану Фицджеймсу умереть спокойно. Но капитан не знал покоя в последние дни своей жизни. У бедного лейтенанта Левеконта наблюдались некоторые из симптомов, появившихся у капитана Фицджеймса незадолго до смерти. Лейтенант Левеконт скоропостижно скончался на тринадцатый день нашего ужасного похода на юг — всего в восемнадцати милях от лагеря «Террор», если мне не изменяет память, и в один день с рядовым морской пехоты Пилкингтоном, — но симптомы цинги у лейтенанта и у рядового свидетельствовали о более поздней стадии заболевания, и предсмертная агония у них продолжалась не столь мучительно долго. Признаюсь, я не знал, что лейтенанта Левеконта звали Гарри. Наши с ним отношения всегда оставались вполне дружескими, но также вполне формальными, и я помнил, что в списке личного состава он значится как Г. Т. Д. Левеконт. Теперь мне не дает покоя мысль, что я наверняка слышал — вероятно, сотни раз, — как другие офицеры время от времени называли его Гарри, но всегда был слишком занят или поглощен своими мыслями, чтобы обратить на это внимание. Только после смерти лейтенанта Левеконта я заметил, что другие мужчины называют его по имени. Рядового Пилкингтона звали Уильям. Я хорошо помню день в начале мая, когда после короткой общей панихиды по Левеконту и рядовому Пилкингтону один из матросов предложил назвать маленький мыс, где они похоронены, именем Левеконта, но капитан Крозье решительно отверг предложение, сказав, что, если мы станем называть каждое место в честь похороненного там человека, у нас не хватит на всех географических объектов. Такое заявление повергло людей в замешательство и, признаюсь, меня тоже. Возможно, капитан пытался пошутить, но я был шокирован его словами. Остальные тоже оторопели, лишившись дара речи. Возможно, именно такую цель и преследовал капитан Крозье. Больше люди действительно никогда не предлагали называть географические объекты в честь своих умерших офицеров. Последние несколько недель — еще даже до нашего выступления из лагеря «Террор» — у капитана Фицджеймса наблюдались все признаки общего истощения организма, но четыре дня назад он был сражен неким недугом, развивающимся стремительнее цинги и причиняющим тяжелейшие муки. У капитана уже довольно давно начались серьезные проблемы с желудком и кишечником, но второго июня он внезапно упал от слабости. На марше у нас принято не останавливаться из-за больных, но класть их в одну из больших лодок и тащить вместе с провиантом, снаряжением и прочим грузом. Капитан Крозье проследил за тем, чтобы капитана Фицджеймса устроили по возможности удобнее в его собственном вельботе. Поскольку мы совершаем наш длинный поход на юг поэтапно — по несколько часов кряду выбиваемся из сил, чтобы протащить пять из десяти тяжелых лодок всего на несколько сотен ярдов по ужасным камням и снегу, стараясь по возможности держаться берега, дабы не иметь дела с паковым льдом и торосными грядами, и порой за день покрываем таким манером расстояние всего в милю или меньше, — я взял за обыкновение оставаться с тяжелобольными, пока упряжные команды возвращаются за другими пятью лодками. Зачастую лишь мистер Диггл и мистер Уолл, героически готовящиеся разогревать пищу на почти сотню умирающих от голода людей на своих крохотных спиртовках, да несколько вооруженных мушкетами мужчин, призванных защищать нас от обитающего во льдах зверя или от эскимосов, составляют мне общество в такие часы. Если не считать тяжелобольных и умирающих. Рвота и понос у капитана Фицджеймса были ужасными. Корчась от жестоких спазмов, этот сильный и отважный мужчина кричал в голос. На второй день он попытался присоединиться к своей упряжной команде, тащившей вельбот, — даже офицеры время от времени встают в упряжь, — но вскоре снова упал. На сей раз рвота и спазмы не прекращались ни на минуту. Когда во второй половине того дня вельбот оставили на льду, а трудоспособные мужчины двинулись обратно, за другими пятью лодками, оставленными позади, капитан Фицджеймс признался мне, что у него сильно испортилось зрение и часто двоится в глазах. Я спросил, надевал ли он проволочные солнцезащитные очки. Люди терпеть их не могут, поскольку они страшно мешают обзору и вызывают головную боль. Капитан Фицджеймс признался, что не надевал, но сказал, что в тот день было довольно облачно. Тогда никто не носил очков. Здесь наш разговор прервался, поскольку у него снова начался приступ поноса и рвоты. Позже ночью, в голландской палатке, где я сидел с ним, Фицджеймс, задыхаясь, пожаловался мне на сильную боль в горле и постоянную сухость во рту. Вскоре дыхание у него стало затрудненным, и он больше не мог говорить. К рассвету у капитана парализовало руки от плеч до кистей, и он уже не мог шевелить ими, чтобы писать мне записки. В тот день капитан Крозье дал команду на привал — первый продолжительный привал за почти шесть недель, прошедших с момента нашего выступления из лагеря «Террор». Были разбиты все палатки. Из вельбота Крозье наконец достали большую лазаретную палатку — потребовалось почти три часа, чтобы установить ее на ветру и морозе (а в последнее время подобная тяжелая работа занимает у изнуренных людей гораздо больше времени против прежнего), — но впервые за почти полтора месяца мы сравнительно удобно устроили всех больных в одном месте. Мистер Хор, давно страдавший цингой стюард капитана Фицджеймса, скончался на второй день нашего похода. (В первый ужасный день мы преодолели менее мили пути и в первую ночь еще до боли ясно видели груду угля, печей и прочего имущества, оставленную на месте лагеря «Террор». Складывалось такое впечатление, будто за двенадцать часов непрерывных мучительных усилий мы не достигли ровным счетом ничего. Те первые дни — а нам понадобилась целая неделя, чтобы пересечь покрытый льдом узкий залив к югу от лагеря «Террор», покрыв при этом расстояние всего в шесть миль, — едва не истребили в нас всякий моральный дух и желание продолжать поход.) Рядовой морской пехоты Хизер, много месяцев назад лишившийся части мозга, на четвертый день похода позволил наконец своему телу умереть. Вечером того дня оставшиеся в живых морские пехотинцы сыграли на волынке над неглубокой, наспех вырытой могилой товарища. Вслед за ними и прочие больные продолжали умирать один за другим, но затем, после смерти лейтенанта Левеконта и рядового Пилкингтона в конце второй недели пути, наступил продолжительный период, в течение которого никто не умер. Люди убедили себя в том, что все тяжелобольные умерли и в живых остались только самые здоровые и крепкие. Внезапный и резкий упадок сил, случившийся у капитана Фицджеймса, напомнил нам о том, что все мы неуклонно слабеем. Среди нас больше не осталось по-настоящему здоровых и крепких людей. За исключением, возможно, великана Магнуса Мэнсона, который невозмутимо топает себе вперед и, похоже, нисколько не теряет ни в весе, ни в силе. В попытке избавить капитана Фицджеймса от постоянной рвоты я давал ему асафетиду, растительную смолу, снимающую желудочные спазмы. Но она мало помогала. Больной не мог удержать в желудке ни твердую пищу, ни жидкую. Я поил несчастного известковой водой, чтобы успокоить желудок, но и она тоже не приносила пользы. Чтобы снять боль в горле, я давал капитану Фицджеймсу сироп из морского лука — дубильный отвар лекарственного растения, являющийся великолепным отхаркивающим средством. Но обычно эффективный препарат, похоже, не облегчал страданий умирающего. Когда капитан Фицджеймс утратил способность двигать сначала руками, а потом ногами, я пробовал пользовать его перуанским кокаиновым вином — сильнодействующей смесью вина и кокаина, — а также костяным маслом — препаратом из рогов взрослого благородного оленя, имеющим запах аммиака, — и камфарной настойкой. Эти лекарственные средства, которые я давал капитану по половине дозы, зачастую задерживают развитие паралича и даже частично исцеляют от него. Но в данном случае они не помогли. Паралич поразил все конечности капитана Фицджеймса. Он продолжал жестоко мучиться рвотой и, долго корчась от спазмов после каждого приступа, уже не мог ни говорить, ни объясняться жестами. Но, по крайней мере, омертвение его речевого аппарата избавило людей от тяжкой необходимости слышать душераздирающие крики своего капитана, изнемогающего от боли. Но в последний долгий день я видел его страшные конвульсии и разверстый в беззвучных воплях рот. Сегодня утром, на четвертый и последний день предсмертной агонии капитана Фицджеймса, легкие у него начали отказывать, поскольку паралич распространился на дыхательные мышцы. Он целый день страшно задыхался. Мы с Ллойдом — иногда при помощи капитана Крозье, который провел много часов рядом со своим умирающим другом, — часто усаживали Фицджеймса, или вообще поднимали с постели, поддерживая под руки, или даже водили по палатке парализованного человека, чьи неподвижные ноги волочились по мерзлой гальке, в тщетной попытке заставить работать его слабеющие легкие. В отчаянии я влил в рот капитану Фицджеймсу настойку лобелии (индейского табака) цвета виски, представлявшую собой практически чистый никотин, и массировал ему горло голыми пальцами, чтобы жидкость прошла в пищевод. Это было все равно, что кормить умирающую птицу. Настойка лобелии являлась самым сильным стимулирующим средством для дыхательных органов, остававшимся в моей опустошенной аптечке, — средством, в которое безгранично верил доктор Педди. «Оно воскресило бы и Христа на день раньше», — в подпитии частенько повторял Педди, поминая имя Господа всуе. Но и она не помогла. Не следует забывать, что я простой хирург, не терапевт. Я обучался на анатома и хорошо сведущ в хирургии. Терапевты прописывают лекарства; хирурги режут и пилят. Но я стараюсь распорядиться с наибольшей пользой запасами лекарственных препаратов, доставшимися мне от покойных коллег. Самым ужасным в последний день жизни капитана Фицджеймса было то, что он все время оставался в памяти и ясно сознавал все, с ним происходящее — рвоту и жестокие желудочные спазмы, потерю голоса и неспособность глотать, распространение паралича и мучительное удушье в последние страшные часы. Я видел ужас и панику в глазах несчастного. Его рассудок нисколько не пострадал. Его тело умирало. Он ничего не мог поделать, чтобы облегчить свои невыносимые страдания, разве только умолять меня взглядом. А я ничем не мог помочь. Порой я испытывал острое желание дать капитану смертельную дозу чистого кокаина, чтобы положить конец его адским мукам, но клятва Гиппократа и христианская вера удерживали меня от такого шага. Вместо этого я выходил из палатки и плакал, предварительно убедившись, что поблизости нет никого из офицеров или матросов. Капитан Фицджеймс скончался в три часа восемь минут пополудни сегодня, во вторник шестого июня, в год тысяча восемьсот сорок восьмой от Рождества Христова. Неглубокую могилу для него уже выкопали. Камни для покрытия могилы уже собрали и сложили в кучу. Все мужчины, способные одеться и держаться на ногах, собрались на заупокойную службу. Многие из тех, кто служил под командованием капитана Фицджеймса последние три года, плакали. Хотя сегодня было тепло — от пяти до десяти градусов выше ноля, — с безжалостного северо-запада налетел ледяной ветер и слезы замерзали на бородах или шарфах. Несколько оставшихся в живых морских пехотинцев дали залп в воздух. С холма над могилой вспорхнула куропатка и улетела в сторону пакового льда. Мужчины хором испустили громкий стон. Скорбя не о смерти капитана Фицджеймса, а об упущенной куропатке, которую можно было бы приготовить к ужину. К тому времени, когда морские пехотинцу перезарядили мушкеты, птица уже находилась в сотне ярдов от нас и далеко за пределами дальности огня. (И никто из морских пехотинцев не попал бы в птицу на лету с расстояния ста ярдов, даже если бы они хорошо себя чувствовали и не дрожали от холода.) Позже — всего полчаса назад — капитан Крозье заглянул в лазаретную палатку и дал мне знак выйти к нему на мороз. — Капитан Фицджеймс умер от цинги? — только и спросил он. Я признался, что так не думаю. Он умер от какого-то более страшного недуга. – Капитан Фицджеймс считал, что стюард, который стал прислуживать ему и другим офицерам после смерти Хора, травил его ядом, — прошептал капитан. — Такое возможно? – Бридженс? — воскликнул я излишне громко. Я был глубоко потрясен. Мне всегда нравился начитанный старый стюард. Крозье помотал головой. — Последние две недели офицерам с «Эребуса» прислуживал Ричард Эйлмор, — сказал он. — Возможно ли, что причиной смерти явился яд? Я заколебался. Если бы я ответил утвердительно, Эйлмора точно расстреляли бы на рассвете. Кают-компанейский стюард был тем самым человеком, который в январе получил пятьдесят плетей за свое необдуманное участие в Большом Венецианском карнавале. Эйлмор также являлся другом и доверенным лицом тщедушного и порой коварного помощника конопатчика с «Террора». Эйлмор, как все мы знали, имел нрав мелочный и обидчивый. – Вполне возможно, смерть наступила от яда, — сказал я Крозье менее получаса назад. — Но не обязательно от яда, который давали намеренно. – Что вы имеете в виду? — осведомился Крозье. Наш оставшийся в живых капитан выглядел сегодня вечером таким изнуренным, что мертвенно-бледная кожа его буквально лучилась при свете звезд. – Я имею в виду, — пояснил я, — что офицеры ели самые большие порции оставшихся у нас голднеровских консервов. В испорченных консервированных продуктах зачастую содержится яд неизвестного происхождения, но сильного паралитического действия. Никто не знает, что это за яд такой. Возможно, это какие-то микроскопические организмы, которые мы не в силах рассмотреть с помощью наших оптических приборов. – Разве мы не унюхали бы запаха, если бы консервированные продукты испортились? — шепотом спросил Крозье. Я потряс головой и схватил капитана за рукав для пущей убедительности своих слов. — Нет. Тем-то и страшен данный яд, что он парализует сначала голосовые связки, а потом все тело. Его невозможно обнаружить или исследовать. Он невидим, как сама Смерть. Крозье задумался на долгую минуту. – Я прикажу всем воздержаться от употребления консервированных продуктов на три недели, — наконец сказал он. — Некоторое время нам придется довольствоваться оставшейся у нас соленой говядиной и дрянными галетами. Будем есть холодную пищу. – Матросы и офицеры не придут в восторг от этого, — прошептал я. — Консервированные супы и овощи все же хоть мало-мальски напоминают нормальную пищу, необходимую в походе. Они могут взбунтоваться против такого сурового ограничения в столь тяжелых условиях. Тогда Крозье улыбнулся. Странной, жутковатой улыбкой. — Тогда я не всем прикажу воздержаться от консервированных продуктов, — прошипел он. — Стюард Эйлмор будет продолжать есть их — из тех же самых банок, из которых он накладывал Джеймсу Фицджеймсу. Спокойной ночи, доктор Гудсер. Я вернулся в лазаретную палатку, обошел спящих больных, а потом заполз в свой спальный мешок и сел там, устроив на коленях свое портативное бюро красного дерева. Мой почерк так неразборчив, поскольку я дрожал. И не только от холода. Каждый раз, когда я начинаю думать, что хорошо знаю одного из матросов или офицеров, я почти сразу обнаруживаю, что заблуждаюсь. Медицинская наука никогда не проникнет в сокровенные тайники души человеческой, даже через миллионы лет прогресса. Мы выступаем завтра до рассвета. Думаю, мы больше не будем делать остановок столь продолжительных, как двухдневная остановка на берегу бухты Покоя.
45. Блэнки
Неизвестная широта, неизвестная долгота 18 июня 1848 г.Когда у Тома Блэнки сломалась третья по счету деревянная нога, он понял, что это конец. Первая новая нога у него была просто загляденье. Вырезанная из одного куска твердого дуба и тщательно обструганная мистером Хани, искусным плотником с «Террора», она представляла собой истинное произведение искусства, и Блэнки любил хвастать ею. Ледовый лоцман расхаживал по кораблю на своей деревяшке, словно добродушный пират, но, когда Блэнки пришлось выходить на лед, он прикрепил к ней равно искусно вырезанную деревянную ступню. Подошва оной была утыкана великим множеством гвоздей и винтов — обеспечивавших лучшее сцепление со льдом, чем шипы на подошвах обычных зимних башмаков, — и одноногий лоцман, хотя и неспособный тащить сани, прекрасно поспевал за отрядом во время трехдневного похода от покинутого корабля к лагерю «Террор», а потом долгого пути на юг и теперь на восток. Но сейчас он уже не поспевал. Его первая нога сломалась прямо под коленом через девятнадцать дней после того, как они покинули лагерь «Террор», вскоре после похорон бедных Пилкингтона и Гарри Левеконта. В тот день капитан Фицджеймс освободил Тома Хани от обязанности тащить сани, и лоцман с плотником ехали в полубаркасе на санях, влекомых двадцатью пыхтящими от напряжения мужчинами, пока Хани вырезал новую ногу и ступню из куска запасного рея. Блэнки никак не мог решить, следует или не следует ему пользоваться деревянной ногой, пока он хромает рядом с санями и обливающимися потом, чертыхающимися моряками. Когда они все-таки отваживались выходить на морской лед — как в первые дни, когда пересекали замерзшую бухту к югу от лагеря «Террор», а затем при переходе через Тюлений залив, и потом еще раз, когда пересекали широкий залив к северу от мыса, где похоронили Левеконта, — утыканная гвоздями и винтами ступня творила настоящие чудеса на льду. Но большую часть пути на юг, потом на запад вдоль и вокруг широкого мыса, а теперь снова на восток они двигались по суше. Когда снег и лед на камнях начали таять — а они таяли быстро этим летом, которое было значительно теплее потерянного лета 1847 года, — деревянная овальная ступня Тома Блэнки постоянно соскальзывала со склизких камней, или проваливалась в расселины во льду, или трескалась в месте присоединения к ноге. Когда они выходили на лед, Блэнки всячески старался показать свою солидарность с товарищами: возвращался за оставленными позади лодками вместе с упряжными командами; ковылял рядом с пыхтящими от натуги потными мужчинами; нес разные мелкие предметы, если мог; и время от времени вызывался заменить какого-нибудь измученного человека в упряжи. Но все знали, что он не в состоянии достаточно сильно налегать на ремни. К шестой неделе похода, когда они удалились от лагеря «Террор» на сорок семь миль и находились у бухты Покоя, где скончался бедный капитан Фицджеймс, Блэнки ходил уже на третьей ноге, менее прочной и ладной, чем вторая, — и он мужественно старался ковылять на своей деревяшке по камням, через ручьи и широкие разливы стоячей воды, хотя теперь уже не возвращался назад, чтобы совершить ненавистный Послеполуденный Переход со второй партией лодок. Том Бланки понимал, что стал слишком тяжелой обузой для изнуренных и больных людей (число которых сократилось до девяносто пяти, если не считать Бланки), чтобы продолжать путь на юг вместе с ними. Что заставляло Бланки идти дальше, даже когда третья нога начала расщепляться (запасных реев, чтобы вырезать четвертую, у них больше не осталось), так это крепнущая в душе надежда, что его опыт ледового лоцмана понадобится, когда они сядут в лодки. Но если ледяная корка на скалах и голом каменистом берегу стаивала в течение дня — по словам лейтенанта Литтла, температура воздуха порой поднималась до плюс сорока, — паковый лед за прибрежными айсбергами не обнаруживал никаких признаков таяния. Бланки старался сохранять спокойствие. Он лучше любого другого участника экспедиции знал, что на этих широтах каналы во льдах — даже таким «вполне нормальным» летом, как это, — могут не появиться до середины, а то и конца июля. И все же от состояния льда зависело не только то, окажется ли Бланки полезным, но и выживет ли он. Если они сядут в лодки в скором времени, возможно, он выживет. Для путешествия на лодке деревянная нога ему не нужна. Крозье давно назначил Томаса Бланки шкипером полубаркаса — командиром над восемью мужчинами, — а если ледовый лоцман снова выйдет в море, он наверняка останется в живых. Коли повезет, они смогут довести свою маленькую флотилию из десяти растрескавшихся, побитых лодок до самого устья реки «большой рыбной», задержаться там на месяц, чтобы оснастить суденышки для речного плавания и — при помощи самого слабого северо-западного ветра и усилий гребцов — быстро двинуться вверх по течению. Преодолевать пороги, знал Бланки, будет трудно — особенно для него, поскольку теперь он на своей хлипкой деревяшке мог нести лишь самый незначительный груз, — но после восьми недель кошмарного похода это покажется плевым делом. Если Томас Бланки сумеет продержаться до дня, когда они сядут в лодки, он выживет. Но Блэнки знал тайну, приводившую в уныние даже такого жизнерадостного человека, как он: обитающее во льдах существо, воплощение Ужаса, преследовало его. Чудовищного зверя видели вдали каждый день или два, пока измученные люди огибали оконечность широкого мыса, а потом двигались вдоль береговой линии на восток, каждый день после полудня возвращаясь за оставленными позади лодками и каждый вечер около одиннадцати бессильно падая в своих влажных голландских палатках, чтобы заснуть на несколько часов. Существо следовало за ними. Иногда офицеры видели его в подзорную трубу, когда смотрели в сторону моря. Ни Крозье, ни Литтл, ни Ходжсон, ни любой другой из немногих оставшихся в живых офицеров никогда не говорил тянувшим сани людям про зверя, но Блэнки — имевший больше времени для наблюдений и размышлений, чем все прочие, — видел, как они тихо совещаются, и все понимал. В иные разы мужчины, тащившие сани в хвосте вереницы, ясно видели зверя невооруженным глазом. Порой он шел позади, держась от них на расстоянии мили или меньше: темное пятно на фоне белого льда или белое пятно на фоне черных скал. — Это просто один из полярных белых медведей, — сказал Джеймс Рейд, рыжебородый ледовый лоцман с «Эребуса» и ныне один из ближайших друзей Блэнки. — Они сожрут тебя при удобном случае, но в большинстве своем они довольно безобидны. Пули убивают их. Будем надеяться, что зверь подойдет ближе. Нам нужно свежее мясо. Но Блэнки знал, что это вовсе не белый медведь, каких они убивали время от времени. Это было оно, и, хотя все участники долгого похода боялись чудовища — особенно по ночам или в течение двух часов полумрака, теперь сходивших за ночь, — один только Томас Блэнки твердо знал, что в первую очередь оно возьмется за него. Трудный поход пагубно сказался на всех, но Блэнки испытывал непрерывные муки — не от цинги, развившейся у него, казалось, не в такой тяжелой форме, как у остальных, а от дикой боли в обрубке ноги, оторванной зверем. Идти по каменистому, местами покрытому льдом берегу было так трудно, что к середине утра каждого дня протяженностью от шестнадцати до восемнадцати часов, кровь из стертой до мяса культи переливалась через край чашевидного углубления в протезе и кожаные ремни, которыми он крепился к обрубку. Кровь просачивалась через толстые парусиновые штаны и стекала по деревянной ноге, оставлявшей кровавые следы на земле. Она пропитывала подол длинной нижней рубахи и подштанники. В первые недели похода, когда еще стояли морозы, кровь, слава богу, замерзала. Но сейчас, когда днем температура воздуха поднималась выше нуля, Бланки истекал кровью, как подколотая свинья. Благодарение Богу, длинные зимние плащ и шинель скрывали самые ужасные свидетельства кровотечения от капитана и прочих, но к середине июня стало слишком тепло, чтобы оставаться в верхней одежде, когда тащишь сани, и потому тонны пропитанных потом шинелей и шерстяных свитеров были свалены в лодки. Часто мужчины шли в упряжи в одних рубашках и надевали свитера ближе к вечеру, когда свежело. В ответ на вопрос, почему он продолжает ходить в длинной зимней шинели, Бланки отшучивался. — Я холоднокровный, ребята, — со смехом говорил он. — Холод от земли передается по деревянной ноге в самое мое нутро. Мне не хочется, чтобы вы видели, как я дрожу. Но в конце концов ему все же пришлось снять шинель. Поскольку Бланки выбивался из сил, чтобы просто не отстать от отряда, и поскольку от боли в стертой культе он обливался потом, даже когда стоял на месте, он больше не мог выносить бесконечные периоды замерзания и таяния всех своих зимних одежд. Люди ничего не сказали, когда увидели кровь. У всех были свои проблемы. Крозье и Литтл часто отводили Бланки и Рейда в сторону и интересовались профессиональным мнением двух ледовых лоцманов насчет состояния льда сразу за стеной айсбергов, тянущейся вдоль береговой линии. Когда они снова двинулись на восток, по южному берегу мыса — который выдавался на много миль в море к юго-западу от бухты Покоя и из-за которого их и без того длинный путь к устью «большой рыбной» удлинился, наверное, на лишние двадцать миль, — Рейд высказал мнение, что лед между данной частью Кинг-Уильяма и материком (неважно, соединяется с ним Кинг-Уильям или нет) будет вскрываться медленнее, чем паковый лед к северо-западу, где ледовые условия летом меняются динамичнее. Блэнки был более оптимистичен. Он указал на то, что айсберги, скопившиеся здесь вдоль южного берега, становятся все меньше и меньше. Некогда мощный ледяной барьер, отделявший сушу от морского льда, теперь превратился в препятствие, не более серьезное, чем скопление низких сераков. Причина в том (объяснил он Крозье, и Рейд с ним согласился), что этот мыс Кинг-Уильяма защищает данный участок моря и побережья — или, возможно, участок залива и побережья — от потока глетчерного льда, который наступал с северо-запада на «Эребус» и «Террор» и даже на берег в окрестностях лагеря. Этот бесконечный натиск ледовых масс, указал Блэнки, шел от самого Северного полюса. Здесь, к югу от юго-западного мыса Кинг-Уильяма, обстановка благоприятнее. Возможно, лед здесь вскроется раньше. Когда он высказал такое мнение, Рейд посмотрел на него странным взглядом. Блэнки знал, что подумал второй ледовый лоцман. «Залив ли это или пролив, ведущий к устью реки Бака, на таких ограниченных пространствах лед обычно вскрывается в последнюю очередь». Рейд поступил бы правильно, если бы сказал это вслух капитану Крозье, — он промолчал, очевидно не желая возражать своему другу и коллеге, — но Блэнки все равно смотрел в будущее с оптимизмом. На самом деле Томас Блэнки смотрел в будущее с оптимизмом каждый день с той ужасной темной ночи пятого декабря прошлого года, когда он уже распрощался с жизнью, преследуемый Обитающим во Льдах Зверем за пределами корабля, в лесу сераков. Дважды чудовищное существо пыталось убить его. И оба раза Томас Блэнки терял лишь часть одной ноги. Он продолжал ковылять вперед, поддерживая изнуренных, измотанных мужчин ободряющими словами и шутками, порой делясь с ними щепоткой табака или куском мороженой говядины. Товарищи по палатке, знал Бланки, ценили его. Он дежурил в свою смену по ночам, становившимся все короче и короче, и нес дробовик, с трудом ковыляя рядом с санями в первой половине дня в качестве охранника, хотя Томас Бланки лучше любого другого человека на свете знал, что простым дробовиком не остановить Ужасного Зверя, когда он наконец явится за очередной жертвой. Тяготы долгого похода возрастали. Люди умирали не только от голода, цинги и различных последствий воздействия атмосферных условий — еще два человека умерли страшной смертью от отравления, постигшей капитана Фицджеймса: Джон Кауи, кочегар, уцелевший после вторжения чудовища на «Эребус» 9 марта, скончался 10 июня после многочасовых судорог и спазмов, сопровождавшихся душераздирающими воплями, и наступившего следом безмолвного паралича. 12 июня Даниел Артур, тридцативосьмилетний интендант с «Эребуса», упал от острой боли в животе и всего восемью часами позже умер от паралича легких. Этих двоих не похоронили толком; отряд остановился лишь для того, чтобы зашить оба тела в один узкий кусок лишней парусины и засыпать камнями. Ричард Эйлмор, ставший объектом пристального внимания после смерти капитана Фицджеймса, не обнаруживал почти никаких симптомов цинги. Ходили слухи, что, в то время как все по приказу капитана перестали употреблять разогретые консервированные продукты и потому мучились цингой еще сильнее, Эйлмор вместе с Кауи и Артуром продолжал есть консервы. Поскольку оставалось непонятным, почему голднеровские консервы стали причиной страшной смерти троих мужчин, но никак не повредили Эйлмору, напрашивалось предположение о намеренном отравлении сильнодействующим ядом. Но хотя все знали, что Эйлмор ненавидит капитана Фицджеймса и капитана Крозье, стюард явно не имел оснований отравлять своих товарищей. Если только он не хотел заполучить их долю продовольствия. Генри Ллойд, помощник доктора Гудсера, в последние дни входил в число мужчин, которых тащили в лодках, — тяжело больной цингой, он постоянно блевал кровью, выплевывая выпавшие зубы, — а поскольку Блэнки являлся одним из немногих, помимо Диггла и Уолла, кто оставался возле лодок после Утреннего Перехода, он старался по мере своих сил помочь доброму доктору. Странное дело, но, несмотря на значительное потепление, возросло число случаев обморожения. Потные мужчины, с утра снимавшие куртки и перчатки, продолжали тащить сани раздетыми весь бесконечно долгий холодный вечер (солнце теперь стояло над южным горизонтом до полуночи), пока не обнаруживали, что температура воздуха успела опуститься до минус пятнадцати.[15] Гудсеру постоянно приходилось заниматься пальцами и участками кожи, побелевшими от обморожения или уже почерневшими вследствие омертвения тканей. Солнечная слепота или жестокие головные боли, вызванные ослепительным блеском солнца, поразили половину мужчин. По утрам Крозье и Гудсер ходили взад и вперед вдоль вереницы саней, уговаривая всех надеть очки, но люди терпеть не могли эти уродливые сетчатые штуковины. Джо Эндрю, трюмный старшина «Эребуса» и старый друг Тома Блэнки, сказал однажды, что в проклятых проволочных очках чувствуешь себя так, словно смотришь сквозь черные шелковые женские панталоны, только при этом тебе далеко не так весело. Снежная слепота и вызванные ею головные боли были еще ужаснее. Некоторые мужчины умоляли доктора Гудсера дать им настойки опия, когда у них начинала раскалываться голова, но врач отвечал, что она вся вышла. Блэнки, которого часто посылали принести лекарства из запертого сундучка доктора, знал, что Гудсер лжет. Там еще оставался маленький пузырек с настойкой опия, без этикетки. Ледовый лоцман понимал, что врач бережет его для какого-то особо ужасного случая — чтобы облегчить предсмертные страдания Крозье? Или свои собственные? Остальные испытывали адские муки от солнечных ожогов. Руки, лица и шеи у всех покраснели и покрылись волдырями, но некоторые мужчины — снимавшие рубахи даже на самое малое время в период невыносимой полдневной жары, когда температура воздуха поднималась выше точки замерзания, — уже к вечеру обнаруживали, что кожа у них, побледневшая до мертвенной белизны за три года, проведенные в темноте жилой палубы, докрасна обгорела и быстро покрывается сплошь водяными пузырями. Доктор Гудсер прокалывал гноящиеся волдыри ланцетом и накладывал на открытые язвы мазь, пахшую машинным маслом. К середине июня, когда девяносто пять оставшихся в живых людей с трудом продвигались на восток вдоль южного берега мыса, почти все находились в состоянии крайнего истощения. Пока у достаточного количества мужчин оставались силы тащить чудовищно тяжелые сани с лодками и доверху нагруженные вельботы без саней, другие страдальцы могли какое-то время ехать на повозках, отчасти восстанавливая силы, и снова вставать в упряжь через несколько часов или дней отдыха. Но Бланки знал: когда количество больных, неспособных тащить сани, возрастет, предпринятый в надежде на спасение поход закончится. Сейчас же люди постоянно мучились столь нестерпимой жаждой, что останавливались у каждого ручейка, падали на четвереньки и лакали воду, точно собаки. Если бы не внезапная оттепель, знал Бланки, они бы все умерли от обезвоживания организма еще три недели назад. Запасы горючего для спиртовок подошли к концу. Снег, который они жевали, в первый момент как будто утолял жажду, но на самом деле только отнимал последние силы и вызывал еще более мучительную жажду. Каждый раз, когда они волокли сани через ручьи — а ручьев и узких речушек становилось все больше изо дня в день, — все останавливались, чтобы наполнить бутылки и мехи, которые теперь не нужно было нести за пазухой, чтобы вода не замерзла. Но хотя смерть от жажды не грозила им в ближайшее время, Бланки видел, что люди слабеют от сотни разных других причин. Жестокий голод брал свое, не давая изнеможденным мужчинам, свободным от ночного дежурства, уснуть в течение четырех часов сумерек, выделенных Крозье на сон. Чтобы установить и снять голландские палатки — каковое нехитрое дело еще два месяца назад, в лагере «Террор», занимало у них всего двадцать минут, — теперь требовалось два часа утром и два часа вечером. И время это увеличивалось изо дня в день по мере того, как обмороженные пальцы у них распухали все сильнее и становились все более неловкими. Мало кто сохранил полную ясность сознания, даже у Блэнки иногда туманилось в голове. Большую часть времени капитан Крозье производил впечатление человека с самым ясным умом среди них, но порой — когда он, очевидно, думал, что никто на него не смотрит, — Блэнки видел, как лицо капитана превращается в подобие бессмысленной посмертной маски, отмеченной печатью бесконечной усталости. Матросы, которые в ревущей тьме развязывали замысловатые узлы на тросах такелажных снастей у самого конца колеблющегося рея на высоте двух сотен футов над палубой штормовой ночью близ Магелланова пролива, теперь не могли при свете дня завязать шнурки на башмаках. Поскольку в радиусе трехсот миль не имелось никакой древесины — если не считать лодок, мачт и саней, которые они тащили с собой, искусственной ноги Блэнки да останков «Эребуса» и «Террора» почти в сотне миль к северу от них — и поскольку земля все еще оставалась мерзлой дюймом ниже поверхности, на каждой остановке мужчинам приходилось собирать кучи булыжников, чтобы придавливать края палаток и закреплять растяжки, таким образом принимая меры предосторожности против неизбежных ночных ветров. На это тоже уходил не один час. Мужчины часто засыпали, стоя в тусклом свете полночного солнца с камнем в одной и другой руке. Иногда товарищи даже не трясли их за плечо, чтобы разбудить. Когда ближе к вечеру восемнадцатого июня — пока мужчины совершали второй за день переход с лодками — третья нога Бланки сломалась, расколовшись прямо под кровоточащей культей, он воспринял это как знак. Поскольку в тот день доктор Гудсер не нуждался в его помощи, Бланки вернулся с мужчинами за второй партией лодок, и на обратном пути его деревянная ступня застряла между двумя неподвижными камнями, и деревяшка треснула под самым коленом. То, что линия разлома оказалась так высоко, и то, что он сохранил при этом необычное присутствие духа, Бланки тоже воспринял как знак. Он нашел поблизости подходящий валун, устроился на нем по возможности удобнее, достал свою трубку и набил ее последними крохами табака, которые берег уже несколько недель. Когда несколько матросов остановились спросить, что он делает, Бланки ответил: — Просто присел на минутку, полагаю. Чтобы культя отдохнула. Когда сержант Тозер, в тот солнечный день возглавлявший группу прикрытия из нескольких морских пехотинцев, остановился, чтобы устало спросить, какого черта он тут расселся, если все продолжают путь, Бланки сказал: — Не обращайте внимания, Соломон. — Ему всегда нравилось раздражать тупого сержанта, называя его по имени. — Идите себе дальше со своими «красномундирниками» и оставьте меня в покое. Получасом позже, когда сани с лодками уже удалились на несколько сотен ярдов к югу от него, пришел капитан Крозье с плотником мистером Хани. — Что вы делаете, мистер Бланки, черт возьми? — резко осведомился Крозье. — Просто отдыхаю. Думаю, я могу переночевать здесь. – Не глупите, — сказал Крозье. Он посмотрел на отломанную деревянную ногу и повернулся к плотнику. — Вы можете починить протез? Изготовить новый к завтрашнему вечеру, если мистер Бланки поедет в одной из лодок тем временем? – Так точно, сэр, — сказал Хани, косясь на деревяшку с хмурым видом мастера, раздосадованного поломкой одного из своих творений или дурным с ним обращением. — Древесины у нас осталось мало, но есть шлюпочный руль, который мы взяли про запас для полубаркасов и из которого я запросто могу выстругать новую ногу. — Вы слышали, мистер Бланки? — спросил Крозье. — Теперь поднимайте свою задницу, и мистер Хани поможет вам допрыгать до лодки мистера Ходжсона, что в хвосте процессии. Бланки улыбнулся. – А это мистер Хани может починить, капитан? — Он стащил с культи чашу деревянного протеза и отстегнул неуклюжее крепление из кожаных ремней и кусков листовой меди. – Ох, черт побери, — сказал Крозье. Он наклонился, чтобы получше рассмотреть кровоточащий, стертый до мяса обрубок, почерневший вокруг кругляшка белой кости, но тут же отшатнулся от зловония, ударившего в нос. — Так точно, сэр, — сказал Бланки. — Я удивляюсь, что доктор Гудсер до сих пор не унюхал. Я стараюсь держаться с подветренной стороны от него, когда помогаю ему в лазарете. Ребята из моей палатки знают, что мои дела плохи, сэр. Тут уже ничем не помочь. — Чепуха, — сказал Крозье. — Гудсер сможет… — Он осекся. Бланки улыбнулся — не саркастически, а легко и непринужденно, с долей истинного юмора. — Что он сможет, капитан? Ампутировать мне ногу по середину бедра? Эти черные и красные пятна поднимаются до самой моей задницы и причинного места, сэр, прошу прощения за столь красочные подробности. И если он действительно прооперирует меня, сколько дней мне придется лежать в лодке, как старина Хизер — да упокоит Господь душу бедолаги, — чтобы меня тащили люди, усталые и измученные не меньше меня? Крозье промолчал. — Нет, — продолжил Бланки, с удовольствием попыхивая трубкой, — я думаю, мне лучше остаться здесь одному, просто расслабиться и спокойно поразмыслить о том о сем. Я прожил хорошую жизнь. Мне бы хотелось подумать о ней, пока боль и зловоние не усилятся настолько, что станут меня отвлекать. Крозье вздохнул, посмотрел на плотника, потом на ледового лоцмана и снова вздохнул. Он вынул из кармана шинели бутылку с водой. — Вот, возьмите. — Спасибо, сэр. Возьму. С великой благодарностью, — сказал Блэнки. Крозье пошарил в других карманах. — У меня нет с собой ничего съестного. Мистер Хани? У плотника нашлась заплесневелая галета и кусочек чего-то зеленого — вероятно, говядины. — Нет, благодарю вас, Джон, — сказал Блэнки. — Я правда не голоден. Но могу ли я попросить вас об огромном одолжении, капитан? — О каком, мистер Блэнки? – Моя семья живет в Кенте, сэр. В окрестностях Итам-Моута, к северу от Танбридж-Уэллса. По крайней мере, мои Бетти, Майкл и старая матушка обретались там, когда я уходил в плавание, сэр. И вот я подумал, капитан… я имею в виду, если удача улыбнется вам и позже у вас найдется время… – Если я вернусь в Англию, клянусь вам, я разыщу ваших близких и расскажу, что вы попыхивали трубкой, благодушно улыбались и удобно сидели на валуне, точно ленивый сквайр, когда я видел вас в последний раз, — сказал Крозье. Он вынул из кармана пистолет. — Лейтенант Литтл видел зверя в подзорную трубу… он следовал за нами все утро, Томас. Скоро он появится здесь. Вы должны взять это. — Нет, спасибо, капитан. — Вы твердо решили, мистер Блэнки? В смысле, остаться здесь? — спросил капитан Крозье. — Если бы вы продержались… с нами… всего еще неделю-другую, ваши знания могли бы очень пригодиться нам. Кто знает, какими окажутся ледовые условия в двадцати милях к востоку отсюда? Блэнки улыбнулся. — Не будь с вами мистера Рейда, я бы принял ваши слова близко к сердцу, капитан. Честное слово. Но лучшего ледового лоцмана, чем он, и желать нельзя. В качестве запасного, я имею в виду. Крозье и Хани пожали Бланки руку. Потом они повернулись и торопливо двинулись прочь, спеша догнать последние сани, уже скрывавшиеся за возвышенностью вдали.
Было за полночь, когда оно пришло. У Бланки уже много часов назад кончился табак и вода замерзла, когда он неосмотрительно оставил бутылку на соседнем валуне. Он чувствовал боль, но не хотел спать. В сумеречном небе показались редкие звезды. Поднялся северо-западный ветер, как обычно по ночам, и температура воздуха опустилась градусов на сорок ниже дневного максимума. Бланки положил сломанный протез, чашу и пристежные ремни на соседний валун. Хотя у него дергало пораженную гангреной культю и мучительно крутило желудок от голода, сильнее всего сегодня болела нога ниже колена — отсутствующая нога. Внезапно существо словно возникло из пустоты. Оно смутно вырисовывалось в темноте всего шагах в тридцати от него, если не меньше. «Должно быть, оно вылезло из какой-то невидимой дыры во льду», — подумал Бланки. Ему вспомнилась ярмарка в Танбридж-Уаллсе, которую он видел в детстве, с хлипкой дощатой сценой и фокусником в пурпурных шелках и высоком остроконечном колпаке с вышитыми на нем планетами и звездами. Тот мужчина появился точно так же — выскочил из люка под изумленные охи и ахи деревенских зрителей. — Добро пожаловать, — сказал Томас Бланки, обращаясь к темной фигуре на льду. Существо поднялось на задние лапы — мохнатое, мускулистое, с окрашенными в красноватые тона заката когтями и тускло поблескивающими клыками, не похожее ни на одного хищного зверя, сохранившегося в памяти человечества. Бланки прикинул, что ростом оно более двенадцати футов — возможно, все четырнадцать. В глазах его —угольно-черных на фоне черного силуэта — не отражался свет угасающего солнца. — Запаздываешь, — сказал Блэнки. — Я уже давно жду тебя. Он швырнул в фигуру свою деревянную ногу. Существо не попыталось увернуться от примитивного снаряда. Несколько долгих мгновений оно стояло неподвижно, а потом стремительно бросилось вперед, точно призрак, даже не отталкиваясь от льда ногами, надвигаясь на ледового лоцмана с разведенными в стороны передними лапами, заполняя своей темной плотной массой все поле зрения. Томас Блэнки ухмыльнулся и крепко стиснул зубами черенок трубки.
46. Крозье
Неизвестная широта, неизвестная долгота 4 июля 1848 г.Единственное, что заставляло Френсиса Родона Мойру Крозье идти вперед на десятой неделе похода, это голубое пламя, пылавшее в груди. Чем более усталым, опустошенным, больным и разбитым становилось тело, тем жарче и яростнее горело пламя. Капитан знал, что это не просто некая метафора, символизирующая его решимость. И не просто оптимизм как таковой. Голубое пламя в его груди подбиралось к сердцу, точно некая чуждая сущность, не отпускало, точно затяжная болезнь, гнездилось в нем, точно убежденность, что он сделает все возможное для того, чтобы выжить. Временами Крозье был готов молить Бога о том, чтобы голубое пламя просто погасло и он смог смириться с неизбежным, лечь и накрыться с головой промерзлой тундрой, словно ребенок, укладывающийся сладко вздремнуть под одеялом. Сегодня утром они не снялись со стоянки — впервые за месяц не двинулись дальше с санями и лодками. И они распаковали и кое-как установили большую лазаретную палатку, хотя большие столовые палатки не стали раскидывать. Мужчины назвали это место у маленькой бухты на южном побережье Кинг-Уильяма, во всех прочих отношениях ничем не примечательное, Госпитальным лагерем. За последние две недели они пересекли труднопроходимые льды огромного залива, глубоко вдававшегося у основания в широкий мыс, который в течение нескольких недель, что они брели вдоль него на юго-запад, казался бесконечным. Но теперь они снова собирались двинуться на юго-восток вдоль береговой линии в основании мыса и дальше — верное направление, коли они хотят добраться до реки Бака. Крозье взял в поход секстант и теодолит, и лейтенант Литтл тоже имел в своем распоряжении секстант, но ни один, ни другой офицер уже несколько недель не пользовался приборами, чтобы определить местоположение отряда по солнцу или звездам. Если Кинг-Уильям является полуостровом — как считало большинство полярных исследователей, включая бывшего командира Крозье, Джеймса Кларка Росса, — значит, береговая линия приведет их к устью реки. Если же островом — как предполагал лейтенант Гор и подозревал Крозье, — значит, они скоро увидят материк к югу от них, пересекут пролив — по всей вероятности, очень узкий — и выйдут к реке. В любом случае, по оценке Крозье — довольствовавшегося необходимостью двигаться вдоль береговой линии за неимением другого выбора и до поры до времени пользоваться счислением пути, — сейчас они находились примерно в девяноста милях от устья. В этом походе они преодолевали в среднем всего лишь немногим более мили в день. В иные дни они проходили по три или четыре мили, что заставляло Крозье вспоминать фантастическую скорость, с какой они совершали переход от кораблей к лагерю по проложенной через замерзшее море широкой ледяной дороге, но в другие разы — когда им приходилось тащить сани больше по камням, чем по льду, переходить вброд потоки, а однажды и настоящую реку, выходить на неровный морской лед в случае, если берег становился слишком каменистым; когда дул крепкий встречный ветер; когда число больных и немощных, неспособных идти в упряжи, возрастало против обычного, и в конечном счете они сами ехали в лодках, вынуждая тащить дополнительный груз своих товарищей, которые оставались на ногах по шестнадцать часов в день, перетаскивая сначала четыре вельбота и тендер, а потом возвращаясь за остальными тремя тендерами и двумя полубаркасами, — они удалялись всего на несколько сотен ярдов от места ночной стоянки. 1 июля, после многих недель теплой погоды, ударили сильные морозы. С юго-востока налетела пурга, бившая прямо в лицо людям в упряжах. Мужчины достали с саней тюки с зимней одеждой, извлекли «уэльские парики» из своих сумок и мешков. К весу саней и лодок теперь прибавились сотни фунтов веса снега. Тяжелобольные, которых приходилось везти в лодках, уложив на груды припасов, снаряжения и свернутых палаток, прятались под парусиновыми лодочными чехлами. Люди с трудом продвигались вперед три дня непрерывной пурги, наступавшей с востока и юго-востока. По ночам молнии с треском распарывали небо, и мужчины в страхе жались к парусиновому полу палаток. Сегодня они остановились, поскольку количество больных значительно возросло и Гудсер хотел заняться ими, а Крозье хотел отправить вперед малочисленные разведывательные отряды и послать несколько более крупных охотничьих отрядов на север, в глубь острова, и на юг, на морской лед. Они крайне нуждались в пище. Хорошая новость и плохая новость заключалась в том, что они наконец доели последние голднеровские консервы. Когда стюард Эйлмор, по приказу Крозье продолжавший питаться консервированными продуктами и толстеть, не умер ужасной скоропостижной смертью, постигшей капитана Фицджеймса, — хотя двое других мужчин, которым не полагалось есть консервы, скончались в страшных муках, — все снова включили Голднеровские консервы в свой рацион в качестве дополнения к жалким остаткам соленой свинины, трески и галет. Еще один мужчина умер, исходя беззвучными криками и корчась от жестокой боли в желудке и последующего паралича, — опытный двадцативосьмилетний матрос Билл Клоссон, — но доктор Гудсер понятия не имел, чем он мог отравиться, пока один из товарищей покойного, Том Макконвей, не признался, что тот украл и съел банку голднеровских персиков, которые больше никто не пробовал. Во время очень короткой панихиды по Клоссону — чье тело упокоилось под грудой камней даже не зашитым в парусиновый саван, поскольку парусный мастер Мюррей умер от цинги и в любом случае лишней парусины не осталось, — капитан Крозье произнес слова не из знакомой людям Библии, а из своей легендарной Книги Левиафана. — Жизнь у человека одна, и она несчастна, убога, мерзка, жестока и коротка, — нараспев произнес он. — И похоже, всего короче она у тех, кто крадет еду у своих товарищей. Однако надгробная речь имела успех у людей. Хотя все десять лодок, которые они волокли на санях два с лишним месяца, имели старые названия, данные им в пору, когда «Террор» и «Эребус» еще бороздили моря, упряжные команды матросов немедленно переименовали три тендера и два полубаркаса, которые они всегда тащили во вторую смену, после полудня и вечером (каковую часть дня ненавидели более всего, поскольку тогда приходилось вновь преодолевать путь, уже преодоленный за долгое утро ценой отчаянных усилий), в «Несчастный», «Убогий», «Мерзкий», «Жестокий» и «Короткий». Крозье ухмыльнулся, узнав об этом. Это означало, что люди еще не настолько изнемогли от голода и отчаяния, чтобы в них притупилась острота черного юмора, свойственного английским матросам.
Когда мятеж начался, первым голос протеста поднял человек, которого Френсис Крозье меньше всего ожидал увидеть в роли своего противника. Была середина дня, большинство мужчин ушли из лагеря на разведку или охоту, и капитан пытался вздремнуть несколько минут, когда услышал медленное шарканье многих подбитых гвоздями башмаков у входа в свою палатку. Он сразу понял, что случилось нечто, выходящее за пределы обычного набора каждодневных чрезвычайных происшествий. Крадущиеся шаги, пробудившие Крозье от чуткого сна (солнце в любом случае не заходило всю ночь, и в палатке всегда было слишком светло, поэтому не имело особого значения, в какое время суток ложишься спать), не предвещали ничего хорошего. Крозье надел шинель. Он всегда носил заряженный пистолет в правом кармане шинели, но с недавних пор стал носить двухзарядный пистолет поменьше и в левом кармане. На открытом пространстве между палаткой Крозье и большой лазаретной палаткой собралось человек двадцать пять. Из-за летящего снега, шарфов и «уэльских париков» некоторых из них было трудно опознать с первого взгляда, но Крозье не удивился, увидев Корнелиуса Хикки, Магнуса Мэнсона, Ричарда Эйлмора и с полдюжины других смутьянов во втором ряду. Он удивился, увидев людей в первом ряду толпы. Большинство офицеров ушли с охотничьими и разведывательными отрядами, отправленными Крозье из лагеря утром, — Крозье слишком поздно понял, что совершил ошибку, отослав прочь сразу всех своих самых верных офицеров, включая лейтенанта Литтла, своего второго помощника Роберта Томаса, своего преданного помощника боцмана Тома Джонсона, Гарри Пеглара и прочих, и оставив самых слабых мужчин здесь, в Госпитальном лагере, — но впереди собравшейся толпы стоял молодой лейтенант Ходжсон. Крозье также поразился, увидев бакового старшину Рубена Мейла и фор-марсового старшину с «Эребуса» Роберта Синклера. Мейл и Синклер всегда были славными малыми. Крозье двинулся вперед так стремительно, что Ходжсон отступил на два шага назад, натолкнувшись на придурковатого верзилу Мэнсона. – Что вам угодно? — резко осведомился Крозье, стараясь говорить по возможности громче и повелительнее, чтобы хриплый голос не звучал предательски слабо. — Что здесь происходит, черт возьми? – Нам нужно поговорить с вами, капитан, — сказал Ходжсон. Голос молодого человека дрожал от волнения. – О чем? — Крозье держал правую руку в кармане. Он увидел, как доктор Гудсер выглянул из лазаретной палатки и изумленно уставился на толпу. Крозье насчитал двадцать три мужчины и, несмотря на натянутые до самых бровей «уэльские парики» и прикрывавшие лица шарфы, теперь распознал всех до единого. Он их запомнит. — О том, чтобы вернуться, — сказал Ходжсон. Мужчины подтвердили слова лейтенанта приглушенным нестройным гулом, обычным для мятежников. Крозье отреагировал не сразу. Одна хорошая новость заключалась в том, что, если бы мятеж принял активную форму — если бы все мужчины, включая Ходжсона, Мейла и Синклера, заранее сговорились силой взять командование экспедицией в свои руки, — Крозье уже был бы мертв. Они приступили бы к действиям в полуночном сумраке. И единственная другая хорошая новость заключалась в том, что, хотя два или три матроса имели при себе дробовики, все остальное оружие взяли с собой шестьдесят шесть мужчин, отправившихся утром на охоту. Крозье мысленно отметил, что никогда впредь не следует отпускать из лагеря сразу всех морских пехотинцев. Тозер и остальные рвались на охоту. Капитан так плохо соображал от усталости, что разрешил им уйти, не подумав хорошенько. Капитан переводил взгляд с одного лица на другое. Самые малодушные в толпе мгновенно опускали глаза, стыдясь встретиться с ним взглядом. Мужчины покрепче духом — как Мейл и Синклер — вызывающе смотрели на него. Хикки уставился на Крозье такими холодными враждебными глазами, какие могли бы принадлежать одному из белых медведей — или, возможно, самому обитающему во льдах существу. – Куда вернуться? — резко спросил Крозье. – В лагерь, — заикаясь пробормотал Ходжсон. — Там остались консервированные продукты, уголь и печи. И другие лодки. – Не порите чушь, — сказал Крозье. — Мы находимся по меньшей мере в шестидесяти пяти милях от лагеря. Вы доберетесь туда только к октябрю — к наступлению настоящей зимы, — если вообще доберетесь. Ходжсон заметно сник, но тут голос подал фор-марсовый старшина «Эребуса»: – До лагеря отсюда гораздо ближе, чем до реки, к которой мы тащим лодки, надрывая животы. – Это не так, мистер Синклер, — отрывисто сказал Крозье. — По нашим с лейтенантом Литтлом расчетам, залив с устьем реки находится менее чем в пятидесяти милях отсюда. – Залив, — насмешливо повторил матрос по имени Джордж Томпсон. Он имел репутацию пьяницы и лентяя. Крозье не мог первым бросить в него камень за пьянство, но он презирал лень. – Устье реки Бака находится в пятидесяти милях к югу от горла залива, — продолжал Томпсон. — В сотне с лишним миль отсюда. – Следите за своим тоном, Томпсон, — предостерег Крозье голосом таким тихим и страшным, что даже этот хам растерянно моргнул и потупился. Капитан снова обвел взглядом толпу и сказал, обращаясь ко всем мужчинам: — Не имеет значения, в сорока милях или в пятидесяти находится устье реки Бака от горла залива. Велики шансы, что там появится открытая вода… мы будем плыть на лодках, а не тащить их. А теперь возвращайтесь к своим обязанностям и выбросьте из головы этот вздор. Несколько мужчин переступили с ноги на ногу, словно собираясь двинуться прочь, но Магнус Мэнсон стоял подобием широкой стены, удерживающей озеро неповиновения на месте. — Мы хотим вернуться на «Террор», капитан, — сказал Рубен Мейл. — Нам кажется, там у нас будет больше шансов выжить. Теперь настала очередь Крозье растерянно моргнуть. — Вернуться на «Террор»? Боже мой, Рубен, да ведь до корабля, наверное, более девяноста миль пути, причем не только по пересеченной местности, которой мы прошли, но и по паковому льду. Лодки и сани не выдержат такого путешествия. – Мы возьмем только одну лодку, — сказал Ходжсон. Мужчины позади него согласно загудели. – Что значит «одну лодку», черт побери? – Одну лодку, — упрямо повторил Ходжсон. — Одну лодку на одних санях. – Нам осточертело рвать задницу в упряжи, — сказал Джон Морфин, матрос, серьезно пострадавший во время Карнавала. Крозье проигнорировал Морфина и обратился к Ходжсону: – Лейтенант, каким образом вы собираетесь посадить двадцать три человека в одну лодку? Даже если вы похитите один из вельботов, в него поместятся только десять или двенадцать из вас, с минимальным количеством припасов. Или вы рассчитываете, что десять или более членов вашего отряда умрут прежде, чем вы достигнете лагеря. А они умрут, знаете ли. И не десять человек, а гораздо больше. – В лагере остались малые лодки, — сказал Синклер, выступая вперед и принимая агрессивную позу. — Мы возьмем с собой один вельбот и доберемся до корабля на нем и на судовых шлюпках. Крозье недоверчиво уставился на него, а потом просто-напросто рассмеялся. – Вы думаете, что к северо-западу от Кинг-Уильяма лед вскрылся? Вы это думаете, глупцы несчастные? – Да, — сказал лейтенант Ходжсон. — На корабле осталось продовольствие. Полно консервированных продуктов. И мы сможем поплыть… Крозье снова рассмеялся. – Вы твердо уверены, что лед этим летом вскрылся настолько, что «Террор» находится на плаву и ждет, когда вы подгребете к нему на своих шлюпках? И что проходы во льдах открылись на всем пути, которым мы прошли в движении на юг? Триста миль чистой воды? Зимой, когда вы доберетесь туда, если кто-нибудь из вас действительно доберется? – По-нашему, такой вариант вернее, чем ваш, — выкрикнул стюард Ричард Эйлмор. Смуглое лицо мужчины искажала гримаса гнева, страха и негодования с примесью какого-то чувства, похожего на восторг от сознания того, что наконец-то пришло его время. — Мне почти хочется пойти с вами… — начал Крозье. Ходжсон часто заморгал. Несколько мужчин переглянулись. — …чтобы просто увидеть ваши лица, когда в осуществление своего верного варианта вы совершите труднейший переход через замерзшее море с бесчисленными торосными грядами для того лишь, чтобы обнаружить, что «Террор» раздавило льдами, как произошло с «Эребусом» в марте. Он помолчал несколько секунд, давая людям возможность живо представить такую картину, а потом тихо заговорил: — Бога ради, спросите у мистера Хани, или у мистера Уилсона, или у мистера Годдарда, или у лейтенанта Литтла, в каком состоянии находился шпангоут. В каком состоянии находился руль. Спросите у старшего помощника Томаса, насколько сильно разошлись швы обшивки еще в апреле… а сейчас июль, глупые вы люди. Если лед хоть немного стаял вокруг корабля, он скорее всего, уже затонул. А если даже и держится на плаву, вы можете положа руку на сердце сказать мне, что сможете стоять у помповых насосов все время, пока будете вести корабль по лабиринту во льдах? Даже если вы проделаете обратный путь за время, вдвое меньшее того, что вам понадобилось, чтобы добраться сюда только от лагеря, вы прибудете к месту назначения, когда уже наступят зимние холода. А как вы собираетесь отыскивать путь во льдах, если корабль держится на плаву, если еще не затонул, если вы не умрете от усталости, качая помпы день и ночь? Крозье снова обвел толпу взглядом. — Я не вижу здесь мистера Рейда. Он ушел с разведывательным отрядом лейтенанта Литтла. Без ледового лоцмана вам придется изрядно помучиться, отыскивая путь через блинчатый и паковый лед, между гроулерами и айсбергами. — Крозье потряс головой и хихикнул так, словно мужчины явились к нему рассказать особо хороший анекдот, а не поднять мятеж. — Возвращайтесь к своим обязанностям… сейчас же, — резко приказал он. — Я не забуду, что у вас хватило ума явиться ко мне со столь глупой идеей, но постараюсь забыть ваш возмутительный тон и тот факт, что вы пришли, как шайка мятежников, а не как верноподданные служащие военно-морского флота Британии, желающие поговорить со своим капитаном. – Нет, — сказал Хикки голосом достаточно громким и пронзительным, чтобы удержать колеблющихся мужчин на месте. — Мистер Рейд пойдет с нами. Как и все остальные. – С чего вдруг? — спросил Крозье, буравя взглядом мерзкого хорька. — У них нет выбора, — сказал Хикки. Он дернул за рукав Магнуса Мэнсона, и оба они выступили вперед, обойдя заметно встревоженного Ходжсона. Крозье решил, что застрелит Хикки первым. Он сжимал рукоятку пистолета в кармане. Он даже не станет вынимать оружие из шинели для первого выстрела. Он выстрелит Хикки в живот, когда тот подойдет еще на три шага ближе, а потом выхватит пистолет из кармана и попытается всадить пулю в лоб тупоумному великану. Словно в ответ на мысли Крозье о стрельбе, со стороны берега послышался треск выстрела. Все, кроме Крозье и помощника конопатчика, повернулись посмотреть, что там происходит. Крозье ни на миг не сводил глаз с Хикки. Оба мужчины повернули голову, только когда до них донеслись крики: — Открытая вода! Это возвращался с пакового льда отряд лейтенанта Литтла — ледовый лоцман Рейд, боцман Джон Лейн, Гарри Пеглар и с полдюжины других мужчин, все вооруженные мушкетами или дробовиками. — Открытая вода! — снова провопил Литтл. Он размахивал обеими руками, идя по каменистому берегу и явно не догадываясь о драме, разыгрывающейся у капитанской палатки. — Не более чем в двух милях к югу! Проходы, достаточно широкие для лодок! Тянутся на восток на многие мили! Открытая вода! Хикки и Магнус отступили в ряды ликующих мужчин, где еще полминуты назад стояла угрюмая толпа мятежников. Одни бросились обниматься друг с другом, другие радостно орали «ура». У Рубена Мейла был такой вид, словно его сейчас вырвет, а Роберт Синклер тяжело опустился на низкий камень, как если бы под ним внезапно подкосились ноги. Некогда сильный духом фор-марсовый старшина закрыл лицо грязными руками и разрыдался. — Возвращайтесь к своим палаткам и к своим обязанностям, — сказал Крозье. — Через час начнем грузить лодки.
47. Пеглар
Где-то в проливе между островом Кинг-Уильям и полуостровом Аделаида 9 июля 1848 г.Находившимся в Госпитальном лагере людям не терпелось двинуться в путь уже через десять минут после возвращения отряда лейтенанта Литтла с известием об открытой воде, но прошел еще день, прежде чем они свернули палатки, и еще два дня, прежде чем лодки наконец соскользнули со льда в черную воду к югу от Кинг-Уильяма. Сначала им пришлось дождаться возвращения всех остальных охотничьих и разведывательных отрядов, а некоторые из них вернулись за полночь, и измученные мужчины с трудом добрели до своих палаток в тусклых арктических сумерках и попадали в свои спальные мешки, даже не узнав доброй новости. Охотники принесли очень мало дичи — хотя видели нескольких тюленей и безуспешно стреляли в них, — однако отряд Томаса убил песца и нескольких белых зайцев, а команда сержанта Тозера добыла пару куропаток. Утром 5 июля, в среду, лазаретная палатка почти полностью опустела, ибо все, кто мог держаться на ногах, хотели принять участие в подготовке к плаванию. В последнюю неделю Джон Бридженс исполнял обязанности помощника доктора Гудсера, заменив умершего Генри Ллойда и Томаса Блэнки, и накануне старый стюард наблюдал за выступлением мятежно настроенной толпы, стоя в дверях лазаретной палатки рядом с врачом. Именно Бридженс описал всю сцену Гарри Пеглару, который почувствовал себя еще хуже против прежнего, когда узнал, что его коллега с «Эребуса», фор-марсовый старшина Роберт Синклер присоединился к бунтовщикам. Рубен Мейл, он знал, всегда был человеком волевым. Очень волевым. Пеглар не испытывал ничего, кроме презрения к Эйлмору, Хикки и их приспешникам. По мнению Гарри Пеглара, все они были людьми суетными, ограниченными и — за исключением Мэнсона — невоздержными на язык. В четверг шестого июля они впервые за два с лишним месяца вышли на паковый лед. Многие уже забыли, как мучительно тяжело тащить сани по открытому замерзшему морю — даже здесь, под прикрытием Кинг-Уильяма и широкого округлого мыса, который они только что обогнули. На пути по-прежнему встречались многочисленные торосные гряды, через которые приходилось перетаскивать десять лодок. Санные полозья скользили по морскому льду гораздо хуже, чем по снегу и льду на берегу. Здесь не было ни низин, чтобы укрыться, ни невысоких холмов, ни даже достаточно крупных валунов, чтобы спрятаться от ветра. Снежная буря продолжалась, и противный юго-восточный ветер крепчал все время, пока они волокли лодки к открытой воде, обнаруженной отрядом лейтенанта Литтла в двух милях от берега. К концу первого дня они настолько выбились из сил, что даже не стали устанавливать палатки на ночь, а просто натянули несколько брезентовых полотнищ с подветренной стороны лодок и теснились под ними в своих трехместных спальных мешках на протяжении нескольких часов летних арктических сумерек. Даже несмотря на снежную бурю и многочисленные препятствия на паковом льду, они, движимые надеждой и радостным возбуждением, преодолели две мили к середине утра пятницы 7 июля. Канал исчез. Закрылся. Литтл указал на тонкий лед — толщиной от трех до восьми дюймов, не более — в месте, где он находился несколько дней назад. Ведомые ледовым лоцманом Рейдом, большую часть дня они двигались зигзагообразным курсом по недавно замерзшему каналу во льдах сначала на юго-восток, потом прямо на восток. Теперь, вдобавок к разочарованию и постоянным физическим и моральным страданиям, усугублявшимся пургой и насквозь промокшими одеждами, они испытывали нервное напряжение, в первый раз за несколько лет ступая по тонкому льду. Вскоре после полудня рядовой морской пехоты Джеймс Дейли — один из шести человек, посланных вперед проверять прочность льда, тыча в него длинными баграми, — провалился под лед. Товарищи вытащили его, но к тому времени он уже посинел в буквальном смысле слова. Доктор Гудсер раздел Дейли догола прямо на льду, завернул в плотные шерстяные одеяла и уложил под парусиновый чехол в один из тендеров, накрыв сверху еще несколькими одеялами. Двум другим мужчинам пришлось остаться с товарищем и лежать по обе стороны от него в желтоватом полумраке под лодочным чехлом, чтобы согревать теплом своих тел. Несмотря на все принятые меры, рядовой Дейли безостановочно дрожал всем телом, стучал зубами и почти до самого вечера находился в бредовом состоянии. Лед, на протяжении двух лет остававшийся недвижным и незыблемым, как континентальная суша, теперь колебался под ногами, совершая медленное волнообразное движение, вызывавшее у всех головокружение, а у иных и рвоту. Под чудовищным давлением даже толстый лед временами оглушительно трещал далеко впереди, близко, по сторонам, позади или прямо под ногами. Много месяцев назад доктор Гудсер объяснил людям, что одним из симптомов развивающейся цинги является повышенная чувствительность к звукам — звук ружейного выстрела может убить человека, сказал он, — и теперь большинство из восьмидесяти девяти мужчин, тащивших сани по льду, обнаружили у себя данный симптом. Даже такой идиот, как Магнус Мэнсон, понимал, что, если одна из лодок или все разом провалятся под лед — лед, который не выдержал одного-единственного тощего изможденного доходягу вроде Джеймса Дейли, — у людей в упряжи не будет ни шанса спастись. Они утонут еще прежде, чем умрут от переохлаждения. Привыкшие двигаться по льду тесной вереницей, люди нервничали, теперь вынужденные растягиваться длинной цепью, чтобы лодки оставались на значительном расстоянии одна от другой. Порой во время пурги ни одна упряжная команда не видела других, и ощущение полной изоляции от всех и вся было ужасным. Возвратившись за оставленными позади тремя тендерами и двумя полубаркасами, они тащили лодки в стороне от старого следа и постоянно опасались, как бы новый, нехоженый лед не проломился под ними. Некоторые раздраженно предполагали, что они уже прошли мимо узкого залива, ведущего на юг к устью реки Бака. Пеглар видел морские карты и показания теодолита, которые изредка снимал Крозье, и знал, что они все еще находятся на значительном расстоянии к западу от залива — милях в тридцати, самое малое. А потом предстоит повернуть на юг и преодолеть еще шестьдесят или шестьдесят пять миль до устья реки. Когда бы они двигались по суше — даже если бы у них вдруг появилась пища и люди чудом выздоровели, — они бы достигли входа в залив только к августу, а устья реки к концу сентября, самое раннее. Надежда найти открытую воду заставляла сердце Гарри Пеглара биться учащенно. Разумеется, в последние дни сердце у него билось неровно большую часть времени. Мать всегда беспокоилась по поводу сердца Гарри — в детстве он перенес скарлатину и часто чувствовал боль в груди, — но он постоянно говорил ей, что подобные тревоги глупы и беспочвенны, что он фор-марсовый старшина одного из крупнейших кораблей в мире и что ни одного человека со слабым сердцем не возьмут на такую должность. Пеглар убедил мать, но на протяжении многих лет с ним порой случались приступы сердцебиения, после которых он по несколько дней кряду чувствовал колотье и стеснение в груди и столь сильную боль в левой руке, что был вынужден взбираться на верхние реи фок-мачты, пользуясь только одной правой. Остальные мачтовые думали, что он выпендривается. В последние недели сердце у Пеглара почти все время билось учащенно. Две недели назад у него онемели пальцы левой руки, и боль теперь не отпускала ни на минуту. Вдобавок ко всему он испытывал страшные неудобства из-за постоянного поноса — Пеглар всегда был стеснительным человеком и даже не мог толком справить нужду за борт корабля, что всем остальным представлялось плевым делом, предпочитая потерпеть до наступления темноты. Но здесь не имелось никакого гальюна. Ни даже какого-нибудь паршивого кустика или достаточно крупного валуна, чтобы за ним спрятаться. Мужчины из упряжной команды Пеглара смеялись над тем, что старшина частенько далеко отстает от группы и рискует попасться в лапы чудовищу, только бы никто не увидел, как он всего-навсего гадит. Но в последние недели Пеглара тревожили не добродушные насмешки товарищей, а необходимость бежать во всю мочь после каждой задержки в пути, чтобы догнать свою команду и снова встать в упряжь. Он настолько ослаб от внутреннего кровотечения и долгого недоедания — не говоря уже о «трепыханиях в груди» (как мать Гарри называла приступы сердцебиения) и постоянной боли в области сердца и в левой руке, — что с каждым разом ему становилось все труднее и труднее нагонять удаляющиеся лодки. Поэтому в пятницу 7 июля Гарри Пеглар был, наверное, единственным из восьмидесяти девяти мужчин, кто весь день радовался метели и туману, который сгустился, когда метель начала стихать. Туман осложнял ситуацию. Возрастала опасность, что упряжные команды, двигающиеся по ненадежному льду на столь значительном расстоянии друг от друга, собьются с пути — возвращаться за оставленными позади тремя тендерами и двумя полубаркасами было рискованно и до того, как ближе к вечеру сгустился туман, — и потому капитан Крозье скомандовал остановиться, чтобы обсудить положение вещей. Не более пятнадцати человек получили разрешение собраться в одном месте, причем поодаль от одной из лодок. Сегодня вечером в упряжах шло меньше людей, чем требовалось для того, чтобы тащить громоздкие тяжелые сани и лодки. Если отряд когда-нибудь достигнет долгожданной открытой воды, сани станут материально-технической проблемой. Существовала большая вероятность, что им понадобится снова погрузить на сани тендеры и полубаркасы с выступающими килями и несъемными рулями, прежде чем они достигнут устья реки Бака, поэтому они не могли просто бросить разбитые повозки на льду. Перед тем как выступить в поход в четверг, Крозье приказал людям в порядке эксперимента снять шесть лодок с саней, сложить или разобрать тяжелые сани, насколько позволяет конструкция, и аккуратно уложить их в лодки. На это дело ушел не один час. Погрузить лодки обратно на сани, прежде чем выйти на паковый лед, оказалось едва-едва по силам ослабшим людям. Пальцы изнуренных, больных цингой мужчин с трудом справлялись с самыми простыми узлами. Самый незначительный порез подолгу кровоточил. От самого слабого удара на дряблых руках и обтянутых тонкой кожей ребрах оставались синяки размером с ладонь. Но теперь они знали, что могут сделать это: снять лодки с саней, погрузить в них сани, приготовить лодки к спуску на воду. Если они найдут канал во льдах в ближайшее время. Крозье приказал каждой упряжной команде зажечь фонари на носу и корме лодки. Он отозвал назад почти бесполезных морских пехотинцев, пробующих лед баграми, и поставил лейтенанта Ходжсона с одним из тяжелых вельботов, нагруженным наименее важными предметами снаряжения, идти в тумане первым. Все до единого понимали, что таким образом молодой Ходжсон расплачивается за свою связь с мятежниками. Его упряжную команду возглавлял Магнус Мэнсон, и в нее входили также Эйлмор и Хикки — все они на протяжении многих месяцев входили в состав разных команд. Если головная команда провалится под лед, остальные услышат пронзительные крики и плеск воды в густом вечернем тумане, но ничего не смогут поделать, кроме как обойти опасное место стороной. Прочим командам теперь надлежало держаться ближе друг к другу, чтобы видеть фонари соседних лодок в сгущающемся мраке. Около девяти вечера все действительно услышали крики и вопли людей из головной команды Ходжсона, но те не провалились под лед. Они снова нашли открытую воду на расстоянии более мили к юго-западу от места, где Литтл обнаружил полынью в среду. Остальные команды послали вперед людей с фонарями и стали двигаться по предположительно тонкому льду с опаской, но лед оставался прочным и толщиной более фута до самого невесть откуда взявшегося прохода. Полоса черной воды имела ширину всего около тридцати футов, но тянулась далеко вперед, теряясь в тумане. – Лейтенант Ходжсон, — распорядился Крозье, — освободите в своем вельботе место для шестерых гребцов. Пока оставьте лишний груз на льду. Потом командование вельботом примет лейтенант Литтл — мистер Рейд, вы пойдете с лейтенантом Литтлом, — и вы будете следовать по каналу два часа, коли такое возможно. Парус не поднимайте, лейтенант. Идите только на веслах, но заставьте людей грести энергично. Через два часа — коли канал не кончится раньше — поворачивайте назад и возвращайтесь к нам с вашим мнением, имеет ли смысл спускать лодки на воду. Четыре часа вашего отсутствия мы потратим на разгрузку и разборку саней и подготовку лодок к плаванию. – Есть, сэр, — откликнулся Литтл и принялся отрывисто отдавать приказы остальным. Пеглару показалось, что молодой Ходжсон готов расплакаться. Он хорошо представлял, как тяжело быть офицером всего двадцати с лишним лет и сознавать, что твоя карьера уже закончилась. «Это станет парню хорошим уроком», — подумал Пеглар. Он прослужил не один десяток лет во флоте, где людей вешали за участие в мятеже и жестоко пороли за одну мысль о мятеже, и Гарри Пеглар никогда не считал несправедливым ни данное правило, ни данное наказание. К нему подошел Крозье. — Гарри, вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы отправиться с лейтенантом Литтлом? Мне бы хотелось, чтобы вы сидели на руле. Мистер Рейд и лейтенант Литтл будут находиться на носу. — О да, капитан. Я чувствую себя прекрасно. Пеглар был потрясен тем, что капитану Крозье показалось, будто он выглядит или притворяется больным. «Разве я как-нибудь симулировал?» От одного такого предположения ему стало еще хуже прежнего. — Мне нужен надежный рулевой и третье мнение относительно наших шансов с этим каналом, — прошептал Крозье. — И мне нужен по меньшей мере один человек, умеющий плавать. Пеглар улыбнулся, хотя у него похолодело в животе при одной мысли о погружении в черную ледяную воду. Температура воздуха сейчас была ниже нуля, и вода, сильно насыщенная солью, тоже имела минусовую температуру. Крозье похлопал Пеглара по плечу и отошел, чтобы переговорить со следующим «добровольцем». Фор-марсовому старшине было совершенно ясно, что капитан тщательно отбирает надежных людей для этого разведывательного плавания, а других, равно надежных и бдительных — таких, как лейтенант Дево, второй помощник Роберт Томас, помощник боцмана и приверженец строгой дисциплины с «Террора» Том Джонсон, а также всех морских пехотинцев, — хочет оставить с собой. Через тридцать минут они подготовили вельбот к спуску на воду. Это была странно снаряженная экспедиция-в-экспедиции. Они взяли с собой сумку с небольшим количеством соленой свинины и галетами, а также несколько бутылок воды на случай, если заблудятся или задержатся долее назначенного срока по какой-нибудь иной причине. Каждому из девяти мужчин выдали по ледорубу или кирке. Если они натолкнутся на маленький айсберг, нависающий над каналом и препятствующий дальнейшему движению, или ледяную корку на воде, они попытаются прорубить путь. Пеглар знал, что, если их остановит широкая полоса более толстого льда, они потащат вельбот волоком до следующего участка открытой воды, коли смогут. Он надеялся, что у него осталось еще достаточно сил, чтобы наравне с другими тащить, толкать и тянуть тяжелую лодку сотню ярдов или больше. Боцман Джонсон вручил лейтенанту Литтлу двустволку и сумку патронов, которые последний положил на носу вельбота. На случай, если они по какой-либо причине застрянут там, среди оставшегося на борту снаряжения, знал Пеглар, имелась палатка вдвое больше обычной и брезентовое полотнище, служившее палаточным полом. В лодке оставались также три трехместных спальных мешка. Но они не собирались заблудиться. Мужчины забрались в вельбот и расселись по местам в клубящемся тумане. Прошлой зимой Крозье и другие офицеры и старшины обсуждали, следует ли приказать мистеру Хани — и мистеру Уиксу, впоследствии погибшему на «Эребусе» в марте — нарастить борта лодок. Тогда маленькие суденышки были бы лучше подготовлены для плавания в открытом море. Но в конечном счете они решили оставить высоту планширей прежней, чтобы успешнее справиться с трудностями речного плавания. Для этой же цели Крозье приказал укоротить все весла, чтобы было легче грести на реке. Оставшаяся на борту добрая тонна продовольствия и снаряжения мешала расположиться удобно. Шести матросам на веслах пришлось поставить ноги на брезентовые мешки, подняв колени до уровня подбородка, в каковой нелепой позе им предстояло грести, а рулевой Пеглар обнаружил, что сидит не на кормовой банке, а на перевязанном веревками тюке, но все кое-как примостились, и еще осталось место для лейтенанта Литтла и мистера Рейда, которые устроились на носу со своими длинными баграми. Пятидесяти мужчинам не терпелось поскорее спустить лодку на воду. Согласный хор голосов грянул «раз-два-три!» и «раз-два, взяли!» — и тяжелый вельбот тронулся с места, проскользил по льду, наклонился вперед, погрузив нос на два фута в черную воду, гребцы оттолкнулись веслами от льда, а мистер Рейд и лейтенант Литтл покрепче ухватились за планшири. Мужчины на льду еще раз поднатужились, весла наконец окунулись в воду, и в следующий миг они уже плыли прочь в тумане — первая лодка с «Эребуса» или «Террора», спущенная на воду за два года и почти одиннадцать месяцев. Позади них раздался дружный вопль ликования, за которым последовало более традиционное троекратное «гип-гип-ура!». Пеглар вывел лодку на середину узкого канала — имевшего здесь ширину не более двадцати футов, которой едва хватало для укороченных весел, — и к тому времени, когда он бросил через плечо взгляд назад, все оставшиеся на льду мужчины уже скрылись в тумане.
Следующие два часа походили на сон. Пеглару случалось и прежде водить маленькие лодки по проходам во льдах — осенью сорок пятого года они неделю с лишним обшаривали загроможденные айсбергами заливы и бухты, прежде чем нашли хорошее место стоянки для двух кораблей у острова Бичи, и Пеглар на протяжении многих дней командовал одним из маленьких суденышек, — но теперь все было совсем иначе. Канал оставался узким — не более тридцати футов в ширину, — а порой сужался до такой степени, что за невозможностью грести они отталкивались веслами от льда, о который терлись бортами, и вдобавок постоянно поворачивал то вправо, то влево, но не настолько круто, чтобы лодка не могла вписаться в поворот. Нагромождения ледяных глыб мешали обзору в одну и другую сторону, и туман продолжал сгущаться вокруг, изредка чуть рассеиваясь, а потом сгущаясь еще плотнее. Все звуки казались приглушенными и одновременно более громкими, и это действовало на нервы; мужчины невольно понижали голос до шепота, когда возникала необходимость сказать что-то. Дважды они натыкались на участки, где в первом случае путь преграждали плавучие льдины, а во втором сам канал замерз, — и оба раза большинству мужчин пришлось вылезать из вельбота, чтобы расталкивать льдины баграми или прорубать путь кирками. Несколько человек тогда выходили на лед по одну и другую сторону, брались за бакштовы, привязанные к носу и к банкам, или хватались за планшири и протаскивали, пропихивали скрипящий вельбот через узкую расселину. После обоих трудных участков канал опять расширялся настолько, что мужчины могли забраться обратно в вельбот и снова грести, временами отталкиваясь веслами от льда. Таким образом они медленно продвигались вперед уже почти два полных часа, по истечении которых собирались повернуть обратно, когда извилистый канал вдруг резко сузился — борта лодки стали тереться об лед, но гребцы отталкивались от него веслами, а Пеглар стоял на носу, поскольку руль здесь был бесполезен, — а затем они неожиданно выплыли на самый широкий участок открытой воды из всех пройденных. Словно в ознаменование того, что все трудности остались позади, туман рассеялся, и видимость возросла до многих сотен ярдов. Они достигли либо настоящей открытой воды, либо огромного озера посреди льда. В разрыв туманной пелены и облаков над нею хлынул солнечный свет, и вода стала синей. Несколько низких плоских айсбергов, один площадью с часть хорошего крикетного поля, виднелись впереди на глади лазурного моря. Солнечные лучи преломлялись на бесчисленных гранях айсбергов, и усталые мужчины прикрыли глаза ладонью, ослепленные блеском солнца, снега и воды. Шестеро гребцов испустили громкий вопль ликования. – Еще рано радоваться, ребята, — сказал лейтенант Литтл. Он стоял, поставив одну ногу на нос вельбота, и смотрел в подзорную трубу. — Мы пока не знаем, насколько далеко простирается пространство открытой воды… ведет ли из этого озера во льдах еще какой-нибудь канал, помимо нашего. Давайте проверим это, прежде чем повернуть назад. – О, открытая вода простирается до самого материка! — прокричал матрос по имени Барри со своего места на веслах. — Я нутром чую. Чистое от льда море и благоприятные ветра на всем пути к устью реки Бака, все в порядке. Мы вернемся сюда с остальными, поднимем паруса и будем на месте завтра к часу ужина. – Надеюсь, вы правы, Алекс, — сказал лейтенант Литтл. — Но давайте все-таки потратим немного времени и сил, чтобы убедиться окончательно. Я хочу принести нашим товарищам только хорошие новости. Ледовый лоцман мистер Рейд указал рукой назад, на канал, из которого они вышли. — Здесь дюжины узких заливчиков. Может статься, нам будет трудно отыскать настоящий канал, коли мы не пометим его сейчас. Ребята, гребите обратно к нему. Мистер Пеглар, пожалуйста, возьмите вот тот запасной багор и воткните там в снег на видном месте, чтобы мы не проскочили мимо на обратном пути. Он будет служить нам ориентиром. — Слушаюсь, — сказал Пеглар. Отметив багром нужное место, они двинулись вперед по открытой воде. Большой плоский айсберг находился всего в сотне ярдов от прохода, и они прошли рядом с ним. – Мы могли бы расположиться на нем лагерем, и там еще осталось бы полно места, — сказал Генри Сэйт, один из матросов с «Террора», сидевший на веслах. – Мы не хотим располагаться лагерем, — рассмеялся лейтенант Литтл. — Мы настоялись лагерем на всю оставшуюся жизнь. Мы хотим вернуться домой. Мужчины встретили слова лейтенанта возгласами одобрения и налегли на весла. Пеглар, сидевший у руля, затянул песню, и все подхватили хором — впервые за много месяцев они по-настоящему пели.
Только через три часа — спустя целый час с оговоренного времени своего возвращения — они убедились окончательно. «Открытая вода» оказалась иллюзией — озером во льдах длиной немногим более полутора миль и шириной немногим более двух третей мили. На извилистых южном,восточном и северном ледяных берегах открывались дюжины каналов, но все они на поверку оказались тупиковыми путями, просто узкими заливчиками. На юго-восточной границе озера они пришвартовались, глубоко забив кирку в шестифутовую ледяную стену и привязав к ней вельбот, а потом вырубили во льду ступеньки — и все мужчины выбрались из вельбота и посмотрели в сторону, где надеялись увидеть открытую воду. Сплошная белизна. Лед, снег и сераки. И облака снова наплывали, клубясь над ледяным полем подобием тумана. Пошел снег. После того как лейтенант Литтл посмотрел в подзорную трубу во всех направлениях, они подсадили самого легкого матроса, Берри, на плечи самому высокому, тридцатишестилетнему Билли Венцаллу, и дали Берри подзорную трубу. Он совершил полный оборот, напряженно всматриваясь в даль и говоря Венцаллу, когда поворачиваться. — Ни даже какого-нибудь паршивого пингвина, — сказал он. Это была старая шутка, отсылавшая к путешествию капитана Крозье на Южный полюс. Никто не засмеялся. — Там где-нибудь виднеется темное небо? — спросил лейтенант Литтл. — Какое обычно бывает над открытой водой? Или верхушка большого айсберга? — Нет, сэр. И облака приближаются. Литтл кивнул. — Давайте возвращаться, ребята. Гарри, спускайтесь первым и выровняйте вельбот. Никто не проронил ни слова за полтора часа, что они гребли назад. Солнце скрылось за облаками, и туман снова сгустился еще прежде, чем они переправились через озеро, но вскоре в тумане неясно вырисовался плоский айсберг размером с центральную часть крикетного поля, и они поняли, что движутся в верном направлении. — До нашего канала рукой подать, — крикнул с носа Литтл. Временами туман сгущался так сильно, что сидевший на корме Пеглар с трудом различал лейтенанта. — Мистер Пеглар, возьмите чуть левее, пожалуйста. — Есть, сэр. Гребцы даже не подняли глаз. Они казались глубоко погруженными в горькие мысли. Снова секла снежная крупа, но теперь метель летела с северо-запада. По крайней мере, гребцы сидели спиной к ветру. Когда туман наконец немного рассеялся, они находились менее чем в ста футах от канала во льдах. — Я вижу багор, — бесцветным голосом сказал мистер Рейд. — Немного по правому борту. Вы отлично установили ориентир. — Что-то не так, — сказал Пеглар. – Что вы имеете в виду? — спросил лейтенант. Несколько гребцов подняли головы и хмуро посмотрели на Пеглара. – Видите там серак или большой ледяной валун рядом с багром? — спросил Гарри. – Да, — ответил лейтенант Литтл. — И что? – Его там не было, когда мы выплывали из канала, — сказал Пеглар. – Табань! — резко приказал Литтл, но, хотя гребцы уже торопливо гребли в обратном направлении, тяжелый вельбот продолжал по инерции двигаться вперед, ко льду. Ледяной валун зашевелился.
48. Гудсер
Кинг-Уильям, неизвестная широта, неизвестная долгота 18 июля 1848 г.
Из личного дневника доктора
Гарри Д. С. Гудсера
Вторник, 18 июля 1848 г.
Девять дней назад, когда наш капитан послал лейтенанта Литтла с восемью людьми вперед по каналу во льдах с приказом вернуться через четыре часа, все остальные попытались по возможности выспаться за ничтожно малое время, остававшееся до истечения означенного срока, — мы потратили свыше двух часов на погрузку саней в лодки, а потом, не тратя времени на распаковку и установку палаток, постарались заснуть в наших сшитых из оленьих шкур и одеял спальных мешках, положенных на брезентовые полотнища, постеленные на льду рядом с лодками. Сейчас, в первой декаде июля, солнце уже не стоит над горизонтом всю ночь напролет, и мы проспали — или просто пролежали, пытаясь заснуть, — несколько часов темноты. Мы все безумно устали. По истечении условленных четырех часов старший помощник Дево разбудил людей, но лейтенант Литтл так и не объявился. Капитан разрешил большинству из нас снова лечь спать. Еще через два часа все были на ногах, и я старался оказывать посильную помощь в приготовлениях к спуску лодок на воду, выполняя приказы второго помощника Кауча. (Разумеется, будучи врачом, я всегда боюсь повредить руки, хотя, надо признать, за время нашего путешествия они претерпели все возможные беды, помимо сильного обморожения и ампутации.) И вот через семь часов после того, как лейтенант Литтл, Джеймс Рейд, Гарри Пеглар и шестеро матросов отправились на разведку, восемьдесят оставшихся на льду человек приготовились последовать за ними на своих лодках. Из-за движения льда и падения температуры воздуха канал несколько сузился за несколько часов нашего сна, и потому для того, чтобы правильно установить на льду и аккуратно спустить на воду лодки, потребовалась известная ловкость. В конце концов все лодки — три вельбота (головным командовал капитан Крозье, а я сидел во втором по счету, под командованием второго помощника Кауча), четыре тендера (под командованием второго помощника Роберта Томаса, боцмана Джона Лейна, помощника боцмана Томаса Джонсона и второго лейтенанта Джорджа Ходжсона, к которому капитан по-прежнему относится с долей недоверия) и два полубаркаса под командованием помощника боцмана Сэмюела Брауна и первого помощника Дево (теперь Дево занимал третье по старшинству положение в экспедиции после капитана Крозье и лейтенанта Литтла и потому получил ответственное задание замыкать вереницу судов) — были спущены на воду. К тому времени похолодало и шел легкий снег, но густой туман поднялся выше и обратился в плотные облака, плывущие всего в сотне футов над льдом. Хотя видимость значительно возросла против вчерашнего, низкая облачная пелена производила гнетущее впечатление — казалось, мы находимся в каком-то странном бальном зале посреди заброшенного арктического дворца, с растрескавшимся белым мраморным полом под ногами и низким потолком над головой, покрытым росписью в виде облаков, создающей полную иллюзию реальности. Когда девятую и последнюю лодку столкнули на воду и команда забралась в нее, мужчины предприняли жалкую попытку крикнуть «ура», поскольку большинство этих мореходов впервые за почти два года пускались в плавание, но крик замер, так и не набрав силу. Тревога за судьбу команды лейтенанта Литтла была слишком велика, чтобы ликовать от души. Первые полтора часа мы продвигались вперед с огромным трудом. Временами коварный извилистый канал сужался настолько, что матросам приходилось выходить из лодок и прорубать путь топорами и кирками. В иные разы тем же матросам приходилось идти по ненадежному льду по краям прохода, волоча лодки за привязанные к ним бакштовы, поскольку за отсутствием нормальной открытой воды грести не представлялось возможным. Хотя канал, имевший края более угловатые и ломаные, чем любой речной берег, петлял не хуже какого-нибудь извилистого ручья, в целом мы постоянно двигались на восток или юго-восток. Тишину нарушали лишь стоны и треск льда вокруг да редкие ответные стоны гребцов, налегающих на весла. Но со своего места на передней банке второго вельбота, сразу за стоящим на носу мистером Каучем, — где я сидел, сознавая полную свою бесполезность в деле продвижения лодки вперед и ощущая себя таким же мертвым грузом, как бедный Дэвид Лейс, находящийся в глубокой коме, но все еще дышащий, которого товарищи на протяжении трех с лишним месяцев везли в одном из полубаркасов без единого слова жалобы, а мой новый помощник, бывший стюард Джон Бридженс, кормил и отмывал от нечистот каждый вечер в медицинской палатке с такой заботой, словно ухаживал за любимым парализованным дедом (парадоксально, ибо Бридженсу уже за шестьдесят, а коматозному Лейсу всего сорок), — так вот, со своего места я слышал перешептывания гребцов. – Литтл и остальные, должно быть, заблудились, — прошептал матрос по имени Кумз. – Лейтенант Эдвард Литтл никак не мог заблудиться, — прошипел в ответ Чарльз Бест. — Он мог застрять, но не заблудиться. – Где застрять? — прошептал Роберт Ферьер, сидевший за соседним веслом. — Канал сейчас открыт. И был открыт вчера. – Может, лейтенант Литтл и мистер Рейд нашли впереди свободный для навигации путь до самого устья реки Бака и просто подняли парус и поплыли дальше, — прошептал Том Макконвей, сидевший через банку. — Я лично думаю, они уже там… жрут лососей, которые запрыгивают прямо в лодку, и выменивают у аборигенов тюленину на побрякушки. Никто ничего не сказал в ответ на это неправдоподобное предположение. Любое упоминание об аборигенах повергало людей в тихий ужас после зверского убийства лейтенанта Ирвинга и расстрела восьми дикарей 24 апреля. Полагаю, большинство мужчин — несмотря на отчаянную надежду на спасение или любую помощь — скорее страшились встречи с местными племенами, нежели уповали на нее. Месть, по мнению некоторых философов, является одним из самых универсальных побудительных мотивов человеческого существа. Через два с половиной часа после того, как мы покинули место нашей ночной стоянки, вельбот капитана Крозье выскочил из узкого канала на широкое пространство чистой воды. Люди в головной лодке и моей собственной испустили радостный вопль. У самого выхода из канала, словно оставленный здесь в качестве ориентира, вертикально стоял длинный черный багор, глубоко воткнутый в снег. С обращенной к северо-западу стороны багор побелел от налипшего снега и застывшей измороси. Но и этот ликующий крик стих, не успев набрать силу, когда тесная вереница лодок вышла на открытую воду. Вода была красной. На плоском льду справа и слева от прохода мы увидели темно-красные полосы и пятна, которые могли быть только кровью. От этого зрелища меня бросило в дрожь, а у всех остальных, я заметил, отвисли челюсти. — Спокойно, ребята, — пробормотал мистер Кауч, стоявший на носу нашего вельбота. — Это просто следы нападения белых медведей на тюленей. Мы не раз видели летом такие лужи тюленьей крови. Капитан Крозье в головном вельботе говорил своим матросам примерно то же самое. Минутой позже мы узнали, что кровавые свидетельства бойни остались не от тюленей, задранных белыми медведями. — О боже, — воскликнул Кумз. Все мужчины перестали грести. Три вельбота, четыре тендера и два полубаркаса сбились в кучу на подернутой зыбью воде с красноватым оттенком. Из воды вертикально торчал нос вельбота лейтенанта Литтла. Мы отчетливо видели написанное черной краской название лодки (одной из пяти, не переименованных после произнесенной в мае короткой надгробной речи капитана Крозье, взятой из Книги Левиафана) — «Леди Дж. Франклин». Вельбот был переломлен надвое примерно в четырех футах от носа, и только носовая часть — обломки расщепленных банок и доски разбитого корпуса едва виднелись под темной ледяной водой — держалась на поверхности. Девять наших лодок растянулись цепью и медленно двинулись вперед, а люди начали собирать другие плавающие на воде предметы: весло, обломки планширя и кормы, румпель, «уэльский парик», сумка из-под патронов, рукавица, клочок жилета. Матрос Ферьер, подцепивший длинным багром что-то похожее на обрывок синего бушлата, вдруг заорал от ужаса и едва не уронил багор в воду. Там плавало человеческое тело, обезглавленное, по-прежнему одетое в синюю шерстяную куртку, с безжизненно раскинутыми в черной воде руками и ногами. На месте шеи зияла страшная рваная рана. Пальцы его — вероятно, распухшие в ледяной воде после смерти и сейчас похожие на неестественно толстые и короткие обрубки — казалось, шевелились в слабых струях, колеблемые мелкими волнами, и напоминали извивающихся белых червей. Создавалось впечатление, будто безгласное тело пытается что-то сказать нам на языке жестов. Я помог Ферьеру и Макконвею затащить останки в лодку. Рыбы или какой-то морской хищник обгрызли пальцы мертвеца по второй сустав, но в ледяной воде процесс гниения и разложения еще не начался. Вельбот капитана Крозье подплыл к нашему, ткнувшись носом в наш борт. – Кто это? — пробормотал один из матросов. – Гарри Пеглар, — крикнул другой. — Я узнал бушлат. — Гарри Пеглар не носил зеленого жилета, — заметил третий. — Сэмми Крисп носил, — воскликнул четвертый. — Тихо! — рявкнул капитан Крозье, а потом обратился ко мне: — Доктор Гудсер, будьте добры, выверните карманы нашего несчастного товарища, если вас не затруднит. Я так и сделал. Из большого кармана мокрого жилета я вытащил почти пустой кисет из тисненой красной кожи. — Ох, черт! — сказал Томас Тэдмэн, сидевший в моей лодке рядом с Робертом Ферьером. — Это бедный мистер Рейд. Так оно и было. Все мужчины сразу вспомнили, что накануне вечером ледовый лоцман был в зеленом жилете и синем бушлате, и все мы тысячу раз видели, как он набивает трубку табаком из выцветшего красного кожаного кисета. Мы посмотрели на капитана Крозье, словно ожидая от него объяснений по поводу участи, постигшей наших товарищей, хотя, разумеется, в глубине души все мы и сами знали. — Положите тело мистера Рейда под лодочный чехол, — приказал капитан. — Мы обыщем все вокруг, чтобы проверить, не остался ли кто в живых. Держитесь в пределах слышимости друг от друга. Лодки снова растянулись цепью. Мистер Кауч отвел наш вельбот обратно к проходу во льдах, и мы медленно поплыли вдоль края ледяного поля, поднимавшегося на высоту примерно четырех футов над уровнем воды. Мы останавливались возле каждого пятна крови на горизонтальной поверхности льда и вертикальной ледяной стенке, но ни одного тела больше не обнаружили. – О черт, — простонал тридцатилетний Френсис Покок, сидевший на корме у руля. — Там кровавые борозды от пальцев, словно чудовище стаскивало человека обратно в воду. – Задраить глотку, и чтобы я больше не слышал подобных разговоров! — сердито оглядываясь на гребцов, рявкнул мистер Кауч, который стоял, поставив одну ногу на нос вельбота, и небрежно держал в руке длинный багор, словно настоящий гарпун. Мужчины умолкли. На северо-западной границе разводья мы нашли три кровавых пятна, причем третье выглядело так, словно жертву не стаскивали в воду, а сожрали прямо на месте, примерно в десяти футах от края ледяного поля. Там остались кости ног, несколько обглоданных ребер, лоскут, похожий на человеческую кожу, и клочки одежды, но ни черепа, ни каких-либо предметов, поддающихся опознанию, мы не обнаружили. — Высадите меня на лед, мистер Кауч, — сказал я. — Я осмотрю останки. Я так и сделал. Когда бы дело происходило на суше практически в любом уголке мира, кроме Арктики, жужжащие рои мух уже кружили бы над красным мясом и мышцами, не говоря уже о слегка присыпанной снегом кучке кишок, похожей на кротовый холмик, но здесь царила тишина, нарушаемая лишь тихим свистом северо-западного ветра да треском льда. Я крикнул сидящим в вельботе мужчинам (они отворачивали лица прочь), что произвести опознание невозможно. Даже несколько клочков изодранной одежды не позволяли установить личность жертвы. На месте трагедии не осталось ни головы, ни башмаков, ни рук, ни ног, ни даже туловища, за исключением обглоданных ребер, куска позвоночника с мышцами и половины тазовой кости. — Оставайтесь на месте, мистер Гудсер, — крикнул Кауч. — Я посылаю к вам Марка и Тэдмэна с пустой сумкой из-под патронов, чтобы уложить в нее останки несчастного. Капитан Крозье захочет их похоронить. Задача была не из приятных, но мы справились с ней быстро. В конечном счете я велел гримасничающим матросам уложить в сумку-саван только ребра и половину тазовой кости. Позвоночник намертво вмерз в лед, а прочие останки были слишком омерзительны, чтобы с ними возиться. Мы едва успели оттолкнуться от льда и двинуться дальше вдоль южной границы открытой воды, когда с северной стороны донесся крик. — Человек! — прокричал какой-то матрос. — Мы нашли человека! Полагаю, у всех нас бешено колотились сердца, пока Кумз, Макконвей, Ферьер, Тэдмэн, Марк и Джонс налегали на весла, а сидевший на руле Френсис Покок направлял лодку к плавучей льдине размером с центральную часть крикетного поля, которую отнесло на середину этих нескольких сотен акров открытой воды посреди льдов. Все мы страстно желали — всем нам было необходимо — найти кого-нибудь живого из команды лейтенанта Литтла. Но такому не суждено было случиться. Капитан Крозье, уже находившийся на льдине, попросил меня подойти к лежавшему там трупу. Признаюсь, я даже почувствовал легкую досаду: можно подумать, капитан не мог констатировать смерть, не заставив меня обследовать очередное мертвое тело. Я валился с ног от усталости. Это оказался Гарри Пеглар, всеми любимый фор-марсовый старшина с «Террора». Почти голый — в одном только белье, — он лежал на льду в скрюченной позе, подтянув колени к самому подбородку, скрестив лодыжки, словно в последние минуты жизни потратил остатки энергии на попытки согреться, сжимаясь в клубочек все плотнее и плотнее, обхватывая себя руками в тщетных стараниях унять страшную дрожь. Его голубые глаза были открыты и подернуты льдом. Окоченелое посиневшее тело на ощупь напоминало каррарский мрамор. — Должно быть, он доплыл до льдины, сумел забраться на нее и замерз здесь, — тихо предположил мистер Дево. — Чудовище не схватило и не покалечило Гарри. Капитан Крозье лишь кивнул. Я знал, что капитан хорошо относился к Гарри Пеглару и очень на него полагался. Мне тоже нравился фор-марсовый старшина. Потом я увидел, на что смотрит Крозье. Вся покрытая свежевыпавшим снегом льдина — особенно рядом с трупом Гарри Пеглара — была испещрена огромными отпечатками лап с отчетливо обозначенными когтями, похожими на следы белого медведя, только в три-четыре раза больше. Существо много раз обошло вокруг Гарри. Наблюдало, как несчастный мистер Пеглар дрожит и умирает от холода? Наслаждалось зрелищем? Неужели последнее, что угасающим взором видел Гарри Пеглар на сей земле, это ужасное белое чудовище, нависающее над ним, вперяющее в него черные немигающие глаза? Почему существо не съело нашего друга? — Зверь передвигался на задних лапах все время, пока находился на льдине, — только и сказал капитан Крозье. Другие мужчины из лодок подошли с куском парусины.
Из озера во льдах не было выхода, если не считать быстро замерзающего канала, которым мы приплыли. Дважды обойдя кругом пространство открытой воды (пять лодок двигались по часовой стрелке, четыре — против), мы обнаружили лишь тупиковые заливчики, разломы во льду и еще две кровавые полосы на месте, где, похоже, кто-то из нашей разведывательной команды выбрался на лед и попытался бежать, но был схвачен и утащен обратно в воду. Там, слава богу, мы нашли только лоскуты синей шерстяной ткани, но никаких останков. Было уже за полдень, и всеми, я уверен, владело единственное желание: убраться подальше от проклятого места. Но у нас на руках находились тела трех наших товарищей — или части тел, — и мы считали необходимым похоронить их с должными почестями. (Думаю, многие из нас полагали — и, как оказалось, справедливо, — что эта погребальная церемония станет последней, которую наша экспедиция сможет себе позволить провести.) Среди плавающих на воде предметов мы не нашли ничего полезного, помимо брезентового полотнища от одной из голландских палаток, находившихся на борту обреченного вельбота лейтенанта Литтла. В него мы завернули тело нашего друга Гарри Пеглара. Останки скелета, которые я осматривал возле устья прохода, мы оставили в парусиновой сумке из-под патронов, а туловище мистера Рейда зашили в лишний спальный мешок. При погребении в море в ногах человека, предаваемого пучине, принято класть одно или несколько пушечных ядер, чтобы тело с достоинством ушло ко дну, а не болталось на поверхности непотребным образом, но, разумеется, у нас не имелось никаких ядер. Матросы сняли дрек с плавающей носовой части «Леди Дж. Франклин» и отыскали несколько пустых консервных банок, чтобы утяжелить различные саваны с останками. Нам потребовалось довольно много времени, чтобы вытащить девять оставшихся лодок из черной воды и снова установить тендеры и полубаркасы на сани. У некоторых изможденных мужчин — больных цингой и еле живых от голода — работы по сборке саней и погрузке на них лодок отняли последние силы. Потом матросы собрались у края ледового поля, выстроившись широкой дугой, чтобы на лед нигде не приходилось слишком много веса. Никто из нас не был расположен слушать длинную надгробную речь — и уж тем более взятую из проникнутой иронией легендарной Книги Левиафана, прежде всеми ценимой, — поэтому мы с некоторым изумлением и с немалым волнением выслушали 89-й псалом, прочитанный капитаном по памяти.
«Господи! Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие!» Ибо пред очами Твоими тысяча лет как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их; они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все наши дни прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши, как звук. Дней наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас счислять дни наши, чтобы приобресть сердце мудрое. Обратись, Господи! Умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостию Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в делах рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».
И все мы хором повторили: «Аминь».
Потом наступила тишина. В лицо нам дул слабый ветер со снегом. Черная вода плескалась о лед со звуком, похожим на жадное лакание голодного зверя. Лед трещал и слегка подрагивал под нашими ногами. Думаю, все мы восприняли произнесенные слова как надгробную речь и последнее «прощай», обращенные к каждому из нас. До сегодняшнего дня, до потери вельбота лейтенанта Литтла со всей командой — включая приветливого мистера Рейда и всеми любимого Гарри Пеглара, — полагаю, многие из нас все еще верили в возможность спастись. Теперь мы понимали, что шансов выжить у нас практически не осталось. Долгожданная открытая вода, вселившая во всех нас надежду, оказалась коварной ловушкой. Лед не отпустит нас. И обитающее во льдах существо не даст нам уйти. — Шапки долой! — скомандовал боцман Джонсон. Мы стянули наши разношерстные головные уборы. — Знайте, Искупитель наш жив, — сказал капитан Крозье скрипучим хриплым голосом, которым только и говорил теперь. — И Он в последний день восставит из праха распадающуюся плоть нашу. И хотя черви наших грехов уничтожат наши тела, мы во плоти нашей узрим Бога, мы узрим Его сами, наши глаза, не глаза другого, увидят Его… Господи, прими в царство Твое смиренных рабов Твоих, ледового лоцмана Джеймса Рейда, фор-марсового старшину Гарри Пеглара и их неизвестного товарища по команде; и вместе с двумя погибшими, личности которых нами установлены, прими в царство Твое души лейтенанта Эдварда Литтла, матроса Александра Берри, матроса Генри Сэйта, матроса Уильяма Вентцалла, матроса Сэмюела Криспа, матроса Джона Бейтса и матроса Дэвида Симса… Когда придет срок нам последовать за ними, пожалуйста, Господи, позволь нам воссоединиться с ними в царстве Твоем… Господи, услышь нашу молитву о наших товарищах, и о нас самих, и о наших душах. Приклони ухо Твое к нашей мольбе, не останься равнодушным к нашим слезам. Смилуйся над нами немного, дабы мы могли восстановить наши силы, прежде чем тоже покинем сей бренный мир и перейдем в мир иной. Аминь. — Аминь, — шепотом повторили мы. Боцманы подняли парусиновые саваны с останками и бросили в черную воду, где они утонули в считанные секунды. Из глубины поднялись белые пузыри, словно последняя попытка наших покойных товарищей заговорить, а потом поверхность озера снова стала черной и недвижной. Сержант Тозер и два морских пехотинца дали один залп в воздух из мушкетов. Несколько долгих мгновений капитан Крозье пристально смотрел в черное озеро с выражением лица, ясно свидетельствовавшим об обуревающих его чувствах, сдерживаемых усилием воли. — Теперь мы двинемся дальше, — твердо сказал он наконец нам, всем нам, глубоко подавленным, погруженным в уныние и мысленно смирившимся с поражением людям. — Мы сможем протащить сани и лодки еще милю, прежде чем остановиться на ночлег. Здесь идти будет легче.
На деле идти здесь оказалось значительно труднее. В конечном счете просто невозможно — не из-за обычных торосных гряд и привычных трудностей, сопряженных с перетаскиванием через них лодок (хотя и это раз от раза становилось все проблематичнее для ослабших от голода и болезни людей), но из-за разломов во льду. Перетаскивая лодки по обыкновению за два захода, но теперь, после потери девятерых человек, еще меньшими силами, в тот долгий вечер 10 июля мы преодолели немногим более половины мили, прежде чем разбили на льду палатки и наконец легли спать. Сон наш был прерван менее чем через два часа, когда лед под нами начал трещать и колебаться. Все ледяное поле ходило ходуном. Охваченные тревогой, мы выползли из палаток и в смятении принялись беспорядочно толочься на месте. Матросы начали сворачивать палатки и готовиться к погрузке имущества в лодки, пока капитан Крозье и старший помощник Дево не призвали всех к спокойствию громкими криками. Офицеры указали, что лед не трескается, только колеблется. Минут через пятнадцать движение льда постепенно сошло на нет, и поверхность замерзшего моря снова стала незыблемой и твердой как камень. Мы заползли обратно в палатки. Часом позже лед опять начал трещать и колебаться. Многие снова выскочили из ненадежных укрытий в ветреную тьму, но самые отважные остались в своих спальных мешках. Спустя несколько минут все спраздновавшие труса заползли обратно в зловонные, битком набитые маленькие палатки — где не стихали храп и пердеж спящих, где стоял тяжелый дух испарений давно не мытых тел, теснившихся во влажных спальных мешках, и застарелый запах пота, исходивший от мужчин, уже несколько месяцев не менявших одежды, — с красными от стыда лицами. К счастью, в такой темноте никто этого не заметил.
Весь следующий день мы, выбиваясь из сил, тащили лодки на юго-восток по льду, теперь не более надежному, чем туго натянутая резина. Стали появляться трещины, но хотя самые глубокие из них свидетельствовали, что толщина льда составляет шесть и более футов, у нас пропало ощущение, будто мы движемся по ледяному полю: теперь нам казалось, будто мы перебираемся с одной плавучей льдины на другую в волнующемся океане белизны. Здесь следует упомянуть, что на второй вечер после того, как мы покинули замкнутое озеро во льдах, я во исполнение своих обязанностей разбирал личные вещи погибших, большая часть которых осталась с основным грузом припасов и снаряжения, когда разведывательная команда лейтенанта Литтла уплыла на вельботе, и уже дошел до маленького узелка фор-марсового старшины Гарри Пеглара, где находились несколько жалких предметов одежды, несколько писем, роговая гребенка и несколько книг, когда мой помощник, Джон Бридженс, спросил: «Можно мне взять несколько из этих вещей?» Я удивился. Бридженс указывал на гребенку и толстую тетрадь в кожаном переплете. Я уже успел заглянуть в тетрадь. Пеглар вел дневник своего рода примитивным шифром — писал слова задом наперед, последнее слово в каждом предложении заканчивая прописной буквой, — но хотя описание событий последнего года нашей экспедиции могло представлять известный интерес для родственников, почерк фор-марсового старшины и структура предложений, не говоря уже об орфографии, становились все более и более невнятными и корявыми в течение месяцев, непосредственно предшествовавших нашему уходу с кораблей и последовавших за ним, и под конец записи носили совсем уже обрывочный и бессвязный характер. Одна запись гласила: «Смерть, где твое жало? Ад для того, кто теперь хоть немного сомневается, што… (следующая строка размыта водой)… красильщик скал…» На другой стороне этой страницы Пеглар трясущейся рукой нарисовал неровный круг и в нем нацарапал: «лагерь разчищен». Дата написана неразборчиво, но, по всей видимости, данная запись относится к концу апреля. На одной из страниц поблизости содержались следующие обрывочные записи: «Придется ли нам итти по твердой земле… нам понадобится грог, штобы промочить нашы… ибо я думаю… время… мне лежать рядом и… в 21-ю ноч свиршилось…» Я предположил, что эту запись Пеглар сделал вечером 21 апреля, когда капитан Крозье сообщил людям с «Террора» и «Эребуса», что на следующее утро последние из них покинут корабль. Иными словами, в тетради содержались беспорядочные заметки полуграмотного человека, не делавшие чести ни писательскому таланту, ни образованности Гарри Пеглара. — Зачем вам это? — спросил я Бридженса. — Пеглар был вашим другом? – Да, доктор. – Вам нужна расческа? — Старый стюард был почти лысым. — Нет, доктор. Просто вещица на память о человеке. Расчески и дневника мне хватит. Очень странно, подумал я, поскольку к настоящему времени все старались избавиться от лишних вещей, а не добавлять тяжелые тетради к грузу, который приходилось тащить. Но я отдал Бридженсу и расческу и дневник. Никому не потребовались ни рубашка Пеглара, ни носки, ни запасные шерстяные штаны, ни Библия, поэтому на следующее утро я оставил их в куче ненужных вещей. В общем и целом брошенные на льду последние пожитки Пеглара, Литтла, Рейда, Берри, Криспа, Бейтса, Симза, Вентцалла и Сэйта сошли за скорбную пирамиду в память о погибших.
Следующим утром, 12 июля, нам начали встречаться новые кровавые пятна на льду. Поначалу мужчины испугались, что это очередные свидетельства гибели наших товарищей, но капитан Крозье подвел нас к одному из залитых кровью участков и показал, что посреди застывшей темно-красной лужи лежит труп белого медведя. Это всё были убитые белые медведи, от многих из которых остались лишь проломленная голова, окровавленная белая шкура, раздробленные кости и лапы. Поначалу мужчины успокоились. Затем, разумеется, все задались вопросом: «Кто убил этих огромных хищников за считанные часы до нашего появления здесь?» Ответ напрашивался сам собой. К 16 июля люди, казалось, окончательно выбились из сил и уже не могли продолжать путь. За восемнадцатичасовой день непрерывных усилий мы преодолевали менее мили. Зачастую, вставая лагерем на ночь, мы видели кучу выброшенной одежды и снаряжения, оставшуюся на месте нашей предыдущей ночной стоянки. Мы нашли еще несколько убитых белых медведей. Наш моральный дух был так низок, что, проведи мы голосование на той неделе, большинство наверняка проголосовало бы за то, чтобы отказаться от всяких дальнейших попыток, лечь на лед и умереть. Ночью 16 июля, когда все спали и лишь один часовой нес дежурство, капитан Крозье попросил меня явиться к нему в палатку. Теперь он спал вместе с Чарльзом Дево, своим старшим интендантом Чарльзом Гамильтоном Осмером (у которого наблюдались симптомы пневмонии), Уильямом Беллом (старшиной-рулевым «Эребуса») и Филипом Реддингтоном, бывшим баковым старшиной сэра Джона и капитана Фицджеймса. Капитан кивнул, и все, кроме старшего помощника Дево и мистера Осмера, покинули палатку, чтобы предоставить нам возможность поговорить наедине. — Доктор Гудсер, — начал капитан, — мне нужен ваш совет. Я кивнул и приготовился слушать. – У нас есть теплая одежда и палатки, — сказал капитан Крозье. — Запасные башмаки, которые люди по моему приказу везут в полубаркасах со снаряжением и прочими припасами, спасли многих от ампутации ног. – Совершенно верно, сэр, — сказал я, хотя понимал, что он хочет спросить совета не по данному вопросу. – Завтра утром я собираюсь сообщить людям, что нам придется бросить один вельбот, два тендера и один полубаркас и продолжать путь только с пятью лодками, — сказал капитан Крозье. — Эти два вельбота, два тендера и полубаркас находятся в лучшем состоянии, чем прочие лодки, и в них хватит места на всех для плавания по открытой воде — коли мы найдем таковую, прежде чем доберемся до устья реки Бака, — поскольку у нас осталось совсем мало груза. — Люди будут очень рады слышать это, капитан, — сказал я. Я лично так очень обрадовался. Поскольку теперь я шел в упряжи наравне с другими, я в буквальном смысле слова почувствовал, как часть непомерной тяжести свалилась с моих ноющих плеч при известии, что кошмарные дни, когда приходилось перетаскивать лодки за два захода, остались позади. — Что мне нужно знать, — продолжал капитан бесконечно усталым хриплым голосом, с сумрачным лицом, — так это можно ли еще урезать рацион. Вернее, смогут ли люди тащить сани, когда мы урежем рацион. Меня интересует ваше профессиональное мнение, доктор. Я уставился в брезентовый пол палатки. Один из котелков мистера Диггла — или, возможно, разборное устройство для разогревания чая, которым пользовался мистер Уолл, когда у нас еще оставались бутылки с эфиром для спиртовок, — прожег в нем круглую дыру. — Капитан, мистер Дево, — наконец сказал я, прекрасно понимая, что говорю вещи, для них очевидные. — Люди и сейчас получают гораздо меньше пищи, чем необходимо для поддержания сил при каждодневном тяжелом физическом труде. — Я глубоко вздохнул и продолжал: — Они едят только холодную пищу. Последние консервированные продукты были съедены много недель назад. Спиртовки мы оставили на льду с последней пустой бутылкой из-под эфира. Сегодня вечером каждый человек получит на ужин одну галету, кусочек холодной соленой свинины, унцию шоколада, несколько глотков чая с малой порцией сахара и менее столовой ложки рома. — И щепоть табака, — добавил мистер Осмер. Я кивнул. – Да, и щепоть табака. Они поистине любят табак. Но нет, капитан, люди не смогут обойтись меньшим количеством пищи, чем ныне. – Им придется, — сказал капитан Крозье. — Соленая свинина у нас кончится через шесть дней. Ром — через десять. Мистер Дево прочистил горло. – Насколько мне известно — и известно всем здесь присутствующим и всем участникам экспедиции, — мы подстрелили и съели ровно двух тюленей с тех пор, как покинули бухту Покоя два месяца назад. – Мне кажется, — сказал капитан Крозье, — сейчас самое лучшее для нас — двинуться обратно на север, к берегу Кинг-Уильяма, каковой путь займет у нас, может, три дня, может, четыре. Там можно питаться мхом и всякой дрянью, произрастающей на скалах. Мне говорили, что из съедобных разновидностей мха и лишайника варится почти вкусный суп. Если, конечно, удается найти съедобные разновидности означенных растений. Сэр Джон Франклин, устало подумал я. Человек, который съел свои башмаки. Мой старший брат рассказывал мне эту историю за несколько месяцев до нашего отплытия. Сэр Джон по своему горькому опыту точно знал бы, какие мхи и лишайники выбирать. – Люди будут рады вернуться на сушу, капитан, — только и мог сказать я. — И они будут счастливы услышать, что теперь нам придется тащить меньше лодок. – Благодарю вас, доктор, — сказал капитан Крозье. — Это все. Кивнув на прощание, я удалился, проведал самых тяжелых цинготных больных — от лазаретной палатки мы уже, разумеется, избавились, и мы с Бридженсом каждый вечер обходили палатки одну за другой, консультируя и пользуя лекарствами наших пациентов, — а потом с трудом добрел до своей собственной палатки (которую делил с Бридженсом, находящимся в бессознательном состоянии Дейви Лейсом, умирающим инженером Томпсоном и тяжело больным плотником мистером Хани) и мгновенно забылся сном. Именно той ночью лед расступился и поглотил палатку, где спали пятеро наших морских пехотинцев: сержант Тозер, капрал Хеджес, рядовой Уилкс, рядовой Хэммонд и рядовой Дейли. Один только Уилкс успел выбраться из палатки, прежде чем она погрузилась в темное море, и был оттащен от расселины за считанные секунды до того, как она сомкнулась с оглушительным треском. Но Уилкс слишком ослаб от болезни, слишком сильно переохладился и слишком сильно испугался, чтобы оправиться, хотя мы с Бридженсом закутали его в последние сухие одеяла, остававшиеся у нас, и уложили в спальный мешок между нами. Он умер незадолго до рассвета. Тело Уилкса мы оставили на льду, вместе с очередной кучей одежды, четырьмя лодками и тремя санями. Ни по нему, ни по другим морским пехотинцам панихиды не проводилось. Никто не закричал «ура», когда капитан Крозье объявил, что нам больше не придется тащить эти четыре лодки и сани. Мы повернули на север и двинулись к суше, скрывавшейся сразу за горизонтом. Тремя часами позже лед снова дал многочисленные трещины, и наш путь на север преградили расселины и разводья, которые были слишком малы, чтобы спускать лодки на воду, но слишком широки, чтобы перетаскивать через них сани и лодки.
49. Крозье
Кинг-Уильям, неизвестная широта, неизвестная долгота 26 июля 1848 г.Когда Крозье засыпал — даже на несколько минут, — сны возвращались. Два скелета в лодке. Несносные американские девчонки в полутемной комнате, щелкающие пальцами ног с целью сымитировать постукивание вызванных духов по столу. Американский доктор, выдающий себя за полярного исследователя, низенький толстый человечек в эскимосской парке с покрытым толстым слоем грима лицом на ярко освещенной газовыми лампами сцене. Потом снова два скелета в лодке. Ночь всегда заканчивалась сном, который пугал Крозье больше всех прочих… Он — маленький мальчик и находится в огромном католическом соборе вместе с бабушкой Мемо Мойрой. Он совершенно голый. Мемо подталкивает его к алтарной ограде, но он боится идти вперед. В соборе холодно; мраморный пол под босыми ногами юного Френсиса холоден; белые деревянные скамьи покрыты льдом. Стоя на коленях у алтарной ограды, юный Френсис Крозье чувствует одобрительный взгляд Мойры, находящейся где-то сзади, но он слишком испуган, чтобы обернуться. Кто-то идет. Священник словно поднимается из люка в мраморном полу по другую сторону алтарной ограды. Мужчина слишком большой — просто огромный, — и он в белых, насквозь мокрых одеяниях, с которых стекает вода. Пахнущий кровью, потом и еще чем-то более отвратительным, он нависает над маленьким Френсисом Крозье. Френсис закрывает глаза и — как его учила Мемо, когда он стоял на коленях на тонком коврике в ее гостиной, — высовывает язык, чтобы причаститься Святых Даров. Хотя он понимает всю важность и необходимость данного таинства, он страшно боится брать в рот облатку. Он знает, что жизнь его никогда уже не будет прежней после того, как он примет католическое причастие. И знает также, что жизнь его закончится, коли он не причастится. Священник подступает ближе и наклоняется над ним… Крозье проснулся в вельботе. Как всегда, когда он пробуждался от своих кошмаров (даже если засыпал всего на несколько минут), сердце у него бешено колотилось, и во рту пересохло от страха. И он дрожал всем телом, но скорее от холода, нежели от страха или воспоминания о страхе. Лед вскрылся в части пролива или залива, где они находились 17 и 18 июля и четыре последующих дня. Крозье собрал людей в одном месте на большой плавучей льдине, где они остановились; они сняли с саней тендеры и полубаркас, погрузили в них все имущество, за исключением палаток и спальных мешков, и оснастили все пять лодок для плавания. Каждую ночь, когда льдина начинала колебаться, давать трещины и раскалываться, полусонные люди выскакивали из палаток в уверенности, что лед разверзается под ними и море готово поглотить их, как сержанта Тозера и других морских пехотинцев. Каждую ночь оглушительный треск льда, похожий на треск ружейных выстрелов, постепенно стихал, резкие колебания льдины мало-помалу превращались в плавное ритмичное покачивание, и они заползали обратно в палатки. Стало теплее, в отдельные дни температура поднималась почти до точки замерзания воды — пара недель в конце июля почти наверняка останется единственным намеком на лето за два последних затертых льдами арктических года, — но люди мерзли и страдали сильнее, чем когда-либо. Временами шел настоящий дождь. Когда было слишком холодно для дождя, шерстяная одежда промокала насквозь от ледяных кристаллов в туманном воздухе, поскольку по такой теплой погоде было невозможно носить водонепроницаемые зимние плащи поверх бушлатов и шинелей. Пот пропитывал грязное белье, грязные рубахи и носки, драные заиндевелые штаны. Хотя припасы у них почти полностью истощились, пять оставшихся лодок стали много тяжелее, чем десять, которые они волокли прежде, ибо в дополнение к принимающему пищу, еще дышащему, но по прежнему остающемуся в коматозном состоянии Дейви Лейсу теперь с каждым днем приходилось везти все больше и больше тяжелобольных. Доктор Гудсер ежедневно докладывал Крозье об очередных пациентах, ноги у которых — постоянно мокрые и в мокрых носках, несмотря на все запасные башмаки, взятые по приказу капитана, — начинали гнить, чернеть с пальцев и пяток, пораженные гангреной и теперь требующие ампутации. Голландские палатки были сырыми. Заиндевелые спальные мешки, которые они с треском раскатывали поздно вечером и в которые забирались с наступлением темноты, были мокрыми внутри и снаружи и никогда не высыхали. Когда люди просыпались утром после нескольких минут прерывистого сна (крепко заснутьтеперь редко удавалось, поскольку истощенные тела не вырабатывали никакого тепла и не могли согреться, сколько ни тряслись), стенки пирамидальных палаток внутри покрывал толстый слой инея, осыпавшегося кусками или стекавшего каплями на головы, плечи и лица людей, пока они пытались пить свои несколько жалких глотков чуть теплого чая, который утром разносили по палаткам капитан Крозье, мистер Дево и мистер Кауч — странное превращение командиров в стюардов, произошедшее по инициативе Крозье в первую неделю на льду и теперь принимавшееся людьми как должное. Мистер Уолл, кок с «Эребуса», болел чем-то похожим на чахотку и почти все время лежал скрючившись на дне одного из тендеров, но мистер Диггл оставался все тем же энергичным, бранчливым, шумливым, деятельным и заразительно жизнерадостным человеком, каким был все три года на своем посту у огромной фрейзеровской плиты на борту британского корабля «Террор». Теперь, когда запасы эфира закончились и все спиртовки и железные печи с вельботов были брошены позади с лишним грузом, работа мистера Диггла заключалась в том, чтобы дважды в день делить на порции ничтожные остатки соленой свинины и прочих продуктов, всегда под строгим наблюдением мистера Осмера или какого-нибудь другого офицера. Но мистер Диггл, никогда не терявший оптимизма, смастерил примитивную плитку, которую предполагал заправлять тюленьим жиром и приготовился разжечь, если они добудут тюленей. Каждый день Крозье отправлял охотничьи отряды на поиски тюленей для мистера Диггла, но тюлени встречались крайне редко и всегда успевали нырнуть в крохотные полыньи во льду, не давая охотникам времени толком прицелиться. Несколько раз, по словам мужчин из охотничьих отрядов, они ранили дробью или даже мушкетной или ружейной пулей черных кольчатых нерп, но те умудрялись перед смертью соскользнуть в черную воду и уйти на глубину, оставляя лишь кровавые полосы на льду. Иногда охотники падали на четвереньки и слизывали кровь. Крозье много раз прежде бывал в Арктике летом и знал, что к середине июля в море и на плавучих льдинах должна кипеть жизнь: огромные моржи, нежащиеся в солнечных лучах на льдинах и шумно плещущиеся в воде рядом с ними; многочисленные тюлени, резвящиеся в воде, точно дети, и потешно ползающие на брюхе по льду; белухи и нарвалы, выбрасывающие фонтаны, распространяющие вокруг рыбный запах; белые медведицы, плавающие в черной воде со своими неуклюжими детенышами и выслеживающие тюленей на льдинах, выбирающиеся на лед из моря и резкими движениями тела стряхивающие воду со своей странной шкуры, обходящие стороной крупных и опасных самцов, которые запросто сожрут и детенышей, коли голодны; и наконец морские птицы, летающие над головой в таком великом множестве, что голубое летнее небо кажется почти темным, — птицы, разгуливающие по берегу, по плавучим льдинам и сидящие на изломанных вершинах айсбергов, похожие на ноты партитуры, и бесчисленные крачки, чайки, исландские кречеты, кружащие низко над морем, куда ни кинь взгляд. Этим летом, как и предыдущим, никаких живых существ на льду не наблюдалось — только неуклонно слабеющие люди Крозье, задыхающиеся от напряжения в своих упряжах, и их неумолимый преследователь, постоянно мелькающий вдали и остающийся вне досягаемости мушкетного или ружейного огня. Несколько раз вечером люди слышали тявканье песцов и часто находили их изящные следы на снегу, но ни один ни разу не попался на глаза охотникам. Когда они видели и слышали китов, огромные морские млекопитающие неизменно оказывались слишком далеко, чтобы люди могли их настичь — даже пускаясь бегом во всю мочь и с риском для жизни перепрыгивая с одной колеблющейся льдины на другую, — и всякий раз небрежно выскакивали из воды, ныряли и уходили на глубину, снова скрываясь из виду. Крозье понятия не имел, смогут ли они убить нарвала или белуху с помощью маломощного огнестрельного оружия, оставшегося у них, но думал, что смогут, — несколько ружейных пуль, всаженных в мозг, убьют любое существо, за исключением Зверя, следующего за ними по пятам (которого матросы уже давно считали не зверем вовсе, а разгневанным Богом из Книги Левиафана), — а если у них достанет сил вытащить кита на лед и разделать, китового жира хватит на много недель или даже месяцев работы самодельной плиты мистера Диггла, и они все будут есть ворвань и свежее мясо, пока не лопнут. Больше всего Крозье хотел убить само существо. В отличие от своих людей капитан знал, что оно смертно: просто животное, и только. Возможно, более разумное, чем даже пугающе хитрый и сообразительный белый медведь, но все равно — животное. Если бы он сумел убить существо, знал Крозье, один факт его смерти — радость мести за столь многих погибших товарищей, пусть даже оставшимся участникам экспедиции все равно суждено умереть позже от голода и цинги, — временно укрепил бы моральное состояние уцелевших людей лучше, чем непочатый бочонок рома. Они не видели зверя и никаких признаков его присутствия, кроме убитых белых медведей, с тех пор, как покинули замкнутое озеро во льдах, где погиб лейтенант Литтл со своими людьми. Каждый отряд, посылавшийся капитаном на охоту, получал приказ немедленно возвращаться, если они найдут следы существа на снегу. Крозье твердо решил взять с собой всех до единого мужчин, способных держаться на ногах, и все огнестрельное оружие на охоту за зверем — коли понадобится, он прикажет людям греметь кастрюлями и сковородами и кричать на манер индийских загонщиков, преследующих тигра в высокой траве. Но Крозье понимал, что толку от этого будет не больше, чем от засады покойного сэра Джона. Чтобы заставить зверя приблизиться к ним, знал капитан, нужна приманка. Крозье не сомневался, что существо по-прежнему следует за ними по пятам, подходит ближе в темное время суток, теперь становившееся все длиннее, и прячется где-то — возможно, подо льдом — при свете дня, и оно подойдет еще ближе, коли они сумеют подманить его. Но у них нет свежего мяса, а если хоть фунт такового и появится, мужчины все съедят, а не пустят на приманку для зверя. И все же, думал Крозье, вспоминая невероятно огромные размеры и массу чудовищного существа, там свыше тонны мяса и мышц, возможно, несколько тонн, поскольку крупный самец белого медведя весит до полутора тысяч фунтов, а белые медведи рядом со своим жутким сородичем выглядят как охотничьи псы рядом с рослым мужчиной — а значит, они смогут сытно питаться на протяжении многих недель, коли сумеют убить своего убийцу. И даже если они будут есть мясо зверя неподжаренным, как ели соленую свинину во все время похода, знал Крозье, они каждое мгновение будут наслаждаться чувством мести, точно изысканным блюдом. Если бы дело выгорело, знал Френсис Крозье, он бы сам остался на льду в качестве приманки. Если бы это спасло и накормило хотя бы нескольких из его людей, Крозье взялся бы выполнить роль приманки для зверя в надежде, что его люди, показавшие себя никудышными стрелками еще даже до гибели в ледяной воде последних морских пехотинцев с «Террора», все же сумеют произвести достаточное количество достаточно метких выстрелов, чтобы убить чудовище, останется ли в живых приманка или нет. При мысли о морских пехотинцах он невольно вспомнил о теле рядового Генри Уилкса, оставленном в одной из пяти брошенных лодок неделю назад. Никто не собирался на несостоявшиеся похороны Уилкса, только Крозье, Дево и несколько ближайших друзей морского пехотинца произнесли несколько прощальных слов над телом перед рассветом. «Нам следовало использовать труп Уилкса в качестве приманки», — подумал Крозье, лежа на дне подрагивающего вельбота, битком набитого спящими мужчинами. Потом он осознал — и не в первый раз, — что у них имеется приманка посвежее. Дэвид Лейс оставался мертвым грузом на протяжении последних восьми месяцев, с декабрьской ночи, когда существо погналось за ныне покойным ледовым лоцманом Блэнки. С той самой ночи Лейс постоянно смотрел в пустоту остекленелым взглядом, ни на что не реагировал, не приносил никакой пользы и вот уже четыре месяца лежал в лодке, словно сто тридцать фунтов грязного тряпья, но тем не менее умудрялся каждый вечер проглатывать свой бульон из соленой свинины и каждое утро выпивать свои несколько глотков чая с сахаром. К чести людей, никто из них — даже злонамеренные шептуны Хикки и Эйлмор — не предложил бросить на льду Лейса или любого из других тяжелобольных, в настоящее время неспособных передвигаться самостоятельно. Но всем наверняка приходила в голову одна и та же мысль… Съесть их. Сначала съесть Лейса, а потом других, когда они умрут. Френсис Крозье был так голоден, что допускал мысль о поедании человечины. Он не стал бы убивать человека, чтобы съесть его… пока не стал бы… но если человек умер, зачем оставлять столько мяса — а в Уилксе было много фунтов лишнего веса даже перед самой смертью — гнить на арктическом летнем солнце? Или, еще хуже, оставлять на съедение существу, следующему за ними? В бытность свою новоиспеченным лейтенантом двадцати с лишним лет Крозье узнал — как рано или поздно узнавали все моряки, но обычно еще юнгами, а Крозье узнал вскоре после случившихся событий, — подлинную историю капитана Полларда, командовавшего американским бригом «Эссекс» в 1820 году. «Эссекс» получил пробоину и затонул, как впоследствии сообщили немногие выжившие, в результате нападения спермацетового кита. Дело произошло в одной из самых пустынных частей Тихого океана, и все двадцать членов команды тогда охотились на китов в своих вельботах и по возвращении обнаружили быстро тонущий корабль. Забрав с корабля несколько инструментов, несколько навигационых приборов и один пистолет, уцелевшие люди пустились в плавание на трех вельботах. Из провизии у них были лишь две живые черепахи, пойманные на Галапагосских островах, два бочонка галет и шесть бочонков пресной воды. Они повели вельботы к Южной Америке. Сначала, разумеется, они убили и съели больших черепах. Потом им повезло поймать нескольких злополучных летучих рыб, случайно запрыгнувших в лодку, но если черепашье мясо они умудрялись кое-как готовить, то рыб ели уже сырыми. Потом они ныряли в море, отскабливали полипов с корпусов своих лодок и ели их. Они чудом наткнулись на остров Хендерсона — один из немногих крохотных островков посреди бескрайнего голубого простора Тихого океана. В течение четырех дней двадцать мужчин ловили крабов, чаек и искали яйца. Но капитан Поллард понимал, что на острове недостаточно крабов, чаек или яиц, чтобы двадцать человек могли прокормиться долее недели, и потому семнадцать из двадцати проголосовали за то, чтобы плыть дальше. 27 декабря 1820 года они спустили лодки на воду и помахали на прощанье рукой трем оставшимся на острове товарищам. К 28 января лодки разнесло далеко в разные стороны штормом, и вельбот капитана Полларда поплыл один на восток под бескрайним небом. Теперь дневной рацион пятерых мужчин состоял из полутора унций галет на каждого. По далеко не случайному совпадению, именно такой рацион Крозье совсем недавно тайно обсуждал с доктором Гудсером и старшим помощником Дево, когда запасов соленой свинины у них осталось всего на несколько дней. На куске галеты и нескольких глотках пресной воды в день люди Полларда — его племянник Оуэн Коффин, освобожденный от рабства чернокожий по имени Барзиллай Рэй и два матроса — продержались девять недель. Они все еще находились в тысяче шестистах милях от суши, когда доели последние галеты и одновременно допили последнюю воду. Даже если люди Крозье продержатся на галетах еще месяц и достигнут устья реки Бака, до ближайшего поселения все равно останется восемьсот с лишним миль. На борту вельбота у Полларда не было мертвецов, поэтому они тянули жребий. Молодой племянник Полларда, Оуэн Коффин, вытащил короткую соломинку. Потом они тянули жребий, чтобы выбрать того, кто сделает дело. На сей раз короткую соломинку вытащил Чарльз Рамселл. Юный Коффин дрожащим голосом попрощался с товарищами (Крозье всегда помнил холодок ужаса, разлившийся у него в паху, когда он впервые услышал эту часть истории от пожилого матроса, который на пару с ним нес вахту высоко на бизань-мачте далеко от берегов Аргентины и для пущего эффекта изобразил дрожащий голос мальчика, прощающегося с товарищами), а потом положил голову на планширь и закрыл глаза. Капитан Поллард, как он сам впоследствии рассказал, отдал Рамселлу свой пистолет и отвернулся. Рамселл выстрелил мальчику в затылок. Остальные четверо, включая капитана Полларда, дядю мальчика, сначала выпили кровь из тела, пока она не загустела. В отличие от воды бескрайнего океана, кровь — хотя и солоноватая — годилась для питья. Потом они срезали с костей мясо и ели сырым. Потом они раскалывали кости Оуэна и высасывали из них костный мозг, до последней капли. Питаясь останками юнги, они продержались тринадцать дней и уже собрались снова тянуть жребий, когда чернокожий матрос, Барзиллай Рэй, умер от истощения. И снова кровь, мясо, костный мозг поддерживали в них жизнь, пока 23 февраля 1821 года их не подобрал китобой «Дофин». В последующие десятилетия Френсис Крозье ни разу не встречался с капитаном Поллардом, но следил за его карьерой. Злополучный американец сохранил свое звание и вышел в море еще лишь раз — и снова потерпел кораблекрушение. После того как беднягу спасли вторично, ему уже никогда больше не доверяли командования кораблем. Согласно последним слухам о нем, дошедшим до Крозье всего за несколько месяцев перед отплытием экспедиции сэра Джона три года назад, капитан Поллард жил в Нантакете, работал городским ночным сторожем, и все местные жители и тамошние китоловы старались держаться от него подальше. Говорили, что Поллард преждевременно состарился, разговаривал вслух сам с собой и со своим давно умершим племянником и постоянно прятал галеты и соленую свинину в стропилах своего дома. Крозье знал, что через несколько недель, если не дней, им тоже придется принять решение поедать своих мертвецов. Теперь людей осталось слишком мало, и немногие уцелевшие были слишком слабы, чтобы тащить лодки, но четырехдневный отдых на льдине, продолжавшийся с 18 по 22 июля, нисколько не восстановил силы. Крозье, Дево и Кауч (молодой лейтенант Ходжсон, формально занимавший второе по старшинству положение, в последнее время не получал от капитана никаких полномочий) каждое утро поднимали людей и отправляли на охоту или ставили чинить сани либо конопатить и ремонтировать лодки, чтобы только они не лежали весь день в своих заиндевелых спальных мешках в мокрых палатках, но, в сущности, всем оставалось лишь сидеть целыми днями на смежных плавучих льдинах, поскольку многочисленные крохотные полосы открытой воды, трещины и расселины во льду, небольшие разводья и участки тонкого ненадежного льда не позволяли двинуться ни на юг, ни на восток, ни север. Крозье решительно не желал поворачивать обратно на запад и северо-запад. Но льдины не дрейфовали в нужном направлении — на юго-восток, к устью реки Бака, — а просто кружили на месте, как паковый лед, две долгих зимы державший в плену «Эребус» и «Террор». Наконец в субботу 22 июня, во второй половине дня, их собственная льдина дала многочисленные трещины, и Крозье скомандовал всем сесть в лодки. Вот уже шесть дней они плыли вереницей, связанные тросами, по разводьям и каналам, слишком маленьким или коротким, чтобы идти на веслах или на парусах. У Крозье остался один секстант (более тяжелый теодолит он бросил на льду), и, пока все прочие спали, он снимал с прибора показания, когда облачная пелена ненадолго расступалась. По его подсчетам, они находились примерно в восьмидесяти пяти милях от устья реки Бака. Крозье, теперь со дня на день ожидавший увидеть впереди узкий перешеек — гипотетический полуостров, соединяющий Кинг-Уильям с уже нанесенным на карту полуостровом Аделаида, — проснулся в лодке на рассвете среды 26 июля и обнаружил, что воздух стал холоднее, на голубом небе ни облачка и милях в пятнадцати к югу и северу виднеется земля. Позже, собрав пять лодок вместе, Крозье встал на носу головного вельбота и крикнул: — Люди, Кинг-Уильям — не полуостров, а остров. Теперь я уверен, что впереди, на юго-востоке и до самой реки Бака, простирается море, но я готов поспорить на свой последний соверен, что там нет суши, соединяющей мыс, который вы видите далеко на юго-западе, и мыс, виднеющийся далеко на северо-востоке. А поскольку мы, по всей вероятности, находимся севернее полуострова Аделаида, мы выполнили задачу, стоявшую перед экспедицией сэра Джона Франклина. Это Северо-Западный проход. Ей-богу, вы сделали это! Раздались слабые возгласы радости, за которыми последовал кашель. Если бы льдины и лодки дрейфовали на юг, через несколько недель пеших переходов и плавания люди достигли бы устья реки. Но каналы и разводья, по которым они плыли, по-прежнему открывались только в северном направлении. Условия жизни в лодках были столь же невыносимыми, как в палатках на плавучих льдинах. Люди страдали от страшной тесноты. Даже несмотря на уложенные поперек банок доски, обеспечивающие верхние спальные места в вельботах и тендерах с надстроенными мистером Хикки бортами (разобранные сани тоже служили своего рода крестообразной палубой в средней части переполненных тендеров и полубаркасов), мужчины во влажной шерстяной одежде днем и ночью тесно жались друг к другу. Им приходилось свешиваться за борт, чтобы испражниться (впрочем, необходимость в данном естественном отправлении возникала все реже и реже, даже у тяжелых цинготных больных, по мере того как запасы пищи и воды иссякали), и часто неожиданная волна окатывала голые задницы и спущенные штаны мужчин, потерявших последние остатки стыдливости, после чего у них выскакивали чирьи и начинался лихорадочный озноб, не дававший уснуть долгими ночами. Утром в пятницу 28 июля 1848 года впередсмотрящий на вельботе Крозье — самого щуплого мужчину на каждой лодке посылали на короткую мачту с подзорной трубой — заметил лабиринт каналов между льдинами, ведущий прямо к мысу на северо-западе, милях в трех от них. Дееспособные мужчины в пяти лодках гребли — а при необходимости, когда каналы сужались, отталкивались веслами от льда, в то время как самые крепкие прорубали путь кирками и двигали лодки баграми, — восемнадцать часов кряду. В начале двенадцатого ночи они высадились на каменистый берег в темноте, которую изредка рассеивали лишь проблески лунного света в разрывах облачной пелены, снова затянувшей небо. Люди были слишком изнурены, чтобы выгружать сани и ставить на них тендеры и полубаркасы. Они слишком устали, чтобы распаковывать свои мокрые голландские палатки и спальные мешки. Они упали на камни прямо там, куда дотащили тяжелые лодки по покрытому льдом и галькой берегу, темному от высокого прилива. Они спали, сбившись в кучи, согреваемые лишь слабым теплом тел своих товарищей. Крозье даже не поставил часового. Если чудовищное существо хочет напасть на них сегодня ночью, пускай нападает. Но перед сном он потратил час на попытки снять точные показания с секстанта и определить местоположение по навигационным таблицам и картам, которые по-прежнему таскал с собой. По его подсчетам, они провели на льду двадцать пять дней, за каковой срок прошли пешком, продрейфовали и проплыли в лодках в общей сложности сорок шесть миль на юго-юго-восток. Они снова находились на Кинг-Уильяме где-то к северу от полуострова Аделаида и теперь еще дальше от устья реки Бака, чем были двумя днями ранее: примерно в тридцати пяти милях к северо-западу от горла узкого залива по другую сторону безымянного пролива, который они просто не смогли пересечь. А если добавить шестьдесят с лишним миль пути по заливу к устью реки и восемьсот миль вверх по реке, в общей сложности получается более девятисот миль до Большого Невольничьего озера и спасения. Крозье аккуратно положил секстант в деревянный футляр, убрал футляр в непромокаемую сумку, нашел в вельботе влажное одеяло и расстелил его на камнях рядом с Дево и тремя спящими мужчинами. Он забылся сном в считанные секунды. Капитану снилась Мемо Мойра, подталкивающая его к алтарной ограде, и ждущий там священник в насквозь мокрых одеяниях. Лежа в окружении храпящих мужчин на залитом лунным светом неизвестном берегу, Крозье в своем сне закрыл глаза и высунул язык, чтобы причаститься Тела Христова.
50. Бридженс
Речной лагерь 29 июля 1848 г.Джон Бридженс всегда — втайне от всех — сравнивал различные периоды своей жизни с различными произведениями литературы, оказавшими влияние на его жизнь. В отрочестве и юности он время от времени видел себя то одним, то другим персонажем «Декамерона» Боккаччо или «Кентерберийских рассказов» Чосера — а далеко не все выбранные персонажи имели характер сколько-либо героический. (В течение нескольких лет отношение Бридженса к миру можно было выразить фразой «поцелуй меня в зад».) В возрасте от двадцати до тридцати лет он чаще всего отождествлял себя с Гамлетом. Странным образом стремительно взрослеющий принц Датский (Бридженс был уверен, что за несколько недель сценического времени юноша Гамлет к пятому акту чудом превращается в зрелого мужчину по меньшей мере тридцати с лишним лет) колебался в нерешительности между словом и делом, между мотивом и действием, скованный такой глубокой и неумолимой рефлексией, которая заставляла его размышлять обо всем, даже о самой мысли. Молодой Бридженс был жертвой такой же рефлексии и, подобно Гамлету, часто задавался самым существенным из всех вопросов: быть или не быть? Тогдашний наставник Бридженса, элегантный профессор, изгнанный из Оксфорда, и первый откровенный содомит, которого молодой человек встретил в жизни, презрительно объяснял, что знаменитый монолог никоим образом не является размышлением о возможности самоубийства, но Бридженс знал лучше. Слова «так трусами нас делает стыдливость» были обращены прямо к душе юноши Джона Бридженса, глубоко неудовлетворенного своей жизнью, несчастного из-за своих противоестественных наклонностей, несчастного из-за необходимости притворяться не тем, кем он является на самом деле, несчастного в своем притворстве и несчастного в своей искренности, и в первую очередь несчастного из-за того, что он в силах лишь думать о смерти, ибо страх, что способность мыслить — «видеть сны, быть может» — сохранится и за гробом, удерживал его даже от быстрого, решительного, хладнокровного самоубийства. К счастью, в молодости, когда он еще не стал самим собой, Джона Бридженса удерживали от самоубийства еще две вещи помимо нерешительности: книги и иронический склад ума. В зрелые годы Бридженс чаще всего отождествлял себя с Одиссеем. Основанием для сравнения несостоявшегося ученого, превратившегося в скромного стюарда, с данным литературным героем служили не столько странствия по миру, сколько гомеровский эпитет, характеризующий утомленного бесконечными скитаниями путешественника, — греческое слово, переводящееся как «хитроумный» или «лукавый», которое современники применяли для обозначения отличительной особенности Одиссея (а иные — например, Ахилл — употребляли в оскорбительном смысле). Бридженс использовал свое хитроумие не для манипуляции другими людьми, а скорее на манер одного из кожано-деревянных или великолепных железных щитов, какими гомеровские герои прикрывались от направленных в них смертоносных пик и копий. Он использовал свое хитроумие, чтобы стать и оставаться невидимым. Однажды, много лет назад, во время пятилетнего плавания «Бигля», где он познакомился с Гарри Пегларом, Бридженс упомянул о данной аналогии с Одиссеем — высказав мнение, что все люди в подобном путешествии в той или иной степени являются современными Улиссами, — в разговоре с находившимся на борту естествоиспытателем (они двое часто играли в шахматы в крохотной каюте мистера Дарвина), и молодой орнитолог с печальными глазами и острым умом проницательно посмотрел на стюарда и промолвил: «Но почему-то я сомневаюсь, что дома вас ждет Пенелопа, мистер Бридженс». После этого вестовой стал еще осмотрительнее. Он понял — как понял Одиссей после многолетних странствий, — что хитростью в этом мире ничего не достичь и что гордыня всегда карается богами. С недавних пор Джон Бридженс полагал, что литературный герой, с которым у него больше всего общего — мировоззрение, мысли, чувства, воспоминания, будущее, печаль, — это король Лир. И подошло время последнего акта.
Они задержались на два дня у устья реки, впадавшей в безымянный пролив к югу от Кинг-Уильяма, который на деле оказался не полуостровом, а островом. В конце июля река здесь текла вольным потоком, и они смогли наполнить водой все бочонки, но никто ни разу не увидел и не поймал ни одной рыбы. Никакие животные, похоже, не приходили сюда на водопой — даже песцы. Самым большим достоинством данного места стоянки являлось то, что незначительное углубление речной долины здесь отчасти защищало от сильного ветра и позволяло людям сохранять относительное спокойствие во время гроз, бушевавших каждую ночь. Оба утра мужчины — с надеждой и мольбой к небесам — расстилали на камнях палатки, спальные мешки и всю одежду, без которой могли обойтись, чтобы они высохли на солнце. Солнце, разумеется, больше не показывалось. Несколько раз моросил дождь. За последние полтора месяца они видели чистое голубое небо лишь однажды — в свой последний день плавания в лодках, — и в последующие несколько дней большинству мужчин пришлось обратиться к доктору Гудсеру по поводу солнечных ожогов. У Гудсера — как хорошо знал Бридженс, теперь исполнявший обязанности помощника врача, — осталось совсем мало лекарств в ящике, куда он сложил все медикаменты из запасов трех своих покойных коллег и свои собственные. В аптечке доброго доктора еще остались кое-какие слабительные средства (главным образом касторка и настойка ипомеи, изготовленная из семян пурпурного вьюнка); общеукрепляющие противоцинготные препараты (только камфора и костяное масло, ибо все запасы настойки лобелии были израсходованы в первые месяцы после появления у людей симптомов цинги); немного опиума в качестве успокоительного; немного настоя мандрагорового корня и доверова порошка для притупления боли; и только лишь медный купорос для дезинфекции ран или обработки волдырей от солнечных ожогов. Выполняя распоряжения доктора Гудсера, Бридженс пользовал купоросом единственно стонущих мужчин, которые сняли рубашки, пока гребли, и ко всем своим прочим болячкам и недугам добавили еще и сильнейшие солнечные ожоги. Но солнца, чтобы высушить палатки, спальные мешки и парусиновые сумки, теперь не было. Люди постоянно ходили в мокрой одежде и по ночам стонали, дрожа от холода и трясясь в лихорадке. Разведка местности, произведенная самыми здоровыми и быстроногими мужчинами, показала, что, пока они плыли в лодках и земля оставалась вне зоны видимости, они проскочили мимо глубоко врезающейся в сушу бухты, которая находилась менее чем в пятнадцати милях к северо-западу от реки, где они наконец высадились на берег. И что самое главное, все разведчики доложили, что всего десятью милями восточнее береговая линия острова изгибается и уходит на северо-восток. Если дело обстояло именно так, значит, они быстро приближались к юго-восточной оконечности Кинг-Уильяма, откуда открывался кратчайший путь с острова к заливу с устьем реки Бака. Река Бака, цель их путешествия, находилась к юго-востоку за проливом, но капитан Крозье сообщил людям, что планирует продолжать пеший поход в восточном направлении до места, где береговая линия, сейчас тянущаяся на юго-восток, делает изгиб. Там, на юго-восточной оконечности острова, они снова станут лагерем на самой высокой возвышенности и будут наблюдать за проливом. Если в течение следующих двух недель лед вскроется, они поплывут в лодках. В противном же случае они попытаются перетащить лодки по льду до полуострова Аделаида и, достигнув суши, направиться прямо на восток и преодолеть пятнадцать или даже меньше миль, которые, по расчетам Крозье, останутся до узкого залива, тянущегося на юг, к устью реки Бака. В шахматах эндшпиль всегда был слабым местом Джона Бридженса. Заключительная стадия партии редко ему удавалась. Вечером накануне намеченного на раннее утро выступления из Речного лагеря Бридженс аккуратно упаковал все свои пожитки — включая толстую тетрадь с дневниковыми записями, которые он вел последний год (пять полностью исписанных тетрадей он оставил на «Терроре» 22 апреля), — уложил в свой спальный мешок вместе с запиской к товарищам, содержащей наказ поделить между собой все полезные вещи, засунул в карман бушлата дневник и расческу Гарри Пеглара, а также свою старую платяную щетку, с которой не расставался уже много лет, и отправился в маленькую медицинскую палатку доктора Гудсера, чтобы попрощаться. – Что значит — вы пойдете пройтись и, возможно, не вернетесь ко времени нашего выступления в поход завтра утром? — осведомился Гудсер. — Как вас понимать, Бридженс? – Прошу прощения, доктор, мне просто очень хочется прогуляться. – Прогуляться, — повторил Гудсер. — Но почему, мистер Бридженс? Вы в среднем на тридцать лет старше всех уцелевших участников экспедиции, но в десять раз здоровее любого. – По части здоровья мне всегда везло, сэр, — сказал Бридженс. — Боюсь, здесь все дело в наследственности. Или нет, скорее в той доле благоразумия, какую я выказывал на протяжении многих лет. – Тогда почему… — начал врач. – Просто пришло время, доктор Гудсер. Признаюсь, в далекой молодости я подумывал о карьере трагического актера. Одной из немногих вещей, усвоенных мной насчет данного ремесла, является то, что великие актеры умеют уходить со сцены вовремя, прежде чем прискучат публике или начнут переигрывать. – Вы говорите прямо как стоик, мистер Бридженс. Последователь Марка Аврелия. Если император недоволен вами, вы идете домой, набираете теплую ванну… – О нет, сэр, — сказал Бридженс. — Не стану скрывать, я всегда восхищался философией стоицизма, но на самом деле до смерти боялся ножей и кинжалов. Император легко заполучил бы мою голову, мою семью и земельные владения, ибо я страшный трус, когда дело доходит до острых лезвий. Я просто хочу прогуляться сегодня вечером. Быть может, вздремнуть. – И видеть сны, быть может? — спросил Гудсер. – Да, вот в чем трудность, — признал стюард. Печаль и тревога — и, возможно, страх — в его голосе казались неподдельными. – Вы действительно полагаете, что у нас нет шансов спастись? — спросил врач с искренним любопытством, лишь слегка окрашенным грустью. Бридженс с минуту молчал. Потом наконец сказал: – Я правда не знаю. Возможно, все зависит от того, отправили ли уже поисковую экспедицию на север от Большого Невольничьего озера или от других факторий. Я вполне допускаю, что отправили, — ведь от нас вот уже три года нет никаких известий, — а коли так, надежда на спасение есть. Я точно знаю, что если кто-нибудь из нашей экспедиции и может вернуть нас домой, то только капитан Френсис Родон Мойра Крозье. Адмиралтейство всегда недооценивало его, таково мое скромное мнение. – Скажите это капитану сами, дружище, — сказал Гудсер. — Или, по крайней мере, сообщите ему, что вы уходите. Вы обязаны сделать это. Бридженс улыбнулся. — Я бы так и сделал, доктор, но мы оба прекрасно знаем, что капитан не отпустил бы меня. Он человек стоический, но не стоик. Он может заковать меня в цепи, чтобы не дать мне… уйти с миром. – Да, — согласился Гудсер. — Но вы окажете мне великую милость, коли останетесь. В ближайшее время мне предстоит произвести ряд ампутаций, и здесь мне понадобится ваша твердая рука. – Тут остаются другие люди, моложе меня, которые могут помочь вам и у которых руки гораздо тверже — да и сильнее — моих. – Но ни одного столь же умного, — сказал Гудсер. — Ни одного, с кем я мог бы разговаривать, как разговариваю с вами. Я высоко ценю ваши советы. – Благодарю вас, доктор. — Бридженс снова улыбнулся. — Я не хотел говорить вам, сэр, но я всегда испытывал дурноту от всего, связанного с кровью и болью. С самого детства. Я почитал за великую честь возможность работать с вами в последнее время, но это занятие противно моей впечатлительной натуре. Я всегда соглашался со святым Августином, который говорил, что единственным настоящим грехом является человеческая боль. Если вы собираетесь производить ампутации, мне тем более лучше уйти. — Он протянул руку. — Прощайте, доктор Гудсер. – Прощайте, Бридженс. — Доктор крепко пожал руку пожилого мужчины обеими руками.
Бридженс двинулся из лагеря в северо-восточном направлении, выбрался из неглубокой речной долины — как и повсюду на острове Кинг-Уильям, ни один холм или скалистый хребет здесь не поднимался на высоту более пятнадцати—двадцати ярдов над уровнем моря, — нашел каменистую гряду, свободную от снега, и зашагал по ней прочь от стоянки. Солнце теперь заходило около десяти вечера, но Джон Бридженс решил, что не станет идти до темноты. Милях в трех от Речного лагеря он нашел на гряде сухое место, сел, вынул из кармана бушлата галету — свою дневную норму довольствия — и медленно съел. Залежалая черствая галета показалась одним из самых изысканных яств, какие он пробовал когда-либо в жизни. Бридженс забыл взять с собой воды, но зачерпнул ладонью немного снега и положил в рот, чтобы он таял там. Закат на юго-западе являл собой прекрасное зрелище. Солнце ненадолго показалось в просвете между низкими серыми облаками и серой каменистой грядой, на несколько мгновений зависло там подобием оранжевого огненного шара — такого рода закатами любовался Одиссей, а не Лир, — а потом скрылось за горизонтом. Спустились серые мягкие сумерки, и температура воздуха, в течение дня державшаяся на уровне двадцати — двадцати пяти градусов, сейчас быстро падала. Скоро поднимется ветер. Бридженс хотел заснуть прежде, чем с северо-запада с воем налетит еженощный ветер или над землей и проливом разбушуется гроза. Он вытащил из кармана три последних оставшихся там предмета. Первым была платяная щетка, которой стюард Джон Бридженс при исполнении своих обязанностей пользовался свыше тридцати лет. Он дотронулся пальцем до пушинок и ниточек, застрявших в щетине, улыбнулся с легкой иронией, понятной только ему одному, и положил щетку в другой карман. Следующим предметом была костяная гребенка Гарри Пеглара. На ней между зубьями все еще оставалось несколько тонких каштановых волос. Бридженс на несколько секунд крепко сжал расческу в холодном голом кулаке, а потом убрал в карман к платяной щетке. Последним был дневник Гарри Пеглара. Бридженс наобум раскрыл тетрадь.
«Смерть, где твое жало? Ад для того, кто теперь хоть немного сомневается, што… красильщик скал».Бридженс покачал головой. Он знал, что последнее слово в действительности означает «сказал», что бы ни гласила размытая водой и не поддающаяся прочтению часть фразы. Он научил Пеглара читать, но так и не научил писать грамотно. Бридженс подозревал — поскольку Гарри Пеглар являлся одним из самых умных людей, каких ему доводилось встречать в жизни, — что дело здесь в неком врожденном дефекте мозга, какого-то неизвестного медицине отдела или участка коры головного мозга, отвечающего за правильное написание слов. Даже после того, как Гарри освоил алфавит и стал читать самые сложные книги, неизменно обнаруживая глубокое понимание предмета и проницательность истинного ученого, он так ни разу и не смог написать Бридженсу даже самого короткого письма без пропущенных букв или переставленных букв и грубых орфографических ошибок в самых простых словах. «Смерть, где твое жало?..» Бридженс улыбнулся в последний раз, положил тетрадь в нагрудный карман бушлата, где мелкие хищники, питающиеся падалью, не доберутся до нее, поскольку он будет на ней лежать, и растянулся на камнях, подложив под щеку голые ладони. Он пошевелился лишь раз, чтобы поднять воротник повыше и натянуть шапку пониже на лоб. Ветер крепчал, и было очень холодно. Потом он принял прежнюю позу. Джон Бридженс заснул еще прежде, чем серый сумеречный свет окончательно померк на юго-западе.
51. Крозье
Лагерь Спасения 13 августа 1848 г.Через две недели они добрались до юго-восточной оконечности острова Кинг-Уильям, где береговая линия резко изгибалась и уходила на северо-восток, и там стали лагерем, чтобы передохнуть, поохотиться и подождать, не появятся ли проходы во льду пролива к югу от них. Доктор Гудсер сказал Крозье, что ему нужно время заняться больными и пострадавшими, которых они везли в пяти лодках. Место стоянки получило название Конец Земли. Когда Крозье узнал от доктора Гудсера, что по меньшей мере пятерым мужчинам необходимо срочно ампутировать ноги — а это означало, понимал он, что ни один из этих пятерых не двинется дальше, ибо даже у ходячих матросов больше не осталось сил, чтобы тащить лишний груз в лодках, — он переименовал открытый всем ветрам мыс в лагерь Спасения. Идея, поданная Гудсером и до сих пор обсуждавшаяся капитаном только с ним одним, заключалась в том, чтобы врач остался здесь с людьми, оправляющимися после ампутации. Четверых Гудсер уже прооперировал, и пока никто из них не умер; последнего человека, мистера Диггла, он собирался оперировать сегодня утром. Все прочие матросы, слишком больные или изнуренные, чтобы продолжать путь, могли по желанию остаться с Гудсером и мужчинами, перенесшими ампутацию, в то время как Крозье, Дево, Кауч, верный второй помощник капитана Джонсон и все, у кого еще остались силы, поплывут на юг, когда — или если — лед снова вскроется. Потом эта маленькая группа, путешествуя налегке, поднимется вверх по реке до Большого Невольничьего озера и вернется обратно вместе со спасательным отрядом весной — или даже через месяц-другой, еще до наступления зимы, если вдруг свершится чудо и они встретятся со спасательным отрядом, следующим по реке на север. Крозье знал, что вероятность такого чуда мала, а вероятность, что хоть кто-нибудь из больных в лагере Спасения доживет до следующей весны, коли помощь не подоспеет раньше, не имеет смысла даже обсуждать. Первые два летних месяца 1848 года они крайне редко возвращались с охоты с добычей, и в августе положение дел не изменилось. Для рыбной ловли лед был слишком толстым повсюду, если не считать малочисленных узких расселин и редких полыней, не замерзающих круглый год; и они не сумели поймать ни одной рыбы, даже пока плыли в лодках. Как смогут Гудсер и несколько других мужчин, ухаживающих за умирающими, продержаться здесь целую зиму? Крозье знал, что врач подписал себе смертный приговор, вызвавшись остаться с обреченными людьми, и Гудсер знал, что капитан знает это. Ни один, ни другой не говорил об этом вслух. Однако на данный момент в силе оставался именно такой план действий, если только Гудсер не передумает сегодня утром или если вдруг не случится подлинное чудо и лед не вскроется на всем пути к побережью материка сейчас, на второй неделе августа, в каковом случае они все смогут пуститься в плавание на двух потрепанных вельботах, двух тендерах и одном растрескавшемся полубаркасе, взяв с собой всех безногих инвалидов, до предела истощенных и неспособных держаться на ногах от слабости людей и самых тяжелых цинготных больных. «В качестве возможной пищи?» — думал Крозье. Это был следующий вопрос, стоявший на повестке дня. Теперь капитан постоянно носил с собой два пистолета, когда выходил из палатки — свой большой револьвер в правом кармане шинели, как обычно, и двухзарядный двуствольный маленький пистолет (который американский капитан дальнего плавания, много лет назад продавший его Крозье, презрительно называл «пугачом для речных крыс») — в левом. Он больше не повторял однажды допущенной ошибки и никогда одновременно не отправлял на задание самых надежных своих людей — Кауча, Дево, Джонсона и нескольких других, — оставляя в лагере недовольных вроде Хикки, Эйлмора и придурковатого верзилы Мэнсона. И со дня, когда месяц с лишним назад в Госпитальном лагере едва не вспыхнул мятеж, Френсис Крозье не доверял третьему лейтенанту Джорджу Генри Ходжсону, своему баковому старшине Рубену Мейлу и фор-марсовому старшине «Эребуса» Роберту Синклеру. Открывавшийся из лагеря Спасения вид наводил уныние. Небо вот уже две недели затягивала плотная пелена низких облаков, и Крозье не мог воспользоваться секстантом. Снова начал дуть крепкий северо-западный ветер, и стало заметно холоднее, чем было два последних месяца. Пролив к югу от острова Кинг-Уильям по-прежнему представлял собой сплошную массу льда, но не ровного, пересеченного редкими торосными грядами, по какому они давным-давно совершали переход от «Террора» к лагерю, а изобилующего айсбергами и флобергами, часто искрещенного торосными грядами, с редкими полыньями, в которых десятью футами ниже поверхности льда чернела вода, но которые никуда не вели, и бесчисленными остроугольными сераками и ледяными валунами. Крозье не верил, что хоть один человек в лагере Спасения — в том числе и великан Мэнсон — готов двинуться в путь, пусть даже с единственной лодкой, через этот ледяной лес и эти цепи ледяных гор. Грохот, резкий треск, скрежет и стоны льда, теперь не стихавшие ни днем, ни ночью, оставались последней их надеждой. Лед содрогался в мучительных конвульсиях. Время от времени далеко от берега открывались крохотные каналы, иногда державшиеся часами. Потом они закрывались с оглушительным грохотом. Торосные гряды до тридцати футов высотой вырастали в считанные секунды, а через несколько часов рушились с такой же скоростью, с какой возникали новые. Айсберги раскалывались и рассыпались на куски под давлением льда, напирающего со всех сторон. «Еще только 13 августа», — говорил себе Крозье. Но разумеется, поскольку лето уже близилось к концу, настало время думать не «еще только 13 августа», а «уже 13 августа». Зима была не за горами. «Эребус» и «Террор» застряли во льдах неподалеку от Кинг-Уильяма 15 сентября 1846 года и потом так уже и не сдвинулись с места. «Еще только 13 августа», —повторял себе Крозье. Если только Небо ниспошлет маленькое чудо, у них еще осталось время, чтобы пересечь пролив под парусом или на веслах — возможно, перетаскивая лодки волоком на отдельных коротких участках пути, — преодолеть в общей сложности семьдесят пять миль, по его расчетам остававшиеся до устья реки, и там переоснастить потрепанные лодки для путешествия вверх по реке. Если повезет еще немного, сам залив за замерзшим проливом окажется свободным от льда на протяжении всех шестидесяти миль пути — из-за неизбежно сильного в летнюю пору течения «большой рыбной», несущей свои сравнительно теплые воды на север. На самой же реке им ежедневно придется выкладываться на все сто в попытке опередить наступающую зиму, ценой невероятных усилий продвигаясь вверх по течению, — но все же такое путешествие возможно. Теоретически. Сегодня утром — в воскресенье, если Крозье не сбился со счета, — Гудсер производил последнюю ампутацию при помощи своего нового ассистента, Джона Хартнелла, а потом Крозье планировал собрать людей на своего рода богослужение. Там он объявит, что Гудсер остается здесь с инвалидами и тяжелыми цинготными больными, и сообщит о своем намерении двинуться дальше с несколькими самыми здоровыми мужчинами и по меньшей мере двумя лодками, вскроется лед или нет. Если Рубен Мейл, Ходжсон, Синклер или заговорщики из числа приспешников Хикки пожелают выдвинуть иной план действий, не оспаривая власти своего капитана, Крозье был готов не только обсудить все предложения, но и согласиться с ними. Чем меньше людей останется в лагере Спасения, тем лучше — особенно если от них отделятся самые неблагонадежные. Из хирургической палатки послышались душераздирающие вопли: доктор Гудсер приступил к ампутации левой ноги мистера Диггла, пораженной гангреной. Крозье, с пистолетом в одном и другом кармане шинели, отправился на поиски Томаса Джонсона, чтобы велеть тому собрать людей.
Мистер Диггл, всеми любимый участник экспедиции и превосходный кок, с которым Френсис Крозье много лет прослужил в экспедициях на оба полюса и которого, к великой радости команды «Террора», перед самым отплытием переманил с корабля сэра Джона, умер от потери крови и ряда осложнений сразу после операции и за считанные минуты до переклички. Каждый раз, когда оставшиеся в живых участники экспедиции проводили на стоянке более двух дней, боцманы чертили палкой на снегу и гравии на каком-нибудь сравнительно ровном участке местности приблизительные контуры верхней и жилой палуб «Эребуса» и «Террора», чтобы люди знали, где стоять во время переклички. В первые дни в лагере «Террор» и позже на пространстве, ограниченном контурами верхней палубы одного корабля, порой возникала толкотня и неразбериха, когда сотня с лишним человек с обоих судов пыталась разместиться там, но сейчас численность отряда сократилась до численности команды единственного корабля. В тишине, наступившей после переклички и предшествовавшей короткой проповеди Крозье, — в тишине, казавшейся тем более глубокой после пронзительных криков мистера Диггла, — капитан обвел взглядом толпу оборванных, бородатых, грязных мужчин с ввалившимися глазами, сгорбленных и бессильно свесивших руки по бокам на манер усталых обезьян, каковая поза означала строевую стойку. Из тринадцати офицеров с «Эребуса» девять умерли: сэр Джон, командор Фицджеймс, лейтенант Грэм Гор, лейтенант Г. Т. Д. Левеконт, лейтенант Фейрхольм, старший помощник Серджент, второй лоцман Коллинз, ледовый лоцман Рейд и главный судовой врач Стенли. Из офицеров к настоящему времени в живых остались старший и второй помощники, Дево и Кауч, фельдшер Гудсер (он встал в строй с некоторым опозданием и сутулился еще сильнее прочих мужчин, не в силах поднять взгляд от усталости и уныния) и старший интендант Чарльз Гамильтон Осмер, переборовший тяжелую пневмонию для того только, чтобы свалиться с цингой. От внимания Крозье не ускользнуло то обстоятельство, что все военно-морские офицеры с «Эребуса» умерли, а уцелевшие являлись простыми старшинами или гражданскими лицами, получившими почетное офицерское звание на время службы на корабле. Все три мичмана с «Эребуса» — инженер Джон Грегори, боцман Томас Терри и плотник Джон Уикс — умерли. «Эребус» отошел от берегов Гренландии с двадцать одним унтер-офицером на борту, и к данному моменту пятнадцать из них оставались живы, хотя иные — как, например, стюард старшего интенданта Уильям Фаулер, так и не оправившийся полностью после ожогов, полученных во время карнавала, — были просто голодными ртами, которые приходилось ежедневно кормить. На поверке, проведенной в Рождество 1845 года, на «Эребусе» насчиталось бы девятнадцать матросов. К настоящему времени пятнадцать из них все еще были живы. Из семи морских пехотинцев из команды «Эребуса», присутствовавших на перекличке в начале плавания, до августа 1848 года дожили трое — капрал Пирсон и рядовые Хопкрафт и Хили, — но все они слишком тяжело болели цингой, чтобы нести караул или ходить на охоту, а уж тем более тащить лодки. Но сегодня утром они стояли среди других оборванных, сгорбленных мужчин, тяжело опираясь на мушкеты. Оба юнги, числившиеся в списке команды «Эребуса» — Дэвид Янг и Джордж Чемберс, которым было по восемнадцать, когда два корабля отплыли от берегов Англии, — остались в живых, но Чемберс получил сильнейшее сотрясение мозга при столкновении с чудовищным зверем во время карнавала и с ночи пожара превратился практически в идиота. Тем не менее он мог идти в упряжи, когда приказывали, есть, когда предлагали, и самостоятельно дышать. Таким образом, согласно только что проведенной перекличке, из шестидесяти пяти членов экипажа «Эребуса» к 13 августа 1848 года в живых осталось тридцать девять человек. С офицерским составом «Террора» дела обстояли чуть лучше — по крайней мере в том смысле, что два старших морских офицера, капитан Крозье и второй лейтенант Ходжсон, пока были живы. Второй помощник Роберт Томас и мистер И. Дж. Хелпмен — секретарь Крозье и еще один штатский, служивший в экспедиции в офицерском звании, — являлись двумя другими уцелевшими. Сегодня на перекличке отсутствовали лейтенанты Литтл и Ирвинг, а также старший помощник Хорнби, ледовый лоцман Блэнки, второй лоцман Макбин и оба судовых врача Крозье, Педди и Макдональд. Четверо из одиннадцати офицеров «Террора» по-прежнему оставались в живых. Крозье начинал плавание с тремя мичманами в составе команды — инженером Джеймсом Томпсоном, боцманом Лейном и старшим плотником Томасом Хани, — и все трое до сих пор были живы, хотя инженер превратился в живые мощи и не мог даже держаться на ногах, не говоря уже о том, чтобы идти в упряжи, а мистер Хани не только обнаруживал симптомы цинги в поздней стадии, но и лишился обеих ступней в результате ампутации, проведенной накануне вечером. Невероятно, но при всем при этом плотник все еще цеплялся за жизнь и даже сумел крикнуть «здесь!» из своей палатки, когда в ходе переклички прозвучало его имя. Три года назад «Террор» вышел в плавание с двадцать одним унтер-офицером на борту, и в это облачное августовское утро шестнадцать из них были живы — кочегар Джон Торрингтон, фор-марсовый старшина Гарри Пеглар и интенданты Кинли и Роудз оставались единственными выбывшими из данной группы, пока буквально несколько минут назад к ним не присоединился кок Джон Диггл. Из девятнадцати матросов «Террора», некогда откликавшихся на свое имя в ходе поверки, сегодня откликнулось десять, хотя в живых оставалось одиннадцать: Дэвид Лейс, по-прежнему находящийся в коме и ни на что не реагирующий, лежал в палатке доктора Гудсера. Из шести морских пехотинцев, числившихся в списках личного состава британского военного корабля «Террор», в живых не осталось никого. Рядовой Хизер, протянувший много месяцев со своим проломленным черепом, наконец скончался на второй день после выступления из Речного лагеря, и его тело было брошено на каменистом берегу, без похорон или прощальных слов. В списках команды «Террора» изначально числились двое юнг, и сегодня на поверке один из них — Роберт Голдинг, без малого двадцати трех лет от роду и, уж конечно, давно не мальчик, хотя по-детски легковерный (Крозье часто видел, как он внимает речам Корнелиуса Хикки), — откликнулся на свое имя. Из шестидесяти двух членов экипажа «Террора» тридцать пять дожили до богослужения, которое проводилось в лагере Спасения 13 августа 1848 года. В живых осталось тридцать девять членов экипажа «Эребуса» и тридцать пять членов экипажа «Террора» — в общей сложности семьдесят четыре человека из ста двадцати шести, отплывших от берегов Гренландии летом 1845 года. Но четверым из них за последние сутки ампутировали одну или обе ступни, и по меньшей мере еще двадцать были слишком больны, слишком тяжело травмированы, слишком истощены или слишком слабы, чтобы продолжать путь. Пришло время принять решение.
— Всемогущий Боже, — нараспев начал Крозье измученным хриплым голосом, каким только и говорил теперь, — к Которому восходит дух почивших во Христе и с Которым души правоверных, освобожденные от бремени плоти, пребывают в радости и счастье, мы от всего сердца благодарим Тебя за то, что Ты соблаговолил избавить нашего брата Джона Диггла, тридцати девяти лет, от горестей сего греховного мира, и молим Тебя, коли будет на то Твоя милосердная воля, в скором времени принять и всех нас, собравшихся здесь, в круг Твоих избранных и таким образом ускорить пришествие Твоего царства, дабы мы, вместе со всеми почившими в истинной вере в Твое святое Имя, достигли совершенства и обрели блаженство в теле и духе, осиянные Твоей вечной славой, через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. – Аминь, — хором прохрипели шестьдесят два мужчины, еще способные стоять в строю. – Аминь, — донеслись слабые голоса остальных двенадцати, лежавших в палатках. Крозье не распустил собрание. — Офицеры и матросы британских военных кораблей «Эребус» и «Террор», участники экспедиции сэра Джона Франклина, товарищи по плаванию! — громко произнес он. — Сегодня нам предстоит определиться с выбором дальнейших действий. Все вы — согласно уставу обоих кораблей и уставу Королевской службы географических исследований, письменное обязательство исполнять которые вы скрепили словом чести, — находитесь под моим командованием и будете находиться, покуда я не уволю вас. До сих пор вы выполняли приказы сэра Джона, капитана Фицджеймса и мои — и правильно делали. Многие наши друзья и товарищи перешли в мир иной, но семьдесят четыре человека упорствуют. В сердце своем я твердо решил, что все вы, находящиеся сегодня в лагере Спасения, должны выжить и вернуться в Англию, в свои дома, к своим семьям, и видит Бог, я сделаю все от меня зависящее, чтобы наши усилия увенчались успехом. Но сегодня я предоставляю вам самостоятельно выбрать путь, которым вы намерены достичь цели. Мужчины начали переговариваться приглушенными голосами. Крозье помолчал несколько секунд, а затем продолжил: — Наши планы вам известны: доктор Гудсер остается здесь с больными и увечными, которые не в состоянии продолжить путешествие, а самые здоровые двинутся дальше к реке. Есть ли среди вас такие, кто хочет попробовать найти иной путь к спасению? Наступило молчание, мужчины принялись переглядываться и переминаться с ноги на ногу, но потом вперед выступил Ходжсон. — Сэр, среди нас действительно есть такие, сэр. Те, кто хочет вернуться обратно, капитан Крозье. Несколько долгих мгновений капитан молча смотрел на молодого офицера. Он знал, что Ходжсон служит своего рода прикрытием для Хикки, Эйлмора и нескольких самых ревностных их приспешников, которые вот уже много месяцев исподволь подстрекали людей к мятежу, но задавался вопросом, знает ли об этом сам молодой Ходжсон. – Обратно куда, лейтенант? — наконец спросил Крозье. – К кораблю, сэр. — Вы полагаете, что «Террор» по-прежнему находится там, лейтенант? Словно в подкрепление вопроса, над морским льдом к югу от них прокатился грохот, похожий на серию пушечных выстрелов и тяжелый гул. Айсберг в сотне ярдов от берега раскололся и рассыпался на куски. Ходжсон по-детски пожал плечами. – Лагерь «Террор» никуда не делся, что бы ни случилось с кораблем, капитан. Мы оставили там провиант, уголь и лодки. – Верно, — сказал Крозье. — И сейчас все мы с великой радостью воспользовались бы теми запасами продовольствия, даже консервированными продуктами, ставшими причиной ужасной смерти нескольких из нас. Но, лейтенант, отсюда до лагеря «Террор» восемьдесят—девяносто миль и почти сто дней пути. Неужели вы и прочие действительно полагаете, что сможете добраться до него — налегке ли, с лодками ли — перед лицом наступающей зимы? К тому времени, когда вы достигнете хотя бы только лагеря, будет конец ноября. Кромешная тьма. А вы помните морозы и грозы прошлого ноября? Ходжсон кивнул и ничего не сказал. — Мы не собираемся идти до конца ноября, — сказал Корнелиус Хикки, выступая из строя и становясь рядом со сгорбленным молодым лейтенантом. — Мы думаем, лед вдоль берега вскрылся на всем протяжении обратного пути. Мы пойдем под парусом и на веслах вокруг чертова мыса, по которому волокли пять лодок, точно египетские рабы, и будем в лагере «Террор» через месяц. Мужчины стали украдкой перешептываться. Крозье кивнул. – Возможно, лед действительно вскрылся для вас, мистер Хикки. А возможно, и нет. Но даже если и вскрылся, отсюда все равно более ста миль пути до корабля, который вполне мог разрушиться за последние несколько месяцев и уж точно будет намертво затерт льдами ко времени, когда вы до него доберетесь. Отсюда до устья реки по меньшей мере на тридцать миль меньше, и вероятность, что залив к югу от нас свободен от льда, значительно выше. – Вы нас не переубедите, капитан, — твердо сказал Хикки. — Мы все обсудили между собой и постановили возвращаться. Крозье пристально смотрел на помощника конопатчика. У него возникло свойственное каждому капитану инстинктивное желание немедленно пресечь любые проявления неповиновения, причем крайне резко и решительно, но он напомнил себе, что именно этого и хотел. Настало время избавиться от недовольных и спасать тех, кто полагался на здравый смысл своего командира. Вдобавок план Хикки мог даже оказаться осуществимым. Все зависело от того, где вскрылся лед — если он вообще вскрылся где-нибудь в течение лета. Люди заслуживали права самостоятельно выбрать свой последний шанс. – Сколько человек идет с вами, лейтенант? — спросил Крозье, обращаясь к Ходжсону, как если бы тот действительно являлся командиром группы. – Ну… — начал молодой человек. – Магнус идет, — сказал Хикки, давая великану знак выйти из строя. — И мистер Эйлмор. Угрюмый стюард неспешно выступил вперед, с вызовом и нескрываемым презрением глядя на Крозье. — И Джордж Томпсон… — продолжал помощник конопатчика. Крозье не удивился, что Томпсон примкнул к группе заговорщиков под водительством Хикки. Этот матрос всегда отличался наглостью и леностью и — пока не кончился ром — напивался при каждой возможности. — Я тоже иду… сэр, — сказал Джон Морфин, становясь рядом с прочими. Уильям Оррен, которому только что стукнуло двадцать шесть, молча выступил из строя и присоединился к группе Хикки. За ним последовали Джеймс Браун и Френсис Данн — конопатчик и помощник конопатчика с «Эребуса». — Мы думаем, это наш единственный шанс, капитан, — промолвил Данн и опустил глаза. Крозье ждал, когда о своих намерениях объявят Рубен Мейл и Роберт Синклер, — сознавая, что, если большинство стоящих в строю мужчин присоединится к группе Хикки, его собственные планы двинуться дальше на юг рухнут, — и немало удивился, когда вперед медленно вышли Уильям Гибсон, офицерский стюард с «Террора», и кочегар Люк Смит. Они исправно служили на корабле и были выносливыми упряжными. Чарльз Бест — благонадежный матрос «Эребуса», всегда хранивший преданность лейтенанту Гору, — выступил из строя вместе с еще четырьмя матросами, последовавшими за ним: Уильямом Джерри, Томасом Уорком, серьезно пострадавшим во время карнавала, молодым Джоном Стиклендом и Абрахамом Сили. Перед капитаном стояли шестнадцать человек. — Так значит, это все? — спросил Крозье, ощущая разлившийся в животе холодок облегчения, от которого мучительно засосало под ложечкой, как от голода, теперь ни на миг не отпускавшего. Перед ним стояли шестнадцать человек; им понадобится одна лодка, но без них у него остается еще вполне достаточно верных людей, чтобы отправиться вместе с ним к реке, оставив нескольких ухаживать за больными здесь, в лагере Спасения. — Я отдам вам полубаркас, — сказал он Ходжсону. Лейтенант благодарно кивнул. — Полубаркас весь разбит и оснащен для речного плавания, а тащить сани — только задницу рвать, — заявил Хикки. — Мы возьмем вельбот. — Вы возьмете полубаркас, — отрезал Крозье. – Мы хотим также взять с собой Джорджа Чемберса и Дейви Лейса, — сказал помощник конопатчика, который стоял перед своими людьми, сложив на груди руки и расставив ноги, точно Наполеон из кокни. – Черта с два, — сказал Крозье. — С какой стати вам брать с собой двух человек, которые не в состоянии сами о себе заботиться? – Джордж может идти в упряжи, — сказал Хикки. — И мы все время ухаживали за Дэви и хотим ухаживать и впредь. – Нет, — сказал доктор Гудсер, выступая вперед и становясь между Крозье и людьми Хикки, — вы не ухаживали за мистером Лейсом, и вы хотите взять его и Джорджа Чемберса не в качестве спутников. Они вам нужны в качестве пищи. Лейтенант Ходжсон растерянно заморгал, не веря своим ушам, но Хикки сжал кулаки и дал знак Магнусу Мэнсону. Коротышка и верзила одновременно шагнули вперед. — Стойте, где стоите, — проревел Крозье. Позади него три оставшихся в живых морских пехотинца — капрал Пирсон, рядовой Хопкрафт и рядовой Хили, — явно больные и еле державшиеся на ногах, вскинули свои длинные мушкеты и прицелились. Что еще важнее, старший помощник Дево, помощник Эдвард Кауч, боцман Джон Лейн и боцманмат Том Джонсон взяли на изготовку свои дробовики. – У нас тоже есть ружья, — прорычал Корнелиус Хикки. – Нет, — сказал капитан Крозье. — Пока вы находились на перекличке, старший помощник Дево собрал все оружие. Если вы мирно уйдете завтра, вы получите один дробовик и патроны. Если вы сейчас сделаете еще хоть шаг, вы все получите заряд дроби в лицо. – Вы все умрете. — Корнелиус Хикки наставил костлявый палец на людей, молча стоявших в строю на своих местах, и повел рукой по широкой дуге, словно тощий флюгер. — Если вы пойдете за Крозье и остальными дураками, вы все умрете. — Помощник конопатчика повернулся к врачу: — Доктор Гудсер, мы прощаем вам ваши слова насчет того, почему мы хотим спасти Джорджа Чемберса и Дейви Лейса. Пойдемте с нами. Вы не сможете спасти этих людей… — Хикки презрительно указал на провисшие мокрые палатки, где лежали больные. — Они уже мертвы, просто еще не знают этого, — продолжал он голосом, на удивление громким и звучным для столь тщедушного человечка. — А мы выживем. Пойдемте с нами, и вы снова увидите своих близких, доктор Гудсер. Если вы останетесь здесь — или даже присоединитесь к Крозье, — вы покойник. Пойдемте с нами. Гудсер по рассеянности вышел из палатки в очках и сейчас снял их и принялся неторопливо протирать мокрые стекла окровавленной полой своего шерстяного жилета. Невысокий и щуплый, с по-детски пухлыми губами и скошенным подбородком, лишь частично прикрытым курчавой бородкой, которая отросла под жидкими бакенбардами, Гудсер казался совершенно спокойным. Он снова водрузил очки на нос и посмотрел на Хикки и стоявших за ним мужчин. — Мистер Хикки, — негромко промолвил он, — я благодарен вам за великодушное предложение спасти мою жизнь, но должен вам заметить, что вы не нуждаетесь во мне для того, чтобы осуществить задуманное, а именно расчленить тела ваших товарищей с целью обеспечить себя запасом мяса. — Я не… — начал Хикки. — Даже дилетанту не составляет труда освоить диссекционную анатомию, — перебил Гудсер достаточно громким голосом, чтобы заставить помощника конопатчика замолчать. — Когда один из джентльменов, взятых вами в качестве личного запаса пищи, умрет — или когда вы поможете ему умереть, — вам нужно всего-навсего заточить нож поострее и начать резать. — Мы не собираемся… — проорал Хикки. — Но я настоятельно рекомендую вам прихватить с собой пилу, — возвысив голос, продолжил Гудсер. — Одна из пил мистера Хикки вполне подойдет вам. Ножом вы легко отсечете пальцы и срежете мясо с голеней, бедер и живота, но вам наверняка понадобится пила, чтобы отделить от туловища руки и ноги. — Черт вас побери! — истерически выкрикнул Хикки. Он двинулся вперед вместе с Магнусом Мэнсоном, но остановился, когда помощники капитана и морские пехотинцы снова вскинули мушкеты и дробовики. Сохраняя полную невозмутимость и даже не глядя на Хикки, врач указал на огромного Магнуса Мэнсона, как если бы он являлся анатомической таблицей, висящей на стене. — Когда приступаешь к делу, оно оказывается немногим сложнее, чем разделка рождественского гуся. — Он прочертил в воздухе несколько вертикальных линий в области верхней половины туловища Мэнсона и одну горизонтальную чуть ниже пояса. — Руки следует отрезать в месте плечевого сустава, разумеется, но, чтобы отрезать ноги, вам придется распилить тазовые кости. У Хикки вздулись жилы на шее и бледное лицо покраснело, но он не произнес ни слова, в то время как Гудсер продолжал: — Я бы воспользовался своей маленькой пястной пилой, чтобы отрезать ноги на уровне колена и, разумеется, руки на уровне локтя, а потом взялся бы за скальпель, чтобы отсечь отборные части — бедра, ягодицы, бицепсы, трицепсы, дельтовидные и икроножные мышцы. Только потом вы приступаете к разделке грудной клетки — срезаете грудные мышцы, — и добираетесь до подкожного жира, который у вас, джентльмены, мог сохраниться в области лопаток, по бокам и на пояснице. Конечно, количество жировых отложений и мышц будет незначительным, но я уверен, мистер Хикки употребит по назначению все до единой съедобные части ваших тел. Один из матросов позади Крозье упал на колени, корчась от рвотных позывов. — У меня есть специальный анатомический инструмент для отделения ребер от грудины, — негромко сказал Гудсер, — но боюсь, я не могу одолжить его вам. Хороший молоток и зубило — они входят в набор инструментов, имеющийся в каждой лодке, — послужат вам для данной цели почти столь же успешно. Я бы посоветовал вам сначала срезать и съесть все мясо с костей, а головы, кисти, ступни и внутренности — все содержимое мягкой брюшной полости — ваших друзей оставить на потом… Предупреждаю: раскалывать длинные кости, чтобы извлечь из них костный мозг, труднее, чем вы думаете. Вам понадобится какой-нибудь скребковый инструмент — вроде стамески мистера Хани, предназначенной для резьбы по дереву. И учтите: костный мозг, извлеченный из сердцевины костей, будет комковатым и красным… и смешанным с острыми осколками и фрагментами кости, а потому есть его сырым небезопасно. Я рекомендую вам класть костный мозг ваших товарищей в котелок и кипятить несколько минут на медленном огне, прежде чем употребить в пищу. — Да пошел ты… — прорычал Корнелиус Хикки. Доктор Гудсер кивнул. — Ах да, еще одно, — мягко добавил он. — Когда вы перейдете к поеданию мозгов друг друга, это будет проще простого. Просто отпилите нижнюю челюсть и выбросите прочь вместе с нижними зубами, а затем воспользуйтесь любым ножом, чтобы пробить и прорубить мягкое нёбо и проникнуть в черепную полость. Если пожелаете, можете перевернуть череп и сидеть вокруг него, зачерпывая мозг ложкой, точно рождественский пудинг. С минуту все молчали: тишину нарушал лишь шум ветра и треск, скрип, стоны льда. — Есть еще желающие покинуть лагерь завтра? — громко спросил капитан Крозье. Рубен Мейл, Роберт Синклер и Сэмюел Хани — баковый старшина «Террора», фор-марсовый старшина «Эребуса» и кузнец «Террора» соответственно — выступили вперед. — Вы уходите с Хикки и Ходжсоном? — спросил Крозье. Он постарался не выдать потрясения, которое испытал. – Нет, сэр, — сказал Рубен Мейл, помотав головой. — Мы не с ними. Но мы хотим попытаться вернуться к «Террору». – Лодка нам не нужна, сэр, — сказал Синклер. — Мы попробуем пройти по суше. Пересечь остров. Может, мы найдем песцов или еще каких-нибудь животных, обитающих в удалении от моря. – Вам будет трудно ориентироваться на местности, — сказал Крозье. — От компасов здесь толку никакого, а я не могу отдать вам свой последний секстант. Мейл потряс головой. — Не беспокойтесь, капитан. Мы будем пользоваться счислением пути. Если чертов ветер дует нам в рыло — извиняюсь за выражения, капитан, — значит, мы идем в верном направлении. – Я служил матросом, прежде чем стал кузнецом, сэр, — сказал Сэмюел Хани. — Мы все моряки. Если нам не суждено умереть в море, возможно, нам удастся умереть хотя бы на борту нашего корабля. – Хорошо, — сказал Крозье, обращаясь ко всем мужчинам, по-прежнему стоявшим там, и стараясь говорить так, чтобы его услышали и больные в палатках. — Мы соберемся в шесть склянок и поделим оставшиеся у нас галеты, спирт, табак и прочие припасы. Поровну на каждого. Даже на людей, прооперированных вчера и сегодня. Все увидят, сколько чего у нас осталось, и все получат по равной доле. Отныне каждый из вас — кроме тех, кого кормит доктор Гудсер, — будет сам определять свою дневную норму питания. Крозье холодно посмотрел на Хикки, Ходжсона и прочих. — Ваши люди — под надзором мистера Дево — приготовят полубаркас к походу. Вы выступите завтра на рассвете, и до той поры я не желаю вас видеть, кроме как при дележе снаряжения и продовольствия в шесть склянок.
52. Гудсер
Лагерь Спасения 15 августа 1848 г.В течение двух дней после ампутаций, смерти мистера Диггла, переклички, обнародования планов мистера Хикки и дележа жалких остатков продовольствия врач не испытывал желания вести дневник. Он бросил замызганную тетрадь в кожаном переплете в свою походную медицинскую сумку и оставил там. Великий Дележ (как Гудсер уже мысленно его называл) оказался делом печальным и томительно долгим, затянувшимся почти на весь арктический августовский вечер. Вскоре стало ясно, что — по крайней мере в части продовольствия — никто никому не доверяет. Казалось, всех снедала неотступная тревога, будто кто-то прячет пищу, утаивает пищу, не желает делиться с другими. Потребовались многие часы, чтобы разгрузить все лодки, выложить все припасы, обшарить все палатки, разобрать запасы мистера Диггла и мистера Уолла при участии представителей от каждого отряда людей с обоих кораблей — офицеров, мичманов, унтер-офицеров, матросов, — производя поиски и раздачу съестного под алчными взглядами остальных мужчин. Томас Хани умер ночью после Дележа. Гудсер велел Томасу Хартнеллу поставить в известность капитана, а потом помог зашить труп плотника в спальный мешок. Два матроса отнесли его к сугробу в сотне ярдах от лагеря, где уже лежало окоченевшее тело мистера Диггла. Оставшиеся в живых снова начали проводить похороны и заупокойные службы не по приказу капитана или принятому путем голосования решению, а просто по единодушной молчаливой договоренности. «Не для того ли мы положили трупы в сугроб, чтобы они не испортились и сохранились в качестве будущей пищи?» — думал врач. Он не мог ответить на собственный вопрос. Он знал одно: подробно объясняя Хикки и всем прочим собравшимся мужчинам методику расчленения человеческого тела, призванного послужить пищей (что он делал намеренно, ибо перед перекличкой обсудил с капитаном такой тактический ход), Гарри Д. С. Гудсер с ужасом обнаружил, что у него текут слюнки. И врач знал, что он явно не одинок в такой своей реакции на мысль о свежем мясе… неважно чьем. Лишь горстка мужчин собралась на рассвете следующего дня, понедельника 14 августа, чтобы посмотреть, как Хикки и пятнадцать его спутников покидают лагерь со своим полубаркасом, установленным на разбитых санях. Гудсер тоже пришел проводить их, предварительно удостоверившись, что мистер Хани тайно погребен в сугробе. Он опоздал на проводы трех мужчин, выступивших из лагеря раньше. Мистер Мейл, мистер Синклер и Сэмюел Хани — не приходившийся родственником недавно скончавшемуся плотнику, — еще до рассвета выступили в свой запланированный поход через остров, взяв с собой только рюкзаки, спальные мешки из шерстяных одеял, немного галет, воду и один дробовик с патронами. Они не взяли даже единственной голландской палатки, рассчитывая укрываться в вырытых в сугробах пещерах в случае, если зима застигнет их в пути. Гудсер решил, что трое мужчин, по всей вероятности, попрощались с товарищами накануне вечером, поскольку они покинули лагерь еще прежде, чем серый свет нового утра забрезжил над южным горизонтом. Мистер Кауч позже сказал доктору Гудсеру, что они направились на север, в глубь острова и прочь от берега, и планировали повернуть на северо-запад на второй или третий день путешествия. Врач крайне удивился тому, насколько тяжело люди Хикки — в противоположность трем упомянутым мужчинам, отправившимся в путь налегке, — нагрузили свою лодку. Все обитатели лагеря, включая Мейла, Синклера и Сэмюела Хани, избавлялись от бесполезных предметов — щеток для волос, гребенок, книг, полотенец, несессеров для письменных принадлежностей, — жалких остатков цивилизованной жизни, которые они тащили с собой сто дней и теперь не желали тащить дальше, и по какой-то необъяснимой причине Хикки и его люди погрузили в свой полубаркас значительную часть этого хлама вместе с палатками, спальными мешками и продовольствием. В одной сумке у них лежали сто пять кусков черного шоколада, завернутых каждый по отдельности, — суммарная доля этих шестнадцати мужчин от тайного запаса, прибереженного мистером Дигглом и мистером Уоллом в качестве сюрприза: по семь кусков шоколада на каждого. Лейтенант Ходжсон обменялся рукопожатием с Крозье, и еще несколько мужчин неловко попрощались со старыми товарищами, но Хикки, Мэнсон, Эйлмор и самые озлобленные из группы не произнесли ни слова. Затем боцман Джонсон вручил Ходжсону незаряженный дробовик с сумкой патронов и пронаблюдал за тем, как молодой лейтенант укладывает их в тяжело нагруженную лодку. С запряженными в сани с длинной лодкой двенадцатью мужчинами из шестнадцати и Мэнсоном в качестве головного упряжного, они покинули лагерь в тишине, нарушаемой лишь скрипом полозьев по гальке, потом по снегу, потом снова по камням и снова по льду и снегу. Через двадцать минут они скрылись из вида к западу от лагеря Спасения. – Вы думаете о том, удастся ли им осуществить свои планы, доктор Гудсер? — спросил помощник Эдвард Кауч, который стоял рядом с Гудсером и обратил внимание на задумчивость последнего. – Нет, — сказал Гудсер. Он так устал, что мог ответить только честно. — Я думал о рядовом Хизере. – О рядовом Хизере? — переспросил Кауч. — Но мы же оставили его тело… — Да, — сказал Гудсер. — Труп морского пехотинца лежит под куском парусины рядом с нашим санным следом неподалеку от Речного лагеря в двенадцати днях пути отсюда — даже меньше, если учесть, что многочисленная команда Хикки тащит всего один полубаркас. — Господи Иисусе, — прошипел Кауч. Гудсер кивнул. — Я просто надеюсь, что они не найдут тела стюарда. Мне нравился Джон Бридженс. Он был достойным человеком и заслуживает лучшей участи, чем стать кормом для мерзавцев вроде Корнелиуса Хикки.
Во второй половине дня Гудсера вызвали на совещание, проводившееся возле четырех лодок на берегу — двух вельботов, по обыкновению перевернутых вверх днищем, и двух тендеров, по прежнему стоявших на санях, но разгруженных, — вне пределов слышимости обитателей лагеря, занятых своими обязанностями или дремлющих в палатках. Там присутствовали капитан Крозье, старший помощник Дево, старший помощник Роберт Томас, второй помощник Кауч, помощник боцмана Джонсон, боцман Джон Лейн и капрал морской пехоты Пирсон, который еле держался на ногах от слабости и был вынужден прислониться к растрескавшемуся корпусу перевернутого вельбота. – Спасибо, что пришли без промедления, доктор, — сказал Крозье. — Мы собрались здесь, чтобы обсудить меры защиты на случай возвращения Корнелиуса Хикки и наши собственные планы на ближайшие недели. – Но, капитан, — сказал врач, — вы же не ожидаете, что Хикки, Ходжсон и остальные вернутся обратно? Крозье вскинул руки в перчатках и пожал плечами. Сыпал легкий снег. — Возможно, он по-прежнему хочет заполучить Дэвида Лейса. Или трупы мистера Диггла и мистера Хани. Или даже вас, доктор. Гудсер потряс головой и поделился своими мыслями насчет тел — начиная с тела рядового Хизера, — которые лежат вдоль всего обратного пути, словно склады замороженного мяса. – Да, мы думали об этом, — сказал Чарльз Дево. — Возможно, главным образом именно поэтому Хикки считает, что сможет добраться до лагеря «Террор». Но мы все равно собираемся обеспечить круглосуточную охрану лагеря Спасения на несколько ближайших дней и отправить боцмана Джонсона, здесь присутствующего, вместе с одним-двумя матросами, чтобы они следовали за отрядом Хикки три или четыре дня — просто на всякий случай. – Что же касается нашего будущего, доктор Гудсер, — проскрипел Крозье, — каким оно вам видится? Настала очередь врача пожать плечами. — Мистер Джопсон, мистер Хелпмен и инженер Томпсон не протянут долее нескольких дней, — тихо проговорил он. — Насчет пятнадцати-семнадцати остальных моих цинготных больных я просто ничего не могу сказать наверное. Несколько из них могут выжить… в смысле, оправиться от цинги. Особенно если мы найдем для них свежее мясо. Но из восемнадцати человек, которые, возможно, останутся со мной в лагере Спасения — кстати, Томас Хартнелл вызвался остаться в качестве моего помощника, — только трое или четверо будут в состоянии охотиться на тюленей на льду или песцов в глубине острова. Причем недолго. Я полагаю, все прочие оставшиеся здесь умрут от голода не позднее пятнадцатого сентября. Большинство — раньше… Он не стал говорить, что некоторые смогут протянуть дольше, питаясь телами умерших. А также не упомянул, что сам он, доктор Гарри Д. С. Гудсер, твердо решил не становиться людоедом, чтобы выжить, и не помогать тем, кто сочтет нужным заняться каннибализмом. Инструкции касательно расчленения тел, данные во время вчерашней переклички, были последним его словом по данному предмету. Однако при этом он никогда не осудит людей, оставшихся в лагере Спасения или продолживших путь на юг, которые в конечном счете действительно начнут поедать человечину, чтобы хоть немного продлить дни своей жизни. Если кто-нибудь в экспедиции Франклина и понимал, что человеческое тело является всего лишь физической оболочкой души — и представляет собой просто кусок мяса, когда душа уходит, — то этим человеком был их уцелевший врач и анатом, доктор Гарри Д. С. Гудсер. Решение не продлевать свою собственную жизнь на несколько недель или даже месяцев за счет поедания человеческой плоти он принял для себя одного, по причинам нравственного и философского порядка, имевшим отношение только к нему самому. — Возможно, у нас есть другой выбор, — тихо проговорил Крозье, словно прочитав мысли Гудсера. — Сегодня утром я решил, что отряд, планировавший выступить к реке, может задержаться в лагере Спасения еще на неделю — или даже на десять дней — в надежде, что лед вскроется и тогда мы все пустимся в путь на лодках… даже умирающие. Гудсер нахмурился и с сомнением посмотрел на четыре лодки вокруг них. – Разве мы все поместимся в эти несколько лодок? — спросил он. – Не забывайте, доктор, что нас стало на девятнадцать человек меньше после ухода недовольных, — сказал Эдвард Кауч. — И еще двое умерли со вчерашнего утра. Таким образом, получается пятьдесят три человека на четыре лодки, включая нас. – И как вы сами говорите, — добавил Томас Джонсон, — в течение следующей недели еще несколько больных умрут. – И у нас практически не осталось пищи, чтобы тащить лодки волоком, — подал голос капрал Пирсон, который стоял, тяжело привалившись к перевернутому вельботу. – И я решил оставить здесь все палатки, — сказал Крозье. – А где мы будем укрываться во время грозы? — спросил Гудсер. – На льду — под лодками, — ответил Дево. — На открытой воде — под лодочными чехлами. Я так и делал, когда пытался добраться до полуострова Бутия в прошлом марте, в самый разгар зимы, и под лодкой или в лодке теплее, чем в этих сраных палатках… прошу прощения за грубое слово, капитан. – Я вас прощаю, — сказал Крозье. — Кроме того, каждая голландская палатка сейчас весит в три-четыре раза больше, чем в начале нашего похода. Они никогда не высыхают. Они, наверное, впитали в себя добрую половину всей арктической влаги. — Как и наши подштанники, — сказал помощник Роберт Томас. Все рассмеялись. Двое из них от смеха зашлись надсадным кашлем. — Я также собираюсь оставить здесь все большие бочки для воды, кроме трех, — сказал Крозье. — Две из них, вероятно, будут уже пусты ко времени нашего отбытия. На каждой лодке будет только один маленький бочонок для хранения продуктов. Гудсер потряс головой. – Но каким образом вы будете утолять жажду во время плавания или перехода через пролив? – Мы будем утолять жажду, доктор, — сказал капитан. — Не забывайте: если лед вскроется, вы с больными поплывете с нами, а не останетесь здесь умирать. И мы будем регулярно наполнять бочонки пресной водой, когда достигнем реки. А до тех пор… я должен сделать признание. Мы — офицеры — действительно утаили кое-что, о чем не сообщили вчера во время Дележа. Немного горючего для спиртовок, спрятанного под фальшивым дном одной из последних бочек из-под рома. – Мы будем растапливать снег и лед, чтобы получать питьевую воду, — сказал Джонсон. Гудсер медленно кивнул. Он настолько смирился с неизбежной скорой смертью, что мысль о возможном спасении показалась почти мучительной. Усилием воли он подавил желание снова исполниться надежды. Скорее всего, все они — команда Хикки, группа мистера Мейла и отряд Крозье — погибнут в течение следующего месяца. И снова словно прочитав мысли Гудсера, Крозье спросил: – Что нам понадобится, доктор, чтобы не умереть и от цинги и истощения и продержаться еще три месяца, которые, вероятно, уйдут у нас на путешествие вверх по реке до Большого Невольничьего озера? – Свежая пища, — просто ответил врач. — Я убежден, что мы в силах поправить здоровье нескольких цинготных больных, коли добудем свежую пищу. Если не овощи и фрукты, о которых здесь, я знаю, и думать не приходится, то свежее мясо, особенно сало. Даже кровь животных поможет. – Почему мясо и сало задерживают развитие столь страшного заболевания или даже исцеляют от него, доктор? — спросил капрал Пирсон. – Понятия не имею, — сказал Гудсер, тряся головой. — Но я уверен в этом так же, как уверен в том, что все мы умрем от цинги, если не добудем свежего мяса… еще даже прежде, чем умрем от голода. – Если Хикки и остальные доберутся до лагеря «Террор», послужат ли голднеровские консервированные продукты той же цели? — поинтересовался Дево. Гудсер снова пожал плечами. – Возможно, хотя я согласен с мнением моего покойного коллеги, фельдшера Макдональда, что свежая пища всегда лучше консервированной. И я убежден, что в голднеровских консервах содержались два типа ядов: один — действующий медленно и коварно, а другой, как в случае с бедным капитаном Фицджеймсом и другими, действующий крайне быстро и страшно. В любом случае мы, поставленные перед необходимостью искать и добывать свежее мясо или рыбу, находимся в лучшем положении, чем они, возлагающие надежды на испорченные консервы. – Мы надеемся, — сказал капитан Крозье, — что в открытых водах залива, среди плавучих льдин, будет полно тюленей и моржей, пока не наступит настоящая зима. А на реке мы будем время от времени останавливаться, чтобы охотиться на оленей, песцов или карибу, но вероятно, главным образом нам придется полагаться на рыбную ловлю… которая там вполне возможна, если верить таким путешественникам, как Джордж Бак и наш сэр Джон Франклин. — Сэр Джон съел свои башмаки, — сказал капрал Пирсон. Никто не указал умирающему от голода морскому пехотинцу на неуместность подобной шутки, но никто и не засмеялся и никак на нее не отреагировал, пока наконец Крозье не сказал: — Именно по этой причине я и взял с собой сотни запасных башмаков. Не просто для того, чтобы у людей ноги оставались сухими, что — как вы убедились, доктор, — оказалось невозможным. Но для того, чтобы съесть всю эту кожу во время предпоследнего этапа нашего похода на юг. Гудсер недоверчиво уставился на него. — У нас будет только один бочонок воды для питья, но сотни башмаков флотского образца для еды? — Да, — сказал Крозье. Внезапно все восемь мужчин начали смеяться столь безудержно, что никак не могли остановиться: когда одни переставали хохотать, кто-нибудь снова заливался смехом, и все прочие присоединялись к нему. — Тише! — наконец сказал Крозье тоном учителя, призывающего к порядку расшалившихся школьников, хотя сам продолжал хихикать. Мужчины, занятые своими обязанностями в лагере Спасения ярдах в двадцати от них, смотрели в их сторону с любопытством, написанным на бледных лицах. Гудсер вытер слезы и сопли, пока они не замерзли на лице. — Мы не станем ждать, когда лед вскроется здесь у берега, — сказал Крозье в неожиданно наступившей тишине. — Завтра, когда боцман Джонсон тайно последует вдоль побережья на северо-запад за группой Хикки, мистер Дево и несколько самых наших здоровых людей направятся на юг по льду, взяв с собой лишь рюкзаки и спальные мешки, — если повезет, они будут двигаться почти так же быстро, как Рубен Мейл с двумя своими товарищами, — и пройдут по меньшей мере десять миль по проливу, чтобы посмотреть, нет ли там открытой воды. Если в пределах пяти миль отлагеря открыты проходы во льдах, мы все выступим в путь. — У людей не осталось сил… — начал Гудсер. — У них появятся силы, если они узнают, что до открытой воды — и спасения — остается всего день или два пути, — сказал капитан Крозье. — Два человека, выживших после ампутации ног, добровольно встанут в упряжь и пойдут на своих кровавых обрубках, коли станет известно, что там нас ждет открытая вода. — И если нам хоть немного повезет, — сказал Дево, — мои люди вернутся с убитыми тюленями и моржами. Гудсер посмотрел вдаль, на трещащий, ходящий ходуном, искрещенный торосными грядами холмистый лед, простирающийся под низкими серыми облаками. — А вы сможете дотащить тюленей и моржей до лагеря через этот зыбкий белый кошмар? — спросил он. Дево лишь широко ухмыльнулся в ответ. – Нам остается благодарить Небо за одну вещь, — сказал боцман Джонсон. – За какую такую вещь, Том? — спросил Крозье. – Наш обитающий во льдах друг, похоже, потерял к нам интерес и отстал от нас, — сказал боцман, все еще мускулистый. — Мы не видели и не слышали его со дней, предшествовавших нашей стоянке в Речном лагере. Все восемь мужчин, включая самого Джонсона, разом вытянули руку к ближайшей лодке и постучали костяшками пальцев по дереву.
53. Голдинг
Лагерь Спасения 17 августа 1848 г.Двадцатидвухлетний Роберт Голдинг вбежал в лагерь Спасения сразу после заката в четверг 17 августа, взволнованный, дрожащий и едва ли в состоянии внятно изъясняться от возбуждения. Помощник капитана Роберт Томас перехватил парня у палатки Крозье. — Голдинг. Я думал, вы находитесь на льду с группой мистера Дево. – Да, сэр. Я там, мистер Томас. То есть был там. – Что, Дево уже вернулся? — Нет, мистер Томас. Мистер Дево отправил меня назад с сообщением для капитана. — Можете доложить мне. – Да, сэр. То есть нет, сэр. Мистер Дево велел доложить только капитану. Одному капитану, прошу прощения, сэр. Благодарю вас, сэр. – Что здесь за шум, черт побери? — спросил Крозье, вылезая из палатки. Голдинг повторил, что получил от старшего помощника приказ передать сообщение одному только капитану, извинился, забормотал что-то невнятное и пошел вслед за Крозье прочь от палаток, выстроенных по кругу. – Теперь объясните мне, что происходит, Голдинг. Почему вы не с мистером Дево? С ним и разведывательным отрядом что-нибудь случилось? – Да, сэр. То есть… нет, капитан. Я имею в виду, кое-что действительно случилось там на льду, сэр. Я при этом не присутствовал — нас оставили охотиться на тюленей, сэр, Френсиса Покока, Джозефуса Джитера и меня, а мистер Дево с Робертом Джонсом, Биллом Марком, Томом Тэдмэном и остальными вчера пошел дальше на юг, но вечером они вернулись… в смысле, только мистер Дево и еще двое… через час после того, как мы услышали выстрелы… – Успокойся, малый, — сказал Крозье, кладя руки на плечи трясущегося Голдинга. — Передай мне сообщение мистера Дево, слово в слово. А потом расскажи, что ты видел. – Они оба мертвы, капитан. Оба. Я видел одно тело… его приволокли на одеяле, сэр, она страшно изуродована… но вот второго я не видел. – Кто «они оба»? — резко спросил Крозье, хотя по слову «она» уже догадался о части правды. – Леди Безмолвная и чудовище, капитан. Эскимосская девка и обитающее во льдах существо. Я видел ейное тело, а вот евоного не видел. Мистер Дево сказал, что оно лежит рядом с проливом в миле от места, где мы стреляли тюленей, и велел привести вас и доктора, чтобы вы увидели, сэр. – Рядом с проливом? — переспросил Крозье. — С проливом открытой воды во льдах? – Да, капитан. Я его еще не видел, но именно там лежит труп чудовища, по словам мистера Дево и Толстяка Уилсона, который был с ним и тащил, волочил по льду одеяло, точно сани, сэр. Безмолвная, она лежала на одеяле, понимаете, вся изуродованная и мертвая. Мистер Дево сказал, чтобы я привел вас и доктора и больше никого и чтобы я никому больше не говорил, иначе он прикажет мистеру Джонсону выпороть меня, когда вернется. – А зачем нужен доктор? — спросил Крозье. — Кто-нибудь из людей пострадал? – Думаю, да, капитан. Хотя не уверен. Они все еще там… у дыры во льду, сэр. Покок и Джитер пошли обратно на юг с мистером Дево и Толстяком Алексом Уилсоном, так велел мистер Дево, а меня он отправил обратно в лагерь и велел привести вас и доктора, и больше никого. И сказал никому больше не говорить. Покамест. Ах да… и чтобы доктор прихватил свою сумку с ножами и прочими инструментами… и возможно, несколько ножей побольше, чтобы разрезать тушу чудовища. Вы слыхали ружейные выстрелы нынче вечером, капитан? Мы с Пококом и Джитером слыхали, а мы находились по меньшей мере в миле от полыньи. – Нет. Сквозь постоянный треск и грохот чертова льда мы не смогли бы расслышать ружейные выстрелы, раздавшиеся на расстоянии двух миль, — сказал Крозье. — Подумай хорошенько, Голдинг. Почему именно мистер Дево велел привести только меня и доктора Гудсера, чтобы мы увидели… что бы там ни было? – Он сказал, что абсолютно уверен, что чудовище мертво, но мистер Дево сказал, что оно совсем не такое животное, как мы думали, капитан. Он сказал… я не помню точно, как он выразился. Но мистер Дево говорит, что это все меняет, сэр. Он хочет, чтобы вы и доктор увидели зверя и узнали, что там случилось, прежде чем все остальные в лагере узнают. – Так что же все-таки там случилось? — настойчиво спросил Крозье. Голдинг потряс головой. — Я не знаю, капитан. Мы с Пококом и Джитером охотились на тюленей, сэр… одного подстрелили, капитан, но он соскользнул в свою дыру во льду, и мы не смогли до него добраться. Мне очень жаль, сэр. Потом мы услыхали выстрелы на юге. А немного погодя — через час, может быть, — появляется мистер Дево с Джорджем Канном, у которого все лицо в крови, и Толстяком Уилсоном, и Уилсон волочит по льду одеяло с телом леди Безмолвной, и она вся разорвана на куски, только… нам надо поспешить, капитан. Пока луна светит. Действительно, ночь сегодня выдалась на редкость ясная, после огненно-красного заката — Крозье как раз вынимал свой секстант, собираясь определить координаты лагеря по звездам, когда услышал шум у палатки, — и огромная, полная, бело-голубая луна только что взошла над айсбергами и нагромождениями льда на юго-востоке. – Зачем идти ночью? — спросил Крозье. — Разве дело не может подождать до утра? – Мистер Дево говорит, что не может, капитан. Он велел вам кланяться и просить, чтобы вы сделали милость взять с собой доктора Гудсера и пройти две мили — здесь не больше двух часов хода, даже со всеми ледяными стенами, — чтобы посмотреть, что там такое у полыньи. – Хорошо, — сказал Крозье. — Поди передай доктору Гудсеру, чтобы он явился ко мне, прихватив свою медицинскую сумку и одевшись потеплее. Я буду ждать вас двоих возле лодок.
Голдинг вывел четырех мужчин на лед (Крозье проигнорировал просьбу Дево прийти только с одним врачом и приказал боцману Джону Лейну и трюмному старшине Уильяму Годдарду отправиться с ними, вооружившись дробовиками), провел через скопление айсбергов и ледяных валунов, через три высокие торосные гряды и наконец через лес сераков, где обратный путь Голдинга в лагерь был отмечен не только его следами, но также воткнутыми в снег бамбуковыми палочками, которые они везли с прочим грузом от самого «Террора». Двумя днями раньше группа Дево взяла с собой изрядное количество таких вешек, чтобы отмечать путь и обозначать наиболее проходимые места среди нагромождений льда на случай, если они найдут открытую воду и впоследствии поведут к ней людей с лодками. Луна светила так ярко, что все предметы отбрасывали четкие тени. Даже тонкие бамбуковые палочки походили на стрелки лунных часов, отбрасывающие чернильно-черные штрихи теней на бело-голубой лед. В течение первого часа тишину нарушали лишь тяжелое дыхание мужчин, скрип снега под башмаками да треск льда повсюду вокруг. Потом Крозье спросил: — Ты уверен, что она мертва, Голдинг? — Кто, сэр? Раздраженный вздох капитана обратился облачком ледяных кристаллов, искрящимся в лунном свете. – Сколько особей женского пола насчитывается в округе, черт возьми? Леди Безмолвная, разумеется. – О да, сэр. — Парень хихикнул. — Она мертва, все в порядке. У нее сиськи оторваны напрочь. Капитан бросил на него свирепый взгляд; они спустились с очередной низкой гряды и вступили в тень высокого айсберга, блистающего голубым светом. — Но ты уверен, что это леди Безмолвная? Это не может быть другая аборигенка? Казалось, вопрос озадачил Голдинга. — Но разве здесь есть другие эскимоски, капитан? Крозье потряс головой и знаком велел парню идти дальше. Они достигли полыньи примерно через полтора часа после выступления из лагеря. – С твоих слов я понял, что полынья находится дальше, — сказал Крозье. – Я и досюда-то не доходил раньше, — сказал Голдинг. — Когда мистер Дево нашел чудовище, я охотился на тюленей вон там. — Он неопределенно махнул рукой, указывая назад и влево от отверстия в тонком льду, возле которого они сейчас стояли. – Вы сказали, что кто-то из людей ранен? — спросил доктор Гудсер. — Да, сэр. У Толстяка Алекса Уилсона все лицо было в крови. — По-моему, ты говорил, что лицо было окровавлено у Джорджа Канна, — сказал Крозье. Голдинг энергично помотал головой. – Нет, капитан. У Толстяка Алекса Уилсона. – Это была его кровь или еще чья-то? — спросил Гудсер. — Не знаю, — ответил Голдинг с неожиданными раздраженными нотками в голосе. — Мистер Дево просто велел сказать вам, чтобы вы прихватили свои инструменты. Я так понял, что кто-то ранен, раз вы понадобились мистеру Дево. – Что ж, здесь никого нет, — сказал боцман Джон Лейн, осторожно обходя полынью, имевшую не более двадцати пяти футов в поперечнике, и пристально вглядываясь сначала в черную воду восемью футами ниже поверхности льда, а потом в лес сераков, обступающий их со всех сторон. — Где они? Кроме тебя, с мистером Дево было еще восемь человек, когда он покидал лагерь, Голдинг. – Я не знаю, мистер Лейн. Он велел мне привести вас именно сюда. Трюмный старшина сложил у рта ладони рупором и крикнул: — Эге-гей! Мистер Дево? Эге-гей! Откуда справа донесся ответный крик. Голос звучал невнятно, приглушенно, но явно возбужденно. Знаком велев Голдингу следовать за ним, Крозье углубился в лес сераков двенадцатифутовой высоты. Ветер, пролетающий между ледяными башнями затейливых очертаний, протяжно и жалобно стонал, и все они знали, что края у сераков острее и тверже большинства корабельных ножей. Впереди, на залитом лунным светом участке ровного льда между сераками стояла темная человеческая фигура. — Если это Дево, — прошептал Лейн капитану, — значит, он потерял восьмерых своих людей. Крозье кивнул. – Джон, Уильям, вы двое идите вперед — медленно, — держите дробовики наготове, с взведенными курками. Доктор Гудсер, будьте добры остаться здесь со мной. Голдинг, ты тоже ждешь здесь. – Слушаюсь, сэр, — прошептал Уильям Годдард. Он и Джон Лейн стянули зубами рукавицы, вскинули ружья, взвели один из двух курков на своих двустволках и осторожно двинулись к залитому лунным светом открытому пространству между сераками. Огромная тень выступила из-за последнего серака и со страшной силой сшибила головами Лейна и Годдарда. Оба мужчины рухнули на лед, точно коровы под кувалдой мясника на скотобойне. Другая темная фигура, невесть откуда появившаяся, сбила Крозье с ног ударом по затылку, заломила ему руки за спину, когда он попытался встать, и приставила нож к шее. Роберт Голдинг схватил доктора Гудсера и поднес длинный нож к горлу врача. — Не двигайтесь, доктор, — прошептал парень, — или я сам вас маленько прооперирую. Громадная фигура подняла Годдарда и Лейна за шиворот и поволокла на открытое пространство. Носки их башмаков чертили борозды на снегу. Из-за сераков вышел третий человек, подобрал дробовики Годдарда и Лейна, один отдал Голдингу, а другой оставил себе. — Давай туда, — сказал Ричард Эйлмор, делая знак двустволкой. С по-прежнему приставленным к горлу ножом, зажатым в руке неясной фигуры, в которой теперь Крозье по запаху опознал лодыря и выпивоху Джорджа Томпсона, капитан встал и, подгоняемый толчками, спотыкаясь вышел из тени сераков и двинулся к человеку, стоящему в лунном свете.
Магнус Мэнсон бросил тела Лейна и Годдарда на лед перед своим хозяином Корнелиусом Хикки. — Они живы? — прохрипел Крозье. Томпсон по-прежнему заламывал капитану руки за спину, но теперь, когда на пленника были направлены дула двух дробовиков, отнял нож от горла. Хикки наклонился, словно собираясь осмотреть мужчин, и двумя плавными, легкими движениями перерезал обоим горло ножом, внезапно появившимся у него в руке. — Теперь уже не живы, мистер Великий и Всемогущий Крозье, — сказал помощник конопатчика. Кровь, хлеставшая на лед, казалась черной в лунном свете. — Именно таким способом ты и зарезал Джона Ирвинга? — спросил Крозье дрожащим от ярости голосом. — Да пошел ты… — сказал Хикки. Крозье посмотрел волком на Роберта Голдинга. — Надеюсь, ты получишь свои тридцать сребреников. Голдинг хихикнул. — Джордж, — обратился помощник конопатчика к Томпсону, стоявшему за капитаном, — Крозье носит пистолет в правом кармане шинели. Вытащи его. Дики, принеси мне пистолет. Если Крозье шевельнется, убей его. Томпсон вынул пистолет, в то время как Эйлмор держал капитана под прицелом присвоенного дробовика. Потом Эйлмор приблизился, взял пистолет и коробку патронов, найденную Томпсоном, и попятился прочь, снова подняв дробовик. Он пересек залитое лунным светом пространство и отдал пистолет Хикки. — Все эти неизбежные горести и беды существования, — внезапно сказал доктор Гудсер. — Зачем людям добавлять к ним новые? Почему представители нашего вида всегда должны принимать на себя полную меру страданий, ужаса и бренности существования, предначертанных Богом, а потом усугублять свое положение? Вы можете ответить мне на этот вопрос, мистер Хикки? Помощник конопатчика, Мэнсон, Эйлмор, Томпсон и Голдинг уставились на врача так, словно он вдруг заговорил на арамейском. То же самое сделал и другой единственный живой человек здесь, Френсис Крозье. – Что тебе угодно, Хикки? — спросил Крозье. — Убить еще несколько порядочных людей с целью запастись мясом для похода? – Мне угодно, чтобы ты заткнулся к чертовой матери, а потом умер медленной и мучительной смертью, — сказал Хикки. Роберт Голдинг зашелся идиотическим смехом. Стволы дробовика у него в руках выбили барабанную дробь на спине Крозье. — Мистер Хикки, — сказал Гудсер, — вы же понимаете, что я никогда не стану помогать вам, расчленяя тела моих товарищей по плаванию. Хикки оскалил мелкие зубы, блеснувшие в лунном свете. — Станешь, доктор. Я ручаюсь. Или увидишь, как мы станем резать тебя по кусочку и скармливать тебе твое собственное мясо. Гудсер ничего не ответил. — Том Джонсон и другие найдут вас, — сказал Крозье, ни на миг не сводивший пристального взгляда с лица Корнелиуса Хикки. Помощник конопатчика расхохотался. — Джонсон уже нашел нас, Крозье. Вернее, мы нашли его. Он повернулся назад и поднял со снега джутовый мешок. — Как там ты всегда называл Джонсона, Крозье? Своей надежной правой рукой? Вот она. — Он подкинул в воздух окровавленную правую руку, отрубленную по локоть, и пронаблюдал за тем, как она падает у ног Крозье. Крозье не посмотрел на нее. — Ты жалкий кусок дерьма. Ты полное ничтожество — и всегда был ничтожеством. Лицо Хикки исказилось, словно под действием лунного света он превращался в некое существо, не принадлежащее к роду человеческому. Его тонкие губы растянулись, обнажив мелкие зубы, каковую жуткую гримасу все прочие видели лишь у цинготных больных в предсмертные часы. В глазах его отразилось нечто большее, чем безумие, нечто большее, чем просто ненависть. — Магнус, — сказал Хикки, — задуши капитана. Медленно. — Хорошо, Корнелиус, — сказал Магнус и тяжкой поступью двинулся вперед. Гудсер попытался броситься навстречу верзиле, но Голдинг крепко держал его одной рукой, а другой приставлял дробовик к затылку. Крозье не шевельнулся, пока великан неуклюже шагал к нему. Когда тень Магнуса упала на Крозье и державшего его Джорджа Томпсона, последний слегка отшатнулся, и одновременно с ним Крозье тоже немного подался назад, а потом резко дернулся вперед, рывком высвободил левую руку и засунул ее в левый карман шинели. Голдинг едва не спустил курок дробовика и ненароком не снес Гудсеру полчерепа — так сильно он испугался, когда карман капитанской шинели вдруг полыхнул ярким пламенем и приглушенный грохот двух выстрелов прокатился над льдом и отразился эхом в лесу сераков. – Ай, — сказал Магнус Мэнсон, медленно поднимая руки к животу. – Черт побери, — спокойно сказал Крозье. По неосторожности он выстрелил из обоих стволов двухзарядного пистолета. – Магнус! — выкрикнул Хикки, бросаясь к великану. – Кажись, капитан подстрелил меня, Корнелиус, — проговорил Магнус смущенным и слегка недоуменным голосом. – Гудсер! — крикнул Крозье, пользуясь всеобщим замешательством. Капитан резко повернулся кругом, ударил Томпсона в пах коленом и вырвался. — Бежим! Врач попытался. Он дергался, отбивался и уже почти высвободился из хватки Голдинга, когда более молодой и сильный парень подсечкой повалил противника ничком и крепко уперся в спину Гудсера коленом, равно крепко прижав к его затылку стволы дробовика. Крозье прыжками несся к серакам. Хикки спокойно взял у Ричарда Эйлмора дробовик, прицелился и выстрелил из обоих стволов. Верхушка серака раскололась и осыпалась ровно в тот момент, когда Крозье упал на живот, проскользив по льду и собственной крови. Хикки отдал дробовик обратно Эйлмору и торопливо расстегнул куртки и жилет Магнуса, разорвав рубахи и грязную нательную фуфайку. — Мне не очень больно, — пророкотал Магнус Мэнсон. — Скорее щекотно. Голдинг подтащил к нему Гудсера, подгоняя пинками и толчками. Врач надел очки и обследовал два пулевых отверстия. — Я не уверен, но мне кажется, две мелкокалиберные пули не пробили слой подкожного жира мистера Магнуса, не говоря уже о слое мышечной ткани. Боюсь, здесь всего лишь две незначительных поверхностных раны. Теперь я могу осмотреть капитана Крозье, мистер Хикки? Хикки рассмеялся. — Корнелиус! — крикнул Эйлмор. Крозье, оставляя за собой кровавый след, поднялся на четвереньки и пополз к серакам и густой тени от сераков. Потом он с трудом встал на ноги и, шатаясь как пьяный, пошел к ледяным башням. Голдинг хихикнул и вскинул дробовик. — Нет! — крикнул Хикки. Он вытащил из кармана бушлата большой пистолет Крозье и тщательно прицелился. В двадцати футах от сераков Крозье посмотрел назад через плечо. Хикки выстрелил. От удара пули Крозье крутанулся на месте и упал на колени. Тело его обмякло, но он напряг силы и уперся рукой в лед, пытаясь встать. Хикки сделал пять шагов вперед и снова выстрелил. Крозье повалился навзничь и распластался на спине, с поднятыми коленями. Хикки сделал еще два шага и снова выстрелил. Одна нога Крозье дернулась в сторону и вытянулась на льду, когда пуля пробила коленную чашечку или мышцы под ней. Капитан не издал ни звука. — Корнелиус, милый… — Магнус Мэнсон говорил хнычущим тоном ребенка, набившего себе шишку. — У меня живот начинает болеть. Хикки повернулся кругом. — Гудсер, дай ему что-нибудь от боли. Врач кивнул. Когда он заговорил, его голос звучал очень тихо, очень напряженно и совершенно бесстрастно. — У меня с собой целая бутылка доверова порошка, порой называемого кокаином. Я дам его Мэнсону. Весь, коли вам угодно. Вместе с настоем мандрагорового корня, опием и морфином. Это снимет любую боль. — Он полез в свою медицинскую сумку. Хикки поднял пистолет и наставил врачу в левый глаз. — Если от твоих лекарств Магнуса хотя бы стошнит и уж тем более, если сейчас ты вытащишь из своей поганой сумки скальпель или любой другой режущий инструмент, клянусь Богом, я отстрелю тебе яйца и не дам тебе умереть, покуда ты не сожрешь их. Ты понял, доктор? – Я понял, — сказал Гудсер. — Но все мои последующие действия обусловлены клятвой Гиппократа. — Он извлек из сумки пузырек с мерной ложкой и налил в нее немного жидкого морфина. — Выпейте это, — обратился он к верзиле. – Спасибо, доктор, — прогудел Магнус Мэнсон. Он заглотил лекарство. — Корнелиус! — крикнул Томпсон, указывая рукой. Крозье исчез. Кровавая полоса тянулась к серакам. – Ох, черт, — с вздохом сказал помощник конопатчика. — Этот козел доставляет больше хлопот, чем заслуживает. Дики, ты перезарядил ружье? – Так точно, — откликнулся Эйлмор, поднимая дробовик. – Томпсон, возьми запасной дробовик, что я принес, и оставайся здесь с Магнусом и врачом. Если добрый доктор сделает что-нибудь, что тебе не понравится — хотя бы пернет без спроса, — отстрели ему яйца. Томпсон кивнул. Голдинг хихикнул. Хикки со своим пистолетом и вооруженные дробовиками Голдинг с Эйлмором медленно пересекли залитое лунным светом открытое пространство, а потом, двигаясь гуськом, осторожно вступили в лес сераков, отбрасывающих густые тени. – Может статься, здесь его будет трудно найти, — прошептал Эйлмор, когда они вступили в искрещенный черными тенями и полосами лунного света ледяной лес. – Я так не думаю, — сказал Хикки, указывая на широкий кровавый след, который тянулся прямо вперед между ледяными башнями подобием азбуки Морзе. – У него остался маленький пистолет, — прошептал Эйлмор, крадучись переходя от серака к сераку. – Насрать на него и насрать на его пистолетик, — сказал Хикки, широко шагая прямо вперед, немного поскальзываясь на льду и крови. Голдинг громко фыркнул. — Насрать на него и насрать на его пистолетик, — нараспев повторил он и снова захихикал. Кровавый след обрывался сорока футами дальше, у края черной полыньи. Хикки бросился вперед и уставился вниз, где горизонтальные красные полосы превращались в вертикальные, тянущиеся вниз по отвесной восьмифутовой стенке ледяной плиты. — Пропади все пропадом к чертям собачьим, — проорал Хикки, расхаживая взад-вперед. — Я хотел напоследок пустить пулю в физиономию великого капитана, глядя ему в глаза. Черт бы его побрал! Он лишил меня такого удовольствия. — Гляньте, мистер Хикки, сэр, — хихикнул Голдинг. Он показал пальцем на предмет, похожий на человеческое тело, плавающее лицом вниз в темной воде. — Это всего лишь поганая шинель, — сказал Эйлмор, осторожно выступая из тени со вскинутым дробовиком. — Всего лишь поганая шинель, — повторил Роберт Голдинг. – Значит, он потонул, — сказал Эйлмор. — Не пора ли нам убираться отсюда, пока Дево или еще кто-нибудь не пришел на звук выстрелов? До нашей стоянки два дня пути, а нам еще нужно разделать трупы перед уходом. – Никто пока никуда не уходит, — сказал помощник конопатчика. — Возможно, Крозье еще жив. – Весь израненный и без шинели? — спросил Эйлмор. — И посмотри на шинель, Корнелиус. Дробь разнесла ее в клочья. – Возможно, он еще жив. Мы должны убедиться, так это или нет. Возможно, его тело всплывет на поверхность. – И что ты собираешься делать? — спросил Эйлмор. — Палить по мертвому телу? Хикки резко повернулся и свирепо посмотрел на него, заставив гораздо более высокого Эйлмора попятиться. — Да, — сказал Корнелиус Хикки. — Именно это я и собираюсь делать. — Обращаясь к Голдингу, он пролаял: — Приведи сюда Томпсона, Магнуса и врача. Мы привяжем доктора к одному из сераков, и ты будешь присматривать за Магнусом и разрезать Лейна и Годдарда на удобные для переноски куски, пока Эйлмор, Томпсон и я обыскиваем окрестности. – Я буду разрезать? — вскричал Голдинг. — Но вы же сказали мне, что именно для этого мы и захватываем Гудсера, Корнелиус. Это он должен разделывать трупы, а не я. – В будущем свежеванием мертвецов будет заниматься Гудсер, Бобби, — сказал Хикки. — Сегодня это придется сделать тебе. Мы не можем доверять доктору Гудсеру… покуда не отведем его к нашим людям и не окажемся во многих милях отсюда. Будь хорошим мальчиком, приведи доктора и привяжи к сераку, покрепче, самыми надежными узлами. И вели Магнусу притащить сюда трупы, чтобы ты смог заняться ими. И возьми ножи из сумки Гудсера, а также резаки и плотницкую пилу, которые я принес в мешке. – Ох, ладно, — сказал Голдинг. — Но я бы лучше пошел на поиски. — Он поплелся прочь. – Капитан потерял, должно быть, добрую половину крови, пока дополз досюда от места, где ты всадил в него несколько пуль, Корнелиус, — сказал Эйлмор. — Если он не бросился в воду, он не мог нигде спрятаться, не оставив кровавого следа. – Ты совершенно прав, Дики, голубчик, — сказал Хикки со странной улыбкой. — Положим, ползти он еще может, но остановить кровотечение из таких ран точно не в силах. Мы будем искать, покуда не убедимся, что он либо потонул, либо подох от потери крови где-нибудь среди сераков. Ты начнешь поиски вон оттуда, с южного края полыньи. Я осмотрю все к северу от нее. Будем двигаться по часовой стрелке. Если увидишь какой-нибудь след — хотя бы капельку крови, хотя бы крохотную вмятину на снегу, — останавливайся и кричи. Я присоединюсь к тебе. И будь осторожен. Нам не нужно, чтобы полудохлый ублюдок выскочил из тени и схватил один из наших дробовиков, верно? На лице Эйлмора отразились удивление и тревога. — Ты действительно думаешь, что у него еще осталось достаточно сил, чтобы выкинуть такой номер? Когда в нем три пули и заряд дроби, я имею в виду. Без шинели он в любом случае замерзнет в считанные минуты. Сейчас холодает, и ветер крепчает. Ты действительно думаешь, что он притаился в засаде, Корнелиус? Хикки улыбнулся и кивнул в сторону черной полыньи. — Нет. Я думаю, он отдал концы и утонул там. Но мы должны убедиться. Мы не уйдем отсюда, покуда не убедимся, даже если нам придется искать до рассвета.
В конечном счете они искали три часа при свете восходящей и потом заходящей луны. Ни возле полыньи, ни среди сераков, ни на открытых ледяных полях за сераками, ни на высоких торосных грядах к северу, югу и востоку не оказалось никаких следов: ни капель крови, ни отпечатков башмаков, ни борозд на снегу. Роберту Голдингу потребовалось полных три часа, чтобы разрезать тела Джона Лейна и Уильяма Годдарда на куски нужного размера, но все равно парень справился с делом бестолково и развел жуткую грязищу. Ребра, кисти, ступни и части позвоночника валялись на льду вокруг него, словно он находился в эпицентре взрыва на скотобойне. Сам молодой Голдинг так измазался в крови, что к тому времени, когда Хикки и остальные вернулись, Эйлмор, Томпсон и даже Магнус Мэнсон оторопело уставились на него, и Хикки долго и безудержно смеялся. Они набили джутовые мешки и сумки мясом, завернутым в куски непромокаемой промасленной ткани, которые принесли с собой, но кровь все равно просачивалась из них. Они отвязали Гудсера, дрожавшего от холода или ужаса. – Пора идти, доктор, — сказал Хикки. — Наши ребята ждут нас на льду в десяти милях к западу отсюда, чтобы радушно принять тебя. – Мистер Дево и остальные пустятся в погоню за вами, — сказал Гудсер. – Нет, не пустятся, — с полной уверенностью ответил Корнелиус Хикки. — Только не сейчас, когда они знают, что теперь у нас по меньшей мере три дробовика и пистолет. Если они вообще когда-нибудь узнают, что мы были здесь. — Обращаясь к Голдингу, он сказал: — Дай нашему новому товарищу по команде мешок, Бобби, пускай тащит. Когда Гудсер отказался взять объемистый мешок, Магнус Мэнсон ударом сбил его с ног, едва не переломав ребра. На третий раз, после еще двух попыток всучить ему мокрый от крови мешок и еще двух крепких ударов, врач взял ношу. — Пойдемте, — сказал Хикки. — Здесь мы закончили.
54. Дево
Лагерь Спасения 19 августа 1848 г.Старший помощник Чарльз Дево невольно расплывался в широкой улыбке, когда со своими восемью людьми возвращался в лагерь Спасения утром субботы 19 августа. В кои-то веки он нес одни только добрые новости своему капитану и остальным. Всего в четырех милях от берега паковый лед вскрылся, между плавучими льдинами образовались годные для плавания каналы, и разведывательный отряд потратил еще день, следуя вдоль них, пока наконец не вышел к открытой воде, простиравшейся до самого полуострова Аделаида и почти наверняка до узкого залива с устьем реки Бака, находившегося дальше к востоку, за полуостровом. Дево увидел низкие холмы полуострова Аделаида менее чем в двенадцати милях от айсберга, на который они взобрались на южной оконечности ледяного поля. Двигаться дальше без лодки не представлялось возможным, каковое обстоятельство заставило старшего помощника радостно ухмыльнуться тогда и заставляло радостно ухмыляться сейчас. Все могли покинуть лагерь Спасения. Теперь у всех появился шанс выжить. Не менее хорошая новость заключалась в том, что они провели два дня, стреляя тюленей на плавучих льдинах на краю свободного от льда моря. Два дня и две ночи Дево и его люди обжирались тюленьим мясом и салом, утоляя потребность истощенного организма, столь острую, что, хотя от жирной пищи им становилось плохо — после многих недель, проведенных впроголодь на галетах да старой соленой свинине, — после каждого приступа рвоты они лишь чувствовали еще сильнейший голод, смеялись и почти сразу снова принимались жадно уплетать мясо. Каждый из восьми мужчин волок тюленью тушу сейчас, когда они, следуя по отмеченному бамбуковыми вешками пути, преодолевали последнюю милю берегового льда, остающуюся до лагеря. Сорок шесть обитателей лагеря Спасения наедятся до отвала сегодня вечером, как и восемь торжествующих разведчиков, в очередной раз. «В общем и целом, — думал Дево, когда они вышли на галечный берег и миновали лодки, радостными возгласами и криками „ура“ пытаясь привлечь внимание людей в лагере, — если не считать молодого Голдинга, по собственному почину повернувшего назад в первый же день похода по причине острой желудочной колики, экспедиция удалась на славу. Впервые за много месяцев — даже лет — капитан Крозье и остальные получат хорошие новости, которые стоит отметить». Они все вернутся домой. Если они выступят в поход сегодня — самым крепким из них придется тащить лодки с больными всего четыре мили по извилистому пути между торосными грядами, аккуратно нанесенными Дево на карту, — уже через три или четыре дня они спустят лодки на воду и достигнут устья реки Бака через неделю. И вполне возможно, проходы во льду уже открылись ближе к берегу! Грязные, оборванные, сгорбленные существа выползли из палаток, отвлеклись от своих разнообразных работ по лагерю — и молча уставились на отряд Дево. Громкие радостные крики людей Дево — Толстяка Алекса Уилсона, Френсиса Покока, Джозефуса Джитра, Джорджа Канна, Томаса Тэдмена, Томаса Макконвея и Уильяма Марка — стихли, когда они увидели угрюмые, неподвижные лица и безумные глаза встречающих. Все обитатели лагеря увидели тюленьи туши, которые они тащили, но никак не отреагировали. Помощники Кауч и Томас вышли из своих палаток и прошли по каменистому берегу, чтобы встать перед толпой призраков, населяющих лагерь Спасения. — Что, кто-нибудь умер? — спросил Чарльз Фредерик Дево.
Второй помощник Эдвард Кауч, старший помощник Роберт Томас, старший помощник Чарльз Дево, трюмный старшина «Эребуса» Джозеф Эндрюс и грот-марсовый старшина «Террора» Томас Фарр теснились в большой палатке, которую доктор Гудсер использовал под лазарет. Люди с ампутированными ногами, узнал Дево, либо умерли за четыре дня его отсутствия, либо были перемещены в палатки поменьше, где лежали другие больные. Пятеро мужчин, собравшиеся здесь сегодня утром, являлись последними облеченными хоть какими-то полномочиями офицерами, которые остались в живых — или, по крайней мере, находились в лагере Спасения и могли самостоятельно передвигаться — из всей экспедиции Джона Франклина. У них едва хватило табака, чтобы четверо из пятерых (Фарр не курил) набили свои трубки. Палатка была наполнена голубым дымом. — Вы уверены, что кровавую расправу, следы которой вы обнаружили там, учинил не наш зверь? — спросил Дево. Кауч потряс головой. – Поначалу мы так и подумали — на самом деле даже не усомнились, — но кости, головы и куски мяса, которые мы там нашли… — Он умолк и стиснул зубами черенок трубки. – На них остались следы ножа, — закончил Роберт Томас. — Лейна и Годдарда расчленил человек. – Не человек, — сказал Томас Фарр, — а некая гнусная тварь в человеческом обличье. — Хикки, — сказал Дево. Остальные кивнули. — Мы должны отправиться в погоню за ним и прочими убийцами, — сказал Дево. Несколько мгновений все молчали. Потом Роберт Томас спросил: – Зачем? – Чтобы произвести над ними суд. Четверо из пяти мужчин переглянулись между собой. – У них теперь три дробовика, — сказал Кауч. — И почти наверняка пистолет капитана. – У нас больше людей… оружия… пороха, дроби, патронов, — сказал Дево. – Да, — сказал Томас Фарр. — А сколько из них погибнет в сражении с Хикки и его каннибалами? Томас Джонсон так и не вернулся, вы знаете. А перед ним стояла задача просто проследить за шайкой Хикки, убедиться, что они действительно уходят, как обещали. – Я не верю своим ушам, — сказал Дево, вынимая изо рта трубку и приминая табак в чубуке. — А как же капитан Крозье и доктор Гудсер? Вы собираетесь просто бросить их? Оставить на потеху Корнелиусу Хикки? – Капитан погиб, — промолвил трюмный старшина Эндрюс. — У Хикки нет причин оставлять Крозье в живых — разве для того только, чтобы пытать и мучить его. – Значит, нам тем более необходимо послать спасательный отряд вдогонку за ними, — настойчиво сказал Дево. С минуту все остальные молчали. Клубы голубого дыма плавали вокруг них. Томас Фарр распустил шнуровку и раздвинул чуть пошире полы палатки, чтобы впустить свежий воздух. — Прошло уже почти два дня с момента, когда там на льду случилось то, что случилось, — сказал Эдвард Кауч. — И пройдет еще несколько дней, прежде чем любой отряд, нами посланный, отыщет группу Хикки и сразится с ними, если вообще их найдет. Этому мерзавцу нужно всего лишь отойти дальше на лед или в глубь острова, чтобы избавиться от погони. Ветер заметает следы в считанные часы… даже санный след. Вы действительно полагаете, что капитан Крозье, если он сейчас жив — в чем я лично сомневаюсь, — будет жив или находиться в таком состоянии, когда его спасение еще возможно, через пять дней или неделю? Дево погрыз черенок трубки. — Тогда доктор Гудсер. Нам нужен врач. По логике вещей, его Хикки должен оставить в живых. Возможно, Хикки со своими приспешниками вернулся именно из-за Гудсера. Роберт Томас потряс головой. — Может, Корнелиус Хикки и нуждается в докторе Гудсере для своих дьявольских целей, но мы в нем теперь не нуждаемся. — Что вы имеете в виду? — От большей части лекарств и инструментов нашего доброго доктора мы давно избавились — у него оставалась только одна медицинская сумка, — пояснил Фарр. — А Томас Хартнелл, исполнявший обязанности помощника врача, знает, какие снадобья давать, в каком количестве и от каких болячек. — А как насчет хирургических операций? — спросил Дево. Кауч печально улыбнулся. — Дружище, неужели вы действительно думаете, что хоть один из тех, кому впредь потребуется операция, выживет, как бы ни сложились наши обстоятельства? Дево не ответил. – А что, если Хикки и его люди вообще не собираются никуда уходить? — спросил Эндрюс. — И не собирались? Он вернулся, чтобы убить капитана, захватить Гудсера и разрезать на куски бедных Джона Лейна и Билла Годдарда, словно заколотых свиней. Для него все мы скот, подлежащий забою. Что, если он просто прячется за ближайшей возвышенностью, выжидает момент, чтобы напасть на весь лагерь? – Вы превращаете помощника конопатчика прямо в чудище какое-то, — сказал Дево. – Он сам в него превратился, — сказал Эндрюс. — Только не просто в чудище, а в дьявола. В самого настоящего дьявола. Он и его ручной монстр, Магнус Мэнсон. Они продали души — черт бы их побрал — и за это получили какую-то темную силу. Помяните мое слово. – Вам не кажется, что одного настоящего монстра хватит для любой арктической экспедиции? — спросил Роберт Томас. Никто не засмеялся. – Это все один настоящий монстр, — наконец промолвил Эдвард Кауч. — И он не в новинку роду человеческому. – Так что все вы предлагаете? — спросил Дево после очередной паузы. — Чтобы мы пустились в бегство от гнусного мозглявого помощника конопатчика и просто двинулись с лодками на юг завтра? — Я лично считаю, что надо выступить сегодня же, — сказал Джозеф Эндрюс. — Как только мы погрузим в лодки те немногие вещи, которые берем с собой. И идти всю ночь. Если повезет, луна будет светить достаточно ярко, когда взойдет. Если нет, мы израсходуем часть оставшегося у нас горючего для фонарей. Вы сами говорили, Чарльз, что бамбуковые вешки, которыми отмечен путь, все еще на месте. После первой же настоящей снежной бури мы их не найдем. Кауч потряс головой. – Люди Дево устали. Наши — полностью деморализованы. Давайте устроим пир сегодня вечером — съедим всех до единого тюленей, притащенных вами, Эдвард, — и выступим завтра утром. У всех нас в душе окрепнет надежда после сытного ужина при свете заправленных тюленьим жиром светильников и крепкого сна. – Но под охраной часовых, — заметил Эндрюс. – О да, — сказал Кауч. — Я сам встану в дозор сегодня. Я в любом случае не особо голоден. – Еще остается вопрос командования, — проговорил Томас Фарр, переводя взгляд с одного лица на другое. Несколько мужчин вздохнули. – Всю полноту командования принимает на себя Чарльз, — сказал Роберт Томас. — Сэр Джон самолично назначил его старшим помощником капитана «Эребуса» после гибели Грэма Гора, значит, он старший по должности офицер. – Но к тому времени вы уже были старшим помощником на «Терроре», Роберт, — сказал Фарр Томасу. — Старшинство принадлежит вам. Томас решительно помотал головой. – «Эребус» был флагманским кораблем. Когда Гор был жив, все понимали, что он облечен большими полномочиями, чем я. Теперь Чарльз занимает должность Гора. Он главный. Я ничего не имею против. Командир из мистера Дево лучший, чем из меня, а нам понадобится умелое руководство. – Я не могу поверить, что капитан Крозье умер, — сказал Эндрюс. Четверо из пяти мужчин задымили трубками сильнее. Все молчали. Снаружи до них доносились голоса людей, разговаривающих о тюленях, чей-то смех, а также беспрестанный треск и пушечный грохот ломающегося льда. – Формально руководителем экспедиции сейчас является лейтенант Джордж Генри Ходжсон, — наконец произнес Фарр. – Да раскаленную кочергу в задницу этому лейтенанту Джорджу Генри Ходжсону, — прорычал Джозеф Эндрюс. — Если бы этот скользкий тип приполз сейчас обратно, я бы придушил его собственными руками и нассал на труп. – Я сильно сомневаюсь, что лейтенант Ходжсон еще жив, — тихо проговорил Дево. — Значит, мы постановили, что я исполняю обязанности командующего экспедицией, Роберт занимает должность моего первого помощника, а Эдвард — второго? — Так точно, — хором сказали остальные четверо. — В таком случае учтите, что я собираюсь советоваться с вами четырьмя, когда нам придется принимать решения, — сказал Дево. — Я всегда хотел командовать собственным кораблем… но не в таких поганых обстоятельствах. Мне понадобится ваша помощь. Окутанные клубами табачного дыма мужчины кивнули. — Я хотел бы прояснить еще один вопрос, прежде чем мы выйдем и прикажем людям готовиться к сегодняшнему пиру и завтрашнему выступлению в поход, — сказал Кауч. Дево, сидевший в теплой палатке без головного убора, поднял брови. — Что насчет больных? Хартнелл говорит, что шестеро из них не смогут идти, даже если от этого будет зависеть их жизнь. Слишком тяжелая форма цинги. Например, Джопсон, стюард капитана. Мистер Хелпмен и наш инженер Томпсон умерли, но Джопсон продолжает цепляться за жизнь. Хартнелл говорит, бедняга не в силах даже поднять голову, чтобы попить — приходится ему помогать, — но он все еще дышит. Мы возьмем его с собой? Дево пристально посмотрел на Кауча, потом на остальных трех мужчин, пытаясь прочесть ответ на их лицах, но тщетно. — И если мы все-таки возьмем Джопсона и остальных умирающих, — продолжил Кауч, — то в каком качестве? Дево не пришлось уточнять, что имеет в виду второй помощник. «Мы возьмем их с собой как товарищей по плаванию или в качестве пищи?» — Если мы оставим их здесь, — сказал он, — они наверняка станут кормом для Хикки, коли он вернется, как некоторые из вас полагают. Кауч потряс головой. – Я не об этом спрашиваю. – Знаю. — Дево глубоко вздохнул, едва не закашлявшись от густого дыма. — Хорошо, — сказал он. — Вот первое мое решение, принятое в должности начальника экспедиции Франклина. Когда утром мы тронемся в путь, все люди, которые смогут дойти до лодок и встать в упряжь — или хотя бы забраться в одну из лодок, — отправятся с нами. Если кто-нибудь умрет по дороге, тогда мы и решим, тащить ли тело дальше. Я решу. Но завтра утром лагерь Спасения покинут только те, у кого хватит сил дойти до лодок. Все мужчины промолчали, но несколько кивнули. Никто не смотрел Дево в глаза. — Я сообщу людям о своем решении после ужина, — сказал Дево. — Каждый из вас четырех должен выбрать одного надежного человека в напарники по ночному дежурству. Эдвард составит график дежурств. Не давайте своим напарникам объедаться до беспамятства. Нам понадобится сохранять ясность рассудка — по крайней мере некоторым из нас, — покуда мы благополучно не достигнем открытой воды. Все четверо мужчин согласно кивнули. — Хорошо, ступайте сообщите своим людям насчет праздничного ужина, — сказал Дево. — Здесь мы закончили.
20 августа 1848 г.
Из личного дневника доктора
Гарри Д. С. Гудсера
Суббота, 20 августа 1848 г.
Удача, которая на протяжении многих месяцев и лет отворачивалась от сэра Джона, командора Фицджеймса и капитана Крозье, похоже, улыбается этому дьяволу, Хикки. Они не знают, что я случайно сунул дневник в свою медицинскую сумку — вернее, по всей видимости, знают, поскольку тщательно обыскивали сумку два дня назад, когда взяли меня в плен, но не придают этому никакого значения. Я делю палатку с одним только лейтенантом Ходжсоном, который теперь такой же пленник, как я, и он не возражает против того, чтобы я писал в темноте. Я все еще не в силах до конца поверить в жестокое убийство своих товарищей — Лейна, Годдарда и Крозье, — и когда бы не видел собственными глазами, как половина отряда Хикки пожирала человечину на пиру, устроенном в пятницу ночью по нашем возвращении к месту стоянки на льду неподалеку от нашего старого Речного лагеря, я бы до сей поры не верил в возможность подобного варварства. Пока еще не все участники дьявольского легиона Хикки поддались соблазну каннибализма. Хикки, Мэнсон, Томпсон и Эйлмор, разумеется, с великим наслаждением поедают человеческую плоть, равно как матрос Уильям Оррен, вестовой Уильям Гибсон, кочегар Люк Смит, конопатчик Джеймс Браун и его помощник Данн. Но остальные воздерживаются вместе со мной: Морфин, Бест, Джерри, Уорк, Стрикленд, Сили и, конечно же, Ходжсон. Мы все питаемся заплесневелыми галетами. Из числа ныне воздерживающихся, полагаю, только Стрикленд, Морфин и лейтенант сумеют противиться искушению долго. Люди Хикки убили всего одного тюленя по пути на запад вдоль побережья, но этого хватило лишь для того, чтобы заправить тюленьим жиром плитку, а запах жарящегося мяса ужасно соблазнителен. Хикки пока не причинил мне вреда. Даже вчера и позавчера вечером, когда я отказался есть человечину или расчленять другие тела впоследствии. До поры до времени мясо мистера Лейна и мистера Годдарда утолило их голод и прочих и избавило меня от необходимости выбирать, стать ли мне шеф-поваром каннибалов или же самому быть убитым и расчлененным. Но к дробовикам не позволено прикасаться никому, помимо мистера Хикки, мистера Эйлмора и мистера Томпсона — последние двое стали лейтенантами нового Бонапарта в образе нашего ничтожного помощника конопатчика, — а Магнус Мэнсон сам по себе является оружием, которое лишь один человек (если он еще остается человеком) вправе пускать в ход. Говоря о сопутствующей Хикки удаче, я имею в виду не только счастливую возможность питаться свежим мясом, которую злодей изыскал своими силами. Скорее я подразумеваю сегодняшнее открытие, когда всего в двух милях к северо-западу от нашего старого Речного лагеря, где пропал мистер Бридженс, мы наткнулись на проходы во льдах, тянущиеся в западном направлении и вдоль берега. Растленная команда Хикки почти сразу сняла с саней, оснастила, нагрузила и спустила на воду полубаркас, и с тех пор мы быстро идем под парусом и на веслах, держа курс на запад. Вы спросите: каким образом семнадцать человек могут поместиться в лодку, рассчитанную на восемь-двенадцать человек? Отвечу: мы буквально сидим верхом друг на друге, и — хотя мы везем с собой только палатки, оружие, патроны, бочки с водой и наш ужасный провиант, — лодка так тяжело нагружена и имеет такую большую осадку, что вода чуть не переливается через планшири с обеих сторон, особенно когда ширина каналов позволяет нам идти галсами без помощи весел. Я слышал, как Хикки и Эйлмор перешептывались, когда мы высадились на лед и разбили палатки сегодня вечером, — они не особо старались понизить голос. От кого-то придется избавиться. Впереди открытая вода, путь свободен — может статься, до самого лагеря или даже до корабля «Террор», как и предсказывал пророк Корнелиус Хикки во время стычки с капитаном на берегу безымянной бухты шесть недель назад, в июле, когда мятеж не вспыхнул только благодаря возвращению разведчиков с известием об открытой воде, — и вполне возможно, Хикки и прочие оставшиеся с ним люди достигнут лагеря и корабля за три дня спокойного плавания, таким образом стремительно покрыв расстояние, которое мы, двигаясь в противоположном направлении, преодолели за три с половиной месяца тяжелейшего пешего похода. Но теперь, когда они больше не нуждаются в упряжных, кого из людей принесут в жертву для пополнения запасов продовольствия и с целью облегчить лодку к завтрашнему плаванию? Пока я пишу, Хикки со своим великаном, Эйлмор и прочие руководители отряда идут по лагерю, властно приказывая всем выйти из палаток, хотя час уже поздний и стоит темная ночь. Коли буду жив завтра, я продолжу писать.
56. Джопсон
Лагерь Спасения 20 августа 1848 г.Они обращались с ним, как с древним стариком, и оставляли его здесь, поскольку считали его древним стариком, немощным и даже умирающим, но это нелепо. Томасу Джопсону был всего тридцать один год. Сегодня, двадцатого августа, ему исполнился тридцать один год. Сегодня у него день рождения, но никто из них, кроме капитана Крозье, который по неизвестной причине перестал заглядывать к нему в палатку, даже не знал, что нынче у него день рождения. Они обращались с ним, как с древним стариком, поскольку от цинги у него выпали почти все зубы, и все волосы выпали по непонятной причине, и сильно кровоточили десны, глаза и задница, но он никакой не старик. Сегодня ему стукнул тридцать один год, и они оставляли его умирать в его день рождения. Джопсон слышал шум пиршества накануне вечером — воспоминания о криках, смехе и запахе жарящегося мяса были обрывочными, бессвязными, поскольку весь предыдущий день он провел в полубредовом состоянии, часто впадая в беспамятство, — но, пробудившись в сумерках, он обнаружил, что кто-то поставил возле него тарелку с куском жирной тюленьей кожи, несколькими шматками сочного белого сала и куском почти сырого красного мяса, воняющего рыбой. Джопсона вырвало — одной слизью, поскольку он не ел уже целый день или несколько дней, — и он вытолкнул мерзкую тарелку с тухлятиной из палатки. Он понял, что они оставляют его, когда позже вечером товарищи по команде один за другим прошли мимо палатки, не говоря ни слова, даже не заглядывая к нему, но просовывая внутрь по одной-две черствых, зеленых от плесени галеты, которые складывали рядом с ним, точно камни, приготовленные для его могилы. Тогда он был слишком слаб, чтобы протестовать, — и слишком поглощен своими видениями, — но понял, что эти несколько паршивых кусков плохо пропеченной и совершенно несъедобной муки — это все, что он получит в награду за многие годы верной службы военно-морскому флоту Британии, Службе географических исследований и капитану Крозье. Они оставляли его умирать. Этим воскресным утром он впервые за несколько дней, а может, и недель, проснулся с более или менее ясной головой — для того только, чтобы услышать, как товарищи готовятся навсегда покинуть лагерь Спасения. С берега доносились крики: люди там переворачивали два вельбота, ставили на сани два тендера и нагружали все четыре лодки. «Как они могут бросить меня?» У Джопсона не укладывалось в голове, что они смогут так поступить с ним. Разве он не находился неотступно рядом с капитаном Крозье сотни раз во время его болезней, тяжелых приступов депрессии или запоев? Разве он — спокойно и безропотно, как подобает хорошему стюарду, — не выносил ведра блевоты из капитанской каюты среди ночи и не подтирал задницу ирландскому пьянице? «Наверное, именно поэтому этот ублюдок и оставляет меня умирать». Джопсон с трудом открыл глаза и попытался перевернуться в своем мокром спальном мешке. Это оказалось делом почти непосильным. Слабость, волнами расходившаяся по телу от подвздошной области, снедала его. Голова раскалывалась от боли каждый раз, когда он открывал глаза. Земля под ним ходила ходуном, словно палуба любого из кораблей, на которых ему доводилось огибать мыс Горн в штормовую погоду. Кости ломило. «Подождите меня!» — крикнул он. Джопсону показалось, что он крикнул, но слова прозвучали лишь у него в уме. Он должен нагнать их, пока они не стащили лодки на лед… показать им, что он может идти в упряжи наравне с самыми здоровыми. Возможно, он даже сумеет обмануть их, умудрившись через силу проглотить кусочек вонючей тухлой тюленины. Джонсон не мог поверить, что они поставили на нем крест, словно он уже умер. Он живой человек, с хорошим послужным списком, с превосходным опытом работы в должности личного стюарда и с биографией верноподданного королевы, не говоря уже о семье и доме в Портсмуте (если жена Элизабет и сын Эвери еще живы и если их еще не выселили из дома, который они сняли на двадцать восемь фунтов, полученных Томасом Джопсоном от Службы географических исследований в качестве аванса из жалованья в шестьдесят пять фунтов, положенного за первый год экспедиции). Лагерь Спасения теперь казался пустым, если не считать тихих стонов, которые могли доноситься из соседних палаток, а могли быть и просто шумом непрерывного ветра. Обычный скрип гальки под башмаками, тихие чертыханья, редкий смех, приглушенные голоса мужчин, идущих на дежурство или с дежурства, крики между палатками, стук молотка или визг пилы, запах табака — все пропало, кроме неясных и постепенно замирающих вдали звуков. Люди действительно покидали лагерь. Томас Джопсон не собирался оставаться здесь и умирать в этом холодном временном лагере у черта на рогах. Собрав все оставшиеся у него — в также невесть откуда появившиеся — силы, Томас Джонсон стянул с плеч шерстяной спальный мешок и принялся выползать из него. Дело отнюдь не упростил тот факт, что ему пришлось отдирать от тела корки засохшей крови и прочих выделений, прежде чем он выбрался из спального мешка и пополз к выходу. Преодолев ползком, казалось, многие мили, Джопсон рванулся вперед, упал плашмя в проеме палатки и задохнулся от обжигающе холодного воздуха. Он настолько привык к полумраку и духоте своего парусинового пристанища, что на открытом воздухе у него сперло дыхание и прищуренные глаза заслезились от ослепительного блеска солнца. Через несколько мгновений Джопсон осознал, что блеск солнца был обманом зрения: на самом деле утро стояло пасмурное и туманное и клубы морозного тумана плавали между палаток, точно призраки всех мертвецов, оставленных позади. Капитанскому вестовому невольно вспомнился густой туман того дня, когда они послали лейтенанта Литтла, ледового лоцмана Рейда, Гарри Пеглара и прочих вперед по первому открытому проходу во льдах. «Навстречу гибели», — подумал Джопсон. Подтягиваясь на руках, ползя по галетам и кускам тюленины — принесенным ему, словно жертвенный дар какому-то поганому языческому идолу, — Джопсон протащил сквозь полукруглое входное отверстие палатки онемевшие безжизненные ноги. Он увидел поблизости еще две или три палатки и на мгновение исполнился надежды, что ходячие мужчины покинули лагерь на время, что все они просто занимаются чем-то возле лодок и скоро вернутся обратно. Но потом заметил, что большинство голландских палаток отсутствует. «Нет, не отсутствует». Теперь, когда глаза привыкли к рассеянному свету, проникавшему сквозь туман, он увидел, что большинство палаток здесь, на южном краю лагеря — ближайшему к лодкам и береговой линии, — свернуты и придавлены камнями, чтобы ветер не унес. Джопсон впал в недоумение. Если они действительно покинули лагерь, почему не взяли с собой палатки? Складывалось впечатление, будто они решили выйти на лед, но собирались вскоре вернуться. Но куда? И зачем? Тяжелобольной и недавно страдавший галлюцинациями стюард не находил во всем этом никакого смысла. Потом туманная пелена плавно колыхнулась, расступилась, и он увидел ярдах в пятидесяти от своей палатки берег, где мужчины тащили, толкали и тянули лодки на лед. Джопсон на глаз прикинул, что на каждую лодку приходится по меньшей мере десять человек — значит, почти все обитатели лагеря уходили, бросая здесь его и других тяжелобольных. «Как может доктор Гудсер бросить меня?» — подумал Джопсон. Он попытался вспомнить, когда врач в последний раз приходил к нему, чтобы накормить бульоном или умыть. Вчера за ним ухаживал Хартнелл, не так ли? Или это было несколько дней назад? Он не мог вспомнить, когда врач в последний раз осматривал его или поил лекарством. — Подождите! — крикнул он. Только это был не крик, а еле слышный хрип. Джопсон осознал, что вот уже несколько дней — а возможно, и недель — не разговаривал нормальным голосом, и звук, который он сейчас издал, казался слабым и приглушенным даже для его болезненно обостренного слуха. — Стойте! На сей раз получилось не лучше. Он понял, что должен помахать рукой, чтобы они заметили его, вернулись за ним. Томас Джопсон не мог поднять ни одну, ни другую руку. При попытке сделать это он бессильно повалился вперед, ударившись лицом о землю. Он слишком слаб. Ничего страшного, он просто поползет за ними, и в конце концов они увидят его и вернутся. Они не бросят товарища по команде, достаточно здорового, чтобы проползти сотню ярдов. Подтягиваясь на ободранных руках, извиваясь всем телом, Джопсон прополз еще три фута и снова упал лицом на обледенелую гальку. Туман клубился вокруг, скрывая от взора даже палатку в нескольких шагах позади него. Ветер стонал — или, возможно, то стонали другие брошенные больные в двух-трех палатках, — и холод морозного утра проникал сквозь грязную шерстяную рубаху и грязные штаны, пробирал до костей. Джопсон осознал, что, если он будет ползти прочь от палатки, возможно, у него не хватит сил вернуться обратно и он умрет от холода и сырости здесь, на берегу. — Стойте! — крикнул он. Голос звучал слабо, как мяуканье новорожденного котенка. Извиваясь, судорожно дергаясь всем телом, он прополз еще три фута… четыре… и распластался на камнях, хрипя и задыхаясь, словно раненный гарпуном тюлень. От ослабших, онемелых рук теперь было не больше пользы, чем от тюленьих ластов… или даже меньше. Джопсон попытался упереться подбородком в мерзлую землю, чтобы, отталкиваясь от нее, продвинуться вперед еще на фут-другой. Он мгновенно расколол один из последних оставшихся зубов пополам, но повторил попытку. Его тело было слишком тяжелым. Оно казалось прикованным к земле собственным весом. «Мне всего тридцать один год, — яростно, гневно подумал он. — Сегодня мой день рождения». — Стойте… стойте… стойте… стойте… — Каждое следующее слово звучало тише предыдущего. Тяжело дыша, Джопсон распластался на животе, с вытянутыми вдоль тела безжизненными руками, болезненно вывернул шею и прижался щекой к измазанным кровью обледенелым округлым камням так, чтобы смотреть прямо вперед. — …стойте… Туман взвихрился и потом расступился. Он видел ярдов на сто вперед — видел непривычно пустое место на галечном берегу, где совсем недавно стояли лодки, нагромождения прибрежных ледяных глыб и за ними сорок с лишним человек с четырьмя лодками — где пятая? — которые с трудом брели по льду в южном направлении, обнаруживая явные признаки слабости, заметные даже с такого расстояния, и двигаясь немногим быстрее и ловчее, чем двигался сам Джопсон. — Стойте! Крик отнял у него последнюю толику энергии — Джопсон чувствовал, как нутряное тепло утекает из тела в мерзлую землю, — но получился громким, как любое произнесенное нормальным голосом слово. — Стойте!!! — Наконец-то он крикнул по-настоящему. Это был голос мужчины, а не мяуканье котенка или хрип умирающего тюленя. Но слишком поздно. Люди и лодки уже находились ярдах в ста от него — плохо различимые темные силуэты на сером фоне бескрайнего ледяного пространства, — и треск льда и стоны ветра заглушили бы даже звук ружейного выстрела, не говоря уже об одиноком голосе человека, оставленного позади. На мгновение туман рассеялся еще сильнее, и благословенный свет пролился с небес — словно солнце собиралось растопить лед повсюду и вернуть зеленые побеги, и живых существ, и надежду в сей забытый богом безрадостный, пустынный край, — но потом туман опять сгустился и заклубился вокруг Джопсона, заволакивая все перед глазами, обвивая влажными, холодными, серыми щупальцами. А потом люди и лодки исчезли. Словно их никогда и не было.
57. Хикки
Юго-западный мыс острова Кинг-Уильям 8 сентября 1848 г.Помощник конопатчика Корнелиус Хикки ненавидел королей и королев. Он считал их кровососущими паразитами на заднице государства. Но он обнаружил, что сам совсем не прочь быть королем. Его план дойти под парусом и на веслах до лагеря «Террор» или до самого корабля рухнул, когда их полубаркас — уже не так тесно набитый людьми — обогнул юго-западный мыс Кинг-Уильяма и наткнулся на наступающий паковый лед. Широкие разводья превратились в узкие каналы, которые никуда не вели или закрывались прямо перед ними, когда они пытались вести лодку вдоль береговой линии, теперь тянувшейся на северо-восток. Гораздо дальше к западу была настоящая открытая вода, но Хикки боялся удаляться от острова на расстояние, превышающее пределы видимости, по той простой причине, что никто из оставшихся в живых людей в лодке не знал навигацкого дела. Единственная причина, почему Хикки и Эйлмор столь великодушно позволили Джорджу Ходжсону присоединиться к ним — вернее, внушили молодому лейтенанту желание присоединиться к ним, — заключалась в том, что этот болван обучался, как все военно-морские офицеры, искусству навигации по звездам. Но в первый же день похода Ходжсон признался, что не может определить их местоположение или проложить курс к лагерю в море без секстанта, а единственный оставшийся в экспедиции секстант по-прежнему находился во владении капитана Крозье. Одной из причин, побудивших Хикки, Мэнсона, Эйлмора и Томпсона вернуться назад и выманить Крозье и Гудсера на лед, было желание каким-нибудь образом заполучить этот чертов секстант, но здесь природная смекалка подвела Корнелиуса Хикки. Они с Дики Эйлмором так и не сумели придумать ни одной мало-мальски убедительной причины для того, чтобы Бобби Голдинг попросил Крозье взять с собой секстант, — и потому они решили под пытками заставить ирландского джентльмена написать в лагерь записку с требованием прислать ему инструмент, но в конечном счете, увидев своего мучителя поверженным на колени, Хикки предпочел убить его на месте. Поэтому, как только они нашли открытую воду, молодой Ходжсон стал им не нужен, даже в качестве упряжного, и Хикки положил предать лейтенанта быстрой и милосердной смерти. Для подобной цели отлично сгодился пистолет и запасные патроны Крозье. В первые дни после возвращения к месту стоянки с Гудсером и запасом провианта Хикки разрешал Эйлмору и Томпсону держать при себе два захваченных дробовика — в распоряжении самого Хикки находился третий, полученный от Крозье в день их отбытия из лагеря Спасения, — но потом решил, что лишнее оружие в отряде ни к чему, и приказал Магнусу выбросить дробовики в море. Так оно было лучше: король Корнелиус Хикки владел пистолетом, распоряжался единственным дробовиком и патронами и повелевал неотлучно находившимся при нем Магнусом Мэнсоном. Эйлмор, знал Хикки, был слабаком, знающим жизнь только по книгам, и прирожденным заговорщиком, а Томпсон неотесанным хамом и выпивохой, не заслуживающим доверия, — подобные вещи Хикки чувствовал инстинктивно и понимал благодаря своему острому природному уму, — и потому, когда в первых числах сентября запас провианта в виде останков Ходжсона подошел к концу, он приказал Магнусу сшибить двух вышеназванных мужчин головами, связать и притащить, оглушенных, к месту, где Хикки в присутствии дюжины остальных своих подчиненных произвел над ними короткий суд, признал Эйлмора и Томпсона виновными в подстрекательстве и заговоре против командира и товарищей и убил обоих выстрелом в затылок. В случае со всеми тремя жертвами, принесенными для общего блага, — Ходжсоном, Эйлмором и Томпсоном, — проклятый врач, Гудсер, отказался выполнять свои обязанности главного прозектора. За каждый такой отказ командору Хикки приходилось определять строптивому врачу наказание. Гудсер подвергся наказанию уже трижды и еле волочил ноги сейчас, когда они, вынужденные обстоятельствами, снова высадились на берег. Корнелиус Хикки верил в удачу — свою собственную удачу, — и по жизни ему всегда везло, но, если вдруг удача отворачивалась от него, он всегда был готов своими силами придать событиям счастливый поворот. В данном случае, когда они обогнули огромный мыс на юго-западной стороне острова Кинг-Уильям — при возможности идя под парусом, гребя изо всех сил, когда каналы поблизости от берега сужались, — и увидели впереди сплошной паковый лед, Хикки приказал вытащить лодку на берег, и они снова погрузили полубаркас на сани. Он не видел необходимости напоминать своим людям о том, как им повезло. В то время как люди Крозье почти наверняка умерли или умирали в лагере Спасения — либо на паковом льду пролива к югу от него, — немногие избранные под водительством Хикки преодолели уже более двух третей, а возможно, и полных три четверти пути к лагерю «Террор» и всем оставленным там продовольственным запасам. Хикки решил, что руководителю такого ранга — правящему королю экспедиции Франклина — не пристало идти в упряжи, — вдобавок благодаря ему (и только ему) люди сытно питались и не могли жаловаться на болезни или нехватку сил, — и потому часть пути он положил сидеть на корме полубаркаса, погруженного на сани, позволяя дюжине своих уцелевших подданных, за исключением одного только хромающего Гудсера, тащить оные по льду, гальке и снегу, пока они огибали северную оконечность мыса. Последние несколько дней Магнус Мэнсон ехал с ним в полубаркасе — не просто потому, что теперь все признали в Магнусе супругу царствующего короля, а равно Великого Инквизитора и Палача. У бедного Магнуса опять заболел живот. Хромой Гудсер все еще оставался в живых главным образом по той причине, что Корнелиус Хикки панически боялся болезней и инфекций. Недуги, поражавшие людей в лагере Спасения и раньше, — в особенности сопровождавшаяся кровотечениями цинга, — внушали помощнику конопатчика отвращение и ужас. Он нуждался во враче, который ухаживал бы за ним, хотя пока у него не наблюдалось никаких симптомов болезни, которой столь страшно мучились остальные. Члены упряжной команды Хикки — Морфин, Оррен, Браун, Данн, Гибсон, Бест, Джерри, Уорк, Сили и Стрикленд — тоже не обнаруживали никаких признаков цинги теперь, когда они снова питались свежим или почти свежим мясом. Один только Гудсер выглядел совершенно больным (помимо того, что хромал по понятным причинам), каковое обстоятельство объяснялось тем, что этот болван упорно продолжал питаться остатками галет и водой. Хикки понимал, что скоро ему придется вмешаться в дело и заставить врача перейти на более здоровый, противоцинготный рацион — самыми полезными и питательными были такие мясистые части человеческого тела, как бедро, голень, предплечье и плечо, — дабы тот не умер из-за своего собственного ослиного упрямства. В конце концов, докторам положено знать такие вещи. На черствых галетах и воде может прожить крыса за неимением другой пищи, но уж никак не взрослый мужчина. Чтобы не допустить смерти врача, Хикки давно забрал у него из сумки все медикаменты и сам присматривал за ними, позволяя Гудсеру давать лекарства Мэнсону или остальным только под своим строгим наблюдением. Он также позаботился о том, чтобы доктор не имел доступа к ножам, а пока они плыли в лодке, всегда приставлял к нему одного из мужчин, который следил за тем, чтобы Гудсер не бросился за борт. До сих пор врач не обнаруживал никакой склонности к самоубийству. Желудочные боли у Магнуса теперь стали такими сильными, что он не только ехал вместе с Хикки в полубаркасе днем, но и порой не спал ночью. Хикки не помнил, чтобы друг когда-нибудь прежде мучился бессонницей. Разумеется, причиной недомогания были крохотные пулевые ранения, и теперь Хикки заставлял Гудсера ежедневно обрабатывать их. Врач утверждал, что раны поверхностные и никаких воспалительных процессов в них не происходит. Он показал и Хикки, и простодушному Магнусу, который задрал рубаху и с тревогой вглядывался в свой живот, что мышечные ткани в области желудка у него по-прежнему розовые и здоровые. — Тогда откуда боль? — настойчиво спросил Хикки. — Это обычное дело при любом ушибе — особенно при сильном ушибе мышц, — ответил врач. — Место ушиба может болеть несколько недель. Но это не опасно и уж тем более не представляет угрозы для жизни. — Вы можете удалить шары? — спросил Хикки. – Корнелиус, — прохныкал Магнус, — я не хочу, чтобы меня оскопили. – Я имею в виду пули, милый, — сказал Хикки, потрепав великана по руке. — Маленькие пули, что засели у тебя в животе. – Возможно, — сказал Гудсер. — Но лучше не пытаться. По крайней мере, пока мы на марше. В ходе операции потребуется разрезать мышечную ткань, которая уже почти зажила. Может статься, потом мистеру Мэнсону придется пролежать несколько дней… и всегда существует высокий риск сепсиса. Если мы все-таки решим удалить пули, мне было бы гораздо удобнее сделать это в лагере или на самом корабле. Чтобы после операции пациент мог провести в постели несколько дней или дольше. – Я не хочу, чтобы у меня болел живот, — пророкотал Магнус. – Ну конечно не хочешь, — сказал Хикки, гладя своего дружка по могучей груди и плечам. — Дай ему морфина, Гудсер. Магнус всегда с удовольствием проглатывал свою ложку морфина, а потом с час сидел на носу полубаркаса с блаженной улыбкой, прежде чем засыпал. Таким образом в пятницу восьмого сентября в мире короля Хикки все было в полном порядке. Одиннадцать его упряжных животных — Морфин, Оррен, Браун, Данн, Гибсон, Бест, Джерри, Уорк, Сили и Стрикленд — находились в добром здравии и прилежно тащили сани каждый день. Магнус большую часть времени был счастлив — ему нравилось сидеть на носу лодки, словно он офицер, и озирать местность, простиравшуюся позади них, — и в бутылках оставалось еще достаточно морфина и лауданума, чтобы продержаться до прибытия в лагерь или на сам корабль. Гудсер был жив, ковылял рядом с санями и ухаживал за королем и его супругой. Погода стояла хорошая — хотя постепенно холодало, — и ничто не указывало на близкое присутствие зверя, который охотился на них в предшествующие месяцы. Хотя они не ограничивали себя в еде, у них оставалось достаточно провианта в виде останков Эйлмора и Томпсона, чтобы еще несколько дней питаться тушеным мясом, — они обнаружили, что человеческий жир представляет собой такое же топливо, как китовый, хотя горит не столь жарким огнем и сгорает быстрее, — и Хикки планировал тянуть жребий, если до прибытия в лагерь «Террор» понадобится принести в жертву еще кого-нибудь. Конечно, они могли бы просто урезать рацион, но Корнелиус Хикки знал, что процедура вытягивания жребия поселит ужас в сердца одиннадцати и без того безропотных упряжных животных и еще раз покажет, кто главный в этой экспедиции. Хикки всегда спал чутко, а теперь вообще вполглаза, не выпуская из руки пистолет, но последнее публичное жертвоприношение — после которого, вероятно, Магнусу придется в четвертый раз наказать Гудсера за строптивость, — сломит последнюю тайную волю к сопротивлению, которая еще может оставаться в сердцах вероломных упряжных животных. Сегодня же, в пятницу восьмого сентября, погода стояла чудесная: температура воздуха держалась между двадцатью и тридцатью градусами,[16] и голубое небо становилось еще голубее к северу, куда они держали путь. Тяжелая лодка высоко стояла на санях, и деревянные полозья с шорохом и скрипом ползли по льду и гальке. Недавно принявший лекарство Магнус блаженно улыбался, держась обеими руками за живот и тихо напевая себе под нос. До лагеря и могилы Джона Ирвинга у Виктори-Пойнт, знали все они, оставалось меньше тридцати миль и меньше пятнадцати — до могилы лейтенанта Левеконта на берегу. Сейчас, когда люди восстановили свои силы, они покрывали от двух до трех миль ежедневно — и, вероятно, смогут покрывать больше, если их рацион снова улучшится. Для этой цели Хикки минуту назад выдрал страницу из одной из многочисленных Библий, по настоянию Магнуса собранных и погруженных в полубаркас перед выступлением из лагеря Спасения (пусть преданный идиот умел читать не лучше своего любимого помощника конопатчика), и сейчас разрывал страницу на одиннадцать одинаковых полосок. Сам Хикки, разумеется, не будет тянуть жребий, как не будут Магнус и чертов лекарь. Но сегодня вечером Хикки велит каждому из мужчин написать свое имя или поставить свою подпись на одной из полосок бумаги и прикажет Гудсеру просмотреть все полоски и во всеуслышание подтвердить, что все написали свои подлинные имена или поставили свои собственные подписи. Потом полоски с именами отправятся в карман бушлата королю — и все будет готово к предстоящей торжественной церемонии.
58. Гудсер
Юго-западный мыс острова Кинг-Уильям 5 октября 1848 г.
Из личного дневника доктора
Гарри Д. С. Гудсера
6, 7 или, возможно, 8 октября 1848 г.
Я выпил последний глоток зелья. Пройдет несколько минут, прежде чем оно подействует в полной мере. Пока же я постараюсь наверстать упущенное в части своих дневниковых записей. В последние дни я вспоминал подробности признания, сделанного мне молодым Ходжсоном в палатке несколько недель назад, в ночь накануне его смерти от руки мистера Хикки. Лейтенант прошептал: — Прошу прощения за беспокойство, доктор, но мне нужно сказать кому-нибудь о своем глубоком раскаянии. Я прошептал в ответ: — Вы не католик, лейтенант Ходжсон. А я не ваш духовник. Спите и не мешайте спать мне. Ходжсон настаивал: — Я еще раз прошу прощения, доктор. Но мне необходимо сказать кому-нибудь, как глубоко я раскаиваюсь, что предал капитана Крозье, который всегда был добр ко мне, и позволил мистеру Хикки захватить вас в плен. Я искренне раскаиваюсь и безумно сожалею о случившемся. Я лежал молча, не произнося ни слова, никак не откликаясь на слова мальчика. – С самого дня гибели Джона… в смысле лейтенанта Ирвинга, моего близкого друга еще по артиллерийскому училищу, — упорно продолжал Ходжсон, — я не сомневался, что убийство совершил помощник конопатчика Хикки, и испытывал перед ним ужас. – Почему же вы примкнули к мистеру Хикки, если считали его таким чудовищем? — прошептал я в темноте. – Я… боялся. Я хотел быть на его стороне именно потому, что он такой страшный человек, — прошептал Ходжсон. А потом мальчик расплакался. — Как вам не стыдно, — сказал я. Но я обнял плачущего мальчика и похлопывал по спине, пока он не уснул. На следующее утро мистер Хикки собрал всех и приказал Магнусу Мэнсону поставить лейтенанта Ходжсона на колени перед ним. Сам же помощник конопатчика, размахивая пистолетом, объявил, что он, мистер Хикки, не намерен терпеть бездельников в своей команде, и еще раз объяснил, что все добросовестные люди будут сытно питаться и останутся в живых, в то время как все лодыри умрут. Потом он приставил длинный ствол пистолета к затылку Джорджа Ходжсона и вышиб ему мозги. Я должен сказать, что перед смертью мальчик держался мужественно. Все то утро он не выказывал ни малейшего страха. Последнее, что он сказал перед выстрелом, было: «Пошел к черту». Мне бы хотелось встретить смерть столь же мужественно. Но я точно знаю, что у меня так не получится. Со смертью лейтенанта Ходжсона спектакль мистера Хикки не закончился; не закончился он и после того, как Магнус Мэнсон раздел мальчика донага и оставил труп лежать за земле перед собравшимися мужчинами. От этого зрелища сердце у меня мучительно сжалось. Как медик, должен сказать, что я даже не представлял, что человек, еще совсем недавно живой, может быть таким худым, каким был бедный Ходжсон. От рук у него остались одни только кости, обтянутые кожей. Ребра и грудина выступали так сильно, что грозили прорвать кожу. И все тело бедного мальчика было сплошь покрыто синяками и кровоподтеками. Тем не менее мистер Хикки велел мне выйти вперед, вручил мне большие ножницы и попросил приступить к вскрытию тела лейтенанта прямо перед собравшимися мужчинами. Я отказался. Мистер Хикки любезным голосом повторил просьбу. Я снова отказался. Тогда мистер Хикки приказал мистеру Мэнсону забрать у меня ножницы и раздеть меня догола, как лежащий у наших ног труп. Когда с меня сорвали всю одежду, мистер Хикки прошелся передо мной взад-вперед и указал пальцем на отдельные части моего голого тела. Мистер Мэнсон стоял рядом, с ножницами в руке. — В нашем братстве нет места бездельникам, увиливающим от своих обязанностей, — сказал мистер Хикки. — И хотя мы нуждаемся во враче — ибо я намерен заботиться о драгоценном здоровье своих людей, всех до единого, — он должен понести наказание, если отказывается служить нашему общему благу. Сегодня он отказался дважды. В знак нашего недовольства мы отрежем два каких-нибудь несущественных отростка. И мистер Хикки принялся тыкать стволом пистолетом в различные части моего тела: пальцы, нос, пенис, яички, уши. Потом он взял мою руку. — Пальцы необходимы врачу, если он собирается быть нам полезным, — театрально провозгласил он и рассмеялся. — Их мы оставим напоследок. Почти все мужчины рассмеялись. — Однако ему не нужны ни яйца, ни член, — сказал мистер Хикки, тыча в вышеупомянутые органы очень холодным стволом пистолета. Мужчины снова рассмеялись. Похоже, они с великим нетерпением ждали дальнейших событий. — Но сегодня мы милосердны, — сказал мистер Хикки. Затем он приказал мистеру Мэнсону отрезать мне два пальца на ноге. – Какие два, Корнелиус? — спросил здоровенный идиот. – На твой выбор, Магнус, — ответил наш церемониймейстер. Мужчины снова рассмеялись. Они были определенно разочарованы, что дело ограничится отрезанием всего-навсего пальцев, однако с нескрываемым удовольствием наблюдали за Магнусом Мэнсоном в роли вершителя судьбы моих фаланг. Винить их не приходится. Матросы в большинстве своем не имеют никакого образования и не любят людей образованных. Мистер Мэнсон выбрал два моих больших пальца. Зрители рассмеялись и зааплодировали. Ножницы были быстро пущены в дело, и огромная физическая сила мистера Магнуса послужила к моему благу при ампутации. Зрители снова засмеялись и выказали великий интерес к происходящему, когда мне принесли мою медицинскую сумку и я перетянул поврежденные артерии, остановил кровотечение, как сумел — чувствуя при этом страшную слабость, — и наложил повязку на раны. Мистер Мэнсон получил распоряжение отнести меня в мою палатку; он ухаживал за мной заботливо, как мать за больным ребенком. Именно в тот день мистер Хикки решил изъять у меня самые действенные лекарственные препараты. Но еще прежде я слил большую часть морфина, опия, лауданума, ядовитой каломели и настоя мандрагорового корня в одну матовую, безобидную на вид бутылку с надписью «Свинцовый сахар», которую спрятал не в медицинской сумке, а в другом месте. Потом я долил в бутылки с остатками перечисленных средств воды до прежнего уровня. Теперь каждый раз, когда я даю мистеру Мэнсону лекарство от «больного живота», он получает восемь частей воды на две части морфина. Однако великан, похоже, не замечает, что целебное средство утратило эффективность, каковое обстоятельство в очередной раз напоминает мне о том, сколь важна вера пациента в медицину. Со дня смерти лейтенанта Ходжсона я еще несколько раз отказывался выполнять приказы мистера Хикки, лишившись в общей сложности еще восьми пальцев ног, одного уха и крайней плоти. Последняя операция вызвала у зрителей такой веселый смех — несмотря на лежащие перед ними трупы, — словно они присутствовали на цирковом представлении. Я знаю, почему мистер Хикки так и не выполнил свою неоднократно повторенную угрозу лишить меня полового члена или яичек. За годы службы во флоте помощник конопатчика видел достаточно много травм, чтобы знать: кровотечение из подобных ран остановить зачастую невозможно — особенно если кровью истекает сам врач, который находится в полуобморочном или шоковом состоянии, когда необходимо срочно провести операцию, — а мистер Хикки не хочет, чтобы я умер. После того как я потерял семь из десяти пальцев на ногах, ходить стало чрезвычайно трудно. Я никогда прежде по-настоящему не понимал, насколько важны наши пальцы для удержания равновесия. И разумеется, боль, которую я постоянно испытываю последний месяц, нельзя назвать незначительной. Полагаю, я впаду в грех гордыни — да и просто солгу, — если скажу здесь, что ни разу не думал о том, чтобы воспользоваться для притупления боли смесью морфина, опия, лауданума (и прочих медицинских препаратов), содержащейся в бутылке, которую я много недель назад припрятал для своего последнего часа. Но я так ни разу и не вынул бутылку из потайного места. До сей поры. Признаюсь, я думал, что смесь подействует быстрее. Я совсем не чувствую ступней — какое счастье! — и ноги у меня онемели до коленных чашечек. Но если дело будет продолжаться такими темпами, пройдет еще десять минут или больше, прежде чем микстура поразит мое сердце и другие жизненно важные органы. Мне следовало принять дозу побольше. Полагаю, я просто струсил, когда не выпил все залпом. Признаюсь здесь (для сугубо научных целей, если кто-нибудь когда-нибудь найдет мой дневник), что микстура описанного состава не только довольно сильно действует, но и довольно сильно одурманивает. Если бы этим темным ветреным вечером здесь находился кто-нибудь — кроме мистера Хикки и, возможно, мистера Мэнсона в королевском полубаркасе надо мной, — он увидел бы, что в последние минуты жизни я расслабленно качаю головой и улыбаюсь пьяной улыбкой. Но я не рекомендую повторять сей эксперимент ни для каких целей, помимо медицинских, — причем только в самом крайнем случае. А теперь я хочу сделать настоящее признание. В первый и последний раз за все годы врачебной практики я лечил пациента не в полную меру своих возможностей. Я говорю, разумеется, о бедном мистере Магнусе Мэнсоне. Мой первоначальный диагноз касательно двух пулевых ранений являлся ложью. Да, действительно, пули были малого калибра, но, надо полагать, крохотный пистолет был заряжен значительным количеством пороха, ибо обе пули, как мне стало понятно в ходе первого же осмотра, пробили слабоумному великану кожу, слой мышечной ткани и стенку брюшной полости. После первого же осмотра я знал, что пули находятся либо в желудке, либо в селезенке, либо в печени, либо в другом жизненно важном органе мистера Мэнсона и что его жизнь зависит от тщательного обследования и срочной операции по удалению пуль. Я солгал. Если ад существует — во что я больше не верю, ибо эта Земля с некоторыми обитающими на ней людьми сама по себе является адом, достаточно страшным для любой Вселенной, — я буду заслуженно низвергнут в самый нижний круг оного. Но мне все равно. Должен сказать, в груди у меня похолодело, и пальцы… пальцы тоже холодеют.
Когда окло мсца назад РЗзбушвалас пурга, я взблагдрил Бга. Тгда кзалсь, что мы и впрвду сумем дбратся до лагеря. Казалсь, что мистер Хикки победил. Мы находлись — мне кажтся — менее чем в двдацти млях отт лагеря и преодлевали 3 или 4 миили в день при хршей погде, кгда рзразлась првая зтяжная снжная буря. Если Богг сущствует… я… блгадрю тбя, миллый Боже. Снег. Тьма. Ужаснй ветр день и ноч. Даже те, кто мгли хдить, болше не мгли тщщить сани и брсили упрж. Палатки пвалило ветрм, потом унессло проч. Темпратура упала до мнус 50. Зима ударила как молотт Божего гнева, и мистру Хиики ничеего не оствалось, кроме как натянут брезентвые плотнищща по бртам своего крлвского полбаркса и перстрелять пловину людей, чтобы накрмит дргую полвину. Некоторые убжали в пргу и умерли. Некотрые остались и были зстрелены. Нктрые Замрзли досмрти. Нктр ссъели другх и всеравно умрли. Мистер Хикки и митсер Мэснсонн сидят там в свое лодке на ветру. Я незнаю наверное, но думаю, что мисстер Мэнсин ужже умер. Я убил его. Я убл людей, ктрых оставл в лагре Спасения. Мне так жаль. Мне так жаль. Всю свою жзнь, мой брат знает, какбы мне хотелсь, чтобы мойбрат был здес сечас, Тмасс знает, всю свою жзн я лбил Платона и Диалоги Сократа. Как в случае с вликим Сокатом, толко я совсем невликий, яд, вплоне мной заслужженый, рспространяется помоему телу и члены мои немеют м мои пльцы — пальцы хрурга — деревенеют и
Как рад Напсл запску, сечас приколтую к моей грудди СЪЕШТЕ БРЕННЫЕ ОСТАНКИ ДОКТРА ГАРРИ Д. С. ГУУДСЕРАКОЛИ ВАМ УГГОДНО ЯДД ВЭТИХ КОСТЯХ И ПОЛТИ УББЪЕТ ИВАС ТОЖЕ люди в ла Спасе Томнас, если мой днвник найду и прочита
Мне очень жаль. Я сделал все, что мог но так и не Раны митсера Мснсна Я НЕ РАСКА
Да храни Бг ЛЮде
59. Хикки
Юго-восточный мыс острова Кинг-Уильям 18 октября 1848 г.В какой-то момент в последние дни или недели Корнелиус Хикки осознал, что он уже не король. Теперь он стал богом. На самом деле — он еще не убедился окончательно, но сильно подозревал и был почти уверен — Корнелиус Хикки стал Богом. Все умерли, но он остался в живых. Он больше не чувствовал холода. Он больше не чувствовал голода или жажды — тем более былой потребности в утолении голода и жажды. Он хорошо видел в темноте ночей, становившихся все длиннее, и ни метель, ни воющий ветер не служили помехой для его зрения и слуха. Простым смертным понадобилось соорудить брезентовый навес у борта лодки, когда палатки изорвало и унесло ветром, и они жались под ним друг кдругу, словно овцы, повернувшись задницами к ветру, пока не умерли, но Хикки чувствовал себя прекрасно на своем высоком троне на корме полубаркаса. Когда по прошествии трех с лишним недель вынужденной стоянки (метели, ветра и стремительно крепчающие морозы не позволяли продолжать путь) его упряжные животные начали скулить и просить пищи, Хикки спустился к ним, как бог, и они получили свои хлебы и рыбы. Он застрелил Стрикленда, чтобы накормить Сили. Он застрелил Данна, чтобы накормить Брауна. Он застрелил Гибсона, чтобы накормить Джерри. Он застрелил Беста, чтобы накормить Смита. Он застрелил Морфина, чтобы накормить Оррена… или, возможно, все было наоборот. Хикки больше не считал нужным хранить в памяти такие мелочи. Но теперь все, кого он столь великодушно накормил, умерли и лежали там, окоченелые, намертво вмерзнув в свои шерстяные спальные мешки или скрючившись на льду в жутких позах предсмертных судорог. Возможно, они просто надоели Хикки, и он пристрелил и их тоже. Он смутно помнил, как неделю или две назад, когда сам еще нуждался в пище, вырезал отборные куски из трупов мужчин, которых застрелил, чтобы накормить остальных. Или, возможно, просто из прихоти. Он не помнил подробностей. Они не имели значения. Когда снежные бури закончатся — а Хикки знал, что Он в любой момент может приказать пурге прекратиться, коли пожелает, — он, возможно, воскресит нескольких мужчин, чтобы они дотащили его и Магнуса до лагеря. Проклятый врач умер — отравился и теперь лежал, окоченелый, в своей маленькой брезентовой палатке в нескольких ярдах от полубаркаса и общей могилы под брезентовым полотнищем, — но, если не считать легкого раздражения, Хикки предпочел оставить без внимания это досадное событие. Даже боги страдают разными фобиями, и Корнелиус Хикки всегда панически боялся ядов и всяких инфекций. Бросив на Гудсера единственный взгляд от входа в палатку — и всадив в труп единственную пулю, дабы удостовериться, что чертов лекарь не притворяется мертвым, — новый бог Хикки попятился и оставил в покое отравленное существо и его заразный брезентовый саван. Магнус на протяжении нескольких недель безостановочно скулил и жаловался на своем излюбленном месте на носу лодки, но вот уже день или два хранил странное молчание. В последний раз он пошевелился во время короткого затишья между метелями, когда тусклый свет зимнего дня освещал полубаркас, занесенный снегом брезентовый навес рядом с ним, низкий холм, на котором они находились, берег к западу и бескрайние ледяные поля за ним: он открыл рот, словно собираясь обратиться с какой-то просьбой к своему любовнику. Но никаких слов или хотя бы очередной жалобы не последовало; вместо этого горячая кровь сначала наполнила открытый рот Магнуса, а потом хлынула из него фонтаном, полилась по бороде, груди, животу и бережно прижатым к нему рукам, растекаясь лужей на дне полубаркаса у башмаков великана. Кровь по-прежнему оставалась там, но теперь замерзла, застыла извилистыми струями, похожая на длинную темную (но покрытую льдом) бороду какого-то библейского пророка. С тех пор Магнус не издал ни звука. Короткий смертный сон друга не беспокоил Хикки — Он знал, что может воскресить Магнуса в любой момент, когда пожелает, — но неотрывный взгляд открытых глаз над разинутым ртом и замерзшим водопадом крови через пару дней начал действовать богу на нервы. Особенно неприятно было просыпаться под этим взглядом. Особенно когда глаза покрылись ледяной коркой и превратились в два холодных белых немигающих ока. Тогда Хикки встал со своего трона на корме и медленно двинулся вперед, мимо прислоненного к борту дробовика и сумки с патронами, через центральные банки, мимо россыпи завернутых в ткань кусков шоколада (которые, возможно, Он соблаговолит съесть, коли голод когда-нибудь вернется), мимо плотницких пил, кучи гвоздей, рулонов листового свинца, перешагнул через аккуратную стопку полотенец и шелковых платков у залитых кровью башмаков Магнуса и наконец оттолкнул ногой в сторону несколько из множества Библий, которые друг в последние дни подтащил поближе и сложил подобием маленькой стенки между собой и Хикки. Но рот Магнуса не желал закрываться — Хикки не мог даже отодрать или сколоть замерзшую реку крови, излившуюся из него на грудь, — и белые глаза тоже никак не закрывались. — Извини, милый, — прошептал он. — Но ты же знаешь, как я не люблю, когда на меня пялятся. Он выковырял ножом замерзшие глазные яблоки и выбросил далеко в завывающую тьму. Он поставит глаза на место позже, когда воскресит Магнуса. Позже, по Его приказу, снежная буря пошла на убыль и стихла. Вой ветра прекратился. С обращенного к западу наветренного борта полубаркаса, высоко стоявшего на санях, намело пятифутовый сугроб снега. Было очень холодно, и обладающий сверхъестественным зрением Хикки видел вдали новые черные тучи, надвигающиеся с севера, но сегодня вечером в мире царило спокойствие. Он видел солнце, заходящее на юге, и знал, что пройдет шестнадцать или восемнадцать часов, прежде чем оно взойдет снова, так же на юге, и что в скором времени оно вообще перестанет подниматься над горизонтом. Тогда наступит Эпоха Тьмы — десять тысячелетий тьмы, — но это вполне устраивало Корнелиуса Хикки. Однако сегодня ночь стояла холодная и тихая. Ярко сияли звезды — вообще-то Хикки знал названия некоторых зимних созвездий, сейчас появившихся в небе, но сегодня не мог отыскать даже Большую Медведицу, — и Он спокойно сидел себе на корме своей лодки, надежно защищенный от холода теплым бушлатом и шерстяной шапкой, положив руки в перчатках на планшири, устремив неподвижный взгляд вперед, в сторону лагеря и даже далекого корабля. Он доберется туда, когда решит воскресить своих упряжных животных. Он думал о минувших месяцах и годах и дивился предопределенному чуду своего превращения в бога. Корнелиус Хикки не сожалел ни о каких событиях своей прошлой, преходящей жизни. Он делал то, что должен был делать. Он воздал по справедливости надменным ублюдкам, которые по глупости своей смотрели на него свысока, и явил всем проблеск своего божественного света. Внезапно он почувствовал какое-то движение на западе. С некоторым трудом — было очень холодно — Хикки повернул голову налево и посмотрел на замерзшее море. Что-то двигалось к нему. Вероятно, это его слух — неестественно и сверхъестественно чуткий, как все прочие его тонко настроенные и обострившиеся сейчас чувства, — уловил звуки движения по растрескавшемуся льду. Какое-то громадное существо шло к нему на двух ногах. Хикки увидел бело-голубую шерсть, озаренную светом звезд. Он улыбнулся. Он обрадовался гостю. У него больше не было причин бояться обитающего во льдах существа. Хикки знал, что теперь оно явилось к нему не как хищник, а как смиренный почитатель. В настоящее время оно не могло даже тягаться с ним силой: Корнелиус Хикки мог приказать существу бесследно исчезнуть или изгнать его легким взмахом руки в самый дальний уголок вселенной. Оно приближалось, изредка опускаясь и прыжками передвигаясь на четырех лапах, но чаще шагая на двух ногах, как человек, хотя и поступью, нисколько не похожей на человеческую. Хикки почувствовал странную тревогу, нарушившую его глубокий космический покой. Существо скрылось из вида, когда подошло почти вплотную к полубаркасу и саням. Хикки слышал, как оно обходит брезентовый навес, забирается под него, рвет окоченелые трупы длинными когтями, щелкает зубами размером с ножи, шумно выдыхает время от времени, — но не видел его. Он осознал, что боится повернуть голову. Он смотрел прямо перед собой, в пустые глазницы Магнуса. Потом внезапно существо появилось, нависло над планширем, возвышаясь на шесть или более футов над лодкой, которая сама возвышалась на шесть футов над санями и снежными сугробами. У Хикки перехватило дыхание. Чудовище, явленное в свете звезд сверхъестественно зоркому взору Хикки, оказалось гораздо страшнее прежнего, гораздо страшнее, чем он мог представить. Оно претерпело такую же чудесную и ужасную трансформацию, какая произошла с Ним, Корнелиусом Хикки. Громадное существо перегнулось через планширь. Оно выдохнуло облако ледяных кристаллов, повисшее в воздухе между носом и кормой лодки, и помощник конопатчика почуял смрад мертвечины, тысячелетний тлетворный дух смерти. Хикки повалился бы на колени и преклонился бы перед чудовищным существом, когда бы мог пошевелиться, но он в буквальном смысле слова застыл на месте. Теперь он не мог даже повернуть голову. Существо обнюхало тело Магнуса Мэнсона, снова и снова тычась длинным, невероятно жутким рылом в замерзший водопад крови на груди Магнуса. Хикки хотел объяснить, что это тело его возлюбленной королевы и что его надо сохранить, дабы Он — не помощник конопатчика Хикки, а Тот, кем он стал, — однажды смог вставить глаза своей возлюбленной супруги обратно в глазницы и вдохнуть жизнь в мертвое тело. Стремительным, но почти небрежным движением существо откусило Магнусу голову. Хруст костей был таким ужасным, что Хикки зажал бы уши, когда бы сумел отнять руки от планширей. Он не мог даже пальцем пошевелить. Существо взмахнуло передней лапой, толщиной превосходящей массивную ляжку Магнуса, и одним ударом раздробило грудную клетку мертвеца — осколки ребер и позвонки брызнули в разные стороны. Хикки осознал, что существо не переломало Магнусу кости, как сам Магнус у него на глазах не раз переламывал ребра и позвоночник мужчинам послабее; оно разбило Магнуса вдребезги, как человек разбивает бутылку или фарфоровую куклу. «Ищет душу, чтобы сожрать», — подумал Хикки, понятия не имевший, почему он так подумал. Теперь Хикки не мог повернуть голову даже на дюйм, и потому ему оставалось лишь смотреть, как обитающее во льдах чудовище выскребает из тела Магнуса Мэнсона все внутренности и поедает, разгрызая огромными зубами, точно кубики льда. Потом существо содрало замороженную плоть с костей Магнуса и разбросало кости по всей носовой части полубаркаса, но предварительно разгрызло самые крупные и высосало костный мозг. Ветер снова поднялся и протяжно застонал вокруг полубаркаса, слагая из стонов заунывную мелодию. Хикки представилось, будто безумный демон ада в белой меховой шубе играет на костяной флейте. Потом чудовище направилось к нему. Сначала оно опустилось на четыре лапы и скрылось из вида — невозможность видеть чудовище почему-то вызывала еще сильнейший ужас, — а потом вдруг стремительно выросло у кормы, точно торосная гряда, и перегнулось через планширь, заполняя все поле зрения Хикки. Черные, немигающие, нечеловеческие, совершенно холодные глаза находились всего в нескольких дюймах от широко раскрытых глаз помощника конопатчика. Жаркое дыхание обволокло его. — …ох… — сказал Корнелиус Хикки. Это было последнее слово, произнесенное помощником конопатчика, — не столько слово, сколько долгий, исполненный ужаса, бессловесный выдох. Хикки почувствовал, как теплое дыхание исходит из него самого, поднимается из груди в горло и истекает через открытый, судорожно искривленный рот, тихо свистя между зубами со сколотой эмалью, но в следующий миг он понял, что это не дыхание навек покидает его, а дух, душа. Чудовищное существо вдохнуло в себя душу Хикки. Но потом оно отшатнулось, потрясло огромной головой, раздраженно фыркнуло, словно отплевываясь от какой-то мерзости. Оно опустилось на все четыре лапы и навсегда покинуло поле зрения Хикки. Все навсегда покинуло поле зрения Хикки. Звезды спустились с неба и застыли ледяными кристаллами на его широко раскрытых глазах. Ворон опустился на него, как тьма, и пожрал то, до чего не соизволил дотронуться Туунбак. В конце концов незрячие глаза Хикки растрескались от мороза, но он не моргнул. Его тело осталось прямо сидеть на корме, с расставленными ногами, крепко упертыми в дно лодки рядом с россыпью трофейных золотых часов и кучей одежды, снятой с мертвецов, с примерзшими к планширям руками в перчатках, — пальцы правой руки находились всего в нескольких дюймах от стволов заряженного дробовика. На следующее утро, перед поздним рассветом, снова началась снежная буря и небо опять принялось завывать на все лады — и весь следующий день и всю следующую ночь снег сыпал в открытый, судорожно искривленный рот помощника конопатчика и покрывал его синий бушлат, шерстяную шапку и вытаращенные растрескавшиеся глаза тонким белым саваном.
60. Крозье
Блаженство смерти, теперь знает он, состоит в том, что там нет боли и нет сознания своего «я». Плохая новость насчет смерти, теперь знает он, заключается в том, что там (как он и опасался каждый раз, когда помышлял о самоубийстве и отказывался от него именно по этой причине) продолжаются сны. Хорошая новость насчет плохой новости заключается в том, что сны эти чужие. Крозье свободно плывет по течению в теплом море «не-я» и слушает чужие сны. Если бы после перехода в блаженное состояние посмертного плавания у него осталась хоть толика аналитических способностей, свойственных ему при жизни, прежний Френсис Крозье подивился бы своей мысли насчет «слушания» снов, но эти сны и вправду скорее слушаешь, точно чье-то пение — хотя там нет ни слов, ни мелодии, ни голосов, — а не «видишь», как всегда бывает при жизни. Хотя в постигаемых слухом снах присутствуют в высшей степени определенные зрительные образы, Френсис Крозье никогда не встречал таких персонажей, форм и красок по другую сторону смертной завесы, и именно это не облеченное в голос, не облеченное в напевные звуки повествование наполняет его смертные сны. Вот красивая эскимосская девушка по имени Седна. Она живет одна со своим отцом в снежном доме далеко к северу от постоянных эскимосских поселений. Слухи о красоте девушке распространяются окрест, и разные молодые люди пускаются в долгий путь через ледяные поля и пустынные скалистые острова, чтобы засвидетельствовать свое почтение седовласому отцу и добиться руки Седны. Ни один из поклонников не пленяет сердце девушки ни своими речами, ни лицом, ни фигурой, и в конце весны, когда лед начинает вскрываться, она уходит одна далеко в ледяные поля, спасаясь от очередного ежегодного нашествия луноликих поклонников. Поскольку дело происходит во времена, когда животные еще говорили на языке, понятном Людям, одна птица прилетает к ней и уговаривает Седну своей песней. «Пойдем со мной в страну птиц, где все так же прекрасно, как моя песня, — поет птица. — Пойдем со мной в страну птиц, где нет голода, где ты всегда будешь жить в шатре из прекраснейших оленьих шкур и лежать на мягчайших медвежьих шкурах, где твой светильник всегда будет наполнен жиром. И я, и мои друзья будем выполнять любые твои желания, и ты всегда будешь одета в наряды из самых наших красивых и ярких перьев». Седна верит своему пернатому поклоннику, сочетается с ним браком по обычаю Настоящих Людей и отправляется со своим супругом в долгий путь через моря и льды в страну птиц. Но птица солгала. Они живут не в шатре из прекраснейших оленьих шкур, а в убогом пристанище, наспех сооруженном из лоскутов гниющей рыбьей кожи. Холодный ветер свободно разгуливает по нему и смеется над наивным легковерием Седны. Она спит не на мягчайших медвежьих шкурах, а на жестких моржовых. В светильнике нет жира. Другие птицы не обращают на нее внимания, и она носит свои старые одежды, в которых выходила замуж. Муж приносит ей в пищу лишь сырую рыбу. Седна постоянно повторяет своему пернатому супругу, что очень скучает по отцу, и в конце концов птицы позволяют старому эскимосу навестить дочь. Старику приходится совершить многонедельное плавание на своей утлой лодчонке. Когда он прибывает, Седна притворяется радостной и довольной, покуда они не остаются наедине в темном, зловонном жилище, и тогда Седна заливается слезами и жалуется отцу, что муж жестоко обращается с ней и что она потеряла все — молодость, красоту, счастье, — выйдя замуж за птицу, а не за одного из молодых поклонников из племени людей. Отец приходит в ужас и помогает Седне придумать план убийства мужа. На следующее утро, когда пернатый супруг возвращается с сырой рыбой для Седны, девушка с отцом, вооруженные гарпуном и веслом из отцовского каяка, нападают и убивают птицу. Потом отец и дочь пускаются в бегство из страны птиц. Много дней они плывут на юг, к стране Настоящих Людей, но, когда друзья и родственники находят пернатого супруга Седны мертвым, они исполняются гневом и летят на юг, хлопая крыльями так громко, что звук этот слышен даже в краю Настоящих Людей, находящемся в тысяче лиг оттуда. Расстояние, которое Седна с отцом преодолели за неделю плавания, птицы покрывают в считанные минуты. Они спускаются к маленькой лодке, словно черная яростная туча, состоящая из острых клювов, когтей и перьев. Ударами могучих крыльев они поднимают ужасный ветер, который вызывает сильное волнение на море и грозит перевернуть маленькую лодку. Отец решает вернуть дочь птицам в качестве жертвоприношения и бросает ее за борт. Седна изо всех сил вцепляется в борт лодки. Мертвой хваткой. Отец берет нож и отрезает первые фаланги ее пальцев. Упав в море, суставы пальцев превращаются в первых китов. Ногти становятся китовым усом, какой часто находят на отлогих берегах. И все же Седна продолжает цепляться за лодку. Тогда отец отрезает вторые фаланги пальцев. Они падают в море и превращаются в тюленей. Но Седна по-прежнему цепляется. Когда объятый ужасом отец отрезает последние фаланги, они падают на плавучие льдины и в воду и превращаются в моржей. Когда вместо пальцев у нее остаются только обрубки костей, похожие на когти покойного пернатого супруга, Седна наконец падает в воду и идет ко дну океана. Она покоится там и поныне. Именно Седна является повелительницей всех китов, моржей и тюленей. Если Настоящие Люди угождают ей, она посылает к ним животных и приказывает тюленям, моржам и китам, чтобы они позволяли ловить и убивать себя. Если Настоящие Люди вызывают у нее неудовольствие, она держит китов, моржей и тюленей при себе в темных глубинах, и Настоящие Люди страдают и умирают от голода. «Что за чертовщина?» — думает Френсис Крозье. Это голос его собственного «я» нарушает плавное течение постигаемых слухом чужих снов. Словно откликаясь на призыв, возвращается боль.61. Крозье
«Мои люди!» — кричит он. Но он слишком слаб, чтобы кричать. Он слишком слаб, чтобы произнести это вслух. Он слишком слаб, чтобы хотя бы вспомнить, что значат эти четыре слога. «Мои люди!» — снова кричит он. Но из груди у него вырывается только стон. Она истязает его. Крозье приходит в чувство не сразу, но постепенно, в ходе мучительных попыток открыть глаза, сводя воедино разрозненные обрывки с трудом обретенного сознания на протяжении многих часов и даже дней, каждый раз выплывая из пучины смертного сна под действием жестокой боли и четырех бессмысленных слогов — «Мои люди!» — и в конце концов приходит в себя настолько, чтобы вспомнить, кто он такой, увидеть, где он находится, и понять, кто рядом с ним. Она истязает его. Эскимосская девочка-женщина, известная ему под именем леди Безмолвной, продолжает резать его грудь, руки, бока, спину и ногу раскаленным острым ножом. Боль нестерпима и неослабна. Он лежит подле нее в тесном помещении — не в снежном доме, какой Джон Ирвинг описывал Крозье, а в своего рода палатке, сооруженной из шкур, натянутых на изогнутые палки или кости; мерцающий огонь нескольких плошек озаряет голое тело девушки и голые, искромсанные, окровавленные грудь, руки и живот самого Крозье. Похоже, она разрезает его на мелкие кусочки. Крозье пытается закричать, но снова обнаруживает, что слишком слаб для этого. Он пытается оттолкнуть прочь истязающую руку с ножом, но он слишком слаб, чтобы поднять свою собственную руку, а тем более остановить чужую. Ее карие глаза пристально смотрят в глаза Крозье, видят снова затеплившуюся в них жизнь, а потом опять сосредоточенно вглядываются в раны, которые она наносит ножом, кромсая и истязая его тело. Крозье умудряется издать слабый, еле слышный стон. Потом он снова проваливается во тьму, но не в чужие постигаемые слухом сны и в блаженное состояние свободы от собственного «я», а в черное штормовое море боли.Она кормит его бульоном из голднеровской консервной банки, по всей видимости украденной с «Террора». Бульон имеет привкус крови какого-то морского животного. Потом она отрезает тонкие ломтики тюленьего мяса и сала странным кривым ножом с костяным черенком, зажимая шмат тюленины в зубах и орудуя острым лезвием в опасной близости от губ, тщательно прожевывает кусочки и наконец проталкивает один за другим между запекшихся, растрескавшихся губ Крозье. Он пытается выплюнуть их — он не желает, чтобы его кормили, как беспомощного птенца, — но она подбирает жирные комки и запихивает все до единого обратно ему в рот. Не в силах сопротивляться, он находит в себе силы прожевать и проглотить. Потом он снова погружается в сон под колыбельную завывающего ветра, но вскоре просыпается. Крозье осознает, что лежит голый между меховыми полостями, — он не видит нигде в тесном помещении своей одежды, всех своих многочисленных рубах и свитеров, — и что теперь она перевернула его на живот, подложив под него кусок гладкой тюленьей кожи, чтобы кровь из израненной груди не испачкала мягкие шкуры и меха, устилающие пол палатки. Она режет, кромсает, ковыряет длинным прямым ножом его спину. Не в силах сопротивляться или перевернуться на спину, Крозье может лишь стонать. Ему представляется, что она режет его на кусочки, которые жарит и ест. Он чувствует, как она прижимает что-то влажное и скользкое к многочисленным ранам на спине. В какой-то момент мучительной пытки он снова засыпает. «Мои люди!» Только через несколько дней нестерпимой боли, проведенных частично в беспамятстве, частично в сознании и в полной уверенности, что Безмолвная режет его на кусочки, Крозье вспоминает, что в него стреляли. Он просыпается в темноте, которую рассеивает лишь слабый свет луны или звезд, проникающий в узкие щели между туго натянутыми шкурами. Эскимосская девушка спит рядом с ним, согреваясь теплом его тела и отдавая ему свое тепло, и оба они голые. Крозье не испытывает ни слабейшего сексуального возбуждения или плотского влечения — ничего, кроме физиологической потребности в тепле. Боль слишком мучительна. «Мои люди! Я должен вернуться к своим людям! Предупредить их!» Он впервые за несколько дней вспоминает Хикки, лунный свет, выстрелы. Рука Крозье лежит у него на груди, и теперь он с трудом передвигает ладонь повыше и дотрагивается до места, куда пришелся заряд дроби. Верхняя часть груди и плечо сплошь покрыты вздувшимися рубцами и ранами, но у него такое ощущение, будто все дробинки и лоскутки ткани, вогнанные с ними в тело, аккуратно извлечены. В самые глубокие раны вложено что-то мягкое, на ощупь похожее на влажный мох или морские водоросли; у Крозье возникает острое желание выковырять эту дрянь и выбросить прочь, но не хватает силы. Спина в области лопаток у него болит еще сильнее, чем искромсанная грудь, и Крозье вспоминает дикую боль, которую он чувствовал, когда Безмолвная ковырялась там ножом. Еще он вспоминает тихий хлюпающий звук, раздавшийся после того, как Хикки спустил курок, но перед выстрелом — старый порох отсырел, и, вероятно, оба заряда воспламенились с далеко не полной взрывной силой, — а также вспоминает мощный удар переднего края дробового облака, заставивший его крутануться на месте и рухнуть на лед. Он получил один выстрел в спину с предельного расстояния, на какое стреляет дробовик, и один в грудь. «Все ли дробинки выковыряла эскимоска? Все ли лоскутки грязной ткани, вогнанные с ними в тело?» Крозье щурится в полумраке. Он вспоминает лазарет доктора Гудсера и терпеливый голос врача, объясняющего, что во время боевых действий на море, как и в случае с большинством ран, полученных людьми в данной экспедиции, истинной причиной смерти являются не сами раны, а сепсис, вызванный занесенной в них инфекцией и развивающийся впоследствии. Он медленно передвигает ладонь с груди на плечо. Он вспоминает, что, разрядив в него дробовик, Хикки еще несколько раз выстрелил из его собственного пистолета, и первая пуля попала… вот сюда. Крозье судорожно всхлипывает, когда нащупывает пальцами глубокую дыру в бицепсе. Она забита все той же влажной скользкой дрянью. От страшной боли, пронзившей плечо при прикосновении, у него кружится голова и тошнота подкатывает к горлу. Под ребром слева он находит еще одно пулевое отверстие. Дотронувшись до него — у Крозье едва хватает сил, чтобы просто переместить туда руку, — он громко охает и на миг теряет сознание. Очнувшись, Крозье осознает, что Безмолвная извлекла пулю у него из-под ребра и здесь тоже наложила на рану целебную припарку. Судя по резкой боли при дыхании, пуля перебила по меньшей мере одно ребро слева, изменила траекторию движения и засела под левой лопаткой. По всей видимости, Безмолвная извлекла ее оттуда. Он тратит несколько мучительно долгих минут и расходует последние остатки силы, чтобы дотянуться рукой до самой болезненной раны. Крозье не помнит, чтобы ему стреляли в ногу, но жгучая боль над и под коленом свидетельствует, что третья пуля прошла там навылет. Он нащупывает входное и выходное отверстия трясущимися пальцами. Всего двумя дюймами выше — и пуля раздробила бы колено, раздробленное колено стоило бы ему ноги, а потеря ноги означала бы верную смерть. Здесь тоже наложена целебная припарка, и, хотя Крозье нащупывает струпья, кровотечения, похоже, нет. «Неудивительно, что у меня жар. Я умираю от сепсиса». Потом он осознает, что жар, который он чувствует, возможно, и не лихорадочный вовсе. Эти шкуры так надежно защищают от холода, и лежащее рядом нагое тело Безмолвной выделяет столько тепла, что Крозье по-настоящему жарко впервые за… какое время? Месяцы? Годы? С великим трудом Крозье откидывает верх меховой полости, накрывающей их обоих, чтобы впустить под нее немного прохладного воздуха. Безмолвная слабо шевелится, но не просыпается. Глядя на нее в полумраке, Крозье думает, что она похожа на девочку-подростка — возможно, на одну из младших дочерей его кузена Альберта. С этой мыслью — вспоминая, как он играл в крокет на зеленой лужайке в Дублине, — Крозье снова погружается в сон.
Она одета в парку и стоит на коленях перед ним; руки у нее раздвинуты примерно на фут, и веревка, скрученная из сухожилий или кишок какого-то зверя, пляшет между растопыренными пальцами. Крозье тупо смотрит. Сложно перекрещенная веревка раз за разом складывается в две фигуры. Первая состоит из трех линий, образующих два треугольника сверху, в углах которых находятся большие пальцы девушки, и двойной петли снизу в центре, и представляет собой подобие остроконечного купола. А вторая (правая рука отведена далеко в сторону, и два прямых отрезка веревки тянутся почти до самой левой руки, где веревка обхватывает только большой палец и мизинец) представляет собой маленький замысловатый контур, похожий на карикатурную фигуру с четырьмя овальными ногами или ластами и головой в виде петельки. Крозье понятия не имеет, что значат эти фигуры или эта игра. Он медленно мотает головой, давая понять, что не хочет играть. Безмолвная несколько мгновений пристально смотрит на него немигающими темными глазами. Потом она разрушает фигуру, изящным движением уронив маленькие руки на колени, и кладет веревку в костяную миску, из которой он пьет свой бульон. Через секунду она выползает из палатки, поднырнув под многочисленные пологи. Ошеломленный сильной струей холодного воздуха, ворвавшейся внутрь за эти секунды, Крозье пытается поползти к выходу. Он должен посмотреть, где он находится. Судя по непрестанному треску и глухому гулу, они по-прежнему на льду — вероятно, поблизости от места, где в него стреляли. Крозье не представляет, сколько времени прошло с той ночи, когда Хикки напал из засады на них четверых — на него самого, Гудсера и несчастных Лейна и Годдарда, — но он надеется, что это произошло всего несколько часов назад, самое большее — день или два. Если он уйдет отсюда сейчас же, возможно, он еще успеет предупредить людей в лагере Спасения, прежде чем Хикки, Мэнсон, Томпсон и Эйлмор появятся там и сотворят еще какое-нибудь зло. Крозье в состоянии приподнять голову и плечи на несколько дюймов, но он слишком слаб, чтобы выбраться из-под шкур, а тем более доползти до выхода и выглянуть из-под пологов палатки, сооруженной из оленьих шкур. Он снова засыпает. Спустя какое-то время — он даже не знает, тот ли самый это день и возвращалась ли в палатку девушка, пока он спал, — Безмолвная будит его. Сквозь щели между оленьих шкур сочится все тот же тусклый свет, в палатке горят все те же плошки с салом. В вырытой в снежном полу ямке, которую эскимоска использует для хранения продуктов, лежит кусок свежей тюленины, и Крозье видит, что девушка сняла тяжелую парку и осталась в одних только коротких штанах, надетых мехом внутрь. Изнанка мягкой шкуры светлее, чем смуглая кожа Безмолвной. Ее груди покачиваются, когда она снова опускается на колени перед Крозье. Внезапно между пальцами у нее снова начинает плясать веревка. На сей раз девушка показывает сначала фигурку животного, потом веревка провисает, перекручивается на новый манер и складывается в подобие остроконечного овального купола. Крозье мотает головой. Он не понимает. Безмолвная бросает веревку в миску, берет короткий кривой нож с костяным черенком, похожим на рукоятку крюка грузчика, и начинает нарезать на тонкие ломтики кусок тюленины. — Я должен найти своих людей, — шепчет Крозье. — Ты должна помочь мне найти моих людей. Безмолвная внимательно смотрит на него. Капитан не знает, сколько дней пролетело. Он очень много спит. В редкие часы бодрствования он пьет свой бульон, ест тюленье мясо и сало, которые Безмолвная больше не разжевывает за него, хотя по-прежнему сама кладет куски ему в рот, а она меняет припарки на ранах и моет его. Крозье испытывает неописуемое унижение от того, что вынужден справлять нужду в очередную голднеровскую консервную банку, установленную на снегу на расстоянии вытянутой руки от него и что именно девушке приходится регулярно выносить и опорожнять банку где-то на ледяном поле. Крозье не становится легче от сознания, что содержимое банки быстро замерзает и от него почти нет запаха в тесной палатке, уже насквозь пропитанной запахами рыбы, тюленины и человеческого пота. — Мне нужно, чтобы ты помогла мне вернуться к моим людям, — снова хрипит он. Он полагает, что, скорее всего, они находятся неподалеку от полыньи, где Хикки напал на них, — не более чем в двух милях от лагеря Спасения. Он должен предупредить остальных. Крозье смущает тот факт, что всякий раз, когда он просыпается, сквозь щели в стенах палатки сочится одинаково тусклый свет. Вероятно, по какой-то причине, объяснить которую в силах один доктор Гудсер, он просыпается только ночью. Возможно, Безмолвная одурманивает его своим бульоном из тюленьей крови, чтобы он спал днем. Чтобы не убежал. — Пожалуйста, — шепчет он. Ему остается лишь надеяться, что, несмотря на свою немоту, дикарка немного научилась понимать английскую речь за месяцы, проведенные на «Терроре». Гудсер с уверенностью утверждал, что леди Безмолвная все слышит, хотя и не может говорить за отсутствием языка, и, когда она гостила на корабле, Крозье сам не раз видел, как она вздрагивает при неожиданных громких звуках. Безмолвная продолжает пристально смотреть на него. «Она не только дикарка, но еще и идиотка», — думает Крозье. Будь он проклят, если еще хоть раз обратится с просьбой к этой язычнице. Он будет продолжать есть и пить, выздоравливать и набираться сил, а в один прекрасный день оттолкнет ее в сторону и отправится в лагерь сам. Безмолвная моргает и отворачивается, чтобы поджарить кусок тюленины на маленькой самодельной плитке, заправленной жиром.
Он просыпается на другой день — вернее, на другую ночь, поскольку свет все такой же тусклый, как всегда, — и видит, что Безмолвная стоит над ним на коленях и снова играет в свою странную игру. Первая фигура, сложившаяся из растянутой между пальцами веревочки, представляет собой знакомый остроконечный купол. Девушка проворно шевелит пальцами. Появляются два вертикальных овала головы и туловища, но теперь с двумя ногами или ластами, а не с четырьмя. Она раздвигает руки шире, и веревочная фигурка непонятным образом начинает двигаться — скользит от правой руки к левой, переставляя ноги-петли. Пальцы девушки пляшут, и между руками у нее снова появляется овальный купол, но — медленно осознает Крозье — не совсем такой, как прежде. Остроконечная верхушка исчезла, и теперь контур купола представляет собой правильную цепную линию, какие он изучал в бытность свою гардемарином, разглядывая иллюстрации в учебниках геометрии и тригонометрии. Крозье трясет головой. — Я не понимаю, — хрипит он. — Я не вижу никакого смысла в твоей чертовой игре. Безмолвная внимательно смотрит на него, щурится, бросает веревку в кожаный мешок и начинает вытаскивать Крозье из-под шкур. У него по-прежнему нет сил сопротивляться, но он и не напрягает свои отчасти восстановленные скудные силы, чтобы помочь девушке. Безмолвная усаживает его прямо и натягивает на него нижнюю рубаху из оленьей шкуры, а потом толстую меховую парку. Крозье страшно изумляет малый вес одежды — хлопчатобумажные и шерстяные вещи, которые он носил последние три года, весили свыше тридцати фунтов до того, как насквозь пропитались потом и влагой, но этот эскимосский наряд явно весит не более восьми фунтов. Он чувствует, насколько свободно болтаются на нем и рубаха и парка, но насколько плотно ворот и края рукавов облегают шею и запястья, препятствуя возможному проникновению холода под одежду. Смущенный, Крозье пытается помочь натянуть на свои голые ноги легкие короткие штаны из оленьей шкуры — такие же, какие Безмолвная носит в палатке, только побольше размером, — а потом длинные чулки из оленьей шкуры, но непослушные пальцы скорее мешают, нежели помогают. Безмолвная отталкивает руки Крозье прочь и заканчивает одевать его с бесстрастной ловкостью, известной только матерям и няням. Крозье смотрит, как девушка надевает ему на ноги плотные носки, похоже сплетенные из травы, и подтягивает повыше к щиколоткам. Надо полагать, они обеспечивают теплоизоляцию, и Крозье трудно даже представить, сколько времени потребовалось Безмолвной — или другой женщине, — чтобы сплести из травы такие длинные, плотные носки. Меховые сапоги, натянутые на него Безмолвной поверх травяных носков, имеют высокие голенища, в которые заправляются штанины, и он замечает, что подошва у них сделана из грубой кожи значительно толще оленьих шкур, пошедших на прочие предметы одежды. В первые часы своего бодрствования в палатке Крозье удивлялся обилию парок, мехов, оленьих шкур, горшков, скрученных из сухожилий шнуров, заправленных тюленьим жиром светильников, вырезанных, похоже, из мыльного камня, кривых ножей и прочих инструментов, но потом понял очевидную вещь: именно леди Безмолвная утащила добро восьми эскимосов, убитых лейтенантами Ходжсоном и Фарром. Остальное имущество — голднеровские консервные банки, ложки, ножи, ребра морских млекопитающих, обломки досок и даже старые бочарные клепки, использовавшиеся в качестве элементов палаточного каркаса, — наверняка подобрано на свалке у «Террора», или в покинутом лагере, или на льду, где Безмолвная провела несколько месяцев в одиночестве. Когда процесс одевания заканчивается, Крозье бессильно валится на бок, опираясь на локоть, и задыхаясь спрашивает: — Теперь ты отведешь меня к моим людям? Безмолвная надевает на него рукавицы, натягивает на голову капюшон, отороченный мехом белого медведя, крепко хватается за край медвежьей полости под ним и выволакивает его из палатки. Холодный воздух обжигает легкие, и Крозье заходится кашлем, но через минуту осознаёт, что совершенно не мерзнет. Он чувствует, как тепло собственного тела плавает вокруг него под просторными одеяниями, явно не пропускающими воздуха. Безмолвная с минуту суетится вокруг него, усаживая на кучу сложенных шкур. По всей видимости, она не хочет, чтобы он лежал на льду, даже на медвежьей полости, поскольку в этих странных эскимосских нарядах человеку теплее, когда он сидит, позволяя воздуху, нагретому теплом собственного тела, свободно циркулировать под одеждой. Словно в подтверждение этой догадки, Безмолвная расстилает на льду медвежью шкуру, аккуратно ее сворачивает и добавляет к груде шкур, уложенных у него за спиной. Ноги у Крозье мерзли всякий раз, когда он поднимался на палубу или выходил на лед, а последние три месяца постоянно оставались мокрыми и холодными, но, удивительное дело, сейчас холод льда, похоже, не проникает сквозь толстые кожаные подошвы сапог и травяные носки. Безмолвная принимается разбирать палатку ловкими уверенными движениями, а Крозье тем временем оглядывается вокруг. Сейчас ночь. «Почему она вытащила меня ночью? Какие-то непредвиденные обстоятельства?» Судя по звукам, они находятся на паковом льду; быстро исчезающая стоянка расположена среди сераков, айсбергов и торосных гряд, слабо поблескивающих в свете редких звезд, выглядывающих из-за низких облаков. Крозье видит темную воду полыньи футах в тридцати от места, где он лежал в палатке, и сердце у него бьется учащенно. «Мы по-прежнему находимся там, где Хикки напал на нас из засады, в двух милях от лагеря Спасения. Я знаю путь обратно». Потом он осознаёт, что эта полынья гораздо меньше той, к которой их привел Роберт Голдинг, — черное пятно открытой воды имеет менее восьми футов в длину и всего четыре в ширину. Да и вмерзшие в паковый лед айсберги вокруг выглядят иначе. Они гораздо выше айсбергов, окружавших место засады, и их гораздо больше. И торосные гряды, хребты здесь тоже значительно выше. Крозье, прищурившись, вглядывается в небо, но видит лишь слабо мерцающие звезды. Если бы облака разошлись и если бы у него были секстант, таблицы и карты, возможно, он сумел бы определить свое местонахождение… «Если бы… если бы… возможно…» Единственное знакомое скопление звезд, которое Крозье замечает среди облаков, походит скорее на зимнее созвездие, нежели на летнее, какое должно находиться в данной части неба в середине или в конце августа. Он помнит, что был ранен ночью 17 августа, — он уже сделал ежедневную запись в своем походном журнале, когда Роберт Голдинг вбежал в лагерь, — и уверен, что с момента нападения прошло не более нескольких дней. Он лихорадочно озирается по сторонам, пытаясь рассмотреть где-нибудь над горизонтом тусклое свечение, свидетельствующее о недавнем закате или близком рассвете на юге или востоке. Повсюду вокруг только ночная тьма, и воющий ветер, и редкие мерцающие звезды. «Боже мой… где солнце?!» Крозье по-прежнему не чувствует холода, но дрожит так сильно, что вынужден напрячь свои скудные силы и схватиться обеими руками за сложенные в кучу шкуры, чтобы не упасть. Леди Безмолвная делает нечто очень странное. Она разобрала палатку в считанные секунды — даже в полумраке Крозье видит, что наружные стенки палатки сделаны из тюленьих шкур, — и теперь становится на колени на одну из тюленьих шкур и распарывает ее пополам своим кривым ножом. Потом она тащит две половинки тюленьей шкуры к полынье и погружает в воду, толкая кривой палкой, чтобы они промокли насквозь. Возвратившись к месту, где всего минуту назад стояла палатка, девушка вынимает мороженую рыбу из хранилища, вырубленного во льду на ее половине палатки, и проворно укладывает рыбины цепочкой, голова к хвосту, вдоль одного края каждой из двух половинок быстро заледеневающей шкуры. Крозье не видит ни малейшего смысла в действиях девушки. Такое впечатление, будто она совершает некий безумный языческий ритуал здесь, на крепчающем ветру под звездами. Но проблема в том, что она разрезала наружный покров палатки. Даже если она снова поставит палатку из оленьих шкур, натянутых на изогнутые палки, ребра и кости, стенки жилища больше не будут надежно защищать от ветра и холода. Не обращая на него внимания, Безмолвная туго скатывает половинки тюленьей шкуры вдоль, заворачивая в них уложенную цепочкой рыбу, растягивая мокрую кожу, чтобы рулон получился как можно более тугим. Крозье с удивлением замечает, что с одного конца обоих рулонов она оставила торчать половину рыбины и теперь занимается тем, что осторожно загибает вверх головную часть одной и другой рыбы. Через две минуты девушка поднимает два семифутовых рулона тюленьей шкуры, в которые завернута рыба, — теперь оба они замерзли, обратившись в подобие двух дубовых брусов с загнутой вверх рыбьей головой на одном конце каждого, — и укладывает на лед параллельно друг другу. Теперь она расстилает на льду маленькую шкуру, опускается на нее на колени и с помощью сухожилий и кожаных ремешков связывает оленьи рога и кости (прежде служившие каркасом палатки), чтобы посредством их соединить между собой две семифутовые скатки тюленьей кожи с завернутой в них рыбой. — Матерь Божья, — хрипит Крозье. «Два рулона мокрой тюленьей кожи с закатанной в них мороженой рыбой — это полозья. Оленьи рога — это поперечины». — Да ты сооружаешь сани, черт возьми, — шепчет он. Пар от дыхания висит облаком ледяных кристаллов в ночном воздухе. Удивление Крозье сменяется легкой паникой. 17 августа и раньше было не так холодно — далеко не так холодно, даже среди ночи. По оценке Крозье, Безмолвной потребовалось полчаса или меньше, чтобы соорудить сани с полозьями из мороженой рыбы и поперечинами из оленьих рогов, но теперь он сидит вот уже часа полтора или все два (следить за течением времени трудно за отсутствием карманных часов и поскольку он то и дело погружается в легкую дрему), пока женщина возится с санными полозьями. Сначала она вынимает из парусиновой сумки с «Террора» что-то похожее на смесь ила и мха. Принеся от полыньи несколько голднеровских консервных банок воды, она лепит из мха и ила шарикиразмером с кулак, а потом укладывает по длине самодельных полозьев, ровно размазывая и прихлопывая голыми ладонями. Крозье не понимает, почему руки у нее не коченеют, хотя она часто прерывается, чтобы засунуть их под парку и погреть на собственном голом животе. Безмолвная разравнивает полузамерзшее месиво ножом, удаляя лезвием излишки, словно скульптор, работающий над глиняным макетом. Потом она приносит еще воды из полыньи и поливает застывший слой обмазки, поверх которого мгновенно образуется твердый ледяной панцирь. Под конец она обрызгивает водой изо рта кусок медвежьей шкуры и трет влажным мехом полозья по всей длине, пока ледяная корка на них не становится совершенно гладкой. В свете звезд полозья перевернутых саней — два часа назад бывшие просто рыбой и тюленьей шкурой — кажутся Крозье стеклянными. Безмолвная переворачивает сани полозьями вниз, проверяет ремни и узлы, садится на надежно закрепленные поперечины из оленьих рогов и обломков деревянных брусьев, испытывая их прочность, а затем привязывает оставшиеся два рога — самые длинные, изогнутые, прежде служившие элементами палаточного каркаса — торчком к саням сзади, таким образом получая подобие ручек. Потом она укладывает на поперечины медвежьи и тюленьи шкуры и направляется к Крозье, чтобы помочь ему подняться на ноги и дойти до саней. Он отталкивает руку девушки и пытается идти сам. Он не помнит, как упал лицом в снег, но зрение и слух возвращаются к нему, когда Безмолвная затаскивает его на сани, выпрямляет ему ноги, прислоняет спиной к груде шкур, опертой на задние стойки, и накрывает несколькими толстыми меховыми полостями. Он видит, что она привязала к передней поперечине длинные кожаные ремни, концы которых сплела в подобие упряжи, надевающейся на уровне пояса. Он вспоминает ее игры с веревкой и наконец понимает, что она пыталась сказать ему: палатка (остроконечный купол) разбирается, и они двое уходят (шагающие веревочные фигурки, хотя Крозье определенно не шел на своих двоих сегодня ночью) в другой купол, без остроконечной верхушки. (Другая палатка, только куполообразная? Снежный дом?) Когда все упаковано и уложено — запасные меховые полости, парусиновые сумки, завернутые в шкуры горшки и плошки с тюленьим салом навалены на Крозье, — Безмолвная встает в упряжь и начинает тянуть сани по льду. Полозья скользят легко, точно стеклянные, гораздо легче и тише, чем полозья тяжело нагруженных саней с «Террора» и «Эребуса». Крозье с великим изумлением осознает, что по-прежнему не чувствует холода: после двух или более часов неподвижного сидения на льду он нисколько не замерз, если не считать кончика носа. Небо затянуто плотной облачной пеленой. На горизонте, в какую сторону ни глянь, нет ни малейшего признака рассвета. Френсис Крозье понятия не имеет, куда женщина везет его. Обратно к острову Кинг-Уильям? На юг, к полуострову Аделаида? К реке Бака? Прочь от суши, в ледяные поля? — Мои люди, — хрипит он. Он пытается повысить голос, чтобы она услышала его сквозь вздохи ветра, сухой шорох снега и треск толстого льда под ними. — Мне надо вернуться к моим людям. Они ищут меня. Мисс… мэм… леди Безмолвная, пожалуйста. Ради всего святого, отвезите меня в лагерь Спасения. Безмолвная не оборачивается. Он видит только заднюю часть ее капюшона и белую меховую оторочку, слабо поблескивающую в призрачном, почти несуществующем свете звезд. Крозье не понимает, как она находит путь в такой темноте или как столь хрупкая девушка может без видимых усилий тащить сани с ним и прочим грузом. Они бесшумно скользят вперед, к окутанным тьмой нагромождениям ледяных глыб.
62. Крозье
Седна на морском дне решает, послать ли тюленя наверх, чтобы другие животные или Настоящие Люди охотились на него, но в конечном счете тюлень сам решает, позволить себя убить или нет. И в известном смысле тюлень всего один. Тюлени похожи на Настоящих Людей в том смысле, что у каждого из них две души — одна преходящая, умирающая вместе с телом, и одна вечная, покидающая тело в час смерти. Первая душа, тарник, представляет собой крохотный пузырек воздуха и крови, который любой охотник может найти в тюленьих внутренностях и который имеет форму самого тюленя, только в сотни раз уменьшенного. Когда тюлень умирает, его вечная душа покидает тело и вселяется в своем неизменном виде в тюлененка, являющегося потомком тюленя, который решил позволить убить и съесть себя. Настоящие Люди знают, что в течение своей жизни охотник будет множество раз ловить и убивать одного и того же тюленя, моржа или медведя. В точности то же самое происходит с вечной душой любого представителя племени Настоящих Людей, когда его преходящая душа умирает вместе с телом. Инуа — вечная душа, — сохранившая все свои воспоминания и способности, только в скрытом виде, переселяется в мальчика или девочку из рода умершего человека. Это одна из причин, почему Настоящие Люди никогда не наказывают своих детей, сколь бы непослушными или даже дерзкими они ни росли. Кроме детской души, в ребенке обитает также инуа взрослого — отца, дяди, деда, прадеда, матери, тети, бабушки или прабабушки, обладающая всей мудростью охотника, главы рода или шамана, — порицать и бранить которую нельзя. Тюлень не сдастся первому встречному охотнику из племени Настоящих Людей. Охотник должен взять над ним верх не только благодаря своей хитрости, ловкости и мастерству, но также благодаря собственной смелости и качеству своей инуа. Эти инуа — души Настоящих Людей, тюленей, моржей, медведей, оленей, птиц, китов — существовали в виде бесплотных духов еще до появления Земли, а Земля очень стара. В начальный период истории вселенной Земля представляла собой парящий диск под небом, опертым на четыре колонны. Под Землей находилась область тьмы, где обитали духи (и где большинство обитает и по сей день). В ту пору Земля была почти все время покрыта водой и не населена человеческими существами — ни Настоящими Людьми, ни другими, — покуда из-под холмов на ней не выползли два человека, Аакулуджууси и Уумаанииртук. Эти двое стали первыми из племени Настоящих Людей. В ту пору не было ни звезд, ни луны, ни солнца, и двоим первым людям и их потомкам приходилось жить и охотиться в кромешной тьме. Поскольку тогда еще не было шаманов, которые руководили бы действиями Настоящих Людей, первые человеческие существа имели весьма ограниченные возможности и охотились только на мелких животных — зайцев, куропаток, воронов, — и они не умели жить правильно. Единственным украшением, которое они изредка носили, являлся аангуак — амулет из раковины морского ежа. Тогда же, в начале времен, к двум мужчинам на Земле присоединились женщины (они вышли из ледников, как мужчины вышли из земных недр), но они были бесплодными и все время бродили по берегу, вглядываясь в море или копаясь в земле в поисках детей. Второй Век Вселенной наступил после долгой и ожесточенной борьбы между лисой и вороном. Тогда появились времена года, а потом жизнь и смерть; вскоре после появления времен года началась новая эпоха, когда преходящая душа человеческих существ стала умирать вместе с телом, а вечная инуа стала переселяться в другое тело. Тогда шаманы постигли некоторые тайны мироздания и начали учить Настоящих Людей жить правильно, создав законы, которые запрещали кровосмешение, браки с представителями других родов, убийство и прочие поступки, нарушающие природный Порядок Вещей. Шаманы также умели заглядывать в прошлое — сколь угодно далекое, даже предшествующее появлению Аакулуджууси и Уумаанииртука из недр Земли, — и стали объяснять людям происхождение таких великих духов вселенной (инуа), как, например, Душа Луны, или Наарджук, душа самого сознания, или Сайла, душа воздуха, самая могущественная из всех древних стихий. Именно Сайла сотворяет жизненную силу, которой наделяет все вещи мира, и свой гнев она выражает в метелях и снежных бурях. Именно тогда Настоящие Люди узнали о Седне, известной в других холодных краях под именем Уинигумауитук или Нулиаюк. Шаманы объяснили, что все человеческие существа — Настоящие Люди, краснокожие туземцы, живущие далеко к югу от Настоящих Людей, и даже бледнолицые люди, появившиеся гораздо позднее, — родились после совокупления Седны-Уини-гумауитук-Нулиаюк с собакой. Вот почему собакам позволено иметь имена, душу имени и даже принимать частицу инуа своего хозяина. Инуа луны, Анингат, вступил в кровосмесительную связь со своей сестрой Сикник, инуа солнца, и жестоко обращался с ней. Жена Анингата, Улиларнак, любила извлекать внутренности из своих жертв — Настоящих Людей или животных, — и настолько невзлюбила шаманов за вмешательство в дела духов, что в наказание заставила их безудержно смеяться. До сего дня с шаманами случаются приступы безудержного смеха, от которых они зачастую умирают. Настоящие Люди обладают знанием о трех самых могущественных духах во вселенной — всепроникающей Душе Воздуха, Душе Моря, повелевающей всеми животными, которые обитают в море или кормятся дарами моря, и последнего члена троицы, Души Луны, — но эти три первородных инуа слишком могущественны, чтобы обращать внимание на Настоящих Людей (или любых других человеческих существ), и потому Настоящие Люди не поклоняются этой троице. Шаманы редко пытаются вступить в общение с могущественнейшими из духов — такими, как Седна, — и довольствуются тем, что запрещают Настоящим Людям нарушать различные табу к недовольству Души Моря, Души Луны или Души Воздуха. Но постепенно, со сменой многих поколений, шаманы — известные среди Настоящих Людей под именем ангаккуитов — постигали все новые и новые тайны сокрытой от взора вселенной и малых духов инуа. За много веков некоторые из шаманов обрели дар ясновидения — способность прозревать грядущее. Настоящие Люди называют этот дар кауманик или ангаккуа — в зависимости от того, каким образом он проявляется. Как некогда человеческие существа приручили своих дальних родственников, волков, превратив последних в собак, так и ангаккуит, умеющий слышать чужие мысли и передавать свои мысли другим, укрощает, приручает и подчиняет своей власти малых духов, являющихся ему. Эти прирученные духи получили имя туурнгаитов и помогали шаманам не только видеть незримый мир духов и далекое прошлое, предшествующее появлению первых людей на Земле, но также заглядывать в умы других человеческих существ, чтобы узнавать о проступках Настоящих Людей, нарушающих естественный порядок мироздания. Духи-сподручники туурнгаиты помогают шаманам восстанавливать порядок и гармонию. Они учат ангаккуитов своему языку, языку малых духов, который называется ириналиутит, чтобы шаманы могли обращаться непосредственно к своим собственным предкам и к более могущественным духам вселенной, инуа. Когда шаманы овладели языком ириналиутит своих сподручных туурнгаитов, они обрели способность помогать людям признавать свои проступки и ошибки, чтобы лечить болезни и приводить в порядок хаос, который представляют собой дела рук человеческих, таким образом восстанавливая порядок самого мироздания. Свод законов и табу, переданный шаманами соплеменникам, был таким же сложным, как замысловатые фигуры, которые и поныне женщины из племени Настоящих Людей складывают из натянутой между пальцами веревки. Шаманы также выступали в роли защитников. Некоторые малые злые духи скитаются среди Настоящих Людей, всячески им досаждая и вызывая ненастье, но шаманы научились изготавливать и наделять чудесной силой священные ножи, убивающие этих тупилаитов. Чтобы остановить саму снежную бурю, ангаккуиты изобрели и передавали из поколения в поколение особый кривой нож, которым можно перерезать сайлагиксактук, артерию ветра. Еще шаманы умеют летать и выступать в роли посредников между Настоящими Людьми и духами, но они также могут (и такое бывает довольно часто) злоупотреблять своими способностями и причинять человеческим существам вред, используя илисииксиник — могущественные чары, которые они наводят на людей, пробуждая в них зависть, дух соперничества и даже лютую ненависть, вынуждающую представителя племени Настоящих Людей убивать себе подобных без всякой причины. Нередко шаман теряет власть над своими сподручными духами туурнгаитами, и, когда такое случается, коли быстро не поправить дело, этот неумелый шаман становится сродни огромной глыбе железной руды, притягивающей к себе летние молнии, и Настоящим Людям остается только ослепить шамана и бросить на произвол судьбы или убить, обезглавив и схоронив голову подальше от тела, чтобы он не смог оживить себя и преследовать обидчиков. Большинство шаманов, обладающих хоть малой толикой магической силы, умеют летать, исцелять больных людей, даже целые семьи или деревни (на самом деле они просто помогают людям исцелиться самостоятельно, восстановив душевную гармонию после признания своих ошибок и проступков), покидать свои тела, чтобы подниматься на луну или опускаться на морское дно (туда, где обитают инуа, могущественнейшие из духов), а также — после шаманских заклинаний, произнесенных на языке ириналиутит, особых песен и битья в бубны, — превращаться в животных вроде белого медведя. В то время как большинство духов, не населяющих тела, довольствуются пребыванием в тонком духовном мире, за пределами последнего обитают существа, заключающие в себе инуа чудовищ. Некоторые из малых чудовищ называются тупилеками, и в действительности они были сотворены людьми, известными под именем илиситуков, сотни и тысячи лет назад. Илиситуки являлись не шаманами, а скорее злыми стариками и старухами, которые обладали значительной шаманской силой, но использовали свои способности больше для поверхностных занятий магией, чем для исцеления людей. Все человеческие существа и в особенности Настоящие Люди живут за счет поедания душ — они это хорошо знают. Что такое охота, если не стремление одной души найти другую душу и полностью подчинить своей власти через смерть? Когда, например, тюлень позволяет охотнику убить себя, охотник после убийства и перед разделкой туши должен выказать почтение инуа тюленя, позволившего себя убить, дав ему (поскольку он водоплавное животное) символический глоток воды. Некоторые охотники из племени Настоящих Людей для этой цели носят с собой ложки с длинной ручкой, но старейшие и опытнейшие охотники по-прежнему поят мертвого тюленя водой из собственного рта. Все мы поедатели душ. Но злые старики и старухи илиситуки были еще и похитителями душ. С помощью заклинаний они подчиняли своей воле охотников, многие из которых тогда уходили со своими семьями из деревни, чтобы жить — и умереть — далеко на морском льду или в горах в глубине острова. Потомки этих жертв похитителей душ назывались кивитоками и всегда славились крайней жестокостью. Когда члены семьи и жители деревни начинали подозревать старых илиситуков в темных делах, колдуны часто создавали маленьких злобных животных — тупилеков, — которые преследовали, калечили или убивали их врагов. Изначально тупилеки представляли собой маленькие неодушевленные предметы величиной с «чертов палец», но, когда они оживали с помощью магии илиситуков, они могли вырастать до любых, сколь угодно больших размеров и принимать самые ужасные формы. Но поскольку при свете дня таких чудовищ было легко заметить и спастись бегством, тупилеки предпочитали принимать обличья настоящих животных — моржа, например, или белого медведя. Тогда ничего не подозревающий охотник, проклятый злым илиситуком, из преследователя превращался в преследуемого. Человеческим существам редко удавалось спастись от кровожадных тупилеков, посланных совершить убийство. Но в наши дни на свете осталось очень мало злых колдунов илиситуков — среди всего прочего и по той причине, что, коли тупилеку не удавалось убить намеченную жертву (если в дело вмешивался шаман или сам охотник оказывался настолько умен и ловок, что спасался собственными силами), он неизменно возвращался и безжалостно убивал своего создателя. Один за другим старые илиситуки становились жертвами своих собственных ужасных творений. Но много тысячелетий назад настало время, когда Седна, Душа Моря, воспылала гневом на родственных духов, Душу Воздуха и Душу Луны. Чтобы убить их — двух остальных членов Триады, объединяющей главные силы мира, — Седна создала собственного тупилека. Эта одушевленная машина для убийства была столь ужасна, что получила свое собственное имя и стала зваться Туунбаком. Туунбак мог свободно переходить из мира духов в земной мир людей и обратно, а также принимать любое обличье, какое пожелает. Каждое обличье, им принятое, было столь ужасно, что даже бесплотные духи не могли прямо посмотреть на него, не ввергнувшись в безумие. Его великая сила — направленная Седной только на разрушение и убийство — являла собой ужас в чистом виде. Вдобавок Седна наделила своего Туунбака способностью повелевать ититкусикьюками, бесчисленными малыми злыми духами, обитающими за пределами тонкого мира. В схватке один на один Туунбак мог бы убить и Душу Луны, и Сайлу, Душу Воздуха. Но Туунбак, хотя и ужасный во всех отношениях, был не таким осторожным и неприметным, как малые тупилеки. Сайла, чья жизненная сила наполняет вселенную, почуяла смертоносное присутствие чудовища, преследующего ее в тонком мире. Понимая, что Туунбак может убить ее, и понимая также, что вселенная снова ввергнется в хаос, коли она погибнет, Сайла призвала Душу Луны помочь ей убить чудовищное существо. Анингат, Душа Луны, не имел желания помогать ей. И судьба мира не волновала его. Тогда Сайла обратилась с просьбой о помощи к Наарджуку, Душе Сознания и одному из старейших духов инуа (который, как и сама Сайла, появился на свет в незапамятные времена, когда космический хаос отделился от тонкого, но идущего в рост зеленого побега Порядка). Наарджук согласился. В битве, которая продолжалась десять тысячелетий и после которой остались дыры, разрывы и пустоты в ткани тонкого мира, Сайла и Наарджук объединенными усилиями отразили яростную атаку Туунбака. Как и все тупилеки, не сумевшие выполнить поставленную перед ними задачу, Туунбак вернулся, чтобы убить своего создателя, Седну. Но Седна, многому научившаяся на горьком опыте еще даже до предательства, совершенного отцом в далеком прошлом, прекрасно понимала, какую опасность представляет для нее Туунбак, еще прежде, чем создала чудовище, и потому теперь она с помощью заклинаний, произнесенных на языке ириналиутит, привела в действие тайную слабость, которой наделила свое творение. В тот же миг Туунбак перенесся на поверхность Земли и навсегда лишился способности возвращаться в тонкий мир или на морское дно и превращаться в бесплотного духа. Теперь Седне не грозила опасность. С другой стороны, Земля и все ее обитатели оказались в опасности. Седна изгнала Туунбака в самую холодную и пустынную часть густонаселенной Земли — в край вечных льдов у Северного полюса. Она выбрала Северный полюс, а не какую-нибудь другую далекую холодную местность, поскольку только на Крайнем Севере, который многие божества инуа считали центром Земли, жили шаманы, имевшие хоть какой-то опыт противостояния разгневанным злым духам. Туунбак, лишенный способности превращаться в чудовищного бесплотного духа, но по-прежнему чудовищный по своей сути, вскоре переменил обличье, как делают все тупилеки, и стал самым ужасным из всех живых существ, обитающих на Земле. Он выбрал обличье и природу самого разумного, самого коварного и самого жестокого хищника на Земле — полярного белого медведя, — но размерами и хитростью превосходил обычного медведя настолько, насколько последний превосходит жалкую собачонку. Туунбак убивал и пожирал свирепых белых медведей, поглощая их души, с такой же легкостью, с какой Настоящие Люди охотились на куропаток. Чем сложнее душа-инуа живого существа, тем она вкуснее для хищника, пожирающего души. Вскоре Туунбак понял, что ему больше нравится поедать людей, чем нануков — медведей, — и больше нравится поедать человеческие души, чем души моржей или даже огромные, кроткие и разумные души-инуа косаток. На протяжении многих десятилетий Туунбак пожирал человеческих существ. Обширные территории заснеженного Севера, некогда усеянные деревнями, морские просторы, некогда видавшие флотилии каяков, и защищенные от ветра долины, слышавшие смех тысяч Настоящих Людей, вскоре опустели, покинутые человеческими существами, обратившимися в бегство на юг. Но спастись от Туунбака было невозможно. Сотворенный Седной тупилек превосходил в скорости бега и плавания, в проворстве, сообразительности и физической силе любого человека на свете. Он приказал злым духам ититкусикьюкам передвинуть ледники дальше на юг и заставил сами ледники преследовать людей, бежавших в одетые зеленью края, чтобы Туунбак в своей белой мохнатой шкуре не изнывал там от жары и мог маскироваться среди снегов, продолжая пожирать человеческие души. Сотни охотников отправлялись из деревень Настоящих Людей, чтобы убить чудовище, но ни один из них не вернулся живым. Иногда Туунбак глумился над семьями погибших, возвращая части мертвых тел — порой оставляя головы, руки, ноги и туловища сразу нескольких охотников сваленными в одну кучу, чтобы родственники не смогли даже провести погребальный обряд должным образом. Казалось, сотворенное Седной чудовище собирается сожрать все человеческие души на Земле. Но, как и надеялась Седна, шаманы из сотен деревень Настоящих Людей, расположенных на границе холодного северного края, распространили устное послание, а затем собрались все вместе на территории шаманов ангаккуитов и обратились с мольбой о помощи ко всем дружественно настроенным духам, посовещались со своими сподручными туурнгаитами и в конце концов придумали, как справиться с Туунбаком. Они не могли убить ужасного Бога, Который Ходит Как Человек, — даже Сайла, Душа Воздуха, и Седна, Душа Моря, не могли убить тупилека Туунбака. Но они могли остановить его. Они могли воспрепятствовать чудовищу продвинуться дальше на юг и убить всех человеческих существ и всех Настоящих Людей. Лучшие из лучших шаманов — ангаккуиты — отобрали лучших мужчин и женщин из своего числа, обладающих даром ясновидения и способностью слышать и передавать мысли, и свели лучших мужчин с лучшими женщинами, как сегодня Настоящие Люди случают упряжных собак, чтобы вывести еще более сильное и умное потомство. Родившихся в результате детей, наделенных даром ясновидения, стали называть сиксам иеа, или «небесные повелители духов», и послали их вместе с семьями на север, чтобы они помешали Туунбаку убивать Настоящих Людей. Небесные повелители духов научились призывать Туунбака гортанным пением. Целиком посвятив свою жизнь общению с Туунбаком, они позволили ревнивому чудовищу лишить их возможности разговаривать с себе подобными. В обмен на обещание тупилека-убийцы не охотиться больше за человеческими душами небесные повелители духов пообещали Богу Который Ходит Как Человек, что они — Настоящие Люди и все прочие человеческие существа — больше не будут строить свои жилища в царстве льда и снега. Они пообещали Богу Который Ходит Как Человек, что никогда впредь не станут охотиться или ловить рыбу в его владениях, не испросив у него позволения. Они пообещали, что все грядущие поколения сиксам иеа и прочих Настоящих Людей будут помогать Богу Который Ходит Как Человек утолять зверский аппетит, ловя для него рыбу, убивая моржей, тюленей, оленей, зайцев, китов, волков и даже меньших братьев Туунбака, белых медведей, чтобы он ел досыта. Они пообещали, что ни один представитель человеческого племени на каяке или лодке никогда не вторгнется в морские владения Бога Который Ходит Как Человек, кроме как для того, чтобы привезти пищу или пропеть гортанные песни, услаждавшие слух зверя, или отдать кровожадному чудовищу дань. Благодаря своему дару предвидения сиксам иеа знали, что со вторжением во владения Туунбака бледнолицых людей — каблуна — начнется Конец Времен. Отравленный бледными душами каблуна, Туунбак заболеет и умрет. Настоящие Люди забудут свои обычаи и свой язык. В их домах поселятся пьянство и отчаяние. Мужчины ожесточатся сердцем и станут бить своих жен. Души-инуа детей утратят покой, и добрые сны перестанут приходить к Настоящим Людям. Когда Туунбак умрет от каблуна-болезни, знали небесные повелители духов, в его холодных белых владениях начнется потепление и таяние льдов. Белым медведям станет негде жить, и их детеныши умрут. Тюленям и моржам будет негде кормиться. Лишившись своих мест для гнездования, птицы будут кружить в небе и призывать на помощь Ворона. Такое вот будущее видели они. Сиксам иеа знали: как ни страшен Туунбак, такое будущее без него — и без родного холодного края — будет еще страшнее. Но тогда, задолго до наступления Конца Времен, поскольку молодые ясновидцы, небесные повелители духов, разговаривали с Туунбаком, как могли разговаривать лишь Седна и прочие духи — не голосом, но единственно посредством передачи мыслей, — все еще живой Бог Который Ходит Как Человек прислушался к их предложениям и обещаниям. Туунбак, который — как все величайшие из великих духов инуа, — любит поклонение и почитание, согласился. Он пообещал питаться приношениями людей, а не их душами. На протяжении многих поколений ясновидящие сиксам иеа продолжали сочетаться браком только с мужчинами и женщинами, обладающими таким же даром. В малолетстве ребенок сиксам иеа отказывался от возможности разговаривать с остальными людьми, чтобы показать Богу Который Ходит Как Человек, что он посвящает свою жизнь общению только с ним одним, с Туунбаком. На протяжении многих поколений малочисленные семьи сиксам иеа, которые живут гораздо дальше к северу, чем остальные Настоящие Люди (по-прежнему испытывающие ужас перед Туунбаком), и всегда строят свои жилища на постоянно покрытой глетчерами и снегом земле или паковом льду, стали известны под именем Народа Прямоходящего Бога, и даже их язык превратился в странную смесь из всех прочих наречий Настоящих Людей. Разумеется, сиксам иеа не могут изъясняться вслух ни на каком наречии — только на беззвучном языке мыслей, каким владеют какуманики и ангаккуа. Но они все же остаются людьми, они любят свои семьи и принадлежат к своим родам, объединяющим многочисленные родственные семьи, и потому для общения с другими Настоящими Людьми мужчины сиксам иеа пользуются особым языком жестов, а женщины сиксам иеа имеют обыкновение прибегать к играм с натянутой между пальцами веревочкой, которым научились от своих матерей.63. Крозье
Крозье просыпается с адской головной болью. В последние дни он почти всегда просыпается по утрам с сильнейшей головной болью. Казалось бы, человек с изрешеченными дробью спиной, грудью и руками и с тремя тяжелыми пулевыми ранениями должен чувствовать по пробуждении боль иного рода, но хотя и она в самом скором времени начинает терзать его, в первую очередь он замечает именно ужасную головную боль. Она напоминает Крозье о годах, когда он каждый вечер напивался виски и на следующее утро горько сожалел об этом. Иногда по пробуждении — как сегодня утром — в больной голове у него звучит эхо бессмысленных слогов и слов. Все слова изобилуют щелкающими звуками и похожи на слова тарабарского наречия, какие на ходу придумывают дети, пытаясь найти верное количество слогов для песенки, сопровождающей прыганье через скакалку, но в течение мучительных секунд, предшествующих окончательному пробуждению, Крозье кажется, что они имеют какой-то смысл. В последние дни он постоянно чувствует страшную умственную усталость, словно проводит все ночи за чтением Гомера на греческом. Френсис Родон Мойра Крозье никогда в жизни не пытался читать на греческом. Да и не хотел. Он всегда предоставлял заниматься этим ученым и помешанным на книгах бедолагам вроде старого стюарда Бридженса, друга Пеглара. Этим темным утром он просыпается в снежном доме, разбуженный Безмолвной, которая с помощью веревочных фигур, сменяющих друг друга у нее между растопыренными пальцами, говорит, что пора снова идти охотиться на тюленя. Она уже одета в парку и исчезает в ведущем наружу тоннеле, как только заканчивает общение с ним. Раздраженный тем, что позавтракать сегодня не придется — хотя бы куском холодного тюленьего сала, оставшегося со вчерашнего ужина, — Крозье одевается, под конец натягивает парку и рукавицы и ползет вниз по тоннелю, выходящему на юг, с подветренной стороны жилища. В темноте снаружи Крозье осторожно поднимается на ноги — иногда левая нога у него плохо работает по утрам — и оглядывается вокруг. Снежный дом слабо светится, озаренный изнутри плошкой, которую они оставляют гореть, чтобы помещение не выстужалось, даже когда уходят. Крозье ясно помнит долгий санный поход через льды к этому месту — где бы оно ни находилось — и помнит, как он сидел на санях, закутанный в меха и совершенно беспомощный тогда, много недель назад, и наблюдал с чувством, похожим на благоговейный трепет, за Безмолвной, потратившей долгие часы на рытье ямы в снегу и строительство снежного дома. С тех пор Крозье со своим математическим складом ума провел не один час, лежа под меховыми полостями в уютном маленьком помещении и восхищаясь криволинейными очертаниями купола и точным, без видимого труда давшимся расчетом, с каким женщина вырезала снежные блоки — при слабом свете звезд! — и возвела из них наклоненные внутрь стены. Созерцая купол из-под своих мехов долгой ночью или темным днем, он думал: «От меня толку — как собаке от пятой ноги, — но также думал: — Эта штуковина должна рухнуть». Верхние блоки кладки находились почти в горизонтальном положении. Они имели трапециевидную форму, и последний блок — замковый — девушка протолкнула наружу, а потом подровняла его края и втянула обратно внутрь, поставив на место. Под конец Безмолвная забралась на самый верх сложенного из снежных блоков купола, попрыгала там, а потом съехала вниз по стенке. Поначалу Крозье решил, что она просто резвится, как ребенок, каким иногда казалась, но потом понял, что она просто проверяла прочность и устойчивость нового жилища. На следующий день — очередной день без солнца — эскимоска с помощью горящей плошки растопила внутреннюю поверхность стен снежного дома, а потом дала ей снова замерзнуть, после чего стены покрылись тонкой, но очень твердой ледяной коркой. Затем она разморозила тюленьи шкуры, которые сначала служили наружным покровом палатки, потом санными полозьями, и прикрепила к сухожилиям, пропущенным между снежными блоками кладки, таким образом обшив изнутри стены и потолок снежного дома. Крозье сразу понял, что шкуры защищают от капель воды, образующихся при повышении температуры воздуха в жилище. Крозье поразило, насколько тепло в снежном доме: всегда по меньшей мере на пятьдесят градусов теплее, чем снаружи, и зачастую достаточно тепло, чтобы они оба оставались в одних только коротких штанах из оленьей шкуры, когда не лежали под меховыми полостями. Справа от входа на вырубленной в снегу полке находилась «кухня», и на сооруженной из оленьих рогов и палок раме над огнем там не только висели разнообразные сосуды для приготовления пищи, но также сушилась одежда. Как только Крозье восстановил силы настолько, что стал выходить из снежного дома вместе с Безмолвной, она с помощью языка жестов и веревочных фигур объяснила, что по возвращении они каждый раз обязательно должны сушить верхнюю одежду. Кроме кухонной полки справа от входа и полки для сидения слева от него, в глубине снежного дома находилась вырубленная в снегу широкая платформа, где они спали. Немногочисленные обломки досок и палки — в прошлом служившие элементами палаточного каркаса и поперечинами саней, — которыми Безмолвная укрепила платформу по краям, намертво вмерзли в снег, препятствуя ее осыпанию. Затем эскимоска усыпала снежное ложе остатками мха из парусиновой сумки — вероятно, используя оный в качестве утеплительного материала, — а потом аккуратно расстелила на нем оленьи и медвежьи шкуры. Затем она знаками объяснила Крозье, что они будут спать головами к выходу, подложив под них вместо подушек свернутые одежды, теперь сухие. Все одежды. В первые дни и недели Крозье отказывался снимать на ночь короткие штаны из оленьей шкуры, хотя леди Безмолвная неизменно спала голой, но в скором времени обнаружил, что в них чересчур уж жарко. Все еще слишком слабый, чтобы испытывать физическое влечение к женщине, он вскоре привык забираться под меховые полости в чем мать родила и надевать сухие, не пропитанные потом штаны и прочую одежду только по пробуждении утром. Всякий раз, когда Крозье ночью просыпался голый рядом с Безмолвной под меховыми полостями, распаренный от тепла, он пытался вспомнить все месяцы на боту «Террора», когда он постоянно мерз во влажной одежде, а в темной жилой палубе вечно капало с обледенелых стен и подволока и воняло керосином. В голландских палатках было еще хуже. Сейчас он надвигает пониже на лоб отделанный мехом капюшон парки, чтобы защитить лицо от холода, и оглядывается по сторонам. Разумеется, сейчас темно, как ночью. Крозье понадобилось много времени, чтобы смириться с мыслью, что он провел в беспамятстве — или был мертвым? — много недель после того, как в него стреляли, прежде чем впервые очнулся и осознал присутствие Безмолвной рядом; но во время их долгого санного похода над южным горизонтом наблюдалось лишь кратковременное тусклое свечение — значит, вне всяких сомнений, сейчас по меньшей мере ноябрь. После переселения в снежный дом Крозье пытался вести счет дням, но из-за постоянной темноты снаружи и странного режима сна и бодрствования (ему казалось, иногда они спят по двенадцать часов кряду) он не знал наверное, сколько недель миновало со времени их прибытия сюда. Вдобавок из-за снежных бурь они часто сидели в доме невесть по сколько дней и ночей подряд, питаясь только рыбой и тюлениной из запасов, хранившихся в «морозильной камере». Созвездия в небе — сегодня оно очень ясное, а значит, день очень холодный — являются зимними созвездиями, и воздух такой морозный, что звезды дрожат и мерцают в высоте, как на протяжении многих лет, когда Крозье наблюдал за ними с палубы «Террора» или любого другого корабля, на котором ходил в Арктику. Разница только в том, что сейчас он не чувствует холода и не знает своего местоположения. Крозье идет по следам Безмолвной вокруг снежного дома и направляется к покрытому льдом берегу и покрытому льдом морю. На самом деле у него нет необходимости идти по следам, поскольку он знает, что заснеженный берег находится ярдах в ста к северу от снежного дома и что Безмолвная всегда выходит на лед, когда охотится на тюленей. Но, даже ориентируясь здесь по сторонам света, он все равно не в состоянии определить свое местоположение. От лагеря Спасения и всех прочих лагерей, разбивавшихся на южном побережье острова Кинг-Уильям, замерзшие проливы всегда находились к югу. Возможно, они с Безмолвной сейчас находятся на полуострове Аделаида, расположенном через пролив к югу от Кинг-Уильяма, или даже на самом острове, но где-то на восточном или северо-восточном побережье, не нанесенном на карту. Крозье совершенно не помнит, как Безмолвная перетаскивала его к палатке после нападения Хикки — или сколько раз меняла место стоянки, прежде чем он вернулся с того света, — и лишь очень смутно представляет, сколько времени продолжалось их путешествие на санях с рыбными полозьями, прежде чем она построила снежный дом. Они могут находиться где угодно. Даже если они двигались на север, они могут находиться вовсе не на Кинг-Уильяме, а на одном из островов в проливе Джеймса Росса к северо-востоку от Кинг-Уильяма или на каком-нибудь не нанесенном на карту острове либо к востоку, либо к западу от Бутии. В удалении от берега здесь начинаются холмы — не горы, но холмы, значительно выше всех, какие Крозье видел когда-либо на Кинг-Уильяме, — и само место стоянки защищено от ветра лучше любого из тех, что он или его люди находили когда-либо, включая лагерь «Террор». Шагая по скрипящему снегу и хрустящей гальке к морскому льду, Крозье думает о сотнях предпринятых им за последние недели попыток объяснить Безмолвной, что ему необходимо уйти, найти своих людей, вернуться к своим людям. Она всегда смотрит на него без всякого выражения. Постепенно он пришел к мысли, что Безмолвная понимает его — если не слова, произносимые на английском, то чувства, за ними скрытые, — но никогда не отвечает, ни взглядом, ни на языке веревочных фигур. Ее способность все понимать — и развившаяся в нем самом способность улавливать сложные мысли, скрытые за пляшущими веревочными фигурами у нее между пальцами, — граничит со сверхъестественной. Иногда он чувствует такую близость со странной туземной девушкой, что, просыпаясь среди ночи, не сразу понимает, где чье тело. Порой на льду он слышит, как она зовет его из темноты, прося подойти поскорее или принести гарпун, веревку или инструмент… хотя у нее нет языка, и она ни разу не издала ни звука в его присутствии. Она понимает очень многое, и временами Крозье кажется, что именно ее сны он видит каждую ночь, и он задается вопросом, не приходится ли девушке видеть его кошмарный сон про священника в белых одеяниях, нависающего над ним, ожидающим причастия. Но она не желает отвести Крозье к его людям. Трижды Крозье пытался уйти один — потихоньку выползал из снежного дома, когда она спала или притворялась спящей, прихватив с собой лишь сумку с тюленьим салом для поддержания жизни да нож для защиты, — и все три раза заблудился: дважды в глубине острова или полуострова, где они находятся, и один раз далеко на морском льду. Все три раза Крозье шел, пока хватало сил — вероятно, по несколько дней подряд, — а потом падал, готовый принять смерть как справедливое наказание за то, что он оставил своих людей умирать. Каждый раз Безмолвная находила его. Каждый раз она укладывала Крозье на медвежью полость, накрывала шкурами и молча тащила многие холодные мили обратно к снежному дому, где отогревала его обмороженные руки и ступни на своем голом животе под меховыми покрывалами и не смотрела на него, пока он плакал. Сейчас он находит девушку в нескольких сотнях ярдов от берега; она склоняется над тюленьей отдушиной во льду. Как бы он ни старался — а он старался, — Крозье еще ни разу не удавалось отыскать ни одной чертовой отдушины. Он сомневается, что в силах найти таковую летом при свете дня, а уж тем более при свете луны и звезд или в кромешной тьме, как Безмолвная. Вонючие тюлени чрезвычайно умны и хитры, и не приходится удивляться, что его люди сумели подстрелить всего нескольких за все месяцы, проведенные на льду, и ни одного не убили через отдушину. С помощью своей говорящей веревки Безмолвная объяснила Крозье, что тюлень может задерживать дыхание под водой всего на семь или восемь минут — самое большее на пятнадцать. (Эти единицы времени Безмолвная обозначила определенным количеством ударов сердца, но Крозье полагал, что перевел их в минуты достаточно точно.) Если он понял Безмолвную правильно, у каждого тюленя есть своя территория, как у собаки, волка или белого медведя. Даже зимой тюлень должен защищать границы своей территории, и потому, чтобы обеспечить себя достаточным запасом воздуха в своих подледных владениях, тюлень находит самый тонкий лед и выдалбливает там конусообразную отдушину, достаточно широкую в нижней части, чтобы туда поместилось все тело, но с предельно маленьким отверстием на самой поверхности льда, через которое может дышать. Безмолвная показала Крозье острые зазубрины на ластах мертвого тюленя и для пущей наглядности поскребла ими лед. Крозье верит Безмолвной, когда она при посредстве своей говорящей веревки объясняет, что на территории одного тюленя находятся дюжины таких конусообразных отдушин, но он не может найти ни одной, хоть ты тресни. «Конусы», которые она ясно изображает с помощью своей веревки и сама без труда находит здесь среди нагромождений ледяных глыб, практически невидимы среди сераков, торосных гряд, ледяных валунов, маленьких айсбергов и расселин. Крозье наверняка сотню раз спотыкался о чертовы отдушины, но неизменно принимал их просто за неровности льда. Сейчас Безмолвная сидит на корточках возле такой тюленьей отдушины. Крозье находится в дюжине ярдов от нее, и она знаком велит ему оставаться на месте. На некотором расстоянии от отдушины — как же все-таки она их находит? — Безмолвная кладет на лед маленькие прямоугольные кусочки оленьей шкуры, которые подбирает и перекладывает вперед после каждого шага, и приближается к ней, осторожно переставляя ноги в толстых меховых сапогах с одного на другой, чтобы снег ни разу не скрипнул, пусть сколь угодно тихо. Оказавшись рядом с отдушиной, она медленными плавными движениями, подобными движениям русалки, втыкает в снег разветвленные оленьи рога и укладывает на них нож, гарпун, веревки и другие охотничьи принадлежности, чтобы иметь возможность взять любой нужный предмет, не производя ни малейшего шума. Перед выходом из снежногодома Крозье перетянул свои рукава и штанины ремнями, как учила Безмолвная, чтобы одежда не шуршала. Но он знает, что если сейчас подойдет ближе к отдушине, произведенный им шум покажется тюленю подо льдом сродни грохоту рухнувшей башни из консервных банок — если там есть тюлень, — и потому он напрягает зрение, всматриваясь в лед под ногами, различает квадратный кусок оленьей шкуры размером два на два фута, который Безмолвная неизменно оставляет для него, и медленно, осторожно опускается на него на колени. Крозье знает, что до его прихода, когда Безмолвная уже нашла отдушину, она осторожно и медленно убрала ножом снег, прикрывающий отверстие, и расширила само отверстие костяным наконечником, насаженным на толстый конец гарпуна. Потом она обследовала отверстие с целью убедиться, что оно находится прямо над глубоким вертикальным тоннелем во льду, — в противном случае шансы на точный удар гарпуном невелики, — а потом снова возвела над ним маленький снежный холмик. Затем она взяла тоненькую косточку, привязанную длинной веревкой, скрученной из сухожилий, к другой косточке и опустила ее глубоко под лед, положив другой конец сигнального устройства на оленьи рога. Теперь она ждет. Проходят часы. Поднимается ветер. Облака начинают затягивать звездное небо, и со стороны берега метет снег. Безмолвная неподвижно сидит на корточках над отдушиной, в припорошенной снегом парке, сжимая в правой руке гарпун с костяным наконечником, опертый толстым концом на воткнутые в снег ветвистые оленьи рога. Крозье видел, как она охотится на тюленя иными способами. В одном случае она прорубает во льду два отверстия и — с помощью Крозье, вооруженного одним или двумя гарпунами, — буквально приманивает к себе тюленя. Может, тюлень и является воплощением осторожности в животном царстве, но бесспорно, любопытство — его ахиллесова пята. Крозье дотягивается концом своего оснащенного специальным приспособлением гарпуна к отверстию, возле которого сидит Безмолвная, и осторожно водит гарпуном вверх-вниз, заставляя вибрировать две тонкие косточки с воткнутыми в них расщепленными стержнями пера, закрепленные у наконечника. В конце концов тюлень, снедаемый любопытством, выныривает посмотреть на источник странных звуков… При ярком лунном свете Крозье не раз изумленно наблюдал за Безмолвной, которая ползла на животе по льду, прикидываясь тюленем, двигая руками, как ластами. В таких случаях он даже не замечает тюленью голову, высовывающуюся из отверстия во льду, пока девушка не делает внезапное, невероятно стремительное движение рукой и мгновение спустя не подтягивает обратно к себе гарпун, привязанный к кисти длинной веревкой. Чаще всего с загарпуненным мертвым тюленем на другом конце. Но сейчас в ночном мраке зимнего дня у них имеется только тюленья отдушина, и Крозье вот уже несколько часов стоит на коленях на своей подстилке, наблюдая за Безмолвной, склонившейся над почти невидимым снежным холмиком. Примерно каждые полчаса она медленно тянет руку назад к оленьим рогам, берет с них странный маленький инструмент — изогнутую деревяшку дюймов десять длиной с тремя воткнутыми в нее птичьими когтями — и скребет им по льду над отдушиной так тихо, что он не слышит ни звука с расстояния нескольких футов. Но тюлень, по всей вероятности, слышит царапанье достаточно ясно. Даже если животное находится подле другой отдушины, в сотнях ярдах отсюда, в конце концов оно исполнится жгучего любопытства, которое окажется для него губительным. С другой стороны, Крозье понятия не имеет, каким образом Безмолвная может рассмотреть в темноте тюленя, чтобы точно метнуть гарпун. Возможно, при солнечном свете летом, поздней весной или ранней осенью очертания животного еще смутно проглядываются подо льдом и нос его виден в крохотном отверстии отдушины — но при свете звезд? К тому времени, когда сигнальное устройство начинает вибрировать, тюлень запросто может уже повернуть и снова уйти на глубину. Может, она нюхом чует приближение тюленя, поднимающегося из глубины? Или чувствует неким иным образом? Крозье изрядно замерз (свидетельство того, что он скорее лежит на своей подстилке, нежели сидит прямо) и дремлет, когда маленькое сигнальное устройство из косточек и перьев срабатывает. Через секунду у него сна ни в одном глазу, а Безмолвная молниеносным движением поднимает гарпун и швыряет прямо вниз в отдушину еще прежде, чем Крозье успевает моргнуть и окончательно очнуться от дремы. Потом она подается назад всем телом и что есть сил тянет на себя толстую веревку, уходящую под лед. Крозье с трудом встает — левая нога противно ноет и подламывается под ним — и ковыляет к Безмолвной со всей скоростью, на какую способен. Он знает, что сейчас наступил один из сложнейших моментов охоты на тюленя: надо вытащить животное на лед прежде, чем оно, яростно дернувшись, сорвется с зазубренного костяного наконечника гарпуна, коли только ранено, либо просто застрянет подо льдом или пойдет ко дну, коли уже мертво. Скорость играет роль, как всегда говорили на флоте. Соединенными усилиями они вытаскивают тяжелое животное из отверстия. Безмолвная тянет веревку одной, на удивление сильной рукой, а зажатым в другой руке ножом рубит лед, расширяя дыру. Тюлень мертв, но ничего более скользкого Крозье в жизни не встречал. Он подсовывает руку в рукавице под ласту у самого основания, стараясь держаться подальше от бритвенно-острых зазубрин на конце, и рычажным усилием приподнимает и выволакивает мертвое животное на лед. Все это время он судорожно хватает ртом воздух, чертыхается и смеется в голос — свободный от необходимости соблюдать тишину, — а Безмолвная, разумеется, хранит безмолвие, если не считать шумного, с легким присвистом дыхания. Когда тюлень благополучно вытащен на лед, Крозье отступает назад, зная, что последует дальше. Тюлень, едва различимый в слабом свете звезд, пробивающемся сквозь низкие, стремительно несущиеся по небу облака, лежит на льду, устремив в пустоту неподвижный и как будто осуждающий взгляд черных глаз; лишь тоненькая черная струйка крови стекает из открытой пасти на белый снег. Слегка задыхаясь, Безмолвная опускается на лед на колени, потом на четвереньки, а потом ложится на живот, лицом к морде мертвого тюленя. Крозье молча отступает еще на шаг назад. Безмолвная достает из-под парки крохотную фляжку, вырезанную из кости, и набирает в рот воды из нее. Она хранила фляжку у голых грудей под мехом, чтобы вода не замерзла. Подавшись вперед, она прижимается губами к губам тюленя в странном подобии поцелуя и даже открывает рот, как делают шлюхи, целуя взасос мужчин по меньшей мере на четырех континентах, где бывал Крозье. «Но у нее нет языка», — напоминает он себе. Безмолвная выпускает воду изо рта в пасть тюленя. Крозье знает, что, если смертной душе тюленя, еще не покинувшей тело, нравится красота искусно изготовленного гарпуна и зазубренного наконечника, убившего животное, а равно другие охотничьи принадлежности, если ей нравится хитрость и выдержка Безмолвной и особенно если ей нравится вода из ее рта, она расскажет другим тюленьим душам, что им нужно приходить к этому охотнику, коли они хотят испить такой чистой, свежей воды. Крозье понятия не имеет, откуда он это знает, — Безмолвная никогда не объясняла ему этого ни с помощью веревки, ни на языке жестов, — но он знает это наверное. Словно знание приходит к нему через головную боль, которая мучает его по утрам. Ритуал закончен. Безмолвная поднимается на ноги, стряхивает снег со штанов и парки, собирает свои драгоценные инструменты и гарпун, и они вдвоем волокут тюленя примерно двести ярдов до своего снежного дома.Они едят весь вечер. Крозье кажется, он никогда не наестся вволю мясом и салом. К концу вечера лица у обоих измазаны жиром, как у свиней, и он показывает пальцем на свое лицо, потом на лицо Безмолвной и разражается хохотом. Безмолвная никогда не смеется, разумеется, но Крозье кажется, что по лицу ее проскальзывает легчайшая тень улыбки, прежде чем она спускается в ведущий к выходу тоннель и возвращается — голая, в одних только коротких штанах — с пригоршнями свежего снега, чтобы вытереть лицо сначала им, а потом мягкой оленьей шкурой. Они пьют ледяную воду, греются у огня, а потом снова едят тюленину и снова пьют, выходят из дома и расходятся в разные стороны, чтобы справить нужду, а по возвращении развешивают свои влажные одежды на сушильной раме над низким огнем, чистят зубы пальцами, тонкими щепочками и снегом, а потом забираются голые под меховые полости.
Едва успев задремать, Крозье просыпается от прикосновения маленькой руки к бедру и половым органам. Он реагирует мгновенно: член напрягается и встает. Он настолько хорошо помнит свои прежние душевные муки и угрызения совести, что старается не думать о них. Они оба тяжело дышат. Она закидывает ногу ему на бедро и тихонько водит ею вверх-вниз. Он берет в ладони ее груди — такие теплые, — а потом опускает руки ниже, чтобы подхватить ее ягодицы и прижать ее промежность теснее к своему бедру. Твердый член пульсирует, набухшая головка вибрирует, точно перья сигнального устройства для охоты на тюленя, при каждом соприкосновении с ее потной кожей. Безмолвная откидывает меховые полости, садится на него верхом и — движением руки таким же стремительным, как при броске гарпуна, — ловит его член и вводит в себя. — О боже… — выдыхает он, когда они сливаются в единое целое. Крозье чувствует упругое сопротивление напряженным членом, потом толчком входит глубоко в нее, преодолевая сопротивление, и сознает — глубоко потрясенный, — что он овладел девственницей. Или она овладела им. — О господи… — с трудом выговаривает он, когда они начинают двигаться быстрее. Он притягивает Безмолвную к себе за плечи и пытается поцеловать, но она отворачивает лицо, прижимается щекой к его щеке, потом к шее. Крозье совсем забыл, что эскимосские женщины не умеют целоваться — первая вещь, которую любой английский полярный путешественник узнает от старых ветеранов. Это неважно. Он извергается в нее через минуту или меньше. Такая долгая минута. Какое-то время Безмолвная неподвижно лежит на нем, тесно прижавшись маленькими потными грудями к его равно потной груди. Когда к нему возвращается способность думать, он задается вопросом, есть ли кровь. Он не хочет пачкать прекрасные белые шкуры, устилающие снежное ложе. Но Безмолвная снова двигает тазом. Теперь она сидит прямо, по-прежнему верхом на нем, устремив на него немигающий взгляд черных глаз. Темные соски покачивающихся грудей похожи на еще одну пару глаз, пристально наблюдающих за ним. Он все еще не обмяк внутри ее, и ее движения — уму непостижимо, такого никогда не случалось с Френсисом Крозье при общении с портовыми шлюхами в Англии, Австралии, Новой Зеландии и любых других странах, — заставляют его снова ожить, снова восстать и тоже задвигать бедрами. Она запрокидывает голову назад и опирается сильной рукой на его грудь. Так они занимаются любовью много часов подряд. Один раз она покидает снежное ложе, чтобы принести обоим воды напиться — растопленного снега в маленькой голднеровской жестянке, что висела на раме над угасающим огнем, — и спокойно смывает со своих бедер кровавые разводы, когда они оба заканчивают пить. Потом она ложится на спину, раздвигает ноги и затягивает Крозье на себя, крепко взяв за плечо. Поскольку солнце зимой не восходит, Крозье так никогда и не узнает, занимались ли они любовью всю долгую арктическую ночь напролет, а возможно, много дней и ночей подряд без остановки (у него именно такое ощущение к тому времени, когда они засыпают), но в конце концов они все-таки забываются сном. От тепла дыхания и испарений разгоряченных тел открытые участки ледяных стен подтаивают, и с них капает вода, и в снежном доме так тепло, что первые полчаса или около того они спят, не накрываясь меховыми полостями.
64. Крозье
65. Крозье
Они пускаются в долгий путь вскоре после того, как солнце начинает робко показываться над южным горизонтом в полдень, и всего на несколько минут. Но Крозье понимает, что время действовать для них и время принимать решение для него определило не возвращение солнца; неистовство в небесах, продолжающееся остальные двадцать три с половиной часа в сутки, заставило Безмолвную решить, что время настало. Когда они с нагруженными санями навсегда уходят от своего снежного дома, переливчатые полосы разноцветного света скручиваются и раскручиваются над ними, точно пальцы, сжимающиеся в кулак и разжимающиеся. Северное сияние становится все ярче в темном небе с каждым днем и с каждой ночью. В это долгое путешествие они отправляются с санями более надежной конструкции. Повозка вдвое длиннее наспех сооруженных шестифутовых саней, на которых Безмолвная перевозила Крозье, когда он не мог ходить, и полозья у нее набраны из маленьких, тщательно обструганных кусочков дерева, соединенных крепежными деталями, вырезанными из моржового бивня. Основанием полозьев служат пластинки китового уса, а не просто застывший слой вязкой массы из торфяного мха и тины, хотя Безмолвная и Крозье по-прежнему несколько раз в день поливают полозья водой, чтобы на них образовалась тонкая ледяная корка. Поперечины изготовлены из оленьих рогов и последних обломков досок и брусьев, у них оставшихся, включая опалубку снежного ложа; вертикальные задние стойки саней представляют собой прочно закрепленные на месте оленьи рога и моржовые бивни. Упряжь из кожаных ремней теперь рассчитана на двоих — никто не поедет на повозке, покуда не получит травму или не заболеет, — но Крозье знает, что Безмолвная смастерила эти сани с великим тщанием в надежде, что еще до конца года их потащит упряжка собак. Она беременна. Она не сказала Крозье об этом — ни с помощью веревки, ни взглядом, ни жестом, ни каким иным способом, — но он знает, и она знает, что он знает. Если ничего не случится, ребенок появится на свет в месяце, который Крозье по привычке называет июлем. На санях они везут все свои меховые полости, шкуры, кухонные принадлежности, инструменты, голднеровские жестянки для воды, полученной из растопленного снега, и запас мороженой рыбы, тюленины, моржового мяса, убитых песцов, зайцев и куропаток. Но Крозье знает, что часть провианта предназначена для времени, которое, возможно, никогда не наступит — по крайней мере для него. А часть, возможно, уйдет на подарки — в зависимости от того, какое решение он примет и что потом случится на льду. Он знает, что, в зависимости от принятого им решения, возможно, им обоим вскоре придется поститься — хотя, насколько он понимает, поститься должен только он один. Безмолвная будет поститься вместе с ним просто потому, что теперь она его жена и не станет есть, коли он не ест. Но если он умрет, она возьмет сани с провиантом и вернется обратно на сушу, чтобы жить своей жизнью и выполнять свои обязанности. Много дней они идут на север по берегу, огибая скалы и слишком высокие холмы. Порой, когда местность становится непроходимой, они вынуждены выходить на лед, но они не хотят оставаться там надолго. Пока не хотят. Лед местами раскалывается, но в нем образуются лишь узкие каналы. Они не останавливаются, чтобы наловить там рыбы, и не задерживаются возле полыней, но продолжают идти вперед, по десять или около того часов в день, возвращаясь обратно на сушу сразу, как только местность там снова становится проходимой, хотя на берегу им приходится гораздо чаще обновлять ледяной панцирь на полозьях. Вечером на восьмой день похода они останавливаются на вершине холма и смотрят на скопление освещенных снежных куполов внизу. Безмолвная предусмотрительно спускается к маленькой деревне с подветренного склона холма, но все же один из псов, привязанных к воткнутым в снег или землю колышкам, заливается яростным лаем. Однако остальные собаки не присоединяются к нему. Крозье глазеет на освещенные снежные строения — одно состоит из нескольких куполов: большого и четырех маленьких, соединенных между собой традиционными тоннелями. При одной мысли о таком поселении — а уж тем более при виде оного — у Крозье мучительно ноет под ложечкой. Откуда-то снизу доносится смех, приглушенный снежными блоками и оленьими шкурами. Он может спуститься туда, знает Крозье, и попросить обитателей деревни помочь ему найти путь к лагерю Спасения, а потом отыскать своих людей. Он знает, что здесь живет община шамана, который спасся бегством во время жестокой расправы с восемью эскимосами на противоположной стороне острова Кинг-Уильям, и что они приходятся дальними родственниками Безмолвной, как и все восемь убитых мужчин и женщин. Он может спуститься вниз и попросить эскимосов о помощи, и он знает, что Безмолвная последует за ним и переведет его слова, прибегнув к помощи говорящей веревки. Она его жена. Он знает также: если он не сделает того, что они попросят его сделать там, на льду, вполне вероятно, эскимосы — с каким бы почтением, благоговением и любовью они ни относились к Безмолвной, мужем которой он является, — поприветствуют его доброжелательными улыбками, кивками и смехом, а потом, когда он будет есть или спать или потеряет бдительность, свяжут ему руки кожаными ремнями, наденут кожаный мешок на голову, а затем станут по очереди — и мужчины, и женщины — наносить ножом удар за ударом, покуда он не умрет. Он видел сон о том, как истекает кровью на белом снегу. Или, возможно, нет. Возможно, Безмолвная ничего не знает. Если она и видела во сне такое будущее, она не поделилась с ним и не рассказала, чем все закончилось. Он в любом случае не хочет ничего выяснять сейчас. Эта деревня, эта ночь, завтрашний день — пока он еще не принял решение касательно другой вещи — не являются его ближайшим будущим, каким бы оно ни было, если оно вообще у него есть. Он кивает Безмолвной в темноте, и они поворачивают прочь от деревни и тащат сани на север вдоль побережья.В течение долгих дней и ночей похода — на ночь они сооружают только навес из оленьей шкуры, подвешенной к оленьим рогам в задней части саней, и спят под ним, тесно прижавшись друг другу и накрывшись меховыми полостями, — у Крозье полно времени для раздумий. За последние несколько месяцев — вероятно, потому, что у него не было собеседника (по крайней мере, способного общаться посредством обычной речи), — он научился разговаривать с разными частями своего ума и сердца так, словно они разные души со своими собственными мнениями. Одна из них, самая старшая и самая усталая его душа знает, что он оказался несостоятельным во всех отношениях. Его люди — люди, доверившие своему командиру дело спасения своих жизней, — все умерли или заплутали во льдах. А в сердце своем, в душе сердца своего Крозье знает, что все люди, заплутавшие здесь, уже мертвы и кости их лежат на каком-нибудь безымянном берегу или среди пустынного ледяного поля. Он подвел всех их. Он может, по крайней мере, последовать за ними. Крозье по-прежнему не знает своего местоположения, хотя с каждым днем все сильнее подозревает, что они перезимовали на западном берегу большого острова где-то к северо-западу от Кинг-Уильяма, почти на той широте, где находятся лагерь и сам «Террор», хотя на расстоянии сотни или более миль от них. Ему пришлось бы двинуться на запад через замерзшее море и, возможно, пересечь еще несколько островов, а потом всю северную часть самого острова Кинг-Уильям и преодолеть еще двадцать пять миль по льду, чтобы достичь корабля, покинутого более десяти месяцев назад. Или, возможно, он ошибается. Но в последние месяцы Крозье достаточно хорошо освоил искусство выживания, чтобы полагать, что он в состоянии найти путь обратно к лагерю Спасения и даже добраться до реки Бака при наличии достаточного времени, охотясь по дороге и строя снежные дома или палатки из шкур при приближении неминуемых снежных бурь. Он может последовать за своими людьми этим летом, спустя десять месяцев после того, как покинул их, и найти какие-нибудь следы, пусть даже на это уйдут годы. Безмолвная пойдет с ним — он точно знает, — даже если это будет означать смерть для нее и для всего, ради чего она живет сейчас. Но он не попросит Безмолвную идти с ним. Он пойдет один, так как подозревает, что — несмотря на все свои новые знания и опыт — погибнет в ходе такого путешествия на юг. Если он не умрет на льду — наверняка получит какое-нибудь серьезное повреждение на реке, по которой придется подниматься. Если его не убьют река, тяжелая травма или болезнь, он наверняка встретится с какими-нибудь враждебно настроенными эскимосами или с еще даже более свирепыми индейцами дальше к югу. Англичане — особенно бывалые арктические исследователи — склонны считать эскимосов варварским, но миролюбивым народом, в высшей степени добродушным и не воинственным. Но Крозье видел правду в своих снах: эскимосы — обычные люди и берутся за оружие, совершают убийства, а в трудные времена даже предаются каннибализму с такой же легкостью, как некоторые члены его английской команды. Гораздо короче и безопаснее похода на юг, знает Крозье, другой путь: если он двинется отсюда прямо на восток по замерзшему морю, прежде чем паковый лед вскроется летом (если вообще вскроется), а потом пересечет полуостров Бутия и, оказавшись на восточном побережье оного, повернет на север и доберется до Фьюри-бич или места стоянки прошлых экспедиций и просто дождется там какого-нибудь китобоя или спасательного корабля. В таком случае шансы выжить и спастись представляются превосходными. Но что, если он вернется в цивилизованный мир… обратно в Англию? Он навсегда останется капитаном, который бросил всех своих людей умирать. Его неизбежно предадут морскому суду. Какой бы вердикт ни вынес суд, позор станет для него пожизненным наказанием. Но не это удерживает Крозье от похода на восток или на юг. Женщина рядом с ним носит под сердцем его ребенка. Сильнее всего Френсис Крозье мучается сознанием своей несостоятельности в этом отношении. Ему почти пятьдесят три года, и до сих пор он любил лишь однажды, когда сделал предложение избалованной девочке-женщине, которая заморочила ему голову, а потом использовала его для своего удовольствия, как матросы используют портовых шлюх. «Нет, — думает он, — как я использовал портовых шлюх». Теперь каждое утро и часто по ночам он просыпается рядом с Безмолвной с сознанием, что видел ее сны, а она, он точно знает, видела его сны. Просыпается, согретый теплом ее тела, и чувствует реакцию своего тела на это тепло. Каждый день они выходят на холод и борются за жизнь вместе, используя опыт и знания Безмолвной, чтобы охотиться на другие души и поедать другие души, дабы две их преходящие, смертные души могли прожить дольше. «Она носит нашего ребенка. Моего ребенка». Ему почти пятьдесят три года, и теперь его просят поверить в нечто столь абсурдное, что одна мысль об этом должна вызывать у него смех. Его просят (если он правильно понимает говорящую веревку и сны, а он полагает, что наконец научился понимать их правильно) сделать нечто столь ужасное и мучительное, что если он и не умрет, то наверняка лишится рассудка. Он должен поверить, что такое безумие, против которого все в нем восстает, является верным поступком. Он должен поверить, что сны — простые сны — и любовь к этой женщине заставят его отказаться от здравого смысла, чтобы стать… Кем стать? Сдаться. Шагая в упряжи рядом с Безмолвной под небом, расцвеченным яркими красками сполохов, он напоминает себе, что Френсис Родон Мойра Крозье ни во что не верит. Вернее, если и верит во что-нибудь, то только в гоббсовского Левиафана. Жизнь дается лишь раз, и она несчастна, убога, отвратительна, жестока и коротка. Этого не может отрицать ни один здравомыслящий человек. Френсис Крозье, несмотря на свои сны и головную боль, человек здравомыслящий. Если господин в смокинге, сидящий в хорошо натопленной библиотеке в своем лондонском особняке, в состоянии понять, что жизнь дается лишь раз, и она несчастна, убога, отвратительна, жестока и коротка, то как может отрицать это человек, который в холодной ночи тащит сани, нагруженные мороженым мясом и шкурами, через безымянный остров к замерзшему морю, под беснующимся небом, в тысяче и более миль от любого цивилизованного очага? Идя навстречу своей гибели, такой страшной, что и не представить. Они тащат сани по берегу четыре дня, а на пятый достигают оконечности острова, и Безмолвная выходит на лед и продолжает путь в северо-западном направлении. Здесь они двигаются медленнее — из-за неизбежных торосных гряд и постоянного движения ледяных плит — и затрачивают гораздо больше усилий. Они идут медленнее также и для того, чтобы не повредить сани. На своей заправленной салом плитке они растапливают снег, чтобы получить воду для питья, но не задерживаются, чтобы добыть свежее мясо, хотя Безмолвная часто указывает на тюленьи отдушины во льду. Солнце теперь выходит минут на тридцать каждый день. Крозье не знает, верно ли он оценивает время. Его часы исчезли вместе с одеждой после того, как Хикки стрелял в него, а Безмолвная его спасла… неизвестно как. Она никогда не рассказывала. «Тогда я умер в первый раз», — думает он. Теперь его просят умереть снова — умереть в своем прежнем качестве, чтобы обрести новое. Но много ли людей получают хотя бы такой второй шанс? Сколько капитанов, видевших смерть или бесследное исчезновение ста двадцати пяти своих подчиненных, не преминули бы им воспользоваться? «Я могу исчезнуть». Крозье видел множество шрамов на своей руке, груди, животе и ноге каждый вечер, когда он раздевался догола, чтобы заползти под меховые полости, и он чувствует и хорошо представляет, насколько ужасны шрамы от пули и дроби у него на спине. Возможно, они служат объяснением и оправданием нежелания говорить о прошлом. Он может добраться до восточного побережья Бутии, охотиться и ловить рыбу в относительно теплых водах там, скрываться от кораблей британского военно-морского флота и прочих английских спасательных судов и дождаться какого-нибудь американского китобойца. Если до появления последнего придется ждать два или три года, он сможет продержаться такое время. Теперь он в этом уверен. А потом вместо того, чтобы вернуться на родину в Англию — была ли Англия для него родиной когда-нибудь? — он может сказать своим американским спасителям, что не помнит, что с ним случилось и на каком корабле он служил, — в качестве доказательства продемонстрировав свои ужасные раны, — и отправиться с ними в Америку по окончании промыслового сезона. Там он сможет начать новую жизнь. Многим ли людям выпадает шанс начать новую жизнь в его возрасте? Многие хотели бы получить такую возможность. Последует ли за ним Безмолвная? Сможет ли она выносить любопытные взгляды и смешки матросов и еще более любопытные взгляды и перешептывания «цивилизованных» американцев в каком-нибудь городе Новой Англии или в Нью-Йорке. Поменяет ли свои меховые одежды на хлопчатобумажные платья и корсеты из китового уса, зная, что навсегда останется совершенно чужой в совершенно чужой стране? Она сделает это. Крозье уверен в этом, как ни в чем другом. Она последует за ним туда. И она умрет там, причем очень скоро. От горя, от сознания своей чуждости незнакомому миру и от злобных, мелочных, враждебных и неукротимых мыслей, которые будут вливаться в нее, как яд из голднеровских консервных банок влился в Фицджеймса, — незримые, злотворные, смертоносные. Он уверен и в этом тоже. Но Крозье мог бы вырастить своего сына в Америке и начать новую жизнь в этой почти цивилизованной стране — возможно, стать капитаном частного парусного судна. Он потерпел сокрушительную неудачу в качестве капитана британского военно-морского флота, в качестве офицера и джентльмена — ладно, джентльменом он никогда не был, — но никто в Америке никогда не узнает об этом. Нет, нет, на любом крупном парусном судне он рано или поздно окажется в порту, где его могут знать. Если какой-нибудь английский военно-морской офицер узнает Крозье, его повесят как дезертира. Но вот маленькое рыболовное судно… выходить в море на рыбный промысел из какого-нибудь прибрежного провинциального городка в Новой Англии, где, возможно, в порту его будет ждать американская жена, воспитывающая вместе с ним сына после смерти Безмолвной. «Американская жена?» Крозье украдкой бросает взгляд на Безмолвную, шагающую в упряжи справа от него. Сполохи малинового, красного, фиолетового и белого света расцвечивают ее меховую парку и капюшон. Она не смотрит на него. Но он уверен, что она знает, о чем он думает. А если не знает сейчас, узнает позже, когда ночью они будут лежать рядом и видеть сны. Он не может вернуться в Англию. Он не может отправиться в Америку. Но альтернатива… Он дрожит и натягивает капюшон пониже, чтобы оторочка из меха белого медведя лучше удерживала тепло дыхания. Френсис Крозье не верит ни во что. Жизнь дается лишь раз, и она несчастна, убога, отвратительна, жестока и коротка. В ней нет плана, нет смысла, нет скрытых тайн, которые возмещали бы столь очевидные горести и банальность. Ничто из того, что он узнал за последние шесть месяцев, не убедило его в обратном. Не так ли? Вместе они тащат сани все дальше по замерзшему морю.
На восьмой день они останавливаются. Это место ничем не отличается от всех остальных, которые они миновали в своем движении по замерзшему морю на прошлой неделе — возможно, лед здесь чуть ровнее, возможно, крупных ледяных глыб и торосных гряд здесь поменьше, но, в сущности, это все тот же пак. Крозье видит поодаль несколько маленьких полыней — пятна темной воды смотрятся как дефекты на белом льду, — и лед здесь местами растрескался, образовав несколько маленьких временных, никуда не ведущих каналов. Если весна в этом году не собирается наступить двумя месяцами раньше положенного срока, она хорошо изображает свое пришествие. Но за проведенные в Арктике годы Крозье не раз видел подобные ложные весенние оттепели и знает, что по-настоящему пак начнет вскрываться только в конце апреля, если не позже. Тем временем у них имеются участки открытой воды и полным-полно отдушин — возможно, даже шанс убить моржа или нарвала, коли таковые появятся, — но Безмолвная не намерена охотиться. Они оба выходят из упряжи и оглядываются по сторонам. Они сделали остановку во время короткой интерлюдии полдневных сумерек, которые сейчас сходят за светлое время суток. Безмолвная становится напротив Крозье, снимает с него рукавицы, а потом снимает свои. Ветер очень холодный, и без рукавиц нельзя оставаться долее минуты, но в течение этой минуты она держит его за руки и пристально смотрит ему в глаза. Она переводит взгляд на восток, потом на юг, потом снова на него. Вопрос понятен. У Крозье бешено колотится сердце. Сколько он себя помнит, такого страха он не испытывал ни разу за все годы взрослой жизни — и уж конечно, не испытывал в ночь, когда Хикки напал на него из засады. — Да, — говорит он. Безмолвная натягивает рукавицы и начинает разгружать сани. Пока Крозье помогает ей выгружать вещи на лед, а потом разбирать сами сани, он снова задается вопросом, каким образом она нашла это место. Он успел понять, что, хотя иногда Безмолвная ориентируется по звездам и луне, чаще всего она просто уделяет самое пристальное внимание ориентирам на местности. Даже посреди пустынных ледяных полей она тщательно считает торосные гряды и наметенные ветром сугробы, неизменно подмечая, в каком направлении тянутся гряды. По примеру Безмолвной Крозье начал измерять время не днями, а периодами сна: сколько раз они останавливались для сна — неважно, днем или ночью. Здесь, на льду, он стал много лучше разбираться — почерпнув знания от Безмолвной — в особенностях холмистого льда, старого зимнего льда, новых торосных гряд, толстого пака и опасного нового льда. Теперь он может найти канал во льдах, находящийся на расстоянии многих миль от него, просто по потемнению нависающих над открытой водой облаков. Теперь он обходит стороной опасные расселины и рыхлый лед, почти не отдавая себе отчета в своих действиях. Но почему именно это место? Откуда она знала, что нужно прийти именно сюда, чтобы сделать то, что они собираются сделать? «Я собираюсь сделать», — думает он, и сердце у него начинает биться чаще. Но еще не сейчас. В быстро сгущающихся сумерках они связывают поперечины и вертикальные стойки разобранных саней, сооружая незатейливый каркас маленькой палатки. Они проведут здесь лишь несколько дней — если только Крозье не останется здесь навеки — и потому не пытаются найти сугроб для строительства снежного дома, да и не особо заботятся о качестве палатки. Это будет просто временное укрытие. Несколько шкур пойдут на наружные стенки, все прочие пойдут внутрь. Пока Крозье расстилает внутри шкуры и меховые полости, Безмолвная быстро и ловко вырубает ледяные блоки из ближайших ледяных валунов и возводит невысокую стену с наветренной стороны палатки. Это несколько защитит от ветра. Зайдя в палатку, она помогает Крозье установить плошку с салом, над которой готовят пищу, и раму из оленьих рогов в «прихожей», а затем они принимаются растапливать снег, чтобы получить воду для питья, и сушат свою одежду на раме над огнем. Ветер завывает над пустыми полуразобранными санями, от которых теперь остались одни только полозья. Три дня они оба постятся. Они ничего не едят и пьют воду, чтобы унять бурчание в желудке, но покидают палатку на долгие часы — даже когда идет снег, — чтобы размяться и разрядить нервное напряжение. Крозье поочередно мечет оба гарпуна и оба копья в большой ледяной валун; Безмолвная забрала оружие у своих убитых сородичей и еще несколько месяцев назад приготовила один тяжелый гарпун с длинной веревкой и одно легкое копье для каждого из них, очевидно с учетом того, что Крозье встанет на ноги. Теперь он швыряет гарпун с такой силой, что тот входит в ледяную глыбу на десять дюймов. Безмолвная подходит ближе, откидывает капюшон и пристально смотрит на него в переливчатом свете сполохов сияния. Он трясет головой и пытается улыбнуться. Он не знает, как сказать на языке жестов: «Разве не так ты поступаешь со своими врагами?» Вместо этого он неловко обнимает Безмолвную: мол, он никуда не уйдет и не собирается использовать гарпун по назначению в ближайшее время.
Крозье никогда прежде не видел такого полярного сияния. Весь день и всю ночь ниспадающие с небес занавесы переливчатого цвета мечутся от одного горизонта до другого, а средоточие всего этого великолепия, похоже, находится прямо над ним. За все годы, проведенные в экспедициях у Северного или Южного полюса, он ни разу не видел ничего, хотя бы отдаленно напоминающего такое буйство света и красок. Теперь слабый свет солнца, поднимающегося над горизонтом на час или около того в середине дня, почти не приглушает яркость поднебесного огня. И теперь воспринимаемые зрением фейерверки имеют звуковое сопровождение. Повсюду вокруг лед гудит, трещит, стонет и скрежещет под страшным давлением — грохот взрывов сменяется массированным огнем пехоты, переходящим в пушечную канонаду. Шум и постоянное колебание пакового льда под ними еще сильнее нервируют Крозье, и без того измученного ожиданием и донельзя издерганного. Теперь он ложится спать не раздеваясь — плевать, что потеет и мерзнет в одежде, — и в течение каждого периода сна раз по пять просыпается и выходит из палатки в уверенности, что огромное ледяное поле раскалывается. Оно не раскалывается, хотя в радиусе сотни ярдов от палатки в нем там и сям открываются расселины, от которых в разные стороны разбегаются трещины — со скоростью, превосходящей предельную, какую может развить человек, бегущий по прочному на вид льду. Потом расселины закрываются и бесследно исчезают. Но грохот взрывов продолжается, как продолжается неистовство в небе. В последнюю свою ночь в этой жизни Крозье спит прерывистым сном — от голода он мерзнет так, что даже тело Безмолвной его не согревает, — и ему снится, что Безмолвная поет. Грохот льда превращается в размеренный барабанный бой, звучащий аккомпанементом тонкому, нежному, печальному голосу:
66
Теперь у него остался единственный выбор: сдаться или умереть. Мальчик и мужчина, которыми он был пятьдесят с лишним лет, предпочли бы умереть, чем сдаться. Человек, которым он является сейчас, предпочел бы умереть, чем сдаться. Но что, если сама смерть есть всего лишь окончательная капитуляция? Голубое пламя в его груди не примет ни первого, ни второго. В снежном доме, лежа под меховыми полостями, он узнал о другого рода капитуляции. Подобие смерти. Превращение из того, кто он есть, в нечто другое, которое не «я», но и не «никто». Если два таких разных человека, напрочь лишенных возможности устного общения, могут видеть одни и те же сны, значит, наверное, — даже если оставить в стороне все сны и не принимать во внимание все прочие верования, — другие реальности тоже могут проникать друг в друга. Он страшно напуган. Они выходят из палатки в одних только сапогах, чулках, коротких штанах и тонких рубахах из оленьей шкуры, которые иногда носят под паркой. Сегодня очень холодно, но после полудня ветер стих. Он понятия не имеет, сколько сейчас времени. Солнце уже давно зашло, а они еще не ложились спать. Треск льда под давлением похож на размеренный барабанный бой. Неподалеку от палатки открылись новые расселины. Северное сияние расстилает пологи радужного света от звездного зенита до самого горизонта на севере, востоке, юге и западе. Все вокруг, включая их двоих, окрашивается поочередно в красный ифиолетовый, белый и синий цвета. Он опускается на колени и поднимает лицо. Она стоит над ним, слегка наклонившись вперед, словно выглядывая тюленя в отдушине. Как было велено, он держит руки опущенными, но она крепко берет его за плечи. Голыми руками. Она нагибается к нему и широко открывает рот. Он тоже открывает рот. Их губы почти соприкасаются. Она делает глубокий вдох и начинает дуть ему в рот, в горло. Именно с этим — когда они практиковались долгими часами в зимней тьме — у него возникали трудности. Вдыхать дыхание другого человека — все равно, что захлебываться водой. Тело его напрягается, он старается не закашляться, не отпрянуть назад. Каттайяк, Пиркусиртук, Нипакухиит. Все абсурдно звучащие имена, которые он смутно помнит по своим снам. Все имена, которые Настоящие Люди, обитающие во льдах Северного полярного круга, получают за то, что они с Безмолвной делают сейчас. Она начинает с короткой ритмичной последовательности нот. Она играет на его голосовых связках, как на свирели. Тихие звуки поднимаются ввысь и смешиваются с треском льда и пульсирующим светом сполохов. Она повторяет ритмичную музыкальную фразу, но на сей раз делает короткие паузы между звуками. Он набирает полные легкие ее дыхания и выдувает ей обратно в рот, вместе со своим собственным. У нее нет языка, но голосовые связки целы. И, колеблемые его дыханием, они издают высокие, чистые звуки. Она извлекает музыку из его горла. Он извлекает музыку из ее горла. Ритмичная мелодия набирает темп, звуки накладываются друг на друга, подгоняют друг друга. Музыкальные созвучья усложняются — похожая на пение флейты и гобоя одновременно, равно похожая на пение человеческого голоса, воспроизводимая горлом мелодия разносится на многие мили над окрашенным светом сполохов льдом. В течение первого получаса примерно каждые три минуты они прерываются и судорожно ловят ртом воздух. В такие моменты они нередко разражались хохотом, пока практиковались (с помощью говорящей веревки она объяснила, что, когда это было всего лишь женской игрой, среди всего прочего интерес заключался в том, чтобы заставить напарника рассмеяться), но сегодня ночью ни о каком смехе не может идти и речи. Снова звучит мелодия. Теперь она похожа на пение одного человеческого голоса, одновременно низкого, как бас тромбона, и высокого, как сопрано флейты. Играя на голосовых связках друг друга, они могут формировать слова из звуков, и сейчас она так и делает — вплетая слова в мелодию, она играет на его голосовых связках, как на сложном музыкальном инструменте, и слова обретают форму. Они импровизируют. Когда один меняет темп, другой должен сразу подстроиться. В этом смысле, теперь понимает он, такое пение очень похоже на акт соития. Он приноравливается незаметно вдыхать между звуками, чтобы они двое получили возможность издавать более протяжные и чистые ноты. Темп ускоряется почти до экстатического, потом замедляется, потом снова ускоряется. Это игра «делай, как водящий», в которой водящие постоянно чередуются: один меняет темп и ритм, другой подлаживается под него, как чуткий любовник в процессе соития, и потом уже сам берет инициативу. Они поют так, извлекая ноты друг у друга из горла, целый час, потом два часа, иногда продолжая по двадцать и более минут без передышки. Мышцы диафрагмы у него болезненно ноют. Горло горит. Мелодия теперь такая сложная и ритмически разнообразная, словно, исполняемая дюжиной свирелей, такая затейливая, многоголосая и исполненная нарастающей мощи, словно крещендо сонаты или симфонии. Он предоставляет ей вести. Этот голос, порожденный ими двоими, эти звуки и слова, произносимые ими двоими, теперь принадлежат ей. Он сдается. В конце концов она останавливается и падает на колени рядом с ним. Они оба настолько обессилены, что не могут держать голову прямо. Они тяжело, с присвистом дышат, точно собаки после шестимильного забега. Лед перестал трещать. Ветер перестал шуметь. Северное сияние пульсирует медленнее. Она легко дотрагивается до его лица, поднимается на ноги и скрывается в палатке, опуская за собой полог. Он находит в себе силы встать и скинуть одежду. Голый, он не чувствует холода. В тридцати футах от места, где они пели свою песню, открылась расселина, и теперь он направляется к ней. Сердце у него бьется все так же часто. В шести футах от черной воды он снова опускается на колени, поднимает лицо к небу и закрывает глаза. Он слышит, как существо поднимается из воды в нескольких футах от него, слышит скрежет когтей по льду и шумное дыхание, когда оно выбирается из моря, слышит треск льда под его тяжестью, но не опускает головы и не открывает глаз. Еще рано. Выплеснувшаяся из расселины вода окатывает его голые колени, грозя приморозить их ко льду. Он не шевелится. Он чует запах мокрой шерсти, мокрого тела, тяжелый запах океанских глубин, чувствует, как тень существа падает на него, но не открывает глаз. Еще рано. Только когда по телу у него бегут мурашки и он весь покрывается гусиной кожей, ощущая близкое присутствие громадного существа, и только когда смрадное дыхание обволакивает его, он наконец открывает глаза. Мокрая шерсть, похожая на мокрые, облепившие тело одеяния священника. Свежие багровые ожоги на белом. Зубы. Черные глаза в трех футах от его собственных, заглядывающие глубоко в него, глаза хищника, высматривающего его душу… высматривающие, есть ли у него душа. Массивная треугольная голова опускается ниже, заслоняя пульсирующее небо. Покоряясь единственно человеку, с которым он хочет быть, и человеку, которым он хочет стать, — но только не Туунбаку и не вселенной, которая погасит голубое пламя у него в груди, — он снова закрывает глаза, запрокидывает голову, открывает рот и высовывает язык точно так, учила его бабушка Мойра, готовя к Святому Причастию.67. Талириктуг
68? 30' северной широты, 99? западной долготы 28 мая 1851 г.Весной в год появления на свет их второго ребенка, девочки, они гостили в семье Силны, принадлежащей к общине Людей Прямоходящего Бога, возглавляемой старым шаманом Асиаюком, когда пришлый охотник по имени Инупиюк принес известие, что одна община Настоящих Людей получила аитусерк — дары — в виде деревянных и металлических предметов и прочих ценных вещей от мертвых каблуна — белых людей. Талириктуг на языке жестов обратился к Асиаюку, который перевел жесты для Инупиюка. Талириктуг высказывал предположение, что упомянутое сокровище представляет собой ножи, вилки и прочие предметы со шлюпок «Эребуса» и «Террора». Асиаюк прошептал Талириктугу и Силне, что Инупиюк является каваком — буквально, «человеком с юга», — но также добавил слово на наречии инуктитут, обозначающее тупость. Талириктуг понимающе кивнул, но продолжал задавать вопросы на языке жестов, которые раздраженный шаман переводил глупо ухмыляющемуся охотнику. Отчасти, знал Талириктуг, Инупиюк чувствовал себя неуютно потому, что всю жизнь прожил на юге и никогда прежде не видел сиксам иеа, небесных повелителей духов, и не знал толком, являются ли Талириктуг и Силна человеческими существами или нет. Судя по всему, предметы были подлинными. Талириктуг с женой возвратились в свою гостевую иглу, где она нянчила ребенка, и он погрузился в раздумья. Когда он поднял глаза, она обращалась к нему при посредстве веревки. «Нам следует пойти на юг, — сказала веревка, пляшущая у нее между пальцами. — Если ты хочешь». Он кивнул. В конце концов Инупиюк согласился проводить их до деревни, находящейся на юго-востоке, и Асиаюк решил отправиться с ними — очень необычно, поскольку старый шаман в последнее время крайне редко путешествовал на значительные расстояния. Асиаюк взял с собой свою лучшую жену, Чайку — молодую Науйю с большими грудями — амук, — у которой тоже остались шрамы после роковой встречи с каблуна тремя годами ранее. Она и шаман были единственными, кто спасся тогда, но молодая женщина не выказывала никакой неприязни к Талириктугу. Ей хотелось узнать об участи последних каблуна, которые, как все знали, двинулись на юг по льду три года назад. Шесть охотников из общины Людей Прямоходящего Бога тоже изъявили желание пойти с ними — главным образом из любопытства и с целью поохотиться по дороге, поскольку лед в проливе начал вскрываться очень рано этой весной, — и в конце концов они отправились в путь на нескольких лодках, так как вдоль берега уже открылись каналы. Талириктуг и Силна со своими двумя детьми предпочли путешествовать — как и четверо охотников — в длинном двойном каяке, но Асиаюк был слишком стар и слишком исполнен достоинства, чтобы сидеть на веслах в каяке. Он сидел с Науйей посередине поместительного открытого умияка, а двое молодых охотников гребли за него. Все терпеливо ждали умияк, когда не было ветра для его парусов, поскольку эта тридцатифутовая лодка везла столь значительный запас свежей пищи, что им редко приходилось останавливаться, чтобы охотиться или ловить рыбу, если не возникало такого желания. Благодаря умияку они также смогли взять с собой сани каматик на случай, если придется путешествовать по суше. Инупиюк, охотник с юга, тоже плыл в умияке, как шесть киммиков — собак. Хотя Асиаюк великодушно предложил Силне и детям места в своем теперь переполненном умияке, она при посредстве говорящей веревки сообщила, что предпочитает каяк. Талириктуг знал, что жена никогда не допустит, чтобы дети — особенно двух—месячная Каннеюк — находились в такой близости от свирепых псов. Их двухлетний сын Туугак — «Ворон» — не боялся собак, но в данном случае у него не было выбора. Он сидел в каяке между Талириктугом и Силной. Малышка Каннеюк (чье тайное имя, каким нарекают сиксам иеа, было Арнаалук) лежала в амотике Силны, большом капюшоне для переноски детей. Они тронулись в путь холодным, но ясным утром, и, когда они оттолкнулись от покрытого галькой берега, пятнадцать оставшихся членов общины Людей Прямоходящего Бога затянули прощальную песню:
Деревня называлась Талойоак и представляла собой скопление палаток и малочисленных снежных домов, где жили в общей сложности человек шестьдесят. Там было даже несколько прилепившихся к скалам домов из дерна, на крышах которых летом вырастет трава. Местные жители звались олеекаталиками, каковое слово, предположил он, означало «люди в плащах», хотя шкуры, которые они носили накинутыми на плечи поверх парок, больше походили на шерстяные шарфы англичан, чем на настоящие плащи. Глава общины был примерно одного возраста с Талириктугом и довольно привлекателен, хотя у него не осталось ни одного зуба, отчего он выглядел старше своих лет. Он носил имя Икпакхуак, которое, как объяснил Асиаюк, означало «Грязный», даром что с виду и по запаху он показался Талириктугу не грязнее всех остальных и почище некоторых. Жену Икпакхуака — значительно моложе мужа годами — звали Хигилак. Асиаюк с глупой ухмылкой объяснил, что данное имя означает «Ледяной Дом», но Хигилак держалась с гостями отнюдь не холодно. Она вместе с мужем радушно приняла отряд Таликтуга, накормив горячей пищей и вручив всем подарки. Он осознал, что никогда не поймет этих людей. Ипакхуак, Хигилак и прочие члены семьи угостили их умингмаком, жареным мясом овцебыка, которое Талириктуг ел с удовольствием, но Силна, Асиаюк, Науйя и остальные через силу, поскольку они были нетсиликами, «людьми, питающимися тюлениной». По завершении церемонии знакомства и трапезы он сумел на языке жестов, истолковываемых Асиаюком, перевести разговор на дары каблуна. Икпакхуак признал, что община плаща действительно владеет таким сокровищем, но, прежде чем показать дары гостям, попросил Силну и Талириктуга продемонстрировать всем жителям деревни свои магические способности. Большинство олеекаталиков никогда в жизни не видели ни одного сиксам иеа — хотя сам Икпакхуак несколько десятилетий назад знал отца Силны, Айю, — и Икпакхуак вежливо спросил, не согласятся ли Силна и Талириктуг немного полетать над деревней и, возможно, превратиться в тюленей, только не в медведей, пожалуйста. Силна объяснила — при помощи говорящей веревки и Асиюка в роли переводчика, — что два небесных повелителя духов не желают этого делать, но они оба покажут гостеприимным олеекаталикам обрубки языков, отнятых у них Туунбаком, а ее муж-каблуна-сиксам-иеа доставит им редкое удовольствие увидеть его шрамы… шрамы, оставшиеся после яростной схватки со злыми духами, произошедшей много лет назад. Это вполне устроило Икпакхуака и его людей. После демонстрации шрамов Талириктугу удалось заставить Асиаюка снова вернуться к разговору о дарах каблуна. Икпакхуак мгновенно кивнул, хлопнул в ладоши и послал мальчишек за сокровищами. Дары каблуна передавали по кругу из рук в руки. Несколько разных деревянных деталей, в том числе хорошо сохранившаяся свайка. Золотые пуговицы с якорем. Фрагмент любовно расшитой нижней рубашки. Золотые часы, цепочка от них и горсть мелких монет. Инициалы
«ЧФД»на задней крышке часов наводили на мысль, что они принадлежали Чарльзу Дево. Серебряный пенал с инициалами
«ЭК»на внутренней стороне крышки. Наградная золотая медаль с выгравированной благодарственной надписью, некогда полученная сэром Джоном Франклином от Адмиралтейства. Серебряные вилки и ложки с гербами различных офицеров Франклина. Маленькая фарфоровая тарелка с выведенным на ней эмалевой краской именем
«Сэр Джон Франклин».Скальпель. Портативное бюро красного дерева, которое человек, сейчас державший его в руках, сразу узнал, поскольку в прошлом оно принадлежало ему. «Неужели мы действительно тащили все это дерьмо в лодках сотни миль? — подумал Крозье. — А до этого везли тысячи миль из Англии? О чем мы думали?» Он закрыл глаза, борясь с приступом тошноты, подкатившей к горлу. Безмолвная дотронулась до его руки. Она почувствовала, как внутри у него все переворачивается. Он посмотрел ей в глаза, чтобы показать, что он по-прежнему здесь, хотя это было не так. Не совсем так.
Они двинулись на веслах вдоль побережья на запад, к устью реки Бака. На вопрос, где они нашли сокровища каблуна, олеекатали-ки Икпакхуака отвечали расплывчато, даже уклончиво — несколько из них говорили о месте под названием Кинуна, которое могло являться одним из крохотных островков в проливе к югу от Кинг-Уильяма, но большинство охотников сказало, что они нашли сокровища к западу от Талойоака, в месте под названием Куглуктук, каковое слово Асиаюк перевел как «падающая вода». Крозье решил, что речь идет о первом по счету маленьком водопаде на реке Бака, находящемся неподалеку от устья. Они провели там неделю, занимаясь поисками. Асиаюк с женой и три охотника остались с умияком в устье реки, но Крозье и Безмолвная с детьми, по-прежнему снедаемый любопытством охотник Инупиюк и остальные охотники поднялись на каяке вверх по течению примерно на три мили, к первым низким водопадам. Он нашел там несколько бочарных клепок. Кожаную подошву с дырками, оставшимися от гвоздей. Из-под песка и тины на берегу он извлек восьмифутовую изогнутую дубовую доску, некогда отполированную — возможно, от планширя одного из тендеров. (Олеекаталики сочли бы такую находку настоящим сокровищем.) И больше ничего. Потерпев неудачу, они шли на веслах вниз по течению обратно к побережью, когда повстречали старика с тремя женами и четырьмя сопливыми детьми. Жены тащили на спине свернутые оленьи шкуры; по словам старика, они пришли к реке порыбачить. Он никогда прежде не видел ни одного каблуна, тем более сразу двух безъязыких повелителей духов сиксам иеа, и страшно испугался, но один из сопровождавших Крозье охотников успокоил его. Старика звали Пухтоорак, и он принадлежал к общине Кикиктаркуак из племени Настоящих Людей. После обмена съестными припасами и добродушными шутками старик поинтересовался, что они делают так далеко от северных территорий Людей Прямоходящего Бога, и, когда один из охотников объяснил, что они ищут живых или мертвых каблуна, возможно, проходивших здесь, — или их сокровища, — Пухтоорак сказал, что никогда не слышал, чтобы каблуна проплывали по этой реке, но, прожевав и проглотив огромный кусок подаренной тюленины, добавил: «Прошлой зимой я видел большую лодку каблуна — размером с айсберг — с тремя торчащими из нее палками, вмерзшую в лед неподалеку от Утьюлика. Думаю, в ней находились мертвые каблуна. Несколько наших молодых людей вошли внутрь — им пришлось прорубить каменными топорами дыру в стенке, — но они оставили все деревянные и металлические сокровища на месте, поскольку в доме с тремя палками, сказали они, обитают призраки». Крозье взглянул на Безмолвную. «Я правильно его понял?» «Да», — кивнула она. Каннеюк заплакала, и Силна распахнула свою летнюю парку и дала малышке грудь.
Крозье стоял на скале и смотрел за корабль, затертый льдами. Это был британский военный корабль «Террор». Путешествие от устья реки Бака до этой части побережья Утьюлика заняло у них восемь дней. Через охотников из общины Людей Прямоходящего Бога, понимавших язык жестов, Крозье предложил щедрое вознаграждение Пухтоораку, если он согласится взять с собой свою семью и показать путь к лодке каблуна с тремя торчащими из крыши палками, но старый кикик-таркуак не хотел иметь никакого дела с населенным призраками домом каблуна. Хотя прошлой зимой он не заходил внутрь вместе с молодыми людьми, он видел там следы разложения, оставленные пиификсааками — вредоносными духами, населявшими место. Утьюликом на наречии инуитов называлось западное побережье полуострова, известного Крозье под именем Аделаиды. Каналы во льдах заканчивались очень далеко к западу от залива, ведущего к устью реки Бака, — сужающийся пролив там был покрыт сплошным паком, — и потому им пришлось высадиться, спрятать каяки и умияк Асиюка и продолжить путь на тяжелом каматике, запряженном шестью собаками. Пользуясь своего рода методом счисления пути, которым, Крозье знал, он никогда не овладеет, Безмолвная провела отряд через внутренний перешеек полуострова шириной миль двадцать пять к той части западного побережья, где Пухтоорак видел корабль — и даже, признался он, стоял на его палубе. Асиаюк не хотел покидать свою удобную лодку, когда настало время двигаться по льду к суше. Если бы Силна, одна из наиболее почитаемых повелительниц духов в племени Людей Прямоходящего Бога, не выразила знаками настойчивую просьбу, чтобы он присоединился к ним (а просьба сиксам иеа являлась приказом даже для суровейшего из шаманов), Асиаюк велел бы своим охотникам отвезти его обратно домой. В конечном счете он с шиком ехал на каматике, накрывшись меховыми полостями, и даже время от времени помогал, швыряя в псов камешки и покрикивая «Хо! Хо! Хо!», когда хотел, чтобы они взяли влево, и «Но! Но! Но!», когда хотел повернуть направо. Крозье задавался вопросом, не открывает ли старый шаман для себя заново давно забытое удовольствие катиться на санях, влекомых собачьей упряжкой. Теперь был вечер восьмого дня путешествия, и они смотрели на британский корабль «Террор». Даже Асиаюк казался испуганным и подавленным. Самое точное описание местоположения корабля, данное Пухтоораком, сводилось к тому, что дом с тремя палками «вмерз в лед рядом с островом, находящимся милях в пяти к западу от некоего мыса» и что его охотничьему отряду «тогда пришлось пройти мили три на север по ровному льду и пересечь по пути несколько островов, чтобы добраться до корабля от упомянутого мыса. Мы увидели корабль со скалы на северной оконечности крупного острова». Разумеется, Пухтоорак не употреблял слова «мили», «корабль» и даже «мыс». В действительности старик сказал, что дом каблуна с тремя палками и со стенками, как у умияка, находится к западу от тикерката — что означает «два пальца», каковым словосочетанием Настоящие Люди называют два узких мыса на этом участке побережья Утьюлика, — и неподалеку от северной оконечности одного крупного острова там. Крозье со своим отрядом из десяти человек — охотник с юга, Инупиюк, оставался с ними до последнего — двинулся по неровному льду на запад от «двух пальцев» и пересек два маленьких островка, прежде чем достиг большого. На северной оконечности крупного острова они нашли скалу, возвышавшуюся почти на сотню футов над паковым льдом. В двух или трех милях оттуда три мачты «Террора» косо поднимались к низким облакам. Крозье пожалел, что у него нет с собой подзорной трубы, но он и без нее легко узнал мачты своего старого корабля. Пухтоорак был прав: на последнем отрезке пути лед оказался значительно ровнее, чем на берегу и между материком и островами. Наметанным взглядом опытного моряка Крозье сразу определил почему: к северо-востоку отсюда тянулась цепь островков, которая образовывала своего рода естественную дамбу, защищавшую этот участок моря площадью пятнадцать—двадцать морских миль от преобладающих северо-западных ветров. Крозье совершенно не представлял, каким образом «Террор» мог в конечном счете оказаться здесь, почти в двухстах милях от места, где без малого три года простоял рядом с «Эребусом», затертый льдами. Впрочем, ломать голову осталось недолго. Настоящие Люди, в том числе Люди Прямоходящего Бога, из года в год жившие в тени живого чудовища, приближались к кораблю с явной опаской. Разговоры Пухтоорака о призраках и злых духах сильно подействовали на них — даже на Асиаюка, Науйю и охотников, не присутствовавших при встрече со стариком. Сам Асиаюк бормотал заклинания, отпугивающие духов, и защитительные молитвы все время, пока они шли по льду, что, впрочем, никому не прибавляло спокойствия. Когда шаман нервничает, знал Крозье, все нервничают. Единственным человеком, пожелавшим идти рядом с Крозье впереди, была Безмолвная, которая несла обоих детей. «Террор» кренился градусов на двадцать на левый борт, нос корабля смотрел на северо-восток, а мачты наклонялись в сторону северо-запада; большая часть правого борта находилась надо льдом. Удивительное дело, но один якорь — носовой с левого борта — был опущен: якорный трос уходил в толстый лед. Крозье удивился: глубина здесь, по его оценке, составляла самое малое двадцать фатомов — возможно, гораздо больше, — все северное побережье острова позади них было изрезано маленькими бухтами. В самом крайнем случае — если только там не бушевал шторм — здравомыслящий капитан, ищущий безопасное место стоянки, вывел бы корабль в пролив к востоку от крупного острова и бросил бы якорь между ним — скалы на нем защищали бы от ветра — и тремя малыми, длиной не более двух миль, островами, расположенными восточнее. Но «Террор» стоял здесь, примерно в двух с половиной милях от северной оконечности большого острова, с брошенным в глубокую воду якорем. Один раз обойдя корабль кругом и взглянув на наклоненную палубу со стороны обращенного на северо-запад борта, Крозье понял, почему охотничьему отряду Пухтоорака пришлось прорубать дыру в поднятой надо льдом правой стенке корпуса, чтобы проникнуть внутрь: все люки на верхней палубе были задраены и заколочены. Крозье вернулся к отверстию, проделанному эскимосами в потрескавшемся правом борту. Он решил, что сумеет протиснуться в него. Он вспомнил, что Пухтоорак говорил о топорах из звездного дерьма, которыми охотники прорубали дыру здесь, и невольно улыбнулся, несмотря на тягостные чувства, им владевшие. «Звездным дерьмом» Настоящие Люди называли метеориты, которые находили на льду, и метеорический металл. Крозье слышал от Асиаюка выражение «улуриак анокток» — «звездное дерьмо, падающее с неба». Крозье пожалел, что у него сейчас нет с собой кинжала или топора из звездного дерьма. Он имел при себе один только обычный рабочий нож с лезвием из моржового бивня. В каматике находились гарпуны, но чужие — свои они с Безмолвной оставили в каяке неделю назад, — и он не хотел просить на время гарпун для того только, чтобы войти с ним в корабль. У саней, стоявших в сорока футах позади, киммики — крупные псы с жуткими желтыми глазами и душами своих хозяев — лаяли, рычали, выли и бросались друг на друга и на любого, кто к ним приближался. Им не нравилось это место. Крозье знаками сказал Безмолвной: «Пусть Асиаюк спросит у них: хочет ли кто-нибудь пойти со мной?» Она быстро выполнила просьбу, не прибегая к помощи веревки, пользуясь одними только пальцами. Но старый шаман всегда понимал Безмолвную гораздо быстрее, чем разбирал жесты Крозье. Никто из Настоящих Людей не желал лезть в эту дыру. «Увидимся через несколько минут», — знаками сказал Крозье Безмолвной. Она широко улыбнулась. «Не болтай глупостей, — жестами ответила она. — Я и дети идем с тобой». Он протиснулся в отверстие, и Безмолвная секундой позже последовала за ним, с Вороном на руках и Каннеюк в особой сумке из мягкой шкуры, которую она иногда носила на лямках на груди. Оба ребенка спали. Там было очень темно. Крозье понял, что молодые охотники Пухтоорака прорубили отверстие в корпусе на уровне средней палубы. Здесь им повезло, поскольку, возьми они чуть ниже, они наткнулись бы на железную обшивку угольных бункеров и резервуаров для хранения воды в трюмной палубе и не смогли бы прорубить дыру никакими силами, даже своими топорами из звездного дерьма. В десяти футах от отверстия было темно, хоть глаз выколи, и потому Крозье продвигался на ощупь, по памяти, держа Безмолвную за руку. Они немного прошли вперед по покатой палубе, а потом повернули в сторону кормы. Когда глаза его привыкли к темноте, в проникавшем сквозь пролом в корпусе слабом рассеянном свете Крозье рассмотрел, что надежно запертая на висячий замок дверь винной кладовой и следующая за ней дверь пороховой камеры взломаны. Он понятия не имел, чьих рук это дело, но сомневался, что здесь поработали люди Пухтоорака. Перед своим уходом с корабля они специально заперли эти двери, и именно сюда в первую очередь наведались бы любые белые люди, вернувшиеся на «Террор». Бочки, в которых содержался ром (запас рома у них был таким большим, что им пришлось оставить бочки здесь, когда они покинули корабль), были пусты. Но бочки с порохом сохранились в целости, равно как ящики и бочонки с дробью, парусиновые сумки с патронами, выстроенные в козлах почти по всей длине двух переборок мушкеты — унести с собой все они никак не могли, — и две сотни штыков, подвешенных вдоль бимсов. Такое количество одного только металла сделало бы общину Асиаюка самой богатой в мире Настоящих Людей. Оставшегося здесь пороха и дроби хватило бы дюжине крупных общин Настоящих Людей на добрых двадцать лет, и они стали бы бесспорными властителями Арктики. Безмолвная дотронулась до голой кисти Крозье. В такой темноте на языке жестов не пообщаешься, и потому она послала мысль: «Ты чувствуешь это?» Крозье с великим изумлением осознал, что она — впервые за все время — мысленно обратилась к нему на английском. Она либо погружалась в его сны глубже, чем он предполагал, либо была очень внимательна во время своего пребывания на этом самом корабле. Они впервые общались посредством слов в бодрствующем состоянии. «Это? — мысленно ответил он. — Да». Дурное место. Населенное воспоминаниями, точно пропитанное смрадным запахом. Чтобы разрядить нервное напряжение, он повел Безмолвную дальше, указал рукой в сторону носа и послал ей образ канатного ящика в трюмной палубе. «Я ждала там тебя», — мысленно ответила она. Слова прозвучали так отчетливо, словно она громко произнесла их вслух в темноте — разве только ни один из детей не проснулся. Крозье задрожал, взволнованный признанием. Они поднялись по главному трапу в жилую палубу. Здесь было гораздо светлее. Крозье осознал, что дневной свет — наконец-то — проникает сквозь престонские иллюминаторы, врезанные в верхнюю палубу. Заиндевевшие выпуклые стекла казались матовыми, но в кои-то веки не были ни засыпаны снегом, ни накрыты брезентом. Жилая палуба казалась пустой: все подвесные койки аккуратно свернуты и убраны на место, обеденный стол висит под подволоком между бимсами, а матросские сундуки стоят вдоль стен. В центре носовой части кубрика темнела огромная холодная фрейзеровская плита. Крозье попытался вспомнить, жив ли был мистер Диггл, когда его, капитана, выманили на лед и расстреляли. Впервые за долгое время он мысленно произнес это имя: мистер Диггл. «Впервые за долгое время я думаю на своем языке». Крозье невольно улыбнулся. «На своем языке». Если действительно существует богиня вроде Седны, которая правит миром, ее настоящее имя — Ирония Судьбы. Безмолвная потянула его в сторону кормы. Каюты и офицерские столовые, в которые они заглянули, были пустыми. Крозье гадал, кто же все-таки добрался до «Террора» и поплыл на нем в южном направлении. Дево со своими людьми из лагеря Спасения? Он почти не сомневался, что мистер Дево и остальные двинулись дальше на юг в лодках. Хикки со своими людьми? Памятуя о докторе Гудсере, он надеялся, что так оно и есть, хотя и не верил в такую возможность. Помимо лейтенанта Ходжсона (а Крозье подозревал, что он прожил недолго в этой шайке головорезов) среди них едва ли был человек, способный управлять «Террором», а тем более отыскивать путь во льдах. Таким образом, оставались три человека, которые покинули лагерь Спасения с намерением совершить пеший поход по суше, — Рубен Мейл, Роберт Синклер и Сэмюел Хани. Могли ли баковый старшина, фор-марсовый старшина и кузнец провести «Террор» по каналам во льдах почти на двести миль в южном направлении? Крозье почувствовал головокружение и легкую тошноту, когда в памяти всплыли имена и лица мужчин. Он почти слышал их голоса. Он слышал их голоса. Пухтоорак был прав: теперь здесь обитали пиификсааки — призраки, оставшиеся на корабле, чтобы преследовать живых.
На койке Френсиса Родона Мойры Крозье лежал труп. Насколько они могли судить, обследовав в темноте среднюю и трюмную палубы, это был единственный труп на корабле. «Почему он решил умереть в моей постели?» — недоумевал Крозье. Мертвец был ростом с Крозье. По одежде установить личность покойного — он умер под одеялами в бушлате, вязаной шапке и шерстяных штанах, что казалось странным, поскольку плавание, по всей видимости, происходило летом, — не представлялось возможным. Крозье не имел ни малейшего желания обшаривать его карманы. Голые кисти и шея мужчины побурели, высохли и сморщились, но именно при виде лица Крозье пожалел, что престонские иллюминаторы так хорошо пропускают свет. Глаза походили на коричневые стеклянные шарики. Растрепанные волосы и борода были такими длинными, что казалось вполне вероятным, что они продолжали расти еще много месяцев после смерти мужчины. Губы усохли и из-за сокращения лицевых мышц растянулись в ужасном оскале, обнажив зубы и десны. Именно зубы производили самое жуткое впечатление. Передние зубы, не выпавшие от цинги, были желтыми, очень широкими и невероятно длинными — три дюйма, самое малое, — словно они продолжали расти, как на протяжении всей жизни растут резцы у кролика или крысы, пока не загибаются и не вонзаются в собственное горло животного, если их постоянно не стачивать обо что-нибудь твердое. Зубы мертвеца были поистине невероятными, но Крозье все смотрел на них в сером сумеречном свете, проникавшем сквозь иллюминатор в потолке своей бывшей каюты. Это, осознал он, не первая невероятная вещь, которую он увидел или пережил за последние несколько лет. И вполне возможно, не последняя. «Пойдем», — знаком сказал он Безмолвной. Он не хотел посылать мысли здесь, где все вещи слушали и слышали.
Крозье пришлось воспользоваться пожарным топором, чтобы вскрыть задраенный и заколоченный главный люк. Не задаваясь вопросом, кто задраил люк и зачем — или задраил ли его столь прочно человек, чей труп сейчас лежал в каюте внизу, — он отбросил топор в сторону, выбрался на верхнюю палубу и помог Безмолвной подняться по трапу. Ворон беспокойно зашевелился, пробуждаясь, но снова тихонько засопел, когда Безмолвная укачала его на руках. «Подожди здесь», — знаками сказал он и снова спустился вниз. Сначала он вынес на верхнюю палубу тяжелый теодолит и несколько своих старых справочников, быстро снял показания прибора и нацарапал координаты своего местоположения на полях пропитанного солью судового журнала. Потом он отнес теодолит и книги обратно вниз и бросил там, хорошо понимая, что произведенное в последний раз вычисление координат корабля является, наверное, самым бесполезным и бессмысленным поступком из всех, какие он совершал в течение своей долгой жизни, состоявшей из бесполезных и бессмысленных поступков. Но он также понимал, что должен сделать это. Как должен сделать то, что сделал в следующую очередь. В темной пороховой камере он вскрыл один за другим три бочонка с порохом и содержимое первого высыпал на пол средней палубы и ступеньки ведущего в трюм трапа, содержимое второго растряс по всей жилой палубе (в частности за открытой дверью своей каюты), а содержимое третьего рассыпал черными полосами по верхней палубе, где стояла Безмолвная с детьми. Асиаюк и восемь остальных эскимосов обогнули корабль и теперь наблюдали за происходящим со стороны левого борта, с расстояния тридцати ярдов. Крозье хотел остаться под открытым небом, пусть даже сумеречным, но заставил себя еще раз спуститься на среднюю палубу. Из последнего оставшегося на корабле бочонка с керосином он расплескал горючее во всех трех палубах, хорошенько облив двери и переборки собственной каюты. Он поколебался с минуту всего лишь раз, в дверях кают-компании, глядя на стеллажи с сотнями томов. «Господи, что плохого в том, если я возьму несколько книг, чтобы коротать за ними время долгими темными зимами?» Но теперь в них обитала инуа мертвого корабля. Чуть не плача, Крозье плеснул на стеллажи керосином. Разлив остатки горючего по верхней палубе, он отшвырнул пустой бочонок далеко на лед. «Одна последняя ходка вниз, — на пальцах сказал он Безмолвной. — Спускайся с детьми на лед, любимая». Шведские спички лежали там, где он их оставил: в ящике его стола. На мгновение Крозье показалось, будто он слышит скрип койки и шорох обледенелых одеял, под которыми шевелится мумифицировавшийся труп. Он явственно услышал треск иссохших сухожилий, когда мертвая коричневая рука с длинными коричневыми пальцами и ужасно длинными желтыми ногтями медленно поднялась и потянулась к нему. Крозье не повернулся. И не побежал. И не глянул через плечо. Он медленно вышел из каюты, переступая через полосы черного пороха и лужицы керосина. Он немного спустился по главному трапу, прежде чем зажег и бросил первую спичку. Порох вспыхнул с громким хлопком, пламя охватило переборку, обильно политую керосином, и стремительно побежало к носу и корме по пороховому следу. Хотя огня на одной средней палубе было вполне достаточно — шпангоуты и бимсы высохли до состояния трута в этой арктической пустыне, — он все же задержался, чтобы поджечь порох на жилой палубе, а затем на верхней. Потом он одним прыжком покрыл десять футов до ледяного откоса с обращенного к западу борта и мысленно чертыхнулся от боли, пронзившей левую ногу, так и не выздоровевшую окончательно. Ему следовало спуститься по веревочному трапу, как наверняка хватило ума сделать Безмолвной. Хромая, как старик, которым он, несомненно, скоро станет, Крозье спустился на лед и присоединился к остальным.
Корабль горел почти полтора часа, прежде чем затонул. Грандиозный пожар. День Гая Фокса за Северным полярным кругом. Он мог запросто обойтись без пороха и керосина, понял он, глядя на бушующее пламя. Шпангоуты, парусина и доски так сильно высохли, что весь корабль вспыхнул, словно выпущенный из мортиры зажигательный снаряд, для пальбы которыми он и был сконструирован много десятилетий назад. «Террор» затонул бы в любом случае, едва только лед здесь растает через несколько недель или месяцев. Прорубленное топорами отверстие в борту стало для него смертельной раной. Но он сжег корабль не поэтому. Если бы кто спросил его (чего никогда не случится), он не сумел бы объяснить толком, почему «Террор» следовало уничтожить. Он знал, что не хочет, чтобы «спасатели» с британских судов побывали на покинутом корабле и вернулись на родину с рассказами о нем, нагоняющими страх на отвратительных граждан Англии и вдохновляющими мистера Диккенса или мистера Теннисона на достижение новых высот сентиментального красноречия. Он также знал, что эти спасатели вернутся в Англию не с одними только рассказами. То, что завладело кораблем, было заразным, как чума. Он видел это очами своей души ичуял всем своим нутром — как человеческим, так и нутром сиксам иеа. Настоящие Люди радостно завопили, когда горящие мачты рухнули. Им всем пришлось отойти на сотню ярдов. «Террор» прожег во льду свою собственную могилу, и вскоре после того, как охваченные огнем мачты с такелажем рухнули, горящий корабль начал с шипением и бульканьем погружаться в морские глубины. Рев пламени разбудил детей, и воздух так нагрелся от огня, что все они — Безмолвная, хмурый Асиаюк, пышногрудая Науйя, охотники, блаженно ухмыляющийся Инупиюк и даже Талириктуг — сняли свои парки и свалили в кучу на каматике. Когда представление закончилось, и корабль затонул, и солнце спустилось к южному горизонту, и длинные тени вытянулись на сером льду, они оставались там до последнего и ликовали при виде поднимавшегося над водой пара и горящих обломков, все еще валявшихся там и сям на льду. В конце концов они двинулись обратно к большому острову и лежащим за ним малым островкам, рассчитывая достичь большой земли прежде, чем придется стать на ночлег. Дневной свет благоприятствовал походу до самой полуночи. Все они хотели поскорее уйти со льда и оказаться подальше от места гибели корабля до того, как наступят несколько часов полумрака, а потом кромешной тьмы. Даже псы перестали лаять и рычать и, казалось, налегли на постромки сильнее, когда они миновали последний островок на своем пути к большой земле. Асиаюк, под своими меховыми полостями на санях, спал и храпел, а оба ребенка бодрствовали и изъявляли готовность поиграть. Талириктуг взял в левую руку сучащую ножками и ручками Каннеюк, а правой обнял за плечи Силну. Ворон, все еще сидевший на руках у матери, пытался вырваться, изъявляя желание идти на своих двоих. Талириктуг — не в первый раз — задался вопросом, как отец и мать, лишенные языка, собираются воспитать из мальчика настоящего мужчину. Потом он вспомнил — тоже не в первый раз, — что теперь он принадлежит одной из немногих оставшихся в мире культур, где не ставят цели воспитывать из детей настоящих мужчин или женщин. Ворон уже обладал инуа какого-то взрослого мужчины. Его отцу остается лишь ждать, чтобы увидеть, насколько она достойна. Инуа Френсиса Крозье, продолжавшая жить и здравствовать в Талириктуге, не питала никаких иллюзий относительно жизни — несчастной, убогой, отвратительной, жестокой и короткой. Но возможно, она необязательно дается всего лишь раз. Обнимая Силну за плечи одной рукой, стараясь не обращать внимания на заливистый храп шамана, на Каннеюк, только что написавшую на его лучшую летнюю парку, и на хныканье яростно брыкающегося сына, Талириктуг и Крозье продолжал шагать на восток по замерзшему морю к суше.
10 ноября 2005 Лонгмонт, Колорадо.
От автора
Я хочу выразить благодарность авторам, чьи источники позволили мне получить информацию о «Терроре». Идея написать об этом периоде исследования Арктики посетила меня при чтении абзаца, вернее примечания, повествующего об экспедиции Франклина, в книге Ранульфа Фиенна «Гонка к полюсу — Трагедия и героизм экспедиции Скотта в Антарктике» (Hyperion, 2004), посвященной исследованию Южного полюса. Книги, к которым я обращался на ранних стадиях работы, — «Мерцание льда. Судьба потерянной экспедиции Франклина» Скота Кукмана (John Wiley & Sons, Inc., 2000), «Застывшее время. Судьба экспедиции Франклина» Оуэна Битти и Джона Гейгера (Greystone Books, Douglas & Mclntyre, 1987) и «Взыскующие Грааль. Поиски Северо-Западного прохода и Северного полюса, 1818–1909» Пьера Бёртона (Second Lyons Press Edition, 2000). Чтение этих книг привело меня к изучению более ранних исследований — «Рассказ о путешествии к берегам Полярного океана» (John Murray, 1823), «Рассказ о Второй экспедиции к берегам Полярного океана» (John Murray, 1828) — обе книги принадлежат перу сэра Джона Франклина. «Дневник путешествия в Баффинов залив и в пролив Барроу, в 1850–1851 годах, на кораблях „Леди Франклин“ и „София“, под командованием В. Пинни, в поисках пропавших кораблей флота ее величества „Эребус“ и „Террор“» Питера Шютера (Longman, Grown & Green, 1852), «Рассказ об открытиях и судьбе сэра Джона Франклина» Макклинтока (John Murray, 1859), «Последняя экспедиция сэра Джона Франклина» Ричарда Сиро (ASM Press, 1939), «Поиски Северо-Западного прохода» (Langmans, Green & Co, 1958) и «Арктические экспедиции в поисках сэра Джона Франклина» Элиши Кэт Кейн (T. Nelson & Sons, 1998). Другие источники, к которым я обращался, — «Пленники Севера: портреты пяти исследователей Арктики» Пьера Бёртона (Carroll & Graff, 2004), «Девяносто градусов северной широты: покорение Северного полюса» Фергуса Флинина (Grove Press, 2001), «Последнее плавание на „Карлуке“»: рассказ уцелевшего участника экспедиции» Уильяма Ленда Мак-Кинли (St. Vlarin's Grillin Edition, 1976), «Море слов: аннотированный словарь к романам Патрика О'Брайена» Дина Кинга (Henry Holt & Co., 1995), «Ледовый лоцман: проклятие „Карлука“, 1913» Дженнифер Нивен (Hiperion, 2000), «Арктические гребцы: плавания вдоль берегов Севера» Джилла Фредстона (North Point Press, 2001), «Таинственные и опасные берега: история исследователя Чарльза Френсиса Холла» Чанси Лумиса (Modern Library, 2000), «Хрустальная пустыня: лето в Арктике» Дэвида Г. Кемпбелла (Mariner Books, Houghton Viffin, 1992), «Край Земли: Скотт и Амундсен на пути к Южному полюсу» Роланда Хантфорда (Modern Library, 1999), «К северу от полуночи: арктическая одиссея» Алвы Симона (Broadway Books, 1998), «Царство белой смерти: Восточная Арктика» Велериана Албанова (Modern Library, 2000), «Там, где кончается Земля: исследования Арктики» Питера Матьессена (National Geographic, 2003), «Проклятый проход: жизнь Джона Рея, забытого исследователя Арктики» Кэна Макгугана (Carroll & Graff, 2001), «Худшее путешествие на свете» Эпсли Черри-Жерара (National Geographic, 1992 и 2000) и «Шеклтон» Роланда Хартфорда (Fawcett Columbine, 1985). Много полезной информации я нашел в книгах «Инуиты» Нэнси Бонвиллан (Chelsea House Publications, 1995), «Эскимосы» Кая Бирке-Смита (Crown, 1971), «Страна Четвертого мира» Сэма Холла (Knopf, 1987), «Древняя Земля: Священный кит и ритуалы охотников-инуитов» Тома Ловенстайна (Farrar, Straus and Giroux, 1993), «Пересекая Арктику», Джонатана Уотермана (Knopf, 2001), «Охотники полярного Севера: эскимосы» Уолли Херберта (Time-Life Books, 1981), «Эскимосы» Эрнста Барча (University of Oklahoma Press, 1988), «Инуиты: слово обретает форму» Раймонда Брассе (Editions Glenat, 2002). Приношу искреннюю благодарность за поиск всех этих книг Карен Симмонс. Полезные иллюстрации и карты я обнаружил в периодике того времени. В «Harper's Weekly» (апрель, 1851), «Atheneum» (февраль, 1849), «Blackwood's Edinburgh Magazine» (ноябрь, 1885) и в ряде других изданий. Письмо доктора Г. Гудсира к своему дяде, от 2 июля 1845 года, находится в собрании Королевского географического общества Шотландии и цитировалось в книге Оуэна Битти и Джона Гейгера «Застывшее время. Судьба экспедиции Франклина». Много информации я почерпнул из интернета, просмотрев архивы Адмиралтейства, Военно-Морского министерства, официальные документы Министерства внутренних дел и документы расследования по делу продуктовых поставок Голднера для нужд экспедиции Франклина в архивах Верховного королевского суда. В интернете выставлена и коллекция документов Крозье (Полярный исследовательский институт Скотта), и документы Софии Крэкрофт, ее корреспонденция и примечания к записям Джейн Франклин. Выражаю признательность моему агенту Ричарду Куртису, редакторам — Михаэлю Меццо и Ригану Артуру и, как всегда, — Карен и Джейн Симмонс, которые терпеливо ждали окончания моей «полярной экспедиции».Карты


Дэн Симмонс
 «Флэшбэк»
«Флэшбэк»
Эта книга посвящается Тому и Джейн Гленн. Будущее принадлежит им.
Мы всякое находим в нашей памяти; она похожа на аптеку, на химическую лабораторию, где наша рука случайно попадает то на какое-нибудь успокоительное средство, то на опасный яд.Марсель Пруст. Пленница.Из цикла «В поисках утраченного времени».(Перевод А. Франковского)
1.00 Японская зеленая зона над Денвером 10 сентября, пятница
— Вы, верно, не понимаете, зачем я пригласил вас сегодня, мистер Боттом, — сказал Хироси Накамура. — Совсем наоборот, — возразил Ник. — Я знаю, зачем вы меня вызвали. Накамура моргнул. — Знаете? — Да, — подтвердил Ник. «Какого хера? — подумал он. — Сказал „А“, говори и „Б“. Накамуре нужен детектив — докажи ему, что ты детектив». — Вы хотите, чтобы я нашел вам того — или тех, — кто убил вашего сына Кэйго, — сказал он. Накамура снова моргнул, но ничего не сказал, словно, услышав имя сына, потерял способность двигаться и говорить. Но старый миллиардер все же кинул взгляд туда, где, облокотившись на ступенчатый комод-тансу около открытого сёдзи, выходящего во внутренний сад, стоял его невысокий, но крепкий начальник службы безопасности Хидэки Сато. Если Сато что-то и сообщил своему шефу в ответ на слова детектива — движением, глазами или мимикой, — то Ник ни черта не уловил. Ник подумал, что, пока они ехали в главный дом на гольфмобиле или пока его представляли здесь, в офисе Накамуры, он не заметил, чтобы Сато хоть раз моргнул. Глаза начальника службы безопасности были как вулканическое стекло. Наконец Накамура проговорил: — Вы не ошиблись, мистер Боттом. И, как сказал бы Шерлок Холмс, это элементарно. Ведь именно вы расследовали убийство моего сына, когда я все еще находился в Японии; мы тогда с вами не были знакомы и не встречались. Ник ждал. Посмотрев на Сато, Накамура вновь перевел взгляд на единственный лист интерактивной электронной книги, которую держал в руках. Но потом его серые глаза оторвались от книги и вперились в Ника. — Как вы думаете, вам удастся найти убийцу… или убийц моего сына, мистер Боттом? — Уверен, что удастся, — солгал Ник. Он знал, что на самом деле старый миллиардер спрашивает: «Вы можете перевести назад часы и не допустить убийства моего сына, сделать так, чтобы все снова было хорошо?» Ник и на этот вопрос ответил бы: «Уверен, что могу». Он был готов сказать что угодно ради денег, которые этот человек мог заплатить. Денег этих хватило бы, чтобы на долгие годы вернуться к Даре. А может, и на всю оставшуюся жизнь. Накамура слегка прищурился. Ник знал, что глупец не смог бы стать обладателем сотен миллиардов в Японии или одним из всего лишь девяти региональных федеральных советников в Америке. — Почему вы считаете, что теперь добьетесь успеха, мистер Боттом, если шесть лет назад потерпели неудачу? А ведь вы в то время были детективом отдела по расследованию убийств и имели в своем распоряжении все возможности денверской полиции. — На нас тогда висело четыре сотни убийств, мистер Накамура. И на все про все было пятнадцать детективов. А каждый день случались новые убийства. На сей раз у меня будет всего одно дело, и я не стану отвлекаться на другие. Серые глаза Накамуры были такими же немигающими, как у Сато, только светлее. Его взгляд, и без того холодный, теперь стал ледяным. — Вы хотите сказать, бывший детектив Боттом, что шесть лет назад вы не уделили убийству моего сына того внимания, которого заслуживало это дело, несмотря… на высокое положение убитого, несмотря на указание губернатора Колорадо и самого президента Соединенных Штатов расследовать это дело в первую очередь? Все тело Ника зашлось от зуда по флэшбэку: по коже словно побежали сороконожки. Ему захотелось выбежать из комнаты и натянуть на себя, как одеяло, теплое шерстяное покрывало, сшитое из «тогда», «не теперь», «она», «не это». — Я хочу сказать, что денверская полиция шесть лет назад не уделяла должных сил и внимания ни одному громкому делу, — ответил Ник. — Включая и дело вашего сына. Да черт побери, если бы тогда в Денвере убили сына самого президента, то все равно денверский отдел по расследованию убийств ничего бы не смог сделать. Он посмотрел в глаза Накамуре, ставя все на эту нелепую тактику, на честность. — Да и сейчас бы не смог, — добавил он. — Сегодня там все в пятьдесят раз хуже. В кабинете миллиардера не было ни одного стула — даже для него самого, а потому Ник Боттом и Хироси Накамура стояли лицом к лицу, разделенные узкой, высокой, дорогущей и совершенной пустой конторкой красного дерева. Сато облокотился на тансу и выглядел расслабленным. Но было видно (во всяком случае, это не ускользнуло от глаз Ника), что глава службы безопасности, как взведенная пружина, готов действовать в любую секунду, что он опасен даже и без оружия, что в нем скрыта неуловимая убойная сила, свойственная бывшим солдатам, полицейским, всем, кому по профессии пришлось научиться убивать. — Мы думаем о том, чтобы предложить вам довести это расследование до конца. В первую очередь потому, что, проработав много лет в денверской полиции, вы приобрели немалый опыт, а кроме того, высказали неоценимые соображения по этому делу, — ровным голосом сказал мистер Накамура. Ник перевел дыхание. Ему не хотелось и дальше играть по сценарию Накамуры. — Нет, сэр, — заявил он. — Вы думаете о том, чтобы предложить мне эту работу, по другим причинам. Если вы наймете меня расследовать убийство вашего сына, то это потому, что я — единственный из ныне живых, кто — под флэшбэком — может увидеть все страницы файлов, стертых в ходе кибератаки на архив денверской полиции пять лет назад. Тогда весь архив был уничтожен. А про себя Ник еще подумал: «И потому, что я — единственный, кто под флэшбэком может восстановить все разговоры со свидетелями, подозреваемыми и другими детективами, участвовавшими в расследовании. Под флэшбэком я смогу заново прочесть все материалы дела, утраченные вместе с файлами». — Если вы наймете меня, мистер Накамура, — продолжил Ник вслух, — то потому, что я единственный в мире могу вернуться назад на шесть лет, чтобы снова увидеть, услышать, засвидетельствовать все по делу об убийстве. По делу, которое давно истлело, как и тело вашего сына, похороненного на семейном католическом кладбище в Хиросиме. Мистер Накамура издал короткий потрясенный вздох, а потом в комнате воцарилась тишина. За окном тихонько журчал крохотный водопад, роняя струи в крохотный пруд посреди крохотного, усыпанного мелким гравием дворика. Ник, открыв почти все свои карты, переступил с ноги на ногу, сложил руки на груди и оглянулся в ожидании ответа. Кабинет советника Хироси Накамуры в его особняке здесь, в Японской зеленой зоне над Денвером, хотя и был сооружен недавно, выглядел так, словно ему тысяча лет и он находится в Японии. Тут были сёдзи — раздвижные двери и окна, и фусума — то же самое, только потяжелее: все они выходили в небольшой дворик с небольшим, но совершенно правильным японским садом. Единственное матовое окно-сёдзи пропускало дневной свет в крохотную алтарную нишу, где тени бамбука шевелились над вазой со срезанными растениями и осенними прутиками. Сама ваза стояла в точно выверенном месте на лакированном полу. Немногочисленная мебель располагалась так, чтобы продемонстрировать любовь японцев к асимметрии; эти древние вещи были изготовлены из такого темного дерева, что каждая, казалось, поглощала свет. Полированные кедровые полы и свежие циновки-татами словно излучали — по контрасту — теплый свет. От татами исходил приятный запах свежей травы. Ник Боттом, расследуя убийства в Денвере, часто сталкивался с японцами. А потому он прекрасно понимал, что резиденция мистера Накамуры дом, сад, этот кабинет, икебана и несколько скромных, но очень дорогих предметов в кабинете — превосходно воплощает понятия «ваби» (простое спокойствие) и «саби» (изящная простота и торжество скоротечности). Но Нику на все это было в высшей степени наплевать. Эта работа была нужна ему ради денег. Деньги были нужны, чтобы купить еще флэшбэка. А флэшбэк требовался, чтобы вернуться к Даре. Поскольку туфли пришлось оставить в гэнкане[1] при входе, рядом с ботинками Сато, сейчас Нику больше всего досаждало то, что утром он надел именно эти черные носки — с дырой, через которую большой палец левой ноги чуть ли не целиком вылезал наружу. Ник чуть согнул ногу в колене, изо всех сил стараясь незаметно затянуть палец внутрь, убрать его с глаз долой; но для успеха операции следовало помогать себе и второй ногой, а это было бы слишком заметно. Сато наблюдал за корчами Ника, а тот, как мог, загибал большой палец. — На какой машине вы ездите, мистер Боттом? — спросил Накамура. Ник чуть не рассмеялся. Он был готов, что ему скажут «до свидания», что Сато физически вышвырнет гайдзина[2] за наглое упоминание об истлевшем теле Кэйго — сына Накамуры, память о котором свято чтилась, — но вопроса о машине он никак не ожидал. К тому же Накамура наверняка видел, как он подъехал: тут повсюду в неимоверных количествах были развешаны камеры наблюдения, и за Ником следили с того момента, как он приблизился к владению. Он откашлялся и сказал: — Гмм… у меня двадцатилетний мерин от «Го-Моторз». Миллиардер чуть повернул голову и пролаял несколько японских слогов, обращаясь к Сато. Не изменив позы и сияя едва заметной улыбкой, шеф службы безопасности отстрелялся еще более гортанным и быстрым залпом японских звуков. Накамура, явно удовлетворенный, кивнул. — А ваш… мерин — он надежен? Ник отрицательно покачал головой. — Литиево-ионные батареи на последнем издыхании, мистер Накамура. А судя по тому, как к нам в последнее время относится Боливия, замены в ближайшем будущем, похоже, не предвидится. Так что после хорошей двенадцатичасовой подзарядки этот кусок го… эта машина может проехать около сорока миль со скоростью тридцать восемь миль в час. Или тридцать восемь миль со скоростью сорок миль в час. Остается лишь надеяться, что в ходе этого расследования не будет погонь, как в «Буллите».[3] Лицо Накамуры оставалось непроницаемым — ни тени улыбки, ни намека на понимание. Они там в Хиросиме смотрят знаменитые старые фильмы? — Мы можем предоставить вам автомобиль из нашего представительства на время расследования, мистер Боттом. Может быть, седан «лексус» или «инфинити». На этот раз Ник не смог сдержать смеха. — Один из ваших водородных скейтбордов? Нет, сэр. Ничего из этого не выйдет. В Денвере я оставляю машину в таких местах, что ее разберут до гаечки: останется один композитный каркас. А во-вторых… это может объяснить ваш директор или шеф безопасности… мне нужна незаметная машина — вдруг придется вести слежку. Невидимка, как говорим мы, частные детективы. Накамура издал низкий гортанный звук, словно собирался сплюнуть. Ник слышал такие возгласы, когда, будучи копом, общался с японцами. Кажется, этот звук выражал удивление и отчасти — неудовольствие. Правда, Ник также слышал его, когда японцы впервые видели что-то прекрасное — например, садовый ландшафт. Он подумал, что этот возглас, видимо, непереводим. Между вновь объятыми пассионарностью японцами и бесконечно усталыми американцами накопилось много непереводимого. — Хорошо, мистер Боттом, — сказал наконец Накамура. — Если мы решим нанять вас для расследования, вам понадобится машина с большим радиусом действия, ведь потребуется ездить в Санта-Фе, Нуэво-Мексико. Но подробности мы обсудим позже. «Санта-Фе, — подумал Ник. — Бррр. Черт бы его драл. Только не Санта-Фе. Куда угодно, только не в Санта-Фе». От одного упоминания этого города рубцовые ткани его брюшных мышц — след от глубокой раны — начинали болеть. Но он слышал и другой голос, киношный, один из сотен, живших в его голове: «Забудь об этом, Джейк. Это же Чайнатаун».[4] — Хорошо, — сказал вслух Ник. — Про машину и поездку в Санта-Фе поговорим позже. Если вы наймете меня. Накамура снова посмотрел на листок электронной книги. — И вы сейчас живете в бывшем «Беби-гэпе»,[5] внутри бывшего «Черри-Крик-молла»? «Боже мой», — подумал Ник Боттом. Все его будущее, вероятно, зависело от исхода этого разговора. И вот из десяти тысяч вопросов, которые мог бы задать Накамура и на которые он мог бы ответить, сохраняя хотя бы видимость остатка чувства собственного достоинства, Накамура задает ему именно этот. «И вы сейчас живете в бывшем „Беби-гэпе“, внутри бывшего „Черри-Крик-молла“?» «Да, сэр, мистер Накамура, сэр, — чуть не сорвалось у него с языка, — в настоящее время я, прежний Ник Боттом, живу в одной шестой бывшего „Беби-гэпа“, в бывшем „Черри-Крик-молле“, в поганом районе поганого города, в одной сорок четвертой прежних Соединенных Штатов Америки. А вы живете здесь, на вершине горы, вместе с другими японцами, внутри трех колец безопасности, через которые не прорвался бы даже призрак долбаного Усамы бен Ладена». — Теперь его называют «кондоминимум Черри-Крик-молл». Я думаю, что пространство, где располагается мой бокс, прежде было частью «Беби-гэпа». Из трех человек в кабинете двое были роскошно одеты по возрожденной моде 1960-х годов, на манер Джона Кеннеди, убитого более семидесяти пяти лет назад: черные пиджаки с узкими лацканами, белые крахмальные рубашки, белые платочки, торчащие из кармана, и тонкие черные галстуки. Даже Накамура, которому было под семьдесят, не помнил эту эпоху, и Ник понять не мог, почему маститые японские стилисты в десятый раз вызывают к жизни эту моду. Стиль покойных братьев Кеннеди вполне подходил стройному, элегантному Накамуре. Сато был одет не менее роскошно, чем босс, хотя его костюм и стоил на тысячу-другую меньше. Однако одежде Сато не помешала бы более тщательная подгонка. Если Накамура, несмотря на возраст, был стройным и поджарым, то к Сато, как ни к кому другому, подходило словечко «шкаф». Ник стоял, ощущая согнутым большим пальцем ноги прохладный ветерок из сада и понимая, что ростом он гораздо выше этих двух — но в то же время только у него плечи согнуты привычной уже сутулостью. Жаль, что он не выгладил хотя бы рубашку. Вообще-то он собирался, но после того, как ему позвонили и пригласили поговорить — то есть всю прошедшую неделю, — никак не удавалось выкроить время. И вот теперь он стоял в неглаженой рубашке под неглаженым пиджаком, который носил уже двенадцать лет, в дешевых брюках не в цвет — менее помятых и запачканных, чем остальные. В таком виде он, вероятно, производил впечатление человека, который спит не только в одежде, но еще и на одежде. Ник лишь сегодня утром, у себя в боксе, обнаружил, что слишком растолстел за последние год-два и не может застегнуть пуговицы на своих старых брюках, на пиджаке, на воротнике рубашки. Он надеялся, что слишком широкий пояс спрячет разошедшуюся верхушку брюк, а узел на галстуке скроет незастегиваемую пуговицу рубашки; но сам этот треклятый галстук был в три раза шире, чем у обоих японцев. Не добавляла уверенности и мысль о том, что галстук, подаренный Дарой, стоил, вероятно, одну сотую от того, что Накамура заплатил за свой. Ну и черт с ним. Все равно больше галстуков не осталось. Ник Боттом родился в предпоследнем десятилетии прошлого века и помнил песенку из образовательной телевизионной программы своего детства. Теперь эти глупые стишата снова зазвенели в его больной, жаждущей флэшбэка голове: «Что-то одно здесь не отсюда, что-то одно здесь не то…»[6] «Ну и черт с ним», — снова подумал Ник и на мгновение запаниковал — уж не произнес ли он эти слова вслух? Ему было все труднее и труднее сосредоточиваться на чем-либо в этом несчастном мире без флэшбэка, который становился все более нереальным. Немного спустя (Накамуру, казалось, вполне устраивало затянувшееся молчание, Сато активно им наслаждался, Ник Боттом же чувствовал себя крайне неловко) он добавил: — Конечно, «Черри-Крик-молл» вот уже несколько лет как не молл и никаких магазинов там больше нет. С самого ДКНТ. Ник произнес этот старинный акроним как «дык не туда» — так его все произносили и сейчас, и раньше, но выражение лица Накамуры оставалось непроницаемым, или пассивно-вызывающим, или вежливо-любопытным, а может быть, и тем, и другим, и третьим сразу. В одном Ник был уверен: японский магнат не собирается облегчать для него ни одну из частей разговора. Сато, который здесь, в Штатах, немало времени проводил на улицах города, не стал переводить это своему боссу. — До того, как настал трындец, — пояснил Ник, но не добавил, что используемое чаще «дык не туда» означало «день, когда настал трындец». Он не сомневался, что Накамуре знакомы оба выражения. Японец уже пять месяцев жил в Колорадо в качестве федерального советника четырех штатов. И он наверняка знал все американские разговорные выражения — хотя бы от того же сына, убитого шесть лет назад. — Так, — сказал мистер Накамура и опять посмотрел на листок электронной книги. Картинки, видео, колонки текста сменялись на единственной странице, гибкой, как бумага, прокручивались и исчезали при малейшем движении наманикюренных пальцев. Ник обратил внимание, что пальцы старика были короткими и сильными, как у рабочего. Правда, мистер Накамура вряд ли хоть раз пользовался ими для физического труда, если только тот не был частью отдыха. Например, плавания на яхте. Или поло. Или скалолазания. Все три этих вида спорта были упомянуты в его гоу-вики-биографии. — И как долго вы проработали в денверской полиции, мистер Боттом? — продолжил свой допрос Накамура. Нику показалось, что это чертово собеседование идет задом наперед. — Я девять лет был детективом, — сообщил Ник. — А вообще в полиции прослужил семнадцать лет. Он подавил искушение рассказать о своих наградах — все это имелось в базе данных внутри электронной книги Накамуры. — Вы были детективом в отделе по особо важным делам, а потом в отделе по расследованию убийств и грабежей? — прочел Накамура, лишь из вежливости добавляя вопросительную интонацию. — Да, — подтвердил Ник, думая: «Давай уже к делу, черт побери». — И вас уволили из полиции по причине?.. Накамура замолчал, словно причина не указывалась на листе, который он держал перед собой и уже успел прочесть. Вопросительная интонация теперь обозначалась лишь вежливо приподнятыми бровями Накамуры. «Вот говнюк», — подумал Ник, втайне испытывая облегчение оттого, что они наконец дошли до этой части собеседования. — Моя жена погибла в автокатастрофе пять лет назад, — бесстрастно произнес Ник, понимая, что Накамура и его шеф безопасности знают о его жизни больше, чем он сам. — И мне было трудно… пережить это. Накамура ждал, но теперь уже Ник решил осложнить жизнь собеседнику. «Ты ведь знаешь, почему собираешься нанять меня для этой работы, скотина. Давай уже к делу. Да или нет». Наконец мистер Накамура вполголоса сказал: — Значит, причиной вашего увольнения из денверской полиции после девятимесячного периода, когда вам делали поблажки, стало злоупотребление флэшбэком. — Да. Ник вдруг понял, что впервые улыбается двоим японцам. — И эта пагубная привычка стала впоследствии причиной закрытия вашего частного детективного агентства через два года после того, как вас… как вы ушли из полиции? — Нет, — солгал Ник. — Не совсем так. Просто сейчас настали трудные времена для малого бизнеса. Вы же знаете — страна двадцать третий год выходит из депрессии. Эта старая шутка, казалось, не произвела ни малейшего впечатления ни на одного из японцев. Раскованная поза стоявшего чуть внаклонку Сато напомнила Нику — невзирая на все различия в телосложении — Джека Паланса в роли стрелка из фильма «Шейн».[7] Немигающие глаза. Выжидающие. Наблюдающие. Надеющиеся, что Ник сделает шаг и Сато-Паланс сможет пристрелить его. Будто Ник мог пронести оружие через столько колец безопасности: его машина, пройдя магнитно-резонансное сканирование, осталась в полумиле внизу, а «глок» девятого калибра у визитера изъяли (даже Сато счел бы глупостью ездить по городу без оружия). Сато смотрел с убийственной, абсолютной готовностью профессионального телохранителя. Или киллера Джека Паланса из «Шейна»? Мистер Накамура неожиданно оставил тему флэшбэка. — Боттом. Очень необычная фамилия для Америки, — сказал он. — Правда, сэр, — ответил Ник, уже привыкавший к почти беспорядочным вопросам. — Тут такая смешная история. Вообще-то фамилия была английской — Бэдхам, но какой-то клерк в эмиграционном бюро на Эллис-Айленде не расслышал. Это как в сцене из «Крестного отца-два», когда юный, не знающий языка Вито Корлеоне получает новое имя. Мистер Накамура, судя по всему, вовсе не был любителем старого кино. Он снова посмотрел на Ника своим пустым и совершенно непроницаемым японским взглядом. Ник громко вздохнул. Попытки завязать разговор уже утомили его. Он заявил без обиняков: — Боттом — необычная фамилия, но мы ее носим уже примерно полтораста лет — ровно столько, сколько моя семья живет в Штатах. «Хотя у моего сына другая», — подумал он. Накамура словно прочел его мысли: — Ваша жена скончалась, но, насколько я понимаю, у вас есть шестнадцатилетний сын, которого зовут… Миллиардер помедлил, опуская взгляд на электронную книгу, так что Ник увидел его идеальные, выровненные бритвой седые волосы. — …Вэл, — закончил он. — Вэл — это уменьшительное от чего-то, мистер Боттом? — Нет, — сказал Ник. — Просто Вэл. Был такой старый актер,[8] которого мы с женой любили, и… ну, в общем, его зовут просто Вэл. Я несколько лет назад отослал сына к деду в Лос-Анджелес. К моему тестю, он был профессором в Калифорнийском университете. Там больше возможностей получить образование. Но Вэлу пятнадцать лет, мистер Накамура, а не… Ник замолчал. День рождения у Вэла был второго сентября, восемь дней назад. Он забыл об этом. Накамура прав — сыну уже шестнадцать. Черт побери! Горло его внезапно сжал спазм, он откашлялся и продолжил: — Да, вы правы, у меня один ребенок. Сын по имени Вэл. Он живет с дедом по матери в Лос-Анджелесе. — И вы по-прежнему злоупотребляете флэшбэком, мистер Боттом, — сказал Хироси Накамура. На этот раз ни в выражении лица миллиардера, ни в его интонации не было вопросительного знака. Ну вот, приехали. — Нет, мистер Накамура, не злоупотребляю, — твердо ответил Ник. — Было дело. У департамента полиции имелись все основания уволить меня. Через год после гибели Дары я стал полной развалиной. Да, я все еще злоупотреблял им, когда накрылось мое агентство — примерно через год после того, как я ушел… как меня выгнали из полиции. Сато по-прежнему стоял в свободной позе, а Накамура — прямо, с непроницаемым лицом ожидая продолжения. — Но я по большому счету справился с пагубной привычкой, — добавил Ник, затем поднял руки и вытянул пальцы. Он был исполнен решимости ни о чем не просить (при нем все еще оставался козырной туз — причина, по которой его вынуждены нанять), но по каким-то нелепым соображениям нуждался в том, чтобы ему поверили. — Послушайте, мистер Накамура, — продолжил он, — вы должны знать, что почти восемьдесят пять процентов американцев, по оценке, сегодня используют флэшбэк. Но если коротко, не все из нас наркоманы. Многие из нас прикладываются лишь время от времени… чтобы расслабиться… в обществе… точно так же здесь пьют вино, а в Японии — сакэ. — Вы всерьез считаете, что флэшбэк облегчает дружеское общение? Ник набрал воздуха в грудь. Японское правительство восстановило смертную казнь для всех, кто продавал, использовал или просто хранил флэшбэк. В Японии его боялись, как и в мусульманских странах. С той разницей, что в Новом Всемирном Халифате за употребление или хранение флэшбэка шариатские трибуналы выносили лишь один приговор: немедленное обезглавливание, транслируемое на весь мир одним из круглосуточных каналов «Аль-Джазиры». По ним показывали только мусульманские наказания: побитие камнями, отсечение головы и так далее. Тот канал вел трансляции без перерыва и имел обширную аудиторию. Его смотрели и днем и ночью во всем Халифате — на Ближнем Востоке и в Европе, а также в американских городах, где имелись сообщества хаджи, то есть сторонников Халифата, совершивших хадж. Ник знал, что многие немусульмане в Денвере смотрят эти трансляции для развлечения. Когда у Ника выдавалась особенно пакостная ночь, он тоже смотрел. — Нет, я не хочу сказать, что флэшбэк способствует общению. Я имею в виду, что при умеренном потреблении флэшбэк не вреднее, чем… скажем… телевидение. Серые глаза Накамуры продолжали сверлить его. — Значит, мистер Боттом, вы больше не злоупотребляете флэшбэком так, как это было сразу после трагической гибели вашей жены? И если я найму вас, чтобы расследовать убийство моего сына, вы не станете отвлекаться от расследования, используя наркотик для расслабления? — Именно так, мистер Накамура. — А вы употребляли наркотик в последнее время, мистер Боттом? Ник задумался всего на одну секунду. — Нет. Ни разу. Нет ни желания, ни потребности. Сато извлек из кармана сотовый телефон — гладкий кусок полированного черного дерева размером меньше, чем НИКК, Национальная идентификационная и кредитная карта. Он положил телефон на полированную поверхность верхней ступеньки тансу, и пять стенных панелей темного дерева в строгом кабинете тут же превратились в экраны. Картинка высочайшего разрешения, хотя и не трехмерная, была четче, чем та, что видна сквозь абсолютно прозрачное окно. Перед Ником и двумя японцами появились изображения, снятые несколькими камерами меньше четверти часа назад: тайный флэшбэк-наркоман сидит в своей машине на глухой улочке, примерно в четырех милях от особняка. «О черт», — подумал Ник. Началась прокрутка изображений.1.01 Японская зеленая зона над Денвером 10 сентября, пятница
Первая реакция Ника была чисто профессиональной — недаром же он столько лет проработал оперативником в полиции: «Это снималось пятью камерами, по крайней мере две стояли на невидимых беспилотниках. Две — с очень мощными длиннофокусными объективами. Одна камера была ручная, и находился оператор невероятно близко». На экранах, конечно, был он сам в своем убитом мерине, с опущенными окнами, потому что сентябрьское солнце уже разогрело воздух. Машина стояла под развесистой кроной дерева, в тупике, на заброшенной стройплощадке, где когда-то собирались возвести дорогущие дома. Меньше чем в четырех милях вниз по холму от Японской зеленой зоны, где-то в миле от съезда с I-70[9] на Эвергрин и к «Дженезису». Ник трижды перестраховался, проверяя, нет ли слежки, — хотя зачем потенциальному нанимателю следить за ним до собеседования? Впрочем, это не имело значения. Ему нравилось перестраховываться. Эта привычка неплохо ему послужила за время работы в полиции. Он даже вылез из мерина, оглядел небо и обследовал близлежащие кустарники и сорняки, росшие из недостроенных фундаментов, с помощью старого тепловизора, датчика движения и бинокля с функцией обнаружения невидимых объектов. Ничего. Ник смотрел на самого себя: вот он сидит на водительском месте и вытаскивает из помятого пиджака единственную ампулу с флэшбэком, которую взял с собой этим утром. Все трое — он и японцы — наблюдали, как Ник на экранах закрывает глаза, сжимает ампулу, глубоко вдыхает, вышвыривает ее в окно и расслабляется, откинувшись к подголовнику. Через секунду его глаза закатились, как обычно, — начинались видения; рот слегка приоткрылся, как и теперь, когда он смотрел на экраны. Ник поехал на холм из Денвера рано утром, и у него еще оставалось почти полчаса до того времени, когда он должен был появиться на блокпосту колорадской полиции перед зеленой зоной — первом из трех колец безопасности, которые, насколько он знал, окружали зону. Поэтому он взял только десятиминутную ампулу. «Платишь десять баксов — и десять раз трахаешь», как говорили уличные распространители флэшбэка. Видеть себя в пяти разных ракурсах (три из них — крупным планом) было все равно что смотреть на тысячи флэшбэкеров, которые клевали носом, сидя чуть ли не на всех перекрестках города. Веки Ника были опущены, но приблизительно треть радужки закатившегося глаза оставалась видимой; глаза метались туда-сюда в ритме быстрого сна. Тело и лицо Ника подергивались на пяти экранах, по мере того как эмоции и реакции почти (но всегда — лишь почти) доходили до соответствующих мышц. Ближайшая из камер засняла серебристую ниточку слюны из левого уголка рта, который судорожно подергивался. Затем последовал крупный план — беззвучно двигающаяся челюсть: флэшбэкер, глубоко погруженный в свои ожившие воспоминания, пытался что-то произнести. Он не договаривал слова — обычная идиотская бормотня наркомана. Микрофон был настроен хорошо, Ник слышал мягкий шорох утреннего ветерка и шелест веток над машиной. Пятьдесят минут назад он ничего этого не замечал. — Я вас понял, — сказал он через пару минут японцам, казалось поглощенным картинкой на пяти экранах. — Вы хотите досмотреть это дерьмо до конца? Все десять минут? Да, японцы хотели. Вернее, хотел мистер Накамура. И потому они втроем простояли все десять минут, пока Ник Боттом на экране, такой же помятый и потный, как в реальной жизни, ронял слюну и подергивался, а его черные расширенные зрачки на глазных яблоках, словно сваренных вкрутую под полузакрытыми веками, метались в разные стороны, как две жужжащие мухи. Ник заставлял себя не отворачиваться и не отводить взгляда. «Здесь ад. И я всегда в аду».[10] Это была одна из немногих некиношных цитат, известных Нику: ее когда-то выдала жена, в университете специализировавшаяся по английской литературе. Даже под страхом смерти Ник не вспомнил бы, откуда эти слова, но подозревал, что это имеет отношение к Фаусту и Дьяволу. Дара, как и ее отец, знала немецкий и несколько других языков. А кроме того, дочь и отец, казалось, знали все пьесы, романы и хорошие фильмы на этих языках. Ник имел диплом судмедэксперта, — довольно необычно для полицейского, даже для детектива из отдела убийств, — но рядом с Дарой и ее отцом он всегда чувствовал себя так, будто получил его обманным путем. В машине он флэшбэчил на их медовый месяц восемнадцать лет назад, в отеле «Хана Мауи», и теперь радовался, что не выбрал для своего мимолетного удовольствия тогдашних любовных сцен. Он предпочел вновь пережить другое: как они плавали в панорамном бассейне, глядя на Тихий океан, над которым поднималась луна; как бегом неслись под душ, а потом быстро одевались в своем хале,[11] потому что опаздывали к обеду; как шли в обеденный ланай[12] между потрескивающими факелами и разговаривали, поглядывая на звезды, что зажигались в темнеющем небе. Воздух был насыщен ароматом тропических цветов и чистым запахом океанской соли. Ник исключил из сеанса сексуальные воспоминания, меньше всего желая, чтобы во время собеседования брюки его были заляпаны семенной жидкостью. Но теперь он просто радовался тому, что на этом дегенеративном лице не отражаются оргазмы восемнадцатилетней давности. Бесконечное видео наконец завершилось. Ник Боттом на экране вышел из транса, подергивания прекратились. Он тряхнул головой, провел рукой по волосам, подтянул галстук на шее, посмотрел на себя в зеркало заднего вида, завел машину, — близкий к кончине электродвигатель издал скрежещущий звук, — и тронулся с места. Камеры, даже установленные на летательных аппаратах, не стали следить дальше. Четыре из пяти экранов в комнате снова превратились в старинное черное дерево. Пятый вывел электронную отметку времени и замер. Хироси Накамура и Хидэки Сато не произнесли ни слова, но переглянулись. Абсурдная пауза затянулась на целую минуту. Потом Ник сказал: — Ну хорошо, я до сих пор флэшнаркоман. Я все время хожу под флэшбэком — минимум шесть-восемь часов в день, примерно на столько же времени американцы раньше присасывались к стеклянной сиське телевизора. Ну и что? Вы все равно наймете меня на эту работу, мистер Накамура. И вы заплатите за мой флэшбэк, чтобы я мог вернуться почти на шесть лет назад и восстановить ход расследования убийства вашего сына. Телефон Сато остался лежать на старинном тансу, и теперь все пять экранов засветились фотографиями двадцатилетнего Кэйго Накамуры. Ник лишь мельком скользнул по ним взглядом. Шесть лет назад, расследуя дело, он видел немало фотографий Кэйго, живого и мертвого, и не особенно впечатлился. У сына миллиардера были слабый подбородок, косящие карие глаза, идиотская прическа — волосы торчком — и чуть надутый, мрачный, хитроватый взгляд, какой Ник видел у слишком многих молодых азиатов здесь, в Штатах. Ник научился ненавидеть это выражение на лицах молодых богатых говнюков из Японии, приезжавших поглазеть на американские трущобы. Единственные заинтересовавшие его фотографии Кэйго Накамуры были сделаны на месте преступления и в анатомичке: громадная улыбка, в которой разошлись, правда, не губы, а шея парня, располосованная ножом, — сверкающая белизна позвонков внутри рваной раны. Неизвестный убийца, перерезав горло молодому наследнику, чуть не отделил голову Кэйго от туловища. — И если вы меня наймете, то именно благодаря флэшбэку, — вполголоса сказал Ник. — Хватит бродить вокруг да около. Перейдем к сути. У меня сегодня есть и другие дела, другие встречи. Последнее было самой большой ложью в жизни Ника. Лица Накамуры и Сато оставались совершенно непроницаемыми и вроде бы безучастными, словно Ник Боттом уже ушел из кабинета. Накамура покачал головой. Теперь Ник увидел признаки возраста на его лице — небольшие, но растущие мешки под глазами, морщинки, убегающие из уголков глаз. — Вы ошибаетесь, считая себя незаменимым, мистер Боттом. У нас есть распечатки всех полицейских отчетов, сделанных как до, так и после кибератаки, как в то время, когда вы участвовали в следствии по делу моего сына, так и после вашего отстранения. У мистера Сато имеется полный комплект документов о действиях Денверского департамента полиции. Ник рассмеялся. Он впервые увидел гнев в глазах пожилого миллиардера и был рад этому. — Не лукавьте, мистер Накамура, — сказал он. — Вы прекрасно знаете, что «все» документы за период моего руководства следствием и после него, предоставленные департаментом, — это десятая часть того, что имелось в электронном виде. Бумага — охеренно дорогая штука, чтобы печатать на ней тонны всякого говна, пусть даже для пробивного японского миллиардера со связями в Белом доме. Сато никогда и не видел материалов дела… верно, Хидэки-сан? От издевок и фамильярного тонавыражение лица Сато ничуть не изменилось — просто его глаза, и без того холодные, стали черными льдинками. В них больше не было ни малейшего намека на любопытство. — Так что если вы хотите возобновить расследование, вам нужен я, — продолжил Ник. — В последний раз предлагаю бросить всю эту хрень и перейти к делу. Сколько вы мне заплатите за работу? Накамура молча смотрел на него несколько мгновений, потом вполголоса проговорил: — Если вам удастся найти убийц моего сына, мистер Боттом, я готов заплатить вам пятнадцать тысяч долларов. Плюс покрытие расходов. — Пятнадцать тысяч новых баксов или старых долларов? — спросил Ник, стараясь скрыть волнение. — Старых, — сказал Накамура. — Плюс расходы. Ник сложил руки на груди, словно задумавшись, но на самом деле это была попытка сохранить равновесие. Он вдруг почувствовал, что может вот-вот потерять сознание. Пятнадцать тысяч старых долларов равнялись двадцати двум с небольшим миллионам новых. У Ника сейчас было около ста шестидесяти тысяч новых баксов на его НИКК, и он был должен несколько миллионов прежним приятелям, букмекерам, торговцам флэшбэком и акулам-процентщикам. «Шестьдесят миллионов баксов. Господи Иисусе». Ник пошире расставил ноги, чтобы его не качало. Продолжая играть крутого парня, он постарался говорить энергичнее. — Хорошо. Я хочу, чтобы вы сразу же перевели на мою карточку пятнадцать тысяч старых долларов. И без всяких там штучек… то есть без всяких ограничений, трюков и хитростей, мистер Накамура. Нанимайте меня и переводите деньги. Сейчас. Или вызывайте гольфмобиль, чтобы меня отвезли к моей машине. На сей раз настала очередь миллиардера рассмеяться. — Вы считаете нас дураками, мистер Боттом? Если мы переведем деньги сейчас, вы при первой возможности дадите деру и потратите все на флэшбэк. «Конечно потрачу, — подумал Ник. — Я бы снова стал живым. И достаточно богатым, чтобы провести остаток нашей с Дарой жизни вместе — несколько раз пережить все заново». У него все еще кружилась голова. Он сказал: — Что же вы тогда предлагаете? Половину сейчас, а вторую половину, когда я найду убийцу? Семи с половиной тысяч долларов хватило бы для пребывания под флэшбэком в течение нескольких лет. — Я переведу нужную сумму на вашу НИКК, — ответил Накамура, — и буду пополнять ваш счет по мере необходимости. Но имейте в виду, что это — на текущие расходы. В новых долларах. Пятнадцать тысяч старых долларов поступят на ваш личный счет, лишь когда убийцу моего сына найдут и эту информацию подтвердит мистер Сато. — Когда вы прикончите парня, на которого я покажу, ага, — заметил Ник. Мистер Накамура сделал вид, что не расслышал. Секунду спустя он проговорил: — Наш целостный контракт передан на ваш телефон, мистер Боттом. Можете на досуге изучить его. Ваша электронная подпись активирует контракт, и тогда мистер Сато отправит на вашу НИКК сумму на первоначальные расходы. А пока я попросил бы вас отвезти мистера Сато назад в Денвер. — Это еще с какой стати? — Меня вы больше не увидите, мистер Боттом, до конца расследования. Но вы будете часто встречаться с мистером Сато. В интересах расследования он будет на связи с вами в любое время. Сегодня я хочу, чтобы он опробовал вашу машину и увидел ваше жилье. — Опробовал мою машину? — рассмеялся Ник. — Увидел мое жилье? Это еще зачем? — Мистер Сато никогда не видел универмага «Беби-гэп», — сказал Хироси Накамура. — Ему это будет любопытно. На этом наш разговор закончен, мистер Боттом. Всего доброго. Миллиардер сделал легчайший поклон — пренебрежительно-слабый, почти незаметный. Ник Боттом не поклонился в ответ. Он развернулся на пятках и пошел назад, к гэнкану и своей обуви, на каждом шагу ощущая обнаженным большим пальцем мягкий татами. Хидэки Сато совершенно беззвучно пошел следом.2.00 Лос-Анджелес 10 сентября, пятница
Вэл полулежал внутри V-образной конструкции, где ржавая сталь встречалась с обгаженным голубями бетоном, — под разрушающейся эстакадой и высоко над заброшенным участком 101-го. И неподалеку от остатков Юнион-стейшн. Вэл любил это место потому, что здесь было прохладно — температура в тени заметно отличалась от уличной, — а еще круто. Ему нравилось думать, что эти конструкции из решетчатых ферм и бетона, вроде той, где он сейчас расположился с ребятами, были контрфорсами какого-нибудь заброшенного готического собора, а он — горбуном, бродившим среди горгулий. Типа Чарльза Лоутона.[13] Наверное, любовь к старым фильмам, подумал Вэл, — единственное, что он унаследовал от предка, прежде чем этот сукин сын бросил его. Остальные ребята из его флэшбанды уже выходили из флэшбэка. Подергивания и слюни, стекающие изо рта, сменились зевотой, потягиваниями и криками. — Кайф! — выкрикнул Койн. За всю историю этой компании оборванцев, неоперившихся беложопых юнцов, Койн больше любого другого подходил под определение вожака. — Охеренный кайф! — отозвался Джин Ди, высокий прыщавый парнишка, рассеянно чесавший у себя в паху: он уже вышел из флэшбэка и явно пытался сделать то, чего не смог во время реального изнасилования. — Сунь ей еще раз, Бен! — воскликнул Сули. Татуировки целиком покрывали не только руки этого мускулистого шестнадцатилетнего парня, но и лицо, напоминавшее боевую маску маори. Манк, Тухи, Костолом и Динджин, подергиваясь, выходили из повторных получасовых сеансов и пока молчали — только позевывали, рыгали и пердели. Эти четверо были на год, на два младше Вэла и трех других парней (при том, что Костолом — Кальвин — был самым высоким, здоровым и тупым из восьмерых). Ни одно из их сексуальных поползновений не продолжалось больше минуты, после чего случалось преждевременное… как его там? А потому Вэл недоумевал: «На что эти кретины флэшбэчили остальные двадцать девять минут?» На то, как они срывали с нее одежду? На то, как убегали? Или на одно и то же Волшебное мгновение тридцать раз подряд, точно на заезженном блюреевском диске? Группа снова и снова флэшбэчила на изнасилование девственницы-латиноамериканки, совершенное чуть больше часа назад. План — разработанный в основном Койном — состоял в том, чтобы поймать одну из хорошеньких латинок-четвероклашек по пути в школу и всей компанией сломать ей целку. — Отловим одну из таких целочек, у которой кудряшки только-только завелись над расщелинкой, — витиевато выразился Койн. — Потом сможем неделями флэшбэчить и кончать на это. Но им не удалось уволочь маленькую хорошенькую четвероклашку. Всех этих хорошеньких маленьких латиночек привозили в школу вооруженные отцы или старшие братья в гибридных машинах с низкой подвеской, что грохотали по городским улицам. Девственницы на задних сиденьях глядели наружу через пуленепробиваемые стекла. В конце концов пришлось уволочь Дрочилу Марию, дебильную девчонку из девятого класса их собственной школы. Чисто теоретически ДМ, возможно, и была еще девственницей — когда Койн, первым из всех, присунул ей, появилось немного крови, — но вид ее обнаженного тела (складки жира над дешевыми трусиками; одутловатое, белое лицо, вроде куска теста; бездумный взгляд устремленных в небеса глаз; крупные, но уже словно постаревшие сиськи, обвислые, с дряблой кожей) совсем не возбудил Вэла. Он сказал, что во время изнасилования будет стоять на атасе. Вэл флэшбэчил вместе с остальными под дорожной эстакадой, но всего десять минут: на свой четвертый день рождения в Денвере. Он часто возвращался к этому празднику. Где-то он прочел о схожих повадках шизофреников, которые постоянно прижигали руки сигаретами и тем напоминали себе, что все еще живы. Семь вернувшихся к жизни парней растянулись теперь на открытых фермах. Они любили так делать — но никому не хотелось лежать на узких стальных полосках, в шестидесяти футах над пустым хайвеем, когда их тела эпилептически дергались под флэшбэком. На всех были дырявые джинсы, черные военные ботинки и выцветшие интерактивные футболки того типа, что носили почти все школьники средних классов: спереди и сзади — портреты крутых чуваков вроде Че и Фиделя, Гитлера и Гиммлера, Мао-как-его-там и Чарльза Мэнсона, Мохаммеда аль-Аруфа и Усамы бен Ладена. Обо всех этих типах ребята почти ничего не знали. У Койна на футболке были поблекшие портреты Дилана Клеболда и Эрика Харриса,[14] интерактивные — они оживали и вели разговор, если к ним обращались. Вэл и другие знали про Клеболда и Харриса лишь одно: те были крутыми киллерами примерно того же возраста, что и ребята из их крохотной жалкой флэшбанды. Эти Клеболд и Харрис попытались замочить всех в своей школе, когда такое еще казалось новым — в прошлом веке, во времена динозавров и республиканцев. Вэл, как и другие парни, бездельничавшие и курившие здесь, высоко над шоссе, часто думали и разговаривали о том, как перемочить всех в школе. Проблема, разумеется, состояла в том, что школы перестали быть легкой целью. Клеболду и Харрису было нетрудно (правда, говорили, что они все равно не довели дело до конца — их пропановая бомба даже не взорвалась). Сегодня почти во всех классах школы, где учился Вэл (рядом с Центром предварительного заключения на стадионе «Доджер»), число вооруженных охранников сравнялось с числом учеников. Местные ополченцы защищали тех недоумков, которые ходили в школу и домой без присмотра. И даже учителей, черт бы их драл, обязывали носить оружие и регулярно ходить на тренировочные стрельбы в тир лос-анджелесской полиции — в здании бывшего завода по розливу кока-колы неподалеку от Сентрал-авеню. Койн встал, расстегнул ширинку и принялся мочиться в пустоту. Струйка мочи, описывая дугу, падала с высоты шести этажей на поросшее сорняками шоссе. Это вызвало настоящую эпидемию — всем захотелось помочиться. Первыми примеру вожака последовали Манк, Тухи Костолом, Динджин, потом — Сули и Джин Ди и, наконец, Вэл. Ему пока не приспичило, но длительные флэшбэки часто вызывали малую нужду, и Вэл не хотел, чтобы остальные догадались о его столь кратковременной отключке: ведь все остальные флэшбэчили на изнасилование час, а то и больше. Вэл расстегнул ширинку и присоединился к писающим мальчикам. — Эй, стойте! — закричал Койн, прежде чем Вэл и младшие парни успели закончить. По бетонному каньону 101-го хайвея разнесся рев. Перестать мочиться, если уж начал, довольно трудно, но Вэлу это удалось. Внезапно под ними пронеслись с десяток «харлеев». На мускулистых телах мотоциклистов — в местах, не закрытых черной кожей, — виднелись татуировки. Длинные волосы, черные и русые, свободно развевались. — Бляха-муха, они жгут настоящий бензин! — воскликнул Джин Ди. Мотоциклисты проехали, не подняв голов, хотя ребята наверху, выпроставшие своих маленьких петушков над бездной, были прекрасно видны. Ревущие «харлеи» неслись со скоростью миль восемьдесят в час. — Черт, вот бы оказаться сейчас на этой дороге, в миле отсюда, — выдохнул Сули. Все знали, что он имеет в виду. На протяжении примерно мили с дороги не было ни одного съезда, а дальше часть 101-го провалилась во время Большой войны, образовав пропасть шириной в двенадцать футов и глубиной около шестидесяти. На темном дне валялись бетонные блоки с торчащей арматурой, перекрученные, ржавые обломки давно разбившихся машин и — как говорили — скелеты других байкеров. Крутые ездоки устроили там что-то вроде бетонного трамплина, на который заезжали с сумасшедшей скоростью, не более чем по трое одновременно, чтобы перепрыгнуть через провал и мчаться дальше к первому незабаррикадированному выходу: там 101-й хайвей пересекался с тем, что осталось от Пасадинского шоссе. Вэл бывал в том месте и видел провал с обеих сторон эстакады шоссе, видел пятна засохшей крови, порванную резину, замысловатые штабеля хрома и стали с западной стороны трамплина. Но за Аламеда-стрит 101-й чуть загибался на север, и с моста трамплин не был виден. Ребята жадно смотрели, как уменьшаются в размерах байкеры. «Харлеи» уже перестраивались, тесня друг друга, чтобы занять более выгодную позицию. Громадный волосатый вожак с красными татуировками, наколотыми настоящей кровью, шел первым, ускоряясь на повороте. Вэл слушал, как вокруг них усиливается рев двигателей, словно бросая вызов смерти, и ощущал где-то внутри нарастающее физическое возбуждение: такого не было, когда остальные трахали бедную Дрочилу Марию. Койн поймал взгляд Вэла и улыбнулся; на его тонкой нижней губе висела сигарета. Вэл знал, что у старшего приятеля тоже стояк. В такие моменты он чувствовал себя слегка голубым. Он громко сплюнул вниз, чтобы скрыть румянец и смущение, застегнул ширинку и повернулся спиной к другим. Рев «Харлеев» усилился, достиг максимума, а потом стал слабеть, удаляясь к западу. Койн залез под свою футболку сзади и вытащил что-то из-под ремня джинсов. — Ни хера себе! — воскликнул маленький Динджин. — Пистолет. Это и в самом деле был пистолет. Все семеро сгрудились вокруг Койна, присевшего на загаженном голубями карнизе. — «Беретта» девятого калибра, — прошептал Койн тесному кружку голов. — Вот тут предохранитель. — Он подергал туда-сюда маленький рычажок. Вэл догадался, что красная точка означает «огонь». — Вот это, чтобы магазин вынимать… Койн нажал кнопочку на стволе за предохранителем. В другую его руку выскользнула штуковина — магазин, или обойма, или как ее там. — На пятнадцать патронов, — пояснил он. — Может выстрелить и без магазина, если в патроннике есть патрон. — Слушай, дай подержать. Ну дай? — выдохнул Сули. — Пожалуйста. Я просто, ну как это… Я просто вхолостую крючок нажму. — Это все равно что трусов девчонке не снимать и тыкаться вхолостую? — спросил Манк. — Заткнись! — хором проговорили Вэл, Койн, Сули и Джин Ди. Они не любили, когда младшие члены шайки встревали в разговор, нарушая старшинство. Койн поднял полуавтоматический пистолет без магазина и направил на Сули. — Дам, если ты знаешь, как с ним обращаться. Вот сейчас он может выстрелить? — Не-е-е, — рассмеялся Сули. — Обойма-то… — Магазин, — поправил Койн. — Ну да. Магазин-то вынут. Я вижу пули в… магазине. Так что он не может стрельнуть. Вэл тоже видел пули в магазине, по крайней мере верхнюю: в медной оболочке, со свинцовым носом с зазубринкой наверху, словно кто-то процарапал ее ножом. Это вызвало у него какое-то странное возбуждение — такое же, как и рев «харлеев». — Ты идиот, — сказал Койн Сули. — Мог бы убить себя, меня или кого другого из крысят, что тут пердят. Койн оттянул затвор старого пистолета, и из него выскочила пуля, которая была в патроннике. Свободной рукой Койн поймал патрон, пулю, или как это называется. — Одна была в патроннике, — вполголоса сказал Койн. — Ты бы себе хер отстрелил. Или кого-нибудь из нас кокнул. Сули усмехнулся и быстро заморгал, пристыженный, но все еще горевший желанием подержать в руках оружие — настолько, что даже не выказал обиды. «Этот идиот вполне мог бы пристрелить кого-нибудь из нас», — подумал Вэл. Койн переместил предохранитель так, что красная точка стала не видна, нажал крючок, отчего затвор снова сместился вперед, и протянул пистолет Сули, самому старому своему другу и первому ученику. Остальные ребята обступили Сули, а Койн и Вэл отошли на три шага назад. Вэл повернулся в сторону города.На юго-восток от него простирался центр с остатками небоскребов, включая обрубок башни Американского банка (старые пердуны вроде его деда все еще говорили «Библиотечная башня») и вертикальную глыбу «Аон-центра». Большинство других сохранившихся небоскребов были заброшены и стояли в черных антитеррористических презервативах. Но Вэл не смотрел на старые здания. Он видел Лос-Анджелес, как и все в эти дни, разделенным на зоны, контролируемые разными шайками, — словно районы города перед его глазами были выкрашены в разные цвета. На юг и восток — латинская зона, в основном владения реконкисты. Прямо на юг, за пустыми каньонами центра, — кварталы, где хозяйничали ниггеры и узкоглазые, а вокруг них — опять районы реконкисты. За спиной Вэла располагались части города, где властвовали банды китайцев, азиатов и всяких желтозадых; все они медленно, но верно вытеснялись реконкистой. Еще дальше на запад и север, в особенности на холмах, англосаксы превратили Малхолланд-драйв в частную дорогу и защищали теперь свои возвышенные участки при помощи не только ворот, но также отрядов самообороны и электрических заборов. Японская зеленая зона лежала далеко к западу от 405-го хайвея, в горах, где прежде находился Гетти-центр.[15] Теперь там были рвы, электрические заборы, патрули и зоны, где беспилотники открывали огонь без предупреждения. В Лос-Анджелесе имелись и сотни других, менее важных, но яростно защищаемых районов. И Вэл знал, что в каждом, черт бы их драл, есть пропускные пункты, блокпосты и зоны, где стрельбу начинают без предупреждения. Настоящая ночная развлекуха происходила там, где жили богатые говнюки, — Беверли-Хиллз, Бель-Эйр, Пасифик-Палисейдс и отчасти Санта-Моника. Но у деда Вэла не было машины, чтобы взять ее без спросу, а потому Вэл и не пытался попасть туда. Да и все равно их шайке было не попасть в эти огороженные и охраняемые районы обитания богатых говнюков. Маленькая никчемная банда Койна передвигалась пешком, и Тихий океан оставался для нее недостижимым, как Луна. — Хочешь подержать? — спросил Койн у Вэла. Перед этим Койн обошел всех по кругу, протягивая каждому полуавтоматическую «беретту», точно священник — облатку. Теперь настал черед Вэла. Вэл взял пистолет. Его удивило, насколько тяжелым тот оказался — даже при том, что магазин остался в руке Койна. Рукоятка с насечкой, или ручка, или как ее там, холодила потную ладонь. С видом человека, понимающего, что он делает, Вэл оттянул затвор и посмотрел в пустой патронник. — Класс, да? — спросил Койн. Остальные шесть парней толпились позади него, как верные прислужники, да они и были верными прислужниками. — Ага, класс, — одобрил Вэл и прицелился в далекий обрубок башни Американского банка. — Бах, — вполголоса сказал он. Койн рассмеялся. Шестеро парней за его спиной по-идиотски захихикали. Вэл думал о том, кого бы он пристрелил, если бы Койн дал ему пистолет с полным магазином. Конечно, деда, хотя что такого Леонард сделал Вэлу? Только хлопотал над ним, словно суррогатный родитель. Кого-нибудь из учителей по дороге в школу или домой? Но если он кого-то и ненавидел, то лишь одну миссис Дэггис, учительницу английского в девятом классе, которая заставила его читать то долбаное сочинение перед всеми одноклассниками. После этого Вэл в школе никакой такой херни больше не писал. Вообще-то он любил писать, а в тот раз просто забылся. Нет… постой… Вэл понял: будь у него пистолет, он бы пробрался в Денвер и выстрелил бы в живот своему предку. Он знал, что ему туда не улететь. Черт, пассажиров в аэропорту теперь раздевают догола, просвечивают и обнюхивают все отверстия разными датчиками, убеждаясь, что те не насовали себе в жопу семтекса.[16] А кроме того, путешествовать по воздуху могут только японцы и самые богатые американцы вроде мамаши Койна. Нет, добираться придется автостопом: каким-то образом проделать тысячи миль по стране, где орудуют разбойничьи банды, не попасться в руки отрядов самообороны и федеральной полиции, миновать огороженный Лас-Вегас, проехать по городским хайвеям, о которых знают только цыгане-дальнобойщики, появиться в Денвере после шести лет изгнания, найти своего предка и… Вэл понял, что Койн стоит, протянув руку и раскрыв ладонь, в ожидании, когда приятель вернет пистолет. Он протянул «беретту» Койну. Тот ловким движением вставил магазин, оттянул затвор и осторожно вернул его на место. Теоретически пуля теперь находилась в стволе, а еще тринадцать — или четырнадцать? — ждали в магазине. — Классная штучка, — сказал Койн. — Штучка-дрючка, — добавил Сули. Остальные шестеро захихикали. Вэл ждал. — Классная штучка, — повторил Койн. — Теперь нужно заняться чем-нибудь настоящим. — Чем-нибудь настоящим, — словно эхо, отозвался Сули. — Заткнись, жопа, — сказал Койн. — Заткнись, жопа, — эхом отозвался Сули и заткнулся с идиотской ухмылкой. — Надо взять ее и прикончить кого-нибудь, — сказал Койн, обводя каждого по очереди своими серыми глазами. — Кого-нибудь особенного. — Амхерста? — предложил Джин Ди. Амхерст был директором их школы. — В жопу твоего Амхерста, — сказал Койн. Шесть ребят — все, кроме Вэла, думавшего о том, как бы кокнуть предка, — слушали так внимательно, что у них челюсти отвисли. — Чтобы получать полный кайф под флэшбэком, — заявил Койн, — мы должны шлепнуть кого-нибудь сильно важного. Такого, про кого никто и не думает, что его могут шлепнуть. Такого, чтобы наши рожи двадцать четыре часа крутили по всем семи новостным каналам, хотя нас и не смогут поймать. — Кинозвезду? — выдохнул Джин Ди. Парнишка с огромными угрями начал проникаться этой идеей. Койн покачал головой. — Нет ничего слаще, чем флэшбэчить, после того как замочишь кого-нибудь, — сказал он. До семнадцатилетия Койну оставался месяц; потом — обязательный призыв в армию. Вэлу до этого кошмара оставалось еще одиннадцать месяцев. — Но это должен быть кто-то особенный, — сказал Койн, переводя взгляд с одного парня на другого. Теперь даже у Вэла проснулся интерес. — Так кто же? — спросил Костолом. — Какой-нибудь япошка, — ответил Койн. Остальные разразились смехом. — Укокошу япошу! — воскликнул Сули. — Ухлопаю желтожопого! Вэл покачал головой. — У них слишком крутая охрана. А машины бронированные. И телохранители-ниндзя, и хмыри из службы безопасности, и беспилотники — всего до жопы. А их зеленая зона… ну то есть нам туда не… их тебе не достать, Койн. — А вот и достать, — возразил тот. — В этой «беретте» пятнадцать патронов. Я могу заполучить еще три таких полуавтомата и могу достаточно близко подойти к настоящему живому японскому советнику. С такого расстояния даже Динджин не промахнется. Флэшбэчить на это дело — чистое золото. Ну, кто со мной? Шестеро из семерых парней бурно выразили восторг и согласие, вскидывая вверх растопыренные пальцы. Вэл просто смотрел в серые, слегка безумные глаза Койна, и продолжалось это целую минуту. Потом Вэл медленно кивнул. Молодежная флэшбанда сошла с выступающего карниза и двинулась через густые заросли деревьев и сорняков в Эль-Пуэбло — самый старый квартал Лос-Анджелеса, донельзя запущенный, с церковью, оскверненной граффити. Там тусовались торговцы флэшбэком и оружием.
1.02 Денвер 10 сентября, пятница
Сато сначала никак не мог втиснуться на сиденье машины, а потом — застегнуть этот чертов ремень. Ник, теперь вместе с Сато, миновал в обратном направлении три кольца безопасности: личные ниндзя мистера Накамуры, или кем они там были, передали его службе безопасности японской зоны, а японцы — полицейским штата Колорадо и агентам ДСБ, Дипломатической службы безопасности госдепартамента, охранявшей иностранных дипломатов. Те отдали Нику его «глок» девятого калибра в застегнутой кобуре. Ник забрался в мерина и был готов тронуться, вот только Сато никак не мог втиснуться на свое место. — Извините. Сиденье регулируется электроприводом, но он перестал работать, — пробормотал Ник, когда туша Сато заполнила пространство между сиденьем и Торпедо. — Да и ремень давно собираюсь починить — вот заело его. Ремень безопасности вытянулся дюймов на двадцать, едва доходя до плеча Сато, а дальше не желал. — А подушка у вас есть? — спросил шеф службы безопасности. — Гмм… — пробормотал Ник, но тут вспомнил, что машину осматривали на въезде. Сато должен был знать, что подушек безопасности на старом гибриде нет, ни одной. Ник продал их много лет назад. Сато целую минуту возился с рычагами электропривода. Когда Ник вылез из машины и подошел к нему, чтобы внести свою лепту в бессмысленную возню с рычажками, японец упер ноги в полик, издал рычащий гортанный звук, на манер борца сумо, и выпрямил ноги. Заклиненное сиденье со скрежетом отъехало до упора, опоры чуть не сорвало с направляющих, а спинка почти коснулась заднего сиденья. Сато крякнул еще раз на манер тяжеловеса и изо всей силы дернул заклинивший ремень. Что-то в механизме сломалось, и на животе Сато свободно повисли три ярда ремня. Он остался в полулежачем положении, но теперь был на два фута дальше от капота, чем Ник. Затем японец застегнул ремень. Ник вернулся на свое место и нажал на газ. Он бы поднял окна, чтобы не слышать смеха агентов ДСБ, но было слишком жарко, а с разряженными батареями кондиционер не работал. Разряженные батареи были проблемой. Ник сунул свой мобильник в гнездо на торпеде. Навигационное устройство сообщило, что кратчайшее расстояние до «Черри-Крик-молла» — тот же путь по бульвару Спир, потом по Шестерке, потом по I-70, потом через выезд на Эвергрин до зеленой зоны, только все это в обратном порядке, — составит 29,81 мили. Ребята из ДСБ подзарядили мерина своим высокоскоростным зарядным устройством на 240 вольт, но и приборы машины, и телефон свидетельствовали, что зарядки хватит на 24,35 мили. Даже с учетом того, что съезжать с холмов по I-70 можно холостым ходом. Меньше всего Нику хотелось застрять именно в эту пятницу, с мистером Хидэки Сато, где-нибудь на бульваре Спир (возможно, на территории реконкисты, к югу от центра), в пяти милях от места назначения. «А ну его в жопу, — уже не в первый раз этим утром подумал Ник. — Была не была». Мерин зарычал, зашипел и загрохотал, устремляясь прочь из зеленой зоны, к I-70. Сато почти лежал в сломанном и полностью откинутом пассажирском кресле, так далеко, что создавалось впечатление, будто Ник — шофер, а Сато — пассажир на заднем сиденье. Выглядело это нелепо, но объемистого шефа службы безопасности вроде не беспокоило. Сложив мозолистые руки у себя на животе, японец поглядывал на деревья и небеса. Взглянув на небо, Ник спросил: — Мистер Сато, как вам удалось заснять меня во время флэшбэка в тупике? Некоторые кадры смотрятся так, словно сделаны футов с десяти. — Так и есть. Ник попытался ускориться на съезде к междуштатной, но мерин был не настроен ускоряться, даже при съезде под уклон. Хорошо хоть, движение на I-70 было не напряженным, и Ник легко влился в поток. В прежние времена — Ник хорошо их помнил — семья могла выехать на I-70 и проехать тридцать четыре тысяч миль, съезжая с междуштатных только для заправки, примерно в пятистах милях от Денвера, на высокогорье в пустыне Юты, перебраться на I-15 и не сворачивать с нее вплоть до самого Лос-Анджелеса, где дорога заканчивалась: у Тихого океана, на Санта-Моника-Пир. Теперь искатель приключений мог сесть в машину и проехать девяносто восемь миль на запад от Денвера по I-70 — до Вейла, где еще можно было рассчитывать на защиту со стороны федерального правительства и властей штата. За Вейлом хозяйничали драконы. — Как вашему человеку удалось подкрасться ко мне с камерой на десять футов? — спросил Ник. — Костюм-невидимка. Невысокий, но до нелепости здоровенный японец, казалось, совершенно расслабился. Ник воздержался от реплики. Костюмы, изготовленные по технологии «стелс», были аксессуарами спецслужб вроде прежнего ЦРУ, давно распущенного, да еще мелькали в научно-фантастических фильмах. Разве можно было оправдать расходы на костюм-невидимку для наблюдения за каким-то Николасом Боттомом, вызванным на собеседование? Даже если им позарез нужно было его снять, чтобы выбить из колеи, как во время собеседования, то на черта такой костюм? И как им удалось доставить оператора в костюме-невидимке так близко к машине Ника, прежде чем он ушел во флэшбэк? Они что — привезли его в автомобиле-невидимке? Какая-то херня из древних историй про Джеймса Бонда. Просто смешно. Сато наверняка пошутил. Но Ник сохранил профессиональную способность улавливать самые слабые физические и звуковые свидетельства лжи. С некоторыми типами из трущоб это было легко — у преступника просто шевелились губы. И вот по поведению Сато он ничего такого не чувствовал. Порой у японца случались неприкрытые вспышки презрения, отвращения и любопытства по отношению к Нику — и больше ничего. Под этим слоем, который европеоиды вроде Ника относили на счет азиатской непроницаемости, у шефа службы безопасности была еще одна — возможно, профессиональная — маска. — Съемки с воздуха, — не отставал Ник. — Все сделаны с помощью мини-беспилотников? — Не только мини, — вполголоса сказал Сато. — И один управлялся со спутника. Ник громко рассмеялся. Сато не последовал его примеру, даже не улыбнулся. «Задействовать полноразмерный беспилотник и разведспутник, пусть даже принадлежащий „Накамура груп“, чтобы подсмотреть, как я нюхаю флэшбэк?» Ник рассмеялся про себя. Сато продолжал лежать в позе упавшего Будды, сплетя пальцы на обширном, но тренированном животе. Ник чуть притормозил на шестипроцентном уклоне, замедляя ползущую машину до минимума в тщетной надежде, что подзарядное торможение добавит немного жизни в умирающие литиево-ионные аккумуляторы и он сумеет доехать до дома. Другие проржавевшие ведра, посигналив, обгоняли его. Машины на водородных двигателях молнией проносились по ВИП-полосе I-70 — самой левой. Он переменил тему, желая разговорить Сато. — Как вы перевели «мерин» вашему боссу? — «Жеребец с удаленными яйцами». Ведь это верный перевод, да? — Да, — подтвердил Ник. — Но разве у вас в Японии нет меринов — старых гибридных автомобилей с удаленными бензиновыми двигателями? — В Японии они запрещены, — сказал Сато. — Машины в Японии осматриваются каждый год и должны отвечать всем современным стандартам. Там очень мало машин старше трех лет. Автомобили с водородными двигателями — у вас ведь так говорят? — норма для Японии. «Автомобири». Ник продолжал тормозить, глядя на приборный щиток, пытаясь поддерживать жизнь в аккумуляторах и разговор. — Мистер Накамура, похоже, не любит старые фильмы, — заметил он. Сато издал низкий звук — частью горловой, частью грудной. Ник понятия не имел, что это могло означать. Нужно было менять тему. — Знаете, — сказал он, — эта идея параллельных действий… ничего из нее не выйдет. — Парарерьных? — переспросил Сато. Ник и глазом не моргнул, спрашивая при этом себя: может, он всего лишь хотел, чтобы Сато произнес слово «параллельных» на японский манер? — Эта идея мистера Накамуры. Он считает, что вы должны повсюду следовать за мной и сообщать обо всем, что я вижу и слышу, то есть вести параллельное расследование. Из этого ничего не выйдет. — Почему не выйдет, мистер Боттом? — Вы прекрасно знаете почему, — отрезал Ник. Машина подъезжала к подножию холма. Дальше начинались высокие и большей частью ровные прерии, которые тянулись на восток мимо Денвера миль на восемьсот, до Миссисипи. Через несколько минут Нику предстояло решить, что делать дальше: двигаться так же на север и затем на восток, по I-70, до «Мышеловки», где свернуть на I-25 и немного проехать на юг до бульвара Спир, — или же свернуть направо и по Шестому хайвею добраться до бульвара Спир. Именно по Шестерке он добирался до зеленой зоны. Этот путь был чуть короче, но по I-70 ехать на издыхающих аккумуляторах было несколько легче. — Мои свидетели и подозреваемые не будут говорить в присутствии джапа, — продолжил Ник. — Простите, лица японской национальности. Вы меня понимаете. Сато что-то прорычал — возможно, соглашаясь. Ник повернулся и оглядел шефа службы безопасности с ног до головы. — Шесть лет назад, когда убили Кэйго, вы не были ни помощником Накамуры, ни работником службы безопасности, сотрудничавшей с денверской полицией. Иначе я бы вас запомнил. Сато ничего не ответил. В последнюю секунду Ник свернул на съезд к Шестерке. Чем короче, тем лучше. А не будет лучше, так пусть будет хуже, черт побери. Все показатели зарядки теперь мигали желтым или даже красным. Но Ник знал, что даже при нулевых значениях мерин, как и он сам, способен протащиться еще несколько миль. — Так почему вы не приехали в Штаты с мистером Накамурой, когда его сына убили? — спросил Ник. — Мне кажется, что как глава службы безопасности именно вы в первую очередь и должны были разговаривать с нашей полицией. Но вашего имени даже нет в документах. И опять Сато промолчал. Он чуть ли не спал. Веки его были почти — но не полностью — закрыты. Ник снова посмотрел на японца и вдруг все понял. — Вы были в службе безопасности Кэйго, — негромко проговорил он. — Я и был всей его службой безопасности, — пояснил Сато. — Его жизнь была в моих руках, пока он снимал здесь фильм об американцах и злоупотреблении флэшбэком. Ник потер подбородок и щеки, ощущая жесткую щетину — утром он спешил и побрился небрежно. — Господи Иисусе. Мерин продолжал гудеть и грохотать. Подзарядное торможение помогло немного, хотя это никак и не отразилось на расхлябанных приборах. Ник подумал, что, может быть, они все-таки дотянут до гаража в «Черри-Крик-молле». — Вашего имени не было в документах, — сказал наконец Ник. — Я в этом уверен, даже под флэшбэком можно не проверять. Значит, вы не засвечивались. И Накамура ни словом об этом не обмолвился во время расследования. У вас были важные сведения об убийстве Кэйго Накамуры, но вы с боссом не сообщили их денверской полиции и всем нам. — Я не знаю, кто убил Кэйго Накамуру, — тихо сказал Сато. — Мы… на короткое время расстались. Когда я его нашел, он был мертв. Мне нечего было сообщить полиции. Оставаться в Штатах и дальше для меня не имело смысла. Ник рассмеялся резким, профессиональным смехом полицейского. — Человек нашел тело и бежит из страны… ему нечего сообщить полиции. Очень мило. Пожалуй, главный вопрос вот в чем: почему вы продолжаете работать на Хироси Накамуру, если его сын был убит, находясь на вашем попечении? Говорить такие вещи было жестоко. Несколько секунд у Ника мурашки бежали между лопаток — вот сейчас этот громила выстрелит через спинку водительского сиденья. Но вместо этого Ник услышал только негромкий вздох, а потом Сато сказал: — Да, это важный вопрос. И тут Нику явилось еще одно откровение. Он моргнул, словно перед ним сработала фотовспышка. — Вы уже проводили расследование — вместе со своими людьми из службы безопасности. Верно я говорю, Сато? Сколько лет назад — пять с половиной? — Да. — И вы со всеми своими технологиями, и беспилотниками, и спутниками, и всякой хренью не смогли найти того, кто убил сына вашего босса. — Не смогли. — И сколько продолжалось ваше расследование, Сато? — Восемнадцать месяцев. — Сколько всего оперативников вы задействовали за это время? — Двадцать семь. — Черт побери, — сказал Ник. — Столько людей и денег. Вы не могли найти убийцу Кэйго, но так и не сказали нам — денверским копам или ФБР, — что проводите собственное расследование. — Не сказали, — эхом отозвался Сато. Его голос, казалось, доносился издалека. — Столько людей и денег, — повторил Ник, — высокие технологии, и вы не смогли выяснить, кто перерезал парню горло. И теперь ваш босс хочет, чтобы я нашел ему убийцу, топая по городу пешком и нюхая флэшбэк. — Да. — Что будет с вами, если и эта попытка окажется неудачной? — спросил Ник. Он почему-то знал ответ, еще не успев закончить вопрос, хотя и не мог вспомнить нужного слова. — Сделаю сэппуку, — тихо сказал Сато, при этом ни его голос, ни выражение лица не изменились. — Я уже это предлагал в двух первых случаях, когда подвел своего господина, — но не получил разрешения. Сейчас оно выдано авансом. — Боже мой, — прошептал Ник. Его телефон в гнезде на торпедо запищал — «террористическая угроза». В тот же момент Ник услышал сквозь открытое окно далекое «бабах» и увидел перо черного дыма на северо-востоке. Черные вертолеты Департамента внутренней безопасности,[17] ясно различимые на фоне неба, кружили, словно падальщики, милях в двух к северу от них. Ник сделал голосовой запрос, но у телефона еще не было информации. Он посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что Сато прикоснулся к левому уху. Микрофон был таким крохотным, что Ник раньше его не замечал. — Что там? — спросил Ник. — Что случилось? — Взрыв. Бомба в машине, судя по всему. На развязке I-семнадцать, I-двадцать пять и Тридцать шестого хайвея, которую вы называете «Мышеловкой». Сегменты двух эстакад, проходящих одна над другой, обрушились. Обломками накрыло несколько десятков автомобилей. Радиологического, химического и бактериологического загрязнения, похоже, не обнаружено. — Черт! Я едва не поехал туда. Мы были бы сейчас ровно на этом месте. Вы знаете, кто это сделал? Сато пожал плечами. «Я не знаю»? «Этого еще нет в Сети»? Нет, кажется, японец хотел сказать: «Какая разница?» А и в самом деле — какая разница? Хаджи, АБ,[18] реконкиста, флэшбанды, анархистский синдикат, латинское ополчение, англоополчение, Черные мусульмане, картели Нуэво-Мексико, местные картели, «Поссе комитатус»,[19] уклонисты от призыва, обиженные ветераны, лазутчики Нового Халифата… какая разница? Если даже ты знаешь, что за террористы взорвали «Мышеловку», это не поможет избежать встречи с другим террористом, у которого есть пистолет, самодельное взрывное устройство или грузовик с удобрениями, снабженный взрывателем. Но Ника все же охватила досада. Телефон Сато получал информацию быстрее, чем телефон Ника, не вполне легально (по старому знакомству) подключенный к тактической сети полиции. Он замедлил ход, проезжая по эстакаде Шестерки над I-25. На севере все еще поднимался в небо черный дым — за громадой волнистого, словно облитого черным маслом овала Центра временного содержания ДВБ «Майл-хай»,[20] к западу от замотанных в антитеррористическую защиту обрубков того, что осталось от небоскребов в центре Денвера, за махинами парка аттракционов «Шесть флагов»[21] и стадиона «Курс-филд».[22] Вертолеты ДВБ тарахтели и крутились вокруг дыма, как хищники, а хищники помельче — вертолеты новостных служб — кружили гораздо дальше. Им пока что не разрешали приблизиться и передать картинку нетерпеливым зрителям. Проехав над I-25, Ник повернул направо, на бульвар Спир. Обернувшись, он спросил у Сато: — Значит, если я не найду убийцу, — чего не смогли сделать вы пять лет назад, занимаясь этим полтора года, когда воспоминания и улики были свежи, — то вы вспорете себе брюхо? Шеф службы безопасности ничего не ответил.1.03 Черри-Крик 10 сентября, пятница
Мерин катился вверх по последнему пандусу на третий, последний этаж парковки при кондоминиуме «Черри-Крик-молла». Машина остановилась, не доехав тридцати футов до зарядной станции. Ник там ее и оставил, зная, что Мак или кто-нибудь из ребят дотолкает мерина до места. На зарядку в Японской зеленой зоне ушло меньше сорока минут. Здесь, в молле, оборудование было старым и даже на частичную зарядку потребовалось бы часов двенадцать, но неважно. Сато прошел через два контрольно-пропускных пункта, предъявив свою НИКК: тонкая карточка была черной, а не зеленой, какую обычно носили дипломаты или заезжие иностранцы. Никаких проблем не возникло. Но Ник знал, что впереди еще последний КПП, где проверяли на наличие оружия. Если Сато полагал, что дипломатический статус позволит ему пронести оружие внутрь кондоминиума «Черри-Крик-молл», то его ждало серьезное разочарование. Сама американская президентша не смогла бы пронести в комплекс оружие, спрятанное в лифчике. Они находились в тамбуре безопасности. За проверочной стойкой стоял Ганни Г., старший эксперт по оружию и глава службы безопасности молла. Возможно, ему позвонил кто-то из ребят на предыдущих пунктах. Ганни Г., бывший морской пехотинец, человек неопределенного возраста — но явно за шестьдесят, — сохранял хорошую форму и мог быть опасен. Старые шрамы словно скрепляли его загорелое квадратное лицо под коротко стриженными волосами. Ник передал свой «глок» девятого калибра и замер в ожидании. В бывшем торговом молле, в отличие от зеленой зоны, не было аппаратуры МРС или многоуровневой системы безопасности, но рентгеновская установка и древний детектор взрывчатки и пороха сделали свое дело. Ник видел изображения себя самого и Сато на экране перед Ганни, слева от стойки. У Сато были с собой здоровенная пушка в подплечной кобуре слева, небольшой пистолет в поясной кобуре у левого бедра, крохотный полуавтоматический пистолет на ремешке, крепившийся к правой голени, и жуткого вида нож на поясе у правого бедра. Прежде чем Ганни Г. успел прорычать свои требования, Сато сказал: — Прослушайте это, пожалуйста. Просрушайте. Пожаруйста. Японец протянул свою НИКК. Когда Ганни Г. просканировал ее, Сато включил наушник и электронные очки, чтобы обеспечить доступ к зашифрованной в них информации. Выражение лица бывшего морского пехотинца не изменилось, но, возвращая карточку, он проворчал: «Проходите, мистер Сато», без всяких попыток разоружить его. Челюсть Ника буквально отвисла от удивления. Он знал это выражение, но никогда не видел, чтобы челюсть у кого-то отвисала на самом деле. И тем более никогда не испытывал этого сам. Внутренние двери открылись, турникет повернулся. Сато отошел в сторону, сделав своей громадной рукой приглашающий жест: «После вас». Ник направился в свой бокс. В этом районе города, видимо, в который уже раз упало напряжение. И хотя генераторы питали системы безопасности дверей, зарядные участки парковочной зоны, камеры наблюдения, двери боксов, наружные самонаводящиеся автоматы и другое основное оборудование, освещение выше полуэтажа второго уровня отсутствовало, а некогда изящные прозрачные панели, уложенные по всей длине потолка, покрылись таким слоем пыли и грязи, что внутрь проникал лишь слабый и болезненный желтоватый свет. Большинство вентиляторов в местах общего пользования были также отключены, а поскольку при падении напряжения все открывали двери боксов, воздух был насыщен запахами нескольких тысяч людей, грязного белья, пищи и мусора. Ник остановился у перил, в двадцати футах над остатками фонтана, который когда-то пускал вверх струю перед универмагом «Сакс — Пятаяавеню». В этом пространстве все еще размещались несколько дорогих боксов без окон, хотя теперь оно выглядело не очень привлекательно: у стальных дверей валялись драные мешки с мусором — гора высотой с человека. Ник посмотрел вниз, туда, где прежде висела скульптура, изображавшая диких гусей. Большой трапециевидный фонтан, отделанный мрамором, давно уже бездействовал. Чаша его заполнилась землей, и обитатели местных боксов пробовали выращивать там овощи. Но с высокого потолка все еще свисали несколько стальных кабелей, и сохранился один бронзовый гусь. Ник помнил, что, когда он заглядывал сюда в детстве и юности, гусей было несколько. Они летели цепочкой, снижаясь, чтобы сесть на воду. У самого первого ноги были напряжены и раздвинуты: казалось, он поднимает брызги там, где перепончатые лапы касаются поверхности воды. Сколько же было гусей? Ник не мог вспомнить. Шесть? Восемь? Больше? Чтобы вспомнить, нужно было прибегнуть к флэшбэку, а Ник не собирался расходовать его на такие пустяки. Единственный оставшийся гусь парил футах в десяти над импровизированным огородом. Широкие бронзовые крылья были раскинуты, ноги начинали расходиться, точно жесткие перепончатые шасси. Ник не знал, почему он остановился здесь, в то время как за ним шел Сато… только потому, что он всегда останавливался здесь на секунду и смотрел на одинокого гуся. Сердито покачав головой, он пошел дальше, к бывшему «Беби-гэпу» и своему дому. Все обитатели пяти других боксов внутри торгового центра были дома — сидели за стенками-перегородками и лежали под одеялами, потому что получали пособие по безработице и идти им было некуда. В соседнем боксе храпела старуха. Пара, жившая в боксе напротив, ругалась, двухлетний ребенок вторил воплям родителей, и все эти крики, слившись воедино, приближались совсем близко к смертоубийственной частоте. В боксе старого солдата было, как всегда, тихо (Ник всякий раз ждал запаха тления, который известит всех, что старик наконец-то повесился или застрелился), но в двух других вовсю работали телевизоры. Звукопоглощающий потолок «Беби-гэпа» располагался на высоте двенадцати футов, а тонкие перегородки боксов поднимались только на восемь. Ник открыл дверь и впустил Сато в крохотную комнатушку, чувствуя, как в нем закипает злость — какого черта они вторгаются в его частную жизнь? Но мистер Накамура потребовал, чтобы шеф его службы безопасности посетил жилище Ника, и первый денежный перевод мог состояться только после этого визита. Он понял, что утром забыл застелить кровать. По иронии судьбы, именно такого рода аккуратностью он неизменно гордился — смешным, нелепым образом — перед Дарой. Ник всегда убирал постель, и до знакомства с Дарой, и потом, если у нее в спешке перед работой не доходили до этого руки. Незастеленная кровать бросалась в глаза тем сильнее, что она занимала треть всего пространства. Ник не предложил Сато сесть по двум причинам. Во-первых, он его сюда не приглашал, а во-вторых, единственным седалищем, кроме кровати, был стул у маленького стола, на котором Ник раскрыл виртуальную клавиатуру своего телефона. Вряд ли стул был достаточно крепок для Сато, ибо и Ника-то едва выдерживал. Но японец не изъявил желания сесть. Подойдя к стене напротив кровати, где висел семнадцатидюймовый плоский экран, он включил телевизор и провел своей карточкой по электронной щели. На экране мгновенно появились три ряда лиц — в общей сложности восемнадцать. — Узнаете их? — спросил Сато. — Большинство. Некоторых. Когда-то Ник знал их всех, свидетелей и подозреваемых по делу об убийстве Кэйго Накамуры. Но флэшбэк, по иронии судьбы, имел побочный эффект: он притуплял память. Словно имея в виду этот не упомянутый никем из них двоих факт, Сато сказал: — По мнению мистера Накамуры, вам следует потратить несколько часов на то, чтобы восстановить их дела и обстоятельства допросов с помощью наркотического флэшбэка, прежде чем начать расследование. Я настоятельно рекомендую вам флэшбэчить на одного, максимум на двоих за раз, чтобы ускорить ход реального расследования. Сколько времени вам нужно на сеансы? Ник пожал плечами. — Расследование этого убийства заняло четыре месяца моей жизни. Если флэшбэчить на всё, восстанавливать все дела и допросы, я смогу начать где-то к Рождеству. — Это, конечно же, абсолютно неприемлемо. — Хорошо. Как считаете вы оба, когда должна начаться оперативная часть нового расследования? Через месяц? Через две недели? — Завтра рано утром, — сказал Сато. — Вы специалист по запуску флэшбэкных воспоминаний. Выберите важнейшие, чтобы восстановить их с помощью флэшбэка сегодня днем и вечером, потом хорошо выспитесь. А утром, когда вы заново начнете расследование, я к вам присоединюсь. Ник открыл было рот, чтобы возразить, но тут же закрыл его. Это не имело значения. Имело значение одно: перевод денег на его карточку. Сато кивком показал на карточку, провел ею по щели своего телефона и вернул Нику. — Здесь сумма, достаточная на первый месяц, — объяснил он. — Включая, конечно, и деньги на покупку флэшбэка, на транспорт — вам понадобится новая машина, как сказал мистер Накамура, — и на другие непредвиденные расходы. Все ваши траты будут, естественно, контролироваться нами в реальном времени. Ник молча кивнул. Но когда Сато двинулся к двери, он сказал: — Трое из этих восемнадцати мертвы. — Да, я знаю. — Но вы хотите, чтобы я флэшбэчил на них тоже и не выпускал их из поля зрения во время расследования? — Да. Ник снова пожал плечами. — Я вас сопровожу до выхода. Эта фраза прозвучала архаично даже для немолодых ушей Ника. И ему было трижды наплевать, найдет ли шеф службы безопасности Накамуры выход из молла или нет. Он только хотел убедиться в том, что Сато ушел. Удивительно, но Сато не направился ни к одному из тамбуров, а пошел в сторону северного полуэтажа и административного коридора рядом с бывшим магазином Ральфа Лорена. Там его ждали Ганни Г. и Маркс, сержант службы безопасности в черной бронеодежде. Вчетвером они вышли в дверь и поднялись по лестничному пролету, — когда падало напряжение, лифты не работали, — а оттуда выбрались на крышу. Ник знал этот выход. Он запомнил код доступа, а в чуланчике его бокса лежали сто футов альпинистской веревки «Перлон-3», карабины и подвесная система на случай, если придется срочно покинуть здание через крышу. Теперь он прищурился в мглистом свете. Дым все еще поднимался в нескольких милях к северо-западу. Вертолет, прилетевший забрать Сато, был из новых, бесшумных: он больше походил на стрекозу, чем на вертолеты ДВБ, полиции и другие, известные Нику. Единственным звуком при посадке (Ник никому не мог сказать, что на крыше бывшего молла есть вертолетная площадка с инфракрасной разметкой) был хруст гравия, попадавшего на грязные световые фонари и давно не работающие солнечные панели. Сато забрался в кабину, не сказав никому ни слова. Вертолет Накамуры взмыл в воздух и направился на запад. Когда они спускались, Ганни Г. сказал: — Ну и дружков ты нашел себе, Ник. Тот лишь хмыкнул в ответ.Нику не нужно было выходить из молла, чтобы приобрести флэшбэк, — дилеры были и здесь. Гэри встретил его в той части подвала, которая прежде была бойлерной. — Ни хрена себе, — сказал техник, увидев, сколько денег на карточке Ника. — И сколько ты хочешь потратить на флэшбэк? — Всё, — ответил Ник. Он передал карточку Гэри, а тот провел ею по своему нелегальному, противозаконному, но вполне действующему терминалу с черного рынка. — Мне нужно время, чтобы собрать столько ампул. — Десять минут, — сказал Ник, знавший, где Гэри хранит свои запасы. — Если хоть на минуту больше, я куплю все это на улице. — Спокойно, спокойно. — Гэри принялся делать корявой рукой успокаивающие движения. — Я принесу все тебе в бокс через десять минут. Но только сегодня в этом здании будет до хрена несчастных флэшбэкеров. — Хер с ними. Только не тащи ко мне в бокс. Буду ждать тебя здесь через десять минут. — Как скажешь — покупатель ты. — Чертовски верно, — согласился Ник.
Гэри, как и Ник, вернулся в бойлерную через восемь минут. Ник оставил карточку и телефон в боксе, принял душ, переоделся, проверил себя старым полицейским детектором — не посадил ли Сато на него жучков? — и спустился в подвал с одной лишь холщовой курьерской сумкой оливкового цвета на плече. Хотя Ник заказал немало двадцатичетырехчасовых ампул, все они поместились в рюкзачок Гэри. Ник уложил ампулы в свою сумку, завернув их в полотенце, чтобы не брякали на ходу. Когда Гэри ушел, Ник направился к двери, которой редко пользовались — за ней начинались трубопроводы и пространства под бойлерной, где можно было пробираться только ползком. Еще ниже располагался совсем тесный подпол для доступа к старым трубам, большинство из которых не использовалось. Трубы эти вели в молл и из молла. Люк в подпол был закрыт на цифровой замок, и никто из работающих в молле, судя по всему, до сих пор не знал кода к нему. Ник ввел семизначный цифровой код: он узнал его не тогда, когда поселился в молле, а при расследовании одного дела десять лет назад. Он и другие детективы обыскивали весь лабиринт «Черри-Крика», всю подземную систему обогрева и канализации — искали серийного убийцу, который специализировался на детях. Закрыв за собой дверь, Ник вытащил из сумки крохотный фонарик и на четвереньках прополз ярдов пятьдесят, стараясь не касаться ржавых, изъеденных труб, почти целиком заполнявших ход. Что бы там теперь ни находилось (а трубы подтекали, сочились водой), оно отпугивало даже уличную братию, которая не совалась в эту часть подземного лабиринта. Дышать здесь было тяжело. Ник добрался до первого пересечения и повернул налево. Туннель здесь был таким же тесным и вонючим. Ник отсчитал двадцать шагов и остановился там, где несколько труб диаметром поменьше, тоже подтекающих, уходили в бетон. Старая сервисная дверка в стене выглядела проржавевшей, но со скрежетом открылась, когда Ник потянул ее вверх. Водонепроницаемый пластиковый мешок лежал там, куда Ник положил его несколько лет назад, после чего проверял время от времени. Ник достал полуавтоматический пистолет тридцать второго калибра из промасленной ветоши и сунул в сумку. Оружие со спиленным номером принадлежало детективу К. Т. Линкольн, последнему его напарнику; такие пушки полиция обычно подбрасывала на место преступления. Ник оставил пачку старых купюр в термопакете и достал оттуда дешевый неотслеживаемый уоллмартовский телефон для иммигрантов. Емкий аккумулятор еще действовал, и сигнал принимался даже здесь. Присев среди вони и испарений, Ник набрал номер. — Мотман слушает, — сказал голос с пакистанским акцентом. — Мот, это доктор Би. Мне нужно, чтобы ты встретил меня у выхода из ливневки под старым мостом над Черри-Крик минут через пять. Паузы между фразами были кратчайшими. Мохаммед «Мотман» аль-Махди десять с лишним лет был лучшим тайным информатором детектива Николаса Боттома. А «доктор Би» — полицейским, который платил Мотману немалые деньги. Ник нередко напоминал Моту о себе и после увольнения из полиции, и обычно, приходя к таксисту, приносил какой-нибудь подарок. Главное же, что Мотман все еще побаивался Ника: тот был сильнее, а к тому же знал немало о прошлом Мота и вполне мог донести на него. — Буду через пять, доктор Би.
В кино ливневки непременно были такого же размера, что и в Лос-Анджелесе: можно свободно проехать на грузовике. В фильме пятидесятых годов прошлого века «Они», который Ник с Дарой так любили, целый полк проезжал по ливневке на джипах и грузовиках.[23] Но в Денвере ливневки были узкие, покрытые слизью, и Ник полз на животе, помогая себе локтями. Наконец он выбил проржавевшую крышку и на четвереньках вылез на заброшенную пешеходную дорожку под мостом через Черри-Крик. Легкий веломобиль Мотмана, привезенный из Калькутты, когда там окончательно перешли на машины с электроприводом, ждал Ника в тени моста. Ник проскользнул на заднее сиденье. — Пещера Гроссвена, — сказал Ник. Мотман кивнул и принялся крутить педали. Ник устроился поглубже, подвинувшись на грязных подушках, чтобы не было видно его лица. Флэшпещера Микки Гроссвена находилась менее чем в двух милях к югу вдоль берега реки. Кондоминиумы там сгорели во время одного из первых сражений с участием реконкисты, и с тех пор их никто не разбирал и не ремонтировал. Ник сунул пять старых баксов в руку Мотмана (двухмесячный заработок нелегального эмигранта) и сказал: — Ты меня не видел и не слышал. Если кто меня найдет, ответишь ты, Мохаммед. — Можете доверять мне, доктор Би. Ник уже ушел, нырнув из веломобиля в отверстие в подвальной стене. Путь шел по пропахшему мочой коридору, потом вверх по двум лестничным пролетам, потом остановка в коридоре, который не вел никуда. Впереди — голая кирпичная стена и обгорелые обломки. Ник стоял там столько, сколько требовалось, чтобы его хорошенько разглядели приборы ночного видения и инфракрасные камеры. Стена отъехала в сторону, и Ник вошел в складское помещение без окон размером с половину городского квартала. Единственный свет здесь давали химические светящиеся палочки, воткнутые в восковые холмики на полу. В темном помещении стояло несколько сотен низких кушеток, — может быть, целая тысяча, — и на каждой лежало подергивающееся тело. Над каждой висела бутылка — подобие капельницы. В прихожей Ника встретили Гроссвен и громадный вышибала. — Детектив Боттом? — спросил Гроссвен. — Кажется, у нас никаких проблем нет. Ник покачал головой. — Больше не детектив, Микки. Мне нужны кушетка и капельница. Гроссвен продемонстрировал почти беззубую улыбку и показал рукой в громадное темное пространство. — Кушетки есть. Кушетки и время. Все время мира. Сколько времени вам нужно, детектив? — Шестьсот часов. Бровей у Гроссвена не было, и удивление он изобразил одними глазами. — Хорошее начало. Как у вас сегодня, детектив, — наличные или записать на вас? Ник дал ему пятидесятидолларовую купюру. — Лоуренс, — сказал Гроссвен. Гигантский вышибала в чешуйчатой бронеодежде повел Ника к кушетке в полупустом уголке и умело ввел ему в вену иглу капельницы. Ник пихнул сумку под кушетку, засунув перед этим маленький пистолет себе в карман, хотя и знал, что деньги и ампулы с флэшбэком здесь будут в безопасности. Флэшпещеры для этого и были предназначены. Микки и месяца не прожил бы, если бы его клиентов стали вдруг грабить, а он содержал пещеру уже больше десяти лет. Непрерывный флэшбэк в течение более чем двадцати часов вызывал проблемы с почками и кишечником. А кроме того, он приводил к неприятностям с психикой: разум при возвращении в мир не мог отделить одну реальность от другой. Нику было наплевать на психику (он уже знал, какую реальность выберет), но он запланировал четырехчасовые перерывы, чтобы прогуливаться по внутренней дорожке наверху — размять мускулы, зайти в туалет, съесть несколько энергетических плиток. Раз в одну-две недели он будет мыться в общем душе, что в соседнем помещении. Может быть. Шестисот часов с Дарой — неполный месяц — было недостаточно, но ведь это только начало. Он лежал на кушетке. Шланг с иголкой был достаточно длинным, чтобы при необходимости дотянуться до пистолета. Ник взял первую двадцатичетырехчасовую ампулу, визуализировал исходную точку воспоминаний, пробил уплотнитель и сделал глубокий вдох.
3.00 Эхо-парк, Лос-Анджелес 11 сентября, суббота
Почетный профессор, доктор наук Джордж Леонард Фокс медленно вошел в парк, стараясь не споткнуться, не упасть, не сломать кости, которые с каждым годом становились все более хрупкими. Подумав об этом, он улыбнулся. «Вот уже до чего дошло. Вот, значит, почему старики ковыляют. Защищают свои хрупкие кости. И вот я, милостью или проклятием божьим, — один из них». Он понял, что им овладевает раздражение, и запретил себе детские эмоции, но взамен усилил бдительность, медленно продвигаясь по вымощенной разбитыми плитками тропинке (но не ковыляя — пока еще не ковыляя), что вела в парк. В свои семьдесят четыре доктор Джордж Леонард Фокс еще не пользовался ни тростью, ни палкой и, черт побери, не собирался ничего себе ломать сегодня — иначе пришлось бы обзаводиться чем-нибудь таким. Под ногами хрустели использованные ампулы от флэшбэка, но Леонард не обращал на этот звук внимания. Было еще рано — начало восьмого. Воздух в Эхо-парке еще не прогрелся, небеса отливали синевой, а остававшиеся в саду столы и скамейки были влажными от росы. По ночам, и в будни и в выходные, бесчисленные банды устраивали здесь поножовщину и стрельбу. Ради чего? — недоумевал Леонард. Чтобы на несколько часов стать хозяевами парка? Ради статуса? Из желания развлечься? Всю жизнь стремясь понять суть вещей, Леонард пришел к выводу, что по мере приближения к смерти от старости (если повезет) он все меньше и меньше понимает в жизни. Но в любом случае он понимал, что утром по субботам и воскресеньям парк принадлежит старикам вроде него. Леонард оторвал взгляд от грозящей всевозможными неприятностями тропинки и увидел своего друга Эмилио Габриэля Фернандеса-и-Фигероа. Тот уже застолбил их любимый бетонный столик и теперь расставлял на нем принесенные шахматные фигуры. — Buenos días, mi amigo, — сказал Леонард, приблизившись. — Доброе утро, Леонард, — с улыбкой ответил Эмилио. Они через раз говорили то по-английски, то по-испански, и Леонард забыл, что на предыдущей неделе беседа велась по-испански. Как он забыл? Он тогда никак не мог вспомнить слово «обнищание» — наконец Эмилио подсказал: empobrecimiento, — так неужели теперь к частой потере равновесия и страху за хрупкие кости добавилась утрата памяти? Неужели он начал дружить с Альцгеймером? Леонард улыбнулся и похлопал по сжатому левому кулаку Эмилио. Ему выпало играть черными. А Эмилио — снова белыми. Он угадывал приблизительно три раза из четырех, всегда предпочитая играть белыми и ходить первым. Эмилио сидел на бетонной скамейке; фигуры уже были расставлены правильно — белые с его стороны. Леонард осторожно занял место напротив него. Они не пользовались часами в своих товарищеских играх. Эмилио сделал, как обычно, консервативный ход пешкой. Леонард, как и всегда, ответил пешкой на той же вертикали. Игра перешла в предсказуемый дебют, так что противники могли расслабиться и поболтать. — Как продвигается твой роман, Леонард? — спросил Эмилио, чиркая зажигалкой. Эмилио Габриэль Фернандес-и-Фигероа — старик утверждал, что его отец украл полное семейное имя из фильма с Джоном Уэйном,[24] — выкуривал пачку сигарет в день. Но при этом Эмилио родился в 1948 году, за целых десять лет до Леонарда, приближался к своему восьмидесятичетырехлетию и, кажется, не очень волновался насчет хрупких костей, рака легких и тому подобного. Эмилио, по собственному признанию, был неуязвим. Он появился в Калифорнии еще молодым человеком, в конце шестидесятых, как нелегальный эмигрант, и заработал кое-какие деньги, работая переводчиком, а иногда и бухгалтером. Это позволило ему вернуться в Мексику, жениться, закончить Национальный автономный университет в Мехико и получить докторскую степень. Потом он много лет преподавал испанскую литературу там и в Национальном политехническом институте, пока — приблизительно ко времени ухода на пенсию — двух его сыновей и трех внуков не убили в сражениях между наркокартелями и мексиканской федеральной полицией. Когда сражения между картелями и полицией перешли в настоящую гражданскую войну и за полгода с небольшим более двадцати трех миллионов мексиканцев, включая и членов картелей, перебрались на север, в Соединенные Штаты, пять оставшихся в живых сыновей Эмилио и восемь внуков ринулись в этот водоворот. Они тут же стали вождями и предприняли попытку реконкисты, желая отделить нарождающийся Нуэво-Мексико от старой Мексики, контролируемой картелями и погруженной в хаос. Профессор Эмилио Габриэль Фернандес-и-Фигероа направился на север со своими сыновьями, внуками и правнуками, а также со многими внучками и их семьями. Так он снова оказался в Соединенных Штатах (в том, что от них осталось), где когда-то заработал себе на образование и куда не раз приезжал уже в качестве уважаемого ученого. Леонард познакомился с доктором Фернандесом-и-Фигероа в сентябре 2001 года в Йеле на конференции, куда съехались светила науки. Оба ученых были представлены на конференции как специалисты по романам Габриэля Гарсия Маркеса, аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса, чилийского поэта Пабло Неруды и кубинского романиста Алехо Карпентьера. После менее чем часовой дискуссии за круглым столом доктор Джордж Леонард Фокс отступил на каждом из этих фронтов, согласившись с мнением профессора Эмилио Габриэля Фернандеса-и-Фигероа. На третий день конференции самолеты, угнанные террористами «Аль-Каеды», врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона, а один упал в Пенсильвании. Последовавшие за этим приватные беседы между Леонардом и Эмилио заложили основу их дружбы. А спустя три десятилетия они стали регулярно видеться в Лос-Анджелесе. Леонард вздохнул и сказал: — Застрял я с моим романом, Эмилио. Я задумывал нечто вроде «Войны и мира», обзор последних сорока лет, но мне никак не продвинуться дальше две тысячи восьмого года. Я просто не понимаю этого первого финансового кризиса. Эмилио улыбнулся, выдохнул дымок сигареты и сделал наступательный ход конем. — Может, тебе взять за образец Пруста, а не Толстого? Леонард заблокировал линию атаки слона, передвинув пешку на одну клетку вперед. Пешку защищал его конь. После первых общепринятых ходов Эмилио обычно переходил в открытую атаку слонами и ладьями, почти не щадя других своих фигур. Леонард предпочитал действовать конями, организуя глухую защиту. — Нет, Эмилио, даже если бы я заглянул в прошлое с помощью волшебных очков и увидел бы, что события моей жизни переплетались с событиями прошедшего десятилетия, это ничего не объяснило бы. Меня не было на этой планете. Я жил в университетских кампусах. И все же Леонард отметил тот поворотный момент, после которого страна и мир полетели в тартарары… или, по крайней мере, свой вклад в этот поворот. В 1990-х он преподавал на факультете классической и английской филологии Колорадского университета в Боулдере. Тогда университет не сумел противостоять шантажу некоего преподавателя и назначил липового ученого, липового индейца, липового профессора, но совершенно неподдельного пакостника Уорда Черчилля главой новообразованного факультета этнографических исследований. Это было уступкой абсолютной политкорректности, к тому времени уже неотделимой от самого понятия «университет», и сверх того — уступкой абсолютной посредственности. Когда профессор Джордж Леонард Фокс вернулся с конференции в Йеле после одиннадцатого сентября и обнаружил, что этот самый Уорд Черчилль в своем эссе назвал погибших во Всемирном торговом центре и Пентагоне «маленькими Эйхманами», это его ничуть не удивило. Его студенты — несколько человек, специализировавшихся на английской литературе, и два-три «классика» — ходили по университетским коридорам с каким-то извиняющимся видом. А этнографы — татуированные, донельзя пирсингованные, обычно с поднятыми от злости кулаками — расхаживали, как настоящие гестаповцы. — Нет, — снова сказал Леонард. — У меня не было даже подобия жизни, как у Пруста, чтобы писать о нем. Я хотел создать документальное произведение о той эпохе, в которую мы жили, — такую же широкую и блестящую картину, как у Толстого. Просто я ничего не знаю, ничего не понимаю — ни в войне, ни в мире, ни в финансах, ни в экономике, ни в политике. Ничего. Эмилио усмехнулся, закашлялся и переставил ладью на пять клеток вперед, чтобы поддержать своих слонов и взять противника в клещи. — Толстой однажды сказал, что вовсе не собирался делать из «Войны и мира» роман. — Ну что ж, — сказал Леонард, вводя в игру своего второго коня, — значит, я сравнялся с Толстым. Бестолковщина, что вышла из-под моего пера, — тоже не роман. Слон Эмилио, защищенный ладьей, взял одну из пешек Леонарда. — Шах, — сказал Эмилио. Леонард спокойно сделал ход конем, который ждал в засаде, защищая тем самым своего короля и угрожая слону Эмилио. Это был… Леонард зарделся при одной мысли о подобном термине… мексиканский наскок. — Ты мог бы бросить свой роман и просто написать нечто вроде толстовского эпилога к «Войне и миру», — посоветовал Эмилио. — Высказаться на вечные темы: о том, что силы истории не подчиняются человеческому разуму, что никто из нас не свободен, но наше сознание создает иллюзию свободы и свободной воли, что в таком случае должны вскрыться истинные законы истории, что даже отдельная личность зависит от времени, пространства, эмоций и случая. — Это был бы научный труд, — сказал Леонард, глядя, как Эмилио через лес других фигур вводит в бой вторую ладью. — А не роман. — Никто больше не читает романов, Леонард. — Я знаю. — Леонард слоном взял первую, предназначенную для обороны, ладью Эмилио. — Шах. Эмилио нахмурился. Рокироваться было слишком поздно — он безрассудно атаковал пешками и фигурами, оставив короля относительно беззащитным. На какое-то время он прекратил наступательные действия и вернул слона в оборонительную позицию. — Шах, — снова сказал Леонард, забрав слона Эмилио своим слоном. Эмилио хмыкнул и наконец воспользовался бездействовавшим до того конем, побив слона Леонарда. Тот ожидал такого обмена — слоны для Эмилио были важнее. Все позиции, оборонительные и атакующие, исчезли в хаосе стоящих как попало фигур. Еженедельные игры, начинавшиеся по всем дебютным правилам, почти всегда вот так вот скатывались в любительщину. — По крайней мере, мы живем в эпоху научных трудов, — заявил Эмилио Габриэль Фернандес-и-Фигероа. — Мы живем в эпоху Zeitstil — резко ответил Леонард. Эмилио знал контекст этого выражения, — «стиль времени»: они не раз говорили на эту тему. Немецкий интеллектуал Эрнст Юнгер[25] использовал его в своих «Кавказских заметках», которые тайно вел при Гитлере. Леонард презирал Юнгера (скорее Юнгера времен Второй мировой, чем более откровенного Юнгера времен холодной войны), потому что немец сделал тот же выбор, что и Леонард, решив, что достаточно втайне презирать и высмеивать Гитлера, а не выступать открыто против тирании. Zeitstil, «стиль времени»: Юнгер имел в виду эвфемизмы и лживые высказывания власть имущих, желавших сокрушить даже присвоенный ими язык. Юнгер наблюдал это в Германии 1930-х и 1940-х, Леонард — на протяжении всей своей жизни в Америке. И ни тот ни другой не предпринимали никаких действий. — LTI, — прошептал Эмилио. «Lingua tertii imperii», или «Язык Третьего рейха». — (То была кодовая фраза Юнгера, заимствованная у Виктора Клемперера.[26] Для обоих приятелей она давно стала горькой научной шуткой.) — Он всегда оставался с нами. Леонард покачал головой. Теперь его кони наступали на поколебленные оборонительные порядки противника. — Не всегда. И не так, как сейчас. — Значит, мой друг, в твоем романе не будет ни настоящей войны, ни настоящего мира. Только сумятица, свойственная нашей эпохе и ее языку. — Да, — согласился Леонард. Эмилио попытался защитить свои порядки с помощью ладьи, но теперь она попала под удар Леонардова слона с другого конца доски. — Solitudinem faciunt, pacem appelant, — сказал Эмилио. — Да, — снова ответил Леонард, впервые услышавший эту цитату из Тацита («Они превращают землю в пустыню и называют это миром») еще на первом курсе. Слова римского историка поразили его, как удар кулаком в лоб. Они до сих пор продолжали делать это. — Шах, — объявил Леонард. — Шах и мат. — А, да, очень красиво, очень красиво, — пробормотал Эмилио. Он загасил сигарету и закурил новую, потом откинулся к спинке скамьи и скрестил руки на груди. — Что-то тебя беспокоит, мой друг. Твой внук? Леонард три раза медленно вздохнул и, прежде чем ответить, начал снова расставлять фигуры. — Да. Вэл всю эту неделю прогулял, мне из школы поступали автосообщения. Домой приходит за полночь, спит допоздна, со мной не разговаривает. Он уже не тот мальчик, которого я привык видеть рядом. — Может быть, он становится тем мужчиной, которым должен стать, — вполголоса сказал Эмилио. — Надеюсь, что нет. Для него это темный период. Он злится, обижается на всех, особенно на меня — и, я думаю, злоупотребляет флэшбэком. — Ты нашел у него ампулы? — Нет. У меня твердое ощущение, что он принимает наркотик вместе с друзьями. Два старика часто разговаривали о флэшбэке. Да и как они могли избегнуть этой темы? Эмилио утверждал, что никогда не принимал наркотика. Он предпочитал живую память ложному, химическому оживлению прошлого. К тому же человек за восемьдесят, по его словам, не должен был бездарно расходовать реальное время на оживление воспоминаний. Леонард признался, что употреблял флэшбэк пару раз, несколько лет назад, но ощущения ему не понравились. А кроме того, поведал он, для него не существовало такого важного отрезка жизни или таких важных людей, чтобы тратить деньги, переживая заново проведенные с ним часы. — Это одно из преимуществ, а может, и недостатков того, что ты был женат четыре раза, — сказал он как-то раз Эмилио. Теперь Леонард ждал от своего старшего друга чего-нибудь философского — может быть, утешения. Но Эмилио вместо этого сказал: — Местная девушка, латинка по имени Мария Эрнандес, была изнасилована вчера по пути в школу. У нее была… сомнительная репутация, но ее отец, братья и ополченцы местной реконкисты поклялись убить парней, которые сделали это. — Парней? — спросил Леонард. Голос его прозвучал так глухо, что и собственным ушам показался эхом. — Шайка из восьми-девяти англосаксонских ребят, — сказал Эмилио. — Почти наверняка одна из флэшбанд, о которых мы слышим каждый день. Они ее изнасиловали, чтобы потом повторять это снова и снова. Леонард облизнул губы. — Если ты думаешь, что Вэл… нет, это невозможно. Не Вэл. Он такой озлобленный, не находит себе места, да… но это не Вэл. Не изнасилование. Никогда. Эмилио печально глядел на своего друга и партнера по шахматам. — Эта девушка — Мария — знала одного из парней, которые насиловали ее. Ученик-англосакс из ее школы. Он любит называть себя Малыш Билли.[27] Некто Уильям Койн. Почетному профессору Джорджу Леонарду Фоксу показалось, что ему стало плохо. За те пять лет, что его внук жил с ним, после того как Ник отправил его сюда, Леонард видел очень немногих друзей Вэла, но неизменно улыбчивый, уважительный, почтительный и — Леонард за сорок лет преподавания научился чуять это — лживый на манер Эдди Гаскелла[28] Билли Койн часто приходил к ним. — Думаю, мне нужно увезти Вэла из города, — сказал Леонард. Эмилио сделал ход белой пешкой, начиная вторую партию, но мысли Леонарда были заняты другим. — Si. Пожалуй, это неплохая мысль, мой друг. У тебя есть деньги на авиабилет? Леонард горько рассмеялся. — На авиабилет? Вряд ли. Перелет в Денвер сейчас стоит больше миллиона новых долларов. — Может, связаться с его отцом? Пять лет назад он смог оплатить приезд парня сюда. Леонард покачал головой. — Ник потратил на тот билет почти все деньги, внесенные за страхование жизни моей дочери. — Но он был полицейским… — Был, — сказал Леонард. — А теперь всего лишь флэшнаркоман. Раньше Вэл звонил ему каждый месяц, а теперь больше не хочет говорить с отцом. Сам Ник не отвечает на мои звонки, когда я оставляю ему послания. Думаю, он забыл, что у него есть сын. — А другие родственники есть? Леонард задумался на секунду, потом снова покачал головой. — Ты же знаешь про мою семью, Эмилио. Четыре брака и только три дочери. Дара погибла в Денвере, в автокатастрофе. Катрин вышла за французского мусульманина, двадцать с лишним лет назад переехала в Париж и пропала в тамошнем зиммитюде.[29] Под чадрой — так они говорят. Я вот уже пятнадцать лет не имею с ней никакой связи. Элоиза звонит мне из Нового Орлеана три раза в год — и всегда, чтобы попросить денег. Они с мужем флэшнаркоманы. Работы нет у обоих. Три бывшие жены, которых я любил, мертвы, а та, которую я возненавидел — и которая всегда ненавидела меня, — жива и богата. На мой звонок она не ответит, а тем более — на звонок моего внука от другой жены. — Значит, — подытожил Эмилио, — остается отец. — Да. Отец. Вэл говорит, что ненавидит отца, — когда вообще что-нибудь говорит о нем, — но я думаю, это все же лучший вариант. И к тому же это всего на одиннадцать месяцев: потом Вэла заберут в армию. В городе для мальчика становится слишком опасно. Эмилио скорбно поглядел на Леонарда. — Город может стать слишком опасен и для тебя, мой друг. Вы оба должны уехать. Скоро. Очень скоро. Леонард моргнул, стряхивая полузабытье. Все мысли о шахматах исчезли. — Что ты хочешь мне сказать, Эмилио? Что тебе известно? Эмилио вздохнул, взял трость с набалдашником из слоновой кости, прислоненную к столу, и оперся на нее. — Силы Ла Расы[30] и реконкисты активизировались. И возможно, вскоре попытаются захватить всю власть в городе. Леонард рассмеялся от неожиданности. Они редко говорили напрямую о политике. — Захватить власть? — слишком громко сказал он. — Да разве латины и без того не возглавляют всё в городе, не считая нескольких кварталов? Разве не принят закон, по которому мэр должен быть латином? — Латином — да. Но не истинным реконкистой, Леонард. Он не управляет всем Лос-Анджелесом, как провинцией Нуэво-Мексико. И теперь… это грядет. Леонард только смотрел перед собой. Наконец он произнес: — Это будет означать гражданскую войну на улицах. — Да. — Сколько… сколько времени у нас осталось? Эмилио сильнее оперся на трость, лицо его стало еще более скорбным. Леонарду пришел на ум сервантесовский Рыцарь печального образа. — Если вы с внуком можете уехать, то уезжайте… поскорее, — прошептал Эмилио. Он вытащил из кармана визитку и великолепную авторучку, написал что-то по-испански и протянул визитку Леонарду. На кусочке картона были только имя Эмилио, адрес — милях в двух к востоку от Эхо-парка (Леонард никогда не спрашивал у Эмилио, где тот живет) и короткая, написанная от руки фраза. Любой прочитавший ее понял бы, что этого человека нужно пропустить, что он — друг, что его нужно проводить по адресу, указанному в визитке. Под фразой стояла подпись: Эмилио Габриэль Фернандес-и-Фигероа. — Но как? — спросил Леонард, бережно складывая карточку и засовывая ее в бумажник. — Как? — Есть конвои. Например, из фур, которые иногда берут пассажиров. А еще группы автомобилистов объединяются для дальних поездок. — У меня нет машины. У Леонарда началось головокружение — он всегда думал, что такое состояние предшествует инсульту или инфаркту. Лучи сентябрьского солнца внезапно показались ему слишком горячими. — Я знаю. — Блокпосты и пропускные пункты… — Приходи по этому адресу, когда будешь уверен, что вы оба готовы, — сказал Эмилио по-испански. — Что-нибудь придумаем. Леонард положил ладони на бетонный шахматный столик и уставился на старческие пятна, выпуклые вены, распухшие от артрита костяшки пальцев. Неужели это его руки? Нет, это невозможно. — Ты помнишь, что сказал римский легионер Фламиний Руф о городе бессмертных в рассказе Борхеса «Бессмертный»? — спросил Эмилио, снова переходя на английский. — Фламиний Руф? Я… нет. То есть я помню этот рассказ, но что он сказал… нет, не помню. — «Этот Город, подумал я, ужасен; одно то, что он есть… заражает и губит прошлое и будущее и бросает тень на звезды».[31] Леонард уставился на своего старшего товарища. Он понятия не имел, что на уме у Эмилио. — Именно так воины реконкисты из Нуэво-Мексико смотрят на районы Лос-Анджелеса, еще подвластные гринго и азиатам, мой друг, — пояснил Эмилио. — Много крови прольется. И скоро. И если твой внук имеет отношение к изнасилованию Марии Эрнандес, он не доживет до тех времен, когда по городу ангелов потекут реки крови. Уезжай отсюда, если можешь, Леонард. Забирай внука. Уезжай.1.04 Денвер 11 сентября, суббота
— Ты что, собираешься всю ночь смотреть на звезды и пить пиво? Или ляжешь в постель? Голос Дары доносится через москитную дверь до веранд очки, где сидит Ник, глядя сквозь просветы между кронами старых сибирских вязов на крохотный лоскуток позднеавгустовского неба. Ночной воздух полнится треском насекомых, звуками телевизоров и стереоустановок из соседних домов и — время от времени — воем сирен с далекой Колфакс-авеню. — Есть и еще вариант, — говорит Ник. — Ты приходишь сюда и садишься ко мне на колени, а я тебе показываю кое-какие созвездия. — Я слишком толстая, чтобы сидеть на коленях, — говорит Дара, но выходит через скрипучую москитную дверь. И правда, толстая… Дара почти на девятом месяце и не скрывает этого. В руке она держит еще одну банку «курса», но отдает ее Нику. Во время беременности она очень осторожна. Ник похлопывает себя по колену, но Дара целует его в лоб, садится на старый металлический садовый стул рядом с ним и тихо говорит: — Что-то я не вижу много звезд, тем более созвездий. — Нужно, чтобы глаза приспособились к темноте, детка. — Здесь не очень-то темно из-за городского освещения. Ты бы не хотел жить за городом… где-нибудь в горах… где звезды яркие? И тогда можно купить телескоп, который ты с таким вожделением разглядываешь в каталоге. — Мы бы свихнулись в деревне, — говорит Ник, срывая крышечку с пивной банки и кладя ее на подлокотник, а не бросая в темноту. Он гордится чистотой их маленького дворика и веранды. — И потом, городские копы должны жить в городе. Это закон. Он прихлебывает пиво и продолжает: — Но ты права, хорошо, если есть телескоп и темные небеса… где-нибудь в высокогорье, скажем в Эстес-парке. Там всегда есть отблеск от Передового хребта,[32] но окружающие пики или высокие предгорья на востоке блокируют большую часть светового потока. — Может быть, Санта-Клаус вспомнит, что ты хочешь телескоп, — говорит Дара, по-прежнему глядя в небо. Над крышами кружит полицейский вертолет. Ник отрицательно качает головой. Он тверд: — Нет. Слишком дорого. Есть сотня вещей, на которые можно потратить эти деньги, более важных… если осенью будет сверхурочная работа. — Будет, — печально говорит Дара. Ник знает, что она ненавидит его сверхурочную работу по выходным, хотя плата за переработку, которую отстоял профсоюз, для них очень важна. Но в этот уик-энд — а сегодня вечер пятницы — в этот уик-энд Ник свободен и проведет его с Дарой. Ник (ему так хочется, чтобы его прежнее «я» перестало смотреть на эти дурацкие звезды и повернуло голову к Даре, которая видна в мягком свете, льющемся из кухонных окон и москитной двери, — хотя он с точностью до секунды знает, когда его прежнее «я» сделает это) понял, почему он, приобретя сорокавосьмичасовую ампулу, так часто выбирал именно этот уикэнд, когда Дара была беременна. Его ждал своеобразный секс (и очень сладострастный, без проникновения, но донельзя насыщенный ласками), однако причина заключалась не в этом. Дело было в простоте их отношений именно в эти выходные, за несколько недель до рождения Вэла, после чего вся жизнь так сильно изменилась. И еще в том, что Ник, заново прокручивая все это, каждой летней ночью засыпал, положив голову на располневшую грудь Дары. — Ты был бы счастливее, став астрономом, Николас. Сонный, расслабленный голос Дары, как всегда, возбуждает Ника. — Ты хочешь сказать, что была бы счастливее, будь я астрономом, а не копом? Он прихлебывает пиво и ищет на небе Альдебаран. Легкий ветерок шевелит листья вязов и более крупные листья соседских лип. Их шелест, еще не ломкий, — часть этого позднеавгустовского вечера. — Понимаешь, — говорит Дара, — будь ты астрономом, мы бы жили где-нибудь на вершине горы. Может, на Гавайях. По крайней мере, далеко от всего этого. Ник поворачивается… Ник знает, что вот сейчас он должен повернуться, и именно в этот момент он поворачивается. …смотрит на жену и кладет большую руку на ее увеличившийся живот. — Не думаю, что ты захотела бы жить на вершине гавайского вулкана, детка, когда настает время рожать, а ближайшая больница и акушер — в двух милях ниже и за двумя островами. Ник пожалел о сказанном, еще не успев закончить фразу. Беспокойство Дары в связи с беременностью — после трех выкидышей — может сравниться разве что с его собственным. «Все будет в порядке», — подумал тот Ник, который находится как внутри, так и снаружи этой реальности. Он слабо ощутил — или ему показалось, что ощутил, — как его другие флэшбэчащие «я» думают то же самое в то же мгновение, хотя обычно флэшбэкер не может фиксировать присутствия самого себя во время предыдущих посещений. Он, конечно, не мог уловить мыслей своего другого флэшбэчащего «я» так, как мог чувствовать и разделять мысли и эмоции тогдашнего Ника. — Я хороший коп, Дара, — говорит Ник; он смущен собственными словами о больнице и акушере, но все равно гнет свою линию. — По-настоящему хороший. Дара накрывает своей маленькой ладонью его большую руку, лежащую на ее животе. — Из тебя мог бы выйти неплохой астроном; мой Николас. По-настоящему хороший астроном. Но звезды — это нечто прекрасное, достойное восхищения… — Совсем как ты, девочка, — шутит Ник, зная, что она сейчас скажет, и желая сменить тему. — …и удивления, — твердо повторяет Дара, которая не хочет свести все это к шутке. — А с чем имеешь дело ты? С преступниками, наркоманами, свидетелями, кучей других полицейских, даже с некоторыми жертвами, адвокатами, юристами. Они порождают только отвращение, цинизм и отчаяние. После колледжа тебе надо было понять, что ты слишком чувствителен для копа. Я думаю, тебе нравятся чисто внешние вещи — ирония, сдобренная адреналином, работа кое с кем из коллег, то, что ты хороший коп… но по сути, все это разъедает тебя, как кислота. И так будет всегда. Ник убирает руку с ее живота и прихлебывает пиво. К первому вертолету присоединился второй, итеперь оба они облетают территорию к северу от ботанического сада, обшаривая прожекторами землю. Лучи напоминают то трости двух слепых, нащупывающих путь, то — в уменьшенном и перевернутом варианте — свет от прожекторов, обыскивающих небо Берлина или Лондона во время Второй мировой. Не хватает только, думает Ник, бомбардировщиков — «Б-17» или «хейнкеля», пойманных в перекрестье лучей. За прожекторами и навигационными огнями вертолетов не видны звезды. Шум двигателей эхом отдается от кирпичных домов и деревьев на их улице, от старых, крохотных, полуразрушенных гаражей, построенных на соседней улочке еще в 1920-е годы. Нику не нравится, что их покой нарушили. У него свободны не только суббота и воскресенье, но и — совсем уж неслыханно — вечер пятницы, который он провел… Разделяя его с другим Ником, который парит рядом, слушает, чувствует, переживает… …кося в такую жару траву, подрезая живую изгородь и свисающие с соседнего участка ветки неухоженных деревьев, ремонтируя петли на дверях древнего гаража, крутясь вокруг Дары в доме. У нее тоже выдалась редкая свободная пятница — Дара работает секретарем у помощника окружного прокурора, — и она весь день занималась всякой мелочевкой, готовила дом к появлению ребенка, пока Ник косил, чинил, поправлял и вообще путался у нее под ногами. На нем старые, самые удобные домашние брюки и хлопчатобумажная безрукавка и кроссовки в пятнах краски: они с Дарой недавно ремонтировали будущую детскую. На Даре голубой свободный топик и старые капри — и то и другое настолько захватанное, что, надев их, она не пользуется передней дверью. Но она в тот день несколько раз выходит во двор через заднюю дверь, со стаканчиком охлажденного лимонада и (один раз — удивительно, превосходно) со свежеиспеченным шоколадным печеньем для вспотевшего мужа. Это единственный вечер за несколько недель, когда у Ника в кобуре на левом бедре нет пистолета. Ник Боттом любит и дом, и этот район; он знает, что Дара тоже их любит. Эта часть города — к юго-западу от Денверского ботанического сада и к югу от Чизмен-парка — застроена высокими, типично денверскими домами-квадратами из кирпича вперемешку с небольшими кирпичными бунгало, вроде того, что четырьмя годами ранее едва-едва сумели купить Ник и Дара. Да и то пришлось брать кредит у полицейского профсоюза. Район к тому же относительно безопасен благодаря полицейским. После первых волн рецессии десятилетием ранее его стали обживать банды, умножилось число преступлений, а некоторые из больших домов, заложенных владельцами, превратились в притоны и жилища для нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока. Во втором десятилетии нового века сюда начали переезжать старшие полицейские чины и детективы. За ними последовали другие, с недавно созданными семьями, и принесли с собой немного стабильности. Даже в современную эпоху — новая администрация в Вашингтоне назвала этот год (год беременности Дары) Годом ясного видения — эпоху, когда почти все штатские носят пистолет, присутствие десятков полицейских с семьями оказывало на район успокаивающее воздействие. А у полицейских с семьями всегда была дурная привычка, разделяемая мафией: проводить свободное время почти исключительно с другими полицейскими и их семьями. И это давало Нику ощущение подлинного товарищества. В прошлом мае, на День поминовения, Ник и Дара устроили пикник и крокетный турнир: пришли шестьдесят с лишним человек. Патрульный по имени Джерри Коннорс, знакомый Нику уже несколько лет и разделявший любовь супругов к старому кино, в субботу по вечерам устанавливал цифровой проектор и показывал фильмы. Экраном служила простыня, закрепленная на боковой стене Никова гаража. Половина свободных от дежурства полицейских собирались у Джерри, рассаживались на садовых стульях, попивали пивко и ждали всяких ляпов и монтажных ошибок — вроде той сцены в кафетерии у горы Рашмор в хичкоковском «К северу через северо-запад», когда один паренек затыкает оба уха пальцами ДО ТОГО, как Эва Мари Сейнт достает из своей сумочки пистолет, чтобы выстрелить в Кэри Гранта. Джерри любит рассказывать всем о таких ляпах до начала показа. И еще Джерри задает дельные философские вопросы полицейским и другим соседям на садовых стульях — пусть поразмышляют во время просмотра. А вопросы у него такие: «Джеймс Мейсон и его первейший шпион-помощничек Мартин Ландау — они голубые и влюблены друг в друга? Я что имею в виду — вы послушайте, как Ландау в роли Леонарда говорит о своей женской интуиции и как Мейсон отвечает: „Слушайте, Леонард, вы же ревнуете…“» Ник надеется, что этот район будет хорошим местом обитания для их сына или дочери. (Ему с Дарой иногда кажется, что они единственные в городе, кто ждет ребенка, — а может, во всем штате или всей стране, — и постоянно отказывается от ультразвукового сканирования и других современных способов определения пола до рождения.) — Ну что, расскажешь свою историю? — спрашивает Дара. Нику не сразу удается выйти из полузабытья под названием «как я люблю мой дом и район». И вообще, сколько банок пива он выпил за сегодня? «Недостаточно для того, чтобы притупить твою страсть ближе к ночи», — подумал наблюдающий Ник. — Какую историю? — спрашивает Ник в реальном времени пятничного вечера, после которого прошло шестнадцать лет и один месяц. — О том, как твой дядюшка Уолли купил тебе маленький телескоп в Чикаго и этот телескоп стал самой дорогой для тебя вещью. Ник украдкой кидает взгляд на Дару. Та улыбается — нет, не подшучивая над ним — и берет его свободную руку в свои ладони. Он перекладывает банку из правой руки в левую. — Ну… он был… — неторопливо говорит Ник, — самой дорогой для меня вещью. Я хочу сказать, много лет. — Я знаю, — шепчет Дара. — Расскажи мне о том, как ты пытался увидеть звезды с лестничной площадки многоквартирного дома в Чикаго. — Это был не многоквартирный дом, детка. — Ник допивает пиво и дает себе клятву, что это на сегодня последняя банка. — Квартира дяди Уолли в Чикаго была… понимаешь… в районе, где селились сначала ирландцы, потом поляки, а после них большей частью чернокожие. — Но ты приезжал к дяде в гости на две недели… — подсказывает Дара. Ник улыбается. — Да, я приезжал к дядьке на две недели. Он работал продавцом в кондитерском отделе, а до этого менеджером в супермаркете «Эй энд Пи», и мой старик каждое лето отправлял меня на две недели в Чикаго. Мне там нравилось. — Значит, ты приезжал к нему на две недели, — повторяет Дара с улыбкой. Ник складывает пальцы в кулак и легонько ударяет ее по коленке, потом снова берет за руку. — И вот, значит, я почти каждый год уезжал туда, и мы с дядей вечерами гуляли по Мэдисон-стрит. Это было в нескольких кварталах от его квартирки на третьем этаже. Каждый раз, когда мы проходили мимо витрины с этой штуковиной, которую я принимал за фотокамеру в магазине электроники, — на самом деле там был ломбард, — каждый раз я просил дядю остановиться, и мы любовались этим телескопчиком. Это был не настоящий астрономический телескоп, понимаешь, атакой маленький. Такими, наверно, пользовались в дальних плаваниях много веков назад. На черной треноге… — И вот в последний вечер перед твоим отъездом… — снова подсказывает Дара. — Эй, ты мне дашь толком рассказать или нет? Она кладет голову ему на плечо. — И вот в последний вечер перед моим отъездом… Потом оказалось, что я тогда в последний раз видел моего дядюшку. Я никого больше не знал из нашей семьи, кроме родителей. Он умер от обширного инфаркта два месяца спустя после моего возвращения в Денвер. Ну так вот, в последний вечер, когда мы с Уолли помыли и высушили посуду — он ведь был холостяк — и я укладывал свои вещи в сумку на диване, где спал, Уолли позвал меня на площадку и… — Вуаля! — говорит Дара непритворно счастливым голосом. — Вуаля. Телескоп. Я глазам своим не верил. Мне таких классных вещей еще никто не покупал, а ведь до моего дня рождения, или там Рождества, или еще чего было ох как далеко. И вот мы установили его на этой треноге — на стуле, который взгромоздили на мусорный бачок. И я стал смотреть в телескоп с задней площадки на третьем этаже, пытаясь найти какие-нибудь звезды или планеты. В этом возрасте я был помешан на космосе… — И было тебе? — спрашивает Дара приглушенным голосом, упираясь щекой в плечо Ника. — Было мне… лет девять, кажется. Ну да, городской свет не позволял увидеть большинство звезд, но мы нашли одну особенно яркую в темном небе. Позже я сообразил, что это был Сириус. И Юпитер мы нашли. Он в тот вечер тоже ярко светился. — И случилось это в девяностые годы двадцатого века. Кто бы мог подумать, что в те времена уже имелись телескопы? — Ты просто завидуешь, — говорит Ник. Это у них такая постоянная шутка. Дара на десять лет младше. Она родилась в 1990-е. Ник с удовольствием напоминает ей обо всех прикольных событиях этого десятилетия, которые она пропустила. «Например, лебединую песню Рейгана? Или минет Клинтона?» — любит спрашивать она с невинным видом. Но обоим кажется странным, что в год ее рождения Ник уже заглядывал на порносайты. — А я люблю… — начинает Ник. — Меня? — Вечерний пятничный ужастик на ТКФ,[33] — заканчивает Ник, вставая и подтягивая Дару к себе. — И показ начнется через три минуты. Она смеется, но прижимается к нему всем телом, мягко касаясь рукой его бедра, там, где обычно висит кобура с пистолетом. Вертолеты исчезли. Вместо их шума теперь слышны более далекие, не столь назойливые звуки и завывание сирен. Ник бросает пивную банку в мусорный бачок у дверей и, обняв Дару двумя руками, крепко прижимает к себе. Ее голова даже не достает ему до подбородка. После стольких объятий за последние два года ее груди, налившиеся к концу беременности, кажутся до странности незнакомыми. Ник не в первый и даже не в тысячный раз понимает, как она молода. И как ему повезло. — Сделай для меня кое-что, — шепчет Дара. «Тебе понравится это „кое-что“», — подумал Ник, паря над местом событий и чувствуя прижатое к нему тело жены, но в то же время отмечая звуки и движения вокруг них, которых не заметил в ту ночь — шестнадцать лет и один месяц назад. Неожиданный порыв ветерка зашелестел в верхушках несчастных сибирских вязов: через месяц-другой он начнет срывать бесчисленные листья и швырять во двор, где их будут собирать граблями и укладывать в мешки. Слишком громкий звук телевизора за два дома от них. Кот — четырехногий канатоходец — идет по высокому забору в глубине переулка… — Я хочу, чтобы ты… — …вставайте, Боттом-сан. Вставайте немедленно. Просыпайтесь, черт вас дери. Дара почему-то больше не обнимает его, а поднимает с земли, яростно трясет. Ник чувствует прикосновение ее огромного живота. Кто-то всадил иголку ему в ногу. — Эй, осторожнее, детка, — прокричал потрясенный Ник, отстраняясь от Дары. Дара подняла его еще выше, встряхнула сильнее. Нет. Ник потянулся к пистолету. Пистолета не было. Кто-то вытащил иголку капельницы у него из вены. Еще одна игла вонзилась ему в ногу. Ник почувствовал холодный, как лед, противоток Т4В2Е, распространяющийся по телу, и крикнул: — Микки! Лоуренс! Микки нигде не было видно в освещенной химическими палочками комнате. Массивное, облаченное в бронеодежду тело вышибалы Лоуренса неподвижно лежало в проходе между кушетками. Дара прижималась к нему, обнимала его летним вечером… Ник попытался соскользнуть назад в реальность флэшбэка, но боль в руке и ноге, а также Т4В2Е в жилах подняли, оторвали, отняли его от Дары. Он снова закричал. — Заткнитесь, — велел Сато. Японец тащил его на плече через слабо освещенный склад так же легко, как сам Ник носил в кровать своего сына, когда Вэл только учился ходить. Несколько флэшбэкеров, вышедших из забытья, сердито поглядывали на них: флэшпещеры для того и создавались, чтобы человек оставался там один и никто его не тревожил. Но большинство продолжали спать, подергиваясь, не замечая ничего вокруг себя. Куда девался Микки? Разве у них с вышибалой Лоуренсом нет дробовика для таких случаев? Ноги и руки мучительно пощипывало от Т4В2Е, по ним бежали мурашки — так, словно Ник их отлежал. Пока что конечности не подчинялись Нику — тот не мог ни лягнуться, ни даже сложить пальцы в кулак. Ночной сентябрьский воздух был прохладным, слегка накрапывал дождичек. Ник понял, что на улице темно, когда Сато вытащил его в проулок и понес на боковую улицу, где вдоль водосточного желоба стояли машины. Это что — все еще та самая ночь? Сколько времени он пролежал под флэшбэком? Нажав на брелок, Сато открыл пассажирскую дверь старой электрической «хонды» и сгрузил свою ношу на переднее сиденье. Потом он ловко надел на правое запястье Ника наручник, пропустил короткую цепочку через стальной стержень над дверной рамой и с натягом захлопнул второй наручник на левом запястье. Просыпающиеся руки пронзила сильнейшая боль — Нику показалось, будто его распинают. Он снова вскрикнул, но Сато захлопнул дверь и обошел машину, направляясь к водительскому месту. Ник продолжал кричать, но Сато, не обращая на это внимания, повел «хонду» по бульвару Спир под холодным дождем, что усиливался с каждой минутой. Улицы были почти пусты. Даже тысячи бездомных, обитатели тротуаров и велосипедных дорожек, шедших вдоль осевшего берега Черри-Крик, прятались в своих лачугах и коробках под уличными эстакадами. Судя по слабому свету на востоке, приближалось утро. Сколько же времени он был под флэшбэком? Кусочек пятничного дня с Дарой в Год ясного видения и часть вечера. Значит, не больше восьми часов. Черт. Ник замолчал, когда Сато свернул на запад и поехал по Колфакс-авеню. Япошка не мог… он не может быть… он не сможет… Япошка делал то, что ему нужно: пересек I-25, потом свернул на юг, на Федерал-бульвар, потом на восток, на Западную 23-ю авеню, потом опять на юг, на Брайант — узкую забаррикадированную улицу, идущую вдоль кромки крутого обрыва над I-25. По обеим сторонам и наверху висели знаки: ВЪЕЗД КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН. — Нет! — закричал Ник. Но Сато по-прежнему не обращал на него внимания. Он остановился ровно настолько, сколько требовалось для показа своего удостоверения автоматической станции, а потом поехал по торообразному туннелю-сканеру. Ник чувствовал, как на его тело воздействуют элементарные частицы — уже второй раз за двадцать четыре часа, — и подумал, не повредит ли здоровью такая доза облучения. Далеко внизу и слева исчезла из виду I-25. Чтобы не допустить повреждений от обычной взрывчатки, обычный трафик направлялся в обход I-25 в обе стороны, по разбитым улицам района, примыкавшего к железнодорожному депо. Для ВИП-машин имелось по одной полосе в каждом направлении: они проходили внутри взрывостойких труб, в двух сотнях футов над поверхностью. Ник чуть не рассмеялся над своими опасениями при виде черного сооружения, которое заполнило весь вид спереди. На следующем пропускном пункте из асфальта торчали наклоненные в сторону выезда шипы: проехав внутрь, назад вернуться ты уже не мог. — Нет, — тупо повторил Ник. — Да, — сказал Сато, но машину остановил. Громадное сооружение впереди, затмевавшее затянутый тучами рассвет, когда-то называлось «Инвеско филд эт Майл-хай». Этот «новый» стадион, открытый в 2001 году, заменил прежний стадион «Майл-хай», где с 1948-го проходили матчи по американскому и европейскому футболу и бейсболу. Глядя на неровную верхнюю кромку стадиона, менеджеры «Инвеско» — давно ушедшей в небытие компании, в 2001-м заполучившей право дать стадиону свое имя, — насмешливо называли его «Диафрагмой». Он служил команде «Денверские мустанги», тоже ушедшей в небытие. Стадион был рассчитан на 76 тысяч зрителей и примерно на 50 тысяч обкуренных крикунов — завсегдатаев рок-концертов, которые тоже устраивались здесь. 28 августа 2008 года «Инвеско филд эт Майл-хай» — идиотское название, которое даже тогда не использовал никто, кроме дикторов стадиона, и то по строжайшему распоряжению начальства, — достиг пика славы. В тот день на трибунах собрались более 84 тысяч человек (и еще миллиард наблюдал за событием по телевидению высокой четкости, тогдашней новинке) — послушать кандидата в президенты Барака Обаму, который произносил свою первую речь в качестве официального кандидата. Это стало последним действием спектакля под названием «Съезд демократической партии 2008 года», поставленного неподалеку, в так называемом «Пепси-центре». Теперь «Инвеско», «Пепси», «Мустанги», Национальная футбольная лига, спортивные матчи и эйфория, связанная с демократами, — все ушло в небытие, как и человек, избранный под многоголосое скандирование «Надежда и перемены» в ту ночь, более двадцати восьми лет назад. Люди, которые в те наивные дни посещали футбольные матчи или присутствовали при медийной вакханалии вокруг речи кандидата, согласившегося баллотироваться в президенты, сегодня не узнали бы стадиона. Комплекс — ныне Центр временного содержания ДВБ — выглядел так, будто его окунули в сто тысяч галлонов вязкого моторного масла. Ник знал, что эта черная металлизированная ткань, натянутая над открытым изначально стадионом, даже в самые солнечные дни превращает пространство общей площадью в 1,7 миллиона квадратных футов (комнаты, коридоры, пандусы, лестницы, трибуны на 76 тысяч мест, ложи и ВИП-ложи) в сумеречный котлован. С севера в Центр вела темная кишка с бетонным порталом и стальными воротами; в ней могли разъехаться два грузовика. Этим пасмурным утром сооружение высотой в сто пятьдесят футов было погружено в полную темноту. Нет, на самом деле не так: над черным овальным въездом в ЦВС ДВБ стоял гигантский синий конь — исчадие ада. На его животе проступали красные вены, стальные копыта были острее бритвы, дьявольские глаза на перекошенной дьявольской морде испускали два лазерных луча. Лучи прорезали ползущий туман — а может, это были низкие облачка — и метались в разные стороны, пока не нащупали «хонду» и следом за ней Ника Боттома, после чего замерли. — Расскажите все, что вам известно об этом коне, Боттом-сан, — вполголоса приказал Сато. «О коне? — подумал Ник; мысли его метались, как крысы в клетке. — Кому нужен этот долбаный конь?» Он загремел короткой цепочкой наручников, продетой через рукоять над дверью. Но потом услышал свой голос, глухой и глуповатый: — Первоначально символом стадиона был Мустанг Баки. Двадцатисемифутовый Баки представлял собой увеличенную копию изваяния Триггера — вставшего на дыбы коня Роя Роджерса. Рой Роджерс был теле- и киноковбоем середины прошлого века.[34] Рой позволил сделать отливку с оригинального изваяния еще до окончания строительства стадиона, но только при условии, что городские власти и владельцы стадиона пообещают не называть нового коня Триггером. По итогам голосования — я думаю, это случилось в семидесятых годах прошлого века — коня назвали Мустангом Баки. «Какого хера я рассказываю Сато эту дребедень? — недоумевал Ник. — Я даже не отдавал себе отчета в том, что знаю всю эту фигню». Он попытался сжать челюсти, чтобы остановить поток этой ерунды, но обнаружил, что в буквальном смысле не может закрыть рот. — Но это не Мустанг Баки, — продолжал гундосить Ник, пытаясь закованной левой рукой показывать вверх, на адского синего жеребца. — Этот безумный синий конь был изготовлен мексиканским скульптором Луисом Хименесом[35] — не ахти каким талантом. В основном Луис занимался изготовлением кузовов из стекловолокна для мексиканских спортивных машин. Он сделал коня по заказу Денверского международного аэропорта лет сорок назад. Хименес получил этот заказ только потому, что десятки миллионов долларов, выделенных на художественное оформление нового аэропорта, отдали меньшинствам — латинам, черным, индейцам, кому угодно: выбирайте, мол, сами. Кому угодно, кроме азиатов, проживающих в Колорадо. Вряд ли они были «меньшинством». Слишком умные. Так вот, в мэрском кресле тогда сидел чернокожий, и его жена возглавила комитет по распределению заказов на предметы искусства. Победителю следовало принадлежать к какому-нибудь из меньшинств и не требовалось быть настоящим художником, тем более хорошим художником. Ник отвернулся от Сато и ударился лбом в боковое стекло. Красные лазерные точки передвинулись вместе с ним — прошлись по рукам, по груди. — Пожалуйста, продолжайте, Боттом-сан, — сказал Сато. — Расскажите все, что знаете об этом коне. Ник попытался сделать собственный голос неслышным для себя, прижав предплечья к ушам, но все равно воспринимал его — через кости черепа. — Этот синий жеребец имеет высоту в тридцать два фута: больше, чем оригинальный Мустанг Баки. Обитатели маленького городка в Нуэво-Мексико, где жил покойный художник, считают его заколдованным. Изваяние упало на скульптора в студии и убило его, прежде чем Хименес успел закончить свою работу. Скульптуру установили в аэропорту в две тысячи восьмом году, и, согласно контракту, она должна была стоять там десять лет. Как только срок действия контракта истек, аэропорт и город избавились от нее. Она ужасала тех, кто впервые прилетал в Денвер, и вызывала ненависть местных. Департамент внутренней безопасности заменил Мустанга Баки на этого безумного заколдованного коня лет двенадцать назад, когда получил стадион в свое распоряжение. Лазеры служат для досмотра. Но если один из этих долбаных лучей попадет мне на сетчатку, я ослепну. — Это все, что вы знаете о коне? — спросил Сато. — Да! — завопил Ник и бешено затряс головой, натягивая цепочку наручников. Крупные пятна крови слились с лазерными точками на груди его свитера. — Сука ты, сука! Второй укол в ногу был с пфайцеровской[36] сывороткой правды, да? — Конечно, — ответил Сато. — И если я дам вам еще один шанс, Боттом-сан, вы снова обманете нас и забросите расследование, чтобы немедленно забыться в флэшбэке? — Да, конечно, — сказал Ник. — Можете не сомневаться, мистер Мото.[37] — А вы бы меня убили, будь у вас такая возможность, Боттом-сан? — Да, да, само собой! — завопил Ник. — Сука ты. — Вы искренне верите, что есть вероятность раскрытия вами тайны убийства Кэйго Накамуры, Боттом-сан? — Ни малейшей, — услышал свой ответ Ник. Черные глаза оценивающе посмотрели на Ника, который в ответ уставился на японца. Наконец Ник выдавил из себя: — Зачем вы привезли меня в ЦВС ДВБ? Все в Колорадо знали, что внутрь черного маслянистого пирога попадали многие, но вот оттуда не выходил почти никто. Сато ответил ровным, как всегда, голосом: — Боттом-сан, вы обманули одного из девяти федеральных советников Соединенных Штатов Америки. Вы нарушили свое слово и условия договора. Возможно, вы планировали убийство Хироси Накамуры. — Что?! — закричал Ник, дергая руками так, что кровь из запястий брызнула на лобовое стекло и торпедо. Сато пожал плечами. — После надлежащего допроса они выяснят правду. Ник чувствовал, что глаза его готовы выскочить из глазниц, как у безумного синего жеребца. Две широкие красные точки все двигались по забрызганной кровью рубашке на груди, словно окровавленные пальцы слепой любовницы. — Ты такой же чокнутый, как этот чертов конь, Сато. Хочешь упечь меня в этот ад и заявить, что новое расследование не удалось. Тогда твой босс даст тебе разрешение на сэппуку. Сато ничего не ответил. «Ни хера у тебя не выйдет!» — закричал было Ник, словно второстепенный персонаж дешевого телесериала, но благодаря сыворотке правды получилось иначе: — Все у тебя выйдет. Накамура тебе поверит. Ты должен будешь покончить с собой, искупая свою вину, а я сгнию здесь. Сато смотрел на него еще несколько долгих мгновений, потом кивнул самому себе и поднял свою НИКК. Оба лазера в глазах синего коня переметнулись на карточку, потом один вернулся к Нику, а другой остался считывать данные. Сато развернул «хонду» на мокром асфальте и поехал назад по сканирующему туннелю, потом по замусоренному пустырю, усыпанному гравием и влажным камнем. На месте пустыря прежде были жилые кварталы вокруг стадиона и парковка. — Я думаю, Боттом-сан, — сказал Хидэки Сато, — что мы должны посетить место преступления.2.01 Перекресток Десятки и Ла-Сьенеги, Лос-Анджелес 11 сентября, суббота
Билли Койн и Вэл вели остальных ребят вверх по бамбуковым лесам на обрушенную часть 10-го хайвея, где располагался Субботний открытый рынок. Вдруг сверху, с бетонки, и снизу, из города, раздались звуки: выстрелы из сотен стволов — АК-47, которые ни с чем не спутаешь, — усиленные динамиками крики муэдзинов, взывающих к правоверным с десятков лос-анджелесских минаретов, звон церковных колоколов в городе, крики с Субботнего рынка и с тенистых улиц внизу: «Аллах акбар! Аллах акбар!» Все ребята замерли на месте, решив, что это атака хаджи или смертник с бомбой. Но потом Вэл понял, что Лос-Анджелес отмечает старый праздник — «9/11». Как учили Вэла в школе, в этот день, 11 сентября 2001 года, началась успешная борьба с империалистической гегемонией Америки. Был открыт путь к созданию Нового Халифата и появлению других обнадеживающих признаков Нового миропорядка. Вэл знал, что и христианские церкви каждый год звонят в колокола, присоединяясь к торжествам в десятках лос-анджелесских мечетей, — демонстрируют солидарность, понимание и снисходительность. За спинами карабкающихся парней, в центре города, кто-то в попытке сделать всегородское торжество еще праздничнее стрелял красными и оранжевыми ракетами; те взрывались, ударяясь о стекла старых небоскребов. Затем мальчишки перебрались с лесов на бетонную I-10 и несколько минут наблюдали столпотворение в центре. Тухи, Костолом и Динджин разразились радостными воплями, но, увидев, что старшие помалкивают, притихли. Они молчали, но каждый раз, когда ракета взрывалась у стены коренастого небоскреба, вскидывали кулаки в воздух. Когда они повернулись к рыночным киоскам, Вэл понял, почему так усердно стреляли с бетонки. Большинство торговцев за лотками здесь были хаджи или по меньшей мере выходцы с Ближнего и Среднего Востока. Большая часть продаваемого ими дорогого товара попадала в страну тоже через хаджи, когда те возвращались из своих резиденций в Пакистане, Индонезии, Еврохалифатах или Великой Исламской Республике, матери всех народов Халифата. В нее входили бывшие государства Ближнего Востока — Ливан, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, Судан, Тунис: на карте Республика напоминала изогнутый ятаган. В отличие от остальных ребят Вэл знал это — он любил географию и иногда скачивал виртуальные карты на свой мобильник, а потом изучал их. Они менялись очень быстро. Еще он любил историю, но тут уж виноват был дед. Леонард нес столько всякой исторической чуши, что часть ее застряла у Вэла в голове, когда он был помладше. Вэл удивлялся, как эти верблюжатники — если даже полеты в пределах того, что осталось от США, стоили миллионы новых баксов — умудряются так часто летать через океан. Вероятно, за счет прибылей от всего этого крутого дерьма, что они продают вот здесь. Правда, по большей части это крутое дерьмо стоило своих денег. Два ряда рыночных лотков протянулись ярдов на сто. В проходах между столами, укрытыми яркой материей, уже шатались первые покупатели. Койн толкнул Вэла и кивнул сначала в одну, потом в другую сторону. Вэл понял, что старший приятель показывает на две пары полицейских в полном защитном обмундировании черного цвета. Они расположились по краям рынка, а наверху жужжали мини-беспилотники. Короткие черные автоматы копов напомнили Вэлу, зачем он с ребятами пришел сюда. Но сначала они пошли вслед за младшими — Тухи, Манком и другими — к лоткам со всякими занятными штуками. Несколькими из них распоряжались женщины, большинство — в хиджабах. За другими сидели бородачи, а позади них — женщины, закутанные с ног до головы в паранджу. Вэл заметил, что у одной из них ярко-голубые глаза. Он готов был поклясться, что это Синди, ходившая вместе с ним каждую среду на занятия по социальной ответственности. Вэл нередко заглядывал в глаза Синди на этих занятиях. — Круто! — завопил Сули. — Вот это круто! Ребята сгрудились вокруг столиков с интерактивными футболками. Это была серьезная одежда: почти каждая футболка стоила не меньше полумиллиона новых баксов. Но у Койна, похоже, всегда имелись деньги на карточке, а потому вся шайка стала разглядывать товар. Старый чернобородый хаджи держал в руках футболку — из самых длинных и самых дорогих. Трехмерное изображение Джефри Дамера (давний серийный убийца, интерес к которому проснулся после сериала телесети «Эйч-би-о» с Джилли Гибсоном в главной роли) занимало всю спину. Каннибал — настоящий Дамер, а не актер — был изображен в тот момент, когда он сношал в пустую глазницу череп одной из жертв. Когда Джин Ди подошел к футболке, Дамер прекратил свои безумные движения и, по-прежнему прижимая череп к своему паху, повернул голову через плечо. Голова его, казалось, поднялась с поверхности черной материи, словно из нефтяного озера. Искусственный разум на ткани проговорил адским голосом: — Эй ты… да, ты, прыщавый в красной рубашке… Есть свободная глазница. Хочешь присоединиться? Джин Ди отпрыгнул назад. Семеро его товарищей и два-три десятка торговцев за соседними лотками разразились смехом. Старухи в паранджах прыснули со смеху и скромно отвернулись, чуть приподняв свои вуали. Хаджи, державший футболку, улыбался, обнажая щербатый рот за колючей проволокой черной бороды. — Меня интересует вот эта, — сказал Койн и показал на спину футболки. Один из подручных торговца — мальчишка едва ли старше Вэла, с жидким пушком вместо бороды, в крутой шапке хаджи, с патронташем поверх жилетки и в рубашке цвета хаки, — поднял футболку, о которой говорил Койн. В центре ее было одно-единственное пятнышко. Оно стало увеличиваться в размерах, пока не превратилось в человека, обнаженного по пояс и быстро идущего навстречу покупателю. Вскоре уже можно было разглядеть его лицо. Владимир Путин. — Ну просто блеск, нах, — загудел Сули. — Заткнись, Сули, — велел Койн. Путин шагал к Койну до тех пор, пока мощный обнаженный торс и мускулистые руки царя Владимира не заполнили спину футболки целиком. Потом торс сменился лицом Путина, а лицо — прищуренными глазами. — Ни хрена себе, ему же лет сто пятьдесят, — сказал Манк. Голос его звучал приглушенно в присутствии силовика, дольше всех в мире сохраняющего власть. Путин был «силовиком» также и в смысле физической силы. — Всего восемьдесят, — автоматически сказал Вэл. — Он родился в пятьдесят втором. На шесть лет старше моего деда. — Заткнись, — приказал ему Койн. — Слушай. Повернув голову, прищурившись и заглянув Койну прямо в глаза, Путин с футболки сказал по-русски: — Moio sudno na vozdushnoy podushke polno ugrey. Каждый слог звучал, как выстрел. Койн бешено рассмеялся. Вэл крутанул головой. Неужели Койн и вправду понимает эту русскую околесицу? Может, мамочка Билли К. была русской? Вэл не помнил. — Это он чо, Койн? — спросил Манк. — Чо он сказал-то? Койн отмахнулся от вопроса. Глядя в глаза Путину, он спросил по-русски: — Vladimir Vladimirovitch, skol’ko eto stoit? Footbalka? Голова и мощные плечи внезапно поднялись над тканью. Вэл отпрянул. Почему-то это пугало его даже больше, чем каннибал Дамер. — Восемьсот тысяч баксов, — сказал Путин по-английски с сильным акцентом, натянуто улыбаясь Койну и поглядывая на других ребят. Тухи, Костолом, Динджин, Сули, Манк и Джин Ди отступили вместе с Вэлом. — Новых баксов, — добавил Путин. Улыбка его стала совсем уже неискренней, и он спросил Койна: — Ты что — хочешь навесить мне лапшу на уши? — И добавил по-русски: — Droog. — Nyet, — сказал Койн по-русски, снова разражаясь безумным смехом. — Davayte pereydyom na ty, Vladimir Vladimirovitch. — Poshyol ty! — отрезал искусственный разум Путина и злобно рассмеялся. Понимая, что Койн снова может отбрить его, Вэл все же спросил: — Что это значит? — Это значит «пошел в жопу», — сказал Койн. Его смех странным образом напоминал смех искусственного Путина. — А ты что ему сказал? — Неважно. — Койн повернулся к бородатому хаджи. — Я беру эту футболку с Путиным. Хаджи просканировал НИКК Койна и посмотрел на парня чуть ли не с почтением. Парнишка с патронташем сложил футболку и хотел было достать бумажный мешок. — Нет, я ее надену, — сказал Койн. Расстегнув синюю фланелевую рубашку и бросив ее в урну, он натянул на себя новую черную футболку. Вэл заметил «беретту» девятого калибра, засунутую сзади за пояс его джинсов. Он не знал, видел ли кто-нибудь еще койновский пистолет. Койна, казалось, это не беспокоило. — Ну, ты krutoy paren', — сказало по-русски лицо Путина, заполнившее теперь грудь футболки. — Что это значит? — промямлил Манк. — Крутой парень, — перевел Койн. Оттянув немного ткань футболки, чтобы посмотреть Путину в лицо, Койн сказал: — Ты klyovy chuvak, старина. Просто жесть. И большая shishka. А пока заткнись — нам нужно купить еще кое-что. Шайка из восьми ребят рассеялась, чтобы не вызывать подозрений. И потом, каждого интересовало свое. Тухи, Костолом, Динджин и Сули отправились посмотреть пиратские игры из Японии, России, объединенной Кореи, Индии и других стран, экспортировавших высокотехнологичную продукцию. Джин Ди, все еще красный от стыда после того, как Дамер обозвал его прыщавым, пошел один. Манк последовал за Койном, который двинулся вдоль ряда лотков, разглядывая дорогие — от миллиона баксов — новые видеорекордеры и другие оптические штуки. Вэл в одиночестве продирался сквозь плотную толпу, не обращая внимания на зазывные крики продавцов и не опасаясь за свои карманы: налички у него не было, а НИКК осталась дома. Один длинный стол, за которым хозяйничали два афганских хаджи в одежде талибского правительства, был завален военными куртками, боевыми ботинками и дешевой бронеодеждой американской армии. Младшие вроде Динджина, которым еще нравилось носить такое дерьмо, любили говорить, что все это снято с американских солдат, убитых в Китае и Южной Америке, в подтверждение чему на бронеодежде обычно имелась дырка с кровавым ободком. Но Вэл, уже достаточно искушенный, знал, что все это украдено продажными интендантами в долгом процессе поставки снаряжения на изменчивые фронты. Американская армия стала наемным войском на службе у Японии и Индии. Шестнадцатилетний Вэл, которому до призыва оставалось одиннадцать месяцев и несколько дней, не имел ни малейшего желания щеголять в армейских обносках. Скоро он получит настоящие ботинки, парадную и полевую форму, внутричерепной штрих-код. Когда Брэду, старшему брату Билли Койна, пришло время идти в армию, родители откупились от призыва. После этого Брэд присоединился к Арийскому братству, и ему все равно пришлось надеть форму, хоть и другую. К ней он получил более надежную бронеодежду и более эффективное оружие, чем у плохо оснащенных американских солдат, которые сражались с полевыми командирами и чавесистами. (Вэл знал, что благодаря Брэду Койна зауважали еще сильнее, и его авторитет главаря жалкой шайки белых флэшбэкеров укрепился еще больше.) Когда Вэл рассказал своему деду о Брэде (то есть о том, как родители Брэда и Билли избавили сыновей от призыва) и спросил, не может ли дед сделать для него то же самое, Леонард уставился на него, как на психа. Иногда Вэл жалел о том, что, увидев «беретту» Койна, он первым делом подумал об убийстве деда. Ведь Вэл знал, что дед вовсе не специально выставляет себя полным идиотом. Просто его так учили в университете. Вэл подошел к столу с дорогими товарами. На нем были выставлены трехмерные экраны высокой четкости: складные, разворачивающиеся и другие — все гибкие и сверхтонкие. Поскольку этот стол также принадлежал «импортерам»-хаджи (Вэл давно понял, что Открытый рынок — самое безопасное сегодня место в Лос-Анджелесе: смертник или смертница ни за что не заявились бы сюда в поясе шахида), все экраны были настроены на один из англоязычных каналов «Аль-Джазиры». Они показывали не только сцены побивания камнями или обезглавливания, но и торжества в честь 9/11, происходившие по всей стране. Несколько трансляций шли из относительно новой мечети «Шахид аль-Харам», которая была построена на Граунд зиро — бывшей площадке Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Вэлу мечеть казалась прекрасной — вроде Тадж-Махала, только черная, более высокая и изящная. В этот момент мэр Нью-Йорка, вице-президент США и главный имам Нью-Йорка по очереди произносили полные надежды речи близ дыры, где когда-то стоял этот идиотский Всемирный торговый центр. Потом здесь построили Мемориальный центр 9/11 и новую Башню свободы, но и они оказались разрушены. Вэлу представлялось разумным, что на этом месте построили самую большую мечеть в Америке. Никто не будет атаковать мечеть. (Хотя Великая Исламская Республика, как Леонард объяснил Вэлу, шиитское государство и вполне может сделать это, поскольку мечеть Шахид аль-Харам — суннитская.) И еще Леонард объяснил Вэлу, что Шахид аль-Харам означает нечто вроде «мучеников святого места»; это, конечно, раздражало замшелых правых и твердолобых американских гегемонистов. Но несколько недель назад Вэл забрел в крохотную телевизионную комнату в подвале их дома и увидел, что его дед смотрит какое-то шоу, восхваляющее мечеть Шахид аль-Харам, а заодно две сотни других громадных мечетей, которые были построены или строились повсюду в США (не считая Республики Техас, которая не являлась частью Штатов и мечети не приветствовала). Вэл готов был поклясться, что дед беззвучно рыдает. Это что еще за херня? Дед смутился, затем объяснил потрясенному и тоже смущенному Вэлу, что у него всего лишь простуда. Однако тот задумался: что, если Леонард подружится с Альцгеймером и останется у него на руках? Что он тогда будет делать? Но на следующий день во время одного из редких совместных обедов, приготовленных в микроволновке, Леонард взял поучающий, назидательный тон, пытаясь объяснить внуку, что в действительности происходило 9/11. Он, Леонард, преподавал тогда какую-то херню — этимологию какого-то Джона Китса-Шмитса в Колорадском университете — и в это время уже развелся с одной женой, но еще не успел жениться на следующей, и на руках у него была трехлетняя мать Вэла, и он уехал в университет и присоединился к другим преподавателям в холле — все смотрели, что сделали самолеты шахидов с Пентагоном и Всемирным торговым центром и… Вэл оборвал его, сказав, что всем насрать на эту древнюю историю. Он, Вэл, что теперь — должен зарыдать из-за того, что Джексон Каменная Стена[38] был убит при Геттисберге? Все это было, прошло и на хер никому не нужно. «Джексона Каменную Стену убили до сражения при Геттисберге», — педантично возразил Леонард. Вэл вяло ответил, что эта правая антихалифатская брехня потеряла всякий смысл еще до того, как Леонард впал в старческий маразм. Как и все американские дети, Вэл с детского сада изучал Коран и знал, что ислам — религия мира. Это знал любой недоумок. Почему Леонард льет слезы, созерцая прекрасную Мечеть мучеников на Священном месте в Нью-Йорке? — спрашивал Вэл. Чего ему надо? Чтобы они перетащили кости этого поджигателя войны Грега Дубль Буша в Нью-Йорк и построили там для него усыпальницу? «Джорджа Дабл-ю Буша», — печально ответил Леонард. После этого Вэл отправился к ребятам из своей шайки и объявился только на следующее утро. К тому разговору они с Леонардом больше не возвращались. Но теперь, глядя на мэра Нью-Йорка и вице-президента, которые облизывали с ног до головы злобного бородатого имама, Вэл испытал какую-то досаду, непонятную ему самому. Может, из-за хаджи на Открытом рынке, пытавшихся ободрать покупателя как липку. А может, эта досада была таким же идиотизмом, как груды американских ботинок и форменной одежды, якобы снятых с убитых американских солдат возле китайской деревни с непроизносимым названием. Вэл тряхнул головой, прогоняя идиотские мысли, и бочком подошел к столу с оружием, — ведь ради оружия они и пришли сюда, — чтобы на расстоянии посмотреть, как Койн пробует сделать покупку. Койн был старше, выше и темнее всех в восьмерке. Его попытка отпустить бороду не увенчалась особым успехом, однако он все же завел негустую, но вполне нормальную темную щетину. Он не мог засвечивать свою НИКК, но зато имел льготную карточку военного. Вообще-то она принадлежала Брэду, но дружки того из Арийского братства подправили ее, и теперь карточка показывала, что Койну уже перевалило за восемнадцать. Если Койн договорится с продавцом, то платить ему явно придется наличкой… но наличка у него, похоже, была. Хаджи за столиком с оружием отогнал Тухи и других ребят — копы и мини-беспилотники ДВБ кружили в нескольких сотнях футов над головой. Сейчас бородатый иранец подозрительно оглядывал Койна. Но льготная карточка, похоже, прошла авторизацию на его сканере. Когда хмурый хаджи потребовал у Койна НИКК, тот улыбнулся, пожал плечами и сказал, что не взял ее с собой — только армейскую и кучу налички. Тут вот какое дело: он охотник и хочет запастись новым оружием, прежде чем в Айдахо закончится сезон охоты на оленей. Последние слова были койновским враньем, таким типичным, что Вэл, стоявший неподалеку и делавший вид, что рассматривает стереоскопические очки из Бразилии, тут же отвернулся. Выбор был невелик: либо отвернуться, либо расхохотаться. Хаджи не смеялся: Вэл видел это в зеркало для примерки очков. Но на вранье Койна насчет охоты он вроде бы тоже не купился. Тем не менее парня он не прогнал и позволил ему рассматривать оружие. Койн еще раньше сумел купить для шайки два пистолета на Олд-Плаза, довольно дерьмовых: револьвер тридцать восьмого калибра времен Реймонда Чандлера (Вэл, как ни удивительно, любил читать) и новенький пластмассовый пистолет со складной рукояткой, индонезийского производства, стрелявший крохотными биоразрушаемыми патронами калибра 5,79 мм. Когда-то, в счастливом прошлом, хаджи незаметно проносили эти штуковины на борт самолета. Джин Ди получил первый из них, со стволом двухдюймовой длины, а Манка утешили индонезийской игрушкой.Койн пока не сообщил своим ребятам, где или как надо прикончить япошку, чтобы потом бесконечно флэшбэчить на это. Но оружие,говорил он, должно быть у всех, а ему самому нужен хотя бы один автомат, стреляющий стреловидными пулями. Вэлу он уже шепнул, что отдаст ему свою девятимиллиметровую «беретту». Того это вполне устраивало. Вэл любил тяжесть пистолета, любил ощущать его в руке и по-прежнему представлял, как пускает своему папочке в живот разрывную пулю. Койн взвешивал в руках современный черный увесистый пистолет производства ОАО «Ижмаш» под стреловидный боеприпас. Похоже, именно это и нужно было главарю шайки флэшбэкеров, и он уже начал было торговаться с хаджи. Но тут мрачный верблюжатник, бросив взгляд на мини-беспилотники и четырех черных рыцарей городской полиции, совершавших обход лотков, неожиданно и раздраженно прогнал Койна. Тот пожал плечами и расхлябанной походкой пошел прочь. Но когда Вэл догнал его у стола с играми, по лицу Койна гуляла улыбка. — Этот гнойный пидор всучил мне вот что, Вэл. Койн показал ему крохотную зеленую карточку с адресом. Вэл знал, что эта улица тоже проходит под заброшенной бетонкой. На карточке было написано карандашом «2400». — Ночной рынок, — прошептал Койн. — Завтра вечером. Этот верблюжатник продаст мне три из тех офигенных оаошников. А найдутся деньги — и больше. И к понедельнику мы будем готовы. Ты точно не хочешь мини-автомата? Вэл покачал головой. — Мне нравится «беретта». Койн ухмыльнулся и ущипнул его за руку — как раз в тот момент, когда появились другие ребята. — Слушай, Б. К., я видел, как тебя попер прочь этот хрен, — прокричал Костолом. — Когда о нас услышат, когда мы укокошим япошу… эээп! С этим последним звуком из здоровенного слюнявого парня вышел воздух: Койн с силой сунул ему кулаком в живот, совсем не по-дружески, потом еще раз. Костолом согнулся, как мешок с бельем. Остальные ребята чуть отступили, и Койн на мгновение показал пальцем вверх — на беспилотники. Один из облаченных в бронеодежду призраков-полицейских повернулся, услышав, как Костолом грохнулся наземь, и сказал что-то в микрофон шлема. Трое его товарищей тут же развернулись в сторону Койна, совершая плавные, тягучие движения, точно роботы из научно-фантастического фильма. Щитки на шлемах опустились — копы разглядывали увеличенную картинку происходящего. Ухмыляясь во весь рот, Койн показал полицейским пустые ладони, затем протянул руку, помогая встать Костолому. Вэл глупо засмеялся, так, словно это была игра, и несколько ребят поумнее последовали его примеру. Костолом, нахмурившись, поднялся; его нижняя губа была вытянута, как у обиженного четырехлетнего ребенка. Койн направился к ближайшему спуску, обняв Костолома за плечи: кучка жопоголовых недорослей ищут с утра приключений на рынке для взрослых, только и всего.
Они оказались в трех кварталах от рынка, среди пахнущей плесенью темноты под наклонившимся, провисшим участком Десятки. Здесь можно было не бояться ушей и глаз тех, кто ходит по земле или парит в небе. Койн снова ударил Костолома — на сей раз прямо в лицо. Вэл услышал, как лязгнули зубы. Он бесстрастно смотрел, как грузный, жирный, глупый парень опять валится на землю. — Безмозглая скотина, — прорычал Койн, стоя над поверженным Костоломом с широко расставленными ногами. — Ты безмозглый сучий потрох, гребаная сволочь. Думаешь, это тебе игрушки, мудак ты херов? Не понимаешь, что из-за тебя нас всех могут прикончить? Отправят к херам собачьим на этот гребаный стадион, и мы будем гнить там до конца дней. Хочешь, чтобы тебя весь остаток жизни трахали в жопу киллеры из латинов и ниггеров? Койн резко обернулся к остальным (ко всем, кроме Вэла, и Вэл знал это) со все еще сжатыми кулаками и злобной гримасой на лице и закричал: — Вы этого хотите, пидоры безмозглые? Если хотите, чтобы вас загребли в ДВБ и там запытали или просто замочили, — ну и хер с вами, флаг вам в руки. Но только без меня, а не то я сам это с вами сделаю, мудозвоны херовы. Внезапно в правой руке Койна оказалась «беретта». Вспоминая об этом позднее, Вэл понял, что никак не может восстановить в памяти то мгновение, когда Койн закинул руку назад и выхватил пистолет. Только что рука Койна была сжата в кулак, и вот уже черное дуло смерти двигается, нацеливаясь на каждого по очереди. Все, кроме Вэла, принялись бормотать извинения, клясться, что они-то не лопухнутся, никогда не скажут ничего там, где их могут услышать. Даже Костолом стал рассыпаться в извинениях, выплевывая через распухшие губы осколки разбитых зубов и сгустки крови. Все говорили, кроме Вэла. Койн навел «беретту» — ту самую «беретту», которая должна была перейти к Вэлу, — прямо ему в лицо. — Ты меня понял, говноед? Так и будешь молчать? Уязвленный Вэл смог только моргнуть и кивнуть. Он испытал странное чувство, увидев наведенный на него пистолет, — какую-то тяжесть в паху, словно его яйца хотели спрятаться внутри тела, неожиданное желание укрыться за чьей-нибудь спиной, неважно чьей: хоть за своей. Потом он услышал собственный голос: — Ты пока что не сказал, как и где мы сможем убить япошку. Койн улыбнулся и, кивнув в ответ, сунул пистолет под футболку: Путин на ней теперь внимательно слушал и мрачно улыбался. Он жестом пригласил всех встать в кружок. Даже Костолом поднялся на колени и присоединился к остальным. — Не просто япошку, — прошептал Койн. — Самого Даити Омуру. Калифорнийского советника. Кто-то присвистнул. Костолом тоже было попытался, но только сморщился и осторожно приложил пальцы к разбитым губам и сломанным зубам. — Заткнитесь все, — приказал Койн. Все замолчали. — В пятницу вечером будет крупное мероприятие — перепосвящение Диснеевского центра исполнительских искусств на Гранд-авеню. Придут все, включая мэра-латина, но о появлении советника Омуры знает только самая верхушка — и мы. Он прибудет вместе с кортежем из зеленой зоны и Гетти-Касла. Я точно знаю, когда он приедет, — с точностью до секунды. Знаю, куда подъедет бронированный лимузин, с какой стороны выйдет Омура, где будут его телохранители. — Но как… — пропищал было Динджин, но замолчал, получив шлепок от Тухи или кого-то другого. Вэл, все еще пунцовый от злости и смущения, понял. У Койна было столько денег, потому что его разведенная мать работала в городских структурах, постоянно поддерживая связь с офисом советника. В департаменте транспорта. — А мы будем поджидать его там, — заключил Койн, обводя взглядом одно лицо за другим. Джин Ди покачал головой. — Я видел такие штуки по телику, Б. К. Нет, я ничего такого, но… я просто… ну, типа… нас и на десять кварталов не подпустят к этому Дворцу исполнительских искусств и к тому, что там будет. В особенности если приедет советник. Это все равно что приезд Папы Римского, и… — Одного Папу не так давно убили, — оборвал его Койн. Джин Ди кивнул, тряхнул головой, снова подхватил нить своей мысли. — Не, я хотел сказать… ну, ты знаешь, там будут полицейские штата и эти, ну как их там, федеральные… — Из нацбезопасности, — уточнил мрачный Сулли. — Да, но я не о них, — сказал Джин Ди, — я других имел в виду. Ну, эти, федеральные… — Служба безопасности Государственного департамента, — произнес Койн, демонстрируя всем меру своего терпения. — Да. Но не только они. Еще и личная охрана япошки… — сказал Джин Ди и как-то съежился. «Картина впечатляющая, вот только парнишка далеко не впечатляет», — подумал Вэл. Вэл заговорил и сам удивился, как спокойно — даже уверенно — звучал его голос, хотя он чуть не обосрался от страха минуту назад, под дулом «беретты». — Джин хочет сказать, что мы не сможем подойти близко, а если и подойдем, то не сможем убить Омуру и остаться в живых — нас застрелит его охрана. Даже если нам удастся подобраться поближе, убить советника и самим остаться в живых, мы все равно не уйдем. Весь город поставят на уши. Наши физиономии покажут по всем каналам, а мы и на полквартала не успеем отойти… нет, мы не успеем. Вэл понимал, что концовка получилась скомканной, — но что сказано, то сказано, решил он и скрестил руки на груди. Койн улыбнулся. — Ты абсолютно прав, старина. Кроме одного. Коллекторы. Я знаю коллекторную систему. Знаю, как пробраться туда, где ждать, из какого коллектора стрелять, через какой уходить. Тухи скорчил гримасу. — Забудь об этом. Я не стану ползти весь в говне, чтобы кого-то убивать. Койн закатил глаза. — Не канализационные коллекторы, идиот. Ливневки. По которым сливается вода во время грозы. Ливневки пронизывают весь город. Вэл вспомнил фильм 1954 года «Они» о гигантских муравьях. В финале агент ФБР Джеймс Арнесс со своим напарником, как его там, преследовали муравьев на ревущих армейских джипах и грузовиках по гулким подземным коридорам ливневки, которые выходили в обычно сухую Лос-Анджелес-ривер. Отец Вэла по какой-то дурацкой причине любил это кино (возможно, потому, что мать Вэла тоже его любила), и в детстве Вэл тоже любил смотреть вместе с родителями этот идиотский, плоский, черно-белый фильм — маленькая комната в маленьком доме, запах попкорна, тесный пружинный диван… Он стряхнул с себя воспоминания — живые, как во флэшбэксеансе, но лишь потому, что он часто флэшбэчил на эти моменты, — и сказал: — Нет, Койн. Нет. Городские службы безопасности и охрана япошки тоже прекрасно знают о ливневках. Я читал, что если кто-нибудь вроде советника появляется на публике, они заваривают крышки люков вокруг на целую милю… — Вэл видел ухмылку Койна, но все равно продолжал: — Не только круглые крышки канализационных люков, о которых говорил Тухи, но и входы в ливневку. Заваривают наглухо или еще как-то перекрывают. Ухмылка не сходила с самодовольного лица Койна, и Вэл замолчал. Он вдруг понял, что его руки все еще сложены на груди. Нет, он не купится на эту Койнову херню. И ему не понравилось нацеленное на него дуло заряженного пистолета. Этого он никогда не забудет. Словно чувствуя враждебность Вэла, главарь маленькой банды флэшбэкеров положил руку ему на плечо. Голос Койна звучал мягко, убедительно: — Ты совершенно прав, Валерино. Службы безопасности города и госдепа, ДВБ и ниндзя из личной охраны Омуры позаботятся о том, чтобы окна во всех окрестных зданиях из-за угрозы снайперов были запечатаны, все крыши проверены, все машины эвакуированы, все выходы из коллекторов — тех, по которым выносится говно Тухи, и тех, по которым сливается дождевая вода, — заварены… Койн выждал несколько секунд, как истинный сын актера, переводя взгляд с одного товарища на другого, — даже Костолома с изуродованным лицом не пропустил, — а потом продолжил: — Но крышка люка ливневки рядом с Диснеевским павильоном уже заварена. Несколько лет как. И все интернет-сайты утверждают, что она заварена, но на самом деле это не так. Это старая ржавая крышка из двух панелей, а за ней стальная решетка. Мы можем заранее разрезать решетку. И… Койн снова оглядел лица, затягивая паузу. — …и у меня есть ключ от этой долбаной крышки. Шестеро из семи ребят принялись гоготать и толкать друг друга. — Они нас и не увидят, — добавил Койн. — Мы пристрелим этого ВИП-япошку из люка, скосим его, как травинку. Потом слиняем, а охрана и глазом моргнуть не успеет. И мы запрем за собой эти железные панели. Когда они спустятся в ливневку, мы уже будем в миле от того места, свалим по этому… лабиринту старых коллекторов, выберемся на улицу и смешаемся с толпой. Я даже знаю, где бросить пистолеты так, чтобы их никогда не нашли. Ребята прекратили гоготать и толкаться — все принялись переглядываться. Даже Костолом перестал вытирать свой разбитый рот. — Ни фига се, — прошептал наконец Вэл. — Это может получиться. Ни фига се. — Мы потом сто лет будем флэшбэчить на это, — сказал Койн. — Ни фига се, — повторил Вэл. — Ни фига се и аминь, — заключил Койн, благословляя всех перстами, будто новый Папа, занявший место убитого. — Yurodivy, — сказал по-русски, натянуто улыбаясь, самодовольный Владимир Владимирович Путин, лицо которого занимало всю футболку. — Вы все… юродивые.
1.05 ЛоДо, Денвер 11 сентября, суббота
Сато не снял наручники с Ника. Он поехал на север по 20-й улице, потом на восток, снова над I-25, и затем, спустившись вниз, — в ту часть города, которую денверцы зовут «самый центр». Кожа на запястьях Ника уже была прорвана и кровоточила; выкрашенная в цвет детского поноса «хонда» с электроприводом — явно бронированная, — подпрыгивая на выбоинах, срывала с запястий все новые куски мяса. Ник уже не кричал, а лишь скрежетал зубами. До этого он хотел просто убить Сато. Теперь он поклялся, что прежде запытает японца. ЛоДо — так еще в 1980-е, если не в 1970-е, застройщики находчиво прозвали бывший складской район Лоуэр-Даунтауна,[39] между собственно центром города и Саут-Плат-ривер. В 1800-е здесь были склады, салуны, мастерские седельщиков, склады и опять салуны. К середине 1900-х даже салуны и бордели позакрывались; остались одна седельная лавка, сколько-то действующих складов и очень много заброшенных, сотни алкашей, наркоманов, бездомных. В последние десятилетия двадцатого века, в ходе обновления города и реконструкции прибрежных кварталов, алкоголиков и наркоманов изгнали, появились престижные рестораны и еще более престижные кондоминиумы с кирпичными стенами и открытыми стропилами. Когда в 1995 году построили классического вида стадион «Курс-филд», ЛоДо переживал период подъема. Упадок начался только после Дня, когда настал трындец, но к Году ясного видения ЛоДо уже проделал большую часть пути к своему нынешнему состоянию — состоянию района, который славится своими борделями, несколькими салунами, брошенными кондоминиумами с флэшбэкерами и другими наркоманами внутри, борделями и снова борделями. Кэйго Накамура был убит в комнате на третьем, последнем этаже здания на Уази-стрит, длинной темной улице с двухэтажными борделями, салунами и складами по одну сторону и трехэтажными складами, салунами и борделями по другую. Было совсем светло (по крайней мере, в это прохладное и дождливое сентябрьское утро светлее уже не стало бы), когда Сато припарковал «хонду» перед трехэтажным зданием, которое было точной копией всех прочих трехэтажных зданий на южной стороне Уази-стрит. Когда Сато обошел машину и расстегнул наручники, Ник хотел было сразу же броситься на него… но потом отверг эту идею. Он чувствовал себя усталым после ночного флэшбэка, Т4В2Т, сыворотки правды и резкого притока адреналина, вызванного страхом. Ник решил выбрать для этого другое время. Сато расстегнул наручники и, ухватив оба кровоточащих запястья Ника своей гигантской рукой, вытащил из кармана баллончик с аэрозолем. «Слезоточивый газ!» — подумал Ник и крепко зажмурил глаза. Сато распылил что-то холодное на его ободранные запястья. Несколько секунд болело так сильно, что Ник против воли громко застонал. А потом… ничего. Вообще никакой боли. Когда Сато отпустил его руки, Ник пошевелил пальцами. Все работало отлично. А ссадины на руках — несмотря на кровавые пятна, усеявшие фуфайку, и забрызганное кровью лобовое стекло — оказались несерьезными. Сато подхватил Ника под руку, вытащил из машины, поставил на тротуар и подтолкнул к старому зданию. Под навесом, в темноте входа, Ник различил фигуры каких-то людей: одни двигались, другие стояли неподвижно. «Спящие флэшнарики или алкаши», — решил Ник. Из тени вышли двое, не алкаши и не нарики, — хорошо одетые молодые японцы. Сато кивнул им, и один из парней спортивного вида отпер дверной замок двумя поворотами ключа. — Возвращение на место преступления через шесть лет после преступления, — сказал Ник, чей голос слегка дрожал от холода и волны злости, поднимавшейся в нем. — Думаете, это пустое здание шесть лет спустя напомнит мне что-нибудь? Сато в ответ только включил свет. Пять лет и одиннадцать месяцев назад Ник бессчетное число раз бывал в этом доме, где совершилось преступление, хотя и прибыл сюда не первым из полицейских. Он помнил царивший здесь жуткий кавардак: три большие комнаты, заставленные диванами, стульями и ширмами; маленькая кухня на первом этаже; перевернутая мебель; хрустящие под ногами ампулы; лампы, разбитые в спешке свидетелями, которые спешили убраться прочь до прибытия полиции; даже груды грязной одежды и использованные презервативы по углам. Теперь все выглядело иначе. Мебель отремонтировали и вернули на место, как и лампы, которые теперь исправно зажигались. На всех поверхностях, правда, громоздились тарелки и стаканы: на первом этаже в тот вечер по случаю завершения съемок устроили многолюдную вечеринку, пригласив японских помощников Кэйго, тех, у кого брали интервью, и других людей, как-то связанных с созданием документального фильма. Но во всех трех комнатах и в кухне царили чистота и порядок, как и должно быть в начале вечеринки. — Ничего не понимаю, — сказал Ник. Сато протянул ему стильные полноохватные тактические очки. Еще даже не активировав их, Ник обратил внимание на их необыкновенную легкость. Тактические очки, служившие денверским полицейским, казалось, весили не меньше фунта, и от них через десять минут начиналась головная боль. Эти же были другими. Легкие, как солнечные, они перекрывали все поле зрения. Очки полицейских всегда выхватывали лишь островок виртуальной действительности, при этом реальность накатывалась со всех сторон, вызывая головокружение. Ник коснулся иконки на дужке и чуть не вскрикнул от изумления. Он сделал несколько шагов, желая убедиться, что и вправду видит это. Все комнаты, где проходила вечеринка, и кухня внезапно заполнились людьми, замершими на полушаге, полуслове, на полуглотке, полусмешке, полуфлирте и полувдохе из ампулы флэшбэка. Реальные тела, реальные лица. Реальные люди. Он предполагал, что эти фигуры окажутся здесь (для этого и существовали тактические очки), но никак не предполагал такой степени достоверности. Тактические очки денверской полиции и американской армии, которыми пользовался он, генерировали разве что схематические очертания с мультяшными и едва узнаваемыми лицами, плывущими над каркасами тел и похожими на хеллоуинские тыквы. Здесь же он видел реальных людей. Качество трехмерного цифрового воспроизведения достигло уровня сегодняшних кинофильмов или телетрансляций, включая популярный сериал «Касабланка» с Хамфри Богартом, Клодом Рейнсом, Ингрид Бергман и такими постоянными приглашенными звездами, как девятнадцатилетняя Лорен Бэколл. Из своих ночных просмотров Ник знал, что в этих сериалах можно встретить и иных приглашенных звезд из других эпох: Тома Круза, Леонардо Ди Каприо, Кэтлин Тернер, Галена Уоттса, Байрона Безухова, Шебу Тите и даже звезд полностью виртуальных, как Наташа Любоф или Таданобу Такэси. Все они были в равной мере реальными. Такими же реальными, как и люди, неожиданно заполнившие это пространство и соседние комнаты. Он снял тактические очки и принялся бродить по комнатам, расположенным вокруг центральной лестницы без перил. Сато следовал за ним. Теперь в помещениях не было никого, кроме него и Сато. Ник снова надел очки и почувствовал неизбежное головокружение при появлении более двух сотен человек. Он подошел поближе и вгляделся в лицо первого узнанного им свидетеля и одного из интервьюируемых в фильме — бывшего израильского поэта Данни Оза. На изможденном лице Оза были видны поры; Ник видел лопнувшие капилляры в его глазах и на носу. Он сказал: — Это, видимо, стоило мистеру Накамуре кучу денег. Сато не счел нужным комментировать эту реплику. — И все три этажа виртуализированы на такой манер? — спросил Ник, двигаясь по комнате и вглядываясь в немигающих людей. Он остановился, чтобы заглянуть в глубокий вырез платья молодой, светловолосой, незнакомой ему женщины — может быть, одной из шлюх, нанятых на вечеринку. — Конечно, — сказал Сато. Ник посмотрел на шефа службы безопасности. Сато казался ничуть не более трехмерным, материальным или реальным, чем другие мужчины, женщины, трансвеститы и транссексуалы в переполненном помещении, — только шире в плечах и плотнее, чем все остальные. И еще: Сато больше не был единственным японцем в комнате. Кроме двух совсем молодых парней и юной девушки, в которых Ник узнал членов съемочной команды Кэйго Накамуры, тут присутствовали три хорошо одетых охранника, тоже в тактических очках. «Им-то зачем тактические очки?» — недоумевал Ник, но вопрос этот задавать не стал. Голова у него болела. Поначалу, из-за долгого отсутствия практики и с непривычки к такому качеству воспроизведения, Ник совершил типичную для новичка ошибку — принялся обходить подобия людей, заполнивших комнату, или протискиваться между ними. Потом он горестно покачал головой и начал проходить сквозь них. Вполне материальные на вид трехмерные цифровые макеты не возражали. В одном из углов бывший топ-менеджер «Гугла», плотный, красивый, с соломенными волосами, в оранжевой одежде, рассказывал пяти-шести восторженным юношам о кармическом блаженстве полного погружения. Ник помнил этого типа — Дерек… Дерек… как же его? Вчера утром он был в списке восемнадцати главных подозреваемых Сато… но тогда Ник не брал все это в голову. Теперь он вспомнил: шесть лет назад ему пришлось съездить в Боулдер, в Наропский университет,[40] чтобы допросить этого кретина в буддистских одеяниях. Дерек был законченным флэшнаркоманом, который намеревался заново пережить каждую секунду своей сорокашестилетней жизни, полностью погрузившись во флэшбэкную реальность. Он хотел достичь просветления посредством наркотика. — Этаж, на котором произошло убийство, он тоже такой? — спросил Ник, пытаясь вспомнить имя одного из самых накачавшихся типов. Тот стоял на тесной кухне, держа стакан с янтарной жидкостью — явно налитой из вполне материальной бутылки с дорогим, судя по всему, шотландским виски. — Да. — Господи Иисусе, — сказал Ник, вспоминая сцену убийства и фотографии из анатомички. — Постойте… мистер Накамура видел все это? — Конечно, — ответил Сато совершенно бесстрастным тоном. — Много раз. — Вы устроили это для своего частного расследования, — сказал Ник. Он понял, как глупы его слова… нет, как глуп он сам… но никакого раскаяния не испытал. Этим утром у него были чертовски веские основания чувствовать себя туповатым. Сато едва заметно кивнул. Громадный шеф службы безопасности проследовал за Ником по большой гостиной, затем в маленькую кухню, без опаски проходя сквозь людей. — В этом костюме, — сказал Ник только для того, чтобы хоть немного расшевелить мозги, — вы напоминаете мне того Голдфингеровского подручного. Одджоба.[41] Сато никак не прореагировал, и Ник мысленно пнул себя за попытку завязать разговор. Общее правило для полицейского — да что там, для любого человека — звучало так: не пытайся завязать разговор с собственной подмышкой или задницей, а значит, и с ходячими суррогатами таковых. Ник вздохнул и сказал, обращаясь главным образом к себе самому: — И все же, если мистер Накамура видит это и посещает только что убитого сына наверху, то, наверное… Ник замер. Он медленно повернулся к Сато и сказал: — Зачем это, слышь, ты, сука? Одна из бровей Сато вопросительно поднялась на несколько миллиметров. В остальном же могучий японец остался бесстрастным. — Вы же, черт подери, восстановили все эти детали не по свидетельским показаниям и не по памяти. — Возможно, некоторые свидетели согласились подвергнуться флэшбэку, прежде чем описывать детали? — предположил Сато. Детари. — Хера с два, — сказал Ник. Сато сложил ладони у себя на причинном месте, приняв древнюю позу распорядителей похорон, военных, стоящих вольно во время нахлобучки, агентов службы безопасности, пытающихся слиться с обоями или портьерами у себя за спиной. — Хера с два, — повторил Ник по одной только причине, что ему нравилось звучание этих слов. — Вы были здесь. Вы были на всех трех этажах в ту ночь. Вы знаете, как нужно наблюдать, — лучше, чем любой из так называемых свидетелей, бывших здесь в ту ночь. Вы флэшбэчили, — возможно, несколько недель, отдельными сеансами, — чтобы увидеть и записать все эти невероятные подробности, которые потом сообщили программистам виртуальной реальности. Это сделали вы. Сато ничего не ответил. — Гражданам Японии запрещено иметь, продавать, хранить или использовать флэшбэк, как в Японии, так и за границей, — продолжил Ник. — И за данное преступление судья, согласно японским законам, может вынести только один приговор: смертельную инъекцию. Сато спокойно стоял перед ним. — Сука ты, — повторил Ник, опять просто из-за звучания. И из-за того, что в этих словах не было нужды. Но еще он медлил, не зная, как использовать это неожиданно обретенное преимущество. Да и зачем бы Сато предоставил Нику такой убийственный рычаг воздействия на себя? Ответ состоял в том, что Сато не стал бы это делать. Ник быстро прошел по всем комнатам, без колебания шагая сквозь замершие человеческие фигуры. Это одновременные действия. То, что можно было увидеть во всех трех комнатах и кухне, происходило в одно и то же мгновение. Даже если бы Сато погрузился в флэшбэк, он не смог бы вспомнить, что в это время происходило в других комнатах на первом этаже, а уж тем более на втором и третьем. Впервые за это жуткое утро у Ника Боттома возникло ощущение, что его вот-вот вырвет. Сато кивнул, словно читая — снова — мысли Ника, и протянул ему два отливающих синим каплевидных наушника. Ник вставил их в уши с нехорошим предчувствием того, что может произойти дальше. И оно произошло. Сато нажал иконку на дисплее своего телефона, и все воссозданные в цифре трехмерные люди, вокруг него и в соседних комнатах, пришли в движение. От возникшего гомона Ник рефлекторно зажал уши руками. Но поскольку глубоко в них прятались крохотные каплевидные наушники, это, конечно, не помогло. Ник простоял на месте несколько мгновений, наблюдая за совершенно естественными движениями людей и приноравливаясь к шуму. Потом он быстро направился к дивану и наклонился над слишком красивым и потому неестественно выглядевшим блондином, частично погрузившись в него. Тот, в свою очередь, наклонялся к слишком красивой и потому ненастоящей блондинке, — оба вели интимную беседу. — Я считаю, что кокаин-три, бренди, флэшбэк и траханье — это просто чудесное сочетание, чудесное, когда это все, ну, происходит сразу, — шептал мужчина. — Но ты не получаешь кайфа, когда пытаешься флэшбэчить на все это. — Мой опыт тоже, ну, совпадает, то есть полностью, — сказала блондинка, в буквальном смысле ложась на Ника и сквозь него, чтобы собеседник-блондин лучше видел ее грудь. — Черт, — прошептал Ник, выпрямился и пошел дальше, прислушиваясь к разговорам двух с лишним сотен людей. Наконец он остановился и посмотрел на Сато. — Все это записи того времени. Наверху тоже были скрытые камеры? Шеф службы безопасности показал на лестницу, и Ник пошел первым. Перед закрытой дверью на площадке стоял четвертый охранник-японец в тактических очках. Ник отошел в сторону, когда Сато потянулся к замочной скважине сквозь вполне настоящего с виду человека, чтобы открыть реальным ключом запертую в реальном мире дверь. Дверь второго этажа тоже была заперта, и когда Сато открыл ее, она распахнулась сквозь пятого молодого охранника. Ник время от времени снимал очки, желая убедиться, что ни одного из охранников в реальности не существует. Второй этаж оставался таким, каким Ник запомнил его после визита на место преступления. Только тогда он был пустым и совершенно разгромленным, а теперь здесь толклось множество людей и стоял кавардак, как на любой вечеринке. Из центрального холла второго этажа двери вели в восемь спален, и все были заняты. Двери оставались незапертыми. Ник выбрал одну наобум и вошел. Невысокий, тощий уголовник, которого Ник сразу же узнал — Делрой Ниггер Браун, — занимался в постели сексом с тремя белыми девицами. Ни одной, насколько помнил Ник по материалам дела, не исполнилось и пятнадцати, две умерли естественной смертью (если считать таковой удар ножом от сутенера и передозировку героина с флэшбэком) в течение четырех месяцев после убийства Кэйго. Кроме того, Ник знал, что сутенер и поставщик наркотиков Делрой Н. все еще должен отбывать срок на «Курс-филде», но не за гибель этих девиц. Вновь испытав приступ тошноты, Ник понял, что если его заставят продолжить расследование, то придется посетить Делроя Н. как одного из свидетелей, видевших Кэйго незадолго до его смерти. Когда Кэйго обитал в Денвере, этот уголовник был его основным поставщиком флэшбэка и других наркотиков. Ник убедился, что все спальни заняты и что многие мужчины в других комнатах не столь разборчивы в сексе, как Делрой Н.: партнерами их подчас оказывались другие мужчины. Энергетические комбинации для этих восьми комнат в сумме давали еще около сорока гостей, а с учетом около сорока шлюх и тех, кто ожидал своей очереди в холле, общее число приглашенных, незваных гостей, поставщиков провизии, проституток, охранников отвечало тому количеству, которое указывалось в деле. «Не считая пока что двух тел наверху». Осмотрев все восемь спален (как минимум в три из них лучше было бы не заглядывать), Ник понял, что шум и движение продолжаются уже более десяти минут. Чтобы сгенерировать это, требовались колоссальные затраты времени суперкомпьютера. Только на эти десять минут реальности, созданной для тактических очков, ушло столько же, сколько уходит на десять минут высокобюджетного голливудского фильма, полностью цифрового. — Сколько длится эта реконструкция? — спросил Ник. — Час двадцать минут. — И все заканчивается, когда обнаруживаются трупы и все в страхе бросаются врассыпную? — Плюс семь минут после того, как обнаружены тела молодого мистера Накамуры… и дамы. Челюсть Ника отвисла. — У вас там, наверху, не было камер… — Нет. Вопрос и сама мысль были дурацкими. Если бы наверху, в спальне молодого Кэйго, имелись камеры, следствие продолжалось бы недолго. Если только некий шеф службы безопасности не уничтожил записи. В данный момент Хидэки Сато был для Николаса Боттома, экс-детектива из отдела по расследованию убийств, подозреваемым номер один. Перед закрытой дверью, выходившей к лестнице на третий этаж, находилась цифровая улика номер один, на случай, если бы Сато обвинили в убийстве. Охранявший дверь широкоплечий японец в тактических очках, со сложенными на причинном месте ладонями, вполне мог сойти за близнеца Сато, даже невзирая на разницу в возрасте. Преодолевая головную боль и тошноту, Ник насиловал свою разоренную память. — Такахиси Сайто, — тихо сказал он. — Случайно не ваш родственник, Хидэки-сан? — Нет. — Теперь я его вспомнил. Он был чуть повыше вас, но с успехом сошел бы за вашего двойника. — Да. — Он отвечал за безопасность — так он нам сказал. — Не совсем, Боттом-сан. Он вам сказал, что его должность — ответственный за безопасность и что ему подчиняются пять человек из службы охраны Кэйго Накамуры в Соединенных Штатах. Так оно и было. — Но он не сказал тогда, что подчиняется вам, что на самом деле начальник службы безопасности — вы. — Никто из вас не спрашивал Сайто-сана, есть ли у него начальник… кроме старшего мистера Накамуры, я хочу сказать, — заметил Сато. — И значит, когда свидетели вроде Оза и другие описывали большого, похожего на борца сумо шефа службы безопасности Кэйго, они могли говорить о вас — или же об этом вашем приятеле. «Мистер Сайто», — так говорили они. Охеренно осторожный выбор слов, Хидэки-сан. Сато ничего не ответил. — Вы, конечно, понимаете, — резко проговорил Ник, — что вас могут обвинить в создании помех правосудию и лжи под присягой. — Я никогда не лгал под присягой, Боттом-сан. — Конечно не лгали, потому что мы даже не подозревали о вашем существовании, — сказал Ник, поворачиваясь от проекции Сайто, которую он видел в своих очках, к Сато, стоявшему в своих очках. — И все же, — начал Сато, — если вы исследуете, — (…иссредуете…), — показания пяти представителей службы безопасности и ваших сотрудников, допрошенных пять лет назад, то поймете, что никто из них вам не лгал. — Да они превосходно лгали, при помощи умолчания, — прокричал Ник и провел пятерней по волосам. От крика голова заболела еще сильнее. — Они создавали помехи правосудию! Сато повернул ключ в замке и открыл дверь, но Ник пока не был готов подняться по лестнице. — Липового шефа службы безопасности звали Сайто? — Конечно. — Сколько понадобилось времени, чтобы найти двойника с почти таким же именем, как у вас, Хидэки-сан? Сато стоял, придерживая открытую дверь, и молчал. — Вы когда-нибудь появлялись рядом с Кэйго на публике в те месяцы, что возглавляли его службу безопасности? — спросил Ник. — Несколько раз. Очень редко. — Откуда вы следили за этой вечеринкой, Хидэки-сан? Из фургона, припаркованного неподалеку и напичканного мониторами? С вертолета? С орбиты? Сато ждал. Ник еще не закончил со вторым этажом. Или, может быть, еще не был готов увидеть то, что ждало его наверху. — Где тут камеры? — поинтересовался он. Сато отпустил ручку двери и вытащил из кармана пиджака телефон. Лазерный луч высветил как минимум девять мест — на потолке, стенах и световых приборах. — И не менее четырех камер в каждой спальне и туалете, — сказал Сато. — На этом этаже было шестьдесят шесть камер. А всего в здании — двести тридцать. Ник подошел к одной из стен. — Покажите еще раз. Лазерный луч замигал снова. — Объективы очень маленькие или невидимые, — сказал Ник. — Но вы, конечно, убрали все камеры после убийства. — Конечно. Но вы смотрите на стену через очки и поэтому видите ее такой же, что и в день убийства. Видеокамеры… они были размещены очень… тактично. Ник рассмеялся, услышав это, — то ли при мысли о том, что в поганой флэшпещере, совмещенной с борделем, можно тактично разместить двести тридцать видеокамер, то ли оттого, что сегодня утром он чувствовал себя глупее некуда. Впрочем, какая разница? Он повернулся к реальному Сато и его цифровому двойнику: — Ладно, идем наверх. Сато выключил вечеринку позади себя; звуки и движения исчезли. Они стали подниматься по широкой, крутой лестнице.В отличие от помещений на двух нижних этажах, четыре комнаты на третьем этаже не были прибраны и оставались в том же виде, что и в день убийства, почти шесть лет назад. Ник и Сато сняли тактические очки, прежде чем войти в дверь на верхней площадке. Ник шел впереди. Они оказались в некоем подобии прихожей. Открытая дверь из нее вела на маленькую кухню в западном крыле, слева от них. Следователи денверской полиции в свое время обнаружили, что на кухне вполне можно готовить, только она практически не используется: в холодильнике нашлось лишь несколько бутылок пива и шампанского. В южной стене, справа от них, располагалась такая же хайтековская дверь: через нее проходили на лестницу, ведущую на крышу. Ник с первого взгляда увидел, что на кухне ничего не трогали. В прихожей, разумеется, валялась бумага вместе с пластиковыми упаковками от одноразовых шприцев, оставленными бригадой «скорой помощи». По какой причине они пытались оживить явного мертвеца — кроме той, что мертвец и его папочка обладали миллиардным состоянием, — Ник понятия не имел. Однако они пытались, и часть оставленного ими мусора оказалась в гостиной и в этой прихожей. Дорогие плитки в прихожей и косяк широкой двери, выходившей на просторную лестницу (лифта не имелось, поэтому вся мебель, кухонное оборудование и другие крупногабаритные вещи затаскивались на третий этаж по этим ступеням), были запачканы и поколоты санитарами. Вслед за этим сюда затащили каталку и всякое коронерское оборудование — от них везде остались следы и трещины. Какой-то жлоб загасил сигарету о плитку пола и оставил окурок лежать. Прихожая сужалась, переходя в коридор, украшенный дорогими картинами. Широкие стеклянные двери из коридора вели в библиотеку. Оттуда попадали в гостиную, а из нее — в спальню. — Не хочет ли Боттом-сан увидеть другие комнаты, прежде чем мы окажемся в спальне? — спросил Сато. — Разве были убийства еще где-нибудь, кроме спальни? — Нет. — Тогда начнем со спальни, — сказал Ник. Сато снял туфли и оставил их в прихожей, на плитках пола. Ник пошел в туфлях. Он был полицейским… когда-то, по крайней мере, был… а не гостем на долбаной чайной церемонии. И потом, никакой варвар, гайдзин уже не мог оскорбить Кэйго Накамуру, вторгнувшись в его личное пространство в туфлях. (Но Ник рассчитывал, что это черт знает как оскорбит Хидэки Сато.) Ник увидел, что гостиная осталась такой же большой и замусоренной, как и шесть лет назад. Широкие двойные двери в спальню были открыты. Мусорный след, оставленный медиками, казалось, вел в спальню, а не из спальни. По-прежнему держа тактические очки в руке, Ник вошел в комнату. В просторном помещении все еще пахло засохшей кровью и мозговым веществом. «Через столько лет? — подумал Ник. — Маловероятно». Но в комнате стояли эти запахи. Вместо ковра на полу лежали прямоугольные татами. Ник в бытность полицейским узнал, что японцы до сих пор меряют комнаты единицами три на шесть футов — размер напольных ковриков. Да, так: спальня или чайная комната обычно равна четырем с половиной коврикам. Коврики укладывались по особым правилам. Ник вспомнил одно из них: нельзя, чтобы сходились углы одновременно трех или четырех ковриков. Эта спальня была огромной, ковриков на тридцать. Вот только здесь татами не пахли сухой травой, как в кабинете мистера Накамуры. В первую очередь внимание Ника привлекло кровавое пятно на большой кровати. На смятых простынях были засохшие брызги крови, но на подушке, изголовье и части стены виднелось пятно размером с человеческую голову. Здесь умерла проститутка. Еще более крупное пятно виднелось на полу; вокруг него валялись упаковки от шприцев, клочки бумаги и всякие пластиковые медицинские штуки. Эта высохшая кровавая лужа целиком покрывала один из татами и распространилась на два соседних. Ник заглянул в просторный туалет при спальне, проверил четыре окна, а потом встал рядом с татами, на котором красовалось кровавое пятно. — Не могли бы вы подвинуться, Боттом-сан? Пожалуйста. Сато надел свои очки. Ник нацепил свои и посмотрел вниз: он по щиколотку стоял в обнаженных чреслах Кэйго Накамуры. Ник отошел в сторону, но не смог сдержать ухмылки. Он сделал это специально. Кэйго лежал обнаженным. На молодой женщине, что умерла на кровати, были джинсы и черный бюстгальтер. Горло Кэйго было перерезано до самых позвонков. Женщину — звали ее Кели Брак, вспомнил Ник, — убили одним выстрелом в лоб. Стараясь больше не наступать на Кэйго или перешагивать через него, Ник наклонился, чтобы разглядеть рану Кели. Круглая пуля двадцать второго калибра оставила на бледном лбу маленькую, аккуратную дырочку с синим ободком, но внутри произвела обычные разрушения. Оружие этого калибра до сих пор пользовалось популярностью среди профессиональных убийц. Некоторые из следователей, работавшие с Ником в полиции, полагали, что его употребление выдает профессионала. Ник отошел на два шага назад и опустил взгляд. Если ее застрелил хладнокровный профессионал, то для чего это кровавое, поражающее своим неистовством убийство Кэйго, так похожее на любительщину? Что это — послание? А если да, то кому? Явно мистеру Накамуре. А может быть, это жестокое убийство, почти обезглавливание, было хитростью, попыткой увести расследование в сторону, — чтобы не заметили, насколько хладнокровно и профессионально действовал убийца. На прикроватном столике лежал открытый экземпляр романа двадцатого века под названием «Сёгун», в мягкой обложке. От пальцев Кели Брак книгу отделяли всего несколько дюймов. — Эти изображения лучше, чем посмертные фотографии, которые я видел, — сказал Ник. — Кто их делал? — Я. До прибытия властей. — Все лучше и лучше, — рассмеялся Ник. — Вы не только покинули место преступления, но еще и скрыли улики. Запись на видеокамеру, эти снимки, сам факт вашего пребывания в должности главы службы безопасности Кэйго… Вам точно дадут срок, Хидэки-сан, когда американский суд закончит слушание вашего дела. Ник знал, что повторяется, но ему нравилось снова и снова произносить эти обвинения. Сато опять никак не прореагировал. — Вы уверены, что на этот раз тут нет тактических изображений? — спросил Ник. — Я же говорил, что на третьем этаже не было камер, Боттом-сан, — вполголоса сказал Сато. — Ну-ну, — ответил Ник с ноткой сарказма и вернулся к кровати, ступая теперь по голове Кэйго и через нее. Если Сато это задевает — хер с ним. Ник потер виски, глядя на лицо мертвой девицы и пытаясь вспомнить ее досье. Она была молоденькой — девятнадцать лет — и светловолосой. И американкой. И высокой. Почти на фут выше Кэйго с его пятью футами и одним дюймом. Все япошки, казалось, западали на высоких американских блондинок. Но, как и большая часть еды, поглощавшейся Кэйго Накамурой у себя дома в Штатах, мисс Кели Брак была привезена из Японии. Сирота, дочь двух американцев-миссионеров, девушка воспитывалась, если это можно назвать воспитанием, в службе отдыха и развлечений «Накамура хеви индастриз». Ник знал, что в старину японские бизнесмены отправляли своих менеджеров на секс-каникулы в Бангкок… не в секс-квартал Патпонг, который наводняли отпускники из других стран, а в другой, который контролировался жестче и предназначался для японцев. Но проблема СПИДа уже в те времена стояла так остро, что японские корпорации махнули рукой на Таиланд и стали воспитывать собственных проституток. Хотя в досье Кели Брак, наконец предоставленном (очень неохотно) фирмой Накамуры, и не утверждалось об этом напрямую, но очень вероятно, что Кели удовлетворяла тамошних топ-менеджеров, еще будучи подростком. Или, подумал Ник, разглядывая ее мертвое лицо, нет. Может быть, эту девицу держали специально для сына хозяина. Или для хозяина и сына. — Она полуодета. А он все еще голый, — сказал Ник вслух. — Да, — согласился Сато. Ник ждал насмешки, которой заслуживало подобное утверждение очевидного из уст профессионального сыщика: «Выохрененно правы, Шерлок», или что-нибудь в этом роде. Но Сато счел, что хватит одного недвусмысленно звучащего слога. — Я что хочу сказать, — проговорил Ник наконец, — Кэйго и мисс Брак находились здесь наедине… Сколько? Тридцать девять минут? Сорок? — Тридцать шесть минут и двадцать секунд, перед тем как мистер Сайто выломал дверь, поняв, что молодой мистер Накамура не отвечает на его зов, — сказал Сато. — Достаточно для того, чтобы заняться сексом, — заметил Ник. Он знал, что выражение «выломал дверь» не совсем точно, поскольку дверь с лестницы могла выдержать сколько угодно ударов тараном. У Сайто для таких чрезвычайных случаев был наготове небольшой, но мощный кумулятивный заряд размером с ластик. Но это не имело значения. — Но, — продолжил Ник, потирая свою поросшую щетиной щеку и глядя сквозь очки на два мертвых тела, — оба вскрытия показали, что секса между ними не было, хотя именно для этого, по словам Кэйго, он и увел сюда девицу во время вечеринки. Черт побери, я не думаю, что Кели стала одеваться после того, как у них был секс. Думаю, что она так и не разделась до конца — только сняла блузку и туфли. — Возможно, молодой мистер Накамура и молодая дама разговаривали, — предположил Сато. Ник фыркнул. — Не знал, что сексуальные куклы компании «Накамура» знамениты своей способностью поддерживать беседу. — Все сотрудники службы развлечений, чтобы понравиться клиентам, обучены вести умные разговоры, играть на музыкальных инструментах, правильно готовить и проводить чайную церемонию… они, как и гейши, обладают целым рядом навыков, помимо… простого угождения физическим потребностям. Ник слушал японца вполуха. Он показал на раскрытую книгу. — Я думаю, когда убийца вошел в комнату, мисс Брак читала. Она успела только положить ее обложкой вверх, и тут киллер выстрелил в нее. Сато выжидательно молчал. — Кто бы это ни был, девушку не встревожило его неожиданное появление, — задумчиво сказал Ник. Все эти подробности уже были знакомы ему, но теперь Ник открывал их заново. Годы прошли с тех пор, как он размышлял над обстоятельствами этого убийства. — Вы не станете аккуратно укладывать книгу, чтобы не потерять страницу, если вас напугал ворвавшийся в комнату человек, — добавил он. — Боттом-сан, вы хотите сказать, что мисс Брак знала своего убийцу? Ник настолько погрузился в свои мысли, что даже забыл кивнуть. Сняв тактические очки, он подошел к окну, располагавшемуся ближе всего к кровавому пятну на кровати и татами, и дотронулся до стекла, которое было не совсем стеклом. Герметичное. Пуленепробиваемое. Устойчивое к любым взрывам, кроме самых мощных. Когда Ник шестью годами ранее читал протоколы, то представлял себе сильный взрыв здесь, на Уази, груды обломков — и при этом нетронутые окна, которые висели в комнате, словно прозрачные камни друидов. Поскольку окна не открывались, воздух в комнатах на третьем этаже постоянно освежался вентиляторами. Крохотными вентиляторами. Крошечная мышь-ниндзя, посланная с целью убийства, вполне могла пробраться по ним, если бы не слои активных фильтров и экранов. Ник поднял руку. Воздух двигался: значит, центральная система все еще работала. — Значит, Кэйго и его нанятая девица пришли сюда не трахаться, — сказал Ник себе под нос. — Может быть, Кэйго ждал кого-то. — Кого? — тихо спросил Сато. Не надевая очков, чтобы в последний раз взглянуть на жертв, и осторожно обходя окровавленное татами и невидимое тело Кэйго на полу, Ник предложил: — Давайте поднимемся на крышу. В прихожей Ник помедлил, рассматривая дверь, ведущую к лестнице на крышу. Если не считать маленьких коробочек в верхних углах и одной сбоку — под электронный ключ, она не отличалась от любой металлической двери. Но Ник знал: эта чертова штуковина стоит больше, чем он зарабатывает за десять лет. Она не только проверяла рисунок сетчатки глаза и отпечатки пальцев (Ник видел множество фильмов, где плохие или хорошие парни приносили с собой чужую руку или глаз, чтобы обойти эти простые системы безопасности), но еще делала соскоб ДНК и его проверку, замеряла длину мозговых волн и проверяла еще с десяток параметров, что являлось возможным только при живом, дышащем человеке. В ближайшем октябре исполнялось шесть лет с того дня, когда устройство запрограммировали на параметры Кэйго Накамуры — сетчатку, отпечатки пальцев, ДНК, длину мозговых волн и так далее. Теперь, похоже, тяжелая дверь была настроена на Хидэки Сато. По крайней мере, она щелкнула и открылась после того, как Сато приблизился к одной из черных коробочек, потер ее большим пальцем, пообщался с ней другими способами и совершил магические пассы. Добравшись до верха, он сделал то же самое с другой волшебной дверью. Ник задал тот же вопрос, что и шесть лет назад: — Как в этот дом входили горничные и уборщицы и как выходили отсюда? Шесть лет назад никто не ответил ему на этот вопрос. Не ответил теперь и Сато.
1.06 Уази-стрит, Денвер 11 сентября, суббота
Дождь усилился, но тучи и туман немного рассеялись. На востоке поднимались затянутые в саван башни в центре города. На западе, вдоль берега реки, сгрудились башни кондоминиумов, на юге высились громады Пепси-центра и Центра временного содержания ДВБ «Майл хай». На севере виднелись здания пониже и двухсотфутовая опора пешеходного мостика над железнодорожными путями — из ЛоДо в прибрежные кварталы. А далеко на западе, едва видимые за низкими тучами, угадывались предгорья. Высокие пики сегодня не просматривались. Крыша трехэтажного здания Кэйго Накамуры на Уази-стрит ничего особенного собой не представляла. Терраса и садик были огорожены чуть приподнятыми деревянными дорожками и оплетенными плющом решетками с двух сторон, чтобы создать в джакузи атмосферу интимности и уюта. Ник знал, что в ту октябрьскую ночь, шесть лет назад, вода в джакузи бурлила и уже была нагрета до нужной температуры — правда, по утверждению коронера, жертвы не успели этим воспользоваться. Но в это сентябрьское утро джакузи оставалось сухим и поверх него была наброшена заплесневелая желтая ткань. Сад состоял из нескольких длинных ящиков по краям патио — все из того же светлого дерева; вот только в последние годы за растениями никто не ухаживал. Из земли пробивались сорняки, рядом с засохшими остатками более благородных видов. Сато крякнул, нагнувшись, чтобы завязать шнурок на блестящей туфле. Ник пытался вспомнить, какие системы безопасности имеются на этой неказистой с виду крыше. Так… Крыша оборудована невидимыми многочастотными детекторами сигналов и волноводами высотой в десять футов, установленными по всему периметру… Да, по углам шесты, для монтажа проекторов и оборудования… датчики давления повсюду на рубероиде и гравийной отсыпке, кроме поднятых деревянных мостков. — Кто-нибудь мог запрыгнуть сюда с соседней крыши, — пробормотал Ник. Сато не обратил внимания на его слова. Да, кто-нибудь мог запрыгнуть сюда, взяв шест, но тогда сработали бы датчики (если только он не приземлился на деревянные мостки). А этого не случилось. Но двери… — Двери были открыты? — спросил Ник, на сей раз ожидая ответа. — Две с половиной минуты? — Две минуты и двадцать одну секунду, — уточнил Сато. Ник кивнул, вспомнив, как шутил со своей напарницей, тогда сержантом, а ныне лейтенантом полиции К. Т. Линкольн. Он утверждал, что за две минуты и двадцать одну секунду можно убить десяток Кэйго Накамур. — Ты уж говори за себя, — возразила К. Т. — За две минуты и двадцать одну секунду я могла бы прикончить сотню долбаных Кэйго. Ник вспомнил, что тогда он подумал: а ведь действительно, могла бы. К. Т. была наполовину черной, чуть более чем наполовину лесбиянкой, фанатичной новообращенной иудейкой, которая после гибели Израиля ходила исключительно в черном (не считая формы), красивой женщиной на свой, мрачный, манер и, вероятно, лучшим и честнейшим из всех полицейских, с которыми Нику пришлось работать. И по какой-то причине она ненавидела японцев. Теперь, стоя под дождем и глядя на заброшенные патио и крышу, Ник сказал: — Кажется, я разгадал это убийство. Сато облокотился о край джакузи и наклонил голову, показывая тем самым, что он слушает. — Все новостные блоги сообщали о тайне запертой комнаты, — продолжил Ник. — Но эта чертова комната даже не была заперта, когда совершались убийства. Кэйго отпер нижнюю дверь, поднялся по лестнице, отпер верхнюю дверь и вышел сюда. Где бы вы ни находились — в автофургоне, на командном посту, в чертовом аэростате, — дистанционная сигнализация сообщила вам, что он открыл эти двери. И вы, вероятно, позвонили Кэйго, проверяя, все ли в порядке. Сато крякнул. Но Нику теперь нужно было нечто большее. — Так вы ему позвонили? Или связались с ним другим способом? — спросил он. — Как это называется, — проворчал Сато, — когда вы прерываете шумы в открытой радиолинии, но ничего не говорите? — Затангентить, — сказал Ник. По крайней мере, так говорили и он, и многие другие денверские полицейские из бывших военных. Затангентить — нажать на тангенту, чтобы прервать шум несущей частоты: способ такой же древний, как и само радио. Когда Ник работал патрульным, ребята в патрульных машинах разработали целый код, основанный на шумоподавлении. Так они сообщали друг другу то, что не следовало доводить до сведения диспетчера или регистрировать. Сато снова крякнул. — Значит, вы нажали на тангенту, и Кэйго в ответ тоже нажал на тангенту, и вы таким образом знали, что, хотя дверь и открылась, там все в порядке, — продолжил Ник. — Одно нажатие — вопрос. Два нажатия — ответ. — Два нажатия — вопрос, три — ответ, Боттом-сан. — Сколько раз вы это проделывали, пока он не перестал отвечать, потому что был убит? — Два раза. — Сколько времени прошло между вторым вопросом-ответом и потерей контакта с ним… сколько времени прошло, прежде чем вы приказали Сайто взломать дверь и проверить, что происходит? — Одна минута двенадцать секунд. Ник снова потер поросшую щетиной кожу, услышав при этом что-то похожее на скрежет напильника. — Вы говорите, что разгадали это убийство, — напомнил Сато. — О да. Кэйго не занимался сексом с девицей, потому что ждал кого-то. И этот кто-то должен был спуститься с крыши. — Спуститься так, что не сработали датчики по периметру? — Именно. Этот человек прилетел на вертолете и просто сошел на мостки. Там датчиков нет. Сато ухмыльнулся. — На Уази-стрит в ту ночь было многолюдно. Многие приходили на вечеринку и уходили в одиночестве. Вы думаете, они не заметили бы вертолета, зависшего над зданием? Верторета. — Вертолета-невидимки, типа той бесшумной стрекозы, которая забрала вас вчера? Не заметили бы. Как вы называете эти машины? — Сасаяки-томбо, — ответил Сато. — И что это значит? — «Шепчущая стрекоза». — Понятно, — сказал Ник. — Значит, вы держались в тени, на расстоянии координировали работу службы безопасности, делали вид, что тут всем заправляет ваш Сайто-сан с ловко подобранным именем, — вдруг дела пойдут наперекосяк и у полиции потом возникнут вопросы? Но тем вечером вы сказали Кэйго, что хотите встретиться с ним в час тридцать ночи… — Встречу назначили на час двадцать пять, — вставил Сато. Ник проигнорировал это замечание. — Значит, Кэйго сперва убивает время с секс-игрушкой, которая даже не спешит раздеться для престолонаследника, потом выходит на крышу, чтобы встретить вас. Вы выходите из «шепчущей стрекозы», которая, возможно, зависает в воздухе и ждет, пока вы не закончите своего дела. Кэйго отпирает дверь и впускает вас в квартиру. Войдя в комнату, вы сразу же стреляете девушке в лоб, а потом с большим ножом набрасываетесь на донельзя удивленного Кэйго. Сато, казалось, взвешивал услышанное. — А как же я вышел на крышу, Боттом-сан? Открыть дверь мог только молодой мистер Накамура. Ник на эти слова только рассмеялся. — Уж не знаю как. Может, у вас был мастер-код, перекрывающий все остальные… — Тогда зачем мне договариваться о встрече с молодым мистером Накамурой, чтобы он открыл для меня двери, Боттом-сан? Я мог бы неожиданно заявиться к нему в любой момент. — Тут могло быть что угодно, — отрезал Ник. — Может, вы просто подперли дверь двумя камнями из ящика для растений. Но вам вполне хватало времени, чтобы убить их обоих, а потом снова перебраться в вертолет с крыши незаметно для датчиков. Сато кивнул, словно его это убедило. — И какие же у меня были мотивы? — Откуда мне знать про ваши мотивы? — снова рассмеялся Ник. — Соперничество наследников. Что-то случилось в Японии, о чем мы никогда не узнаем. А может, вам нравилась малютка Кели Брак. — Она мне нравилась, и потому я выстрелил ей в голову. — Ну да. Именно. — А потом из ревности убил молодого мистера Накамуру. — Я же сказал, что не знаю ваших мотивов. Знаю только, что у вас были возможности, оружие и современная техника, чтобы войти в квартиру Кэйго и выйти из нее. — Под «современной техникой» вы имеете в виду «сасаяки-томбо», — сказал Сато. — Да. — Вы должны выяснить, существовали ли в Америке шесть лет назад «сасаяки-томбо», — сказал шеф службы безопасности. — И даже в Японии, если уж на то пошло. Ник ничего не ответил. Он еще минуту разглядывал унылую крышу и унылые низкие тучи. — Пойдемте отсюда, достал уже этот долбаный дождь, — предложил он.Позднее Ник никак не мог понять, почему он сразу же не вышел из этого чертова дома. Его работа здесь была закончена. Сколько ни пялься на сцену преступления шестилетней давности, больше ничего не обнаружишь. Все вышло бы иначе, если бы они взяли да уехали. Но они не уехали. Они вышли в прихожую третьего этажа, и Нику опять почудилось, что он улавливает запах крови и мозгового вещества из спальни. Сато повернул налево, к выходу. Но Ник не стал ждать, когда японец отопрет дверь на лестницу, ведущую вниз, а свернул направо, прошел в прихожую и затем — в большую комнату, выходившую на Уази-стрит. Это была библиотека, служившая сыну магната все то время, что он провел в Америке до своего убийства. Охочая до книг молодежь могла только мечтать о таком месте. Половицы здесь были из бразильской вишни, встроенные в три стены книжные шкафы — из черного дерева, декоративные накладки — ручной работы, ковры — из Персии. Длинные столы со встроенными полками для журналов и гигантскими словарями поверх них выглядели так, будто происходили из картохранилища Колумба. Изящные деревянные жалюзи в два ряда на каждом из восьми высоких окон были тоже из вишневого дерева. Громадный стол черного дерева перед окнами походил на тот, за которым работал президент в Овальном кабинете Белого дома; на возвышении стояло пианино фирмы «Стейнвей». Клубные кресла, стоявшие в беспорядке, и длинный диван были обиты такой темной и мягкой кожей, что казались взятыми из английского клуба восемнадцатого века. Ник окинул взглядом две тысячи триста девять книг на полках. Он знал, что их ровно две тысячи триста девять, — его люди просмотрели все книги до единой. И обнаружили из улик лишь три, чуть ли не столетней давности, поляроидные фотографии обнаженного молодого человека, спящего на кровати. Фотографии были засунуты в изданный полтора века назад третий том «Истории упадка и разрушения Римской империи». Поскольку у обнаженного молодого человека наблюдалась слабая эрекция, некоторые из самых дотошных детективов Ника усмотрели тут связь с названием книги. Другие решили, что Кэйго Накамура, известный и в Штатах, и в Японии как большой женолюб, втайне был геем и, возможно, был убит одним из своих молодых любовников. Ни криминалисты из полиции, ни спецы из ФБР не смогли установить имя фотографа или его юной модели. Но Ник нашел дизайнера по интерьерам, работавшего на Кэйго Накамуру, и тот подтвердил, что все библиотечные книги он приобрел на вес на различных калифорнийских и колорадских аукционах. Книги в первую очередь выбирались за качество кожаных переплетов, как пояснил дизайнер. Насколько могли утверждать лучшие аналитики на службе у Ника и ФБР, Кэйго Накамура не осилил ни одной книги на этих полках или столах. Обнаженный молодой человек, снятый «поляроидом», был из какой-то другой таинственной истории. Дешевая книжка, которую читала Кели Брак в день убийства («Сёгун»), происходила не из библиотеки. Ник отстегнул и открыл жалюзи в центре, посмотрел на залитую дождем Уази-стрит, прижал пальцы к холодному стеклу, пытаясь смирить просыпавшуюся в нем странную — почти забытую — энергию, похожую на забытое чувство голода. Его и в самом деле начал разбирать интерес к разгадке этой тайны. Почему? Кэйго Накамура не значил для него ровным счетом ничего. Этот наглый наследничек миллиардов, вполне возможно, заслужил свою участь. Его ничего не стоящая документалка о флэшбэкерах в Штатах не привлекла бы внимания ни в Америке, ни в Японии. Но для кого-то этот фильм был настолько интересен, что Кэйго убили из-за него, подумал Ник. Пропали телефон и видеокамера Кэйго, исчезли и три последних крохотных диска с записями недавних интервью. Может, в этих интервью содержалось нечто, обрекшее Кэйго Накамуру на смерть? Лично Нику нравилась его новая версия о Хидэки Сато как главном подозреваемом. Становилось понятно, зачем Сато так усердно пытался скрыть сам факт своего существования во время первого расследования. А что касается мотива… да кто его знает. Может быть, Хироси Накамура приказал убить своего сына по причинам, которые никогда не станут известны. А Сато как нельзя лучше подходил для исполнения такого поручения. И еще Нику понравилась его маленькая речь про вертолет — «шепчущую стрекозу». Как там Сато назвал по-японски беззвучный вертолет? «Сасаяки-томбо». Ника восхищала вся тонкость, вся прелесть этого решения. И пусть окружной прокурор объяснит присяжным, что Хидэки Сато, шеф службы безопасности мистера Накамуры, прилетел на «сасаяки-томбо», чтобы убить сына своего хозяина. Единственная проблема с гипотезой о «сасаяки-томбо» состояла в том, что шесть лет назад Кэйго Накамура был не единственным обитателем Уази-стрит, у которого на крыше пузырилась горячая вода в джакузи. И ФБР, и впрягшаяся в расследование бригада полиции во главе с сержантом Ником Боттомом обнаружили некоего Джеймса Оливера Джексона, который плавал в джакузи у себя на крыше (с четырьмя юными подружками) как раз во время вечеринки у Кэйго и его убийства, — плавал по другую сторону улицы. Хотя с крыши его двухэтажного дома патио особняка Кэйго не просматривалось из-за массивных ворот и ограды, Джексон и хихикающие девицы утверждали, что с такого расстояния наверняка заметили бы вертолет над соседним домом. С того места, где Джеймс Оливер Джексон сидел в своем джакузи, — Ник проверял это — открывался превосходный вид на воздушное пространство над более высоким трехэтажным особняком Накамуры. И Джексон, и его гостьи утверждали, что вечер стоял очень светлый — при том, что у дома Кэйго постоянно были машины: одни прибывали, другие отъезжали от него. «А вдруг это был один человек в черном, и спустился он по альпинистской веревке из черного и беззвучного вертолета?» — задался вопросом Ник. Он не мог сдержать улыбку, представляя себе, как окружной прокурор рассказывает присяжным об этом убийстве а-ля Джеймс Бонд с участием киллера-ниндзя. Он улыбнулся еще раз, пытаясь представить, как Хидэки Сато с его неохватным туловищем, одетый в костюм ниндзя и маску, спускается в ночи по двухсотфутовой веревке. Да, вертолет для такого предприятия должен был быть ох каким прочным. — Боттом-сан, мы ждем чего-то? — спросил Сато со своего места. Он лишь вошел в библиотеку и остановился у самого порога. Ник не стал отвечать и провел пальцем по чуть замутненному взрывобомбопуленепробиваемому стеклу окна. Затем он достал из кармана тактические очки и надел их. — Вы сказали, что у вас есть семиминутная цифровая запись событий, случившихся после того, как ваш мистер Сайто взломал дверь, ворвался внутрь и увидел тело Кэйго. Покажите мне ее, пожалуйста. — Здесь, на третьем этаже, не было камер… — начал Сато. — Я знаю. Я не хочу оказаться внутри воссозданных событий, как внизу. Я просто хочу посмотреть запись, как обычное видео. Но меня интересует картинка с внешней камеры, максимально близкой к этому месту. Ник постучал по стеклу. — Минуточку, пожалуйста, — сказал Сато и стал нажимать на кнопки своего телефона. Все опять переменилось. Внезапно наступила ночь, на темной улице тремя этажами ниже творилось столпотворение. Точка, с которой велась съемка, была выбрана идеально (камера, вероятно, находилась на наружной стене здания, под крышей), и при этом вестибулярный аппарат Ника отреагировал так, будто его неожиданно перенесли выше и правее. Наружные камеры работали в режиме ночного видения, и изображение мерцало зеленоватым светом, а фары проезжавших мимо машин превращались в нечеткие полосатые бело-зеленые капли. Лица тех, кто покидал вечеринку до прибытия полиции, были видны вполне отчетливо, хотя звук требовалось отфильтровать и очистить, чтобы вычленить из отдаленного шума отдельные голоса. Ник узнал пожилого лысого ученого мужа из Наропы. Тому, похоже, было холодновато в одеянии из тонкой хлопчатобумажной ткани и веревочных сандалиях — он бегом припустил к ждавшему его фургону. Следом поспешали четверо или пятеро его приверженцев, включая Дерека — как его там? — с копной соломенных волос, у которых Кэйго брал интервью за день до смерти. «Дерек Дин, — подумал Ник. — Этого типа звали Дерек Дин. Черт, интересно, мой паспорт еще действителен? Он понадобится, если придется ехать в Боулдер и заново его допрашивать». На Уази-стрит вовсю завывали сирены, и теперь в потоке людей, желающих поскорее покинуть вечеринку, возникла какая-то неприличная мешанина. Вот бывший израильский поэт Дэнни Оз направляется к машине вместе с Делроем Ниггером Брауном. Какого хрена этим двоим нужно друг от друга? Вспомнив, что Делрой был крупным наркоторговцем в районе ЛоДо, Ник решил, что в этом, возможно, и заключается ответ. Патрульные машины теперь прибывали с противоположных сторон. Увидев белые пятна лиц, Ник узнал нескольких патрульных, чьи не вполне разборчивые протоколы были подшиты первыми в будущее дело об убийстве К. Накамуры. Ник увидел почти все, что хотел увидеть, но не снимал очков, пока не прибыли первые кареты скорой помощи и фельдшеры не выскочили из них с сумасшедшей — зачем-то — скоростью. — Я получу назад мой пистолет? — спросил Ник, продолжая просматривать запись. — Мне очень жаль, — сказал Сато. — Того оружия, что вы принесли во флэшпещеру, больше не существует. Но я уверен, что у вас есть кое-что дома, в молле. — А что насчет налички, которая была при мне? — Мне очень жаль, — повторил Сато. — Эти деньги пришлось оставить владельцу для покрытия ущерба или расходов на лечение его вышибалы. — Ну по крайней мере, ампулы с флэшбэком, что я принес, у вас сохранились? — спросил Ник, чувствуя, как злость с новой силой разгорается в нем. Если бы Сато опять, на манер мистера Мото, сказал «мне очень жаль», то Ник был готов вцепиться ему в глотку. — Нет, незаконный наркотик также остался там, — сказал Сато. — Что ж, «незаконный наркотик» мне понадобится… если вы хотите, чтобы я сегодня приступил к допросам, — отрезал Ник. — Кого вы хотите допросить сегодня, Боттом-сан? — В первую очередь Оза, писателя. Но я хочу подготовиться к этой плодовой мушке из Боулдера, Дереку Дину, а еще заглянуть к своему старому приятелю Делрою на «Курс-филд». Три часа там, плюс два-три часа сеанса — на изучение самого дела… — Сегодня вам будут предоставлены четыре получасовые ампулы, — сказал Сато. — И конечно, полный видеоотчет плюс цифровая реконструкция, которые прямо сейчас загружаются на ваш телефон. Проглотив злость, Ник поднял руку, чтобы снять очки, но замер на месте. — Остановите запись! — прокричал он. — Назад немного… нет, вперед чуть-чуть… опять назад… так! Стоп! Сато снова надел очки. — Что такое, Боттом-сан? Прибыла еще одна патрульная машина, а за ней неприметная «вольта» Го-Мо с двумя дежурными детективами в штатском — Кендлом и Стерджисом. Машины, прежде припаркованные у бордюра, заезжали на широкий тротуар, чтобы освободить место для всевозможных служебных автомобилей, а потом их вообще намертво заперли со всех сторон. Некоторые убегали по тротуару до начала допросов и установления свидетелей. Но Ник смотрел не на это. Внимание его было приковано к раздвоенному белому пятнышку — к голове и предплечью, что появились над крышей машины, припаркованной в полуквартале к востоку. Нижнюю часть лица скрывали предплечье и крыша машины, волосы терялись в темноте, а туловища увидеть было просто нельзя. «Дара», — подумал Ник, и на секунду у него в буквальном смысле закружилась голова. Что, черт возьми, его жене нужно было там в ту ночь? Нет, это невозможно. — Сато… чуть вперед. Стоп. Еще чуть-чуть. Стоп. Назад… — Вы кого-то увидели, Боттом-сан? Ник вспомнил свою магистерскую диссертацию и услышал давно забытый голос профессора, объяснявшего, что пять с лишним миллионов лет эволюции довели до совершенства способность Homo sapiens выделять человеческие лица, невзирая на все маскировки и уловки, из окружающей среды. Самым большим врагом человека, утверждал профессор, всегда был человек, и мы обрели способность видеть лица других даже в самых визуально загроможденных и плохо освещенных местах — видеть куда четче, чем можно предположить. Первое, что учится выделять из окружающей среды ребенок, — это лицо своей матери, а еще конкретнее — глаза и улыбку. Ник не видел ни глаз, ни улыбки человека вдали: только неясное пятно — лоб, да нечто удлиненное, белого цвета — руку, выходящую из темного рукава и лежащую на крыше машины. Но он был уверен, что это его жена. Дара? Он испытывал тошноту и смятение. Первой мыслью было броситься на Сато, ошеломить этого громилу одним только натиском, завладеть его пистолетом, приставить ствол к голове японца, пока тот не признается, что делал здесь, и не скажет, зачем. Зачем им понадобилось изготовлять это туманное изображение Дары и внедрять его в видео? Чтобы вовлечь Ника в расследование. Чтобы втянуть его лично в это дело. Или чтобы каким-то образом подставить его? — Прокрутите это еще раз… пожалуйста, — попросил Ник. Лоб опустился и исчез из виду. Был ли там еще один человек в тени рядом с Дарой — или только тени тех, кто спешил мимо нее с вечеринки? Неясные силуэты двигались по тротуару на восток и исчезали из виду. Ник даже не мог понять, мужчины это или женщины. Головная боль возобновилась, и теперь к ней добавилось головокружение от очков, что усилило тошноту. Можно ли было увеличить первое застывшее изображение? Не исключено. Только, похоже, в этой записи уже был достигнут максимум разрешающей способности — для такого расстояния и при таком слабом освещении. Разве что попробовать подсоединить очки и телефон к дисплеям высокого разрешения у себя дома? Ник снял очки и сунул в карман. — Ничего. Думал, увидел кое-кого… но нет, показалось. Я устал. Мне нужно отдохнуть, а потом пофлэшбэчить на допросы и документы. — Вы можете взять электрическую «хонду», — сказал Сато, направляясь из библиотеки в прихожую. — Чтобы вы опять могли выпендриться, улетая на вашем «сасаяки-томбо»? Сато покачал своей большой головой. — Я думал вызвать такси. — Не нужна мне ваша чертова электрическая «хонда», Хидэки-сан. — Мистер Накамура решил, что она надежнее вашего автомобиля, и для проведения… — Я сказал, не нужна мне ваша гребаная «хонда»! — закричал Ник. В голове у него стучали молоты, а от крика стало только хуже. — Если хотите, можете подвезти меня домой, но ездить я буду на своей машине. — Как хотите, — сказал Сато и жестом пригласил Ника пройти вперед. Вдвоем они спустились по широкой лестнице. Сато открыл нижнюю дверь, и оба молча прошли через холодные, пустые комнаты. Снаружи Сато передал металлический — не электронный — ключ от наружной двери одному из двух японцев, стоявших в ожидании. По-прежнему шел дождь. Прежде чем сесть в «хонду», Ник посмотрел вдоль улицы, на восток, словно Дара все еще могла стоять там. «Что же это вы, суки, затеяли?» — спросил он себя, почувствовав, как машина просела под весом Сато. Ник провел двумя руками по крыше автомобиля, протер холодной водой лицо и только потом сел на пассажирское сиденье. Все клеточки его тела, которые могли болеть — включая сердце, — болели. Ни один, ни другой не произнесли ни слова за те пятнадцать минут, что они добирались до «Черри-Крик-молла». Когда Ник выходил из машины, Сато вполголоса сказал: — Боттом-сан, пожалуйста, запомните: если вы еще раз назовете меня «сукой», я буду вынужден вас убить.
3.01 Лос-Анджелес 12 сентября, воскресенье — 17 сентября, пятница
ВоскресеньеПочетный профессор Джордж Леонард Фокс сидел в своем крошечном, заваленном бумагами и книгами кабинете (не кабинет — одно название) и делал запись в дневнике. Эта книжечка в кожаном переплете несколько десятилетий оставалась девственно-чистой, а вот сейчас пригодилась. Как необычно было снова писать от руки! Это напомнило Леонарду тот год, когда он работал над диссертацией («Отрицательная способность в малых стихотворных формах у Джона Китса») и как сумасшедший делал записи рано утром на желтых блокнотных листках, а потом просыпался под треск печатной машинки — это Соня перепечатывала их для рецензента. Леонард пытался вспомнить, в каком примерно году это было… В 1981-м. Рейгана только что избрали президентом; Леонард, Соня, другие аспиранты и весь факультет потешались над ним. Леонарду было двадцать три, а Соне — на девять лет больше, и поскольку у него начался серьезный роман с двадцатилетней старшекурсницей Черил, Соне предстояло стать бывшей женой Леонарда. Или нет, подумал он, «первой бывшей женой» — так точнее. Во всяком случае, развод, о котором он попросил, совершился через четыре месяца после успешной защиты Леонардом диссертации и получения первой ученой степени. Соня припоминала ему то, что ее заставляли под благовидными предлогами работать машинисткой, как она выражалась. Но все же она простила Леонарда, и оба оставались друзьями вплоть до ее смерти в 1997 году. Почетный профессор Джордж Леонард Фокс не мог сказать того же о трех других своих женах. Все они еще были живы (хотя он и узнал недавно, что Нубию окончательно сразил Альцгеймер), но ни одна не простила ему следующего брака или обид, которые он, видимо, нанес им. Хотя… может, Нубия и простила — ведь ей теперь даже не вспомнить, кто он такой. Леонард оторвался от дневника и не без иронии представил себе, как находит Нубию в переполненном государственном приюте для жертв старческого маразма и заново с ней знакомится. Он тряхнул головой. Иногда он задавался вопросом: не проявляются ли и у него первые признаки болезни Альцгеймера. (Правда, он понимал, что в семьдесят четыре признаки должны быть далеко не первыми.) Вэл на сей раз не пришел ночевать — появился, когда Леонард уже заканчивал поздний завтрак. В ответ на «доброе утро» дед услышал от парня лишь раздраженное хмыканье. После этого Вэл завалился в кровать и проспал большую часть воскресного дня. Леонард знал: этот шестнадцатилетний мальчишка никогда не поделится тем, что происходит в его жизни, ни с дедом, ни вообще с кем-нибудь из старших. Угрюмый, надутый, вспыльчивый, неразговорчивый подросток: до чего же заезженный стереотип! Если бы Леонард не знал о других чертах характера единственного сына своей дочери: чувствительности (которую тот изо всех сил скрывал от сверстников), любви к чтению, нежелании (по крайней мере, в детстве) причинять боль другим, то вряд ли он справился бы с искушением умыть руки и отправить мальчишку назад к отцу. Отец Вэла. За прошедшие недели Леонард несколько раз собирался звонить Нику Боттому и все время откладывал на потом. Главная причина заключалась в том, что междугородние звонки, после десятилетий дешевых и мгновенных контактов с любым человеком в любом месте, снова стали ужасно трудными и дорогими. Леонард с детства запомнил слова родителей: «Ну, это же междугородний звонок», словно нужно было платить за связь с луной. Другая причина нерешительности Леонарда была не столь очевидной и не столь важной: Ник Боттом за последние пять лет проявлял все меньше и меньше интереса к сыну. И наконец, Боттом почти наверняка оставался завзятым флэшнаркоманом, а это для Леонарда было равнозначно пагубной клинической самовлюбленности. И все же, писал Леонард в своем дневнике, «глядя на грозовые тучи, что собираются над огромной чашей Лос-Анджелеса, я сознаю: придется что-то предпринять». Он остановился и размял уставшую руку. Стало понятно, что для его артрита куда вреднее писать вручную, чем тюкать по виртуальной клавиатуре. Но если уж он вспомнил о стереотипах… «Грозовые тучи, что собираются над!..» Соня строго отчитала бы его за это при помощи самых крепких шведских словечек. Но небо над Лос-Анджелесом каждый день заполнялось все более тяжелыми тучами дыма: сначала в районах реконкисты на востоке и юго-востоке, потом в азиатских кварталах, дальше к югу и западу, в том числе вокруг университетского комплекса, вчера — в огороженных и охраняемых анклавах богачей на западе и в горах по направлению к Малхолланд-драйв. И действительно, возникало впечатление, что грозовые тучи сгущаются и чернеют с каждым днем. Леонард вернулся к дневнику. Он решил посетить Эмилио по адресу, который тот ему оставил (ни телефона, ни электронной почты — один только адрес), до конца следующей недели, — если Вэл продолжит идти по кривой дорожке и городской Армагеддон будет казаться все ближе. Покупка места в грузовом конвое до Денвера выглядела очень рискованным и дорогостоящим предприятием, но у Леонарда уже возникло ощущение, что это благоразумнее, нежели оставаться в Лос-Анджелесе.
Понедельник
День начался с маленькой радости: Вэл пошел в школу. Позже Леонард позвонил в автопроверку и убедился, что внук в самом деле объявился там. Он попытался поговорить с Вэлом, когда тот наспех поглощал завтрак: выдул бутылку ультраколы и проглотил пищевую плитку, — но внук ответил только: — Если тебя так волнует, где я провожу время, вживи в меня детоискатель. Будь Вэл его собственным сыном, Леонард так и сделал бы. Но Вэл прибыл к нему из Денвера почти одиннадцатилетним, потрясенный внезапной смертью матери и неожиданно возникшей пагубной привычкой отца. Леонард решил, что вести мальчика в полицию и вживлять ему имплант слишком поздно. В понедельник Леонард слишком много времени посвятил всяким делам, включая заготовку непортящейся провизии: вдруг они и вправду решат спасаться бегством на следующей неделе? Проезжая на велосипеде по окрестным кварталам и по Чайнатауну, Леонард в очередной раз поразился тому, насколько трудно сделать что-либо — во всяком случае, быстро и успешно — в этом дивном новом мире. Флэшбэк, вот главный виновник, так подумал он. Леонард наивно отправился в свой банк, реально существующий банк, чтобы снять деньги не с банкомата, — и, конечно, не обнаружил ни одного операциониста. Судя по телерекламе, одним из достоинств банка было то, что в нем в течение четырех рабочих полусмен всегда присутствовали как минимум два живых операциониста. Но в понедельник (день, на который приходилась одна из полусмен) отмечались повальные прогулы из-за флэшбэкного похмелья. Да, прежде чем являться в банк в понедельник, надеясь найти операциониста, нужно было все разузнать. Супермаркет тоже был тяжелым испытанием. Почти пятнадцать минут пришлось стоять в очереди, чтобы пройти через пункт магнитно-резонансного сканирования, детектор запахов и кабинку опознавания ДНК. Внутри кроме покупателей виднелись лишь агенты службы безопасности в доспехах, похожих на хитиновые панцири, в черных шлемах с отражающими видеощитками и с громоздкими автоматами в руках. Леонард много раз видел такое будущее в кинофильмах, популярных в его зрелые годы, и должен был бы привыкнуть к этим картинам. И хотя уже почти двадцать лет меры безопасности непрерывно усиливались, он по-прежнему беспокоился. И когда Леонард увидел в отделе свежих продуктов овощи, гниющие из-за нерадивости персонала или отключений электричества, из-за отсутствия продавцов он мог лишь позвонить по федеральному номеру с автоматическим обслуживанием. Он подозревал, что где-то в этом гулком, жутко освещенном здании, начиненном черными пузырями камер наблюдения, есть живой, дышащий управляющий. Но управляющий определенно не хотел иметь дела со своим начальством, и Леонард сильно сомневался, что лос-анджелесская сеть все еще принадлежит некоему Ральфсу.[42] Наконец он завершил свои дела. По пути домой пришлось проехать через множество блокпостов. Телефон постоянно издавал трели — предупреждения о террористической атаке. Тибетские террористы-смертники подорвались в Чайнатауне. Сепаратисты из Арийского братства Калифорнии устроили у Эхо-парка перестрелку с полицией и тактическими силами ДВБ. Вэл в тот день явился домой только в три ночи.
Вторник
Леонард провел большую часть дня в своем кабинете, вяло разбирая беспорядочные кипы и связки — распечатки черновых вариантов своего огромного романа, неудавшегося и заброшенного. Время от времени он делал пометки в дневнике, обычно недоуменные: как почетный профессор, специалист по английской и классической литературе, мог писать так плохо? Леонард, как он сам объяснял Эмилио и еще нескольким знакомым, ставил целью рассказать историю первой трети нового века. Но, читая выборочно страницы и главы своего заброшенного произведения, он понял, что во всех этих черновиках отразилось лишь его невежество. Персонажи неизбежно становились жертвами социальных сил, которые за последние двадцать пять лет так сильно изменили Америку и остальной мир. Действия персонажей, какими бы они ни были (основное место в черновиках занимали разговоры), демонстрировали непонимание этих сил и собственную беспомощность перед лицом происходящих перемен. Иными словами, восприятие действительности героями романа было таким же приглушенным и неестественным, как и у самого профессора Джорджа Леонарда Фокса, сорок лет проведшего в комфортном университетском зазеркалье. По мере чтения Леонард ронял листки, не в силах сдержать улыбку. Как он и говорил Эмилио, он попытался занять позицию над схваткой — абсолютно объективную, в духе Льва Толстого, — и потерпел неудачу. В конечном счете он удовольствовался бы и менее объективной позицией в духе, скажем, Германа Вука.[43] Леонард в 1970-е годы читал два главных произведения Вука — «Ветры войны» и «Война и воспоминания» и вместе со всеми студентами и известными ему преподавателями отмел их как посредственные исторические поделки. То были неуклюжие попытки рассказать о событиях, предшествовавших Второй мировой и холокосту, и описать то и другое в двух громадных томах саги о разбросанных по миру членах семьи американского морского офицера. Среди них была и жена его сына, еврейка по имени Натали, которая попала в Освенцим со своим дядей-интеллектуалом и маленьким ребенком. «Вук пережевал больше, чем заглотил», — остроумно заметил Леонард (не сообщая о том, что это цитата) на лекции для старших курсов в Йеле, затронув по касательной книги Вука. Но теперь Леонард понимал, что Вук, почти совсем забытый в течение первой трети нового века, кое-что знал об этом мире. Его популярные романы были насыщены точными подробностями, шла ли в них речь о неуклюжих механизмах подлодок 1940-х годов или о более эффективных бюрократических механизмах холокоста. И потом, Вук писал свои забытые шедевры так, словно спасение его души зависело от того, что он расскажет о холокосте. Леонард в черновиках романа сумел лишь передать смятение своих пассивных героев, в точности совпадавшее с его собственным: почему мир вокруг нас меняется к худшему? Он засунул распечатки в большую коробку и закрыл ее. А когда он сам понял, что Соединенные Штаты Америки движутся не туда: не потому, что тысяча интеллектуалов вопит, поднимая ложную тревогу на манер Маркса, Маркузе, Грамши, Алинского и других, а потому, что страна и вправду катится в тартарары? Недавно по причинам, непонятным ему самому, он вдруг ударился в воспоминания о первых днях президентства Обамы. Леонард состоял тогда в браке со своей последней женой, Нубией, — наименее удачном из всех. Супруги жили в Колорадо, где Леонард преподавал в Боулдере, а Нубия возглавляла кафедру афроамериканских женских исследований в Денверском университете. Но она, уроженка Чикаго, захотела оказаться на родине в день победы Обамы, в 2008-м. Нубия была настолько уверена в этой победе, что заказала билеты на рейс в Чикаго для себя и мужа еще в августе, когда Обама стал кандидатом от демократов на денверском съезде. Нубия была делегатом этого съезда. Они остановились в доме ее матери. Три брата и две сестры Нубии, все их супруги и дети были там и следили за ходом выборов. Когда Обама еще не набрал нужного числа голосов выборщиков, все уже отправились в Грант-парк, где должно было состояться окончательное объявление результатов и последующее празднество. Леонард помнил радость и слезы на щеках Нубии и своих собственных. Ему было десять лет, когда полиция атаковала демонстрантов в парке, недалеко от места, где Обама — слишком молодой, чтобы придавать значение событиям бурных шестидесятых, — в ту ночь торжествовал победу. В ту ночь сотни тысяч человек наводнили Грант-парк. Радость, слезы, объятия незнакомых людей, когда на громадных экранах по Си-эн-эн объявили, что Обама получил-таки достаточное число голосов, — все это казалось и прошлым, и будущим Чикаго и всей Америки. Темны были эти дела, но они все вместе достигли страны обетованной. Это чувство угасло в Леонарде за несколько последующих лет, причем раньше, чем в Нубии. Что и стало одной из причин, почему их брак продержался не так долго, как мог бы. Нет, Леонард, который в своей здоровой юности— в пятидесятые годы — был интеллектуалом и гордым представителем, даже лидером, факультетского племени, не стал внезапно тайным республиканцем. Сквозь все годы резких перемен он пронес веру — в просвет, в перемены, в необходимость для федерального правительства играть важную роль во всем, от принятия мер против изменения климата до контроля за здравоохранением. Федеральным властям следовало менять тысячи сторон американской жизни. Но в течение этого и последующих десятилетий, когда рецессия, казалось, закончилась, а потом перешла в совсем уже бесконечный кошмар, когда войны за рубежом завершились поражением и отступлением, когда правительство и множество его программ социальной защиты провалились, Леонарда начали одолевать сомнения. Сомнения насчет того, надо ли было принимать социальные меры, постоянно увеличивавшие дефицит государственного бюджета, в разгар первого цикла Великой всемирной рецессии. Сомнения насчет того, стоило ли повсеместно отступать перед поднимающим голову радикальным исламом. Сомнения насчет того, правильно ли сделали Соединенные Штаты во втором десятилетии двадцать первого века, объявив о желании играть новую, более скромную роль, стать «всего лишь одним из множества государств». Да, профессор Джордж Леонард Фокс как интеллектуал глубоко скептически относился ко всему, хотя бы отдаленно напоминавшему вульгарный патриотизм, — но разве не было в Америке чего-то неповторимого… кроме того, в чем ее часто обвиняли: расизма, сексизма, империализма и хищнического капитализма? Второе десятилетие века катилось, давя множество людей по всему миру при помощи банкротств, обвалов, компромиссов с непримиримыми агрессорами. И Леонард начал спрашивать себя — и даже задавать вопросы Нубии: не было ли все-таки чего-то исключительного в старых американских воззрениях и мощи Соединенных Штатов? — Вряд ли стоило ждать большего от человека, который родился в вонючие пятидесятые, — сказала ему Нубия незадолго до расставания. — Ты всегда будешь жить в своих вонючих пятидесятых, вместе с сенатором Джорджем Маккарти и Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Он не стал говорить, что Маккарти[44] звали не так. Нубия была на двадцать один год моложе Леонарда. И к тому же красавица. Он до сих пор тосковал по ней. Но Леонард считал, что ее обвинения несправедливы. Он как-то объяснил жене, что не помнит «охоту на ведьм», то есть на коммунистов, в начале 1950-х, потому что родился в 1958-м. Леонард даже не мог рассказать ей о рок-музыке 60-х с ее наркотиками, призывами к любви и миру: ему было всего двенадцать, когда закончилось это десятилетие. Да, реальный мир времен его детства казался Леонарду… каким? Более упорядоченным. Более разумным. Более безопасным. Даже более чистым, как понимал он теперь. Но, рассуждал Леонард (как все прогрессивные либеральные демократы и интеллектуалы в те времена, когда он женился на Нубии, — ему только-только исполнилось пятьдесят, а заведующему его английской кафедрой, его красавице невесте еще не было тридцати, и она вела внутрикафедральную борьбу за власть), страна была бы другой, если бы правые не оставили Обаме рухнувшую экономику и внешнюю политику, отмеченную повсеместными провалами. (Вот только если рассуждать дальше без самообмана, то выходило так: он не помнил, чтобы экономика действительно рушилась, а внешняя политика терпела катастрофические провалы, когда ему было тридцать, сорок, пятьдесят лет.) Году в 2011-м или 2012-м, перед тем как Нубия бросила его и он уехал из Колорадо на преподавательскую работу в Лос-Анджелес, Леонард задавал вопросы разным профессорам-экономистам из Колорадского университета: что происходит с затянувшейся до бесконечности рецессией и постоянным кризисом финансов, рынка недвижимости, налоговых поступлений и так далее? (Леонард никогда не проявлял ни малейшего интереса к экономике: он не воспринимал ее как серьезную дисциплину, подлежащую изучению, и тем более как науку. Но к кому еще обращаться в такие времена?) Пять-шесть ведущих университетских экономистов пытались объяснить, что серьезные конвульсии только начинаются; в их заумных словах сквозила надежда. Леонард старался вникать в объяснения и достиг в этом некоторого успеха. Но его так ни в чем и не убедили. Потом случайно, на вечеринке у профессора классической литературы в предгорьях над Боулдером, Леонард оказался в компании древнего экс-преподавателя экономики, который за выпивкой выслушал вопросы Леонарда и вытащил из портфеля маленький ноутбук. (В те времена телефоны и компьютеры не были еще единым устройством.) Старый сморщенный профессор, уже хорошо набравшийся виски, вывел на экран график и показал его Леонарду. Потом он переправил этот график Леонарду по электронной почте. Распечатка с ним все еще где-то валялась. Этот старый график демонстрировал сценарий ежегодного роста государственного долга на 8 %, начиная с 2010-го. Долг был показан как процент от ВВП. График основывался на разных прогнозах роста, в диапазоне от минус 1 % до вполне приемлемых (но так никогда и не достигнутых) 4 %. При этих никогда не достигнутых 4 % государственный долг должен был достичь 100 % ВВП к 2015 году. Но экономика развивалась не так динамично, и фактически отношение долга к ВВП составило 120 %. Сценарий роста национального долга, составленный старым экономистом, показывал, что к 2035 году, даже при четырехпроцентном росте экономики, долг равнялся бы 220 % ВВП. До 2035-го оставалось еще три года, но Леонард знал, что это соотношение уже составляет 500 %. График старика профессора заканчивался 2045 годом. Прогноз давал всего 320 % при все том же четырехпроцентном росте и 1800 % при отрицательной динамике (минус 1 %). Леонард знал, что Соединенные Штаты никогда не достигнут невероятного показателя в 1800 %. Америка уже несколько лет как стала банкротом. — Я вместе с тремя другими экономистами составил этот график четыре года назад, — невнятно пробормотал старый пьяный либертарианец. (По крайней мере, теперь Леонард не без тревоги считал его либертарианцем.) — Все дело в том, что этот треклятый долг перерастает треклятый ВВП, как это случилось в Японии. А теперь дракон явился сюда и пожирает нас. Ясно? — Нет, — ответил Леонард. Но какой-то частью разума он уже тогда понимал это. — Вот, — сказал старый экономист и вывел на экран другой график. Он демонстрировал риски, связанные с ростом социальных расходов. Кривые на графике показывали, что обязательные социальные расходы — социальное страхование, «Медикэр», «Медикейд»[45] и сотни других федеральных программ — превзойдут общие доходы федерального правительства в период между 2030 и 2040 годами. Теперь Леонард знал, что этот график был ошибочен. На самом деле обязательные социальные выплаты превысили государственные доходы к 2022 году, приблизительно в то время, когда страна официально объявила о своем банкротстве. — Этот график был основан на предполагаемых суммах — до того, как Обама и демократы продавили через конгресс законы об экономическом стимулировании и все остальные решения по социальным расходам, — проворчал старый профессор. — Обратите внимание, что в начале тридцатых обязательные расходы на программы социального обеспечения превысят размеры ВВП. К две тысячи пятидесятому году одни только проценты, черт бы их драл, по деньгам, взятым в долг для обеспечения выплат по социальным программам — по старым, маломасштабным программам, — превзойдут ВВП. — Нелепица. — Леонард помнил свой ответ профессору-экономисту. — Это невозможно. — Невозможно? — переспросил тот, выдыхая пары виски в лицо Леонарду. — Конечно. Президент и конгресс никогда этого не допустят. Старик напротив него попытался сфокусировать взгляд на собеседнике. — Я вас знаю. Я о вас читал. Вы специалист по английской литературе. Собаку съели в этом деле. Так скажите, господин специалист, где страна найдет деньги для выплат по всем этим программам? — Экономика восстановится, — сказал Леонард. — Именно это они и говорили три года назад. Но финансовый рынок если и двигался вперед, то примерно так же бодро, как парализованный ветеран иракской войны. А в экономике — которая неравнозначна финансовому рынку — дела идут еще хуже. Разве нет? Нет? Мелкий бизнес облагается такими налогами, что перестает существовать. Безработица снова растет. Да, черт побери, в этой стране снова существует постоянная прослойка безработных — впервые с тридцатых годов прошлого века. И все это оборачивается инфляцией, которая каждый день делает людей беднее. Посетители магазинов не тратят денег. Покупатели ничего не покупают. Банки не выдают ссуд. А Китай, который все еще держит большую часть наших бумаг, распадается на части. Их экономика — экономическое чудо, ежегодный восьмипроцентный рост! — оказалась еще большим мыльным пузырем, чем наша. «Восемь процентов роста» достигались благодаря планированию, которое вела группа старых коммунистов, финансируя его из государственных фондов. Это как если бы ритейлер считал товары у себя на полках прибылью. Леонард не постиг всех этих рассуждений. Но он следил за новостями из Китая и теми, что как-то касались Китая. Новости были пугающими. — Вокруг президента много умных людей, — сказал Леонард, вставая, чтобы закончить разговор с идиотом пенсионером. — Да какого там хера, поздно уже для умных людей, — пробурчал экономист, глаза которого снова смотрели вкривь и вкось. Он созерцал свой пустой стакан и корчил недовольную гримасу, словно его обокрали. — Умные люди — те, кто раздербанил эту страну и весь мир, лишив наших внуков будущего, господин Специалист По Литературе, — заключил он. — Запомните мои слова. И Леонард почему-то запомнил их.
Среда
Вэл не пришел ночевать во вторник и не появился в среду утром. После полудня Леонард позвонил в полицию, чтобы заявить о пропаже ребенка. После сорока пяти минут общения с голосовыми роботами и ожидания (во время ожидания на телефонной станции лос-анджелесской полиции почему-то играла турецкая музыка, напоминавшая Леонарду вопли жертв преступлений) ему наконец ответил сержант полиции. Потом он еще десять минут прождал соединения с отделом по розыску пропавших, после чего у него попросили изложить факты. Как только Леонард назвал возраст внука — шестнадцать лет, весь интерес у полицейского пропал. Наконец последовал совет: — Ждите неделю. Позвоните родителям друзей вашего внука — вдруг парень у них. Если через неделю не появится, звоните снова. Леонард позвонил бы родителям друзей Вэла, но из всей компании он знал только Уильяма Койна. А в постоянно уменьшавшейся онлайновой телефонной книге не обнаружилось ни одного Койна. Этот парнишка, Уильям, в тот единственный раз, когда они встречались, явно игнорировал Леонарда. Что-то он сказал снисходительным тоном — будто его мать работает у японского советника. Или в муниципалитете — обеспечивает связь с офисом Омуры. Леонард просмотрел все официальные городские онлайновые указатели и справочники Гетти-Касла, но и там не нашел Койна. Стоп… Вэл в прошлом году вроде говорил, что родители его приятеля Билли К. развелись. «Все твои приятели — из разбитых семей», — заявил тогда Леонард и получил в ответ поток презрительной болтовни; среди прочего Вэл сообщил и об этом. Если она разведена и снова взяла девичью фамилию, то как ее найти в списке сотрудников Омуры? Леонард понятия не имел и прекратил поиски в этом направлении. Наконец рано утром он оставил записку Вэлу с просьбой позвонить, если тот вернется до его возвращения, а сам весь день ездил на велосипеде по городу, доезжал до Десятки на юге, до блокпостов на Хайленд-авеню, перед Беверли-Хиллз — на западе, до контрольно-пропускных пунктов реконкисты у Рамона-гарденз — на востоке и до Глендейла — на севере. Повсюду виднелись конвои из бронированных военных машин, принадлежавших Национальной гвардии, ДВБ и даже армии. Где-то на юге поднимался очень густой дым. Ни о каких чрезвычайных происшествиях лос-анджелесское радио и местные сайты не сообщали. Вернувшись около семи вечера в свою полуподвальную квартиру, все еще пустую и темную, Леонард не находил себе места от злости и волнения. Возможно, эту мысль навеяли ему военные машины с вонючим дизельным выхлопом, при виде которых он начинал, как сумасшедший, крутить педали, чтобы не попасть под колеса… И все же Леонард спрашивал себя: вдруг Вэл стал таким агрессивным и неуправляемым из-за того, что ему исполнилось шестнадцать — и меньше чем через год предстояло попасть в армию? Этому был посвящен последний настоящий разговор Леонарда с внуком, накануне «празднования» его шестнадцатилетия — они сидели вдвоем. Леонард был уверен: Вэл сильно обижен на отца, не позвонившего ему. Но об этом говорить не стали. Вопросы Вэла тем вечером касались в основном призыва в армию, способов его избежать (для здорового белого американского юноши, который получил на телефон анкету и зарегистрировался, как Вэл, таких способов практически не существовало) и войн, что вели американские солдаты в интересах Индии и Японии. В этой последней проблеме Леонард совсем не разбирался. Он и в самом деле никак не мог понять, в чем суть гегемонии НВАСВП, а тем более как выглядят ее военные цели в Китае и других местах. Он мог только сказать, что отправка войск по запросу финансово более стабильных стран, Индии и Японии, была для Америки одним из немногих источников твердой валюты. — Мистер Хартли в школе говорит, что когда-то, почти сто лет назад, существовала старая Восточноазиатская сфера взаимного процветания,[46] — сказал в тот вечер Вэл. — И это как-то связано с тогдашней большой войной, но я так и не понял, где тут связь. «Ирония, вот связь», — подумал Леонард, но рассказал Вэлу о милитаристской японской империи и замысловатом названии, которое она носила при кратковременном господстве японцев над немалой частью Китая, Малайзией, тогдашним Индокитаем, Филиппинами и островами в южной части Тихого океана. Он вкратце поведал о том, как японцы в период их быстрой экспансии восхваляли свои агрессивные захваты как способ покончить с колониальным господством белых. Это господство, безусловно, имело место, но взамен него предлагался режим, основанный на японском варианте учения о господствующей расе. — Они чуть было не включили Австралию в так называемую сферу взаимного процветания, и непременно сделали бы это, если бы не сражение у Мидуэя, — объяснил Леонард, но замолчал, встретившись с пустым взглядом внука. Вэл много читал, но не любил историю — хотя должен был бы любить, по мнению его деда. Впрочем, ее не любили большинство старшеклассников в эпоху, когда школьные программы составлялись по указаниям политиков из соображений «целесообразности», и от Вэла не требовали датировать, скажем, Гражданскую войну с точностью до ста лет. Может быть, Вэл сбежал, опасаясь призыва? Леонард знал, что десятки тысяч американцев накануне семнадцатилетия пускались в бега. Но ему оставалось еще одиннадцать месяцев. И уж конечно, Вэл не настолько боялся призыва и заморских сражений, чтобы так бездумно убегать сейчас. Словно комментируя мысли Леонарда, двадцатичетырехчасовой новостной канал, который бормотал что-то на заднем плане (основной спутниковый пакет включал более шестидесяти каналов — почти на любой политический вкус), сообщил, что «Силы Объединенных Наций» после «ожесточенных боев с мятежниками, подчиняющимися китайскому вождю Люфэй Чжунчжэну», заняли город Ланьшань. Леонард понятия не имел, где находится Ланьшань, и у него не было ни малейшего желания задавать этот вопрос телефону-компьютеру. Все это не имело значения. Перед его мысленным взором вдруг возник мальчишка, родившийся лет за двадцать до него, накануне Второй мировой (Вэл знал лишь, что «это была большая война, которая велась лет сто назад»), который передвигает флажки на настенной карте по мере того, как идут сражения и силы американцев и союзников приближаются к Берлину или Токио. Термин «Силы Объединенных Наций» — об их операциях в Китае теперь неизменно сообщалось в новостях — означал попросту «американские силы». Индия, Япония и Группа пяти настолько прочно доминировали в расширенном Совете Безопасности, что решения в ООН принимались без малейшей угрозы вето. Если же речь шла о Балканах, Африке или Карибском бассейне, то Леонард знал: «Силы Объединенных Наций» — это русские, которые, подобно американцам, пытаются заработать твердую валюту, сдавая внаем свою армию. Леонард вздохнул и переложил маленький телефон из одной руки в другую. Он понял, что прибегает к уверткам на научный манер: уходит от забот и страхов реального мира, не говоря уже о необходимости быстрого принятия решений, к туманным историческим аналогиям и абстракциям. Было уже почти десять вечера. Придется звонить отцу Вэла в Денвер. Другого выбора не оставалось. Может быть, мальчик ранен, похищен или убит… лежит где-нибудь в канаве, в одном из огороженных кварталов, разрушенных землетрясением и так и не восстановленных, близ старого шоссе. Именно в таких местах любили ошиваться флэшбанды вроде той, в которой состоял Вэл. Леонард понял: сейчас он впервые признался себе, что Вэл почти наверняка входит во флэшбанду. Вздохнув еще раз, он поднял телефон, чтобы набрать номер Ника Боттома. Вэл ввалился в комнату, источая запах бензина и чего-то более едкого, терпкого — пороха? Кордита? Даже не посмотрев на деда, он сразу прошел в свою комнату. Сквозь запертую дверь до Леонарда донеслись оглушительные звуки, издаваемые рок-группой «Дескалт». Леонард сердито направился к двери и поднял кулак, собираясь постучать, но остановился. Что нового он сумеет сказать парню? Какой новый ультиматум сможет предъявить? Леонард вернулся в свой кабинет и сел в конусе слабого света от настольной лампы, которая одна горела в комнате. Завтра он отправится к Эмилио. А пока можно лишь надеяться, что Вэла и его дружков арестуют за какое-нибудь незначительное правонарушение. Это будет в первый раз, а поскольку Вэл еще подросток, лос-анджелесская полиция вживит ему датчик, и Леонарду не придется платить ни за датчик, ни за программное обеспечение. Ему было стыдно за эти мысли и желания. Но все же он считал, что так было бы лучше.
Четверг
Утром Вэл ушел в школу, после чего Леонард отправился к Эмилио. Он взял с собой все свои накопления, уложив их в курьерскую сумку, которую перекинул через плечо. Леонард поехал на велосипеде на юго-восток от Эхо-парка к Центру временного содержания на стадионе «Доджер», затем под Пасаденским шоссе туда, где Сансет-бульвар переходил в Сесар-Чавес-авеню. Путь лежал через полутрущобные районы, и Леонард был уверен, что у него отнимут велосипед и сумку с более чем миллионом новых долларов. Чем старше становился профессор Джордж Леонард Фокс, тем сильнее он преисполнялся уверенности, что единственного подлинного бога зовут Сука-ирония. Пока он ехал на восток, никто его не ограбил. Часам к девяти он был уже на прежней Юнион-стейшн.[47] Леонард любил это место. Как-то раз он со своей дочерью Дарой провел два выходных, просматривая старые фильмы — в основном тридцатых, сороковых, пятидесятых годов, главные сцены которых снимались на Юнион-стейшн. Затем он направился на юг под заброшенным участком 101-го шоссе. Для сентября было довольно жарко, и когда Леонард добрался до первого блокпоста — в том месте, где Санта-Фе-авеню пересекалась с 4-й Восточной улицей, — белая рубашка на нем вымокла от пота. 4-я Восточная была перекрыта. По обеим сторонам улицы висели большие зелено-бело-красные триколоры Нуэво-Мексико. В отличие от флага Соединенных Штатов Мексики, созданного в 1968 году, орел в центре здесь не сражался со змеей и был изображен анфас. Его венчала корона. Эмилио как-то объяснил Леонарду, что за основу в этом случае взяли флаг первой Мексиканской империи 1821 года. Однако новый орел был настолько стилизованным, что скорее напоминал Леонарду орла эпохи Нового курса Рузвельта или — еще более зловещий вариант — стилизованного нацистского орла. Времени, чтобы рассмотреть флаги, у него не оказалось. Из-за постоянных баррикад вышли люди с автоматами. — ¿Qué quieres, viejo?[48] Профессору Джорджу Леонарду Фоксу не понравилось обращение «старик», но он предъявил визитку, которую ему дал Эмилио, и ответил, скрывая дрожь в голосе: — Exijo que те lleven a la casa de Gabriel Fernández y Figueroa.[49] Вероятно, ему не следовало употреблять такой сильный глагол, как «требовать», но было уже слишком поздно. Один из латинов засмеялся, но тот, первый, показал ему визитку, и он замолчал. — ¿Por qué quieres ver a Don Fernández у Figueroa, gringo viejo?[50] Леонард устал от издевок и оскорблений. — Проводите меня туда, — сказал он по-английски. — Дон Фернандес-и-Фигероа ждет меня. Пятеро вооруженных людей принялись оживленно совещаться. Потом тот, кто взял визитку, показал Леонарду на черный внедорожник-«фольксваген», стоявший за баррикадой. — Идем.
Эмилио жил в огромном старом доме с восточной стороны кладбища «Эвергрин». Но когда сопровождавшие Леонарда люди провели его через несколько КПП и караульных постов, он понял, что это скорее похоже на ощетинившуюся оружием крепость, чем на дом. Военные автомобили с коронованным орлом на флаге Нуэво-Мексико заполняли улицы на много кварталов вокруг. По другую сторону улицы располагалось громадное кладбище. Ограда его была снесена, и Леонард увидел еще десятки колесных и гусеничных машин на пожухлой траве. Перед самым домом Эмилио стояли вереницы больших черных внедорожников — у каждого из блокпостов. Верхушки стен вокруг дома были утыканы осколками битого стекла и оплетены бесчисленными витками колючей ленты. Его проводника раз пять-шесть останавливали внутри резиденции, и каждый раз предъявлялась визитка. Дважды Леонарда обыскивали — тщательно и до неприличия агрессивно. Отнять у него сумку с деньгами было бы до смешного легко, но охранники лишь быстро перебирали стопки купюр, стянутые резинкой, — скудные сбережения Леонарда. В многочисленных комнатах, выходивших в устланный плиткой коридор-прихожую, толклись люди: курили, спорили, склонялись над картами, жестикулировали. Сопровождающий провел Леонарда вверх по двум лестничным пролетам, потом по широкому коридору. У открытых дверей библиотеки стояли двое в штатском, но с автоматами. Снова пришлось показать визитку. Леонарда обыскали в третий и последний раз, открыли дверь пошире и позволили ему войти. И опять обыскивавшие заглянули в его курьерскую сумку, набитую деньгами, и ничего не сказали. Комната выглядела впечатляюще. С трех ее сторон стояли шкафы футов двенадцати в высоту, заставленные книгами в кожаных переплетах. В четвертой стене были окна; Леонард через них видел и слышал, как черные вертолеты приземляются внутри окружающих здание стен, на площадке в несколько акров. Эмилио Габриэль Фернандес-и-Фигероа сидел за широким столом, а напротив него — лысый человек лет пятидесяти с небольшим. Леонард сразу же понял, что эти двое — родственники. Когда он подошел, оба встали. — Леонард, — сказал тот, с кем он вот уже четыре года играл в шахматы по субботним утрам, в Эхо-парке. — Дон Фернандес-и-Фигероа, — отозвался Леонард, сделав небольшой уважительный поклон. — Нет-нет, — возразил его старший приятель, — Эмилио. Для тебя я — Эмилио. Позволь мне представить тебе моего сына Эдуардо. Эдуардо, это мой партнер по шахматам и беседам, о котором я говорил с таким уважением, почетный профессор доктор Джордж Леонард Фокс. Эдуардо наклонил лысую голову. Голос его звучал очень тихо. — Es un verdadero placer conocerlo, señor.[51] — Это я очень рад, — сказал Леонард. — Я проверю боевые порядки, отец, — сказал Эдуардо, еще раз поклонился Леонарду и вышел, закрыв за собой высокую дверь. Леонард почувствовал, как сильно забилось его сердце. Все эти годы он знал, что сыновья и внуки Эмилио — одни из вождей движения реконкисты в Калифорнии и Лос-Анджелесе, но сейчас понял, что возглавляет движение сам Эмилио. Почему этот важный — и опасный — человек провел столько неторопливых субботних утр с отставным профессором классической и английской литературы? Леонард ни разу не замечал телохранителей в Эхо-парке во время этих встреч, но теперь понял, что они, вероятно, там были. — Ты решил покинуть Лос-Анджелес, мой друг? — сказал Эмилио, показывая Леонарду на пустой стул и садясь на свой собственный за широким, пустым столом. За окном садились и взмывали в воздух все новые вертолеты. — Да. — Bueno, — одобрил Эмилио. — Правильно выбранное время для такого шага. Помедлив секунду, он откашлялся и продолжил: — Через два дня — рано утром в субботу, еще до рассвета, — штат Калифорния предпримет попытку убить меня прямо здесь. Они воспользуются беспилотником «Большой белый хищник» и уничтожат весь лагерь в надежде убить меня, мою семью и всех, кто тут находится. — Господи милостивый… — Si — сказал Эмилио. — Господь милостив. Он позволил нам получить эту ценную информацию. Ни меня, ни моей семьи во время атаки здесь не будет. Силы реконкисты готовы к ответному удару. Не пройдет и недели, как весь Лос-Анджелес окажется под новой властью. Леонард понятия не имел, что ответить на это, и положил тяжелую курьерскую сумку на стол. — Миллион триста тысяч новых долларов, — сказал он странно сдавленным голосом. — Все, что мне удалось скопить за жизнь. Я оставил себе лишь самую малость, на расходы во время путешествия. Эмилио, не посмотрев на сумку, вежливо кивнул. — Это меньше, чем обычная цена доставки двух человек отсюда в Денвер… Ты все еще хочешь ехать в Денвер, мой друг? — Да. — Это меньше, чем обычная цена, но глава конвоя в долгу передо мной, — продолжил Эмилио, улыбаясь и показывая желтые от никотина зубы. — А кроме того, безопасность конвоя обеспечивают наши люди из реконкисты и наш транспорт. Глава конвоя не пожелает ссориться с нами из-за нескольких долларов. — И когда отправляется конвой? — спросил Леонард. Он чувствовал внутри какую-то пустоту, почти отвращение, словно выпил несколько стаканов виски. Это был диалог из фильма, а не из жизни профессора Джорджа Леонарда Фокса. — В полночь с пятницы на субботу, — ответил Эмилио. — Всего за несколько часов до запланированной атаки на мой дом. В конвое будет двадцать три трейлера, несколько частных автомобилей и, конечно, машины наших сил безопасности. Ты с внуком поедешь в одном из больших грузовиков. Конечно, с удлиненной кабиной. — И куда нужно будет прийти? Леонард опасался, что точка сбора окажется далеко на востоке Лос-Анджелеса и они с Вэлом не смогут добраться ни пешком, ни на велосипедах. — Старое депо у Норт-Мишн-роуд, над тем местом, где Сто первая встречается с Десятой, — сказал Эмилио. — Ты легко сможешь туда добраться по Сансету — пересечешь Норт-Аламеда-стрит и затем направишься к Норт-Мишн-роуд. Осмотра на блокпостах и КПП не будет, пока вы не доберетесь до депо. У меня для тебя заготовлено транзитное письмо, уже подписанное. Транзитное письмо. Леонард слышал эти слова только в фильме «Касабланка».[52] И вот теперь дон Эмилио Габриэль Фернандес-и-Фигероа залезает в ящик стола, вытаскивает этот документ и протягивает ему. Жирная подпись Эмилио заняла страницу чуть ли не во всю ее ширину. Они встали, и Леонард обеими руками пожал старческую, с набухшими венами, но все еще сильную руку Эмилио. — Спасибо, мой добрый друг, — сказал Леонард. Он был в ужасе и восторге, на грани того, чтобы разрыдаться. Прежде чем Леонард успел дойти до двери, Эмилио окликнул его: — Твой внук… он поедет с тобой? — Поедет, — мрачно ответил Леонард. — Хорошо. Мы вряд ли еще увидимся… по крайней мере, в этой жизни. Да поможет тебе Бог, мой дорогой друг. — И тебе тоже, — сказал Леонард. — Удачи, Эмилио. В коридоре за дверью его ждали проводник, сын Эмилио и трое вооруженных людей.
Вэл вернулся тем вечером рано и успел к обеду, приготовленному в микроволновке. Во время еды Леонард рассказал внуку о плане уехать из города на следующие сутки, в полночь. При этом подразумевалось, что у Вэла нет выбора. — Мне сказали, что до Денвера конвой доберется дней за десять, — закончил Леонард. — Так что через полторы недели ты увидишь отца. Вэл смотрел на него спокойно, чуть ли не оценивающе. На любые его возражения у Леонарда имелся ответ. При необходимости он готов был поймать Эдуардо Эмилио Фернандеса-и-Фигероа на слове и пригласить двух бойцов реконкисты в дом Леонарда, чтобы они доставили Вэла к месту сбора. Невероятно, поразительно, но Вэл сказал: — В полночь пятницы? Конвой до Денвера? Отличная идея, Леонард. Что мы возьмем с собой? — То, что уместится в двух небольших рюкзаках, — ответил его удивленный дед. — Включая еду на время поездки. — Отлично, — сказал Вэл. — Я упакую кое-какие шмотки. И пожалуй, пару книг. А больше ничего. Но Леонард не мог поверить, что все будет так просто. — Тебе не обязательно завтра идти в школу, — сказал он. — И никому не надо говорить, что уезжаем. Нас могут попытаться остановить. — Да. — Шестнадцатилетний парень чуть скосил глаза, словно думал о чем-то своем. — Хотя нет. В школу мне нужно будет зайти — взять кое-что из своего шкафчика. Но завтра к девяти я буду дома. — Не позднее девяти! — сказал Леонард. Он опасался, что парень со своими дружками затеют что-нибудь в этот вечер. — Не позднее девяти, дедушка. Обещаю. Леонард только моргнул. Когда Вэл в последний раз называл его дедушкой? Он и вспомнить не мог.
Пятница
Леонарда весь день мучила тревога. Два рюкзака, набитые пищевыми плитками, фляжками, свежими фруктами, одеждой и книгами, стояли у кухонной двери, словно издеваясь над стариком. Он начал было звонить Нику Боттому, чтобы сообщить об их приезде, но потом решил отложить это дело — лучше уж позвонить с дороги. «Никак не могу поверить», — крутилось у него в голове. Он поверит в это, когда они пересекут границу Калифорнии и въедут в Неваду. Вэл пришел домой в начале девятого: одежда грязная, на лбу и на рубашке — кровь, глаза широко раскрыты. — Леонард, дай свой телефон! — Что? В чем дело? Что случилось? — Дай свой сраный телефон! Леонард протянул телефон взбесившемуся парню, спрашивая себя, кому и что тот собирается говорить. Но Вэл раздавил телефон каблуком тяжелого ботинка — ударил раз, два, и еще, и еще, пока телефон не разлетелся на части, затем схватил сим-карту и выбежал на улицу. Леонард был слишком поражен, чтобы броситься за ним. Вэл вернулся через три минуты. — Я зашвырнул его в кузов грузовика, который едет на запад, — выдохнул он. — Вэл, сядь. У тебя кровь идет. Парень покачал головой. — Это не моя кровь, дедушка. Включи телевизор. Лос-анджелесский новостной канал передавал срочное сообщение. «…о террористической атаке во время перепосвящения Диснеевского центра исполнительских искусств сегодня вечером. Объектом нападения стал советник Даити Омура, который, однако, не был ранен. Повторяем: советник Омура не был ранен во время террористической атаки, хотя два его телохранителя убиты. Убиты и как минимум пять террористов. У нас есть видеозапись того…» Леонард не мог дальше выносить слов диктора. Вернее, его мозг отказывался их понимать. Он видел на экране мертвые лица убитых террористов: сплошь мальчишки. На лицах кровь, глаза открыты и устремлены в никуда. Камера замерла на последнем из них. Это было лицо юного Уильяма Койна. Леонард в ужасе повернулся к внуку. — Что ты наделал? Вэл схватил оба рюкзака и уже пихал одним из них деда в грудь. — Нам нужно сматываться, Леонард. Немедленно. — Нет, мы должны связаться с властями… уладить все это… Вэл сильно тряхнул его — Леонард даже и не подозревал, что в мальчике скрыта такая сила. — Тут нечего улаживать, старик. Если меня схватят, то убьют. Понимаешь? Надо сматываться. — Отправка из депо только в полночь… — пробормотал Леонард. Руки и ноги у него пощипывало, голова кружилась. Он понимал, что находится в шоке. — Неважно, — выдохнул Вэл, брызгая водой из кухонной раковины себе в лицо и вытирая кровь маленьким полотенцем, висящим на стиральной машине. — Мы спрячемся там, пока не придет время отъезда. Но нам надо уходить… сейчас же! — Свет… — сказал Леонард, но Вэл уже тащил его через заднюю дверь. Без единого слова он провел деда к велосипедам, уселся в седло и, бешено закрутив педали, понесся по неосвещенному переулку.
1.07 «„Шесть флагов“ над евреями» 13 сентября, понедельник
Над железными воротами Денверского кантри-клуба был распят человек, но это не остановило Ника: он отправился в свое понедельничное утреннее путешествие по бульвару Спир к «„Шести флагам“ над евреями». Телефонные новости ничего пока не сообщали ни о личности распятого, ни о причинах его распятия. Движение было оживленным, и Нику приходилось подстегивать мерина, чтобы держаться в общем потоке; он лишь бросил беглый взгляд налево, на машины спецслужб у входа и на копов, взбиравшихся по приставным лестницам. Когда-то дорогой и эксклюзивный кантри-клуб уже несколько лет не был кантри-клубом. Поле для гольфа и теннисные корты были уставлены сотнями голубых палаток без окон — такие палатки ООН раньше поставляла в страны третьего мира после цунами или чумы. Никто из тех, у кого спрашивал Ник, не знал, зачем эти палатки стоят здесь, в клубе; что за страна или корпорация владеет им теперь, тоже никто не знал. Впрочем, никого, включая Ника, это особо не волновало. Он израсходовал весь флэшбэк, полученный от Сато, и проспал с середины воскресенья до самого утра. С заядлыми флэшбэкерами случалось такое — полная отключка, которая могла выглядеть как сон, вплоть до быстрых движений глаз. Только сном это не было — по крайней мере, тем глубоким сном, который требуется человеческому мозгу. Поэтому раз в две-три недели флэшбэкеры впадали в бесчувствие и спали сутки напролет, а то и больше. Если не считать головной боли, какой не бывает и при самом тяжелом похмелье, Ник вынужден был признать, что чувствует себя посвежевшим. Но вот загвоздка, ничто вокруг него: ни бульвар Спир с пышными деревьями, ни шум машин на двух полосах для простонародья, ни низкое скейтбордное гудение водородных автомобилей на ВИП-полосе, ни сотни самодельных хижин вдоль жалкой речушки Черри-Крик, протекавшей между велосипедными дорожками в пятнадцати футах ниже уровня улицы, — не казалось реальным. Так случалось всегда последние лет пять, но в этом месяце все, кажется, стало еще хуже. Часы под флэшбэком, проведенные с Дарой, были реальностью, а вот эта идиотская интерлюдия с Сато или импровизация плохих строк плохими актерами в плохо написанной, плохо поставленной, плохо сыгранной пьесе реальностью определенно не были. Ник Боттом запутался от многоцелевого использования флэшбэка. Он употреблял наркотик, чтобы восстановить допрос Данни Оза почти шесть лет назад. А также — как делал это каждый день последние пять с половиной лет — чтобы провести время с умершей женой. Но кроме того, он пребывал под флэшбэком, пытаясь выяснить, где могла быть Дара в ночь убийства Кэйго Накамуры. Тем вечером его послали с заданием на Санта-Фе-драйв, у границы ничьей земли, отделявшей владения реконкисты. Ник сидел на заднем сиденье полицейской машины без опознавательных знаков; два детектива впереди него наблюдали за домом главаря группировки боевиков, который, насколько они знали, поставлял в город наркотики и оружие. Штатному детективу по особо важным делам Нику Боттому незачем было сидеть в этой машине и участвовать в наблюдении. Но в первый год после повышения у него в голове вертелась дурацкая мысль: можно делать чистую работу в офисе, ведя расследования, и одновременно не терять связь с грязной улицей и ее обитателями — уголовниками и копами. Оказалось, что нельзя. Мысль была дурацкой. Два детектива, сидевшие спереди (Камминс, детектив третьего ранга, прослуживший семь лет патрульным и меньше года работавший следователем, и Коулмен, ветеран денверской полиции со стажем в двадцать пять лет, из которых девять он служил детективом первого ранга, как и Ник), дали понять Нику, что проку от него этим вечером столько же, сколько пресловутой рыбке от не менее пресловутого зонтика. Но Ник все равно торчал в машине, дрожа от холода: батареи выключили — берегли зарядку. Он вдыхал хорошо знакомый ему густой дух засады: смесь запахов пота, виниловой отделки старого автомобиля, кофейного дыхания и — время от времени — беззвучных, но убийственно-пахучих пуков с переднего сиденья. Что поделать — он любил все это в те годы, когда работал на улице. Воспроизведя этот час под флэшбэком, Ник вспомнил, что позвонил Даре незадолго до полуночи. Он собирался сделать это раньше, но пришлось сходить на угол в круглосуточную забегаловку и взять кофе для товарищей. Дара тогда не ответила на звонок. Это удивило Ника, но не обеспокоило. Тем вечером — Ник вспомнил об этом только благодаря флэшбэку, восстановив ход событий с одиннадцати до двенадцати, — он сказал ей, что задержится допоздна, но не говорил, что будет на улице. Дара часто выключала телефон, если знала, что Ник в безопасности — сидит себе в своем кабинете. В ту ночь, как вспомнил теперь Ник, он проспал часа три на диване в Центральном управлении. Разбудили его после звонка начальника управления, поручившего Нику и его напарнице К. Т. Линкольн расследование убийства Кэйго: мол, выехавшим на место дежурным следователям не хватает опыта для ведения такого дела с политической подкладкой. На Ника тогда еще возлагали много надежд, а благодаря К. Т. Линкольн их тандем выглядел сбалансированным в расовом, гендерном и сексуально-ориентационном плане. (Начальник управления сказал, что доверил бы это дело следователю-японцу, но такового у них не нашлось. И вообще, признался шеф, во всей денверской полиции был лишь один сотрудник японского происхождения. Эта женщина работала первый год, патрульным, набивая шишки и набираясь опыта в районе Пяти Углов. За дело пришлось браться Нику Боттому и К. Т. Линкольн.) Ник взял пятнадцатиминутную ампулу, чтобы воспроизвести свой звонок Даре тем утром. Она почему-то восприняла эту новость совершенно спокойно, хотя раскрытие убийства Кэйго дало бы резкий толчок карьере мужа. Как помощник заместителя окружного прокурора, Дара прекрасно это понимала. Голос у нее был усталым, чуть ли не больным. Когда Ник сказал, что звонил ей около полуночи, последовала пауза — более заметная для второго Ника, восстанавливающего это мгновение под флэшбэком, чем для реального Ника, напичканного в то утро кофеином. Потом Дара сказала, что приняла лекарство, выключила телефон и рано улеглась спать. Дара — в ту ночь, на той улице, где стоял дом Кэйго. Лицо ее, мелькнувшее на три секунды в видеоролике, преследовало Ника: ничто так не преследовало его после смерти жены. Он загрузил видео в свой телефон и просмотрел этот кусок с десяток раз в своем боксе, на здоровенном трехмерном экране высокого разрешения, пытаясь получить как можно более четкое изображение. Иногда он был уверен, что видит Дару. А иногда, напротив, что это совсем не Дара — другая женщина, ничуть на нее не похожая. Кроме того, он три раза по пятнадцать минут флэшбэчил на телефонный разговор с женой тем утром, когда сказал ей об убийстве Кэйго, а потом снова и снова — на первую встречу с Дарой вечером того дня. Не вела ли она себя неестественно? Не вела ли она себя так, будто скрывала что-то от Ника? Он сходил с ума? Или уже сошел давным-давно?Место, которое все теперь называли «„Шесть флагов“ над евреями», находилось слева от виадука, где бульвар Спир пересекался с I-25. По другую сторону шоссе, на холме, к юго-западу от комплекса разбросанных зданий, возвышался центр временного содержания ДВБ «Майл-хай». Нику было в какой-то мере любопытно: почему парк аттракционов, превращенный в центр временного содержания, носит название «Шесть флагов»? Ведь сеть аттракционов «Шесть флагов» владела им всего лет десять, в самом начале века. В течение ста с лишним лет до этого и пары десятилетий после этого парк назывался «Элитч-гарденз». Теперь тут не виднелось никаких деревьев — Ник отметил это, сворачивая на громадную пустую парковку и следуя вдоль бетонных взрывозащитных плит к первому КПП. Он знал о прежнем «Элитч-гарденз» благодаря своему деду. Отец Ника, скончавшийся, когда сыну исполнилось пятнадцать, служил в полиции штата патрульным. Самые первые воспоминания Ника об отце были связаны с его оружием — большим револьвером «смит-и-вессон». Отца не убили в перестрелке: как и Ник, он никогда не пользовался оружием при исполнении. Он погиб в автокатастрофе на I-25, меньше чем в двух милях от того места, где разбились Дара и ее босс, заместитель окружного прокурора Харви Коэн. Отец Ника притормозил, чтобы помочь водителю, у которого заглох двигатель. В это время машину пьяного шестнадцатилетнего парня занесло на обочину, и Ник лишился отца. Дед Ника работал водителем автобуса в Денвере, а его прадед водил старинные троллейбусы, соединявшие город с окраинами и городками-спутниками; потом троллейбусы оказались вытеснены автомобилями. Ник слышал от своего деда Николаса забавные истории об «Элитч-гарденз». Много десятилетий тот повторял одно и то же: «Не видеть „Элитч-гарденз“ — значит не видеть Денвера». Открывшийся в 1890-м «Элитч-гарденз» первоначально отстоял на многие мили к западу от центра города, располагаясь в районе 38-й авеню и Теннисон-стрит. Эта окраина тогда больше походила на отдельную деревню. Первый «Элитч-гарденз» расширялся, но в нем сохранялись деревья, обширные цветники и затененные участки для пикников, где посетители могли съесть взятую с собой провизию. Лет сорок здесь находился зоопарк, на протяжении целого столетия действовал даже свой театр: там сначала выступали летние гастролеры, а потом, уже в двадцатом веке, — приглашенные кино- и телезвезды. К 1930-м годам «Элитч» построил танцевальный зал «Трокадеро», где играли джаз и мелкие группы, и большие оркестры. Дед Ника говорил, что по национальному радио даже шла передача «Вечер в „Трокадеро“». В 1950-е годывладельцы построили еще и «Киддилэнд» — площадку для детей с маленькими гоночными машинками, двухместными ракетными самолетами и настоящими плавающими «моторными лодками». Хотя до того считалось, что большие парки аттракционов предназначены для взрослых, «Киддилэнд» имел огромный успех. В 1994-м «Элитч» переместился на свое нынешнее место близ центра города, а два года спустя его приобрела компания, которая владела шестью другими парками «Шесть флагов» в разных частях страны. Новые владельцы залили траву и сады бетоном, «Киддилэнд» и другие тихие аттракционы окончательно превратились в сумасшедшие горки, а входная плата выросла настолько, что для посещения парка всей семьей приходилось чуть ли не просить кредит в банке. Когда компания в 2006 году продала парк, ее преемница вернула старое название, «Элитч-гарденз», но одновременно уничтожила последние остатки зелени и тех аттракционов, что не повышали уровень адреналина до запредельного. Ник знал все эти подробности, потому что для его деда и матери «Элитч» стал символом Америки конца двадцатого и начала двадцать первого века. Америки, которая от тишины, зелени, красоты и доступных семейных развлечений перешла к сумасшедшему и дорогущему ужасу с шестикратным ускорением. Ну что же, думал Ник, который припарковал машину и теперь шагал к КПП по растрескавшейся, вспучившейся, поросшей сорняками парковке, Америка получила весь ужас, на который только могла надеяться.
Охранники на первом КПП — бывшие полицейские — помнили Ника и встретили его по-доброму, а волшебная черная карточка, переданная Накамурой через Сато, сняла все вопросы. Один из охранников позвонил, чтобы Дэнни Озу сообщили о приходе гостя, и даже провел Ника по замысловатому лабиринту из лачуг, палаток, заброшенных аттракционов и открытых киосков. — Похоже, у них тут есть все, что нужно, — заметил Ник, чтобы завязать разговор. — О да, — ответил Чарли Дьюкейн, бывший патрульный, — лагерь вполне может существовать автономно. Здесь свои врачи, дантисты, психиатры и вполне порядочная клиника. И даже шесть синагог. — А сколько жителей? — Около двадцати шести тысяч, — сообщил Чарли. — С точностью до сотни-другой. Перепись, проведенная шесть лет назад, зафиксировала чуть более тридцати двух тысяч. Ник знал, что среди беженцев из Израиля много пожилых людей и во всех лагерях высока смертность от рака. Наружу почти никого не выпускали. Ник встретился с поэтом в пустой обеденной палатке под ржавеющими стальными виражами какой-то безумной «русской горки» и обменялся с ним рукопожатием: безжизненная, влажная, костлявая, слабая ладонь. Он недавно видел Дэнни Оза — во время флэшбэк-сеанса и на трехмерном воссоздании сцены убийства в квартире Кэйго Накамуры. За последние шесть лет этот человек ужасно постарел. Шесть лет назад Оз был, как и полагается поэту, худым, седым и несколько чахоточным с виду; волосы его к пятидесяти годам почти совсем поседели, но тощее тело хранило скрытую энергию взведенной пружины, а глаза оставались живыми, как и разговор. Теперь Ник видел перед собой живой труп: желтоватого оттенка кожа и белки глаз, волосы, пожелтевшие, как зубы у заядлого курильщика. Складки в уголках глаз и не лишенные привлекательности — как у старых ученых — морщины превратились в канавки и борозды на коже, туго обтягивавшей неровности черепа. Дэнни Оз пережил то, что евреи называли вторым холокостом, но в результате облучения заболел раком (все одиннадцать бомб, что смастерили правоверные, были воистину грязными). Правда, Ник не помнил, что за разновидность рака его поразила. Но какая разница? Главное, что этот рак медленно убивал поэта. — Рад снова видеть вас, детектив Боттом. Удалось ли вам поймать убийцу Накамуры? — Я уже не детектив, мистер Оз. Меня уволили из полиции, я не работаю в ней больше пяти с половиной лет. И к раскрытию того убийства они сегодня близки ровно так же, как и шесть лет назад. Дэнни Оз глубоко затянулся сигаретой (Ник с опозданием сообразил, что это конопля: вероятно, она служила болеутоляющим) и, прищурившись, посмотрел на Ника сквозь облачко дыма. — Если вы больше не работаете в полиции, мистер Боттом, чему я обязан удовольствию видеть вас? — Меня нанял отец убитого, — объяснил Ник. Про себя он отметил, что даже с учетом действия конопли и вероятности того, что Оза только-только разбудил звонок, взгляд поэта был слишком уж ненаправленным. Оз смотрел в никуда поверх правого плеча Ника. Ник знал этот взгляд тысячелетнего старика — он встречал его в зеркале, когда решал утром, что надо побриться. Дэнни Оз употреблял гораздо больше флэшбэка, чем шесть лет назад. — Так что, будут вопросы шестилетней давности? Или вы пришли с новыми? — спросил Дэнни Оз. — Вам не приходило в голову ничего, что могло бы нам помочь, мистер Оз? — Зовите меня Дэнни. Нет, не приходило. Вы и ваши коллеги все еще полагаете, что Кэйго Накамуру убили из-за его видеоинтервью? Что-то там будто бы проскочило? — У меня нет никаких «коллег», — сказал Ник, слабо улыбнувшись. — И у меня нет ничего столь изящного или продвинутого, как гипотеза. Боюсь, что мы топчемся на месте. — Что ж, все равно это удовольствие для меня — поболтать с персонажем из «Сна в летнюю ночь».[53] Я часто думал о том, что вы мне сказали. — И что я вам сказал? — Что пока ваша жена не назвала вас персонажем шекспировской пьесы, вы не знали об этом. Теперь Ник улыбнулся во весь рот. — У вас чертовски хорошая память, мистер… Дэнни. «Если только ты тоже не флэшбэчил на нашу последнюю встречу. Хотя с какой стати тратить на это деньги и наркотик? Чтобы не запутаться в показаниях?» — Правда, Дара еще не была моей женой, когда сообщила мне о другом Нике Боттоме, — уточнил он. — Мы тогда… ну, только встречались. Она заканчивала университет, а я был уже полицейским и снова ходил на лекции, чтобы получить степень магистра. — И как вы отнеслись к этой новости? То есть к своим ослиным ушам и возможной любовной связи с царицей фей? — Принял к сведению, — сказал Ник. — Дару интересовало видение другого Ника Боттома. Или то, что он называл сном, от которого пробудился. Она считала, что и меня в будущем ждет такое же радостное пробуждение… откровение, по ее словам. На первом нашем свидании она прочла мне наизусть почти весь этот пассаж. И тем произвела на меня сильное впечатление. Дэнни Оз улыбнулся, глубоко затянулся косячком и загасил его в банке из-под кофе, которая служила пепельницей. Потом он закурил другую сигарету — на этот раз обычную, и, кажется, даже с большим удовольствием, — прищурился, глядя на Ника сквозь дым, и выдал цитату: — «Когда подойдет моя реплика, позовите меня и я отвечу. Теперь мне нужны слова: „Прекраснейший Пирам“. Эй, вы там! Питер Клин! Дуда, починщик раздувальных мехов! Рыло, медник! Заморыш! Боже милостивый, все удрали, пока я спал! Мне было редкостное видение. Мне был такой сон, что человеческого разума не хватит сказать, какой это был сон. И тот — осел, кто вознамерится истолковать этот сон. По-моему, я был… никто не скажет чем. По-моему, я был, и, по-моему, у меня было, — но тот набитый дурак, кто возьмется сказать, что у меня, по-моему, было. Человеческий глаз не слыхивал, человеческое ухо не видывало, человеческая рука не способна вкусить, человеческий язык не способен постичь, человеческое сердце не способно выразить, что это был за сон. Я скажу Питеру Клину написать балладу об этом сне. Она будет называться „Сон Мотка“, потому что его не размотать. И я хочу ее спеть в самом конце представления перед герцогом; и, может быть, чтобы вышло чувствительнее, лучше спеть этот стишок, когда она будет помирать».[54] Нику показалось, будто его ударило током. Прежде он слышал эти слова только от Дары. — Я уже говорил, что у вас чертовски хорошая память, мистер Оз. Оз пожал плечами и глубоко затянулся, словно дым уменьшал боль. — Мы, поэты, помним всякие слова. Именно это, среди прочего, делает нас поэтами. — У моей жены была одна из ваших книг, — сказал Ник и тут же мучительно раскаялся в сказанном. — Один из ваших стихотворных сборников. На английском. Она показала мне ее, после нашего с вами разговора шесть лет назад. «Меньше чем за три месяца до ее смерти». Дэнни Оз чуть улыбнулся, ожидая продолжения. Понимая, что надо сказать хоть что-то о стихах Оза, Ник добавил: — Вообще-то я не понимаю современных стихов. Теперь Оз улыбнулся по-настоящему, показывая большие желтые от никотина зубы. — Боюсь, что мои стихи так и не стали современными, детектив… то есть мистер Боттом. Я писал эпические произведения, на манер старика Гомера. Ник поднял руки — мол, сдаюсь. — Вы с вашей будущей женой, — начал Оз, — на первом свидании разбирали, о чем говорит шекспировский Ник Боттом в этом пассаже? Ножевая рана, полученная в Санта-Фе и повредившая глубокие брюшные мышцы, сразу заныла, точно свежая, обожгла огнем внутренности. На кой ляд вспоминать Дару и эти треклятые строки из пьесы? Оз даже не знает, что Дара умерла. Нутро у Ника сжалось — что еще скажет умирающий поэт? Он поспешил нарушить молчание, прежде чем Оз заговорит. — Да, типа того. Моя жена была специалистом по английской литературе. Нам обоим показалось странным, что у пробудившегося Боттома все чувства перепутались. Ну, вы понимаете — глаз не слышал, ухо не видело, рука не чувствовала вкуса… вся эта ерунда. Мы решили, что сон Боттома запутал его чувства, вроде нервной болезни… как ее там? — Синестезия, — подсказал Дэнни Оз, стряхивая пепел в банку из-под кофе. На лице его снова мелькнуло подобие кривой самоироничной улыбки. — Я знаю это слово только потому, что именно оно обозначает в текстах прием, когда термины из одной области восприятия употребляются для описания другой. Ну, например… «громкий цвет». Да, очень странно, что Шекспир использует там синестезию еще раз, позднее. Когда актеры в пьесе внутри пьесы спрашивают Тезея, герцога Афинского, не угодно ли ему «посмотреть» эпилог или же «услышать» бергамасский танец. — Я вообще-то не очень понимаю всю эту литературщину, — сказал Ник, подумывая, не стоит ли прервать разговор, встать и уйти. Оз продолжал. Его полные боли глаза, казалось, загорелись новым интересом. Он прищурился, глядя сквозь дым. — Но очень странно использовать старое слово, которое обретает свое истинное значение. Боттом в конце речи об этом сне-откровении говорит, что, когда его друг Питер Клин переложит сон в балладу, он, Ник, собирается «спеть этот стишок, когда она будет помирать». Но кто будет помирать? Кто эта «она»? Нож повернулся в животе Ника Боттома. Он заговорил сквозь зубы: — Как там ее зовут? Женщина, умирающая в пьесе, которую этот Моток ставит для герцога. Дэнни Оз покачал головой. — Фисба? Нет, не думаю. И он имеет в виду не смерть Титании, царицы фей, с которой Моток, видимо, спал. Кто эта женщина, у смертного ложа которой он собирается пропеть крайне важную балладу? Полнейшая загадка… нечто высшее или постороннее по отношению к пьесе. Это вроде ключа к тайне самого Шекспира, на который никто не обратил внимания. «Да насрать мне на все эти дела», — зло подумал Ник. Оз, занятый собой и сигаретой, все же явно заметил, что собеседник взбешен. Но его взгляд тысячелетнего старика теперь был более свободным и сосредоточенным, чем за все время с начала их беседы. Ник остро ощущал тяжесть девятимиллиметрового пистолета на своем бедре. Если он сегодня выстрелит Дэнни Озу в голову, им обоим от этого станет только лучше. — Это весьма любопытно — анализировать с литературной точки зрения ваше имя, мистер Боттом… но, насколько я понимаю, вы хотите задать мне несколько вопросов. — Да, всего несколько, — подтвердил Ник, осознав, что его пальцы уже лежат на рукояти пистолета под свободной рубашкой. Лишь ценой большого усилия он вернул потную руку на стол. — Главным образом я хотел узнать, не помните ли вы подробностей своего интервью, которое дали Кэйго Накамуре. Оз покачал головой. — Полная банальность… я про его вопросы и мои ответы. Молодой мистер Накамура интересовался нами… мной… всеми израильскими беженцами здесь только в смысле употребления нами флэшбэка. — И вы сказали ему, что употребляете флэшбэк. Оз кивнул. — Один вопрос… Он интересовал меня еще шесть лет назад, но я слишком нервничал, чтобы его задать, мистер Боттом. Вы спрашивали у всех нас, кого интервьюировал Кэйго Накамура в последние дни жизни, чем именно он интересовался. Но почему вы просто не просмотрели отснятый им материал? Или вы зачем-то проверяли нашу память, а может, нашу честность? — Камеру и чипы памяти похитили в ночь убийства Кэйго Накамуры, — объяснил Ник. — Кое-что удалось извлечь из подготовительных записок и рассказов ассистентов. Но если не считать этого, то мы понятия не имели, какие вопросы он задавал вам и другим беженцам в последние четыре дня работы. — А, тогда понятно, — кивнул Оз. — Знаете, Кэйго Накамура задал мне вопрос, который, кажется, тогда не всплывал в разговорах с полицией… я вспомнил лишь недавно. Он спросил меня, употребляю ли я Эф-два. — Эф-два? — потрясенно переспросил Ник. — Как по-вашему, он думал, что Эф-два существует? — Именно это и странно, мистер Боттом. Да, он так думал. Ф-2, флэшбэк-два — о нем ходили слухи уже больше десятилетия. Говорили, что это улучшенный флэшбэк, что он позволяет не только возвращаться в прошлое, но и проживать вымышленные варианты своей жизни. Некоторые утверждали — вот уже пятнадцать лет подряд, — что наркотик совсем скоро будет продаваться на улице, и добавляли, что это смесь обычного флэшбэка со сложным галлюциногенным составом. Состав способствует выделению эндорфинов, отчего фантазии под Ф-2 всегда приятны: никаких кошмаров. Заснув под действием Ф-2, человек никогда не чувствует боли. Верившие в существование Ф-2 сравнивали этот мифический наркотик с монтажом отснятых пленок или вставкой в видео специальных цифровых эффектов. Прошлое, переживаемое заново при помощи всех органов чувств под действием обычного флэшбэка, станет своего рода черновым материалом для счастливых снов со всеми флэшбэк-ощущениями — зрительными, обонятельными, вкусовыми и осязательными. Вот только направлять их будет ваша фантазия. Пока Ник не понял, что это лишь миф, что Ф-2 нет нигде в мире, ни на каких улицах, он воображал, как станет не только заново жить вместе с Дарой, но и выстраивать вместе с ней новое будущее, задействуя воображение. — И что вы ответили на это Кэйго Накамуре? — спросил Ник. — Я сказал, что не верю, что наркотик такого типа никогда не появится, — ответил Оз, глубоко затянулся, задержал дым в легких, а потом чуть ли не с сожалением выдохнул. — И еще я сказал, что, если он все же появится, я почти наверняка не буду им пользоваться: мне хватает фантазий, создаваемых моим разумом. Я объяснил, что флэшбэк нужен мне для переживания одного и того же момента, снова и снова. Поэт почти докурил свою сигарету. — Можете назвать меня одержимым, — закончил он. — Вы все еще употребляете? — спросил Ник. Он знал ответ, но было любопытно, расколется ли Оз. Поэт рассмеялся. — О да, мистер Боттом. Больше, чем когда-либо. Я провожу под флэшбэком не меньше восьми часов каждый день. Возможно, я буду флэшбэчить в тот момент, когда рак простаты убьет меня. «Где же ты достаешь такую чертову прорву денег на наркотики?» — подумал Ник, но задавать этот вопрос не стал. Вместо этого он кивнул и сказал: — Когда мы с вами беседовали шесть лет назад, вы, кажется, не говорили, на что именно флэшбэчите. Вы сказали, что Кэйго не спрашивал вас… хотя, кажется, этим он должен был интересоваться в первую очередь. — Не спрашивал, — подтвердил Оз. — И это крайне странно. И вообще странно, что он решил взять интервью у меня. — Это почему? — Видите ли, Кэйго Накамура снимал документальный фильм о флэшбэкерах-американцах. Темой картины и ее центральной метафорой был закат некогда великой культуры, которая отвернулась от будущего и стала одержима собственным прошлым… триста сорок миллионов человек, одержимых своим прошлым. Но я не американец, мистер Боттом. Я израильтянин. Или был им. Вопрос о том, почему Кэйго взял интервью у Оза, не возникал во время допроса, шесть лет назад. Ник не знал, важно это или нет. Но это явно было странно. — Так на что вы флэшбэчите, мистер Оз? Поэт прикурил новую сигарету от бычка и загасил окурок. — Во время атаки я потерял всю свою большую семью, мистер Боттом. Родителей — они тогда были еще живы. Двоих братьев и двух сестер. Все состояли в браке, все с семьями. Погибла моя молодая вторая жена и наши малыши — мальчик и девочка. Дэвиду было шесть, а Ребекке — восемь. Погибла моя первая жена Лия, с которой я сохранял хорошие отношения. И наш с ней сын Лев, двадцатилетний парень. Все они погибли за двадцать минут в ядерном аду или позднее, когда вторглись арабы в дешевых антирадиационных костюмах российского производства. — Значит, вы флэшбэчите, чтобы проводить время с ними, — устало сказал Ник. Он еще собирался сегодня в Боулдер, чтобы переговорить с Дереком Дином в Наропе. Но сил ехать в такую даль, а тем более вести еще один разговор, уже не оставалось. — Никогда, — сказал Дэнни Оз. Ник выпрямился и удивленно поднял бровь. Оз улыбнулся с почти безграничной печалью и стряхнул пепел с сигареты. — Я ни разу не использовал флэшбэк, чтобы вернуться к семье. — А для чего тогда? На что вы флэшбэчили, мистер Оз? Следовало бы добавить вежливую фразу, например, «если вы не против такого вопроса», но Ник забыл, что больше не служит в полиции. Забыть об этом — такого с ним давно не случалось. — На день нападения. Я снова и снова воспроизвожу день гибели моей страны. Каждый день моей жизни. Каждый раз, когда флэшбэчу. Видимо, на лице Ника появилось недоверчивое выражение. Оз кивнул, словно давая понять, что понимает чувства собеседника. — В этот момент я вместе с другом-археологом был на раскопках в южном Израиле, в Беэр-Шеве, — сказал он. — Считалось, что это остатки библейского города Беэр-Шевы. Ник никогда о таком не слышал, но, с другой стороны, он тридцать с лишним лет не перечитывал Библию и плохо знал географию. Да и к чему теперь знать географию мертвой зоны? — Беэр-Шева располагалась к северу от экспериментальной фермы Хават-Машаш, — прибавил Оз. Об этом Ник определенно слышал. После уничтожения Израиля об экспериментальной ферме Хават-Машаш узнали все. Как выяснилось, ферма была прикрытием для подземной лаборатории по выпуску бактериологического оружия: именно там осуществили разработку и наладили массовое производство наркотика, известного теперь под названием «флэшбэк». Он задумывался как экспериментальный препарат неврологического действия для использования при допросах. Препарат похитили со склада лаборатории Хават-Машаш и начали продавать в Европе и на Ближнем Востоке за много месяцев до уничтожения Израиля. Ник упомянул об этом географическом совпадении. Поэт покачал головой. — Не думаю, что там была биологическая лаборатория, мистер Боттом. Я много лет провел в этом районе со своими друзьями-археологами. У меня были и другие друзья, которые работали на реальной ферме Хават-Машаш, помогали управлять ею. Там не было тайных бункеров. На ферме занимались сельскохозяйственными исследованиями. А если и разрабатывали секретные вещества, хоть в какой-то мере близкие к наркотикам, то это были средства для улучшения пестицидов, чтобы уменьшить урон для окружающей среды. Ник пожал плечами. Пусть Оз отрицает это, если ему нравится. После падения бомб всем стало известно, что флэшбэк создали в лаборатории Хават-Машаш, где работали над бактериологическим оружием. Некоторые считали, что ядерная атака явилась — по крайней мере, отчасти — наказанием за утечку наркотика со склада, его копирование и распространение. Нику было все равно, так это или нет. — А чем поэт занимался на археологических раскопках? — спросил Ник. Он полез было в карман спортивной куртки, где в годы службы носил маленькую записную книжку, но не нашел ее там. — Я писал цикл стихов о пересечении времен, о сосуществовании прошлого и настоящего и об энергетике некоторых мест на земле, дающей нам увидеть это. — Похоже на научную фантастику. Дэнни Оз кивнул, щурясь сквозь дым, потом стряхнул пепел. — Да, похоже. Во всяком случае, я провел в Беэр-Шеве несколько дней с Тоби Герцогом, внуком археолога из Тель-Авивского университета. Этот археолог со своей командой первым начал там раскопки. Они обнаружили новую систему емкостей, более глубоких и обширных, чем громадные цистерны, найденные десятилетия назад. Это место славилось своей водой — в скалах, на большой глубине, имелось множество глубоких колодцев и древних резервуаров. А весь район был обитаемым с медного века, то есть приблизительно с четвертого тысячелетия до нашей эры. «Беэр» означает «колодец». Этот город много раз упоминается в Танахе,[55] часто в ритуальном смысле, для обозначения границ Израиля в те дни — например, «от Дана до Беэр-Шевы». — И вы спаслись потому, что находились под землей, — нетерпеливо сказал Ник. Оз улыбнулся и закурил новую сигарету. — Именно так, мистер Боттом. Вы никогда не задумывались о том, каким образом древние строители освещали свои пещеры и глубокие туннели? Скажем, в индийских храмовых пещерах, Эллоре или Аджанте. «Нет», — подумал Ник. — Факелами? — предположил он. — Часто — да. Но иногда они делали то, что сделали мы в Тель-Беэр-Шеве. Генератор, который привез Тоби Герцог, сломался, и его аспиранты установили несколько больших зеркал так, чтобы солнечный свет попадал в отводы пещеры, — по зеркалу на каждом повороте. Вот так я и видел конец света, мистер Боттом. Отраженным девять раз в зеркале размером четыре на шесть футов. Ник ничего не сказал. Где-то неподалеку, в палатке или лачуге, то ли напевал, то ли стонал от боли старик. — Если уж речь зашла о зеркалах… — улыбнулся Оз. — Сегодня многие зеркала здесь прикрыты. Мои двоюродные братья — более ортодоксальные иудеи, чем я, — сидят шиву[56] по их раввину, недавно умершему от рака прямой кишки. Думаю, пришло время для сеудат хавраах — трапезы утешения. Не хотите яйцо вкрутую, мистер Боттом? Ник покачал головой. — Значит, вы сказали Кэйго, что флэшбэчите на воспоминания о взрывах, которые видели в зеркале? — Ядерных взрывах, — поправил Оз. — Одиннадцать взрывов, и все были видны из Тель-Беэр-Шевы. Но я не сказал об этом молодому мистеру Накамуре: как я уже говорил, он об этом не спрашивал. Его больше интересовало, насколько распространен флэшбэк в лагере, как мы его покупаем, почему власти разрешают это и так далее. Ник подумал, что, пожалуй, пора уходить. Этот сумасшедший старый поэт не может сообщить ничего интересного. — Вы когда-нибудь видели ядерный взрыв, мистер Боттом? — Только по телевизору, мистер Оз. Поэт выдохнул еще одно облачко дыма, словно за ним можно было спрятаться. — Мы, конечно, были в курсе, что у Ирана и Сирии есть ядерное оружие. Но «Моссад» и израильское руководство, я уверен, не знали, что зарождающийся Халифат уже производит примитивные термоядерные боеголовки. Да, слишком тяжелые для установки на ракету или самолет. Но, как известно, доставка того, что предназначалось для нас, не требовала ни ракет, ни самолетов. Видимо, чувствуя нетерпение Ника, Оз перешел на скороговорку: — Но сами взрывы невероятно красивы. Конечно, пламя и пресловутое грибообразное облако, но еще невероятный спектр цветов, оттенков, слоев: синий, золотой, фиолетовый, десятки оттенков зеленого и белого. Много белых колец, и они расширяются. В тот день было ясно, что мы наблюдаем энергию, равную энергии самого творения. — Удивительно, что не случилось землетрясения и всех вас не погребло заживо. Оз с улыбкой затянулся. — Нет-нет, оно случилось. Нам понадобилось девять дней, чтобы выбраться из обрушившихся резервуаров Тель-Беэр-Шевы. И это преждевременное погребение спасло нам жизнь. Мы пробыли на поверхности всего несколько часов, когда американский военный вертолет нашел нас и доставил на авианосец, — тех, кого не засыпало землей. И все то время, когда я бодрствую и не под флэшбэком, я пытаюсь воссоздать в своем воображении красоту этих взрывов, мистер Боттом. «Совсем рехнулся», — подумал Ник. С другой стороны, как было не рехнуться? Вслух он сказал: — С помощью вашей поэзии. Это не было вопросом. — Нет, мистер Боттом. После атаки я не написал ни одного стихотворения. Я учился рисовать. В моем жилище здесь полно полотен, на которых можно увидеть цвет плеромы, освобожденной в тот день архонтами и их демиургом. Хотите посмотреть? Ник бросил взгляд на часы. — Извините, мистер Оз. У меня нет времени. Еще один-два вопроса — и я пойду. Вы были на вечеринке у Кэйго Накамуры в день его убийства? — Это вопрос, мистер Боттом? — Да. — Вы спрашивали меня об этом шесть лет назад, и уверен, что вы знаете ответ. Да, я был там. — Вы говорили с Кэйго Накамурой тем вечером? — И об этом вы меня спрашивали. Нет, в тот вечер я не видел режиссера. Он был наверху — где его и убили, — а я все время оставался на первом этаже. — Вы без… труда… добрались до его дома? Оз закурил еще одну сигарету. — Без труда. Идти было недалеко. Но вы спрашиваете не об этом? — Не об этом, — сказал Ник. — Ведь вы — обитатель лагеря беженцев. Вам не разрешается выходить за его пределы. Как вам удалось попасть на вечеринку к Кэйго Накамуре? — Меня пригласили, — сказал поэт, глубоко затягиваясь новой сигаретой. — Нам разрешают небольшие прогулки, мистер Боттом. Никого это не волнует. У всех еврейских беженцев есть вживленные импланты. Такие же, как у закоренелых преступников, а не юных правонарушителей. — Вот как? Поэт покачал головой. — Яд, выделяемый имплантом, не убивает нас. Нам просто становится хуже, пока мы не возвращаемся в лагерь за антидотом. — Вот как? — повторил Ник, потом спросил: — В ночь убийства вы ушли с вечеринки вместе с Делроем Ниггером Брауном. Почему? Оз выдохнул дым и то ли закашлялся, то ли рассмеялся. — Делрой поставлял мне флэшбэк, детекти… мистер Боттом. Здесь его продают охранники, но они берут комиссионные — половину стоимости. Я покупал флэшбэк у Дел роя Брауна, когда мог. Он живет в старом викторианском доме на холме, к востоку от междуштатной. Ник потер щеку и понял, что утром забыл побриться. Оз рассуждал вполне разумно, но все же Нику казалось странным, что Кэйго брал интервью у Брауна и Оза в последние дни своей жизни. Если только сам Браун не привел Оза к Кэйго. Но возможно, на самом деле это не имело значения. — Я никогда не понимал, почему правительство не позволяет израильским беженцам интегрироваться в американское общество, — сказал Ник. — Я о чем: здесь у нас около двадцати пяти миллионов мексиканцев, которые по образованию и воспитанию стоят куда ниже вас, бывших израильтян. — Вы слишком добры, мистер Боттом, — сказал Дэнни Оз. — Но американское правительство не могло впустить нас в Америку и позволить нам жить здесь вместе с семьями. Вы ведь помните, что сюда приехали более трехсот тысяч выживших израильтян. А с вашей экономикой, на двадцать третьем году выхода из рецессии… — И все же… — начал было Ник. Голос Оза внезапно сделался резким. Сердитым. — Правительство Соединенных Штатов боялось и боится разозлить Всемирный Халифат, мистер Боттом. Халифат ждет не дождется, когда нас можно будет уничтожить. А то, что иронически называют правительством Соединенных Штатов, боится их разозлить. Ник моргнул, словно получил пощечину. — Вы из тех, кто прикидывается, будто Халифата и разделения Европы не существует? — спросил Дэнни Оз. — И не хочет признавать тот факт, что в Соединенных Штатах… в том, что от них осталось… ислам вербует себе сторонников быстрее, чем другие религии. — Ничего я не прикидываюсь, — холодно сказал Ник. Честно говоря, он совсем не интересовался ни Халифатом, ни внешней политикой вообще. Ему-то что до этого? У Дары была единокровная (кажется) сестра, которая потерялась во всеобщем зиммитюде — где-то во Франции, Бельгии или другой разделенной стране, где возобладали законы шариата. Но ему-то что? Дара никогда не видела своей сестры. Оз снова улыбнулся. — Любопытно, что они снова убили шесть миллионов наших, мистер Боттом. Ник уставился на поэта. — Прямо какая-то магическая цифра, — продолжил тот. — Население Израиля во время атаки составляло примерно восемь с четвертью миллионов, из них два с лишним — израильские арабы или иммигранты-неевреи. Около миллиона израильских арабов погибли вместе с теми, кто стал объектом атаки. Но шесть миллионов евреев скончались либо во время взрывов, либо вскоре после нападения, от лучевой болезни — ведь это были очень грязные бомбы, — или же пали от руки вторгшихся арабских солдат. Около четырехсот тысяч сгорели в Тель-Авиве и Яффе. Триста тысяч превратились в пепел в Хайфе. Двести пятьдесят тысяч — в Ришон-Ле-Ционе. И так далее. Иерусалим, конечно, не подвергся бомбардировке, поскольку именно из-за него состоялись и ядерная атака, и вторжение. Арабам он был нужен в целости и сохранности. Оставшихся евреев — шестьсот с чем-то тысяч — взяли в плен бойцы в защитных костюмах, и больше их никто не видел. Правда, мелькали сообщения, что один из больших каньонов в Синае заполнен трупами. Не понимаю только, почему не реализовали план «Самсон». — А что это такое? — Вы, наверно, догадываетесь, мистер Боттом, что я был либералом. Немалую часть моей жизни я провел, протестуя против политики государства Израиль: участвовал в маршах мира, подписывался в защиту мира, пытался поставить себя на место несчастного униженного народа Палестины… Кстати, в Газе погибло около восьмидесяти процентов населения, когда на север и на восток понесло радиоактивные осадки от той бомбы, что уничтожила Беэр-Шеву и с ней — двести тысяч евреев. Но я каждый день спрашиваю себя, почему не был введен в действие план «Самсон», о котором я слышал всю жизнь… По слухам, так назывался план действий на случай применения против Израиля оружия массового поражения или при неминуемой угрозе вторжения. Предполагалось использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить столицы всех арабских и исламских государств в пределах досягаемости. А эти пределы для Израиля в те дни были куда шире, чем можно было подумать. За много десятилетий до этого, когда Израиль втайне создал первую бомбу, генерал Моше Даян заявил: «Израиль должен быть как бешеная собака — таким опасным, чтобы его боялись тронуть». Но как показали события, мы оказались не такими. Вовсе не такими. — Да, — согласился Ник. — Вовсе не такими. Он поднялся, собираясь уходить. — Я провожу вас до ворот, — сказал Дэнни Оз, закуривая новую сигарету. Выйдя из палатки, они обнаружили, что из-за гор нанесло грозовые тучи. Над лагерем нависал проржавевший стальной скелет двухсотфутовой Башни судьбы. Аттракцион-переправа под названием «Гибельный каньон» был разобран на строительные материалы, сложенные у них за спиной. Из некоторых палаток, хижин и заброшенных аттракционов снова доносились еврейские молитвы или крики скорби. Когда они приблизились к воротам, Дэнни Оз сказал: — Пожалуйста, передавайте привет вашей жене Даре, мистер Боттом. Ник резко развернулся. — Что? — Простите, разве я вам не говорил? Я познакомился с ней шесть лет назад. Восхитительная женщина. Прошу вас передать ей мои наилучшие пожелания. Девятимиллиметровый «глок» мгновенно оказался в руке Ника; он прижал дуло к виску Дэнни Оза и притиснул едва стоящего на ногах поэта к металлической стойке. Своим предплечьем Ник плотно и тяжело придавил горло Оза. — Что это за херню ты несешь? Где ты с ней познакомился? Как? Старик не сводил глаз с пистолета, но Ник видел в них что-то вроде нетерпения. Оз хотел, чтобы Ник нажал на спусковой крючок. И Ник был готов к этому. — Я… познакомился с ней… я… не могу говорить… ваша рука… Ник чуть-чуть ослабил давление, но зато сильнее прижал «глок» к виску Оза. Стальное колечко порвало пергаментную кожу на лбу умирающего. — Говори! — приказал Ник. — Я познакомился с миссис Боттом в тот день, когда Кэйго Накамура брал у меня интервью, — сказал Оз. — Она провела там около часа, я представился и… — Моя жена была там с Кэйго Накамурой? Ник большим пальцем взвел курок. — Нет-нет… по крайней мере, я так не думаю. Она стояла в толпе с каким-то мужчиной, но чуть в стороне, наблюдая за интервью… Наша беседа, как вы понимаете, носила вполне публичный характер, так что на заднем плане ролика, наверное, была тогдашняя карусель. — Кто этот мужчина? — Понятия не имею. — Как он выглядел? — Невысокий, плотный, средних лет, почти совсем лысый. Потертый портфель, усы, старомодные очки. Ну, такие — без ободков. Ник знал этого человека — Харви Коэн, помощник окружного прокурора, у которого Дара работала секретарем. Но что, черт возьми, им обоим нужно было здесь, в «„Шести флагах“ над евреями», в тот день, когда Кэйго Накамура брал интервью у Оза? — Вы видели, как женщина, которую вы сочли моей женой, говорила с Кэйго или его людьми? — Нет. — Что она вам сказала, когда вы представились? — Что интервью очень интересное, что погода в этот октябрьский день превосходная — так, разговор ни о чем. Но когда она сообщила, что ее зовут Дара Фокс-Боттом, у нас завязалась беседа о «Сне в летнюю ночь». Она сказала, что ее муж служит в денверской полиции. — Почему, черт побери, вы не сказали, что знаете ее, на допросе шесть лет назад? — осведомился Ник, еще сильнее впечатывая дуло в кровоточащий лоб Оза. — Мне это тогда не показалось важным, — выдохнул тот, все еще дыша с трудом, хотя Ник почти перестал давить на горло. — С вами была эта женщина-детектив, когда вы допрашивали меня… то есть мне и в голову не пришло, что появление вашей жены здесь в рабочее время с невысоким лысеющим джентльменом что-то значит… Но поскольку меня подозревали в убийстве Кэйго Накамуры, я решил, что лучше не упоминать об этом. — Однако сейчас вы об этом упомянули? — сказал Ник, держа палец на спусковом крючке — но не на спусковой скобе. — Это из-за сегодняшнего разговора о… сне Мотка. Если хотите меня застрелить — стреляйте, мистер Боттом. Если нет — отпустите меня. Две минуты спустя Ник его отпустил. Больше тут искать было нечего. Когда Ник двинулся прочь от этого умирающего еврея и всех других умирающих евреев и вышел из лагеря, начался дождь. На парковке рядом с мерином Ника стоял Хидэки Сато. Ник проигнорировал его, сел в машину, хлопнул дверью и повернул ключ. Ничего. Приборы показывали полную разрядку. Машина была абсолютно мертва, хотя аккумуляторов должно было хватить еще на миль десять — пятнадцать. — В жопу! — воскликнул Ник. — В жопу! В жопу! В жопу! Он вылез из машины и щелкнул предохранителем своего «глока». Сато отступил за свой автомобиль. Ник пять раз выстрелил через капот в аккумуляторы и давно выхолощенный двигатель, шесть раз — в лобовое стекло и еще четыре — в передние колеса и снова в капот. — В жопу! В жопу! В жопу! В жопу! В жопу! Он продолжал жать на собачку, но боек ударял по пустому патроннику. Из будки у ворот выскочили четыре охранника — щитки шлемов опущены, автоматы на изготовку. Сато поднял свой значок — мол, не вмешивайтесь. Ник направил «глок» на японца, но затвор отошел назад: магазин был пуст. Сато смотрел на мерина. Убитый аккумулятор под капотом тихонько потрескивал, простреленные шины выпускали остаток воздуха. — Мне всегда хотелось сделать это с какой-нибудь машиной, — сказал Сато и повернулся к Нику. — У нас нехороший день?
1.08 Народная Республика Боулдер 13 сентября, понедельник
Ряд неподвижных гигантских ветряков шел по всей длине континентального водораздела[57] — от Вайоминга на севере за Пайкс-Пиком, на сто шестьдесят миль к югу. Этот ряд заброшенных ветряков представлялся Нику Боттому обветшавшим некрашеным частоколом, каждая отдельная штакетина которого поднималась в колорадское небо почти на четыреста футов. Частоколом — или, может быть, клеткой. Мальчишкой Ник любил смотреть на высокие пики, на подпирающие небо заснеженные вершины, но за последние десятилетия он отучил себя глядеть на запад. По оценкам некоторых ученых, «озеленение» энергетической системы Америки с помощью ветряков привело к гибели более чем четырех миллиардов перелетных и ночных птиц. Ник всегда представлял себе огромные груды птичьих тел у основания облупившихся, ржавеющих генераторов… во времена, когда те еще работали. Ветряки никогда не вырабатывали достаточно энергии, чтобы окупить расходы на свое обслуживание и содержание, и сеть кабелей, проложенных по снежным полям и скалистым отрогам высоких гор, напоминала Нику варикозные вены на серой коже ног умирающего старика. Приказавший долго жить Евросоюз забросил все свои экономически нецелесообразные ветрогенераторы, а Соединенные Штаты с их непрактичной новой администрацией тратили остатки средств на поддержание «зеленой» энергетики. Народная Республика Боулдер покупала электричество, вырабатываемое одним из производимых массово ВТГО-реакторов (высокотемпературных, с газовым охлаждением), что стояли на равнинах к западу от Шайенна, штат Вайоминг. Но официально власти города-республики продолжали утверждать, что придерживаются «зеленых» технологий. Будь у Ника выбор, он не поехал бы в Народную Республику на встречу с одним из тех, у кого брал интервью Кэйго, — с Дереком Дином. Будь у Ника выбор, он вернулся бы к себе на Черри-Крик и несколько часов флэшбэчил бы на свои разговоры с Дарой тогда, когда Оза только начали допрашивать. Возможно, он упустил что-то из сказанного ею, что-то, способное объяснить… Выбора у него не было. За рулем сидел Сато, который настаивал на этой встрече. Более того: на заднем сиденье лежал запас флэшбэка для Ника, но Сато сказал, что отдаст ампулы только после этого идиотского, бессмысленного разговора Ника с Дереком. И потому Ник молча сидел в машине, ошеломленный известием Дэнни Оза о том, что Дара присутствовала при интервью, которые брал Кэйго. Он смотрел, как приближается белый частокол горделивого — некогда — континентального водораздела. У таможенного въезда стояла очередь из машин, ехавших на северо-запад, по 36-му хайвею, в Народную Республику: минут на сорок. — У вас есть с собой физический паспорт, Боттом-сан? — спросил Сато. Ник кивнул. Сато направил бронированную «хонду» на пустую крайнюю левую полосу для дипломатических машин, показал две черные НИКК и старые бумажные паспорта — НРБ все еще требовала их. Остальные досмотровые пункты они миновали за полминуты.В Колорадо отношение к НРБ было разным: от односторонней любви и односторонней ненависти до взаимной любви и взаимной же ненависти. Отец Ника относился к ней сурово. Как бывший патрульный, он постоянно ворчал, утверждая, что в 60-е годы Боулдер и его университет стали одним из главных в стране рассадников наркотиков, секса, спортивных игр и полнейшего отрицания всякой власти (при условии, что родители продолжают оплачивать твои счета и обучение). Он любил напоминать сыну, что эти среднеконтинетальные заложники Лета любви вырастали, старели (не состригая своих поседевших косичек — «крысиных хвостиков», по определению старика) и издавали законы. За два десятилетия до рождения Ника муниципальные чиновники Боулдера с поседевшими крысиными хвостиками издали драконовские законы, ограничивающие рост города. Это почти немедленно привело к удвоению, потом утроению и учетверению цен на жилье и вымело из Боулдера подлинный средний класс. Не прошло и пятнадцати лет, как, по словам полицейского Боттома, город стали населять сплошь самодовольные любители спокойной жизни — богатые наследники с крысиными хвостиками и завшивевшие бродяги. В 1980-е Боулдер, опираясь на антирейгановские и антимилитаристские низы, по зрелом размышлении объявил себя «зоной, свободной от ядерного оружия». Благодаря этому, как объяснял отец Ника, за все прошедшее время ни один авианосец, ни одна субмарина с ядерным оружием на борту не пришвартовались у берегов Боулдера. В 1990-е годы тот же самый муниципалитет (мужчины с крысиными хвостиками и женщины с короткой, строгой — на манер преподавательниц физкультуры — стрижкой еще больше поседели, но лица остались почти теми же, уверял отец) трудился несколько месяцев, подготавливая отмену понятия «домашние животные». Прежние владельцы кошек и собачек объявлялись «попечителями». Одна только выдача новых разрешений обошлась в целое состояние. В старых долларах. А еще в 1990-е — Ник Боттом тогда учился классе в третьем — полиция, окружной прокурор и другие представители власти так неумело провели расследование убийства шестилетней девочки по имени Джон-Бенет Рэмзи, совершенного в ее доме на Рождество, что почти все городские чиновники, связанные с расследованием, потеряли работу. Отец Ника был поражен почти полной беспомощностью следствия. Позднее он говорил подросшему сыну, что, как показало это дело, город с почти двухсоттысячным населением определенно не был готов к крутым переменам. Когда четверть века спустя его случайно раскрыл независимый следователь (почти все тогдашние городские правители, подозреваемые и члены семьи уже отошли в мир иной), то оно оказалось простым и очевидным — каким было и в день обнаружения тела. Ник жалел, что отец не дожил до раскрытия преступления. Пожалуй, старик оценил бы иронию. В двадцать первом веке боулдерские власти, будучи не в силах сдержаться, все время совали нос в дела, не касавшиеся города средних размеров: выступали в поддержку никарагуанских коммунистических повстанцев, официально высказывали свое несогласие с войнами в Ираке, Афганистане и прочих местах, отказались применять законы против употребления марихуаны и других наркотиков, давали убежище нелегальным иммигрантам из Мексики, объявив их политическими беженцами (хотя жилья для низкооплачиваемых мексиканцев не было, а потому, публично «предоставив убежище», их потихоньку выдворяли за пределы города),и, наконец, официально заявили, что город Боулдер не будет «сотрудничать» ни с одним республиканским президентом США. Ник, конечно, знал, что его отец был несправедлив к Боулдеру, даже до того, как город вслед за Техасом провозгласил себя независимой республикой. Несмотря на седеющие крысиные хвостики (большинство их носителей все равно скончались), он когда-то был процветающим научным центром. Колорадский университет в Боулдере имел великолепный исследовательский центр и числился среди немногих университетов в мире, где студенты сами управляли орбитальными спутниками. (С этим было покончено, когда японцы, русские, китайцы, индийцы, саудиты, Новый Халифат и бразильцы обогнали Америку в космических и спутниковых технологиях.) Возведенное Бэй Юймином близ Флатиронов[58] в 1960 году прекрасное модернистское здание из стекла и песчаника — единственное сооружение, которое разрешили строить в зеленом поясе, — предназначалось для Национального центра атмосферных исследований. После выявления фальсификаций и полностью ложных сведений в исследованиях по антропогенной угрозе — десятки ученых признались в нарушениях, лишь когда в эту черную дыру уже вылетели сотни миллиардов долларов и евро, — разгорелись новые скандалы, которые привели к краху Всемирной сети торговли углеводородами; а этот крах приблизил День, когда настал трындец, и привел к урезанию бюджета НЦАИ на 85 %. Новая штаб-квартира Центра в Омахе, штат Небраска, выглядела куда скромнее. Прежде в Боулдере располагалось Национальное бюро стандартов, которое в течение десятилетий притягивало в город ученых мирового уровня. И здание НЦАИ, высоко в зеленом поясе, и комплекс Бюро стандартов находились теперь в аренде у Наропского института и его Школы внетелесной надличностной мудрости имени Ринпоче.[59] «Мой старик не дожил до лучших времен Боулдера», — думал Ник, когда они приближались к городу у подножия гор. Потому что только после «дык не туда», Дня, когда настал трындец, Народная Республика Боулдер показала себя во всей красе.
Ограды, минные поля, вооруженные патрули и таможенные посты располагались вдоль самого высокого горного хребта, в трех милях к юго-востоку от Боулдера. За этим последним высоким гребнем, по мере спуска в долину, красота города и окрестностей становилась все очевиднее. Цвет листвы на деревьях делался другим; предгорья у гигантских песчаниковых утесов — Флатиронов густо поросли зелеными соснами. Высокие пики и треклятые ветряки исчезали из виду во время спуска к городу. Воздух здесь был прозрачнее и свежее, чем сто пятьдесят лет назад. Автомобили и вообще транспорт с механическими двигателями в Боулдере находились под запретом. Даже полицейские и пожарные машины были на педальной тяге. Сато направили к одному из подземных паркингов, который тянулся на две мили вдоль идущей с востока на запад Тейбл-Меса-роуд. Парковка стоила дорого — каждое место находилось во взрывобезопасной ячейке (и это после проезда через два портала МР-сканеров). С парковки в Боулдер можно было двигаться пешком; но поскольку площадь двухсоттысячного города составляла почти двадцать восемь квадратных миль, большинство приезжих предпочитали арендовать у города сегвей либо — что обходилось куда дешевле — велосипед, тележку с рикшей, веломобиль или велорикшу. (Каждый раз, попадая в Народную Республику, Ник думал: как посмеялся бы его отец над городом, где отстаивают достоинство собак и кошек, называя их «домашними животными», но при этом превратили людей, главным образом иммигрантов из ветхих бараков, в тягловую силу!) Сато и Ник выбрали двухместную тележку с двумя рикшами-малайцами на велосипедах. Проехать предстояло мили три. Ник попытался расслабиться, пока рикши крутили педали по Тейбл-Меса, потом по Бродвею, потом около полумили на запад, по Бейс-лайн, к Чатоква-парку. Парк был создан по образцу первого, нью-йоркского, в 1898 году — в то десятилетие, когда набрало силу движение Чатоква.[60] Боулдерский парк основали техасцы, которые хотели видеть в нем коттеджи, столовую, а также большое строение для проведения лекций и концертов. Одним словом, им требовалось место, где можно скрыться от летней техасской жары. Когда Марк Твен потерял состояние, неудачно вложившись в шрифтонаборную машину, и накануне своего шестидесятилетия отправился снова в лекционное турне, то в основном ограничился структурой Чатоква по всей стране. Большинство летних Чатокв представляли собой палаточные городки, но немногие (такие, как в Боулдере) могли похвастаться постоянным жильем и большими зданиями для лекций и курсов по общеобразовательным, религиозным и культурным темам. Парк примостился над Боулдером на травянистом уступе, примыкавшем к зеленому поясу с его паутиной туристических тропок. Когда Ник приезжал в Боулдер с родителями, он был еще слишком мал, чтобы ходить по этим тропкам. Те оставались излюбленным местом прогулок горожан, невзирая на снайперов и львов: восстановившаяся в горах популяция хищников несколько сократила число любителей пешего хождения. Справа от Ника и Сато, за Кэньон-роуд, на краю жилого района, возвышался минарет мечети Масджид Аль аль-Хадит. Запрет на возведение построек выше пяти этажей издали в городе более шестидесяти лет назад, но муниципалитет решил нарушить его ради минарета, высота которого в три раза превышала ранее позволенную. Местные мусульмане и Новый Халифат одобрили это, оказав Боулдеру крупное финансовое вспоможение и потребовав от властей изгнать всех евреев, проживающих в пределах города. Городской совет принял просьбу к рассмотрению; Ник видел редакционные статьи в онлайновом «Боулдер дейли камера» на ту тему, что в Боулдере все равно мало евреев и город ничего не потеряет, выполнив пожелание мусульман. Город уже сделал исключение для боулдерских мусульман (их доля в населении выросла до пятнадцати процентов, и дальнейший приток приверженцев ислама поощрялся властями): в случае уголовного преследования их судили не по законам Колорадо, а по закону шариата. Сато прервал размышления Ника: — Хорошо, что дипломатический статус советника позволяет нам оставить при себе оружие. Ник хмыкнул. — Вы ведь не взяли с собой дополнительную обойму, Боттом-сан, — вполголоса сказал Сато. — Мой отец учил меня: если пятнадцати недостаточно, то проку от еще пятнадцати или тридцати будет мало, — отрезал Ник. Сато кивнул. — Верно. Но этих меринов от «Го-Моторз» трудно убить. А в Боулдер брать оружие не нужно. Это самый спокойный город в Колорадо. — Один из самых спокойных, — согласился Ник. Всё так — если не считать колоссального роста убийств в защиту чести семьи и побивания камнями геев и лесбиянок. Рикши или веломобили встречались на улицах нечасто, а вот одетых в спандексовые костюмы и тяжелые шлемы людей на легчайших велосипедах, ценой более миллиона новых долларов, было полно. Еще повсюду встречались бегуны, сотни, тысячи бегунов: многие в пропотевших спандексовых костюмах, другие — почти или совсем голые. — Похоже, у жителей Народной Республики все в порядке со здоровьем, — заметил Сато. — Со скромностью — нет, а со здоровьем все в порядке. — О да, — сказал Ник. — Вы слышали выражение «нацисты тела»? В Народной Республике полно нацистов тела. Сато фыркнул, вероятно изображая смешок. — Нацисты тела, — повторил он. — Нет, не слышал. Но сказано метко. Бегуны трусцой обгоняли их тележку слева и справа, работая кулаками и предплечьями. Их рассеянные взгляды были устремлены к далекой, но достижимой цели — физическому бессмертию. Приблизившись к подножию горы Флэгстаф, рикши свернули налево, в просторы Чатоквы с ее широкими аллеями и множеством деревьев. Выше по склону, над Столовой искусств и ремесел и другими сооружениями, виднелся громадный конференц-зал. Когда Сато расплатился с двумя рикшами, Ник спросил: — Что вы знаете об этом месте? Не о Чатокве, а о Наропском институте, который арендует эти помещения большую часть года? Громадный японец пожал плечами. — Только то, что мне выдал телефон, Боттом-сан. Университет был основан в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году тибетским тулку[61] Чогьямом Трунгпой Ринпоче. Наропа — имя буддийского мудреца из Индии, жившего в одиннадцатом столетии. Университет получил официальную аккредитацию в конце восьмидесятых годов прошлого века, но, в отличие от большинства религиозных университетов вашей страны, не стал дистанцироваться от материнской буддистской организации. Кажется, это «Шамбала интернешнл». — А вы — буддист, Сато? — спросил Ник. Сато молча уставился на него. Надолго, Ник уже устал наблюдать себя в его солнцезащитных очках. Наконец Сато заговорил: — Кажется, здание администрации здесь. Нужно поспешить. Иначе мы опоздаем на наш разговор с мистером Дином. — Наш разговор? — Мне интересно, что скажет этот джентльмен, — ответил Сато. — Но вы, как следователь, конечно, можете задавать любые вопросы, Боттом-сан. — Шли бы вы в жопу, — сказал Ник, но от «суки» воздержался. Они ускорили шаг.
Ник слышал, что большой каркасный конференц-зал Чатоквы, по размерам не больше крупного сарая, вот уже полтора века заслуживал похвалы исполнителей за выдающиеся акустические свойства. Когда Ник приходил сюда маленьким с родителями, чтобы посмотреть и послушать чудо двадцатого века, Бобби Макферрина, Чатоква наконец-то залатала крышу, — раньше зрители, подняв голову, сквозь прорехи в кровле могли видеть луну и звезды. Но даже и Ник сквозь щели между древними досками стен еще наблюдал деревья и небо. Теперь наропское руководство перестроило стены, и увидеть что-нибудь сквозь них стало невозможно. Сцена конференц-зала сохранилась, но остальное пространство переоборудовали для зимнего использования: древние, жесткие, как камень, складные сиденья убрали, а на полу установили помосты, восполняя неровности. На одном помосте помещались десятки удобных кроватей. У каждой из них виднелись дорогущие приборы, чтобы замерять пульс и давление, чертить электроэнцефалограмму и различные кривые, характеризующие сон. Мужчины и женщины (иногда понять, кто есть кто, было трудно — все брили головы) в оранжевых мантиях наблюдали за показаниями приборов. Ник прикинул: кроватей было не меньше тысячи. Он сразу же понял назначение этого места — бесконечно более чистый вариант флэшпещеры Микки Гроссвена. Флэшбэкеры, желавшие подольше оставаться под воздействием наркотика, находились здесь под присмотром и могли не опасаться за свои вещи. Кроме того, за их состоянием непрерывно наблюдали, чтобы мышцы не атрофировались от долгого сна, а пищеварительная система, получавшая лишь внутривенные вливания через капельницу, не вышла из строя. И если в пещере Микки один работник приходился где-то на три сотни клиентов, то в Наропе за каждым бесчувственным телом следил как минимум один «эксперт». Сопровождающий оставил их, и Ник смог свободно высказать Сато свои мысли: — Вот на этом Наропа сделала огромные деньги за последнее десятилетие. Кто-то в совете директоров решил, что буддистская цель — «присутствовать в данном мгновении» — подразумевает, что надо заново переживать это мгновение… все мгновения. Студенты занимаются здесь, в НЦАИ, и в здании бывшего Бюро стандартов — думаю, всего их в Боулдере тысяч пятнадцать. Они погружены в так называемую внутреннюю работу. — Основанную на учении ваджраяны[62] об обнаружении и применении внутренних эзотерических энергий, — прошептал Сато. — Вам виднее, — сказал Ник. — На измерителе КФ стрелка уже зашкаливает. — КФ? Что это такое, Боттом-сан? — Коэффициент фуфла. — А-а. — Наропский институт также занимается вашей чайной церемонией, всякими псевдохристианскими лабиринтами, икебаной, целебными кристаллами, выходом астрального тела, друидическими ритуалами, церемониями викки…[63] У вас, Сато-сан, это называется колдовством. — Икебана и чайная церемония — вполне достойные виды медитации, — тихо сказал громадный шеф службы безопасности. — Но видимо, не у этих шарлатанов. Один из медиков в красной мантии подошел к пандусу, где у дверей ждали Ник и Сато. По виду это был американец — но, как все здешние учителя и студенты, бритоголовый. Он сложил ладони, низко поклонился и сказал: — Намасте.[64] Поскольку никто из троих не был индийцем, Ник ответил: — Привет. Монах, или учитель, или как его там, не выказал ни малейшего раздражения, но и не представился. — Вы пришли, чтобы встретиться с мистером Дином? — Да, — сказал Ник, помахав своим значком, то есть черной карточкой советника. — Он уже проснулся? — О да, — ответил монах. — Прошло уже почти три часа после его пробуждения от Прежней реальности. Мистер Дин проделал физические упражнения, поел и провел час с одним из наших надличностных советников, обсуждая свое последнее пребывание в Прежней реальности. — И где же он? — поинтересовался Ник. — В саду созерцания, за этим зданием. Хотите, я вас провожу? — Не надо, мы его найдем. Буду искать плешивого мужика в оранжевой мантии. — Намаете, — сказал монах, снова сложив руки и кланяясь. — Пока, реинкарнатор, — попрощался с ним Ник.
По пути в сад Ник и Сато просматривали записки. Перед их отъездом из «Шести флагов» в Денвере начался дождичек. По пути в Народную Республику он прекратился, но теперь низкая гряда серых туч двинулась в считаных ярдах над вершинами пяти Флатиронов. Однако день был довольно теплым. Ник снял куртку и набросил на плечо. В последние дни существования империи «Гугл» Дерек Дин был тамошним молодым топ-менеджером и миллионером. Он обитал в высях, далеко от того поганого мира, который наступил после Дня, когда настал трындец, и в котором барахтались и кувыркались все остальные. Почти всю свою взрослую жизнь Дин провел в нью-йоркских пентхаусах, прибрежных домах в Малибу, бронированных лимузинах и частных бизнес-лайнерах, а от беспокойств его ограждали личные телохранители. После того как последнее вложение его компании в высокие технологии сгуглилось коту под хвост, Дин благодаря своим диверсифицированным вкладам и связям стал только богаче. Семь лет назад, когда ему было сорок пять, Дин обрел религию. Насколько смогли выяснить Ник и другие денверские детективы, у Дерека Дина не было никаких контактов с Кэйго Накамурой или его папочкой до видеоинтервью за день до убийства Кэйго. Но Дин был единственным наропским студентом Полного погружения, которого Кэйго решил расспросить перед камерой. К тому времени он пребывал в Полном погружении всего год, но, судя по допросу Дина, на который Ник флэшбэчил предыдущей ночью, экс-топ-менеджер был истинно верующим. Платить за наропскую душевную терапию Полного погружения мог только истинно верующий. Флэшбэк стоил недорого — доллар за каждую воспроизведенную минуту, но наропские эксперты настаивали на использовании более сильнодействующей и узконаправленной его разновидности, стотры.[65] Ник знал, что сильнодействующей разновидности флэшбэка нет. Флэшбэк есть флэшбэк. Всегда и везде. Никто не мог разбавить его без ухудшения свойств или улучшить. Он был тем, чем был. Но если на улице пятнадцатиминутная ампула флэшбэка стоила пятнадцать долларов, то в Наропе — триста семьдесят пять. Таким образом, Дерек Дин пребывал под флэшбэком восемнадцать часов в день, что обходилось ему в двадцать пять долларов за минуту. Плюс сотни тысяч долларов за медицинское наблюдение, особый стол и «духовные советы». Старых долларов. — При такой тяге к просветлению, даже имея сотни миллионов, быстро потеряешь их, — тихо сказал Сато, когда они подошли к саду — лабиринту из живой изгороди, от силы четырех футов в высоту. Шансы заблудиться были невелики. — И наш друг воспроизводит всю свою жизнь еще только семь лет, — добавил Ник. — Осталось принимать наропскую разновидность флэшбэка тридцать восемь лет, прежде чем он дойдет до времени, когда начал погружение, — за год до того, как дал интервью Кэйго. — А потом что? Воспроизводить те десятилетия, что он занимался воспроизведением? — спросил Сато. Ник кинул мимолетный взгляд на японца, но суровое лицо Сато было таким же, как всегда. — Хороший вопрос, — сказал Ник. — Спросим у него? — Нет. Как сказали бы вы, нам обоим насрать на ответ. Ник невольно улыбнулся и вошел в лабиринт.
Перемена, произошедшая с Дереком, оказалась просто ужасающей. Ник видел Дина всего несколько часов назад, флэшбэча на допрос, но шесть лет Полного погружения не прошли без следа. Шесть лет назад Дин был полнее, но кипел энергией, отличался быстротой реакции и пребывал в хорошей форме: теннисист-любитель из загородного клуба, способный неплохо сыграть и против профессионала. За эти годы он потерял фунтов сорок. Когда-то сильное и румяное лицо — во время первого допроса на нем почти всегда играла уверенная улыбка топ-менеджера — теперь похудело и потеряло всякое выражение. Остался лишь пустой, недоуменный взгляд: как у детей с синдромом Дауна, подумал Ник. Предплечья Дина выступали под свободной оранжевой мантией: сплошные кости с бессильно висящими на них остатками мышц. На когда-то крепких руках торчали старческие, дрожащие, подергивающиеся сухие веточки — пальцы. Но больше всего, наверное, Ника встревожили ногти — длиной в три дюйма и цвета мочи. Дин сидел на низкой скамеечке между живой изгородью и гравиевой дорожкой, упорно не отводя взгляда от задних дверей конференц-зала. Ник присел на скамеечку напротив Дина и назвал себя, но не стал представлять Сато или протягивать руку. — Почти пришло время возвращаться… в… под… назад, — пробормотал Дин слабым хриплым голосом. — Почти пришло. — Вы помните меня, мистер Дин? — спросил Ник, повышая голос, чтобы привлечь его внимание. Туманный взгляд переместился на лицо Ника. — Да. Детектив Боттом… так мне сказали… меня хочет видеть детектив Боттом. Но мне уже почти пора. Понимаете… возвращаться… понимаете. — Мы вас не задержим надолго, — успокоил его Ник, решив не говорить, что сам он больше не детектив. Если Дин будет думать, что Ник все еще полицейский, это может облегчить разговор. Пусть все идет так, как идет. Шесть лет назад Дин был бритоголовым неофитом. Но Ник видел фотографии топ-менеджера в те времена, когда его голову покрывал ежик соломенных волос. Кожа у него тогда была здоровой, загорелой. Теперь бритый череп Дина стал молочно-белым, а кожу покрывали маленькие язвочки. — Вы помните наш прежний разговор, мистер Дин? — спросил Ник, подавляя желание щелкнуть пальцами, чтобы привлечь внимание собеседника. Дин оторвал свой пустой, но жадный взгляд от дверей конференц-зала и попытался сосредоточиться на Нике. — Да, несколько недель назад… да, детектив. О том японском мальчике, который только-только умер. Да. Но видите ли, после этого миссис Хауи сказала, что во время перерывов я могу работать над стенной росписью, посвященной Аламо,[66] в комнате искусств. Вы знаете, что Дейви Крокетт погиб в Аламо? Сато издал вопросительное ворчание. — А миссис Хауи — она ваша учительница, Дерек? Дин широко улыбнулся. За прошедшие шесть лет он потерял несколько зубов, хотя и платил миллионы за постоянное медицинское наблюдение и зубоврачебное обслуживание здесь, в Наропе. — Да, миссис Хауи — моя учительница. — И в каком классе, мистер Дерек? — В третьем. Я как раз перешел в третий. И миссис Хауи сказала, что Кэлверт, Хуан, Джуди и я — мы можем работать над нашей росписью в комнате искусств во время перерывов. Мелков у нас хватает. — Вы помните, о чем я спрашивал в прошлый раз, касательно убийства Кэйго Накамуры? Вы помните, какие вопросы я вам задавал в прошлый раз? Дин нахмурился, и на секунду показалось, будто он сейчас расплачется. — Так это же сколько недель прошло, детектив Боттом. Я после этого все время был очень занят. — Да, я вижу, — сказал Ник. — Если вы хотите избавиться от негативной кармы, то должны побывать во всех мгновениях, накопленных ею, — проговорил Дин более сильным и чуть ли не стариковским голосом. — Полное погружение — это единственный возможный способ полного, осмысленного просветления с преображением души, детектив. Мои духовные советники помогают мне реинтегрировать все осознанно. Он говорил, как ученик, повторяющий что-то выученное наизусть на чужом языке. — Мистер Дин, это вы убили Кэйго Накамуру? — спросил Ник. — Что… убить… человека? — сказал Дин. Его сухие пальцы дотронулись до растрескавшихся губ и впалых щек. — Убил ли я? Вы знаете? Было бы полезно, если бы один из нас знал наверняка. Убил? — Почему вы были на вечеринке у Кэйго Накамуры в ночь убийства, Дерек? — Разве я там был? Неужели я в самом деле был там, детектив? Ведь реальность — относительное понятие. Дейви Крокетт и Джим Боуи,[67] возможно, мертвы… а может быть, и живы, существуют где-то в сопредельном плане. — Почему вы были на вечеринке у Кэйго Накамуры в ночь его убийства, Дерек? Не торопитесь — вспомните. Дин театрально нахмурился и подпер костлявым кулаком подбородок, демонстрируя, что думает. Минуту спустя он поднял взгляд и снова улыбнулся щербатой детской улыбкой. — Меня пригласили! Я был там, потому что меня пригласили! Мой учитель сказал, что я могу сходить, и пошел со мной. — Ваш учитель? То есть миссис Хауи? — спросил Ник. Дин принялся качать головой, и этот процесс затянулся. Он делал это, как проказливый ребенок или пьяный. — Нет-нет, мой учитель здесь, в институте. Шантаракшита Падмасамбхава.[68] Мы звали его Арт. Арт основал йогачару-мадхьямику,[69] он был Великой Душой и великим счастьем для института. — Арт все еще здесь? В Наропском институте? Дин оценивающе посмотрел на него и снова уставился голодным взглядом на заднюю дверь конференц-зала. — Находится ли Шантаракшита Падмасамбхава по-прежнему в институте? Да, конечно, находится. Ник кинул взгляд на Сато, который делал запись в своем телефоне. — А вы… — начал было Ник. — Шантаракшита Падмасамбхава умер несколько лет назад, — счастливым голосом продолжил Дин. — Но он все еще здесь. Сегодня в перерыве миссис Хауи позволит мне с Джуди, Кэлвертом и… и… я забыл с кем еще… поработать над росписью, посвященной Аламо. Извините. Я пытаюсь вспомнить. Пытаюсь изо всех сил, но забываю. Бывший топ-менеджер «Гугла» разрыдался. По гладковыбритой верхней губе потекли сопли. — С Хуаном, — успокоил его Ник. — Миссис Хауи сказала, что вы можете работать над росписью с Джуди, Кэлвертом и Хуаном. Дин засиял и тыльной стороной ладони отер сопли. — Спасибо, детектив Боттом. — Пятидесятидвухлетний мужчина захихикал. — Боттом… странная фамилия. Вас в школе не называли Жопой? — Если кто и называл, то только один раз, — сказал Ник. Он подошел к другой скамейке, сел рядом с Дином и крепко сжал его за плечи. Это было все равно что сжать хрупкую кость без мяса. Ник знал, что если он нажмет еще сильнее, то услышит хруст. — Мистер Дин, это вы убили Кэйго Накамуру? А может быть, знаете, кто это сделал? Дин поднял правую руку и погладил обнаженное запястье Ника. — Я вас люблю, детектив Боттом. Ник пожалел, что не захватил второй магазин с девятимиллиметровыми патронами. Он кивнул и сказал: — Я вас тоже люблю, Дерек. Так это вы убили Кэйго Накамуру? А может быть, знаете, кто это сделал? — Нет, детектив, не думаю. Но я буду знать. — Когда? Дин облизнул губы и принялся демонстративно загибать пальцы. — Сейчас мне семь… почти семь с половиной. А это значит, что осталось всего… много лет… прежде чем я вернусь к тому дню, когда Кэйго говорил со мной, а назавтра умер. Извините, детектив. Он снова разрыдался. — Господи Иисусе, — выдохнул Ник. — Великий учитель, — сказал Дин, оживляясь, но на сей раз не вытирая слез и соплей. — Но он не в состоянии вывести нас на истинный путь, к сатори, так же быстро и уверенно, как… скажем… Бодхидхарма. Он повернулся к Сато, который все еще писал стилусом у себя в телефоне: — А вы — Такахиси Сайто, друг Кэйго? Я помню вас по тому дню, когда записывалось интервью. Сато хмыкнул. Дин неожиданно вскочил на ноги. Его лицо излучало сквозь слезы чистую радость. Из задней двери конференц-зала вышли два монаха и направились к лабиринту и Дереку Дину. Ник и Сато тоже поднялись. — Нам еще что-нибудь от него нужно? — спросил Ник, глядя на Сато. Тот отрицательно покачал головой. Они пронаблюдали за тем, как два монаха подхватили Дерека Дина с двух сторон под руки и повели назад в конференц-зал, где его ждали кровать и капельница. Дин повернулся, чтобы махнуть на прощание, и выставил ладошку, точно семилетний ребенок. Ник и Сато двинулись вниз по склону, обогнули столовую и направились туда, где ждали несколько тележек и веломобилей. Их хозяева стояли рядом или лежали на травке. Повсюду в зеленой зоне Чатоквы солнечные лучи высвечивали оранжевые мантии людей, собравшихся в кружки для серьезного разговора или безмолвной медитации. — Возьмите для нас тележку пошире, — попросил Ник. — Я посмотрю кое-что в здании администрации. Вернусь через секунду. Ник побежал вверх по склону под вязами, но не к зданию администрации; он снова вошел в конференц-зал и спустился по ступенькам, глядя на кровати. Монахи готовили внутривенное вливание флэшбэка Дереку Дину. Ник протиснулся между ними и скелетом в оранжевой мантии. — Сэр, — вполголоса сказал высокий монах, — вы не должны мешать… — Заткнись, — сказал Ник и обеими руками, сминая оранжевую мантию, ухватил Дерека Дина за грудки и приподнял; лица их оказались в дюйме друг от друга. Ник почувствовал запах смерти в дыхании Дина и испарения, поднимающиеся из пор. — Вы меня слышите, Дин? — Он встряхнул Дерека. Что-то лязгнуло, но нет, не кости — это клацнули зубы Дина. — Вы меня слышите? Бывший топ-менеджер кивнул. Глаза его расширились до предела. — Вы видели мою жену — Дару, когда Кэйго интервьюировал вас или позднее? Может быть, на вечеринке? — продолжил Ник. — Жену… — повторил Дин. — Да. Соберись с мыслями, безмозглый сукин сын. — Один из монахов хотел было вмешаться, но Ник отмахнулся от него, как от ребенка. — Ты видел эту женщину? Ник поднес к лицу Дина телефон с фотографией Дары во весь экран. — Нет, не думаю, — шепотом ответил Дин. — Смотри лучше, — прошипел Ник, поднося телефон еще ближе к его лицу. — Если я узнаю, что ты мне соврал, то, клянусь Господом, вернусь и убью тебя. Взгляд Дерека сосредоточился на фотографии. — Нет, детектив. Я никогда не видел этой женщины. Но с удовольствием трахнул бы ее… чего не случилось. Как мне кажется. — Я протестую! — воскликнул один из топчущихся рядом монахов. — Мы вызовем службу безопасности. Мы… — Пошел к черту, — сказал Ник, затем уронил Дина на кровать с ее хрустящими простынями, убрал телефон и вышел из конференц-зала. Ему понадобилась всего минута, чтобы в соседнем административном здании получить сведения о предыдущем учителе Дина — от довольно привлекательной, бритой наголо молодой женщины за стойкой. Ей явно еще не успели сообщить, что Ник только что грозился убить одного из платежеспособных студентов Полного погружения. Да, подтвердила она, Шантаракшита Падмасамбхава был одним из выдающихся наропских наставников. В сорок восемь лет он взял в ученики мистера Дерека Дина, чтобы направлять его на Пути Полного погружения. Но три года назад возлюбленный сэнсэй Шантаракшита Падмасамбхава расстался со своей бренной оболочкой. Его прах был развеян с вершины горы Флагстаф, что высится над кампусом Чатоквы. Ник поблагодарил молодую женщину с изящной формой черепа и здоровой, загорелой кожей на голове и (по неясной даже для него самого причине) спросил номер ее телефона. Та улыбнулась ему широкой, белозубой, идеальной улыбкой, сложила ладони и сказала: — Намасте.
Они молчали все то время, пока пересаживались из веломобиля в машину Сато, покидали Боулдер, проезжали через таможенные посты. Когда они перевалили через горный хребет и Народная Республика скрылась в зеркале заднего вида, Ник наконец заговорил: — Ну так что будем делать, Сато-сан? Можно начать работать с этим мешком чистейшего, спонтанного, демонстративного дерьма. Никогда еще не видел типа, который выдавал бы такие дерьмовые ответы. А можно исключить мистера Дина из числа подозреваемых по причине его полного и непритворного сумасшествия. — Если он не полностью сумасшедший сейчас, Боттом-сан, — сказал Сато, — то, безусловно, сделается им, когда перейдет… как это у вас здесь говорят… в шестой класс. Ник фыркнул. Он не сообщил шефу службы безопасности о своем последнем кратком разговоре с Дином, в идиотской кровати полного погружения в конференц-зале. — Но всегда остается вопрос мотива, — добавил Сато. — Похоже, у мистера Дина его не было. — Ни у кого из наших подозреваемых, кажется, не было мотивов, — сказал Ник, откидываясь к спинке сиденья и закрывая глаза. Голова болела, иголки вонзались в нее все глубже с каждым ударом сердца. — У кого-то мотив был, — резко возразил Сато. — Но я не вижу его у мистера Дина. Наше собственное расследование показало, что Дин не пересекался ни с Кэйго, ни с мистером Накамурой. — На закате глобальной корпорации Дин был там крупной шишкой, — сказал Ник, не открывая глаз. — Профессиональное соперничество? Борьба за рынки? «Гугл» заработал себе немало врагов, прежде чем обанкротился и лопнул. — Нет, — сказал Сато. — Нет никаких данных о том, что мистер Дин, в бытность сравнительно мелким управленцем, нарушил интересы мистера Накамуры или вообще имел к ним какое-либо отношение. Даже если и была корпоративная вражда, вряд ли она чувствовалась на уровне мистера Дина. Он был игроком, но некрупным, во всех смыслах этого слова. — Может быть, Кэйго просто не понравился ему, когда брал интервью, — заметил Ник. У бронированной «хонды» Сато были хорошие амортизаторы, но каждая рытвина на заезженной, разбитой, давно не ремонтировавшейся дороге посылала стрелы боли ему в череп. — Настолько не понравился с первого взгляда, что Дин решил его убить? Ник пожал плечами. — Такое случается. Мне самому знакомо это чувство. Но в данном случае Дерек Дин сделал это по той самой причине, что и кочующие флэшбанды, — чтобы получить сильные, почти оргазмические ощущения и флэшбэчить на них в ходе этой долбаной терапии Полного погружения. — Это займет сорок четыре года. Но шесть часов ежедневно он не находится под флэшбэком… — начал было Сато. — То есть плюс еще одиннадцать лет, — подытожил Ник. — Восемнадцать часов в день он проводит под флэшбэком, и на шесть часов освобождается… более или менее. Значит, если он будет и дальше флэшбэчить в хронологическом порядке, как теперь, то до времени убийства доберется через пятьдесят пять лет. Ему тогда будет девяносто семь. Сато крякнул. — Маловероятно, что к тому времени можно будет говорить об оргазме у мистера Дина. К тому же до этих лет еще нужно дожить. Но, Боттом-сан, давайте рассмотрим вероятность того, что мистер Дин флэшбэчит на это убийство каждый день, а все эти разговоры: «миссис Хауи разрешает нам делать стенную роспись» — они лишь для того, чтобы сбить нас с толку. Наропская программа Полного погружения в таком случае дает идеальное алиби убийце, который хочет скрыться от мира. — Хорошая мысль, — одобрил Ник. — Но даже если Дерек способен имитировать идиотизм от злоупотребления флэшбэком, физическая деградация у него явно не показная. Настоящий живой труп. Ник открыл глаза, и от света усилилась боль в голове. Он был благодарен, по крайней мере, за то, что молот солнца, который мог бы размозжить ему череп, скрылся за тучами. — Что, поедем прямо на «Курс-филд»? — нетерпеливо спросил Сато. — Сегодня? — Ник покачал головой. — Ни за что. Отвезите меня, пожалуйста, домой. У вас есть ампулы для следующих допросов? — В портфеле, — сказал Сато. — Но еще довольно рано. Мы могли бы… — Нет, для «Курс-филда» должно быть светлее. Завтра обещают ясную погоду. Мы поедем в середине дня, когда солнечные лучи падают под нужным углом. — Почему должно быть светлее, Боттом-сан? — Днем на стадионе нет искусственного освещения. — И? — Свет должен обеспечивать вам максимальную видимость, — сказал Ник. — Ведь вы будете моим снайпер-секундантом. — Я? Но Центр временного содержания предоставляет профессиональных снайперов. — Да. По распоряжению суда, для служителей порядка и адвокатов. А наше с вами дело — неофициальное, вроде семейного. — Но формальный статус приближенного советника, безусловно… — начал было Сато. — Позволит мне самому выбрать снайпер-секунданта, — закончил Ник. — И я выбираю вас. Как вы управляетесь с длинными стволами? Сато ничего не ответил. — На самом деле это не так уж важно, — сказал Ник. — Это почему, Боттом-сан? — Там, на «Курс-филде», содержится около тридцати тысяч насильников, воров, бандитов и убийц, — сказал Ник. — Если даже с полдюжины из них скопом набросятся на меня… или затащат меня за столб либо в лачугу… вы все равно не успеете их остановить. Снайпер-секундант нужен, чтобы избавить захваченного посетителя от мучений, прежде чем эти изверги и садисты начнут изощренно измываться над ним. — Вот как, — сказал Сато. Казалось, японец воспринял это известие без сильного возмущения или отвращения. Телефон Сато сообщил через автомобильные динамики, что на развязке Пекос-стрит и 36-го хайвея взорвалось самодельное взрывное устройство и следует совершать объезд по Федеральному бульвару. Ник видел, что впереди поднимается столб дыма и пыли, как и при взрыве на Мышеловке несколькими днями — несколькими годами — ранее.
Дара, читающая в кровати, закрывает книгу и говорит: — Ник, как продвигается расследование? Он закрывает автомобильный журнал, но держит палец как закладку. — Ходим кругами, детка. Без всякого толку. — Ну, еще не вечер. — Ага. Ник ждет, что Дара вернется к чтению — к Томасу Гарди, но она не открывает книгу и смотрит на него. — Для тебя это расследование ничем не опасно, Ник? Он удивленно заглядывает ей в глаза и говорит: — Совершенно ничем. С какой стати оно должно быть для меня опасно? — Тут замешана политика. Ненавижу все, что связано с политикой. А тут еще сын знаменитого японского промышленника, или кто он там, черт знает. — Люди Накамуры сотрудничают с нами, — говорит Ник. — Где здесь опасность для детектива? Дара закатывает глаза. — Опасность всегда есть, черт возьми. Не разговаривай со мной так, будто я с неба свалилась или только-только вышла за зеленого патрульного, который не знает, что к чему. Ник встряхивает головой и улыбается. — Мне нравится это выражение. — Какое. — Что к чему. Когда я с тобой в постели, я точно знаю, что к чему. Ник, наблюдающий за этим со стороны, удивлен. Занимались ли они любовью тем вечером? Он никогда не флэшбэчил на эти моменты прежде, даже с трудом нашел точку входа в этот тридцатиминутный отрезок, — и сейчас понятия не имеет, был ли у них тогда секс. Он смутно помнит лишь разговор. Теперь приходит очередь Дары трясти головой. Ее это не забавляет, и она не собирается менять тему. — Они ведь не отправят тебя назад в Санта-Фе? Порезанные шесть лет назад брюшные мышцы Ника Боттома вздрагивают и напрягаются при этом вопросе, да и у сегодняшнего Ника брюшина напрягается от страха. — Нет, — серьезно отвечает он, снова заглядывая ей в глаза. — Ни малейшего шанса. — Ты сказал, что там есть подозреваемый, или потенциальный свидетель, или еще что-то… — Это не настолько важно, чтобы капитан Шире или департамент рисковали ведущими следователями, одним или обоими, — обрывает ее Ник. — В Нью-Мексико теперь намного опаснее, чем три года назад, когда… чем три года назад. Мы позвоним шерифу в Санта-Фе и попросим его или ее сделать то, что нам нужно. Дара смотрит на него с сомнением. Томас Гарди уже лежит на прикроватном столике. — Клянусь тебе, детка, — говорит Ник. — Я не вернусь в Санта-Фе. Лучше уж подать в отставку. — Хорошо. — Дара улыбается впервые за время разговора. — Потому что мне кажется, что лучше уж тебя пристрелить. Он отшвыривает свой журнал и обнимает ее. Пятнадцать минут спустя, выйдя из флэшбэка, Ник недоумевает: как он мог забыть их любовные игры в тот вечер?
Когда Ник закончил этот сеанс, еще не было десяти вечера. Он не собирался использовать ампулы Сато, чтобы флэшбэчить на интервью с Делроем Брауном или с другим подозреваемым. Следующие шесть-семь часов он намеревался искать свои разговоры с Дарой. Ник хотел понять, что она делала для прокурора Харви Коэна, почему была в «Шести флагах» в день, когда Кэйго брал интервью у Дэнни Оза. Ник знал, что не может свести расследование — теперь уже его расследование — к одним сеансам флэшбэка. Придется переговорить с прежним боссом Дары и Коэна и окружным прокурором Мэнни Ортегой. И возможно, попросить своего старого напарника К. Т. Линкольн помочь ему с доступом к документам. При мысли о том, что он снова увидит К. Т. — будет просить ее о помощи, — у Ника сжалось сердце. И — понял он — придется избавиться от опеки Сато, чтобы поговорить с окружным прокурором Ортегой, К. Т. и другими. Ему нужно было побольше узнать об автокатастрофе, в которой погибла его жена. Ему нужно было побольше узнать о том, что делали до этой катастрофы Дара и жирный, лысеющий Харви Коэн. Заверещал телефон. Хидэки Сато, не называя себя, спросил: — Что вы думаете о поездке в Санта-Фе, Боттом-сан? Завтра после «Курс-филда» или в другой день на неделе? Прежде чем ответить, Ник дождался, когда у него успокоится внутри. — В любое время, когда будет готов самолет или вертолет мистера Накамуры. — Самолет? Вертолет? Ни самолета, ни вертолета нет. Верторета. — Ерунда, — сказал Ник. В нем поднималась убийственная волна страха, он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. — Я видел, как вертолет уносил вас с крыши здания, где я живу. Помните? Такой бесшумный, невидимый вертолетик «сасаяки-томбо», «шепчущая стрекоза» или как там его. И Кэйго в тот день, шесть лет назад, забирал один из вертолетов «Накамура хеви индастриз». — Полеты отсюда в Санта-Фе тогда были не так опасны, — возразил Сато. — Мистер Накамура не может выделить воздушные суда для этой цели. Страховщики компании не допустят. — Тогда как мы туда доберемся, черт побери? — прокричал Ник, хоть и не собирался кричать. — На двух машинах. Бронированных и с оружием. Плюс четыре агента службы безопасности. — А не пошел бы ты…. — Значит, я назначаю нашу поездку на среду, — подытожил Сато. Ник, не доверяя своему голосу, отключился. Руки у него дрожали слишком сильно, и он не мог ни приготовить следующую ампулу, ни сосредоточиться на точке входа. Прислонившись к шкафу, Ник налил себе дешевого виски на три пальца и опустошил стакан в два глотка. Когда дрожь в руках немного унялась, Ник приготовил получасовую ампулу. Он собирался пережить свои любимые минуты, проведенные с Дарой, чтобы прочистить мозги. А потом уже воспроизводить часы, прошедшие между гибелью Кэйго и смертью Дары.
2.02 Диснеевский концертный зал в Центре исполнительских искусств 17 сентября, пятница
Все они перепугались до смерти. То есть все, кроме Билли Койна. А Вэл уже давно для себя решил, что Билли К. — бешеный, как сортирная крыса. Вэл перенял эту ископаемую фразочку «бешеный, как сортирная крыса» от своего предка, а тот как-то сообщил Вэлу, что, в свою очередь, перенял ее от своего предка. Да, Билли Койн был бешеным, как сортирная крыса. Койн всю последнюю неделю продолжал раздавать приказания, но все самые важные разговоры вел с искусственным разумом Владимира Путина на своей футболке. Причем большей частью на русском. Семь ребят, выполняя приказания Койна, неделю занимались приготовлениями в ливневке. Полтора дня они провели в темноте, срезая старую, ржавую стальную решетку внутри туннеля, но не всю — лишь настолько, чтобы добраться до стальных панелей, закрывающих люк. Большую часть решетки они оставили нетронутой, чтобы затруднить погоню. Еще день они провели, пропиливая место сварки двух стальных панелей, перекрывавших отверстие люка. Все зависело от того, насколько точны сведения Койна (вероятно, полученные от матери) о том, где именно советник выйдет из лимузина. Люк ливневки находился к югу от Диснеевского концертного зала. Когда ребята после долгих часов осторожного пиления, шабровки и снова пиления наконец набрались смелости выглянуть наружу, оказалось, что они смотрят в сторону от причудливого здания. Койн утверждал, что улицы будут перекрыты для всех, кроме машин официальных лиц, и что бронированный лимузин советника Омуры прибудет с севера по Гранд-авеню, повернет направо, на 2-ю улицу и остановится за углом короткого квартала. Фотографов, телевизионщиков, прессу предполагалось заблокировать между 2-й улицей и не менее узким проулком — Дженерал-Тадеуш-Костюшко-уэй, так, чтобы все объективы были направлены на север, в сторону концертного зала и ступенек, по которым будут подниматься Омура, мэр, их охранники и свита. У восьми членов флэшбанды оставалось лишь две-три секунды, чтобы откинуть створки люка и открыть огонь. Но они сумеют справиться с закрытыми стальными панелями. Городские рабочие, заварив створки много лет назад, оставили узкие горизонтальные щели снизу для стока воды при сильных ливнях здесь, на 2-й улице. Щели были слишком узкими и не подходили для стрельбы, но ребята могли, наблюдая сквозь них, дождаться момента, когда Омура выйдет из лимузина. Рано утром, оставив Сулли на 2-й улице — следить за появлением охранников, ребята стали тренироваться: надо было широко откинуть створки и, толпясь на пятачке длиной около шести футов, открыть огонь. Лимузин, который привезет советника Омуру на эту северную сторону, остановится в каких-нибудь двенадцати футах от них. На всех будут шлем-маски, как у настоящих террористов. Койн купил для каждого палестинские куфии, но Вэл решил, что это чересчур. Слишком уж хитромудро. План состоял в том, чтобы, отстрелявшись изполуавтоматических пистолетов и автоматов со стреловидными пулями, бежать сломя голову. Изгиб в туннеле ливневки, в двадцати футах от выхода, должен был послужить прикрытием, но Койн все равно велел держаться подальше от стен: срикошетировавшая пуля могла настичь их и за поворотом. Внутренняя решетка задержит копов или агентов службы безопасности, если те пустятся в погоню, а все близлежащие люки и входы в ливневку были накрепко заварены. И копы не будут знать, в каком направлении отходят нападавшие. Первый выход из ливневки находился более чем в миле к востоку от того места, откуда планировалось вести стрельбу. Но план Койна выглядел так: пробежать почти полмили на север, а потом устремиться на запад, по петляющему лабиринту, к выходу у больницы СИГНА.[70] Они подпилили и вырезали и эту крышку, перекрывающую выход из ливневки. За зданием больницы, рядом с ливневкой, стоял контейнер для биоопасных материалов (Койн умело надпилил цепочку замка — так, чтобы никто не заметил), куда они собирались выбросить все оружие. Стрелять они намеревались в перчатках. Хаджи с Открытого рынка на I-10 — тот, что продал им оружие, — не записывал покупателей. — Мы все будем сидеть дома и смотреть новости об этом деле по Си-эн-эн, прежде чем копы и охранники вытащат пальцы из задницы, — заверил их Койн. — А что, если кого-нибудь из нас ранят или убьют? — спросил Вэл. — Тогда копы и ФБР быстренько найдут остальных. Койн состроил злобную гримасу, глядя на него. — Никто не будет ранен или убит, — сказал он, добавив по-русски: — Ty, mudak. Позднее Вэл через телефон нашел перевод этих русских слов. Ухмыляющийся Путин тоже злобно посмотрел на Вэла, но обращался он, казалось, к Койну: — Etot trus yavlyaetsya slabym zvenom v tsepochke, malen'kii Koin. Vy dolzhny ubit' yego. Вэл не стал переводить эти слова с помощью телефона. Общий смысл он понял и знал, что Путин на футболке с радостью увидел бы его мертвым. Койн подошел к Вэлу и обнял его, приглашая других присоединиться. Наконец они встали в кружок, обнимая друг друга за плечи. — Никто не будет ранен или убит, мой дорогой Вэл, — уверенно сказал Койн. — Плевое дело. Мы будем флэшбэчить на эту историю всю жизнь. — Если только наша оставшаяся жизнь не измеряется минутами, — пробурчал Вэл. Койн рассмеялся и ударил приятеля по руке. — Не рискуешь — не живешь. Ты хочешь быть похожим на остальных живых мертвецов? — Нет, — ответил Вэл, подумав секунду-другую. — Не хочу.Вэл целую неделю размышлял, что ему делать. Он не был ни идиотом (как Динджин, Тухи, Костолом, Сули, Манк и Джин Ди, которые, казалось, тупеют с каждым днем), ни бешеным, как сортирная крыса. А Билли Койн точно был таким. Стрелять в японского федерального советника, так же, а может, и более безумно, чем стрелять в президента Соединенных Штатов. ФБР и ДВБ немедленно возьмутся за дело. Кроме того, Вэл не сомневался, что и служба безопасности девяти советников имеет возможность для расследования внутри страны. Даже такие отчаянные группировки, как Арийское братство и американская «Аль-Каеда», не рискнули бы покуситься на японского советника. Вэл знал: за уверенностью Койна что-то стоит, бешеный тот или нет. Он три дня лазал по интернету при помощи телефона, прежде чем нашел сайт, публиковавший информационные сводки комитета по координации действий муниципалитета и служб советника. Миссис Галина Кшесинская (раньше — Галина Койн, судя по архивным сводкам), энергичный и деловитый помощник главы комитета по координации действий между транспортным департаментом муниципалитета Лос-Анджелеса и офисом федерального советника Даити Омуры, занимавшая эту должность девять лет, досрочно выходила в отставку, чтобы вернуться в Москву, к своей многочисленной семье. Пятница, 17 сентября, была последним днем ее работы, а в субботу, 18-го, она планировала вылететь в Москву и увезти с собой шестнадцатилетнего сына. Насчет возвращения в Штаты пока было неясно. «Я просто хочу увидеть мою семью и познакомиться с ней, — сказала миссис Кшесинская репортеру бюллетеня, — а потом, конечно, собираюсь вернуться, чтобы мой сын мог выполнить свой долг и отправиться в армию согласно закону о выборочной службе». Вэл чуть не расхохотался, прочтя это. Билли Койн был бешеным, как сортирная крыса, нет вопросов, но вовсе не склонным к самоубийству, как думал Вэл. Мамочка с малюткой Биллом никогда не вернутся из России. Вероятно, мать Билла пыталась отмазать его от призыва, как некогда Брэда, но теперь у нее это не получилось. Койн многократно хвастался Вэлу, что его брат уже в России и быстро завоевывает авторитет в тамошней мафии. Ни Койну, ни его матери совсем не хотелось, чтобы он погиб в какой-нибудь китайской деревне, сражаясь за интересы Индии и Японии. Значит, старина Койн готовил с помощью мамочки путь к отступлению, чтобы воспользоваться им назавтра после их самоубийственного нападения на Омуру. Вэл даже засомневался: а появится ли Койн в пятницу вечером, ко времени запланированного ими покушения? Но решил, что, вероятно, появится. Как же пропустить такую развлекуху — обречь на почти неизбежную смерть или по меньшей мере арест семерых своих compadres?[71] Для сортирной крысы вроде Билли К. участвовать в таком дельце, а потом безнаказанно удрать (у России не было договора об экстрадиции с Соединенными Штатами) было даже привлекательнее предательства. Койн был социопатом и флэшнаркоманом, и Вэл решил, что он не откажется от удовольствия флэшбэчить на убийство Омуры — которое, возможно, станет прелюдией к более масштабным и ярким эскападам в матушке-России. «Итак, Койн, вероятно, будет, — подумал Вэл. — Но вот буду ли я?» Первые четыре дня недели, в преддверии того, что он называл про себя «Пятничной бойней», Вэл решал ключевой вопрос: «Буду ли я?» Над этим же вопросом он размышлял, хотя и в несколько ином плане, вот уже несколько месяцев. Вэлом Боттомом… или Взлом Фоксом, как он предпочитал называться в своей запущенной, суматошной лос-анджелесской школе, владела такая подавленность, что он подумывал о самоубийстве. «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Вот только один уже умерший литературный деятель по имени Гарольд Блум,[72] которого Вэл сам откопал, потому что интересовался «Гамлетом», сказал, что в монологе «Быть или не быть…» по большому счету речь идет не о самоубийстве. Этот факт сильно удивил бы мистера Херрендета, учителя английского в младших классах — тот вел уроки по «Гамлету», но сам его никогда не читал. До этого времени мысли Вэла о самоуничтожении были совершенно несерьезны: все доступные ему способы самоубийства (спрыгнуть с высоты, повеситься, наворовать нужное количество таблеток от бессонницы, угнать машину или мотоцикл и на скорости девяносто миль в час врезаться в опору развязки) выглядели настолько отталкивающе, что его разум вообще не хотел рассматривать такие средства победы над меланхолией. Но теперь у него была девятимиллиметровая «беретта». Койн дал ему пистолет в понедельник, когда на ночном рынке купил себе ижмашевский автомат с патронами под стреловидные пули. Это было современное оружие, из тех, что ухмыляющиеся хаджи называли «очистителями синагог», и Койн был рад покупке, — пусть даже пойманного с таким автоматом ждали как минимум восемь лет заключения на стадионе «Доджер» и сделка о признании вины была невозможна. Тем вечером Вэл загрузил из интернета и распечатал пошаговую инструкцию «Как любить свою девятимиллиметровую „беретту“ и заботиться о ней», купил нужное масло, нашел подходящую ветошь и все свободное время проводил за чисткой, разборкой и изучением полуавтоматического пистолета. Он вытащил магазин, убедился, что в патроннике нет патрона, и приставил дуло к виску. Из еще одного онлайнового совета (его Вэл загружать не стал), под названием «Самоубийство — твое неотчуждаемое право: как его совершить», Вэл узнал, что пуля крупного калибра, вроде девятимиллиметровой, не пробивает с гарантией толстую черепную кость. Чуть-чуть ошибешься с направлением, говорилось в этой полезной статье, и вместо убийственной пули получишь на долгие годы билет в страну слюнявых идиотов. Если уж хочешь действовать наверняка, говорилось далее, нужно приложить дуло к мягкому нёбу во рту. Стопроцентное попадание в мозг, конец всем болям и сомнениям. Вэл попытался прикинуть, как оно будет, но вкус машинного масла и массивный ствол пистолета вызвали у него тошноту. Нет, этот вариант тоже отпадал. Что еще? Конечно, самоубийство с помощью полицейского. Высунуться первым из ливневки перед шайкой этих недоразвитых мальчишек и получить несколько пуль. Но гарантирует ли это быструю и сравнительно легкую смерть? Возможно, но не стопроцентно. Когда Вэлу было восемь или девять, он вместе со своим предком, любителем старых ковбойских лент, смотрел древний фильм прошлого века «Большой налет на Нортфилд, Миннесота».[73] В нем жуткий негодяй Джесси Джеймс, его брат Фрэнк и их приятели-уголовники, включая Коула Янгера и его брата, попытались ограбить «легкий банк» в Нортфилде, штат Миннесота. Жителям Нортфилда это явно не понравилось, поскольку (по крайней мере, в фильме) все мужчины, мальчишки и собаки городка похватали дробовики или ружья и превратили уголовников в решето. Коул Янгер, уже раненный пять раз в Нортфилде, получил еще несколько пуль во время перестрелки на болоте, среди прочего — в руку, грудь и голову. Несмотря на одиннадцать серьезных ран, он выжил, был арестован, осужден и отправлен в Миннесотскую тюрьму в Стилуотере. Вэл помнил, что из Нортфилдского банка банда похитила двадцать шесть долларов и семьдесят центов. Конечно, старых долларов — и, верно, они чего-то стоили, но все-таки… Вэл попытался представить себе, как охранники советника Омуры стреляют в него восемь, девять, одиннадцать раз, а он остается жив. Наверное, получить пулю — это ужасно больно. Коула Янгера швырнули в фургон вместе с его дружками, раненными куда серьезнее, и он, хотя едва не умер от потери крови, шутил с теми, кто его схватил. А когда они добрались до городка Маделия, Коул сумел встать, снял грязную, окровавленную шляпу и поклонился проходящим мимо дамам. Вэл продолжал читать, потому что из книг узнавал всякую крутую хрень про окружающий мир. Но настолько ли он крут, чтобы встать, как этот Коул Янгер, с одиннадцатью пулями в теле? Вэл сильно сомневался. Он чуть не разрыдался, как девчонка, когда Леонард водил его к подпольному дантисту, в подвал около Эхо-парка. А что будет, когда в него со сверхзвуковой скоростью вонзится кусок свинца, разорвет внутренние органы и артерии? Какие еще имелись способы уйти из мира? Он мог бы перестрелять Койна и остальных ребят до покушения на Омуру. Станет ли он после этого героем города? Простят ли его советник и мэр? Ждет ли его триумф? Но он прекрасно понимал, что даже если остановится на таком варианте, то все равно не сможет убить этих семерых идиотов и остаться в живых. Можно было попробовать сперва прикончить Койна, но все эти прыщавые недоноски теперь носили оружие. Вэл попытался представить себе, как его поражает целая туча стреловидных пуль из ижмашевского автомата — штуковин трехдюймовой длины, с зазубринами. О господи. От этой мысли к горлу снова подступила тошнота. И еще: Вэл не хотел прощения. Он определенно не хотел становиться героем и предпочел бы выстрелить себе в мягкое нёбо, чем становиться главным триумфатором. А чего же он хотел? Скорее умереть, чем жить дальше в этом замороченном городе и мире… Может быть. Наверное. Добраться до Денвера и пристрелить там предка — вот единственное, что сейчас привлекало Вэла больше смерти. Этот гад бросил его после гибели матери — бросил и забыл о нем, это Вэл знал точно. Что может быть слаще, чем увидеть лицо Ника Боттома за пару секунд до нажатия на спусковой крючок «беретты»? И вдруг в четверг — Вэл как раз исполнился уверенности, что ему остается лишь выстрелить себе в голову вечером этого дня, в надежде, что пуля все-таки пробьет череп, — милый старый Леонард разом все изменил, рассказав, что его давний друг-латинос устроил им путешествие в Денвер. Вэл чуть не расплакался, но, к счастью, все же сдержался. Леонард никогда не понял бы, отчего благодарно плачет внук: ему не нужно умирать сегодня, и он получает шанс увидеть и укокошить папочку. У Койна имелся волшебный выход — побег в Россию вместе с мамочкой, наутро после дня убийства. А у Вэла Фокса Боттома теперь было кое-что покруче — собственный полночный побег с дальнобойщиками-чернорыночниками. А что же с убийством Омуры? Теперь Вэл мог наплевать на все это, не явиться на встречу в пятницу вечером, скрываться, — пока Койн не решит начинать без него. Или просто наблюдать — потом на это можно будет флэшбэчить годами, как бы ни обернулось дело, — а самому не сделать ни выстрела. Или получить пулю. В тот четверг Вэл ложился спать с улыбкой на губах. Но сначала он собирался опустошить свою предпоследнюю двадцатиминутную ампулу.
Вэлу четыре года. Сегодня у него день рождения, ему исполняется четыре года. Он может себе представить четыре свечи на бисквитном торте с шоколадной глазировкой, ведь теперь он умеет считать до четырех. Вэлу четыре года, мама еще жива, он еще не начал ненавидеть папу, а папа — его, и сегодня у него день рождения. Мама, Вэл, лучший друг Вэла — четырехлетний Сэмюел, живущий в двух домах от них, и бабушка Сэмюела (у его друга почему-то есть только бабушка) — все они сидят на кухне, куда примерно семь лет спустя придут люди в черном и будут пить кофе, есть кексы и другую еду после похорон матери. Но теперешний Вэл не пускает тогдашнее будущее в свою память и целиком погружается во флэшбэкную реальность — медленно, целенаправленно, со вкусом, — словно в ванну с очень, очень горячей водой. Вэл сидит на высоком деревянном стуле, который купила его мама в магазине некрашеной мебели и разрисовала, специально для него, цветочными бутонами и зверюшками, когда он стал слишком большим для высокого стульчика. Хотя сегодня Вэл уже взрослый, четырехлетний, он любит свой высокий стул — ведь с него можно смотреть через стол на папу, почти глаза в глаза. Когда папа сидит за столом. Но за этим деньрожденным обедом папы нет. Пока нет. Он слышал, как мама недавно говорила по телефону: «Но ты же обещал, Ник. Нет, мы уже не можем откладывать… У Вэла глаза смыкаются после долгого дня, и Сэмюелу скоро уже домой. Да, ты уж постарайся. Он ждет тебя сегодня. И я тоже». Она улыбается, возвращаясь к кухонному столу, но Вэл вместе с тем, четырехлетним Вэлом, ощущает, как напряжена мать. У нее слишком широкая улыбка, а глаза покраснели. — Ты бы открыл пару своих подарков, пока мы ждем папу, — говорит его мать. — О, прекрасная мысль, — говорит бабушка Сэмюела. Странно видеть, как старушка возбужденно хлопает в ладоши, словно маленькая девочка. Вэл смотрит, как его пухленькие пальчики разворачивают подарки. Игрушечная лодочка от Сэмюела — хотя его дружок удивлен тем, что обнаружилось под оберткой, не меньше Вэла. Книжка-раскладушка с небоскребом от матери Сэмюела. Большую часть слов в ней маленький Вэл не может прочесть, но шестнадцатилетний Вэл, смотрящий глазами маленького Вэла, может. — Давай есть торт. Когда задуешь свечки, развернешь подарок от папы и мамы, — говорит мама. Глаза у ребят расширяются, когда бабушка Сэмюела выключает кухонный свет. Жалюзи лишь слегка приоткрыты, но в комнату просачивается достаточно сентябрьского вечернего света, чтобы не было совсем уж страшно. И все же Вэл чувствует, как сердце четырехлетнего Вэла стучит от возбуждения и предвкушения. — С днем рожденья тебя, с днем рожденья тебя… — поют его мама и бабушка Сэмюела. Свечи горят волшебным светом. Вэл задувает свечи, с последней ему помогает мама. Он пересчитывает их вслух и указывает на каждую по очереди. — Одна… две… три… ЧЕТЫРЕ! Все хлопают в ладоши. Мама снова включает свет — и Вэл видит на кухне папу в сером костюме и красном галстуке. Он раскидывает руки, папа подхватывает его и подбрасывает к потолку. — С днем рождения, великан, — говорит папа и протягивает ему кое-как завернутый пакет. Что там внутри, Вэл не знает, но оно мягкое. — Ну, разворачивай. Это бейсбольная рукавица, маленькая, детская, — но совсем как настоящая. Вэл натягивает ее на левую руку, а папа ему помогает. Потом Вэл прячет лицо в маслянистой ладошке рукавицы, пахнущей кожей. Его обнимают мама и папа одновременно, а папа еще и прижимает к груди. На мгновение Вэл чувствует себя чуть не раздавленным, потому что все обнимаются друг с другом, но продолжает прижимать сладко пахнущую рукавицу к лицу (почему-то не сознавая, что плачет, как младенец), а Сэмюел кричит что-то и…
Вэл вышел из двадцатиминутного флэшбэка под вой сирен, рев вертолетов и выстрелы где-то поблизости. Воздух, проникавший в спальню через москитную сетку, был пропитан запахом помойки. «Ты просто полный кретин, — сказал он себе. — Шестнадцать лет, а все флэшбэчишь на такую дребедень. Полный кретин». И все же он жалел, что не взял тридцатиминутную ампулу. Вэл перевернулся в кровати и потянулся к съемной стенной панели за прикроватной тумбочкой, где у него был тайничок. Вытащив оттуда два предмета, он улегся на спину. Кожаная рукавичка — потемневшая и потертая, кожаные шнурки вынимались и заменялись с десяток раз, ремень оторвался — пахла почти так же, как тогда. Только запах стал гуще, значимее. Вэл прижал рукавицу к лицу — та стала слишком мала для его руки: не натянуть. «Полный кретин», — сказал он себе. Это была одна из причин, по которой он запирал свою спальню. И если уж начистоту, эти два талисмана вызывали у него чувство вины не меньше, чем перекачка файлов с порносайта. Но по-другому… по-другому. Он положил старую рукавицу рядом с собой, на подушку. Другим предметом был старый синий телефон. Телефон его матери. Вэл взял его и спрятал на следующий день после похорон. Его предок пробовал разыскивать телефон матери, но не очень усердно. Звонить по нему было нельзя: после смерти матери все функции доступа сначала отключил отец, а потом заблокировал провайдер — «Веризон». Но телефон все еще хранил в себе драгоценные возможности. Вэл сунул наушник в правое ухо и включил питание. До той роковой аварии мать в течение трех лет пользовалась голосовой напоминалкой, и Вэл наизусть знал свои любимые даты. Например, сентябрьский день, шесть лет назад, когда мать наговорила список предполагаемых подарков для Вэла… к его десятому дню рождения. И такие же списки рождественских подарков в том году — всего за две недели до аварии. Но напоминалки были бесценны, даже если касались не Вэла, а посещения дантиста или конференции в школе… неважно. Один только звук материнского голоса позволял ему засыпать в те ночи, когда сон не шел. Обычно голос ее был хлопотливым, встревоженным, торопливым, иногда даже раздраженным, но все же… он затрагивал какие-то струны глубоко в душе Вэла. В телефоне были, конечно, и тексты — большие файлы, созданные в последние семь месяцев ее жизни, все запароленные. После нескольких вялых попыток получить к ним доступ Вэл решил больше не пробовать. Это мог быть дневник. Так или иначе, мать хотела сохранить тексты в тайне. Может, брак его родителей начал расшатываться или она засекретила эти сведения по какой-то другой причине. Вэл считал, что не надо совать во все это свой нос. Он просто хотел слышать ее голос. «Ну ты кретин, Вэл Боттом. Через год тебе идти в морпехи или в солдаты, а ты здесь…» Но он не обращал внимания на внутренний голос, а вместо этого слушал материнский, прижавшись щекой и носом к расплющенной бейсбольной рукавице. И хотя завтрашний день и вся история с Омурой не давали Вэлу покоя, черным призраком нависая над ним, тихий голос и запах кожи прогнали дурные мысли. Через десять минут он уснул. Последней его мыслью было: «Завтра нужно засунуть рукавицу и телефон на самое дно рюкзака, чтобы Леонард не нашел…»
— Ах ты сука! — Сам ты сука, Койн, — сказал Вэл. — Пошел в жопу. Вэл пришел к больнице СИГНА, где был вход в ливневку, с десятиминутным опозданием. Он почти было решил не идти, но в конце концов понял, что тогда всю жизнь будет сомневаться в собственной смелости. — Мы уже собирались уходить без тебя, говнюк, — прорычал Койн. Главарь надел кожаную куртку, распахнутую так, чтобы был виден прищурившийся, хмурый Путин. Койн уже натянул на голову шлем-маску, но лицо пока не закрыл. — Ты свой пистолет не забыл, говнюк? — спросил Джин Ди, издав тонкий, чуть ли не истерический смешок. Вэл щелкнул высокого паренька по щеке двумя пальцами. — Эй! — воскликнул Джин Ди. Койн рассмеялся. — Здесь только я называю Боттома говнюком. А больше никто. Застегни ширинку, прыщавый. Джин Ди опустил взгляд. Остальные ребята рассмеялись — слишком громко. Все, казалось, были на взводе. — Фонарик взял? — спросил Койн. Здесь, за больничным контейнером для отходов, он держал свой громоздкий ижмашевский пистолет открыто, не пряча. Уже настал вечер, но еще не стемнело, и любой из заехавших на парковку мог увидеть оружие в его руках. Вэл поднял фонарик. — Идем, — сказал Койн. Динджин откинул крышку ливневки. Все стали по одному спускаться в сырой, темный лаз. Койн двигался впереди. Они прошли около полумили к центру города по лабиринту, полному ответвлений и поворотов, которые раньше запомнили, но никак не пометили. Все помалкивали; лучи фонариков плясали на бетонных стенах, покрытых плесенью и множеством меток. Неподалеку от входа, в сухом и пыльном туннеле, под ногами у них захрустели ампулы флэшбэка; рядом валялись обрывки туалетной бумаги, старые матрасы и использованные презервативы. Ребята брезгливо обошли все это. Вэл удивился тому, что явились все восемь человек. Неужели младшие — Тухи, Костолом, Манк и Динджин — не понимали, на что идут? А остальные — Сули, Джин Ди, даже Койн? А сам-то он понимает? Если да, то почему все-таки пришел? Они добрались до люка у Центра исполнительских искусств быстрее, чем желал бы Вэл. — Выключите фонарики, — прошипел Койн. — И опустите шлем-маски на лица. — Да еще десять минут… — начал было Сули. — Заткнись и делай, что говорят, — оборвал его Койн. Ребята опустили маски. Запах и прикосновение к лицу влажной шерсти не понравились Вэлу. Сначала наступила полная темнота — Вэл ничего не видел, и от внезапного приступа паники у него забурчало в животе. Но потом глаза ребят стали привыкать к свету, что просачивался сквозь щели в закрытых металлических панелях; они начали различать темные силуэты друг друга. Вэл чувствовал кого-то рядом с собой — Манка? — чувствовал, как от страха и тревоги у парня дрожат руки и все тело. Койн, подталкивая и подпихивая напарников, согнал их в кучку, как можно ближе к решетке и стальным створкам. Вытягивая шеи и просовывая головы через решетку, они могли кое-что видеть сквозь шесть тонких щелей — очень немногое. Младшие ребята по очереди подходили к двум выделенным им щелям. Когда Вэл заглянул в щель, ему показалось, что сердце его пустилось в гонку, финал которой — смерть. Снаружи уже скопились люди и машины, хотя главное парковочное пространство, в десяти-двенадцати футах от люка, оставалось незанятым. Голоса, шум машин, крики репортеров и фотографов и гул толпы, казалось, обволакивали их, несмотря на барьеры из бетона и стали. Раньше — все то время, что они перепиливали прутья решетки и проверяли, откроет ли койновский ключ створки, — 2-я улица была пуста, а редкие ночные машины на Гранд-авеню, казалось, проносятся где-то далеко-далеко. Теперь все стало иначе. И о чем они только думали? Вэл знал, что до этого момента все было лишь мальчишескими фантазиями — игры в пиратов в пещере с настоящим оружием, — но теперь все происходило взаправду. — Койн, — прошептал Вэл. — Мы не можем… Тот ударил приятеля в лицо кулаком, и Вэл тяжело осел вместе со своей «береттой» на ремне. Необычное квадратное дуло ижмашевского автомата больно прижалось к его щеке. — А ну заткнись, сука, — прошипел Койн. — Или я прикончу тебя на хер, здесь и сейчас. Вэл знал, что такие автоматы стреляют очень тихо, издавая разве что свист. Койн мог рискнуть и пренебречь этим шумом… Да, понял Вэл, захлестнутый волной тошнотворной уверенности, Койн непременно рискнет, наплюет на свистящий звук и прикончит его здесь и сейчас. Одновременно Вэл понял, что Койн изначально собирался убить его этим вечером. А может, и перестрелять под шумок всех остальных парней. «Беретта» Вэла висела у него на ремне, под спортивным свитером с капюшоном и фланелевой рубашкой. Не успев нащупать в темноте оружие, он услышал, как Койн щелкает чем-то… скорее всего, предохранителем. Следующий звук будет последним в его жизни… — Он здесь! — воскликнул Манк. — Лимузин приехал. — Что? — прошептал Койн. — Слишком рано. Еще три минуты… Он явно смотрел на свои дорогие часы. — Он выходит! — прокричал Джин Ди. Теперь уже никто не пытался соблюдать тишину. Висячий замок отперли, цепочку сняли, и теперь шестеро парней, отталкивая друг друга, тянулись к четырехфутовым отрезкам прутьев решетки, которые заблаговременно оставили у стены, под входом в ливневку. В ранние утренние часы они тренировались в распахивании стальных створок при помощи этих коротких металлических стержней. Манк и Динджин тогда стояли снаружи, готовые броситься вперед и снова захлопнуть створки. — Это он! — завопил Сулли у одной из щелей. — Омура! — Заткнись! Заткнись! — прошипел Койн, но уже ничего не мог поделать — события развивались сами собой. Теперь, по крайней мере, ижмашевское оружие больше не было нацелено Вэлу в голову. Он перевел дыхание и начал отползать на спине в место потемнее, на расстоянии нескольких ярдов от решетки. Ребята научились тихо откидывать панели, действуя сообща, но теперь тыкали стержнями в стальные листы, стараясь открыть створки чуть ли не вслепую. Те заскрежетали, заскрипели и начали подаваться. Свет уличных фонарей, автомобильных фар, телевизионных прожекторов и фотовспышек хлынул в туннель, ослепил восемь пар глаз, приспособившихся к почти полной темноте. — Огонь! Огонь! Огонь! — завопил Костолом, борясь с бойком своего тяжелого «магнума» калибра 9 мм. — Нет, стой, стой, стой! — прокричал Койн. «И что же он замыслил?» — тупо подумал Вэл. Неважно, он больше не мог ждать, чтобы выяснить это. С трудом поднявшись на ноги, он побежал к повороту туннеля. — Сука! — завопил Койн и выстрелил в него из автомата. Остальные восприняли это как приказ открыть огонь. В гулком бетонном туннеле раздались оглушительные до ужаса выстрелы из шести пистолетов одновременно. Правая створка перед Джином Ди даже не раскрылась до конца, и его пули выбивали искры из стали. Остальные ребята пихались и подпрыгивали, пытаясь палить в четырехфутовое отверстие между открытыми не до конца створками. Вэл добежал до поворота в туннеле и рухнул на землю как раз в тот момент, когда Койн выстрелил. Около пятидесяти стреловидных пуль с заусеницами врезались в стену и, срикошетировав, полетели дальше по туннелю. Не успей Вэл добраться до поворота, он был бы мертв. Продолжи Вэл бежать, пули разорвали бы его в клочья, и он был бы мертв. Теперь Койн кричал вместе со всеми остальными и явно стрелял в зазор между створками, одновременно толкая других ребят, чтобы те оказались перед ним. Вэл знал это: он должен был увидеть, что там происходит — пусть и понимал, что ничего глупее не придумать, — а потому выглянул за утыканный колючками угол. Кто-то — возможно, охранники Омуры — вел ответный огонь. Вэл увидел, как бритая голова Тухи взорвалась красно-серыми брызгами и его худое тело, ударившись о Костолома, сползло вниз. Динджин выкрикнул что-то, а потом, сраженный пулей, рухнул вниз, как мешок с картошкой. Никаких театральных полетов, виденных Вэлом в миллионах фильмов, — лишь мертвое, бесповоротное, тошнотворное падение подстреленного парня. — Стреляйте! Стреляйте! — прокричал Койн жутким фальцетом. Отпрянув от выхода, он опустил свой автомат, целясь в спины сбившихся в кучу, орущих, стреляющих приятелей. Ну его в жопу. Вэл развернулся и побежал со всех ног. Только ударившись о бетонную стену, он понял, что выронил фонарик. Пришлось нестись вслепую в темноте. На следующем разветвлении надо было свернуть налево, в узкий боковой ход, — но в такой темноте ничего не найти. Конец. Вэл собрался с силами, тряхнул головой и в этот момент увидел вспышку ярче солнца, а потом звук — самый ужасный из всех, слышанных им. Ударная волна подхватила его и отбросила на пятнадцать футов вдоль по главному коридору. Он смутно понимал, что кожа на его локтях и коленях ободралась при ударе и скольжении по цементному полу, что джинсы и спортивный свитер порвались. Пламя бушевало и расцветало в туннеле позади Вэла, за первым поворотом. Он разглядел какую-то жуткую фигуру — человек приземлился в том самом месте, где сам он находился считаные секунды назад. Потом Вэла настигла вторая ударная волна, отбросив еще на десять футов. Теперь он мог видеть. Вэл стянул с себя шлем-маску и вытащил «беретту». Когда он бежал, пистолет был под шерстяным свитером. Туннель ливневки освещался невидимым красно-оранжевым пламенем, и тень Вэла металась перед ним, пока он несся со всех ног, порой пригибаясь, чтобы не удариться о торчащую арматуру, и слыша беспорядочные взрывы в тридцати ярдах позади себя. Наверное, кто-то снаружи выстрелил из реактивного гранатомета. Или чего-то похожего. Если так, то никто из ребят, оставшихся в первом отрезке туннеля, не уцелел. Мужские выкрики. Новые выстрелы. Охранники, копы или военные были здесь, в ливневке, как и Вэл. Превосходная идея: задержать преследователей, оставив часть внутренней решетки, — работала где-то с полминуты. Кто-то просто взорвал к чертям стальные панели, решетку ливневки, парней — вообще всё. И преследователи оказались внутри ливневки. Вэл бежал с такой скоростью и дышал так тяжело, что чуть было не пронесся мимо уходящего влево узкого ответвления. Он притормозил. Подошвы кроссовок заскользили по полу. Вэл вернулся назад и свернул налево. Свет пламени тускнел у него за спиной. В тесном проходе — Вэл едва не задевал стенки плечами — стояла темень. Чтобы попасть на уровень выше, а оттуда к выходу, следовало найти узкий лаз наверх с металлическими ступенями. Но в такой темноте Вэл не мог его увидеть. Снова крики. Теперь люди оказались в том же ответвлении, что и Вэл, стреляя вдоль туннеля. У них были автоматы. «Конечно же, у них автоматы, придурок». Единственное, что мог сделать Вэл, если хотел найти вертикальный ход, — это подпрыгивать через каждые несколько шагов, пытаясь нащупать потолок свободной левой рукой. В правой руке он все еще держал шлем-маску и «беретту». Шанс проскочить мимо небольшого отверстия был высок, но Вэл ни за что не собирался снижать скорость. Беда в том, что раньше Вэл проверял это ответвление: оно заканчивалось тупиком, ярдах в тридцати после нужного ему вертикального хода. Снова крики за спиной. Грохот ботинок по цементу, множества ботинок. Чей-то голос разносился по проходу, хотя разобрать слов Вэл не мог. Они все мертвы. Койн, Манк, Джин Ди, Сулли, Тухи, Костолом, Динджин. Все. Пальцы его левой руки нащупали пустоту. Вэл резко остановился, сделал шаг назад, прикинул, где могут находиться ступеньки, и прыгнул вслепую. Левая его рука ухватилась за ступеньку, но вес тела чуть не вырвал предплечье из сустава. Он выронил «беретту» и шлем-маску, успел кое-как подхватить и то и другое, подставив колени, и этой же рукой нащупал следующую ступеньку, изо всех сил стараясь не выронить пистолет, хотя тремя пальцами правой руки уже держался за нее. Вэл поднимался, ногами нащупывая ступеньки. Наконец он оказался уровнем выше и перевалился на сухой бетонный пол коридора, идущего на восток. Дыхание его взметало с пола пыль, ударявшую в лицо. Несмотря на идущую кровь и боль во всем теле, — хотя он и был уверен, что ни одна из стреловидных пуль не попала в него, — Вэл поднялся на ноги и двинулся по коридору, ведя левой рукой по южной стене туннеля. Слава богу, туннель шел только в одну сторону от вертикального лаза, по которому он поднялся. Если бы еще пришлось выбирать направление в полной темноте, он наверняка бы потерялся. Вэл прошел меньше сотни футов, когда услышал, как сзади и справа кто-то скользнул, шурша. Крыса? Но не успел он подумать об этом, как был ослеплен лучом фонаря, направленным ему прямо в глаза. Копы! Позволят ли ему сдаться или сразу пристрелят? Если ребята, паля наобум, все же попали в советника Омуру, то Вэл, пожалуй, знал ответ. И все же он начал поднимать руки, чтобы сдаться, когда голос Билли Койна за слепящим кругом света произнес: — Я всегда знал, что ты полное говно, Вэл. Невероятно, нелепо — но Вэл, испуганный, хотя и не впавший в панику, тут же вспомнил сцены из старых фильмов про Джеймса Бонда, Борна и Курца, которые смотрел с предком. «Главная ошибка всех негодяев, — говорил тот, сидя на диване вместе с Вэлом; их разделяло ведерко попкорна, — в том, что они говорят, говорят, говорят. Объясняют, продолжают говорить, вместо того чтобы пристрелить главного героя и покончить со всем этим». — Я завтра буду флэшбэчить на это в самолете, которым улетаю в Москву вместе с матерью. Первым классом, слышь, гадина? — сказал Койн все еще высоким, жутким голосом: адреналин, хлынувший в кровь при стрельбе, еще не ушел из нее. — Я буду представлять себе, как сотня стреловидных пуль разрывает твое говенное хлипкое тело… Вэл выстрелил из «беретты», спрятанной под намотанной на руку шлем-маской. — Ой, — сказал Койн и уронил фонарик, который ударился о пол металлической частью и не разбился. Луч света покатился неторопливым кружочком. Вэл метнулся вправо, стараясь выйти из освещенной зоны. Фонарик двигался слишком быстро, но луч, осветив Вэла лишь на мгновение, покатился дальше. Он упал на одно колено и уперся в него правой рукой, стараясь целиться низко. Луч фонарика остановился, осветив Койна. Тот стоял на коленях, опираясь на большой ижмашевский автомат, точно на костыль, и смотрел на собственную грудь. Над бледной бровью Владимира Путина и чуть правее нее расползалось красное пятнышко. Койн поднял взгляд. По его лицу гуляла глупая самодовольная ухмылка. — Ты в меня попал. В голосе Койна слышалось почти что недоумение. Он попытался поднять тяжелый, громоздкий автомат. Вэл не думал, что у Койна хватит сил поднять оружие и прицелиться, но проверять не хотелось. Он выстрелил в Койна снова — на этот раз в горло. Голова Койна откинулась назад, шея разорвалась, и он рухнул вперед, в круг света от фонарика. Звук его клацнувших зубов, когда он с отвисшей челюстью упал ничком, навсегда останется с Вэлом. Новые крики сзади и снизу. Вэл дышал так, словно пробежал стометровку. Он чувствовал, как по телу расползается странная немота, и засомневался, сможет ли он идти дальше, а тем более пробежать требуемое расстояние. Схватив фонарик, он начал поворачиваться, когда голос, исходивший от тела Койна, сказал по-русски: — Ty rasstrelyal nas ublyudok! Вэл развернулся и присел, выставив перед собой «беретту». Койн лежал неподвижно, лицом вниз. Лужа крови все расплывалась. Не без опаски подойдя ближе, Вэл подцепил правое плечо Койна носком кроссовки и перевернул его. Остекленевшие глаза мертвеца были широко раскрыты, как и рот с выбитыми передними зубами. От второго выстрела голова практически отвалилась. Владимир Путин ухмылялся, глядя на Вэла. Его тонкогубый маленький рот проворчал: — Ty ubil nas, svoloch. Vy proklyatye, долбаные, parshivye… Зная, что только даром тратит пулю, Вэл тем не менее выстрелил Путину прямо в переносицу, между глаз-бусинок. Искусственный интеллект замолчал. Голоса теперь доносились снизу, через колодец. Возможно, преследователи не заметили вертикального лаза. Господи, если бы так оно и было! У Вэла имелось несколько секунд, чтобы добраться до первого поворота. Он побежал, с фонариком в левой руке и «береттой» в правой.
1.09 Денвер и «Курс-филд» 14 сентября, вторник
Когда Ник служил в денверской полиции, там никто и никогда не осмеливался расшифровать инициалы женщины-детектива К. Т. Линкольн на женственный, нежный манер — типа «Кати». По крайней мере — в ее присутствии. Если кто и называл детектива Линкольн по имени, то всегда говорил «К… Т.», делая между инициалами уважительную паузу — если не из опасения, то хотя бы для разделения взрывных согласных. Ходили слухи, будто никто — ни капитан, ни комиссар, ни даже начальник отдела кадров — не знает, что они обозначают. За спиной у К. Т. высказывались всякие грязные и сексистские предположения. Мужчины ее побаивались, а — как быстро обнаружил Ник, став напарником К. Т., — чем неувереннее мужчина, тем легче его напугать. Ник Боттом никогда не боялся детектива первого ранга К. Т. Линкольн; но, может быть, это объяснялось их успешной работой в паре. Но теперь, когда она широким шагом подходила к выгородке в дальнем углу ресторана «Денвер дайнер», где ее ждал Ник, он отчасти испытал неуверенность и тревогу при виде ее хмурого лица. Он знал, что эта цветная женщина с суровыми чертами, волосами в мелкую кудряшку и ростом в шесть футов два дюйма всегда носит на бедре девятимиллиметровый «глок»; это вовсе не способствовало уменьшению беспокойства. — Я заказал тебе кофе — сейчас принесут, — сказал Ник, когда К. Т. села напротив него. Они нередко завтракали здесь после ночного дежурства в Денверском центре. Дара никогда против этого не возражала. Как и спутница К. Т. Ник не видел К. Т. и не говорил с ней почти пять лет. Она за это время получила повышение — чин лейтенанта и должность главы отдела… которые полагались Нику, не стань он флэшнаркоманом и не обделайся всюду, где только можно и нельзя. — Не хочу кофе, — холодно сказала К. Т. — И на вопрос, который ты собираешься задать, я отвечаю «нет». Есть что-нибудь еще, мистер Боттом? У меня назначена встреча с ребятами Дельвеккьо из отдела быстрого реагирования. Мне пора отчаливать. «Что, этот кретин Дельвеккьо возглавляет теперь ОБР?» — подумал Ник. — Это на какой вопрос ответ? Я у тебя еще ничего не спросил, К. Т. И что, по-твоему, я собираюсь спросить? — Я не буду твоим снайпер-секундантом сегодня на «Курс-филде», — ответила лейтенант. Хотя Ник ни разу не подъезжал к К. Т. Линкольн, он всегда считал ее привлекательной женщиной, несмотря на ее рост, суровое лицо и короткие, непослушные волосы. Ник как-то сказал Даре: он вполне может себе представить, что К. Т. — потомок Авраама Линкольна, если у того была связь с красивой черной женщиной цвета кофе с молоком, как у К. Т., и язвительным характером. Подобно Линкольну (несмотря на то, что второразрядные историки, в отчаянных поисках свежего взгляда на самого популярного американского президента, распускали всяческие слухи), К. Т. Линкольн в любовных делах предпочитала женщин. Но больше всего угрюмая, молчаливая начальница отдела напоминала канонизированного президента глубоко посаженными, темными, до странности линкольновскими (и лишь изредка благожелательными) карими глазами. — Откуда ты знаешь, что я иду на «Курс»? — спросил Ник. — Ты что — меня за дуру держишь? Вся полиция знает, как ты пыжишься изо всех сил и выставляешь себя идиотом, услуживая Накамуре. Думаешь, через советника можно добиться того, что губернатор разрешит увидеть Оза, Дина, Делроя Ниггера Брауна и всех остальных кретинов, — а полиция ничего не узнает? Спустись с небес на землю, Боттом. — А что — «Ник» уже не катит? — спросил Ник. — Ник утонул на дне ампулы с флэшбэком, — отрезала К. Т. Уязвленный Ник ответил: — У меня есть снайпер-секундант для «Курса». — Один из головорезов Накамуры. Отлично. Значит, я тебе не нужна. Если нет других вопросов… И К. Т. двинулась прочь из выгородки. Но на пути у нее встала официантка, которая принесла кофе и большой завтрак для Ника: яйца, бекон и картофельные оладьи. Ник торопливо проговорил: — Я хотел поговорить о Даре. Экс-напарница Ника замерла, потом села. — Что ты хочешь сказать о Даре? — резко спросила К. Т., когда официантка наполнила их чашки и ушла. — Дэнни Оз, израильский поэт, которого Кэйго Накамура расспрашивал в числе последних… — Я помню, кто такой Дэнни. — …сказал мне вчера, что в день их с Кэйго встречи он видел Дару и незнакомого ему толстого, лысого типа — вероятно, помощника окружного прокурора Харви Коэна. Мне нужно знать, почему она была там, К. Т. К. Т. подняла чашку обеими руками и медленно отхлебнула, явно давая себе время поразмыслить. — Оз ни разу не говорил о твоей жене во время остальных пяти расследований убийства Кэйго, — негромко сказала она. — Пяти? — переспросил Ник. — Пяти? Я знал только о нашем совместном расследовании с ФБР и еще об одном, которое проводили японцы года два спустя. — С тех пор было еще три, — сказала К. Т., глядя в свою чашку. — ДВБ-шное три года назад, потом опять наше, после того как губернатор вставил клизму Пенья-младшему. И полтора года назад делом опять занялись ФБР с ЦРУ или черт их поймет с кем. С секретной группой, которая может совать нос в грязные углы, обычно недоступные для федералов. — Значит, мое расследование будет шестым за шесть лет, — пробормотал Ник. — Пятым с одной сотой, — отрезала К. Т., на лице которой мелькнуло несвойственное ей выражение — вроде сожаления о сказанном. Но Ник только кивнул. — Почему Накамура нанял меня, после того как все эти мощные структуры не смогли ничего выяснить? Хотя вообще-то мне все равно… Я просто хочу знать, почему Дара и Харви Коэн были в «Шести флагах» в тот сентябрьский день. И еще есть вероятность, что она пришла на вечеринку в ЛоДо в ночь убийства Кэйго. К. Т. подняла на него глаза. — В логово Кэйго? Это невозможно, Ник. При каждом расследовании списки гостей и видеозаписи просматривали вдоль и поперек. Черт побери, люди Накамуры даже воссоздали все происходившее в трехмерном варианте. Никаких следов Дары. — Воссоздавали компьютеры, — раздраженно возразил Ник. — Компьютеры зависят от тойинформации, что в них вводится. А на одной из записей, сделанной внешней видеокамерой, мелькнуло лицо… кого-то… похожего на Дару. На расстоянии в пол квартал а и по другую сторону улицы. В тот момент, когда все стали спешно выметаться, чтобы не встретиться с полицией. К. Т. покачала головой. — Технари из ФБР и других контор увеличили все кадры наружной съемки. Никого, кто мог бы представлять интерес для следствия. — Понимаешь, — Ник расставлял слова так, будто засовывал пули в барабан револьвера, — может, моя покойная жена и не представляет интереса для следствия. Но для меня-то представляет. Мне нужно знать, почему она была в «Шести флагах» в тот день — а потом, возможно, на вечеринке. А для этого мне требуется твоя помощь, К. Т. Та откинулась к спинке, так что расстояние между ними увеличилось. — Господи Иисусе, Ник. Ты начитался и насмотрелся всяких историй про частных детективов, где разжалованный полицейский пользуется услугами приятеля, который остался в полиции и делает для него всю тяжелую работу. Между прочим, реальному полицейскому в реальном мире это грозит потерей значка. А я больше тебе не приятель, Ник Боттом, и даже если бы им была, все равно не сделала бы этого. — Ты была подругой Дары, — решительно сказал Ник, соединив ладони и направив указательные пальцы на К. Т., как ствол пистолета. — Или вела себя, как ее подруга, в те дни. — Пошел ты в жопу, Боттом. — И ты туда же, Линкольн. Тебя волнует не потеря значка. Тебя волнует, что ты не получишь очередного повышения. А кем ты станешь потом, К. Т.? Комиссаром? Мэром? Королевой Колорадо? Ник выбрал выгородку в дальнем углу ресторана, у туалетов, подальше от окон и утренних толп, но люди все равно поворачивались и поглядывали в их сторону из-за стенок своих выгородок. Он подался поближе к женщине и прошептал: — Мне нужна твоя помощь, К. Т. Лейтенант смотрела на него все так же холодно, разве что чуть прищурилась. — Знаешь, что тебе нужно, Ник? Побриться, постричься, почистить зубы и похудеть фунтов на двадцать пять. Новый костюм и галстук тоже не помешают. Ник почувствовал, как у него екнуло в груди, но ничем не показал этого. — Мне нужна твоя помощь, К. Т. Мне нужно знать, почему Дара была в «Шести флагах». И была ли она рядом с домом Кэйго в ту ночь. — Она тебе никогда не говорила, что Коэн или окружной прокурор интересуются всем, связанным с Кэйго Накамурой? — Ничего такого я не помню. Я просматриваю эти дни один за другим с помощью флэшбэка, и все, что она говорит или не говорит, теперь кажется мне подозрительным. Мне надо поговорить с тогдашним окружным прокурором Ортегой. — С Мэнни Ортегой? — К. Т. фыркнула и ухватила ломтик бекона с тарелки Ника. — Какой толк встречаться с мэром и спрашивать его о деле, о котором шесть лет назад он мог даже и не знать? В городе говорят, что для Ортеги мэрство в Денвере — лишь ступенька в карьере. У него амбиции национального масштаба. — Насрать на Ортегу с его национальными амбициями, — прошипел Ник. — Мне нужно знать, почему Харви Коэн оказался с Дарой в «Шести флагах» именно в тот день. Над чем таким он работал? — Может, встречу с Ортегой лучше устроить через советника? — предположила К. Т. — Но твое… расследование… уже никак не связано с поисками убийцы Накамуры. — Не знаю, — откровенно сказал Ник. — Знаю только, что мне сейчас наплевать, кто убил парнишку, если это не имеет отношения к Даре. И к… так называемой катастрофе, в которой она погибла. Густые брови К. Т. взлетели вверх. — Так называемой? Ты хочешь сказать, что авария, в которой погибли Дара и Харви, не была просто несчастным случаем? Ник пожал плечами и опустил взгляд на остывающую и затвердевающую пищу. — Пять с половиной лет назад дорожный патруль, шериф, денверская полиция — все предоставили тебе результаты расследования катастрофы. Я это знаю. Машины на шоссе ехали с большой скоростью, когда Коэн начал съезжать с I-двадцать пять на Восточную Пятьдесят восьмую авеню. Харви и сам всегда очень быстро ездил по городу. Пожилая пара в бьюиковском мерине перед ними резко остановилась. Беспричинно… кто-то перед ними замедлил ход, и они ударили по тормозам — старики часто так ездят. Харви не успел остановиться вовремя или обойти их, как и водитель фуры за ним. Все три машины врезались в ограждение. В пожаре погибли и пожилая пара, и водитель фуры. Бога ради, Ник, что тут может быть, кроме несчастного случая? Он посмотрел на нее налитыми кровью глазами. — Ты когда-нибудь слышала о подставах, К. Т.? Лейтенант фыркнула. — Конечно. Старая схема выколачивания денег из страховых компаний. Но я не знаю случаев, чтобы в автомобиле, тормозящем перед машиной лоха, сидела пожилая пара англосаксов, ни разу не нарушавшая правил. И чтобы ударяющая машина была громадной фурой. И чтобы мошенники добровольно согласились сгореть. Придумай что-нибудь получше, Ник. — Откуда они ехали, К. Т.? — Кто? — Харви и Дара. Откуда они ехали, когда произошел «несчастный случай»? — В протоколе, кажется, было написано, что с ланча, — сказала К. Т. внезапно усталым голосом. — К тому времени Харви с Дарой три с лишним часа как уехали из офиса, — проворчал Ник. — Чертовски долгий ланч. И куда они направлялись? В офисе окружного прокурора тогда заявили, что они собирались взять показания у кого-то в Глоубвиле, и больше никаких подробностей. Кто, черт побери, ездит в Глоубвиль, чтобы брать показания? — Полагаю, помощник окружного прокурора со своими людьми, если им нужно взять показания у глоубвильца, — заметила К. Т. — Почему ты не задал эти вопросы тогда? — Тогда они не казались мне важными. Тогда мне ничто не казалось важным. К. Т. посмотрела на свои сильные пальцы, лежавшие на столешнице. — Чтобы получить эту информацию, тебе придется встретиться с Ортегой и нынешним окружным прокурором, — очень тихо сказала она. — Чего ты хочешь от меня? — Для начала достань все, что дорожный патруль, люди шерифа и полицейские не показали мне шесть лет назад, — ответил Ник. — И все то из офиса коронера, чего я не видел. Она смотрела на него несколько долгих секунд и наконец спросила: — Ник, ты и в самом деле хочешь увидеть фотографии с места катастрофы — искалеченное, обгорелое тело Дары? — Да, — сказал Ник, свирепо глядя на нее. — Хочу. А еще фотографии тел Харви, пожилой пары и водителя фуры. И мне нужно увидеть все, что есть в полиции об участниках этого происшествия. Я хочу знать все, что известно об этом водиле и о старых пердунах. — Больше ничего? — Нет, еще кое-что. Мне нужно, чтобы ты разузнала, не интересовался ли какой-нибудь отдел полиции, или ФБР, или еще кто, чем занимался Кэйго Накамура перед убийством… Мне нужно все, что могло заинтересовать окружную прокуратуру и вызвать приезд Дары и Харви в «Шесть флагов» в тот сентябрьский день. — Это будет непросто. — Ты начальник отдела, лейтенант Линкольн, — сказал Ник. — Когда мы оба были детективами второго ранга, то считали, что выше начальника отдела только Господь Бог. — Неужели? — К. Т. пристально поглядела на него. — Так вот, это не так. — Она снова двинулась прочь из выгородки. — У тебя все тот же телефонный номер? — Да, — сказал Ник, но, подумав, тут же прибавил: — Слушай, лучше всего нам встретиться с глазу на глаз, как сейчас. И лучше ксерокопии, чем файлы. К. Т. остановилась и наклонила голову. — Впадаешь в паранойю? — Даже у параноиков есть враги, К. Т. Если ФБР и ЦРУ возвращаются к этому делу, очень вероятно, что они подозревают существование заговора против Накамуры с его холдингами. Заговора со стороны всяких там японских корпораций. К. Т., теперь стоявшая рядом с выгородкой, наклонилась и понизила голос: — Будет опасно, Ник. Для тебя и для меня. После Дня, когда настал трындец, японцы почти что вернулись к феодализму. Ты же знаешь. Эти корпоративные объединения — кэйрэцу — похожи на феодальные княжества. Ты ведь слышал о возрождении кэйрэцу в Японии? — Конечно. — Тогда ты должен помнить, что премьер-министр и члены японского парламента — всего лишь пешки. Главы этих объединений-кэйрэцу, вроде Хироси Накамуры, которые к тому же возглавляют возрожденные семейные концерны-дзайбацу, — каждый из них хочет стать сёгуном новой Сферы взаимного процветания Юго-Восточной Азии. В нее японцы намерены включить Китай и остальные азиатские страны. Накамура — советник Америки, а значит — одна из главных фигур в том феодальном кошмаре, который эти самураи-бизнесмены называют культурой. В этих кэйрэцу и дзайбацу убийство всегда считалось частью честной игры. Не нужно тебе вмешиваться в их войны, Ник. Ник посмотрел на нее. Их разделяло совсем небольшое расстояние, и Ник чувствовал тот же еле уловимый аромат, что и во времена их совместной работы на 16-й улице. — Я не могу не вмешаться, К. Т. Если есть хоть малейшая вероятность того, что в это дело вмешалась Дара, то должен и я. К. Т. Линкольн выпрямилась и теперь, казалось, смотрела на пустую стену за выгородкой, но не уходила. Несколько секунд спустя она спросила: — Знаешь, почему я из тех всего лишь пяти процентов американцев, которые никогда не пользовались флэшбэком? — Ты из амишей?[74] Его бывшая напарница не улыбнулась. — Нет. Просто у меня и без того много важных мертвецов, на которых я трачу большую часть времени, пока страна дуреет от этого долбаного наркотика. Я прочла в отчете, что ты вчера встречался с этим гугловским недоумком Дереком Дином. Значит, ты понимаешь, куда ведет эта привычка — жить ложной жизнью с мертвецами. Каждый час под флэшбэком — это час, вычеркнутый из реальной жизни. Ник, не моргая, смотрел на нее. Когда он заговорил, голос его звучал твердо, бесстрастно. — О какой реальной жизни ты говоришь, К. Т.? Та на секунду закрыла глаза, потом развернулась, собираясь уходить, но задержалась и сказала через плечо: — Будь осторожен сегодня на «Курс-филде». У нас есть сведения, что Хидэки Сато, которого ты выбрал себе в снайпер-секунданты, — один из киллеров на службе дзайбацу, о которых мы говорили. — Хорошо. Значит, он не промахнется. Позвони мне, когда что-нибудь найдешь, и мы встретимся снова. Лейтенант Линкольн покинула ресторан той же уверенно-агрессивной походкой, которой вошла. С оружием на «Курс-филд» не пускали, а потому Ник провел больше получаса, облачаясь в бронекостюм из кевлара-плюс. Костюм обволакивал все тело под уличной одеждой, а также шею и голову — словно шлем-маска, внахлест покрытая чешуйками из легкого пулеотражающего металла. Лицо оставалось незащищенным, и какой-нибудь здешний обитатель легко мог прикончить Ника — в тюрьме «Курс-филд» имелись пистолеты, заточки, топорики, шила, дубинки и настоящие боевые ножи. Но к-плюс отражал удары большинства клинков, а при удаче позволял вступить в игру снайпер-секунданту. Однако длинный клинок, со скоростью молнии посланный в глазницу тренированной, умелой рукой нациста тела — такие попадались среди обитателей тюрьмы, — мог сработать не хуже пули. Эти закоренелые преступники из «Курс-филда» были самыми накачанными и сильными людьми в штате Колорадо. — Здесь только мужчины? — спросил Сато. Директор тюрьмы Билл Полански, главный конвойный и командир отряда снайперов Пол Кампос наблюдали, как Ник облачается в бронеодежду. Полански принадлежал к спокойным, но обстоятельным администраторам среднего звена: в системе образования он к сорока пяти годам стал бы директором или был на грани того, чтобы вышибить себе мозги. Кампос, с коротко стриженными седыми кудрями и морским загаром, принадлежал к тем, кто вышибет мозги у кого угодно, только не у себя. Без всякого удовольствия, но предельно умело. — Только мужчины, — ответил директор Полански. — У нас здесь нет настоящих стационарных камер… разве что штрафные изоляторы под трибунами. Женщины помещаются неподалеку, в бывшем «Пепси-центре». — Я, бывало, смотрел там, как «Самородки» играют с «Лавиной», — сказал Кампос. — А один раз слышал Брюса Спрингстина.[75] Вы умеете обращаться с этой винтовкой, мистер Сато? Японец крякнул и кивнул. Натягивая кевлар-плюс на гениталии, Ник посмотрел на незаряженное оружие, которое взвешивал в руке Сато. Это была снайперская винтовка М40А6 с продольно-скользящим затвором — такими все еще пользовались морпехи. Ник увидел, что у нее съемный магазин на пять патронов. Предельное расстояние для стрельбы на «Курс-филде» было относительно невелико — футов пятьсот пятьдесят максимум. Поэтому тюремные снайперы вполне обоснованно пользовались бывшими натовскими патронами 7,62 х 51 мм, более легкими по сравнению с тяжелыми бронебойными калибра 12,7 мм. Кампос постучал по прицелу. — Это «Полис Марксмен II L» — модернизированный «Шмидт-и-Бендер 3-12 x 50» с подсветкой визирных нитей. Режим дневной стрельбы. Возможно, вам придется стрелять в теневую зону под вторым навесом, где живет Д. Ниггер Браун, но прицелу хватит света для обеспечения четкости, даже если солнце скроется за облаками. — Кампос помолчал. — Вы пользовались этим оружием раньше, сэр? — Да, пользовался, — сказал Сато и установил винтовку на двуногую опору, стоявшую на столе. — Желательно обойтись без смертных случаев, — устало произнес Полански, когда Ник натягивал на голову кевларовую шлем-маску. — Штат Колорадо отказался от смертной казни много лет назад и никогда не рассматривал возможность ее восстановления. Каждый застреленный вами заключенный — это куча бумажной работы для нас. Вообще-то после смерти заключенного возни с бумажками куда больше, чем после убийства посетителя. Сато кивнул. Ник посмотрел сквозь глазные прорези своего нового головного убора. Уши у него были закрыты, но микрофоны принимали наружные звуки, обеспечивая радиосвязь с Сато и остальными, — им отводилась бывшая ложа для прессы. На шлем-маске кроме двустороннего микрофона имелась миниатюрная 3D-камера, так что Сато и прочие могли следить за всем, что Ник видит и слышит… если только ему не отрежут голову и не утащат куда-нибудь. Ник принялся натягивать свою уличную одежду, — кевларовые перчатки в последнюю очередь. Полански подошел к нему, включил микрофоны и камеры, отступил в сторону и сложил руки на груди. Вид у директора был мрачный. — Мы идем навстречу советнику Накамуре, мистер Боттом, но неужели допрос этого конкретного заключенного стоит таких хлопот? — Может быть, и нет, — сказал Ник. Закончив одеваться, он пошевелил руками и пальцами, покрутил головой. Ощущение было такое, будто его завернули в усаживающуюся обертку из металлопластика. Тело начинало потеть под кевларовой броней. — Ну что ж, вперед, — произнес он.Он прошел через дверь в стене центрального поля и начал долгий путь по игровой площадке. Лачуга Делроя Брауна находилась на первом уровне, за основной базой, на полпути до конца поля. Наркодилер со сроком всего в три года, Браун вообще-то не заслуживал такого хорошего места, но у него были и другие отсидки, за более серьезные преступления; кроме того, он имел здесь дружков. Ник не оглядывался через плечо, но знал, что Сато стоит за зеркальным пуленепробиваемым стеклом помещения на втором уровне, где прежде был ВИП-ресторан. Теперь его превратили в снайперское гнездо. Когда «Курс-филд» превратили в тюрьму под открытым небом, игровое поле первое время оставалось незанятым и предназначалось для физических упражнений. Теперь и внутреннее, и внешнее поля[76] (травы на том и другом не осталось) были заставлены палатками из одеял, коробками, лачугами из подобранных на свалке листов жести, сооружениями из всевозможных отходов. Здесь жили новички и всякая шваль, чьи убогие жилища не имели защиты от непогоды. Над «Курс-филдом» никогда не было крыши — ни съемной, ни какой-либо другой. Черным заключенным достались лучшие места — крытый участок за основной базой, протянувшийся за пределы скамеек запасных первой и второй баз. Белым принадлежали крытые участки в левой части трибун, на первом и на втором ярусах. Латины владели обоими ярусами правой части и открытыми трибунами в центре, которые прежде назывались «Рокпайл».[77] Обитатели этой зоны так и звали ее до сих пор. Дорогие закрытые люкс-ложи стали помещениями без окон для ВИП-заключенных, которые платили за них директору и охранникам сумасшедшие деньги. А на третьем ярусе выросли лачуги и палатки, где обитали эксцентричные и пожилые заключенные, желавшие лишь одного: чтобы от них отстали на хрен. От двери в стене центрального поля к основной базе, мимо лачуг, шло нечто вроде тропинки, и Ник зашагал по ней. Из палаток и коробок на него смотрели мрачные лица, но никто не приблизился. Если расстояние между заключенным и посетителем уменьшалось до шести футов, следовало ждать выстрела. Путь был долгим, и Ник так разогрелся под кевларовой оберткой, что чуть не падал в обморок. Он знал правило: если заключенные, один или несколько, нападают на тебя с колющим оружием — сворачивайся в клубок, закрывай лицо кевларовыми руками, и пусть твой снайпер-секундант делает свое дело, пока тебя пытаются заколоть. Когда всех застрелят, вскакивай на ноги и быстрее света мчись к ближайшему выходу. Вот только ближайший выход был в четырехстах футах — Ника от него отделяли внутреннее и внешнее поле. Ник остановился примерно там, где раньше помещалась основная база, и вгляделся в трибуны. Ограничительная сетка осталась на прежнем месте, как в дотюремные времена. Это место поразило Ника: раньше он видел его только в цифровом варианте, наблюдая летом по телевизору за играми «Рокиз».[78] Большинство людей считали, что запрет на посещение зрелищ означает конец профессионального спорта, но трансляции всех спортивных игр и состязаний в цифровом трехмерном формате оказались популярнее живых версий. Одной из причин, вероятно, было мастерство игроков: в новой команде «Колорадо рокиз» числились Данте Бикетте, Ларри Уокер, Андрес Галаррага и Вини Кастилья — все они выступали за команду приблизительно сорока годами ранее. В главной бейсбольной лиге требовалось лишь, чтобы заявленный виртуальный игрок играл за команду когда-либо в прошлом и мог быть воссоздан для игры только за одну из команд. «Бруклин доджерс», например, триумфально вернулись на сцену с Сэнди Куфаксом, Доном Дрисдейлом, Джеки Робинсоном, Дьюком Снайдер, Пи Ви Ризом, Джилом Ходжесом и остальные. Эти «Доджерс» выходили против «Нью-Йорк янкиз», у которых играли Дерек Джетер, Микки Мантл, Роджер Мэрис (настроенный на лучший год своей карьеры), Лу Гериг, Дуайт Гуден и Бейб Рут. О точности соответствия оригиналу виртуальных игроков и составов команд главной лиги шли постоянные споры, но бейсбольные болельщики любили эпоху возрождения. Лишь немногие хотели бы вернуться к накачанным стероидами игрокам последних, отмеченных скандалами десятилетий живой игры. Ник, как и его старик, обожал бокс и часто смотрел «Пятничные бои», в которых молодой Кассиус Клей дрался, скажем, с Роки Марциано или Джеком Джонсоном… — Боттом-сан, вы видите? — прошептал голос Сато в ухо Нику. — К вам справа приближается человек. Ник развернулся. Незнакомец, направлявшийся к нему из палаточно-хибарочного городка, был высоким, тощим, седоволосым, темнокожим и старым. Одет он был в мешковатые шорты цвета хаки, сандалии и безупречную белую рубашку. Шел старик медленно, но чуть ли не царственной походкой. Остановившись футах в семи от Ника, он раскрыл ладони — мол, руки мои пусты. — Добро пожаловать, сэр, в наш скромный мир «Курс-филда», sans[79] бейсбол, sans болельщики, sans хот-доги и попкорн, sans пиво «Курс», sans что угодно, кроме осужденных преступников, включая и меня, сэр. Старик слегка, но не без изящества наклонил голову. Голос его был сочным, басовитым, низким, чарующим — как у некоторых актеров, игравших в шекспировских трагедиях, и у старых спортивных комментаторов. Ник слабо кивнул, но оглянулся, обшаривая взглядом пространство и задаваясь вопросом, не обман ли это, не хотят ли его зачем-то заманить в ловушку. Двигайся, подсказывал ему мозг. Двигайся, идиот. — Меня зовут Душевный Папочка, — сказал старик. — А позвольте узнать ваше имя, сэр? «Двигайся, двигайся»: ничего хорошего не будет, если назвать свое имя выжившему из ума старому преступнику. — Ник Боттом, — услышал он, словно издалека, собственный голос. В тот момент, когда отвлекаться было нельзя, его отвлекла какая-то мысль, мелькнувшая в утреннем разговоре с К. Т. Линкольн. Ему показалось, что все это: лачуги, преступники, солнечный свет, старый разоренный стадион, даже сумасшедший старик с удивительным голосом — часть какой-то флэшбэкной реальности, а Ник наблюдает за ней сверху. «Будешь парить в облаках — тебя быстренько прикончат, кретин». Душевный Папочка хохотнул тем же самым сочным, низким голосом. — Что ж, мистер Ник Боттом, вы сегодня оставили ваши ослиные уши дома? Ник кинул взгляд на старика и чуть подвинулся вправо. Он хотел, чтобы между ними сохранилось прежнее расстояние, чтобы Папочка оказался между Ником и возможным стрелком на трибуне, прямо впереди или чуть правее, и чтобы сам Ник не загораживал старика от выстрела Сато. Не дождавшись ответа, Душевный Папочка сказал: — Помните «Сон в летнюю ночь» — слова, которые говорит пробуждающийся Ник Моток? «Я скажу Питеру Клину написать балладу об этом сне. Она будет называться „Сон Мотка“, потому что его не размотать. И я хочу ее спеть в самом конце представления перед герцогом; и, может быть, чтобы вышло чувствительнее, лучше спеть этот стишок, когда она будет помирать».[80] Я всегда думал, что он имеет в виду Джульетту из «Ромео и Джульетты». Понимаете, мистер Боттом, Шекспир писал две эти пьесы примерно одновременно… возможно, даже параллельно, хотя это было бы очень необычно для Барда… и я думаю, что в этих словах Мотка он позволил одной реальности проникнуть в другую, как флэшнаркоманы позволяют одной из своих реальностей проникать в другую. До тех пор, пока не перестают чувствовать разницу. Ник в ответ мог только моргнуть. Странно, что израильский поэт Дэнни Оз тоже поднял вопрос о том, кто такая «она» в словах «спеть этот стишок, когда она будет помирать». Понимая, что он впустую тратит время и подставляется, Ник сказал: — Похоже, вы неплохо разбираетесь в Шекспире, мистер Душевный Папочка. Старик закинул назад голову и рассмеялся сочным, довольным смехом. Зубы у него были большими и белыми; несмотря на возраст Папочки, отсутствовал только один. Что-то в этом смехе навело Ника на мысль, что старик — ямаец, хотя тот говорил без всякого акцента. Ник не знал, что вызвало у старика смех — то ли то, что его назвали Душевным Папочкой, то ли комплимент по поводу Шекспира. — Я сорок с лишним лет провел в маленькой лачуге на территории депо в Буффало, штат Нью-Йорк. И жил я там вместе с профессором философии, человеком великой учености и любителем денатурата, мистер Боттом, — сказал Папочка. — Некоторые вещи заразны. Ник понимал, что глупо задавать вопросы и пытаться узнать что-то у старика, — но иногда не мешает побыть глупым. — За что вас посадили, Душевный Папочка? — спросил он негромко. И снова в ответ раздался зычный смех. — Я сижу здесь за то, что жил зимой под виадуком и портил вид на Платт-ривер людям, которые платили сумасшедшие деньги за возможность жить в высокой стеклянной башне у прибрежного парка, — ответил Папочка. — А позвольте и мне задать вам вопрос: зачем вы здесь, мистер Боттом? Или, вернее, кого вы здесь ищете? — Делроя… Брауна. Душевный Папочка снова расплылся в широкой улыбке, показав крепкие зубы. — Как благородно с вашей стороны пропустить слово, начинающееся с буквы «н», мистер Боттом. И я поддерживаю ваш выбор. Из всего, что я видел и выстрадал за свои восемьдесят девять лет, самая великая глупость, совершенная моим народом добровольно, — это возвращение к слову с буквы «н», которое напоминает о веках рабства и никогда не было по-настоящему забыто. Душевный Папочка повернулся и ткнул в сторону лачуги на полпути к первому ярусу за основной базой. Все сиденья на ярусе, конечно, были давным-давно выдраны. — Мистер Делрой Ниггер Браун обитает там, сэр, и ждет вас. — Спасибо, — сказал Ник, чувствуя себя глуповато, и двинулся вперед. Встав так, чтобы его жеста не видели люди у него за спиной, Душевный Папочка поднял руку с выставленным пальцем. — Они хотят вас убить, — очень тихо проговорил старик. Ник замер. — Не мистер Браун, которого вы ищете, а некто Плохой Ниггер Аякс. Знаете такого? — Знаю, — так же тихо ответил Ник. В свое время он арестовывал Аякса, и согласно его показаниям суд приговорил Аякса к десяти с лишним годам за неоднократные изнасилования шестилетней девочки в извращенной форме. Девочка умерла от внутреннего кровоизлияния. — Все будет вот как, — сказал Душевный Папочка все тем же быстрым, тихим, сочным шепотом. — Мистер Браун пригласит вас в свою палатку. Вы благоразумно откажетесь. Тогда мистер Браун предложит: «Пойдемте туда, чтобы поговорить спокойно». Вы подниметесь на десять ступенек, мистер Аякс выскочит из-за другой палатки и выстрелит вам в лицо. Его друзья — вернее, напуганные шестерки, потому что у мистера Аякса здесь нет друзей, — встанут спиной к вашему снайперу и не дадут ему прицелиться. Мистер Аякс скроется в толпе, уходя в сторону левого поля. Пистолета не обнаружат. Ник посмотрел на старика. Восемьдесят девять лет. Душевный Папочка — как бы ни звучало его настоящее имя — родился в начале Второй мировой. Прежде чем Ник успел заговорить, хотя бы пробормотать дурацкое «спасибо» (хотя понятия не имел, говорит старик правду или готовит ему ловушку, чтобы убить другим способом), Папочка сложил ладони, поклонился, развернулся и пошел в направлении того, что когда-то было линией третьей базы. Ник отошел на два шага назад, оглядывая лабиринт палаток и лачуг, целиком заполнявших весь первый ярус за главной базой. — Вы слышали? — прошептал он. — Мы слышали, — раздался голос Сато у него в ухе. — Я сейчас смотрю на фото этого Аякса. Ник облизнул сухие, потрескавшиеся губы. — Что мне делать? Есть предложения? — Мистер Кампос предлагает вам вернуться через проход в центральном поле, Боттом-сан. Он советует бежать трусцой и петлять. У Аякса, вероятно, мелкокалиберный пистолет. Пот струился в глаза Нику, но он подавил в себе желание поднести руку ко лбу. — Я хочу найти Делроя. Вы успеете убрать Аякса, когда он появится… если появится? — Там будет густая тень. — Голос Сато звучал ровно. — Он появится всего на секунду. И я должен кое в чем признаться, Боттом-сан. — В чем? — Американские чернокожие для меня все на одно лицо, Боттом-сан. Ник не удержался от смеха. — Плохой Ниггер Аякс весит около трехсот фунтов, — сказал он, прикрывая рот рукой, чтобы никто не мог прочесть его слова по губам. «Сколько питчеров[81] вот так же прикрывали рот своими рукавицами?» — подумал он вдруг. — Должен признаться, Боттом-сан, что все американские чернокожие весом в триста футов для меня на одно лицо. Мне очень жаль. — Ну тогда, — сказал Ник, продолжая прикрывать рот рукой, — стреляйте в того, кто будет целиться в меня. Если сможете. — Директор Полански не поблагодарит нас за кучу бумажной работы, — бесстрастно сообщил Сато. Ник не понял, шутит крупногабаритный шеф службы безопасности или нет. Впрочем, ему было все равно.
Ник поднялся на трибуны по грязному пандусу. Те, кто не был в своих палатках, отступали подальше от него, а точнее, от расстрельного круга, который двигался вместе с ним. Он спиной чувствовал их взгляды, поднимаясь по ступеням. Ограду, окружавшую стадион, когда он был стадионом, давно вырвали. Пройдя половину первой секции, Ник остановился у палатки, на которую указал Душевный Папочка. — Делрой Ниггер Браун! — прокричал он, радуясь только одному: голос его по-прежнему звучал сильно и не дрожал. Менее приятным был неожиданный позыв помочиться — не лучшее, что можно делать под кевларовой броней. — Делрой Ниггер Браун! Выходи! — Кто меня ищет? — раздался из палатки знакомый въедливый голос. — Выйди, и я скажу. — Ник немного понизил голос, но сохранил фирменный полицейский тон: «никакие „нет“ не принимаются». — Быстро. — Так идите ко мне в палатку, здесь никто не помешает, — прохныкал Делрой. — Тут у меня копу нечего бояться. — Я сказал — выходи, — повторил Ник. Каждый слог звучал жестко, тяжело, непререкаемо. Делрой Ниггер Браун, согнувшись, вышел из низенькой палатки, одетый так же, как и Папочка, — шорты, рубашка, шлепанцы. Но если на старике все это было безукоризненно чистым, то на Брауне — заляпанным. Когда Делрой подошел поближе и выпрямился, то оказалось, что он едва доходит Нику до плеча. — А что я сделал-то? — жалобно заголосил он. — Меня сюда упекли только на восемь месяцев за то, что я продал немного флэшбэка — всего-то и делов. Да и то из-за ошибочного опознания. Хотя желание помочиться или бежать со всех ног (или сделать и то и другое) у Ника не прошло, он не сдержал улыбки. — Никто не попадает на «Курс-филд» за продажу флэша, Делрой, — пролаял Ник. — Ты возил сюда из Нью-Мексико кокс, героин, экстази и «жуть». И продавал детям. У меня к тебе есть пара вопросов, но совсем не об этом. — И ничего такого, о чем мой адвокат может посоветовать мне, ну, типа, не базарить? — Ничего, — ответил Ник, так толком и не поняв, что имел в виду хнычущий наркодилер. — Ну и ладушки, — сказал Делрой, внезапно оживляясь, словно узнал в Нике приятеля или клиента. — А что бы нам не подняться чуток, чтобы никто нас, типа, не слышал и где мы сможем немного, типа, спрятаться от солнца и вообще? — Хорошо, — услышал Ник собственный голос. И он с такой силой схватил Делроя за левое предплечье, что некрупный дилер вскрикнул. Оба поднялись на одну ступеньку, и Делрой попытался вырваться. Две ступеньки. Три. Четыре. Ник почувствовал едкий запах — Делрой обмочился. Этот маленький проныра вовсе не собирался быть рядом с Ником, когда начнется стрельба. Пять ступенек. Шесть. Восемь. — Нет! — вскрикнул Делрой и попытался вырваться, но безуспешно. Вокруг началось шевеление. Люди ныряли куда-то головой вниз, подавались то в сторону, то назад, выныривали из палаток и исчезали в них. По «Курс-филду» разнесся звук винтовочного выстрела, очень похожий на тот, что получается при ударе битой по мячу во время хоумрана.[82] Ник увидел фонтан крови, мозгов и разлетающиеся куски черепа в трех рядах кверху от себя и в пятнадцати футах справа. Именно там, по словам Душевного Папочки, и должен был засесть Аякс со своим пистолетом. Это не значит, что тебя не поджидают трое других, кричал Нику его разум. Он потащил обмочившегося, плохо стоящего на ногах Делроя вверх — туда, где прежде были сиденья и где лежал убитый стрелок. Теперь люди вокруг них неслись, как сумасшедшие, сбивая лачуги и друг друга, чтобы не попасть в расстрельную зону, окружавшую Ника. В кино всегда кто-нибудь присаживается на колени рядом с получившим пулю и прикладывает три пальца к его шее — есть ли пульс? Нику никогда не приходилось делать этого: имея некоторый опыт, ты и без того видишь, мертв человек или жив. Ну и конечно, поставить диагноз оказывалось легче — как вот сейчас с Плохим Ниггером Аяксом, — если треть головы была снесена, а мозги размазаны по грязному бетону, словно большая порция овсяной каши. Ник искал пистолет и нашел его — целевой пистолет с длинным стволом двадцать второго калибра. Не заморачиваясь насчет отпечатков пальцев, он поднял оружие, сунул узкий ствол глубоко в складки мягкой кожи под отвисшим подбородком Делроя и потащил коротышку вниз. И ни разу не повернулся, чтобы посмотреть на распростертое, обезображенное тело Аякса. Ник тащил Делроя за собой по открытому полю, а люди по сторонам от них все разбегались — к стенкам внешнего поля и скамейкам запасных у третьей или первой базы. В своем горячечном исходе они роняли палатки, разносили на куски лачуги. Ник теперь держал пистолет достаточно высоко, чтобы видели все. Заметив малейшее движение в свою сторону, он нацеливал туда оружие. Таких движений было немного. Это напомнило Нику сцену, которая всегда так нравилась Валу, Даре и ему самому: Моисей — Чарльтон Хестон — раздвигает воды Черного моря. Компьютерной графики с ее спецэффектами тогда еще не было, но все равно, смотреть — сплошной кайф. «Ты сам-то не слишком закайфовал? — предостерегал Ника его полицейский мозг. — Очень возможно, что здесь есть и другие, желающие прикончить тебя». Но ничего нельзя было поделать: Ник не имел права уводить Делроя Ниггера Брауна из «Курс-филда» (для этого требовалось решение суда и два слушания в присутствии общественного защитника Делроя; месяца три только для того, чтобы получить отказ), а информация требовалась ему прямо сейчас. Примерно в том месте, где должно было бы начинаться центральное поле, Ник сделал наркодилеру подножку. Делрой упал на колени. Ник приставил ствол пистолета к его лбу и увидел, как в остатках делроевских волос копошатся вши. — Задавать вопросы дважды я не буду, — пролаял Ник. — Нет, сэр. Да, сэр. Оййй. Ни за что, сэр, — дрожащим голосом проговорил Делрой. — О чем спрашивал тебя Кэйго Накамура, когда брал интервью шесть лет назад, и что ты ему сказал? — Что? — прокричал с колен Делрой. — Кто? Когда? — Ты слышал вопрос, — сказал Ник, вдавливая тонкий ствол поглубже в висок Делроя, отчего кожа треснула. — А, тот япошка? Япошка с камерой и эта, ну, типа, сексуальная сучка, его помощница? Вы об этом долбаном япошке? — Об этом долбаном япошке. — Что вы хотите? То есть, я знаю, что вы хотите… — О чем он тебя спрашивал? — повторил Ник, еще сильнее вдавливая пистолет в висок Делроя. Из ранки потекла кровь. — Что ты ему сказал? — Этот долбаный япошка хотел знать, где я достаю, ну, типа, этот долбаный флэшбэк, который я, типа, продаю, — проскулил Делрой. — И что ты ему сказал? — Я сказал ему, ну, правду. Какого хера, типа, врать? Ствол пистолета врезался в висок еще глубже. — Либо ты мне расскажешь, либо сегодня вышибут мозги сразу двоим Ниггерам. Господом тебе клянусь, Делрой. — Да говорю я, говорю, говорю, на хер, — завопил Делрой, поднимая трясущиеся руки и держа их подальше от пистолета. — Только вопрос, типа, повторите. — Где ты доставал флэшбэк? — Где я доставал хорошее торчево? Это же хер знает когда было, шесть лет назад. Весь мой чудный комплект, включая и флэшбэк, от дона Кож-Ахмед Нухаева в его огромном имении в Санта-Фе. Он, типа, пахан братвы, этой долбаной русской наркомафии. «Черт», — подумал Ник. Все дороги всегда ведут в Санта-Фе. Придется отправиться туда завтра, как планировал Сато. — Что еще ты сказал Кэйго Накамуре во время интервью? — Да только об этом долбаном флэшбэке — и больше ни хера. Ни кокс, ни героин его, типа, и не интересовали. Он хотел все знать про флэш — как я его получаю от долбаного дона Кож-Ахмед Нухаева, как мы провозим его назад через КПП долбаной реконкисты, ну всякую такую херню. — Что еще? — спросил Ник, перемещая ствол пистолета и грозя размозжить мягкие ткани глазницы Делроя. Дилер завизжал. — Больше ничего. Япошку ничто больше не интересовало. Посмотрите эти долбаные видео, если мне не верите. — Почему ты ушел с вечеринки с Дэнни Озом в ту ночь, когда убили Кэйго? — Что? С кем? — Ты прекрасно меня слышал. — Это тот еврейчик, что ли, из «Шести флагов»? — Да. — А по-вашему как? Почему я с ним ушел? Кого-то, типа, укокошили на этой вечеринке. И что я должен был — сидеть и ждать? Нужно было рвать когти, и этот, как его там, еврей, волшебник из страны Оз или хер знает кто, он хотел купить товар. Мы отправились ко мне, вверх по этому долбаному холму. Я же не с товаром пришел на вечеринку. — С каким товаром, Делрой? — Флэшбэком. Этот еврей ничего другого не покупал. Ник вытащил телефон с фотографией Дары на экране. — Посмотри на это фото… — Хорошенькая беленькая сучка… — начал было Делрой. Ник сунул ствол пистолета в висок с такой силой, что левый глаз дилера готов был вылезти из орбиты при малейшем движении руки. Делрой вскрикнул. Ник немного ослабил давление. Ствол был влажен от крови, что сочилась из лопнувшей кожи на виске. — Какого хера? Вы хотите, чтобы я смотрел без глаза? — Где ты ее видел? И когда? Говори конкретно, или, клянусь Господом, лишишься не только глаза. Делрой сделал успокоительный жест правой рукой и подался поближе к экрану. — Я ее никогда не видел. Нигде. Не было. — Смотри лучше. — Да на хер мне смотреть? Я ее не знаю. Никогда ей не продавал, никогда ей ни за что не платил, никогда ее не видел, слышь, начальник? Ник убрал телефон. — Слышу. И он ударил коротышку пистолетом с такой силой, что тот рухнул на землю. Ник быстрым шагом направился к стене центрального поля. Он не хотел бежать и пытался сохранять остатки достоинства, хотя затылок ждал пули, а плечи ссутулились, несмотря на все его старания держаться прямо. Кевлар отражал пули, но выстрел в затылок почти наверняка убил бы Ника, даже если бы кевларовая шлем-маска оказалась цела. — Директор Полански будет недоволен нами, — прошептал Сато ему в ухо. — Но по счастливому совпадению, в последние две минуты ваши камера и микрофон, похоже, выключились. — Хорошо, — сказал Ник, которому было все равно. — Скажите Полански и Кампосу, чтобы они немедленно убрали оттуда Душевного Папочку. Все видели, что он говорил со мной, а сразу после этого вы прикончили Аякса. До ограды центрального поля и двери оставалось меньше пятидесяти футов. Сколько аутфилдеров неслись к этой облупившейся зеленой стене в погоне за летящим мячом? Сколько питчеров, выходя на замену, проходили через эту дверь и направлялись к возвышению с бьющимся сердцем и венами, полными адреналина, как сейчас Ник? Только тогда по вершине стены не проходила, как теперь, колючая проволока. В ухе у Ника загудел голос главного снайпера Кампоса: — Убирать оттуда Душевного Папочку нет надобности, мистер Боттом. Обитатели «Курс-филда» чуть ли не поклоняются ему. Многие черные считают, что ему сотни лет, что он — вроде волшебника. Его не трогают даже латины и белые. Никто не причинит Папочке вреда. — Но… — начал было Ник. — Поверьте мне, — продолжил Кампос, — Папочке ничто не угрожает. Не знаю, почему он вас предупредил, но, наверное, не просто так. И он говорил правду: у Плохого Ниггера Аякса здесь нет друзей. Есть много прихвостней и шестерок, но они ненавидели Аякса еще больше, чем те, кто его боялся. С Папочкой все будет в порядке. Ник пожал плечами. Он с удовольствием пробежал бы пятнадцать футов до двери и высокой стены, но из-за оттока адреналина ноги его совсем ослабели. Он слышал, как по другую сторону отодвигают тяжелую щеколду и открывают дверь, — та заскрежетала на ржавых петлях, застонала, как умирающий. Вот только у Плохого Ниггера Аякса не было времени застонать. Наконец Ник прошел через дверь и оказался по другую сторону ее.
1.10 Рейтон-Пасс и Нью-Мексико 15 сентября, среда
Когда Сато позвонил ему в начале седьмого со словами, что в семь надо быть на крыше кондоминиума «Черри-Крик-молл» и ждать там вертолет-стрекозу «сасаяки-томбо», Ник испытал постыдное чувство облегчения — аж живот схватило. Он и не подозревал, что настолько труслив. Ему было все равно. Полет в Санта-Фе (несмотря на опасения «Накамура хеви индастриз» насчет переносных и всяких других ракет) обещал быть куда безопаснее поездки на автомобиле. Стоя на крыше, Ник оглянулся — нигде никаких облаков. В шестидесяти с чем-то милях к югу Пайкс-Пик поймал первые лучи утреннего солнца, низкие и резкие. Вертолет-стрекоза прилетел с запада, заложил вираж и мягко приземлился. Ник швырнул свой рюкзак в открытую заднюю дверь и, не став браться за протянутую руку Сато, сам залез внутрь. Набитый рюкзак был тяжеловат. На поясе, в кобуре, висел «глок». В рюкзаке лежал полный комплект полицейской бронеодежды, который Ник купил, потеряв работу, — штука куда серьезнее вчерашнего кевлара, — боевой нож в кожаных ножнах, старый, еще отцовский карабин М4А1, крепившийся к нему гранатомет М209, упаковка гранат М406НЕ, автомат со стреловидными пулями «негев-галил» и компактный девятимиллиметровый полуавтоматический пистолет ЕМР 1911-А1 производства Спрингфилдского арсенала. Еще Ник взял револьвер «смит-и-вессон» модели 625 сорок пятого калибра, которым с успехом пользовался на соревнованиях, работая в полиции, — шесть выстрелов, скоростная перезарядка при помощи особого приспособления и еще шесть выстрелов, всего за три с небольшим секунды. Наконец, в рюкзаке были требовавшиеся для оружия боеприпасы. — Осторожнее с рюкзаком, — сказал он Сато, занимая складное плетеное сиденье в хвосте вертолета, под которое и засунул тяжелый мешок. — Взяли с собой свои игрушки, Боттом-сан? — спросил тот. Шума от винтов, основного и хвостового, почти не было, но, когда вертолет поднялся в воздух, выровнялся и направился на юг, рев воздуха в открытых дверях оказался настолько громким, что Сато протянул Нику наушник и прокричал номер закрытого канала для связи. Они летели с неизменной скоростью на высоте около трех тысяч футов. Ник смотрел в открытую дверь: южная окраина Денвера внизу переходила в северную окраину Касл-Рока. Сегодня утром было прохладнее — первое по-настоящему прохладное утро в этом сентябре; солнечный свет падал на здания и машины, которые казались чистыми и обычными, принадлежащими к нормальному миру. Даже заброшенные ржавеющие ветряки вдоль Континентального водораздела, справа от вертолета, казались в этом насыщенном утреннем свете аккуратными и чистыми. Сама горная цепь, кроме высокого Пайкс-Пика, загибалась к западу, в то время как «стрекоза» летела на юг, над I-25. Ник едва не улыбнулся. Он знал, что должен стыдиться чувства облегчения, поднявшегося в нем, когда позвонил Сато и сообщил о «стрекозе». Но оно было намного сильнее чувства вины. Уж очень не хотелось ехать целый день в Санта-Фе при дневном свете, чреватом всякими неприятностями. — Почему вы передумали? — спросил он Сато по закрытому каналу. — Насчет чего передумал,Боттом-сан? Сегодня утром японец выглядел сонным. А может, он просто медитировал посреди квадрата солнечного света, падающего на их сиденья и заднюю часть фюзеляжа. — Насчет того, чтобы лететь, а не ехать. Сато неловко покачал головой на манер Одджоба. — Нет-нет. На «сасаяки-томбо» мы долетим только до Рейтон-Пасса и границы штата. Оттуда поедем на двух грузовиках по Нью-Мексико до самого Санта-Фе. Добираться до этих машин по воздуху быстрее. Ник сумел ограничиться кивком, отвернулся от Сато и принялся разглядывать заброшенные ранчо, земельные угодья между городами и почти не используемый хайвей под вертолетом. Они уже миновали Колорадо-Спрингс. Позади, справа от них, остался и массив Пайкс-Пика. Широкая вершина горы, на одиннадцать тысяч футов превосходящая высоту их полета, местами уже была покрыта снегом.— Ник, может, попробуем этот Эф-два? — спрашивает Дара. Солнечный субботний день. Они лежат в спальне. За окном январь, Даре остается жить всего десять дней. Они только что занимались любовью: неторопливо, без огня, но как чудесно! Такое бывает с семейными парами, которые перешли на новый уровень интимных отношений. Почти шесть лет Ник не хотел флэшбэчить на эти последние месяцы перед смертью Дары, даже на самые приятные воспоминания: ощущение близости рокового события затмевает радость от созерцания любимой. Но сейчас он сделал исключение: этот полузабытый разговор в январскую субботу, пять с половиной лет назад, мог оказаться важным для нынешнего расследования. Вэлу десять лет. Весь этот долгий, неторопливый день он проводит у друга-именинника под присмотром Лоры Макгилври. — Нет, серьезно, — говорит Дара, прижимаясь к нему обнаженным телом. — Обычный флэшбэк ты со мной не хочешь попробовать, так давай хоть этот — о нем теперь все твердят. Я слышала, что он позволяет только счастливые мысли. Ник кряхтит. Он бросил курить, но именно в этот момент, после любовных ласк, остро ощущает, что в шкафу, всего в нескольких футах, лежит спрятанная пачка. — Флэшбэка-два не существует, — возражает он. — Это все выдумки. Извини, что разочаровываю тебя, малышка. — Черт побери. Я всегда думала, что это просто власти так утверждают, а на самом деле вы хватаете употребляющих Эф-два, и у вас среди улик полно ампул с этим добром. — Не-а, — говорит Ник и проводит пальцами по ее талии. Ему нравится смотреть, как на коже Дары появляются гусиные пупырышки. — Полная брехня. Нет такого наркотика. Но если бы и был, на кой черт он тебе нужен? Мы даже и обычный флэшбэк никогда не пробовали. — Ты был бы против, если бы я захотела, — скорчила недовольную гримасу его молодая жена. Старая шутка: она хотела пробовать всякие запрещенные вещи, эта когда-то непреклонная девочка-невеста, считавшая грехом лишний стаканчик вина за обедом. Ник берет ее голову своими большими руками и легонько встряхивает. — Что тебя тревожит? Я ведь вижу — что-то тревожит. Дара поворачивается и опирается на локоть, чтобы видеть его. — Мне так хочется поговорить с тобой, Ник. Но мы не можем поговорить. Ник знает, что в таких вот супружеских беседах ничего хуже быть не может, но все же прыскает со смеху. Дара отодвигается от него на несколько дюймов и подтаскивает подушку, чтобы закрыть свои красивые груди. — Прости, — говорит Ник, вполне искренно. Он знает, что обидел жену. И ему грустно, что та закрывается от него. — Просто мы с тобой все время говорим и говорим. — Когда ты дома. — И ты, — упрекает Ник ее в ответ. — Приходишь домой поздно и уезжаешь на выходные не реже, а то и чаще меня. И опять он жалеет, что сказал это. — Такая у нас работа… — шепчет Дара. Паря над этой сценой, прислушиваясь к тогдашним своим мыслям и к их разговору в тот день, пять с лишним лет назад, Ник уже готов признать, что ошибся… что Дара в тот день не сказала ничего важного. — Я думал, нам нравится наша работа, — говорит тогдашний Ник. «Идиот. Олух», — думает Ник нынешний. — Конечно нравится. Мне всегда нравилась. Но нам запрещают говорить о… ну, о служебных делах. Тогдашний Ник думает, что понимает ее. В расследовании убийства Кэйго Накамуры много такого, о чем он не может беседовать с Дарой, потому что она работает у окружного прокурора Мэнни Ортеги. Тогдашний Ник думает, что она обижена его молчанием. — Извини, Дара. Есть вещи, о которых я не мог говорить, и… — Ты идиот! — (Теперь, увидев слезы в ее глазах, Ник пугается еще больше.) — Тебе не приходило в голову, что и в моей работе есть такие вещи, о которых я не могу говорить с тобой, пусть даже мне хочется? Пусть даже мне нужно? Ему хватает ума — на сей раз — не говорить правду: если честно, о такой возможности он никогда не задумывался. Дара — главный референт одного из помощников окружного прокурора, старины Харви Коэна, который никогда особо не нравился Нику. И он не представляет себе, что о каких-то рабочих делах жена не может говорить с ним — было бы желание. Насколько ему известно, в офисе окружного прокурора, а тем более у Харви, нет никаких незаконченных дел, в которых Ник участвовал бы или должен был выступать как свидетель. — Это неправильно, — говорит Дара, пряча зардевшееся лицо в подушку. — Хотя неважно… оно уже почти закончилось… еще несколько дней, может, неделя, и Мэнни говорит… — Мэнни Ортега? — спрашивает Ник. Ему никогда не нравился честолюбивый, ушлый, но не слишком умный окружной прокурор. — Он тут при чем, черт его побери? — Ни при чем, ни при чем, ни при чем, — говорит Дара и переворачивается на бок, спиной к Нику, по-прежнему прижимая подушку к груди. Но ее красивая спина и красивый бок обнажены, и Ник прижимается к ним, обнимая жену левой рукой, которая наталкивается на подушку. — Извини, я был так занят… Дара тянет руку назад и касается пальцами его головы. — Это глупо. Забудь все, что я наговорила, Ник. Я объясню… когда будет можно. Скоро. Он целует ее в шею. Паря надо всем этим в конце пятнадцатиминутного сеанса, Ник осознает, что почти начисто забыл тогдашний разговор. Он так еще и не понял, о чем Дара говорила, почему плакала. Что-то на работе — на ее работе — беспокоило Дару, уже не день и не два. — Может, поспим немного? Мы для этого и пришли сюда час назад, — шепчет Дара, снова поворачиваясь к нему. Ее дыхание посвежело от слез. — Да, конечно, вздремнем, — соглашается Ник. — Я запру дверь — вдруг Вэл вернется раньше, чем мы проснемся?
Высота перевала Рейтон-Пасс составляла всего 7834 фута, но штаб майора Малькольма располагался на несколько сотен футов выше — в военном трейлере, поставленном на невысокой горе к западу от I-25. Майора явно предупредили о прибытии Сато и о том, что японец — представитель советника. Поэтому Малькольм проявлял к нему минимальное уважение, приняв излюбленный вид армейских офицеров — «я-раздражен-тем-что-трачу-впустую-свое-время-но-другого-выхода-нет». Сато представил Ника только по имени — никак не объяснив его присутствия, — и майор кивнул, даже не посмотрев в сторону второго штатского. Было время, когда Ник оскорбился бы на такое отношение к себе, но теперь счел это даже удобным. Он хотел погрузиться в свои мысли, а не участвовать в чьих-то делах. И потом, на него навалилась усталость. Большую часть ночи он флэшбэчил и спал меньше часа. Не очень разумно накануне дня, когда ему могли понадобиться все навыки выживания — те, что сохранились. Но у него оставалось слишком мало времени, чтобы не проводить часы под флэшбэком. Майор Малькольм показывал на крохотные облачка пыли, которые возникали на одном из нескольких экранов. Фоном служила шероховатая стена желтовато-коричневого цвета. — Эти фонтаны пыли, — майор ткнул пальцем в трехмерное изображение, — все, что осталось от Третьей бронетанковой дивизии Республики Техас, отступающей к месту изначальной дислокации в Далхарте и Дюма. Эти… Его рука исчезла в объемных изображениях, когда он коснулся экрана там, где поднимались более темные, широкие мазки. — Видите черную стену? Это больше тысячи столбов дыма между Вэгон-Маундом и Лас-Вегасом, многие — вблизи старого национального монумента Форт-Юнион… а под этими столбами — сотни горящих танков, бэтээров и других бронемашин, в основном техасских. Сражение продолжалось десять дней. Некоторые историки уже говорят, что это величайшее танковое сражение после Курска, летом сорок третьего года. — И кто победил? Майор Малькольм посмотрел на Ника так, словно тот пернул. — В стратегическом отношении — русские, потому что остановили немецкий блицкриг, — сказал майор. — Хотя Советы во время сражения потеряли более шести тысяч танков и самоходных орудий против примерно семи сотен немецких. Но вермахту пришлось отступить. Немцы утратили инициативу на Восточном фронте. Это последнее стратегическое наступление, которое Гитлер смог предпринять на Востоке. Сато откашлялся. — Думаю, майор, мой коллега спрашивает, кто победил в этом, современном сражении — мексиканцы или техасцы? — А, вот оно что, — сказал Малькольм без тени смущения. — Латины и картели вынудили техасцев отойти с большими потерями. Поэтому я и сказал об «отступающей» дивизии. Южная граница Колорадо, фактически южная граница США, охранялась Национальной гвардией, но ее командование и эта часть на Рейтон-Пассе состояли из чинов регулярной армии. Настоящая регулярная армия была слишком ценна, поскольку служила наемным войском для Японии и других государств, оставаясь одним из немногих источников твердой валюты. Для решения такой мелкой проблемы, как безопасность Америки, использовать ее было слишком накладно. Ник не без оснований предположил, что майор Малькольм преподавал военную историю в Вест-Пойнте или где-то еще, прежде чем его перевели сюда для наблюдения за этими болванами — воинами выходного дня, охраняющими границу. Впрочем, все это не имело значения. — Эти изображения со спутника или беспилотника? — спросил Сато. — Со спутника, — ответил майор. — Мы покупаем время индийских и наших гражданских спутников. Силы Нуэво-Мексико сбивают все наши беспилотники. — Реконкиста контролирует воздушное пространство к югу отсюда? — поинтересовался японец. Малькольм пожал плечами. — Строго говоря, техасцы контролируют воздушное пространство последний год или около того… и даже используют пилотируемые аппараты. Но за последние три месяца у Нуэво появились тактические боевые лазерные установки противоракетной обороны «Железный рок» и «Волшебная палочка», обе на мобильной платформе. Реконкиста получила эффективное средство против техасских баллистических ракет средней дальности, а заодно очистила воздух от всего, что летает… включая наши беспилотники. — Но собственные самолеты реконкиста не подняла в воздух? — спросил Сато, сложив на груди свои громадные руки. Малькольм покачал головой. — У техасцев есть установленные на самолеты лазеры, модификации старых израильских «Наутилус-скайгардов». Сбивают все, что взлетает в восточном Нью-Мексико, сами находясь при этом в двухстах милях от границы Техаса. Поверьте, мистер Сато… небо здесь не принадлежит никому. Сато бросил взгляд на Ника, но тот понятия не имел, что хочет сказать шеф службы безопасности. Что мысль о перелете в Санта-Фе никуда не годится? Ник посмотрел на множество экранов. Повсюду — смазанные столбы дыма: движущиеся бронетанковые дивизии, горящие машины или горящие люди. «Ну да, пытаться проехать по этой земле — глупая затея», — подумал он. — Воздушные коридоры из Лос-Анджелеса в Санта-Фе все еще открыты? — спросил Ник. Майор прищурился, глядя на Сато, словно спрашивал: «Это кто еще такой?» — Эти узкие воздушные коридоры к западу от Санта-Фе открыты, — подтвердил он. — Слишком многим миллионерам, кинопродюсерам и актерам нужно добираться до своих вторых домов в Санта-Фе. Поэтому коридоры не закрывают. Ник еле слышно вздохнул. «Если бы Накамура согласился потратить немного денег, чтобы доставить нас воздухом в Лос-Анджелес, а оттуда — в Санта-Фе на самолете какого-нибудь продюсера с системой опознавания, мы могли бы не вляпываться в это дерьмо». — Сэр, поскольку у I-двадцать пять творится такое, — обратился Сато к майору, — что бы вы нам посоветовали? Например, Шестьдесят четвертый хайвей до Таоса и дальше? Ник знал 64-й хайвей. Он ездил по нему в полицейском конвое, когда в последний раз, больше десяти лет назад, посещал Санта-Фе. Это и тогда уже было настоящим кошмаром: бандиты в горах, обрушенные мосты, бродячие полувоенные формирования из людей самых отвратительных взглядов. Но герцогиня Таоса, правнучка некоего писателя-социалиста, жившая здесь с 1960-х годов, выслала миль на сорок вперед (то есть на половину расстояния между Таосом и Рейтоном) патрули — и поставила этому буйству хоть какие-то пределы. Из Таоса до Санта-Фе было всего два-три часа езды по Лоу-роуд. — Вообще-то, — заметил Малькольм, — я не могу рекомендовать вам или советнику ни один из этих маршрутов. Сато ничего не ответил, и майор снова приложил руку к одному из экранов. — Единственный невоенный караван, который пытался добраться до Санта-Фе за последние две недели, состоял из двенадцати фур — компаний «Кока-кола» и «Хоум-депо» стремя военными машинами сопровождения. Мы потеряли с ними связь вскоре после того, как они миновали наши заграждения. До Санта-Фе конвой так и не добрался, и мы полагаем, что это он… вот здесь. Ник подался вперед, чтобы получше разглядеть оранжево-черное пятно между городками Спрингер и Вэгон-Маунд, расположенными милях в двадцать пяти друг от друга, на плато вдоль I-25. — Мы должны ехать, сэр, — сказал Сато. — Что вы посоветуете — I-двадцать пять или дорогу по каньону до Таоса? Малькольм уронил руку и пожал плечами. — Откровенно говоря, на этой неделе I-двадцать пять может быть чуточку безопаснее. Каннибалы Гальягоса расширили радиус своих атак. База у них — в бывшем бойскаутском лагере Филмонт, близ Симаррона, у хайвея, идущего по каньону. Кавалерия герцогини не очищала последние тридцать миль Шестьдесят четвертого хайвея от завалов и бандитов, хотя обычно делает это… Некоторые говорят, что герцогиня умерла. Может быть, из-за неразберихи после сражения шанс проскочить незамеченными будет выше, если выбрать I-двадцать пять. Шанс есть. Может быть. Небольшой. Сато кивнул, пожал майору руку и пошел с Ником из трейлера туда, где стояли два коричневатых модифицированных «лендкрузера», на которых им предстояло ехать в Нью-Мексико по обочине дороги. Близ вершины перевала у ответвлений дороги стояли танки. Ник увидел, что вдоль хребта, на юг и на север от них, расположились артиллерийские части Национальной гвардии. Вертолет-стрекоза уже улетел. У автомобилей ждали четыре молодых ниндзя, работающих на Сато. Японец представил их Нику: Джо, Вилли, Тоби и Билл, — а тот в ответ на их кивки только приговаривал: «Угу». Ник вспомнил случай из детства, в самом конце прошлого века: ему потребовалась помощь по каким-то компьютерным делам, и голос с сильным акцентом из некоего колл-центра в Индии произнес: «Меня зовут Джо». Угу. Все четверо еще недавно были одеты в выцветшие джинсы и дешевые неинтерактивные футболки, но за то короткое время, что Ник с Сато находились в трейлере, парни облачились в бронеодежду. Преображение оказалось серьезным. Никаких обычных для ниндзя черных тапочек, одеяний или шлем-масок. Безобразно дорогая бронеодежда нового поколения, следующего за «кожей дракона», — на вид тонкая, как шелк, и покрытая чешуей внахлест, — была сконструирована по образцу самурайских доспехов конца первого тысячелетия. У каждого она выглядела по-своему, но обязательными деталями были накладки на плечи, некое подобие юбки, шлем, шипованные перчатки и наголенные щитки. — Опа, — сказал Ник, глядя на них. — Крутая жесть, как сказал бы мой сын. — Хай,[83] — промычал Джо. Он, в отличие от товарищей, надел шлем, и весьма впечатляющий, — с тщательно сработанными то ли рожками, то ли небольшими наростами в форме хоккейной клюшки. А в остальном то был вполне современный ударопулестойкий шлем из кевлара-9. Ник показал на наросты. — Джо, можно спросить у вас, для чего эти антилопьи рожки на вашем шлеме супергероя? — Символы клана, — свирепо прохрипел тот. Правда, облик свирепого воина оказался смазанным: молодой наемник неожиданно улыбнулся и, сверх того, он жевал резинку. — Клана Накамуры, — добавил Джо, уже без улыбки. Ник посмотрел на три других шлема — стоя в ожидании перед открытыми дверями машин, ниндзя прижимали их к телу левой рукой. На каждом имелись одни и те же замысловато раскрашенные рожки, похожие на штанги футбольных ворот. Значит, догадался Ник, люди Сато были не простыми ронинами, наемниками без хозяина, а буси, самураями-ниндзя, которые не просто служили Хироси Накамуре, но почти наверняка отличались фанатической преданностью его фамильной корпорации. — Как называются эти штуки? — спросил Ник, показывая на висящие наплечные накладки, но не прикасаясь к ним. Они казались тяжелыми, но Ник догадался, что они изготовлены из того же сверхлегкого плетеного кевлара-9, как и остальная часть бронеодежды. — Сэндан-но-ита, кюби-но-ита, — сказал Джо. «Длинновато для сравнительно небольшой накладки», — подумал Ник. — А почему дополнительный слой красного кевлара-девять у вас на левой руке, а не на правой? Ответил ему Тоби. Самый приземистый и худой из четырех, он говорил до нелепости низким голосом. — Дополнительная защита на левой руке называется котэ, Боттом-сан. С ее помощью можно быстро поднять руку, чтобы отразить меч или пулю. И она только на левой руке, — правая должна оставаться свободной, чтобы самурай мог стрелять из лука. — Или из комплекса «Игла» — ракета в нем запускается с плеча, — добавил Билл, похлопав себя по цилиндрической наплечной накладке. Сато обошел ближайший «лендкрузер». Шеф службы безопасности был одет в собственную бронеодежду — все, включая шлем и металлическую маску, красное, цвета крови. Хотя маску он поднял на лоб. Ник увидел, что из нее торчат, наподобие усов, какие-то бледные волосоподобные нити. На поясе у гиганта висел настоящий самурайский меч в ножнах. Желания рассмеяться у Ника не возникло. — Цуги-но фурцу дэсу ка ябан то дзёдан ова-цу та-но?[84] — пролаял Сато, обращаясь к своим четырем бойцам. Четверо молодых людей одновременно поклонились. И поклонились низко. — Хай! Дзюнби-га дэки-тэ, босу ни ид си масу,[85] — сказал Джо. Сато повернулся к Нику. Тот подумал, что шеф службы безопасности чувствует себя гораздо комфортнее в самурайских доспехах, чем в обычном черном или сером костюме и галстуке. — Джо поедет с нами, трое других — во второй машине. Вам лучше надеть свою бронеодежду, Боттом-сан.
Внешне обе машины походили на «лендкрузеры», но когда Ник увидел стоявших рядом с ними людей, то понял, что каждый из компактных внедорожников — странный термин, употребительный во времена детства и юности Ника, — раза в два больше самого крупного автомобиля почтенной гаммы «лэндплющеров», на их с Дарой языке. Еще он заметил, что у «лендкрузеров» нет никаких стекол — даже ветрового. Вся прочная, покрытая матовой краской поверхность представляла собой однородную желтовато-коричневую смесь из стали, кевлара-9 и различных сплавов. На самом деле, — Сато сказал это Нику, когда тот надел свою, совсем не самурайскую, броню, — обе машины являлись помесью отлично бронированного гражданского грузовика и постоянно модернизируемого «Ошкош Б’Гоша», разработки двадцатилетней давности. «Ошкош» был американским армейским ПМПЗВА, «противоминным противозасадным вездеходным автомобилем», как объяснил Сато. Днище «лендкрузера» было поднято на четыре фута над землей и имело V-образную форму, что защищало его от самодельных взрывных устройств. Во времена, когда каждая старушка в городе готова была платить за дополнительную защиту для своего «шевроле», чтобы доехать до супермаркета живой, этот ПМПЗВА был тем не менее уникальной машиной. Огромные мишленовские шины накачивались из кабины, позволяли даже в спущенном виде проехать двести миль и имели металлическую оплетку. Четыре колеса с независимой подвеской военного образца ТАК-7 передавали на кузов лишь незначительные колебания, даже если громадный автомобиль сминал отделение вражеских солдат. Вместо аккумуляторов или двигателей внутреннего сгорания, требовавших бензина либо дизельного топлива, машины приводились в движение рядными восьмицилиндровыми семисотсильными турбодвигателями «Катерпиллар-С10», обеспечивавшими крутящий момент в 1880 фунто-футов. Питались двигатели от «радиоактивных элементов», стоявших в самом защищенном месте автомобиля. Иными словами, пояснил Сато, два «лендкрузера-ошкоша» могли дважды обогнуть земной шар без дозаправки. — Неплохо, — одобрил Ник. Джо помогал ему закрепиться на сиденье. Здесь были не только пятиточечные ремни в металлической оплетке, но и целый ряд ограничивающих застежек, которые намертво прикрепляли человека к саркофагу пассажирского сиденья. Облаченный в броню, погруженный в глубокую ванну противоаварийного сиденья с ремнями безопасности, Ник вдруг пожалел, что не успел помочиться. Словно читая его мысли, водитель в красных самурайских доспехах сказал: — Тут есть выпускная трубка в двери, вы можете использовать ее для мочеиспускания, Боттом-сан. Моча отводится в мочеприемник внутри двери, емкостью до трех галлонов. На остановке он опорожняется. — Три галлона, — проговорил Ник. — Отлично. Если снаружи на «лендкрузере» нельзя было разглядеть никаких стекол, то изнутри возникала полная иллюзия того, что перед Сато и Ником расположены два больших лобовых стекла — благодаря трехмерной картинке высокого разрешения, составленной по сигналам от множества наружных микрокамер. Иллюзия усиливалась еще и тем, что на «ветровое стекло» по команде водителя выводились всевозможные мелкие изображения и цифровая информация — совсем как на обычном лобовом стекле с индикацией. Джо попытался надеть на Ника кислородную маску. — Не нужно. — Нужно, — послышался голос Сато в наушниках. — При попадании в машину снаряда или взрыве самодельного устройства в кабине не будет кислорода. Ник решил, что это из-за огнетушащих веществ, CO2 или какой-нибудь пены, и не стал спорить. В кислородную маску был встроен микрофон, а наушники внутри шлема сиденья-саркофага, охватывающего голову, чувствительно вдавливались в нее. Сато показал Нику на напольную кнопку: при однократном нажатии включалась закрытая линия связи с Сато, при двукратном — с Джо, а при трехкратном — связь с другой машиной, позволявшая общаться всем шестерым. — Что еще мне нужно делать, сидя здесь, на пассажирском сиденье? — спросил Ник. Вокруг него размещались всякие навороченные консоли, ЖК-панели, переключатели и рычаги. — Совсем ничего, — сказал Сато. — Ничего не трогайте, Боттом-сан. — Отлично, — ответил Ник, прикидывая, не пора ли воспользоваться выпускной трубкой; но потом решил подождать, пока Сато и Джо не займутся чем-нибудь. Ник хотел посмотреть на Джо позади себя — что он там делает? — однако не мог подвинуть свое сиденье-колыбель. Но оказалось, что монитор на приборном щитке показывает внутренности машины. Ник понаблюдал, как ниндзя устраивается на своем сиденье. Остальная часть «лендкрузера» не представляла никакого интереса. Заднее сиденье и грузовой отсек были пусты, если не считать втиснутых повсюду шкафчиков и замысловатого сиденья Джо. К удивлению Ника, это сиденье теперь поднялось через отверстие в крыше, вместе с Джо, сжимавшим что-то похожее на пулемет САТО М260 калибра 7,62 мм. Ник смотрел на монитор и видел, как сзади растет черный пузырь, а ствол пулемета просовывается через стекло — или пластик — и принимает фиксированное положение. Вертикальный столб сиденья загудел за спиной у Ника, и ствол медленно повернулся, а Джо с пулеметом описал полный круг. Это напомнило Нику фильмы, где показывали стрелка в бомбардировщике Б-17 — «Вертикальный взлет» и «Мемфисская красавица: История летающей крепости». И тут он понял: ствол прошел сквозь черное стекло, или пластик, или плексиглас. — Осмотическое стекло? — спросил Ник. Сато не ответил, тогда он один раз нажал кнопку интеркома в полу и повторил вопрос. — Хай, — прохрипел в ответ Сато: похоже, он проверял что-то у себя на телефоне. — Полупроницаемый пуленепробиваемый пластик. Десятисантиметровая заплатка на оружейной башне. Наплавляется на оружие. Ник громко рассмеялся. — Один этот пластик обошелся Накамуре дороже, чем билеты на самолет из Денвера в Лос-Анджелес, а оттуда — в Санта-Фе. Эти треклятые автомобили… они, наверно, стоили Накамуре в тысячи раз больше, чем он платит мне за расследование. — Конечно, — раздался ровный голос Сато в наушниках Ника. — Тогда зачем я тут вообще нужен? — поинтересовался Ник. — «Ничего не трогайте, Боттом-сан». Да я тут пассажир — и ни хера больше. — Вовсе нет, Боттом-сан. Именно вы будете допрашивать дона Кож-Ахмед Нухаева, когда мы доберемся до его лагеря в Санта-Фе. — А почему я? — Голос Ника звучал ожесточенно; он был рад, что никто, кроме Сато, его не может слышать. — Меня тащат в эту поездку, как мешок с грязным бельем. — Вы допрашивали дона Кож-Ахмед Нухаева шесть лет назад? — спросил Сато. — Нет. Вы же знаете, что не допрашивал. Его не было в стране. — Этим закончились четыре из пяти попыток допросить его, включая вашу. Короткий допрос провело ФБР — по спутниковой связи — два года назад, но специальные агенты задавали дону не те вопросы. Вы первым по-настоящему допросите его — того, кто одним из последних дал видеоинтервью Кэйго Накамуре… и у кого, возможно, были веские мотивы не желать, чтобы интервью попало в чужие руки. — Значит, вы считаете Кож-Ахмед Нухаева главным подозреваемым? — спросил Ник, безуспешно пытаясь повернуть голову так, чтобы видеть Сато. — Он — самый важный из тех фигурантов дела, которых еще не допрашивал компетентный следователь, Боттом-сан. И снова Ник чуть не рассмеялся. В данный момент он чувствовал себя кем или чем угодно, только не «компетентным следователем». Сато дотронулся до каких-то кнопок. Нику показалось, что в его черепе раздалось высокое гудение. — Что это? Турбины? — Нет. Это большой гироскоп, — сказал Сато. — Набирает обороты. — На кой черт нам гироскоп? — Он вместе с гидравлическими амортизаторами поможет поставить машину на колеса в том случае, если «лендкрузер» опрокинется. На этот раз Ник не смог сдержать смеха. — Я сказал что-то смешное, Боттом-сан? — Ага, смешное. Минуту назад, когда Джо пролез через крышу, я подумал, что смотрю кино про Вторую мировую войну, где летают на Бэ-семнадцать. Вроде «Вертикального взлета». Ощущение такое, что я персонаж «Безумного Макса» или «Дорожного воина». — Это тоже американские фильмы про Вторую мировую войну? — спросил Сато, нажимая новые кнопки. Взревели громадные турбины, усилив шум в ноющей голове Ника. За спиной у него зажужжало хитроумное кресло-турель, в котором разместился Джо. — Нет, — ответил Ник, напоминая себе, что не нужно кричать в микрофон. — Это фильмы двадцатого века — кажется, австралийские — о говенном будущем, в котором все пошло наперекосяк. Людей в причудливых машинах убивают на дорогах, где властвует криминал. — А-а-а-а, — проворчал Сато. — Эн-эф. — Что? — Американская эн-эф. — Что это? — спросил Ник, когда Сато проверил связь с машиной, в которой ехали Вилли, Тоби и Билл. — Эн-эф? Что это? — Ну вы же знаете, — сказал Сато, включая передачу тяжелой машины. Ник услышал, как под ним заскрежетала мощная трансмиссия «ошкоша». — Эн-эф. — По буквам. Как пишется? — «Н» дефис «ф», — сказал Сато, выезжая на дорогу перед вторым «лендкрузером» и направляясь мимо танка, туда, где военный кран поднял для них один из ограждавших шоссе бетонных блоков. — Эн-эф. Ник расхохотался пуще прежнего. — Вы абсолютно правы, Хидэки-сан, — сказал он наконец, не зная, как вытереть сопли под кислородной маской. — Вся эта лабуда — прямо-таки научная фантастика. И чем дальше, тем фантастичней. Они покинули пределы Колорадо и Соединенных Штатов и, спускаясь с гор, устремились в Нью-Мексико.
3.02 Лас-Вегас, Невада и дальше 22 сентября, среда
Из дневника почетного профессора Джорджа Леонарда ФоксаПять дней пути. Пять дней. Эти последние пять дней кажутся мне важнее и насыщеннее последних пяти лет моей жизни. «Насыщеннее» — значит богаче, полнее событиями, в которые человек окунается сознательно. Лишь немногие из моих любимых персонажей вели такую жизнь — например, Элис из Бата.[86] Так что я за последние пять дней, вероятно, пережил больше, чем за последние пятнадцать лет. Или пятьдесят. А может, я никогда прежде и не жил такой полной жизнью. Я пишу об этом с такой осторожной радостью отчасти потому, что пока в нашей компании все живы-здоровы. Но кого я имею в виду под «компанией»: нас с Вэлом; нас с Вэлом и наших водителей Хулио и Пердиту Романо; нас с Вэлом, Хулио, Пердиту и сотни других людей в караване? От радости и ужаса, от того, что я выжил на этой неделе, я расту. Во мне обитает целый сонм. Трудно поверить, что лишь два дня назад я своими старческими глазами видел такое зрелище, как сегодняшний Лас-Вегас — Лас-Вегас и все эти веселые, шумные лагеря-стоянки в освещенной факелами пустыне, возле города. Возле стены, которая защищает Лас-Вегас, штат Невада, этот последний оплот цивилизации двадцатого века, от безумного кладбища двадцать первого века, которое не вторглось пока в город и не смяло его яркую, невероятную, хрупкую, сюрреалистическую реальность. Высокая прозрачная стена с ее маяками, лазерами, знаменами и предупредительными прожекторами начинается у того места, где прежде объезд 215-го шоссе соединялся с I-15, — чуть южнее. Потом она идет за 215-м шоссе вдоль западной границы города и дальше — чуть ли не до Хендерсона на востоке. Аэропорт Маккарран расположен в глубине защищенного стеной пространства, как, конечно, и все знаменитые казино. Из нашего лагеря на небольшой возвышенности к юго-западу от города мы видели башню Стратосферы далеко на севере (на вершине ее все еще работали «русские горки» и другие аттракционы) и «Луксор» около южной стены. Лазерный прожектор этой стеклянной пирамиды, хорошо видный и днем и ночью, вонзался в небо. Но лишь ночью Лас-Вегас предстает во всей своей красе: огни, прожектора, лазеры на том, что прежде называлось «Эм-джи-эм гранд», «Мандалай-бей», «Экскалибур», «Париж», «Нью-Йорк — Нью-Йорк». Некоторые — вместе со статуей Свободы и Эйфелевой башней в миниатюре, кажутся такими трогательными. Мы видели также изогнутый фасад «Белладжо», не очень высокие башни «Баллис», «Харрас/Империал пэлис», «Трежер-айленд», «Гугл-гранд» и «Мираж», которые тем не менее возвышаются над низкими, возведенными в середине прошлого века постройками «Сизаре пэлис» и отелями в центре города — «Сахарой», «Ривьерой» и старым «Цирк-Цирк». К востоку от аэропорта видны освещенные белые купола Тадж-Махала (в масштабе 120 % от оригинала), но казино и отели помещаются только в боковых куполах. Внутри главного купола стоит реактор индийского производства, который охлаждает и освещает Лас-Вегас теперь, когда от плотины Гувера[87] остались одни воспоминания. Городки, которые противостояли невадской жаре и безводью, сегодня заброшены — всевозможные Месквайты и Тонопы, Эли и Элко, Бэтл-Маунтины, Парумпы и Серчлайты, размером с Рино и Карсон-Сити, которые имели собственные реакторы, но все же потеряли более четырех пятых всего населения. И я могу только представить, сколь великолепен вид на Лас-Вегас из космоса, ведь ночью в этой части американского запада проходит граница между тьмой и светом. Кроме мерцающих, ослепительных огней внутри города за стенами (прозрачными стенами вокруг казино и отелей, что светятся золотом по ночам) были еще и скопления мириад других огней в пустыне: тысячи громадных грузовиков с включенными фарами, а в образованных ими кругах света — гигантские костры, дерево для которых специально привозится за тысячи миль. Три ночи назад, когда я наблюдал кипучую деятельность за стенами города (родео и ярмарки, бродячие цирки с подсвеченными колесами обозрения, «русские горки» и ракеты, сотни закусочных, пабов и баров на колесах или в палатках, мотоциклетные и автомобильные гонки рядом с брезентовыми публичными домами в пыльных городках, которые постоянно исчезают и возникают в новом месте, вечный парк развлечений за пределами города, который и сам есть парк развлечений для миллионов миллионеров, еще оставшихся на обанкротившейся земле, — мой внук Вэл говорит мне, как называются самолеты миллионеров, что мигают красным и зеленым и ослепляют при приземлении, эти «лирджеты», «гольфстримы», «хокеры-сиддли», «фалконы», «цессна-сайтейшн-экселсы», «челленджеры» и сверхзвуковые «сухой-путин-соколы», садящиеся каждые несколько секунд), мне пришло в голову, что Лас-Вегас, внутри стен и за ними, — это единственное крупное исключение из нового всеамериканского правила: «больше трех не собираться». Хулио и Пердита Романо, как тысячи других водителей и пассажиров, веселящихся здесь, на потрескавшейся земле, вне сверкающих стен Вегаса, не опасались смертников с бомбой в своих рядах. Водители (канадцы, направляющиеся в Старую Мексику; мексиканцы с южной стороны старой границы, везущие свой груз на север — в Канаду; американцы, которым нужно на север, юг, восток, запад в любых комбинациях) проехали слишком много и затратили слишком много сил, добираясь сюда, где можно день-другой отдохнуть и повеселиться в современном подобии Америки начала девятнадцатого века, когда встречались свободные трапперы, индейцы и покупатели бобровых шкурок. И они не собирались портить веселье, выпуская бомбистов-смертников и совершая политические убийства. Эти безумства они припасали для остальной страны.
Фура со спальными местами «Питербилт-417», принадлежащая Хулио и Пердите, — удивительная машина. Передняя часть кабины, где стоят два массивных сиденья «ультрарайд» с мягкой обивкой, — это царство хозяев, центр которого — приборы, кнопки и рычаги перед водительским местом. Нам с Вэлом позволено ехать на двух удобных откидных сиденьях, сзади и чуть выше «ультрарайдов». За нашими сиденьями — широкая и удобная кровать для двух Романо, всегда идеально застеленная днем и редко используемая обоими одновременно: один обычно сидит за рулем. А еще дальше и выше, за складной дверью и под прозрачным спойлером, есть спальное место поменьше размером. Когда мы с Вэлом уединяемся там и разговариваем перед сном (Хулио и Пердита предпочитают сидеть вместе далеко за полночь, прежде чем один из них отправляется спать), то можем смотреть на небо с его сверкающими звездами. Если же мы сидим в нашей удобной спаленке, то можем смотреть вниз и вперед, на капот и шоссе, мчащееся на нас в ночи. В первые два дня после бегства Вэл почти ничего не говорил, но теперь он общается со мной, смотрит мне в глаза, — одним словом, перестал меня игнорировать. Откровенно говоря, этот новый Вэл — пусть и потрясенный недавними событиями, о которых все еще не решается рассказать, — стал интереснее и умнее, напоминая теперь мальчика, который приехал жить ко мне пять с лишним лет назад. Я уже устал от угрюмого, необщительного подростка, внутри которого, казалось, копится готовое вспыхнуть насилие. Пятничная ночь была сущим кошмаром. Я уже был готов то ли отправиться на поиски Вэла, то ли позвонить в полицию или его отцу (сказать, что он пропал; донести на него, как на возможного преступника?), когда влетел Вэл и размолотил мой телефон. Потом мы оба видели по телевизору лица его мертвых товарищей по флэшбанде. Я видел, что Вэл потрясен, что он белее бумаги. Но он не стал, как большинство людей (и я в том числе), впадать в ступор. Шок от случившегося превратил шестнадцатилетнего мальчишку в расчетливого робота, наподобие его отца, только гораздо более уверенного и умелого. Нам не пришлось прятаться в депо. Хулио, Пердита Романо и их грузовик уже были там, как и десяток других машин. Когда я показал Романо записку от дона Эмилио Габриэля Фернандеса-и-Фигероа, нам позволили спрятаться в кабине «питербилта», меж тем как в небе кружили вертолеты, а позади нас горел Лос-Анджелес. Только на следующий день я понял, какая громадная нам с Вэлом выпала удача. Деньги Романо уже были заплачены. То немногое, что у меня оставалось, я держал наличными в сумке. Если бы Романо и другие водители не были порядочными людьми, они могли бы не взять нас с собой в ту жуткую ночь или убить по пути из города. Вышвырнул тела — и концы в воду. Как выяснилось, из-за покушения на жизнь советника Омуры и начала сражения между силами реконкисты и городом на 15-й дороге, перед долгим подъемом к Викторвилю, выставили блокпосты. Хулио Романо рискнул всем, что у них было (не только дорогим грузовиком, но и свободой), взяв нас вместе с багажом и показав, где прятаться: оказалось, в топливных баках по бокам машины есть тайники. Пока мы скрывались там, Романо запросто мог нажать кнопку, пустить в тайники сжиженный газ, который шел мимо нас по трубопроводам, — и избавиться от всяких хлопот, связанных с нами; разве что выкинуть потом две холодные тушки где-нибудь в пустыне. Им это ничем не грозило, а уплаченный мной аванс оставался у них. Но Романо оказались достойными людьми. После того как бумаги от Эмилио были проверены и мы миновали блокпосты, Хулио и Пердита выпустили нас из крохотных тайников в топливных баках и вернулись на высокие сиденья в кабине «питербилта». Мы покатили в сторону Барстоу и пустыни. Когда Хулио или Пердита смотрели спутниковое телевидение в своей зоне отдыха, то разрешали нам с Вэлом присоединиться. И мы наблюдали за тем, как горит оставленный нами Лос-Анджелес. Схватка оказалось ужаснее, чем, вероятно, предвидели ее участники: штат Калифорния, с одной стороны, и картели, отряды и банды реконкисты Нуэво-Мексико — с другой. Она далеко переросла простые беспорядки. Полиция не вмешивалась, накапливая силы за линией огня. Губернатор Логан обещал, что те, кто из последних сил сражается в разных частях города, получат подкрепление в виде частей национальной гвардии; но лишь немногие комментаторы полагали, что обороняющимся от этого станет легче. Когда губернатор выступил, угрожая обратиться к президенту с просьбой прислать федеральные войска, Хулио только рассмеялся. Эта угроза уже много лет была пустой — федеральные войска сражаются в Китае и других местах за своих иностранных хозяев. Но если город и силы правопорядка штата серьезно недооценили возможности реконкисты (их, казалось, застали врасплох бронетехника и артиллерия, во множестве доставленные на север, — часть этой техники раньше скрывали камуфляжные сетки на громадном кладбище у лагеря Эмилио), то Эмилио с объединенными силами латинов явно не ждали восстания чернокожих в Южном Центральном Лос-Анджелесе и азиатов на западных окраинах, сопротивления наемников, нанятых богатыми обитателями Беверли-Хиллз, Бель-Эйр, холмов вдоль Малхолланд-драйв и других мест, а также выступлений десятков других групп, не связанных ни с властями штата, ни с силами Нуэво-Мексико. Поэтому простое сражение реконкисты с Калифорнийской национальной гвардией за будущее Лос-Анджелеса почти сразу же превратилось в многостороннюю неразбериху. Лос-Анджелес становился чисто гоббсианским[88] штатом. Когда я сказал об этом Хулио и Пердите, они поняли и тут же согласились со мной. Оба читали гоббсовского «Левиафана». Так полетели к черту мои представления о водителях грузовиков и их уровне образования. И если уж зашла речь об образовании, то Вэл, путешествуя в конвое дальнобойщиков, с удовольствием восполняет пробелы в нем. После первого дня и ночи, когда он был почти совершенно невменяемым (напишу об этом позднее), я вдруг увидел, что Вэл начинает обращать внимание на то, что его окружает, на людей рядом с собой. Две ночи мы провели вместе с водителями десятков других фур в пустыне, у стен недоступного, но все же манящего своими огнями Лас-Вегаса, и я обратил внимание на живой — почти жадный — интерес Вэла к тому, что говорят люди вокруг костров. Бедняга Вэл… Согласно закону и по распоряжению департамента образования его чуть ли не постоянно, с первого дня в детском саду почти двенадцать лет назад, воспитывали в духе толерантности к «этнокультурным различиям», причем эти различия считались самоценными. Но он понятия не имел, что же это такое, пока не оказался среди дальнобойщиков. Вэл вырос в двух городах — Денвере и Лос-Анджелесе, разделенных на расовые, этнические, языковые и (все чаще и чаще) религиозные феоды, которые грызлись и дрались за некий абстрактный пирог в желании отхватить кусок побольше. Бесконечная игра без победителя, затеянная политиками и бандами и нередко перераставшая в открытую войну. Но в течение этих пяти дней и ночей он видел и слышал парня по имени «Калибр» Деверо, чернокожего южанина, который открыто говорит: возвращение в оборот словечка «ниггер» — это констатация того, что его раса, по большому счету, не состоялась. Деверо шоферит на своей громадной машине вот уже тридцать восемь лет и не собирается бросать работу только потому, что между городами, в которые он возит товар, воцарился и все усиливается хаос. Вэл слушал рассказы у костра Генри «Большого Коня» Бигея, индейца навахо, который — вместе со своей женой Лауреттой — двадцать восемь лет провел за рулем своей фуры и сопротивляется любым чиновникам, армии или придорожным бандитам, которые пытаются его остановить. Генри откровенно смеется (у него отсутствует один верхний зуб, отчего остальные кажутся еще белее), рассуждая об иронии судьбы: белым людям, которые загнали его народ в резервации, аукнулось их же Предначертание,[89] исчезнувшее, словно его и не было. Но я убежден, что в этом человеке совсем нет враждебности. Он просто изучает историю. — Это случается в каждой расе, группе и нации, — говорит со смехом Генри «Большой Конь» Бигей. — Дни величия накатываются, как высокий незаслуженныйприлив, и народ, которому повезло, самодовольно радуется (как радовался когда-то и мой народ), словно заслужил это, хотя ничего такого и не заслужил. А когда прилив схлынет, народы, племена, нации обнаруживают, что стоят, лишенные дара речи и ошарашенные, на сухом и замусоренном берегу. Странно услышать метафору, связанную с океаном, от того, кто вырос в пустынях Аризоны. Вэл слушает и других людей, вроде Хулио и Пердиты, которые выросли в густонаселенных восточных городках, но находят счастье только на свободных хайвеях — на том, что от них осталось. Он слушает латинов, вроде Вальдесов, уроженцев Мексики, которые водят свои фуры по междуштатным дорогам с 1980 года и теперь не хотят связываться ни с каким кланом, бандой или народом, желающими утвердиться за счет чужаков. Кроме них есть еще Эллисы, Джан и Боб, и трое их детишек, — как любит говорить Джан, они «получают образование в машинах». Эллисы с Юга, принадлежат к евангелистской церкви, но остроумны, сообразительны, учтивы, свободомыслящи — не выставляют напоказ собственную веру, так как считают это нарушением прав других людей. А трое их детишек, как сообщил мне Вэл, проведя с ними почти весь день, знают географию, историю, астрономию, литературу и фундаментальные науки куда лучше любого из его одноклассников. Я почувствовал, что больше всего Вэла заинтересовал Купер Джейкс, которого другие водители по непонятной причине называют «Старый Тормоз Джейкс». Это старый пердун, как я, даже старше — ему за восемьдесят, а то и за девяносто, — но при этом худощавый, гибкий, выносливый и на вид неубиваемый, как хрящ. Седая борода Купера Джейкса компенсирует его худобу, и, как у всех великих пророков, густые брови старика — цвета воронова крыла. Эти брови умеют в одно мгновение взлететь и принять устрашающий вид, словно два пистолетных ствола. Рассерженный Купер напоминает мне капитана Ахава из «Моби Дика». Но большую часть времени Купер пребывает в непринужденном и шутливом настроении. Однако юмор его довольно язвителен, особенно если речь заходит о политике и религии. Старик ездит на больших грузовиках (как он говорит) с семнадцати лет. У него никогда не было ни жены, ни семьи, ни дома (как он говорит) и желания иметь все это. Кабина тягача стала для Купера, по его словам, Ноевым ковчегом, на котором он проплыл через все «потоки дерьма», что устремлялись за это время в Америку и из нее. Вэл, похоже, не вполне понимает колючие, но почти поэтические комментарии старого нечестивца. Я вижу горящие глаза Вэла в свете костра и думаю о принце Хеле в трактире «Кабанья голова» в Истчипе, о его препирательствах с Фальстафом. (Я был из тех ученых, кто безоговорочно вставал на сторону Фальстафа — источника остроумия не только для себя самого, но и для других, и потенциального наставника масштаба Аристотеля/Сократа, способного дать истинно широкое воспитание молодому принцу — многословному роботу-убийце и лгуну политикану, каким впоследствии стал принц у Шекспира, несмотря на трогательную и часто вспоминаемую речь о «горсточке счастливцев, братьев» в День святого Криспиана.) Но я отвлекся. Вэл и в самом деле сказал мне кое-что — тоном, в котором не слышалось ни презрения, ни настороженности, ни сарказма, которые он неизменно выказывал в общении со мной последние четыре года. — Я хотел бы стать водителем, дедушка. Я ничего ему не ответил, но чуть не разрыдался, услышав эти, такие человеческие слова, сорвавшиеся с его губ. (В том числе, признаюсь, и детское «дедушка», которого мне так не хватало.) Вэл не говорил о том, кем хочет стать, — не считая неосознанных, но беспрестанных попыток стать настоящей черной дырой для любых надежд, всепоглощающей, готовой уничтожить все вокруг. С двенадцати лет. Чтобы не впасть в излишнюю сентиментальность, должен напомнить себе, что мой внук, вполне вероятно, убил кого-то на прошлой неделе. Или по меньшей мере пытался убить. Он, казалось, был страшно потрясен, когда тем пятничным вечером, еще в Лос-Анджелесе, увидел на трехмерном экране своего дружка Уильяма Койна — мертвого. Что касается покушения на советника, то в первые двое суток нашего бегства он несколько раз повторил лишь одно: — Я был с этими долбоебами, но в Омуру не стрелял. Клянусь, дедушка. Но он так и не сказал определенно, что никого не пристрелил в тот вечер, а несколько раз, когда я называл имя Койна, реагировал очень резко: отводил взгляд, отворачивался, моментально напрягался. Это навело меня на мысль, что между двумя юнцами что-то произошло. Что бы ни вызвало его душевную рану, в первые дни путешествия Вэл отходил от случившегося, попросту отсыпаясь. Большую часть того времени, что мы проводили в дороге, он спал, подергиваясь, сотрясаясь; я решил, что он балуется флэшбэком, но, наскоро обыскав его рюкзак, не обнаружил там ампул. Зато в рюкзаке нашелся черный пистолет, и я хотел было забрать его, но потом все же оставил на месте. Он может нам пригодиться до конца путешествия.
Когда Вэл не спал днем — в третий, четвертый и пятый дни поездки, — я слушал, как он расспрашивает Хулио и Пердиту о системе охраны конвоя. Конвой, кажется, состоит из двадцати трех фур, часть из которых вооружена мини-пушками и другим серьезным оружием (у Хулио и Пердиты — только помповое ружье двенадцатого калибра, закрепленное под крышей сразу за передними местами, так, чтобы легко доставать). Его сопровождают четыре боевые машины и небольшой разведывательно-ударный вертолет. Боевые машины (я забыл подробности насчет их вооружения и прочего, но Вэл жадно впитывал все эти калибры, лошадиные силы и данные о броне) управляются наемниками из охранного предприятия «Трек-Сек», а платят им либо сами водители, либо нанявшая их компания. Пердита показала нам данные спутникового навигатора: еще один конвой, вроде нашего, движется по I-15 милях в пятнадцати впереди, а другой, гораздо более крупный, — в двадцати четырех милях сзади. Конвои поддерживают связь между собой. По словам Хулио, главная проблема на участке I-15 Лас-Вегас — Месквайт и вплоть до Сент-Джорджа — это бандиты, хотя реконкиста время от времени тоже совершает набеги на южные окраины Невады. По словам Хулио, после множества неудачных попыток захватить Лас-Вегас со стороны картелей Нуэво-Мексико налеты сил реконкисты сделались реже. Он добавил, что англосаксы в районе Кингмана и Флагстаффа действуют все успешнее, совершая партизанские рейды, и что они в последние год-два практически сковали оккупационные силы Н.-М. Хулио и Пердита объяснили нам, что главные трудности для нас начнутся за Месквайтом, почти покинутым жителями и объятом хаосом боев. Городок этот стоит на I-15 там, где Невада переходит в Аризону, а Тихоокеанский часовой пояс — в Горный. Двадцать девять миль шоссе, отсекающего крохотный уголок от северо-запада Аризоны, а затем уходящего на север, в Юту, необыкновенно живописны: дорога здесь идет главным образом по эстакадам. Но большинство мостов и эстакад за прошедшее десятилетие обрушились — из-за бандитов и схваток между силами США и Н.-М. На пути здесь встанут Мормонский и другие хребты — горные стены, идущие в направлении север — юг вдоль границы штата. А потому конвою придется потратить целый день, пробираясь по усеянным булыжниками импровизированным дорогам — простым проходам среди камней и плит, кое-где включающим остатки старых шоссе, вдоль берега Верджин-ривер в Юту. Хулио показал нам спутниковые снимки дороги, петляющей в каньоне. Машины там могут стать легкой добычей бандитов, если у них возникнет желание забросать нас камнями с окрестных скал. — А нельзя пойти в обход? — спросил Вэл. — Сделать крюк к северу? Пердита показала нам, что на протяжении сорока или более миль к северу от Месквайта, вплоть до крохотных заброшенных городков Карп и Элджин у высохшей реки Медоу-Вэлли-Уош, названной так по недоразумению,[90] нет никаких дорог, кроме колей в пустыне и сухих оврагов. А потом нужно совершать почти двухсотмильный объезд по старым внутриштатским дорогам 93 и 319, углубляясь в Юту, и дальше следовать по заезженному 56-му хайвею. — Эти двадцать девять миль, что проходят по Аризоне, водители прозвали «Диагональю смерти». Путь медленный и опасный, — сказал Хулио. — Но это все же быстрее любого бестолкового объезда. Мы ведь водилы. И нам надо вовремя доставить товар. И вот сегодня мы спим в машинах, которые образовали оборонительный круг чуть поодаль от хайвея, рядом с брошенным городком Бункервиль. Название вполне подходящее — здесь все еще оставалось несколько военных бункеров. В миле к востоку от него поднимаются горы, словно некое непреодолимое препятствие из фильма по Толкину. Каньон — проход для Верджин-ривер и бывшей I-15 — похож на темную, застывшую в ожидании открытую пасть. Мы тронемся в путь с первыми лучами солнца. Пердита заверила нас, что, располагая вертолетом и солидной огневой мощью, конвой может не опасаться серьезной атаки. Нас ждут всего лишь десять часов рытвин и ухабов на самой низкой передаче. Вэл сегодня вечером сказал мне: — Это как в старых фильмах про бомбардировщики Бэ-семнадцать, которые мы смотрели с предком. Конвои — они как бомбардировщики, что сбиваются в стаю для защиты от немецких истребителей. Я впервые за много лет услышал, как Вэл говорит об отце без нескрываемой враждебности.
Сегодня вечером поварские костры погасли к девяти часам, и веселья при свете пламени не было. Всеми овладело мрачное настроение. Никакого шума. Каждый знает, что завтра начнется один из самых опасных отрезков пути, но об этом почти не говорят. Строятся планы, идет подготовка. Я прихожу в ужас при мысли о завтрашней двадцатидевятимильной пытке на медленной скорости, но Вэл, кажется, потихоньку радуется… чуть ли не ждет ее с нетерпением. Наверно, это бессмертие, свойственное юным. Позднее, когда все улеглись, я поговорил с ним, увидев, что он отключил взятый с собой маленький сотовый телефон и вытащил наушник из уха. Я обнаружил этот телефон у Вэла на второй день пути и спросил про него — ведь это Вэл велел мне выкинуть мой, так как его могли засечь власти. Он рассказал, что это телефон матери, что телефонная и навигатор из него давно удалены. И добавил неохотно, что просто включает ежедневник и слушает голос матери. Когда я услышал это, в груди у меня кольнуло. Вэл был готов рассказать больше. Я почти уверен, что хорошее настроение и разговорчивость пришли к нему после косячка, выкуренного часом ранее у последнего вечернего костра вместе с Хулио, «Большим Конем» Бигеем, Калибром Деверо и Купером Джейксом. Такое ощущение, что Вэл в последние несколько лет принимал флэшбэк, а может, и что-то посильнее, вроде кокаина, — по крайней мере, иногда. Насчет последнего я, правда, не был уверен. Но вот привычки курить марихуану с друзьями у него не завелось. И вот теперь, когда мы лежали на высоких койках под прозрачным кевларовым спойлером и ярко горящими звездами — между нашими постелями и кроватью Романо внизу имеется на удивление хороший акустический занавес, — Вэл улыбнулся не свойственной ему глуповатой улыбкой и показал телефон. — Это мамин… ну, ты понимаешь. Тут, как я говорил, все выдрано, засечь по этому телефону нельзя. Я сам вытащил эти карты пять лет назад. Но в нем остался ее голос — напоминания на каждый день и много текстовых дневников. Я хотел бы их прочесть, но не могу. Я кивнул, чувствуя себя неловко. Разговор был таким тонким и непрочным — как нить паутины. Я знал, что из-за моего неверного слова или оттенка голоса он прервется и, возможно, не возобновится никогда. Я услышал самого себя, осторожно говорящего: — Ты уверен, что тебе нужно слушать ее голос и тайные мысли, Вэл? Иногда взрослые про себя говорят то, чем вовсе не хотели бы делиться с… Вэл промычал что-то и покачал головой. Да, если бы не благотворное воздействие сильнодействующей травки, привезенной Джо Вальдесом и его женой Хуанитой из Старого Мехико, я видел бы теперь перед собой спину рассерженного Вэла. Но он вместо этого продолжал говорить со мной. — Да, да, да… но я думаю, в этом дневнике можно найти разгадку того, почему мой предок ополчился на нее… или даже убил ее. — Убил ее?! Этот крик вырвался у меня непроизвольно, и я зажал рот руками. Вэл поежился и посмотрел на задернутую занавеску. Снизу, от Пердиты и Хулио, не слышалось никаких звуков. Но Вэл не повернулся ко мне спиной. Пока еще. Теперь он говорил жарким, торопливым шепотом, без той расслабленности, которую придает голосу косячок. — Леонард, ты меня тысячу раз спрашивал, почему я ненавижу своего предка. Ответ может крыться в этом зашифрованном тексте. Это главная причина, по которой я столько лет хранил этот треклятый телефон. — Вэл, ты не должен ненавидеть отца… — начал было я. — Ненавижу, черт побери. Ненавижу этого говнюка. Если нам повезет и мы доберемся до Денвера живыми, я найду его в той блядской флэшпещере, где он гниет заживо, разбужу его пинком и всажу пулю в живот… Я понятия не имел, что сказать в ответ на этот поток безумия, поэтому промолчал. Оказалось, что только это и могло побудить взволнованного парнишку говорить дальше. — Он обнаружил, что мама делает что-то, и я думаю, убил ее. Или нанял кого-то. Я правда так думаю. Я собирался сказать что-то вроде: «Но ведь твоя мама погибла в автокатастрофе, Вэл», однако сразу же понял, что он тотчас же замкнется в себе. Разговор закончится так же неожиданно, как начался. Я откашлялся. — Что же она могла делать такого, что вывело из себя твоего отца? Вэл, казалось, свернулся в клубок и теперь состоял сплошь из коленей, локтей и согнутой спины, такой же колючей, как локти. Он опустил голову. — Не знаю. Но она часто уезжала в эти последние недели — черт, месяцы — перед той катастрофой, случившейся так кстати. Что-то там разнюхивала. Когда предок работал в две смены на своем участке и пропадал там по выходным, — а иногда мы его не видели и по четыре-пять дней, — мама тоже много занималась своими делами. Если ночью ее не было дома, она меня оставляла с Шейлой, старой вонючей бабушкой моего друга Сэмюела. Это в нескольких домах от нас. Иногда я проводил там несколько ночей подряд. А предок ничего не знал. Мама взяла с меня клятву, что я буду молчать, Леонард. Представь себе: родитель берет у своего десятилетнего ребенка клятву молчать. Я задумался. Дара, моя дочь, свет моей жизни, кажется, никогда себя так не вела. Или вряд ли могла так себя вести. — И что, по-твоему, она делала, Вэл? Что, у нее был… роман? Я не мог себе представить, что стану задавать такой вопрос моему шестнадцатилетнему внуку. Но мне вдруг захотелось узнать правду не меньше, чем этому измученному парнишке хотелось узнать ее все эти шесть лет. Вэл пожал плечами. Вид его внезапно сделался сонным. — Да, наверное. Наверное, с этим жирным жлобом — помощником окружного прокурора, у которого она работала. С Харви Коэном. В тот последний год он постоянно заезжал за мамой в самое неурочное время, если предка не было дома. А предка все время не было дома — работал. Во рту у меня пересохло. А в груди не просто кольнуло — старое, изношенное сердце заныло, что было куда тревожнее. — И ты думаешь, Вэл, что у Дары был роман с ее шефом, Харви… как его там… а твой отец узнал об этом и убил ее? Или подстроил все так, чтобы она погибла в автокатастрофе вместе с пожилыми супругами и водителем фуры? Неужели ты думаешь, что такое возможно? Теперь он посмотрел на меня сердитым взглядом, и я понял: он жалеет, что вообще сказал мне о телефоне. Действие марихуаны и задушевность беседы сходили на нет. — Да. И если ты хочешь сказать, что мой предок и пальцем ее не тронул бы, то лучше помолчи. Ты не знаешь моего предка. Ты не знаешь копов. Я лишь кивнул. Вэл говорил правду. С полицейскими я общался мало и желания общаться не испытывал. Каждый раз, приходя к ним, когда Вэл был еще совсем ребенком, — а я жил поблизости после смерти Кэрол, моей третьей жены, — я чувствовал себя не в своей тарелке, разговаривая с детективом Ником Боттомом. Поэтому я не стал защищать человека, которого плохо знаю, и спросил: — А ты не покажешь мне зашифрованный текст? Я чувствовал, что Вэл не хочет показывать мне эти файлы, а к тому же злится на себя самого и на меня: ведь он столько всего сказал про то, что шесть лет хранил в тайне. Все же он включил питание, не выпуская телефона из рук, пробежался по иконкам и поднес аппарат ко мне, чтобы я мог его рассмотреть в невадской ночи. Я смотрел несколько долгих секунд, потом попросил Вэла промотать текст. Он сделал это без всякого энтузиазма, затем выключил телефон, засунул его себе в карман, отвернулся от меня и натянул тонкое одеяло на костлявые плечи. Но для меня разговор еще не был закончен. — Это так называемый словесный или книжный шифр. Слово-ключ из трех букв. Парень фыркнул. — Скажи мне что-нибудь такое, чего я не знаю, старик. Я не обратил внимания на грубость. Что-то во мне шевельнулось. Эти зашифрованные страницы могли содержать послание ко мне. Мы с Дарой любили переписываться при помощи шифра, когда она была маленькой. Это раздражало Кэрол, но мы все равно продолжали — даже после того, как Кэрол заболела. — Может быть, мне удалось бы… Но в моем голосе слишком явно слышалось нетерпение. Вэл натянул одеяло повыше и отодвинулся от меня на край кушетки, снова показав мне спину. — Я знаю, какими словами мама пользовалась для такого шифра. Ни одно не подошло. И потом, это неважно, старик. Нас могут прикончить завтра в каньоне. Это все фуфло. Все неважно. Такой неожиданный переход на жаргон был пародией на полицейский язык отца, хотя Ник Боттом так не говорил. Меня подмывало сказать Вэлу вслух то, что я думаю: «Вранье это все, ты, маленький подленький хам». Но я сдержался. А спустя какое-то время тихо сказал: — «Кэр». Усеченное «Кэрол». Имя ее матери. Может, это оно? Голос Вэла и в самом деле звучал сонно, когда он, едва ворочая языком, ответил в последний раз: — Не-а. Я пробовал. Я тебе говорил… Я перепробовал все долбаные слова из трех букв, которые могли хоть что-то значить для нее. Текст… остается… зашифрованным. Ложись… спать, Леонард. Нужно завтра встать пораньше, чтобы нас подстрелили. Дай мне уснуть наконец, бога ради. Я дал ему уснуть. Пролежав так около часа и глядя на холодные звезды пустыни, я беззвучно сел. Мои глаза привыкли к темноте, и я увидел телефон, торчащий из кармана Вэла. Тот издавал громкий храп — я никогда не слышал, чтобы он храпел так громко. Я знал слово из трех букв. Я был в этом уверен. Я потянулся было к телефону, но замер. Я хочу, если получится, попробовать этот вариант с разрешения Вэла и вместе с ним увидеть, как зашифрованные страницы дневника Дары на наших глазах превращаются в обычный текст. Если получится. Если не получится, то я в ближайшее время заберу у него телефон и прочту эти страницы сам. Почему-то я был убежден, что последнее секретное послание Дары важнее, чем чувства хамоватого шестнадцатилетки. Я написал это в тетрадке с моим дневником, спрятав ее так, чтобы Вэл не нашел, — и теперь ложусь спать, думая о моей дочери и о том, почему она выбрала это слово из трех букв. Уверен, что это и есть ключ к ее последним словам.
1.11 К северу от Лас-Вегаса, Нью-Мексико 15 сентября, среда
Противотанковый снаряд попал в «лендкрузер-ошкош» Ника и Сато, частично пробил осмотическую панель оружейной башни, обезглавил стрелка Джо направленным всплеском огненной плазмы, за микросекунду воспламенил остальное тело ниндзя и мгновенно перетек внутрь, словно сверхзвуковая волна горячей лавы, испаряющей все, что не может поджечь. До этого мгновения за два с половиной часа не случилось никаких происшествий: тоска смертная. На первых десяти милях пути от Рейтон-Пасса две машины, катясь под уклон, формально находились под защитой установленных наверху артиллерийских орудий майора Малькольма. Но при скорости сорок пять миль в час они вскоре покинули зону поражения орудий. Ник ничего не видел, поглощенный другим: он вполглаза наблюдал, как Сато проверяет систему эвакуации, персональное эвакуационное воздушное снаряжение — ПЭВС, связь, противопожарное оборудование и другие системы. К тому же он все время пытался найти удобное положение. Ему мешало все — кислородная маска, наушники с микрофонами, его личная бронеодежда и шлем, сиденье-саркофаг. Свой здоровенный рюкзак он засунул себе под ноги, и теперь тот тоже мешал. Когда Сато закончил играть в стюардессу, а сам Ник прекратил ерзать (спускная трубка действительно помогла), он взглянул на большие мониторы, занимавшие место лобового стекла. В те времена, когда поездки были безопаснее, а Нью-Мексико и Техас были штатами, Ник с Дарой посещали эти края, проезжая через Рейтон-Пасс к югу. Из всех границ между штатами эту они любили чуть ли не больше всего. Нью-Мексико выглядел совсем другим, чем южный Колорадо, стоило пересечь границу на перевале и начать спускаться. Равнины в предгорьях здесь выглядели иначе, подножия уходящего к западу хребта Сангре-де-Кристо на западе тоже выглядели иначе, но прежде всего иначе выглядели холмы, плоскогорья и потухшие вулканы. Они гораздо явственнее, чем ландшафты в Колорадо, говорили: «Вот американский юго-запад!» В этом смысле все оставалось по-прежнему, но теперь отчетливо были видны столбы дыма на юге и юго-востоке: казалось, что не все вулканы здесь потухшие. Но на одном из малых дисплеев, дающих обзор местности, Ник видел, что это не вулканы, а дымы от горящих танков, автомашин и заброшенных городков или укреплений. — Если майор Малькольм и армия США — или Республика Техас и реконкиста, не важно, — не могут запустить сюда разведывательный беспилотник, то как это делаете вы? — спросил Ник. — Большинство изображений получены с беспилотников, а не со спутников. — Хай, — проворчала громада в красных самурайских доспехах — Сато. — Наши малые беспилотники действительно малы… у майора Малькольма таких нет. — Вроде тех крохотных аппаратов, снимавших меня перед тем, как я поднялся в дом мистера Накамуры, — сказал Ник, все еще злясь на то, что его подергивания во время десятиминутного флэшбэка оказались записаны. Сато ничего не ответил. Ник, глядя, как по трехмерному монитору высокого разрешения скользит ландшафт необыкновенной четкости, забыл, что он смотрит не на ветровое стекло и окон здесь нет. Он поерзал, устраиваясь поудобнее и размышляя, не пролилась ли моча из клапана спускной трубки ему на ногу. Путь до Санта-Фе должен был занять около восьми часов, главным образом из-за плохого покрытия и взорванных кое-где мостов и эстакад, — и Ник с нетерпением ждал окончания поездки, чтобы снять с себя эту дурацкую бронеодежду и крепления. Милях в сорока от Рейтона, у съезда 419, они проехали мимо бывшей заправочной станции слева от дороги. До ближайшего городка, Спрингера, оставалось еще миль десять, и эта заправка стояла здесь в одиночестве — ее огни некогда служили маяком для ночных путников. Ник помнил это место по отпуску с Дарой: душ, пиратские DVD для водителей, затейливый автомат с газировкой и коллекция автомобилей 1950-1960-х годов. Здесь гуляли сильные ветра, принося холод с далекого Сангре-де-Кристос, гуляли до сих пор; но от заправки остался только выгоревший каркас, а бетон и асфальт разлетелись в тех местах, где взорвались бензоемкости. Они проехали еще несколько миль — и между пустыми домами Спрингера и такого же заброшенного городка Вэгон-Маунд увидели конвой из двенадцати фур, о котором говорил майор Малькольм. Сато связался по рации со второй машиной: за рулем ее сидел Вилли, рядом, на пассажирском месте — Тоби, а Билл помещался в турели наверху. Затем Сато медленно съехал в сторону, направив машину поверх упавшей ограды, чтобы объехать дымящееся месиво на дороге. Хотя ему велели ничего не касаться, Ник взял крупный план боковой камерой, чтобы получше разглядеть попавший в засаду караван из пятнадцати машин — двенадцати грузовиков и трех бронированных вездеходов сопровождения. Зрелище было малоприятным. Ник поморщился, глядя на выгоревшие автомобили с жуткими черными трупами, видными сквозь окна. Еще больше тел превратились в прах и в миниатюрные обугленные подобия людей, многие руки вздымались в «боксерской» позиции, типичной для жертв огня, у которых сгорают связки и сухожилия. Грузовики, не выгоревшие до конца, были разграблены. Вокруг валялось множество черепов, белевших на полуденном мексиканском сентябрьском солнце. Было незаметно, чтобы кто-нибудь выжил. Тяжелые гусеничные машины — наверняка бронированные, среди которых, вероятно, были полностью оснащенные боевые танки — появились с запада, прошли мимо сгоревшего конвоя или проехались прямо по нему и по разбитым боевым вездеходам, которых уничтожили бы при любом раскладе. А потом исчезли в восточном направлении. — Техасцы? — спросил Ник. — Или реконкиста? Сато попытался пожать плечами в своей плотной красной самурайской броне. — Трудно сказать. У местных бандитов — из мексиканской или русской мафии или из той и другой — тоже есть бронетехника. Но они, вероятно, захватили бы заложников. Ник посмотрел на свежие, дымящиеся обломки, что исчезали сзади, и подумал, что предпочел бы быть почти кем угодно, только не водителем. Вэгон-Маунд — шестьдесят — семьдесят выгоревших домов и разрушенный центр, когда-то тянувшийся на полквартала, — был назван по холму с впадиной на вершине,[91] который высился к востоку от бывшей дамбы, рядом с заброшенными железнодорожными путями. Ник подумал, что холм и вправду похож на старую конестогскую[92] телегу. — Ну и как вам все это? — неожиданно спросил Сато. Ник, думавший о попавшем в засаду конвое, об обугленных машинах и телах, вздрогнул. Это не был обычный для шефа службы безопасности риторический вопрос. — Что именно? — спросил Ник. Воздухоочистительная система «ошкоша» не пропускала внутрь вонь обгорелых тел и покрышек, но Ник ощущал ее мысленно. Странно, что Сато интересовался его мыслями. — Все это, — послышался голос Сато в наушниках. — То, что ваша страна разваливается. Разваривается. «Какого хера?» — подумал Ник. Что, Сато собирался набросать его психологический портрет для Накамуры? — Я не очень понимаю, о чем вы, — осторожно сказал он. — Боттом-сан, вам достаточно лет, чтобы помнить те времена, когда Америка была богатой, сильной, мощной, процветающей. Сильной своими пятьюдесятью штатами. Теперь… сколько их осталось? «Сам знаешь, говнюк», — подумал Ник. — Сорок четыре с половиной, — ответил Ник. — Да-да, — прокряхтел Сато. — А половинка, полагаю, Калифорния? На этот вопрос ответа не требовалось, и Ник не ответил. — Мне хотелось узнать, беспокоит ли это вас, Боттом-сан. Падение великой державы, оказавшейся в числе бедных стран и отягощенной долгами, внутренними и внешними. Развал той страны, которую вы знали в детстве и юности. «Он что, хочет разозлить меня?» — недоумевал Ник. Если так, японец выбрал самое подходящее время. Ник не мог пошевелиться из-за бронеодежды, застежек, кресла. Он не мог даже достать свой рюкзак с оружием из-под ног, не проделав с десяток действий по аварийному выходу из машины, список которых дважды зачитал ему Сато. — Мы не единственная страна, которая имела все и для которой в последнее десятилетие или два наступил трындец, — сказал наконец Ник. — Да, верно. Верно. — Голос Сато напоминал довольный рык. — Но ни одна другая страна не падала так низко и так быстро. Ник попытался пожать плечами. — Когда я был мальчишкой, у моего отца был приятель — не знаю, где они познакомились, может, в полицейской академии… Так вот, он родился в Советском Союзе и видел, как эта страна распалась и исчезла за несколько месяцев. Новый флаг. Новый гимн. Еще недавно порабощенные республики разбежались. Забальзамированное тело по-прежнему оставалось в гробнице, или как его там, мавзолее на Красной площади, но сам коммунизм умер и стал бесполезным, как ленинские яйца. — Ленинские яйца, — повторил Сато, словно смакуя эти слова. — Если русским удалось пройти через это без особых душевных травм, то почему не можем и мы? — заключил Ник. — Ну, русские взяли… как это у вас называется, Боттом-сан? Реванш. Что-то в этом роде. — Да, конечно, — сказал Ник. — С новыми диктаторами типа Путина им сам бог велел устроить энергетический шантаж Западной Европы. А военные снова заняли Грузию — правильно, да? Но в перспективе демография работала против них. Рождаемость падала. Алкоголизм процветал. Их экономика целиком зависела от нефти и газа. — Но нефть и газ у них были, — заметил Сато. — И что с того? — возразил Ник. — Они так и не смогли справиться с проблемами. Как и мы. — Вы говорите об экономике, Боттом-сан? О социальных программах, которые обрушили доллар? Или о притоке иммигрантов? Или о привычке к расточительству? «Да что это еще херня такая — экзамен, что ли?» — поразился Ник. И еще он подумал: нет ли записывающего устройства в этой напичканной всевозможной хренью машине? Но зачем мистеру Накамуре интересоваться мнением одного из тех, кто работает на него? Это все равно что записывать мнение садовников-гайдзинов, нанятых, чтобы выкосить траву у него в поместье. (В своем частном саду магнат никогда не разрешил бы работать американцам.) Наконец Ник устало произнес: — Я говорю обо всех проблемах. Вы должны понять, Сато, что я вырос в стране, в обществе, привычных к богатству, к процветанию, ко всему, что, как считалось, улучшает жизнь каждого гражданина. Разве что старые пердуны еще помнили Великую депрессию. Поколение моего отца даже представить себе не могло, что жизнь может измениться к худшему. И потому, когда у них — у нас — были деньги, мы их тратили. И даже когда денег не стало, мы все равно продолжали их тратить. — Вы говорите об отдельных личностях, Боттом-сан? Или о вашем правительстве? — Ну… о тех и других. Я достиг совершеннолетия, когда у нас начались первые финансовые неприятности и потрясения на рынке труда. Мы думали, что вот он, настоящий кризис, и даже не могли представить, что эти слабые толчки — предвестники жуткого землетрясения. А президент, которого мы тогда выбрали, сделал все только хуже… нет, мы все сделали… запустив эти жуткие социальные программы, на которые, как мы чуяли нутром, совсем не было денег. — Но в Европе такие социальные программы действовали на протяжении нескольких поколений, — заметил Сато. Социарные. Если оставить в стороне произношение, подумал Ник, то здоровенный шеф службы безопасности напоминал преподавателя колледжа, который пытается поддерживать тупой разговор с еще более тупыми студентами. Ник рассмеялся. — Ну да, и посмотрите, куда это их привело! — Вы много размышляете о европейских странах, Боттом-сан? — Да я о них даже во сне думаю, Хидэки-сан, — с жаром подтвердил Ник. После нескольких минут молчания, раскаявшись, вероятно, в своем дешевом сарказме, он добавил: — Нет, не думаю, что кто-нибудь из нас, американцев, размышляет о немцах, или французах, или других европейских долбоебах. Они пригласили к себе десятки миллионов мусульман. Они приняли новые законы и изменили старые, сделав уступки шариату. Все это закончилось полной сдачей позиций Всемирному Халифату. Ну их в жопу. Наши — мои — убеждения выражаются старой пословицей: «Сам заварил кашу, сам и жди у моря погоды». — Море… каша… — неуверенно начал Сато. Ник посмотрел на внутренний монитор и увидел в нем, что глаза шефа службы безопасности бегают, как жуки, в красных прорезях самурайской маски. — Извините, — сказал Ник. — Это наша с женой старая шутка. Такая пародия на поговорку: «Сам заварил кашу, сам и расхлебывай». — А-а-а, — протянул Сато: этот звук вовсе не говорил о понимании. Наконец: — …Но как вы относитесь к этой перемене, Боттом-сан? Ник вздохнул. Зачем-то — возможно, желая удовлетворить любопытство мистера Накамуры, — Сато действительно хотел знать его, Ника, долбаные мысли. Не будь Ник спеленат, привязан, скован, он просто вышел бы из комнаты, но комната эта сейчас двигалась со скоростью сорок миль в час. Навигатор показывал, что следующий город на пути — Лас-Вегас… Лас-Вегас, штат Нью-Мексико, а вовсе не знаменитое пристанище игроков в Неваде. — Отношусь так, будто почти вся вторая половина моей жизни — это страшный сон, — ответил Ник. — Я жду, что однажды проснусь, и выяснится, что это и в самом деле лишь сон… что Гавайи не стали вновь независимым королевством, а японцы не прибрали их спустя шесть лет. Что мы с Дарой можем снова провести там медовый месяц, если захотим. Что Санта-Фе — интересный город в соседнем штате, с хорошей кухней и насыщенной культурной жизнью, а не бандитский притон, где мне в живот всадили шестидюймовый клинок. Я надеюсь проснуться и увидеть, что живу в стране, которая применяет силу в благих целях, ради торжества справедливости, а не требует, чтобы мы посылали своих детей — моего парня это ждет через год, Сато, — в места с непроизносимыми названиями, где они погибают за вас, японцев… даже не за вашу чертову страну, а за ваши дзайбацу или кэйрэцу, за эти треклятые концерны, которые сегодня правят Японией. Я надеюсь проснуться в один прекрасный день и пройти по улицам своего города в своей стране, не боясь, что какой-нибудь мерзавец рядом со мной возьмет да и взорвет на себе пояс шахида. Города, где я смогу пойти на игру «Рокиз» летним вечером, не думая о бомбистах и снайперах. Я надеюсь проснуться и обнаружить, что на сэкономленные деньги можно что-то сделать — купить билет на самолет или поехать в отпуск на машине — и что моя жена жива и едет со мной. Но это не страшный сон, а реальность. И все хорошее, что нам снилось — мне, Даре, моей долбаной стране, — все это ушло, стало историей, полузабытым сновидением. Когда Ник закончил, дыхание его участилось, а щеки увлажнились, — он надеялся, что от пота, черт побери. — И вы поэтому флэшбэчите, Боттом-сан? — тихо спросил Сато. — Это уж и к бабке не ходи, Хидэки-сан. И поэтому половина моих знакомых копов наложили на себя руки. — Наложили руки… а, да. Ник тряхнул головой, насколько позволяли шлем и бронемаска. Сато задает ему три или четыре очевидных вопроса, глупых вопроса, а экс-детектив из отдела убийств Ник Боттом в ответ бормочет что-то невнятное — или по меньшей мере потеет, — как девчонка. До чего же глупо! Подумав об этом, Ник понял — или по меньшей мере вспомнил, — какой развалиной он стал. Ему сейчас хотелось одного: оказаться в своем боксе в углу старого «Беби-гэпа», запереть дверь и оказаться под флэшбэком на несколько часов. — Но Япония тоже изменилась, разве нет? — спросил он. — О да, Боттом-сан. За последние годы всемирной смуты Япония отбросила те формы культуры и государственного управления, которые ей навязали американские оккупационные силы во главе с Макартуром после проигранной войны, и вернулась к традиционной иерархической системе. — И что же это такое? — осведомился Ник. — Правят семейные кланы и сильные люди — те, кто выигрывает в той самой постоянной борьбе между различными дзайбацу и кэйрэцу? — Хай, — прокряхтел Сато. — Верно, Боттом-сан. Более или менее. В этом смысле Япония сбросила неудобную для нее демократическую оболочку, навязанную извне и никогда не отвечавшую нашим культурным традициям, и вернулась к чему-то вроде правительства бакуфу, что дословно означает «палаточный лагерь». Или, если хотите, к сёгунату. Сёйи-тайсёгуны — сильные лидеры, понимавшие в военном деле и в экономике, — правили Японией на протяжении многих поколений. — В Средние века, — сказал Ник, не скрывая издевки. — Да, Боттом-сан. Наши Средние века продолжались почти до двадцатого столетия, пока вы, американцы не заставили наш остров и нашу культуру открыться остальному миру. Но будьте осторожны со своим презрением, Боттом-сан. Сёйи-тайсёгун означает «великий генерал, который усмиряет восточных варваров». — То есть нас, — сказал Ник. — Гайдзинов. Иностранных дьяволов. — Хай. Иностранных, но не дьяволов. Так думают и говорят китайцы. Это они — величайшие в мире расисты. Не японцы. Вероятно, точнее всего будет перевести «гайдзин» как «чужак». — Но ваш босс, мистер Накамура, хочет стать современным сёгуном. — Конечно. Так же как главы кэйрэцу Мунэтака, Морикунэ, Тоёда, Омура, Ёрицуго, Ямасита и Ёсияке. — Есть некий Омура — советник в Калифорнии, и некий Ёрицуго — советник где-то на Среднем Западе, в Индиане или Иллинойсе? — Хай, Боттом-сан. И в Огайо. — Значит, должность федерального советника здесь — важный шаг к сёгунату в Японии? — Да, возможно. Зависит от того, что станет здесь с советником и главой кэйрэцу: добьется ли он успеха, заслужит ли хорошую репутацию или потеряет ее. Ведь за последние десятилетия вернулось и еще кое-что — древнее, давно забытое, но глубоко укорененное в нашем сознании представление о чести, мужестве и самопожертвовании как о главнейших вещах. Бусидо, кодекс воина, утверждающий, что честью нельзя поступаться даже перед лицом смерти, снова определяет мысли и поступки многих японцев. — Включая и… как его… сэппуку — ритуальное самоубийство, если ты потерпел неудачу. — О да. — Но в чем смысл? — спросил Ник. — Смысл, Боттом-сан? — Вы, японцы, — жертвы той же демографической ситуации, которая погубила Грецию, Италию, Голландию, Россию и другие страны, о которых мы говорили. Жертвы падения рождаемости. Греки практически исчезли. В половине европейских стран местное население, по существу, вытеснено иммигрантами-мусульманами… — Да, Боттом-сан, но Япония не допускает такого притока иммигрантов — ни мусульман, ни корейцев, никого. — Но я говорю о другом. Уровень рождаемости у вас все падает. Когда мне было двадцать, в Японии жило сколько человек? Около ста двадцати семи миллионов. А теперь, двадцать с небольшим лет спустя? Около девяноста? — Примерно восемьдесят семь, — уточнил Сато. — И население быстро уменьшается, — продолжил Ник. — Почти сорок процентов его — старше шестидесяти пяти лет. Это старики. Маленькие японцы больше не бегают по татами, не растут, чтобы занять рабочие места, прийти на ваши фабрики, поступить в вашу армию. Какой смысл Накамуре — или любой другой большой шишке, миллиардеру, главе кэйрэцу — становиться сёгуном в стране, населенной одними старыми пердунами? — Правильно, — согласился Сато. Правирно. Ник начинал понимать, не напрягаясь, этого жирного сукина сына. — Вот почему мы должны завоевать Китай, Боттом-сан. — Завоевать Китай? — повторил Ник; челюсть у него отвисла, насколько это позволял шлем с его тугой завязкой. — Мне казалось, вам платят зато, чтобы вы сражались там. Это ведь часть вашего вклада в действия ООН по прекращению гражданской войны в Китае, нет? Сато ничего не ответил. — Значит, ваш план — завоевать Китай? — глупо переспросил Ник. — Восемьдесят семь миллионов престарелых японцев пытаются завоевать страну с населением… сколько их там?.. миллиард шестьсот? — Правильно, — повторил Сато, и на сей раз это не показалось Нику таким уж смешным. — Но Китай — это страна с населением в миллиард шестьсот миллионов, и кризис там куда серьезнее, чем в ваших Соединенных Штатах, Боттом-сан. Экономическая катастрофа. Культурный хаос. Инфляция. Стагнация. Беспорядки. Мятежи военных. Полный крах устаревшей коммунистической системы. Полевые командиры. Гражданская война. — И Япония пытается завоевать часть Китая. — Хай, Боттом-сан. Всего лишь часть. Вероятно, третью часть. Но самую развитую, с Шанхаем, Пекином и Гонконгом. Индия — еще один «миротворец» с мандатом ООН — может получить остальное. Переговоры с ней продолжаются. «Индия, где живут миллиард восемьсот миллионов, или сколько их там теперь. Черт побери, Япония, Индия, Индонезия и Халифат делят мир, пока мы тут нюхаем кокаин, флэшбэчим и катимся в тартарары», — подумал Ник. Подавив в себе желание снова расплакаться, или рассмеяться, или завыть на луну — на мониторах было видно, как она поднимается на востоке, над горизонтом, затянутым дымом, — Ник сказал: — И молодой Кэйго Накамура должен был стать законным наследником этого вероятного сёгуна, который, возможно, будет править империей с населением в три четверти миллиарда. — Вероятный сёгун. Да. Правда, сёгун — это не совсем король, и власть не всегда передается старшему — или единственному — сыну. Если бы Хироси Накамура стал первым сёгуном за сто шестьдесят четыре года, то Кэйго Накамура был бы при нем даймё и кандидатом на должность сёгуна после смерти отца… при согласии других даймё, военачальников кэйрэцу. — И вот, значит, будучи потенциальным наследником, — пробормотал Ник (но миниатюрный микрофон четко передавал его бормотание), — этот маленький глупый сукин сын отправляется сюда, в Штаты, снимать документальное видео о флэшбэке. — Да, — подтвердил Сато. — И вы не предотвратили его убийства. — Да, — подтвердил Сато. — Ну, если после такого промаха старик Накамура не приказал вам совершить сэппуку, то уж не знаю, когда он вам это прикажет, — заметил Ник. — Да, — подтвердил Сато. — Транспорт-один вызывает транспорт-два, — раздался голос ниндзя Вилли, который сидел за рулем второй машины. — Вы видите того парня на лошади, Сато-сан? Прием. Парня на лошади? Ник переводил взгляд с одного монитора на другой. Их путешествие, если не считать этого странного разговора, было настолько спокойным, что он забыл, где находится и что происходит снаружи, вокруг наглухо запечатанной машины. — Принято, транспорт два, — ответил Сато по рации. — Я за ним уже некоторое время наблюдаю, Вилли. Прием. Ник наконец нашел монитор, на котором был виден парень на лошади. Мини-беспилотник, с которого поступала картинка, казалось, парил всего в сорока — пятидесяти футах над парнишкой. Парень был, пожалуй, ровесником Вэла — лет тринадцать, максимум четырнадцать. «Нет, — поправил себя Ник, — Вэл старше. Ему неделю назад исполнилось шестнадцать. А я забыл позвонить и поздравить его». Парнишка-латин был без рубашки, без обуви, в одних грязных драных шортах — похоже, переделанных из взрослых брюк. Сидел он на одре таком старом и с такой провислой спиной, что голые пятки почти касались земли. И парнишка,и коняга были страшно худыми — у обоих ребра проступали из-под запаршивевшей кожи. — Я не вижу телефона, — сказал Билл из башни второго автомобиля. — И я тоже, — отозвался Джо из своего пузыря на крыше. — Транспорт-один, транспорт-два, — вступил в разговор Тоби с переднего сиденья второго «ошкоша» где он сидел со своим дробовиком. — Может, телефон у него в кармане, а голосовая функция включена. Возможно, парнишка как раз сейчас передает координаты наводчикам. — Принято, Тоби, — спокойно сказал Сато. — Никто ничего не слышал? Ник понял, что беспилотник посылал не только картинку, но и звуковой сигнал. Но когда ему удалось выйти на частоту беспилотника, он услышал только, как шуршит ветер в сухой траве вокруг парнишки и как старый конь порой рассекает воздух хвостом. — Ответ отрицательный, транспорт-один, — ответили четыре голоса. — Транспорты-один и два, — продолжал Сато, — кто-нибудь видел, как у него шевелятся губы? И опять четыре отрицательных ответа. Ник чувствовал себя идиотом. Умственно отсталым. — Транспорт-один, у меня наготове пятидесятый калибр, — сказал Билл из пузыря на крыше второй машины. — Он сейчас метрах в ста пятидесяти от нас к востоку. Я могу его легко снять. Регко. Они все говорили по-английски явно для того, чтобы их понимал Ник Боттом. — Принято, транспорт-два, — ответил Сато. — Веди за ним наблюдение, пока мы не выйдем из зоны видимости, примерно через километр. Джо, все слышал? — Да, Сато-сан. — Пусть Билл присматривает за мальчишкой и лошадью. А ты веди наблюдение по периметру и докладывай обо всем. — Принято, Сато-сан. — Транспорт два… Билл? — Хай, транспорт один? — Я поглядываю на монитор, но веду машину. Как только мальчик двинется с места, сообщи мне… особенно если он развернется на сто восемьдесят градусов. Сообщи мне, в какую сторону смотрит лошадь. Когда мы выйдем за пределы прямой видимости, веди наблюдение по монитору, дающему картинку с беспилотника. — Хай, — последовал быстрый, резкий ответ Билла. «Сообщи мне, в какую сторону смотрит лошадь?» — подумал Ник. Когда они миновали небольшую возвышенность и начали спускаться в широкую равнину, направляясь к мосту над высохшей рекой, Ник спросил: — К чему все эти вопросы о том, что я думаю, и разговоры про Японию и Китай? Вряд ли это случайно. — Это в предвидении вашей встречи с доном Кож-Ахмед Нухаевым завтра утром, Боттом-сан. — С доном Кож-Ахмед Нухаевым? Как это — моей встречи? Ведь вы тоже будете там, разве нет? — Не буду, Боттом-сан. Дон Кож-Ахмед Нухаев связался с нами, с самим мистером Накамурой, чтобы устроить эту встречу. И поставил условие: должны прийти только вы, и никто больше. Ник попытался тряхнуть головой. — Не понимаю. Даже если он хочет говорить только со мной, какая тут связь с развалом стран на части, с Японией, Китаем и прочей ерундой? — Вы должны понять, кто такой дон Кож-Ахмед Нухаев, — сказал Сато по их закрытой линии. — И кого он представляет. — Он наркодилер, — отозвался Ник. — А представляет он охеренную кучу денег. — Верно, Боттом-сан, но это не все. Родители Кож-Ахмед Нухаева тоже пережили потерю единой культуры и единой страны, когда распался Советский Союз. — Я сейчас заплачу. И потом, разве Кож-Ахмед Нухаев — не чеченец? Он и его родители должны были радоваться, когда дряхлый СССР наконец издох. — Его отец был чеченцем, Боттом-сан. А мать дона Кож-Ахмед Нухаева — русская, и он воспитывался в Москве… — И все же я не понимаю… Они приближались к мосту. Впереди была видна I-25, поднимающаяся по склону с другой стороны высохшей реки. В долине пятна зеленой травы перемежались старыми тополями — и стоящими, и упавшими. — Дон Кож-Ахмед Нухаев, Боттом-сан, представляет не только постепенно исчезающие интересы России в этой части Соединенных Штатов, сегодня занятой военными и колонистами Нуэво-Мексико. Но еще и весьма обширные интересы Всемирного Халифата. — Вы хотите сказать, что этот наркодилер подослан мусульманами? Что они хотят контролировать наши бывшие штаты — Аризону, Южную Калифорнию, Нью-Мексико, и части… — Я хочу сказать, что выход дона Кож-Ахмед Нухаева на связь с мистером Накамурой и его согласие на разговор с вами, Боттом-сан, — все это очень необычно и интересно. Более того, он настаивал на разговоре с вами. У вас были с ним в прошлом контакты, о которых нам ничего не известно? Если так, нам очень важно знать о них, Боттом-сан. — Не было контактов, — совершенно искренне сказал Ник. Денверская полиция несколько раз пыталась допросить дона после убийства Кэйго Накамуры, — люди убитого кинодокументалиста утверждали, что Кэйго брал у него интервью за несколько дней до смерти. Но дон Кож-Ахмед Нухаев был неуловим. Даже с его людьми не удавалось связаться. Местные копы в Санта-Фе и патрульные из Нью-Мексико — всем им, конечно, кто-то платил — даже не пытались помочь. Ник знал, что и ФБР потерпело неудачу с этим русско-чеченским, мексикано-мусульманским наркодилером и торговцем оружием. — И все же я не понимаю… — начал Ник. — Транспорт-один, транспорт-один, — раздался голос Билла из башни второй машины. — Мальчик разворачивает лошадь… похоже, на сто восемьдесят градусов. Да. Остановился. — Принято, транспорт-один, — спокойно сказал Сато и принялся переключать тумблеры на пульте управления. — Будь готов… В этот момент 120-миллиметровый противотанковый фугасный снаряд ударил по прозрачному кевларовому пузырю на крыше первого «ошкоша», за микросекунду снес голову Джо и пролил сверхзвуковую лаву направленного заряда на искалеченное тело Джо и в то тесное пространство, где сидели Сато и Ник.1.12 К северу от Лас-Вегаса, Нью-Мексико 15 сентября, среда
Ник лишь на миг ощутил невыносимый жар, потом жуткое наслаждение — плотная стена темноты окружила его, придавила; а потом — ничего. Водитель ехавшего в тридцати метрах сзади второго «лендкрузера-ошкоша», Вилли, настоящее имя которого было Муцуми Ота, увидел, что автомобиль Сато подбит. Оружейный пузырь наверху взлетел на двести футов в воздух, так, словно его поддерживал столб пламени. «Ошкош» Сато отбросило в сторону, машина ударилась о левое ограждение моста, по которому ехала, и свалилась в сухое русло; следом, десяток раз перевернувшись в воздухе, полетели решетки ограждения и бетонные блоки. Куски горящего металла отлетели от первого «ошкоша» при попадании в него снаряда, и теперь большая черная крышка люка, рассекая воздух, полетела к машине Оты, словно трехсотфутовая шрапнель, и прошла от нее всего в нескольких дюймах. Когда автомобиль Сато оказался в высохшем русле, из всех отскочивших крышек, воздуховодов и задней части корпуса горящего, крутящегося «ошкоша» хлынули новые фонтаны огня. Ота круто вывернул свой «ошкош» вправо, уводя его на обочину. Громадный автомобиль на несколько мгновений завис, балансируя на двух правых колесах, а потом снова встал на землю всеми четырьмя. Место, где машина была несколько мгновений назад, — метрах в тридцати, — взорвалось фонтаном огня, забившим вверх и в стороны, когда второй фугасный снаряд ударил по асфальту. Третий взорвался слева от «ошкоша» — там, откуда Ота только что вывернул на обочину. Стреляли по меньшей мере два танка. Тоби закричал по-японски с пассажирского места: — Я видел вспышки! Два танка, в укрытии, у основания холма, расстояние около километра. Ота добрался до крутого берега и, не снижая скорости, направил машину вниз. Двадцатипятитысячефунтовый «ошкош», казалось, завис в воздухе на целую вечность, а потом рухнул на дно всеми колесами на независимой подвеске ТАК-7. Северный берег позади них взорвался. — Три танка! — крикнул Билл по-японски из башни-пузыря. — Видел третью вспышку. «Ошкош» Оты продрался сквозь ивняк и рухнувшие тополя, а потом резко остановился в песке у южного берега. Ота знал, что теперь они вне зоны поражения прямой наводкой и могут не бояться танков, хотя есть риск попасть под огонь минометов или артиллерии. — Пехота! — прокричал сверху Билл, на самом деле — Дайгору Окада. — Видел их перед нашим падением. Кажется, несколько сотен. Стрелковое оружие, РПГ и ПТРК. — Где? — спросил Ота своим неторопливым, спокойным голосом. Ему нужно было выяснить, жив ли его босс, Сато, но это могло подождать минуту, пока они не разберутся с тактической обстановкой и не найдут способа вести бой. — Вылезают из укрытий, направление — юг, на полпути к танкам, — сказал Окада, в чьем голосе теперь слышались спокойствие и профессиональная уверенность. Тоби, на самом деле — Синта Исии, пытался выйти на связь с кем-нибудь из второй машины — с Сато или Джо (на самом деле — Тай Окамото) или с гайдзином. Но ему никто не отвечал. — Как же беспилотники и спутники не заметили танков? — спросил Синта Исии по-японски, прекратив попытки связаться с машиной Сато. — Вероятно, хорошее криокамуфляжное укрытие поверх закопанных танков и людей в норах, — сказал Ота. — Поддерживают температуру точно на уровне температуры земли. Кому-то придется выйти, чтобы мы получили картинку происходящего. — Хай! — сказал Синта Исии с пассажирского сиденья, отсоединился от интеркома и других приборов, отстегнул ремни, отключил временное воздухоснабжение ПЭВС и систему связи от приборного щитка и пристегнул их себе на шлем, взял из бардачка видеокамеру и девятимиллиметровый пистолет, открыл пассажирскую дверь и выкатился наружу. Секунду спустя на мониторы «ошкоша» выплыло изображение с камеры Исии, осторожно поднявшейся над кромкой южного берега. Сам он не высовывал головы. Около сотни пехотинцев в легкой бронеодежде преодолевали полкилометра, отделявшие их от берега. Следом ехали три танка.Ник Боттом пришел в себя под звуки выстрелов вокруг него. Нет, это не выстрелы, понял он, когда глаза смогли кое-что различить. Передняя часть салона после попадания снаряда почти мгновенно заполнилась затвердевающей пеной. Теперь эта пена испарялась, или растворялась, или делала бог знает что, каждую секунду производя громкий хлопок. Ник нажал большую аварийную кнопку в центре своей ременной упряжи. Ремни отскочили, ударостойкое сиденье-саркофаг зашипело и начало отодвигаться назад. Ник полетел головой в потолок и чуть не сломал себе шею, когда шлем с громким стуком ударился о горячую сталь. «Ошкош» лежал на крыше, под углом. Борт со стороны водителя, похоже, оказался в какой-то грязи. За сиденьями Ника и Сато захлопнулась металлическая пожарозащитная панель: теперь она мерцала вишнево-красным, и на этом фоне было множество ярких белых точек. Ник чуть снова не потерял сознание от жары. Он понимал, что за панелью бушует страшный пожар. Если стрелок Джо не смог выбраться оттуда, то он наверняка мертв. Вспомнив совет Сато, Ник отсоединил от своего костюма наушники и разъемы каналов связи, вытащил шланг ПЭВС с консоли, со второй попытки прикрепил его к своему шлему и подсоединил к кислородной маске, а затем подключил разъемы переговорного устройства. — Сато? Нет ответа. На потолке машины валялись груды предметов, слетевших со своих мест. Рядом на корточках сидел Ник, пытаясь подлезть под висящее тело Сато. Но когда он перегнулся, чтобы заглянуть в лицо японца, все еще остававшегося на водительском месте, то не сразу смог понять, жив тот или мертв. Глаза Сато были закрыты, вид совершенно неживой. Тело его висело на ремнях. Взрыв в задней части машины разорвал большую часть самурайского доспеха на правой руке Сато, и Ник с первого взгляда определил, что рука у японца сломана. Кровью Сато были забрызганы передняя видеопанель и другие мониторы, все погасшие; она продолжала капать на ставший полом потолок. — Вилли? — закричал Ник в интерком. — Тоби? Билл? Ни ответа, ни даже шума в наушниках. Может, ПЭВС вышел из строя. А может, второй автомобиль тоже подбит и уничтожен. Убедившись, что девятимиллиметровый «глок» висит на защищенном броней бедре, пристегнутый к поясу, Ник переполз через сиденье, схватил свой тяжелый рюкзак, упавший на потолок, и ударом ноги распахнул пассажирскую дверь. Выбросив мешок, Ник вывалился вслед за ним. Правый бок «ошкоша» фута на четыре возвышался над песчанистой землей, ручейком, оставшимся от реки, и горевшим рядом ивняком. Ник выбрался из автомобиля на четвереньках, крякнув от боли в момент приземления. Кажется, он ничего себе не сломал, но все тело болело, словно после избиения. Из глазниц его маски капал пот. Он глубоко вздохнул, чтобы набрать в грудь свежего воздуха, но при этом не стал отключаться от ПЭВС с его тридцатиминутным запасом воздуха. Схватив свой рюкзак прежде, чем пламя добралось до него, Ник отполз вместе с ним на двадцать футов по крутому, песчанистому берегу — прочь от горящего «ошкоша». Он увидел, как громадная машина, объятая пламенем, штопором сваливается с моста, перевертывается несколько раз в сухом русле и зарывается тяжелой мордой и правым боком в холм мягкого песка у ближайшего берега. Был ли этот берег северным или южным, Ник понятия не имел. Он вытащил «глок» из крепления, расстегнул рюкзак и осмотрел взятое оружие. Кажется, все в порядке. Ник снова перевел взгляд на горящий «ошкош». Корма громадной машины была в огне, и пламя пробиралось вперед, охватывая все новые части помятого кузова. Стальные покрышки плавились. Откуда-то в разные стороны вылетали боеприпасы — вероятно, они хранились рядом с турелью. — Черт, — выдохнул Ник и похромал назад к машине. Берег оказался чертовски высоким, и Ник не смог бы забраться наверх, пока его тянула вниз бронеодежда. Поэтому он вскарабкался, насколько сумел, по склону высотой в двенадцать — пятнадцать футов, перебрался на побитое, дымящееся колесо и пополз по пассажирскому борту машины. Дверь была открыта, но все же Ник с трудом пробрался в черную, дымящуюся нору и скользнул вниз. Ноги уперлись в центральную консоль. — Сато! Нет ответа. Он позвал людей из второй машины — нет ответа. Может быть, он просто не знал, как настроиться на нужную частоту. Сато по-прежнему висел, перевернутый, на ремнях безопасности, чуть наклонившись к водительской двери. Жара в передней части кабины значительно усилилась по сравнению с тем, что было минуту назад. Кое-где противопожарная перегородка раскалилась добела и уже плавилась. Ник подлез под висящее тело Сато, постарался отвести его обнаженную сломанную руку, уперся плечами и верхней частью тела в Сато, словно присевший борец сумо — пусть и худосочный, и ударил кевларовым кулаком по кнопке разблокировки упряжи. Громадное тело свалилось на Ника и всеми тремя сотнями фунтов прижало к потолку, сломало по меньшей мере одно ребро, выдавило из Ника воздух. — О господи… сука, — выдохнул Ник. — Ты… жирная… Он не закончил фразу. Если Сато, обмякший, как забитая корова, был действительно мертв, то не стоило дурно говорить о покойнике. — Жирная… сука, — выдохнул Ник против воли. Потом он уперся ботинками, ухватился руками в перчатках и приложил все силы, стараясь поднять громадное, инертное, безжизненное тело к открытой двери. Кабину заполнил дым. Тело Сато не двигалось, и тут Ник заметил трубки и провода, идущие от кроваво-красного самурайского шлема к ударостойкому креслу. — О черт. ПЭВС, — проговорил Ник. Пришлось вернуть тело Сато на прежнее место, снова присесть, найти кнопки с красными символами на консоли перед водительским сиденьем. Он ударил по нужной кнопке и ПЭВС отсоединился. Через сорок пять секунд проклятий, борьбы и безуспешных попыток стереть с глаз кровь и пот Ник закрепил аппарат ПЭВС на месте и направил кислород в мозг Сато, почти наверняка мертвый. Еще больше времени ушло на то, чтобы подключить разъемы переговорного устройства. — Сато? Сато? Нет ответа. И времени дожидаться ответа тоже нет. Пламя уже пробивалось сквозь полурасплавленную перегородку, и спинки обоих кресел начали гореть. Ник почувствовал запах чего-то жареного и понял, что это обнаженная сломанная правая рука Сато. — А-а-а-а-а! — выкрикнул Ник, выжимая, как штангист, триста с лишком фунтов — облаченного в красную броню японца. Ему показалось, будто он держит всю эту закованную в доспехи тушу над своей головой, когда он выпихивал Сато через задымленную дверь и кое-как, с риском уронить, укладывал на борт «ошкоша». Ник поднялся следом за телом Сато, хватая ртом воздух и стараясь проморгаться от пота. Он знал, что если бы не подключил собственный ПЭВС, то уже потерял бы сознание, задохнувшись от идущих снизу дыма и жара. — Извини. Ник обеими ногами спихнул красную тушу Сато с края перевернутой машины. Тот упал лицом вниз, ударившись сломанной рукой; в наушниках Ника не раздалось ни слова, ни звука. Пуля просвистела рядом с его левым наушником. Боеприпасы, лежащие в шкафчиках машины, стали рваться с таким звуком, будто шла перестрелка из автоматического оружия. Ник знал, что там есть ПТУРы и другие немаленькие снаряды, которые вот-вот сдетонируют. Ник спрыгнул вниз, ухватил Сато за скобу на доспехе между плечами и потащил лежащего ничком японца по песку, гравию, горящему ивняку. Добравшись до своего тяжелого рюкзака, Ник взял его в левую руку, правой продолжая волочить Сато. «Адреналин, — подумал он. — Завтрак для чемпионов». Еще футов сто пятьдесят вдоль берега реки, — Ник уже решил, что они в безопасности, — и тут машина взорвалась. Он успел проползти за небольшую излучину — скорее, небольшое углубление в откосе — и оказался вне пределов досягаемости обломков горящей машины и рвущихся снарядов. Ник понятия не имел, взорвутся ли при перегреве семисотсильные турбины «ошкоша», питающиеся от «радиоактивных элементов», но исходил из того, что взорвутся. Вспомнив о «радиоактивных элементах», которые располагались под ними в разломанном, разбитом автомобиле, Ник подумал, что, возможно, уже получил роковую дозу — или такую, от которой отсохнет все между ног. А может быть, получит по мере горения машины или при взрыве. — В жопу, — выдохнул он и, хрюкнув, как свинья, перекатил Сато на спину. Что теперь делать? Снять с японца красный шлем и другие доспехи? Проверить пульс и посмотреть, нет ли у Сато других ран? Если тот мертв, то ему, Нику, будет куда легче… Вдруг Ник понял, что песок и гравий вокруг того места, где он сидит на корточках рядом с гигантом-японцем, бьют фонтанчиками, словно из них выпрыгивают гигантские блохи. «Или словно кто-то стреляет в меня». Ник обвел взглядом берег у горящей машины, потом посмотрел в противоположную сторону — на берег справа от себя. Кто-то в легкой бронеодежде — но не один из четырех ниндзя — стрелял в Ника и Сато из автоматического оружия, футов с тридцати пяти. Человек держал автомат на вытянутых руках и водил им из стороны в сторону — Ник видел по телевизору, что так стреляют хаджи в Йемене, Сомали или Афганистане. Отец однажды сказал, что так палят лишь неумелые кретины. Но рано или поздно этому козлу может повезти. Земля на откосе, в футе над Ником, зафонтанировала, и ему на шлем посыпался песок. Он вытащил свой «глок», встал на одно колено, а в другое упер обе руки, державшие пистолет, и трижды выстрелил в этого типа, целясь в корпус. Стрелок уронил свою автоматическую винтовку и скатился по берегу вниз. Но девятимиллиметровые пули не пробили легкую броню. Парень встал на колени, начал подниматься, потянулся к винтовке. Ник встал и, медленно двигаясь вперед, снова выстрелил ему в грудь, теперь с двадцати футов. Противник упал, перевернулся и снова поднялся на ноги; руки в бронеперчатках тянулись к оружию, скребли песок. Всякий раз, когда парень делал попытку подобраться к своей винтовке, Ник стрелял ему в грудь, и тот падал навзничь либо ничком. При последней попытке рука в перчатке не дотянулась до оружия всего на несколько дюймов. Ник в свое время получил несколько пуль, будучи в простой бронеодежде из кевлара-3, и знал, что это похоже на хороший удар бейсбольной битой. Но стрелок снова поднялся на колени и потянулся к оружию. Ну и крепкий же сучонок. Правда, теперь Ник увидел, что на противнике не боевой шлем, а что-то вроде кевларового, мотоциклетного, с обычным плексигласовым щитком. Пересчитав сделанные им выстрелы — он стрелял уже шесть раз, и в магазине оставалось девять пуль, — Ник приободрился и выстрелил в щиток с расстояния в семь футов. Кровь, осколки пластика — и на этот раз стрелок рухнул лицом вниз. Ник ногой перекатил убитого на спину, увидел через разбитый плексигласовый щиток, что это женщина, и, испытав приток адреналина, подавил в себе дьявольское желание выпустить еще одну пулю в окровавленное лицо. Он знал, что ушиблен адреналином и что через несколько минут у него начнется тряска. В ожидании этого он забрался по крутому берегу — посмотреть, что там наверху. Женщина, катясь вниз, проделала в откосе что-то вроде ступенек-углублений, которыми Ник и воспользовался. Он осторожно высунул голову над кромкой берега, поросшего травой; в откосе были видны ее корни. Еще двадцать или тридцать стрелков (возможно, легкая нерегулярная пехота) шли по дороге, отстав футов на сорок — пятьдесят от убитой Ником молодой женщины. За ними, построившись в колонну, шагали десятки человек, каждый с каким-нибудь оружием. Некоторые принялись стрелять в Ника еще до того, как он скатился вниз, упершись в тело своей противницы. Танки. За неровными рядами бойцов Ник увидел по меньшей мер два долбаных танка. Здоровенные долбаные танки со здоровенными долбаными башнями, которые вращаются в поисках цели. В поисках его. «Несправедливо это, — подумал Ник, бегом направляясь к Сато и своему рюкзаку с оружием. — Я ведь, черт побери, полицейский — ну, пусть бывший, — а не солдат-наемник. Я частный детектив, пусть бывший, следак, сыщик. Да мне уже за сорок, черт возьми! Я слишком стар для этой херни. Я попал не в тот фильм!» Ник остановился и задрожал, пораженный увиденным. Сато был жив и стоял на четвереньках, нянча сломанную руку, как трехногая собака. Щиток его шлема был поднят — японца рвало на песок. — На это нет времени, — сказал Ник, поднимая собственный щиток, чтобы гигант мог его услышать. — Пехота наступает. И танки. Танки, Сато! — Добро пожаловать, Боттом-сан, — сказал Хидэки Сато, и его снова вырвало. Ник уставился на японца. Или у Сато самое идиотское чувство юмора из всех ныне живущих людей, или мозги его слегка помутились от взрыва и он еще не пришел в себя. Впрочем, неважно. На берегу, над трупом женщины, появились четверо и принялись палить из автоматов — тоже наудачу. Но Нику и Сато не следовало радоваться прежде времени: при том количестве пуль, которые ударяли в берег над ними, под ними и по сторонам от них, кому-нибудь из этих идиотов могло и повезти. Ник присел и выстрелил, попав двоим из них в щитки, затем развернулся, прежде чем тела упали на землю, закинул рюкзак себе на плечо, свободной рукой подхватил Сато и потащил гиганта за излучину, чтобы уйти с линии огня — двое противников оставались у них за спиной. Между ними и горящим автомобилем появились еще двадцать — тридцать человек с оружием. Большинство уставились на пламя, но некоторые заметили Ника и великана в красных доспехах — не разглядеть Сато в лучах дневного солнца было трудно. Десять — двенадцать бойцов повернулись и принялись палить в них. Сато протянул левую руку поверх горы своего живота, вытащил висевший на правом боку тяжелый «Браунинг Mk IV» большой убойной силы, присел и начал стрелять. Ник поймал три далекие фигуры, одну за другой, в прицел и выстрелил противникам в щитки. Все трое рухнули; остальные тоже кинулись на землю, чтобы вести плотный огонь из положения лежа. Сато левой рукой уложил троих, которые не успели найти укрытие. — У вас еще есть… — выдохнул Ник, потом повернулся и выглянул за угол откоса, но тут же убрал голову назад — множество пуль взрыхлили землю и разодрали корни. Еще человек двадцать пять, не меньше, появились на берегу реки и теперь осторожно двигались в сторону Ника и Сато. Ник упал на живот, так что голова и руки оказались за углом откоса, и уложил четверых. Остальные попадали на землю, но при этом большинство из них продолжали вести огонь. — …идеи? — закончил Ник. — Хай, — прорычал Сато. Лицо шефа службы безопасности было покрыто кровью — видимо, от порезов или удара головой об шлем во время первого взрыва. «Есть? — подумал Ник. — Хай?» До другого берега — видимо, северного, откуда и пришли нападавшие, — было футов сто. Там не имелось укрытий, разве что ствол тополя, в давние времена унесенный туда рекой — вероятно, весной, когда вода поднималась и могла унести кое-что вниз по течению. Но ствол был невелик в диаметре, а сердцевина его подгнила. Ник понимал, что пули легко его пробьют. Зато там они могли не опасаться атаки с фланга. Ник показал на упавшее дерево, схватил свой тяжелый мешок и присел, готовясь к спринту. Шансы на то, что его подстрелят на бегу, были весьма высоки. — Нет, — прохрипел Сато. — Оставайтесь здесь, Боттом-сан. Будем сражаться. — Ни хера себе! Это что — наш план? — спросил Ник. Он хотел вложить чуточку иронии в эти слова — этакой бесшабашной иронии, как в «Красавчике Жесте»[93] но вышел лишь набор воплей, писков и хрипов. Новая порция пехоты обрушилась на них, не обращая внимания на снаряды, рвущиеся в «ошкоше». Эти вели более прицельный огонь, пули взрывали землю рядом с Сато и Ником. Но Ника почему-то больше волновали те, кто был позади, за излучиной. Пожалуй, его всегда больше пугала невидимая, а не очевидная угроза. Он протянул Сато упаковку с гранатами, а сам извлек из рюкзака громоздкий «негев-галил» вместе с прикрученными к нему нейлоновой лентой пятью тяжелыми магазинами; казалось, на это ушла целая вечность. Взяв первый магазин, Ник вставил его, поднялся и выглянул из-за угла. И увидел наверху облаченных в бронеодежду мужчин — или мужчин и женщин, — которые с мрачным видом двигались вдоль берега. До них было футов шестьдесят, даже меньше. Все тут же принялись стрелять в него. Один из самых высоких попал Нику прямо в грудь, но Ник к этому моменту уже успел нажать на спусковой крючок уродливого «негев-галила». Около тридцати тысяч крошечных стреловидных пулек очистили пространство перед ним — от наступающих остались лишь окровавленные лохмотья, клочки одежды, осколки брони и разбитых щитков. Одна пара ног некоторое время стояла сама по себе, не соединенная с телом. Потом одна нога упала, а другая осталась стоять. Ник упал спиной на откос. Он не мог дышать. — Вы целы, Боттом-сан? — спросил Сато. Японец неловко стрелял из старого М4А1 гранатами, что дал ему Ник, его устаревший гранатомет сильно разогрелся. Когда гранаты закончились, Сато бросил оружие в песок и принялся с левой руки стрелять из своего «браунинга». Бегущие люди попадали, затем поднялись, но не все. — Хррррр, — прохрипел Ник. Пуля не пробила броню, но теперь у него точно было сломано еще одно ребро, в районе груди. Он вставил в автомат второй магазин, высунул уродливое оружие над кромкой берега, на манер хаджи, и выпустил новую тучу стреловидных пуль, водя массивным стволом туда-сюда — точно поливал из шланга. Теперь, когда щиток его шлема был поднят, Ник услышал стук дизеля и клацание гусениц приближающегося танка. Ему пришла в голову не слишком веселая мысль: танк тут, наверное, и не нужен, раз каждую секунду появляются новые пехотинцы, спрыгивают в сухое русло и открывают огонь. Четверо из них побежали к тому самому тополю, который привлекал Ника. Когда танк доберется сюда, подумал Ник, все будет кончено. Сато уложил двоих, но еще двое вели из-за укрытия ответный огонь. Две пули попали в доспех Сато и отбросили его на песчаный откос, где Ник, перезарядив свой «глок», стрелял в кого-то наверху, готового обрушиться на них. Одному пуля попала в шею, под плохо подогнанный шлем; тело рухнуло рядом с Сато. Ник упал духом, когда увидел, что Сато молится, — губы гиганта быстро двигались. Ник безотчетно подумал, что это, видимо, буддистская молитва. Нет, стоп: Накамура, босс Сато, принадлежал к числу немногих японцев-католиков, а значит, Сато должен был обратиться в… «Да какая, к черту, разница?» — подумал Ник, когда двое смельчаков показались из-за излучины, стреляя из автоматических винтовок от бедра. Ник уложил обоих выстрелом в щитки, а после того, как они упали (слава богу, что не до этого), одна пуля попала ему в плечо, развернула, швырнула лицом в песок. Пробита ли броня? — Ложитесь, Боттом-сан! — прокричал Сато. — Что?! Сато бросил оружие, затем быстрым, как бросок кобры, движением ухватил более высокого Ника за кромку бронекостюма над онемевшей грудью и потащил по руслу. С десяток вражеских бойцов надвигались на них с востока. Ник слышал шаги и крики за излучиной. Транспорт номер два, второй «ошкош», взревел под высоким мостом и выскочил из-за поворота. Ник услышал нечто вроде визга бензопилы на высоких оборотах и понял, что это стреляет мини-пушка в башне-пузыре. Очередь прошла на высоте около трех футов и в буквальном смысле пробила дыры в пехоте, наступавшей с востока. Потом пушка задралась вверх и уложила еще несколько человек на берегу, у самого откоса. Те двое, что укрывались за стволом тополя, вскочили и принялись палить по «ошкошу». Башня развернулась, мини-пушка завизжала, и два бойца вместе с древесным стволом разлетелись на куски. «Ошкош» с ревом пронесся мимо Ника и Сато. Башня снова развернулась, и Билл принялся поливать огнем мужчин и женщин, сгрудившихся в небольшой песчаной бухточке. Ник выглянул из-за угла как раз вовремя, чтобы увидеть, как оставшиеся в живых карабкаются наверх и бегут в сторону юга. Сато приложил свой шлем к шлему Ника. — Человека, которого вы знаете как Билла, на самом деле зовут Дайгору Окада. Настоящее имя того, которого вы знаете как Вилли, — Муцуми Ота, а настоящее имя Тоби… — Представления потом! — прокричал Ник и одной рукой ухватил тяжелый рюкзак, а другой поддержал Сато. Вдвоем они похромали к остановившемуся «ошкошу». Большой задний люк был открыт; в нем стоял Тоби, поливая противника из японского многоствольника. Ник забросил мешок внутрь, потом втолкнул Сато, потом стал забираться сам. Пуля попала ему между лопаток и уложила лицом в груду отстрелянных гильз на полу «ошкоша». Тоби захлопнул дверцу, и по ней градом замолотили пули. Сато стоял на коленях, рассматривая спину Ника. — Не пробито! — проорал он, перекрикивая вой турбин. Ник бросил взгляд на мониторы впереди и понял, что «ошкош» двигается в обратном направлении — туда, откуда появился: на восток, под мост, и дальше — к повороту на северо-восток. — Так вы не молились, — выдохнул Ник, глядя на Сато. — А вызывали транспорт номер два. Тот бесстрастно посмотрел на него. Один из мониторов явно показывал картинку с камеры на южном берегу, остальные — с летающих вокруг мини-беспилотников. Отчетливо видны были и три танка — не больше чем в сотне метров от южного берега. Ник последовал за Сато, огибая ноги Дайгору Окады, которые торчали из вращающейся башни. Задерживаться здесь не рекомендовалось: тысячи раскаленных гильз вылетали из оружия Дайгору, и не все попадали в специальный асбестовый мешок. Ник прислонился к спинке противоударного пассажирского кресла Тоби. — …Синта Исии, — сказал Сато, заканчивая представление живых. Ник кивнул — в знак приветствия и одновременно благодарности. Муцуми Ота за рулем (то есть за неким подобием джойстика со всеми приборами управления, как на «лексусе» с водородным двигателем) вел машину к южному берегу. Туда же, судя по изображениям на мониторах, продвигались две-три сотни пехотинцев и три танка. — Этот «ошкош» может уничтожить танки? — поинтересовался Ник, не обращаясь ни к кому конкретно. С ребрами, сломанными в разных местах, каждое слово приходилось выдыхать через боль. — Нет, — ответил Синта Исии со своего места, где он энергично выстукивал что-то на клавиатуре, высвеченной на ветровом стекле: Ник, когда занимал пассажирское сиденье, ее даже не заметил. — Ни одного не может. — ПТРК? — спросил Ник. Это звучало и воспринималось как молитва. Сато покачал головой. — Боевые танки этого типа, — он резко поднес большой палец левой руки к монитору, на котором был виден танк сверху, — оснащены противоракетной системой. Против них у нас нет ни малейшего шанса. — Воздушное прикрытие? — продолжал спрашивать Ник. — Какой-нибудь вооруженный беспилотник. Или реактивный самолет из Колорадо. Или… «Ну хоть какой-нибудь deus ex machina?» — подумал он. Этот литературный термин он узнал от Дары: «бог из машины». Спускается — нередко в корзине — для спасения героев и героинь в ситуации, из которой сами они неспособны выпутаться. Это плохая литература и драматургия, учила его Дара. Но сейчас, пожалуй, было самое время для deus ex machina. Может, даже не для одного бога, а для двух-трех. — Тут нет воздушной поддержки, Боттом-сан, — сказал Муцуми Ота, который вел «ошкош» назад к южному берегу. Назад к вражеским войскам и танкам. — Сдаваться? — выдохнул Ник. Это был не столько вопрос, сколько очень, очень настойчивое предложение. — Оставь один мини-беспилотник на месте и сделай так, чтобы все три его лазера высветили танки, — вполголоса сказал Сато человеку, сидевшему в противоударном кресле: том самом, о которое опирался Ник, чтобы не упасть. — Остальные выведи из пределов досягаемости. — Хай, Сато-сан, — сказал Синта Исии, быстро набирая команды на клавиатуре. Ник уставился на экран, но все слова были на кандзи, или хирагане,[94] или как у них это называется. — Суперлазеры? — спросил Ник, чей голос прозвучал глуповато даже для него самого. — На ваших беспилотниках есть боевые лазеры? — Нет-нет, — сказал Муцуми Ота, останавливая «ошкош» у крутого берега. — Лазеры самые обычные. Безопасны даже для мухи. — Окончательные координаты введены? — спросил Сато. — Хай, — пролаял Синта Исии. — До но кид га канри моэ тэ и масу. Джей-кид во нокоси кума.[95] Девять лет назад Ник, когда его повысили до детектива первого ранга, вместе с Дарой двенадцать недель ходил на курсы разговорного японского. Но теперь он не понял ни слова. — Жэ-медведь тотяку дзикан?[96] — пролаял Сато. «Жэ-медведь?» — подумал Ник. — Тридцать восемь секунд, — проговорил Синта Исии по-английски, явно для Ника. Над ними закрутилась башня, горячие гильзы снова посыпались на стальной пол. Наблюдая за четырьмя мониторами, Ник видел, что шеренга пехоты почти достигла южного берега; танки отставали от нее метров на сто. Вместе с танками двигались новые силы пехоты. По видеотрансляции с единственного беспилотника было видно, что бойцы, шедшие впереди, стреляют. Ник услышал, как пули ударяют по внешней броне «ошкоша». Те, что попадали в башню, стучали звонче. — Может быть, нам, по крайней мере, выйти… я не знаю… — предложил Ник. — Сражаться. Сато ухватил его здоровой рукой за запястье, ничего не сказав. Теперь пули лупили по корпусу, как градины. Ник вспомнил, как он мальчишкой вместе с отцом во время жуткого ливня забежал на какой-то ферме в сарай с жестяной кровлей. Но пули грохотали куда громче капель. Мини-пушка над ними замолчала. — Кончились боеприпасы, Сато-сан, — сообщил Дайгору Окада. — Десять секунд, — вполголоса сказал Синта Исии, уселся поглубже в свое противоударное кресло, перед Ником, и подтянул и без того тугие пятиточечные ремни крепления. Окада спустился из башни; Ник увидел и услышал, как металлическая панель закрывает башню-пузырь. Окада опустил откидное сиденье, сел и пристегнулся. «Мы что — едем куда-то?» — задался вопросом Ник, проникаясь какой-то детской надеждой. Он смотрел на единственный работающий монитор: шесть-семь пехотинцев спрыгнули с берега на крышу «ошкоша» и стреляли по ней в поисках уязвимого места. К ним на помощь двигались еще с полсотни. Приближался и рев танков. Внезапно Сато придвинулся к Нику, словно собирался обнять, хотя его сломанная рука и висела плетью. Гигант плотно налег на Ника своим громадным телом в доспехах, прижимая к ударостойкому креслу перед ним. Вспоминая позднее, Ник мог поклясться, что видел их изображение, передаваемое единственным монитором беспилотника и последней работающей внешней камерой «ошкоша». Шесть удлиненных предметов, размером и формой напоминавших телеграфные столбы, неслись с орбиты со скоростью в восемь раз больше скорости звука. Мини-беспилотник, который описывал все более широкие круги в тысяче футов над ними и высвечивал три танка при помощи лазеров, испарился в первые секунды взрыва. Но те, что были дальше, включили свои передатчики и начали передавать изображения трех грибообразных облачков, одновременно записывая их для будущих исследований. Те слились в одно большое облако: сжимаясь, расправляясь и снова сжимаясь, оно устремилось в стратосферу. Танки испарились мгновенно. Сотни пехотинцев, мужчин и женщин, — все, кто находился в радиусе двух километров от трех взятых под придел и разом уничтоженных танков, — попали в зону действия ударной волны. Ударная волна — воздушный вихрь — швырнула их на сто с лишним метров сквозь полные пыли небеса. Никто, похоже, не выжил. Берег реки обрушился и полностью погреб под собой «ошкош». «Переход на полностью автономное воздушное обеспечение», — раздался роботизированный голос, которого Ник не слышал прежде. Вибрации и дрожь были очень сильны. Если бы Сато не прижимал его к ударостойкому креслу, то Ник, вероятно, болтался бы по кабине, как дробь в жестянке. — Ни хера себе, — прошептал Ник, когда вертикальные колебания прекратились и Муцуми Ота врубил две спаренные турбины, чтобы вывести машину из-под завала. Он повел «ошкош» по образовавшейся насыпи. Выехав наверх, на выжженную землю, Ота остановил машину, не выключая двигателей. Дайгору Окада открыл люк в верхнюю башню и поднялся туда, прихватив тяжелые магазины для мини-пушки. Но стрельбы не последовало. Ник смотрел на мониторы: те включались по мере того, как мини-беспилотники возвращались в пределы видимости. Образовался почти идеальный круг выжженной земли: на севере он заканчивался в миле от них, захватывая русло реки, на юге — милях в двух, доходя до утесов речной долины. Двери открылись, Водитель, Муцуми Ота и Синта Исии подключились к своим ПЭВС, вышли наружу и направились вниз, ко все еще горящему первому «ошкошу». — Пожалуйста, опустите щиток и подключите ПЭВС, — вполголоса велел Сато. — Воздух полон радиоактивных частиц. Мы должны извлечь останки Джо из машины. На самом деле его звали Генсиру Ито. И хотя после пожара от него останется совсем немного, мы должны найти то, что сможем. Мы пришлем других людей для более основательных поисков, а потом отправим прах Ито-сана назад в Японию, где его похоронят с почестями, как героя. Мы чтим наших мертвецов. Ник кивнул и трясущейся рукой опустил щиток шлема. Движения его были так неточны, что Сато помог напарнику подключить ПЭВС. Затем гигант нажал кнопку; большая задняя дверь распахнулась и опустилась. Ник вслед за Сато спустился по пандусу на землю, покрытую коркой, которая ломалась и хрустела под их ногами. Не осталось ни травинки — все сгорело в пламени. — Ядерные заряды? — выдавил из себя Ник. — Нет-нет, — ответил Сато по закрытой двусторонней связи. — Чисто гиперкинетическое оружие. С орбиты. Там многие сотни ждут вызова. Здесь использовались только шесть. Никаких боеголовок. И конечно, никакой радиоактивности. Простое превращение скорости в энергию. В огромную энергию. — Я и не знал, что такие штуки существуют, — прошептал Ник. Путь их лежал к первому «ошкошу». Ота и Исии с помощью больших пенных огнетушителей сбивали пламя с остатков машины. За спиной Сато и Ника заскрежетала, поворачиваясь, башня-пузырь — это Дайгору Окада прикрывал их. — Нет, не знали, — подтвердил Сато, извлекая из наружного кармана машины огнетушитель и протягивая его одной рукой Нику. Потом он вытащил другой — для себя. — У вас рука в ужасном состоянии, — сказал Ник. — Вас нужно срочно эвакуировать по воздуху и направить к хирургу. Сато улыбнулся и покачал головой. — Окада-сан — превосходный медик. И Генсиру Ито тоже был медиком. На борту этого «ошкоша» достаточно болеутоляющих средств и медицинских материалов. Окада-сан сможет оказать мне первую помощь, и оставшиеся три-четыре часа до Санта-Фе я проведу относительно комфортно. Прежде чем спуститься в русло реки, Ник посмотрел на юг, а потом снова окинул взглядом простиравшуюся на мили опустошенную местность. Повсюду все еще пылали бесчисленные мелкие пожары. Казалось, вся земля охвачена огнем. — Как вы называете это оружие? — спросил он. Сато улыбнулся. — Человек, который выдвинул идею мощного самонаводящегося кинетического оружия, имея в виду прежде всего разгром глубоких бункеров, назвал его ОБК. — Как? — Орбитальное боевое копье. Очень простая вещь и очень полезная для таких вот сражений малыми силами, когда обычной воздушной поддержки оказать нельзя. Иногда используется в Китае. Довольно редко. Очень дорого. — И эти шесть ОБК — из личного запаса мистера Накамуры? — Хай. — Сато ухмыльнулся, хотя Ник был уверен, что японца мучает страшная боль. — Но мы чаще говорим не «ОБК», а «жэ-медведи». Ник вспомнил, что его удивило это необычное слово. — «Жэ» — это физическая величина, что-то связанное с ускорением, гравитацией? — Да, — кивнул Сато, словно получая удовольствие от шутки, доступной лишь кругу избранных. — Но еще «жэ» — это первая буква имени американского эн-эф писателя, автора, первым предложившего эту идею.[97] Мы чтим творцов идей там, где можем. — Эн-эф писателя, — повторил Ник. — «Н» дефис «ф». Улыбка сошла с лица Сато. — Это было важно, Боттом-сан, — доставить вас для завтрашнего разговора с доном Кож-Ахмед Нухаевым. Я обещал мистеру Накамуре, что вы там будете. Когда они двинулись по обрушенному берегу к горящему «ошкошу», Ник вдруг задумался: а как они собираются доставать куски обугленного и скорченного тела Джо из этого хаоса? И найдут ли голову? — Хорошо бы, чтобы дон Кож-Ахмед Нухаев стоил того, — пробормотал он. — Да, — мрачно согласилсяСато. — Хорошо бы.
2.03 Шоссе I-70 к западу от Денвера 24 сентября, пятница
Вэлу казалось, что его подняли высоко на невидимом тросе и теперь он болтается между раем и адом. Иногда он поднимался и видел свет. Но чаще он падал вертикально, пока трос, выбрав слабину, не натягивался, и он повисал совсем рядом с черными скалами и сернистыми ямами. Но, болтаясь так в темноте, он никуда не прибывал. Вэл уже был готов смириться с любой судьбой, лишь бы только где-то оказаться. Вечером в ту пятницу он был близок к раю. По иронии судьбы — забавной только для него самого, — Вэл Боттом не верил ни в рай, ни в ад. Некое подобие рая представляла собой Юта. Юта была одним из немногих штатов (не вышедших из Соединенных Штатов — сейчас это название звучало комично), которые ремонтировали дороги и высылали на них дорожные патрули, даже на междуштатные хайвеи, которые прежде находились под федеральным присмотром и управлением. Конвой успешно преодолел двадцатидевятимильный опасный отрезок диагонали Верджин-ривер: бандиты обстреливали их с утесов на протяжении двух третей пути, но машины охраны отвечали на огонь, и пройти удалось почти без потерь. После этого поездка по северу Юты — по I-15, потом по I-70 на восток, к Колорадо, — была больше похожа на легкую прогулку с высокой скоростью, как ездили во времена детства его деда. Вэл в жизни ничего подобного не испытывал. Восточная Юта, начиная от крохотного городка Ричфилд неподалеку от пересечения I-15 и I-70 и далее миль на двести до границы с Колорадо, выглядела величественно: древние горы, утесы из песчаника и высокие плато, каких Вэл никогда не видел. Он даже представить себе не мог таких мест. Последние двое суток он проводил большую часть времени в кабинах водителей, работавших без напарников, — чернокожего Калибра Деверо и индейца-навахо по имени Генри «Большой Конь» Бигей. Прошлым вечером, выезжая из высокогорной Юты, Деверо увидел оттопыренную куртку Вэла — там, где сзади за пояс была заткнута «беретта», — и попросил показать оружие. Вэл, смутившись, в конце концов вытащил ее, извлек магазин и протянул пистолет водителю. — Одну пулю ты оставил в патроннике, — заметил Деверо. Сняв на мгновение левую руку с рулевого колеса, здоровяк отвел затвор, поймал в воздухе патрон и вручил Вэлу, а тот засунул его в магазин. Вэл вспомнил глухой стон Билла и красное пятно, расползающееся по лицу Путина на футболке. Он вспомнил, как клацнули зубы Койна, когда тот упал на бетон после второго, смертельного выстрела. Его передернуло. — Тренируюсь в стрельбе по мишеням, — пояснил он. Деверо кивнул. — Отличное оружие. Чисти его как следует. Некоторое время они ехали молча. Шоссе I-70 шло под уклон с того момента, как они встретили заход солнца вблизи Ричфилда, часом или двумя ранее. И теперь, когда они приближались к съезду на дорогу в заброшенный город Грин-Ривер, в звездном и лунном свете рисовались гораздо более внушительные вершины, чем утесы из гранита и изуродованного песчаника, мимо которых конвой проезжал до того. Вэл старался не думать о Билли Койне. Тот преследовал его постоянно, в основном по ночам, не давая уснуть. Переживания Вэла большей частью сводились к единственной мысли: «Я убил человека». От этой мысли и связанных с ней образов он временами чувствовал себя едва ли не больным, в особенности к рассвету. Но что-то в воспоминаниях о нескольких минутах внутри туннеля вызывало смутное, почти экстатическое возбуждение. Какая-то часть Вэла желала вернуться туда и пережить все это заново, вновь испытать заполнившее его ощущение силы и свободы, когда он выпустил две пули в грудь и горло Билли Койна. Но пока что Вэл не воспользовался ни одной из своих ампул, чтобы пережить случившееся вторично. Почему-то это казалось ему… грязным. Он смотрел на огни грузовиков, на дорожную разметку впереди и стал уже засыпать, когда голос Деверо разбудил его. — Ты правда хочешь попробовать стать дальнобойщиком? — Да, — сказал Вэл. — Ну то есть вообще-то не знаю. Может быть. — Я тоже не был уверен, когда в свое время думал об этом. Но если ты решишь попробовать, то это вполне реально. Я тебе так скажу: примерно один парень из тысячи, решив стать независимым дальнобойщиком, и в самом деле добивается этого. Но понадобится начальный капитал. «Ну вот, — подумал Вэл. Этот сраный Деверо сейчас предложит ему быстрый путь в дальнобойщики, если он, Вэл, даст энную сумму. — Этот мир полон говна». Но оказалось, водитель имел в виду другое. — Я не говорю о том, что, если хочешь купить машину, нужна чертова прорва денег. Это уже потом — годы спустя. — А где ты взял деньги на свою машину? — спросил Вэл. — Повезло, — ответил Деверо, перекидывая из одного уголка рта в другой зубочистку, которую жевал всегда. — А поскольку цены на машины растут, то тебе потребуется еще больше везения… и упорства, чем мне. Но я говорю о том, как начать. Скажем, первые несколько лет можно ездить сменщиком какого-нибудь хорошего парня. Это возможно… если… «Ну вот», — подумал Вэл. — Если что? — поинтересовался он. — Если ты раздобудешь хорошую подделку: Национальную идентификационно-кредитную карточку с подходящим именем и предысторией. Голограмма Союза дальнобойщиков на ней тоже должна быть хорошей подделкой, — объяснил чернокожий и скосил глаза на Вэла. — Мне почему-то кажется, что по личным причинам ты не захочешь использовать собственную карточку. Вэл помедлил, потом кивнул. — Значит, тебе понадобится самая лучшая из поддельных карточек… чтобы ни у патрулей, ни на станциях взвешивания или блокпостах ополчения не возникало вопросов. Но это будет стоить около двух сотен баксов… старых баксов. — Попробую предположить, — усталым голосом произнес Вэл. — Ты можешь достать такую карточку? Деверо оторвал взгляд от дороги и смерил Вэла долгим взглядом. — Пошел ты в жопу, парень. Я не говорю, что могу достать эту херню, да и не похоже, что у тебя есть две сотни старых баксов. Или у этого чокнутого профессора, твоего деда, с которым ты едешь в машине Пердиты и Хулио. И пошел ты в жопу, понял? — Извини, — сказал Вэл. Он действительно хотел извиниться. — Я… устал. В башке помутилось. Я не выспался и… ну да, я бы хотел получить новую НИКК. Но как? Где? Несколько минут Деверо ехал молча. Наконец, перейдя на низшую передачу, чтобы преодолеть редкий подъем на долгом спуске в долину, он проворчал: — Есть один тип в Денвере. Многие новенькие водилы-одиночки с его помощью добывают себе НИКК Союза дальнобойщиков. В последний раз мне говорили, что он берет за это двести баксов. Может, уже и больше. — Ты прав, — сказал Вэл. — Денег у меня нет. И у Леонарда тоже. Деверо пожал плечами. — Тогда все это неважно, да? — Но все же мне хотелось бы знать его имя. — Вэл сидел прямо и тер лицо, прогоняя сон. — Если я получу НИКК Союза дальнобойщиков, ты возьмешь меня на подмену? — Не, я настоящий одиночка, — проворчал Деверо. — Мне не нужны желторотые ученички. Но многие ребята согласятся. — Кто например? — Ну, например, Генри «Большой Конь» Бигей. Он часто подбирает какого-нибудь парня, чтобы тот ездил с ним и обучался. Денег он много не берет. — Деверо снова скосил глаза на Вэла. — И потом, Генри — не пидор. Он любит молоденьких девочек, но из них, похоже, никто не хочет стать дальнобойщицей. Поэтому старина Бигей берет под крыло таких зеленых ребят, как ты. — А «много не берет» — это значит сколько? — спросил Вэл. Деверо снова пожал плечами. — Чтобы хватило на пиво. Но если говорить об опыте, то несколько месяцев или год езды с этим старым пердуном — все равно что закончить Гарвард или Принстон или один из тех университетов… ну… из которых выходят такие, как твой дед. Вэл облизнул потрескавшиеся, разбитые губы. — Как ты думаешь, он возьмет меня с собой на восток от Денвера? Водитель покачал головой. — Конвой прибывает в Денвер завтра и останавливается там часов на двенадцать. Времени достаточно, чтобы развезти по клиентам то говно, которое мы доставляем в Денвер, забрать новый груз и выспаться. Потом по I-семьдесят мы направляемся в Канзас-Сити. Это будет в два часа ночи, в воскресенье. Тебе хватит времени, чтобы найти хмыря, который делает НИККи. Карточки изготовляются не сразу — обычно недели через две. Но это, конечно, если есть наличка, чтобы заплатить вперед. «Черт», — подумал Вэл. — Но я дам тебе последний денверский адрес этого типа, — последний, который есть у меня. И скажу, как его зовут, — пообещал Деверо. — Миль через десять конвой остановится, чтобы все могли облегчиться. Дальше до утра езжай с Генри и поговори с ним о том, чтобы поступить в ученики, о всякой такой херне. Он тебе объяснит, почему это не так просто… почему лишь немногие из ребят вроде тебя становятся дальнобойщиками… но ты хотя бы не дашь заснуть индейцу до самого рассвета, по пути через Колорадские Скалистые горы. — Спасибо. Это все, что сумел выдавить из себя Вэл. В груди у него почему-то болело. Больше Деверо до самой остановки не сказал ни слова.Бывшая площадка для отдыха располагалась там, где междуштатная дорога шла по высокому гребню над пустынной долиной десяти-двенадцати миль в ширину. Потом I-70 снова поднималась в невысокие скалистые горы. Но Деверо показал Вэлу высотомер навигатора: согласно прибору, то был последний подъем, и дальше дорога в Колорадо шла большей частью вниз. Внизу шла с юга залитая лунным и звездным светом грунтовая дорога — виден был ее участок миль в двадцать длиной. Затем она ныряла под специально построенную эстакаду междуштатного шоссе и заканчивалась выжженной площадью, на которой прежде стояли магазин какого-то индейца, заправка, кучка домов и трейлеров. Сгорела даже лесозащитная полоса к северу от исчезнувших построек. Не было на этом высоком перевале и туалетов. Кто-то сжег их больше десяти лет назад. Кому пришло в голову ехать в забытое богом место и расходовать боеприпасы, или С-4, или динамит, чтобы взорвать сортир? Вэл не мог себе представить. Просто так было повсюду. Если вандализм превращается в желание разрушать все, то, как говорил дед, остановить этот процесс сложно — общество идет вразнос. Теперь тут имелись вырытые дальнобойщиками узкие траншеи в кустах, где мужчины могли справлять большую нужду, такие же траншеи для женщин в кустах можжевельника — повыше, на южной стороне перевала, — и нависающие утесы, с которых мочились мужчины. Вэл нашел своего деда — тот стоял на некотором расстоянии от кромки и переминался с ноги на ногу под прохладным ночным ветром: уже ощущалась близость зимы. Вэл знал, что Леонард не стал бы мочиться вместе с другими с утеса. В этом смысле Леонард был застенчив. Вэл знал, что старик предпочел бы скорее терпеть до самого Денвера, чем перешагнуть через себя. — Остаток пути до Денвера я проделаю с Генри «Большим Конем» Бигеем, — сообщил Вэл Леонарду. Тот помедлил, размышляя, позволить ли это внуку, но потом понял, что тот позволения не спрашивает, и кивнул. Леонард казался Вэлу невероятно старым — худой, руки засунуты в карманы нелепой штормовки, холодный ветер раздувает седые волосы. Он был действительно стар и еще больше состарился за путешествие — старый король Лир. Вэл, который уже помочился, стоя рядом с Калибром Деверо и другими (и с удовольствием наблюдая, как его струя соединяется с другими, описывающими дугу в лунном свете — яркие ленточки на фоне темного, исчезающего во мраке торца скалы внизу), провел еще минуту близ явно усталого, страдающего от холода несчастного деда. — Вэл, ты смотрел спутниковые новости о боях в Лос-Анджелесе? — спросил Леонард, понизив голос, словно тема была запретной. — Нет. У Деверо даже телика нет. Что, все плохо? — Хуже. Похоже, город разваливается на части, и исправить уже ничего нельзя. «Хорошо», — подумал Вэл, ненавидевший Лос-Анджелес все те пять лет и одиннадцать дней, что провел в нем. Он надеялся, что какое-нибудь сильное землетрясение полностью поглотит его; но и этих боев, после которых остается одна выжженная земля, будет достаточно. — Губернатор ввел военное положение и просит помощи у Вашингтона, — продолжил дед. — Но сейчас правительство не может выделить сил. «Хорошо», — снова подумал Вэл. Вслух он сказал: — Значит, твоему приятелю Эмилио — как его там — не удается одержать победу, как они предполагали, да? — Судя по всему — нет, — сказал Леонард, глядя на горстку курящих дальнобойщиков, которые вовсе не торопились возвращаться в душные кабины. — Хорошо, что мы оба вовремя выбрались оттуда. «Скажи что-нибудь новенькое, Леонард». Вэл кивнул и застегнул молнию на своей старой кожаной куртке. Хулио дал ему старую бейсболку дальнобойщиков-индивидуалов, и Вэл теперь не снимал ее, даже ложась спать, — только натягивал пониже. — Дедушка, а ты больше не думал о том, какой пароль был у мамы? Вэл видел, что Леонард колеблется, но не понимал, что это значит. Он, конечно, сказал старику о зашифрованном тексте неспроста. Леонард, большой дока в разгадывании кроссвордов, знакомый к тому же с основами криптографии, мог знать какое-то слово, важное для его дочери. Но Вэлу вовсе не требовалось видеть расшифрованным весь этот громадный объем текста, или текста с фотографиями, или видео, или что уж там было, черт его раздери. У Вэла и так хватало доказательств того, что его отец организовал убийство матери, и Вэл знал: его предок должен быть за это наказан. Он завел руку за спину и нащупал «беретту». — Думал немного, — сказал Леонард. — У меня могут появиться предположения, когда мы опять вместе сядем за текст. Это наша последняя ночь перед Денвером — если в Колорадских горах не окажется сюрпризов. Ты уверен, что хочешь ехать вместе с этим Бигеем? — Да, — сказал Вэл, а потом почти непроизвольно спросил: — Дед, а у нас не осталось двухсот долларов? — Осталось… даже больше… постой, Вэл, ты имеешь в виду новые доллары или старые? — Старые. Леонард, судя по всему, был потрясен. — Нет. Конечно нет. Я потратил почти все, что было у меня… у нас… чтобы уехать с этим конвоем. Ты ведь знаешь. А для чего, позволь спросить, тебе нужны двести долларов, или почти триста тысяч новых? Вэл чуть не улыбнулся, видя, что даже в этих обстоятельствах дед старается строить фразу безукоризненно правильно. — Для важного дела. Правда, важного, — ответил он. — С ними я смогу стать дальнобойщиком. — Что ж, возможно, это похвальная цель на будущее. Хотя, Вэл, я надеялся, что ты, с твоими знаниями и сообразительностью, мог бы поступить в колледж… — Мне не нужно на будущее, Леонард. — Вэл не скрывал, что раздражен неуступчивостью старика. — Я хочу уехать из Денвера с этим конвоем в воскресенье. Но мне для этого нужно двести баксов. Может, немного больше. «Деверо, конечно, сказал, что на изготовление фальшивого НИККа, который можно предъявить в Союз дальнобойщиков, уйдут две недели, а то и месяц. Но когда говоришь с Леонардом, важна суть, а не подробности». Дед только покачал головой. — У меня нет таких денег, Вэл. Даже близко. У нас хватит лишь на день-два, когда мы доберемся до Денвера. Я только надеюсь, что твой отец там и мы сможем его найти. — А где ему еще быть? — сказал Вэл, засовывая кулаки поглубже в карманы куртки. — Он же флэшнаркоман, чтоб ему было пусто. Он будет там, никуда не денется. Будет под флэшбэком, а если нет, то вообще не вспомнит, кто мы такие. Отличное воссоединение семейки. Ты только не рассчитывай, что Ник Боттом покормит нас, пустит к себе в дом или заплатит за нашу дорогу, Леонард. Он долбаный наркоман, уже много лет как. Понимая, что злость его отчасти объясняется флэшбэкной ломкой (он был уверен, что у него есть еще часовая ампула, но та оказалась пустой, а значит, кто-то нашел ее и использовал; в итоге Вэл не флэшбэчил почти двое суток), Вэл повернулся спиной к деду и пошел к группе дальнобойщиков в поисках высокого старика индейца.
Границу Колорадо они пересекли около полуночи. В Колорадо для конвоя подобных размеров, да еще и с охраной, бандиты были не страшны, а отряды реконкисты здесь, на далеком севере, совершали лишь беспокоящие налеты. С другой стороны, I-70 на участке в пол сотни миль перед Денвером проходила через довольно внушительные горы. Ни федеральные власти, ни власти штата за ней не следили, и проезд по этому отрезку дороги превращался в опасное занятие. Бигей рассказал Вэлу, что двадцатью пятью годами ранее конвой тяжелых грузовиков преодолел бы двести сорок три мили от Гранд-Джанкшн на западе штата до Денвера за четыре часа, а то и меньше, если бы не засады черномазых. Теперь на это уходило двенадцать часов, причем при удачной погоде. — Нынешняя ночь удачная, — проворчал Бигей. Погода пока держится, добавил он. Скоро из-за снежных бурь перевал Лавленд-Пасс должен закрыться на зиму, а с ним и единственный легкий путь из Юты в Денвер. После закрытия Лавленд-Пасса водителям придется делать крюк на север и ехать через Солт-Лейк-Сити, потом по I-80 через Шайенн в Вайоминге, а оттуда на юг, в Денвер. Иными словами — проделывать лишнюю сотню миль. — А что, нельзя очищать перевал? — спросил Вэл. — Чтобы он и зимой был открыт? Бигей издал смешок на свой, индейский, манер. — А кто будет платить за снегоуборочные машины и работягам? Штат Колорадо? Да он обанкротился еще раньше, чем Соединенные Долбаные Штаты Долбаной Америки. И потом, тут есть и другие перевалы, включая Вейл-Пасс. Они надолго закроются после двух-трех серьезных снегопадов. — А туннеля здесь не было? — спросил Вэл, вспомнив что-то из рассказов то ли отца, то ли деда. Бигей кивнул, его лицо заострилось: сплошные острые кромки и выступы в янтарном свете приборного щитка. Обычно он носил черную ковбойскую шляпу, но сегодня его длинные черные волосы были перевязаны лентой. — Да. Туннель Эйзенхауэра на высоте одиннадцать тысяч футов. Он проходил под континентальным водоразделом, милях в шестидесяти от Денвера. Два туннеля: один — на восток, другой — на запад. Длиной всего мили полторы, но благодаря им можно было не подниматься по Шестерке на этот сраный Лавленд-Пасс. Думаю, высота перевала, через который мы перемахнем сегодня… не знаю точно… около двенадцати тысяч футов. — А что случилось с туннелями? — спросил Вэл и сразу же пожалел об этом. От недосыпа и флэшбэкной ломки он отупел. Бигей в ответ только рассмеялся. — Эти говнюки чуть ли не первым делом взорвали туннели, когда все пошло вкривь и вкось после Дня, когда настал трындец. Федералы и власти штата года полтора потратили, чтобы отремонтировать один из туннелей и обеспечить движение с запада на восток зимой, но… три недели спустя его снова взорвали. А вскоре почти все в стране пошло в жопу, и они бросили это дело. Вэл кивнул, прогоняя сон. — Если перевал всего на тысячу футов выше, — сказал он хрипловатым от усталости голосом, — то какая, собственно, разница? Бигей снова рассмеялся своим лающим смехом. — Сам увидишь, малыш. Сам увидишь. На дороге не было других автомобилей, кроме машин их конвоя, да еще изредка встречались конвои, направляющиеся на запад. Луна в четвертушку и звезды казались очень яркими из-за нетающего снега на вершинах, которые вскоре показались по обе стороны дороги. Телевизора в кабине у Бигея не было, зато его пиратское радио вещало всю ночь. Вэл привык к официально разрешенным радиостанциям — Эн-пи-ар, Си-эн-ар, Эм-эс-би-ар, Ви-о-эй. Но Бигей слушал свое пиратское радио, как он говорил, то есть кучу нелицензированных пиратских АМ- и FM-станций, работавших всю ночь напролет. Большинство из них были разговорными станциями, близкими к давно запрещенным правым организациям. Старик Бигей, казалось, жадно впитывал все это говно. Вэл подремывал под дебаты правых — заунывные, похожие на речи проповедника-возрожденца, заглушаемые неугомонными и крикливыми ведущими. Эти последние замолкали только по случаю звонков слушателей, еще более безумных и правых, чем они. — Радиостанции, ведущие, инженеры со всей этой дребеденью должны постоянно крутиться, — сказал в какой-то момент Бигей. — И всегда на один шаг опережать ДВБ и других федералов. Вэл проснулся на несколько минут и снова начал задремывать под радиотрескотню. «…Нет, мы не всегда были такими, друзья. Тридцать лет назад… двадцать пять лет назад… мы все еще были великой страной. Единой страной. Пятьдесят полноправных штатов, пятьдесят звезд на флаге. Мы сами выбрали упадок, друзья. Мы решили, что нам нужно национальное банкротство и банкротство сорока семи штатов, чтобы выполнять социальные программы… семьдесят три процента населения вообще не платят никаких налогов, друзья, но при этом хотят быть обеспечены бесплатным медобслуживанием от колыбели до могилы, гарантированной занятостью от колыбели до могилы, при минимальной часовой зарплате в четыреста восемьдесят долларов и тридцатичасовой рабочей неделе… разве кто-то пожелает работать в нашей великой, потерянной, загаженной, погибшей стране… при пенсионном возрасте в пятьдесят восемь лет с полным социальным пакетом, хотя у нас сейчас восемнадцать неработающих пенсионеров… в том числе одиннадцать миллионов незаконных иммигрантов, только что подпавших под последнюю амнистию и получивших гражданство… так вот, у нас на каждого работающего приходится восемнадцать неработающих пенсионеров, забывших, что такое труд…» Голоса продолжали гундосить. Вэл дремал. Спустя несколько часов после Гранд-Джанкшн они столкнулись с одной из тех проблем, которые удлиняли путь до Денвера с четырех часов до двенадцати. За брошенными зданиями горного городка Гленвуд-Спрингс (система поставок продовольствия была разрушена — его ввозили только в большие города, а потому маленькие обезлюдели, прежде всего — недосягаемые зимой горные городки) на двенадцать миль протянулся каньон. По словам Бигея, этот отрезок раньше был в десятке самых впечатляющих, если брать все междуштатные дороги. Раньше. Некогда здесь проходили две ленты эстакадного четырехполосного шоссе — две полосы, по которым машины ехали на запад, возвышались над двумя другими, предназначенными для движения на восток. Освещенные, хорошо проветриваемые туннели были пробиты в упрямых отвесных скалах, вздымавшихся на тысячу футов по обеим сторонам, — сверху оставалась лишь узкая полоска звездного неба. Теперь все это превратилось в узкую двухполосную дорогу, отсыпанную гравием, с рытвинами и крутыми объездами вокруг осыпей и обрушенных секций. Машины ползли, как черепахи, подпрыгивали и тряслись на нижней передаче вдоль бурлящей, вырвавшейся из узды — дамба была взорвана — реки Колорадо. Однако через полтора часа, преодолев двенадцать миль, они вернулись на поврежденное, но ремонтируемое асфальтобетонное покрытие, и Бигей снова врубил верхнюю передачу. — Ух, как бы мне хотелось научиться этому, — сказал Вэл. Генри «Большой Конь» Бигей скосил на него глаза, потом снова перевел взгляд на дорогу и задние габаритные огни идущего впереди грузовика. — Чему? Переключению передач? У этой красотки шестнадцать передних передач. И четыре задних. Ты этому хочешь научиться? Переключать передачи и пользоваться демультипликатором на больших машинах? — Я хочу научиться водить большие машины, — сказал Вэл. Усталость и ломка действовали на него, как пентотал. Или, подумал он, снова превращали его в ребенка. Бигей кивнул. — Да. Калибр сказал, что ты попросишь об этом. Мой ответ — да… может быть. Я дам тебе неделю-другую испытательного срока. Будешь сидеть рядом, учиться переключать передачи. Заплатишь по дороге. Но это, конечно, если у тебя есть НИКК. — У меня ее нет, — сказал Ник, готовый расплакаться. Если начать тут распускать нюни, подумал он, то лучше уж открыть дверь и броситься в бурлящую, покрытую белыми бурунами Колорадо. — И не будет, — выдавил он. — Денег у меня нет ни хера. И времени нет. — Времени? — переспросил Бигей. — Деверо говорит, что ее делают за две недели… иногда за месяц… даже если есть деньги. А вы ведь уезжаете… когда? Утром в воскресенье, до восхода солнца? — Да бога ради, малыш, я ведь говорю не об этом уик-энде. Я буду проезжать через Денвер в конце октября, перед самым Хеллоуином. К тому времени ты обзаведешься карточкой, и я возьму тебя на испытательный срок в одну-две недели. Никаких обещаний. Если увижу, что ты говно, а так, скорее всего, и окажется, высажу тебя посреди дороги к хренам собачьим. Обещаю только это. Вэл мог лишь смотреть перед собой и изо всех сил стараться не заплакать. Бигей включил радио. «…Политика этого президента состояла в том, чтобы льстить нашим врагам, поощрять их, отдалять от нас союзников и оставить без помощи Израиль, который уничтожила страна, создавшая ядерное оружие. А ведь мы могли предотвратить это, друзья! Соединенные Штаты могли помешать Исламской республике Иран, которая составляет основу нынешнего Всемирного Халифата, создать это оружие! Теперь же эта страна… и этот Халифат… имеют тысячи атомных бомб, а наша страна, после большого соглашения с Россией, заключенного за пять лет до нашего полного банкротства, имеет, по окончательным условиям договора о СНВ, двадцать шесть бомб. Двадцать шесть! И ни средств доставки, ни воли для доставки, и…» Вэла сморил сон.
Они съехали с гор над Денвером около десяти утра. Еще раньше Вэла разбудил рев передач и двигателя во время подъема на Лавленд-Пасс. Открывшийся вид навсегда останется для него одним из самых невероятных зрелищ в жизни. Долгий спуск с уклоном в шесть процентов, а то и больше на последнем десятке миль, при съезде к Денверу, высоченные небоскребы, сияющие впереди в утреннем свете, и все это при езде на низкой передаче и высоких оборотах, при подтормаживании двигателем, при вони перегретых тормозных колодок. Двум грузовикам из конвоя пришлось остановиться в уловителях. И вот они съехали вниз. Вэл видел теперь другие машины на I-70, соседних дорогах и хайвеях. Они уже много дней не встречали такого плотного движения. У Вэла даже голова закружилась. — Но прежде чем мы с тобой… может быть… договоримся, я должен спросить тебя кое о чем, — сказал Генри «Большой Конь» Бигей, выключив радио. Здесь, вблизи крупного города, работали только Эн-пи-ар и другие официальные станции. — О чем? — спросил Ник. Его вдруг охватил ужас — что, если индеец откажет ему? У него был месяц, чтобы найти двести старых баксов (может, украсть у предка и пристрелить этого гада? — правда, Вэл сомневался, что у застарелого флэшнаркомана есть столько денег), потом добыть НИКК. Тогда он, может, и успеет. — Эта штуковина у тебя на спине за поясом… ну, которую ты украдкой поправлял всю ночь, чтобы она не врезалась тебе в спину, бок или кишки. Ты из нее когда-нибудь стрелял? Вэл замешкался. Наконец, не зная, как лучше ответить, он промычал: — Угу. — Я имею в виду, черт возьми, не мишень, или кролика, или еще какую хрень, — сказал Бигей, переводя взгляд на Вэла; на дорогу он сейчас совсем не смотрел. — А живого человека. Стрелял? — Угу, — выдохнул Вэл. — Попал? — Угу. — Убил? Глаза Бигея сверлили Вэла, как буравчики. Тот попытался сглотнуть слюну — и не смог. — Угу. Они подъезжали к пересечению с I-25. Развязку взорвали, и теперь тут был временный, отсыпанный гравием съезд. Машины одна за другой двинулись по нему. — Он это заслужил? Вэл чуть не выдал еще одно «угу», но остановился. Именно этот вопрос не давал ему уснуть всю последнюю неделю. Он откашлялся. — Не знаю, — сказал Вэл. — Может, и нет. Но я думаю, дело было так: либо он, либо я. Я выбрал себя. Бигей несколько минут молча вел грузовик по I-25. — Хорошо, — проговорил он наконец. — Я окажусь здесь — если будет на то воля Аце Ашки — где-то двадцать седьмого октября. И наверное, весь день проведу на большой погрузочной площадке Федерального центра Саут-Бродвей. Буду тебя искать. По нынешнему расписанию конвой отбывает в восемь вечера. Если не придешь, можешь обо мне забыть. — Приду, — пообещал Вэл.
1.13 Санта-Фе, Нуэво-Мексико 16 сентября, четверг
Остаток пути до Санта-Фе прошел без происшествий, а последние миль семьдесят — из Лас-Вегаса, Нью-Мексико, до Санта-Фе — их сопровождала военизированная «техническая служба»: пикапы с крупнокалиберными пулеметами в кузове. Три наемника, Сато и Ник остановились в Санта-Фе, в японском консульстве — бывшем отеле «Ла Фонда» на центральной площади. Останки Джо унесли в подвал для кремации. По прибытии Сато повел Ника и других в медицинскую клинику консула, которая, на взгляд Ника, была чище, современнее и лучше оснащена, чем любое медицинское учреждение в Денвере. Пока все проходили короткую проверку, у Сато обрабатывали ожоги и порезы, а на его серьезный перелом наложили новейший и дорогущий реконфигурируемый гипс — так называемый «умный гипс», слишком дорогой для американцев, кроме разве что ведущих спортсменов, которых оцифровывали. Он приводил к полному исцелению, без всяких последствий. Беседу Ника с доном Кож-Ахмед Нухаевым в его загородном поместье назначили на десять утра. Приглашение направили мистеру Накамуре, причем условия оговаривались очень четко: и «ошкош», и Хидэки Сато могут приближаться к дому дона не более чем на десять миль. Нику велели быть в 9.30 утра у собора Святого Франциска (официально, насколько он знал, звавшийся «кафедральным храмом Святого Франциска Ассизского» — Дара говорила ему, когда они проводили тут отпуск в первые годы их брака, что это тот самый собор, возведение которого всю жизнь наблюдал епископ в романе Уиллы Катер «Смерть приходит к архиепископу»). Одному. Полквартала от консульства до храма Ник прошел за минуту, да и то лишь потому, что остановился, разглядывая издали построенную сто сорок пять лет назад церковь. Затем он пересек улицу и остановился на ступеньках. Ник помнил рассказ Дары о том, что этот собор во франко-романском стиле, с двумя башнями-близнецами, заложили около 1869 года при архиепископе-французе Жане-Батисте Лами. Потом строительство было приостановлено, а освятили собор в 1887 году, без шпилей, потому что деньги закончились. Церковь с двумя усеченными башнями всегда казалась Нику странноватой. День стоял теплый, солнечный, и Санта-Фе пах так, как всегда пах осенью для Ника, — смесью сладких ароматов: запахи горящих сосновых бревен, сухих листьев с высоких старых тополей на улицах старого города и шалфея. Дара как-то сказала, что во всех Штатах нет города, где пахло бы лучше. Не было — в те времена, когда Санта-Фе относился к Соединенным Штатам. Ник знал, что теперь этот богатый город не является частью ни одной страны. Нуэво-Мексико формально заявляло о контроле над ним, но в Санта-Фе хватало денег, чтобы нанять небольшую армию и отстоять свою независимость. В городе держали вторые дома кинозвезды, знаменитые писатели и воротилы с Уолл-стрита, и к тому же в последние годы он получил солидные вливания капитала из Японии. А уж японцы никак не хотели жить в мексиканской деревне. Таким образом, Санта-Фе стал уменьшенной копией Лиссабона времен Второй мировой — город, напичканный шпионами, двойными агентами, ушедшими на покой солдатами удачи и международными плохишами вроде дона Кож-Ахмед Нухаева. Очаровательный горный городок с уединенными коттеджами в благоуханной долине, у подножия Сангре-де-Кристо, стал местом, где они устраивали свои резиденции и откуда вели свою деятельность. Черный «Мерседес S550» — полностью электрифицированный, а может, сверхдорогой, на водороде, — прошелестев, остановился у тротуара. В нем сидели трое человек неопределенной, как показалось Нику, национальности, но очевидной профессии, все в белых рубашках с коротким рукавом. Это были беспощадные ребята, беспощаднее простых наемников, которые тоже никого не щадили. Убийцы в пятом поколении, с другого континента. Человек на заднем сиденье открыл дверь и поманил Ника внутрь. Ник не сказал ни слова, как и три человека в кубинских рубашках навыпуск — тех официальных рубашках в дырочку, которые кубинцы, вероятно, надевают на похороны, — и они поехали на север по Бишоп-Лодж-роуд. Ник знал эту ухабистую старую дорогу, проходившую по городским задворкам. Она тянулась миль на шесть, до деревеньки Тесукве на пересечении дорог; некогда тут обитали стареющие кинозвезды и старлетки. Здесь, среди холмов, над поросшей густым лесом узкой долиной, можно было надежно спрятать большой дом. Ник решил, что поместье дона Кож-Ахмед Нухаева расположено между Санта-Фе и Тесукве. Так и оказалось. Проехав мили четыре, «мерседес» свернул направо, на узенькую гравийную дорожку, идущую вверх по сухой балке, потом выехал на асфальтированный подъезд пошире. Оттуда автомобиль направился к вершине холма, выбравшись из тополиной рощи на луг с пожухлой травой, после чего спустился вниз, в сосновый лесок. Ник заметил замаскированные бункеры чуть в стороне от вершин. Предположив, что этот въезд — главный, он понял, что его чрезвычайно удобно оборонять в случае наступления бронетехники или пехоты. Оказалось, что в поместье дона уровней безопасности больше, чем в особняке Накамуры на вершине холма. Тут имелись три стены с воротами (пространство в полмили между стеной и ограждением простреливалось насквозь с вышек и непременных скрытых пулеметных гнезд) и МР-сканеры: два — для машин, три — для Ника и троих приставленных к нему охранников. Когда они добрались до главного — как решил Ник — здания, визитера отправили во взрывобезопасное помещение без окон, где другие люди в рубашках навыпуск, стали просвечивать его, обыскивать, заглядывать в полости тела. К тому времени, как последний из охранников в рубашке навыпуск провел Ника в громадную комнату с высокими окнами и сказал, что здесь можно присесть, тот был на грани бешенства. Увидев шкафы с книгами и гигантские столы с кожаными столешницами, Ник предположил, что это и есть кабинет дона Кож-Ахмед Нухаева. «Когда он войдет, — подумал Ник, — первым делом надо спросить, как его называть. Вся эта донова хрень начинает доставать меня». Ник сел, но вскоре поднялся — дверь открылась, и кто-то вошел в комнату. Оказалось, однако, что это не дон, а четыре новых охранника. Самый высокий и старший направился прямо к Нику, жестом показав, что нужно снова поднять руки. — Вы что — шутите? — спросил Ник. — Те, другие, меня уже сто раз… Он не видел ни охранника у себя за спиной, ни шокера в его руках, но почувствовал удар. Прежде чем его пронизала боль и нейроны полностью выключились, вместе с нервными окончаниями, Ник успел подумать: «Че…» А потом потерял сознание.Он приходил в себя медленно, поэтапно, как всегда бывает после электрошока. Первый этап: неясно, что к чему, воля медленно, кое-как сосредоточивается на том, чтобы не обмочиться в брюки. Второй этап: боль и судороги, кое-что проясняется. Третий этап (его сейчас и переживал Ник): попытка обрести дыхание. Ему связали щиколотки и запястья — руки были спереди, что оставляло некоторую свободу движений, — надели повязку на глаза, засунули в рот кляп и нахлобучили что-то сверху. Лишь через пару минут Ник понял, что не оглох: просто надетые на него наушники не пропускали звуков. Но он чувствовал, что находится в транспортном средстве, которое двигается. Об этом говорили вибрации, ощущаемые вестибулярным аппаратом повороты, тряска на неровностях. Значит, его закинули в багажник либо на заднее сиденье грузовика или легковушки и везли… бог знает куда. «Дополнительные меры безопасности — или я заложник?» — стал спрашивать себя Ник, когда его мозги начали более-менее работать. Ни то ни другое не имело особого смысла — зачем приглашать его в поместье, а потом насильно перевозить в другое место? Разве так обходятся с гостями? Но какую он мог иметь цену в качестве заложника? Неужели дон Кож-Ахмед Нухаев думал, что Накамура заплатит за него выкуп? Или же чеченский дон считал, будто Нику известно что-то важное? Если так, пребывание его здесь будет коротким — и, возможно, отмеченным пытками и казнью. «Знаю ли я что-то такое, что может быть важно для русского торговца оружием, наркодилера и возможного создателя империи?» Если Ник и знал что-то такое, то сообразить, что именно, никак не мог. Как экс-копу, Нику было известно, что электрошокер обычно отключает жертву минут на пятнадцать, исключая случаи — гораздо более частые, чем полагали мирные люди, — инфаркта, инсульта, превращения в овощ и мгновенной смерти. Если бы он мог сосчитать частоту своего пульса, то смог бы прикинуть, сколько времени занимает поездка от поместья до места назначения. «Будто это знание что-то даст тебе, мудила, — сказал себе Ник. — Сато с его ребятами не придут спасать тебя, как кавалеристы, стреляя на скаку. Люди дона обыскали меня с ног до головы, убеждаясь, что на мне и внутри меня нет никаких маячков. И даже если Сато наблюдал за поместьем со спутника или беспилотника, то оттуда наверняка выехали с десяток машин одновременно, в разных направлениях. Сато не может знать, в какой из них я». Впрочем, какая разница? Сердце его билось так часто, что не могло послужить секундомером. Ник знал, что многие заложники умирали связанными, с кляпом во рту — кто от того же инфаркта, кто задыхался от кашля, вызванного астмой или простудой, а кто захлебывался собственной блевотиной. Он попытался не думать ни о чем таком и замедлить частоту сердцебиения. Адреналин мог понадобиться позднее, сейчас он был ни к чему. «Они везут меня на свалку». Да, это было возможно, — но зачем? Потом Нику пришло в голову, что многие миллионы или миллиарды людей за историю человечества умирали, задавая себе в последние секунды этот вопрос: зачем? «Хватит философствовать, кретин. Думай, что делать дальше». Тряска прекратилась. Мгновение спустя сильные руки подхватили его, подняли, вытащили из чего-то, поставили на ноги. Ник почувствовал, что путы на его щиколотках перерезали или развязали. Он не видел смысла притворяться, будто все еще не пришел в себя, и стоял, покачиваясь, — ослепший, оглохший. Потом Ника с обеих сторон подхватили под руки, и он почувствовал, как его крепко хватают сквозь наброшенную на него плотную мешковину. Затем его полуприподняли, поволокли по чему-то вроде гравийной дорожки и, кажется, втащили в здание с ровным полом. Мешок прикрывал тело лишь наполовину, и Ник ощутил, что воздух вокруг стал другим, — более того, почувствовал, что теперь он в помещении. Потом его потащили по коридору, облицованному плиткой, потом вниз по лестнице, потом по другому коридору. Наконец они остановились. Ника посадили, сняли с него мешок, наушники, повязку вокруг глаз, вытащили кляп и наконец развязали руки. Он, как полагается, заморгал от яркого света и зевнул, заглатывая побольше воздуха, но сделал над собой усилие и не стал растирать затекшие запястья. Люди, развязавшие его, — все в рубашках навыпуск, как и остальные шестерки дона Кож-Ахмед Нухаева, — вышли в одну из двух дверей. Комната была небольшая, без окон, с голыми стенами. Перед Ником стоял старый металлический стол, а у одной стены громоздились несколько помятых металлических офисных шкафов. Ник сидел на легком металлическом стуле, такой же стоял по другую сторону стола. Оба были слишком хлипкие — если схватить, толку никакого. Ник подумал, что помещение выглядит как подвальный кабинет школьного учителя физкультуры, только без спортивных трофеев на стене. «Я и есть трофей», — пришла к нему мысль. Ни на столе, ни на шкафах не замечалось ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия. Ник с трудом поднялся на ноги — его все еще покачивало, — собираясь поискать что-нибудь в ящиках стола и шкафах, такое, чем можно воспользоваться, но тут вторая дверь открылась и вошел дон Кож-Ахмед Нухаев. Он быстрым шагом направился ко второму стулу у стола. — Садись, мой друг. Садись, — сказал дон, показывая Нику рукой на его стул. Ник остался стоять, покачиваясь. — Я тебе не друг, сука. А после этой поездки можешь считать меня своим врагом. Нухаев рассмеялся, показывая крепкие, желтые от никотина зубы. — Я бы извинился, Ник Боттом, но ты настоящий мужчина и достаточно умен, чтобы не принять мои извинения после таких оскорблений. Да, ты прав. С моей стороны это было варварским поступком, несправедливым по отношению к тебе. Но необходимым. Садись, пожалуйста. Нухаев, который годами превосходил Ника, сел, а тот остался стоять. — Почему необходимым? Дон Кож-Ахмед Нухаев выглядел несколько старше, чем на фотографиях, которые показывал Сато. Интересно, подумал Ник, сколько лет прошло с тех пор, как люди Накамуры, или полиция, или какое-то разведывательное агентство сумели заполучить фотографию этого человека? — Хороший вопрос, — ответил сильно загорелый, с морщинистым лицом дон и сложил руки на металлической столешнице. — Я бы ответил откровенно: нет обстоятельств, которые требовали бы подобного обращения с гостем, Ник Боттом. Но ты ведь не простой гость. Твой наниматель, мистер Хироси Накамура, имеет основания — веские основания, как политического, так и стратегического порядка — желать моего уничтожения. И еще у него есть орбитальное гиперкинетическое оружие, которое японцы остроумно называют, кажется, «жэ-медведем». Ты слышал это название? — Да, — ответил Ник. Он подозревал, что Нухаев знает, как Сато днем ранее использовал это оружие против танков. — Итак, ты сам понимаешь, — продолжил дон, — что мне не стоило искушать судьбу и давать мистеру Накамуре точные сведения о моем присутствии в поместье в конкретный день и час. — Он усмехнулся. — Да, Ник Боттом, ты думаешь: «Этот тип впадает в паранойю». Готов с тобой согласиться. Я лишь спрашиваю себя: «Настолько ли я впадаю в паранойю, насколько нужно?» Пожалуйста, садись, чтобы не упасть. Ник сел, чтобы не упасть. Дон Кож-Ахмед Нухаев кого-то напоминал ему. Точно: Энтони Куинна, актера прошлого века, который так нравился ему и Вэлу. Сходство было не столько в чертах лица, сколько в голосе и небольшом акценте, в линии рта, когда тот изгибался в высокомерно-удивленной улыбке. А кроме того, этническая принадлежность Нухаева была так же неочевидна, как у Энтони Куинна, который играл мексиканцев, арабов, индейцев и греков. И еще донвыглядел таким же крепким, как покойный актер: приземистый, но с широкой грудью, громадными руками и сильными мужскими пальцами. — Ну и где же мы теперь находимся? — спросил Ник. Нухаев рассмеялся, словно в ответ на шутку. — В безопасном месте. В таком, о котором не знает, наверное, даже твой всемогущий мистер Накамура. — Он вовсе не мой всемогущий мистер Накамура, — язвительно сказал Ник. — Если бы он был всемогущим, то наверняка не нанял бы меня для выяснения, кто убил его мальчишку. — Именно! — воскликнул дон Кож-Ахмед Нухаев, поднимая загорелый палец. — Почему же он нанял тебя, Ник Боттом? — Подозреваю, что ты можешь просветить меня на этот счет. — Ты сам должен знать, Ник Боттом. А если нет, то наверняка подозреваешь. — Я подозреваю всех и никого, — выдал Ник фразу, которую хотел произнести с девятилетнего возраста.[98] Ник решил, что слова эти вырвались у него из-за кислородного голодания, наступившего, когда он лежал связанный, с кляпом во рту. Дон Кож-Ахмед Нухаев прищурился и несколько мгновений молча смотрел на него. Потом откинул назад голову и громко рассмеялся. «Черт, он чокнутый», — подумал Ник. Нухаев открыл нижний ящик стола, вытащил оттуда коробку и протянул Нику. Сигары. Ник отрицательно покачал головой, и дон взял одну для себя, после чего проделал обычный дурацкий ритуал с откусыванием кончика, оплевыванием (Ник по фильмам знал, что более продвинутые отрезают кончик сигары или же предоставляют сделать это дворецкому), закуриванием дорогой сигары с помощью зажигалки, извлеченной из кармана кителя цвета хаки. Ник по-прежнему считал, что они сидят в подвале или глубоко под землей, но вентиляция была очень хорошей: чувствовался лишь легкий запах сигарного дымка. — Зачем одному из самых влиятельных людей на планете нанимать тебя, Ник Боттом? — задал риторический вопрос Нухаев. Ник ненавидел риторические вопросы, оскорбительные для интеллекта собеседника. — Накамура уже не раз поручал расследовать убийство своего сына, — продолжил дон, откинувшись к спинке стула и выдыхая синевато-белый дымок. — Денверская полиция и до, и после твоего увольнения, КБР,[99] ФБР, Внутренняя безопасность, его собственная служба безопасности, Кэйсацу-тё… Значит, японское Главное управление полиции занималось расследованием убийства Кэйго Накамуры. Для Ника это было новостью. На протяжении большей части своей истории Кэйсацу-тё контролировало и направляло деятельность полицейских служб. В основном оно устанавливало правила — чисто бюрократическая организация без той власти, что была у ФБР, даже без собственных постоянных сотрудников или агентов. Но за несколько десятилетий после того, как настал трындец и Япония вышла в мировые лидеры (или почти в лидеры), Главное управление полиции отрастило себе зубы: оно обзавелось Кэйби-кёку — секретной службой по обеспечению безопасности внутри страны, а также внешней разведкой, Гайдзи Дзёхо-бу. Ник знал о них только по названиям. Кроме того, говорили и писали, что за службами управления тянется кровавый след. — …а потом мистер Накамура нанимает тебя, Ник Боттом, — закончил Нухаев, по виду наслаждавшийся сигарой. — Почему, как ты думаешь? «Круг замкнулся», — подумал Ник. — Явно не для того, чтобы найти убийцу сына, дон Кож-Ахмед Нухаев, — сказал он. — А тогда… зачем? Заманить тебя с моей помощью в твое поместье и превратить в прах и пепел, наслав жэ-медведей? Но остается одна маленькая проблемка. — И что же это за проблемка, Ник Боттом? — Людям Накамуры позвонил ты сам, ты сам назначил эту встречу, — сказал Ник. — По крайней мере, так мне сказал Хидэки Сато. Так что Накамура, нанимая меня, не мог знать, что ты меня сюда пригласишь. Нухаев кивнул и выдохнул дымок. — Именно. Но, Ник Боттом… «Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет».[100] Ты знаешь, кто это сказал? — Сунь-Цзы,[101] дон Нухаев. — А-а, так ты читал Сунь-Цзы, Ник Боттом? — Ничуть, — сказал Ник. — Но я сталкивался с десятками высокомерных мерзавцев, которые считали себя выше всех: мол, мы большие, крутые полководцы-интеллектуалы. И они цитировали сочинения Сунь-Цзы, как что-то важное. Дон Кож-Ахмед Нухаев замер, не донеся сигару до рта. Ник подумал: «Черт, я зашел слишком далеко». Впрочем, ему было все равно. Нухаев откинул назад голову и снова рассмеялся. Смех его прозвучал искренне. — Ты прав, Ник Боттом, — проворчал дон, закончив смеяться и выдохнув дым. — Я смотрел на тебя сверху вниз. И ты правильно меня осадил. Но Сунь-Цзы в самом деле сказал это, и его слова вполне применимы к… нашей нынешней ситуации. Хироси Накамура — полководец, и он наверняка читал Сунь-Цзы. Он вполне мог нанять тебя, зная, что у меня возникнет искушение поговорить с такой мелкой сошкой… не в обидном смысле, Ник Боттом. — Никаких обид. Так значит, Накамура нанял меня для этого? Если так, то, боюсь, я сыграл свою роль. И не выполнил своей задачи. Ведь если Сато и его босс наблюдали за грузовиками, «мерседесами», всеми машинами, что одновременно выезжали из поместья, то они должны знать, что ты вывез меня в другое место. Значит, им пришлось отменить удар жэ-медведями. — Из поместья тридцать девять минут назад одновременно выехали одиннадцать фургонов, Ник Боттом, — сказал дон. — У Хироси Накамуры достаточно ресурсов, чтобы поразить сотню целей своими кинетическими снарядами. Накинем время, необходимое моим людям, чтобы доставить тебя сюда, а мне — чтобы появиться здесь. Орбитальное оружие должно нанести удар… сейчас. Ник посмотрел на потолок. Он не мог противиться этому позыву — так же как не мог приказать своим яйцам не трястись от страха. Он видел, на что способны шесть жэ-медведей. — Ты играешь в шахматы, Ник Боттом? — Дон смотрел на него серьезным взглядом. — Немного. Пожалуй, меня можно назвать шахматным тупицей. Нухаев кивнул, хотя Ник и не понял, соглашается ли дон с таким дурацким термином. Затем Нухаев вполголоса сказал: — В качестве шахматного игрока, пусть и неумелого, как бы ты, Ник Боттом, попытался увеличить вероятность того, что Накамура не ударит по одиннадцати возможным целям? — Я бы расположил каждую из них рядом с важным общественным местом, многолюдным и, если возможно, историческим, — без промедления сказал Ник. — И разгружал бы фургоны не на виду у всех. Скажем, в соборе Святого Франциска, или в часовне Лорето, или в отеле «Инн оф зе говернорз»… в таких местах. Это, возможно, не остановило бы Накамуру — для него и Сато американские исторические места и погибшие американцы мало что значат, — но, не исключено, заставило бы задуматься. Дон Кож-Ахмед Нухаев улыбнулся задумчивой улыбкой — не той, что он демонстрировал Нику прежде. — Ты не так глуп, как кажешься, Ник Боттом. — И ты тоже, дон Кож-Ахмед Нухаев. На сей раз Нухаев рассмеялся сразу же, но Ник решил, что испытывать судьбу больше не стоит. — Нет, я не верю, что Хироси Накамура нанял тебя для того, чтобы обнаружить и убить меня, хотя он сильно желает этого и уверен, что это ему нужно. Нет, Накамура нанял тебя, Ник Боттом, потому что знает: ты, возможно, единственный живой человек, который способен разгадать тайну убийства его сына. «Это что такое? — подумал Ник. — Неприкрытая лесть?» Нет, вряд ли. Нухаев был для этого слишком умен и — что важнее — знал, что Ник тоже умен. Что же тогда? — Ты должен мне сказать, почему я — единственный человек, который может разгадать тайну убийства Кэйго, — сказал Ник. — Ведь я не имею ни малейшего понятия, кто это сделал и почему убийца должен быть известен мне. — «Кто — еще до сражения — побеждает предварительным расчетом, у того шансов много»,[102] — изрек дон, и на этот раз никаких игр с установлением источника не последовало. Ник покачал головой. Он хотел сказать Нухаеву, что всегда ненавидел людей, которые говорят загадками (это была одна из причин, почему он не стал христианином), но он подавил в себе это желание. Он устал, и все тело у него болело. — Хироси Накамура, нанимая тебя, знал, что ты, возможно, сумеешь раскрыть это убийство, которое оказалось не по зубам ни американским агентствам, ни японским, ни его собственным людям, — сказал старый дон. — Почему так, Ник Боттом? Ник задумался — всего на секунду. — Это, видимо, как-то связано со мной, — ответил он. — С моим прошлым, я хочу сказать. Может быть, я что-то знаю. С чем-то сталкивался, будучи копом… с чем-то таким. — Да. Это как-то связано с тобой. Но не обязательно с тем, что ты узнал, будучи детективом, Ник Боттом. Дон некоторое время назад вытащил из ящика стола предмет, похожий на крышечку от майонезной банки, и теперь стряхивал туда пепел. Крышечка была почти полна. «Настоящую пепельницу я мог бы использовать как оружие», — пришла Нику в голову глупая мысль. — Значит, с моим прошлым, — сказал Ник и покачал головой. — Бессмыслица. — С тем, кого ты подозреваешь в причастности к убийству, — подсказал Нухаев. — Да. — И кого же? — Убийцы связаны с одним из японских… как их? Даймё. Другие японские феодалы-промышленники, каждый из которых хочет быть сёгуном. — Тебе известны ведущие кланы внутри кэйрэцу? — спросил Нухаев. — Да. Я знаю их названия. Ник знал названия и до того, как Сато перечислил их по пути в Санта-Фе. Зачем Сато сделал это? Что замышлял этот сукин сын? — Вот семь семейств даймё и кланов кэйрэцу, заправляющие всем в нынешней Японии: кэйрэцу Мунэтака, Морикунэ, Омура, Тоёда, Ёрицуго, Ямасита и Ёсияке, — сказал Ник. — Нет, — жестко отрезал Нухаев, без шутливости или напускного дружелюбия. — Нет? — переспросил Ник. Это были общеизвестные сведения. Так обстояло дело даже в те времена, когда он занимался расследованием убийств и весь его отдел искал убийцу Кэйго Накамуры. Возможно, Сато и солгал ему, но… — Кэйрэцу превратились в дзайбацу, — пояснил дон. — Это уже не связанные друг с другом, принадлежащие кланам промышленные конгломераты, как кэйрэцу в конце двадцатого века. Это снова дзайбацу — принадлежащие кланам, спаянные воедино конгломераты, которые помогают одержать победу в войне и руководят правительством, как в первой японской империи сто лет назад. И есть восемь ведущих даймё во главе кланов дзайбацу, вот они и руководят Японией. Не семь, Ник Боттом, а восемь. Восемь влиятельных людей, которые хотят стать сёгуном. — Накамура, — сказал Ник, называя восьмого супердаймё. Что, дон умника из себя строит или эта поправка имеет какой-то смысл? — И денверская полиция, и ФБР полагали, что убийство Кэйго Накамуры связано не с местными подозреваемыми, ничтожествами, которых я допрашивал, а с политикой и соперничеством группировок внутри Японии, — продолжил он. — Мы просто слишком мало знали об этой политике и об этом смертельном соперничестве, а потому не могли сделать достоверных выводов. Беседы с мистером Накамурой и другими нисколько не помогли. Эти кэйрэцу… или, как ты говоришь, опять дзайбацу… в современной Японии фактически стоят выше закона. Или, вернее сказать, в современной феодальной Японии, так что японская полиция тоже ничем не помогла. Дон Кож-Ахмед Нухаев снова улыбнулся своей зубастой и, в общем-то, невеселой улыбкой и стряхнул пепел в крышку от майонезной баночки. — Ты даже не знаешь, кто такой Хидэки Сато, Ник Боттом? — Глава службы безопасности мистера Накамуры, — сказал Ник, готовый подыгрывать ему, лишь бы выудить побольше информации из этого себялюбца. Нухаев тихонько рассмеялся. — Он профессиональный убийца и глава собственного семейства даймё — одного из сорока главных семейств даймё в сегодняшней Японии. Возможно, он тоже стремится стать сёгуном. Ты слышал о Тайся-но Си? — Нет, — ответил Ник. — Это означает «Полковник Смерть». Помнишь Сун-Цзинь? — Что-то не очень. Постой… китайская актриса, которая лет восемь назад стала полевым командиром? — Да. — Нухаев глубоко затянулся своей укоротившейся сигарой. — Сун — это ее фамилия — была последней и самой реальной надеждой Китая на воссоединение. Когда она ушла из кино, у нее было более шести миллионов фанатичных поклонников и четыреста — пятьсот миллионов китайцев, которые поддерживали ее. А еще около шестисот телохранителей, из них человек шестьдесят — лучшие профессионалы Китая. — И она погибла в… не помню, когда. Несчастный случай на воде. На сей раз улыбка Нухаева казалась искренней. — Она умерла, когда Тайся-но Си — ты знаешь его под именем Сато — отправился в Китай и убил ее. По приказу Накамуры или нет, мы не знаем. — Полковник Смерть, — повторил Ник, растягивая слоги. — Отдает дешевкой. Но если ты хочешь сказать, что Сато действует без разрешения Накамуры и не под его руководством, то мне трудно в это поверить. Нухаев неторопливо кивнул. — И все же, Ник Боттом, ты должен быть польщен тем, что один из самых эффективных убийц в мире был приписан к тебе на время твоего… гммм… расследования. На твоем месте я бы отнесся к этому факту со всей серьезностью и задумался о возможных последствиях. — Как скажешь, — сказал Ник. Его начал утомлять этот говнюк с его манией величия. — Ты скажешь мне что-нибудь полезное об убийстве Кэйго Накамуры? Нухаев натянуто улыбнулся. — Я только что сделал это, Ник Боттом. «Если не знаешь ни себя, ни противника, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение».[103] «Опять этот сраный Сунь-Цзы», — подумал Ник. Он начинал понимать, что именно дон Кож-Ахмед Нухаев ведет себя, как второразрядный негодяй из фильмов про Бонда. Те всегда пытались заговорить героя до смерти, вместо того чтобы нажать на спусковой крючок, когда представлялся случай. — Ты можешь привести вопросы Кэйго, которые показались тебе необычными? — сменил тему Ник. — Странными? Неестественными? Дон Нухаев улыбнулся. — Он и в самом деле спрашивал меня, не продаю ли я Эф-два так же, как флэшбэк. Судя по его тону, он считал этот галлюциноген реальностью… или реальностью в скором времени. «Ну вот, снова Ф-2», — подумал Ник. Он преисполнился надежды, что Кэйго Накамура знает о супернаркотике, действие которого определяется фантазиями человека, нечто такое, чего не знает никто другой. Воображение Ника рисовало ему совершенно новую жизнь с Дарой и даже с Вэлом, не шестнадцатилетним, а умненьким пятилетним Вэлом. Из разговоров о Ф-2 Ник понял, что тот гасит дурные воспоминания, оставляя только счастливые фантазии, которые воспринимаются в точности как настоящая жизнь. На всех уровнях. И те, кто верил в существование Ф-2, всегда утверждали, что, в отличие от флэшбэка (где вы всегда стоите чуть в стороне от происходящего, парите над своим прошлым «я», заново переживая события), Ф-2 обеспечивает полное погружение. — И что ты ему сказал? Нухаев рассмеялся. — Сказал, что при наличии спроса стал бы продавать любой наркотик, если бы он существовал… но Эф-два не существовало. До нас постоянно доходили слухи о нем. Но такой наркотик невозможен. Если вам нужны фантазии, берите героин или кокаин, — так сказал я ему. — И что на это ответил Кэйго? — спросил Ник. Какая-то часть его впала в отчаяние из-за того, что слухи об Ф-2 все еще остаются слухами. Но ведь Кэйго спрашивал у поэта Дэнни Оза, стал бы тот пользоваться Ф-2. Что было на уме у этого юнца, черт его дери? — Кэйго сменил тему, — ответил Нухаев. — И я собираюсь сделать то же самое. Ты понимаешь, Ник Боттом, кто хочет заполучить земли, которые прежде были Нью-Мексико, Аризоной и Южной Калифорнией? — Наугад я бы сказал, что Мексика… или Нуэво-Мексико, или как эта чертова реконкиста называет здесь себя, — сказал Ник. — Ведь это же их треклятые войска, танки и миллионы колонистов захватили большую часть этой земли и сражаются за остальное. Нухаев выдохнул голубой дымок и покачал головой. На его морщинистом, грубом лице отразилось легкое разочарование — стареющий наставник, разочарованный тупостью ученика. — Ты и вправду был далеко, Ник Боттом? Погряз во флэшбэкных снах и бесконечной жалости к самому себе? Будто ты первый мужчина, потерявший жену. Ник почувствовал, как загорается его лицо, как в нем закипает гнев, но сдержался, стараясь не поддаваться воздействию притока адреналина. Этот приток вызывал желание размозжить голову Нухаева… чем? Чем? Разве что стулом, на котором он сидел, — ничем больше. Но стул был слишком легким, а значит, бесполезным. И Ник ничуть не сомневался, что у Нухаева под свободной рубашкой навыпуск за пояс заткнут пистолет. Но он не обязан был отвечать на риторические оскорбления — и не стал отвечать. — Хорошо, — сказал он. — Если не Мексика, то кто? Япония? — Что Япония будет делать со всеми этими землями, большей частью пустынными, при том, что ее население убывает? — спросил Нухаев, с явным удовольствием входя в роль школьного учителя. — Я знаю, международная политика — не самая сильная твоя сторона, детектив первого ранга Ник Боттом, но пораскинь своими проржавевшими мозгами, подумай! Какому агрессивному и процветающему политическому образованию необходимо жизненное пространство, все больше жизненного пространства? При том, что его жители привыкли обитать в пустыне. — Халифат? — выговорил Ник наконец. Это не было осмысленным утверждением — всего несколько растерянных звуков. Потом он услышал, как повторяет эту мысль: — Всемирный Халифат? Здесь, на юго-западе? Ерунда. Абсолютная глупость. Дон Кож-Ахмед Нухаев молча сцепил пальцы на затылке и откинулся к спинке, сжав сильными зубами сигару. — Полнейшая ерунда, — сказал Ник, взмахнув рукой, словно отгонял муху. — Это невозможно. Но… так ли это было на самом деле? По информации Си-эн-эн, или «Аль-Джазиры-США», или черт знает кого, — где мелькали эти данные? — мусульманское население во всем мире достигло 2,2 миллиарда. И конечно, по приведенным результатам опросов, более 90 % из них заявляли о своей принадлежности к Всемирному Исламскому Халифату, даже если жили в странах, формально еще не вошедших в это постоянно расширяющееся образование с тремя столицами — в Тегеране, Дамаске и Мекке. Это означало (особенно после десяти лет полномасштабной гражданской войны в Китае и агрессивных мер Индии по созданию обширного среднего класса, главным образом за счет ограничения рождаемости, как это сделал Китай тремя поколениями ранее), что Исламский Всемирный Халифат стал самым населенным политическим образованием на земле. А кривая рождаемости мусульман (как кто-то сказал Нику — возможно, его дотошный тесть) устремлялась к бесконечности. В Европе уже больше четверти века население росло за счет мусульман, то есть эта тенденция проявилась еще до официального распространения Халифата на Европу. «Черт, — подумал Ник, чувствуя, что клетки мозга все еще водят хоровод после электрошока, — ведь самое распространенное детское имя в долбаной Канаде — Магомет». Но это ничего не значило. Или значило? — Халифат завоевывает Южную Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико? Присылая сюда — кого? Колонистов? Иммигрантов? — с трудом сказал он: язык слушался плохо. — Соединенные Штаты никогда этого не допустят. — Неужели? — возразил дон Кож-Ахмед Нухаев. — А что Соединенные Штаты смогут поделать? Ник сердито раскрыл рот, подумал несколько секунд… и закрыл. Регулярная армия Америки состояла из шестисот с небольшим тысяч призывников — мальчишек вроде его сына. Плохо вооруженные, плохо подготовленные, под началом плохих командиров, все они сражались за Японию или Индию в Китае, Индонезии, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Крохи регулярной армии, оставшиеся в Штатах, и Национальная гвардия были рассредоточены вдоль южной границы с Нуэво-Мексико, от рубежа между Колорадо и Оклахомой до Тихого океана возле Лос-Анджелеса. Может ли президент США разорвать важнейшие контракты по найму солдат, контракты с Японией и другими платежеспособными странами, чтобы вернуть домой эту отданную взаймы армию и направить против миллиона иммигрантов-джихадистов? И захочет ли? У Ника голова шла кругом. — Этого не допустит Мексика, — неуверенно сказал он. — Реконкиста потратила столько сил, чтобы отвоевать эти штаты, отобрать у Америки земли, захваченные в восемьсот сорок восьмом… Нухаев рассмеялся и загасил остаток сигары. — Поверь мне, мой друг Ник Боттом, Нуэво-Мексико, о котором ты говоришь, просто не существует. Перед тобой человек, который торговал с ними, работал с ними, передвигался внутри неопределенных границ больше двадцати лет. Нуэво-Мексико — это брак по расчету, фиктивный брак по расчету, между жестокими главарями наркокартелей, бежавшими из Старой Мексики латифундистами, молодыми аферистами и полевыми командирами-латинами, которые не подчиняются никому, как и китайские. Никакого Нуэво-Мексико нет. — У них есть флаг, — услышал свой голос Ник. Не только слова, но и тон показались ему глуповатыми. Нухаев ухмыльнулся. — Да, Ник Боттом, и еще национальный гимн. Но Нуэво-Мексико есть фикция — это такая же коррумпированная и прогнившая структура, как и Старая Мексика перед ее падением. Местные «колонисты» не могут себя прокормить, а уж тем более предложить что-то вместо крупных американских ранчо, ферм, корпораций, разрабатывающих высокие технологии, научных центров и гражданского населения, покоренного и вытесненного ими. Если картели прекратят поставки еды, через месяц здесь начнется голод. Они выживают, присосавшись к сиське картелей, за счет кокаиновых денег, героиновых денег, флэшбэкных денег. Если отлучить их от этой сиськи, восемнадцать миллионов бывших мексиканских «иммигрантов» снова снимутся с места и двинутся в путь. — Но Халифат… — сказал Ник. — У них нет ни… языка, ни культуры, ни инфраструктуры… — снова услышал он собственный голос, замолчал и покачал головой. — Кто продаст Юго-Восток Халифату? Нухаев опустил подбородок на грудь в белой рубашке и улыбнулся. Единственное слово, которое приходило на ум при виде этой улыбки, — «дьявольская». — Я, — сказал он. — И другие. Ник моргнул и внимательно посмотрел на того, кто сидел по другую сторону стола. Дон Кож-Ахмед Нухаев не шутил. Он что — псих? Да, он страдал манией величия, Ник понял это уже в самом начале их безумного разговора… но неужели этот тип был двинутым на все сто? «Может быть, и нет», — подумал Ник. — И кто же будет продавцом? — Ник обращался скорее к себе самому, чем к дону. — Не Нуэво-Мексико, хотя их военные формирования и новые колонисты будут этому противиться. — Да нет, — возразил Нухаев. — Противиться они станут не больше, чем жители и так называемые армии Бельгии, Норвегии, Дании и Европейской России. Новые хозяева всех этих стран за последние тридцать лет научились эффективной экспансии. — И все же… — пробормотал Ник, чувствуя, как нервные окончания все еще подергиваются и дают сбои после электрошока. — Кто осуществит продажу? Кто получит миллиарды старых долларов — ведь такая сделка наверняка… Ник поднял взгляд и посмотрел в темные глаза Нухаева. — Япония, — вполголоса сказал он. Дон Кож-Ахмед Нухаев раскрыл свои мозолистые ладони. — Но не Япония как страна, — пробормотал Ник. — А кэйрэцу и даймё, которые будут господствовать здесь, в Штатах, когда придет время для сделки с муллами из Тегерана и Мекки. Новый сёгун. Нухаев больше не улыбался — только смотрел на Ника обжигающим взглядом. Казалось, лицо его лижут языки пламени. — Нечто вроде новой покупки Луизианы,[104] — проговорил Ник. — Но миллионы исламских колонистов в бывших США? Америка… никогда не пойдет на это. Голос Ника ослабел еще до того, как он закончил предложение, — он сам не верил в то, что сказал. Америка на многое пошла за последние десятилетия. А если вернуться к проблеме: как именно могла она противостоять организованной, поддержанной Халифатом колонизации этих пустынных штатов? Да что там говорить — ведь Америка не смогла предотвратить их захват мексиканскими картелями и военными. «Что, они завезут сюда собственных верблюдов?» — подумал Ник и потер глаза основаниями ладоней. У него вдруг ужасно разболелась голова. — Я был плохим хозяином, — сказал Нухаев. — Хочешь выпить, Ник Боттом? Приказать принести вина? — Не вина. Просто воды, — попросил Ник. Дон заговорил тихим, обыденным голосом, обращаясь, казалось, к столешнице: — Прошу принести воды для меня и моего гостя. Минуту спустя боковая дверь открылась. Вошел человек в рубашке навыпуск, с серебряным подносом, на котором стояли хрустальный графин с водой и два стакана. Льда в графине было столько, что стекло запотело от холода. Нухаев налил воды себе и Нику. — Прошу, — сказал дон, делая пригласительный жест. Ник ждал, держа холодный стакан. Он, похоже, никогда еще не испытывал такой жажды и такой адской головной боли. Видимо, решил он, то и другое было следствием электрошока. Но он не стал пить. Дон Кож-Ахмед Нухаев непринужденно хохотнул и осушил стакан с ледяной водой, потом налил себе еще. Ник пригубил. Никакого привкуса — ни химического, ни другого. Вода. — Могу я теперь задать несколько вопросов? — осведомился Ник. — Ведь именно для этого я вроде бы здесь. — Конечно, Ник Боттом. В конце концов, ведь это ты — следователь. Именно так сказал мистер Хироси Накамура, а мистер Хироси Накамура редко ошибается. Прошу, прошу, задавай свои вопросы. Нухаев достал вторую сигару, подготовил ее, закурил и откинулся к спинке стула. — Ты знаешь, кто убил Кэйго Накамуру? — спросил Ник ровным и жестким голосом. Но это усилие отдалось болью в голове, будто в нее вонзились тысячи раскаленных булавок. — Думаю, что да. — Ты скажешь мне? — Я бы предпочел не делать этого. — Нухаев слегка улыбнулся. «Бартлби», — подумал Ник. Дара познакомила его с этим великолепным, памятным рассказом Мелвилла,[105] где повторялись эти печальные слова. «Писец Бартлби: Уолл-стритская повесть». В любом случае сейчас Ник завидовал маленькому писцу, который мог повернуться лицом к стене своей тюрьмы. «И умереть», — вспомнил Ник. — Почему нет? — спросил он все так же жестко. — Скажи, что тебе известно или что, как ты полагаешь, тебе известно. Это здорово облегчит жизнь многим. В особенности мне. — Да, но ведь это ты — следователь, Ник Боттом, — проговорил дон, на сей раз сквозь облачко сизого дыма. — Во-первых, я могу ошибаться. Во-вторых, я ни за что не хочу лишать тебя шанса на триумф, не давая собственноручно найти убийцу или убийц. Ник тряхнул головой, пытаясь прояснить свои мысли. — Нам известно, что Кэйго Накамура приехал с небольшой съемочной командой, а через пять дней его убили. Его помощники сказали, что Кэйго записывал интервью с тобой на камеру. Это верно? — Да. «И зачем тебе это понадобилось?» — подумал Ник и прищурился, глядя на дона. Зачем торговец оружием, наркодилер, торговец информацией и международный проходимец, готовый на любое преступление, станет говорить в камеру, давая интервью сыну одного из своих злейших врагов… возможно, сыну смертельного врага. И все это — для дурацкого документального фильма про американцев и их пристрастие к флэшбэку? Ник попытался облечь этот вопрос в несколько ясных слов, но скоро сдался и вместо этого сказал: — Кэйго говорил что-нибудь… или спрашивал что-нибудь такое, что побудило бы тебя убить его? Что сделало бы его смерть необходимой? — В ответ на первый вопрос я говорю «нет», Ник Боттом. В ответ на второй — грустное, но твердое «да». Ник потер лоб, пытаясь понять дона. — Кэйго сказал нечто, сделавшее его смерть для кого-то необходимой. Правильно? Нухаев с удовольствием затянулся, выдохнул и ничего не ответил. — И это нечто было на карте памяти его камеры? — продолжил Ник. — О да, — ответил дон. — Но Кэйго Накамура должен был умереть именно в тот час и именно такой смертью вовсе не из-за этого. — А из-за чего, дон Нухаев? Дон улыбнулся, печально покачал головой и стряхнул пепел в импровизированную пепельницу. — Когда-нибудь, — сказал наконец Нухаев, — ты должен посмотреть, что за документальный фильм на самом деле снимал молодой Накамура. Зачем наследнику современного клана дзайбацу, почти наверняка — следующему сёгуну, приезжать в Америку и тратить время на съемки никчемных флэшбэкеров? Только без обид, Ник Боттом. — Никаких обид. Скажи мне, зачем Кэйго снимал этот фильм, если его не интересовало употребление флэшбэка в Америке? Я видел несмонтированные кадры — это многие часы съемки. И всё о том, как люди употребляют флэшбэк. — Всё об этом? — Об этом и о дилерах… как наркотик доставляется в страну, как продается. Всякое такое. Но все связано с флэшбэком и его употреблением в Америке. Ты хочешь сказать, что там есть скрытые кадры… фильм в фильме или что-то в этом роде? Что-то о пришествии Эф-два, про которое ты говорил? Ты на это намекаешь? — Я ни на что не намекаю, — сказал Нухаев. — Кроме того, что наше время, как ни жаль, подходит к концу. Ник вздохнул. — Но ты считаешь, что приказ об убийстве Кэйго отдал один из семи даймё, соперничающих с Накамурой за сёгунат? — Я этого не говорил. Нухаев перевернул сигару и принялся дуть на пепел, пока тот не раскалился. — Если я выскажу догадку и назову мотивы, ты подтвердишь имена или нет? Нухаев рассмеялся глухим недовольным смехом. Ник уже наслушался этого смеха вдоволь. — Следователи не высказывают догадок, Ник Боттом, а делают умозаключения. Откидывают невозможное и невероятное, пока не остается лишь неизбежное. — Херня, — сказал Ник. — Верно, — усмехнулся большерукий дон. — Но это ты предложил мне встречу, — сказал Ник, скорее размышляя вслух, чем обращаясь к собеседнику. — Если ты не намерен помогать мне в расследовании, значит, ты вызвал меня сюда, с риском попасть под обстрел жэ-медведями со стороны Накамуры… чтобы отправить ему, Накамуре, послание. Нухаев курил сигару. Ник отхлебнул еще воды. — Или, может быть, послание Сато, — проговорил он наконец. — Ты всерьез говорил о том, что Сато — один из самых крупных даймё в Японии? Полковник Смерть и прочее? С подчиненными ему десятью тысячами ниндзя, или самураев, или кто у них там? Ник не ждал ответа, но дон сказал: — Да. — Значит, ты хочешь сказать, что Сато ведет в этом деле самостоятельную игру. У него могут быть собственные мотивы, он не послушный вассал Накамуры… не тот, кто совершит сэппуку по приказу сеньора. — Нет-нет, Хидэки Сато совершит сэппуку по первому приказу своего господина, — сказал Нухаев без улыбки. — Он делал вещи и похуже. Ник не понимал, что может быть хуже вспарывания собственного живота. Гораздо позднее он пришел к выводу, что, задай он тогда этот вопрос Нухаеву, многое бы прояснилось. Вместо этого он спросил: — И Сато в самом деле убийца? — О да. — Зачем Накамуре нужно, чтобы один из самых профессиональных убийц в мире проводил со мной столько времени? Рисковать жизнью такого ценного человека, посылая его сюда вместе со мной, через вражескую территорию, чтобы встретиться с тобой, дон Кож-Ахмед Нухаев? Сато чуть не погиб, когда на нас напали, ты ведь знаешь. И опять Ник был уверен, что не получит ответа на этот плохо сформулированный, бесформенный вопрос, а потому сильно удивился, услышав откровенные слова дона: — Когда ты раскроешь это убийство, Ник Боттом, — если раскроешь, — на короткий отрезок времени, в течение которого тебе позволят остаться в живых… несколько часов, а вероятнее, несколько минут… ты будешь самым опасным человеком в мире. Ник поставил стакан с водой. — Опасным для кого, дон Нухаев? Для убийцы и его кэйрэцу? Или дзайбацу? Или как эта херня сегодня называется? — Гораздо более опасным, — вполголоса сказал Нухаев. — Для очень многих людей. Для миллионов людей. Вот почему тебя не смогут оставить в живых, когда ты раскроешь это преступление. «Я? Опасный для миллионов людей?» Полная нелепица, с какой стороны ни посмотри. Ник был совершенно сбит с толку. Ничто не служило объяснением ни для чего; от всего услышанного голова у него заболела еще сильнее, а желудок чуть не выворачивался наружу. — Тогда мне лучше не раскрывать это сраное убийство, — сказал Ник наконец. Язык у него слегка заплетался, словно он пил водку, а не воду. — Но ты должен раскрыть это преступление, Ник Боттом. — Дон, похоже, не поддразнивал Ника и не подпускал сарказма. Голос его был низким. И серьезным — это Ник знал точно. — Почему я должен раскрыть это преступление? Ник хотел, чтобы его слова звучали иронически, но голос вышел усталым, а фраза — неразборчивой. — Потому что она хотела бы этого. Ник выпрямился на неудобном металлическом стуле. — Что за «она», Нухаев? — Твоя жена, Ник Боттом, — сказал дон, стряхивая пепел расслабленным движением волосатого запястья. — Прекрасная дама по имени Дара. Ник вскочил на ноги, руки его сжались в кулаки. Вскочить-то он вскочил, только его слегка покачивало. — Откуда тебе известно имя моей жены? Идиотский вопрос — Ник сразу же это понял. Нухаев, вероятно, располагал подробнейшим досье на Ника: стоило Накамуре нанять его, как досье мигом появилось у дона. Он тряхнул головой и попробовал еще раз: — При чем тут моя жена? Зачем втягивать ее в это? Ник оперся кулаком о столешницу, чтобы его меньше качало. Дон остался сидеть. — Твоя жена, Дара Фокс Боттом, была красивой женщиной, — сказал Нухаев тихим голосом. — Она сидела вон там… на том стуле, с которого ты встал… Ник неловко развернулся, посмотрел на пустой стул у себя за спиной, потом снова повернулся к Нухаеву. Ему пришлось упереться в стол костяшками пальцев обеих рук, чтобы не упасть. — Дара была здесь? Зачем? Когда? — На следующий день после того, как Кэйго взял у меня интервью, — сказал Нухаев. — И за четыре дня до убийства молодого Накамуры в Денвере. Он с командой уже убрался в Денвер, когда твоя жена встречалась здесь со мной. — Встречалась с тобой… зачем? — выдавил Ник. Комната пошла кругом. «Вода», — подумал Ник. Нет, не вода. Нухаев тоже пил воду. Что-то в стекле, взаимодействующее с водой. Действует медленнее, чем долбаный шокер, но так же верно. — Человек, с которым она приехала в Санта-Фе и остановилась в отеле «Инн оф зе Анасази». — Нухаев говорил откуда-то с расстояния в тысячу миль, его голос дрожал, звуча гулко в быстро сужающемся туннеле. — Помощник окружного прокурора Харви Коэн. Человек почти без воображения. Но твоя красавица жена, Ник Боттом… твоя красавица жена Дара, она была… Кем была его красавица жена Дара, Ник так и не узнал от дона Кож-Ахмед Нухаева. Он уже начал долгий спуск в черноту по темному туннелю.
1.14 Денвер и Лас-Вегас, штат Невада 17 сентября, пятница, — 19 сентября, воскресенье
Денвер все еще стоял в пробках, когда Ник вернулся туда в пятницу вечером. По крайней мере, большая часть Денвера. Какая-то группировка подорвала Денверское отделение Монетного двора США на Вест-Колфаксе, неподалеку от Сивик-Сентер-парка. Зачем Штатам все еще нужен монетный двор, Ник понятия не имел. Никто больше не пользовался монетами. Разрушение этого объекта могло представлять интерес только для террористов, которые делали бомбы, и для пяти скучающих охранников, которых разнесло на части этим ночным взрывом. К такого рода информации Ник и миллион других денверцев привыкли относиться по принципу «не обращать внимания и забывать». Но как только Ник нагишом вышел из душа, кое-что все же привлекло его внимание — а именно, полученное десять минут назад текстовое сообщение от детектива первого ранга лейтенанта К. Т. Линкольн: «Ник, все проверила — все хорошо. Можешь не беспокоиться. Встречаться нет нужды. Сну». Они пользовались этим кодом, когда работали в паре: «Срочно нужно увидеться». Сокращение означало, что все предшествующие слова нужно понимать в противоположном смысле. И что отправитель не полностью свободен в своих действиях. Значит, случилась серьезная неприятность. Ник позвонил К. Т. на сотовый и выслушал голосовое сообщение: она при исполнении, просит оставить послание, свяжется при первой возможности. — Да просто вернулся в город, решил узнать, как дела. — Ник старался говорить как можно более скучающим голосом. — Рад, что все в порядке. Позвони, если будет времечко. Да, у меня сломался старый телефон, и я завел новый. Он дал ей номер разового телефона, который нашел в рюкзаке, спрятанном за стенной панелью. После звонка он выкинет трубку. К. Т. позвонила пятнадцать минут спустя. — У меня тут на Ист-Колфаксе общий полицейский надзор и группа быстрого реагирования. Но все должно закончиться до полдвенадцатого, потому что ребятам из группы надо вернуть на место свой фургон. Я встречусь с тобой в полночь в том месте, где тот тип тогда сделал эту фигню. К. Т. отключилась. Ник был уверен, что она тоже воспользовалась разовым телефоном. Одеваясь, он посмотрел на часы в телевизоре. Начало десятого. Ему предстояло убить почти три часа. Он решил провести это время в размышлениях над тем, что же такого удалось накопать К. Т. и что могло потребовать столь срочной встречи.Ник уже пришел в сознание к тому времени, как люди дона Кож-Ахмед Нухаева высадили его перед собором. Он едва держался на ногах, внутренности его тряслись от злости. Небольшое расстояние до японского консульства Ник прошел пешком. Он полагал, что Сато и другие японцы из консульства горят желанием узнать подробности его разговора с доном, что допрос будет продолжаться весь день и вечер, что его начнут пичкать пентоталом и другими «сыворотками правды», если Ник не расскажет обо всем, интересующем их. Но допроса не последовало. Сато с правой рукой в активном гипсе, похожей на гладкую рыбу, подошел к дверям комнаты Ника, постучал, заглянул внутрь и спросил: — Ну как, удалось вам узнать что-нибудь важное от дона Кож-Ахмед Нухаева? Такое, что помогло бы расследованию? Закусив щеку изнутри, Ник посмотрел на Сато и заявил: — Не думаю. Это была ложь, но в какой именно мере, пока оставалось непонятным. Сато лишь кивнул и сказал: — Но попробовать стоило. Несколько часов спустя Ник проснулся, но все равно чувствовал себя опустошенным, мозги работали плохо. Сато пригласил его на обед в «Джеронимо» — знаменитый престижный ресторан. Они с Дарой любили это место и специально экономили деньги, чтобы заглянуть сюда во время ежегодных наездов в Санта-Фе. Ник не стал задаваться вопросом, с чего это Сато зовет его в такой дорогущий ресторан, а просто принял приглашение. Он был голоден. «Джеронимо» оставался таким же, каким Ник помнил его, — небольшая постройка из сырцового кирпича, которая в 1750 году была частным особняком. При входе располагался большой камин, на полке которого расположились громадная коллекция цветов и гигантские лосиные рога, однако сам ресторан был невелик. В тот вечер стояла прохладная погода и шел дождь, поэтому столики на террасе не обслуживались и небольшое помещение казалось переполненным. К счастью, из-за габаритов Сато им достался столик на двоих у стены. Они почти не разговаривали. Ник доел первое блюдо (грушевый салат фудзисаки с орешками кешью и приправой из яблочного меда) и уже добрался до половины главного — филе-миньона с гарниром из нарезанной вручную красной картошки фри: за нее одну можно было отдать полжизни. И вдруг на него нахлынули воспоминания о последнем заходе сюда вместе с Дарой. Он почувствовал боль в груди, спазм в горле и, точно больной, отложил вилку и пригубил воды (Сато заказал бутылку каберне-совиньон «Локойя 2025 Маунт-Видер», стоившую чуть меньше последнего годового жалованья Ника в полиции), делая вид, что ему попался слишком острый кусочек, — отсюда будто бы и румянец, и слезы. В это мгновение Ник больше всего хотел вернуться в консульство, в свою комнату, и вскрыть одну из последних взятых с собой часовых ампул, чтобы заново пережить тот обед с Дарой девять лет назад. И не только из-за флэшбэкной ломки — это был экзистенциальный вопрос: он должен был пребывать не здесь и сейчас, поглощая деликатесы в обществе японца-убийцы, а там и тогда, со своей женой, наслаждаться с нею великолепными блюдами, предвкушая возвращение в отель «Ла Посада». Ник пригубил воды и отвернулся, чтобы проморгаться и убрать с глаз эти идиотские слезы. — Боттом-сан, — сказал Сато, когда оба снова принялись за еду, — вы не думали о поездке в Техас? Ник в недоумении уставился на громилу японца. Это что еще за херня? — Техас не принимает флэшнаркоманов, — сказал он тихо. Столики стояли очень близко друг к другу, к тому же в «Джеронимо» всегда стояла тишина. — Но и не казнит их, как моя страна, Халифат и некоторые другие, — парировал Сато. — Только депортирует, если те отказываются или не могут бросить свою привычку. И потом, Республика Техас не возражает против вылечившихся наркоманов. Ник поставил стакан с вином. — Говорят, что попасть в Техас труднее, чем в Гарвард. Сато прокряхтел на свой мужской манер. Что это означало, Ник так и не понимал. — Верно, но Гарвардскому университету не нужны люди с жизненно важными навыками. А Республике Техас они требуются. Вы были способным полицейским, Боттом-сан. Теперь настала очередь Ника прокряхтеть. — Именно что был. — Он прищурился, глядя на здоровенного японца (или на убийцу Полковника Смерть и даймё, если верить Нухаеву). — Кой черт вам с этого, Сато-сан? Зачем вам — или мистеру Накамуре — отправлять меня в Техас? Сато отхлебнул вина и промолчал. Показав на пустые тарелки, он сказал: — Я хочу заказать десерт. Вам тоже, Боттом-сан? — Мне тоже, — кивнул Ник. — Хочу попробовать этот торт с маскарпоне и белым шоколадом. Сато опять закряхтел, но на этот раз вроде бы одобрительно — как показалось выпившему Нику.
Возвращение в Денвер прошло без происшествий, прежде всего — Ник был в этом уверен — благодаря двум черным «мерседесам» — «эскорту» от дона Кож-Ахмед Нухаева. Ник понятия не имел, почему Сато не возражал против них. На междуштатном шоссе один черный лимузин ехал в восьмидесяти метрах перед ними, другой — на таком же расстоянии сзади. И никто их не побеспокоил, хотя, судя по облакам пыли, с востока и запада от шосседвигались гусеничные машины. Сато ехал на переднем пассажирском сиденье, «Вилли» Муцуми сидел за рулем, «Билл» Дайгору управлял башней, а «Тоби» Синта Исии сидел сзади, на складном сиденье, напротив Ника. На протяжении первой сотни миль Ник не мог избавиться от навязчивого видения. Перед его глазами вставал задний отсек первого «ошкоша» — повсюду пламя, металлопластиковые стенки плавятся, обезглавленное тело «Джо» Генсиру Ито за считаные секунды превращается в пепел и обгорелые кости. Но когда они миновали место засады к северу от Лас-Вегаса, Нью-Мексико, Ник расслабился. Вскоре он снял шлем, прислонился потной головой к сетке и закрыл глаза. Что пытался донести до него Нухаев? Ночью, в японском консульстве, Ник из восьми предназначенных для сна часов шесть потратил на флэшбэкные видения, опустошив свои последние ампулы. Большую часть времени он переживал уже хорошо знакомые часы вместе с Дарой — когда после убийства Кэйго она, похоже, пыталась что-то сказать ему (и когда Ник, занятый собой, мыслями о собственной работе и расследовании, почти не слушал ее). Но что же она пыталась ему сказать? Что у нее роман с Харви Коэном? Это казалось самым вероятным. Но что привело ее и Харви в Санта-Фе за четыре дня до убийства Кэйго? Что-то, явно связанное с Кэйго Накамурой и его фильмом. Но как именно? И какой интерес мог испытывать к Кэйго окружной прокурор Мэнни Ортега? Из-за какого важного дела помощника окружного прокурора с секретарем послали в такую даль — в Санта-Фе? По возвращении надо задать этот вопрос Ортеге — теперь уже мэру Ортеге. Что до всей этой чуши о продаже Нью-Мексико, Аризоны и Южной Каролины Всемирному Халифату… Ник открыл глаза и через спутниковый канал «ошкоша» подключил свой телефон к интернету. Синта Исии не обращал на него внимания. Ник засунул в уши наушники, сделал так, чтобы картинка с экрана отображалась на его противосолнечных очках, и пробежался по новостям. Ник говорил дону Нухаеву, что исламисты не придут в Северную Америку, потому что в этих пустынных штатах, захваченных реконкистой, нет инфраструктуры. Но, глядя на экран, он понял, что Всемирный Исламский Халифат за последние четверть века своей экспансии не испытывал ни уважения, ни потребности в местных языках, культуре, законах и инфраструктуре. Последняя интересовала мусульман лишь в плане разграбления. Они приносили с собой язык, культуру, законы и свою религиозную инфраструктуру. И большая часть этой инфраструктуры была средневековой: кланы, племена, убийства чести, невыносимый религиозный буквализм и нетерпимость, каких иудаизм или христианство не знали уже на протяжении шести веков. Основой расширяющейся исламской инфраструктуры, как понимал Ник, листая страницу за страницей, был шариат для тех, кто обитал в границах Халифата, — как для мусульман, так и неверных-зимми. А за его пределами на все государства и цивилизации неверных было нацелено отравленное копье джихада. Ник нашел нужные архивные страницы и обнаружил, что Халифат обладает более чем 10 000 атомных боеголовок — намного больше, чем 5500 японских. Всего за полминуты он выяснил, что Штаты после гордого одностороннего разоружения (согласно договорам СНВ с Россией, — но другая сторона разоружаться не спешила) со второго десятилетия этого века имели 26 атомных зарядов на самолетах или ракетах. Еще 124 находились на хранении (все старше пятидесяти лет, все ненадежные, не проходившие проверку и большей частью без средств доставки). Пробегая страницы, Ник увидел изображение серпа, так часто мелькавшее в телевизоре («полумесяц», как всегда называли его гордые вожди Всемирного Халифата), символа культурного и политического влияния мусульман. Оно распространялось от Ближнего Востока по всей Евразии, Восточной и Западной Европе, а в другом направлении — на Африку. Другие полумесяцы покрывали Индонезию и большую часть Тихоокеанского региона, где мусульмане, скрежеща зубами, сосуществовали с Японией и ее Новой сферой взаимного процветания Юго-Восточной Азии. Европейский полумесяц, крупнее по размеру, захватывал бывшее Соединенное Королевство и полярные области, а кончик его глубоко вонзился в Канаду. Канадцы проявили готовность и чуть ли не горячее желание «поделиться богатствами» своей, северной части континента. Их религиозное кредо — насаждаемые сверху мультикультурализм и этнокультурное разнообразие, давно вытеснившие в Канаде христианство, — меньше чем за два поколения породило теократическую культуру, уничтожившую всякое разнообразие. Судя по тому, что читал Ник, остатки культуры белых, носители которой все еще составляли большинство, более-менее сосредоточились в изолированных районах, почти резервациях. Хотя мусульмане составляли чуть меньше сорока процентов от всего населения, главным законом Канады был теперь шариат; большинство белых, и англо-, и франкоязычных, смиренно перешли на положение зимми. Менее чем за полтора года они построили 3800-мильное ограждение вдоль границы с США, чтобы не пускать бегущих из Штатов американцев. Там, где власти Халифата сталкивались с ублажаемыми прежде коренными народами (англо- и франкоговорящее белое большинство Канады на рубеже двадцатого и двадцать первого веков проявляло к индейцам и эскимосам нелепую политкорректность), аборигены, не желавшие принимать истинную веру, истреблялись новыми правителями при помощи голода: провинциальные власти просто прекращали поставлять туда продукты. Так называемые коренные народы утратили способность к самообеспечению за счет охоты и рыболовства. После «дык не туда», или Дня, когда настал трындец, когда США перестали быть серьезным торговым партнером и мировой державой, а в особенности после внезапной атаки, которую Тегеран назвал «Киямой» (Воскресение, Судный день и Окончательный расчет, три дня, за которые Израиль был стерт со всех карт), Канада при виде триумфального шествия ислама, меньше чем за десятилетие подмявшего под себя Западную Европу, обратилась к Халифату, прося о торговом партнерстве и военной защите. У нее не оставалось выбора. Как не оставалось и теперь — она не могла противостоять массивной исламской иммиграции, навсегда изменившей канадские законы и культуру. А теперь не останется выбора у Нуэво-Мексико, которому придется продать земли реконкисты… кому? Ник переключил свой телефон на внешние камеры. По обе стороны ПМПЗВА плыл пейзаж северно-центрального Нью-Мексико: пастбища, где не осталось ни травы, ни скота, пустые ранчо, заброшенные городки, заброшенные железные дороги, пустые шоссе. Если закрыть глаза на ущерб, нанесенный высоким прериям интенсивным скотоводством продолжительностью в сто с лишним лет и менее разрушительным колесно-гусеничным вандализмом современных армий на марше, эти места оставались девственно-чистыми, — такими их увидели первые белые пионеры двумя с чем-то столетиями ранее. «Почему бы Всемирному Халифату не возжелать эту южную часть Северной Америки, даже если это будет нечто вроде новой, поспешной покупки Луизианы?» — спрашивал себя Ник. Если говорить о колонизации, для бывших обитателей пустыни место было идеальным. Верхнее острие исламского ятагана-полумесяца врезалось в канадско-американскую границу на севере, а нижнее острие, направленное из Мексики, упиралось теперь в безденежные и беспомощные западные штаты вроде Колорадо. И сколько понадобится времени, чтобы два этих рога шариатского полумесяца сошлись? Ник, конечно, задавал себе смысложизненные вопросы. «Волнует ли это меня? Ну, уйдет эта часть страны джихадистам — а мне-то какая разница? Все равно это больше не Америка. Разве мне не наплевать, если верблюжатники из Халифата вытеснят этих чертовых мексикашек и станут новыми неприятными соседями на юге? И более того — нашими новыми хозяевами, выкинув долбаных япошек, которые смотрят на нас свысока со своих сраных горных вершин. Мексиканцы — это сплошные наркотики и коррупция, японцы… японцев волнует только Япония. Какая мне разница, кто и чем тут будет заправлять — японский бюрократ или мусульманский? Мусульмане эффективнее мексиканцев и честнее японцев. „Евротел“, „Скай вижн“, „Аль-Джазира“ и Си-би-си уверяют, что жизнь зимми в Европе и Канаде — сплошной сахар. Если только хаджи оставят меня в покое и я смогу проводить дни и ночи с Дарой, — думал он, — то какая мне разница? Пусть их дурацкий флаг с полумесяцем-ятаганом развевается над прогнившим денверским Капитолием с его золотым куполом». Ник снял противосолнечные очки, вытащил наушники, выключил телефон и снова откинул голову к сетке, чтобы проспать остальную часть пути до дома.
Место, где тот тип тогда сделал эту фигню, было тем, что осталось от магазина «Потрепанная обложка» в 2500-м квартале Колфакс-авеню. Улица эта начиналась у равнин на востоке Денвера и шла через самые поганые районы города до подножия Скалистых гор на западе города. «Плейбой» — один из первых эротических журналов, последний номер которого вышел больше двадцати лет назад, — как-то назвал ее «самой длинной и порочной улицей в Америке». Она и вправду была одной из самых длинных улиц в стране, но копы знали, что порок гнездится главным образом в ее восточной части, если порочность определяется числом винных магазинов, жалких забегаловок, проституток, сутенеров и по-настоящему плохих поэтов. «Потрепанная обложка» была громадным независимым книжным магазином, пока бумажные книги не стали слишком дороги в издании, а население — слишком безграмотным. Раньше магазин находился на той же улице, близ молла на Черри-Крик, где находился кондоминиум Ника. Но в первом десятилетии нового века он передвинулся восточнее, оставшись на Колфаксе, и вслед за Лонгфелло предлагал «книги, одиночество, покой». Одиночество и покой никуда не делись, но вот книг здесь не видели уже много лет. Обновленная «ПО» на Колфакс-авеню, по другую сторону от громадной ночлежки для бездомных, прежде носившей гордое название Восточной средней школы, стала чем-то средним между флэшпещерой и круглосуточной пивной. Как ни странно, но многие флэшбэкеры, обитавшие на нижних этажах прежнего магазина, среди одиночества и покоя, приходили туда читать: потеряв или продав свои старые книги, они при помощи флэшбэка заново переживали ощущения от «Моби Дика», или «Лолиты», или «Робин Гуда», или черт знает чего еще. Для этого наркоманы укладывались на кушетку в гниющем нутре некогда одного из лучших независимых книжных магазинов. — Это как старый фильм про зомби, где ходячие мертвецы возвращаются в моллы за покупками, — сказала однажды Дара. — В их гниющих мозгах молл связан с ощущением благополучия… так и этих флэшбэкеров тянет назад в книжный магазин. — Они платят огромные деньги, флэшбэча на прочтение целых книг, — мрачно отозвался Ник. — Сколько этого дорогостоящего времени, по-твоему, тратится на то, чтобы заново пережить прочтенное на унитазе? За такие деньги можно загрузить на телефон целую библиотеку. — Они не хотят загружать себе книги, не хотят присасываться, как сказал бы ты, к еще одной стеклянной сиське, — возразила Дара. Так вульгарно она вообще-то не выражалась, но книги вызывали у нее бурные эмоции. — Они хотят читать их, держа в руках. А книг, которые можно держать в руках, больше не делают. Так или иначе, речь шла о «ПО». Ник и К. Т. Линкольн были патрульными, когда поступил вызов: захвачены заложники. «Потрепанная обложка» все еще старалась держаться на плаву, продавая и покупая старые заплесневелые тома, но тут появился псих-героинщик, размахивая пистолетом и требуя, чтобы ему продали новое сочинение некоего Уэстлейка, умершего десятью годами ранее. Это казалось шуткой, пока наркоман не выстрелил и не убил менеджера кофейни. Он обещал каждые полчаса убивать по заложнику, пока ему не доставят «новый, оригинальный, никем еще не читанный» роман Уэстлейка. К. Т. оделась курьером «Федерал экспресс», который якобы доставил книгу. В конце концов ей пришлось пристрелить наркомана, который попытался развернуть посылку одной рукой, не выпуская из другой пистолета. Ник припарковал своего мерина на старой парковке рядом с магазином, осторожно, чтобы не переехать какое-нибудь из скрючившихся тел на наклонном полу большого гаража — мужчины и женщины, киплинговские «трупы, закутанные в саваны». Он всадил пятнадцать пуль в капот, лобовое стекло и покрышки своей развалины, но в его отсутствие люди Накамуры заменили покрышки, лобовое стекло и главный аккумулятор, так что машинка бегала, как никогда прежде. Бензиновый двигатель был расстрелян в хлам, но он по большому счету уже много лет как был разобран на запчасти. Нику понравилось, что механики Накамуры не залатали пулевые пробоины. Обычно, паркуясь в обитаемом гараже, Ник ставил синюю мигалку на крышу — предупреждение ворам, что попытка разграбить эту машину принесет им проблемы. Но теперь он решил, что роль маячка вполне могут играть пробоины. Лабиринты «ПО», как всегда, были плохо освещены и дурно пахли. Ник купил пива в помещении бывшей кофейни при магазине и понес бутылку по длинному витому пандусу на нижний уровень, где были столики и свет. Еще ниже располагалась флэшпещера с кушетками и спящими на них людьми. К. Т. ждала за тем столиком, где они обычно встречались. Больше в этой части лабиринта из старых книжных стеллажей, сгнивших ковров и двадцативаттных лампочек никого не было — по крайней мере, никого в сознании. Лейтенант Линкольн поставила свой видавший виды портфель на стул рядом с собой, а на столик положила кипу папок. Когда Ник сел с усталым вздохом, она спросила: — Ты вооружен, Ник? Он чуть не рассмеялся, потом увидел ее глаза. — Конечно, я вооружен. — Положи его на стол, — сказала К. Т. — Осторожно. Подцепи мизинцем и большим пальцем левой руки. Жду! Она подняла из-за столешницы правую руку, чтобы Ник увидел девятимиллиметровый «глок», нацеленный ему в подреберье. Он не стал протестовать или задавать вопросы. Кобуру он носил под кожаной курткой слева, пистолет был вложен рукоятью вверх, чтобы сразу выхватить его и нацелить, — и К. Т. знала это. Медленно, как ему велели, Ник вытащил пистолет и положил на стол перед ней. К. Т. быстрым движением схватила его, положила на стул рядом с портфелем и прошипела: — Отодвинься назад. Ник отодвинулся назад. — А теперь встань, только очень медленно. Подними полы куртки и повернись на триста шестьдесят градусов. А потом покажи мне свои голени. Он так и сделал — приподнял по очереди обе брючины, показывая, что на голенях не спрятано оружие. — Сядь, — приказала К. Т. — Подальше. Ладони держи на коленях, открытыми, чтобы я их видела. Ник сел и растопырил пальцы, как она велела. Где-то внизу и позади него, в глубине темной флэшпещеры вскрикнул человек — в наркотическом ужасе или экстазе. — Хорошо, — сказала К. Т. — У меня три новости. Может, они тебе уже известны. Может, и нет. Но, услышав каждую из этих новостей, ты не станешь делать ничего и будешь по-прежнему сидеть, держа руки на коленях. Ясно? — Ясно, — ответил Ник. Когда, много лет назад, почитатель Уэстлейка более или менее держал К. Т. под прицелом, она вытащила пистолет из-под короткой курьерской курточки «Федерал экспресс» и выстрелила в него пять раз — тот и пикнуть не успел. Возможно, теперь, из-за возраста и усталости, реакция у нее была уже не та, но Ник не собирался ставить на это свою жизнь. По-прежнему держа «глок» довольно низко, К. Т. левой рукой протянула Нику телефон. — Сначала наименее плохая из новостей, — прокомментировала она. На экране мелькнули лица семи мальчишек: все явно мертвы, все явно застрелены. Восьмое лицо было лицом Вэла. Ник охнул и машинально вскочил со стула, но, увидев поднимающееся следом за ним дуло «глока», замер. К. Т. жестом велела ему вернуться на место. Ник подчинился — из-за пистолета, но еще больше — из-за фотографии Вэла. Это была не фотография мертвого мальчишки, снятая на месте преступления, а изображение, взятое из ежегодного школьного альбома. Вэл не улыбался, был плохо одет и нестрижен; но, в отличие от остальных снимков, это не было фото застреленного. Поэтому Ник сел. — Что? — выдавил он из себя через полминуты. — Рассказывай. — Поступила часа два назад, — прошептала К. Т. — Сегодня вечером флэшбанда юных негодяев пыталась убить Даити Омуру в Лос-Анджелесе… — Омуру? Калифорнийского советника? — идиотским тоном спросил Ник, чувствуя себя так, будто в нижнюю челюсть и губы всадили новокаина. — Да. Эти ребята устроили засаду на советника Омуру и его свиту. Те прибыли на какое-то мероприятие в центре Лос-Анджелеса. Флэшбандиты стреляли из люка ливневки около Диснеевского центра. — К. Т. помолчала, переводя дыхание. Ствол ее «глока» не шелохнулся. — У шайки было множество стволов, почти все незаконные… «Фильм „Они“», — подумал Ник. Гигантские муравьи, а потом — армейские джипы и грузовики, которые пытаются найти гнездо муравьиной матки в лос-анджелесской ливневке. И он, и Вэл любили это старое кино. — Советник не получил серьезных ранений. Кто-то из свиты запихнул Омуру в лимузин, а его охранники и городские копы ответным огнем убили шестерых, стрелявших прямо из открытого выхода ливневки, — продолжила К. Т. — Седьмого парня нашли мертвым в туннеле, в нескольких сотнях метров от выхода. Убит тремя выстрелами. Ты его знаешь? Она снова перебрала фотографии на своем телефоне и остановилась на изображении парня: веки полуопущены, так что видны одни лишь белки, рот открыт, передние зубы выбиты, два четких входных ранения в груди — в пропитанной кровью рубашке с чьим-то интерактивным лицом — и жуткая рана в полуразорванной шее. — Нет, — сдавленным голосом произнес Ник. — Никогда его не видел. Ты показывала Вэла… К. Т. отмахнулась. — Лос-анджелесская ювенальная полиция утверждает, что Вэл водился с этими ребятами… в особенности с последним — Билли Койном. Вэл никогда его не упоминал? — Койн? — повторил Ник, чувствуя, как к горлу подступает блевотина. — Билли Койн? Нет… постой, может быть. Да, возможно. Но я не уверен. Вэл никогда особо не распространялся о своих тамошних друзьях. Сам-то он жив? — Есть ориентировка на Вэла Фокса по данным, полученным в школе, — сообщила К. Т. — Лос-анджелесская полиция не смогла проследить его телефон. Ни его, ни твоего тестя по адресу Леонарда Фокса не нашли. Мы знаем, что он не пытался звонить сегодня на твой телефон, — но, может, он связывался с тобой другим способом? А, Ник? У Ника в голове крутилась дурацкая и мучительная мысль: «Ужасно, что Вэл не пользуется моей фамилией». — Что? Нет! — воскликнул он, тряся головой. — Вэл мне не звонил, а я собирался позвонить ему, но… в общем, у него был день рождения на прошлой неделе и… нет, я не разговаривал с ним. Есть улики в пользу того, что Ник участвовал в нападении на Омуру, — или это просто предположение ювенальной полиции? — Видимо, есть какие-то улики, — сказала К. Т. — Внутренняя безопасность объявила Вэла в федеральный розыск. Сейчас его рассматривают как важного свидетеля, но они и ФБР всерьез намерены его арестовать. — Господи Иисусе, — прошептал Ник. Он заглянул К. Т. в глаза. — Говоришь, это не самая плохая новость из приготовленных для меня? Карие глаза К. Т., казалось, вообще никогда не моргают. Она смотрела на Ника так, как смотрела на задержанных преступников, — под этим взглядом им приходилось отводить глаза. — Что ты собираешься делать, Ник? — Что ты имеешь в виду? Хочешь, чтобы я донес на собственного сына? — Нет. Думаю, ты должен доставить его в полицию, если он здесь появится. У тебя ведь все еще есть наручники? Ник не имел права оставлять у себя полицейские наручники, но у него действительно осталось несколько штук из набора начинающего частного детектива: Ник тогда рассчитывал заработать денег, выслеживая неплательщиков. Он попытался представить себе, как защелкивает наручники на запястьях сына, и не смог. Но потом Ник понял, что представляет Вэла таким, каким видел его в последний раз, — мальчишка одиннадцати лет (даже меньше), округлая детская мордашка. Уже на этой недавней школьной фотографии был другой человек. Ник ничего не ответил. — Внутренняя безопасность, ФБР и местные отделения полиции не будут с ним чикаться, — сказала К. Т. — В ориентировке сказано, что он вооружен и опасен. — Кто говорит, что он вооружен? — Галина Кшесинская. — Это кто еще такая? — Бывшая миссис Галина Койн, мать убитого Билли Койна. Когда-то работала в офисе, координировавшем переезды и обеспечение безопасности Омуры в Лос-Анджелесе. — Значит, инсайдерская информация, — протянул Ник. — Откуда миссис Галина Кшесинская знает, что Ник вооружен? — Она заявила полиции, что, по словам ее сына, тот дал Вэлу девятимиллиметровую «беретту». У пистолета один патрон в патроннике и четырнадцать в обойме. «А откуда у мальчишки Билли Койна девятимиллиметровая „беретта“? И почему миссис Кшесинская не сообщила об этом полиции перед бойней у Диснеевского центра?» — подумал Ник, но ничего не сказал. Если эта сучка не соврала, то ориентировка по части вооружения была точна. Но вот насчет того, что «опасен»? Ник представил, как его сын берет с собой в постель бейсбольную рукавичку, словно чучело зверька. — Сейчас они проводят экспертизу двух пуль, извлеченных из тела Койна, и третьей, которую вынули из стены туннеля за ним, — сказала ровным голосом К. Т. — Но я говорила сегодня с Амброузом, заместителем начальника калифорнийской дорожной полиции. По его словам, калибр найденной в стене пули — девять миллиметров. — Заместитель начальника Амброуз? — с глупым видом повторил Ник. — Дейл Амброуз? — Да. — К. Т. опустила свой «глок» на столешницу и накрыла его газетой, но Ник понимал, что пистолет по-прежнему направлен на него. — Ты его знаешь? — Да. Нет. В общем, мой отец помогал Амброузу, когда тот проходил практику здесь, в колорадской полиции. Я думаю, у них были хорошие отношения ученика с учителем. И я знаю, мой старик считал, что тот станет хорошим полицейским. А за несколько лет до того, как отца убили, Амброуз уехал в Калифорнию. Помнишь, лет девять назад я ездил в Лос-Анджелес — доставлял туда убийцу-педофила? Я тогда встречался с Амброузом, и потом мы с ним оказывали друг другу кое-какую помощь. Когда я в последний раз слышал про него, он был заместителем начальника. — Не поговорить ли тебе с ним? — предложила К. Т. — Пожалуй. — Как заместитель начальника, он обязан в том числе обеспечивать безопасность губернатора и советника. Именно ребята Амброуза вместе с личной охраной Омуры открыли ответный огонь по этим парням. — Но не по Вэлу, — сказал Ник дрожащим голосом. — Пока нет никаких доказательств того, что Вэл там был. К. Т. пожала плечами. Согласно ориентировке на Вэла, улик в пользу того, что Вэл тем вечером был вместе с остальной флэш бандой, хватало с избытком. Техника анализа ДНК настолько преуспела, что если Вэл находился в этом туннеле и просто дышал, то скоро появятся очевидные доказательства. Ник знал, что имела в виду К. Т., пожимая плечами, — «еще не вечер». От одной только мысли — факта, — что Вэл состоит в лос-анджелесской флэшбанде, Нику стало нехорошо. Денверские флэшбанды, совершавшие преступления ради того, чтобы снова переживать эти ощущения под флэшбэком, состояли из самых отъявленных негодяев, с какими имели дело Ник и К. Т. А лос-анджелесские шайки, по слухам, были куда хуже денверских. У Ника закружилась голова — словно от еще одного удара электрошокером. — Что еще? — спросил Ник. — Ты уверен, что готов выслушать остальное, напарник? — спросила К. Т. Ник моргнул, услышав слово «напарник». Либо лейтенант Линкольн подло издевалась над ним, либо видела, как потрясло его известие о Вэле. А может, и то и другое. — Готов. Говори. К. Т. подтолкнула к нему небольшую пачку цветных папок. — Ты можешь это прочесть, не наклоняясь и не подаваясь вперед, — вполголоса сказала она. Потом, спрятав правую руку с «глоком» под раскрытым каталогом или брошюрой, добавила: — Страницы переворачивай левой рукой. Всю папку не поднимай. — Господи боже мой, — с отвращением проговорил Ник. К. Т. ничего не сказала. Ник читал, медленно переворачивая страницы левой рукой. Закончив, он не произнес ни слова. Это были копии протоколов, где утверждалось, что шесть лет назад, за пять недель до убийства Кэйго Накамуры, Дара Фокс Боттом и помощник окружного прокурора Харви Коэн снимали на двоих номера в мотелях и отелях — по меньшей мере десять раз. К рапортам прилагались отчеты по платежам со служебной кредитной карты Харви и оплаченные счета из офиса окружного прокурора. — Это все вранье, — заявил Ник и оттолкнул папки обратно. — Оставь их себе, — сказала К. Т. — Откуда ты знаешь, что это вранье? — Согласно вот этому счету, Харви и Дара снимали один номер на двоих в гостинице «Анасази» в Санта-Фе, — сказал Ник, постукивая по зеленой папке. — Но я точно знаю, что это не так. Они снимали два соседних номера. Теперь моргнула уже К. Т. — Это тебе Дара говорила? — Нет. Я в последнее время восстанавливал под флэшбэком наши разговоры, и она много раз пыталась сказать мне: что-то происходит. Не между нею и Харви, я думаю. Что-то, связанное с особым делом, по которому они и ездили туда-сюда после смерти Кэйго Накамуры. Даже в Санта-Фе. — Согласно документам, они снимали один номер на двоих. — Эти документы — чистая херня. Я знаю. Вчера говорил кое с кем в «Анасази». С горничной, которая проработала там сорок лет и помнит Дару — помнит, как она приезжала туда шесть лет назад. Дара ей понравилась. К. Т. покачала головой. — Не понимаю. Что ты делал в Санта-Фе? И давно ли ты знаешь о подозрениях насчет того, что Харви и Дара снимали один номер? Ник ответил только на второй вопрос: — Около полутора суток назад дон Кож-Ахмед Нухаев сказал мне, что Дара останавливалась в «Анасази» с Харви шесть лет назад. На следующий день после того, как Кэйго Накамура брал у него интервью, и за четыре дня до убийства Кэйго. Я был в Санта-Фе, поэтому зашел в отель и поспрашивал. Мудак-портье ничего мне не сказал, хотя я размахивал у него перед носом фальшивым значком. Но удалось найти двух старых горничных-латинок, которые помнили Дару. Одна из этих старушек вспомнила даже, в каких номерах останавливались Харви и Дара. В соседних номерах, но не в одном. Даже не в двухкомнатном. — А с чего это горничная через шесть лет будет помнить, кто в каком номере останавливался? — спросила К. Т. — Если она видела человека всего раз? — Я же говорю, Дара ей понравилась. Горничную зовут Мария Консуэла Санетта Геррера. Они поболтали немного, и выяснилось, что у обеих сыновей зовут Вэл… хотя имя сына Марии — уменьшительное от «Валентин». Ее сыну было двадцать девять, и она запомнила, как Дара говорила про своего сына — десятилетнего мальчика. — Прости, что засомневалась в твоих словах, — сказала К. Т. Правда, по тону нельзя было сказать, что она извиняется; голос ее звучал устало. — Но скажи, Ник, почему ты считаешь, что и остальные счета из гостиниц — поддельные? — Ты мне не сказала, откуда взялась вся эта херня, — напомнил он. — Это очень похоже на то, что предъявляют в жюри присяжных. — Это часть материалов для представления в жюри присяжных. Представленных в жюри, собранных в ходе внутреннего расследования, которое аппарат окружного прокурора провел в марте, пять с половиной лет назад. Когда Мэнни Ортега еще был окружным прокурором. — Внутреннее расследование? — пробормотал Ник. Он редко бывал так сбит с толку. — Два месяца спустя после того, как Дара и Харви погибли в автокатастрофе на I-двадцать пять? Межведомственное расследование. И жюри присяжных решает, был ли у одного из заместителей окружного прокурора роман с моей женой? Полная херня. Абсолютная бессмыслица. К. Т., словно соглашаясь, кивнула головой. — Да, совместное расследование. Но не для того, чтобы установить, потрахивались ли Дара с Харви у тебя за спиной. А для выяснения того, кто убил Харви и Дару. — Кто их убил? — прошептал Ник. Хорошо, что он сидел. Даже и так пришлось ухватиться за края старого деревянного стула, чтобы не упасть на пол. — Я тебя предупреждала, что будет хуже, — прошептала К. Т. — Ты готов к последней части? Я серьезно. — Показывай, — прорычал Ник. — Скорее. По тону экс-партнера К. Т. поняла, насколько он серьезен, и подтолкнула к нему остальные цветные папочки. Ник подвинул стул поближе, сгорбился над столом и принялся читать и перелистывать ксерокопии. Если К. Т. хочет его пристрелить — пусть стреляет. Но она вытащила пистолет из-под каталога и сунула в кобуру. Четыре человека с седой щетиной прошли мимо: они разговаривали о книгах и направлялись к кушеткам в темную флэшкомнату под пандусом, у его начала. Перед Ником лежали более двухсот страниц материалов от большого жюри присяжных. Это тайное жюри собрал тогдашний окружной прокурор Мануэль Ортега в конце февраля того года, когда погибла Дара, — собрал меньше чем через месяц после ее смерти. Упор в расследовании, казалось, делался на то, что помощник окружного прокурора Харви Коэн и его секретарша Дара Фокс Боттом, работая над все еще засекреченным делом, завели любовную интрижку. Детектив денверской полиции первого ранга Ник Боттом узнал об этой интрижке и подстроил автокатастрофу с целью убить жену и ее любовника. Ник с отвисшей челюстью откинулся к спинке стула. Ему хотелось то ли расплакаться, то ли застонать, но он знал, что это не поможет. Лейтенант К. Т. Линкольн очень внимательно наблюдала за ним. — Знаешь, К. Т., пять с лишним лет я пытался убедить себя, что Дара и Харви погибли в автокатастрофе. Факты остаются неизменными. Ехавшая впереди машина со стариками резко затормозила… водитель фуры за ними пытался остановиться, но не смог… водитель погиб в огне. И никто из них не знал друг друга, — никаких контактов между ними. Так говорилось во всех отчетах, ты помнишь? К. Т. постучала по фотографии водителя фуры своим коротким пальцем. Раздался противный резкий звук. — Узнаешь его, Ник? — Да, конечно. Филип Джеймс Джонсон. Я сам проверял. Он водил фуру двенадцать лет. Никаких серьезных происшествий, никаких нарушений. Он просто не мог бы… — Его имя и биография сфальсифицированы, — сказала К. Т. и вытащила из пачки другую фотографию. — Перед тобой не Филип Джонсон, а вот этот человек. Узнаешь его? Нику потребовалась чуть ли не минута, чтобы опознать человека на фотографии. Но и тогда он никак не мог поверить, что это — водитель фуры. Он положил две фотографии рядом. Человек на втором снимке был футов на шестьдесят — семьдесят легче Филипа Джеймса Джонсона. Плюс другое строение лица (даже оставляя в стороне то, что нос был куда толще), другой подбородок, другой цвет волос… черт, даже цвет глаз был другим. — Анализ ДНК точно показал, что Филип Джеймс Джонсон — на самом деле твой старый знакомый, тайный осведомитель Риккардо «Ударник» Моретти. Ник продолжал недоуменно смотреть. Он использовал Моретти как тайного осведомителя, еще работая патрульным, и несколько раз, уже став детективом. Прозвище Ударник этому мелкому жулику дали из-за его участия в выколачивании денег из страховых компаний, особенно в мошеннических проделках на дорогах, где он выставлял себя «жертвой» — как и в случае подставного падения на тротуаре перед кафе или магазином. Моретти так навсегда и остался шестеркой, мелочью, которая кормится при крупных хищниках: вечно на побегушках у бандитов и гангстеров, вечно в мечтах о настоящем деле. Но в качестве тайного осведомителя Моретти чаще всего оказывался ненадежен и не заслуживал даже тех малых денег, что патрульный, а потом детектив Боттом выплачивал ему из собственного кармана. Ник не встречался с Моретти десять лет. Даже больше. Он снова вгляделся в фотографии. Да… возможно. Что-то общее в форме глазных впадин и зубов — зубы ему не выправляли, — но… — Ему сделали серьезную пластическую операцию, — громко сказал Ник, потирая щеки и слыша скрежет щетины. — С какой стати? Его шайка никогда не стала бы тратить на это деньги. Ударник Моретти был нулем. И если уж ты платишь целое состояние в старых баках на косметическую хирургию, то зачем наращивать жир, уродовать нос и делать дурацкие уши? Бессмыслица. И потом, я читал исходную идентификацию по ДНК. Там утверждалось, что мертвый водитель — Филип Джеймс Джонсон. — Это все хорошо продуманная легенда, — возразила К. Т. — Включая и пластическую операцию. Кто-то готовил киллера из твоего старого дружка Ударника? — Нет никакого… — начал было Ник. К. Т. подвинула в его сторону еще одну пачку ксерокопий. — У нас есть телефонные записи твоих звонков Моретти. Четыре звонка: два в ноябре того года, когда убили Кэйго, один в конце декабря и последний за три дня до того… происшествия… в котором погибли Дара и Харви. Голова Ника откинулась назад. — Не было этого. Не звонил я ему. К. Т. прикоснулась к фотографии двух стариков, погибших, когда в их мерина врезались сначала машина с Дарой и Харви, а потом фура, которая сразу же загорелась. — Хавьер и Дульсинея Гутьеррес, — проговорила она. — Это настоящие имена. На их НИККах подделаны были только гражданство и история проживания по последнему адресу. Их привезли сюда из Сьюдад-Хуареса за три недели до так называемого несчастного случая. У нас есть телефонные переговоры Ударника Моретти — он организовал все это тоже. — Я никогда не звонил Моретти, — повторил Ник. К. Т. посмотрела на него тем взглядом, которым смотрела на множество загнанных в угол, но до конца запирающихся преступников. — Слушай, Ник, — негромко сказала она, — ведь именно ты на этой неделе просил меня покопаться во всем этом. Я говорила, что это несчастный случай. Я говорила: «Кто добровольно пойдет на подставу, в которой он должен умереть?» А ты ответил: «Ты не можешь мне отказать, К. Т. Покопайся». Вот я и покопалась. Материалы перед тобой. Ник снова потер щеки и подбородок. — Это полная бессмыслица. Даже если Моретти был глубоко законспирированным киллером в этой шайке… поверь мне, К. Т., у этого мудилы не хватило бы ума никого прикончить. Даже денверские мафиози, при всей их убогости и безбашенности, не стали бы его нанимать… я уж не говорю о том, чтобы платить за дурацкие пластические операции для сокрытия личности. Да и зачем скрывать его личность? Бандиты убивают, пуская пули двадцать второго калибра в голову, чтобы от мозгов ничего не осталось, бросают пистолет и уходят. — Если только кто-то очень не хотел, чтобы это выглядело как убийство. — Да. Но банды так не работают. — Согласна. Но ты бы смог. Ник не ответил — вместо этого он полистал досье. — Заключение жюри присяжных — чушь свинячья. У них тут достаточно свидетельств, в большинстве своем подложных, чтобы предъявить обвинение кому угодно. Но никаких обвинений предъявлено не было. Жюри распустили в апреле, пять с половиной лет назад, и с тех пор эти бумаги лежали, собирая пыль. Как ты это объяснишь? — Чтобы собрать все это, я встала на уши и надавала кучу обещаний, которые, надеюсь, мне никогда не придется выполнять, — устало сказала она. — Ты меня попросил, Ник. — К. Т. пододвинула к нему кипу цветных папок. — Теперь это твое. Если ты хоть раз скажешь, что мне что-нибудь известно обо всем этом, я назову тебя блядским лжецом. — А мне что с этим делать? — спросил Ник, поправляя папки: получилась стопка высотой около восьми дюймов. — А мне насрать, напарник. Ник шарахнул кулаком по стопке. — Ортега собрал присяжных и предъявил им все эти доказательства, надыбанные его собственными следователями и кем-то из нашего отдела внутренней безопасности. Почему те не воспользовались этим? Никаких обвинений явно никому не предъявлялось. В прессу не просочилось ни словечка. Как можно собрать столько доказательств того, что один из ведущих сыщиков отдела по особо важным делам — негодяй и убийца, что он убил свою жену и помощника окружного прокурора, а потом засунуть эти бумаги куда подальше? Это создание помех правосудию. — Спроси об этом Ортегу. — Спрошу, — пообещал Ник. — Завтра утром. В его кабинете. К. Т. покачала головой. — Мэр сейчас в Вашингтоне вместе с губернатором и сенатором Граймсом. Обсуждают новую реформу иммиграционных правил. Советник Накамура должен встретиться там с ними в понедельник и сделать заявление в каком-то подкомитете. — Тогда я поеду в Вашингтон, — сказал Ник и потер усталые глаза. Да что с ним такое? Он, как всегда, забывает о сыне. Сколько лет прошло с тех пор, как он отодвинул сына в самый конец списка приоритетов? Ниже привычки к флэшбэку. А еще раньше — ниже скорби по Даре. А еще раньше — ниже долбаной работы в полиции. А еще раньше — ниже любви к жене. А еще раньше… был ли сын когда-нибудь в верхней части списка, если уж не на самом верху? Ника вдруг захлестнула абсолютная уверенность, ощущаемая физически, как и подступившая к горлу тошнота: Вэл сказал бы ему, что он, Вэл Боттом, никогда не был на первом месте в списке приоритетов отца. — Нет, — сказал Ник. — Я поеду в Лос-Анджелес. Чтобы забрать Вэла. Найти сына и привезти его сюда. С Ортегой я разберусь позднее. К. Т. Линкольн встала. — Что бы и для кого ты ни делал, не звони мне больше, Ник. Я никогда не раскапывала этих документов от жюри. Я не встречалась с тобой здесь сегодня. Я видела тебя только раз за последние три года, в денверской забегаловке, в прошлый вторник: там меня засекло слишком много людей, а телефон забегаловки пришлось сообщить в диспетчерскую. Но это последнее место, где я тебя видела. Если кто спросит, я скажу, что ты выпрашивал денег, а я не дала. А потом мы несколько минут мололи языками, вспоминали прошлое, и я решила, что наша совместная служба на самом деле немногого стоит. Прощай, Ник. — Прощай, — рассеянно сказал Ник, затем открыл досье с документами по расследованию автокатастрофы и принялся разглядывать диаграммы и фотографии последствий пожара, унесшего жизни пять человек, включая и его жену. — К. Т… какой законспирированный киллер по доброй воле согласится погибнуть в сотворенном им же пожаре? Как это… Но К. Т. Линкольн уже ушла. Ник говорил сам с собой в полутемном помещении.
В воскресное утро серый вертолет «сасаяки-томбо» — «шепчущая стрекоза» — коснулся плоской крыши бывшего молла на Черри-Крик, ныне кондоминиума. Точнее, он приземлился там. Этот вертолет был более крупным и совершенным, чем тот, в котором Ник летал на Рейтон-Пасс. Хидэки Сато выпрыгнул из машины и тщательно обыскал Ника. Оружия при нем не было. Сато просмотрел небольшую спортивную сумку, где тоже не было оружия, хотя и лежали шесть магазинов с девятимиллиметровыми патронами. Потом он вытащил и распечатал объемистый почтовый конверт. Там лежал «глок» Ника — без обоймы, без пули в патроннике, разобранный. — Как вы и просили, — заметил Ник. Сато запечатал конверт и ничего не ответил. Взяв спортивную сумку, он жестом пригласил Ника в вертолет. Наверху неторопливо вращались большие, необычного вида винты. Ник оказался в тесном отсеке вроде шлюза, явно с МР-сканером: такие сканеры стали необходимыми после того, как фанатики-джихадисты обнаружили, что во все полости тела можно насовать пластида. Потом они прошли через еще одну дверь и очутились в небольшом роскошном помещении (умеренно роскошном — сёдзи, татами, цветы) — точь-в-точь комната Накамуры в особняке на Эвергрин, если бы не широкие многослойные окна. Накамура сидел во вращающемся кожаном кресле за лакированным столом, стоявшим под двумя из этих окон. Ник видел миллиардера девять дней назад, когда после беседы его наняли для расследования, — ему казалось, что прошло гораздо больше времени, — и Хироси Накамура выглядел точно так же, вплоть до тщательно расчесанных на пробор седых волос, наманикюренных ногтей, черного костюма и узкого черного галстука. В этом небольшом пространстве стояли другие, удобные на вид кресла и диван, но Накамура не пригласил Ника сесть. Сато тоже остался стоять — достаточно далеко, чтобы выглядеть подчиненным, и достаточно близко, чтобы защитить босса, если Ник бросится на него. Реконфигурируемый слой умного гипса на руке Сато был тонок и гибок настолько, что не выделялся под темным пиджаком. — Рад видеть вас снова, мистер Боттом, — сказал Накамура. — Мистер Сато сообщил мне, что у вас есть просьба. Я сегодня отправляюсь в Вашингтон, округ Колумбия, и мой частный самолет должен вылететь из Денверского международного аэропорта через пятнадцать минут. У вас есть полторы минуты для изложения своей просьбы. — Мой сын попал в серьезную неприятность в Лос-Анджелесе, — начал Ник. — Его жизни угрожает опасность. Мне нужно попасть туда, но у меня нет денег на самолет. На машине не доехать, а грузовые конвои на запад пассажиров не берут. Но если бы даже брали, у меня и на это нет денег. Мистер Накамура чуть-чуть наклонил голову вбок. — Я пока еще не слышал вашей просьбы, мистер Боттом. Ник набрал в грудь побольше воздуха. У него оставалось меньше минуты. — Мистер Накамура, вы обещали мне пятнадцать тысяч долларов — старых долларов если я раскрою убийство вашего сына. Я близок к раскрытию. Думаю, что я мог бы назвать имя убийцы уже сейчас, но мне необходимо окончательное подтверждение. Я хотел попросить у вас денег на билет до Лос-Анджелеса — семьсот старых баксов прямо сейчас вместо пятнадцати тысяч обещанных. Но туда больше не летают ни пассажирские, ни транспортные самолеты. И оттуда тоже. Накамура ждал. Он ни разу не взглянул на свой «ролекс», но на фонаре кабины был виден черный циферблат с секундной стрелкой. — У «Накамура энтерпрайзиз» есть регулярные рейсы в Лас-Вегас, — продолжил Ник, чувствуя, как пот стекает по его животу. — Я проверил. В Лас-Вегасе я смогу добыть транспорт — частный самолет, джип, что угодно, — чтобы добраться до Лос-Анджелеса и найти сына. Я прошу вас зарезервировать для меня место на одном из ваших грузовых или курьерских самолетов, если возможно, сегодня, и выдать вперед триста баксов — старых долларов, чтобы я мог заплатить за последний отрезок пути. Клянусь вам, что назову имя убийцы вашего сына, когда вернусь. Остальные деньги можете оставить себе. — Очень щедро с вашей стороны, мистерБоттом. — Накамура еле заметно улыбнулся. — Скажите мне прямо сейчас, кто убил моего сына, возьмите все пятнадцать тысяч и летите в Лос-Анджелес… может быть, в своем собственном самолете. — Сейчас я это не могу доказать, — сказал Ник. — Я знаю, что, если назову имя убийцы, вы потребуете доказательств. — Но вы вместо того, чтобы завершить расследование, просите у меня отсрочки… насколько? На неделю? Две? Чтобы помочь вашему сыну уйти от правосудия. Как я понимаю, он разыскивается за убийство. — Нет, сэр. Лос-анджелесская полиция выдала ордер на его задержание как потенциально важного свидетеля. Послушайте, я так или иначе доберусь до Лос-Анджелеса, чтобы найти моего мальчика. Вы бы сделали то же самое, если бы ваш сын был жив и нуждался в вашей помощи. Если вы поможете мне попасть туда сегодня, я вернусь раньше и быстрее завершу расследование. Я знаю, какое доказательство нужно найти, если мои подозрения насчет убийцы верны… а я думаю, что они верны. Помогите мне спасти моего сына, чтобы я мог найти убийцу вашего. Накамура посмотрел на Сато, но тот стоял с непроницаемым видом. Часы миллиардера тихонько тикали, отсчитывая секунды. Советник сложил пальцы уголком и посмотрел на Ника. — Мистер Боттом, вы знаете, где аэропорт Джона Уэйна? — Да, в Санта-Ане или Ирвине — в тех краях. Милях в сорока к югу от Лос-Анджелеса. — У нас нет грузовых рейсов туда в настоящий момент, — сказал Накамура. — Но в следующую пятницу, двадцать четвертого сентября, там будет дозаправляться рейс из Токио между пятью тридцатью и семью вечера. По тихоокеанскому летнему времени. Вы должны быть на этом самолете с вашим сыном или без него. Ясно? Ник не был уверен, что ему ясно. — Вы даете мне возможность добраться до Денвера, если я найду Вэла? В следующую пятницу? — Да, — подтвердил миллиардер. — Грузовой рейс компании «Накамура энтерпрайзиз» на Лас-Вегас, штат Невада, отправляется из Денверского международного аэропорта сегодня в одиннадцать утра. От грузового терминала. Я поставлю их в известность, и для вас найдут место на этом самолете. Не очень удобно, зато быстро. У вас будет время для поисков сына до пятницы, когда в аэропорту Джона Уэйна станет дозаправляться рейс из Токио. Если вы найдете своего сына раньше или… должны будете покинуть Лос-Анджелес, отправляйтесь на грузовой терминал в аэропорту Джона Уэйна в любое время до пятницы. Там вы получите еду и крышу над головой до пятничного рейса. А потом, в пятницу, вы должны будете вернуться и сообщить мне, что вам известно об убийстве моего сына. Или по меньшей мере что вы думаете на этот счет. — Да, сэр. Спасибо, сэр, — сказал Ник. Он старался не разрыдаться, но от этого усилия в груди и горле возник болевой спазм. — Что касается денег, мистер Накамура… тех денег, которые мне понадобятся, чтобы… — У мистера Сато заготовлен контракт, мистер Боттом. Нужен только отпечаток вашего большого пальца и подпись. Мы выдадим вам сегодня авансом пятьсот долларов, старых американских долларов, в обмен на ваш отказ от вознаграждения в пятнадцать тысяч долларов, если вы раскроете убийство моего сына. Но эти пятьсот долларов — не подарок. Если вы не раскроете убийство моего сына за две последующие недели, то последуют… штрафные санкции. — Да, сэр, — сказал Ник, которому было плевать на все штрафные санкции. Сато протянул Нику «олпад» с контрактом на экране. Ник, не читая, приложил большой палец и расписался стилусом. Сато жестом показал Нику, что нужна его НИКК, тот достал ее, и Сато провел карточкой по слоту «олпада». Получив карточку назад, Ник увидел, что на ней появились семьсот пятьдесят тысяч новых баксов — пятьсот настоящих, старых. — На это ушло больше времени, чем вы обещали, — резко сказал Накамура. — Вы можете лететь с нами в Денверский международный аэропорт, мистер Боттом. Если готовы. — Я готов. — Но не здесь, мистер Боттом. Вы можете лететь впереди, с пилотами. Мистер Сато покажет вам, как туда пройти, и отдаст вам ваш багаж. Дверь — скорее крышка люка — позволяла Сато еле-еле протиснуться сквозь нее. «Сасаяки-томбо» поднялся в воздух, прежде чем Ник успел пристегнуться на своем откидном сиденье за пилотскими местами.
В течение часа после приземления в Лас-Вегасе Ник нашел летчика, готового доставить его в Лос-Анджелес. Вернее, не в сам Лос-Анджелес, а на гражданский аэродром Флейбоб, где не осталось диспетчерской башни. Аэродром находился в Рубиду, неподалеку от Риверсайда, к югу от Помонского шоссе и к востоку от I-15. Ник решил, что это недалеко от места назначения и он найдет способ добраться до города — до квартиры Леонарда у Эхопарка. У него останется чуть больше трехсот тысяч новых баксов и «глок». Но летчик был готов лететь только вечером (точнее, даже около полуночи), поскольку все полеты в город были нелегальными. Поэтому у Ника оставалось много времени в Лас-Вегасе. Он чуть с ума не сошел от этой задержки, но контрабандный пилот заявил, что полетит только с наступлением темноты. Выбора не оставалось — только ждать. После обеда, ближе к заходу солнца, Ник направился к высокой стене, окружавшей современный Лас-Вегас. Он решил немного успокоить нервы и пройти шесть миль вдоль стены, окаймляющей южную оконечность города, а потом еще милю назад, к аэропорту. После захода солнца Ник остановился и стал смотреть на сотни, если не тысячи, грузовиков и на палаточный город, выросший в пустыне к югу от Лас-Вегаса. Слышались выстрелы, рев мотоциклов, крики. Бессчетное количество фар освещало плотную, укатанную землю. В палаточном городке, снабжавшем закаленных водил всем необходимым, трещали факелы и костры. Ник знал, что отправка конвоев на запад — в Лос-Анджелес — запрещена, но оттуда они еще приходили. Глядя на огни и прислушиваясь к отдаленному реву, он понял, что если Леонард и Вэл смогли попасть на один из последних конвоев, то, возможно, сейчас стали частью этого света и шума — и до них меньше полумили. «Хватило ли профессору Леонарду Фоксу здравого смысла — и связей, — чтобы выбраться вместе с Вэлом из города?» — подумал Ник. Но даже если Леонарду это удалось, Ник понятия не имел, где их искать. Нет, ничего лучше не придумать — нужно попасть на эту безумную бойню, в которую превратился Лос-Анджелес. Ник не представлял себе, каковы его шансы выбраться из Лос-Анджелеса живым, а тем более — найти Вэла и убраться вдвоем с ним. И с Леонардом, если тот захочет. Но он решил обдумать это позднее. Ник отвел взгляд от факелов, костров и включенных фар. С заряженным «глоком» на поясе и небольшой сумкой в руке он продолжил свой путь на восток, вдоль южной части лас-вегасской стены, собираясь вернуться в международный аэропорт Маккаррана за два часа до того, как летчик попытается доставить его и маленькую «сессну» на поле боя, в Лос-Анджелес.
3.03 I-25 и Денвер 24 сентября, пятница — 25 сентября, суббота
Почетному профессору Джорджу Леонарду Фоксу было семьдесят четыре, и он знал, что проживет совсем немного лет — если вообще проживет хоть сколько-то. Даже если его не прикончит это путешествие, кашель и боль в груди, беспокоившие его доктора, никуда не девались. Рентгенограмма не давала ясной картины, поэтому доктор предложил сделать компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию и определить, не рак ли у него. Согласно Инициативе Национальной службы здравоохранения, это не должно было стоить Леонарду ни цента. Но очередь на медицинские процедуры, оплачиваемые по ИНСЗ, затягивалась как минимум на девятнадцать месяцев, и Леонард подозревал: он умрет от того, что служит причиной кашля и боли в груди, раньше, чем пройдет анализы. Именно это уже много лет случалось с пожилыми гражданами, которые не могли себе позволить платную медицинскую помощь. Винить было некого: Леонард с энтузиазмом поддерживал реформу здравоохранения, которая давала правительству контроль за всеми решениями в этой области. Но иногда нелепость всего происходящего в медицине, — сразу вспоминался «железный закон непредумышленных последствий», как называл это университетский преподаватель Леонарда, доктор Берт Стерн, — заставляла его не без горечи улыбаться. Но сколько бы ему ни оставалось жить, Леонард знал, что никогда не забудет эту последнюю ночь пути по Колорадо вместе с конвоем. Он почти не обращал внимания на Скалистые горы, когда жил и преподавал в Боулдере, и долгая ночная дорога по возвышенной части Колорадо таила для него немало сюрпризов. Ему, конечно, хотелось быть вместе с Вэлом все эти последние сутки, но тот ехал сначала с водителем-одиночкой Калибром Деверо, а потом — с Генри «Большим Конем» Бигеем. Леонард очень беспокоился, не зная, как поведет себя внук при встрече с Ником Боттомом в Денвере, на следующий день. Оставалось надеяться, что подозрения Вэла удастся ослабить. И еще нужно было поговорить с внуком о пароле к зашифрованному тексту на телефоне Дары. Леонарду хотелось попробовать пароль, который пришел ему в голову — он был почти уверен, что дочь воспользовалась именно им, — и самому прочесть зашифрованный файл: ведь там могло обнаружиться нечто, способное еще больше настроить парня против Ника Боттома. Но Вэл всегда брал с собой этот старый, побитый телефон. Проведя несколько часов в бесплодной тревоге, Леонард попытался расслабиться и поговорить с водителем, Хулио Романо. Жена Хулио, Пердита, спала в нижнем спальном отсеке; когда они приблизились к континентальному водоразделу, из-за перегородки стал доноситься ее громкий, хотя и женственный храп. Хулио хотел говорить о политике и недавней истории. Леонард (уверившись, что водитель, похоже, из тех, кто может говорить на подобные темы без потери самообладания и даже с юмором) не стал возражать. — Хорошо, — сказал Хулио тем вечером. — Нечасто у меня в кабине сидит настоящий профессор английской и античной литературы. Как лучше вас называть — доктор или профессор? — Лучше — Леонард. — Отлично, Ленни. Так будет легче. Но я буду помнить, что вы — почетный профессор. Вообще-то Леонард разозлился бы, услышав от кого-нибудь «Ленни» (впрочем, он такого и не слышал). Но в устах Хулио это звучало вполне нормально — когда Леонард понял, что водитель не имеет в виду ничего оскорбительного. Когда они приближались к перевалу Лавленд, Хулио рассуждал об общем упадке стран. Леонард не переставал удивляться, как хорошо информирован и насколько образован этот водитель грузовика. — Но я не думаю, что Соединенное Королевство добровольно выбрало упадок, — говорил Леонард, изо всех сил стараясь не со скользнуть в менторско-профессорский тон. — После Второй мировой сражавшуюся Британию неизбежно ждало банкротство… и нежелание людей после пяти лет тягот и лишений возвращаться к довоенной классовой системе. — И потому они выгнали Уинстона Черчилля, даже не сказав спасибо, и выбрали социализм, — сказал Хулио, переходя на пониженную передачу: огромный грузовик, как и остальные машины, съехал с I-70 перед заблокированным туннелем Эйзенхауэра и стал подниматься к ночному небу по более узкому и извилистому Шестому хайвею. — Да, — сказал Леонард. Перспектива дискуссии о социализме с представителем рабочего класса его немного беспокоила. Те работяги, которых он знал — всего несколько человек, — считали и это слово, и саму идею вредными, зачастую реагируя на них несдержанно. — Но Британская империя все равно распалась, и не важно, кого бы они захотели видеть премьер-министром или какой строй выбрали бы, — продолжил он, чуть повышая голос из-за усилившегося рева двигателя. — Бедности после войны было не избежать, при социалистическом строе или при любом другом. — Может быть, — сказал, улыбаясь, Хулио. — Но не стоит забывать о словах Черчилля. — Каких словах? — спросил Леонард. Приближались первые крутые повороты, и он, выдохнув, покрепче ухватился за подлокотник справа от себя. — «Социализм — философия неудачников, манифест невежества, евангелие от зависти, где добродетелью считается равенство в распределении нищеты», — процитировал Хулио. — Я согласен со стариком Уинни: если общество провозглашает добродетелью равенство в распределении нищеты, то его ждет в будущем много нищеты и лишений. Мы с вами, Ленни, конечно, уже переросли эти глупости и смотрим на мир иначе. — Да, — согласился Леонард. Красные габаритные огни перед ними виляли и исчезали из виду на крутых поворотах Лавленд-Пасса, словно грузовики перекатывались через край и падали в пропасть. Фары их собственной машины выхватывали заплатки и ямы на дороге, а ограждение по большей части отсутствовало или было поломано. Одно лишь внимание водителя не давало фуре свалиться в пропасть, где они погибли бы в огне. — Да, — повторил он, стараясь не терять нить разговора, — но выбор более… гм… социального подхода к распределению нищеты и избавлению от бедности не обязательно подразумевает, что цивилизация выбрала упадок. — Но знаете ли вы современную цивилизацию, выбравшую социализм — распределение благ сверху, так же как у нас лет двадцать назад, — которую не ждал бы упадок? Упадок ее влияния в мире? Упадок в экономике, упадок нравственности? — спросил Хулио, переходя еще на три передачи вниз и резко поворачивая вправо, а потом так же резко — влево, чтобы вписаться в крутой поворот дороги, петлявшей все сильнее. — Пожалуй, нет, — признался Леонард. Он вовсе не горел желанием ввязываться в жаркий спор на этом участке дороги, каким бы бодрым и спокойным ни казался Хулио. Свободной рукой Леонард уперся в твердую приборную панель. В свете луны и звезд по обе стороны узкой дороги показались удивительные по красоте снежные поля. А ведь еще не закончился сентябрь! Леонард забыл, как рано может выпадать снег в высокогорной части Колорадо. — Ленни, ведь вы профессор. Ведь это, кажется, Токвиль сказал: «Демократия и социализм не имеют ничего общего, кроме одного слова — „равенство“. Но обратите внимание на разницу: если демократия стремится к равенству в свободе, то социализм — к равенству в ограничениях и рабстве»? Кажется, Токвиль. Я все еще почитываю его в дальних рейсах, когда Пердита сидит за рулем, а у меня бессонница. — Да, по-моему, Токвиль, — выдавил из себя Леонард. Они приближались к вершине перевала. Конвой с трудом преодолевал каждый дюйм разбитой, узкой дороги со вздыбленным асфальтом. Леонард подумал, что стоит появиться встречной машине, направляющейся на запад, и все двадцать три грузовика могут свалиться в пропасть. На север и юг вдоль континентального водораздела уходили выстроенные в ряд гигантские белые столбы — вроде худосочных надгробий. Леонарду понадобилась целая минута, чтобы понять: перед ним — заброшенные ветряки, памятники недолгой «зеленой» эры. Ночью зрелище было совершенно запредельным. — Ленни, вы наверняка помните тот год, а может, и день, когда большинство граждан Америки пятнадцатого апреля перестали платить налоги, но по-прежнему голосовали за выгодные для них социальные программы. Переломный момент, так сказать. — Вряд ли, Хулио. — В две тысячи восьмом, в год выборов, мы почти подошли к этому. А к следующим выборам, в две тысячи двенадцатом, уже определенно подошли. А в две тысячи шестнадцатом переломный момент остался уже далеко позади, и назад мы так никогда и не вернулись, — сказал Хулио под рев грузовика, преодолевавшего последние футы подъема на самой низкой передаче. — Это с чем-то связано? — спросил Леонард. Он сталкивался с такими людьми, как Хулио Романо, — с самоучками, что считали себя интеллектуалами. У этих людей всегда была исключительная память, они читали в переводах Платона, Фукидида, Данте, Макиавелли и Ницше. Но они не знали того, что их коллеги-ученые — истинные интеллектуалы — читали этих авторов в оригиналах: на греческом, латыни, итальянском, немецком. Леонард был не слишком высокого мнения о самоучках, полагая, что учениками их были большей частью недоумки, а учителями — фигляры. Они теперь проезжали между ветряков континентального водораздела. Все бездействовали, и Леонард понял, что эти сооружения выше, чем ему казалось прежде, — четыреста футов, не меньше. Обшарпанные белые столбы разделяли звездное небо на холодные прямоугольники. — Знаете, Хулио, — сказал он, чтобы сменить тему, — в ваших с Пердитой именах есть кое-что необычное. И в вашей фамилии тоже. Хулио Романо — так звали… — Скульптора из шекспировской «Зимней сказки», — сказал водитель, сверкнув широкой белозубой улыбкой в огнях приборного щитка. — Единственный художник того времени, которого Шекспир назвал по имени. Да, я знаю. Пятый акт, торжественный обед, его предполагается провести в присутствии очень правдоподобного изваяния Гермионы, умершей жены Леонта, «над которым трудился много лет и которое закончил знаменитый итальянский мастер Джулио Романо, кто, будь он сам бессмертен и способен оживлять свои создания, мог бы превзойти природу, подражая ей в совершенстве».[106] Чудно, правда, Ленни? — Но тут мы имеем дело с явным анахронизмом, — не удержался Леонард. Старый ученый мог сделать вид, что не заметил один анахронизм, но никак не два за вечер. — Упомянутый в пьесе Джулио Романо — это итальянский художник середины шестнадцатого века. И зачем Шекспир говорит, будто Романо знаменитость, а притом еще и скульптор, — загадка. Кажется, он даже и скульптором-то не был. Они пересекали широкое заснеженное плато на вершине горного массива. Фары ехавших впереди грузовиков высветили помятый, но все еще стоявший знак: «Высота 3655 м (11190 футов)». Хулио переключил передачу — грузовику предстоял не менее мучительный спуск по восточной стороне континентального водораздела. Бесполезные ветряки у них за спиной стали пропадать за горизонтом, словно белые колонны, поддерживающие усеянный бриллиантами купол ночного неба. — Вообще-то, Ленни, — заметил Хулио, — этот Джулио Романо был скульптором, и первые исследователи творчества Шекспира ошибались на этот счет. В «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари, переведенных только в тысяча восемьсот пятидесятом году, приводились две латинские эпитафии Романо, согласно которым он был архитектором и довольно знаменитым скульптором и художником. Так что Шекспиру он должен был быть известен как скульптор. — Признаю свою ошибку, — сказал Леонард. Он знал, что спуск будет гораздо опаснее, чем подъем к вершине. — Я это знаю только потому, что у меня такое же имя, — сказал Хулио. — Мой отец был профессором, преподавал историю искусств в Принстоне. — Правда? — сказал Леонард и тут же пожалел, что голос его прозвучал так удивленно. — Да, правда, — сказал Хулио, снова усмехаясь. Он перешел на более низкую передачу и резко вывернул баранку влево. За пустотой, где должно было бы стоять ограждение, в считаных дюймах справа от машины, была лишь еще большая пустота, которая заканчивалась скалами внизу — через милю или больше. — Но я знаю, о чем вы думаете, — добавил он. — О том странном обстоятельстве, что я женат на женщине по имени Пердита, ведь Пердита — это потерянная дочь короля Леонта, которую он находит перед тем, как оживает статуя его жены Гермионы. Иначе говоря, какова вероятность того, что Хулио Романо из «Зимней сказки» женится на Пердите, названной по имени одного из персонажей этой пьесы? — А ее именно так и назвали? — выдавил Леонард, держась за подлокотник и торпеду так, словно от этого зависела его жизнь. — По имени шекспировского персонажа? — Именно. — Хулио ухмыльнулся убегающей под колеса дороге. — Родители моей жены были шекспироведами. Отец Пердиты, Р. Д. Брэдли, познакомился с Гейл Керн-Престон, ее матерью, на конференции в Цюрихе, посвященной «Зимней сказке». — Р. Д. Брэдли и Гейл Керн-Престон? — выдохнул Леонард. Он так удивился, что на мгновение даже забыл про свой страх. — Да. — Хулио обратил широкую улыбку к Леонарду. — Мать Пердиты после замужества продолжала публиковаться под своей девичьей фамилией. Я думаю, что ученые в этом смысле — как кинозвезды… накапливают слишком большой капитал под своими изначальными фамилиями, чтобы менять их ради такой мелочи, как замужество. Леонард не сдержал улыбки. Две его жены (первая, Соня Райт-Джонсдоттир, и четвертая, она же последняя, Нубия Войси) придерживались именно такого мнения. Леонард, безусловно, понимал их в то время — еще и потому, что обе в своих областях знаний были известнее, чем он в своей. — А вы где познакомились с Пердитой? На какой-нибудь научной конференции? — спросил Леонард. Хули усмехнулся. — Типа того. Мы познакомились в Лаббоке, штат Техас, на съезде водителей «Питербилтов» под названием «Мы свободные водилы, а вы все мудилы». Я услышал, что в тату-салоне одной женщине делают на заднице татуировку — Цербер, две головы на левой ягодице, одна на правой, — и понял, что должен с ней познакомиться. Конечно, это оказалась Пердита. Ей тогда исполнилось двадцать три, и она уже четыре года была независимым водителем, а в тот уик-энд искала, с кем развлечься или подраться. Я пригласил ее на рюмочку, потом мы заполировали это пивком — чтобы не так болело, сказал я. Сразу же выяснились наши истории с именами, мы поняли, что наши родители были на конференции по «Зимней сказке», и наша судьба, — стать врагами или друзьями. За неделю в дороге я прямо-таки влюбился в Цербера, и мы решили стать друзьями. — O seclum insipiens et inficetum, — пробормотал Леонард, не отдавая себе отчета в том, что произнес эти слова вслух. «О глупый и безвкусный век». — Да, именно, — рассмеялся Хулио. — Это было верно в его времена, как верно и в наши. Люблю Катулла. В особенности его замечание, что, превратив страну в пустыню, они называют это миром. И это мы тоже видели, правда, Ленни? Слова о пустыне и мире принадлежали Тациту, но Леонард не стал поправлять своего нового друга. — Да. Что-то меня в сон клонит, Хулио… Леонард поерзал на мягком сиденье, ухватившись руками за ремень безопасности и тяжелую центральную застежку. Грузовики впереди них, казалось, устремлялись в темноту широкого каньона по эту сторону водораздела — под все более крутым углом. — Да, Ленни, вам обязательно надо поспать. Мы будем на окраине Денвера утром… наверняка до полудня. Но позвольте задать вам еще один вопрос, прежде чем вы отправитесь на свое спальное место. — Водитель рассмеялся: как показалось Леонарду, не без грусти. — Кто знает, когда в моей кабине окажется еще один почетный профессор. — Конечно, — сказал Леонард, отпуская ремни. — Задавайте. Мне понравилась наша беседа. Но простите, если мой ответ будет краток. Как-то я в последнее время стал чувствовать свой возраст… и, сверх того, недосып за последнюю неделю. — Конечно, — сказал Хулио. Его правая рука и левая нога, казалось, двигались автоматически, когда он производил ряд сложных действий для перехода на несколько передач вниз. Большая машина застонала, отвечая на манипуляции. Загорелись стоп-сигналы идущих впереди фур, и Леонард ощутил запах перегретых тормозов на грузовиках впереди и позади них. — Ленни, вы будете еврейской нации? Леонарду словно отвесили пощечину. Возможно, даже не оскорбительную или враждебную, а вроде той, которой доктор приводит в чувство обморочного человека. За всю его долгую жизнь — семьдесят четыре года — никто не задавал ему этого вопроса. И сказал он о своей национальности только одной из четырех жен — третьей. На секунду Леонард решил, что водитель — не серьезный, одинокий самоучка, не дорожный полуинтеллектуал, как он великодушно считал несколькими минутами ранее, а попросту необразованная деревенщина. Хулио даже не потрудился сформулировать вопрос повежливее — сказал как-то по-антисемитски: «еврейской нации». Сонливость у Леонарда вмиг исчезла. Он еще не рассердился, не встревожился, — только весь напрягся. — Да, — строгим тоном сказал он. — Я — еврей. По крайней мере, предки мои были евреями. Я никогда не был верующим. Мой дед изменил фамилию, приехав в Штаты после Первой мировой. — И какая же у вас была фамилия? — Фукс. Очевидно, немецкий вариант английского «Фокс». Насколько мне известно, мои предки были рыжеволосыми, а мужчины в семье по линии деда — очень ловкими и хитроумными. Поскольку «Фукс» похоже на неприличное английское слово, некоторые евреи добавляли к своей фамилии еще что-нибудь: Фуксман, например. Но немецкие фамилии были малопопулярны после Великой войны, а потому дед взял однокоренное английское слово. Леонард понял, что слишком разговорился, и замолчал. Хулио кивал, но явно не в знак того, что его подозрения оправдались. Обычно так кивают, когда вступление, практически ненужное, закончилось. — В этом и состоял ваш вопрос? — спросил Леонард, не сумев — да и не желая — скрыть жесткую нотку в голосе. — Нет, — ответил Хулио, никак не показывая, что уловил раздражение в тоне собеседника. — Понимаете, Ленни, вы еврей и левый университетский интеллектуал, поэтому для меня очень важно ваше мнение. — Насчет чего именно? Голос Леонарда теперь звучал не вызывающе, а лишь несказанно устало — даже для него самого. — Многие думают, что Израиль был уничтожен, потому что из секретной израильской лаборатории Хават-Машаш в южной пустыне произошла утечка изобретенного ими наркотика. Флэшбэка, — сказал Хулио. Леонард после уничтожения Израиля тоже слышал об этом «факте», но слова Хулио не звучали вопросительно, и он ничего не ответил. — Мне нужно знать, Ленни, — продолжил водитель, чье дыхание, казалось, немного перехватило, — что вы об этом думаете. — Что я думаю? О чем? — Об уничтожении Израиля. Я имею в виду, что вы думаете об этом как еврей. Как еврей, а также как либерал и интеллектуал. — Я был в синагоге четыре раза за всю жизнь, Хулио, — тихо сказал Леонард. — Три раза приглашали друзья по случаю бармицвы[107] их сыновей. Один раз — на заупокойной службе по умершему другу. Никто из этих друзей и знакомых и не подозревал, что я — еврей, особенно первые из них. Им пришлось показывать мне, как надевать кипу — такую шапочку. Я неподходящий еврей для такого вопроса. — Но у вас же есть свое мнение, — настаивал водитель. Леонард видел, что и Хулио очень устал. Мешки под его опухшими глазами были иссиня-черными, почти такими же, как темные откосы по обе стороны идущего вниз шоссе. — Да, у меня, как и у всех, есть свое мнение об уничтожении Израиля, — сказал Леонард. — Кто-то сказал, еще до этого события — прошу прощения, забыл его имя; память у меня старческая, не такая цепкая, как ваша… Так вот, он сказал: «В тот день, когда будет уничтожен Израиль, начнется подлинно всемирный холокост». — Это не из Библии? — спросил Хулио. — Звучит по-библейски. — Нет, точно не из Библии. Возможно, это слова одного из последних руководителей Израиля. Нет, не помню. Это все, Хулио? — Постойте, Ленни… — Хулио с трудом продирался к чему-то и через что-то. — Один вопрос, последний. Что вы подумали об американском президенте… даже президентах… и Конгрессе, который повернулся против Израиля… бросил его задолго до атаки? Профессор Джордж Леонард Фокс глубоко вздохнул. Он принадлежал к тем людям, которые даже в детстве не могут ударить другого. Он изучал пацифизм как философское учение в течение более чем шести десятилетий — и, понимая, что пацифизм не может решить все мировые проблемы, все же восхищался им едва ли не больше, чем другими попытками образумить человечество. — Хулио, — тихо сказал он, — я желал бы посмотреть, как всех этих президентов, сенаторов и конгрессменов развесят на фонарных столбах по всему Вашингтону. Я желал бы, чтобы Израиль отреагировал так, как обещал, и превратил Иран, Сирию и другие составные части будущего Халифата в пустыню из радиоактивного стекла. А он вместо этого покорно скончался. Я устал, Хулио. Наш сегодняшний разговор был интересным… я его не забуду… но сейчас я иду спать. — Доброй ночи, профессор Фокс. — Доброй ночи. Леонард поднялся по короткой лестничке в свой отсек. Тихое похрапывание Пердиты доносилось до него снизу через перегородку. Он раздвинул свою перегородку-гармошку, и храп перестал быть слышен. Он жалел, что Вэла нет с ним в эту последнюю ночь и они не могут поговорить о завтрашнем дне. Леонарда приводила в ужас одна только мысль о том, что мальчишка собирается убить отца. «Проклятие Каина, убившего брата, и Авраама, который был готов убить сына, — устало подумал он. — И это проклятие я передал ему по наследству». Леонард разделся и влез во фланелевую пижаму, взятую с собой. Наступал конец света. Полиция, ДВБ, ФБР и еще бог знает какие службы преследовали Вэла, а вместе с ним и его деда. А он, Леонард, тем временем не забыл захватить пижаму и тапочки — и чистил зубы дважды в день, утром и вечером. «Жизнь продолжается». Это было заложено в ДНК каждого еврея. Непосильная усталость накатила на Леонарда. И еще: никогда за многие годы он не чувствовал себя таким одиноким. Он ощущал себя виноватым, когда, включив небольшой фонарик, расстегнул молнию на рюкзаке Вэла и принялся перебирать скудное содержимое. Телефона Дары здесь не было, как и «беретты», но это не удивило Леонарда. В боковом кармашке на молнии он нашел пять ампул с флэшбэком. Четыре были пусты. Оставалась одна — часовая. Ощутив себя виноватым еще больше (он был уверен, что украсть припрятанную дозу считается серьезнейшим преступлением среди наркоманов и уголовников), Леонард забрался под одеяло, сосредоточился на том часе, который хотел заново пережить, откупорил ампулу и вдохнул аэрозольный наркотик. Леонард знал, что этот навык приходит быстро — умение сосредоточиваться на определенном воспоминании, чтобы направить действие флэшбэка на то время, которое хочешь пережить вновь. Он полагал, что Вэл и другие наркоманы довели этот процесс до совершенства и, вероятно, могут восстанавливать пережитое, рассчитав начальный момент чуть ли не с точностью до секунды. Почетный профессор Джордж Леонард Фокс пытался воспользоваться флэшбэком издавна и сейчас волновался. В эту долгую, темную, одинокую ночь он хотел одного: провести часок со своей любимой, третьей, женой — и единственной настоящей, как он всегда считал в глубине души. С Кэрол. Леонард постарался сосредоточиться, но еще не решил, провести ли с женой ночь после ее дня рождения (Кэрол любила праздновать его вместе с мужем) или же часок из того времени, когда они еще не были женаты: одну из долгих совместных прогулок. Он начал паниковать еще в тот момент, когда пытался сосредоточиться и пора было вдыхать наркотик. В течение следующего часа Леонард заново переживал удаление зубного нерва. Это случилось, когда ему было под шестьдесят. Дантист оказался бесцеремонным, грубым, черствым. Анестезия, похоже, действовала плохо. К вечному страху Леонарда, страху перед смертью от удушья, добавились боль и тревога. К его нынешним боли и страху добавились боль и страх тогдашние. Но он знал, что флэшбэк не позволяет повернуть назад. Если процесс начался, то от количества воспоминаний, соответствующего объему ампулы, уже невозможно убежать, отказаться, спрятаться. «Так мне и надо, — думал он, чувствуя, как час ужаса медленно скользит, надвигается на него сквозь ночь, — сам виноват. Вот наказание за то, что я украл флэшбэк у мальчишки и пытался бежать от реальности к общению с мертвецами. Мы должны отдавать долг нашим мертвецам при помощи памяти, а не химии. Я заслужил это». Горько улыбаясь, Леонард подумал, что этой ночью чувствует себя вполне евреем.Вэла с Леонардом высадили из машины около 11 утра в ЛоДо: у Юнион-стейшн, рядом с I-25. Дальше они двинулись пешком. Дорога заняла всего восемь дней, — Леонарду казалось, что гораздо больше. Теперь, без конвоя, ему стало не по себе: он чувствовал себя каким-то покинутым и подозревал, что Вэл испытывает схожие чувства. Оба устали, раздражались по пустякам, но Леонарду казалось, что сквозь обычную угрюмость внука сквозит какое-то возбуждение. Наконец парень вспомнил, что дед еще не знает важной новости, и скороговоркой сообщил: Генри «Большой Конь» Бигей обещает взять его, Вэла, с собой, если к дню предполагаемого возвращения Бигея — 27 октября — Вэл обзаведется фальшивой НИКК. Он показал Леонарду клочок бумаги с денверским адресом и номером телефона того, кто изготавливал поддельные карточки. Ниже были нацарапаны имя, номер телефона и адрес еще одного человека. — Это лучший, без вопросов, изготовитель фальшивок, знакомый Бигею. Говорят, его карточки не отличить от настоящих, но он живет вообще не здесь. Кажется, в Остине — в общем, где-то в Техасе. Не знаю, зачем Бигей записал это. Мне нужно найти двести старых баксов и заглянуть к тому, первому, типу на Саут-Бродвее здесь, в Денвере. Вэл торопливо забрал у деда бумажку. Бессмысленно было напоминать, что триста тысяч новых баксов — двести старых — так же недосягаемы, как бледный серп луны, все еще висевший в голубом небе над горами. День был теплым для конца сентября, почти летним, голубое небо — безоблачным. Листья на немногих деревьях вдоль улиц старого города еще оставались зелеными, но выглядели такими же пыльными и усталыми, как и эти двое прохожих. Леонард вспомнил такие же осенние дни в те времена, когда он жил вблизи Боулдера, тополиные листья, до того хрупкие, что потрескивали на ветру, небеса, неповторимо-синие в колорадском октябре, разреженный воздух без малейшего намека на влажность, так часто свойственную Лос-Анджелесу. Они добрели до Блейк-стрит, потом повернули направо и прошли три коротких квартала до бульвара Спир, споря о том, что делать дальше. Вэл хотел увидеть их старый дом и квартал неподалеку от Чизмен-парка, но это означало крюк в несколько миль к востоку. К тому же тащиться туда не имело смысла — Ник продал этот дом и выехал оттуда, когда отправил Вэла в Лос-Анджелес, пять с лишним лет назад. Даже соседи, которых Вэл знал мальчишкой, вероятно, переехали… либо переехали, заметил Леонард, либо получили уведомление от ФБР и ДВБ, что в случае появления Вэла должны сообщить об этом. — Нужно идти к кондоминиуму в молле на Черри-Крик, где живет твой отец, — сказал Леонард, когда они свернули на так называемый Черри-Крик-трейл. — ФБР и там будет искать. — Да. Но если повезет, твой отец защитит нас от них. Старик и парень прошли несколько кварталов на юго-восток. Дальше, за Лаример-стрит, пешеходная дорожка ныряла вниз и тянулась вдоль берега Черри-Крик, извиваясь вместе с речушкой между двумя полосами оживленного бульвара. До кондоминиума, где жил его зять, оставалось мили четыре. Пройдя первую милю, Леонард почувствовал, что может и не преодолеть этого расстояния. Он рухнул на скамейку у тротуара, а Вэл принялся нервно расхаживать вокруг. Когда Леонард пару десятилетий назад жил в Колорадо, этот район вдоль Черри-Крик был известен своими бездомными: на каждом перекрестке стоял как минимум один обросший тип с надписью на картонке. Другие бездомные меньше бросались в глаза — они спали под множеством мостов, нависших над проходящей внизу пешеходной дорожкой. Теперь Леонард видел тысячи бездомных — целые семьи, — постоянно обитавших на берегах Черри-Крика. Они не казались опасными, потому что пешеходные дорожки по обе стороны реки были заполнены велосипедистами, спешившими в центр и из центра. Бизнесмены в дорогих костюмах — мужчины и женщины — крутили педали, их портфели лежали в корзиночках, прикрепленных к рулю. Но теперь, когда Леонард с Вэлом ненадолго остановились, бездомные на берегах и под мостиками начали обращать на них внимание. — Лучше нам убраться отсюда, — прошептал Вэл. Леонард кивнул, но поднялся не сразу, так как очень устал. По пути он все время поднимал руки и трогал зубы через щеки, словно пытка по извлечению нерва прошлой ночью была настоящей, а не флэшбэкной. — Сумка тяжелая, — пожаловался он, ненавидя себя за плаксивую нотку в голосе. — Оставь ее, — сказал Вэл, таща деда за руку. Четыре человека вышли из тени и теперь быстро приближались к ним. — Не могу. — Профессор в отставке Джордж Леонард Фокс явно пришел в возмущение. — Там моя пижама. Вэл поднял деда на ноги, и они снова двинулись в путь. Четверо бездомных тут же потеряли к ним интерес и вернулись к спальным скаткам в тени. — Какой-то сукин сын из конвоя вчера залез ко мне в сумку и украл одну из последних ампул с флэшбэком, — сказал Вэл. — Представляешь? — Это ужасно, — ответил Леонард. Они по-прежнему шагали на юг, вдоль берега реки. Бездомные в тени под переходами отшатывались от Вэла, и Леонард понял, что его внук становится мужчиной. — Будь у нас работающий телефон, — заметил Леонард, — мы могли бы позвонить твоему отцу. Он мог бы забрать нас. — У нас нет телефона, — сказал Вэл. — Если тут еще остались таксофоны, у меня на карточке хватит денег, чтобы сделать местный звонок. — Никаких таксофонов уже нет, дед. И не забывай, что мы не можем пользоваться нашими карточками. — Я только говорю, что будь у них телефоны, такие, что принимают монетки… если бы у нас нашлись монетки… мы могли бы позвонить и… — Будь у нас ветчина, мы могли бы сделать сэндвич с ветчиной и сыром, — сказал Вэл. — Будь у нас еще и сыр. Леонард моргнул. Это была первая шутка, пусть и саркастическая, которую он за долгое время услышал от внука. Он понял, что обещание, полученное от Бигея, — это шанс для Вэла, пусть и мизерный, присоединиться к конвою независимых водителей. Вэл увидел, что выход из мрака есть. Хоть какой-то выход. — Если бы все еще ходили автобусы, мы могли бы сесть на автобус, — сказал Леонард. — Четыре мили — идеальное расстояние для поездки на городском автобусе. Вэл ничего на это не ответил. Бомбисты-смертники любили американские автобусы не меньше, чем когда-то палестинские террористы — автобусы в Тель-Авиве и вообще в Израиле. В некоторых крупных американских городах метро и надземные железные дороги все еще работали, — людей и багаж там просвечивали, и довольно эффективно, пусть даже раз-два в месяц поступали сообщения о взрывах. А вот автобусы были беззащитны. Леонард считал, что американцы, отказавшись от автобусов, сделали большой шаг назад в цивилизационном развитии. Вэл накинул ремень своей маленькой сумки на плечо, оглянулся и, не сказав ни слова, взял из рук деда его сумку, более тяжелую. Они пошли дальше — Вэл на несколько шагов впереди. Леонард обратил внимание, что внук оставил свободной правую руку. Пистолет он держал за поясом с левой стороны, под курткой. Леонард пожалел, что сбежал из дома и Лос-Анджелеса не в кроссовках, а в туфлях. Ноги распухли и так болели, что он едва мог идти. Раньше Леонард полагал, что ежедневная полумильная прогулка до Эхо-парка позволяет ему поддерживать форму, но оказалось, что это вовсе не так. Утром в машине Хулио и Пердиты он слышал последние новости из Лос-Анджелеса. Если верить им, самые тяжелые бои в городе и окрестностях уже отгремели, отряды реконкисты отходили по I-5 к Сан-Диего. Национальная гвардия Калифорнии и англосаксонские военизированные формирования восстановили контроль над I-5 и прибрежным коридором на всем их протяжении от Лонг-бич до Энсинитаса. Сообщалось, что Нуэво-Мексико потерпела крупнейшее поражение со времени начала экспансии. У Леонарда все это вызывало смешанные чувства. Как историк-любитель и знаток классической литературы, он понимал, насколько несправедливым был захват юго-западных штатов у Мексики в 1840-е годы. Но кроме того, он был достаточно стар, чтобы помнить лос-анджелесские беспорядки 1992 года. Волнения вспыхнули после того, как оправдали полицейских, избивших человека по имени Родни Кинг. Меньше чем за неделю в городе случились тысячи поджогов, и многие из выжженных кварталов так и оставались незастроенными уже сорок лет. Погибло более полусотни человек, около двух тысяч были ранены. Леонард вспомнил о тех бесчинствах сейчас, услышав подробное сообщение о том, как толпа вытащила из бронетранспортеров, избила и прикончила бойцов реконкисты — целую роту. Это случилось в Южном Центральном Лос-Анджелесе, на пересечении авеню Флоренс и Саут-Норманди — там же, где в 1992-м вытащили из грузовиков, а потом избили водителей и других невинных людей. Теперь, как передавала радиостанция, чернокожие боевики убили больше двухсот бойцов реконкисты и двинулись на восток города, преследуя отступающие силы Нуэво-Мексико и сжигая все на своем пути. Это расстроило Леонарда. Он волновался за своего друга Эмилио Габриэля Фернандеса-и-Фигероа и его сына Эдуардо. Дай бог, чтобы они остались живы, думал он. Джордж Леонард Фокс ни на минуту не сомневался, что Эмилио, хотя и за деньги, спас жизнь Вэлу (а может быть, и Леонарду), когда девять дней назад помог им выбраться из Лос-Анджелеса. Леонард обратил внимание, что Вэл решил подняться по ступенькам с пешеходной дорожки у берега Черри-Крик на тротуар вдоль бульвара Спир. Велосипедистов внизу стало меньше, а дорожку и берег заполняли бездомные. Он только что вспоминал Аламо (когда-то он вычитывал статью своего приятеля о техасском Аламо и сражении в феврале — марте 1836-го, когда от рук генерала Санта-Анны погибли Трэвис, Крокетт, Боуи и другие; главное внимание уделялось неудачному руководству Сэма Хьюстона, Остина[108] и прочих так называемых техасцев), а потому удивился, увидев газон Аламо-Пласита-парка на другой, северной стороне улицы. Напротив него, с южной стороны, то есть ближе к ним, находился Хунгариан-Фридом-парк — поменьше размером. И там, и там, особенно в Хунгариан-Фридом-парке, справа от них, стояли сотни лачуг и потрепанных палаток. Рядом толклись сотни бездомных — в основном мужчины. Вэл замедлил шаг и пошел рядом с Леонардом. — Держись поближе ко мне, дедушка. Несколько тощих, сердитых с виду парней лет двадцати пяти перешли многолюдную улицу до половины, выйдя на центральную дорожку, и последовали за ними. Бульвар Спир сворачивал к Восточной Первой авеню, меняя направление — дальше он шел с востока на запад. Справа показалась высокая ограда, за которой находилась обширная территория бывшего Денверского кантри-клуба. Черри-Крик исчезал в этой недоступной для публики зоне. С северной стороны улицы тянулся один из старейших благополучных районов Денвера: тенистые улицы, бывшие дома мультимиллионеров (если считать встарых долларах). Теперь эти дома лежали в руинах: многие были сожжены, другие заняты бродягами или превращены в третьеразрядные флэшпещеры. Увязавшаяся за Вэлом и Леонардом группка парней перебежала Саут-Даунинг-стрит и догнала их. Вэл уронил сумку деда, развернулся и вытащил из-за пояса «беретту». Парни остановились футах в тридцати и принялись сыпать проклятиями, а один поднял с земли камушек и швырнул в них. Продолжая браниться и делать неприличные жесты, преследователи все же развернулись и направились назад, в Хунгариан-Фридом-парк. Леонард почувствовал, что ему тяжело дышать. Вэл засунул пистолет за пояс, поднял его сумку и, твердо схватив деда за локоть, быстро повел его по тротуару вдоль ограды кантри-клуба. — Удивительно, что у них тоже не оказалось оружия, — наконец выдавил из себя Леонард. Он все время оглядывался через плечо. — Будь у них оружие, — сказал Вэл, — они не были бы бездомными. А нас бы пришлепнули. Давай скорее. Сердце Леонарда колотилось от напряжения и адреналина. Поравнявшись со входом в кантри-клуб, он заглянул внутрь. Синие палатки раскинулись на месте теннисного корта и восемнадцатилуночного гольф-поля за массивным главным зданием. На немногих свободных участках помещались конвертопланы: СВВП[109] или… как их там — «Оспри»? Они стояли в ряд, двигатели и винты находились в положении для вертикального взлета. — Интересно, что… — начал было Леонард. — Не останавливайся, дед. Мы почти пришли.
Превращенный в жилье молл, где обитал зять Леонарда, занимал длинный и широкий квартал, с одной стороны ограниченный рекой. Высокое ограждение и колючая лента между крытой парковкой, построенной еще для молла, и рекой не позволяли бездомным селиться на берегу. По другую сторону Черри-Крика, на юге, располагался кондоминиум подороже: много колючей ленты, автоматных вышек и частных охранников у ворот. На этом берегу дела обстояли похуже. Леонард помнил, что район близ Черри-Крик был одним из самых дорогих в Колорадо мест для шопинга. Теперь квартал двух-, трех- и четырехэтажных зданий на противоположной от кондо-молла Ника Боттома стороне Первой авеню превратился в лабиринт рынков и построек, выжженных в ходе беспорядков или войн за сферы влияния. За последнее десятилетие здесь исчезли все элитные магазины. «Господи, как много зависит от обслуживания», — подумал Леонард. Давно, еще до Дня, когда настал трындец, вышли книга и телесериал о мире, в котором люди внезапно исчезли — не вымерли, а просто исчезли. Они зачаровали Леонарда, который тогда еще преподавал Шекспира и Чосера. До просмотра сериала Леонард не понимал — книгу, лежавшую в основе, он так и не прочел, — насколько сеть коммуникаций, физическая основа современной жизни, зависит от постоянного обслуживания. В своих апокалипсических видениях он всегда воображал, что города по большей части сохранят свой облик на целые десятилетия, даже на целый век, пока сорняки, трава, деревья и дикие животные не начнут заполнять их. Но оказалось, что это не так. В сериале не говорилось о том, что служебные туннели, подземные ходы, вся подземная часть большого города — вроде Нью-Йорка — без постоянного обслуживания через день окажутся под водой. Одно это вскоре приведет к взрывам из-за роста давления в трубопроводах, затоплению подвалов небоскребов, обрушению фундаментов и удивительно быстрой деградации городской инфраструктуры. Род человеческий в Соединенных Штатах не исчез, совсем нет. Но всеобщее ощущение того, что страна сдалась, плюс повсеместное распространение флэшбэка — из-за чего в каждый конкретный момент лишь немногие исполняли свои служебные обязанности, — вызвали схожее по масштабам разрушение инфраструктуры. Бокс Леонардова зятя располагался в огромном укрепленном бетонном кубе без окон. Лучше бы он стоял на другом берегу реки — здесь же здание возвышалось, как Форт-Апачи[110] в глубине индейской территории. Леонард наблюдал в этот день, как люди перемещаются по разрушенным кварталам — бывшей торговой зоне Норт-Черри-Крик по другую сторону широкой улицы. Однако прогулка в этих краях ночью и без оружия обернулась бы кошмаром. Въезды в крытую парковку со стороны реки теперь были перегорожены проволокой под высоким напряжением. За берегами — огороженными, осклизлыми, с вытоптанной травой — велось непрерывное видеонаблюдение из кондо-комплекса. В западном торце здания располагался контролируемый подъезд к парковке. Автомобиль должен был проехать через автоматические ворота, бетонный взрыв-короб — там обыскивали машины и изымали взрывчатку, если находили, — потом через еще одни ворота, а уже затем по пандусу внутрь гаража. Стальные, без окон двери главного входа смотрели на север. Над ними виднелись пузырьки видеокамер. Леонард и Вэл пересекли Первую авеню и прошли взад-вперед по улицам, обращенным к громаде мола, — по двум кварталам. — Если бы мы только могли позвонить… — сказал Леонард. Ему пришлось сесть. — Спокойно, дед, — отрезал Вэл. Они держались в тени, пряча лица от камер наблюдения наверху — словно дешевая бижутерия, те висели вдоль всего фасада. — Тебе придется зайти внутрь и узнать, дома ли мой предок. — Мне? Одному? А ты не пойдешь? — Денверские копы меня разыскивают. Мы слушали радио в грузовике — там передавали фамилии всех ребят, с которыми я корешился. На меня наверняка выпущена ориентировка. Может, мной интересуются еще ФБР и ДВБ. Они высчитали, что в первую очередь я заявлюсь сюда… и вот, пожалуйста, я здесь. Но тебя, Леонард, они могут и не искать. Леонарду не нравилось, когда Вэл называл его по имени. — Меня могут искать точно так же, — возразил он. Вэл пожал плечами. — Все равно, у нас в запасе нет ничего лучшего, чем Ник Боттом. Он, конечно, по уши во флэшбэке, но у него могли сохраниться связи в денверской полиции. Если нет, он хотя бы сумеет вывести нас из города. Охрана здания, наверное, не пропустит тебя дальше холла или КПП — не знаю, что тут есть. Но если тебя не задержат и не позвонят сразу же в полицию, то, может, разрешат позвонить предку в его бокс. А если тебя все-таки схватят, скажи, что бежал из Лос-Анджелеса, а где я — не знаешь. — Мне не поверят, если я скажу, что уехал из Лос-Анджелеса без тебя. Вэл пожал плечами. Молчание затягивалось. — И ты полагаешь, что твой отец дома в середине дня? — спросил наконец Леонард слегка дрожащим голосом. — Он наркоман, — бросил Вэл. — А флэшбэкеры почти всегда дома. Когда не залегают во флэшпещеру. — Если он дома… если меня не задержат и не вызовут полицию… что я должен сказать твоему отцу? — Скажи, что я здесь. Пусть он выйдет поговорить со мной. И захватит двести баксов — старых баксов. Если у него нет столько на руках, мы можем дойти до банкомата. Несколько банкоматов еще стоят. Леонард не знал, смеяться или плакать. — И это все? Все, что тебе нужно от отца, — это деньги? Чтобы добыть фальшивую карточку и стать водителем? — Да. — Но ты ведь так злился на него, Вэл? — В жопу. Уже неважно. Я не знаю, что там было у них с мамой, да и не колышет это меня больше. Если он там… если не потратил все до последнего цента на флэшбэк… пусть выйдет ко мне и принесет двести старых баксов. Можешь сказать, что я никогда больше его не побеспокою. Пусть только даст денег. Он отправил меня в ссылку на пять долбаных лет. Уж двести-то баксов он мне должен, я думаю. Леонард покачал головой, помолчал, потом проговорил: — Может быть, я подберу пароль к тексту на телефоне твоей матери. Мне пришли в голову кое-какие варианты. Парень вздернул голову: — Разве это теперь важно? — Может, и важно. Леонард не знал, важно это или нет. Он хорошо изучил свою любимую дочь, когда они жили вместе, но шансы на разгадывание пароля были невелики. Дара с ее недюжинным интеллектом понимала, что самым безопасным паролем будет более-менее случайный набор букв и цифр. Конечно, это было сентиментальной глупостью — полагать, что он угадал трехбуквенное слово. — Я больше не считаю, что предок и в самом деле убил ее, — пробормотал парень. — Просто мне невмоготу было видеть, как он не плачет после маминой смерти. Он не плакал на похоронах, не плакал, когда мы разбирали ее вещи. Сукин сын… вообще никак не показал, что переживает. Потом он избавился от меня, а… а я думаю, что на какое-то время у меня шарики съехали. Мне просто нужны деньги, сколько бы он ни дал. А потом я уеду куда-нибудь и постараюсь никогда больше его не видеть. Леонард начал было говорить, но прикусил губу. — Тогда, может, ты отдашь мне телефон моей дочери? Я хочу прочесть ее дневник. — Если ты приведешь сюда предка и он даст мне денег, чтобы я мог сделать карточки, то можешь забирать на хрен этот телефон. А теперь иди, дед.
Холл кондоминиума представлял собой пуленепробиваемый взрывобезопасный бункер с камерами наблюдения. Двери в жилые помещения были из многослойного металла. Посетителям следовало говорить в микрофон и видеокамеру рядом с трехмерным экраном высокого разрешения, на котором бесконечно крутилась заставка: цветущий луг с оленем и парящий в голубом небе орел. И все это — под вдохновенную музыку, вполне способную прикончить человека со слабыми нервами. Из-за решетки донесся мужской голос: — Добро пожаловать в кондоминиум «Черри-Крик-молл». Чем могу быть полезен? Леонард сказал, что хочет поговорить с мистером Ником Боттомом. Последовала пауза, потом голос ответил: — Пожалуйста, оставайтесь на месте. Сейчас к вам выйдут. Леонарда охватила паника. Они вызывают полицию. Охрана здания предупреждена. Его схватят и продержат до приезда полицейских. Он быстро направился к тяжелым дверям, ведущим на улицу, и попытался открыть одну створку. Та подалась. Леонард знал, что те, кто следит за ним через камеры, могли запереть дверь из центральной диспетчерской. Раз этого не сделали, его не собираются задерживать. Выглянув из двери, он не увидел Вэла на другой стороне улицы; правда, движение на Первой авеню было довольно напряженным. Леонард закрыл дверь и стал ждать. Его старое сердце колотилось, постоянный цветок боли в груди распускался, раскрывал лепестки, достигая размера кулака. Он знал, что это не сердце. Что-то росло внутри его, все сильнее болело в левом легком. Джордж Леонард Фокс ощущал, как тяжесть смерти все сильнее придавливает его к земле. Внутренняя дверь открылась. Вышел невозмутимый и крепкий мужчина в простой черной форме охранника. У него на поясе висели рация и другие обязательные атрибуты, но пистолета Леонард не заметил. — Вы — доктор Фокс? — сказал человек, протягивая руку. — Я Ганни Г., глава службы безопасности кондоминиумов «Черри-Крик-молл». Леонард пожал протянутую руку. У Ганни Г. были короткие, тупые и широкие пальцы. Пожатие его мозолистой руки напоминало прикосновение к стволу дерева с более-менее гладкой корой. — Мистер Боттом просил меня присмотреть за вами и вашим внуком… — сказал Ганни Г. «Мы арестованы», — подумал Леонард. — … проводить вас обоих к нему и устроить там, — закончил охранник. Леонард обратил внимание, что лицо у Ганни Г. походило на карту Луны — под постоянным загаром виднелась сеточка белых шрамов. — Когда мой зять говорил с вами? — Сегодня утром, сэр. Перед отъездом. — Значит, сейчас его нет? — задал глупый вопрос Леонард. Если бы так ответил кто-нибудь из учеников профессора, рядом с его фамилией в журнале появилась бы крохотная буковка «н» («недоумок») — для экономии времени, когда настанет пора аттестации. Ганни Г. кивнул. — Но мистер Боттом сказал, что вернется сегодня к концу дня. И лично просил меня позаботиться, чтобы вам и вашему внуку было удобно. — А как вы меня узнали? — спросил Леонард не то что слабым, но явно потерянным голосом. — Мистер Боттом показал мне ваши фотографии, сэр, — сказал охранник. — У вас есть багаж? Я буду рад помочь вам отнести его наверх. «Наверх, в камеру временного содержания», — подумал Леонард. Он был настолько испуган, что его чуть ли не разбирал смех. — Наш багаж у внука, — пробормотал он так, будто реальный мир все еще существовал. — Мы, наверное, придем попозже. Удастся ли им удрать от полиции? Леонард знал, что ему не удастся. Даже ухромать не получится. Ганни Г. — что за имечко? — засунул руку в карман рубашки, вытащил оттуда клочок бумаги и сказал: — Извините, доктор Фокс. Совсем забыл. Мистер Боттом просил передать вам это. Записка гласила: «Леонард, Вэл, я рад, что вы в безопасности. Прошу доверять этому человеку. Он проводит вас в мой бокс. Я вернусь попозже, сегодня, в субботу. Нам обязательно нужно увидеться. В моей комнате, на столе, лежат чеки в кафетерий — возьмите, если захотите поесть или попить. До скорого. Ник». Далее следовала сделанная наспех приписка: «Ганни Г. сообщит мне по телефону о вашем приезде». Леонард не мог сказать, написано это Ником или нет, потому что не был знаком с его почерком. Он сунул записку в карман, чувствуя, что совсем сбит с толку. — Пойду за внуком и багажом, — произнес он наконец. Его слова гулким эхом отдавались во взрывобезопасной входной коробке. — Отлично, доктор Фокс, — сказал квадратнолицый охранник. — Я подожду вас здесь. Вэл ждал его не там, где они расстались, а у западного угла кондоминиума. Леонард поведал ему о происходящем. Парень нахмурился, глядя на громадное здание. — Мне это кажется подозрительным, дедушка. — Да, — согласился Леонард. — Но меня же выпустили. — Им нужен я, дедушка. Может, за меня объявлено вознаграждение. Омура вполне мог его предложить. — Да, но… — Леонард еще раз показал ему записку. — Это почерк твоего отца? Вэл нахмурился. — Вроде бы. Не уверен. Я так давно не… — Он прищурился, посмотрев на солнце, смял записку, швырнул ее на землю. — Там у меня отберут пистолет. — Да, охранники наверняка это сделают, — сказал Леонард. — Рядом с телеэкраном висит объявление… — Они не получат моего пистолета, — отрезал Вэл. — Они наверняка его вернут, когда мы будем уходить. Вэл улыбнулся. — Идем со мной, дед. К западу от огромного здания молла, за въездом на парковку, к реке шла старая мощеная велосипедная дорожка, прежде пересекавшая Черри-Крик по небольшому мосту. Велосипедная дорожка и тротуар продолжались на другом берегу, но узенький мостик был кем-то взорван. Вэл повел деда к западной оконечности уничтоженного моста — многочисленные камеры наблюдения на кондоминиуме не захватывали это место. Вода под мостом была слишком высока, а потому бездомные там не собирались и не ютились. Леонард смотрел на Вэла, который взял два камня. Используя один как молоток, а другой — как долото, он принялся сбивать ржавую заглушку на старой трубе, торчавшей из речного берега. Наконец та со ржавым скрежетом соскочила. Теперь по трубе ничего не текло. Внутри оказались грязь и паутина. Вэл залез в свою сумку, вытащил одну из футболок, достал из-за пояса «беретту» и завернул в футболку вместе с несколькими магазинами. Засунув сверток в трубу на глубину запястья, он с помощью двух камней вернул заглушку на место. — Идем, — сказал он.
Леонард поразился, обнаружив, как тесно у Ника — и как шумно в соседских боксах и в коридорах бывшего торгового комплекса. Здесь хватало места только для кровати, крохотного стола, дешевого стула, маленькой ванны с туалетом и душевой и совсем микроскопического стенного шкафчика. Он лежал на кровати, часто дыша, а Вэл ходил туда-сюда, как хищник в слишком маленькой для него клетке. — Чеки на столе, — сказал Леонард. — Можно сходить в кафетерий и поесть. После завтрака на дороге прошло бог знает сколько времени. Вэл, ничего не ответив, открыл единственный ящик маленького отцовского стола. Там лежала только гибкая клавиатура для дистанционного управления телевизором. Леонард знал, что обычно телевизор и его компьютерные функции управляются посредством телефона. Потом Вэл залез в стенной шкафчик, перебрал рубашки, брюки, спортивные куртки, после чего вытащил бухту веревки и ремни крепления, висевшие в углу. — Это что еще за хрень? — Вероятно, твой отец занимается скалолазанием, — ответил Леонард, увидев металлические карабины и зажимы, которые в прошлом веке назывались жумарами. — Фига с два, — сказал Вэл. — Готов спорить на что угодно, предок припас это на тот случай, если вдруг придется давать деру с крыши. Видишь это? Он поднял небольшой прямоугольный сверток из оранжево-черного нейлона. — Что это? — Это для плавания. Может, плавающее кресло вроде тех, что бывают у рыбаков. Предок спускается с крыши на газон, надувает эту хреновину и гребет что есть мочи на другую сторону реки. — Такие меры предосторожности вполне разумны на случай пожара… — начал было Леонард. Вэл расхохотался и принялся просматривать ящики. — Твоему отцу не понравится, что ты копаешься в его вещах, — заметил Леонард. — Мой… отец… может надеть свой лучший галстук и поцеловать меня в задницу, — сказал Вэл. — Если я найду деньги, то сразу же смотаюсь отсюда. Он вытащил из-под свежего нижнего белья несколько ампул с флэшбэком и швырнул на кровать. — И ты даже не станешь ждать отца, чтобы поздороваться с ним? — Нет. Вэл заглянул под кровать, за большой телеэкран, обследовал бачок унитаза и душ. Потом, вернувшись в комнату, он посмотрел на ящики, которые только что переворошил, и пробормотал: — Постой-ка. Я помню, что когда от меня что-то прятали в доме… Вэл принялся вытаскивать ящики и выворачивать их содержимое на пол. Жестом попросив деда подвинуться, он стал укладывать пустые ящики на кровать дном вверх. К каждому ящику снизу скотчем были прикреплены цветные папки. — Опаньки, — сказал парень. — Не похоже на деньги. Твой отец придет в ярость, когда вернется и увидит… Но Вэл уже сорвал скотч и теперь укладывал папки на столик, одну поверх другой. Сначала он просто перелистывал страницы, явно в поисках денег, но, просмотрев папки, разложил их по порядку и принялся читать. — Господи Иисусе, — выдохнул Вэл. — Что это? Вэл без слов, не отрываясь от следующей папки, швырнул деду ту, что уже прочел. — Господи Иисусе, — снова проговорил он. Леонард начал читать. Такие дурные предчувствия были у него только раз в жизни — когда его жена Кэрол пришла домой и сообщила ему, что у нее рак яичников. Это были ксерокопии доклада для жюри присяжных — доказательства, снимки, сделанные со спутника, записи телефонных разговоров и другая информация. Из всего этого вытекал единственный вывод: пять с половиной лет назад Ник Боттом, детектив первого ранга из отдела по особо важным делам, узнал о романе своей жены с Харви Коэном, помощником окружного прокурора, — и подстроил убийство обоих, замаскировав его под автокатастрофу. — Господи Иисусе, — прошептал доктор Джордж Леонард Фокс. Вэл закончил беглый просмотр последней папки, встал, вытащил альпинистские веревки из стенного шкафчика и бросил их на пол. Потом он открыл свою сумку и начал вынимать оттуда вещи, одновременно опустошая карманы собственной куртки. Леонард понял, что мальчишка набивает карманы пистолетными обоймами и горстями пуль. После этого Вэл набросил на плечо бухту веревки с карабинами, вышел из двери и исчез в лабиринте боксов внутри прежнего «Беби-гэпа». — Вэл! — Леонард побежал к наружным дверям, выкрикивая имя внука. Но тот уже скрылся из виду — вероятно, сбежал по неработающему эскалатору и завернул за угол коридора. Леонард стал беспомощно ходить по кругу. Что он может сделать? А если позвонить Ганни Г., охраннику, и сказать, чтобы он не выпускал Вэла? Но в развороченном боксе Ника Боттома, конечно, не было телефона. Сердце схватило после короткой пробежки по коридору. Догнать Вэла не было ни малейшей возможности. Старик подошел к перилам и посмотрел на то, что прежде было элитным моллом. Перед замызганными окнами бывших магазинов на грязных плитках валялись вонючие мешки с мусором. Если бы сквозь запыленные, частью открытые фонари в крыше не проникало немного света, в молле было бы совсем темно и нечем дышать. — Боже мой, боже мой, — прошептал Леонард, почти уверенный, что Вэл отправился за пистолетом и станет бродить у входа, дожидаясь возвращения отца. Придет ли Ник пешком или приедет на машине, он все равно будет мишенью. Леонард почти уже вернулся в бокс, когда услышал удары и звук бьющегося стекла. «Господи, они бьют Вэла». Он снова побежал к перилам, но оттуда по-прежнему никого не было видно; казалось, все в порядке. Леонард остался бы стоять там в ожидании, что кто-нибудь появится и объяснит причину шума, но боль в груди была невыносимой. Хватая ртом воздух, Леонард вернулся в бокс Ника, отодвинул пустые ящики и сел на кровать. В груди болело так, что он подумал: «Сейчас потеряю сознание». Он заставил себя подняться и подошел к столу, глядя на груду папок. Вэл вытащил из своих карманов все — перочинный нож, записную книжку, всякий хлам, чтобы освободить место для обойм и отдельных патронов, которые у него были с собой. На столе лежал и телефон Дары: Вэл в спешке забыл его взять. Леонард с трясущимися руками сел на кровать и активировал несколько функций, все еще действовавших на телефоне, потом перешел к зашифрованным текстам и большим видеофайлам. Появился запрос на трехбуквенный пароль. Вспомнив, как его прелестная, проказливая дочь рассказывала отцу, почему она влюбилась в человека с таким нелепым именем — Ник Боттом, Леонард набрал буквы: с-о-н. И получил доступ. Сначала он открыл видеофайлы, но те оказались не видеодневником: в камеру — явно более высокого разрешения, чем установленную на телефоне Дары, — смотрели незнакомые Леонарду люди, говорившие об использовании флэшбэка. Файлы были громадными. Леонард прокручивал их, но там возникали все новые и новые люди, говорившие в камеру. Дара ни разу не появилась. Леонард не мог понять, почему эти записи оказались в ее телефоне. Массируя одной рукой болевшую грудь, Леонард закрыл видеофайлы и открыл текстовые. Это был дневник, который вела дочь в последний полный год своей жизни — от конца весны до начала осени. Текст тоже был запаролен, но Леонард опять догадался: Килдар — так звали попугайчика, которого Дара держала в восьмилетием возрасте. Файл открылся. Он читал поспешно, все быстрее переходя с одного дня на другой, пока не добрался до последней записи, сделанной за день до гибели Дары. — Боже мой, боже мой, — снова проговорил Леонард с безграничным ужасом и удивлением. Это меняло все. Стостраничный материал для жюри присяжных, обвинявший Ника в убийстве, становился просто печальной шуткой. Менялось все. Надо найти телефон и позвонить Нику. Пусть полиция выследит его по звонку. Неважно. Надо найти и остановить Вэла. Надо… Леонард вдруг ощутил резкую боль в груди — куда сильнее той, привычной и неприятной, что распускалась цветком. Затем она сделалась расширяющимся плащом темноты, который сначала порхал вокруг Леонарда, словно черная летучая мышь, а потом плотно его стянул. У старика помутилось в глазах, дыхание перехватило. «Мне нельзя терять сознание, — подумал Леонард. — Надо сказать Нику. Надо сказать Вэлу. Надо сказать всем…» Он не почувствовал, как упал.
1.15 Санта-Ана и в воздухе 24 сентября, пятница
Аэропорт Джона Уэйна находился вне зоны боев, бушевавших вокруг Лос-Анджелеса уже шесть-семь дней. Однако множество военных машин Национальной гвардии и других воинских подразделений постоянно грохотали по 405-му шоссе, которое пересекало территорию аэропорта к северо-востоку от взлетно-посадочной полосы 1L/19R. Аэропорт не использовался для военных перевозок — только для обычных коммерческих фрахтов и порой для пассажирских рейсов. Последние чаще совершались с небольшого аэродрома в округе Ориндж, не входившего в состав Лос-Анджелеса. В последние годы были сняты ограничения по шуму, прежде почти не дававшие взлетать с полосы 19R большим пассажирским лайнерам: те должны были резко набирать высоту и закладывать крутые виражи над Ньюпорт-Бичем. Вообще-то ни одному самолету Накамуры, выполняющему коммерческий или частный рейс, не разрешалось приземляться в аэропортах Лос-Анджелеса. Но аэропорт Джона Уэйна уже много лет оставался официальным исключением. В этот пятничный вечер курьерский грузовой самолет Накамуры А310/360, переделанный из почтового лайнера «Федерал экспресс», вылетел из Токио, совершил промежуточную остановку на Гавайях, затем приземлился для дозаправки в Лос-Анджелесе и теперь ожидал назначенного на семь вечера отлета в Денвер. За пять минут до этого времени капитан запросил об изменении плана полета и переносе взлета на восемь часов. Диспетчеры направили запрос в гражданский Лос-Анджелесский центр управления воздушным движением в Палмдейле и во Временный военный центр управления воздушным движением на территории бывшего аэропорта Боба Хоупа в Бёрбанке: на весь срок действия военного положения он стал региональным центром такого рода, и контролировало его Воздушное командование Национальной гвардии Калифорнии. Оба центра дали согласие на часовую задержку. Одновременно стало известно, что над зоной боев, центр которых теперь находился в полусотне миль от аэропорта Джона Уэйна, военные летательные аппараты движутся настолько плотно, а взлеты и посадки в Лос-Анджелесском международном аэропорту настолько часты, что все коммерческие рейсы из аэропорта Джона Уэйна на восток следуют таким маршрутом: на запад над Тихим океаном, потом на северо-запад вдоль побережья до точки разворота около Моро-Бей, и лишь потом — на восток-северо-восток, входя в воздушный коридор на Денвер где-то к северо-востоку от Лас-Вегаса. Всех пилотов предупредили, что расчетную потребность в топливе следует скорректировать. Экипаж самолета Накамуры также известили, что дальнейшие задержки вылета в эту пятницу невозможны: по закону о чрезвычайном положении аэропорт Джона Уэйна будет закрыт на ночь, с 8.15 вечера по тихоокеанскому летнему времени. Затри минуты до восьми накамуровский «А310/360» запустил двигатели и начал выруливать к взлетной полосе 19R. Экипаж проверил оба двигателя и запросил окончательного разрешения на взлет, когда неожиданно перед лайнером появилась машина калифорнийской дорожной полиции с мигающими маячками. Экипаж получил разрешение вырулить на площадку для стоянки, хотя капитана предупредили, что если самолет не поднимется в воздух через пятнадцать минут — даже меньше, — ему придется провести ночь в аэропорту. Двигатели выключать не стали. Подъехала машина наземного обслуживания — старый фордовский электропикап с пассажирским трапом, — и экипаж открыл левую переднюю дверь. Патрульный автомобиль остановился возле самолета, маячки перестали мигать. Из него вышел Ник Боттом и обогнул автомобиль спереди — переброситься парой слов с новоназначенным шефом дорожной полиции Амброузом, сидевшим за рулем. — Спасибо, шеф, — сказал Ник, пожимая руку широкоплечему полицейскому. — Для тебя я всегда Дейл. Надеюсь, ты найдешь своего мальчишку. Полицейский автомобиль удалился с площадки, а Ник осторожно — болели поврежденные ребра с правой стороны — поднялся по трапу.Тремя часами ранее советник Даити Омура сказал ему: — Если вы вернетесь в Денвер, Боттом-сан, то умрете. — Я должен вернуться, Омура-сама. — Хидэки Сато будет ждать вас в самолете в аэропорту Джона Уэйна, Боттом-сан. Вы окажетесь под его наблюдением на все то короткое время, что вам осталось… если попытаетесь вернуться. Ник покачал головой и пригубил превосходного односолодового виски, которым угостил его японец. — Я так не думаю, Омура-сама. Сато сейчас в Вашингтоне с мистером Накамурой. Они должны вернуться в Денвер только в субботу… завтра. Кроме того, этот самолет прилетел из Токио через Гавайи. А мистер Накамура сам сказал мне, что у них нет рейсов на запад из Денвера в аэропорты близ Лос-Анджелеса. — Сато непременно будет в аэропорту, — прохрипел старик. — Почему, Омура-сама? — Потому что если вы не появитесь там, то глава службы безопасности Накамуры, полковник Сато, должен будет нырнуть в лос-анджелесский огненный ад — вторгнувшись в зону моего влияния, Боттом-сан, — и найти вас живым или мертвым. Я неплохо понимаю Хироси Накамуру и могу утверждать это с полной уверенностью. Он сделает все, что в его силах, но не допустит вашего бегства. По крайней мере, сейчас. Ник только покачал головой, хотя и ощутил холодок внутри.
Один из членов экипажа задраил дверь за Ником, который вошел в роскошно отделанный салон за кабиной пилотов. Вращающиеся кресла у иллюминаторов, мягкие диваны, плоские 3D-экраны высокого разрешения на перегородках — все как на частном самолете миллиардера, только места побольше. Сато сидел, пристегнувшись, в кожаном кресле у правого борта перед низеньким столиком. Он не поднялся, когда вошел Ник, но жестом пригласил его сесть напротив себя. Ник осторожно погрузился в кресло лицевой кожи и пристегнулся. Освещение потускнело; лайнер вернулся к началу взлетной полосы и снова проверил двигатели на полном газу. Пилот сказал что-то на японском по интеркому. Громадный самолет понесся по взлетной полосе, поднялся в ночь и заложил крутой вираж влево, выходя на указанный курс над океаном. Ник посмотрел на свои часы: 8.14 по тихоокеанскому летнему времени.
Самыми опасными были первые двадцать четыре часа, когда Ник добирался до города из маленького аэропорта без диспетчерской. Благополучно выбравшись из района трущоб и полумиллионной толпы бежавших в панике латинов, за которыми следовали бандиты, Ник наконец оказался на тихой улочке в Сан-Марино — неподалеку от Пасадены, в одном из самых элитных районов Лос-Анджелеса. От захудалого аэропорта Флейбоб до района близ Эхо-парка (к северо-западу от громадного центра временного содержания ДВБ на стадионе «Доджер»), где жил его тесть, было миль пятьдесят. К тому же Ник пробирался не по эстакадным дорогам, а по обычным улицам и переулкам, держась подальше от мест боев и массовой эвакуации. Всего получилось — судя по навигатору на телефоне — больше шестидесяти миль. Извилистый путь Ника пролегал по Онтарио, Клермонту и Помоне, а потом по южной Пасадене. Он подумал, что если шагать пешком, то с таким же успехом можно было выйти из Лас-Вегаса. А потому он первым делом угнал электрический мопед у мальчишки-латина — тот пытался бежать из этого хаоса следом за своей семьей, загрузившейся под завязку в мерин-внедорожник. Ник угнал бы и внедорожник, но отец семейства увидел, как из темноты появился человек с пистолетом, и вдавил в пол педаль газа, извлекая из своей развалины последние амперы. Сын-подросток был выдан на милость человеку с пистолетом. Махнув «глоком», Ник отогнал плачущего парнишку от мопеда, отвязал и швырнул ему тючок с вещами — мальчик теперь уже ревел в голос — и уехал, нисколько не испытывая вины. Отец с семьей вернутся за парнем, даже если его придется привязать к крыше рядом с остальными пожитками. Наверное. Примитивный дисплей показывал, что мопед недавно заряжали и энергии хватит на двести миль. Ник дал задание своему телефону — проложить спокойный маршрут по велосипедным дорожкам до Эхо-парка и получил ответ, что на дорогу уйдет пять с половиной часов. Но Ник знал, что если придется уклоняться от боевиков и бегущих штатских, то потребуются все одиннадцать. У него не было времени на эту хренотень. Теперь он понимал, что должен был вытащить свой «глок» еще в самолете и заставить труса-летчика приземлиться на каком-нибудь гражданском аэродроме поближе к нужному месту — или, например, на поле для гольфа «Бруксайд» в Пасадене. Проклиная себя за глупость, Ник уселся на карликовый мопед и сразу же выжал из него максимальную скорость — тридцать миль в час. Электрический мотор мопеда лишь слегка гудел, и казалось, что двухколесная машина едет еще медленнее. Когда Ник покинул пустое и темное поле аэропорта, то подумал, что весь Лос-Анджелес горит: запад, северо-запад, юго-запад. Десятки вертолетов, принадлежавших военным и телевизионщикам, порхали на фоне оранжевого сияния, точно летучие мыши, слетевшие с охваченной пожаром колокольни. Где-то возле Чино древние бомбардировщики поддержки наземных сил А10 — из состава сил Национальной гвардии — заходили на бомбометание. Через много секунд после крохотных вспышек доносились звуки далеких взрывов. В первые три часа, пока Ник кружным путем катил на запад, к городу, в него никто не стрелял. В бейсбольной шапочке, натянутой по самые уши, определить его этническую принадлежность, да еще в темноте, было непросто. И потом, что-то в облике взрослого мужчины на подростковом электромопеде — может, колени, торчащие выше руля? — говорило о его полной безобидности. Хотя уже перевалило за полночь, дороги и улицы были забиты бегущими из города людьми. Ник понял, что наблюдает окончание исхода сотен тысяч латинов из Лос-Анджелеса — в основном из восточной его части. Бежали и те, кто жил здесь многие десятилетия, и орды новых иммигрантов, нахлынувших на север с победной волной реконкисты. Ник лишь мельком видел остатки отрядов Нуэво-Мексико: стайки побитых «хаммеров», продирающихся в ночи сквозь толпы штатских, редкие вертолеты, с ревом пролетающие прямо над дорогой. Бегство их выглядело таким же паническим и дезорганизованным, как и бегство штатских на юг и юго-восток. Ник дал задание навигатору в телефоне, давным-давно прозванному «Бетти»: постоянно уточнять маршрут, чтобы не оказаться на пути беженцев. Сексуальный голос Бетти шептал у него в наушниках, направлял в проулки Клермонта и Глендоры, на пустые велосипедные дорожки Монровии и Аркадии (взрывы и бои, судя по всему, происходили южнее), по безлюдному кампусу и футбольным полям Ситрус-колледжа. На дорожках мопед чувствовал себя лучше, чем на улицах. Звезды на небе позади Ника начали меркнуть, растворяясь в наступающей с востока заре, птицы, как обычно, защебетали перед рассветом. Между тем Ник так и не увидел ни одного военного из числа англосаксов — только их самолеты. Проезжая Глен-Эйвен и южное Онтарио, Ник часто видел перестрелки в долине к югу от этих мест. Ему было ясно, что здесь дерутся военизированные отряды Арийского братства, мотоциклетные шайки, вьетнамские и китайские банды из западных и северных районов, малхолландские наемники в бронированных джипах и тысячи мародеров с юга Центрального Лос-Анджелеса, чьи родители и деды сорока годами ранее, видно, неплохо повеселились на углу Флоренс и Норманди.[111] Леонард поведал дочери эту историю когда-тошних беспорядков, а Дара, которая назвала ту вспышку насилия «началом новой эры», пересказала ее Нику. Бандиты терроризировали и грабили последних беженцев, но Ник понимал, что их основная цель — сжечь все к югу от шоссе Венчура и к северу от шоссе Санта-Ана. Похоже было, что они добьются своего. Ник взял с собой две бутылки с водой и столько пищевых плиток, сколько влезло в карманы его куртки. Теперь, двигаясь на запад, он жевал плитки и запивал их. Когда он добрался до Сан-Марино, толпы беженцев исчезли, редкие полицейские и военные англосаксы встречались только на главных дорогах и въездах на шоссе. Дальше Ник двинулся на запад параллельно бульвару Калифорния, так что по левую руку от него был Хантингтонский ботанический сад. Петляя по велосипедным дорожкам и боковым улочкам, выбранным Бетти, Ник видел элитные кварталы, погруженные в полную темноту, — видимо, из-за отключения электричества. Он поздравил себя с тем, что худшее позади. Казалось, гора свалилась с плеч. В предрассветной мгле прозвучало несколько выстрелов. Одна пуля пробила Нику левую голень, вторая попала в двигатель мопеда. Ник уронил его на бок, затем откатился к канаве и ряду мусорных бачков. Протрещали еще пять-шесть выстрелов. Ник на четвереньках припустил в темный проулок, пробежал полквартала, зная, что оставляет за собой кровавый след, и присел за еще одним мусорным бачком, чтобы осмотреть рану. Пуля содрала большой кусок кожи и немного мяса, хотя мышцу практически не задела. Но болело адски. Ник задрал брючину, перевязал ногу чистым платком и стал ждать среди мрака с «глоком» в руке, надеясь, что это был случайный выстрел. Если же нападавшим зачем-то понадобился мопед, они не придут в восторг, увидев, что машина повреждена. Но удача не улыбнулась ему. Они преследовали его следующие полчаса. Их было трое: крупный, с идиотским голосом, — Ник назвал его про себя лайнбекером; тощий, с винтовкой, постарше первого, которого Ник прозвал квортербеком,[112] потому что он командовал остальными; и мальчишка с сальными волосами — «Билли», так как он напомнил Нику Билли Клэнтона из «Перестрелки в О. К. Коррал» в исполнении молодого Денниса Хоппера.[113] Ник похромал на юг через палисадники, перебегая от дерева к дереву, от стены к стене. Три стрелка преследовали его по пятам, дружно стреляя, когда он петлял по Орландо-роуд. Наконец Ник перепрыгнул через невысокий забор и оказался в стодвадцатиакровом ботаническом саду. У каждого из преследователей был рюкзак, набитый патронами, и они, похоже, собирались израсходовать все боеприпасы. Ник понятия не имел, что этим идиотам нужно от него… прикончить — это понятно, но что еще? Скорее всего, решил он, эти трое штатских, пока в Лос-Анджелесе бушуют беспорядки, играют в ковбоев, шляются ночами по восточным районам ради удовольствия пристрелить кого-нибудь. И у них явно выработалась наркотическая зависимость от убийств. Других причин для того, чтобы стрелять в незнакомца в тихом Сан-Марино, Ник не видел. Он попросил Бетти вывести карту ботанического сада. Лет пять назад он заходил сюда с тестем, которому понадобилось что-то в здешней библиотеке. Тогда Ник привез в Лос-Анджелес Вэла и сам остался на неделю. Он мог пройти к библиотеке, но это историческое здание находилось в самом центре обширной территории, где леса перемежались с цветочными лугами, классическими японскими садами и полянами. В здании могли оказаться охранники, но Ник не хотел втягивать их в это дело. Стрелки пользовались портативными рациями, но еще и перекрикивались, находя это отличным развлечением: они явно выпили или накурились. Ник быстро понял, что им не очень нравится преследовать кого-то среди вылизанных лесков и лугов: вероятно, большую часть недели они охотились на людей в чисто городских районах. Но и самому Нику тоже не очень нравилось убегать среди деревьев. Он бы предпочел улочку. Он быстро понял, что преследователи шумят и палят наугад, пытаясь отогнать его влево, к Оксфорд-роуд, — восточной границе сада. Ник не хотел возвращаться на восток. У него были дела на западе и юге. Теперь светало уже всерьез. Нужно было поскорее кончать с этим. Ник вышел на полянку, посреди которой стоял круглый мавзолей с дорическими колоннами, и со всей возможной быстротой прохромал по открытому пространству, но преследователи успели сделать два выстрела. Одна пуля вырвала кусок из куртки, но Ник уже оказался между деревьев. Он остановился, чтобы перевести дыхание. Судя по вспышкам выстрелов, охотники находились прямо напротив него, по другую сторону поляны. — Что вам от меня нужно? — крикнул он. — Все, что у тебя есть, приятель, — прокричал в ответ один. Остальные засмеялись. — Давайте встретимся в середине и уладим это, — предложил Ник, после чего пригнулся и со всех ног побежал по густому подлеску, теперь уже не от стрелков, а к ним, огибая поляну с запада. Всего в нескольких метрах к северу проходила парковая дорога, и Ник знал, что эта троица, пытаясь обойти его, тоже будет по возможности искать прикрытие. Приблизившись к западной стороне круглой полянки, Ник остановился, встал на колени и загнал в пистолет полную обойму. Затем он присел на корточки и, стараясь действовать бесшумно, перевел первый патрон в патронник. Все трое, пригибаясь, тихо выбрались на поляну. Они двигались слишком быстро, чтобы прицельно стрелять по всем сразу. Исходя из того, что перед ним любители — неважно, сколько народу они убили за последние дни, — Ник крикнул: — Эй! Солдаты, наемники или профессиональные киллеры продолжили бы движение и бросились врассыпную. Но эти любители замерли, развернулись и открыли огонь. Даже у квортербека в правой руке был пистолет — в левой он держал винтовку, — и он тоже принялся стрелять. Две пули попали Нику в нижнюю часть туловища: кевларовый жилет остался цел, но несколько ребер треснули. От выстрела он развернулся; дыхание перехватило. Ник встал на колено, в положение для стрельбы, не обращая внимания на пули, срезавшие ветки над его головой, и выстрелил восемь раз. Все трое рухнули на землю. Минуту спустя, видя в растущем свете дня, что его преследователи неподвижны, он боком двинулся к ним, держа нацеленный на противников пистолет обеими руками. В громадного лайнбекера он почему-то попал только раз — но зато в грудь, прямо в сердце. Кровь струилась изо рта, ушей и глаз громилы. Он умер еще до того, как упал. Квортербеку достались две пули в туловище, но дело сделала третья: на лице, напоминавшем морду хорька, зияло круглое бескровное отверстие. «Билли Клэнтон» тоже получил три пули, но остался жив, корчась и сгибаясь от боли. Ник отправил ногой в кусты все оружие, которое увидел, и присел над мальчишкой. — Помогите мне, мистер, пожалуйста, помогите, так больно, господи, господи Иисусе, как больно… пожалуйста, помогите мне, ради Христа, мистер, пожалуйста… Ник осмотрел раны. Каждая по отдельности не была смертельной, но без медицинской помощи парню грозила скорая смерть от кровопотери. Ник точно знал, что в Калифорнийском технологическом институте — в несколько кварталах к северо-западу от парка — есть медицинский пункт. — Где твоя машина? — спросил Ник, наклоняясь к самому лицу и шипя прямо в ухо парня. — Где ключи от твоей машины? Мантра мольбы и боли прервалась, и парень скосил на Ника глаза. Как большинство молодых американцев, мальчишка никогда не ощущал сильной боли дольше чем две-три минуты подряд. Он хотел таблетку, укол, внутривенное, чтобы избавиться от боли… и немедленно. — Вы… мне поможете? Я не хотел идти на дело, да. Это Дин предложил. Я не хотел… — Где машина? — прошепталНик. — Где ключи? Медпункт в нескольких минутах езды. Тащить туда я тебя не могу. Парень кивнул, потом отрыгнул кровью, отчего пришел в ужас и, плача, залепетал сквозь стоны. Синий «ниссан-менло-парк» Дина стоял на Лэндор-лейн, в полуквартале от того места, где они стреляли в Ника. Они все были из Алтадены, да, обычные ребята, и просто возвращались домой, погуляв немного в восточном Лос-Анджелесе, на этой неделе все так развлекаются, и когда увидели мопед, Дин сказал, вот еще один на закуску, но… — Ключи! — прошипел Ник. — У Дина… У Дина в кармане… У Дина… в переднем кармане, кажется… помогите, бога ради, мистер, мне так больно. Ник решил, что Дин — это квортербек, и нашел в его переднем кармане ключи с ниссановским брелоком. Кроме того, Ник проверил карманы убитого лайнбекера и корчащегося мальчишки, который все стонал, потом проверил все три рюкзака. Там нашлись только патроны, бумажники, карточки и немного наличности. Он взял деньги и НИКК Дина. Расстегнув рубашку, Ник проверил пуленепробиваемый жилет с правой стороны. Кевлар остановил обе пули, но ребра явно были повреждены. Стараясь делать неторопливые, глубокие вдохи, он снова застегнул рубашку. Рана на левой ноге наконец перестала кровоточить, но импровизированная повязка из платка пропиталась кровью. Отдирать ее потом, когда образуется корка, будет адски мучительно. — Пожалуйста… мистер… вы обещали… обещали… мне так больно… вы обещали. Ник склонился над раненым парнем и решил, что тот не очень похож на молодого Денниса Хоппера. А на Вэла и вовсе не похож. — Вы обещали… Он мог найти и пригнать сюда машину Дина, погрузить раненого и попытаться найти медпункт, прежде чем парень истечет кровью. Или показать своему несостоявшемуся убийце, как добираться до Хантингтонской библиотеки и велеть ползти туда. Правда, по дороге тот мог умереть от потери крови. В любом из этих вариантов он оставлял в живых свидетеля, способного описать полицейским и Ника, и «ниссан», — если только копы еще что-то значили в этой части Лос-Анджелеса. Это увеличивало вероятность задержания Ника и уменьшало его шансы найти Вэла. «Если собираешься убить незнакомого человека ради удовольствия, — подумал Ник, — готовься к последствиям». В ту секунду он не был полностью уверен, кого имеет в виду: стонущего перед ним мальчишку или Вэла, будто бы участвовавшего в нападении на Омуру. Разница заключалась в том, что у Вэла, пусть он и отказался от фамилии отца, была ДНК Ника, а в жилах его текла отцовская кровь. Ник левой рукой загородил лицо и глаза от брызгов крови и мозгов, затем поднес «глок» к голове парня, чьи глаза расширились. Между дулом и бледным лбом оставалось три дюйма. Ник нажал на спуск. «Менло» стоял там, где сказал парень. Бетти прошептала, что осталось меньше двенадцати миль пути, даже если не ехать по Пасаденскому шоссе, а двинуться по Монтеррей-роуд до Норт-Фигероа-стрит. Навигатор «ниссана» подтвердил это. Впереди могли встретиться блокпосты, но, так или иначе, через полчаса он будет возле Леонардова дома.
Когда самолет наконец взял курс на восток, хорошенькая стюардесса в кимоно вышла в салон из пилотской кабины, и Сато спросил: — Хотите есть или пить, Боттом-сан? Ник отрицательно покачал головой. Стюардесса приняла заказ Сато: тако-су, затем тунец с перцем, суномоно — гигант специально подчеркнул, что хочет к нему соус пондзу и майонез-васаби — и жаренный на гриле кальмар с соево-имбирным соусом. Еще он заказал набэяки-удон, но без яйца-пашот. И сакэ. Когда стюардесса повернулась к Нику и поклонилась с безмолвным вопросом — не передумал ли он и не закажет ли чего-нибудь? — Ник сказал: — Да. Мне тоже сакэ. Женщина ушла, и Сато спросил: — Вам не нужна медицинская помощь, Боттом-сан? У одного из членов экипажа есть военно-медицинская подготовка, необходимое оборудование и лекарства. Ник снова покачал головой. — Всего несколько царапин, и ребра повреждены. Мне их перевязали. Несколько минут они летели молча. Два двигателя были такими тихими, что в салон почти не проникало шума. Единственным признаком их работы была слабая вибрация, передававшаяся на пол и ручки кожаного кресла. Ник почти задремал, когда раздался голос Сато: — Вы не нашли своего сына, Боттом-сан? — Нет, не нашел. — И нет никаких сведений о том, где он? Ник пожал плечами. — Что вы здесь делаете, Сато? Ведь вы до завтрашнего дня должны были оставаться в Вашингтоне, с мистером Накамурой. Шеф службы безопасности — или профессиональный убийца? — проворчал: — Накамура-сама возвращается в Денвер завтра. Но сегодня у компании открылся рейс в аэропорт Джона Уэйна, и он предложил мне вылететь сюда, чтобы вы гарантированно попали на самолет. — А если бы я не появился? — спросил Ник. Он ясно понимал, что никто не обыскивал его и что на его левом бедре висит полностью заряженный «глок». Сато неловко пожал плечами. — Я бы связался с властями и стал выяснять вашу судьбу, Боттом-сан. Начал бы с помощника шефа полиции Амброуза, которого вы упоминали в Денвере. Или как там вы сказали на аэродроме — шефа Амброуза? — Получил повышение, — объяснил Ник. Даже разговор причинял боль, хотя ребра ему плотно перевязали. — У прежнего шефа случился инфаркт на третий день беспорядков и боев в Лос-Анджелесе. Дейл получил временное боевое повышение. — Но ваш друг из Калифорнийской дорожной полиции не помог вам в поисках сына? И снова Ник отрицательно покачал головой. Три хорошенькие стюардессы принесли еду восхитительного вида. Ник не понимал толком, почему ничего не заказал: он не ел уже больше десяти часов, а в денверском аэропорту они приземлятся после полуночи по местному времени. Даже вечерний кафетерий в кондоминиуме закроется ко времени его приезда. При виде расставленной перед Сато еды у Ника начала выделяться слюна, а от запаха набэяки-удона заурчало в животе. Он глотнул сакэ, с трудом поднялся и спросил: — Где здесь туалет? В перегородке между салоном и кабиной пилотов было две двери. Стюардессы входили через правую. Сато показал на левую. Несколько минут спустя Ник стоял перед широким зеркалом. Туалет был втрое больше ванной в его боксе, здесь имелись ванна и душ. Человек, смотревший на Ника из зеркала, контрастировал с изнеженной роскошью этого места. Рубашка его была порвана и окровавлена, а рыжевато-коричневая куртка и брюки залеплены грязью. Под рваной левой брючиной виднелись окровавленные бинты. На скуле и правом виске появились новые царапины. В казармах калифорнийской дорожной полиции Нику наложили девять швов на правую щеку, так что он слегка походил на Франкенштейна. Там же его отскребли и отмыли, пусть и не совсем до конца. Теперь Ник еще раз тщательно помылся и вытерся мягким ручным полотенцем — осторожно, словно не хотел оставлять на нем крови и грязи. Ник вытащил «глок» из левосторонней кобуры, убедился, что пистолет снят с предохранителя и в патроннике есть патрон, потом сунул увесистое оружие обратно. Если Омура-сама не ошибался — а Ник верил ему, — то Сато провожал его домой, чтобы там привести в исполнение смертный приговор, причем безотлагательно: завтра днем или вечером, когда Накамура вернется на свою горную виллу в Денвере. Но у Ника оставался его пистолет. Что это — упущение? Или проверка? Так или иначе, девятимиллиметровый «глок» был реальностью, и Ник мог им воспользоваться. Вот только как? Выхватить оружие, пристрелить Сато, а потом перебегать от одной висящей кислородной маски к другой, пока он не доберется до кабины и не потребует, чтобы его доставили… Куда? В этом полушарии не осталось ни одной страны, которая не заключила бы договора об экстрадиции с Новой Японией. А что, если Вэл добрался до Денвера и ждет его там? Но все это были абстрактные рассуждения. Ник знал, что дверь в пилотскую кабину выдержит несколько выстрелов из гранатомета и не подастся ни на миллиметр. Экипаж почти наверняка вооружен, но им и стрелять не понадобится. Нужно будет только держать высоту полета (если несколько пуль из «глока», прошедшие через Сато или нет, нарушат герметичность самолета) и перекрыть доступ кислорода в тот отсек, где находится Ник. Конечно, они могут это сделать и без разгерметизации от шальной пули. Ник тряхнул головой и уставился на человека в зеркале — очень худого, чуть ли не изможденного, по стандартам последних пяти лет его жизни. А еще сильно помятого. Он слишком устал. Слишком много недосыпа. Голова работала с трудом. Когда он вернулся, на столике перед его сиденьем обнаружились несколько маленьких тарелочек с едой и стаканчик с сакэ — снова полный. — Эта еда слишком хороша, и я взял на себя смелость, Боттом-сан, — прохрипел Сато. — Лично я не люблю яйца-пашот с лапшой в набэяки-удоне, хотя большинству это нравится. Я попросил принести их вам. Ломтики вареного осьминога в тако-су приправлены бледно-зелеными огурцами, выдержанными в соусе пондзу, посыпаны семенами сезама и ломтиками лука-шалота и политы майонезом-васаби. Уверен, вам понравится: у соуса приятный цитрусовый вкус с дымком, прекрасно дополняющий вкус осьминога. Почему вы улыбаетесь, Боттом-сан? — Да так, ерунда, — ответил Ник, хотя был готов расхохотаться при виде Сато в роли усердного метрдотеля. — Наверно, я голоднее, чем мне показалось вначале, Сато-сан. Спасибо. Сато коротко кивнул. — Тунец с перцем и суномоно с той же приправой — пондзу и майонез-васаби, — сказал он. — Черный тунец с перцем, чуть подрумяненный и нарезанный тонкими ломтиками, — мое любимое блюдо. Надеюсь, вам понравится, Боттом-сан. — Наверняка понравится, Сато-сан, — сказал Ник. Он все еще стоял и только теперь понял, что свои «спасибо» сопровождает поклонами. Причем довольно низкими. Сато издал ответный хрип, и Ник уселся в свое кресло, невольно застонав от боли в ребрах. От запаха бульона и другой еды у него появились слезы на глазах.
Таких людей, как Галина Кшесинская, она же Галина Сью Койн, Ник допрашивал много раз: иногда — в качестве словоохотливых свидетелей, но чаще — в качестве преступников или сообщников. В любой из этих ролей Галина Кшесинская подходила под одно и то же клиническое описание: злобный нарциссист. — Ко мне уже несколько дней никто не заходил, — сказала она. Глаза ее напоминали маленькие бледные устрицы, спрятанные под несколькими слоями косметики; Ник решил, что ее пластического хирурга нужно арестовать и предать пытке за преступления против человечества. — Я начала думать, — продолжила женщина средних лет, вдыхая дым безникотиновой сигареты в перламутровом мундштуке, — что полиция потеряла интерес к этому делу. «С чего бы это? Неужели только из-за того, что мир в этом месте пылает?» — подумал Ник, потом сильно тряхнул головой. — Нет-нет, миссис Кшесинская, дело совсем не закрыто, мы крайне заинтересованы в том, чтобы поймать преступника или преступников, убивших вашего сына… позвольте еще раз выразить глубочайшие соболезнования в связи с его смертью. Женщина опустила глаза и на минуту погрузилась в театральное молчание. — Да-а-а, — протянула она наконец и тяжело вздохнула, изображая душевную боль. — Бедняжка Уильям… Какие бы отношения ни связывали Галину с сыном, ее траур по Билли не продлился и недели. Она явно наслаждалась вниманием со стороны прессы и полиции и считала его недостаточным. Сегодня она то ли напилась, то ли накурилась, а может, сделала и то и другое. Ее несильный акцент и сильно неразборчивая речь заставляли Ника напрягаться, чтобы воспринимать слова. Ник первым делом помахал перед нею своим именным значком частного детектива: если она знала настоящую фамилию Вэла, легенда Ника рассыпалась в пух и прах. Но миссис Кшесинская не обратила на это внимания. Нику показалось, что она уже несколько лет не обращает внимания на многое, в том числе на недавно погибшего сына. — Выговорили, что ваш сын Уильям незадолго до… гм… инцидента в Диснеевском центре дал пистолет вот этому парню, затем пропавшему: Вэлу Фоксу, которого мы разыскиваем. Перед Ником лежала маленькая записная книжка, а в руке он наготове держал авторучку. Но пока он записал своим мелким полицейским почерком только одну фразу: «От нее плохо пахнет». — О да, детектив… гмм… Ботам, Уильям недавно говорил мне об этом. Да. «И ты не сообщила в полицию, что твой сыночек раздает оружие кому попало?» — подумал Ник. Он не стал поправлять женщину, когда та неправильно произнесла его фамилию, и принялся тщательно формулировать следующий вопрос, но миссис Кшесинская опередила его. — Понимаете, детектив, мой Уильям всегда был озабочен безопасностью — моей, своих приятелей, всех вообще… В этом городе опасно жить, детектив! Посмотрите в окно! — Да, мэм. Вы не помните, что за пистолет ваш сын дал этому парню — Фоксу? — Да-да, другие полицейские спрашивали об этом. Поговорите с ними. Кажется, начинается с буквы «Б». — «Браунинг»? — попробовал уточнить Ник. — «Бауэр», «брен», «беретта»? — Вот-вот, последнее. «Беретта». Красивое название. Не хотите немного выпить, детектив? Я всегда позволяю себе чуточку днем, особенно в эти ужасные дни, после того как Уильяма… Женщина грозила раствориться в слезах. — Нет, спасибо, — поспешно отказался Ник. — Но если вы хотите, бога ради. Я понимаю, как вам тяжело. Он не стал напоминать ей, что сейчас всего десять утра. Миссис Кшесинская налила себе из нескольких бутылок и взболтала со всей серьезностью привычного к выпивке человека. — Вы уверены, что не хотите присоединиться ко мне, детектив? Тут хватит… — А вы, случайно, не видели эту «беретту», миссис Кшесинская? — Что? Нет-нет. Конечно нет. — Держа в руке высокий стакан, она вернулась в свое любимое кресло. — Но Уильям говорил о ней. Он делился со мной всем. И вот он сказал, что этот его приятель Хэл… — Вэл, — поправил Ник. — Неважно. Он сказал, что этот его приятель принадлежал к их маленькой компании, компании маленьких мальчиков, но по-настоящему в команду не входил. — Это почему? — осторожно спросил Ник. — Ну, всякие там мелочи… например, этот мальчик не пробовал того же, что остальные. — Не пробовал? — Ну да, секса и тому подобного. Ведь все мальчики делают это? — Вы говорите о сексе с девушками, миссис Кшесинская? — Конечно, я говорю о девушках! — прокричала грузная женщина с лицом, выглядевшим как роспись по обожженной глине. Слова Ника взбесили ее. — Уильям никогда бы… ни за что… — Значит, вы хотите сказать, что этот самый Вэл Фокс не принимал участия, когда ша… когда эта компания Уильяма занималась сексом с одной или несколькими девушками? — Да, именно, — с чопорным видом сказала миссис Кшесинская, все еще не успокоившись. Ник записал себе в блокнот: «групповое изнасилование». Уже шесть лет назад, когда он служил в полиции, флэшбанды почти всегда начинали с группового изнасилования, часто выбирая совсем молоденьких девочек. А потом подонки флэшбэчили на это, снова и снова. Затем начинался следующий этап: издевательства над ребятами помладше, или пьяницами, или другими флэшбэкерами. Потом — чаще всего — они переходили к убийствам. Или к жестоким изнасилованиям, которые заканчивались убийством. Это считалось лучшим вариантом для флэшбэка. Два по цене одного. — Значит, этот парень — Вэл — не флэшбэчил на эти… пробы? — спросил Ник. — Именно так, — подтвердила миссис Кшесинская, изо всех сил стараясь не глотать слова. — Уильям говорил мне, что этому парню не хватало мужества, не хватало дружеской солидарности, чтобы присоединиться к другим и заново переживать все это как часть э-э-э… обряда посвящения. — И что, по словам Уильяма, он делал, когда остальные пробовали это? — Ну, отнекивался под разными предлогами, — невнятно проговорила она, взмахнула руками и попыталась закурить настоящую сигарету, со злостью выкинув безникотиновую. — Стоял на атасе. Уильям говорил, что ему всегда не хватало смелости и он стоял в стороне — говорил, что будет охранять остальных. Такая вот ерунда. Он не был настоящим другом Уильяма, хотя мой дорогой мальчик столько для него делал. Делал ему чудесные подарки. Женщина подняла взгляд на Ника. Серые в крапинках глаза среди лужиц косметики попытались сфокусироваться на собеседнике. На ум ему снова пришли устрицы, извлеченные из ракушки. — Но если он и в самом деле убил моего сына, значит, они явно… явно, да… явно не были друзьями. Этот Хэл Фокс, видимо, всегда собирался предать и убить Уильяма. Она глубоко затянулась и задержала в себе дым, потом выдохнула его через нос. — Есть у вас соображения насчет того, где можно найти этого парня? — спросил Ник. — Ничего нового — только то, что я уже сказала вашим коллегам, детектив… Как вы сказали — Бетам? Ник Бетам? — Да, мэм. Ник уже проверил различные эстакады и другие возможные места обитания флэшбанд, о которых миссис Кшесинская говорила полицейским. Добраться туда было нелегко: квартал, где располагалось жилище Леонарда, оказался разрушен, а потом сожжен во время боев. Арийские братья — несколько сотен человек — подорвали стены Центра временного содержания ДВС на стадионе «Доджер», и всю округу наводнили новые сотни террористов, киллеров и самозваных джихадистов. На этой неделе времяпрепровождение в районе Чавес-Равин было небезопасным занятием. Проверяя ливневку, в том числе под Диснеевским центром, где разыгралась криминальная трагедия, Ник также столкнулся со множеством неприятных неожиданностей. Но не встретил ничего, что указывало бы на местонахождение Вэла. Он оставил курящую, пьющую, рыдающую и икающую Галину Кшесинскую-Койн. Следствие о нападении на советника Омуру было прекращено — не только из-за текущих событий, но и по просьбе самого Омуры, — и вряд ли миссис Кшесинскую ждали новые визиты официальных лиц. По крайней мере, так Ник думал, выходя из ее дома. Но спустя какое-то время ее соседи, наверное, пожалуются на жуткий запах. Патрульные полицейские войдут в квартиру Галины Кшесинской и обнаружат труп хозяйки.
— Хотите еще тунца с перцем, Боттом-сан? А может, суномоно, набэяки-удон, тако-су? — предложил Сато. — Или сакэ? — Нет-нет, — ответил Ник. — Спасибо, нет, особенно за сакэ. Я и так уже много выпил. Он был немного пьян и хотел сразу же после посадки, до которой оставалось час-полтора, отправиться домой и улечься в постель. Однако он не знал, что на уме у Сато. — Сато-сан, скажите еще раз, когда я увижу мистера Накамуру? — Я же вам говорил, что мистер Накамура должен вернуться в Денвер завтра вечером. Мистер Накамура будет ждать вас сразу же после своего прибытия. Он горит желанием вас выслушать. «Услышать имя убийцы Кэйго Накамуры, — подумал Ник. — Если я к тому времени не буду его знать, меня можно пускать в расход. А если буду, то тем более». — Я взял с собой вот это, — сказал Сато и положил на стол рядом с Ником — стюардессы в кимоно уже все убрали — нейлоновый мешочек. Ник осторожно расстегнул молнию. Десять ампул флэшбэка в поролоне, из них четыре явно многочасовые. — Спасибо, — поблагодарил он, застегнул молнию и положил мешочек на ковер, себе под ноги. Семь долгих дней и ночей он не прибегал к флэшбэку, но теперь, глядя на ампулы, не ощутил привычной за последние шесть лет эйфории. Даже наоборот: при мысли о том, как он вдохнет наркотик и погрузится в сон, к горлу подступила тошнота. — Сато, — негромко сказал он, — люди, которых интервьюировал Кэйго, говорят, что он спрашивал об Эф-два… флэшбэке-два. Это старая легенда. А есть какое-нибудь движение? — Движение? — Происходит ли с флэшбэком-два что-нибудь такое, о чем я не знаю? Сато покачал головой в своей обычной манере, двигая больше плечами и всей верхней частью тела, а не шеей. — Ходят слухи, Боттом-сан, что этот Эф-два в последние месяцы продавался на улицах Нью-Йорка и Атланты, штат Джорджия. Но насколько мне известно, это всего лишь слухи. О появлении наркотика, позволяющего фантазии, слухи ходят постоянно. — Ну да. Если бы это оказалось правдой, то Ф-2 через неделю после появления уже продавали бы повсеместно на всей территории, которая осталась у Штатов. Народ, погружавшийся с помощью флэшбэка в свое прошлое, созрел и для его новой разновидности — наркотика фантазий. Флэшбэк-два пока оставался мифом. Отчасти Ник сожалел об этом. Отчасти… это сбивало его с толку. И еще он очень устал. Не нужно было пить сакэ. Ник посмотрел в иллюминатор. Самолет уже вышел из зоны облачности, и теперь в пяти милях внизу географической картой простиралась западная часть страны, подсвеченная звездами и луной. Когда Ник в молодости летал на самолетах, созвездия огней — малые города, рассыпанные даже по этим бесплодным землям, — были куда многочисленнее. Теперь эти созвездия исчезли: маленькие города на западе и повсеместно в Штатах пали жертвой экономики и новых реалий. Раньше считалось, что в небольших городах лучше переживать катаклизмы, но они оказались уязвимее больших. Глядя вниз, на беспросветный мрак, Ник представлял себе миллионы людей, которые за последние пятнадцать лет побросали свои города, теперь темные и безмолвные. В больших городах, пусть они и приходили в упадок, у этих миллионов бездомных появлялся хоть какой-то шанс на выживание. Он задремал, глядя, как под ними простирается растрепанное серое покрывало — Запад с его каньонами, горами и пустынями.
— Почему вы его задержали? — спросил Ник у шефа дорожной полиции Амброуза, когда старый друг и ученик его отца повел Ника мимо переполненных камер в камеру-одиночку. — Его отца и деда убили вскоре после начала беспорядков, — пояснил Амброуз, открывая дверь. Он помедлил, желая договорить, прежде чем отопрет. — Они явно не стали случайной жертвой стычек, а были убиты целенаправленно… по крайней мере, Роберто убежден в этом… Отряд реконкисты из Калвер-Сити, в котором он состоял, оказался отрезан от остальных. Роберто знал наверняка, что если бы он сдался Национальной гвардии, властям штата или какой-нибудь наемной армии из Малхолланда, Беверли-Хиллз и так далее, то казнили бы и его. Поэтому он и немногие из уцелевших бойцов его части нашли полицейского и сдались ему. И Роберто доставили сюда, в глендейлские казармы Южного отделения. Угнанный Ником «менло» стоял на парковке для посетителей (ограда плюс колючая лента) перед управлением полиции на Норт-Сентрал-авеню. Ник надеялся, что никто из полицейских не станет проверять номера. — По-твоему, он станет говорить со мной? — спросил Ник. — Сейчас узнаем, — сказал Дейл Амброуз и распахнул дверь. Металлическая клетушка в центре камеры произвела на Ника странное впечатление. Амброуз кивнул и вышел. Они остались вдвоем с молодым человеком — лет тридцати, прикинул Ник. Правда, в дальнем углу просторного помещения под потолком открыто висела видеокамера. Заключенный и его гость сели на кушетки друг против друга. — Меня зовут Роберто Эмилио Фернандес-и-Фигероа, — громко представился молодой человек. — Кто-то на прошлой неделе убил моего деда, дона Эмилио Габриэля Фернандеса-и-Фигероа, и моего отца, Эдуардо Данте Фернандеса-и-Фигероа. Эти убийцы вскоре доберутся и до меня, мистер Боттом. Спрашивайте, что вам нужно, и я попробую вам помочь… если мне не придется бесчестить свое имя или доносить на родственников и товарищей. — Я всего лишь ищу своего сына, — сказал Ник. — Но вы уверены, что вашего деда и отца убили специально? Неделька-то выдалась безумная. На лице Роберто появилась едва заметная улыбка. Он сохранял былую красоту даже сейчас, хотя нос у него был сломан, а правая часть лица превратилась в кровавое месиво. — Уверен, мистер Боттом. Мой дед знал об одной попытке убийства, назначенного на утро того дня, когда начались бои. Это была ракетная атака с беспилотника «Большой белый коршун». Тогда он сумел принять меры. Но потом деда и отца убили два разных киллера из нашей же организации, очевидно подкупленные людьми калифорнийского советника Омуры. После гибели моего отца и отца моего отца реконкиста осталась без вождей, и вскоре удача повернулась к нам спиной. Нику нечего было возразить на это. Он показал задержанному фотографии Вэла и Леонарда. — Говорят, мой зять был знаком с вашим дедом, — негромко произнес он. — Да, я слышал об их субботних шахматных партиях в Эхо-парке, — сказал Роберто. Затем на его лицо вернулась улыбка — несмотря на обширные синяки вокруг рта. — Я пытаюсь выяснить, жив ли мой мальчик, сеньор Фернандес-и-Фигероа. И я решил, что он вместе с моим тестем мог спастись единственным образом: обратившись за помощью к вашему деду. Если это случилось, то перед самым началом боев. Надеюсь, что вам известно, уехали мой сын и тесть на одном из ваших пятничных конвоев или нет. Роберто неторопливо кивнул. — Я не видел ни вашего сына, ни его деда, мистер Боттом. Но мой отец и в самом деле говорил, что «старый партнер по шахматам» дедушки Эмилио навещал его незадолго до начала боев. Вполне вероятно, что ваш сын и его дед пытались вырваться из города на конвое из трейлеров или по железной дороге. Эти виды транспорта пользовались покровительством и защитой со стороны моей семьи. — И это произошло в пятницу, семнадцатого сентября? — спросил Ник. — Мальчика и его деда взяли на поезд или конвой? Вы знаете что-нибудь об этом? — Нет, не знаю — Роберто печально покачал головой. Даже такое слабое движение, как решил Ник, должно было причинять ему боль. — К сожалению, та пятница оказалась слишком кровавым днем. Все перепуталось… отец так и не сказал мне, зачем ваш тесть приходил к дедушке Эмилио. Lo siento mucho,[114] сеньор Боттом. Оба встали, преодолевая боль, двигаясь медленно, словно ожидали исполнения смертного приговора, и обменялись рукопожатием. — Желаю удачи, сеньор Роберто Эмилио Фернандес-и-Фигероа. Я и вправду надеюсь, что у вас все изменится к лучшему, невзирая на ваши страхи. Роберто горько покачал головой, но сказал: — И вам удачи, сеньор Боттом. Буду молиться, чтобы ваши сын и тесть оказались живы и вы все поскорее воссоединились. В крайнем случае, надо верить, что мы воссоединимся с родными в другой жизни. Ника обуревали странные чувства, когда он, закончив разговор с Дейлом Амброузом, покинул арестантскую, сел в «ниссан» и уехал оттуда к чертовой матери.
Он дернулся и пробудился. Сато громко храпел, сидя в кресле по другую сторону стола. Огромные руки японца были сложены на груди. Ник знал, что стоит ему издать малейший звук, как шеф службы безопасности тут же проснется. Ник посмотрел на часы, не шевельнув ни рукой, ни туловищем. Если время полета, которое называл Сато со слов пилота, оставалось все тем же, посадка в Денвере ожидалась минут через тридцать. Ник наклонился к иллюминатору и всмотрелся в темноту. Высокие снежные поля купались в свете звезд, а по темным каньонам дорог двигалось несколько светляков: фары. Это что — I-17? Впрочем, какая разница? Но один тот факт, что по шоссе ехали машины, означал, что они приближаются к колорадскому Передовому хребту. Ник молча сложил руки на груди и закрыл глаза.
Ник позвонил К. Т. Линкольн после двух ночи по лос-анджелесскому времени и трех по денверскому. В тот день он купил одноразовый телефон на бывшей эстакаде I-15 — теперь уличном рынке. Там активно продавали оружие, в основном арабы. — Линкольн, — раздался сонный голос, сделавшийся сердитым, когда она увидела, что звонок не со службы, а определение номера невозможно. — Кто это, черт побери? — Это я, Ник. Не вешай трубку! Ник знал, что если они — вечно невидимые, витающие, вездесущие, ужасающие они — поставили телефон К. Т. на прослушку, то ему хана, безусловно и стопроцентно. Но он и без того знал — а подтверждение этому получил несколько часов спустя в разговоре с советником Омурой, — что наркоману по имени Ник Боттом и так хана, безусловно и стопроцентно. — Чего тебе, Ник? — Злость в ее голосе слышалась теперь куда отчетливее: холодная, убийственная злость. — Я хочу остаться в живых и вообще иметь хоть малейший шанс на что-то. Мне нужна твоя помощь, К. Т. — Сегодня мы ведем себя слегка по-оперному, Николас? Когда они были напарниками, его забавляло обращение «Николас». К. Т. всегда об этом знала. Можно ли принимать эту маленькую издевку за добрый знак? — Сегодня у меня такое чувство, будто я окружен и загнан в угол, К. Т., но дело не в этом. Мне понадобится твоя помощь, если мы с Вэлом выйдем из этой переделки живыми. — Ты нашел Вэла? В ее голосе послышалось что-то вроде заинтересованности. Но не было ли это прежде всего заинтересованностью полицейского в захвате важного свидетеля и вероятного преступника, на которого есть ориентировка? — Пока нет, но думаю, что найду. Ник глубоко вздохнул. Он находился в центре Лос-Анджелеса, на пожарной лестнице ночлежки, она же бордель, она же флэшпещера. Пришлось заплатить десять тысяч новых баксов за койку и одеяло, кишевшие вшами и клопами. Часть ночи он провел на полу, положив под голову свернутую куртку и держа «глок» в руке, пока не пришло время для звонка. Ника немного утешали мысли об алкашах, флэшбэкеры и бездомных, храпевших вокруг него, словно гуси, которых римские солдаты выпускали на травку вокруг разбитого ими лагеря. По крайней мере, они могут недовольно заверещать, если коренастые ребята в черном кевларе и с лазерными прицелами спустятся сверху на альпинистских веревках и вломятся внутрь в поисках Ника. — Мне нужно, чтобы ты сделала кое-что для меня. Тогда у нас с Вэлом появится хотя бы мизерный шанс. — Это уже две просьбы, — саркастически заметила К. Т., но трубку все же не повесила. Поскольку она видела материалы, подготовленные для жюри присяжных, и сняла с них копии, это само по себе было чудом. — Первое, — поспешил сказать Ник, — мне нужна встреча с мэром Ортегой, как можно раньше в субботу. Он должен завтра вернуться из поездки. Не знаю, за какие ниточки тебе придется дергать, чтобы устроить встречу в субботу, но… — Ник… — … но мне крайне важно увидеть его в субботу утром. — Ник не давал ей вставить слова. — Чтобы он чувствовал себя безопаснее, можно встретиться не в его офисе. Скажем, в Сити-парке, около… — Ник! — Что? — Я не знаю, где ты и почему не в курсе последних новостей, но Мэнни Ортега мертв. — Мертв, — как идиот повторил Ник и порадовался, что сидит. Упершись ступнями в решетчатую площадку, он резко поднялся, ощущая спиной каждый ржавый стальной прут старой лестницы. — Как — мертв? — Сегодня… то есть вчера. В четверг. В Вашингтоне. Смертник в ресторане. Официант с поясом. И другим мэрам досталось — Миннеаполиса, Бирмингема, еще… — Ясно, — оборвал ее Ник. — Я должен был понимать, что Ортеге заткнут рот до моего возвращения. Глупо, что я не подумал об этом. С той стороны линии раздался смешок. — Ортегу и шесть других мэров взорвали из-за тебя, Ник? Немножко впадаем в паранойю, да? — Я впадаю в паранойю настолько, насколько нужно, — ответил он. — Вся эта туфта для жюри присяжных была промахом с их стороны, К. Т. Ты сама видела, какая это изощренная подделка… измененные телефонные звонки, поддельные платежи по кредиткам в отелях. На уровне города Мэнни Ортега не смог бы этого сделать даже при желании. Черт побери, даже губернатор не смог бы сфальсифицировать всех этих «улик». Для этого требуется гораздо больше влияния… влияния на уровне японского советника. Так что с этой фальшивкой они промахнулись. Второй промах — в том, что они хранили это в архиве и не пустили в дело. Третий — в том, что это хранилось там, где ты смогла… К. Т., ты слышишь? Молчание. Ник испугался, что зашел слишком далеко, что его доводы могли показаться речью свихнувшегося женоубийцы. А К. Т., возможно, считала Ника виновным и отсоединилась во время его монолога. — К. Т.? Снова молчание. Да, это был последний шанс, и Ник его упустил, потому что повел себя несдержанно, потому что его понесло, когда… — Я тебя слушаю, Ник. Голос К. Т. прозвучал ровно и холодно — просто голос, а что у нее на уме, не поймешь. — Слава богу, — выдохнул Ник. — Хорошо, забудь про первую услугу. Окажи одну, К. Т. Одну, но большую. — Ты о чем? Ник помолчал, глядя на пустые, но не тихие улицы Лос-Анджелеса. Вспышки и взрывы далеко на востоке. Звуки перестрелки — гораздо ближе. — Мне нужно, чтобы ты нашла на штрафплощадке что-нибудь близкое к перехватчику Безумного Макса… — начал Ник. — Безумного Макса… что это за херню ты несешь, Боттом? Ник дал ей минуту на осмысление. — Перехватчик, — сказала она наконец. — Ник, ты что, пьян? — Хотелось бы мне напиться. Помнишь, как мы ходили на штрафплощадку, пытаясь найти что-нибудь максимально похожее на «преследователь» Безумного Макса? Снова молчание на другом конце трубки. К. Т. пришла к ним домой, чтобы посмотреть австралийские фильмы «Безумный Макс» и «Безумный Макс-2» с очень молодым Мэлом Гибсоном. Но настоящей звездой фильмов был оттюнингованный GT351 с турбонаддувом — австралийская разновидность «форда-фалкона» 1973 года, на котором Безумный Макс гонял, догонял и мочил плохих ребят. Дара не смотрела эти фильмы (хотя Ник ставил их несколько раз, когда приходила К. Т.), но детектив Линкольн, Вэл и Ник их любили. Время от времени Нику или К. Т. попадалась машина кого-нибудь из наркодилеров, отдаленно напоминавшая ошибочно названный автомобиль Макса из этого старого фильма. Тогда они увозили ее на штрафплощадку, где восхищались совершенством форм. — Может, тебе и машину на оксиде азота достать? — поинтересовалась К. Т. — Кажется, на такой машине ездил Гумунгус,[115] — сказал Ник. — Но если у тебя найдется что-то в этом роде, я не откажусь. — Ты свихнулся, — заметила К. Т. Последовала пауза, более зловещая, чем все прошлые. — К. Т.? — Ты понимаешь, о чем просишь, Ник? Угнать для тебя машину со штрафплощадки? Давно ли ты был полицейским? Забыл, что мы должны хранить всякие мелочи — арестованные машины и прочее? — Весь героин, что шел через французского связного, пропа…[116] — начал было Ник. — В жопу французского связного! — прокричала К. Т. — На что ты меня толкаешь? Меня вышвырнут из полиции. Посадят в тюрьму, Ник Боттом. — Ты слишком умна, чтобы… — Да заткнись ты, — сказала К. Т. — Если бы тебе… тебе и Вэлу… пришлось бежать от этих Невидимых Всемогущих Сил, которые будто бы подставили тебя, то куда бы скрылся от них? Теперь настала очередь Ника отмалчиваться. — Черт возьми, — сказала К. Т. через несколько секунд. — Старая добрая Республика Техас не принимает наркоманов и преступников, Ник. Попасть в эту безумную страну практически невозможно. Ты должен быть чем-то средним между Джеймсом Бондом и Альбертом Швейцером, чтобы от тебя приняли заявление. И тебе это прекрасно известно. Сколько преступников пытались скрыться от нас в Техасе — их всех заворачивали на пограничном КПП в Тексхоме, и потом их хватали оклахомские копы. — Да. Ником вдруг овладела невероятная усталость. Ему захотелось вернуться в ночлежку/флэшпещеру с ее вшами и клопами и уснуть на грязном полу. — Позвони на следующей неделе, Ник. Может, мы придумаем что-нибудь и… — Машина мне нужна завтра, К. Т. Если возможно — к полудню. Послезавтра — слишком поздно. Завтра вечером — тоже слишком поздно. Лейтенант К. Т. Линкольн ничего не ответила. Минуту спустя Ник сказал: — Спокойной ночи, К. Т. Извини, что разбудил. И разорвал соединение.
Ник открыл глаза. Двадцать минут до предполагаемого времени посадки. Сато по-прежнему сидел с закрытыми глазами и сложенными на груди руками. Ник понятия не имел, спит японец или нет. Он разглядывал лицо Сато, когда звук двигателей «аэробуса» изменился и самолет стало потряхивать — начался крутой спуск в беспощадные восходящие и нисходящие потоки над Передовым хребтом.
Нику до отъезда позарез нужно было увидеть советника Даити Омуру. В конце концов тот сам организовал встречу, потребовав свидания с ним. И теперь, сдав свой «глок» и пройдя унизительные процедуры обыска, как обычные, так и с использованием высоких технологий, Ник понял, что у Омуры нет никаких оснований отпускать его, кроме доброй воли. Возможно, это его последняя и окончательная остановка — точка в пятидневном путешествии по Лос-Анджелесу. Кроме того обстоятельства, что бывший Центр Гетти и красивый японский дом Накамуры размещались на вершинах холмов, между резиденциями Омуры и Накамуры не было ничего общего. Улыбающийся молодой человек (не телохранитель) вежливо провел Ника в громадную, но странно уютную комнату. Уют, возможно, объяснялся ненавязчивым освещением и островками современной мебели, со вкусом расставленной по просторному помещению. Изысканные картины на стенах (ведь это был Музей искусств Гетти), удивительная модернистская постройка Ричарда Мейера на вершине холма, двадцатичетырехакровый участок, деревья и кусты, тщательно высаженные вокруг него на площади в шестьсот с лишним акров, — все это обещали отдать лос-анджелесцам, когда страна преодолеет текущие трудности. Признаков близкого преодоления трудностей не наблюдалось, и пока что советник Омура вместе со своим аппаратом определял в этих комнатах будущее не только Калифорнии, но также Орегона и Вашингтона. Ожидая появления советника, Ник позволил себе полюбоваться пейзажем из выходившего на юг окна — в тридцать футов шириной. Главное здание стояло в девятистах футах над I-405, что бежала у подножия холма на юг — в Лос-Анджелес и на север — в Сан-Фернандо-Вэлли. Но ощущение возникало такое, будто дом парит в нескольких милях над городом. На востоке виднелся дым — горели разграбленные, разрушенные кварталы того, что прежде называлось восточным Лос-Анджелесом. Ник мог только воображать, как все это выглядит ночью — с плотным ковром городских огней вблизи и сложными созвездиями огней дальше. Появился Даити Омура, один. Ник поднялся на ноги, с трудом не пуская на лицо гримасу боли: дали о себе знать ребра и неожиданно сильно — рана на левой голени. Врач калифорнийской дорожной полиции в Глендейлских казармах, надев на Ника эластичный корсет и наложив вдобавок повязку, предупредил, что от корсета проку будет мало. Он поздравил Ника с тем, что переломов нет — только трещины, а потом обработал рану на ноге. Теперь боль мучила Ника сильнее, чем до встречи с врачом. На Омуре были черный спортивный костюм и кроссовки. Если Хироси Накамура отличался высоким для японца ростом, то Даити Омура вряд ли был выше пяти футов. Если советник Накамура в свои шестьдесят с лишком лет выглядел человеком энергичным, то Омура, которому перевалило за восемьдесят, казался еще живее и деятельнее своего денверского коллеги. Омура был не только лыс, как яйцо, — его голова казалась идеальным овоидом, к которому приближаются только яйца или черепа очень, очень немногих людей. У загорелого идеального яйца отсутствовали ресницы и брови. При знакомстве с Накамурой Ник отметил про себя его улыбку, свойственную политикам, — проникновенную, белозубую и совершенно неискреннюю. А проведя несколько минут в обществе Омуры, он решил, что этот человек после нескольких рюмочек может рассказывать анекдоты и искренне смеяться над шутками, своими и чужими. Советник Накамура поразил Ника тем, что знал до тонкостей, как производить впечатление человека богатого, всесильного и судьбоносного. Глядя на Омуру, Ник подумал, что он похож на Франклина Делано Рузвельта, каким Ник его себе представлял. Это японец тоже казался рожденным для богатства и власти и обладал ими так же естественно, как Ник — старыми, залатанными брюками из твида и грязными кроссовками. Он тоже казался человеком, который смеялся над самим понятием «судьба», хотя и принимал свою судьбу как одну из возложенных на него обязанностей. Но и свои обязанности, и свою судьбу, как подозревал Ник, он принимал весело, даже в их трагической части. Ник понимал, что слишком переполнился впечатлениями за те полминуты, что смотрел на невысокого старика; возможно, тут действовали усталость и несколько дней без флэшбэка. Он попытался скрыть ломку под напускным глубокомыслием, но не верил, что сможет. — Хотите выпить, мистер Боттом? — спросил Омура. — Лично я — да. Я выпил немного воды после своей жалкой двухмильной пробежки, но теперь не прочь принять чего-нибудь покрепче. Сейчас только четыре часа, но можно сделать вид, будто мы в Нью-Йорке. — Как вам угодно, сэр. — «Сэр» — необязательное добавление, мистер Боттом. Позвольте называть вас Ником? — Да, Омура-сама. Старик замер рядом с небольшой коллекцией бутылок на мраморном столике у северной стены, уставленной книжными стеллажами. — Вы знаете почтительное японское обращение к уважаемым людям, особенно к пожилым. Я ценю это, Ник. — Он начал разливать виски в два стакана, не спросив Ника, нужен ли ему лед, и не положив ни кубика из маленького ведерка. — К вашему нанимателю вы тоже обращаетесь так: Накамура-сама? — Нет, никогда, — откровенно признался Ник. — Хорошо. — Омура протянул Нику стакан и сел на диван, жестом приглашая Ника сесть на другой, напротив себя. — Нам нужно обсудить несколько важных вопросов, Ник. С чего, по-вашему, стоит начать? — Я полагаю, вы пожелаете коснуться обвинений в адрес моего сына, Омура-сама. И его участия в нападении на вас у Диснеевского центра, семнадцатого сентября. Старик покачал головой. — Это не самый важный вопрос, и не стоит обсуждать его сегодня. Но я, безусловно, понимаю, почему вы хотите избавиться от груза этой проблемы. Как вы считаете: ваш сын, Вэл, участвовал в покушении на меня неделю назад? Ник глотнул односолодового виски, автоматически отметив, что напиток крепок и очень тонок на вкус — двадцатипятилетней выдержки, а то и старше. И очень высокосортный — Ник таких никогда не пил. Но какая разница? Несколько секунд, в течение которых Ник якобы смаковал виски, он потратил на отчаянные поиски наилучшего ответа. Что-то подсказывало ему (только ощущения — ничего больше): из всех людей, с которыми он сталкивался, этот старик вооружен самым сейсмостойким и самым чувствительным детектором вранья. — Я убежден, что мой сын принадлежал к атаковавшей вас флэшбанде, Омура-сама, — медленно выговаривая слова, произнес Ник. — Но, судя потому, что я слышал и что знаю о своем сыне, я не верю, что Вэл стрелял в вас тем вечером. Предполагаю, что он бежал… что у него не было ни малейших намерений причинить вам вред. — Мои медицинские эксперты убеждены, что этот мальчишка, Койн, был застрелен из пистолета вашего сына в туннеле — не там, где устроили засаду, а чуть подальше. На месте засады нашли обычные и стреловидные пули, но ни одна не была выпущена из того оружия. Вы детектив, Ник. Что вы об этом думаете? — У меня нет… нет убедительных доказательств, Омура-сама, но это как раз подтверждает сказанное мной: мой сын не стрелял из засады, а застрелил Уильяма Койна чуть подальше, в туннеле. Вэлу вручили девятимиллиметровую «беретту». Думаю, он три раза выстрелил из нее в этого Койна. — Значит, ваш сын Вэл — убийца, — тихо сказал Омура ровным, как гладкий клинок, голосом. Ничем другим, кроме кивка, Ник ответить не мог. Он пригубил еще виски и на сей раз совсем не почувствовал вкуса. — Ник, как вы думаете: стреляя в Койна, он пытался защитить меня? Ник посмотрел на загорелое, гладкое, безволосое лицо старика. И не увидел ничего: разве что едва различимую вежливую расположенность. Ничего. Но Ник каким-то шестым чувством знал, что все зависит от его ответа на этот вопрос. — Нет, сэр, — твердо сказал он. — Ничто не говорит о том, что Вэл застрелил этого парня, защищая вас или еще кого-то. Прежде всего, Койн был застрелен слишком далеко от выхода из ливневки. — Тогда почему он его застрелил? Ник пожал плечами. — Полагаю, между ними произошло что-то. Мне хочется верить, что Билли Койн, за которым тянется криминальный след — включая и изнасилование малолетних, — почему-либо набросился на Вэла. Возможно, из-за того, что мой сын убежал с места засады. Вэл стрелял, обороняясь. Но это лишь желание отца, чтобы все так и было, сэр. Омура кивнул. — Будем считать, что вопрос исчерпан. Я уже приказал моей службе безопасности и лос-анджелесской полиции прекратить поиски вашего сына. А теперь нам нужно обсудить кое-что гораздо более важное. Ник на это мог только моргнуть. Более важное? — Не знаете ли вы случайно, где мой сын, Омура-сама? — выпалил он. Советник поставил стакан и раскрыл ладони, словно показывая, что ему нечего скрывать. — Не знаю и не имею никаких предположений. Иначе я бы вам сказал, Ник. Если бы сотрудники моей службы безопасности нашли его и… убили… то я и тогда сказал бы вам правду. «И я бы голыми руками прикончил тебя, здесь и сейчас», — подумал Ник. Подняв взгляд на Даити Омуру, он осознал, что старик отдает себе отчет в этом. Никакой охранник не успел бы ворваться в комнату и убить Ника, прежде чем тот сломал бы Омуре шею. — Итак, поговорим о более важных делах? — сказал Омура и снова взял стакан с виски. — Конечно, — ответил Ник, преодолевая спазм в горле. — О каких? — Во-первых, о вашем участии в борьбе между мной, Хироси Накамурой, доном Кож-Ахмед Нухаевым и многими другими. Вы уже начали чувствовать себя пешкой в шахматной партии, Ник? Ник рассмеялся. Он уже много недель не смеялся так легко и свободно. — Скорее пушинкой, которую занесло ветром на шахматную доску, Омура-сама. — Значит, вы ощущаете свое бессилие. — Старик внимательно поглядел на него. — И чувствуете себя так, словно у вас не осталось никаких ходов. — Ну, может, всего несколько, — признался Ник. — Но они мне ничего не дадут. Это как король под шахом — мечется по одним и тем же клеткам. — А в конечном счете выходит пат. — Нет, я не вижу ни малейшей возможности добиться такого превосходного и яркого результата, как пат. Омура улыбнулся. — Минуту назад вы были пушинкой, по ошибке попавшей на шахматную доску. А теперь вы — король, которому объявлен шах. Какая же из ваших метафор соответствует действительности? — Ну, с метафорами у меня всегда было неважно, Омура-сама. И вы уже поняли, что я ни хрена не понимаю в шахматах. Теперь настал черед Омуры засмеяться. — Одно хочу сказать, — продолжил Ник. — В Санта-Фе дон Нухаев нес какой-то вздор — мол, за то короткое время, что мне остается жить, я, по крайней мере, могу повлиять на жизнь миллионов людей. Я решил, что это пустая болтовня. Но есть ли в его словах хоть капля правды? — Есть, Ник, — тихо проговорил Омура, но в объяснения вдаваться не стал. Минуту спустя он добавил: — Как докладывают мои информаторы, к завтрашнему вечеру Хироси Накамура вернется в свою крепость над Денвером и потребует сказать, кто именно убил его сына. Вы способны это сделать, Ник? Ник снова задумался, на сей раз непритворно: ему действительно нужно было отделить зерна от плевел. — Пока нет, Омура-сама, — ответил он. — Но возможно, к завтрашнему вечеру буду способен. Старик-советник снова улыбнулся: — И возможно, лошадь научится говорить, а, Ник? Ник слышал эту притчу от Дары и не смог сдержать улыбку. — Да, что-то в этом роде. И тут Омура сказал: — Если вы вернетесь в Денвер, Боттом-сан, то непременно умрете. Еще он предупредил Ника, что «полковник» Сато будет ждать его вечером в аэропорту Джона Уэйна. Ника от этих слов пробрала дрожь. — Если я признаюсь, что не нашел убийцу Кэйго, советник Накамура обязательно прикажет меня убить, — сказал он. — Да. — Если я найду недостающую улику, подтверждающую вину убийцы, Накамура все равно прикажет меня убить. — Да. — Почему? Зачем меня убивать, если я сделаю то, для чего был нанят? Почему он не может заплатить мне… или не заплатить? Первый вариант я, видимо, исключил сам, согласившись на маленький аванс вместо полного платежа, чтобы срочно попасть в Лос-Анджелес. Но почему просто не дать мне вернуться к моей жалкой жизни, к флэшбэку? Омура долгое мгновение молча смотрел на него. — Думаю, вы уже знаете ответ, Ник. Ник знал, и это знание не приносило ему ничего, кроме подкатывающей к горлу тошноты. — Я слишком много знаю, — произнес он наконец. — Я стану угрозой для Накамуры и для его намерения сделаться сёгуном. — Хай, — согласился старик. — И что я могу сделать? Ник тут же запрезирал себя за жалобную интонацию. Он всегда ненавидел преступников и даже жертв, которые пытались его разжалобить. Омерзительный писк крысы, попавшей в ловушку. — Вы можете остаться в Лос-Анджелесе, — предложил Омура, продолжая внимательно смотреть на него. — Под моей защитой. — Накамура пошлет киллеров вроде Сато и не успокоится, пока я не буду мертв. — Да. Но вы можете бежать — в Старую или Новую Мексику, Южную Америку, Канаду. — Такой человек, как Сато, найдет меня за несколько месяцев. Нет, недель. — Да. — И я не могу бросить Вэла и его деда… отдать их на милость… бог знает кого. — Но вы даже не уверены, что ваши сын и тесть живы, Ник. — Не уверен, но… все же… — пробормотал Ник. Все его слова, казалось, звучат так жалко. Оба уже допили виски. Советник Омура не предложил наполнить стаканы еще раз. За изумительным окном-стеной солнце опускалось все ниже к Тихому океану, обещая позднесентябрьский закат. Ник не спешил: Дейл Амброуз сказал, что вовремя довезет его до аэропорта. Он оставил «ниссан» у тротуара в Южном Центральном Лос-Анджелесе с ключами в замке зажигания. Ник знал, что его беседа с калифорнийско-орегонско-вашингтонским советником, вероятно, подошла к концу. Но на него действовали виски, усталость, атмосфера комфортабельной комнаты с прекрасным видом из окна. И Ник решил: он встанет лишь после напоминания о том, что беседа закончена. — Вы знаете, Ник, — сказал наконец Омура, — у Хидэки Сато много лет была любовница-американка… нет, любовница — не то слово. Спутница или наложница… по смыслу это ближе к нашему «собамэ». — Да? — отозвался Ник. «Почему старик говорит мне об этом?». — Судя по всему, он очень ее любил. Свою жену, с которой он в браке уже много лет, Сато видит только два раза в год, по семейным праздникам. — И? Омура больше ничего не сказал. Ник чувствовал себя, как семиклассник, который пытается завязать разговор с хорошенькой девочкой, но не находит слов. — Вы сказали, что у Сато была наложница… и отношения с ней… продолжались много лет, так, Омура-сама? «Была» — прошедшее время. Все закончилось? Ник попытался вообразить Сато, который чувствует и проявляет любовь к кому-то или чему-то. Ничего не вышло. — Хай, — сказал Омура по-японски, резко, словно взмахнул мечом. — Она умерла несколько лет назад. — Умерла… насильственной смертью? — спросил Ник, пытаясь нащупать готовую порваться нить беседы. — Нет-нет. От лейкемии. Говорили, что Сато-сан был безутешен. Оба его сына от жены погибли в последние десять лет. Они служили военными советниками в Китае, когда гражданская война там только разгоралась. Говорят, Сато горевал по своим сыновьям, но его скорбь по… наложнице… была сильнее и глубже. И продолжается по сей день. — Как ее звали, Омура-сама? Советник смерил его взглядом. — Не помню, Ник. — Старик словно говорил своим взглядом и тоном: «Я тебе лгу»… но почему? — У них родился ребенок. Дочь. Все говорят, что она была очень красива. И почти западной внешности, с едва заметными японскими чертами. Ник недоумевал. Он никак не мог поверить, что Сато способен кого-то любить, а тем более ребенка с европейской внешностью. Какую загадку предлагал решить Омура? — И снова прошедшее время, Омура-сама, — тихо сказал Ник. — Неужели дочь Сато от наложницы тоже умерла? — Хай. — И тоже естественной смертью? Ник наблюдал, как работают его старые полицейские навыки: при помощи тысячи глупых вопросов вытаптывается вся растительность вокруг нужного стебелька — и вот он остается на полянке один. Или не остается. Омура подался вперед. Он не ответил на вопрос Ника — по крайней мере, не ответил прямо. — Как вам известно, Ник, Хидэки Сато — полноправный даймё с вассалами, солдатами, интересами своего кэйрэцу. Но Хироси Накамура — его сеньор. Сато — вассал Накамуры. — И? — И когда власть и влияние даймё Хидэки Сато выросли настолько, что это забеспокоило Накамуру, сеньор потребовал — в лучших феодальных, средневековых традициях Японии, — чтобы полковник Сато отдал ему свою любимую дочь в заложницы. В залог своей грядущей преданности и верной службы, так сказать. — Господи… Омара кивнул. — Кажется, в Европе при феодальном строе тоже было принято брать в заложники любимое дитя врага или вассала. — Но сейчас двадцать первый век… — начал было Ник, но почувствовал ханжескую нотку в своем голосе и замолчал. Повсюду в мире, включая Соединенные Штаты, большую часть первой трети этого века занял гигантский скачок назад. Назад к варварству, кланам, царям, теократии, полевым командирам, к более жестокой, но и более стабильной феодальной системе. — Она умерла в плену у Накамуры? — спросил Ник. Тут крылась некая важная тайна; вот только удастся ли Нику обнаружить и раскрыть ее? — Скажем так: она сама сделала так, что ее жизнь закончилась, — сказал Омура. Даже глаза его смотрели с печалью. — Из стыда. — Стыда? Из-за того, что она стала заложницей? Из-за того, что она — дочь Сато? Из-за того, что она совершила неподобающий поступок? Не понимаю. Омура промолчал. — Тот Сато, которого я знаю, скорее сошел бы с ума, — проговорил наконец Ник. — Сошел бы с ума и попытался убить Накамуру и всех, хотя бы косвенно причастных к смерти его дочери. Омура покачал головой. — Вы нас не понимаете, Ник. За двадцать лет мы, в сущности, вернулись к бусидо, к формам жизни и мышления, свойственным феодальной эпохе. Именно это поможет нам сохраниться как цивилизации… как нации. Человек, готовый отдать жизнь за своего сеньора, должен быть готов пожертвовать своей семьей, если такова воля сеньора. — Господи… Значит, Сато ничего не предпринял после смерти дочери? — Я этого не сказал, — пробормотал Омура. — Я только сказал, что он не стал мстить. До вашего ухода мы должны коснуться еще одного вопроса, Ник. Ник посмотрел на часы. Время было на исходе. Амброузу придется гнать вовсю, чтобы вовремя успеть в аэропорт. — Какого, сэр? — Вы понимаете, зачем Япония ведет войну в Китае? — Думаю, что да, Омура-сама. Япония к началу этого века практически потеряла себя… или близко подошла к этому. Когда Китай развалился на части из-за гражданской войны и общего упадка, Япония послала туда от своего имени миротворцев ООН, наняв для этого американские войска. Ее мощь резко возросла — почти миллиард молодых китайцев стал работать на Японию. Больше портов. Больше произведенной продукции. Больше рабочей силы. И все это — в некоей двухъярусной Великой Японии, где вы, японцы, всегда наверху. — Но мы не считаем китайцев и других рабами, как раньше, — быстро возразил Омура. — На сей раз — нет. Дайтоа Сэнсо, Великая восточноазиатская война, никогда не приведет ко второй Нанкинской бойне.[117] И второй попытки стать сидо миндзоку — «первым народом в мире» — японцы не сделают. Ник пожал плечами. На самом деле его мало интересовало это, как и то, что думают о себе японцы. — Но все это пока лишь подготовка, — добавил Омура. — Подготовка к чему? — К настоящей войне, Ник. — К настоящей войне с… Китаем? Индией? С тем, что осталось от России? С Нуэво-Мексико? Но конечно, не с Америкой. Ник окончательно запутался. Омура покачал головой и легко поднялся на ноги. Невысокий японец, казалось, передвигается в шипованных кроссовках на манер боксера или бегуна. Ник встал — постепенно, преодолевая боль. — Грядущая война, которая начнется в ближайшие пять лет, будет всеобщей, экзистенциальной и ядерной, — ответил Даити Омура, беря Ника под руку и ведя его к двери. — И наша цивилизация унаследует планету. В этой войне выживет лишь одна цивилизация, которая станет определять будущее человечества. Но это будет не их цивилизация. Вот почему нам нужно поскорее разобраться, кто будет сёгуном. — Черт возьми, — сказал Ник и остановился. Омура легонько подтолкнул его. Солнце уже садилось за горизонт, и бассейн Лос-Анджелеса и его сохранившиеся высотные здания отливали золотом. Солнечные блики отражались от лобовых стекол машин на уцелевших шоссе. — Ядерная война, Омура-сама? С кем? И зачем? Ради бога, зачем? И какое это имеет отношение к… Омура, мягко положив руку на спину Нику, заставил его замолчать. — Боттом-сан, если увидите-таки полковника Сато, не передадите ли ему несколько слов от меня? Скажите, что я приветствую его, как один старый шахматист другого. И передайте в точности вот что: «В этом мире есть дерево без корней, его желтые листья борются с ветром».[118] Сможете запомнить, Боттом-сан? — В этом мире есть дерево без корней, его желтые листья борются с ветром. Омура открыл дверь и провел гостя через нее. — Вы умный человек, Ник Боттом. Это одна из причин — хотя и не самая главная, — по которым Хироси Накамура нанял вас для раскрытия убийства его сына. Вы, конечно, смогли бы раскрыть и загадки посерьезнее, тем более что все это — одна и та же загадка. Удачи вам, Ник. Ник пожал руку старику — твердое, сухое, признательное рукопожатие — и дверь за ним закрылась.
— Мы идем на посадку, джентльмены, — объявила стюардесса с детским личиком; кимоно ее тихо шуршало, когда она собирала стаканы. Потом девушка уплыла в кабину. Сато бодрствовал, наблюдая за спящим Ником. Тот протер глаза и лицо, ощущая жесткую щетину на щеках и подбородке. Аэробус мягко приземлился в Денверском международном аэропорту и подрулил к частному ангару Накамуры. Ник схватил те немногие вещи, что взял на борт, а нейлоновый мешочек с флэшбэком оставил на полу. Сато поднял бровь, приглашая Ника первым спуститься по трапу. — Меня ждет машина. Могу я подвезти вас до кондоминиума, Боттом-сан? — Я вызову такси. — Отлично. Я скажу начальнику ангара, что вы можете ждать внутри, пока не прибудет такси. Длинный черный «лексус» с водородным двигателем остановился и затих на приангарной площадке. Из машины вышли двое людей Сато. Один придержал для него заднюю дверь, а другой тем временем оглядывал аэродром — его профессиональный взгляд телохранителя быстро перемещался с одного объекта на другой. Еще один самурай, которого Ник тоже узнал — тот ездил в Санта-Фе, — сидел за рулем «лексуса». — Да, кстати, — вспомнил Ник. — Омура-сама приветствует вас, Сато-сан, как один старый шахматист другого. И просит передать вот что: «В этом мире есть дерево без корней, его желтые листья борются с ветром». Кажется, я запомнил точно. Ник ожидал от Сато какой-нибудь реакции — удивления, недовольства тем, что Ник встречался с калифорнийским советником, — но тот остался невозмутим. — Доброй ночи, Боттом-сан, — сказал шеф службы безопасности Накамуры. — До завтра. — До завтра.
2.04 Денвер 25 сентября, суббота
«Вот мудила». Вэл был зол на себя. Ему нужно было просто взять и выйти из главной двери кондоминиума. Но Вэл не был уверен, что впустивший их громила с морскими татуировками позволит ему выйти. Меньше всего ему хотелось оказаться запертым где-нибудь внутри здания, пока не появится его предок. Вэл ходил взад-вперед по галерее с мотком веревки на плече. Наконец он нашел боковой коридор и дверь, за которой была лестница на крышу, — но, конечно, на ней оказался замок с цифровым кодом. Вот незадача. Он вернулся на галерею и продолжил бродить по ней взад-вперед. Какой-то выход из этого треклятого здания, само собой, был. При этом Вэл понимал: если не найти выход в скором времени, то этот Ганни и другие охранники схватят его. Потом он увидел неработающий фонтан внизу и стальные тросы, что свисали с потолка футах в семидесяти над мраморным полом и примитивными грядками. Наверху имелись световые фонари; два из них были приоткрыты где-то на фут, чтобы внутрь поступал свежий воздух. С высоты галереи до фонарей было всего тридцать — сорок футов. На одном из металлических тросов, футах в двадцати под галереей, висел бронзовый гусь. Когда фонтан работал, гусь, по всей видимости, как бы садился на воду. Убедившись, что альпинистская веревка с карабинами не свалится у него с плеча, Вэл, не раздумывая, побежал к перилам, высоко подпрыгнул — так, чтобы оттолкнуться от перил правой ногой, как от трамплина, — и полетел в сорока футах над фонтаном и полом. Он обеими руками ухватился за трос, тот сильно качнулся, и пальцы Вэла чуть было не разжались, но потом он обвился вокруг троса ногами. Вэл даже не подумал, выдержит ли трос его вес, — предок когда-то учил его, что инженеры все такие штуки делают с запасом прочности. Но этот трос были старым, как и болты крепления наверху. Вэл удивился, когда вся система, издав скрип, подалась всего на несколько дюймов. Трос раскачивался под его весом, а тяжелый бронзовый гусь внизу действовал, как маятник с ходом в шесть-семь футов. Вэла стало, похоже, заносить налево, а потом он принялся вращаться. Он прыгнул почти бесшумно. Никто не выскочил из своего бокса. Вэл усмехнулся, прогоняя неожиданно нахлынувший страх, а потом начал взбираться по тросу, хотя свернутая веревка и позвякивающие стальные карабины тянули его вниз. Вэл добрался до верха, но до открытых фонарей оставалось еще футов семь, к тому же трос висел сбоку от них. Было непонятно, как до них добраться. «Кажется, я плохо все продумал», — мелькнуло у Вэла в голове. Он висел в семидесяти футах над полом, мышцы рук начинали дрожать от напряжения. «Всё как всегда». Он прижался к тросу предплечьями и ногами, высвободив на время пальцы; этого времени хватило, чтобы ухватиться за конец альпинистской веревки и прикрепить к нему карабин. Теперь у Вэла оказалось футов восемь-девять размотанной веревки со стальным захватом на конце. Со второй попытки ему удалось перекинуть веревку с карабином через стальную раму между двумя открытыми фонарями. Но карабин сперва пролетел слишком далеко и приземлился на стекле, издав глухой звук. Вэл потащил веревку назад, чуть не срываясь под собственным весом, и бросил еще раз. Потом еще. И еще. Наконец веревка повисла на раме: четырех- или пятифутовый кусок ее с карабином на конце свободно болтался. Другой конец веревки оставался у Вэла. Ему удалось раскачать ее и одной рукой ухватиться за карабин. Силы покидали Вэла, и он соскользнул по тросу на фут-другой. Он понимал, что сможет висеть так не больше минуты. Накинув карабин на веревку у себя на плече, — получилась петля вокруг рамы, — Вэл сбросил бухту вниз. Без тяжелой веревки стало легче. Та долетела до дна бывшего фонтана, и еще оставалось несколько витков. Вэл затянул петлю вокруг стальной рамы вверху и ухватился руками за болтающийся конец. Веревка оказалась более скользкой, чем стальной трос, и держаться коленками за нее было труднее. Вэлу пришлось обмотать ярко-синюю веревку вокруг ладони и запястья, чтобы дать себе отдых в несколько секунд. Потом, громко крякнув, он стал подниматься. До самого верха его отделяло всего футов шесть. Всего. Когда Вэл наконец сумел дотянуться до горизонтальной балки — до ржавой стальной рамы, на которую закрывались фонари, — он подумал, уже не впервые: «И что теперь?» Чертовы фонари были приоткрыты всего на фут. Вэл не пролез бы в такое отверстие, даже если бы смог подтянуть наверх свое тело. «Ну и что теперь, ты, жопоголовый?» Напоминает то, как они переползали под фермами эстакады на I-10. Вэл высоко закинул ноги и обхватил ими раму. Все еще вися на веревке, он высвободил правую ногу и начал колотить подошвой по фонарю, стараясь направлять удары в определенные места стальной рамы, на которой держались шесть больших окон. Окна были слишком тяжелые. К тому же петли со стороны крыши проржавели и никак не хотели подаваться. Вэл снова обхватил веревку ногами и, тяжело дыша, замер. Сил оставалось всего ничего. Еще несколько секунд — и ему останется лишь одно: соскользнуть по веревке на мраморный пол в шестидесяти-семидесяти футах внизу. Хватит ли у него сил, чтобы удержаться во время спуска? Вряд ли. Издав нечто среднее между высоким хрипом и низким вскриком, Вэл высвободил обе ноги и ударил подошвами в металлическую конструкцию. Так или иначе, это была его последняя попытка. По раме он не попал, но разбил ботинками грязное стекло. Из рамы выпал большой осколок, полетел вниз и раскололся с невероятно громким звоном. Правая нога Вэла прошла через пустоту там, где раньше было стекло, и он зацепился ею за раму. — Черт, — выдохнул Вэл. Пот капал с его лица и падал вниз. Действуя щиколоткой, как рычагом, и упираясь в тонкую полоску металла, Вэл рывком вынес тело наверх. Левая нога легла на правый конец стальной балки, а за другой конец он уцепился левой рукой. В таком положении Вэл провисел несколько секунд. Тело его изогнулось, битое стекло врезалось в правую щиколотку. Потом с решительным, отчаянным хрипом он вытащил себя на стальную перекладину шириной в шесть дюймов, лег на нее спиной, покачиваясь и чуть не падая, после чего отпустил веревку и схватился рукой за люк светового фонаря над собой. Тот со скрипом стал открываться вверх. Еще несколько секунд — и Вэл выполз на отсыпанную гравием крышу, после чего принялся вытаскивать альпинистскую веревку — еле-еле, из последних сил. Руки его страшно дрожали. «Вот сейчас сюда заявится Ганни Г. с другими охранниками и арестует меня», — подумал Вэл. Но охранники не заявились. Ноги у Вэла тряслись не меньше, чем руки. Он похромал к юго-западному углу здания, где внизу начиналось ограждение, нашел трубу, которая вроде бы могла выдержать его вес, обвил ее веревочной петлей и бросил бухту вниз, на жесткую землю. Потом он закрыл глаза и попытался унять дрожь. Вэл знал, что надо подождать, пока руки снова не обретут силу. Но оставалось ли у него время, чтобы ждать? Поэтому он сел на край крыши — с этой стороны до бетонной дорожки было от силы полсотни футов, — обмотал веревкой запястье и, перекинув тело в пустоту, сумел обвить кровоточащие ноги вокруг веревки. «Делай так, будто ты на уроке физкультуры». Это стало последней мыслью Вэла перед тем, как он заскользил вниз. Он съехал слишком быстро, ободрав кожу на ладонях, и, когда оказался на земле, ноги его уже не держали. Вэл рухнул на бетон спиной к зданию и несколько секунд громко дышал. Звук выходящего из груди воздуха слегка напоминал рыдания, но Вэл решил, что это не его вина.Он вытащил из трубы «беретту» и постоял у развалин пешеходного мостика. «Что теперь?» Уже долгое время это был единственный вопрос, и Вэл Фокс Боттом, похоже, так и не находил ответа. «Убью предка и уберусь отсюда». Эта идея показалась ему мерзкой, хотя Вэл давно ее вынашивал. Раньше она всегда была черным вымыслом, произраставшим из тайн, известных маленькому Вэлу: мать лгала отцу о том, где бывала в тот последний год; отец пришел в бешенство, услышав, что мать будто бы провела долгий уик-энд у Лоры Макгилври, хотя десятилетний Вэл знал, что она была с мистером Коэном; отец не проронил ни слезинки за бесконечно длинный месяц, прошедший после гибели матери. Все эти факты сплетались в вымысел — Вэл воображал, будто его отец узнал о романе своей жены и действовал соответственно. Но Вэл никогда не верил в этот мрачный вымысел. Не верил по-настоящему. Темные измышления насчет убийства матери отцом были порождением ярости и обиды на отца, который избавился от Вэла. Они скрывали истинную причину его злости: отец отправил сына прочь, когда Вэл так хотел быть с ним рядом, так нуждался в этом. Для Вэла они стали воображаемой местью отцу за то, что Ник Боттом не плакал, хотя сердце его десятилетнего сына разрывалось на части. Но вот он увидел этот убийственный доклад для жюри присяжных… Вэл выгнулся над оградой сломанного моста, запрокинул лицо вверх и испустил крик, обращаясь к синему колорадскому небу: — И что теперь?! Убить предка и делать ноги из Колорадо… Нет, стоп, не в той последовательности… Сначала нужно получить от предка двести старых долларов и найти того типа в Денвере, который сделает ему НИКК с указанием на членство в Союзе и… «Нет, это полная жопа». Хладнокровно убить отца — копа, пусть бывшего, но оставшегося в долбаном братстве копов, — те очень не любят, когда убивают одного из них… А потом две недели или больше болтаться по Денверу, дожидаясь поддельного документа? Не подходит, а, Валерино? Он пошарил в карманах и нашел клочок бумаги с именем изготовителя фальшивых карточек. Даже с двумя именами — второе принадлежало типу из Остина, Техас, лучше его подделок Бигей ничего не видел… Но попасть в Республику Техас еще труднее, чем проторчать в Денвере две недели, совершив убийство. Приемлемого плана действий просто не существовало. Вэл смотрел, как редкие автомобили сворачивают с улицы и заезжают в досмотровые боксы по пути на крытую парковку. Окна всех машин были затонированы. Лиц водителей Вэл со своего места не смог бы разобрать, даже будь у него бинокль. Он мог стоять у подъездной дорожки в надежде заметить предка, когда тот будет подъезжать. Но это наверняка означало привлечь на свою задницу полицию. Копы, возможно, уже ехали сюда. Кульбиты Вэла с альпинистской веревкой и звон разбитого стекла не привлекли внимания тут же: те, кто весь день оставался в своих боксах, не привыкли мгновенно реагировать на пугающие звуки, а большинство их вообще ни черта не слышали, находясь под флэшбэком. Но Вэл не сомневался, что этот громила, Ганни Г., и его охранники откликнутся достаточно быстро. Может быть, Ганни Г. пока что не вызывал копов лишь по договоренности с предком. Он, наверное, всегда сперва звонит отцу Вэла, а потом уже зовет копов. «И значит, он предупредит предка, что я где-то здесь, поджидаю его», — подумал Вэл. Он сделал пять-шесть шагов в сторону запада по старой прибрежной тропинке — и понял, что совсем не может идти. Правая щиколотка была повреждена сильнее, чем он думал. Там, где Вэл стоял у мостика, осталась лужица крови, а там, где он прошел, тропинку усеяли красные капли. «Черт». Он сел и завернул порванную брючину. Порез был довольно глубоким — при таком обычно накладывают швы. Срочно едут в больницу. «Черт. Черт. Черт. Черт». Вэл снял куртку и фланелевую рубашку, стащил через голову футболку и разорвал ее на полосы. Самый чистый кусок он намотал на ногу вокруг раны как можно туже, потом снова оделся. Он испачкался с ног до головы. Брючина на правой ноге была порвана в хлам и пропиталась кровью от низа до середины голени. Полные крови ботинки хлюпали при ходьбе. «Ладно, разберусь потом». Вэл ковылял так быстро, как только мог, подавляя тошноту и превозмогая боль, чтобы его не вырвало. Он повернул налево на бульвар Саут-Юниверсити, не желая поворачивать на запад, откуда они с Леонардом пришли, миновав кантри-клуб на Первой авеню. Шесть или восемь кварталов — как же больно! — на юг, потом на запад по Ист-Экспозишн-авеню. Вэл уже видел впереди парк. В парке есть бездомные. А где есть бездомные, есть и то, что ему нужно украсть, если он хочет сделать то, что он должен сделать.
1.16 Денвер 25 сентября, суббота
К. Т. превзошла саму себя. В машине с Ником сидят Вэл — на пассажирском сиденье, и Леонард — сзади. Они несутся на юг по хайвею 287–385, через прерии команчей, со скоростью 130 миль в час, в «шевроле-камаро» 2015 года выпуска с турбонаддувом, который К. Т. Линкольн увела со штрафплощадки. Бесконечные прерии убегают назад по обе стороны от белого автомобиля, что несется по пустому двухполосному хайвею. Они давно уже ушли от слабосильных машинок денверской полиции и колорадской дорожной инспекции, а после того как повернули на юг с I-70, у водородных скейтбордов Накамуры тоже не осталось ни малейшего шанса. Вэл веселится, потрясая кулаком на протяжении сорока миль пути. Почти двадцатилетний «камаро» показывает, на что способен его двигатель «Вортек» в 630 лошадиных сил, с турбонаддувом и крутящим моментом в 518 фунто-футов. Здесь нет вставных электромоторов — один бешеный восьмицилиндровый двигатель L99 объемом в 6,2 литра, пожирающий галлоны редкого высокооктанового бензина. Все стекла имеют щели для стрельбы, и Вэлу уже выпал шанс использовать свою щель по назначению. Капот машины дорожного патруля, преследовавшей их, взлетел в воздух, и та перевернулась в облаке поднятой ею же пыли. Эта машина была последней из всех. Вскоре они въехали в Спрингфилд, штат Колорадо, что на севере прерий. Леонард на заднем сиденье погрузился в разложенные перед ним карты, хотя и Бетти, и навигатор самого «камаро» ежеминутно выдают информацию. — Когда мы доберемся до Кампо, через десять миль, — Леонард перекрикивает рев двигателя и шум задних покрышек «Нитто» NT55R, — останется девяносто восемь миль до пограничной станции Тексхома. — Сколько жителей в Кампо? — кричит Ник. Ему трудно поверить, что здесь, среди вечно колышущихся трав, есть какой-то город. — Сто пятьдесят, — кричит Леонард. — Сто тридцать восемь, — отвечает Бетти. — Сто… сорок… один, — говорит слегка тормозной навигатор «камаро». — Па! — вскрикивает Вэл. — Нас догоняет вертолет. Но я его не слышу — только вижу. — Это «сасаяки-томбо», — говорит Ник, гордый тем, что знает об этом и может все объяснить. В последний час с лишним ему приходилось изо всех сил сосредоточиваться на езде: на скорости в 130 миль выбоина или заяц на дороге могут привести к катастрофе. — По-японски это означает «стрекоза». — Что мне делать? — кричит Вэл, открывая лючок на крыше и скидывая с плеч ремни безопасности. Он встает, держа РПГ, который Ник принес в рюкзаке вместе с другим оружием. — Дай предупредительный выстрел, — перекрикивает Ник вой воздуха, который присоединился к шуму двигателя и покрышек. — Там может быть Сато. Я не хочу его убивать. — Принято, — кричит Вэл, прицеливается и пускает ракету. Темный выхлоп обжигает белый капот «камаро». Ракета, как и планировалось, проходит рядом с вертолетом, но задевает кончик одного из громадных, замысловато изогнутых роторов. Большую, но изящную машину уводит в сторону, она пропадает за поросшим травой холмом справа от них. — Ты видел попадание? — спрашивает Ник, когда Вэл зашвыривает отстрелянный РПГ назад, закрывает лючок и снова пристегивается. Они приближаются к Кампо на скорости в 140 миль. — Все в порядке, — говорит сзади Леонард. — Вертолет совершил жесткую посадку, авторотируя, и поднял большое облако пыли. Все живы. Вэл протягивает пятерню отцу, который тут же возвращает свою руку на баранку. — Сворачивай на Мейн-стрит и хайвей, обозначенный как четыре-двенадцать, два-восемьдесят семь, шестьдесят четыре, три, пятьдесят шесть перед муниципалитетом в Бойз-Сити, — говорит Леонард, просовывая голову между отцом и сыном. — Почему у одного хайвея в Оклахоме столько номеров? — смеется Вэл. — Нехватку дорог они возмещают избыточной нумерацией, — говорит Ник, удивляясь тому, что его сын и тесть смеются при этих словах. Потом они оказываются в Тексхоме, штат Оклахома, население 909 человек по данным Леонарда, 896 — по данным Бетти, у навигатора «камаро» нет данных. От Денвера — 364 мили, которые «камаро» проделал меньше чем за три с половиной часа. Наконец они приближаются к переходу на границе с Республикой Техас. — Фигасе, — говорит Вэл. — Они на лошадях. Ник поворачивает направо у флагштока. На флаге — белая звезда в синем треугольном поле. Красные и белые полосы кажутся ему знакомыми. Техасская кавалерия провожает их через открытые ворота, устроенные в двух высоких оградах. Между оградами — минное поле. За открытыми воротами Ник с удивлением видит знакомое здание. — Я думал, что Аламо гораздо дальше на юге, — вполголоса говорит он. Мощный двигатель «камаро» теперь лишь тихонько ворчит. — Многие совершают такую же ошибку, — говорит Леонард и подается вперед, чтобы пожать ему руку; а когда Ник протягивает руку Вэлу, мальчишка обнимает его.Ник проснулся от удушья. По щекам его текли слезы. Флэшнаркоманы редко видели сны. Теперь, когда вместо флэшбэкных заходов в прошлое к Нику возвращались нормальные сновидения, он удивлялся их силе. Зачем менять такие ощущения на повторное проигрывание жизни с помощью химии? Зачем он делал это? Он встал, принял душ и побрился, собираясь одеться и покинуть кондоминиум в 6.30 утра. Ребра под корсетом сегодня болели сильнее, но Ник не обращал на это внимания. Посмотрев на себя в зеркало после бритья, он увидел кое-какие изменения. За две недели расследования он потерял немало фунтов, скулы заострились, лицо стало худощавым. Но главная перемена состояла не в этом. Его глаза. Изменились его глаза. Стали более ясными. Вот уже шесть лет Ник смотрел на себя и на остальной мир мутным взглядом того, которому нужен один флэшбэк, — либо созерцал мир тяжелым похмельным взглядом того, кто долго пребывал под флэшбэком. Теперь его глаза сделались другими. Могут ли они остаться такими? По телу Ника пробежала дрожь. Он закончил одеваться. На пункте сдачи оружия он выписал свой девятимиллиметровый «глок» с левосторонней поясной кобурой и крохотный карманный пистолет тридцать второго калибра для наголенной кобуры, которую носил редко. Работая патрульным, а затем детективом в отделе убийств, Ник всегда брал маленький пистолет для подбрасывания улики: номера затерты, рукоятка обмотана лентой, никакой криминальной истории. Но он ни разу не пользовался им в гневе, а тем более — для защиты себя или напарника. Он считал, что этот короткоствол обеспечивает точность стрельбы максимум на пять футов. Прежде чем уйти из дома, Ник отвел в сторону начальника домовой охраны Ганни Г., показал ему фотографии Вэла и Леонарда и выдал отставному моряку пятьдесят старых баксов: больше трети из того, что осталось у Ника после оплаты полета в Лос-Анджелес, и целое состояние по любым меркам. Ник пообещал дать еще денег, если Ганни позаботится о них, пока сам он не вернется. Или в том случае, если он не вернется. — Здесь на прошлой неделе были люди из ФБР и Внутренней безопасности. Интересовались этим мальчишкой, мистер Б., — сказал Ганни Г. — Знаю. — Ник протянул целое состояние в твердой валюте бывшему моряку с лицом в белых шрамах. — Даю слово: моего сына просто хотят допросить как важного свидетеля по делу, в котором он не участвовал. Но даже это расследование уже приостановлено. Обещаю, что, если вы ему поможете, вас не ждут неприятности. Вот еще двадцать пять, чтобы вы устроили их здесь без меня и избавили от всякого беспокойства. — Я бы сделал это для вас и бесплатно, мистер Б., — сказал охранник, засовывая деньги в карман. Ник нацарапал записку, хотя и не надеялся, что Вэл с тестем появятся сегодня, — но воспоминания о виденном во сне придали ему оптимизма. Вскоре он уже выезжал с крытой парковки на своем вибрирующем, стонущем мерине. После могучего восьмицилиндрового двигателя во сне, после того ощущения свободы, вести это электрическое ведро было сплошным мучением. Счастливая физиономия индикатора зарядки показывала, что сегодня Ник может проделать тридцать одну милю, если станет ехать в основном под горку.
— К. Т.! Лейтенант полиции развернулась, присела, почти извлекла «глок» из кобуры — и замерла. — Ник Боттом?! Какого хера тебе нужно? — И тебе доброе утро, лейтенант Линкольн. К. Т. жила на Капитолийском холме, в большом старом доме постройки девятнадцатого века. Когда-то район считался престижным, но в конце прошлого или начале нынешнего столетия дома здесь превратили в дюжину блоков со сдаваемыми внаем боксами. И вот уже шесть десятилетий эта часть города отличалась высоким уровнем преступности. Но живущему в ней копу это давало дополнительные возможности. Соседи К. Т. по дому, которые могли позволить себе машину, держали ее в громадном, отдельно стоящем гараже, куда вела длинная подъездная дорожка. Именно тут Ник и решил перехватить свою старую напарницу. — На кой черт ты вырядилась в форму, детектив? — спросил Ник. Увидев К. Т. — черная патрульная форма, пистолет на поясе, полицейский значок на груди, дубинка и прочее, — он вспомнил о первых годах их совместной работы. — В Лос-Анджелесе за последнюю неделю случились маленькие неприятности, — сказала К. Т., выпрямляясь. — Или ты усиленно изображал Филипа Марло[119] и не заметил? — Слухи до меня дошли, — сказал Ник. — И что? — Отряды реконкисты и тамошнее ополчение — все получили по заднице. Полтора с лишним миллиона латинов восточного Лос-Анджелеса припустили на юг — спасать свои жизни. Говорят, силы Нуэво-Мексико не устояли в Сан-Диего и теперь отступают к старой границе. — И что? — повторил Ник. — А то, что в Денвере полмиллиона скотов, которые тоже думают: не выкинуть ли латинов к чертям с нашего двора? Сегодня все полицейские выходят на дежурство в полном защитном снаряжении. Будем сооружать линии обороны в Файв-Пойнтс, северном Денвере, районе Вест-Колфакса, у школы Мэньюал и по всему юго-западу города, за Санта-Фе-драйв. — У вас мало сил, К. Т. — На хера мне об этом говорить? Какого черта тебе надо, Ник? Мне нужно работать. — Есть ли подвижки с восьмицилиндровой машинкой, о которой я просил? Со штрафстоянки? К. Т. прищурилась. — Так ты это серьезно говорил? — Серьезнее инфаркта, напарник. — Не называй меня напарником, флэшпещерный житель. Зачем мне ставить на карту всю свою карьеру и пенсию, воруя для тебя машину со штрафстоянки, Ник Боттом? — Потому что меня убьют, если я не обзаведусь настоящими колесами, чтобы убраться отсюда. — Кто это тебя убьет? — спросила К. Т. — За тобой летят черные вертолеты?[120] Ник улыбнулся. Она была ближе к истине, чем думала. — Ты читала материалы для жюри присяжных. — Еще одна причина, чтобы не говорить с вами, мистер. А тем более — идти ради вас на преступление. Ник кивнул. — Если предположить, что они сфабрикованы, — ну предположи это на минутку, — то спроси себя, кто мог изменить записи телефонных разговоров, подделать свидетельские показания, сделать все необходимое, чтобы жюри вынесло нужный вердикт? Покойный мэр и бывший окружной прокурор Мэнни Ортега? К. Т. прыснула со смеху. — Кто, если не он? — гнул свое Ник. — Губернатор? Кто? — Кто-то на уровне офиса советника Накамуры, — сказала К. Т., кинув взгляд на часы и нахмурившись. — Но зачем Накамуре было тратить столько времени шесть лет назад, фабрикуя дело против тебя, расходовать силы и деньги, а потом нанимать тебя для поисков своего драгоценного сопляка? — Я над этим работаю. — Но это если допустить, что материалы для присяжных сфабрикованы, — отрезала К. Т. — Что есть чистая брехня. Лейтенант Линкольн повернулась, собираясь уходить. Ник знал, что К. Т. ненавидит, когда к ней прикасаются: он видел, как однажды до нее дотронулся начальник отдела — и тут же отступил под взглядом К. Т., а попутно она дубинкой выбила зубы умолявшему о чем-то преступнику. И все же Ник ухватил ее за предплечье и развернул. — Из папки для жюри присяжных следует, что я убил мою жену. Ты много лет знала нас, К. Т. Ты можешь себе представить, как я убиваю Дару? — Он встряхнул ее обеими руками. — Черт побери, неужели можешь? К. Т. высвободилась и недовольно посмотрела на него, но потом опустила глаза. — Нет, Ник. Ты не мог убить Дару. Никогда. — Так вот, найду я убийц Кэйго Накамуры или не найду, — а отчитаться я должен уже сегодня вечером, — советник Накамура все равно собирается прикончить меня. Я уверен. Но будь у меня быстрая машина… — Ты рехнулся, — сказала К. Т. Но голос ее теперь звучал мягче. — Почему ты сказал вчера по телефону, — я, кстати, так потом и не уснула, — что пытаешься спасти Вэла и себя? Вэл что, вернулся из Лос-Анджелеса? — Я искал его с понедельника до вчерашнего вечера. Очень возможно, что они с дедом бежали из города, пока там не началось все это дерьмо. — И он приедет сюда… к тебе? Почему, Ник? «Не исключено, что он хочет меня убить», — подумал Ник, но вслух этого не сказал, а только пожал плечами. — Я знаю одно: если он появится сегодня, мне нужно средство, на котором можно быстро убраться из города. Машина с яйцами. — И как далеко тебе нужно… убраться… из города? — спросила К. Т. — На триста шестьдесят четыре мили — где-то так. — Триста шестьдесят… Ник, ни одна машина в наши времена не проедет столько без ночной зарядки или без водородного движка. Что там такого, за триста шестьдесят миль отсюда, куда ты должен… — Она замолчала, широко раскрыв глаза. — Техас? Ты мне совсем мозги засрал. — Ничего не засрал, лейтенант Линкольн. — Республика Техас не принимает объявленных в розыск преступников. И флэшнаркоманов тоже не принимает. А еще они… К. Т. снова замолчала. Ник ничего не ответил. Она подошла поближе. — Ты стал… другим. У тебя глаза… Ты что — соскочил с этого дерьма, с флэшбэка? — Кажется, да, — тихо проговорил Ник. — В последние девять дней было столько дел, что я забыл про флэшбэк. — Целых девять дней… В ее голосе слышался сарказм — как и всегда, но за насмешкой Ник различил заданный всерьез вопрос. — Это только начало, напарник, — сказал Ник. Он вспомнил, как несколько месяцев помогал ей избавиться от анальгетиков и сигарет — после одной небольшой перестрелки. Отказаться от никотина было труднее, чем от наркотиков. Дара понимала Ника, когда тот просиживал вечера со своей напарницей, слушая ее стоны и брань. Он знал, что и К. Т. помнит это. — Может быть, — проворчала она. — Но эта затея с машиной — тухлая с самого начала, Ник. Во-первых, в городе только что прошел ежегодный аукцион по продаже машин со штрафплощадки. Так что там почти ничего нет. — Но ты ведь сумеешь что-нибудь для меня найти, К. Т. — Черт тебя подери, — прорычала она, сжимая кулаки. — Прекрати так поступать со мной, засранец. Я тебе ничем не обязана. Ник согласно кивнул, но К. Т. опустила взгляд, чуть не задыхаясь от злости, и произнесла, глядя в землю: — Кроме моей жизни, Ник. Кроме моей жизни. — Она подняла голову. — Если я найду машину, хоть и не думаю, что найду, куда ее перегнать? В твой молл? — Нет, — сказал Ник, быстро соображая. Ставить ее нужно туда, где много народа, но нет угонщиков. Туда, где поблизости есть охрана, но только не шумная. — Парковка у «Шести флагов». Как можно дальше к югу. Там не проверяют машин до конца приемного времени, то есть до девяти вечера, но охранники у главных ворот приглядывают за машинами на парковке. Припаркуйся как можно южнее, но рядом с остальными, чтобы машина не привлекала внимания. — Как ты ее узнаешь? — пробормотала К. Т., снова бросив взгляд на часы. — Отправь мне эсэмэску. И припаркуй машину задом наперед — чтобы отличалась от других. — И где я оставлю ключи от машины, которую не смогу добыть? — спросила она. — За противосолнечным козырьком? Ник вытащил маленькую металлическую коробочку, которую ему дал Ганни Г. тем утром. — Это магнит. Прикрепи над левым задним колесом… ну, как в «Бешеном Максе». — Хорошо. Как в «Бешеном Максе». К. Т. взяла коробочку, открыла ее, потом захлопнула и закатила глаза, выражая недовольство всей этой чепухой. — Не бери в голову, — посоветовал ей Ник. — Держи коробочку подальше от своего телефона и других компьютерных штук… иначе сильный магнит начисто сотрет память. К. Т. начала протягивать коробочку ему назад, словно внутри было что-то заразное. Ник выставил вперед ладони и покачал головой: — Шутка. Магнит такой слабый, что и к машине вряд ли прилипнет. Левое заднее колесо. Договорились? — Хорошо. — К. Т. повернулась, собираясь уходить. — Но я ничего не обещаю… Ник снова прикоснулся к ней — на этот раз едва-едва, к плечу. — К. Т.? Она сердито вперилась в него, но без настоящей ярости, как прежде. — Что? — Найдешь ты машину для нас или нет, если сегодняшний день закончится для меня неважно… а у меня нехорошее предчувствие… — Ник затряс головой и начал снова. — Если со мной что-то случится и вдруг появится Вэл с дедом, не могла бы ты позаботиться о них, ради меня? Найти для них безопасное место, пока… К. Т. смотрела на него, и в ее темных глазах Ник прозревал истинную боль. Она ничего не сказала. Но и не ушла. — Ты видела Леонарда, — поспешил сказать он. — Он хороший мужик, но, понимаешь… всю жизнь был ученым. Вывезти Вэла из Лос-Анджелеса — намного больше того, что он может сделать для выживания. А ведь Леонарду уже почти семьдесят пять… Ник замолчал. Нужные слова никак не шли в голову. — Ты просишь меня присмотреть за Вэлом, если Накамура или кто-то другой убьет тебя сегодня, — подсказала К. Т. Ник с глупым видом кивнул. Глаза его увлажнились, в горле стоял комок. — Ах, Ник, Ник… — печально протянула К. Т., повернулась на каблуках и пошла прочь, к далеким дверям гаража. Ник знал, что это означает «да». По крайней мере, так он это понял.
Он поставил своего мерина на тридцатиминутную парковку около Капитолия, купол которого сверкал сусальным золотом. С вершины холма открывался вид на север — на равнину, где у слияния Черри-Крик и Платт-ривер расположились тюрьма «Курс-филд» и Центр временного содержания ДВБ «Майл-хай». Ник опустил стекло с водительской стороны и выключил аккумуляторы. «Что теперь?» Впервые за две недели с того дня, как Накамура нанял его, у Ника появилось несколько свободных часов — время для себя. Через двенадцать часов или раньше (наверное, раньше, может, даже гораздо раньше) ему придется снова предстать перед миллиардером и либо назвать имя убийцы Кэйго Накамуры, либо признать свою неудачу. В любом случае, подумал он, Накамура не будет вести себя мирно. Ник Боттом ненавидел головоломки. Ненавидел с самого детства. Но ему удавалось на удивление ловко их решать. Именно благодаря логическим способностям он сумел быстро пройти путь от рядового полицейского до детектива первого ранга и оказаться в отделе по особо важным делам — в тридцать с небольшим лет. Но теперь… Что теперь? Он был уверен, что у него на руках все факты, необходимые для раскрытия преступления, но даже эти треклятые факты то и дело меняли взаимное расположение, размывались. Ник чувствовал себя слепым художником, пытающимся создать скульптуру из кучи мелких камней. В целом он мало продвинулся по сравнению с тем, чего достигла его команда шесть лет назад. Тогда они решили, что Кэйго, возможно, прикончил кто-то из свидетелей (или — эта мысль пришла уже напоследок — Кели Брак, подружка Кэйго): поэт Дэнни Оз, у которого не было особых мотивов, но зато были кипящий гнев и близкое безумие, достаточные для убийства в реальном мире; вор и наркодилер Делрой Ниггер Браун — он мог проговориться о чем-то во время интервью, будучи под кайфом, и не хотел, чтобы это фигурировало в фильме; наркоман и наркодилер Дерек Дин, который сейчас догнивает в Полном погружении среди зелени Наропского института, мог совершить убийство ради последующих флэшбэкных удовольствий; дон Кож-Ахмед Нухаев — у того нашлось бы с десяток причин, и на некоторые он намекал Нику при встрече. Однако вероятнее всего убийство совершил специальный отряд киллеров-ниндзя, направленный одним из восьми кэйрэцу или дзайбацу (точнее, семи — клан Накамуры не считался) и семи даймё, возглавлявших конфедерации кланов-компаний. Семь беспощадных даймё, включая добродушного лысого яйцеголового Даити Омуру, которому Ник от усталости и посттравматического стресса после пяти веселых дней в Лос-Анджелесе воздавал всевозможные почести, только что в задницу японскую не целовал… Семь беспощадных даймё, и каждый в своей маниакальной самовлюбленности уверен, что выживание его страны и всего мира зависит от того, станет ли он — именно он — сёгуном. Семь беспощадных даймё, и каждый готов убить тысячу Кэйго Накамура с их секс-рабынями, лишь бы увидеть, как сбываются его мечты о сёгунате. На этом остановилось расследование Ника и К. Т. Линкольн шесть лет назад. И именно на эту вероятность, казалось, указывало большинство свидетельств, старых и новых. «Большинство, но не все», — подумал Ник. С Капитолийского холма Денвер вовсе не выглядел городом, который вот-вот захлестнет волна расового и этнического насилия. Листья на деревьях в парке у холма уже меняли окраску. Температура стояла идеальная — чуть выше семидесяти,[121] и у солнечных лучей был тот ясный, чистый, хрустальный позднесентябрьский оттенок, из-за которого колорадцы хотели обитать именно в этих краях. (По крайней мере, до наступления поганенькой весны без всякого намека на весеннюю погоду, так что зима затягивалась до июньской жары.) Глядя на здания внизу, Ник попытался собраться с мыслями. Ему обычно помогало, когда он давал волю подсознанию и там сплетались нити независимо от фактов, подогнанных разумом. На маленьких прогалинах парка у холма расположилась городская библиотека, возведенная каким-то пробивным архитектором-постмодернистом в 1990-е годы. Вся прелесть башни, похожей то ли на карандаш, то ли на мелок, сошла на нет еще в прошлом веке. За библиотекой располагалась основная часть музея искусств. Ник подумал, что этой постройке в «модерновом» стиле уже шестьдесят с лишним лет. Музей, обнесенный стеной и покрытый черепицей, по-прежнему напоминал замок, свернувшийся клубком и готовый отражать нападение. Маленькие, страшной формы окна были в беспорядке разбросаны по зданию. Ник вспомнил, как мать, любившая искусство, в детстве водила его в музей. Показывая на окна, она объясняла: — Человек, построивший это в начале семидесятых, придумал окна такой формы и расположил их в таком порядке, чтобы они обрамляли великолепные виды на горы и подножия гор. Словно картины, висящие на стенах. Здорово, правда? Вот только архитектор не учел, что вокруг построят здания выше этого и пейзажи будут не видны… и теперь окна-рамы выглядят глуповато. Как-то раз Леонард после пары рюмочек рассказал Нику о своем научном руководителе, который относил такие неизбежные случаи к действию Железного закона непредумышленных последствий. Полицейский и сын полицейского прекрасно знал, что такое тирания непредумышленных последствий, и вовсе не нуждался в объяснениях профессора. По другую сторону улицы от здания в модернистском стиле расположилась более поздняя, постмодернистская часть музея. У Ника даже осталось в памяти имя архитектора — Дэниел Либескинд. Сооружение из стекла и титана с шипами, выступами и углами напоминало разбитую люстру или расколотую звезду с рождественской елки. Его построили в первое десятилетие этого века. Ник помнил самодовольную шумиху вокруг постройки, якобы возвращавшей Денвер на архитектурную карту Америки — будто это хоть что-то значило после Дня, когда настал трындец. Однако ребячливая радость немного поутихла, когда город обнаружил, что: а) внутренние помещения поломанной елочной игрушки совершенно непригодны для размещения экспонатов и б) все углы и поверхности, которые могли протекать, протекали и обещали делать это всегда. «Стоп. Что-то из херни, полезшей в голову, может принести пользу. О чем это я думал?» Ник промотал назад ленту своих свободных ассоциаций а-ля Молли Блум,[122] словно пленку от старого катушечного магнитофона, — когда-то он научил себя этому — и нашел то, что искал. Окна-рамы стали бесполезны из-за новых зданий, что окружили музей и закрыли вид на горные пейзажи. Он по-прежнему пытался раскрыть это дело, используя старые, уже непригодные рамы. Но на прошлой неделе он споткнулся обо что-то… новая штука, загородившая собой старый пейзаж… в ней содержался ответ. Ответ был. Просто Ник пока еще не видел его. Ник включил свою замечательную четырехколесную поделку от «ГМ», взглянул на улыбающуюся физиономию и распускающиеся листочки интерфейсов: мерин завелся. Хотя он проехал всего ничего, от дневного заряда осталось всего девятнадцать миль. Ник повел этот кусок дерьма вниз по холму, на запад.
На парковке «Шести флагов» было всего с десяток машин. Ник знал, что смешно искать тут «камаро», машину его спасения, — разве что система телепортации из «Звездного пути» могла перенести сюда автомобиль со штрафстоянки за столь короткое время, — но все равно пошарил взглядом. Ни одной машины, поставленной задом наперед или отдельно от других, в южной части парковки он не увидел. Дэнни Оз курил — обычную сигарету, не косячок — и попивал кофе в почти пустой палатке-столовой под ржавеющей Башней судьбы. Казалось, он ничуть не удивился, что Ник навещает его вновь и так рано утром. — Кофе, мистер Боттом? — предложил Оз, показывая на большой бачок. — Ужасный, но крепкий. — Нет, спасибо. — У вас новые вопросы? Перед приходом Ника поэт писал что-то в маленьком блокнотике, но теперь отложил его в сторону. — Не совсем, — сказал Ник. — По крайней мере, ничего в рамках расследования. С этим все. — Так вы нашли убийцу Кэйго Накамуры? — Не уверен. — Ник понимал, что такой ответ звучит глуповато. Неважно: так ведь оно и было. — У меня оказалось немного свободного времени, и я подумал, мистер Оз… — Дэнни. — И я подумал вот о чем, Дэнни. Как бы вы описали манеры и поведение Кэйго, когда он вас интервьюировал? Оз молчал целую минуту. Ник уже подумал, что собеседник не понял вопроса (Ник и сам не был уверен, что хорошо понимает свой вопрос), и собирался перефразировать его, когда поэт заговорил. — Это любопытно, мистер Боттом. Да, в тот день я заметил кое-что необычное в манерах и поведении мистера Кейг. — Что именно? — спросил Ник. — Подавленность? Обеспокоенность? Настороженность? — Ликование, — сказал Оз. Ник, который приготовился делать заметки в своей книжечке, опустил карандаш. — Ликование? Дэнни Оз нахмурился и отхлебнул кофе. — Это не совсем точное слово, мистер Боттом. Я думаю о еврейском слове «менацеях» — пожалуй, точнее всего будет перевести его как «победоносный». Понимаете, за этим стоит лишь интуиция поэта, много лет наблюдавшего за людьми, но у меня сложилось четкое впечатление, что Кэйго Накамура видел себя в преддверии некоего торжества… некоей победы. Победы грандиозного… можно сказать, библейского масштаба. — Он почти закончил свой документальный фильм о приверженности нас, американцев, к флэшбэку, — заметил Ник. — Может, это и есть торжество, о котором вы говорите? — Не исключено. — Оз надолго замолчал. — Но мне казалось, что это скорее ощущение победы в тяжелой борьбе. — Какого рода борьбе? Личной? Больше, чем личной? Поражение или успех, по меркам его отца? — Понятия не имею. — Оз пожал плечами. — Мы находимся в области чисто субъективных оценок, мистер Боттом. Но я бы предположил, что молодой человек одержал победу в личной борьбе, которая выходила за рамки личного. Какое-то событие корпоративного или политического порядка. Но явно более масштабное, чем он сам. Ник вздохнул. — Ну хорошо. Ели говорить о чисто субъективных впечатлениях, то у меня к вам два вопроса, которые, в общем, никак не связаны с расследованием. — О вашей жене? — негромко спросил Оз и потер шею, словно до сих пор ощущал упертое в нее предплечье Ника. На левом виске поэта краснело пятно — там, где дуло «глока» порвало кожу. — Нет, речь не о Даре, — выдавил Ник и открыл было рот для извинений, но потом захлопнул его. — Просто вопрос. Если бы вы могли спасти Израиль от уничтожения, убив одного человека — одно человеческое существо, — вы бы сделали это? Дэнни Оз несколько раз моргнул. Мучительное выражение на его лице свидетельствовало о том, что вопрос не только некорректен, — на него невозможно ответить. И все же он ответил. — Мистер Боттом, Талмуд учит нас вот чему. Я наверняка перевру этот стих, потому что не заглядывал в талмудический трактат «Санхедрин» с детских лет, но все же попытаюсь… «По одной этой причине и был создан человек: дабы научить тебя, что тому, кто уничтожает одну душу… Писание вменяет… — кажется, дальше „в вину“ —…уничтожение целого мира; а тому, кто спасет хотя бы одну душу, Писание вменяет в заслугу… — или „в достоинство“, точно не помню —…спасение целого мира». — Значит, вы бы никого не убили, чтобы спасти Израиль? Дэнни Оз посмотрел Нику в глаза. Прежняя устремленность куда-то вдаль исчезла из его взгляда. И Ник тоже смотрел прямо ему в глаза. — Не знаю, мистер Боттом. Да простит меня Господь. — И последний вопрос, — сказал Ник. — Будь у вас возможность вернуться в Израиль сейчас, вы бы сделали это? Оз иронически хмыкнул, допил остатки холодного кофе и закурил еще одну сигарету. — Израиля больше нет, мистер Боттом. Только радиоактивная пустыня и в ней — арабы. — Ну, не вся она радиоактивная. А если бы кто-то прогнал арабов, поселившихся там после бомбардировок? Поэт снова рассмеялся — низким, печальным смехом. — Прогнал? Кто может прогнать их, мистер Боттом? ООН? ООН в конце двадцатого века была надежным союзником арабских стран и палестинцев, а теперь полностью находилась на содержании Всемирного Исламского Халифата — только «миротворческие» операции в Китае финансировались Японией. По иронии судьбы, думал Ник, даже после гибели шести миллионов евреев и уничтожения Израиля так называемым палестинцам все равно не удалось создать собственное государство на радиоактивных обломках. Этого не дали сделать шиитский Иран и суннитские арабские государства, которые соперничали друг с другом и ко всему относились настороженно. — Нет, — сказал Ник. — Если бы эти земли очистил кто-то другой — тогда вы бы вернулись? — У меня рак простаты и другие онкологические заболевания — последствия облучения. Я умираю. — Мы все умираем. Вернулись бы вы в Израиль вместе с другими евреями? Дэнни Оз снова заглянул Нику в глаза. И опять в его взгляде сквозила новообретенная ясность. — Я бы поехал в ту же минуту, мистер Боттом. В ту же минуту. Ник вышел на парковку, понимая, что не узнал почти ничего полезного для себя, — а через несколько часов он предстанет перед Накамурой и у него потребуют назвать имя убийцы. «Но я узнал кое-что важное», — подумал Ник. Вот только он не понимал толком, что именно. Три «ошкоша» ПМПЗВА с ревом въехали на площадку и заблокировали его машину — Ник даже дверь не успел отпереть. Муцуми Ота, Дайгору Окада и Синта Исии — вместе с ним заглянувшие в глаза смерти на пути в Санта-Фе — выпрыгнули из первой машины. На них была противопульная одежда, но не для серьезных военных действий: кевлар и черные ботинки. Даже шаровидные шлемы были из пуленепробиваемой материи. На груди — автоматы. Ник и бровью не повел. Из задней двери «ошкоша» вытряхнулась туша Сато. Кивнув своим трем ниндзя и прохрипев им что-то, он сказал: — Боттом-сан, пожалуйста, поедем с нами. «О черт, — подумал Ник. — Так скоро. Так рано. Я еще не готов». И опять ему пришли на ум миллиарды мужчин и женщин, умиравших с такими же недостойными мыслями. Он облизнул губы. — Мистер Накамура вернулся? — Нет еще, — прогрохотал Сато. — Но мистер Накамура просил показать вам кое-что перед тем, как вы встретитесь с ним сегодня. Прошу вас поехать с нами. — У меня есть выбор? — поинтересовался Ник. — Прошу вас, Боттом-сан, — сказал Сато. — Мы отвезем вас назад к вашему автомобилю через час. А то и быстрее. Держа руки подальше от «глока» и не делая резких движений, Ник по откинутому пандусу поднялся в ПМПЗВА, двигатель которого все это время работал.
Поездка оказалась недолгой, от силы две мили, и закончилась на полянке — остатке длинного парка вдоль восточного берега Платт-ривер. Теперь над ней нависали высотные кондоминиумы, построенные в конце прошлого и начале нынешнего века. Сато, трое ниндзя и Ник вышли из первого ПМПЗВА и пересели в один из вертолетов-стрекоз Накамуры — не столь роскошный, как тот, в котором Ник неделей ранее летел на Рейтон-Пасс. С десяток людей Сато из других «ошкошей» — все в черном и в кевларе — окружили вертолет. Муцуми Ота, он же Вилли, жестом пригласил Ника пройти в открытую дверь. Сато надел наушники с микрофоном, дождался, когда рассядутся и пристегнутся все остальные, и произнес в микрофон несколько незнакомых Нику японских слогов. «Сасаяки-томбо» бесшумно поднялся в воздух, завис, лег набок и полетел на восток над центром Денвера. Боковые двери остались открытыми, и Ник видел собственное отражение в позолоченном стекле пятидесятиодногоэтажного здания, раньше принадлежавшего «Уэллс фарго»,[123] — скромного небоскреба, давным-давно прозванного «кассой» за очертания верхушки. Здания все мелькали и мелькали под ними; внезапно вертолет оказался за чертой города и взял курс на юго-восток, летя над фермами и высокой прерией. Ник знал, что вот уже несколько десятилетий Денвер выглядит именно так. На севере, юге и западе окраины города тянулись за горизонт, а на востоке всегда существовала резкая граница: город, потом несколько ферм с системами орошения, а дальше — высокая прерия до самого Канзаса. Ник не спрашивал, куда они направляются; единственная его догадка была довольно смутной. Он почуял пункт их назначения прежде, чем увидел, а почуяв, понял, что его догадка верна. Стрекоза приземлилась, все расстегнули ремни. Охранники-ниндзя спрыгнули на землю, жестами вежливо приглашая за собой Ника. Ник задрал перед рубашки, чтобы закрыть нос и рот — иначе его бы вырвало. — Вы знаете, где вы, Боттом-сан? — спросил Сато, подходя к Нику и к краю зловонной бездны. Ник кивнул, не желая говорить, потому что тогда вонь заполнила бы его открытый рот. Они были на денверской муниципальной свалке № 9. — Вы бывали здесь прежде, Боттом-сан? Ник отрицательно покачал головой. Он не понимал, как Сато может говорить, вдыхая этот воздух. Ник видел немало судебных фотографий и видеосъемок этого места, но сам никогда здесь не появлялся. Первоначально свалка была глубоким оврагом, протянувшимся на целую милю с севера на юг. Затем его углубили местами при помощи бульдозеров, оборудовали наверху плоские площадки, выровняли грунтовки, ведущие от шоссе. С западной стороны вниз сбрасывались тонны обычного городского мусора — бессчетные мешки с отходами, сломанная мебель, груды гниющей одежды и всевозможных органических отбросов. Здесь, с северо-западной стороны, тоже было много такого мусора, но еще повсюду, сверху донизу, разлагались человеческие тела — многие сотни тел. Некоторые были завернуты в материю или упакованы в пластиковые мешки, но большей частью мертвецы лежали голыми под жарким сентябрьским солнцем. Тучи чаек и ворон поднялись с мест кормежки при виде вертолета, но вскоре вернулись к трапезе. Часть территории принадлежала грифам: они парили в потоках воздуха, словно самолеты на подходе к Денверскому аэропорту, ожидая, когда тоже смогут поживиться. Многие из тел в самом низу превратились в скелеты без всяких признаков пола и сверкали белизной — редкие клочья плоти оставались порой на ребрах, на тазовых костях, на ногах. Но в большинстве своем трупы еще не лишились мяса и распухли так, что вообще ничем не напоминали людей. Они кишели личинками, и лишь кое-где из разлагающейся массы бесстыдно торчали белые кости. Ник обратил внимание, что многие тела на средней стадии разложения будто бы двигаются и подергиваются на склоне: игра света, объясняемая движением миллионов личинок на поверхности и внутри тел. Такими брезговали лакомиться даже чайки. Теперь, когда миновала первая треть славного двадцать первого века, у границ каждого американского города имелась подобная свалка. Всем — отрядам реконкисты, ополчению Синко де Майо,[124] бандам Арийского братства, джихадистам, отрядам самообороны, мотоциклетным бандам, а нередко и самим властям — требовалось такое место, если в городе хотя бы минимально поддерживалась общественная гигиена. Сато дотронулся до левой руки Ника и пододвинул его поближе к краю. Пистолет оставался при нем, и правая рука Ника уже поднялась. Если бы Окада, Исии или Ота подняли оружие у него за спиной, то Ник бы бросился на Сато, крепко обхватил громилу и разрядил «глок» ему в живот, грудь и лицо. Потом он скатился бы вниз, на гору трупов, прикрываясь телом Сато и продолжая стрелять из «глока», после чего выхватил бы бесполезный карманный пистолетик, спрятанный на голени, и стал палить из него в трех ниндзя с кевларом и автоматическими карабинами М4. Тело Ника было готово к этому, но в голове крутилась мысль: «Вэл, Леонард и К. Т. никогда не узнают, что со мной случилось». Ну, К. Т., может, и узнает. Денверская полиция проверяла муниципальную свалку № 9 приблизительно раз в месяц на предмет интересующих ее трупов. К. Т. может сообщить об этом его сыну и тестю, если только они сами не окажутся здесь. А Ник считал, что это вполне возможно. Сато положил руку на левое плечо Ника, Ник положил руку на рукоять «глока» под легкой курткой. Три ниндзя пододвинулись к ним поближе. — Мукацуку ё на-со дэсу ка?[125] — сказал Сато. Ник понятия не имел, что это значит. Может быть, прощание. Может быть, ультиматум. Впрочем, ему было все равно. Его указательный палец лежал на спусковом крючке «глока». Все, что может произойти дальше, произойдет за доли секунды. — Зехи, Боттом-сан. Ико ю.[126] Сато снял тяжелую руку с плеча Ника, развернулся и пошел к вертолету. Ник, поднимаясь в кабину следом за четырьмя японцами, обратил внимание, что пилот и его помощник сидят в кислородных масках, спасаясь от убийственного запаха.
Куда бы Сато и прочие японцы ни направлялись дальше, они явно не собирались доставлять Ника на парковочную площадку у «Шести флагов». Пока не собирались. «Хуже муниципальной свалки № 9 ничего уже не будет», — подумал Ник. Как вскоре выяснилось, он ошибался. «Стрекоза» взяла курс на запад. Следуя со скоростью более 150 миль в час, вертолет не поднимался выше двух-трех тысяч футов над плоской местностью. Они летели над окраинами северного Денвера вдоль 36-го хайвея и Боулдерской автомагистрали к блестящим плитам Флатиронов. А значит — в Народную Республику Боулдер. Ник почувствовал, как завибрировал его телефон. Медленно, чтобы не насторожить Сато или ниндзя, Ник вытащил телефон из кармана куртки и прочел текстовое сообщение: «Мистер Б. Два гостя прибыли, я проводил их к вам и буду за ними приглядывать. Чеки на еду и все остальное. Ганни Г.». Ник постарался не выказать никаких эмоций, засовывая телефон в карман. «Стрекоза» миновала Боулдер, низко пролетев над зданиями кампуса, потом поднялась над подножиями гор и зависла. Ник выглянул в окно и посмотрел вниз. Они садились на бывшую парковку при НЦАИ. Ник вспомнил безумие, которое называлось «антропогенным глобальным потеплением». Ему уже перевалило за двадцать, когда эта истерия достигла своего апогея. Теперь все это было лишь поучительной историей из темной эпохи долгосрочного компьютерного моделирования начала столетия. Ник, например, с нетерпением ждал удлинения лета, мягких зим и появления пальм в Колорадо, но за последние десятилетия стало лишь холоднее, снега выпадало больше обычного, и «антропогенное глобальное потепление» отправилось на свалку истории, как некогда флогистон Бехера[127] и советский ламаркизм.[128] Одной из первых жертв общественного негодования в связи с ложной тревогой и ущербом, наносимым федеральному бюджету в результате изучения АГП, стала группа, для которой и было построено все время расширявшееся великолепное здание: НЦАИ — Национальный центр атмосферных исследований. Архитектор Бэй Юймин выстроил его из песчаника и стекла, рассчитывая, что камень будет стариться вместе с таким же песчаником Флатиронов, нависавших над зданием, а в стекле станет отражаться неспокойное колорадское небо. Так все и шло уже семьдесят пять лет, вот только исследователи атмосферы давно уже продали здание (единственное, которое было разрешено возвести в многомильном зеленом поясе между Боулдером и Флатиронами) какой-то частной компании. Они мягко приземлились. «НЦАИ — Накамура-центр амбициозных исследований» — гласила маленькая табличка справа от входа. — Мистер Накамура сохранил прежнюю аббревиатуру, — открывая дверь, сказал Сато, хотя и так все было ясно. «Чертовски благородно с его стороны», — подумал Ник, но промолчал. Наружные помещения прежнего исследовательского центра, в башнях и там, где широкие окна смотрели на небеса, горы и луга с бурой травой, служили кабинетами, как и прежде. Но подвал и сердцевину центра превратили в… что-то другое. Они вошли в некое подобие тамбура перед длинным и широким подвальным помещением, надели матерчатые зеленые бахилы и маленькие шапочки. Но Ник уже увидел мельком, что делается в подвале. Три ниндзя остались в тамбуре, Сато повел Ника дальше. Два врача или специалиста в халатах, масках, шапочках и бахилах поспешили к ним с какими-то словами, но Сато поднял палец, и оба замолчали. Один из них низко поклонился японцу. Сато с Ником двинулись мимо высоких емкостей из органического стекла или какого-то пластика, более прочного и прозрачного. К каждой из емкостей, заполненных зеленоватой жидкостью, подходили десятки змеившихся трубок и шлангов. Половина трубок была подсоединена к плавающим внутри человеческим существам, в основном мужского пола, хотя Ник увидел и несколько женщин. Они были обнажены, если не считать небольшого куска синтетического материала, служившего для подведения входных и выходных трубок. Трубки диаметром поменьше торчали из ноздрей, диаметром побольше — из ртов. Кроме того, к запястьям и предплечьям были подведены внутривенные трубки. — Трубки предназначены для искусственного питания и поддержания различных функций организма, Боттом-сан, — вполголоса, чуть ли не шепотом, сказал Сато, словно они стояли в церкви или святилище. — Эти люди не получают кислорода в газообразной форме. Их легкие фактически наполнены жидкостью с высоким содержанием кислорода. Первое погружение, если подопытный в сознании, проходит тяжело. Но когда легкие заполняются целиком, тело вскоре начинает брать кислород из жидкости так же легко, как из воздуха. Они шли друг за другом, от емкости к емкости. Каждая была подсвечена изнутри, и в подземном помещении царила тихая, почти торжественная обстановка, будто в каком-то фантастическом аквариуме. Негромкий звук исходил только от работающих установок, да изредка шуршали по плиточному полумягкие подошвы бахил. Создавался молчаливо-почтительный, можно сказать, церковный настрой. — За исключением нескольких случаев, когда подопытные подвергаются наказанию, — прошептал Сато, — мы удаляем у них барабанные перепонки, глазные яблоки и зрительные нервы. Все это больше не нужно. Они лишь отвлекали бы подопытных. «Значит, их наказывают, не удаляя барабанные перепонки, глазные яблоки и зрительные нервы?» У Ника возникло нехорошее предчувствие, что вскоре он поймет, о чем речь. — И что это? — спросил он. — Научно-фантастический эксперимент в предвидении дальних космических полетов? А люди, они кто — клоны? Адаптация человеческого организма к жизни под водой? Что это за херня такая? Они остановились у емкости, где в клубке обычных трубок и микротрубок, напоминавших волосы Медузы, плавал человек лет шестидесяти с небольшим на вид. Его веки были зашиты. Ушные раковины отсутствовали, а ушные каналы были прикрыты наращенной плотью и кожей. — Это первые подопытные, — сказал Сато. — Здесь, в НЦАИ, содержится всего несколько сотен человек, для которых заканчивается испытательный период. По всей стране их тысячи. Тут проводится окончательная проверка качества, перед тем как начнется распространение флэшбэка-два по Америке и всему миру. — Флэшбэка-два? — глупо повторил Ник. — Именно так, — подтвердил Сато и прижал сильную руку к стеклу в нескольких дюймах от лица плавающего человека. Ник заметил, что кожа подопытного, как и у всех остальных, на лицах, черепах и телах — белоснежного цвета и сморщенная. — Остаток жизни они будут пребывать во флэшбэкном счастье, — продолжил Сато. — Менее чем в двух милях отсюда, в Наропском институте, люди тратят миллионы долларов, чтобы заново прожить свои жизни благодаря флэшбэку, под медицинским наблюдением. Но обычный флэшбэк требует пробуждения на несколько часов в сутки, чтобы человек получал физические нагрузки, ел, не належивал пролежней, не приобретал других болезней, неизбежных при полной иммобилизации. Повторное проживание жизни у них все время прерывается, флэшбэкные иллюзии внезапно и грубо заканчиваются. Тогда как здесь… — Сато обвел рукой помещение. — Научный департамент мистера Накамуры сделал так, что теперь можно наполнить целую жизнь только счастливыми моментами. Они не просто переживаются заново, как под флэшбэком, а выстраиваются под воздействием фантазий человека, его воображения. Люди здесь переносятся в счастливое будущее и встречаются с любимыми, которые ушли в мир иной. Калеки могут ходить и бегать — и будут делать это до конца своей жизни под Эф-два. Неудачники добиваются успеха внутри этих емкостей, получая наркотик, и все довольны. Этот новый флэшбэк исключает неудачи и утраты, Боттом-сан. Люди не чувствуют боли. Совсем не чувствуют. — Значит, все так и есть, — пробормотал Ник, имея в виду наркотик. После долгих лет, наполненных слухами и мифами об Ф-2, препарат обнаружился здесь. И он действовал. — О да. Этим людям кажется, что все так и есть, — сказал Сато, неверно истолковав слова Ника. — Единственное различие между жизнью под Эф-два и так называемой реальной жизнью состоит в том, что привилегированные чудесным образом избавлены от физической боли, от болезненных ощущений, воспоминаний, эмоций. — И как долго они… живут? — спросил Ник. Его одежда все еще воняла миазмами денверской свалки № 9. Как же ему хотелось вернуться туда… — По самым оптимистичным предположениям, основанным на десятилетних исследованиях, — семьдесят — восемьдесят лет. А то и больше. Полноценная, насыщенная, счастливая жизнь. Ник прикрыл рот рукой. Через мгновение, убрав ее, он проскрежетал: — Японцам за использование флэшбэка грозит смертная казнь. В Японии и где угодно. — Так оно и останется, Боттом-сан, — сказал Сато. — И этот закон будет проводиться в жизнь с такой же строгостью, как во Всемирном Халифате. Ник мотнул головой. — Вы будете продавать этот наркотик, Эф-два… Он замолчал, не зная, как закончить это предложение. — По более низкой цене, чем ЭФ-один, — гордо проговорил Сато. — Розничная цена составит один новый доллар за сорок — пятьдесят часов. Его смогут позволить себе даже бездомные. — Вы же не обеспечите триста пятьдесят миллионов человек такими аквариумами, — прорычал Ник. — И кто будет кормить миллионы флэшбэкеров? С этим уже и сейчас проблемы. — Конечно, аквариумов не будет, Боттом-сан. Потребителю придется искать флэшпещеру или удобное частное помещение. Наилучший вариант — конечно, аквариум. Мы полагаем, что предоставление аквариумов, примерно таких, как здесь, станет бурно растущей отраслью экономики в ближайшие годы. Вероятно, те страны, в которых флэшбэк строго запрещен, смогут изготавливать емкости для полного погружения в расчете на американцев. Ник пересчитал патроны: пятнадцать штук в магазине, уже заправленном в «глок», и еще один магазин в кармане куртки. Всего тридцать патронов. На каждую емкость может потребоваться несколько выстрелов, если их вообще пробьет пуля. Карманный пистолет в счет не шел — слишком маломощный для этого суперплексигласа. Если же это прозрачный кевлар-3, то и «глок» окажется бессилен. Позднее Ник понял, что лишь эта прикидка и остановила его тогда. Они вдвоем долго стояли в зеленоватом полумраке, не говоря ни слова: Хидэки Сато — с задумчивым видом, Ник Боттом — терзаемый ненавистью и ощущением собственного бессилия. — Для чего вы показываете мне все это? — спросил Ник, глядя в глаза Сато. Шеф службы безопасности Накамуры слегка улыбнулся. — Нам пора идти, Боттом-сан, иначе вы не вернетесь к своему автомобилю в течение часа, как я обещал. Когда будете встречаться с мистером Накамурой, не забывайте о том, что существует НЦАИ. — Я никогда не забуду о НЦАИ, — сказал Ник.
1.17 Денвер 25 сентября, суббота
— Где они? Ник находился на пункте сдачи оружия. Кроме Ганни Г., за стойкой никого не было. — Ваш сын ушел, мистер Б. А у вашего тестя случился то ли удар, то ли инфаркт, — сказал бывший моряк. — Ушел? — заорал Ник. — Как это Вэл ушел? Куда? — Мы не знаем, мистер Б. Вылез через фонарь в крыше, а потом спустился по веревке. Я вам покажу. — А Леонард, мой тесть, — он жив? — Да. Я отвел его к доктору Таку. — Впусти меня, Ганни. Открой дверь. — Не могу, мистер Б. Сначала сдайте два пистолета, которые брали утром. Вы же знаете правила. — Я знаю правила. — Ник вернулся к стойке и пустил по ней пятьдесят старых долларов. «Аванс», полученный от Накамуры, был почти израсходован. Ганни Г. нажал кнопку, и тяжелая дверь отворилась.Вообще-то доктора Така звали Сударет Ятисрипитак, но все в молле называли его «доктор Так». Он бежал из Таиланда во время последней тамошней революции «Тай рак тай» («Тайцы любят тайцев»), во время которой пятая часть населения страны была уничтожена, и обнаружил, что может зарабатывать в Штатах вполне приличные деньги — даже без медицинской лицензии. А зарабатывал он, предоставляя нелегальные медицинские услуги нескольким тысячам обитателей кондоминиума. Поэтому бокс доктора Така был одним из самых больших в молле: половина верхнего этажа прежнего универмага «Мейсис». Леонардспал в одной из палат неотложной помощи, рядом со входом в логово Така. Когда Ник увидел тестя, к которому подходили трубки от капельницы и других сосудов, сердце его сжалось от ужаса. Нет, он долго еще не забудет НЦАИ. Доктор Так, невысокий человек семидесяти с лишком лет, но еще черноволосый, вошел в палату, пожал Нику руку и сказал: — Он будет жить. Мистер Ганни Г. нашел вашего тестя у вас в боксе. Он был без сознания, и я велел доставить его сюда. Я сделал ему разнообразную диагностику. К профессору Фоксу ненадолго вернулось сознание, но сейчас он спит. — Что с ним? — спросил Ник. Леонард выглядел намного старше того глубоко немолодого профессора, которого Ник видел пять лет назад, приехав с Вэлом в Лос-Анджелес. — Думаю, это приступ стенокардии, вызванный аортальным стенозом, — сказал старый таец. — Синкопальное состояние стало следствием боли и недостаточного притока кислорода к сердцу. — Что такое «синкопальное состояние», док? — Обморок. Потеря сознания. — Кажется, я знаю, что такое стенокардия, но вот… аортальный стеноз?.. — Верно, мистер Боттом. Аортальный стеноз — это ненормальное сужение аортального клапана. В определенных случаях — скажем, при большом напряжении или усилии — приток крови из левого желудочка полностью перекрывается. У него неожиданный приступ стенокардии с потерей сознания. — Это излечимо? — вполголоса спросил Ник, глядя на лицо спящего старика. Дара любила отца. — Он выживет? — Тут два разных вопроса, — улыбнулся доктор Так. — Приблизительно в четырех процентах случаев аортальный стеноз приводит к мгновенной смерти. Вашему тестю повезло — его симптомы ограничиваются стенокардией и потерей сознания. Судя по результатам диагностики — а у меня хорошее оборудование, — я бы сказал, что он страдает сердечным заболеванием, которое называется сенильным кальцинированным аортальным стенозом. — Сенильным! — потрясенно воскликнул Ник. — Сенильным — в смысле старческим, то есть он случается после шестидесяти пяти лет, — пояснил доктор. — По мере ста рения белки клапанных лепестков разрушаются, в них откладывается кальций. Турбулентность кровотока возрастает и вызывает утолщение и стеноз клапана, между тем как отложения кальция ухудшают кровоснабжение. Почему у части больных это ведет к аортальному стенозу, а у других — нет, пока неизвестно. У профессора Фокса он случился. — Так это излечимо? — вновь спросил Ник. Доктор Так отвернулся от пациента и заговорил очень тихим голосом: — Когда у больного в возрасте доктора Фокса возникают симптомы затрудненного дыхания, стенокардии и потери сознания, от терапевтических методов лечения проку мало. Здесь поможет только замена аортального клапана. — И сколько это стоит? — спросил Ник. — Такую операцию можно сделать за счет правительства? Доктор Так мрачно улыбнулся. — Я не хирург. После разрушения системы здравоохранения в вашей стране, мистер Боттом, время ожидания на замену аортального клапана в рамках Инициативы Национальной службы здравоохранения составляет чуть более двух лет. Для операций используются биопротезы клапанов, взятые у лошадей и свиней, однако на их подготовку требуется немало времени, и готовятся они в порядке очередности. Кроме того, всем, кому вживлены протезы, требуются медикаменты для адаптации иммунной системы, включая пожизненный прием антикоагулянтов для разжижения крови — например, варфарина, он же кумадин. Эти препараты не дают образовываться бляшкам на поверхности клапанов. Они очень дороги и не оплачиваются в рамках Инициативы. — Можете не говорить — я попробую догадаться, — сквозь зубы проскрежетал Ник. — Большинство людей, страдающих этим… аортальным стенозом… не доживают до операции, субсидируемой правительством. А если доживают, то не могут потом получить разжижители крови. — Верно, — подтвердил доктор Так. — Много лет назад, когда я был молодым врачом в Бангкоке, мы все ожидали прорыва в генетических исследованиях, которые позволили бы клонировать сердечный клапан человека. В этом случае трансплантаты не требовали бы подавления иммунной системы и антикоагулянтов — при единичных пересадках клапанов, взятых у трупов, иммунного отторжения никогда не возникало. Но затем мы видели крах больших фармацевтических компаний в Северной Америке, вашу так называемую реформу здравоохранения и отказ правительств Западной Европы и Америки от финансирования исследовательских программ. Вот тогда эти надежды исчезли. — Значит, вы ничего не сможете сделать для Леонарда, доктор? Мы ничего не сможем сделать? Я ничего не смогу? — Я дам ему болеутоляющее на случай нового приступа стенокардии, — ответил старый таец. — И он должен избегать больших физических нагрузок. Ник не удержался от смеха. А когда доктор Так исподлобья посмотрел на него, как умеют смотреть только врачи, Ник сказал: — Леонард только что бежал из Лос-Анджелеса и увез моего сына из зоны военных действий. Я не знаю, как он это сделал, но заспасение сына я буду благодарен ему до конца жизни. Если бы я мог отдать ему все мое сердце для пересадки, я бы отдал. — Принимаю, — раздался сзади от них слабый голос почетного профессора Джорджа Леонарда Фокса. — Доктор Так, пожалуйста, подготовьте моего зятя к немедленной трансплантации. А заодно замените мне почки и простату. С этими я никак заснуть не могу. Ник и доктор повернулись, но покраснел только Ник. Он опустился на одно колено рядом с кроватью. — Давно вы проснулись, Леонард? — Достаточно давно, чтобы услышать все плохие новости, — сказал старик. — Может, я пропустил хорошие новости о себе? — Да. При таком приступе четыре процента больных умирают на месте. Вы не из их числа. Леонард улыбнулся. — Мне всегда нравилось принадлежать к умеренно настроенному большинству. Вообще-то я чувствую себя неплохо для обреченного старого пердуна, только что побывавшего на пороге смерти. Расслабленно. Вы мне что-то ввели внутривенно, доктор Так? — Легкий транквилизатор. — Пожалуйста, дайте мне несколько сотен этих таблеток, когда я буду уходить, — сказал Леонард и сжал руку Ника. — А мы ведь собираемся уходить, правильно? — Думаю, да, — сказал Ник. — А Вэл вернулся? — спросил Леонард и сжал руку зятя еще сильнее. Ник покачал головой. — Я представить себе не могу, как он выбрался из здания. Леонард, словно вдруг вспомнив что-то, прошептал: — Телефон. Он отпустил руку Ника и поманил его пальцами, чтобы тот пододвинулся поближе. Ник приложил ухо чуть ли не вплотную ко рту старика. — Телефон Дары, Ник. В твоем боксе. Защищен двумя паролями. Пароль первого уровня — «Килдар». Так звали ее любимого попугайчика. Пароль второго уровня — «сон». Я совсем недавно отгадал. Он открывает тексты и видеофайлы, которые Дара записала незадолго до смерти. Я разобрался с текстом. Это важно. Очень важно. Важнее, чем найти Вэла. Ты должен пойти и прочесть… посмотреть видео. Ее дневник… или записки, составленные для тебя. Я думаю… это меняет все. Ник в ответ только моргнул. «Важнее, чем найти Вэла?» Что может быть важнее для деда Вэла? Или для Ника? — Ступай, — прошептал Леонард. — Возьми телефон и посмотри сейчас. — Он повысил голос. — Доктор Так поможет мне одеться и подготовиться к путешествию. Правда, сэр? Так снова посмотрел исподлобья. — Путешествия временно противопоказаны вам, профессор Фокс. Вам необходим отдых. Несколько дней отдыха. — Да-да. Но одеться вы мне поможете, пока Ник улаживает одно дело? Раз я не попал в четыре процента избранных, надо как-то разбираться с остатком жизни. Доктор Так, продолжая смотреть исподлобья, кивнул. — Я вернусь за вами через пару минут, Леонард, — сказал Ник. Отведя Така в сторону, он сунул в мозолистую руку доктора остатки старых долларов — своего аванса. Теперь у Ника было лишь около сорока баксов в новых купюрах и ни гроша на НИКК, но это его не волновало. — Тут слишком много денег, — заметил доктор. Ник покачал головой. — Вы помогали мне и раньше, когда я не мог наскрести нужную сумму. Потом, Леонарду в ближайшее время могут понадобиться таблетки. И вообще, если эти деньги останутся у меня, я просажу их на вино, женщин и развлечения. Он снова стиснул руки старого доктора с зажатыми в них купюрами. — Спасибо, доктор Так.
Ганни Г. нетерпеливо ждал в коридоре — ему хотелось показать Нику, каким способом Вэл покинул здание. Это было как раз по пути к боксу Ника. Коренастый Ганни, бывший морской пехотинец, топал по неподвижному эскалатору, как новобранец на Пэррис-Айленд.[129] Ник шел следом — не столь резво, держась за свои плотно обмотанные ребра. — И мой парень сделал это? — спросил Ник, стоя на галерее и глядя на трос, уходящий на сорок футов вверх к разбитому фонарю. Сам он до этого троса в жизни не допрыгнул бы и не дотянулся. — Сделал, — сказал Ганни Г., не скрывая восхищения. — И при этом нес с собой двадцать футов альпинистской веревки, крюки и карабины. Когда я провожал его и старика в ваш бокс, то подумал, что это еще сопливый мальчишка — куда ему до шестнадцатилетнего парня, которого ищет ДВБ. Ник собирался было пропустить это замечание мимо ушей, но услышал собственный голос: — Неплохой прыжок и подъем для сопливого мальчишки. Ганни Г. набрал шифр на замке, и они вышли на лестницу, ведущую на крышу. У фонаря Ник остановился на секунду и посмотрел вниз сквозь выбитое стекло. От высоты захватывало дух. Внизу, в наполненной землей чаше фонтана, виднелись осколки стекла. Потом он посмотрел на кровавые следы, что вели к юго-западному углу крыши. — Я поднял веревку и смотал ее, — сказал Ганни, — но отвязывать не стал. При виде такого количества крови Ник забеспокоился. Его сын, судя по всему, сильно порезался, выбираясь из здания. Ганни показывал на южную стену крытой парковки. — Видеокамера внизу уловила лишь какое-то движение, когда ваш сын проскользнул мимо, а потом засекла его, когда он подошел вон к тому мостику. — И куда же он направился? Охранник пожал плечами. — Могу только предположить, что у него там было спрятано оружие, но под курткой разглядеть сложно. Парень какое-то время оставался на том берегу, а потом пошел — точнее, похромал — на запад. Я был занят — отводил вашего тестя к доктору Таку. Но когда попозже у меня появилось время, я сходил к мосту проверить и понял, что парнишка потерял довольно много крови. — Очень много? — спросил Ник, уловив нотку озабоченности в своем голосе. «Не поздновато изображать из себя заботливого папочку, говнюк?» — прозвучал голос у него в голове, куда более честный по интонации. — Наверное, потребуется наложить швы, — сказал Ганни. — Но кровью он не истечет и не умрет. Сегодня я попросил Лени и Дорри внимательнее следить за картинкой с внешних камер, но Вэла никто не видел — ни на той стороне улицы, ни у мостика. — Хорошо. Спасибо. Ник побрел назад к лестнице, старясь не смотреть на кровавые следы. Да, конечно, он видел вещи и похуже. Внезапно его захлестнули непрошеные воспоминания о том случае в прошлый понедельник — о мальчишке, который напал на него, был ранен и потом умолял о помощи в предрассветном сумраке Хантингтонского ботанического сада. Парень был как минимум тремя-четырьмя годами старше Вэла и почти наверняка провел ту ночь со старшими приятелями, расстреливая безоружных, словно оленей в лесу. Ему просто не повезло, что Ник не относился к числу безоружных. Но кто, какой безжалостный взрослый наведет свой «глок» в лоб Вэлу, загораживая лицо от фонтана мозгов и крови, если все так пойдет и дальше? «Забудь об этом, мудила. От таких мыслей проку нет». — Что с альпинистской веревкой, мистер Б.? — окликнул его Ганни с угла крыши. — Заберу ее позднее, — солгал Ник.
В боксе Ника царил полный кавардак: все перевернуто, повсюду разбросана одежда, ящики выпотрошены и раскиданы по боксу. Сверх того, на полу валялись обычные отходы медицинских процедур — шприцы и обертки: доктор Так оказывал здесь первую помощь Леонарду. Кавардак не особенно встревожил Ника. Его внимание привлек хаос разноцветных папок. «Неужели Вэл прочел бумаги, подготовленные для присяжных?» Конечно прочел. Ник остервенело смахнул папки со стола. «Неужели Вэл поверил, что я убил его мать?» Конечно поверил. Ведь именно Ник переложил заботы о Вэле на престарелого деда в Лос-Анджелесе и даже ни разу не навестил сына… ни разу не нашел денег, чтобы тот прилетел к нему в Денвер… звонил всего два-три раза в год… и совсем забыл, что Вэлу уже исполнилось шестнадцать. Такой папаша вполне мог подстроить убийство жены, узнав о ее измене. Ник сел, уперев локти в колени, обхватив ладонями потную голову и пытаясь сосредоточиться на дыхании. «В четырех процентах случаев это приводит к мгновенной смерти». Неплохая шутка насчет четырех процентов. Отец Ника погиб по неосторожности, когда сыну было совсем немного лет, — но, когда у старика появлялось время, он про Ника не забывал. Без тени жалости к себе Ник понял, что никогда не сможет оправдаться перед Вэлом, сколько бы времени отец и сын ни провели вместе за всю оставшуюся жизнь. «Мне почти наверняка осталось меньше восьми часов», — подумал он. Волна уверенности снова накатила на Ника: просто факт — и ни капли жалости к себе. Если он не сможет бежать с Вэлом и Леонардом, если в реальной жизни не повторится тот прекрасный сон, что он видел сегодня перед пробуждением, то встреча с мистером Накамурой для некоего экс-копа по имени Ник Боттом уж точно ничем хорошим не закончится. Он словно уже чувствовал вонь собственного трупа… — Черт, — проговорил Ник. Заперев дверь бокса, он разделся до трусов, побросал одежду в дальний угол, потом прошел в ванную и помылся — быстро и жестко, чуть не до крови растирая кожу. Но и после этого вонь денверской муниципальной помойки № 9 не до конца покинула его. Он вспомнил, что в НЦАИ запах был не столь силен — слабый привкус хлора и других химикалий, словно лежишь рядом с хорошо ухоженным бассейном. Правда, на Ника он наводил не меньший ужас. Ник быстро оделся, беря то, что попадало под руку, — чистое нижнее белье, чистые носки, синюю фланелевую рубашку в клетку, до неприличия мягкую от многократных стирок, чистые хлопчатобумажные брюки, которые сидели на нем уже не так плотно, как две недели назад. Он надел кобуру с «глоком» на пояс с левой стороны, потом прикрепил к правой голени маленькую кобуру на липучке с крохотным пистолетиком внутри. Затем Ник принялся искать телефон Дары. Ни на столе, ни на кровати аппарата не оказалось. «Украли. Кто-то из кондоминиума. Вошел и унес его, пока Ганни Г. и доктор Так ходили туда-сюда. Бокс не был закрыт, никто за ним не присматривал. А может, Вэл забрал с собой телефон или вернулся, чтобы взять его…» Ник заставил себя успокоиться. Если впадать в истерику по любому поводу, придется есть транквилизаторы, которыми доктор Так снабдит Леонарда. Встав на четвереньки, Ник заглянул под кровать, под стол, роясь в валявшихся на полу вещах. Старый телефон лежал за стенной панелью — кто-то скинул его со стола. «Господи, прошу Тебя, скажи мне, что он не сломан». Господь, как обычно, не снизошел до Ника Боттома и ничего не сказал. Поцарапанный экран засветился, но лишь выдал сообщение о том, что долговечный аккумулятор слишком разряжен. Ник снова принялся перебирать вещи, разбросанные по комнате, и нашел наконец зарядник от своего телефона. Они с Дарой купили телефоны одновременно, и зарядники подходили к обоим. Файлы закрылись, когда сел аккумулятор, и Нику пришлось заново вводить пароль «Килдар». «Восемь шансов к пяти, что пароль не подойдет». Но пароль подошел. Сначала Ник занялся громоздкими видеофайлами, надеясь увидеть Дару. И хотя в последние пять с половиной лет ее жизни он видел ее ежедневно и еженощно — кроме той последней недели, — сердце бешено заколотилось при мысли, что он посмотрит видео с ней. Ее там не было. Зато был Дэнни Оз. И Делрой Ниггер Браун. И Дерек Дин. И дон Кож-Ахмед Нухаев. И еще два десятка говорящих голов — все знакомые Ника Боттома по расследованию жестокого убийства Кэйго Накамуры. «Утраченная часть фильма Кэйго, последние несколько часов». Ник не задавался — пока — вопросом о том, как Дара получила эту копию. «Если только она сама не совершила это убийство». Он на какое-то время закрыл этот вопрос, просматривая интервью, торопясь выслушать их от и до, но при этом перескакивая между ними. Это было здесь. Что-то невероятное. Дон Кож-Ахмед Нухаев говорил о лабораториях в Японии, в Наре, где на самом деле был создан флэшбэк, и более крупных новых лабораториях на территории Китая — в Ухане, Шаньтоу и Нанкине. Он с улыбкой рассказывал о системе распространения, опутывающей весь мир вот уже пятнадцать лет. Ник перепрыгивал с одного интервью на другое, слышал далекий голос Кэйго, задающего вопросы; в фильме должны были остаться только ответы. Большинство вопросов и ответов мало чем отличались от тех, что звучали в доступных следствию материалах. Но имелось и кое-что новое — намеки, свидетельства, и оно начинало складываться в цельную картину, хотя Ник смотрел теперь лишь отдельные куски. До вечерней встречи с Накамурой у него было только это. Только эти съемки могли указать на то, что было на уме у Кэйго Накамуры при создании этого треклятого фильма, — а может быть, и на того, кто его убил. Ник, конечно, понимал, что если ко времени встречи он останется здесь, то, вероятно, потеряет все. Задача состояла не в том, чтобы раскрыть убийство Кэйго Накамуры — после того, как шесть лет и оно, и Ник никого не интересовали. А в том, чтобы убраться с сыном и тестем куда подальше. Убраться, даже если скрыться будет некуда — не то что в утреннем сне. Республика Техас не принимала разыскиваемых преступников (а Ник непременно станет им, когда доберется до какой-нибудь границы), тем более разыскиваемых преступников вместе с родственниками. Ник закрыл видео, ввел второй пароль и перешел к текстовым файлам. Первый был записан месяца за два до убийства Кэйго. Ник начал читать, и у него перехватило дыхание. Файл не был длинным, и насыщенным информацией тоже не был, хотя и рассказывал о последних семи месяцах жизни Дары. Та сделала всего лишь несколько записей для мужа (или для себя?) за несколько недель — частью до смерти Кэйго, частью после. А потом целую зиму — ни слова. К тексту Дара вернулась лишь незадолго до своей смерти. Ник уже не прыгал туда-сюда, как с видеозаписями: он не пропускал ни слова: «…при участии ДВБ и ФБР, но прокуратура, то есть Мэнни Ортега, не отдает дело…», «…Харви хочет больше времени проводить с семьей, но понимает, что такая карьерная возможность предоставляется раз в жизни…», «…если бы я могла сказать Нику… но я дала письменное обещание моему боссу и боссу моего босса, что ничего не просочится, пока…», «…Харви все время повторяет, что нам нет дела до ее мотивов, но тем не менее для меня они важны, ведь мы все так сильно рискуем с…», «…окружной прокурор считает, что еще неделя — и свидетель даст нам показания, вернее, даст их ФБР, ДВБ или ЦРУ. Но Харви боится, что если они станут тянуть, то даже со всеми видео- и аудиозаписями может не…», «…Любовь? Предательство? Если сильно любишь другого человека — двух человек, — можно ли так поступать с ними? Ортегу и Харви это не интересует, но меня терзает этот вопрос. Если бы я могла поговорить с Ником…», «…можно так сильно и так по-разному любить двух человек, но разрываться между ними, как делает она, — просто ужасно…», «…после убийства, по-моему, все изменилось, но Ортега настаивает, что не изменилось ничего, и Харви, кажется, согласен с ним. Мне больно смотреть, как Ник работает днями и ночами и не знает, чем мы с Харви занимаемся у него под носом…», «…иногда мне хочется оставить Нику записку: „Настоящее имя — Кумико Катрина Кэттон“ — и посмотреть, что будет. Но я не могу…», «…от одного чтения расшифровок ее рассказов у меня щемит сердце; тоскую по отцу, несмотря на все его задвиги. Нужно позвонить ему сегодня, хотя бы поздравить с Новым годом…», «…для меня неприемлемо то, что говорит Ортега. Харви, видимо, согласится с ним. Он мне говорит, что из-за расследования его брак почти развалился, дети его не узнают, когда он приходит домой. Но в глубине души, думаю, он согласен со мной: нельзя оставить это дело так как есть. Нельзя. Мне нужно будет удрать и провести время с Харви в денверском мотеле, где у нас все хранится. Он требует, чтобы это было в последний раз, но я не соглашусь. Я уже сказала, что не соглашусь. Я сказала, что, если мы не найдем способа продолжать, я расскажу Нику всю эту грустную, отвратительную историю…». Ник отер слезы и дочитал до конца. До последней отрывочной, неполной записи, сделанной женщиной, которая не знала, что погибнет на следующий день. «А кто из нас знает? — подумал Ник. — Кто знает, что он умрет завтра?» Или сегодня вечером? Когда зазвонил телефон, Ник от неожиданности подскочил на месте. Он смотрел видео и читал записи на телефоне Дары уже сорок пять минут. Бедняга Леонард, наверное, сидит у доктора Така, решив, что Ник забыл про него. — Ник Боттом слушает, — сказал он, но в ответ не раздалось ни звука. Номер не высвечивался, как у телефонов, работающих по системе предоплаты. Засовывая телефон обратно в карман куртки, Ник понял, что и в самом деле забыл про Леонарда. Эти сведения на старом телефоне Дары действительно меняли все. Ник почувствовал, что шестеренки его мозга привычно закрутились — как в те времена, когда он расследовал особо важные дела… отдельные части складываются в одно целое, возникает полная картина. Все части головоломки были на месте. Он снова вытер слезы и выругал себя за глупость. Эти части всегда были на месте. Все до единой. Дара пыталась сказать это ему так, как будто ничего не говорила. А он был настолько захвачен собственными амбициями и эгоистичной игрой в полицейского, занятого двадцать четыре часа в сутки, что не слушал ее, не смотрел на нее. Первое, что он должен сделать, еще до того, как пойдет за Леонардом: переправить все тексты и видеофайлы Дары каждому из тех, кому он верит в этом мире. Поразмыслив пару минут в тишине, Ник остановился на пяти именах. Подумав еще немного, он добавил двоих других, включая шефа лос-анджелесской дорожной полиции Дейла Амброуза. В списке значилась и К. Т., но текст должны были получить также люди со связями, до которых не дотянутся те, кто добрался до Кэйго Накамуры, Харви Коэна, Дары Фокс Боттом и теперь уже, вероятно, Делроя Ниггера Брауна. Невероятно, но восьмым стал советник по Западному побережью Даити Омура. Нужно ли сообщать убийце, пусть даже непрямым образом, о том, что ты знаешь: он или она — убийца? Ник по разным причинам играл в такие игры раньше, и это срабатывало. Иногда. Но сейчас он не был уверен, что если отправит сообщение… Телефон снова зазвонил и завибрировал, и Ник снова подскочил на месте от неожиданности. — Ник Боттом слушает. На линии — тишина, но соединение установлено. И опять номер не высвечивается. — Слушаю? — Приезжай за мной. Смятенному разуму Ника потребовалось десять секунд, чтобы узнать голос сына. — Вэл? — Приезжай за мной как можно скорее. — Вэл, где ты? С тобой все в порядке? Вэл, твой дед… Леонард, у него было что-то вроде сердечного приступа. Он сейчас оправился, но за ним нужен уход. Тебе нужна медицинская помощь, Вэл? — Приезжай за мной. — Странно состарившийся, изменившийся голос сына выдавал боль, потрясение, но не только. Ярость? Нечто сильнее ярости? — Приеду, — пообещал Ник. — Где ты? — Знаешь Вашингтон-парк? — Конечно. Это в нескольких минутах отсюда. — Езжай по Марион-парквей вдоль западного берега озера… большого озера, кажется, оно называется Смит… мимо городка из палаток и хибар. — Хорошо, — сказал Ник. — Где ты будешь… — На чем ты приедешь? — На ржавом мерине от «ГМ». — Сможешь быть через пятнадцать минут? — Ты сильно ранен, Вэл? Или попал в переделку? Скажи просто «да», если не можешь говорить свободно. — Как скоро ты сможешь приехать? Ник перевел дыхание. Его телефон и выход в интернет внутри бокса, скорее всего, были под контролем. Почти наверняка. Он воспользуется компьютером Ганни Г. в закутке службы безопасности, компьютером с замысловатой криптозащитой, и отправит по восьми адресам видеозаписи и текстовые дневники. На это может уйти несколько минут. Потом нужно будет отвести в машину Леонарда и прихватить всю его одежду, капельницы и лекарства. Можно отправиться на парковку в «Шесть флагов» и потом уже заехать за Вэлом, чтобы они могли покинуть город по I-70, но лучше забрать парня пораньше. Какой-то странный у него голос. — Дай мне час, Вэл. Я буду на западном берегу озера в Вашингтон-парке, и мы… Молчание. Вэл дал отбой.
2.05 Денвер 25 сентября, суббота
Вэл собирался, угрожая пистолетом, отобрать у кого-нибудь телефон в Вашингтон-парке, позвонить предку и договориться о встрече. Он хотел именно ограбить одного из бездомных, но оказалось, что обитатели парка охотно готовы одолжить ему телефон. Однако сперва они приготовили ему хороший горячий завтрак, дали одеяло с подушкой и позволили поспать несколько часов. В парке бродило много бездомных, но первые, на которых наткнулся Вэл, оказались чернокожими — двое пожилых супругов. Вскоре он узнал, что их зовут Гарольд и Дотти Дэвисон. Они были старше его предка, но моложе Леонарда, лет шестидесяти пяти, может быть, — когда речь шла о людях в возрасте, Вэл не мог сказать точно. Короткие курчавые волосы и длинные баки Гарольда были тронуты сединой. Полагая, что напугать их будет легко, Вэл подошел, держа руки в карманах и сжимая правой рукоять девятимиллиметровой «беретты». Эти двое тут же поздоровались с ним и представились. Дотти разохалась, увидев порез на ноге Вэла, усадила его на пенек перед их маленькой палаткой и принялась копаться в убогой аптечке. Найдя йод и еще какой-то антисептик, она закатала брючину на поврежденной ноге, промыла рану, сказав, что нужно будет наложить швы, а потом наложила тугую бинтовую повязку. Когда она закончила возиться, Вэл уже собрался было потребовать у них телефон. Но тут Дотти сказала: — Ты, выдать, проголодался, парень. Смотрю на тебя — ты после завтрака не ел ничего, если вообще завтракал. Тебе повезло — сейчас мы на этом самом костре приготовим суп из бобов с беконом. И найдем для тебя чистую тарелку с ложкой. Вэл любил суп из бобов с беконом. Мама готовила ему такой суп на выходные и в те дни, когда он не ходил в школу. Простой кемпбелловский суп из консервной банки, но солоноватый, со вкусом бекона: Вэлу нравилось. За все те годы, что Вэл прожил у Леонарда, он ни разу не ел этого супа. Еще у Дотти Дэвисон нашлись свежие горячие лепешки. Вэл, казалось, никак не мог наесться. Дэвисоны поели с ним супа за компанию — Вэл подозревал, что из вежливости, а на самом деле они уже обедали — и задали новому знакомцу несколько вопросов. Вэл сказал только, что он и его дед приехал в город с грузовым конвоем. — И где же теперь твой дедушка? — спросил Гарольд. Вэл выругал себя за длинный язык. Хорошо хоть, у него не вырвалось, что они из Лос-Анджелеса. — Да тут, у родственников, — сказал он. — Я должен зайти за ним позднее. Поэтому я хотел попросить у вас телефон: надо сказать ему, где я. Желая сменить тему, Вэл между ложкой супа и лепешкой оглянулся и заметил: — В этом палаточном городке много семей. Тут атмосфера гораздо дружелюбнее, чем в Хунгариан-Фридом-парке и других местах, по которым мы с Леонардом — это мой дедушка — проходили сегодня. Он рассказал пожилой паре о тех двоих, которые преследовали его с Леонардом, явно намереваясь ограбить. Правда, Вэл не упомянул, что отогнал преследователей, показав пистолет. Дотти махнула рукой: — Ну, эти парки вдоль бульвара Спир — просто ужас какой-то. Ужас. Там селятся одиночки — они себя называют «Новой армией льготников».[130] Я уверена, что все они способны на грабеж и насилие. Городской муниципалитет выплачивает им еженедельные субсидии, чтобы они не буйствовали. Это шантаж. Так быть не должно. Вэл хмыкнул и продолжил есть. Дотти Дэвисон, словно желая перевести разговор на более приятную тему, спросила: — А ты проходил мимо бывшего кантри-клуба? Видел все эти синие палатки? — Да, кажется, видел, — ответил Ник, заталкивая в рот еще одну свежую лепешку. — Очень странное место. Там уже два месяца размещаются тысячи японских солдат и никогда не выходят на улицу. Никто не знает, что японские солдаты делают здесь, в Денвере… когда наши мальчики, чуть постарше тебя, сражаются за японцев в Китае. — Японцы? — переспросил Вэл. — Вы уверены? — О да, — сказала Дотти. — У нас здесь есть японская дама с детьми и внуками. Она вышла замуж за красивого американского морпеха на Окинаве и много лет назад приехала с ним в Америку, но потом он умер. Так вот, она слышала, как эти военные разговаривают. Сержанты, или офицеры, или кто там у них, кричат на солдат, и все говорят по-японски. — Странно. — Ой, у них там танки и всякие другие бронированные… штуки… и еще такие самолеты, у которых крылья складываются и они могут летать, как вертолеты. — «Оспри», — вставил Гарольд. — Вот как они называются — «оспри». — Странно, — повторил Вэл. Покончив с едой, Вэл остался сидеть с полным животом. Его клонило в сон, чувствовал он себя глуповато, зная, что ему нужно делать, но не зная как. Нужно было сказать предку, чтобы тот принес как можно больше денег, — Вэлу требовалось 200 старых долларов на поддельную НИКК. И нужно было найти уединенное место, где можно сделать это. «Пристрелить отца», — донеслось из более честной части его усталого, перегруженного разума. Поначалу он хотел отобрать у кого-нибудь телефон, сказать предку, чтобы тот приехал сюда с деньгами, взять деньги и пристрелить его тут же — в парке. Никто не должен был знать, что он, Вэл, побывал здесь. Вот только… когда Гарольд и Дотти спросили, как его зовут, Вэл назвал свое имя. И даже выдал имя Леонарда. Все сделал не так, разве что отпечатки пальцев им не оставил, черт возьми. Значит, это должно случиться в другом месте. — У тебя усталый вид, сынок, — сказал Гарольд. — Возьми, все чистое. Приляг в тенечке при входе в палатку. На солнце жарковато. Старик дал Вэлу подушку с чистой наволочкой — как им здесь, в парке, удавалось содержать вещи в чистоте и даже вроде бы гладить их? — и тонкое серое одеяло. — Да нет, я в порядке, — пробормотал Вэл. Но травка в тени, у входа в палатку, выглядела так соблазнительно! Он прилег всего на минутку, собираясь обдумать, что ему делать и в какой последовательности. Поднялся ветерок, и Вэл натянул на себя одеяло.Проспал Вэл довольно долго — часов у него не было, но когда он проснулся, уже смеркалось. Он выругался про себя. Какой же он говнюк — ни на что не годится. — Наверное, ты все же устал, — сказала Дотти, которая готовила что-то на костре. Пахло хорошо. Вэл сбросил с себя одеяло. Несколько секунд после пробуждения он не помнил о цветных папках с обвинениями, найденных в боксе у предка, не помнил о том, что отец подстроил убийство матери. Все мысли о еде испарились, как только к нему вернулось это открытие — грязное, словно тягучий осадок, вытекающий из сточной трубы. — Вы мне не дадите телефон, чтобы позвонить? — спросил он у женщины. — Это местный звонок. У меня сейчас нет денег, но потом я отдам. — Да ну, чего там отдавать, — рассмеялась Дотти. — Мы все отдаем долги — разным людям, разными способами. Держи телефон, Вэл. Он отошел футов на пятьдесят, чтобы его не услышали. Уверенный почему-то, что предок не ответит, Вэл стал обдумывать, что наговорит на автоответчик. А потому, услышав, как отец берет трубку и называет свое имя, Вэл запаниковал и разорвал соединение. Лишь через минуту он успокоился, внезапно поняв, насколько взвинченным был все эти дни. Когда предок отозвался, Вэлу первым делом захотелось закричать: «Ты мне даже не позвонил в день рождения!» «Не дергайся, Вэл, старина», — сказал он себе. Странно, но эти слова были произнесены насмешливым голосом Билли Койна. Вэл нажал кнопку повторного набора. Услышав снова голос отца, он начал кричать и что-то лепетать — мол, приезжай в эту часть парка и забери меня. Уже после разговора Вэл понял, что забыл сказать про двести старых баксов наличными. «Ну ладно… ладно. Ты все равно не сможешь сделать это здесь, в парке. Сядешь в машину, он поедет к банкомату, и, когда возьмет деньги — ты сделаешь это». Вот только где? Час. Предок сказал, что сможет забрать его только спустя час — целый долбаный час. А тут всего два-три квартала. Он тут мучается от боли и истекает кровью — ну, истекал бы без Гарольда и Дотти с их бинтами, антисептиком, аспирином и горячей едой, — а этот херов предок не может жопу поднять, чтобы забрать его поскорее. «Может, знает, что это ловушка. Конечно, он видел все эти разбросанные по боксу папки. И Леонард, наверное, сказал ему, что я взбесился». А что там предок говорил про сердечный приступ у Леонарда? Хрень какая-то. Когда Вэл уходил всего несколько часов назад, дед был в порядке. Предок точно врет… но зачем? А если у Леонарда и в самом деле случился сердечный приступ… Да, предок так и сказал: «что-то вроде сердечного приступа», хер его знает, что это может значить… Что тогда делать? Хреновое дело. Но Леонард — старик. Вэл знал, что деда уже некоторое время мучает боль в груди, хотя тот изо всех сил скрывал это от внука. Никто не вечен. «Я тут ничем не могу помочь», — решил Вэл, но тут же понял, что если убьет отца, то позаботиться о Леонарде будет некому. Этот Ганни Г. почти наверняка вышвырнет умирающего старика из их говенного молла-крепости. «Да насрать мне на это», — подумал он. Это было громогласной мантрой его флэшбанды — то есть на самом деле флэшбанды Билли Койна. «Насрать… мне… на… это». Дотти Дэвисон хотела покормить его еще раз, но Вэл вернул крайне добродушным старикам телефон, неуклюже поблагодарил за подушку и одеяло и сказал, что ему нужно уходить. Дед подберет его на улице, неподалеку от парка. Гарольд стал уговаривать его остаться, но Вэл покачал головой, развернулся и пошел вокруг озера, к деревьям и палаточному городку на другом берегу, размером покрупнее. Дэвисоны провожали парня взглядом, пока он не скрылся из виду. Пальцы его сжимали рукоять «беретты», торчавшей из-за пояса.
Наконец он увидел ржавого мерина «Го-Моторз», о котором говорил предок. По западной части парка проезжало несколько таких старых ведер. Но по тому, как медленно катилась эта машина (правда, низкие солнечные лучи, отражаясь от ветрового стекла, не давали разглядеть, кто сидит внутри), Вэл понял, что это его предок. Ищет Вэла. И не подозревает, что его ждет. В последнюю минуту Вэл нырнул за сосну, и машина медленно проехала мимо. «Вот дерьмо!» Но Вэл, присевший за деревом в ожидании, когда предок сделает новый круг по дорожке парка, знал, что движет им не страх. Он не был уверен, что сможет сесть в машину, показать пистолет и заставить отца ехать к банкомату, а потом сделать всю ту херню, которую должен сделать. Он не смог поговорить с предком по телефону, он так его ненавидел… как он сможет высидеть с ним в машине десять минут? К тому же предок — полицейский. Или был полицейским, прежде чем стать безнадежным флэшнаркоманом. И раньше отличался хорошей реакцией: сталкивался с людьми — всякими салагами, — которые размахивали пушками у него перед носом, и справлялся с ними. На переднем сиденье этой говенной тачки наверняка довольно тесно. Коп наверняка знает, как обезоружить пассажира, чтобы тот не успел выстрелить. Вэл понял, что у него сдают нервы. «Пристрели его — и все дела. Подойди к машине и пристрели. И в жопу эти деньги». Он понял, что идея стать вольным дальнобойщиком — полная херня. Он никогда не научится водить автомобиль со всеми этими его передачами: дать задний ход на этом чудище с прицепом уже было полным кошмаром. И он никогда не найдет триста тысяч новых баксов, чтобы заплатить за фальшивую НИКК. Все это сплошная херня. «Просто пристрели его. Он убил маму. Подойди к машине, когда он проедет опять, и пристрели». Старый мерин снова появился с севера, двигаясь на юг, в сторону Вэла и палаточного городка. Вэл вытащил «беретту» из-за пояса, дослал патрон в патронник и убрал руку с пистолетом за спину. Сделав пять шагов, он вышел из-за дерева и остановился рядом с дорогой. На этот раз он увидел лицо предка; голова отца дернулась, когда тот заметил его. Взвизгнули тормоза, и машина остановилась. Вэл понял, что стоит не на той стороне дороги. Чтобы выстрелить без помех, он должен был стоять на восточной стороне, лицом к водительской двери. Если он двинется к водительскому окну, предок поймет, что тут какая-то фигня. Казалось, предок проникся его проблемами: он прикоснулся к кнопке, и стекло пассажирской двери поехало вниз. Вэл подошел к машине, обеими руками держа «беретту», — та вдруг стала очень тяжелой, — прицелился в дружелюбно глядевшего предка. Вытянутые руки Вэла даже не дрожали. Когда он просунул пистолет в окно, до цели оставалось меньше трех футов. «Стреляй стреляй стреляй не жди стреляй…» Ник Боттом, похоже, ничуть не удивился. Он тихо проговорил: — На мне под рубашкой кевлар, Вэл. Тебе придется целиться мне в голову… в лицо. Вэл моргнул. Предок пытается запудрить ему мозги. «Жми на крючок! Стреляй… стреляй… не жди… стреляй…» Палец Вэла переместился со спусковой скобы на крючок и стал утапливать его. — Ты не снял его с предохранителя, малыш, — сказал предок: так, будто обучал Вэла держаться на двухколесном велосипеде. Точно тем же тоном, как тогда. Вэл не поверил отцу, но все равно посмотрел. И правда: пистолет стоял на предохранителе, красная точка была скрыта. «Черт!» Он завозился, переводя предохранитель в боевое положение. Наконец красная точка стала видна. Предок за это время мог нажать на газ и укатить, однако остался на месте. Его левая рука лежала на руле, правая — Вэл ясно видел, в ней ничего не было, — на потертом подлокотнике между сиденьями. Предок смотрел на Вэла, не шевелясь. «Он знает, что заслужил смерть за убийство мамы, — подумал Вэл. — Он заранее знал, что я буду делать, и приехал сюда. Он виновен, и нечего сомневаться». Палец Вэла снова переместился на спусковой крючок, — но тут он краем глаза уловил какое-то движение на заднем сиденье. С вытянутыми руками, по-прежнему целясь предку в голову, Вэл метнул взгляд налево. Сзади лежал Леонард, неловко пристроившись среди подушек. Нижняя челюсть старика отвисла, глаза были закрыты. Над левой дверью висела на крюке бутылка с прозрачной жидкостью, а от нее шла трубочка с иглой, воткнутой в обнаженную левую руку Леонарда. На руке виднелись кровоподтеки. — Что это за херня? — спросил Вэл. Предок повернул голову и посмотрел на Леонарда. — Он в порядке. Вернее, совсем никакой после приступа, о котором я говорил. Это называется «аортальный стеноз» — один из его сердечных клапанов сильно забит. Если не сделать операцию по замене клапана, перспективы у твоего деда будут неважные. Но пока все не так плохо. Доктор Так дал ему успокоительное, и он еще проспит сколько-то времени. Вэл не стал спрашивать, кто такой доктор Так, и отрицательно покачал головой, хотя и не понимал, против чего возражает. Может, против попытки его отвлечь? Вэл посмотрел на лицо отца над мушкой. «Давай же!» Вэл знал, что может. Он помнил приглушенный взрыв и отдачу, когда он стрелял через намотанную на руку шлем-маску. Он помнил, как Койн ойкнул и уронил фонарик. Он помнил круглую дыру у него на футболке, над бледным лицом Владимира Путина, помнил, как эта дыра стала расползаться, становясь красной бабочкой и продолжая расти, как Койн с ухмылкой проговорил: «Ты в меня попал». Вэл помнил, как потом выстрелил Койну в горло, как клацнули зубы Билли, когда тот с раскрытым ртом повалился на цементный пол туннеля. И еще он помнил, как расстрелял говорящего Путина с футболки, всадив ему пулю между глаз-бусинок. Именно это он должен сделать и сейчас. «Жми на крючок, не тяни время!» Вэл понял, что он тяжело дышит и плачет одновременно. Руки его затряслись. Предок подался к нему, но не стал выхватывать пистолет, а открыл пассажирскую дверь. Вэл вытащил пистолет из окна и приставил дуло себе к подбородку. Палец оставался на крючке при спущенном предохранителе. — Садись, — сказал Ник. — И поосторожнее с этой штукой. Теперь он действительно потянулся к пистолету, но лишь для того, чтобы перевести предохранитель в безопасное положение. Оружие отбирать он не стал. Вэл рухнул на сиденье.
Ник выехал из парка на Саут-Даунинг-стрит и двинулся на север. — Я знаю, что ты нашел в моем боксе, — сказал он, — но я не убивал твоей матери, Вэл. Я бы и пальцем не мог тронуть Дару. Наверное, в глубине души ты это знаешь. Вэла трясло, он думал лишь о том, чтобы его не вырвало прямо в машине. Воздух из открытого окна немного остужал его. — А вот перед тобой я виноват, — продолжил Ник. — Последние пять с половиной лет я провел вместе с Дарой, под флэшбэком, совершенно наплевав на свои отцовские обязанности. Извинениями ничего не поправишь, но я прошу у тебя прощения, Вэл. Вэл почувствовал, как волна ненависти снова поднимается в нем. В этот миг он мог бы выстрелить отцу в голову, — вскипевшая ярость позволила бы ему сделать это, — но руки его до крайности ослабели. Он не смог бы поднять тяжелую «беретту», даже если бы от этого зависела его жизнь. Подъехав к бульвару Спир, Вэл с Ником услышали жуткий рев, подняли глаза и увидели, как «Оспри-III» — самолет с вертикальным взлетом — поднимается вверх, как крылья и турбовинтовые двигатели переходят в положение для горизонтального полета. Материя на высокой, протянувшейся на сотни метров ограде Денверского кантри-клуба, трепыхалась, пытаясь сорваться с проволоки. — Что это за херня? — спросил Ник. — Японцы, — пробормотал Вэл. — Дотти и Гарольд Дэвисон говорили, что тут, в бывшем кантри-клубе, держат тысячи японских солдат. Ник не спросил, кто такие Дотти и Гарольд Дэвисон. Глядя на «оспри», взявший курс на запад, он вполголоса сказал: — Японцы не имеют права вводить войска в нашу страну. Вэл пожал плечами. — А может, съездим к нашему старому дому? — спросил он. Если он увидит старый дом, вспомнит, как мать стояла на крыльце, ждала его, когда он возвращался из школы… вдруг это поможет ему поднять пистолет, прицелиться и нажать на крючок? — Нам не хватит зарядки, — сказал Ник, поворачивая на бульвар Спир. — Это ведро проедет еще миль девять, а до «Шести флагов» — четыре мили. — «Шесть флагов»… — повторил Вэл, глядя на предка. Неужели тот совсем чокнулся? — К. Т. оставила там для нас машину… настоящую машину, — объяснил Ник. — По крайней мере, я молю Бога, чтобы все так и было. Помнишь К. Т. Линкольн, мою старую напарницу? Вэл помнил ее… Опасная дама, как он решил тогда, в детстве. Но матери она нравилась — а почему, он не понимал. — Дело в том, — сказал Ник, — что те, кто постарался сфальсифицировать знакомые тебе материалы для жюри присяжных, снова хотят прикончить меня. Они могут расправиться с тобой и Леонардом, если вы не уедете из города. Дай бог, чтобы этот мерин смог подняться к «Шести флагам», где ждет машина. Но когда мы окажемся там, ты сядешь за руль машины, которую пригнала К. Т., и увезешь Леонарда из города. — Я не умею водить, — признался Вэл. Ник горько рассмеялся. — Леонард говорил мне, перед тем как принять успокоительное, что ты хотел получить удостоверение дальнобойщика и водить большие фуры. — Все это было вранье, — пробормотал Вэл. — Одно вранье. — Не буду с тобой спорить. А еще Леонард говорил, что у тебя есть имя и адрес человека, который подделывает НИККи. Покажи эту бумажку. Вэл, чувствуя себя таким же одурманенным, как его дед, залез в карман куртки, набитый запасными магазинами и патронами для бесполезной «беретты». Вытащив оттуда бумажку, он протянул ее Нику. — Знаю я этого типа, — заметил Ник. — Мы с К. Т. посадили его на пять лет, когда ты был совсем маленьким. Он теперь живет на территории реконкисты, далеко от границы. Вряд ли ты добрался бы туда сегодня. — У меня все равно нет денег, — сказал Вэл. Они проезжали мимо Хунгариан-Фридом-парка с его армией льготников — сплошь бездомные-одиночки. У тротуара стояли полицейские автомашины и фургоны, возле них было множество полицейских, отправленных для подавления беспорядков. Вэлу казалось, что все это где-то не здесь, за миллион миль от него. — Для новой карточки нужно двести баксов… старых баксов, — добавил он. — Извини, у меня их нет. Несколько дней назад были. Но я растратил их на всякие взятки и заплатил пилоту за полет из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Вэл уставился на него. — В Лос-Анджелес? Что ты там делал? — Искал тебя. — Вранье, — пролаял Вэл. — Хорошо, пусть вранье, — согласился Ник. — Я потратил их в казино Лас-Вегаса. Мне все равно, что ты думаешь. Но сейчас я не смог бы дать тебе две сотни, даже если бы имел. — Почему? — Я бы внес аванс за операцию Леонарду. Чтобы жить, ему необходима операция. А государство оплатит ее, когда он будет уже мертв… лет десять или двадцать как. Леонард, словно услышав свое имя, заворочался и застонал на заднем сиденье. Вэл оглянулся на деда, и у него самого защемило сердце. — Мне прошлой ночью приснился сон, — сказал Ник. — Мы втроем мчались в Тексхому, штат Оклахома. На старом «шеви-камаро» с восьмицилиндровым турбонаддувным движком. — А что такого в Тексхоме? — Это граница с Техасом. — А что, в Техасе заплатили бы за операцию Леонарда? Ник скосил на парня глаза. — Нет. Но они сделали бы ее, будь у нас деньги. А я бы придумал, как найти их. — Я знаю, что Техас не пускает к себе бесполезных людей, — сказал Вэл. — Особенно таких, которые подсели на флэшбэк. Ник ничего не ответил. Минуту спустя Вэл спросил: — Так что, машина, которую твоя приятельница… К. Т., оставит нам у «Шести флагов» — это старый бензиновый восьмицилиндровый «камаро»? — Вероятно, нет, — ответил Ник. — Я просил самую быструю машину со штрафной площадки денверской полиции. Помнишь последний из восьмицилиндровых перехватчиков Безумного Макса? — Понятия не имею, что за херню ты несешь, — солгал Вэл. Ник пожал плечами. Они приближались к эстакаде I-25. Машина повернула налево — к заброшенным башням и «русским горкам» бывшего «Элитч-гарденз». Приборный щиток мерина показывал, что зарядки осталось на три с половиной мили. На парковке оказался только один автомобиль, припаркованный в стороне от остальных и задом наперед. Ник остановился рядом с ним и прошептал: — О господи, не может быть. Оглянувшись на Леонарда, он вышел из мерина. Несколько секунд спустя из машины вылез и Вэл, по-прежнему с пистолетом в руке. Ник вытащил маленькую коробочку, примагниченную в нише над левым задним колесом. К брелоку ключа зажигания была прикреплена записка от К. Т. — онузнал ее почерк: «На штрафплощадке почти пусто, взять ничего не удалось. Это моя личная машина. Удачи». Ник и Вэл стояли, разглядывая синий «менло-парк» — полностью электрифицированный мини-вэн. В хороший день дальность поездки без подзарядки у него достигала ста миль. — Ну, хотя бы цвет посветлее, — пробормотал Ник. Вэл понятия не имел, о чем он. Ник только успел протянуть ключи Вэлу и собирался сказать что-то, когда четыре ПМПЗВА в пустынной камуфляжной окраске с ревом выехали на парковку, окружили их и, завизжав тормозами, остановились. С десяток японцев в черной спецназовской бронеодежде, с автоматами в руках, высыпали из громадных машин и взяли на прицел Вэла и Ника. Вэл попытался было вскинуть руку с «береттой», но предок так сжал его запястье, что он выронил пистолет. Сам Ник не сделал ни малейшей попытки взяться за оружие. Крупный японец, тоже в черной форме, вышел из ближайшего «ошкоша» по заднему пандусу и стал молча смотреть, как один из молодых бойцов, обыскав Ника, отобрал у того из девятимиллиметровый «глок» и пистолет тридцать второго калибра. Еще один ниндзя, подняв с земли «беретту», обыскал Вэла и вытащил из его карманов все обоймы и патроны. Двое других японцев в черном легко извлекли Леонарда из машины; тот не проснулся. Третий держал бутылки с внутривенной жидкостью. Двое ниндзя, обыскивавшие Вэла и Ника, кивнули крупному японцу, а остальные, стиснув автоматы, принялись оттеснять отца и сына к задней двери большой бронемашины. — Боттом-сан, — обратился к Нику здоровяк в черном, — время пришло.
1.18 Денвер 25 сентября, суббота
Ник сделал все, чтобы избежать этой последней встречи с Хироси Накамурой, но в душе всегда понимал, что она неизбежна. Когда он проигрывал ее в уме, она неизменно происходила в эвергринском кабинете Накамуры, в его вилле на вершине горы, где Ник познакомился с миллиардером. Однако, когда Ника и Вэла вывели из задней двери «ошкоша» — оба заморгали под лучами низкого, но яркого ранневечернего солнца, — Ник увидел, что они стоят на Уази-стрит в ЛоДо, перед холостяцким жилищем Кэйго Накамуры. На месте убийства. Теперь эта улица в центре напомнила Нику сцены из бесчисленных съемок городских войн, которые каждый вечер крутили по телевизору: американские войска в пакистанском, бразильском или китайском городе. Несколько больших ПМПЗВА перекрывают улицу с обеих сторон, превращаясь в своего рода блокпосты, посреди улицы приземляются два вертолета, солдаты занимают улицы и крыши эвакуированных зданий. Но сейчас они находились в американском городе, и солдаты были не усталыми американцами в громоздкой бронеодежде и расцарапанных наколенниках, а бойцами Накамуры (или Сато — есть ли между ними разница, поинтересовался про себя Ник): десятки ниндзя в с автоматами, в десантных ботинках и черной спецназовской форме, в одинаковых тактических солнцезащитных очках с крохотными капельными наушниками и микрофонами под черными шапочками. Руки у Ника и Вэла были связаны пластиковой лентой — но спереди. У Ника появилась крошечная надежда. Каждый коп или солдат, берущий в плен врага, знает, что у опасных задержанных (а любой человек, которого имеет смысл задерживать, должен считаться опасным) руки связывают за спиной. Руки, запястья, кулаки — все, что спереди, легко превращается в оружие. Либо их схватили не всерьез — а Ник ни на секунду не верил в это, — либо люди Сато не считали Ника и его сына серьезной угрозой. Еще вероятнее: люди Сато считали Ника и его сына опасными, но были уверены в своем численном превосходстве и огневой мощи. Это позволит отвести любую реальную угрозу за то короткое время, что пленники будут оставаться в живых. Судя по тому, сколько ниндзя — в обход закона — они выставили на Уази-стрит и сколько ниндзя вошли вместе с ними в дом Кэйго, Ник склонялся к последнему предположению. — Эй, поосторожнее там! — прокричал Ник трем ниндзя, которые несли вниз по пандусу «ошкоша» все еще не пришедшего в сознание доктора Джорджа Леонарда Фокса. Двое из них вытянули руки в виде носилок, третий тащил бутыль с внутривенной жидкостью. Ниндзя словно и не слышали его — поток людей влился в здание и устремился прямо к лестнице. Ник вспомнил, что дом Кэйго переоборудован из склада и здесь нет лифта. Ну, пусть те, кто несет Леонарда, потрудятся, решил он. Правда, его тесть казался обескураживающе худым и легким — прямо-таки пугало, одетое профессором. Сато первым поднялся на третий этаж. Там он повернул не направо — в частные покои и спальню, где произошло убийство, — а налево, в затейливо отделанную библиотеку. Именно в ней Ник впервые увидел то видео: Дара, стоящая на темной улице. Сегодня — впервые за две недели с того момента, когда он застыл в потрясении от увиденного, — Ник Боттом точно знал, почему она была там во время вечеринки и убийства Кэйго. С тех пор Ник подозревал: Сато знал, что он увидит Дару на этой записи, и потому привел его туда — чтобы Ник увидел Дару, стоящую рядом с домом Кэйго в тот вечер. Но оставалось непонятно, зачем его жене понадобилось приезжать туда и почему Сато хотел показать ему это. Теперь он знал ответы на оба вопроса и готов был разрыдаться от этого. Во время их прошлой встречи Хироси Накамура все время стоял. Теперь миллиардер сидел за столом красного дерева перед окнами, выходящими на север. По сторонам стола стояли четверо ниндзя в черном с оружием в руках. Двое, несшие Леонарда, осторожно положили его на кожаный диван за спиной Ника — у стены, под книжными полками. Вэла оттеснили к дивану и посадили рядом с дедом. Сато отошел в сторону и кивнул. Один из его людей закрыл двойные двери библиотеки. Считая тех четверых, что стояли у стола, в помещении теперь находились десять вооруженных ниндзя, но просторная библиотека совсем не казалась переполненной. Никто не предложил Нику стула, и он стоял на персидском ковре, чуть прищурившись, чтобы видеть лицо Накамуры на фоне лучей вечернего солнца, пробивавшихся через деревянные ставни за спиной магната. Тот выглядел совершенно спокойным, как и при первой встрече. — Мистер Боттом, — сказал он, — я надеялся, что мы встретимся при более благоприятных обстоятельствах. Но этого не случилось. — Отпустите моего сына и тестя, Накамура, — сказал Ник, словно персонаж одной из тысяч плохих телевизионных драм. Но неважно: надо было продолжать. — Они посторонние. Они тут ни при чем. Отпустите их — и тогда мы с вами поговорим. — Мы с вами поговорим в любом случае, — отрезал Накамура. — Ваш сын должен знать, кто вы такой. Немногочисленные лампы потускнели, и из замысловатого резного бюро на южной стороне комнаты поднялся плоский телеэкран. Как только он закончил подниматься, по нему побежали кадры — картинка без звука. Ник видел себя с высоты около двадцати футов над землей: камера смотрела почти прямо вниз. Цвета казались странными, но потом он понял, что объектив миниатюрного беспилотника таким образом компенсировал низкую освещенность. Ник увидел себя — как он обыскивает карманы трех лежащих на земле людей. Двое из них явно мертвы, а третий, самый молодой, умоляет о пощаде. Звук внезапно появился, и все в библиотеке услышали стоны и мольбы парня: «Пожалуйста… мистер… вы обещали… обещали… мне так больно… вы обещали…» Ник смотрел, вместе со своим сыном и остальными, — только глаза Леонарда были закрыты, — как человек в центре кадра приставляет пистолет почти вплотную к лицу испуганного, умоляющего о пощаде парня и стреляет. Экран почернел, затем втянулся в бюро. — Мы знаем, что вчера вы встречались с советником Омурой в резиденции этого джентльмена над Лос-Анджелесом, мистер Боттом, — сказал Хироси Накамура. — Записи вашего разговора у нас нет, но мы можем представить себе, как он проходил. — Отпусти народ мой, Накамура. Миллиардер, казалось, не слышал его. — Поскольку все сказанное вам Омурой — почти наверняка либо искажение фактов, либо полная неправда, то я объясню, каковы истинные ставки в той игре, в которую вы ввязались. — Мне насрать, что у вас там за ставки… — начал было Ник. — МОЛЧАТЬ! — взревел Сато. Все в библиотеке, кроме Накамуры и Леонарда, казалось, вздрогнули при взрыве этого голоса. Ник и не предполагал, что человеческий голос без усилителя может достигать таких убийственных децибелов. Он представил себе, как ниндзя в черном, на крышах и на улице, подпрыгивают на месте. — Совершенно верно, — сказал Накамура. — Если вы оборвете меня еще раз, вам и двум остальным заткнут рты. А поскольку ваш тесть чувствует себя неважно, ему это вряд ли пойдет на пользу. Ник стоял, покачиваясь от злости. — Более двадцати лет назад я с моими коллегами, японскими бизнесменами, слушал в Каире речь вашего молодого президента, призванную польстить исламскому миру — мусульмане тогда еще не объединились во Всемирный Халифат. Он воздавал им хвалу за некие воображаемые достижения, явно искажая исторические факты. Этот президент запустил процесс полного пересмотра истории и современных реалий, рассчитывая с помощью лести расположить радикальных исламистов к себе лично и к вашей стране. Такого рода внешняя политика, если она применяется к силам фашистского толка, называется политикой умиротворения. Ник молчал. — Тот президент и ваша страна вскоре стали проводить эту пародию на внешнюю политику, занимаясь совсем уже неприкрытым и бесполезным умиротворением. Решено было перейти к социал-демократическому устройству, меж тем как в Европе оно уже начинало рушиться под грузом долгов и бременем социальных программ. Одновременно происходили одностороннее разоружение, уход Америки с мировой арены, предательство старых союзников, быстрая и целенаправленная сдача ее позиций как сверхдержавы и полный отказ от международных обязательств, к которым страна долгое время относилась со всей серьезностью. Ник через плечо бросил взгляд на Вэла: рот приоткрыт, лицо белее бумаги. Вэлу было нехорошо. Ник понимал, что его сын едва сдерживается, чтобы у всех на глазах не облевать неприлично дорогой персидский ковер. — Мистер Боттом, — резко сказал Накамура, — вы меня слушаете? Ник снова посмотрел на одержимого манией величия миллиардера. Тот подался вперед, сложил руки на сверкающей столешнице и продолжил свой спич: — Экономический кризис, который привел к гибели Европейского союза и коллапсу Китая, а также насильственная и бесполезная смерть граждан Израиля, которых бросила ваша страна, мистер Боттом, — шести миллионов евреев и миллиона неевреев, — все это были лишь этапы упадка Америки. Упадка, который поначалу подготавливался целенаправленно, а потом просто стал неизбежным. Последовала долгая пауза, и Ник заговорил, понимая, что рискует получить кляп в рот: — К чему эта лекция по истории, мистер Накамура? Особенно с учетом того, что вы наняли меня для расследования смерти вашего сына. Накамура закрыл глаза, словно беря себя в руки, чтобы не взорваться. Потом он натянуто улыбнулся. — Как я сказал, мистер Боттом, таковы ставки в игре, в которую вы ввязались. Мы, японские промышленники, уже четверть века назад знали, что нашей стране придется заполнять пустоту, которая образуется из-за добровольного упадка Америки. Мы не горели желанием брать на себя эту обязанность… Воспоминания о Дайтоа Сэнсо, Великой восточноазиатской войне, или, по-вашему, Второй мировой… были слишком мучительны. И еще раз, мистер Боттом: мы вовсе не стремились признавать себя сидо миндзоку, «первым народом в мире», хотя и понимали, что нам придется играть эту роль. Та первая война, что началась в Китае почти сто лет назад, вспыхнула вследствие нашей гордыни — нашего милитаризма в сочетании с надеждами на империю, самочинными искажениями собственной религии и самурайским кодексом бусидо. Но эта грядущая война, мистер Боттом, война куда более всеобъемлющая и страшная для врага, чем Дайтоа Сэнсо, не станет, подобно ей, курай танима — «темным провалом». Это будет глобальная война за освобождение. — Война с кем? — спросил Ник. Он должен был выслушать все это, прежде чем сказать то, что от него потребуют. Накамура печально покачал головой. — С воинствующим исламом, мистер Боттом, — тихо пояснил миллиардер. — С гидрой по имени Всемирный Халифат. Ислам был всегда, пусть Америка совершенно не желала признавать это, изуверской и варварской религией, мистер Боттом. А его пророк — не менее жестоким воителем, чем наш фельдмаршал Хадзимэ Сугияма[131] или ваш генерал авиации Кёртис Лемей.[132] Фундаменталистский, экспансионистский, основанный на терроре ислам прошлого и нынешнего веков отвратителен и мерзок. Граждане Великой Японии, подданные Сына Неба, потомка богини Солнца в Стране восходящего солнца, где все восемь углов вселенной сходятся под одной божественной крышей, не позволят, чтобы их отбросила назад в седьмой век варварская религия жителей пустынь, которые вознамерились править миром и обращаться с покоренными народами, как с рабами-недочеловеками! Но этого не будет! Мы этого не допустим! Теперь кричал Хироси Накамура. Голос его не достиг рок-концертной силы, как у Сато, но был настолько громок, настолько полон искренности и фанатизма, что Ник отступил на полшага. — Поэтому мы, капитаны японского бизнеса, снова превратили наши кэйрэцу в дзайбацу военного времени. Интересы нашего семейного бизнеса уже не служат курсу Японии на мировое лидерство, а определяют его. Итак, мы вернулись к самурайской чести и подлинному бусидо. Вот почему нам вскоре понадобится один всевластный сёгун, который давал бы советы императору во время тотальной войны. Ник откашлялся. — Тотальной ядерной войны, — хриплым голосом проговорил он. — Конечно, — снисходительно, почти презрительно подтвердил Накамура. — Все даймё, даже ваш немощный друг Омура, сходятся на том, что решительная схватка за будущее мира станет ядерной и термоядерной. Враг продемонстрировал бескомпромиссность и безжалостность, уничтожив Израиль. Мы не менее решительно примемся уничтожать заразную умственную болезнь, поразившую два миллиарда жителей планеты. — Омура-сама считает, что Техас будет союзником, — вставил Ник. Накамура покачал головой. — Советник Омура становится нерешительным и сентиментальным, мистер Боттом, когда речь заходит об остатке вашей некогда сильной страны. Его не будет среди кандидатов, когда для нас, даймё, придет время выбирать первого за сто шестьдесят лет сёгуна. Малозначащие обломки Америки сегодня играют свою роль в подготовке к грядущему сражению. Ник кивнул. — Да, двести тысяч наших мальчишек сражаются за ваши интересы в Китае, — сказал он. Накамура долго молчал. Ник услышал, как над домом низко пролетел обычный вертолет — не «шепчущая стрекоза». Где-то неподалеку, в неоккупированной части Денвера, завыла сирена «скорой помощи» или полицейской машины. Нику показалось, что он слышит отдаленные звуки стрельбы. Неужели город сегодня разошелся по швам, как того боялись К. Т. и денверская полиция? А если и так, то разве Нику не наплевать? — Значит, вы понимаете, каковы ставки в этой игре, Ник Боттом, — сказал Накамура. — А теперь вы должны отчитаться о вашем расследовании. Ник вытянул вперед связанные руки. — Развяжите меня. Накамура и Сато не стали ничего делать. Ник знал, что может прыгнуть на Накамуру и попытаться обхватить тонкую шею миллиардера связанными руками. Но он также знал, что Сато и четыре охранника у стола убьют его в ту самую секунду, когда он попытается это сделать. Он вздохнул, посмотрел через плечо на Вэла и Леонарда, так и не пришедшего в сознание, — и начал говорить.— Теперь я знаю, почему вы наняли меня. Все это срослось только сегодня и во многом случайно. Вы наняли меня расследовать это дело, так как не знали наверняка, что мне известно. Вы не знали, что мне сказала моя жена Дара и какие записи она могла оставить для меня. Вы искали, но так и не нашли ее телефона, поэтому уверенности у вас не было. И потом, вам нужен было кто-то, чтобы донести кое-что до общественности… Ник помолчал и пошарил взглядом по углам потолка, где виднелись красные огоньки видеокамер. — Вам нужен был кто-то, чтобы донести кое-что до общественности, ведь сами вы не могли этого сделать… Запись нашего разговора выполнит эту задачу, когда мой тесть, мой сын и я будем мертвы. Для этого вы и наняли меня. Я был для вас идеальным дураком. Мне так нужны были деньги на флэшбэк, что я готов был ехать куда угодно, предать кого угодно, лишь бы получить информацию, которую вы собирались вбросить в мир. И я нашел то, что искал. Ник сделал несколько шагов. Сато и другие охранники напряглись — и совершенно зря. Ник собирался с мыслями, а не готовился к бесполезному прыжку на магната. — Флэшбэк создали в Японии, — сказал он наконец. — Никакой лаборатории биологического оружия на экспериментальной ферме Хават-Машаш в израильской пустыне не было. Еще один кровавый навет на евреев, уже после их массового уничтожения — очередного массового уничтожения. Вы, японцы, разработали флэшбэк, — если мои источники верны, это произошло в лаборатории Нары. И именно вы распространяли наркотик в Соединенных Штатах и по всему свету, продавали его гораздо ниже себестоимости и развивали дилерскую сеть: от Кож-Ахмед Нухаева, стоящего на вершине пирамиды, и до мелкой сошки вроде бедняги Делроя Ниггера Брауна и Дерека Дина. Именно вы поставляли флэшбэк все новым и новым наркоманам. — И зачем это могло понадобиться Японии? — оборвал его Накамура. Голос его звучал так мягко, словно источал масло. Ник рассмеялся. — Вы получили то, что хотели, от того, что осталось от нас, после Дня, когда настал трындец, — сказал он. — После того как мы просрали нашу страну из-за своей трусости и непомерных долгов. Вы хотели наших солдат — вы их получили. Вы хотели, чтобы остальные американцы сидели тише воды, ниже травы, — и мы, чтобы сделать вам приятно, стали платить по одному новому доллару за минуту флэшбэка. Наши лидеры уже много десятилетий назад отвергли будущее, отказались от веры в свободный рынок и от обязанностей сверхдержавы, даже программу пилотируемых космических полетов свернули, черт побери. А остальные вслед за лидерами поступили так же, решив вернуться в прошлое с помощью флэшбэка. Триста сорок миллионов наркоманов-американцев, и я сам до прошлой недели, — все воплощали в жизнь, нет, переживали заново свои жалкие онанистские фантазии, потому что боялись смотреть правде в лицо. В этот момент заговорил Сато: — Боттом-сан, как вы узнали, что это Япония разработала флэшбэк и поставляет его в Америку? Ник снова рассмеялся — еще горше, чем прежде. — Узнал не я — узнала моя жена. И за это ее убили. Он перевел взгляд с Сато на Накамуру, потом скользнул им по вооруженным людям в комнате. Наконец его глаза остановились на лежавшем без сознания тесте — ведь Леонард говорил, что немного знает японский? — потом на сыне. Он знал, что больше не получит шанса сказать Вэлу, как он раскаивается. — Женщина, убитая в спальне, в нескольких шагах отсюда, была известна нам, денверским копам, как Кели Брак, барышня для сексуальных услад, выписанная из Японии. Нам сказали, что это любимая секс-игрушка Кэйго Накамуры — и больше ничего. Мы знали ее как Кели Брак: это имя значилось в сфабрикованном от начала и до конца досье, которое прислали японские спецслужбы. Офис советника Накамуры подтвердил этот факт. Ник помолчал. Злость так распирала его, что предплечья задрожали, руки сжались в кулаки, ноги стали подкашиваться. Сато произнес что-то по-японски, и один из ниндзя принес Нику стул. Садиться Ник не стал — только ухватился за спинку, чтобы не упасть. — Считалось, что Кели Брак — дочь американских миссионеров в Японии, — продолжал Ник хриплым от мокроты и злости голосом. — Ложь. Все ложь. Настоящее имя Кели Брак — Кумико Катрина Кэттон. Это дочь Сакуры Кэттон, американки, которая всю взрослую жизнь провела в Японии. Сакура Кэттон была куртизанкой знаменитого японского даймё. Как по-японски «подружка», или «любовница», или «куртизанка», или «вторая жена» — что за слово вы употребляете? Кэйси? Госай? Айдзин? Сэмбо?.. У вас, японцев, столько слов для обозначения внебрачных подружек. Боссы американской мафии называли своих «гума». Даже воздух в библиотеке, казалось, застыл. Ник скользнул взглядом по японцам и увидел, что все прячут глаза, даже неусыпные ниндзя смотрят в пол. Накамура устремил взгляд куда-то на тысячу ярдов внутрь себя — жители Токио довели этот взгляд до совершенства благодаря частым поездкам в переполненных вагонах метро. — Это самая сложная часть всего сценария, — проговорил Ник в сгустившейся тишине и указал на Хироси Накамуру. — Вашему семейству и семействам Мунэтака, Морикунэ, Омура, Тоёда, Ёрицуго, Ямасита и Ёсияке мало было восстановить в Японии феодальные порядки, чтобы приготовиться к священной войне с исламом. Вы не могли просто подвести черту, отстроив старую феодальную систему средневековой Японии, превратив кэйрэцу в клановые дзайбацу, стоящие над правительством, а промышленников — в даймё. Вам было недостаточно возродить такие феодальные реальности, как сёгун, самураи, ронины, кодекс бусидо… Нет, вы, сверхдаймё, главы супердзайбацу, хотели вернуть к жизни старые способы подтверждения верности своих вассалов, включая и вассалов-даймё. Ник перевел дыхание и посмотрел на горящий по-прежнему глаз видеокамеры, потом снова перевел взгляд на Накамуру. — У Хироси Накамуры возникла проблема с одним из вассалов-даймё: видный полководец в Китае, он стал слишком популярным в народе и даже среди солдат самого Накамуры. Лояльность вашего даймё, мистер Накамура, никогда не подвергалась сомнению, вы знали, что он умрет за вас или сделает сэппуку по вашему требованию. Но такая популярность подчиненного опасна сама по себе. И поэтому вы, как и Ёрицуго, Ямасита, Ёсияке, Морикунэ, Омура, Мунэтака, Тоёда, желая обеспечить преданность вассалов, стали поступать по примеру средневековых сеньоров, японских и европейских… Вы взяли в заложники ребенка набиравшего популярность воина-даймё. Но не двух взрослых сыновей этого даймё от законной жены: один уже погиб, сражаясь в Китае, второго ждала та же судьба, — а любимую дочь этого даймё от куртизанки из Америки. И вот эта Кумико Катрина Кэттон, она же секс-работница Кели Брак, вошла в ваш дом. Вошла не как пленница, мистер Накамура. Вы сделали то же, что делали европейские феодалы, — Кумико стала уважаемым членом вашей семьи. Но случилось немыслимое: Кумико Катрина Кэттон влюбилась в вашего единственного сына. За четырнадцать месяцев до того, как император назначил вас советником, — до того, как вы устроили свое назначение федеральным советником в Колорадо, — Кэйго поехал в Штаты снимать свой документальный фильм. Кумико, она же Кели Брак, поехала с ним. Она не была секс-игрушкой Кэйго. Оба страстно любили друг друга. Ник помолчал. Накамура откашлялся и вполголоса сказал: — Позвольте узнать, где вы получили эту информацию, мистер Боттом? — Вы наняли меня, чтобы я ее нашел. Но я не сумел. Я бы никогда не узнал об истинном происхождении Кели Брак. Я был слишком глуп. Но Кели — Кумико — беспокоилась за своего возлюбленного Кэйго. Ведь ваш непутевый сын отличался острым умом, верно, мистер Накамура? Его вышвырнули из Токийского университета не потому, что он был глуп… а потому, что он был прирожденным бунтовщиком. У нас, в Штатах, есть выражение: «Скрипучее колесо смазывают». В Японии говорят: «Торчащий гвоздь забивают». Не мне говорить вам, что Кэйго был торчащим гвоздем. Бунтарь в обществе, приведенном, как никогда еще в своей истории, к слепому повиновению. Тот фильм, что он снимал, рассказывал вовсе не о том, насколько глупы подсевшие на флэшбэк американцы… а о том, откуда флэшбэк поступает — из Японии. О том, как преднамеренное и целенаправленное внедрение этого наркотика вредит людям — от несчастных беженцев из Израиля, чудом оставшихся в живых после второго холокоста, до отчаявшихся чернокожих из гетто и домохозяек. — Докажите это, мистер Боттом, — прервал его Накамура. Ник не улыбнулся. — Мне ничего не нужно доказывать. Я видел несколько часов отснятого материала, мистер Накамура. А очень скоро их увидят миллионы американцев. Кэйго Накамура покажет, какой ущерб нанесли вы и другие японские милитаристы этой стране. Накамура ничего не ответил. — Кумико Катрине Кэттон было наплевать на все эти политические детали, — продолжил Ник. — Она просто боялась, что ее любимого Кэйго убьют. Кумико, как и ее мать, выросла в Японии и видела, насколько страна изменилась за двадцать лет. Она знала, что даймё не позволят Кэйго показать и распространить этот донкихотский фильм. Она знала, что Кэйго остановят… и остановят безжалостно. И вот наивная Кумико — ей все еще были привычнее порядки, принятые в Японии, а не в Америке, на родине ее матери, — отправилась к местным властям за помощью. Она полагала, что если скандальная информация, добытая Кэйго, станет публичной до выхода фильма, то у даймё не будет причин убивать ее возлюбленного. Кумико отправилась к окружному прокурору Денвера — честолюбивому, но глуповатому Мэнни Ортеге, назначенному на должность по политическим мотивам. Даже не поняв, что именно предлагает девушка, он передал дело одному из своих помощников — несчастному, невезучему трудоголику по имени Харви Коэн. Тот вместе со своей помощницей, моей женой Дарой, побеседовал с Кели Брак, или Кумико Катриной Кэттон, и информация о происхождении флэшбэка потрясла их. Ортега был глуп, но Харви и Дара понимали, что попало им в руки. Хотя Ортега утверждал, что дело яйца выеденного не стоит, они настояли на том, чтобы к расследованию подключились ФБР и ДВБ. Оба ведомства подключились, каждое провело свое «полное расследование», после чего их сотрудники заверили окружного прокурора Ортегу, помощника прокурора Коэна и коэновского референта Дару Фокс Боттом, что Кели Брак — патологическая врунья, что на самом деле это честолюбивая куртизанка, подсевшая на героин, и что женщины по имени Кумико Катрина Кэттон вовсе не существует. ФБР и ДВБ сообщили Мэнни, Харви и Даре, что такого рода скандал может повредить американо-японским отношениям, в то время как мы зависим от Японии. Кроме того, это будет личным оскорблением для Хироси Накамуры, будущего федерального советника в Колорадо и юго-западных штатах. Эти федеральные агентства рекомендовали — настоятельно рекомендовали — немедленно свернуть все расследования, начатые по заявлениям этой психопатки, и уничтожить все письменные документы и видеозаписи. После этого Ортега немедленно прекратил расследование, уничтожил все документы, стер все файлы, что были у него, и приказал Харви с Дарой сделать то же самое. Но моя жена и ее незадачливый босс проявили упрямство. Они продолжали тайно встречаться с Кумико Катриной Кэттон и начали переговоры с самим Кэйго Накамурой, сдуру пообещав включить его в программу защиты свидетелей. Все это длилось вплоть до убийства Кэйго и Кумико шесть лет назад, в октябре. Но даже после убийства обоих Харви и Дара не уничтожили документы и компьютерные файлы. Те хранились в номере одного из денверских мотелей, плата за который снималась с личной кредитки Харви, хоть он и не мог позволить себе этого. Они собирались передать эту информацию генеральному прокурору Соединенных Штатов, а копии отправить генеральным прокурорам всех сорока четырех штатов. До самого дня их смерти — их убийства, — то есть три с лишним месяца после расправы с Кэйго и Кумико, Харви и Дара не понимали, что оказалось у них на руках. Дара пыталась сказать мне, пыталась помочь мне в моем расследовании и вывести меня на подлинных убийц. Но она знала, что если выдаст мне тайну, свою и Харви, то я потеряю работу. Работу, которую я любил. А истина состоит в том, что Дара так и не узнала, кто убил ее подружку Кумико и Кэйго, сына миллиардера. Ник замолчал. Так много и так долго он не говорил уже шесть с лишним лет. В горле у него саднило. — Дара и ее босс Харви так и не поняли, насколько все это важно, — прохрипел он наконец. — Они всего лишь полагали, что узнали о том, кто изобрел и распространяет флэшбэк. И не понимали, что на самом деле речь идет о будущем, о контроле над нашей страной. О власти. Он замолчал. Хироси Накамура сидел за столом, откинувшись к спинке роскошного кожаного кресла. Он сложил пальцы крышечкой, посмотрел на Хидэки Сато, потом снова на Ника и улыбнулся. Голос его звучал тихо, как кошачье мурлыканье: — Но вы пока не назвали имя убийцы… или убийц, детектив Боттом. Обессиленный Ник оперся на спинку поставленного перед ним стула и заглянул Накамуре в глаза. — Стряхните пыль с ушей, — решительно, бесстрастно сказал он. — Вы меня не слушали. Вы, Хироси Накамура, приказали убить своего сына и его подружку. Он хотел было показать пальцем на миллиардера, но счел этот жест слишком театральным. К тому же он так устал, что не мог поднять руку. — Вы сделали это, желая показать другим даймё — не только верхушке в составе Мунэтака, Морикунэ, Омура, Тоёда, Ёрицуго, Ямасита, Ёсияке, но и десятку других важных даймё в старой Японии — желая показать им, что можете быть жестоким, когда речь идет о защите тайн вашей родины. Или отечества — как правильно?.. Так или иначе, вы для этого вызвали из Китая своего главного киллера и самого преданного даймё Хидэки Сато — Полковника Смерть собственной персоной. Вы сказали ему, что девушке хватит пули в голову, но Кэйго… Кэйго надо убить зверски. Чтобы было неповадно тем, кто вдруг захочет раскрыть тайны будущего сёгуна. Ник устало повернулся к Сато. — А вы никогда не были телохранителем Кэйго в Америке. Им был другой человек — Сайто. Но вы знали Кэйго Накамуру всю его недолгую жизнь. Он доверял вам. Кэйго поднялся на крышу для встречи с вами, вы вышли из «сасаяки-томбо» или спустились из него по веревке. Он и представить себе не мог, что вы — киллер, подосланный его отцом. Особенно еще и потому, что Кумико Катрина Кэттон — ваша дочь. В комнате стояла мертвая тишина, ни единого звука. Но Нику показалось, что когда все взгляды, даже взгляды охранников-ниндзя, устремились на Сато, он расслышал это. Громадный шеф службы безопасности бесстрастно смотрел на Ника. — Вы сделали свою работу, — хрипло и вяло сказал Ник. — Три месяца спустя было решено, что бедняга Харви и моя Дара все еще представляют угрозу, и вы организовали их «случайную смерть» здесь, в городе, на I-двадцать пять. Два дня назад этого олуха Мэнни Ортегу прихлопнули в Вашингтоне: либо вы своими собственными руками, либо ваши ребята. Ник перевел взгляд на видеокамеру с красным глазком. — Достаточно? Можете потом смонтировать так, как вам нужно. Эта запись покажет остальным даймё, что Хироси Накамура — будет решительным сёгуном, а полковник Хидэки Сато выполнит любое приказание своего сеньора и босса. Этого достаточно? Мне осталось сказать только одно: есть вероятность… всего лишь вероятность, что не только вашим даймё станет известно, как жестоко действуете вы с Сато. Ник обошел стул и сел. Иначе он бы упал. А ему нужно было сохранять энергию. Предоставят ли ему шанс или нет, — а он знал, что не предоставят, — но он был полон решимости использовать любую возможность. Хотя бы только из-за того, что несколько раз громко произнес имя Дары. Ник не ждал бурных аплодисментов за свое выступление в стиле инспектора Клузо, и аплодисментов не последовало. Но дальше произошло то, чего он никак не ожидал. Накамура встал и окинул взглядом комнату. С улыбкой. — Последнее высказывание нашего гостя — последняя завуалированная угроза — связано с тем, что сегодня мистер Бот том отправил электронной почтой по восьми адресам копии дневника своей жены и фильма моего сына. К несчастью для нашего друга-сыщика, люди полковника Сато мониторили все выходы в интернет в этом унылом кондоминиуме и перехватили все восемь электронных писем, отправленных с компьютера некоего Ганни Г. Ник чувствовал себя как после удара в солнечное сплетение. Черные точки поплыли у него перед глазами. Если брать его любимые фильмы двадцатого века, даже самые мрачные, то в конце герой непременно передавал доказательства темных делишек правительства или ЦРУ в «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост» или другую воинствующую газету. Теперь этих газет больше не существовало, а вместе с ними исчезла надежда предать гласности записи Дары и съемки Кэйго. — А это значит, — продолжил Накамура, — что остается всего лишь такая мелочь, как сам телефон миссис Дары Фокс Боттом с его… гм… компрометирующими файлами. Полковник Сато? Сато подошел и продемонстрировал старый аппарат, изъятый у Ника. Охранник Накамуры, держа телефон над корзинкой для мусора, сильно сжал его; пластиковый корпус, а затем и электронная начинка покорежились. Когда он раскрыл руку, обломки серебристым дождем посыпались в корзину. Ник чувствовал себя настолько уничтоженным, что даже не смог повернуть голову и посмотреть на Вэла. Продолжая стоять, Накамура быстро, как из пулемета, проговорил что-то на японском, обращаясь к Сато. — Хай, Накамура-сама, — пролаял тот в ответ, затем жестом велел охранникам удалить из комнаты Ника, Вэла и лежащего без сознания Леонарда. Ник прикидывал, что можно будет сделать за несколько секунд, пока они будут находиться на открытом воздухе, перед посадкой в ПМПЗВА. Но Сато направился наверх, а не вниз. Все вышли на крышу: небольшой отряд охранников в черном, подросток, еле бредущий экс-полицейский и спящий старик, которого снова несли ниндзя. В трех футах над домом парил «сасаяки-томбо» — вероятно, так же он парил в ту ночь, когда Сато выбрался из него и пошел расправляться со своим юным другом Кэйго и своей дочерью Кумико. Ниндзя работали просто классно. Ни один не оказался ни разу на линии огня другого. Ни один не приблизился к Нику настолько, чтобы тот мог наброситься и затеять борьбу. Как минимум трое из них постоянно держали под прицелом Ника, Вэла и даже Леонарда, пока другие занимались своим делом. Старые приятели Ника по путешествию в Санта-Фе — ниндзя Синта Исии, Муцуми Ота и Дайгору Окада запрыгнули в парящую «стрекозу» вместе с еще двумя, неизвестными Нику. Все пятеро целились в Ника, Вэла и спящего Леонарда. Сначала на борт подняли Леонарда, потом затащили Вэла, потом поманили Ника. Троих пленников посадили у передней перегородки Леонард оставался без сознания, и пузырек с внутривенной жидкостью закрепили наверху, на скобе. Последним запрыгнул Сато. Вертолет взлетел и завис в сотне футов над Уази-стрит. В другой вертолет погрузились с десяток людей Сато, в третий — еще с десяток. Даже в тесном пространстве внутри вертолета Исии, Ота и Окада держали головы всех троих американцев под прицелом своих пистолетов-пулеметов. Но все же на секунду — на секунду-другую — возникла заминка, когда Сато надевал и подключал наушники и микрофон от внутренней связи вертолета-стрекозы. Этого времени не было достаточно, чтобы Ник начал действовать; но он успел приникнуть к Леонарду, словно проверяя, не пришел ли его тесть в себя, и прошептать: — Вы поняли, что Накамура сказал по-японски? Старик, который, казалось, так и не приходил в сознание, кивнул. — Что? — прошептал Ник. — Что-то про свалку номер девять, куда нас нужно отвезти, — прошептал Леонард, не шевеля губами. Ота прокричал что-то по-японски, а после него Синта Исии — по-английски: — Нельзя говорить! Нельзя говорить! — Сядьте спиной к перегородке, Боттом-сан, — велел Хидэки Сато. Вытащив пистолет, он нацелил его в голову Нику и сделал плавное движение рукой. Ник откинулся к перегородке, положил связанные руки на колени и скользнул взглядом в сторону Вэла. Глаза его сына горели, но испуга в них видно не было. Это удивило Ника. Вэл кивнул один раз, словно получил от Ника телепатическое послание. Три «шепчущие стрекозы» заложили крутой вираж вправо и полетели над Денвером, быстро и бесшумно, направляясь на восток. Солнце окончательно закатилось за горизонт, и колорадское небо погасло.
1.19 В воздухе 25 сентября, суббота
Ник не слышал ничего, кроме шума воздушного потока, который обтекал корпус «стрекозы» и врывался внутрь сквозь открытые двери. Он сидел далековато от двери и не видел, когда они миновали восточную границу Денвера, но вид горизонта подсказывал, что вертолет уже летит над загородной местностью. Полет до денверской муниципальной свалки № 9 занимал всего несколько минут. Ниндзя — Исии, Ота, Окада и еще один охранник в черном, незнакомый Нику, держали их под прицелом своих пистолетов-пулеметов. У всех на поясах или боевых жилетах висели электрошокеры. Пятый охранник (возможно, прошедший медицинскую подготовку) подошел поправить капельницу Леонарда, когда старик, казалось так и не пришедший в себя, завалился на бок и игла выскочила у него из вены. Ник жалел только о том, что не воспользовался несколькими секундами на парковке у «Шести флагов», когда у них с Вэлом было в руках оружие и они могли вступить в схватку. Все произошло слишком быстро, но его это не извиняло. Копов обучали реагировать мгновенно. А еще им в сознание закладывали: никогда не сдавайте оружия. Ни при каких обстоятельствах. В тысячах киношных сцен плохой парень захватывает заложника (иногда — злосчастного напарника какого-нибудь злосчастного копа), и тогда главный герой или героиня расстается со своим оружием: «Смотри, я кладу его на землю!» Ник помнил, как в эпоху дотрехмерного телевидения он, еще совсем мальчишка, сидел на диване и смотрел полицейскую мелодраму. Отец, проходивший по комнате, заметил: «Такого не бывает». Почему Ник сегодня днем не стал сопротивляться и сжал руку сына, чтобы тот выронил «беретту»? Из-за того, что Вэл и Леонард были рядом? Вероятно. Ник за последние недели более или менее примирился с мыслью о неизбежной смерти, но увидеть, как умирает сын, он не был готов. И все же если ты расстаешься с оружием, то расстаешься со всякой надеждой вернуть контроль над ситуацией. Копы знали это, а когда-то это понимала и родная страна Ника. А потом она показала пример мирной политики — через одностороннее ядерное разоружение и сокращение годового оборонного бюджета, чтобы обеспечить выполнение социальных программ, расходы на которые росли по нарастающей… Самым ужасным в маленьком историческом экскурсе Хироси Накамуры было то, что Ник, по существу, соглашался с японцем. Ник выбросил из головы все эти мысли и сосредоточился на текущей ситуации. Если бы ниндзя и Сато хоть на секунду отвлеклись от него, он непременно воспользовался бы этим шансом. Но Ник знал, что, даже если у него не будет ни малейшего шанса, он так или иначе рискнет. Сато стоял у открытой двери, небрежно держась одной рукой за ремень на передней перегородке. Теперь Ник точно знал, что за попытку предпримет.Один из ниндзя все еще зачем-то возился с ранами и травмами пленников. Зачем? Что за глупость — выхаживать пленников, если через несколько минут собираешься их уничтожить? Ник решил, что это как-то связано со средневековым самурайским кодексом бусидо. Может, у них считается несовместимым с честью (это всеобъемлющее понятие, казалось, включает для японцев все виды добровольных идиотских обязательств) обрекать пленников на смерть от ран по пути к месту казни. Однако сейчас не имело значения, почему этот ниндзя изображает из себя санитара. Значение имело только одно: у Ника появлялся маленький шанс. Пятый ниндзя снял пластырь с запястья Леонарда и собирался снова ввести иглу в вену — бутыль, закрепленная на скобе, была почти пуста, — когда Леонард лягнул его в пах, не защищенный бронеодеждой. Ниндзя согнулся пополам. Леонард закричал, привлекая внимание Вэла и Ника, вскочил на ноги, приподнял невысокого ниндзя и вместе с ним метнулся вперед, блокируя все линии огня. На Леонарда бросился другой охранник, ударил его по голове и потянулся за электрошокером. Вэл перепрыгнул через деда и принялся вырывать у одного из ниндзя оружие. Ник бросился на Сато. Салон вертолета огласился криками и погрузился в хаос. Оружие, которое Вэл пытался вырвать из рук ниндзя, выстрелило, и пуля вырвала кусок изоляции в перегородке — там, где за секунду до этого была голова Ника. Видимо, она прошла насквозь и попала в одного из пилотов, потому что «стрекоза» резко накренилась влево. Ник молотил по Сато лбом и лупил его по лицу кулаками связанных рук. Гигант подался назад, защищая лицо поврежденной правой рукой в «умном» гипсе, и ухватился за поворотную балку гидравлического устройства, служившего для подъема людей и грузов на тросе. В левой руке Сато держал пистолет, которым ударял по затылку Ника, но тот пригнул голову, и тяжелые удары приходились ему по спине и плечам. Один из ниндзя упал, и Вэл оседлал его, все еще пытаясь вырвать оружие у второго охранника. Санитар, возившийся с Леонардом, корчился на полу, но ниндзя покрупнее, с которым схватился было Леонард, оглушил старика электрошокером. Ник увидел, что его тесть рухнул, как мешок с кирпичами, и успел подумать: не оказался ли электрический разряд смертельным? Сато оттолкнул его назад, чтобы выйти из клинча, и несколько великолепных секунд Ник спиной чувствовал спину сына — они вдвоем откидывали, молотили и бодали противников. В эти несколько секунд он был так близок к своему мальчику, что их объединенная ярость и решимость выжить превратилась в одну, единую силу. Потом Ник услышал, как у него за спиной несколько раз протрещал электрошокер. Вэл рухнул на пол. Сато принял боевую стойку, намереваясь прикончить Ника, но тот прыгнул вперед, ухватился за громадину японца и снова принялся молотить по нему головой. С каждым ударом оба приближались к двери закладывающего дикие виражи вертолета. Сато снова ухватился за балку подъемника, но она повернулась на тяжелом шарнире и повисла в пустоте. Теперь на нее приходился весь громадный вес Сато, державшегося за рычаг одной рукой. Ник изо всех сил цеплялся, держался, хватался за Сато, кричал и рвал его кожу ногтями, полный решимости оторвать японца от балки и утащить за собой. «Стрекоза» резко развернулась через правый борт, и ноги Сато и Ника взлетели высоко вверх, чуть не коснувшись крутящихся винтов. Сато совершилтри полных разворота вокруг горизонтальной перекладины крепления лебедки, словно спортсмен-олимпиец; металлическая рама сгибалась и грозила вырваться из гнезд крепления под их общим весом. Ник и представить не мог, откуда у Сато столько силы в руке, лишь недавно перенесшей перелом. Может быть, силы ей добавлял реконфигурируемый гибкий гипс. Ниндзя, стоя на корточках в безумно наклоненном дверном проеме, наводили стволы на Ника и кричали по-японски. Ник вдруг осознал, что рычит, пытается выцарапать глаза Сато и, как дикий зверь, вгрызается в шею громадного японца. Они вдвоем раскачивались под стонущей и раскачивающейся балкой, и только правая рука Сато все еще удерживала их на «стрекозе». Ник начал вгрызаться в правое предплечье Сато, где заканчивался гипс, твердо вознамерившись добраться до кости, чтобы этот сукин сын разжал пальцы. До раскачивающейся внизу земли было около тысячи футов, и Нику казалось, что он уже ощущает смрад свалки № 9. «Ну ладно, я отправлюсь на свалку, но только вместе с тобой, сучий ты потрох, — думал Ник, продолжая рычать, грызть и царапаться. — Мы наберем скорость двести миль в час, вместе наберем». Сато бросил пистолет, который все еще держал в свободной руке, и гигантским кулаком ударил Ника по голове, сбоку. В глазах у Ника помутилось, его связанные руки выпустили голову и кровоточащую шею Сато. Сато остался, а Ник полетел вниз. Один. Ник и падая продолжал криком бросать вызов врагу. И тут вертолет резко лег на левый борт; его наклонившийся винт рассекал воздух в нескольких дюймах от головы Ника, всклокочивая волосы. Потом Ник почувствовал, как поднырнувшая снизу левая — невероятно сильная — рука Сато подхватила его под связанные запястья. Потом, что было совсем уж невероятно, Сато держась за стонущую и гнущуюся балку правой рукой, качнул Ника и забросил его, чуть ли не презрительно, назад в открытую дверь вертолета. Вэл и Леонард, распростершись, лежали на полу — либо мертвые, либо без сознания. Ник ударился о перегородку и почувствовал, как что-то порвалось в ноге, но поднялся, готовясь дать отпор надвигающимся на него темным фигурам. Он увидел, как за спинами ниндзя ввалился в вертолет Сато. Зубы Ника были в крови Сато, он ощущал вкус его мяса во рту и жаждал еще… Ник услышал одновременные разряды как минимум трех электрошокеров, а потом наступил мрак.
1.20 Текслайн, Республика Техас 25 сентября, суббота
Наконец боль заставила Ника открыть глаза. Он с удивлением обнаружил, что все еще может открывать глаза. Неужели Сато решил дождаться, когда к нему вернется сознание, — и уж тогда привести приговоры в исполнение? Неужели Накамура отдал ему такой приказ? Неужели Нику суждено увидеть, как расстреляют его сына и тестя, и лишь потом получить в лоб пулю милосердия? Голова болела так, будто он уже получил свою пулю. Ник попытался сощуриться, преодолевая боль в голове и (непонятно из-за чего) в левой ноге. Первым делом он отметил, что не валяется среди разлагающихся тел на краю денверской муниципальной свалки номер девять. Вокруг стояла темнота. Ник лежал в освещенной палатке, открытой с боков, на койке, застеленной чистыми простынями. На лице у него было что-то… чистая кислородная маска. Ник сорвал ее свободной левой рукой. Свободной рукой: руки его больше не были связаны. Он почувствовал, что на его левую ногу наложен гипс, и обнаружил, что брюк на нем нет. Ник попытался повернуть голову на бок и поглядеть, что тут вокруг, но от боли снова помутилось в глазах, голова закружилась. Он закрыл веки. — Вы не спите, — услышал он женский голос. Ник слегка приоткрыл глаза — так, чтобы палатка не ходила ходуном, — и попытался сесть. Женщина в сероватой форме, с круглым наплечным значком и повязкой с красным крестом на руке, снова уложила его на подушку. — Постарайтесь не двигаться, мистер Боттом. У вас сотрясение мозга, сломана нога, множество синяков и ушибов. Сейчас придет капитан Макреди — он хочет поговорить с вами. Нику удалось повернуть голову налево. Глаза он открыл, лишь закончив это движение. Слева от него стояло несколько пустых коек, а вокруг палатки царил ночной мрак. В свете установленных наверху прожекторов виднелись несколько старых армейских джипов, припаркованных у проволочной ограды, несколько новых бронетранспортеров с одной белой звездой и тринадцатью красно-белыми полосами флага Республики Техас. За машинами — на открытом пространстве, освещенном прожекторами, внутри круга зеленых и красных посадочных огней, мигавших синхронно со стуком в голове Ника, — стояли три «шепчущие стрекозы» Накамуры с выключенными двигателями. Вокруг них разговаривали люди в форме разного образца. Ни одного ниндзя в черном Ник не заметил. Он закрыл глаза и повернул голову на правый бок. Рядом с ним стояла пустая койка, а за ней — еще одна, на которой лежал без сознания укрытый одеялом Леонард. Теперь к старику тянулись трубки от двух капельниц, но Ник видел, что его тесть дышит и даже слегка похрапывает. Он поискал взглядом Вэла, но остальные койки в палатке были пусты. «Где мой сын?» — Мистер Боттом? Ник обнаружил, что если открыть левый глаз шире правого, то можно переводить взгляд с предмета на предмет так, чтобы головокружение не было совсем уж невыносимым. Над ним стоял человек лет шестидесяти с лишним, с пышными седыми усами и в такой же серой форме, что была на медсестре или фельдшерице; на рукаве имелся тот же самый значок — белая звезда в сине-белом поле. Из старомодной кобуры на боку торчал длинноствольный пистолет, а на голове красовался стетсон. — Меня зовут капитан Макреди, мистер Боттом, — сказал человек, снимая шляпу. Ник увидел пробор в его седых волосах; такой пробор, подумал он, мог оставить за десятилетия носки только стетсон. — Грег Би Макреди. «Би» — это инициал, за которым ничего нет. Я капитан роты «Си», дивизии техасских рейнджеров Департамента общественной безопасности. Здесь, в Текслайне, находится пограничная застава техасской армии на границе с Нью-Мексико, чуть южнее Оклахомского выступа. Мы рады, что ты добрался сюда, сынок. — Мой сын… — прохрипел Ник и попытался приподняться на локте. — С Вэлом все в порядке, — успокоил его капитан Макреди. — Синяков на нем немало, но он первый пришел в себя после удара электрошокером. Какое-то время твой сын пробыл здесь, присматривал за тобой и своим дедом, но потом мы его убедили его пойти поесть. Он в обеденной палатке неподалеку. Сейчас вернется. — Мой тесть, — выдавил из себя Ник. Правой рукой он махнул в сторону койки с Леонардом. — Он будет… жить? — О да, — ответил белоусый рейнджер. — Профессор Фокс просто спит. Некоторое время он бодрствовал. Полковник Сато сообщил, что он страдает аортальным стенозом. Завтра-послезавтра мы поговорим с нашим милым профессором обо всем, что касается хирургического вмешательства. — Сато, — прошипел Ник, все еще ощущая во рту вкус мяса этого убийцы и страстно желая продолжения. Он желал добраться до самого его сердца. Макреди положил морщинистую, со старческими пятнами, но очень сильную руку на плечо Ника. — Успокойся, сынок. Мы знаем, что случилось. Можно было проделать все чище, но для тонкостей не хватило времени. Полковник Сато хотел быть здесь, когда ты придешь в себя, и поговорить с тобой. Но мы боялись, что ты любой ценой попытаешься убить его, прежде чем он успеет объясниться. — Убить его, — повторил Ник. Это не было вопросом. Он помнил, как киллер раздавил телефон Дары, и теперь думал о том, как тот, вероятно, планировал убийство Дары и Харви. Да, если бы он мог, то непременно убил бы Сато. И ничто на свете не остановило бы его. — Что с моей ногой? — задал он дурацкий вопрос. — Ты сломал одну из костей помельче во время схватки в «стрекозе», — объяснил капитан Макреди. — Перелом чистый. Мы вправили кость и наложили гипс. Заживет быстро. — А какой… сейчас день? — спросил Ник. — Да все тот же. Пока еще двадцать пятое сентября, суббота, но скоро полночь. Судя по всему, нелегкий для тебя выдался денек. Сато и Вэл вместе вошли в палатку. У Сато была забинтована шея, а на щеках и лбу виднелись свежие швы. Ник, наплевав на головокружение, повернулся туда-сюда в поисках чего-нибудь острого: скальпеля, обеденного ножа, бутылки, которую можно разбить, — чего угодно. Но ничего не нашел. Его взгляд остановился на большом пистолете в кобуре капитана Макреди. — Спокойно, дружок, — сказал старый рейнджер, подталкивая Ника назад, на подушку, и на шаг отступая. — Боттом-сан, — сказал Сато, садясь на койку справа от Ника, и та застонала под его весом. — Па, ты видел, как дед врезал по яйцам тому ниндзя? — воскликнул Вэл, дожевывая остатки сэндвича. — Ну кто бы сказал, что старик Леонард способен на такую прыть? «Па?» — подумал Ник. Он был уверен, что никогда больше не услышит этого слова, даже если они с Вэлом каким-то удивительным образом не погибнут в этой переделке. Справа от Ника продолжал похрапывать Леонард. Старик либо не слышал похвалы, либо снова прикидывался спящим, чтобы слушать, оставляя услышанное без ответа. — Нам нужно поговорить, Боттом-сан, — очень тихо проговорил японец. Теперь Ник увидел, что на Сато есть и другие швы и бинты. На два пальца его левой руки была наложена шина. Под полурасстегнутой рубашкой виднелись бинты — видимо, ребра тоже были перевязаны. — Пошел ты, — выдохнул Ник. Он жалел только о том, что совсем потерял хватку: нужно было не останавливаться взглядом на лошадином пистолете капитана рейнджеров, а сразу хватать его. — Нет, па, все не так. Полковник Сато… — начал было Вэл. — Он убил твою мать, — низким, убийственным голосом сказал Ник. — Не суйся в это дело, Вэл. Парнишка удивленно моргнул и отступил на два шага. — Нет, Боттом-сан, — сказал громадный японец и отрицательно покачал головой на свой странный манер, двигая всей верхней частью тела. — Я не убивал вашу жену и помощника окружного прокурора Коэна и не планировал их убийства. Клянусь в этом своей честью. — Честь! — рассмеялся Ник. Смех отдался в голове такой болью, что он чуть не вырубился. — Честь, — повторил он. — Честь человека, который хладнокровно убил собственную дочь. Выстрелил ей между глаз из пистолета двадцать второго калибра, так, чтобы пуля попрыгала внутри черепа и уничтожила там все. — Хай, — прохрипел Сато. — Признаю, что убил мою любимую дочь Кумико. Она, как раньше ее мать, была светом моей жизни. И я собственной рукой погасил этот свет. Понимаете, это была разновидность дзигая — разновидность ритуального сэппуку для женщины-самурая, без вспарывания живота. А моя дорогая Кумико была настоящим самураем. — Ваша дочь не совершала самоубийства, Сато, — отрезал Ник. — Вы убили ее. Вы застрелили ее, а вместе с ней и Кэйго, который целиком и полностью доверял вам. — Хай, — снова сказал Сато, чуть наклонив голову. — Но это так или иначе произошло бы по приказу Накамуры-сама. Судьба моей дорогой девочки и ее любовника была предрешена. Кумико знала, что их ждет, когда решила пойти к вашим денверским властям — к боссу босса вашей любимой жены — и рассказать им об истинном происхождении флэшбэка. Это был ее дзигай, и я принес обоим быструю и безболезненную смерть. — Вы почти отрезали парню голову, — сказал Ник. Наклоненная голова Сато чуть качнулась из стороны в сторону. — Не парню, а мертвецу. Он умер мгновенно. Ник до того лежал, опершись на локоть; теперь он бессильно упал на бок, продолжая смотреть на Сато. Капитан Макреди, Вэл и другие люди, вошедшие в палатку, представлялись ему далекими силуэтами. Для Ника в этой ночи существовали только он и Сато. — Не понимаю, — сказал Ник. — Чтобы сделать то, что я должен был сделать, мне нужно было завоевать полное доверие Накамуры, — стал объяснять Сато. — Моя любимая Кумико и молодой Кэйго сами избрали свою судьбу… Попытка Кэйго рассказать миру об использовании Японией флэшбэка с целью довершить упадок Америки была отважным и дерзким поступком — совершенно в характере этого молодого человека. Как вы сами сказали, Боттом-сан, он был истинным бунтарем внутри цивилизации, в истории которой известно очень мало бунтарей. Исполнив приговор своими руками, я прошел испытание. Накамура больше не сомневался во мне. — И для чего вы это сделали? — Помните послание, что Омура-сама передал мне через вас: «В этом мире есть дерево без корней, его желтые листья борются с ветром…»? Стихотворение, сочиненное Содзаном, любимым учителем Омуро-сама и меня, за считаные минуты до смерти… оно было последним кодовым посланием, которое требовалось мне, чтобы начать сегодня. — Начать что? — отрывисто спросил Ник с явной подозрительностью в голосе. Он не должен был верить ни единому слову этого человека — человека, который выстрелил в лицо собственной дочери. Сато смотрел на Ника так, словно читал его мысли. Кивнув, японец сверился со своими наручными часами. — Здесь сейчас полночь, а в Токио — четыре часа дня. В настоящее время предложения о недружественном поглощении делаются в отношении восьми из одиннадцати крупнейших компаний Хироси Накамуры, составляющих основу его дзайбацу. Когда завтра в Японии откроется рынок, выяснится, что по меньшей мере пять из восьми попыток завершились успехом. Империя Накамуры будет разрушена. — Но он по-прежнему останется здесь федеральным советником, — сказал Ник. — Он контролирует Национальную гвардию Колорадо и с десяток других вооруженных группировок. — Пока мы с вами сейчас беседуем, Накамуру и его людей арестовывают. Это наказание за то, что он никогда не спускался со своей колорадской горы, и за то, что он слишком полагался на доклады своих шпионов, а на самом деле — моих людей. Я за последние семь недель перевел сюда из Китая несколько тысяч японских коммандос — моих собственных тайгасу, «тигров». — Па, мы их видели сегодня в бывшем кантри-клубе, — вставил Вэл, выходя вперед и садясь на дальний конец той же койки, на которой сидел Сато. — «Оспри» как раз готовились к операции. Ник на мгновение забыл обо всем остальном, протянул правую руку и ухватил ладонь Вэла; это было больше, чем рукопожатие. Капитан Макреди и остальные, явившиеся с ним, тоже подошли поближе. — Все так, мистер Боттом. Полковник Сато, советник Омура и другие уже несколько недель назад установили с нами связь. Полковник Сато проинформировал нас о вашей службе в денверской полиции. Нам нужны хорошие сыщики в отряд техасских рейнджеров. В ближайшие месяцы и годы наша роль сильно возрастет. — Возрастет? — переспросил Ник, переводя взгляд с Сато на пышноусого старого рейнджера. — Техас — союзник Омуры? Союзник Японии? В грядущей большой войне против Халифата? — Именно так, черт побери, — сказал капитан Макреди. — Сначала мы восстановим нашу страну, а потом сведем кое с кем счеты. Мы надеемся, ты присоединишься к нам, детектив Боттом. — Но вы даже не впускаете флэшнаркоманов в Техас, — сказал Ник. — Вы довозите их до ближайшей границы и вышвыриваете прочь. — Разве ты флэшнаркоман, сынок? — спросил старый рейнджер. — Нет, — ответил Ник, задумавшись всего на секунду. — Нет, сэр. Сато встал, и Ник с удовольствием отметил, что в этом положении японец испытывает боль. — Я должен возвращаться в Денвер, — заявил он. — Несколько следующих дней будут заполнены большой организационной работой. Нужно координировать наши действия с Омурой-сама и с некоторыми даймё там, в Японии, — они давно уже ждут падения Хироси Накамуры. Даже согласно кодексу бусидо, Боттом-сан, лучший сёгун — это необязательно самый суровый, или самый жестокий, или самый безжалостный из всех претендентов. Накамура, ослепленный жаждой власти, забыл об этом. — Но вы продемонстрировали, что можете быть безжалостным, Сато-сан, — чтобы ни у кого в Японии не оставалось сомнений на этот счет. — Да, — подтвердил Сато. — Сегодня я воздержусь от пожатия вашей руки, Боттом-сан, но я восхищаюсь вашей яростью. — Он прикоснулся к плотным бинтам у себя на шее и улыбнулся самой широкой улыбкой, какую Ник когда-либо видел на его лице. — Мне даже показалось там, на «стрекозе», что вы хотите меня съесть. Ник улыбнулся в ответ, не забыв показать клыки. — Но возможно, мы обменяемся рукопожатием и снова станем союзниками в будущем, — продолжил Сато. — После вашего девятого сентября многие, хотя и непродолжительное время, говорили о грядущей долгой войне. Насчет долгой войны они были правы. Но ошибались насчет двух противников, которые будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Сато двинулся было прочь, но развернулся. — Я подумал, вам это может пригодиться, Боттом-сан. — Он протянул Нику его телефон с маленькой флешкой. На дисплее высвечивались названия текстовых файлов Дары и фрагментов из документалки Кэйго. — На этой флешке вы найдете и запись допроса, учиненного вам сегодня Накамурой в библиотеке. Используйте все это так, как считаете нужным. Похлопав Вэла по плечу, громадный японец вышел. Вернулась медсестра, измерила Нику давление и посоветовала ему надеть кислородную маску. Он отрицательно покачал головой. — Помогите мне приподняться, — попросил он. В конце концов Вэл и молодая женщина совместными усилиями усадили его почти вертикально. Боль в голове уменьшилась, а земля уже не вращалась каждый раз, когда Ник поворачивал голову. Капитан Макреди и три других техасских рейнджера остались в палатке. Стетсон снова был у старого капитана на голове. — Так что, сынок, пойдешь к нам в рейнджеры? — спросил Макреди. — Позвольте мне выспаться, и я дам вам ответ, — сказал Ник. Затем он кивнул на спящего Леонарда. — У вас тут делают операции по замене сердечных клапанов без долгой очереди, да? — Делают, — сказал молодой рейнджер, стоявший справа от Макреди. — В этом смысле мы старомодны. Мы в Техасе позволяем людям сохранять большую часть заработанного ими и платить за то, что им нужно. Макреди повернулся к Вэлу. — Ну а ты, сынок? Поговорим завтра насчет твоего поступления в рейнджеры? Вэл улыбнулся, и при виде этой улыбки сердце Ника радостно забилось. — Нет, сэр, спасибо, — ответил его сын. — Мне нужно встретиться с одним человеком в Остине, а потом, может, у меня появятся кое-какие собственные планы. Макреди кивнул, прикоснулся к шляпе и вышел из палатки вместе со своими людьми. На вертолетной площадке три «стрекозы» беззвучно взмыли в воздух, вздымая вихри горячего ночного воздуха. Взбив подушку, Вэл лег на пустую койку рядом с Ником. — Их главный доктор сказал, что ночь мы должны провести здесь — выспаться на этих койках. И я, пожалуй, так и сделаю. Утром надо поговорить с Леонардом. — Хорошо, — сказал Ник. В ближайшие пару минут он намеревался спросить, где тут ближайший сортир, и добраться до него. Судном он пользоваться не собирался — тем более в открытой с боков палатке. Ни за что. — Нет, па, правда, как дед влепил тому ниндзя по яйцам — просто класс, да? — Да уж, влепил так влепил, — согласился Ник, готовясь перенести загипсованную ногу с кушетки на пол. Он бы не отказался, если бы кто-нибудь помог ему дохромать до нужного места — только не медсестра техасских рейнджеров. Может, Вэл, уж коли он тут рядом. — Старик у нас молодец.0.00
Ник парил в зеленой невесомости. Ни пространства, ни времени. Он поднимался сюда от запаха брезента и травяного пола палатки в Техасе, оставив сына и тестя, явившись в реальный мир безмирья. Веки Ника были зашиты, но не полностью. Барабанные перепонки ему проткнули, но слух частично сохранился. Ник парил, и легкие его заполняла жидкость, насыщенная кислородом. Его погрузили в эту жизнесмерть. Глаза ему не удалили, как и зрительные нервы. Это было его наказанием. Перекошенные фигуры в белом, с искаженными формами и пропорциями, двигались за пределами его емкости, в пространстве, заполненном воздухом. Время от времени, когда он покидал свои сновидения, на него пялилось зеленоватое, перековерканное линзой получеловеческое лицо. НЦАИ. НЦАИ. Подвал плавучих мертвецов в НЦАИ. Накамура-центр амбициозных исследований. А наказание Ника Боттома состояло в том, что у него сохранялись зрение и слух и он изредка возвращался к реальности из своих флэшбэкных сновидений. Дара была мертва. Вэл был мертв — убит в ту сентябрьскую субботу. Леонард был мертв. Ник хотел умереть, но ему не позволили. Это было наказание, назначенное ему Накамурой и Сато, — за то, что он, Ник, воспротивился их намерению создать сёгунат. Мир Ника умер. Остался только мир его фантазий, мир хэппи-энда, куда его погружали постоянно: котенок, которого топят снова и снова и всякий раз не до конца. Ник плавал в жидкости, как белый распухший мертвец. Но он видел сны. А между снами… вот это… Он ощущал, как питательные трубки и катетеры ввинчиваются в него, точно металлические угри. Он чувствовал возрастающую дряблость в мышцах, чувствовал, как они разлагаются, словно белесые грибы, в этой густой жидкости. Сквозь щелки в недозашитых веках он смотрел на зеленый мир. Ему снилось, что он мужчина. Этот сон, сон Боттома-Мотка, ненадолго свел их. Но она ушла, а ему не позволили последовать за ней. «Мне было редкостное видение. Мне был такой сон, что человеческого разума не хватит сказать, какой это был сон. И тот — осел, кто вознамерится истолковать этот сон. По-моему, я был… никто не скажет чем. По-моему, я был, и, по-моему, у меня было, — но тот набитый дурак, кто возьмется сказать, что у меня, по-моему, было. Человеческий глаз не слыхивал, человеческое ухо не видывало, человеческая рука не способна вкусить, человеческий язык не способен постичь, человеческое сердце не способно выразить, что это был за сон. Я попрошу написать балладу об этом сне… чтобы спеть этот стишок, когда она будет помирать».[133] Ник Боттом плавал в зеленой емкости с густой жидкостью внутри НЦАИ; наркотик внедрился в его тело и вернул Ника в его сон.1.21 Сан-Антонио, Республика Техас 26 февраля, суббота
Ник пробудился от своего ночного кошмара, тяжело дыша, весь в поту. Это был старый кошмар. Возвращающийся кошмар. Кошмар НЦАИ. Он поднялся со своей кровати в казарме, стащил с себя пропитанную потом футболку и зашвырнул ее в угол спальни, оставшись в одних трусах. Затем он пошел в крохотную ванную, плеснул воду себе на лицо и шею и вытерся. Потом он заглянул на кухню и выглянул в окно, где сияло восходящее солнце. Ник находился на десятом этаже казармы техасских рейнджеров в Сан-Антонио, бывшем отеле «Менгер» на Ист-Кроккетт-стрит. Ему не нравилось, что напротив стоит Аламо — на другой стороне площади с тем же названием: восстановленная старая миссия, что высится во всей своей каменной реальности. Аламо не нравился Нику именно из-за того, что однажды приснился ему — тот сон с «камаро», — а Ник больше не доверял снам. Он увидел, как солнечные лучи коснулись изогнутого фронтона из серого камня. Ник оглядел свое обнаженное тело, испещренное шрамами: рана на животе (удар ножом в Санта-Фе много лет назад), шрамы на ноге, оставшиеся после сращивания сломанной кости пять месяцев назад в Текслайне, шрамы помельче на лице, руках и спине. Но сейчас его занимала лишь тонкая паутинка шрамов на почерневшем от загара предплечье. Он прошел в спальню и вернулся на кухню с пружинным ножом, который входил в снаряжение рейнджеров. Многие из них носили громадные ножи, — некоторые даже ножи Боуи,[134] — но у Ника всегда был при себе только этот, поменьше размером, пружинный и острый, как скальпель. Он принес из ванной йод и медицинский спирт. Экран телефона-компьютера был включен и помигивал. Пришло послание от Вэла. Ник поставил пузырьки с йодом и спиртом, положил нож на стол и открыл послание. Оно оказалось кратким, как и все электронные письма от Вэла. В марте он собирался вернуться из Бостона в конвое, направлявшемся на юг, и хотел бы увидеть предка, если тот по-прежнему живет в казармах роты «Ди» рейнджеров Сан-Антонио. Если нет — то в следующий раз. Как поживает Леонард? Леонард благодаря замене аортального клапана поживал очень даже неплохо. Операция обошлась Нику почти в тридцать тысяч долларов. Техасских долларов. Он каждый месяц понемногу погашал счет из своего жалованья детектива в чине лейтенанта техасских рейнджеров. Платить по этому счету ему предстояло еще несколько лет. Но он не жалел, что пошел на это. Еще его ждало электронное письмо от поэта Дэнни Оза. Тот возвращался в Израиль — в радиоактивную пустыню, которая прежде была Израилем, — в мае, вместе с «большой волной». Японцы и Республика Техас этим летом перевозили миллион сто тысяч евреев (экспатрианты, а также много американцев и граждан других стран) назад на Ближний Восток. Плацдарм для возвращения был зачищен объединенными американо-японскими частями, но удерживать его вернувшиеся евреи должны были сами. Удерживать и расширять. Оз писал, что у него сейчас ремиссия, но он в любом случае вернулся бы с «большой волной», и пусть рак и Халифат прикончат его, если смогут. Ник не сомневался, что Халифат приложит все усилия. Однако возможности Халифата, похоже, были уже не те, что несколько месяцев назад. Новый сёгун Японии предупредил входившие в него исламские государства, что любое применение ядерного оружия со стороны Халифата повлечет за собой применение жэ-медведей и ядерных боеголовок, однако — по крайней мере, вначале — целью не станут многонаселенные города. Сёгун указал, что, если джихадисты еще раз применят против кого угодно оружие массового поражения, будут уничтожены семь главных мусульманских святынь. В каждом случае их предупредят за сутки, чтобы власти успели эвакуировать население. Демонстрируя, что со стороны нового альянса это не пустая угроза, сёгун после предупреждения, направленного за сутки, устроил показательное уничтожение второстепенного шиитского святилища в Басре. Если верить сообщениям «Аль-Джазиры», более миллиарда жителей Халифата, узнав об этом святотатстве, буквально забились в судорогах, а изо рта у них пошла пена. В ходе беспорядков погибло около пятидесяти тысяч человек. Но оружие массового поражения против плацдарма на месте прежней Хайфы не применялось. «На следующий год в Иерусалиме!»[135] — написал Оз в конце своего послания. Ник понимал, что это серьезное приглашение. А почему бы и нет? Туда собирался почетный профессор доктор Джордж Леонард Фокс. Старик со своим новым клонированным аортальным клапаном — как он говорил, сердце у него даже в молодости так не работало — окажется там, на плацдарме, с 1 099 999 другими евреями. Дара никогда не говорила ему, что ее отец — еврей. Наверное, и думать об этом забыла. Но Нику пока что было не до Нового Израиля. Уже сегодня его рейнджерская дивизия — двенадцать тысяч мужчин и женщин — должна была пересечь границу с Нью-Мексико вместе с двумястами тысячами солдат армии Республики Техас имени Сэма Хьюстона. Бронетанковые части получили задание очистить от «иностранного присутствия» прежние — и будущие — штаты Нью-Мексико и Аризона, а также юг Калифорнии. Потом дивизиям следовало повернуть на юг и продвинуться как минимум до Монтеррея, Торреона и Кульякана. Судьбу Мехико предполагалось решить позднее. Для тех, кто стал бы кричать об империализме — а таких в нынешних Смирных Штатах Америки оставалось немало, — был приготовлен ответ: «У кого кишка тонка, пусть не путается под ногами у других». Последнее сообщение было от доктора Линды Альварес: с ней Ник познакомился на рождественской вечеринке и в новом году проводил немало времени. Он прочтет это послание позже. «Я потом расскажу о ней чуть больше, Дара». Когда Ник сидел на флэшбэке, он ни разу не отправил мысленного послания Даре. На самом деле он мало думал о ней в те времена. Да ему это было и не нужно, ведь он заново проводил с ней целые часы и дни. Но то были замороженные воспоминания. Теперь, после отказа от флэшбэка, мысли Ника часто обращались к Даре (пусть при этом начинали меркнуть ее черты, ее образ), и он ежедневно отправлял ей мысленные послания. «Мы должны научиться жить с нашими утратами». Нет, это была не глубокая мысль, пришедшая в голову Нику, эти слова сказал вчера на инструктаже роты «Ди» майор Треворе. Предполагалось, что потери техасских рейнджеров будут невелики — они шли в тылу армии для налаживания гражданской инфраструктуры и работы в качестве полицейских. Но кто может знать? Через три недели войска Омуры (коммандос Сато совместно с Национальной гвардией штатов Калифорния и Вашингтон) пересекут границу Канады и столкнутся со сконцентрированным там ополчением Халифата. Вот там схватка, наверное, будет горячей, а потери — велики. Ник был не прочь поучаствовать в ней, но особым желанием не горел. Особенно когда проводил время с доктором Линдой Альварес. Или читал хорошую книгу. Или смотрел какое-нибудь старое кино. Или — редко — ждал Вэла, который заезжал на ночь. «Мы должны научиться жить с нашими утратами». Ник был готов к этому. Он считал, что получил суровый урок. Он положил полотенце на кухонный стол, нажал кнопку, раскрыл нож и погрузил тонкое лезвие в спирт. Потом оперся рукой о стол. С приходом утреннего солнца оживал город за окном, засветился Аламо, — Ник слышал, что у старой миссии сегодня какой-то юбилей. Он полоснул себя по предплечью так, что кровь потекла струйками по руке и закапала на полотенце, где расплылись красные бабочки. Ник погрузил лезвие еще глубже, сжав зубы, вонзая его в свою плоть. Если нужно, он готов был дойти до кости. Но нет, этой боли хватало. Резкая, реальная, несомненная. Во сне под флэшбэком-2 такая боль была бы недопустимой. Абсолютно недопустимой. Ник извлек лезвие из раны, обработал ее и быстро перевязал. Останется шрам, но вскоре он соединится с десятком других, сделается частью паутинки. Уж чему-чему, а этому сон научил Ника, как и годы, проведенные в снах под флэшбэком: «Если ты в полном сознании, то боль неизбежна. Если ты в полном сознании, готовься переносить боль». Ник навел порядок на кухне, все вычистил, убрал нож, швырнул полотенце в таз, чтобы оно замачивалось, засыпал в кофемашину кофе и залил воду. Черт побери, сегодня он приготовит себе королевский завтрак: яйца, бекон, тосты — ублажит себя по полной программе. Сбор назначили на 9.00, но день обещал быть долгим, и Ник не знал, когда удастся поесть снова. Теперь он понимал, что без боли невозможно прожить жизнь. Без боли невозможно иметь перед собой будущее. Если ты жив, то должен находить в себе силы, чтобы переносить боль и утраты, — и, преодолев их, найти что-то настоящее. Все остальное — лишь флэшбэк.Благодарности
Автор хотел бы поблагодарить своего агента Ричарда Кертиса, своего редактора Рейгана Артура и издателя Майкла Питча за понимание того, о чем на самом деле написан роман «Флэшбэк», и за помощь в доведении романа до публикации. Автор выражает трем этим замечательным людям благодарность за их исключительный и важный вклад в эту работу. Кроме того, автор хотел бы выразить признательность доктору Дэну Петерсону за подаренную им бейсболку из Уиздома (как выяснилось, это сувенир из бара в Уиздоме, штат Монтана), которая, безусловно, добавила автору мудрости,[136] а также за компакт-диски с джазовыми компиляциями, которые автор слушал, работая над «Флэшбэком». Большинству читателей неведомо, что почти за каждым романом стоит особый саундтрек, который у автора всегда будет связываться с многомесячной работой над книгой. Доктор Петерсон хорошо знает прекрасный саундтрек «Флэшбэка», потому что сам создал его. Автор благодарит его за это и снимает перед ним свою бейсболку мудрости. Автор хотел бы выразить благодарность Деборе Джекобе за ее неоценимую помощь, высочайший профессиональный уровень и интуицию при вычитке рукописи «Флэшбэка» и за предложенный ею эпиграф из Пруста, идеально подошедший к книге. И автор, и Марсель П. кланяются ей с искренней благодарностью. И наконец, автор должен выразить признательность и сказать «спасибо» своей жене Карен, которая всегда была рядом; ее спокойная прозорливость, важные предложения и тихая уверенность помогли автору начать и завершить работу над двадцатью восемью опубликованными им книгами. Еще он хочет выразить признательность своей дочери Джейн: ее энергия и веселое расположение духа во время тяжелой работы над «Флэшбэком» помогли сделать возможным то, что казалось невозможным. Автор благодарит жену и дочь за то, что они остаются неподвижными звездами на роскошном, прекрасном, но и переменчивом гавайском небе: по ним он ведет свой корабль.
Дэн Симмонс
 Черные холмы
Черные холмы
Эта книга посвящается моим родителям — Роберту и Катрин Симмонсам и родителям моей жены Карен — Верну и Рут Лоджерквистам. Посвящается она также моим братьям — Уэйну и Теду Симмонсам и брату и сестре Карен — Джиму Лоджерквисту и Салли Лэмп.
Но в первую очередь эта книга посвящается Карен и нашей дочери Джейн Катрин — они для меня Вамакаогнака э’кантге, что означает «суть всего сущего».
«Хесету. Митакуйеойазин» (Быть по сему. И да пребудет вечно вся моя родня — вся до единого)
1 На Сочной Траве[1]
Июнь 1876 г. Паха Сапа резко отдергивает руку, но поздно: это похоже на атаку гремучей змеи — призрак умирающего вазикуна перепрыгивает в его пальцы, потом перетекает по руке в грудь. Мальчик в ужасе отскакивает, а призрак огнем опаляет его вены и кости, словно ползучий яд. Дух вазикуна, доставляя Паха Сапе боль, прожигает нервы в его руке, а оттуда устремляется в грудь и горло, он колышется и закручивается, как маслянистый густой дым. Паха Сапа чувствует его вкус. Это вкус смерти. Продолжая распространяться, призрак проходит по всему телу Паха Сапы, и руки мальчика слабеют, наливаясь свинцом. Призрак вазикуна наполняет его легкие жуткой расширяющейся вязкой тяжестью, от которой перехватывает дыхание, и Паха Сапа вспоминает происшествие из своего раннего детства — он тогда и ходить еще толком не умел, — когда чуть не утонул в Танг-ривер. Но, даже невзирая на охвативший его ужас, мальчик, которому еще нет и одиннадцати, чувствует, что это вторжение бесконечно страшнее смерти в реке. Вот она какая, смерть, думает Паха Сапа, она прокрадывается в человека через его рот, глаза, ноздри, чтобы похитить его дух. Но дух Паха Сапы вовсе не похищен — просто в тело мальчика вселяется чужой дух. Смерть действует тут скорее как ужасный незваный гость, а не как похититель. Паха Сапа вскрикивает, словно раненый, и ползет прочь от глазеющего на него трупа, пытается встать, чтобы пуститься наутек, падает, встает, снова падает и опять пытается отползти от трупа, он лягается, машет руками, хватает ртом воздух, скатываясь по склону холма — трава, земля, кактусы, конский навоз, кровь и другие мертвые вазичу, — в слепой надежде вытряхнуть призрак из своего тела. Но призрак остается в нем и увеличивается в размерах. Паха Сапа открывает рот, чтобы закричать, но не может выдавить из себя ни звука. Призрак заполняет раскрытый рот Паха Сапы, его горло и ноздри, и противиться ему невозможно. Мальчику как будто залили в глотку растопленный бизоний жир. Он не может дышать. Он становится на четвереньки и отряхивается, как больная собака, но никак не может вызвать у себя рвоту. Поле зрения сужается, перед глазами плывут черные точки. Призрак врезается в него, как нож, уходит в глубь черепа, проникает в мозг. Паха Сапа падает на бок и наталкивается на что-то мягкое. Открыв глаза, он видит прямо перед собой лицо другого мертвого вазичу; этот синий мундир — совсем мальчишка, может, на пять или шесть зим старше Паха Сапы; мертвый мальчишка вазикун потерял свою солдатскую шапку, а его коротко подстриженные волосы — рыжего цвета. Паха Сапа впервые в жизни видит рыжие волосы; кожа мертвого мальчишки бледнее, чем у любого вазикуна в рассказах, которые слышал Паха Сапа, а маленький нос солдата усеян веснушками. Паха Сапа смутно осознает, что изо рта мертвеца не выходит дыхания, что рот этот открыт мучительно широко, словно в последнем вскрике или в готовности укусить Паха Сапу за его перекошенное ужасом лицо, расстояние до которого меньше ладони. Еще он как-то тупо отмечает, что у вазичу вместо одного глаза кровавая дыра. А другой глаз, открытый и остекленевший, цвета послеполуденного неба, которое видит Паха Сапа за маленьким бледным ухом трупа. Пытаясь вдохнуть, Паха Сапа смотрит в мертвый глаз, чья голубизна вянет и бледнеет под его взглядом, словно ища какой-то ответ. — Черные Холмы? Мимо опять проносятся боевые пони,[2] два из них перепрыгивают через тела Паха Сапы и вазичу, но Паха Сапа туманно — отстраненно — осознает, что одна из лошадей остановилась, с нее соскочил воин и присел рядом с ним. Он так же туманно, отстраненно чувствует сильную руку у себя на плече, рука переворачивает его на спину. Тело одноглазого рыжеволосого мальчишки исчезает из поля зрения Паха Сапы, и теперь он видит присевшего перед ним воина. — Черные Холмы? Тебя подстрелили? Присевший на корточки воин строен, кожа у него бледнее, чем у большинства лакота, он вступил в схватку голым, как и полагается хейоке, на нем только набедренная повязка и мокасины, волосы заплетены в две длинные косички и украшены одним белым пером. Боевая раскраска тела стройного воина — градины и молния, что лишь усиливает первое впечатление о нем, будто он и в самом деле живой проводник молнии, хейока, один из созерцателей видений, защитник воинов, который отваживается стоять между народом Паха Сапы, вольными людьми природы, и безграничной яростью существ грома. Моргнув, Паха Сапа видит камушек в серьге человека и узенький, но заметный шрам, протянувшийся назад от левой ноздри, — старое ранение, оставленное пулей на излете из ружья одного ревнивого мужа; из-за этого шрама губы у воина хейоки чуть вывернуты с левой стороны, что похоже скорее на гримасу, чем на улыбку, — и Паха Сапа понимает, что перед ним Т’ашунка Витко, Шальной Конь,[3] двоюродный брат старшей жены Сильно Хромает. Паха Сапа пытается ответить на вопрос Шального Коня, но призрак так сильно сдавил его грудь и горло, что изо рта мальчика выходят только сдавленные звуки. До пылающих легких Паха Сапы доходит лишь тоненькая струйка воздуха. Он снова пытается заговорить, понимая, что, наверное, похож на рыбу, вытащенную из воды, — рот широко раскрыт, глаза выпучены. Шальной Конь издает звук то ли презрения, то ли отвращения, поднимается и одним ловким движением запрыгивает на спину своего пони, не выпуская ружья из руки, и скачет прочь, а его приверженцы с криками устремляются следом. Паха Сапа заплакал бы, если б мог. Сильно Хромает так гордился, когда всего четырьмя днями ранее в вигваме Сидящего Быка[4] представлял знаменитого двоюродного брата своей старшей жены приемному сыну, а тут такое беспримерное унижение… По-прежнему лежа на спине, Паха Сапа раскидывает как можно шире ноги и руки. Он потерял мокасины и теперь впивается пальцами ног и рук в землю, как делал с самого младенчества, когда к нему пришло первое видение «коснись земли, чтобы полететь». И сразу же его захлестывают старые ощущения: будто он цепляется за наружную поверхность быстро вращающегося шара, а не лежит на плоской земле, будто небо висит не над, а под ним, а мчащееся солнце — всего лишь одно из многих небесных тел, несущихся по небу, как звезды или луна. И с приходом знакомой иллюзии Паха Сапа начинает дышать глубже. Но то же самое делает и призрак. Паха Сапа чувствует, как тот вдыхает и выдыхает глубоко внутри. И с ужасом, от которого холодеет его хребет, мальчик понимает, что призрак говорит с ним. Или по меньшей мере изнутри Паха Сапы говорит с кем-то. Паха Сапа закричал бы, если б мог, но его все еще перегруженные легкие затягивают в себя лишь тонкую струйку воздуха. И при этом он слышит, как неспешно и настойчиво призрак нашептывает что-то — резкие и неразборчивые слова вазичу резонируют в черепной коробке Паха Сапы, вибрируют в его зубах и костях. Паха Сапа не понимает ни одного слова. Он прижимает ладони к ушам, но внутреннее шипение и шепот не прекращаются. Вокруг него, пробираясь среди мертвецов, двигаются новые фигуры. Паха Сапа слышит трели женских голосов — это женщины лакота, и он с невероятным усилием переворачивается на живот и поднимается на колени. Он опозорил себя и своего дядю-отца перед Шальным Конем, но, когда здесь женщины, он не может позволить себе лежать, словно он тоже мертвец. Встав, Паха Сапа видит, что напугал ближайшую из женщин — он знает ее: это хункпапа по имени Орлиная Одежда, он видел, как она сегодня пристрелила черного разведчика вазикуна по имени Сосок, которого Сидящий Бык называл своим другом. Женщина в испуге поднимает тот же тяжелый кавалерийский пистолет вазичу, из которого убила черного разведчика, поднимает его обеими руками, целится Паха Сапе в грудь с расстояния всего десять футов и нажимает спусковой крючок. Боек либо дает осечку, либо в патроннике нет патрона. Паха Сапа на нетвердых ногах делает несколько шагов в ее направлении, но Орлиная Одежда и три другие женщины вскрикивают и бросаются прочь, быстро исчезая в облаках пыли и порохового дыма, все еще ползущих по склону холма. Паха Сапа опускает глаза и видит, что он почти весь, с головы до ног, в крови — в крови его убитой кобылы, крови призрака-вазикуна и других трупов, как человеческих, так и лошадиных, по которым он летел, на которых лежал. Паха Сапа знает, что должен делать. Он должен вернуться к трупу вазикуна, над которым совершил деяние славы,[5] и каким-то образом убедить призрака вернуться обратно в свое тело. Задыхаясь, все еще не в состоянии махнуть едва видимым в дыму воинам или окликнуть их, скачущих в пыли на своих пони, Паха Сапа карабкается вверх к мертвецу, лежащему среди мертвецов. Сражение снова смещается на юг, пыль и пороховой дым понемногу рассеиваются, уносимые легоньким вечерним ветерком, переваливающим через вершину холма, — высокие травы колышутся и шуршат, когда ветер прикасается к ним, — и Паха Сапа видит, что перед ним лежит около сорока мертвых лошадей вазичу. Похоже, чтобольшинство из них пристрелены самими синими мундирами. Тел вазичу приблизительно столько же, сколько и тел мертвых лошадей, но мертвых солдат раздели женщины лакота, и теперь те выделяются на склоне холма, словно белые речные камни, на фоне коричневой земли, залитой кровью зеленой травы и более темных оттенков разорванного конского мяса. Паха Сапа перешагивает через человека, скальпированная голова которого раздавлена почти в лепешку. Сгустки мозга повисли на высокой траве, которую колышет вечерний ветерок. Воины или, что вероятнее, женщины вырезали глаза и язык мертвеца, перерезали ему горло. Его живот вскрыт, и внутренности вывалились, словно у забитого на охоте бизона, — осклизлые пряди серых кишок вьются и колышутся, как переливающиеся мертвые гремучие змеи в окровавленной траве, — и еще Паха Сапа отмечает, что женщины отрезали у человека се и яйца. Кто-то стрелял из лука во вскрытое тело вазикуна, и его почки, легкие и печень многократно пробиты. Сердце у мертвеца отсутствует. Паха Сапа с трудом карабкается вверх по склону. Белые тела повсюду, они распростерлись там, где упали, многие из них рассечены на куски, большинство искалечены и лежат среди громадных кровавых разводов или на собственных мертвых конях, но он не может найти того вазикуна, чей призрак теперь дышит и шепчет глубоко в нем. Он понимает, что в лучшем случае пребывал в полубессознательном состоянии, а потому с того момента, когда он совершал деяние славы над этим человеком, возможно, прошло больше времени, чем ему кажется. Кто-то, может быть какой-нибудь оставшийся в живых вазичу, унес тело с поля боя (в особенности если мертвец был офицером), и тогда Паха Сапа может никогда не избавиться от призрака. Он уже почти уверовал, что того мертвеца нет среди десятков других тел на кровавом поле, но тут видит высокий голый лоб вазикуна, торчащий среди груды белых тел. Раздетое тело полусидит, припав к двум другим обнаженным вазичу. Какая-то женщина или воин располосовали его правое бедро, как это делают лакота с телами мертвых врагов, но скальпа с него не сняли. Паха Сапа тупо смотрит на залысины, на светлые, коротко подстриженные волосы и понимает, что скальп просто не стоил того, чтобы его снимать. Волосы мертвеца очень светлые, то ли рыжеватые, то ли желтоватые. Неужели это Длинный Волос? Неужели Паха Сапа несет теперь в себе, словно жуткий плод, призрак Длинного Волоса? Это кажется невероятным. Какие-нибудь воины лакота и шайенна наверняка узнали бы своего старого врага и сильнее надругались бы над его телом или воздали бы ему большие почести, чем получил этот фактически оставшийся незамеченным мертвец. Кто-то, вероятно женщина, пронзил тело стрелой высоко над обвислым в смерти, навсегда теперь опавшим белым се. Паха Сапа опускается на колени, чувствуя, как ему в кожу впиваются отстрелянные гильзы, наклоняется вперед, обеими руками упирается в белую грудь вазикуна, располагая ладони вблизи большой рваной раны в том месте, где с левой стороны вошла первая пуля. Вторая, куда более опасная рана — высоко на бледном левом виске человека — похожа на простую круглую дыру. Веки мертвеца опущены, глаза почти закрыты, словно во сне, и под удивительно пушистыми ресницами видны лишь тонюсенькие полумесяцы белков. Этот вазикун, в отличие от многих других, кажется спокойным, почти умиротворенным. Паха Сапа тоже закрывает глаза, он с трудом выдыхает слова, надеясь, что они подходят для ритуала. — Призрак, изыди! Призрак, оставь мое тело! Паха Сапа повторяет эти судорожные заклинания, давя на грудь мертвеца, он молится шести пращурам о том, чтобы давление повело призрака по его руке и пальцам назад в холодное белое тело. Рот вазикуна открывается, и мертвец протяжно, удовлетворенно рыгает. Паха Сапа в ужасе отдергивает руки: призрак словно смеется над ним из своего безопасного гнезда внутри мозга Паха Сапы, — но потом мальчик понимает, что он просто выдавил последние пузырьки воздуха из кишечника, чрева или легких мертвого вазикуна. Тело Паха Сапы сотрясается, он снова упирается руками в холодную плоть, но без всякого проку. Призрак не уходит. Он обосновался в теплом, живом, дышащем теле Паха Сапы и не собирается возвращаться в пустой сосуд, который лежит теперь среди таких же пустых сосудов его мертвых друзей. Рыдая, десятилетний Паха Сапа (который всего час назад считал себя мужчиной) снова становится ребенком, отползает от груды тел, падает на землю и сворачивается, как неродившееся существо. Теперь он способен только сосать палец и плакать, скорчившись между закоченевших ног мертвого кавалерийского коня. Солнце красным шаром спускается по пыльному небу к западным горам, его алый цвет превращает небеса в отражение кровавой земли под ними. Призрак продолжает шептать и бубнить внутри мозга Паха Сапы, и мальчик соскальзывает в некое состояние изнеможения, почти в сон. Шепот и бубнеж призрака продолжаются, когда вскоре после захода солнца Сильно Хромает находит Паха Сапу и уносит его, так еще и не пришедшего в сознание, назад в скорбящую и празднующую деревню лакота, расположенную внизу в долине.2 На Шести Пращурах[6]
Февраль 1934 г. Сейчас должна взорваться голова Томаса Джефферсона. В грубоватом наброске на камне видны разделенные пробором волосы, которые у него опускаются на лоб гораздо ниже, чем у Вашингтона, расположившегося чуть левее и выше относительно проявляющегося Джефферсона. А из бело-коричневого гранита под волосами и лбом возникает длинный прямоугольник намеченного вчерне носа, заканчивающегося почти на одном уровне с четкой линией подбородка Вашингтона. Уже проявились нависающие брови, намечены глаза, правый глаз ближе к завершению (если можно говорить о завершении круглого отверстия внутри овального). Но даже неискушенному человеку кажется, что две головы — одна почти готова, другая только проявляется — расположены слишком близко одна к другой. Как-то предыдущим летом Паха Сапа сидел в тени силовой станции в долине, осторожно и медленно перебирая содержимое своего ящика с динамитом, хотя официально проект был приостановлен. И услышал, как спорят две пожилые дамы-туристки, спрятавшиеся от солнца под своими зонтиками. — Спереди Джордж, значит, рядом — Марта.[7] — Нет-нет, я из достоверных источников знаю, что тут будут только президенты. — Чепуха! Мистер Борглум никогда не стал бы высекать двух мужчин, прильнувших друг к другу! Это было бы просто неприлично! Я уверена, что это Марта. Итак, сегодня в четыре пополудни первый Джефферсон должен исчезнуть. Ровно в четыре часа воют сирены. Все — мигом с каменных голов, все — мигом с лиц, все — бегом вниз по лестницам, все — бегом вниз по каменистому склону. После этого воцаряется полная тишина, которую не нарушает ни карканье ворон с припорошенных снежком сосен по обеим сторонам и внизу Монумента, ни постоянный скрип тросов лебедок, поднимающих и опускающих вагонетки с грузами, а затем по долине неожиданно прокатываются три взрыва, и голова Джефферсона взрывается изнутри. Потом кратчайшая пауза — падают камни, рассеивается пыль, а следом еще один взрыв — едва намеченная масса волос и выступающие брови Джефферсона разлетаются тысячами гранитных осколков, некоторые размером с «форд» модели Т. Затем следует еще более короткая пауза, во время которой со склона осыпаются новые камни, а вороны черной волной вспархивают с деревьев, после чего нос Джефферсона, его правый глаз и оставшаяся часть намеченной щеки рассыпаются под действием полудюжины последних взрывов, грохот которых раскатывается по долине, а потом эхо приносит его назад, уже приглушенным и с металлическим отзвуком. Ощущение такое, будто обломки продолжают падать и скатываться несколько долгих минут, хотя главная работа проделана за секунды. Когда холодный ветерок уносит остатки дыма и пыли, на торце скалы остаются только несколько едва видимых складок и выступающих ребер, которые придется сбивать вручную. Томас Джефферсон исчез, словно и не существовал никогда. Паха Сапа против всех правил, но по особому разрешению во время взрывов висел в своей люльке там, откуда взрыва было не видно, за восточной стороной массивной головы Вашингтона, его ноги упирались в небольшой выступ на длинной плоскости девственно-чистой белой породы, уже очищенной для работы над новой головой Джефферсона. Теперь он отталкивается ногой, машет Гасу, стоящему за лебедкой, и начинает движение по выступу волос, щеке и носу Джорджа Вашингтона. Лебедочный шкив наверху вращается ровно, Паха Сапа словно летит и вспоминает то, что всегда вспоминает, когда двигается подобным образом, — Питер Пэн! Он видел эту постановку в резервации Пайн-Ридж (ее много лет назад давала заезжая труппа из Рэпид-Сити) и навсегда запомнил, как молодая женщина, игравшая мальчика, летала над сценой на слишком заметных привязных ремнях. Стальной трос, который удерживает Паха Сапу на высоте в несколько футов над долиной, имеет толщину в одну восьмую дюйма и гораздо незаметнее, чем у той девушки, которая играла Питера Пэна, но Паха Сапа знает, что трос может выдержать восьмерых таких, как он. Поэтому он отталкивается сильнее и взлетает выше — чтобы первым увидеть последствия четырнадцати больших взрывов и восьмидесяти шести малых; он лично рассчитал мощность, пробурил шпуры и заложил эти заряды в голову Джефферсона сегодня утром и днем. Балансируя на правой щеке Вашингтона, Паха Сапа знаками показывает Гасу, чтобы тот опустил его на уровень все еще находящихся в работе губ и рта первого президента, поворачивается налево и с удовольствием разглядывает плоды своих трудов. Сработали все сто зарядов. Масса разделенных пробором волос, брови, глазницы, глаза, нос, зачатки губ — все исчезло, но при этом не осталось никаких вырубок или бугров в негодной породе, где по ошибке начали высекать первую голову Джефферсона. Паха Сапа парит, отталкиваясь от правого угла подбородка Вашингтона, все еще в полутораста футах над высшей точкой каменистого склона внизу, когда скорее чувствует, чем слышит или видит, как на втором тросе с лебедки наверху спускается Гутцон Борглум. Босс проскальзывает между люлькой Паха Сапы и остатками первого лица Джефферсона, высеченного в скале, почти минуту разглядывает обнаженную взрывом породу, а потом легко поворачивается к Паха Сапе. — Ты, старик, упустил несколько ребрышек на дальней щеке. Паха Сапа кивает. Эти ребрышки кажутся лишь мелкими тенями в пятне слабого февральского света, отраженного от щеки и носа Вашингтона на расчищенном теперь торце скалы. Паха Сапа чувствует, как холодает, по мере того как тускнеет свет на южном склоне. Он знает, что Борглум должен найти какой-нибудь изъян — он всегда так делает. Что касается обращения «старик», то Паха Сапе известно, что через несколько недель Борглум будет праздновать свое шестидесятишестилетие, но он никогда не говорит о своем возрасте и понятия не имеет об истинном возрасте Паха Сапы, которому в августе будет шестьдесят девять. Паха Сапа знает, что хотя Борглум называет его «стариком» и «старым конем» перед другими людьми, но на самом деле уверен, будто единственному индейцу, который работает на него, пятьдесят восемь, как об этом написано в его личном деле, заведенном на шахте «Хоумстейк». — Да, Билли, ты был прав касательно размеров зарядов. Я сомневался, что нужно использовать столько маленьких, но ты оказался прав. Голос Борглума, как всегда, похож на недовольное журчание. Немногие рабочие любят его, но уважают — почти все, а Борглуму ничего другого и не надо. Паха Сапа не любит и не уважает Борглума, но он знает, что то же самое можно сказать о его отношении к любому вазикуну, за исключением нескольких уже ушедших из жизни и одного живого по имени Доан Робинсон.[8] Паха Сапа, прищурившись, смотрит на чистую скалу, где полчаса назад стоял трехмерный набросок Джефферсона. — Да, сэр, мистер Борглум. Если бы еще на несколько зарядов побольше, то эта трещина расширилась бы, и вам пришлось бы ее латать шесть месяцев. А заложи мы малых зарядов поменьше, пришлось бы взрывать целую неделю, а потом еще месяц выравнивать. Это самая длинная речь, произнесенная Паха Сапой за несколько месяцев, но Борглум в ответ только хмыкает. Паха Сапа хочет, чтобы Борглум поскорее ушел, потому что чувствует динамитную головную боль — в буквальном смысле динамитную. Паха Сапа целый день работал на холоде без рукавиц — резал, формовал и размещал заряды с самого утра, а в динамите, как известно всем взрывникам, содержится что-то такое (возможно, из-за нитроглицерина), что выступает капельками на поверхность, словно опасный пот, просачивается через кожу взрывника, доходит до основания его черепа и вызывает такие пульсации и головные боли с потерей зрения, по сравнению с которыми обычные мигрени просто тьфу. Паха Сапа пытается сморгнуть с глаз красную пленку, которая неизменно сопровождает головную боль. — Ну, я думаю, можно было и чище сработать. И уверен, ты сумел бы израсходовать меньше динамита и сэкономить нам немного денег. Готовься к установке новых зарядов на верхней трети новой площадки рано утром. Будем взрывать в полдень. Борглум дает отмашку своему сыну Линкольну, стоящему у лебедки: давай поднимай. Паха Сапа кивает, чувствует, как кивок вызывает приступ боли и головокружения, ждет, когда Борглум достигнет сарая с лебедкой, после чего собирается пройти еще раз по кругу, чтобы рассмотреть все тщательнее. Но босс, прежде чем исчезнуть в темном прямоугольнике выступающего днища сарая, кричит ему: — Билли… ты, похоже, не прочь и под Вашингтона подложить побольше динамита? Паха Сапа отклоняется назад как можно дальше, касаясь скалы только носками, его тело принимает почти горизонтальное положение в люльке, и над долиной на высоте в две сотни футов его удерживает всего лишь металлический трос толщиной в одну восьмую дюйма. Он смотрит на темную фигуру Гутцона Борглума, висящую в пятидесяти футах над ним, — крошечный силуэт на фоне быстро белеющего февральского неба Южной Дакоты, цвет которого такой же голубой, как у мертвого солдата-кавалериста вазичу. — Еще рано, босс. Я подожду, пока вы закончите все головы, а уж тогда их взорву. Борглум натужно смеется, дает знак сыну и исчезает в проеме. Это их старая шутка, вопрос и ответ всегда одни и те же, а потому юмор потерял почти всю свою остроту. Но Паха Сапа спрашивает себя, догадывается ли Борглум, что его главный взрывник говорит ему чистую правду?3 На Сочной Траве
Июнь 1876 г.Паха Сапа прихлебывает теплый суп. Пламя костров, повсюду горящих в деревне, бросает оранжевые отблески на тщательно выскобленные бизоньи шкуры на стенах вигвама Сильно Хромает. Уже поздно, но еще слышна какофония пения и причитаний да бой барабанов — какофония для ушей Паха Сапы, потому что это резкая и необычная смесь песен радостей и траура, пронизанная воплями скорбящих женщин, восторженными выкриками победоносных воинов и непрекращающейся оружейной пальбой, как внутри деревни, так и вдалеке. Выстрелы эхом отражаются от темных холмов за рекой на юго-востоке. Сотни воинов, многие из которых уже пьяны до бесчувствия, пытаются по очереди пробраться к оставшимся в живых вазичу, окруженным в том районе, стреляют в солдат, если им кажется, что показались черные очертания головы или туловища кого-то из синих мундиров, окопавшихся на темной вершине холма. В вигваме Сильно Хромает присутствуют еще трое старейшин: Татанка Ийотаке (Сидящий Бык), Глупый Лось и старый камнегадатель, шаман-йювипи по имени Долгое Дерьмо. Паха Сапа, который лишь вполуха слушает несвязный разговор стариков, понимает: Долгое Дерьмо рассказывает, что большую часть вечернего сражения он провел, совещаясь с Шальным Конем, и даже развел священный костер из бизоньих лепешек, чтобы помолиться над ним во время одной из пауз, когда Шальной Конь и его люди собирали свежих пони. Стоит Паха Сапе услышать имя Шального Коня, как он заливается краской стыда. Мальчик надеется, что ему больше никогда не доведется увидеть двоюродного брата старшей жены Сильно Хромает. — Черные Холмы, скажи нам то, что ты должен сказать. Эту команду отдает Сидящий Бык. Хотя большинство молодых воинов кричат и хвастают так, словно дневные труды завершились их великой победой, голос Сидящего Быка звучит грустно. Можно подумать, что день принес горькое поражение лакота и шайенна. И если Сильно Хромает, Долгое Дерьмо и более молодой Глупый Лось одеты как подобает этому вечеру, то на Сидящем Быке, который довольно стар (Сильно Хромает говорит, что тот видел не меньше сорока двух зим), повседневная одежда — рубаха из лосиной кожи с бахромой, украшенная только зелеными иглами дикобраза и скромными кисточками человеческих волос, прикрепленными к плечам, наголенники, мокасины и красная набедренная повязка. Его косы обернуты в мех выдры и украшены единственным орлиным пером, торчащим прямо вверх. Паха Сапа кивает, отставляет миску с супом, садится, скрестив ноги, на мягкую шкуру, и думает о том, что скажет. Сильно Хромает рассказал трем собравшимся о призраке, именно поэтому они сегодня здесь, а не празднуют, или скорбят, или (как это сделал бы Глупый Лось) стреляют по оставшимся в живых вазичу на вершине холма, и Паха Сапа знает, что двух шаманов и воина, который считается другом Шального Коня, больше всего интересует личность синего мундира, чей дух вселился в Паха Сапу. Паха Сапа закрывает на минуту глаза, вызывая из дыма и сумятицы страшных воспоминаний события сегодняшнего дня. Он надеется, что когда откроет глаза и начнет говорить (и говорить так кратко, как его учил Сильно Хромает, когда Паха Сапа был маленьким мальчиком, и так четко, как только может, хотя призрак вазикуна продолжает болтать и метаться в его мозгу), то у него родятся несколько простых, бесстрастных слов чуть ли не в форме монотонного песнопения. Но Паха Сапа, прежде чем открыть глаза и начать рассказ, делает паузу, чтобы вспомнить все в подробностях.
Он пришел не для того, чтобы сражаться. Паха Сапа знал, что он не воин (этому его научил единственный печальный поход против кроу прошлой весной), но в этот день, когда на юго-восточной оконечности огромной деревни, состоящей из множества типи, наполнявших долину, началась стрельба, он вместе с Сильно Хромает выбежал из вигвама. Шумиха стояла невероятная. Акисита пытались поддерживать порядок, но молодые воины не обращали внимания на племенную полицию, они кричали, вскакивали на коней и мчались на шум сражения. Другие воины спешили нанести на себя боевую раскраску, найти оружие и затянуть песни смерти. Хотя Паха Сапа знал, что в душе он не воин, но, слыша, что стрельба не утихает, и видя, как на востоке и над утесами по другую сторону реки поднимаются клубы пыли, а из деревни продолжают выезжать все новые и новые всадники всех возрастов, почувствовал, как в нем нарастает возбуждение. — Сражение — на дальнем конце деревни. Сильно Хромает показал в сторону юго-востока. — Я хочу, чтобы ты оставался здесь, пока я не вернусь. И Сильно Хромает без всякого оружия медленно двинулся в направлении стрельбы. Паха Сапа оставался на месте, даже когда Волчий Глаз, Левая Нога и несколько других молодых людей, которых он встретил здесь в толпе у дороги, проскакали мимо, с издевкой крича ему, найди, мол, себе пони. Но они умчались на юг, прежде чем Паха Сапа решил, что ему делать. Потом послышалась стрельба почти с противоположной стороны — от оврага в северной оконечности деревни. Несколько минут назад Паха Сапа поднял глаза и увидел колонну вазичу на лошадях — они двигались на север по гребню холма. Может быть, подумал Паха Сапа, атака синих мундиров с юго-востока на самом деле была ложной, отвлекающим маневром, а настоящая атака должна произойти здесь, на противоположном конце деревни, где собираются женщины и дети? Всего три дня назад Сидящий Бык говорил Сильно Хромает, что именно такую тактику использовал Длинный Волос, когда атаковал деревню Черного Котла. Какая-то женщина прокричала, что синие мундиры идут по оврагу и пересекают вброд реку неподалеку от жилища Сильно Хромает, вблизи места, где собралось много мужчин и женщин. Группа воинов — их кони и умащенные маслом тела были покрыты пылью после сражения на юго-востоке — промчалась по деревне на север, в сторону новой угрозы, разметав по пути стариков, женщин и вопящих младенцев. В конце этой группы скакала лошадь без наездника, на ее чепраке алело кровавое пятно. Всадники замешкались на несколько мгновений, чтобы дать возможность женщинам уйти с дороги, кобыла без всадника остановилась позади лошадей и кричащих воинов, ее глаза бешено вращались. Паха Сапа, не отдавая себе отчета в том, что делает, вскочил на спину кобылы и обеими руками вцепился в гриву. Когда всадники протиснулись сквозь толпу вопящих женщин и поскакали к реке, Паха Сапа, крепко держась за гриву, ударил пятками по вздымающимся бокам кобылы. Необходимости в этом не было — животное, как и Паха Сапа, было так взвинчено, что инстинктивно следовало за остальными лошадьми. Из длинного оврага, который тянулся вдоль реки до холмов, все еще доносились звуки выстрелов, и Паха Сапа сквозь пыль и дым увидел лежащие там на земле тела — несколько вазичу, несколько жителей деревни, — но воин, возглавляющий отряд, не обращая внимания на овраг, повел своих людей на северо-восток вдоль реки, мимо групп разбегающихся женщин и детей, мимо последних жилищ лакота и шайенна, через тополиную рощу; и наконец тридцать или около того всадников с Паха Сапой в качестве замыкающего, разбрызгивая воду, устремились через второй брод и затем вверх по склону глубокого оврага в направлении поросших травой холмов. Паха Сапа чуть не свалился с кобылы, но удержался, ухватившись обеими руками за гриву и сжав изо всех сил коленями ходящие туда-сюда бока лошади, которая, хрипя и роняя пену, с трудом взбиралась по травянистому склону. Легкие ее работали, словно продранные меха. Паха Сапа едва успевал смотреть направо-налево, ловя какие-то обрывочные впечатления; крутые хребты справа, там же воины и вазичу на лошадях, впереди слева еще один длинный кряж, окутанный дымом и пылью, группки пеших вазичу и отдельные кучки воинов, стреляющих друг в друга и сражающихся на всем протяжении травянистого склона, который поднимается к другому, более высокому хребту, почти в миле к северо-западу. Усевшись покрепче, мальчик бросил взгляд через плечо в направлении долины, но не увидел внизу кружочков тысяч типи — над долиной висели дым и пыль. Он понял, что в отряде воинов, к которому он присоединился, нет никакого порядка, как и в других группках людей, разбросанных повсюду по склонам; в его группе были в основном лакота, несколько миниконджу, один-два шайенна. Их глава, человек, которого он никогда не видел прежде, вроде бы был хункпапа. Он прокричал: «Хокахей!» — и воины, за которыми следовал Паха Сапа, хлестнули своих пони, ударили им в бока пятками и поскакали навстречу синим мундирам, стреляя в сторону спешенных группок на склоне холма слева. Повсюду в дыму ржали и падали кони вазичу и пони воинов. Некоторых пристреливали сами синие мундиры, чтобы укрыться за ними, других убивали под всадниками, третьих — рядом с солдатами, которые держали поводья. Грохот стрельбы не стихал, но за ним слышался и становящийся все громче хор воплей, криков, стонов, заклинаний и окликов. Женщины, сгрудившись на склонах, издавали пронзительные кровожадные крики, воодушевляя воинов. А Паха Сапа тем временем, следуя за остальными, преодолевал последние заросли кустарников перед вершиной холма. Следующие несколько минут просто стерлись из памяти Паха Сапы; у него остались какие-то смутные воспоминания о пороховом дыме, дерганые картинки волн воинов на лошадях, которые накатывались на пеших вазичу и сметали их, нечеткие образы пеших воинов, окружающих группы синих мундиров и их мертвых лошадей, страшное ощущение, что лошади (включая и его кобылу) в панике бессмысленно носятся туда-сюда между стреляющих в них людей. Перед его мысленным взором мелькали какие-то воистину безумные сцены — например, солдат-вазикун скачет на коне, а за ним пять воинов лакота. Солдат вроде бы уже уходит от погони, но вдруг поднимает пистолет и вышибает себе мозги. Потрясенные воины останавливают своих коней, переглядываются и скачут на юг, откуда доносятся громкие звуки сражения; они даже ничего не пожелали делать с телом сумасшедшего вазикуна. Паха Сапа отчетливо помнил, что ни разу не пытался остановить кобылу, чтобы взять ружье, лук, пику или револьвер у кого-нибудь из множества мертвецов, лежащих здесь и там на склоне холма. Но даже если бы и попытался, не смог бы. Бока обезумевшей лошади стали липкими от ее собственной крови, и тут мальчик понял, что в нее попало несколько ружейных и пистолетных пуль, а за правой ногой Паха Сапы в лошадиное тело глубоко вонзилась стрела. С каждым прыжком кобыла издавала хрип, и из ее ран било фонтаном все больше крови, которую относило назад, на шею Паха Сапы, на его грудь и лицо. Попадая мальчику в глаза, она ослепляла его. Потом воины повернули налево, словно стая гусей, изменившая курс, и Паха Сапа увидел, что они атакуют группу вазичу, которая спешилась на длинном склоне немного ниже гребня. Его кобыла начала спотыкаться, еще одна атака была ей явно не по силам, — и Паха Сапа решил совершить деяние славы. Именно для этого он и выехал из деревни. У него не было оружия — ни ножа, ни жезла славы, поэтому деяние славы придется совершать голыми руками. Паха Сапа помнит теперь, как он улыбался во весь рот (может быть, впав в безумие), когда принял это решение. Среди множества мертвых и умирающих вазичу несколько синих мундиров стояли на коленях, лежали ничком или стояли и стреляли. Один из них, с непокрытой головой, короткими волосами, лысеющий (кожа на его голове была такая белая, что на мгновение Паха Сапе показалось, будто того уже скальпировали), спокойно стоял и стрелял из красивого ружья. Когда приблизился отряд с Паха Сапой, оружие у вазикуна либо заклинило, либо кончились патроны, — волны воинов скакали мимо этих и других пеших воинов и падающих вазичу, — и синий мундир, на которого обратил внимание Паха Сапа, теперь аккуратно поставил свое ружье, вытащил два пистолета и начал стрелять в его, Паха Сапы, направлении. Тут-то кобыла Паха Сапы и рухнула, ее передние ноги подкосились, и мальчик перелетел через ее шею и голову. Как это ни невероятно, как ни невозможно, но он приземлился на ноги и побежал, так и не упав, почти полетел со скоростью его мертвой кобылы, передавшейся его ногам, он промчался каким-то чуть ли не волшебным образом среди мертвых и умирающих вазичу, пока конные воины, крича и стреляя из луков и ружей, мчались по обе стороны от него. Паха Сапа не сводил глаз с вазикуна, который теперь был от него всего в двадцати шагах. Тот увидел его, развернулся, поднял один из своих пистолетов и в этот момент получил пулю. Пуля попала лысеющему вазикуну высоко в левую часть груди, сбила его с ног, и он упал спиной на мертвую лошадь. Один из его пистолетов взлетел в воздух и пропал из виду в облаке пыли, но другой остался в его руке, и он поднял его и невозмутимо прицелился в окровавленное лицо бегущего Паха Сапы, который с каждым шагом приближался к нему. Когда вазикун выстрелил, скачущий пони почти сбил Паха Сапусног. Паха Сапа услышал, как пуля просвистела на расстоянии ладони от его уха. Он вскочил и снова побежал вперед, а синий мундир хладнокровно и тщательно прицелился в него, и в этот миг какой-то воин выстрелил над плечом Паха Сапы и пуля попала в левый висок вазикуна. Голова человека откинулась назад, и его красивый пистолет произвел безвредный выстрел в воздух в тот момент, когда Паха Сапа уперся ладонью и пятью пальцами в грудь белого человека. И вот в этот самый момент в него и прыгнул призрак.
Когда Паха Сапа перестает говорить — он сжал все подробности до нескольких слов, — раздаются покашливания, а за ними — долгое молчание. Наконец Сидящий Бык нарушает тишину, обращаясь к Сильно Хромает: — Когда вернешься в свою деревню, нужно провести обряд завладения призраком и устроить большие раздачи. Теперь наступает очередь Сильно Хромает откашляться. Паха Сапа, всегда чувствительный к настроениям приемного отца, по этому уклончивому звуку понимает, что старик не согласен с Сидящим Быком и, на его взгляд, обряд призрака не годится для такого случая вселения духа. Долгое Дерьмо вытягивает руку, требуя тишины и внимания. — Мы должны узнать, не Длинный ли Волос наслал призрака на мальчика. Черные Холмы, ты видел, как умер тот человек, — ты думаешь, это был Длинный Волос? — Я не знаю, дедушка. У вазикуна были очень короткие волосы. Я думаю, он был офицером. Еще у него было очень красивое оружие — два пистолета и ружье. Когда я вернулся к телу, они уже исчезли. Глупый Лось откашлялся, он явно стеснялся говорить в обществе трех старших шаманов. — Говорят, что у Длинного Волоса ружье с граненым стволом. Ты этого не заметил, Черные Холмы? — Нет. Только то, что оно было очень красивое и стреляло быстрее, чем карабины других синих мундиров. Паха Сапа молчит некоторое время. — Я не воин. Мне жаль, что я не замечаю таких вещей. Сидящий Бык кряхтит и машет рукой — мол, это не имеет значения. — Никто не должен извиняться за то, что он не воин. Ты все еще мальчик и явно не хочешь становиться воином. Ты есть то, чего хочет от тебя Вакан Танка. И будешь таким. Никто не в силах изменить этого. Словно смущенный своей длинной речью, Сидящий Бык чихает и продолжает: — Хесету. Митакуйе ойазин. «Быть по сему. И да пребудет вечно вся моя родня — вся до единого!» Это означает, что обсуждение, по крайней мере на сегодня, закончено. Сидящий Бык кивает другим, тяжело встает на ноги и выходит из вигвама, не произнеся больше ни слова. Долгое Дерьмо и Глупый Лось докуривают свои трубки, а потом следуют за ним, задержавшись, чтобы прошептать что-то Сильно Хромает. Оставшись наедине со своим приемным сыном, Сильно Хромает внимательно смотрит на него. Взгляд у него усталый, возможно, печальный. — Завтра утром сворачивают деревню, но, если не появятся новые вазичу, чтобы спасти своих друзей, мы с Сидящим Быком встанем пораньше, пойдем и попытаемся найти тело синего мундира, который вселил в тебя призрака, и постараемся определить, Длинный Волос это был или нет. Ты поведешь нас к нему. Паха Сапа кивает. Руки его дрожат с того самого момента, когда он этим вечером проснулся в вигваме Сильно Хромает, и мальчик сжимает кулаки, чтобы скрыть дрожь. Сильно Хромает касается его спины. — Постарайся уснуть снова, мой сын, хотя в деревне и стоит такой сумасшедший шум. Мы должны встать пораньше, и, если другие роды отправятся на запад и север или назад в агентства[9] — я думаю, что Сидящий Бык поведет свое племя далеко на север, — мы с тобой направимся домой, на восток. Там мы посоветуемся с другими и решим, что делать с твоим призраком.
4 У Медвежьей горки
Август 1865 г. Паха Сапа знает, что он родился во время Луны созревания в год, когда молния поразила пони. Он знает, что детей лакота почти никогда не называют по горам или рекам (его имя, Паха Сапа, означает «Черные Холмы», и это очень необычно, поэтому другие мальчишки хмыкают, услышав его), но еще он знает, что в ночь его рождения у Медвежьей горки в конце жаркого, странного лета, когда молния три раза ударила в стадо пони, трем самым главным людям в деревне (их военному вождю, Сердитому Барсуку, их старому, усталому вичаза вакану, Громкоголосому Ястребу, и их лучшему и настоящему вичаза вакану, Сильно Хромает) снились Черные холмы. Сердитый Барсук во сне видел белого волка, который спустился с темных холмов, очерченных и подсвеченных молнией, и волк говорил громом, а на спине зверя сидел плачущий голенький младенец. Громкоголосому Ястребу приснилось, что он снова молод и может скакать на своем любимом коне Писко — Козодое, который пал более тридцати лет назад, и Козодой скакал так быстро, что унес Громкоголосого Ястреба в ночное небо и в саму молнию, а когда под ним были Черные холмы, огромный белый сетан — ястреб, вроде того, в честь которого он был назван семьдесят четыре зимы назад, — поднялся над этими холмами, неся в когтях голенького младенца. Сильно Хромает было скорее видение, чем сон. Гром и молния разбудили его, и он, оставив двух своих жен, вышел в жаркую, бурную ночь (эта ночь была тем более бурной, что оглашалась криками Прядей-в-Воде, которая той ночью умирала в родах). На севере, за громоздкими очертаниями Мато-паха, Медвежьей горки, сверкали молнии, и тогда Сильно Хромает увидел лицо младенца, нарисованное молнией в тучах над Черными холмами. Наутро, когда родился мальчик, чьего отца уже не было в живых, и когда мать его умерла от кровотечения и была подготовлена женщинами к захоронению, Сердитый Барсук, Громкоголосый Ястреб и Сильно Хромает шесть часов совещались в закрытом жилище, курили трубки и обсуждали свои сны и видения. Они решили, что (сколько бы ни удивлялись вольные люди природы) новорожденного сироту следует назвать Паха Сапа, потому что во всех видениях и снах младенец появлялся с Черных холмов. Паха Сапа знает о своих умерших родителях и подробностях своего рождения больше, чем мог ожидать ребенок, который никогда не видел своих отца и матери. Например, он точно знает, что его мать, Пряди в Воде, которой было всего шестнадцать зим, умерла во время родов, как знает и то, что причиной смерти стала гибель его не менее юного отца, Короткого Лося, которого за три месяца до рождения Паха Сапы убили пауни. Он знает, что Короткий Лось, который не прожил и семнадцати зим, захватил Пряди в Воде во время налета на деревню кроу, где Короткий Лось проявил то ли безудержную храбрость, то ли невероятную глупость. Отряд лакота напал на деревню кроу, разогнал их лошадей и выкрал нескольких женщин, включая Пряди в Воде, лакоту, которая четыре года провела в плену, а когда воины кроу наконец нашли своих лошадей, двенадцать воинов лакота уже успели бежать. Но Короткий Лось вернулся, прокричал «Хокахей!», поднял руки, словно в полете, и проскакал сквозь ряды кроу, которые стреляли по нему из ружей и луков. Но ни пуля, ни стрела не попали в Короткого Лося. Потом он проскакал сквозь порядки кроу в обратном направлении, закрыв глаза, откинув назад голову и раскинув в стороны руки. За такую смелость Сердитый Енот и другие воины наградили его Прядями в Воде, которая стала его женой. Но потом, за три месяца до рождения Паха Сапы, Короткий Лось (вполне довольный собой и имеющий шесть прекрасных пони) присоединился к пяти воинам постарше, которые решили совершить налет на большую деревню пауни далеко на западе от Черных холмов. Налет делался только ради лошадей, и Волчий Поворот, старший из воинов, возглавлявший отряд, сказал остальным, что когда они захватят лошадей, то должны сразу скакать прочь и не останавливаться для схватки. Но Короткий Лось снова продемонстрировал свое геройство. Не подчинившись Волчьему Повороту во время бешеной скачки назад по долинам, Короткий Лось соскочил со своего пони, забил кол в землю, привязал к нему десятифутовый ремень, другой конец которого замотал у себя на поясе. Он думал, что ничто не сдвинет его с этого места. Короткий Лось крикнул пяти другим лакота: — Они мне ничего не сделают! Я вижу будущее. Шесть пращуров берегут меня. Присоединяйтесь ко мне, друзья. Пятеро воинов постарше остановили своих пони, но возвращаться не стали. Они смотрели с вершины поросшего травой холма в двухстах больших шагах от привязанного Короткого Лося, как пятьдесят гикающих пауни сбили их товарища с ног и — мстя за украденных лошадей — спрыгнули со своих пони, разрубили молодого кричащего воина на куски, но сначала выдавили ему, еще живому, глаза и, отрубив руки, вырезали еще бьющееся сердце и по очереди откусили от него. Пятеро лакота, наблюдавших за этим с вершины холма, немедленно оставили украденных лошадей пауни и в страхе поскакали по прерии назад в свою деревню. Пряди-в-Воде пребывала в трауре — она плакала, кричала, стонала, рвала на себе волосы, разрезала себе до крови руки и бедра, плечи и даже груди — в течение трех полных месяцев между смертью Короткого Лося и рождением ее ребенка. Паха Сапа знал все это, еще будучи малышом, но не потому, что начал задавать вопросы старшим, как только научился говорить, а из-за своей способности, которую он называл «прикоснись — и увидишь, что было». Паха Сапа использовал способность «прикоснись — и увидишь» с тех пор, как научился ходить или говорить, и был он совсем маленьким сопливым мальчишкой, когда понял, что далеко не все так умеют. Действовала эта штука не всегда. Но изредка — и он никогда не знал когда — юный Паха Сапа мог прикоснуться к коже другого человека и воспринять чужие беспорядочные воспоминания, голоса, звуки и образы. Ему понадобилось гораздо больше времени, чтобы научиться упорядочивать краткие мощные потоки чужих мыслей и разбираться в них, чем ушло на то, чтобы научиться говорить или ходить, скакать на пони или стрелять из лука. Он помнил, что, когда ему было около трех зим, он прикоснулся к обнаженной руке Косы Ворона, младшей жены Сильно Хромает (кормилицы Паха Сапы после смерти его настоящей матери), и воспринял волну сумбурных воспоминаний Косы Ворона о смерти ее собственного младенца всего за несколько недель до рождения Паха Сапы и ее гнев на Сильно Хромает за то, что тот принес в дом этого ребенка. А еще — ее странную ненависть к Прядям-в-Воде, умершей матери Паха Сапы, за то, что та, после смерти ее глупого мальчишки-мужа разрезала себе ножом руки и бедра в знак траура, когда полагающееся для подобного поведения время уже прошло, за то, что молодая женщина потеряла много крови и ослабла из-за этого, в особенности еще и потому, что была такой маленькой, с узкими бедрами и вообще недостаточно сильной после долгого плена у кроу. Паха Сапа в возрасте трех зим посредством своего «прикоснись — и увидишь» знал, что его мать чуть не убила себя, когда полосовала себе ножом руки и ноги перед его рождением. Большинство женщин лакота гордились тем, с какой легкостью они вынашивают детей, зная, что Вакан Танка — который есть Всё — избрал их и уменьшил для них боль и опасность, которую испытывают все женщины. Но в возрасте трех зим Паха Сапа, прикоснувшись к Косе Ворона, увидел свою молодую мать, бледную, ослабевшую и в поту, с раскинутыми ногами, увидел ее шан — ее женскую виньян шан, — открытую, разорванную и кровоточащую, увидел, как Коса Ворона, Женщина Три Бизона и другие женщины с помощью мха, теплой глины и даже кожаных ремней, размягченных до тонкости материи, пытаются остановить жуткое кровотечение, тогда как другие женщины держат его, а он вопит во все горло и пуповина у него еще не перерезана. Паха Сапа вскрикнул и поковылял от Косы Ворона в тот день, когда ему было «прикоснись — и увидишь», и его приемная мать — которая всегда по-доброму к нему относилась, почти как к собственному сыну, — спросила у него, что случилось, но Паха Сапа в том возрасте почти не умел говорить на языке икче вичаза, вольных людей природы, он только вскрикнул и убежал, а после этого болел, у него был жар весь тот день, и ночь, и следующий день. После этого Паха Сапа одновременно страшился и жаждал своих «прикоснись — и увидишь, что было» и медленно учился тому, как задавать вопросы или направлять разговоры к тому, что ему действительно хотелось узнать, а потом, словно случайно, прикоснуться к одному или нескольким людям в надежде воспринять поток воспоминаний и мысленных образов. Иногда эта магия срабатывала; чаще — нет. Но Паха Сапе это казалось чем-то постыдным (словно поднять полог вигвама и увидеть, как раздевается молодая девушка, или подсмотреть, как совокупляется Сильно Хромает с Косой Ворона или со своей старшей женой, Женщиной Три Бизона, в теплую ночь, когда бизоньи шкуры скинуты), а потому он не рассказывал о своей способности приемному отцу, пока ему не исполнилось девять зим, и случилось это в год Пехин Ханска Казата — уничтожения Длинного Волоса на Сочной Траве, в год, который коренным образом изменил жизнь Паха Сапы.В свою девятую зиму, когда он рассказывает Сильно Хромает об этих видениях, тот задает Паха Сапе вопросы, выискивая вранье или противоречия, поскольку явно считает, что мальчик узнал обо всем из других источников (ведь в типи вообще не существует никаких тайн, и в их роду всего восемнадцать жилищ). Но когда Паха Сапа рассказывает о том случае «прикоснись — и увидишь, что было», который произошел у него с Женщиной Три Бизона, когда она вспоминала себя девочкой, пленницей у черноногих пикани, и все мужчины племени по очереди насиловали ее, а потом обожгли ее промежность раскаленными добела камнями, Сильно Хромает замолкает и впадает в исступленную задумчивость. Паха Сапа благодаря все той же своей способности «прикоснись — и увидишь, что было» знает, что Женщина Три Бизона никому, кроме Сильно Хромает, не рассказывала о тех днях, да и Сильно Хромает — всего раз, много лет назад, когда он предложил ей (они тогда собирали ягоды у Бобрового ручья) выйти за него замуж. И больше они никогда не возвращались к этому разговору и никому об этом не рассказывали. — Почему ты, Черные Холмы, называешь эту свою способность «прикоснись — и увидишь, что было», а не «видения от духов»? — спрашивает наконец Сильно Хромает. Паха Сапа медлит. Он ни разу в жизни не солгал Сильно Хромает, но боится ответить честно. — Потому что я знаю… эти видения… они не ханблецея,[10] дедушка. Паха Сапа называет своего опекуна Сильно Хромает тункашилой — дедушкой — только в самые официальные или задушевные моменты. — Ты знаешь, Черные Холмы, я тебя спрашиваю не об этом. Я спрашиваю, почему ты называешь это «прикоснись — и увидишь, что было». Ты что, можешь прикасаться к людям и видеть в их головах?.. А может, ты видишь, что случится с ними, со всеми нами? Паха Сапа опускает голову, словно кто застал его, когда он трогает свой се. — Хан, тункашила. Да, дедушка. — Ты не хочешь мне рассказать, какие видения «прикоснись — и увидишь, что будет» были у тебя, когда ты прикасался ко мне и к другим из нашего рода? — Нет, дедушка. Сильно Хромает надолго погружается в молчание. Стоит позднее лето, та неделя, когда родилсяПаха Сапа, и они вдвоем забрались на холм так высоко, что вигвамы в деревне под тополями кажутся тряпичными типи, в какие играют девочки, а пасущиеся лошади — всего лишь черными точками, двигающимися по бурой траве, которая щекочет их животы. Пока Сильно Хромает молчит, Паха Сапа прислушивается к протяжному, неторопливому шуршанию травы, которая вздыхает и шевелится на ветерке. Он услышит этот звук снова, десять месяцев спустя на Сочной Траве, когда смолкнут крики и прекратятся выстрелы. — Ну что ж, Черные Холмы. Ты выказал мужество, поведав мне об этом. Я не буду требовать, чтобы ты рассказывал мне о видениях «прикоснись — и увидишь, что будет», пока ты сам не почувствуешь, что готов к этому, но только не медли, если увидишь нечто такое, что важно для выживания нашего народа. — Не буду, тункашила. То есть, конечно, скажу — не буду медлить, тункашила. Сильно Хромает кашляет. — Пока я ничего не скажу о твоих видениях Сердитому Еноту, или Он Потеет, или Громкоголосому Ястребу. Они и без того считают, что ты не такой, как все. Но мы с тобой должны подумать, как это отразится на твоей ханблецее в Черных холмах на следующий год. Пользуйся своей способностью осторожно, Паха Сапа. Такая способность — вакан. Священна. Полна таинственной силы. — Да, дедушка. — Это не означает, что ты должен стать вичаза ваканом, шаманом вроде меня, но, возможно, ты был избран шестью пращурами, чтобы стать ваайатаном, человеком, который видит будущее, как мой молодой двоюродный брат Черный Лось или племянник твоего отца по имени Хока Уште из рода Хорошего Грома. Ваайатан часто дает своему племени вакинианпи, которые могут определять судьбу рода. — Да, тункашила. Сильно Хромает молча хмурится, глядя на него, и Паха Сапа знает (ему для этого даже не нужно прикасаться к старику), что мудрый вичаза вакан думает, будто он, Паха Сапа, слишком молод, слишком зелен для такого волшебного дара и его необычная способность может для всех обернуться бедой. Наконец Сильно Хромает ворчит: — Хесету. Митакуйе ойазин — «Быть по сему. И да пребудет вечно вся моя родня — вся до единого».
Мистический. Паха Сапа узнает значение этого слова вазичу на английском почти через сорок пять лет после Пехин Ханска Касата — уничтожения Длинного Волоса Кастера на Сочной Траве — и на пятьдесят шестом году жизни. «Мистический», говорит ему учитель, поэт и историк Доан Робинсон, означает нечто повседневное, но заряженное и живое духовным или сверхъестественным смыслом, недоступным обычному пониманию. Паха Сапа чуть ли не смеется. Он не говорит мистеру Робинсону, что его, Паха Сапы, жизнь была мистической до того времени, пока ею не завладели вазичу и мир вазикуна. Его детство в буквальном смысле было наполнено невидимым смыслом, связями и чудесами; даже камни имели свои жизни и истории. Деревья хранили священные тайны. В шелесте трав прерии слышались истины, подслушанные у шепчущих духов, которые окружали его и его род вольных людей природы. Солнце было таким же реальным существом, как его дедушка или другие люди, проходящие мимо него при свете дня; звезды в небе мерцали от дыхания мертвецов, которые бродят между ними; горы на горизонте наблюдали и ждали его со своими откровениями. Мистический. Паха Сапа чуть ли не улыбается, когда Доан Робинсон учит его этому замечательному слову. Но не все детство Паха Сапы было наполнено таинственными знамениями, воспоминаниями или судьбами других людей, о которых он узнавал благодаря своей волшебной способности «прикоснись — и увидишь, что было / будет». Большую часть своего детства Паха Сапа был обычным мальчишкой. Отсутствие живых родителей почти никак не сказывалось на его жизни — и, уж конечно, доставляло гораздо меньше проблем, чем странное имя, — потому что мальчиков лакота обучали, воспитывали, наказывали, хвалили и растили не их родители. Все родители лакота были великодушно освобождены от забот о детях и не питали к ним ничего, кроме вежливого равнодушия. С того времени, когда Паха Сапа подрос настолько, что смог оторваться от груди Косы Ворона, всему, что он должен был знать, его учили другие мальчишки: и тому, куда отойти за пределы деревни, чтобы справить большую нужду, и тому, какими тростниками или травами безопасно подтирать задницу. У мальчиков лакота было мало обязанностей (кроме наблюдения за стадом пасущихся пони, когда они — мальчики — достаточно для этого подрастут), и Паха Сапа играл с раннего утра до позднего вечера. После наступления темноты он сидел у костра, пока Женщина Три Бизона или Сильно Хромает не отсылали его, и слушал, как разговаривают старшие, как, освещенные мерцающим пламенем, они рассказывают разные истории. У Паха Сапы были зимние игры и летние игры. Были игры с палками и с шарами, завернутыми в шкуры, а еще игры на реке, рядом с которой они почти всегда разбивали стоянку, а еще игры с руками и игры с лошадьми. В большинстве мальчишеских игр, в которых участвовал Паха Сапа, нужно было толкать, давить, изредка драться на кулаках, что частенько заканчивалось травмами. Это устраивало Паха Сапу. Возможно, он не станет воином — в то время он еще не был в этом уверен и не очень занимал себя мыслями о том, выйдет ли из него вичаза вакан, шаман, как его любимый тункашила Сильно Хромает, — но ему нравились жестокие игры, и он был готов противостоять в схватке ребятам постарше его. Многие мальчишеские игры были военными играми — подготовкой, и Паха Сапе особенно нравилась игра, в которой мальчишки с несколькими ребятами постарше уходили без присмотра взрослых в прерию и строили собственную деревню из травяных типи. А потом они планировали налет на настоящую деревню. В отряде всегда был старший мальчик-советник, и он посылал других в деревню украсть мясо у взрослых. Это было достаточно серьезное, а потому щекочущее нервы испытание, поскольку женщины (и с гораздо меньшей вероятностью — воины) могли отшлепать, а то и побить любого мальчишку, застигнув его за воровством мяса. Паха Сапа и другие ползком пробирались в высокой траве, как если бы делали налет на деревни кроу, или пауни, или шайенна, или черноногих, или шошони, а не на свою собственную, потом нужно было подкрасться к мясу (больше всего ценился язык бизона), которое подвешивалось для подвяливания или перед готовкой, или даже украсть кусок из чьего-нибудь типи, а потом бежать со всех ног в деревню мальчиков, чтобы тебя не догнали, или все же быть пойманным рассерженным конным воином. Вернувшись в свою деревню из травяных типи, мальчики разводили собственный костер и поджаривали мясо, рассказывая выдуманные истории о собственной храбрости и величине добычи (настоящие воины такое хвастовство называли «брехней про добычу»), и часто мальчик постарше высоко держал нанизанный на палку поджаренный, шипящий, сочащийся бизоний язык, а младшие подпрыгивали, пытаясь откусить кусочек. Тому, кто не мог допрыгнуть, ничего не доставалось. У всех мальчиков имелись маленькие луки, сделанные им отцами, дядьями или какими-нибудь добросердечными воинами, но у стрел было совсем немного перьев и затупленный кончик, а не каменный или стальной, как у взрослых. И все же при попадании было довольно больно, и мальчики немало времени проводили, выслеживая друг друга группами на берегах реки, в ивовых рощах, в колеблемой ветром высокой траве. Десятилетия спустя Паха Сапа помнит, какой восторг вызывали у них эти охотничьи поиски. Став постарше, Паха Сапа (хотя ростом он и не вышел) присоединялся к самым старшим ребятам, которые играли в игру, называвшуюся «сбрось-с-коня». В эту игру играли совсем голыми, и во многих отношениях она была больше похожа на настоящее сражение, чем на игру, только без убитых в конце. В особенности нравилось им играть в эту игру, когда в ней участвовали мальчики из нескольких родов, большинство из них многочисленнее, чем маленький род Паха Сапы, во главе которого стоял Сердитый Барсук; они тогда строили свои жилища у Медвежьей горки или в одной из укромных долин. Мальчики соединялись в отряды, намазывали тела ягодным соком, глиной и другими красками, подражая боевой раскраске, потом они выстраивали лошадей в линию и с криками и воплями атаковали друг друга, ржущие, встающие на дыбы лошади сталкивались, поднимая тучи пыли. Голые мальчишки хватали друг друга, тащили, толкали, пихали, ударяли локтями и кулаками. Если мальчик падал на землю, он считался мертвым и должен был оставаться мертвым. Последний мальчик, оставшийся на лошади, объявлялся победителем сражения и вечером у костра мог рассказывать истории о собственной храбрости. Иногда по окончании игры на коне оставался Паха Сапа, но чаще (поскольку он был невысоким и худеньким) его сбрасывали на землю, а один раз он грохнулся на колючий куст. Тем вечером Женщина Три Бизона несколько часов вытаскивала колючки из ног, спины и живота Паха Сапы, а Сильно Хромает, время от времени посмеиваясь, курил свою неизменную трубку. На следующее утро Паха Сапа снова отправился на игру, хотя и пытался при этом приподниматься на лошадиной спине, потому что его голая задница распухла и болела. Были и другие летние игры для мальчиков. Например, та-ху-ка-кан-кле-ска — игра с мячом. Мячи изготавливались из обрезков оленьей кожи, свернутых в комок и покрытых большим куском оленьей кожи, связанным жилами. Позднее, играя за кистонскую бейсбольную команду (а Гутцон Борглум требует, чтобы его работники каждое лето участвовали в турнире, в котором соревнуются города и клубы Южной Дакоты, — иногда Борглум нанимает людей на работу каменотесами на горе Рашмор именно потому, что они хорошо играют в бейсбол), Паха Сапа часто вспоминал маленькие твердые мячи для та-ху-ка-кан-кле-ска, какими он играл в детстве. Били по этим мячам специальными ясеневыми палками — бить нужно было на бегу, — и твердые мячи та-ху-ка-кан-кле-ска служили столько же, а то и дольше, чем мячи от «Уилсона» или «Роулингса», которыми играет бейсбольная команда Борглума. У мальчиков и девочек из рода Паха Сапы было немало игр и зимой, и летом. Играли, например, в «скользи-палкой-по-снегу-или-льду» — ху-та-на-чу-те для мальчиков, пте-хес-те или па-сло-хан-пи для девочек. Иногда, если поблизости имелись холмы, мальчики постарше делали из грудных клеток бизона или лося салазки — их называли кан-во-сло-хан, — а полозья изготовлялись из костей, и порою мальчики разрешали девочкам съехать вместе с ними по склону холма или прокатиться по замерзшей реке в их кан-во-сло-хан. В течение долгих дней и даже недель зимой, когда дни были коротки, а погода слишком снежной, ветреной или холодной, не позволяя много времени проводить на открытом воздухе, если того не требовала необходимость, они играли в домашние игры, например в та-си-ха. Предмет для этой игры изготавливался из таранных костей оленя, которые привязывались на ремешок из оленьей кожи узким концом вниз. К концу этих бус привязывалось несколько маленьких костей. Паха Сапа помнит, что в игре использовалось около восьми костей та-си-ха и что другой конец ремешка прикреплялся к орлиному крылу. Когда мальчики и девочки играли вместе, они по очереди брали в правую руку кость со стороны орлиного крыла, а в левую — другой конец со связкой малых косточек и принимались раскручивать перед собой ремень с нанизанными на него таранными костями. Если другому игроку удавалось схватить первую кость, то игра продолжалась. Если ему или ей не удавалось, то та-си-ха передавали следующему. Паха Сапа здорово играл в эту игру. У него были быстрые руки и верный глаз. Схватив первую кость десять раз, команды переходили ко второй, третьей и так далее, пока связка малых косточек не побывает у всех десяти игроков. Среди других игр в доме Паха Сапа помнит и-ча-сао-хе, что-то вроде игры в камушки, хотя найти для игры абсолютно круглые камушки было очень трудно. Мальчики молились шести пращурам и самому Вакану Танке, чтобы они помогли им найти абсолютно круглые камушки для и-ча-сио-хе, и такие камушки всегда находились. Была еще и глупая игра, называвшаяся истокикичастакапи, которая позволила Паха Сапе открыть в себе способность «коснись земли, чтобы лететь».
Ему семь зим, и он играет в истокикичастакапи с несколькими маленькими мальчиками, большинство из которых его возраста или еще младше. По ходу игры нужно жевать ягоды шиповника, потом сплевывать пережеванное в ладонь и с размаху кидать в лицо кому-нибудь, чтобы он не успел увернуться. В тот день играет противный мальчик по имени Толстая Лягушка (и это имя очень подходит ему, потому что он не только толстый, он еще и такоха, избалованный, испорченный внук ленивого старика по имени Ноги-в-Огне), и когда они бегают в своем кружке около ручья, Толстая Лягушка хватает Паха Сапу, подтягивает его голову к своей и плюет ему в лицо. В плевке почти нет пережеванных ягод шиповника — одна слюна. Все лицо Паха Сапы в сгустках и подтеках слюны Толстой Лягушки. Паха Сапа, не задумавшись ни на секунду, сжимает кулаки и бьет Толстую Лягушку прямо в его толстое лицо, отчего у того из носа начинает хлестать кровь, а сам он падает в колючий куст. Толстая Лягушка вопит и зовет трех своих стоящих поблизости старших двоюродных братьев, которые тоже живут в доме ленивого Ноги-в-Огне. Три старших мальчика набрасываются на Паха Сапу и начинают бить его ногами, руками и ветками ивы, а Толстая Лягушка тем временем зажимает свой кровоточащий нос и кричит, что Паха Сапа сломал его, и он скажет об этом деду, и Ноги-в-Огне придет и убьет Паха Сапу ножом, которым уже скальпировал десятерых вазичу. Устав драться, двоюродные братья Толстой Лягушки пнули Паха Сапу под ребра два-три раза и ушли. Все тело у Паха Сапы болит, но он лежит и даже не хочет плакать. Ему смешно, в особенности когда он представляет себе старого, толстого Ноги-в-Огне, который бегает за ним с ножом для снятия скальпов. Паха Сапа очень надеется, что и в самом деле сломал нос Толстой Лягушке. Встав и отряхнувшись от пыли, Паха Сапа понимает, что весь перед его почти новой одежды из оленьей шкуры забрызган кровью, в основном, думает он, его собственной. Дома Женщина Три Бизона наверняка изобьет его. Паха Сапа только трясет головой — ему все еще смешно — и, прихрамывая, уходит: ему хочется какое-то время побыть наедине с самим собой. Отойдя от деревни чуть дальше мили — отсюда ему не видны ни типи, ни лошади, ни мальчики, ни воины, охраняющие деревню, — Паха Сапа видит поляну, где травы прерии почему-то не так высоки, она напоминает газон; пока он не знает этого слова, но со временем узнает. Паха Сапа ложится на мягкую траву и мягкую землю и сбрасывает с себя свои хан’па — мокасины. Он лежит там на спине, широко раскинув руки, сильно прижав подошвы к вечерней прохладной земле, и изогнутые, цепкие пальцы ног — его сипха — глубоко вдавливаются в землю. Паха Сапа прикрывает глаза, щурится сквозь что-то похожее на слезы, хотя он и не плакал, и смотрит на бледнеющее вечернее небо темной голубизны, которая кажется мальчику тревожно знакомой. Он полностью расслабляется: сначала отпускает мышцы напряженной шеи, потом позволяет обмякнуть рукам, потом — изогнутым пальцам рук и ног, потом освобождает что-то, находящееся глубоко в его животе. По какой-то причине он вскрикивает: «Хокахей!», словно воин, скачущий в бой. То, что происходит потом, ему впоследствии никак не удается толком описать, даже себе самому. Он расскажет об этих случаях «коснись земли, чтобы полететь» своему дорогому тункашиле Сильно Хромает лишь несколько лет спустя. Паха Сапа чувствует, как вращается земля, словно она похожа на шар, а не плоская, как лепешка. Он видит, как движутся звезды в вечернем небе, хотя они еще не появились. Он слышит песню, которую поет заходящее солнце, слышит и ответные песни трав и деревьев, когда свет начинает тускнеть. Потом мальчик чувствует, как его тело начинает холодеть, тяжелеть и удаляться от него, а сам он — дух Паха Сапы — становится все легче и легче. Потом дух воспаряет над его телом и плывет прочь от земли. Он поднимается несколько минут и наконец решает перевернуться в воздухе на живот и посмотреть вниз. Он так высоко, что не может видеть своего тела, оставленного на земле, так высоко, что деревня похожа на едва различимую россыпь типи под крохотными деревьями, вдоль исчезающей из виду реки. Паха Сапа снова переворачивается на спину и поднимается еще выше, минует кучку облаков, которые в свете заходящего солнца обрели розоватый оттенок, а потом оказывается выше над ними. Он смотрит и снова переворачивается. Небо над ним чернеет, хотя облака далеко внизу начинают все больше розоветь, а тени на земле удлиняются. Паха Сапа знает, что здесь, за пределами оболочки его духа, очень холодно (холоднее любого зимнего воздуха, какой он когда-либо вдыхал), но это никак не сказывается ни на теле его духа, ни на его «я». Он перестает подниматься, когда небо вокруг становится совершенно черным, а звезды начинают гореть над синим одеялом воздуха внизу, он смотрит вниз, и зрение у него внезапно становится острым, как у орла. И на этой круглой земле (с того места, в котором он безмолвно парит, ясно видно, что горизонт имеет округлые очертания) выделяются Паха-сапа — Черные холмы. Они представляют собой овал между рекой Бель-Фурш на севере и рекой Шайенна, где все еще живет и охотится народ шайенна, сто лет назад изгнанный народом сиу с Черных холмов. Как видит теперь Паха Сапа, Черные холмы располагаются на овальном пространстве, которое, как он узнает позднее, занимает площадь около сорока пяти квадратных миль темных деревьев и холмов, и находится в обрамлении чуть ли не сексуального вида овального обрамления красного песчаника, которое резко выделяет холмы среди окружающей их побуревшей и потускневшей зелени бесконечных поросших полынью прерий. Черные холмы похожи на женскую виньянь шан с розовыми открытыми губами. А может быть — на сердце. Впервые увидев с высоты геологические впадины и подъемы, вокруг Черных холмов, Паха Сапа понимает, почему Сильно Хромает называет этот впалый овал, окружающий Черные холмы, Беговой Дорожкой, — история гласит, что все животные гонялись здесь друг за другом в те стародавние времена, когда мир был молод. Овал этот и в самом деле похож на беговую дорожку, вытоптанную ногами. И еще Паха Сапа понимает, почему Сильно Хромает и его народ называют это место О’онакецин — Место Убежища. Он видит, что Черные холмы — это темная сердцевина континента, который, как он понимает теперь, уходит во все стороны до самой дымки, окутавшей округлый горизонт и скрывающей все подробности. Это место, где могут найти убежище животные и вольные люди природы, когда в долинах страшно завывают зимние ветра и вся дичь исчезает. Наверное, поэтому Сердитый Барсук и другие называют Черные холмы Мясным Мешком. Паха Сапа, легко парящий в воздухе животом вниз с широко распростертыми руками, смотрит на вечерние тени, очерчивающие черные пики, и понимает, что в Черных холмах для его народа всегда будет убежище и всегда найдется дичь. Потом он видит какое-то движение в Черных холмах — что-то серое и громадное поднимается из черных деревьев, словно рождаются новые горы. Оно напоминает фигуры людей, четырех людей, и даже с этого расстояния видно, что их размеры, вероятно, достигают сотен футов. Но подробности он разглядеть не может. Внезапно умиротворение, которое сошло на него, когда он лежал на земле, уходит, и сердце мальчика начинает бешено колотиться, но у него такое ощущение, что эти гиганты — бледнолицые вазичу, чудовищные вазикуны. Потом громадные серые формы оседают, заворачиваются в землю, словно в одеяло, и вот они снова укрыты и спрятаны темной почвой и еще более темными деревьями. Паха Сапа начинает опускаться вниз. Делает он это медленно, лучи заходящего солнца окрашивают его ярко-красным цветом (мальчик рассеянно спрашивает себя, видят ли его люди в деревне), но душа и сердце Паха Сапы растревожены и взволнованы. Он не понимает, что он видел внизу, но знает: это что-то нехорошее. Паха Сапа открывает глаза — он лежит на небольшой полянке в зарослях полыни. Где-то воет койот. А может быть, это подает сигнал воин пауни, кроу или шошони из вооруженного луками и томагавками отряда, готовящегося к налету на деревню. Паха Сапа слишком устал и слишком взволнован, чтобы думать об этом. Он медленно встает на ноги и плетется к деревне. Койоту отвечают несколько других койотов. Это всего лишь койоты. На следующий год, когда Паха Сапа признается Сильно Хромает в своей способности «прикоснись — и увидишь, что было», он отказывается сообщить подробности того, что видел, когда у него бывали «прикоснись — и увидишь, что будет», потому что ему являлись видения умирающих людей племени. Он не упомянет о случаях «коснись земли, чтобы полететь», потому что и сам начинает не верить в них. Когда он приходит домой, Женщина Три Бизона и в самом деле колотит его (но без особого усердия) за то, что его почти новая одежда из оленьей шкуры вся в кровавых подтеках.
5 Джордж Армстронг Кастер[11]
Либби, моя дорогая Либби, моя дражайшая Либби, любимая моя Либби, моя жизнь, мое все, моя Либби… Ты нужна мне, моя дорогая девочка. Я лежал тут в темноте, думая о том, что было пять недель назад, 17 мая, — неужели всего пять недель назад? — когда я вывел полк из Форт-Авраам-Линкольн в эту экспедицию. Ты помнишь, моя дорогая, что утро перед восходом было холодным и туманным. Я накормил людей галетами и беконом — именно этим они должны были питаться в течение следующего месяца, пока мы будем в пути. Потом мы с генералом Терри провели колонну сквозь рассеивающийся туман в форт — ты всегда говорила мне, любимая, что у тебя вызывает недоумение, почему наши пограничные форты не обнесены стенами, — а потом по плацу колоннами по четыре, чтобы поднять настроение обеспокоенных жен, семей и остающихся солдат. Но ты тогда не осталась в форту, моя дорогая девочка, моя возлюбленная. Другим офицерам пришлось попрощаться со своими семьями в форту, но ты в тот день поехала с нами — вместе с моей сестрой Магги и племянницей Эммой. Ты помнишь, когда мы проезжали Садс-роу, где квартируют женатые солдаты, все женщины поднимали своих плачущих сосунков, младенцев и даже ребят постарше? Это навело меня на мысль о триумфах, которые устраивались римским полководцам, возвращавшимся с победой, только в нашем случае все было до странности вывернуто наизнанку: еще до сражения жены абсолютно здоровых солдат решили, что они стали вдовами, и смотрели на своих детей как на сирот. В тот день у нас в строю было больше семи сотен солдат, тридцать один офицер (большинство из них ехали в одной группе с тобой, со мной, Магги и Эммой), сорок пять разведчиков и проводников, а еще нам были приданы три роты с артиллерийской батареей из четырех орудий, которая в те первые дни шла в арьергарде. (Да, вероятно, мне не следовало отказываться от двух батарей пулеметов Гатлинга, — Терри предлагал мне взять их, но ты ведь помнишь, моя дорогая, как эти треклятые пулеметы замедляли наше продвижение в прошлых походах, а нередко утягивали за собой в пропасть солдат и лошадей, когда приходилось идти по кромкам оврагов или ущелий. Хорошее кавалерийское подразделение отправляется в поход налегке. Нет, если мне придется делать это еще раз, я все равно не возьму пулеметов Гатлинга.) Какое великолепное зрелище, наверное, являл собой в то утро наш полк с его сопровождением. Колонна растянулась более чем на две мили. Я знаю, что полковой оркестр играл «Девушку, которую я оставил, уходя в поход» и «Гэри Оуэна»,[12] — я всю войну любил эту песню, хотя признаюсь, дорогая, что в последние годы стал уставать от нее, — но мы с тобой не могли расслышать музыку из-за стука копыт, грохотания ста пятидесяти телег и постоянного мычания стада коров, которое мы взяли с собой. Это не имело значения. Ничто не имеет значения, кроме того, что случилось на тринадцатой миле, когда тебе пришло время поворачивать назад и возвращаться в форт. Ты помнишь? Я знаю, что помнишь, любимая. Меня здесь из моей холодной дремоты вывели воспоминания о том моменте. Наша группа, включая Магги, Эмму, моего ординарца рядового Беркхама и старый фургон нашего казначея с небольшим сопровождением, ехала в полумиле за колонной, чтобы мы могли попрощаться. Ты удивила меня, спрыгнув с коня и предложив нам — только нам вдвоем — пройтись до ивовой рощи у берега реки. Кроме этих высоких деревьев и кустов, вокруг на много миль в сторону форта и далеко вперед не было ничего — только голая прерия. Мы отошли меньше чем на пятьдесят ярдов от Буркхама, фургона и других женщин, когда ты неожиданно обняла меня и страстно поцеловала. Ты сняла с меня фуражку и, улыбаясь, провела рукой по моим коротко стриженным волосам. Ты не обошла вниманием то, что всегда называла «твои прекрасные локоны». Потом ты прижала ладонь к моему животу ниже пряжки и принялась гладить. — Либби… — сказал я, оглядываясь через плечо в ту сторону, где сквозь заросли ив все еще были видны головы Эммы и Магги, потому что они так и не спешивались. — Тсс… — сказала ты. Потом ты опустилась на колени, но сначала — я помню это четко — сбросила с себя юбку (на тебе в тот день была моя любимая — синяя с маленькими шелковыми цветочками), а за ней и нижнюю, чтобы не запачкать их влажной травой. А потом ты расстегнула мою ширинку. — Либби… Но больше я не мог произнести ни слова, моя дорогая, потому что ты взяла меня своими нежными ручками, а потом в рот, и я забыл Буркхама, ожидающий меня фургон, забыл моих сестру и племянницу, забыл даже семьсот солдат, сто пятьдесят телег и сотню коров, забыл весь полк, удалявшийся теперь от меня. Я забыл обо всем, кроме твоих ласкающих рук, теплоты твоего рта, движений твоих губ и языка. Я закинул назад голову, но глаз не закрывал. Голубые небеса — раннее утро с его туманом и росой перешло в жаркий майский день — почему-то вызывали у меня тревогу, словно цвет был предзнаменованием. И потому я перевел взгляд на тебя, на то, что ты делаешь со мной и для меня. Я всегда смотрю, моя единственная любовь. И ты это знаешь. Ты все знаешь обо мне. Если бы это делала любая другая женщина — я никогда не знал других женщин, которые делали бы такое, — то она бы, я думаю, выглядела дико, нелепо, возможно, неприлично, но когда ты берешь меня вот так в рот и ходишь туда-сюда головой, а твои руки продолжают двигаться на мне, и твои губы и язык такие ненасытные, и твои милые глаза время от времени посматривают на меня из-под великолепных ресниц, то в этом твоем даре мне, в этой любви, которую ты демонстрируешь мне, не может быть ничего дикого, нелепого или неприличного. Ты прекрасна. Я возбуждаюсь вот в эту самую секунду, когда лежу здесь в темноте, при мысли о тебе, о твоих щечках, порозовевших и от солнца после долгого дня скачки, и от возбуждения, о твоей красивой головке, на которой солнце высвечивает отдельные волоски по обе стороны пробора и которая двигается все быстрее и быстрее. Когда мы закончили — я знаю, это заняло всего минуту, но это была минута чистой радости и наслаждения перед неделями одиночества, напряжения и тяжких трудов, которые ждали меня, — ты вытащила припасенный носовой платок, окунула его в ручей, обмыла меня, засунула в ширинку и застегнула, как полагается, пуговицы на моих синих кавалерийских брюках. Потом мы вернулись и простились официально перед Буркхамом и другими. У тебя и у меня в глазах стояли слезы, но мы оба не могли сдержать улыбки, правда, моя дорогая? Когда фургон, ты и другие женщины превратились в точки, готовые исчезнуть в прериях, Буркхам заставил меня вздрогнуть, сказав: — Нелегко это, да, генерал? И мне снова захотелось улыбнуться, хотя я и заставил себя не делать этого. Помня, что Буркхам может оказаться одним из тех, у кого будут брать интервью журналисты (ты не забыла, что с нами отправились несколько корреспондентов, а другие ждали нас в Бисмарке и вообще на всем пути — вынюхивали малейшие сведения о нашей карательной экспедиции), я напустил на лицо самое серьезное, строгое выражение и сказал ему: — Рядовой, запомни: хороший солдат — а я всегда был хорошим солдатом, Буркхам, — должен служить двум любовницам. Пока он предан одной, другая должна страдать. Буркхам хмыкнул, мое красноречие явно не тронуло его. — Может, вернемся к другой любовнице, генерал, пока ее арьергард не скрылся из виду? — предложил он, усевшись на своего мерина.Либби, дорогая моя девочка. Я знаю, ты не против того, чтобы я говорил о таких вещах, ведь я написал тебе столько писем, наполненных подобными сокровенными мыслями, и шептал тебе эти слова, когда мы, обнаженные, лежали друг подле друга. Ты всегда была более открытой и щедрой в своей страсти, чем любая другая женщина в мире. Ты ведь помнишь время, когда я больше не мог выносить разлуку с тобой (к тому же я узнал, что в Форт-Ливенуорте, где ты меня ждала, вспышка холеры) и писал тебе из моего лагеря на Рипабликан-ривер, прося немедленно приехать в Форт-Уоллас, откуда мои люди доставят тебя в лагерь на Рипабликан. Но в Канзасе повсюду действовали враждебные индейцы и Убийца Пауни,[13] и я слишком поздно понял, что они почти наверняка нападут на богатый обоз фургонов, в котором поедешь ты, и потому приказал верным людям пристрелить тебя, но не отдавать в плен индейцам (позднее ты сказала мне, что это ужасно мило с моей стороны, и восприняла это как знак моей неугасающей любви), но когда обоз (обоз и в самом деле был атакован примерно пятью сотнями сиу и шайенна именно там, где и говорил тот тип, которого индейцы называют Медицинский Билл, но атака была отбита) вернулся из Форт-Уолласа, а тебя в нем не оказалось, я чуть с ума не сошел от тревоги и страсти. Я так сильно люблю тебя, моя дорогая, сладкая, любимая маленькая девочка.
Ты, конечно, помнишь, что на поиски моей колонны был отправлен лейтенант Лаймен Киддер[14] из Форт-Седжвика, и он с десятком своих людей исчез на территории между нами и Форт-Уолласом, как раз там, где тебе могла угрожать опасность. Тогда я снарядил экспедицию, которая форсированным маршем двинулась в Форт-Уоллас (в первую очередь это было вызвано беспокойством за тебя, моя дорогая), и мы нашли то, что осталось от Киддера и его людей, — все они были раздеты и разрублены на куски, индейцы разбросали их по небольшой лощине. Комсток[15] объяснил нам, о чем говорят следы: как Киддер и его небольшой отряд пытались убежать, как Убийца Пауни и его люди напали на них с тыла, догнали и обстреляли из луков, потом убили и искалечили. Стоял июль, и тела солдат и их части пролежали несколько дней на солнце, и вот тогда я усвоил урок, который никогда не забуду: если на тебя нападает превосходящий отряд индейцев, то нужно занять оборону и сражаться, используя свою большую огневую мощь, чтобы не подпустить этих дикарей на дальность выстрела из лука. Киддер в панике проскакал более десяти миль, и хотя наши кавалерийские лошади резвее индейских пони, индейцы умело заменяют своих уставших скакунов на свежих, а некоторые индейские пони просто никогда не устают. В том июле девять лет назад, стоя среди этого смрада под жарким канзасским солнцем и глядя, как похоронная команда предает земле жуткие останки лейтенанта Киддера и его людей, я твердо выучил урок: никогда не убегай от индейцев. И все это время я не находил себе места из-за тревоги о тебе, моя дорогая, — я так беспокоился, что у меня все время болел живот, внутри все крутило. Канзас горел, Убийца Пауни и другие враждебные индейцы сиу и шайенна убили более двух сотен белых, включая многих женщин и детей, в районе, который я должен был контролировать в ходе моей первой командировки на Запад, а мои кавалеристы убили к тому времени всего лишь двух краснокожих, и сделали это ребята из отряда Киддера, пока их не прикончили. Поэтому я отменил предполагавшуюся кампанию и, снарядив в течение пятидесяти пяти часов сотню конников, отправился в путь за сто пятьдесят миль. Отставших не дожидались, их убивали воины Убийцы Пауни, но я не возвращался, чтобы захоронить мертвых или преследовать индейцев. Я мог думать только о тебе. 18 июля я добрался до Форт-Хайеса и оставил там девяносто четырех из моих людей. Я взял с собой только моего брата Тома, двух офицеров и двух солдат, и мы отправились за шестьдесят миль в Форт-Харкер, добравшись туда меньше чем за двенадцать часов. Там я оставил Тома и четырех своих людей и трехчасовым поездом отправился в Форт-Райли, где — я молился об этом Господу — ты ждала меня в относительной безопасности. Ты помнишь ту нашу встречу, моя дорогая? Ты оказалась дома, ходила из угла в угол, и на тебе было то зеленое платье, которое я похвалил месяц назад в Форт-Хайесе. Ты потом писала мне, что мое явление, когда я распахнул дверь и вошел в комнату, было ярче жаркого канзасского солнца: «И вот передо мной счастливый и жизнерадостный стоял мой муж!» — ты сказала мне позднее, что написала это в письме своей мачехе, но ты не сообщила дорогой супруге номер два судьи Бекон, что, да, я выглядел счастливым и жизнерадостным, но еще и самым очевидным образом вожделел к тебе, мой орган был напряжен и прям и требовал, чтобы его скорейшим образом пустили в дело, потому что прошло время сабли в ножнах, бьющей меня по ноге, и наступило его время. Ты помнишь, моя дорогая, как я — все еще пыльный после скачки и железной дороги — распахнул дверь, подхватил тебя, отнес на кровать, покрыл тебя поцелуями, неловко расстегивая на тебе одежды, пока ты расстегивала пуговицы на моем мундире, как потом ты расшнуровала свой корсет и опустила верхнюю часть платья, а я срывал с тебя нижние юбки и панталоны. Ты помнишь, как мои шпоры стукнулись об изножье кровати (которую с таким трудом доставили в Форт-Райли), когда ты уложила меня на спину, уселась на меня, как я мог бы запрыгнуть на Вика, ухватила меня своей алчущей рукой и направила в себя. Ты, наверное, помнишь, что мы кончили в считаные секунды (возможно, наши крики отвлекли внимание часовых на вышках), но, как и было заведено между нами с самого медового месяца, через несколько минут мы начали все сначала, срывая с себя те одежды, что еще на нас оставались, не переставая гладить, ласкать, целовать и лизать друг друга. Я знаю, что потом, после второго любовного приступа, уснул; уснул в первый раз за пять нелегких дней пути, оставив позади пятьсот миль, но два часа спустя ты разбудила меня. Ты распорядилась, чтобы дневальные и солдаты натаскали ведрами горячей воды, и они, стараясь не шуметь, на цыпочках в своих высоких ботинках проходили мимо меня, а я храпел на кровати, лежа голым под легкой простыней (моя одежда в беспорядке валялась на полу, а тебе было наплевать, что они могут подумать по этому поводу), и когда я проснулся, занавески были задернуты, а ты голая стояла у кровати и манила меня в ванную. Ах, эта роскошь ванны на когтистых львиных лапах в том дворце, каким стала для меня квартира для приезжающих погостить жен старших офицеров в Форт-Райли. Нам пришлось тем же вечером уехать поездом, взять твою служанку Элизу и забрать кухонную плиту назад в Форт-Харкер, чтобы потом отправиться в долгий путь верхом и в фургоне в Форт-Уоллас, но тот час в горячей ванне… Ты помнишь, моя Либби, моя дорогая? Ты помнишь, как в этом пару прижималась ко мне спиной, а я держал в ладонях твои прекрасные груди и целовал твою прекрасную шею, и твои красивые ушки, и твои чудные губы, потом целовал тебя снова, когда ты вывернула голову, чтобы твои губы могли найти меня и чтобы ты могла развернуться и упасть на меня, а твоя рука ушла под воду, чтобы снова меня найти? Ах, моя дорогая Либби… я помню мой язык в твоей сладкой киске, твой алчущий рот на моем естестве. В тот день мы восемь раз занимались любовью, и ты кончила десять раз, и мы оба не забывали, даже в нашей страсти и радости, что впереди нас ждут долгие дни трудного пути, когда мы не сможем уединиться хотя бы для того, чтобы обменяться поцелуем. Я помню, когда мы впопыхах одевались, чтобы засвидетельствовать почтение командиру, а потом мчаться с Элизой, сундуками и плитой на станцию (Элиза перед этим выстирала и отгладила мою грязную одежду, пока мы с тобой были еще наедине и голыми; она к этому привыкла), и я принялся застегивать ширинку, а ты в одном корсете, с еще влажными волосами на лобке, остановила мою руку, а потом опустилась на колени в последний раз… Ты помнишь, моя дорогая, что по возвращении я был предан военно-полевому суду за то, что, среди прочих проступков, оставил свой пост. На год меня отстранили от командования, я не получал жалованья и был понижен в звании. Я готов тысячу раз быть преданным военно-полевому суду и тысячу раз быть отстраненным ради тебя, моя любимая. Но ты знаешь это. Ты всегда это знала. Ты нужна мне, Либби. Я не знаю, где я. Здесь темно, темно и холодно. Я слышу звуки и голоса, но они такие приглушенные и, кажется, доносятся из какого-то очень далекого далека. Никак не могу вспомнить последние часы, дни, минуты, наш марш, индейцев, какая у нас произошла схватка… Я не помню почти ничего, кроме той абсолютной реальности, которая есть ты, моя любимая. Говоря по правде, моя любовь, я не могу вспомнить, где я был и что случилось. Могу предположить, что меня ранили, может быть, серьезно, но я, похоже, не в состоянии прийти в себя настолько, чтобы понять, цело ли мое тело, на месте ли мои конечности. Иногда я слышу поблизости человеческие голоса, но никак не могу понять, что они там говорят. Может быть, я в каком-то госпитале, где есть немецкие сиделки? Я знаю только одно: я здесь, в этой коматозной темноте, все еще сохранил разум и мои воспоминания о тебе и о нашей любви. Надеюсь, это всего лишь солнечный удар или сотрясение мозга и скоро я в полной мере приду в сознание. Ты же не хочешь, чтобы твой Оти[16] оказался искалеченным, чтобы стройное тело твоего красивого мальчика покрылось шрамами или лишилось нужных частей. Я обещал тебе… Я обещал тебе, покидая Форт-Линкольн… я всегда обещал тебе: во время войны, перед каждой кампанией здесь, на равнинах, — что я вернусь и мы навечно, навечно, навечно останемся вместе. Ах, Либби… Либби, моя дорогая… моя любимая девочка, моя золотая жена. Моя любовь. Моя жизнь.
6 На Шести Пращурах
Август 1936 г. Пятьсот шесть ступенек. Паха Сапа останавливается у основания лестницы и окидывает взглядом пятьсот шесть ступенек, которые ему предстоит преодолеть. Это все те же пятьсот шесть ступенек, по которым он поднимался почти каждый рабочий день в течение последних пяти лет. Сейчас шесть часов сорок пять минут утра (21 августа, пятница), и солнце уже нагрело воздух в долине до такой же степени, что и здесь — на Черных холмах. Воздух полнится стрекотанием кузнечиков и сладковатым запахом разогретой желтой сосны. Сегодня пятница, и Паха Сапа знает, что бригада, которая спустится сегодня вечером сверху, будет играть в привычную игру «горный козел»; пятьсот шесть ступенек разделены на наклонные пролеты, их насчитывается около сорока пяти, между ними горизонтальные площадки, а суть игры состоит в том, что веселящиеся работяги будут прыгать с площадки на площадку, как горные козлы, стараясь не касаться пятидесяти или около того ступенек между ними. Паха Сапа знает, что пока это никому не удавалось, но никто еще шеи или ног тоже не сломал, так что козлиная игра состоится и в конце сегодняшнего длинного рабочего дня, дикие прыжки будут сопровождаться криками и улюлюканьем усталых бурильщиков, лебедочников, шахтеров и взрывников, уходящих на выходные. Паха Сапа смотрит на пятьсот шесть ступенек и понимает, что устал, еще даже не начав подниматься. Да, конечно, ему на днях исполняется семьдесят один год, но не в этом причина его ранней утренней усталости. Месяц назад Паха Сапе поставили диагноз «рак» — он, чтобы не узнали рабочие или Борглум, ездил для этого к доктору в Каспер, штат Вайоминг, а не в близлежащий Рэпид-Сити, — и болезнь уже начинает поедать его изнутри. Он чувствует это. Значит, у него осталось меньше времени, чем он рассчитывал. Но Паха Сапа, хотя и тащит на плече сорокафунтовый ящик с взрывателями и динамитом, поднимается, не останавливаясь, чтобы передохнуть на одном из сорока пяти пролетов или площадок. Он всегда был удивительно силен для человека его габаритов, и не поддастся слабости сейчас, пока это не станет абсолютно необходимо. А пока такой необходимости нет. Паха Сапа часто слышал, как посетители внизу оценивают высоту от поверхности долины (где расположены парковка и студия Борглума) до вершины каменных голов в «тысячу футов», но расстояние от самой низкой точки хаотических отвалов из обломков и валунов до макушек голов Вашингтона, Джефферсона и (появляющегося) Линкольна всего немногим более четырехсот футов. Тем не менее подняться туда — все равно что одолеть лестницу сорокаэтажного здания (Паха Сапа видел такие в Нью-Йорке), и человеку, чтобы взобраться на вершину того, что называется теперь горой Рашмор, нужно около пятнадцати минут. Конечно, всегда можно воспользоваться канатной дорогой — открытым вагончиком размером с будку садового сортира, который со свистом проносится мимо Паха Сапы, пока тот тащится по очередному пролету в пятьдесят ступеней; но даже новички знают, что несколько лет назад, когда укосина на вершине горы обрушилась, вагончик (а вместе с ним трос и платформа, что была наверху) полетел на дно каньона. Борглум как раз ждал вагончика: он всегда катался туда-сюда, зависал где-то посредине, изучая тот или иной фрагмент работы, или же поднимал каких-либо важных персон, — но в тот день вагончик был загружен бидонами с водой, поэтому Борглум ждал и смотрел, как он падает. И несмотря на это, скульптор по-прежнему каждый день продолжает пользоваться канатной дорогой. Но немногие рабочие следуют примеру Борглума, в особенности после второго происшествия, случившегося в начале этого лета, когда отвинтился стопорный болт футах в двухстах от вершины и вагончик с пятью рабочими полетел вниз, к машинному сараю. После первого случая вагончик оборудовали ручным тормозом, но он быстро перегревался, а потому замедлить вагончик можно было только одним способом: спускаться рывками и бросками, потом давать тормозу остыть, а потом снова тормозить, падая, рывками и бросками. Затем Гус Шрам, который весил, наверное, фунтов двести двадцать пять, с такой силой потянул цепочку, что ручка тормоза обломилась, и последнюю сотню футов вагончик преодолел без всяких ограничений. К счастью, Марту Райли в машинном сарае хватило духу засунуть здоровенную доску вбарабан лебедки, что слегка замедлило падение, но в конце пять человек все же вывалились из вагончика: трое приземлились на погрузочную платформу, один на крышу, последний оказался на дереве. Линкольн Борглум, который в тот день был старшим на площадке, отправил всех пятерых на обследование в больницу, но в конечном счете на ночь остались шестеро. Гленн Джоунс, который отвозил пострадавших в Рэпид-Сити, решил хорошенько выспаться и принять в больнице болеутоляющее. Летом рабочие должны приходить на площадку к семи часам (зимой — к семи тридцати), но Паха Сапа и другие взрывники обычно приходят к шести тридцати, потому что им заранее нужно приготовить динамитные заряды, которые в скором времени поместят в шпуры, пробуренные утром. Первый взрыв в этот день состоится в полдень, когда бурильщики спустятся со скалы на ланч. Паха Сапа знает, что «Виски» Арт Джонсон уже наверху вместе со своим помощником, нарезают динамит на маленькие сегменты (шестьдесят или семьдесят коротких шашек для каждого заряда), и что помощник Паха Сапы тоже скоро будет там. Пройдя половину пути, Паха Сапа поднимает взгляд и смотрит на три головы. Пока что год был довольно продуктивным, удалили более пятнадцати тысяч тонн гранита — достаточно, чтобы выстлать поле площадью в четыре акра гранитными блоками толщиной в фут. Большая часть отходов обвалилась с груди Вашингтона, очертания которого хорошо проявились, хотя немало тонн пришлось обрушить и с подбородка Джефферсона (он теперь приобретает формы на новом месте слева от Вашингтона, если смотреть с Монумента), а также при обработке лба, бровей и носа Авраама Линкольна. Но основную часть отвала составляют обломки от спешной работы на лице Томаса Джефферсона: Борглум подгоняет рабочих, чтобы показать товар лицом во время визита в конце августа не кого-нибудь — самого президента Франклина Делано Рузвельта. Слухи о визите президента ходят уже несколько месяцев, но теперь он почти наверняка состоится через неделю — 30 августа. Паха Сапа, все еще поднимающийся с тяжелым ящиком на плече, думает, что, вероятно, это как раз подходящее для него время. Он вовсе не хочет как-то повредить президенту Рузвельту, но не отказался от намерения снести головы трем другим президентам с торца Шести Пращуров. И не обретут ли его действия некую большую символичность, если он уничтожит этих уродующих гору вазичу перед лицом президента Соединенных Штатов, сидящего внизу в своем открытом автомобиле? Паха Сапа знает, что Борглум планирует символические взрывные работы — хочет сделать их частью церемонии по приему президента. Его сын Линкольн уже получил указание найти наилучший способ завесить лицо Джефферсона громадным американским флагом: флаг будет висеть с одной стороны на длинной стреле крана над головами. Нужно будет построить трибуну для всяких важных персон за машиной Рузвельта, а еще будут радиомикрофоны для трансляции и с полдюжины кинокамер. Если в это воскресенье Паха Сапе удастся установить заряды на всех трех головах, то никто не пострадает, но весь мир увидит сцену окончательного уничтожения трех голов на том, что они называют Монументом на горе Рашмор. Три головы. Но это только часть его проблемы. Паха Сапа прекрасно осведомлен о плане Гутцона Борглума сделать там четыре головы: последняя — Теодора Рузвельта — будет втиснута между Джефферсоном и Линкольном. Специалисты по обработке камня уже бурят шурфы и отбирают пробы, чтобы убедиться, что гранит в этом месте подходит для каменотесных работ; и хотя многие возражают против того, чтобы высекать там президента, который был у власти совсем недавно,[17] — к тому же еще одного республиканца, — Паха Сапа знает, насколько упрям Борглум. Если скульптор проживет еще сколько-то лет (а даже если и нет, у него есть преемник — сын Линкольн), то на горе Рашмор появится и голова Тедди Рузвельта. В видении Паха Сапы были четыре больших каменных головы вазичу на Шести Пращурах, четыре гигантских каменных вазичу, которые уничтожали землю и деревья на Черных холмах, эти четыре ужасных гиганта презрительно взирали на то, как исчезают народ Паха Сапы, бизоны и сам образ жизни вольных людей природы. Разве не обязан он взорвать все четыре головы, чтобы не сбылось его видение? Но главное, понимает Паха Сапа, приближаясь к последнему пролету ступенек: может быть, у него нет времени дожидаться, когда появится четвертая голова. Несколько месяцев — так сказал ему седоволосый доктор в Каспере, сказал торжественно, но без всяких чувств: подумаешь, еще один старый индеец на его смотровом столе. «Может быть, год, если вам не повезет». Паха Сапа понял, что, сказав «не повезет», доктор имел в виду боль, обездвиженность и недержание, которые сопутствуют этой форме рака, если умирание затягивается.Паха Сапа проходит деревянную площадку и ровный, засыпанный гравием участок земли между валунами, где пять лет назад, когда Борглум нанял его на работу, каждое утро в течение нескольких недель его поджидали работяги. Нужно отдать им должное: они никогда не набрасывались на него все сразу. Каждое утро они выдвигали нового чемпиона, чтобы тот одержал вверх над старым индейцем, избив его, избив так, чтобы тот был вынужден уйти. В первых нападениях участвовали самые сильные и буйные шахтеры. И каждое утро Паха Сапа не покорялся. Он яростно дрался с противником — кулаками, ладонями, головой, лягался, бил более крупного противника ногой по яйцам, когда это удавалось. Иногда он побеждал. Чаще оказывался побежденным. Но и его противникам каждое утро неизменно доставалось. И никогда белому здоровяку в одиночку не удавалось избить его настолько, чтобы он, Паха Сапа, после этого не смог поднять свой бур или ящик с взрывчаткой, шлем со всем снаряжением и продолжить мучительный подъем к пороховому складу, где он начинал работу. И хотя за эти недели ему сломали нос, наставили синяков под глазами и разбили губы, никому ни разу не удалось изуродовать его лицо настолько, чтобы он не смог надеть респиратор и начать работу. Наконец на это обратил внимание Борглум и собрал рабочих у своей студии на Доан-маунтин, против рабочей площадки. — Что тут у нас, черт побери, происходит? Работяги как воды в рот набрали. Обычно громкий голос Борглума превратился в громогласный рев, за ним даже не стало слышно грохота только что запущенного компрессора. — Я говорю серьезно, черт вас подери. У меня работает взрывник, которого каждый день колотят, как отбивную, и две дюжины рабочих ходят с выбитыми зубами и переломанными носами. Так вот, я хочу знать, что тут, черт возьми, происходит, и я узнаю это немедленно. Тут, в Южной Дакоте, тысячи безработных шахтеров, рабочих и взрывников, которые через минуту заменят вас, а я через пятнадцать секунд готов выгнать вас к чертовой матери и предложить им вашу работу. Ответ донесся откуда-то из глубины толпы: — Это все индеец. — Что?! На сей раз рев Борглума был таким громким, что компрессор и в самом деле остановился: компрессорщик — единственный, кто не присутствовал на собрании, — явно решил, что технику заклинило. — Какой, к чертовой матери, индеец? Неужели вы думаете, что я нанял бы на эту работу индейца? Ответом ему было молчание и мрачное посапывание. — Что ж, вы правы, черт побери, я бы нанял индейца, если бы он лучше всех подходил для этой работы… да и ниггера бы нанял, если на то пошло. Но Билли Словак никакой не индеец. Вперед вышел Хауди Петерсон. — Мистер Борглум… сэр. Его имя не Билли Словак. На шахте «Хоумстейк», а прежде на шахте «Ужас царя небесного» он был известен как Билли Вялый Конь… сэр. И потом, он… он похож на индейца, мистер Борглум, сэр. Борглум покачал головой, и в этом его жесте сожаления было не меньше, чем отвращения. — Черт побери, Петерсон. Вы тут что, все норвежцы или сюда все же просочился какой-нибудь маленький черномазый, шайенна или итальяшка? И кому какая разница? Этого человека, которого я нанял, зовут Билли Словак, он наполовину чех, или какой-то центральноевропеец, или бог его знает кто. И почему меня это должно волновать? Но он был главным взрывником на этой треклятой хоумстейкской шахте, когда я его нанял. Вы знаете, сколько обычно работает взрывник на «Хоумстейке»… гораздо меньше, чем в той дьявольской яме, которая называлась «Ужас царя небесного». Три месяца. Три… месяца… черт побери. А потом они либо подрываются, а с ними и полбригады, либо спиваются, у них сдают нервы, и они отправляются искать работу где-нибудь в другом месте. Билли Словак — и это его имя, джентльмены, — проработал там двенадцать лет, и ни разу у него не сдали нервы, и ни разу он не покалечил ни других, ни оборудования. Рабочие сопели, поглядывая друг на друга, потом уставились в землю. — Так что или вы кончаете это говно, или вы больше здесь не работаете. Хороший взрывник мне нужен больше, чем глупые драчуны. Словак остается… дьявольщина, он даже будет играть на первой базе в команде, когда придет лето. А вы можете сами решать, хотите ли вы и заслуживаете ли того, чтобы остаться здесь. Я вообще-то слышал, что найти хорошо оплачиваемую, постоянную работу вроде той, что даю я, в этот треклятый год господа бога нашего тысяча девятьсот тридцать первый все равно что раз плюнуть. В общем, если еще раз нападете на Словака — или на любого, кого я найму, — то можете получить недельное жалованье у Денисона и убираться. А теперь… либо отправляйтесь к своим машинам и валите отсюда, либо возвращайтесь к работе. На самом деле шестидесятишестилетний Паха Сапа ни в первое лето 1931 года, ни в любое другое не играл на первой базе. Он играл между второй и третьей базами.
Наконец Паха Сапа останавливается, чтобы передохнуть, ставит ящики с динамитом и взрывателями, отирает пот с лица. Он добрался до самого верха и теперь идет в пороховой сарай. Успеет он подготовиться за восемь дней? Взрывчатка у него есть — почти две тонны; он припрятал ее в полуразрушенном сарае и в погребе той развалюхи, что снимает в Кистоне. Динамит не так опасен, как считает большинство обывателей. То есть новый динамит. Паха Сапа учил начинающих взрывников, что новый, свежий динамит можно ронять, пинать, бросать, даже жечь, и при этом не будет никакого риска взрыва. Или почти никакого. Чтобы по-настоящему взорвать динамит, нужны маленькие медные цилиндрики капсюлей с прикрепленными к ним электрическими проводами длиной в четыре фута. Когда имеешь дело со свежим динамитом, объясняет Паха Сапа боязливым новичкам, опасен капсюль с электрическим детонатором, и вот с ним всегда нужно обращаться очень осторожно. Самое малое, что о них можно сказать, об этих капсюлях, — то, что они чувствительные: замкнешь случайно электрическую цепь, уронишь капсюль или ударишь его обо что-нибудь, даже если он еще не соединен с динамитной шашкой, — и руки, лицо или живот себе точно поранишь. Но почти две тонны динамита (и двадцать коробок с детонаторами), которые Паха Сапа украл и припрятал в полуразрушенном сарае и погребе в Кистоне, — это не новый динамит. Он был старым (и бесхозным), когда Паха Сапа украл его на закрытой шахте «Ужас царя небесного» (названной так в память о жене бывшего владельца), где он когда-то работал главным взрывником. Владельцы «Ужаса царя небесного» мало ценили человеческую жизнь и меньше всего — жизни своих взрывников. Они переводили остатки динамита из одного года в другой, что абсолютно запрещено на любых золотых, серебряных и угольных шахтах, если хозяева хоть немного думают о безопасности. Паха Сапа всегда с удовольствием показывает молодым взрывникам, как потеет динамит (нитроглицерин просачивается через бумагу и капельками собирается снаружи) и как можно пальцем снять капельку динамитного пота и стряхнуть ее на ближайший валун. Новички всегда вздрагивают, когда эта капелька взрывается, ударившись о камень, со звуком выстрела из пистолета калибра 0,22. Потом Паха Сапа рассказывает о динамитных головных болях. Но старый динамит, складированный в его погребе и сарае, не только потеет смертельным потом. Нитроглицерин в большинстве своем собрался и кристаллизовался до такой степени и стал таким чувствительным, что одно только перемещение ящиков — уже не говоря о перевозке их в легковушке, грузовике или коляске собственного мотоцикла Паха Сапы — сравнимо с игрой в русскую рулетку при всех шести пулях в барабане. (Паха Сапа с трудом сдерживает улыбку, представляя себе колонну машин президента Рузвельта 30 августа по пути к Монументу, самого президента в окружении агентов секретной службы, как они проезжают по Кистону в тридцати ярдах от сарая и погреба Паха Сапы, в которых взрывчатки достаточно, чтобы весь Кистон взлетел на воздух на тысячу футов.) Но, снова думает он, никакого вреда президенту причинить он не хочет. Даже если Паха Сапе удастся доставить нестабильный динамит с опасными взрывателями на вершину горы под покровом ночи незаметно для нескольких охранников, нанятых Борглумом, чтобы сторожить инструменты и оборудование, пронести его мимо компрессорной, машинного помещения, кузницы, мимо самой студии и жилья Борглума, а потом каким-то образом поднять две тонны нестабильной взрывчатки по пятисот шести ступенькам, которые он только что преодолел, ему ко всему этому еще придется пробурить сотни шпуров в трех головах. В обычный день вроде этого августовского дня 1936 года — ничем не примечательного, кроме изнурительной жары, — на рабочих площадках у трех голов уже находятся около тридцати или более человек (а под ними еще около дюжины на груди Вашингтона): они бурят, бурят, ревет компрессор, скрежещут буровые долота, — и еще множество подсобников, рабочих снуют туда-сюда по скале, заменяя износившийся буровой инструмент на новый, спуская затупившиеся долота по канатной дороге на заточку в кузнице по другую сторону долины. Скоро «Виски» Арт, Паха Сапа и их помощники спустятся по торцу скалы к лицам президентов и присоединятся к бурильщикам, чтобы разместить в заранее выбранных шпурах сотни зарядов, а потом поставить на них электрические взрыватели с проводами. Громко, с грохотом работают десятки — иногда сотни — людей, чтобы в полдень или в четыре часа, когда рабочие уйдут с торца, произвести небольшой взрыв и обрушить тонну-другую камня. Для разрушения голов вазичу Паха Сапе придется трудиться всю ночь, начиняя неустойчивым динамитом сотни шпуров, расположенных на головах, чтобы обрушить в сотни раз больше породы, чем при рабочем взрыве, и действовать он должен будет беззвучно, в темноте и в одиночку. И тем не менее именно это он и должен сделать, если собирается уничтожить эти три головы, уже восстающие из камня. И у него уже давно родился план, который, возможно, дает ему некоторый шанс. Но теперь, учитывая новость о том, что его поедает рак, и подтверждение даты приезда Рузвельта на церемонию, Паха Сапа знает: ему придется проделать все это за неделю, начиная с послезавтра, чтобы «демонстрационный взрыв» на глазах у президента Рузвельта и собравшихся важных персон перед кинокамерами стал бесповоротным концом для каменных вазичу, которые поднимаются из его священных холмов.
7 На Дир-Медисин-рокс, неподалеку от большой излучины реки Роузбад
Июнь 1876 г. Сильно Хромает взял Паха Сапу на Роузбад и на Сочную Траву не для того, чтобы мальчик был там во время сражения с вазичу и убийства Длинного Волоса. Они вдвоем поскакали на всеобщее собрание сиу и шайенна, созванное Сидящим Быком и Шальным Конем. Хотя Паха Сапе до одиннадцатилетия остается два месяца, а потому он еще не вполне готов для церемонии посвящения в мужчины, Сильно Хромает чувствует, что мальчика с его особыми способностями пора представить Сидящему Быку, Шальному Коню и некоторым из вичаза вакан, что будут на собрании. И Сильно Хромает берет Паха Сапу, чтобы он увидел виваньяг вачипи — танец Солнца. Его будет исполнять Сидящий Бык, и он сам сообщил об этом. До битвы остается еще две недели. Место это не на Сочной Траве, где в Паха Сапу вселится призрак вазикуна, а к северо-востоку от него, в сухой, жаркой долине вблизи большой излучины реки Роузбад,[18] неподалеку от Дир-Медисин-рокс — необычных высоченных, отдельно стоящих камней с высеченными на них рисунками, которые старше Первого человека. В этом виваньяг вачипи могут участвовать только лакота, а это входящие в лакота санс арки, хункпапа, миннеконджу, оглала и несколько бруле. Когда Сильно Хромает и юный Паха Сапа прибывают туда на ранней Жиреющей луне, там есть еще несколько шайела из народа шайенна (они тоже считают, что Дир-Медисин-рокс — вакана, то есть священные, сильные, но шайенна присутствуют там только в качестве наблюдателей). Сидящий Бык исполняет эту святыню из святынь для икче вичаза, вольных людей природы, — виваньяг вачипи, танец Солнца. В первый день и вечер у Дир-Медисин-рокс Сильно Хромает показывает восторженному, но нервничающему Паха Сапе разных великих икче вичаза; тункашила вичаза вакан Сильно Хромает хочет, чтобы мальчик знал их в лицо и, возможно, познакомился с ними, но не прикасался к ним, если только те сами не попросят об этом. Паха Сапа, несмотря на молодость, понимает, что тункашила хочет, чтобы эти знаменитые люди знали о его способности «прикоснись — и увидишь, что было / что будет», но чтобы мальчик не использовал свою способность ясновидения (даже если бы мог применять ее в любое время по своему желанию, чего он не умеет), пока его об этом не попросят. Паха Сапа кивает в знак понимания. Весь день знаменитые люди со своим сопровождением съезжаются туда со всех сторон. Присутствуют все роды лакота. От оглала приезжают Большая Дорога и Шальной Конь, знаменитый двоюродный брат старшей жены Сильно Хромает. Из хункпапа присутствуют Ссадина, Ворон, Черная Луна и сам Сидящий Бык. От санс арков приехал Меченый Орел. От миннеконджу прибывают Быстрый Бык и Молодой Горб. Тупой Нож приехал с несколькими шайенна, которым позволено присутствовать. (Другой знаменитый вождь шайенна, Ледяной Медведь, решил остаться в более крупной деревне южнее.) Называя имена каждого из великих прибывающих, Сильно Хромает сопровождает их выкриком: — Хетчету алох! (Так оно воистину и есть!) Уже собрались более тысячи лакота. Паха Сапа думает, что никогда еще не видел такого великолепного собрания, оно даже величественнее, чем большие собрания на Мато-пахе — Медвежьей горке — раз в два года, но Сильно Хромает говорит ему, что эта временная деревня создана для танца Солнца, который будет исполнен Сидящим Быком, и что в ночь полнолуния и следующие за этим дни во время церемонии соберется еще больше лакота и шайенна. Паха Сапа с восторгом маленького мальчика наблюдает за приготовлениями Сидящего Быка к виваньягу вачипи, но еще он испытывает необычную отстраненность, которая нисходит на него в такие времена. Ему кажется, будто несколько разных Паха Сапа смотрят его глазами, включая и более взрослые его «я», которые глядят назад сквозь время, сосуществуя в уме худенького мальчишки. Сначала почтенный вичаза вакан из народа хункапа — а не любимый тункашила Паха Сапы — отправляется на выбор вага чуна, «шуршащего дерева», или тополя, который будет стоять в середине танцевального круга. Когда вичаза вакан, имя которого Зовущая Утка (он друг детства Сильно Хромает), возвращается с известием, что нужное дерево найдено, многие из сотен собравшихся людей украшают себя цветами, сорванными на берегах реки. После этого несколько воинов, выбранных за отвагу, производят над этим деревом деяние славы, а самый отважный — в нынешний год это молодой оглала, сопровождающий Шального Коня, зовут его Один Убивает Шестерых — наносит дереву последний и самый громкий удар. Паха Сапа узнает, что Один Убивает Шестерых, пока будет продолжаться танец Солнца, устроит большую раздачу, во время которой раздаст почти все, что имеет (включая и двух молодых жен, которых он совсем недавно завоевал в сражении). После деяния славы над высоким, гордым (но не слишком высоким, толстым или старым) вага чуном, который стоит в одиночестве на лугу среди высокой травы, к дереву подходят несколько девственниц с топорами, напевая песню, в которой говорится: если кто знает, что они не девственницы или не добродетельны в чем-либо, то этот мужчина или эта женщина должны сейчас заговорить, а если они промолчат сейчас, то должны будут онеметь навечно. Потом, когда никто ничего не говорит, девственницы начинают рубить дерево. Сильно Хромает ведет Паха Сапу к группе воинов, мальчиков и стариков, которые должны подхватить дерево, когда оно будет падать. Он поясняет, что дерево не должно коснуться земли. После этого шестеро вождей, чьи отцы тоже были вождями, несут священное дерево к тому месту, где состоится виваньяг вачипи. Пока с вага чуна обрубают ветки и ставят его, Сильно Хромает выводит Паха Сапу из травяного круга для танца, и мальчик (а вместе с ним и его тункашила) смотрит, как десятки воинов на лошадях окружают священное место. По сигналу, поданному Сидящим Быком, молодые люди бросаются к священному месту в центре круга, где будет стоять дерево, все они толкаются, пихаются, дерутся, делают обманные движения, чтобы первым коснуться определенной точки в земле. Стоя в мешанине пыли, мельтешения копыт, встающих на дыбы лошадей, криков воинов и тех, кто наблюдает за ними, Паха Сапа улыбается. Это очень похоже на взрослый вариант его мальчишеской игры «сбрось-с-коня». Но прежде чем мальчик успевает совершить ошибку и громко рассмеяться, Сильно Хромает прикасается к его плечу и шепчет ему на ухо, что тот, кто первым коснется священного места, не будет убит в этом году в сражении. В тот вечер ближе к реке, чем к Дир-Медисин-рокс, устраивается великолепный пир, и очень голодный Паха Сапа получает порцию бизоньего мяса и свое любимое лакомство — вареную собаку. Роды принесли в жертву к этому празднику по нескольку щенков, так что этого деликатеса хватает на всех. Потом воины обрубают нижние ветки выбранного дерева, раскрашивают его в синий, зеленый, желтый и красный цвета. Тункашила Паха Сапы объясняет, что каждый цвет обозначает свое направление — север, восток, запад и юг, потом у середины этого сакрального обруча строится ивовая парилка и солнечный козырек, после чего начинаются настоящие молитвы. Вичаза вакан берет табак и набивает трубку — это Птехинчала Хуху Канунпа, самая священная Трубка Малоберцовой Бизоньей Кости, которая вот уже двенадцать поколений почитается народом лакота, — и заново освящает все это место, дерево и церемонию, обращаясь не только к четырем направлениям плоской видимой земли, но и к небу, и к самой бабушке-земле, а также ко всем земным видимым и невидимым летающим тварям и четвероногим, он просит каждого по очереди способствовать тому, чтобы эта церемония была совершена правильно, чтобы угодить им и угодить Вакану Танке, Всему, Великой Тайне, Отцу, Пращуру всех пращуров. Потом собравшиеся люди делают то, что должны сделать, чтобы превратить дерево в целебный вигвам. Под гораздо более низкие песнопения мужчин и непрекращающиеся трели женщин они поднимают высокий тонкий вага чун. Двадцатью восемью раздвоенными вешками они намечают круг у дерева. На каждой из этих вешек устанавливается длинный шест, который привязывают к священному дереву, оставив только специальный вход на востоке, через который внутрь могут проникнуть лучи восходящего солнца. Теперь, когда в затянувшихся летних сумерках все собираются вокруг дерева, превращенного в целебный вигвам, приближаться к вага чуну и танцевать вокруг него разрешается только женщинам с заметной беременностью. Паха Сапа понимает, что Всё, Вакан Танка и конкретный вакан Солнца любят плодородие, а потому и беременных женщин, не меньше, чем дух Солнца любит танцы. Паха Сапа смотрит на восток в сторону прерии — травы там сейчас шелестят под усиливающимся вечерним ветром, они как переливы меха у живого зверя — и видит, как поднимается полная луна. Сильно Хромает объяснил, что такой важный винаньянг вачипи всегда приурочивается к Жиреющей луне или Луне чернеющих вишен, когда наступает полнолуние и изгоняется неведение черных небес, а летняя ночь становится более похожей на светлые дни, столь любимые духом Солнца. В ту ночь Паха Сапа спит хорошо. Ночь такая теплая, что они с дедушкой даже не делают шалаша из ивовых веток, а спят под открытым небом на одеялах и шкурах, которые привезли с собой. Паха Сапа просыпается только раз и то потому, что полная луна ярко светит ему в лицо. Он недовольно ворчит, переворачивается, ложится поближе к своему дяде-дедушке и снова засыпает. Ранним утром следующего дня, за едой, Паха Сапа смотрит на вереницу кормящих матерей, которые приносят своих младенцев и кладут их у основания преобразованного вага чуна. Теперь эти младенцы-мальчики вырастут воинами, а девочки станут матерями воинов. Сильно Хромает и другие вичаза ваканы сидят все утро вокруг площадки, прокалывая уши этим младенцам. Считается, что родители младенца, удостоившегося такой чести, должны подарить пони тому, кому он нужен. Весь день Сидящий Бык и другие воины, участвующие в танце Солнца, очищаются в парилках и готовятся к важной работе, которая начнется следующим утром. В течение предшествующих лет (в особенности зимой, когда еды было мало и близкие болели) многие мужчины и женщины, собравшиеся здесь, давали обет принести жертву священному дереву. Другие, готовящиеся здесь, — это мальчики, некоторые немногим старше Паха Сапы; они будут танцевать — это часть церемонии их посвящения в мужчины. Жертвы будут состоять в надрезании одной руки или груди или вырезании квадратиков плоти из какого-нибудь места, а может быть, отрезании пальца. Но те, что будут приносить самые серьезные жертвы, пройдут полную церемонию прокалывания и будут танцевать перед шестом. На церемонию уже съехались тысячи лакота. Прерия вблизи Дир-Медисин-рокс и по обеим сторонам Роузбада ярко освещена кострами. Начинается ночь перед танцем, и Сильно Хромает ведет Паха Сапу к Сидящему Быку. Даже при мерцающем огоньке в маленьком вигваме Сидящего Быка Паха Сапа видит, что тот готовился к ритуалу, который — как говорит Сильно Хромает — исполнялся Сидящим Быком много раз со времени церемонии посвящения его в мужчины. За несколько дней до этого Сидящий Бык смыл с себя все краски, удалил перья из волос и ослабил косички. По медленным движениям и чуть заметной слабости Паха Сапа понимает, что Сидящий Бык постился. И тем не менее после представления Паха Сапы, когда старшие усаживаются и начинают беседовать о прежних временах, вождь подносит Сильно Хромает свою зажженную трубку. Голос у Сидящего Быка низкий, движения неспешные; наконец он обращает взор на Паха Сапу. — Мой друг Сильно Хромает говорит мне, что Вакан Танка, видимо, наделил тебя способностью видеть прошлое и будущее человеческих существ, Черные Холмы. Сердце Паха Сапы громко бьется. Единственное, на что он способен, — это кивнуть в ответ. Глаза у Сидящего Быка светящиеся и пронзительные. — Я тоже могу видеть временами будущее, маленький Черные Холмы, но мне видения даются только после больших усилий, мучений и жертвоприношения. Ты еще не прошел ханблецею, мальчик? — Нет, ате. Ате — отец — уважительное обращение. Сидящий Бык неторопливо кивает, смотрит на Сильно Хромает, потом переводит пронзительный взгляд на лицо Паха Сапы. — Значит, маленькие видения, что посещают тебя, не настоящие. Может быть, это какая-то способность, что дарована тебе духами или Ваканом Танкой, а может быть, это шутки, которые играет с тобой какая-то сила, которая не любит вольных людей природы. Будь осторожен, маленький Черные Холмы, не слишком доверяй видениям, которые вовсе и не видения. И опять Паха Сапа может только кивнуть в ответ. — Возможно, ты узнаешь, откуда это берется, когда пройдешь настоящий обряд ханблецеи. Сидящий Бык смотрит на Сильно Хромает, и в его взгляде — вопрос. Сильно Хромает говорит: — Мы наметили провести обряд следующим летом, когда весь род соберется снова у Черных холмов. По всем понятиям и с учетом обстоятельств его рождения, Паха Сапа должен пройти обряд ханблецеи именно там, но род сейчас далеко от Медвежьей горки и Черных холмов, а для мальчика десяти или одиннадцати зим предпринять путешествие в одиночестве в такое время было бы опасно. Сидящий Бык кряхтит. — Верно говоришь. Длинный Волос и его конники вазичу сейчас на марше, как генерал Крук[19] и другие. Мальчик, путешествующий по равнинам в одиночестве или вместе со своим приемным тункашилой, будет подвергаться большой опасности — его могут взять в плен или убить, в особенности если у нас будет крупное сражение у Роузбада или Литл-Биг-Хорна, — а я надеюсь, что оно будет, — и мы убьем много вазикунов. Другие вазичу тогда будут жаждать крови. Но я думаю, Сильно Хромает, что ты должен послать Черные Холмы на его ханбледею до следующего лета. Гораздо раньше. Не позднее Луны цветных листьев или Луны падающих листьев. Этот его… дар… он может быть опасен. И не только для мальчика. Пусть он будет обладать способностью видения, если Отец или шесть пращуров поднесут ему этот дар. Сильно Хромает в ответ лишь неопределенно кряхтит. Сидящий Бык подается к огню и Паха Сапе. — Черные Холмы, извини за то, что я говорил так, будто тебя здесь нет. Мы, старики, иногда делаем это, когда речь идет о молодых. Хочешь прикоснуться ко мне и проверить, работает ли со мной твое «прикоснись — и увидишь, что было / что будет»? Паха Сапа долгое мгновение хранит молчание. Потом дрожащими губами произносит: — Нет. Пиламайе, ате. Он не знает, почему добавил «спасибо». Сидящий Бык улыбается. — Ваштай! Хорошо. Я бы не позволил тебе прикоснуться ко мне для такого видения. Не в ночь перед моим собственным танцем. Сидящий Бык поворачивается к Сильно Хромает и берет его за руку. — Я пощусь, потому не присоединюсь к вам, но, прежде чем ты уйдешь, мой друг, ты и твой внук должны вкусить горячую педжута сапу. Я нашел ее на теле мертвого вазикуна всего неделю назад, и сегодня вечером моя жена смолола ее. А потом мы вместе покурим. Брови у Паха Сапы ползут наверх. Педжута сапа — «черное лекарство», кофе — один из самых волшебных напитков, когда-либо перенятых у вазичу, силой своей он уступает разве что мни вакену, огненной воде, виски. Пока Сидящий Бык готовит трубку, Паха Сапа пьет свою чашку педжута сапы, отхлебывая, только когда отхлебывает тункашила (из опасения, что в ритуале питья может быть какая-то деталь, ему неизвестная). Паха Сапа никогда не пробовал ничего такого крепкого, такого черного, такого горького и такого замечательного. Потом Сидящий Бык и Сильно Хромает курят особую трубку — это та самая Птехинчала Хуху Канунпа, священная Трубка Малоберцовой Бизоньей Кости, которую использовали во время обряда приготовления дерева; курят ее долго, до самой ночи. В какой-то момент, когда Сидящий Бык выходит из вигвама помочиться в высокую траву, Паха Сапа шепчет своему дедушке: — Эту трубку нельзя курить так, как если бы она была… просто трубкой? Прежде чем Сильно Хромает успевает ответить, из темноты отвечает Сидящий Бык, который, входя, открывает клапан типи. — Йохакскан каннонпа эл войлаг йапе ло. Эхантан наджин ойате мака ситомнийан каннонпа кин хе униваканпело («Она используется для всего. С тех самых пор, когда стоячие люди появились на земле, эта трубка была вакан»). Потом Сидящий Бык добавляет: — И это лучшая трубка для курения табака, какая у меня есть. Когда они наконец закончили и Сильно Хромает и Паха Сапа, оба, поднимаются и выходят в пахнущую дымом темноту, чтобы вернуться в свой вигвам, — у Паха Сапы сна нет ни в одном глазу, — Сидящий Бык выходит наружу вместе с ними и легонько касается плеча Паха Сапы концом своего жезла славы. — Приходи завтра посмотреть мой танец, Черные Холмы. Смотри и учись, как просить Вакана Танку и всех духов о настоящем видении. — Хан, ате. После этого Сидящий Бык легко похлопывает его жезлом по плечу и говорит тихонько напевным голосом: — Токша аке чанте иста васинйанктин ктело, Паха Сапа («Я увижу тебя снова глазами моего сердца, Черные Холмы»).8 Черно-желтая дорога
Декабрь 1923 г. — Ты не против того, чтобы посидеть за рулем, Билли? — Нет. Это красивая машина. — Ужасно красивая. И почти с иголочки. Я взял ее в Рэпид-Сити в конце октября. Я не был уверен, хочу ли я «нэш» — для поэта и историка, мне кажется, должен сгодиться «форд». Но мой шурин знаком с новым дилером фирмы и… ну… «нэш» такой привлекательный. Я мог бы взять «Нэш сорок один» почти на четыреста долларов дешевле. Он тоже четырехцилиндровый, но не закрытый. В такие дни — температура не больше двадцати — лучше ездить в закрытом седане, как ты думаешь? — Да. — Конечно, я мог бы добавить еще пару сотен и купить «Нэш сорок семь», а он, конечно, приятнее, но у него нет багажника или вообще лишнего места. Никакого. — Никакого? — Ну да. Но с другой стороны, если бы я и в самом деле хотел потратить больше — а продавец определенно пытался убедить меня, что именно так и нужно поступить, — то я бы мог подняться до фаэтона «Нэш сорок восемь» или — хотя об этом даже и говорить глупо — до нового фаэтона «Нэш шестьсот девяносто семь» с шестицилиндровым двигателем. Шесть цилиндров, Билли! Представляешь, как бы мы поднимались на эти холмы с шестью цилиндрами?! — Четыре цилиндра, мне кажется, вполне справляются, мистер Робинсон. — Да, похоже, он неплохо преодолевает подъемы. Конечно, если бы я надумал потратить пятьсот или больше долларов на автомобиль, то я бы купил «Лафайет сто тридцать четыре». Он весит больше двух тонн — по крайней мере, я где-то читал об этом — и может разгоняться до девяноста миль в час. Скажи мне, Билли… зачем кому-то нужно или кому захочется ехать со скоростью девяносто миль в час? Ну разве что на индианапольских гонках? — Не знаю. — Но я же не Джимми Мерфи,[20] и потом, чтобы соревноваться, мне бы пришлось купить «дюзенберг», а меня вполне устраивает «нэш». Ты не возражаешь, если я буду делать записи, когда мы продолжим наш разговор о прежних днях? — Пожалуйста. — Если уж речь зашла о гонках, Билли… Я слышал, что есть такая резервация Беговая Дорожка, но на картах Службы национальных парков и вообще на известных мне картах никакого такого места или образования нет. — Мы ехали по ней, выезжая из Рэпид-Сити, мистер Робинсон. — Правда? — Беговая Дорожка — это старое лакотское и шайеннское название долины вокруг Черных холмов… длинная овальная долина между наружной границей красного Хогбэк-Риджа и самими холмами. Если подняться высоко на аэроплане, то вы, наверное, смогли бы увидеть весь красноватый овал, окружающий холмы. Это и есть Беговая Дорожка. — Господи боже мой, Билли. Я всю жизнь прожил вблизи холмов… и к тому же в качестве главного историка штата. Но я никогда не замечал, что долина окружает холмы, и не знал, что у твоего народа есть для нее название. Беговая Дорожка. Почему Беговая Дорожка — потому что утопленный овал долины напоминает дорожку? — Нет. Потому что он был беговой дорожкой. Паха Сапа бросает взгляд на Робинсона, который наскоро делает записи. Доану Робинсону шестьдесят семь лет (сегодня, в последний день 1923 года, он на девять лет старше Паха Сапы), и на морозе он не надевает шапку (обогреватель в «нэше» — одно название), хотя и лыс как колено. Не сходящую с губ Робинсона легкую улыбку дополняют добрые глаза, которые сегодня утром частично скрывают круглые очки в роговой оправе. Робинсон, который прежде был адвокатом (он выступал от имени племен сиу в их первых процессах против штата и федерального правительства), давно поменял юриспруденцию на литературу и стал популярным юмористом и поэтом Южной Дакоты. Еще он официальный историк штата. И самое главное, за эти редкие разговоры о «прежних днях» (в которых Паха Сапа рассказывает очень мало чего существенного и почти ничего личного) Паха Сапа получает разрешение брать книги из обширной домашней библиотеки историка и писателя. Такая договоренность позволила пятидесятивосьмилетнему Паха Сапе за шесть лет получить то, что он называет своим личным и тайным «университетским образованием». Робинсон отрывает взгляд от записок. — Неужели сиу и шайенна устраивали там бега? — Это было до лакота и шайенна, мистер Робинсон. Это, возможно, было еще до того, как через Вашу-нийя, Дышащую пещеру, в мир пришел Первый человек и его двоюродные братья. Служба национальных парков называет эту пещеру Пещерой ветра. — Да-да. Я давно знаю, что шайенна, сиу и другие индейцы равнин считают, что человек пришел в мир через Пещеру ветра. Но почему она называется Дышащей пещерой, а не, скажем, Пещерой рождения или как-нибудь так? — Потому что зимой можно увидеть, как пещера дышит через разные свои отверстия. Более теплый воздух выходит через определенные интервалы, как обычное дыхание, почти совпадающее с дыханием бизона. — Так-так-как… Робинсон наскоро делает запись в своей тетради. Паха Сапа сосредоточивается на дороге — вести широкую машину по подмерзшим колеям нелегко. Он поворачивает направо, на Нидлз-хайвей. Двигатель «нэша» без труда возьмет подъем, вот только коробка передач у него никуда не годится (не сравнить с коробками «фордов» и «шевроле», какие водил Паха Сапа), нему приходится быть внимательным, чтобы не перемолоть шестерни любимой игрушки историка. Робинсон поднимает голову, на его круглых очках сверкает солнечный лучик. — Билли, а бизоны и люди пришли в мир одновременно? Я на этот счет слышал разные мнения. — Сначала пришли бизоны. Первые бизоны, пришедшие через Вашу-нийя, были крохотные, размером с муравья, но трава на Черных холмах была такой сочной, что они быстро набрали жирку и выросли до их нынешних размеров. Паха Сапа улыбается, сказав это, но Доан Робинсон продолжает с серьезным видом делать записи. Наконец он поднимает взгляд и в недоумении смотрит на Столбы[21] — он словно забыл, что они на Черных холмах. В конце декабря солнце яркое, но слабое, тени от Столбов неясные. Робинсон постукивает авторучкой по нижней губе. — Так кто же бегал по беговой дорожке, если на холмах еще не было людей? Паха Сапа переключает передачу — машина катит вниз по склону. Муфта сцепления «нэша» не рассоединяется, пока нога водителя чуть не уходит в хилый полик. Паха Сапа знает, что придет время, и Нидлз-хайвей покроют асфальтом, но пока тут замерзшие глубокие колеи, которые вмиг вскроют «нэш» мистера Робинсона, как консервную банку, если узкие колеса соскользнут с высоких кромок. — Говорят, что крылатые и четвероногие существа соревновались между собой за то, кому править миром. Они готовы были войной решить этот вопрос, но в конечном счете решили устроить большие гонки вокруг Вамакаогнака э’кантге. Робинсон прекращает писать. Когда он начинает говорить, его дыхание на мгновение повисает в воздухе, словно Дышащая пещера находится внутри машины, только здесь дыхание изморозью оседает на ветровом стекле и на уже схваченных морозцем боковых стеклах. — Вамакаогнака э’кантге означает «центр мироздания», верно я говорю, Билли? — Среди прочего. Я предпочитаю трактовать это как «суть всего сущего». Но все это значит Паха-сапа — Черные холмы. — Значит, четвероногие и летающие существа согласились решить, кто будет править миром, по результатам гонки вокруг Черных холмов? Ручка бегает по листу бумаги. На дороге в этот предновогодний день нет других машин. За стеной Столбов Паха Сапа видит самую высокую и священную гору Черных холмов — Холм злого духа, переименованный вазичу в Харни-пик в честь знаменитого убийцы индейцев,[22] а за Холмом злого духа — длинный гранитный хребет Шести Пращуров, где ему сорок семь лет назад было видение. — Да, существуют разные версии этой истории, но мой дедушка рассказывал мне, что летающие существа, чтобы выиграть бега, использовали волшебные краски. Так ворон впервые стал черным, а сорока использовала белую землю и уголь, чтобы сделать себя вакан… — Священной. — Да. Трупиал[23] счел, что выиграть ему поможет желтый цвет. И вот четвероногие и двуногие — а последние все были тогда летающими существами, но для большой гонки они согласились не отрываться от земли — принялись бегать вокруг Черных холмов: сто, тысячу кругов, они и утрамбовали землю, превратив ее в сегодняшнюю Беговую Дорожку. Из четвероногих самыми быстрыми оказались бизон и олень, а кровавая пена, вытекавшая из их ртов и носов, окрасила землю почти по всему кругу. Они бегали дни и ночи, недели и луны. — И кто победил? — Победили сорока и ворон, которые бегали от имени всех двуногих, включая и нас, людей, хотя мы еще и не выползли из Дышащей пещеры. А к тому времени Беговая Дорожка уже была такой же широкой, глубокой и с красным ободком, как сегодня. Вообще-то мой дедушка иначе называл этот овал с красным ободом, что окружает Вамакаогнака э’кантге. — И как, Билли? — Виньянь шан. — Странно. Я столько лет записываю слова сиу, но этого не встречал ни разу. Что оно означает, Билли? — Влагалище. Доан Робинсон навинчивает колпачок на авторучку, снимает очки, протирает их платком из нагрудного кармана пиджака толстой шерсти. Паха Сапа видит румянец на щеке историка и сожалеет, что смутил старика.— Притормози здесь. На площадке у основания столба. Паха Сапа останавливает «нэш». Грунтовая дорога петляет здесь между Столбов — отдельно стоящих гранитных колонн, высота некоторых из них достигает сотни и более футов, а площадка у основания предназначена для того, чтобы люди могли подъехать и насладиться видом именно этого толстого каменного пальца, который торчит совсем рядом с обочиной дороги. Робинсон нащупывает дверную ручку, сделанную на новый манер. — Ну что, Билли, выйдем? — Ветер сильный, мистер Робинсон. Там холодно. — Идем-идем. Мы ведь еще молодые. Я хочу тебе показать кое-что. Здесь холоднее, чем думал Паха Сапа. Эта часть узкой дороги была проложена вдоль хребта горной гряды, и высокие пики не защищают ее от промозглого ветра, обдувающего холмы с севера. Паха Сапа застегивает свое красное с черным шерстяное пальто и замечает сине-черные тучи далеко на северо-западном горизонте. К ночи разгуляется метель. Он подсчитывает, сколькопотребуется времени, чтобы доставить Робинсона домой и добраться на мотоцикле до собственного дома неподалеку от Дедвуда. Нет, в такой вечер, в темень и метель, он не хочет оказаться на узкой, петляющей горной дороге, в особенности еще и потому, что у мотоцикла нет фары. Доан Робинсон показывает на один из столбов. — Ты замечал, Билли, что в недавно созданном парке десятки и десятки — уйма таких вот шпилей? — Да. — А ты знаешь о Блэкхиллском и Йеллоустонском хайвее? — Черно-желтой дороге. Конечно. По пути в Черные холмы из Рэпид-Сити мы ехали мимо выкрашенных в желтое и черное столбиков. Паха Сапа думает о грунтовой, лишь кое-где засыпанной гравием дороге, которая теперь проходит с запада на восток через Южную Дакоту и которую этот вазичу наделяет гордым именем «хайвей». Черно-желтые полосатые придорожные столбики тянутся по прерии чуть ли не в бесконечность. — Этот хайвей соединяет Чикаго с Йеллоустонским парком, и его строили, чтобы туристы ездили на запад. Будущее Южной Дакоты зависит от туризма. Помяни мои слова. Если экономически мы и дальше будем развиваться такими же темпами, то вскоре у каждого американца будет по машине, и они захотят оставить свои перенаселенные города на Востоке и Среднем Западе и посмотреть, что представляет собой Запад. Паха Сапа поднимает воротник пальто, защищаясь от промозглого ветра. Румянец Доана Робинсона сменился белыми и красными пятнами на щеках и носу, и Паха Сапа понимает, что ему нужно усадить историка в машину (двигатель которой он не заглушил), прежде чем этот умник отморозит себе что-нибудь. На нем в такой холод даже перчаток нет. Когда особенно сильный порыв ветра грозит сдуть Робинсона с замерзшей дороги в кусты под гранитной колонной, Паха Сапа хватает его за руку. — Ты бывал в Чикаго, Билли? — Да. Один раз. Перед глазами Паха Сапы и сейчас встает большое колесо мистера Ферриса,[24] поднимающееся над Белым городом[25] вечером 1893 года, когда все вокруг залито светом электрических огней. Администрация Чикагской Колумбовской выставки[26] решила, что шоу «Дикий Запад» Буффало Билла не хватает респектабельности, а потому мистеру Коди[27] пришлось демонстрировать свое представление за пределами выставочной территории; в результате шоу привлекало огромные толпы зрителей, а Буффало Биллу не приходилось делиться доходами с организаторами выставки. Но Белый город с его огромным Дворцом электричества и Дворцом машин… весь курдонер, освещенный сотнями уличных электрических фонарей и прожекторов, толпы людей — ничего поразительнее Паха Сапа за свою двадцативосьмилетнюю жизнь еще не видел. — Бывал? Ну, тогда ты можешь представить, почему жители этого набитого людьми города ждут не дождутся, когда можно будет поехать на запад, вдохнуть свежего воздуха и увидеть наши удивительные пейзажи. — Аттракцион? — Да, да! Мне всего несколько недель назад пришло в голову, что если в Йеллоустонском парке имеются гейзеры, медведи гризли и горячие источники и этого вполне достаточно, чтобы кто-то приехал туда по черно-желтому хайвею из Чикаго или из каких-нибудь мест на востоке, то единственное, чем может наш благородный штат привлечь отважных путешественников, это парк — здесь, в Черных холмах. А все, что могут предложить холмы, — только холмы. Паха Сапа безмолвно взирает на историка штата. Глаза мистера Робинсона слезятся от мороза, а с носа обильно капает. При каждом новом порыве ветра только твердая рука Паха Сапы удерживает более крупного и пожилого человека, которого иначе сдуло бы с холма на сосны и пихты, которые растут у оснований Столбов. Паха Сапа по длине теней видит, что день быстро клонится к вечеру, — им пора уезжать, если он хочет добраться в Дедвуд до наступления темноты и начала метели. В воздухе пахнет приближающимся снегопадом. Робинсон вытягивает свободную руку и показывает пальцем в направлении гранитного шпиля. — И тут, Билли, мне пришло в голову. Voilà. Скульптуры. — Скульптуры? Паха Сапа чувствует, насколько глуп его, похожий на эхо, вопрос, хотя обычно мало заботится, как звучит его речь в таком лишенном нюансов языке, как английский. — Эти столбы идеальны для скульптурных работ, Билли. Я абсолютно уверен, что гранит из всех камней больше всего подходит для скульптурных работ. И потому несколько дней назад я написал это письмо лучшему скульптору Америки… а может, и мира! Робинсон шарит во внутреннем кармане пиджака под пальто, которое полощется на ветру, извлекает сделанный под копирку экземпляр напечатанного на машинке письма. Налетевший порыв ветра вырывает папиросную бумагу из правой руки Робинсона, и только ястребиная реакция Паха Сапы не позволяет письму бесследно исчезнуть в лесу. — Нам следует прочесть и обсудить это в машине, мистер Робинсон. — Ты прав, Билли. Абсолютно прав. Я, кажется, не чувствую ни кончика носа, ни ушей. Вернувшись в «нэш», Паха Сапа пытается включить примитивный обогреватель машины, но тот уже и так отбирает от двигателя все то тепло, которым тот благоволит поделиться. Паха Сапа разглаживает помятое письмо на широкой баранке руля и читает:
28 декабря, 1923 г. Мистеру Лорадо Тафту[28] 6016 Эллис-авеню Чикаго, ИллинойсПаха Сапа ведет машину назад к Рэпид-Сити с такой скоростью, какую только могут выдержать на скользкой дороге тощие шины «нэша». Он не спрашивает мистера Робинсона, ответил ли скульптор Лорадо Тафт на письмо, поскольку времени для ответа практически не было. Он ведет машину в тишине, если не считать рева четырехцилиндрового двигателя и громкого, но освежающего жужжания обогревателя. — Ну, что скажешь, Билли? Доан Робинсон нравится Паха Сапе, ему нравится его мягкость, ученость и искренний интерес к истории народа Паха Сапы, пусть этот интерес и направлен не совсем туда, куда нужно. А как Паха Сапа любит библиотеку Доана Робинсона и тот взгляд на мироздание, который подарили ему книги! Но в этот момент он думает, что если бы Робинсон показал ему письмо скульптору до отправки, то Паха Сапа достал бы простой складной нож с костяной ручкой и пятидюймовым лезвием, который и теперь лежит у него в кармане, и перерезал бы горло историку и писателю, оставив его тело в лесу у хайвея Нидлз, а его «нэш» столкнул бы в пропасть, отъехав подальше от Черных холмов. — Билли? Что ты думаешь об этой идее? Как по-твоему, Красное Облако достоин того, чтобы его первым из вождей сиу вырезали на одном из этих столбов? Макхпийя Лута, Красное Облако, знаменит своей победой в Сражении ста убитых,[30] но эти битвы закончились, когда Паха Сапе было всего две зимы. Паха Сапа знал старого Красное Облако в первую очередь как индейца-отступника, который отдал равнины и земли последних вольных людей природы, и Паха Сапа был поблизости от агентства Красного Облака в Кэмп-Робинсоне в 1877 году, когда завистливый племянник Красного Облака предал Шального Коня, заманив его в форт, где того и убили. Красное Облако пережил многих настоящих вождей-воинов — Сидящего Быка, Шального Коня — и умер глубоким стариком всего четырнадцать лет назад — в 1909 году. — Я вообще-то не знал Красного Облака. — А что ты тогда скажешь насчет Шального Коня? Как по-твоему, достоин Т’ашунка Витко того, чтобы его огромная статуя появилась здесь, в Черных холмах? Паха Сапа кряхтит. Здесь, с восточной стороны хребта, вечерние тени быстро сгущаются, и ему приходится вести машину очень осторожно, чтобы «нэш» не сломал ось в какой-нибудь глубокой, замерзшей колее. Как Паха Сапе объяснить этому кроткому человеку, что Шальной Конь предпочел бы, чтобы его кишки выпотрошили через дыру в животе (или, скорее, перерезал бы всю большую семью Доана Робинсона), чем позволил вазичу, которые предали и убили его, высечь его подобие в граните Черных холмов? Он набирает в легкие воздуха. — Вы помните, мистер Робинсон, что Шальной Конь никогда не позволял фотографам фронтира[31] снимать его. — Да, Билли, ты, конечно, прав. Он, как и многие индейцы Равнин, явно боялся, что камера «похитит его душу». Но я абсолютно уверен, что скульптура, сделанная великим художником, не оскорбила бы чувств Т’ашунки Витко. Паха Сапа абсолютно уверен: Шальной Конь не боялся, что камера «похитит его душу». Воин просто никогда бы не позволил врагу взять в плен даже его изображение. — Ну а что ты скажешь о Сидящем Быке? Как ты думаешь, лакота сочтут за честь, если здесь, в холмах, появится скульптура Татанки Ийотаке? Дорога здесь — сплошные выбоины и ухабы (настоящий Бэдлендс[32] в миниатюре), и Паха Сапа молчит — он ведет машину наполовину по обочине, наполовину по замерзшей дороге, выбирая наименее опасные участки. Он помнит то время, всего девять лет спустя после уничтожения Длинного Волоса у Литл-Биг-Хорна, когда Сидящий Бык отправился на восток вместе с шоу Билла Коди «Дикий Запад» (это было за восемь лет до того, как Паха Сапа с этой же труппой отправился в Чикаго), и какое на него тогда произвели впечатление число и сила вазичу, размер их городов и скорость их железных дорог. Но Паха Сапа разговаривал с миссионером, который знал Татанку Ийотаке после его возвращения в агентство, и Сидящий Бык сказал тогда бледнолицему священнику: «Бледнолицые порочны. Я хочу, чтобы ты научил мой народ читать и писать, но они не должны походить на бледнолицых по образу жизни и мыслей: это плохая жизнь. Я не смог бы позволить им жить так. Я бы сам скорее умер индейцем, чем жил бледнолицым». Паха Сапе трудно дышать. Сердце бешено бьется, а от давления в черепной коробке в глазах появляется туман. Со стороны можно подумать, что у него инфаркт или инсульт, но Паха Сапа знает: это призрак Длинного Волоса тараторит и баламутит внутри его, пытаясь выбраться наружу. Может быть, Длинный Волос слышит эти слова ушами Паха Сапы, видит Столбы глазами Паха Сапы и представляет себе громадные скульптуры названных лакота (Робинсон, конечно, не станет предлагать высечь и скульптуру Кастера), заглядывая в мысли Паха Сапы. Паха Сапа не знает. Он много раз задавал себе подобные вопросы, но хотя призрак и разговаривает с ним по ночам, Паха Сапа не знает, видит ли тот и слышит ли через него, проникает ли в его мысли, как обречен это делать Паха Сапа, читающий мысли Длинного Волоса. — Так ты, Билли, знал Сидящего Быка? Голос Доана Робинсона звучит озабоченно, может быть, смущенно, словно он опасается, что обидел индейца лакота, которого он называет Билли Вялый Конь. — Совсем немного, мистер Робинсон. Паха Сапа старается говорить как можно дружелюбнее. — Я время от времени встречался с Сидящим Быком, но я был всего лишь мальчишкой, когда он сражался, потом сдался, а потом был убит индейцем-полицейским, который пришел его арестовывать.
Дорогой мистер Тафт! Южная Дакота открыла великолепный парк штата в Черных холмах. Прилагаю брошюру, в которой Вы найдете описание некоторых его достопримечательностей. На обложке Вы увидите шпили — мы называем их Столбами, — расположенные высоко на склоне Харни-пика. Вершины тех, что Вы видите на обложке, находятся на высоте более 6300 футов над уровнем моря. Столбы эти гранитные. Помня о Вашем проекте «Большой индеец», я подумал, что некоторые из шпилей представляют собой прекрасную основу для громадных скульптур, и я пишу Вам, чтобы узнать, можно ли, по Вашему мнению, высечь из этих глыб человеческие фигуры. Я при этом думаю о некоторых заметных деятелях народа сиу, таких как Красное Облако,[29] который жил и умер под сенью этих столбов. Если один из них окажется пригодным, то в конечном счете станет понятно, как использовать другие. Эти шпили находятся непосредственно над хайвеем, они стоят отдельно на основаниях. Их высота около сотни футов, и они хорошо видны с разных точек. У этого гранита довольно грубозернистая текстура, но он очень прочен. Поблизости видны также высокие белые стены, на которых можно высечь групповые рельефы. Показанные столбы дают только общее представление о пейзаже, многие другие выглядят еще лучше — всего несколько футов в диаметре, они исключительно выигрышны. Буду рад получить от Вас ответ, и, если Вам мое предложение покажется реализуемым, мы, возможно, пригласим Вас, чтобы Вы могли увидеть все это собственными глазами. Искренне ВашДоан Робинсон.
Виваньяг вачипи, танец Солнца около Дир-Медисин-рокс, за две недели до того, как они убили Длинного Волоса, продолжался всего два дня. Мальчики постарше, юноши, приехавшие на обряд посвящения, лежали у основания высокого вага чуна, теперь украшенного с помощью краски, шестов и ленточек. Подобным же образом Сильно Хромает и другие шаманы раскрасили мальчиков и молодых мужчин, которые стояли не шелохнувшись и не плача, когда вичаза вакан надрезали полоски кожи на их груди или спинах, чтобы под сильные грудные или спинные мышцы можно было засунуть петельки сыромятной кожи, к которым обычно были привязаны маленькие кусочки дерева. Потом эти петельки длинными лентами прикреплялись к самой вершине вага чуна. Потом молодые люди, по раскрашенному телу которых сочилась кровь, вставали и начинали петь и танцевать, то подаваясь к священному дереву, то отходя от него так, что лента натягивалась и готова была вырвать кусочек сыромятной кожи из-под их мышц. И, распевая и танцуя, они всегда смотрели на солнце. Иногда они танцевали целых два дня подряд. Но чаще они танцевали и прыгали, пока не теряли сознания от боли или — если им везло и Вакан Танка улыбался им — пока кусочек кожи не прорывал мощную спинную или грудную мышцу и они таким образом не освобождались. Сидящий Бык в юности не раз танцевал так, но теперь, на глазах Паха Сапы, Сильно Хромает и двух тысяч других, смотревших на происходящее летом 1876 года, он, обнаженный до пояса, подошел к вага чуну и сел спиной к священному дереву. Паха Сапа помнит, что заметил крохотную дырочку в подошве одного из старых, но красиво обшитых бусинами мокасин. Прыгающий Бык, друг Сидящего Быка, подошел, напевая, к вождю, опустился на колени рядом с ним, прожившим сорок две зимы, и с помощью стального шила приподнял кожу снизу на руке Сидящего Быка. Осторожно, чтобы не повредить мышцу, Прыгающий Бык вырезал квадратик кожи — размером с ноготь на мизинце Паха Сапы. Потом вырезал еще такой же кусочек. Прыгающий Бык подошел к правой руке Сидящего Быка и в общей сложности вырезал пятьдесят таких квадратиков. Все это время, не обращая внимания на кровотечение и никак не реагируя на боль, Сидящий Бык распевал молитвы, прося милости для своего народа и победы в предстоящем сражении с вазичу. Срезание кожи с правой руки Сидящего Быка, как помнит Паха Сапа (думая теперь о времени в понятиях вазикуна), заняло около сорока пяти минут. После этого Прыгающий Бык принялся срезать еще пятьдесят кусочков с левой руки Сидящего Быка. Когда Прыгающий Бык закончил срезать квадратики кожи с рук Сидящего Быка, на его живот, набедренную повязку, ноги и землю вокруг вага чуна стекло больше крови, чем было на нем обрядовой краски, Сидящий Бык встал и, продолжая распевать и молиться, протанцевал остаток этого долгого июньского дня, и всю ночь полной луны, и половину следующего влажного, знойного, безоблачного, наполненного жужжанием насекомых дня. Когда вождь уже терял сознание, его подхватил старый друг Сидящего Быка — Черная Луна. И тогда Сидящий Бык прошептал что-то Черной Луне, а Черная Луна встал и прокричал ждущим тысячам: — Сидящий Бык хочет, чтобы я сказал вам: он только что слышал голос: «Я даю тебе это, потому что у них нет ушей», и тогда Сидящий Бык поднял глаза и увидел над собой и над всеми нами солдат, нескольких наших вольных людей природы и наших союзников на конях, и много вазичу падали, как кузнечики, и головы их клонились, и шляпы слетали с них. Вазичу падали прямо на нашу стоянку. И Паха Сапа помнит радостный крик, который разнесся по деревне, когда люди услышали про это видение. Они знали, что в видении Сидящего Быка у синих мундиров не было ушей, так как вазикуны не хотели слышать, что лакота и шайенна хотят одного — чтобы их оставили в покое, и что лакота отказываются продавать свои любимые Черные холмы. Женщины будут протыкать швейными шилами барабанные перепонки мертвых вазичу на поле боя, чтобы открыть эти уши. И на этом виваньяг вачипи закончился по прошествии всего двух дней, и после этого победного видения Сидящего Быка тысячи людей переместились на юго-запад и образовали более крупную стоянку на Сочной Траве, где Длинный Волос и его солдаты вазичу из Седьмого кавалерийского полка пойдут на них в атаку и где призрак Длинного Волоса вселится в Паха Сапу.
Паха Сапа покидает историка и «нэш» с наступлением темноты. Уже идет снег — слабый, но постепенно усиливающийся. Доан Робинсон следует за Паха Сапой по дорожке туда, где Паха Сапа натягивает свою просторную кожаную куртку, кожаные перчатки, кожаный шлем и очки — все это лежит у него в коляске мотоцикла. Снежинки летят горизонтально под горящим уличным фонарем над ними. — Билли, погода неважная. Останься на ночь. Дорога до Дедвуда ужасная даже днем и в сухую погоду. А через полчаса там и на машине, наверное, будет не проехать. — Ничего, мистер Робинсон. У меня есть где остановиться по пути… если уж придется. — Красивый мотоцикл. Я никогда не обращал на него внимания. Это американский? — Да. «Харлей-дэвидсон джей» тысяча девятьсот шестнадцатого года. — По крайней мере, у него есть фара. — Да. Это первый мотоцикл такого класса с фарой. Правда, луч у нее слабоват, и она неустойчива. К тому же фара сломана. Все время собираюсь ее починить. — Оставайся на ночь у нас, Билли. Паха Сапа перекидывает ногу через седло. Мотоцикл прекрасен — удлиненный, холеный, голубого цвета с красновато-оранжевой надписью «харлей-дэвидсон». Над сломанной фарой расположен коротенький клаксон, который находится во вполне рабочем состоянии. Трубка воздушного коллектора имеет искривленную форму, на взгляд Паха Сапы, это настоящее произведение искусства — впускной смеситель питает надежный простенький четырехтактный двигатель с V-образным расположением цилиндров объемом шестьдесят один кубический дюйм. Он первый в своем классе имеет кик-стартер. У мотоцикла мягкое кожаное сиденье для пассажира над задним колесом (правда, без спинки), и хотя коляска съемная, Паха Сапа всегда ездит с ней — возит свои инструменты. Он ключом врубает магнето с задней стороны двигателя. Три удара по кик-стартеру — и двигатель, взревев, оживает. Паха Сапа дает газку, а потом сбавляет обороты, чтобы слышать историка. — Билли, он такой красивый! Давно у тебя этот мотоцикл? — Это не мой. Моего сына. Он дал мне им попользоваться, пока не вернется с войны. Доан Робинсон дрожит от холода. Потирает щеки. — Но война закончилась уже… О, господи боже мой… — Доброй ночи, мистер Робинсон. Пожалуйста, дайте мне знать, если мистер Лорадо Тафт вам ответит.
9 К востоку от Тощей горки на Гранд-ривер, в девяноста милях к северу от Черных холмов
Июль 1876 г. На обратную дорогу с реки Сочная Трава у Паха Сапы и Сильно Хромает уходит гораздо меньше времени, но известие об уничтожении Длинного Волоса уже дошло до их деревни — его на быстрых конях принесли молодые воины из их рода и другие группы лакота, проезжавшие мимо. Известие о поражении Седьмого кавалерийского полка и Пехин Ханска Казата, гибели Длинного Волоса, в ту неделю распространяется по миру племен, населяющих Великие равнины, быстрее, чем по армии вазичу и их телеграфным линиям. В течение нескольких дней после его возвращения ни у кого нет времени или интереса, чтобы выслушать рассказ Паха Сапы о деянии славы и переселении в него призрака. Паха Сапа всегда сожалел, что в то утро после встречи с Сидящим Быком, Долгим Дерьмом и другими у него не было времени, чтобы подняться на холм и показать им тело вазикуна, чей призрак вселился в него. В то утро на севере был виден столб пыли, там майор Рено и его еще оставшиеся в живых солдаты сражались, прижатые к склону холма в трех милях от того места, где Паха Сапа прикоснулся к умирающему вазикуну; и если вазичу думали, что у индейцев сохраняется численное превосходство, то разведчики Сидящего Быка, Шального Коня и других вождей знали, что оттуда, откуда пришел Кастер со своими людьми, движется много конников в синих мундирах, и это почти наверняка генерал Терри, который наступает с того же перевалочного пункта — там, где в месте слияния Йеллоустон-ривер и реки Роузбад причалил к берегу пароход «Дальний Запад». Сидящий Бык был слишком занят — нужно было сняться со стоянки, оставить в вигвамах павших смертью храбрых, договориться о месте встречи различных групп воинов, а потому не мог отправиться на холм с Паха Сапой и Сильно Хромает в то утро, а когда Паха Сапа на восходе солнца повел тункашилу вверх по склону оврага, они увидели свежие войска вазичу на северном горизонте и быстро вернулись в долину к своему разобранному вигваму и оставленным пони. Громадная деревня снялась за два часа (остались только типи, каркасы для мертвых и шесты для типи, которые не забрали с собой, потому что на это не оставалось времени, — унесли только шкуры), и к тому времени, когда ближе к вечеру вазичу спустились в долину, Сидящий Бык увел около восьми тысяч лакота и шайенна на запад к горам Биг-Хорн, где разделил их на две колонны, одну направил на юго-запад, а другую — в которой были Паха Сапа и Сильно Хромает — на юго-восток. От этих двух основных потоков стали отделяться роды и отдельные семьи, которые разбрелись по коричневым долинам или направились к горам. В деревне Паха Сапы неподалеку от Тощей горки ночи были почти такими же, как первая ночь у Сочной Травы: странное сочетание траура и ликования, но, поскольку из рода Сердитого Барсука в этих двух больших сражениях (первое сражение с генералом Круком на юге, второе — с Кастером) погибли только два воина, слабые траурные костры и утренние самобичевания совсем потерялись среди затянувшегося за полночь празднества. В первые дни новой луны, Луны красных вишен, появился слух, что, хотя многие воины, участвовавшие в сражении у Сочной Травы, потихоньку возвращаются в различные агентства и резервации, люди Сидящего Быка и воины Шального Коня не расходятся, продолжая войну. Спустя несколько дней Одинокая Утка, воин из рода Сердитого Барсука (и еще один двоюродный брат Женщины Три Бизона), который не расставался с Шальным Конем уже три боевых сезона, приезжает сообщить, что Сидящий Бык и Шальной Конь попрощались — последние слова вождя, обращенные к более молодому воину, были такими: «Мы хорошо проведем время!» — и Сидящий Бык направит свои многочисленные семейства и относительно небольшое число молодых воинов зимовать в страну Бабушки (Бабушкой зовется королева Виктория) на дальнем севере, а Шальной Конь, чьи последователи почти все молодые воины, двигается в направлении Тощей горки, убивая вазичу, если они попадаются ему на пути. Но потом приходит еще один слух, что вазичу пришли в бешенство, узнав о смерти Длинного Волоса и более чем двух сотен его людей. Отовсюду движутся колонны солдат. Воины приносят известия, что один из родов шайенна был атакован в долине к северо-западу от агентства Красного Облака подразделениями Пятого кавалерийского полка и солдаты теперь бахвалятся тем, что за тридцать один час преодолели восемьдесят пять миль, чтобы перехватить шайенна, которых даже не было на Сочной Траве и которые не имеют никакого отношения к смерти Кастера. Проходящие мимо разведчики сообщают, что почти все остатки Седьмого кавалерийского вернулись в базовый лагерь у истоков Йеллоустон-ривер и, ожидая там приказа, пьют много виски (который привозят с низовьев реки разные пароходы). Лакота, шайенна и даже некоторые кроу, которые всегда были друзьями Кастера и его кавалерии, сообщают из агентств, что боятся мести бледнолицых. Три Звезды, генерал Крук, которого Шальной Конь здорово побил на Роузбаде за девять дней до гибели Длинного Волоса, и командир Длинного Волоса генерал Терри, как сообщается, дождались подкреплений и вскоре двинутся вверх по Роузбад-Вэлли. Разведчики лакота в особенности подчеркивают то, что старый враг индейцев — разведчик по имени Коди, прославившийся убийством множества бизонов,[33] — по прошествии многих лет вернулся в армию, чтобы помочь Круку, Терри и другим вазикунам найти лакота и шайенна и убить их. Все в деревне согласны с тем, что Коди — достойный соперник и что его длинные, ниспадающие волной волосы, почти такие же роскошные, какие были когда-то у Длинного Волоса, будут достойно смотреться на шесте типи любого воина. Несмотря на то что он почти не спит — ему мешает неугомонный, бубнящий и разговаривающий все ночи напролет голос внутри его, — Паха Сапа надеется, что остальные забудут о призраке из-за всей этой суматохи, страхов и ночных празднований, приходов и уходов людей из других родов. Но призрак не забыт. Ирония судьбы в том, что само присутствие других родов, их вождей и шаманов теперь привлекает внимание к Паха Сапе и его призраку.По мере того как надвигающиеся события начинают определять атмосферу на Великих равнинах, Паха Сапа видит и чувствует сумятицу, охватившую его маленькую тийоспайе, вигвамную группу. Вождь их рода, Сердитый Барсук, редко ведет себя в соответствии со своим именем. Лакота считают, что барсук — самое свирепое животное на земле, а его кровь обладает магическими свойствами. (Так, например, если посмотреть в сосуд с барсучьей кровью, то можно увидеть себя в далеком будущем.) Известно, что барсуки хватают лошадей и утаскивают в свои норы, а воины в ужасе смотрят на это. Сердитый Барсук — невысокий, крепкого сложения человек, проживший около пятидесяти зим. Лицо у него широкое, плоское, женственное и почти всегда хмурое, но безудержный гнев оно выражает редко. Ему свойственны меланхолия и нерешительность, и он никогда не был Решателем — не входил в группу вождей, выбираемых ежегодно, чтобы осуществлять надзор за охотой родов оглала и для назначения акисита, племенной полиции. Он принимает решения с осторожностью и всегда полагается на мудрость ведущих воинов и охотников своего маленького рода, а в особенности на советы Сильно Хромает и старого, становящегося с каждым годом все более немощным Громкоголосого Ястреба. А теперь, когда знаменитые воины, их телохранители и сражающиеся роды наводнили Тощую горку и южное разветвление Гранд-ривер, куда Сердитый Барсук привел своих людей для охоты на бизонов до наступления зимы, вождь стал совсем невменяемым. В молодости Сердитый Барсук был отважным воином — род сочинил песни, увековечивающие его деяния, — но вождь он плохой, и свежесть его юношеских подвигов увядает все сильнее с каждой осенью, прошедшей с тех пор, как он в последний раз выходил на тропу войны. Паха Сапа, которому до одиннадцати зим осталось подождать совсем немного, поражается личностям тех, кто ненадолго останавливается в их тийоспайе или разбивает стоянку неподалеку. (Несколько десятилетий спустя, читая «Илиаду» Гомера в переводе Чапмана,[34] взятую из библиотеки Доана Робинсона, Паха Сапа проникается симпатией к Сердитому Барсуку, когда доходит до того места, где Агамемнон испытывает чувство зависти в присутствии Ахилла и других героев-полубогов.) Среди знаменитых воинов, что находятся теперь на расстоянии нескольких часов или дней езды от их деревни, есть и сам Шальной Конь — харизматичный воин, который грозится сместить Сидящего Быка с поста военного вождя, потому что пожилой вождь бежит в страну Бабушки, тогда как Шальной Конь вместе с некоторыми из своих друзей и единомышленников, наводящих ужас на бледнолицых, продолжает ежедневно атаковать и убивать вазичу. Среди пришедших — Черная Лиса и Собака Идет, отважные Беги Бесстрашно, Лягающийся Медведь, Бык Больное Сердце и Летающий Ястреб. Каждый из них — глава или вождь воинов, по праву заслуживший свое положение, и за каждым тянется след собственных легенд, как за Ахиллом с его мирмидонянами.[35] Кроме подчиненных Шальному Коню вождей его сопровождают группы акисита, телохранителей из племенной полиции, у каждого из них боевая раскраска и внешний вид более броские, чем у Шального Коня, и среди них Смотрящий Конь, Короткий Бык и Низкая Собака из народа оглала, а также странноватый миннеконджу Пролетая Мимо, который так жаждет разделить растущую военную славу Шального Коня, что, говорят, поскакал бы на восток, чтобы попытаться захватить самого Бледнолицего Отца, если бы Шальной Конь ему приказал. Другие вожди акисита, которые приходят на южное разветвление Гранд-ривер в то знойное, влажное, грозовое лето, — это близкие друзья Шального Коня: Лягающийся Медведь и Маленький Большой Человек. Последний (названный так за невысокий рост и коренастое сложение; шрамы от танца Солнца на груди Маленького Большого Человека такие жуткие, каких Паха Сапа еще не видел, а Маленький Большой Человек ходит обнаженным по пояс до самого глубокого снега, когда демонстрировать их уже трудновато из-за холода) пользуется особой славой среди лакота, и, как только он появляется, женщины, дети и старики из рода Сердитого Барсука собираются и толкаются, чтобы увидеть воина и прикоснуться к нему. (Паха Сапа слушает, как Маленький Большой Человек у главного костра в первую ночь приезда рассказывает о своих подвигах на Сочной Траве, и думает, что такая нескромность выглядит неподобающе рядом с молчанием Шального Коня и его нежеланием говорить о своих победах, но мальчик понимает, что эти двое взаимно дополняют друг друга. Маленький Большой Человек — гроза и воспитатель недисциплинированных или непослушных молодых воинов, которые следуют за ними; Шальной Конь — молчаливая и наводящая страх живая легенда.) Сердитый Барсук, который не участвовал ни в сражении на Сочной Траве, ни в сражении с Круком на Роузбаде неделей ранее, поскольку предпочел остаться со своим маленьким родом и вести его на север после добычи последнего в этот сезон бизона, хранит молчание и хмурится во время этих визитов. История сражения на Сочной Траве и уничтожения Пехина Хански — Длинного Волоса, Кастера, все больше сводится к поединку между Пехином Хански и Шальным Конем и все меньше — к руководству Сидящего Быка, который на восемь зим старше Длинного Волоса и был слишком ослаблен жертвоприношениями своей плоти во время танца Солнца, а потому не мог участвовать в сражении. Паха Сапе с помощью Сильно Хромает становится все понятнее, что видение Сидящего Быка всегда будет считаться чудом, вакан, а руководство Шального Коня и его участие в сражении в тот день превращается в ту материю, из которой создаются боги. И конечно, в ходе своего первого четырехдневного пребывания в тийоспайе Сердитого Барсука (вдоль ручья, текущего у Тощей горки, было возведено двадцать новых вигвамов — больше, чем было во всей деревне) Шальной Конь узнает, что во время схватки на Сочной Траве в мальчика Паха Сапу вселился призрак, и военный вождь выражает желание встретиться с мальчиком в вигваме Сильно Хромает. Паха Сапа приходит в ужас. Он прекрасно помнит выражение отвращения на лице Т’ашунки Витко в день сражения, когда почти обнаженный воин хейока нашел Паха Сапу, который, целый и невредимый, лежал на холме среди мертвых и никак не мог набрать воздуха в легкие. Но пусть и охваченный ужасом, Паха Сапа понимает, что встреча в вигваме Сильно Хромает с Шальным Конем на следующий вечер после первого приезда военного вождя — это большая честь. Погода стоит невероятно жаркая и влажная, и хотя с заходом удлиняются тени от редких тополей, типи, лошадей и травы, сумерки не приносят облегчения от жары. Тяжелые грозовые тучи собираются на юге, севере и востоке. Боковины типи подняты настолько высоко, насколько это позволяют правила приличия и личной жизни (в вигваме Сильно Хромает — почти на длину руки взрослого человека), но под тяжелыми крашеными шкурами не чувствуется ни малейшего дуновения ветерка. Паха Сапа удивлен, что допрос ему учинять собираются только Шальной Конь, один из его помощников Беги Бесстрашно, их собственный вождь Сердитый Барсук, шаман Долгое Дерьмо, старый Громкоголосый Ястреб и Сильно Хромает. Женщин из вигвама отослали. Хотя известно, что Шальной Конь любит уединение и нередко бродит в одиночестве целыми днями, а то и неделями, за время его посещения тийоспайе Сердитого Барсука не было ни одного мгновения, когда его не окружали бы телохранители, другие вожди, воины и люди Сердитого Барсука. Почему-то тот факт, что здесь только Шальной Конь, Беги Бесстрашно, Долгое Дерьмо, Громкоголосый Ястреб и тункашила Паха Сапы, вселяет в мальчика еще больший страх. Ноги у него дрожат под лучшими его штанами из оленьей шкуры. Сильно Хромает представляет его, хотя Паха Сапа мельком уже и был представлен Шальному Коню на Сочной Траве. После этого шесть мужчин и мальчик садятся в кружок. Шкуры вигвама опущены пониже для вящей конфиденциальности, и в душном, застоялом воздухе с носов и подбородков собравшихся капает пот. Разговор начинается без трубки, без церемонии, без вступления. Шальной Конь мрачно смотрит на Паха Сапу с таким же безразличием и явно с таким же отвращением, с какими он смотрел на него двумя неделями ранее на поле боя. Начав говорить, он обращает вопросы напрямую к Паха Сапе, и голос у военного вождя тихий и властный. — Долгое Дерьмо и другие говорят мне, что ты можешь видеть прошлое и будущее людей, если прикоснешься к ним. Это верно? Сердце у Паха Сапы колотится как сумасшедшее, от этого даже голова начинает кружиться. — Иногда… Он хотел прибавить почтительное обращение к своему ответу, но «ате» — «отец», кажется ему, не подходит этому свирепому человеку. Он оставляет свой ответ без обращения, надеясь, что не получит удар кулаком по носу за неуважение. — А правда ли, что призрак вазикуна вошел в тебя неподалеку от того места, где я видел тебя во время сражения на Сочной Траве в тот день, когда мы убили Пехина Ханску, — ты там валялся без всякого дела? — Да, Т’ашунка Витко. Паха Сапа надеется, что произнесение имени Шального Коня с должным уважением заменит почтительное обращение. Хмурое выражение на лице Шального Коня не меняется. — И это был призрак Длинного Волоса? — Не знаю, Т’ашунка Витко. — Он говорит с тобой? — Он говорит… сам с собой. В особенности по ночам, когда я слышу его лучше всего. — И что он говорит? — Я не знаю, Т’ашунка Витко. Он произносит много слов и очень быстро, но все эти слова на языке вазикуна. — И ты не понимаешь этих слов? — Нет, Т’ашунка Витко. Прости меня. Шальной Конь качает головой, словно извинение Паха Сапы злит его. — Есть ли такие слова, которые призрак повторяет много раз? Паха Сапа облизывает губы и задумывается. Со стороны Черных холмов доносится удар грома. Где-то смеется ребенок. Раздаются визгливые голоса двух женщин, словно они играют в какую-то игру. В тяжелом летнем воздухе Паха Сапа чувствует запах конского пота и навоза. — Есть одно слово… Ли-Би… Т’ашунка Витко. Призрак повторяет его снова и снова. Ли-Би. Но я понятия не имею, что оно значит. Он произносит его с болью, будто оно источник раны. Шальной Конь смотрит на Беги Бесстрашно, Долгое Дерьмо, Громкоголосого Ястреба, но ни вождь, ни шаман не знают этого слова вазичу. Сердитый Барсук тоже качает головой, он, кажется, раздражен и Паха Сапой, и вообще разговором. Шальной Конь переводит свирепый взгляд на тункашилу Паха Сапы, но Сильно Хромает только пожимает плечами. Тогда Шальной Конь гаркает, поворачиваясь к Беги Бесстрашно: — Приведи сюда кроу. Возвращаясь, Беги Бесстрашно толкает и тащит пленника кроу. Руки пленника связаны спереди, а ноги спутаны, как у стреноженного коня. Паха Сапа сразу же догадывается, что это один из разведчиков кроу, продавшихся Седьмому кавалерийскому, он был захвачен в плен воинами Шального Коня на Сочной Траве и пока что оставлен в живых. Его лицо распухло и в синяках, один глаз, кажется, затек навсегда, и кто-то играючи пытал пленника — три пальца на его правой руке отсутствуют, одно ухо и два пальца на левой руке отрезаны. Не в первый раз (и не в последний) Паха Сапа чувствует внутри себя странную реакцию: волну отвращения или, возможно, неодобрения — но это не его реакция. Тот Паха Сапа, который прожил почти одиннадцать зим, не чувствует сострадания к плененному врагу. И это явно не реакция поселившегося в нем призрака — Паха Сапе не передаются эмоции или мысли призрака, он слышит только его бесконечные разговоры на языке вазичу. Нет, скорее, это другой, может быть, постаревший Паха Сапа внутри Паха Сапы нынешнего, который всегда наблюдает и реагирует на происходящее несколько иначе, чем мальчик по имени Паха Сапа. Это беспокоит его. — Вот один из разведчиков Длинного Волоса, — говорит Шальной Конь. — Жаль, что нам не удалось взять в плен тех четырех, что были ближе других к Длинному Волосу, — Кудрявого, На Побегушках-у-Бледнолицего, Идет Впереди и Волосатого Мокасина. Имя этого не имеет значения. Кроу кряхтит, словно подтверждая имена других разведчиков. Паха Сапа видит, что у пленника отсутствуют все передние зубы. Шальной Конь поворачивается к Беги Бесстрашно. — Спроси его на языке кроу, не знал ли Длинный Волос кого-то по имени… Он смотрит на Паха Сапу. — Ты слышал какое-то имя вазичу в снах своего призрака? Какое? Сердце Паха Сапы бешено колотится. — Ли-Би. Беги Бесстрашно задает вопрос на языке кроу. Некоторые слова Паха Сапа узнает (языки лакота и кроу родственны), и потом Беги Бесстрашно повторяет вопрос на разный манер. На лице кроу появляется неторопливая улыбка. Он произносит короткую фразу, которая вызывает явное недовольство Беги Бесстрашно. — Что он сказал? — нетерпеливо спрашивает Шальной Конь. — Он говорит: «Зачем мне сообщать вам что-то о Длинном Волосе? Вы все равно будете пытать меня, а потом убьете». Шальной Конь достает длинный нож из ножен, украшенных бусинами. — Скажи ему: если он ответит честно и скажет все, что знает, то умрет быстро, как мужчина. Если нет, то у него не останется мужского достоинства, с которым он мог бы умереть. Улыбка исчезает с лица кроу. Он выкрикивает какие-то слова, и Беги Бесстрашно повторяет… — Ли-Би. Несмотря на боль, кроу вроде бы опять улыбается. Сквозь распухшие губы и десны он, словно пережеванную кашу, выплевывает несколько предложений. Беги Бесстрашно несколько секунд смотрит на кроу, прежде чем перевести. — Он говорит, что это слово часто произносилось в форте и на марше. Эта Ли-Би — женщина Длинного Волоса, его женщина. Элизабет Бекон Кастер. Длинный Волос называл ее Ли-Би. Все взрослые в вигваме, включая кроу, какое-то мгновение хранят молчание. Они по-новому смотрят на Паха Сапу. Долгое Дерьмо нарушает молчание за секунду до того, как новый удар грома прокатывается по деревне. Звук такой низкий и громкий, что шкуры на типи вибрируют, как кожа на барабане. — Черные Холмы носит в себе призрака Длинного Волоса Кастера. Шальной Конь кряхтит и вполголоса говорит, обращаясь к Беги Бесстрашно: — Выведи кроу и убей его. Одной пулей. В голову. Скажи ему, что его тело не будет искалечено, его похоронят, как положено. Он заслужил смерть воина. Кроу, кажется, понял слова Шального Коня и, когда Беги Бесстрашно выводит его, ковыляющего, начинает бормотать слова своей песни смерти. Сильно Хромает, шевельнувшись, начинает говорить: — Ты же не поверил этому человеку, Т’ашунка Витко. У этого кроу есть все основания, чтобы солгать тебе. Откуда третьестепенному разведчику может быть известно имя женщины Длинного Волоса? Шальной Конь в ответ на это только кряхтит. Снаружи доносится короткий, глухой звук пистолетного выстрела. Постоянный фоновый шум деревни — привычный, успокаивающий и неслышный, как и неизбежный треск кузнечиков поздним летом здесь, на равнине, — на секунду стихает. Шальной Конь продолжает смотреть на Паха Сапу. — Теперь выйдите все. Я хочу поговорить с мальчиком с глазу на глаз. Паха Сапа чувствует, что Сильно Хромает не хочет выходить, он перехватывает взгляд своего дедушки, видит его, не может понять, что пытается сказать шаман этим взглядом, но Долгое Дерьмо, Сердитый Барсук, Громкоголосый Ястреб и Сильно Хромает встают и выходят, закрывая за собой клапан типи. Паха Сапа смотрит в глаза Шального Коня и думает: «Этот человек может меня убить». Шальной Конь подсаживается поближе к мальчику и хватает его за плечо. Сильно хватает. — Ты можешь видеть будущее человека, Черные Холмы? Можешь? — Я не знаю, Т’ашунка Витко. Думаю, что могу. Иногда… Шальной Конь встряхивает десятилетнего Паха Сапу так, что зубы его стукаются друг о дружку, как семена в тыкве. — Можешь или нет? Видишь ли ты судьбу человека? Да или нет? — Я думаю, что иногда могу, Т’ашунка Витко… Шальной Конь еще сильнее встряхивает Паха Сапу, потом с такой силой хватает его за руку, что тому кажется, кости его вот-вот треснут. — К черту твое «иногда»! Скажи мне одну вещь, которую я должен знать. Умру ли я от рук вазичу? Ответь «да» или «нет», или клянусь Ваканом Танке и существами грома, которым я служу, что сегодня же убью тебя. Умру ли я от руки какого-нибудь вазикуна из вазичу? Да или нет? Шальной Конь тянет раскрытые руки Паха Сапы к своей мощной, мускулистой и покрытой шрамами груди и с силой прижимает к себе маленькие пальцы и ладони. Паха Сапа вздрагивает, словно его ударила молния. Воздух внутри типи внезапно начинает пахнуть озоном. Глаза мальчика под трепещущими веками закатываются, и он предпринимает слабую попытку отодвинуться от Шального Коня, но тот крепко держит его. Из далекого далека Паха Сапа слышит раскат настоящего грома и не менее низкое требовательное рычание Шального Коня: — Умру ли я от рук вазичу? Убьет ли меня бледнолицый? Да или нет?
Это похоже на другие видения, которые были у Паха Сапы: вспышки образов, взрывы звуков, странное отсутствие цвета и связного содержания, отсутствие возможности влиять, отсутствие понимания того, что происходит, где и когда, — но на сей раз черно-белые образы становятся четче, быстрее и ужаснее. Паха Сапа чувствует страх и отчаяние Шального Коня. По мятущимся, испуганным, непокорным, скачущим мыслям Шального Коня он узнает лица и вспоминает имена. Они находятся в некоем подобии лагеря вазичу — в форту, укреплении, агентстве, но Паха Сапа никогда не видел такого места и не узнает его, и все более отчаянные мысли Шального Коня не дают ему никакой подсказки. Стоит жара, как летом или очень ранней осенью, но какой это год, Паха Сапа не знает. Он видит глазами Шального Коня, но одновременно он находится выше напирающей толпы, смотрит на Шального Коня и окружающих его сверху, словно он, Паха Сапа, видит все глазами ворона или воробья, а потому ему ясно, что Шальному Коню почти столько же лет, сколько сейчас, вот в это мгновение, когда он трясет Паха Сапу и прижимает его внезапно похолодевшие ладони к своей груди воина и… — Я пленник? Это Литл-Бордо-Крик в пятнадцати милях от того места, где разведчики заявились в лазарет, там царят шум и гам; на Шардон-Крик пасется скот. Лакота на коне. Теперь они в лагере, вокруг бревенчатые здания, две сотни, три сотни индейцев лакота, но еще бруле и другие: Большая Дорога, Железный Ястреб, Поворачивающийся Медведь, миннеконджу Деревянный Нож, какой-то вазикун… Звуки «ка-пи-тан Кен-нинг-тон» стучат в мозгу Паха Сапы, как удары томагавком… и еще бруле: Быстрый Медведь, Черный Ворон, Воронова Собака, Стоячий Медведь… Бордо, переводчик Билли Гарнет… и Коснись Облаков с сыном, а еще Быстрый Гром… ведут Шального Коня, люди кричат, Шального Коня тащат в одно из строений форта вазичу… на страже стоят солдаты в синих мундирах… — Что это за место? Кто это кричит — Шальной Конь? Паха Сапа не знает. Он пролетает над массой голов: черные волосы, скрученные в косички, широкополые, пропитанные потом шляпы, перья; а теперь он снова внизу, перед глазами Шального Коня, которого тащат вперед, вперед, в маленький дом Маленький Большой Человек и ка-пи-тан Кен-нинг-тон. — Я не пойду туда. Толкотня. Вопли. Крик разведчика: «Иди! Пистолет у меня! Делайте с ним что хотите!» Шальной Конь пытается вырваться из цепких рук, прыгает вперед — прочь из темноты, к свету. Маленький Большой Человек кричит: «Племянник, не делай этого! Не делай этого, племянник! Племянник! Нет! Не делай этого!» — Отпустите меня! Уберите руки… Отпустите… меня! Поднимаются клинки, поднимаются ружья. Это штыки вазичу на ружьях в руках вазичу. Шальной Конь достает свой нож для резки табака, вспарывает плоть Маленького Большого Человека между большим и указательным пальцами. Маленький Большой Человек вскрикивает, а Шальной Конь принимается полосовать его предплечье ножом, представляя себе при этом, что срезает длинные полоски мяса с белой оленьей кости. — Убейте этого мерзавца! Убейте этого мерзавца! Убейте эту сволочь! Убейте его! Убейте его! Убейте этого мерзавца! — это кричит Кен-нинг-тон. Это язык призрака, поселившегося в Паха Сапе, и он все еще не понимает этого языка. Но видит, чувствует и понимает, как в лицо Шального Коня попадает плевок, а вазикун тем временем продолжает кричать солдатам в синих мундирах и охранникам с поднятыми ружьями и штыками. Возможно, охранник вазичу за спиной Шального Коня хочет только подтолкнуть его штыком, но Шальной Конь в этот миг резко подается назад, теряет равновесие, и клинок, который должен был лишь разорвать одежду на Шальном Коне над его левой ногой, вонзается в нижнюю часть спины военного вождя, а дальнейшее движение загоняет сталь еще глубже — в почки и кишечник. Шальной Конь мычит. Паха Сапа вскрикивает, но продолжает, словно птица, парить наверху, под крышей, — парить и в то же время видеть глазами Шального Коня. Накатывает красная волна, Шальной Конь мычит от боли. Охранник вазичу выдергивает штык, приклад ударяется о бревенчатую стену внутри сторожевой будки, а потом (словно придя в ужас, как и все остальные, но осененный ужасным деянием), будто по команде (на раз, два, три — но только молча), вазичу снова тычет штыком, острие которого глубоко уходит в тело Шального Коня между ребрами и вверх в захрипевшее левое легкое (отчего вождь на несколько мгновений теряет дыхание и дар речи), после чего охранник, крякнув, снова вытаскивает штык, сталь легко и безразлично выходит из кровоточащей плоти Шального Коня. — Отпустите меня теперь. Это негромкий голос Шального Коня среди воплей, криков, суеты, толкотни и воплей. — Отпустите меня теперь. Вы меня убили. Стражник вазичу заходит спереди, выставляя ружье перед собой, и снова наносит удар, теперь уже спереди и в направлении живота Шального Коня. Но клинок под рукой Шального Коня проходит мимо и втыкается в дерево дверного косяка. Маленький Большой Человек держит другую руку Шального Коня и кричит, обращаясь к вазичу, призывая их сделать что-нибудь — вонзить в него штык еще раз? Дядюшка Шального Коня, миннеконджу по имени Меченая Ворона, хватает заклиненное ружье, высвобождает клинок и бьет прикладом длинного ружья в живот Маленького Большого Человека, отчего низкорослый предатель, охнув, падает на четвереньки. — Ты уже и раньше так поступал! Ты всегда суешься! Это кричит Меченая Ворона, а Шальной Конь в этот момент падает на руки Быстрого Медведя и двух других. Один из этих троих высокомерно, безумным голосом говорит раненому воину: — Мы тебе говорили, чтобы ты держал себя в руках! Мы тебя предупреждали! Шальной Конь стонет и наконец сгибается, оседает и падает. Ощущение такое, что его движение занимает несколько долгих минут. Слышно, как окружающие вазичу загоняют патроны в патронники, взводят бойки. Шальной Конь протягивает обе свои окровавленные ладони к людям вокруг — индейцам и бледнолицым. — Видите мои раны? Видите? Я чувствую, как кровь вытекает из меня! Бруле Закрытое Облако приносит одеяло, укрывает им умирающего вождя, но Шальной Конь хватает бруле за косы и начинает трясти его, хотя при этом и сам в боли и ярости дергает головой. — Вы все заманили меня сюда. Вы все говорили мне, чтобы я пришел сюда. А потом вы убежали и оставили меня! Вы все оставили меня! Пес берет одеяло из рук Закрытого Облака, складывает его в подушку и подсовывает под голову Шального Коня. Потом Пес снимает с плеча собственное одеяло и накрывает им упавшего воина. — Я отвезу тебя домой, Т’ашунка Витко. После этого Пес уходит по плацу в направлении здания.
Паха Сапа закрывает глаза, внутренние и внешние, и теперь больше не может видеть. Но он все равно продолжает видеть. Он кричит, чтобы не слышать того, что слышит. Он приходит в себя и видит Шального Коня, который стоит над ним, опустившись на одно колено, как он делал это на Сочной Траве, но на лице воина еще более свирепое выражение, чем тогда, похожее на отвращение, которого он не скрывал на поле боя. Шальной Конь брызгает водой из кувшина в лицо Паха Сапе. — Что ты видишь, Черные Холмы? Ты видишь мою смерть? — Не знаю! Я не могу… Это не… Не знаю. Шальной Конь еще сильнее встряхивает Паха Сапу, и от этого резкого движения мальчик клацает челюстями. — Я умру от руки вазичу? Вот что мне нужно знать! Шальной Конь с таким неистовством встряхивает и бьет по лицу Паха Сапу, что концовка воспоминаний мальчика смазывается. Этого не могли сделать даже зажмуренные глаза и закрытые уши. Паха Сапа готов разрыдаться. Мало того что в него вселился призрак, который бубнит и мямлит что-то по ночам, теперь Паха Сапа знает, что поток ощущений и воспоминания, которые влились в него во время контакта с Шальным Конем, почти наверняка представляют собой все воспоминания этого необычного воина с раннего детства до самой его смерти, которая произойдет через несколько секунд после окончания видения Паха Сапы. Нет сомнений в том, что рана, нанесенная Шальному Коню штыком бледнолицего солдата, будет смертельна. — Не знаю! Я не видел… окончания… завершения, Т’ашунка Витко. Шальной Конь бросает Паха Сапу на шкуры и одежды и вскакивает на ноги. Его смертоносный нож у него в руке, глаза горят безумным блеском. — Ты лжешь мне, Черные Холмы. Ты знаешь, но боишься сказать. Но ты мне скажешь. Я тебе обещаю — скажешь. Воин разворачивается и выходит. И теперь Паха Сапа начинает рыдать, он плачет, уткнувшись лицом себе в руку, чтобы Сильно Хромает и другие у вигвама не услышали этого. Он не видел, сколько времени будет Шальной Конь умирать от штыковой раны… и Шальной Конь в отрывочных видениях Паха Сапы был немногим старше того человека, который только что вышел из типи, может быть, на год, не больше чем на два… но что Паха Сапа видел, так это абсолютную решимость в сердце и мыслях Шального Коня, когда военный вождь заставил его использовать свой дар. Шальной Конь собирается убить Паха Сапу, скажет ему мальчик правду о его будущем или нет.
Паха Сапе выделили отдельный вигвам за пределами деревни. Сильно Хромает приходит к нему тем же вечером, позднее. Шальной Конь и его люди ускакали в собственную тийоспайе, но вождь сказал, что вернется к полудню следующего дня вместе с Долгим Дерьмом и другими вичаза ваканами, чтобы определить, что за вазикун поселился в мальчике, а потом изгнать призрака, даже если на церемонию изгнания потребуется несколько недель. Паха Сапе сказали, что он должен поститься и очиститься в парилке, которую воздвигли рядом с его отдельно стоящим типи. — Дедушка, я видел, что Т’ашунка Витко собирается меня убить. Сильно Хромает кивает и кладет свою громадную руку на худенькое плечо Паха Сапы. — Я согласен с тобой, Черные Холмы. У меня нет твоей способности видеть прошлое или будущее, но я согласен, что Шальной Конь убьет тебя, если ты скажешь ему, что он падет от руки вазичу или что он не падет от руки вазичу. И даже если ты будешь хранить молчание. Он уверен, что вселившийся в тебя призрак — это призрак Длинного Волоса, а Шальной Конь боится его. Он хочет, чтобы этот призрак умер вместе с тобой. Паха Сапа стыдится своих девчоночьих слез. Теперь он чувствует себя опустошенным и совсем маленьким. — Что мне делать, дедушка? Сильно Хромает выводит его из типи. В сотне шагов отсюда на северной границе деревни сверкают костры. Лает собака. Перекликаются два парня, которые охраняют лошадей, пасущихся по другую сторону ручья. На тополе у ручья ухает сова. Надвинулись низкие тучи, словно серое одеяло, накрывшее луну и звезды. С юга продолжают доноситься ворчливые раскаты грома, но еще не упало ни одной капли дождя. Невыносимая жара. Паха Сапа понимает, что в темноте стоят две лошади. Любимый конь Сильно Хромает по кличке Червь, превосходный скакун чалой масти, а рядом — кобыла с широкой спиной, принадлежащая Женщине Три Бизона. Кобыла навьючена аккуратно привязанными одеждами и утварью, а на Черве собственное одеяло Паха Сапы, лук, колчан со стрелами, копье и другие принадлежности. Сильно Хромает показывает на юг. — Ты должен покинуть деревню сегодня. Возьмешь Червя и кобылу — Женщина Три Бизона называет ее Пеханска. Ты должен ехать на итокагата, на юг, мимо Медвежьей горки на Черные холмы. Езжай подальше в Черные холмы, но будь осторожен — разведчики Шального Коня и Сердитого Барсука говорят, что бледнолицые за последние несколько лун наводнили наши священные холмы и даже построили там города. Шальной Конь поклялся перед всеми, что на следующей неделе он отправится на Черные холмы и будет убивать там всех вазичу, какие ему попадутся. — Дедушка, если Шальной Конь и его воины скоро отправятся на Черные холмы, почему ты и меня посылаешь туда? Не безопаснее ли мне отправиться на север, в страну Бабушки? — Безопаснее. И я скажу Шальному Коню, что дал тебе моих лошадей, чтобы ты отправился в страну Бабушки. — Он убьет тебя за то, что ты помог мне, тункашила. Сильно Хромает кряхтит и качает головой. — Нет, не убьет. Это развязало бы войну между родами, а Шальной Конь хочет убить в этом году тысячу вазичу, а не других лакота. Пока что. А ты должен ехать в Черные холмы, потому что там ты пройдешь ханблецею… Твое видение должно посетить тебя там — и только там. Это я точно знаю. Ты помнишь все, что я рассказывал тебе о самоочищении, строительстве парилки и молитве шести пращурам? — Я помню, дедушка. А когда я смогу вернуться? — Только после успешной ханблецеи, Паха Сапа. Даже если на это уйдут недели или месяцы. Но когда будешь скакать на юг, а потом назад, на север, будь осторожен — по возможности не поднимайся на хребты, прячься в ивах, выбирай путь по руслам ручьев, веди себя так, будто ты в стране пауни. И Шальной Конь, и вазичу убьют тебя, если только ты им попадешься. Наша стоянка будет где-нибудь между Тощей горкой и страной арикара на севере, но, даже возвращаясь в деревню, будь осторожен… Спрячься и наблюдай за деревней не меньше дня, ночи и еще дня, пока не убедишься, что там безопасно. — Хорошо, дедушка. — А теперь езжай. Сильно Хромает подсаживает мальчика на Червя, дает ему поводья Пехански — Белой Цапли — и вглядывается в полуночную темень на юге. — Я думаю, сегодня ночью начнется гроза и дождь будет идти много дней. Это хорошо. Шальному Коню будет трудно выследить тебя, а он всегда считался неважным следопытом. Но ты езжай на запад, куда повернет ручей на юге от Тощей горки, и как можно дольше оставайся в воде, а после этого старайся ехать по жесткой, каменистой земле. Если почувствуешь что-то не то — прячься. До свидания, Паха Сапа. — До свидания, дедушка. — Токша аке чанте иста васиньянктин ктело, Паха Сапа («Я увижу тебя снова глазами моего сердца, Черные Холмы»). Сильно Хромает разворачивается и спешит назад, в освещенную кострами деревню. Причмокнув, чтобы лошади вели себя тихо, Паха Сапа поворачивает их на юго-запад и скачет в ночь.
10 Джордж Армстронг Кастер
Либби, дорогая моя. Я лежал здесь, в целительной темноте, и вспоминал, как ты выглядела, когда я познакомился с тобой (официально познакомился, потому что видел я тебя еще маленькой девочкой и даже восхищался тобой в прежние годы, еще до Монро) в 1862 году на вечеринке в День благодарения в школе-пансионе для девочек. В ту ночь твои темные волосы, все в аккуратных кудряшках, ниспадали на твои голые плечи. Я помню, как был поражен, увидев темные росчерки твоих бровей над умопомрачительными, выразительными глазами и как даже при малейшей и самой целомудренной из улыбок у тебя на щеках появлялись ямочки. Той осенью тебе был двадцать один, и ты уже перестала быть худенькой девочкой в синем передничке, которую я видел время от времени на главных улицах Монро, — теперь ты созрела и налилась. Платье, которое было на тебе в вечер Дня благодарения, имело достаточно низкий вырез, чтобы я мог оценить твою пышную грудь. А осиную талию можно было обхватить пальцами двух рук. Ты помнишь последнюю осень, наш отпуск, который мы проводили в Нью-Йорке, уехав из Форт-Линкольна? Мы были так бедны (за все годы службы и, как могли бы сказать некоторые, годы славы я так и не научился извлекать материальные выгоды из службы отечеству), так бедны, что нам пришлось остановиться в жутком пансионе и ездить на различные приемы и обеды в холоднющих, продуваемых всеми ветрами конках, потому что на кеб у нас не хватало денег. У меня был гражданский костюм. Единственный. У тебя было несколько милых платьев для балов и приемов, но ты их надевала, чинила, изменяла понемногу в течение многих сезонов и таскала за собой в сундуке по прерии. Ты помнишь, что в ту холодную осень и еще более холодную зиму в Нью-Йорке мы сорок раз ходили смотреть постановку «Юлия Цезаря» — не потому, что тебе или мне так уж нравилась эта пьеса (я в конечном счете возненавидел ее), а потому, что актер и наш друг Лоренс Баррет[36] оставлял нам две контрамарки каждый раз, когда выходил на сцену. Мы сорок раз выстрадали «Юлия Цезаря» в те холодные месяцы, потому что это было бесплатно и давало нам возможность выбраться из шумного, переполненного, провонявшего едой пансиона. А помнишь тот декабрь, редкую тихую ночь в номере нашего пансиона, когда, казалось, все, кроме нас, ушли, мы с тобой лежали в кровати и говорили о том, что жаль, нам не довелось встретиться в детстве? — И что бы ты сделал со мной, если бы узнал меня, когда я еще писалась в кроватку? — спросила ты. — Соблазнил бы, — прошептал я. — Сразу же занялся бы с тобой любовью. А потом, помнишь, моя дорогая, ты попросила меня выбрить твой восхитительный лоскуток черных волос с помощью моей полевой бритвы и пансионного мыла для бритья. И ты помнишь, как я зажег дополнительную свечу и установил маленькое зеркальце — по твоей просьбе, чтобы ты могла наблюдать за изменениями по ходу дела. Ах, как ты мне доверяла, моя дорогая. И как тебя пробрала дрожь наслаждения, как ты зарделась, когда я поцеловал твой ставший бледным и безволосым лобок, а потом стал целовать ниже. И когда мы сидели в ложе во время очередного представления «Юлия Цезаря» или приезжали в дом к какому-нибудь генералу или политику — я был генералом-мальчишкой, возможно, самым молодым генералом во время войны и весьма востребованным, как и ты из-за твоей красоты, — ты сжимала мою руку, не глядя на меня, и покрывалась самым обаятельным румянцем, и я знал, что ты думаешь о своем бритом лобке под шелковым платьем и нижними юбками. И мы оба думали только об одном: скорей бы закончились пьеса или прием и мы вернулись в наше маленькое святилище в мерзком пансионе.Моя дорогая Либби. Я вспоминаю осень три года назад, после моей Йеллоустонской кампании, когда ты наконец приехала ко мне в Форт-Авраам-Линкольн. Каркасный дом, который построили для нас солдаты, был прекрасен, фактически это был наш первый с тобой настоящий дом. В первую субботу там мы с тобой поднялись до рассвета и поскакали далеко-далеко по дакотской равнине — солнце еще не успело взойти, а форт уже потерялся вдали. Ты была недовольна, потому что, согласно правилам приличия, для тебя приготовили дамское седло, тогда как ты предпочитала ездить по-мужски. К девяти часам мы были очень далеко в прерии, повторяя приблизительно петляющий маршрут маленького поезда, который пыхтел, направляясь на восток к Бисмарку, форту и реке Миссури. Если не считать короткой общипанной травы, полыни и юкки, то единственными признаками жизни здесь были несколько ив вдоль жалкого маленького ручейка. Мы встретили одного бизона, и я попросил тебя отойти назад, собираясь пристрелить его, но ты ехала вплотную за мной, держась свободной рукой за седельный рожок, а лошадь твоя скакала быстрее, чем позволительно скакать даме на таком седле. Бизон был настолько старым и, возможно, настолько одиноким, что он, вяло пробежав неровным шагом с милю, просто остановился посреди прерии, опустил голову и время от времени рассеянно принимался жевать короткую травку — словом, вел себя так, будто мы не представляли для него никакой угрозы. Мы с тобой спешились. Ты держала поводья обеих лошадей, а я достал из чехла свой, изготовленный по особому заказу, спортивный «ремингтон». Ни дерева, ни ветки, чтобы опереться, здесь не было, и я опустился на колено и прицелился из моего относительно короткоствольного, но тяжелого ружья. Спортивный «ремингтон» № 1 стал моим любимым ружьем во время Йеллоустонской экспедиции, когда я убивал из него антилоп, бизонов, лосей, чернохвостых оленей, белых волков, гусей и тетеревов с расстояния в шестьсот тридцать ярдов. (Признаюсь тебе, Либби, что от тетеревов при попадании в них пули весом двадцать семь граммов калибра 0,50 с семьюдесятью гранами черного пороха оставались только пух да перья.) Калибр 0,50–0,70 позволил мне свалить сорок одну антилопу с расстояния в двести пятьдесят ярдов, а потому у меня не было сомнений, что я свалю и этого старого бизона, — ведь расстояние было меньше ста ярдов. Хватило всего одной пули прямо в сердце. Этот древний бык свалился так, словно только и думал о том, как бы ему поскорее покинуть сей мир, в котором он так одинок. Когда мы с тобой подъехали к убитому животному, ты сказала: — И что ты будешь делать теперь, дорогой? А я ответил: — Ну, пришлю людей, чтобы вырезали мясо, хотя я думаю, что у такого старика оно будет жестковато. Но голова великолепна. — А что бы стали делать индейцы? — спросила ты. — Индейцы? — удивленно переспросил я. — Ты имеешь в виду сиу или шайенна? — Да, — ответила ты, нежно улыбаясь мне. День стоял жаркий, под нами поскрипывали седла, на кровь мертвого бизона уже начали слетаться мухи. — Индейцы тут же разрезали бы ему брюхо и съели бы всю или часть печени этого бедняги, — сказал я. Ты соскользнула со своего седла и посмотрела на меня. Твое лицо, светившееся в ясных лучах теплого осеннего солнца, загорелось новым желанием, какого я не видел в тебе прежде. — Давай сделаем это, Оти, — сказала ты. Я помню, что остался сидеть в седле и только рассмеялся. — Мы оба будем в крови по уши, — сказал я. — Вряд ли жене старшего офицера подобает возвращаться в таком виде с прогулки в первую же ее неделю в Форт-Эйб-Линкольне. Что подумают солдаты? В ответ на это ты принялась раздеваться. Я помню, что встревоженно оглянулся, но прерия, как всегда ранней осенью, была коричневатой выжженной пустыней. Если не считать невысокого ряда ив вдоль ручья в миле от нас, глазу повсюду открывалось только двадцать миль плоского полуденного пустого пространства. Я спешился и стал торопливо раздеваться рядом с тобой. Когда мы остались обнаженными, если не считать сапог (прерия — это живой игольник крохотных кактусов и вовсе не таких уж крохотных иголок, колючек и быстро ползающих кусачих тварей), я вытащил мой охотничий нож из отделанных бисером ножен и вспорол вздутое брюхо бизона по всей длине. Изнутри легко, словно содержимое черного волосатого кошелька, выпали внутренние органы, соединительные сосуды и бесконечные ярды серых и блестящих кишок. Ты не верила своим глазам, когда я вырезал печень и взял ее в руки. — Господи милостивый! — Ты возбужденно рассмеялась. — Здоровая — как человеческая голова. — Больше, чем человеческая голова, — сказал я и начал полосовать тяжелую массу. Вместе с кровью в местах надрезов запузырилась тягучая черная жидкость. — Хочешь первый кусок? — спросил я, бросая взгляд через плечо, чтобы еще раз убедиться, что мы одни и нас никто не видит. — Нет, — сказала ты. — Не нарезай ее так, будто мы сидим за столом, Оти. Давай договоримся, будто мы индейцы сиу или шайенна. Ты взяла печень — я помню, тебе едва хватило сил ее удержать, мне пришлось помочь тебе, — и твои идеальные белые зубы блеснули жемчугом, глубоко вонзаясь в печень старого бизона. Ты прикусила здоровенный кусок, оторвала его, а потом не проглотила, а принялась медленно жевать. Кровь и желчь (или как там называется эта более темная жидкость) стекали по твоему подбородку и щекам, по голым грудям и едва заметной выпуклости живота. Я бы рассмеялся, не будь чего-то слишком уж обрядового, слишком древнего, слишком плотского… слишком ужасающего… в том, как ты оторвала еще один кусок печени, и теперь кровь стекала по твоему подбородку, как красная Ниагара. Напрягшись (на твоих плечах и предплечьях обозначились мускулы, которых я не замечал прежде), ты протянула мне тяжелую, сочащуюся кровью массу. Мне удалось отгрызть три здоровенных куска. Обычно мне нравится приготовленная печень бизона, антилопы, оленя или коровы, вывалянная в муке и зажаренная с беконом и луком, но этот сырой орган в тонкой кожице был поразительно горьким. У меня во рту было столько же крови и вязкой жидкости, сколько и мяса. Я не смеялся. Я медленно, ритуально жевал, а потом швырнул тяжелую печень назад в притягивающее мух месиво кишок, сердца, желудка и еще кишок. После этого мы напились из наших фляг. Я посмотрел на нас (потеки, ручейки, брызги крови повсюду на моем покрытом шрамами теле и на твоей белой, как слоновая кость, коже; глядя на меня, можно было подумать, что я надел красные перчатки по локоть) и сказал: — Что теперь, моя дорогая? Ты аккуратно закрепила свою флягу в седле, делая это с осторожностью, чтобы не оставлять слишком много кровавых отпечатков, а потом сказала: — Мы можем доехать до ручья на одном коне? Я посмотрел на неровную линию ив на севере. — На одном коне? — И тут я понял твою логику. — Немногим коням я мог бы доверить это, и один из них — Вик, — сказал я и стал снимать с него седло и сбрую. Оставив только потник, я запрыгнул на широкую (но не очень) спину Вика. Мой гнедой (ты помнишь, дорогая Либби, что у Виктора была звездочка на лбу и белые носки) почувствовал кровь на земле и на нас, испугался, но я натянул поводья и попросил тебя встать на седло, лежащее на земле и ухватиться за меня, чтобы я помог тебе запрыгнуть на коня мне за спину. — Нет, — сказала ты, и на твоем лице снова появилось странное, лучезарное, смешливо-безумное выражение. — Перед тобой, Оти. — Тебе будет удобнее ехать за мной и держаться за… — начал было я. Ты прижалась своими грудями и лицом к моей голой ноге. — Перед тобой, Оти, — прошептала ты. — И лицом к тебе. Так мы и проехали милю до невидимого ручья. Твои груди прижимались ко мне, и кровь бизона стекала по ним на меня и вниз. Твои руки с силой держали меня. В левом кулаке ты сжала свернутые в комок нижние юбки — наши полотенца, если мы доберемся до ручья. Я пустил Вика шагом, но потом пришпорил его, переводя на легкий галоп, и ты положила руки мне на плечи и подтянулась повыше, твои залитые кровью белые бедра поднялись и обхватили меня. Я был и без того возбужден. А тут ты уселась на меня. Я чувствовал твое горячее дыхание у себя на шее. — Скорее, — застонала ты. Я перевел Вика на ровный, но в то же время бешеный галоп. Я поднимался и падал в тебя с каждым движением его копыт и громадной дыбящейся спины. Я плотно прижимал тебя к себе правой рукой, а левой держал поводья. Мой гнедой хотел мчаться во всю мочь. Я позволил ему. Мы, кажется, вскрикнули одновременно, сжимая друг друга в немыслимо тесных объятиях, сближаясь еще больше, когда подскакивали и опускались в ритме тяжелого галопа Вика. Мы не могли бы быть ближе. Мы одновременно закидывали далеко назад головы, и наши крики неслись к солнцу. Я помню, что наслаждение было так велико, что переходило в боль. Мы были в крови, кровь капала с нас, оставляла след за Виком, который несся галопом, и я не видел в этом ничего предосудительного. Даже горьковатое послевкусие крови с желчью было частью боли, солнечного света и освобождения — источником невероятной и неповторимой силы и страсти. И любви. В ручейке оставалось немного воды — достаточно, чтобы смыть с нас большую часть крови и грязи, но нам приходилось по очереди ложиться в самую глубокую часть русла, наши тела были шире ручья, и мы катались по усеянному галечником дну, терлись об него, словно обезумевшие выдры. В конечном счете нам пришлось использовать нижние юбки как губки, а не полотенца, а закончив, мы запрятали их в ил и тростники. Когда мы вышли из ив, чтобы снова усесться на Вика, я поделился с тобой, дорогая Либби, моими страхами: весь Седьмой кавалерийский может появиться с востока, когда мы усядемся на коня и будем все еще в миле от нашей второй стреноженной лошади и одежды. Это вызвало у нас приступ смеха. На обратном пути ты сидела сзади, твои груди, полные и требовательные, прижимались к моей спине, одна твоя рука обхватывала меня за грудь, а другая по-хозяйски лежала у меня между ног, и мы продолжали смеяться, даже одеваясь (твоей амазонке явно не пошло на пользу наличие всего лишь одной оставшейся нижней юбки). Большую часть обратного пути до форта мы смеялись, а когда нам все же удавалось взять себя в руки, то стоило одному из нас посмотреть на другого — и смех возобновлялся. Конечно, Либби, это были любовь и страсть, но именно ты позднее сказала: «Я никогда не чувствовала себя более живой, Оти!» Я испытывал это чувство прежде, но только в разгар боя. Тогда я не сказал тебе этого, а теперь говорю, потому что знаю: ты поймешь. Иногда, моя дорогая, я думаю, может, этот благодатный сон, в котором я пребываю, перейдет в кому, а кома неотвратимо — в смерть, но потом я вспоминаю что-нибудь вроде того нашего утра в прерии и понимаю: это невозможно… Я не умру, не могу, не должен умереть, не увидев тебя еще раз. Не поговорив с тобой еще раз. Не занявшись с тобой любовью еще раз.
11 На Шести Пращурах
Август 1936 г. Стало известно, что президент Рузвельт наверняка приедет на Черные холмы. На рабочих площадках на торце скалы и на самих лицах обсуждают новость: президент уступил бесконечным уговорам Борглума и включил в свой плотный график пребывания в Южной Дакоте официальное открытие головы Томаса Джефферсона, вероятно, произойдет это в воскресенье, 30 августа. Остается меньше недели, думает Паха Сапа. К тому времени он должен успеть подготовиться. Работы на горе Рашмор продолжаются в самом высоком темпе за всю историю проекта, несмотря на то что это лето 1936 года — самое жаркое за всю историю наблюдений вазичу. Каждый день Паха Сапа слушает разговоры других людей о температуре и о лесных пожарах на севере и о Пыльной Чаше[37] на юге. Средняя зафиксированная в июле температура была на десять градусов выше нормы, а в августе дела обстояли еще хуже. На равнинах, где изнемогает от жары Рэпид-Сити, средняя дневная температура составляет сто десять градусов, а по меньшей мере один раз доходила и до ста пятнадцати.[38] Паха Сапа и другие, работающие на торце скалы Рашмор, словно находятся в гигантской солнечной чаше, которая фокусирует солнечные лучи. На рабочих воздействует не только солнце, от которого кожа на спинах облезает и шелушится, но еще и жар и свет, которые отражаются от белых слоев гранита, напоминающего некий тепловой рефлектор из журнала научной фантастики. Весь август камень разогревался до такой температуры, что к нему в течение долгих дневных часов невозможно было прикоснуться голой рукой. Паха Сапа и другие взрывники рисковали больше обычного, размещая заряды: даже новые шашки и капсюли становились менее надежными на обжигающей, сконцентрированной жаре, и сама порода грозила воспламениться из сотен укороченных и оснащенных капсюлями шашек при их закладке в шпур. В этом августе, несмотря на гонку, чтобы побыстрее закончить голову Джефферсона, случались дни, когда Борглум приказывал рабочим уйти на несколько часов с площадки, по крайней мере до того времени, когда удлиняющиеся тени не принесут хоть малого облегчения от удушающей жары. Обезвоживание — серьезная угроза. Предположительно разъедаемое раком тело Паха Сапы постоянно чувствует его, но теперь обезвоживания опасаются все. Борглум организовал доставку воды рабочим, которые весь день проводят в подвесных люльках, буря шпуры и полируя поверхности, но, похоже, не имеет значения, сколько человек пьет, потому что его организм просит еще и еще. Паха Сапа никогда еще не видел таких усталых рабочих, как эти сгорбившиеся, с заплетающимися ногами, покрытые пылью фигуры, спускающиеся каждый вечер по пятистам шести деревянным ступеням. Даже самые молодые и сильные к концу рабочего дня плетутся, как ходячие мертвецы с красными глазами в белых одеяниях. До прибытия президента Рузвельта остается меньше недели, и Паха Сапа проводит рабочие часы, формируя и размещая динамитные шашки и думая о том, как доставить тонну с лишком взрывчатки, которая понадобится ему в следующее воскресенье, чтобы снести головы всех трех президентов на глазах потрясенной толпы (но — и он об этом позаботится — чтобы никто не пострадал). Посетившее его на прошлой неделе откровение вызывает у Паха Сапы улыбку; последнее время он думал об этой проблеме так, словно устанавливал заряды в заранее пробуренные шпуры (многие сотни шпуров для взрыва такой силы), а чтобы их пробурить, нужно несколько недель, если не месяцев. Но ведь не об осторожной, как всегда, обработке гранита идет речь, а о разрушении. И потом, не будет корректирующих взрывов, бурения или полировки — это будет уничтожение, и ни Борглум, ни кто другой никогда не сможет высечь здесь скульптуры. Паха Сапа снова улыбается собственной глупости, причина которой коренится в долгих годах работы на горе в качестве преданного и умелого мастера. Все, что ему нужно сделать к следующему воскресенью, — это спрятать в точно выбранных и укрытых местах на трех головах и вокруг них около двадцати больших ящиков с динамитом, которые он хранит у себя в сарае в Кистоне. Для каждого ящика будет достаточно одного электрического взрывателя. Если заранее завезти ящики, то он сможет поднять их на гору, спрятать и установить взрыватели в субботу ночью, а всякая суета и спешка в пятницу и субботу в основном сведется ко всяким косметическим работам — полировке камня, в особенности на голове Джефферсона, и натягивании флага, которым Борглум хочет закрыть ее до торжественной церемонии. Паха Сапа качает головой при мысли о простоте решения и собственной глупости: как же он не увидел такой возможности несколькими месяцами, а то и годами раньше. Он может объяснить это редкими инъекциями морфия, к которым начал прибегать, чтобы быть в состоянии продолжать работу. Еще шесть дней? Неужели его пять лет на этой скале, все эти прошедшие тысячи дней, могут свестись к шести дням? Он не думает о последствиях (он собирается погибнуть вместе с головами при взрыве, который на многие недели займет место на первых полосах газет, станет предметом разговоров на радио, будет показываться в киножурналах новостей), но знает, что его назовут преступником. На какое-то время он заменит собой печально известного Бруно Гауптмана,[39] а может, этого нового немецкого преступника, Адольфа Гитлера, и станет «самым ненавидимым человеком в Америке». Паха Сапа читал, что Рузвельт приезжает в Южную Дакоту и на Запад исключительно по политическим причинам. («А бывают ли у президентов и других политиков иные причины?» — спрашивает себя Паха Сапа.) Южная Дакота с незапамятных времен считалась республиканским штатом, с тех самых времен, когда бизоны и краснокожие дикари были здесь единственными (неголосующими) гражданами, но Рузвельт прибрал этот штат к рукам в 1932 году и не собирается возвращать его республиканцам на выборах 1936 года, до которых остается два месяца и еще десяток пыльных дней. И он не просто обхаживает Южную Дакоту в разгар депрессии, лесных пожаров и рекордной жары, нет, это впоследствии назовут «поездкой президента-щеголя по Пыльной Чаше» — первой попыткой Рузвельта своими глазами увидеть разорение, которое производит все ухудшающийся климат на громадных просторах той страны, которой он правит из Вашингтона и тенистого Гайд-Парка,[40] хотя Паха Сапа и знает, что такие пункты на маршруте президента, как Рэпид-Сити и гора Рашмор, находятся в сотнях милях к северу от самой северной границы настоящей Пыльной Чаши. Нарезая динамитные колбаски на рабочие куски (такую тонкую работу приходится делать без перчаток, значит, сегодня вечером жди головной боли) и готовя запалы и капсюли, он вспоминает свою встречу с так называемой Пыльной Чашей.К весне предыдущего 1935 года работы на Монументе периодически прекращались из-за нехватки финансирования. Проблемы с финансированием (нередко столь же воображаемые, сколь и реальные), вызывавшие краткие перерывы в работе, стали обычным явлением на горе Рашмор, и люди привыкли к ним, но в 1935 году перерыв был больше связан с баталиями между Гутцоном Борглумом, Джоном Боландом (теоретически — боссом Борглума в комиссии, которая осуществляла надзор за проектом) и сенатором Питером Норбеком (самым горячим сторонником Монумента). Борглум никогда не мог смириться с «надзором», и той весной он подрывал собственные позиции нападками на Боланда, Норбека и других самых преданных его сторонников. И потому за несколько дней до Пальмового воскресенья[41]1935 года у Паха Сапы и всех остальных не было ни работы на скале, ни жалованья. Потом Борглум вызвал Паха Сапу и сообщил, что он, Паха Сапа, сын Борглума Линкольн и еще два человека поедут в Южное Колорадо, чтобы забрать два двигателя с подводной лодки. Паха Сапа слышал об этих двигателях. Компрессоры, буры, двадцать с чем-то отбойных молотков, лебедки, привод вагонетки для канатной дороги и другое оборудование требовали огромного расхода паровой и электрической энергии, и Борглум уже несколько раз обновлял свою энергетическую систему. Сначала переместил ее с исходного места в Кистоне сюда в долину, а потом уже увеличивал размеры паровых котлов и электрогенераторов. Но с точки зрения Борглума, энергии всегда не хватало, и недавно скульптор обвинил члена комиссии Джона Боланда в том, что тот закрыл электростанцию Инсулл в Кистоне не по причине ее износа, как это утверждал Боланд, а ради личной выгоды. Сенатор Норбек сообщил Борглуму, что такого рода кавалерийские наскоки на Боланда могут привести к закрытию проекта, но Борглум не прекратил обвинять Боланда в том, что тот был лично заинтересован в закрытии старой электростанции и лоббировании более крупных двигателей, турбин и генераторов на новой. Ответ был получен зимой 1934 года, и в нем говорилось, что ВМФ подарит два отработавших свое, но все еще сохранивших ресурс дизельных двигателя с подлодки, которую они списывают. Наверное, какой-то старый хлам, оставшийся от Гражданской! Борглум швырнул письмо в угол комнаты. В каком бы состоянии ни находились двигатели, военное министерство быстро доставило их по неверному адресу — не к горе Рашмор, и не в Кистон, и не в Рэпид-Сити. ВМФ отправил их по железной дороге на электростанцию Райан-Рашмор сталелитейного завода в Пуэбло, штат Колорадо. И там, на тупиковой ветке, под брезентовым навесом два гигантских блока простояли два месяца. ВМФ и военное министерство признали свою небольшую ошибочку, но сказали, что доставка громадных двигателей из Колорадо в Южную Дакоту — это уже проблема Борглума. Борглум казался, как всегда, рассеянным и рассерженным, когда Паха Сапа 10 апреля явился к нему в кабинет. — Билли, Линкольн поедет с тобой, Редом Андерсоном и Хутом Линчем на пикапе и большой доджевской автоплатформе, которую мы арендуем у строительной компании кузена Хауди Петерсона. Ты должен доставить сюда эти треклятые двигатели. — Хорошо, босс. Нам заплатят за эту поездку? Борглум смерил его самым своим злобным взглядом. Паха Сапа зашел с другой стороны: — Я не знаю, сколько весит двигатель с подводной лодки, мистер Борглум, но нам ведь понадобится кран, чтобы погрузить их на платформу. И вероятность того, что подвеска «доджа» под таким весом не выйдет из строя в пути от самого Колорадо, очень мала. Борглум одним покашливанием отмел беспокойство Паха Сапы на сей счет. — Дизельные монстры находятся на сталелитейном заводе, старик. У них найдутся кран, пандус и все, что угодно, чтобы их погрузить. Линкольн обо всем позаботится. У него будут деньги на всякие расходы для тебя, Реда и Хута. Считай это своим отпуском за нынешний год. Если вы отправитесь через час, то еще до темноты будете в Небраске. Паха Сапа кивнул и отправился на поиски сотоварищей. Они и в самом деле добрались до Небраски к вечеру — два автомобиля взяли курс на юг. Линкольн Борглум вел фордовский пикап. Хут Линч и Ред Андерсон теснились на пассажирском сиденье. Эти двое были близкими приятелями и хотели поболтать в дороге, к тому же им не очень нравился Паха Сапа. Паха Сапа был не против того, чтобы ехать в одиночестве, наоборот, он даже предпочитал такой вариант, но вести «додж» 1928 года с его большими фарами, резиновыми отбойниками и удлиненной грузовой платформой — это вовсе не сахар. «Додж» с открывающимся ветровым стеклом, которое фиксировалось медными держателями, был динозавром первых дней автомобилестроения. Держатели отсутствовали, ветровое стекло никогда не садилось на место герметично, а в результате если им везло и они находили участок хайвея, по которому можно было ехать со скоростью тридцать миль в час, то в кабину проникал холодный воздух, обдувавший Паха Сапу со всех сторон. На нем была кожаная мотоциклетная куртка его сына и самые теплые перчатки, но пальцы у него занемели уже после первых двадцати пяти миль, к тому же у большого грузовика был такой тяжелый руль, что руки Паха Сапы к началу первого вечера начали болеть. Паха Сапа не возражал против боли. Она отвлекала его от худшей боли внутри него. Вскоре после наступления темноты они остановились, потому что ветер нес пыль, а Борглум наказал сыну прекращать движение, если пыльная буря ухудшит видимость. Они получили разрешение остановиться на фермерском поле, съехали с дороги за худосочную полосу сосновых деревьев, посаженных поколение назад для защиты от ветра. Перед этим они сделали остановку в Кистоне у гастронома Халлис — лучшего из двух подобных магазинов в городе (Паха Сапа постоянно ждал, что магазин Арта Линдо обанкротится, потому что предоставляет слишком большие кредиты шахтерам и другим местным) и купили там хлеба, копченой колбасы и консервов. Какого-нибудь топлива для костра на стоянке не нашлось, поэтому они разогрели свинину и бобы на спиртовках «стерно», хотя «стерно» были плохими заменителями настоящего костра. Затем они забрались в спальные мешки — у Паха Сапы было только два одеяла — и несколько минут пытались переговариваться, но в семь часов уже погрузились в глубокий сон. Ветер и небольшая пыльная буря неизбежно сделали темой разговора длительную засуху и вообще погоду. И Северная, и Южная Дакота повидали летучую грязь (всего год назад, в 1934-м, на горе Рашмор и в районе Рэпид-Сити было два темных дня, когда бесчисленные тонны почвы, поднятые высоко в воздух, затмили солнце; этот «пыльник» в конечном счете добрался до Нью-Йорка и Атлантического океана), но Небраска и штаты, расположенные южнее, высохли и дошли до ужасающего состояния. В Южной Дакоте хотя бы сохранилась трава в прериях. Ред Андерсон откашлялся. — Я говорил с одним из боссов ГКО,[42] и он сказал, что президент Рузвельт разослал по всему свету людей в поисках подходящих пород сосны или ели. У президента есть всякие там эксперты, они говорят, что могут создать громадную ветрозащитную полосу, каких нет в мире, она протянется от Мексики до Канады, и фермеры смогут обосноваться под ее защитой. Линкольн Борглум и Хут усмехнулись, представив себе это. Ред нахмурился, глядя на них. — Я серьезно. Он именно так и сказал. Линкольн кивнул. — И готов поспорить, они думают о такой лесозащитной полосе, хотя где они найдут сосну, которой нипочем жара и засуха, какие случаются в Техасе, ума не приложу. А ещеодин босс из ГКО говорил мне, что эти так называемые эксперты советуют президенту в целях экономии эвакуировать Южную Небраску, большую часть Канзаса, почти всю Оклахому, восток Колорадо и весь Техас от Панхандла до Лаббока: пусть, мол, распаханную плодородную почву унесет ветер, и будем надеяться, что трава вернется через поколение-другое. Хут Линч, вычерпывая остатки бобов, фыркнул. — Если вы спросите меня, то я скажу, что это дерьмовая идея. Ред бросил взгляд на своего дружка, и Хут мотнул головой в сторону сына Борглума. — Извините, не хотел… Я хотел… — Я не против брани, Хут. Если кроме нее есть и что-то еще. Я не мормон, — ухмыльнулся Линкольн Борглум. Двое других рассмеялись, услышав это, и Паха Сапа поймал себя на том, что едва сдерживает улыбку. Он знал, что отец Линкольна, Гутцон Борглум, когда-то был мормоном — его родители были мормонами, и у отца были две жены, и женщина, которую Борглум называл своей матерью, на самом деле была второй женой отца, а его настоящая мать оставила семью, когда начались преследования мормонов и они вынуждены были уехать. Паха Сапа знал это, потому что у него в голове хранились путаные воспоминания Гутцона Борглума, включая и самые дорогие его тайны, — хранились с того дня в 1931 году, когда Борглум пришел на шахту «Хоумстейк» нанять его, Паха Сапу, а когда они договорились, протянул руку. Паха Сапа от этого рукопожатия едва удержался на ногах, потому что все воспоминания Борглума хлынули в него. Точно так же поздним летом 1876 года наводнили его воспоминания Шального Коня. Точно так же, как это случилось и с воспоминаниями Рейн в тот вечер, когда они впервые поцеловались. К счастью, жизненные воспоминания этих трех человек (а жизнь Рейн оказалась трагически короткой) были пассивны и не сбили Паха Сапу с толку; проникая в него, они не кричали, не вмешивались в его жизнь и не болтали без перерыва за полночь, как делал призрак Кастера. Иногда Паха Сапа был уверен, что масса, бремя и шум чужих воспоминаний, не говоря уж о призраке, который вот уже почти шестьдесят лет колотился в его голове, сведут его с ума. Но случалось, что он радовался этим воспоминаниям и ловил себя на том, что бродит по коридорам прошлого Борглума или Шального Коня (реже — Рейн, потому что это было слишком больно), как Доан Робинсон, возможно, бродит среди стеллажей какой-нибудь выдающейся библиотеки справочной литературы. Линкольн обратился к Паха Сапе: — Ты закрепил цепь-антистатик под «доджем», как я говорил? — Да. Они теперь въезжали на территорию пыльников и черных метелей (существовало еще двадцать других названий для этих внезапных, яростных, иногда затягивавшихся на неделю пыльных бурь), и разряды статического электричества могли стать реальной угрозой. Без заземляющей цепи-антистатика белая шаровая молния статического электричества способна в мгновение ока уничтожить всю систему зажигания, и тогда они наверняка застряли бы в сотне миль от ближайших, не считая их самих, механиков. (У них не было запасных частей для двигателей, хотя в багажниках обеих машин имелись дополнительные комплекты колес и покрышек, ремней вентилятора и других деталей.) Ветер усиливался, хотя пыли в нем было не так уж много. Линкольн, воспользовавшись водой из одного баллона, изобразил мытье тарелок. — Если повезет, завтра вечером будем ночевать в настоящих кроватях. Или хотя бы в сарае. Постарайтесь выспаться. Нам предстоят несколько дней тяжелой езды, а в конце пути нас ждут только два снятых с подводной лодки бесполезных двигателя, которые никому не нужны, даже моему отцу.
Линкольн даже не подозревал, насколько он был прав. Двигатели оказались, наверное, самыми раздолбанными и неприглядного вида машинами вазичу, какие доводилось видеть Паха Сапе. Сдвоенные головки блоков дизельных двигателей в длину наращенной платформы «доджа» были выше кабины и представляли собой модели, разработанные в начале 1920-х, — ужасающее соединение поршней, стали, масляных трубок, шлангов, валов, ржавчины, грязи и зияющих каверн. Паха Сапа и представить себе не мог, что столько тонн стали и чугуна когда-то могли плавать по морю. Они добрались до Пуэбло, штат Колорадо, в субботу вечером (13 апреля) и быстро нашли сталелитейный завод и его ассоциированные компании, сгрудившиеся вокруг, как множество поросят, которые тычутся в перепачканные сажей соски громадной черной свиноматки самого сталелитейного предприятия. Создавалось впечатление, что завод обанкротился и заброшен (десять акров парковки пустовали, из высоких труб не шел дым, на воротах висели цепи), но сторож Джоко объяснил, что в эти тяжелые времена завод работает через неделю и часть рабочих или даже все появятся в следующий понедельник. Джоко досконально знал, где хранятся дизельные двигатели, и повел четверку прибывших на место — тупиковую ветку с тыльной стороны заброшенного здания за горами шлака. Когда Линкольн, Ред, Хут и «Билли Словак» стянули с громадной массы металла пыльный брезент, беззубый старик с шиком прокричал: «Voilà!».[43] Линкольн спросил сторожа, поможет ли им кто-нибудь погрузить двигатели на «додж». В понедельник, ответил старик, поскольку единственный крановщик — а железнодорожный кран стоит вон там, за шламоотстойником, — Вернер, но Вернер, конечно, скорее всего, в такую прекрасную весеннюю субботу отправился поохотиться, и ему и в голову не придет вернуться раньше утра понедельника. В конечном счете из рук в руки перешли две относительно новые двадцатидолларовые купюры (за последние годы Паха Сапа видел не так уж много двадцатидолларовых купюр): одна для старого пердуна Джоко, другая для Вернера (который, вероятно, сидел где-нибудь в баре на соседней улице), чтобы он пришел и перегрузил двигатели из вагона на длинную и хлипкую платформу «доджа». Джоко пообещал, что приведет Вернера к пяти часам, и Линкольн с тремя своими усталыми и покрытыми пылью рабочими поехал в центр маленького городка при сталелитейном заводе поискать место, где можно выпить пива, и место, где можно переночевать. Паха Сапа должен был признать, что мысль о настоящей кровати воистину грела ему душу. («Тоже мне лакота», — подумал он и вдруг понял, что думает по-английски, а не по-лакотски, словно его обамериканившийся мозг добавил к душевной травме и оскорбление.) «Ты стареешь и становишься изнеженным, Черные Холмы, — прошептал призрак Длинного Волоса. — Ты еще успеешь превратиться в бледнолицего, этакого разжиревшего и рыхлого кабана-альбиноса без ног». «Заткнись!» — безмолвно приказал ему Паха Сапа. За те несколько лет с тех пор, как между ним и призраком установился контакт (теперь призрак не бубнил бесконечно в темноте, а Паха Сапе не приходилось слушать его), Паха Сапа не много получил от этих разговоров. Он не мог себе представить, что призрак убитого человека стареет, но этот старел, становился ворчливым и саркастичным. В городе, где половину населения составляли шахтеры и их семьи (шахты располагались в нескольких милях к западу, в предгорье), а другую половину сталелитейщики и их семьи (множество немцев, чехов, шведов, цыган и всяких прочих), наверняка должны были быть хорошие бары, и через пять минут Линкольн с его рабочими нашли один из них. Первые порции пива были холодными (кружки и в самом деле охлаждались, пока не появлялся ледок), и Ред Андерсон не мог сдержать ухмылку. — Я бы с удовольствием забрался в какой-нибудь темный маленький бар вроде этого и отсиделся бы в нем, пока не кончатся трудные времена. Линкольн вздохнул и отер верхнюю губу. — Так уже поступали многие, в остальном довольно неплохие ребята, Ред. Мы проведем ночь вон в том пансионе напротив, но до понедельника я тут ждать ни в коем разе не намерен. Ред и Хук переглянулись за спиной Линкольна, и Паха Сапа легко прочел их мысли — для этого ему даже не понадобилось к ним прикасаться: эти двое готовы были остаться тут на всю неделю, пока мифический Вернер не вернется с охоты. Но одна волшебная двадцатидолларовая бумажка вернула Вернера на завод еще до захода солнца, так что этому невысокому, коротко остриженному человеку хватило времени до наступления темноты перегнать железнодорожный кран с основного заводского двора и перенести махину двигателей с поддонами, брезентом и всем остальным на платформу «доджа». Платформа просела на восемь дюймов на несуществующей подвеске, но при этом покрышки не лопнули, колеса не отскочили, оси не поломались. По крайней мере, пока. Когда с погрузкой покончили и четверка оплела двигатели таким числом тросов и ремней, что им вполне могли бы позавидовать лилипуты, привязывавшие Гулливера (одна из первых книг, которую он взял в библиотеке Доана Робинсона), Паха Сапа отвел «додж» за сотню ярдов на парковку у заводских ворот, запертых стальной цепью («додж», слегка вихляя, все же ехал, но Паха Сапа был уверен, что любой подъем круче одного процента преодолеть ему не по силам, и если раньше крутить баранку было тяжело, то теперь стало почти невозможно), и четверка оставила эту массу металла и вернулась в кафе пообедать, чтобы потом отправиться в пансион. Джоко прокричал им напоследок: — Вы мне кажетесь добрыми христианами. По крайней мере, трое из вас. Если останетесь, чтобы послушать службы в Пальмовое воскресенье, то я покажу вам, как пройти в методистскую и баптистскую церкви. Никто из четверых не оглянулся. Линкольн проводил троих рабочих в их комнату — щедрость Борглума не предусматривала отдельных комнат для всех, кроме Линкольна, и им пришлось довольствоваться тремя койками в тесной необогреваемой комнате на втором этаже, где изношенные одеяла имели такой вид, будто вот-вот поднимутся и улетят сами по себе, если их не приколотить гвоздями. Паха Сапа принес свои одеяла и дополнительные подстилки. Ред и Хут с сомнением посмотрели на пружинные койки, потом глянули в окно в ту сторону, куда их манили слабые огни скромного, но весьма серьезного в смысле разврата местного квартала красных фонарей. (Хотя сухой закон был вот уже два года как отменен, у баров все еще сохранялись тайные залы и смотровые глазки.) Голос Линкольна звучал устало и подавленно, а может быть, пыльный город со сталелитейным заводом угнетал его не меньше, чем Паха Сапу. — Вы двое, не больше двух кружек пива и ничего серьезнее сегодня. Мы уезжаем на рассвете. Вы по очереди будете управлять «доджем». Сначала едем на восток в Канзас, а потом — на север. День будет трудным. Все кивнули, но не прошло и двадцати минут, как Хут и Ред, держа ботинки в руках, вышли на цыпочках за дверь. Паха Сапа услышал тихий скрип лестницы, потом натянул на голову свои собственные плотные и почти без паразитов одеяла и заснул. Когда он в последний раз взглянул на часы, они показывали 20.22. Хут и Ред вернулись, когда шел шестой час. Они едва держались на ногах, и несло от них не только виски и пивом. Один из них деловито блевал в ведро, которое принес с собой. В 5.20 Линкольн Борглум не только громко постучал в дверь, но и вошел в комнату и перевернул койки с двумя сонями. Паха Сапа уже был на ногах, одетый, собранный, он умывал лицо той каплей воды, что осталась в поколотом кувшине, предоставленном в их распоряжение скуповатым хозяином. Из клубка одеял доносились жалобные стоны. Линкольн и Паха Сапа завтракали в одиночестве в маленьком кафе на другой стороне улицы. Пикап и перегруженный «додж» еще до семи часов выехали из города и покатили на восток. Улицы были пусты. Воздух для середины апреля прогрелся уже довольно сильно, на небе ни облачка. Что-то странное чувствовал Паха Сапа в течение всего долгого утра и начала дня, когда они держали путь на северо-восток. Конечно, медленно ползущий «додж» с массой мертвого груза (если бы он съехал вперед, то Паха Сапа даже не успел бы выскочить наружу, хрупкая старая кабина была бы смята) приковывал к себе почти все внимание Паха Сапы, который в буквальном смысле боролся с ним, когда требовалось сделать простейший поворот, а если попадался едва заметный подъем, то приходилось чуть ли не подгонять машину кнутом. Линкольн отправил Хута в «додж» на подмену, и все утро, а потом и часть дня тот храпел, вытянувшись на продранном пассажирском сиденье, изредка пробуждаясь, чтобы открыть дверь, выпрыгнуть из кабины, проблеваться в сорняках, а потом догнать ползущий, как черепаха, «додж». Редкие машины, даже древние модели Т, обгоняли грузовик и фордовский пикап, который плелся впереди. Но как бы ни отвлекали Паха Сапу храп, доносившийся с пассажирского сиденья, рев перегруженного двигателя и необходимость полностью сосредоточиться на езде, он чувствовал что-то необычное… что-то неправильное в мире. Птицы как-то спешно летели на юг. Те немногие животные, которых он заметил: несколько зайцев, суетливые полевки, один олень, даже скот в покрытых пылью полях — тоже стремились на юг. Они пытались спастись. Паха Сапа чувствовал это. Но от чего спастись? Небеса оставались чистыми. Воздух теплый, слишком теплый. В кабине воняло виски и потом Хута, и теперь Паха Сапа радовался тому, что ветровое стекло не защелкивается. Эта земля лишь в малой мере походила на то, что впоследствии будет названо Пыльной Чашей, простирающейся на тысячи миль, но эта малость сразу же бросалась в глаза. Фермы были заброшены. Но даже на тех, где еще оставались обитатели, краска с домов облупилась, словно ее содрали пескоструем. Песок подбирался к домам и другим строениям. Почву нанесло к заборам до такой высоты, что можно было видеть только последний фут несущих столбиков. Он знал, что фермеры и владельцы ранчо дальше на юге говорили, будто можно идти долгие мили по нанесенной почве, из которой торчат останки их скота, скопившиеся у засыпанных заборов, но даже здесь, в юго-восточном уголке Колорадо, наносы земли были видны повсюду. Несколько раз Паха Сапе приходилось сбрасывать скорость и даже останавливаться — Линкольн впереди в фордовском пикапе пробивался через груды красновато-коричневой почвы, которые, словно снежные сугробы, покрывали дорогу. Но несмотря на ясное небо и теплый день, Паха Сапа чувствовал, что в мире что-то неправильно. Это случилось около двух часов — они приближались к границе с Канзасом, когда оно настигло их. — Хай-йай! Хай-йай! Митакуйе ойазин! Паха Сапа не отдавал себе отчета в том, что кричит по-лакотски. Он тряхнул храпящего и сопящего Хута — тот проснулся. — Хут, просыпайся! Посмотри на север. Просыпайся, черт тебя подери! На них, словно земляное цунами, неслась черная стена высотой в три или больше тысячи футов. Хут привскочил на сиденье. Он указал вперед через открытое ветровое стекло. — Черт возьми! Пыльник. Черная метель! Паха Сапа сразу же остановил «додж». Пикап перед ними сбросил скорость, потом остановился. Менее чем в сотне ярдов позади было пересечение с грунтовой дорогой, и Паха Сапа чуть не поломал коробку передач, включив заднюю и резко пустив перегруженный грузовик назад в направлении этого перекрестка — он помнил, что там, среди нескольких засохших деревьев, стояла маленькая, занесенная пылью ферма. — Ты что это делаешь, Билли, черт тебя дери? — Мы должны развернуть машины и накинуть на двигатели брезент, чтобы эта стена земли не ударила в них. Иначе нам больше ни в жисть их не завести. В обычной обстановке Паха Сапе потребовалось бы пять минут осторожных маневров, чтобы сдать тяжелый грузовик назад на грунтовку и развернуть его. Сейчас он развернулся за тридцать безумных секунд, все время глядя через плечо на наступающую стену черноты. Линкольн подъехал к «доджу» и прокричал, перегнувшись через Реда Андерсона, смотревшего перед собой широко распахнутыми глазами. — Ну и жуткий пыльник идет! Паха Сапа прокричал в ответ: — Мы должны добраться до фермы. Ветхое, полуразвалившееся сооружение было от них на расстоянии менее полумили впереди и слева, когда они двинулись назад на юго-восток. Если бы не легковушка модели А на подъездной дорожке и два ржавых трактора под навесом, полузасыпанным землей и пылью, то можно было подумать, что ферма заброшена. Но все это настолько проржавело, что вполне могло быть брошено вместе с фермой. Паха Сапа не думал, что они успеют. И они не успели. Хут на пассажирском сиденье рядом с ним твердил, словно какую-то молитву, одну и ту же мантру: — Ни хрена себе, Господи Иисусе! Ни хрена себе, Господи Иисусе! Ни хрена себе, Господи Иисусе! Позднее Паха Сапа узнал, что увидел бы эту гигантскую волну, даже если бы остался на горе Рашмор. В то утро холодный фронт прошел по обеим Дакотам, уронил температуру на тридцать градусов, занося Рэпид-Сити и тысячу более мелких городков пылью, оглушая их воем ветра. Но фронт вскоре покинул Дакоту, перекатился в Небраску, где увеличил силу, скорость и добрал многие тысячи тонн пыли и земли. Еще Паха Сапа узнал, что, когда западная оконечность катящейся черной волны проходила по Денверу, температура менее чем за час упала на двадцать пять градусов. Ширина фронта бури к тому времени, когда Паха Сапа и три его спутника увидели, как она приближается к юго-восточному углу Колорадо, достигала более двухсот миль и продолжала расширяться (она надвигалась, как непробиваемая защитная линия одетых в коричневатую форму игроков в американский футбол), а к тому времени, когда она на юге и востоке добралась до штатов, которые попали в Пыльную Чашу по-настоящему, ее ширина уже составляла почти пятьсот миль. Но все это не имело значения для Паха Сапы, когда он вдавливал в пол педаль газа и перегруженный грузовик набирал максимально возможную скорость — двенадцать миль в час; одновременно он смотрел в зеркало заднего вида и через свое плечо — на монстра, который настигал их. Паха Сапа всю жизнь прожил на Равнинах и легко мог оценить высоту черной двигающейся стены: пыльник переваливал через низкую гряду сильно выветренных холмов на севере и северо-западе, на северо-востоке холмы были пониже (хотя «додж» с двумя двигателями на грузовой платформе вряд ли преодолел бы и такой склон), и, наблюдая, как холмы, камни и несколько сосен исчезают в пасти черной метели, Паха Сапа знал, что высота стены три тысячи футов и что она продолжает расти. Поскольку Паха Сапа провел большую часть жизни, наблюдая за лошадьми, которые скакали к нему или от него по равнинам, он мог довольно точно определять скорость; эта двигающаяся стена набегала на них со скоростью шестьдесят пять миль в час, если не больше. Низкая гряда холмов, из-за которой появилась стена, была от них не дальше чем в двенадцати милях. За последнюю минуту или около того черная стена пыльника преодолела половину этого расстояния. Паха Сапа смотрел, как пикап Линкольна врезается в засыпанную землей подъездную дорожку полуразрушенной фермы, потом снова бросил взгляд через плечо и понял, что стена внизу черная, а более чем в полумиле выше, у вершины, светлее, но эти странные вихрящиеся, похожие на смерчи белые столбы двигались перед сплошной стеной, как бледные ковбои, пытающиеся управлять взбесившимся стадом. Что бы ни представляли собой эти столбы (а Паха Сапа так никогда и не узнал — что), они словно тащили за собой со все возрастающей скоростью черную стену по направлению к Паха Сапе и его грузовику. Он понял, что Хут кричит уже что-то иное — не прежнюю мантру. — Долбаный Христос! Мы не успеем. Добраться до фермы — не успеют. Паха Сапа это сразу понял. Подъездная дорожка к сараю была в сотне футов, а времени уже не оставалось — черная стена ревела у них за спиной, теперь они и слышали, и ощущали ее, потому что чернота затмила солнце и температура вокруг упала на двадцать или тридцать градусов. Паха Сапа включил фары «доджа», и тут стена догнала их, обрушилась на них, оказалась теперь повсюду вокруг. Их словно проглотил какой-то громадный хищник. Паха Сапа поймал себя на том, что едва сдерживается, чтобы не воскликнуть «Хокай хей!» и не прокричать Хуту, чтобы тот услышал за ревом и статическими разрядами: «Сегодня хороший день, чтобы умереть!» Но кричать было бесполезно. Рев стал слишком громок. Откуда-то из огороженного поля фермы выбежала белая лошадь. Она потеряла ориентацию и совсем обезумела при виде стены летящей земли — она бежала в сторону бури. Но Паха Сапа увидел — и никогда этого и не забудет — ореол зигзагообразной молнии, шаровой молнии, огней святого Эльма и других статических разрядов, украсивших лошадь электрическим пламенем. Молния плясала в гриве и хвосте скачущей лошади, прыгала по ее спине. Потом статические разряды окутали «додж», и двигатель машины кашлянул и мгновенно заглох. Длинные волосы Паха Сапы встали дыбом, черные пряди извивались, как наэлектризованные змеи. Под грузовиком полыхали яркие импульсные вспышки, и Паха Сапа на секунду решил, что загорелся громадный бак грузовика, но потом понял, что это разряды молнии от цепи-антистатика, прикрепленной к задней оси. В резко наступившей темноте эти вспышки высвечивали все вокруг на пятьдесят футов. Грузовик остановился, и через открытое ветровое и боковые стекла внутрь ворвались, рассыпаясь взрывами, комья земли. Пыль мгновенно проникла повсюду — ослепила их, лишила воздуха, забилась в ноздри и уши, закрытые рты. Паха Сапа дернул заполоскавшуюся фланелевую рубашку Хута. — Прыгай! Быстро! Они вывалились в абсолютную темноту, которую пронизывали ничего не освещающие разряды молний. Двигатель «доджа», казалось, загорелся, капот раскрылся, но это были всего лишь электрические разряды, облепившие металл. Паха Сапа потащил Хута вперед, ощущая, что такое «вперед», только на ощупь — вдоль кабины, отбойника к бамперу; он остановился, чтобы сорвать большой брезентовый мешок с водой, привязанный к радиатору. Паха Сапа, пропитав платок водой, обвязал им лицо. Он полил водой в глаза, чувствуя, как земляная жижа стекает по его лицу. Мощной левой рукой он удерживал Хута, чтобы тот не убежал, а правой протянул ему мешок с водой. Платка у Хута не было. Он попытался закрыть нос и рот подолом рубашки, одновременно поливая их водой. Темнота сгущалась, по мере того как усиливался грохот. Хут подался вперед и прокричал что-то в ухо Паха Сапы, но слова были заглушены еще до того, как вышли из его рта. Паха Сапа, держа Хута за рубашку, потащил его в ревущую тьму за грузовиком. Глаза он закрыл и потому направление и расстояние до подъездной дорожки и дома мог оценивать только внутренним чутьем. Хут, казалось, противился, старался вырваться — вернуться в грузовик? — но Паха Сапа тащил его вперед. Паха Сапа понял, что фары «доджа» почему-то продолжают гореть, но через три-четыре шага они стали невидимы. Молнии вокруг по-прежнему ничего не освещали. Паха Сапа подумал, что их вполне может растоптать обезумевшая белая лошадь, если развернется и бросится к своему сараю или полю, и эта мысль вызвала у него неожиданное желание рассмеяться. Он знал, что никогда не заслужит некролога в газете, но такой конец семидесятилетней жизни был бы вполне достоин упоминания. Паха Сапа пробирался вперед (стоять прямо было невозможного, хотя они опустились почти на четвереньки, вихрь вполне мог свалить их на землю и покатить вдоль канавы, по полю, словно свалявшиеся под напором ветра обломки); наконец, решив, что они уже добрались до дорожки, он потащил все еще сопротивляющегося и вырывающегося Хута налево, позволив ветру подталкивать их на юг. Они уткнулись в темноте во что-то неподвижное и плотное, но оказалось, что это всего лишь пикап Линкольна, брошенный на дорожке. Водительская дверь была распахнута, и Паха Сапа почувствовал, что пыль уже наполняет кабину. Они не стали задерживаться у машины. Крыльцо он нашел, споткнувшись о ступеньку. На секунду, падая вперед в ревущей темноте, он потерял Хута, но тут же выпростал руки и ухватил ковыляющего вазичу за волосы, а потом — за воротник. Он уже чувствовал, как его легкие наполняются вихрящимися, всепроникающими, летающими комочками земли — зернышки песка и кремнезема, словно острые осколки стекла молекулярного размера, врезались в слизистую его носа и горла. Останься они на полчаса в этой буре, и их легкие, если только их тела когда-нибудь найдут, будут так начинены землей, что патологоанатом закономерно сможет уподобить их мешочку пылесоса, который ни разу не вытряхивали. Входная дверь! Паха Сапа в темноте ударил по ней тыльной стороной ладони и, чтобы убедиться, нащупал ее кромки. Да, это была дверь. И она была заколочена досками. Подавляя в себе желание рассмеяться, или заплакать, или обратиться к Вакану Танке или к Хитрецу Койоту[44] с песней мертвеца, Паха Сапа потащил Хута сквозь темень, нащупывая путь вдоль дома влево от двери. Они оба свалились с низкого просевшего крыльца. Паха Сапа через секунду уже вскочил на ноги и метнулся к стене дома. Он понимал, что если он потеряет дом, то им конец. Такая маленькая жалкая развалюха, но они, казалось, шли вдоль стены целую вечность. Паха Сапа своими потрескавшимися ладонями нащупал забитое досками окно. Если им не удастся попасть в дом… Он отогнал от себя эту мысль и потянул за собой Хута. Этот крепкий шахтер свалился на землю и так и не смог подняться на ноги. Паха Сапа тащил его. Вокруг его ног наметало сыпучую землю. Внезапно он потерял ориентацию, он будто поднимался по крутому склону, словно плоская, спекшаяся земля фермы в Восточном Колорадо превратилась в вертикальную стену горы Рашмор, оскверненных Шести Пращуров. Паха Сапа вдруг ощутил прилив какого-то восторга. И тут он и в самом деле заплакал. Слезы в его глазах превращались в комочки грязи, спекались, не давали векам разомкнуться. Ему не придется стать разрушителем четырех голов на священной горе в священных холмах. Вакан Танка и существа грома сделали дело за него. Эта жуткая буря, жуткое затмение сокрушат все на свете. Линкольн, Хут и Ред говорили, будто президент Рузвельт подумывает, не эвакуировать ли ему все равнинные штаты срединной Америки, если лесозащитная полоса не сможет защитить фермы, ранчо и насквозь пропесоченные призраки умирающих городов здесь и к югу. Внезапно Паха Сапа понял, что боги лакота и Вакан Танка, а возможно, и родовые духи-призраки его народа уже сделали свое дело. Вот уже пять лет дули ветра, и плодородный слой сдуло с земли в небеса, отчего земля перестала рожать и фермы погрязли в собственных отходах, а павший скот на ранчо исчислялся тысячами, потому что почва высохла и, сдуваемая ветром, уносила с собой остатки выгоревших трав. Боги действовали. Ничто на земле не может выдержать столько таких бурь. Паха Сапа знал, что подобная буря (эта черная метель, этот въедливый пыльник, этот громадный вал) не по силам изнеженным, жирным, возносящим молитвы своему Богу вазичу. Паха Сапа знал природу как свои пять пальцев, и эта буря, все бури нарастающей силы, о которых он читал, сюжеты о которых видел в киножурналах, которые в более мягкой форме испытал на собственной шкуре в Южной Дакоте, — они не были частью природы. Не было таких природных циклов в истории Северной Америки или даже мира, чтобы подобные ветра дули месяцами, чтобы годы такой засухи следовали один за другим, не было таких визжащих, воющих, роящихся стен удушающей смерти. Это боги его народа говорили вазичу: уходите отсюда навсегда. Паха Сапа безмолвно рыдал под своим платком, рыдал главным образом от облегчения при мысли о том, что ему не придется стать проводником уничтожения вазичу. Он состарился. Он устал. Он слишком хорошо знал врага. Он хотел, чтобы эта чаша миновала его… и пока она его миновала. В его сердце, голове, груди бубнил призрак Длинного Волоса. Теперь Паха Сапа, конечно, понимал слова (он мог их понимать большую часть своей жизни — со времен Кудрявого, Седьмого кавалерийского и сражения на Тощей горке), но сейчас он решил не слушать. Вдруг левая рука Паха Сапы схватила пустоту — они дошли до тыльной стороны дома. Он затащил тело Хута через высокий нанос в благословенную подветренную сторону дома, защищавшую от бури. Но и здесь в воздухе кружились комочки земли, набивались повсюду, не давали вздохнуть, и облегчения не наступило. Паха Сапа поднес свободную руку к залепленному землей лицу и постарался открыть веки, склеенные грязью и обжигающими частичками. Ничего. Он, без преувеличения, не мог видеть своей руки всего в нескольких дюймах от лица. Молния запрыгала, обвиваясь вокруг него, — от невидимого водосточного желоба к невидимому шесту для бельевой веревки, от невидимого насоса к невидимому гвоздю в крыльце, к так и не увиденным им ограде или калитке в двадцати футах. Молнии и статические разряды прыгали и метались вокруг, но при этом ничего не освещали. Паха Сапа потащил тело Хута вперед, прижимаясь правым плечом к стене дома. Теперь, когда ветер не толкал его сзади и не валил с ног, как на дорожке, он совсем потерял ориентацию. Если бы не стена дома, он упал бы лицом вниз и никогда не поднялся. Он вдруг понял, что откуда-то спереди доносится бешеный грохот, словно кто-то стоит в роящейся темноте и стреляет из тяжелой магазинной винтовки или пулемета. Паха Сапа подумал о своем сыне. Пока бешено колотящаяся в петлях сетчатая дверь не ударила его по голове и чуть не сшибла с ног, Паха Сапа так и не смог определить источника этих взрывов. Он подпер дверь телом Хута и попытался открыть тяжелую вторую дверь. Либо ее заело, либо она была заперта. Паха Сапа навалился плечом, всем своим весом, вкладывая в это движение все оставшиеся у него силы. Тяжелая некрашеная дверь со скрипом подалась внутрь, откидывая нанесенную внутрь землю. Паха Сапа нагнулся и затащил Хута внутрь, а потом с силой захлопнул дверь. Вой стих на несколько децибел. Поначалу Паха Сапа решил, что внутри такая же темнота и черная метель, как снаружи, и промозглый холод, — но потом он увидел что-то вроде слабенького мерцания. Словно пламя костра с расстояния в несколько миль. Таща за собой стонущего Хута, он двинулся в том направлении. Это была керосиновая лампа на полу кухни не далее чем в шести футах. Мерцание ее на глазах ослабело и исчезло, но Паха Сапа все же успел разглядеть лица сидящих вокруг лампы — только лица, тела оставались в темноте, и заляпанные грязью одежды были не видны: лица худого как жердь фермера с усами щеточкой и его еще более худой жены, трех их детей и широко распахнутые глаза Линкольна Борглума и Реда Андерсона. Они все сгрудились вокруг едва мерцающей лампы на полу, словно средневековые идолопоклонники вокруг какого-то священного артефакта. У широко распахнутых глаз было время, чтобы выразить удивление, вызванное появлением Паха Сапы и Хута в наполненном воем пространстве, после чего лампа моргнула и погасла окончательно. В воздухе не хватало кислорода, чтобы поддерживать горение. Паха Сапа прошептал: «Ваштайхесету!» («Хорошо, пусть так и будет!») — и рухнул на потрескавшийся и съехавший желтый линолеум. У него перехватило дыхание. Час спустя оглушающий, неутихающий шум перешел в звериное ворчание. Лампу снова зажгли, и пламя не погасло. Жена фермера сняла со стола еще одну лампу и зажгла ее. Теперь свет проникал на шесть-восемь футов в роящийся мрак. Но монстр снаружи продолжал стучать, рычать, колотиться в дверь и окна, забитые досками, требовать, чтобы его впустили. — Эй, ребята, хотите пить? — прокричал фермер. За всех ответил безмолвным кивком Линкольн Борглум, чьи прежде светлые глаза теперь покраснели. Паха Сапа понял, что лежит на боку и его платок давно уже душит его. Он сел и прислонился спиной к буфету. Хут стоял на четвереньках, опустив голову, как больная собака, и поскуливал в тон усиливающемуся или утихающему реву и стону ветра. Фермер встал, оступился, пошатнулся и подошел к раковине. Паха Сапа уже мог видеть на расстоянии шести, восьми, десяти футов, и его глаза дивились сумрачной ясности. Фермер нажимал, нажимал и нажимал рычаг насоса у раковины. «Нет, — подумал Паха Сапа, — насос не может работать теперь, когда мир вокруг уничтожен». Фермер вернулся с одной-единственной чашкой, наполненной водой, и пустил ее по кругу — глоток на каждого, начиная с детей, потом четыре гостя, потом его жена. Когда чашка вернулась к нему, она была пуста. Он, казалось, слишком устал, чтобы вернуться и наполнить ее еще раз. Тридцать или сорок минут спустя — Паха Сапа руководствовался своим чутьем; его часы остановились в первые минуты пыльной атаки — рев стал слабее, и фермер с женой пригласили четырех гостей к обеду. — Боюсь, что в основном овощи. И индеец тоже приглашается. Это проговорила страшноватая на вид жена фермера. И опять за всех ответил Линкольн Борглум, но только после того, как очистил рот от грязи и комьев земли: — Мы будем вам очень признательны, мадам. И после минутного молчания, когда никто — кроме детей, которые отползли в темноту, чтобы заниматься тем, чем они собирались заниматься, — еще и не пошевелился, снова заговорил Линкольн: — Слушайте, а может, вам нужны два здоровенных двигателя с подводной лодки?
Паха Сапа улыбается, повиснув в обжигающей скальной чаше августовского света и жары. Он находится под намеченным вчерне носом Авраама Линкольна. Нос дает небольшую тень, по мере того как день, окутанный синеватой дымкой, склоняется к вечеру. Паха Сапа устанавливает последние заряды. Уже почти подошло время четырехчасового взрыва, нужно только, чтобы люди спустились с каменных голов. И тут улыбка сходит с лица Паха Сапы: он вспоминает, как схлынул его восторг год назад, когда он понял, что никакие бури, насланные существами грома, а может быть, и самим Всё, Ваканом Танкой, не изгонят вазичу из мира вольных людей природы. В конечном счете это придется сделать ему самому. Президент Рузвельт будет здесь всего через несколько дней, в следующее воскресенье, к открытию головы Джефферсона. Паха Сапе нужно столько всего сделать, прежде чем он позволит себе уснуть.
12 Медвежья горка
Август, 1876 г. Наступает и проходит одиннадцатый день рождения Паха Сапы, но мальчик слишком занят: он, спасая свою жизнь, торопится по равнинам к Черным холмам и к своей ханблецее, которая должна ознаменовать эту дату, хотя он и не заметил бы ее, если бы остался в деревне. Сильно Хромает посоветовал ему скакать с двумя лошадьми по ночам, а днями, если нужно, прятаться от Шального Коня и его людей, но пока этого не требуется. В полночь того дня, когда он покинул деревню, начался дождь, и не перестает, и не перестанет. В течение трех дней он льет и льет, сопровождаемый громами и молниями, которые заставляют Паха Сапу держаться подальше от тех немногих деревьев, что растут по берегам ручьев, и ежиться на скаку; даже днем видимость не превышает сотни футов, потому что над пропитанной влагой прерией колышется серый занавес дождя. Паха Сапа едет и ночью и днем, но медленно, и он весь промок. Никогда за свою короткую жизнь Паха Сапа не видел, чтобы Луна созревающих ягод была столь влажной и дождливой. Обычно последний месяц лета такой сухой, что табуны коней никогда не отходят от речушек, в которых почти не остается воды, а кузнечики плодятся в неимоверном количестве, поэтому, прогуливаясь по высокой хрупкой коричневатой траве, приходится идти по волнам скачущих насекомых. Сейчас, по прошествии трех бессонных дней и ночей почти без еды, терзаемый постоянным страхом Паха Сапа проникся абсолютным отвращением к себе. Любой воин его возраста в состоянии найти убежище и развести костер даже при таком дожде; кремень и кресало у него действуют — высекают искры, но он не может найти ничего сухого, чтобы поджечь. И убежища он не может найти. Известные ему неглубокие пещеры и свесы расположены по берегам рек, но теперь они залиты водой, поднявшейся на три или более фута. Хотя тюки с одеждой и всякой утварью тщательно увязаны в несколько слоев вывернутых наизнанку шкур, они пропитались водой. В течение нескольких часов каждую ночь он ежится под одной из лошадей, кутаясь в два одеяла, но от них промокает еще больше и еще сильнее падает духом. А ко всему этому еще и голоса. Голос мертвого вазикуна теперь еще назойливее, он становится громче, стоит несчастному мальчику попытаться уснуть. За те несколько дней, что прошли с того момента, когда Паха Сапа прикоснулся к Шальному Коню и принял его воспоминания, — иногда Паха Сапе кажется, что совершенное над ним насилие было равносильно тому, как если бы на него мочились и заставляли пить это, — от трескотни и бормотания чужих воспоминаний мальчик заболел. Воспоминания Шального Коня не так бесцеремонно-навязчивы, как ночная болтовня призрака, но тревожат мальчика гораздо сильнее. Эмоции переполняют Паха Сапу. Он прожил всего лишь одиннадцать не богатых особыми событиями лет, тогда как Шальному Коню, который обрушил свои воспоминания на агонизирующий мозг Паха Сапы, этим летом должно исполниться тридцать четыре, и каким-то образом, несмотря на его внутреннее сопротивление, видение Паха Сапы простирается на год или два вперед, вплоть до смерти Шального Коня от штыка. Паха Сапа, конечно, ничего не помнит о собственных родителях, поскольку его мать умерла при родах, а его отец — за несколько месяцев до этого, но зато теперь он помнит родителей мальчишки по имени Кудрявый Волос, или просто Кудрявый: его мать бруле и его отца — шамана по имени Шальной Конь. Он ясно, слишком ясно, помнит шестнадцатое лето Кудрявого, когда тот проявил невиданную отвагу во время налета на арапахо (он был тогда ранен стрелой в ногу, убив перед этим несколько арапахо, но боль от того ранения помнит теперь Паха Сапа), и после этого отец Кудрявого, Шальной Конь, дал сыну собственное имя, а сам до конца жизни носил имя Червь. Воспоминания Паха Сапы о собственном детстве теперь приглушены ложными воспоминаниями Кудрявого, или Шального Коня, о его жизни в деревне лакотских оглала, но воспоминания Кудрявого (Шального Коня) окрашены красным цветом эмоций насилия, близости к безумию и постоянного ощущения враждебности. Паха Сапа — приемный сын Сильно Хромает, и он надеется стать шаманом, как и его уважаемый тункашила, а Кудрявый (Шальной Конь), сын другого шамана, хотел — всегда хотел — стать хейокой, ясновидцем и слугой существ грома. Паха Сапа, замерзший, испуганный, голодный, дрожащий и бесконечно одинокий, дождливой ночью направляется на свою предполагающуюся — в одиночку — ханблецею в Черных холмах. А в своих путающихся воспоминаниях он видит четырехдневную церемонию ханблецеи Кудрявого Волоса, во время которой тому было дано видение мальчика-мужчины. Он видит, как Кудрявого Волоса наставляют, поддерживают, помогают ему, а его инипи истолковываются старейшинами-держателями трубок, родственниками и шаманами. Паха Сапа в глубине души боится, что никогда не получит видения от Вакана Танки или шести пращуров, что этому помешает навязчивая, непристойная память призраков других людей, их мысли и картины будущих событий, но тем не менее ему приходится терпеть воспоминания Кудрявого (Шального Коня) об успешной ханблецее и о посвящении этого необычного человека в ясновидцы грома и праздновании по этому поводу. Никто не напевал и не будет напевать Паха Сапе: «Тункашила, хай-йай, хай-йай!», но в чужих воспоминаниях он видит, как одноплеменники поют для Шального Коня. Паха Сапа никогда не прикасался к виньян шан винчинчалы хорошенькой молодой девушки, но в новых воспоминаниях, которые бьются теперь в воспаленном мозгу мальчика, он отчетливо помнит, как занимался любовью с Женщиной Черный Бизон, женой Нет Воды и еще полудюжиной других женщин. От этого его мысли… путаются. У Паха Сапы не бывало никаких повреждений, если не считать синяков и неоднократно расквашенного носа, но теперь он помнит не только боевые раны Кудрявого (Шального Коня), но и ощущение, когда тебе стреляют в лицо: в него с расстояния прямого выстрела стрелял взбешенный муж Нет Воды. Он пытается прогнать эти воспоминания, но ощущение пистолетной пули, скользнувшей по зубам, вспоровшей щеку и раздробившей челюсть, слишком сильно, и так просто от него не отделаться. Но вот что больше всего тревожит Паха Сапу в бесконечной черной дождливой ночи, с чем тщетно пытается совладать его сбитый с толку разум: он, Черные Холмы, если не считать жестоких детских игр, никогда ни к кому даже пальцем не притронулся, а воспоминания Шального Коня наполняют его упоительно-тошнотворными ощущениями от стрельбы, ударов ножом, копьем, убийств и скальпирования многих — кроу, арапахо, других лакота и вазичу в таких количествах, что и не сочтешь. Паха Сапа в страхе: уж не умирает ли он? Голова его болит так сильно, что каждые четверть часа он останавливается и его рвет, хотя желудок мальчика пуст уже несколько часов. От непрекращающегося, плотного дождя у него так кружится голова, что он с трудом удерживается на Черве — мерине Сильно Хромает, а кобыла Пеханска в эту жуткую ночь действует скорее как белая змея, чем как белая цапля, — встает на дыбы, натягивает поводья и пытается убежать. Голова Паха Сапы разламывается от боли, рвоты и воспоминаний, которые совсем ему не нужны, хотя мальчик знает: они навсегда останутся с ним. И словно ему мало безнадежности обрушившихся на него бед, он теперь еще уверен, что заблудился. Он рассчитывал, что доберется до Черных холмов за три дня и три ночи езды, но по своей глупой, детской неопытности заблудился под дождем, не имея реальных ориентиров, а те немногие, которые он знал, оказались затоплены, и теперь мальчик уверен, что каким-то образом пропустил Черные холмы, сердце мира. Именно этой ночью, в один из самых тяжелых моментов своей жизни, Паха Сапа замечает свет вдалеке слева. Его разум, та малая его часть, что все еще принадлежит ему, а не захвачена в заложники воспоминаниями сурового воина, говорит ему, что нужно повернуть лошадей направо и уходить от света. Если это костер, то развели его вазичу, которые сразу же его убьют, или Шальной Конь, который сначала будет его пытать, а потом убьет. Но он поворачивает налево, на восток, как он думает, и едет в ночи, держа путь на крохотный огонек и боясь, что тот сейчас мигнет и погаснет. Но огонь, напротив, в промежутках между порывами ветра, когда он исчезает из виду, разгорается все ярче. Около получаса едет Паха Сапа под дождем в направлении огня, его конь скользит и спотыкается в глубокой жиже, и наконец мальчик видит большую темную массу над маленькой точкой огня и вокруг нее. Это должна бытьМато-паха, Медвежья горка, а значит, он всего в нескольких милях к северо-северо-востоку от Черных холмов. Но Мато-паха — излюбленное место стоянки для родов лакота, направляющихся в Черные холмы, а именно это и собирался сделать Шальной Конь. Подъехать к костру для Паха Сапы вполне может означать неминуемую смерть. Покачиваясь на своем коне и не падая только потому, что его пальцы вцепились в гриву Червя, Паха Сапа продолжает двигаться в направлении огня.Источник света находится в пещере на высоте в несколько сотен футов по северо-западному склону Медвежьей горки. Зная, что ему нужно вернуться в проливающуюся дождем темноту, Паха Сапа, напротив, продолжает вести лошадей к пещере под водопадом, хлещущим над входом с такой силой, что огонек на мгновение пропадает из виду. Но перед входом есть широкая площадка, где все еще остается сухая трава. Паха Сапа привязывает там мерина и кобылу, вытаскивает из-под промокших ремней на спине Пехански украшенное перьями боевое копье Сильно Хромает и медленно, осторожно входит в освещенную пещеру. И тут же желудок Паха Сапы пронзает боль, а его рот наполняется слюной. Кто бы ни обосновался в пещере, тут готовят еду. Судя по запаху, это кролик. Паха Сапа любит хорошо прожаренного кролика. Он несколько раз останавливается у поворотов низкой пещеры и прислушивается, но слышит только тихое подвывание, потрескивание огня, а у себя за спиной непрекращающиеся звуки жующих конских челюстей и время от времени встряхивание гривой и хвостами. Слышат ли люди у огня его приближение? Паха Сапа выходит из-за последнего поворота, держа копье обеими руками, и видит старика, который сидит в широкой части пещеры, скрестив ноги, и напевает что-то себе под нос, осторожно поворачивая над огнем два вертела, на которые насажены освежеванные и быстро покрывающиеся поджаристой корочкой кролики. Паха Сапа опускает копье и входит в освещенный круг. На старике, чьи длинные седые волосы заплетены в косички, свободная, синего цвета рубаха, сделанная, вероятно, вазичу, его штаны изготовлены из какого-то синеватого с проседью материала, который Паха Сапа поначалу принимает за тот материал, из которого пошиты полотняные штаны солдат вазичу, но потом он понимает, что это какой-то другой материал, словно в мелкую сеточку. На мокасинах старика традиционное (и красивое) бисерное украшение, какие делают шайенна. (Еще одна пара мокасин, каких Паха Сапа в жизни не видел — они словно сделаны из зеленого полотна вазичу, — лежит рядом с костром, сохнет, и от них идет пар.) Теперь старик, щурясь, смотрит сквозь пламя на Паха Сапу, и глаза его казались бы абсолютно черными, если бы в них не плясали отраженные язычки пламени. Но в спокойном и почему-то располагающем выражении его лица нет ни следа гнева или страха. Он начинает говорить и говорит на беглом лакотском с сильным шайеннским акцентом. — Добро пожаловать, мальчик. Я не слышал, как ты прибыл. Слух у меня не тот, что прежде. Паха Сапа хоть и опустил копье, но не отставляет его. — Приветствую тебя, дядя. Ты из шахийела? — Да, я шайенна. Но я много времени прожил среди лакота. Я никогда не был врагом твоего народа и многих людей обучил. Паха Сапа кивает и наконец отставляет копье — прислоняет его к стене пещеры. У него еще остается нож, но никаких признаков, что здесь есть кто-то еще, не видно: шкура-подстилка для сна и утварь для готовки — все для одного. И Паха Сапа не думает, что старик сможет быстро подняться из сидячего положения с перекрещенными ногами. Паха Сапа, у которого в желудке началось громкое урчание при виде и запахе двух поджаристых кроликов на вертелах, вспоминает правила вежливости. — Меня зовут Паха Сапа. Старик улыбается, показывая два ряда длинных желтоватых, но сильных зубов с единственной щербинкой внизу. Много зубов для такого старика, думает Паха Сапа. — Добро пожаловать, Паха Сапа. Лакота обычно не называют мальчика по какому-то месту. Мы еще с тобой поговорим об этом. Меня зовут Роберт Сладкое Лекарство. Услышав имя старика, Паха Сапа моргает. Он никогда прежде не слышал «Роберт», даже у шайенна. Похоже, это имя вазичу. Старик показывает на шкуру, развернутую по другую от него сторону костра. — Садись. Садись. Ты голоден? — Очень голоден, дядя. Снова неожиданная улыбка. — Вот поэтому-то я и приготовил сегодня двух кроликов. Паха Сапа не может не сощуриться, услышав это. — Ты сказал, что не слышал, как я подошел. — Я и не слышал, юный Черные Холмы. Просто я знал, что со мной сегодня будет кто-то еще. Ну, похоже, кролик уже готов. Там под вещами есть миска. Возьми нож и отрежь сколько хочешь. Весь кролик твой. А там в кувшине вода… В кувшине поменьше — мни вакен, и ты можешь угоститься, разве что ты не пьешь вообще. Огненная вода. Виски вазичу. Паха Сапа никогда его не пробовал и, несмотря на любопытство, знает, что делать это сейчас не стоит. — Спасибо, дядя. Он жует горячее, дышащее жаром костра мясо кролика, его лицо и руки мигом покрываются жиром, и он отпивает несколько глотков холодной воды. Немного погодя он отирает рот и говорит: — Я был на Медвежьей горке много раз, дядя, но я не знал, что тут есть пещеры. — Да знал, конечно. Здесь, в одной из пещер, Майюн[45] дал моему предку Мустойефу Дар Четырех Стрел. В одной из пещер здесь еще до того, как время отсчитывалось так, как теперь, кайова получили от своих богов священную печень медведя, и здесь же апачам был вручен дар священного лошадиного лекарства. Вы, лакота, — и я знаю, ты слышал об этом, Паха Сапа, — рассказываете, что в одной из здешних пещер ваши предки получили в дар от Вакана Танки священную трубку. — Да, я слышал все это, дядя… кроме кайовы и медвежьей печени. Но я никогда не видел ни этой пещеры и никакой другой, хотя мы, ребята, забирались на Мато-паху и играли здесь повсюду. Старик снова улыбается. Каждый раз, когда он делает это, тысячи морщинок вокруг его глаз и рта становятся глубже. — Что ж, значит, Медвежья горка до сих пор хранит от нас тайны, Черные Холмы. — И мой народ здесь, в этой пещере, получил в дар священную трубку, а твой — Четыре Стрелы? Роберт Сладкое Лекарство пожимает плечами. — Кто знает? Или кто знает, так ли оно было на самом деле? Если какое-то место одно племя считает священным, другие племена спешат узнать — или сочинить — какую-нибудь историю, в которой говорилось бы, что это место священно и для них. Паха Сапа потрясен. Когда Роберт Сладкое Лекарство сказал, что он обучал лакота, так же как и шайенна, Паха Сапа решил, что старик — вичаза вакан, как Сильно Хромает, Долгое Дерьмо и другие. Паха Сапа не слышал, чтобы настоящий шаман признавал, что боги и праотцы могут быть выдуманы. От одной только этой мысли у него начинает кружиться голова. В его измученном болью черепе громче становятся трескотня призрака и жуткие воспоминания Шального Коня. — Ты не болен, Паха Сапа? У тебя нездоровый вид. На секунду Паха Сапу охватывает безумное желание рассказать старику правду обо всем: о его способности прикоснуться к человеку и заглянуть в него, в его прошлое, а иногда и в будущее (у него нет ни малейшего желания прикасаться к Роберту Сладкое Лекарство), о призраке Длинного Волоса (если только это Длинный Волос), который бубнит, бубнит и бубнит на уродливом и бессмысленном языке вазичу, о Шальном Коне, который хочет его убить, о собственной его боязни (почти уверенности), что он потерпит провал на ханблецее, — рассказать старику все. — Нет, дядя. Меня только трясет немного. — Сними-ка с себя одежду. Всю. Рука Паха Сапы движется к рукоятке ножа у него на поясе. Он знает, что некоторые из этих вичаза ваканов, в особенности отшельники, — винкте. Некоторые винкте в течение всей своей жизни одеваются и ведут себя как женщины. У других, говорят, есть и мужские и женские органы, но большинство винкте, как говорили Паха Сапе ребята постарше, предпочитают вставлять свой стоячий «делай деток» в попу мальчикам, а не куда полагается — в виньян шан прекрасных винчинчала. Паха Сапе не хочется узнавать, что при этом чувствует мальчик. Он решает, что ему придется убить Роберта Сладкое Лекарство, если старик приблизится к нему. Старый вичаза вакан видит выражение лица Паха Сапы, смотрит на дрожащие пальцы мальчика на рукояти ножа, а потом начинает смеяться. Он смеется низким, сочным долгим смехом, который эхом отдается от стен извилистой пещеры за тем местом, где они сидят у огня. — Не глупи, мальчик. Мне не нужна твоя унце. Я был восемь раз женат на женщинах. Это восемь разных женщин, маленький Черные Холмы, а не восемь жен одновременно. Так что, если ты не привел какого-нибудь винкте с собой, то в этой пещере нет ни одного. У тебя лихорадка, и ты весь горишь. И тебя трясет. Вся твоя одежда насквозь мокрая. И я думаю, ты в таком виде ходишь уже несколько дней и ночей. Высуши все это и сядь поближе к огню. Паха Сапа прищурясь смотрит на старика, но рука его отпускает рукоятку ножа. — Возьми эти одеяла, мальчик. Сними с себя одежду — можешь сделать это за одеялами, если хочешь, — и повесь ее на пустой вертел — пусть сохнет. Мокасины тоже сними. Нож можешь оставить при себе, если тебе кажется, что так ты будешь в большей безопасности. Одеяла чистые, и паразитов в них нет. Паха Сапа краснеет, но делает то, что говорит ему старик, руки у него так дрожат, что ему с трудом удается повесить сушиться одежду. Он заворачивается в одеяла. Мокрой кожей он чувствует их шершавость, но одеяла неизмеримо теплее, чем его насквозь промокшая одежда. Нож он оставил при себе. Роберт Сладкое Лекарство отирает рот и кладет вертел со своим жареным кроликом, к которому едва прикоснулся, на вилкообразные подпорки, где прежде лежал вертел Паха Сапы. Мальчик до костей обглодал своего кролика. Паха Сапа всегда думал, что в мире ничто не выглядит таким жалким и уязвимым, как освежеванный кролик без головы. — Бери, мальчик. Я съел столько, сколько хотел. Угощайся. Паха Сапа благодарно мычит в ответ и срезает куски мяса в свою миску. Роберт Сладкое Лекарство смотрит направо сквозь пламя в направлении входа. — И давно идет дождь? Два дня и две ночи? — Три дня и три ночи, дядя. Нет, постой… уже четыре ночи и три полных дня. Все затоплено. Старик кивает. — В день перед началом дождя я встретил вазикуна на пути к вершине горки. День был солнечный. Позднее появились облака, но в основном светило солнце. Паха Сапа говорит с набитым ртом: — Ты его убил, дядя? — Убил кого? — Вазикуна! Старик усмехается. — Нет, я поговорил с ним. — Это был синий мундир? Солдат? — Нет-нет. Я думаю, прежде он был воином, — я в этом уверен, но теперь — нет. Он мне сказал… нет, неверно; он не то чтобы мне сказал — он дал мне понять, что когда-то ходил по луне. Паха Сапа моргает, услышав это. — Значит, он был витко — сумасшедший. Роберт Сладкое Лекарство улыбается, снова показывая свои длинные зубы. — Он вовсе не казался витко. Он казался… одиноким. Но, юный Черные Холмы, скажи мне, слышал ли ты когда-нибудь о вичаза вакане или каком другом человеке, наделенном необычными способностями, — например о вайатане, пророке, или вакиньяне, мечтателе, которому существа грома присылают видения, или о вапийе, колдуне, или ванаацине, который убивает болезнь, или об опасном вокабийейе, который лечит колдовскими лекарствами, или о вихмунге, который высасывает болезнь прямо изо рта умирающего собственным вдохом… который рассказывает, как покидает свое тело и путешествует по дальним местам? Паха Сапа смеется и прикладывается к кувшину с родниковой водой. — Да, дядя, конечно. Но я никогда не слышал, чтобы шаман, наделенный необычными способностями, говорил о… Он замолкает, вспоминая о собственном опыте (сне?), когда он лежал в траве, а потом поднялся так высоко в небо, что оно потемнело среди белого дня и на нем появились звезды. — …говорил… о таких далеких путешествиях. Но ты, дядя, говоришь, что у вазичу бывают видения, как и у настоящих людей? Роберт Сладкое Лекарство пожимает плечами и подбрасывает несколько прутьев в огонь. Паха Сапе становится тепло под одеялами, глаза его начинают смыкаться. От второго кролика теперь тоже остались одни кости. Голос старика, громким эхом отдающийся от стен маленькой пещеры, кажется Пахе Сапе странно знакомым. — А ты никогда не обращал внимания, юный Черные Холмы, как все наши племена (все те, о которых я знаю, даже те, что живут к востоку от Большой реки и к западу от Горящих гор и за хребтом, Где Никогда Нет Лета, даже те, которые так далеко на юге, что там не равнины, а пустыни, где не растет трава) — что все мы даем нашим племенам названия, которые значат то же, что тсехестано, народ, как говорим мы, шайенна, или вольные люди природы, как называете себя вы, лакота, или истинные люди, как говорят кроу… и так далее, и так далее, и так далее. Паха Сапа забыл вопрос, если только в этих словах был какой-то вопрос, и совершенно не понимает, в чем суть, если только в этом есть суть. Он отвечает только сонными кивками и, вспоминая хорошие манеры, тихой отрыжкой. — Я у тебя спрашиваю, юный Черные Холмы, почему каждое из наших племен называет себя «истинными человеческими существами», но ни одну другую племенную группу, даже вазичу, таковыми не считает? Паха Сапа трет глаза. — Я думаю, дядя, наверное, потому, что наше племя… то есть мы… и есть человеческие существа, а другие — нет? Такой ответ кажется немного неадекватным даже быстро отогревающемуся мальчику с набитым животом, но другого ответа ему в этот момент не придумать. В следующие десятилетия он не раз будет возвращаться к этому вопросу. Роберт Сладкое Лекарство кивает, словно удовлетворен каким-то особенно умным ответом одного из учеников, которые учатся у него на вичаза вакана. — Возможно, юный Черные Холмы, когда ты выучишь язык призрака того вазикуна, что теперь бубнит у тебя в голове, то начнешь понимать мой странный вопрос о нашем самоименовании немного лучше. Паха Сапа сонно кивает, а потом вдруг сон его мигом проходит — он ведь не говорил этому старику о призраке Длинного Волоса, поселившемся в нем. Или говорил? Но Роберт Сладкое Лекарство уже продолжает: — Ты идешь в настоящие Паха-сапа, чтобы в одиночестве пройти ханблецею, так что после сегодняшнего пира тебе придется поститься. То место, которое тебе нужно, в одном дне езды отсюда, если только ты пойдешь верным путем в холмах. Я надеюсь, твой тункашила, Сильно Хромает, рассказал тебе, как нужно готовиться, и дал тебе все, что нужно, чтобы ты правильно сделал йювипи? — О да, дядя! Я узнал все, что нужно, а то, чего мне не найти в лесу, все собрано и навьючено на мою белую кобылу — ты слышишь, как она щиплет траву у входа! Роберт Сладкое Лекарство кивает, но не улыбается. — Ваштай! Сильно Хромает дал тебе надлежащую священную трубку и крепкий каньлийюкпани — отличный курительный табак? — О да, дядя! Дал ли? За четыре дождливых ночи Паха Сапа не до конца рассмотрел содержимое тюков, которые дал ему дедушка, он обычно прятался под кобылу в ночной ливень и нашаривал сухое мясо или лепешки, которые ему собрала в дорогу Женщина Три Бизона. Какая трубка в его тюках с добром — та, священная незаменимая Птехинчала Хуху Канунпа, Трубка Малоберцовой Бизоньей Кости, которую Сидящий Бык вручил на хранение Сильно Хромает, или менее священная племенная из красной глины? Паха Сапа не помнит, чтобы видел в каком-нибудь из своих промокших тюков красные орлиные перья, украшающие бесценную Птехинчала Хуху Канунпу. Старик все еще продолжает говорить: — Ваштай, Паха Сапа. Держись подальше от дорог вазичу, потому что солдаты и золотоискатели убьют тебя без лишних разговоров. Ступай на вершину Шести Пращуров. Июхакскан каннонпа! Возьми с собой трубку. Твоя трубка вакан. Таку воекон кин ихьюха эл войлагйапело. Эхантан наджинойате мака стимнийан каннонпа кин хе уйваканпело. Она может все. С тех пор как стоячие люди расселились по земле, эта трубка была вакан. Паха Сапа трясет головой, пытаясь прогнать из нее гудение и путаницу. Его донимает лихорадка. Глаза слезятся то ли от дыма, то ли от сильных эмоций — он не знает. Он по-прежнему сидит со скрещенными ногами на одеяле, завернутый в два других, и ему кажется, что он голый парит в нескольких дюймах над полом пещеры. Голос Роберта Сладкое Лекарство гудит в его голове, словно орудия вазичу. — Юный Черные Холмы, ты знаешь, как нужно правильно построить себе ойникага типи? — Да, дедушка… я хочу сказать — дядя. Я помогал Сильно Хромает и другим ставить парилки. — Охан. Ваште! И ты знаешь, как правильно выбрать синткалу ваксу из других камней, которые могут ослепить или убить тебя? — О да, дядя. Знает ли? Когда придет время в Черных холмах, сумеет ли он выбрать особые камни в руслах ручьев, камни с «бисерным» рисунком, по которому и определяется, что они безопасны при использовании в парилке? Паха Сапа начинает потеть, и его трясет под одеялами. — А жена твоего дедушки нарезала сорок квадратиков плоти со своей руки для твоей вагмугхы к камням йювипи? — О да, дядя. Нарезали ли Коса Ворона или Женщина Три Бизона необходимые кусочки кожи для священной погремушки, собрали ли маленькие ископаемые камушки, которые можно найти только в определенных муравьиных кучах? Да как они могли успеть? У них не было времени! Старик снова кивает и бросает несколько ароматизированных палочек в костер, который разгорелся уже и без того. Пещера наполняется кисловато-сладким запахом благовония. — Тебя предупредили, юный Черные Холмы, что, когда ты станешь наги, чистым духом, тебя посетят — почти наверняка нападут на тебя — осин ксика, злые животные, а также ванаги, и сисийи, и сийоко? — Я не боюсь призраков, дядя, а сисийи и сийоко — это страшилки для детей. Но голос Паха Сапы дрожит, когда мальчик говорит это. Роберт Сладкое Лекарство, кажется, не замечает этого. Он смотрит в костер, и в его черных глазах пляшут язычки пламени. — Видение ханблецеи — очень серьезное испытание для любого мужчины, сынок, а уж тем более для такого маленького человека, как ты. Ты понимаешь, что иногда судьба всего рода, к которому принадлежит тот, кто проходит ханблецею, зависит от видения? Иногда судьба целого народа — более чем племени, целой расы — зависит от видения и от того, что будет предпринято после видения. Ты это понимаешь? — Да, конечно, дядя. Паха Сапа решает, что Роберт Сладкое Лекарство не в своем уме. Винкто. — Ты знаешь, юный Черные Холмы, для чего существуют пращуры, боги и сам Вакан Танка? Паха Сапа хочет сказать: «К чему ты все это говоришь, старик?» — но он выдавливает из себя уважительное: — Да, дядя. Роберт Сладкое Лекарство отрывает взгляд от огня и смотрит прямо на Паха Сапу, но в черных глазах старика по-прежнему пляшут язычки пламени. — Нет, ты не знаешь, юный Паха Сапа. Но узнаешь. Боги, пращуры и сам Всё существуют, потому что существуют так называемые люди, чтобы поклоняться им. Люди существуют, потому что существуют бизоны и потому что во всем мире, который мы воспринимаем как мир, свободно растет трава. Но когда исчезнут бизоны и когда исчезнет трава, люди тоже исчезнут. И тогда не станет и богов, духов наших предков, духов места и самой жизни. Ты меня понимаешь, Паха Сапа? — Нет, дядя. Роберт Сладкое Лекарство улыбается, показывая свои белые зубы. — Ваштай! Это хорошо. Но ты первым поймешь это, юный Черные Холмы. Боги умирают, как и бизоны. Иногда медленно и мучительно. Иногда быстро, неожиданно, не веря в собственную смерть, отрицая стрелу, рану или болезнь, хотя они и убивают их. Ты понимаешь это, Паха Сапа? — Нет, дядя. — Ваштай! Вот как оно должно быть теперь. Имеет значение не то, что ты знаешь о гибели и исчезновении бизонов, людей, их образа жизни, пращуров и Всего, — многие из нас, наделенные даром вакан, прозревали это раньше, — имеет значение то, что ты будешь делать с этим в те восемьдесят с лишним зим, что остались тебе. То, что ты — именно ты и никто другой — будешь с этим делать. Ты понимаешь это, Паха Сапа? Мальчик уже злится. Его клонит в сон, мучает жар, он болен, готов расплакаться и очень зол. Если он убьет сейчас старика, этого никто не узнает. — Нет, дядя. — Ваштай! Утром ты будешь спать долго и допоздна, юный Черные Холмы, а когда проснешься, меня уже не будет… Дождь ослабеет до рассвета, а у меня дела в Месте убежища, далеко отсюда и от холмов. Я не оставлю тебе еды, а к своей ты не должен прикасаться. Твой пост должен начаться с рассветом. — Да, дядя. — Твое испытание не закончится, даже когда ты переживешь свою страшную ханблецею. Это начало. Ты никогда не сообщишь о своем видении Сильно Хромает и своему роду. Твои лошади будут убиты (не Шальным Конем, который ищет тебя в другом месте, а потом забудет тебя, обуянный жаждой убивать вазичу), а твоя священная трубка будет похищена и ты ограблен до нитки, но так оно и должно быть. Пойми, что если для Вселенной и нет плана, то для каждого из нас есть свои распятия и возрождения. Паха Сапа не понимает этого слова — «распятие», но старик не объясняет того, что не понимает мальчик, поэтому Паха Сапа не спрашивает. — Я не допущу этого, дядя. Я умру, как умер мой отец, который был убит в схватке, но не отдам Птехинчала Хуху Канунпу, которую хранили Сильно Хромает и десять поколений шаманов до него, они не потеряли с нее ни одного красного перышка. Роберт Сладкое Лекарство смотрит на него. — Хорошо. Позволь мне сказать тебе теперь, Паха Сапа: для меня большая честь, что ты назовешь своего сына, единственного твоего ребенка, моим именем. Паха Сапа в ответ может только смотреть на старика широко раскрытыми глазами. — Пора затушить костер. Иди ко входу в пещеру, помочись, посмотри, все ли в порядке с твоими лошадьми, а потом ложись спать, Паха Сапа. Пока ты спишь, я буду просыпаться время от времени, чтобы потрясти моей собственной вагмуху и отогнать призраков. Роберт Сладкое Лекарство показывает ему церемониальную погремушку, которая так стара, что кажется ровесницей времени. — Паха Сапа, токша аке чанте иста васинйанктин ктело («Я увижу тебя глазами моего сердца, Паха Сапа»). Постанывая и кряхтя, старик медленно вытягивает ноги и с трудом (с третьей попытки) встает, его покачивает, как это случается со стариками, когда они пытаются сохранить равновесие. Голос Роберта Сладкое Лекарство звучит очень тихо. — Митакуйе ойазин! («И да пребудет вечно вся моя родня!») Дело сделано. Они идут вместе, тихо, старик двигается очень медленно, но мальчик не помогает ему, потому что боится прикоснуться к Роберту Сладкое Лекарство. Они идут к выходу из пещеры, где проверяют лошадей и облегчаются, разойдясь подальше и каждый глядя в другую часть темноты — в дождливую ночь.
13 Джексон-Парк, Иллинойс
Июль 1893 г. В течение всей полуденной атаки на хижину белых поселенцев, даже после того, как он застрелен и убит прибывшей кавалерией, Паха Сапа нервничает — ему предстоит встреча с Рейн де Плашетт. Еще ему не нравится, когда его убивают. Сам бы он ни за что не вызвался, но мистер К. показал на него и заявил, что это его собьют выстрелом с лошади, вот так оно все и получилось. Почти каждый вечер Паха Сапе приходится мучиться с синяками, растяжениями или разбитой левой коленкой, вылечить которую нет ни малейшей надежды. Для него специально насыпают холмик мягкой земли, чтобы он туда падал, этот холмик должен обновляться раз днем и раз вечером, но другие воины — в их абсолютно подлинном угаре — нередко забывают освободить для него место, и он не попадает на мягкую землю, ему приходится, взмахнув руками в воздухе, падать с высокого, пегой масти пони на жесткую, утрамбованную землю арены. После этого он должен лежать там мертвый, пока не проскачут мимо и над ним остатки его банды мародеров, составленной из разноплеменных индейцев, а потом, сразу же за этим, он должен опять и глазом не моргнуть, когда мимо поскачут солдаты. Ему уже три раза доставалось подкованным копытом, а он, будучи мертвым, даже не мог реагировать на это. Его убивают дважды в день — на дневном и вечернем представлениях, и это убивает его. (Хорошо хоть, что ему позволено остаться в живых при нападении на Дедвудскую почтовую карету.) Он придерживается такой тактики: выбирает самую маленькую, самую низкую, самую неторопливую лошадь. Тогда он может соответствовать своему имени — тому имени, которое дали ему семнадцать лет назад вазичу; и если он должен продолжать умирать, то, по крайней мере, может гарантировать, что упадет с наименьшей высоты. Но в этот июльский день в течение четырех часов между дневным шоу и более долгим вечерним представлением у него встреча с мисс де Плашетт, и Паха Сапа так нервничает, что не то что думать, но и умереть толком не может. Правда, напоминает он себе, спеша в палатку для умывания, общую для солдат и индейцев, его ждет вовсе не свидание. Так случилось, что Паха Сапа заносил что-то в приемную этим утром, когда мистер Коди и его друг преподобный Генри де Плашетт вышли из кабинета, продолжая разговор. Преподобный де Плашетт, с которым Паха Сапа уже встречался раньше, говорил, что его дочь пришла посмотреть дневное шоу «Дикий Запад», но потом хочет посетить и саму выставку, и ей нужен сопровождающий. Он, преподобный де Плашетт, встретит ее у входа в корпус «Промышленные товары и гуманитарные науки» у Большого бассейна в шесть часов, а до этого времени будет занят. Мистер Коди сказал, что это не проблема — он сам проводит молодую даму по выставке. Но потом Коди вспомнил, что у него после дневного представления назначена встреча в Чикаго. — Для меня будет большой честью проводить мисс де Плашетт в курдонер и дождаться вашего прибытия, преподобный де Плашетт. Всю свою последующую жизнь Паха Сапа не сможет поверить, что он и в самом деле произнес эти слова. Мистер Коди и преподобный Генри де Плашетт медленно повернулись к маленькому, худому двадцатисемилетнему сиу, известному им под именем Билли Вялый Конь. Коди, на котором был дорогой коричневый костюм и который только что, собираясь выйти на улицу, надел широкополую, по западной моде шляпу, кашлянул. — Это очень мило с твоей стороны, Билли. Но я не уверен, что у тебя будет время между дневным и вечерним представлениями, и, наверное, было бы лучше… — Нет-нет, Уильям. Я несколько раз беседовал с мистером Вялым Конем, и, как тебе известно, он знаком с моей дочерью. Я думаю, это превосходная мысль. Я встречу Рейн не позднее шести часов, а это значит, что у мистера Вялого Коня будет достаточно времени, чтобы вернуться и облачиться в свой… гм… костюм. Костюм Паха Сапы состоит из набедренной повязки, лука, стрел и единственного белого пера, которое он вставляет в заплетенные в косу волосы, — это его малая дань памяти Шального Коня. Но в тот день он чуть ли не краснел, скача по арене и думая, что мисс де Плашетт смотрит на него, почти голого, с заметными синяками и всякое такое. У Коди с лица не сходило выражение сомнения, но священник (и отец) явно принял решение. — Будьте добры, встретьте мою дочь как можно скорее после представления, мистер Вялый Конь. Я ей скажу, что вы проведете ее по выставке. И я еще раз благодарю вас за вашу любезность. Преподобный де Плашетт кивнул, но руку подавать не стал. Паха Сапа в тот момент знал, что этот человек решил позволить ему проводить свою дочь до выставки — идти там было всего ничего — исходя из своего либерального (и почти наверняка поверхностного) представления о равенстве всех перед Господом, но Паха Сапе было совершенно все равно, чем руководствовался священник. Он быстро-быстро моется, все время благодаря эфемерного бога вазичу и реального Вакана Танку (который представлялся ему гораздо больше, гораздо сложнее, чем белобородое божество этих пожирателей жирных кусков,[46] а уж о том, что его присутствие в этом мире бесконечно заметнее, и говорить не приходится) за то, что он не упал в конский помет, когда свалился мертвым с лошади во время представления, — и бежит назад в палатку, чтобы надеть свой единственный, купленный им в Рэпид-Сити костюм, который он взял с собой на восток: черный, в тонкую полоску, из плотной шерсти с мешковатыми брюками; костюм плохо на нем сидит и совершенно не подходит для июля. После третьей безуспешной попытки завязать галстук он с удивлением понимает, что руки у него трясутся. Паха Сапа не помнит, чтобы у него когда-нибудь тряслись руки, разве что когда он болел, еще будучи мальчиком, и у него случался жар. Стоя перед зеркалом, Паха Сапа примеряет соломенную шляпу, которую купил месяц назад, во время своего второго похода в Чикаго. Маленькая летняя шляпа выглядит нелепо с черным зимним костюмом и торчащими из-под шляпы длинными черными косичками. Он швыряет ее на кушетку и возвращается в палатку, чтобы напомадить кончики косичек. Паха Сапа постоянно поглядывает на карманные часы, доставая их из кармана костюма — жилетки у него нет. Мисс де Плашетт ждет его в фойе, и когда он приближается, на ее лице появляется улыбка узнавания. Паха Сапа уверен, что никогда еще не видел зрелища такого абсолютно прекрасного или такого бесконечно недоступного. Еще он замечает, что его рубашка местами уже промокла от пота. На мисс де Плашетт шелковая коричневая приталенная блузка с обычными пышными рукавами — похоже, все женщины теперь носят такие. Это заметил даже Паха Сапа. На ее доходящей до пола шелковой летней юбке, тоже относительно легкой и невесомой (для такого большого количества материала), имеется полоска в цвет дорогой блузки — коричневые полоски перемежаются с густыми зелеными, отделанными тонкой золотой ниткой по краям. На девушке узкополая соломенная шляпка, которая смотрится на ней идеально в той же мере, в какой на нем нелепо выглядела его. Еще на ней коричневые перчатки, в руке — зонтик от солнца. Паха Сапа рад тому, что на ней перчатки. С возрастом число «прикоснись — и увидишь, что будет» у него уменьшилось, но если они все же случались, то неизменно когда он прикасался к чьей-то коже. Он исполнен непоколебимой решимости не прикасаться каким-либо образом к коже мисс де Плашетт — для этого он и сам надел свои единственные перчатки. Но он рад тому, что и девушка надела перчатки. Теперь никакая случайность… — Мистер Вялый Конь, я рада снова вас видеть и не могу найти слов благодарности за то, что вы согласились проводить меня на выставку сегодня, чтобы я могла встретить там отца. Приношу свои извинения, но как правильно… мистер Вялый Конь? Или просто Конь? Она говорит тихим напевным голосом — так же она говорила и во время их короткой первой встречи двумя днями ранее, когда вместе с отцом пришла на шоу «Дикий Запад». Мистер Коди представил преподобного де Плашетта и его дочь большинству (если не всем) из сотни бывших солдат-кавалеристов армии США и девяноста семи взятым на полную ставку сиу, пауни, шайенна и кайова, которые приехали на восток вместе с Буффало Биллом. С самого начала Паха Сапа обнаруживает, что у него словно кляп во рту. Он предполагал, что это случится где-нибудь на их с мисс де Плашетт пути к выставке, — но не сразу же. А тут вдруг какое-то безумие — он хочет объяснить ей, что Билли Вялый Конь, имя, под которым он вот уже семнадцать лет известен бледнолицым, было мерзким, глупым, оскорбительным прозвищем, которое ему дали в Седьмом кавалерийском полку, когда он был их пленником… разведчиком… узником, а его настоящее имя… Он трясет головой и выдавливает из себя: — Билли, мадам, просто Билли. Лицо у него горит, но Рейн де Плашетт улыбается и берет его под руку, отчего Паха Сапа слегка подпрыгивает. — Отлично… Билли… тогда вы должны называть меня Рейн. Идем?Они выходят из калитки шоу «Дикий Запад» под жаркое солнце середины июля. Справа от калитки — большой плакат с полноцветным портретом Христофора Колумба и подписью: «Лоцман океана, первый покоритель Запада». Ведь расположенная по соседству Всемирная выставка названа Всемирной Колумбовской выставкой 1893 года, пусть она и недотянула целого года до четырехсотой годовщины высадки итальянского моряка. На более крупном и красочном плакате по другую сторону калитки — мистер Коди в одежде с бахромой, как и полагается покорителю Запада, с подписью: «Лоцман прерии, последний покоритель Запада». Но выше, с одной стороны широкой входной калитки еще один плакат, который гласит: «„Дикий Запад“ Буффало Билла и съезд крутых всадников всего мира». Мисс де Плашетт останавливается, выйдя из калитки, отпускает Паха Сапу, раскрывает зонтик, потом снова берет его под руку и бросает на мгновение взгляд назад на калитку и длинный забор. На ее бледное лицо сквозь кружево зонтика падают лучики света, и Паха Сапе приходит на ум аппалуза.[47] Еще Паха Сапа впервые замечает, что на маленьком носике и румяных щечках девушки целое созвездие веснушек. Сколько ей лет? Наверное, двадцать. Но никак не больше двадцати одного — двадцати двух. — Жаль, что мистеру Коди не удалось устроить арену и организовать показ других экспонатов на территории выставки. Отец говорит, что администрация выставки отвергла заявку мистера Коди, потому что шоу «Дикий Запад»… как же они это сказали… «несообразно». Я полагаю, что под этим они имели в виду «слишком вульгарно»? Глядя в карие глаза мисс де Плашетт, Паха Сапа переживает жуткое мгновение, понимая, что вдруг начисто забыл английский, на котором говорит вот уже почти семнадцать лет. Он обретает память и голос, только когда они начинают двигаться на восток к Шестьдесят третьей улице и входу на выставку. — Да, слишком вульгарно, именно это они и имели в виду, мисс де Плашетт. Они не хотели пятнать экспозицию аттракционом мистера Коди, хотя мистер Коди, подавая заявку, только что вернулся из очень успешного турне по Европе. Но все вышло к лучшему. — Каким образом? Он понимает, что она улыбается, словно ждет услышать что-то интересное, но ему трудно думать словами, потому что все его внимание в этот момент сосредоточено на легком прикосновении ее правой руки к сгибу его левой (своей левой рукой она держит зонтик). — Понимаете, мисс де Плашетт… Он смущенно замолкает, когда она останавливается, поворачивает голову и кивает в напускном (как он надеется) нетерпении. — Я хочу сказать, мисс… гм… то есть… когда Бюджетная комиссия отвергла заявку мистера Коди, он купил права на эти пятнадцать акров по соседству с территорией выставки. И теперь мистеру Коди не нужно делиться прибылью с администрацией выставки, и к тому же он может давать представления по воскресеньям — они чрезвычайно популярны, — тогда как выставка по воскресеньям не разрешает представлений, ну и конечно, работает фактор большой площади — целых пятнадцать акров, то есть мисс Оукли, Анни,[48] она разбила целый сад вокруг своей палатки, и еще эта шкура пантеры на кушетке и великолепный ковер из Англии или еще откуда-то, не говоря уже об электрическом освещении, настоящей итальянской мебели и… Паха Сапа понимает, что после целой жизни, проведенной в благородном мужском молчании, он заболтался, как школьник вазичу. Он так быстро закрывает рот, что слышно, как клацают его зубы. Мисс де Плашетт покручивает свой зонтик и с ожиданием, с надеждой смотрит на него. На лице у нее улыбка, и что же она выражает — удивление, потрясение или легкое презрение? Он делает неловкое движение рукой. — Ну вот, в общем, все повернулось к выгоде мистера Коди. Кажется, мы в среднем собираем на представление по двенадцать тысяч человек, что гораздо прибыльнее любого договора на территории выставки. Почти все, кто приходит на выставку, рано или поздно неизбежно приходят и на шоу «Дикий Запад», а некоторые, для того чтобы увидеть нас, едут по надземной железной дороге. Они молча проходят полквартала от огромной площадки шоу «Дикий Запад», граничащей с 62-й улицей, до ближайшего входа на выставку с 63-й улицы. У Паха Сапы мало опыта общения с женщинами — в особенности с белыми женщинами, — и потому он не представляет, естественное ли ее молчание, или же оно свидетельствует о напряжении и неудовольствии со стороны дамы. Впереди над разграничивающим забором проходит надземная железная дорога (так называемая аллея «Эль»; Паха Сапа слышал: она так называется, потому что ее ветки петляют над аллейками от самого центра Чикаго, так как спекулянты скупили все другие участки, над которыми можно было бы проложить дорогу), построенная, чтобы привозить миллионы посетителей из Чикаго в Джексон-Парк. Некоторые из ее желтых вагонов «для перевозки скота» грохочут впереди, и Паха Сапа, подняв голову, видит нетерпеливых экскурсантов, самым опасным образом свешивающихся через открытые борта. Паха Сапа знает, что посетителям выставки удавалось убить себя различными хитроумными и жуткими способами, но никто пока, думает он, еще не выпадал из аллеи «Эль». Входная плата на выставку — пятьдесят центов, и кассиры, продающие билеты, не прочь сообщить брюзгливым посетителям, что если бы мэр Гаррисон, Даниэль Хадсон Бернхам, самый главный ответственный за выставку, или президент Кливленд[49] появились у их дверей, то и этим джентльменам пришлось бы выложить по пятьдесят центов. Паха Сапа достает доллар (довольно большая часть его месячного жалованья), но мисс Плашетт уже высвободила руку и открывает матерчатый кошелек, свисающий на шнурке с ее запястья. — Нет-нет, мистер… Билли… отец оставил мне деньги на два билета. Ведь вы бы не пошли сегодня на выставку, если бы не ваше галантное предложение проводить меня. Паха Сапа медлит, понимая, что ему ужасно не по душе мысль о том, что она заплатит за них двоих или даже за себя одну, но он не знает, как объяснить ей это. Пока он раздумывает, молодая женщина покупает билеты, протягивает ему один и проходит через металлический турникет. Паха Сапа ворчит, глуповато сжимая в руке долларовую бумажку, но все же идет за ней. Как только они входят на выставку и минуют высокое белое здание около западной границы ее территории, случается нечто, о чем Паха Сапа будет много раз вспоминать в последующие годы. Мисс де Плашетт неожиданно поворачивается, смотрит на белое здание без окон с высокой башней, и ее манеры неузнаваемо меняются. На ее лице только что отражалось довольство, почти девчоночий интерес, а теперь оно выражает тревогу, почти ужас. — Что случилось, мисс де Плашетт? Она обхватывает себя за плечи и случайно прижимает к себе руку Паха Сапы, но это никакое не кокетство. Сквозь толстую шерстяную материю своего костюма и ее шелковый рукав он чувствует, что ее пробирает дрожь. — Вы чувствуете это, сэр? Слышите? — Что чувствую, мисс де Плашетт? Что слышу? Он оборачивается на угрюмое белое здание на территории выставки, мимо которого они только что прошли. У вершины этого сооружения ряд черных слепых арок, короткие белые башенки на восточных углах и более высокая башня, наверное, с площадкой обозрения на дальней, западной стороне. Она еще сильнее прижимает к себе его руку, и в испуганном выражении ее лица нет никакой игры. Ее белые зубы выбивают дробь. — Каким-то жутким холодом веет от этого места! А эти страшные крики! Вы не чувствуете холода? Не слышите ужасных криков? Паха Сапа смеется и поглаживает ее руку. — Это Дом холодного хранения, мисс де Плашетт. Я не ощущаю холодного воздуха, к которому вы так чувствительны, но вполне естественно, что от главного хранилища льда на выставке исходит холод. И я и в самом деле слышу крики, очень слабые, но у них безобидное происхождение. Внутри расположен каток, и я разбираю детские крики или крики молодых пар, катающихся на коньках. Выражение лица мисс де Плашетт еще несколько секунд не меняется, и она, кажется, не в силах оторвать взгляда от массивного белого здания. Наконец она отворачивается от него, они уже двигаются дальше, но Паха Сапа все еще чувствует, как дрожит ее тело совсем рядом с ним. — Я приношу свои извинения, мистер… приношу свои извинения, мистер Вялый Конь. На меня время от времени накатывают эти странные темные чувства. Вы, наверное, решили, что я дурочка. Женщины — такой странный вид, мистер Вялый Конь, а я принадлежу к самой странной его разновидности. Знаете, где бы администрация выставки разместила такой необычный, ни рыба ни мясо, экспонат, как я? Почти наверняка в сосуде со спиртом или формальдегидом на мидвее.[50] Паха Сапа говорит не задумываясь: — Нет, во Дворце изящных искусств, мисс де Плашетт. Почти наверняка там. Она улыбается ему, понимая, что это комплимент (не зная, насколько искренне это сказано), но, похоже, не возражает. Ее прежняя веселость возвращается по мере того, как они удаляются от Дома холодного хранения, но Паха Сапа кусает губы изнутри, пока не чувствует вкуса крови. Ему не нравятся мужчины, которые льстят женщинам. Четыре дня спустя, 10 июля 1983 года, в верхней части высокой башни Дома холодного хранения случится пожар. Пожарные появятся почти немедленно и ринутся по деревянным лестницам на схватку с огнем, сверкающим под куполом башни, но огонь к тому времени уже успеет распространиться по стенам и в пространстве под лестницей, поэтому пожарные наверху окажутся в западне. Двое выживут, перепрыгнув на стационарный шланг и спустившись по нему на землю с высоты шестьдесят футов. Тринадцать других пожарных, включая брандмейстера и четырех рабочих, погибнут страшной смертью в огне, охватившем Дом холодного хранения. Но им двоим еще ничего об этом не известно (по крайней мере, Паха Сапе, хотя он и считает себя чутким вичаза ваканом, чья задача предсказывать людям будущее), день стоит жаркий, солнечный, и мыслям о пожарах и смертях здесь нет места. Несколько мгновений они молча идут на северо-восток по широкой аллее, слева от них чуть ли не дюжина железнодорожных путей, которыми заканчивается Сентрал-Рейлроуд-стейшн. Поезда прибывают и убывают, но большинство делают это до странности беззвучно, не окутывая себя клубами пара, — это свойство новых электрических поездов. Паха Сапа и мисс де Плашетт вошли на выставку в некотором смысле «с черного хода»; главный вход находится по другую сторону коридора, протянувшегося с запада на восток, у величественного перистиля,[51] выходящего на пристань Касино, которая почти на полмили выдается в озеро Мичиган. Приехав на пароходе, причалившем в дальнем конце пристани, можно заплатить десятьцентов и по движущемуся тротуару (оснащенному и креслами) проехать все две тысячи пятьсот футов причала до самого перистиля. Всемирная Колумбовская выставка создавалась так, чтобы посетители увидели ее со стороны озера Мичиган и вошли с пристани в перистиль, а оттуда — в курдонер. Паха Сапа чувствует себя здесь так, будто оказался в каменном каньоне. Слева от них громада Дома транспорта (не самое большое здание в мире, поскольку эта честь досталась зданию «Промышленные товары и гуманитарные науки», которое возвышается на восточной границе огромного пространства выставки и теперь виднеется впереди и справа от них, но оно больше всего, что умещается в воображении Паха Сапы, уж не говоря о его жизненном опыте), а прямо перед ними — белая стена грандиозного Дома горного дела. Мисс де Плашетт по-прежнему держит его под руку, и теперь они идут по диагонали направо и наконец выходят в ослепительную послеполуденную роскошь Большого курдонера с Большим бассейном в середине; курдонер тянется от внушительного здания администрации под куполом до самого перистиля. По обеим сторонам невероятные здания: высокий и бесконечный Дом машиностроения справа от них, гигантский сельскохозяйственный павильон дальше на восток, шумный Дом электричества за Домом горного дела, а еще дальше — колосс, левиафан всех зданий мира: «Промышленные товары и гуманитарные науки». Мисс де Плашетт останавливается и убирает под соломенную шляпку выбившуюся прядку медных волос. Паха Сапа благодарен ветерку, который дует вдоль курдонера с озера и начинает высушивать пропотевшую грудь его рубашки. Его дама отходит на шаг в сторону и, подпирая пальчиком в перчатке подбородок, словно раздумывая над чем-то, поворачивается во все стороны света. Она закрывает зонтик, и он повисает на еще одном невидимом шнурке, обвязанном вокруг запястья. — Знаете, о чем я думаю, мистер… гм… то есть Билли? Знаете, о чем я думаю, Билли? — О чем вы думаете, мисс де Плашетт? Молодая женщина улыбается, и улыбка у нее почти девчоночья, искренняя, легкая — она просто счастлива и ничего больше. — Так вот, во-первых, вы ни за что не откажетесь от формальностей, как я предложила. Вы никогда не станете называть меня Рейн. Нет, Паха Сапа не вертится как уж на сковороде, он делает так только в уме. — Мне это трудно… отказ от формальностей с такой блестящей молодой дамой, мисс де Плашетт. Просто у меня нет опыта. — Что ж, тогда по справедливости. Я понимаю, что моя наглая бесцеремонность, впрочем, вполне принятая в Бостонском женском колледже, может обескураживать. Значит, я буду мисс де Плашетт, а вы… что-то я забыла. Как вы сказали — Вялый Конь или просто Конь? — Вообще-то меня зовут Паха Сапа, что по-лакотски означает «Черные Холмы». Паха Сапа слышит свой голос, говорящий это женщине, и не верит своим ушам. Рейн де Плашетт замирает и смотрит на него во все глаза. Паха Сапа замечает, что в карей радужке (которая сейчас кажется зеленой) ее прекрасного левого глаза есть черное пятнышко. — Извините, что называла вас неправильным именем. Когда нас представляли… и мистер Коди назвал вас… — Ни один белый человек еще не знает моего настоящего имени, мисс де Плашетт. Да и среди лакота его мало кто знает. Не знаю, почему я вам сказал. Мне почему-то показалось, что… неправильно… если вы не знаете. Она снова улыбается, но теперь это неуверенная улыбка взрослой женщины, улыбка только для них двоих. Левой рукой в перчатке она пожимает его мозолистую, покрытую рубцами руку, и Паха Сапа рад, что ее рука в перчатке. — Для меня большая честь то, что вы сказали мне, и я никому не открою вашей тайны, мистер Паха Сапа. Я правильно произношу? Первое «а» должно быть долгое? — Да. — Вы оказали мне честь, открыв вашу тайну, Паха Сапа, а потому, прежде чем закончится наша сегодняшняя прогулка, я открою вам тайну про меня, которая известна очень немногим… почему моя мама, которая, кстати, тоже была лакота, решила назвать меня Рейн. — Вы окажете мне огромную честь, мисс де Плашетт. В индейской палатке ходили слухи о том, что дочь преподобного де Плашетта наполовину индианка. Все об этом слышали. Но каждый из четырех индейских народов, представленных в шоу «Дикий Запад», объявлял ее своей соплеменницей. — Только попозже. А пока, Паха Сапа, хотите узнать, что я придумала? Что мы будем делать? — Очень хочу. Она хлопает в ладоши и на секунду, восторженная и улыбающаяся, превращается в совсем маленькую девочку. Из-под шляпы у нее снова выбилась медная прядь волос. — Я думаю, мы должны пойти на мидвей и прокатиться на громадном колесе обозрения мистера Ферриса. Паха Сапа неуверенно хмыкает и вытаскивает из кармана свои дешевые часы. Мисс де Плашетт уже посмотрела на свои часики — крохотные, круглые, не больше чем красный снайперский значок кавалериста, они прикреплены к ее блузке золотистой ленточкой — и теперь отметает его тревогу. — Не беспокойтесь, мистер… Паха Сапа. Мой друг. Еще и четверти пятого нет. Папа будет у Большого бассейна не раньше шести, и хотя папа всегда требует пунктуальности от других, сам он почти всегда опаздывает. У нас еще уйма времени. А я уже несколько недель набираюсь мужества, чтобы прокатиться на колесе. Ну пожалуйста. «Уйма?» — думает Паха Сапа. За семнадцать лет, что он борется с языком вазичу, он ни разу не встретил этого слова. — Хорошо, мы прокатимся на колесе мистера Ферриса, только билеты куплю я. До мидвея путь неблизкий. Хотите проехаться в одной из колясок, которые толкают сзади? — Ни в коем случае! Я люблю гулять. И до мидвея недалеко, а в коляске я уже накаталась, когда мы с папой были у моей тетушки в Эванстоне. Идемте, я подам вам пример! Девушка ускоряет шаг, по-прежнему держа Паху Сапу под руку. Они быстро идут на север мимо громады Дома транспорта, потом немного по дуге, а потом снова на север мимо бесконечного павильона садоводства с куполами, арками и яркими вымпелами. Все это время справа от них остается гигантская лагуна (никак не связанная с Большим бассейном на курдонере), в центре которой расположен Лесистый остров и еще один, поменьше, названный Островом охотничьего домика. Мисс де Плашетт болтает без умолку, хотя Паха Сапа не воспринимает это как болтовню — у него и мыслей таких нет. Ее голос кажется ему мелодичным и приятным. — Вы были на Лесистом острове? Нет? Обязательно побывайте, Паха Сапа! Лучше всего там по вечерам, когда горят сказочные фонарики. Я люблю этот лабиринт тропинок — там и скамейки есть, можно присесть; такое замечательное место, можно принести с собой ланч, посидеть в тенечке и расслабиться, в особенности у южной оконечности, оттуда такой прекрасный вид на величественный купол здания администрации; я, конечно, признаю, что разбивка ландшафта не отвечает высоким стандартам, которые были заданы: все эти экзотические растения, нерегулярные цветочные сады, мхи и другие низшие растения, которые выглядят так, будто росли там сто лет, — но все это во много раз лучше небольших правильных посадок, которые делались на Парижской выставке четыре года назад. Вы, случайно, там не были? Нет? Ну, мне просто повезло, потому что папу пригласили выступить на теологическом конгрессе в Париже, и, хотя мне было всего шестнадцать, он, к счастью, счел возможным взять меня с собой на несколько недель… и эта башня, что построил мистер Эйфель! Многие находят ее вульгарной, но мне она показалась замечательной. Ее собирались разобрать по окончании выставки — называли бельмом на глазу, но я не верю, что они всерьез собирались это сделать. Столько железа! Но башня мистера Эйфеля, какой бы впечатляющей она ни была, неподвижна, а колесо мистера Ферриса, у которого мы будем всего через несколько минут, уж оно-то двигается. Ой, я чувствую запах сирени — она там, на Лесистом острове, среди северных посадок. Правда, какой чудный ветерок с озера? А я не говорила, что папа знаком с мистером Олмстедом, он ландшафтный архитектор и планировал не только Лесистый остров, но и ландшафт выставки в целом? Я имею в виду, этой выставки, а не те правильные посадки, что в Париже, — такое разочарование! — при всем великолепии башни мистера Эйфеля и, конечно, тамошней кухни. Французская еда всегда изумительная. Кстати, вы не проголодались, Паха Сапа? Для ланча уже поздновато, конечно, а для обеда еще рано, но тут в Женском доме замечательные буфеты, хотя некоторые из них до неловкости близко расположены к такому экспонату, как большой корсет… Ой, Паха Сапа, вы что, покраснели? Паха Сапа и в самом деле покраснел — стал пунцовым, но храбро улыбается и качает головой; они как раз сворачивают влево от Женского дома. Мисс де Плашетт не дала ему возможности ответить, а сразу же стала рассказывать, что Женский дом спроектирован архитектором-женщиной и его размеры составляют сто девяносто девять на триста восемьдесят восемь футов при высоте в два этажа, или шестьдесят футов, а стоимость — сто тридцать восемь тысяч долларов. Это одно из небольших зданий среди архитектурных монстров выставки, но и оно достаточно велико, и его украшает множество арок, колонн и крылатых статуй. Теперь она свободной рукой сжимает его предплечье. — Вы видели выставку вечером, когда зажигают тысячи электрических огней, а купол здания администрации подсвечен лампочками и лучи прожекторов мечутся туда-сюда? — Нет, я не был здесь вечером. Но с арены шоу «Дикий Запад» и из палаток видны и яркое свечение, и лучи прожекторов. — Ах, Паха Сапа, обязательно посмотрите выставку вечером. Тогда-то и оживает Белый город. Он становится самым красивым местом на земле. Я видела его с парохода на озере Мичиган и с аллеи «Эль» по пути из города, и я хочу его увидеть с привязанного аэростата здесь, на мидвее, вот только он не поднимается по вечерам. Тут есть великолепные площадки обозрения на здании «Промышленные товары и гуманитарные науки» или на Доме транспорта — прожектора прямо оттуда так и пронизывают тьму! Но лучшее место на Лесистом острове — неяркие электрические лампы, волшебные фонарики и прекрасный вид на Белый город, в особенности на очертания куполов на юге. Но вы только представьте, как здорово было бы увидеть все эти яркие огни вечером с колеса Ферриса! — Сначала нужно прокатиться на нем днем, мисс де Плашетт. Посмотреть — выживем ли мы на такой высоте. Она отвечает ему мгновенным низким смехом.
Паха Сапа спрашивает себя, способна ли эта молодая дама, в состоянии ли понять, почему, одиннадцать или двенадцать раз побывав на выставке, он все время посещений простоял или просидел неподвижно только перед двумя стендами. Он понимает, что обсуждать это глупо, и теперь следит за своим языком тщательнее, чем до этого момента. Двести солдат-кавалеристов и индейцев, не считая Анни Оукли, ее мужа и маленькой армии рабочих шоу «Дикий Запад», прибыли сюда, в Джексон-Парк, в конце марта, а свое первое представление мистер Коди показал третьего апреля, задолго до начала выставки и готовности аттракционов мидвея. В мае президент Кливленд и огромная стая самых знаменитых иностранцев королевских кровей и местных сановников официально объявили об открытии Всемирной Колумбовской выставки для бизнеса, включив рубильник, который запустил гигантский паровой двигатель «Аллиса»[52] и тридцать вспомогательных двигателей в Доме машиностроения, запитав таким образом все оборудование выставки, работавшее от электричества. Вскоре после этого мистер Коди купил билеты для своих более чем двухсот сотрудников — индейцев, кавалеристов, снайперов и чернорабочих, ставивших палатки, которые хотели посетить выставку. Тот день коллективного похода в памяти Паха Сапы сохранился как нечто расплывчатое: вкус нового попкорна в леденцовой оболочке, который у них назывался «Крэкер Джек»; разряды молний, соскакивающие с головы и рук Николы Теслы; мельком увиденный оптический телескоп размером больше хорошей пушки; более пристальный взгляд (другие лакота и шайенна пришли в ужас) на настоящую пушку, самую-самую, самую большую из когда-либо изготовленных пушек: пушка Круппа весом двести семнадцать тонн, с длиной ствола (от затвора до жерла) пятьдесят семь футов, демонстрировавшаяся в Артиллерийском павильоне Круппа (который показался Паха Сапе таким же устрашающим, как любой настоящий немецкий замок, хотя он и видел их только на картинках), пушка, способная выстрелить снарядом больше и тяжелее, чем бизон, на семнадцать миль и в конце этой воющей убийственной траектории пробить броню толщиной восемнадцать дюймов. Но после долгого-долгого дня, проведенного им и другими сотрудниками шоу «Дикий Запад» на выставке, оказалось, что больше всего Паха Сапу заинтересовала не гигантская пушка Круппа. Тот первый день он закончил в одиночестве на южной оконечности территории, в громадном зале Дома машиностроения. Там он стоял и смотрел, разинув рот, на тридцать три паровых двигателя, мощностью восемнадцать — двадцать тысяч лошадиных сил каждый, они приводили в действие сто двадцать семь динамо-машин, которые питали все здания выставки. Объявление сообщало Паха Сапе, что для питания одного этого зала требовалось двенадцать таких двигателей. Паха Сапа на негнущихся ногах подошел к ближайшему стулу и рухнул на него. Там он просидел три следующих часа, и на этот стул возвращался почти каждый раз во время следующих одиннадцати посещений выставки. Дело было не только в шуме, движении и незнакомом запахе озона в воздухе, которые ввели в прострацию Паха Сапу (и множество других мужчин, белых и иностранцев всех возрастов и одного индейца, что собрались в Доме машиностроения, чтобы посмотреть, как ходят вверх-вниз поршни, как бегут ремни на шкивах, как крутятся громадные колеса). Большинству женщин, казалось, пребывание в Зале машиностроения было невыносимо, в особенности в южном его конце, где сгрудились угольные топки, паровые двигатели и громадные динамо-машины (так называемая котельная площадка) и грохот в большей части зала стоял воистину ужасающий. В последние свои посещения выставки Паха Сапа решил проблему шума с помощью двух комков ваты, которые он мял, пока они не стали достаточно мягкими и не обрели требуемую форму, а потом вставил в ушные раковины. Но привлекал его сюда вовсе не шум. Паха Сапа понял и знал в глубине души, что в этом и состояла суть и сила вазичу, их тайная душа. Не столько пар и электричество, которые, как знал Паха Сапа, были относительно новыми как в культуре вазичу, так и в списке технологий, которыми они овладели (хотя у входа в Дом электричества он видел пятнадцатифутовую статую Бенджамина Франклина с ключом в руке, шнуром воздушного змея и зонтиком), но продемонстрированная ими способность обуздывать скрытые энергии мира, его тайные силы, — они были похожи на детей, играющих в запретные игрушки Бога, — это и сделало их такими успешными и опасными для самих себя. После трех лет обучения заботами отца Франциско Серра и других монахов-иезуитов в их недолго просуществовавшей монастырской школе около Дедвуда Паха Сапа понимал, что религия очень важна для многих вазичу, хотя большинство из них в своей повседневной жизни отодвигает ее на второй план. Но теперь он понял, где на самом деле обитают их боги: в этих топках, в этих ревущих двигателях, в этом Духе Святом пара, в этой высшей Троице мотора, магнита и арматуры из многих миль смотанных в катушку медных проводов. Таблички возле гигантского железного двигателя фирмы «Вестингауз» и его более мелких помощников сообщали Паха Сапе, что «энергия этих динамо-машин и генераторов движет подъемники в высоком здании администрации и повсюду на выставке, обеспечивает тысячи экспонатов выставки тяговой силой, приводит в действие бесчисленное множество других машин здесь, в Зале машиностроения, и — задача не последней важности — уносит сточные воды с выставки в направлении озера Мичиган». Паха Сапа рассмеялся, прочтя последний пункт, — и смеялся до слез. Разве не великолепно, что вазичу используют энергию своих тайных богов, тайные энергии самой Вселенной, чтобы подавать сточные воды «в направлении» озера Мичиган, находящегося всего в сотне ярдов от территории выставки. Как, спрашивал он себя, сточные воды проделывают остальную часть пути, там, где не действуют толкающие силы десятков и сотен тысяч объединенных лошадиных сил, вольт и ампер электромагнетизма? И тут Паха Сапа рассмеялся снова и обнаружил, что он всерьез плачет. Именно в этот момент к нему подошел облаченный в синий костюм экскурсовод в маленькой красной шапочке без полей и прокричал: — И это еще не самые большие динамо-машины на выставке! Паха Сапе было трудно в это поверить. — Да? А где можно увидеть самые большие? — Неподалеку отсюда, в здании Компании внутренней железной дороги. Твоя читать понимать, вождь? — Да, сэр, моя понимать. Экскурсовод прищурился, не понимая, была это издевка или нет, но продолжал кричать: — Тогда найди табличку, на которой написано «КВЖД» или «Электростанция». Это за машинным залом, около южной ограды выставки. Немногие находят это место или желают заглянуть туда. — Спасибо. Паха Сапа был искренне благодарен. Электростанция была и в самом деле размещена далеко — у самой ограды за монастырем Ла-Рабида (который действительно имел некоторое отношение к Христофору Колумбу)[53] и за тотемными шестами у южной оконечности павильона антропологии (в котором Паха Сапа мог бы изучать френологический экспонат, объясняющий, почему американские индейцы с точки зрения дарвинизма являются задержавшейся в развитии расой). Когда Паха Сапа наконец вошел в здание электростанции КВЖД, в котором было пусто, если не считать нескольких скучающих служителей в комбинезонах и одного старика с тремя детишками, ему пришлось быстро искать стул, иначе он рисковал рухнуть на пол. Здесь перед ним была самая большая и мощная в мире динамо-машина. Желтый плакат сообщал: «Если учесть, что наша железная дорога имеет длину шесть с половиной миль и шестнадцать составов, постоянно находящихся в движении, и в общей сложности шестьдесят четыре вагона, которые нередко переполнены пассажирами, то можно себе представить, какую энергию должен генерировать этот вращающийся гигант». Он и в самом деле был вращающимся гигантом, его самый большой ротор, хоть и углубленный наполовину в цементный фундамент, все же почти касался балок под потолком. Рев и грохот здесь стояли оглушительные, а в воздухе постоянно ощущался запах озона. Редкие волосы на руках Паха Сапы встали дыбом да так и остались. Эта динамо-машина не подавала сточные воды в направлении озера, а приводила в действие электропоезда внутренней железной дороги, перевозившей посетителей по периметру выставки и из одного конца в другой. Но Паха Сапа знал, что имеет значение вовсе не то, как используется эта энергия; важно то, что способность обуздывать и направлять ее изменила мир. И потому при каждом посещении выставки Паха Сапа некоторое время проводил, разглядывая новые экспонаты, заходил на несколько минут в Дом электричества, простаивал часами около ревущих двигателей и динамо-машин машинного зала, а на сладкое оставлял последние час или два — сидел здесь, в отдаленном здании электростанции КВЖД, наблюдал и воспринимал дивную динамо-машину. Она была похожа на заброшенный собор; рабочие и служители скоро привыкли к Паха Сапе и приподнимали шапочки, увидев его. Был здесь и еще один человек, которого Паха Сапа замечал несколько раз во время посещений электростанции, — пожилой мужчина в дорогом помятом костюме, с аккуратно подстриженной бородкой и лысиной (Паха Сапа увидел ее блеск в свете висящих наверху лампочек без абажуров, когда джентльмен снял соломенную шляпу и протер свой розоватый череп вышитым носовым платком). Даже трость его казалась дорогой. По большей части здесь находились только обслуживающий персонал динамо-машины, хранивший молчание, как церковный служка во время торжественной мессы, Паха Сапа, который стоял или сидел на стуле, и бородатый джентльмен, который стоял или сидел на стуле ярдах в пяти от Паха Сапы. Когда эти двое увидели друг друга в третий раз, джентльмен подошел к Паха Сапе, оперся на трость и, откашлявшись, сказал: — Прошу прощения. Я не имею намерений вас беспокоить и понимаю, что мой вопрос может показаться бесцеремонным, даже, возможно, оскорбительным, но скажите, пожалуйста, ведь вы американский индеец? Паха Сапа посмотрел на человека (на том в этот очень теплый майский день был темный помятый полотняный пиджак, тогда как Паха Сапа потел в своем черном костюме). В глазах джентльмена светился недюжинный ум. — Да. Я из племени, которое мы называем лакота, а другие — сиу. — Замечательно! Но я за своей бесцеремонностью забыл о вежливости. Меня зовут Генри Адамс.[54] Человек протянул свою маленькую, точеную руку. Она была такой же розовой, как и его череп и щеки над бородкой. Паха Сапа поднялся на ноги, пожал джентльмену руку, назвал свое фальшивое имя — Билли Вялый Конь. Бородатый человек кивнул и сказал, что очень рад встретить именно здесь, в помещении электростанции Всемирной выставки, представителя народа сиу. Паха Сапа внезапно исполнился острого ощущения старой печали — не его собственной, — но, к счастью, никаких других воспоминаний или впечатлений через это рукопожатие не передалось. Паха Сапа не думал, что сможет сохранить психическое здоровье, если к тем ночам, когда в его голове бесконечно бубнил Кастер, и к воспоминаниям Шального Коня добавится еще один ряд воспоминаний. Как же мало он знал о том, что ожидает его в будущем. Они оба снова повернулись к ревущей динамо-машине. В помещении электростанции, где не было паровых двигателей, стоял не такой сильный грохот, как в Доме машиностроения, но шум от этой машины, хотя и менее громкий, был глуше и ниже. Шум этот вызывал вибрацию костей и зубов Паха Сапы и, казалось, пробуждал в нем слабое, но вполне ощутимое сексуальное желание. Чувствует ли это пожилой джентльмен, спрашивал себя Паха Сапа. Джентльмен говорил очень ровным голосом, отточенным (как верно догадался Паха Сапа) десятилетиями вежливых, но серьезных разговоров, к тому же приправленным почти, но не явным чувством юмора, — Паха Сапа ощутил подавленный смешок, хотя от человека все еще продолжала исходить волна печали. — Когда мои друзья Камероны[55] настояли на том, чтобы я присоединился к ним при мимолетном посещении выставки, — и обратите внимание, из какой дали: Вашингтон, округ Колумбия! — я был вполне уверен, что это пустая трата времени. Да что может Чикаго? — заявлял я в моем невежественном предубеждении. Только швырнуть нам в лицо свои нахальные нуворишские миллионы и показать что-нибудь весьма далекое от искусства, далекое даже от бизнеса, устроить какую-нибудь показуху, далекую от того и от другого. Из-за ровного гудения динамо-машины Паха Сапе приходилось внимательно вслушиваться. Если бы большинство его знакомых попытались говорить в такой манере, то Паха Сапа рассмеялся бы или ушел. Или и то и другое. Но мистер Адамс почему-то сильно его заинтересовал. Пожилой человек показал на динамо-машину и широко улыбнулся. — Но это! Это, мистер Вялый Конь, были бы счастливы видеть древние греки, этому позавидовали бы со своих высот венецианцы. Чикаго взглянул на нас с неким замечательным, вызывающим презрением и показал нам нечто гораздо более сильное, чем даже искусство, бесконечно более важное, чем бизнес. Это, увы или ура, будущее, мистер Вялый Конь! Боюсь и в то же время надеюсь, что и ваше, и мое… Я могу получать удовольствие и писать почтовые открытки о мошенничестве и обмане развлечений мидвея, но каждый вечер я возвращаюсь в машинный зал, вот в это самое помещение, и пялюсь, как сова, на динамо-машину будущего. Паха Сапа кивнул и бросил взгляд на невысокого джентльмена. Адамс смутился, снова снял соломенную шляпу и протер лысину. — Я должен извиниться еще раз, сэр. Я разговорился, словно вы аудитория, а не собеседник. Мистер Вялый Конь, что вы думаете об этой динамо-машине и чудесах машинного зала, на которые, как я вижу, вы смотрите такими же глазами, что и я? — Это подлинная религия вашей расы, мистер Адамс. Услышав это, Генри Адамс заморгал. Потом надел шляпу и моргнул еще несколько раз, явно погрузившись в размышления. Потом улыбнулся. — Сэр, вы ответили на вопрос, над которым я размышлял долгие годы. Меня — на мой неопределенный и высокомерный атеистический манер — давно интересовала роль Девы Марии в тех долгих, неторопливых снах, какие представляло собой сооружение таких шедевров, как Мон-Сент-Мишель[56] и Шартр.[57] Я думаю, вы дали мне ответ. Дева Мария для людей тринадцатого столетия была тем же самым, что и эта динамо-машина будет для… В этот момент появился еще один человек, и Адамс оборвал себя на полуслове, чтобы поприветствовать вошедшего. Второй джентльмен был очень высок, нос его походил на острый клюв, напомаженные волосы были зачесаны назад, а глаза смотрели так пронзительно, что на ум Паха Сапе пришла не сова, а орел. Человек был одет в черное и серое с белоснежной рубашкой, что усиливало впечатление Паха Сапы, будто он находится в обществе хищника — зоркого орла в человеческом обличье. Мистер Адамс, казалось, разволновался. — Мистер Вялый Конь, позвольте мне представить вам моего сегодняшнего спутника на выставке, знаменитого Шер… то есть знаменитого норвежского исследователя мистера Йана Сигерсона.[58] Высокий человек не протянул руку, только кивнул и тихонько щелкнул каблуками, почти на немецкий манер. Паха Сапа улыбнулся и кивнул в ответ. Что-то в этом высоком человеке говорило Паха Сапе: если он прикоснется к руке мистера Сигерсона, то рискует получить информацию о его жизни. Сигерсон говорил тихим, но резким голосом, и неподготовленное ухо Паха Сапы принимало его скорее за англичанина, чем за норвежца. — Очень рад познакомиться с вами, мистер Вялый Конь. Нам, европейцам, редко предоставляется возможность познакомиться с практикующим вичаза ваканом, принадлежащим к вольным людям природы. Сигерсон повернулся к Адамсу. — Извините, Генри, но Лиззи и сенатор ждут у парового катера Франклина на Северной пристани и просят напомнить вам, что мы опаздываем на обед к мэру Гаррисону. Сигерсон снова поклонился Паха Сапе, и на сей раз на его лице появилась едва заметная улыбка. — Был искренне рад познакомиться, мистер Вялый Конь. Могу только надеяться, что придет день — и вазичу ванаги перестанет быть проблемой. Вазичу ванаги. Призрак бледнолицего человека. Паха Сапа остолбенело смотрел вслед двум удаляющимся фигурам — мистер Адамс что-то говорил, но молодой индеец не слышал его. Он больше никогда не видел ни человека по имени Генри Адамс, ни его норвежского друга.
Мисс де Плашетт ведет его на мидвей — площадку с аттракционами, представлениями, горками, протянувшуюся на милю от озера и Джексон-парка до начала Вашингтон-парка, прямую, как широкая стрела, выпущенная из лука в спину Колумбовской выставке с запада. Впереди видны экзотические сооружения по обе стороны низкого широкого пыльного бульвара мидвея: средневековые дома старой Вены и Бьергартена, алжирские мечети и тунисские минареты, из которых доносится чужая музыка и скрежещущие голоса, каирская улица, где Паха Сапа и его друзья видели не в меру перехваленную танцорку, исполнявшую танец живота; мелькают лапландцы и финны, двугорбые верблюды, небольшое стадо карибу — его гонят по бульвару люди, одетые в потертые меховые, несмотря на жару, одеяния; скользящие вагончики на водной тяге, чаша Бернских Альп, мелькнувший аэростат далеко-далеко по ленте мидвея справа. А в середине бульвара — вроде бы увеличивающееся в размерах с каждой минутой, двухсотшестидесятичетырехфутовое колесо Ферриса, которое, по словам мисс де Плашетт, имеет тридцать шесть вагонов, или кабин (каждая из них больше, чем многие хижины, какие видел Паха Сапа), и каждый из вагонов, или кабин, вмещает по шестьдесят человек. Паха Сапа чувствует растущее, хотя и неопределенное беспокойство. Он не боится ни высоты, ни колеса, но его внезапно охватывает чувство опасности, словно он и эта молодая женщина, которую он едва знает, приближаются к какой-то точке невозврата. — Вы уверены, что хотите этого, мисс де Плашетт? — Пожалуйста, называйте меня Рейн. — Вы уверены, что хотите этого, Рейн? — Мы должны, Паха Сапа. Это наша судьба.
14 На Паха-сапа
Август-сентябрь 1876 г. Он не оставляет попыток подняться в воздух, но ему это не удается. То, что когда-то давалось Паха Сапе с такой легкостью, словно не требующая никаких усилий игра, теперь кажется невозможным, словно его душа обрела неустранимую тяжесть. Сегодня девятый день его ханблецеи, девятый день полного поста, и со слабостью могут сравниться разве что усталость и ощущение поражения. Он уверовал, что его поиск видения преждевремен, самонадеян и обречен на неудачу. Многие воины, гораздо старше и мудрее его, терпели неудачу — ни один мужчина, принадлежащий к вольным людям природы, никогда не мог быть уверен, что получит видение, а те немногие, кто его все же получал, перед этим переживали долгие годы разочарований и неоднократно повторяемые попытки ханблецеи. Если не считать чувства голода вначале (которое теперь прошло), а потом слабости, вызванной его долгим постом, то этот оймни — его поход — был по большей части приятным. Когда Паха Сапа проснулся в пещере Роберта Сладкое Лекарство на Медвежьей горке, никаких следов старика он не увидел: ни его мисок для питья или еды, ни даже следов съеденных ими кроликов, — и Паха Сапа почти поверил, что старый шайеннский вичаза вакан был сном. Но, найдя тем утром Червя и вторую лошадь, он увидел, что они отдохнули, хорошо поели и по-прежнему стреножены у входа в пещеру, и хотя солнце еще не взошло, бесконечный ливень перешел в усиливающийся мелкий дождик. И вот тогда с чувством страха, от которого у него даже свело мошонку, Паха Сапа развязал тюк на белой кобыле Женщины Три Бизона и начал исступленно искать Птехинчала Хуху Канунпу, священную и незаменимую Трубку Малоберцовой Бизоньей Кости, про которую он неосмотрительно сказал старому шайенна, что везет ее на свою инипи — первый настоящий обряд в вигваме-парилке. Трубка оказалась в тюке, разделенная на несколько сегментов, каждый завернут в красную тряпицу, красные перья в целости и сохранности. И тут Паха Сапа почувствовал слабость в коленках, поняв, как просто было бы старому шайенна (если только он не был сном) похитить самый священный предмет племени Паха Сапы. А потом он ощутил весь груз ответственности, возложенной на него Сильно Хромает. Паха Сапа направлялся в Черные холмы, наводненные солдатами и золотоискателями вазичу, которые убьют и ограбят его, как только увидят, да еще и враждебные племена окружали (как и всегда) эти холмы и были начеку, чтобы без колебаний убить, ограбить или захватить в рабство мальчика-лакота, если таковой здесь появится. Паха Сапа всем сердцем пожалел, что Сильно Хромает, отправляя его в путь, не дал ему простую каменную трубку для инипи и ханблецеи, пусть при этом вероятность истинного видения и уменьшалась из-за отсутствия более действенной Трубки Малоберцовой Бизоньей Кости с ее специальным табаком. Но день езды под дождем, который время от времени переходил в ливень, обрушивавшийся на Паха Сапу, прошел без приключений. Мальчик ехал на мерине и вел кобылу, держа в руках поводья, по обходному маршруту на запад, чтобы избежать дорог и тропинок, которые использовали вазичу, направляясь в свой город золотодобытчиков Дедвуд. Много лет спустя, в особенности когда он брал сына в их собственные оймни, маленькие походы в Черные холмы и на то, что осталось от открытых Великих равнин, Паха Сапа обнаружит, что ему трудно объяснить, каким был мир в благословенные годы его народа, когда боги лакота все еще слушали тех, кто им поклонялся, и земля была для них живой. Теперь же, когда Паха Сапа въезжает в Черные холмы и двигается по руслам ручьев и по обширным лугам между деревьями, каждую минуту опасаясь засады, он сам и все, что он воспринимает, кажется, происходит и взаимодействует одновременно вокруг него и в нем на двух уровнях: на радостном, физическом, когда он чувствует коня под собой и дождь, бьющий ему в лицо, и ощущает запах влажных осиновых листьев, и слышит дыхание мерина и кобылы, верещание белок и крик ворон, и на параллельном уровне, который волнует сильнее и сильнее трогает за душу, это уровень наги, где он и все остальное обитает и соприкасается друг с другом в виде духов. Он воспринимает вания вакен — сам воздух — как живое существо. Дыхание духа. Возобновление. Тункан. Иньян. Камни и валуны — живые существа. И священные. Бури, которые бушуют над прерией за его спиной и надвигаются на холмы перед ним, — это Вакиньян, шум духа грома и язык существ грома. Осенние цветы, которые распускаются в высокой мокрой траве на лугах, на ощупь и по цвету такие, какие нравятся Татускансе, подвижному духу, оживляющей силе Всего. В реках, через которые вброд перебирается Паха Сапа, обитают У нктехи, это духи и чудовища в одном лице. Укладываясь спать под матерчатым навесом, завернувшись в теплую одежду, Паха Сапа слышит вой койотов и думает о Койоте, который будет обманывать его во время ханблецеи, если сможет. Сверкающая паутина на дереве несет в себе нечитаемые послания от Иктоме, человека-паука, — это обманщик почище Койота. Вечером, когда все другие духи успокаиваются и свет уходит с небес, Паха Сапа слышит дыхание дедушки Тайны и — иногда — самого Вакана Танки. А по вечерам, в те редкие минуты, когда тучи рассеиваются, Паха Сапа смотрит на звезды, которые рассыпались от одного темного горизонта до другого, свет не мешает ему смотреть (он не разводит костра), и в эти мгновения Паха Сапа может увидеть путь своей жизни за будущим: он знает, что, когда умрет, его собственный дух отправится на юг по Млечному Пути с духами всех тех вольных людей природы, что умерли до него. Это настоящий мака ситомни, большой мир, Вселенная, а мир никогда не бывает пустым. Более чем сорок пять лет спустя, когда поэт и историк Доан Робинсон научит его английскому слову «мистический», Паха Сапа вспомнит эти дни и печально улыбнется.Паха Сапа без труда находит гору, которая называется Шесть Пращуров, лежащий поблизости от нее пик, называемый Холм злого духа (Паха Сапа доживет до тех дней, когда его переименуют в Харни-пик в честь знаменитого вазикуна, истребителя индейцев), самый высокий в холмах, его высота чуть больше семи тысяч футов. Южная оконечность Шести Пращуров представляет собой пористую, выветренную отвесную стену, непригодную ни для чего, даже для скалолазания, но северная сторона имеет более пологие склоны, поросшие лесом. У подножия течет ручей, на берегу которого Паха Сапа обосновывается и строит свою парилку. Он выбирает для стоянки скрытую ложбинку, по которой бежит ручей и где растет трава, вполне подходящая для лошадей. Он извлекает бесценную Птехинчала Хуху Канунпу из большого тюка на спине Белой Цапли, части трубки все еще завернуты в красную материю, как и погремушка васмуха, в которой сорок небольших квадратиков кожи Женщины Три Бизона вместе с камушками йювипи. У Паха Сапы целый день уходит на поиски священных камней для синткалы ваксу, парилки, все это время он проводит в ледяной воде ручьев на площади в несколько миль вокруг, выискивая особые камни с бисерным рисунком. Паха Сапу пробирает дрожь при мысли, что когда-то к этим камням прикасался Тункан, древний дух камня, присутствовавший при создании всего сущего. Потом ему нужно найти определенный вид ивы. И еще один день позднего лета от рассвета до заката уходит на то, чтобы построить синткалу ваксу, парилку для его инипи. Срезав нужные двенадцать деревьев белой ивы (и отвергнув гораздо большее число), Паха Сапа втыкает их заточенными концами в землю по кругу диаметром около шести дюймов. Он сплетает гибкие ветки в купол и покрывает его шкурами и одеждами, привезенными с собой. Потом он добавляет листья, чтобы закрыть все дыры. В середине маленького вигвама Паха Сапа выкапывает яму и этой землей намечает тропинку, по которой духи смогут пройти к парилке. В конце тропинки он насыпает небольшую горку, называемую унси, это слово у его народа обозначает еще и «бабушка», потому что именно так Сильно Хромает, Сидящий Бык и другие шаманы учили его представлять всю землю: Бабушкой. Вход в оникаре (еще одно название для парилки Паха Сапы) ориентирован на запад, потому что войти в такую парилку с востока может только хейока. В центре вигвама он устанавливает раздвоенные наверху палочки, надежно загоняя их в землю, — это подставка для священной трубки Птехинчала Хуху Канунпы. У Паха Сапы нет шкуры буйвола, чтобы закрыть вход, и он отправляется на охоту в сосновый лес, где проводит целый день и в конце концов убивает большого оленя. Тушу оставляет птицам и другим пожирателям падали (он уже давно постится, в животе у него все время урчит, и ему часто приходится садиться и опускать голову — ждать, когда в глазах прояснится), сдирает кожу с черепа, очищает его, подавляя в себе желание съесть глаза, и устанавливает у входа с шестью мешочками, в которых подношения — наилучший табак, которым снабдил его Сильно Хромает. Это для того, чтобы Паха Сапе сопутствовала удача. Теперь Паха Сапе действительно не хватает его дедушки Сильно Хромает и других почтенных людей из их деревни. Если проходить ханблецею по правилам, то старшие срезали и сплели бы ивы, приготовили для него синткалу ваксу, и Паха Сапа не начал бы свой четырехдневный пост в парилке, пока все для него не было бы подготовлено. Но по совету, полученному на Медвежьей горке от Роберта Сладкое Лекарство, Паха Сапа к тому времени, когда готова парилка, наполнена священная трубка, в тыквах и бурдюках есть вода, чтобы вылить ее на раскаленные камни в центре вигвама, где темно, хоть глаз выколи, и от жары по телу уже катится пот, постится (по крайней мере, воздерживается от твердой пищи) уже почти шесть дней. Теперь он воздерживается вообще от любой пищи, но еще может пить воду. Он знает, что когда будет ждать видения в парилке, то не менее четырех дней должен будет провести без еды и воды. И молитвы Паха Сапа должен будет наилучшим образом распевать сам в одиночестве и произносить «Хо, дедушка!» каждый раз, когда будет плескать водой на раскаленные камни синктала ваксы и ощущать исходящую от них вместе с взрывом пара священную энергию. Ни один человек не может выносить атмосферу темного, пышущего паром вигвама бесконечно долго, и голый Паха Сапа приблизительно каждый час вываливается из парилки в бесконечно более прохладный августовский воздух и падает в высокую траву, судорожно дыша, иногда пугая пасущихся лошадей, но через несколько минут (за это время он доползает до ручья, чтобы напиться холодной воды, от которой ломит зубы, и чуть не плачет от благодарности за то, что ему пока что разрешается пить) неизменно возвращается в парилку, чтобы снова курить и напевать молитвы. Более длительные перерывы он устраивает только для того, чтобы принести топливо для костра и воду, которой он поливает камни. Паха Сапа всегда был худеньким мальчиком, но теперь вообще стал скелетом, обтянутым кожей. Три долгих дня он очищает себя таким образом, и хотя все это время призывает видение, оно не приходит. Он знает, что парилка — это только начало, но он надеется… На четвертый день его очищения и девятый день поста, ослабевший без еды и трясущийся от воздействия жара, пара, темноты и табака, он в мокасинах и одной рубахе, взяв священную трубку и тючок, совершает сорокапятиминутное восхождение к месту над парилкой неподалеку от скалистой вершины Шести Пращуров. Там Паха Сапа находит мягкую землю между камнями и скальной породой. Он очищает ее от сосновых иголок и шишек, вырывает неглубокую ямку таких размеров, чтобы в нее можно было лечь. Красное одеяло, одна из бесценных вещей Сильно Хромает, было в тюке на Белой Цапле, и теперь Паха Сапа ножом разрезает его на полоски, которые привязывает к шестам, — они призваны служить знаменами вокруг его Ямы видения. На бечевках, натянутых между этими шестами, узелки из яркой материи, в которых подношение в виде табака (Паха Сапа не знает, оставил ли Сильно Хромает сколько-нибудь табака для себя), и еще мальчик вырезает маленькие квадратики кожи у себя с бедра и плеча, добавляя их к священным узелкам вокруг Ямы видения. Пятый шест торчит из центра Ямы видения рядом с левой рукой мальчика, когда он ложится на спину, а последний шест означает, что (по крайней мере, в целях этого видения) данное место является центром мира и средоточием всех духовных сил. Паха Сапа снял с себя все, прежде чем лечь в Яму видения, даже набедренную повязку и мокасины, потому что следует ждать видения голышом — в том самом виде, в котором и пришел в этот мир; но мальчик не лежит в яме целый день. Утром, когда на востоке из-за далекого, но отчетливо видимого Макасичу, Бэдлендса, встает солнце, Паха Сапа поднимается на скалистую вершину Шести Пращуров и протягивает священную трубку черенком в сторону этой наиболее мощной видимой формы Вакана Танки, напевая приветственные молитвы и посылая просьбы о видении духу-который-за-Солнцем. В течение дня он несколько раз поднимается из Ямы видения и повторяет жесты, напевы, молитвы — в полдень, стоя лицом на юг, а вечером подходит к каждому из шестов, к которым привязаны его знамена, и обращает просьбы и мольбы к западу. Паха Сапа внимательно наблюдает за всем вокруг: за небом, за погодой, за ветром, за движением деревьев, за парящими в воздухе ястребами или совами, он прислушивается к тявканью койота или барсука вдалеке — все его чувства обострены, ведь дух любой сущности или твари может оказаться частью его видения. Все идет так, как должно.
Ничто не идет так, как должно. Нормальная ханблецея должна происходить под ясным небом в дневное время и под звездным — ночью, но почти все время пребывания Паха Сапы на Черных холмах идет дождь. Когда мальчик пробуждается, чтобы утром приветствовать восходящее солнце своими песнопениями и молитвами (только он их плохо запомнил, а тут нет вичазы вакана или старейшин, которые помогли бы ему напевать или подсказать слова), «встающее солнце» являет собой пасмурное пятно, едва видимое на востоке за пеленой дождя. Небо каждый день затянутоплотными тучами, и ему трудно определить, когда солнце проходит зенит, а ведь в полдень нужно произнести ритуальную молитву югу; и закат виден так же плохо, как восход. Паха Сапа по-прежнему протягивает черенок Птехинчала Хуху Канунпы, с которой капает вода, дождю и окутавшей мир серой мгле. Несмотря на все его усилия, древние и священные перья трубки напитались влагой и линяют от дождя. Без помощи более опытных шаманов и других людей все идет не так, как надо. Паха Сапа знает, что его парилка нимало не похожа на то изящное и правильное сооружение, каким она была бы, если бы ему помогали Сильно Хромает или даже Сердитый Барсук. Он чувствует, что его выбор священных камней далеко не идеален; и в самом деле, некоторые из них треснули, когда он плескал на их раскаленную поверхность водой. Он знает, что его молитвы и мольбы небрежны, и подозревает даже, что его Яма видения сделана не совсем так, как полагается. И самое главное, из-за отсутствия других людей, их пения и молитв во время курения трубки и других обрядов, связанных с парилкой, его очищение, как уверен теперь Паха Сапа, было неполным, а его инипи, видимо, неприятно духам. И наконец, нельзя забывать о том, что Паха Сапа может умереть с голоду. Молодые люди всегда начинают полный пост после окончания очищения в парилке, но Паха Сапа начал поститься (следуя совету шамана шайенна на Медвежьей горке, хотя это и могло быть лишь глупым сном) еще до того, как добрался до Черных холмов. Хотя Паха Сапа должен был начать полный пост в тот день, когда выкопал себе Яму видения, он к тому моменту уже девять суток провел без еды, и теперь его тело стало ненадежным и слабым, как и его разум. Но есть и еще более веские аргументы, убеждающие Паха Сапу в том, что его поиски видения уже обернулись полным провалом. Лежа в наполненной жижей яме на вершине скалистой горы, называющейся Шесть Пращуров, чувствуя, как дождь хлещет его по лицу, он понимает, что Шальной Конь был прав: ни один человек, в которого внедрился дух Длинного Волоса или какого-нибудь другого вазикуна, не может пользоваться расположением богов и духов, а тем более Вакана Танки. И по мере того как слабеет тело Паха Сапы, а мысли все больше путаются, призрак в его голове и чреве бормочет все громче, словно горит желанием выйти. «Что случится с призраком Длинного Волоса, если я умру здесь? — думает Паха Сапа. — Может быть, оба наши духа наги одновременно взлетят вверх: его — в те места, куда отправляются духи вазичу после смерти, а мой — на Млечный Путь и дальше?» Помимо всего прочего, в его голове присутствуют еще и раздражающие воспоминания Шального Коня, которые смешиваются с его собственными воспоминаниями. Как духи узнают его, Паха Сапы, дух, если большая часть сознания мальчика захвачена яростными и однообразными воспоминаниями неистового хейоки? Ему доступны воспоминания Шального Коня о его собственной успешной ханблецее в те времена, когда военный вождь был молодым воином и звался еще Кудрявым Волосом, но они отнюдь не обнадеживают Паха Сапу. Юный миннеконджу получил всю нужную помощь от ясновидцев грома, таких как Осколки Рога, и своего собственного отца, которого тогда звали Шальным Конем; помогала ему и уверенность всего его рода в том, что юный Кудрявый Волос получит видение от существ грома и станет хейокой и военным вождем, а они именно этого и хотели. Даже воспоминания о фактическом видении юного Кудрявого Волоса — Шального Коня — довольно путаны, поскольку кажутся не более чем туманным сном, в котором сверкают молнии, грохочет гром и наги Кудрявого Волоса разговаривает с духом-воином на духе-коне. Паха Сапа знает, что из всех людей на земле только он и Шальной Конь знают, каким туманным и неопределенным было это видение, хотя начиналось оно хорошо — с краснохвостого ястреба, криками привлекавшего внимание мальчика. И закончилось оно хорошо — очищением после видения, когда старейшины вернулись в парилку и когда старейшины и вичаза ваканы (другие ясновидцы грома) истолковали его сон как полноценное видение, провозгласив юного Шального Коня хейокой и племенным полицейским акиситой и сообщив всем, что Шальной Конь когда-нибудь станет великим военным вождем. Теперь, с каждым раскатом грома над Черными холмами, Паха Сапа вздрагивает и сжимается. Он не хочет быть хейокой. Он не хочет служить свирепым и воинственным существам грома. И в то же время он стыдится своего страха, своей трусости, своего упрямого желания отречься от той роли в жизни, которую предписывает ему сам Всё. Но существа грома не говорят с ним на вершине Шести Пращуров даже в те мгновения, когда гремит настоящий гром и сверкают молнии, а Паха Сапа сжимается в своей наполненной жижей яме, опасаясь удара молнии на таком высоком, открытом месте. Он боится, что не просто потерпел неудачу как искатель видения, но что неудача эта — следствие его трусости.
На девятую ночь поста Паха Сапа понимает, что скоро станет слишком слаб и не сможет охотиться и найти еду, даже если ему и будет видение. В ту ночь он ковыляет по длинному крутому склону в долину, где все еще пасутся две лошади, пьет из ручья и — медленно и с большим трудом — ставит четыре капкана на кроликов среди деревьев и в кустах на склоне. Потом, увидев, как его парилка, синткала ваксу, словно плавится под непрерывным дождем, Паха Сапа берет свои одеяния (трубка на крепком шнурке висит у него на шее) и начинает долгий, мучительный подъем то на четвереньках, то ползком назад к вершине — он добирается вовремя, чтобы сделать подношения и произнести молитвы восходящему солнцу, прячущемуся за тучами. На десятый день поста Паха Сапа пытается взлететь. Он так ослабел, что, предлагая священную трубку, в основном сидит, прислонившись к одному из шестов Четырех Направлений, и голова у него так кружится, что «я» его духа, его наги, легко выскальзывает из тела. (Боясь, что «я» не вернется, Паха Сапа заманивает его обещаниями кролика, которого он приготовит очень-очень вкусно на потрескивающем костре.) Его наги прислоняется к легкому ветерку, который почти все время дует здесь наверху, он чувствует, как ветер ласкает грудь его духа, как прежде чувствовал воду в глубокой части ручья или реки и был готов оттолкнуться ногами и поплыть, но в отличие от множества раз в прошлом, когда воспарить в небеса давалось ему так легко, ветер теперь не поднимает его. Даже его дух слишком тяжел, чтобы парить. И вот на десятый день поста, бормоча молитвы и протягивая отяжелевшей рукой черенок Птехинчалы Хуху Канунпы тучам и дождю, он решает, что пора признать поражение и вернуться домой. Шальной Конь убьет меня. Но Шальной Конь наверняка уже ушел. Военный вождь собирался вести свой род против вазичу на Черных холмах, а потом напасть на кавалеристов, которые шли отомстить за убийство Длинного Волоса. Вероятность того, что Шальной Конь все еще находится у стоянки рода Сердитого Барсука и Сильно Хромает вблизи Тощей горки, невелика. И что — вернуться, потерпев полное поражение, никогда не стать вичазой ваканом, как мой приемный тункашила? Лучше уж потерпеть поражение, чем стать покойником, Черные Холмы. Ты знал, что не родился воином, бойцом… Теперь ты знаешь, что тебе не суждено стать шаманом и уважаемым человеком своего племени. Паха Сапа готов разрыдаться. Он сидит, прислонившись к западному шесту в ожидании времени вечерней молитвы заходящему солнцу, красные вымпелы, пропитавшиеся водой, безжизненно повисли над ним, угрюмый наги болит в его груди, а треклятый призрак вазичу болтает без умолку в его больной голове, и Паха Сапа решает, что останется здесь, на Шести Пращурах, еще одну ночь, может быть, еще один дождливый день, а потом уже оставит свои надежды и отправится домой. Если в капканы не попадется хотя бы один кролик, ты умрешь или же тебе придется убить Червя или Белую Цаплю. Он трясет головой, прогоняя эту мысль, закрывает глаза и под непрерывным дождем ждет, когда подойдет приблизительное время захода солнца.
Он просыпается голым, лежа на спине рядом со своей Ямой видения. Наступила темнота, но тучи ушли с неба. Небо светится тремя тысячами или больше густо посаженных звезд, которые обычно видны в такие ночи позднего лета. На мгновение его охватывает паника — он боится, что, может быть, уронил священную трубку с крутой вершины, но потом нащупывает шнурок и обнаруживает Птехинчалу Хуху Канунпу, странно теплая, она покоится на его животе. Падающие звезды перечеркивают темноту межзвездного пространства на черном стекле неба. Паха Сапа вспоминает, что в это время, сразу же после его дня рождения, на небе всегда было много падающих звезд. Сильно Хромает как-то раз сказал ему, что некоторые старейшины верят, будто падающие звезды празднуют какое-то большое сражение, или победу, или видение, давно стершееся в памяти вольных людей природы. Паха Сапе удобно лежать на спине, наполовину в Яме видения, наполовину вне ее, остывающая поверхность горы до странности суха под его плечами и головой, и он смотрит на падающие звезды. Внезапно с высоты устремляется вниз падающая звезда, она ярче, чем все остальные. Она такая яркая, что освещает небеса, освещает вершину Шести Пращуров, освещает возвышающийся Холм злого духа и все пики вокруг. Множество темных сосновых деревьев, растущих на Паха-сапа, внезапно начинают светиться серебром, а потом обретают молочно-белый цвет в свете падающей звезды, которая обернулась несущейся кометой. — У-у-ух! Паха Сапа не может сдержаться. Он издавал этот звук еще маленьким мальчиком, глядя на звездопад в конце лета, когда попадалась особо яркая звезда. Но он никогда не видел, чтобы падающая звезда была столь ослепительна. В его мозгу что-то неторопливо шевелится — будь в нем побольше энергии и не путайся мысли, это что-то могло бы быть страхом, — и он понимает, что звезда летит прямо на него. Тени от шестов направления и нескольких низкорослых деревьев вблизи скалистой вершины мечутся во все стороны в несущемся вниз сиянии прямо над его головой. Теперь Паха Сапа слышит падающую звезду — шипящий, ревущий, резкий звук, прожигающей воздух. Внезапно звезда бесшумно взрывается, распадается на шесть падающих звезд размером лишь немногим меньше первоначальной. Они продолжают нестись на него. Паха Сапа, несмотря на голод и слабость, с какой-то недоуменной отстраненностью понимает, что через несколько секунд умрет. Шесть фрагментов Большой Звезды продолжают падать. Каждый из них рухнет на Шесть Пращуров, а один, кажется, прямо на эту вершину. В последний момент Паха Сапа закрывает глаза рукой. Он не слышит ни удара, ни взрыва. И никакого шума, если не считать слабого шороха ветра в зарослях сосен и елей. Паха Сапа отводит руку и открывает глаза. Шесть звезд расположились вокруг вершины, но теперь они представляют собой шесть вертикальных колонн белого света. Каждая из них имеет высоту около двухсот футов. Внутри каждой колонны, или стоячего светового кокона, — старик, внешним видом похожий на вольных людей природы. На каждом из стариков белоснежная одежда из бизоньей шкуры и одно белое орлиное перо в седых волосах. Все они смотрят на Паха Сапу, но их взгляды не похожи на взгляды человеческих существ. Он чувствует, как давят на него эти взгляды. — Ты пойдешь с нами, Черные Холмы? Паха Сапа резко трясет головой. Он не видит, чтобы у кого-нибудь из стариков шевельнулись губы. Да и вопрос этот мальчик не совсем чтобы слышит. А если слышит, то не ушами. Многие десятилетия после этого он будет пытаться вспомнить и описать голоса шести стариков — явно не те звуки, что производят люди ртами и глотками, языками и зубами, а скорее тихий шелест ветра в ветвях, или глухое ворчание грома вдалеке, или слабый гул приближающего конского или бизоньего табуна, которые он слышал, когда, подражая старшим, плотно прижимал ухо к земле. Но только ни одно из этих сравнений не подходит. Тогда и потом он понимает, что это не имеет значения. — Конечно пойду, дедушки. Одна из гигантских форм протягивает руку, облаченную в белый свет. Паха Сапа делает шаг и понимает, что целиком умещается в потрескавшейся ладони. Они быстро и бесшумно поднимаются в сверкающее ночное небо. Паха Сапа каким-то образом слышит голоса звезд — у каждой свой, и каждый голос — часть хора, хора из трех тысяч или больше голосов, распевающих мелодичную молитву, подобных которой он никогда не слышал. Когда они оказываются на высоте много тысяч футов над освещенным звездами ландшафтом, шесть форм прекращают подъем и теперь просто парят в вышине, а Паха Сапа чувствует себя удобно и не испытывает ни малейшего беспокойства в теплой ладони. Но когда он свешивает голову за край гигантской, сложенной в надежную чашечку руки, чтобы посмотреть на священные холмы, то чуть не вскрикивает от ужаса. Черные холмы исчезли. Все исчезло. Под ним и под парящими тучеподобными шестью старцами во все стороны до далекого, темного и чуть искривленного горизонта распростерлась водная гладь. Этот мир воды не имеет конца. Паха Сапа тут же понимает, что он смотрит на мир, не имеющий формы, каким он существовал до того, как Вакан Танка, Тайна, Всё сотворил землю, четвероногих, а потом — человека. Это мир до появления человека, когда таку ванкан, таинственные существа, вышли в мир духов: Вакиньян — Буревестник, Татанка — Большой Зверь, Унктехи — Тот, Который Убивает, Таку Сканскан — Тот, Который Изменяет Мир, Тункан — Досточтимый. Все это чистые наги, духи, которые ходили по небесам над миром, еще погруженные в околоплодную воду в ожидании рождения. Это мир сплошной воды, о котором рассказывал ему Сильно Хромает в самых старых историях, но Паха Сапа прежде никак не мог представить его. Теперь море раскинулось под ним во все стороны. Паха Сапа понимает, что звезды были закрыты высокими тучами. Теперь он видит серые тучи в бесконечной дали над ним и серую, почти совершенно спокойную воду в бесконечной дали внизу. В глубине сердца он понимает, что шесть старцев-пращуров позволяют ему присоединиться к ним и наблюдать процесс Рождения. Внезапно один-единственный столб света (мальчик сразу же понимает, что этот свет исходит от Тайны, Всего) пронзает свод туч вверху, раскалывает толщу неба и касается моря внизу. Воды начинают пениться. Из этого мира моря поднимаются влажные холмы, и черные деревья, и священный камень, святая святых мира — Черные холмы. Столб света тускнеет, но Черные холмы внизу остаются, крохотный островок среди смутно поблескивающего бескрайнего моря. Некоторое время Паха Сапа смотрит вниз из безопасной, принявшей форму чашечки ладони пращура. Он слышит только звук ветра, ласкающего деревья, травы, верхушки волн далеко-далеко внизу. Паха Сапа понимает, что доносящийся до него шепот ветра — это приглушенные голоса других великих духов, существовавших здесь до появления Первого человека: Тате — Сущности Ветра, Йате — Северного Ветра, Йанпы — Восточного Ветра, Окаги — Южного Ветра. Всем этим ветрам Паха Сапа молился рядом с Сильно Хромает, когда мальчиком готовился к поприщу шамана, и всем этим ветрам Паха Сапа безмолвно молится теперь. От их присутствия у него слезы наворачиваются на глаза. Солнце восходит. Солнечные лучи рисуют темные мазки гор и тени сосен на холмах и отбрасывают множество теней от малых холмов и отдельных деревьев на вытянутый луг. Потом воды вокруг этого островного мира отступают еще дальше, и, сияя на свету, появляются прерии и равнины Мака-сичу — Бэдлендса, или Дурной земли. Теперь от горизонта до горизонта простерлась не вода, а твердая земля. Мир теперь стал преимущественно мака, землей, и он готов к появлению в нем четвероногих и двуногих. Паха Сапа хочет спросить у шести пращуров, зачем они показывают ему все это, но голос его духа, наги, слишком слаб — или воздух на этой высоте слишком разрежен — и звуки слов не могут достичь ушей пращуров. Он может только смотреть, кивая, на древние, морщинистые, но дружеские лица, они чуть-чуть колеблются, как колеблются высокие облака под дуновением священных ветров. Паха Сапа понимает, что пращуры одарили его острым зрением ванбли, орла. Когда Паха переводит взгляд на поросшие лесом южные склоны Черных холмов, он ясно видит отверстие Вашу-нийя, Дышащей пещеры, священного места, которое слепые вазичу называют Пещерой ветров. Он смотрит теперь своими глазами ванбли и видит, как на свет появляется первый бизон. Паха Сапа громко смеется, и этот счастливый звук громче, чем слабый голос его наги. Сильно Хромает, Сидящий Бык и другие вичаза ваканы были правы, рассказывая о том, как все это начиналось! Первые бизоны маленькие, они чуть больше муравьев и такие же многочисленные. Но сочные, еще влажные после рождения травы на Черных холмах и обширных равнинах внизу вскоре позволят крохотным бизонам вырасти до размеров и веса современных. И опять Паха Сапа громко смеется. Шесть пращуров показывают ему в считаные минуты события, на которые ушла целая вечность. Солнце поднимается еще выше, и теперь на бескрайних, обдуваемых ветрами равнинах к северу и югу от холмов отчетливо видны даже тени пасущихся стадами бизонов. Паха Сапа снова переводит взгляд на юг. Из Дышащей пещеры, мигая, выползает Первый человек, встает на ноги и тут же начинает возносить молитвы Вакану Танке, шести пращурам, другим духам и самому дару Тайны, благодарит за то, что его вывели из тьмы в этот светлый мир, в котором так много дичи и обитает столько шепчущих, охранительных, а иногда и очень опасных духов. За минуты проходят столетия, исчезают поколения, Паха Сапа смотрит, как рождается его народ, как охотятся люди, женятся, странствуют в дальних землях, воюют, почитают богов, стареют и умирают. Он видит, как они охотятся на животных, о которых он даже не слышал прежде, — это громадные волосатые твари с бивнями, — видит, как вольные люди природы получают чудесный дар — шунксинкалу, то есть «священную собаку», или лошадь. Он видит, как его народ расселяется по равнине. И снова Паха Сапа видит Черные холмы — они имеют форму сердца и располагаются в центре бескрайних зелено-бурых прерий облейяйи дошо — безмерности мира. Он снова видит Черные холмы — они вамакаогнака е’кантге целого континента, иными словами, сердце всего. Но более всего Паха Сапа воспринимает теперь Черные холмы как О’онакецин, Место убежища. Он видит и реку Танец Солнца к северу от холмов, вазичу называют ее Бель-Фурш, и реку Шайенна — к югу. Дальше на север он отчетливо видит петляющую линию, которую вазичу называют река Миссури. Все эти реки вышли из берегов, но сильнее всех разлилась река Танец Солнца. Вдалеке Паха Сапе видны Вапийе-олайе-а’ха — Долина камней, которые лечат, и Хиньянкагапу — Черные горки, и Хеску — Белые горки, и Ре-слу — Лысое место. Но он снова переводит взгляд на Вашу-нийя, Дышащую пещеру в южной части холмов, и на полсотни ориентиров на холмах и за их пределами, чтобы добраться до которых ему потребовались бы дни и недели езды или ходьбы. Он видит Крутой кряж из красноватого песчаника, который ограничивает впалую Беговую Дорожку вокруг холмов, похожую на полосу мышц вокруг работающего сердца, и четко видит широкий Пте-Тали-йапу — Бизоний пролом, сквозь который открывается легкий доступ в горы четвероногим и вольным людям природы, когда они отправляются в святилище. Прямо под ним — Шесть Пращуров, поблизости — более высокая горная вершина под названием Холм злого духа и с полсотни других хребтов серого гранита, и столбов красной породы, и шпилей, торчащих из мягкого черного ковра сосен, который покрывает холмы. Здесь стоит тишина, а солнце быстро встает снова и снова, слишком быстро — и это означает, что оно не подчиняется привычному ходу времени, и тени укорачиваются так быстро, что смех берет. Снова и снова солнце летит по небу, описывает дугу по идеальной голубизне и садится под молитвы вольных людей природы. Но внезапно движение замедляется и раздается шепот ветра, шорох ветвей, далекий гром — тихий голос пращура в мозгу Паха Сапы произносит слова, и одиннадцатилетнему мальчику кажется, что он оказался в своем и своего народа будущем. — Смотри, Паха Сапа. Паха Сапа смотрит, но поначалу ничего не видит. Но потом он понимает, что среди и внутри скал священной горы Шесть Пращуров на расстоянии мили или двух непосредственно под ним происходит какое-то движение и шевеление, дрожание и вибрации вдоль скалистой вершины, где он все еще видит свою затопленную жижей Яму видения и пять обозначающих страны света шестов со знаменами. Орлиная зоркость Паха Сапы позволяет ему фокусировать взгляд на чем угодно по его желанию, словно у него в руках телескоп, какие, по словам Сильно Хромает, есть у офицеров-кавалеристов вазичу, и теперь, по новому указанию одного из пращуров, он внимательнее смотрит на гору, с которой поднялся. Небольшие камни и средних размеров валуны от тряски соскальзывают по крутому южному склону горы Шесть Пращуров. Паха Сапа видит, как в унисон трясутся и дрожат деревья на северном склоне. Раздается глухой рокот, и новые камни, большие и малые, скатываются в равнину по южному склону священного пика, а потом Паха Сапа видит действие землетрясения, когда сами скалы словно становятся жидкими, переливающимися, и многие мили лесов и лугов складываются и перестраиваются, как встряхиваемая одежда из бизоньей шкуры или меховое одеяло. Нет. Из камня что-то появляется. Несколько мгновений Пахе Сапе кажется, будто оно извергается из самих скал, прорывается из камня наружу, но потом он перефокусирует взгляд на близкое видение, и ему становится ясно, что сама гора меняет форму, очертания, переформируется. Из скалы, смотрящей на юг, под тем местом, где Паха Сапа лежал и молился несколько дней и ночей, возникают четыре гигантских лица. Это лица вазичу, мужские лица, хотя первое появившееся лицо вполне могло бы принадлежать и старухе, если бы не волевая линия подбородка. Второе лицо, появляющееся из гранитного утеса, словно клюв и голова птенца из серого яйца с толстой скорлупой, принадлежит вазикуну с длинными волосами, еще более длинным подбородком, чем у крайнего слева женоподобного вазикуна, и устремленным вдаль взглядом. Он смотрит на Паха Сапу и зримых пращуров. У третьей головы — что-то вроде козлиной бородки, какие носят некоторые вазичу, но строгие черты и бесконечно грустные глаза. У четвертой и последней головы, расположенной между тем, кто смотрит вдаль, и тем, грустным, у кого козлиная бородка, подобие усов над улыбающимися губами, а вокруг глаз какие-то круги, сделанные вроде бы из металла и стекла. Сильно Хромает с каким-то сожалением, как казалось Паха Сапе, говорил о третьем и четвертом глазах, надеваемых некоторыми вазичу на собственные глаза, когда те начинают слабеть; он даже произнес слово, каким они называют эти глаза: очки. — Что… Паха Сапа должен спросить, что означают эти страшные головы, пусть голос его наги звучит жалко даже для его собственных ушей. Но мальчик замолкает, почувствовав бесплотное прикосновение невидимой руки пращура к плечу его духа, когда гора внизу начала изменяться. Четыре головы проявились полностью. Потом возникают плечи и верхние части туловища, облаченные в гранитные подобия одеяний вазичу, и все это кажется Паха Сапе до странности знакомым по прежним снам. Теперь четыре формы начинают ежиться и крутиться — Паха Сапа чуть ли не слышит хруст, производимый их усилиями, и грохот валунов, падающих на равнину, хлопанье крыльев и крики тысяч птиц, взлетающих с Черных холмов. Высота голов составляет пятьдесят или шестьдесят футов. Каменные тела, когда они распрямляются из позы плода, обретают устойчивость и встают, имеют высоту наверняка не меньше трехсот футов — больше, чем духи шести пращуров на их столбах белого света. На мгновение Паха Сапа приходит в ужас. Неужели эти монстры вазичу из серого камня продолжат расти, пока не доберутся до шести пращуров и до него? Неужели они протянут руки, стащат его с небес и проглотят? Каменные вазикуны прекращают расти и больше не смотрят на Паха Сапу или на пращуров. Их внимание приковано к земле и к Черным холмам. Гиганты стоят там на своих массивных серых каменных ногах, а два из них фактически оседлали пик Шести Пращуров, и Паха Сапа видит, как они оглядываются; он решает, что это обычное любопытство, свойственное всем новорожденным, будь то четвероногие или люди. Но в глазах этой четверки больше чем просто удивление. В них еще и голод. Снова раздается шелест ветра в соснах, похожий на раскат далекого грома шепот одного (или, может, всех) пращуров Паха Сапы: — Смотри. Четыре каменных гиганта вазичу шагают по Черным холмам, сбивая деревья на своем пути. Их следы в мягкой земле размером не уступают небольшим священным озерам, разбросанным здесь и там по холмам. Время от времени один или два-три гиганта останавливаются, наклоняются и сбивают вершину горы, сбрасывая тысячи тонн земли на одну или другую сторону. Паха Сапа испытывает неожиданное и почти непреодолимое желание хихикнуть, рассмеяться, возможно, расплакаться. Может быть, эти каменные гиганты вазичу всего лишь писпия — гигантские луговые собачки? Но он продолжает смотреть, и желание смеяться у него пропадает. Четыре каменных гиганта вазичу выхватывают животных из лесов и лугов Паха-сапа: оленей из высокой травы, бобров из запруженных рек, лосей со склонов холмов, толсторогих баранов с валунов, дикобразов с деревьев, медведей из берлог, белок с ветвей, орлов и ястребов из самого воздуха… И четыре каменных гиганта вазичу пожирают все, что выхватывают из лесов и полей. Громадные серые каменные зубы жуют, жуют и жуют. Серые каменные лица на серых каменных головах совершенно бесстрастны, но мальчик чувствует их ненасытный голод — они наклоняются, хватают живые одушевленные существа, отправляют их в серые рты и жуют, жуют, жуют. Шепот Паха Сапы реальный, слышимый, он формируется легкими его наги, глоткой и ртом, он выталкивается через зубы его духа, но шепот этот прерывистый. — Дедушки, можете вы остановить их? Но вместо ответа шепчущий голос, похожий на раскат грома, на шелест ветра в сосновых иглах, задает вопрос: — «Вазичу» не означает «бледнолицый», Черные Холмы. Это означает — и всегда означало — «пожиратель жирных кусков». Теперь ты понимаешь, почему мы дали твоим предкам это слово для именования вазикуна? — Да, дедушки. Паха Сапа не знал и подумать бы никогда не мог, что тело его духа может испытывать тошноту, но именно это с ним и происходит. Он свешивается через ограду пальцев надежной руки пращура и смотрит. Четыре каменных гиганта вазичу выходят из Черных холмов, и теперь они разделяются и двигаются в направлении стран света, словно ведомые жалкими палочками у Ямы видения Паха Сапы. Поначалу мальчик не верит своим глазам, но с помощью обретенного им орлиного зрения приглядывается и понимает, что глаза не обманывают его. Каменные гиганты вазичу убивают бизонов и других животных равнин гигантскими каменными каблуками на своих каменных ботинках вазичу — они давят бизонов, антилоп, лосей, а потом подносят раздавленные тела к своим каменным ртам на высоту в три сотни футов над зелено-бурой прерией. Время каким-то образом ускорилось — солнце садится, звезды идут кругом над пращурами и скорчившимся Паха Сапой, потом солнце восходит снова (тысячу раз, десять тысяч раз), но четыре каменных гиганта вазичу бредут по равнинам до горизонта, за него и всегда возвращаются, продолжая давить четвероногих каблуками, хватать, поднимать и жевать. И жевать. И жевать. Потом Паха Сапа видит что-то такое, отчего вскрикивает в высоком, разреженном, холодном воздухе небес, где он парит вместе с шестью пращурами, такими же невесомыми и бесплотными, как облака. Перед тем как убить последнего из миллионов бизонов, четверка каменных гигантов вазичу преследует людей в равнинах, на Черных холмах, и даже тех, кто живет еще восточнее и западнее: они преследуют и ловят вольных людей природы, кроу, шайенна, черноногих, шошони, юта, арапахо, пауни, ото, осейджи, оджибве, преследуют жалкие остатки манданов, изгоняют гровантров, равнинных кри, ктунаха и хидатса. Все бегут. Все изгоняются. Никто не может спастись. Четыре каменных гиганта хватают некоторых из этих маленьких бегущих фигурок и рассовывают их по своим каменным карманам, а других забрасывают далеко-далеко, швыряют крохотные, кричащие, размахивающие руками человеческие фигурки за горизонт, и те навсегда исчезают из виду. Некоторых они пожирают. Жуют. Жуют. — Дедушки! Остановите это! Пожалуйста, остановите! Теперь Паха Сапа слышит более глухой голос, чем тот или те, что слышал раньше: низкий, музыкальный, приглушенный, сочетание птичьей трели и журчания ручья, бегущего по камням. — Остановить? Мы не можем. Вы, наш народ, не смогли сделать это. Да и неправильно было бы останавливать их. Они пожиратели жирных кусков. Они всегда были пожирателями жирных кусков. Разве мы останавливаем гремучую змею, которая готовится поразить жертву? Разве мы останавливаем скорпиона, который жалит спящего суслика? Разве мы останавливаем орла, который пикирует на мышь? Разве мы останавливаем волка или койота, которые набрасываются на луговую собачку? Слова пращура грохочут в измученной болью голове Паха Сапы: синтехахла, итигнила, анункасан, хитункала, шунг’ маниту танка, шунг’ махету, писпия… Какое отношение эти животные имеют к убийству и уничтожению вольных людей природы, происходящему сейчас внизу? Какое отношение природа скорпиона, волка, орла или гремучей змеи имеет к убийству и пленению одних людей другими? На просторах прерий уничтожают, убивают, поедают бизонов. Вигвамы и деревни вольных людей природы, их краснокожих врагов, союзников и дальней родни пустеют. Четыре каменных гиганта вазичу, разжиревшие от убийств и поедания стольких жирных кусков, возвращаются по опустошенным землям на разоренные Черные холмы. Паха Сапа свешивается с гигантской ладони за гигантские пальцы, удерживающие его над милями пустоты, так далеко, что чуть не сваливается вниз. Но он не падает. Он находит в себе мужество. — Пращуры, повелители мира, тункашилы четырех стран света, земли и небес, старейшие дети великого духа, пожалуйста, услышьте мою молитву! Дедушки, не дайте сбыться этому видению! Не дайте мне вернуться к Сильно Хромает и моему роду с этим как с моим видением! Я умоляю вас, о пращуры! Далеко-далеко внизу каменные гиганты вазичу уже вернулись в Черные холмы и теперь лежат среди сломанных деревьев, раскиданных валунов, сброшенных верхушек гор, нагребают землю и камни на свои гранитные тела — так старики после пиршества укрывают буйволовыми шкурами свои ноги, вздувшиеся животы и старческие плечи. Паха Сапа чувствует, что летит вниз, — не падает, но летит в ладони пращура, окутанный белым светом, — и теперь пращуры говорят одновременно, и понять их трудно, потому что их голоса смешаны со свистом ветра, урчанием грома и журчанием ручьев. — Смотри, Черные Холмы, это был твой народ. Твои предки песнями вызвали его к жизни. Твое поколение навсегда потеряет его, если ты не будешь действовать. Пожиратели жирных кусков — это то, что они делают, и это знали вольные люди природы и все наши дети с того самого дня, как они увидели первого пожирателя жирных кусков, продиравшегося на запад в дни дедушек твоего дедушки. Потеряйте бизонов, потеряйте ваши вигвамы, потеряйте ваш мир со всеми песнями и жертвоприношениями — и вы потеряете нас и других духов, а с ними глубинные опасные силы и имена, к которым в течение десяти тысяч и более зим взывали ваши слабенькие голоса. Позвольте пожирателям жирных кусков забрать это у вас, и вы навсегда потеряете Тайну. Паха Сапа, наш сын, даже Бог не может существовать, когда исчезают те, кто поклоняется ему, когда забыты все тайные песнопения. Народ, который не имеет силы, не народ. Он всего лишь пища для зверей и других людей. Шесть столбов света с нечеткими формами внутри опускаются все ниже. Паха Сапа знает, что через несколько секунд они положат его на скалистую вершину священной горы. Солнце уже село, и время замедлилось, звезды потускнели, на небо снова накатываются тучи. — Что я могу сделать, чтобы спасти вольных людей природы — не дать сбыться этому пророчеству? Скажите мне, пращуры. Отвечает ему журчащий, напевный голос: — Это не пророчество, Черные Холмы. Это факт. Но у тебя будет возможность действовать. Из всех наших детей, которые сегодня всего лишь пища для пожирателей жирных кусков, только у тебя будет возможность действовать. — Как, пращуры? Когда? Как? Почему я? Скажите мне как… Пращуры! Но громадная теплая рука уже вернула его наги в тело, которое лежит лицом вверх в Яме видения. Шесть фигур в шести столбах света снова превращаются в падающие звезды и возвращаются по своим ярким, сияющим траекториям на небеса. — Пращуры! Голос с небес — все равно что шепот ветра. — Токша аке чанте иста васинйанктин ктело, Паха Сапа («Мы увидим тебя снова глазами наших сердец, Черные Холмы»).
Паха Сапа просыпается. Рассвет холодный, мокрый и дождливый. Мальчика так трясет, что, даже когда он находит свою одежду и прикрывает наготу, дрожь не унимается еще добрых полчаса. Прижимая священную трубку на шнурке к груди, Паха Сапа кое-как спускается по склону горы. Червь каким-то образом отвязался от вбитого в землю кола и к тому же порвал веревку, которой Паха Сапа стреножил его, но далеко от Белой Цапли не ушел. Паха Сапа понимает: он настолько ослаб, что, если его капканы пусты, он может и не выжить. В одном из капканов мальчик обнаруживает бьющегося кролика, в другом осталась только кроличья нога. Паха Сапа распевает благодарственную песню, убивает кролика, забирает ногу другого. Его кремень и кресало в парилке — там, где он их и оставил вместе с веточками, которые не промокли под грудой одежды. Трясущимися руками ему удается снова развести костер. Ветер и буря унесли листья, несколько ивовых веток и шкур с парилки, а потому маленькое сооружение отчасти открыто небу и дождю, но Паха Сапа не замечает этого, защищая своим телом искорки, а потом раздувая крохотные угольки в пламя. Когда он уверен, что костер не погаснет… — Спасибо, пращуры! Спасибо, Вакан Танка. … Паха Сапа снимает кожу с кролика, потрошит его, очищает ногу, сооружает примитивный вертел. Есть он начинает, когда кролик еще не готов.
Проходят день, ночь, утро, и Паха Сапа уже совсем рядом со своей деревней. Он так торопился, что плохо упаковал свои вещи, оставив часть одежды в парилке. У него нет ни одной лишней минуты. Он должен сообщить Сильно Хромает, Сердитому Барсуку, Громкоголосому Ястребу и всем старейшинам деревни ужасное известие, поделиться с ними своим страшным видением… Может быть, воины и шаманы решат, что кошмар каменных гигантов вазичу, поднимающихся из Черных холмов, не так уж страшен, как воображает Паха Сапа. Может быть, в этом сне есть символы, знамения и знаки, которые недоступны пониманию одиннадцатилетнего мальчика. Паха Сапа никогда не чувствовал себя таким маленьким и бесполезным. Ему хочется плакать. Но он не плачет; поздним утром второго дня его пути на север к Тощей горке вдоль узкой речушки слева, которая теперь вышла из берегов и разлилась на полмили в ширину (но ему не нужно перебираться на другой беper, чтобы добраться до Тощей горки и деревни), он прижимает разобранную и завернутую в одеяло, все еще не потерявшую красное оперение Птехинчала Хуху Канунпу к своей дрожащей груди и засыпает на ходу на спине Червя.
Он просыпается под лошадиное ржание несколько часов, или минут, или секунд спустя, когда первая стрела вонзается в Белую Цаплю. Привскочив на Черве, Паха Сапа поворачивает голову через плечо, сразу же понимая, что вел себя беспечно. Когда он ехал на юг к холмам, то оглядывал горизонт и постоянно прятался, несмотря на сильный дождь. Теперь, когда тучи поднялись выше и время от времени прерия освещается солнечными лучами, он в своей высокомерной беспечности ехал, ни разу не оглянувшись, одержимый одной мыслью: побыстрее добраться до дома. Менее чем в шестидесяти ярдах за ним восемь кроу (одни мужчины в боевой раскраске, выкрикивающие боевые кличи, мчатся на своих боевых пони во весь опор) несутся на него. У Паха Сапы не остается выбора — только спасаться на северо-запад, в направлении непреодолимого препятствия в виде затопленной долины с бушующей, разлившейся в ширину на четверть мили рекой. Вторая стрела попадает в шею Белой Цапле, и прекрасная кобыла Женщины Три Бизона падает. Паха Сапа успевает перерезать привязанные поводья кобылы за секунду до того, как они стащат его на землю. Громкие, жуткие хлопки — и Паха Сапа понимает, что у двух кроу есть ружья. Небольшой фонтанчик крови начинает хлестать из напряженного туловища мерина и попадает Паха Сапе в лицо. Кроме ножа, у него нет при себе другого оружия. Боевое копье и все остальное осталось на Белой Цапле. Паха Сапа снова оглядывается. Кроу даже не отрядили никого прихватить добро из тюков на мертвой лошади. Они продолжают скакать, все восемь, широко распахнув черные рты, их глаза и зубы отливают жуткой белизной. Они уже отрезали его — три воина кроу обошли его с северо-запада. Теперь ему остается только свернуть на север к воде. Что он и делает. Стрела попадает в брюхо коня рядом с голенью Паха Сапы, не причинив мальчику вреда. Ружейная пуля царапает ему ухо. Паха Сапа слышит жуткие хрипы, сопровождающие тяжелое дыхание Червя, — добрый конь продолжает скакать галопом, хотя его легкие пробиты пулями. Паха Сапа во весь опор скачет к воде. Кроу кричат еще громче, их крики так же ужасны, как звуки жующих челюстей каменных гигантов. Еще два выстрела, и ноги Червя подгибаются. Паха Сапа перелетает через голову умирающего коня — все как на Сочной Траве, где он производил деяние славы на Длинном Волосе, только здесь умереть придется уже ему, Паха Сапе, — сжимает части священной трубки, падает в воду и плывет в направлении тополиных веток и вывернутых с корнем ив, кружащихся в потоке перед ним. Кроу гонят своих усталых пони в воду, пока позволяет сила потока, который разворачивает их; вода уже доходит всадникам до бедер, и тут они останавливаются, продолжая кричать во все горло, тщательно прицеливаются и стреляют в Паха Сапу из луков и ружей. Поток несет Паха Сапу быстрее, чем может лететь пуля. Но даже когда его голова уходит под холодную илистую воду и он начинает захлебываться, то держит высоко над головой завернутую в красное Птехинчала Хуху Канунпу, чтобы ее не замочила вода. Что-то справа от него и сзади по течению… Нет, это не могут быть кроу… они бы не отважились. Паха Сапа поворачивает голову, продолжая держать высоко над собой части священной трубки, и в этот момент влекомый течением ствол тополя ударяет его по голове.
Мальчик приходит в себя. Он не утонул. Прошло несколько часов — сейчас либо заход солнца, либо восход, — и большая часть его тела зарылась в ил на западной стороне реки, быстрой и разлившейся сейчас приблизительно на полмили. Он даже не перебрался на другую сторону. Если кроу все еще неподалеку, то теперь они схватят его без труда. Одного глаза у Паха Сапы нет, или он заплыл и ничего не видит. А еще он ранен пулей в плечо. Но это все мелочи. Нет Птехинчала Хуху Канунпы. Паха Сапа с трудом встает на колени. Он балансирует, молотя руками в тусклом свете, разбрызгивает вокруг себя воду, потом ему удается подняться на ноги, он идет, поток сбивает его с ног, он уходит под воду, снова уходит, потом ему удается выползти из потока, он едва жив. Ее нет. Птехинчала Хуху Канунпа, которая передавалась в его роду из рук в руки из поколения в поколение, исчезла — это самый священный предмет его племени, самая суть тайны и защита от темных сил неба и земли, трубка, доверенная ему Сильно Хромает. Она исчезла. На Паха Сапе только набедренная повязка, даже мокасин не осталось на его ногах. Он весь в иле, лошадиной и собственной крови. Его единственный глаз плохо видит. «Но я все еще должен сообщить о видении Сильно Хромает и старейшинам. Я все еще должен сказать им, а потом принять пожизненное наказание за утрату Птехинчала Хуху Канунпы». Паха Сапа, у которого болит все тело, выползает из воды и ила, он вытягивает себя наверх, цепляясь за траву, добирается до верха и с трудом поднимается на ноги. В нескольких шагах от него стоят три кроу. Бежать Паха Сапа не может. Это другие кроу — старше, крупнее. И на них солдатские мундиры вазичу, расстегнутые на татуированных грудях. За тремя кроу около шестидесяти всадников, черных на фоне встающего солнца, но это явно кавалеристы вазичу. Один из них кричит что-то на том же уродливом языке, который Паха Сапа слышит ночами от призрака Длинного Волоса. Ближайший к нему кроу, старик со шрамом, который проходит со лба через нос на щеку, делает три шага вперед, поднимает магазинное ружье и обрушивает приклад из дерева и металла на лоб Паха Сапы.
15 Джордж Армстронг Кастер
Ты, моя дорогая, из всех людей на этой доброй земле лучше всех знаешь, что моя репутация «величайшего из современных борцов с индейцами» в Америке преувеличена. По моему приказу и под моим руководством были убиты многие и многие тысячи мятежников,[59] но убивать индейцев — я никогда не искал такой чести. В отличие от мятежников, индейцы — коварные и неуловимые враги. Их воины выбирают время и место сражения по своему усмотрению и никогда не ведут боя по канонам военного искусства, а прибегают к хитростям и действуют обычно с расстояния (кроме тех случаев, когда они вылезают вперед, чтобы совершить деяние славы или снять скальп с павших бледнолицых), а потом они бросаются наутек, часто бегут, чтобы спрятаться за юбками своих женщин и погремушками своих детей в деревнях. И потому единственная возможность для кавалерии застать их врасплох и заставить воинов сражаться — это напасть на деревню, в особенности рано утром, сразу после восхода солнца. Как это случилось во время сражения на Вашита-ривер.[60] Эти воины, главным образом шайенны, в тот кровавый 1868 год выходили с индейской территории и из Техаса на юге, совершая налеты на Канзас. В ноябре генерал Шеридан показал мне список потерь: сто десять белых убито, тринадцать женщин изнасиловано, угнано более тысячи голов скота, сожжено и ограблено бесчисленное количество жилищ поселенцев. Канзасцывоспринимали эти изнасилования, грабежи и убийства как личное оскорбление. Насилие со стороны индейцев, как тебе, наверное, известно, проистекало непосредственно из мирных договоров, которые мы подписали с Красным Облаком и другими в тот год в Форт-Ларами,[61] — договоров, которыми Шерман[62] давал племенам все, что они требовали, и даже больше, включая согласие армии оставить все наши форты вдоль Бозманского тракта,[63] а ко всему этому признал владение сиу Черными холмами, невзирая на тот факт, что сиу сами вторглись туда лишь недавно и что белые золотоискатели уже двигались на эти холмы по охраняемому мной тракту и строили там собственные поселения. Но индейцы, как любой достойный враг, считают уступки слабостью, а потому неудивительно, что спустя несколько недель после подписания этих договоров вождями их воины начали резать поселенцев по всему Канзасу, а потом отступать в безопасные убежища вроде агентства Форт-Кобб на Вашита-ривер в северной части Техаса, где они ели нашу говядину, зимовали и только и ждали хорошей погоды, чтобы снова отправиться в поход и убивать новых поселенцев. Ты, конечно, помнишь Фила Шеридана, моя дорогая. (А я помню, как ты танцевала с ним в Форт-Ливенуорте, когда генерал приехал принять командование у Хэнкока.[64]) Генерал Шеридан сыграл важную роль в моей карьере, а вот танцором он был никудышным. Он вытащил меня из Монро, где я умирал от скуки (кроме тех замечательных дней и ночей, когда был с тобой, любимая), и 12 ноября мы с Шериданом вели соединенные силы пехоты и кавалерии в глубь индейской территории. У индейцев (благодаря помощи, которую мы оказывали им через выдаваемые за форты агентства, подобные Форт-Коббу) были короткие пути снабжения, а кавалерия всегда страдала от неприемлемо длинных путей снабжения, нередко тянущихся до самого Ливенуорта. Поэтому мы построили склад Кэмп-Саплай на Норт-Канадиан-ривер вблизи Оклахомского выступа. Индейцы так привыкли к своей безнаказанности там, к югу от Арканзас-ривер, что стали самоуверенными и беспечными; но теперь, имея такую тыловую базу, как Кэмп-Саплай, мы собирались преподнести им сюрприз зимой. (Старый зверобой Джим Бриджер[65] утверждал, что зимняя кампания неосуществима, что кавалерия через день застрянет в снегу, а через три будет уничтожена, но мы с Шериданом думали иначе.) Я говорил тебе, Либби, о необычной, абсолютно несолдатской манере Шеридана выражаться неприличными словами (от которой я навсегда отрекся в тот самый день 1862 года, когда окончательно бросил пить, после того как ты видела меня пьяным в Монро, а я тогда только-только начал ухаживать за тобой)… так вот, пребывая в заблуждении, будто он первый кавалерийский командир на Западе, который будет атаковать индейцев в разгар зимы (это делали и многие до него), Фил, нещадно бранясь, провел очаровательный инструктаж перед моими офицерами и солдатами, после чего я в сильную метель под звуки «Девушки, которую я оставил, уходя в поход» тронулся в путь. Снег помог нашим разведчикам осейджи (которые горели желанием свести старые счеты со своими врагами шайенна), и 26 ноября мы наткнулись на след, оставленный отрядом индейцев, возвращавшихся в свою деревню в Оклахоме явно после налета в Канзасе. Мы оставили обоз и поскакали по индейскому следу. Я подгонял своих людей, — ты знаешь, как я загораюсь в предчувствии реальных боевых действий, — останавливались мы за весь короткий холодный день и долгую холодную ночь только раз, чтобы выпить кофе и поесть галет. Это была единственная остановка, которую сделали мои люди с четырех часов пополудни и до вечера следующего дня. Мои семьсот двадцать человек следовали за мной всю ночь, и единственным звуком при этом был хруст льда (который корочкой сковал снежный покров) под копытами лошадей. Наконец один из проводников осейджей вызвал меня вперед на вершину холма, и я с удивлением увидел внизу уходящую вдаль речную долину. Еще я увидел какие-то смутные очертания, двигающиеся в полумиле от нас, но я решил, что это бизоны. — Нет, — проворчал осейдж. — Много индеец. Пони. Шепотом я спросил у индейца, почему он считает, что это пони. В неясном свете звезд разобрать это было нелегко. — Моя слышать собака лаять, — проворчал старый проводник. Я напряг слух, но собачьего лая так и не услышал. На секунду мне показалось, что я слышу звук колокольчика — индейцы иногда вешают колокольчик на шею кобыле впереди табуна, — но звук был очень неотчетливый. Наконец я услышал тонкий, слабый крик ребенка над темной долиной. Теперь сомнений не осталось. Я приказал начать атаку на рассвете. Разделив силы, как и вчера (неужели это было вчера?) на Литл-Биг-Хорне, я разбил колонну на четыре отряда: одному приказал обойти деревню по долине с дальней стороны, двум — атаковать с флангов, а отряду, оставшемуся в моем подчинении, — атаковать с юга, с того места, где мы теперь находились. Конечно, Либби, я понятия не имел, сколько там было индейцев; их могло быть сто, а могло — и десять тысяч. Но в моем распоряжении было семьсот кавалеристов, и никакая неорганизованная сила не могла противостоять атаке семи сотен американских кавалеристов, которые имеют еще и преимущество неожиданности. Ребята из полкового оркестра говорили после сражения, что холод был такой, что губы прилипали к медным мундштукам труб, когда они по моему приказу в начале атаки играли любимую песню нашего полка «Гэрри Оуэн». Но они преувеличивают. На самом деле замерзала только их слюна, отчего духовые скоро стали фальшивить, а потом музыка вообще прекратилась. Но это не имело значения, поскольку я уже вел отряд вниз по склону в долину, скакал (конечно) впереди, держа саблю в вытянутой руке. Мы застали индейцев — оказалось, что это деревня шайенна, что порадовало наших кровожадных разведчиков-осейджей, — врасплох, но воины в считаные секунды повыскакивали из своих вигвамов и типи, кидая копья, стреляя из луков и магазинных ружей. Мы рубили их на месте. Должен поделиться с тобой жестокой правдой войны, Либби: когда старик, старуха или (я видел это в начале схватки) десятилетний мальчик поднимали ружье или копье павшего воина и направляли на моих ребят, кавалеристы рубили и их. Многие из этих солдат гонялись за враждебными индейцами два года и более, но никогда не сходились с ними в честной схватке, а видели только скальпированных белых, изнасилованных женщин, сожженные поселения — все, что те оставляли после себя. Мои ребята слишком долго сдерживали копившийся гнев, и сражение (хотя и короткое, длившееся меньше часа, при этом настоящая схватка продолжалась всего полчаса) было ожесточенным. Индейские воины отступили из деревни и попытались перебраться на другой берег Вашита-ривер, но многих из них мы перестреляли, пока они брели по пояс в ледяной стремительной воде. Те, кто смог добраться до густого леса на другой стороне, вели стрельбу с выгодных позиций, но я отправил туда людей из всех четырех наших атакующих с разных сторон отрядов (лес на самом деле оказался не очень густой, и нам не пришлось спешиваться), и воины один за другим были убиты. Почти никто из них не позволил захватить себя в плен. Наши потери были невелики — убит один из моих офицеров и ранены одиннадцать солдат. Мой заместитель (ты помнишь майора Элиота)[66] с девятнадцатью солдатами поскакал за бежавшими индейцами в сторону от реки, и хотя мы ждали их скорого возвращения, отряд так и не вернулся. Позднее мы узнали, что ниже по течению индейцы устроили засаду и убили Элиота и его людей. И тем не менее победа была полной. У меня было пятьдесят три пленника — в основном женщины и дети, которые во время схватки оставались в вигвамах, — и более девяти сотен индейских пони. Женщин и детей мы взяли с собой, но я приказал пристрелить около восьмисот пятидесяти пони — в основном пегой масти. Я знаю, как ты любишь лошадей, моя дорогая, и знал, что ты расстроилась, когда я, вернувшись, рассказал тебе об этом, но думаю, ты поняла, что выбора у меня не было. Я позволил женщинам, детям и паре древних стариков выбрать себе пони, но мои ребята никак не могли отогнать восемьсот пятьдесят индейских пегих в Кэмп-Саплай. А бросить лошадей, чтобы их забрал враг, было немыслимо. У меня осталось немало воспоминаний о том сражении у реки Вашита, но вот что никогда не сотрется из памяти, так это крики пони, запах пороха, смешанный с запахом лошадиной крови на холодном утреннем воздухе, звук падения в снег тяжелых тел у берега реки… К десяти утра я уже знал, с кем мы сражались. Это был род шайенна, подчиненный вождю Черному Котлу,[67] — это так называемый мирный вождь, тот самый Черный Котел, который сумел спастись после бойни, учиненной его людям на Сэнд-Крик[68] в Колорадо. Сестра Черного Котла через переводчика сообщила мне, что старый вождь разбил стоянку здесь, на севере, вдалеке от других индейских деревень, растянувшихся цепочкой по долине вдоль берега Вашиты (там были стоянки апачей, арапахо, кайова и даже команчей), именно потому, что он, Черный Котел, опасался кавалерийской атаки (этих страхов, похоже, не разделяли другие индейцы, хотя никто из других вождей не был на Сэнд-Крике). Самого Черного Котла убили, как мы потом выяснили, в первые минуты атаки — старик пытался бежать, даже не думая защищать свою семью или внуков. Сообщение о тысячах индейцев, расположившихся в такой близости, не встревожило меня: то число кавалеристов, которыми я располагал, могло бы справиться с любым количеством воинов, посланных против нас вверх по течению реки, — но именно поэтому я принял решение перестрелять пони и на время отойти. Ты, конечно, помнишь, Либби, появившиеся вскоре гневные статьи в газетах, которые сравнивали честное сражение на Вашите с бойней, учиненной Чивингтоном на Сэнд-Крике. Как мы тогда говорили, это было не только несправедливо — это была клевета. Род Черного Котла на Вашите привечал многих индейских воинов, которые терроризировали Арканзас. Мы нашли скальпы белых мужчин и женщин. Мы нашли фотографии, оружие, одежду, утварь — многое из того, что они захватили в сожженных жилищах. Мало того, воины Черного Котла захватили в заложницы двух белых женщин (одна совсем молоденькая) и перерезали им горло при первых звуках атаки. Это не были невинные, миролюбивые индейцы, как бы Черному Котлу ни нравилось называть себя «мирным вождем». Сестра Черного Котла говорила, и говорила, и говорила, возлагая всю вину на нескольких молодых воинов с горячей кровью, которые вступили в племя, она болтала и болтала, но вскоре я понял, что она просто тянет время. К полудню первые сотни воинов из многочисленных деревень, расположенных ниже по течению, начали появляться на отвесных берегах по другую сторону реки. К вечеру там должны были собраться тысячи, и я уверен, именно этого и хотела сестра Черного Котла — чтобы мы находились в неудачной позиции, когда тысячи арапахо, кайова, возвращающихся шайенна, апачей и команчей ринутся на нас. В течение последних минут этой болтовни, когда добивались последние пони и я уже собирался оборвать старую ведьму, чтобы мы могли сесть на коней и скакать назад, я обратил внимание на хорошенькую девушку — точнее говоря, молодую женщину лет семнадцати, — которая по какой-то непонятной мне причине держала меня за руку, пока сморщенная сестра Черного Котла пела свои песни. — Что делает эта старуха? — раздраженно спросил я переводчика. Переводчик рассмеялся. — Сэр, она женит вас на молодой скво, которую зовут Мо-на-се-та. Я считаю, что вы теперь по всем правилам ее муж. Я немедленно вырвал руку из хватки девушки и сделал движение, призывающее сестру Черного Котла замолчать. Никогда не забуду наш отход из долины и вверх по течению реки, не забуду, как мы оглядывались в ранних зимних сумерках, — много сотен индейцев на обрывистом берегу, в отраженном солнечном свете они были словно вертикальные черные колышки, которые с расстояния казались языческими монументами друидов, посвященными какому-то забытому богу солнца, — и сама долина теперь светилась пламенем, над ней поднимались дымы (мы сожгли все типи), и снег был там не только утоптан, но и красен на несколько сотен ярдов от крови убитых пони. Позднее меня критиковали, как внутри армии, так и вне ее, за отступление, когда фактически я мог разделаться с таким количеством индейцев (наш обоз был уже на подходе, и у нас имелось достаточно бизоньего и другого мяса из захваченной деревни, чтобы несколько месяцев кормить семь сотен солдат), не говоря уже о более резкой критике за то, что я не остался, чтобы найти майора Элиота и его людей, — но ты, моя дорогая Либби, знаешь причину моего так называемого отступления. Из всех людей на земле ты единственная, кто знает причину в полной мере. Но иногда я спрашиваю себя, что бы подумали эти авторы редакторских колонок, называвшие меня трусом или «убийцей скво», если бы знали правду.Давай лучше вспомним более приятные (или, по крайней мере, забавные) вещи, моя дорогая. Мо-на-се-та. Как ты меня подначивала из-за нее. Она осталась в Седьмом кавалерийском после сражения на Вашита-ривер и была либо гостьей в палатке рядом с моей, либо находилась в моей палатке. Зима была долгая, суровая, холодная. (Ты знаешь, что на марше — даже в те первые дни ноября 68-го года, когда мы двинулись на юг в направлении Антилоп-маунтинс и Вашита-ривер перед нападением на деревню Черного Котла, — я на стоянках даже не всегда ставил свою командирскую палатку, а спали мы несколько долгих холодных часов под открытым небом на бизоньих шкурах, и по обеим сторонам от меня ложились две наши большие собаки. Позднее, когда долгая зимняя кампания закончилась… нет, погоди, я теперь вспомнил: даже во время этой кампании в наших многочисленных письмах ты бесконечно поддразнивала меня, говоря о моей «индейской невесте».) Я помню одно из первых посланий, которое я отправил тебе из снежной пустыни, то, в котором я описывал тебе сначала комическую «свадебную церемонию» на берегу Вашиты, а потом — саму Мо-на-се-ту такими словами, которые ни одна молодая жена не сочла бы приемлемыми, я уж не говорю — забавными:
Это удивительно милая скво с живым, приветливым лицом, наружностью, свидетельствующей об уме, и смешливостью, какую редко встретишь у индейских женщин… Дополнением к живым, смеющимся глазам служат ряд жемчужных зубов и темное лицо. Ее изящной формы голова увенчана копной роскошных шелковистых волос, которые чернотой могут поспорить с цветом воронова крыла и ниспадают, когда она позволяет им свободно упасть, до талии и ниже.Таким было мое письмо для общественного потребления — и, возможно, как ты, видимо, предполагала, для публикации в будущей книге воспоминаний, которую мы с тобой давно планировали написать совместно, — но я знал, как ты прореагируешь в душе на это письмо, и ты меня не разочаровала, моя дорогая. Я знал, что ты будешь меня подначивать относительно этой девушки, подначивать так, как может только та жена, которая абсолютно уверена в любви и почитании мужа. Не прошло и недели, как в ходе нашего мерзлого марша по техасскому выступу, а потом назад в Оклахому меня догнал твой ответ:
Мой дорогой Оти! Похоже, твоя вторая невеста восхитительна. Молниеносная осада, сожжение индейской Трои, — безусловно, ты заслужил восхитительную Елену, которую описываешь таким замечательным (кто-то даже сказал бы «восторженным») языком. Немногие белые женщины получали любовные письма с такими похвалами и складными одами, и я не имею ни малейшего представления, что твоя шайеннская Елена (чье имя явно немножко похоже на «Миннесота», что вполне уместно, поскольку ты взял ее, можно сказать, в снегу[69]) думает о таких похвалах. Она умеет читать? Впрочем, это наверняка не имеет значения, поскольку пока ты должен отправлять письма мне, я не сомневаюсь, что тебе даже не приходится повышать голоса, чтобы поговорить с ней этими долгими, долгими зимними ночами. Она, конечно же, обитает в твоей палатке? Если нет, то с твоей стороны это не по-джентльменски. Итак, мой дорогой Оти, мой дражайший возлюбленный, как наша — твоя — Мо-на-се-та выглядит под мягкими, украшенными бисером платьями из оленьих шкур, которые она наверняка надевает, только выходя за пределы вашего общего жилища? Скажи мне, мой дорогой знаток подобной роскоши, а может ли «копна роскошных, великолепных шелковых волос» цвета воронова крыла Мо-на-се-ты сравниться по густоте с порослью ее венериного бугорка?
Я прерываю твое письмо, чтобы сказать: я помню, когда ты впервые воспользовалась словами «венерин бугорок», чтобы описать то, о чем говоришь здесь, моя дорогая Либби. Это было в Монро — мы лежали обнаженные на нашей кровати в тот летний вечер, когда вместе принимали ванну, и я играл с порослью того, что называл тогда женским холмиком, а ты меня спросила, не слишком ли кустист твой «венерин бугорок» (именно эти слова ты тогда прошептала). Я заверил тебя, что нет, что мне нравятся его роскошные заросли, после чего завершил мои вербальные аргументы другим способом. Продолжение твоего письма зимы 69-го года. Кажется, я помню его слово в слово:
А как насчет персей твоей новой подружки Мо-на-се-ты — они выше и тверже моих?Я отписал тебе тогда, что видел, как омывается сия дама, и хотя у нее почти нет поросли на венерином бугорке, но груди у семнадцатилетней девушки высокие и твердые, правда, я тут же заверил тебя, что по привлекательности они не идут ни в какое сравнение с твоими — полными и белыми. (Я мог бы сказать тебе правду: груди у индейских женщин, которым едва переваливает за тридцать, почти всегда отвислые и морщинистые. Я полагаю, причина этого в том, что они выкармливают слишком много индейских детишек и никогда не носят надлежащего поддерживающего белья, но я думал, что тебе это и без того известно. Внешность старых, морщинистых, согбенных индейских женщин всегда производила на тебя неблагоприятное впечатление.) Дальше ты писала:
И какая у нее кожа — она золотистая, смуглая, матовая повсюду (кроме тех частей, которые розовые у меня)?В следующем письме я заверил тебя, что кожа Мо-на-се-ты и в самом деле золотистая, смуглая, абсолютно чистая, если не считать странной татуировки на ее левом плече. Ее соски, расписывал я, светло-коричневые, а потому их привлекательность не может сравниться с твоими розоватыми, моя дорогая Либби. После этого ты отбросила в сторону все тонкости:
А скажи мне, мой дорогой Оти, индейские девушки по имени Мо-на-се-та стонут, когда ты с ними?Я тогда рассмеялся и написал тебе, что днем ранее, 14 января 1869 года, Мо-на-се-та негромко стонала несколько часов. В этот день она родила ребенка, и большую часть времени я, бросая на нее взгляд, видел ее обнаженной в моей палатке, маленькая девушка носила громадный живот с младенцем от какого-то воина. Я часто спрашивал себя, убили ли мы отца ее ребенка в то утро 27 ноября (велика вероятность, что убили), но сам я об этом у Мо-на-се-ты никогда не спрашивал, а она никогда не говорила об этом воине или его судьбе. Девушка всегда была весела и не стала обузой для полка. Да что говорить, именно благодаря ее превосходным навыкам проводника мы 15 марта 1869 года нашли деревни Маленького Платья и Целебной Стрелы на севере Техаса и таким образом закончили преследование, которым были заняты всю эту долгую зиму. Поскольку у них были белые пленники (воспоминания о тех двух белых женщинах с перерезанным горлом в сожженной деревне на реке Вашита не оставляли меня), я предпочел переговоры немедленной атаке на деревню, но когда Целебная Стрела проявил особое упорство, я захватил четырех его людей и пообещал вождям, что повешу их на рассвете, если они немедленно не передадут нам белых пленников. Но упрямый шайенна продолжал упорствовать, и тогда мы отправили наших пленников (предварительно захватив еще несколько человек) в Форт-Хейс, предъявив второй ультиматум: эти заложники получат еду только после того, как Целебная Стрела и Маленькое Платье приведут свои роды в резервацию и освободят заложников. К счастью для нас, караульные в Форт-Хейсе убили двоих из этих шайеннских заложников, и Целебная Стрела отпустил пленников и привел своих людей в резервацию. После этого я вернулся в Форт-Хейс и к тебе, и мы провели там два лучших года нашего супружества, а в наиболее интимные моменты этих двух счастливых лет ты подначивала меня, вспоминая Мо-на-се-ту. Я не знаю, почему такие разговоры возбуждали тебя, но твоя страсть всегда воспламеняла и меня (а возможно, если уж абсолютно откровенно, воспламеняли меня и эти не имевшие никакого отношения к реальности разговоры о Мо-на-се-те), а потому наша маленькая спальная игра в Мо-на-се-ту была для нас обоих, наверное, одной из самых зажигательных.
Либби, моя дорогая, даже в те моменты, когда я думаю и вспоминаю о тебе, меня не отпускает странное и глубинное предчувствие дурного. Я уверен, что всего лишь сплю, почти наверняка под воздействием морфия и после вчерашнего (или недавнего) ранения на Литл-Биг-Хорне, но иногда здесь, в этой темноте, я чувствую себя бестелесным, отделенным от моего раненого естества или мира — одним словом, изолированным от всего, кроме тебя. И даже вспоминая о победе на Вашите и нашей последующей игре в Мо-на-се-ту, я ощущаю холод других воспоминаний. Ты помнишь нашу последнюю зиму в Нью-Йорке, когда, устав от бесконечного и бесплатного «Юлия Цезаря» (мы ходили на него больше двух десятков раз и в конечном счете уже могли — да и делали это — по памяти цитировать все диалоги), мы получили разрешение от нашего друга и актера Лоренса Баррета (того самого друга, который давал нам контрамарки на «Юлия Цезаря») поприсутствовать на генеральной репетиции первой и второй частей «Генриха IV»? Никто из нас не был хорошо знаком с этой пьесой, но тебя в высшей степени поразил образ Генриха Перси, так называемого Хотспера, или Горячей Шпоры. Я не понял, что уж такого поразительного ты в нем нашла, и ты прошептала: «Ах, Оти… да ведь Хотспер — это ты!» Я в упор разглядывал этого солдафона, важно расхаживающего и брюзжащего на сцене (насколько я помню, в зале, где присутствовали только другие актеры и члены их семей, было прохладно, и мы дрожали), и я прошептал тебе в ответ: «Не вижу никакого сходства». «Ах, Оти, — снова прошептала ты, продолжая тихонько смеяться под сцену, разыгрывающуюся на подмостках, — он безумно влюблен в свою жену. Неужели ты не видишь? Ведь эти двое постоянно подзуживают, подначивают, дурачат друг друга». В этот момент на сцене происходил такой диалог:
16 Шесть Пращуров
28 августа 1936 г. Паха Сапа спускается с нижней ступеньки из пятисот шести, ведущих на вершину горы Рашмор, и чувствует, как на него накатывает волна непреодолимой усталости. Ему приходится отойти в сторону и ухватиться рукой за перила, чтобы не упасть. Другие рабочие — большинство из них на тридцать или сорок лет моложе его — прыгают, шутят, скачут по лестнице, толкаются, шлепают друг друга, кричат, спеша на парковку. Сейчас шесть часов вечера, и прямые солнечные лучи скрылись за зубчатым южным торцом горы, но волны жара от белого гранита бьют Паха Сапу словно кулак с пышущими жаром костяшками. Он провел наверху всю долгую пятницу, висел в люльке, перемещался от одной площадки к другой в основании трех существующих голов и четвертого поля белого гранита, подготовленного к работе, — из него будут высекать голову Рузвельта, — но сокрушительное цунами усталости и изнеможения добралось до него только теперь. Он знает, что это рак съедает его. Усиливающаяся и расширяющаяся боль уже некоторое время донимала его, но он был к ней готов и мог с ней совладать. А нынешняя внезапная слабость… Что ж, ему семьдесят один год, но никогда прежде он не испытывал такой слабости. Никогда. Паха Сапа трясет головой, чтобы прогнать ее, и с его длинных, все еще черных косичек капает пот. — Старик! Августовские цикады трещат громко, в ушах у него гудит, и потому поначалу Паха Сапа даже не понимает, что это зовут его. — Старик! Билли! Эй, Словак! Это мистер Бор глум, который стоит между сараем с лебедками и дорожкой на парковку. Паха Сапа отпускает перила и поднимает усталую руку. Они сходятся на площадке вблизи кричащих, смеющихся рабочих, которые выстроились в очередь к кассе. — Ты здоров, Билли? — Конечно. — У тебя вид… нет, «бледный», пожалуй, не то слово… изможденный. Мне нужно показать тебе кое-что там, наверху. Ты готов подняться? Паха Сапа поворачивает голову к лестнице из пятисот шести ступенек, спрашивая себя, сможет ли одолеть их даже без обычного утреннего груза в пятьдесят или шестьдесят фунтов. Он собирался работать весь пятничный вечер, приготовить и доставить динамит в схрон здесь, у горы, — правда, подходящего места он пока не нашел, — потом всю субботнюю ночь размещать заряды, готовясь к воскресному визиту Рузвельта. А теперь он даже не знает, сможет ли подняться по лестнице в такую жару. Борглум на мгновение прикасается к его спине. Паха Сапа редко потеет так, чтобы это замечали другие, — предмет старой и дурной шутки среди рабочих, — но сегодня у него вся спина мокрая. — Мы поедем на канатке. Паха Сапа кивает и идет за Борглумом к платформе канатной дороги под сараем с лебедками. Сегодня подъемником управляет Эдвальд Хейес, который при виде Борглума прикасается к своей пыльной шапочке. Паха Сапа ненавидит подъемник, но молчит; они с Борглумом втискиваются в узкое пространство вагонетки размером с уличный сортир, после чего Борглум дает знак Эдвальду — поднимай. Паха Сапа знает, что его страх перед канатной дорогой глуп, он целыми днями висит в люльке, болтающейся на стальном кабеле диаметром одна восьмая дюйма, тогда как канатная дорога использует трос диаметром семь восьмых дюйма, накинутый на громадные шкивы и тянущийся от лебедочного сарая на Доан-маунтинг до укосины над головой Рузвельта в трехстах футах от нее и в четырехстах футах над уровнем долины. А вагонетка движется на тросе диаметром три восьмых дюйма, приводимом в действие большим шкивом в лебедочном сарае. Но Паха Сапа — как и все остальные рабочие после происшествия с канатной дорогой — знает, что, хотя большой шкив должен крепиться на своей оси стальным фиксатором и в ступице шкива и оси есть для этого фиксатора посадочные места, на самом деле шкив всегда крепится всего одним болтом, который пропускают через ступицу в гнездо посадки фиксатора на оси. Этот болт по меньшей мере один раз отвинтился, что привело к поломке вала лебедки, и вагонетка полетела без остановки по всему тросу, выдрав с вершины горы всю укосину с ее основанием. Гутцон Борглум должен был сесть в этот вагончик, но опоздал на несколько минут, и потому Эдвальд отправил вместо него канистры с водой. Эти канистры, разорванные в клочья, разметало на площади в два акра по Доан-маунтинг. Приди Борглум вовремя — и после гибели скульптора проект Рашмор, скорее всего, закрыли бы. Они поднимаются все выше и выше, но Борглум, кажется, ничуть не нервничает. Они направляются в пространство между тремя существующими головами, к блоку ровного белого гранита, подготовленного для головы Тедди Рузвельта. Ни ветерка. Жара здесь еще сильнее, чем внизу, — белая порода по сторонам от них фокусирует и излучает тепло, накопленное за целый день невыносимого пекла. Температура в Рэпид-Сити бьет все рекорды; Паха Сапа предполагает, что здесь, в эпицентре белого жара, температура должна быть не меньше ста двадцати градусов по Фаренгейту. А он висел, двигался, раскачивался, бурил в этих условиях с семи утра. Борглум машет Эдвальду, и вагонетка резко останавливается, тошнотворно раскачиваясь в воздухе. Оба пассажира держатся за кромку деревянной клетки, доходящую до уровня груди, и Борглум гладит направляющий тросик, потом протягивает руку и фиксирует аварийный тормоз, который был добавлен по распоряжению Джулиана Споттса — последнего бюрократа, назначенного «ответственным» за проект (на самом деле ответственный всегда только мистер Борглум), после очередного отказа тормозной системы канатной дороги, когда несколько человек попадали вниз. Они очень высоко: выше Вашингтона, на уровне глаза Джефферсона, который смотрит на грубую массу породы — черновую заготовку волос Авраама Линкольна. Работы над головой Теодора Рузвельта еще не начинались, и та выглядит почти вертикальной стенкой ослепительно-белого гранита, ожидающей последних тщательно рассчитанных взрывов, а уже потом — каменотесов. Вагонетка перестает раскачиваться. Оба пассажира прижались к северо-западной загородке клетки и смотрят на белый гранит. Сказать, что на голове Рузвельта вообще не велись никакие работы, — значит солгать. За последний год, в особенности за время успешных четырех теплых месяцев, Борглум пробурил, а Паха Сапа подорвал более восьмидесяти футов исходного серого выветренного непригодного гранита на южном торце Шести Пращуров. В течение этих взрывных и камнетесных работ только Борглум был уверен, что под плохой скальной породой они найдут гранит, пригодный для камнетесных работ. И в конечном счете они его нашли в достаточном — едва достаточном — объеме, чтобы вытесать голову Рузвельта. Если они не наделают ошибок. Проблема состоит в том, что гранита у них осталось совсем немного, большая его часть уже использована. Любому наблюдателю, расположившемуся на Доан-маунтинг или в долине под головами, представляется, что Рашмор — основательная, прочная гора (можно представить, как ты поднимаешься на нее по противоположному склону, поросшему лесом), но эта основательность — иллюзия, и Паха Сапа знает это со времени своей ханблецеи ровно шестьдесят лет назад. За северным торцом Шести Пращуров, за головами трех президентов, появляющихся теперь из гранита, и четвертой головы, подготовленной к камнетесным работам, лежит длинный и глубокий каньон. Эта трещина в скале начинается чуть к северу от головы Линкольна и простирается на юго-запад от голов футов на триста пятьдесят. За тремя первыми головами, уже появившимися из камня, достаточно породы. За головой Тедди Рузвельта, расположенной позади трех других и вблизи невидимого вертикального каньона, остается только тридцать футов породы, из которых и предстоит высечь портрет последнего президента. Паха Сапа знает, что если углубиться в поисках хорошей породы еще на десять футов (после уже взорванных восьмидесяти футов), то от Рузвельта придется отказаться — там просто не останется достаточного объема пригодной для работы породы. Борглум снимает белую шляпу, вытирает лоб красным платком, извлеченным из заднего кармана, и откашливается. — Мы в пяти футах от носа, Билли. — Да. Жар от белого гранита здесь полностью ощутим. Вызывает тошноту. Паха Сапа пытается поморгать, чтобы исчезли черные точки, плывущие перед глазами. — Из-за президентского визита я назначил тебя на работу завтра и в воскресенье. — Да. — Кроме Рузвельта здесь будет много важных персон. Сенатор Норбек… уж не знаю, как он смог столько продержаться, ведь у него рак челюсти. Конечно, губернатор Берри. Этот не упустит возможности покрутиться рядом с президентом, даже если президент — демократ и сторонник нового курса. И много других, включая Доана Робинсона и Мэри Эллис. Мэри Эллис — дочка Гутцона Борглума. Паха Сапа кивает. — Поэтому я хочу, чтобы показательный взрыв прошел глаже гладкого. Очень гладко. Пять зарядов. Я думаю, вот здесь, под свежим гранитом, выбрать немного по направлению к Линкольну, чтобы взрыв прозвучал эффектнее. Какого бурильщика тебе назначить на завтра? Мерла Питерсона? Громилу? Паха Сапа трет подбородок. Ощущения в его теле приглушены, потому что боль разливается повсюду. — Да, Пейн подойдет. Он знает, что мне нужно для зарядов, еще до того, как я ему объясню. Паха Сапа и Джек «Громила» Пейн проработали вместе почти все дни этого жаркого лета, как на голове Линкольна, так и на гранитном поле, подготавливаемом для Тедди Рузвельта. — Скажу Линкольну, чтобы он назначил тебе на завтра Громилу, — кивает Борглум. — Что еще тебе нужно? Я очень хочу, чтобы демонстрационный взрыв прошел гладко. Паха Сапа заглядывает в глаза Борглуму. Там столько ума и решимости — они всегда там были, — что это чуть ли не пугает его. Как и большинство тех, кто заглядывает в них. — Что ж, мистер Борглум, ведь это и в самом деле президент Соединенных Штатов. Борглум хмурится. Его недовольство при этом напоминании столь ощутимо, что Паха Сапу окатывает волной, сравнимой с волнами жары этого позднего августа. — Черт возьми, Билли, я это прекрасно знаю. Что ты хочешь этим сказать? — Я хочу сказать, что президента обычно приветствуют салютом из двадцати одного залпа. Кажется, так по протоколу. Борглум хмыкает. — И я не особо перетружусь завтра, в особенности если бурильщиками у меня будут Громила и Мерл, — продолжает Паха Сапа. — Я смогу заложить двадцать один заряд, начиная от точки слева от лацкана Вашингтона вплоть до того места, где будем когда-нибудь подрывать подбородок Линкольна. Заложу взрывы последовательно, так что все услышат, что их двадцать один. Борглум вроде бы задумывается на минуту. — Это должны быть очень небольшие заряды, Билли. Не хочу, чтобы у Франклина Делано Рузвельта порвались барабанные перепонки. Мне нравится новый курс. Паха Сапа знает, что при этих словах следует улыбнуться, но он слишком устал. И от ответа Борглума зависит слишком многое. — Небольшие заряды, сэр. Кроме тех, что под ТР и под Линкольном, где нужно выбрать довольно много породы. Но звук будет не громче. И потом, я вокруг зарядов размещу достаточно пустой породы, чтобы было побольше пыли и обрушения… Гражданским это нравится. Борглум задумывается еще на секунду. — Хорошо, путь будет салют из двадцати одного залпа. Хорошая идея. Только не подорви себя — или Громилу с Мерл ом завтра, когда будешь начинять взрывчаткой шпуры. Эта треклятая жара… Ну, в общем, постарайся. Борглум, прищурившись, смотрит туда, где солнце скрывается за головой Вашингтона. — Я сказал людям Рузвельта, что президент должен быть здесь к полудню. Если он не прибудет к полудню, я открою голову Джефферсона без него. — Почему, мистер Борглум? Борглум поворачивается к Паха Сапе с самым свирепым выражением на лице. — Из-за теней, конечно. После полудня черты трех президентов будут немного затенены. Рузвельт должен увидеть Джефферсона и остальных в лучшем виде. Я сказал его людям — проклятые бюрократы, — что если президент не прибудет на церемонию к половине двенадцатого, то он может идти к черту. Паха Сапа только кивает. Он провел с Борглумом пять лет, и его не удивляет и не ужасает тот факт, что скульптор полагает, будто может помыкать президентом Соединенных Штатов. А еще он знает, что если нужно, то Борглум будет ждать до темноты. В конечном счете Гутцону Борглуму требуется покровительство сильных мира сего, и, чтобы заручиться таковым, он будет делать все, что полагается. Словно опровергая его мысль, Борглум, чуть не рыча, изрекает следующее заявление: — Билли, ну ее, эту твою идею о салюте из двадцати залпов. Да, ФДР — президент, и я с руками и ногами за новый курс, но пяти взрывов вполне хватит. Если они произойдут одновременно, то никто не заметит разницы. — Хорошо, сэр. Но Громилу-то мне все равно можно оставить? Борглум согласно рычит и опирается на запертую дверь клетки, глядя чуть в сторону и вниз на белую площадку, которая станет Тедди Рузвельтом. Воздух по-прежнему рябит от жары. — Ну что, старик, ты там видишь голову Тедди Рузвельта? — Вижу. — Знаешь, Билли, ты единственный на этом проекте, не считая меня, кто может видеть полную голову, когда она еще и не начала появляться из камня. Даже моему сыну… Линкольну… нужно сверяться с новыми вариантами моделей, чтобы понять, что мы будем делать, как будет выглядеть Теодор Рузвельт, когда мы его высечем из камня. Но ты, Билли, всегда видел фигуры заранее. Я знаю, что видел. В этом есть что-то сверхъестественное. Конечно, Паха Сапа может их видеть. Конечно, он всегда мог. Разве он не видел четвертую голову и три другие — и гигантские тела: как они поднимались из земли и горы, словно новорожденные гиганты, как они шестьдесят лет назад хватали все подряд и жевали, еще не успев сбросить свою околоплодную оболочку? И он уже не в первый раз понимает, что был одной из повивальных бабок при этом нечестивом рождении. По своему собственному счету Паха Сапа только за этот, еще не закончившийся год лично ответствен за подрыв более чем пятнадцати тысяч тонн породы с торца Шести Пращуров. Его собственные грубые подсчеты говорят, что за пять проведенных здесь лет он удалил более пятисот миллионов фунтов камня — большую часть из восьмисот миллионов фунтов, которые в общей сложности подлежат удалению для завершения проекта, включая и те объемы, которые были отсечены еще до его прихода; и, удаляя каждый фунт, каждую унцию, Паха Сапа чувствовал, будто врезается в живую плоть. Митакуйе ойазин! («И да пребудет вечно вся моя родня — вся до единого!») Ирония этого лакотского выражения (которое кладет конец спору, подводит итог всему сказанному ранее и намерениям, завершает аргументацию и любое дальнейшее обсуждение того или иного вопроса) поражает его сильнее, чем всегда. Паха Сапа понимает, что предает всю свою родню. Всех до единого. Внезапно, ощущая приступ тошноты, он понимает и то, что не сможет выполнить свою миссию. Долгие месяцы, годы планировал он последний взрыв — тот, который снесет головы, но все вдруг пошло прахом. У него нет ни сил, ни времени. Когда ему нужна сила, боги забирают ее у него. Борглум бормочет что-то о будущих взрывах на площадке ТР, а Паха Сапа взвешивает имеющиеся у него варианты. Он собирался работать всю ночь, приготовить и перевезти двадцать ящиков старого, неустойчивого динамита, которые он припас у себя в сарае в Кистоне. Потом перепрятать этот динамит где-то здесь на площадке. Но где? Он прочесал Доан-маунтинг и все другие места. Он не может разместить столько ящиков со взрывчаткой на горе и продержать их здесь два дня — их наверняка обнаружат. Завтра пятьдесят человек будут отбывать здесь неоплачиваемое сверхурочное время, субботу, вешать громадный флаг на лицо Джефферсона, бурить, заканчивать что-то в последнюю минуту, работать вместе с Паха Сапой, готовя демонстрационные взрывы к воскресенью. Нет, ящики нужно перевести сюда сегодня, в вечер пятницы, и спрятать так, чтобы они оставались незаметными до вечера субботы, когда — если силы вернутся к нему — Паха Сапа поднимет динамит на гору к головам и спрячет там, как планировал, снарядит детонаторами, подведет к ним провода, подключит к взрывным машинкам, чтобы произвести окончательный взрыв в воскресенье на глазах президента Соединенных Штатов, репортеров, перед кинокамерами. Но он не нашел места, где можно было бы спрятать ящики. Охраны как таковой тут, на строительной площадке, нет, но в нескольких домиках на Доан-маунтинг живут люди, включая Борглума и его семью. Любой приезд машины посреди ночи или запуск оборудования немедленно заметят. И начнут выяснять, что происходит. И потом, здесь просто нет места, где можно было бы спрятать двадцать ящиков динамита. Паха Сапа рассматривал различные сараи, использовавшиеся как склады, включая и ту громадину, где находятся доставленные, но так никогда и не использовавшиеся двигатели с подводной лодки, которые теперь ржавеют там, но это место слишком близко к дому, где живут Борглум и его сын. Борглум продолжает говорить без умолку. Паха Сапа пододвигается ближе к нему и потихоньку поднимает защелку, фиксирующую дверь клети, пытаясь прикрыть это движение своим телом. Теперь они оба опираются на эту дверь. Паха Сапа знает, насколько силен Гутцон Борглум: сила мощных рук и тела скульптора может сравниться разве что с силой его личности. Паха Сапа знает, что сейчас он слаб и не сможет ни в борьбе, ни в кулачном бою победить этого вазикуна, который всегда начеку, но тут ему нужно только распахнуть дверь левой рукой и броситься на Борглума, отправляя себя и скульптора в неожиданную пустоту, где только что была дверь и четвертая стенка клети. Паха Сапа напрягает мускулы. Он жалеет, что так и не сочинил своей песни смерти. Сильно Хромает был прав, когда говорил, что только самоуверенные люди откладывают такое важное дело на потом. Он не мог громко пропеть ее сейчас, но мог бы пропеть ее молча, когда бросится на Борглума и клубок их тел, молотя руками и ногами, полетит вниз до самого усеянного серым камнем поля. «Станет ли Борглум браниться и драться? — спрашивает себя Паха Сапа. — Закричу ли я против воли?» Он медлит. На высекание голов уйдет еще неизвестно сколько времени. Паха Сапа знает, что Борглум не предполагает когда-либо закончить мемориальный комплекс Рашмор; он думает, что будет работать здесь еще лет двадцать, двадцать пять, тридцать, всю оставшуюся жизнь. Но даже с дополнением антаблемента (этот проект пока преследуют неудачи) и Зала славы в каньоне за памятником, по объему работ не уступающих созданию самих четырех голов, Паха Сапа знает: Борглум считает, что работы в основном будут закончены еще до конца 1940-х. Сможет ли его сын Линкольн завершить проект? Паха Сапа знает Линкольна и восхищается им — тот не похож на отца во всем, кроме отваги и решимости, а потому эта задача ему вполне по плечу. Если Служба парков[72] не остановит проект по какой-либо непредвиденной причине. Если не кончатся федеральные деньги. Но деньги продолжали поступать — пусть и с перерывами — даже в самые тяжелые годы депрессии. Текущее финансирование на 1936-й и последующие годы вроде бы надежно, надежнее, чем когда-либо за всю историю проекта, который временами дышал на ладан. А новый координатор, Споттс, он из тех людей, которые доводят дела до конца. И если ФДР менее чем через два дня приедет не только на открытие головы Джефферсона, но и на траурные мероприятия в связи со смертью скульптора, отца этого великого проекта, — Паха Сапа своим мысленным взором видит головы, увитые траурным крепом, а не одного Джефферсона, завернутого во флаг, — то президента все это может так тронуть, что он выделит еще больше денег, чтобы с опережением расписания завершить проект вместе с Залом славы. И Линкольн Борглум будет осуществлять мечту своего отца в 1940-е и… Зал славы. Понимая, насколько он сейчас близок к тому, чтобы вместе с Борглумом выпасть из клети без всякого толчка, Паха Сапа незаметно возвращает защелку на место. Борглум говорит ему: — Так что давай поднимемся и посмотрим. Скульптор вытягивает руку над своей шляпой, дергает цепочку, которая освобождает тормозной рычаг, потом дает отмашку Эдвальду внизу. Клеть дергается, несколько мгновений бешено раскачивается и выравнивается, продолжая подъем к еще не начатой голове ТР. Если бы Паха Сапа не вернул защелку на место, то одного этого раскачивания хватило бы, чтобы выкинуть их двоих из клети. Они скользят в разогретом воздухе над обтесанным гранитом к вершине Шести Пращуров.Впервые Паха Сапа увидел Борглума сквозь клубящиеся облака пара и рассеивающийся дым взрыва, когда скульптор вышел из клети в девятом стволе в миле ниже поверхности городка Леда. Скульптор искал взрывника, числящегося в списках шахты «Хоумстейк» под именем Билли Словака. Паха Сапа, конечно, уже несколько лет знал про Борглума: этот человек хотел заполучить в свое распоряжение весь штат Джорджия за то, что в одиночку разрушил их памятник на Стоун-маунтинг;[73] этот самоуверенный сукин сын разъезжал на своем желтом «родстере» по автозаправкам Южной Дакоты, полагая, что его будут заправлять там бесплатно, потому что он — тот самый Гутцон Борглум, фанатик, организовавший единственную на тридцать миль команду, которая могла противостоять хоумстейкским парням, и относившийся к бейсболу как к некой разновидности боя быков (а Паха Сапа знал, что в Черных холмах бейсбол всегда и был разновидностью боя быков), но когда встал вопрос о том, что нужно стереть в порошок придурков из сволочного ГКО (Гражданского корпуса по охране окружающей среды), он пошел на объединение своей команды с «Хоумстейкской девяткой». Паха Сапа читал и слышал об этом человеке, который вырывал сердце и нутро из Шести Пращуров, надменно намереваясь высечь в граните горы, священной для девяти индейских народов, головы американских президентов. И Паха Сапа ни минуты не сомневался: этот тип Борглум понятия не имеет, что повсеместно индейцы и даже большинство белых, проживающих в Южной Дакоте, считают разрушение гор в Черных холмах святотатством; впрочем, знай он, его бы это не остановило. Именно этот человек и вышел из облака пара и дыма, его невысокая, коренастая фигура была подсвечена сзади рабочими лампами, тонкий лучик света с позаимствованной каски едва пробивался сквозь клубы пыли, дыма и пороха. Появившись, он закричал в бесконечную нору девятого ствола: — Словак! Есть тут Билли Словак?! Словак! Паха Сапа взял себе это имя для устройства на работу в шахту тридцатью годами ранее, когда вернулся в Черные холмы после смерти Рейн с маленьким Робертом, без сомнений и сожалений оставив резервацию Пайн-Ридж. Ему были нужны деньги. Тогда открылась шахта «Ужас царя небесного» — гиблое место, — которая до сих пор принадлежала человеку, назвавшему шахту в честь своей жены, которая и в самом деле была ужасом царя небесного. Рабочие условия на этой шахте были жуткими — в особенности для взрывников, которые не выживали там дольше трех месяцев, — и владелец, «немец с Роки-маунтинг», Уильям Франклин, как говорили, был готов нанять даже краснокожего, если тот умел правильно устанавливать заряды. Паха Сапа не умел делать этого, но быстро научился под руководством некоего Таркулича Словака по прозвищу Большой Билл — пожилого эмигранта, который говорил, что по приезде в Америку, когда семнадцатилетним мальчишкой в 1870 году начал работать взрывником в кессонах Бруклинского моста под Ист-ривер, знал три английских слова: «Беги!», «Ложись!», «Берегись!». Паха Сапа продержался тридцать четыре месяца в качестве помощника Большого Билла Словака, и каким-то образом имя Билли Вялого Коня, шедшее в ведомости сразу же после имени старика, превратилось в Билли Словака. Потом Большой Билл погиб при обрушении ствола (случившемся не по его вине), и «Билли Словак» уволился, а вскоре, в 1903 году, шахта «Ужас царя небесного» закрылась в первый раз. Закрылась она не потому, что больше не было золота, а из-за неплатежеспособности, причиной которой были судебные иски семей погибших и покалеченных шахтеров. Но Паха Сапа оставил эту чертову дыру с воспоминаниями о нескончаемых рассказах Большого Билла о строительстве Бруклинского моста, с рабочей карточкой на имя Билли Словака и с рекомендациями, в которых было сказано, что он умелый взрывник. Борглум и Паха Сапа стояли там, разговаривая в клубящихся пыли, дыме и паре, а Паха Сапа думал: «Почему же это, черт побери, владельцы „Хоумстейка“ пустили тебя сюда, чтобы ты увел у них человека?» Но так или иначе, они его пустили, и Борглум стоял там (он решил, что этот «Билли Словак» сразу же поймет, кто перед ним и что он делает в холмах) и предлагал Паха Сапе работу в качестве помощника взрывника и плату на четыре доллара в месяц больше, чем шестидесятишестилетний индеец зарабатывал на шахте «Хоумстейк». И Паха Сапа сообразил, что он сможет сделать с четырьмя каменными гигантами, которые появлялись в священных холмах, и сразу же согласился — он согласился бы, даже если бы Борглум не предложил ему вообще никакой платы. И на этом они ударили по рукам. Рукопожатие сопровождалось не совсем таким же перетеканием видения, какое случилось у него с Шальным Конем, но было гораздо ближе к нему, чем внезапные озарения, которые он испытывал при контакте со многими другими людьми. Жизнь и воспоминания Гутцона Борглума при этом рукопожатии и в самом деле стали перетекать в Паха Сапу, но Борглум каким-то образом вроде бы почувствовал, что происходит (возможно, он и сам обладал подобными же способностями), и потому отнял руку, прежде чем вся его жизнь, прошлая, будущая, все его тайны стали достоянием Паха Сапы, как это произошло с Шальным Конем. В последующие месяцы, когда у Паха Сапы было время открывать свои защитные шлюзы и обращаться к воспоминаниям Борглума, он понял, что, в отличие от Шального Коня, здесь воспоминания о будущем отсутствовали. Паха Сапа порадовался бы, если бы они были. Если Борглум, который был всего на два года моложе Паха Сапы, переживет его (а это должно было случиться, если план Паха Сапы увенчается успехом), то Паха Сапа в воспоминаниях Борглума о будущем мог бы увидеть, как реализуется его замысел — так, как он увидел смерть Шального Коня. Паха Сапа увидел бы собственную смерть. Но уловленные им мысли и воспоминания Борглума предшествовали тому дню, когда они встретились и пожали друг другу руки в конце января 1931 года, и теперь, если у Паха Сапы было время и настроение, он просматривал жизнь скульптора, словно человек, перебирающий пепел на пожарище собственного дома. Даже осколки были сложными. Паха Сапа, вероятно, единственный из работавших на Борглума знал, что женщина, которую скульптор в своей опубликованной автобиографии называл матерью, на самом деле была старшей сестрой его матери. Паха Сапа довольно долго разгребал эти воспоминания, прежде чем разобрался в них. Официальные родители Борглума, Йенс Мюллер Хаугард Борглум и Ида Миккелсен Борглум, эмигрировали в Америку из Дании. Но помимо этого, они были еще и мормонами, которые отправились в путь вместе с другими датчанами, принявшими эту веру, чтобы жить и работать в «Новом Сионе», который мормоны строили у Большого соленого озера в какой-то пустыне под названием Юта. Йенс Борглум и его жена Ида отправились на восток с караваном фургонов, хотя могли себе позволить только тележку. Через год после прибытия в Юту к ним из Дании приехала младшая сестра Иды, восемнадцатилетняя Кристина. По обычаям мормонов, живших в те времена изолированно, Йенс сделал Кристину своей второй женой. Они переехали в Айдахо, где в 1867 году молодая Кристина родила своему мужу сына — Джона Гутцона де ла Мот Борглума. Потом по возвращении в Юту Кристина родила еще одного сына — Солона Ганнибала де ла Мот Борглума. Но Америку опутала сеть железных дорог, и одна из них прошла через Огден — город, в котором жили Борглумы. С изолированностью мормонов было покончено, на них обрушился народный гнев, вызванный обычаем многоженства. Конгресс, газеты и бесконечный поток все прибывающих немормонов выражали свой гнев по поводу «варварской, нехристианской практики». Йенс взял своих жен и детей и поехал той же дорогой на восток. В Омахе, зная о всеобщем осуждении, которое их ожидает, настоящая мать Гутцона Борглума, Кристина, некоторое время еще пожила в доме в качестве экономки, а потом уехала и стала жить с другой сестрой. Позднее она вышла замуж еще раз. Йенс Борглум поступил в Миссурийский медицинский колледж, где изучал гомеопатию, изменил имя на «доктор Джеймс Миллер Борглум» и стал практикующим врачом во Фремонте, штат Небраска. Там и рос юный Гутцон, пребывая в некотором недоумении, поскольку официальная мать его и его брата Солона на самом деле была их теткой. Все это казалось не слишком важным, но увлекло Паха Сапу, когда он в первые месяцы после их знакомства позволил себе разобраться в ранних воспоминаниях Борглума. Первый образ, поразивший Паха Сапу, был совсем недавний: в 1924 году пятидесятилетний Борглум, уже провозгласивший себя всемирно известным скульптором, сталкивает с вершины Стоун-маунтинг в Джорджии большие рабочие модели голов генерала Стоунуолла Джексона и генерала Роберта Ли, которые далеко внизу разбиваются о камни; скульптор предложил одному из рабочих взять кувалду и размолотить громадные — двадцать на двадцать четыре фута — модели семи фигур знаменитых конфедератов (личности четырех из них так еще и не были определены), которые предполагалось водрузить на Стоун-маунтинг и таким образом создать самую большую скульптуру в мире. Эти скоты из Джорджии не собирались финансировать его в достаточной мере, они хотели призвать другого скульптора, а он решил для себя, что он — Джон Гутцон де ла Мот Борглум — скорее будет проклят, чем позволит жадным деревенщинам с юга воспользоваться хоть самыми малыми плодами его труда. Паха Сапа изучал эти недавние воспоминания, словно вызывал к жизни яркий, бурный сон, — он смотрел, как Борглум, закончив крушить, сжигать и уничтожать все (рабочие модели, планы, макеты, бюсты, чертежи гигантских прожекторов и платформ — все), зайцем бежал в Северную Каролину. В штате Джорджия до сих пор не был аннулирован ордер на арест знаменитого скульптора. В конце концов, перебирая воспоминания и старые мысли Борглума, Паха Сапа понял, что, несмотря на все различия, Шальной Конь и скульптор Гутцон Борглум очень похожи. Обоих честолюбие с детства гнало к достижению величия любым путем. Оба считали, что судьба избрала их для великих деяний и славы. Каждый из них посвятил жизнь утверждению своего «я», даже если для этого приходилось использовать других, а потом выбрасывать за ненужностью, и, когда требовалось, прибегал ко лжи и оскорблениям. Борглум никогда не снимал человеческих скальпов и не скакал обнаженным под огнем противника, чем постоянно занимался Шальной Конь, но Паха Сапа теперь видел, что скульптор зарабатывал славу на свой манер. И много раз. Еще он видел (благодаря годам, проведенным в разговорах с Доаном Робинсоном и тремя иезуитами в маленькой палаточной школе над Дедвудом почти шестьдесят лет назад), что если по крови Гутцон Борглум был датчанином, то по отношению к жизни — преимущественно классический грек. То есть Борглум верил в агон — Гомерову идею, что все на земле должно познаваться в сравнении, после чего классифицироваться по одной из трех категорий: равное, меньшее и большее. Гутцон Борглум не желал удовлетворяться ничем, кроме «большего». Во фрагментах и осколках этой памяти, искаженной личностными факторами, Паха Сапа видел Борглума дерзким двадцатидвухлетним начинающим художником, который отправился в Европу и учился под руководством уехавшей из Америки художницы Элизабет (Лизы) Джейн Путнам. Хотя она была на восемнадцать лет старше Борглума и бесконечно более умудренной, он женился на ней, многое почерпнул у нее, а потом бросил и вернулся в Америку, чтобы создать собственную студию. Оказавшись в 1902 году в Нью-Йорке, он открыл студию и тут же подхватил брюшной тиф, после чего у него случился нервный срыв. Брат Борглума Солон — единственный брат, рожденный от его настоящей матери, которая теперь стала непризнанной и оставалась только в самых туманных воспоминаниях, — был известным скульптором, и Борглум тоже решил стать скульптором. Только лучшим и более знаменитым. Оставленная жена Борглума, Лиза, которой теперь было пятьдесят два года, бросилась в Америку, чтобы вытащить молодого мужа из болезни и хандры, но там узнала, что Борглум уже начал исцеляться, поскольку еще на пароходе по пути из Европы познакомился с молодой выпускницей колледжа Уэллсли мисс Мэри Монтгомери. Только мисс Монтгомери — очень молодая, очень страстная, чрезвычайно хорошо образованная и своевольная (но никогда настолько, чтобы противоречить Борглуму или его «я») — и могла стать той миссис Борглум, которую так хорошо знали Паха Сапа и все другие рабочие на горе Рашмор. Доан Робинсон, у которого родилась идея высечь фигуры из доломитовых столбов в Черных холмах, чтобы привлечь туристов, увидел в мужественном, агрессивном, самоуверенном Гутцоне Борглуме спасение его — Доана — мечты о создании крупных скульптур в холмах. Но за прошедшие пять лет, по мере того как новые осколки воспоминаний Борглума выныривали из-под пепла на поверхность, Паха Сапа понял, что проект Рашмор — в особенности после неудачи на Стоун-маунтинг в Джорджии, — постоянно увеличивавшийся в размерах и расхваливаемый скульптором, на самом деле был спасением самого Гутцона Борглума. В 1924 году, когда полиция штата Джорджия все еще искала Борглума и вскоре после того, как витающий в эмпиреях Доан Робинсон отправил ему письмо (и, вероятно, что еще важнее, когда вскоре после обращения Доана Робинсона сенатор от Южной Дакоты Питер Норбек и конгрессмен Уильям Уильямсон внесли законопроект, выделяющий на создание памятника десять тысяч долларов), Борглуму было пятьдесят семь лет. В октябре 1927 года, когда на горе началось бурение, Борглуму было шестьдесят. Паха Сапа слышал, что скульптор Борглум заявил: голова Вашингтона будет завершена «в течение двенадцати месяцев» и «без всякого динамита»… «все работы будут выполняться бурением и долотами». Паха Сапа улыбнулся, услышав это, думая о десятках и десятках тысяч тонн гранита, которые потребуется удалить, чтобы добраться до пригодной к обработке породы. Он раньше Борглума понял, что для реализации проекта девяносто восемь процентов работ на горе Рашмор придется проводить с помощью динамита. Сотни обрывочных воспоминаний и мощных образов перетекли в Паха Сапу в тот черный день глубоко в девятом стволе хоумстейкской шахты, прежде чем Борглум почувствовал, что это нечто большее, чем рукопожатие, и резко отдернул руку (но, невзирая на временное неприятное ощущение, предложения о работе не отменил); некоторые из этих воспоминаний, конечно, носят ярко выраженный сексуальный характер, некоторые — злоумышленный, но Паха Сапа пытается избегать их точно так же, как давным-давно ему приходилось замыкать слух, чтобы не слышать похотливый бубнеж призрака Кастера, и это не всегда у него получалось. Пусть подобные видения он и получает благодаря священному дару, но Паха Сапа не любит вмешиваться в частную жизнь других людей. Борглуму в этот августовский день, когда он поднимается на вершину горы вместе со своим взрывником, которого он называет Билли Словаком, шестьдесят девять лет, всего на два года меньше, чем Паха Сапе, и пока из камня возникли — да и то лишь частично — только три из четырех громадных голов. Скульптор планирует высечь большую часть их торсов, а также руки. И у Борглума есть и другие амбициозные планы касательно этой горы — антаблемент, Зал славы. Это тоже гигантские проекты. Но Паха Сапа знает, что Борглума не волнует ни его возраст, ни состояние здоровья, ни быстротекущее время; Паха Сапа знает, что Борглум собирается жить вечно.
Они добираются до вершины и выходят из клети. Борглум направляется к тому месту, где рабочие целый день готовили конструкцию и арматуру подъемного устройства, на которых будет закреплен громадный американский флаг, закрывающий лицо Джефферсона; в нужный момент флаг должен будет подняться и уйти в сторону, а за ним — появиться голова. Скульптор говорит, но Паха Сапа продолжает идти вдоль хребта, мимо подъемника и Джефферсона. Отсюда, сверху, он видит — чувствует, — насколько узка перемычка породы между выемкой, образованной взрывами, вместившей три из четырех голов, и невидимой стенкой каньона за хребтом. Когда — если — голова Тедди Рузвельта будет закончена, ширина перемычки между высеченной головой с одной стороны и вертикальной стеной каньона — с другой будет настолько узка, что немногие отважатся стоять на ней. Паха Сапа видит трещину в скале и лоскуток земли, где он вырыл себе Яму видения шестьдесят лет минус два дня тому назад. Он идет по хребту на северо-запад. Над сильно складчатыми буграми вдоль хребта над тем местом, где возникают четыре головы, скопление всевозможных сооружений — тут и балки, и лебедки, и сараи, и лестницы, опутавшие скалистые бугры, и деревянные платформы, и укосины, удерживающие как канатную дорогу, так и другие подъемники, и вертикальная мачта, и горизонтальная стрела копировального станка, с помощью которого формы моделей из расположенной внизу студии Борглума переносятся в масштабе на камень горы. Есть тут и еще одно сооружение, достаточно большого размера, чтобы несколько человек могли спрятаться там во время грозы или града, сортиры и различные складские сараи, включая и один, построенный в стороне от других, для хранения динамита. (Паха Сапа, конечно, думал, не перетаскать ли ему свои двадцать ящиков динамита сюда, но вероятность того, что они будут обнаружены даже за день до того, как он разместит заряды под головами, слишком велика. Альфред Берг, «Меченый» Дентон и другие взрывники все время шастают туда-сюда.) На хребте в отдалении стоит небольшой сарай со стальной платформой для лебедки. Это сооружение гораздо меньше, чем те, что возведены выше, и размещено с другой стороны хребта, над вертикальной стеной узкого тупика каньона, расположенного за видимым торцом того, что вазичу упорно называют горой Рашмор. Паха Сапа ступает на платформу. Двухсотфутовая пропасть под ногами кажется более крутой и опасной, чем на южном торце, где рождаются четыре головы. Каньон внизу, заваленный массивными камнями, так узок, что даже смотреть туда страшновато. Вечерние тени почти целиком заполнили тесное пространство, но Паха Сапа все же видит то, ради чего он пришел: на противоположной стене гранитного ущелья, далеко внизу, есть единственный квадратик — нет, треугольник — черноты, пять футов в высоту и шесть в ширину, он уже почти потерялся в сумерках. Паха Сапа знает, что это такое, потому что сам помогал его взрывать прошлой осенью: двадцатифутовый пробный ствол для будущего Зала славы Борглума. Он вдруг чувствует, что скульптор остановился у него за спиной. — Черт возьми, Билли, что ты тут шляешься? — Думаю о Зале славы, босс. — С какой стати? Мы начнем работы на нем не раньше следующего года. А может, и еще год спустя. — Да, но я пытаюсь вспомнить все, что вы о нем говорили, мистер Борглум. Как глубоко он уйдет? Что в нем будет? Борглум, прищурившись, смотрит на него. Скульптор стоит прямо против заходящего солнца, но щурится большей частью от подозрения. — Черт возьми, старик, ты что, уже впадаешь в слабоумие? Паха Сапа пожимает плечами. Его взгляд снова устремляется на маленький черный прямоугольник в двух сотнях футов внизу. Но Борглум не в силах сдержаться и произносит речь: — После голов, Билли, Зал славы станет величайшим памятником Америки. Тут пройдет громадная лестница — широкая, величественная, высеченная в белом граните; она будет вести из долины наверх в каньон, на ней мы оборудуем площадки для обозрения со скамейками, чтобы люди могли присесть и отдохнуть, осмотреть различные статуи и мемориальные доски. Там будут статуи знаменитых американцев, включая и некоторых из твоих индейцев: Сидящий Бык, Красное Облако, эта девица, как ее, что была с Льюисом и Кларком,[74] — они будут стоять по обе стороны лестницы до каньона и внутри его. По ночам будет включаться подсветка — высший класс! А потом, когда люди решат, что великолепнее уже и быть ничего не может, они входят в Зал славы… там, внизу, где ты с Мерлом и другие открыли для меня предварительный ствол. Вход в зал явит собой единую стену полированного камня высотой сорок футов. Она будет выложена мозаикой из золота и лазурита, а над мозаикой символ Соединенных Штатов Америки — а может, это и символ твоего народа: барельефное изображение американского орла с размахом крыльев в тридцать девять футов. Потом сама дверь высотой двадцать футов и шириной четырнадцать, сделанная из хрусталя, Билли, прозрачного, но прочного, как камень. Двери эти будут открываться в высокий зал шириной восемьдесят футов и длиной — сто. Сто шестьдесят футов стенного пространства, украшенного великолепными панелями и с нишами глубиной тридцать футов! Тут будет постоянное отраженное освещение. Прекрасно днем и ночью. А в нишах — встроенные подсвеченные стенды из бронзы и стекла, на которых мы поместим сведения обо всех славных деяниях Соединенных Штатов… да что там, западного мира, самой цивилизации… Великая хартия вольностей, Декларация независимости, Конституция Соединенных Штатов, Геттисбергское обращение Линкольна…[75] все-все, и не только политические штуки, но все документы, которые свидетельствуют о величии нашей цивилизации сегодня и будут свидетельствовать нашим потомкам тысячу, десять тысяч, сто тысяч, пятьсот тысяч лет спустя. Достижения науки, искусства, литературы, изобретательства, медицины… Я знаю, ты думаешь: бумажные документы такого рода превратятся в прах через тысячу лет, не говоря уже о сотне тысяч. Вот почему все эти документы — Декларацию, Конституцию, все-все напечатают на алюминиевых листах, которые будут скручены и помещены в стальные тубы, которым не страшна сама вечность, черт побери. Мы загерметизируем эти стенды… черт, не знаю когда, году в сорок восьмом, может быть, или в пятьдесят восьмом, или в шестьдесят пятом — мне все равно… Но я буду присутствовать при этом, можешь мне поверить… а после герметизации эти стенды могут быть открыты только специальным постановлением конгресса… если только конгресс сохранится до того времени, в чем я сильно сомневаюсь. А по стене над этими стендами протянется барельеф в бронзе, отделанный золотом, он покажет все события в истории человечества, которые открыли, заняли, застроили и довели до совершенства западный мир… нас, наши Соединенные Штаты Америки. А за этим первым главным залом будут широкие, ярко освещенные туннели, ведущие в другие помещения и хранилища, в каждом — своя стенная роспись, посвященная какому-либо отдельному событию нашей эпохи, свидетельству нашей славы… может, даже помещение для женщин, которые совершили что-то выдающееся, пусть даже и такие зануды, как Сюзан Энтони,[76] — эти треклятые феминистки все еще требуют, чтобы я высек ее в граните рядом с Вашингтоном, Джефферсоном, Тедди Рузвельтом и Авраамом Линкольном… Я им говорю правду, Билли, что у нас тут не осталось подходящей породы — и делу конец, но там, в Зале славы, на многие поколения, на века… Борглум замолкает, и Паха Сапа не может понять, то ли скульптор осознал, что его речь затянулась, то ли просто должен перевести дыхание. Он подозревает, что, скорее, последнее. Но на самом деле ему все равно. Он хотел, чтобы скульптор поболтал еще несколько минут, а он бы тем временем мог лучше рассмотреть погруженный в тень каньон и понять, нет ли там решения его проблемы. Пробный ствол для будущего Зала славы. Высотой всего пять, шириной шесть и глубиной двадцать футов, но этого пространства достаточно, чтобы сегодня ночью разместить там двадцать ящиков нестабильного динамита. А потом, в субботнюю ночь и ранним воскресным утром (с помощью единственного оператора, туповатого, уволенного с проекта Рашмор рабочего по имени Мьюн Мерсер, который уже предупрежден, что он понадобится для «специальных ночных работ по требованию мистера Борглума»), Паха Сапа поднимет эти двадцать ящиков сюда, на вершину, откуда рукой подать до того места, где была его Яма видения, после чего Мьюн встанет за лебедки по другую сторону, и Паха Сапа спустится на тросе, раскачиваясь в неземной гравитации, к которой он так привык, что она снится ему по ночам… Носки его ботинок лишь через каждые двадцать или около того футов будут отталкиваться от голов, он разместит свои двадцать ящиков с динамитом в заранее подготовленных местах и установит детонаторы, протянет провода, чтобы навсегда снести со скалы три существующие головы и заготовку для четвертой. Как только что сказал мистер Борглум: здесь больше нет гранита, пригодного для камнетесных работ, — и делу конец. Он поворачивается и смотрит на скульптора — тот свирепо щурится. — Это невероятное и чудное видение, мистер Борглум. Воистину чудное видение.
17 Джексон-Парк, Иллинойс
Июль 1893 г. Паха Сапа поднимается высоко в воздух. Его это не тревожит. Он летал и раньше. А на этот раз он взлетает на аппарате, состоящем из более чем десяти тысяч высокоточных деталей, главным образом стальных, включая и самую большую ось в мире, которая весит (согласно выпущенным к выставке брошюрам) сто сорок две тысячи тридцать один фунт. Прочтя это, Паха Сапа поверил, что ни одна созданная человеком деталь такого веса прежде не поднималась. И уж конечно, не на такую высоту в центре колеса — сто сорок восемь футов. Цена билета на колесо мистера Ферриса такая же, как входная плата, — пятьдесят центов. Но на этот раз Паха Сапа, уже имеющий опыт по этой части, заранее достал свой доллар и заплатил за билет для себя и мисс де Плашетт. Колесо, которое начало действовать с опозданием на пятьдесят один день всего две недели назад, 21 июля, — самый популярный аттракцион на выставке, но благодаря то ли удачно выбранному времени, то ли чистому везению в их вагончике, рассчитанном на шестьдесят человек и оборудованном тридцатью восемью вращающимися сиденьями, кроме них всего пять пассажиров: пожилая пара, по-видимому, бабушка и дедушка с тремя хорошо одетыми детишками. Есть еще и усатый охранник в цветастой униформе, иногда их называют кондукторами; он стоит либо у южных, либо у северных дверей, закрытых на замки. Замки и охранник предположительно призваны предотвращать попытки самоубийства, но охранник еще и должен успокаивать тех, у кого во время катания обнаружится боязнь высоты. Ковбои из шоу «Дикий Запад» говорили Паха Сапе, что эти охранники-кондукторы, похожие в своих нелепых униформах то ли на укротителей львов, то ли на дирижеров оркестра, прошли боксерскую и борцовскую подготовку и что у каждого из них в кармане под тяжелым мундиром трехфунтовый мешочек с дробью — этакая дубинка на тот случай, если кто из пассажиров от страха потеряет разум. Мисс де Плашетт — Рейн — явно не испытывает никакого страха перед высотой. Она не хочет сидеть на одном из тридцати восьми круглых, обитых бархатом стульев, а бросается к окну высотой чуть не во всю стену (каждое имеет проволочную сетку — тоже для недопущения самоубийств, полагает Паха Сапа) и вскрикивает, когда колесо начинает медленно двигаться. Паха Сапе кажется, что он видел, как громадное колесо вращалось в обоих направлениях, а сегодня оно вращается с востока на запад. Когда их вагончик поднимается, они оказываются лицом на восток (посадочные платформы внизу расположены так, что одновременно может происходить посадка и высадка из семи вагончиков), и мисс де Плашетт видит, как мидвей уменьшается в размерах и появляется Белый город. Она не притворяется — от радости у нее и в самом деле перехватывает дыхание. — Невероятно. Подумав, что это «невероятно» говорит дама, побывавшая на гораздо более высокой Эйфелевой башне, Паха Сапа присоединяется к ней у огромного окна. Он держится за сверкающие медные перила, хотя вагончик почти не раскачивается. Эти двое словно инстинктивно заняли самый дальний угол по восточной стенке почти пустого вагончика — подальше от тихого семейства и кондуктора. Вагончик с запертыми (ключ в кармане у проводника-охранника) противоположными северными и южными дверями кажется довольно уютным. На полу ковер с цветочным рисунком, а в углу — здоровенная, регулярно опустошаемая медная урна. Проволочная сетка на огромных стеклянных окнах такая тонкая, что не мешает смотреть. Паха Сапа поднимает голову и видит ряды стеклянных плафонов с электрическими лампами по всему периметру потолка и над обеими дверями. Он понимает, что лампы, видимо, очень слабые, чтобы не мешать зрителям по вечерам, а Белый город в темноте (со всеми его подвижными и неподвижными прожекторами и тысячами электрических ламп, освещающих громады зданий и куполов) должен быть великолепен, как об этом говорила мисс де Плашетт. Освещенные вагончики колеса Ферриса тоже должны представлять собой по вечерам с мидвея необыкновенное зрелище — яркие карбидные лампы подсвечивают их снизу, да и внутри каждого вагончика тоже есть электрическое освещение. Подъем продолжается. Он кидает взгляд через плечо на восток в окна по другой стороне и моргает от начавшегося у него головокружения. От этого зрелища (паутинообразный лабиринт спиц и стальных балок, на которых подвешены тридцать пять таких же вагончиков, силуэты других посетителей выставки, едущих в этих вагончиках, гигантская ось с воистину гигантскими опорными столбами по обеим сторонам) его слегка мутит. Высота кажется большей, чем на самом деле, если смотреть сквозь гигантское колесо на экспонаты, расположенные далеко внизу западнее по мидвею. И все одновременно вращается, крутится, разворачивается, падает и летит. Ты словно насекомое, оказавшееся внутри огромного вращающегося велосипедного колеса. Паха Сапа закрывает глаза. Мисс де Плашетт дергает его за руку и довольно смеется. Первый из двух поворотов, полагающихся им за пятьдесят центов, колесо движется медленно — их вагончик, длиной двадцать четыре и шириной тринадцать футов, останавливается на шести разных уровнях и положениях, по мере того как пассажиры заполняют другие вагончики. Их первая остановка — на четверти подъема, и когда вагончик останавливается, слегка покачиваясь взад-вперед на горизонтальной оси, подшипники и тормоза внизу издают тишайшие писки. И мисс де Плашетт, и бабушка в том же вагончике тоже попискивают — старушка от страха, а мисс де Плашетт, уверен Паха Сапа, от наслаждения. Проводник, который представился пожилой чете как Ковач, кашляет и издает высокомерный смешок. — Совершенно не о чем беспокоиться, дамы и господа… и малыши. Совершенно не о чем. Мы висим на стальных балках… кронштейны — так они называются… которые могут выдержать вес десяти таких вагончиков даже при полной нагрузке. Семь пассажиров молча смотрят, как вагончик снова начинает подниматься и становятся видны восточная оконечность мидвея и купола Белого города. За куполами лучи солнца высвечивают сверкающую полосу озера Мичиган, которое появляется за деревьями и гигантскими зданиями. Они видят гавань (с этой высоты суденышки представляются горизонтальными черточками с торчащими из них мачтами) и паром, доставивший очередную партию посетителей к длинной пристани прибытия. Ближе под ними вытянулся мидвей, наполненный счастливыми темными точками, какими представляются с высоты люди. Слева внизу — красные крыши и лесистое пространство Немецкой деревни. Справа от мидвея купола и минареты Турецкой деревни. За Турецкой деревней справа — большое, круглое, странное сооружение, в котором находится макет Бернских Альп, а по другую сторону мидвея — Яванская деревня, известная под названием «Голландское поселение», расположено оно на улице, по другой стороне которой — настоящее Голландское поселение. Слева за ними находится Ирландская деревня с популярными замком Донегал[77] и камнем Бларни;[78] круглый амфитеатр справа для представлений с животными; и — еще дальше, в восточном окончании мидвея — два стеклянных здания-близнеца, Мурано — справа и Либби — слева. Произнося про себя слово «Либби», Паха Сапа чувствует тупое шевеление в черепе и спрашивает себя, не смотрит ли призрак генерала Кастера его, Паха Сапы, глазами, не слушает ли его ушами. Будь он проклят, если так. Во время второй остановки, когда пассажиры садятся в шесть следующих вагончиков внизу, маленький мальчик, которому не больше пяти лет, вырывается от бабушки с дедушкой и бегает по вагону, размахивая руками, словно в полете. Мальчик, пропархивая мимо Паха Сапы, задевает пальцами его руку над перчаткой. Паха Сапа осознает, что его чувства обострены, потому что перед ним тут же возникает вспышка образов и мыслей, воспринятых им от ребенка. Паха Сапе приходится ухватиться за перила у окна и закрыть глаза, потому что приступ головокружения снова накатывает на него. Имена пожилой пары, которая зовет мальчика из другого конца вагона, — Дойл и Рива. Они из Индианы. Паха Сапа еще раньше заметил, что у старика левый глаз слезится, а губы странно вывернуты, а теперь — сквозь рассеянные воспоминания мальчика — он узнает об ударе, который случился со стариком год назад. У Дойла длинный, тонкий нос, а Рива, пышноватая бывшая красавица с полными красными щеками, добрыми глазами и волнистыми седыми волосами, подстриженными короче, чем диктует мода, всегда стеснялась своего зада. Все в семействе — даже маленький мальчик — называют его «тяжелый низ». Величайшая тайна Ривы, известная только семье, состоит в том, что ей никогда не нужно было покупать или носить турнюр[79] — и без того создавалось впечатление, будто она его носит. Маленький мальчик не знает, что такое «турнюр». Его зовут Алекс, и он настолько поражен выставкой, в особенности мистером Теслой и мистером Эдисоном, что у него появилась новая цель в жизни — вырасти и изобрести механический арифмометр, который будет уметь думать. Паха Сапа трясет головой, чтобы прогнать незваные, мечущиеся образы, слова, имена и детские воспоминания. Его восприятие в этот момент усилилось, чего он и опасался, а все из-за близости мисс де Плашетт… и тем больше у него оснований избегать прямых кожных контактов с ней. Он не хочет заглядывать в ее мысли и воспоминания. Ему очень важно не делать этого. Не теперь. Пока еще — нет. А если повезет — то никогда. Он вдруг понимает, что она шепчет ему: — Паха Сапа, вы не больны? Он открывает глаза и видит, что ее рука в перчатке парит над его запястьем. Паха Сапа отодвигает руку и улыбается. — Идеально. Замечательно. Просто я только что обнаружил, что боюсь высоты. Охранник-кондуктор с нафабренными усами, Ковач, подозрительно поглядывает на Паха Сапу, словно этот пассажир с длинными, заплетенными в косички волосами может впасть в бешенство и, как это сделал неделю назад другой пассажир, сошедший с ума от страха, начать молотить по стенам, разбивать стекло, гнуть железную дверь в безумной попытке бежать, хотя они и находятся на высоте в сто футов. Во время того происшествия, как писалось в газетах, безумца остановила женщина, которая сорвала с себя юбку и набросила ее на голову этого человека, после чего он немедленно стал тише воды ниже травы. Паха Сапа знает, что такой ослепляющий капюшон хорошо действует на запаниковавших лошадей. Почему бы и не на взбесившихся пассажиров колеса Ферриса? Это более эффективное средство, чем мешочек, наполненный дробью, который вроде бы спрятан в кармане охранника. Тормоза отпущены, вагон снова покачивается, и они продолжают подъем. Теперь они находятся в апогее («апогей» — слово, которое Паха Сапа узнал, когда три иезуита в маленькой палаточной школе в горах над Дедвудом целый год пытались вбить азы греческого в его сопротивляющуюся голову), когда мисс де Плашетт делает что-то… необычное. И навсегда изменяет его жизнь. Вагон резко останавливается на вершине колеса и начинает раскачиваться сильнее, чем во время двух предыдущих остановок. Рива и ее внучка начинают стонать. Маленький Алекс вопит от радости, вероятно предполагая, что сейчас неминуемо произойдет полное разрушение колеса. Длинноносый дедушка Дойл гладит мальчика по голове. У кондуктора отвисает нижняя челюсть. Он вскрикивает: — Мисс… Этот крик вызван тем, что мисс де Плашетт внезапно переместилась в середину вагона, подобрала длинные юбки, запрыгнула на одно из низеньких, круглых, обтянутых бархатом сидений и теперь стоит на нем, легко удерживая равновесие, стоит очень прямо, вытянув руки в стороны ладонями вниз, голова откинута назад, глаза закрыты. — Пожалуйста, мисс… вы не должны, мэм! Голос охранника Ковача звучит явно обеспокоенно, но, когда он начинает двигаться к Рейн, Паха Сапа инстинктивно встает между ними. Никто не смеет прикоснуться к мисс де Плашетт, пока он рядом. Широко улыбаясь, держа голову по-прежнему закинутой далеко назад, Рейн словно собирается прыгнуть и выплыть наружу по воздуху (каким-то волшебным образом, потому что иначе не преодолеть стекло и проволочную сетку) через окно в голубое иллинойское небо. Но вместо этого она опускает руки и правую протягивает Паха Сапе. — Вашу руку, прошу, дорогой сэр. Паха Сапа берет ее за руку (радуясь тому, что на нем и на ней перчатки и не произойдет контакта,который может вызвать бог знает какие видения), и она легко и грациозно спрыгивает на пол. Охранник Ковач возвращается на свое место у запертых южных дверей и в буквальном смысле спасает лицо, начиная поглаживать нафабренные усы. Мисс де Плашетт говорит вполголоса, и в ее тоне не слышно извиняющихся ноток. — Просто мне на несколько секунд хотелось стать выше всех в Иллинойсе — а может, и в стране. Теперь я прогнала эту мысль. Колесо снова начинает двигаться. Теперь они вдвоем переходят к западной стороне вагончика; бабушка Рива и дедушка Дойл с маленьким Алексом и двумя другими детьми чуть подвигаются, освобождая место этой психопатке, но тоже улыбаются. Под ними на западе игрушечные башенки аттракциона «Старая Вена». До них доносится музыка из многокупольного Алжирского театра. Дальше по мидвею видна цепочка страусов и северных оленей из Лапландской деревни, смешавшихся в чудесной, но туманной метафоре. На севере виднеется грязное пятно над городом Чикаго, и Паха Сапа понимает, что виновата в этом, вероятно, городская промышленность, дымовые трубы, паровозы и другие машины. Что же там будет зимой, когда топят сотни печей, спрашивает он себя. Он уже видел, что Чикаго — это Черный город рядом с игрушечным Белым городом выставки. Мисс де Плашетт улыбается и показывает на аэростат дальше на западе и справа по мидвею. Аэростат, привязанный мощным тросом, находится на высоте по меньшей мере в сотню футов, но это ниже, чем они сейчас. (Три дня спустя, 9 июля, Паха Сапа с площадки шоу «Дикий Запад» увидит, как появится воронкообразная туча, а потом смерч со скоростью сто миль в час обрушится на мидвей, на колесо Ферриса, на все здания и экспонаты. В павильоне «Промышленные товары и гуманитарные науки» будут выбиты громадные стеклянные панели, а из купола Дома машиностроения выдран кусок кровли длиной сорок футов. Неожиданный порыв ветра подхватит пустой аэростат, прежде чем его успеют опустить, и великолепный грибообразный аппарат из цветного шелка, на который они с мисс де Плашетт смотрят сейчас, будет разодран на тысячи ярдов шелковых тряпок, многие из которых унесет более чем на полмили. А вот колесо мистера Ферриса, которое в тот момент, когда на него налетит смерч, будет почти целиком заполнено пассажирами, без всяких проблем выдержит удар.) Они возвращаются вниз и снова начинают подниматься. Пассажиров больше не подсаживают и остановок нет. Второй круг чудеснее первого. Паха Сапа знает, что паровые котлы, которые дают энергию для колеса Ферриса, из эстетических соображений отнесены в сторону более чем на семьсот футов за Лексингтон-авеню, но он представляет себе, как ускоряется громадный маховик и котлы начинают ворчать громче. Ему кажется, что он слышит, как увеличивается давление пара в гигантских цилиндрах двигателя мощностью в тысячу лошадиных сил у основания колеса. Один взгляд на разрумянившееся лицо и ярко горящие глаза Рейн де Плашетт говорит ему, что и она слышит это. Дальнейшее молчание. Даже Дойл, Рива, Алекс и двое других детишек в противоположном углу затихли. Кондуктор повернулся к ним спиной и смотрит из окна у дверей. Теперь единственный звук, который они слышат, — это свист воздуха, рассекаемого вагончиком, да время от времени поскрипывание кронштейна вверху или низкий, почти неслышный скрежет гигантской центральной оси не далее чем в семидесяти футах от них. Их вагончик поднимается выше, выше по мере того, как они ровно и бесшумно набирают высоту; снова появляется Белый город на востоке. Паха Сапа смотрит вдаль, за поросший лесом остров, лагуны и верхушки деревьев, на озеро Мичиган и видит, как высокое дневное солнце прорывается сквозь облака и одним световым лучом пронзает воды озера. Этот луч так ярок, что все вокруг словно темнеет: мидвей, Белый город, деревья и лагуны, люди, гавань и само озеро — и наконец остается только этот мощный луч, упершийся в небольшой кружок волнующихся вод озера Мичиган на востоке. Почему этот вид так устрашающе знаком ему? Почему он так трогает его? Паха Сапа понимает это в тот момент, когда вагон достигает высшей точки, переваливает через нее и Белый город, озеро Мичиган и пророческий луч света скрываются из виду; после этого перед ними открывается западная оконечность мидвея и снова прерии вдалеке. Поражает даже этот вид с его многочисленными оттенками зеленого и бурого, смягчающимися к далекому горизонту — к таким хорошо знакомым ему прериям в тысяче миль к западу, — но еще и с сетью железных дорог, бегущих паровозов, которые направляются в Чикаго, пятная небеса перьями темного дыма. Но во время второго круга и начавшегося спуска Паха Сапу и (он в этом уверен, и никакие такие видения для подтверждения этого ему не нужны) Рейн де Плашетт захватывает вовсе не пейзаж за окном. Это наслаждение и упоение скоростью и движением в пространстве. Паха Сапа удивлен мыслью, которая приходит к нему теперь: «Только вазичу способны на такое. Пожиратели жирных кусков вакан на свой манер, и их магия очень сильна». Потом все заканчивается, они останавливаются, охранник достает медный ключ, отпирает северную дверь, и они выходят из вагончика, а на противоположной южной стороне уже ждут толпы новых пассажиров. Мостки и ступеньки под балками, металлические арки вокруг громадного колеса и под ним — это все словно из романа Жюля Верна. (У братьев в палаточной школе под Дедвудом по какой-то необъяснимой причине оказались английские переводы — он был уверен, что братья сами и переводили с французского, — «Путешествия к центру земли», «С Земли на Луну», «Двадцати тысяч лье под водой» и новейшего «Вокруг света за восемьдесят дней», они лежали в сундуке в их собственной палатке, и Паха Сапа тайком входил туда и воровал — брал на время — эти книги; он прочел их все за те недели, что его обучали чтению.) На лице мисс де Плашетт выражение чистой радости. Она крепко сжимает его руку. — Ах, Паха Сапа… я отдам что угодно, чтобы испытать это еще раз. Паха Сапа достает из кармана еще один доллар, свое недельное жалованье, осторожно берет ее под руку и ведет сквозь жюльверновский мир будущего, лабиринт балок и металлических арок в конец растущей очереди, ждущей посадки на южной стороне. Пока они были на колесе, он украдкой посмотрел на часы. Время у них еще есть.В первый раз они были почти одни в вагончике и едва ли обменялись несколькими словами. Сейчас в вагончике человек двадцать пять, но Паха Сапа и Рейн де Плашетт все время разговаривают — тихо, чтобы никому не было слышно, в безопасности их собственного мирка где-то между землей мидвея в Джексон-Парке и иллинойским голубым небом, усеянным облаками. — Простите меня за личный вопрос, мисс де Плашетт, но Рейн, кажется, довольно необычное имя для ваз… для белой девушки. Красивое… очень красивое… но прежде я такого не слышал. Сердце Паха Сапы бешено колотится. Он очень боится обидеть ее, боится, что она сейчас отшатнется от него — в буквальном смысле, поскольку ее правое плечо прижато к его левому, и вообще боится обидеть ее каким-либо образом. Но он не находит себе места от любопытства. Она улыбается ему — в это время они поднимаются по восточной стороне, это их первый медленный круг. — Да, и в самом деле необычное имя, мистер… Паха Сапа. Но моей матери оно показалось красивым. Самым красивым словом, какое она узнала в английском языке, — так сказала она моему отцу. Когда я родилась и она захотела назвать меня Рейн, папа не стал возражать. Он ее очень любил. Вы не знали, что моя мама лакота? Паха Сапа чувствует стеснение в груди и горле. — Да. То есть нет… то есть до меня доходили слухи… Она снова улыбается. Другие пассажиры испуганно ойкают, когда во время остановки их вагончик раскачивается и поскрипывает на кронштейне, но эти двое теперь чувствуют себя ветеранами. — Да, эти слухи правдивы. Ее звали Белый Платок, и говорят, что для сиу… лакоты она была очень белокожей. Она руководила хором в миссии агентства, и они… Я вам не говорила, что папа был миссионером в Небраске, когда они познакомились? — Нет. Рассказывайте, пожалуйста, дальше. Мисс де Плашетт выглядывает в окно, когда вагончик останавливается и опять начинается раскачиваться, — по деревьям, лагуне, дорожкам и гигантским зданиям Белого города теперь бегут тени облаков, — и Паха Сапа видит легкий румянец под веснушками на ее переносице и более редкими — на щеках. — Там же папа познакомился и с мистером Коди. Ранчо мистера Коди было рядом с агентством — резервацией, где папа пять лет прослужил миссионером. Там было несколько групп… племен. Лакота, шошони, несколько шайенна, крики и одно семейство чероки. Это было маленькое агентство, но церковь там обосновалась давно, и люди приходили туда издалека. Не только индейцы… Она снова вспыхивает, и Паха Сапа одобрительно улыбается в ожидании продолжения. Колесо делает последнюю остановку, перед тем как оказаться в высшей точке. Пассажиры, заполнившие вагончик, издают ахи, охи, вздохи и другие восклицания. — Я хочу сказать, мистер Коди и работники с его ранчо… некоторые из них были индейцами… вы это, конечно, знаете… они тоже там появлялись, и приход нередко превышал сотню человек. Очень большой приход для такой дикой части Небраски. Мама, как я уже сказала, была регентшей хора, а еще она учила всех детей в школе при миссии, и… вот… мама и папа полюбили друг друга и поженились. Мистер Коди был папиным шафером на свадьбе, а для венчания из самой Омахи приехал преподобный Кайл. А год спустя родилась я, и, как говорит папа, в тот июнь всю неделю, когда я родилась, шел дождь, первый настоящий дождь после более чем семи месяцев засухи… и мама назвала меня Рейн, а потом, когда мне было четыре года, она умерла, а несколько месяцев спустя мы переехали на Восток, и больше я туда не возвращалась. Паха Сапа пытается представить это: вичаза вакан вазичу женится на женщине лакота приблизительно в 1870 году. Это очень трудно представить. Может быть, думает Паха Сапа, вольные люди природы в Небраске какие-то совсем другие. Или были прежде другие. Потом он думает: а что вольные люди природы делают в Небраске? Они там потерялись? Вслух он говорит: — И, уехав оттуда, вы жили в Бостоне, Вашингтоне и во Франции? — Да, и еще в других местах… и, Паха Сапа, мне стыдно, но французский я знаю лучше, чем родной язык моей матери. Когда мы с папой ходили на шоу «Дикий Запад» мистера Коди, я пыталась воспользоваться теми немногими словами, что знаю, и поговорить с лакота, которые там были, но они только улыбались, глядя на меня. Я наверняка все перепутала. — Обещаю, что я не буду улыбаться, мисс де Плашетт. Скажите мне что-нибудь по-лакотски. — Понимаете, я мало что помню, потому что мама почти все время говорила по-английски, а я была совсем маленькой, когда она… когда мы переехали… скорее всего, папу перевели по его просьбе. Но я помню некоторых мужчин лакота, которые говорили с ней в церкви, спрашивали, как она поживает… я уверена, что помню, как по-лакотски «привет» и «как дела?». — Так скажите. Я буду вашей публикой и покладистым учителем. У нас еще есть десять минут или немного больше на колесе. Но не забывайте наслаждаться видом из окна. — Нет, уверяю вас, Паха Сапа, я ни секундочки не пропустила — все время смотрю. Даже если поворачиваюсь в вашу сторону. Я смотрю и за вас — на юг и на восток в прерию. Ну хорошо, «Привет, как дела?» по-лакотски, как я это запомнила четырехлетней девочкой в агентстве, будет… хау, таньян йаун хе? Паха Сапа не может сдержать улыбку. Мисс де Плашетт сжимает пальцы в кулачок и сильно ударяет его в плечо. Глаза Паха Сапы расширяются — в последний раз женщина ударяла его, когда он был совсем мальчишкой, — а потом он разражается смехом, показывая свои сильные белые зубы. Она тоже улыбается и смеется. К счастью для него, потому что иначе его мир на этом и закончился бы. — А что было не так, Паха Сапа? Я даже слышала, как сиу из вашего шоу «Дикий Запад» говорят эти слова друг другу! — Все так, мисс де Плашетт… если вы мужчина. — Ах, боже мой. — Боюсь, что так. Ваша мама не говорила вам, что у вольных людей природы разные словарные и языковые правила для мужчин и женщин? — Нет, не говорила. То есть я не помню, если она и… Я почти ничего не помню о маме. Ничего. Я даже не знаю, кто такие вольные люди природы… это сиу? — Да. Как это ни странно, но в глазах у молодой женщины появляются слезы, и Паха Сапа, подчиняясь порыву, нежно прикасается к ее плечу. — Мы, лакота, называем себя «икче вичаза», что приблизительно можно перевести как «вольные люди природы», хотя можно истолковать и по-другому. Она снова улыбается. Они миновали посадочные площадки и теперь снова поднимаются — это начало их второго, более быстрого круга, от которого захватывает дух. Другие пассажиры взвизгивают. Паха Сапа и мисс де Плашетт ухмыляются, глядя друг на друга, гордые своим статусом ветеранов Феррисова колеса. — Нет, зная французский и немного немецкий и итальянский, я, конечно, понимаю разницу между мужским, женским и средним родами у глаголов и существительных, но мысль о двух разных языках для мужчин и женщин меня шокирует. Паха Сапа снова улыбается. — Нет, вообще-то мы, мужчины и женщины икче вичаза, понимаем друг друга, когда разговариваем. Как это происходит между двумя разными полами в любых языках и культуре, по моему необразованному представлению. — Так как же мне, женщине, сказать: «Привет, Паха Сапа. Как дела сегодня?» Паха Сапа откашливается. Он сильно нервничает и не рад тому, что у них завязался этот разговор. Он почти ничего не знает о том, как надо ухаживать, но прекрасно понимает, что если ты будешь смеяться над красивой женщиной или давать ей примитивные уроки языка, то не произведешь на нее хорошего впечатления и не сумеешь снискать ее расположения. «Ухаживание? Ты что думаешь, ты этим здесь занимаешься, недоумок?» — спрашивает в его голове голос, подозрительно похожий на голос Джорджа Армстронга Кастера. Он отвечает ей вполголоса: — Ну, прежде всего приветствие «хау» используется только мужчинами. А «хе» в конце предложения… Он отчаянно пытается вспомнить уроки отца Джона Бертрана, самого толстого, умного и доброго брата в Дедвудской палаточной школе, вспомнить основы латыни и греческого, которые тот пытался втиснуть в непробиваемый череп двенадцатилетнего Паха Сапы… но в памяти возникает только жара в палатке летом, сильный запах разогретого лучами солнца холста и соломы, которую отец Пьер Мари клал на пол, словно пять мальчиков в палатке (два мексиканца, один негр, один белый и Паха Сапа) были домашним скотом, а не… нет, постойте… —.. это вопросительная форма, так сказать, и она используется мужчинами и женщинами в неформальном общении, но если бы это была официальная ситуация, например разговор на Совете, то я бы… то есть мужчина лакота… закончил бы вопрос словом «хво»… или «хунво»… или еще как-нибудь в этом роде. Да, вот еще, «хан» в устах мужчины означает «привет», а в устах женщины — «да». Мисс де Плашетт вздыхает, но, кажется, не от скуки, а от кажущейся на первый взгляд сложности языка, на котором говорит народ ее матери. Она по-прежнему улыбается. — Значит, вы хотите сказать, что если мужчина лакота говорит мне «привет», а я ему отвечаю тем же словом, то тем самым просто отвечаю «да» на любое его предложение? — Понимаете… гм… это… Она спасает его, прежде чем румянец зальет темной краской его и без того темное лицо. — Так как мне сказать «Привет, Паха Сапа»? — Паха Сапа, хан. — А как женщина скажет мужчине… вам: «Привет, очень рада вас видеть»? — Паха Сапа, хан. Лила таньян васин йанке. Только вы не могли бы… не должны… подойти и сказать это. Ее улыбка кажется почти дразнящей. — Правда? Почему? Паха Сапа снова откашливается. Его единственное спасение в том, что она, как и сказала, не смотрит на него во все глаза. Она одновременно смотрит и на озеро, и на Белый город, а их вагончик быстро — слишком быстро — поднимается к вершине этого второго, последнего (они больше никогда не увидятся — он уверен) и чересчур скорого, на его вкус, движения колеса мистера Ферриса. — Потому, мисс де Плашетт, что в культуре икче вичаза женщины не заговаривают с мужчинами. Они никогда первыми не говорят «привет». — Даже своим мужьям? Она явно поддразнивает его. Он открывает рот, чтобы ответить, понимает, что его рот оставался открытым в течение всего времени, пока их вагон переваливал через вершину, а потом выдавливает из себя: — Я никогда не был женат. Теперь она смеется вслух. Звук ее смеха такой тихий, что он почти теряется за громкими восклицаниями и взволнованными разговорами пассажиров вагончика, но Паха Сапа на всю жизнь запомнит чистые тона этого легкого, дружеского смеха. Она снова прикасается к его предплечью. — Хорошо, сдаюсь. Я не выучу женского языка икче вичаза за два поворота колеса мистера Ферриса. Но скажите, есть ли какое-нибудь особое слово, которым лакотские женщины приветствуют кого-то, кто им очень нравится… близкого друга? Теперь у Паха Сапы так сдавило горло, что он с трудом произносит слова. Она наклоняется к нему, ее глаза теперь устремлены только на него, и она очень тихо говорит: — Маске, Паха Сапа. Лила таньян васин йанке… Это все равно неправильно, потому что… это не имеет значения. Сила ее дружеского приветствия и этого «Я очень рада вас видеть»… Она выделяла каждый слог именно так, как перед этим сделал Паха Сапа, вот только дополнительно подчеркнула слово «очень»… Услышать, как она говорит это ему на его языке… Он этого никогда не забудет. Он в этот момент думает, что, наверное, именно эти слова вспомнит перед смертью. — Мы почти закончили, Паха Сапа. Я ненасытная женщина. У меня к вам еще три просьбы. Прежде чем мы пойдем к папе у Большого бассейна в шесть… Она смотрит на крошечные часики, что прикреплены ленточкой к ее блузке. — … еще девяносто минут! Итак, три нахальные просьбы, Паха Сапа. — Я сделаю все, что вы попросите, мисс де Плашетт. — Первое: по крайней мере до тех пор, пока мы не встретим папу и других джентльменов, пожалуйста, называйте меня Рейн, как вы обещали и даже сделали пару раз. — Хорошо… Рейн. — Второе… и это просьба глупой женщины, поскольку вам, кажется, в них так жарко… Пожалуйста, снимите перчатки, когда мы сойдем с колеса. — Хорошо, мисс… Да. Да, конечно. — И наконец, скажите мне, как по-лакотски звучит мое имя. Рейн. — «Рейн» по-лакотски… магазу. Она пробует несколько раз произнести это, а прерии тем временем исчезают из виду, под ними появляются мидвей, посадочные мостки. Она очень тихо произносит: — Мама была права. По-английски это красивее. — Да, Рейн. Паха Сапа еще ни с одним утверждением не соглашался с такой охотой. Вагончик движется медленнее. Смех, восклицания и возгласы одобрения других пассажиров становятся громче. — Это, конечно, уже будет четвертая просьба, Паха Сапа, но как сказать по-лакотски «До встречи»? Не думая ни о грамматическом роде, ни о чем еще, Паха Сапа заглядывает в ее карие глаза и говорит: — Токша аке васинйанктин ктело. — Я спросила об этом, Паха Сапа, ведь папа решил, что должен вернуться к миссионерской деятельности, и в сентябре мы уезжаем в Пайн-Риджское агентство на территории Дакоты… кажется, это недалеко от того места, где, как сказал мистер Коди, живете вы. Паха Сапе и нужно-то всего сказать: «Нет, недалеко», нона сей раз он не может выдавить из себя ни звука. Громадное колесо останавливается, их вагончик раскачивается, поскрипывает, успокаивается. Проводник (с жестяной бляхой, на которой выдавлено что-то иное, чем Ковач, но Паха Сапа на время утратил способность читать по-английски) открывает двери, чтобы они могли выйти, прежде чем в вагончик втиснутся следующие шестьдесят человек.
Дальнейшие девяносто минут восхитительны и бесконечно насыщенны для Паха Сапы, но они пролетают как девяносто секунд. По пути к тому месту, где они должны встретить отца Рейн, — на ступеньках возле увенчанного куполом здания администрации с западной стороны Большого бассейна, — они заходят в павильон изящных искусств с его множеством картинных галерей к северу от Северного пруда, потом чуть не бегом подходят к Женскому дому — Рейн очень хочется постоять у стены, расписанной художницей Мэри Кассат;[80] аллегорический смысл росписи был бы потерян для Паха Сапы, если бы Рейн не пояснила ему; потом они неспешно прогуливаются по Лесистому острову, а июльский день тем временем медленно переплавляется в золотой июльский вечер. Паха Сапе остается только жалеть, что они не будут вместе, когда зажгутся тысячи электрических огней. И потом, снова спрашивает он себя, каково это было бы — прокатиться на колесе Ферриса вечером. На Лесистом острове, где они присаживаются ненадолго на удобную скамейку в тени рядом с Розовым садом, чтобы выпить охлажденный лимонад, купленный в одном из многочисленных киосков, Паха Сапа выполняет свое обещание, снимает слишком плотные, пропотевшие перчатки и швыряет их в ближайшую мусорную корзину. Рейн смеется, ставит стаканчик с лимонадом на скамейку и аплодирует. Паха Сапу не тревожит, что теперь случайное прикосновение к ней может обернуться незваным видением. Она не сняла свои белые перчатки, а у ее блузки такие длинные рукава, что почти полностью закрывают запястья. И потом, осталось всего несколько минут — скоро они увидят ее отца. Но она удивляет его еще раз. — Паха Сапа, мистер Коди сказал моему отцу, что вы дружили с Сидящим Быком. — Да. То есть мы не были близкими друзьями — ведь он гораздо старше меня. Но я его знал. — И вы были с ним… с Сидящим Быком… когда его убили? Паха Сапа переводит дыхание. Он не хочет говорить об этом. Он чувствует, что это только отдалит от него молодую женщину и ее отца. Но он пребывает в таком состоянии, когда не может и не смеет ни в чем ей отказать. — Да, он и в самом деле умер в моем присутствии, мисс… Рейн. Я оказался там совершенно случайно. Никто из нас и вообразить себе не мог, что его могут лишить жизни… убить. — Пожалуйста, расскажите мне. Пожалуйста, расскажите все, что вы об этом знаете. Паха Сапа прихлебывает ледяной лимонад, выигрывая несколько секунд, чтобы привести в порядок мысли. Что может он рассказать этой девушке вазикун? Он решает — всё. — Это случилось три года назад. Зимой. В декабре. Я отправился в поселение Стоячая Скала… вообще-то, это агентство, резервация… где жил Сидящий Бык, потому что там жил мой тункашила… это не мой настоящий дедушка, это почетное название человека, который помогал меня воспитывать… А он там жил, потому что был старым другом Сидящего Быка. Нет, постойте, вы этого не поймете, пока не узнаете историю шамана-пайюты по имени Вовока и его учения, в особенности его пропаганды священного танца, который называется «танец Призрака».[81] Вы когда-нибудь слышали об этом? — Какие-то отрывки, Паха Сапа. Мы с папой были во Франции, когда все это случилось, и мне в то время едва исполнилось семнадцать. Меня тогда больше интересовали балы в Париже, чем танец Призрака, о котором отцу сообщали в письмах его корреспонденты. Паха Сапа тяжело вздыхает. Он видит луч света, блеснувший среди деревьев, и понимает, что это одна из тысячи маленьких цветных волшебных лампочек — крохотные лампадки с фитилем в масле, которые с наступлением темноты превращают Лесистый остров в сказочную страну. Ему так хочется прогуляться с Рейн по Лесистому острову под этими огоньками, когда Белый город залит светом, а колесо Ферриса, высвеченное белым светом мощных карбидных прожекторов, все еще работает. — Службы и религиозное учение Вовоки были такие же путаные, как ваши отрывочные воспоминания. Я слышал его проповедь у Пайн-Риджского агентства, перед тем как отправиться к моему тункашиле и Сидящему Быку. Этот пайютский шаман брал большие куски из христианства… он говорил, что мессия приходил на землю, чтобы спасти своих детей от пут и надзора вазичу, и… — Пожалуйста, Паха Сапа, кто такие вазичу? Он смотрит на нее. — Пожиратели жирных кусков. Бледнолицые. Она моргает. Паха Сапа не знает, что она чувствует; может быть, ощущение у нее такое, как если бы ей отвесили пощечину. — Я думала, что мы… что белые называются «вазикун». Я вроде бы помню, как мама произносила это слово. Паха Сапа печально кивает. — Это слово тоже использовалось, но позднее. Вазичу, пожиратели жирных кусков — мы так называли вас… белых. Но Вовока проповедовал, что если его последователи из любых племен, из всех племен будут танцевать священный танец Призрака, то случится священный потоп, в котором все вазичу утонут и оставят краснокожих в покое. А потом, когда уйдут белые, вернутся бизоны, вернутся наши давно умершие предки и все мы, вольные люди природы и другие племена, будем жить в вечном изобилии и мире. Рейн впервые со времени их знакомства на шоу «Дикий Запад» хмурится. — Ваши предки вернутся? В качестве призраков? — Нет, я так не думаю. Скорее, людьми, воскресшими в небесах, как обещает ваша Библия. Но не наги, не людьми-духами, просто людьми. Мы снова увидим всех наших предков, а это обещание имеет над нами огромную власть, Рейн. И возвращение бизонов, и уход… смерть всех вазичу на нашей земле на Западе. Теперь вы понимаете, почему это так испугало бледнолицых, всех, вплоть до президента Гаррисона?[82]
— Да.
Голос у нее безжизненный, лишенный всяких эмоций. Паха Сапа понятия не имеет, что у нее на уме. — Так вот, летом тысяча восемьсот восемьдесят девятого года те, кто проповедовал танец Призрака, появились во всех шести агентствах, где жили лакота. Они просто… взяли и появились. На них были рубахи — особые священные рубахи, рубахи Призрака, и Вовока обещал им, что эти рубахи остановят любую пулю. Вся идея сводилась к тому, что танец Призрака сам по себе, если индейцы всех племен поверят и будут его танцевать, спровоцирует катастрофу, которая сметет всех вазичу и вернет краснокожим их землю, их прежний мир, их вселенную, даже их богов и духов-защитников. А если вазичу попытаются вмешаться, то воинов всегда защитят духи призраков… — И вы, Паха Сапа, поверили в это пророчество и в танец Призрака? — Нет. Паха Сапа взвешивает, нужно ли объяснять ей, почему он не мог в это поверить: его собственное священное видение 1876 года, каменные гиганты вазичу, встающие из Черных холмов и пожирающие всех бизонов и самих вольных людей природы, — но тут благоразумие возвращается к нему. Он знает, что будет любить эту женщину всю оставшуюся жизнь, как бы ни повернулась его судьба, так зачем же внушать ей мысль, будто он, Паха Сапа, такой же сумасшедший, как пайюта Вовока? Он допивает остаток лимонада и продолжает: — Так или иначе, но местные индейские агенты сильно нервничали — и основания у них для этого были, — потом занервничали политики, а следом за ними армия, кавалерия тоже очень занервничали. Агентам во всех резервациях было приказано применять племенную полицию для разгона любых собраний последователей танца Призрака. Сам танец запретили во всех резервациях, кроме Стоячей Скалы далеко на реке Миссури, где жили Сидящий Бык и мой тункашила, жили даже не в типи, а в домиках. — А Сидящий Бык верил в танец Призрака и пророчество? Голос у Рейн по-прежнему безжизненный, лишенный всяких эмоций, в нем слышится только любопытство. — Не думаю. Я не уверен, что он пришел к какому-то мнению на этот счет. По крайней мере, он не сказал, что пришел, когда я приехал туда четырнадцатого декабря, за день до того, как они… за день до его смерти. Но большая часть лакота была уверена, что Сидящий Бык и есть тот мессия, о котором проповедует Вовока. Многие мужчины лакота были готовы следовать за Сидящим Быком, если бы старый вождь объявил себя мессией. И вот в самом конце ноября в Форт-Йейтсе, в резервации Стоячая Скала, объявился Буффало Билл с ордером на арест Сидящего Быка, подписанным Медвежьей Шубой… так мы называем генерала Майлса… — Чтобы мистер Коди арестовал Сидящего Быка? Они же были друзьями! Мистер Коди и по сей день отзывается о нем с большим уважением и любовью! Папа всегда говорил, что эти двое были близкими друзьями. Теперь в ее голосе слышны эмоции… настоящее потрясение. — Да… может быть, именно поэтому вазичу… агенты и президент отправили мистера Коди с ордером на арест. Мистер Коди только что вернулся с успешных гастролей по Европе — показывал там свое шоу «Дикий Запад». Как бы то ни было, он приехал слишком пьяным, чтобы кого-то арестовывать и… — Мистер Коди? Пьяный? Я думала, мистер Коди никогда не прикасается к спиртному. И я не сомневаюсь, что и папа в этом уверен! Господи боже мой! Паха Сапа не знает, следует ли ему… может ли он продолжать. Он начинает было пить из своего стакана, видит, что тот пуст, ставит его на скамейку и смотрит на часы. Он так взвинчен, что думает о последнем своем действе по-лакотски: «Мазашканшкан тонакка хво?» — в буквальном переводе: «Железка тик-тик что?» — Без двадцати шесть, мисс де Плашетт. Мы должны перейти по мосту на западную сторону Большого бассейна — вдруг ваш отец придет раньше и… — Ах, нет. Пожалуйста, закончите вашу историю, Паха Сапа. Я настаиваю… нет-нет, у меня нет права настаивать… но я вас умоляю. Расскажите мне, как умер Сидящий Бык. Значит, мистер Коди был слишком пьян и не мог его арестовать? — Да. А военные вазичу поили его несколько дней подряд. Эти офицеры боялись, что арест Сидящего Быка, а уж тем более нанесение ему какого-либо вреда приведет к катастрофе, о которой пророчествовал Вовока. Ну вот, прошло дня три, мистер Коди протрезвел и отправился арестовывать Сидящего Быка. Его сопровождал еще один человек из шоу «Дикий Запад», мы его называли Пони Боб…[83] — Ой! Мы с папой знаем Пони Боба. Он, бывало, приходил на папины проповеди. — Ну так вот, мистер Коди и Пони наткнулись на переводчика агентства, Луиса Праймо, который их обманул… сказал, что Сидящего Быка нет в резервации. Что он где-то в другом месте. Ну и когда мистер Коди и Пони Боб сообразили, что к чему, уже сам президент Гаррисон… извините, как это называется, когда меняют приказы? Аннулировать? — Отозвать? — Да, именно. Сам президент отозвал ордер на арест. Сидящий Бык был в безопасности. На какое-то время. Это было приблизительно первого декабря. — Но ведь он умер в декабре, разве нет? — Да. Медвежья Шуба… генерал Майлс был так зол, что его старый враг Сидящий Бык выходит сухим из воды, что послал Седьмой кавалерийский… «Не смей говорить ничего, что пятнало бы Седьмой кавалерийский», — хрипит знакомый голос в черепе Паха Сапы. — Что-то не так, Паха Сапа? — Нет-нет, просто собирался с мыслями. Так вот, я приехал в Стоячую Скалу четырнадцатого декабря. Сидящий Бык и мой тункашила со мной и несколькими другими молодыми людьми собирались уехать на следующий день, вернуться в Пайн-Ридж… а потом планировали ехать на Роузбад — встретиться с вождями «Танца Призрака» и решить наконец, что думает Сидящий Бык обо всем этом пророчестве. Но настроен он был скептически. Я знаю, что скептически. — А вы ему не сказали, что последователи «Танца Призрака» изгнаны из всех других резерваций? Паха Сапа кивнул. Она явно внимательно его слушала. — Да. Вожди, с которыми хотел меня познакомить Сидящий Бык, взяли около двенадцати сотен оглала и бруле и увели их в место, которое мы называем Оплот, — такое плоскогорье на пути в Бэдлендс, в Пайн-Риджской резервации, — он с трех сторон окружен неприступными утесами. Вольные люди природы в тяжелые времена уходили туда с тех самых пор, как у нас появились лошади. — И кавалерия пустилась туда за Сидящим Быком? — Нет, он так и не вышел из Стоячей Скалы. На следующий день, пятнадцатого декабря, около шести утра… мы собирались выехать раньше, но Сидящий Бык был стариком — собирался и действовал медленно… армия послала сорок с чем-то местных индейских полицейских в его домик на Гранд-ривер. Это был очень маленький домик. Мы с моим тункашилой спали в пристройке, где Сидящий Бык держал свою лошадь. — Значит, племенной полицейский… индеец… убил Сидящего Быка? Паха Сапа снова кивает. — Сначала Сидящий Бык сказал, что никуда не пойдет с полицейскими. Потом согласился. Они позволили ему одеться. Когда полицейские подъехали, было темно, но когда старик вышел из домика, уже светало. Собралась толпа. Младший сын Сидящего Быка — еще подросток — стал высмеивать отца за то, что тот подчиняется вазичу. Тогда Сидящий Бык опять передумал и сказал, что никуда не пойдет. Началась толкотня. Кто-то из толпы выстрелил в полицейского, а полицейский, перед тем как умереть, выстрелил Сидящему Быку в грудь. Когда все закончилось, были убиты шесть полицейских, а с ними Сидящий Бык и шесть его друзей и последователей. — Ах, Паха Сапа. О господи. — Нам пора идти, Рейн. Мы не должны заставлять вашего отца ждать.Паха Сапа и Рейн за пять минут до срока стоят на ступеньках здания администрации перед Колумбовым фонтаном, бьющим в широких просторах бассейна. Ее отец опаздывает на двенадцать минут. После того как Паха Сапа закончил свой рассказ, мисс де Плашетт не произнесла ни слова. Но лицо у нее, кажется, стало еще бледнее, чем прежде. Он думает, что эта история расстроила ее — все жуткие подробности, начиная от приезда пьяного Буффало Билла Коди, предавшего старого друга, до реальной угрозы насилия со стороны последователей «Танца Призрака» и его пророка. Он знает, что всегда будет любить ее за… если не за что другое, то за этот миг, когда она стояла выше всех других в колесе Ферриса, словно собираясь лететь так, как не раз летал его дух. Нет, не только за это. А может быть, вовсе не за это. Просто потому, что он любит ее и всегда будет любить. Но она всего лишь двадцатилетняя девушка вазичу, знающая разве что про балы, церкви и посольства в Вашингтоне, Париже и мире, но что касается ее знания Запада, мира ее матери и Паха Сапы, где великих воинов вроде Шального Коня и выдающихся вичаза ваканов вроде Сидящего Быка убивают маленькие людишки, переставшие быть вольными людьми природы, маленькие людишки на содержании вазичу, людишки, которые носят не по размеру большие, блохастые, списанные кавалерийские синие мундиры и по приказу вазикуна убивают людей одной с ними крови, — тут она остановилась на уровне четырехлетнего ребенка. Нет, ей никогда не понять мира Паха Сапы. Он знает, что даже если она выучит лакотский, то он останется для нее таким же чужим, как французский, немецкий или итальянский. И даже более чужим, думает он, потому что в тех местах Рейн жила уже взрослой или почти взрослой, а Небраску и Запад представляет себе только по искаженным отрывочным воспоминаниям детства. И еще он знает, что больше никогда не увидит ее. Он в этом уверен. Уверен так, будто все же допустил еще одно «прикоснись — и увидишь, что будет». Приедет или нет мисс Рейн де Плашетт в Пайн-Риджскую резервацию в этом сентябре, она больше никогда не увидит Паха Сапу. Это невозможно после того ужаса, отвращения и… отчуждения, так, кажется, это по-английски… васетуг ла и во, которое он видел в ее глазах, когда рассказывал про Сидящего Быка. Это не имеет значения, говорит он себе. Это всего лишь еще одна история, которая не имеет значения, как и все остальное, что он видел, чувствовал, пережил после видения каменных голов, появившихся из Черных холмов, и гигантов вазичу, восставших, чтобы закончить работу, которая и без того уже закончена в равнинах и на холмах. Преподобный Генри де Плашетт появляется, спеша и отдуваясь, в сопровождении трех человек в очень официальных фраках и цилиндрах. Следуют представления, но Паха Сапа не слышит и не запоминает имен. Никто из троих не протягивает ему руки — они явно видят, что он индеец, хотя на нем (а возможно, именно поэтому) плохо сидящий европейский костюм и начищенные до блеска туфли. Но преподобный де Плашетт, остановившись у начала лестницы, ведущей к темным водам бассейна, протягивает руку. Он что-то говорит. — … благодарен за то, что проводили мою дочь до нашего места встречи здесь, мистер Вялый Конь. Весьма признателен. Я уверен, что Рейн понравилась эта прогулка, и высоко ценю ваше джентльменское предложение сопровождать молодую даму. Паха Сапа пожимает руку старика. Мир начинает кружиться, Большой бассейн превращается в громадную расписанную стену, фреску, больше, чем стена, расписанная Мэри Кассат в Женском доме, вода становится вертикально, и по ней устремляются образы, звуки и чувства. А потом все покрывается чернотой.
Когда сознание возвращается к нему, он лежит на верхней ступеньке. Один из хорошо одетых джентльменов намочил шелковый носовой платок в воде бассейна и прикладывает влажную тряпицу ко лбу Паха Сапы. Его голова покоится на коленях мисс де Плашетт, она обхватила его руками. Его голова на ее коленях. Паха Сапа понимает, что слезы катятся по его щекам. Он плакал, пока лежал без сознания. Он трясет головой. — Перегрелся на солнце… — говорит один из фраков. — Возможно, головокружение после этого дьявольского колеса… — говорит еще один. — Может, проблемы с сердцем? Последние слова сказаны преподобным Генри де Плашеттом, который теперь держит носовой платок и охлаждает лоб Паха Сапы. Вокруг собралась небольшая толпа, к ним от машинного зала бегут люди в униформе персонала. Паха Сапа моргает, убирая слезы с глаз, и смотрит на лицо Рейн над ним. Образы были немногочисленны, быстры и ужасны. Прерия. Задувает ветер. Зимнее утро. Кладбище на небольшом пригорке. Единственное дерево. Могила с простым сосновым гробом, только что опущенным в нее. Рядом стоит преподобный де Плашетт, он не в силах провести заупокойную службу. Рыдания душат его. И Паха Сапа стоит там — он видит себя сквозь слезы в глазах старика; Паха Сапа стал старше, но ненамного. Паха Сапа берет ребенка у женщины-мексиканки, служанки священника. Паха Сапа держит ребенка и смотрит на первые комья земли, которые падают на гроб его молодой жены, миссис Рейн де Плашетт Вялый Конь. Образ глазами преподобного: преподобный тоже болен, он готов отдать все, что у него было и во что он верил, чтобы поменяться местами со своей дочерью, которая лежит в могиле; образ его зятя-индейца, Билли Вялого Коня, который держит на руках единственного ребенка, сына мертвой дочери преподобного (младенца, который, возможно, способствовал смерти его дочери, ослабив ее жизненные силы). Мальчика назвали Робертом. Паха Сапа лежит на верхней ступеньке лестницы, ведущей вниз, к Большому бассейну и Колумбову фонтану; Паха Сапа слишком потрясен и даже не пытается встать на ноги, несмотря на смущение, которое он испытывает, лежа головой на коленях молодой женщины, когда вокруг них стоит целая толпа. Теперь ее ладонь гладит его лоб. Голая ладонь. Она сняла перчатку. Голая ладонь. Никакого видения от этого контакта Паха Сапа не получает, но получает страшное подтверждение: она его уже любит и сделает все, что должна сделать, чтобы они были вместе, и теперь им уже никак не избежать своей общей судьбы. В первый, последний и единственный раз в своей жизни Паха Сапа с необъяснимой неизбежностью выдыхает три слова, которые заставляют замереть всех, кроме Рейн: — О Господи Иисусе.
18 Вблизи Горок-Близнецов
Сентябрь 1876 г. Паха Сапа скачет под дождем. Лошадь под ним старая, шелудивая и неторопливая. Она оседлана. Паха Сапа до этого никогда не ездил в седле, и у него болят ягодицы. Сильный дождь хлещет его по лицу, смывая кровь, но кровь натекает снова. Он даже не пытается моргать, чтобы убрать ее с глаз. С глаза. Один глаз у него распух так, что ничего не видит, или вообще выбит. Другой глаз видит словно в тумане — пятьдесят или шестьдесят человек впереди и вокруг него. Ему безразлично, что они тут. Это кавалеристы вазичу. Он смутно осознает, что он их пленник и они вольны делать с ним что захотят: пытать, медленно убить — что угодно. Ему это безразлично. Большую часть этого долгого дня Паха Сапа то теряет сознание, то вновь приходит в себя. Он знает, что едет вместе с темными фигурами вазичу и что голова у него раскалывается от такой боли, какой он прежде и представить себе не мог. И еще он знает, что тот кроу — старик по имени Кудрявый — хотя и ударил его прикладом, но вовсе не собирался убивать. Паха Сапа уже несколько часов вполуха слушает Кудрявого, который едет рядом с ним и непрерывно болтает на своем жутком, корявом лакотском: старик использует много слов из женского языка, отчего его речь похожа на речь винкте — мальчика, который одевается и говорит как женщина. В обычной ситуации это было бы очень забавно. Но сегодня Паха Сапу ничто не забавляет. Он жалеет, что не умер. Он собирается умереть. Но по большому счету он уже мертв. Он потерял Птехинчала Хуху Канунпу, самую священную Трубку Малоберцовой Бизоньей Кости, которая принадлежала Сильно Хромает и его роду, эта трубка была самым важным и священным предметом, каким когда-либо владел его род. Ну почему Сильно Хромает доверил трубку Паха Сапе, жалкому мальчишке, которому не хватило мозгов время от времени оглядываться, когда он ехал один по равнине с самой большой драгоценностью, какую только можно представить? Он ехал с двумя драгоценностями, осознает он, мучимый дождем и болью: Птехинчала Хуху Канунпой, потерянной навсегда в вышедшей из берегов реке, и подробностями его видения, дарованного пращурами. Теперь Сильно Хромает, вожди и старейшины никогда не услышат о его видении, даже если ему и удастся бежать от кавалеристов вазичу. Потеряв трубку, Паха Сапа навсегда утратил доверие. Он в этом уверен. Разве стали бы Вакан Танка, шесть пращуров, все духи и существа грома даровать мужчине или мальчику такое видение, а потом похищать у него Птехинчала Хуху Канунпу? Значит, потеря — это заявление всех богов и сил, самого Вакана Танки, Всего, о том, что Паха Сапе в роли их слуги и посланника нельзя доверять. Голова у него болит неимоверно. Он жалеет, что не умер. Он собирается умереть в скором времени. Он зовет смерть. Каждый раз, когда Паха Сапа выходит из состояния полузабытья и его трясет в этом проклятом седле, которое клином впивается в его задницу, старик-кроу по имени Кудрявый что-то говорит ему. Старик повторяет и повторяет, как он, Кудрявый, спасПаха Сапу, сбив с ног, прежде чем пожиратели жирных кусков в синих мундирах успели его пристрелить от безысходности и отчаяния: они потерялись и вот уже четыре дня не могли соединиться со своим основным отрядом, к тому же пребывали в ужасе, зная, что где-то поблизости вышел на тропу войны Шальной Конь; а он, Кудрявый, разведчик, сказал вазичу, что почти голый мальчик, который испугал их всех, вылезши из мутного речного потока, — кроу, и, возможно, он хороший разведчик, только немного глупый, немного глухой, немой и недоразвитый, но все равно стоит оставить его в живых, дать самую вялую лошадь, которая принадлежала капралу Дунбару, перед тем как его убили, маленькому Билли. Билли? Кудрявый… Когда он назвал Паха Сапе его имя? Мальчик не помнит. Кудрявый сказал синим мундирам вазичу, что имя почти голого, покрытого грязью мальчика — Биле, что на языке кроу означает «вода». Солдаты рассмеялись, назвали Паха Сапу Билли и дали ему старую, шелудивую, вялую лошадь убитого капрала. Когда сознание возвращается к Паха Сапе настолько, что ему удается сформировать хоть какую-то мысль, он хочет одного: чтобы этот старый дурак псалока каги виказа Абсарока, чтобы этот сукин сын заткнул свой поганый рот. Эти слова отдаются новой болью в голове Паха Сапы, которая и без того раскалывается на части. Немного спустя в тот дождливый, серый, ужасный день он понимает, что его ранили другие кроу, незамиренные кроу, и рука выше локтя у него перевязана грязным бинтом. Пулевая рана пульсирует. Боль в голове убивает его. Он потерял Птехинчала Хуху Канунпу. Кудрявый. Паха Сапа сквозь мрак своего сознания, боль, туман в единственном глазу и чужие воспоминания знает, что Т’ашунка Витке, Шальной Конь, в молодости звался Кудрявым Волосом, а потом просто Кудрявым, а потом его отец, Шальной Конь, передал сыну собственное имя. Но этот болтливый старый кроу псалока ничуть не похож на Шального Коня, которого Паха Сапа несколько раз видел этим летом. У лакотского Шального Коня — Кудрявого — утиный нос, тонкое, иссеченное шрамами лицо… А у этого старика кроу лицо в оспинах, никаких боевых шрамов на нем нет, и оно круглое, как луна. Но он не прекращает непрерывно болтать на плохом лакотском, смешивая мужской и женский словари. Может, сквозь боль думает Паха Сапа, этот старик кроу из тех винтке, которые любят вставлять мальчикам. Паха Сапа машинально пытается нащупать нож на поясе. Ножа нет. Нет и пояса. Его набедренная повязка удерживается на месте с помощью куска веревки, которую дал Кудрявому один из солдат. Голые ноги Паха Сапы засунуты в идиотские стремена. Если Кудрявый попытается вставить ему, решает Паха Сапа, то он большими пальцами выдавит старому армейскому разведчику глаза и отгрызет уши. Но что, если, твердит ему его ушибленный и скорбящий мозг, твердит тем монотонным голосом призрака вазичу, который вселился в него меньше двух месяцев назад, что, если все солдаты вазичу попытаются вставить ему? Как-то раз Сильно Хромает рассказывал Паха Сапе, что Татонка Ийотаке — Сидящий Бык — говорил: настоящий вичаза вакан может умереть, заставив свое сердце остановиться одной силой воли. Паха Сапа сосредоточивается на этом, преодолевая боль и нелепое ощущение седла под задницей, но у него ничего не получается. Конечно, он не может этого сделать. Он не вичаза вакан и теперь уже никогда им не будет. Он вообще никто. Даже не пленный воин. Всего лишь мальчик, который потерял Птехинчалу Хуху Канунпу своего племени и который должен умереть, но не способен даже на такое простое действие. И весь долгий, бесконечный, дождливый тряский день Кудрявый продолжает говорить, терзая Паха Сапу, и без того измученного болью в ягодицах, отдающейся в его голове и раненой руке. Это отделение кавалерии вазичу было частью соединенной группировки пехоты и солдат Пятого, Второго и Третьего кавалерийского полков, выведенной из подчинения генерала Терри и направленной на восток отрезать сиу и шайенна, которые разбежались кто куда после смерти Кастера на Сочной Траве. Крук закусил (по выражению Кудрявого) удила и несколько недель назад, оставив свой обоз, собрал целую шайку разведчиков шошонов и кроу, таких как Кудрявый и его друзья: Три Долгоносика, Пьет-из-Копыта и Часто Отрезает Носы. Паха Сапа слышал, что некий знаменитый вазичу по имени Буффало Билл Коди вернулся с Востока, где давал свои представления «Дикий Запад», и встал во главе колонны Крука, но в этой группе его не было. В колонне вскоре начался голод, потому что обеспечить себя питанием они не могли. Солдаты съели всех вьючных лошадей, потом пристрелили и съели всех запасных ездовых лошадей, а сотни других просто бросили. Все это очень пригодится Шальному Коню и другим незамиренным индейцам, которые явно идут по следу кавалерии, а не бегут от нее, как предполагалось. Невзирая на головную боль, Паха Сапа все же понимает, почему те кроу пытались его убить. Великие равнины к северу и востоку от Черных холмов превратились в зону, где все убивают всех. Тремя днями ранее, когда группировка Крука, еще не разделенная, пыталась преодолеть горы грязи, в которые превратился Бэдлендс, генерал отправил шестьдесят, или около того, человек на юго-восток с приказом выявить враждебных индейцев, а потом присоединиться к главной колонне в верховьях южного разветвления Гранд-ривер, вблизи ориентира, называемого Тощей горкой. Эта часть так же голодна, как и основная колонна, хотя и находится сейчас на юго-востоке от Черных холмов и района Медвежьей горки — мест, богатых дичью. И она опаздывает на встречу по меньшей мере на три дня. Преодолевая боль, Паха Сапа начинает обдумывать ситуацию, когда к концу дня скачущие, воняющие влажной шерстью вазичу добираются до Тощей горки, куда направлялся и он. Вперед отправляются разведчики кроу, и Кудрявый сердито показывает мальчику, что нужно поторопить его вялую лошадь. Паха Сапа тоже горит желанием поскорей добраться до места и изо всех сил бьет голыми пятками по бокам ленивой клячи. Четверо кроу и один лакотский мальчишка въезжают в знакомую долину, и Паха Сапа сразу же видит, что здесь произошло сражение. Нет, не сражение — бойня. Большинство типи сожжены, а на тех немногих, что остались, с тыльной стороны виднеются ножевые разрезы, через которые в панике бежали женщины, старики, дети и даже перепуганные воины. По всей долине стелется запах гари, человеческого и конского дерьма, но гораздо хуже перекрывающий все остальные запах смерти. Четверка кроу едет дальше. Паха Сапа соскальзывает с лошади, завидев знакомые типи и лица. Он еще надеется, потому что немногие оставшиеся здесь типи — обломки типи — больше похожи на те, что используют в тийоспайе старого Железного Пера, а не в деревне Сердитого Барсука. Многие из лежащих здесь тел обгорели — они кажутся слишком маленькими, и трудно поверить, что когда-то это были люди солидного возраста и размера, — а другие искалечены, но в остальном целы, распухли и почернели под действием солнечных лучей и жары трех последних дней лета. Обсиженными насекомыми телами успели полакомиться дикие животные и собаки, возможно, те самые собаки, которые жили в этой тийоспайе. Но некоторые тела все еще можно опознать. Паха Сапа видит самого Сердитого Барсука, тело маленького толстого воина так раздулось, что стало в три раза больше. Он лежит на спине у ручья, руки у него подняты, словно он приготовился к драке. Паха Сапа каким-то образом понимает, что эта поза всего лишь следствие натянувшихся мышц и сухожилий, которые стали видны в тех местах, где потрудились собаки, койоты и канюки. В дождливой хмари светятся белые кости обоих предплечий. Дальше, где обычно ставит вигвам Сильно Хромает, Паха Сапа находит почерневший и исполосованный ножом труп Женщины Три Бизона. Он не сомневается, что это она, хотя вазичу и отрезали ее большие груди. Большая часть ее лица отсутствует, но он видит незажившие шрамы на предплечьях и бедрах, откуда она вырезала кусочки собственной кожи для ханблецеи Паха Сапы всего несколько дней назад. Столетий назад. В тридцати футах — труп другой женщины, без ноги и обеих рук, их не видно нигде поблизости, а распухшее, полуистлевшее лицо прогрызено до черепа, глаза давно выклеваны, но черные волосы, хотя и покрыты грязью после проливных дождей, остались нетронутыми. Это Коса Ворона, младшая жена Сильно Хромает. Там, где должны быть руки Косы Ворона, лежат остатки того, что было ребенком. Паха Сапа знает, что не ее. Может быть, новорожденного младенца Громкоголосого Ястреба, которого родила старому самолюбивому вичазу вакану его младшая жена Еще Спит. Паха Сапа представляет себе, как Коса Ворона схватила младенца, пытаясь его спасти в самый разгар бешеной кавалерийской атаки. В нескольких шагах дальше, ближе к тополям, он находит необожженное тело, лежащее лицом вниз. Лицо отсутствует. На раздувшихся, но при этом все еще остающихся странно высохшими руках видны выцветшие татуировки, которыми так гордился Громкоголосый Ястреб. Впечатление такое, будто пронесшаяся здесь кавалерия Крука сеяла огонь и смерть, убивая всех без разбору — воинов, женщин, детей. Земля по всей долине изрыта сотнями копыт пони и солдатских лошадей. За этой чертой все типи сожжены, все тела превратились в черные, словно птичьи, кости и обожженную чешуйчатую плоть. Одно из этих тел, может быть, нет, наверняка принадлежит Сильно Хромает. Он не стал бы бежать, оставив своих жен. Или своих друзей. Четыре разведчика кроу возвращаются в тот момент, когда Паха Сапа пытается усесться в жесткое кожаное седло. Кудрявый держит магазинное ружье, уперев его прикладом в бедро, а другой рукой натягивает поводья, останавливая своего коня. Его пони забрызган грязью от копыт до брюха. Даже длинная грива пони покрыта комьями грязи. Следом за ним долину заполняет целый отряд кавалеристов, которые движутся вдоль хребта на юг. — Бежать собрался, Биле? Паха Сапе не приходила в голову мысль о бегстве, и он теперь недоумевает — почему? Словно читая в раскалывающейся от боли голове Паха Сапы, старик кроу говорит что-то на своем гортанном языке трем другим разведчикам. Они смеются. Кудрявый сплевывает и продолжает говорить на почти женском лакотском: — Похоже, это дело рук генерала Крука и ста пятидесяти кавалеристов из их основной группы, они покончили с этой деревней вон там, чуть дальше, — там еще тела женщин и детей сиу в овраге за бугром… а потом прибыла вся колонна Пятого пехотного, они разбили лагерь на холме в миле отсюда… дня три назад, судя по состоянию говна. А потом следы показывают, что с юга в спешке прибыли около пяти сотен воинов, твои сиу и шайенна, судя по нескольким телам, что мы видели… их отряд возглавлял этот головорез, Шальной Конь, и хотя кавалерия Крука, видимо, превосходила их численностью раза в четыре, Шальной Конь атаковал… по следам видно… а потом отошел, чтобы отразить контратаку Крука. Схватка продолжалась в ходе отступления на протяжении двух миль вдоль хребта. Наш капитан Говно-в-Голове пытается соединиться с главной колонной Крука, но мы уверены, что Шальной Конь где-то здесь неподалеку и готов атаковать. На, держи, Биле, тебе может понадобиться. Старый кроу сует Паха Сапе длинноствольный кольт. Оружие тяжелее, чем мог себе представить Паха Сапа, и только от его тяжести боль в голове и руке у него начинает пульсировать сильнее, и он чуть не падает с шелудивой лошади, но удерживается в седле. — Я думаю, — говорит Кудрявый, — у людей Крука нет припасов и нет времени на охоту — Шальной Конь нападет на них прежде, так что если мы к ним и присоединимся, у них для нас нет еды, и мы… эй, что это ты там делаешь, Биле? Паха Сапа поднимает обеими руками тяжелый револьвер, прицеливается в жирное, самодовольное лицо этого кроу — Кудрявого — и три раза нажимает на спусковой крючок. Револьвер не стреляет. Вся четверка кроу смеется так, что чуть не валится с коней. Кудрявый роется в кармане мундира, вытаскивает сжатую в кулак руку, раскрывает пальцы. С полдюжины патронов посверкивают на ладони в уходящем сером свете. На меди капельки дождя. — Когда ты проявишь себя, Биле, — или когда Шальной Конь окружит нас и мы решим, что лучше застрелиться, чем сдаться ему в плен, — тогда ты сможешь получить это. Четверка кроу окружает его, их винчестеры уперты в бедра, на иссеченных шрамами грудях — патронташи, на широких ремнях — пистолеты, и вялая кляча Паха Сапы тяжело сопит, едва поспевая за остальными: они следуют за главной колонной на юго-запад прочь из долины по хребту, земля которого истоптана копытами.Они соединяются с генералом Круком и многими сотнями других людей (Кудрявый говорит Паха Сапе, что в основной группировке около двух тысяч человек) и устраивают то, что у них называется «бивуак», — поскольку вазичу боятся разбивать настоящий лагерь из-за близости Шального Коня и его воинов, — а это означает, что приходится оставаться под ливневым дождем, когда под тобой жижа, а на голове пончо или накидка от дождя, и есть остатки галет (Кудрявый дает Паха Сапе откусить от его галеты два раза) и пытаться уснуть, когда каждый четвертый остается на часах и сторожит лошадей. Теперь Паха Сапа понимает слово «пехота» — Кудрявый несколько раз использовал его, даже не пытаясь перевести на лакотский. Большинство солдат Крука пешие. Неудивительно, думает Паха Сапа, что они были бы не прочь съесть лошадей. Понемногу ворчание, ленивый разговор, проклятия и пердеж стихают, остается только звук дождя, молотящего по двум тысячам или больше накидок, ржание лошадей, которых пугает выделяемая вазичу вонь страха, а потом — храп. Кудрявый и его трое разведчиков быстро засыпают в грязи, положив головы на мокрые шерстяные подстилки, их лошади, по-прежнему оседланные, охраняет один из солдат вазичу, которому приказано всю ночь под дождем держать поводья. Но Паха Сапа, хотя и устал, как никогда в жизни, даже не пытается уснуть. Он должен думать. Кудрявый продолжал что-то говорить ему вплоть до того момента, когда его болтовня перешла в громкий храп. Голова Паха Сапы от информации, полученной им за последние десять часов, болит не меньше, чем от удара прикладом по черепу. Похоже, что у вазичу есть разные племена. По какой-то причине юный Паха Сапа за свои одиннадцать лет никогда не думал об этом, и ни один из мудрецов в его жизни, включая Сильно Хромает, никогда об этом не говорил. Но из женоподобной болтовни Кудрявого Паха Сапа теперь знает и думает об этом, оглядывая многие сотни бесформенных фигур, сгрудившихся под накидками и промокшими одеялами, пытаясь укрыться от непрекращающегося дождя. Разные племена и разные языки, если верить Кудрявому, хотя верховодит всем племя, которое говорит на каком-то — как это слышится Паха Сапе — языке, который называется «глистный», это как Сидящий Бык и лакота верховодили над шайенна на Сочной Траве. Но здесь есть и пожиратели жирных кусков в синих мундирах, принадлежащие племенам (и говорящие на их языке), которые имеют и другие названия — «дай чайник», «из пальца», «ил и танцы», и еще племя, которое зовется «ниггеры». Паха Сапа увидел людей из племени ниггеров, когда этим вечером их отряд присоединился к группировке Крука, и, рассматривая солдат с коричневой и даже черной кожей, с густыми волосами, вспомнил чернокожего разведчика вазикуна по имени Сосок, которого Сидящий Бык называл своим другом. И он помнит, что, несмотря на покровительство, которое Сидящий Бык оказывал раненому и медленно умирающему Соску на Сочной Траве в Луну созревающих ягод всего два месяца назад, женщина-хункпапа по имени Орлиная Одежда пристрелила этого черного бледнолицего. Но Соска уважали в деревнях лакота, и уважали, полагает Паха Сапа, как разведчика Длинного Волоса и пожирателей жирных кусков. Поэтому мальчику вдвойне труднее понять, почему он только что видел, как некоторые из кавалеристов и пехотинцев вазичу унижали и оскорбляли тех немногих солдат-бизонов[84] из племени ниггеров, что здесь есть. Уж наверняка любой человек с такой черной кожей и густыми курчавыми волосами, которые так похожи на мелкие завитки жестких волос благородных бизонов — татанка, должен считаться вакан, священным, даже для этих дикарей, пожирателей жирных кусков. Неужели они не признают необычное частью Тайны, а потому священным? Неужели пожиратели жирных кусков настолько не понимают Вселенную, что не считают саму черноту — паху — предвестницей святости, как Черные холмы на юге от них, сгрудившихся здесь, под дождем. Голова у Паха Сапы болит. Но он гонит от себя сон. Напротив, он убирает те барьеры, которые удерживал две прошедшие недели, пытаясь не дать потоку воспоминаний Т’ашунка Витко слиться с несколькими годами его собственных воспоминаний. Неистовые мысли, эмоции и воспоминания Шального Коня грозили поглотить мальчика и грозят сделать это сейчас. Но ему необходимо заглянуть в них. И какие-то последствия удара по голове и раны руки (а может, что-то, оставшееся после жуткого видения каменных голов и гигантов вазичу, возникших из Черных холмов) облегчили ему задачу — он продирается сквозь торосы, наносы и трясину воспоминаний Т’ашунка Витко о его юных годах вперед, менее чем на год, к пятому сентября, Луне пожухлых листьев в следующем году, когда Шальной Конь будет убит при попытке сдаться генералу Круку и агентству Красного Облака. Паха Сапа почему-то думает, что где-то в этом потоке темных мыслей, ненависти и торжества, в который слились путаные мысли и воспоминания о будущем Шального Коня в тот момент, когда военный вождь прикоснулся к Паха Сапе, есть ответ на вопрос, не дающий мальчику покоя. Как мучительно позволить себе утонуть в воспоминаниях Шального Коня даже под ночным дождем, в котором тоже можно утонуть. Паха Сапа прислоняется к колесу фургона и выблевывает проглоченные кусочки галеты. Теперь его желудок настолько пуст, думает Паха Сапа, что можно почувствовать, как пупок скребется о хребет. Сначала лица и имена, на которые нужно взглянуть и отмести в сторону, — так человек протискивается, работая локтями, через толпу. Другие вожди, акисита — Маленький Большой Человек, Лягающийся Медведь, Пес. Отец Шального Коня, который теперь зовется Червем (Паха Сапа вспоминает надежного коня Сильно Хромает, убитого пулями и стрелами кроу, — еще одно его, Паха Сапы, поражение). Вожди, которых знал Шальной Конь, мальчику известны только некоторые из них — Человек, Который Боится Своего Коня, сам Красное Облако, Красная Собака, Одинокий Медведь, Высокий Хребет. Последнее имя тянет за собой другие имена, связанные в путаных воспоминаниях Шального Коня с его утратой, — Женщина Гремучего Одеяла, Одинокий Медведь, Молодой Маленький Ястреб и, самое главное, Они Боятся Ее. Паха Сапа молча плачет, его слезы смешиваются со струями дождя и уносятся ими, но плачет не о собственной утрате, не о страшном видении или смерти Женщины Три Бизона, Косы Ворона, Громкоголосого Ястреба, Сердитого Барсука и других, чьи тела опознал он в этот день, и не о почти верной гибели его любимого тункашилы Сильно Хромает, но о женщине Они Боятся Ее и обо всех тех, чью смерть пережил Шальной Конь. Паха Сапа уже не в первый раз видит, как это трудно — быть мужчиной. Он трясет головой, чтобы прогнать воспоминания об изнасилованиях и похоти, о ярости взрослого мужчины, о ноже, который вспарывает животы и перерезает глотки. Он не останавливается на самодовольных воспоминаниях Шального Коня, когда тот совершает деяние славы или скачет, раскинув руки, сквозь стреляющие шеренги кавалерии и пеших солдат вазичу. Но Паха Сапа теперь как раз перебирает громадную тугую кипу эмоционально заряженных боевых воспоминаний Т’ашунка Витко. Он ищет в них собственную смерть в ближайшие часы и дни, ищет, как Шальной Конь убивает мальчика, разозлившего его в деревне всего несколько недель назад. Не найдя этого, он обшаривает воспоминания Шального Коня о сражениях с пожирателями жирных кусков — столько сражений, столько вскриков «Хокахей!», столько возглавляемых Шальным Конем атак на стреляющие ружья и синие мундиры — и наконец находит воспоминания о засаде на кавалерию вазичу, которую устроил Шальной Конь со своими людьми в холмах где-то к востоку и чуть к северу от этого места, о том, как падают синие мундиры, вероятно кавалеристы Крука… Один из убитых и падающих синих мундиров в памяти Шального Коня вполне может быть Паха Сапой. Утром они поднимаются еще до серого рассвета, — все кашляют, все замерзли, все трясут промокшие одеяла, пончо и накидки, — и пока некоторые готовят кофе, а другие едят оставшиеся галеты, Кудрявый и три разведчика кроу жуют лишь холодные галеты. Паха Сапе они ничего не предлагают, и мальчик понимает, что они хотят извести его голодом. Он чувствует неудобную тяжесть револьвера у себя на поясе и молится пращурам, чтобы они послали ему патроны… но в глубине души он знает, что пращуры больше не слушают его. Может быть, они замкнули слух, и молитвы всех вольных людей природы теперь не доходят до них. — Кудрявый, я точно знаю, где сейчас Шальной Конь и его люди. Старый уродливый кроу повторяет это на своем уродливом языке, другие разведчики смеются. Кудрявый сплевывает в грязь. Он протирает ружье длинной красной тряпкой, которую каким-то образом сумел сохранить сухой, несмотря на дождь, шедший всю ночь. — Ты нам говно говоришь, Биле… Мальчик из грязи и воды. — Нет. Я знаю, где прячется Шальной Конь со своими четырьмя сотнями воинов. Это не больше чем в трех часах езды отсюда. Старый кроу не переводит это своим соплеменникам, а просто смотрит на Паха Сапу черными выпученными глазами, похожими на глаза мертвеца. — Откуда ты можешь знать? — Я видел его там. Я был там с ним. Все в нашем роду знают, что это то самое место, откуда Т’ашунка Витко убивает врагов из засады. Кроу, пауни, шошони, пайюта, шайенна, черноногих… даже вазичу, когда они делают глупость и преследуют его там. А вы… генерал Крук… почти что уже дошли до этого места. — Скажи мне, Биле, где это, и Три Долгоносика или Часто Отрезает Носы дадут тебе галету, которую приберегли. Паха Сапа трясет головой. От этого движения его чуть не рвет, сознание мутится. Голова у него по-прежнему болит, а в животе пусто. Но говорить он может. — Нет. Я точно знаю, где Шальной Конь сегодня утром. Где он поджидает генерала Крука и всех нас. Шальной Конь и самые главные его военные вожди — Пес, Храбрый Волк, Носит Олений Чепец, даже Лягающийся Медведь. Но я тебе не скажу. Я скажу Круку через тебя. Кудрявый щурится, глядя на него. Проходит долгое мгновение. Дождь продолжается. Длинные волосы старого кроу так промокли, что на них желтыми сгустками выступают капли медвежьего жира. Наконец кроу запрыгивает в седло, выхватывает поводья вялой лошади Паха Сапы из рук Пьет-из-Копыта и рычит на своем женском языке: — Садись на лошадь. Езжай за мной. Если ты соврешь генералу и назовешь не то место, где прячется Шальной Конь, то я своими руками перережу тебе горло, сниму твой скальп и отрежу яйца. И ты на это будешь смотреть, Водяной Мальчик.
Паха Сапа никогда не обращал особого внимания на отдельных вазичу, кроме черных; они все были для него на одно лицо. И, говоря по правде, большинство вазикунов, которых он видел, были мертвы. Но лицо генерала Джорджа Крука (полное имя он узнает гораздо позднее, как и прозвище, которое дали ему апачи: Серый Лис) запоминается лучше, чем лица покойников. Военный вождь вазичу снял свою широкополую шляпу, чтобы отжать ее, а подчиненные тем временем готовят его коня к предстоящему дню езды, и Паха Сапа видит высокого человека с короткими волосами, которые растут на узкой голове неровными клочьями. Лицо генерала почернело от солнца за те долгие месяцы, что он гонялся за народом Паха Сапы, но лоб у него до странности белый. Под оттопыренными ушами начинаются бакенбарды, которые грозят в скором времени спрыгнуть с лица человека на плечи и доползти чуть ли не до груди. У генерала нет бороды, только эти разросшиеся бакенбарды, которые закрывают его щеки и сползают вниз, чтобы встретиться под маленьким подбородком. Усы у Крука — так, мелочь, захудалый мостик между двумя громадными кустами неухоженных волос. Крохотные глаза Крука с прищуром смотрят на разведчика кроу, который подобострастно и явно смущенно проборматывает сообщение Паха Сапы, что мальчик, мол, знает, где прячется сейчас Шальной Конь. Водянистые маленькие глаза впиваются на мгновение в Паха Сапу, потом вазикун что-то говорит Кудрявому. Лакотский Кудрявого становится еще хуже. — Генерал хочет знать, чего ты хочешь? — лепечет он. — Почему ты говоришь это? Что ты хочешь за это получить? Паха Сапа настолько голоден и истощен, что он без страха смотрит на вазикуна. Всего несколько дней назад он, Паха Сапа, стоял в руке одного из шести пращуров и говорил с ними. Неужели он будет бояться генерала вазикуна? Он говорит правду. — Я не хочу ничего. Я просто хочу сообщить вам, где засел в засаде Шальной Конь. Это почти что правда. Но Паха Сапа все же хочет кое-чего для себя. Он хочет умереть. Он взвесил все варианты. Сильно Хромает внушил мальчику великое отвращение к самой мысли о самоубийстве. Конечно, Паха Сапа может попытаться бежать на своей вялой лошади, и Кудрявый, какой-нибудь другой кроу или солдат вазичу окажут ему эту услугу и пристрелят его. Но это не нравится Паха Сапе. Не нравится после видения больших каменных голов. Паха Сапа знает, что умрет, если ему удастся бежать и явиться к Шальному Коню где-то в десяти милях отсюда к северо-востоку (по фрагментам будущих воспоминаний Т’ашунке Витко Паха Сапа почти наверняка знает место, где находятся военный вождь хейока и его воины), но Паха Сапе не хочется умирать одному и таким вот образом. Если же он скажет Круку правду о том, где ждет Шальной Конь, а это как раз за цитаделью, где воины лакота нередко разбивали стоянку, поджидая кроу, в десяти или около того милях отсюда, то Паха Сапа ничуть не сомневается, что генерал Крук и его две тысячи солдат будут атаковать Шального Коня и его четыре сотни воинов. В конечном счете разве не для этого Крук и все его люди преодолели более четырех сотен миль по летней жаре и затем под необычным, бесконечным летним дождем — чтобы найти, наказать и убить Шального Коня и тех сиу и шайенна, что убили Кастера? И вот во время этой атаки Паха Сапа выедет вперед без оружия, на вялом коне, как есть. И будет сражен пулями людей Шального Коня, пусть при этом Крук и порубает самого Шального Коня и его воинов. Сегодня хороший день, чтобы умереть. Говорит генерал. Что-то сказал Кудрявый. Паха Сапа вопросительно смотрит на старика. — Серый Лис говорит: где? Скажи нам! Паха Сапа точно описывает им место, где, по его воспоминаниям о воспоминаниях Шального Коня о том, что все еще остается будущим Паха Сапы, ждут вождь и его люди. За удобным местом для разбивки стоянки, менее чем в десяти милях отсюда к северо-востоку. Там, где начинаются лесистые холмы и складчатые равнины, простирающиеся на северо-запад к Литл-Миссури-ривер и на северо-запад к Гранд-ривер. Кудрявый переводит все это. Генерал Крук не просит принести ему карту и не разговаривает ни с одним из своих адъютантов. Высокий человек продолжает, прищурясь, смотреть сверху вниз на Паха Сапу. Наконец, словно приняв решение, военный вождь вазичу выкрикивает два слова на глистном языке его племени: — По коням!
Годы и десятилетия спустя Паха Сапа будет думать, рассказать ли ему историю этих дней и часов своей жене Рейн или сыну Роберту. Конечно нет. Ни слова. Но из хаоса тех дней он сформирует некую упорядоченность, и если бы он решился рассказать когда-нибудь о таких личных вещах, которые скрывал всю жизнь, говоря о себе в третьем лице, как он привык, то повествование было бы примерно таким. Жажда Паха Сапы умереть в этот день на самом деле не была столь неудержимой, чтобы называться жаждой. Он чувствовал себя таким уставшим, таким выпотрошенным, таким побитым и потерянным, что хотел одного: пусть другие позаботятся о его смерти. Десятилетия спустя он услышит, как бледнолицые и даже индейцы из других племен будут рассказывать, что Шальной Конь на своем смертном одре (и перед этим, на поле боя на Сочной Траве, где он сражался с Кастером) кричал: «Хокахей!», что, по их словам, означает: «Сегодня хороший день, чтобы умереть!» «Дерьмо собачье», — думал (щеголяя своим глистным языком) Паха Сапа, когда услышал это. «Хокахей» в сражении означает «Следуйте за мной!», а еще может означать «Все в ряд!», как в церемонии танца Солнца, а если это говорит умирающий, то слова могут означать: «Стойте стеной, стойте крепко — придут и другие». Это никак не означало «Сегодня хороший день, чтобы умереть!», хотя воины лакота нередко повторяли эту фразу. Открыв свой разум для воспоминаний Шального Коня, он знал слишком много случаев, когда воины говорили эти слова своим людям или слышали их из чужих уст. Но на языке лакота такая фраза должна была бы звучать как-то вроде: Анпету васте’ киле ми! — но у Паха Сапы все равно не было сил, чтобы прокричать хоть что-нибудь в тот день. Он провалил ханблецею, получил худшее из возможных видений, но даже и его не смог донести до тункашилы и других шаманов и воинов своей деревни, прежде чем их убили. Он потерял Птехинчалу Хуху Канунпу своего народа. Он потерял Птехинчалу Хуху Канунпу своего народа. Он хотел умереть в этот день, и если ему удастся обманом завлечь генерала Крука с его странными бакенбардами и всех его голодных вазичу с разведчиками шошони и кроу под пули и стрелы сидящего в засаде Шального Коня, то тем лучше. Можно ли изменить будущее? Могут ли видения будущего Паха Сапы быть ложными… или может ли кто-нибудь их изменить, может ли изменить их сам Паха Сапа, который увидел их раньше времени? Если так, то он надеялся, что Шальной Конь тоже умрет в этот день в сражении, будет застрелен одним из двух тысяч пеших или конных солдат Крука, а не заколот штыком или пристрелен (воспоминания Шального Коня о будущем были такие путаные) двенадцать месяцев спустя в агентстве Красного Облака в ходе постыдной сдачи этому же самому генералу вазичу с маленькими глазами и большими бакенбардами. Но день этот тянулся так долго и медленно, как Паха Сапа и представить себе не мог. Два или три часа езды означало восемь или больше часов марша для изголодавшихся, изможденных пеших солдат. Крук, конечно, выслал вперед кавалерию, включая двух разведчиков кроу — Кудрявый и Пьет-из-Копыта остались охранять его, Паха Сапу, но хотя они с дождливым сентябрьским рассветом уже были на марше, основная часть группировки к полудню еще не подошла к естественной крепости и амфитеатру, о которых говорил Паха Сапа. Дойдя до места, генерал Крук приказал разбить лагерь на цитадели — естественном скальном обнажении с крутыми склонами по трем сторонам, поросшими соснами. Они развели костры и похоронили одного из раненых, который умер за это время в тряской санитарной телеге. Паха Сапа дремал в седле, он был слишком изможден, чтобы слезть со своей вялой клячи, даже когда раздался сухой треск ружейных выстрелов. Появился Шальной Конь. Позднее Паха Сапа понял, что военный вождь собрал около пяти сотен шайенна и лакота, стоявших неподалеку, — их всполошило известие о нападениях кавалерии Крука на деревни миннеконджу, сансарков и хункпапа, — главным образом на тийоспайе Железного Пера неподалеку от Тощей горки. Шальной Конь ждал в засаде именно там, где по «воспоминаниям» Паха Сапы он и должен был быть — в миле или двух от скальной цитадели, но, услышав, что вся армия Крука была подана, буквально доставлена ему, индейский вождь бросился в атаку, хотя противник в четыре раза превосходил его числом. Но когда Шальной Конь собрал своих людей, Паха Сапа понял, что военный вождь предполагал, будто ему противостоят 155 или около того солдат под командованием капитана Милла — кавалерия вазичу, которая сожгла деревни у Тощей горки, включая тийоспайе Сердитого Барсука и Сильно Хромает. Однако вскоре Т’ашунка Витко обнаружил, что ему противостоит вся искавшая его армия Крука. И тем не менее хейока предпринял атаку. Шальной Конь побил и унизил генерала Крука на Роузбаде, ту же самую стратегию он попытался предпринять и здесь — общую атаку, чтобы освободить индейцев, находящихся в плену у Крука, и вызвать панику у лошадей вазичу и пленных пони. На сей раз эта тактика не сработала. Крук ввел в действие все свои силы. Кавалерия защищала его открытый восточный фланг, а пехоту и спешенных кавалеристов генерал послал прямо в поросшие лесом холмы, где люди Шального Коня непрерывным огнем поддерживали атаку. Паха Сапа и Кудрявый выехали вперед, в дым и сумятицу. Здесь будет похуже, чем на Сочной Траве, подумал Паха Сапа, глядя, как бегут и падают вазичу и индейцы, как они корчатся и кричат. И для Шального Коня дела здесь определенно обстояли куда как хуже. Различие определялось дальнобойностью и точностью длинноствольных ружей, они-то и обусловили результат, противоположный тому, которого достиг Кастер на Сочной Траве. Первым отступил крайний правый фланг Шального Коня. Паха Сапа и Кудрявый были среди немногих кавалеристов и разведчиков, наступавших вместе с вазичу, которые заняли вершины стоявших цепочкой холмов, окутанных облаками едкого дыма. Дождь ослаб на несколько часов, но воздух был такой жаркий, влажный и густой, что новый синий мундир Паха Сапы прилип к его голой коже. Пороховой дым ел единственный видящий глаз мальчика. И тут он и в самом деле увидел Шального Коня — тот скакал на белом коне, голый, в одной набедренной повязке и с единственным белым пером, размахивая ружьем и приказывая воинам отходить в боевом порядке. Но по мере их отхода наступала пехота Крука, кавалерия вазичу атаковала и тревожила обескровленный отряд воинов с обоих флангов и с тыла. Этот день был долгим, и сражение превратилось в затянувшуюся, непрекращающуюся перестрелку, а пятисотярдовое пространство между атакующими, стреляющими, сквернословящими толпами краснокожих и бледнолицых стало ничьей землей пуль и стрел. Паха Сапа и Кудрявый переместились на левый фланг основных атакующих сил, что совпало с бешеной, отважной атакой лакота на Третий кавалерийский, занявший там позиции. Индейцы — многие атаковали пешими, другие небольшими конными отрядами и беспорядочными группками — бросились в атаку, ведя огонь из магазинных ружей, пытаясь нащупать слабое место в оборонительной позиции спешившегося Третьего кавалерийского. Паха Сапа опять был уверен, что видит Шального Коня, который скачет туда-сюда в густом дыму, подгоняя атакующих, возвращая лакотских воинов, повернувших было назад, всегда находясь в самой гуще сражения. Паха Сапа голыми пятками торопил свою вялую клячу, она перешла на нескладный, неохотный, неуклюжий галоп, и мальчик оказался в зоне смерти между атакующими лакота и стреляющими кавалеристами из Третьего. Он направился прямо к неясно видимому на горизонте Шальному Коню. Паха Сапа вспомнил о незаряженном кольте у него на боку и теперь схватил бесполезное оружие и принялся размахивать им, чтобы привлечь к себе внимание стреляющих из ружей и пистолетов вольных людей природы. Огонь велся такой плотный, что он чувствовал и слышал, как свистят рядом с ним пули. «Значит, то, что рассказывали воины, сидя вокруг костра в деревне, правда, — пришла ему в голову идиотская мысль. — Звук летящей пули в разгар настоящего сражения похож на жужжание пчелы». Паха Сапа был удовлетворен. Сожалел он только об одном — что так и не сочинил своей песни смерти. Но он понимал, что не заслуживает песни смерти. Он потерял Птехинчалу Хуху Канунпу Сильно Хромает и его народа. Пуля продрала мокрый синий мундир под его рукой, но кожи не коснулась. Другая пуля оставила неглубокую борозду на его бедре. Еще одна пуля попала в луку седла, отчего его вялая кляча споткнулась и чуть не сбросила Паха Сапу на землю. Почувствовав укол боли, мальчик решил, что лакотский воин отстрелил ему яйца, но, приподнявшись в стременах, посмотрев вниз и потеряв внезапно уверенность в успехе того, что задумал, он не увидел крови. И поскакал дальше, размахивая пистолетом и призывая своих единоплеменников лакота убить его. Еще одна пуля оцарапала его голову как раз над шишкой от удара прикладом предыдущим утром, который нанес ему Кудрявый. Но эта пуля, в отличие от удара, не оглушила Паха Сапу, он сморгнул кровь с глаза и ударил по бокам свою вялую, ленивую, перепуганную клячу. Пуля разодрала его рукав и грязный бинт, намотанный на прежнюю рану, полученную от выстрела кроу, но опять не коснулась его. Паха Сапа все время слышал свистящий, жужжащий звук и чувствовал, как подергивается его большой, не по росту мундир, словно его треплют порывы сильного ветра, но ничего, кроме царапины на лбу и на бедре, не получил. Четырнадцать лет спустя Паха Сапа вспомнит об этом часе, когда пайютский пророк Вовока пообещает всем тем, кто наденет рубаху танца Призрака, неуязвимость от пуль. А на Паха Сапе был просто блохастый, пропитанный потом и влагой, вонючий, не по росту большой для него мундир с убитого солдата вазичу, но пули не задевали его. Шальной Конь и его оставшиеся воины отходили. Пехота Крука наступала с победными воплями, непрерывно стреляя, а Третий кавалерийский обходил противника с левого фланга, добивая раненых и отставших лакота — пленных не брали. Шелудивая, вялая кляча Паха Сапы остановилась. Поначалу Паха Сапа решил, что она ранена (как что-то таких размеров могло не получить пулю, когда воздух был просто начинен летающим свинцом?), но она просто заупрямилась от страха и остановилась, чтобы пощипать травку на поле боя. Паха Сапа бил пятками клячу под ребра, хлестал ее поводьями, тянул за них, и в конце концов глупое животное развернулось и потрусило к рядам стреляющих вазичу — спешившимся кавалеристам и пехотинцам, которые еще не устремились в атаку. Паха Сапа продолжал размахивать своим незаряженным пистолетом, надеясь на то, что солдаты Крука пристрелят его. Но вместо этого солдаты вазичу с победными воплями поднимали ружья. Потом они помчались на Паха Сапу и отступающих лакота, некоторые побежали, некоторые кавалеристы пытались вскочить на своих впавших в панику лошадей, и лошади и неудачники седоки смешались в кучу, солдаты забыли про пустые животы, они жаждали крови отступающих лакота. Паха Сапа трясся в побитом пулями седле, позволяя своей вялой кляче перевезти его за переднюю линию. Наконец кляча остановилась и снова принялась щипать травку, а Паха Сапа выскользнул из седла и упал на задницу — он был слишком слаб и опустошен, чтобы подняться на ноги. Вокруг него толпились солдаты. Внезапно перед ним оказался Кудрявый — с перекошенным лицом он спрыгнул со своего пони. Старый кроу встал над Паха Сапой, который сидел в грязи, положив локти на голые колени. Старый разведчик поднял и взвел свой пистолет. — Лакотский водяной мальчик, Биле: Три Долгоносика и Часто Отрезает Носы мертвы, они убиты в засаде, на которую нас вывел ты. Паха Сапа посмотрел на него. И улыбнулся. — Хорошо. Я надеюсь, черви уже поедают их тела, а их духи навечно останутся в этой жиже. Кудрявый ухмыльнулся и навел пистолет на лицо Паха Сапы. «Значит, вот оно как, пращуры? Ну что ж, мне жаль, что я не сочинил своей песни смерти». Рядом резко остановились лошади, обрызгав комьями грязи Паха Сапу и старого кроу. Это был генерал Крук, на лице которого под идиотскими бакенбардами светилась улыбка, а с ним несколько офицеров и знаменосец. Генерал еще до того, как остановился его конь, разразился речью на глистном языке вазичу, обращаясь к Кудрявому. Никто, казалось, не заметил пистолета, наведенного на Паха Сапу. На глупом круглом лице Кудрявого отвисла челюсть, и он целую минуту смотрел на военного вождя вазичу, прежде чем отвел в сторону пистолет и осторожно спустил боек. После этого Крук и его люди ускакали. Кудрявый рассмеялся смехом человека, сошедшего с ума. Он сплюнул в грязь и посмотрел на пистолет в своей руке. — Серый Лис говорит, что ему известно: ты, Билли с Вялым Конем, на самом деле лакота, а не кроу, но он приглашает тебя стать при нем разведчиком, пока он, Крук, Серый Лис, командует пехотой и кавалерией. Он говорит, что твоя храбрость… Лицо Кудрявого перекосило так, будто его вот-вот вырвет, но он только снова сплюнул. — Он говорит, что никогда не забудет твое сегодняшнее мужество и только надеется, что другие его разведчики будут учиться на твоем примере. Да… Серый Лис сказал мне, что ты настоящий скелет, и если Пьет-из-Копыта и я не покормим тебя, чтобы ты выжил, то он повесит нас обоих на первом попавшемся достаточно крепком дереве. Кудрявый снова рассмеялся безумным смехом. Паха Сапа мог только молча смотреть на него.
В ту ночь Паха Сапа проспал восемь часов под дождем без всякого одеяла или парусины. Еще до рассвета затрубили горны, и Паха Сапа стал с нетерпением ждать нового сражения. Но нет… Несмотря на непрекращающуюся перестрелку между воинами Шального Коня и арьергардом из кавалерии и пехоты, возглавляемым Медвежьей Шубой, капитаном Миллером, и невзирая на шесть месяцев поисков воинов лакота, два месяца из которых вазичу провели без какой-либо иной пищи, кроме конины, с двумя тысячами человек, жаждущих отомстить за смерть Кастера, Крук покидал поле боя. Они наткнулись на колею, наезженную золотоискателями, которые направлялись в Черные холмы, и теперь Крук повел тысячу семьсот своих голодных солдат по этому следу. Шальной Конь и его воины преследовали группировку, обстреливали ее день за днем с тыла и с флангов, предпринимали ложные атаки по ночам, но Крук не желал давать сражения. Если не считать двух сотен индейских пони и пяти тысяч фунтов мяса, взятых на индейской стоянке, которую они разорили у Тощей горки, давно ожидаемое и желанное сражение с Шальным Конем не принесло Круку других плодов. Они проделали путь из самого центра территории Вайоминга, выйдя из Форт-Феттермана 1 марта в сильную снежную метель, а теперь, оставив за спиной столько миль и по прошествии стольких месяцев, Крук отказывался от сражения с Шальным Конем и другими враждебными индейцами, и длинная колонна людей и лошадей медленно двигалась на юг в сторону Черных холмов. Паха Сапа снова оказался в священных холмах, и его все больше охватывало ощущениеневероятности и нереальности происходящего. Утопающие в грязи дороги и вонючий горный городок Дедвуд, у которого в конечном счете остановилась и разбила лагерь измотанная армия Крука, не имели никакого отношения ни к Черным холмам, ни к миру Паха Сапы. Волосатые вазичу вгрызались здесь в сердце живых холмов, чтобы найти свое золото, как это и происходило в видении Паха Сапы. Генерала Крука вызвали в Форт-Ларами на встречу с кем-то по имени генерал Шеридан. Кудрявый и другие разведчики теперь могли колотить Паха Сапу сколько их душе было угодно, но убивать его они по-прежнему опасались. С другой стороны, у Паха Сапы была возможность убежать, оставить эту глупую вялую кобылу и блохастый мундир, украсть хорошую лошадь и просто ускакать на Великие равнины, чтобы найти свое племя. Он смог бы избежать встречи с воинами Шального Коня, забрав подальше на запад, а потом на север, в белые пределы страны Бабушки, и попытаться найти там Сидящего Быка и других выживших, которых он знал. Он не сделал этого. Он не мог этого сделать. Он потерял свой народ, свою семью, свою тийапайе. Он потерял Птехинчала Хуху Канунпу. Когда выжившие после Голодного марша снова построились, поехали и пошагали следом за Круком в Форт-Робинсон к югу от Черных холмов к реке Небраска, то Паха Сапа — Билли Вялый Конь — отправился с ними. Он начал изучать английский — не глистный — вазичу, и первое слово, которое он узнал от солдат, оказалось полезным: существительное и глагол одновременно — fuck. В ту зиму ему наконец доверили нож, и он освоил фразу: «Попробуй только, я тебе яйца отрежу». Зима, весна и лето были долгими для Паха Сапы. Изучая английский, он начал понимать еженощный похотливый бубнеж призрака Длинного Волоса у него в голове. И теперь не оставалось сомнений, что это и в самом деле призрак Длинного Волоса — сам Кастер. Паха Сапа как мог старался заткнуть ему рот, заглушить слова. 5 сентября следующего (1877-го по счету вазичу) года, когда Шальной Конь пришел сдаваться и был заколот штыком, Паха Сапа больше не был с Круком и с армией. Он, Паха Сапа, уже видел слишком много смертей; он больше не хотел встречаться со смертью лично и знал, что не может ничего изменить. В тот вечер — снова в Луну созревания, незадолго до его дня рождения и первой годовщины видения — Паха Сапа тихонько оставил армию и Форт-Робинсон. Никто не преследовал его. Кудрявый умер от аппендицита двумя месяцами ранее, а больше никто не обращал внимания на присутствие или отсутствие одиннадцати- или двенадцатилетнего мальчишки-индейца. Паха Сапа вернулся в Черные холмы, но не для того, чтобы охотиться, разбить стоянку или поклоняться. Он вернулся в вонючий городок горняков Дедвуд, чтобы найти работу или воровать. И там, уже оказавшись в тюрьме после первой неудачной попытки воровства, за которую ему вполне могла грозить смерть через повешение, он встретил шаманов, которые были одеты, словно вороны, в черное и носили белые воротнички, они-то и завели эту нелепую палаточную школу на холме. И если бы он когда-нибудь рассказал эту историю Рейн или Роберту, то добавил бы, что если вазичу говорили о Голодном марше и сражении за Тощую горку, то для лакота это сражение — сражение, в котором юный Паха Сапа вывел генерала Крука прямо на Шального Коня, — навсегда осталось «Битвой, в которой мы потеряли Черные холмы».
19 Нью-Йорк
1 апреля 1933 г. По пути в город на поезде Паха Сапа читает в утренней газете об Адольфе Гитлере. В Вашингтоне уже месяц как новый президент — ФДР (и по мнению большинства голосующих в Южной Дакоте, которая преимущественно является республиканским штатом, уже становятся ясны контуры социалистической программы этого человека в Белом доме), а в Германии в январе канцлером стал Гитлер. Судя по статьям в этой и других недавних газетах, проблема там не в социализме, а в антисемитизме нового канцлера и его партии. Евреи протестуют, пишет «Нью-Йорк таймс», но нацисты, получившие полную власть в результате голосования, отвечают на эти протесты, выставляя пикеты из своих головорезов у еврейских магазинов, и пикеты прогоняют покупателей, готовых покупать у евреев. Здесь, в городе, в который въезжает Паха Сапа, в ходе митингов протеста 27 марта (пятью днями ранее) на Мэдисон-Сквер-Гарден собралась громадная толпа в пятьдесят пять тысяч человек, где президент АФТ[85] Уильям Грин, сенатор Роберт Ф. Вагнер и популярный Ал Смит, бывший губернатор штата Нью-Йорк, призвали к прекращению террора против немецких евреев. Протесты проходили также в Чикаго, Филадельфии, Кливленде, Бостоне и более чем в десятке других городов. В ответ на слабые протесты немецких евреев и громкие протесты в Америке нацистский министр пропаганды, Геббельс, объявил евреям в Германии однодневный бойкот. В «Таймс» были помещены фотографии штурмовиков СА с партийными значками, которые готовятся блокировать вход в принадлежащий еврею магазин в Берлине. Паха Сапа достаточно знал немецкий, общаясь с немецкими горняками и рабочими в Черных холмах, и потому смог прочесть Fraktur — подпись готическим шрифтом: «Германцы! Защитите себя! Не покупайте ничего у евреев!» В статье цитировали Геббельса, который предупреждал американцев и всех прочих, что если протесты против действий нацистов немедленно не прекратятся, «бойкоты будут возобновлены… пока немецкое еврейство не будет уничтожено». Паха Сапа вздыхает и кладет газету на свободное сиденье рядом с собой. Поезд пересекает мост, въезжает в Манхэттен, и первый апрельский рассвет окрашивает насыщенным, холодным светом все небоскребы и другие высокие здания. По календарю наступила весна, но воздух по ночам еще морозный, и на окнах появляется изморозь. Паха Сапа думает: может быть, Гитлер и эти нацисты — этакая вазичу-разновидность Шального Коня и других хейока, священные клоуны, ясновидцы грома, одержимые духами прислужники существ грома, которых убивает молния, если они не выполняют своего долга. Кажется, он где-то читал, что у офицеров СС на воротничках мундиров или еще где-то значки в виде двойной молнии… Да, Лайла Кауфман в булочной Рэпид-Сити говорила ему, что, когда она работала секретарем в муниципалитете Мюнхена, перед тем как вместе с семьей бежать из страны, на немецких пишущих машинках была специальная клавиша со знаком СС — двойной молнией. (Паха Сапа понятия не имеет, что означают эти буквы, но может себе представить значок с двойной молнией, выполненной прямыми штрихами в стиле ар-деко. Шальной Конь и его хейока акисита, «миротворцы» из племенной полиции, с удовольствием нацепили бы такие значки.) Если Гитлер, Геббельс и прочие не вызывающие смеха клоуны — это и в самом деле ясновидцы грома вазичу, то это многое объясняет, думает Паха Сапа, хотя бы то, почему они стремятся уничтожить своих вымышленных и кажущихся врагов. Существа грома для отдельных личностей и их племен — источник громадной силы и неимоверного количества направленной энергии, но это предательские духи, опасные для любого, даже для их избранных ясновидцев. Слуги существ грома, хейока, воины-клоуны, являют собой живые проводники молнии и могут в любую секунду с ужасной и внезапной яростью поражать не только врагов, но и друзей, и самих себя. Паха Сапа, прожив пятьдесят семь лет с воспоминаниями Шального Коня, точно знает, что меланхолия Т’ашунки Витко, его ощущение собственной изолированности и частые припадки бешенства были проявлениями данного ясновидцам грома племенного разрешения на отвратительные крайности. У вольных людей природы даже есть специальное слово — «китамнайан» — для такого рода неожиданной, непредсказуемой вспышки молнии: так говорят, когда ошалевшая стая ласточек удирает от грозы, всегда смирная лошадь вдруг ни с того ни с сего срывается в испуганный галоп или краснохвостый ястреб безжалостно и внезапно пикирует на жертву. Китамнайан, вызванный всплеском духовной энергии вакиньянов, первородной, неутолимой и нередко буйной энергии, которая в более хрупких и простых жизненных формах является лишь жалкой тенью их космической ярости. Несчастья ждут бедных евреев в Германии, думает Паха Сапа, если только их давно уснувший Бог, пишущийся с большой буквы Б, не покажет, что он не слабее, чем существа грома вакиньянов. Хотя Паха Сапа читал книги и разговаривал с Доаном Робинсоном (и даже со смиренными иезуитами в Дедвуде) об иудаизме, он не очень ясно представляет себе, верят ли евреи, что бог, владеющий ими, в полной мере наделен неистовством неустрашимого воина. Но он подозревает, что Гитлер и его сторонники слишком хорошо знают радости, страх и отраженную силу такого подчинения свирепым богам. Паха Сапа вздыхает. Он плохо спит в поездах и очень устал после трех дней и ночей, проведенных на жестких плетеных сиденьях. Он радуется при виде проводника, который идет по вагонам, объявляя, что следующая остановка — вокзал Гранд-сентрал и конец маршрута.Паха Сапа тащит свой мешок несколько кварталов до дешевой гостиницы на 42-й улице, о которой ему сказал «Виски» Арт Джонсон. Забронированный номер освободится только после полудня, поэтому Паха Сапа вытаскивает яблоко из мешка, оставляет мешок у портье и отправляется на прогулку по Парк-авеню. «Ее кооперативная квартира всего в трех кварталах к югу, на Парк-авеню, 71. Ты зайдешь?» — Нет. Мы договорились. Встреча назначена на четыре пополудни. «Но ты будешь проходить как раз мимо…» — Я вернусь в четыре. До этого я еще должен встретиться кое с кем и сделать кое-что. «Но может быть, она сейчас дома. Почти наверняка дома. Она, как пишет миссис Элмер, теперь никуда не выходит. Мы могли бы остановиться, спросить у швейцара…» Нет. «Может, тогда пойдем в другую сторону — дом сто двадцать два на Восточной Шестьдесят шестой, в клуб „Космополитен“, куда она прежде…» — Молчи! Последнее — не просьба, а непререкаемый приказ. Паха Сапа обнаружил, что может в любое время по своему выбору отправлять призрака назад, во тьму его беззвучной дыры. Если бы его номер в гостинице был свободен, то Паха Сапа, наверное, прилег бы поспать часок-другой после двух дней сидения в поезде, когда он почти не дремал, проезжая по прериям и засаженным зерновыми полям Среднего Запада, потом по темным, заросшим лесом холмам и по туннелям Пенсильвании, но он понимает, что хорошая, освежающая прогулка лучше. Прогулка и в самом деле хорошая. Он все же кидает взгляд на дом 71 по Парк-авеню, всего в трех кварталах от его гостиницы, но не замедляет шага. Как и положено в таких местах города, этот дом выглядит достаточно привлекательно. Он чувствует тревогу в связи с неминуемым предстоящим разговором — чтобы организовать его, потребовалось два года — и даже не может себе представить, в какой тревоге пребывает вселившийся в него дух. По правде говоря, он даже не хочет об этом знать. Быстро идя по Парк-авеню, Паха Сапа улыбается. Он думал, что готов к Нью-Йорку, — но ошибался. Здания, мириады зданий и лабиринты улиц, раннее утреннее солнце, скрытое за домами, бессчетное число автомобилей, телеги развозчиков льда, фургоны для доставки товаров, трамваи и такси, постоянный поток пешеходов. Прошло сорок лет с тех пор, как он в последний раз был в большом городе (в Чикаго, во время выставки 1893 года), но центр Черного города несравним ни с какой частью этого гиганта. Нью-Йорк производит на старого и уставшего представителя племени вольных людей природы (что здесь переводится как «деревенщина» или «дикарь») из западных штатов Пыльной Чаши ошеломляющее и подавляющее впечатление. Поначалу масштаб и темп всего, что он видит, странным образом опьяняет его, к усталости Паха Сапы чуть не добавляется головокружение, но через десять минут этот масштаб и темп тяжелым грузом ложатся на его плечи. (Он вспоминает истории Большого Билла Словака про кессон.) В других местах, где бы Паха Сапа ни бывал, он чувствовал себя человеком — независимо от того, знают ли его настоящее имя или нет, — но здесь он всего лишь один из миллионов, да к тому же довольно нелепый одиночка: тощий, усталого вида индеец, с длинными, все еще черными косами, с темными кругами под глазами и морщинистым лицом. Паха Сапа ловит свое быстро шагающее отражение в витринах магазинов или ресторанов — еще один непривычный для него груз: постоянное присутствие собственного отражения — и отмечает, как плохо сидят на нем давно вышедший из моды черный костюм, неумело завязанный галстук и мягкая шапочка. Туфли, которые он надевает очень редко, до блеска начищены, поскрипывают на каждом шагу и невероятно жмут. Печально улыбаясь, Паха Сапа понимает, что оделся для поездки словно на похороны, и этот факт становится все очевиднее с каждой новой витриной, в которой он видит себя. Он подозревает, что от него несет потом, дымом сигар, которым пропитан поезд, нафталином. У Паха Сапы нет пальто, и его с того самого часа, как поезд покинул Рэпид-Сити, мучает холод. Весна в этом году на Равнинах и в центральной части страны поздняя. Хотя утро в Нью-Йорке солнечное и воздух прогревается до обещанных в газете шестидесяти по Фаренгейту, он жалеет, что не надел толстую кожаную куртку, которую оставил ему Роберт в 1917 году и которую он вот уже шестнадцать лет надевает зимой и весной, куда бы ни отправлялся, кроме работы. Куртку и свои удобные рабочие ботинки. Он направляется по широкой Парк-авеню от 42-й улицы к Юнион-сквер, а потом на юго-восток по 4-й авеню на Бауэри-стрит. Скоро он оказывается южнее всех нумерованных улиц, проходит мимо итальянского квартала, мимо собора Святого Патрика, мимо Хустер-стрит, мимо Деланси-стрит в направлении Канал-стрит, идет по кишащим людьми иммигрантским районам, скармливающим остальной Америке второе поколение рабочих и строителей. Он думает, что если бы родился американцем, а не индейцем, то его родители, наверное, жили бы в этих трущобах, приехав морем бог знает откуда и пройдя через Касл-Гарден. (Доан Робинсон как-то рассказывал Паха Сапе, что до 1855 года в Америке не существовало пунктов по приему и регистрации иммигрантов. Приезжая сюда, люди просто заполняли декларацию — если хотели, — сдавали ее таможенному чиновнику на борту парохода или парусника и отправлялись заниматься своими делами в новой стране. Робинсон рассказывал, что вплоть до закрытия этого иммиграционного пункта в 1890 году, власти Нью-Йорка — а не федеральное правительство — регистрировали прибывающих иммигрантов в Касл-Гардене, называемом также Касл-Клинтон, — на острове в юго-западной оконечности Манхэттена. После 1890 года эти функции взяло на себя федеральное правительство, которое просеивало поток иммигрантов во временном центре на барже, пока в 1900 году не открылся иммиграционный центр Эллис-Айленд. Начиная с 1924 года, как сказал ему Доан, большинство потенциальных иммигрантов снова регистрируются на борту корабля, а на Эллис-Айленд отправляют только тех, кто вызывает сомнения или кому требуется карантин по состоянию здоровья.) Почему-то Паха Сапе хотелось бы оставаться в Нью-Йорке столько, сколько нужно, чтобы осмотреть все эти места, хотя иммиграция не имеет к нему никакого отношения. Потом он вспоминает мертвых солдат вазичу в синих мундирах, лежавших на холмах над Сочной Травой, их белые искалеченные тела, такие жуткие на фоне зеленой и пожухлой травы. Он узнал, что большинство этих мертвецов, которые числились разведчиками в кавалерии Крука в Форт-Робинсоне, были ирландцами, немцами и другими новичками-иммигрантами. Во время серьезного промышленного спада 1876 года армия предлагала привлекательную альтернативу голоду в тех самых трущобах, мимо которых сейчас проходил Паха Сапа. Кудрявый на своем ломаном винкте лакотском и еще более ломаном английском сказал Паха Сапе, что половина пэдди и фрицев, которые находились в подчинении Кастера, не понимали команд своих сержантов и офицеров. Призрак, томящийся внутри Паха Сапы, никак это не комментирует. Расстояние от вокзала Гранд-сентрал до Бруклинского моста не так уж и велико — по прикидкам Паха Сапы, не больше четырех миль, и он (шагая между высокими зданиями, переходя из тени на солнце, а после каждого перекрестка снова в тень, выбирая западную сторону улицы, чтобы выйти из прохладной тени, если здания пониже) вспоминает, как он бродил по каньонам в Колорадо, Юте, Монтане и — гораздо меньше — по своим собственным Черным холмам. Но в известной Паха Сапе части Запада лишь несколько каньонов (вроде того, что вазичу теперь называют Спирфиш-каньон) имеют такую глубину и крутизну, чтобы походить на нижнюю часть Бауэри: гулкое эхо и резкие переходы от яркого солнца к тени. Хотя становится все теплее, ветер щиплет его лицо. Обычно Паха Сапа не обращает внимания на высокие и низкие температуры, но в этом году он начал мерзнуть, и нью-йоркская прохлада снова заставляет его пожалеть, что на нем нет пальто или кожаной мотоциклетной куртки Роберта. Улицы впереди становятся слишком узкими, он поворачивает направо и идет на юго-запад по Канал-стрит назад, в направлении Бродвея, потом снова поворачивает налево, на Сентр-стрит. Впереди он видит Сити-Холл-Парк, и — неожиданно — он пришел. Бруклинский мост тянется над низкими зданиями и дугой перепрыгивает через Ист-ривер. Поднимающееся солнце все еще достаточно низко, и две башни с дугообразным пролетом отбрасывают длинные тени на Манхэттен, ближняя башня — так называемая Нью-Йоркская, затеняет узкие улицы, выходящие к реке, и склады по обе стороны широкого подъезда. «Ты для этого сюда пришел?» — Да. Ты со своей женой был в Нью-Йорке зимой, перед тем как тебя убили. Башни тогда уже были построены? «Бруклинская башня — да. А Нью-Йоркская, когда мы уехали в феврале, еще достраивалась. Обе они были оплетены множеством мостков и лесов, но все равно производили сильное впечатление. Тогда еще не было этих натянутых тросов… Ты посмотри на дорогу! Посмотри на эти подвесные тросы! Мы и представить себе не могли, что у моста будет такой величественный вид!» Паха Сапа ничего на это не говорит. У моста действительно величественный вид. Он видел фотографии, но реальность превзошла все его ожидания. Даже на этом острове новых архитектурных гигантов Бруклинский мост (пусть ты смотришь на него с загроможденного манхэттенского подхода) производит впечатление своей мощью и величием. Паха Сапа мог бы — но решает не делать этого — поведать обитающему в нем призраку о бесконечных десятичасовых рабочих сменах в опасной темени, пыли и дыме шахты «Ужас царя небесного» в Кистоне, о нескончаемых рассказах его наставника Тар кулича, Большого Билла Словака, так и не избавившегося от своего гулкого восточноевропейского (бог уж его знает, какого именно) акцента, о громких криках, которые каким-то образом перекрывают гром паровых буров, стук кувалд, ржавый скрежет, визг и грохот вагонеток, протискивающихся мимо них в полуночно-темном хаосе, и о его, Большого Билла, вкладе в строительство Бруклинского моста. Большой Билл оставил свою «старую страну», едва ускользнув от полиции, которая собиралась арестовать его за убийство в драке другого подростка. Случилось это в городе, в названии которого, казалось Паха Сапе, вообще не было гласных. А в 1870 году семнадцатилетний Большой Билл Словак прибыл в Нью-Йорк и устроился рабочим в «Мостостроительную компанию», с которой был заключен контракт на строительство того, что тогда называлось «мост Нью-Йорк — Бруклин». Тогда не было еще никаких башен или тросов. Большой Билл признался, что он беззастенчиво соврал, устраиваясь на работу: сказал, что ему двадцать один и что он опытный рабочий — единственное, чем он занимался на родине, — это пас коз своего калеки-дядюшки — и, самое главное, что он профессиональный взрывник. (На самом деле он ни разу не поджигал ни одного фитиля, соединенного с чем-либо более мощным, чем свечка, но в тот жаркий майский день на работу принимали взрывников, и Большой Билл знал, что если будет нужно, то он научится у них. Как выяснилось, большинство из них тоже врали насчет своих профессиональных навыков в такой же мере — а то и в большей, — что и Большой Билл.) В 1870 году, как не раз рассказывал Большой Билл в зловонной черной тесноте шахты «Ужас царя небесного» более чем тридцать лет спустя, нужно было обладать сильным воображением, чтобы представить себе, каким будет мост Нью-Йорк — Бруклин. Когда Большой Билл приступил к работе, существовал только огромный кессон, который, словно приплывший пароход, пришвартовали у бруклинского берега Ист-ривер и намеренно затопили. Этот кессон, наполненный сжатым воздухом, чтобы не допустить проникновения в него воды и обеспечить внутри рабочее пространство, должен был стать основанием для громадной Бруклинской башни, которую со временем возведут над ним. Но сначала кессон (а потом и его близнец на нью-йоркской стороне) нужно было погрузить, минуя толщу воды, ила, наносов, песка, гравия, пока он не достигнет коренной породы. Большой Билл любил цифры. (Паха Сапа часто думал, что если бы этот специалист-взрывник громадного роста остался в своей старой стране и сумел получить образование, то мог бы стать математиком.) Даже в первый год их совместной работы Большой Билл неустанно засыпал статистическими данными своего тридцатисемилетнего помощника (вдовца-индейца, зарабатывавшего деньги, чтобы кормить пятилетнего сына, за которым во время дневных и ночных смен присматривала Безумная Мария, кистонская мексиканка, бравшаяся за любую работу). Кессон, в котором работал юный Большой Билл под Ист-ривер, представлял собой гигантскую прямоугольную коробку длиной сто шестьдесят восемь и шириной сто два фута, разделенную на шесть отсеков, каждый длиной двадцать восемь и шириной сто два фута. Оба кессона, как часто повторял Большой Билл, были «такие большие, что там можно было разместить по четыре теннисных корта», что забавляло Паха Сапу, поглощавшего свой ланч в зловонной темноте «Ужаса царя небесного», потому что он никогда не видел теннисного корта и был уверен, что и Большой Билл не видел. У кессона, конечно, не было дна. Рабочие ходили прямо по грунту, илу, отходам, валунам, гравию и коренной породе на дне реки. Именно наличие этих валунов на пути стенок кессона (коробку нужно было погружать до самого упора, когда она уже не сможет продвигаться дальше, после чего начать на ней строительство башни) и потребовало применения несуществующих профессиональных знаний взрывника Большого Билла. Рабочие условия в кессоне на бруклинской стороне (а позднее и на нью-йоркской, где кессон погрузили на гораздо большую глубину) были ужасающими. Вонючий ил, постоянные высокие температуры, такое высокое давление воздуха, что и свистнуть невозможно, в буквальном смысле невозможно выдохнуть воздух из легких, вредное воздействие перепадов давления, которому подвергался организм всех рабочих сначала при спуске, а потом при выходе из жуткой дыры в реке. Паха Сапа так никогда толком и не понял математику и природу этого самого высокого давления, но он верил Большому Билу, когда гигант говорил о проблемах, связанных с чем-то, что они все называли «кессонкой», а другие — декомпрессионной болезнью. Никто не знал, кого она поразит и с какой силой, было известно только, что она рано или поздно достанет всех и многие умрут в страшных мучениях. Сам полковник Вашингтон Реблинг, главный инженер и сын конструктора моста Джона Реблинга (который умер от столбняка, после того как в самом начале работ ему размололо пальцы ног на строительной площадке), заболел кессонкой, которая погубила его, сделав инвалидом на всю оставшуюся долгую жизнь. Большой Билл говорил, что болезнь, связанная с высоким давлением, не так сильно проявлялась во время работы на первом кессоне, поскольку коробку фундамента опустили всего на сорок четыре фута, а вот нью-йоркский кессон — на семьдесят восемь футов. Внешнее давление на кессон и соответствующее давление воздуха внутри на рабочих было невероятно высоким. Люди умирали от кессонки в обеих коробках, но настоящим убийцей, как говорил Билл, был нью-йоркский кессон. Кессонка несколько раз поражала Словака за годы его работы в кессонах, и он так описывал ее симптомы Паха Сапе: головные боли с потерей зрения, постоянная рвота, невыносимая слабость, паралич, ужасные стреляющие боли в различных частях тела, ощущение, будто тебе выстрелили в спину или прокололи легкие, а потом нередко — слепота и смерть. В худших случаях (как у полковника Реблинга, которого болезнь поразила после целого дня и ночи борьбы с медленным пожаром в бруклинском кессоне, когда ему пришлось множество раз спуститься в кессон и подняться на поверхность) приходилось прибегать к большим дозам морфия, чтобы смягчить боль, пока рабочий не поправлялся или не умирал. У Большого Билла имелось собственное лечебное средство. Какими бы тяжелыми ни были проявления болезни, он кое-как спускался по лестнице в шлюзовую камеру, а потом нырял назад в темень, давление, дым, грохот кувалд и хаос дощатого настила на дне реки. Через несколько минут он всегда чувствовал облегчение. Он говорил, что обычно отрабатывал лишний неоплачиваемый час-другой, размахивая кувалдой или устанавливая заряды, и мучительный припадок смягчался, а потом проходил вовсе. Большой Билл рассказывал Паха Сапе, что когда на бруклинской стороне Ист-ривер они углубились в ил на двадцать футов, на пути кессона стали встречаться слишком крупные валуны — кувалдами, костылями, ломами и потом их было не размолотить. Полковник Реблинг устроил совещание с Большим Биллом и двумя другими новыми рабочими, которые, как полагал Билл, были такими же «опытными» взрывниками, как и он сам. Разбивание валунов вокруг усиленной металлической кромки кессона (она у них называлась башмаком) из почти невозможного стало абсолютно невозможным, как бы ни старались рабочие внизу, в сгущенной атмосфере коробки под весом более двадцати семи тысяч тонн кессонной крышки и всего, что на ней, с десятками тысяч тонн веса воды и к тому же при повышенном давлении, и потому все рабочие высказались за проведение взрывных работ. У Реблинга было три соображения. Он объяснил трем «взрывникам» и бригадирам, что в такой атмосфере повышенного давления внутри кессона даже слабый взрыв может привести к разрыву барабанных перепонок у всех находящихся там рабочих. Еще, добавил он, сжатый воздух в кессоне уже наполнен вредными газами, а также дымом и паром от друммондовых огней,[86] которые горят на конце длинных металлических стержней, отбрасывая странные тени и мерцая своими яркими голубоватобелыми соплами, и этот воздух может стать совершенно непригодным для дыхания, если к нему добавится еще дым от взрыва. А кроме того, сказал полковник Реблинг, взрыв может перекорежить двери и клапаны шлюзовой камеры, заблокировав единственный выход из кессона на дне реки. Большой Билл не раз описывал Паха Сапе, какими понимающими взглядами обменялись взрывники после таких объяснений. Но у Реблинга был и еще один, более серьезный повод для беспокойства. Обломки камней и песок удалялись с рабочей площадки в кессонах по колодцам — двум громадным стволам, откуда вода не выливалась только благодаря высокому давлению в кессонах. Днища каждого из стволов были открыты и находились всего в двух футах над бассейнами воды, обустроенными под ними. В эти бассейны было удобно сбрасывать обломки, которые потом поднимались вверх по колодцу через стоячую колонну воды; но что произойдет, спрашивал главный инженер, если взрыв в кессоне, направленный на разрушение валуна (а взрыв, конечно, нужно производить внутри кессона), воздействует на столб воды и воздух вырвется наружу? Большой Билл сказал, что и он, и бригадиры, и взрывники молчали, тупо глядя перед собой. Билл Словак принялся подражать искаженному жутким давлением воздуха голосу полковника Реблинга в углу кессона, где происходил это разговор, и результат оказался необычным: словарный запас Билла внезапно увеличился, голос изменился, акцент стал менее заметен: — Случится полная декомпрессия, джентльмены. Вся вода, удерживаемая в колодце над нами, а на сегодня это столб в тридцать пять футов, а возможно, вся вода в обоих колодцах извергнется, как двойной Везувий, а за ней последует и сжатый воздух, которым мы дышим и который не впускает сюда Ист-ривер. Рабочие, которые окажутся вблизи колодца, наверняка извергнутся наверх вместе с фонтаном обломков. И тогда вся масса кессона, удерживаемая только за счет высокого давления, обрушится на нас, разбивая и расплющивая все блоки, скобы, рамы и даже наружные клинья самого башмака. Все внутренние переборки… Большой Билл сказал, что в этот момент кучка бригадиров и рабочих, включая трех «взрывников», так «горевших желанием» поджечь запал, оглядела кессон, блестя белками широко распахнутых глаз, которые казались еще шире и белее в сине-белом сиянии друммондовых огней. — Все внутренние переборки и опоры будут мигом смяты это массой, обвалившейся сверху. Никто не успеет добраться до шлюзовой камеры или даже до узких стволов, которые до взрыва были колодцами-подъемниками, а после него превратятся в фонтаны, извергающиеся наружу, а все конструкции из стали и железа — воздушные стволы, шлюзы, колодцы, скобы, башмак кессона — тоже будут смяты и раздавлены в течение нескольких секунд. А потом сюда ворвется река и утопит тех, кому удастся выжить после обвала. После этого вытаращенные белые глаза, рассказывал Большой Билл Паха Сапе (а иногда и еще пяти-шести шахтерам) в черных глубинах «Ужаса царя небесного», встретились в последний раз, потом снова обратились к полковнику Реблингу. — Итак, джентльмены, новое скопление валунов выходит за пределы башмака, находится вне пределов нашей досягаемости и не собирается сдаваться нашему наступлению с кувалдами и ломами. Вес кессона будет только загонять их все глубже, а башмак и вся конструкция будут неизбежно повреждены, если мы не удалим эти валуны. Так рискнем мы прибегнуть к взрывчатке? Мы должны решить сегодня. Сейчас. Все они согласились попробовать. Но сначала, как рассказывал Большой Билл, Реблинг принес свой револьвер, оставшийся у него после службы в армии во время Гражданской войны, и стал стрелять из него, увеличивая мощность пороховых зарядов. Никто не оглох. Звук выстрелов, сказал Большой Билл, был до странности приглушенным в сверхплотной атмосфере кессона. Затем полковник приказал Большому Биллу и двум другим «взрывникам» установить небольшие рабочие заряды в дальнем углу кессона, всей остальной смене отойти в самые дальние закоулки, а взрывникам постепенно увеличивать мощность зарядов. Колодцы не взорвались, даже когда заряды приблизились к той мощности, которая требовалась, чтобы разрушить казавшиеся непробиваемыми валуны. Шлюзовые камеры остались целыми. Вибрации не уничтожили ни крепления, ни людей. — Но пороховой дым был сущим проклятием, — рассказывал Большой Билл в темноте «Ужаса царя небесного». — Мы по сорок минут, а то и больше работали в черном облаке дыма, образующемся после каждого взрыва, даже не видя концов своих кувалд или ломов, а потом я неделю харкал черной слизью, вязкой, как гудрон. Но результат действия полного заряда был поразительным. Валуны, которые задержали бы их продвижение на несколько дней и повредили бы башмак оседающего кессона, разлетались на куски за считаные секунды, эти куски затем размалывались и отправлялись наверх по колодцу. Он сам, рассказывал Большой Билл Паха Сапе, предложил полковнику Реблингу использовать технику, применяемую шахтерами, которые с помощью длинных стальных буров и кувалды пробивают в камне отверстия, куда потом закладывают заряд (паровой бур, которым все они пользовались на «Ужасе царя небесного» в Черных холмах с 1900 по 1903 год, в 1870–1871 годах еще не был изобретен), что позволяет легко производить забойку заряда и приводить его в действие. Большой Билл, чьи руки были в два раза больше рук Паха Сапы, даже во времена его дряхлой старости, в сорок лет, на «Ужасе царя небесного» в 1902 году был главным по установке и забойке заряда. За одну восьмичасовую вахту он с двумя напарниками, говорил Большой Билл, могли производить до двадцати взрывов. Другие рабочие настолько к этому привыкли, что вместе с взрывниками спокойно отходили в соседние отсеки, чтобы не попасть под вызываемый взрывом град осколков и камней. Они уже опускались не на шесть дюймов в неделю, как было раньше, когда валуны разбивались кувалдами, теперь бруклинский кессон падал на двенадцать — восемнадцать дюймов за шесть рабочих дней (в воскресенье у всех был выходной). Полковник Реблинг поднял жалованье Большому Биллу Словаку и другим взрывникам на двадцать пять центов в неделю. В марте 1871 года, когда бруклинский кессон достиг глубины сорока четырех футов и шести дюймов, Реблинг приказал Большому Биллу и другим рабочим закачать туда цемент. Теперь кессон стал фундаментом для Бруклинской башни будущего моста. Кессоны, погруженные на такую глубину в древние мезозойские коренные породы Ист-ривер, куда не могли добраться ни морские черви, ни другие точильщики, ни обычные агенты разложения, простоят, как сказал полковник Реблинг, миллион лет. В мае 1871 года, когда со стапелей сошел нью-йоркский кессон, восемнадцатилетний Таркулич «Большой Билл» Словак восседал на нем, словно моряк, помогая сплавлять его вниз по реке к пункту назначения, которого тот достиг в сентябре. Когда год спустя нью-йоркский кессон достиг своей окончательной глубины в семьдесят восемь футов и шесть дюймов, — более высокое давление забрало здесь и больше жизней, — Большой Билл был предпоследним, кто покинул кессон; перед тем как его заполнение бетоном было почти завершено, он протянул свою громадную руку, чтобы помочь полковнику Реблингу подняться в шлюзовую камеру, двери которой закрылись за ними в последний раз. После этого многие из тех, кто работал в кессоне, взяв свои жалкие деньги, отправились по домам, но Большой Билл начал работать на Бруклинской башне, а когда в мае 1875 года башня была завершена, перешел на Нью-Йоркскую, возведенную в июле 1875-го. Он рассказал Паха Сапе, что поменял темноту и повышенное давление кессонов в семидесяти и более футах под поверхностью реки на работу высотника, болтающегося на высоте в двести семьдесят футов над поверхностью реки. Они не пользовались страховочными приспособлениями. Их жизнь зависела только от их здравого смысла и чувства равновесия, а также от простой люльки, болтающейся на тросе, или от прочности лесов. Работая на верхушках строящихся башен, они весь день спинами были обращены к двухсотфутовой пропасти, на дне которой их ждала твердая, как цемент, вода. А потом началась опасная намотка и натяжка многих тысяч миль стальных тросов. Большой Билл Словак освоил и эту профессию. Ничто ему так не нравилось, как проход по висячим мосткам — раскачивающимся, неустойчивым, шириной в четыре фута, изготовленным из досок, не подогнанных вплотную, они крепились к каждой из башен под углом в тридцать пять и больше градусов и проходили над рекой на высоте двести и более футов, и только в первый день, когда они начали сплетать нити троса, он и его босс Э. Фаррингтон не меньше четырнадцати раз пробежали туда-сюда по всей длине раскачивающихся мостков, равной тысяча пятьсот девяносто пяти футам и шести дюймам. Таркулич «Большой Билл» Словак был в восторге от каждого часа и дня своей работы на Бруклинском мосту — он сто раз говорил об этом Паха Сапе, — и когда весь Нью-Йорк, Бруклин и Америка сходили с ума, празднуя официальное открытие моста 24 мая 1883 года, Большой Билл рыдал как ребенок. Ему тогда исполнилось тридцать, и тринадцать из них он проработал на полковника Реблинга и на сказочный мост. А тут вдруг будущее покрылось туманом неизвестности. Шесть месяцев он запойно пил в Нью-Йорке, а потом направился на запад, в золотоносные поля Колорадо, а оттуда на Черные холмы. Любой золотодобывающей шахте был нужен опытный взрывник. Он рассказывал, что в таких городках, как Криппл-Крик, платили хорошо, но виски и шлюхи там тоже стоили дорого. В тот вечер, когда Большой Билл погиб под завалом (этот завал был следствием не его всегда тщательно рассчитанных подрывов, а недогляда какого-то мастера-однодневки — из тех, которым на все наплевать, — поставленного наблюдать за надежностью крепей в горизонтальном стволе номер одиннадцать), Паха Сапа работал в другую смену. Следующим утром он не вышел на работу — уволился, дождался только вместе с еще несколькими рабочими (и одной мексиканкой) похорон Большого Билла Словака на обдуваемом всеми ветрами кладбище на окраине Кистона. Потом Паха Сапа на часть накопленных денег купил лошадь, взял своего маленького сына и мимо Медвежьей горки отправился на север в Великие равнины.
Паха Сапа выходит на дощатую пешеходную дорожку и направляется к возвышающимся впереди каменным башням. Внизу справа и слева бегут поезда. Большой Билл говорил ему, что полковник Реблинг запустил фуникулер, вроде того, что бегает в Сан-Франциско, который двигался, просто зацепившись за вращающийся трос под ним, но его в последующие десятилетия сменили сначала трамваи, а затем электрички, которые всюду в Нью-Йорке и Бруклине катят по эстакадным путям. Глядя на мчащиеся мимо поезда в защитной, стальной с деревом, облицовке, Паха Сапа предполагает, что недалеко то время, когда их тоже уберут и автомобильные полосы в обоих направлениях будут увеличены с двух до трех. Но даже при двух полосах в каждом направлении машины громко ревут внизу по обе стороны пешеходной дорожки. Паха Сапа не может сдержать улыбку, когда думает о том, что полковник Реблинг (и его отец Джон в 1850-е годы) проектировал мост для пешеходов и конного движения, но построенное сооружение окажется настолько прочным, что будет выдерживать многие миллионы «фордов», «шевроле», «сутцев», «студебеккеров», «доджей», «паккардов» и грузовиков самых разных размеров. Паха Сапа замечает, что этим утром движение интенсивнее в сторону Манхэттена, чем в сторону Бруклина. На кажущейся бесконечной пешеходной дорожке многолюдно, но не очень. Даже здесь большинство гуляющих (мужчины на легком ветерке придерживают свои шляпы, немногочисленные женщины время от времени прижимают к телу юбки, которые здесь короче, чем у вайапи вазичу в Южной Дакоте) двигаются в сторону Манхэттена. Сегодня идеальный день, чтобы прогуляться по пешеходной дорожке Бруклинского моста. Несмотря на ветерок, здесь теплее, чем там, в тени домов. Паха Сапа бросает взгляд на свои дешевенькие часы: начало девятого. На какую же работу, которая начинается так поздно, спешат эти люди, недоумевает он. Так же как горные хребты, скажем, Тетонских или Скалистых гор лучше оценивать с расстояния, подальше от обступающих их предгорий, так и горизонт Нью-Йорка становится более впечатляющим, чем дальше Паха Сапа отходит по мосту. Все высотные здания центра города к северу вдоль берега реки отливают золотом в лучах утреннего солнца, а некоторые из небоскребов повыше за этой первой линией сооружений поднимаются так высоко и так интенсивно отражают солнце, что сами кажутся световыми колоннами. Паха Сапа видит, как ярко отражается свет от очень высокого здания подальше на север, и думает, что, может, это и есть новый Крайслер-билдинг — в Южной Дакоте некоторые думают, что он сооружен целиком из стали. Впереди он видит первую из двух башен, которая поднимается на двести семьдесят шесть футов и шесть дюймов над поверхностью воды. Сколько раз Большой Билл Словак повторял все эти факты и цифры Паха Сапе в темени той опасной дыры, что называется «Ужас царя небесного»? Паха Сапа в то время не имел ничего против; повторение определенных фактов и цифр может быть вакан, священным само по себе, некой разновидностью мантры. На Ист-ривер и всем Манхэттене теперь, пятьдесят лет спустя после завершения первого, целая гирлянда мостов, но эти другие — включая Манхэттенский мост на северо-востоке и Уильямсбергский мост вверх по реке за ним — сделаны из стали и железа. На взгляд Паха Сапы, они в этот прекрасный первоапрельский день выглядят страшно уродливо по сравнению с изящными, но кажущимися вечными башнями-близнецами из камня, на которых держится Бруклинский мост. Он знает, что это не только самые высокие, но и единственные каменные башни такого рода в Северной Америке, и тут он, слегка потрясенный, понимает, что в Америке нет других каменных памятников человеческому духу, превышающих эти каменные башни Реблинга с их двойными готическими арками, кроме каменных голов Гутцона Борглума, появляющихся на Черных холмах. Сейчас там время интенсивных взрывных работ — Борглум готов отказаться от работ на уже намеченной вчерне голове Джефферсона слева (если стоять лицом к памятнику) от Джорджа Вашингтона и уже очищает взрывами скалу справа от Вашингтона в поисках более подходящей для камнетесных работ породы, из которой будет высечен новый Джефферсон, — и Борглум пригрозил сжечь Паха Сапу, когда тот попросил шестидневный отпуск. «Ну, теперь ты доволен? Мы уже можем вернуться на Парк-авеню и узнать, дома ли она?» — Нет. Помолчи, пока я не разрешу тебе говорить. Встреча назначена на четыре часа дня, и миссис Элмер из Бруклина очень ясно дала понять, что мы… я не должен являться раньше этого времени. Так что помолчи. Если услышу от тебя еще хоть слово, прежде чем сам спрошу, то я не пойду на встречу, сегодня же сяду на поезд и сэкономлю жалованье за несколько дней. Молчание. Он слышит только звук проносящихся мимо поездов, рев машин на дороге моста, легкий шорох ветра в гигантских бесчисленных тросах, на которых подвешен мост, и за его спиной — постоянный приглушенный гул города, пронизанный автомобильными гудками. Паха Сапа слышит голоса и направляется к ограде пешеходной дорожки. Четыре человека в комбинезонах в люльке внизу покуривают сигареты и смеются, а один из них изображает, будто красит металлическое плетение под деревянным настилом прогулочной дорожки. Паха Сапа откашливается. — Простите, джентльмены… Не можете ли вы мне сказать, некий мистер Фаррингтон работает сегодня на мосту? Четверка поднимает головы, двое из них смеются. Самый толстый из них, коротышка, который кажется Паха Сапе главным, смеется громче всех. — Эй, что это с тобой такое, старик? Это у тебя косы? Ты что, китаец или какой-то индеец? — Какой-то индеец. Толстый коротышка в заляпанном комбинезоне снова заливается смехом. — Этохорошо, потому что по субботам старикам-китайцам не разрешается ходить по мосту. То есть бесплатно не разрешается. — Вы не знаете, мистер Фаррингтон все еще работает здесь? Э. Ф. Фаррингтон… Я не знаю, как расшифровывается Э. и Ф. Я пообещал одному моему другу, что узнаю. Четверка переглядывается, они о чем-то переговариваются, потом снова смеются. Паха Сапе не требуется большого воображения, чтобы представить, что бы сделал мистер Борглум, если бы увидел, как кто-то курит на рабочем месте и так неуважительно разговаривает с людьми, посещающими памятник. Как-то раз Линкольн Борглум сказал ему: «Спустя некоторое время все понимают, что мой отец не просто так все время носит свои большие ботинки». Высокий рабочий с клочковатыми усами — Джефф в дополнение к толстоватому бригадиру Матту[87] (Паха Сапа постоянно путал двух этих персонажей комиксов, пока не встретил на рабочей площадке памятника высокого, худого усатого работягу по имени Джефферсон — «Джефф» Грир, которого не спутаешь с Хантимером «Большим Хером» или Хутом, он же Маленький Хут Линч) — издает странноватый для взрослого мужчины смешок и говорит: — Да-да, вождь, мистер Фаррингтон все еще тут работает. Он сейчас на верхушке ближней башни. Он один из здешних боссов. Паха Сапа мигает, услышав эту новость. Если Фаррингтону было тридцать, когда Большой Билл Словак познакомился с ним в 1870 году, то сейчас ему должно быть девяносто три. Вряд ли в таком возрасте кто-то может работать. К тому же на вершине одной из башен. Может быть, сын? — Э. Ф. Фаррингтон? Главный механик? Пожилой или молодой? Новый взрыв необъяснимого смеха внизу. На сей раз отвечает бригадир Матт: — Ну да, Фаррингтон работает механиком. И он старше коренных зубов Моисея. Вот только насчет «главного» не уверен. Поди поднимись и сам у него спроси. Паха Сапа поднимает голову на громаду каменной башни. Он знает, что ни снаружи, ни внутри этого каменного двухарочного монолита нет лестницы. А уж тем более лифта. — И туда можно подняться? Высокий, Матт, отвечает: — Конечно, вождь. Мост открыт для публики, разве нет? Мы даже денег за проход не берем. Иди-иди. Паха Сапа щурится на солнце. — А как? Толстый коротышка Джефф отвечает ему, и неожиданное молчание трех остальных вызывает у Паха Сапы подозрение. — Ну, по любому из четырех тросов. Я предпочитаю тот, что справа от прогулочной дорожки. Если сорвешься с него, то до реки не долетишь — шарахнешься на прогулочную дорожку или разобьешься о проезжую часть внизу. — Спасибо. Паха Сапа хватило общения с этой четверкой. Он надеется, что не все ньюйоркцы такие. — Не бери в голову, Сидящий Бык, — снова говорит Матт. — Когда вернешься в резервацию, передай от нас привет своей скво.
Четыре троса тянутся на берег реки, и каждый крепится ниже вершины соответствующей башни. Два из них поднимаются по обеим сторонам прогулочной дорожки от самого ее начала и провисающей дугой уходят к Бруклинской башне, от них ответвляется двести восемь поддерживающих тросов, называемых несущими, а еще на башне закреплено множество диагональных тросов — «ванты», по морской терминологии, — которые помогают удерживать пролет. В серединной части реки, опускаясь до самой проезжей части, висят четыре троса, образующие самую идеальную из геометрических форм — цепную линию.[88] Сын Паха Сапы Роберт, который очень любил математику и вообще науку, но чаще казался скорее поэтом, чем геометром, как-то раз следующим образом описал Паха Сапе цепную линию: «Самое художественное и изящное проявление гравитации — роспись Бога». Еще Паха Сапа знает, что каждый из четырех основных тросов по обоим берегам заканчивается гигантским анкером. Они представляют собой башни высотой по восемьдесят футов (сами по себе грандиозные сооружения на момент открытия моста, когда Нью-Йорк был невысоким городом) и весят по шестьдесят тысяч тонн. И каждый из этих анкеров удерживает нагрузку башен, пролетов, поездов, людей, тысяч миль проводов и громадный вес самих тросов (так арочные контрфорсы средневековых соборов несут вес всего сооружения) анкерными плитами, каждая весом более двадцати трех тонн, и эти плиты, посаженные на каменное основание, сравнимое с пирамидой весом в шестьдесят тысяч тонн, соединены анкерными тягами длиной двенадцать с половиной футов, а тяги, в свою очередь, скреплены со штангами меньшего размера, которые и выведены на выкрашенные красной краской гигантские стержни с проушинами, торчащие из громадной анкерной сваи из камня, железа и стали, и каждый стержень с проушиной соединен со своим тросом, а четыре троса вместе держат на себе всю массу моста. Но для Паха Сапы все это сейчас не имеет значения. Он должен понять, можно ли на самом деле пройти по одному из этих тросов. Он хочет поговорить с мистером Фаррингтоном. Поэтому Паха Сапа стоит у южных перил прогулочной дорожки и смотрит на один из четырех широких тросов, уходящих к башне. В этом месте трос располагается ниже прогулочной дорожки, а еще дальше, ближе к берегу Нью-Йорка, даже ниже уровня самого моста. Трос в металлической, окрашенной белой краской оплетке не такой уж и толстый, если вспомнить, какую нагрузку он несет (его диаметр — всего 15 ¾ дюйма, такого же размера и три других главных троса), но Паха Сапа помнит, что в каждом большом тросе есть пять тысяч четыреста тридцать четыре металлических проводка, каждый из них скручен в пучки вместе с другими проводами в главном тросе. Большому Биллу Словаку нравилось это число — пять тысяч четыреста тридцать четыре. Он считал, что в нем есть что-то мистическое. Похоже, даже вазичу верили в духов и знаки. Паха Сапа легко перешагивает через низкие перила на трос, который проходит справа от прогулочной дорожки. Стоять на нем можно без труда — это труба диаметром чуть меньше шестнадцати дюймов, но крашеный и изогнутый металл оказывается скользким. Паха Сапа снова жалеет, что надел неудобные дешевые туфли на скользкой подошве. Он предполагает, что трос тянется на семьсот пятьдесят — восемьсот футов от этой точки до проходного канала в башне на высоте двести семьдесят пять футов над рекой. Большой Билл мог бы назвать ему точную длину. Вообще-то, он и называл ему точную длину пролета моста и кабеля — девятьсот тридцать футов, но он уже прошел по пролету (вдоль которого и тянется кабель) от анкера около двухсот футов. Видимо, впереди около семисот двадцати пяти футов троса. И он поднимается под углом тридцать пять градусов. Если подумать — не очень круто, но когда стоишь на таком тросе, твое представление о крутизне меняется, Паха Сапа знает это по многим годам работы в шахте и двум годам на горе Рашмор. И потом, скользкая поверхность — такая опасная штука. Справа от главного проходит тоненький трос, он висит фута на три с половиной выше главного. Это своего рода перила, но, чтобы за них держаться, нужно свеситься в одну сторону. Расстояние между главным тросом и тоненьким довольно велико. Паха Сапа приходит к выводу, что это, пожалуй, не перила, а какая-нибудь оснастка, чтобы цеплять к ней инструмент или спускать оборудование на леса, закрепленные на основном кабеле. Он спрыгивает с кабеля на прогулочную дорожку, несколько человек, спешащих мимо, недоуменно поглядывают на него, но явно решают, что это кто-то из мостовых рабочих, и торопятся дальше. Возвращаясь к тому месту, где в люльке, висящей где-то под прогулочной дорожкой, работают те четыре клоуна, Паха Сапа видит груду материалов, оставленных ими наверху. Его интересует только веревочная бухта. Он берет один конец, рассматривает его. Нет, он бы не поменял эту веревку на свой тросик в одну восьмую дюйма, на котором он болтается перед носом Эйба Линкольна в маленькой люльке с паровым буром, но все же это лучше, чем бельевая веревка. Паха Сапа достает из кармана раскладной нож и отрезает от веревки кусок в восемь футов. Когда он снова перепрыгивает через противоположные перила на главный трос, у него уходят считаные секунды на то, чтобы соорудить узел Прусика[89] на «перильном» тросике. Держась за оба конца веревки, он снимает с себя ремень (жалея, что на нем не широкий рабочий пояс), обвязывает его еще одним прусиком, для чего ему приходится связать концы веревки, и затягивает его у себя на правом бедре. Не очень надежная страховка — Борглум бы не одобрил ее у себя на площадке, но все же лучше, чем ничего. Паха Сапа замечает горизонтальный трос (почти наверняка это защита от ветра), который соединяет перильные тросы футах в тридцати вверху и висит над прогулочной дорожкой, он видит еще несколько таких стальных тросов и крепежей на длинном крутом подъеме к башне, но он знает, что ему потребуется всего несколько секунд, чтобы развязать два скользящих узла, переместить веревку за препятствие и завязать прусики снова. Это не составит труда. Паха Сапа начинает быстрый подъем по круто уходящему вверх тросу, держась правой рукой за веревку, время от времени натягивая ее, чтобы сохранять равновесие, когда с юга по нему ударяет сильный порыв ветра. Через две минуты он добирается до высоты башенных арок, а со слов Большого Билла он знает, что они находятся в ста семнадцати футах над проезжей частью (два центральных троса подходят к башне в пространстве между арками), останавливается, чтобы перевести дыхание и оглядеться, но не забывает при этом затянуть прусик потуже. Чувство незащищенности здесь сильнее, чем на его привычной работе, когда он висит в двухстах футах над долиной на искалеченных Шести Пращурах. Там близость скалы дает ощущение, пусть и ложное, что ты можешь за что-то ухватиться. А здесь только трос диаметром 15 ¾ дюйма под его скользкими подошвами (а трос хотя и натянут, но вроде чуть-чуть раскачивается) и тоненький перильный провод, который определенно колеблется под напором ветра и натягом его веревки. Он знает, что от вершины башни до уровня воды чуть больше двухсот семидесяти шести футов, но тот, кто сорвется с одного из этих центральных тросов, до реки не долетит — разобьется о прогулочную дорожку, а скорее всего, при падении с правого троса, — о железнодорожные пути далеко внизу. Если он оттолкнется изо всех сил и пролетит над или под перильным тросом, почти невидимым снизу, справа от него, то, вероятно, сможет попасть на автомобильную дорогу внизу. Он разворачивается и смотрит на Манхэттен. Город выглядит величественно в свете раннего утра, десятки новых высоких зданий отливают белизной, желтоватым или золотистым цветом. Свет улавливается тысячами окон. Он видит бессчетное число черных автомобилей, которые двигаются по дорогам и улицам у реки, многие выстраиваются, чтобы попасть на Бруклинский мост, и все они с этой высоты похожи на черных жуков. Внизу, приблизительно в том месте, где он запрыгнул на трос, собралась группка прохожих, и он видит белые овалы их поднятых лиц. Паха Сапа надеется, что не делает ничего противозаконного — да и почему это должно быть противозаконным? — и помнит, что Матт и Джефф, мостовые рабочие, сказали ему, что именно так он может найти мистера Фаррингтона на башне. Конечно, нельзя исключать, что Матт и Джефф просто решили подшутить над заезжим «вождем» и деревенщиной. Паха Сапа пожимает плечами, разворачивается и продолжает восхождение. Хотя он и привык работать на высоте, но тут обнаруживает, что лучше ему смотреть туда, где резко уходящий вверх трос входит в черное отверстие у карниза башни футах в ста пятидесяти над ним. Ветер, задувающий против течения Ист-ривер с юга, набрал силу, и Паха Сапе приходится на мгновение отпустить веревку, чтобы пониже и поплотнее натянуть на голову матерчатую шапочку. Он не собирается отдавать реке двухдолларовую вещицу или ронять ее под колеса машин, мчащихся в Нью-Йорк. У вершины, с приближением громадной каменной стены и верхних обводов двух готических арок, чувство незащищенности усиливается. Он обнаруживает, что для сохранения равновесия, делая шаги, надо ставить ноги по одной линии. Здесь самый крутой угол подъема. Видя, насколько малы отверстия под тросы, он спрашивает себя, можно ли вообще забраться с троса на вершину башни. Он видит нависающий карниз, простирающийся футов на шесть за отверстия, в которые входит трос, но его высота футов семь и на нем нет стальных скоб или чего-то, за что можно было бы ухватиться. Паха Сапе придется отвязаться от свободно двигающегося здесь перильного тросика и запрыгнуть на нависающий карниз в надежде, что он сможет найти там, за что можно бы ухватиться, или за счет трения удержаться и не рухнуть вниз. И если — когда — он все же свалится с карниза, то вероятность того, что он попадет на большой трос и удержится на нескольких дюймах его скользкой округлой поверхности, невелика. Но когда он добирается до громадной стены из гигантских каменных блоков и нависающих карнизов, то видит, что если встать на четвереньки, то можно заползти в квадратный ход, через который пропущены главный и более мелкие тросы. Внутри, в относительной темноте справа он видит старую деревянную лестницу, а сверху сюда проникают солнечные лучи. Он сворачивает свою веревку бухтой и набрасывает ее на плечо. Паха Сапа поднимается по лестнице через отверстие вверху на вершину Нью-Йоркской башни Бруклинского моста. Здесь ветер еще сильнее, он вздувает полы его нелепого пиджака и по-прежнему пытается похитить его шапку, но на этом плоском, широком пространстве у ветра нет шансов. Паха Сапа пытается вспомнить магические числа, которые называл ему Большой Билл, рассказывая о вершинах башен: сто тридцать шесть футов в ширину на пятьдесят три фута в длину? Что-то вроде этого. Это пространство, составленное из отдельных каменных блоков, по площади явно больше того, что нужно очистить взрывами и камнетесными работами для головы Тедди Рузвельта в самой узкой части перемычки к югу от каньона, в котором мистер Борглум хочет создать Зал славы. Паха Сапа свободно ходит туда-сюда по вершине. Здесь нет бригады рабочих, нет и никакого девяностотрехлетнего Э. Ф. Фаррингтона; значит, эти клоуны все же разыграли его. На самом деле он, конечно, и не ожидал встретить здесь старика, но думал, что тут может работать его сын или внук. Он подходит к восточному краю и оглядывается. Основные тросы и их несущие так круто падают вниз, что у него щемит мошонку. Машины на дороге в ста шестидесяти футах внизу кажутся совсем мелкими, а шорох их шин по дороге — чем-то далеким-далеким. По прикидкам Паха Сапы, до Бруклинской башни около трети мили, но выглядит она поразительно. На ее вершине полощется американский флаг, и Паха Сапа видит на ней маленькие человеческие фигурки… а что, если Фаррингтон работает именно там… нет, забудь об этом. У него нет ни малейшего желания попытаться спуститься по одному из четырех продолжающихся тросов, а потом снова подниматься, будь там хоть трижды цепная линия. Когда смотришь с южного края башни, то кажется, что до воды гораздо больше, чем двести семьдесят шесть футов, он видит паромы, спешащие в обе стороны, реку, наполненную судами, пароходы побольше двигаются или стоят на якоре в заливе чуть дальше. Статуя Свободы на острове поднимает ввысь свой факел. Он смотрит на запад. Недавно законченный Эмпайр-стейт-билдинг возвышается над другими высокими зданиями, как секвойя над соснами. Паха Сапа чувствует, как у него вдруг перехватывает горло от красоты этого здания, этих башен… и от гордыни того народа, который соорудил все это и привел в движение. (Восемь недель спустя он еще раз увидит Эмпайр-стейт-билдинг, когда вместе с тридцатью другими рабочими и мистером Борглумом поедет в кинотеатр «Элкс» в Рэпид-Сити посмотреть фильм «Кинг-Конг». Борглум уже успеет посмотреть эту картину, которая так его вдохновит («Вот это приключение так приключение! — отзовется он о ней. — Картина для настоящих мужчин!»), что поведет колонну старых пикапов и купе с Паха Сапой на мотоцикле Роберта (и с Редом Андерсоном в коляске), чтобы еще раз увидеть ее. Мистер Борглум войдет в кинотеатр, не заплатив ни цента, потому что великий скульптор считает, что такие мелочи, как плата за билет в кинотеатр, на него не распространяются, но Паха Сапа и другие рабочие, которые под давлением босса должны посмотреть фильм, выложат немыслимую сумму — по двадцать пять центов каждый. Паха Сапа не жалеет потраченных денег, он смотрит на виды Нью-Йорка в конце фильма и вспоминает минуты, проведенные им на западной башне Бруклинского моста.) В этот миг первоапрельского утра 1933 года Паха Сапа и не думает ни о каких гигантских обезьянах, раскачивающихся на восхищающих его зданиях. Утро до этой минуты было безоблачным, но неожиданно несколько быстрых облаков закрывают солнце, отбрасывая бегущие тени на воды залива, на пароходы, острова, паромы, южную стрелку Манхэттена и части Бруклина. Когда два из этих набежавших облаков расходятся, Паха Сапа видит почти вертикальный столб солнечных лучей, пронзающих воды реки к югу от моста. Отраженный свет такой яркий, что ему приходится прикрыть глаза рукой. Неожиданно вокруг него возникают какие-то люди. Паха Сапа от испуга подпрыгивает, думая, что полиция каким-то образом выследила его, сейчас закует в наручники и потащит вниз по тросу — ничего себе дельце. Но это не полиция вазичу. Когда он в последний раз видел этих шестерых стариков, они были ростом в сотни футов и вокруг каждого — яркое свечение. Теперь они просто старики, и все, кроме одного, ниже Паха Сапы. На них одежды из оленьих шкур, мокасины, накидки, украшенные ожерельями и нагрудными пластинами из костей, повсюду красивейшая бисерная вышивка, вот только белая прежде оленья кожа потемнела и прокоптилась от времени, как и их лица, шеи и руки. Старший из пращуров и самый близкий к нему говорит, и его голос — это только голос одного из стариков племени вольных людей природы, а не ветра или звезд. — Теперь ты понимаешь, Паха Сапа? — Что понимаю, тункашила? — Что Всё, Тайна, сам Вакан Танка проявляет гибкость и разные его воплощения делятся властью с пожирателями жирных кусков, а также с сисуни, шахьела и канги викаша, а также с икче вичаза. Это… Старик показывает на мостовую башню под ним, на дорогу далеко внизу с бегущими по ней поездами и автомобилями, на горизонт Нью-Йорка и сверкающий Эмпайр-стейт-билдинг. — …все это вакан. Все это — свидетельство того, что вазикун слушал богов и заимствовал их энергию. Паха Сапа чувствует, что какое-то подобие злости наполняет его. Но эту злость питает только печаль. — Значит, ты хочешь сказать, дедушка, что пожиратели жирных кусков — большие каменные головы, что поднимаются из Черных холмов, — заслуживают того, чтобы править миром, а мы должны угаснуть, умереть, исчезнуть, как исчезли бизоны? Начинает говорить еще один из пращуров, тот, что с седыми волосами, разделенными посредине, и единственным красным пером в тон замысловато связанному красному одеялу, накинутому на его левую руку. — Ты уже должен понимать, Паха Сапа, та жизнь, что ты прожил, должна была бы подсказать тебе, что не это мы говорим. Но наплыв людей и многих народов и даже их богов то убывает, то прибывает, как Великое море на каждом из берегов этого континента, что мы даровали вам. Народ, который больше не гордится собой, не уверен в своих богах или в своей собственной силе, угасает, сходит на нет, как отлив, оставляя после себя только зловонную пустоту. И пожиратели жирных кусков тоже поймут это в один прекрасный день. Но Тайна и твои пращуры — даже существа грома, какими бы переменчивыми они ни казались, — не оставляют тех, кого любят. Паха Сапа заглядывает в лицо каждому из шести стариков. Ему хочется прикоснуться к ним. Каждый из них так же материален, как и собственное тело Паха Сапы. Несмотря на ветерок, он ощущает исходящий от них запах — смесь табака, чистого пота, дубленой кожи и чего-то сладковатого, но не приторного, как полынь после дождя. Он трясет головой, все еще злясь на себя и на непонятные, нечеткие речи пращуров. — Я не понимаю, дедушки. Простите… Я собирался… вы знаете, что я собирался сделать… но я всего лишь один, почти старик, со мной никого нет, и я не могу… я не… Я хочу понять, я бы отдал свою жизнь, чтобы понять, но… Самый низкорослый из пращуров, тот, что с черными волосами и черными глазами, чьи черты лица такие же обветренные и изъеденные, как Бэдлендс, тихим голосом говорит: — Паха Сапа, почему твой скульптор решил высечь головы вазичу на Шести Пращурах? Паха Сапа мигает. — Там хороший гранит для камнетесных работ, дедушка. Скала выходит на юг, а потому люди могут работать там почти круглый год, и завершенные головы будут освещены солнечными лучами. И еще… — Нет. Это короткое слово заставляет Паха Сапу на полуслове закрыть рот. — Твой скульптор, найдя священное место, понимает, что он нашел. Он чувствует скрывающуюся там энергию. Именно это, а не золото привлекло вазикуна в твои священные Черные холмы. Они хотят оставить свой след на этом месте, так же как вольные люди природы искали там свои судьбы. Но будущее нашего народа — оно, как и будущее отдельно взятого человека, не определено. Оно может быть изменено, Паха Сапа. Ты можешь его изменить. Паха Сапа вспоминает о динамите, который он начал запасать у себя в сарае в Кистоне, но молчит. Четвертый пращур, тот, который больше всего похож на женщину, начинает говорить, и голос у него ниже, чем у все остальных. — Паха Сапа, подумай о косах, что ты носишь. А потом подумай о многих тысячах стальных кос в тросах на этом мосту, о том, что каждый большой трос, в свою очередь, сделан из соединенных и переплетенных стальных пучков, сплетенных в косы, — в сумме это прочнее, чем любой отдельный провод, каким бы толстым, каким бы крепким он ни был. Весь секрет в плетении. Плетение — оно вакан. Паха Сапа смотрит на четвертого пращура, но никак не может понять, о чем тот говорит. Могут ли, думает Паха Сапа, древние духи впадать в старческий маразм? Когда снова говорит первый пращур, голос у него хотя и тихий, но такой же веский и сильный, как башня под ними. — Жди, Паха Сапа. Верь. Надейся. Остальные пять голосов похожи на шепот и лишь чуть громче ветра. — Жди. Паха Сапа на секунду прикрывает глаза рукой. Делает это он только второй раз за свои шестьдесят восемь лет, эмоции переполняют его. — Эй… ты! Старик! Какого черта ты сюда забрался? Когда Паха Сапа убирает руку, шести пращуров нет. И кричит отделенная от тела голова бледнолицего, торчащая из монолитного камня. — Эй, я спрашиваю, зачем ты сюда забрался? Голова круглая, без шапки, с коротко стриженными волосами, красным лицом, лопоухая. Она, ворча, вылезает из отверстия над северным тросом. На человеке грязноватый белый комбинезон, а на мощной талии пояс с единственным страховочным ремнем и металлическим карабином. Человек невысок, как и Паха Сапа, но кажется, что он состоит из одних мускулов, у него широкая грудь, которую он выставляет вперед, приближаясь к Паха Сапе. — Ты меня слышал? Как ты сюда попал? Паха Сапа оглядывается, словно пращуры все еще где-то здесь — на карнизе или на одном из тросов. Далеко внизу и на северо-востоке большой пароход включает паровой гудок, и этот звук похож на крик женщины. — Я поднялся. А вы — мистер Фаррингтон? — Поднялся по тросу? Без всякой страховки? Ты что — спятил? Паха Сапа прикасается к короткой веревке, скрученной у него на плече. Краснолицый мигает три раза. — Что? Ты поднялся сюда, чтобы повеситься? Так уж лучше просто спрыгнуть. — Я обвязался прусиком. Я бы предпочел веревку получше, но у клоунов другой не было. — У клоунов? — У Матта и Джеффа. Это двое из той четверки, что в люльке красят чугунные украшения под прогулочной дорожкой. Я спросил у них, работает ли на мосту мистер Фаррингтон, они сказали, что работает здесь и что подняться сюда нужно по тросу. — Матт и Джефф. Коннорс и Рейнхардт. Господи Иисусе. Прусик? Это довольно новый скользящий узел. Австрийцы написали про него в своем руководстве для альпинистов всего пару лет назад, и мы пользуемся им время от времени. Ты что — альпинист? — Нет. Я работаю у Гутцона Борглума в Южной Дакоте. — Борглум? Этот тот псих с горы Рашмор? — Да. Человек качает головой. Паха Сапа чувствует, что злость краснолицего проходит, и понимает, что в обычной жизни его собеседник довольно уравновешенный человек. Глаза у него пронзительно голубые, и теперь Паха Сапа видит, что румянец на щеках и краснота широкого носа — это их нормальное состояние, а не признак злости, просто капилляры расположены слишком близко к поверхности и человек очень много времени проводит на солнце. — Так вы мистер Фаррингтон? Или Коннорс и Рейнхардт и тут меня обманули? — Я Фаррингтон. — Но явно не мистер Э. Ф. Фаррингтон. Может быть, родственник? Сын? Внук? — Нет, я не знаю никаких… постой. Я слышал это имя. Был один Э. Ф. Фаррингтон, он работал с мистером Реблингом на строительстве моста… Кажется, работал главным механиком. — Точно. У меня был друг. Он уже умер. Так вот, он работал с мистером Фаррингтоном и просил меня найти его, если я когда-нибудь буду в Нью-Йорке. Ему теперь уже за девяносто. — Ну да. А я — Майк Фаррингтон, но никакой не родственник. Но теперь я вспомнил. Главный механик Фаррингтон сорок лет назад не поладил с одним из боссов. Но не с полковником Реблингом. И ушел незадолго до открытия моста. Слушайте, сюда нельзя подниматься. С прусиком или без. Паха Сапа не хочет спорить не с тем Фаррингтоном. Он вдруг чувствует себя усталым, запутавшимся, глупым. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы выполнить дурацкое обещание, данное им Длинному Волосу, а теперь вот пришел на этот мост с еще более дурацким поручением. И, ощущая неприятный спазм в пустом животе, он понимает, что пропустит четырехчасовую встречу на Парк-авеню, потому что, вероятно, окажется в тюрьме. Он сомневается, что у него хватит денег, чтобы внести залог. Мистер Борглум уволит его по телефону, даже не выслушав объяснений… а у него и нет никаких объяснений. Из-под нижней части башни доносятся крики, и Майк Фаррингтон подходит к краю. Паха Сапа вяло идет следом. Рабочая люлька висит под северным тросом приблизительно на пятьдесят футов ниже и отчасти скрыта из виду более близким тросом. На ней трое в одинаковых комбинезонах, страховочные ремни пристегнуты к тросику наверху, они кричат и размахивают руками. — Майк? Все в порядке? Там что — самоубийца? Фаррингтон кричит им в ответ: — Нет-нет, все в порядке. Просто тут один старый джентльмен заблудился. Не самоубийца. Фаррингтон поворачивается к Паха Сапе и тихим голосом спрашивает: — Вы чокнутый, но не самоубийца? — Нет. И я не стал бы забираться на самый верх, если бы хотел спрыгнуть. Прыжок в воду с уровня дороги точно убил бы меня. Может, я и чокнутый, но не глупый. Фаррингтон не может сдержать неожиданную белозубую улыбку. Он машет рабочим — мол, продолжайте ваш осмотр, или соскоб ржавчины, или чем там они еще занимаются, вытаскивает из кармана сигару и спички. — Хотите закурить… не знаю, как вас зовут. Паха Сапа начинает было говорить: «Билли Словак…» — но замолкает. Начинает говорить: «Билли Вялый Конь…» — но опять замолкает. Ему нравится этот Майк Фаррингтон, пусть он и не родня прежнему боссу и другу Большого Билла. — Меня зовут Паха Сапа. Это означает «Черные Холмы» — то самое место, в котором я живу. — Так вы вроде как индеец? — Лакота. Сиу. Фаррингтон одним движением своего крупного большого пальца зажигает спичку, закуривает, выдыхает дым, засовывает сигару в зубы, складывает руки на мощной груди, снова ухмыляется и говорит: — Сиу. Вы — те самые ребята, что убили Кастера? — Да. Шайенна помогали, но сделали это мы. И снова белозубая ухмылка и пронзительно-голубые глаза. Паха Сапа никогда не курил — только Птехинчалу Хуху Канунпу, перед тем как потерять ее после ханблецеи, но ароматный дымок сигары Фаррингтона пахнет замечательно. Это напоминает ему о шести пращурах. — Значит, убили, — говорит Фаррингтон. — И шайенна вам немного помогли? А вы были на Литл-Биг-Хорне, когда это случилось, мистер… гм… Паха Сапа? Паха Сапа заглядывает в глаза своему молодому собеседнику. Он не улыбается и не смеется. — Да, Майк. Я — последнее, что генерал Джордж Армстронг видел в своей жизни. Я совершил над ним деяние славы в тот момент, когда его поразила вторая пуля. Фаррингтон смеется — три громких, произвольных «ха», после которых его рабочие снова окликают его, потом он внимательнее смотрит на Паха Сапу и замолкает. Похлопывает не очень нежно Паха Сапу по спине. — Я верю вам, сэр. Богом клянусь. Ну а теперь, как мы спустим вас на землю? — Я так думаю, по тому же тросу, по которому я поднялся. — Вы верно думаете, мистер Паха Сапа. Вы с вашим обрывком бельевой веревки и узлом Прусика. Я мог бы взять страховочные ремни у одного из наших ребят, но я не уверен, возьмете ли вы их да и нужны ли они вам. Я пойду с вами. Я вижу, там уже собралась толпа, тридцать или сорок человек, которые в субботнее утро не нашли для себя лучшего занятия, чем стоять тут, разинув рты. И я уверен, что там будет и парочка нью-йоркских лучших. — Нью-йоркских лучших? — Так мы здесь называем наших полицейских, мистер Паха Сапа, совершающий деяние славы. Они там уже стоят с дубинками и наручниками наготове. Эта толпа наблюдала за вашим восхождением, и наверняка уже кто-то вызвал полицию или сбегал за патрульным. Но я им скажу, что вы — мой отец… или новенький, принятый в бригаду ремонтников. Или что-нибудь такое. Вы обещаете не упасть и не убиться на пути вниз? А то ведь сейчас треклятая депрессия, и мне нужна эта работа. — Даю слово, что постараюсь, Майк. Фаррингтон снова внимательно смотрит ему в глаза, щурясь от ароматного дымка. Потом еще сильнее впивается в сигару зубами, и его улыбка становится шире. — У меня подозрение, что на ваше слово можно положиться, мистер Паха Сапа. Очень даже можно.
Двадцать пять минут спустя, когда ушли слегка ошарашенные полицейские, удовлетворившись объяснениями Майка Фаррингтона, которые вовсе не удовлетворили собравшуюся на мосту толпу (здесь было скорее человек семьдесят пять, чем тридцать или сорок), Паха Сапа, пожав руку Фаррингтону и отвязавшись от парня в большом не по росту твидовом костюме и с блокнотом в руках — парень сказал, что он репортер, — идет в направлении Бродвея, снова в тени высоких зданий, он часто останавливается и оглядывается, чтобы еще раз посмотреть на башни моста. «Паха Сапа, теперь, когда ты покончил с этим делом, мы уже можем начать готовиться к назначенной встрече?» Обычно этот бубнящий голос в голове Паха Сапы раздражает его, но теперь он скрашивает его чувство одиночества в городе и мире, которые слишком велики для него. — Да, генерал. Я вернусь в отель, приму ванну, надену чистую рубашку, и мы направимся на Парк-авеню. «Ты впервые назвал меня генералом. Или, насколько мне известно, подумал обо мне так. Там, на этом мосту, случилось что-то, когда я не слушал или не смотрел?» Паха Сапа не отвечает. Он сворачивает на нижний Бродвей и теперь идет на север к Эмпайр-стейт-билдингу и сверкающему Крайслер-билдингу, в самое сердце города вазичу. Становится теплее. Каждый раз, оглядываясь через плечо, Паха Сапа видит уменьшающиеся контуры Бруклинского моста, иногда скрывающегося за домами, но никогда не исчезающего из виду надолго. Точно так же навсегда он сохранится и в мыслях Паха Сапы. Он минует Таймс-сквер и идет дальше, засунув руки в карманы и насвистывая «Нам не страшен серый волк» — песенку из мультфильма про трех поросят, который выпустят только в мае, но мистер Борглум каким-то образом раздобыл копию (сам он говорит, что напрямую от мистера Уолта Диснея) и показывал на своих вечерних субботних сеансах — он и миссис Борглум давали их два раза в месяц в студии скульптора. Мост за спиной Паха Сапы все уменьшается и время от времени пропадает из виду, но никогда не исчезает насовсем.
20 Джордж Армстронг Кастер
Либби. Я знаю, что ты этого никогда не услышишь. Ни этого, ни всего остального, что я говорил тебе отсюда или еще скажу. Но я все равно хочу поговорить с тобой в последний раз. В последний раз для нас обоих. Была одна секунда, когда ты подалась вперед и заглянула Паха Сапе в глаза (заглянула в него и в меня — так я подумал в то мгновение), когда твои губы беззвучно произнесли два слога, я был уверен, что эти два слога — «Оти». Но возможно, я неправильно понял смысл твоего взгляда и эти два слога, произнесенные неслышно для Паха Сапы (а потому и для меня). Я знаю, ты едва видела твоего гостя, а потому, возможно, просто подалась вперед, чтобы хоть раз яснее разглядеть индейца, который вторгся в твое жилище. И может быть, эти два слога были «боже» или даже «прощай». Это Паха Сапа решил, что мы должны приехать в Нью-Йорк и увидеть тебя. Он уже предлагал это много лет назад — в середине 1920-х, кажется, но я тогда сказал «нет», и он больше не поднимал этой темы. Но вот прошлой зимой, когда я понял, что тебе скоро исполнится девяносто один и ты можешь умереть (прежде мне это почему-то казалось невероятным), тогда в одном из наших редких разговоров я обратился с просьбой к Паха Сапе. И он согласился. Я хотел, чтобы наша встреча произошла в твой день рождения, 8 апреля. По какой-то причине мне это казалось важным. Но мистер Борглум именно в этот день планировал начать какие-то серьезные взрывные работы на новом месте для головы Томаса Джефферсона, и он дал понять Паха Сапе (которого Борглум знает как Билла Словака), что если его не будет на месте, то он вообще останется без работы. И потому Паха Сапа сделал максимум возможного, теряя жалованье за несколько дней, чего он не мог себе позволить, и мы на поезде отправились в дальний путь, чтобы провести уик-энд с первого на второе апреля в Нью-Йорке. У меня были три причины, по которым я не хотел видеть тебя, предпочитая помнить такой, какой ты была в дни нашей молодости, когда мы полюбили друг друга, а потом поженились. Во-первых, я отдавал себе отчет в том, что если наш брак продолжался чуть более двенадцати лет, то к тому времени, когда я попросил Паха Сапу отвезти меня в Нью-Йорк, ты вдовствовала пятьдесят семь лет. Профессиональное вдовство в отсутствие других занятий кого угодно может изменить. Во-вторых, я не хотел смущать тебя появлением старика-индейца. Я уже знал по редким газетным сообщениям, которые Паха Сапа находил и зачитывал мне, что тебя, самую знаменитую вдову в Америке, постоянно донимают в письмах и заявляясь лично всевозможные искатели славы, говоря, что они «неизвестные» или «последние» из выживших в бойне на Литл-Биг-Хорне. Все они мошенники. И наконец, третье и последнее: признаюсь тебе теперь (поскольку ты никогда этого не услышишь), что я боялся увидеть тебя старухой. Ты всегда была такой юной и прекрасной в те дни, когда я знал тебя, Либби, моя дорогая Либби. Эти темные локоны. Эта мягкая озорная улыбка, не похожая на улыбку какой-либо другой женщины из тех, что я знал. Полное, налитое и (как я обнаружил в нашей брачной постели) бесконечно отзывчивое тело. Как я мог променять все это на реальность, на девяностолетнюю старуху — морщинистую, обвислую, со слезящимися глазами, в которой не осталось ни слуха, ни зрения, ни резвости, ни юмора, ни малейшего блеска ее юного «я»? Вот чего я боялся. И мои страхи почти подтвердились. Я прекрасно знал, что старые люди, а в особенности старухи, всегда вызывали у тебя неприятие и ужас, и это единственное, что позволяет мне немного оправдать себя от обвинений в жестокости. В очень старых женщинах было что-то такое, что вызывало у тебя ужас, не меньший, чем удар грома, от которого ты забивалась под кровать в первые годы нашего супружества. (Все годы нашего супружества кажутся мне первыми.) За последние годы Паха Сапа принес и прочел все три твои опубликованные книги — «Сапоги и седла», вышедшую в свет в 1885-м, «Следом за знаменем», 1890-го, «Палатки на Великих равнинах», 1893 года, — и я ясно запомнил пассаж в одной из твоих книг, кажется, в последней (один из редких случаев, когда ты, моя дорогая, прибегла к детальному описанию), в котором твой страх перед старостью и старухами становится слишком очевидным. Мы въехали в деревню сиу вскоре после моей победы на Вашите, и группа старух, чьи мужья почти поголовно были убиты во время моей атаки, сформировали что-то вроде комитета для нашей торжественной встречи. И вот что ты написала:Старухи внешне были отвратительны. Волосы, редкие и жесткие, спадали на плечи и закрывали глаза. Лица такие дряблые и морщинистые, такие огрубелые, какие бывают только от непосильного труда и при абсолютной незащищенности от непогоды и жизненных тягот… Тусклые, впалые глаза казались такими же сморщенными, как и кожа. Уши у этих уродливых старых пугал были проколоты с самого верху и до мочек, когда-то в них висели серьги, а теперь они были прорваны или неимоверно увеличились от долгих лет ношения тяжелых медных украшений, отверстия теперь были пусты, а вид старческой кожи вызывал у меня отвращение.Я помню, как мы разговаривали с тобой в постели ночью, после того как видели этих сиу, Либби. Ты дрожала, плечи у тебя тряслись, словно ты рыдала, но слез не было. Ты сказала, что вдовство для этих старух — часть их уродства. Они стали ничем после смерти их мужей-воинов, только лишними ртами, которых с неохотой кормили другие мужчины рода, не обращавшие на них внимания весь остаток их пустой женской печальной жизни. «Отверстия теперь были пусты…» — воистину. Пусты навсегда, засушены, забыты и бесполезны. Вот чего ты боялась в те времена, когда цвет твоего лица был безупречен, груди тверды и стояли высоко (частично это, вероятно, объяснялось тем, что нам никак не удавалось зачать ребенка), твоя улыбка все еще была девчоночьей, а в твоих глазах плясали искорки. И вот, когда несколько лет назад Паха Сапа прочел одно из редких газетных сообщений про тебя (возможно, это было связано с открытием где-то моей конной статуи или с пятидесятой годовщиной моей гибели на Литл-Биг-Хорне), в котором цитировали твои слова: «Пусть я и древняя старуха, но довольна собой. Я прожила прекрасную жизнь», — я понял, что ты лжешь.
У Паха Сапы были какие-то свои дела в Нью-Йорке (из той малости, что я видел, мне показалось, что это еще один ритуал, призванный ублажить кого-то из бесконечного списка его мертвецов), после которых он вернулся в маленькую гостиницу неподалеку от Гранд-сентрал. Эту гостиницу явно рекомендовали Паха Сапе как индейцу, потому что клиенты здесь в основном были негры и иностранцы, но тоже цветные. Но, откровенно говоря, Либби, номера здесь получше того, в котором мы останавливались по другую сторону улицы от Брансуика в последнюю зиму, проведенную нами в Нью-Йорке, и если нам тогда открывался вид на крыши, проулки и водяные башни над этими крышами, то номер Паха Сапы выходит на многолюдный и умеренно привлекательный бульвар. Он ни на минуту не задержался у окна, а ждал очереди в ванную в конце коридора. Потом надел свежее нижнее белье, новые носки, свою лучшую белую рубашку, единственный галстук и помятый костюм. Его дешевые туфли слегка загрязнились, пока он ползал там по Бруклинскому мосту, поэтому он поплевал на них и протер. Они по-прежнему выглядели дешевыми и неудобными, но, когда он выходил из номера, в них можно было смотреться, как в зеркало. Хотя Паха Сапа и останавливался у киоска с хот-догами на пути от Бруклинского моста до гостиницы, я чувствовал, что он все еще голоден. Но он должен был провести в Нью-Йорке два дня и не мог потратить все свои четвертаки в первый же день. От гостиницы до Парк-авеню, 71, было всего два квартала, и когда мы пришли, до назначенного времени оставался еще час. Паха Сапа, посмотрев на высокий кооперативный дом, а потом на швейцара (который, казалось, в свою очередь подозрительно смотрел на него), засунул руки в карманы и задумался — как ему убить оставшийся час. Он нервничал… Я чувствовал это. Я думал, что тоже буду чертовски нервничать, и тревога, конечно, нарастала во мне (в том, что осталось от меня) в течение всех трех дней и ночей в поезде на пути из Рапид-Сити, но я чувствовал и какую-то странную, холодную пустоту. Я, наверное, не смогу описать тебе это ощущение, Либби, а потому не буду пытаться. Мы стояли перед отелем «Дорал» (в какой-то из книг, которые прочитал Паха Сапа, кто-то говорил, что тебе нравилось гулять перед этим отелем, когда ты еще выходила на прогулки, хотя я не могу себе представить почему), но тут швейцар начал злобно поглядывать на нас, а потому Паха Сапа прошел дальше, пересек улицу и направился на восток к реке. Таким образом, мы описали несколько кругов — четыре квартала на восток, два квартала на север, потом снова назад, пока не пришло время визита. Паха Сапа остановился у одного из окон отеля «Дорал», чтобы посмотреть на себя. Выражение его лица при этом не изменилось, но я почувствовал, что он нахмурился. Потом он расправил плечи и пересек улицу. У этого многоквартирного дома была необычная двойная дверь, наподобие шлюзовой камеры в кессонах полковника Реблинга, о которых Большой Билл Словак рассказывал Паха Сапе. Оказавшись в тесном пространстве вместе с громадным, нелепо одетым охранником (Паха Сапа вспомнил, что видел подобную форму на охраннике-кондукторе с колеса Ферриса на Всемирной чикагской выставке сорока годами ранее), мое вместилище повторило тот факт, что у него назначена встреча с проживающей здесь миссис Элизабет Кастер. Швейцар проговорил что-то в медную трубку, какие я видел только на капитанских мостиках речных кораблей, и оттуда раздался протяжный, нечеловеческий вопль. Швейцар продолжал подозрительно щуриться на нас, но пропустил внутрь, нажав кнопку, открывающую вторую дверь. Прежде чем мы успели найти лифт или начать подниматься по лестнице, последовало монашеское порхание черных юбок и нетерпеливые, можно даже сказать, решительные движения женщины, спускающейся по темной лестнице, и на короткое, но чарующее мгновение я уверовал, что это ты, Либби, более бодрая накануне твоего дня рождения, чем я себе представлял, и к тому же я решил, что ты каким-то сверхъестественным образом поняла, кто пришел к тебе с визитом, и горишь желанием увидеть меня по прошествии всех этих лет. Но когда я увидел лицо женщины, чувство разочарования опустило меня с небес на землю в мир реальности. Онаказалась слишком молодой, хотя и принадлежала к той разновидности женщин, которые проживают свою жизнь так, словно родились старухами. Еще она злобно хмурилась. — Вы и есть тот самый индеец — мистер Вялый Конь? — Интонации требовательные, вызывающие. Выделение отдельных слов казалось случайным — этакая старческая ненатуральность. Голос грубый, словно она слишком часто возвышала его в негодовании. Паха Сапа отступил к шлюзовой камере, освобождая для нее место на площадке. Шапки своей он не снял. И еще я обратил внимание, что он не закончил ответ словом «мэм», которое непременно присутствовало в его обращении к дамам, приезжающим посмотреть на рашморский памятник.
— Да.
Она осталась на нижней ступеньке, чтобы сохранить за собой физическое и нравственное превосходство над Паха Сапой, но эта женщина была достаточно высока (а Паха Сапа мал ростом), так что насчет физического превосходства она могла не беспокоиться, а до нравственного ей, так или иначе, было как до луны. — Я мисс Маргерит Мерингтон…[90] Прежде чем Паха Сапа успел кивнуть, в знак того, что ему известно это имя (хотя я знал, что на самом деле оно ему неизвестно), она продолжила: — …и я должна сказать вам, мистер Вялый Конь, что я была категорически, безусловно, против вашей встречи, против того, чтобы вы попусту тратили время и силы миссис Кастер! Швейцар отступил назад, не в последнюю очередь для того, чтобы открыть наружную дверь, пока Паха Сапа придерживал для рассерженной дамы открытой внутреннюю. Было очевидно, что швейцар знает мисс Маргерит Мерингтон и давным-давно выработал стратегию, позволявшую ему находиться на максимальном расстоянии от нее в столь тесном пространстве. — Как вам не стыдно тратить впустую время столь благородной женщины — вот все, что я могу сказать, и я только надеюсь, что Мэй знает, что делает, но она, по моему скромному мнению, редко думает о благе миссис Кастер, когда разрешает эти нелепые встречи… Паха Сапа даже не пытался сказать что-нибудь. Возможно, он, как и я, отметил, что теперь ее гнев обрушивается не только на отдельные полные (пусть и случайно выбранные) слова, но и на слоги. После этого мисс Маргерит Мерингтон исчезла — вышла на тротуар Парк-авеню, вылетев в дверь, которую швейцар при этом придержал, благоразумно стоя на улице с наружной стороны двери, используя ее, подумалось мне, как своеобразный щит. — Это кто там — мистер Вялый Конь? — послышался с высоты в несколько этажей громкий, но в то же время и деликатный голос. Это был, конечно, не твой голос, Либби. Я решил, что это либо твоя горничная, либо (что более вероятно, поскольку в голосе не слышалось подобострастия, свойственного слугам) та дама, с которой переписывались мы с Паха Сапой, чтобы организовать нашу встречу, моя так называемая любимая племянница (которой я никогда не видел), некая Мэй Кастер Элмер. Паха Сапа подошел к лестнице и задрал голову. Теперь он снял шапку.— Да.
— Поднимайтесь, пожалуйста. Прошу вас. По этой лестнице, если можете. Лифта можно прождать целую вечность. Поднимайтесь, мистер Вялый Конь.Я был уверен, что готов увидеть твою маленькую квартирку на Парк-авеню, 71,— я читал про нее, вернее, Паха Сапа читал, включая и большое интервью 1927 года, в котором репортер назвал твой дом «приятным возвращением к изяществу прошлого века», но реальность превзошла все ожидания: оказаться в твоей квартире было равносильно путешествию назад в 1888 год в одной из машин времени мистера Уэллса. Снаружи, невзирая на окна с толстыми стеклами, наглухо закрытые даже в такой теплый весенний денек, доносились автомобильные и автобусные гудки, свистки поезда — XX век, а внутри, куда ни посмотри, был 1888 год. Окна, хотя и чистые, были словно заколочены, и, по мере того как мы проходили через маленькие комнатки, нарастал какой-то застоявшийся запах — смесь мебельной полировки, затхлого воздуха, невидимой пыли, старых вещей, старых людей. Твоя квартира, моя любимая, пахла старухой. (Я помню, что в первые дни нашего брака мы были вынуждены примириться с тем фактом, — о котором никто никогда не предупреждает новобрачных, — что в тесном жилище, где одна комната с ванной, супругам приходится учиться жить среди довольно-таки земных запахов друг друга. Тогда в этом было что-то странно возбуждающее. Теперь посредством все еще достаточно острых чувств Паха Сапы я отметил только, что квартира пахнет старухой.) Но в этой темноте среди старой мебели гордо выделялся корпус нового радиоприемника, подарок друзей, как я узнал позднее из чего-то прочитанного Паха Сапой. Чужеродное тело среди старых вещей, фотографий и всяких принадлежностей прошлого века. Приемник был выключен. Я помню, как несколько лет назад Паха Сапа читал, что в пятидесятую годовщину скоротечного сражения моего полка на Литл-Биг-Хорне у тебя не было радиоприемника, а потому 25 июня 1926 года тебя пригласили в ближайший отель послушать радиотрансляцию церемонии и реконструкции. Не в отель ли «Дорал» по другую сторону улицы? Забыл. Отель великодушно предложил тебе номер люкс на сутки, но, как сообщалось в газетах, ты всю радиотрансляцию просидела, выпрямившись, на плетеном стуле и ушла — опираясь на палку — сразу же по окончании передачи. Единственной твоей реакцией на крики актера (того, что играл меня) и имитацию стука конских копыт в трансляции из Монтаны стало: «Да, так оно и должно было быть». Откуда ты могла это знать, моя дорогая? Откуда ты могла знать, как оно должно было быть? Да, ты отважно путешествовала со мной по землям, контролируемым враждебными индейцами, останавливалась то в одном, то в другом форту, но откуда ты могла знать, какими были эти последние минуты, когда полторы тысячи или больше жаждущих крови шайенна и сиу смыкались вокруг наших редеющих рядов? Откуда ты могла знать это? Перед тем как его провели в последнюю комнату — твою гостиную (из единственного окна которой и в самом деле, как об этом писал один репортер в 1927 году, все еще можно было увидеть кусочек Ист-ривер), где находилась ты, Паха Сапе пришлось встретиться еще с двумя женщинами. Первая — та дама, которая окликнула Паха Сапу на лестнице, была миссис Мэй Кастер Элмер, наш посредник в течение последнего года, помогавшая организовать эту короткую встречу. Я уже говорил, что газета нашего родного городка Монро, штат Мичиган, во время открытия одного из памятников мне назвала миссис Элмер моей (генерала) «любимой племянницей», но она была внучатой племянницей, и я ее не помню. Она оказалась добродушной, розовощекой, чуть экзальтированной дамой средних лет. Она вполне достойно приветствовала Паха Сапу, хотя руки индейцу не предложила. Вместе с миссис Элмер (которая сразу же принялась рассказывать, что ее муж — заядлый астроном-любитель) в этой первой из целой анфилады комнаток, заканчивающейся твоей гостиной, была и некая миссис Маргарет Флад, дама приблизительно такого же возраста, которая, прищурившись, посмотрела на Паха Сапу (а значит, и на меня) с той же нескрываемой подозрительностью (хотя и менее агрессивной), что и миссис Маргерит Мерингтон. Миссис Мэй Кастер Элмер прервала описание страсти своего мужа к астрономии, чтобы сообщить, что мистер Флад, «прислуга за все», отправился выполнять какое-то поручение, словно это имело какое-то отношение к встрече Паха Сапы с вдовой убитого генерала. Потом мы оказались в маленькой гостиной, освещенной в основном предвечерним светом с запада, отраженным от высоких зданий и окон напротив твоего, выходящего на восток окна, где ты сидела в ожидании, моя дорогая Либби. Только, конечно, это была не ты. Меня самого судьба сберегла от недугов старости, а потому мне трудно судить, может ли какое-либо человеческое существо сохранить внешность и «самость» своей юности и средних лет до глубокой старости. Возможно, мужчины могут добиться большего успеха, реализуя сию праздную амбицию, поскольку немногие характерные черты (может быть, нос клювом, как у меня, или громадные усы) могут заменить отсутствующую личность, как откровенные, жестокие линии карикатуриста заменяют реальность. Но по отношению к женщинам губительное, предательское время, увы, гораздо более безжалостно. Тебе, моя дорогая, в тот первоапрельский день 1933-го, когда тебя посетил Паха Сапа, до девяносто одного года оставалось семь дней. Только тебя — той Либби, которую я знал, с которой занимался любовью, которая мне снилась даже в смертном сне, — той тебя там не было. Креповое вдовье платье черного цвета (с какой-то желтоватой вставкой под горлом, закрепленной брошью из другого века, моего века) показалось мне неуместным пятьдесят семь лет спустя после того несчастливого дня, когда ты стала вдовой. На твоих руках, твоих очаровательных, мягких руках с длинными пальцами и шелковой кожей, на руках моей любящей Либби, виднелись старческие желтоватые пятна. Сухожилия натянуты, пальцы, искалеченные артритом, превратились в подобие когтей. Ногти пожелтели от возраста, как на ногах у старика. Ты не шелохнулась, чтобы предложить Паха Сапе руку, и это было облегчением для нас обоих. Хотя способность Паха Сапы проникать в чужие воспоминания, кажется, ослабела за последние годы, ни он, ни я не хотели рисковать, идя на физический контакт между им и тобою. Когда-то, много лет назад, когда я впервые понял, где нахожусь и что со мной стало после смерти на Литл-Биг-Хорне, я представлял себе, как Паха Сапа отправится на восток и намеренно прикоснется к тебе, чтобы мое «я», существовавшее в виде призрака, могло выйти из стареющего индейца, войти в тебя и остаться там до конца наших дней (я имею в виду — твоих и моих, моя дорогая). Какие замечательные интимные разговоры могли бы мы вести все эти годы. Как бы это могло скрасить твое и мое одиночество. Но потом я понял, что я никакой не призрак и не душа, ждущая переселения на небеса (как я утешал себя, обнаружив, что обитаю в голове Паха Сапы), и та фантазия умерла, когда мне открылась истина. Лицо у тебя было очень-очень бледным, и румяна, или что там, розовели на твоих щеках, только подчеркивая эту бледность (словно помада на лице покойника). Все газетные и журнальные сообщения о тебе за прошедшие годы отмечали, что ты выглядишь гораздо моложе своих лет, и, судя по тем фотографиям, которые видел Паха Сапа, — ты в возрасте сорока восьми, шестидесяти пяти, шестидесяти восьми лет, — когда-то это и в самом деле было так. Улыбка, глаза, локоны на лбу (локоны крашеных волос?) действительно походили на прежние, а может, и были теми же самыми. Но теперь время стерло следы неувядаемости и красоты моей Либби, словно какой-нибудь озлобленный школьник стирает мокрой тряпкой с классной доски написанные мелом слова. Твое старческое горло представляло собой сплетение сухожилий и связок — снова Бруклинский мост! — и твой высокий черный кружевной воротник не мог скрыть этого. Черты твоего лица потерялись в складках, двойных подбородках, отвисл остях и морщинах. Я помню, как мы — ты и я — однажды обратили внимание, что у мужчин в отцовской ветви твоей семьи, а в особенности у самого судьи,[91] морщины на лице не появляются до глубокой старости. Но похоже, что ты в этом отношении пошла в мать. Несколько морщинок в уголках глаз, по поводу которых мы — ты и я — шутили, чуть ли не веселились, в последние месяцы нашей совместной жизни, теперь расползлись по всему твоему лицу. Время действовало, как жирный паук, который все оплел своей паутиной. Я помню, как бы не по-джентльменски это ни звучало с моей стороны, что ты в тот июнь, когда я навсегда покинул Форт-Авраам-Линкольн, весила сто восемнадцать фунтов. Сколько бы ты ни весила теперь, твое тело словно обвалилось внутрь себя, будто твои кости давно стали жидкими — остался только согбенный, как почти у всех старух, позвоночник и кости в похожих на палки предплечьях. Мне бы очень хотелось сказать тебе, моя дорогая Либби, которая не может меня услышать, что глаза у тебя остались прежними — голубыми, яркими, умными, озорными, обаятельными, но и они тоже претерпели то, что Шекспир называл «преображением»,[92] и не в лучшую сторону. Они немного потемнели и словно потерялись во впадинах твоих глазниц, похожих на глазницы Авраама Линкольна незадолго до его смерти: помнишь, мы с тобой говорили об этом, — да и сами глаза показались мне слезоточивыми и мутноватыми. Я больше не буду ни описывать, ни помнить. Но эти наблюдения были сделаны в апрельское предвечерье при самом рассеянном и уже начинающем угасать свете. Громоздкая, массивная, темная мебель в комнате, казалось, поглощала свет. (Должен признаться, что я искал маленький столик из здания Аппоматтокского суда, на котором подписывались документы о капитуляции, его нам подарил Фил Шеридан,[93] но так и не увидел его ни в твоей гостиной, ни в других комнатах.) Моя «любимая племянница» Мэй представила меня как «мистера Вялого Коня, джентльмена, с которым я вела переписку и о котором недавно говорила». Миссис Элмер указала Паха Сапе на стул, и после того, как она уселась, Паха Сапа сел напротив тебя, Либби. В тесной комнате его колени были в четырех футах от твоих (если только под мятой массой черного крепа, шелка, муслина и еще бог знает чего, что пошло на этот погребальный костер платья, можно было различить колени или какие другие анатомические подробности). И снова должен признаться, что, воображая эту встречу с тобой посредством Паха Сапы, я никогда — ни разу — не думал, что в комнате будет присутствовать кто-то еще. Даже после того, как миссис Флад — Маргарет, как называла ее миссис Элмер, — извинившись, отправилась заниматься чем-то по хозяйству (а может, просто покурить на кухне или на черной лестнице), комната казалась слишком многолюдной с тремя живыми людьми и моим бесплотным витающим духом. А еще в ту секунду я понял, что я, второй призрак генерала Джорджа Армстронга Кастера (хотя я никакой не призрак), который входит в эту комнату. Первого повсюду носит с собой миссис Элизабет Кастер вот уже почти пятьдесят семь лет, и он определенно присутствовал здесь вместе с нами. Когда ты заговорила, моя дорогая, голос твой был одновременно хриплым и безжизненным, как паутина морщин, скрывающая твои черты. Паха Сапа и миссис Элмер подались вперед, чтобы расслышать тебя. — Надеюсь, ваше путешествие в Нью-Йорк было приятным, мистер Вялый Конь? — Да, миссис Кастер, все прошло превосходно. — На всем пути… откуда? Из Небраски? Вайоминга? — Южной Дакоты, мэм. С Черных холмов. Ты не наклонялась к нам, Либби, но я видел: ты напрягаешь слух, чтобы услышать. Слуховой трубки в комнате я не заметил, но у тебя явно были затруднения со слухом. Я подумал, какую же часть из слов Паха Сапы ты сможешь расслышать? Но при звуке слов «Черные холмы» в твоих мутноватых глазах засветилось что-то вроде узнавания. Я вспомнил, как Паха Сапа читал что-то из написанного тобой в 1927 году: «После сражения на Литл-Биг-Хорне было время, когда я не могла бы сказать это, но теперь, по прошествии стольких лет, я убеждена, что мы были глубоко несправедливы по отношению к индейцам». Если бы я был жив, мое дорогое солнышко, то я бы убедил тебя в этом значительно раньше. Помню, как Паха Сапа читал — кажется, это было в твоих «Сапогах и седлах» — что-то о том, что «генерал Кастер был другом любому индейцу из резерваций», и этим ты явно хотела сказать, что я помогал тем, кто подчинялся приказам правительства Соединенных Штатов, проводившимся в жизнь такими посредниками, как Седьмой кавалерийский, помогал индейцам, которые сидели в агентствах, отказывались от охоты, терпеливо ждали, когда мы раздадим им мясо, доставлявшееся поездами, и в ожидании подачки потихоньку выращивали что-нибудь. Ничто не могло быть дальше от того, что я чувствовал тогда и позднее. Признаюсь, что и тогда, и теперь я презирал индейцев из резерваций, которые подчинились нам, испугавшись наших угроз и атак, и стали послушными краснокожими из агентств. Я восхищался воинами — ими, а еще женщинами, детьми, стариками, которые, рискуя всем, шли вместе с воинами на равнины в печальной и обреченной попытке вернуться к прежнему образу жизни… попытке, тем более обреченной на неудачу, что мы уничтожили их стада бизонов. Все мы в Седьмом, от офицеров до последнего солдата, вчера приплывшего в Америку на пароходе, сетовали на то, что агентства раздают сиу и шайенна магазинные ружья для охоты на случайную дичь, а молодые индейцы брали эти ружья, нередко превосходившие наши собственные, и уезжали в прерию, чтобы сражаться с нами. Мы сетовали, но в то же время мы в Седьмом восхищались таким поведением (мы не хотели ничего иного, кроме честной борьбы), и во время переговоров мы, солдаты, пытались скрыть свое презрение к скромным «ручным» индейцам, живущим в резервациях или рядом с фортами в захудалых типи. Они были ничуть не лучше бродяг и попрошаек, которых Паха Сапа видел на улицах Нью-Йорка этим утром. Ты сказала что-то. — У вас было время посмотреть Нью-Йорк, мистер Вялый Конь? Паха Сапа чуть улыбнулся — я видел его отражение в стеклянной дверце высокого буфета с фарфором рядом с тобой. Я редко видел или чувствовал улыбку на лице Паха Сапы с тех пор, когда я стал воспринимать его и осознал свое место в нем. — Я сегодня утром ходил на Бруклинский мост, миссис Кастер. — Ах, тетушка, — вмешалась Мэй Кастер Элмер, — вы помните, как много лет назад вы доехали на такси до нью-йоркской стороны моста и прошли немного по дорожке, а я пришла с бруклинской стороны и мы там встретились? Паха Сапа отправлял письма миссис Элмер на адрес: 14, Парк-стрит в Бруклине. Ты не повернулась в направлении Мэй, Либби. Ты наклонила голову и чуть улыбнулась, словно слушала приятную музыку по радио. Вот только радиоприемник был выключен. Миссис Мэй Кастер Элмер откашлялась и сделала еще одну попытку. — Тетушка, я думаю, вы помните, я рассказывала вам, что мистер Уильям Вялый Конь выступал в шоу «Дикий Запад» мистера Буффало Билла Коди — оно вам еще очень нравилось. Поэтому-то мы и решили, что вам следует встретиться с мистером Вялым Конем. Помните, тетушка? Твоя внучатая племянница говорила с тобой, Либби, громким голосом, медленно выделяя почти каждый слог, словно ты была не только старой и глуховатой, но еще к тому же и иностранкой. Но ты наконец перестала слушать эту невнятную музыку и посмотрела сначала на Мэй, потом на Паха Сапу. — О да. Я видела, как вы выступали в шоу мистера Коди, мистер… Вялый Конь, верно я говорю? Да. Я видела, как вы выступали, и заметила вас в финале, когда мистер Коди выступал в роли моего мужа. Я это хорошо помню… Это было на Мэдисон-Сквер-Гарден в ноябре восемьдесят шестого. Вы очень хорошо скакали, и от ваших весьма убедительных боевых кличей леденела кровь — и при нападении на Дедвудскую почтовую карету, и в финале на Литл-Биг-Хорне. Да, вы были очень убедительны. Прекрасное представление, мистер Вялый Конь. — Спасибо, — сказал Паха Сапа. Я знал, что Паха Сапа прежде не бывал в Нью-Йорке, а в шоу «Дикий Запад» Буффало Билла поступил только весной 1893-го, незадолго до Всемирной чикагской выставки. Но кого бы ты ни имела в виду — кого-то из индейцев, — твои слова, Либби, кажется, сломали лед, и я понимаю, почему Паха Сапа не поправил тебя. — Ах, я видела это представление еще много раз после того, — продолжала ты своим тихим, хриплым, шелестящим шепотом, устремив взгляд своих полуслепых, когда-то голубых глаз сначала на нас, а потом куда-то в направлении Мэй Кастер Элмер, а потом совсем в никуда — на мебель. — Мисс Оукли… Маленький Снайперский Выстрел — так она называлась в вашей программе… она стала моим хорошим другом. Вы это знали, мистер Вялый Конь? — Нет, миссис Кастер, не знал. — Что? Паха Сапа повторил ответ. — Так оно и было, мистер Вялый Конь. Конечно, мистер Коди когда-то был разведчиком у моего мужа. Все в армии знали мистера Коди задолго до того, как он начал выступать со своим цирком «Дикий Запад». В тот ноябрь, когда он показывал свою премьеру в… где это было, Мэй? — На Мэдисон-Сквер-Гарден, тетушка. — Ах да, конечно… кажется, я только что об этом говорила. Тем ноябрем, когда мистер Коди показывал свою премьеру на Мэдисон-Сквер-Гарден, там были все… генерал Шеридан, которого я никогда особо не уважала, если говорить откровенно, и генерал Шерман, и Генри Уорд Бичер…[94] кажется, это было до его скандала… до его скандала и обвинения в адюльтере, Мэй? — Да, тетушка, кажется, так. — Так вот, он был там… странный, тяжелый, длинноволосый и непривлекательный человек. Одет в черный длиннополый костюм и напоминал мешок с салом. У Бичера было полузакрыто одно веко, отчего он казался похожим на идиота или на жертву апоплексического удара. Трудно было поверить, что он был величайшим оратором и евангелистом и — несомненно — женолюбом своего времени, но так оно и было. Там, на премьере мистера Коди, был Огюст Белмон,[95] а еще Пьер Лорилар.[96] И я. У меня, конечно, был пригласительный билет. Тебя с Чарльзом там не было, верно, Мэй, милочка? — Не было, тетушка. Паха Сапа смотрел на племянницу, и я думаю, мы оба спрашивали себя, действительно ли Мэй Кастер Элмер родилась в 1886-м. Возможно. Под слоем косметики на лице этой дамы виднелась целая сеть морщин. Ты, Либби, все еще продолжала говорить… словно старая игрушка, которую если уж завели, то она должна выбрать всю пружинку. — В ту же осень вернулась наша старая кухарка и спутница по тем временам, что мы провели на фронтире… Признаюсь, что я немного вздрогнул, услышав это. Элиза, наша чернокожая кухарка — моя чернокожая кухарка во время войны еще до женитьбы на Либби, Элиза, которую моя кавалерийская часть освободила из рабства в Виргинии и которая с тех пор следовала за мной (а потом за мной и за Либби) в Техас, Мичиган, Канзас и еще западнее, — эта Элиза в Нью-Йорке, на Мэдисон-Сквер-Гарден смотрит шоу «Дикий Запад» Буффало Билла и его финал, где Коди делает вид, что он — это я, а индейцы делают вид, что убивают меня? Элиза? Всего десять лет спустя после моей смерти? — … Она вышла замуж за доктора-негра и оставил а нас, когда От… когда Армстр… когда полковник все еще был жив… Или этот негр был адвокатом? Мэй, милочка? — За негра-адвоката, кажется, тетушка. — Да-да… Как бы то ни было, я с удовольствием показала Элизе Нью-Йорк в ту осень и дала ей билет на шоу на Мэдисон-Сквер-Гарден… Я думала, она должна увидеть город, вы меня понимаете… В первый раз за последние несколько минут ты снова посмотрела на Паха Сапу. — …потому что мы с Элизой пережили столько эпизодов, которые потом стали воспроизводить во всяких зрелищах… не нападение, конечно, на Дедвудскую почтовую карету или Гранд-ревью,[97] но много других эпизодов… и я была уверена, что ничто не может лучше вызвать в памяти у дорогой, преданной Элизы столь ярко, так сказать, наши общие воспоминания о фронтире, чем это наиболее точное и реалистичное изображение жизни на Западе, которая умерла с наступлением цивилизации и все такое. Ты остановилась, чтобы перевести дыхание, а я принялся перебирать воспоминания Паха Сапы времен его краткого пребывания в шоу Коди. В основном это было то же самое шоу, которое ты видела в 1866 году и которое посмотрели тысячи людей в последующие годы, в том числе и на Чикагской выставке. Коди редко менял выигрышную формулу, будь то в его разведывательной деятельности, в шоу «Дикий Запад» или во лжи, касающейся истории. — И вот, после представления, которое я не могла посетить — опять же потому, что у меня были другие дела, — Элиза взяла пригласительный билет, который я ей дала, и отправилась в шатер мистера Коди… эти двое не встречались раньше, потому что Элиза оставила службу у нас еще до того, как мистер Коди стал разведчиком у кавалеристов… и вот она мне позже рассказывала… И тут, моя радость, ты принялась лопотать на манер «Амоса и Энди»[98] — этакая пародия на Элизин говор, на каком в старину говорили виргинские рабы. (У Паха Сапы был маленький радиоприемник, который сделал для него его сын Роберт, к тому же Паха Сапа сотни раз слышал фрагменты из «Амоса и Энди» в барах и домах других рабочих, радиоволны этой станции благодаря мощному передатчику УМАК[99] — который был частью Синей сети Эн-би-си[100] — в хорошую погоду проникали через ионосферу до самых Черных холмов. Когда героиня по имени Руби Тейлор чуть не умерла от пневмонии двумя годами ранее, весной 1931-го, половина рабочих на горе Рашмор ни о чем другом и говорить не могла.) И ты, моя дорогая Либби, вероятно, не пропускала ни одной передачи, потому что твой голос теперь был больше похож на гарлемский скрежет жены Кингфиша, Сапфир,[101] чем на размеренную речь нашей старой кухарки Элизы. — …«Так вот, мисс Либби, когда появился мистер Коди, я тут же увидела, что у него спина и бедра ну прямо как у енерала»… Элиза всегда называла моего мужа «енерал», мистер Вялый Конь, даже после войны, когда все офицеры, которые остались в армии, были понижены в звании, и Оти… мой муж… сохранил только звание полковника… «Так вот, мисс Либби, — говорит она, — когда я пришла в палатку массы Коди, я ему так и сказала, мистер Буффало Билл, сэр, когда вы появились у перевязи и развернулись, я себе сказала: ну если это не точь-в-точь енерал Кастер в бою, то считайте тогда, что я его никогда не видела». После этого относительно громкого воспроизведения негритянского Элизы на манер «Амоса и Энди» ты разразилась кудахтающим смехом и в конечном счете закашлялась, Мэй Кастер Элмер тоже рассмеялась, отчего ее широкие красные щеки стали еще шире и краснее, даже Паха Сапа, кажется, слегка улыбнулся (если только это была не вибрация в стекле буфета от проходящего поезда). Твой кашель продолжался, пока все остальные не отсмеялись, и тогда Маргарет — миссис Флад — принесла поднос с горячим чайником, когда-то великолепными, а теперь потрескавшимися фарфоровыми чашками и блюдечками для всех нас, с кувшинчиком и сахарницей, маленькими ложечками и — на отдельном блюде — крохотные треугольные ломтики чего-то, напоминавшего сэндвичи с огурцами. Поскольку ты все еще продолжала кашлять в белый платочек, который появился, казалось, ниоткуда (хотя я, пока был живым и твоим мужем, узнал, что есть одна вещь более таинственная, чем сердце женщины, это — содержимое ее рукавов), миссис Мэй Кастер Элмер оказала нам честь — разлила чай. Когда она покончила с этим занятием, ты закончила кашлять и отхаркиваться. Я знал, что у Паха Сапы пусто в животе и что он боится взять крохотный треугольничек, не будучи уверен, как такие вещи следует есть в присутствии дам. Если память не подводит меня, мы с тобой, моя дорогая Либби, когда-то в первые дни нашего супружества тоже попали в подобную ситуацию на одном из последних вечеров, которые давал древний генерал Уинфилд Скотт[102] в качестве командующего армией Линкольна, прежде чем огромный возраст и еще более огромная ответственность, лежавшая на его плечах, не отправили его на свалку истории; так вот, в тот вечер я просто заправил себе в рот два или три безвкусных треугольничка из хлеба, огурца и масла и обильно залил их вином, которое в доме генерала было на редкость отвратительным. Ты нахмурилась, глядя на меня, но ты была такой веселой в те юные дни, что никто не заметил, как ты подмигнула мне. А в этот день первого апреля 1933 года ты не подмигивала, и в глазах у тебя не было чертиков — ты принялась за чай, налитый племянницей Мэй, и за один из крохотных треугольных сэндвичей с угрюмой, кладбищенской серьезностью. По моим наблюдениям, интерес к еде — одна из последних (если не последняя) радостей очень старых людей. И вот пока ты, моя дорогая, ела и жевала с такой абсолютно неженственной сосредоточенностью, я обнаружил еще одну особенность, которая отличала ту Либби, что я так страстно любил, от этой старухи Либби против меня на стуле с высокой спинкой: у тебя и зубы были другие. У тебя всегда были такие очаровательные зубки (каждый похож на миниатюрную жевательную резинку «Чиклетс» в сахарной оболочке — Паха Сапа году в 1906-м обнаружил, что его сын Роберт жует такие), и частью твоего обаяния была улыбка, сверкавшая этими крохотными зубками. Теперь у тебя явно были протезы. Протезист даже не потрудился воспроизвести форму твоих прежних очаровательных зубиков, и эти новые, более крупные, более агрессивные меняли все, ты стала похожа на грызуна с выдающимися вперед зубами, которые становились навязчиво заметными, когда ты говорила или жевала. Я прошу прощения за эти нелицеприятные замечания, моя дорогая Либби. Я их высказываю только потому, что знаю: до тебя они никогда не дойдут. Моя любимая (хотя и неизвестная мне) внучатая племянница Мэй откашлялась. Она здесь председательствовала и явно верила, что ошибочное убеждение ее тетушки, будто она видела Паха Сапу в шоу Буффало Билла «Дикий Запад» (или в цирке, как его называли в Нью-Йорке в 1888 году), было идеальной подводкой к сути предполагавшегося разговора. Я был счастлив услышать это, поскольку мы обещали Мэй, что наш визит не займет больше пятнадцати минут твоего драгоценного времени и энергии, и — судя по громко тикающим часам на северной стене — мы уже израсходовали на бессмысленную болтовню чуть более половины этого времени. — Тетушка Либби, вы, наверное, помните, я говорила — мистер Уильям Вялый Конь писал нам, что он не только участвовал в воссоздании… гм… битвы на Литл-Биг-Хорне в шоу Буффало Билла, он еще и присутствовал там. Я хочу сказать, на Литл-Биг-Хорне. Он был… он видел… я хочу сказать, что он был на поле с дядей Армстронгом двадцать пятого июня в тот год, когда… И тут я увидел, как ты изменилась, Либби. Перед этим ты наклонялась над столом, чтобы есть и прихлебывать чай, но тут ты звонко поставила блюдечко и откинулась на спинку высокого стула, твоя согнутая спина, насколько это было в твоих силах, выпрямилась, обрела стержень, на лице появилось настороженное, опасливое, нейтральное выражение. Паха Сапа когда-то прочел мне старую статью о твоем присутствии на открытии какой-то моей нелепой конной статуи в Монро в июне 1910 года, ты в ту неделю запанибрата общалась с его высокотолстопузием президентом Говардом Тафтом, с мичиганским губернатором Уорнером и бесчисленным множеством других важных персон (как ты гораздо позднее сказала об этом одному репортеру), но что тебя окончательно доконало (это не твои слова, моя дорогая), так это вечер в Арсенале, на котором присутствовали сотни ветеранов Седьмого кавалерийского. Какой-то злобный остроумец из присутствовавших — я думаю, это был какой-нибудь шутник офицер из пехотных (тот самый, который рассмешил тебя, сказав, что его пехота, следовавшая за нашей кавалерией во время войны, была ошеломлена, поскольку не находила ни одной штакетины от забора для костра, ни одного цыпленка или поросенка для еды, ни одной нетронутой коптильни и вообще ничего, что могло бы замедлить их голодный марш) — сухо заметил, что, видимо, сведения о бойне, в которую попал мой полк, сильно преувеличены, если сегодня здесь присутствует столько «выживших». Ты оставила его слова без внимания, но не могла оставить без внимания вынужденную встречу сотен старых, беззубых, седых, белоусых, сморщенных ветеранов в красных галстуках, — я тоже, конечно, носил красный галстук, и некоторые подражали мне тогда, а потому эти убеленные сединами ветераны решили, что неплохо и им нацепить красные галстуки, — все они утверждали, что знали тебя и прекрасно помнят, что они были «близкими друзьями» генерала. Ты из всех этих людей узнала только нескольких штабных офицеров (и уж конечно, не жен, детей, зятьев и внуков, которых они притащили на открытие конного памятника в Монро и непременно хотели представить тебе, словно и они были твоими близкими друзьями, последователями и наперсниками). Но я уверен, что не только это заставило тебя выпрямиться и напрячься в тот первоапрельский день 1939 года. Даже при крайне ограниченном круге чтения Паха Сапы в последние годы я сумел понять, что, когда речь заходила о моей гибели (моей и двухсот пятидесяти восьми других офицеров и солдат Седьмого кавалерийского, включая двух моих братьев, юного племянника и зятя), каждый, кто давал себе труд сформировать мнение обо мне, попадал в одну из двух категорий: одни считали меня идиотом, страдающим манией величия, который погубил себя, своих людей и родственников из-за собственной непроходимой высокомерной глупости, а другие полагали, что я, полковник (которого те, кто меня любил, по-прежнему называли генералом) Джордж Армстронг Кастер, погиб, выполняя приказ, во время героической атаки на самые крупные силы индейских воинов, собранные за всю историю военных действий против индейцев. Кастерофобы и кастерофилы. Так их назвал несколькими годами ранее один в остальном ничем не отличившийся газетный писака. И правда, здесь нет никакой середины, нет никого, кто считал бы, что я нахожусь между двумя этими противоположными и взаимоисключающими оценками: самоуверенный дурак или герой-мученик. Неужели ты в старости и болезнях начала забывать важные вещи, моя дорогая? Неужели старческий маразм поселился за этими слезящимися глазами и сморщенным лицом, принявшим отсутствующее выражение? Возможно ли, что ты, сидя напротив меня, забыла, что вот уже пятьдесят семь долгих, горьких лет возглавляешь армию кастерофилов? Всегда бдительно оберегая мою репутацию и имя от всякой мыслимой и немыслимой грязи, ты временами переходила в наступление, например в 1926-м и еще раз в 1929 году, когда категорически возражала C. X. Эсбери, возглавлявшему тогда агентство кроу, в чьем ведении находилось поле сражения на Литл-Биг-Хорне, носящее мое имя, когда Эсбери вознамерился установить небольшую мемориальную доску в память этого пьяницы и труса майора Маркуса Рено, который, в чем ты, моя дорогая, не сомневалась, бросил меня и три мои роты на верную гибель на этом холме. Все прошедшие годы и десятилетия ты храбро вела кастерофилов, ни разу не уступив кастерофобам ни пяди, ни дюйма, используя свою скорбь, вдовство и достоинство как оружие. Но сколько неизвестных лжеуцелевших в том последнем бою Кастера обращались к тебе, со сколькими ты вынуждена была встречаться? С десятками? Сотнями? Ты, моя любовь, отправилась на Чикагскую выставку только спустя семнадцать лет после того, как твой муж стал пищей для червей, и там была представлена вождю Дождь-в-Лицо,[103] который, как хвастливо утверждали индейцы из труппы Буффало Билла, и убил меня. Ты, мое солнышко, прекрасно знала, что причина особого положения этого старого индейца с изрытым оспинами лицом среди других сиу и шайенна, участвующих в шоу (они поселили Дождя-в-Лицо на выставке в старой хижине Сидящего Быка, эта хижина была перенесена прямо на мидвей, где — ты только представь — бедняга Паха Сапа впервые встретил свою жену), и состояла именно в том, что этот улыбающийся самодовольный Дождь-в-Лицо заявлял, будто он лично убил меня там, в высокой траве на Литл-Биг-Хорне. И когда Коди познакомил тебя с этим улыбающимся дураком индейцем, ты резко кивнула, ощутив такую боль, будто кто-то внутри полоснул по твоим внутренностям опасной бритвой. Неудивительно, что ты, несмотря на усталость, все время была настороже и нахмурилась в день, который стал днем нашего с тобой, моя дорогая, воссоединения (пусть об этом знали только Паха Сапа и я), когда миссис Мэй Кастер Элмер стала рассказывать тебе, что Паха Сапа был на поле боя в тот день, час и миг, когда я — твой муж — был убит. Когда Мэй закончила говорить, наступила тяжелая тишина. Ни Паха Сапа, ни ты (когда-то прежде моя, а теперь уже потерянная красавица) не нарушали эту длящуюся и слышимо сгущающуюся тишину. Массивные часы на бюро отбивали проходящие секунды. Где-то южнее, на Ист-ривер у Бруклинского моста, горестно взвыл гудок большого парохода. Наконец, когда целых девяносто секунд из наших оставшихся шести минут были потрачены на это молчание, ты заговорила с тем самым непроницаемым высокомерием в голосе, которым можно было отбрить меня так же чисто, как и той опасной бритвой, которая в этот момент полосовала твое нутро. — Значит, вы были там, когда погиб мой муж, мистер Вялый Конь? — Да, мэм, был. — Сколько вам сейчас, мистер Вялый Конь? — Будет шестьдесят восемь этим августом, миссис Кастер. — А сколько вам было тогда… в тот день… мистер Вялый Конь? — Одиннадцать зим тем августом, мэм, а в тот день в июне и одиннадцати еще не было. — Как ваши соплеменники называют месяц июня, мистер Вялый Конь? — По-разному, мэм. В моем роду июнь называли Луна июньских ягод. Тут ты улыбнулась, Либби, и твои новые, неправильные зубы стали еще агрессивнее, чем недавно. Прикус старого хищника — не кролика. — Это название слегка тавтологично, мистер Уильям Вялый Конь. Паха Сапа не улыбнулся, не моргнул и не отвел взгляда под твоими вонзившимися в него когда-то голубыми глазами. — Извините, миссис Кастер, я не знаю этого слова — тавтологично. — Конечно не знаете, мистер Вялый Конь. — Но я предполагаю, что оно означает «избыточно» или, как любил шутить мой учитель мистер Доан Робинсон, «повторительно избыточно» — каким, как я думаю, и является наше название июня. По-лакотски июнь называется випазункаваштеви, а это приблизительно значит «луна, когда ягоды луны становятся спелыми», и дни этого лунного месяца не точно совпадают с июнем по современному календарю. Ты прищурилась, глядя на него, моя дорогая, пока он произносил эту чуть ли не самую длинную, насколько мне известно, речь в его жизни, и твой прищур, и линия твоего рта и подбородка, вся твоя поза говорили, что ты не слушаешь его, отказываешься слушать, и тебя не интересует, что он говорит. Наконец ты ровным голосом сказала: — Вы заявляете, что видели моего мужа там, на поле боя, мистер Вялый Конь?
— Да.
— И вы убили его? Паха Сапа мигнул, услышав этот вопрос. — Нет, миссис Кастер. Я никак не повредил ему. У меня не было никакого оружия. Я просто прикоснулся к нему. — Прикоснулись? С какой стати вы к нему прикасались, если не нападали на него, мистер Вялый Конь? — Мне было десять лет, и я совершил деяние славы. Вам известен этот термин, миссис Кастер? — Да, думаю, что известен, мистер Вялый Конь. Это то, что делают индейские воины, демонстрируя свою отвагу. Прикасаются к врагу. — Да, мэм. Я не был воином, но я пытался продемонстрировать свою отвагу. — А у вас был… как вы его называете — жезл славы? Я их видела, когда ездила с мужем по индейским деревням в Канзасе, Небраске и других местах. — Нет, у меня были только голые руки. Ты перевела дыхание, Либби, и, хотя продолжала сидеть в напряженной позе, чуть подалась вперед. — И мой муж сказал вам что-нибудь, мистер Уильям Вялый Конь? Вы хотите мне сказать, что мой муж что-то сообщил вам? Мы с Паха Сапой обсудили, что он должен ответить. Когда он впервые предложил мне съездить к тебе несколько лет назад, у меня были некоторые фантазии на тот счет, что Паха Сапа должен сказать тебе что-нибудь из того интимного, что могли знать только ты и я, чтобы ты поняла, что он и вправду говорит от меня. Некоторые интимности казались теперь нелепыми («Миссис Кастер, — сказал он, — и не помнит, как вы заехали в ивняк в тот день, когда полк покидал Форт-Эйб-Линкольн, и чем там занимались…»), да к тому же, если Паха Сапа не объяснит, что мой призрак вселился в него, все это не будет иметь смысла. Мы даже обсуждали, нужно ли говорить тебе, что мой призрак — то, что Паха Сапа считал моим призраком, — живет в нем. И тогда, моя дорогая, я мог бы сказать тебе все, что так хотел сказать. В конечном счете мы оба пережили странную эпоху столоверчения и сеансов до и во время войны, и ты не раз вопрошала, есть ли хоть что-то во всех этих медиумах и визитах мертвецов. Теперь Паха Сапа мог подтвердить, что есть. Только мы решили иначе. Все это было слишком… пошло. Мы в конечном счете решили (я в конечном счете решил): пусть Паха Сапа скажет тебе, что я, твой муж, испуская последнее дыхание, прошептал ему, совсем еще мальчишке: «Передай моей Либби, что я люблю ее и всегда буду любить». При этом мы ждали твоего естественного вопроса: «Неужели же вы, мистер Вялый Конь, знали английский в десятилетнем возрасте?», на что Паха Сапа должен был ответить тебе: «Нет, миссис Кастер, но я запомнил звучание этих слов, а понял их уже позже, когда выучил английский». С этой целью мы сократили послание до: «Скажи Либби, что я ее люблю». Шесть простых слов. То, что я сказал эти шесть слов, а десятилетний мальчик запомнил их и в конечном счете принес тебе, словно шесть роз, — такое вполне могло показаться вероятным, в особенности девяностолетней женщине, которая любила меня все эти годы. И тут я услышал ответ Паха Сапы: — Нет, миссис Кастер, ваш муж не говорил со мной. Я думаю, он был мертв, когда я прикоснулся к нему. Долгое, долгое мгновение ты разглядывала его, — еще одна минута нашего короткого свидания канула в вечность, — а потом холодно сказала: — Тогда зачем вы ко мне приехали, мистер Вялый Конь? Чтобы рассказать, как выглядел мой муж в последние секунды? Сказать, что он не страдал… или что страдал? Или, может быть, чтобы извиниться? — Нет, миссис Кастер, мне просто хотелось вас увидеть. И я благодарен, что вы уделили мне немного вашего времени. Паха Сапа встал. Я почувствовал, что весь трепещу, — я даже не смог бы объяснить, от каких эмоций, — но ты, моя любовь, сидела неподвижно и спокойно смотрела снизу вверх на этого старого индейца, смотрела по-прежнему холодно, но уже без подозрительности и враждебности. Может быть, немного озадаченно. — Если бы вы извинились, мистер Вялый Конь, — сказала ты ему шепотом, — то я бы вам ответила, что в этом нет нужды. Я уже давно поняла, что не вы, сиу, и не ваши друзья шайенна убили моего мужа… его убили трусы и предатели вроде Маркуса Рено и Фредерика Бентина… это они убили моего дорогого мужа, его братьев, нашего племянника и солдат. Паха Сапа не знал, что ответить на это. А я не знал, что подсказать Паха Сапе, чтобы он ответил тебе. Он поклонился и повернулся к двери. Миссис Мэй Кастер Элмер ринулась провожать его через анфиладу комнат. Из твоей гостиной у нас за спиной послышался шепот, и Паха Сапа повернулся. Ты по-прежнему сидела (теперь ты казалась еще согбенней, моя любимая, наверное, потому что оставила эту высокомерную позу и выглядела всего лишь старухой), но поманила к себе Паха Сапу движением пальца с желтым ногтем. Он наклонился над тобой, вдыхая аромат сиреневой туалетной воды и более основательный запахочень старой женщины, завернутой в удушающие слои одежды. Ты посмотрела ему в глаза — посмотрела нам в глаза — и прошептала: «Оти» или «Прощай», а может, это было вообще ничего не значащее слово, вырвавшееся случайно или не имеющее никакого отношения к тому, что только что здесь происходило. Когда Паха Сапа понял, что больше ты ничего не скажешь, он кивнул, словно все понял, снова поклонился и вышел из комнаты вслед за Мэй Кастер Элмер. Горничная, миссис Флад, зашуршала юбками у нас за спиной — понесла что-то похожее на лекарство в твою гостиную.В ту ночь в отеле для цветных Паха Сапа спал хорошо. Его поезд отходил с Гранд-сентрал в 7.45 на следующее утро. Хотя я никогда не спал, но, случалось, впадал в бессознательное состояние в той черноте, где находился, пока Паха Сапа не вызывал меня к свету и звуку, но и там в эту ночь я не находил покоя. Я обнаружил, что мне мучительно больно из-за того, что я ничего не мог сказать тебе, Либби, моя дорогая, моя жена, моя жизнь, а хотел сказать так много. Жаль, что я не мог сказать тебе, что причина гибели на Литл-Биг-Хорне меня, моих братьев Тома и Бостона, моего племянника Оти и многих других состояла не в предательстве и не в трусости офицеров. Майор Рено и вправду был пьяницей (а возможно, и трусом), а этот Бентин, хотя и ненавидел меня всеми фибрами души (всегда ненавидел), доказал свое мужество на том поле, на котором Рено проявил трусость, но все это не имеет отношения к моей смерти. В глубине души я знаю, что Рено, Бентин и другие не могли прийти на помощь мне и трем моим окруженным ротам. Четыре мили, которые разделяли нас в тот день, можно сравнить с расстоянием от Земли до Луны. Они вели свое сражение, Либби, любимая моя, и ни один солдат не мог бы добраться до нас вовремя, а если бы и добрался, то лишь для того, чтобы погибнуть вместе с нами. Все дело в том, что там было слишком много индейцев, моя дорогая. Наша лучшая разведка — белые агенты в агентствах неоднократно заверяли нас, что из агентств ускользнули в общем и целом не больше восьми сотен воинов: шайенна, сиу, лакота, накота и дакота, и что отправились они охотиться на бизонов и сражаться. Не больше восьми сотен, а скорее, гораздо меньше, поскольку такие крупные отряды редко оставались вместе надолго — им было слишком трудно найти подходящие пастбища для лошадей. И уже одни только горы человеческих экскрементов и другой грязи и мусора, которые скапливаются при стоянке отряда более чем в сотню индейцев, не позволяли им долго оставаться вместе. Поэтому мы вышли из форта, рассчитывая, что нам будут противостоять восемь сотен, а столкнулись с… сколько их там было? Ты знаешь все цифры, моя дорогая Либби. Они разнятся: от полутора тысяч воинов против нас до более чем шести тысяч, и большинство из них из деревни, в которой обитало от десяти до пятнадцати тысяч мужчин, женщин и детей, и все они желали драться с нами или, по крайней мере, скальпировать нас и калечить. В конечном счете все объясняется тем, что нам противостояло слишком много индейцев. Это было беспрецедентно. Это было неожиданно. В этом и была причина моей гибели. Но и в этом случае мы могли победить. Вплоть до самых последних минут. Я был уверен, что мы сможем победить, даже без рот Рено или Бентина и без обоза с боеприпасами. Причина была проста: кавалерия, пусть и немногочисленная, всегда побеждала индейцев Равнин. Наша самая выигрышная тактика состояла в атаке на отряд любой численности или на деревню враждебных индейцев. Они могли сопротивляться несколь ко минут, но если у них была возможность просто рассеяться и бежать от атакующих, то прежде они всегда так и делали. Всегда. Но не в этот раз. Если задуматься, то это просто смешно, моя дорогая. Именно это ты как-то раз сказала мне про капризную лошадь, которая была у тебя в Канзасе: «Лошади могут быть опасны, но ты можешь не сомневаться, что они будут вести себя как лошади. А если ты будешь знать, что они попытаются вытворить, то сможешь избежать этого». Я был уверен, что сиу и шайенна на Литл-Биг-Хорне будут вести себя так же, как на Вашите, как они вели себя повсюду, сталкиваясь с Седьмым кавалерийским и другими нашими полками. Застигнутые врасплох кавалерийской атакой, они должны были посопротивляться несколько минут, а потом рассеяться, как всегда. Но на сей раз этого не случилось. Все очень просто, Либби, моя любимая.
Если бы у меня была возможность поговорить с тобой в этот первоапрельский день, я, возможно, объяснил бы тебе, что горюю не о себе, а из-за того, что взял с собой моего младшего брата Тома (вероятно, самого храброго из всех нас — он был награжден двумя медалями Почета) и моего другого брата, Бостона, который не был военным (я по собственной прихоти в последнюю минуту нанял его разведчиком, полагая, что он будет жалеть, если не примет участия в Последнем великом индейском сражении), не говоря уже о моем племяннике Оти, которому только что исполнилось восемнадцать и который пошел со мной по той же самой причине: чтобы не пропустить Последнего решительного сражения. Как я горюю из-за того, что привел их в это место, в этот час. Если бы я мог, Либби, если бы призраки или небеса существовали на самом деле, я бы пожал им руку, заглянул в глаза и попросил прощения, в особенности у тех, кто шел за мной и так долго верил мне, — у Одинокого Чарли Рейнольдса, и Майлса Кео, и Билла Кука, но не за их смерть, потому что двум смертям не бывать, а одной все равно не миновать (как напомнил нам Гамлет),[104] а за глупость моих предположений и мелкие просчеты в то жаркое, влажное июньское воскресенье 1876 года. Но еще я бы напомнил тебе кое о чем, моя дорогая, я бы напомнил тебе, как хорошо мы жили вместе (и собирались и дальше жить так же — я бы наконец, по завершении Последнего великого индейского сражения, стал зарабатывать деньги, читая лекции, издавая книги, а может, у меня было бы и кое-какое будущее в качестве политика от демократов). Но если не думать о будущем, то я просто напомнил бы тебе о том, как хорошо нам было. Я был солдатом и любил свою профессию. А тебе, моя любимая, нравился статус жены воина и волнения, связанные с этим… или по меньшей мере статус жены воина-офицера. Конфедераты были храбрейшими воинами, с какими мне приходилось сражаться, а затем в качестве врага выступали незамиренные индейцы. Но даже тогда, даже в ту последнюю зиму и весну, мы с тобой знали, что дни активных военных действий на фронтире подходят к концу. И наконец, последнее, что я сказал бы тебе в тот субботний день в твоей гостиной с застоялым воздухом: тебе нужно было еще раз выйти замуж. У меня в этом нет ни малейшего сомнения. Моя дорогая Либби, моя любовь, ты должна была выйти замуж сразу же, как только позволяли приличия. Два года спустя после нашего посещения Нью-Йорка Паха Сапа совершенно случайно увидел в газете слова твоего «литературного душеприказчика», все той же агрессивной и делающей странные ударения мисс Маргерит Мерингтон, с которой у нас была короткая встреча внизу лестницы, и мисс Мерингтон приводила твои слова, вроде бы сказанные незадолго до нашей встречи: «Одиночество — вещь ужасная. Но я всегда чувствовала, что если, проснувшись, увижу на своей подушке чью-то иную голову, кроме головы Оти, то это будет изменой». Что ж, моя дорогая, на это я должен тебе сказать: чушь свинячья. Я верю, что Создатель сотворил тебя, как ни одну другую женщину, для того, чтобы любить и быть любимой. После 25 июня 1876 года ты должна была найти себе хорошего мужчину, как только это не вызвало бы скандала (тебе бы подошел адвокат, как нашей кухарке Элизе, а еще лучше судья, потому что в глубине души ты всегда хотела иметь мужа, похожего на твоего отца — судью), и ты должна была выйти замуж за хорошего мужчину и навсегда оставить в прошлом нашу жизнь в Великих равнинах. И никакого лоббирования конных статуй. Никаких переписок с желтоусыми сентиментальными старыми солдатами, которые писали тебе: «Я любил генерала», а на самом деле хотели сказать: «Я бы любил вас, миссис Кастер, если бы вы мне позволили». И никаких не очень достоверных романтических мемуаров о прошлом под глупыми названиями вроде «Сапоги и седла» или «Следом за знаменем». Ты должна была жить для себя, Либби Бекон, а не для своего мертвого мужа. Ты должна была чтить жизнь, а не мою смерть, и ты снова должна была стать любовницей и чтобы каждый день, когда ты просыпалась, на подушке рядом была бы голова другого мужчины. Возможно, ты смогла бы родить ребенка — тебе было тридцать четыре, когда меня не стало. Случались и куда как более удивительные вещи. Тогда, моя дорогая, ты прожила бы полную и счастливую жизнь. А ты вместо этого жила, служа призраку. А призраков, моя дорогая, не существует. Когда-нибудь я объясню это Паха Сапе, который думает иначе. Я попытаюсь внушить ему то, что я обнаружил много лет назад: я не призрак и не душа, ждущая отправки на небеса, а всего лишь воспаление его уникального сострадательного сознания, совестливая память, не дающая ему покоя. Все это — Паха Сапа и его необычная восприимчивость, и никогда не было ничем другим. Нет никакого призрака, никакого «меня», моя любовь. И никогда не было. И хотя я не призрак и не освобожденная душа, я за эти годы, проведенные в колыбели темноты, узнал кое-что о смерти, Либби. С трепетом говорю тебе, что, по-моему мнению, за гранью жизни нет ничего, моя дорогая, а это тем более дает основания жалеть, что ты не нашла себе другого мужчину и не создала новую жизнь, а взяла да похоронила свое будущее вместе со мной пятьдесят семь лет назад. Но я все же рад, что Паха Сапа (самый одинокий из людей, каких ты встречала или могла встретить, моя любовь, человек, который потерял свое имя, родню, честь, жену, сына, богов, будущее, надежды и все те священные атрибуты, что были доверены ему)… я рад, что Паха Сапа привез меня в Нью-Йорк в тот первоапрельский день 1933 года.
Нас на полтора дня задержала аномальная снежная буря около Гранд-Айла в Небраске, и через два дня после того, как мы все же добрались до горы Рашмор, в «Рэпид-Сити джорнал» появилась перепечатка из «Нью-Йорк таймс» от пятого апреля:
Прощай, Либби. Прощай, моя дорогая девочка. Мы больше никогда не встретимся. Но, как научил меня Паха Сапа, даже не зная, что научил меня этому: «Токша аке чанте иста васинйанктин ктело»(«Я увижу тебя снова глазами моего сердца»).МИССИС КАСТЕР УМЕРЛА НАКАНУНЕ СВОЕГО ДЕВЯНОСТООДНОЛЕТИЯ
Миссис Элизабет Бекон Кастер, вдова генерала Джорджа А. Кастера, знаменитого борца с индейцами в период после Гражданской войны, умерла вчера днем в пять часов тридцать минут в своей квартире на Парк-авеню, 71, после разрыва сердца, случившегося у нее в воскресенье вечером. В ближайшую субботу ей должен был исполниться 91 год. В последнее время состояние ее здоровья было стабильным, и она пребывала в хорошем расположении духа, предпринимая иногда короткие прогулки и поездки. Вчера у кровати миссис Кастер находились две племянницы, миссис Чарльз У. Элмер, проживающая на Кларк-стрит, 14, в Бруклине, мисс Лула Кастер, которую вызвали из ее дома на старой ферме Кастеров в Монро, штат Мичиган, а также мистер Элмер. Заупокойную службу предполагается провести в Вест-Пойнте. Все сообщения на этот счет ожидаются позднее. В течение многих лет, почти до конца ее долгой, насыщенной событиями жизни миссис Элизабет Бекон Кастер не давала угаснуть памяти о галантном кавалерийском офицере, чья смерть во время сражения на Литл-Биг-Хорне, в штате Монтана, в 1876 году, когда его батальон был уничтожен индейцами, составляет одну из наиболее драматических страниц американской истории. Миссис Кастер родилась в Монро, штат Мичиган, в семье судьи Даниэля С. Бекона, где вела спокойную безбедную жизнь вплоть до 1864 года, когда вышла замуж за «золотокудрого мальчишку генерала». Ее молодой муж, генерал Кастер, родился в Нью-Рамли, округ Гаррисон, штат Огайо, и в 1861 году окончил Вест-Пойнт. Ко времени женитьбы у него за плечами было несколько лет Гражданской войны, успешной службы и карьеры, начатой с первого сражения при Бул-Ране.[105] Он был тогда бригадным генералом и командовал кавалерийской бригадой мичиганских волонтеров, которая благодаря ему стала одной из наиболее эффективных и подготовленных кавалерийских частей федеральной армии. После свадьбы миссис Кастер выбрала необычный для женщины путь — она последовала за своим мужем на театр военных действий. Спала где придется, пила воду, которая, по ее собственным словам, «содержала естественную историю», и никогда не жаловалась на головную боль, депрессию или усталость. Она следовала за генералом до окончания Гражданской войны. Находилась рядом с Ричмондом, штат Виргиния, когда в Аппоматтоксе Грант принимал капитуляцию у Ли. Кастер служил у генерала Фила Шеридана, приобретшего столик, на котором генерал Грант писал условия капитуляции армии конфедератов. Впоследствии Шеридан подарил этот столик миссис Кастер.
ИНДЕЙСКАЯ КАМПАНИЯ 1867 ГОДА
После окончания Гражданской войны генерал Кастер, которому еще не исполнилось двадцати шести, был переведен в Техас. В звании полковника Седьмого кавалерийского полка он в 1867–1868 годах получил первый опыт сражений с индейцами. Два года он оставался со своим полком в Кентукки, а весной 1873-го был переведен на Дакотскую территорию для защиты топографов, намечавших Северо-Тихоокеанскую железную дорогу по индейским территориям к востоку от реки Миссури. Миссис Кастер лично сопровождала мужа во многих из его героических экспедиций против индейцев. Это было время фургонов, когда трансконтинентальная дорога прокладывалась дилижансами, лодками, телегами и пешим ходом, а людям постоянно угрожали пожары и засады индейцев.
ПАРОХОД ПРИНОСИТ ИЗВЕСТИЕ
И наконец, миссис Кастер в Форт-Авраам-Линкольне в Бисмарке, Северная Дакота, ждала генерала Кастера, который должен был соединиться с громадным экспедиционным корпусом, сформированным для ведения кампании против индейцев, призванной, по мнению генерала Шеридана, стать решающей. Три недели спустя после бойни, во время которой краснокожими приблизительно за двадцать минут были уничтожены генерал Кастер с пятью ротами Седьмого кавалерийского в количестве двухсот семи человек, тихоходный речной пароход принес это известие с верховьев реки. После смерти мужа миссис Кастер написала три книги о жизни генерала: «Сапоги и седла, или Жизнь с генералом Кастером в Дакоте», «Палатки на Великих равнинах», «Следом за знаменем». Эти книги стали частью ее более чем пятидесятилетней деятельности по защите его памяти, вокруг которой велись ожесточенные споры. Она читала лекции по всей стране и сражалась за его права в Вашингтоне. В 1926 году она выразила мнение, что старые раны зажили. Хотя вдова называла бойню на реке Литл-Биг-Хорн ужасной трагедией, как-то раз она заявила, что, «возможно, так было нужно провидению: общественное возмущение после трагедии привело к улучшению экипировки армии, после чего Индейская война очень скоро была закончена». Пока неврит не одолел ее, она была заметной фигурой на Парк-авеню, по солнечной стороне которой совершала неторопливые прогулки. Она посещала клуб «Космополитен», расположенный неподалеку от ее дома. Известны ее слова о том, что современный клуб — утешение для вдов и старых женщин. Во время этих прогулок ее сопровождала миссис Маргарет Флад, которая вместе с мужем, бывшим солдатом Патриком Фладом, стала неотъемлемой частью ее жизни. Кроме военных реликвий в ее квартире было множество сокровищ, относящихся к колониальному периоду. Одним из величайших сокровищ был первый парламентерский флаг конфедератов. В ее прихожей висела фотография, сделанная на церемонии открытия памятника ее мужу в Монро, Небраска.
21 Шесть Пращуров
Пятница, 28 августа 1936 г. Поднявшись в гнусном вагончике канатной дороги, постояв над каньоном предполагаемого Зала славы и послушав Гутцона Борглума, который говорил о подрыве породы для расчистки площадки под голову Теодора Рузвельта, Паха Сапа охотно спускается в том же вагончике вместе со своим боссом — так лучше, чем снова пересчитывать пятьсот шесть ступеней. Этим августовским вечером он уже спустился по лестнице, и боль не позволяет ему повторить спуск. Паха Сапа сразу отправляется домой в свою лачугу в Кистоне, но не из-за каменной пыли и жары, а от боли. Вместо того чтобы приготовить обед, — он добирается до дому почти в семь часов, — Паха Сапа растапливает плиту, хотя дневная жара еще не спала, и нагревает два больших ведра с водой, которую накачал насосом. Ему нужно шесть таких ведер, чтобы можно было по-настоящему помыться в ванне, и когда он выливает горячую воду из двух последних ведер, вода из двух первых уже почти остыла. Но большая часть воды еще горяча, и он скидывает с себя рабочую одежду, ботинки, носки и усаживается в отдельно стоящую ванну на львиных лапах. Боли от опухоли начали изводить его. Паха Сапа чувствует, как боль поднимается от его прямой кишки, или простаты, или нижней части кишечника, или бог уж его знает откуда (грозя полностью взять верх над ним впервые в его жизни, которая часто была наполнена болью) и отнимает последние силы. Одним из тайных союзников Паха Сапы была его сила, довольно необычная для человека такой комплекции и роста, а теперь она утекает из него, как жар из воды или как утечет сама вода, когда он вытащит пробку из ванны. Переодевшись в чистое, Паха Сапа, прежде чем поесть самому, отправляется кормить ослов. Они оба там, в новом, наспех сработанном стойле, — Адвокат и Дьявол. Паха Сапа наливает им свежей воды, проверяет, достаточно ли у них зерна и сена, которое разбросано по полу. Дьявол пытается его укусить, но Паха Сапа готов к этому. Он не готов к тому, что Адвокат лягнет его, занеся копыто вбок, и этот удар застает его врасплох — вся его нога немеет на несколько секунд от удара в верхнюю часть бедра, и ему приходится облокотиться на ограду, при этом он борется с подступающей к горлу тошнотой. Ослы принадлежат отцу Пьеру Мари из Дедвуда, ему тысяча лет, и он единственный, кто остался в живых из тех трех братьев, которые давным-давно обучали индейского мальчика, и Паха Сапа обещал вернуть животных в субботу вечером. Он взял напрокат у двоюродного брата Хауди Петерсона, который тоже живет в Дедвуде, старую доджевскую автоплатформу (ту самую, на которой везли из Колорадо двигатели с подводной лодки), насыпал на нее, теперь обзаведшуюся бортами, свежего сена и соломы и привез ослов из Дедвуда. Платформа понадобится ему опять сегодня вечером, но вернуть ее Хауди он собирается рано утром в субботу, сначала отвезя домой ослов. Так будет, конечно, если сегодня ночью он не разорвет себя вместе с «доджем» на мелкие кусочки, перевозя динамит. Сначала он планирует доставить на площадку ослов, привязать их в рощице под каньоном, чтобы их не разорвало, если во время следующего рейса он вместе с динамитом и грузовиком взлетит на воздух. Держа в голове такую возможность, Паха Сапа написал записку, в которой просит Хэпа Дональда, ближайшего его соседа в Кистоне, отвезти ослов домой, «если со мной случится что-то непредвиденное». Записка эта стоит у него на каминной доске. (Хотя он и предполагает, что первыми в его лачугу войдут шериф или мистер Борглум, а не Хэп.) Покормив ослов, Паха Сапа идет приготовить себе бобы, сосиски и кофе. Он очень устал, и хотя горячая ванна помогла ему, боль на сей раз не рассосалась. Не стоило ли, думает Паха Сапа, последовать совету доктора из Каспера — тот предлагал выписать ему таблетки морфия, которые можно растворять и вводить с помощью шприца. После обеда, когда Кистонскую долину обволакивают тени — вечера к концу августа становятся короче, — а ласточки и крачки начинают рассекать светло-голубой воздух, описывая ровные дуги в поисках насекомых, и появляются первые летучие мыши, которые двигаются дергаными зигзагами, Паха Сапа заводит допотопный мотоцикл Роберта и проезжает три мили до лачуги Мьюна Мерсера. Внутри, похоже, нет света, и Паха Сапа, останавливаясь, думает, что его расчет не оправдался и Мьюн нашел деньги, чтобы отправиться куда-нибудь и напиться именно сегодня. Но тут дверь открывается, в ней возникает громадная, нескладная фигура — Мьюн при росте шесть футов и шесть дюймов весит под триста фунтов — и выходит на хилое крылечко. Паха Сапа выключает слабенький мотоциклетный двигатель. — Не стреляй, Мьюн. Это я, Билли. Массивная фигура крякает и опускает свой двуствольный дробовик. — Давно уже должен был приехать, Вялый Конь, Словак, Вялая Задница. Ты обещал мне ночную работу и деньги уже три недели назад, черт бы тебя драл, полукровка чертов. Паха Сапа слышит и видит, что Мьюн уже успел поднабраться, но пока только своего контрабандного спирта, от которого он через год, наверное, ослепнет, если только эта дрянь не убьет его раньше. Теперь Паха Сапа через открытую дверь видит, что внутри горит тусклая лампочка, но ставни на окнах наглухо закрыты. — Ты меня не пригласишь в дом, Мьюн? Нам нужно обсудить подробности завтрашней работы, и потом, я привез то, что осталось от бутылки. Мьюн опять крякает и отходит в сторону, позволяя Паха Сапе протиснуться в единственную комнату лачуги — тесную, грязную и зловонную. Мьюна Мерсера, чье имя (вероятно, наследственное) всегда произносилось «Мун», в тот короткий период, что он проработал у Борглума в качестве оператора лебедки и чернорабочего, неизменно называли «Мун Муллинс», и, как и этого персонажа комикса,[106] Мьюна даже на горе редко видят без его не по размеру маленького котелка, натянутого на куполообразную, коротко остриженную голову, и без незажженной сигары во рту. У Мьюна даже есть шелудивая и удивительно мелкая дворняжка, которая, как младший брат Муна Муллинса (или это его сын?), зовется Кайо и, как и парнишка из комикса, спит в нижнем ящике комода рядом с кроватью Мьюна. Кайо — в собачьей версии — сонно поглядывает на Паха Сапу, но не лает. Паха Сапе приходит в голову, что собачонка, вероятно, выпила вместе с хозяином. У маленького стола из плохо оструганных досок стоят два стула, тут же раковина, насос с короткой рукояткой и плита. Паха Сапа устало опускается на один из стульев, не дожидаясь приглашения. Он достает бутылку виски, наполненную на одну треть, и ставит на стол. — Я смотрю, ты тут уже хорошо приложился, хер ты моржовый. Хорош подарочек, Тонто. Паха Сапа моргает, услышав столь изощренное оскорбление. В новой ковбойской радиодраме, премьера которой состоялась на детройтской радиостанции в прошлом феврале (у радиостанции достаточно мощный передатчик и нередко, когда атмосферные условия благоприятствуют, слушатели, у которых есть хорошая аппаратура или которые разбираются в особенностях ионосферы, могут принимать ее передачи здесь, в холмах), есть второстепенный персонаж — индеец по имени Тонто. Паха Сапа слушал станцию (и ковбойское шоу с патетической вступительной музыкой) с помощью наушников, которые он приладил к маленькому детекторному приемнику, сооруженному Робертом за год до того, как тот двадцать лет назад ушел в армию. Паха Сапа чуть улыбается и оглядывает гору мусора в комнате. Простыни на незастеленной кровати Мьюна, когда-то белые, теперь желтые и заскорузлые. — Тонто? Очень умно, Мьюн. Но я у тебя не вижу радио. Ты слушал «Одинокого рейнджера»? Мьюн испускает пьяный вздох и падает на стул у стола. Стул стонет, но выдерживает. — Какой еще, к черту, одинокий рейнджер? Тонто по-испански означает «глупый», Тонто. На этом изощренности конец. Мьюн — настоящий идиот; правда, за те несколько недель, что он проработал на горе Рашмор, он показал себя неплохим оператором лебедки. Но он не только идиот, он еще и пьяница (а пьяный Мьюн, как выяснилось, — это непременно подлый Мьюн), и хотя Борглум снисходительно относится к тем, кто приходит работать в субботу или даже в понедельник с большого бодуна, никакой выпивки на работе или ежедневного появления с похмелья, как приходил Мьюн Мерсер, он не допускает. Там, на отвесном утесе, человеческие жизни зависят от трезвости или здравомыслия других людей (в особенности операторов лебедки), а Мьюн каждое утро приходил с красными глазами, мрачный и до десяти или одиннадцати пребывал не в себе. Трезвый Мьюн был преимущественно слабоумным, добродушным гигантом, и другие рабочие пытались прикрывать его (какое-то время), но когда мистер Борглум, который перед этим был в отлучке, наконец разобрался, что к чему, он в тот же день выгнал громилу пинком под задницу. А потому неделю назад, когда Паха Сапа пришел к нему с предложением воистину сказочным — пятьдесят долларов за ночную смену, Мьюн отнесся к этому с удивлением и подозрением. Открыв рот и недоверчиво прищурив маленькие, как бусинки, глаза под котелком, Мьюн наклонил свою здоровенную чурку-голову. — Ночная работа? Ты чего это несешь, недоумок? На Рашморе нет никакой ночной работы, потому что там нет освещения. Какая, на фиг, ночная работа? — В выходные останется неделя до воскресенья, тридцатого, когда приедет президент. Ты ведь слышал о том, что ФДР должен приехать на гору? — Не, не слышал. У Мьюна Мерсера есть положительное качество: он никогда не оправдывается и не извиняется за свое невежество, а невежество у него тотальное. Паха Сапа улыбнулся тогда, ровно неделю назад, выкатил Мьюну полную бутылку дешевого виски и сказал: — Так вот, теперь известно почти наверняка, что президент приедет в воскресенье, тридцатого, тут будет большое торжество и открытие головы Джефферсона, поэтому мистер Борглум хочет, чтобы мы с тобой поработали ночью, приготовили сюрприз, который он припас для президента и других важных персон. Я уж не знаю почему, но он хочет, чтобы это было сюрпризом и для остальных ребят. А поскольку нам придется работать вдвоем и ночью, — но мистер Борглум говорит, что в субботнюю ночь будет почти полнолуние, — он готов нам заплатить по пятьдесят долларов. Тогда Мьюн подозрительно прищурился, как и теперь. Пятьдесят долларов — это целое состояние. — А на кой черт именно я нужен мистеру Борглуму, мистер Билли Полукровка? Он ведь меня выгнал, ты не забыл? Перед всеми ребятами выгнал. Он что, берет меня назад? Паха Сапа покачал головой. — Нет, Мьюн. Мистер Борглум по-прежнему не хочет, чтобы пьяница был у него на полном жалованье. Но, как я уже тебе сказал, он хочет сделать сюрприз для всех рабочих и их жен, а также для президента Рузвельта, сенатора Норбека, губернатора и остальных шишек, что соберутся внизу. Это разовое предложение, Мьюн… но он платит пятьдесят долларов. У Мьюна тогда был еще более озадаченный вид, чем обычно, он смотрел, прищурившись из-под своего котелка, прикусив погасшую сигару, пока щелочки глаз вообще не исчезли (как уже начали исчезать сейчас) в жирных складках век, лишенных ресниц. — Покажи мне деньги. Паха Сапа вытащил комок денег (почти все, что ему удалось сэкономить за год) и извлек из него пятьдесят долларов. — А что такого в этом секретного, что мистер Борглум готов заплатить мне и полукровке такие деньги за ночную смену? Он что, собирается подорвать в жопу свои собственные головы или что? Услышав это, Паха Сапа вежливо рассмеялся, но кожа у него похолодела и на ней выступил пот. — Это будет что-то вроде фейерверка. Я так думаю, там будут кинокамеры, и мистер Борглум хочет всех удивить настоящим зрелищем. — Ты говоришь, что в тот вечер приедет этот обожатель ниггеров — Рузвельт? — Нет, он приедет, я думаю, поздним утром. Пока тени на головах еще хороши. — Фейерверк в середине дня? Это что еще за херня такая? Паха Сапа пожал плечами, давая понять, что он не меньше Мьюна удивлен причудами и капризами старика. — Это будет фейерверк с небольшими взрывами, Мьюн. Я так думаю, он хочет устроить салют из двадцати одного залпа в честь президента… ну, ты же знаешь, вроде того, что устраивают военные, когда оркестр играет «Салют вождю»…[107] но с небольшими взрывами по всей длине Монумента и с обрушением породы, которую мы так или иначе собирались взрывать, но чтобы это звучало как официальный салют. В общем, мистер Борглум сказал, что я могу нанять тебя только на одну эту ночную смену, отчасти потому, что ты не общаешься с ребятами и не будешь болтать, но я могу предложить эту работу и другим, если ты не хочешь. Пятьдесят долларов, Мьюн. — Давай мне их сейчас. Ну, типа авансом. Паха Сапа дал ему пять долларов купюрами по одной, зная, что Мьюн потратит их на выпивку в первые два дня и будет относительно трезв к тому времени, когда понадобится Паха Сапе в конце следующей недели. Мьюн пьет из бутылки, не предлагая Паха Сапе вымыть стакан и тоже выпить. Видя состояние двух других стаканов в раковине, Паха Сапа радуется тому, что такого предложения не последовало. — Мне нужна еще десятка. Паха Сапа качает головой. — Послушай меня, Мьюн. Ты же знаешь, мистер Борглум не заплатит тебе остального, пока работа завтра ночью не будет сделана. Завтра весь день я буду работать с Джеком Пейном — бурить шпуры для этого сюрприза… а поскольку Джек уже и без того знает, что тут что-то затевается, то я вполне могу нанять его и заплатить ему пятьдесят долларов… или даже сорок пять — то, что осталось. И я знаю, что он завтра ночью наверняка будет трезвым. — Громила Пейн? Пошел он… Вы со стариком предложили эту работу мне, полукровка ты чертов, мешок с дерьмом. Только попытайся выкинуть меня из этого дела, и я… Мьюн пытается поднять свое громадное тело со стула, но Паха Сапа встает и легким толчком возвращает его на место. Спирт — штука сильнодействующая, а Мьюн, видимо, пил со вторника. — Тогда протрезвей к завтрему — и я это серьезно. Если ты будешь пьян или даже с сильного похмелья, когда я приеду за тобой завтра вечером, то мистер Борглум приказал мне взять вместо тебя Пейна или еще кого. Я это серьезно, Мьюн. Ты завтра должен быть как стеклышко, или эти пятьдесят долларов отправятся к кому-нибудь другому. Мьюн выпячивает нижнюю губу, как обиженный, надувшийся ребенок. Паха Сапа думает, что если этот пьяный недоумок начнет плакать, то он, Паха Сапа, его убьет. Не в первый раз в жизни чувствует он безумную радость Шального Коня, которая охватывает его при мысли о том, как томагавк вонзится в этот предварительно скальпированный череп под дурацким котелком. — Ты когда завтра приедешь за мной, Билли? Паха Сапа испускает вздох облегчения. — Незадолго до одиннадцати, Мьюн. — И тогда я получу деньги? Паха Сапа даже не дает себе труда отрицательно покачать головой в ответ на такой глупый вопрос. — Деньги утром. Перед рассветом. Когда работа будет сделана. Может, мистер Борглум придет посмотреть и заплатит тебе сам. — Эй, деньги-то уже у тебя! Я видел на прошлой неделе! — То было на другую работу, Мьюн. Слушай, я уговорил мистера Борглума дать тебе в последний раз эту работу, потому что хотел сделать для тебя доброе дело. Так что ты уж не облажайся. Мьюн пытается прищуриться еще сильнее, но дальше уже некуда. — На какой лебедке я буду работать? — Я думаю, на всех четырех. Я завтра уточню у мистера Борглума, но думаю, что нам понадобятся все четыре. — Четыре? Да их три на скале, глупый ты полукровка. Я ведь туда заглядываю время от времени. Там только три лебедки над головами. — Да, над головами только три лебедки, это верно. Но в прошлом году установили еще одну с другой стороны. Я так думаю, нам придется поднимать что-нибудь из каньона, где будет Зал славы. Да, и еще, Мьюн. — Что? Паха Сапа задирает рубашку. На следующий неделе будет шестьдесят лет, как Кудрявый, разведчик кавалеристов, вручил ему длинноствольный кольт, который теперь торчит у него из-за пояса. За эти годы Паха Сапа нашел к нему патроны и проверял его не далее как вчера. Что здорово в хорошем оружии, думает он, так это то, что оно никогда не устаревает. — Вот что, Мьюн. Если ты еще раз назовешь меня полукровкой или Тонто, то, будь ты при этом сто раз пьян, я снесу твою глупую башку. Понял, ты, недоумок, мешок с дерьмом? Мьюн смиренно кивает. Паха Сапа выходит к мотоциклу и заводит его с первого раза. Длинноствольный револьвер за поясом мешает ему, поэтому он кладет его в коляску.Незадолго до полуночи Паха Сапа, как и планировалось, первым делом доставляет к горе ослов. Еще не закончив первый рейс на старой скрежещущей развалине, он понимает, что сглупил. Надо было загрузить ослов, динамит и взрыватели и доставить все одним рейсом. Если динамит взорвется, то вместе с ним взлетит на воздух добрая половина Кистона, так какая разница, пусть взрывается с двумя старыми ленивыми ослами, черт бы их подрал. Паха Сапа не очень ценил тех — будь то человек или животное, — кто своим трудом не зарабатывал себе пропитания, а эти ослы в жизни не делали работы тяжелее, чем таскать раз в неделю почту или продукты вверх по холму из Дедвуда для отца Пьера Мари в церковь и его домик. Но сегодня ночью будет по-другому. Этим ослам — и тому старому ослу, что везет их сейчас в грузовике вверх по склону, — для разнообразия придется потрудиться. Адвокат и Дьявол во время этой поездки ведут себя тише тихого. Они казались очень недовольными, когда Паха Сапа, прежде чем погрузить их в кузов, обмотал им копыта грубой джутовой тканью, но ослы явно думают, что их везут назад, к привычной жизни со священником над Дедвудом (а может, они просто дремлют потихоньку, непривычные к тому, что их вырывают из сладких сновидений после захода солнца), а возможно, они просто радуются всем этим кипам соломы и грудам сена, хитроумно накиданным в кузов грузовика с откидными бортами, чтобы ослам было удобно и сытно во время поездки. Паха Сапа не сообщает ослам, что солома и сено заготовлены для динамита, который приедет позже. Дорога пуста. На Доан-маунтин за соснами видно небольшое скопление сараев и сооружений покрупнее (лебедочная, кузня, компрессорная), все они погружены в темноту. Паха Сапа мельком замечает, что в студии Борглума свет все еще горит, но дом далеко от большой, уложенной гравием парковки, на дальнем конце которой в тени больших деревьев он останавливает грузовик и выгружает Дьявола и Адвоката. Деревья сейчас дают тень, потому что луна (полнолуние было два дня назад) поднялась над вершинами холмов на востоке. Эта августовская ночь теплее обычного для такой высоты и такого времени, и, пока Паха Сапа отводит ничего не понимающих ослов на тридцать ярдов в сторону от парковки, в сухой траве под ногами прыгают кузнечики и другие насекомые. Крутая тропинка, ведущая в каньон Зала славы, начинается еще через сто пятьдесят ярдов, но Паха Сапа собирается оставить ослов здесь и хочет, чтобы они не шумели, пока он будет ездить за динамитом. Для этого он не только привязывает их к соснам, но еще стреножит и надевает шоры. Адвокат и Дьявол недовольно лягаются, возмущаясь такому унижению их достоинства. «Это еще только начало, ребята», — думает Паха Сапа, перетаскивая из грузовика вьючные мешки и привязывая их на спины удивленным животным. Еще он приносит сложенные отрезки брезента и укладывает их кипой в пятнах лунного света. Паха Сапа всю свою жизнь любил ночной запах сосновых иголок под ногами, тот аромат, что исходит от них, когда они остывают после жаркого дня под солнцем, и эта ночь не отличается от других. Он чувствует, что боль, которая в последние недели нарастала у него в кишечнике и нижней части спины, отступает, как и страшная усталость, которую он носил на своих плечах днями и ночами вот уже несколько месяцев. Вот оно. Я недаром прожил жизнь. Наконец-то я все-таки делаю это. Мысли его текут свободно, почти легко, и ему приходится не без иронии напоминать себе, что пока он всего лишь в безнравственных целях перевез двух ослов к подножию холма. Паха Сапа знает, что есть манновский закон… а вот есть ли ослиный закон?[108] Будет тебе закон, если не выкинешь всякие глупости из головы, Черные Холмы, обрывает он себя. У него вот уже более сорока лет во рту не было ни глотка виски и вообще ничего спиртного — ни вина, ни пива, так откуда же берется эта пьяноватая легкомысленность? Оттуда, что ты наконец делаешь то, о чем только и думал на протяжении вот уже шестидесяти лет, ты, усталый недоумок, говорит он себе, переводя рукоятку передач «доджа» в нейтраль и позволяя машине скатиться под уклон со стоянки, и только после этого заводит двигатель. Двадцать один ящик лучшего припасенного им динамита уже отобран и готов к погрузке. Спина у Паха Сапы так болела в последнее время, что он сомневался, сумеет ли погрузить их в кузов, — опасался, как бы спина не подвела его, когда придет время таскать тяжелые ящики в кузов грузовика по скату, — но теперь он не чувствует никаких проблем. Все ящики аккуратно становятся на высокую соломенную подстилку, как это и задумано, а брезент и солому он заталкивает между ящиками для большей амортизации. И все же он облегченно вздыхает, когда выезжает за пределы города. Три городских бара не так заполнены, как в обычный пятничный вечер, потому что многие горожане работают на мистера Борглума и потому что завтра… нет, уже сегодня, в эту субботу, у большинства из них рабочий день, но Паха Сапа все равно был бы огорчен, если бы какая-нибудь выбоина на тряской и даже не асфальтированной дороге вызвала взрыв, который разорвал бы в клочья его, грузовик, бары и двадцать других сооружений со спящими обитателями — женщинами и детьми. Если нитроглицерин или динамит взорвутся теперь, думает он, поднимаясь в гору на низкой передаче, то исчезнут только он, участок дороги и несколько дюжин деревьев. Но Паха Сапа хмурится, понимая: прошедшее лето было таким засушливым, что от взрыва здесь, на дороге, непременно начнется лесной пожар, который вполне может уничтожить весь Кистон, а вместе с ним сооружения на горах Доан и Рашмор. Двадцать один ящик с динамитом и один, поменьше, с детонаторами не взрываются на тряском подъеме в гору. Паха Сапа с удивлением отмечает не только то, что он ждал этого взрыва, но — на какой-то странный, необъяснимый, извращенный манер — даже немного разочарован, что его не случилось. Снова припарковавшись в тени деревьев, он выгружает двадцать один ящик динамита плюс меньший с детонаторами. После этого он тихонько выводит «додж» с парковки, оставляет его на заброшенной пожарной дороге в четверти мили выше по склону, потом возвращается напрямик через лес. Почти полная луна висит теперь над ближними холмами и каменистыми хребтами, опутанная ветвями сосен прямо над головой Паха Сапы, когда он идет по лесу. По мере того как она поднимается выше и выше, ее сияние все больше затмевает свет звезд, а гранитный торец и уступы горы Рашмор, которую он видит слева сквозь стволы деревьев, в лунных лучах отливают более чистым белым светом, чем днем. Возникает навязчивая иллюзия, будто глаза Джорджа Вашингтона, старейшего из всех, следят за Паха Сапой. Прежде чем привести зашоренных и безмолвных теперь ослов к ящикам с динамитом, Паха Сапа поднимает ящик с детонаторами, подвешивает его у себя на груди с помощью припасенного для этой цели кожаного ремня и уносит его в каньон Зала славы. Лунный свет в верхней части каньона похож на жирные, четкие мазки белой краски. Но тени очень черны, и на подходе к каньону и в самом каньоне под ногами сплошные корни деревьев, камни и трещины. Паха Сапа жалеет, что Борглум не построил широкую изгибающуюся лестницу, о которой говорил сегодня… нет, уже вчера. Он старается держаться там, куда попадает лунный свет. Но тени тут широкие и такие черные, что, оказавшись в каньоне, он вынужден время от времени включать припасенный фонарик. Один раз, доверившись лунному свету, Паха Сапа спотыкается и начинает падать вперед, на чуть позвякивающий ящик с детонаторами. Ему удается приостановить падение, выбросив правую руку и уперев ее в валун, который он успевает разглядеть в темноте. Паха Сапа осторожно встает и двигается дальше медленнее, чувствуя, как кровь с ободранной ладони стекает по пальцам. Он может только улыбнуться и покачать головой. Прямоугольный пробный ствол для Зала славы не виден в чернильно-черной тени от стены каньона, но Паха Сапа видит конец стены впереди и знает, где нужно остановиться. С помощью фонарика он находит ствол и, встав на четвереньки, медленно двигается к концу тупичка. Динамит он уложит ближе к выходу и хочет быть уверенным в том, что, случайно оступившись или уронив в темноте ящик, не приведет в действие чувствительные детонаторы. Возвращаясь к ослам и динамиту у входа в узкий каньон, Паха Сапа подавляет в себе дурацкое желание засвистеть. Он вытаскивает из кармана чистый платок, отирает кровь с ладони и пальцев, удивляясь странному чувству восторга, которое зреет в нем. Интересно, не так ли чувствуют себя воины перед сражением?
— А ты никогда не хотел быть воином? Роберт задает отцу неожиданный, но давно назревший вопрос. Лето 1912 года, их ежегодный туристический поход, Роберту четырнадцать лет. Они ставили палатку в Черных холмах много раз и до этого, но теперь Паха Сапа впервые привел сына на вершину Шести Пращуров. Они вдвоем сидят у обрыва, свесив ноги, совсем рядом с тем местом, где Паха Сапа тридцатью шестью годами ранее вырыл себе Яму видения. — Я хотел спросить… разве большинство молодых людей из твоего племени не хотели в те дни стать воинами? Паха Сапа улыбается. — Большинство. Но не все. Я тебе рассказывал о винкте. И о вичаза вакане. — И ты хотел стать вичаза ваканом, как и твой приемный дедушка Сильно Хромает. Но, отец, скажи по правде… разве тебе не хотелось стать воином, как большинству других молодых людей? Паха Сапа вспоминает один дурацкий налет на пауни, в котором ему разрешили сопровождать старших ребят… он тогда даже не смог удержать лошадей, они вели себя слишком шумно, а потому ему досталось от других, которые тоже отступили довольно быстро, когда увидели размер стоянки, разбитой воинами пауни… потом он вспомнил, как ринулся к месту кровавой схватки на Сочной Траве, не взяв с собой никакого оружия. Он понял, что даже не хотел причинять вреда вазичу в тот день, когда Длинный Волос и другие атаковали их деревню, а просто скакал вместе с остальными мужчинами и мальчиками, потому что не хотел оставаться один. — Вообще-то, Роберт, я думаю, что никогда не хотел стать воином. По-настоящему — нет. Видимо, мне чего-то нехватало. Может, все дело было в канл пе. Четырнадцатилетний Роберт покачивает головой. — Ты не был канл вака, отец. Ты не хуже меня знаешь, что ты никогда не был трусом. Паха Сапа посмотрел на облачка, двигающиеся по небу. В 1903 году, когда Большой Билл Словак погиб на шахте «Ужас царя небесного», Паха Сапа увез пятилетнего сына подальше от Кистона и Дедвуда на Равнины, где они прожили в палатке семь дней у Матхо-паха — Медвежьей горки. На шестой день Паха Сапа проснулся и обнаружил, что сын исчез. Фургон, на котором они приехали, был на том же месте, где его спрятал Паха Сапа, лошади, по-прежнему стреноженные, паслись там, где он их оставил, но Роберта не было. Три часа Паха Сапа обыскивал торчащую над прерией горку высотой тысяча четыреста футов, а перед его мысленным взором мелькали то гремучая змея, то упавший на мальчика камень, то сам Роберт, сорвавшийся со скалы. И вот когда Паха Сапа решил, что должен взять одну из лошадей и скакать в ближайший город за помощью, маленький Роберт вернулся к палатке. Он был голодный, грязный, но во всем остальном — в полном порядке. Когда Паха Сапа спросил у сына, где тот был, Роберт ответил: «Я нашел пещеру, отец. Я говорил с седоволосым человеком, который живет в этой пещере. Его зовут так же, как и меня». После завтрака он попросил Роберта показать ему эту пещеру. Роберт не мог ее найти. Когда Паха Сапа спросил, о чем говорил ему старик из пещеры, мальчик ответил: «Он сказал, что его слова и сны, которые он мне показал, — это наша с ним тайна — его и моя. И еще он добавил, что ты поймешь это, отец». Мальчик так никогда и не рассказал отцу, что Роберт Сладкое Лекарство говорил ему в тот день 1903 года, какие видения показывал. Но с тех пор Паха Сапа с сыном каждое лето отправлялись в недельный турпоход. Роберт болтал длинными ногами, сидя на обрыве Шести Пращуров, глядя на отца, потом сказал: — Ате, кхойакипхела хе? Паха Сапа не знал, как ответить. Какие страхи мучат его? Страх за жизнь сына, за его благополучие? Какие страхи мучили его, когда заболела Рейн? Только страх за ее жизнь. И еще страх за будущее его народа. А может, это были не страхи — знание? И еще, возможно, он боялся неистовства воспоминаний других людей, что темными комьями лежали в его сознании и душе: депрессии Шального Коня, его вспышек ярости; даже воспоминаний Длинного Волоса о веселых убийствах в низких лучах зимнего восхода, когда полковой оркестр наигрывал «Гэри Оуэна» на холме за ним. Паха Сапа только покачал головой в тот день, не зная, как ответить на вопрос, но зная, что его сын прав: он, Паха Сапа, никогда не был трусом в общепринятом смысле этого слова. Но еще он знал, что потерпел безусловное поражение как муж, отец и вольный человек природы. До того летнего похода 1912 года Паха Сапа думал, что, может быть, следует рассказать Роберту подробности его ханблецеи на этой горе тридцать шесть лет назад (может, даже детали видения, дарованного ему шестью пращурами), но теперь он понял, что никогда не сделает этого. За ту неделю, что они бродили вокруг горы, он говорил Роберту только о том, что приходил сюда в поисках видения, не рассказывая о самом видении, и любопытно, что Роберт не задал ему никаких вопросов. Роберт Вялый Конь унаследовал светлую кожу матери, карие глаза, стройное телосложение и даже ее длинные ресницы. Но ресницы не придавали лицу Роберта женственного вида. Возможно, в отличие от отца, Роберт родился воином, только тихим. В нем не было ничего от ярости и бешенства Шального Коня. В денверском интернате он некоторое время позволял мальчишкам постарше и посильнее дразнить его за смешное имя и за то, что он полукровка, потом он спокойно предупредил их, а потом — когда задиры продолжали дразниться — Роберт их поколотил. И продолжал колотить, пока они не перестали. В четырнадцать лет Роберт был уже на четыре дюйма выше отца. Паха Сапа не знал, почему он такой рослый, ведь Рейн, как и ее отец (священник-миссионер и теолог, который уехал из Пайн-Риджской резервации через год после смерти дочери, в 1899 году, вскоре умер и сам, не дожив до наступления нового века в 1901 году), была невысокая. Паха Сапа думал, что, может быть, его собственный отец, мальчишка Короткий Лось, несмотря на свое имя, был высоким. (Ведь даже короткий лось, думал Паха Сапа, должен быть относительно высок.) Ему никогда и в голову не приходило спросить у Сильно Хромает, или у Сердитого Барсука, или у Женщины Три Бизона, или у кого-нибудь другого, какого роста был его юный отец, прежде чем обрек себя на смерть в схватке с пауни. Преподобный Плашетт переехал в Вайоминг, чтобы быть поближе к своему другу Уильяму Коди в последний год своей жизни. Коди основал там городок, назвал его своим именем и построил в нем несколько отелей — он был уверен, что туристы потекут на прекрасный Запад по недавно открытой ветке Берлингтонской железной дороги. Буффало Билл назвал один из отелей именем своей дочери Ирмы, а дорогу, которую построил из городка Коди до Йеллоустонского парка, — Коди-роуд. Еще одним знаком богатства старого предпринимателя было гигантское ранчо, созданное им на южной развилке Шошон-ривер. Коди перегнал туда весь скот со своих прежних ранчо в Небраске и Южной Дакоте. Когда Паха Сапа и маленький Роберт в первый раз посетили преподобного де Плашетта и процветающего Коди на его ранчо в 1900 году, во владении Буффало Билла было более тысячи голов скота на более чем семи тысячах акров великолепной пастбищной земли. Буффало Билл, поседевший, но все еще длинноволосый и сохранивший свою бородку, во время приездов Паха Сапы настаивал на том, чтобы его прежний работник и мальчик жили с ним в большом доме; и в тот второй и последний приезд перед самой смертью преподобного де Плашетта, в день первого снегопада в городке Коди осенью 1900 года, Коди, глядя, как двухлетний мальчик играет с детьми прислуги, сказал: — Твой сын умнее тебя, Билли. Паха Сапа не воспринял это как оскорбление. Он и без того уже знал, что у его маленького сына исключительные способности. Он только кивнул. Буффало Билл рассмеялся. — Черт побери, я боюсь, что он вырастет даже умнее меня. Ты видел, как он разобрал эту пустую лампу, а потом снова ее собрал? Даже стеклышка не разбил. Да он едва ходить научился, а уже смотри-ка — инженер. Ты где его собираешься учить, Билл? Это был хороший вопрос. Рейн заставила Паха Сапу поклясться, что Роберт пойдет в хорошую школу, а потом — в колледж или университет где-нибудь на Востоке. Она, конечно, была уверена, что ее отец поможет, — старик в свое время преподавал естественную религию[109] и теологию в Йеле и Гарварде, — но она не приняла в расчет, что ее отец умрет почти сразу же после ее смерти, и к тому же умрет разоренным. Школы вблизи Кистона и Дедвуда, где Паха Сапа, покинув Пайн-Риджскую резервацию, начал работать на шахтах, были ужасны и к тому же все равно не принимали индейских детей. Единственная школа в Пайн-Риджской резервации была и того хуже. Паха Сапа экономил деньги, но понятия не имел, как дать сыну образование. Уильям Коди потрепал его по спине, когда они наблюдали за играющими детьми. — Предоставь это мне, Билли. Моя сестра живет в Денвере, и я знаю, там есть хорошая школа-интернат. Та, которую я имею в виду, принимает мальчиков с девяти лет и готовит их к поступлению в колледж. Наверное, это дорогое удовольствие, но я буду более чем рад… — У меня есть деньги, мистер Коди. Но я буду вам признателен, если вы замолвите словечко в этой школе. Те школы, что принимают индейских детей, не очень хороши. Коди посмотрел на четырех малышей, играющих на полу. — Да кто может сказать, что в Роберте есть индейская кровь? Я бы не смог, а я прожил среди вашего брата больше тридцати лет. — Но фамилия у него остается — Вялый Конь. Уильям Коди крякнул. — Ну, может, он не так уж и умен, как мы думаем, Билли, и ему ни к чему хорошая школа-интернат. А может, в будущем другие люди будут умнее. Либо одно, либо другое — надежда всегда остается.
Роберт не разочаровал отца. Мальчик сам научился читать еще в четыре года. В пять лет он уже читал все книги, какие Паха Сапа мог для него найти. Он каким-то образом выучил лакотский, словно вырос в роду Сердитого Барсука, а к шести годам уже знал и испанский (почти наверняка благодаря мексиканке, ее семье и друзьям, которые приглядывали за ним, пока Паха Сапа работал в шахте). Когда Роберт поехал-таки учиться в денверскую школу-интернат в 1907-м (путешествие в Денвер с Черных холмов в те времена было делом опасным, потому что прямой железнодорожной связи еще не было, но сам мистер Коди довез их по грунтовой дороге из Вайоминга), он уже начал говорить и читать по-немецки и по-французски. Учился он в Денвере легко, хотя начальную школу в Черных холмах посещал редко, а домашним учителем у него был отец. Роберт ни на день не расставался с отцом до того дня в сентябре 1907 года в Денвере, когда Паха Сапа, глядя в овальное зеркало заднего вида автомобиля мистера Коди, увидел своего сына, который стоял среди незнакомых людей перед зданием красного кирпича с зелеными ставнями; Роберт, казалось, был слишком испуган, или потрясен, или, возможно, слишком погружен в необычную ситуацию, и потому ему не пришло в голову помахать рукой на прощание. Но он писал отцу каждую неделю и в тот год и в последующие (хорошие, длинные, подробные письма), и хотя Паха Сапа знал, что Роберт очень скучал по дому в течение всего первого года (Паха Сапа чувствовал своим нутром и сердцем, как томится по дому мальчик), он ни словом не обмолвился об этом в своих письмах. В январе каждого года они начинали писать друг другу о том, куда им хочется пойти в турпоход летом этого года. — Ты когда-нибудь привозил сюда маму? Паха Сапа моргнул, выходя из своего полузабытья. — На Черные холмы? Конечно. — Нет, я говорю — сюда. На Шесть Пращуров. — Не совсем. Мы приезжали на холмы, когда она была беременна тобой, и мы забирались сюда… Паха Сапа показал на гору, возвышавшуюся на юго-западе. Роберт, казалось, был удивлен, даже потрясен. — Харни-пик? Удивительно, что ты брал туда маму… и вообще ходил туда. — Это название, которое дали горе вазичу, ничего не значит, Роберт. По крайней мере, для меня.[110] Оттуда мы могли увидеть Шесть Пращуров и почти все остальное. Там была грунтовая дорога, которая подходила к тропе, ведущей на вершину Харнипика, а сюда, к Шести Пращурам, никакой дороги не было. Ты сам видел, какой здесь плохой подъезд и по сей день. Роберт кивнул, глядя на вершину вдалеке и явно пытаясь представить себе, как его мать смотрит на него оттуда. — А почему ты спросил, Роберт? — Я просто думал обо всех местах, что ты мне здесь показывал во время наших походов с самого моего детства, — Медвежья горка, Иньян-кара, Пещера ветра, Бэдлендс, Шесть Пращуров… Роберт называл все эти места по-лакотски, включая Матхопаху, Вашу-нийя («Дышащая пещера» вместо Пещеры ветра), Мака-сичу и все остальное. В их разговоре всегда чередовались английский и лакотский. Паха Сапа улыбнулся. — И? Роберт улыбнулся ему в ответ улыбкой Рейн, которая появлялась на ее лице, если она смущалась. — И, понимаешь, я хотел узнать, за этими посещениями стояли еще и какие-то религиозные мотивы, помимо того, что тут просто прекрасные места… или места важные для твоего народа. Паха Сапа отметил это «твоего» вместо «нашего». — Роберт, когда в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году бледнолицые созвали в Форт-Ларами разных икче вичаза, сахийела, вождей других племен, шаманов и воинов, чтобы определить границы индейских территорий, бледнолицые солдаты и дипломаты, говорившие от лица далекого великого Бледнолицего Отца, сказали, что они, очерчивая границы, имеют целью «знать и защищать вашу землю в той же мере, что и нашу», и наши вожди, шаманы и воины смотрели на карты и чесали затылки. Мысль запереть кого-либо в определенных границах никогда не приходила в голову вольным людям природы или какому-либо другому из представленных там племен. Как ты можешь знать, что ты завоюешь следующей весной или потеряешь следующим летом? Как ты можешь провести линию, ограничивающую твою землю, которая на самом деле принадлежит бизонам и всем животным, обитающим на Черных холмах… или всем племенам, что нашли там прибежище, если уж на то пошло? Но потом наши шаманы стали делать отметки на картах вазичу, показывая места, которые должны принадлежать их племенам и народам, потому что они священны для них, — большие овалы вокруг Матхо-паха, и Иньян-кара, и Мака-сичу, и Паха-сапа, и Вашу-нийя, и Шакпе-тункашила, где мы с тобой сейчас находимся… По лицу Роберта уже гуляла улыбка, но Паха Сапа продолжал: — Вазичу были немного ошарашены, потому что шайенна и мы, вольные люди природы, считали так или иначе священными почти каждый камень, каждый холм, каждое дерево, реку, плато, каждый участок прерии. Теперь Роберт уже смеялся вовсю — тем свободным, легким, естественным, всегда непринужденным смехом, который так напоминал Паха Сапе мелодичный смех Рейн. — Я понял, отец. На Черных холмах и вокруг, куда бы ты меня ни привел, нет ни одного места, которое не было бы частью веры икче вичаза. И все же… тебя никогда не волновали проблемы моего… религиозного воспитания? — Твой дед крестил тебя, и ты — христианин, Роберт. Роберт снова рассмеялся и прикоснулся к обнаженному предплечью отца. — Да, и это действо определенно дало результат. Не помню, кажется, я не писал тебе об этом, но в Денвере я часто хожу в разные церкви… не только в правильную часовню при школе, но и с другими учениками, некоторыми наставниками и их семьями по воскресеньям. Мне больше всего понравилось в католической церкви в центре Денвера, когда я был на мессе с мистером Мерчесоном и его семьей… в особенности на Пасху и другие католические праздники. Мне понравился ритуал… запах благовоний… использование латыни… всё. Думая о том, что бы на это сказали его жена и тесть, протестантский миссионер-теолог, Паха Сапа спросил: — Ты что, хочешь стать католиком? Мальчик снова рассмеялся, но на сей раз тихо. Он снова посмотрел на громаду Харни-пика. — Нет, боюсь, я не способен верить так, как верил ты… а может, и сейчас веришь. И вероятно, верили мама и дедушка де Плашетт. Паха Сапа поборол в себе желание сказать Роберту, что его дед словно утратил веру в те полтора года, которые он прожил после смерти своей молодой дочери. Паха Сапа слишком хорошо понимал эту опасность — иметь одного ребенка, ребенка, который становится твоей единственной связью с невидимым будущим и, как это ни странно и в то же время истинно, с забытым прошлым. Роберт продолжал говорить. — По крайней мере, я пока не встретил такой религии, но я хочу увидеть и узнать больше, побывать во многих местах. Но пока, пожалуй, единственная религия, приверженцем которой я являюсь… Отец, ты слышал о человеке по имени Альберт Эйнштейн? — Нет. — Пока о нем знают немногие, но, я думаю, это только пока. Мистер Мюллих, мой преподаватель физики и математики, показал мне статью, которую профессор Эйнштейн опубликовал три года назад: «Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung»,[111] и из этой статьи, как говорит мистер Мюллих, вытекает, что свет обладает энергией и может действовать как частицы очень малых размеров, фотоны… вероятно, на сегодня эта теория — мое максимальное приближение к религии. Паха Сапа в этот момент посмотрел на своего сына так, как смотрят на фотографию или рисунок какого-нибудь очень далекого родственника. Роберт тряхнул головой и снова рассмеялся, словно стирая мел с доски. — А знаешь, отец, что мне больше всего напоминали католические, методистские и пресвитерианские церкви, в которых я бывал? — Понятия не имею. — Танец Призрака шамана-пайюты, о котором ты мне рассказывал когда-то очень давно, — Вовоки? — Да, его так звали. — Его учение о приходе Мессии… он, видимо, имел в виду себя… и о ненасильственных действиях, и о том, что его вера приведет к воскрешению близких и предков, к возвращению бизонов, о том, что танец Призрака вызовет катаклизм, который сметет бледнолицых и всех неверующих, великие скорби[112] и все те ужасы, о которых говорит Апокалипсис, — это очень напоминало мне христианство. — Многие из нас так и подумали, когда узнали об этом. — Ты мне рассказывал, что ты с Сильно Хромает собирался послушать этого пророка вместе с Сидящим Быком в агентстве Стоячей Скалы, но Сидящего Быка убили, когда он воспротивился аресту…
— Да.
— Но ты никогда не рассказывал мне о том, что стало с Сильно Хромает. Только то, что он умер вскоре после этого. — Да и рассказывать особо нечего. Сильно Хромает умер вскоре после того, как застрелили Сидящего Быка. — Но как? То есть… я знаю, ты считал, будто твой почетный тункашила был убит задолго до этого, вскоре после того, как тебе было видение и кавалерия, мстившая за убийство Кастера, сожгла твою деревню, но ты оставил школу, где тебя обучали священники, и отправился в Канаду искать Сильно Хромает, когда тебе было… Отец, ведь тебе тогда было ровно столько, сколько мне сейчас. Паха Сапа покачал головой. — Ерунда. Я был гораздо старше… мне почти исполнилось шестнадцать. Один заезжий священник из Канады рассказал о человеке, который был очень похож на моего тункашилу. И я должен был проверить. — И все же… не понимаю, отец… ты отправляешься в такую даль — в Канаду, чтобы найти там одного человека. К тому же ты, кажется, говорил, что зимой. А тебе только пятнадцать. Как тебе это удалось? — У меня был пистолет. Роберт рассмеялся так, что Паха Сапа даже испугался, как бы мальчик не свалился с обрыва. — Тот тяжелый армейский кольт, что ты хранишь до сего дня? Я его видел. И кого же ты убивал этой чудовищной штукой? Бизонов? Оленей? Пум? — В основном зайцев. — И ты нашел Сильно Хромает? Хотя прошло столько времени? — Прошло не так уж много времени, Роберт. Меньше пяти лет после Пехин Ханска Казаты — лета, когда мы убили Длинного Волоса на Сочной Траве… Паха Сапа помолчал, потом потер виски, словно его мучила головная боль. — Ты здоров, отец? — Вполне. Ну, в общем, найти моего тункашилу было не так уж и трудно, когда я оказался в стране Бабушки. Полицейские в красных мундирах сказали мне, где он, и сказали, что я должен забрать его оттуда и увести домой. — А как Сильно Хромает остался в живых, когда солдаты убили его жен и почти всех в деревне? — Он вышел из своего типи, когда с рассветом деревню атаковала кавалерия Крука, и его тут же срезала пуля… Паха Сапа прикоснулся ко лбу и пощупал собственный шрам — тот, что остался после удара прикладом, подарок от Кудрявого, старого разведчика кроу. Он помолчал секунду, его пальцы замерли на выступающем белом рубце, который красовался на его лбу вот уже тридцать шесть лет. Он сейчас впервые понял, что у него с Сильно Хромает были почти одинаковые шрамы. — Так вот, Сильно Хромает, пока шла эта схватка, был без сознания, лежал под копытами лошадей, но, когда дым от горящих типи и тел прикрыл их отход, два молодых племянника вынесли его с поля боя в заросли ивняка. Когда мой тункашила пришел в себя два дня спустя, его прежней жизни, друзей и дома — тийоспайе Сердитого Барсука — больше не существовало, а он лежал в повозке, которая направлялась на север в поисках рода Сидящего Быка, который ушел в страну Бабушки. — Но Сидящий Бык вернулся из Канады до возвращения Сильно Хромает. — Да. У Сильно Хромает было воспаление легких, когда Сидящий Бык с оставшимися у него двумя сотнями или около того людей (все, кто был прежде одной семьей, ушли, и от его прежней тийоспайе в восемьсот вигвамов остались одни слезы) отправился на юг, и я нашел Сильно Хромает в деревне, в которой было только восемь или десять полуразрушенных вигвамов и совсем не оставалось еды. Мой тункашила жил там с двумя десятками стариков и женщин, слишком напуганных, чтобы возвращаться назад, и слишком ленивых или безразличных, чтобы позаботиться о нем в его болезни. — И какой это был год — восемьдесят второй? — Восемьдесят первый. — И ты отвез его назад, но не прямо в агентство Стоячая Скала? — Нет. Туда он попал позднее, чтобы быть с Сидящим Быком. Сначала он отдыхал и пытался набраться сил, жил рядом со мной в Пайн-Риджском агентстве. Но он уже никогда не стал таким, как прежде. И воспаление легких, я думаю, не было никаким воспалением… и эта болезнь так никогда и не оставила его. Я почти уверен, что это был туберкулез. Начав рассказывать историю о своем любимом дедушке, Паха Сапа полностью перешел на лакотский. Рассказ о последних днях Сильно Хромает почему-то требовал этого, казалось Паха Сапе, но он понимал, что Роберту будет трудно улавливать все оттенки значений. Хотя его сыну языки давались легко, Паха Сапа знал, что единственная возможность для него попрактиковаться в лакотском — это те немногие летние недели, что он проводит с отцом или когда они бывают в какой-нибудь из резерваций. Для Паха Сапы это был такой прекрасный и естественный язык, на котором простое «спасибо» (пиламайяйе) означало буквально что-то вроде «чувствуй ты-мне-сделал-хорошо», а на вопрос, как пройти к такому-то дому, можно было получить ответ: «Чанку кин ле огна вазийатакийя ни на чанкуокиз’у исининпа кин хетан вийохпейятакийя ни, нахан типи токахейя кин хел ти. Найяшна ойякихи шни», что для Роберта прозвучало бы как: «Этой дорогой на север ты-идешь, и перекресток второй отсюда на запад ты-идешь, и там в первом доме он-живет. Ты-пропустить ты-не-сможешь никак». Но если для тебя лакотский язык был неродным, то еще большие трудности возникали с предложениями, связанными с разной техникой. Так, простой вопрос о времени превращался в «Мазашканшкан тонакка хво?», что означало: «Железка-тик-тик сколько?» И самое главное, это был язык, в котором каждый предмет наделялся своими духом и волей. И потому, вместо того чтобы сказать: «Будет гроза», человек говорил: «Скоро прибудут существа грома». За их замечательные четыре года супружества Рейн (которая обладала тонким умом и имела преимущество, находясь в обществе лакота) так никогда и не освоила этого языка, и нередко ей приходилось спрашивать у Паха Сапы, что сказал тот или иной индеец из резервации после скорострельного обмена любезностями. Но дух Сильно Хромает заслуживал того, чтобы конец его истории был рассказан по-лакотски, а потому Паха Сапа говорил медленно, короткими предложениями, делая время от времени паузы, чтобы убедиться, что Роберт понимает его. — Сильно Хромает не нравилось агентство Стоячая Скала, но ему нравилось жить рядом с его старым другом Сидящим Быком. А когда Сидящего Быка убили как раз накануне Луны, когда олень сбрасывает рога (которая начинается 17 декабря; Сидящий Бык умер 15 декабря 1890-го по времени вазичу, мой сын), то, я думаю, лишь вера в танец Призрака пайютского пророка Вовоки удержала вольных людей природы, живших в агентстве, иначе они бы перерезали всех вазичу, а вместе с ними и племенную полицию. Роберт морщил лоб, сосредоточиваясь, и чуть ли не робко поднял руку, давая понять, что хочет задать вопрос. Паха Сапа остановился. — Атевайе ки, эмичиктунжа йо? (Отец, извини, но это потому, что пайютский пророк Вовока, как и истинные христиане, проповедовал ненасилие?) — Частично потому, мой сын, что проповедь Вовоки, священная для танцоров Призрака, учила: «Ты не должен никого убивать, никому вредить. Ты не должен сражаться. Всегда делай добро». Но главным образом потому, что большинство вольных людей природы в Стоячей Скале (в особенности хункпапы, которые дольше всех слушали проповеди Вовоки) верили в пророчество танцора Призрака, согласно которому весной одна тысяча восемьсот девяносто первого года, когда зазеленеет трава, вернутся их мертвая родня, высокие травы и бизоны, а все вазичу исчезнут. Большинство хункпапа регулярно и правильно исполняли танец Призрака, они танцевали и пели, пока не валились с ног. У многих были волшебные рубахи, чтобы защитить их от пуль. Они верили в пророчество. Ты меня понимаешь, когда я говорю с такой скоростью? — Да, отец. Я тебя больше не буду прерывать — только если мне будет что-то непонятно. Продолжай, пожалуйста. — После убийства Сидящего Быка хункпапы остались без вождя. Большинство из них бежало из Стоячей Скалы. Некоторые направились в одно из укромных мест, где прятались последователи Вовоки. Многие отправились к последнему из оставшихся великих вождей — Красному Облаку в Пайн-Ридж, где жил в то время я. Я вернулся в Пайн-Ридж, но Сильно Хромает не пошел со мной. Он и Сидящий Бык подружились со старым вождем миннеконджу — Большой Ногой.[113] У этого вождя в ту зиму тоже было воспаление легких (а может, и туберкулез, как у Сильно Хромает, потому что они к тому времени оба кашляли кровью), и Большая Нога был уверен, что генералы вазикуна собираются арестовать его, как хотели арестовать Сидящего Быка. Большая Нога был прав. Ордер на арест уже выслали. Ты все еще понимаешь меня, мой сын? — Да, отец. Я слушаю тебя всем моим сердцем. Паха Сапа кивнул. Он отхлебнул воды и передал фляжку Роберту. Высоко над ними в воздушных потоках парил краснохвостый ястреб. Чуть ли не единственный раз в своей жизни Паха Сапа даже не подумал о том, что может видеть птица с такой высоты, — все его мысли были о конце жизни Сильно Хромает и о том, как поведать эту историю простым языком, но хорошо. — Ваштай. Я должен был остаться с моим тункашилой, но он не хотел в то время возвращаться со мной в Пайн-Ридж. Он хотел одного: присоединиться к миннеконджускому племени Большой Ноги там, где они остановились на зиму (а та зима, Роберт, была холодной и снежной), — у Чери-Крик, недалеко от Стоячей Скалы. Я проводил Сильно Хромает, который опять начал жестоко кашлять, на стоянку Большой Ноги и оставил его там, уверенный, что его старый друг позаботится о нем. К Большой Ноге пришли еще около сотни хункпапа. Я решил, что стоянке ничто не угрожает, и обещал вернуться через месяц проведать Сильно Хромает, думая, что тогда мне удастся уговорить моего тункашилу присоединиться ко мне весной в Пайн-Ридже. Я ушел, а мне нужно было остаться с ним. Не прошло и дня, как Большая Нога, будучи уверен, что солдаты и племенная полиция придут за ним, приказал своим людям и бежавшим хункпапа сниматься со стоянки — он все же решил вести их в Пайн-Ридж, надеясь, что его защитит Красное Облако, который всегда был в дружеских отношениях с пожирателями жирных кусков. Но вскоре Большой Ноге стало так плохо и кровотечение настолько усилилось, что его положили в фургон, расстелив там одеяла. Сильно Хромает, опять харкавший кровью, тоже ехал в этом фургоне, но только сидел рядом с молодым Боюсь Врага, который погонял лошадей. 28 декабря, когда растянувшиеся в длинную линию мужчины, старики, женщины (в основном старые женщины) и несколько детей подходили к Поркьюпайн-Крик, они увидели солдат Седьмого кавалерийского. Паха Сапа помедлил, подспудно ожидая реакции призрака, скрывающегося в его голове. Молчание. Ничего не сказал и Роберт, хотя при звуке слов «Седьмой кавалерийский» четырнадцатилетний мальчик вздохнул, как старик. Он знал кое-что об опыте общения его отца с кавалеристами. — У Большой Ноги на фургоне был поднят белый флаг. Когда кавалерийский майор подъехал переговорить — этого вазичу звали Уитсайд, — Большой Ноге пришлось выбраться из-под одеял, на которых смерзлась кровавая корка от его кровавого кашля. Сильно Хромает, Боюсь Врага и другие помогли старому миннеконджу встать и подойти к сидящему в седле майору Уитсайду. Уитсайд сказал Большой Ноге, что у него, майора, есть приказ проводить Большую Ногу и его людей в лагерь, который кавалеристы разбили на речушке, называемой Чанкпе-Опи-Вакпала.[114] Большая Нога, Сильно Хромает и другие расстроились, что не увидят Красного Облака и не будут под его защитой в Пайн-Ридже, но решили, что Чанкпе-Опи-Вакпала — это хороший знак. Я тебе не говорил о важности этого места, Роберт? — Вроде бы нет, отец. — А ты помнишь историю, которую я тебе рассказывал давным-давно о том, как в Форт-Робинсоне погиб военный вождь Шальной Конь? — Да. — Так вот, когда Шального Коня убили, несколько друзей и родственников забрали тело. Они никому не сказали, где похоронили сердце Шального Коня — только что где-то у Чанкпе-Опи-Вакпалы. — Значит, эта речушка была священной? — Она была… важной. Большая Нога, Сильно Хромает и большинство других считали Шального Коня самым храбрым из вождей нашего народа. И то, что они должны были направиться туда, где их, возможно, будет оберегать дух Шального Коня, показалось им хорошим знаком. — Пожалуйста, рассказывай дальше, отец. — Позднее мы узнали, главным образом от их разведчика-полукровки в тот день, Джона Шангро, что у майора Уитсайда был приказ… Я сказал что-то смешное, Роберт? Ты улыбаешься. — Извини, отец. Просто когда кто-нибудь в Денвере называет меня этим словом, то он получает от меня на орехи. Паха Сапа потер шрам на лбу. В этот жаркий июльский день на нем нет шапки, и оттого на солнце у него немного начала кружиться голова. Когда история закончится, он предложит спуститься к их палатке, сесть где-нибудь в тени деревьев и начать готовить обед. — Каким словом, Роберт? — Вазикуньейньеа. Полукровка. — Ну, ты ведь даже не полукровка. Твоя мать была наполовину белой. Значит, ты в лучшем случае четвертькровка. Математика никогда не была сильной стороной Паха Сапы, и дроби его всегда раздражали. А больше всего раздражали его расовые дроби. — Пожалуйста, продолжай, отец. Я больше не буду улыбаться. — На чем я остановился? Ах да… разведчик Джон Шангро знал, что у майора Уитсайда был приказ пленить, разоружить и спешить племя Большой Ноги. Но Шангро убедил майора, что любая попытка сразу же забрать оружие и лошадей почти наверняка приведет к сражению. И потому Уитсайд решил ничего не предпринимать, пока племя Большой Ноги не подойдет к Чанкпе-Опи-Вакпале, где кавалерия сможет использовать пулеметы Гочкиса, которые они везли в конце колонны. — Не хочу прерывать тебя еще раз, но я понятия не имею, что такое были… или есть пулеметы Гочкиса. — Я их видел, когда ехал с Третьим кавалерийским в одна тысяча восемьсот семьдесят седьмом… ехал, как худший разведчик в истории армии. Я вел их в никуда. Новые пулеметы Гочкиса обычно везли в арьергарде колонны — их тащили мулы или лошади. Они напоминали пулеметы Гатлинга, которые использовались во время Гражданской, только были скорострельнее, мощнее. У револьверной пушки Гочкиса было пять стволов диаметром тридцать семь миллиметров, и она стреляла со скоростью сорок три выстрела в минуту, а прицельная дальность стрельбы составляла — я это запомнил — около двух тысяч ярдов. В каждом магазине было по десять патронов, и весили эти магазины по десять фунтов. Я помню вес, потому что, когда мне было двенадцать, мне приходилось таскать, поднимать и класть эти проклятые штуки в фургоны обоза. В каждом фургоне были сотни магазинов, десятки тысяч патронов диаметром тридцать семь миллиметров. — Господи Иисусе. Роберт прошептал эти два слова. Паха Сапа знал, что мать и дед мальчика были бы расстроены, услышав, как Роберт всуе поминает имя Господа, но для Паха Сапы это не имело никакого значения. — О конце этой истории ты можешь догадаться, мой сын. Они добрались до армейского палаточного лагеря на Чанкпе-Опи-Вакпале, я уже говорил, что было очень холодно, и речушка замерзла, ветки ив и тополей по берегам обледенели. Замерзшая трава стояла как клинки, пронзая мокасины. В племени Большой Ноги было сто двадцать мужчин, включая Сильно Хромает, и около двухсот тридцати женщин и детей. Не хочу, чтобы у тебя создалось впечатление, будто все мужчины были слабыми стариками — многие воины все еще оставались воинами, они были на Сочной Траве и участвовали в уничтожении Длинного Волоса. Когда эти мужчины посмотрели на кавалеристов и подтянувшихся на следующее утро пехотинцев, увидели пулеметы Гочкиса, наведенные на них с вершины холма, они, наверно, подумали, что в сердце и мыслях Седьмого кавалерийского — месть. Роберт открыл рот, словно собираясь спросить или сказать что-то, но промолчал. — Я уже сказал, что об остальном ты можешь догадаться, Роберт. Вожди вазичу (в первую ночь на Чанкпе-Опи-Вакпалу прибыла остальная часть полка, и командование принял полковник Форсайт) были предупредительны. Они отнесли Большую Ногу в полковой лазарет, дали ему палатку, в которой было теплее, чем в типи, чтобы старый вождь мог спать там. Сильно Хромает лег в типи поблизости, потому что не хотел проводить ночь в палатке Седьмого кавалерийского. Большую Ногу осмотрел личный врач майора Уитсайда, но тогда они не умели лечить воспаление легких, а уж тем более — чахотку. Позднее друзья рассказывали мне, что Сильно Хромает тоже кашлял больше обычного на холодном, обдуваемом ветрами месте. Утром раздался звук горна, и Большой Ноге помогли выйти из палатки, а солдаты начали разоружать племя. Воины и старики сдавали свои ружья и старые пистолеты. Солдаты, не удовлетворившись этим, заходили в палатки и выбрасывали оттуда томагавки, ножи и даже колья для вигвамов — получилась большая груда, вокруг которой стояли разоруженные воины. На большинстве хункпапа и миннеконджу были эти «пуленепробиваемые» рубахи от Вовоки, но чего они никак не ждали, так это сражения. Они отдали оружие. Но всегда находится один, кто не хочет сдаваться. В том случае, как мне сказали, таким оказался очень молодой миннеконджу по имени Черный Койот.[115] Мне говорили, что Черный Койот был глух и не слышал команды сложить оружие, которые отдавали солдаты и его собственные вожди. Другие говорили, что Черный Койот все прекрасно слышал, просто он был глупым забиякой и показушником. Как бы там ни было, но Черный Койот принялся плясать, выставив свое ружье. Он ни в кого не целился, но и не отдавал его. Тогда солдаты схватили его, скрутили, и тут раздался выстрел. Одни говорили, что выстрел был сделан из ружья Черного Койота, другие — что стрелял кто-то еще. Но этого оказалось достаточно. Можешь себе представить, Роберт, что произошло потом в этот солнечный, очень холодный день в конце Луны, когда олень сбрасывает рога. Многие воины снова похватали свои ружья и попытались драться. В конечном счете по ним был открыт огонь из пулеметов Гочкиса. Когда все закончилось, больше половины людей Большой Ноги были мертвы или тяжело ранены… сто пятьдесят три человека лежали убитые на заснеженном поле боя. Другие отползли, чтобы умереть в зарослях или у ручья. Луис Куний Медведь, который и рассказал мне все это, говорил, что на Чанкпе-Опи-Вакпале из трехсот пятидесяти мужчин, женщин и детей, последовавших за Большой Ногой, погибло почти триста. Я помню, что в тот день было убито около двадцати солдат вазичу. Не знаю, сколько было ранено, но явно немногим больше. Молодая женщина по имени Хакиктавин рассказывала мне, что большинство солдат Седьмого кавалерийского было убито своим же огнем или осколками от снарядов из пулеметов Гочкиса, которые попадали в камни или кости. Но я всегда предпочитал думать, что это не так, что воины, старики и женщины, которые погибли в тот день, все же отстреливались хоть с каким-то результатом. Я был на пути в Пайн-Ридж, когда узнал о случившемся, но сразу же изменил направление и поспешил на Чанкпе-Опи-Вакпале. Сильно Хромает часто брал меня туда, когда я был мальчиком, просто потому, что это красивое место и с ним связано много легенд и историй. Началась метель. Моя лошадь пала, но я продолжал идти, потом украл другую лошадь у кавалеристов, которых встретил в этой снежной буре. Когда я добрался до Чанкпе-Опи-Вакпале, то увидел, что Седьмой оставил лежать и мертвых индейцев, и тяжелораненых, и теперь замерзшие тела лежали в странных позах, засыпанные снегом. Первым я нашел Большую Ногу (его правая рука и левая нога были согнуты, как будто он пытался сесть, спина была приподнята над землей, пальцы левой руки выставлены, словно он начал разжимать кулак, и только мизинец оставался согнутым), его голова была обвязана женским шарфом. Его левый глаз был закрыт, а правый — приоткрыт (вороны и сороки еще не выклевали его, может быть, потому что и они тоже замерзли) и присыпан снегом. Сильно Хромает лежал не дальше чем в тридцати футах от Большой Ноги. Что-то, возможно тридцатисемимиллиметровый снаряд из пулемета Гочкиса, оторвало его правую руку, но я нашел ее рядом в снегу, она почти вертикально торчала из сугроба, словно мой тункашила махал мне. Рот его был широко раскрыт, словно он умер с криком, но я предпочитаю думать, что он громко пел свою песню смерти. Как бы то ни было, но в его открытый рот набился снег, который растекся во всех направлениях, словно некая чистая, белая блевотина смерти, заполнившая его глазницы и очертившая резкие скулы. Я знал, что кавалерия вазичу вернется, возможно, в этот же день, чтобы сделать фотографии и похоронить мертвецов, вероятно, всех в одной могиле, и я не мог оставить им тело Сильно Хромает. Но лопаты у меня с собой не было, даже ножа не было, а тело моего тункашилы вмерзло в ледяную землю. Они стали неразделимы. Ничто не гнулось — ни его рука, ни скрученные ноги, даже его оторванная рука, торчавшая из сугроба. Даже его левое ухо примерзло. Пытаться оторвать тело от земли при помощи только моих голых холодных рук было все равно что пытаться вырвать с корнем дерево. Наконец я сел, с трудом переводя дыхание, замерзший, с онемевшими руками, зная, что скоро здесь появятся кавалеристы, которые и меня захватят в плен (я слышал, что немногие уцелевшие хункпапа и миннеконджу были отправлены в тюрьму в Омабе, куда вазичу собирались засадить Большую Ногу и его людей), затем начал обходить это поле смерти. До сего дня я не могу назвать его полем сражения. Наконец я нашел тело женщины с тупым широким кухонным ножом в сжатой руке. Мне пришлось переломать ей, словно это были ветки, все пальцы, чтобы извлечь нож. Потом этим ножом я разбил лед между замерзшей одеждой Сильно Хромает, его замерзшей плотью и замерзшей почвой и меньше чем за полчаса высвободил его из хватки земли. Я взял и оторванную руку с торчащей из нее белой костью. Потом я взвалил тело Сильно Хромает на луку седла передо мной (это было все равно что везти длинную, скрученную, громоздкую, но почти невесомую ветку тополя), а правую оторванную руку я примотал к его телу полоской материи, оторванной от моей рубахи. В тот день одним только ножом я не мог бы вырыть могилу для Сильно Хромает в замерзшей земле, но я увез его очень далеко от того места, о котором в тот день думал как о злом поле, и похоронил его, отъехав много миль, на берегу Чанкпе-Опи-Вакпала, на высоком утесе, где росли большие, старые тополя (та разновидность прекрасного вага чана, «шуршащего дерева», какую выбрали бы Сильно Хромает или Сидящий Бык, чтобы поставить его в центре танцевального круга), там я как мог соорудил похоронные подмостки для моего тункашилы среди ветвей одного из этих великолепных шуршащих тополей. У меня не было одежды, чтобы подложить под него или укрыть его, не было ни оружия, ни инструмента, чтобы оставить рядом с ним. Но я оставил тупой нож, после того как срезал им у себя все волосы, и он был покрыт моей замерзшей кровью, а еще немного кровью самого Сильно Хромает. Я поцеловал обе его руки (оторванную правую я поднес к губам), поцеловал его холодный морщинистый лоб, прошептал слова прощания и поскакал на украденной лошади в Пайн-Ридж — я редко слезал с седла, пока не добрался почти до самого места, а там шлепнул уставшую лошадь по крупу и остальную часть пути прошел пешком. Я не ел три дня и потерял три пальца на ноге — отморозил. Потом я узнал, что другие убитые были в тот же день похоронены в общей могиле. Никто не знает, где я оставил тело Сильно Хромает, а сам я никогда не возвращался в это тайное место. Это все, Роберт. Хесету. Митакуйе ойазин. Быть по сему. И да пребудет вся моя родня — вся до единого! Я закончил.Паха Сапе приходится сделать шесть ездок на двух ослах, чтобы доставить двадцать один ящик динамита в каньон и спрятать их в пробном стволе Зала славы. Он бы справился и за пять ездок, если бы решил, что хилые ослики смогут поднять более двух ящиков за один раз, но не стал рисковать и последнюю ездку в каньон сделал, держа в каждой руке по привязи, при этом один ослик везет последний ящик динамита, а другой — бухту провода и другие принадлежности, которые понадобятся Паха Сапе в воскресенье. Черный провод он выкрасил в цвет серого гранита. Прошедшая ночь не была для Паха Сапы такой уж трудной, по крайней мере после того, как Адвокат и Дьявол поняли (это случилось приблизительно в начале третьей ездки вверх по каньону), что они как минимум на эту ночь снова вьючные животные, а не избалованные любимчики священника. Когда он укладывает в туннель последний ящик и укрывает его последним куском брезента (серо-белое полотно почти неотличимо от гранита в быстро уходящем лунном свете), один из ослов чихает, и Паха Сапа разрешает себе считать это собственным усталым вздохом. Возвращаясь по узкому каньону, он понимает, что, поскольку луна теперь сместилась на запад и светит сквозь ветви деревьев, растущих на высоком хребте к западу от каньона, все чернильно-черные тени времени его первых ездок теперь превратились в яркие полосы и трапеции молочно-белого лунного света, а все те участки, по которым он прежде мог ступать без опаски, теперь покрыты предательскими тенями. Это не имеет значения. После семи ходок наверх (включая и первую, пешую, когда он тащил ящик с детонаторами) и вниз он запомнил каждый шаг. Вспоминая свой долгий рассказ Роберту о смерти Сильно Хромает, он погружается в давнее время 1890 года на Чанкпе-Опи-Вакпале. Разглядывая лица замерзших, присыпанных снежком тел на том поле в поисках Сильно Хромает, он впервые смог дотянуться до того черного места, где вот уже четырнадцать лет обитал призрак Длинного Волоса, бубнивший порнографические воспоминания о своей жене, и вытащил сопротивляющегося, лягающегося призрака на место за его, Паха Сапы, глазами, чтобы тот смотрел и видел, и в то же время категорически запретил ему говорить что-либо. Похоронив Сильно Хромает, Паха Сапа снова зашвырнул призрак Длинного Волоса в безмолвное, темное пространство, где тот обитал до этого времени. Он не говорил с ним (и не позволял ему говорить с ним, Паха Сапой) целых одиннадцать месяцев, если не считать часто прерываемого разговора, который начался втот день. Призрак Кастера позднее сказал Паха Сапе, что он, призрак Кастера, был уверен: он оказался в аду и его наказанием будет вечное созерцание таких полей, как Чанкпе-Опи-Вакпала. Паха Сапа тут же напомнил призраку Длинного Волоса, что это заснеженное поле и замерзшие мертвые мужчины, женщины и дети вполне могли бы быть и на Вашите. Только через год состоялся его следующий разговор с призраком. В эту ночь призрак молчит. Конечно, он ничего не говорил и последние три с половиной года, после поездки в Нью-Йорк весной 1933-го. Паха Сапа огибает парковку и идет напрямик через лес туда, где спрятан «додж». Адвокат и Дьявол, кажется, настолько устали, что им не по силам забраться по настилу в кузов, а потом — и жевать солому. Луна на западе исчезла, на востоке уже занимается заря. Паха Сапа смотрит на свои старые часы. Почти пять. У него есть время доехать до Кистона, погрузить в кузов к ослам мотоцикл Роберта (места в кузове хватало, но Паха Сапой овладели глупосентиментальные чувства: он не хотел, чтобы взорвалась машина его сына, если нитроглицерин все же сдетонирует), потом доехать до Дедвуда, чтобы вернуть двух усталых животных отцу Пьеру Мари и «додж» — двоюродному брату Хауди Петерсона. Домой он вернется на мотоцикле, и у него еще будет время приготовить себе завтрак, прежде чем снова ехать к горе, где его ждет долгий рабочий день, наблюдение за проходкой шпуров — подготовка к завтрашнему (воскресному) демонстрационному взрыву перед президентом, почетными гостями и кинокамерами. Паха Сапа так устал, что прекрасное, но жаркое утро мучает его сильнее рака. Болит всё — до мозга костей. Он знает, что в предстоящую ночь на воскресенье ему предстоит гораздо более тяжелая работа; даже с учетом того, что ему будет помогать этот идиот Мьюн, будущая задачка посложнее, чем водить вверх-вниз по склону ослов и перенести двадцать один относительно легкий ящик с динамитом. И начать ему придется раньше, чтобы успеть разместить заряды и подсоединить провода до восхода солнца. И это в ночь на воскресенье, когда все допоздна не спят — гуляют. Ведя тяжелый «додж» по изрытой ямами дороге в Кистон и почему-то вздрагивая каждый раз, когда колеса попадают в рытвину, он старается думать о молитве, в которой просят силы у Вакана Танки, или у Шести Сил Вселенной, или у самой Тайны, но не может вспомнить слов. Вместо этого он вспоминает песню дедушки — Сильно Хромает научил Паха Сапу этой песне, когда тот был совсем маленьким, — и вот теперь он напевает ее:
22 Шесть Пращуров
Суббота, 29 августа 1936 г. Рабочий день начинается в белых ореолах жары. В последнюю неделю августа температура в Черных холмах наконец опустилась до девяноста по Фаренгейту, но вогнутая линза обработанного белого гранита, словно параболическое зеркало, концентрирует солнечные лучи и жар, повышая температуру для тех, кто висит на тросах перед головами, до трехзначных цифр. К десяти утра люди, работающие на лицах, принимают соляные таблетки.[116] Паха Сапа понимает, что он видит ореолы белого света не только вокруг торчащих из гранита носов, щек, подбородков, но и вокруг загоревших, с полопавшимися губами лиц других рабочих. Он знает, что эта иллюзия — побочное следствие усталости и недосыпа, а потому не очень беспокоится. Это скорее приятное, чем настораживающее явление — рабочие с пневматическими паровыми бурами, кувалдами и стальными гвоздями двигаются каждый в своем собственном нимбе, и пульсирующие короны иногда сливаются, если рабочие оказываются рядом или работают вместе. Белые ореолы, вызванные усталостью, не проблема для Паха Сапы — проблемой становятся раковые боли. Он сильнее сжимает зубы и прогоняет боль из своих мыслей. Все субботнее утро он указывал Громиле Пейну, как бурить шпуры под пять зарядов, взрыв которых будет завтра продемонстрирован президенту и другим шишкам. Кому не нравится хороший взрыв? И этот взрыв, как и все демонстрационные взрывы, должен выглядеть и звучать с достаточной силой, чтобы у людей на горе Доан и внизу, в долине, создалось впечатление о том, что наверху идут работы, но в то же время на их головы не должен обрушиться град камней и валунов. Бригада рабочих устанавливает стрелу дополнительного крана над головой Джефферсона, чтобы повесить на ней гигантский флаг (сшитый много лет назад старушками или какими-то учащимися из Рэпид-Сити), который закроет голову Джефферсона; они же обустраивают оснастку из тросов и веревок. Им предстоит поднять громадный тяжелый флаг в тот момент, когда начнет разворачиваться стрела крана. Но флаг повесят только завтра утром. Хотя ближе к полудню безжалостно печет солнце и нет ни ветерка, восходящий поток перегретого воздуха может разорвать флаг, запутать веревки или еще каким-то образом испортить церемонию. Специальная бригада повесит флаг завтра утром незадолго до назначенного времени прибытия гостей. Президентский поезд должен прибыть в Рэпид-Сити сегодня, 29-го, поздно вечером, но здесь, наверху, все уже знают, что завтра, в воскресенье, президент прибудет сюда позднее назначенного времени; ФДР добавил к своему расписанию удлиненную, по сравнению с запланированной, службу в епископальной церкви Эммануила в Рэпид-Сити и ланч с местными лидерами Демократической партии в отеле «Алекс Джонсон» (пока единственном отеле в Южной Дакоте, оборудованном кондиционерами), и только после этого его кортеж направится к горе Рашмор. Борглум, узнав это, пришел в ярость. Он клянет на чем свет стоит всех, кто попадается ему под руку, — сына Линкольна, жену, инспектора Джулиана Споттса, политиков-демократов, которые неосмотрительно отвечают на его телефонный звонок, Уильяма Уильямсона (главу делегации, ответственного за торжественную встречу президента), непроницаемых агентов секретной службы, он требует, чтобы президент Рузвельт вернулся к своим первоначальным планам и приехал раньше, как об этом говорил Борглум и как обещал прежде Рузвельт, иначе тени на лицах будут не те, что надо, и церемония открытия головы Джефферсона будет погублена. Люди президента и губернатора объясняют Борглуму, что президент как мог сократил мероприятия и прибудет не позже 14.30. Гутцон Борглум рычит на собравшихся. — Это на два часа позже, чем планировалось. Открытие головы Джефферсона и церемония начнутся точно в полдень. Сообщите об этом президенту. Если он хочет участвовать, то должен прибыть за пятнадцать минут до начала. После этого Борглум выходит из студии и, сев в вагончик канатной дороги, отправляется на вершину. Те несколько «стариков», что работают здесь с тех времен, когда 10 августа 1927 года Борглум уговорил президента Калвина Кулиджа подняться в коляске (которая сломалась по дороге, а потому президент был вынужден пересесть на лошадь) на эту отдаленную точку, чтобы «открыть площадку» на пока еще абсолютно нетронутой горе Рашмор, только покачивают головами. Они знают, что босс все равно дождется президента. Главный копировщик в паузе между работой буров говорит Паха Сапе, что на Кулидже были абсолютно пижонские ковбойские сапоги, перчатки из оленьей кожи с бахромой и шляпа такого размера, что, когда он поднимался по склону, половину западной Южной Дакоты накрыла тень. В начале своей поездки он позволил каким-то не совсем местным индейцам сиу облачить его в военный головной убор, свешивавшийся до самых каблуков, они же дали Молчаливому Калву[117] официальное имя «вождь Главный Орел», на лакотском — Ванбли Токаха, но большинство местных белых решило, что на самом деле это означает «Похож на Лошадиную Задницу». Доан Робинсон, который принимал немалое участие в обхаживании Кулиджа, как-то сказал Паха Сапе, что самая подлая штука, какую вытворили местные белые, состояла в том, что они перегородили небольшой ручеек вблизи того места, где остановился президент в «Охотничьем домике» на холмах, привезли сотни жирных, отвратительных, откормленных печенью глупых форелей из садков неподалеку от Спирфиша и стали выпускать этих вялых рыбин по несколько штук за раз в сотню ярдов разлившегося ручья, в котором неловко стоял Кулидж (который прежде ни разу в жизни не рыбачил), по-прежнему одетый в костюм, жилет, галстук, жесткий воротничок, соломенную шляпу, неумело держа специальную дорогую удочку, подаренную заезжему президенту Робинсоном и другими. Невероятно, но Кулидж уже в первые пять минут поймал рыбину. (Не поймать было невозможно, сказал Доан Робинсон. В этом разливе можно было гулять по рыбьим спинам и даже ботинок не замочить.) И он продолжал ловить этих медленных, жирных садковых форелей, выпускавшихся каждый час с маленькой дамбы, которой недавно перекрыли ручей. Кулидж был так доволен своими рыболовными успехами, что не только ежедневно рыбачил несколько часов во время своего пребывания в «Охотничьем домике», но требовал, чтобы все завтраки и обеды готовили из этого множества пойманных им форелей. Местные, чувствовавшие вкус гнилой печени из бойни в Спирфише, которой годами кормили этих форелей, храбро ухмылялись и старались глотать застревавшие в горле куски, а Кулидж одаривал всех за столом улыбками и предлагал на добавку «своих» форелей.К десяти часам у Паха Сапы и Громилы были готовы пять шпуров, и Паха Сапа провел под головой Джефферсона и белой породой, подготовленной для бурения доводочных шпуров для Тедди Рузвельта, детонаторные шнуры в предохранительной оранжевой оплетке и закрепил их. Из соображений безопасности он не стал до завтрашнего утра, пока все не спустятся со скалы, закладывать динамит. Но Громила продолжает бурить шпуры для него до самого невыносимо жаркого полдня, а потом Паха Сапа говорит бурильщику, что ждет его после обеда — будет еще работа. — А зачем эти дыры, Билли? Это даже и не шпуры. Они, скорее… большие норы. Так оно и есть. Паха Сапа показал бурильщику, где нужно расширить ниши под нависающей породой, под складками в скале и в щелях вдоль всего торца, от правого плеча Вашингтона до крайней западной точки, потом опять на восток и вокруг изгиба в ниспадающем выступе между лацканами Вашингтона и правой щекой Томаса Джефферсона, потом вниз под джефферсоновский подбородок, оттуда снова на восток к левой части едва намеченной массы разделенных пробором волос Джефферсона и по обе стороны «чистого листа» гранита, подготовленного под Тедди Рузвельта, потом дальше направо в затененные ниши между рузвельтовским гранитным полем и лицом Линкольна, над которым ведутся интенсивные работы, потом вниз под все еще обрабатываемые подбородок Линкольна и бороду, где громоздятся леса, и, наконец, на недавно очищенную площадку к юго-востоку от невидимого левого уха Линкольна. Паха Сапа наблюдает, чтобы это было сделано точно по плану, и ему с Громилой придется проработать на этих скважинах целый день. Это и в самом деле не шпуры. Громила думает, что это углубления в камне для установки новых лесов в дополнение к тем, что есть под Вашингтоном (под тем местом, где продолжают высекать его галстук и лацканы) и Джефферсоном (где на шее еще осталась работа), вдоль обнаженного гранита, подготовленного для ТР и по обеим сторонам под головой Линкольна. Эти съемные леса, которые можно перемещать на шкивах, завтра будут сняты, чтобы гостям было лучше видно, но многие другие рабочие мостки и леса покоятся на надежных опорах, забитых в скважины, похожие на те, что Громила будет бурить до конца субботнего рабочего дня. Паха Сапа не отрицает, что эти скважины будут использоваться под опоры для будущих лесов. На других лесах поблизости Хауди Петерсон начинает бурить соты на нижней части рабочего поля ТР. Так работали с тремя предыдущими лицами — по мере расчистки поля до последних дюймов чистой породы перед появлением «кожи» на лицах, бурильщики вроде Громилы и Хауди всей своей массой упираются в буры (для чего и нужны леса, а не люльки), чтобы пройти много сотен параллельных шпуров-сот для снятия породы. После чего за дело принимаются каменотесы вроде Реда Андерсона с большими молотками и зубилами, они убирают камень слоями, обнажая ровное лицо, которое впоследствии будет полироваться, формироваться и обрабатываться уже как скульптура. А внизу у лебедочной (за эту черту туристов к горе не подпускают) у Эдвальда Хейеса и других операторов лебедок есть отслоившиеся соты, прибитые к стене сарая, и они рассказывают любопытствующим посетителям: «Да, у нас есть несколько таких нетронутых сот-сувениров. Немного. Очень редкая штука. Вот почему ребята их здесь держат — на память». Туристы неизменно спрашивают Эдвальда или других операторов, не могли бы они расстаться с частью этих любопытных сот. «Даже представить себе этого не могу, сэр (или леди). Понимаете, эта штука принадлежит другому человеку. Он будет вне себя, если я ее продам, поскольку это такая редкость и вообще… Но конечно, если вы очень хотите, то я мог бы взять грех на душу и продать ее вам, а потом уж разобраться с хозяином». Текущая цена самой большой соты — шесть зеленых. Туристы уходят с куском высверленного гранита, засунутого в карман пиджака, чуть не бегут к своим машинам, радуясь хорошему приобретению, а Эдвальд или другой оператор звонит на гору и говорит: «Порядок, ребята, пришлите еще одну». Цена сот зависит от размера (два доллара, четыре доллара, шесть долларов) и всегда, насколько это известно Паха Сапе, кратна двум, потому что спирт в районе продается за два доллара пинта. За прошедшие годы из рук в руки перешли тысячи «редких, уникальных, единственных в своем роде» сот. Борглум после ругани с людьми президента уехал (возможно, шептались рабочие, чтобы предъявить ФДР ультиматум: либо вовремя — либо никогда), и главным остается его сын, но Линкольн все внимание уделяет крану и оснастке для флага над головой Джефферсона, а еще проходке новых шпуров повсюду над проявляющейся головой Линкольна, не обращая никакого внимания на Громилу, Паха Сапу и их вроде бы безобидное второстепенное бурение в разных частях скалы. Линкольн знает, что «Билли Словаку» нужно подготовиться к завтрашней демонстрации и к более серьезным рабочим взрывам на следующей неделе, когда они наконец-то должны добраться до кожи и головы Тедди Рузвельта. Когда раздается полуденный свисток (без более низкого и громкого предупреждающего о взрыве свистка, который нередко следует за первым, поскольку Паха Сапа и другие взрывники проводят взрывные работы во время обеденного перерыва и после четырех часов пополудни, когда рабочие уже спустились со скалы), Паха Сапа направляется к лебедочному сараю, чтобы взять свой обеденный судок, — утром он успел прихватить только немного хлеба и заветрившейся говядины, — и идет в тень главной стрелы и лебедочного сарая над головой Джефферсона. В лебедочной жара, но там толпится группа людей с обеденными судками, включая коллег-взрывников Паха Сапы — Альфреда Берга и «Прыща» Дентона. Часть пространства внутри занята полой моделью бюста гладко выбритого Эйба Линкольна, это более ранняя задумка Борглума, он ставил ее у основания лесов перед проявляющейся головой Линкольна, чтобы рабочие могли ее потрогать и «почувствовать» президента в камне. Борглум приказал на время взрывных работ занести бюст внутрь. «Виски» Арт Джонсон похлопывает по камню рядом с лицом Линкольна. — Тут есть место, Билли. Иди сюда, садись, не торчи на солнце. — Спасибо, Арт. Я вернусь. Он берет свой судок и маленькую бутылку колы, в которой держит воду (она разогрелась — чуть не кипит), и идет назад вдоль хребта, потом наружу, на голову Джорджа Вашингтона, пока спуск не становится таким крутым, что он опасается соскользнуть по лбу Вашингтона на камни в трехстах футах внизу. Здесь удобно полулежать, к тому же во лбу президента есть небольшая ниша, высеченная, чтобы создать иллюзию парика, куда Паха Сапа может поставить свой судок и бутылку, не беспокоясь, что они упадут вниз. Жуя хлеб и мясо, он поглядывает на юго-запад и в направлении Харни-пика. Когда-то Доан Робинсон дал ему новую книгу, в которой говорилось, что граниту на Харни-пике 1,7 миллиарда лет. Миллиард. У вольных людей природы нет слов для обозначения миллиарда или миллиона. Самое большое число, какое попадалось Паха Сапе в те времена, когда он жил со своим народом, встретилось ему во фразе «Викахпи, опавинге виксемна кин йамни», которая говорит о трех тысячах звезд, видимых на небе в самую ясную ночь. Это в некотором роде забавно, потому что большинство вазичу, с которыми Паха Сапа за свои семьдесят с лишним лет разговаривал о ночном небе, включая Рейн и ее отца, кажется, думают, что в ночном небе при идеальной видимости можно увидеть миллион звезд. Но икче вичаза знали, что на небе даже в самую ясную и черную ночь видны около трех тысяч звезд. А уж они-то знали, потому что подсчитали их. Когда-то, когда Роберт был очень маленьким, возможно, во время первого похода на Медвежью горку, когда их костер догорел до углей и от него почти не осталось света, они лежали на спине и смотрели на звезды, Паха Сапа спросил сына, сколько, по его мнению, звезд прячет за собой в среднем полная луна, двигаясь по небу в ночи. Роберт предположил, что шесть. Паха Сапа сказал ему, что в среднем полная луна не загораживает звезд. И не потому, что в ее свете блекнут звезды. Он помнил, что из груди Роберта, лежавшего на своем одеяле, вырвался едва слышный вздох, а потом пятилетний мальчик сказал: — Слушай, отец, так что, там вообще пусто? Да, думает Паха Сапа, теперь пусто.
У него с Рейн не было настоящего медового месяца. Они поженились в миссионерской церкви ее отца в Пайн-Риджском агентстве (которое уже называлось Пайн-Риджской резервацией), огромном пространстве засушливой земли и пыли, которую приносил ветер с востока от Черных холмов, в юго-западном углу того, что стало штатом Южная Дакота. Влажной весной 1894 года Паха Сапа и несколько его друзей сиу (но в основном Паха Сапа) построили небольшой каркасный четырехкомнатный домик, в который они с миссис Рейн де Плашетт Вялый Конь въехали сразу же после свадебной церемонии. В памяти Паха Сапы это время осталось как теплое, хотя на самом деле тот июнь был суетливым, холодным и сырым (крыша ужасно протекала), лето просто никак не хотело приходить на Равнины. Билли не работал в резервации, где в миссионерской школе преподавала Рейн, а их маленький дом стоял за возвышенностью, где на пересечении четырех фургонных колей расположились более крупный дом ее отца и церковь миссии; Билли, как и многие из вольных людей природы, которые пришли в Пайн-Ридж после смерти Сидящего Быка и бойни на Чанкпе-Опи-Вакпале, жил в резервации, но работал наемным рабочим и на принадлежащих разным вазичу ранчо (хотя ковбой из него было неважный) к северу от земель агентства, где были более сочные пастбища. Почти каждое утро, не позднее 4.30, даже в течение их «медового месяца», Паха Сапе нужно было встать, одеться, оседлать коня и отправиться в неблизкий путь на соседнее ранчо, принадлежащее какому-нибудь белому. Рейн никогда не жаловалась. (Вспоминая об этом позднее, он не мог вспомнить ни одного случая, когда бы Рейн жаловалась.) Она всегда вставала вместе с ним в темноте, чтобы приготовить ему кофе и хороший завтрак, потом сделать ему обед, который он брал с собой в побитом старом сером судке — он пользовался им и по сей день. Обычно она готовила ему что-нибудь получше сэндвичей, но если это были сэндвичи, она всегда откусывала кусочек с уголка. Так она в середине дня напоминала ему о своей любви. Более чем три десятилетия спустя Паха Сапа все еще проверял уголки сэндвичей, которые ел, — устоявшаяся привычка тех немногих дней, когда он был любим. Рейн и Паха Сапа были девственниками, когда после венчания вошли в протекающий маленький дом в Пайн-Риджской резервации. Это не удивило Паха Сапу, но спустя какое-то время, когда они стыдливо затронули эту тему, Рейн призналась: она поразилась, что Паха Сапа, которому в день их венчания было двадцать девять, «не имел прежде никакого опыта». Это не было сетованием. Любовники обучались вместе и учили друг друга. Паха Сапа сожалел только о том, что, приведя наконец невесту к брачной постели, он носил в себе воспоминания Шального Коня и порнографические монологи Длинного Волоса. Из этих двух людей, чьи воспоминания Паха Сапа против воли хранил в себе, Шальной Конь был более ласковым любовником (когда его соития совершались не ради простого удовлетворения голода), и в незаконных отношениях теперь уже мертвого воина с племянницей Красного Облака, Женщиной Черный Бизон (которая в то время была замужем за Нет Воды, а Шальной Конь формально, договорным браком, — хотя и не по-настоящему — был связан с недужной женщиной Черная Шаль), случались мгновения истинной нежности. Тогда как откровенные воспоминания Длинного Волоса (когда Паха Сапа, к своему несчастью, достаточно освоил английский и стал понимать, что бубнит этот внедрившийся в него призрак) были просто примерами самого тайного из того, что есть в человеческой жизни, — интимных отношений. Через эти непрошеные слова и образы Паха Сапа ощутил истинную и непреходящую любовь Кастера к его молодой красавице жене и искренне удивился этой супружеской паре и той сексуальной энергии, которую Либби привнесла в их брак. Но Паха Сапа не хотел, чтобы чьи-то сексуальные истории смешивались с его собственными мягкими реминисценциями и мыслями, и ему довольно неплохо удавалось мысленно отгородиться от воспоминаний Шального Коня и не замечать полуночный бубнеж призрака Длинного Волоса. Их весенняя поездка 1898 года в Черные холмы была первым случаем, когда Рейн и Паха Сапа оказались вместе вне резервации, если не считать тех страшных недель предыдущей осенью, когда он возил Рейн в Чикаго на эту жуткую операцию. На операцию в Чикаго (преподобный Генри де Плашетт поехал с ними, потому что хирург был его близким другом) они отправились вскоре после того, как Рейн обнаружила уплотнение у себя на правой груди. (Только им двоим была известна правда: обнаружил это уплотнение Паха Сапа, когда целовал свою любимую.) Доктор Комптон настоятельно рекомендовал удалить обе груди — такова была врачебная практика в те времена, хотя на левой груди Рейн никакой опухоли не прощупывалось, но, отвергнув — впервые — советы отца и мужа, Рейн отказалась. Они к тому времени были женаты уже почти четыре года, а она так и не забеременела, но Рейн была исполнена решимости родить ребенка. «Я смогу выкормить ребенка одной грудью, — прошептала она Паха Сапе за несколько минут до того, как ее увезли, чтобы дать хлороформ. — Та, что останется, она ближе к моему сердцу». Операция вроде бы прошла успешно, опухоль была удалена целиком, и никаких других раковых образований не обнаружилось. Но операция стала для Рейн тяжелым испытанием. Она была слишком слаба, чтобы отправиться домой. Когда стало ясно, что его дочь на пути к выздоровлению, преподобный де Плашетт вернулся в свою церковь к прихожанам в Пайн-Ридже, но Паха Сапа остался еще на четыре недели со своей любимой в маленьком пансионе около больницы. По-лакотски Чикаго давно называлось Сотоджу Отун Ваке, что приблизительно означало «Дымный город», но Паха Сапа думал, что город никогда еще не был таким темным, дымным, покрытым сажей, черным и ветреным, как в эти бесконечные ноябрьские и декабрьские недели, что он провел там со своей любимой. Из окна рядом с кроватью в пансионе открывался вид на склады и громадное депо, где день и ночь мельтешили паровозы, издавая оглушительные свистки. Неподалеку располагался скотный двор, и вонь оттуда лишь усиливала постоянную тошноту, которую испытывала Рейн от лекарств. Паха Сапа, не приняв предложения отца Рейн заплатить за все (священник после довольно безбедной жизни переживал трудные времена), взял денег взаймы в счет будущего жалованья у белого владельца ранчо Скотта Джеймса Донована, чтобы заплатить за комнату и стол. Медицинские счета он будет оплачивать следующие двадцать три года своей жизни. И вот, когда они вернулись в агентство в день Рождества 1897 года (поезд задержался на один день, пока паровоз-снегоочиститель пробивался через сугробы высотой до двадцати футов к юго-западу от Пьера), даже неудобства Пайн-Риджа и их крохотный домик показались им прекрасными в белом снегу под голубым западным небом. Рейн сказала, что начинает жизнь заново и не позволит раку вернуться (позднее Паха Сапа думал, что годом ранее она, наверное, сказала бы, что Бог этого не допустит, но жена на его глазах становилась все критичнее по отношению к таким вещам. Она оставалась единственным учителем в резервации, каждое воскресенье управляла церковным хором, преподавала индейским детям в воскресной школе, а когда ее отец попросил Паха Сапу креститься, чтобы он мог разрешить их брак, не стала возражать или вмешиваться. Рейн по-прежнему ежедневно читала Библию. Но Паха Сапа безмолвно наблюдал за тем, как постепенно слабеет ее вера — по крайней мере, конкретная епископальная вера, которую проповедовал ее отец, — то же самое происходило и со здоровьем Рейн, которая так никогда полностью и не восстановилась после операции). Но ее счастье и радость все же вернулись к ней. К весне 1898 года дом и душа Паха Сапы снова наполнились ее легким, быстрым смехом. Они планировали пристроить еще одну комнату к дому следующим летом, когда Паха Сапа расплатится с владельцем ранчо Донованом. В апреле, улыбаясь такой широкой улыбкой, какой Паха Сапа никогда у нее не видел, разве что в день свадьбы, Рейн сообщила, что беременна. На Черные холмы в конце мая они поехали случайно. По каким-то своим причинам владелец ранчо Донован вынужден был на два месяца уволить часть своих работников. Паха Сапа на это время не смог найти другой работы и помогал преподобному де Плашетту, делая мелкий ремонт в церкви, школе и старом доме, который все называли «пасторским». Занятия в школе закончились — они всегда заканчивались в третью неделю мая, поскольку дети были нужны родителям, чтобы работать, заниматься посадками и пасти скот на крошечных участках земли. Отцу Рейн пришлось вернуться в Бостон, чтобы уладить дела после смерти его старшего брата. Преподобный де Плашетт уехал на целый месяц — никак не меньше. И вот тогда Рейн предложила Паха Сапе взять церковную телегу, мулов, кой-какое туристское оборудование и отправиться на Черные холмы. Она вот уже четыре года жила рядом с ними, но так никогда и не видела их. Отец разрешил им воспользоваться телегой и мулами. Она, едва предложив это путешествие, начала готовить съестное. Ни в коем случае, сказал Паха Сапа. Он даже думать об этом не хочет. Она на четвертом месяце беременности. Нельзя рисковать. Какой тут риск? — гнула свое Рейн. Не больший, чем если она останется в агентстве. Ее работа в агентстве — она целыми днями таскала воду, колола дрова, вела работу в школе и церкви — была гораздо тяжелее, чем спокойная поездка в холмы. И потом, если возникнет какая проблема, то они будут ближе к городам и докторам в Черных холмах, чем здесь, в Пайн-Ридже. К тому же тошнота по утрам ее больше не мучает, и она чувствует себя здоровой, как бык. Если мулы откажутся тащить телегу в горы, то ее потащит она… и все равно для нее это будет отдыхом. Нет, сказал Паха Сапа. Категорически — нет. Дороги тут ужасны, телега старая, да еще тряска в пути… Рейн напомнила ему, что, пока он работал на ранчо Донована, она, случалось, на этой самой телеге проезжала по двадцать миль, а то и больше, доставляя продукты больным и затворникам в резервации. Разве не лучше, если он будет с нею и если следующая поездка на телеге станет удовольствием, а не работой? Категорически — нет, сказал Паха Сапа. И слушать об этом не хочу. Я сказал. Они выехали в понедельник утром, а к вечеру были на южной оконечности Черных холмов. Паха Сапа выменял у сержанта из Седьмого кавалерийского старое, видавшее виды однозарядное ружье, которым все равно редко пользовался (кольт он оставил у себя), на армейскую палатку, две раскладные койки и другой походный инвентарь, занявший две трети телеги. В тот год весна пришла раньше обычного, и поля были устланы ковром из луговых цветов. Первая ночь была очень теплой, и они даже не ставили палатку — спали в фургоне, уложив на доски столько подстилок и матрасов, что лежали выше бортов телеги. Паха Сапа показал Рейн главные звезды и объяснил, что, когда видимость идеальная, на небе можно разглядеть около трех тысяч звезд. Она прошептала: — Я бы сказала, что миллионы. Нужно будет сообщить ученикам следующей осенью. На следующий день они поехали по широкой и пустынной теперь дороге вверх с южной стороны на Черные холмы (пологие перекатывающиеся склоны здесь поросли высокими травами, у вершин сгрудились деревья), и посреди казавшихся безбрежными холмистых волн он показал ей, где скрыта Вашунийя, Дышащая пещера, — в небольшом, заросшем лесом каньоне. К сожалению, эту землю бесплатно получила семья поселенцев вазичу — они перегородили вход, повесили замок на дверь и стали брать плату с туристов, которые хотели посмотреть пещеру. Для Паха Сапы это было невозможно — заплатить за вход в Вашу-нийя, поэтому они продолжили путь на север. Новый городок Кастер, основанный в широкой долине, состоял преимущественно из салунов, кузниц, платных конюшен и борделей (золотоискателям, у которых было мало денег, эту услугу предоставляли в палатках жалкие шлюхи), но они остановились на высоком травянистом холме и отправились в город пешком за едой и сарсапариловой шипучкой, которая продавалась в киоске с красно-белым навесом. На третий день они оказались в самом сердце Черных холмов, два их терпеливых христианских мула тащили телегу вверх по крутым, в выбоинах, тропам, которыми пользовались золотоискатели и погонщики мулов. Маршрут почтовой кареты Дениук — Дедвуд проходил к западу от них. Их собственные мулы, неспешные и задумчивые, научились быстро убираться на обочину, когда сверху на них по слякотной дороге несся тяжелогруженый фургон. Паха Сапа, перед тем как они перебрались в более высокогорную часть холмов, показывал Рейн колеи и выбоины, оставленные «научной экспедицией» Кастера в широких травянистых равнинах ранее не разведанных Черных холмов в 1874 году, за два года до смерти Длинного Волоса. Рейн была потрясена. — У этих отметин такой вид, будто здесь по долине на прошлой неделе прошла армия! Сколько «ученых» взял с собой Кастер в эту экспедицию? Паха Сапа сказал ей. Десять рот Седьмого кавалерийского, две роты пехотинцев, два пулемета Гатлинга с мулами, трехдюймовое артиллерийское орудие, более двух дюжин разведчиков-индейцев (ни один из которых толком не знал Черных холмов), шайку гражданских погонщиков — возможно, некоторые из бородатых погонщиков с безумными глазами, что обогнали их сегодня, впервые появились здесь с Кастером — и белых проводников (но на этот раз без Буффало Билла Коди), а еще переводчиков с полудюжины индейских языков, фотографов и шестнадцать музыкантов-немцев, игравших любимую мелодию Кастера «Гэрри Оуэн» так, что она была слышна с одного конца Черных холмов на другом. Всего в «научной экспедиции» Кастера в 1874 году участвовало более тысячи человек, включая Фреда, сына президента Гранта, который большую часть времени был пьян и которого Кастер один раз приказал арестовать за нарушение порядка. Обоз состоял из ста десяти фургонов «студебеккер» (из тех, что все еще используются в Кастер-Сити и Дедвуде), каждый из которых тащили по шесть мулов. Рейн посмотрела на него, и Паха Сапа добавил: — Да, и еще было около трех сотен голов скота, пригнанного из Форт-Авраам-Линкольна в Северной Дакоте, чтобы у людей каждый вечер было мясо на ужин. — А были там какие-нибудь… ученые? — Несколько. Но главную цель так называемой экспедиции обеспечивали два горняка — кажется, их звали Росс и Маккей. Они искали золото. И они его нашли. Пожиратели жирных кусков хлынули в Черные холмы, как только до них дошли слухи о золоте, а они стали распространяться еще до того, как экспедиция Кастера покинула Черные холмы. — Но разве правительство всего за несколько лет до этого не отдало Черные холмы твоему народу — нашему народу? В Форт-Ларами в шестьдесят восьмом году? Там ведь был подписан договор. И обещало никогда не допускать белых в Черные холмы? Паха Сапа улыбнулся, подхлестнув мулов вожжами. Новая узкая грунтовая дорога шла через великолепные Столбы (которые более чем через двадцать пять лет вдохновят историка и поэта Доана Робинсона на поиски скульптора), потом в растянувшиеся между высокими гранитными пиками долины поуже, заросшие цветами, осинами, березами. К вечеру Паха Сапа вспомнил про хорошее место для стоянки у ручья и направил телегу в высокую траву. Они отъехали от дороги с полмили и остановились в осиновой роще; молодые зеленые листочки уже трепетали на легком майском ветерке. Обеды, что готовила Рейн во время их путешествия, были великолепны, лучше любого блюда, какое ел Паха Сапа у костра со своих детских лет. И стоянки их были удобны благодаря койкам Седьмого кавалерийского, складным стульям и столику. Солнце село, долгие майские сумерки не торопились уходить, над высоким пиком с востока поднялся молодой месяц. Рейн поставила на стол металлическую кружку с кофе. — Что я слышу — музыка? Это была музыка. Паха Сапа засунул походный нож за ремень, взял Рейн за руку и повел через осиновые заросли и лунные тени вверх к небольшой седловине, потом вниз по сосновому леску с другой стороны. Выйдя из широкохвойных сосен и снова оказавшись среди осин, они остановились. Рейн прижала ладони к щекам. — Боже мой! Внизу они увидели красивое озеро — большое для Черных холмов, — которого не было там прежде. Паха слышал об этом озере от других работников ранчо, но не знал, где оно находится. В 1891 году дамбой перегородили речушку в западной оконечности долины, где вертикальные камни стояли плечо к плечу, и назвали новый водоем озером Кастера. (Много лет спустя оно будет переименовано в Сильвиан-Лейк.) За три года до этого, в 1895 году, рядом с водой, вблизи невидимой дамбы и неподалеку от высоких камней на дальней западной оконечности озера построили отель. Паха Сапа обнял Рейн за плечи. В широком, из камня и дерева дворике у самой воды играл оркестр. Дорожка вокруг озера в некоторых местах была устлана великолепным белым гранитом, который теперь сиял в свете луны и звезд. На крыльце отеля, во дворике и на деревьях у озера светились бессчетные китайские фонарики. Под быструю музыку оркестра танцевали пары в вечерних одеждах. Другие прогуливались по широкой поляне, по белой сияющей дорожке или по пристани, на которой горели фонарики и от которой отплывали каноэ, лодки и другие маленькие суденышки (у многих с кормы свисали белые фонарики) с парами — за веслами мужчина, на сиденье женщина с бокалом вина. Паха Сапа чувствовал себя как во сне, в котором ты приходишь в свой старый дом и видишь, что он изменился до неузнаваемости, как никогда не мог измениться в реальном мире. Но за этим чувством возникало еще более сильное, такое сильное, будто легкие ему обожгло кипятком. Паха Сапа смотрел на смеющиеся, танцующие, прогуливающиеся пары вазичу, некоторые мужчины были в смокингах, женщины — в длинных, свободно ниспадающих одеждах, их кожа в глубоких вырезах платьев отливала белизной в свете ламп, Паха Сапа смотрел на отель с шикарными номерами, выходящими на залитое лунным светом озеро, с рестораном, по которому, словно призраки, скользили официанты, разнося превосходные блюда хорошо одетым смеющимся мужчинам и женщинам, белым мужьям и женам; он смотрел с тоской в сердце, понимая, что именно это и должно было стать уделом его молодой практически белой красавицы жены, дочери знаменитого священника, автора четырех теологических книг, его жены, которая, еще не достигнув двадцатилетия, путешествовала по Европе и великим городам Америки… вот как должна была жить Рейн де Плашетт, вот чего она заслуживала, вот что она имела бы, если бы не… — Прекрати! Рейн ухватила его за руку и развернула лицом к себе. Музыка смолкла, и до них издалека, скользнув по рукотворному озеру вазичу, донесся звук аплодисментов. На лице Рейн появилось выражение ярости, глаза ее горели. Она прочла его мысли. Она часто читала его мысли. Он в этом не сомневался. — Прекрати, Паха Сапа, любимый мой. Ты — моя жизнь. Мой муж. А все это… Она отпустила его левую руку, пренебрежительным движением правой руки отметая видение отеля, оркестра, танцующих, лодок, цветных фонариков… — Это не имеет никакого отношения ко мне, к тому, чего я хочу, что мне надо. Ты меня понимаешь, Паха Сапа? Понимаешь? Он хотел ответить ей, но не мог. Рейн снова положила руку ему на предплечье и встряхнула его со всей силой женщины, привыкшей к тяжелому труду. Паха Сапа понял, что она может рельсы гнуть. А неистовый взгляд ее карих глаз мог прожечь камень. — Я никогда не хотела этого, мой любимый муж, мой дорогой. То, что я хочу, — оно здесь… Она прикоснулась к его груди над сердцем. — …и здесь… Она приложила руку к верхней части своего живота — под единственной оставшейся грудью. — Ты понимаешь? Понимаешь? Потому что если нет… тогда иди к черту, Черные Холмы из народа вольных людей природы. — Понимаю. Он обнял ее. Оркестр снова начал играть. Явно что-то популярное в нью-йоркских дансингах. И тут Рейн безмерно удивила его. — Вайачхи йачхинь хе? Он громко рассмеялся, и на сей раз не из-за ее непонимания родов в лакотском, а просто радуясь тому, что она знает эти слова. Откуда она их знает? Он не помнил, чтобы когда-то приглашал ее танцевать. — Хан («Да»). Он обнял ее там, в осиновой роще, над новым озером, и они танцевали до поздней ночи.
Когда Паха Сапа уходит с работы в пять вечера, он уже не видит белых ореолов вокруг его товарищей по работе, но у него начинается пульсирующая головная боль и, как следствие, во время спуска по пятистам шести ступеням — головокружение. Наверху все готово к завтрашнему торжеству, кроме пяти демонстрационных зарядов. Никому не разрешат завтра утром подниматься на скалу, кроме Паха Сапы, который и установит детонаторы. Небольшую бригаду допустят наверх, чтобы повесить флаг на стрелу и подготовить оснастку над головой Джефферсона. Остальная часть завершающей утренней подготовки будет проводиться на горе Доан, где соберутся пресса и толпы важных персон. Борглум вернулся и отводит в сторону рабочих, которые должны закрепить флаг на следующий день, — он явно собирается дать им последние указания. Паха Сапе последние указания не нужны, и он незаметно проскальзывает на парковку, заводит мотоцикл Роберта и следует в облаке пыли за спешащими домой по горной дороге рабочими. Он проезжает треть пути вниз по склону, и тут ему приходится свернуть в лес, где он соскакивает с седла, опускается на четвереньки и выблевывает обед. После этого головная боль вроде бы уменьшается. (Паха Сапа, который так долго справлялся с самыми разными болями, не испытывал ничего подобного с того момента, когда шестьдесят лет назад кроу по имени Кудрявый чуть не расколол его череп прикладом ружья.) Приехав домой, Паха Сапа греет воду для еще одной горячей ванны, чтобы уменьшить боль и обрести большую гибкость, но в итоге засыпает прямо в ванне. Просыпается он в холодной воде, за окном темно. Он в ужасе вздрагивает… Неужели он проспал? А что, если Мьюн отправился в какой-нибудь кабачок, когда Паха Сапа не приехал за ним в назначенное время? Но сейчас всего четверть десятого. Теперь дни стали короче. Когда Паха Сапа вытирается, глядя, как вода вихрем уходит из ванны, ему кажется, что уже наступила полночь. Он и думать не может о еде, но берет несколько сэндвичей, кладет их в старый холщовый мешок — судок он брать не хочет. Он понимает, насколько это глупо и сентиментально, — он готов быть разорванным на куски, но хочет при этом сохранить судок, в который когда-то укладывала ему обед Рейн. Глупо, глупо, думает он и качает раскалывающейся от боли головой. Но оставляет сэндвичи в холщовом мешке. Он заезжает на старую кистонскую кузню, превращенную теперь в единственную бензозаправку, и Томми, местный дурачок, заливает бензин в маленький бак мотоцикла. Будет глупо, если теперь его заговор не удастся из-за того, что у него кончится бензин. Поднимаясь по склону, чтобы забрать Мьюна (чей «форд» модели Т пал в этом году после множества пьяных столкновений с деревьями и камнями, и теперь Мьюн в смысле поездок целиком и полностью зависит от своих таких же, как он, безработных пьяниц-приятелей), Паха Сапа думает, что теперь его заговор (он только недавно начал думать об этом как о заговоре, но это именно заговор — Пороховой заговор![118] — решает его усталый мозг) зависит от Мьюна Мерсера. Если Мьюн ушел со своими идиотами-друзьями, больше веря в виски в субботу вечером, чем в пятьдесят долларов воскресным утром… если он ушел, то заговор Паха Сапы провалился. Он просто не сможет поднять ящики с динамитом из ствола в каньоне на вершину, а потом разместить их на торце скалы без помощи по крайней мере одного человека, который будет стоять за рычагами лебедки. Но Паха Сапа столько бессонных ночей провел в поисках способов, которые позволили бы ему сделать это в одиночку. Если Мьюна нет дома, то Паха Сапа знает: он целую ночь будет таскать эти ящики с динамитом из каньона в долине, а потом вверх по пятистам шести ступеням, по одному ящику за раз, а потом, если понадобится, то даже без оператора лебедки сумеет подняться в люльке. Но еще он знает, что, даже если у него и хватит сил, ночь для такого плана коротка. А значит, всеопять-таки зависит от Мьюна Мерсера. Паха Сапа обнаруживает, что напевает молитву шести пращурам, просит, чтобы они помогли ему в этом одном, не зависящем от него. Молитва напоминает Паха Сапе, что до завтрашнего полдня он должен сочинить свою песню смерти. Как это ни невероятно, но Мьюн в назначенное время чудесным образом оказывается на месте — он ждет снаружи и даже относительно трезв. Проблема теперь состоит в том, чтобы усадить этого великана в маленькую коляску, — в конечном счете Мьюн усаживается и выглядит как огромная пробка в крохотной бутылке, — а потом преодолеть с такой дополнительной нагрузкой последнюю милю дороги на гору Рашмор. Когда и это чудо происходит, Паха Сапа отводит мотоцикл по пустой парковке в тень под деревьями. Луна сегодня поднялась раньше и стала еще круглее. — А чего это ты паркуешься здесь, под деревьями? Мьюн морщит свой громадный лоб. — На тот случай, если пойдет дождь, конечно. У меня нет чехла для мотоцикла или коляски. Мьюн поднимает взгляд на небо, по которому плывет всего несколько облачков. За пять недель не выпало ни капли дождя. Но он неторопливо кивает, мол, понятно. Сейчас всего одиннадцать часов, и из студии скульптора доносится музыка. Паха Сапа идет с Мьюном к основанию лестницы, и гигант опять начинает артачиться. — Эй, я ненавижу эту долбаную лестницу. Мы что, не можем запустить канатную дорогу? Паха Сапа легонько подталкивает Мьюна. — Ш-ш-ш. Ты что, забыл — мистер Борглум хочет устроить сюрприз? Мы не должны пользоваться силовым оборудованием. Ты должен подняться до лебедки Зала славы — крутить барабан сегодня придется вручную, помнишь? — а я обойду вокруг и поднимусь в каньон. Ты мне спустишь трос… у меня там все крюки и оснастка. Когда поднимешь ящики с фейерверком, сложишь их рядом с сараем. Только смотри, осторожно. Шоу нам нужно к приезду президента завтра, а не для нас двоих. Мьюн крякает в ответ и начинает неторопливо подниматься по лестнице. Паха Сапа морщится: на грохот подкованных ботинок Мьюна может прибежать Борглум или еще кто-нибудь — проверить, что это за шум. Следующие часы проходят как во сне. Паха Сапе нечего делать, пока ящики с динамитом поднимаются наверх, и он просто стоит внизу в смещающемся сплетении лунного света и лунной тени, глядя вверх, на черный силуэт лебедочной стрелы и сарая, боясь, что Мьюн в любую минуту передумает или обнаружит, что в ящиках, на которых наспех накарябано: «Внимание — фейерверки! Обращаться с осторожностью!», на самом деле динамит, и убежит. Но этого не происходит. Наконец последний ящик и брезент подняты, тонкий тросик спускается в последний раз. Паха Сапа светит фонариком в туннель Зала славы, чтобы еще раз убедиться, что он ничего там не оставил, потом прицепляет к тросику люльку, садится в нее и с облегчением вздыхает, когда Мьюн начинает поднимать его на высоту в триста футов. Следующие пять часов работы на гигантских головах еще больше похожи на сон. Обычно если бурильщику или взрывнику нужно переместиться горизонтально вдоль стены утеса, как это приходится делать в эту ночь Паха Сапе, то для этого существует подсобник, который сидит себе, обвязанный ремнями безопасности, где-нибудь на лбу головы над бурильщиком или взрывником. Работа у него — не бей лежачего, потому что ему всего-то и нужно передать оператору лебедки наверху, что требуется. После этого подсобник высовывает голову, чтобы проверить, добрался ли рабочий внизу до нужного места, при этом ремни безопасности надежно удерживают его: один трос уходит в лебедочную, другой зафиксирован на стреле, что нередко выглядит довольно комично, потому что он может стоять почти горизонтально, ногами упираясь в гранит и глядя прямо вниз, при этом он выкрикивает указания оператору лебедки, который перемещает невидимого ему рабочего. В эту ночь никаких подсобников нет. Паха Сапа объяснил новую методику Мьюну десять раз, но, прежде чем скрыться за кромкой волос Джорджа Вашингтона, повторил все снова. — Подсобника нет, Мьюн, так что работаем этим тросом. У меня веревка достаточной длины — мне ее хватит. Ты держишь руку на этой веревке, вот я здесь пропустил ее, рядом с твоим стулом. Если сильно дерну один раз, значит, остановка. Дерну два — подними выше. Один рывок, пауза, потом еще один означает — переместить вправо на этом уровне. Один рывок, пауза, потом два рывка — переместить влево. Складки на лбу Мьюна свидетельствуют о столь мучительной работе мысли, что Паха Сапе кажется, будто тот пытается понять статью о квантовом эффекте Альберта Эйнштейна, о которой говорил Роберт двадцать четыре года назад. С тех пор об Эйнштейне узнали все, кроме разве что Мьюна Мерсера. — Смотри, Мьюн, у меня тут все это написано. Если мы запутаемся, ты привяжись страховочным ремнем, закрепи его на стреле и выйди на лоб Джорджа — посмотришь вниз и поймешь, в чем дело. Ясно? Мьюн морщит лоб, но кивает с выражением неуверенности на лице. В конечном счете все получается в лучшем виде, как если бы они работали с подсобником. Паха Сапа составил схему размещения динамита и детонаторов (ящик с детонаторами он забирает первым делом и ставит его на уступе, а потом постоянно возвращается к нему, как птица к гнезду), поэтому спусков и подъемов ему приходится делать всего ничего — только в начале и в конце каждой закладки. В основном он отталкивается ногами, скользит, поднимается, закладывает, заклинивает, потом отталкивается и снова летит в ночном воздухе и лунном свете. Потом Мьюн поднимает Паха Сапу, они перемещаются к стреле следующей лебедки дальше на восток по торцу утеса, Паха Сапа спускается в своей люльке с веревкой в руке, и легкий танец в невесомости начинается заново. Невероятным, чудесным образом никаких задержек или срывов ни в работе, ни в плане не происходит. Громила идеально точно выбурил ниши. Ящики с динамитом легко встают туда, и Паха Сапа прикрывает их серым брезентом. Большая часть ночи уходит на размещение детонаторов (поскольку ящик должен взорваться весь сразу, а не отдельными шашками), потом на размещение и укрытие длинных серых проводов. Но к 4.43 они заканчивают. Даже вторая взрывная машинка на месте и спрятана (первая уже была установлена Паха Сапой открыто, когда он готовился к демонстрационным взрывам) за ребром плоской скалы слева от щеки Линкольна. Паха Сапа отвозит Мьюна домой, отдает ему сорок пять долларов и, не оглядываясь, катит на своем мотоцикле вниз по длинной петляющей дороге в Кистон и домой. На востоке занимается заря. Некоторое время он с беспокойством думает о том, что Мьюн может прийти на площадку и рассказать Борглуму о таинственной ночной работе и о ящиках с динамитом, на которых небрежно накарябано «фейерверки», но потом отбрасывает сомнения: Мьюн слишком глуп и корыстен, чтобы обратить на это внимание, задуматься или говорить о таких делах. Он знает, что Мьюн поспит несколько часов, а потом отправится в какую-нибудь забегаловку в Дедвуде, открытую по воскресеньям, и напьется на все сорок пять долларов. Наступает еще один жаркий, солнечный, безветренный августовский день. Паха Сапа прикидывает, не соснуть ли ему часок (он доверяет своей выработанной за долгие годы жизни способности просыпаться, когда нужно, если только он не лежит в горячей ванне), но решает не рисковать. Надев чистую рубашку и плеснув в лицо холодной воды, он готовит кофе и присаживается за кухонный столик, не думая абсолютно ни о чем, а потом, когда по дороге начинают проезжать машины других рабочих, спешащих из Кистона на Рашмор, он моет кружку, ставит ее на место в аккуратный шкафчик, моет и убирает кофейник, оглядывает дом в последний раз, — он уже сжег записку, которая лежала на каминной полке два дня назад, в которой он просил вернуть ослов священнику, если с ним что-нибудь случится, — выходит на улицу, заводит мотоцикл сына и присоединяется к меньшей, чем обычно, колонне рабочих, которые на своих стареньких машинах направляются на гору Рашмор. Он знает, что толпы народа появятся там позднее.
23 Шесть Пращуров
Воскресенье, 30 августа 1936 г. Президент Рузвельт в полдень не появляется, но Борглум не начинает церемонию без него. Паха Сапа — единственный, кто сегодня находится на торце скалы, он примостился на щеке Линкольна (каменотесы еще не обнажили бородатый подбородок президента) далеко справа, но ему оттуда видны Джордж Вашингтон, укрытый флагом Джефферсон, площадка белого гранита, откуда должна будет возникнуть голова Тедди Рузвельта. Кроме него на горе в этот день еще восемь рабочих, они выглядывают сверху из-за головы Джефферсона, где лебедка, стрела, шкивы и веревки, закрепленные на лесах, удерживают гигантский флаг, который в нужное время будет отведен в сторону, а потом убран. Сначала планируется провести пять демонстрационных взрывов, потом заиграет оркестр, и только после этого флаг с лица Джефферсона будет убран. Затем Борглум и некоторые другие обратятся к собравшимся и радиослушателям. Это и станет официальным открытием головы. Выступления президента Рузвельта не планируется. Правда, планы открытия кладбища в Геттисберге более семидесяти лет назад тоже предполагали, что присутствие президента Соединенных Штатов будет не более чем формальностью, а речи произносить будут другие. Борглум дал Паха Сапе один из своих лучших цейссовских биноклей, чтобы его главный взрывник наверняка смог увидеть, как босс поднимет, а потом опустит красный флажок, давая команду подорвать пять зарядов, и сильная оптика позволяет Паха Сапе четко разглядеть отдельные лица. К одиннадцати часам горожане и прочие любопытствующие из всей западной части Южной Дакоты начинают прибывать и занимать места над площадкой, выделенной для важных шишек, и по обеим сторонам от нее на Доан-маунтин, где, если Борглум добьется своего (а разве случалось так, чтобы он не добивался, думает Паха Сапа), со временем появится громадный Центр для посетителей, причудливая обзорная площадка и, возможно, гигантский амфитеатр с сидячими местами на несколько тысяч человек для всевозможных патриотических презентаций, включая, не сомневается Паха Сапа, искусно составленные программы, в буквальном смысле воспевающие некоего скульптора по имени Гутцон Борглум. А пока Борглуму приходится усаживать своего сына Линкольна в бульдозер, чтобы сгладить колеи, ведущие к центру обзорного пространства под и перед выстроенными в форме буквы V трибунами для важных персон и местами для простых зрителей. Как узнал сегодня утром Паха Сапа, президент Рузвельт во время церемонии не станет выходить из открытого автомобиля. Даже без бинокля Паха Сапа видит место, где остановится автомобиль президента: вокруг него громоздкие микрофоны на подставках, змеи черных кабелей, камеры кинооператоров; под сосновыми деревьями опоясанные ленточками площадки для фотографов. Все другие важные шишки расположатся за ФДР, когда он с Борглумом будет во время церемонии взирать на гору Рашмор. Паха Сапа находит Гутцона Борглума и чуть не роняет бинокль, потому что Борглум в свой лучший цейссовский бинокль смотрит прямо на него. Обычно Паха Сапа поднимается на хребет во время взрыва, пусть даже и такого малого, как этот, — всего пять демонстрационных зарядов. Но он убедил Борглума, что должен находиться здесь, на щеке Линкольна, аргументируя это тем, что при таком скоплении зрителей он может и не увидеть Борглума и его флаг. Борглум нахмурился и, прищурившись, сказал: — Признайся, Билли, тебе хочется лучше видеть. Паха Сапа пожал плечами и, потоптавшись на месте, своим молчанием словно бы подтвердил слова Борглума. Но лучше видеть ему хотелось вовсе не церемонию, а взрыв двадцати ящиков на торце скалы. Он сидит на двадцать первом ящике динамита (они должны будут взрываться последовательно, так что он увидит эффект, который произведут первые двадцать, прежде чем взорвется этот), и его бросает в холодный пот: на долю секунды Паха Сапа проникается убеждением, что Борглум в длиннофокусный бинокль видит ящик и точно знает, что на уме у его старшего взрывника. Но нет… выкрашенные в серую краску дополнительные шнуры тоже покрыты гранитной пылью по всей длине на выступающей щеке Линкольна вплоть до того места, где находится Паха Сапа. Он сидит на ящике с динамитом, но ящик укрыт последним куском серого брезента, поднятого им наверх для маскировки. Да, у него на одну взрывную машинку больше, чем полагается (маленькая для пяти демонстрационных взрывов и большая для всех других ящиков с динамитом), но он спрятал ее за ящик, на котором сидит, и Борглуму ее не увидеть, даже если бы он взял телескоп. Паха Сапа скользит биноклем по остальной прибывающей толпе, а когда возвращается к Борглуму, тот уже смотрит в другую сторону; неизменно свежий красный платок у него, как всегда, на шее, и его легко заметить в толпе преимущественно белых рубашек и темных пиджаков. Сам Борглум весь в белом (точнее, в дорогой, кремового цвета рубашке с длинными рукавами и широких брюках), если не считать красного платка и черного бинокля, что висит у него на шее. Паха Сапа опускает свой бинокль и откидывается назад, его пропитанная потом рубашка прижимается к до странности холодному выпуклому граниту проявляющейся щеки Линкольна. Он недоволен, что рука у него чуть трясется, когда он достает часы из кармана. До прибытия ФДР и начала церемонии остается не более двух часов.На следующее утро после танца в осиновой роще на другом от отеля берегу озера Рейн заявила, что хочет подняться на Харни-пик, нависающий над ними на северо-востоке. Паха Сапа скрещивает руки на груди на манер индейца у табачной лавки, столь ненавидимого всеми индейцами. — Категорически нет. Даже и говорить об этом не буду. Рейн улыбнулась той своей особенной улыбкой, которую Паха Сапа про себя всегда называл «улыбка колеса Ферриса». — Но почему нет? Ты сам говорил, что идти недалеко — две мили или меньше, и подъем легкий. Сам ведь утверждал — туда и младенец поднимется. — Может быть. Но ты туда не пойдешь. Мы не пойдем. У тебя… ребенок. Рейн рассмеялась, выражая радость оттого, что она и в самом деле носит ребенка, и одновременно подтрунивая над его тревогой. — Мы ведь в нашем походе будем много гулять, мой дорогой. И потом я буду много ходить дома в течение оставшихся шести месяцев. А тут всего лишь немного вверх. — Рейн… это же гора. Самая высокая в Черных холмах. — Ее высота всего семь тысяч футов, мой дорогой. Я проводила лето в швейцарских городках, которые расположены куда как выше. Паха Сапа отрицательно покачал головой. Он подался поближе к ней — ее карие глаза в это идеальное утро казались почти голубыми. После танца среди осин они вернулись на свою стоянку, и Рейн, подойдя к задней части телеги, начала вытаскивать оттуда матрацы — Паха Сапа настоял, чтобы матрацы были взяты на тот случай, если «понадобится лечь». Увидев, что она поднимает матрац, Паха Сапа ринулся к ней, вырвал матрац и оттащил в большую армейскую палатку. И невинно спросил: «Зачем они нам?» Он обнаружил, что иногда его жена может мурлыкать, как одна из тех кошек, что обитали у школы и церкви миссии. «Затем, мой дорогой, что хотя армейские койки замечательно удобны, но если мы хотим периодически заниматься любовью, то они для этого совершенно не годятся». И все же… в ясном свете майского утра Паха Сапа стоял, продолжая отрицательно покачивать головой и скрестив на груди руки, а на его бронзовом лице, казалось, навечно застыло выражение озабоченности. Рейн приложила палец к щеке, словно внезапно осененная какой-то идеей. — А что, если я поеду верхом на Кире? Паха Сапа моргнул и посмотрел на старого мула, который, услышав свое имя, принялся прядать надрезанным ухом — мол, слышу, слышу, — но щипать травку не перестал. — Не знаю, может быть, но… Нет, не думаю… Рейн снова рассмеялась и на сей раз смеялась явно только над ним. — Паха Сапа, мой дорогой и высокочтимый анунгкисон, и хи, и итанкан, и васийюхе… я не собираюсь ехать на Кире на гору… или еще куда. Во-первых, он не оставит Маргаритку. А во-вторых, я была бы похожа на Приснодеву Марию, которую везут в Вифлеем, только без большого живота. Нет, я уж пойду пешком, спасибо. — Рейн… твое состояние… я не думаю… А если что-нибудь… Она подняла другой палец, призывая его к молчанию. Менее чем в четверти мили от них за невысоким хребтом звучали смех и женские возгласы. Паха Сапа представил вазичу в воскресных одеждах, играющих в крокет или бадминтон на просторной зеленой лужайке, которая уходит к зеркальной глади озера. И еще он понял, что хотела сказать его жена. Они здесь были гораздо ближе к медицинской помощи, если возникнут какие-то проблемы, чем в течение всех предстоящих месяцев в Пайн-Ридже. Говорила она теперь тихим, низким, серьезным голосом: — Я хочу увидеть гору Шесть Пращуров, о которой ты говорил, мой дорогой. Туда ведь нет легкого пути? — Нет. Появление отеля, нового рукотворного озера и гранитной дорожки здесь, в сердце Черных холмов… у Паха Сапы голова шла кругом, словно он жил в чьей-то чужой реальности, на новой, лишь отдаленно напоминающей прежнюю планете. От одной мысли о том, что когда-то на Шесть Пращуров будут вести дороги, у него становилось муторно на душе. — Я хочу ее увидеть, Паха Сапа, — ее и вид на все Черные холмы. И я собираю еду в старую коробку для военных карт. А ты, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы за эти несколько часов, пока нас не будет, ничего не случилось с палаткой и Киром с Маргариткой. Вид с вершины Харни-пика (или Холма злого духа, как все еще называл его Паха Сапа) открывался невероятный. Последние приблизительно полмили вполне различимой тропинки проходили по округлым гранитным обнажениям, которые следовали одно за другим. Не имея ни малейшего желания карабкаться по усеянным камнями и валунами откосам, чтобы достичь формальной «вершины», они направились на скалистые террасы высокого северного склона горы. Да, вид во все стороны был невероятный. Там, откуда они пришли, были Столбы, леса и уменьшающиеся по высоте, поросшие травами и соснами холмы до самой Пещеры ветра и дальше. На северо-западе лежало темно-сосновое и гранитно-серое сердце основной части Черных холмов. Дальше на востоке виднелся Бэдлендс, словно белый шрам, оставшийся на равнинах, еще дальше, на севере, на фоне горизонта возвышалась Медвежья горка. Повсюду за пределами холмов тянулись Великие равнины, которые были (в течение нескольких недель в конце мая — начале июня и только после дождливой весны, как в этом году) такими же зелеными, как Ирландия в рассказах Рейн. Во всех направлениях виднелись серые гранитные вершины, столбы, хребты, торчавшие из таких темно-зеленых сосновых лесов, что они казались черными, но с Харни-пиком могла соперничать только серая масса Шести Пращуров. Этот длинный хребет находился чуть ли не у них под ногами. Когда Паха Сапа видел Черные холмы вот так в последний раз — и в особенности гору Шесть Пращуров, — он парил высоко в воздухе вместе с духами тех самых пращуров. — Ах, Паха Сапа, как это красиво. И потом, когда они посидели немного на одеяле, которое Паха Сапа расстелил на вершине хребта… — Ты, дорогой, говорил мне только о том, что предпринял там попытку ханблецеи, когда тебе было одиннадцать зим. Она взяла его руку в свои. — Расскажи мне об этом, Паха Сапа. Расскажи мне все. И он, к собственному немалому удивлению, рассказал. Закончив историю обо всем пережитом, о том, что показали и говорили ему шесть пращуров, он погрузился в молчание, ошеломленный и даже испуганный тем, что сказал все это. Рейн как-то необычно смотрела на него. — Кому еще ты рассказывал об этом видении? Твоему любимому тункашиле? — Нет. Когда я нашел Сильно Хромает в стране Бабушки, он был старый, больной и одинокий. Я не хотел, чтобы еще и это жуткое видение ложилось на его плечи. Рейн кивнула, задумчиво глядя на него. Спустя долгое мгновение, в течение которого единственным звуком был шелест ветра среди скал и низких растений на вершине, она сказала: — Давай поедим. Ели он молча, и с каждой длящейся минутой тишины дурные предчувствия все больше одолевали Паха Сапу. Почему он рассказал своей любимой жене — а она все же по большей части принадлежала к племени вазичу — эту историю, которую не рассказывал никому? Ни Сидящему Быку. Ни другому икче вичаза, хотя у него за прошедшие более чем десять лет и была такая возможность. Оба они видели что-то такое, чего Паха Сапа не видел раньше, даже летая с шестью пращурами. Высокая трава бесконечных равнин, которая в это майское утро была зеленей зеленого, колыхалась под ласками сильных ветров, почему-то совершенно не ощутимых здесь, на вершине Харни-пика. Паха Сапа представил себе невидимые пальцы, поглаживающие мурлыкающего кота. Что бы это ни напоминало, они с Рейн смотрели, как сильные, но далекие ветра шевелили бесконечные мили травы, текучие ленты воздуха становились видимыми, нижняя сторона листочков травы была такой светлой, что казалась почти серебряной в этой зяби. Волны, подумал он. Он никогда в жизни не видел океана, но понял, что вот он, океан, — перед ним. Большая часть равнин и прерий, насколько ему было известно, была разбита на участки и теперь находилась в собственности богатых владельцев ранчо и бедняков фермеров (первым судьбой было предопределено укрупняться, а вторым — разоряться), но с вершины Харни-пика в тот день ни домов, ни ограждений из колючей проволоки видно не было, как и занявшего место выбитых бизонов вредоносного домашнего скота, выдергивающего траву с корнем. Отсюда, с этой высоты, виден был только ветер, играющий барашками волн, создающий совершенную иллюзию вернувшегося внутреннего моря. Потом появились величественные тени облаков, двигающиеся по морю темной травы в промежутках между сияющими овалами солнечного света. «Когда солнце прорывалось сквозь тучи, на темном море появлялись серебряные лужи…» Лужи в море. Где он читал эту запоминающуюся фразу? Ах да, в прошлом году в «Холодном доме» Диккенса — книга очень нравилась Рейн, и она советовала Паха Сапе ее прочесть, хотя времени для чтения (между поздним возвращением с ранчо и ранним уходом на работу) у него почти не было. Но он любил читать книги по ее совету, чтобы потом можно было обсуждать их по воскресеньям, а она иногда шла ему навстречу, читая его любимые книги. Одной из них была «Илиада». Рейн призналась, что у нее был учитель, который хотел, чтобы она прочла «Илиаду» по-гречески, но все эти копья, кровь, хвастовство и насильственные смерти отвратили ее от книги. (А этой весной, читая перевод Чапмана, который когда-то так тронул молодого Паха Сапу в школе отца Пьера Мари, под разогретым на солнце брезентом палатки, имевшим почти телесный запах, она сказала мужу, что научилась у него любить рассказанную Гомером историю мужества и судьбы.) Взятая с собой еда была хороша. Рейн заранее испекла пирог на походной горелке. Еще она прихватила с собой лимоны, и хотя льда здесь не нашлось, лимонад в тщательно завернутых стаканчиках получился свежий и приятный на вкус. Паха Сапа ел, не ощущая вкуса. Наконец, когда они убрали тарелки, он сказал: — Слушай, Рейн… я знаю, что мое так называемое видение было галлюцинацией, вызванной длительным голоданием, жарой и дымом в парилке и моими собственными ожиданиями… — Не надо! Паха Сапа… не надо! Он никогда не слышал, чтобы Рейн говорила с ним таким голосом. И больше никогда не услышит. Ее голос мгновенно заставил его замолчать. Когда она заговорила снова, то так тихо, что ему пришлось наклониться поближе к ней. — Мой дорогой… мой муж и дорогой мальчик… то видение, что было дано тебе, оно ужасно. От него у меня болит сердце. Но нет никаких сомнений, что Бог — или как бы ни называлась та сила, что управляет Вселенной, — решил именно тебе показать это видение. Рано или поздно в течение твоей жизни тебе придется что-то делать с этим. Ты избран. Паха Сапа недоуменно тряхнул головой. — Рейн, ты ведь христианка, ты дирижируешь хором. Ты преподаешь в воскресной школе. Твой отец… Ты не можешь верить в моих богов, в моих шестерых пращуров, мое видение. Почему же ты… И опять она заставила его замолчать — на сей раз положив руку на его запястье. — Паха Сапа, разве у Вакана Танки, кроме имени Все, нет еще имени Тайна? — Есть. — Вот это и есть суть нашей веры, мой дорогой. Веры каждого, кто может найти и сохранить ее в своем сердце. В отличие от моего отца, я мало в чем уверена. Я мало понимаю. Моя вера хрупка. Но все же я знаю — и у меня есть вера, — что в самой сути Вселенной лежит Тайна с прописной буквы. Это, наверное, та же самая Тайна, которая позволила нам найти нашу любовь и друг друга. Ту любовь, что позволила зародиться этому чуду, которое растет теперь во мне. Что бы ты ни решил делать с этим видением, Паха Сапа, ты никогда не должен отрицать его реальность. Ты был избран, мой любимый. И настанет день, когда тебе придется решать. Я не представляю, что и как, сомневаюсь, что и ты представляешь это. Я только молюсь… молюсь тайне внутри самой Тайны… о том, чтобы ко времени, когда тебе все же придется принимать решение, твоя жизнь дала тебе ответ и ты бы знал, как тебе действовать. Боюсь, что тебе предстоит сделать очень нелегкий выбор. Паха Сапа был ошеломлен. Он поцеловал руку Рейн, прикоснулся к ее щеке, потом с силой потер собственную щеку. — Вовока, этот сумасшедший пайютский пророк, о котором я тебе говорил, тоже, видимо, считал, что он избранный. А в конечном счете оказалось, что он всего лишь сумасшедший. Рубахи танца Призрака не защитили от пуль. Я видел такую рубаху на Сильно Хромает, под его драной шерстяной кофтой. Рейн поморщилась, но голос ее не утратил убежденности. — Этот старик только думал, что он избранный, мой дорогой. А ты и есть избранный. Ты это знаешь. А теперь знаю и я. Внезапно с равнин снизу налетел ветер и засвистел в скалах вокруг них. Паха Сапа заглянул в глаза жены. — Избранный, но для чего? Одному человеку не по силам остановить каменных гигантов вазикуна, вернуть бизонов или возвратить Вакан… священную Тайну… народу, потерявшему ее. Так… для чего же я был избран? — Ты сам поймешь, когда придет время, мой дорогой. Я знаю, что поймешь. Медленно спускаясь по склону Харни-пика, они не разговаривали, но большую часть пути держались за руки.
Далеко внизу важные гости заполняют первые ряды трибун. Глядя через дейссовские окуляры, Паха Сапа находит лысину своего старого учителя Доана Робинсона. Он знает, что Доану в октябре исполнится восемьдесят, но поэт и историк никак не может пропустить подобную церемонию, праздник открытия очередной части разделяемой всеми реальности, которая когда-то была мечтой одного лишь Доана Робинсона (пусть эта мечта и претерпела сильные изменения). Рядом с Робинсоном в переднем ряду еще более глубокий старик, у которого вокруг подбородка, левой щеки и шеи словно намотано полотенце. Это сенатор Питер Норбек, и Паха Сапа знает, что Норбек вместе с мечтателем Доаном Робинсоном и конгрессменом-прагматиком Уильямом Уильямсоном и составили ту тройку активистов, которая выступала за проект Рашмор, проталкивала его, представляла сенату, находила для него финансирование, отстаивала и неустанно защищала (нередко от неумеренности самого Борглума) вплоть до нынешнего состояния проекта — три почти законченные головы. Но сенатор Норбек, который за прошедшие годы выслушал от Борглума столько бранных слов, сколько не каждый мужчина позволит сказать даже своей жене, теперь умирает от рецидива рака челюсти и языка. Рак и многократные операции в конечном счете лишили его дара речи и превратили нижнюю часть лица в кошмар, которым можно до смерти напугать детей и некоторых избирателей, но Норбек отрастил бороду, скрывающую часть этого ужаса, и обмотался шарфом-полотенцем, словно это обычная часть его гардероба — может быть, второй галстук или яркий шейный платок. Паха Сапа упирает руку с биноклем в левое колено и видит, что Норбек откидывается назад — говорит что-то трем мужчинам в ряду за ним. Показывая на толпу нетерпеливых репортеров, загнанных за ленточку, умирающий сенатор разыгрывает быструю пантомиму, которая заканчивается спиралевидным движением указующих вверх пальцев. Все три политика (а с ними и Доан Робинсон, сидящий через три человека справа от Норбека) заливаются смехом. Уильям Уильямсон не смеется. Конгрессмен, выбранный главой делегации для приветствия ФДР, нервно ходит туда-сюда перед стойками высоких микрофонов. Паха Сапа смотрит на свои часы — 14.28. Он видит Гутцона Борглума внизу — тот слишком занят, разговаривает с важными людьми, и у него нет времени подняться и остановить Паха Сапу, даже если он и заметил в свой бинокль что-то неладное. Но у Борглума есть телефонная связь с сыном Линкольном, который руководит бригадой из восьми человек на кране и стреле над головой Джефферсона, а согласно официальной программе открытия памятника, Линкольн и нажмет кнопку, инициируя демонстрационные взрывы, когда его отец даст отмашку красным флажком, хотя в действительности именно главный взрывник всегда приводит в действие детонаторы. Паха Сапа достаточно далеко выдвинут на щеке Линкольна (тоже покрытой, как понимает он теперь, глядя на гранит под собой, своего рода полотенцем) и сможет увидеть, как взмахнет флажком Линкольн Борглум (флажок у него красно-белый), когда помощник его отца внизу передаст по телефону подтверждение команды на взрыв. Но взрывной машинкой управляет Паха Сапа. В сотый раз смотрит он на двадцать ниш, где установлены ящики с динамитом и детонаторы. Беспокоит его, как всегда, одно: не обрушит ли взрыв град камней и валунов на толпу и на трибуны. По идее, такого не должно случиться — он достаточно глубоко расположил динамит в нужных местах. Большой Билл Словак, который (оставив золотодобывающую шахту «Крипл-Крик», где несоблюдение правил безопасности владельцами привело к гибели под завалом двадцати трех горняков) некоторое время работал в бригаде взрывников в Денвере, всегда любил говорить Паха Сапе, что если нужно подрывать большие сооружения, то главную роль тут играет сила тяжести, а не сам взрыв динамита. «Обрушение, а не взрыв» — таков был девиз их бригады. «Дай мне одну динамитную шашку, — говорил Большой Билл за обедом со вкусом каменной пыли на „Ужасе царя небесного“ в тусклом свете карбидных ламп на их касках, — и я тебе снесу Нотр-Дам. Нужно только выбрать верное место в правильно выбранном контрфорсе, а остальное доделает сила тяжести». Паха Сапа надеется, что так и произойдет в данном случае, но всегда остается опасность, что осколки разлетятся. Он рассчитал взрывы с учетом безопасности тех, кто находится наверху, и почти уверен в том, что президенту и всем гостям внизу на горе Доан не угрожают ни малые осколки, ни тем более падение крупных камней, но все же он волнуется. Паха Сапа понимает, что много лет назад должен был ответить своему сыну так: «Я не воин и никогда им не буду. Мне недостает желания причинять боль людям». Теперь он осознает, что так оно и было. Невзирая на неизбежные кулачные побоища, которые случались в его долгой жизни, включая и те, что были, когда он устроился на эту работу пять лет назад, у него никогда не возникало желания причинять кому-то боль или убивать кого-то. Даже когда он дрался, защищаясь или чтобы пресечь расистские оскорбления в свой адрес, делал он это, применяя минимум силы и помня (и по ярким воспоминаниям Шального Коня, и по высокопарной болтовне призрака Длинного Волоса), что в некоторых случаях единственным правильным ответом является применение максимума силы. Но теперь, сидя на ящике с динамитом рядом с двумя взрывными машинками, он знает, что не выпрыгнул, увлекая за собой Гутцона Борглума, из вагонетки канатной дороги, потому что, пока у него оставался хоть какой-то иной выбор, он не хотел убивать Борглума. А выбор у него есть. По крайней мере, на ближайшие несколько минут. Снизу доносится всплеск шума, потом аплодисменты, и на парковочную площадку въезжает кавалькада автомобилей. Другие машины выруливают к одной или другой стороне, но один длинный черный фаэтон, впереди которого, поглядывая по сторонам, идут люди в черных костюмах, сворачивает на новую дорогу и останавливается перед трибунами так, что микрофоны оказываются рядом с передней пассажирской дверью. С заднего сиденья открытой машины выходит человек, и трибуны восторженно приветствуют его. Паха Сапа выравнивает бинокль. Это популярный ковбой-губернатор Южной Дакоты Том Берри. Губернатор наклоняется к пассажиру на переднем сиденье и несколько секунд говорит с ним, потом отходит и снова машет толпе. Теперь школьный оркестр начинает играть «Салют вождю» (Паха Сапа слышит музыку дважды: один раз напрямую, а второй — через громкоговорители, к которым подключены микрофоны), и Франклин Рузвельт без шляпы, оставаясь, конечно, сидеть на переднем пассажирском сиденье, откидывает назад голову, — солнце поблескивает в золоченой оправе его очков, — поднимает открытую ладонь, отворачивается от Паха Сапы и ждущего Борглума и машет по очереди каждой части толпы, расположившейся полукругом, — и тем, кто сидит, и тем, кто стоит. Стоящая толпа ведет себя относительно спокойно, а важные шишки на ближней трибуне реагируют так оживленно, что последние ноты «Салюта вождю» тонут в шуме. Три радиорепортера тараторят что-то в огромные микрофоны, но те не подключены к громкоговорителям амфитеатра. Паха Сапа слышит только — с задержкой и накладкой, словно речь заики-призрака, — несколько прохладные аплодисменты и приветственные выкрики толпы. В конце концов, дакотская публика — в основном республиканцы. Потом пронзительное, накладывающееся на естественный шум верещание громкоговорителя, гулким эхо отражающееся от вогнутой поверхности скалы над узким гранитным карнизом, где сидит Паха Сапа, становится еще более искаженным и раздражающим — это Уильям Уильямсон начинает свою приветственную речь. Паха Сапа подтаскивает поближе к себе меньшую взрывную машинку и осторожно вытаскивает оголенные концы двух проводков — оплетку он снял перочинным ножом, — пропускает их между большим и указательным пальцами, чтобы очистить от пыли, потом пропускает каждый через отверстия, аккуратно наматывает хвостики на две резьбовые клеммы. Убедившись, что контакт обеспечен, он наворачивает сверху бакелитовые колпачки, прижимающие проводки. «Я встречался с одним из тех президентов, которых ты собираешься подорвать. Пожимал ему руку. Он спрашивал меня об учебе в Вест-Пойнте. А потом он на приеме познакомился с Либби и сказал: „Значит, вы и есть та молодая женщина, чей муж бросается в атаку с криками и улюлюканьем“». От неожиданной речи Длинного Волоса Паха Сапа чуть не падает со своего ящика с динамитом. После почти трех лет молчания этот треклятый призрак снова взялся за свою болтовню? «Я, конечно, говорю о старике Эйбе. О том парне, к чьей щеке ты притулился. В шестьдесят втором я и другие офицеры, что служили под командой генерала Маклеллана в армии Потомака,[119] серьезно обсуждали, не отправиться ли нам маршем на Вашингтон и не сместить ли эту некомпетентную гориллу, а на его место поставить военного диктатора, маленького Мака». Паха Сапа машет рукой, словно прогоняя комара. — Замолчи. Ты мертв. «Да я просто хочу посмотреть, сделаешь ли ты это или наложишь в штаны. Опять…» Паха Сапа много раз прежде слышал смех Кастера. У этого вазикуна даже при жизни был не особенно приятный смех — слишком уж похожий на нервный гогот озорного мальчишки, — и шестьдесят лет в могиле отнюдь его не улучшили. — Тебе меня не остановить, Длинный Волос. И опять этот невыносимый смех. «Остановить тебя? Да я и не хочу тебя останавливать, Паха Сапа. Я думаю, тебе следует сделать то, что ты задумал. Думаю, ты должен это сделать. Давно пора». Паха Сапа закрывает на несколько секунд глаза, чтобы спрятаться от белого сияния, жары, сводящих с ума дублирующихся речей снизу, повторяемых усиленным эхом. Он спрашивает, уж не пытается ли призрак вазичу сбить его с толку… перехитрить… или, может, просто отвлечь его в наступающий критический момент. «Ничего такого, о чем ты думаешь, старый друг, — шепчет ему Кастер. — Я серьезно. Ни один человек — в особенности человек, рожденный в народе воинов, не может так долго и безответно сносить оскорбления… в конечном счете он должен дать героический ответ. Сделай это, Паха Сапа. Снеси сегодня эти треклятые каменные головы к чертовой матери перед всеми камерами, президентом и самим Господом Богом. Это ничего не изменит: твой народ все равно будет побежден, он пережил сам себя и будет забыт, — но это будет надлежащим ответом народа-воина на такое унижение. Сделай это, Бога ради. Я бы сделал». Паха Сапа трясет головой, пытаясь скорее освободиться от навязчивого голоса, чем дать ответ. До этого момента он, проведя долгое утро и бесконечный день на тонком карнизе, в невыносимой жаре, не чувствовал ни изнеможения, ни боли. Теперь его тело заполняется болью, потому что Длинный Волос открыл для нее дверь. Паха Сапу вдруг одолевает такая усталость, что он сомневается, хватит ли ему сил раскрутить ручку взрывной машинки, чтобы сгенерировать ток, достаточный для преодоления сопротивления катушек, хватит ли ему сил, чтобы, несмотря на трение, впихнуть плунжер. «Ты меня понял, Паха Сапа? Ты не спал две ночи и, кроме того, отработал здесь без перерыва три полные смены и три ночи. Если ты вырубишься, твое тело полетит вниз, а сам ты станешь примечанием к истории церемонии открытия: Белый дом пошлет Борглуму письмо с изъявлением сочувствия в связи с такой ужасной трагедией — смертью одного из рабочих, а эти треклятые головы так и останутся стоять здесь. Взрывай их скорей. Какого черта ты ждешь?» Паха Сапа поднимает бинокль. В главный микрофон говорит какой-то толстый, незнакомый ему человек. Президент Рузвельт улыбается, Борглум стоит, небрежно облокотись о президентский автомобиль, и в его руке пока еще нет красного флажка. Паха Сапа начинает говорить каким-то неестественным шепотом. Он не хочет, чтобы кто-нибудь внизу, посмотрев на него в бинокль, увидел, что его губы движутся. — Ты используешь бранные слова, Длинный Волос. Разве ты не обещал жене, что не будешь браниться? Смех призрака снова эхом отдается в черепе Паха Сапы, но на сей раз он не такой скрипучий. «Ну да, обещал. Я дал этот обет в шестьдесят втором в Монро, вскоре после того, как нас с Либби познакомили на вечеринке в День благодарения, и всего день спустя после того, как она, к моему сожалению, видела меня пьяным на улице города. Я помолился и покаялся, а потом дал обет, что больше никогда в жизни не прикоснусь к спиртному, не помяну всуе имя Господа и никогда не буду пользоваться бранью, сколько бы меня ни побуждали к этому моя профессия и мои негодные друзья. Но я не приносил клятвы Либби в тот день, я поклялся перед моей старшей сестрой Лидией, а та поспешила передать это юной мисс Элизабет Бекон, которая и в самом деле видела меня в непотребном виде, выглянув через шторы на лестничном окне дома судьи Даниэля Бекона. Но Либби мертва, мой индейский друг, как мертва и твоя дражайшая жена, а с ними истекло и действие всех наших обетов». — Замолчи. Ты просто хочешь, чтобы я умер. Ты просто хочешь освободиться. Длинный Волос снова смеется. «Конечно хочу, черт тебя подери. Я не душа, которая дожидается взятия на небо, я не призрак, который дожидается воспарения, я всего лишь опухоль в памяти Паха Билли Вялого Коня Словака долбаного Сапы. Мы с тобой оба устали от этой жизни, этого мира. Чего ты ждешь — новых болей и потерь? Чего ты ждешь, Паха Сапа? Давай, крути свою треклятую машинку». Паха Сапа мигает, слыша бранные слова, эхом отдающиеся в его больном черепе. Неужели этот призрак все же сошел с ума? Но с другой стороны, а чего он и в самом деле ждет? Он намерен произвести демонстрационные взрывы, потом выслушать торжественные речи и только после этого — взорвав сначала одну динамитную шашку, чтобы привлечь внимание толпы и операторов, — только после этого взорвать двадцать один ящик взрывчатки. Но в словах призрака есть смысл… чего ждать? Вспыхнув, он понимает, что хочет услышать, будет ли после этого говорить президент Рузвельт, хотя его речь и не предусмотрена в церемонии, а если будет, то что скажет. Он понимает, что пять лет проработал на этом памятнике, взрывал, помогал каменотесам и теперь хочет услышать, что думает об этом президент Соединенных Штатов. Сквозь усталость, не менее тяжелую, чем гранит под и за ним, пробивается понимание: он хочет, чтобы президент и сегодняшние гости гордились работой, которую они проделали на горе Рашмор. «Да прекрати ты эти идиотские глупости…» — бубнит призрак Длинного Волоса. Паха Сапа не обращает на него внимания. Борглум начал говорить, обращаясь к президенту и гостям, и теперь в руке у него красный флажок. Взрывные машинки, выбранные самим Борглумом, изготовлены в Германии и немного сложнее, чем старые, где нужно было всего лишь подключить и нажать, к каким Паха Сапа привык, работая в шахтах. Сначала он берет рукоятку взрывной машинки, подключенной к детонаторам демонстрационных взрывов, и проворачивает ее четыре раза по часовой стрелке, заряжая конденсатор. Потом он отводит ручку назад, снимая предохранитель с плунжера, и с усилием вытаскивает его. Теперь все готово, чтобы послать ток на детонаторы в ящиках с динамитом. Борглум заканчивает короткую речь о комбинированном использовании взрывчатки, буров и долот при работе над гигантскими скульптурами на горе Рашмор, подчеркивая, как делает это всегда, важность инструмента скульптора, который на самом деле выполняет всего три процента работ по удалению гранита. Борглум поворачивается спиной к президенту и толпе, театрально поднимает руку с красным флажком. Наверху над закрытой флагом головой Джефферсона сын Борглума Линкольн разговаривает по телефону с кем-то внизу и затем поднимает собственный красно-белый флаг. В последнюю секунду Паха Сапа бросает взгляд вниз, чтобы убедиться, что он зарядил машинку для демонстрационных взрывов, а не машинку, подсоединенную к проводам, идущим к ящикам с динамитом. Но от усталости в глазах у него туман, и ему нужно срочно посмотреть в бинокль,иначе он рискует пропустить сигнал. Борглум эффектным движением опускает красный флажок, словно сигнальщик на пятисотмильной индианаполисской гонке.[120] Паха Сапа проталкивает плунжер до упора вниз.
Он никогда не чувствовал такой злости, как в тот майский день 1917 года, когда его сын Роберт сказал ему, что поступил в армию и скоро отправляется сражаться в Европу. Роберт окончил частную денверскую школу в декабре 1916 года, и весенние месяцы провел, живя у отца в кистонской лачуге, а потом в Дедвуде, готовя документы для поступления в разные колледжи и университеты, а в основном предаваясь безделью. Паха Сапа неодобрительно воспринял, когда Роберт большую часть своих накопленных денег потратил на почти новенький «харлей-дэвидсон». (Богатый одноклассник Роберта получил этот мотоцикл в подарок по окончании школы и тут же его разбил. Роберт купил побитую машину 1916 года выпуска, заплатив по пять центов за каждый доллар начальной цены, отправил обломки на отцовский адрес и с января по апрель почти безвылазно ремонтировал его.) Хотя сначала Паха Сапа и не одобрял покупку, но по воскресеньям и если выдавалось время, свободное от работы на шахте «Хоумстейк», помогал Роберту и вынужден был признаться себе, что ему нравились тихие часы работы рядом с сыном в сарае, который они использовали как мастерскую. Это была преимущественно молчаливая, преимущественно отдельная, но странным образом сплоченная работа, какой могут предаваться только, пожалуй, отцы и дети. Паха Сапа часто вспоминал потом эти дни. Высокие оценки Роберта (Паха Сапа всегда знал, что они у сына хороши, только понятия не имел насколько) вкупе с восторженными рекомендациями знаменитых денверских преподавателей принесли плоды — к апрелю 1917-го у Роберта было уже восемь предложений грантов. По своей обычной непонятной (для его отца) манере вести дела Роберт подал заявки в одни и те же колледжи и университеты под двумя именами, оба они были получены официально, а различия объяснялись бюрократическими вывертами в законодательствах разных штатов и правилах федеральной регистрации — Роберт Вялый Конь и Роберт де Плашетт. Заявки, поданные от второго имени, подчеркивали его связь с покойной матерью и белым дедом, словно Роберт был полным сиротой, а местом его проживания в течение последних девяти лет там был назван денверский интернат. В заявлениях, подписанных первым именем, указывалась его связь с живым отцом, а местами прошлого проживания назывались резервация Пайн-Ридж и лачуга Паха Сапы в Кистоне. К концу апреля Роберт сообщил отцу, что Роберт де Плашетт был не только принят в Принстон, Йель и три других ведущих университета Лиги плюща,[121] но и получил щедрые предложения грантов от этих лучших в Штатах учебных заведений. С другой стороны, Роберту Вялому Коню предложили гранты Дартмутский и Оберлинский колледжи, а также Блэкхиллский университет, расположенный неподалеку, в Спирфише, Южная Дакота, маленьком городке, откуда Молчаливому Калву Кулиджу привозили откормленную печенью форель. Паха Сапа разозлился, узнав про игры, в которые играл его сын, когда речь шла о таких важных вещах, как образование, но, помимо этого, он испытывал еще и гордость. Разозлился он и когда узнал, что Роберт, который давно выражал желание уехать учиться не только из Южной Дакоты, но и с Запада, надумал поступать в самый малоизвестный из колледжей, принявших его. — Где эти Дартмутский и Оберлинский колледжи, Роберт? Почему ты выбираешь их, если тебе предложили гранты Принстон и Йель? Когда состоялся этот разговор, был уже поздний вечер, и они заканчивали работу над коляской к мотоциклу. Роберт улыбнулся широкой, неторопливой улыбкой, которая так нравилась девушкам. — Дартмутский — в Новом Гемпшире, а Оберлинский — в Огайо. Дай-ка мне ключ на три восьмых. — Да что они такое рядом с университетами Лиги плюща? — Ну, Дартмутский вроде можно считать, что и в Лиге. Образован в тысяча семьсот шестьдесят девятом, кажется, имеет королевскую грамоту от того губернатора, который в то время представлял короля Георга Третьего, и, согласно этой грамоте, его назначение — обучать крещеных индейцев в регионе. Паха Сапа крякнул и отер пот с лица, отчего на щеке осталось грязное пятно. — И сколько… индейцев… с тех пор окончили его? Улыбка Роберта под голой лампочкой в шестьдесят ватт была широкой и белозубой. — Маловато. Но мне нравится их девиз — «Vox Clamantis in Deserto». — «Голос вьющегося цветка в пустыне»? — Почти что так, отец. «Глас вопиющего в пустыне». Ко мне это может иметь некоторое отношение. Паха Сапа выгнул брови. — Да? Так ты считаешь, что твой дом священные Черные холмы — это пустыня? Голос Роберта посерьезнел. — Нет. Я люблю холмы и хочу вернуться сюда когда-нибудь. Но я думаю, что голос нашего народа слишком долго оставался без ответа. Паха Сапа прекратил делать то, что делал, и при звуках слов «нашего народа» повернулся к сыну — раньше он от Роберта никогда такого не слышал. Но его сын, наморщив лоб, затягивал один из болтов. Паха Сапа откашлялся, почувствовав вдруг, как запершило у него в горле. — А как насчет этого колледжа в Огайо… как его… Оберлинский? У них тоже такой броский девиз? — Может быть. Только я его не помню. Нет, мне нравится тамошняя политика, отец. Они принимали негров уже в тысяча восемьсот тридцать четвертом или около того… а женщин еще раньше. После Гражданской войны выпускники Оберлина отправились на Юг преподавать в школах Бюро по работе с бывшими невольниками. Некоторые из них были убиты ночными всадниками. — Ты хочешь мне сказать, что отправишься на Юг преподавать неграм? Ты хоть представляешь, насколько силен реорганизованный ку-клукс-клан? Не только на Юге, но и повсюду? — Да, я знаю об этом. И нет, я не собираюсь преподавать — ни на Юге и вообще нигде. — А что же ты хочешь делать, Роберт? Этот вопрос в последние годы мучил Паха Сапу гораздо сильнее, чем призрак Кастера. Его сын был такой умный, такой красивый, такой представительный и такой замечательный ученик (если опустить его отцовскую фамилию, которая на самом деле и не была фамилией его отца), что мог стать кем угодно — адвокатом, доктором, ученым, математиком, судьей, бизнесменом, политиком. Но Роберт, которого с самого детства интересовало все и который не желал сосредоточиваться на чем-то одном, казалось, был совершенно безразличен к карьере. — Не знаю, отец. Я думаю, что должен несколько лет поучиться в Дартмуте… Я хочу заниматься гуманитарными науками, и они не требуют, чтобы ты сразу же выбирал специализацию или карьеру. Вообще-то я, когда вырасту, хочу быть похожим на тебя, вот только не знаю, как этого добиться. Паха Сапа нахмурился и уставился в макушку склоненной головы Роберта. Наконец его сын посмотрел на него. — Роберт, давай говорить серьезно. Глаза Роберта — глаза его матери — были столь же необъяснимо серьезны, как и глаза Рейн, когда она говорила Паха Сапе что-то очень важное. — Я и говорю серьезно, ате… атевайе ки. Я хочу стать таким же хорошим человеком, каким всю жизнь был ты. Митакуйе ойазин! И да пребудет вечно вся моя родня! Роберт принял предложение Дартмутского колледжа в Нью-Гемпшире, починил свой мотоцикл и каждый день отправлялся в далекие путешествия по грунтовым и гравийным дорогам (а нередко и при лунном свете), а потом 6 апреля, месяц и один день спустя после своей второй инаугурационной речи, президент Уилсон, которого переизбрали, потому что он обещал не влезать в европейскую войну, пришел в конгресс и потребовал объявить войну правительствам Германии, Венгрии, Турции и Болгарии. Пять дней спустя Паха Сапа вернулся домой после двенадцатичасовой смены на шахте и увидел, что его сын стоит на кухне в темной маскировочной форме, высоких ботинках и полевой шляпе с плоскими полями Американского экспедиционного корпуса. Роберт спокойным голосом объяснил, что проехал несколько миль до Вайоминга и поступил рядовым в армию, в 91-ю дивизию, а на следующий день отправляется в учебную часть в Кэмп-Льюисе, штат Вашингтон. Паха Сапа ни разу в жизни не ударил сына. Он знал, что белые отцы поколачивают своих чад, в особенности сыновей, если те отбиваются от рук. Но Паха Сапа ни разу и пальцем не притронулся к сыну, ни разу не возвысил голоса. Взгляд или чуть пониженный тон всегда были достаточными дисциплинарными мерами, и у него никогда не возникало искушения отшлепать или ударить сына. В тот момент 8 мая 1917 года на кухне в кистонской лачуге Паха Сапа был как никогда близок к тому, чтобы поколотить сына — и вовсе не влепить ему какую-то символическую затрещину: Паха Сапа был готов лупить сына кулаками, добиваясь послушания, как он впоследствии колотил на горе Рашмор парней, которые задирали его. Но он все же заставил себя сесть за кухонный стол. Его трясло от злости. — Но ради чего, Роберт? А колледж? Дартмут? Твое будущее? Надежды, которые возлагала на тебя твоя мать. Мои надежды. Ради чего, Роберт, скажи ты мне, Богом тебя прошу! Роберта тоже трясло от переполнявших его чувств, хотя каких (смущения, страха перед возможным гневом отца, возбуждения, досады, испуга) — этого Паха Сапа так никогда и не узнал. Он только видел, как дрожат всегда спокойные руки сына, и слышал едва заметное волнение в его всегда спокойном голосе. — Это мой долг, отец. Моя страна воюет. — Твоя страна? Паха Сапа был готов вскочить на ноги, схватить своего гораздо более высокого сына за лацканы военного мундира, сорвать с него пуговицы и зашвырнуть восемнадцатилетнего мальчишку в комнату через закрытую проволочную дверь. — Твоя страна? И тут он почувствовал, что все его старания пропали даром, что не имело никакого смысла показывать Роберту и Медвежью горку, и Бэдлендс, и вообще Паха-сапа, и Шесть Пращуров в солнечных лучах, осиновые и сосновые леса, равнинные луга и поросшие травой холмы дальше к югу, равнины, где ветер становится видимым, когда гладит своей невидимой рукой шкуру мира. Он слишком поздно понял, что должен был взять Роберта в долину у речушки под названием Чанкпе-Опи-Вакпала, где под старым тополем лежали вразброс белые кости любимого тункашилы Паха Сапы и где было тайно захоронено сердце Шального Коня, чтобы никакой вазичу не мог потревожить его. Он лишь смог в третий и последний раз произнести: — Твоя… страна? Роберт де Плашетт Вялый Конь, насколько было известно его отцу, не плакал с полуторагодовалого возраста, но сейчас вид у него был такой, будто он вот-вот разрыдается. — Моя страна, отец. И твоя. Мы в состоянии войны. Паха Сапа чувствовал, что сейчас может потерять сознание. Он со всей силой ухватился за край стола. — Это война между кайзером вазичу и царем вазичу, Роберт, война, в которую втянуто множество других вазичу — парламентов, премьер-министров, стариков с дурным запахом изо рта, говорящих на двух десятках языков. И без всякой причины. Без всякой причины. Ты знаешь, сколько английских мальчишек погибло в битве на Сомме[122] за один только день? — Более девятнадцати тысяч убитых, отец… ранним утром первого дня. Более пятидесяти семи тысяч выбывших из строя за весь день. Более четырехсот тысяч солдат Британской империи погибли или были ранены до окончания этой битвы, более двухсот тысяч потерь у французов — и при этом они даже не выиграли сражения, — и более четырехсот шестидесяти тысяч — потери германцев. — Более миллиона убитых и раненых в одном сражении, Роберт… ради чего? Чего добилась каждая из сторон, когда сражение закончилось? — Ничего, отец. — И ты уходишь добровольцем ради этого? Чтобы участвовать в этом абсолютном… безумии. — Да. Это мой долг. Моя страна в состоянии войны. Он сел напротив отца, подался к нему через стол. — Отец, ты помнишь, когда мне было лет пять, ты в первый раз взял меня на Медвежью горку? Паха Сапа мог только смотреть на сына полным страдания взглядом. — Ты помнишь, я тогда исчез на несколько часов, а потом, когда вернулся на нашу стоянку, сказал тебе только, что был с одним хорошим человеком, который носит такое же, как у меня, имя? Роберт Сладкое Лекарство — ты с ним тоже встречался. Я знаю. Паха Сапа не мог ни кивнуть, ни отрицательно покачать головой. Он смотрел на сына так, будто тот уже лежал в могиле. — Так вот, я обещал мистеру Сладкое Лекарство, что никому не скажу того, что услышал от него, но я нарушаю это обещание и говорю это тебе… Он сказал, что мне не суждено умереть смертью воина. Что я никогда не умру на поле боя или от руки другого воина. Это успокоит тебя, отец? Паха Сапа с такой силой схватил запястье сына, что у того хрустнули кости. — Ради чего, Роберт? Дартмут? Твоя настоящая жизнь впереди. Ради чего… это? Роберт несколько секунд не поднимал глаз, потом посмотрел на отца. — Месяца два назад, когда мы с тобой чинили «харлей», ты спросил, что я хочу делать… со своей жизнью. Я тебе не ответил. Я много лет боялся сказать тебе правду. Но я много лет знал, что я хочу делать, что должен делать… я хочу стать писателем. Эти слова не имели смысла для Паха Сапы. Он видел только военную шляпу, лежащую теперь на столе, пуговицы на мундире с распростершим крылья черным орлом, бронзовые диски на высоком, камуфляжного цвета воротнике — на левом диске тиснение в виде букв U. S., на правом — скрещенные винтовки, знак различия пехоты. — Писателем? Ты имеешь в виду, вроде как журналистом? Работать в газете? — Нет, отец. Романистом. Ты любишь читать. Ты все время читаешь романы. О моих любимых писателях — Сервантесе, Диккенсе, Марке Твене — я узнал от тебя, отец. Ты это знаешь. Я уверен, что и мама точно так же приучала бы меня к книгам. Я знаю, она была учительницей, но ее со мной не было, а ты был. Я хочу стать писателем… романистом… но я хочу писать о том, что мне пришлось пережить самому. Эта война, эта так называемая «война, которая покончит со всеми войнами», какой бы подлой она ни была… а я, как и ты, отец, знаю, что она подлая, я знаю, что в ней не больше славы, чем в крушении поезда со множеством жертв или в автомобильной катастрофе… но она будет величайшим событием этого века, отец. Понимаешь? Как я смогу узнать, кто я, или из чего я сделан, или как я себя буду вести под огнем — может, я трус, я пока не имею об этом ни малейшего представления, — но как я узнаю обо всем этом, как смогу понять себя, если не пойду на войну? Я должен это сделать. Я люблю тебя, отец… люблю так, что не смогу выразить словами на любом из языков, которые знаю или когда-либо смогу выучить. Но я должен это сделать. И клянусь тебе всем, что свято для нас обоих: могилой матери, памятью о ее любви к нам обоим, — я не буду убит в бою. И он не был убит в бою. Он сдержал свое слово… или слово Роберта Сладкое Лекарство. После десяти месяцев подготовки 91-я дивизия была переправлена сначала в Англию, а потом, в конце лета 1918 года, во Францию. Маленькие синие конвертики армейской почты с исписанными мелким почерком листиками приходили от Роберта каждую неделю, без перерыва, как и во все годы его учебы в школе. Август 1918 года они провели в учебном лагере у Монтиньи-ле-Руа. Паха Сапа купил большую карту и прикрепил ее к стене на кухне. В сентябре дивизия Роберта была отправлена на фронт, и в письмах стали появляться такие названия, как Вуа, Паньи-сюр-Мез, Сорси-сюр-Мез, Сорси. Паха Сапа купил коробочку с детскими мелками и стал рисовать красные и белые кружочки на карте. В сентябре и октябре дивизия Роберта участвовала в ликвидации Сен-Миельского выступа,[123] потом были жестокие наступательные бои Мез-Аргонской операции,[124] потом перегруппировка сил в местах с такими страшно знакомыми названиями, как Ипр и Фландрия. Роберт писал о забавных маленьких приключениях в траншеях, о чувстве юмора ребят с Запада, с которыми он проводил время, о привычках и манерах французов и бельгийцев: 26 октября, когда они стояли в местечке, называемом Шато-Рюнбек, в штаб дивизии позвонил бельгийский король Альберт с приветствиями американцам на бельгийской земле. Роберт писал, что, хотя ночь была дождливая, жаркая, потная, хотя их в траншеях союзных армий донимали вши и крысы, ребята из 91-й просто обалдели, узнав об этом звонке. Позднее Паха Сапа узнал, какими жестокими на самом деле были бои так называемой Ипр-Лисской наступательной операции с 30 октября по 11 ноября 1918 года.[125] Роберт был в самой гуще сражения. Его командир написал благодарственное письмо, приложив к нему три медали, которыми был награжден Роберт, получивший к этому времени звание сержанта. Его не тронули ни снаряд, ни колючая проволока, ни пуля, ни газ, ни штык. В одиннадцать утра одиннадцатого ноября 1918 года в Компьене в железнодорожном вагоне было подписано перемирие и вступило в силу прекращение огня. Противостоящие армии начали отходить от передовой. Последний погибший на Восточном фронте солдат, как сообщалось, был канадец по имени Джордж Лоуренс Прайс, убитый немецким снайпером в 10.58 утра того дня. Девяносто первая дивизия была отведена в Бельгию, где ждала демобилизации и отправки домой. Роберт писал, как там красиво в начале зимы, несмотря на разорение после четырех лет войны, писал, что в свободное время познакомился с одной деревенской девушкой, разговаривал с ней, ее родителями и сестрами — пригодился французский, который он изучал в школе. То, что позднее назвали испанкой, началось в Форт-Райли, штат Канзас (любимая прогулочная площадка генерала Кастера и Либби), а вскоре распространилось по всему миру. Необычная мутация известного вируса гриппа оказалась наиболее убийственной для молодых и физически сильных людей. Точное число погибших от этого вируса никогда не будет установлено, но, по оценкам, составляет около ста миллионов — треть населения Европы, в два раза больше числа погибших в Великой войне. Роберт умер от воспаления легких — самая распространенная причина смерти среди молодых, пораженных вирусом, — в армейском госпитале неподалеку от места расквартирования его дивизии к югу от Дюнкерка и вместе с трехсот шестьюдесятью семью своими товарищами был похоронен на Фландрском военном кладбище неподалеку от деревни Варегем в Бельгии. Паха Сапа получил это известие в канун Рождества 1918 года. Еще два письма (которые шли более медленным и окольным путем) от Роберта пришли после его смерти, в них он восхищался красотами Бельгии, радовался встрече с молодой девушкой (не названной и, возможно, другой), сообщал об удовольствии, которое получает от книг, которые читает на французском, писал о своей благодарности за то, что вышел живым из этой войны, отделавшись только легким кашлем, с которым скоро справится, и о том, что соскучился по отцу и рассчитывает увидеть его в феврале или марте, когда 91-ю дивизию всерьез демобилизуют.
Уже по звуку первого взрыва Паха Сапа понимает, что произошло что-то ужасное. Пять зарядов (по четверти динамитной шашки каждый), установленных им для демонстрационных взрывов в глубоких шпурах грубой породы под небольшим выступом, идущим от Вашингтона мимо Джефферсона, должны взрываться в такой быстрой последовательности, что для зрителей внизу чуть ли не сливаться в одно: БАХ, БАХ, БАХБАХБАХ. Демонстрационный взрыв должен был создать этакий приятный шумок и выкинуть в воздух гранитную пыль при минимуме камней. Но этот взрыв прозвучал слишком громко. Ощущение такое, что он слишком серьезен; от вибраций, которые чувствует Паха Сапа в гранитной скале под ним и через вертикальную дугу щеки Авраама Линкольна, у него клацают зубы, сотрясаются кости и усиливается боль во всем теле. И после взрыва наступает незапланированная пауза. Паха Сапа поднимает взгляд и видит, что худшие его опасения сбываются. Это тот самый взрыв, которым он хотел привлечь внимание, — справа от щеки Джорджа Вашингтона, и он вырвал большой кусок из самой щеки. Паха Сапа смотрит вниз и видит, что перед ним не та взрывная машинка — от нее идут не черные провода, а серые. Он скорее слышит, чем видит, движение в потрясенной этим звуком толпе на горе Доан внизу, когда все, от малого ребенка до президента США, поднимают ошеломленные взгляды к той стороне горы, где в воздух в облаке пыли поднялись несколько тонн гранита. Паха Сапа ничего не может изменить. Взрывы должны происходить последовательно, но электрический ток уже был послан на запалы всех детонаторов в количестве двадцати одной штуки. Он не хотел, чтобы это произошло сейчас. Его отвлек призрак Длинного Волоса, когда… Второй, третий, четвертый и пятый взрывы происходят одновременно. Правая глазница Джорджа Вашингтона взрывается, лоб первого президента трескается, взбухает и обрушивается, забирая с собой хищный клюв гранитного носа. Третий взрыв разорвал рот и подбородок и выбросил кусок гранита размером с «форд» модели Т высоко-высоко в плотный августовский воздух. Четвертый взрыв разносит правую щеку Вашингтона, остатки его рта и часть левой брови. Пятый взрыв сбрасывает вниз обломки четырех первых. Куски гранита размером с Паха Сапу ударяют по лицу Авраама Линкольна, оставляют на нем шрамы выше, ниже и рядом с частично защищенным местом, где сидит взрывник-лакота. Внизу раздаются крики, скрежет микрофонов и громкоговорителей все еще эхом отображает реальность. Джефферсон разлетается на части эффектнее Вашингтона, что скорее подобало бы Вашингтону — первому президенту, а не Джефферсону — третьему. Но самый сильный из пяти взрывов происходит за оставшимся висеть громадным флагом, отчего голова Джефферсона становится похожей на жертву расстрельной команды, которой на глаза повязали непомерно большую повязку. Паха Сапа не хотел, чтобы это случилось, пока флаг остается на своем месте. Это главная причина, по которой он откладывал взрыв. «Моя страна, отец. И твоя. Мы находимся в состоянии войны». Паха Сапа тогда не поверил его словам и не верит им и сейчас, когда страна не находится в состоянии войны, но у него не было намерения уничтожать гигантский флаг, который с таким терпением вышивали старушки и школьницы из Рэпид-Сити. Как это ни невероятно, но тонкая ткань немного приглушает взрывы. Но потом неуловимо для глаза гигантский флаг распадается на куски, потому что взрыв выбрасывает многие тонны раскрошенной породы наружу и вверх, образуя кучевое облако серой пыли и огня. Пламя охватывает остатки флага. Первой вылетает громадная челюсть Джефферсона, ее фрагменты соскальзывают к груде старых камней далеко внизу. «Пусть всю работу сделает сила тяжести, Билли, дружище». Когда флаг-саван сгорает и исчезает, разлетаются в мелкую крошку нос, глаза, лоб и вся левая щека. А затем происходит немыслимое. Согласно плану, восемь рабочих Линкольна Борглума, отведя стрелу крана и начав подъем флага на множестве веревок и растяжек, должны были, не дожидаясь окончания подъема, направиться к лестнице из пятисот шестидесяти пяти ступенек. Никаких работ в этот день больше не планировалось, а Борглум хотел еще представить своего сына президенту Рузвельту, прежде чем все начнут разъезжаться. Но теперь Линкольн Борглум и его люди вроде бы пытаются сделать что-то. Поднять флаг? Добраться до других зарядов, пока те не взорвались? Ни для того ни для другого нет времени, но тем не менее Паха Сапа видит маленькие черные фигурки, — от этого зрелища внезапный приступ тошноты и ужаса накатывает на него, — фигурки что-то делают со стрелой крана, когда взрыв подбрасывает эту махину высоко в воздух, после чего горящие фрагменты флага начинают падать на макушку потрескавшейся теперь головы Джефферсона. Через гранитную пыль и дым он видит крошечные фигурки — они бегут, падают… это что там — неужели вместе с фрагментами флага и почерневшими камнями вниз летит человек? Паха Сапа обращает молитвы ко всем известным ему богам, чтобы это было не так. Взрываются все пять ящиков динамита на очищенной площадке Теодора Рузвельта. Взрыв выбрасывает большую часть породы в сторону Паха Сапы и стоящей внизу толпы. Он установил ящики с динамитом глубоко в нишах, чтобы не только разрушить все уже имеющиеся головы, но и исключить возможность для Борглума или какого-либо другого скульптора высечь здесь что-либо подобное, не оставить им для этого гранита. И теперь эта цель достигнута, хороший гранит разрушен. Осколки лба, уха, оставшиеся фрагменты носов Вашингтона и Джефферсона теперь превратились в кладбище камней. И гранита для новых работ не осталось. Теперь к этому добавилась и площадка, подготовленная для Тедди Рузвельта. Среди этого шума, летящих осколков и облаков пыли Паха Сапа улучает мгновение и, схватив бинокль, наводит его на Гутцона Борглума и гостей, собравшихся на горе Доан. Его расчеты оказались неверными. Осколки камней размером с кулак, с голову, пролетев сквозь строй сосен и листву осин, падают в толпу, как метеориты из космоса. Те, кто стоял, уже разбежались, как жертвы извержения в Помпеях или Геркулануме, они несутся по парковочной площадке, в панике забывая о своих машинах. Те, кто, как в ловушке, находился на расположенных более близко трибунах, сгрудились на деревянной платформе, мужья стараются своими телами защитить от падающих обломков жен, белое облако находится теперь почти над ними, начинают падать более крупные обломки от подрыва гранитной площадки ТР. Паха Сапа видит, как встает сенатор Норбек, его шарф сорван несколькими последовательными ударными волнами, искалеченная раком челюсть кажется кровавой прелюдией к тому, что ждет всех остальных. А президент… У Паха Сапы все внутри сжимается при этой мысли. Пока не появился президентский фаэтон со специальными рукоятками, он даже и не думал о том, что президент Франклин Делано Рузвельт — калека,[126] который не в состоянии встать без стального пояса, без стальных скоб на высохших ногах и даже не может сделать вид, что идет, если рядом нет кого-то, кто бы принял на себя его вес. Президент Соединенных Штатов не может бежать. Но за те три секунды, пока он смотрит вниз, до того, как расширяющееся облако пыли и последние взрывы не закроют навсегда этот вид, Паха Сапа видит, как агент секретной службы, стоявший лицом к трибуне и толпе, спиной к сидящему президенту и горе Рашмор, разворачивается, прыгает на водительское сиденье мощного фаэтона, включает заднюю передачу и несется задним ходом от града падающих обломков и приближающегося облака, чуть не сбивая на ходу губернатора Тома Бери. Рев двигателя слышен даже за взрывами, криками и грохотом падающих камней. Голова президента по-прежнему чуть ли не франтовато откинута назад, вместо улыбки на его лице выражение необыкновенного интереса, если не удивления (но не испуга, отмечает Паха Сапа), глаза прикованы к уничтоженным каменным головам его четырех предшественников на вершине скалы. А Гутцон Борглум стоит на том же месте, где и стоял, широко расставив ноги, уперев руки в бока, смотрит на приближающееся облако крошек и пыли, на летящие камни, словно спорщик, ожидающий ответа противника. Над Паха Сапой и вокруг него взрывается голова Авраама Линкольна. Подчиняясь какому-то древнему инстинкту выживания, он прижимается вплотную к узкому карнизу, хотя скала над и под ним разлетается на части. Тяжелый лоб Линкольна падает одним куском и пролетает всего в каком-то футе от Паха Сапы всей своей огромной массой — больше дома, тяжелее боевого корабля. Зрачки Линкольновых глаз (высеченные в граните стержни длиной в три фута создают впечатление настоящих зрачков, взирающих снизу на Паху Сапу), словно гранитные ракеты, летят в долину, один из них прорезает грибообразное облако и наподобие копья вонзается в студию Борглума. Нос Линкольна тоже отделяется одним куском, забирая с собой семь футов карниза всего в нескольких дюймах от вытянутых и вцепившихся в гранит пальцев Паха Сапы. Два следующих взрыва оглушают Паха Сапу и подбрасывают его в воздух на шесть футов. Он приземляется на карниз, но его ноги болтаются над сотнями футов пустого, наполненного пылью воздуха, кровоточащие пальцы его левой руки цепляются за кромку, он удерживается и, кряхтя, заползает наверх, мимо него летят камни, вокруг гремят невыразимо оглушительные взрывы. Его рубаха и рабочие штаны изодраны в клочья, в тело вонзились сотни осколков, и он весь истекает кровью, правая глазница распухла, и этим глазом он ничего не видит. Но он жив и — против всякой логики, предательски, лицемерно — среди всего этого хаоса цепляется за обрушающийся карниз, цепляется за жизнь. Как такое возможно? Последний ящик с динамитом всего в нескольких дюймах от его лица. Он должен был взорваться вместе с остальными. Может быть, замедлитель в детонаторе вышел из строя? Инстинкт выживания подсказывает Паха Сапе, что надо столкнуть ящик с карниза, прежде чем тот взорвется. Пусть он соединится с этим хаосом взрывов, обрушения, камнепада и пыли внизу. За долю секунды Паха Сапа в полной мере осознает меру своей трусости: пусть лучше меня повесят через несколько недель, чем я разлечусь на атомы сейчас. Но он не сталкивает ящик с кромки вниз. Вместо этого Паха Сапа обдирает себе ногти, срывая крышку с ящика. Он должен понять, почему не произошло взрыва. Сквозь удушающую, обволакивающую его пыль он видит, что в ящике нет динамита — ни одной шашки, — хотя динамит был, когда вчера ночью Паха Сапа снаряжал этот ящик, аккуратно вставляя детонатор и закрепляя провода, идущие к взрывной машинке. Вместо динамита там лежит бумажка. Паха Сапа видит на ней свое имя и несколько нацарапанных ниже предложений, слова неразборчивы в клубящейся пыли, но почерк вполне узнаваемый. Когда пыль окутывает все, не оставляя больше Паха Сапе возможности ни видеть, ни дышать, сомнений у него не остается. Эти отчетливые, тщательно вырисованные буквы написаны рукой его сына Роберта. Карниз под ним рушится.
Паха Сапа приходит в себя. Он заснул, задремал… но это невозможно! Второе видение? Нет. Нет. Категорически нет. Это всего лишь сон. Нет. Как он мог… невозможно заснуть посреди… трое суток без сна, долгие дни работы, жара. Бубнеж Длинного Волоса убаюкал его. Нет, невозможно. Постой. Что он пропустил? Гнусавая речь сенатора Тома Бери — на манер Уилла Роджерса[127] — все еще не завершена. Звук громкоговорителей эхом разносится по пространству, отдаваясь от трех целых и невредимых голов и заготовки, где должна появиться голова ТР. Начинает говорить Борглум. В его руке снова красный флаг… нет, не снова, в первый раз. Может быть, я уже умер, думает Паха Сапа. Возможно, Гамлет был прав… умереть, уснуть и видеть сны, быть может. Вот в чем причина. Смерть была бы спасением, не будь в ней снов, но переживать все это снова и снова во сне… Борглум говорит, что мы — большое «мы», неназванные шестьдесят рабочих и он — используем динамит, чтобы расчистить поверхность, но главная работа делается вручную. Хрена с два, думает Паха Сапа. Он смотрит вниз. Провода не подсоединены к детонаторам. Сон цепляется за него, как мокрая мертвая обезьяна. Голова его раскалывается от боли, и у него такое ощущение, что сейчас он начнет блевать, свесив голову с карниза… с карниза, который обрушился под ним всего несколько секунд назад. Его по-прежнему мутит — муть в голове и в желудке. Борглум поднимает красный флажок. Паха Сапа протирает провода, накручивает их на клеммы, прижимает бакелитовыми колпачками. Его исцарапанные, бесчувственные пальцы делали так тысячу раз, и он позволяет им проделать эту работу, не включая мозги. Единственное вмешательство, которое он позволяет себе, — это проверка цвета проводов. Черный. Демонстрационный взрыв. Подключено. Четыре поворота рукоятки для выработки тока, движение против часовой, извлечь предохранитель, плунжер поднят — все готово. Паха Сапа кладет правую руку на плунжер, а левой подносит к глазам бинокль. В отличие от того, что происходило во сне, Борглум не поворачивается спиной к президенту и не размахивает театрально красным флажком, как сигнальщик на индианаполисских гонках. Левая рука Борглума на спинке сиденья президентского автомобиля, он корпусом наполовину повернут к президенту, глаза подняты к скале, он небрежно делает отмашку флажком. БАХ, БАХ, БАХБАХБАХ. Паха Сапа не помнит, как задавливает плунжер в машинку, но тот оказывается в машинке и взрывы следуют, как им положено. На слух Паха Сапы, ослабленный многочисленными взрывами, эти четвертушки динамитных шашек издают звуки, похожие скорее на ружейные выстрелы. Количество подорванного гранита чисто символическое, облако пыли почти незаметное. Но публика внизу аплодирует. Как это ни странно, президент Рузвельт протягивает руку Борглуму, и они обмениваются рукопожатием, словно они сомневались в результатах этого взрыва. Над Паха Сапой происходит какое-то движение. Линкольн Борглум и его люди отвели в сторону стрелу и подняли флаг. Томас Джефферсон уставился в голубое небо. Звук реальных аплодисментов и звук запаздывающий, идущий внахлест и усиленный динамиками барабанит по каменным лицам вокруг Паха Сапы и над ним. Борглум словно подался к микрофону. Тон у него повелительный. Он отдает прямой приказ президенту Соединенных Штатов: — Я прошу вас, мистер президент, открыть этот памятник как святилище демократии и посредством его воззвать к людям земли, которые будут жить через сто тысяч лет, чтобы они смогли прочесть нашу мысль и понять, какие люди сражались ради установления независимого правительства в западном мире. Снова аплодисменты. Все звуки доносятся из далекого далека к Паха Сапе, чьи руки прикручивают оголенные концы серых проводов к клеммам второй взрывной машинки. Слова Борглума кажутся странно знакомыми — «воззвать к людям земли» — Паха Сапе, который взводит взрывную машинку, четыре раза поворачивая ручку по часовой стрелке. Да, он знает, эти слова перекликаются с теми, что были сказаны на открытии Олимпийских игр в Берлине в начале этого месяца: «Я взываю к молодежи всего мира…» И это вполне похоже на Борглума — он называет не лица, работа над которыми еще не закончена, а «святилище демократии» и все его писания, что будут упрятаны в Зал славы, который сейчас представляет собой лишь пробный ствол в никому не известном каньоне за головами. Сто тысяч лет владения вазичу Черными холмами. Он вытаскивает плунжер взрывной машинки, пока тот не становится на свое место. Все готово. Речь ФДР не была запланирована или ему не предложили — Паха Сапа не помнит, приглашали ли Авраама Линкольна выступить в Геттисберге (Роберт мог бы ему сказать), но он знает, что шестнадцатый президент не был главным выступающим, а теперь этот тридцать второй президент вообще не собирался выступать, но эмоции или политические соображения взяли свое (как и предполагал Паха Сапа), и Франклин Делано Рузвельт протягивает руку и подтягивает поближе к себе тяжелый круг микрофона. Знакомые по радио интонации, успокоительный тон (из-за громкоговорителей и эха голос по-прежнему похож на тот, что Паха Сапа слышал по радио) доносятся с горы Доан до вершины горы Рашмор, а потом до всего мира. — …Я видел фотографии, я видел чертежи, и я разговаривал с людьми, ответственными за эту грандиозную работу, но лишь десять минут назад осознал не только весь ее масштаб, но и ее необыкновенную красоту и важность. …Я думаю, мы, видимо, можем вообразить себе американцев, живущих через десять тысяч лет… вообразить и поразмыслить, что наши потомки… а я думаю, они по-прежнему будут жить здесь… что наши потомки будут думать о нас. Давайте надеяться… они будут верить в то, что мы честно каждый день в каждом поколении старались сохранить землю в пристойном для жизни состоянии и создать пристойную форму управления. Аплодисменты теперь звучат громче, и Паха Сапа слышит их прежде, чем эхо громкоговорителей. Из толпы, состоящей в большинстве своем из республиканцев, доносятся одобрительные выкрики. Паха Сапа снова поднимает бинокль и ловит момент, когда ФДР отворачивается от сияющего Борглума и часто пародируемым движением машет толпе, закинув назад свою великолепную голову, — на лице застыла улыбка, для цельности картины недостает только мундштука и сигареты. Паха Сапа видит, что шарф у несчастного сенатора Норбека сполз (сон пытается реализовать свои отвратительные реалии), но искалеченный раком создатель и защитник рашморского проекта улыбается улыбкой покойника. Ощущение времени словно покидает Паху Сапу. Неужели он снова задремал? Неужели он сходит с ума? Он поднимает нагретый солнцем бинокль. Борглум стоит, небрежно облокотясь о президентский фаэтон. Солнце разогрело металл, и Паха Сапа видит, что Борглум длинными рукавами защищает кожу от обжигающего жара стальной (она, наверное, пуленепробиваемая?) черной двери автомобиля. Вокруг автомобиля теперь толкутся другие важные шишки, и нахмуренные агенты секретной службы не подпускают некоторых из них к президенту. Микрофон выключен (вернее, радиокомментаторы что-то бормочут в свои, но громкоговорители отключены), так что Паха Сапа не может слышать, о чем говорят его босс и президент. Но он слышит. Голос Рузвельта расслабленный, удовлетворенный, искренне заинтересованный: — И где у вас будет Тедди? Борглум поворачивается, показывает на место слева от Паха Сапы и объясняет, что голова ТР будет высечена на этом участке более светлого гранита между Джефферсоном и уже проявляющейся головой Линкольна. — У меня все чертежи в студии. Борглум приглашает президента к себе в студию — прямо сейчас. Это вполне в духе Борглума — предполагать, что президент Соединенных Штатов примет это экспромтное приглашение и будет слоняться по студии, пока Борглум готовит для всех стейки. Рузвельт улыбается и говорит: — Я еще вернусь как-нибудь, чтобы осмотреть все внимательнее. Борглум улыбается и кивает, явно веря ФДР. Паха Сапа знает Борглума буквально как свои пять пальцев. Разве может у кого-нибудь не возникнуть желания вернуться на гору Рашмор? И потом, впереди еще столько торжественных мероприятий: открытие головы Авраама Линкольна, вероятно, на следующий 1937 год, потом, конечно, Тедди Рузвельт к 1940-му, если Борглуму удастся выдержать расписание (а Паха Сапа знает: Борглум предполагает, что Франклин Рузвельт будет избираться еще как минимум на три-четыре президентских срока), а потом еще Зал славы до 1950-го или где-то в эти сроки… Паха Сапа поднимает голову, щурится от солнечного света. Линкольн Борглум и его люди уже свернули гигантский флаг, убрали в сторону стрелу и шкивы и теперь идут к лестнице. Линкольну нужно поторопиться, если он хочет, чтобы его представили… толпа уже начинает рассеиваться, важные персоны покинули свои места, агенты секретной службы и помощники президента расчищают дорогу для его автомобиля. Паха Сапа понимает, что время пришло. Сейчас. Вот в эту секунду. Взрывная машинка у него между ног. Все готово. Час спустя он все еще сидит в этой позе, потом поднимает голову, подносит к глазам бинокль и смотрит вниз. Почти все уже разошлись. Президентской машины давно нет. Парковка пуста. Трибуну разбирают. Он замечает движение наверху, поднимает голову и видит Гутцона Борглума, который спускается к нему. Из всей сотни или около того человек, кто научился двигаться по лицам и торцу горы Рашмор, никто не делает этого с такой легкостью и уверенностью, как Гутцон Борглум. Босс опускается на карниз, выходит из люльки, снимает с себя страховку. Он смотрит на взрывную машинку, которая все еще стоит между ног Паха Сапы. — Я знал, что ты этого не сделаешь. Где ты запрятал ящики с динамитом? Держа правую руку на плунжере, Паха Сапа показывает на разные ниши выше и ниже голов. Борглум покачивает головой — на нем широкополая шляпа, а на шее все еще красный платок — и садится на карниз, упираясь одной мощной рукой в колено. Паха Сапе приходится преодолеть пустоту внутри себя, чтобы заговорить. — И давно вы знали, что я собираюсь сделать это? Борглум показывает свои желтые от никотина зубы. — Неужели ты не понял? Я всегда знал, что ты собираешься сделать, Паха Сапа. Но я всегда знал, что ты этого не сделаешь. Это утверждение кажется бессмысленным, и Паха Сапа недоумевает, откуда боссу известно его, Паха Сапы, настоящее имя. Взрывная машинка все еще полностью заряжена. Плунжер все еще поднят. — Паха Сапа, ты помнишь, как мы познакомились на хоумстейкской шахте? Наше рукопожатие? — Конечно. Голос у Паха Сапы слабый, без выражения, голос потерпевшего поражение, каким он себя и чувствует. — Ты так дьявольски самоуверен, старик, Черные Холмы. Думаешь, что ты единственный человек в мире, наделенный этим даром. Это не так. Ты воспринял фрагменты из моего прошлого, когда мы пожали друг другу руки в тот день… я почувствовал, как они перетекли в тебя… но я тоже узнал кое-что о твоем прошлом и будущем. И увидел сегодняшний день так же ясно, как и твое деяние славы с Кастером или лицо твоего тункашилы. Паха Сапа смотрит на Борглума, моргает и пытается понять его, но не может. Борглум смеется, но не жестоко, не как победитель. Усталый, но до странности удовлетворенный звук. — Знаешь, Паха Сапа, тот доктор, к которому ты потихоньку ездил в Каспер, он настоящий шарлатан. Это все знают. Ты должен обратиться к моему доктору в Чикаго. Паха Сапа не находит что ответить. Борглум смотрит на Вашингтона, потом — на Джефферсона, потом на поле белого гранита, которое станет Тедди Рузвельтом. — Пожалуй, на президента это произвело впечатление. Теперь мне нужно обратиться в Службу национальных парков и попросить еще сто тысяч долларов, чтобы я мог все закончить. Они думают, я их обманываю, когда говорю, что смогу все закончить за сто тысяч, и они правы… но это даст нам возможность продолжать. Борглум вытягивает шею в красном платке, чтобы посмотреть на возвышающегося над ними Авраама Линкольна. — А еще в тот день в шахте я увидел, что в сорок первом году я… ну, посмотрим, сбудется ли это. Во все остальное я поверил, но в это я верить не обязан, если мне не хочется. Ну что, может, мы уже отключим эти чертовы контактные провода? Паха Сапа молчит, пока Борглум отсоединяет провода от клемм взрывной машинки. Босс отбрасывает выкрашенные серой краской провода, а потом осторожно ставит вторую машинку рядом с первой. Паха Сапа на его месте швырнул бы эту штуковину вниз, но взрывные машинки дороги, а Борглум, когда может, считает каждыйцент. Не своих личных денег, а отпущенных на проект Рашмор. Когда машинка отсоединена, Паха Сапа наконец обретает способность говорить. — Полиция уже приехала, мистер Борглум? Ждет внизу? Борглум смотрит на него. — Паха Сапа, ты знаешь, что тут нет никакой полиции. Но мне нужно, чтобы ты показал моему сыну, где расположены все ящики с динамитом. Их можно использовать в работе? — Большинство — да. У меня есть еще несколько ящиков в сарае рядом с домом. Они похуже будут. Кто-нибудь должен их проверить, а потом избавиться от них. Борглум кивает. Он вытаскивает из кармана второй красный платок, поменьше, и отирает пот со лба. — Да, Линкольн и с ними разберется. Мы проверим шашки в этих ящиках и пока уложим их в сарай со взрывчаткой. Ты не хочешь взять небольшой отпуск… уехать ненадолго? Паха Сапа ничего не понимает. — И вы меня отпустите? Борглум пожимает плечами. Паха Сапа не в первый раз отмечает, как сильны руки, предплечья — и личность скульптора. — У нас свободная страна. Тебе давно положен настоящий отпуск. У меня ребята будут работать на голове Линкольна весь сентябрь, а в октябре начнем всерьез бурить соты под Тедди Рузвельта. Но когда ты вернешься, у меня будет для тебя работа. — Вы шутите. Судя по ухмылке и взгляду Борглума, он вовсе не шутит. — Я думаю, тебе, старик, больше не стоит работать взрывником, хотя я знаю, что даже если оставлю тебя на этой работе, то все будет в порядке. Я подумал, может, тебе стоит вместе с Линкольном руководить буровыми работами и грубой зачисткой на голове ТР, а потом со второй бригадой всерьез приступить к работам в Зале славы и на антаблементе. Мы с тобой поговорим об этом, когда ты вернешься из отпуска. После этого они встают, чувствуя себя свободно на узком карнизе, где их ничто не отделяет от пропасти в двести футов, кроме их опыта и чувства равновесия. Долгий августовский день соскальзывает в золотой вечер, который — неожиданно, резко, необъяснимо — становится больше похож на вечер благодатной осенней поры, чем знойного лета, без конца испытывавшего их на прочность. Борглум усаживается в люльку, закрепляет на себе ремни безопасности, и Паха Сапа видит, как на почти невидимом тросике спускается вторая люлька — для него.
24 На Сочной Траве
Сентябрь 1936 г. Паха Сапа загрузил коляску и готов отправиться в путь на рассвете, но еще раньше появляется Линкольн Борглум с бригадой — проверить остатки динамита и перевезти его куда-нибудь в другое место. Молодой Борглум в курсе того, что происходит, и вид у него смущенный, чуть ли не извиняющийся, но взрывники — Клайд («Прыщ») Дентон, Альфред Берг, Ред Андерсон, Хауди Петерсон, Громила Пейн и другие ребята, что выносят ящики к стоящему здесь же грузовику, просто недоумевают. Вопрос ему задает Ред: — Ты куда едешь, Билли? Паха Сапа говорит правду: — Домой. Он вырыл банку из-под кофе у себя на заднем дворе, и теперь у него в коляске все его оставшиеся деньги. Еще он загрузил все, что может ему понадобиться на остаток жизни: немного еды, смену одежды, большую, не по размеру, куртку Роберта, оставшуюся, когда сын ушел в армию, заряженный кольт. Линкольн Борглум протягивает ему руку, и хотя Паха Сапа смущается, но не видит оснований, чтобы не протянуть свою. Потом он заводит мотоцикл и съезжает по склону на дорогу, идущую через Кистон. Сначала он останавливается у кузницы, чтобы залить под завязку бензина в бак. И одноглазый болтливый Джин Тернболл, суетясь вокруг него, говорит: — Ты слышал, что Мьюн Мерсер прикончил себя вчера ночью? Паха Сапа, проверявший масло, замирает. — Мьюн? Как это? — Он сначала упился до чертиков в Дедвуде в «Номере девять», потом вышел и поехал по той дурной кривой над «Хоумстейком». Флинни сказал, что машина пролетела триста или четыреста футов, прежде чем остановиться в овраге. Мьюна даже не выкинуло из машины — это был «родстер» без верха, — ему просто оторвало голову. — У Мьюна нет «родстера». У него вообще нет никакой машины. — Это так. Он ее угнал у своего пьяного приятеля в «Девятке» — у того здоровенного поляка, что работает на шахте, ну, ты его знаешь, такая скотина, у него сестра пользуется успехом у «Мадам Деларж», и Флинни говорит, этот поляк зол как никогда. «Ну что ж, — думает Паха Сапа, заплатив тридцать центов и в последний раз выезжая из города, — мой маленький заговор в конечном счете все же забрал чью-то жизнь».Паха Сапа направляется не в Рэпид-Сити — он едет на запад, а потом в последний раз через Черные холмы. При этом ему приходится проехать мимо горы Рашмор, и он останавливается один раз в том месте, где дорога делает поворот и откуда видна только голова Вашингтона — почти над самой дорогой. Паха Сапа всегда считал, что лучший вид на Монумент открывается отсюда. Если не считать лесовозов, то дорога почти пуста до самого Леда. Температура воздуха сегодня пониже (и он уверен, что дело тут не в скорости езды, потому что старый мотоцикл редко развивает скорость выше сорока миль в час), солнце за один день каким-то образом сместилось с конца лета на начало осени. Из Леда он направляется по каньону до Спирфиша, и звук двигателя «харлея-дэвидсона» резким эхом отдается от крутых стен каньона. За Спирфишем (где, как всегда представляет себе Паха Сапа, жирная форель в садках с ужасом ждет возвращения Калвина Кулиджа) он направляется на север к Бель-Фуршу, но, не доезжая до него, сворачивает налево на грунтовой хайвей № 24. Крохотный белый дорожный знак, который сообщает ему, что он приехал в Вайоминг, прочесть трудно, потому что он прострелен ружейными пулями и дробью. Он поехал сюда, а не в Монтану, потому что хочет еще раз увидеть Мато-типи — то, что вазичу назвали «Башня дьявола». Он привозил сюда Роберта в один из их турпоходов, мальчику тогда было восемь. Гора высотой восемьсот шестьдесят семь футов с широкой, плоской вершиной и ребристыми склонами похожа на окаменевший пенек, если придерживаться масштаба каменных гигантов вазичу. Это самое священное место для кайова, которые называют его Т’соу’а’е — «Сверху на скале», но все племена позаимствовали историю кайова о том, как гигантский медведь преследовал семь сестер, которые, спасаясь от него, прибежали к пеньку, и тогда ваги пенька сказал: «Прыгайте на меня». Когда девушки запрыгнули на пенек, тот начал расти, гигантский медведь бешено колотил лапами и рвал пенек когтями, оставляя на нем вертикальные канавки, которые и теперь можно увидеть на громадной скале. Девушки, разумеется, не могли спуститься, пока там был медведь (а медведь никуда не уходил), и Вакан Танка разрешил сестрам подняться на небо, где они стали созвездием, которое у вазичу называется Плеяды. (Хотя некоторые кайова и по сей день утверждают, что сестры стали семью звездами Большого Ковша. Паха Сапа всегда считал, что кайова своим воображением восполняют то, чего им не хватает в логике.) Паха Сапа и Роберт посетили Мато-типи в 1906 году, в тот самый год, когда президент Тедди Рузвельт объявил башню первым национальным памятником Америки. Против этого формально возражали не только кайова, но лакота, шайенна, арапахо и кроу; тогда Служба национальных парков — которая контролировала все подступы к прежде священному месту — наняла этнографов, которые заявили (Паха Сапа помнит, как читал их заявление в Рэпид-Сити совсем недавно, всего два года назад, в 1934 году): «Весьма маловероятно, что какое-либо из племен находилось на территории национального памятника „Башня дьявола“ настолько долго, чтобы это место могло занять важное место в их жизнях или в их религии и мифологии». Паха Сапа улыбнулся — он мог себе представить, как бы смеялся Сильно Хромает, если бы услышал это. Каменная башня не только многие поколения присутствовала в историях разных племен (Сильно Хромает рассказывал Паха Сапе и другим мальчикам не менее десяти разных историй о семи сестрах и этом месте), но этнографы, в отличие от Сильно Хромает и даже Роберта, не учли, как быстро вольные люди природы и другие племена могут создавать новую мифологию о новом месте обитания, в котором они оказались, а потом принимать эту мифологию — или новый взгляд на реальность — как основополагающую в своем мировоззрении. Его потрясает, что теперь на грунтовой дороге, ведущей к башне, стоит шлагбаум и человек в униформе служителя парка и шляпе в стиле Первой мировой требует пятьдесят центов за въезд. Но Паха Сапа разворачивается и уезжает — он насмотрелся на башню, подъезжая к парку, и не собирается платить столько же, сколько он когда-то платил за вход на Всемирную выставку, за то, чтобы увидеть обнажение породы, похожее на гигантский пенек. Ему приходится немного вернуться и свернуть на дорогу округа, которая представляет собой всего лишь две направляющиеся на север колеи в прерии, пересекающиеся с хайвеем № 212 в Монтане. Здесь, на этих колеях, нет никаких знаков, которые известили бы его, когда он выехал за границы Вайоминга и оказался в Монтане. Это произошло где-то за городком (состоящим из одного магазина и бензозаправки), называющимся Рокипойнт. Паха Сапа останавливается на перекрестке, чтобы купить кока-колу. Тут, среди бесконечной прерии и холмов, стоит единственное здание, свидетельствующее о том, насколько пустынна эта часть Вайоминга-Монтаны. С деньгами, извлеченными из кофейной банки и засунутыми теперь в его задний карман, он чувствует себя богачом. Мальчик за прилавком — глуповатого вида вазичу. Беря у Паха Сапы никель, он наклоняется над потрескавшимся деревянным прилавком и заговорщицки шепчет: — Эй, вождь, хочешь посмотреть одну классную вещь? Паха Сапа одним глотком, закинув голову, выпивает кока-колу. После долгой езды и пыли на дороге Вайоминга его одолевает жажда. Мальчик заговорил с ним шепотом, поэтому он тоже отвечает шепотом: — Я знаю… двухголового теленка. — Не, это кое-что получше. Оно такое историческое. Об этом не знает никто, кроме тех, кто здесь живет. Историческое. Паха Сапа любитель всего исторического. И еще, как понимает он теперь, его жертва. (Впрочем, как и все остальные.) — Сколько это будет стоить? И сколько займет времени? — Всего еще один никель. И несколько минут ходьбы. Ну, не больше десяти. Паха Сапа, чувствующий себя в последние дни богачом, посылает еще два никеля по прилавку — один за новую банку холодной кока-колы, другой — за историю. На самом деле идти от магазина приходится минут пятнадцать. У мальчишки, видимо, какие-то проблемы с координацией движений — идет он, как неумело управляемая марионетка: колени подогнуты, руки уперты в бока, ноги в ботинках выписывают непонятные кренделя. Но все же ему удается провести Паху Сапу через поле, на котором пасутся два быка, поглядывающие на них с убийственной ненавистью в глазах, потом через забор из колючей проволоки и вверх по склону небольшого холма, на вершине которого растет несколько сосенок, потом вниз к широкой долине, поросшей низкой травой. — Вот оно. Ну что — класс? Паха Сапе несколько мгновений кажется, что это шутка умственно отсталого мальчика, но потом он видит старые следы колес и выбоины в низинке, старые колеи, оставленные колесами фургонов, тянутся от низкого хребта на восточном горизонте до еще более низкого вдали на западном. Мальчик запускает большие пальцы за подтяжки, превращаясь в олицетворение гражданской гордости. — Эти колеи оставил генерал Джордж Армстронг Кастер. Это когда он вел тута Седьмой кавалерийский. Давным-давно это было. Фургоны, скот, запасные кони, даже жену с собой взял, как говорят… Вот это был цирк! Наверное, ты бы не прочь это увидеть, вождь? — Это стоило никеля, сынок. Кастер тут и в самом деле побывал. Паха Сапа допивает остатки второй колы и швыряет бутылку в направлении колеи. Она пролетает над острыми листьями юкки и других тщедушных кустиков. Парнишка вскрикивает «Хей!» и бегом кидается за бутылкой. Он приносит ее на вершину холма, как верный, хотя и немного рассерженный, расхлябанный и глуповатый лабрадор-ретривер. — Это же целый пенни, вождь!
Паха Сапа устраивается на ночь у дороги на высоком лесистом и безлюдном плато, которое протянулось на сорок миль по Монтане между Эпси и Ашландом. Он уверен, что это удлиненное, тянущееся с юга на север, поросшее соснами плато станет национальным заповедником, если только уже не стало. И названо оно будет в честь Кастера. Палатку он не взял, но на полу мотоциклетной коляски припасены брезент-подстилка и еще один водонепроницаемый кусок брезента на тот случай, если пойдет дождь. Ночь теплая и безоблачная. Недавно было полнолуние, и хотя луна восходит поздно, но все равно мешает ему пересчитать звезды. Он понимает, что это та же самая полная луна, под которой он совсем недавно плясал высоко на торце горы Рашмор, размещая заряды динамита. Это событие кажется ему еще более затерянным в истории, чем колеи, оставленные фургонами Кастера, за взгляд на которые он заплатил хорошие деньги. Где-то на севере в сосновом лесу или в соседних высоких прериях начинают выть койоты. Потом раздается один, более низкий и жуткий вой — Паха Сапе он кажется похожим на вой волка, хотя волк в Монтане теперь редкий зверь, — и все койоты замолкают. Паха Сапа вспоминает, как Доан Робинсон объяснял ему древнюю греческую максиму агона,[128] согласно которой жизнь разделяет все на категории: равное, меньшее, большее. Койоты чтят агон своим боязливым молчанием. Паха Сапа понимает, что они чувствуют. Пытаясь отвлечься, Паха Сапа погружается в мысли, все еще причиняющие ему боль: он вспоминает, как полная луна вставала над громадным черным силуэтом Мато-типи, когда они с Робертом останавливались там летом 1906 года, и как он допоздна вел долгие разговоры с восьмилетним мальчиком. Наверное, именно тем летом Паха Сапа и осознал, насколько одарен его сын. В ту ночь Паха Сапе снится сон. Будто бы он снова на карнизе на горе Рашмор, а над ним взрывается и рассыпается на части голова Авраама Линкольна, карниз под ним рушится, но на сей раз ему удается прочесть записку в пустом ящике из-под динамита. Это почерк Роберта, и записка совсем коротенькая:
Отец. Я подхватил бы испанку, даже если бы поступил в Дартмут или остался дома с тобой. Но я был с моими отважными друзьями и встретил самую прекрасную девушку на свете. Грипп нашел бы меня где угодно. А эта девушка — нет. Важно, чтобы это понял ты. Мама согласна со мной.Проснувшись, Паха Сапа плачет. Проходит немного времени, и он уже не уверен, отчего заплакал: то ли оттого, что увидел подпись Роберта, то ли оттого, что прочел это мучительное, вселяющее неоправданные надежды «Мама согласна со мной».Роберт
Утром он едет дальше на запад то по низким, переходящим один в другой холмам, поросшим соснами, то по прерии с низкой травой, слишком сухой для скота, и скоро оказывается на территории Северошайеннской резервации. По его опыту, все индейцы из резерваций угрюмы и подозрительно относятся к чужакам (он и сам был таким, когда жил в Пайн-Ридже), и это подтверждает древний продавец-шайенна в Басби, где Паха Сапа заходит в лавку, чтобы купить колбасы, хотя шайенна и ладили с сиу больше, чем с кем-либо другим. Сразу за Басби, насколько ему известно, начинается большое агентство кроу, простирающееся до самого конца его путешествия (до конца жизни, думает он и тут же отметает эту глупую, исполненную жалости к самому себе мысль), а кроу с лакота, как известно из истории, всегда враждовали. Он знает, что угрюмость, свойственная индейцам резерваций, в стране кроу обернется открытой враждебностью, и надеется, что ему не придется там останавливаться. Угрюмость продавца не имеет значения для Паха Сапы. От пункта назначения его отделяет всего тридцать миль. Он может осуществить свой план еще до захода солнца. По какой-то причине ему важно, чтобы в это время было еще светло. Но не успевает он отъехать и нескольких миль от Басби, как двигатель «харлея» начинает чихать, а потом останавливается. Паха Сапа уводит мотоцикл в невысокую траву у дороги, разворачивает брезент-подстилку и неторопливо разбирает двигатель; он не спешит, к тому же работа с мотоциклом всегда напоминает ему часы, вечера и воскресенья, проведенные в работе над этой машиной с Робертом. Проходят часы — Паха Сапа сидит под солнцем рядом с выкрашенным серой краской мотоциклом, аккуратно раскладывая на брезенте детали в порядке их поступления и отношения друг к другу: впускные клапаны, коромысла, маленькие пружинки, свечи зажигания (довольно новые), оголовники впускных каналов, сами головки цилиндров, наконец, распредвал… все кладет на свое место, так чтобы можно было собрать хоть вслепую, как, вероятно, научился собирать Роберт винтовку «Американ энфилд» модели 1917 года со скользящим затвором, запомнив каждую деталь по виду и на ощупь, стараясь, чтобы пыль не оседала на промасленных деталях и не попадала внутрь. Неполадки обнаружились в правом цилиндре маленького V-образного двухцилиндрового двигателя объемом шестьдесят один кубический дюйм. Провернуло шатунный вкладыш коленвала. Паха Сапа вздыхает. В крохотном Басби он видел какое-то подобие мастерской — еще одна бывшая кузня, пристроенная к тесному, зловонному магазинчику, но, даже если в мастерской и сохранилась кузня, вкладыш ему самому не сделать. Ему нужен новый. На его карте по маршруту следования впереди, на западе, на враждебной (как он все еще думает об этой земле) территории кроу нет ни одного городка. Поэтому он устанавливает на место те детали, которые можно, засовывает сломанный вкладыш, поршень и шток в мешок и кладет все это в коляску, после чего, вспугивая выпрыгивающих из-под его ног кузнечиков, принимается по жаре толкать мотоцикл назад в Басби. Мимо проезжают две старые машины, за рулем — индейцы, но ни одна не останавливается, чтобы предложить помощь или подвезти. Они видят, что он — чужак. Вернувшись в Басби (к северу от дороги на голой земле стоят несколько домов — по его прикидкам, здесь проживает не больше сотни душ), Паха Сапа узнает, что механиком в мастерской тот же старик, который неохотно продал ему колбасу. Этому шайенна за восемьдесят. Когда Паха Сапа спрашивает, как его зовут, тот отвечает — Джон Странная Сова, но добавляет, что отвечает только на «мистер Странная Сова». Мистер Странная Сова разглядывает детали, которые Паха Сапа раскладывает на скамейке — единственном чистом пространстве в мастерской, и торжественно сообщает ему, что неисправность во вкладыше. Паха Сапа благодарит его за диагноз и спрашивает, когда бы он мог получить новый вкладыш. Паха Сапе приходится ждать, пока старый шайенна мистер Странная Сова совещается с двумя другими стариками и парнишкой, которого вызвали, чтобы он помог разрешить проблему. Так вот, сообщает наконец мистер Странная Сова, за вкладышем для такого экзотического аппарата, как «харлей-дэвидсон» модели «Джей» с V-образным двигателем, им придется обращаться не в Гэрриоуэн, и не на склад в агентстве кроу, и даже не в Хардин, а в Биллингс. А поскольку Томми ездит в Биллингс всегда по пятницам утром, а сегодня только вторник, то вкладыш они получат лишь в пятницу вечером, скорее всего, к ужину, а мистер Странная Сова закрывается каждый день ровно в пять, без всяких исключений, а по субботам и воскресеньям никогда не открывает мастерскую, как бы ни просили и ни суетились всякие приезжие, так что приступить к работе мистер Странная Сова, молодой Рассел и, возможно, присутствующий здесь Джон Красный Ястреб, у которого когда-то был мотоцикл, смогут только в понедельник, седьмого сентября (сегодня первое сентября). Паха Сапа понимающе кивает. — А автобусы тут ходят? Мне нужно проехать около тридцати миль до места сражения на Литл-Биг-Хорне. — На кой черт вам нужно на место сражения? Там ничего нет. Даже ресторана. Паха Сапа улыбается, словно разделяет соображение о том, насколько глупа такая поездка. — Так тут ходит автобус, мистер Странная Сова? Автобус ходит. Каждую субботу из Бель-Фурш в Биллингс. Но у того старого поля сражения он не останавливается. Да и зачем? Правда, он забирает почту в агентстве кроу по другую сторону дороги от места сражения. — Как вы думаете, здесь найдется кто-нибудь желающий заработать доллар — я заплачу, если кто-нибудь отвезет меня на Литл-Биг-Хорн раньше субботы. Это становится предметом еще более серьезного обсуждения, но в конечном счете три старика решают, что единственный, кто может или захочет отвезти кого-нибудь на поле сражения, — это Томми Считает Ворон, а это может произойти во время его регулярной поездки в Хардин и Биллингс по пятницам, то есть через три дня, и Томми, вероятно, запросит не один доллар, а три, и не хочет ли мистер Вялый Конь продать сломанный мотоцикл за… ну, скажем, за десять долларов? Велика вероятность, сходятся во мнении три старика и парнишка шайенна, что «харлей-дэвидсон» вообще невозможно починить. Сломанный вкладыш — штука страшная, и кто может знать, какие там еще возникли повреждения в старом двигателе. Мистер Странная Сова мог бы, скажем, купить сломанный мотоцикл за десять долларов и уговорить Томми Считает Ворон отвезти заезжего лакоту в агентство кроу не за три, а за один доллар. Паха Сапа предлагает заплатить мистеру Странная Сова три доллара за пользование его инструментами и местом внутри закрытой мастерской в пятницу вечером, когда Томми Считает Ворон привезет вкладыш. Мистер Странная Сова считает, что три доллара — справедливая цена за пользование его инструментами, но за место в мастерской и электрическое освещение нужно будет заплатить еще два доллара. Паха Сапа, на которого способности этого старого пердуна торговаться производят сильное впечатление, спрашивает: — А вы, мистер Странная Сова, случайно не знаете, не забрело ли сюда одно из потерянных колен израилевых и не обосновалось ли в Басби, штат Монтана? Три старика и парнишка не понимают вопроса, но по взглядам, которыми они обмениваются, ясно: для себя они решили, что у этого незваного гостя племени сиу не хватает шариков. Паха Сапа подтверждает этот диагноз, разражаясь смехом. — Не берите в голову. Я согласен заплатить пять долларов за инструменты, место в мастерской и освещение в пятницу вечером. Громкий, хрипловатый голос мистера Странная Сова напоминает Паха Сапе те меха, которые когда-то работали здесь, когда мастерская еще была кузней. — И не забудьте цену самого вкладыша. Плюс еще, конечно, доллар Томми за то, что он привезет этот вкладыш из Биллингса. — Конечно. А здесь не найдется места, где я мог бы провести три ночи, пока Томми не привезет вкладыш из Биллингса? На этот раз совещание между тремя стариками и одним молодым длится меньше. Выясняется, что никто в Басби не готов приютить сиу, это говорят Паха Сапе, ничуть не стесняясь. Даже за деньги. Но мистер Странная Сова сообщает ему, что тут по дороге есть ручеек, у берега растут тополя, и мистер Вялый Конь, если желает, может остановиться там. За стоянку денег с него они не возьмут. Но мистер Вялый Конь должен пообещать, что ни ссать, ни срать в ручей он не будет, потому что, видите ли, люди в Басби пользуются этой водой. Паха Сапа дает торжественное обещание, что ни ссать, ни срать в пределах пятидесяти ярдов от ручья он не будет, забирает брезент, куртку, кухонные принадлежности и кожаный саквояж из коляски. В магазинной части мастерской он покупает у мистера Странная Сова еще одну буханку хлеба и фонарик. Он еще раньше — когда ехал на запад через крохотный мостик, а потом когда толкал назад мотоцикл — заметил русло ручейка и умирающие тополя. До этого места меньше полумили, а до захода солнца еще несколько часов. Идя на запад в сторону заходящего солнца, Паха Сапа в глубине души знает, что разумно было бы просто идти и идти этой дорогой — может быть, подвернется какая-нибудь машина и его подвезут до резервации кроу на западе, а если нет — идти и идти. Тут всего двадцать пять — тридцать миль до поля сражения. Он мог бы идти прохладной ночью, остерегаясь змей, которые выползают, чтобы понежиться в теплом гравии на дороге, и завтра к полудню был бы уже на Сочной Траве. У него случались походы и подлиннее — вышагивал без остановки день и ночь много-много раз за свои семьдесят с лишком лет, и в условиях гораздо худших, чем эта прямая дорога и хорошая погода в самом начале Луны бурых листьев. Но по какой-то причине Паха Сапе невыносима мысль о том, чтобы оставить красивый, с аккуратными серо-коричнево-оранжевыми буковками мотоцикл в руках мистера Странная Сова, мистера Красного Ястреба и невидимого, но угрожающего Томми Считает Ворон, и еще он думает, что за ворон считает Томми — летающих или мрачных из резервации.[129] «Все равно тебе придется оставить где-нибудь мотоцикл через несколько дней», — напоминает более рассудительная и менее сентиментальная часть его разума. Да, где-нибудь. Но на поле сражения. И в месте по его выбору, а не там, где этого требует запоротый вкладыш. Он проделал этот путь на любимой машине Роберта, преодолел столько миль, переместился почти на двадцать лет во времени, и он хочет пройти остаток пути с этим «харлей-дэвидсоном».
Казалось бы, Паха Сапа должен испытывать беспокойство за три ночи и три дня ожидания, когда он находится так близко к цели и месту назначения, но задерживается в забытом богом местечке, называющемся Басби. И все же какая-то извращенная часть его сознания радуется свободному времени, когда можно расслабиться, подумать и почитать рядом с высохшим ручейком, не оправдывающим своего названия. (Та малость воды, что еще осталась здесь, застоялась в лужицах и в оставленных копытами следах — у кого-то вблизи Басби есть скот, — и в этих лунках бурой воды уже присутствует немалая доля мочи и экскрементов. Однако отметились тут жвачные, а не люди, так что Паха Сапа понимает озабоченность мистера Странная Сова и обитателей Басби. За питьевой водой и водой для утреннего кофе Паха Сапе приходится ходить в магазин и платить мистеру Странная Сова два цента, чтобы наполнить две маленькие фляжки из колонки.) Паха Сапа нашел укромное место, невидимое с дороги, разложил брезент-подстилку, а брезент наверху устроил так, чтобы его можно было мигом развернуть в случае дождя (его кости подсказывают ему, что ждать дождя уже недолго). Он проверяет, не окажется ли его стоянка в русле ручья, если дождь обернется настоящим потопом. Любой, проживший на Западе больше недели, принял бы такие же меры предосторожности, думает Паха Сапа. Эта мысль напоминает ему о повсеместном потопе в августе 1876 года, самом дождливом за всю его жизнь месяце, а затем на него накатывает другая волна — ощущение вины и опустошенности из-за потери самой священной Трубки его народа, Птехинчала Хуху Канунпы, из Малоберцовой Бизоньей Кости. Отчаяние и стыд так свежи, будто он потерял трубку только вчера. А что он чувствует сейчас, после своего самого последнего провала? В 1925 году по совету Доана Робинсона он прочитал стихотворение «Полые люди», написанное неким Т. С. Элиотом. Он до сих пор помнит две последние строчки, и они, кажется, отвечают его нынешнему душевному состоянию:
Вечером в четверг начинается дождь, к полуночи он переходит в ливень, о котором Паха Сапу предупреждала боль в костях. Он хорошо выбрал место — выше уровня самого высокого паводка, направив скат так, чтобы внутрь не задувал ветер, точно рассчитал геометрию двух брезентовых полотнищ на растяжках, чтобы вынести их за пределы высоких тополей, по которым может ударить молния, или того места, куда могут упасть тяжелые стволы при более или менее серьезном порыве ветра; таким образом, Паха Сапа лежит в сухости и тепле под своими одеялами, хотя гроза бушует всю ночь. Он пользуется такой роскошью, как фонарик, купленный им у мистера Странная Сова, — по цене, в два раза превышающей цену любого фонаря, — чтобы читать «Послов» Генри Джеймса.[131] Паха Сапа — упрямо, в промежутках между чтением других книг — брал эту книгу в библиотеке Рэпид-Сити вот уже в течение почти десяти лет. Он просто не мог через нее продраться. И дело не в том, что от Паха Сапы ускользал смысл книги Джеймса, — от него ускользал смысл отдельных предложений. Сама история казалась такой малозначительной, такой претенциозной, такой мелкой и темной, что Паха Сапа даже думал, уж не хотел ли Генри Джеймс скрыть полное отсутствие какой-либо истории за этими неопределенными, путаными, грамматически и синтаксически неудобочитаемыми предложениями и шквалом слов и абзацев, которые вроде бы были никак не привязаны ни к мысли, ни к человеческим взаимоотношениям. Попытка расшифровать этот роман напоминает Паха Сапе о первых неделях неразберихи и перегрузок в голове, когда он пытался научиться читать под руководством иезуитов в Дедвудской палаточной школе, в особенности когда его наставником был терпеливый, никогда не выходящий из себя отец Пьер Мари, которому (как понимает теперь потрясенный Паха Сапа) в то время, когда он учил маленького лакоту и других мальчишек, едва ли исполнилось двадцать лет. Но почему, спрашивает Паха Сапа, слыша, как гроза обрушивается на его брезентовое укрытие, он проявлял такое упорство, пытаясь прочесть этот конкретный роман, когда другие давались ему с такой легкостью? Да бросил бы его давно — и все дела. Но Роберт восхищался Генри Джеймсом и любил эту книгу, а потому Паха Сапа продолжал брать ее в большой библиотеке Рэпид-Сити и возвращал, не осилив и десятка страниц. Потраченные им усилия напоминают Паха Сапе о том, что он слышал о сражениях Великой войны, по крайней мере до того, как американцы (включая и его сына) под самый конец вступили в нее: такое количество жизненной энергии, столько артиллерийских снарядов израсходовано ради завоевания таких ничтожных, унылых клочков земли. Но настоящая проблема, думает он, выключая фонарик (хотя мог бы, если бы захотел, продолжить чтение в свете постоянно сверкающих молний), заключается в том, что ему надо вернуть книгу в библиотеку. Поэтому он и положил ее в саквояж. Он не вор. Где-то между этим местом и полем боя Кастера он должен найти почтовое отделение. Логика подсказывает ему, что в лавке мистера Странная Сова должны предоставляться такие услуги — ведь вокруг нее на много миль нет ни одного городка, но ничего подобного в лавке нет. Когда Паха Сапа сказал, что хочет купить большой конверт и марку, мистер Странная Сова смотрит на него — опять, — будто у этого сиу не хватает шариков. Молнии сверкают, грохочет гром, вода в ручейке поднимается, но Паха Сапа спит в сухости и без сновидений в своей хорошо обустроенной импровизированной палатке, и сон его тревожит только хныканье замученных джеймсовских предложений.
В пятницу утром гроза прекращается, небо снова чистое, хотя воздух для начала сентября холодноват. Паха Сапа сворачивает свою стоянку, вывешивает брезент на просушку и идет прогуляться на север вдоль петляющего ручейка. Его поражает, что, по мере его, Паха Сапы, старения, мир становится меньше. Когда он был мальчиком, до Сочной Травы, до того как в его жизни начались трудные времена, тийоспайе Сердитого Барсука перемещалась от реки Миссури на востоке в страну Бабушки на севере, до Тетонских гор и на запад, потом на юг по реке Плат до Скалистых гор, на юг почти до самого испанского городка Таос, а потом длинной петлей назад на восток через Канзас и Небраску, назад в самое сердце мира около Черных холмов. Паха Сапа помнит, как выглядела тийоспайе в походе: обычно в целях безопасности их сопровождали еще несколько родов, воины отправлялись на своих пони вперед на разведку, старики и женщины шли пешком, дети помладше играли и убегали далеко в обе стороны от двигающейся деревни, повозки тащили старые клячи и собаки. Нередко они оказывались на вершине поросшего травой холма и видели тысячи бизонов на много миль вокруг. Или же пересекали возвышенность, с которой им открывались горные хребты в туманном далеке, и они знали, что уже скоро, летом, эти белые пики станут их пунктом назначения. Границ в те времена для мира икче вичаза не существовало… «Потому что твои кровожадные сиу убили или выгнали все другие племена». Паха Сапа в удивлении останавливается. Голос в его голове звучит громче обычного. — Я думал, ты ушел. «А куда мне идти? Да и зачем? А ты зачем идешь туда, куда идешь? Не ради меня, надеюсь. Мне все равно, где ты покончишь со всем этим». — Я ничего не делаю ради тебя, Длинный Волос. Раздражающий голос Кастера эхом отдается в черепе Паха Сапы. Он бросает взгляд через плечо, чтобы убедиться, что ни один из местных северных шайенна не слышит, как он разговаривает сам с собой. Но видит только корову на ближайшем холме, она наблюдает за ним с тем спокойным, глупым, доверчивым выражением, которое свойственно жвачным. «Ну так мы с тобой говорили о том, что вы, сиу, миролюбивые сиу, которые, как наверняка скоро будут утверждать историки, если уже не утверждают, сражались только для того, чтобы защитить свои земли и семьи… мы говорили о том, что вы, сиу, воевали против всего, что передвигается на двух ногах. А к тому же убивали и всех, у кого по четыре ноги. Ваша война была столь же неразборчива, как и ваша старая манера загнать несколько сотен бизонов на скалу, чтобы они свалились вниз, а вы могли насладиться вкусом двух-трех печенок». Так оно и есть, думает Паха Сапа. Он вынужден улыбнуться. Враг индейцев, этот враг, знает их — знал их — лучше, чем так называемые интеллектуальные друзья-вазичу. Каждую весну, лето и осень воины из тийоспайе Сердитого Барсука наносили на себя боевую раскраску и отправлялись воевать, не имея для этого никаких других оснований, кроме одного: время пришло. Мужчины вольных людей природы, если им не с кем было воевать, просто переставали быть вольными людьми природы. Война против других племен и против чужаков казалась иногда необходимой, но если она не была необходимой (а так оно по большей части и было), то воины все равно искали врага. Война была необходима ради самой себя. Воюя, можно было отвлечься от женщин, от их болтовни, от запахов, звуков и скуки деревенской жизни, и почти все мужчины стремились к войне. Война была незаменимым испытанием мужества и силы. А самое главное, она была развлечением. Но, даже молча признавая все это, Паха Сапа понимает, что Кастер не закончил свой бубнеж. «Когда армия призвала ваших вождей на те первые мирные переговоры в Форт-Ларами в восемьсот пятьдесят первом,[132] вы, сиу, всё говорили о территории, которая принадлежала вам вечно, но на самом деле вы отобрали ее у арикара, хидаста и майданов, когда возвращались из Канады и Миннесоты. Вы хвастливо говорили о территориях, которые вечно принадлежали вам, но на самом деле всего несколькими годами ранее были собственностью кроу и пауни. Вы, сиу, были жестокой, безжалостной захватнической машиной». — У шайенна мы забрали не всю землю. «Просто вам не позволили этого сделать, мой краснокожий друг. И потом вы были не прочь объединиться с шайенна и арапахо, чтобы расправиться с пауни, понка, ото, Миссури — всеми более слабыми племенами». — Они были слабы и не заслуживали ничего иного — только умереть или потерять свои земли. Так в те времена считалось. «И до сих пор считается, Паха Сапа. По крайней мере, среди нас, бледнолицых. Ты посмотри на этого Гитлера — ты читал о нем, когда мы ездили в Нью-Йорк три года назад. Он знает цену слабости — своей и своих врагов. Но твои так называемые вольные люди природы утратили отвагу и больше уже не могут жить и умирать, как прежде, — жить собственной храбростью, забирая то, что вам нравится, у более слабых, которые не в силах себя защитить. Теперь вы все стали жирными, неповоротливыми индейцами из резерваций, вы носите ковбойские шляпы, работаете на вазичу и ждете подачек». Паха Сапе нечего ответить на это. Он вспоминает те десятилетия, когда сам работал на пожирателей жирных кусков. Он думает о дерзкой, честолюбивой, непримиримой энергии, которую излучает, вдыхает и выдыхает Гутцон Борглум. И о том, что такими качествами больше не обладает ни один из его соплеменников, включая и его самого. «Когда Митчелл и Фицпатрик[133] созвали вождей в Форт-Ларами на те первые переговоры в восемьсот пятьдесят первом, им пришлось разбираться с шайенна, убившими и скальпировавшими двух шошонов, которым сами же шайенна гарантировали безопасный проход на тот совет…» Голос призрака долбит мозг Паха Сапы, словно бур с паровым приводом, — такой звук Паха Сапа слышал чуть не каждый день в последние пять лет своей жизни. «И когда Митчелл помог уладить это дело, убедил шайенна принести извинения и заплатить шошонам выкуп крови ножами, одеялами, табаком и цветной материей — всем тем, что получили шайенна от бледнолицых в качестве взяток всего несколькими неделями ранее, — шайенна не сдержались и снова оскорбили шошонов на праздновании мирного договора, подав им вареную собаку». Паха Сапа не может сдержать улыбку. — Да-да, шошонам никогда не нравился вкус собачьего мяса. «Но тебе-то он нравился, верно, мой друг?» Паха Сапа хорошо помнит трапезы времен своего детства, помнит радость, с какой он и другие мальчишки вылавливали из общего котла собачью голову. Это считалось деликатесом. От одного только воспоминания у него начинается слюноотделение. «Как ты, Паха Сапа, в последнее время в Кистоне не воровал соседских щенков себе на стол?» — Чего ты добиваешься, Длинный Волос? Хочешь меня разозлить? «Да зачем мне это надо? А что ты сделаешь, если я и в самом деле пытаюсь тебя спровоцировать, — пристрелишь меня? Кстати, а почему именно Литл-Биг-Хорн? Почему не здесь? Чем одна монтанская речушка или ручеек хуже другого? А так хоть мотоцикл не пропадет даром. Мне старый мистер Странная Сова кажется неплохим парнем… ну, я имею в виду для шайенна он вовсе не плох. Этот жадный старый койот, возможно, был там, на Литл-Биг-Хорне, жадным молодым койотом, сражался бок о бок с твоей родней и мародерствовал, грабя искалеченные тела моих братьев в тот день, когда все вы убили меня». Паха Сапа понимает, что призрак пытается его разозлить. Он понятия не имеет, зачем это нужно Длинному Волосу. Голос призрака звучит снова. «У меня вопрос к тебе, мистер Черные Холмы. Почему вы, самопровозглашенные вольные люди природы, окруженные другими, теми, кто для вас и не люди вовсе, не уничтожили — или не попытались уничтожить — нез персе, или плоскоголовых, или ютов, или равнинных кри, или пикани, или банноков, или черноногих?» — Все другие находились слишком далеко или слишком высоко в горах, — хотя мы и пытались уничтожить кое-кого из них, — но черноногие очень крепкий орешек. Они ужасный народ, Длинный Волос. Они убивали просто ради того, чтобы взять твои зубы для игры, кидали их на одеяло, как игральные кости, а женщины отрезали тебе се и вешали на шест своего вигвама, как детскую игрушку. Призрак снова смеется. Паха Сапа возвращается на свою стоянку, складывает высохший брезент, закрывает саквояж и идет в городишко Басби.
В полночь он уже в пути. Бедняга Томми Считает Ворон, которого мистер Странная Сова отрядил сидеть в мастерской и смотреть, чтобы Паха Сапа не украл чего-нибудь, в десять часов уснул. Паха Сапа проверил, все ли инструменты он вернул на место, и, оставив парня спать, отвел мотоцикл футов на сто по дороге, а потом кик-стартером завел двигатель. Фара на мотоциклах в 1916 году была новинкой, и Паха Сапа так и не установил штатную на машину Роберта. Луч фары в лучшем случае мигающий и не очень яркий. Двигаясь в эту ночь по дороге на запад, он бы вообще выключил фару и ехал бы в лунном свете, вот только плотная туча затянула небо, и свет луны сталслишком слаб — ехать при нем тяжело. Но света все же хватает, чтобы Паха Сапа видел: дома кроу по обе стороны дороги — жалкие развалюхи… впрочем, они не отличаются от большинства жалких развалюх, что он видел в резервации северных шайенна или, если уж откровенно, то и в Пайн-Ридже, и в других резервациях сиу в Южной Дакоте. — Длинный Волос? Генерал? Ты еще здесь? «Можешь называть меня полковником. Чего тебе надо? Хочешь рассказать мне, в каких жалких развалюхах здесь живут кроу?» — Нет, я хотел объяснить, почему я не опустил плунжер взрывной машинки на горе Рашмор. Но развалюхи и в самом деле навели меня на эту мысль. «Я знаю, почему ты не опустил плунжер на горе Рашмор, Паха Сапа. Ты струсил. Но может, у тебя есть другое объяснение?» — Кладбище в Пайн-Риджской резервации… то, что у церкви и школы епископальной миссии. Кладбище, на котором похоронены Рейн и ее отец. Призрак молчит. Отремонтированный двигатель «харлей-дэвидсона» ровно урчит — это единственный звук, раздающийся в ночи. Довольно прохладно, и Паха Сапа надел длиннополую кожаную куртку, которую оставил ему Роберт. Паха Сапа взвешивает, не прекратить ли ему разговор: неблагодарный призрак не заслуживает общения, а уж тем более объяснения, — но спустя какое-то время продолжает: — Время от времени мальчишки… а я думаю, что и взрослые… из резервации проникают по ночам на кладбище и делают там всякие гадости. Большинство крестов и надгробий были сделаны, конечно, из дерева, поэтому вандалы просто разбивали их, но несколько более крупных надгробий — например, преподобного де Плашетта — были из камня, и вандалы брали ломы и кувалды и крушили, что могли, а что не могли разбить — переворачивали. У призрака усталый голос. «Ты же не хочешь стать еще одним кладбищенским вандалом?» — Когда я услышал, как Борглум и президент говорят, что головы на горе Рашмор простоят сто тысяч лет, то я представил себе, что столько же лет там валяются обломки этих голов. Каждая культура чтит своих мертвых вождей — тебя чтят в том месте, куда мы едем. Мысль о том, что я сродни тем вандалам, которые приходят на кладбище из глупости, разочарования и жажды разрушить воспоминания других людей, потому что сами ничего толком не могут создать… мне это показалось неправильным. «Очень благородно, Паха Сапа. Значит, тебе предпочтительнее не быть вандалом и позволить каменным гигантам вазичу стоять на твоих священных Паха-сапа и над прерией». — Твои каменные гиганты вазичу уже поднялись и сделали с нами то, что сделали, Длинный Волос. Если бы я разрушил дело жизни Борглума, это ничего бы не изменило. Ты посмотри по сторонам. Луч фары мигал и приплясывал, мало что освещая. Но в рассеянном свете луны были видны лачуги, где утоптанная земля заменяла передние дворики, скопление сараюшек — сообщества людей, грязь — высокую траву прерии. «Я знаю. Я был здесь в последние дни жизни, ты не забыл? Я помню, как эта прерия сверкала после дождя. Я помню цветы от горизонта до горизонта, как и стада бизонов. Вы, индейцы, всегда были грязным народом на свой манер. Мы ощущали вонь ваших мусорных куч за двадцать миль. Единственное, что придавало вам видимость благородства, так это возможность беспрестанного движения, вы оставляли за собой груды разлагающихся бизоньих тел, гигантские курганы вонючего мусора. Потом пришли мы, и для вас не осталось места». — Да. Это неправда, вернее, не вся правда, но Паха Сапа слишком устал, чтобы спорить.
До твердой дороги — с покрытием — он добирается почти в два часа ночи. Знаки, указывающие путь к месту сражения, он видел еще на дороге от Басби, а теперь новые указывают на юг, на асфальтированное шоссе. Так или иначе, место сражения Кастера менее чем в миле к югу, а потом назад милю или две по той дороге, по которой он приехал. Городишко Гэрриоуэн — явно названный в честь любимой песни Кастера и его полка, — как выясняется, состоит из двух домов у дороги, ведущей на юг, а местечко, называемое Агентство кроу, похоже, состоит из трех зданий вдоль дороги на север. Он поворачивает направо и едет одиннадцать миль до городка Хардин, маленького, но достаточно большого, чтобы там были магазинчик и почтовое отделение. Покрышки шуршат и шелестят по асфальтированной дороге непривычно для Паха Сапы.
На поле сражения он возвращается только к одиннадцати. Чтобы его не задержали за бродяжничество в Хардине (а Паха Сапа знает, что такая опасность существует — незнакомый индеец шляется по городку вазичу среди ночи, и никто не посмотрит на мотоцикл, который свидетельствует, что он не какой-то оборванец, только что спрыгнувший с товарного поезда, и на пачку денег в заднем кармане, тоже свидетельствующую в его пользу), Паха Сапа, найдя в темноте магазин и почту, выбрался из городка, проехал немного вниз по течению реки и, найдя укромное место в ивняке, улегся на брезент до рассвета. Почему он решил, что должен сделать то, что собирается сделать, на поле сражения, при свете дня, а не в темноте, загадка для него самого, но он знал, что ночью туда не поедет. Может быть, иронически думает он, лежа на спине и считая немногие звезды, что соизволили показаться между медленно плывущими облаками, индеец, который большую часть своей жизни таскал в себе призрака с того поля сражения, в конечном счете боится призраков. Восход был облачным, туманным, а воздух гораздо холоднее, чем обычно пятого сентября, ветер такой промозглый, что Паха Сапа полез в саквояж за свитером, который надел под замечательную, идеально состарившуюся и выцветшую куртку. В отличие от лавки мистера Странная Сова в Басби, здесь, в Хардине, в субботу работают и магазинчик, и почта, но почта открывается только в половине десятого. Прежде чем он наконец взвесил, проштемпелевал и вручил «Послов» Джеймса почтовому клерку для отправки в библиотеку Рэпид-Сити, он всунул в конверт доллар, хотя и знал, что плата за просрочку должна быть гораздо ниже. Собираясь выехать из городка, он вдруг понял, что голоден как волк. Он увидел индейцев кроу в черных ковбойских шляпах, они шли типичной для кроу походочкой, наполовину ковбойской, наполовину переваливающейся, утиной, направляясь в столовую на Мейн-стрит. Паха Сапа припарковал мотоцикл по диагонали к тротуару рядом со старым «фордом» модели Т и разнообразными грузовичками, кое-как приспособленными для езды по пересеченной местности на ранчо, и вошел внутрь позавтракать. Он заказал глазунью (из двух яиц), стейк (средней прожарки), а к нему гарнир в виде оладьев, тост, апельсиновый сок и попросил официантку — тоже кроу, но не такую угрюмую, как большинство известных ему женщин кроу, — не забыть про кофе и кленовый сок. «Закусить от души, прежде чем привести в исполнение смертный приговор». Паха Сапа подпрыгнул от неожиданности, услышав в ушах этот голос, и оглянулся. Поблизости никого не было. Губы у Паха Сапы оставались неподвижными, когда он ответил: — Что-то вроде этого. Я голоден. «А свою песню смерти уже сочинил?» Чувство вины волной накатило на Паха Сапу. Воины лакота не проявляли особого фанатизма в том, что касалось их песен смерти, если им не хватало времени пропеть ее перед концом, — иногда песня смерти сочинялась родственниками и пелась уже после кончины воина, — но у Паха Сапы не было ни родственников, ни оставшихся в живых друзей лакота, и он чувствовал, что если он, Паха Сапа, хотя бы не попробует, то это будет предательством по отношению к Сильно Хромает, который верил в такие вещи. Он часто спрашивал себя, было ли у Сильно Хромает время пропеть свою песню смерти, перед тем как вазичу открыли стрельбу из пулемета Гочкиса. Ни одна персональная песня смерти не пришла в голову Паха Сапе и не приходила теперь, пока он поглощал самый сытный завтрак, какой ему приходилось есть за последние годы, запивая его пятью чашками кофе. Единственное, что ему вспомнилось, так это песня, которую пел ему Сильно Хромает, когда Паха Сапе было девять или десять лет:
Когда он сворачивает с шоссе № 87 — это современное двухполосное шоссе, заполненное грузовиками и грязными легковушками, — на отсыпанную гравием дорогу, по которой он ехал из Басби, уже наступило позднее утро. Въезд в парк поля сражения — через ответвление от этой боковой дороги. У въезда на территорию парка, или памятника, или как уж оно там теперь называется, что-то вроде ворот, но у них никого нет, и Паха Сапа чувствует облегчение, увидев это. Он и без того потратил немалую часть денег, сэкономленных за всю жизнь, на роскошный завтрак. Паха Сапа почти ничего не узнает вокруг, проезжая на мотоцикле своего сына по узкой тропинке вдоль хребта, на котором погиб Кастер. Внизу течет Сочная Трава — вазичу по-прежнему называют ее Литл-Биг-Хорн, — и Паха Сапа видит громадные тополя там, где прежде сотни вигвамов сиу и шайенна терялись за изгибом реки в долине на юге. Обет молчания, принятый призраком, длился недолго. «Есть одна вещь, о которой я жалею». — Ты хочешь сказать, еще одна, кроме того, что ты привел к гибели себя и треть своего полка? Паха Сапа, даже не успев додумать до конца, жалеет, что подумал это. Рабочие на горе Рашмор и бейсболисты могли бы сказать: игра зашла слишком далеко. Не стоит отделываться плоскими шуточками. Призрак словно не слышит его. «Мне жаль, что у меня не было возможности проехаться… прокатиться… как ты это называешь… на мотоцикле, который ты отремонтировал со своим парнем. Я как-то раз проехался на велосипеде. Но это другое дело». Паха Сапа не может сдержать ухмылку. — Я вижу весь Седьмой кавалерийский на «харлей-дэвидсонах». «Нам бы понадобились кожаные куртки. И какие-то новые знаки различия». — Может, в виде черепов. Они доезжают до места, которое обозначено маленьким щитом с надписью «Холм последнего сражения». Паха Сапа останавливает мотоцикл и собирается было взять с собой саквояж, но потом решает не делать этого. Сначала он засовывает кольт в холщовый мешок с наплечными лямками, но затем оставляет оружие в саквояже. Место слишком людное. Он видит четыре припаркованные неподалеку машины: три старых «форда» и «шевроле» поновее. Он видит несколько человек в летних полотняных костюмах — они двигаются по травянистому склону среди белых крестов и надгробий. Паха Сапа останавливается у памятника, воздвигнутого здесь вскоре после сражения. На бронзовой доске, отполированной до блеска временем и прикосновениями рук, выгравированы имена погибших из Седьмого кавалерийского. «Мы здесь сегодня в качестве туристов, Паха Сапа?» — Я думал, может, тебе хочется увидеть, где тебя убили. «Не очень. К тому же мои кости похоронены не здесь. Меня перевезли в Вест-Пойнт. Либби похоронили там же, рядом со мной». Паха Сапа смотрит вниз, чтобы сделать вид окружающей местности доступным для призрака. Надгробия — некоторые безымянные — установили там, где были найдены, а потом захоронены искалеченные тела. Почему он поскакал в тот день по ущелью и на берег реки вместе с воинами? Он толком и не помнит. Чтобы совершить деяние славы? Зачем? Он был молодым вичаза ваканом на обучении, и его такие вещи даже не интересовали… или так ему казалось. Паха Сапа возвращается к мотоциклу и едет на юг вдоль хребта, гравийная дорога здесь едва ли шире тропинки. За Холмом последнего сражения никаких машин нет. За десять минут едущий потихоньку мотоцикл преодолевает три-четыре мили, которые отделяли Кастера от остальной части Седьмого кавалерийского. И от спасения. Но Паха Сапа знает, что Рено и Бентин не предприняли попытки спасти их. Они просто прислушивались к звукам стрельбы на севере. Потом наступила зловещая тишина. У них тут были свои трудности. Маленький щит у тропинки сообщает: «Попыт а Уэйра спас и К ст ра».[134] Отсутствующие буквы, видимо, расстрелял кто-то из мощного ружья. Паха Сапа выезжает на гравийную парковку, где нетронутый щит гласит: «Памятник и поле сражения Рено и Бентина». Шепот призрака почти не слышен, хотя и звучит в голове Паха Сапы. «Либби до самой смерти боролась против установки всяких памятников Рено и его упоминаний где-либо на поле сражения. Как только она умерла, он получил свой памятник». — А тебе не все равно? «Все равно». На сей раз Паха Сапа оставляет саквояж в коляске, но берет мешок, легко закидывая лямки на плечо. В мешке немного хлеба, колбаса и заряженный кольт. «У тебя сильные боли, да, Черные Холмы?» Паха Сапа решает было не отвечать, но потом все же отвечает: — Да, рак сегодня крепко меня прихватил. «Ты бы сделал это из-за одного рака? Ну, даже если бы не случилось провала на горе Рашмор?» Паха Сапа не отвечает, потому что не может. Но он надеется, что не пришел бы сюда с кольтом только из-за боли и болезни. Его это немного беспокоит, но он так никогда и не узнает ответа на этот вопрос. Он находит ровную, практически невидимую с парковки площадку, где можно присесть. Когда он садится, трава оказывается ему почти по плечо. Облака понемногу начинают рассеиваться, и солнечные лучи здесь и там касаются переваливающихся холмов и изгибающейся долины внизу, и повсюду, послушные ветру, лениво колышутся травы. «У Бентина и Рено холм был получше, — говорит призрак спокойным тоном, скорее сдержанно-профессиональным, чем задумчивым или завистливым. — Я бы с моими людьми смог продержаться весь день и ночь… будь я на этом холме». — Это что — имеет какое-то значение? Раздается слабый отзвук печального смеха. Призрак словно уже покидает его. Но пока еще остается. «Паха Сапа, ты видел этих воронов? Они летели за нами по дороге. Все время». Паха Сапа видел их и видит теперь — птицы расселись на заборе в двадцати футах. Это старая потрескавшаяся ограда, она идет от парковки и, возможно, обозначает границы парка. Два ворона смотрят на него. Смотрят на них. Ему это не нравится. А кому бы понравилось? Ворон у лакота — символ смерти, но, с другой стороны, в лакотских историях фигурирует всё и вся. Одни говорят, что вороны уносят ванаги умерших людей на Млечный Путь, откуда начинается путешествие духа. Другие, включая Сильно Хромает, не верили в это. Он пытается вспомнить, как по-лакотски будет «ворон». Каги така или канги? Он не может вспомнить. Он забывает родной язык. Теперь это уже не имеет значения. Паха Сапа сидит в траве, скрестив ноги, и держит в руке тяжелый револьвер. Оружие пахнет ружейным маслом и теплым металлом. Одно гнездо под бойком он оставил пустым, без патрона, чтобы случайно не отстрелить себе ногу — совет разведчика кроу из Седьмого кавалерийского, которого нет в живых вот уже пятьдесят пять лет. Но когда он взводит большим пальцем боек, в боевое положение становится заряженное гнездо. Он решил, что не будет тянуть. Никаких глупостей вроде песни смерти. Никаких церемоний. Он решил стрелять в правый висок и теперь подносит к нему ствол. «Постой. Ты обещал мне… я говорю о кремации». Паха Сапа опускает револьвер, но лишь ненамного. — Я написал записку. На салфетке. В туалете столовой. «Я тебе не верю». — Ты где был — спал? «Я же не слежу за всем, что ты делаешь. Особенно в туалете. Где она — эта записка? Ее смогут найти?» — Она в кармане моей рубашки. Ты можешь помолчать минуту? Всего одну минуту? «Покажи мне записку». Паха Сапа вздыхает — он раздражен — и осторожно опускает боек. Достает салфетку из кармана и держит перед своими глазами, думая, что Кастер подличает до самой последней секунды своего затянувшегося существования. Карандашная запись начинается словами «Мои пожелания», и в ней всего одно предложение. — Ну, ты доволен? «У тебя там ошибка. Нужно писать „останки“, а не „остатки“». — Ты хочешь, чтобы я вернулся в город, в эту столовую и снова попросил карандаш у официантки? «Нет». — Прощай, Длинный Волос. «Прощай, Паха Сапа». Паха Сапа поднимает пистолет, снова взводит боек и кладет палец на спусковой крючок. Лучи солнца согревают его лицо. Он делает глубокий, печальный вдох. — Мистер Вялый Конь! Это не призрак. Это женский голос. Голос прозвучал так неожиданно, что Паха Сапа чуть не нажал на спуск. Осторожно отжав боек, а потом и пистолет, он оглядывается через плечо и видит двух женщин, которые идут в его сторону через высокую траву. Он сидит к ним так, что они, вероятно, не видели пистолета. Он торопливо засовывает кольт назад в мешок и неуклюже поднимается на ноги. При этом движении все в нем кричит от боли. — Мистер Вялый Конь! Это ведь вы? Я видела мотоцикл — это мотоцикл Роберта. Я тысячу раз рассматривала эту фотографию. Он мне ее подарил. Я и вашу фотографию видела, но он мне ее не отдал. На женщинах дорогие модные платья и широкополые шляпки. Той, что постарше, лет под сорок, и говорит она вроде бы с французским акцентом. Молодой женщине, которая отдаленно похожа на первую, не больше семнадцати-восемнадцати. У нее карие сверкающие глаза. Паха Сапа смущен. Он смотрит в сторону дороги и видит длинный элегантный седан «пирс-эрроу». Солнце выглянуло из-за бегущего облака, и в его лучах дорогая белая машина становится ослепительно прекрасной, какой-то нездешней. У машины стоит усатый мужчина; мозги у Паха Сапы работают неповоротливо, но он понимает, что это шофер. Та женщина, что постарше, продолжает говорить. —.. и потому мы добрались до горы Рашмор только вчера, и мистер Борглум был очень любезен и очень жалел, что мы вас не застали. Все наши письма и телеграммы не доходили до вас, потому что мы пытались вас найти под именем Уильяма Вялого Коня де Плашетта — это имя и кистонский адрес Роберт нам назвал уже в бреду. И письма возвращались со штампом «адресат не обнаружен». Мы еще писали в миссию Пайн-Риджской резервации. Но мистер Борглум сказал, что мы найдем вас здесь, на месте сражения Кастера, и я сказала Роджеру, чтобы он несся как ветер, и вот мы здесь и… господи!., ведь вы мистер Уильям Вялый Конь? А для друзей и семьи — Паха Сапа? Он только смотрит на нее с глуповатой улыбкой. Кольт в его мешке увесисто прижимается к ноге. Наконец он снова обретает дар речи. — Борглум? Борглум не знал, куда я еду. Борглум не мог вам сказать… Никто не знал, где я… Он замолкает, начиная осознавать, что сказала женщина. Акцент делает голос женщины почти музыкальным. — Нет-нет. Он был абсолютно уверен — знал, куда вы отправились. «Отправились» — я правильно сказала? Он даже сказал нам, что вы будете на этом, втором холме, а не на первом, где стоит большой памятник. Паха Сапа облизывает губы. Он не может оторвать глаз от лиц двух этих женщин. На заборе у него за спиной один из воронов недовольно каркает. — Извините, мисс. Я… не расслышал. Как, вы сказали, вас зовут? Вы сказали, что были знакомы с моим сыном? На лице женщины вспыхивает румянец, судя по ее виду, она явно недовольна собой или вот-вот готова расплакаться. — Извините, пожалуйста. Конечно. Вы ведь не получали моих писем… теперь мы это знаем. И телеграмм, что мы посылали в последний месяц. Она протягивает руку. Перчаток на ней нет. — Мадам Рене Зигмон Адлер де Плашетт. Ваша… как это по-английски? Да — невестка. Я вышла замуж за Роберта в ноябре восемнадцатого. Четырнадцатого ноября, если говорить точно. Мой отец, он в Бельгии, мсье Вандан Далан Адлер, был, конечно, не очень доволен нашим браком, потому что Роберт был… Она замолкает. Паха Сапа подсказывает ей: — Индейцем? Мадам Рене Зигмон Адлер де Плашетт тихонько смеется. — Нет, что вы. Дело было совсем не в этом. Дело в том, что он был… как это… гой, то есть не еврей. Понимаете, мы — евреи, одна из старейших семей евреев-огранщиков в Бельгии. Но в последние несколько лет… ну, вы знаете, как развивается ситуация в Германии и Европе — герр Гитлер и все такое… поэтому папа перемещает бизнес и семью в Денвер и Нью-Йорк. В Денвер потому, что жених Флоры, Морис, он всегда хотел обзавестись… как это… скотоводческим ранчо. А в Нью-Йорк, конечно, из-за отцовского алмазного бизнеса, потому что он в Бельгии, не будет преувеличением сказать, самый знаменитый огранщик алмазов, а потом и поставщик. И он надеется завоевать такую же репутацию в Америке. Мы с Флорой приехали раньше, чтобы… Ах, господи. Что же это я! Она прикладывает ладони к щекам. — Я была так рада, что нашла вас, мой дорогой мистер Вялый Конь. Все болтаю и болтаю… как вы это говорите? Как с цепи сорвалась? Извините, бога ради, что забыла представить… Флора, детка, и ты тоже извини. Она быстро говорит что-то по-французски или бельгийски молчащей молодой женщине с такими знакомыми карими глазами, потом снова поворачивается к ошарашенному, онемевшему Паха Сапе. — Мсье Вялый Конь, позвольте вам представить мою дочь, мою и Роберта, вашу внучку, мадемуазель Флору Далан де Плашетт. Ее жених остался в Брюсселе, чтобы помочь отцу свернуть бизнес, но уже в следующем месяце они присоединятся к нам… Но молодая женщина протянула руку, и, когда Паха Сапа смотрит на эту руку, все звуки в его голове затихают. Размер, форма, длина и хрупкость бледных пальцев… и даже немного обкусанные ногти… все это так знакомо Паха Сапе, что отзывается болью в его стариковском сердце. Он берет ее руку, ту самую руку, ЕЕ руку в свою. И тут пуля словно все же вылетает из ствола его револьвера. В его мозгу взрывается яркий свет. Это последняя ослепляющая вспышка, жуткое ощущение, будто все границы исчезают, потоки устремляются внутрь и наружу, невероятное цунами шума, в котором тонут все мысли и ощущения, и он падает вперед, вперед на удивленных женщин… падает… падает… падает… перестает быть.
25
Он слышит хлопанье вороновых крыл и чувствует, как когти одного из воронов вонзаются в его наги, в «я» его души, и уносят это «я» и то, что осталось от него, от Паха Сапы, вверх, как ему кажется, прочь от земли, поросшей высокой травой. Первая реакция духа Паха Сапы — гнев. Он понимает, что пришел к мысли, будто после смерти нет никакого существования, а теперь получает подтверждение тому, что это существование есть, потому что ворон и его напарник поднимаются все выше и выше, держа в своих когтях наги Паха Сапы, он летит к облакам и небесам, к Млечному Пути, где теперь вечно будет бродить дух Паха Сапы… он понимает, что не хочет этого, не хочет даже воссоединяться со своими предками на Млечном Пути. Он хочет остаться на земле в высокой траве и разговаривать с женщиной, которая говорит, что она его невестка, жена его потерянного сына, разговаривать с молодой женщиной, которая настолько похожа на его дорогую Рейн, что при виде ее сердце у него защемило так, будто его пронзили боевой стрелой. Паха Сапа вдруг понимает, что может видеть, но не своими глазами. Его несет ворон, и он, Паха Сапа, и есть этот ворон. Это какое-то новое, пугающее ощущение. Паха Сапа и раньше совершал волшебные полеты, но они всегда ограничивались только подъемом (он поднимался, словно воздушный шарик, — мальчик, широко раскинувший руки, в гигантской ладони одного из шести пращуров, он всплывал в волшебном вагончике на великолепном колесе мистера Ферриса), а от этого полета с хлопаньем крыльев, стремительными рывками, движением вперед сквозь толщу воздуха у него захватывает дух. Ворон смотрит вниз, и Паха Сапа видит внизу поле сражения, которое становится все меньше и меньше. Белый «пирс-эрроу» похож на крохотную белую косточку, лежащую в траве. Он бы хотел получше разглядеть «пирс-эрроу» 1928 года, может, даже прокатиться в нем. Летя по небесам к своей потусторонней жизни, Паха Сапа думает, что, наверное, бельгийская семья его невестки очень богата, если может позволить себе такой автомобиль. Ворон смотрит налево, и Паха Сапа видит там другого ворона, перья у него такие черные, что, кажется, поглощают солнечный свет, он легко машет крыльями. Глаза другого ворона ничуть не похожи на человеческие — они абсолютно круглые, окружены небольшими белыми жемчужинками мышц, которые напоминают Паха Сапе синткалу ваксус, священные камни из ручья, которые он выискивал для своей парилки во время ханблецеи, и круглые вороновы глаза имеют нечеловеческий янтарный цвет, такие глаза бывают у хищников, это скорее волчьи глаза, чем человечьи. Но за этим бесчувственным вороновым глазом вспыхивает еще один: Паха Сапа замечает бездонную глубину ярких глаз Длинного Волоса — тех самых голубых глаз, в которые юный Паха Сапа заглянул шестьдесят лет назад в момент смерти Кастера. Значит, наги, «я» духа Длинного Волоса тоже возносится вверх. Паха Сапа хочет закричать ворону, который несет Кастера: «Я же тебе говорил, что ты — призрак», но у «я» его духа нет голоса. И все же голубые человеческие глаза за круглыми вороновыми, кажется, подмигивают Паха Сапе — последнее недоуменное прости, и этот ворон меняет направление полета и устремляется на север, а Паха Сапа продолжает лететь на восток и немного на юг. Какова бы ни была судьба Длинного Волоса, после того как ему позволено наконец умереть по-настоящему, — а Паха Сапа может только надеяться, что эта судьба включает и Либби, — она принадлежит далеким пределам, и Паха Сапе не суждено узнать про нее. Ворон Паха Сапы все набирает, и набирает, и набирает высоту, пока горизонт не закругляется вниз по обеим сторонам и голубое небо здесь и над тучами не становится почти что черным. Появляются звезды. И теперь ворон прекращает подъем. Они не летят на Млечный Путь. Пока еще не летят. Ворон смотрит вниз, и Паха Сапа, ничуть не удивившись, видит Черные холмы, которые темнеют в окружающем их красноватом скальном кольце сердечной мышцы — крохотный островок в бесконечном океане побуревшей к осени травы. Вамакаогнака э’кантге — суть всего сущего. Он вдруг с удивлением видит, что ворон начинает опускаться. И продолжает удивляться, потому что вдруг оказывается, что Черные холмы снова окружены великим морем, и земли под водой не видно. Он спрашивает себя: не ждет ли его наказание — не предстоит ли ему еще раз увидеть, как каменные гиганты вазичу поднимаются из Черных холмов, уничтожая на своем пути бизонов и образ жизни его народа? Нет. Никаких голосов в его голове, шесть пращуров на сей раз не говорят с ним, но внезапно он понимает, что это огромное пространство воды, которое он видит в свете ярких лучей Вакана Танки, — это прилив времени. Ворон складывает крылья и устремляется вниз, становясь в грациозной безжалостности древнего движения совершенным хищником, падающим на свою еще невидимую, но уже обреченную, не имеющую ни одного шанса и, безусловно, пропащую жертву, но потом пикирующий ворон со все еще сложенными, прижатыми к черной как смоль спине крыльями, не моргнув глазом, уходит сначала клювом, а потом и всем телом в воды прилива времени. Вода адски холодна.Через мгновение вода исчезает. Небеса безоблачны и голубы. Ворон летит ровно и устойчиво на высоте около тысячи футов над землей. Но теперь все… иное. Впереди слева Паха Сапа видит Мато-паху, Медвежью горку, но у горки теперь другой вид. Такие горки называются — он вспоминает высокий радостный голос сына — лакколит: интрузия вулканической породы, обнажившейся из-под более ранних осадочных слоев, подвергшихся эрозии. Это интрузия магмы, внедренной в более холодную земную кору во время эоценового периода. Паха Сапа понятия не имеет, когда был эоценовый период, но он точно помнит: Роберт ему говорил, что у Медвежьей горки та же геологическая история, что и у Башни дьявола в Вайоминге и у самих Черных холмов. Но теперь горка поднимается среди совсем другого ландшафта. Безмолвный голос в его голове говорит Паха Сапе, что он смотрит на свои любимые Черные холмы и Великие равнины в промежутке от 11 000 до 13 000 лет до своего рождения. Сейчас позднее лето, начало осени, но воздух холоден, и по мере спуска ворона Паха Сапа видит, что Тетонские и Скалистые горы на западе целиком засыпаны снегом. На этих пиках к концу августа — началу сентября всегда оставалось совсем немного снега, но теперь они поднимаются на западе белой стеной. Опытный взгляд Паха Сапы видит и другие, не столь значительные изменения. В равнинах и предгорьях слишком много деревьев, и некоторые из них принадлежат к высокорослым разновидностям сосен и елей, которые не растут у Медвежьей горки. Травы в прерии такой высоты и такой насыщенной зелени, каких Паха Сапа не видел даже весной, не говоря уже о конце лета. И трава нигде не общипана бизонами. Ворон пролетает над рекой, и Паха Сапа сразу же понимает, что в ней слишком много воды для этого времени года и что вода там молочно-голубая, наполненная мелкими частичками — крошевом с ледников на западе и севере. Ледники! Ворон машет крыльями, двигается с ошеломляющей скоростью, то уходит вверх, то ныряет вниз, и дух Паха Сапы воспаряет вместе с ним. Животные! В равнинах пасутся миллионные стада бизонов, но там есть и другие жвачные. И не только олени и антилопы. Сами бизоны кажутся более крупными, рога у них длиннее, а рядом двигаются табуны лошадей светлой масти — Паха Сапа таких никогда не видел. Это не табуны одомашненных лошадей времен его детства, не потомки тех лошадей, что остались от испанцев веком-двумя ранее, но более мелкие, пугливые, странного вида лошади, которые обитали в этих местах за 11 000–13 000 лет до его времени. Между стадами бизонов и табунами диких лошадей шествует цепочка слонов. Слоны! Ворон грациозно кружит всего в сотне футов над семейством толстокожих. Это не цирковые слоны, это какая-то разновидность мамонтов, хотя и не такая, обросшая шерстью, чьи изображения и кости он видел вместе с Рейн на Всемирной выставке в Чикаго. Уши у мамонтов кажутся маленькими, а бивни у самцов длинные и изогнутые. Маленький слон, не более шести футов в плечах, — как у них называется слон-младенец? — держит хоботом хвост матери, и гиганты величественно шествуют по пружинистому дерну. Семья приближается к реке, и ведущий самец трубит, а откуда-то из соснового леса по другую сторону реки ему отвечает другой мамонт. Рычит лев. Где-то еще дальше воют волки. Если бы у Паха Сапы сейчас было тело, он бы заплакал. Он видит прайд львов: полуприкрытые низкой листвой, они нежатся у реки. Это обычные львы, каких можно увидеть в зоопарке в Денвере, но в то же время не совсем обычные. Свободные, величественные, спокойные, живущие в своей среде обитания. Львица отправляется на охоту, медленно подкрадывается к небольшой группе антилоп и лошадей, пришедших на водопой к реке. Над вороном — его вороном — мелькает тень, и черная птица в панике начинает молотить крыльями, уходя в сторону. Мелькнувшая тень — это огромный лысый орел, он кружит высоко в небе, высматривая львенка. Паха Сапа недоумевает — неужели орел, пусть даже и такой большой, наберется наглости и попытается украсть хотя бы самого малого из львят, за которыми зорко присматривают родители? Паха Сапа достаточно долго прожил на этом свете и знает, что любое плотоядное убьет и съест кого угодно, если у него будет хоть малейший шанс. А еще он знает, что иногда убийство даже среди самых прагматичных птиц и больших животных совершается ради восторга убийства, а не из-за голода. Паха Сапа видит крупных животных, которых даже не может опознать, — что-то похожее на очень длинношеего верблюда; потом еще каких-то зверей — размером с небольшого бизона, широконогие, длинношеие, с маленькими головами, они с комической медлительностью ленивца идут через кустарник к деревьям. Паха Сапе хочется думать, что это ему снится, но он прекрасно понимает, что никакой это не сон. Верблюды, ленивцы, табуны странных маленьких лошадей, неуклюжие мамонты, а еще крадущиеся львы, ягуары, громадные гризли — все они реальны в этом мире, в каком бы далеком прошлом этот мир ни находился. Это видение, а не сон. Появление орла, видимо, напугало его ворона, и теперь тот летит на юг мимо Медвежьей горки к Черным холмам, все время набирая высоту. Горы Рашмор не существует. Гора Шесть Пращуров — целая и нетронутая. Но прежде чем ворон покинул прерию, равнины, лес и реку, Паха Сапа успел увидеть напоследок что-то странное — небольшую группу человеческих существ, приближающихся с севера. Это были не икче вичаза и не какое-либо другое племя или род, знакомые ему, — у них волосатые лица, они одеты в грубые, плотные звериные шкуры, а в руках держат копья гораздо более примитивные, чем когда-либо делали индейцы Равнин. Кто они — предки предков его предков или просто чужаки? Но он уверен, что они только теперь пришли сюда с севера после многих лет скитаний по землям, недавно освобожденным отступившими ледниками и морями. И — в этом он был уверен, совершенно не понимая, откуда эта уверенность берется, — спустя несколько поколений после прибытия этих волосатых людей в Новый мир все большие хищные четвероногие и большие травоядные, которых он только что созерцал с такой радостью (львы, верблюды, слоны-мамонты, гигантские ленивцы и даже лошади), будут истреблены и здесь, и повсюду в Северной Америке. Впервые за шестьдесят лет Паха Сапа увидел правду, стоявшую за правдой его видения каменных гигантов вазичу. Пожиратели жирных кусков, истребив бизонов, всего лишь продолжили линию, начатую всерьез десять тысяч лет назад предками Паха Сапы и их более ранними предшественниками, — линию на истребление всех крупных, больших видов, которые развивались на этом континенте. Старейшины икче вичаза (теперь, во времена Паха Сапы, превратившиеся в кривоногих подражателей ковбоев) сколько угодно могли встречаться во время торжественных, похожих на представление советов, искалеченные артритом старики могли целые дни проводить в парилках, наряжаться в старинные одежды с бисером и перьями, как их недавние предки, льстить себе речами о том, что в прежние времена они имели духовное превосходство, что их племена были защитниками мира природы. Но… на самом деле… именно они и все те, кто был до них, их почитаемые предки и те волосатые незнакомцы, которые, возможно, вовсе и не были предками, истребили навсегда прекрасные виды слонов-мамонтов, верблюдов, львов, кустарниковых быков,[135] гепардов, ягуаров, ленивцев и гигантских бизонов, рядом с которыми нынешние выглядели как телята, не говоря уже о виде малых выносливых лошадей, который развился здесь и был уничтожен людьми задолго до того, как испанцы завезли сюда их европейских собратьев. Ворон теперь взлетел очень высоко, а сердце Паха Сапы упало очень низко. Под ними освещенный солнцем море-океан времени, волны нахлынули снова, окружили Черные холмы, а потом медленно отступили. Ворон опять пикирует.
Даже с высоты, откуда видна кривизна горизонта, Паха Сапа видит, что он спускается в недалекое будущее его собственной эры. Еще он знает (не зная откуда и не видя никого, у кого можно спросить), что сейчас все еще суббота, пятое сентября, хотя какого года, века, тысячелетия или эпохи — это ему неведомо. В Черных холмах четыре каменные головы горы Рашмор сияют, как мужские плеши на солнце. Дальше к югу сияет более белый гранит,[136] словно искалечили еще одну вершину горы, но ворон направляется не туда, а Паха Сапа не видит того, на что не смотрит ворон. Медвежья горка находится на своем месте, хотя даже с большой высоты прекрасно видно, что большинство сосен внизу и на хребтах сгорели. Это не волнует Паха Сапу: пожары с прерий бушевали на Мато-пахе так часто, что об этом знает один лишь Всё, если только Тайна ведет счет пожарам. Но города и городки вазичу теперь гораздо крупнее — Рэпид-Сити, Бель-Фурш, Спирфиш, даже крохотный Кистон-на-Холмах, — а между разбросанными повсюду городками в окнах бесчисленных ранчо, дворовых построек, складов, домов и новых сооружений играют солнечные блики. Ворон летит на север, как он делал это несколько минут и одиннадцать тысяч лет назад. Паха Сапа видит, что Великие равнины нарезаны на геометрически правильные участки в еще большей мере, чем при его жизни. В этом не столь далеком будущем по крайней мере один из хайвеев имеет четыре широкие полосы, по две в каждом направлении, и разделительную линию из бурой травы посредине; похоже на то, что он видел на фотографиях в газетах — такие футуристические хайвеи строились в Германии, где они сначала назывались Kraftfahrtstrasse, когда в 1931 году была завершена первая четырехполосная дорога между Кельном и Бонном, но теперь (на протяжении только что закончившейся жизни Паха Сапы) Гитлер торжественно называет их Reichsautobahn, что Паха Сапа перевел как нечто вроде «Свободные дороги рейха». Немецкий канцлер заставляет свой ввергнутый в пучину депрессии народ строить все новые и новые автобаны по всей Германии, и «Нью-Йорк таймс» высказала предположение, что не в последнюю очередь такие четырехполосные шоссе можно использовать для быстрого перемещения войск от границы до границы. Новый автобан, который странным образом закольцовывает Черные холмы по самим обочинам древней Беговой Дорожки лакотских преданий, заполнен грузовиками и легковушками в такой степени, какую Паха Сапа и представить себе не мог. Даже в Нью-Йорке 1933 года не было такого безумного движения. Легковушки, грузовики и какие-то штуки неопределенной формы, которые несутся на восток и запад по четырем длинным изгибающимся полосам, выкрашены во все цвета радуги, притягивающие к себе солнечный свет. Паха Сапа застал эпоху бума американских железных дорог — «железного коня», говорили Сильно Хромает и другие вольные люди природы еще до Паха Сапы, — дорог, которые, безусловно, были самым быстрым видом транспорта, и ему теперь трудно представить, что вскоре эти автобаны оплетут всю Америку. («Если только, — вдруг осеняет Паха Сапу, — Великая война в недалеком будущем, немногим спустя после его смерти, не вернется снова и Германия на сей раз не одержит победу и не оккупирует США».) Но прерию под ним, видит он, когда ворон спускается ниже, оккупируют вовсе не немцы — домашний скот. Скот — эти глупые грязные животные, появившиеся в Европе, или Азии, или еще где-то, — заполняет прерию, и та уже не в силах прокормить такое количество. Когда Паха Сапа работал на ранчо Донована («Плохо работал, — признает он, — из него так никогда и не получился хороший ковбой»), то улыбался, слыша, как хозяин и другие старики рассуждают о «великой старой традиции» разведения скота на Западе. Старейшей из этих традиций было от пятидесяти до семидесяти пяти лет. Но в недалеком будущем, даже если спустя всего двадцать, или тридцать, или пятьдесят лет от этого приятного дня в начале сентября 1936 года, когда умер Паха Сапа, он видит, что скот продолжает делать то, что и положено делать скоту: выщипывает траву до корней, опустошая землю до такой степени, что на Североамериканские равнины возвращается пустыня, скот загрязняет своими экскрементами все ручьи и речки, до которых может добраться, разрушает русла своим непомерным весом, повсюду оставляет следы; на бесплодной, покрытой пылью земле, где когда-то росли сочные травы, опустошение достигает таких масштабов, что с высоты полета ворона поилка среди тысячи голых акров исчезающей травы кажется осьюгигантского колеса диаметром пять или более миль с бело-коричневыми спицами из коровьих туш. А для защиты своего священного глупого скота вазичу, владельцы ранчо (и их преданные прислужники из индейцев) уничтожили немногих оставшихся хищников — последних волков, медведей гризли и пум, а также объявили войну прочим видам, таким как луговые собачки (тут сыграл свою роль миф, будто скотина ломает ноги, проваливаясь в норы, вырываемые луговыми собачками) и даже безобидные койоты. Паха Сапе кажется, что он видит солнечные блики от миллионов медных гильз, оставшихся после убийства всех этих видов, единственное преступление которых состояло в том, что они мешали скоту. Воздух в пятый день сентября неизвестного будущего года очень теплый. Паха Сапа, соединенный с чуткими органами восприятия ворона, думает, что такая погода скорее характерна для позднего июля или начала августа. Когда они летели высоко, он увидел, что на вершинах Тетонских и Скалистых гор на западе и юго-западе совсем нет снега, даже на тех кряжах, куда Паха Сапа ходил мальчишкой, — юта безграмотно назвали их горы Лета-Нету-Нету. Теперь там даже глубокой осенью будет настоящее жаркое, бесснежное лето. Ворон делает круг над рекой, и Паха Сапа видит, что перегораживание равнин не ограничивается только новым автобаном, который петлями своих четырех полос огибает Черные холмы и уходит на север от Рэпид-Сити, не ограничивается и целой сетью гораздо более загруженных (и асфальтированных!) местных дорог — штата, округа, специального назначения, подъездов к ранчо, а к ним еще и квадратов, прямоугольников, трапеций отдельных ранчо, огороженных колючей проволокой (и, насколько он видит, так разгорожена вся земля), но теперь вдобавок ко всему этому поросшие высокой зеленой травой равнины его более раннего видения и его детских лет превращены неутомимыми челюстями коров в какие-то геометрические формы. По ту сторону ограждений из колючки, над которой парит ворон, трава низкая, больная, в ней отсутствуют прежние прекрасные ботанические виды, но по другую сторону ограды коровьи челюсти поработали еще нещаднее — там осталась практически голая земля. Следы копыт, ямы, оставленные тушами, вытоптанные тропинки (бизоны никогда не следовали один за другим колонной, что неизменно делает глупая скотина) возвращают землю к состоянию пустыни. Паха Сапа когда-то слышал, как Доан Робинсон разговаривал с группой ученых-естественников об опасности опустынивания, но эта опасность казалась слишком далекой в 1920-х, когда доминировала политика увеличения людских и жвачных стад. Теперь он видит последствия. Те части Великих равнин США, которые уцелели во время пыльных бурь периода Великой депрессии, теперь пережеваны, перетоптаны, перегружены, перенаселены и перегреты (непонятно по какой причине климат стал теплее) до такой степени, что пустыни возвращаются. Когда его ворон поднимается, Паха Сапа видит реку — прежде в ней текла голубая вода, а теперь она разбавлена коровьими экскрементами и землей с обрушенных эрозией и скотом голых берегов. Голос, очень похожий на голос его сына (хотя это и не голос его сына), шепчет ему без слов: «В старину, даже тысячу лет спустя после того, как твои предки и другие племена, жившие до икче вичаза, уничтожили всех крупных хищников и жвачных, кроме бизонов, великие прерии высокой и низкой травы, простиравшиеся от реки Миссури до самых Скалистых гор, благодаря взаимодействию природных сил оставались здоровыми. Бизоны, в отличие от скота, кочевали, проходя огромные расстояния, и разносили семена высоких здоровых трав, теперь отсутствующих. Их копыта, так непохожие на копыта домашнего скота, помогали семенам укорениться в земле. Бизоны не выдергивали траву с корнем, не убивали ее, как это делает скот, и никогда долго не паслись в одном месте. Их навоз удобрял землю и давал убежище и дом тысячам ныне вымерших видов. Для укрепления травам требовались пожары. Молнии обеспечивали зарождение пожаров, и никто — ни индейцы, ни пожиратели жирных кусков — их не гасили, напротив, сами вольные люди природы, обжившие равнины, имели обычай ежегодно поджигать прерии. То же самое делали ассинибойны, речные кроу, северные арапахо, шошоны, черноногие, кайнаи и равнинные кри. То же делали и старые исчезнувшие племена, которых погубили болезни, принесенные сначала сиу, а потом пожирателями жирных кусков, — манданы, хидасты, санти, понка, ото и арикара. Эти племена регулярно поджигали прерию по собственным мотивам, часть этих мотивов забыта. Иногда они делали это, чтобы выгнать добычу (а иногда просто из удовольствия увидеть огонь и производимое им уничтожение), но пожары всегда способствовали укреплению трав, цветов и растений — они наливались соком и обновлялись». Теперь ничего этого нет. В особенности в том недалеком будущем, которое показывает ему ворон. Все тысячи взаимодействующих видов свелись теперь к двум: человеку и скоту. Пожиратели жирных кусков и их жирные глупые мясные животные постоянно плодятся, чтобы жиреть еще больше. Впрочем, птицы все еще продолжают пролетать над этим новым миром, где больше не растут травы, но даже виды птиц исчезают быстрее, чем человеческие существа успевают это фиксировать. Уничтожение влажных мест, вытеснение всех разновидностей трав и четвероногих существ прерии, осушение, варварский выпас, закатывание в асфальт мест, где гнездятся птицы… да, кое-какие виды птиц еще сохраняются, но они ведут такой же образ жизни, как сороки: таскают еду у людей, кучкуются на свалках, выпрашивают подачки, роются в мусорных бачках. Они пали до уровня немногих сохранившихся диких животных — запаршивевших койотов, ведущих существование на краю пыльного мира людей и скота, их достойный сожаления внешний вид наводит на мысль, что они знают о неминуемом приближении пустыни. Его ворон поворачивает на юг и снова поднимается в небеса. Паха Сапа надеется, что он больше не будет спускаться. Он ждет смерти. Пусть приливы и отливы времени отступают и наступают, как обычно, но зачем ему — Паха Сапе — видеть то опустошение, которое произвел и продолжает производить человек, уничтожая природу и себя самого? Он скорее чувствует, чем видит, что приливы времени стали (опять, опять) кроваво-красными по обеим границам горизонта, потому что бушуют новые Великие войны. Он мрачно думает, что, наверное, люди так любят скотину, потому что обожают массовую бойню. Ворон добрался до леденящего воздуха поднебесья и замер там, парит, поддерживаемый каким-то невидимым воздушным потоком. На потемневшем дневном небе появляются звезды, а горизонт снова выгнут, как лук воина. Паха Сапа, который большую часть конца своей жизни, с которой он теперь расстался, был циником и неверующим, начинает молиться — никогда еще не молился он так искренне. «Пожалуйста, о Вакан Танка… мои заступники-пращуры… Всё, Тайна, которую никто из нас никогда не поймет… прошу тебя, о Боже, не показывай мне больше ничего. Я умер, пожалуйста, позволь мне оставаться мертвым. Я от всего сердца прошу прощения за мой вклад в то, что мне было показано. Но не наказывай меня новыми видениями. Моя жизнь была искалечена видениями. Позволь мне умереть, о Господь, Владыка моих праотцев». Но ворон снова безжалостно срывается в пике.
Несколько мгновений нет никаких звуков и образов, движений или ощущений. Только знание. Его внучка мадемуазель Флора Далан де Плашетт (которая в скором времени, когда ее жених закончит помогать отцу, сворачивающему дела в Европе, и присоединится к ним в Америке, станет миссис Морис Данкенблюм Окс) беременна. Эта семнадцатилетняя красавица, которая вполне могла бы быть сестрой-близнецом его возлюбленной Рейн, носит правнука Паха Сапы (и отсутствующего мсье Вандана Далана Адлера), мальчика нарекут Роберт. У этой счастливой пары родится еще четверо детей, и ни один из них не умрет ни при родах, ни в детстве, но, взяв руку внучки за секунду до постигшего его удара, Паха Сапа своей способностью видеть будущее прикоснулся к душе первого из них — Роберта. И именно будущее Роберта перенесло Паха Сапу на много лет вперед с такой же неотвратимостью, как и океанические приливы и отливы времени внизу. Родившийся в 1937 году Роберт Адлер Окс станет ученым и литератором, его научно-популярные книги и телевизионные сериалы будут читать и смотреть миллионы людей. Его специальностью станет физика, но, как и его американский дед, первый Роберт, этот Роберт станет и специалистом в других науках — геологии, среде и метеорологии Марса и других планет. Роберт Адлер Окс будет гостем Центра управления полетами в Хьюстоне в июле 1969 года, когда человек сделает первый шаг по Луне, он будет сидеть рядом с другими учеными, которые поведут себя как дети, освобожденные от занятий в метель. Из трех детей Роберта Окса его средний ребенок, Констанция (которая будет издавать книги под фамилией мужа — K. X. О. Грин), по существу продолжит традицию отца и добьется успеха в науке и литературе. Родившаяся в 1972 году Констанция Хелен Окс Грин будет одним из крупнейших исследователей первой половины XXI века. Ее тремя специальностями (широкие интересы — столь редкое явление в век усиления тенденции к узкой специализации) будут: изменения климата, генетика и этнология. Ее книга «Мир, который мы создали, и новый мир, который мы можем создать» будет продана общим тиражом более двадцати миллионов экземпляров во всем мире. Но в изменившемся мире. Именно изменения мира и добивается Констанция Грин своими тремя бестселлерами и более чем двумя сотнями статей, которые будут публиковаться в научных журналах на протяжении всей ее жизни. Ее особый интерес… нет, ее страсть, ее мечта, ее миссия, ее цель, смысл существования — это ревайлдинг[137] мегафауны плейстоцена на Великих равнинах Северной Америки. Даже будучи почтенной и пожилой ученой дамой, возглавляющей объединение из более чем тридцати стран, которые реализуют проекты ревайлдинга исчезнувшей фауны, она большую часть своей любви и внимания будет отдавать Великим равнинам Северной Америки. А проблем там столько, что мало и десяти тысяч Конни — десяти тысяч Констанций Хелен Окс Грин. Выщипанная, перенаселенная и лишившаяся многих видов растений прерия в XXI веке умирает окончательно, ранчо разоряются, несмотря на громадные субсидии государства и многочисленные попытки «диверсификации» того, что являет собой животноводство, пустыня возвращается в те места, откуда ушла сотни тысяч лет назад, маленькие и средние города пустеют, население сокращается, экономика региона сходит на нет, и поэтому доктор Констанция Хелен Окс Грин отдаст большую часть своей долгой жизни поискам решения, которое позволило бы не только возродить многие растительные и животные виды, но и восстановить обитавшие здесь народы. Наверное, именно голос Конни Грин слышит Паха Сапа во время последнего спуска ворона, который несет его наги. А может быть, это опять тихий голос старейшего и мудрейшего из шести пращуров. А может, это мудрый шепот Сильно Хромает или тихий голос его дражайшей Рейн. Скорее всего, Паха Сапа услышит теперь все эти голоса.
Ворон снижается над Черными холмами. Четыре каменные головы вазичу, сотворенные Борглумом, стоят на своем месте, правда, немного посерели от времени. Они либо так и не превратились в шагающих каменных гигантов, либо уже отшагали свое и нажрались жиру. Ворон парит в вышине, и Паха Сапа в восьми милях к юго-западу от горы Рашмор видит другую гору, превращенную в скульптуру. Она крупнее и новее, гранит здесь отливает белизной. Голоса тех, кого он любил, кого почитал и еще будет любить, шепчут ему: «Это Шальной Конь и его конь. В отличие от Рашмора, где головы — часть скалы, здесь вся гора превращена в скульптуру. Масштаб взрывных и камнетесных работ здесь гораздо больше». После стольких лет в шахтах и на горных вершинах, где он проводил измерения и оценивал размеры с максимально возможной точностью, в особенности размеры скал, на которых ведутся или будут вестись скульптурные работы, Паха Сапа не может удержаться и прикидывает размеры этой скульптуры. Три президентские головы, на которых работал Паха Сапа, имели высоту около шестидесяти футов каждая. Голова Шального Коня на этой гигантской скульптуре, похоже, достигает высоты почти в девяносто футов. Но если четыре президента на горе Рашмор представлены в основном в виде голов лишь с намеком на плечи (скажем, у Вашингтона видны лацканы фрака, а у Линкольна вчерне намечены костяшки пальцев, держащихся за лацкан, еще не начатые, когда Паха Сапа навсегда оставил Борглума), то здесь с помощью взрывов, а затем камнетесных работ из горы освобождена вся верхняя часть тела Шального Коня, а потом поверхность выровнена, отшлифована и теперь отливает белизной. И Шальной Конь сидит на коне, животное стилизовано, у него замысловатая грива, голова исполнена движения и чуть повернута назад, словно всадник резко осадил скакуна, левая нога коня поднята и согнута, выделана она с большим тщанием — видны грудные мышцы, хрупкая голень и повисшее в воздухе копыто. Паха Сапа видит, что левая рука Шального Коня вытянута над тщательно выделанной гривой жеребца, и военный вождь указует вперед одним пальцем. Вся скульптура имеет ширину шестьсот сорок один и высоту пятьсот шестьдесят три фута. Ворон поднимается и опускается на мощных воздушных потоках — воздух в это пятое сентября будущего жарче, чем в предыдущем видении будущего, — и Паха Сапа видит, что высеченное из камня лицо Шального Коня ничуть не похоже на лицо Шального Коня в жизни. Ну это простительно, думает Паха Сапа, ведь Шальной Конь не разрешал себя фотографировать или рисовать. Что менее простительно, на искушенный взгляд поднаторевшего в создании мегаскульптур Паха Сапы, так это художественный уровень, который уступает работе Гутцона Борглума. Поза всадника напряженная, вымученная, стереотипная, и Паха Сапа почти не видит никаких деталей, над которыми так напряженно работали Борглум и его сын, чтобы добиться с помощью своей грубой, несовершенной техники тончайших нюансов, мельчайших подробностей мимики, нахмуренных бровей, малейших оттенков выражения лица. Громадный, массивный, застывший в театральной позе герой-индеец и до странности европеизированный вздыбленный каменный чурбан под ним представляются Паха Сапе — в сравнении с работой Борглума — вырезанными скучающим школьником из куска белого мыла с помощью тупого перочинного ножа. И не спрашивая у голосов внутри его, он чувствует, что сиу, шайенна и другие племена ненавидят этот памятник. Он не знает всех оснований, по которым памятник вызывает у них ненависть, и не хочет знать. Вообще-то ему и спрашивать об этом нет нужды — ответ ему известен. Он только хотел бы получить еще один шанс притащить свои ящики с динамитом, но на этот раз уже нацелясь на новый объект. Если бы Паха Сапа сейчас владел голосом, он бы закричал: «Вы опять притащили меня в будущее, чтобы показать вот это? Неужели мое наказание никогда не закончится?» Но он не владеет голосом. Ворон оставляет позади гигантскую карикатуру на Шального Коня и поворачивает на север, снова набирая высоту, он машет крыльями, направляясь прочь от Черных холмов, снова мимо Медвежьей горки в Великие равнины.
Перемены, произошедшие здесь, очевидны и сразу бросаются в глаза. Бесконечное огибающее кольцо автобана все еще здесь, но у него вид постаревшего и посеревшего, и движения по нему почти нет. Города и городки стали гораздо меньше. От Рэпид-Сити не осталось и одной трети той площади, которую он занимал во времена Паха Сапы, и его уже никак не сравнишь с тем разросшимся городом, который Паха Сапа видел только что в своем втором видении. Спирфиш исчез вообще. Несомый вороном на север Паха Сапа понимает, что Дедвуд, Кисто, Каспер и Лед исчезли — здесь, на Черных холмах, вообще нет городов вазичу. Он понятия не имеет, какая катастрофа привела к исчезновению всего этого множества городов, кожа его духа холодеет при мысли о том, что могло быть причиной. Но настоящие потрясения ждут его впереди. К северу от странно пустого автобана все прежние признаки жилья и того, что вазичу неизменно называли цивилизацией, просто перестали существовать. Ворон снижается, и Паха Сапа видит, что шоссе штата и округов исчезли: взорваны, сломаны, перепаханы или просто поросли травой. И только по едва заметным следам прямых, затянутых травой линий можно догадаться, где раньше были границы участков. Он понимает, что нет и прежних ранчо. Ни одна война или единичная катастрофа не могла привести к этому. Снести здания, не оставляя даже фундаментов, но при этом сохранить автобан и уменьшенные версии Рэпид-Сити и других городов на юге и востоке? Нет, ни война, ни чума и никакая природная катастрофа не могли стать причиной этого. Подобное опустошение целого региона могло быть следствием только целенаправленной, спланированной миграции, бережной разборки и удаления того, что было построено здесь человеком более чем за столетие… Но с какой целью? С какой стати вазичу стали бы преднамеренно демонтировать и убирать ранчо, сараи, дороги, линии электропередач, канализационные стоки, нефтехранилища, заборы, автомобили, города, городки, собак, свиней, кур, скот и другие завезенные виды — включая и самих себя, — которые они почти два столетия усиленно насаждали в этой земле? Ворон продолжает опускаться, и Паха Сапа понимает, что параллельно автобану в обоих направлениях идет высокое ограждение, и оно тянется так далеко, что конца его не видит даже зоркий глаз ворона. Черная птица усаживается не на это ограждение, а на столбик деревянного, находящегося рядом забора, к которому не подведены провода. Паха Сапа понимает, что отсутствует и еще что-то — изгороди. Колючая проволока. Те изгороди, которые разделяли прерию в течение XX века, а потом членили ее на все более и более мелкие участки… они исчезли. На ограждении висит щит, и если Паха Сапа не уверен, что ворон со своим малым, хотя и ушлым мозгом может прочесть написанное, то Паха Сапа может. «Опасно — высокое напряжение». В двадцати ярдах слева от них замысловатые двойные ворота, а перед ними на земле решетка из деревянного кругляка — защита от скота. Паха Сапа догадывается, что ворота эти автоматические. (В конце концов, это будущее.) Надпись на воротах имеет для Паха Сапы еще меньше смысла, чем предупреждение о высоком напряжении.
П. Р. М. П. ТРАКТЫ 237 H-305J Допуск только по разрешению Предупреждение: на протяжении 183 миль ни еды, ни крова, ни обслуживания Предупреждение: опасные животные Предупреждение: человеческие контакты могут быть опасны Имеющие разрешение следуют далее на собственный страх и риск Министерство внутренних дел США и Отд. П. Р. М. П. СШАВорон срывается со столбика и перелетает через ограждение так, будто его и не существует. Паха Сапа видит Медвежью горку и место, где прежде была петляющая по склону горы дорога, еще, кажется, парковка и площадка для посетителей, может, даже центр для посетителей с туалетами или что-то вроде маленького музея. Ничего этого теперь нет, а о том, что оно когда-то было, говорят только заросли сорняков в тех местах, откуда убраны бетон, асфальт, фундаменты. И на Медвежьей горке, и вокруг нее растительная жизнь богата и разнообразна. Во времена Паха Сапы здесь, на самой горе, росли в основном орегонские сосны и низкорослый можжевельник. Теперь тут самые разные сосны и ели. Во времена Паха Сапы в прерии у подножия можно было увидеть только юкку и низкие скудные травы, теперь тут самые разные растения, многие из которых Паха Сапе неизвестны. Он видит выцветшие ленты — молитвенные флажки — и мешочки из когда-то цветной материи, наполненные табаком, они висят на ветках карликовых дубов и других лиственных растений вдоль берега ручья и подножия горы. Как такое может быть? Подношения сделаны сиу или шайенна… но разве ограда под высоким напряжением и щит на воротах в пяти или шести милях сзади не предполагают, что эта территория закрыта для большинства людей? Ворон снова взмахивает крыльями и летит на север знакомым уже маршрутом к реке, где Паха Сапа шестьдесят лет назад потерял священную Птехинчала Хуху Канунпу своего рода и где большая часть его сородичей была уничтожена частями кавалерии Крука. Здесь жарче, чем на Черных холмах, но земля под крыльями ворона — не пустыня. Далеко не пустыня. Травы здесь сочнее и выше, чем у Медвежьей горки. Паха Сапа только в детстве видел крохотные пятна настоящей высокой травы, теперь же, насколько может видеть глаз ворона с высоты пять тысяч футов, она тянется на восток, запад и север. Под налетевшим порывом ветра трава колышется более медленно и гибко, чем даже под рукой Бога, ласкавшей шкуру мира — более короткую траву за его деревней. Он представить себе не может, как древняя высокая трава прерии смогла вернуться сюда. Пожары. Стада бизонов. Выжигание. Время. Его дух-наги слышит голоса Рейн, его правнучки Констанции, Сильно Хромает и мудрейшего из шести пращуров. У Паха Сапы на глазах слезы, которые он не может пролить, но он все равно ничего не понимает. Ворон закладывает вираж, пролетает всего в пятидесяти футах от вершины холма, и Паха Сапа видит. Бизоны. Они наводняют равнину. Наводняют вершины холмов на севере. Стада растянулись на восток, запад и север на многие мили. Тысячи бизонов. Десятки тысяч. Сотни тысяч. Больше. Ворон летит на запад к реке. Горы далеко на востоке — их может увидеть только волшебный глаз хищной птицы — совершенно бесснежны. Даже на вершинах пиков не видно белизны. Река стала уже, уровень ее гораздо ниже, ее явно больше не пополняют тающие снега с оголенных далеких гор. Но оставшаяся вода прозрачная и темная, судя по виду, чистая — можно пить без опаски; даже в дни Паха Сапы существовали вполне основательные причины, не позволявшие пить из местных ручьев. Ворон закладывает круг, и Паха Сапа ахает, вернее, производит эквивалент этого звука, доступный наги. Как богата фауна здесь, у реки! Какие крупные здесь животные! Кроме стада бизонов, видимого до самого горизонта, тут бегают табуны небольших гнедых лошадей. Не тех маленьких лошадей, что он видел 11 000 лет назад, но похожих. Очень похожих. — Лошади Пржевальского. Паха Сапа понятия не имеет, кто такой мистер Пржевальский, но лошади ему нравятся — небольшие, выносливые, беспокойные, с черными гривами и пугливые, как все дикие травоядные. А как прекрасен голос, говорящий ему это! Из лиственного леса на водопой направляется несколько верблюдов. — Двугорбые верблюды из пустыни Гоби взамен вымершего вида Camelops hesternus (западного верблюда), который сформировался здесь и был весьма распространен в плейстоцене. Но их ДНК удивительно сходны. Паха Сапа не знает, что такое ДНК, но может вечно слушать этот голос. Он хочет, чтобы голос никогда не умолкал. — Здесь в плейстоцене обитали четыре вида хоботных, Паха Сапа: Mammuthus columbi, преобладавший Колумбов мамонт, Mammut americanum, американский мастодонт, Mammuthus exillis, карликовый мамонт, — не очень распространенный — и твой и мой старый друг Mammuthus primigenus, шерстистый мамонт, мы видели его реконструкцию на Всемирной выставке в Чикаго. Паха Сапа молча рыдает, слыша это. — После многочисленных экспериментов мы решили, что генотип близкого к исчезновению азиатского слона очень похож на генотип нашего вымершего друга. И он хорошо приспосабливается к теплеющему климату Великих равнин. Но сюда завезены и несколько тысяч африканских слонов хотя бы ради того, чтобы спасти их от вымирания в Африке, где в последние тридцать лет происходят климатические катастрофы. Слоны? — думает Паха Сапа, видя группу животных, выходящих из высокой, колышемой ветром травы низких холмов. Они неторопливо спускаются к реке. Один из самых маленьких хочет бежать впереди стада, но мать — по крайней мере одна из самок — останавливает малыша мягким движением хобота. Завидев приближающихся слонов, двугорбые верблюды на водопое и группки вилорогих антилоп пускаются прочь. Но они скачут по восточному берегу реки. На западной стороне на водопой к реке спустился прайд львов. — Из Южной Африки. Последние представители этого вида. Но здесь они чувствуют себя прекрасно. Прайды на восточных участках П. В. М. П. за рекой Миссури насчитывают теперь несколько тысяч особей. По какой-то причине популярность заповедника растет. Ежегодно треккерам выдается только четыреста разрешений на посещение заповедника, а заявок у нас больше миллиона. Треккерам? — безмолвно повторяет Паха Сапа. Из высокой травы за рекой появляется ягуар и так же неожиданно исчезает. Паха Сапа спрашивает себя, видел ли он зверя на самом деле. С дерева за ягуаром следит кто-то похожий на очень большого ленивца. Искривленные когти у ленивца длинные и черные. Растения вдоль берега реки — а берега больше не обваливаются под копытами домашнего скота — поразительно разнообразны. Местами трава напоминает ухоженный газон. — Это один из побочных эффектов того, что здесь пасутся самые разные жвачные. В сотне ярдов вверх по течению кружит лысый орел, высматривает зверя или рыбу. На сей раз ворон Паха Сапы не реагирует на него как на угрозу. Паха Сапа думает: «Этот никуда не денется. Орлы всегда будут». Но тут ворон поднимается снова и поворачивает на юго-восток. Вероятно, экскурсия подходит к концу. Паха Сапа хочет кричать. Он хочет рыдать. Но больше всего хочет он слышать хор любимых голосов. Но знает: экскурсия закончилась. — Это еще не конец, Паха Сапа. Лучшего ты не видел. Минуту спустя он видит их невероятно зоркими глазами ворона. Крохотное скопление белых точек за много миль отсюда вдоль речной долины. Потом крохотное скопление белых треугольников за много миль в другой стороне — у хребтов, ограничивающих прерию. Ворон поворачивает направо и летит к хребтам. «Дорогой Всё, — думает Паха Сапа, — дорогой Вакан Танка. Пусть этот смертный сон будет правдой». В долине, по эту сторону белых треугольников, мальчики присматривают за небольшим табуном лошадей. Это самая крупная разновидность тех необычных диких лошадей, которых только что видел Паха Сапа в прерии. Они размером с пони, но не такие смирные. Здешним мальчикам приходится постоянно быть настороже, чтобы маленький табун плененных лошадей не разбежался. Ворон продолжает лететь к хребтам. Тийоспайе невелика — не больше двадцати вигвамов, но они высокие и хорошо сработанные, шесты вигвамов сделаны из окоренных стволов красной сосны и имеют точно рассчитанную — словно пальцы руки — длину; первые три шеста образуют звезду, а форма звезды создает мощный вихрь света для тех, кто будет жить в сфере его дружеского воздействия. Будучи правильно установленными, десять шестов каждого типи символизируют основной нравственный постулат Вселенной, охокисилап — взаимное уважение ко всему сущему; и десять шестов охокисилапа установлены правильно и укрыты чистыми, блестящими шкурами бизонов, надлежащим образом выделанными. Вигвамы поставлены кругом, как этого требовали от вольных людей природы Птица-Женщина и шесть пращуров — так, чтобы дома людей повторяли священную петлеобразную форму самой Вселенной. Ворон усаживается на шест типи, и Паха Сапа видит, что вокруг тийоспайе двигаются люди, на мужчинах и женщинах одежды ручной выделки, похожие на те, что он носил мальчиком… похожие, но не воссозданные, как в музее. Многие шкуры он узнает: антилопы, оленя, бизона — все они хорошо выскоблены женщинами для мягкости, но есть и шкуры, происхождение которых ему неизвестно. Он видит военный щит, прислоненный к типи, и с ужасом понимает, что на щите слоновья шкура. Мимо проходит пожилой человек. Судя по замысловатому рисунку бисером на мокасинах и безупречной бахромчатой куртке и штанам, Паха Сапа решает, что это кто-то важный, но на плечах и голове этого воина шкура, грива и открытая в рыке львиная пасть. Будь у Паха Сапы веки, он бы моргнул. Это вольные люди природы. Сверхчувствительными ушами своего ворона Паха Сапа слышит приглушенный разговор людей на странноватом лакотском. И тут Паха Сапа осознает, что ему напоминает их акцент — такой же был у Роберта, выучившегося лакотскому у отца. Возможно, родным языком этих людей был английский, прежде чем они заговорили по-лакотски. А возможно, язык изменился со временем, как это свойственно любому языку. Потом происходит нечто странное. На бревне неподалеку сидят четыре мальчика, бросая ножи в кружок, нарисованный на земле, — эту игру Паха Сапа прекрасно знал, когда был мальчишкой, — и тут раздаются тихие звуки музыки. Один из мальчиков встает, выходит из игры, засовывает руку в карман штанов из оленьей шкуры и отвечает во что-то, видимо в телефон, но размерами не больше и не толще игральной карты. Мальчик разговаривает около минуты — все на том же гладком лакотском, — потом складывает невероятный телефон и засовывает его к себе в карман, после чего возвращается в игру. — Ну, Паха Сапа, тебе достаточно увиденного, чтобы понять? Нам потребовались годы, прежде чем мы поняли, что проект ревайлдинга мегафауны плейстоцена будет лишен всякого смысла, если мы не возродим главного хищника позднего плейстоцена — человека. Но на этот раз, благодаря нашему присутствию, массового уничтожения видов не случится. Агентство по управлению популяцией регулирует не только четвероногих. И Конни первой из нас увидела, кто заслуживает выбора — права — жить в заповеднике П. Р. М. П., если только они согласны жить по правилам той эпохи, которая им предлагается. Телефоны у детей… что ж, от некоторых вещей невозможно отказаться в любой культуре, и было решено, что телефоны являются важнейшим элементом безопасности. Взрослые могут жить среди ягуаров, львов и медведей гризли, но детям должна быть предоставлена возможность обращаться за помощью по телефону. Правда, телефоны работают только в границах заповедника, и дети должны их отдавать по достижении пятнадцати лет, если решат жить здесь и дальше. Паха Сапа знает, что он видит сон, но не возражает. Он, как и Гамлет, больше всего боялся в смерти вероятности того, что там могут сниться сны. Но этого сна он не боится. Ворон поднимается в воздух и набирает высоту, а набрав, направляется на юго-запад. Оказавшись в воздухе, Паха Сапа видит на северо-западе что-то такое, чего не заметил раньше. Лента серебристой стали протянута с востока на запад по речной долине, и под ней медленно двигаются вагоны, отливающие серебром и стеклом. Паха Сапа сразу понимает, что это такое. Он видел картинки Wuppertal Schwebebahn — монорельсовой дороги в Вуппертале, в Германии, построенной и открытой около 1900 года. Только на этой монорельсовой дороге вагоны находятся под рельсом, а стены вагонов для лучшей видимости в основном стеклянные. Своими острыми глазами ворона он даже с расстояния в несколько миль и с высоты в несколько тысяч футов видит силуэты пассажиров. Некоторые сидят, некоторые стоят. Это напоминает Паха Сапе восторженных пассажиров колеса Ферриса в 1893 году. — Три сотни разрешений треккерам, несколько коммерческих стоянок для сафари, конечно, под строгим контролем, но, кроме этого, более сорока двух миллионов человек в год — туристов — платят за то, чтобы проехаться по части или по всему заповеднику Проекта ревайлдинга мегафауны плейстоцена. Он стал главной приманкой для туристов в Северной Америке. Но тебе, Паха Сапа, пора возвращаться домой. Хотя нам и очень не хочется тебя отпускать. Паха Сапа чувствует себя практически так же, как в тот день на колесе Ферриса на мидвее Большого Белого города — в те первые часы, что он провел с Рейн. Он думает: «Зачем мне уходить отсюда? Я уже попал в рай, какого даже не могли себе представить ни мои одноплеменники, ни отец Рейн. Но если настало время отправляться в настоящий рай, то я готов». Всеобщий смех немного похож на смех Роберта, сильно — на смех Рейн, чуть-чуть — на смех Сильно Хромает, слегка — на смех женщины, которой он никогда не видел, и совсем не похож на смех шести пращуров. Те слова, что ему говорят на прощание, звучат странновато. — Отправляться в рай? Да, черт побери, Паха Сапа. Крещение перекосило тебе мозги. Тут еще много чего нужно сделать.
Ворон летит на запад, а потом в направлении норд-тень-вест. Словно низкие облака, накатывает волна океана времени, покрывая все внизу, и кажется, что лучи солнца в воде двигаются вместе с летящей птицей. Паха Сапа пытается вспомнить понравившееся ему предложение из «Холодного дома», но не может сформировать связную мысль. Море времени отступает. Низкие, переходящие один в другой холмы внизу снова обрели бурый и коричневый цвета, единственная зелень в извилистой речной долине — выстроившиеся в ряд старые тополя. На этот раз ворон не закладывает вираж — он почти вертикально пикирует к земле, чем приводит в ужас Паху Сапу. Нет… я не могу… я не готов… я не… Но вороны никого не слушают. Он все с той же скоростью продолжает свое безумное падение на коричневые холмы с их высокой коричневой травой. Удар ужасен.
Они солгали ему. Как они его ни любят — а он знает, что они его любят, — но они солгали ему. Это самый настоящий рай. Паха Сапа лежит на верхней ступеньке лестницы, ведущей к Большому бассейну около Колумбова фонтана перед главным зданием администрации в Белом городе, голова его покоится на коленях Рейн, и Рейн с тревогой смотрит на него сверху вниз. Его не волнует, что вокруг стоят другие люди. Губы у него сухие, но он шепчет своей встревоженной возлюбленной: «Токша аке вансинйанкин ктело». «Я увижу тебя снова». Он научил ее этой фразе всего два часа назад на колесе Ферриса, и это связало их прочнее помолвки. Им обоим это известно. Но ни один из них еще не признал этого. — Ах, мсье Вялый Конь, слава богу, вы пришли в себя. Это говорит не Рейн, а другая женщина — постарше. Мать. Его невестка. Мадам Рене Зигмон Адлер де Плашетт. (Как это странно — видеть человека, носящего фамилию его возлюбленной.) А женщина, на чьих коленях покоится его голова, — не двадцатилетняя Рейн, а его внучка, мадемуазель Флора Далан де Плашетт, которой сейчас семнадцать с половиной, она недавно забеременела и обручена. Паха Сапа пытается подняться, но три пары рук укладывают его обратно. Паха Сапа понимает, что к ним присоединился усатый шофер Роджер. Роджер принес воду в — поразительно! — хрустальном графине. Он подает ему хрустальный стакан с — еще более поразительно! — настоящим льдом, и Паха Сапа послушно пьет ледяную воду. У нее замечательный вкус. Роджер помогает ему сесть, и пока дамы встают и отряхивают с платьев сухую траву и колючки, шофер шепчет что-то на французском, или бельгийском, или, скорее всего, ирландском и украдкой подает Паха Сапе небольшую серебряную фляжку. Паха Сапа пьет. Он пьет виски в первый раз после того случая, когда пил его в семнадцать лет, и это гораздо лучше всего, что ему приходилось пить. Роджер помогает ему подняться на ноги, а обе дамы своими маленькими белыми ручками без особого толку пытаются подсобить, подтолкнуть, поддержать его. Паха Сапу покачивает, но с помощью Роджера он сохраняет равновесие. — Я был уверен, что умер. Думал, со мной случился удар. Теперь Роджер говорит с безошибочно узнаваемым американским акцентом: — Уж если удар, то, видимо, солнечный. Лучше уж поскорее в тень. Паха Сапа слышит непроизнесенное «старик» в конце предложения. Он только кивает. Жена его сына — как странно, что она средних лет, — Рене, (он очень надеется, что они вскоре будут называть друг друга по именам) говорит: — Мсье… извините, нужно привыкать к американскому выражению… Мистер Вялый Конь… — Пожалуйста, называйте меня Паха Сапа. Это означает «Черные Холмы». И это мое настоящее имя. — О oui, да… конечно. Роберт мне говорил. Мистер Паха Сапа, мы остановились в… не могу вспомнить названия, но это, кажется, единственный приличный отель в Биллингсе… Роджер знает название… и если мы поедем прямо сейчас, то сможем там пообедать. Я думаю, нам много о чем надо поговорить. Ответ Паха Сапы приходит откуда-то издалека, но он искренний. — Да, это было бы хорошо. — И вы, конечно, немедленно должны уйти с солнца. Вы поедете с нами. Роджер, пожалуйста, проводите мсье… мистера Паха Сапу до машины. Паха Сапа останавливает услужливую руку Роджера, прежде чем тот успевает прикоснуться к нему. Он смотрит на жену своего сына. — Просто «Паха Сапа», мадемуазель… позвольте называть вас Рене? У вас такое прекрасное имя. И оно напоминает мне о женщине, которую я бесконечно люблю. Мадам Рене Зигмон Адлер де Плашетт отчаянно краснеет, и Паха Сапа на мгновение ясно видит ту девятнадцатилетнюю красавицу, в которую когда-то влюбился его романтический сын. Он понимает, что брак состоялся за считаные дни до испанки и последовавшей пневмонии, которая убила Роберта, и еще он знает, что есть долгое и серьезное объяснение (возможно, связанное с ужасом ее семьи перед тем фактом, что дочь вышла за гоя) тому, что она не пыталась связаться с ним раньше. Он хочет узнать все это. И говорит вполголоса: — Я поеду за вами в город на мотоцикле. Вы же знаете, это мотоцикл Роберта, и я не хочу оставлять его здесь. Со мной все будет в порядке. Посматривайте на меня в зеркало, Роджер, и если я начну ехать или вести себя как-то необычно, то вы всегда сможете остановиться и узнать, что со мной. Шофер, пряча усмешку в усы, кивает. Все четверо идут к дороге и парковке. — Мсье… сэр… вы забыли это. Его внучка протягивает ему холстяной мешок с револьвером внутри. Если ее удивляет тяжесть содержимого или если она заглянула внутрь, то девушка ничем не выдает этого. — Спасибо, мадемуазель. Они снова обсуждают подробности поездки, после чего маленькая процессия трогается с места — длинный белый «пирс-эрроу» делает разворот, три раза подаваясь назад-вперед, «харлей-дэвидсон» тарахтит следом. Когда они проезжают место последнего сражения Кастера слева, Паха Сапа останавливается, не заглушая мотоцикла, седан продолжает двигаться дальше. Глядя на памятник и белые надгробия, рассыпанные по холму, он вдруг осознает: «Мой призрак покинул меня». Ощущение не очень приятное. Он только вчера понял, что Джордж Армстронг Кастер в день своей смерти был женат на своей Либби двенадцать лет; Паха Сапа был женат на Рейн де Плашетт четыре года, когда она умерла. Но призрак Кастера и Паха Сапа провели вместе шестьдесят лет, два месяца и несколько дней. Паха Сапа трясет головой. Боль у него вроде бы немного уменьшилась. Он смотрит на юго-восток, в сторону далеких и почти невидимых Черных холмов и всего, что он там оставил… и всего, что он еще может увидеть и сделать там. Когда он произносит шепотом следующие слова, они предназначаются не костям или воспоминаниям, похороненным на этом поле сражения в Монтане, но тем, кого он любил, против кого сражался, с кем жил и работал бок о бок, тем, кого хотел удержать рядом с собой, но потерял навсегда и обрел снова в иных священных местах, не близко к этому месту, но в то же время и не очень далеко. — Токша аке чанте иста васинйанктин ктело. Хесету. Митакуйе ойазин! («Я увижу вас снова глазами моего сердца. Быть по сему. И да пребудет вечно вся моя родня — вся до единого!»)
Эпилог
Монумент на горе Рашмор в том виде, в каком его представлял себе Гутцон Борглум, так никогда и не был закончен. Кроме конкретных планов довести до логического конца работы над элементами верхних частей тел Вашингтона, Джефферсона и Линкольна, включая фраки и лацканы, левое предплечье и пальцы Линкольна, ухватившие лацкан, Борглум также настаивал на реализации давно вынашиваемых планов по антаблементу и уже начатому Залу славы. Изначально, когда Борглум в конце 1920-х годов искал финансирование и официальную поддержку, предполагалось, что антаблемент займет огромную площадь горы справа от четырех голов, что там, на плоской, чистой белой поверхности в форме территории Луизианы, высекут слова, причем каждая буква будет больше человеческого роста. На антаблемент предполагалось перенести (в соответствии с первоначальными требованиями и заявлениями Борглума) соответствующий текст, написанный Кулиджем. Борглум просил Кулиджа составить это послание, когда президент присутствовал при официальном открытии работ на горе Рашмор в 1927 году, и Кулидж неохотно обещал это сделать. Став экс-президентом, Кулидж начал неспешно составлять послание людям, которые будут жить через сто тысяч лет, после того как закончилось его президентство в 1929 году. В 1930 году он закончил два первых абзаца этого текста, которые Гутцон Борглум и сообщил мировой прессе. Мировая пресса чуть не умерла со смеху, критикуя напыщенное послание Кулиджа. Кулидж в узком кругу не скрывал ярости, потому что он написал совсем другой текст. Борглум со своей неизменной самоуверенностью взял на себя смелость отредактировать его, прежде чем передать прессе. Несмотря на выраженное келейно экс-президентом недовольство, Борглум начал взрывные и камнетесные работы на антаблементе над цифрой 1776,[138] с которой должен был начинаться первый абзац. После этого Кулидж отказался от всякого участия в проекте. Прокомментировав призывы Комиссии по проекту Рашмор, экс-президент сказал, что больше не напишет ни слова. В следующем, 1931 году отставной президент спросил своего друга Пола Беллама, который посетил экс-президента в его доме в Массачусетсе, каково, по его мнению, расстояние «отсюда до Черных холмов», и Беллами выразил предположение, что оно составляет около пятнадцати тысяч миль. — Так вот, мистер Беллами, — сказал Кулидж, затягиваясь сигарой, — пусть расстояние между мной и мистером Борглумом никогда не будет меньше. Кулидж умер в 1933 году. Никогда не теряющий присутствия духа, Борглум в 1934 году обратился в корпорацию Херста,[139] призывая объявить национальный конкурс — в котором смогут принять участие все американцы — на создание текста для антаблемента. Борглум был готов предложить победителю деньги, медали (изготовленные, конечно, по его рисункам) и грант на учебу в университете. Национальная служба парков, которая в то время уже начала курировать проект Рашмор,сочла эту идею неприемлемой, как и верный и наиболее влиятельный сторонник Борглума сенатор от Южной Дакоты Питер Норбек. Борглум проигнорировал их мнения, продолжая развивать идею всеамериканского конкурса, и убедил войти в жюри ФДР, первую леди Элеонору Рузвельт, министра внутренних дел Гарольда Икса, девять сенаторов и еще нескольких важных шишек. Компания «Ундервуд», выпускающая пишущие машинки, согласилась выделить двадцать две новые машинки призерам конкурса. В 1935 году жюри, включая президента Рузвельта и первую леди, дало рекомендации пяти финалистам. Борглуму они не понравились, и он выкинул эти рекомендации в мусорную корзину. Приз в конечном счете достался молодому жителю Небраски Уильяму Беркетту, и деньги вместе с грантом позволили ему в самые тяжелые годы Великой депрессии учиться в колледже. Беркетт был настолько благодарен, что просил похоронить его в незаконченном Зале славы, где в 1975 году Национальная служба парков установила бронзовую доску высотой в семь футов с полным текстом для антаблемента, выигравшим конкурс. В просьбе о захоронении Беркетту было отказано. Зал славы и высеченная в скале гигантская лестница, ведущая к нему, были центральной частью борглумовского проекта рашморского святилища демократии, и зимой 1938/39 года он начал серьезные работы по пробивке входного туннеля. Шум отбойных молотков в ограниченном пространстве и невероятное количество образующейся пыли делали работу опасной и труднопереносимой. Борглум стоял на своем. Летом 1939 года конгрессмен Франсис Кейс от имени комитета по ассигнованиям лично исследовал условия труда во входном коридоре в Зал славы и сообщил, что они не соответствуют нормам, а вероятность заболевания рабочих силикозом и предъявления исков правительству слишком высока. Работы над Залом славы были прекращены навсегда по свистку в июле 1939 года. Когда рабочие в 1941 году покинули площадку, обнаружилось, что туннель шириной в четырнадцать, высотой в двадцать футов и длиной около семидесяти пяти футов облюбовали горные козлы. Голова Теодора Рузвельта, четвертая и последняя фигура на горе Рашмор, была официально открыта вечером 2 июля 1939 года, девять лет спустя после открытия головы Джорджа Вашингтона. В тот вечер впервые была включена полная иллюминация (пусть и на короткое время). Борглум сделал это, запустив сначала осветительные ракеты, а потом включив батарею из двенадцати мощных прожекторов. Певец Ричард Ирвинг исполнил новенькую, с иголочки, песню Ирвинга Берлина «Благослови, Господь, Америку».[140] Хотя президента Рузвельта на церемонии не было, на открытии последней головы присутствовало около двенадцати тысяч гостей, а в атмосферу всеобщего воодушевления внесли свой немалый вклад ковбойская звезда немого кино Уильям Харт и группа танцоров сиу в настоящих национальных костюмах. Борглум сообщил, что ему предстоят еще годы, если не десятилетия работы на горе Рашмор. Оставалась еще «доводка» — удаление неровностей с помощью специальных пневматических молотков, — а также взрывные и камнетесные работы по «проявлению» верхних частей тел, руки Линкольна и тому подобное. Не оставил Борглум и надежды продолжить работы в Зале славы. Он работал над улучшением вентиляции и введением других мер повышения безопасности — необходимо было только продолжение финансирования. В феврале 1941 года Борглум вновь попробовал обаять ФДР и конгресс, требуя от президента увеличения финансирования, чтобы «святилище демократии» было завершено полностью. Борглум отправился в Вашингтон пробивать деньги, как он делал это в течение последних четырнадцати лет, и на этот раз с ним поехала его жена Мэри. Они заехали в Чикаго, где Борглум должен был выступить с речью, а заодно собирался обратиться к специалисту — его в последнее время донимала простата. Доктор рекомендовал ему операцию, и Борглум решил сделать ее немедленно, чтобы весной с новыми силами продолжить работы на Рашморе. Образовавшиеся после операции кровяные сгустки задержали Борглума в больнице на две недели, а 28 февраля он получил убийственное сообщение, что президент Рузвельт сокращает до минимума все расходы, не связанные с обороной, и больше не будет выделять средства на проекты типа рашморского. 6 марта 1941 года, ровно неделю спустя после получения этого известия от Рузвельта и после многократных закупорок сосудов кровяными сгустками, Гутцон Борглум скончался в чикагской больнице. Многие из тех, кто проработал на горе Рашмор почти пятнадцать лет, полагали, что тело Борглума следует захоронить в незаконченном туннеле Зала славы, но Национальная служба парков не стала рассматривать это предложение. Останки Борглума временно захоронили в Чикаго, а спустя три года перенесли на кладбище «Форест-Лон» в Глендейле, штат Калифорния. Заупокойная служба по Борглуму для рабочих и друзей босса была проведена в кистонской конгрегационалистской церкви. Национальная служба парков, конгресс и комиссия по проекту Рашмор были готовы в ту же неделю закрыть работы, но рабочие обратились с ходатайством в комиссию, прося назначить сына Борглума Линкольна новым директором, чтобы продолжать работы и «завершить проект в соответствии с планами его отца». Комиссия согласилась, но это был чисто символический жест. Имея лишь оставшиеся от прежнего финансирования пятьдесят тысяч долларов, двадцатидевятилетний Линкольн Борглум в последние месяцы работы сосредоточился на доводке некоторых деталей на лице Тедди Рузвельта и добавил окончательные штрихи к воротнику и лацканам Джорджа Вашингтона. Последний летний сезон работ прошел хорошо и казался, по крайней мере сторонним наблюдателям, похожим на все другие летние сезоны работ — рашморская бейсбольная команда продолжала выступать, по пятницам на пятистах шести ступеньках проходили обычные соревнования по прыжкам, в субботу устраивались танцы, в студии Линкольна Борглума днем по воскресеньям бесплатно показывались фильмы, и многие страдавшие с похмелья в понедельник, поднявшись на пятьсот шесть ступенек, не получали томатного сока. Но этот сезон был другим, и каждый, работающий на проекте, знал это. Все казалось другим осенью 1941 года в этом мире, где становилось все тревожнее и тревожнее. 31 октября 1941 года на горе Рашмор просвистел свисток — и остановились последний пневматический бур и шлифовочная машина.История тестя Роберта, бельгийского еврея мсье Вандена Далана Адлера, была рассказана в книге «Бельгийский еврей-гранильщик алмазов: история спасения», по которой в 1959 году был снят низкобюджетный фильм «Алмазы или смерть» с Макдональдом Кэри в роли Адлера, Рут Роман в роли жены Адлера (Зигмон — в жизни, Сюзанной — в фильме) и двадцатипятилетней Магги Смит (это была ее вторая роль в кино) в роли Рене. Этот фильм, так никогда и не выпущенный ни на видеокассетах, ни на DVD, сегодня известен историкам кино по необыкновенно выразительной работе оператора Пола Бисона и по переменчивой, совершенно не соответствующей предмету музыке трубача-джазиста Диззи Риса. Фанаты «Звездного пути» знают про фильм «Алмазы или смерть»: актер Леонард Нимой[141] (в титрах он назван Леонард Немой) довольно неумело сыграл в фильме 1959 года эпизодическую роль нациста и пособника офицера гестапо по имени Хейнрих, одержимого идеей не выпустить семью Адлера из Бельгии. (Хейнрихом — которого сыграл, слишком уж пересаливая, Генри Роуланд — звался не упомянутый в титрах нацистский офицер в «Касабланке», истинном шедевре, до которого «Алмазам или смерти» как до луны. У Немого-Нимого в фильме всего несколько слов, но его чудовищный немецкий акцент, несмотря на краткость текста, почему-то хорошо известен серьезным фанатам «Звездного пути».) В жизни же гранильщику алмазов, ставшему торговцем бриллиантами, Вандену Далану Адлеру, блестяще удалось, в отличие от большинства бельгийских евреев, вывезти свою семью из Бельгии накануне Второй мировой войны. Когда в 1939 году началась война, в Бельгии проживало около девяти миллионов человек, около девяноста тысяч из них были евреями. Более восьмидесяти тысяч из них были сосредоточены в двух крупнейших городах — Брюсселе и Антверпене. У более чем трех четвертей бельгийских евреев было собственное дело, и большинство из них занимались огранкой или продажей алмазов и бриллиантов. Торговля алмазами в портовом городе Антверпене была полностью в руках евреев. Германия оккупировала нейтральную Бельгию в мае 1940 года. Тысячи евреев бежали из Бельгии, спасаясь от оккупантов, тысячи были депортированы во Францию, где они вскоре снова оказались во власти немцев. К ноябрю 1940 года в Бельгии осталось около пятидесяти пяти тысяч евреев. Разные источники называют разное число убитых во время войны бельгийских евреев: американские обвинители на Нюрнбергском процессе утверждали, что приблизительно пятьдесят тысяч евреев, депортированных из Бельгии, с апреля 1942-го по апрель 1944-го были уничтожены в газовых камерах Освенцима; некоторые бельгийские историки утверждали, что «более чем половине бельгийских евреев удалось пережить войну». С другой стороны, некоторые современные историки, склонные пересматривать прошлое, заявляют, что «коренное еврейское население Бельгии практически не пострадало». Так называемая Англо-американская следственная комиссия заявила в 1946 году, что из общего числа 5,7 миллиона европейских евреев, погибших во время войны, пятьдесят семь тысяч были бельгийскими евреями. Один еврейский историк называл позднее цифру двадцать шесть тысяч. Согласия у историков, судя по всему, нет. Будучи в Бельгии одним из первых богатых евреев, которые всерьез отнеслись к приходу к власти Гитлера и сразу же начали действовать, мсье Вандан Далан Адлер решил вывезти всю свою большую семью из континентальной Европы к октябрю 1936 года. Его плану способствовало и то, что в 1936 году четыре крупнейшие алмазные биржи Бельгии (восемьдесят процентов продавцов на этих биржах были евреями) объединились в алмазную федерацию «Federatie der Belgische Diamantbeurzen». Первым председателем этой федерации был избран Вандан Далан Адлер. При желании Адлер мог бы легко похитить алмазы или деньги и использовать их в своих целях, но он расходовал собственные немалые средства (около одного миллиона долларов, что эквивалентно сегодняшним пятнадцати миллионам). У него был список семьи из ста двадцати четырех человек, которых, по его мнению, он мог вывезти из Европы в 1936 году; большинство из этих людей проживали не в Бельгии — многие во Франции (откуда его ветвь семьи в 1870-х эмигрировала в Бельгию), но некоторые — в других европейских странах, включая Германию. Адлер спас восемьдесят пять человек из этого списка. Остальные по разным причинам отказались уезжать. В 1936 году иммиграционные законы Англии, США и большинства других стран препятствовали въезду евреев — даже богатых евреев, — но Вандан Далан Адлер три года подкупал чиновников, чтобы смягчить эти законы. Тех членов семьи, которых он не смог вывести в Англию или США, он вывез в Латинскую Америку. Адлер считал, что, пока у власти нацисты, ни одна страна в Европе не может считаться безопасной, а в 1936 году перестал считать и островную Англию защищенной в этом смысле. Он помог двенадцати из своих родственников тайно пробраться в Палестину, хотя это путешествие было крайне опасным. Впоследствии Адлер признавался своему биографу, что, невзирая на успехи, которых ему удалось добиться в торговле алмазами в Америке, он жалел, что сам не эмигрировал в Палестину, где мог бы способствовать созданию государства Израиль. То, что в последние месяцы подготовки к исходу семьи он занимал должность председателя «Federatie der Belgische Diamantbeurzen», очень ему помогло. Ни у кого в Антверпене или Бельгии не возникало к нему вопросов по поводу его многочисленных поездок в Англию, США и другие страны. И — за исключением редких экземпляров — алмазы представляют собой самый малообъемный из известных человечеству ценностей. Вандан Далан Адлер впоследствии скажет, что достижение, которым он гордится более всего — если не говорить о спасении восьмидесяти пяти (не считая его самого) членов его большой семьи, — состоит в том, что, приехав после всего этого в Штаты с оставшейся у него сотней долларов от исходного миллиона, к 1940 году он, основав новый алмазный бизнес, вернул большую часть своего прежнего состояния и немалую его долю потратил после войны на покупку вооружения для Палестины, что способствовало созданию еврейского государства. Адлер умер от инфаркта в 1948 году, всего три недели спустя после того, как появилось государство Израиль.
Доктор Роберт Адлер Окс, родившийся в Денвере, штат Колорадо, в 1937 году, как-то сказал: «Моя профессия — физика. Моя религия — гуманизм». Окс в относительно молодом возрасте начал совмещать карьеру блестящего физика и свое умение доступно объяснять публике научные достижения. Его первая книга «Экзистенциальные радости физики» стала скромным бестселлером и одним из претендентов на первое место в клубе «Книга месяца» в 1960-м, когда Оксу было всего двадцать три года. Его книга 1974 года «Человечество и тайна: Наука смотрит в космос» остается в пятерке первых бестселлеров за всю историю научно-популярной литературы. В конце 1970-х полемический, чуть ли не случайный в жизни Окса сериал (назывался он «Человек, тайна и наука» и демонстрировался на Би-би-си; в нем использовался изобретенный Джекобом Броновски[142] прием — в сериале «Восшествие человека» ведущий, переходя с места на место по всему миру, непринужденно рассказывает про многовековую историю человечества и человеческой мысли) вдохновил Карла Сагана (по его собственному признанию) на создание американского хита «Космос».[143] Из девяти книг, опубликованных Робертом Оксом за долгие годы его работы физиком и популяризатором науки, по признанию самого ученого, более всего он гордится небольшой, опубликованной частным образом и для узкого круга книгой, которая называется «Разговоры с моим тункашилой». В этой маленькой книге Окс рассказал о своих «летних каникулах», со времени его четырнадцатилетия до двадцатидвухлетнего возраста — он тогда каждый год приезжал к своему прадеду, индейцу оглала-сиу, который жил в Черных холмах, что в Южной Дакоте. В первые годы они вместе отправлялись в турпоходы, несмотря на преклонный возраст его прадеда. «Разговоры с моим тункашилой» вызвали немалый интерес среди коллег Окса по всему миру, поскольку (кроме долгих рассуждений о верованиях лакота и их отношении к мужеству и жизни) престарелый тункашила физика объяснял, как знание астрономии дало народу сиу то, что старик назвал Вакан Васт’е — «космические силы добра». Старик рассказывал о новых созвездиях, спрятанных среди известных. Например, о Вичинчале Саковине — Семи Маленьких Девочках. И о том, как (когда это созвездие достигает определенной точки на летнем небосклоне) вольные люди природы собираются на Хиньян-Кага-пахе, Харни-пике, в Черных холмах, чтобы приветствовать возвращение существ грома. Еще Окс приводил слова своего тункашилы, который рассказывал, как обнаружить и проследить движение овального созвездия Ло Иньянька Очанька, Беговая Дорожка, как это делали в его племени и как они, когда Ло Иньянька Очанька достигала определенного положения на весеннем небе, собирались в Пе Сиа, духовном центре Черных холмов (старик не пожелал рассказать, где это место, но оно, как намекнул Роберт Окс, находится именно там, где его любимый тункашила построил свою хижину), чтобы, как сказал лакота-прадедушка Окса: «Окисат’айавовахвала» («Приветствовать возвращение всей жизни в мире»). В книге приводились и десятки других астрономических наблюдений, все они были привязаны к тем или иным географическим точкам, таким как Башня дьявола в Вайоминге (где праздновалось летнее солнцестояние), Медвежья горка в Южной Дакоте, различным местам прежних зимних стоянок вольных людей природы в Небраске и на западе Южной Дакоты. Эти наблюдения отмечали малейшие сдвиги тех или иных звезд в границах определенных созвездий, и с каждым был связан тот или иной древний обряд. Но астрономов, которые читали эту распространявшуюся в узком кругу книгу, удивляло то, что этнографы, историки и другие ученые до откровений старика-прадедушки Окса даже не догадывались, какими представлениями о природе владели индейцы Равнин и каков был уровень их астрономических знаний. Все в ночном небе и на земле, как рассказывал тункашила юного Роберта Окса, взаимосвязано (и не только символически или обрядово) с тем, что старик назвал Каньглеска Вакан, или Священный Обруч. Ученые из самых разных отраслей науки, издавна считавшие, что сиу, шайенна и другие индейцы Равнин не имели серьезных астрономических знаний, были вынуждены пересмотреть свои убеждения и внести изменения в учебники, а причиной тому была небольшая, имевшая ограниченное хождение книга доктора Окса. В лето последнего посещения своего тункашилы, когда Роберту было двадцать два года, он опубликовал свою, произведшую переворот в научном мире, диссертацию «Новый взгляд на вариации в явлениях, обусловленных сдвигом скорости солнечных и астрофизических потоков, вызванных квантовыми эффектами». Он посвятил эту работу своему прадедушке. Доктор Окс отошел от активных занятий наукой в 2007 году, в возрасте семидесяти лет, и в настоящее время является почетным профессором Корнельского университета и ведущим консультантом проекта «Космический телескоп Джеймса Уэбба», идущего на смену телескопу «Хаббл»; его предполагается вывести на солнечную орбиту за пределами Луны не ранее 2013 года.
Доктор Констанция Грин, 1972 года рождения, палеоэколог, специалист по окружающей среде и этнолог, которую журнал «Тайм» однажды назвал «Леонардо XXI века в юбке», объясняет свой интерес к разнообразным проектам ревайлдинга плейстоцена по всему миру туристическими походами, в которые ее водил в детстве отец, Роберт Окс. В интервью, которое она дала Би-би-си в 2009 году, доктор Грин — известная как Конни не только своим ученикам и друзьям, но и своим коллегам во всем мире — сказала:
Когда мне было десять лет, мой отец взял меня в турпоход к одному месту в Южной Дакоте. Называется оно Медвежья горка. Если вы не американский индеец, то вам запрещено останавливаться на горке или рядом с ней, но мой отец каким-то образом получил разрешение, и мы поставили палатку почти у вершины этого интересного лакколита. Если не считать гремучих змей, никаких опасностей нам не грозило, и поэтому отец позволял мне бродить по горке, но с тем условием, чтобы я оставалась в пределах слышимости. И вот как-то днем… я помню, что шел дождь, и я встретила… Вернее, мне приснился сон о… В общем, как бы то ни было, в возрасте десяти лет я вдруг поняла, что если нам когда-нибудь удастся вернуть в мир крупных хищников — не только на умирающем американском западе, но и в других странах, то ревайлдинг — а я уже слышала этот термин от моего отца и его друзей — должен включать и человеческий компонент. Коренным жителям нужно предоставить возможность выбора. Невозможно — совершенно невозможно — сохранить ту или иную культуру, пытаясь заморозить ее, если сами вы принадлежите к абсолютно иной культуре. Так не бывает. В конечном счете все сводится к тому, что представители этой культуры одеваются два раза в год в свои национальные одежды, распевают старые заговоры, в которые больше не верят, танцуют на манер своих далеких прапрапрадедов. И часто делают это, чтобы получить лишний доллар с туристов. Такая система не работает. Но если мы на самом деле собираемся выделить многие миллионы акров и гектаров земли и заселить их ближайшими генетическими родственниками главных хищников мегафауны и других вымерших видов, которые изначально появились на этой земле, которые жили здесь, которым эта земля принадлежала, черт побери… И тут я подумала, а почему и не людьми, которые жили здесь изначально? Почему не дать им возможность выбора? Я решила, что это неплохая идея; мне тогда было десять, но у моего отца и матери были странные привычки: они обращали внимание на мои слова, как и вся моя родня.Паха Сапа так и не вернулся работать к Гутцону Борглуму, хотя говорят, что эти двое остались друзьями до самого конца жизни Борглума. Паха Сапа воспользовался-таки советом своего бывшего босса и проконсультировался с его врачом. Оказалось, что поставленный ему в 1935 году «шарлатаном из Каспера» диагноз «рак» неверен. В январе 1937 года Паха Сапе сделали операцию по удалению давней и болезненной кишечной непроходимости. Операция прошла успешно, ни опухоли, ни новообразования обнаружено не было, рецидивов болезни не случилось, и остаток жизни Паха Сапа практически не испытывал болей. Позднее, в 1937 году, Паха Сапа переехал в глухое место в Черных холмах, построив себе там маленький, но комфортабельный дом. Он не стал отшельником — часто ездил к своему правнуку, а потом и к новым правнукам и к старым друзьям вроде Борглума. Но после Второй мировой войны среди икче вичаза распространился слух, что в Черных холмах живет старик по имени Черные Холмы, и некоторые — сначала это были старики, но позднее и более молодые — проложили дорожку в холмы, стали посещать Паха Сапу, обмениваться с ним историями и — с каждым годом все чаще — расспрашивать о прежних временах. Каким-то образом распространилась легенда, что этот старик шестьдесят лет носил в себе призрака Длинного Волоса. К Паха Сапе приходило все больше молодых мужчин лакота, а потом и молодых женщин лакота; поначалу они приезжали из расположенной неподалеку Пайн-Риджской резервации, потом с Роузбада, потом стали приезжать из других резерваций — Лоуэр-Бруле, Кроу-Крик, Янтон, Шайенна-ривер и Стоячая Скала. Потом, как это ни поразительно, стали приходить молодые и старые шайенна, кроу, даже черноногие из резерваций в северо-западном углу Вайоминга и Монтаны. Когда старика начали посещать индейцы из Калифорнии и Вашингтона (из племен, о которых Паха Сапа в жизни не слышал), он смеялся, как ребенок. Паха Сапа отказывался встречаться с этнологами, жадными до любой информации, апологетами коренных американцев — по крайней мере, с одним широко известным основателем движения американских индейцев, но у него всегда находилось время посидеть, поговорить, покурить трубку с любым молодым или стариком, у которых нет, как это говорят вазичу, повестки дня. Многие вольные люди природы, посещавшие его летом в последние годы, помнят его любознательного правнука Роберта, у которого было умение (необычное для вазичу, как они говорили) слушать. Вокруг старика нередко сидели и другие правнуки. Он часто уезжал в Денвер или еще куда-нибудь навестить их. Даже когда к концу жизни старика мучил сильнейший артрит, он не жаловался и не отказывался от этих поездок. Многие из тех, кто посетил Паха Сапу в последние десятилетия его жизни, помнят, что одной из его самых любимых фраз была: «Ле аньпет’у васте!» — «Сегодня хороший день!» Один из молодых лакота, приехавших к нему, услышав эту фразу, спросил, не имеет ли он в виду любимую поговорку Шального Коня и других старых воинов лакота: «Сегодня хороший день, чтобы умереть». Но Паха Сапа только покачал головой и повторил: «Ле аньпет’у васте!» Сегодня хороший день, чтобы жить. Паха Сапа умер в своем доме в Черных холмах в августе 1959 года в возрасте девяноста трех лет. В соответствии с его пожеланием — оно было написано карандашом на старой салфетке, которую он хранил, — его кремировали и большую часть праха захоронили рядом с его женой Рейн на кладбище старой епископальной миссии в Пайн-Риджской резервации. Но в соответствии с тем же пожеланием часть праха Паха Сапы была отдана нескольким друзьям и родственникам, включая его правнука Роберта, и либо развеяна, либо захоронена у небольшой речушки под названием Чанкпе-Опи-Вакпала, где, как говорят, обрели вечный покой и сердце Шального Коня, и выбеленные гости старого вичаза вакана Сильно Хромает, чью мудрость так широко и хорошо проповедовал Паха Сапа в свои последние годы. Они лежат в укромных священных местах, в тишине, если не считать свиста ветра в высоких травах и листьях деревьев вага чун.[144]
Последние комментарии
5 часов 30 минут назад
21 часов 34 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
3 дней 12 часов назад
3 дней 17 часов назад